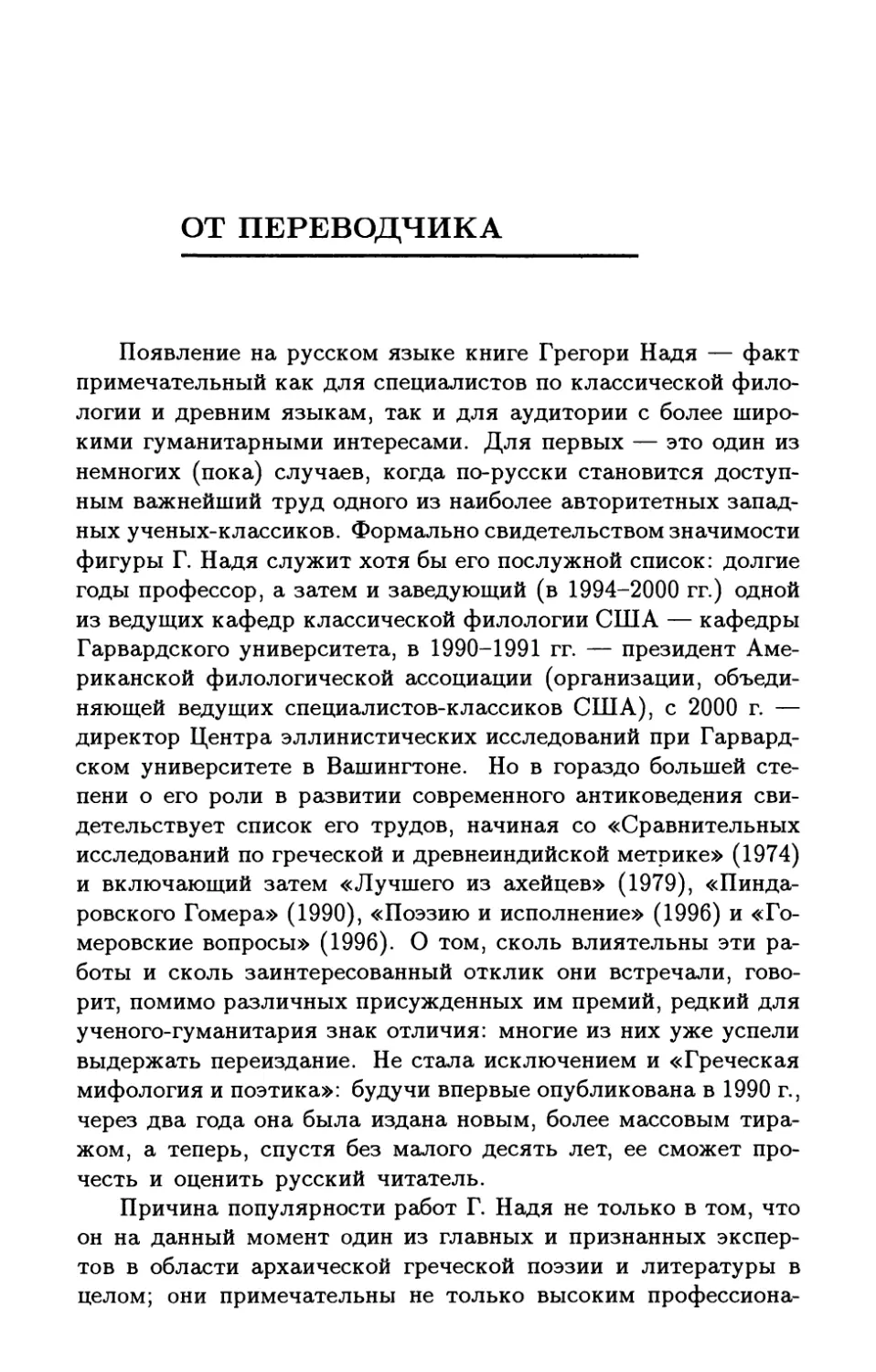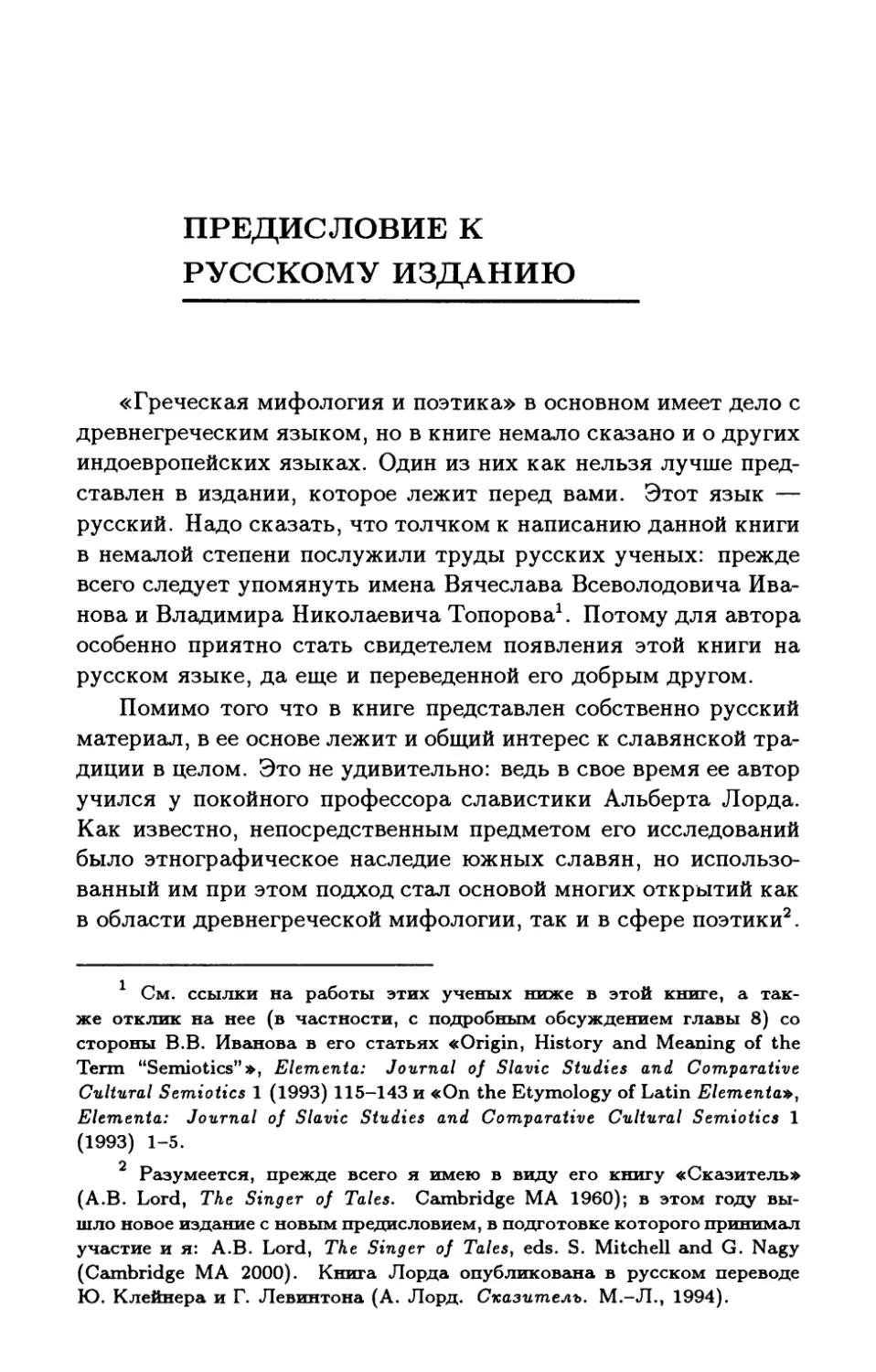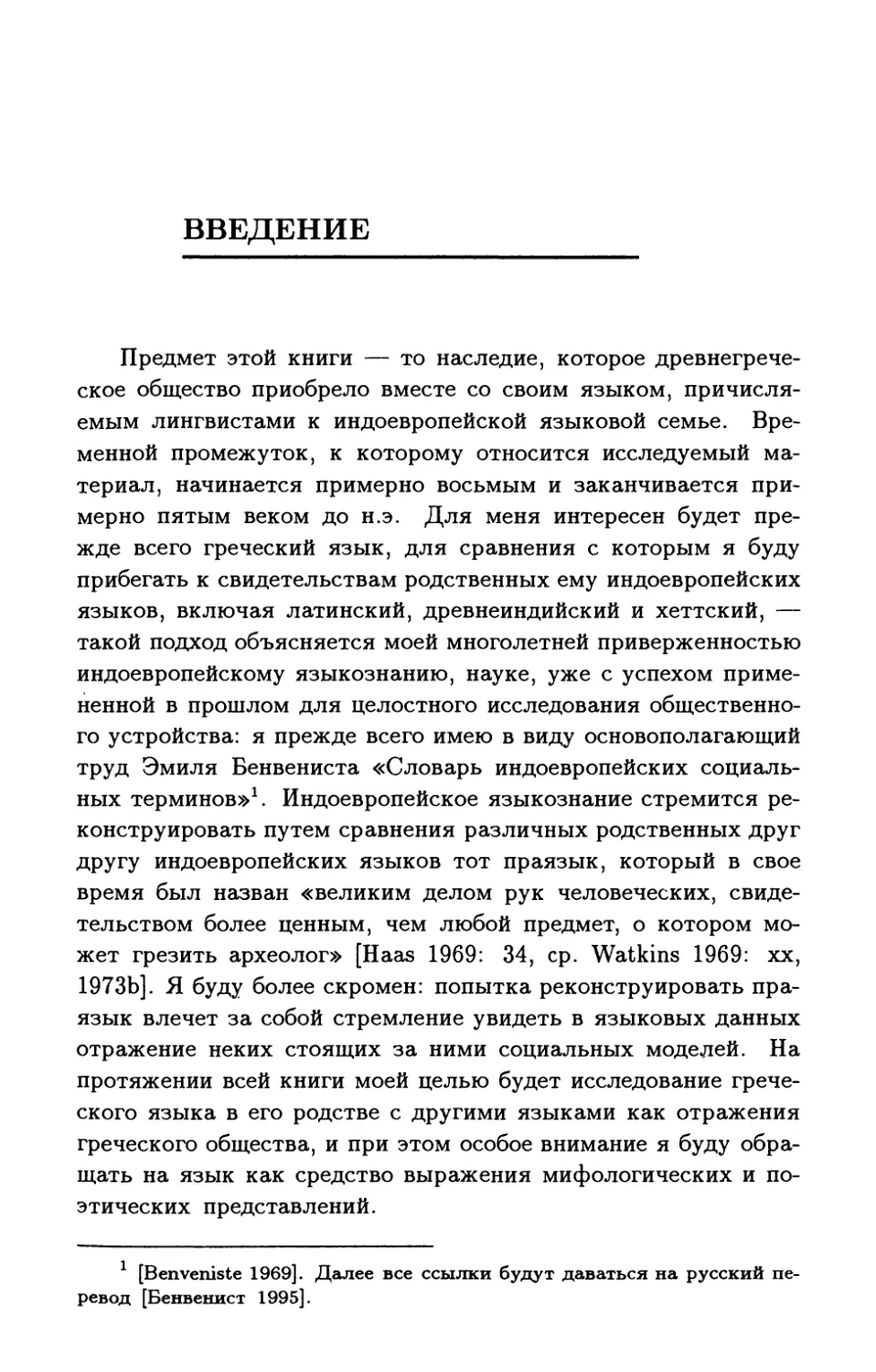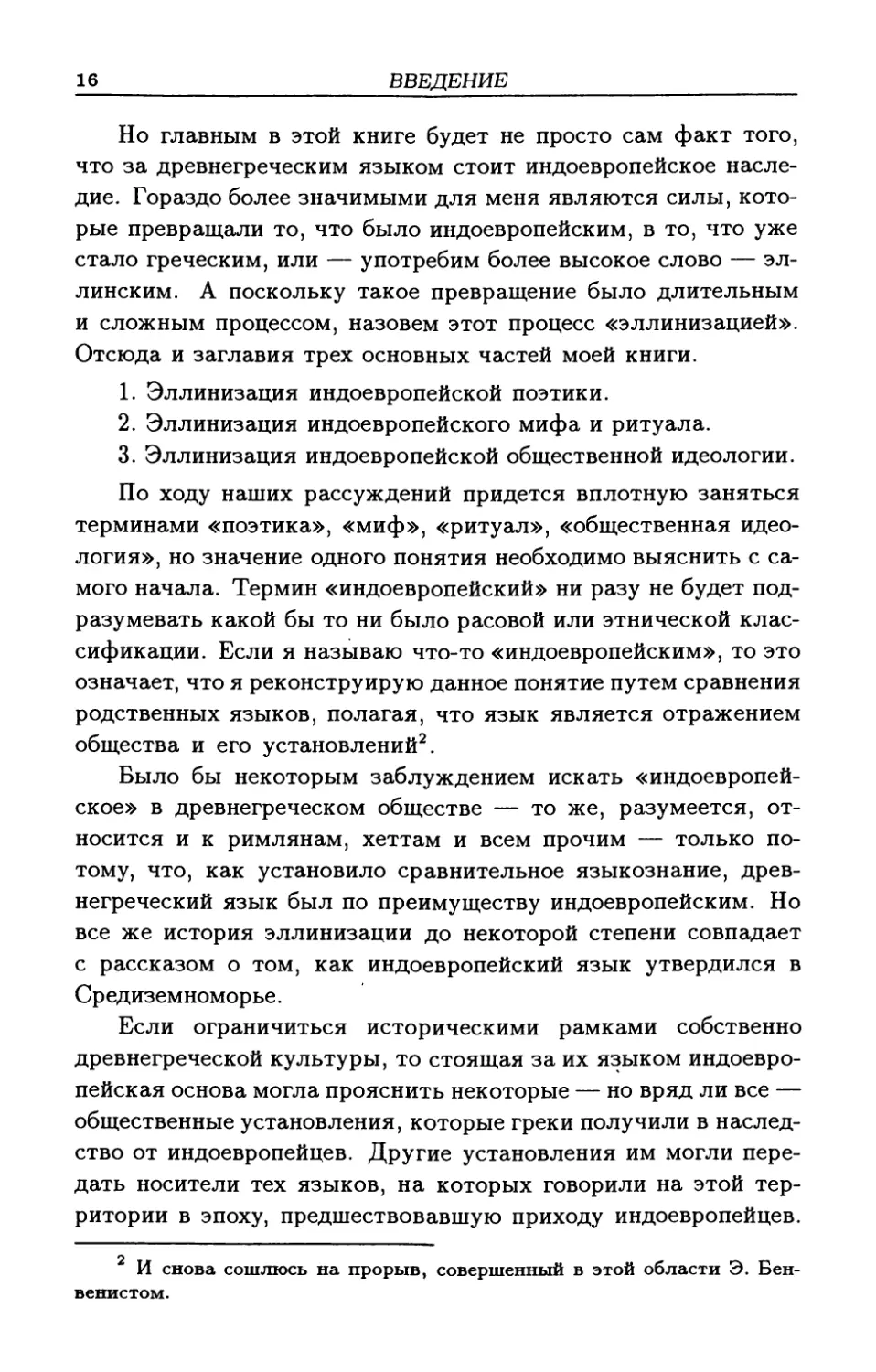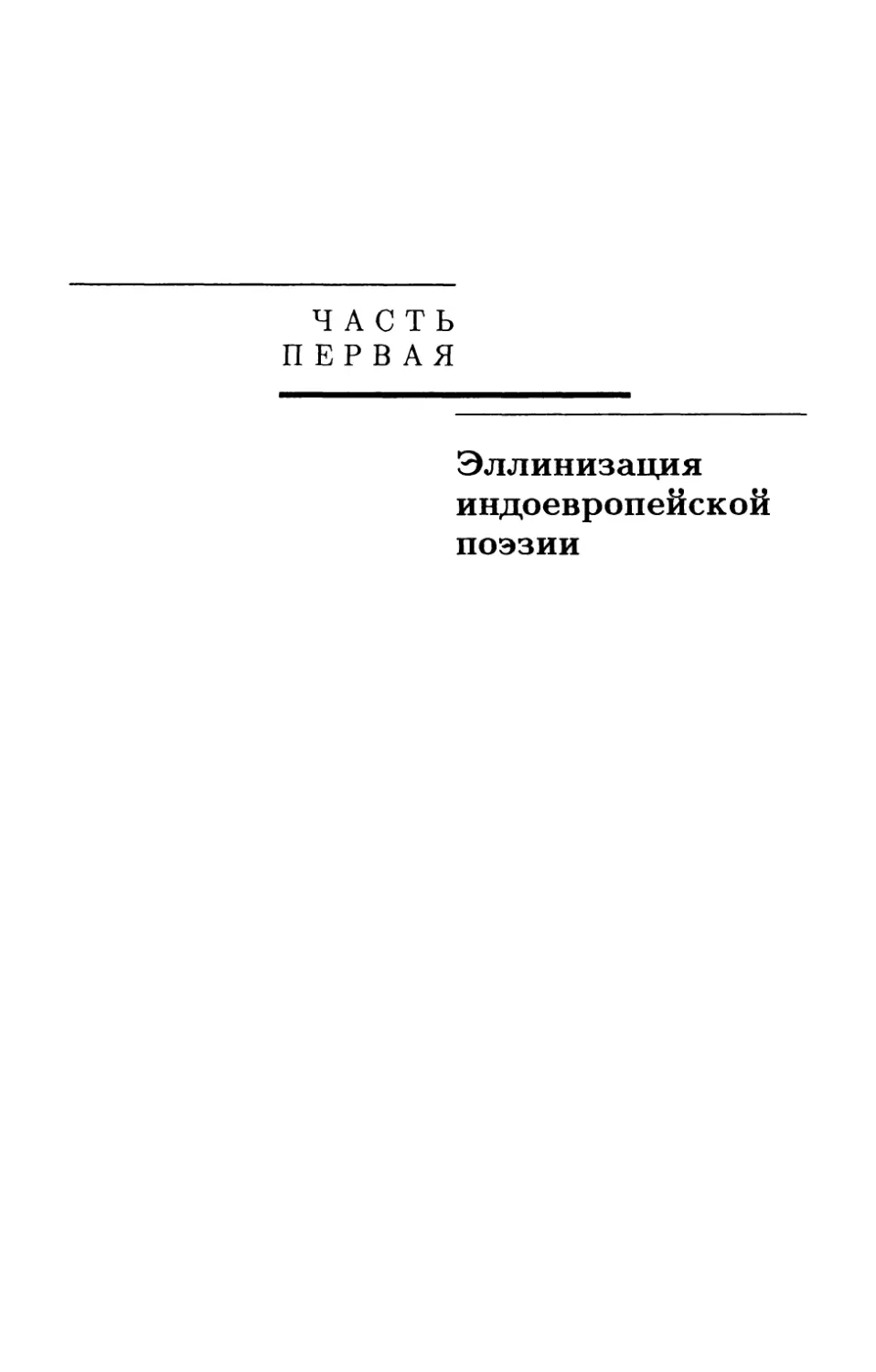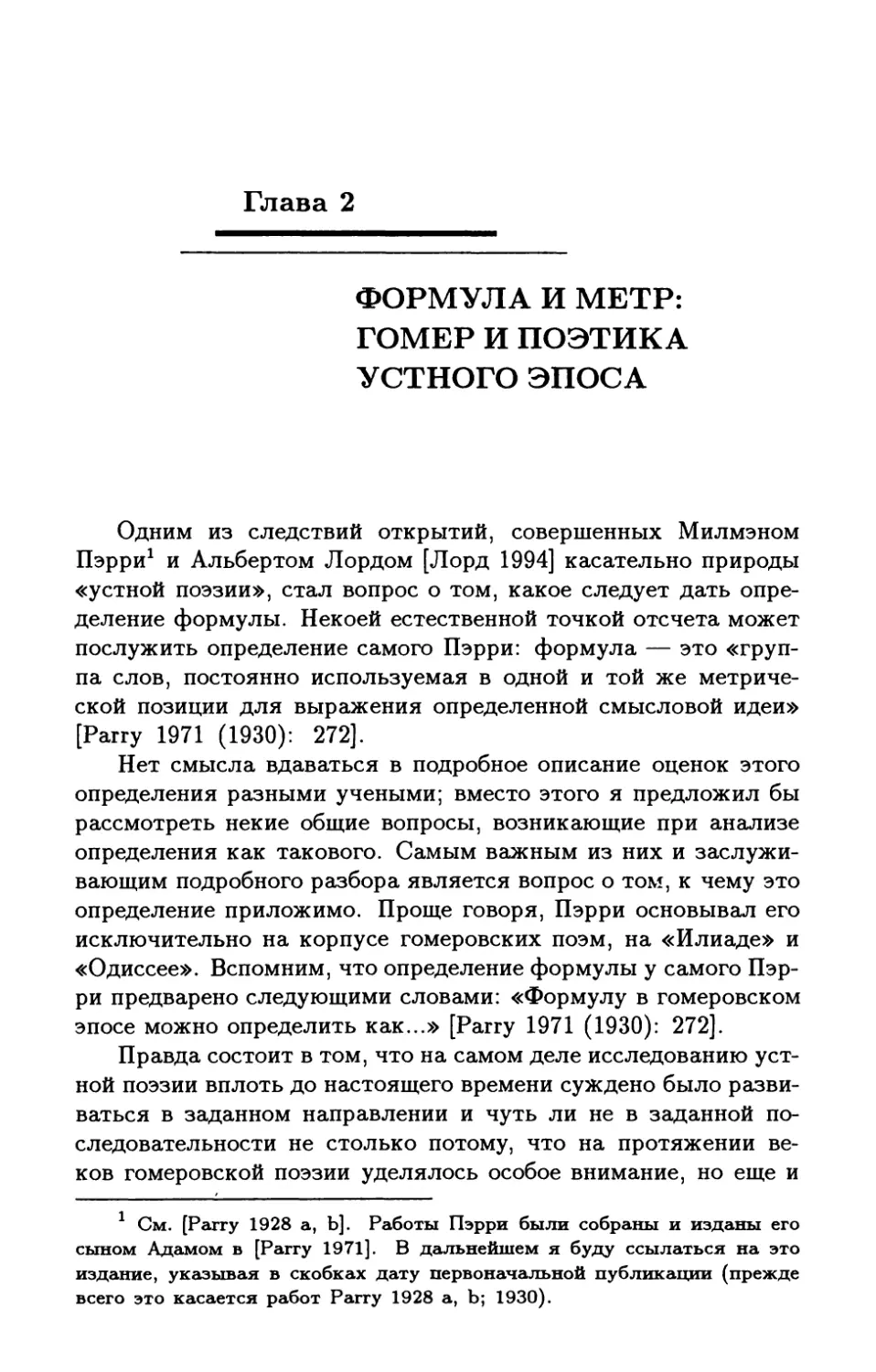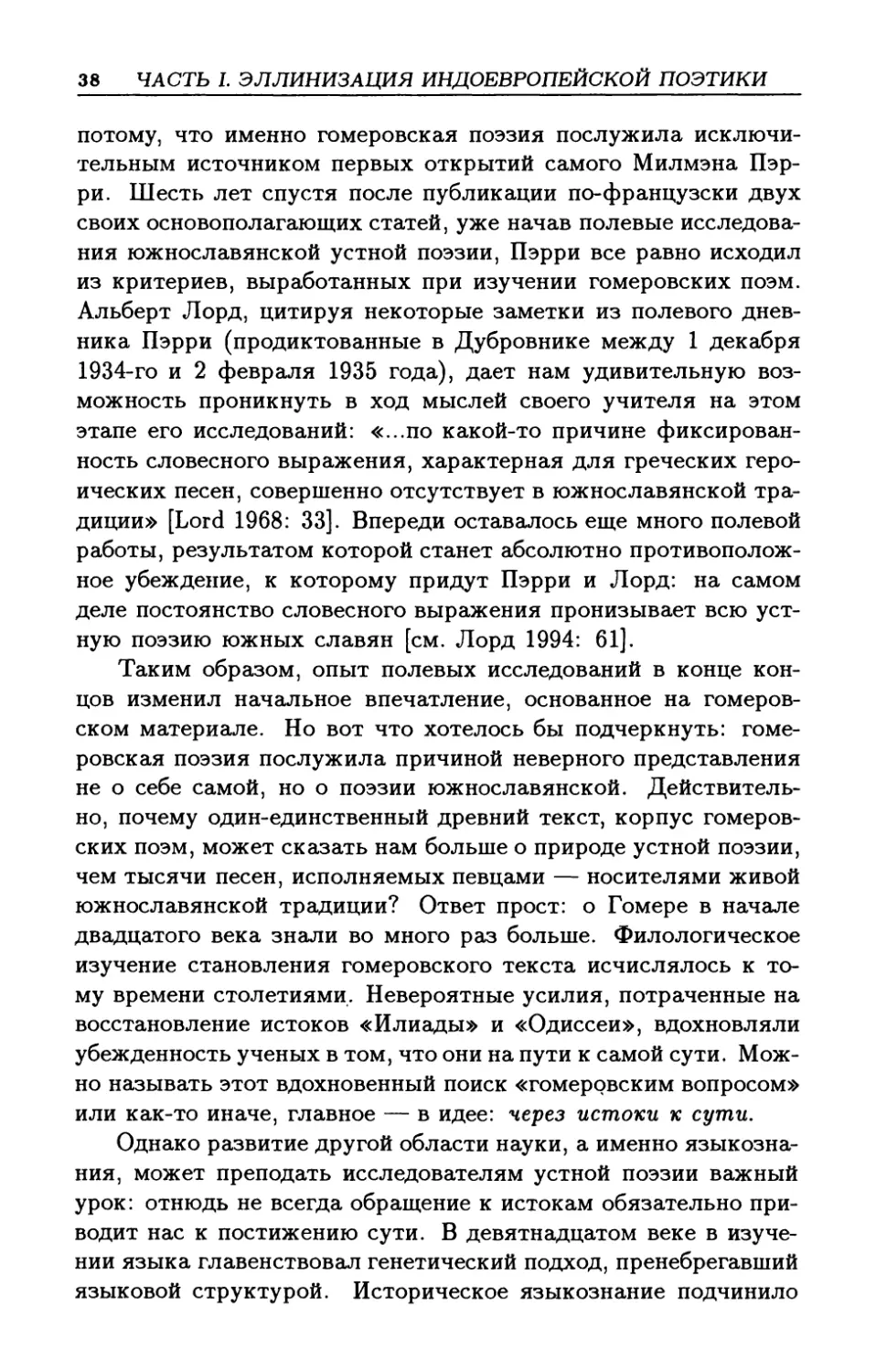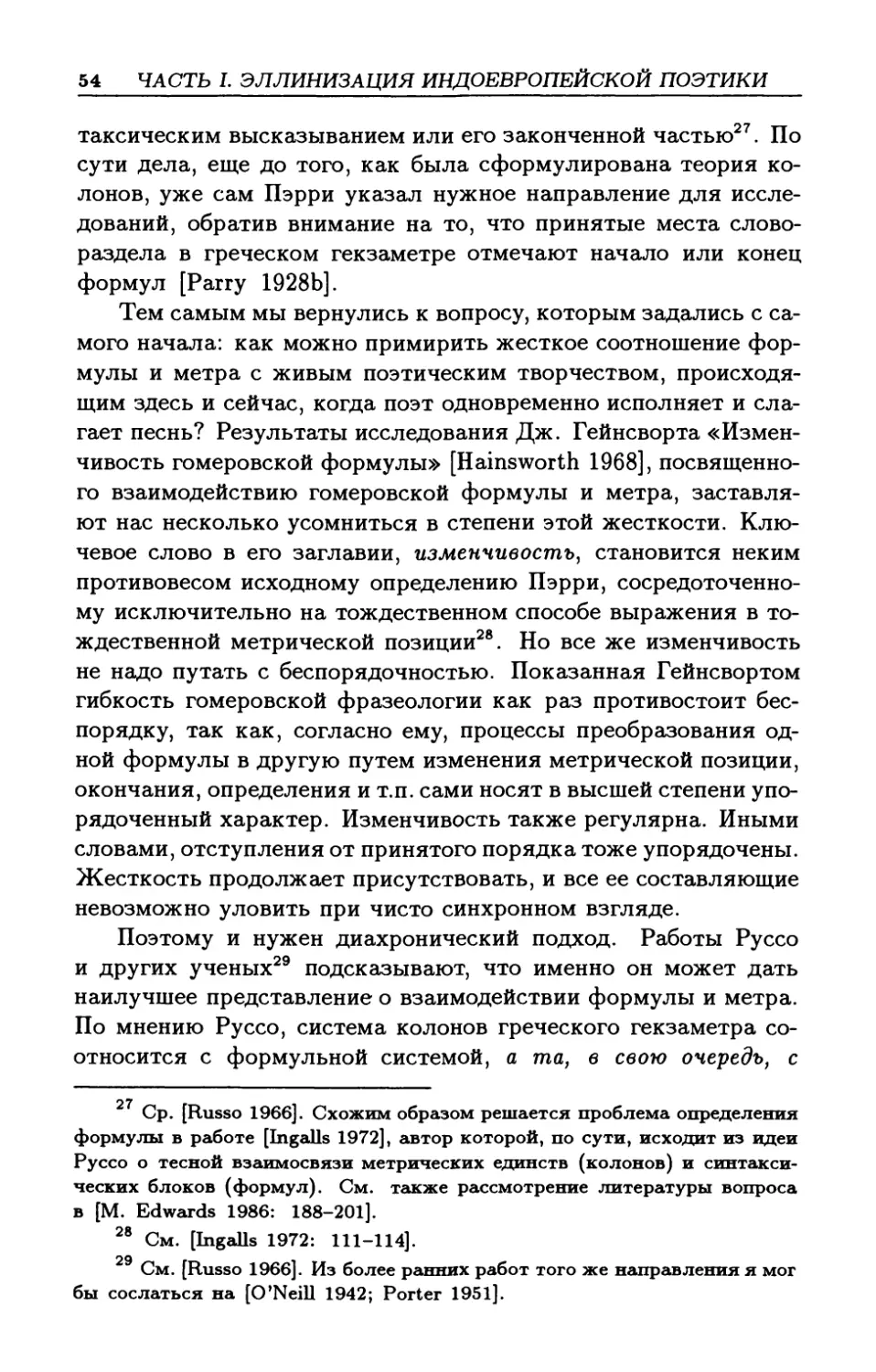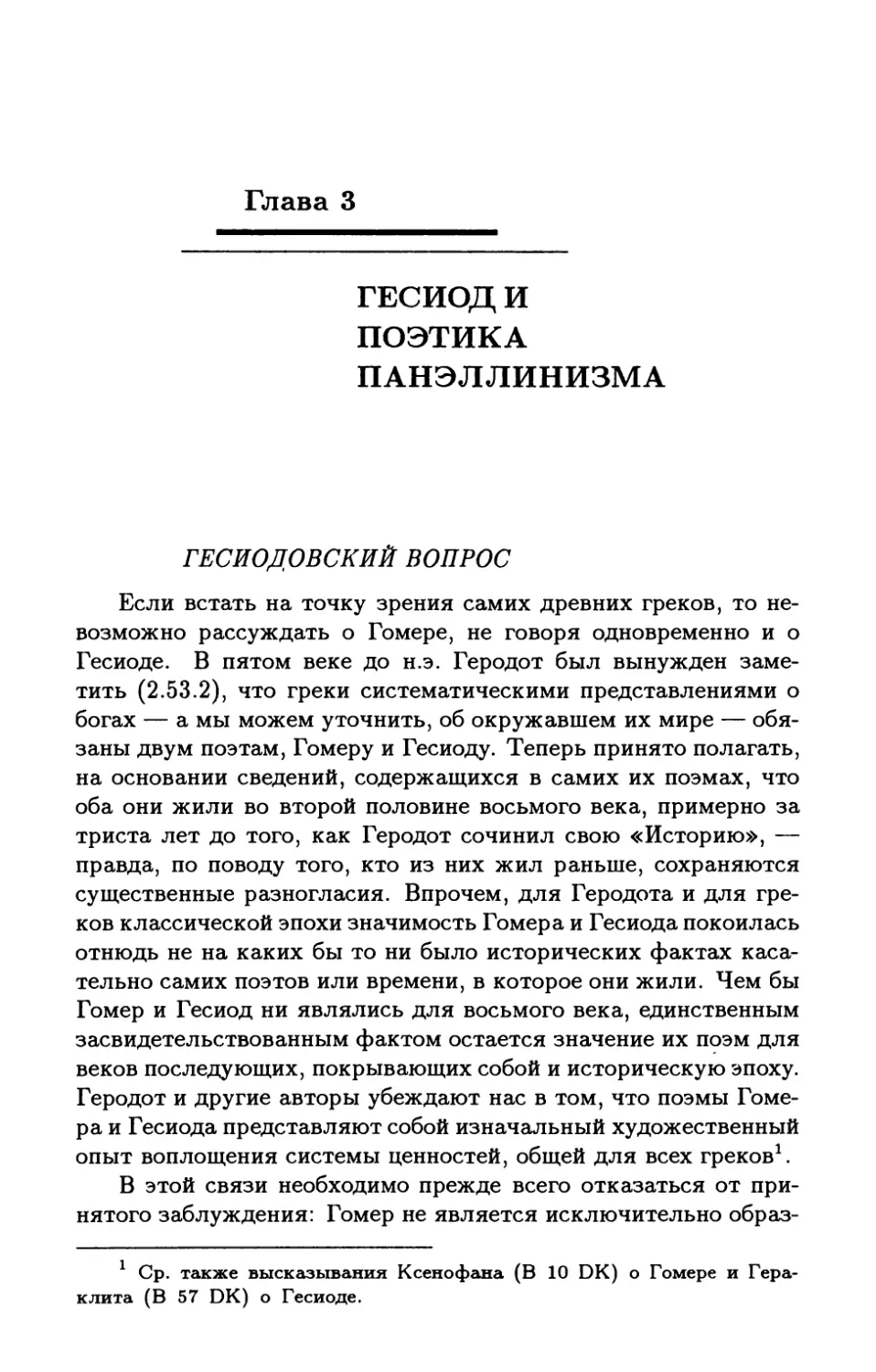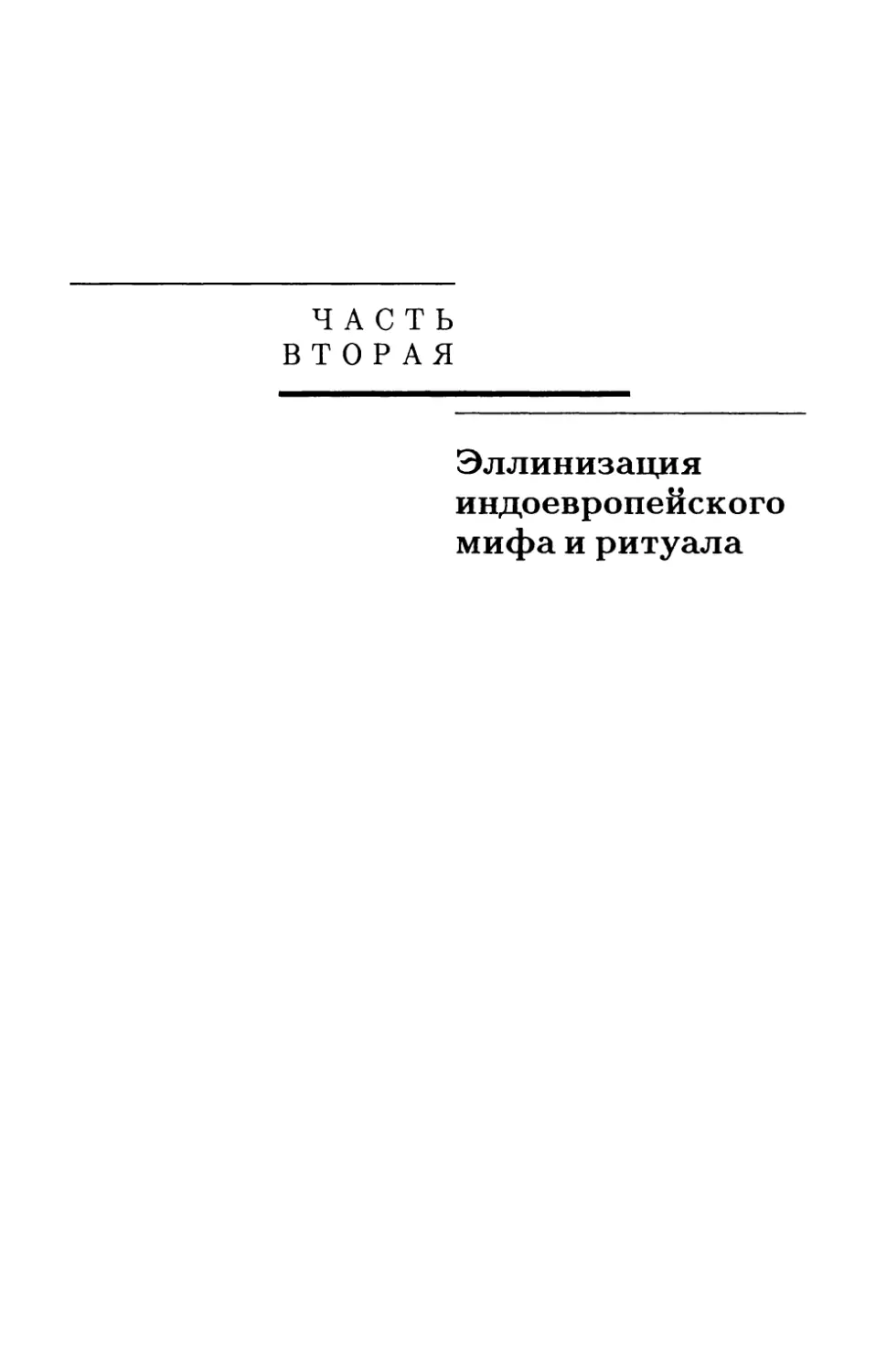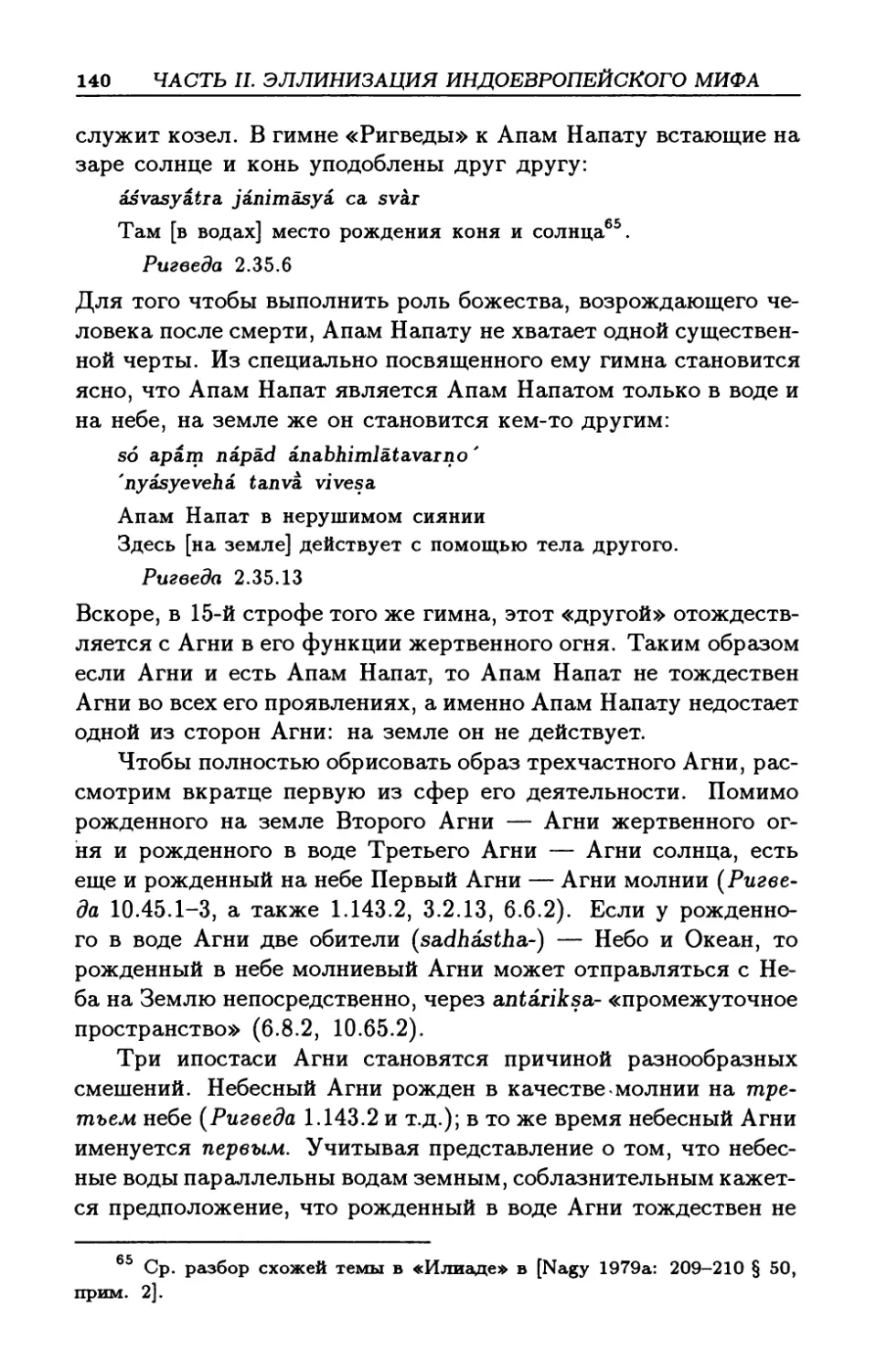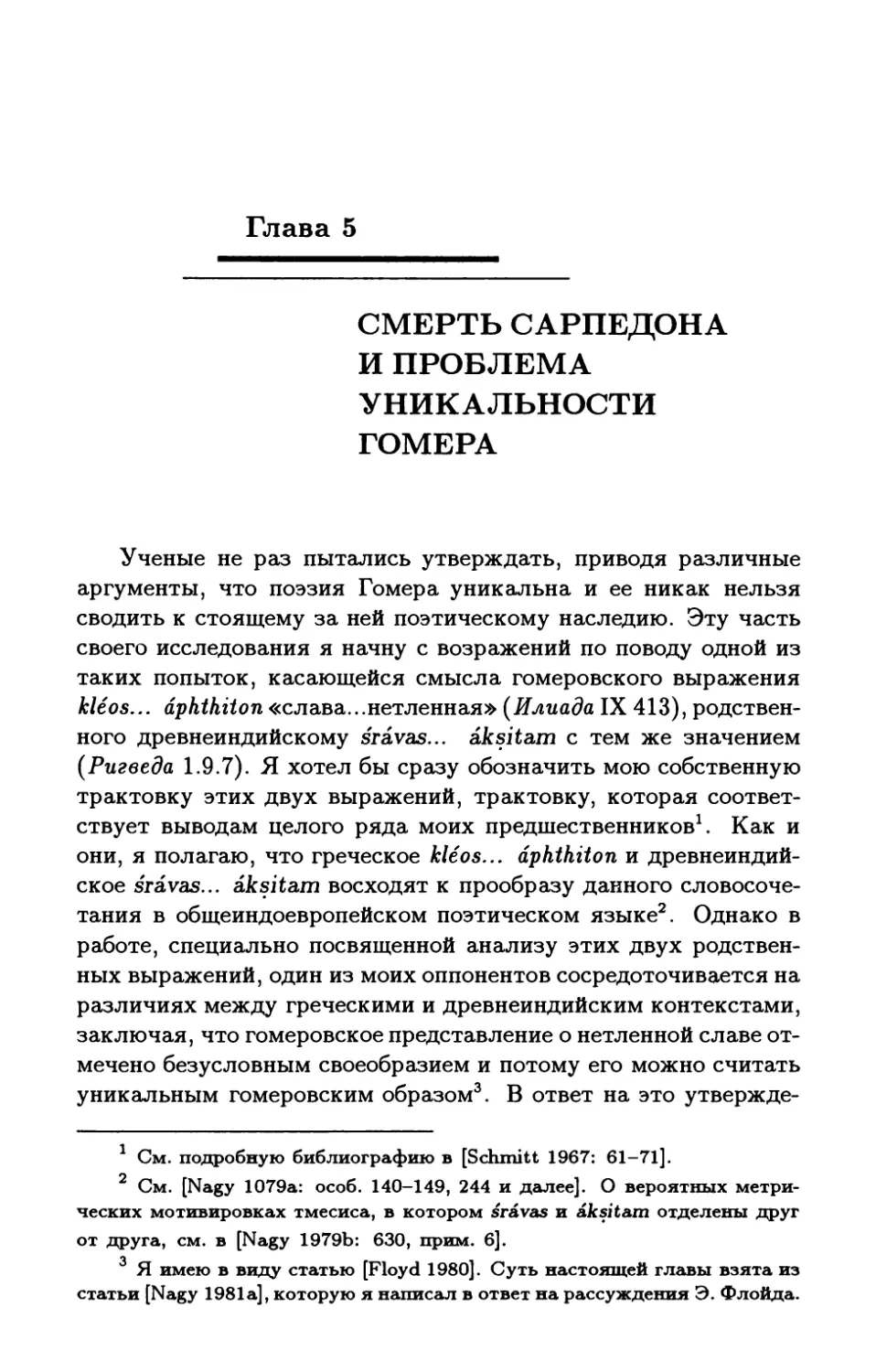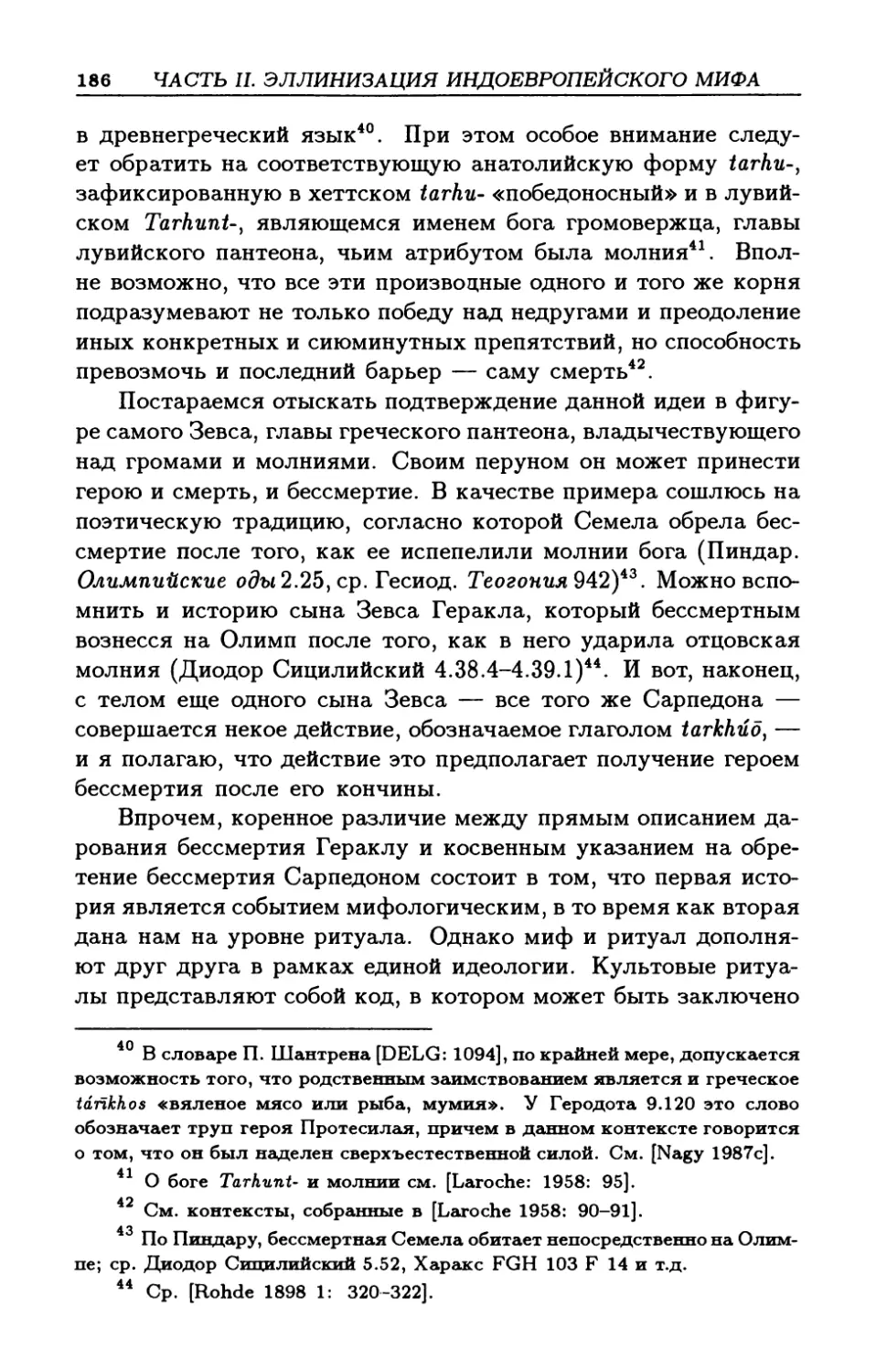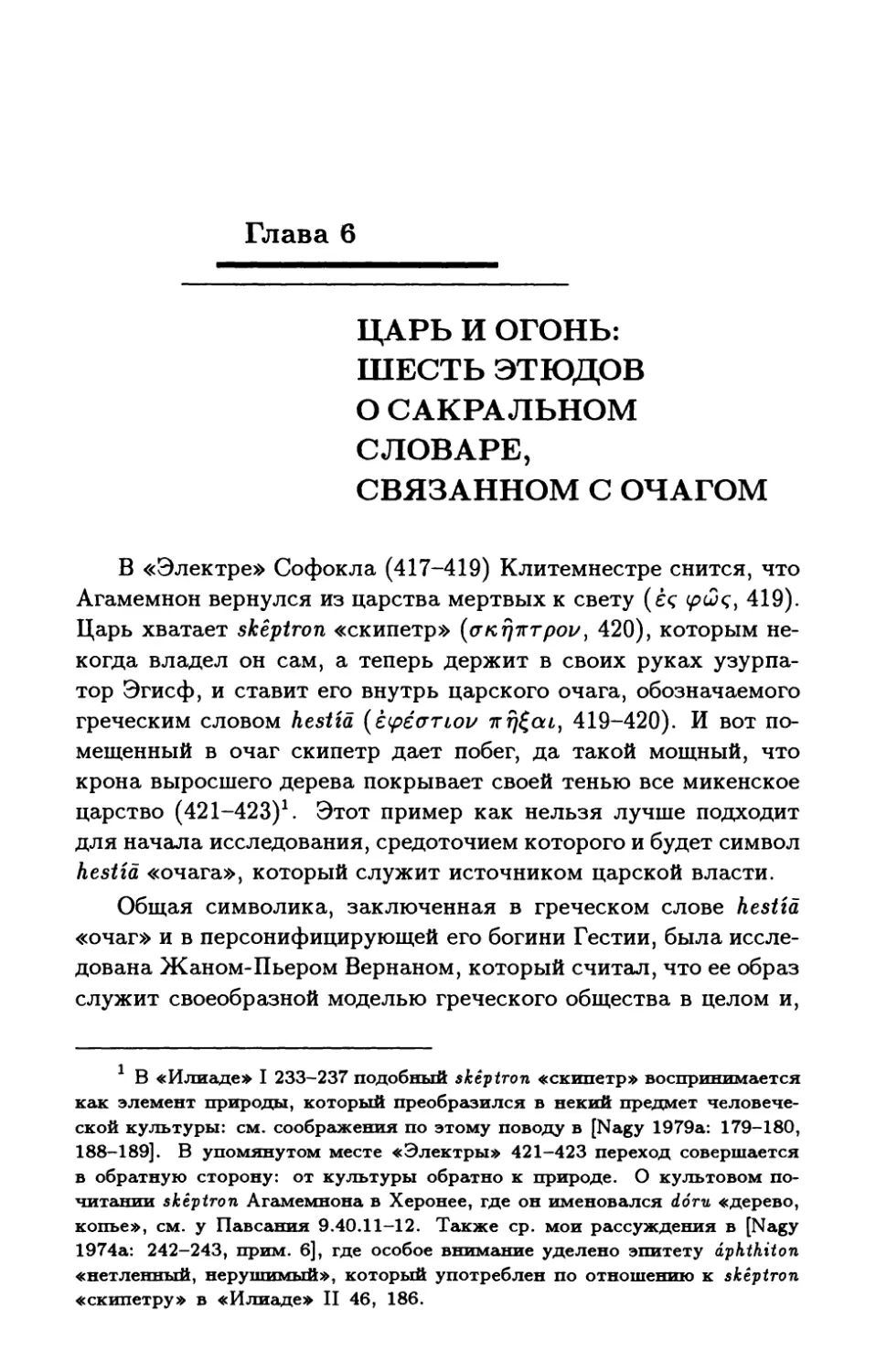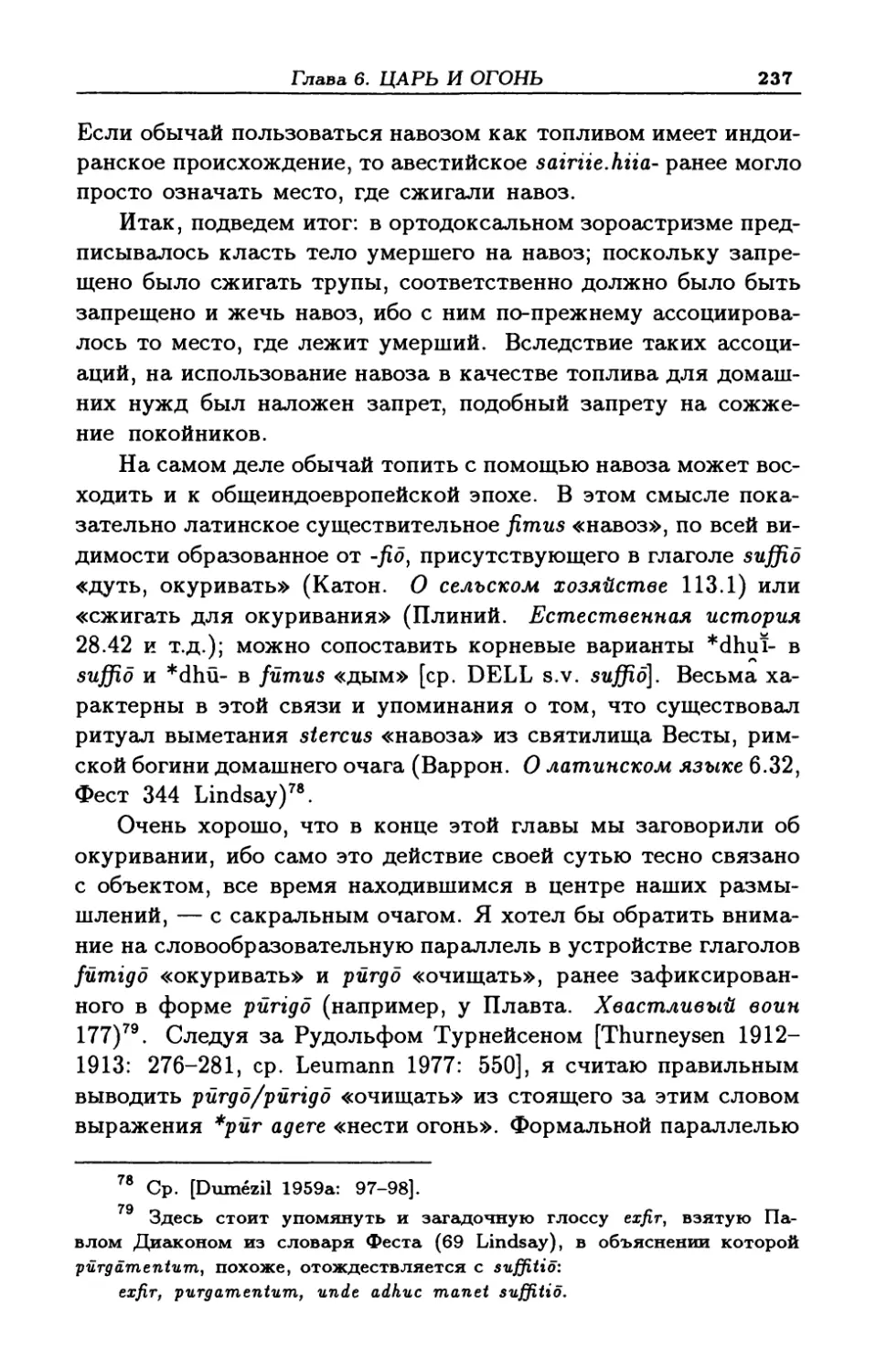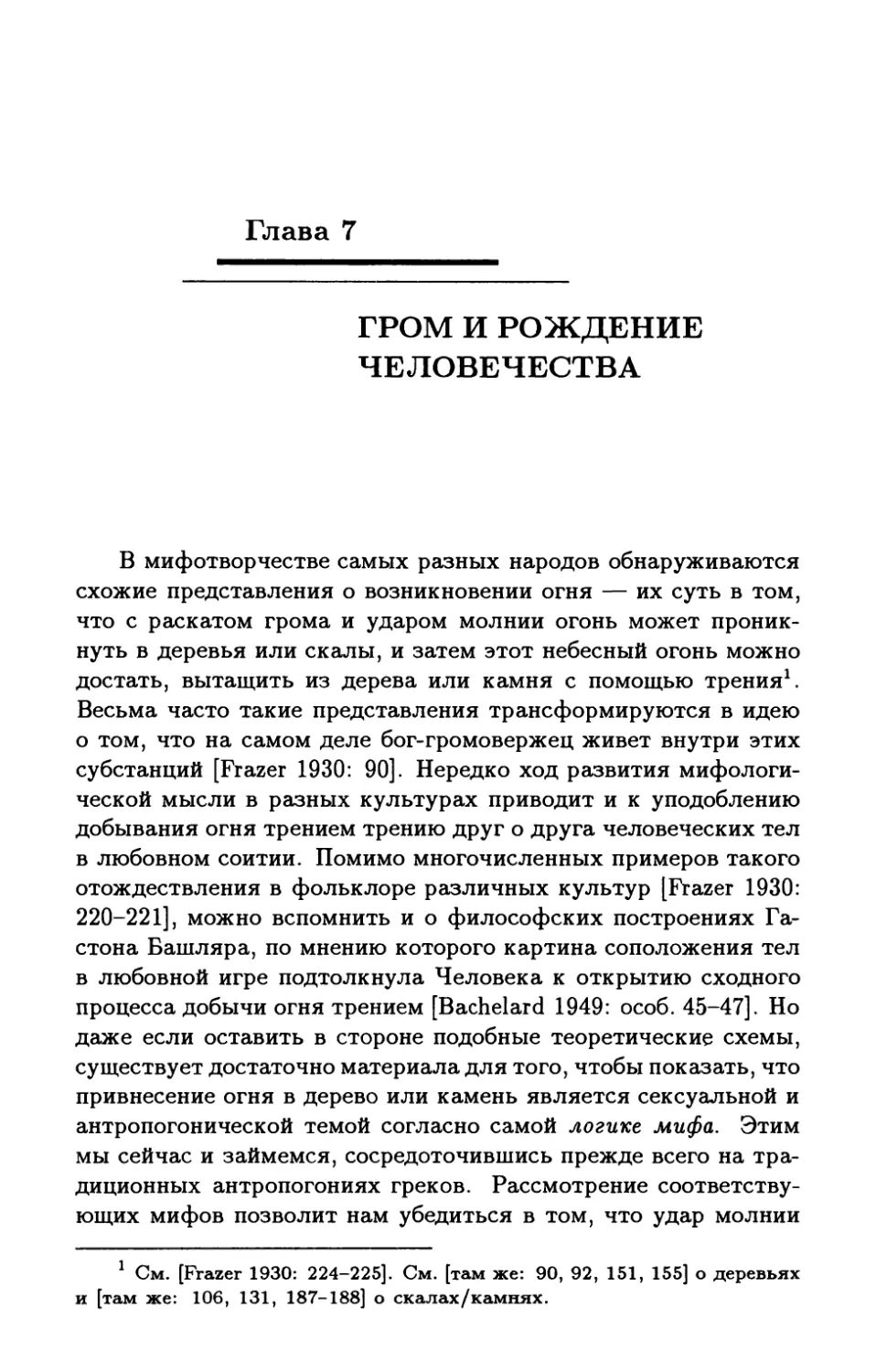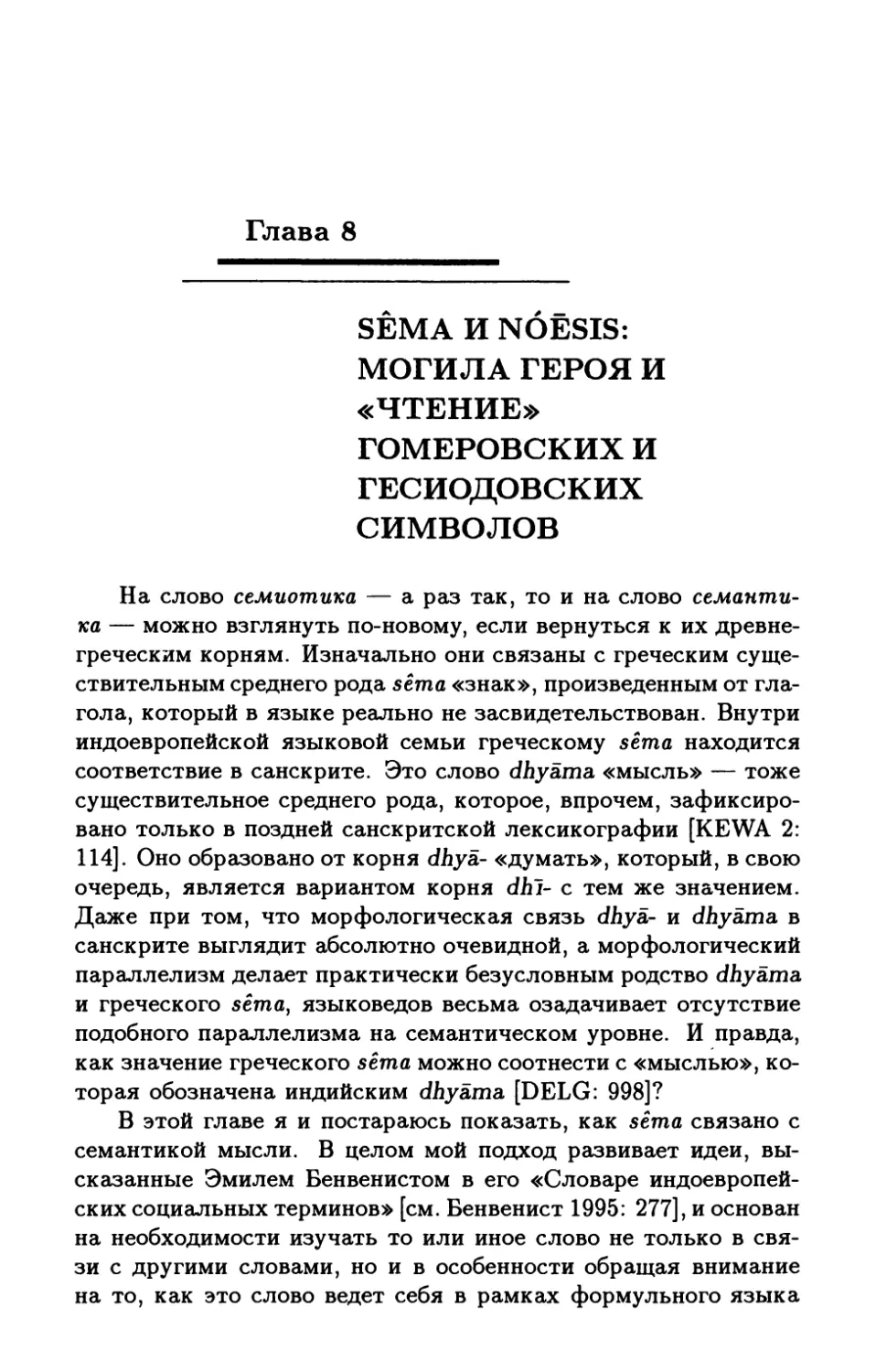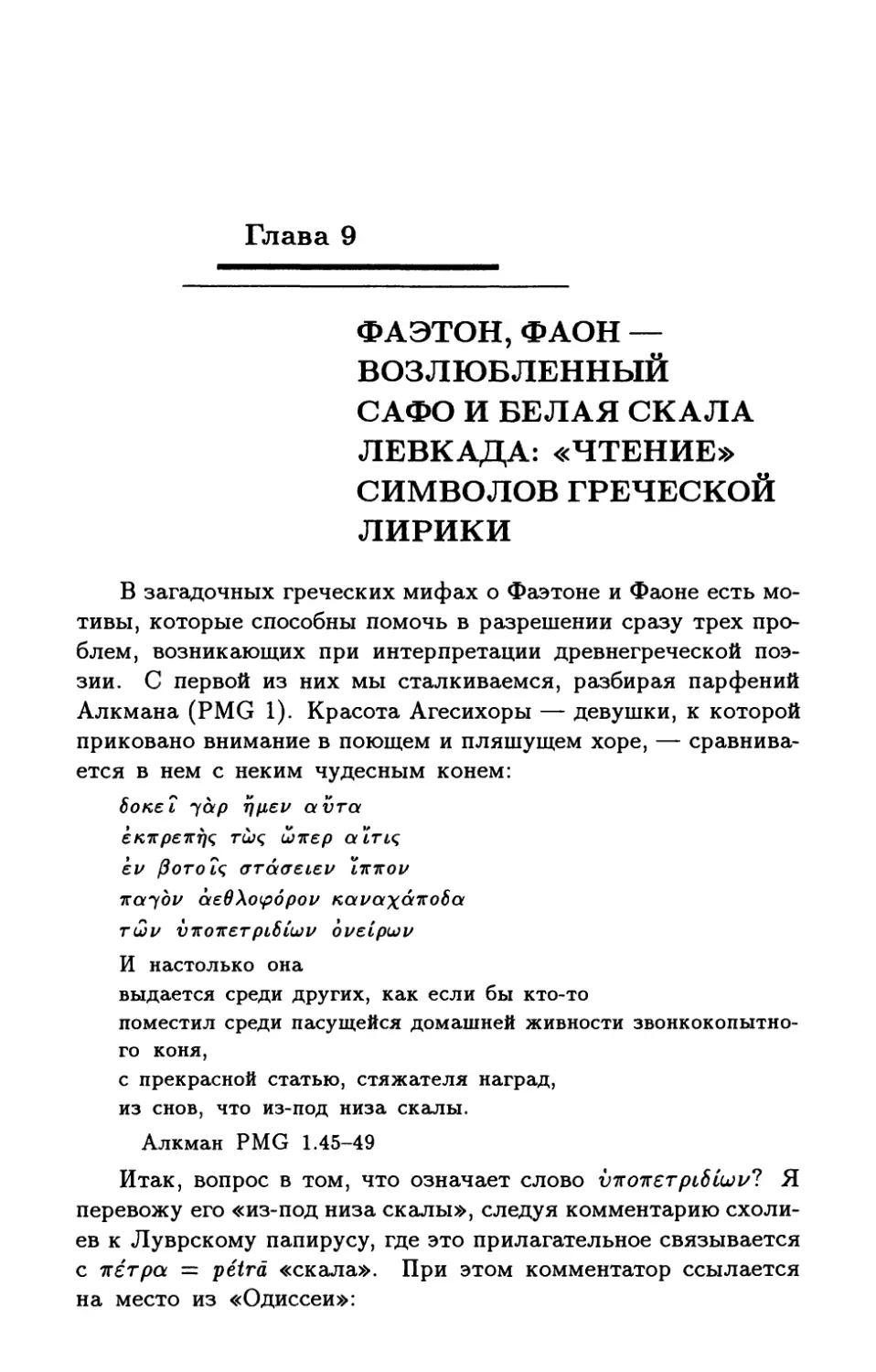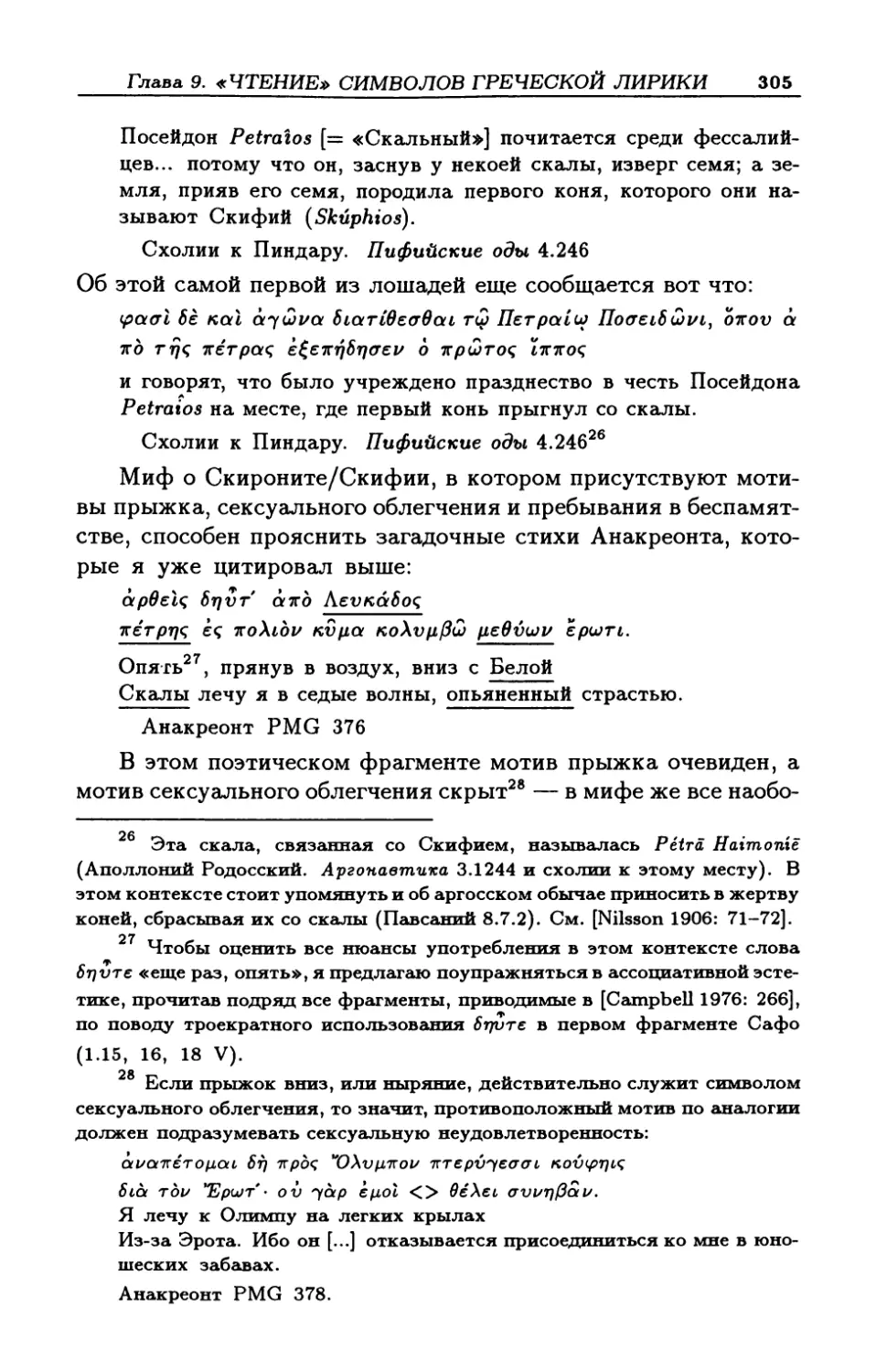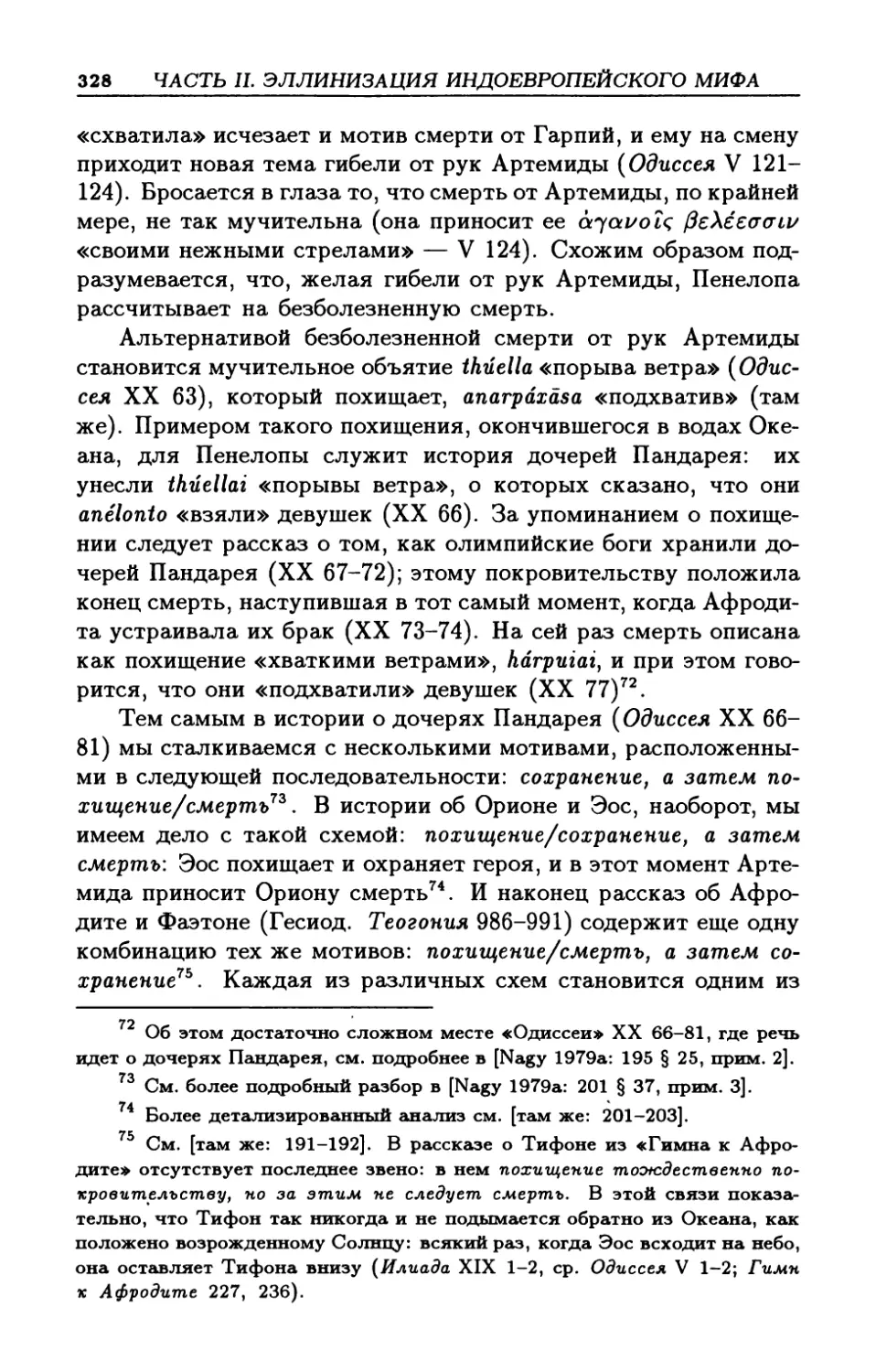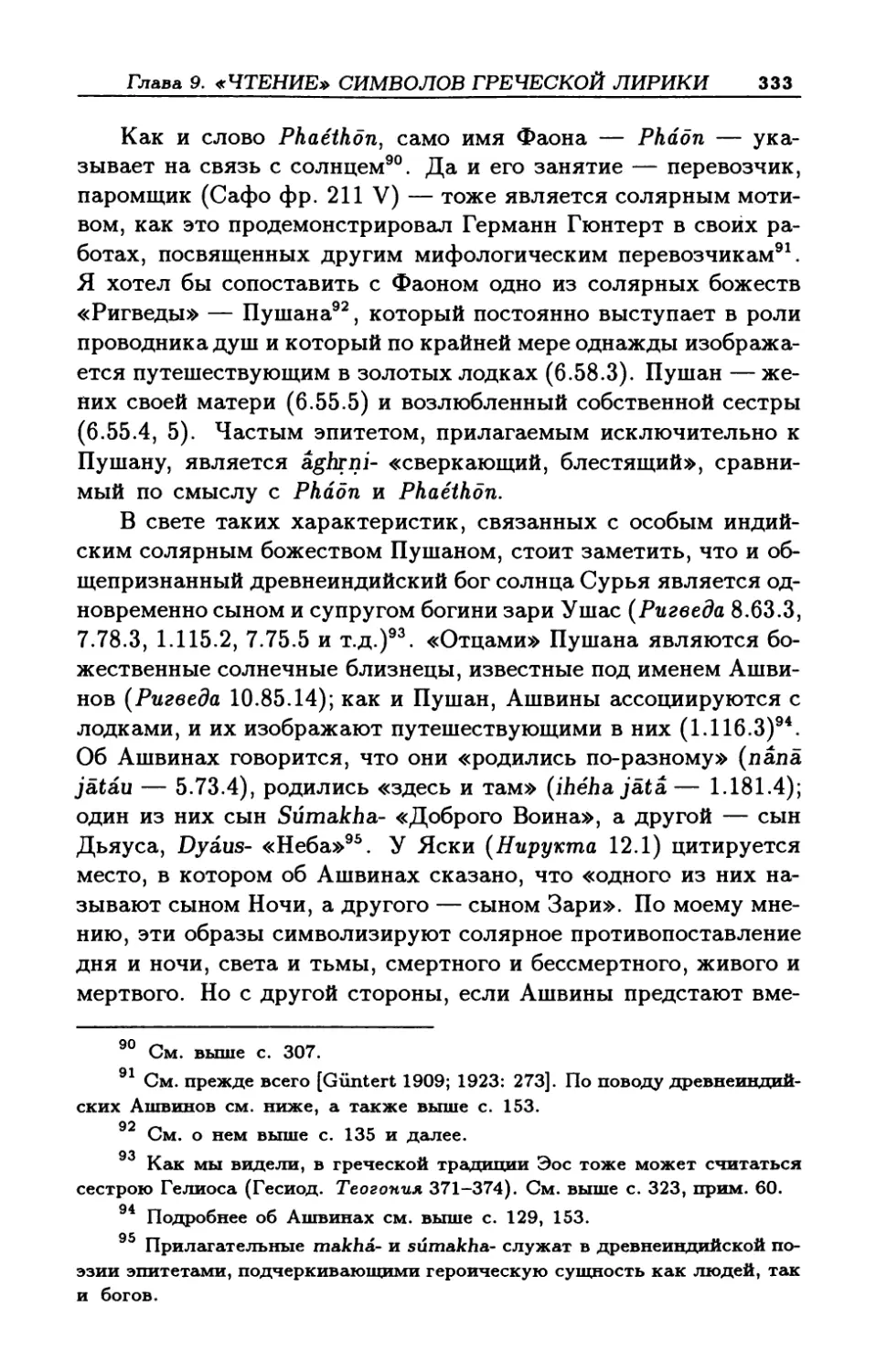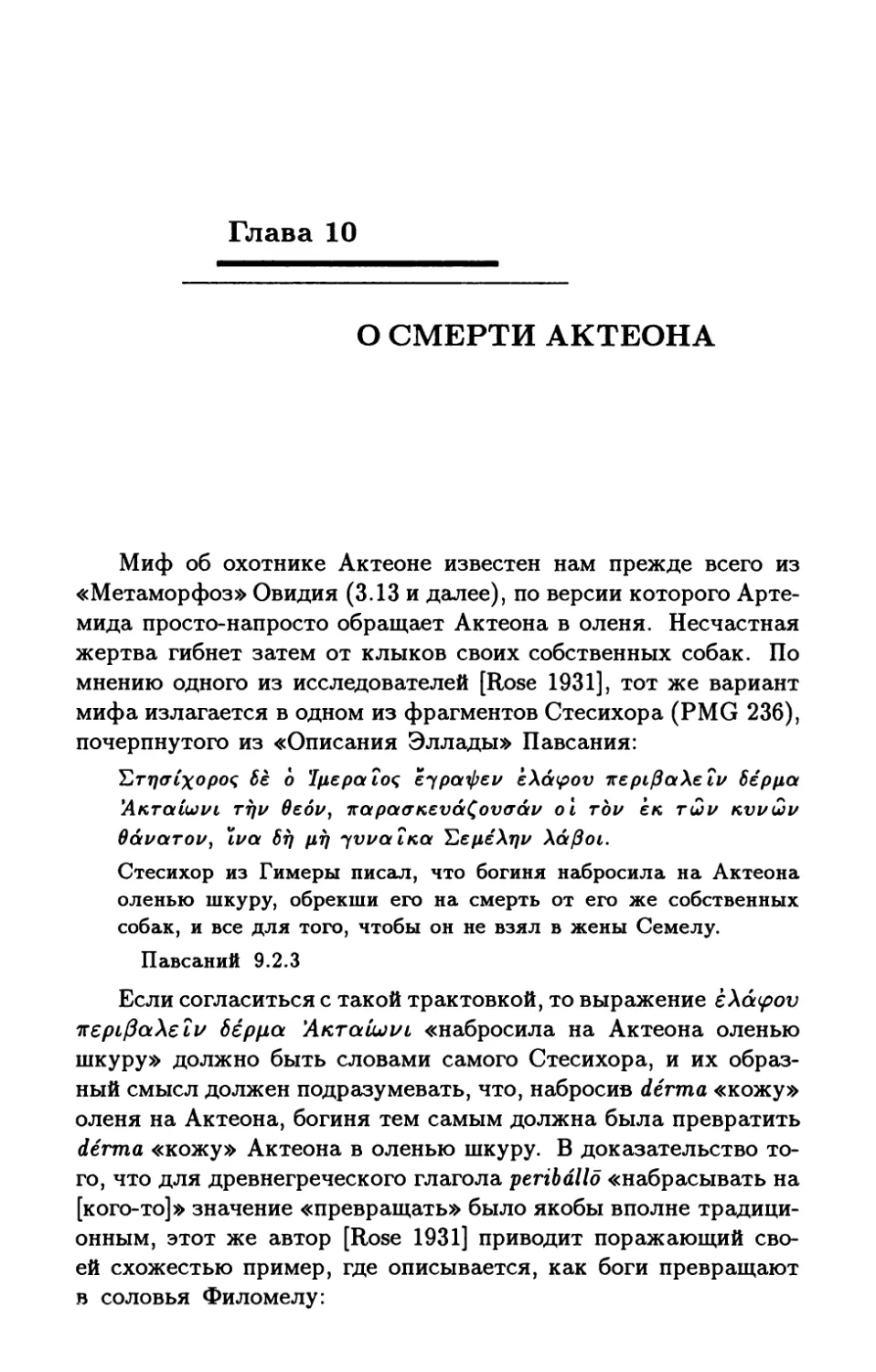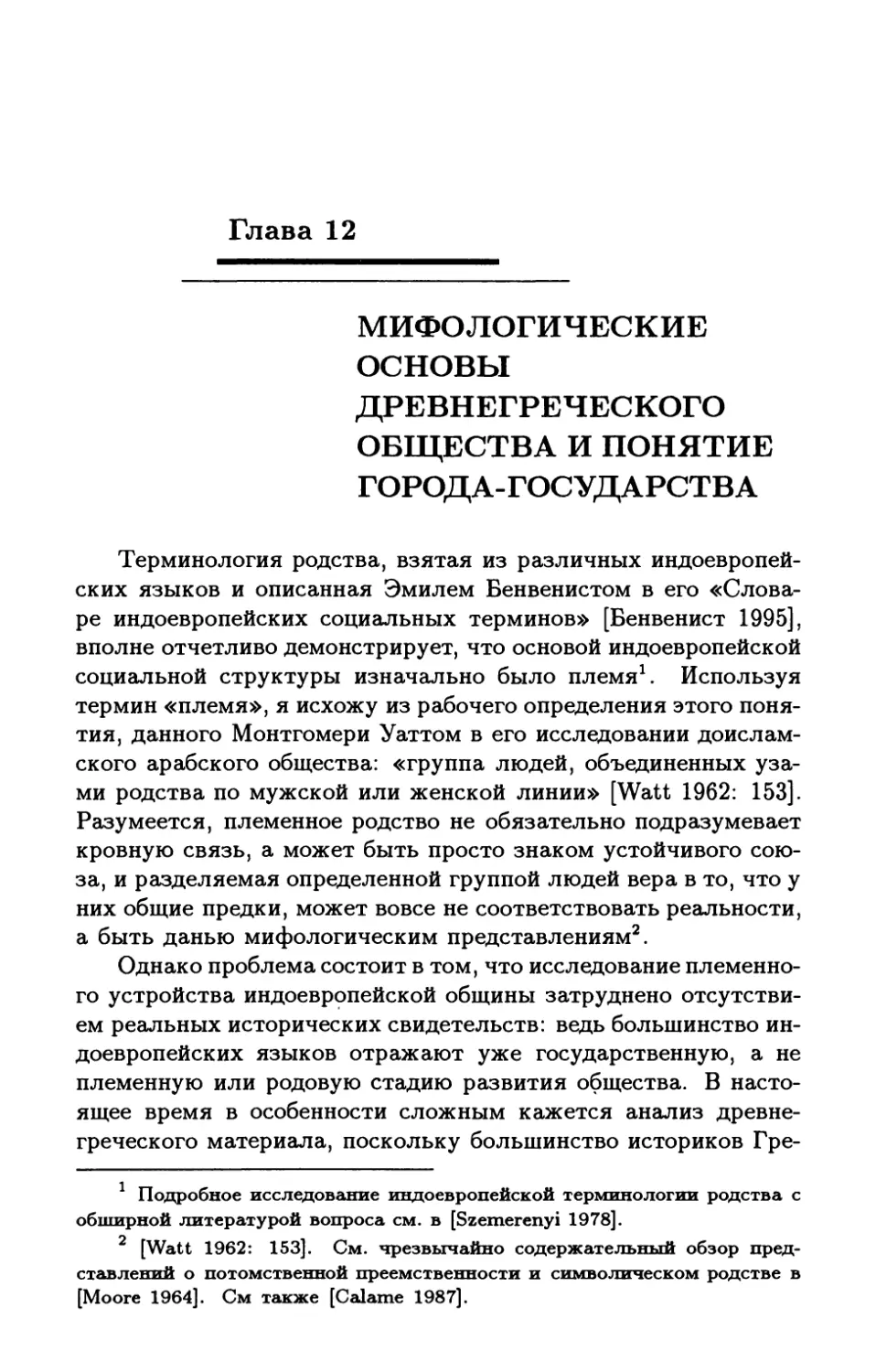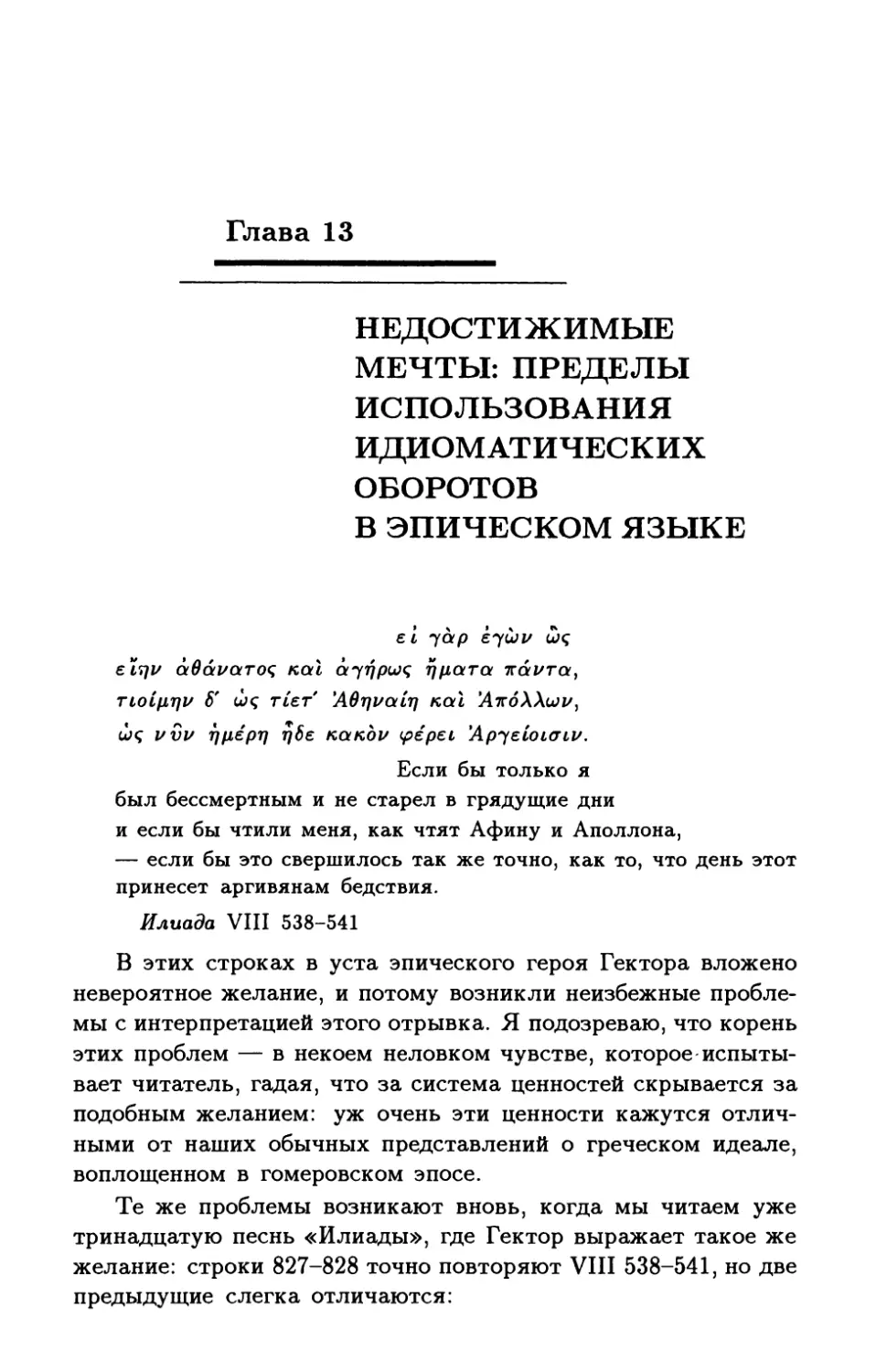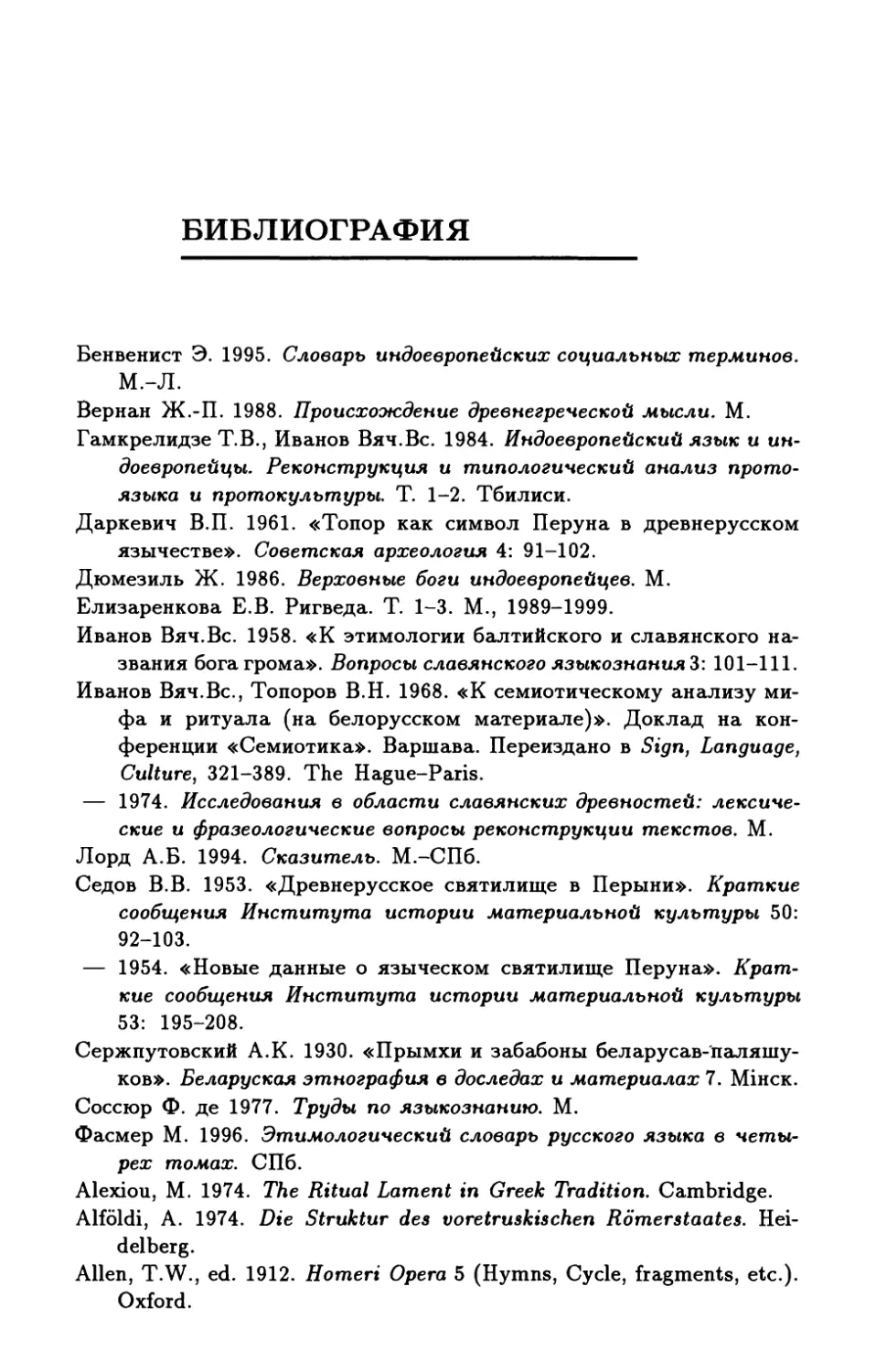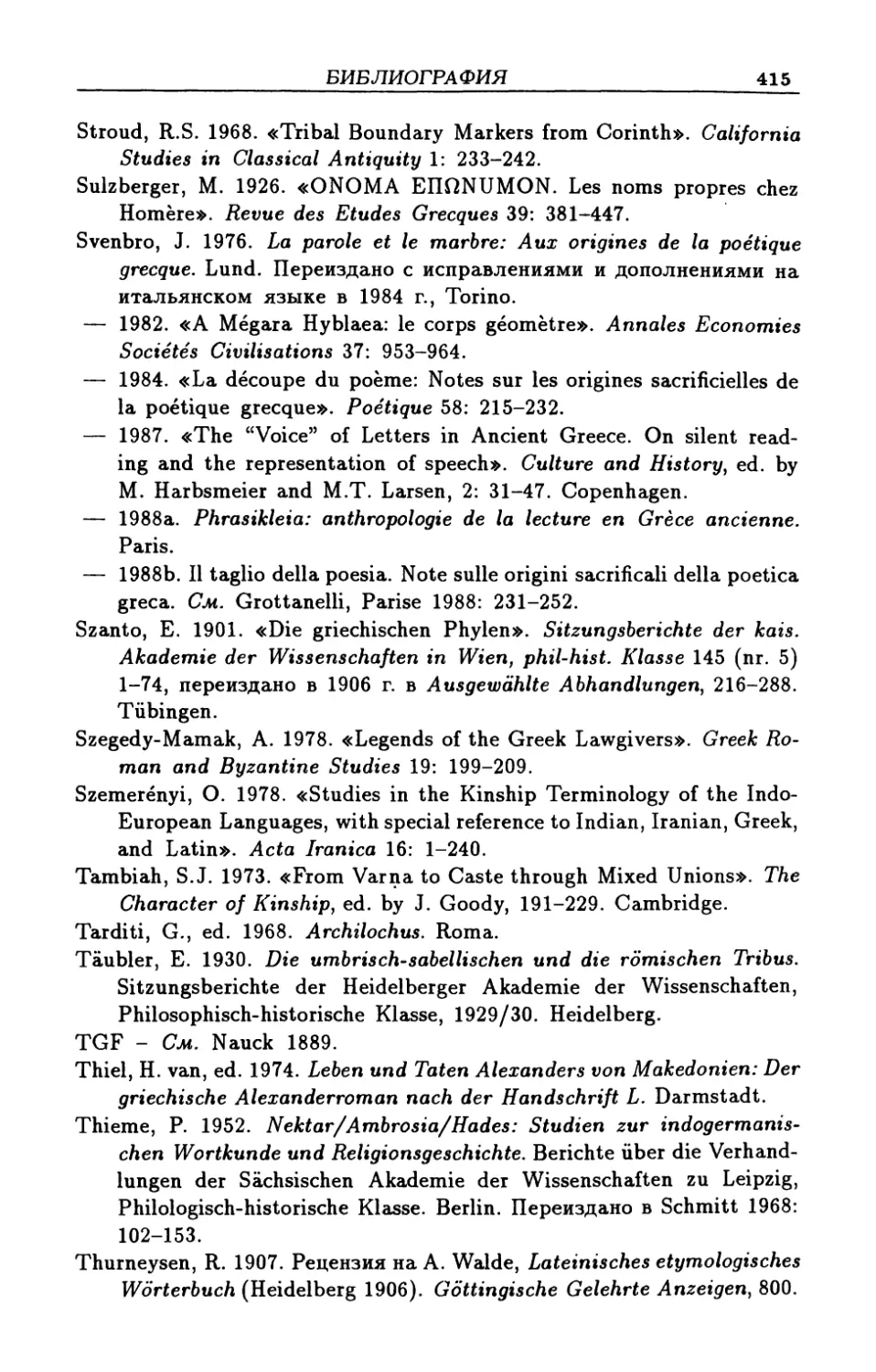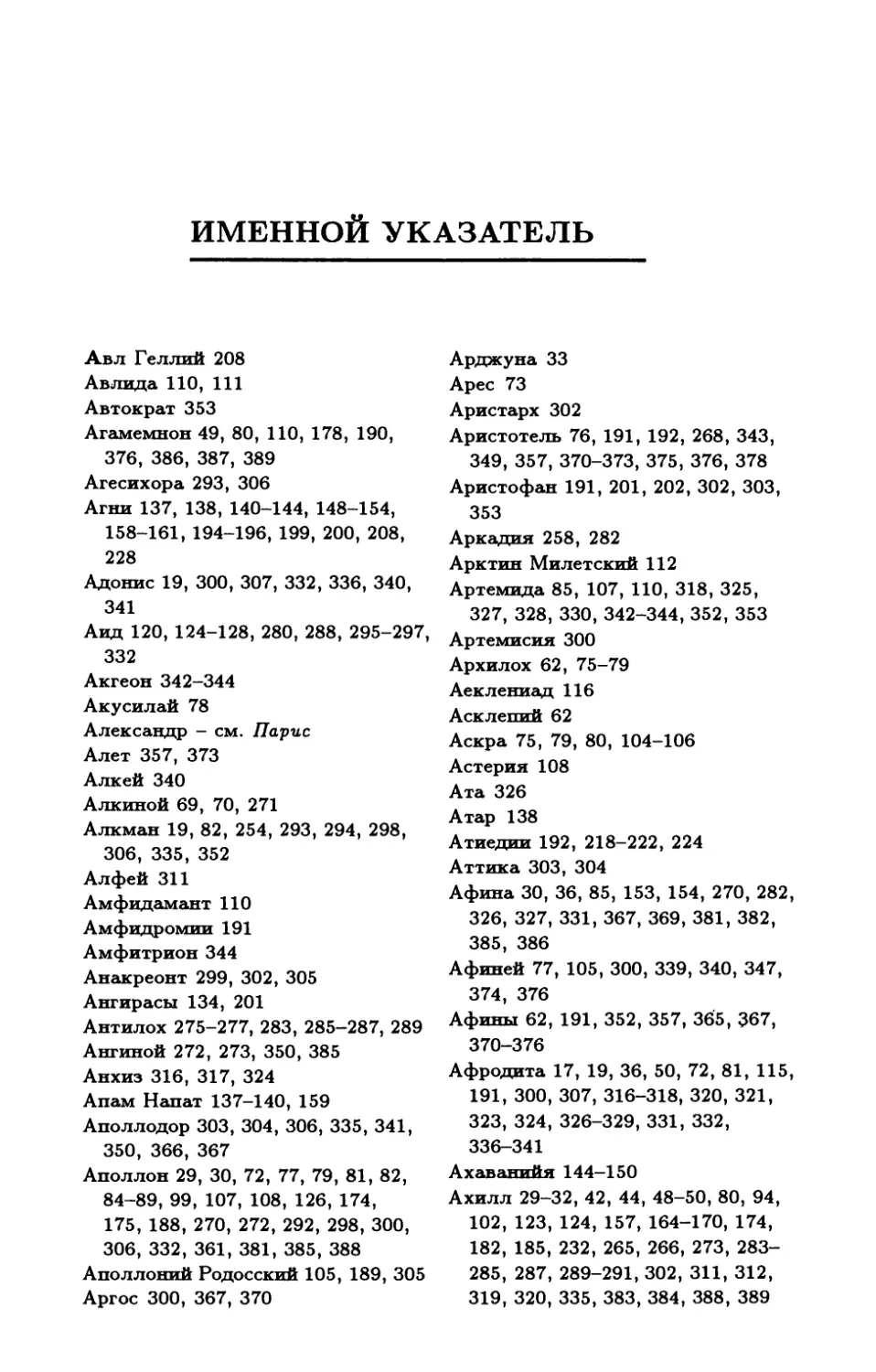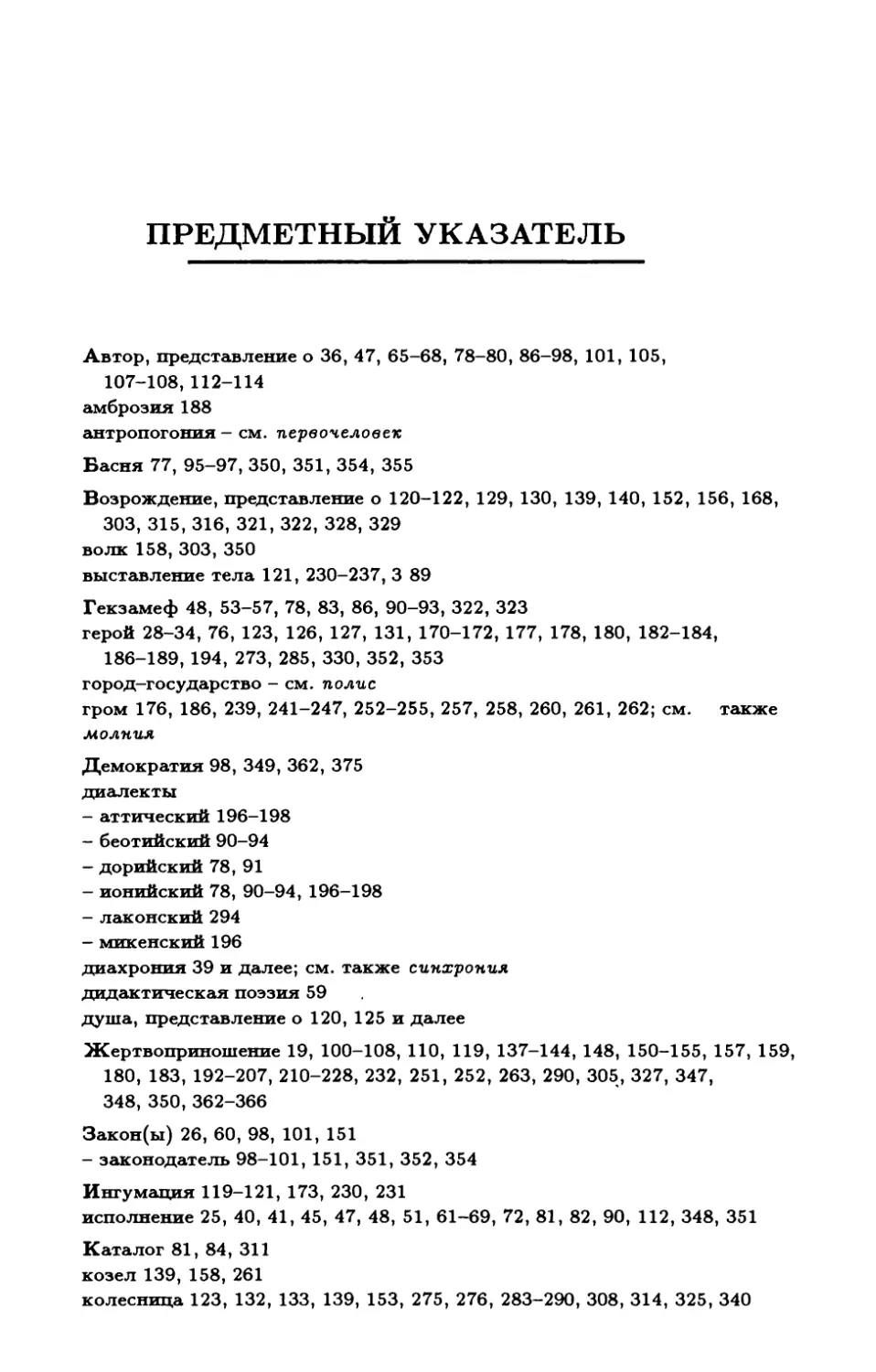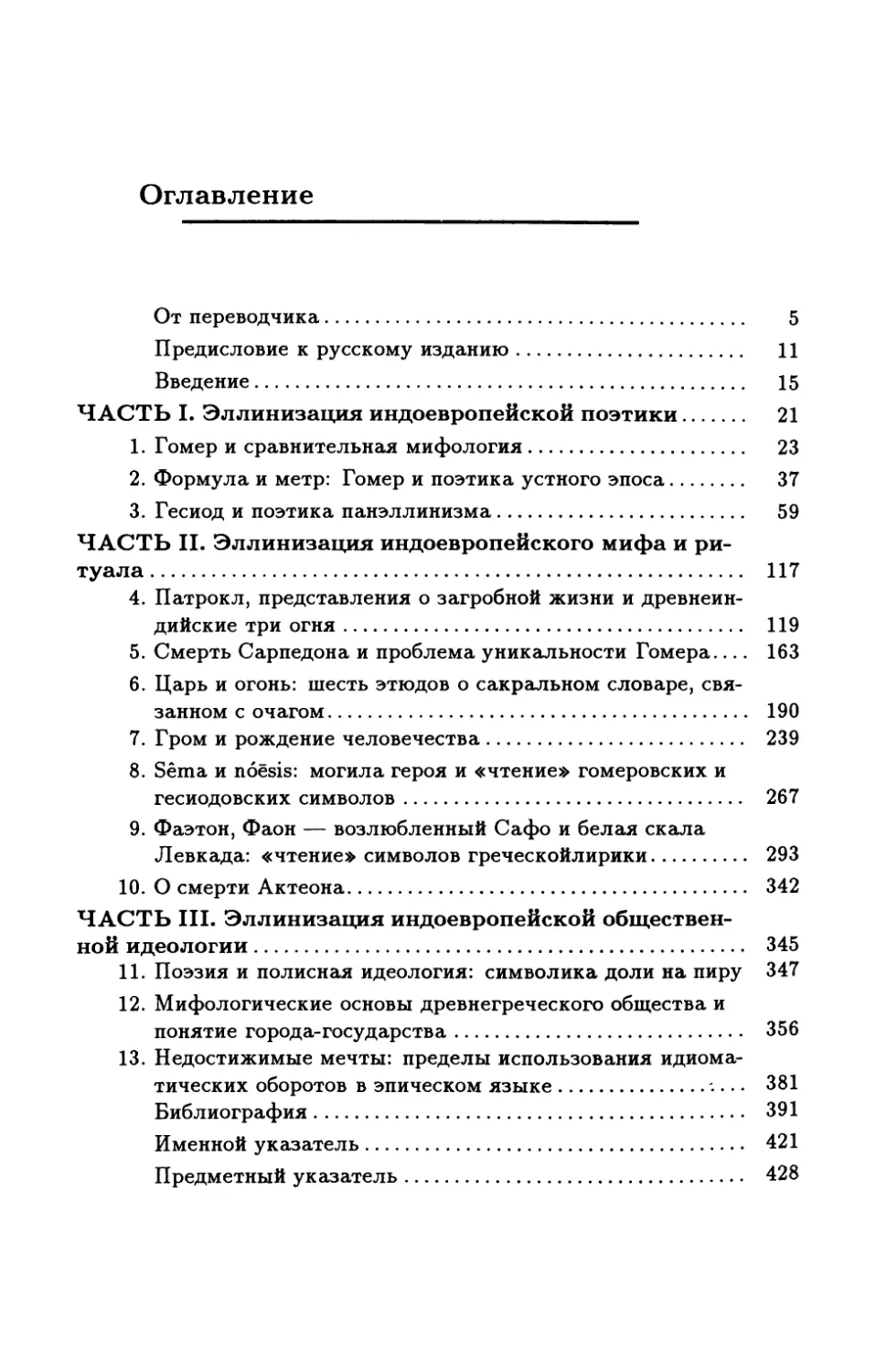Автор: Надь Г.
Теги: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии языкознание мифология мифы античная культура ритуалы греческая мифология классическая филология
ISBN: 5-89826-122-2
Год: 2002
Gregory Nagy
Greek mythology
and poetics
Грегори Надь
Греческая мифология
и поэтика
Перевод с английского
Н.П.Гринцера
МОСКВА
Прогресс-Традиция
Традиция
ΥΔΚ 80 Издание осуществлено при финансовой поддержке
ББК 81 Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Η 17 проект 01-03-16084
Ε
Издание выпушено при поддержке Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса) в рамках Мегапроекта «Пушкинская библиотека»
Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:
Н.С. Автономова, Т.А. Алексеева, М.Л. Андреев, В.И. Бахмин,
М.А. Веденяпина, Е.Ю. Гениева, Ю.А. Кимелев, А.Я. Ливергант,
Б.Г. Капустин, Ф. Пинтер, A.B. Полетаев, И.М. Савельева, Л.П. Репина,
А.М. Руткевич, А.Ф. Филиппов
This edition is published with the support of the Open Society Institute
within the framework of «Pushkin Library» megaproject
«University Library»Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev,
Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev,
Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletayev,
Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov
Г. Надь.
Η 17 Греческая мифология и поэтика ./Пер с англ. Н.П. Гринцера — М.: Прогресс-Традиция,
2002. — 432 с.
ISBN 5-89826-122-2
Книга Грегори Надя, одного из наиболее выдающихся современных исследователей античной
культуры, заведующего классической кафедрой Гарвардского университета, а с будушего года директора
престижного Уентра греческих исследований в Вашингтоне, подводит своеобразный итог его
многолетним изысканиям в области классических и индоевропейских древностей. Она посвящена
исследованию взаимосвязей мифа, ритуала и языка в древнегреческой культуре, и ее иель — показать
особенности греческого общества архаической и классической эпохи в том виде, в котором они
отразились «в зеркале» древнегреческого языка и литературы. Особое внимание уделяется стоящему за
греческой культурой еше более древнему индо-европейскому наследию, типологическим и историческим
связям античной Греиии с иными культурами древности. Благодаря этому автору удается преодолеть
во многом характерную для традиционной классической филологии узость подхода и в то же время
более выпукло и обоснованно продемонстрировать специфику греческой мысли и греческого
взгляда на мир. Книга, безусловно, привлечет внимание не только специалистов-антиковедов, но и всех
интересующихся истоками европейской и мировой культуры.
ББК 81
© Cornell University Press, 1990
© Н.П. Гриниер, 2002
© A.B. Орешина, оформление, 2002
© Прогресс-Традииия, 2002
© Традииия, 2002
ISBN 5-89826-122-2
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Появление на русском языке книге Грегори Надя — факт
примечательный как для специалистов по классической
филологии и древним языкам, так и для аудитории с более
широкими гуманитарными интересами. Для первых — это один из
немногих (пока) случаев, когда по-русски становится
доступным важнейший труд одного из наиболее авторитетных
западных ученых-классиков. Формально свидетельством значимости
фигуры Г. Надя служит хотя бы его послужной список: долгие
годы профессор, а затем и заведующий (в 1994-2000 гг.) одной
из ведущих кафедр классической филологии США — кафедры
Гарвардского университета, в 1990-1991 гг. — президент
Американской филологической ассоциации (организации,
объединяющей ведущих специалистов-классиков США), с 2000 г. —
директор Центра эллинистических исследований при
Гарвардском университете в Вашингтоне. Но в гораздо большей
степени о его роли в развитии современного антиковедения
свидетельствует список его трудов, начиная со «Сравнительных
исследований по греческой и древнеиндийской метрике» (1974)
и включающий затем «Лучшего из ахейцев» (1979), «Пинда-
ровского Гомера» (1990), «Поэзию и исполнение» (1996) и
«Гомеровские вопросы» (1996). О том, сколь влиятельны эти
работы и сколь заинтересованный отклик они встречали,
говорит, помимо различных присужденных им премий, редкий для
ученого-гуманитария знак отличия: многие из них уже успели
выдержать переиздание. Не стала исключением и «Греческая
мифология и поэтика»: будучи впервые опубликована в 1990 г.,
через два года она была издана новым, более массовым
тиражом, а теперь, спустя без малого десять лет, ее сможет
прочесть и оценить русский читатель.
Причина популярности работ Г. Надя не только в том, что
он на данный момент один из главных и признанных
экспертов в области архаической греческой поэзии и литературы в
целом; они примечательны не только высоким профессиона-
6
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
лизмом их автора, тонко и изощренно исследующего нюансы
значений греческих слов и контекстов. Одна из главных
особенностей книг Г. Надя — и именно поэтому они интересны не
только узким специалистам — в стремлении не
ограничиваться анализом древних текстов, а соотнести их с реальностью
древнегреческой культуры и — шире — с еще более древним
наследием индоевропейской эпохи. За конкретным эпизодом
древнегречского эпоса — скажем, за гибелью Сарпедона или
похоронами Патрокла в «Илиаде» — Г. Надь пытается
увидеть, точнее, реконструировать структуру архаичного ритуала,
за загадочным словом — например, в сохранившемся
фрагменте Алкмана — отзвуки древнейших мифологических
представлений о том, откуда являются сны и куда уходит человек после
смерти. Здесь на помощь исследователю приходит
превосходная лингвистическая подготовка: изначально Г. Надь
специализировался в области сравнительно-индоевропейского
языкознания и потому свободно оперирует данными не только
греческого и латинского, но и санскрита, иранского, хеттского,
балтийских и (что особенно близко русскому читателю)
славянских языков. Кроме того, Надь-лингвист и Надь-филолог
неотделимы от Надя-специалиста по сравнительной
мифологии и культурной антропологии — разнообразие интересов и
подходов тем более примечательно, что оно отнюдь не всегда
свойственно филологу-классику в строгом смысле слова.
Наконец, и это еще одна редкая черта, — исследователь
древнегреческой культуры не стремится, более того, не хочет и не
может изучать ее как «вещь в себе», вне как
предшествующего, так и современного и последующего контекста, и потому
в его трудах вполне органичными оказываются и упоминания
об особенностях старопровансальской поэзии трубадуров, и
использование терминов и понятий новейшей философии, теории
литературы и т.д. Иными словами, для Г. Надя античная
словесность и античная культура — это часть культуры мировой,
не существующая вне всеобщего процесса развития европейской
цивилизации. Не случайно, кстати, что в Гарвардском
университете автор «Греческой мифологии и поэтики» совмещал два
поста и, соответственно, две сферы занятий — профессуру по
классической филологии и по сравнительно-историческому
литературоведению (романистике).
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
7
Еще одним свойством трудов Г. Надя является их
безусловная личностная окраска. Он всегда говорит «я», и это не просто
дань условностям научного английского языка,
предпочитающего первое лицо единственного числа
абстрактно-расплывчатому «мы» русской науки. Он всегда говорит о своих идеях,
своих предпочтениях, своих интерпретациях, настаивая и яростно
споря с оппонентами. Его первая и подлинная любовь в
греческой литературе — Гомер, и потому во всех его работах
древнегреческому эпосу отведено некое привилегированное место. Но
и собственно в анализе греческих эпических памятников Г. Надь
занимает четко обозначенную позицию, в которой воедино
слиты его исследовательское кредо и личная история. Чуть ли
не главным своим предназначением он всегда считал развитие
идей своего учителя Альберта Лорда, одного из двух (вместе с
Милмэном Пэрри) создателей теории «устной поэзии». Защита
этой теории от упрощенных критических опровержений,
уточнение и доказательство ее основных положений всегда составляет
основной пафос работ Г. Надя и его научного «служения» —
не случайно он был одним из редакторов нового посмертного
(2000 г.) издания «Сказителя» А. Лорда, а последняя его книга
«Гомеровские вопросы» посвящена памяти учителя.
Применительно к гомеровскому эпосу Г. Надь занимает последовательно
«устную» позицию, доказывая, что гомеровские поэмы
передавались и создавались изустно, эволюционируя на протяжении
веков вплоть до их александрийской «редакции», и потому его
идеи — постоянный объект критики как со стороны
защитников «письменного» происхождения «Илиады» и «Одиссеи» и
их единого авторства (В. Кульманн, в отечественной науке —
А.И. Зайцев), так и со стороны «умеренных» последователей
Лорда, считающих дошедший до нас текст гомеровских поэм
«надиктованным» где-то в VII-VI вв. до н.э. (М. Уэст, Р. Джен-
ко). В своей приверженности устной теории Г. Надь идет еще
дальше и, как узнает читатель этой книги, подвергает
сомнению «историчность» еще одного великого эпика Эллады — Ге-
сиода. Конечную правоту в этих вечных спорах классической
науки вряд ли можно установить раз и навсегда, но, наверное,
для самого Г. Надя наилучшей оценкой всегда останутся
слова самого его учителя, Альберта Лорда, сказанные как раз по
поводу «Греческой мифологии и поэтики»: «Я бы хотел отдать
дань труду Грегори Надя «Греческая мифология и поэтика».
8
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Подчеркивая значение мифологии как источника гомеровского
эпоса, он точно отыскивает именно то, что, по моему мнению,
является глубинной основой структуры и смысла «Илиады» и
«Одиссеи». Прочитывая их как традиционные поэмы,
говорящие о сакральной реальности, мы оказываемся в состоянии
уловить их религиозную — в самом широком смысле этого слова —
значимость, постигая самые истоки греческого эпоса»1.
Ученый, стремящийся последовательно отстаивать некую
центральную идею и в то же время подкрепляющий ее
разнообразным и разнородным материалом, неизбежно подвержен
полемике и упрекам. Так же произошло и происходит с
работами Г. Надя: лингвисты указывают на некорректность
предлагаемых им этимологии, историки — на тенденциозность
подбора материала и игнорирование «неудобных» свидетельств,
филологи-классики — на «насилие», осуществляемое автором
над анализируемыми им древними текстами. Но всякое
обобщение всегда уязвимо, а главное, что отличает труды
ученого — это стремление выстроить именно целостную и
систематическую картину, описывающую не просто тот или иной текст
или исторический факт, а стоящий за ним тип культуры и
мышления. В этом Г. Надь следует принципам научной школы,
к которой он, быть может, наиболее близок. Эта школа —
структурализм, понятый максимально широко, включая
структурное языкознание в духе Ф. де Соссюра и Э. Бенвениста и
структурную антропологию и мифологию по К. Леви-Строссу.
Не случайно поэтому, что ему чрезвычайно близки достижения
русского структурализма, и нашему читателю тем более
приятно будет обнаружить на многих страницах его книги
(начиная с авторского предисловия) уважительные ссылки на труды
Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова. Западный ученый, читающий
и понимающий по-русски, — редкость, тем более он
заслуживает того, чтобы быть по-русски и прочитанным.
A. Lord. Epic Singers and Oral Tradition. Ithaca-London, 1991, p. 14.
Остается посетовать, кстати, что русскому читателю теория А.Лорда
известна только по превосходному переводу «Сказителя» Ю. Клейнера и
Г. Левинтона (чей опыт был в высшей степени полезен и мне при
осуществлении этого издания), но без учета его позднейших книг, одна из
которых — только что процитированная «Эпические певцы и устная
традиция», а другая — посмертно изданный вдовой ученого «Сказитель
продолжает петь» (Singer Resumes the Tale. Ithaca-London, 1995).
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
9
Если подыскивать для автора «Греческой мифологии»
краткое и потому заведомо банальное определение, то им
может стать расхожее выражение «живой классик», правда
понятое во всем многообразии смыслов каждого из двух входящих в
это сочетание слов. Он действительно одновременно и один из
наиболее известных ныне живущих специ ал истов-антиковедов,
и ученый, для которого античное наследие — не «мертвые
языки», а свидетельства живой и действенной культуры. И потому
столь естественным для Г. Надя-ученого являются все «живые»
формы академической деятельности: от издания
многочисленных научных серий (он редактор многих многотомных изданий,
в том числе «Мифологии и поэтики», «Греческих
исследований» и т.д.) до компьютерных версий античных текстов (его
новый проект, осуществляемый в Центре эллинистических
исследований, — создание компьютерного критического издания
гомеровских текстов). Не следует забывать, что он
одновременно и университетский лектор с огромным опытом публичного
общения со студенческой аудиторией, и потому для его книг
характерен простой тон живого разговора с читателем.
Именно это — простота изложения сложнейшего
материала — и было для меня, быть может, главной задачей как для
переводчика «Греческой мифологии». Конечно, простота эта
относительна — от одного взгляда на лингвистические
реконструкции автора у неподготовленного читателя может зарябить
в глазах. Но важно не только то, что говорится в книге, но и
то, как, и здесь я по возможности стремился передать
естественность хода авторской мысли и живость аргументации и
полемики. К тому же у меня, благодаря работе над научным проектом
в Центре эллинистических исследований, была редкая
возможность обсудить свой перевод на стадии последней редактуры с
«первоисточником»: за эту возможность я чрезвычайно
благодарен и Центру, и его директору — одновременно автору этой
книги. Порой оказывалось, что русский язык способен найти
новые нюансы в уже написанном тексте. Приведу только один
пример: в терминологии А. Лорда, которой следует Г. Надь,
процесс возникновения устной поэзии описывается как
параллельные и одновременные процессы, обозначаемые
английскими терминами composition/performance. Второму из них
точно соответствует русское «исполнение», для первого же можно
найти несколько соответствий: «создание», «сочинение», «ело-
10
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
жение». Каждый из них отражает его достаточно адекватно,
но подчеркивает одну из сторон — соответственно, процесс
возникновения (создание), творческое начало (сочинение),
выстраивание единого целого (сложение). В переводе я пользовался
всеми тремя эквивалентами — не в последнюю очередь следуя
и чисто стилистическим требованиям, и был чрезвычайно рад
тому, что сам автор книги всячески приветствовал этот
«разнобой», считая, что нет ничего хуже догматического термина, раз
и навсегда вошедшего в научный обиход и оттого постепенно
теряющего нюансы значений. Таких совместных находок было
немало, и конечный текст перевода в итоге стал
авторизованным — что я считаю своей огромной удачей как переводчика.
Благодарный за это автору книги, я не могу не вспомнить и
многих других, способствовавших выходу в свет русского издания
«Греческой мифологии». Прежде всего — это члены
экспертного совета Института «Открытое общество», избравшие эту
книгу для публикации в рамках программы по переводу научной
литературы. Без оказанной институтом финансовой поддержки
издание, конечно, не осуществилось бы, как не удалось бы оно
и без решительности издательства «Прогресс-Традиция»,
продолжающего издавать научные книги в не самое благоприятное
для этого время. И наконец, я хотел бы поблагодарить многих
коллег, с которыми я консультировался в процессе подготовки
перевода; особую признательность я хотел бы выразить
официальному рецензенту Института «Открытое общество» д.ф.н.
Т.А. Михайловой, чьи внимательные и скрупулезные
замечания помогли мне многое заново обдумать, уточнить, а порой и
изменить. Нет нужды добавлять, что ответственность за все
недостатки, от которых в конечном счете перевод так и не был
избавлен, лежит целиком на мне.
Н. Гринцер
ПРЕДИСЛОВИЕ К
РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
«Греческая мифология и поэтика» в основном имеет дело с
древнегреческим языком, но в книге немало сказано и о других
индоевропейских языках. Один из них как нельзя лучше
представлен в издании, которое лежит перед вами. Этот язык —
русский. Надо сказать, что толчком к написанию данной книги
в немалой степени послужили труды русских ученых: прежде
всего следует упомянуть имена Вячеслава Всеволодовича
Иванова и Владимира Николаевича Топорова1. Потому для автора
особенно приятно стать свидетелем появления этой книги на
русском языке, да еще и переведенной его добрым другом.
Помимо того что в книге представлен собственно русский
материал, в ее основе лежит и общий интерес к славянской
традиции в целом. Это не удивительно: ведь в свое время ее автор
учился у покойного профессора славистики Альберта Лорда.
Как известно, непосредственным предметом его исследований
было этнографическое наследие южных славян, но
использованный им при этом подход стал основой многих открытий как
в области древнегреческой мифологии, так и в сфере поэтики2.
См. ссылки на работы этих ученых ниже в этой книге, а
также отклик на нее (в частности, с подробным обсуждением главы 8) со
стороны В.В. Иванова в его статьях «Origin, History and Meaning of the
Term "Semiotics"», Elementa: Journal of Slavic Studies and Comparative
Cultural Semiotics 1 (1993) 115-143 и «On the Etymology of Latin Elementa»,
Elementa: Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics 1
(1993) 1-5.
Разумеется, прежде всего я имею в виду его книгу «Сказитель»
(A.B. Lord, The Singer of Tales. Cambridge MA 1960); в этом году
вышло новое издание с новым предисловием, в подготовке которого принимал
участие и я: A.B. Lord, The Singer of Tales, eds. S. Mitchell and G. Nagy
(Cambridge MA 2000). Книга Лорда опубликована в русском переводе
Ю. Клейнера и Г. Левинтона (А. Лорд. Сказитель. М.-Л., 1994).
12
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Подобно Лорду и его учителю Милмэну Пэрри, я исхожу из
данных поэтики, которая для меня служит конкретным,
непосредственным материалом для исследования3. На протяжении
ряда лет акцент в моих исследованиях постепенно смещался от
формы к содержанию4. С точки зрения поэтики форма
определяется категориями метра и формулы, а содержание —
понятием темы. Но в итоговом рассмотрении форму нельзя отделять
от содержания. Фундаментальной характеристикой моего
подхода является равновесное сочетание синхронного и диахронно-
го взгляда при анализе соотношения между метром/формулой
и темой в системе индоевропейской поэтики.
Понятия синхронии и диахронии я использую в том смысле,
который вкладывал в эти термины Фердинанд де Соссюр5. Для
Соссюра синхрония означает текущее состояние языка, а
диахрония — процесс его эволюции6. Я хотел бы особо
подчеркнуть то, что Соссюр связывает диахронию с эволюцией, и эта
связь окажется чрезвычайно значимой для изучения
гомеровской поэзии, основного предмета моего исследования. В
работах, опубликованных мною в течение последних двадцати лет, я
постарался выработать своеобразную «эволюционную модель»
функционирования устной эпической традиции, в рамках
которой и сложились гомеровские поэмы7. В соответствии с этой
моделью, «создание» гомеровской поэзии следует воспринимать
См. М. Parry, The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of
Milman Parry, ed. A. Parry (Oxford, 1971).
См. в особенности G. Nagy, Poetry as Performance: Homer and
Beyond (Cambridge, 1996) and Homeric Questions (Austin, 1996). Ср. также
M. Carlisle and O. Levaniouk, eds., Nine essays on Homer (LanhamMD, 1999).
Cm. F. de Saussvire, Cours de linguistique générale, ed. Ch. Bally,
A. Sechehaye, A. Riedlinger (Paris 1916; ср. критическое переиздание Cours
de linguistique générale, Paris 1972, ed. T. de Mauro; русский перевод Φ. де
Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1977) 117. Подробнее об
использовании этой дихотомии см. G. Nagy, «Homer and Plato at the Panathenaia:
Synchronic and Diachronie Perspectives», Contextualizing Classics, eds.
T. Falkner, N. Felson, D. Konstan (Lanham MD, 1999) 127-155.
Как таковые синхрония и диахрония означают соответственно
состояние языка и его эволюционную фазу (см. Ф. де Соссюр. Курс
общей лингвистики, passim).
См. предисловие ко второму изданию моей книги «Лучший из
ахейцев»: G. Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic
Greek Poetry (Baltimore, 1979; новое издание — 1999).
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
13
и на синхронном, и на диахронном уровне, в том смысле,
который вкладывал в понятие диахронии Ф. де Соссюр.
Я хотел бы сделать две оговорки по поводу употребления
терминов «синхронный» и «диахронный». Во-первых, я
использую их «с точки зрения наблюдателя, судящего о
рассматриваемой системе извне, а не изнутри нее»8. Во-вторых, для меня
синхронный и диахронный вовсе не являются синонимами,
соответственно, исторического и современного. «Диахрония
подразумевает возможность эволюции системы. История же не
сводима к явлениям, возникновение которых можно предсказать,
исходя из внутренней логики системы»9.
Отправной точкой данного исследования стала постепенно
сформировавшаяся у меня убежденность в том, что форма
дактилического гекзаметра, в которой метрически и формульно
воплотился древнегреческий эпос, имеет индоевропейские
истоки10. Преемственности на уровне формы должна отвечать и
преемственность на уровне содержания: я берусь показать, что
темы древнегреческого эпоса и древнегреческой поэзии в
целом (по крайней мере, большая часть подобных тем) также
могли возникнуть на основе праиндоевропейской поэтической
традиции. Первым из приведенных в этой книге примеров
становятся темы, связанные с первым из героев — Гераклом, да
и само его имя11.
G. Nagy, Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past
(Baltimore, 1990) 4.
Nagy, Pindar's Homer c. 21 прим. 18. В таком понимании я следую
трактовке, содержащейся в статье P.-Y. Jacopin, «Anthropological Dialectics:
Yukuna Ritual as Defensive Strategy.» Schweizerische
Amerikanisten-Gesellschaft, Bulletin, 52 (1988) 35-46; см. особ. с. 35-36 со следующей
формулировкой: «И синхрония, и диахрония — суть абстракции, выведенные
на основании тех моделей, которые предоставляет реальность, но
которые существуют вне ее».
Недавно я еще раз подробно обосновал эту идею в статье G. Nagy,
«Is there an etymology for the dactylic hexameter?» Mir Curad: Studies in
Honor of Calvert Watkins, ed. J. Jasanoff, H.C. Melchert, L. Oliver (Innsbruck,
1998) 495-508.
11 См. главу 1, где разбирается и соотношение тем и имен Геракла
и Геры. Из последних работ по этому поводу см. H.H. Казанский. «К
этимологии теонима ГЕРА», Палеобалкапистика и античность под ред.
В.П. Нерознака и др. (Москва, 1989, с. 54-58), а также Ch. Vielle, Le mytho-
cycle héroïque dans l'aire indo-européenne: Correspondances et
transformations helléno-aryennes (Louvain 1996) 15 прим. 56.
14
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Поиск индоевропейских истоков древнегреческой
мифологии и поэтики вовсе не должен приводить к прямому
отождествлению «греческого» с «индоевропейским». К этому можно
подойти и с другой стороны: мне совершенно не нравится
тенденция, в последнее время наметившаяся в трудах многих
лингвистов и филологов-классиков, которые склонны считать все
«неиндоевропейское» и «негреческим». Не следует
представлять древнегреческий язык не более чем зримым воплощением
абстрактного конструкта, именуемого «праиндоевропейским».
Прямолинейное использование диахронического подхода,
исповедуемого сравнительным индоевропейским языкознанием,
неизбежно приводит к упрощенному взгляду на историю
греческого языка и воплощенные в нем понятия и явления. Именно
поэтому диахронический взгляд должен быть дополнен и
историческим подходом. Только соединив эти две точки зрения, мы
сможем представить себе историческую целостность греческого
языка, а вместе с ним и историческую целостность того
феномена, который мы называем «эллинством»12.
Грегори Надь,
Кембридж, Массачусетс - Вашингтон,
август 2000 г.
О понятиях «греческого, эллинского» и «всегреческого, панэллин-
ского» см. A.M. Snodgrass, An Archaeology of Greece: The Present State
and Future Scope of a Discipline (Berkeley and Los Angeles, 1987), в особ,
с. 160, 165.
ВВЕДЕНИЕ
Предмет этой книги — то наследие, которое
древнегреческое общество приобрело вместе со своим языком,
причисляемым лингвистами к индоевропейской языковой семье.
Временной промежуток, к которому относится исследуемый
материал, начинается примерно восьмым и заканчивается
примерно пятым веком до н.э. Для меня интересен будет
прежде всего греческий язык, для сравнения с которым я буду
прибегать к свидетельствам родственных ему индоевропейских
языков, включая латинский, древнеиндийский и хеттский, —
такой подход объясняется моей многолетней приверженностью
индоевропейскому языкознанию, науке, уже с успехом
примененной в прошлом для целостного исследования
общественного устройства: я прежде всего имею в виду основополагающий
труд Эмиля Бенвениста «Словарь индоевропейских
социальных терминов»1. Индоевропейское языкознание стремится
реконструировать путем сравнения различных родственных друг
другу индоевропейских языков тот праязык, который в свое
время был назван «великим делом рук человеческих,
свидетельством более ценным, чем любой предмет, о котором
может грезить археолог» [Haas 1969: 34, ср. Watkins 1969: хх,
1973b]. Я буду более скромен: попытка реконструировать
праязык влечет за собой стремление увидеть в языковых данных
отражение неких стоящих за ними социальных моделей. На
протяжении всей книги моей целью будет исследование
греческого языка в его родстве с другими языками как отражения
греческого общества, и при этом особое внимание я буду
обращать на язык как средство выражения мифологических и
поэтических представлений.
[Benveniste 1969]. Далее все ссылки будут даваться на русский
перевод [Бенвеыист 1995].
16
ВВЕДЕНИЕ
Но главным в этой книге будет не просто сам факт того,
что за древнегреческим языком стоит индоевропейское
наследие. Гораздо более значимыми для меня являются силы,
которые превращали то, что было индоевропейским, в то, что уже
стало греческим, или — употребим более высокое слово —
эллинским. А поскольку такое превращение было длительным
и сложным процессом, назовем этот процесс «эллинизацией».
Отсюда и заглавия трех основных частей моей книги.
1. Эллинизация индоевропейской поэтики.
2. Эллинизация индоевропейского мифа и ритуала.
3. Эллинизация индоевропейской общественной идеологии.
По ходу наших рассуждений придется вплотную заняться
терминами «поэтика», «миф», «ритуал», «общественная
идеология», но значение одного понятия необходимо выяснить с
самого начала. Термин «индоевропейский» ни разу не будет
подразумевать какой бы то ни было расовой или этнической
классификации. Если я называю что-то «индоевропейским», то это
означает, что я реконструирую данное понятие путем сравнения
родственных языков, полагая, что язык является отражением
общества и его установлений2.
Было бы некоторым заблуждением искать
«индоевропейское» в древнегреческом обществе — то же, разумеется,
относится и к римлянам, хеттам и всем прочим — только
потому, что, как установило сравнительное языкознание,
древнегреческий язык был по преимуществу индоевропейским. Но
все же история эллинизации до некоторой степени совпадает
с рассказом о том, как индоевропейский язык утвердился в
Средиземноморье.
Если ограничиться историческими рамками собственно
древнегреческой культуры, то стоящая за их языком
индоевропейская основа могла прояснить некоторые — но вряд ли все —
общественные установления, которые греки получили в
наследство от индоевропейцев. Другие установления им могли
передать носители тех языков, на которых говорили на этой
территории в эпоху, предшествовавшую приходу индоевропейцев.
И снова сошлюсь на прорыв, совершенный в этой области Э. Бен-
венистом.
ВВЕДЕНИЕ
17
Но еще остаются и те элементы, которые могли
заимствоваться в разное время и у разных народов. В одном только можно
быть уверенным: каково бы ни было происхождение
отдельных древнегреческих установлений и терминов, в ходе истории
все они продолжали меняться и взаимодействовать друг с
другом. Этот процесс изменения и взаимодействия я и называю
эллинизацией. Для меня в этой книге конечной эмпирической
данностью и будет отчетливо греческая, эллинская
составляющая «эллинизации»3.
Отсюда следует, что унаследованную греками мифологию
и поэтику не следует вписывать в четко очерченные рамки
индоевропейской модели. В частности, нарастающий процесс
эллинизации был пронизан ближневосточным влиянием. Так, в
девятой главе мы увидим, что в поэзии Сафо индоевропейские
мифы об Утренней и Вечерней Звезде смешиваются с
ближневосточными мифами о планете Иштар, знакомой грекам как
планета Афродиты, а нам как Венера.
Чрезвычайно ценный вклад в изучение культурных
взаимодействий в Древней Греции внес Вальтер Буркерт своей книгой,
в которой он тщательно перебрал огромное количество
ближневосточных данных, обнаружив показательные параллели,
проясняющие множество разнообразных греческих установлений,
смысл которых для нас долгое время оставался неясным4. Так,
например, он с успехом сумел продемонстрировать, что многие
мифы и ритуалы, связанные с богиней Деметрой, оказываются
схожими с моделями, заложенными в образах хеттского Теле-
пинуса или месопотамской Инанны/Иштар [ср. Burkert 1979а:
139]. Можно называть это Ureriebnis— «первичным
переживанием» — или архетипом, но в этом конкретном случае В.
Буркерт, распространяя свой поиск на иные культуры, больше не
обнаруживает в них сколько-нибудь близких фигур. Потому
трудно удержаться от вывода о том, что в данном случае мы
имеем дело с неким контактом или заимствованием. Дальней-
Для меня важно именно отличие, «особость» греческой культуры, а
не прослеживание ее близости «культуре западной». Не случайно с тем
же успехом в ней можно проследить и «ориентальную», восточную
составляющую, как это было показано в работе [Said 1978].
4 Ср. [Burkert 1984] об эпохе между 900 и 600 гг. до н.э.
18
ВВЕДЕНИЕ
ший анализ подобных параллелей можно дополнить методами
исследований, разработанными лингвистами на примере
феномена, известного как «языковой союз»5.
Раз уж мы упомянули в связи с Деметрой о мифах и
ритуалах, то нам неизбежно приходится столкнуться с существенной
проблемой, коренящейся в самой истории наук о классической
древности, которые последовательно стремились к разделению
мифа и ритуала. Так, например, Мартин Нильссон в своей
книге, долгие годы остававшейся надежным руководством по
греческой религии [Nilsson 1967/1974], тщательно избегает любых
упоминаний о соотношении мифа и ритуала. Он делает
исключение только для мифов о Деметре — тут уж даже Нильссон
не смог уклониться от разговора о сопутствующих им
ритуалах6. В первой главе я приведу используемые мною рабочие
определения мифа и ритуала. А сейчас, пожалуй, ограничусь
только указанием на необходимость рассматривать их как
взаимосвязанные явления, как это делает в своем руководстве по
греческой религии Вальтер Буркерт [Burkert 1985].
Я полагаю, что, для того чтобы уловить суть греческой
религии, нужно понять взаимодействие мифа и ритуала в
реальном историческом контексте Древней Греции7. Более того, по-
[Jakobson 1931]. Применительно к исследованию В. Буркерта я
хотел бы особо подчеркнуть роль странствующих ремесленников, которые
в «Одиссее» XVII 381-385 названы dëmiourgoi «ремесленники из дема»
(См. [Nagy 1979а: 149 § 11 прим. 6], а также [Donlan 1970] о понятии demos
«административная область, население», в архаической греческой поэзии
означающем «местную общину» и подразумевающем местные традиции,
обычаи, законы и т.п.). В данном контексте «Одиссеи» среди
ремесленников перечислены aoidos «певец», mantis «пророк», iëter «врач», téktôn
«плотник». В других случаях ремесленником также именуется kêrux
«глашатай» (Одиссея XIX 135), для сравнения можно также привести
контексты, в которых aoidos «певец» стоит в одном ряду с téktôn «плотником»
и kerameus «гончаром» (Гесиод. Труды и дни 25-26). Класс
ремесленников отличался особой социальной мобильностью не только в грекоязычной
области (об этом см. подробнее в [Nagy 1979а: 233-234]), но и далеко за ее
пределами. Именно поэтому мы можем иметь в виду возможность
взаимного общения ремесленников-греков и негреков.
См. по этому поводу разбор, содержащийся в [Burkert 1979а: 138].
В этом отношении ключевой опять-таки является работа
Буркерта [Burkert 1970].
ВВЕДЕНИЕ
19
рою просто невозможно понять смысл того или иного мифа без
учета соответствующих ритуалов, или наоборот. Так,
например, в мифах и ритуалах, связанных с Адонисом,
жертвоприношению в ритуале, бесспорно, параллельна мифологическая
катастрофа, и «разыгрывание» этой катастрофы в ритуале
жертвоприношения призвано избавить жертвователей от подобной
беды [ср. Burkert 1979а: 121].
Связь мифа и ритуала может непосредственно влиять и на
особенности поэтики. Скажем, в случае мифа о божественных
близнецах — Диоскурах — ритуалы, в центре которых
стоят эти мифологические персонажи, оказываются ключевыми
не только для выяснения исторических корней возникновения
спартанской системы двух царей, но и для понимания
поэтических образов, содержащихся в седьмом фрагменте Алкмана,
повествующем о попеременном кота близнецов, об их
смертном сне. Возьмем другой пример — миф об Адонисе. На сей
раз связь этого героя с ритуалом оплакивания чрезвычайно
существенна для антропологической интерпретации феномена
плача как самоуничижения и самоагрессии8. Далее, эти связи
оказываются весьма значимыми для исследования поэтики
Сафо, у которой прямо выраженная тема оплакивания Адониса,
возможно, соотнесена с подразумеваемым
самоотождествлением Сафо с Афродитой9. В этом контексте стоит обратить
внимание на наблюдение В. Буркерта, согласно которому принятое
развитие мифологического повествования — Владимир Пропп
определил его как поиск, завершающийся свадьбой, — в
поэзии Сафо оказывается инвертированным. Последовательность
событий в ней столь же тревожна, что и в мифе об Адонисе:
любовь внезапно оборачивается крахом [Burkert 1979а: 121-122].
Многие из работ, вошедших в эту книгу, были
осуществлены некоторое время тому назад: так, например, в основу
девятой главы легло исследование поэзии Сафо, написанное аж в
1973 году. Другие впервые увидели свет несколько позже:
большая статья, превратившаяся в двенадцатую главу этой книги,
См. [Burkert 1979а: 99-122, особ. 121]. Наиболее полный и
содержательный разбор греческих обрядов оплакивания см. в [Alexiou 1974].
См. ниже с. 337 и далее.
20
ВВЕДЕНИЕ
была опубликована, например, в 1987 году. Но книга должна
представлять единое целое — и потому мне пришлось многое
перестроить и переписать. Правда, я постарался свести к
минимуму ссылки на появившиеся за это время новые научные
исследования. Библиография расширилась главным образом за счет
тех работ, которые повлияли на уточнение мною тех или иных
конкретных аргументов. Безусловно, существует множество
других трудов, которые могли и должны были на это
повлиять: некоторые из них станут объектом подробных ссылок в тех
новых исследованиях, на которые я отважусь в дальнейшем10.
Частые отсылки к иным — в большинстве случаев
позднейшим — публикациям автора призваны продемонстрировать
развитие и дальнейшее обоснование идей, заявленных в этой
книге. Так что не думайте, это не пустая самореклама.
Вот два значимых примера: [Гамкрелидзе, Иванов 1984], [Witzel
1984].
ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
Эллинизация
индоевропейской
поэзии
Глава 1
ГОМЕР И
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
МИФОЛОГИЯ
Открытие Генрихом Шлиманом Трои и по сей день не
утеряло своего магического воздействия на исследователей
древнегреческой культуры, и они привыкли считать гомеровскую
эпическую традицию отражением событий, реально
происходивших во втором тысячелетии до н.э., в микенском бронзовом
веке1. Такой подход должен быть расширен за счет
сравнительно-мифологической перспективы — четко намеченной,
например, в трехтомном труде «Миф и эпопея» Жоржа Дюмезиля
[Dumézil 1968, 1971, 1973]. В нем методы индоевропейского
языкознания выведены за пределы чисто языкового исследования и
перенесены на уровень мифологии в ее языковом выражении. В
этом отношении стоит задуматься о более широком осмыслении
сравнительной мифологии как сравнительной филологии:
«Одной из услуг, которую «сравнительная филология» способна
оказать «частным филологиям» (например, филологии
классической), становится возможность защитить их от собственных
непроверенных умозаключений касательно «истоков»,
направить их в рамки того эмпирического процесса (с
положительным или отрицательным результатом), который преодолевает
неуверенность и, как следствие, условность выводов, основа-
ных на фактах, оцениваемых исключительно с позиций одной
культуры, будь то греческая, римская, индийская или
скандинавская» [Dumézil 1985: 15].
Одним из наиболее показательных примеров такого подхода
является книга [Page 1959].
24 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Точно так же, как греческий язык родствен иным
индоевропейским языкам, включая латинский, древнеиндийский и древ-
неисландский, различные греческие установления родственны
аналогичным установлениям других народов, говоривших на
индоевропейских языках. Иными словами, столь разные
народы, как древние греки и индийцы, обладали единым
индоевропейским наследием не только на языковом, но и на
социальном уровне. Чтобы оценить широту и глубину присутствия
этого наследия в греческом обществе, достаточно
ознакомиться с богатейшим материалом, собранным в книге Э. Бенвениста
«Словарь индоевропейских социальных терминов» [Бенвенист
1995]. В данный момент, однако, мы хотели бы
сосредоточиться на утверждении Дюмезиля, согласно которому одним из
таких индоевропейских установлений являлась эпическая
традиция в том виде, в котором она отразилась, например, в
древнеиндийской «Махабхарате». Мы убедимся в том, что
сравнительный подход дает представление об эпосе, существенным
образом отличающемся от картины, возникающей при
«частном» подходе, когда суждение об эпосе определяется
стандартом гомеровских поэм.
Сравнительная филология убеждает в том, что эпос
отражает не столько исторические события, сколько миф. При
таком взгляде оказывается, что эпос отдает мифу приоритет над
реальностью. Идя дальше, можно утверждать, что даже тогда,
когда сырым материалом для эпоса служат реальные события,
он преображает их, дабы приспособить к требованиям мифа.
Такая трактовка мифа в сравнительной филологии
существенно отличается от современного употребления этого
слова. Для нас миф предполагает нечто противоположное
реальности. В тех обществах) где жива мифологическая традиция,
миф нельзя отождествлять с вымыслом, являющимся
продуктом индивидуального, личного творчества. Напротив, миф —
это коллективное самовыражение общества, выражение,
которое само общество наделяет непререкаемой истинностью. С
позиций того общества, где он возникает, миф и есть
изначальная реальность2. Для целей нашего исследования «миф»
можно определить как «традиционное повествование, используемое
См. мою работу [Nagy 1982b] с обзором книги М. Детьенна [Détienne
1981], а также книгу [Martin 1989]. Об истинностной ценности мифа см.
[Leach 1982: 2-7].
Глава J. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 25
для обозначения реальности. Миф — это прикладное
повествование. Он описывает значимую и существенную реальность,
имеющую практическую ценность не для отдельной личности,
но для целого сообщества»3.
Соотношение мифа и эпоса исследуется под другим углом
зрения в работах Милмэна Пэрри и Альберта Лорда,
посвященных традиционному характеру устной эпической поэзии4.
Их полевые исследования южнославянской устной поэзии
показывают, как создание и исполнение эпоса становятся двумя
сторонами единого процесса, как миф буквально воссоздается
при каждом новом исполнении и как возникают бесконечные
вариации в рамках традиции без отклонения от нее как
таковой. Опыт полевой работы позволил Пэрри и Лорду
выработать критерии, которые они с успехом применили к
гомеровским «Илиаде» и «Одиссее», убедительно продемонстрировав,
что эти шедевры европейской литературы созданы в
соответствии с законами устной эпической традиции. Подобный вывод
тем более оправдывает возможность использования для
анализа гомеровского эпоса принципов, которые, в свою очередь,
выработал Дюмезиль, основываясь на собственном опыте
систематического сравнения сохранившихся эпических текстов [ср.
Martin 1989: 1-42]. Безотносительно к выводам Пэрри и Лорда,
можно утверждать, что Гомер — мастер «мифа и эпопеи».
Тем не менее возникают серьезные проблемы в соотнесении
эпической традиции Древней Греции с эпосами других народов,
принадлежащих к индоевропейской языковой семье. Сам
Дюмезиль отдавал себе в этом ясный отчет, и суть этих проблем
можно сформулировать следующим образом [Dumézil 1968: 580—
581; ср. Dumézil 1982: 8, 52, 112-113]:
(1) в целом достаточно трудно обнаружить в тексте
гомеровских поэм базовые модели индоевропейского сообщества в том
их виде, в каком они реконструируются на основании подобных
же текстов, написанных на родственных греческому языках;
Слегка вольный перевод из [Burkert 1979b: 29]. Хотя я и признаю
возможность использования дополнительного, помимо «мифа», термина
«легенда» (как это делается в ряде работ), для моего исследования
такая дробность кажется излишней.
Основные работы: сборник статей [Раггу 1971] и книга [Lord 1960;
русский перевод: Лорд 1994].
26 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
(2) в частности, темы, сопутствующие основным
гомеровским героям, кажутся не соответствующими темам, связанным
с богами — по крайней мере, не в той степени, в которой это
происходит, например, в явно индоевропейской по своей
природе эпической традиции древнеиндийской «Махабхараты»5.
Решение этих проблем может дать археология -·- но не
данные, относящиеся ко второму тысячелетию до н.э., времени
гомеровских героев, а материал VIII в. до н.э., эпохи первых
слушателей гомеровских поэм. Археологический материал второго
тысячелетия провоцирует исследователей углубиться в поиски
исторической реальности, стоящей за греческим эпосом, в то
время как данные VIII в. способны указать им мифологическую
перспективу, в которую эта реальность встраивается.
Книга «Темные века Греции», написанная в 1971 году
Энтони Снодграссом, ясно показала, что восьмой век — время,
когда тексты «Илиады» и «Одиссеи» получали свое
окончательное оформление — не менее важен для понимания
гомеровской поэзии, чем конец второго тысячелетия — эпоха,
откуда обе поэмы непосредственно черпали свой содержательный
материал [Snodgrass 1971: 421, 435; см. также 352, 376, 416-
417, 421, 431]. Действительно, в гомеровской поэзии много
фактических деталей, которые археолог отнесет к концу второго
тысячелетия до н.э. [Page 1959]. Но суть в том, что
одновременно поэмы несут в себе и наиболее общие черты мировоззрения
восьмого века, который послужил своего рода водоразделом в
развитии греческой цивилизации и сделал эту культуру такой,
какой мы ее знаем. Именно тогда, наряду с феноменом
полиса, города-государства, воплотившего в себе преемственность
местных культовых, законодательных традиций и т.п.,
возникает и дополняющий его феномен панэллинизма, получающий
свое формальное воплощение в таких общегреческих
институтах, как Олимпийские игры, дельфийский оракул и, наконец, в
самих гомеровских поэмах [Snodgrass 1971: 421, 435].
На самом деле гомеровский эпос формально закрепляет
оба этих явления: разнообразные местные традиции
каждого из крупных городов-государств объединяются в нем в не-
В данной книге я буду использовать понятие «тема» (или
«тематический») в качестве терминологического обозначения одной из первичных
составляющих содержательной структуры мифа. Такое использование
восходит к употреблению этого термина в книге Лорда [Лорд 1994: 83-114].
Глава 1. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 27_
кую общегреческую модель, в принципе отвечающую полисной
идеологии, но в то же время не сводимую к идеологии какого
бы то ни было отдельно взятого полиса [Nagy 1979а: 115-117].
Наиболее ярким примером тому может служить гомеровское
представление об олимпийских богах, которое включает в
себя локальные религиозные традиции каждого полиса и
одновременно выходит за их пределы. В общегреческой
перспективе гомеровской поэзии растворяются локальные особенности,
в частности особенности местных культов, значимые лишь на
конкретном уровне отдельного города [Rohde 1898, 1: 125-127].
Под «культом» я понимаю некую практику, соединяющую в
себе элементы как мифа, так и ритуала. В качестве
рабочего определения для «ритуала» я выбрал для себя следующую
формулировку: «Ритуал в своем внешнем проявлении
предполагает запрограммированный набор показательных действий,
совершаемых в определенной последовательности и зачастую
в определенное время и в определенном месте. Эти действия
сакральны в том смысле, что любой пропуск или нарушение
данной последовательности вызывает большую тревогу и
влечет за собой наказание. В сфере же коммуникации и
социального реагирования ритуал устанавливает и поддерживает
единство закрытого сообщества» [Burkert 1985: 8]. Закрепленность
в ритуале определенной последовательности вещей не следует
воспринимать как обязательную статичность ритуала или
непременную жесткость всех его составляющих. Даже в случаях,
когда то или иное общество полагает ритуал статичным и
неизменным, в нем может присутствовать динамика и постоянная
изменчивость, отвечающая постоянно изменяющейся
структуре общества, этот ритуал порождающего.
Помимо божественных культов, еще одним примером
взаимодействия в гомеровском эпосе идей полиса и панэллинизма
может служить и отношение к героическому культу.
Фундаментальный труд Эрвина Роде «Psyche» до сих пор служит одним
из наиболее убедительных источников для понимания того, что
представление о héros «герое» являлось одной из древнейших
и характернейших черт традиционной религии греков и
требовало специальных религиозных действий, отличных от
культовой практики почитания богов6. Современные археологиче-
[Rohde 1898]. См. обсуждение разбора Роде героического культа в
нашей работе [Nagy 1979а: 115-117].
28 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
ские данные подтверждают, что сформировавшиеся в восьмом
веке до н.э. — т.е. как раз в то время, когда сформировались
и «Илиада» с «Одиссеей», — установления греческого
героического культа оставались почти неизменными до классической
эпохи пятого века [Snodgrass 1971: 190-193; 1987: 160, 165].
Бесспорно, соблазнительно счесть причиной расцвета героических
культов в городах-государствах сопутствующее этому расцвету
распространение гомеровской поэзии [Coldstream 1976], но,
пожалуй, следует согласиться со стремлением Э. Снодграсса
найти тому более содержательное объяснение7. Опять-таки
ключевыми для него служат параллельные друг другу феномены
культуры восьмого века — полис и панэллинизм. Здесь
стоит вспомнить мнение Э. Роде, согласно которому героический
культ представляет собой трансформированное на более
высоком уровне почитание предков, и трансформация эта
происходит под влиянием общественной ситуации полиса [Rohde 1898,
1: 108-110]. С точки зрения культурной антропологии такой
подход выглядит, быть может, наиболее привлекательным [ср.
Breiich 1958: 144; Alexiou 1974: 19], и в его рамках
оказывается возможным возводить отдельные составные элементы
героического культа к эпохе гораздо более ранней, чем VIII в.
до н.э. [ср. Snodgrass 1971: 398-399]. Иными словами, мы
можем предположить обширную предысторию, стоящую не
только за героическим эпосом, но и за героическими культами — но
с одним существенным уточнением: свою окончательную
форму и эпос, и культы получили именно в восьмом веке. Таким
образом, могучий всплеск героических культов в восьмом веке
оказывается явлением, параллельным распространению
общегреческого героического эпоса, т.е. «Илиады» и «Одиссеи», а
не обязательно производным от него.
Тем самым в принципе можно восстановить
индоевропейское наследие, стоящее за самой идеей греческого героя. Но
само извлечение сравнительного материала из описания героя в
греческом эпосе всегда связано с рядом проблем, в особенности
когда дело касается религиозной стороны героического образа.
Необходимо подчеркнуть, что герой в качестве культовой
фигуры неизбежно носит локальный характер, так как базовым
7 См. [Snodgrass 1971: 398-399], а также [Snodgrass 1987: 160, 165;
Morris 1988: 754-755]. Ср. уточнение этой позиции с учетом местных
особенностей в [Whitley 1988].
Глава 1. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 29
принципом греческой религии было убеждение в том, что
любая сверхъестественная сила связана с определенным местом в
пространстве [Rohde 1: 184-189]. С другой стороны, уже как
фигура эпическая, герой обладает общегреческим статусом, и,
следовательно, в самом повествовании религиозные черты
образа непосредственно не выявляются. Тем не менее мы можем
рассчитывать на то, что и в гомеровских поэмах могут быть
обнаружены какие-то, пусть и скрытые, следы этой религиозной
составляющей. На самом деле такая надежда побудила меня
написать мою предыдущую книгу [Nagy 1979а; ср. Vernant 1985:
101, 104, 106]. И более того, обнаружив эти скрытые черты,
можно найти им подтверждение в том сравнительном
материале, который дают иные индоевропейские эпические традиции.
И «Илиада», и «Одиссея» пронизаны неким внутренним
представлением о параллелизме — не только в характере, но и
в действиях — героя и бога, с которым этот герой связан. Эта
тема особенно ярко проявляется в случае с Ахиллом и
Аполлоном в «Илиаде». Например, и герой, и бог обуреваемы
«гневом», minis (Илиада I 1 / I 75), который несет algea «страдания»
(I 2 / I 96), оборачивающиеся «уничтожением, мором», loigos (I
341 / I 97) для ахейцев8. Более того, герой и бог даже
внешне оказываются похожими: их обоих традиционно
изображали с длинными волосами, подобно не прошедшим посвящение
юношам (коигог). Это внешнее сходство и дало Вальтеру Бур-
керту основания для того, чтобы назвать Ахилла «двойником»
(Doppelganger) Аполлона [Burkert 1975: 19; ср. Nagy 1979а: 142-
143]. Показательно, что с аналогичной картиной мы
сталкиваемся в древнеиндийской «Махабхарате», где каждому из пяти
героев, известных как Пандавы, также находятся
параллельные божества (Дхарма, Вайю, Индра и близнецы Ашвины), о
чем подробно писал Ж. Дюмезиль [Dumézil 1968: 33-257].
В греческом эпосе также постоянен мотив взаимного
противостояния бога и параллельного ему героя. В то же время
такому антагонизму на уровне мифа сопутствует своеобразный
симбиоз на уровне культа [Burkert 1975: 19; Nagy 1979а, глава
7]. В качестве примера можно сослаться на случай с
Аполлоном и Пирром/Неоптолемом, сыном Ахилла: герой гибнет от
руки божества, причем в его собственном святилище (Пиндар.
Более подробно см. в [Nagy 1979а, глава 5].
30 ЧАСТЬ Ι. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Пэан 6, 117-120) — том самом месте, где, по преданию, Нео-
птолем/Пирр был похоронен и где он почитался как основной
культовый герой Дельф (см., например, Пиндар. Немейские оды
7, 44-47)9. Этот и многие иные случаи реализации темы
противостояния бог — герой отвечают индоевропейской модели,
выявленной Ж. Дюмезилем, сопоставившим сюжетные схемы
сказаний о древнеисландском герое Старкаде, индийском Ши-
шупале и греческом Геракле. В своем разборе мифа о Геракле
сам Дюмезиль убедительно продемонстрировал, что
индоевропейская модель противостояния героя и бога присутствует и в
греческой мифологии. Я хотел бы распространить этот вывод
и на повествовательную традицию древнегреческого эпоса, для
которой данный мотив являлся центральным, что в
особенности можно подтвердить на примере «Илиады» и «Одиссеи»10.
На самом деле сжатое изложение истории Геракла в
«Илиаде» 19, 95-133 служит ярчайшим свидетельством реализации
все той же индоевропейской модели, которую Дюмезиль
восстанавливал, исходя из прозаических пересказов того же сюжета,
например у Диодора Сицилийского (4, 8, 39)11.
.Можно утверждать, что темы, связанные с основными
гомеровскими героями, близки темам, сопутствующим божествам,
и сомнения Дюмезиля в применимости реконструированной им
модели к греческому эпосу могут быть наконец развеяны.
Более того, поскольку греческий материал убеждает в
присутствии подобного параллелизма бога и героя и на уровне культа,
представление Дюмезиля о том, что структура эпоса
определяется структурой мифа, следует углубить еще на одну ступень:
от эпоса к мифу и ритуалу.
Все эти три уровня можно с удивительной отчетливостью
проследить в гомеровском гимне «К Гераклу» (гимн 15),
представляющем собой короткую стилизованную молитву в честь
героя Геракла, которого призывают как сына Зевса (строки 1
и 9) и просят даровать удачу и богатство (с. 9). В этой молитве
См. подробнее [Nagy 1979а, глава 7].
Сошлюсь на анализ противостояния Ахилла и Аполлона в том же
разделе моей книги [Nagy 1979а, глава 7]; об антагонизме Одиссея и
Посейдона см. [Hansen 1977]. Вполне естественно, что столь сложный персонаж,
как Одиссей, имеет несколько божественных антагонистов. О скрытом
противостоянии Одиссея и Афины см. [Clay 1984].
11 См. [Davidson 1980].
Глава 1. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 31
Геракл именуется «лучшим», ârisios, из epikhtonioi, «живущих
на земле» Фив (с. 1-2), и каждое из упомянутых слов несет
в себе особую героическую тему. Что касается epikhtonioi, то
данное слово подразумевает нечто большее, чем просто
«живущие на земле люди»; оно присутствует в культовых
обозначениях героев (ср., например, Гесиод. Труды и дни 123)12. В свою
очередь, ârisios, «лучший» служит знаком верховенства героя
в рамках связанной с ним эпической традиции.
Доказательством тому может служить употребление формулы «лучший из
ахейцев», arisios Akhaiôn, в гомеровских поэмах: в «Илиаде» и
«Одиссее» этот эпитет оказывается наиболее подходящим для
центральных персонажей, т.е. Ахилла и Одиссея,
соответственно [Nagy 1979а, глава 2].
В этом гомеровом гимне есть и другие следы эпического
повествования, например в тех стихах, где описываются сами
подвиги Геракла:
πλαζόμενος πομπτ)σιν υπ' Εύρυσθηος ανακτος
πολλά μεν αυτός ερεζεν ατάσθαλα, πολλά δ' άνέτλη.
Он скитался, исполняя веления царя Эврисфея, и многие
отчаянные (atasthala) дела совершил, и многое претерпел.
Гимн к Гераклу 15, 5-6
Сравним эти строки с началом «Одиссеи»:
"Ανδρα μου εννεπε, Μούσα, πολύτροποι/, ος μάλα πολλά
πλάηχθη, επεϊ Τροίης ιερόν πτολίεθρον επερσε.
πολλών δ' ανθρώπων ϊδεν αστεα και νόον εηνω,
πολλά δ' 6 Υ εν πόντω πάθεν ίλ7ε<*...
Спой мне, Муза, о многообразном (polu-tropos)13 человеке, кото-
12 См. [Nagy 1979а: 153-154], а также [Vernant 1985: 101, 104, 106].
Греч, πολύτροπος, один из главных эпитетов Одиссея, несет в себе
целый ряд возможных коннотаций и потому в разных переводах и
исследованиях трактуется по-разному: как «многохитростный», «многопретер-
певший» и т.п. Вся проблема состоит в понимании и выборе
семантики для -τρόπος, исходно означающего некий «поворот». Не вдаваясь
в проблему таких интерпретаций, а стремясь подчеркнуть заложенную в
эпитете семантику множественности, Г. Надь по-английски передает его
буквально «a man of many turns», что-то вроде «человек многих
поворотов». В переводе мы предпочли чуть отойти от такого буквализма (тогда
Одиссей становился все же слишком «оборотистым»), надеясь, что в
«многообразности» читатель уловит исходную этимологическую семантику все
того же «поворота». — Прим. перев.
32 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
рый много скитался после того, как разрушил священную
крепость Трои. Многих людей и города он видел и узнал их образ
мыслей и многие беды он претерпел на море.
В гимне «К Гераклу» анафорический повтор πολλά...πολλά
«многое... многое» (6 строка), связанный с πλαζόμενος
«скитался» (5 строка), параллелен схожей анафоре πολύτροποι/...
πολλά.../πολλών... /πολλά «многообразный... много/многих... /
много» в «Одиссее» I 1, 3-4, также контекстуально связанной с
πλά^χθη «скитался» (I 2). Продолжив такие сопоставления,
заметим, что описание Геракла в гимне как «много
претерпевшего», πολλά... άνέτ λη, параллельно характеристике
Одиссея в поэме, где говорится, что он «претерпел многие беды»,
πολλά...πάθεν άλ^εα. Наконец, свершения Геракла в гимне
(15, 6) именуются «отчаянными», άτάσθαλα, — и именно этот
эпитет, ατάσθοίλος, применяется в «Илиаде» к Ахиллу в
минуту его самых мрачных и кровавых деяний (ср., например,
Илиада XXII 418)14.
Подобный разбор стилистики гомеровского гимна «К
Гераклу» можно было бы продолжить, но главное уже стало
понятным: целью этого текста является не просто мольба,
обращенная к герою как к культовой фигуре, но и прославление его
эпических свойств — тех самых свойств, которые, как
кажется, распределены между Ахиллом и Одиссеем в едином целом
эпического повествования «Илиады» и «Одиссеи»15.
Действительно, выглядит все так, как если бы основные
характеристики Ахилла и Одиссея возникли в результате некоего
расщепления единого героического образа Геракла. Разбор Дю-
мезилем фигуры Геракла во втором томе его «Мифа и эпопеи»
[Dumézil 1971] показывает, что на самом деле Геракл гораздо
ближе к индоевропейской героической модели, чем Ахилл или
Одиссей. К этому разбору можно добавить еще один аспект,
подсказанный построениями все того же Дюмезиля, на сей раз
Более подробно о тематической значимости эпитета ατάσθαλος для
образа Ахилла см. [Nagy 1979а: 163 ел.]
Тот факт, что Геракл выглядит на фоне основных героев
сохранившегося греческого эпоса фигурой наиболее общей, не имеющей каких-либо
специфических характеристик, дает возможность предполагать, что образ
Геракла тематически мог подходить и для иных, помимо эпоса,
поэтических жанров. См. [Burkert 1979а: 94].
Глава 1. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 33
содержащимися в первом томе его труда [Dumézil 1968: 117-
132]. Герои, подобные пятерым Пандавам из «Махабхараты»,
не просто параллельны каким-либо богам в отдельных чертах
своего характера или деяниях; они сыновья этих самых богов16.
То же и с Гераклом: отцом лучшего из героев, каковым он
назван в гимне (15, 1-2), является величайший из богов.
Большинство же гомеровских героев, напротив, отделено от своих
божественных прародителей несколькими поколениями —
точно так же, как на несколько стадий они отстоят от
индоевропейской модели прагероя.
Этот факт находит поразительное подтверждение на чисто
формальном уровне словесного выражения. Здесь прежде всего
важно определение ημίθεοι «полубоги», которое, как
подсказывает его употребление, например, у Гесиода (fr. 204, 100 MW)
и иных авторов, подразумевает не просто некий приближенный
к богам статус, но именно то, что бог является одним из их
родителей (ср. в упомянутом фрагменте Гесиода соответствие
ημίθεοι в 100-й строке «детям, порождению богов», τέκνα
θεώ и j в 101-й — см. [West 1978: 191]). Гесиод обозначает
именно этим словом hêmî-theoi поколение героев, сражавшихся под
Троей и у Фив (Труды и дни 160). Но у Гомера то же поколение
последовательно именуется просто heroes (ήρωες) «герои», а не
hëmî-iheoi «полубоги». Единственным исключением является
строка «Илиады» (XII 23), где hëm'i-theoi все же используется
по отношению к сражавшимся под Троей ахейцам.
Показательно, однако, что в данном контексте определение дано от лица
слушателей гомеровских поэм, которые века спустя взирают
на последствия Троянской войны (эта точка зрения особенно
явственна в строках XII 26-32)17. В итоге можно утверждать,
что в отличие от иных традиционных поэтических форм
гомеровский эпос, как правило, не именует своих героев hëmi-iheoi
«полубогами», прибегая вместо этого к слову heroes. Выглядит
все так, как будто индоевропейская героическая модель для
Гомера оказывается непригодной, в то время как для других по-
В каждом случае отцом является бог, а сыном — герой. В случае
Пандавов пары таковы: Дхарма/Юдхиштхира, Вайю/Бхима, Индра/Ар-
джуна, близнецы Ашвины/Накула и Сахадева.
Подробнее об этом месте «Илиады» см. [Nagy 1979а: 159-161; ср.
Vernant 1985: 101, 104, 106].
34 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
этических традиций (в частности, той, что воплощена в поэмах
Гесиода) она вполне сохраняет свою значимость.
Для того чтобы продемонстрировать этот принцип в
действии, вернемся к уже упомянутому фрагменту Гесиода (fr. 204
MW). Внутри него, начиная с 95-й строки, мы находим
чрезвычайно сжатое изложение начала Троянской войны: рассказ
о том, как en's, «вражда», порожденная судом Париса,
заставила богов разделиться на прогреческую и протроянскую
«партии» (с. 95-96)18, как воля Зевса предопределила гибель героев
в битве за Трою (96-123). Счастливым образом мы
обнаруживаем схожее описание в одном из фрагментов т.н. «эпического
цикла», а именно в зачине эпической поэмы «Киприи» (fr. 1
Allen). Здесь мы вновь сталкиваемся с упоминанием о éris,
«вражде», на сей раз обозначающей Троянскую войну как
таковую (fr. 1, 5), и с утверждением, что причиной гибели героев
под Троей была воля Зевса (fr. 1, 6-7 Allen)19. Сами по себе
совпадения показательны. Но существенным отличием
является то, что герои Троянской войны названы в киклической
поэме просто heröes (fr. 1, 7 Allen), а у Гесиода они именуются
hëmî-theoi, «полубогами» (fr. 204, 100 MW). И опять эпический
контекст оказывается в сравнении с иными поэтическими
формами гораздо более конкретным и специфичным — в нем не
так просто использовать расплывчатую индоевропейскую
модель, противоречащую генеалогиям вполне конкретных героев,
специфичных именно для эпоса.
В то же время общие темы, объединяющие фрагмент
Гесиода с киклической поэмой, в основе своей являются подчеркнуто
индоевропейскими. Даже при том, что «Киприи» избегают
называть своих персонажей hëmî-theoi, «полубогами», героев
поэмы сближает с их далекими индийскими родичами,
сыновьями богов Пандавами, одна важнейшая тема. Воплотившаяся в
Троянской войне éris, «вражда», пробуждена Зевсом для того,
чтобы избавить Землю от бремени тяготящего ее поколения
героев («Киприи», fr. 1, 1-6 Allen). Точно так же в «Махабха-
рате» битва, в которую вступают Пандавы, позволяет богам
уменьшить множество героев, заполонивших Землю, и от
тяжести которых она изнемогает [ср. Dumézil 1968: 168-169]. Тем
18 См. подробнее [Nagy 1979а: 219-221].
О теме «воли Зевса» в «Илиаде» см. там же, с. 82.
Глава Ι. ГОМЕР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ 35_
самым оказывается, что в основе величайших эпических
повествований древних индийцев и греков лежит по сути одна и та
же тема; это ли не лучшее доказательство того, что эпическая
традиция сказаний о Троянской войне восходит к
индоевропейскому прототипу [см. Vian 1970: 55]?
В сжатом упоминании «Илиады» о причинах Троянской
войны содержится еще одна тема, близкая предыдущей и не
менее существенная для установления индоевропейских истоков
древнегреческого эпоса. Тема эта гораздо подробнее
разработана в «Киприях»: мы помним, что в этой поэме сама война
называется ém, «враждою» (fr. 1, 5 Allen), тем же словом, которым
обозначен суд Париса у Гесиода (fr. 204, 96 MW). Порожденная
решением прекрасного пастуха, éris принимает форму «ссоры»,
neîkos («Киприи» в изложении Прокла, fr. 102, 15 Allen), да и
в «Илиаде» эта история обозначается либо как éris (III 100),
либо как neîkos (XXII 116). Для меня эти слова значимы не
только тематически, поскольку ими обозначены движущие
мотивы эпического сюжета; они несут в себе некую программную
установку, выходящую за пределы собственно эпоса. Она
проявляется, например, в том, что этими самыми словами, éris и
neîkos, греческая хвалебная поэзия определяет
противоположный себе жанровый полюс — поэзию хулы [Nagy 1979а: гл. 11-
15]. Более того, и в эпосе глагол neikéô в значении «поносить»
используется в качестве антонима к ainéô, «превозносить»
(например, Илиада X 249-250)20.
Данная оппозиция укладывается в более широкую модель
взаимодействия дополняющих друг друга полюсов хвалы и
хулы, присутствующую — прежде всего именно в поэзии — у
различных индоевропейских народов, скажем у италийцев,
кельтов и индийцев21. Марсель Детьенн проследил
функционирование этой модели на греческом материале [Détienne 1973], а я, в
свою очередь, подробно разобрал словесные формы выражения
хвалы и хулы, характерные для греческой поэзии [Nagy 1979а:
гл. 11-15]. Но сейчас я хотел бы подчеркнуть куда более
существенный аспект: упоминание о суде Париса в «Илиаде»
способно доказать, что греческий эпос описывает свое собственное
20 См. об этом [Nagy 1979а: 34-35, 240].
См. [Dumézil 1943] с привлечением более современного материала
в [Dumézil 1969].
36 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
становление в терминах хвалы и хулы. Согласно «Илиаде»,
результатом суда Париса стало поношение богинь Геры и
Афины и превознесение Афродиты:
ος ι/είκεσσε θεάς οτε ol μέσσαυΧον Ικοντο,
την 8' ηνησ' η ol πόρε μαχλοσύνην ΌίΧεηεινην.
[Парис] оскорбил [глагол neikéô] богинь [Геру и Афину], когда
те пришли к его порогу, и воздал хвалу [глагол ainéô] той, что
дала ему губительную прелесть.
Илиада XXIV 29-30
Тем самым внутренним стимулом к развертыванию первого
греческого эпического повествования, сюжета о Троянской войне,
становится принцип взаимного уравновешивания хвалы и хулы,
свойственный индоевропейскому сообществу в целом.
Для Жоржа Дюмезиля именно эта тема, суд Париса,
стала наиболее очевидным греческим примером проявления
индоевропейской социальной структуры, в основе которой, по его
мнению, лежит идея «трех функций». По Дюмезилю,
индоевропейские языки свидетельствуют о характерном для
идеологической организации индоевропейского общества делении на три
уровня: 1) власть и сакральный авторитет; 2) воинская сила; 3)
плодородие, конкретными формами которого становятся
земледелие и скотоводство [см. Dumézil 1958, Дюмезиль 1986]. Эта
функциональная модель и находит свое отражение в теме суда
Париса. Пастуху Парису предлагают дары, каждый из которых
соответствует одной из функций: 1) Гера предлагает ему
верховную власть, 2) Афина — могущество непобедимого воина,
и, наконец, 3) Афродита — любовный союз с прекраснейшей
женщиной на земле — Еленой22.
В итоге суд Париса, ставший своего рода исходной точкой
сюжетного развития повествований, составивших для нас
гомеровский эпос, сам по себе является эпической темой, имеющей
индоевропейскую предысторию. Таким образом, в более
широкой перспективе Гомер может служить авторитетным
источником мифов, зародившихся до возникновения греческого языка
и продолживших в нем свое существование.
См. [Dumézil 1968: 580-586]; дальнейшие существенные соображения
касательно темы суда Париса см. также в [Dumézil 1985: 15-30].
Глава 2
ФОРМУЛА И МЕТР:
ГОМЕР И ПОЭТИКА
УСТНОГО ЭПОСА
Одним из следствий открытий, совершенных Милмэном
Пэрри1 и Альбертом Лордом [Лорд 1994] касательно природы
«устной поэзии», стал вопрос о том, какое следует дать
определение формулы. Некоей естественной точкой отсчета может
послужить определение самого Пэрри: формула — это
«группа слов, постоянно используемая в одной и той же
метрической позиции для выражения определенной смысловой идеи»
[Раггу 1971 (1930): 272].
Нет смысла вдаваться в подробное описание оценок этого
определения разными учеными; вместо этого я предложил бы
рассмотреть некие общие вопросы, возникающие при анализе
определения как такового. Самым важным из них и
заслуживающим подробного разбора является вопрос о том, к чему это
определение приложимо. Проще говоря, Пэрри основывал его
исключительно на корпусе гомеровских поэм, на «Илиаде» и
«Одиссее». Вспомним, что определение формулы у самого
Пэрри предварено следующими словами: «Формулу в гомеровском
эпосе можно определить как...» [Раггу 1971 (1930): 272].
Правда состоит в том, что на самом деле исследованию
устной поэзии вплоть до настоящего времени суждено было
развиваться в заданном направлении и чуть ли не в заданной
последовательности не столько потому, что на протяжении
веков гомеровской поэзии уделялось особое внимание, но еще и
См. [Ренту 1928 а, Ь]. Работы Пэрри были собраны и изданы его
сыном Адамом в [Раггу 1971]. В дальнейшем я буду ссылаться на это
издание, указывая в скобках дату первоначальной публикации (прежде
всего это касается работ Раггу 1928 а, Ь; 1930).
38 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
потому, что именно гомеровская поэзия послужила
исключительным источником первых открытий самого Милмэна Пэр-
ри. Шесть лет спустя после публикации по-французски двух
своих основополагающих статей, уже начав полевые
исследования южнославянской устной поэзии, Пэрри все равно исходил
из критериев, выработанных при изучении гомеровских поэм.
Альберт Лорд, цитируя некоторые заметки из полевого
дневника Пэрри (продиктованные в Дубровнике между 1 декабря
1934-го и 2 февраля 1935 года), дает нам удивительную
возможность проникнуть в ход мыслей своего учителя на этом
этапе его исследований: «...по какой-то причине фиксирован-
ность словесного выражения, характерная для греческих
героических песен, совершенно отсутствует в южнославянской
традиции» [Lord 1968: 33]. Впереди оставалось еще много полевой
работы, результатом которой станет абсолютно
противоположное убеждение, к которому придут Пэрри и Лорд: на самом
деле постоянство словесного выражения пронизывает всю
устную поэзию южных славян [см. Лорд 1994: 61].
Таким образом, опыт полевых исследований в конце
концов изменил начальное впечатление, основанное на
гомеровском материале. Но вот что хотелось бы подчеркнуть:
гомеровская поэзия послужила причиной неверного представления
не о себе самой, но о поэзии южнославянской.
Действительно, почему один-единственный древний текст, корпус
гомеровских поэм, может сказать нам больше о природе устной поэзии,
чем тысячи песен, исполняемых певцами — носителями живой
южнославянской традиции? Ответ прост: о Гомере в начале
двадцатого века знали во много раз больше. Филологическое
изучение становления гомеровского текста исчислялось к
тому времени столетиями. Невероятные усилия, потраченные на
восстановление истоков «Илиады» и «Одиссеи», вдохновляли
убежденность ученых в том, что они на пути к самой сути.
Можно называть этот вдохновенный поиск «гомеровским вопросом»
или как-то иначе, главное — в идее: через истоки к сути.
Однако развитие другой области науки, а именно
языкознания, может преподать исследователям устной поэзии важный
урок: отнюдь не всегда обращение к истокам обязательно
приводит нас к постижению сути. В девятнадцатом веке в
изучении языка главенствовал генетический подход, пренебрегавший
языковой структурой. Историческое языкознание подчинило
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
39
себе все остальные точки зрения — это превосходно
показано в обзоре X. Педерсена «Открытие языка» [Pedersen 1931].
Но исторический подход никак не может быть единственным.
Например, восстановив связи латинского языка с праиндоевро-
пейским, мы тем не менее не будем знать латыни — даже при
том, что, по мнению выдающегося лингвиста (который,
кстати, не занимался индоевропейским языкознанием), систему
индоевропейских реконструкций, возводящих латынь или любой
другой язык к их общему прототипу, можно с полной
уверенностью назвать «более близкой к идеалу, чем приемы любой
другой науки, занятой человеческими установлениями» [Sapir 1929:
207]. Да, конечно, реконструируемый праязык можно вполне
обоснованно назвать «потрясающим изделием, куда более
ценным, чем все, что может откопать археолог» [Haas 1969: 34].
Но все же реконструкция не может ответить на все вопросы.
Она должна быть дополнена подробным описанием структуры
того или иного языка в том виде, в котором он существует в
той или иной точке времени и пространства. С момента
появления определяющей работы Фердинанда де Соссюра такой
взгляд на язык принято называть «синхронным», в противовес
«диахронной» перспективе, рассматривающей структуру
языка в ее развитии во времени2. Всем теперь очевидно, что для
разрешения большинства лингвистических проблем
необходимы обе эти точки зрения3.
Идеи синхронии и диахронии вполне применимы и к
изучению устной поэзии. В своей книге я собираюсь подчеркнуть
пользу такого применения. Но прежде всего хотел бы
кратко сопоставить историю лингвистики с историей изучения
устной поэзии. Полевое исследование южнославянского эпоса —
бесспорный пример синхронного анализа; но оно было начато
значительно позже филологического изучения генезиса
гомеровских поэм — а последнее, безусловно, представляет собой
случай анализа диахронного. Таким образом, в принципе
развитие лингвистики и развитие теории устной поэзии шли
параллельными путями. Это можно проследить даже в частно-
Книга Соссюра вышла в 1916 году; см. ее новое издание [Saussure
1972], русский перевод— [Соссюр 1977]. Наиболее внятное обсуждение
сути этих понятий и основную библиографию по этому вопросу см. в [Ducrot,
Todorov 1972: 137-144].
3 См. [Watkins 1973b, 1978b].
40 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
стях: так, я полагаю, что именно исторический подход стоял
за убежденностью Пэрри в начале его экспедиционной
работы в том, что в южнославянской поэзии нет того постоянства
словесного выражения, которое обнаруживается в «Илиаде» и
«Одиссее». Бесспорно, не следует забывать о том, что в
своем изучении гомеровских поэм Пэрри исповедовал сугубо
синхронный подход: он рассматривал формулы как некие
составляющие реальной системы традиционной поэзии. Я говорю
просто о том, что его первые впечатления от славянской поэзии
были следствием диахронных установок его предшественников-
гомероведов. Стоило возобладать его собственному
синхронистическому подходу, и сущность устной поэзии южных славян
предстала совсем в ином свете.
Синхронный подход Пэрри был чрезвычайно полезен при
анализе гомеровской поэзии — но еще более целесообразность
этого инструмента проявилась при исследовании устной
поэзии южных славян. В случае «Илиады» и «Одиссеи» Пэрри
занимался филологическим разбором конкретного текста
ограниченного объема, в котором можно было обнаружить лишь
останки устной традиции, традиции, которая умерла уже
задолго до времен того же Платона. Кроме тех данных, которые
можно извлечь из самих сохранившихся текстов, мы
располагаем таким малым количеством сведений о зарождении греческой
устной поэзии, что каждое из них оказывается просто на вес
золота. Напротив, в Югославии возможности Пэрри были
практически безграничны: он мог услышать столько певцов,
носителей живой устной традиции, сколько был в состоянии записать,
и слушать их столько раз, на сколько ему хватило бы времени
и сил. Именно это синхронное полевое исследование Пэрри и
Лорда засвидетельствовало для нас важнейшее свойство
устной поэзии, о котором невозможно было бы узнать из одних
гомеровских поэм. Пэрри обнаружил, что каждое отдельное
исполнение живых певцов, записанное им, представляло собой
самостоятельное произведение. Вот как подытожил это
Альберт Лорд: «Певец, исполнитель, слагатель, поэт — это один
человек, рассматриваемый с различных точек зрения, но в одно
и то же время. Пение, исполнение и сложение эпоса — это
разные аспекты единого события» [Лорд 1994: 25]4.
Здесь и далее цитаты из «Сказителя» А. Лорда даны в переводе
Ю. Клейнера и Г. Левинтона. — Прим. перев.
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
41
Эта характеристика устной поэзии, выясненная во время
полевых исследований в Югославии, оказалась жизненно важной
для понятия формулы. Гомеровский материал убедил Пэрри в
том, что формула представляет собой традиционное сочетание
слов, регулярно присутствующее в одном и том же ритмическом
оформлении, то есть в одних и тех же позициях внутри размера.
Но теперь живое свидетельство южнославянской традиции
показало, что устная поэзия требует от певца сочинения в момент
исполнения и исполнения в момент сочинения. Такая ситуация
заставляет поэта/певца всегда иметь наготове фразу,
способную заполнить любое место внутри стиха, задающего четкие
рамки для словесного выражения. Более того, один стих
должен сменять другой очень быстро. По словам Лорда, «задача,
стоящая перед сказителем, заключается в том, чтобы быстро
складывать стих за стихом. Не успевает он произнести
последний слог одного стиха, как ему уже нужен следующий. Ему
некогда раздумывать, и, чтобы выйти из положения, певец
вырабатывает схемы построения последовательностей из
нескольких стихов; нам они известны под названием "параллелизмов"
устного стиля» [Лорд 1994: 69].
Конечно, все мы можем интуитивно согласиться с
наблюдениями Пэрри и Лорда о влиянии исполнения на процесс
творчества. Но специалист по греческой словесности, воспитанный
на классическом восприятии «Илиады» и «Одиссеи», может
усомниться: как может случиться, что система устной
поэзии, функционирующая на первый взгляд почти автоматически,
приводит к созданию произведений, столь цельных, столь
продуманных эстетически и даже психологически. Прочитав
труды других специалистов, продолживших разыскания Пэрри, он
может еще более укрепиться в своих сомнениях. Вот, например,
что говорит о гомеровской формуле Деннис Пэйдж, определяя
то, что он называет «законом экономии» по Пэрри: «В целом
тогда, когда нужно выразить определенный смысл в
определенном месте строки, из всего неисчерпаемого богатства словаря
выбирается всего лишь одна формула — раз и навсегда» [Page
1959: 224]. Затем Пэйдж дает весьма изящную иллюстрацию
этого принципа гомеровской «бережливости», анализируя все
гомеровские словесные описания моря: «Для одного этого
понятия, "море", и для его выражения исключительно в форме
42 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
"имя + эпитет" он [поэт] ищет в своей памяти готовые
формулы, отвечающие необходимым требованиям,
предусмотренным практически на каждый случай. И к этому времени
степень разработки традиционного словаря была столь высока, и
он был столь искусно разграничен, что для каждого
конкретного случая никогда, или почти никогда, не находилось более
одной-единственной формулы. У поэта не было свободы в
поиске определений; он должен был использовать то сочетание
слов, которое традиция предлагала для данной части стиха;
а прилагательное, стоящее внутри этого традиционного
сочетания, могло подходить для данного контекста, а могло и не
подходить» [Page: 225-226]. Утверждения о том, что «главным
определяющим принципом в выборе слов является метрическая
целесообразность», не могли не раздражать множество
эллинистов, ценящих превыше всего художественное мастерство,
которым отмечены «Илиада» и «Одиссея».
Однако причиной большинства гневных отповедей была
чересчур прямолинейная трактовка теорий Пэрри-Лорда.
Предполагать, что «Гомеру» было запрещено делать то или
другое — даже при том, что таково было его стремление как
художника, — означает вовсе не понимать обоих исследователей;
достаточно внимательно перечесть хотя бы третью главу
(«Формула») «Сказителя» Лорда5. Вот что на самом деле говорит
Пэрри: в языке Гомера «нет фраз, обладающих одной и той же
метрической структурой и выражающих одну и ту же идею,
которые могли бы заменять одна другую» [Раггу 1971 (1930):
276, курсив мой]. Более того, это утверждение находится в
контексте рассуждений Пэрри о постоянных эпитетах,
которые носят скорее различительный, чем родовой характер: так
πολντλας δΐος «многострадальный божественный»
применяется только к Одиссею, ποδάρκης δίος «быстроногий
божественный» только к Ахиллу, a μέ^ας κορυθαίολος «великий шлемо-
блещущий» только к Гектору и так далее6. Проследим разницу
5 См. [Лорд 1994: 42-83].
См. [Раггу 1930: 276-278]. О разграничении различительных и
родовых эпитетов см. [Рагту 1928а: 64]. И различительные, и родовые эпитеты
вместе принадлежат к эпитетам постоянным в противовес
индивидуальным эпитетам, о которых см. [Раггу 1928а: 153-165]. См. обзор последней
литературы вопроса в [М. Edwards 1986: 188-201].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
43
между родовыми и различительными эпитетами. Что
касается первого разряда, то входящие в него прилагательные могут
быть отнесены к любому герою — β определенной метрической
ситуации. В случае когда родовой и различительный эпитеты
метрически равнозначны, в зависимости от требований
разрабатываемой в этот момент темы, к тому или иному герою может
быть применен любой из них [ср. Раггу 1928а: 149]. А если
добавить к этому регулярный для Гомера процесс мены родовых
и различительных эпитетов и случаи варьирования собственно
различительных эпитетов (их также отмечал уже сам Пэрри —
[Раггу 1928а: 177-180]), все более очевидным становится то, что
«экономия выражения», о которой говорил ученый [Раггу 1930:
279], на самом деле отнюдь не является безусловным
принципом организации текста.
В действительности можно сказать, что по отношению к
традиционалистской поэзии принцип экономии играет роль не
причины, а следствия. С диахронической точки зрения мы
можем представить себе механизм превращения различительного
эпитета в родовой. Предположим, что традиционная тема,
связанная с определенным героем, несущим определенный эпитет,
начинает раз за разом реализовываться по отношению к целому
ряду иных героев. В результате в схожих эпических
ситуациях привычный эпитет начинает сопутствовать и этим героям.
Если тема достаточно широка и значительна, она может
одновременно распространиться на целый класс героических
персонажей — например, на все поколение, связываемое традицией с
Троянской войной. В итоге один и тот же исходный эпитет
распространяется на множество героев, сделанных, так сказать,
по единому эпическому шаблону.
Что касается эпитетов, все еще носящих различительный
характер, то в диахронической перспективе они закрепляют
традиционные темы, ключевым для которых является
соответствующее существительное. Различительный эпитет — это
песенная тема в миниатюре, в ней проявляются мысленные
ассоциации, связанные в традиции с сущностью того или иного
персонажа, предмета или понятия. Сошлюсь на пример, который
по праву уже стал общим местом: на протяжении всей
«Илиады» Одиссей именуется πολύτλας «многострадальным»
потому, что он уже выступает в качестве героя эпических песен о
приключениях, случившихся с ним после падения Трои. Когда
44 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
я говорю «после», то имею в виду исключительно
повествовательную последовательность; «Илиада» как раз
свидетельствует о том, что за фигурой Одиссея уже стоит традиция
«Одиссеи» — разумеется, не в том окончательном виде, который
донес до нас ее сохранившийся текст. Короче говоря,
диахронический подход убеждает в том, что использование гомеровских
эпитетов в частности и формул в целом исходно управляется
скорее традиционной темой, чем сопутствующим им метром7.
Конечно, о метре и его связи с формулой в синхронии и
диахронии можно говорить еще очень долго. Но в данный момент
для меня важно подчеркнуть то простое обстоятельство, что
гомеровский принцип экономии не всеобъемлющ, а значит,
готовые слова не возникают исключительно по мановению метра.
Эти готовые слова определяются стоящими за ними
повествовательными темами, и та степень экономии, которую мы можем
наблюдать, является результатом долгой обработки этих тем
в заданных метрических рамках. Свидетельство гомеровских
текстов может быть дополнено в данной связи материалом поэм
Гесиода. Фундаментальный труд Дж. Эдвардса [Edwards 1971]
доказывает, что поэзия Гесиода формульна не в меньшей
степени, чем произведения Гомера, и что в ней опять-таки можно
проследить последовательную реализацию принципа экономии
наряду с отдельными случаями, когда этот принцип не
действует. Весьма показательно, что сферы, на которые действие
этого закона не распространяется, у Гомера и Гесиода
достаточно часто разнятся [Edwards 1971: 55-73, глава 5:
«Принцип экономии»]. При диахроническом взгляде кажется
желательным усмотреть здесь некую хронологическую
обоснованность: от принципа экономии отказываются, дабы иметь
возможность подыскать для старой или новой темы подходящее —
соответственно, более архаическое или современное выражение.
Варьирование может объясняться и местными особенностями:
ведь поэзия Гомера и Гесиода в своей истории проходила через
множество разнообразных традиций различных регионов
Греции. Как говорит Эней Ахиллу в момент, когда два героя
превозносят сами себя, угрожая друг другу:
Я позволю себе сослаться на чрезвычайно изящный разбор
конкретных примеров в работе [Shannon 1975], где, в частности, анализируются
гомеровские эпитеты для деревянного копья. Схожий подход был
использован ранее в важном исследовании [Whallon 1961].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
45
ται/roîoi, επέωι/ δε πολνς νομός ει/θα και ει/θα.
Много эпических сказаний существует и там, и сям.
Илиада XX 249
Свой перевод этой фразы я постараюсь обосновать в другом
месте. Пока я утверждаю лишь одно: регулярное соблюдение
принципа экономии и его периодическое несоблюдение могут
быть проявлением действия традиционных тем. В итоге,
принимая во внимание все случаи несоблюдения этого принципа
и следуя предложенному Романом Якобсоном полезному
разграничению между тенденцией и константой [Jakobson 1952],
отныне вместо «закона экономии/бережливости» я буду
говорить о «тенденции к экономии».
Более приемлемый взгляд с точки зрения синхронии на
проблему экономии может быть выработан на основании
практического изучения южнославянской поэзии Пэрри и Лордом. Их
результаты показывают, что и там существует тенденция к
экономии, подобная той, которая наблюдается в гомеровском
корпусе — но прежде всего в рамках сочинений одного и того оюе
певца. Вот как говорит об этом Лорд: «В самом деле я
полагаю, что экономность, которую мы обнаруживаем у каждого
сказителя в отдельности, а не в целых областях и традициях,
является важным аргументом в пользу единства гомеровских
поэм. Экономность Гомера находит соответствие в практике
конкретного югославского певца, а не в собрании песен,
записанных от разных сказителей» [Лорд 1994: 68]. Это наблюдение
вполне можно расширить: синхронный материал
южнославянской традиции доказывает единство сочинения и исполнения, и,
значит, мы можем предположить, что и в сочинении «Илиады»
и «Одиссеи» исполнение играло существенную роль.
Гомеровская поэзия предназначена для исполнения, как бы нам ни
было трудно представить возможные обстоятельства реального
воспроизведения эпоса такой длины8. Иначе не существовало
бы таких особенностей гомеровского текста, как безусловная
тяга к экономии выражения. Отказав метру в праве
считаться исходной причиной постоянства в использовании формул,
мы можем теперь попробовать взглянуть на развитие
формульной системы в диахронической перспективе.
Фундаментальные наблюдения А. Лорда по поводу формулы, изложенные им
См. обсуждение подобных возможностей ниже на с. 61 и далее.
46 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
в «Сказителе» [Лорд 1994: 42-83] прежде всего на основании
синхронного исследования, тем не менее содержат весьма
ценные соображения диахронического плана. Вот его собственные
слова, звучащие как манифест: «Ибо то исполнение, что мы
слышим сегодня, подобно окружающей нас повседневной речи,
через долгий ряд исполнений восходит прямо к началу,
которое — как ни трудно даже помыслить о нем — мы должны
стремиться проследить, потому что иначе мы неизбежно
упустим какие-либо неотъемлемые компоненты значения
традиционной формулы» [Лорд 1994: 44].
Лорд рассматривает генезис формулы не только в рамках
широкой традиции, но и внутри творчества отдельного певца:
«Еще не начав петь, будущий сказитель ощущает, что ритм и
смысл нераздельны, у него складывается представление о
формуле, хотя оно и не выражается эксплицитно. Он обращает
внимание на последовательность тактов, на то, что
повторяющиеся смысловые единицы бывают разной длины; их-то и
можно назвать формулами. Он овладевает основными схемами
метра, словораздела, мелодии, и традиция начинает
воспроизводить себя в нем» [Там же: 44-45]. Вполне применимой в этом
случае оказывается расхожая максима: онтогенез повторяет
филогенез9. Но как тогда традиция порождает формулы,
употребляемые тем или иным певцом? Ключевыми, как кажется,
становятся те традиционные темы, которые наследует певец:
«Само существование повествовательной песни знакомо ему с
рождения, техникой ее владеют старшие, а он получает ее в
наследство. И тем не менее он самым буквальным образом вновь
переживает опыт минувших поколений вплоть до самых
отдаленных времен» [Там же: 44]. Соответственно, соглашаясь со
словами Лорда о том, что «певец не скован формулой» [Там
же: 69], я добавил бы только, что на самом деле певец
скован рамками определенной традиционной темы. Я утверждаю,
что именно тема определяет все уровни постоянства устной
поэзии — включая как формульный и метрический уровни.
Для того чтобы продемонстрировать степень
приверженности певца традиционной теме, необходимо исследовать не
только форму, но и содержание эпоса. Особенно показательно здесь
В данной связи мне кажется весьма уместным упомянуть о
«генеративной» теории, предложенной в [Nagler 1967, 1974].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
47
изучение свидетельства гомеровских поэм и последующей
традиции — доказательством тому служит внимательный анализ
Марселем Детьенном отношения греческого общества к фигуре
αοιδός «певца» и отношения самого певца к своему искусству
[Détienne 1973]. Греческий певец, как самостоятельный
исполнитель, традиционно ставит себе в заслугу то, что он хранитель
истины о героических деяниях, свидетелем которых он не был.
Но он все равно знает истину — просто потому, что он слышит
от Муз о том, что видели сами богини. Как заявляет певец в
начале «Каталога кораблей»,
νμεΐς yàp Θεαί εστε πάρεστέ τε Ιστέ τε πάντα,
ημείς δε κλέος οίον ακονομεν ουδέ τι Ιδμεν.
Вы [Музы] богини: вы там [где все происходит], и вы все знаете,
А мы [певцы] ничего не знаем; мы только слышим kîéos.
Илиада II 485-486
За утверждением о полном неведении поэта кроется весьма
искусное самовосхваление. Согласно этимологии, исходно
греческое абстрактное существительное κλέος (kléos) означало
«слушание». Впоследствии оно приобрело значение «слава» потому,
что этот смысл как нельзя лучше подходил для определения
певцом — в его традиционном качестве самостоятельного
исполнителя — сути того, что он пел о деяниях богов и героев.
Значение «слава» тем самым знаменует просто последующее
развитие. Оно подчеркивает общественное признание плодов
художественного творчества. Деяния богов и людей
прославляются посредством поэта, и это собственное посредство поэт
именует kléos «слушание»10. Поскольку исполнение
начинается с того, что поэт просит Музу «рассказать ему» об избранном
предмете, по сути, все сочинение предстает перед слушателями
как услышанное поэтом от самих хранителей всего бытия. С
ним говорят Музы, и из их уст льются ipsissima verba,
истинные слова героического века.
Тем самым поэт наследует уверенность в том, что ему
доступно не только содержание, но и подлинная форма рассказа,
в которой его свидетели, Музы, повествуют о реально случив-
10 См. подробнее [Nagy 1974а: 244-252]. О родственных славянских
словах славаъ слово (означающем также «эпос, сказание») см. [Nagy 1979а:
16, § 2, прим. 3].
48 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
шимся с далекими поколениями прошлого. Я хотел бы
подчеркнуть, что эта убежденность связана с наследственной
ролью поэта как конкретного исполнителя, ибо «только в
исполнении формула может существовать, и лишь через исполнение
ее можно точно определить» [Лорд 1994: 45]. Формулы — это
те самые слова, которыми говорят Музы; в них закреплено то,
чему Музы были свидетелем. На самом деле те рамки, в
которые эти формулы были заключены, а именно дактилический
гекзаметр, и назывались έπος (epos), причем назывались так
самим сочинителем/исполнителем — это подробно показал,
например, Германн Коллер [Koller 1972]. А поскольку
дактилический гекзаметр, как и другие стихотворные формы, отмечен
внутренним стремлением к синтаксической законченности и
самодостаточности11, épos — это действительно эпическое слово,
эпическое высказывание, произнесенное самими Музами или
кем-либо, чьи слова они повторяют. Не случайно «цитаты» в
гомеровском тексте регулярно вводятся словом épos. Можно
даже проследить тонкие грамматические нюансы в
формульном употреблении того épos, которое Музы передают от чьего-
либо лица и того épos, которым они повествуют сами12. Такое
эпическое посредничество основано на наследуемом
убежденном стремлении к точности и даже реалистичности, и за ним
можно угадать непрерывную цепь поколений слушателей,
воспитанных на том, что от исполнителя требовалось крайнее
постоянство — ив содержании, и в форме.
Разумеется, за разными аудиториями в разных местах
могут стоять разные варианты эпической традиции. Когда на
поле брани сходятся величественные фигуры Ахилла и Энея
(Илиада XX), каждый из героев пытается устрашить другого,
ссылаясь на эпические сказания, в которых запечатлены их
подвиги. Эней говорит Ахиллу, чтобы тот не пытался испугать его
упоминанием об épea (XX 200-201), — будем считать это
обозначением «эпоса» о нем, Ахилле. Представление о силе épea
присутствует и в последующих словах Ахилла:
ϊδμεν 6' άΧΧήΧων ηενεήν, ϊδμεν δέ τοκήας
πρόκΧντ άκονοντες επεα θνητών ανθρώπων-
11 См. [Nagy 1974a: 143-145].
12 См. [Kelly 1974].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
49
όψει 6' о ντ ар πω συ εμους ϊδες ουτ αρ' ε*γώ σους.
Мы знаем рожденье друг друга, и мы знаем родителей друг
Друга,
Слыша славные épea от смертных людей,
Но при этом ты не видел моих родителей, а я твоих.
Илиада XX 203-205
Эней предупреждает Ахилла: об одних и тех же героях есть
разные épea:
στρεπτή δε η\ωσσ εστί β рот ων, πολεες δ' ει/ι μύθοι
παντοίοι, επέων δε πολύς νομός ένθα και ένθα.
οπποιόν κ εϊπτ)σθα έπος, τοιόν κ επακούαις.
Язык людей изворотлив, и много там всяческих слов;
И существует множество épea там и сям.
Тот épos, что скажешь ты, и станет тем épos, что ты в ответ
услышишь о себе.
Илиада XX 248-250
Самой поразительной чертой этого эпизода с Ахиллом и Энеем
в двадцатой песни «Илиады» является то, что при посредстве
Ахилла, насмехающегося над своим противником, говоря, что
ему никогда не сменить Приама на троянском престоле (XX
178-183), в гомеровский текст частично проникает традиция
сказаний об Энее. Однако из уст самого бога Посейдона
затем звучит противоположное пророчество (XX 302-308): роду
Энея суждено царствовать в Трое, что станет
удовлетворением mênis, «гнева» героя на царя Приама (XIII 460-461) —
тема, параллельная теме mênis Ахилла на царя Агамемнона,
заявленной уже в первой строке первой песни «Илиады» и
продолженной далее.
Одним из наиболее явных следов присутствия в
двадцатой песни «Илиады» побочных вариантов эпической традиции
является удивительное спасение Энея богом Посейдоном, одним
из самых последовательных сторонников греков среди
олимпийцев. Труды Феликса Якоби [Jacoby 1961 (1933) 1: 39-48, 51-53]
и других исследователей13 дают нам возможность понять
причины использования такой традиции. Во времена, когда
«Илиада» приобретала свою законченную форму, в которой она
известна нам, скорее всего, могло существовать специфическое
См. прежде всего [Donini 1967].
50 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
культовое сближение бога Посейдона с династией Энеадов,
возводивших свой род к Энею. В двадцатой песни «Илиады» (302-
308) и в Гомеровом «Гимне к Афродите» (196-197) значимость
правившей в эту эпоху династии ретроспективно перенесена во
времена героического века с помощью определенных эпических
приемов, одним из которых и является обращенное к Энею
пророчество, гласящее, что власть в Троаде будет принадлежать
его потомкам, а не роду Приама14. Однако в предшествующих
исследованиях не было обращено достаточное внимание на тот
факт, что традиционные предания об Энеадах сами по себе
могли сохраняться в форме эпоса15. Иначе говоря, слова,
которыми обмениваются в «Илиаде» Ахилл и Эней, указывают на то,
что существовала местная эпическая традиция об Энее, чьей
целью было прославить Энеадов — дать им kléos16.
Я столь подробно рассмотрел этот частный эпизод
«Илиады», чтобы показать, как местные варианты могли давать
устные эпические традиции, закреплявшие для различных мест
различные темы. В свою очередь, разные темы могли
приводить к соответствующим расхождениям и в формульном
словоупотреблении. Иными словами, постоянство устной поэзии
не надо путать с единообразием.
Отсутствие единообразия определяется как фактором
времени, так и пространства. Хотя устная поэзия и считает самое
себя носителем изначальных, подлинных слов героической
эпохи, слов «неизменных и нетленных», по выражению Денниса
Пэйджа [Page 1959: 225], ее Dicht erspräche, «поэтический язык»,
с ходом времени неизбежно претерпевает изменения, точно так
же, как это происходит с обыденным языком. Но
поскольку эпос сознательно противится изменениям, дабы сохранить
ipsissima verba, языковые новации в Dichtersprache отнюдь не
являются немедленным отражением изменений в повседневном
языке, служащим базой для языка поэтического. Как
следствие, язык корпуса устной поэзии, подобного «Илиаде» или
«Одиссее», нельзя и невозможно соотнести с определенным
временем и местом: короче говоря, он не поддается синхронному
Это вовсе не означает, что «Гимн к Афродите», не говоря уж о
двадцатой песни «Илиады», был непосредственно создан для круга Энеадов;
подробный разбор с библиографией см. в [Nagy 1979а: 268-269].
15 См. подробнее [Nagy 1979а: 268-269].
Там же.
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
51
анализу17. Такая временная многоуровневость не может не
отразиться и на содержании. А ведь содержание также не может
не меняться с течением времени — при том, что происходящие
от поколения к поколению реальные сдвиги в подаче одной и
той же традиционной темы могут оказаться трудно
различимыми для каждого отдельного акта сочинения/исполнения.
Изменения возможны, даже если и исполнитель, и его аудитория
требуют строгой приверженности традиционной теме.
Допустив возможность определенной эволюции и
вариативности в рамках традиционной темы, я должен еще раз
подчеркнуть ее поразительную стабильность и архаичность. Я уже
говорил о том, что в устной поэзии источником постоянства
словесного выражения является прежде всего традиционная тема,
а не метр. И потому я хотел бы предложить рабочее
определение формулы, из которого исключена идея метра как
определяющего фактора: формула — это постоянное выражение,
обусловленное традиционными темами устной поэзии. Более
того, я готов утверждать, что в диахронии метр
порождается формулой, а не наоборот.
В одной из своих прежних работ [Nagy 1974а], применив
методы сравнительной лингвистической реконструкции18 к
исследованию постоянной фразеологии древнегреческой и
древнеиндийской поэзии, я постарался показать, что оказывается
возможным обнаружить в этих традициях родственные фразы,
обладающие одной и той же ритмической структурой. Наличие
таких параллелей подкрепляет теорию, согласно которой
носители этих двух индоевропейских языков сохранили и две
родственные друг другу поэтические системы19. Наиболее ранние
свидетельства древнеиндийской поэзии показывают, что
фразеология остается неизменной там, где метр еще не устоялся
[Nagy 1974а: 191-228]. Это явление дополняет открытие,
сделанное в свое время Антуаном Мейе, согласно которому в ран-
неиндийской поэзии метрические тенденции не ведут к
созданию новых выражений [Meillet 1920]. Скорее, там
существует очевидная тяга к предпочтению фраз с одной ритмической
17 См. [Householder, Nagy 1972: 738-745].
1 Наиболее изящной и законченной методологической моделью здесь
может служить [Meillet 1925].
19 Ср. [Meillet 1923; Jakobson 1952; Watkins 1963, 1982а; West 1973а,
1973b; Nagy 1974a, 1979b; Vine 1977, 1978].
52 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
структурой фразам с иной ритмической организацией. Эти
предсказуемые ритмические образцы возникают из
излюбленных традиционных выражений с излюбленным ритмом. В конце
концов, упорядочивание этих образцов, наряду с
упорядочиванием слоговой структуры принятых выражений, и закладывает
основу того, что мы именуем метром. Разумеется, в синхронии
метр способен выстраивать свою собственную систему, включая
в нее вновь возникающую фразеологию; но истоки его лежат в
традиционном способе выражения. Не вдаваясь в подробности,
можно сказать, что сравнение с древнеиндийской поэзией
позволяет распространить подобное соотношение метра и
принятого словесного выражения и на раннегреческую поэзию [Nagy
1974а: 140-149] с той лишь разницей, что здесь вместо более
общего представления о «традиционном способе выражения»
можно употреблять термин «формула».
Впрочем, следует отдавать себе отчет в том, что
сравнительный подход позволяет нам расширить свои представления о
соотношении метра и словесного выражения лишь до известного
предела. Что касается метра, то речь здесь может идти лишь
о тех его общих характеристиках, которые родственные друг
другу греческая и индийская традиции сохраняют каэюдая в
отдельности: а именно о равносложии, регулярном чередовании
долгих и кратких слогов и т.п.20 Данные фразеологии21 также
ограничены (по крайней мере, на данный момент) тем общим
материалом, которые дают нам два родственных друг другу
языка. В идеале обоснованность сравнения следует проверять
минимум на трех родственных системах [Meillet 1925: 38]. Не
забывая об этих ограничениях, все же важно подчеркнуть саму
полезность сочетания синхронного и диахронного подходов при
анализе древнегреческой и древнеиндийской поэтической
фразеологии. Синхронное исследование родственных друг другу
греческих и индийских выражений, независимо существующих
в каждой из двух поэтических традиций, доказывает, что
близки друг другу и закономерности их функционирования; более
того, на греческой почве эти закономерности носят
формульный характер22. Соответственно, сравнительный метод заста-
20 гл
См. литературу вопроса в предыдущем примечании.
21 См. [Nagy 1974а].
22 Ср. [Nagy 1974а: 103-117].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
53
вляет нас предположить, что схожие закономерности в
древнеиндийской поэзии, прежде всего в «Ригведе», можно также
считать формулами23.
Если на самом деле «Ригведа» — формульная поэзия,
можем ли мы на данном основании называть ее устной? Чтобы
ответить на этот вопрос, мы должны будем-позднее заняться
проблемой, специфичной именно для «Ригведы» и состоящей в
том, что здесь мы имеем дело с фиксированным текстом,
сохранявшимся на протяжении огромного промежутка времени в
бесписьменной передаче2*. Как мы увидим в дальнейшем, та же
проблема встает и применительно к поэзии Гомера и Гесиода25.
В моих рассуждениях метр был представлен как нечто, что
содержит или обрамляет формулу. Такой подход, впрочем,
подчеркнуто синхронистичен. Что до диахронического
взгляда, то я уже высказал суждение о том, что формула порождает
метр. Проиллюстрировать это гораздо легче на
древнеиндийском, чем на древнегреческом материале, главным образом
потому, что индийские размеры настолько проще по своей
структуре, что их происхождение проследить много легче. Например,
короткие стихи «Ригведы» регулярно совпадают по длине с
законченным словосочетанием или предложением26, в то время
как греческая гекзаметрическая строка настолько пространнее,
что может постоянно включать внутрь себя и два
словосочетания, а то и два предложения и даже более. В этой связи уместно
вспомнить теорию Германна Френкеля [Fränkel I960], согласно
которой внутренним свойством греческого гекзаметра является
деление строки на четыре «колона», причем подобное деление
определяется (1) местами начала и конца стиха,
совпадающими со словоразделом, и (2) местами внутри стиха, где следует
ожидать словораздела (т.е. цезурами и диэрезами).
Словораздел, однако, — чисто поверхностное явление. На
самом же деле длина колона последовательно совпадает с син-
Бще одним примером сравнительного подхода к исследованию
формул является работа [Sacks 1974], где рассматриваются родственные
формулы в схожих метрических позициях в древнеанглийской и древнеис-
ландской поэзии.
См. ниже с. 65 и далее.
См. там же.
26 См. [Renou 1952: 334].
54 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
таксическим высказыванием или его законченной частью27. По
сути дела, еще до того, как была сформулирована теория
колонов, уже сам Пэрри указал нужное направление для
исследований, обратив внимание на то, что принятые места
словораздела в греческом гекзаметре отмечают начало или конец
формул [Parry 1928b].
Тем самым мы вернулись к вопросу, которым задались с
самого начала: как можно примирить жесткое соотношение
формулы и метра с живым поэтическим творчеством,
происходящим здесь и сейчас, когда поэт одновременно исполняет и
слагает песнь? Результаты исследования Дж. Гейнсворта
«Изменчивость гомеровской формулы» [Hainsworth 1968],
посвященного взаимодействию гомеровской формулы и метра,
заставляют нас несколько усомниться в степени этой жесткости.
Ключевое слово в его заглавии, изменчивость, становится неким
противовесом исходному определению Пэрри,
сосредоточенному исключительно на тождественном способе выражения в
тождественной метрической позиции28. Но все же изменчивость
не надо путать с беспорядочностью. Показанная Гейнсвортом
гибкость гомеровской фразеологии как раз противостоит
беспорядку, так как, согласно ему, процессы преобразования
одной формулы в другую путем изменения метрической позиции,
окончания, определения и т.п. сами носят в высшей степени
упорядоченный характер. Изменчивость также регулярна. Иными
словами, отступления от принятого порядка тоже упорядочены.
Жесткость продолжает присутствовать, и все ее составляющие
невозможно уловить при чисто синхронном взгляде.
Поэтому и нужен диахронический подход. Работы Руссо
и других ученых подсказывают, что именно он может дать
наилучшее представление о взаимодействии формулы и метра.
По мнению Руссо, система колонов греческого гекзаметра
соотносится с формульной системой, а та, в свою очередь, с
Ср. [Russo 1966]. Схожим образом решается проблема определения
формулы в работе [Ingalls 1972], автор которой, по сути, исходит из идеи
Руссо о тесной взаимосвязи метрических единств (колонов) и
синтаксических блоков (формул). См. также рассмотрение литературы вопроса
в [М. Edwards 1986: 188-201].
28 См. [Ingalls 1972: 111-114].
См. [Russo 1966]. Из более ранних работ того же направления я мог
бы сослаться на [O'Neill 1942; Porter 1951].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
55
системой синтаксиса. Рассматривая развитие греческой
поэтической традиции, исследователь пытается нащупать то, что
вполне очевидно обнаруживается в эволюции поэзии
индийской. (Вновь, как и в лингвистике, трудно переоценить пользу
сравнительного подхода для диахронической перспективы.) В
«Ригведе» связь метрических (стихи) и синтаксических
(высказывание или его часть) единиц проще и основательнее, чем в
греческом эпосе. Более того, как показывает синхроническое
рассмотрение, метрические закономерности подчинены
закономерностям организации фразы. Отсюда можно заключить, что
в диахронии метрические единицы произошли из единиц
синтаксических [Nagy 1974а: 140-149]. Затем, конечно, метр
может стать самостоятельной и жизнеспособной структурой, и его
дальнейшее развитие вполне может более не зависеть от
традиционного способа выражения. Мне уже приходилось говорить30,
что примером такого самостоятельного развития может быть
греческий гекзаметр; он строится из доставшихся ему в
наследство малых метров и потому может регулярно содержать две и
более формулы внутри одной строки.
Даже если в греческом гекзаметре формулы по длине не
соответствуют стихотворным строкам, они совпадают с
метрическими элементами стиха, а именно с колонами. Это
соответствие может быть доказано синхронным анализом [ср. Ingalls
1972], но важно не переоценить при этом значение колонов,
принизив значение формул. И вновь при диахроническом подходе
становится ясно, что структура формул порождает структуру
колонов, а не наоборот [Nagy 1974а: 49-82]. Следовательно,
при синхронном взгляде нам следует ожидать, что
формульная организация текста остается постоянной даже тогда, когда
организация колонов нарушается*1. Если в диахронии
структура А возникает из структуры В, модели А не вытекают из
моделей В автоматически. Определенные модели А будут
выглядеть на фоне В нарушенными, поскольку в
продолжающемся процессе внутренней самоорганизации система В уже вышла
за пределы А.
В качестве иллюстрации я приведу два стиха из «Одиссеи»,
30 См. [Nagy 1974а: 49-102; Nagy 1979b, с некоторыми уточнениями].
31 [Nagy 1974а: 49-82].
56 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
обозначая места принятого деления строки на колоны по
системе, предложенной Френкелем [Fränkel I960]:
"Ανδρα μοι εννεπε, Μούσα (Β2), πολύτροποι/ (C2), ος μάλα
πολλά
Расскажи мне, Муза, о человеке многообразном, который очень
много...
Одиссея I 1
η συ Υ 'Οδυσσεύς εσσι (Β2) πολύτροπος (C2), ον τε μοι αίεϊ
Ты, должно быть, Одиссей, человек многообразный, о котором
мне всегда...
Одиссея X 33
Если подходить к этим строкам исключительно с точки зрения
фразеологии, то словосочетания
πολύτροποι/ (винительный) + ος (именительный)
πολύτροπος (именительный) + ον (винительный)
представляют собой формульные комбинации, покрывающие
собой метрический шов, обозначенный выше как С2. С другой
стороны, с точки зрения метра эти же самые сочетания
оказываются разорванными границей С2, и метрический разрыв
подкрепляется к тому же синтаксическим разрывом.
Поскольку в этом случае метр не в ладах с фразеологией, возникает
сомнение, имеем ли мы дело со «случайным сочетанием или
с формулой» [Ingalls 1972: 120]. Эти и другие примеры дают
основания предполагать, что в гомеровских поэмах существуют
определенные повторы, происходящие «по случайности» [Там
же: 121]. В ответ на это я решился бы утверждать, что
любые словесные «преодоления» границ цезуры, диэрезы или
даже границ стихотворной строки носят традиционный, а не
инновационный характер. За традиционной фразеологией
гомеровского текста могут стоять ритмические модели, гораздо
более древние и не подчинявшиеся правилам позднейшего
гекзаметра32. Тогда в только что рассмотренном примере
прилагательное πολύτροπος (poMtropos) «многообразный» могло,
например, заместить родовой эпитет διίφιλος (di'ifilos) «милый Зевсу»,
вполне подходивший по метрической структуре для
промежутка и-ии между В2 и С233.
См. [там же: 82-98].
См. [Раггу 1971 (1928а): 156-157].
Глава 2. ФОРМУЛА И МЕТР
57
Формульная природа прилагательного πολύτροπος (роШго-
pos) «многообразный» очевидно проявляется в гомеровом
«Гимне к Гермесу», где в строках 13 и 439 он помещен точно в тот
же метрический промежуток и-ии между границами В2 и С2.
В обоих этих стихах он адресован Гермесу, богу-посреднику
между всеми противоположными полюсами Вселенной.
Посредник между светом и тьмой, жизнью и смертью, сном и
пробуждением, небом и землей, Гермес потому и «многообразен»,
πολύτροπος (poMiropos). Использование этой традиционной
характеристики Гермеса по отношению к Одиссею уже в первой
строке первой песни «Одиссеи» своей всеобъемлющей
значимостью придает особое звучание последующим
многочисленным эпическим (само)характеристикам Одиссея. Если первое
использование данного эпитета проникнуто этим общим
смыслом, то следующее (и единственное) его повторение в
«Одиссее» X 330 отмечено не менее значимым конкретным
наполнением. Здесь крайне важен непосредственный контекст,
который обнаруживается, если соотнести уже упомянутый стих
с последующим:
η συ η 'Οδυσσεύς έσσι (Β2) πολύτροπος (С2), οι/ τέ μοι α'ιεϊ
φάσκεν ελεύσεσθαί χρνσόρραπις Άρ-γείρόι/της,
Ты, должно быть, Одиссей poîutropos (=«многообразный»), о
будущем приходе которого мне много говорил Аргеифонт34 с
золотым жезлом.
Одиссея X 330-331
Речь идет о Гермесе, а говорит о нем прекрасная колдунья
Кирка, от чар которой Одиссей спасается с помощью Гермеса.
Получается так, что она узнает героя благодаря тому, что ей
ведомо от Гермеса и о Гермесе. Мы опять видим, как традиционная
тема дает толчок к возникновению формулы, а та, в свою
очередь, порождает метр или — чтобы быть совсем конкретным —
присутствие границы колона С2 в «Одиссее» I 1 и X 330.
Такая мелкая метрическая деталь не более чем тривиальное
следствие всеобщей организации эпического текста. Как сказал о
Аргеифонт — эпитет Гермеса; в русских переводах чаще всего
передается как «Аргоубийца» (намек на историю с Ино и сторожившем ее
Аргусе); однако этот миф, по всей видимости, был не известен Гомеру —
соответственно, схолии предлагают множество вариантов от «четко
говорящего» до «убийцы лени». — Прим. перев.
58 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
греческих певцах Джеральд Эле, «их язык и их
повествовательная техника структурированы, и эта структура
скрепляет их произведения. Все те свойства, которые Мэтью Арнольд
приписывал «Гомеру», в большинстве своем лишь производные
этой техники» [Else 1967: 348].
Эту главу я хотел бы закончить общим выводом, еще раз
подчеркивающим связь изучения устной поэзии и
языкознания. В истории лингвистики как науки диахронический подход
предшествовал синхронному. Теперь общепризнано, что в
методологии современного языкознания синхронный анализ языка
должен предшествовать диахронному. Но для разрешения
множества языковых загадок синхронного взгляда недостаточно,
его должен дополнить диахронический подход. Я полагаю, что
исследователи устной поэзии в вопросе о соотношении
формулы и метра должны исповедовать тот же метод. Синхронный
взгляд — бесспорно, первый шаг, но одного его недостаточно.
Вот что писал о традиционной поэзии Альберт Лорд: «Здесь
нельзя оставаться на поверхности. Любой элемент традиционной
поэзии обладает некоей глубиной. Наша задача — проникнуть
в эти глубины, порой скрытые от нас; ведь именно там и
кроется истинное значение. Нам потребуются новые приемы анализа
множества тем и моделей, нам потребуется опыт иных устных
традиций. Без этого слово «устный» останется пустым
ярлыком, а понятие «традиционный» будет лишено смысла. Если
просто соединить их вместе, то будет просто вывеска, под
которой ученые будут по-прежнему упражняться в методах,
выработанных на материале письменной литературы» [Lord 1968: 46].
Глава 3
ГЕСИОД И
ПОЭТИКА
ПАНЭЛЛИНИЗМА
ГЕСИОДОВСКИЙ ВОПРОС
Если встать на точку зрения самих древних греков, то
невозможно рассуждать о Гомере, не говоря одновременно и о
Гесиоде. В пятом веке до н.э. Геродот был вынужден
заметить (2.53.2), что греки систематическими представлениями о
богах — а мы можем уточнить, об окружавшем их мире —
обязаны двум поэтам, Гомеру и Гесиоду. Теперь принято полагать,
на основании сведений, содержащихся в самих их поэмах, что
оба они жили во второй половине восьмого века, примерно за
триста лет до того, как Геродот сочинил свою «Историю», —
правда, по поводу того, кто из них жил раньше, сохраняются
существенные разногласия. Впрочем, для Геродота и для
греков классической эпохи значимость Гомера и Гесиода покоилась
отнюдь не на каких бы то ни было исторических фактах
касательно самих поэтов или времени, в которое они жили. Чем бы
Гомер и Гесиод ни являлись для восьмого века, единственным
засвидетельствованным фактом остается значение их поэм для
веков последующих, покрывающих собой и историческую эпоху.
Геродот и другие авторы убеждают нас в том, что поэмы
Гомера и Гесиода представляют собой изначальный художественный
опыт воплощения системы ценностей, общей для всех греков1.
В этой связи необходимо прежде всего отказаться от
принятого заблуждения: Гомер не является исключительно образ-
Ср. также высказывания Ксенофана (В 10 DK) о Гомере и
Гераклита (В 57 DK) о Гесиоде.
60 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
цом повествовательного, а Гесиод— дидактического эпоса2. В
подчеркнуто повествовательной структуре эпоса, как и в
мифологическом повествовании в целом, всегда содержится система
ценностей, направленная на поддержание и воспитание
соответствующего общества3. В свою очередь, как мы увидим, за
поучениями Гесиода скрывается повествование поэта о самом
себе и своей жизни.
Вопрос в том, почему именно эти два поэта снискали
единодушное признание греков классической эпохи? Подобное
признание тем более удивительно на фоне поразительной
разнородности, характерной для Греции этого периода. Каждый
город или «полис» был государством в себе, с собственными
управленческими, законодательными и религиозными
традициями. Более того, разнообразие, царившее во множестве
греческих городов-государств, сформировалось уже в восьмом веке,
то есть в ту самую эпоху, к которой ученые относят
произведения Гомера и Гесиода. Как же тогда их поэтическое наследие
могло сохранить свое единство на фоне растущей
разрозненности самих греков? Частично на этот вопрос может ответить
археология. В восьмом веке наряду с возникновением
различных городов-государств с различными местными традициями
существовала и противоположная тенденция к взаимодействию
элит этих государств — то, что можно назвать, тенденцией
к панэллинизму4. Формами такого взаимодействия стали
несколько особых социальных явлений, берущих свое начало в
восьмом веке, а именно: начало Олимпийских игр; учреждение
святилища Аполлона и оракула в Дельфах; целенаправленная
колонизация (обозначаемая греческим словом kiisis)\
распространение алфавита5.
К такого рода явлениям можно добавить и поэзию Гомера
и Гесиода, за которой стоит процесс слияния множества
разнообразных местных традиций различных городов-государств
в единую общегреческую традицию, подходящую для
большинства этих государств, но ни одному из них не тождественную6.
О поэзии Гесиода как о варианте традиционного «Зерцала царей»
см. [Martin 1984а], а также [Watkins 1970].
См. выше с. 25.
См. выше с. 26.
5 См. [Snodgrass 1971: 421, 435].
6 См. [Nagy 1979а: 7].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 61_
В частности, Эрвин Роде обращал внимание на то, как
образы олимпийских богов у Гомера и Гесиода выходят за рамки
представлений, ограниченных местными культами отдельных
городов-государств7. Тем самым внутреннее содержание поэм
подкрепляет внешнее суждение о них Геродота: в поэзии Гомера
и Гесиода разнообразные религиозные традиции объединяются
в систему божественных характеристик и функций,
признаваемых всеми греками. (Само слово panéllënes в значении «панэл-
линства» или «всех греков» впервые безусловно зафиксировано
именно в тексте гесиодовских «Трудов и дней» 528).
Если считать поэзию Гомера и Гесиода общегреческим
явлением, истоки которого лежат в восьмом веке до н.э., то весьма
многообещающим выглядит желание связать его еще с одним
феноменом, носившим панэллинский характер, а именно с
алфавитным письмом: в конце концов, время создания греческого
алфавита тоже датируется восьмым веком. Если предположить
эту связь, то поэмы Гомера и Гесиода были освящены самим
фактом того, что они были записаны, то есть оказались
первыми текстами, в неизменной форме распространившимися по
всему греческому миру. Вопрос в том, в каком виде, по
нашему мнению, происходило это распространение? Очевидно,
что в архаической Греции грамотность не была, мягко говоря,
повсеместным явлением, и проникновение гомеровских и
гесиодовских поэм в самые удаленные уголки Эллады с восьмого
по пятый век вряд ли можно объяснить хождением каких-то
рукописей. Проще говоря, трудно представить, что в Греции
восьмого века уже существовала читающая публика, не говоря
уже о том, что ее было достаточно для более или менее
широкого обращения текстов Гомера и Гесиода.
Сами исторические свидетельства убеждают в том, что
главным средством распространения эпических текстов было
устное исполнение, а не чтение — и сей факт делает
бессмысленным рассуждения о наличии или отсутствии в
архаической Греции читающей аудитории. Одной из важнейших форм,
в которые вылилась традиция поэтического исполнения,
стало учреждение общегреческих празднеств, хотя вполне
вероятно, что существовали и другие подходящие для этого
общественные события8. Соревнующиеся на публике певцы имено-
7 См. [Rohde 1898 1: 125-127], а также выше с. 27-28.
8 См. [Nagy 1979а: 8-15].
62 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
вались rhapsöi do г «рапсодами» (так говорит, например, Геродот
в «Истории» 5.67.1) — образ одного из них обессмертил Платон
в своем «Ионе». Там мы узнаем, что рапсод Ион отправился из
родного Эфеса, чтобы соревноваться с другими певцами в
исполнении Гомера на празднике Панафиней в Афинах, и что он
уже успел выиграть подобное соревнование на другом
празднестве в честь Асклепия в Эпидавре (Ион 530ab). В
изложении Платона Сократ утверждает, что мастерство Иона
ограничивается только Гомером и не распространяется на Гесиода и
Архилоха (Ион 531а и 532а), что подразумевает существование
других рапсодов, специализировавшихся и на этих поэтах9. В
дальнейшем Сократ и Ион продолжают обсуждать
разнообразные приемы, используемые рапсодами при исполнении Гомера
и Гесиода (см. прежде всего Ион 531a-d). На самом деле Платон
изображает странствующими певцами и самих Гомера и
Гесиода (Государство 600d). Можно привести еще много подобных
примеров, но суть и так ясна: в распространении гомеровской и
гесиодовской поэзии в эпоху архаики (да и впоследствии)
письменность не играла определяющей роли.
Но даже при том, что тексты Гомера и Гесиода
предназначались для того, чтобы быть услышанными в устном исполнении,
а не прочитанными, можно считать, как настаивают некоторые
исследователи, что письменность являлась решающим
фактором при создании и передаче этих поэм. И здесь вновь стоит
обратиться к результатам изучения устной поэзии Милмэном
Пэрри и Альбертом Лордом [Раггу 1971; Лорд 1994]. Полевые
исследования этих ученых были основаны на живой традиции
южнославянских народов, а сформированная на этой базе
теория впоследствии применена к гомеровской, а затем и к
гесиодовской поэзии10. Ведущие специалисты-классики в свое время
подвергали сомнению открытия Пэрри и Лорда, полагая, что
считать творения Гомера подобными созданиям обычного
южнославянского гусляра означает принизить первого и слишком
превознести второго. Однако что это, как не полное
непонимание самой познавательной ценности полевых исследований,
да и вообще антропологического подхода как такового?!
Понимание механизма функционирования живых традиций, какими
О рецитации рапсодами поэзии Архилоха см. свидетельство Кле-
арха, фр. 92 Wehrli.
См. выше с. 37 и далее.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 63_
бы несовершенными они ни казались классикам, может дать
бесценный материал для их типологического сопоставления с
традициями иных культур, все равно мертвых или живых.
Полевые исследования убеждают в том, что устная
поэзия окончательно творится лишь в момент исполнения, а
взаимодействие поэта и его аудитории способно оказывать
воздействие и на форму, и на содержание как процесса создания,
так и исполнения. Более того, наиболее естественным
истоком многих проявлений формульного стиля оказывается
непосредственно уровень исполнения — фактор, который ныне,
безусловно, окончательно утерян в случае поэзии Гомера и Ге-
сиода. Но в случае живых южнославянских традиций он по-
прежнему действует, и его изучение Пэрри и Лордом
позволило им вывести основные критерии функционирования формул.
Если применить эти критерии к гомеровскому тексту, то
выясняется, что и гомеровские поэмы подчиняются законам устной
поэзии. Так, например, одним из надежных показателей устной
природы того или иного произведения является принцип
экономии, действующий на уровне каждого отдельного исполнения:
каждому месту стиха соответствует скорее один, чем несколько
разных способов выражения одной и той же вещи11.
Оказывается, что этот принцип действует и в гомеровской поэзии; а это
значит, что в создании «Илиады» и «Одиссеи» первостепенную
роль играло исполнение12. Д.П. Эдварде, в свою очередь,
показал, что закон экономии действует и в поэзии Гесиода [Edwards
1971]; более того, в поэмах Гомера и Гесиода
обнаруживаются схожие тенденции к общему сохранению этого принципа при
некоторых отклонениях от него13.
В таком случае если произведения Гомера и Гесиода
представляют собой разновидность устной поэзии, то теоретически
мы можем исключить письменность из списка факторов,
значимых для их создания, равно как мы только что исключили
ее влияние на исполнение этих поэм. На чисто поверхностном
уровне такое отсутствие письменной фиксации вполне
соответствует открытиям Пэрри и Лорда: в южнославянской
традиции устная поэзия и грамотность исключают одна другую. Но
См. выше с. 41 и далее.
См. там же.
См. выше с. 44.
64 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
здесь перед нами встает другая проблема, возникшая в ходе
изучения устной поэзии как таковой. Согласно выводам Пэрри и
Лорда, создание и исполнение являются двумя сторонами
единого процесса устного творчества: творение любого певца не
тождественно даже тому, что он «сам» создал при предыдущем
исполнении. Иными словами, каждое исполнение представляет
собой пересоздание унаследованного поэтом материала.
Соответственно возникает вопрос: как могло случиться, что
на протяжении исторической эпохи поэмы Гомера и Гесиода
оставались неизменными без помощи письма? Один из
возможных ответов может быть таков: неграмотные сочинители
надиктовывали свои произведения. Но мы уже подчеркнули, что
предположительное существование, скажем, в восьмом веке
готовых текстов гомеровских и гесиодовских поэм не может само
по себе объяснить их распространение по городам-государствам.
Как мы показали, масштабность и длительность этого процесса
основывалась на повторяющемся на протяжении многих лет
исполнении этих произведений рапсодами, приуроченном к таким
событиям, как общегреческие празднества. Если дело обстояло
именно так, то письменные варианты поэм могли возникнуть в
раннюю эпоху, только если они были по-настоящему
необходимы певцам, чтобы запомнить то, что им придется исполнить. А
вот об этом никаких исторических свидетельств нет.
И напротив, у нас есть указания на то, что рапсоды
сохраняли в своем исполнении определенные характеристики
поэтического выражения, которые в принципе не могли быть отражены
на письме на ранних стадиях передачи текстов. Уже в
постклассические времена, когда впервые были установлены
правила постановки на письме знаков акцентуации,
александрийские ученые обратили внимание на то, что при рецитации певцы
сохраняли ударные модели, не совпадавшие с текущими
нормами произношения14. Благодаря схожим акцентным
структурам в иных индоевропейских языках мы можем утверждать, что
эти модели, используемые рапсодами, весьма архаичны и,
безусловно, унаследованы от Гомера и Гесиода [Wackernagel 1953:
1103]. Подчеркнем еще раз: поскольку, по всей видимости, не
существовало возможности сохранения этих моделей на
письме со времен архаики, нам остается только согласиться с тем,
14 См. [Wackernagel 1953: 1103].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 65
что рапсоды отнюдь не ограничивались простым
запоминанием своих текстов.
Конечно, рапсоды не были устными сказителями в том
смысле, который вкладывали в свое определение, основанное на
исследованиях южнославянской традиции, Пэрри и Лорд. Ко
времени Платона рапсоды были уже только исполнителями, в
то время как техника исполнения сказителя неотделима от его
творчества, а творчество реализуется в исполнении. Но если не
ограничиваться пределами Югославии и обратиться к другим
культурам, мы обнаружим, что в некоторых устных
поэтических традициях идея исполнения также была отделена от
творчества — такое разграничение проявилось, например, в
противопоставлении в старопровансальской традиции trobador
(трубадура, сочинителя) и joglar (жонглера, исполнителя).
Существовали и устные традиции (например, в Сомали), где
сочинительство могло предшествовать исполнению, но без
использования письменности. Эти и другие примеры обсуждает Рут
Финнеган в своей «Устной поэзии» [Finnegan 1977: 73-87] —
книге, которая оказывается весьма полезной для уточнения
теорий Пэрри-Лорда; правда, в ней иногда устная поэзия как
таковая смешивается с некоторыми формами свободной
импровизации, которыми отмечены определенные жанры
современной западной поэзии.
«Импровизация» — это вообще очень опасное слово, если
применять его к традиционной устной поэзии, включая
произведения Гомера и Гесиода. В традиционной культуре устный
поэт никогда не «изобретает», поскольку задача его —
воссоздать унаследованные ценности того сообщества, для
которого он сочиняет/исполняет. В качестве наиболее яркого из
доступных примеров я сошлюсь на индийские Веды — огромное
собрание священных стихов, обнаруживающих поразительное
постоянство формы и содержания и на протяжении более чем
двух тысячелетий выражающих без сколько-нибудь
различимых изменений идеологию жречества. Следует добавить, что,
несмотря на доступность письма, доныне авторитет Вед
покоится на произнесенном, а не на записанном слове. Более того,
на протяжении всех этих лет Веды передаются как
неизменный, постоянный текст с помощью мнемотехнических приемов,
являющихся составной частью устной традиции [Kiparsky 1976:
99-102]. Если вспомнить об авторитете поэм Гомера и Гесиода
(уже к моменту первых исторических свидетельств их бытова-
66 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
ния в греческом обществе), то есть основания предположить,
что передача и этих произведений рапсодами базировалась на
схожей мнемотехнике — для которой письменность и не
требовалась. В то же время, теоретически, письменные версии поэм
могли возникнуть в любой момент — а в действительности
могли возникать и многократно — в рамках этого длительного
периода рапсодического воспроизведения текста.
В случае поэзии Гомера и Гесиода создание и
распространение поэм не должны обязательно отделяться друг от друга.
Создание не должно было завершиться прежде, чем начался
процесс проникновения текстов в различные города-государства.
Учитывая ту общегреческую значимость, которую приобрели
в конце концов произведения Гомера и Гесиода, их создание и
распространение скорее надо воспринимать как два
взаимодополняющих фактора. По всей видимости, дело обстояло так:
начиная с восьмого века, основные способы создания этих поэм
доводились до совершенства в ходе постоянных соревнований в
их исполнении на общегреческих празднествах и иных
торжествах и наконец достигли своей высшей точки в окончательном
тексте. Бесчисленные исполнения на протяжении более чем
двух веков приводили к тому, что каждое новое воссоздание в
момент нового исполнения все менее и менее отличалось от
другого. Такое постепенное вызревание окончательного и
неизменного текста поэм как нельзя лучше соответствовало
усиливавшемуся у их слушателей ощущению панэллинского единства15.
Памятуя о высказываниях Геродота и других авторов, суть
которых в том, что Гомер и Гесиод выстроили систему
ценностей, общую для всех греков, мы можем пойти дальше и
сказать, что сами по себе «Гомер» и «Гесиод» вместе и воплощают
эту систему — вершинный поэтический отклик на требования,
которые, начиная с восьмого века, несла в себе их аудитория,
аудитория панэллинства. Неизбежным следствием
превращения неких общих созидательных принципов в законченный
текст поэм было то, что устный поэт, созидающий в момент
исполнения и исполняющий в момент созидания, с течением
времени постепенно уступал место простому исполнителю. Но
не следует торопиться с принижением роли рапсода: его
мастерство, бесспорно, было основано на мнемотехнических
приемах, унаследованных непосредственно от устных поэтов. Даже
15 См. подробнее [Nagy 1979а: 5-7].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 67
в сиюминутных деталях, таких, как те же акцентные
структуры, он, как мы видели, придерживался наследия
подлинных сказителей прошлого. В этимологии rhapsöidos
«сшивателя песен» содержится традиционный образ, с которым гордо
отождествляли себя устные поэты иных индоевропейских
традиций [Durante 1976: 177-179]. Потому в противопоставлении
rhapsöidos «рапсода» aoidos «аэду, певцу» — этим словом в
поэмах Гомера и Гесиода обозначается собственно устный поэт16 —
не содержится никакого уничижительного смысла. Было бы
упрощением, причем обманчивым, отделять, как это делали
многие, «творца» аэда от «воспроизводящего» рапсода.
Всегда следует помнить, что и сам устный поэт вовсе не «творит»
в том смысле, который мы сегодня вкладываем в
представление об авторстве: он скорее воссоздает для своих слушателей
унаследованную систему ценностей, на которой зиждится
данное общество. Мы уже подчеркивали, что само эпическое
повествование служит средством такого воссоздания, внутренняя
заданность которого не позволяет отклоняться в сторону
индивидуального творчества, оставляя традиционные сюжеты,
знакомые и ожидаемые аудиторией17. И поскольку аэд является
носителем этой поэтической заданности, он, по сути,
оказывается ближе к рапсоду, чем к тому, что мы теперь
подразумеваем под «поэтом».
Более существенным различием между aoidos и rhapsöidos
служит специфика слушателей, к которым каждый из них
обращается. Рапсод, как мы видели, излагает поэмы Гомера и
Гесиода, адресуясь к широкой эллинской аудитории, к гражданам
различных городов-государств, собравшимся по случаю вроде
какого-либо общегреческого празднества, и то, что он излагает,
не меняется по мере того, как он переходит из города в город.
С другой стороны, типичный аэд — скажем, изображенный в
«Одиссее» (IX 3-11) — обращается исключительно к своему,
местному сообществу. На основании изучения устной
киргизской поэзии Вильгельм Радлов показал, что местное
окружение, безусловно, заставляет устного поэта приспосабливать свое
творчество/исполнение к характеру данной аудитории. Так,
скажем, присутствие богатых и заметных членов сообщества
побуждает киргизского акына включать в свое повествование
См. разбор свидетельств самих поэм в [Nagy 1979а: 5-9].
17 См. там же, с. 265-267.
68 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
традиционные эпизоды, прославляющие соответствующие
семейства18. В свою очередь, особенности местных аудиторий в
Греции восьмого века заставляли поэта включать в свой
репертуар невероятное количество различных версий: ведь каждый
город мог обладать своей традиционной поэзией, зачастую
решительно отличной от традиций других городов. Упоминание
о подобном разнообразии поэтического репертуара мы и
встречаем в «Илиаде» XX 24919. Более того, даже в пределах одного
города традиция могла в корне преображаться вследствие
происходивших изменений в составе его населения или правлении;
особенно подверженным таким переменам кажется жанр «песен
об основании» (ktisis — Nagy 1979а: 140-141, 273).
Устный поэт стоял перед очевидной дилеммой: любая из
частных версий, входивших в его репертуар, подходила для
исполнения только в определенном месте и в определенной
аудитории. Начиная с восьмого века, возникали все новые и новые
связи между городами, а значит, все расширялся и расширялся
горизонт странствующего поэта. Соответственно, нарастали и
различия в аудиториях, с которыми ему приходилось
сталкиваться. Чем большими становились эти различия, тем важнее
было учитывать разницу сообществ. Жители одних земель
могли считать правдой то, что для других было ложью. Правда
и ложь менялись местами по мере того, как поэт переходил из
города в город, и той единой традиции, которую он
воссоздавал для своих слушателей, приходилось каждый раз рядиться
в разные одежды. Вот как это происходит, например, в первом
гомеровском гимне: в своей молитве, обращенной к Дионису,
поэт утверждает, что бог этот не был рожден ни в Дракане,
ни в Икарии, ни на Наксосе, ни на берегах Алфея или даже в
Фивах (стихи 1-5) — те, кто называют одно из этих мест его
родиной «лгут» (pseudomenoi — 6); в дальнейшем певец будет
говорить, что на самом деле Дионис рожден на горе Нисе (6-9,
ср. Гомеровские гимны 26, 5). Где находилась эта гора —
отдельная проблема; но показательно, что разные принятые
версии отбрасываются и объявляются ложными, чтобы обосновать
ту единственную, которая подходит для данной аудитории.
Схожим поэтическим приемом открывается и «Теогония»
Гесиода: строки 22-24 этой поэмы можно понять, только обра-
18 См. [Radioff 1885: XVIII-XIX], а также [Martin 1989: 6-7].
19 См. выше с. 49-50.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 69
тившись сперва к тому, как изображено само поэтическое
творчество у Гомера. В «Одиссее» сам Одиссей выступает в роли
рассказчика, подобно устному певцу приспосабливающего свое
сочинение/исполнение к запросам различной аудитории; и в
этих случаях изобретательный герой прямо уподобляется поэту
(Одиссея XI 368, XVIII 518). На манер поэта он рассказывает
свои «критские выдумки»20 (ср. XVII 514, 518-521). Про одну из
таких баек, поведанных Одиссеем Пенелопе, в конце говорится:
ϊσκε ψενδεα πολλά λέηων ετνμοισιν όμοια.
Он говорил, нагромождал множество лжи [pseudeo] так, чтобы
выглядело это похожим на правду.
Одиссея XIX 203
Ранее Эвмей описывал других странников, которые, подобно
изменившему внешность бродяге Одиссею, будут приходить к
Пенелопе с рассказами об Одиссее, рассчитанными на то,
чтобы пробудить в ней надежду:
άλλ' άλλως, κομιδης κεχρημένοι, οα/δρες αλητοα
ψενδοντ ουδ' εθέλουσιν αληθέα μυθήσασθαι.
Нужды нет! Бродяги, желая прокормиться, лгут [pseudontat\, им
неохота рассказывать правду [alëthéa muthesastat\.
Одиссея XIV 124-125
Под это описание вполне подходит и сам Одиссей: прежде чем
изложить при дворе Алкиноя свой главный рассказ в
«Одиссее», он просит царя позволить ему сперва поесть, ибо его gasier
«желудок» не дает обратиться к горестному повествованию до
того, как будет наполнен едою (VII 215-221). Такая оговорка
вполне типична для певца, желающего прежде убедиться в том,
что он получит достойное вознаграждение за удовольствие,
которое он доставит своим слушателям21.
В этом месте значение «забывать» несет корень
lëth- (lëthanei — VII 221). Ему функционально
противостоит корень тппё- «помнить, держать в уме», который в
архаической поэзии одновременно может означать «обладать
поэтической способностью к запоминанию». Воплощением таких
Имеется в виду расхожая греческая поговорка о «лживых
критянах» — ср. у Каллимаха: «Критяне все-то солгут» (Гимны 1, 8). —
Прим. перев.
21 Ср. [Svenbro 1976: 50-59]. См. также ниже с. 354-355.
70 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
способностей становится Мнемосина, Mnëmosunë — «Память»,
мать Муз (Теогония 54, 135, 915). То, что производные корня
тпё- являются принятым обозначением для поэтической
способности, показал Марсель Детьенн, и, согласно его же
выводам, слово a-lëth-ês, таким образом, посредством двойного
отрицания исходно подразумевает истину, которую несет поэзия
[Détienne 1973]. Странники, о которых в только что
процитированном отрывке говорится, что они не желают говорить правду,
alëihéa muthêsasiai, — это своего рода слепок с образа устного
поэта, который жертвует истиной ради собственного
выживания. Точно так же при дворе Алкиноя Одиссей, подобно поэту,
намекает на то, что поэтическая истина может быть утаена,
открыто виня в этом собственный «желудок», gaster22.
Помня о только что разобранных фрагментах, теперь можно
обратиться к «Теогонии» 22-34, где Гесиод рассказывает о своей
встрече с Музами. Эти богини, будучи дочерьми Мнемосины-
Памяти, не только наделяют поэта «Теогонии» поэтической
способностью к запоминанию, но также предлагают придать
истинность его стихам. Об этом они прямо заявляют:
ποιμένες aypavXot, как ελέηχεα, -γαστέρες οίον,
ϊδμει/ ψεύδεα πολλά λέηειν ετνμοισιν ομοΐα,
ιδμεν δ' ευτ εθέλωμεν άληθεα ^ηρύσασθοα.
Пастухи, живущие в поле, предмет обличений, простые желудки
[gas téres]\
Мы знаем, как сказать много лжи [pseudea], похожей на
правильные вещи,
Но можем также, когда захотим, вещать и истину [aîëthéa gërû-
s as that].
Теогония 26-28
«Истина», которую «не хотят» (oud' ethélousin — Одиссея XIV
124-125) рассказывать, дабы выжить (прокормиться),
странники-прообразы устных поэтов, может быть «охотно» (ethélô-
теп) дарована Музами. Это своего рода манифест
общегреческой поэзии: поэт Гесиод готов отказаться от того, чтобы быть
только «желудком» — иными словами, от того, чтобы
кормиться за счет местной аудитории, привыкшей к своим местным
сказаниям; но все эти местные истории — ложь (pseudea) перед
См. [Svenbro 1976: 54]. О других случаях упоминания «желудка»,
g aster, в связи с поэзией см. [Nagy 1979а: 229-233, 261 § 11, прим. 4].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 71_
лицом той «истины» (alëihéa), которую Музы и несут
исключительно для Гесиода. Общегреческая поэзия Гесиода
проникнута убежденностью, что эта всеобъемлющая традиция способна
достичь того, что не могут принести отдельные местные
сказания. Точно так же и первый гомеровский гимн «К
Дионису» отвергает в качестве ложных не согласующиеся друг с
другом разнообразные местные истории ради единой версии,
которая может быть принята всеми. В гимне эта цель достигается
тем, что богу приписывается самое отдаленное из возможных
традиционных мест рождения (гора Ниса стоит, согласно
гимну, строка 9, «у потоков Египта»). В случае же «Теогонии»
тот же принцип приобретает глобальный характер:
разноречивость множества локальных теогонии, принадлежащих
разным городам-государствам, преодолевается за счет
утверждения единой системы олимпийского пантеона.
Мы уже обратили внимание на то, что Олимп Гомера и
Гесиода является неким общегреческим построением, позволяющим
богам возвыситься и выйти за рамки собственных локальных
характеристик. Исторической реальностью архаической
Греции было то, что любое явление, которое можно отнести к
сфере религиозной практики или идеологии, ограничивалось
пределами той или иной области; обзор имеющихся свидетельств,
почерпнутых из авторов типа Павсания или из эпиграфических
данных, убеждает в том, что каждый отдельный город
обладал ярко выраженными особенностями в отправлении культа.
Тот или иной бог, почитавшийся в одном городе, мог весьма
разительно отличаться от бога, почитавшегося под тем же
именем в другом.
В этих условиях образование единой олимпийской семьи из
главнейших божеств главнейших городов-государств создавало
единство не просто художественное, но и политическое,
сравнимое с возникновением в том же восьмом веке общегреческих
игр, получивших название Олимпийских. Как и всякий
политический процесс, возникновение общегреческих поэм для
каждой из мелких областей означало отдельные победы на фоне
множества уступок. Порой одна заметная черта местной
божественной истории оказывалась приемлемой для слушателей по
всей Греции, но в то же время бесчисленное множество иных
черт, противоречащих традициям других городов, так и
оставалось втуне. Так, скажем, все вполне могли признавать, что
72 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
сначала Кифера, а потом Кипр были первыми местами, в
которых побывала новорожденная Афродита (в тексте «Теогонии»
192-193 специально подчеркивается, что происходило это
именно в таком порядке), но почти ничего из устных преданий этих
областей так и не находит себе места в поэзии Гомера и Гесиода.
В самих поэмах устный поэт предстает способным
исполнять одновременно и эпос, и теогонии — тому свидетельством
описание поэтического репертуара Фемия, к которому
относились
еру ανδρών τε θεών re, τά τε κΧείονσιν αοιδοί
дела богов и людей, которым певец приносит славу [fc/eos].
Одиссея I 338
Таково же общее описание поэта в «Теогонии» 99-101:
ανταρ αοιδός
Μουσάων θεράπων κΧεια προτέρων ανθρώπων
υμνήσει μάκαράς τε θεούς οι "ΟΧυμπον εχουσιν,
Но когда поэт,
служитель [therapön] Муз, поет славу [kléos во множественном
числе] первых людей
и блаженных богов, обладающих Олимпом.
Учитывая различия, существовавшие между отдельными
городами, устный поэт в своем репертуаре должен был лавировать
между множеством разнообразных эпических и теогонических
традиций, которые в конечном счете могли быть отвергнуты и
названы «ложью» создателями первого настоящего эпоса и
первой теогонии, т.е. Гомером и Гесиодом. В панэллинской поэзии
нам могут описать сиюминутное сложение эпоса Фемием
(Одиссея I 326-327) или сочинение Гермесом теогонии для Аполлона
(Гимн к Гермесу 425-433). Но такая панэллинская поэзия,
приписываемая первым поэтам, сама по себе уже не являлась
устной поэзией в строгом смысле слова: ведь ее исполняли
рапсоды. В случае гомеровских поэм сам размер сочинений в
конце концов исключил возможность их исполнения за один раз
[Nagy 1979а: 18-20]. Более того, устная поэзия как таковая, по
крайней мере в той форме, в которой она непосредственно
рождалась, вообще не сохранилась. Появление величественного
здания «единственно верной» панэллинской «Теогонии»
Гесиода из множества «обманчивых» локальных устных теогонии
означало не только утверждение чего-то одного, но
одновременно и уничтожение многого другого.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 73
ГЕСИОД, ПОЭТ «ТЕОГОНИИ»
Слишком просто было бы полагать, что «истина» Муз о
происхождении всех общегреческих богов может быть вручена
самому обыкновенному поэту. На самом деле «Теогония» Ге-
сиода представляет своего создателя первым из поэтов. Само
имя Hësiodos, Гесиод, возникающее в 22-й строке «Теогонии»,
означает нечто вроде «тот, кто издает звук». Корень *iehi,
содержащийся в Hësi-, присутствует и в выражении ossan hieisai
«издавая [красивый/бессмертный/прелестный] звук», которым
описывается голос самих Муз в «Теогонии» 10, 43, 65, 67; в свою
очередь, корень *h2Uod-, дающий второй элемент имени -odos,
наличествует в форме *h2iid- в слове audê«голос, звук»,
обозначающем поэтическую силу, которую Музы даруют поэту в
«Теогонии» 3123. Таким образом, в имени Hësiodos воплощена
поэтическая способность самих Муз, которые даруют ее и поэту24.
Кроме того, родовой эпитет поэта — therapön «служитель
Муз» (Теогония 100) непосредственно отождествляет Гесиода
с этими божествами и подразумевает не только его
ритуальную смерть, но и посмертное почитание его в форме
героического культа [Nagy 1979а: 297]. Поэтическое слово therapön,
обычно переводимое как «служитель», является безусловным
заимствованием из анатолийского: оно зафиксировано в
хеттском варианте tarpan-alli- «ритуальный заместитель,
субститут»25 . Это слово можно сопоставить с родовым эпитетом
воина — «служитель [therapön] Ареса» (например, Илиада II ПО,
VI 67), который отождествляет героя в момент его гибели с
богом войны26. Хотя в гомеровских поэмах весьма мало прямых
указаний на культовое почитание погибших воинов, в них
содержится множество косвенных свидетельств об идеологии герои-
См. [Nagy 1979а: 296-297], где поддерживается этимологическая
версия словаря П. Шантрена [DELG 137-138, 417]. По поводу возможных
объяснений отсутствия следов ларингала *1ΐ2 в таких формах, как Hësiodos,
см. [Peters 1980: 14] и [Vine 1982: 144-145]. Бще одной вероятной
причиной может быть то, что ларингалы (*hi, *Ьг, *Ьз) часто не дают никаких
рефлексов во вторых элементах сложных слов. См. список примеров в
[Beekes 1969: 242-243], а также [Mayrhofer 1986: 125, 129, 140].
Схожий подтекст можно обнаружить и в имени Гомера, Нотпё-
Tos — см. [Nagy 1979а: 297-300].
25 [Van Brock 1959]. См. подробнее ниже с. 173-174.
26 [Nagy 1979а: 292-295]. См. ниже с. 180, прим. 31
74 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
ческих культов. Тем не менее археология дает нам обширный
материал, касающийся реального существования героических
культов, начиная с восьмого века; и есть серьезные основания
полагать, что исторически засвидетельствованные культы
гомеровских героев являются не просто отражением гомеровских
поэм. Скорее, такие культы и гомеровские поэмы представляют
собой две взаимосвязанные стороны единого и более объемного
явления [Snodgrass 1971: 191-193, 398-399]. Похоже, что
точно таким же образом идеологические особенности культового
почитания поэта Гесиода оказываются встроенными в поэзию
самого Гесиода27.
Такое утверждение, бесспорно, выглядело бы совершенно
абсурдным, если бы сам образ Гесиода в его поэмах
последовательно не определялся бы традиционными схемами, лежащими
в основе его поэзии. Мы снова и снова будем убеждаться в
том, что фигура Гесиода в том виде, в котором она предстает
в его поэзии, — это не столько историческая данность,
сколько обобщенный, родовой образ певца. Отсюда не следует, что
фигура эта — чистый вымысел; просто его личность
функционирует в рамках его поэзии по тем же традиционным
законам, по которым устроена вся эта поэзия, и в этом смысле она
не более вымышлена, чем любой другой аспект поэзии
Гесиода28. Скорее, чем «вымысел», может подойти слово «миф» — с
тем условием, что мы будем в принципе понимать
мифотворчество как традиционное выражение идеи истины в ее понимании
определенной социальной группой29.
Разумеется, поэзия Гесиода не рассматривает самое себя в
качестве последовательного преобразования различных поэти-
См. выше с. 26-29, а также [Nagy 1979а: 115 § 28, прим. 4].
28 ст
M не отрицаю понятия «традиционного поэта», выдвинутого,
например, в [Griffith 1983: 58, прим. 82]. Дело в том, что мои рассуждения
не касаются общей проблемы того, как традиция создает поэта (а именно
об этом идет речь в упомянутой работе); меня интересует специфический
вопрос, как образ поэта встраивается в общегреческую традицию устной
поэзии, которая оказывается способной превратить даже исторические
фигуры в обобщенные образы, воплощающие традиционные характеристики
их поэзии. Говоря иначе, поэт, от роду предназначенный быть проводником
традиции, этой традицией может быть поглощен (см. подробное
обсуждение возможных примеров в [Nagy 1985а]).
29 См. выше с. 24-25.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 75^
ческих традиций в сочинение общегреческого масштаба.
Напротив, она считает себя творением одного, первого поэта,
самоотождествление которого с Музами, воспринимаемое
одновременно и как благословение, и как проклятие, делает его
предметом героического культа. Помимо имени поэта и его эпитета
«therapön Муз», наиболее ярким указанием на особый
героический статус Гесиода становится описание его первой встречи с
Музами. Богиням претят местные корни поэта, но они
помогают ему превратить известные ему местные «лживые» сказания
в «истину», приемлемую для всех греков; они дают Гесиоду
skêpiron «посох, скипетр» как символ его превращения из
пастуха в поэта (Теогония 30).
Подобный рассказ типичен для традиционных греческих
мифов, обосновывающих героический культ поэта. Еще одну
историю о встрече поэта с Музами дает нам традиция
жизнеописания Архилоха, исторически связанная с реальным
героическим культом Архилоха, существовавшим на его родном
острове Паросе со времен архаики [Nagy 1979а: 303-308]. Вот
ее изложение, согласно так называемой «надписи Мнесиепа»
(фр. Т4 Tarditi). Лунной ночью Архилох гонит корову в город
из сельской области Пароса, именуемой Leimônes (Лугами), и
встречает, казалось бы, деревенских женщин, которых начинает
высмеивать30. Изменившие свой облик Музы игриво отвечают
на его колкости и просят его продать корову. Архилох
соглашается — в случае, если цена будет подходящей — и немедленно
впадает в глубокий сон. Пробудившись, он обнаруживает, что
деревенские женщины исчезли вместе с коровой; вместо нее он
находит лиру, которую и забирает домой в качестве символа
своего превращения из пастуха в поэта.
Между Архилохом и Гесиодом оказывается еще много
общего. Ключевым для нас кажется то, что эпитет «therapön Муз»
применяется к Архи лоху именно в контексте истории,
описывающей обстоятельства смерти поэта (Дельфийский оракул 4
PW). Далее, если Архилоху был посвящен героический культ
на его родном Паросе, так же обстояло дело с Гесиодом в Аскре
— до тех пор, пока его родина не была уничтожена соседним
Ср. описание ритуального обругивания местных женщин
деревенскими хорами у Геродота 5.83.
76 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
городом Феспии и беженцы из Аскры не перенесли
предполагаемые останки поэта в новое святилище в Орхомене, городе-
противнике Феспий (Аристотель. Орхоменская полития фр. 565
Rose; Плутарх, согласно комментарию Прокла). В соответствии
с другой традицией, противоречащей той, что связана с Орхоме-
ном (Плутарх. Пир семи мудрецов 162с), Гесиод был похоронен
и почитался как герой в святилище Зевса Немейского в Энео-
не в Локриде Озольской {Спор Гомера и Гесиода, с. 234 Allen,
ср. Фукидид 3.96)31. По мифу, служащему основанием для этой
традиции, тело убитого поэта было сперва выброшено в море
и только на третий день было вынесено на берег дельфинами
{Спор Гомера и Гесиода, с. 234: 229-236 Allen) — эта
повествовательная схема весьма часто использовалась в культовых
историях о герое, в честь которого учреждались празднества, как
это было, например, с Меликертом и Истмийскими играми32.
Короче говоря, предания о Гесиоде соответствуют модели,
характерной для местных героических культов [Breiich 1958:
322]. Тем более показательным становится тогда параллелизм
фигур Гесиода и Архилоха. Местный культ Архилоха на
Паросе является, как мы видели, реальным источником мифа о
его превращении из пастуха в поэта. В свою очередь, рассказ
о точно таком же превращении Гесиода встроен внутрь самой
«Теогонии». Поскольку героический культ Гесиода является
таким же исторически засвидетельствованным фактом, как и
культ Архилоха, и поскольку оба эти культа весьма
архаичны по своей природе, можно предположить, что гесиодовский
культ послужил исходным толчком для распространения его
поэм, точно так же как культ Архилоха стал отправной точкой,
откуда распространилась традиция жизнеописаний Архилоха.
Более того, эта биографическая традиция вполне могла
стать реальным залогом сохранения поэтического наследия
Архилоха: она задавала более широкие рамки повествования,
внутри которого могли «цитироваться» сами произведения поэта.
31 См. комментарий в [Pfister 1909 1: 231, прим. 861].
32 См. об этом [Pfister 1909: 214-215, прим. 788]. Подробнее о
мифах, описывающих смерть и возрождение Гесиода, см. [Scodel 1980]; стоит
обратить особое внимание на эпиграмму в «Жизни Гесиода» с. 51, 9-10
[Wilamowitz 1916], которую можно сопоставить с фрагментом из
комедиографа Платона (68 Коек), где говорится о смерти и возрождении Эзопа.
Подробнее о традиции жизнеописания Эзопа см. [Nagy 1979а: 279-316].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 77
Сходным образом в жизнеописаниях Эзопа «цитировались» его
басни [Nagy 1979а: 270-288]. Такая структура, по сути, задана
надписью Мнесиепа (фр. Т4 Tarditi), паросским документом,
в котором сперва утверждается героический культ Архилоха,
а затем рассказывается история его жизни (начиная с эпизода
с коровой и лирой). Конечно, это достаточно позднее
свидетельство (третий век до н.э.), и оно отмечено некоей
вычурностью, характерной для эпохи эллинизма. Верно и то, что
сам жанр биографий архаических поэтов в принципе
постепенно деградирует, превращаясь из традиционных повествований,
существующих параллельно и наряду с самими
произведениями поэта, в то, что можно считать вымышленными
историями, произвольно выведенными из его стихов [Nagy 1979а: 306].
Тем не менее целью надписи Мнесиепа является фиксация и
обоснование культовых действий, происходивших в святилище,
названном в честь Архилоха (Arkhilokheion), — а в столь
древнем религиозном контексте всякие произвольные измышления
были совершенно неуместны.
Значимость подобной информации об Архилохе для
понимания фигуры Гесиода становится очевидной, если мы обратим
внимание на имя человека, которому, как сообщается, Аполлон
поручил учредить культ Архилоха. Его зовут Мнесиеп, Mnësi-
épës, и это означает «тот, кто помнит слово(а), épos».
Выглядит все так, как если бы установление культа было
неразрывно связано с запоминанием слов поэта [Nagy 1979а: 304 § 4,
прим. 3]. Памятуя о том, что исторически засвидетельствован
факт исполнения рапсодами произведений Архилоха на
публичных состязаниях (Афиней 620с, Клеарх фр. 92 Wehrli, Платон.
Ион 531а и 532а) — точно так же, как обстояло дело с
поэмами Гомера и Гесиода, — мы можем выстроить схему
развития, параллельную эволюции гомеровских и гесиодовских поэм.
Иными словами, устные поэтические традиции Пароса в итоге
могли выкристаллизоваться в ограниченное собрание стихов,
возводимых к первому паросскому поэту Архилоху и
распространяемых рапсодами в качестве своего рода сопровождения
героического культа поэта. С этим можно прямо сопоставить
Гомеридов, Homëridai, «сыновей Гомера» (Страбон 14.1. 33-35
С 645; Пиндар. Нем. 2.14 со схолиями к этому месту; Платон.
Федр 252Ь; Спор Гомера и Гесиода с. 226. 13-15 Allen) и Крео-
филеев, Kreöphuleioi) «сыновей Креофила» (Страбон 14.1.18 С
78 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
638; ср. также Каллимах. Эпиграммы 6 Pfeiffer)34 —
сообщества исполнителей, сами названия которых предполагали то,
что их «отцы-основатели» были объектом героического культа
[Breiich 1958: 320-321; ср. Nagy 1979а: 8-9].
В этой связи необходимо коротко сказать о присутствии
тенденции к панэллинизму во всей архаической греческой
поэзии — не только у Гомера и Гесиода. Историческим фактом
является то, что в архаике каждый большой поэтический жанр
тяготеет на уровне формы к одному диалекту, устраняя
следы прочих. Так, даже в дорийских областях языком
элегической поэзии является ионийский диалект — свидетельством
тому творчество Феогнида в Мегаре или Тиртея в Спарте; и
наоборот, языком хоровой лирики даже у ионийских поэтов
типа Симонида или Вакхилида будет некий искусственный
вариант дорийского.
Прежде чем мы проследим далее по Гесиоду пути
преобразования местных беотийских поэтических традиций в ионийские
гекзаметры его общегреческой «Теогонии», уместно задаться
схожим вопросом: как получается, что дорийские традиции
городов, подобных Мегаре, находят свое окончательное
выражение в ионийских элегических дистихах Феогнида? Ответ дает
сама поэзия: ведь ее цель, по словам самого поэта, — быть
услышанной повсюду, всеми эллинами (Феогнид 22-23, 237-
254). Похоже, что цель эта может быть достигнута только в
том случае, если местная поэзия приобретет форму, в которой
она может быть исполнена на общегреческих собраниях. Для
элегии такой формой оказывается ионийский диалект. И такое
преобразование предполагает опять-таки конечную
кристаллизацию местных поэтических традиций в итоговый
ограниченный набор произведений, входящих в репертуар рапсодов. Кем
же тогда является сам поэт? В следующем разделе мы
постараемся показать, что Феогнида — так же как Архилоха и других
мастеров лирики — можно рассматривать как своего рода
идеальное создание самой поэзии, в рамках которой он играет свою
необходимую роль, и потому ему отдается честь ее создания.
В то же время есть существенная разница между
произведениями Гесиода, с одной стороны, и творениями Феогнида или
Ср. другие упоминания о Гомеридах с Хиоса у Акусилая, Гелланика
(оба свидетельства сохранились в словаре Гарпократиона s.v.), Исократа.
Елена 65, Платона. Государство 599d, Ион 530с.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 79
Архилоха, с другой. Она носит иерархический характер: три
эти фигуры среди прочих отмечены явным общим
стремлением адресоваться ко всем грекам, но в этом стремлении Гесиод
достигает гораздо более авторитетной ступени, чем все другие
поэты. Взор какого-нибудь Феогнида или Архилоха все
равно ограничен пределами их родного города — несмотря на то
что все местные черты в их поэзии затемнены, а черты
общегреческие подчеркнуты. Гесиод же стремится охватить своим
взглядом все города Греции. Широта перспективы,
бесспорно, усиливается тем историческим фактом, что ни один город
позже не мог с уверенностью претендовать на то, чтобы
считаться его родиной — ведь Аскра была уничтожена Феспиями.
А поскольку Аскры более нет, ее традиционные предания не
могут накладываться на предания других городов. Позволяя
Гесиоду именовать Аскру своей родиной, панэллинская
традиция, по сути, делает его родиной все греческие города — мы
подробно поговорим об этом в разделе, посвященном «Трудам
и дням». Но и «Теогония» утверждает этот всеобъемлющий
взгляд благодаря двум взаимосвязанным чертам: самой
форме, в которой призываются Музы в поэме, и природе дара,
вручаемого божествами Гесиоду.
Начнем со второго. Если знаком превращения Архилоха из
пастуха в поэта после ночного свидания с Музами является
лира, то символом подобного же превращения Гесиода — после
схожей встречи в ночи (Теогония 10) — остается подаренный
Музами skêptron «посох, скипетр» (Теогония 30). Было сломано
немало копий в бесполезной полемике о том, например,
означает ли этот дар, что Гесиод еще не умел играть на лире, — и при
этом мало внимания уделялось тому, что, собственно, стояло
за самим словом skêptron в архаической поэзии. Skêptron
держат в своих руках цари (Илиада I 279, II 86), жрец Аполлона
Хрис (I 15, 28), пророк Тиресий (Одиссея XI 90), kêrûkes
«глашатаи» (Илиада VII 277) или в принципе тот, кто берет слово
на «собрании», agora (Илиада III 218, XXIII 568)35.
Наиболее яркий пример такого собрания, agora, содержится
в «Илиаде» XVIII 497, где оно предстает в качестве застывшего
вневременного образа архетипической «вражды», neikos (497),
См. индийские параллели к skêptron «скипетр, посох» в [Minkowski
1986: 40-78].
80 ЧАСТЬ L ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
запечатленного на замкнутом пространстве картины, а
именно на щите Ахилла36. На ней видны два безымянных
спорщика, как положено, препирающиеся друг с другом, в то время
как остальные кричат в поддержку и одного, и другого (Илиада
XVIII 502), а рядом в собрании восседают gérontes «старцы»,
ожидая своей очереди, чтобы, встав со skêpiron в руках,
высказаться в пользу какой-либо из сторон (XVIII 505-506).
Когда каждый из старцев начинает говорить, взяв посох из рук
стоящих рядом глашатаев, слова его именуются dike
«суждение/справедливость» (XVIII 506); более того, тому из них, кто
«выскажет dike самым непосредственным образом» (XVIII 508),
причитается награда.
Такой старец тождествен обобщенному образу basileus
«царя», описанному в «Теогонии» 80-93. Больше того, задача
царя — высказывать dike в «собрании», agora, и в
действительности «Теогония» утверждает, что эта способность является
даром Муз. Справедливый царь с рождения вдохновлен Музами
(Теогония 81-84), и он решает, что есть thémis, «божественный
закон» (85), своей «прямою dike (множественное число)» (86) —
и эти решения так или иначе всегда связаны с «собранием»,
agora (αγορεύων 86, αηορηφι 89, α^ρομένοισιν 92).
В итоге skêpiron, полученный Гесиодом от Муз, означает,
что слова поэта наделяются авторитетом царя — авторитетом,
исходящим от самого Зевса (Теогония 96, Илиада I 238-239, IX
97-99). Механизм здесь примерно таков: если авторитет
Зевса первенствует среди богов, а поэт закрепляет этот авторитет
рассказом о том, как все произошло, то, по сути, и он сам
наделяется первенством среди всех поэтов.
Теперь перейдем к призывам, обращенным к Музам в
«Теогонии». На первый взгляд фигура Гесиода не кажется
отвечающей требованиям к поэту, чей авторитет превосходит всех
остальных. Он пребывает в Аскре (Труды и дни 640),
отдаленном беотийском поселении, расположенном у,подножия горы
Геликон, которая, в свою очередь, называется местом
локального культа Муз (Теогония 1-7). Такая точная локализация,
наряду с тем, что в поэмах прямо названо имя их автора —
О связи этой вражды, netkos, с темой раздора Ахилла и Агамемнона
из первой песни «Илиады» см. [Nagy 1979а: 109], где развиваются идеи,
высказанные в [Muellner 1976: 105-106].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 81_
Гесиод, обычно считалась доказательством первых ростков
поэтического индивидуализма в противовес возвышенной
анонимности гомеровских поэм.
Но это не более чем непонимание традиционных
условностей, унаследованных «Теогонией». У нас есть пример
теогонии, исполняемой самим Гермесом под аккомпанемент лиры в
гомеровском «Гимне к Гермесу» 425-433, и он убеждает, что
традиционной формой такого сочинения была прелюдия (по-
древнегречески называемая prooimion). Есть немало указаний
на эту форму в том, как сама поэзия говорит о подобных
сочинениях [см. Koller 1956]. Ключевым можно считать
выражение amboladen «исполняя прелюдию» в «Гимне к Гермесу»
426. Важно заметить, что гомеровские гимны, включая «Гимн
к Гермесу», и сами относились к этому жанру (не случайно
Фукидид обозначает гомеровский «Гимн к Аполлону» как ргоо
imion — 3.104.4). Гимн принято завершать словами metab'
ësomai allon es humnon (например, «Гимн к Афродите» 293),
что буквально означает «Я перейду к остальной части моей
песни» (а не «к другому гимну», как это переводят в
большинстве случаев)37. Эта остальная часть, исполняемая вслед
за прелюдией/вступлением, формально может представлять
собой любой поэтический или музыкальный жанр, но в самих
гомеровских гимнах есть прямое указание на один такой жанр,
а именно на érga/érgmata «деяния» героев {Гомеровские гимны
31.19, 32.19) — что подразумевает некую форму эпоса (ср. kléa
photon... / hëmithéôn «слава [kléos во множественном числе]
мужей, что были полубогами» в Гомеровских гимнах 32.18-19) или
поэтического каталога (ср. génos andrôn / hëmithéôn «рождение
мужей, что были полубогами» в Гомеровских гимнах 31.18-19).
Тем не менее известно, что для «Илиады» или «Одиссеи»
не сохранилось каких-либо законченных вступлений, несмотря
на то что наличие подобных прелюдий подтверждено Кратетом
Пергамским ( Vita Homeri Romana, с. 32 Wilamowitz).
Вступление — это главная, по сути, единственная возможность для ар-
См. подробное обсуждение в [Koller 1956: 174-182]. Г. Коллер [там
же: 177] подчеркивает, что словом humnos обозначается целостное
исполнение — ср. выражение άοίδης νμνος «humnos песни» (Одиссея VIII 429).
Разумеется, «остальная часть песни», предположительно следующая за
гомеровским гимном, может пониматься как формальная, стилизованная
условность, а не как собственно реальное продолжение стиха.
82 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
хаического поэта назвать самого себя, говорить от своего лица,
описать обстоятельства своего выступления (ср. Феогнид 22,
Алкман PMG 39); даже в хоровой лирике именно в прелюдиях
первое лицо скорее относится к самому поэту, а не к хору. Тем
самым убежденность многих поколений ученых в том, что са-
моиндентификация Гесиода противостоит анонимности Гомера
может быть основана на весьма зыбком фундаменте — если в
самом деле такая самоидентификация является составной
частью вступления. Более того, в еще одной сохранившейся
прелюдии — гомеровском гимне «К Аполлону» (166-176) — мы
имеем точно такое же самоотождествление, когда его автором
называется Гомер [Nagy 1979а: 5-6, 8-9).
Если с чисто формальной точки зрения отнести «Теогонию»
к типу сложной вступительной песни-прелюдии, призывающей
всех богов, то это можно подкрепить сравнением с большими
гомеровскими гимнами, которые в таком случае
представляют собой простые прелюдии, адресованные одному божеству.
Следует согласиться, впрочем, что эти гимны функционально
не очень подходят на роль прелюдии прежде всего именно из-
за своего размера — в их становлении, бесспорно,
присутствовал мотив «искусства ради искусства». Поскольку
традиционные прелюдии могли принимать различные метрические
формы [Koller 1956: 170-171], то обстоятельство, что гомеровские
гимны слагались в гекзаметрах, наводит на мысль о сильном
влиянии на них особой формы эпических стихов, которым они
предшествовали. А раз эпические сочинения в конце концов
могли достигать монументальных размеров, то это же могло
происходить и с прелюдиями, предварявшими исполнение
эпоса. Но несмотря на значительный объем наиболее крупных
гомеровских гимнов, тот факт, что в основе их лежит
традиционная функциональная схема вступительной песни, достойной
общегреческого исполнения, остается неизменным. Эту схему
можно разделить на пять частей:
1. Собственно призыв к божеству (инвокация);* именование бога.
2. Перечисление божественных эпитетов, прямо или косвенно
указывающих на ее/его действенность в рамках местного культа.
3. Описание восхождения божества на Олимп, чем он/она
достигает общегреческого признания.
4. Мольба к божеству с просьбой удовлетвориться признанием,
уже высказанным ей/ему исполнением этой части песни.
5. Переход к оставшейся части исполнения.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 83_
Присутствие всех указанных пяти элементов в каждом
отдельном гимне вовсе не обязательно. Так, например, в более
кратком «Гимне к Гермесу» (18.5-9) на принятие Гермеса в
сонм олимпийских богов (часть 3) косвенно указывает
описание того, как его мать Майя скрывалась в своей пещере, тем
самым откладывая восшествие Гермеса на Олимп; напротив, в
более длинном «Гимне к Гермесу» за весьма близким к
первому упоминанием об этой же задержке следует пространное
повествование, подготавливающее последующее утверждение
бога на Олимпе. Это повествование распространяется вплоть до
578-го стиха, когда мы наконец достигаем части четвертой,
которая, в свою очередь, в более коротком гимне начинается уже
10-м стихом.
Это пример двух гомеровских гимнов — предельно
длинного и предельно короткого, — которые обращены к одному
и тому же божеству. Это достигается, соответственно, путем
расширения и сжатия — процессов, в высшей степени
характерных для устной поэзии38. Таким же образом можно сопоставить
длинную версию «Теогонии» и короткий гомеровский гимн 25.
Формально и 25-й гимн и в целом «Теогония» представляют
собой гимны, обращенные к Музам, и первые шесть гекзаметров
из семи стихов короткой гимнической прелюдии имеют прямые
соответствия в длинной поэме:
Гомеровский гимн 25.1 Теогония 1
Гомеровский гимн 25.2-5 Теогония 94-97
Гомеровский гимн 25.6 Теогония 963
В то время как краткий гимн является простой прелюдией,
призванной обосновать рождение Муз, более длинная версия
представляет собой вступительную песнь более сложной
структуры: сначала обосновывается рождение Муз, к которым
затем обращается призыв рассказать о рождении всех богов, что,
собственно, и становится теогонией. Но, начиная с 964-го
стиха, «Теогония» перестает быть собственно теогонией, поскольку
ее предметом уже становится не theôn génos «рождение богов»
(о чем прямо говорится в стихах 44, 105, ср. 115), а
происхождение полубогов, родившихся от брака божеств со
смертными (Теогония 965-968). Эта вторая тема, подходящая скорее
О приемах расширения и сжатия в устной поэтике см. [Лорд 1994:
114-141].
84 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
для перечислительной, или каталогизирующей, поэзии о
героях и героинях, прямо заявлена как génos andrôn / hêmithéôn
«рождение людей, что были полубогами» в гомеровском гимне
31.18-19, который, по сути, является формальной прелюдией-
зачином этой темы.
Подчеркнем еще раз, что с точки зрения формального
устройства гимна к Музам первые 963 стиха «Теогонии» служат
вступлением к каталогу героев и героинь, присутствующему в
стихах 965-1020, — и это связывает «Теогонию» с первым
фрагментом Гесиода по собранию Меркельбаха-Уэста39. Этот гимн
Музам претерпевает, однако, значительную модификацию,
становясь в первую очередь монументальным гимном, обращенным
к Зевсу и всем олимпийским богам. При переходе к четвертой
части из вышеприведенной схемы, когда мы ожидаем от поэта
просьбы к Музам удовлетвориться тем, что ему удалось
произнести в их честь, он фактически молит о признании уже всех
олимпийских богов, порожденных в его «Теогонии».
Следовательно, в отличие от большинства гомеровских
гимнов стихи 1-963 «Теогонии» — это не единый, а скорее
составной гимн. Собственно гимном являются строки 36-103,
кульминацией которых становится стих 104, где в рамках
самостоятельной части 4 из упомянутой схемы поэт обращается
исключительно к Музам. Но затем, начиная со строки 105, ожидаемая
пятая часть с переходом от вступительной песни к основному
сочинению (каким бы оно ни было), по сути, откладывается,
и вместо нее заново творится гимн к Музам,
продолжающийся вплоть до 962-й строки, а затем наконец происходит новый
переход к части 5 (строка 963), опирающийся сразу на обе
версии гимна. Параллелью такому внутреннему устройству может
служить гомеровский «Гимн к Аполлону», где строки 165-166
знаменуют собой естественный переход к четвертой части
схемы, где прославление Аполлона, рожденного на Делосе,
становится общим для всех ионийцев. Поэт сперва обращается с
молитвой к Аполлону, а затем приветствует женский хор
поющих и пляшущих Делиад40, которые кажутся местной
ипостасью Муз, причем приветствует их формулой, в других случаях
открывающей молитву, соответствующую четвертой части
гимна. Далее в строках 177-178 ожидаемый переход к пятой части
Об этой связи см. [Nagy 1979а: 213-214 § 3].
Ср. Фукидид 3.104.5.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 85_
очевидным образом откладывается, будучи замененным новым
гимном к Аполлону, подразумевающим уже общегреческое
прославление бога, чье место пребывания — Дельфы. Стих 545 с
новым молитвенным призывом к Аполлону — это новый
вариант четвертой части, а строка 546 открывает наконец пятую,
«переходную» ступень.
В случае «Теогонии» стихи 105-962 представляют собой
расширенную версию сжатого гимна, стоящего за стихами 36-
103, точно так же как строки 179-544 «Гимна к Аполлону»
являются расширенным вариантом сжатого гимна,
содержащегося в строках 1-165. Впрочем, между сжатой версией строк
36-103 «Теогонии» и ее расширенным вариантом в стихах 105—
962 существует значительное формальное различие: при том,
что обе они являются одновременно и теогонией, и
вступительной песней-прелюдией — точно так же как сочинение,
исполняемое Гермесом в «Гимне к Гермесу» 425-433, — сжатая версия
ближе к прелюдии, а расширенная ближе к теогонии.
Расширенный вариант — это и есть собственно «Теогония»,
изложенная Гесиодом от первого лица и «пересказывающая»
то, что ему сообщили Музы. С другой стороны, сжатая версия
изложена лишь непрямым образом; в этом случае теогония, от
Муз перешедшая к Гесиоду, просто парафразирована, как если
бы они пели ее сами, восходя на гору Олимп.
Строки с 1 по 21 — это еще одна косвенная версия (таким
образом, в «Теогонии» содержится целых три варианта
теогонии). Здесь опять-таки содержится первый парафраз теогонии
в том виде, в котором сами богини исполняли ее, на этот раз
сходя вниз с горы Геликон. Призыв к Музам, присутствующий
в этой версии, именует их «геликонскими» — а не
«олимпийскими», как в остальной «Теогонии». Более того, содержание
теогонии, которую Музы исполняют, с песней и пляской
спускаясь с горы Геликон (Теогония 3-4), излагается в порядке,
обратном содержащемуся в пении и пляске Муз (Теогония 70),
подымающихся на вершину горы Олимп (что является частью 3
в схеме панэллинского гимна).
В первой теогонии, в стихах 11-20 поэмы, повествование
Муз начинается с Зевса Олимпийского (11) и далее проходит
весь «нисходящий» путь от прочих олимпийских божеств —
Геры, Афины, Аполлона, Артемиды, Посейдона (11-15) — к
предшествующим поколениям богов (16-19), а затем и к первичным
86 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
силам — Земле, Океану, Ночи (20). И те же самые Музы, после
встречи с Гесиодом у подножия горы Геликон, во второй
описанной в поэме теогонии (Теогония 36-52) начинают свой рассказ
с Земли/Неба (45) и потом двигаются в своем повествовании
«вверх» к олимпийским богам, венчая его фигурой самого
Зевса (47; слово deuieron «следующий» означает в этом контексте
не более чем порядок изложения этой теогонии и потому никак
не умаляет значимости Зевса). Важно отметить, что подобное
направление повествования во второй теогонии Муз,
определяющее последовательность третьей и окончательной теогонии
самого Гесиода в стихах 105-962, соответствует третьей части в
схеме панэллинского гимна, а именно восхождению на Олимп
божества, превозносимого в гимне.
Здесь мы можем наблюдать превращение Муз из местных
божеств, почитаемых на горе Геликон, в общегреческих богинь,
чье место на горе Олимп. В начале их пути вниз по склонам
Геликона о Музах говорится, что они «начинают оттуда»
(Теогония 9). Этому соответствует аналогичное выражение (с тем
же значением) в 29-м стихе «Гимна к Аполлону»,
предвещающем грядущее превращение Аполлона из господина его отчего
острова Делос во властителя всего человечества. В своей
местной ипостаси поющие и танцующие Музы напоминают Делиад
из гимна «К Аполлону». Подобно Музам (см., например «Гимн
к Аполлону» 189-190), Делиады — тоже прислужницы
Аполлона (157), и кажется, что в четвертой части своего гимна поэт
обращает свое моление одновременно и к Аполлону, и к ним
(177-178). Кроме того, Делиады, по-видимому, тоже не только
поют, но и танцуют (ср. khoros у Фукидида 3.104.5, ср. также
Еврипид. Геракл 687-690); воображаемое представление как ге-
ликонских Муз, так и Делиад, скорее походит на лирическую,
а не на гекзаметрическую поэзию.
Более того, связь Гесиода с геликонскими Музами весьма
близка отношению Гомера к Делиадам (а в «Гимне к
Аполлону» Гомер недвусмысленно называется его сочинителем)41.
Сцена самоописания встречи поэта с делосскими девушками
завершается его обещанием распространить kléos, «славу» о Де-
лиадах, рассказывая о них в стихах, когда он будет
странствовать по городам земли («Гимн к Аполлону» 174-175; ср. также
41 См. [Nagy 1979а: 5-6, 8-9].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 87
стих 156, где об этой славе, kléos, говорится как об уже
свершившемся факте). Иными словами, поэт обещает Делиадам место
в панэллинской поэзии [Nagy 1979а: 8-9]. Точно так же
встреча Гесиода с Музами ведет к прославлению богинь поэтом в его
«Теогонии», которая, с формальной точки зрения,
представляет собой панэллинский гимн Музам; благодаря этому местные
божества Геликона оказываются принятыми в сонм
общегреческих олимпийских богов.
В тот же ряд можно поставить миниатюрную теогонию,
пересказанную в «Гимне к Гермесу» 425-433. С формальной
точки зрения она представляет собой гимн в честь матери Муз,
Мнемосины (Mnëmosunë — 429), которая главенствует и при
этом наделена всеми чертами самого Гермеса (в отношении
стиля этого фрагмента ср. Каллимах. Гимн к Аполлону 43).
Точно таким же образом в «Теогонии» геликонские Музы
одновременно главенствуют и наделены всеми характеристиками
Гесиода — характеристиками, которые он получил именно от них.
И вот теперь мы наконец понимаем, почему для
«Теогонии» оказывается столь важным, чтобы корнями Гесиод
уходил к подножию горы Геликон. Будучи воплощением геликон-
ских Муз, он обладает чертами, лежащими вне пределов
непосредственной мощи Муз олимпийских. Мы помним, что
богини вручают ему посох (Теогония 30) — символ власти,
которой наделены цари и исток которой — в самом Зевсе. Также
как свидетельствует само имя Гесиода, Hesiodos, геликонские
Музы наделяют его даром audê (Теогония 31), особого голоса,
благодаря которому он оказывается не просто способным спеть
теогонию (33-34), но рассказывать о будущем так же, как и
о прошлом (32). Если обычным протеже олимпийских Муз и
Аполлона является aoidos «поэт», который может сложить
нечто вроде гомеровского эпоса или гимна (ср. Гомеровские
гимны 25.2-3 и Теогония 94-103), то покровительство Муз гели-
конских наделяет Гесиода не только поэтической силой, но и
могуществом того, кого греки могли бы назвать kêrux
«глашатай» или mantis «пророк».
Стоящее за греческой поэзией индоевропейское наследие
восходит к той стадии, когда функции поэта/глашатая/жреца
все еще оставались недифференцированными. Следы этого
можно уловить не только в описании Гесиода, которому
покровительствуют Музы, но и в образе Гермеса, пребывающего
88 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
под покровительством Мнемосины. Заслугой поющего
теогонию Гермеса становится то, что он «утверждает» этим (кгаг-
nön) богов (Гимн κ Гермесу 427). Глагол krainö обозначает
независимый авторитет, которым обладают цари и источником
которого является сам Зевс [Бенвенист 1995: 264-268]. Он
подразумевает, что достижение чего бы то ни было
утверждается царским авторитетом, служащим залогом того, что цель
будет достигнута (см., например, Одиссея VIII 390).
Сравнительный анализ ритуальных теогонических традиций в различных
культурах показывает, что всякая теогония основана на
стремлении к утверждению авторитета, призванного регулировать
социальные отношения в общине42. Исполнив теогонию и тем
самым «утвердив» богов, Гермес в итоге окончательно
подтверждает их авторитет.
Впоследствии Гермес вступает в соглашение с Аполлоном,
согласно которому два бога разделяют функции, и в рамках
этого соглашения Гермес уступает Аполлону свою лиру вместе
с сопутствующим ей могуществом (Гимн κ Гермесу 434-512),
а Аполлон, в свою очередь, отдает Гермесу rhabdos «посох»,
о котором говорится, что им «утверждаются» (epi-krainousa)
«установления», Мегаог43, полученные Аполлоном от самого
Зевса (531-532). Наделяя Гермеса столь большим
авторитетом, Аполлон характерным образом оставляет за собой область
прорицания, лежащую в ведении Дельфийского оракула (533-
549); однако Аполлон отдает Гермесу прорицания, относящиеся
к ведению «Пчелиных дев» Фрий с горы Парнас (550-566). Эти
девы тоже krainousin «утверждают» (559); стоит им вкусить
меда, как они впадают в исступление и вещают alëtheië «истину»
(560-561), но они же и pseudontai «лгут», когда лишены этой
пищи (562-563). Такое исступленное прорицание связано с
бродящим медом — модель, характерная для той ранней ступени,
когда понятия aoidos «поэт» и mantis «жрец, пророк» еще не
отделялись друг от друга [Scheinberg 1979: 16-28]. Именно
когда «Пчелиные девы» пребывают в исступлении, они и
krainousin «утверждают» — то есть сообщают о тех событиях, что
действительно произойдут в будущем.
Разделение сфер деятельности между Аполлоном и
Гермесом воплощает последовательное разграничение поэтических
42 Ср. [West 1966: 1-16].
Ср. у Гесихия s.v. θεμονς· διαθέσεις, παραινέσεις.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 89
функций, которые в момент, когда Гермес поет свою теогонию,
выглядят еще слитыми воедино. Но затем Гермес уступает
лиру Аполлону, а себе оставляет примитивную пастушескую
дудку (Гимн к Гермесу 511-512) — и тем самым Аполлон
забирает себе целиком область «поэта», aoidos. Аполлон также
забирает себе и область mantis «пророка», но на высоко
продвинутом общегреческом уровне (его оракул в Дельфах),
оставляя за Гермесом более примитивную сферу местного mantis
«пророка», толкующего alêtheië «истину», открывающуюся ему
под воздействием перебродившего меда. Но подчеркнутая
близость «новому» богу более примитивных поэтических
характеристик и то обстоятельство, что поэтическое искусство
Аполлона освящено спетой Гермесом теогонией, подчеркивают, что
именно Гермес — а не Аполлон — на самом деле бог более
древний, а его «утверждающие» атрибуты, вроде посоха или
дев Фрий, восходят к архаической эпохе, когда поэзия
обладала гораздо более широкой сферой действия. С исторической
точки зрения Аполлон и олимпийские Музы являются
божествами более новыми; они отражают постепенное ограничение
этой широкой сферы и ее превращение в новый замкнутый
феномен панэллинской поэзии.
Точно так же связь Гесиода с геликонскими Музами
восходит к той же архаической широте, которую поэт затем
ограничивает, преобразует в новую замкнутость общегреческой
теогонии, соединяя Муз геликонских с Музами олимпийскими.
Skêptron, «посох» и пророческий голос, которые Гесиод
получает в дар от геликонских Муз, вещающих и истину, и ложь,
аналогичны rhabdos «посоху» Гермеса и его «Пчелиным девам»,
тоже способным высказывать и правду, и ложь. Выглядит все
так, как если бы олимпийские Музы получают жанр теогонии
в наследство от Муз геликонских точно так же, как Аполлону
его лиру вручает Гермес, сочинитель первой теогонии.
Чтобы панэллинская теогония наконец возникла, Музы должны
спуститься с Геликона и взойти на Олимп, а проводником в
этом служит Гесиод.
Подобно тому как в образе Гермеса объединены черты ар-
хетипического «глашатая», кетих, и «пророка», mantis, эти две
функции вместе с ролью «поэта», aoidos, воплощены через
посредство геликонских Муз и в Гесиоде. (По свидетельству Па-
всания 9.29.2-3 имена этих местных божеств Meleté
«Упражнение», Мпетё «Память» и Aoidê «Песнь»; все они соответ-
90 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
ствуют необходимым составляющим сочинения и исполнения
устной поэзии.)44 Гесиоду нужны его местные Музы —
иначе не создать теогонии; но ему нужны и Музы олимпийские —
иначе ре создать общегреческой поэмы. Он сам преобразует
геликонских божеств в богинь Олимпа, а подразумеваемой
наградой становится то, что полученные им местные дары —
посох и голос, которых достало бы и для местной теогонической
поэмы, на панэллинском фоне становятся символами его
авторитета как первого из поэтов, за которым стоит авторитет
Зевса как первого из царей.
ЯЗЫК ГЕСИОДА
Гесиод может гордиться своими корнями и тем не менее
говорить на языке, который рождается, дабы соответствовать
языку панэллинского гимна, возникшему, в свою очередь,
чтобы отвечать языку эпических сочинений, предваряемых этими
гимнами. Поэт «Теогонии» может даже прямо сравнивать
искусство сложения общегреческой теогонии со сложением эпоса
(100-101) — и мы уже готовы забыть о ритуальном контексте,
обязательном для любой локальной теогонии.
В действительности словесное выражение Гесиода столь
близко гомеровскому, что совершенно невозможным кажется
проследить беотийские истоки его поэзии (о которых он говорит
сам), исходя только из его языка. Более того, ионийская
ступень развития и конечной кристаллизации поэтического
языка в случае Гесиода выглядит гораздо более явственной, чем
у Гомера [Janko 1982: 85, 197].
Разумеется, были попытки проследить лингвистические
расхождения между Гомером и Гесиодом. Наиболее
интересным результатом является открытие того, что окончания
винительного падежа множественного числа первого и второго
склонений на -äs и -oils встречаются в позиции перед согласным у
Гесиода значительно чаще, чем у Гомера; и напротив, в позиции
перед гласным реже [Edwards 1971: 141-165]. В качестве
объяснения предлагалось считать, что мы здесь имеем дело с
носителем (ями) диалекта, в котором окончания винительного
множественного числа сократились до - as и - os. В результате начало
следующего слова с согласного не имело решающего значения,
44 См. [Détienne 1973: 12].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 91_
так как возникающая последовательность - as С- или - os С-45 не
создавала избыточной долготы, которая возникала бы в случае
-äs С- и -ous С-. Безусловно, теперь доказано, что гомеровский
язык стремится избегать излишней долготы (предпочтительнее
комбинации - V С С- или -VC-, чем -VC С-), но из этого не следу-
дует, что та же тенденция должна была скрупулезно
сохраняться и в языке Гесиода. Напротив, учитывая тот факт, что
формульное словоупотребление у Гесиода связано гораздо
меньшим количеством ограничений и соответственно менее
архаично, можно предположить, что и большее число употреблений -äs
или -OUS перед согласным отражает просто более терпимое, чем
у Гомера, отношение к подобным случаям избыточной долготы.
Кстати говоря, окончания винительного падежа
множественного числа на - as и - os ни в коей мере не являются чертой,
свойственной беотийскому диалекту. Что же касается
отдельных употреблений окончания первого склонения - as в позиции
перед гласным, то это также не представляет собой особенности,
ограниченной только рамками поэзии Гесиода, как это часто
утверждают. Такие случаи встречаются и в гомеровском языке,
включая гимны (см., например, Илиада V 269, VIII 378;
Одиссея XVII 232; Гимн к Гермесу 106). Конечно, нельзя полностью
исключить возможность того, что здесь кроется рефлекс
дорийских диалектов, где на самом деле зафиксированы случаи - as
V- и - os V- для первого и второго склонений. Но все же кажется
более предпочтительным рассматривать всю проблему целиком
с точки зрения ионийских диалектов, представляющих собой
конечную и завершенную фазу развития поэтического языка
Гомера и Гесиода. Формульные выражения могут восходить
к доионийской стадии, общей для всех греческих диалектов, с
окончаниями винительного падежа множественного числа
- ans V- - ans С-
-ons V- -ons С-
Затем можно предположить наличие промежуточной стадии,
общей для всех диалектов, с формами, зафиксированными в
некоторых из них:
- ans V- - as С-
- 0715 V- - os С-
Здесь и далее С обозначает «согласный», а V — «гласный».rç
92 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
На конечной, ионийской стадии - ans/- onsb позиции перед
гласным переходят в -äs/-ous, и эти формы распространяются и на
позиции перед согласным:
-äs V- -äs С-
-OUS V- -ous С-
Вместе с тем, благодаря варьированию традиционных
формул с постановкой одного и того же слова то в позицию перед
гласным, то перед согласным, порой могли сохраниться и
следы более ранней, промежуточной ступени, приводящие к
некоей «контаминации»:
-as У- -äs С-
-osY- -ous С-
Волыне таких следов могло остаться именно в поэзии Гесиода,
а не Гомера, просто потому, что за Гесиодом стоит больший
период развития традиции ионийского гекзаметра. Суть
остается неизменной: гесиодовская поэзия не просто указывает на
свою безоговорочную близость гомеровской (как, например, в
Теогонии 100-101), но и содержит огромную часть
формального наследия Гомера.
Даже в рамках гомеровской поэзии есть ощутимая
разница между «Илиадой» и «Одиссеей»: в последней больше
случаев употреблений -äs /-ous перед согласным и меньше перед
гласным — хотя, безусловно, это расхождение между двумя
поэмами гораздо меньше, чем разница между произведениями
Гесиода, с одной стороны, и Гомера, с другой46. Тем не менее
эти данные подтверждают общий вывод, основанный на целом
ряде других лингвистических критериев: «Одиссея»
знаменует более поздний, по сравнению с «Илиадой», этап развития
ионийского гекзаметра, а поэмы Гесиода в своей совокупности
отражают еще более продвинутый этап его эволюции по
сравнению с «Одиссеей»47.
Проникновение ионийского элемента в поэзию Гесиода
распространяется не только на форму, но и на содержание.
Единственным прямо упомянутым в «Трудах и днях» месяцем
является Lënaion (504). Это название присутствует в большинстве
ионийских календарей (впрочем, за исключением афинского),
и даже морфологическое устройство слова (оканчивающегося
Данные приводятся в работе [Janko 1982].
Там же.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 93^
на -on) очевидным образом обнаруживает ионийское
происхождение. Однако каждый город-государство обладал своим
специфическим календарем, и даже между близко
родственными городами существовала значительная разница в именовании
месяцев; так что нет ничего удивительного в том, что
архаическая греческая поэзия, с ее общегреческой
ориентированностью, в принципе избегала прямого называния месяцев. Тем
более странно, что характерное ионийское название мы
обнаруживаем в поэзии беотийца Гесиода. Наилучшим объяснением
будет то, что имя Lënaion обращено к панэллинской
аудитории по крайней мере потому, что оно привычно большинству
ионийских городов; более того, само значение слова было
вполне очевидным, ибо оно являлось производным от lênai
«служители Диониса». Но если даже и так, название и его форма
выглядят скорее общеионийскими, чем общегреческими.
Наконец, немедленно следующее за упоминанием месяца описание
ветра Борея, дующего в сторону моря из Фракии, с
географической точки зрения обнаруживает очевидно ионийскую
ориентацию, схожую с той, которую мы обнаруживаем в
«Илиаде» [West 1978: 27].
В целом гесиодовская поэзия не только сама указывает на
свое родство с гомеровской, но и разделяет ее формальное
наследие, преимущественно ионийское по своей природе.
ГЕСИОД, ПОЭТ ТРУДОВ И ДНЕЙ
Авторитет Гесиода как первого поэта, зиждящийся на
авторитете Зевса как первого из царей, проверяется на прочность
в «Трудах и днях». Во вступлении к поэме (1-10), которое,
по сути, тождественно гимну Зевсу, к верховному богу
обращена просьба «выправить божественные установления [thémis
во множественном числе] своим решением [difcé]» (9), в то
время как сам поэт начинает говорить со своим братом Персом
о «подлинных вещах», etetuma. Тем самым действия Зевса и
слова Гесиода предстают очевидно связанными и
параллельными друг другу.
Деяния Зевса становятся образцом поступков идеального
царя, такого, каким он выведен в «Теогонии». Вдохновленный
Музами (Теогония 80-84), он «приводит в порядок
божественные установления [thémis во множественном числе] своими
правыми решениями [dike во множественном числе]» (85-86). Эти
94 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
прямые, справедливые решения царя способны положить конец
даже большому neikos «раздору» (87). Здесь уместно вспомнить
изображенную на щите Ахилла (Илиада XVIII 497) сцену
раздора, разрешить который призваны старцы со скипетром, skêptron,
в руке, произносящие свое «решение», dike (505-508)48.
Интересно, что в «Теогонии» идеальный царь не изображается со
скипетром в руке; вместо этого данный символ исходящего от
Зевса верховного авторитета вручается Музами Гесиоду
(Теогония 30). Похоже, что вдохновленный Музами царь Гесиода
вылеплен по образцу, который вполне подходит и для поэта.
Это не означает, что Гесиод сам становится царем; скорее,
как мы увидим, «Труды и дни» утверждают некий авторитет,
который замещает и превосходит царскую власть. Толчком к
развитию всей поэмы служит neikos «раздор» между Гесиодом
и Персом (35), но эту ссору не остановить какому-то
идеальному царю; поэт хочет, чтобы они с братом разрешили ее сами
(35) «правыми решениями [dike во множественном числе], что
есть самое лучшее, ибо исходит от Зевса» (36). Первопричиной
вражды двух братьев послужило то, что после раздела
наследства их отца (37) Перс силой присвоил часть законной доли
Гесиода (38), возвеличив тем самым силу жадных царей,
«которым нравится выносить такое решение [</г&ё]» (38-39). Эти
цари, именуемые dörophagoi «дароядцами» (39, 221, 264),
весьма далеки от идеала, и поэт угрожает им наказанием за их
«решения [dike во множественном числе] кривды» (250, 264).
Постепенно нам станет ясно, что в конце концов ссора
Гесиода и Перса будет разрешена не каким-то царем, а самими
«Трудами и днями», утверждающими идею dike в значении
«справедливость». До сих пор я переводил dike как «решение» — как
собственно и следует понимать это слово в таких контекстах,
как «Труды и дни» 39, 249 и 269. Во всех этих случаях
сопровождающее слово указательное местоимение (tende, ср. также
lade «подобные вещи» в с. 268) заставляет переводить
выражение как «такое решение», непосредственно подразумевающее
несправедливые приговоры, которые так милы жадным царям.
Подобные контексты даже позволяют прояснить этимологию:
идеальный царь «разбирает» (глагол diakrino в «Теогонии» 85),
что является «божественным установлением», thémis, а что нет
(85) с помощью dike, которая тем самым служит указанием (ср.
См. выше с. 79-80.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 95_
латинское indicäre «указывать», где -die родственно греческому
dike), а значит, «решением». В более широком смысле,
однако, подразумевается, что каждое сиюминутное решение может
быть обращено в «справедливость» Зевсом — тем высшим
авторитетом, который стоит за всеми решениями людей. Тем
самым в просьбе, обращенной Гесиодом к Зевсу, — «выправить
божественные установления [thémis во множественном числе] с
помощью dike» {Труды и дни 9), «решение» верховного бога
одновременно означает и «справедливость». Повторим еще раз:
действия Зевса созвучны словам, адресованным Персу
Гесиодом (10), поскольку двое последних должны сами
«разобраться» [Труды и дни 35; снова глагол diakrino, на этот раз в
медиальной форме) в собственной ссоре.
В ответ на то, что Перс силой захватывает его достояние,
Гесиод прибегает к словесному убеждению. Сперва он
рассказывает Персу историю Прометея и Пандоры (Труды и дни 42-
105), обосновывая идею врожденной необходимости для
человека трудиться на земле. Затем он пересказывает Персу миф
о пяти человеческих поколениях (106-201), подробно
доказывающий, что dike «справедливость» возвышает человечество,
a hubris «заносчивость» его портит49. Пятое, современное Ге-
сиоду, поколение железного века — это время, когда dike и
hubris сошлись в непрекращающейся борьбе. Как и в других
примерах «мифа поколений», последний «век» определяет не
только настоящее, но и грядущее, и соответственно миф
становится пророчеством [West 1978: 176] — с глубоким
пессимизмом Гесиод предсказывает поражение dike от hubris (Труды и
дни 190-194). Затем Гесиод рассказывает басню о ястребе и
соловье (202-212), обращаясь к царям, которых он
дипломатично называет phronéontes, «знающими». Тон по-прежнему
безрадостен, по крайней мере в этом фрагменте: ястреб
хватает соловья, называемого aoidos «певцом», а значит, «поэтом»
(208), просто потому, что хищник сильнее (206, 207, 210), и
похваляется тем, что только от него зависит — отпустить или
сожрать свою жертву (209).
В этот момент Гесиод прямо обращается к Персу и,
ссылаясь на все, что он только что рассказал, призывает брата чтить
См. разбор этого мифа в [Nagy 1979а: 151-165], в основном
продолжающий идеи, высказанные Ж.-П. Вернаном [Vernant 1960, 1966]. См.
также новые соображения по этому поводу в [Vernant 1985: 101, 104, 106].
96 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
dike и отбросить hubris (Труды и дни 213). Он предупреждает,
что совершение dike неизбежно, и в конце концов она
восторжествует над hubris (217-218). Олицетворенная в фигуре
богини Дикэ, Справедливость накажет жадных людей, которые
«разбирают божественные установления [глагол кг то,
существительное thémis] решениями [dike во множественном числе]
кривды» (220-223), кто «гонит ее, искривляя» (224, ср. Илиада
XVI 387-388). И за этим следует картина двух городов: один,
город dike, богатеет и процветает (225-237, ср. Одиссея XIX 109-
114), в то время как город hubris бедствует и гибнет (238-247).
Определив справедливость как неизбежный процесс ( Труды
и дни 217-218), Гесиод призывает жадных царей пересмотреть
«это решение [dzfcé]» (269), которое они пожелали вынести по
поводу захвата Персом имущества Гесиода (39). Для нас теперь
понятно, что вынесшие «это решение [difcê]» цари тем самым
«искривили» законы богини Дикэ (224), а потому богиня в
конце концов накажет их благодаря мощи ее отца, Зевса (220-224,
256-269). Неизбежность dike очевидна и в поэзии Солона: те,
кто силой присваивают чужое имущество (fr. 4.13 W),
виновны в hubris, попирают устои dike (4.14), которая «с течением
времени» (4.16) воздаст справедливое наказание.
Этот реальный промежуток времени, необходимый, чтобы
свершилась Dike, и изображен в «Трудах и днях». Начало
поэмы подразумевает, что захват Персом имущества Гесиода
и неправое решение жадных царей в пользу несправедливого
брата оскорбляют богиню. 39-й стих подразумевает, что «это
решение [dike]» по сути «кривда», и все первоначальные
поучения подчеркнуто пессимистичны — касается ли это исхода
борьбы между dike и hubris или власти ястреба/царя над
соловьем/поэтом. Но когда мы доходим до стихов 249 и 269, на
«это решение [rfiië]» падает отсвет мщения богини Dike,
направленного на тех, кто оскорбляет ее. И теперь от Перса
требуется, чтобы он принял dike как «справедливость» (275), ибо
те, кто лишены ее, будут пожирать друг друга, подобно
диким зверям (275-278).
«Мораль» басни о ястребе и соловье теперь становится
вполне очевидной: ястреб/царь, грозящий сожрать соловья/
поэта в доказательство собственной силы, не может быть
носителем dike «справедливости». Более того, поскольку только
phronéontes «знающие» цари смогут понять эту басню (202; ср.
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 97_
идеальных царей, которые названы «знающими», ekhéphrones, в
«Теогонии» 88), подразумевается, что жадным царям никогда
не понять ее «мораль» — и это следствие их общего
невежества (см. Труды и дни 40-41)50. А если цари не являются
носителями dike «справедливости», то они полностью лишаются
авторитета, теряется сам смысл их существования. И не
случайно, после 263-го стиха мы не находим в «Трудах и днях» ни
единого нового упоминания о царях.
Что же касается Перса, то он должен узнать, что в конце
концов богатым становится именно человек, наделенный dike
{Труды и дни 280-281), а тот, кто силой отнимает имущество у
других (320-324), будет преуспевать «очень недолго» (325-326).
И вот к 396-му стиху «Трудов и дней» Перс уже сам
оказывается в крайней нужде и «теперь» вынужден просить о помощи
Гесиода. Но поэт отказывается дать ему хоть что-нибудь,
взамен призывая ради пропитания обрабатывать землю (396-397).
Наконец торжествует власть dike, исходящая от Зевса и
воплощенная в Гесиоде, — и даже изначальное негодование поэта
начинает стихать; уже в 286-м стихе Гесиод говорит о своем
добром расположении к брату. Ко второй половине поэмы живой
образ Перса меркнет и уступает место обобщенному обращению
ко второму лицу, как будто бы Перс теперь с молчаливой
готовностью внимает поучениям добродетельного брата.
Таким образом, в конце «Трудов и дней» dike
«справедливость» полностью побеждает, и путь к этому финальному
торжеству воплощен в самом времени, в котором
развивается действие поэмы. Более того, функция basileus «царя»,
воплощающего собой высший авторитет, своим dike «решением»
утверждающего, что является «божественным установлением»,
ihémis, а что нет, постепенно переходит к поэме как таковой. В
том, что все разнообразие греческих городов сводится к
противопоставлению двух предельных полюсов: города dike (225-237)
и города hubris (238-247), — очевидно преобладание панэллин-
ского взгляда. Эта общегреческая перспектива
подтверждается, кроме прочего, и постоянным употреблением в «Трудах и
днях» множественного числа basileis «цари»; в гомеровской тра-
О значимости мотива ornithomantetä «гадания по птицам» для
поэмы в целом см. «Труды и дни» 828 с комментариями, содержащимися
в [West 1978: 364-365].
98 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
диции мы сталкиваемся с иным представлением: каждый город
управляется одним царем.
Устранив из повествования царей, «Труды и дни» могут
теперь обращаться к любому полису — восьмого или любого
из последующего веков — вне зависимости от того, какова его
форма правления: олигархия, демократия или даже тирания.
И таким образом поэма в итоге утверждает всеобщие
основания представлений о законности, близкие каждому
греческому городу-государству.
Даже в афинской демократии законы Солона, как
заявляет он сам в своих стихах, основаны на авторитете Зевса-царя
(фр. 31 W). Подобно Зевсу, который «правит кривду и смиряет
чрезмерное» (Труды и дни 7) и которого Гесиод просит
«выправить божественные установления [thémis во множественном
числе] своею dike» (9), Солонова Eunomiä «благое правление с
благими законами» — это богиня, которая «укрощает тех, кто
лишен dike» (φρ. 4.33 W), «чернит hubris» (4.34), «смиряет
растущие побеги беспорядка» (4.35) и «выправляет неправые
решения [dike во множественном числе]» (4.36). По «Теогонии»,
сам Зевс — отец Эвномии, так же как и Дикэ, а матерью их
является Фемида, Thémis, воплощение божественных
установлений и порядка (Теогония 901); весьма значимо то, что Зевс
вступает с Фемидой в брак после того, как он победил Тифо-
на и проглотил Метиду, т.е. устранил две оставшиеся угрозы
мировому порядку.
Войдя в роль законодателя, Солон утверждает, что он
«записал» свои ihesmoi «установления, законы» после того, как
утвердил «dike, что пряма» одинаково для знатных и
обыкновенных людей (фр. 36.18-20 W). Но помимо записи
подобного свода законов, следует иметь в виду, что за стихами
Солона стоит и определенная поэтическая традиция; и в ней Солон
фигурирует не просто как законодатель, как в данном случае,
но и как персонифицированный носитель dike, воплощенной в
его собственной добродетельной жизни, изображаемой в его
поэзии. Так, в одном из сохранившихся стихотворений Солон
молит Муз даровать ему богатство и славу (фр. 13.1-4 W) и
сделать так, чтобы он смог помогать друзьям и вредить недругам
(13.5-6). Он жаждет обладать khrémata «имуществом,
достатком», но отвергает саму мысль присвоить силой чужое, ибо это
«противно dike» (13.7-8), и рано или поздно dike воздаст за та-
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 99_
кой поступок (13.8). Более конкретно, за деяния hubris
непременно накажет Зевс, обрушивающийся подобно могучему ветру
(13.16-25; вновь ср. Илиада XVI 384-392).
Мы обнаруживаем удивительную параллель к только что
приведенным стихам в поэтической традиции другого города-
государства Мегары, представленной фигурой Феогнида. И
здесь поэт молит Зевса о том, чтобы тот дал ему силы помочь
друзьям и нанести вред врагам (Феогнид 337-338). Если бы
только Феогниду удалось к концу жизни взыскать пеню со всех,
кто причинил ему зло, он снискал бы среди людей славу бога
(339-340)51. Можно заметить сходство этого желания с тем, что
в действительности произошло с Ликургом в Спарте:
Дельфийский оракул Аполлона провозгласил законодателя подобным
богу (Геродот 1.65.3), и после смерти он был почтен
героическим культом (1.66.1)52. Далее Феогнид уточняет, какой вред
был ему лично нанесен: его силой лишили имущества (Феогнид
346-347). Так же обстояло дело и с Гесиодом, у которого часть
его добра силой забрал Перс (Труды и дни 37, ср. 320).
Продолжая сравнение, заметим, что Феогнид, подобно Ге-
сиоду, с самого начала смотрит весьма пессимистично на
возможность воздаяния себе (Феогнид 345), и очевидная
беспомощность заставляет его мрачно жаждать испить кровь
своих врагов (349). Упоминание о таинственном άαίτηδη «духе»,
покровительствующем такой мести (349-350), заставляет
вспомнить о бесчисленных philiakes «стражах» Dike в «Трудах и
днях» 249-255, стоящих наготове, дабы наказать преступников.
Эти стражи тождественны daimones «духам» условных
культовых героев, о которых говорится в стихах 122-12653.
Хранители dike «справедливости» изображены соратниками
персонифицированной богини Дикэ, которая точно так же готова
карать преступников (Труды и дни 256-262); точно так же в
поэзии Солона именно Дикэ в должное время наказывает
неправедных людей (фр. 4.14-16 W). Впрочем, Феогнид взывает
к еще более леденящему душу образу кровожадного призрака
возмездия, в котором можно угадать и посмертный дух
самого поэта [Nagy 1985а: 73].
51 См. комментарий в [Nagy 1985а: 68-74].
52 [Там же: 69].
53 [Nagy 1985а: 72-73]. Ср. [Vernant 1985: 101, 104, 106].
100 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Несмотря на разницу в деталях, Феогнид, подобно Гесио-
ду и Солону, предстает в своих стихах персонифицированным
носителем dike, воплощенной в его собственной
добродетельной жизни, которая изображается в его поэзии. Но, в отличие
от Солона, у которого dike может означать и записанный свод
законов (фр. 36.18-20), Феогнид всегда называет этим словом
свои поучения, обращенные к его hetaîros «товарищу» Кирну
и к другим мелким персонажам. Тем не менее, как
заявляет сам Феогнид, и эта dike может обладать силой закона,
писанного законодателем:
Χρή με παρά στάθμηι/ και -γνώμονα τήνδε δικάσσαι,
Κύρνε, δίκην, ισόν τ αμφοτέροισι δομεί/,
μάντεσί τ οιωνοις τε καΐ αιθομένοισ ιεροισιν,
οφρα μη αμπλακίης αισχροί/ όνειδος εχω.
Я хочу объявить эту dike, Кирн, [прямую,] как плотничья
линейка и отвес
Равную для обеих сторон,
С помощью гадателей [mantis во множественном числе],
знамений и сжигаемых жертв,
Так чтобы не постиг меня позорный упрек в заблуждении.
Феогнид 543-546
Подобно Солону, который защищает «обе стороны» и «ни одной
стороне» не отдает предпочтения (αμφοτέροισι/ουδέτερους,
fr. 5.5/6), Феогнид говорит, что дает равную долю «обеим
сторонам (αμφοτεροισι в с. 544 из приведенного отрывка), а в других
случаях советует Кирну идти «по срединной дороге» (219-220,
331-332) и не отдавать «ни одной стороне» того, что ей не
принадлежит (μηδετέροισι, 332).
Весьма важно, что Феогнид связывает произнесение «этой
dike» (ст. 544) с надлежащим принесением жертв и вообще
должным отправлением ритуала (545), поскольку и в
наставлениях Гесиода в последней части «Трудов и дней» правильное
нравственное и ритуальное поведение тоже постоянно сопола-
гаются. За стихами 333-335 поэмы Гесиода, завершающими ряд
предписаний остерегаться «деяний, лишенных dike»,
немедленно следует другой совет, содержащий на сей раз предписание
ритуального свойства:
Καδ δύι/αμιι/ δ' ερδειν ιέρ' αθανάτοισι θεοΐσιι/
ayi/ώς και καθαρώς, επί δ' άγλαά μηρία καίειι/·
άλλοτε δε σποι/δ$σι θύεσσί τε ιλάσκεσθαι,
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 101
ημεν от εννάζη και от αν φάος ιερόν εΧθη,
ως κέ τοι ΪΧαον κραδίην και θυμοί/ εχωσιν,
οφρ αΧΧων ών§ κΧηρον, μη τον τεον αΧΧος.
Как можно лучше приноси жертвы бессмертным богам,
с почтением и чистотою, сжигая жирные бедра,
в другой раз ублажай их возлияниями и сжигаемыми
приношениями,
и когда ложишься спать, и когда вновь приходит священный свет,
так чтобы сердце их и душа к тебе склонились,
и чтобы ты смог купить добро другого, а не он твое.
Гесиод. Труды и дни 336-341
В дальнейшем в «Трудах и днях» подобные советы
становятся все более и более скрупулезными: так, например, не
следует стричь ногти на «пиршестве богов» (742-743). Или еще: не
следует мочиться, стоя лицом к солнцу (727), на дороге (729),
или в реки, или источники (757-758). В качестве параллели
можно привести совет из индийских «Законов Ману»: «Не
позволяй ему мочиться на дорогу... или ходя, или стоя, или с
берега реки. Не позволяй ему справлять большую или малую
нужду лицом к ветру или к огню, или глядя на брахмана, или на
солнце, воду или коров» [ср. West 1978: 334-335; Watkins 1979].
Традиционные законы индийцев и греков очевидно сродни
друг другу, и в этой связи крайне интересно проследить за
употреблением слова memnëménos «держащий в памяти, уме» как
в только что разобранном предписании (Труды и дни 728), так
и в других контекстах (Труды и дни 298, 422, 616, 623, 641,
711). Присутствующий в memnëménos корень *men-/mneh2-
дает и индийское имя Мали-, означающее «помнящий»;
прародитель человечества получает свое имя (родственное,
например, английскому man) за добродетельную способность
«держать в уме» все правила жертвоприношения. Ману — это
прототип жертвователя, чье исключительное мастерство в том,
что Сильвен Леви определил как «тонкое искусство
жертвоприношения», наделяет его неоспоримым авторитетом во всем,
что относится к ритуалу54. И поскольку фундаментом
древнеиндийских законов является правильность ритуала, то и весь
свод индийских морально-юридических изречений был назван
в честь Ману.
54 См. [Levy 1966 (1898); ср. Nagy 1985а: 38-41]. См. также ниже
с. 150 ел.
102 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Тематическую параллель мы находим и в приписываемом
Гесиоду (согласно схолиям к Пиндару. Пифийские оды 6.22)
сочинении «Наставления Хирона», где кентавр обучает
мальчика Ахилла. Один сохранившийся фрагмент содержит
первые слова кентавра: он говорит Ахиллу, что юный герой
первым делом, приходя домой, должен приносить жертвы богам.
Во фрагменте киклического эпоса (Титаномахия, фр. 6, с. 111
Allen) Хирон назван тем, кто «привел смертных к
справедливости [dikaiosunë], показав им клятвы, праздничные
жертвоприношения и облик [skhémata] Олимпа». В «Наставлениях» можно
найти и формальные соответствия как «Трудам и дням» (336—
337, 687-688), так и стихам Феогнида (99-100, 1145 в связи с
1147-1148).
Поразительное сходство общения Хирона с Ахиллом с
парами Гесиод-Перс или Феогнид-Кирн дало повод Ф. Вельке-
ру предположить в своем предисловии к изданию Феогнида
1826 года, что Перс и Кирн являются обобщенными фигурами,
а изображение их близкими Гесиоду и Феогниду людьми
просто позволяет поэтам высказать доброжелательный совет,
обращенный уже к людям чужим, которые собственно и составляли
их аудиторию [West 1978: 33-34]. Типологическое сходство с
такими ближневосточными сочинениями, как «Повесть об Ахи-
каре» или «Притчи Соломоновы», укрепляет вероятность того,
что это действительно обобщенные образы [Там же: 34]. Тем
не менее, по крайней мере применительно к Персу, ученые не
желают допускать эту возможность, прежде всего потому, что
тем самым под угрозой оказывается историчность фигуры
самого Гесиода, а ведь «никто не считает Гесиода как такового
вымышленным персонажем» [Там же: 34].
До сих пор в своих рассуждениях мы в принципе
стремились показать, что личность поэта в любом архаическом
греческом стихотворном произведении — это не более чем одна
из традиционных функций, наследуемых этим произведением.
Соответственно, убежденность в историчности Гесиода — вроде
содержащейся в только что процитированном утверждении —
не требует немедленного опровержения. Пока достаточным
будет обратить внимание на то, что аналогии взаимосвязанным
характеристикам Гесиода и Перса обнаруживаются даже в
гомеровской поэзии. В их числе вызов, брошенный Одиссеем од-
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 103
ному из женихов Эвримаху в «Одиссее» XVIII 366-37555.
Хитроумный царь в обличий нищего поэта56 предлагает
никчемному похитителю его добра некое состязание (обозначаемое в
Збб-м стихе восемнадцатой песни «Одиссеи» словом éris
«раздор» — ср. Труды и дни 11-26, особенно 26) в «труде на
земле» (который в том же стихе, а также в 369-м, назван словом
érgon — ср. Труды и дни 20).
В свою очередь, в «Трудах и днях» можно найти
аналогии взаимодополняющим характеристикам Феогнида и Кирна.
Например, Гесиод настоятельно призывает не равнять heiairos
«товарища» с братом (Труды и дни 707). Впрочем, этот совет
служит как бы поводом «от противного» для использования в
повествовании поэтических традиций, ориентированных на
наставление heiairos, а не брата, поскольку Гесиод уже в
следующем стихе говорит: «...но если ты должен так поступить
[уравнять heiairos с собственным братом], тогда...» (708). За этим в
нескольких следующих строчках следует целая цепь изречений,
касающихся именно отношения к heiairos (708-722), среди
которых обнаруживается множество поразительных параллелей
с афоризмами, прямо или косвенно адресованными Феогнидом
его heiairos Кирну (ср., например, соответственно Труды и дни
710-711, 717-718, 720 и Феогнид 155-158, 945, 1089-1090).
Показательно, что Феогнид, напротив, считает подлинным philos
«другом» того, кто обращается с трудным heiairos так, как если
бы тот был его братом (97-100=1164a-d). Отсюда можно
заключить, что и с трудным по характеру братом тоже следует
обращаться подобным же образом. Феогнид на самом деле не
уверен, получает ли его поведение philos «друга» по
отношению к Кирну должный ответ. Он ставит непостоянного юношу
перед выбором: пусть тот или ведет себя как подлинный друг
(89=1082е), или прямо заявит, что он ekhihros «враг», открыто
затевая neikos «ссору» между ними. Это можно сравнить с уже
неприкрытой ссорой, neikos (Труды и дни 35), между Гесиодом
и Персом, но которая все же разрешается, по крайней мере
внутри поэмы. В противовес этому между Феогнидом и Кирном не
возникает открытой ссоры, neikos, но и Феогнид вовсе не
уверен, настоящим ли «другом», philos, является для него Кирн.
См. по этому поводу [Svenbro 1976: 57-58].
См. [Nagy 1979а: 228-242].
104 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Разбирая различные примеры, взятые из архаической
греческой поэзии, разумеется, не следует полагать, что
встречающиеся в них параллели предполагают какие бы то ни было
прямые отсылки одного текста к другому. Скорее, за каждым
отдельным произведением стоит традиция, отличная от исходной;
подобное расхождение традиций можно проследить и на другом
материале. Но все же трудно отделаться от впечатления, что в
перечисленных примерах из Феогнида содержатся аллюзии,
отсылающие к гесиодовскому Персу, а Гесиод чуть ли не на самом
деле советует, как следует себя вести с непостоянным Кирном.
Ключевые персонажи «Трудов и дней» не исчерпываются
только Гесиодом и Персом. Некоторые основные темы,
определяющие структуру поэмы, воплощены и в фигуре их отца.
Он был выходцем из малоазийского города Кимы (636); ходил
в море, стараясь поддержать свое жалкое существование (633-
634), пока наконец не обосновался на материке, в Аскре, где
зима сурова, а лето малоприятно, — короче говоря, там, где
плохо всегда (639-640).
Описание Гесиодом Аскры, которое ученые, начиная со
Страбона, единодушно считают отражением истинного
состояния вещей, кажется, мягко говоря, преувеличенным. Местность
эта на самом деле плодородна, в общем защищена от ветров;
здесь много красивых видов, и в действительности климат там
мягкий и летом, и зимой [Wallace 1974: 8]. Почему же тогда
Гесиод сознательно рисует свою родину в столь отрицательных
тонах? Мы получим ответ, если обратимся к описанию Кимы —
противопоставленного Аскре места, которое отец Гесиода
покинул, «убегая от бедности [репга], не от богатства» (Труды и дни
637-638). Мы сталкиваемся здесь с подчеркнутым контрастом
с темой, характерной для жанра «поэзии оснований [ktisis]»,
связанного с великой колонизацией далеких земель
греческими городами с материка и ближайшей периферии57.
В «поэзии оснований» одной из принятых тем было описание
того, что большие города, возникшие в эпоху колонизации в
Малой Азии и других местах, были заложены бесстрашными
искателями приключений, бежавшими от бедности, изводившей их
на родине. Показательным примером служит Колофон, одним
из основателей которого был «человек в отрепьях», Rhakios^
См. собрание соответствующих фрагментов и комментарий к ним
в [Schmid 1947].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 105
получивший это прозвище за «свою бедность и жалкие
лохмотья, в которые он был одет» (схолии к Аполлонию Родосскому
1.308)58. Схожие примеры можно найти и в поэзии Мегары,
превозносившей свой город за то, что во время колонизации
он послужил отправной точкой для основания многих великих
городов, включая Византии59. Феогнид из Мегары призывает
искать избавления от изнуряющей «бедности», penia, в
странствиях и по земле, и по морю (Феогнид 179-180). В итоге можно
заключить, что описание путешествия отца Гесиода из Кимы в
Аскру в поисках избавления от бедности, по сути дела,
переворачивает традиционную тему колонизации в том виде, в каком
она присутствовала в жанре ktisis.
Еще раз подчеркнем, что на это опять-таки указывает
своеобразная «ссылка от противного»: отец Гесиода бежал от репга
«бедности» (Труды и дни 638), а не от богатства (637). Тема
богатства также является характерной чертой «поэзии
оснований», в которой колонисты приходят от бедности к
процветанию, в конце концов делая свои новые города сказочно
богатыми [Nagy 1985а: 51-60]. Примером вновь может служить
Колофон, который по прошествии времени стал безмерно богатым
городом (Афиней 526а, со ссылкой на Ксенофана Колофонско-
го, фр. 3 W). Согласно Феогниду (1103-1104), эта чрезмерность
была знаком hubris «гордыни», которая привела к полному
разрушению Колофона. Поэт предупреждает, что та же судьба
нависла и над Мегарой. И далее вредящая Мегаре hubris
предстает именно как жажда завладеть чужим достоянием,
которая в итоге приводит к изничтожению цвета жителей города
(Феогнид 833-836).
Подобные предупреждения о том, что hubris ведет к
упадку и даже полному уничтожению, напоминают гесиодовскую
картину двух городов: в то время, как город dike
процветает и богатеет (Труды и дни 225-235), так что никто не должен
ради пропитания отправляться в море (236-237), город hubris
беднеет и гибнет (238-247), его жителей губят войны (246) и
бури, которые насылает на них в море Зевс (247). Мы видели,
что в рамках «поэзии оснований» тот же самый город может
вначале представлять собой один полюс, а в конце — другой.
[Schmid 1947: 28-29].
См. [Hanell 1934: 95-97].
106 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Покидая Киму, отец Гесиода бежит от бедности, присущей
городу, который, как подразумевается, сгубила hubris (Труды и
дни 637-638), т.е. на самом деле он оставляет за собой обломки
золотого века колонизации60.
Поселившись в Аскре, отец Гесиода попадает в условную
обстановку подчеркнутой суровости, соответствующую идее
железного века61. В то время как dike и hubris являются
характеристиками соответственно золотого и серебряного веков ( Труды
и дни 124, 134), в описании железного века они соседствуют друг
с другом. Точно так же дело обстоит и с Аскрой: она не
является ни городом dike, ни городом hubris. В то же время это место
наделено чертами, которые указывают то в одну, то в другую
сторону. Например, само название Askrä означает «бесплодный
дуб» (Гесихий s.v. "Ασκρη* δρυς άκαρπος). С одной стороны,
бесплодие — несомненный признак города hubris ( Труды и дни
242-244), но с другой, главным символом города dike является
плодоносящий дуб, покрытый желудями (232-233; заметим
также фонетическое сходство между обозначением «вершины
дуба», drus âkrë, и названием Askrë). Павсаний сообщает (9.29.1),
что, согласно местным преданиям, Аскра была основана Эо-
клом, Oioklos («тем, кто славен овцами»; ср. Труды и дни 234
и Теогония 26), сыном некоей персонифицированной Аскры и
бога Посейдона; а также, что город был основан Отом и Эфи-
альтом, которые были «первыми» принесшими жертвы Музам
на Геликоне. Эти два брата, впрочем, в большинстве
случаев изображаются безусловными носителями hubris (Одиссея XI
305-320, особенно 317-й стих в сравнении с 132-м стихом Трудов
и дней} непосредственно предшествующим изображению гибели
«серебряного поколения» из-за его hubris — 134).
Ранее мы видели, что поначалу борьба dike с hubris в эпоху
железного века человечества выглядит обреченной; но
соответствующее ей противостояние в Аскре, где носитель dike Гесиод
сражается с воплощением hubris Персом, оборачивается
вселенским триумфом справедливости и высшей власти Зевса. В этой
связи стоит обратить внимание на значение имени Перс, Perses.
Следы «поэзии оснований» — в особенности что касается
принятого описания колонизации в образах «золотого века» — можно
обнаружить и в гомеровской поэзии, например в «Одиссее» IX 116-141. Ср.
[Nagy 1979а: 180-181].
61 Ср. [West 1978: 197].
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 107
Поскольку, в отличие от Гесиода, этот персонаж присутствует
только в «Трудах и днях», его имя должно быть как-то
связано с главными темами, лежащими в основе этого произведения.
Что касается формы Perses, то она представляет собой
побочный вариант имени Perseus, возникший в результате дробления
парадигмы склонения. Те же парные формы мы имеем в
случае с именем Kisses (Илиада XI 223) и классическим вариантом
Kisseus62. Кроме того, форма Perseus связана с встречающимся
в сложных словах формантом persi-, производным от глагола
pérthô «разрушать» [Perpillou 1973: 231]. Небезынтересно, что
в гомеровской традиции прямым объектом глагола pérthô
служит исключительно либо polis «город», либо его синонимы pto-
lieihron и astu, либо название конкретного города. А поскольку
Перс в «Трудах и днях» является главным носителем hubris,
то можно связать это с традиционной темой, находящей свое
выражение в поэзии Феогнида: hubris губит город (например,
Феогнид 1103-1104).
Разумеется, hubris губит город только опосредованно: если
быть совсем точным, то города из-за их hubris уничтожает Зевс:
именно так он поступает с архетипическим городом hubris в
«Трудах и днях» 238-247 (см. в особенности ст. 239, 242). В
этом смысле в имени Perses формально заключена
отрицательная сторона деяний Зевса по отношению к тем смертным,
кого затронула hubris. Поэтому, возможно, не случайно Гесиод
в «Трудах и днях» 299 называет своего брата dîon génos
«отпрыском Зевса», а в других случаях этим выражением
именуются только дети верховного бога (например, Артемида в
«Илиаде» IX 538). Более того, начиная с пятого века мы встречаем
упоминания об имени отца Гесиода, которого звали Dîos (см.,
например, свидетельство Эфора из Кимы — FGH 70 F 1).
Таким образом, противостояние Гесиода, носителя dike, Персу,
носителю hubris, соответствующее противостоянию городов dike и
hubris, генеалогически снимается фигурой их отца, имя
которого, по существу, связано с Зевсом, — почти так же, как в
поэме, благодаря полной победе dike Зевса над hubris
примиряются сами Гесиод и Перс.
Постоянной близости Гесиода к Зевсу, Аполлону и его
олимпийским Музам сопутствует и его соотнесение с богиней
Гекатой, превозносимой в «Теогонии» 404-452. Так же как и в фи-
См. эти и другие примеры в [Perpillou 1973: 239-240].
108 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
гуре Зевса, в Гекате как нельзя лучше проявилась
общегреческая направленность поэзии Гесиода. По воле верховного бога
(Теогония 411-415, 423-425) Геката имеет право частично
отправлять функции всех остальных богов (421-422). И потому на
жертвоприношении призыв, обращенный к Гекате, равносилен
призыву, обращенному вкупе и ко всем остальным богам (416—
420). Благодаря своему сравнительно недавнему и, возможно,
даже негреческому происхождению [West 1966: 278]
обобщенная фигура Гекаты служит идеальным панэллинским образом
(с этим можно сравнить выбор «чужестранной» Нисы в
качестве подлинного места рождения Диониса в гомеровском
«Гимне к Дионису» 1.8-9), и поэтому в гесиодовской поэзии могут
явственно описываться ее ритуальные признаки, в то время как
подобные атрибуты исторически более старых богов,
почитавшихся различным образом в каждом городе-государстве,
последовательно умалчиваются в общегреческом контексте
произведений Гесиода и Гомера.
Параллелизм Гекаты и Аполлона и Муз тоже имеет
отношение к панэллинской значимости фигуры Гесиода. Начнем с
того, что Аполлон и Геката на самом деле двоюродные брат и
сестра: их матери, Лето и Астерия, были сестрами (Теогония
405-410), а имя последней, Asieriä, идентично
«божественному» названию Делоса, родины Аполлона (Пиндар. Пэан 5.42 с
подтверждением у Каллимаха Гимны 4.36; ср. также Пиндар,
фр. 33с.6 SM). Общими дедушкой и бабушкой Аполлона и
Гекаты были Феба и Кой, Photbë и Kotos. Первое имя — это форма
женского рода от главного эпитета Аполлона, Photbos
(например, в Теогонии 14), а второе родственно древнеиндийскому kavi
«поэт/пророк»63 (здесь уместно вспомнить высказанные выше
соображения относительно близости Аполлона обобщенной
фигуре aoidos «певца/поэта» и mantis «пророка»). Имя Гекаты,
Hekatë представляет собой форму женского рода от эпитета
Аполлона — Hékatos (как например, в «Гимне к Аполлону» 1).
В высшей степени значимо и то, что имя отцаТекаты — Perses
( Теогония 409) — тождественно имени брата самого Гесиода.
Геката — единственный законный ребенок бога Перса, и
потому именуется monogenês «однорожденной» (Теогония 426,
448). Напротив, Перс-человек отнюдь не единственное дитя
DELG 553 (ср. также греч. kotô «различать» и лат. caveo «опасаться,
принимать меры предосторожности, ручаться»).
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 109
Dîos'a,, коль скоро у него есть брат Гесиод, который, в свою
очередь, втайне хотел бы быть единственным отпрыском, —
недаром он советует, чтобы в семье в идеале был mono g en es
«однорожденный» ребенок, чтобы унаследовать хозяйство
отца целиком {Труды и дни 376-377). Что произошло бы, если
бы Геката не была monogenés, можно предположить, исходя из
описания рождения Эриды, Eris «Вражды» в «Трудах и днях»
11-26, за которым стоит традиция, альтернативная истории,
упомянутой в «Теогонии» 225. Согласно «Трудам и дням», не
было «одного рождения» Эриды (11) — а именно эта версия
содержится в «Теогонии» 225, — на самом деле родилось две
Эриды {Труды и дни 11-12). Вторая, младшая Эрида
отрицательно относится к человечеству; а вот первая и старшая
влияет на него положительно: она утверждает дух соревнования
и даже ленивого заставляет трудиться на земле ради
пропитания {Труды и дни 12-24). А поскольку Eris рождает Neî-
kos «раздор, ссору» {Теогония 229), то и neikos^ ссора Гесио-
да и Перса {Труды и дни 35), тоже продиктована Эридой. На
первый взгляд кажется, что это дело рук второй, зловредной
Эриды, но, поскольку в конце концов netkos в «Трудах и днях»
разрешается триумфом dike Гесиода над hubris Перса, мы
имеем все основания заключить, что причина здесь все же в
первой, благодетельной Эриде [Nagy 1979а: 313-314]. Суть в том,
что если нераздельная отрицательная Эрида может
распасться на первую, положительную, и вторую, отрицательную, то
следует предположить, что и нераздельная Геката может точно
так же разделиться на две: но тогда первая будет
отрицательной, а вторая — положительной. Так что для человечества
лучше, чтобы Геката оставалась единственным ребенком, а то
старшее дитя из предположительной пары, получившейся из
распавшейся monogenes, «однорожденной», Гекаты, вероятно,
заняло бы место своего отца, в чьем имени Perses воплощена
отрицательная реакция богов на человеческую hubris6*. Точно
так же Гесиод и Перс вдвоем представляют собой такую пару —
с первым положительным и вторым отрицательным элементом.
При этом второй ребенок Перс обладает именем, опять-таки
отражающим отрицательную реакцию Зевса на hubris людей.
О мрачных сторонах Гекаты, воплощенных в архаической греческой
иконографии, см. [Vermeule 1979: 109].
110 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
Вспомним еще раз: недаром имя отца Гесиода и Перса, Dîos,
по существу, близко самому Зевсу.
Подобная специфическая содержательная связь Гесиода с
образом Гекаты заставляет задаться вопросом относительно
одного весьма показательного эпизода из «Трудов и дней». На
фоне многочисленных советов, которые Гесиод дает Персу
касательно мореплавания, сам поэт откровенно признается, что
он никогда не плавал на корабле за исключением одного
раза, когда он путешествовал из Авлиды на остров Эвбею (650-
651). И непосредственно вслед за этим идет сознательная
отсылка к традиции, по которой Авлида была отправным пунктом
ахейского похода на Трою (651-653). Таковым Авлиду
признает и «Илиада» (II 303-304), и, согласно большинству
источников, именно в Авлиде Агамемнон принес в жертву Артемиде
свою дочь Ифигению (см., например, Киприи в изложении Про-
кла с. 104.12-20 Allen). Из гесиодовского «Каталога женщин»
(фр. 23а. 15-26 MW) мы узнаем, что в дальнейшем Артемида
даровала бессмертие принесенной в жертву Ифигении (которая
в «Каталоге» называется Ифимедой, ст. 15, 17) и что Ифигения
стала богиней Артемидой Перекрестков, в других случаях
отождествляемой с Гекатой (Гесиод, фр. 23Ь = Павсаний 1.45.1).
Согласно «Теогонии» (435-438), Геката помогает
соревнующимся на состязаниях, причем поэт специально упоминает
состязания атлетов. Когда Гесиод переправлялся из Авлиды на
Эвбею, он ехал именно на состязания — погребальные игры в
честь Амфидаманта в Халкиде (Труды и дни 654-656). На этих
играх он сам принял участие в состязании поэтов — и
победил (656-657). Он увозит домой в награду треножник, который
посвящает родным геликонским Музам (657-658). Завершая
рассказ о призе, выигранном им на поэтических состязаниях,
Гесиод еще раз подчеркивает, что это был один-единственный
раз, когда он выходил в море (660).
Единственное морское путешествие Гесиода нарочито
кратко: до Эвбеи от Авлиды надо проплыть где-то метров
шестьдесят пять [West 1978: 320]. Здесь наличествует скрытый
контраст по сравнению с долгим плаванием, предпринятым
ахейцами из Авлиды в Трою. Вероятно, эту антитезу предполагалось
развернуть: Авлида являлась исходным фоном для традиции
«Каталога кораблей», который в «Илиаде» помещен в
троянский контекст лишь потому, что действие данного эпического
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 111
произведения начиналось только в последний год войны. Но
даже «Илиада» называет Авлиду исходным пунктом отправки
ахейского флота. Более того, Гомер постоянно подчеркивает,
что море — ключ к спасению ахейцев (см., например, Илиада
80-82)65, а Гесиод по контрасту постоянно подчеркивает свою
собственную неопытность в мореплавании; дополнительный
акцент на Авлиде как отправной точке не только его краткого
морского путешествия, но и долгого плавания ахейцев делает
противопоставление тем более ярким. Поэтому вполне
возможно, что в этом отрывке мы сталкиваемся с сознательной
попыткой разграничить гесиодовскую и гомеровскую поэзии.
В этой связи уместно обратить внимание на одно
разночтение, приводимое схолиями к «Трудам и дням» 657. В
содержащемся там варианте Гесиод заявляет, что его соперником в
поэтическом состязании, которое он выиграл, был не кто иной,
как сам Гомер:
υμνώ νικήσαντ εν Χαλκίδι θείοι/ "Ομηροι/.
победив в песне божественного Гомера в Халкиде.
Вариант к «Трудам и дням» 657
вместо:
υμνώ νικήσαντα φερειν τρίποδ' ώτώεντα.
победив в песне, [я говорю, что я] унес [в качестве награды]
треножник с ручками.
Традиционное мнение о том, что подобный вариант
представляет собой не более чем интерполяцию (при том, что
предположительно интерполированный стих соответствует строке,
содержащейся в приписываемой Гесиоду эпиграмме в «Споре
Гомера и Гесиода» с. 233, 213-214 Allen), вполне
бездоказательно. В свою очередь, утверждение, что этот стих мог входить
в одну из подлинных версий этого отрывка, вовсе не означает,
что сохранившийся вариант с треножником не подлинен. Для
архаической греческой поэзии приводимые в разных местах
варианты могут всегда оказаться не произвольными изменениями
текста, а скорее подлинными традиционными вариациями,
постепенно вытесненными в процессе выработки фиксированного
текста поэм [ср. Lamberton 1988: 45-48].
Более того, до нас дошла традиционная история,
рассказывающая о состязании Гомера и Гесиода (Спор Гомера и Геси-
См. подробный разбор в [Nagy 1979а: 333-347].
112 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
ода, с. 225-238 Allen) и соединяющая традиции жизнеописаний
Гомера и Гесиода. В сохранившемся виде она представляет
собой позднюю смешанную переработку, об авторстве которой до
сих пор идет множество споров66. Но одно можно, по крайней
мере, утверждать с уверенностью: основа истории, сама идея
поэтического соревнования между Гомером и Гесиодом
обнаруживает черты вполне традиционной темы. Более того, эта тема
соответствует важнейшему принципу устройства архаического
греческого общества: со времен устных поэтов и на протяжении
всей эпохи рапсодов исполнение поэзии по самой своей
природе предполагало состязание67.
ЗАМЕТКИ НА БУДУЩЕЕ
Воспринимая Гесиода просто как обычного автора, мы
только усугубляем недостаточность нашего понимания его
произведений — а именно непонимание того, что Гесиод — это
венец бесчисленной цепи поколений певцов, общавшихся со своей
аудиторией по всему грекоговорящему миру. Мы восхищаемся
поэтическими приемами, которые, будьте уверены,
отрабатывались тысячекратно перед весьма искушенными слушателями.
Даже несомненные признаки единства гесиодовских поэм,
бесспорно, явились результатом самоорганизации традиции,
происходящей путем постоянного пересоздания произведения при
каждом новом его исполнении. В таком случае, пожалуй,
можно рассуждать не столько о поэме, сколько о традиции
исполнения поэмы определенного типа.
Поскольку существенным дополнительным фактором
является общегреческое распространение поэм, в своем
последовательном пересоздании гесиодовская поэзия со временем
варьируется все меньше и меньше, все более и более отчетливо
выкристаллизовывается окончательный текст, отвечающий все
возрастающему стремлению к универсализации творчества. Ко-
Сейчас мы не будем касаться этой проблемы. См. [Janko 1982: 259-
260], а также [Dunkel 1979: 252-253]. Весьма полезный обзор истории вопр-
са содержится в [Lamberton 1988: 5-10].
См. подробное обсуждение в [Durante 1976: 197-198]. Ср. также
[Dunkel 1979] и [Nagy 1979а: 311 § 2, прим. 6]. В качестве примера иного
мифа о поэтическом состязании сошлюсь на историю о соревновании двух
«кикликов» Арктина Милетского и Лесха из Митилены (Фений, фр. 33
Wehrli у Климента Александрийского. Строматы 1.131.6).
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 113
нечно, степень и даже время такой кристаллизации для
каждой поэмы и даже для разных частей одного и того же
произведения могли разниться. Подобный подход позволяет нам
в принципе включать в гесиодовский корпус и такие
сочинения, как «Щит Геракла», несмотря на то что в нем
содержатся отсылки к памятникам изобразительного искусства,
датируемым началом пятого века. Ученые со слишком очевидной
готовностью отрицают подлинность этого произведения,
исходя исключительно из датировки, — тем легче им потом
принижать его художественные достоинства, считая «Щит» всего
лишь подражанием Гесиоду.
Исследователи также заметили, что заключительная часть
«Теогонии» (ст. 901-1020) формально и даже стилистически
отличается от остальной поэмы [West 1966: 398]. Но эта часть
отлична от прочих еще и функционально, а значит, мы в
принципе можем заключить, что в устной поэзии тематическая
разнородность влечет за собой и различия в формальном и даже
чисто языковом устройстве. Иными словами, разность
контекстов отражается и в языковых различиях. Объяснение такого
рода выглядит предпочтительнее столь любимой многими
специалистами идеи о том, что «Теогония» как-то сложилась из
творчества одного Гесиода и множества лже-Гесиодов. Хуже
того, некоторые заходят дальше и списывают структуру поэмы
на утомительную деятельность множества редакторов. Какими
бы аргументами ни подкреплялась идея множественного
авторства, понятно, что нет и не может быть достаточного согласия
в том, как много или как мало из общего целого поэмы
принадлежит тому, настоящему Гесиоду. В целом кажется более
разумным рассматривать все произведения Гесиода, включая
фрагменты, как разнообразные проявления гораздо более
широкого явления, имя которому — гесиодовская поэзия.
Другим препятствием правильному восприятию поэзии
Гесиода, преодолеть которое, пожалуй, еще сложнее, является
распространенный взгляд на него как на примитивного
«земляного червя», крестьянина, который силится выразить себя,
прибегая к нескладным и занудным поэтическим средствам,
наскоро и неуклюже слепленным на манер эпоса, мастерством
сложения которого он не очень-то и владел. Таким образом,
самоописание Гесиода, изображающего себя земледельцем, трудящимся
ради пропитания, просто принимается за исторический факт, на
основании которого можно делать снисходительные умозаклю-
114 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
чения касательно невысоких умственных способностей беотий-
ского крестьянина восьмого века до н.э. В итоге выходит, что
поэзия Гесиода, а раз уж так, то и Гомера, была неким
первичным сырым материалом, которому греки потом по каким-
то причинам придали абсолютную ценность, сделав его точкой
отсчета прежде всего для своей поэзии и риторики, да и
вообще основой всей своей цивилизации. Разумеется, если считать
Гомера и Гесиода создателями, а не созданиями греческой
поэтической традиции, то всегда можно найти ошибки там, где
мы их поэзию не до конца понимаем. Годами Гесиоду
доставалось прежде всего за подобное оскорбление чувств современных
литературоведов. Ему даже ставили в вину, что он порой
забывает о том, с чего начал, — и делали это, безусловно, самые
близорукие из его критиков.
Вне всякого сомнения, были и те, кому удавалось вполне
отчетливо продемонстрировать целостность и точность гесиодов-
ской поэзии. Я бы выделил работу Жана-Пьера Вернана, чьи
разыскания касательно таких ключевых гесиодовских тем, как
история Прометея и правления Зевса, столь содержательны,
что не стоит здесь давать их краткое изложение [Vernant 1974:
103-120, 177-194]. В книге Питера Уолкота приведено
множество ближневосточных параллелей различным составляющим
«Теогонии» и «Трудов и дней», что позволяет пролить свет
на внутренние механизмы создания гесиодовских поэм [Walcot
1966]. Нельзя недооценивать значение этих аналогий: то, что до
сих пор я о них не упоминал, можно извинить только ссылкой
на две книги комментариев Мартина Уэста, где собраны все
наиболее показательные случаи [West 1966, 1978]. Впрочем,
следует заметить, что подобные ближневосточные параллели могут
в каждом отдельном случае объясняться типологическими
причинами, а не считаться прямыми заимствованиями. Учитывая,
что в области мифотворчества параллелизм различных
культур принимает поистине всеобъемлющий характер, даже самые
удивительные совпадения конкретных деталей могут
оказаться не более чем типологическим сходством. Так, в мифологии
инков можно обнаружить настолько близкие параллели геси-
одовской версии мифа о Пандоре [Sinclair 1932: 13], что они
превзойдут все ближневосточные аналогии, на которые
принято обычно ссылаться в поиске «источников» Гесиода.
В рамках общего изучения поэзии Гесиода одной из
областей, остающихся в наибольшем небрежении — в том числе и
Глава 3. ГЕСИОД И ПОЭТИКА ПАНЭЛЛИНИЗМА 115
в данной работе, — являются ее художественные особенности.
Наше понимание стоящей за Гесиодом традиции далеко не
полно, и потому многие специальные эффекты, от которых пришла
бы в восторг более подготовленная аудитория, для нас
утрачены навсегда, а туманные очертания других только
угадываются. И потому мне кажется весьма уместным завершить этот
раздел попыткой различить одну из смутно угадываемых
последовательностей таких приемов, попыткой, которая
одновременно показывает и художественное богатство поэзии Гесиода,
и нищету нашего понимания ее.
В «Трудах и днях» 504-563 изображена суровая зима, когда
северный ветер обрушивается на деревья по склонам гор и на
пути своим холодным дыханием проникает под кожу всех
живых существ (507-518). Сравнение этого места с
параллельными описаниями в иных индоевропейских традициях
убедительно показывает его подчеркнуто сексуальный подтекст [Watkins
1978а: 231]. Следом (519-525) возникает контрастный
чувственный образ юной девушки, «которой еще не ведомы пути
золотой Афродиты» (521): она моется в теплой и уютной светелке,
надежно укрытой от пронизывающего ветра. В эту же пору
anosteos, «бескостный» грызет свою ногу в своем холодном и
жалком логове (524-525). Используемое здесь греческое слово
anosteos родственно древнеиндийскому anasthâ- «бескостный»,
которое является кеннингом, парафразой для «пениса»68, а
греческое «грызть», téndô (525) связано с ирландским teinm (Iaido)
«грызть [костный мозг]», описывающим магическое действие
приобретения пророческого знания69. Таким образом,
грызущий свою ногу «бескостный» — это тот, кто «знает», в
противовес неопытной молодой девушке, которая не «знает» (ει
δνΐα — 521).
Однако аллюзии распространяются и дальше.
«Бескостный» может также подразумевать осьминога (ср. синтаксис
фразы с anosteos из «Трудов и дней» 524 с построением
предложения во фрагменте Гесиода 204.129 MW, где говорится о
atrikhos «безволосом» = «змее»), животное, которое, согласно
греческому фольклору, съедает собственные ноги, когда
голодно70 . Грызущий свою ногу голодный осьминог изображен сидя-
См. необходимые ссылки в [Watkins 1978а: 233]
69 [Там же: 232].
Соответствующие места приведены в [West 1978: 290].
116 ЧАСТЬ I. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭТИКИ
щим в своем холодном и жалком логове ( Труды и дни 525) — и
этот мотив нищеты возвращает нас к предшествующему образу
бедняка, сидящему зимой, обхватив тощей рукой опухшую ногу
(496-497). Прок л в своем комментарии к этому месту приводит
эфесский закон, по которому запрещено бросать своего
ребенка прежде, чем ноги отца его не опухнут от голода [West 1978:
284]. На ум немедленно приходит история брошенного ребенка
Эдипа, чье имя Oedipous означает «с опухшими ногами».
В этой связи обратимся к еще одному употреблению
слова pons «нога» в отрывке о зиме. В «Трудах и днях» 533-535 о
зимней буре говорится, что ветер заставляет всякого согнуться,
подобно tripous) «трехногому» человеку (533; ср. 518). Этот кен-
нинг, означающий человека, опирающегося на палку, отсылает
к агпгдта «загадке» Сфинкса, разгаданной Oedipous, Эдипом
(Софокл. Эдип-царъ 393, 1525)71. Подобно «бескостному»,
который «грызет» свою ногу (Труды и дни 524) и потому знает (как
прорицатель), Эдип тоже знает, благодаря тому что разгадал
загадку Сфинкса. По тону весь отрывок близок оракулу, и
позже (Труды и дни 571) это впечатление усиливается еще одним
кеннингом, pheréoikos «тот, кто несет свой дом» (=«улитка>>),
который вводится выражением all' hopoV «но всякий раз...»
(571), зачастую предваряющим оракулы [West 1978: 302].
Несмотря на все вышеизложенное, мы по-прежнему
остаемся далеки от понимания всего, что подразумевается в данном
отрывке, точно так же как далеки мы и от понимания всего,
что можно понять о Гесиоде и его мире.
Подлинный смысл гесиодовских произведений будет от нас
ускользать до тех пор, пока мы не сможем в достаточной мере
оценить ту традицию, которая за ними стоит. Остается
надеяться на то, что дальнейший тщательный анализ их внутреннего
строения и последовательное сравнение с иными
поэтическими традициями Греции позволят завтрашнему читателю
приблизиться к правильному пониманию эстетических механизмов
гесиодовской поэзии. Но даже если и так, мы все равно
всегда останемся далеки от целостного восприятия всего того,
чего ожидали и что находили в этих поэмах их древнегреческие
слушатели, для которых они и были предназначены.
71 Ср. Асклепиад FGH 12 F 71 с комментариями в [West 1978: 293].
ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
Эллинизация
индоевропейского
мифа и ритуала
Глава 4
ПАТРОКЛ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ
И ДРЕВНЕИНДИЙСКИЕ
ТРИ ОГНЯ
Ритуальные черты погребальных игр на похоронах Патро-
кла, описанные в двадцать третьей песни «Илиады», уже
сравнивались с похоронными обрядами в честь хеттских царей1.
Параллелизм в деталях и в стоящей за ритуалом общей
идеологии предполагает общеиндоевропейское происхождение,
которое можно подкрепить еще и древнеиндийским материалом2.
Если за похоронами Патрокла на самом деле стоят весьма
ранние представления, восходящие к индоевропейской эпохе,
тогда следует пересмотреть и основные критерии датировки
гомеровских поэм. Археологам сожжение тела Патрокла, как и
кремация гомеровских героев вообще, кажется знаком
обычаев, возникших лишь в первом тысячелетии до н.э., т.е. тогда,
когда кремация и ингумация сосуществуют. Это означает, что
в данном случае гомеровская поэзия отражает, по сути, почти
современное состояние вещей, в противовес более древнему
наследию, восходящему к микенской эпохе второго тысячелетия,
когда ингумация была нормой, а сожжение достаточно редким3.
С другой стороны, сравнение с иными традициями показывает
теперь, что описанная у Гомера практика, а также сама идея
1 См. [Christmann-Franck 1971: особ. 61-64]; ср. [Vieyra 1965].
Погребальные тексты хеттов см. в издании [Otten 1958].
См. [Lowenstam 1981: 152], где места из «Ригведы» 10.16.4 и 10.16.7
сопоставляются с «Илиадой» XXIII 167-169. В обоих произведениях
описывается, как труп покрывается слоем жира жертвенных животных.
3 См. [Andronikos 1968: особ. 76].
120 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
кремации, в действительности древнее даже второго
тысячелетия до н.э. и потому отражает — пусть отдаленно — обычаи,
относящиеся к временам, предшествовавшим проникновению в
Грецию в начале второго тысячелетия индоевропейского
языка, который в конце концов и преобразился в язык
древнегреческий. Но для моих целей важнее даже другое —
сравнительный материал дает основания предполагать, что сожжение Па-
трок л а является традиционной темой, в основе которой лежат
представления о загробной жизни вне пределов Аида.
Пока же я предпочту говорить о «загробной жизни», а не о
«воскресении» или «эсхатологии». Эти слова тоже будут иметь
отношение к моему исследованию: далее мы увидим, что в
индоевропейских языках, в том числе и в греческом, встречается
немало разнообразных и весьма архаичных моделей,
отражающих представления о жизни после смерти4. Но все же начинать
надо с самого общего термина.
Я стремлюсь доказать, что гомеровский рассказ о кремации
тела Патрокла пронизан представлениями о загробной жизни.
Мы увидим, что в более выраженном виде сходные идеи
зафиксированы в древнеиндийских обрядах, особенно в
молитвах богу Савитару и ритуалах, относящихся к так называемым
Трем Огням. Вслед за подробным разбором индийского
материала, который последует вскоре, мы сможем обнаружить, что
весьма схожие концепты находят свое, пусть и опосредованное,
отражение и на греческой почве, а именно в гомеровском
поэтическом повествовании5.
Мое соотнесение практики сожжения трупа с
представлениями о загробной жизни вовсе не означает убежденности в том,
что кремация была определяющим погребальным обрядом для
индоевропейцев. Я утверждаю только одно — кремация,
бесспорно, была одним из типов такого обряда наряду, вероятно,
еще с несколькими другими. Обсуждая различия в практиче-
За общим введением в проблему «индоевропейской эсхатологии»
стоит обратиться к работе [Lincoln 1986: 119-140].
Исповедуемый мною компаративный подход заставляет приходить
к выводам, которые расходятся, хотя бы частично, с теми, что
содержатся в последних исследованиях, посвященных греческим представлениям о
«душе». См. прежде всего [Claus 1981; Bremmer 1983], а также [Ireland,
Steel 1975; Darcus 1979ab; Garland 1981]. Обзор этих работ содержится
в диссертации [Caswell 1986], которая должна быть опубликована в
монографическом виде.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 121
ском осуществлении похоронного обряда, скажем разницу
между захоронением в земле и сожжением, я хотел бы с
самого начала подчеркнуть, что в подобной практике не надо
искать каких бы то ни было традиционных универсальных
мыслительных (а мне по-прежнему нравится называть их
идеологическими) моделей. Ритуалы кремации и ингумации в разных
обществах или даже в разные периоды развития одного и того
же общества могут «означать» разные вещи [ср. Bremmer 1983:
94-95]. Если две эти формы сосуществуют в одном обществе,
то мы можем предположить, что каждая из них наполнена
собственным смыслом6. Однако в других случаях подобное
соседство может отражать стирание существовавших ранее
различий7. Иногда за практикой захоронения в земле может вообще
не стоять никаких концепций загробной жизни, характерных
для данного общества [Bremmer 1983: 95]. В ином же
контексте у нас могут быть самые серьезные основания полагать, что
ингумация подразумевает представление о последующем
воскрешении8 . На мой взгляд, вряд ли следует становиться в позу
скептика и в принципе сомневаться в наличии такой идеологии9
на том лишь основании, что «часто встречается просто
ингумация вне всякой связи с идеей воскресения» [Bremmer 1983: 97].
Начнем с как можно более краткого обзора свидетельств
древнеиндийских вед, в которых обнаруживаются самые
архаичные для Индии представления о загробной жизни10. Вплоть
до смерти человека центр его сознания, одновременно
включающее рациональное и эмоциональное начала, именуется minas-.
В момент смерти man as- отделяется от тела, и в процессе
этого отделения minas- отождествляется или составляет пару с
понятием isu-. После смерти minas- и isu- обозначают некий
бестелесный носитель личности покойника, иногда
предстающий в виде хрупкого и зыбкого образа маленького человечка,
Ср. [Berard 1970: 48-53] применительно к древней Эретрии.
7 Ср. [Bremmer 1983: 94-95].
Ср. [Berard 1970: 52] об ингумации детей в древней Эретрии.
Более подробно о различных идеологиях, связанных с кремацией,
ингумадией или выставлением трупа см. ниже в главах 5 и 6.
Наиболее подробное и полезное изложение материала см. в
статьях [Arbman 1926/1927], в которых содержатся важные типологические
соображения по поводу греческих данных. Список позднейших
исследований, демонстрирующих влияние этих работ на последующее развитие
науки, см. в [Bremmer 1983: 10].
122 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
схожего с тем, как выглядел умерший при жизни11. В конце
концов man as- и/или asu- достигают «третьего неба», где
пребывают pitr- «предки»12. Manas- и/или asu- должны
воссоединиться с телом, и кремация трупа становится ключом к такому
конечному воссоединению13.
Предварительное сопоставление с архаическим греческим
материалом обнаруживает поразительные схождения и
расхождения. Вплоть до смерти центр сознания, соединяющий
рациональное и эмоциональное начала, именуется словом thümos1*,
которое может в этом контексте соединяться с другим —
ménos15. В момент смерти thümos отделяется от тела, и в
описании этого разъединения thümos могут сопутствовать ménos
или psükhe16. После смерти psükhe обозначает бестелесный но-
Например, в истории о Савитри (Махабхарата 3.281)
описывается, как Яма — царь предков и бог мертвых — извлекает из тела ее мужа
человечка размером с палец, и в этот самый момент у умирающего
прерывается дыхание и на теле проступают знаки смерти. См. комментарий
к этому месту в [Arbman 1927: 79, 105-106, 110].
См. собрание соответствующих контекстов в [Oldenberg 1917: 533-
534]. В той же работе на с. 527-528 приводятся содержащиеся в «Атхарва-
веде» заклинания, предназначенные для умирающего; желание удержать
mânas- и asu- в теле, дабы человек остался в живых, является там
постоянной темой.
См. [Arbman 1927; 90-100, в особ. 93]. Воссоединение mânas- и/или
asu- с телом предстает как некий эсхатологический процесс. Например,
согласно «Джайминийе-брахмане» 1.49.1 и далее, личность умершего
покидает тело и благодаря кремации «из дыма уходит в ночь» (dhümäd vai
rätrim ару eti). Потом она из ночи переходит в день, затем из дня
переносится в темную часть месяца, из нее — в светлую часть, а потом — в сам
месяц, где наконец тело и asu- воссоединяются. Показательно, что здесь
личность расстается с телом именно во время сожжения, в то время как
по иным версиям это отторжение происходит собственно в момент смерти.
Подробнее о теме dhumâ- «дыма» от погребального огня см. ниже с. 157.
14 [Arbman 1926: 185-191; Böhme 1929: 69-74].
Примеры парного соединения thümos и menons: «Илиада» V 470,
VI 72, XI 291 и т.д. См. также обсуждение строки «Илиады» XX 174 в
сопоставлении со стихом 171 той же песни в [Nagy 1979а: 136-137]. Оба
слова включают как физические, так и ментальные характеристики: о
thümos см. [Redfield 1975: 173]; о ménos см. [Nagy 1974а: 266-269]. Также
более поздняя работа о thümos — [Caswell 1986].
См. список соответствующих гомеровских контекстов в [Warden
1971]. Высказывались сомнения в том, что ménos физически покидает
тело, поскольку глагол Χνθη «был отпущен», для которого ménos является
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 123
ситель личности покойного, временами предстающий в образе
маленького человечка, схожего с тем, как выглядел умерший
при жизни17. Я хотел бы подчеркнуть, что psûkhê является не
более чем носителем личности, а не личностью как таковой: в
гомеровском языке словом autos «он сам» в действительности
называется труп, который psükhe оставляет после того, как
герой расстается с жизнью (см., например, Илиада I 3-4)18.
Как правило, psükhe при жизни не служит для
обозначения средоточия человеческого сознания, его рационального и
эмоционального начал тогда, когда герой жив19. В свою оче-
субъектом в контекстах вроде «Илиады» V 296, содержит в себе «метафору,
в которой рухнувший труп уподобляется лошади, которая падает, когда ее
распрягут после утомительной скачки» [Bremmer 1983: 76]. Однако
следует заметить, что в этом и других подобных контекстах (например, Илиада
VIII 123, 315), субъектом могут служить как ménos, так и psûkhé] а насчет
psükhe действительно существует твердое представление о том, что она
покидает тело в момент смерти (например, Илиада XVI 856). Так же обстоит
дело и с еще одним возможным коррелятом ménos, а именно thümos; в
момент гибели он тоже покидает тело (например, XXIII 880). Более того, что
касается употребления глагола Ιύδ в значении «разнуздать лошадь», то он
может подразумевать не столько то, что лошадь после скачки
останавливают (как, например, в Илиаде V 369), сколько то, что ее начинают
уводить прочь (как, например, в X 498). Иными словами, сочетание глагола
\νθη «был отпущен» с ménos может нести в себе образ лошади,
отбегающей в сторону от колесницы, в которую она только что была впряжена.
Точно так же в метафорических описаниях изнеможения и усталости
может возникать картина ménos, готового отделиться от тела (ср., например,
соединение глагола dia-krino «разделять» с ménos в Илиаде II 387).
Об изображении psükhe Патрокла или даже Ахилла в виде
такого маленького человечка в черно фигурной вазописи см. [Stähler 1967:
особ. 32-33, 44]. На мюнстерской гидрии (инв. № 565) рядом с
фигуркой Патрокла стоит даже специальная подпись ΦΣ YXE «psükhe, душа».
В книге К. Штелера [там же: 28-29] убедительно аргументировано, что
такая иконография psükhe имеет «догомеровское происхождение». См.
также ниже с. 290.
Ср. [Nagy 1979а: 208]. Концепт psükhe характеризуется неким
напряженным внутренним соотнесением личностного и без личностного. Вот что
пишет Ж.-П. Вернан об эпизоде, когда ρsükhe Патрокла является Ахиллу:
«...тут ощущается и присутствие друга, и его безвозвратное исчезновение;
это и сам Патрокл, и в то же время не более чем дуновение, дым, тень,
шорох вспорхнувшей птицы» [Vernant 1985 (1962): 330].
19 См. [Arbman 1926: 191-198]. Впрочем, я не согласен с тем, что
автор данной работы полностью отрицает связь psükhe с семантикой
дыхания [см. там же: 90-91].
124 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
редь, после смерти бестелесный носитель личности умершего
обычно не называется словами thümos и ménos20. Только в
момент смерти все три слова thümos/ménos/psükhe оказываются
полностью синонимичными21. Отделившись от тела, эти три
субстанции устремляются в Аид.
Однако в некоторых гомеровских эпизодах они могут
задержаться с прибытием в Аид. Так, например, после того как
psûkhé Патрокла отделилась от тела при его смерти (Илиада
XVI 856), она направляется в Аид (XVI 856), но туда ее не
допускают (XXIII 72-74); явившись в видении Ахиллу (XXIII 65
и далее), psükhe Патрокла заклинает друга похоронить его
тело (XXIII 71), а точнее, предать его огню (XXIII 76), чтобы его
psükhe наконец впустили в Аид (XXIII 71, 75-76). Ахилл
поражен тем, что psükhe Патрокла обладает phrénes (XXIII 103-
104)22. Не забудем, что phrénes обозначает физическое
местонахождение thümos23 и ménos2* в живом человеке. И в самом
деле, слова, обращенные psükhe Патрокла к Ахиллу в
«Илиаде» XXIII 65-92 — это речь личности, вполне осознающей
самое себя и контролирующей свой разум и эмоции25. Логично
предположить, что psükhe Патрокла может отделиться и
обособиться от его thümos/ménos и получить тем самым возможность
попасть в Аид только после того, как тело его будет сожжено26.
На поверхности все выглядит так, как если бы конечным
местом пребывания psükhe становится Аид. Более того, коль ско-
См. [Arbman 1926: 191-198; 1927: 165]. Обратим внимание также
на гомеровское выражение νεκνων αμενηνά. κάρηι/α «главы мертвых,
лишенные ménos» (ОдиссеяХ 521, 536; XI 29, 49). О характерном для греков
представлении «лика, личности» в виде «головы» см. [Warden 1971: 97].
21 См. [Böhme 1929: 103], а также [Schnaufer 1970: 180].
См. интерпретацию двух этих стихов в [Schnaufer 1970: 77-79]; в
104-м стихе аетар указывает, по мнению автора работы, на неожиданное
противоречие (а именно присутствие phrénes). Суть слов Ахилла примерно
такова: «Оказывается, действительно бывает psükhe μ вне Аида — только
лишь образ, и все же наделенный сознанием (=имеюший phrénes)\»
23 См., например, Илиада X 232, IX 462, XIII 487 и т.д.
См., например, Илиада I 103, XXI 145; Одиссея I 89 и т.д.
Более того, характерно, что в данный момент psükhe Патрокла —
это не миниатюрная фигурка, как обычно (Илиада XXIII 66).
См. выше в прим. 13 описание сходного древнеиндийского
представления о том, что личность покойного отделяется от его тела с дымом,
dhümd-, погребального костра.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 125
ро кремирование тела позволяет psukhé достичь Аида, это вроде
бы означает, что тем самым она утрачивает сознание,
обладание разумом и эмоциями; и это возвращает нас к исходному
впечатлению: покойник остается мертвым навсегда. В таком
случае мы не можем не отметить существенное расхождение с
индийским пониманием, согласно которому mânas- и/или asu-
не только сохраняют в себе сознание и рациональные и
эмоциональные способности, но к тому же в конце концов
воссоединяются с телом путем кремации. Впрочем, причиной
расхождения является не то, что содержится в греческом описании
данного процесса, а то, что остается невысказанным. Не будем
забывать, что наделена psukhê сознанием или нет, она все же
является носителем личности покойного. Тем самым
возможность того, что psukhé в конечном счете все же воссоединится
с телом, остается открытой. Поскольку понятия вроде ihumos
или ménos связаны с сознанием и рациональными и
эмоциональными способностями, эти слова могут на первый взгляд
показаться более подходящими для обозначения той
субстанции, которая отделяется от тела, но может —
предположительно — с ним и воссоединиться. Однако мы только что заметили,
что в момент смерти thümos и ménos синонимичны psukhé. Тем
не менее стоит личности умершего пересечь границы Аида, и
слова thümos и ménos к ней больше не применяются. С этой
минуты носителем личности остается psukhé и только она.
Тождество сначала существует, но потом оно нарушается: значит,
psukhé ранее находилась в некоей связи с сознанием, разумом
и эмоциями; в Аиде же эта связь прерывается.
В своей интерпретации я расхожусь во мнении с теми, кто
считает, что в мифопоэтических представлениях
«примитивной» культуры отсутствие тождества между «Ichseele»
(личностным представлением о душе, соответствующим thümos/
ménos) и «Psycheseele» (психологической концепцией души,
выражающейся в psukhé) предполагает изначальное
разграничение этих двух концептов [ср. Arbman 1927: 159-160]. Я
полагаю, что подобное различие — как в случае с thümos/ménos с
одной стороны, и с psukhé, с другой — может являться
вторичным, т.е. быть результатом позднейшей специализации понятий.
Иначе говоря, для thümos/ ménos и psukhé совпадение значений
отражает первичное, а их расхождение — вторичное состояние.
Тогда редкие «исключения» из привычной картины — напри-
126 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
мер, контексты из «Илиады» VII 131 (когда в Аид
отправляется thümos) или XXI 569 (когда psükhe является
принадлежностью живого героя) — можно считать сохранившимися следами
исходных представлений, когда ihumos/ménos и psûkhé еще не
отделялись друг от друга в тех областях, в которых они
впоследствии были разграничены.
Мое понимание противоречит и интерпретации гомеровской
psûkhé ne как «психологического начала» (Psycheseele), а
просто как «духа смерти» (Totengeist)27. Это спорное утверждение
опирается на привычное гомеровское описание того, как герой
лишается чувств: всегда упоминается, что psükhe покидает
тело, но никогда — о том, что она возвращается, когда герой
оживает28. В такого рода случаях говорится только о том, что
к герою возвращается thümos или ménos29. Подобная строгость
в употреблении данных понятий заставляет некоторых
исследователей утверждать, что для «Гомера» psûkhé не несла
никаких жизненных функций и само это слово никак не означало
сознания [Böhme 1929: 111, 124].
Но даже сторонники этой интерпретации вынуждены
признать30, что за понятием psükhe изначально стояло
представление о дыхании (ср. гомеровское psukhö «дуть» — о ветрах,
например, в Илиаде XX 40), потеря которого становится первым
признаком смерти в обычном гомеровском описании. С
дыханием также связаны и слова thümos и ménos31.
Соответственно, представления о потере сознания и смерти как об утрате
thümos/ménos/psükhe с физиологической точки зрения
выглядят вполне обоснованными и естественными; однако, когда к
лишившемуся чувств герою возвращается дыхание, говорится
27 См. [Böhme 1929: 124].
Полезный свод показательных контекстов содержится в [Schnaufer
1970: 194-195].
См. thümos в «Илиаде» XXII 475, «Одиссее» V 458, XXIV 349; ménos
в «Илиаде» XV 60, 262. Разбор контекстов см. в [Schnaufer 1970: 198-201].
Так полагает, в противовес Э. Арбману [Arbman 1926: 194-195],
Ю. Бёме [Böhme 1929: 22, 124]; более подробно см. в [Schnaufer 1970:
198-201].
31 гл »
Ор. соединение глагола асμπι/ντο «он вновь задышал» с
описанием возрождения thümos героя в «Илиаде» XXII 475, «Одиссее» V 458,
XXIV 349; а также выражение εμιτι/ενσησι/ ει/έπι/ενσε «он (Аполлон)
вдыхает/вдохнул» ménos [в Гектора] (Илиада XV 60, 262, ср. выше прим. 29).
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 127
исключительно о возвращении ihûmos/ménos и никогда о
возвращении psukhé. Причины такого ограничения лежат,
разумеется, не в физиологической, а в идеологической сфере. Еще
раз вспомним мнение, согласно которому так происходит
потому, что psukhé не подразумевает сознания, в то время как
thumos/ménos последовательно служат для его обозначения.
Однако подобное суждение основывается на убежденности в
том, что psukhé начинает различаться с thumos/ménos с того
самого момента, как они отделяются от тела. В этом
случае слова смешиваются с понятиями, а я настоятельно
советовал бы обратиться к реальным гомеровским выражениям. Та
функциональная сила, которую герой теряет, лишаясь чувств
или умирая, именуется thumos и/или ménos и/или psukhe. В
этот момент все три слова полностью синонимичны и формуль-
но замещают друг друга, а значит, выражают одно и то же
представление32.
Но если слово psukhe отсутствует в описаниях того, как
герой приходит в чувство, то происходит это потому, что оно,
являясь синонимом thumos/ménos в момент смерти, в других
случаях подразумевает нечто большее, чем представление о
дыхании или даже о сознании как таковом. Кому-то может
показаться, что подразумевает оно не более чем «дух».
Дальнейшая аргументация строится следующим образом: стоит psukhé
оказаться в Аиде, и она уже не может возвратиться в тело
того, кто оказался без чувств, потому что psukhé уже станет
духом, призраком — а тот, кому она раньше принадлежала,
будет уже мертвецом [ср. Schnaufer 1970: 201]. Но и при таком
ходе рассуждений из виду упускается тот подтверждаемый
гомеровским способом выражения факт, что psukhé синонимично
thumos/ménos в момент смерти или потери сознания. Ведь не
может быть так, чтобы psukhé означало что-то одно в миг, когда
герой лишается чувств, и что-то совсем другое в том случае,
когда он вновь приходит в себя.
Отсутствие в гомеровских описаниях возрождения героя
слова psukhé может объясняться гораздо более серьезными
причинами. Мы уже замечали, что полная синонимия thumos/
ménos/psukhé в момент смерти предполагает, что psukhé как-то
Наглядной демонстрацией этого являются таблицы 1, 2 и 3,
содержащиеся в книге [Warden 1971].
128 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
связана с сознанием, а в Аиде эта связь утрачивается. Но если
это не более чем потеря связи, то никто не возбраняет нам
предположить, что в конечном итоге она снова может быть
восстановлена, и тогда все три слова thûmos/ménos/psûkhé вместе вновь
смогут обозначать личность покойного. Такое восстановление,
на мой взгляд, может произойти с воссоединением psûkhéи тела,
когда умерший возвращается к жизни. Тем самым нежелание
использовать слово psûkhé при описании того, как герой
приходит в себя после потери сознания, объясняется необходимостью
различать эту тему с темой возрождения героя после смерти.
Мне уже приходилось писать о теме возрождения умершего
героя, привлекая свидетельства, содержащиеся в традиционной
греческой поэзии33. Однако тогда я не обращал внимания на
то, что говорится (хотя и косвенным образом) в «Илиаде»
относительно загробной жизни Патрокла. Вот этой проблемой мы
и займемся, а разрешить ее, как мне кажется, можно, лишь еще
глубже раскрыв семантику понятий thumos/ménos/psûkhé.
В виде исключения восстановление тождества
thumos/ménos/psûkhé может происходить и в самом Аиде. О psûkhé
прорицателя Тиресия говорится (Одиссея X 492), что она
единственная в Аиде наделена phrénes (X 493); а этим словом, как мы
видели, именуется физическое вместилище thûmos и ménos3*.
Поэтому во всем Аиде только psûkhé Тиресия способна узнать
Одиссея, не испив прежде крови (XI 91). В этом отношении ей
противопоставлены все остальные psûkhai, которые, как
правило, «лишены способностей» (aphradées — XI 476), если не
выпьют принесенной им в жертву крови (XI 147-149)35. Мне
сейчас важно привлечь внимание к столь редкостной psûkhé
Тиресия потому, что для объяснения, почему Тиресий
обладает phrénes даже в Аиде, использовано и еще одно ключевое
слово: Персефона даровала ему nôos (X 494). Этим словом,
См. [Nagy 1979а: 165-168, а также 208] по поводу «Одиссеи» IV 561-
569, XI 601-604 и фрагмента Гесиода (fr. 25.25-28 MW). Темы возрождения
после смерти и возрождения после потери сознания смешиваются в
употреблении глагола anapsukhein «оживить» в «Одиссее» IV 568 [см. Nagy 1979а:
167-168 § 28, прим. 2]. Ср. [там же: 142] анализ строки из «Илиады» V 677,
где Сарпедон оживает благодаря дуновению северного ветра Борея.
См. выше с. 124.
35 Ср. [Schnaufer 1970: 67].
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 129
служащим в данном случае сжатым выражением
синонимического ряда thûmos/ménos/psûkhé 36, в гомеровском языке
обычно обозначаются исключительно рациональные способности37,
в то время как слово thümos определяет одновременно как
рациональную, так и эмоциональную сферу38. Тем самым в
живом организме гомеровского героя по о s является не более чем
своего рода подразделом thümos. Почему же тогда в
«Одиссее» X 494 это слово должно стать ключом к пониманию
тождества thumos/ménos/psukhé, а стало быть, и содержащегося
в этой строке представления о воссоединении сознания и тела?
Ответ содержится в этимологии слова по os. Как показал
Дуглас Фрэйм, в основе его лежит корень *nes- [Frame 1978],
означающий не только «возвращаться домой», как в греческом
глаголе néomai и существительном nostos, но и «возвращаться
к свету и жизни». Это значение очевидно в древнеиндийском
Nâsatyau «Насатьи», которое является эпитетом божественных
близнецов Ашвинов, — они возвращают смертных к жизни и
приводят каждый новый рассвет на смену ночи, наступающей с
каждым закатом39. Фрэйм продемонстрировал, что в «Одиссее»
постоянно присутствует взаимное обыгрывание noos и nostos^
так что глубинное значение корня *nes- «возвращать к свету и
жизни» воплощено в организации всего эпического
повествования: иначе говоря, в основе «Одиссеи» лежит символика
воскрешения после смерти, на уровне образов предстающая как
36 См. также «Илиада» XVIII 419, где говорится о том, что noos
помещается во phrénes. Ю. Бёме так определяет их соотношение: noos
обозначает «я» как таковое, a phrénes — «орган этого я» [Böhme 1929: 65].
37 См. [Böhme 1929: 75]. Быть может, «рациональные» — это слишком
широкое определение — см. [Fritz 1943]; терминологически, наверное, более
точно — «интуитивные» или «перцептивные».
Список примеров, в которых у Гомера thümos приписываются
рациональные функции, см. в [Böhme 1929: 72, прим. 1]; там же на с. 69-71
см. о его связи с областью эмоционального.
Примеры отражения этих тем в индийской традиции см. в [Frame
1978: 134-152, а также Güntert 1923: 253-276; Nagy 1979а: 198-200]. О
морфологии санскр. Nâsatyau см. [Frame 1978: 135-137]; ср. ниже на с. 325
разбор греч. Lampeië. (Впрочем, зафиксированное в санскрите
двусложное растяжение первого гласного в Nâsatyau [naasatyau] по-прежнему
является проблемой). Обзор индоевропейского мифа о божественных
близнецах см. в [Ward 1968; Joseph 1983; Davidson 1987]. См. также дальнейшее
рассуждение о божественных близнецах, включая греческих Диоскуров,
ниже на с. 333 и далее.
130 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
смена закатов и восходов, а на словесном уровне — как мотив
noos/nostos самого Одиссея40. В рамках нынешнего
исследования я не могу в полной мере воздать должное всему
материалу и всей аргументации, используемой Фрэймом. Я,
пожалуй, ограничусь лишь изучением связи описания смерти Па-
трокла с семантикой thûmos/ménos/psûkhê. И в этом смысле
прекрасной отправной точкой послужит упомянутая
этимология по о s — понятия, которое в гомеровском языке определяет
некий подраздел ihumos, а с другой стороны, служит тем
началом, благодаря которому thumos/ménos/psukhe воссоединяются
в своем синонимическом единстве. Отталкиваясь от
сказанного, я перейду к основной части своих рассуждений, а именно к
исследованию подходящего материала, который нам дает
древнеиндийская традиция и который может пролить свет на
загробное существование Патрокла. Ну а если анализируемый
материал подкрепит выводы Дугласа Фрэйма, это будет, я
надеюсь, лучшей данью уважения ему.
В древнеиндийской традиции тема возвращения к свету и
жизни находит множество реализаций. Помимо Насатьев,
примером ее воплощения может служить ведийское солнечное
божество Савитар, Sa vit г-, чье имя буквально означает
«оживляющий» (от корня su- «оживлять»). Мы увидим, что движение
солнца-Савитара призвано дать возможность тем силам, что в
момент смерти покидают тело человека, воссоединиться в
области «предков» (pit г-). История Савитара дает весьма обширный
и сложный материал для сравнения, и потому, быть может,
сейчас стоит забежать вперед и предвосхитить выводы, к которым
я намереваюсь прийти позже. Суть в том, что слова,
которыми в Индии обозначаются субстанции, покидающие тело
человека при его смерти — minas- и asu-, — на самом деле
окажутся родственными греческому сочетанию существительного
с эпитетом ménos tu {μένος ην), которым в принципе
определяется внутренняя энергия героев (например, в Илиаде XX 80),
а в частности, та сила, которую Патрокл теряет в результате
собственной смерти (XXIV 6).
Связь древнеиндийского существительного man as- и
древнегреческого ménos вполне очевидна. Что же касается
древнеиндийского âsu- и греческого прилагательного Ы (ην), то здесь
См. [Frame 1978: 34-80]. О других проявлениях темы
воскрешения в «Одиссее» см. [Newton 1984].
Глада 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 131
соотношение гораздо более сложное — и на уровне формы, и
на уровне содержания. Поэтому дальше распространяться на
эту тему сейчас бесполезно — для окончательных выводов нам
потребуется привлечь для сравнения еще и иранский материал.
Пока же ограничимся еще одной очевидной параллелью.
Помимо древнеиндийского minas- и греческого ménos, прямое
родство обнаруживается и между древнеиндийским словом pitf-
«предок», с одной стороны, и древнегреческим компонентом
patro-, входящим в состав имени Патрокла, Patro-kléës,
которое буквально означает «тот, который обладает славой [fc/éos]
предков [patéres]»*1. По наблюдению Эрвина Роде, похороны
Патрокла в «Илиаде» несут в себе отчетливые черты
героического культа42. Если учесть, что сам по себе героический культ
вырос из почитания предков43, то, сопоставив соединение ménos
tu (μένος ην) и имени Patrokléës в описании смерти героя с
соединением mânaS'/âsu- и pitf- «предков» в описании их
возвращения к жизни после смерти, мы можем восстановить стоящую
за этим общеиндоевропейскую тему.
Предварив некоторые умозаключения, к которым можно
прийти путем сравнения с древнеиндийским Савитаром,
возвращающим мертвых к жизни, я хотел бы теперь подробнее
остановиться на этом сравнении, представив имеющийся
материал так, чтобы не упрощать порождаемые им
многообразные сложности44.
В значении «предки» paiéres употребляется, например, в «Илиаде»
VI 209. Подробнее о семантике Patrokléës см. в [Nagy 1979а: 102].
42 См. [Rohde 1898 1: 14-22]. Ср. также работу [Stähler 1967: 32], в
которой утверждается, что изображение на мюнстерской гидрии (см. выше
прим. 17) отражает зарождение героического культа Патрокла.
43 [Rohde 1898 1: 108-110]; см. также [Nagy 1979а: 114-115]. Ср. ниже
с. 157, прим. 98 о тематической близости понятия «предка» и самого
слова héros (ηρως) «герой». Если иметь в виду историческую связь «героя»
со словом horä ( ω pa) «время года, сезонность, своевременность» (об этом
см. [Pötscher 1961]), то для сравнения можно вспомнить о своеобразной
сезонной эсхатологии индийцев, о которой говорилось выше в прим. 13.
Понятно, что обнаруженными мною примерами данные
древнеиндийской традиции не исчерпываются. Свидетельством тому для меня
являются альтернативные варианты, приведенные в [Witzel 1984], в
которых содержатся и альтернативные представления относительно, прежде
всего, «возврата» или «пути назад» небесных тел, небесного «океана» и
обители Ямы.
132 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Обратившись к традиционным описаниям Савитара,
представляющего собой особое солярное божество, сразу же можно
заметить, что действует он не только при свете, но и во тьме.
Савитар защищает праведных ночью (Ригведа 4.53.1) и всю ночь
отражает демонов-ракшасов (1.35.10)45. Ночь — время ракша-
сов (7.104.18), они не имеют силы на востоке, ибо их
изничтожает восходящее солнце (Тайттирия-брахмана 2.6.6.3). Согласно
«Ригведе», на востоке свет каждый день возникает благодаря
Савитару (10.139.1). Как же тогда солнечный бог Савитар
может существовать в ночи? В 35-м гимне 1-й мандалы «Ригве-
ды», обращенном к Савитару, говорится, что бог поворачивает
свою колесницу с каждым рассветом и каждым закатом: днем
он путешествует сквозь свет, а ночью — сквозь тьму. В
своем ночном пути он олицетворяет благую сторону мрака, а в
дневном — благую сторону света. Для смертных ночной путь
Савитара особенно опасен — не только потому, что дело про-
В обоих контекстах Савитара именуют асурой (asura-). Я
намереваюсь посвятить специальное исследование подробному доказательству
того, что первоначально это слово было эпитетом, принадлежавшим Дьяусу
(dyaus) — персонифицированному божеству «неба», родственному
греческому Зевсу (Ζενς)-} причем использовался этот эпитет в случаях, когда
Дьяус мог выступать равно как благодетельное, так и зловредное
божество (ср. сочетание asura- с dyâus в Ригведе 1.122.1, 1.131.1, 8.20.17 и т.д.).
Когда Дьяус как божество выходит из употребления, его эпитет «асура»
переходит к более частным солярным божествам типа Савитара и при этом
сохраняет амбивалентный смысл. Впрочем, множественное число «асу-
ры» употребляется исключительно в отрицательном значении, обозначая
только демонов, в то время как производное от имени Дьяуса — Дева
(deva-) становится однозначно положительным наименованием,
применяемым только к богам. С другой стороны, в иранской традиции,
представленной в «Авесте», изначальное божество неба продолжает царить над
Вселенной, но именуется при этом только Ахура (Ahura-), словом,
родственным санскритскому asura-. Что же касается иранского соответствия
индийскому Дьяусу (dyâus), то оно сохраняется лишь в производной форме
daêuua-, родственной древниндийскому deva-. Более' того, все daêuua
это исключительно злые демоны. В своем понимании морфологического
устройства индоиранского * asura- я следую за Б. Шлератом и дроблю эту
форму следующим образом: *as-ura, возводя корень к индоевропейскому
*es- «быть». Я также согласен с Б. Шлератом в том, что *asura- нельзя
непосредственно выводить из индоиранского *asu-; со своей стороны, я хотел
бы развить его аргументы и предложить считать обе формы производными
корня *as- (и.-е. *es-, а точнее, *hies-). Подробнее об индоиранском *asu-
(древнеинд. asu-, иран. ahu-) см. ниже с. 159 ел.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 133
исходит во тьме, но и потому, что дневной путь солнца
обращается вспять. За прямым путем колесницы днем следует ее
движение вспять ночью. Это движение Савитара вперед/назад
описывается словами pravâÉ-/udvaÉ-, которые буквально
означают «вниз и вверх по течению»46:
yâti devsih pravâtâ. yaty udvatä
Дева [бог] идет вниз по течению, идет вверх по течению47.
Ригведа 1.35.3
Остается спросить, где же именно пролегает ночной путь
Савитара «вверх по течению», то есть с запада на восток?48
«Ригведа» сознательно избегает прямо указывать
местонахождение солнца ночью, ограничиваясь лишь косвенными
намеками, вроде тех, что содержатся в «Гимне к Савитару»:
kvedanlm sûryah kâs ciketa.
xatamäm dyàm rasmii asya, tatäna,
Где теперь солнце? Кто знает?
Какого неба достигли его лучи?
Ригведа 1.35.7
Ср. Ригведа 5.31, где Индра управляет колесницей солнца (строфа
11), изгоняя тьму (стр. 3 и т.д.), и где о нем специально говорится, что он
направляет свою колесницу pravat- «вниз по течению» = «вперед»:
indro rathäya pravatam krnoti
Индра пускает колесницу вперед.
Ригведа 5.31.1
В «Ригведе» 1.181.3 о колеснице Индры сказано, что она pravatvant-
«движется вниз по течению». В других местах «Ригведы» (например, 7.50.3)
pravat- не означает именно «вниз по течению», а просто «течение»: тогда
путь «вниз по течению» специально обозначается как ni vat- в противовес
udvat- «вверх по течению». Точно так же как не оговоренный специально
путь солнца — это обычный путь солнца с востока на запад, так и не
оговоренный особо путь «вниз по течению» — это просто «течение» как таковое.
«Вниз по течению» надо уточнять только в случае противопоставления с
«вверх по течению»; в иных контекстах это «течение» вообще.
По поводу слова deva- «бог» см. выше прим. 45. Опасность
ночи, когда солнце движется в обратном направлении, подчеркнуто тем, что
Савитар эвфемистически именуется sunithâ- «идущим в добрую сторону»
(Ригведа 1.35.7, 10). И характерно, что именно в этой амбивалентной
ситуации Савитара называют «асурой» (снова см. прим. 45).
Естественно, что древнеиндийский материал не ограничивается
теми примерами, которые я собираюсь привести в качестве ответа на этот
вопрос. Еще раз сошлюсь на [Witzel 1984].
134 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Еще одно указание на это неназываемое небо мы находим в 6-й
строфе того же гимна, где о Савитаре говорится, что он
обладает двумя небесами. Эти загадочные косвенные намеки
заставляют предположить, что небу нашего мира соответствует
иное небо, небо мира подземного. Более того, в той же
строфе упомянуто еще и третье небо, на сей раз принадлежащее
скорее Яме, чем Савитару. На этом третьем небе пребывают
бессмертные вещи (amrtadhi tasthur), и
ihâ bravitu cîketat
кто знает его, пусть скажет сейчас.
Ригееда 1.35.6
Под именем Ямы имеется в виду царь pitf- «предков» (Риг-
веда 10.14 passim), в частности Ангирасов (10.14.3, 5), и его
путь — путь смерти (1.38.5). Он первый, кто испытал смерть
(Атпхарваведа 18.3.13), и к нему подчеркнуто обращаются «наш
pitf-» (Ригееда 10.135.1). Тем не менее обителью Ямы и pitr-
«предков» служит средина неба (10.15.14), вышнее небо
(10.14.8), третье небо, где вечный свет и где было помещено
солнце (9.113.7-9). Предки пребывают в верхней точке
движения солнца (9.113.9) и связаны с ним (1.125.6,10.107.2,10.154.5).
Соответственно, можно представить, что третье небо находится
выше первого неба Савитара, который днем идет pravât- «вниз
по течению»; а с наступлением заката Савитар достигает
мрачного второго неба нижнего мира и оттуда в ночи держит свой
путь pravât- «вниз по течению».
Как же тогда Яма, первый из умерших на этом свете, достиг
этого, третьего неба? С наступлением восхода, он подымается
вместе с солнцем, идя «вниз по течению»:
pareyivämsa,m pia.va.to mahir ânu
bahubhyah pânthâm a.nupaspasânâm
пройдя по великому течению pravât-,
открыв дорогу для многих.
Ригееда 10.14.1
В «Атхарваведе» (6.28.3, 18.4.7) о Яме говорится, что он был
первым, кто прошел дорогой pravât-. Возможно,
представлялось все так, что Яма — первое существо, подвергшееся
смерти, — должен был, прежде чем достичь с восходящим солнцем
третьего неба, пройти вместе с этим восходом и неупоминаемое
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 135
второе небо. В роли образца и проводника в таком
путешествии мог выступать сам Савитар.
Подтверждение роли Савитара как проводника душ,
психопомпа, можно найти в контекстах вроде «Ригведы» 10.17.3-6.
Согласно разделу «Кальпа»49 в «Тайттирие-араньяке» 6.1.1,
данный текст представляет собой молитву, обращенную к
мертвым при совершении ритуала кремации. В ней Савитара просят
отправить умершего в обитель предков:
yâtrassLte sukrto yâtra. té yayûs
tit ία tvâ devait sa vita da.dha.tu
где пребывают совершающие благо, куда они ушли,
пусть туда тебя [покойного] поместит Дева [бог] Савитар50.
Ригведа 10.17.4
В реализации темы сопровождения душ умерших Савита-
ру функционально соответствует еще одно божество — Пушан.
В том же отрывке о Савитаре (Ригведа 10.17.5) Пушана,
«подателя благ» (svasiidâ), молят провести умершего «по самой
неопасной тропе» (abhayatamena)51. Подобно Савитару, Пушан
тоже связан с путем солнца (Ригведа 2.40.4-5, 6.56.3, 6.58.2); и
в действительности именно эта тема «дороги солнца» делает
фигуры Савитара и Пушана малоразличимыми:
uta posa bJiavasi yimahhih
и ты, Дева [бог Савитар], становишься в своем движении Пу-
шаном.
Ригведа 5.81.5
Это движение Савитара только что было описано:
utâ га trim ubhayätaA pârïyasa
и ты [бог Савитар], обходишь ночь с двух сторон.
Ригведа 5.81.4
На основании других контекстов52 можно заключить, что
Савитар движется с востока на запад, когда ночь находится
ниже нашего мира, и с запада на восток, когда ночь над нами.
Кальпа — особый ритуал и, соответственно, особый тип ритуальных
текстов в брахманах и араньяках. — Прим. перев.
По поводу слова deva- «бог» см. выше прим. 45
О семантике sunithâ- «идущий в благую сторону» (Ригведа 1.35.7,
10) см. выше прим. 47.
См. выше с. 132 и далее.
136 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Савитар и Пушан близки друг другу и в иных местах «Ригве-
ды» (3.62.9-10, 10.139.1), но для нас сейчас вполне достаточно
указать на связь этих образов в описании движения солнца53.
В том же гимне, в котором Савитар и Пушан действуют как
два близких друг другу проводника душ, солярные
перемещения Пушана описаны вот таким таинственным языком:
prapaiAe pa.tha.rn aja.nista, pösä
prâpathe divâh prâpathe prthivyàh
ubhé ahhi priyàtame sadhâsthe
a ca. para ca ca.ra.ti pia.ja.iian
y предела путей был Пушан рожден,
у предела неба, у предела земли,
над двумя самыми милыми
он ходит вперед и назад, зная дорогу.
Ригведа 10.17.6
Необходимо ответить на два вопроса: 1) что является
пределом неба/земли и 2) что это за две sadhâstha- «обители,
прибежища» солнца?
Ответ на два этих взаимосвязанных вопроса может дать
индийское представление о том, что Небо и Земля со всех сторон
окружены Океаном. В «Ригведе» эта модель реализуется в
повествованиях о том, что все реки и потоки впадают в Самудру
«Океан» (1.32.2, 1.130.5, 2.19.3), а также упоминаниях о
существовании двух Океанов — восточного и западного (10.136.5)
или даже четырех (9.33.6). Подобные представления скорее
основаны на мифопоэтических моделях космического
миропорядка, чем на реальном географическом знании, и потому есть
все основания верить в то, что существует два океана:
верхний, соответствующий уровню Неба, и нижний — связанный с
Землей (ср. 10.98.5, 12). Но такое разграничение — результат
позднейшего умудренного осмысления; исходная же идея
состоит в том, что Океан заполняет промежуточное пространство
между краем Земли и началом Неба. Отсюда следует, что солнце
погружается в Океан на закате и выныривает из него на
рассвете — и именно такие представления содержатся в «Тайттирие-
араньяке» (4.42.33) и «Айтарее-брахмане» (4.20.13, ср. также
Поскольку Савитар характерным образом именуется «асурой»
именно в связи со своим движением (Ригведа 1.35.10), стоит
подчеркнуть, что и Пушан тоже назван «асурой» (5.51.10). См. опять-таки
выше прим. 45.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 137
«Атхарваведа» 13.2.14). Таким образом, слова о том, что
Путан рожден у пределов Неба/Земли (см. выше Ригведа 10.17.6),
должны означать, что солнце рождается из Океана54.
Вероятно, по этой причине особым именованием Савитара, солярного
подобия Пушана, является Апам Напат, apâm napät «отпрыск
вод» (1.22.6); более того, Савитару как Апаму Напату известны
такие тайны, как местонахождение истоков Океана (10.149.2).
Что же до двух sadhastha-, «обителей» Пушана (10.17.6), то ими
должны быть Небо и Океан: двигаясь вперед и назад (а са para
са carati), он днем путешествует с востока на запад в Небе и
каким-то образом проходит путь с запада на восток ночью
после того, как погрузится в Океан.
В противовес двум Пушанам, бог огня Агни обладает тремя
«обителями» (Ригведа 3.20.2 и т.д.); в действительности одним
из эпитетов Агни является tri-sadhâstha- «имеющий три
обители» (5.4.8 и т.д.). В отличие от солнечного огня, который
пребывает лишь на небе и в воде, Агни в качестве жертвенного огня
обитает еще и на земле. Само слово agni- означает «огонь» и
родственно латинскому ignis. Агни как божество связывает
микрокосм жертвенного огня с макрокосмом огня небесного. Агни
как жертвенный огонь зажигается на земле на рассвете, чтобы
солнце могло взойти (4.3.11, 5.6.4). Если бы не было
жертвенного огня на рассвете, не было бы и восхода солнца (Шатапатха-
брахмана 2.3.1.5). В космической перспективе именно Агни стал
причиной того, что солнце восходит (Ригведа 10.156.4)55.
Три sadhâstha- «обители» Агни соответствуют трем
различным сферам, которые в «Ригведе» располагаются в следующем
порядке (10.45.1)56:
Родственные темы можно обнаружить и в древнегреческой
традиции: солнце подымается из Океана, Okto.nos, и опускается в него (см.,
например, Илиада VII 421-423 и VIII 485, соответственно). При этом
Океан предстает как мировая река, окружающая плоскую и круглую Землю;
см. подробнее [Nagy 1979а]. Когда Пенелопа мечтает о смерти в
«Одиссее» XX 61-65, ей видится, как ее thümos «дух» улетает далеко на
запад, где он погружается в Океан: см. ниже с. 309 и далее. В этой
картине присутствует внутренняя параллель с погружением в океан самого
солнца: см. с. 320 и далее.
См. подробный разбор этой темы ниже с. 195.
56 Ср. также Ригведа 8.44.16, 10.2.7, 10.46.9.
138 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Первым Агни рожден на Небе как молния57,
Вторым Агни рожден на Земле как жертвенный огонь,
Третьим Агни рожден в Океане как восходящее солнце.
Попробуем рассмотреть подробнее третью область Агни.
Подобно богу солнца Савитару, рожденный из воды третий Агни
также именуется арат napät «отпрыск вод» (Ригведа 3.1.12-13,
3.9.1 и т.д.). В других местах Апам Напат выступает как
самостоятельная величина (10.30.3-4 и т.д.); ему посвящен целый
отдельный гимн (2.35), но и в нем в последней строфе Апам
Напат отождествляется с Агни. Некоторые черты частного
солярного божества Савитара могут быть производными от Дья-
уса «Неба»58 — так же обстоит дело и с Апам Напатом: если
Савитар называется Праджапати, prajâpati-, «создателем
Вселенной» (4.53.2)59, то Апам Напата именуют тем, «кто создал
все вещи» (v'isväni... bhuvana jajäna— 2.35.2)60.
Ведийский Апам Напат столь древен, что ему
находится формальная аналогия в иранской традиции — авестийский
Апам Напат, Apam Napa61. Мотивы, сопутствующие этому
образу, достаточно трудно уловимы, но известно, что его
эпитетом является auruua^.aspa «с быстрыми лошадьми» (Яшт
19.51)62. В других случаях это слово используется только для
Ср. Ригведа 1.143.2, 3.2.13, 6.6.2 и т.д.; ср. также постоянный
эпитет Вайдьюта «молниевый» (от vidyût- «молния»), используемый по
отношению к Агни в брахманах.
См. выше прим. 45.
Согласно «Тайттирие-брахмане» (1.6.4.1), Праджапати стал Сави-
таром и создал Вселенную.
Это творение вещей Апам Напат совершает as игу as у a mahnâ
«великой мощью асуры» (Ригведа 2.35.2). Как бог солнца Савитар, Агни
тоже именуется «асурой» (4.2.5, 5.15.1, 7.2.3 и т.д.). Об этом названии
см. выше прим. 45.
Точно так же как древнеиндийский Апам Напат пользуется
великой силой асуры (см. выше прим. 60), параллельный-ему герой «Авесты»
называется bôrdzantdm ahudrm «высоким Ахурой» (Ясна 2.5 и т.д.). О
соответствии индийского Асуры и иранского Ахуры см. выше прим. 45.
Этот эпитет употребляется в следующем контексте. Бог огня Атар
и демон Дахака сражались до изнеможения за обладание xvardnah-
«фарном», букв, «сиянием славы» (в «Авесте» — символ власти и
благоденствия. — Прим. перев.). Тогда Апам Напат, auruuaÇ.aspa, «с быстрыми
лошадьми», схватил «фарн» и унес его на дно Океана. О параллельных
темах в персидской эпической традиции — прежде всего, в «Шахнамэ»
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 139
описания huuar- «солнца» {Яшт 10.90 и т.д.). В качестве
тематической параллели можно привести эпитет древнеиндийского
Апам Напата âsuhéman- «правящий быстрыми конями» (Ригве-
да 2.31.6, 2.35.1, 7.47.2) — кони несут его с быстротою самой
мысли (1.186.5)63.
В 162-м гимне 1-й мандалы «Ригведы», обращенном к
жертвенному коню, специально оговаривается, что на заклание
коня ведет козел Пушана (строфы 2-3). Действительно, обычно в
колесницу Пушана впряжены козлы (1.138.4, 6.55.3-4, 6; 6.58.2);
напротив, колесницу Савитара несут кони (7.45.1, ср. 1.35.3,
5). Тем самым за ритуальным символизмом, согласно
которому жертвенный козел предшествует жертвенному коню, может
стоять и символизм мифологический: козел ведет коня
точно так же, как в мифе Пушан служит проводником Савитару.
Из того, что индийского и иранского Апам Напатов принято
ассоциировать с лошадьми, вытекает, что именование
солнечного бога Савитара Апам Напатом (1.22.6) достаточно
архаично — оно отражает общее индоиранское наследие и восходит
к связи с лошадьми самого солнечного божества (7.45.1).
Характерно, что в противовес этому в «Ригведе» Пушан никогда
не именуется Апам Напатом: вероятно, потому, что сам он
ассоциируется с козлами, а не конями. Действуя как солярные
проводники душ, Савитар и Пушан могут замещать друг
друга64 ; но это не распространяется на эпитет Апам Напат —
унаследованный смысл этого выражения требует связи божества
с лошадьми, а не с козлами.
Когда же речь идет о смерти и воскрешении человека, Апам
Напата следует воспринимать скорее как солярную модель, а
не как солярного проводника. Небесный огонь погружается в
воды на закате лишь для того, чтобы возродиться из них при
восходе. Точно так же конь приносится в жертву для того,
чтобы нести колесницу солнца на рассвете, но проводником ему
Фирдоуси — см. [Davidson 1985: 88-103]. Кельтские параллели
приведены в [Dumézil 1973: 21 и далее].
Ср. лаконский обычай приносить коней в жертву богу солнца Ге-
лиосу на вершине горы Тайгет (Павсаний. Описание Эллады 3.20.4). О
коне как солярном символе в греческой мифологии см. [Nagy 1979а: 198-
200, 209-210 § 50, прим. 2].
См. выше с. 135 ел.
140 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
служит козел. В гимне «Ригведы» к Апам Напату встающие на
заре солнце и конь уподоблены друг другу:
asvasya.tra. jânimâsyâ ca. svkr
Там [в водах] место рождения коня и солнца65.
Ригееда 2.35.6
Для того чтобы выполнить роль божества, возрождающего
человека после смерти, Апам Напату не хватает одной
существенной черты. Из специально посвященного ему гимна становится
ясно, что Апам Напат является Апам Напатом только в воде и
на небе, на земле же он становится кем-то другим:
so apam napäd ana.bhimlata.va.rno '
'nyâsyevehâ tanva vivesa
Апам Напат в нерушимом сиянии
Здесь [на земле] действует с помощью тела другого.
Ригееда 2.35.13
Вскоре, в 15-й строфе того же гимна, этот «другой»
отождествляется с Агни в его функции жертвенного огня. Таким образом
если Агни и есть Апам Напат, то Апам Напат не тождествен
Агни во всех его проявлениях, а именно Апам Напату недостает
одной из сторон Агни: на земле он не действует.
Чтобы полностью обрисовать образ трехчастного Агни,
рассмотрим вкратце первую из сфер его деятельности. Помимо
рожденного на земле Второго Агни — Агни жертвенного
огня и рожденного в воде Третьего Агни — Агни солнца, есть
еще и рожденный на небе Первый Агни — Агни молнии
(Ригееда 10.45.1-3, а также 1.143.2, 3.2.13, 6.6.2). Если у
рожденного в воде Агни две обители (sadhâstha-) — Небо и Океан, то
рожденный в небе молниевый Агни может отправляться с
Неба на Землю непосредственно, через antâriksa- «промежуточное
пространство» (6.8.2, 10.65.2).
Три ипостаси Агни становятся причиной разнообразных
смешений. Небесный Агни рожден в качестве молнии на
третьем небе (Ригееда 1.143.2 и т.д.); в то же время небесный Агни
именуется первым. Учитывая представление о том, что
небесные воды параллельны водам земным, соблазнительным
кажется предположение, что рожденный в воде Агни тождествен не
Ср. разбор схожей темы в «Илиаде» в [Nagy 1979а: 209-210 § 50,
прим. 2].
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 141
только солнцу, но и молнии. Однако индийские ритуальные
тексты указывают на принципиальную несовместимость
водного Агни с огнем молнии: согласно «Шатапатхе-брахмане»
(12.4.4.4; ср. Айтарея-брахмана 7.7), в случае, если огонь
молнии смешается с огнем жертвенного костра, должно искать
искупления у «Агни вод»66.
Впрочем, молния — это не единственная форма, в
которой Агни нисходит на Землю с Неба. Мы постараемся теперь
установить цель, ради которой необходимо трехчастное деление
образа Агни. Тем самым можно обнаружить и связь меж
тайной загробной жизни и секретом происхождения огня земного из
огня небесного. Начнем с ведийского представления о
размножении людей, происходящем тогда, когда мужчина помещает в
женское чрево gârbha- «зародыш». И когда в соответствии с
подобным представлением Небо оплодотворяет Землю с помощью
дождя, «зародышем» оказывается не кто иной, как «Агни вод».
Этот зародыш находит себе пристанище в растениях,
которыми прорастает оплодотворенная Земля (Ригведа 7.9.3, 8.43.9,
1.141.4 и т.д.)67. Одним из обозначений Агни, пребывающего
в растениях, является apâm gârbha- «зародыш вод» (7.9.3), а
одним из названий «растения» становится osadhi-:
apsu kgne sâdhis ta,va,
sa.usa,dhlr ânu rudhyase
Твое место в воде, Агни,
ты вырастаешь в растениях (osadhi-).
Ригведа 8.43.9
С этимологической точки зрения osadhi- можно трактовать как
сочетание корней us- и dhä-, и тогда его буквальным значением
будет «помещение, вместилище света»68.
Тем, кто принес огонь с Неба на Землю, был Матаришван,
посланник Вивасвата {Ригведа 6.8.2; см. также 1.93.6, 3.2.13,
1.143.2). Иногда в качестве посланника Вивасвата
называется сам Агни (1.58.1, 8.39.3, 10.21.5), а само слово mâtar'isvan-
Отчетливое различие между водным Агни и Агни молнии
проводится и в «Атхарваведе» (3.21.1, 7; 8.1.11; 12.1.37).
67 См. [Bergaigne 1878 1: 17; Oldenberg 1917: 113-114].
Разнообразные этимологические версии интерпретации osa-dh7-,
включая и приведенную мной, содержатся в [Minard 1956: 268]. Подробнее
об этой этимологии см. ниже с. 199, прим. 16.
142 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
на самом деле является эпитетом Агни (1.96.4, 3.5.9, 3.26.2).
«Несмотря на то, что миф о Матаришване основан на
различении стихии огня и персонификации того, кто огонь добывает,
анализ мифа показывает, что эти две стороны тождественны
друг другу» [Macdonell 1897: 71]. Остается выяснить, как Ма-
таришван принес на Землю небесный огонь: он добыл огонь
трением, и процесс этот описывается с помощью глагольных
форм, производных от корня manth- (см., например, Ригведа
1.71.4, 1.141.3, 1.148.1, 3.9.5). Согласно «Ригведе», огонь
добывается «трением», manth-, при помощи специальных палочек,
которые называются arâni-69:
âstldâm adhimânthanam
asti prajânanam krtàm
etâm vispâtnlm a bhara
agnim ma.ntha.ma purvâtha
arânyor nîhito jâtâvedâ
gârbha iva sudhito garbhinlsu
Вот место для трения,
оно готово для рождения,
принесите vispâtnl [хозяйку дома]70;
как прежде, давайте натрем огонь
Агни Джатаведас помещен в этих двух агал!-,
хорошо помещен, как зародыш в беременной.
Ригведа 3.29.1-2
Скрытый в дереве огонь рождается как огонь земной;
заметим, что эпитет Агни Матаришван этимологически очень
подходит для выражения темы скрытого, еще не родившегося
огня: mätari- означает «мать», a -svan- «набухающий» (от корня
su- «нарастать, набухать»). Тем самым мы получаем ключ к
разгадке тайны происхождения земного огня из огня
небесного. Агни спускается с Неба как зародыш с дождевой водой.
Затем он помещается в побеги, растущие из оплодотворенной
дождем Земли. И наконец, его трением добывают из дерева,
и так он становится земным огнем. Связующим звеном между
Об этимологии агат- как «пищи, выкармливания» огня см. ниже
с. 207 и далее.
Под «хозяйкой дома» в гимне, видимо, понимается нижняя
дощечка — «основа, место» — для трения; см. ниже с. 144. — Прим. перев.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 143
небесным и земным огнем становится Агни Матаришван,
посланник Вивасвата (6.8.2 и т.д.).
Что касается Вивасвата, то он первый, кто получает огонь
на земле, благодаря тому что он, прародитель человечества,
был и первым, кто совершил на земле жертвоприношение (Маи-
траяни-самхита 1.6.12, Тайттирия-самхита 6.5.6.1-2, Шата-
патха-брахмана 3.3.1.3-4)71. Сказать sadane vivâsvatah «на
месте Вивасвата» (Ригведа 1.53.1) означает то же, что и сказать
«на жертвоприношении» [Dumézil 1954: 42, прим. 43].
Формально и содержательно Вивасвату, отцу Ямы (10.14.5, 10.17.1),
параллелен авестийский Вивахвант, отец Йимы — первого, кто
приготовил божественный напиток хаому (Ясна 9.3-4). Связь
Вивахванта с хаомой важна постольку, поскольку в
индоиранской традиции сома/хаома символизирует жертвоприношение
par excellence [ср. Oldenberg 1917: 281-283], и не случайно
ведийский Вивасват тоже специально ассоциируется с сомой (Ригведа
9.26.4, 9.10.5 и т.д.). Слово vivâsvat- используется и при
описании прихода зари Ушас, usas-, и в этом случае оно служит
эпитетом Агни, означая «сияющий»:
âmûrah kavir âditir vivâsvân
susamsân m'itio âtithih sivo nah
citrâbhanur usâsâm bhäty âgre
apam gârbha.h prasva a vivesa
Безупречный пророк, Адити, Вивасват,
благой спутник Митра, наш добрый гость,
в царственном сиянии он предшествует зорям,
зародыш вод, что помещен в беременных растениях.
Ригведа 7.9.3
Подобные тематические связи (ср. также 1.44.1, 1.96.2, 3.30.13)
служат подтверждением этимологии: ведь vas- в vivâsvat-
является производным от vas-/us- «светить», и точно так же обстоит
дело с элементом us- в usas- «заря». Более того, vas- в vivâsvat-
родствен латинскому ves-, присутствующему в имени Весты,
римской богини домашнего очага72. Что же касается
соотношения Вивасвата с домом, домашним очагом, то его лучше
проследить в связи с индийскими представлениями о Трех Огнях.
71 См. [Dumézil 1954: 34-35].
72 См. [Dumézil 1954: 33-34]. Ср. ниже с. 194 и далее.
144 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
В соответствии с тремя ипостасями Агни, в культовой
практике древних индийцев возникли ритуалы, предусматривающие
тройной жертвенный огонь. Особенности этой практики
скрупулезно зафиксированы в брахманах. Если для отправления
домашнего культа достаточно одного жертвенного костра, то
тройной огонь становится жреческим установлением,
характерным для культовых центров Древней Индии (ср. Шатапатха-
брахмана 2.1.4.4). Для некоторых жертвоприношений —
например, приношений на восходе и закате — могут использоваться
как один, так и три жертвенных костра, но для других случаев
было точно определено, сколько костров, один или три, должно
быть. Например, в семейных обрядах следовало
ограничиваться одним, а ритуалы, связанные с Сомой, предписывали
исключительно тройной огонь [ср. Oldenberg 1917: 347-348].
Среди трех костров Трех Огней один тем не менее особо
связан с домом: это Гархапатья, чье имя означает «огонь grha-
pati-». Слово grAapati-, подобно vispâti-, значит «глава дома,
рода», и в «Ригведе» оба они являются постоянными эпитетами
Агни. Показательно, что если огонь Гархапатьи гаснет, то его
можно снова зажечь с помощью палочек arâni- (Шатапатха-
брахмана 12.4.3.3). Напротив, если потухнет другой из трех
огней, Ахаванийя (это слово представляет собой сочетание
глагольного префикса а- и корня hav- «совершать возлияния»),
то его можно вновь зажечь лишь от огня Гархапатьи.
Специфическая связь Гархапатьи с палочками arâni- (см. также
Шатапатха-брахмана 2.1.4.5-9) параллельна ассоциации с
ними Вивасвата. Повторим еще раз:
В мифе о Матаришване Агни добывается благодаря manth-
«трению» (см. выше с. 142).
Матаришван — посланник Вивасвата (см. выше с. 141-142).
Вивасват был первым, кто получил огонь, ибо первым на земле
принес жертву (см. выше с. 143).
В «Ригведе» 3.29.1-2 Агни добывается трением (manth-) при
помощи палочек, которые называются arâni- (см. выше цитату на
с. 142).
Заметим, что, согласно упомянутому месту «Ригведы» (3.29.1-
2, опять-таки см. выше с. 142), инструмент (дощечка) для
получения огня называется vispâtnl «хозяйка дома»: в
функционировании Гархапатьи неизбежно присутствует некий «домашний,
семейный» аспект. Наконец еще одна характеристика Гархапа-
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 145
тьи — помимо того, что он связан с arâni- — объединяет его
с мифом о Матаришване: огражденное место для этого костра
называется yoni- «чревом» (Шатапатха-брахмана 7.1.1.12)73.
Общность древнеиндийского Вивасвата/Матаришвана/Гар-
хапатьи и италийской Весты не ограничивается просто тем, что
все они связаны с домашним очагом. В культе Весты можно
обнаружить параллели и к таким специфическим особенностям
индийского ритуала, как то, что огонь Гархапатьи можно было
снова зажечь с помощью кусочков дерева. Огонь в римском
святилище Весты должен был поддерживаться постоянно (ср.
Цицерон. Филиппики 11.10), а если он затухал, то это считалось
серьезнейшим происшествием:
ignis Vestae si quando interstinctus esset, virgines verberibus adficie-
bantur a pontifice, quibus mos erat tabulant felicis materia tamdiu
terebrare, quousque exceptum ignem cribro aeneo virgo in aedem
ferret.
Если когда-либо гас огонь Весты, девы-весталки биты были
понтификом, и должны были они тереть дощечку {tabula) из
благословенного древа (fëlix materia), пока не будет извлечен огонь и
принесен девой в храм Весты в медном решете (cribrum)7*.
Павел Диакон (из Феста 94, по изданию W. Lindsay, 1913)
Обратим внимание на то, что упомянутое здесь дерево
именуется materia — существительным, очевидно произведенным
от mäter «мать», и к тому же оно названо «благословенным»,
fëlix, а это прилагательное тесно ассоциируется с темой
плодородия. На память немедленно приходит индийский Матари-
шван, mätar'isvan-, «набухающий в [чреве] матери»75 и название
места, где возжигается Гархапатья — yoni- «чрево»76.
Если гас огонь Гархапатьи, то это тоже считалось
серьезным происшествием: огонь нельзя было зажечь от огня Ахава-
нийи и нельзя было просто использовать костер Ахаванийи
вместо Гархапатьи. Вместо этого необходимо было добыть огонь
Об этимологии arâni-, обнаруживающей семантический
параллелизм этого слова с yoni- см. ниже с. 207 и далее.
За подробностями касательно tabula и cribrum я отсылаю к более
детальному разбору данного фрагмента, который последует ниже на с. 223.
См. выше с. 142.
76 ,-,
См. выше.
146 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
трением с помощью arâni- [см. Dumézil 1954: 30]. За
подобной ритуальной иерархией кроется индоевропейский обычай,
согласно которому огонь можно брать от домашнего очага
соплеменника; для сравнения можно привести выражения вроде
греческого πυρ ανειν/Χαβεΐι/, литовского ùgnj imii, латинского
гдпет ассгреге или итальянского fuoco prendere; все они
буквально означают «брать огонь». По мнению Вильгельма Шульце,
контексты, в которых используются эти выражения,
указывают именно на этот древний обычай [Schulze 1966 (1918): 189-
210]. Суть в том, что Гархапатья, будучи огнем
домашнего очага, является средоточием возникновения всех
остальных видов огня77.
Установив первичность огня Гархапатьи, постараемся
проследить то, каким образом противопоставление Гархапатьи и
Ахаванийи символизирует различение огня земного и
небесного. Повторим еще раз: если земной огонь очевидным образом
несовместим со своим антагонистом — водою, то, согласно
индийскому мифу, рожденный в водах небесный огонь обладает
совсем иной природой:
- солнце погружается в воду на западе с тем, чтобы на следующий
день возродиться в водах востока;
- небесный огонь кроется в каплях дождях, оплодотворяющих
землю; он кроется в растениях, что растут из земли; а затем
благодаря трению он возникает из дерева как огонь земной.
Теперь попробуем выяснить, как это мифологическое
противопоставление проявляется в ритуальном взаимодействии
пламени Гархапатьи и Ахаванийи.
Место, отведенное для костра Гархапатьи, представляет
собою замкнутый круг; при этом внутренняя область круга
тождественна земле, а пространство вне его — окружающему землю
океану (эта ритуальная символика четко и однозначно
описана в Шатапатхе-брахмане 7.1.1.8, 13). Огороженное
камнями место имеет круглую форму, поскольку такова и форма
земли (7.1.1.37). Заметим, что воды символически находятся за
пределами того пространства, которое должно вместить
земной огонь Гархапатьи.
Место для костра Ахаванийи, напротив, представляет собой
замкнутый четырехугольник, символизирующий dyâus- «небо»,
См. подробнее [Dumézil 1954: 252-257].
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 147
внутрь которого кладется лист лотоса, специально
предназначенный для того, чтобы символизировать воды (опять-таки
смысл этих ритуальных символов четко и однозначно
объяснен в Шатапатхе-брахмане 7.1.3.9). Сакральное кострище в
данном случае имеет четырехугольную форму потому, что его
образцом служит структура небесного свода (путь Солнца,
расположение звезд), определяемая четырьмя сторонами света —
севером, югом, западом и востоком. Пространственную
ориентацию дает небо, а не Земля, которая потому и представляется
круглой, что не обладает собственной системой координат.
Заметим, что на сей раз вода символически расположена внутри
пространства, которое должно вместить небесный огонь Ахава-
нийи. В противовес огню земному небесный огонь совместим
с противоположным ему элементом — водою, ибо в
структуре макрокосма Солнце опускается в воду на западе, дабы на
следующий день возродиться тоже в водах, но на востоке.
Бесспорно, следует учитывать культовые различия между
кочевой культурой древних индийцев и традицией италийских
народов, ведших оседлый образ жизни и потому стоявших на
иной стадии развития. Тем не менее Жорж Дюмезиль [Dumézil
1954: 27-43] обратил внимание на поразительное сходство
между устройством древнеиндийского Ахаванийи и принятой
организацией римского templum, который представлял собою
четырехугольное пространство, выстроенное по четырем
небесным осям (ср. Витрувий 4.5). В свою очередь, параллельным
пространственным устройством обладали кострище Гархапатьи
и римский храм Весты, стоявший на круглом фундаменте (и
потому именовавшийся aedës, а не templum). Подобно Гарха-
патье, служившему воплощением домашнего огня, римская
Веста была богиней семейного очага. Но подмеченные Дюмези-
лем параллели этим не ограничиваются. Вода несовместима
с индийским Гархапатьей — точно так же она не
допускается и в пространство храма Весты. Во время происходящих в
aedès ритуалов вода и даже сосуд, ее содержащий, не должны
касаться земли. Этот запрет становится причиной
использования специального кувшина, называемого futtile. Данное слово
произведено от прилагательного futtilis «пролитый»; еще одним
вариантом (помимо fu-U) того же корня является fu-d-,
присутствующий в латинском fundö «лить». А вот как этот
кувшин использовали:
148 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
пат futtile vas quoddam est lato ore, fundo angusto, quo utebantur in
sacris Vestae, quia aqua ad sacra Vestae hausta in terra non ponitur,
quod si fiat, piaculum est: unde excogitatum vas est, quod stare non
posset, sed positum statim effunderetur.
A futtile — это сосуд с широким горлом и узким донышком,
которым пользовались в обрядах Весты, поскольку нельзя было
ставить воду, принесенную для этих обрядов, на землю. Если
же так случалось, то проступок необходимо было искупить. И
потому был придуман сосуд, который не может стоять, а стоит
его только поставить, он тут же свалится.
Сервий. Комментарий к Энеиде 11.339
Следует упомянуть и еще об одном, третьем, костре,
входившем в ритуал древнеиндийских Трех Огней. Помимо Гарха-
патьи, который возжигался на западе, и Ахаванийи, место для
которого было на востоке, к югу располагался еще один огонь —
Дакшина. Его название означает «правый», а исходная
функция состоит в том, чтобы отгонять от жертвоприношения злых
духов (Шатапатха-брахмана 4.6.6.1, 5.2.4.15-16). Если земно-
рожденный Агни ассоциируется с Гархапатьей, а Агни вод —
с Ахаванийей, то можно заключить, что Дакшина воплощает
рожденного на небе молниевого Агни.
В то время, как Гархапатья символизирует небо, а Аха-
ванийя — небо вместе с океаном, Дакшина служит символом
antâriksa- «промежуточного пространства» (об этом прямо
говорится в Шатапатхе-брахмане 12.4.1.3). Специально поддер-
кивается, что в нем пребывает, следя за порядком
жертвоприношений, небесный Агни:
sa ja,ya.mäna.h paramé vyomani
via.ta.ny agnir vratapa araksata
vy ântâriksam amimlta. sukrâtur
vaisvânaro mahinâ nâkam asprsat.
Рожденный на высочайшем небе,
Агни, хранитель установлений, следит за установлениями,
Сукрату, он мерит промежуточное пространство,
Вайшванара, он своим величием достигает свода небес.
Ригееда 6.8.2
В промежуточном пространстве, antâriksa-, Агни сливается с
Индрой в преображении грозы, поражающей демона Вритру.
ântâriksam mâhy a paprur ojasä
они [боги] наполнили промежуточное пространство своими ojas-.
Ригееда 10.65.2
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 149
Корень слова ojas- «сила» (*h2eug-) родствен тому, что
содержится в названии перу на Индры — «ваджры», vâjra-
(*h2ueg-)78, которую Индре приносит Агни:
a bähvor vâjra.m indrasya. dheyäm
Я [Агни] вложу vajra- в руки Индры.
Ригведа 10.52.5
В действительности эпитет vâjra-bâhu- «держащий в своих
руках ваджру» применяется как к одному Индре (Ригведа 1.32.15
и т.д.), так и к единому образу Индры-Агни (1.109.7)79. В итоге
оказывается, что раз Дакшина символизирует antâriksa-,
«промежуточное пространство», именно этот огонь и должен быть
связан с рожденным на небе Агни молнии.
Теперь мы в состоянии полностью представить себе
символическое значение древнеиндийских Трех Огней:
1. Дакшина: небесный Агни, молния.
2. Гархапатья: земной Агни, огонь.
3. Ахаванийя: водный Агни, солнце.
Три Огня перечислены здесь в том порядке, который
соответствует последовательности трех рождений Агни, описанной в
«Ригведе» 10.45.180. Приведенный в «Ригведе» порядок трех
рождений важен потому, что помогает понять значение имени
Трита Аптья «водный Третий» [см. Rönnow 1927: особ. 178].
Важен он и потому, что соответствует последовательности, в
которой Девы «боги»81 зажигают Три Огня:
1. Дакшина.
2. Гархапатья.
3. Ахаванийя.
Напротив, антагонисты богов асуры82 зажигают Три Огня в
обратном порядке:
3. Ахаванийя.
2. Гархапатья.
1. Дакшина.
О vâjra- см. ниже с. 255, 261.
Об индоиранском происхождении темы, стоящей за vajra-bähu-, см.
[Benveniste 1968: 74].
80 См. выше с. 137-138.
См. выше с. 132, прим. 45.
См. вновь с. 132, прим. 45.
150 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Миф о противоположных порядках действий богов и асуров
изложен в «Тайттирие-брахмане» 1.1.4.4-7; причем далее сказано,
что судьбы асуров или «демонов» были, соответственно,
обращены вспять, и они все потеряли, а судьбы Девов, «богов»,
двигались вперед, и они процветали. Но Девам не суждено
было иметь потомство; в этом отношении они противопоставлены
Ману — жертвоприношение Ману наградило его и
благополучием, и потомством. В брахманах Ману — прародитель
человечества и образец того, как следует приносить жертвы.
Согласно Сильвену Леви, Ману можно считать героем sraddha, если
считать это ведийское слово характеристикой того, как
приносящий жертву должен относиться к обрядовому действию.
Естественно, что прародитель человечества Ману должен был
возжигать огонь в той последовательности, в которой это
делали сами индийцы: недаром на протяжение всей «Ригведы» тот,
кто зажигает жертвенный костер, делает это manusvàt- «как
Ману» (1.44.11 и т.д.). И вот в каком порядке приносящий
жертву индиец зажигает Три Огня:
2. Гархапатья.
3. Ахаванийя.
1. Дакшина.
Ключом к обретению Ману потомства — чего не смогли
добиться даже боги — послужило то, что он начал возжигать
огонь с Гархапатьи, символизирующего рождение земного,
человеческого Агни. Агни-Матаришван, mätarisvan-,
«набухающий в [чреве] матери» рождается из у oui- «чрева» Гархапатьи.
Из «Ригведы» мы знаем, что именно Матаришван даровал
Агни Ману (1.28.2, 10.46.9) и что Агни обитает среди потомства
Ману (1.68.4).
Ману можно считать одним из частных воплощений Вива-
свата: оба они совершают первое жертвоприношение, оба —
прародители человечества, оба тесно связаны с Матаришваном
и Гархапатьей. На самом деле, согласно некоторым версиям,
Ману — «сын» Вивасвата, и потому его эпитетом служит Вай-
васвата (Шатапатха-брахмана 13.4.3.3 и т.д.). Еще одним
«сыном» Вивасвата является Яма, тоже называемый Вайвасвата
(Ригведа 10.14.5 и т.д.). Будучи первым, кто испытал смерть,
Яма Вайвасвата правит царством мертвых, в то время как
Ману Вайвасвата царит среди тех, кто приносит жертвы в мире
живых (Шатапатха-брахмана 13.4.3.3-5).
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 151
Этимология manu- вполне прозрачна: в основе его лежит
глагол man- «мыслить». Фигуре Ману вполне подходит имя
со значением «мыслящий». Как замечает Сильвен Леви,
непревзойденное мастерство в «тонком искусстве
жертвоприношения» наделяет Ману непререкаемым авторитетом во всем, что
касается ритуала83. Нет такой ошибки в принесении жертв,
которую он не смог бы исправить (Тайиттирия-самхита 2.2.10.2
и т.д.). А поскольку в развитии индийского общества ритуал
являлся своего рода источником представлений и о законе,
авторитет Ману простирался еще шире: его считали еще и
неким изначальным законодателем, и потому в Индии своды
своеобразных нравственных и юридических заповедей также носили
его имя [Levi 1966 (1898): 121].
Значение имени Ману выходит за рамки «разумности» в
принесении жертвы. Широту стоящего за ним смысла
подтверждает еще одно производное того же корня man-, а именно
существительное man as-. Мы увидим, что тал as- подразумевает
и силу мысли, заключенную в сопровождающей жертву
молитве, и одновременно ту космическую силу, которую вызывает
к действию эта молитва. Этим же словом, наряду с âsu-,
обозначена и та субстанция в человеке, которая способна пережить
смерть84. Точно так же как Мали- утверждает при помощи
жертвенного огня непрерывность рода людей, так и тал as- служит
залогом возрождения отдельной личности — и вновь
благодаря жертвенному огню Агни85.
[Levi 1966 (1898): 121]. См. также выше с. 101. О повсеместно
распространенном типе мифологического героя, соединяющем в себе первоче-
ловека с первым, кто совершил жертвоприношения, см. в [Christensen 1916].
В связи с этим заметим, что имя первочеловека индийцев Manu-
соответствует английскому man «человек». Согласно Тациту (Германия 2), в
германском фольклоре первым человеком считался Mannus, сын Tuisto.
Этимология последнего имени выявляет кроящееся в нем значение «близнец»;
в этом случае Tuisto можно сопоставить со значением имени брата Ману,
Ямы, который тоже является «близнецом» (имеется в виду не этимология,
а история о близнецах Яме и Я ми, на основании которой yama- в
классических текстах могло обозначать «близнеца». — Прим. перев.). См.
обоснование этих сопоставлений в [Güntert 1923: 315-343; Puhvel 1975]. О
вариативности пар «брат-брат» и «отец-сын» см. подробнее в [Davidson 1987].
См. выше с. 121 и далее.
Принимая во внимание не только родство древнеиндийского manas-
и Manu- в значении «мужчина, человек» (см. выше прим. 83), но и соответ-
152 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Как же тогда это абстрактное существительное
используется в конкретном изображении такого возрождения? Как я
постараюсь показать, связанная с manas- (и asu-) образность на
уровне микрокосма реализуется в представлениях о зрении и
дыхании, а на уровне макрокосма — в представлениях о
солнце и ветре. В центре всей образной системы находится Агни в
своей ипостаси земного огня, который прямо соединяет
мертвых с Агни — огнем небесным, т.е. солнцем. Солнечные
божества Савитар и Пушан могут быть проводниками душ только
постольку, поскольку при сожжении мертвых таким психопом-
пом неизбежно становится Агни. Агни — это и высший образец
возрождения, и тот, кто указует путь к возрождению.
Погребальный огонь Агни в конечном счете связует
умерших с солнцем:
sûryam câksur ga.ccha.tu va.ta.rn aima
пусть глаз идет к солнцу, а дыхание — к ветру86.
Ригведа 10.16.3
Тем самым человеческое зрение и дыхание растворяются в ма-
крокосмических стихиях солнца и ветра. И в других местах
темы солнца и ветра соотносятся друг с другом:
sûrya. âtma. jâgatas tasthusas ca
солнце, дыхание всего, что движется и не движется.
Ригведа 1.115.1
Источником такого отождествления солнца с ветром может
служить жертвенный костер: его огонь забирает, втягивает в себя
окружающий воздух, и та же способность по аналогии
сообщается и макрокосмической стихии солнца87.
ствие manas- древнегреческому ménos (μένος), заметим, что в «Илиаде»
XXIV 6 ménos Εύ (μένος ηύ) Патрокла непосредственно соотнесено с его
androtes «мужественностью» (ανδροτητά τε koù μέι/ος ην).
В следующих стихах этой же строфы содержится альтернативная
тема, которую нет возможности подробно разбирать в данном
исследовании. Я намереваюсь обратиться к ней в будущем в специальной работе,
посвященной анализу понятия dsadhl- (о котором см. выше с. 141).
В брахманах южный жертвенный костер «предков» (pitr-)
называется именем бога ветра Вайю ( Τайттирия-брахмана 1.1.8.1-2 и т.д.);
зачастую Вайю образует триединство с Агни и богом солнца Сурьей ( Тайтти-
рия-самхита 3.1.6b, 3.2.4h и т.д.). То, что с предками ассоциируется
именно южный огонь, вполне естественно, особенно если учесть, что их обите-
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 153
Теперь для того чтобы соотнести эти конкретные образы
с абстрактным существительным талая-, следует проследить
употребление данного слова в ведийских текстах. В качестве
«мысли» или «силы мысли» mânas- распространяется с
быстротой, сравнимой со скоростью бега коней Ашвинов (Ригве-
да 1.181.2, 6.62.3, 4). Ашвины — это те же Насатьи88, сыновья
Дьяуса «Неба» (1.183.1 и т.д.), супруги богини солнца Сурьи
(4.43.б)89, отцы Пушана (10.85.14); перед рассветом их
колесницу, подобную солнцу (8.8.2), приводит в движение Савитар
(1.34.10). Они появляются, когда загорается жертвенный
костер и когда восходит солнце (1.157.1, 7.72.4 и т.д.). Частые в
«Ригведе» слова о том, что их колесница быстрее mânas-
«мысли» (1.117.2 и т.д.), подразумевают сравнение mânas- с ветром.
В гимне Жертвенному Коню мысль жертвы характерным
образом уподобляется vâtа- «ветру» (1.163.11), при этом эпитетом
«ветра» служит dhrâjlmat- «рвущийся». В «Ригведе» такое
определение встречается еще только один раз:
âhir dhunir vâta. iva dhrâjlma.n
яростный змей, подобный рвущемуся ветру.
Ригведа 1.79.1
В данном случае «яростный змей» не кто иной, как сам бог
огня Агни.
Соответствующее древнеиндийскому mânas- греческое
ménos {μένος) означает не «мысль» или «силу мысли», а просто
«силу», при том что общим исходным значением для mânas- и
ménos является «держать в уме, напоминать». Так, например,
богиня Афина напоминает (hup-é-mnë-s en) Телемаху о его отце
и тем самым дает ему ménos:
tQ 8' ενί θνμ$
θηκε μένος καϊ θάρσος, νπέμι/ησέι/ τέ ε πατρός
лью считалась высшая точка небесного свода, которую в Северном
полушарии можно видеть на юге, если считать осью координат линию,
проведенную с востока на запад. См. подробнее [Hillebrandt 1927 1: 103, прим. 2, 3].
88 См. выше с. 129.
Традиционно Сурья — бог солнца, у которого есть дочь, носящая
то же имя. В 85-м гимне 10-й мандалы «Ригведы» описывается ее брак с
богом Сомой. Что касается упоминаемого здесь 43-го гимна 4-й мандалы,
то неясно, имеется ли в виду дочь бога солнца или он сам предстает в
своей женской ипостаси. — Прим. перев.
154 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
μάλλον er η то πάροιθει/.
В его thümos
она вложила ménos и отвагу; и она заставила его вспомнить
об отце
больше, чем прежде90.
Одиссея I 320-322
Трактовка ménos как «напоминания» подтверждается не
только тем, что в этом контексте ему сопутствует глагольный
корень *men-/*mn-eh2- в hup-é-mnë-sen (υπέμνησει/), но и
предшествующим развитием темы: для того чтобы вложить ménos
в Телемаха, Афина принимает обличив героя Ментеса {Méniës,
Μέντης), чье имя буквально означает «напоминающий»91.
Божественный ménos передается непосредственно с
дыханием: боги вдувают его в героя {Илиада X 482; XV 59-60, 262;
XX ПО; Одиссея XXIV 520). Соответственно, рвущиеся в бой
герои буквально «пышут ménos», μένεα πνείοντες {Илиада II
536, II 8, XI 508, XXIV 364; Одиссея XXII 203). Боги могут
также вдохнуть ménos и в лошадей:
*Ως ειπών ϊπποισιι/ ένέπνενσεν μένος ην.
Так сказав, он [Зевс] вдохнул добрый ménos в лошадей.
Илиада XVII 456
Этому «доброму, благому ménos», который Зевс вдыхает в
лошадей, параллелен «благой тал as-», которого просят у Агни
совершающие жертвоприношение92 :
bha.dra.rn по dpi väta,ya. m an ah
вдохни в нас благой m ал as-!
Ригведа 10.20.1
Помимо героев или лошадей, ménos могут обладать и другие
существа, в том числе солнце {Илиада XXIII 190), огонь (VI
Заметим, что ménos Телемаха помещается в его thümos (Одиссея
I 320); в других гомеровских контекстах thümos может не только
обозначать вместилище ménos, но и выступать также в качестве его синонима
(см. выше с. 122 и далее).
91 [Nagy 1974а: 266-269]. См. также ниже с. 278, прим. 16. О
параллельных словесных реализациях той же темы, произведенных от того же
корня в греческом и хеттском, см. [Watkins 1985b].
92 Ср. [Schmitt 1967: 115].
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 155
182, XVII 565), влажные ветры (Одиссея XIX 440) и реки
(Илиада XII 18). Как и героям, космическим силам тоже
следует напоминать об их мощи, и именно такова цель приносящих
жертвы. Одним из ведийских слов, обозначающих подобное
напоминание, и является тал as-: так, например, к приходу
солнечного бога Савитара жрецы (vipra-) собирают, «запрягают»
m ал as- и мысли:
yunjite mina, uti yunjite dhiyo
они запрягают minas- и они запрягают мысли.
Ригееда 5.81.1
Время прихода Савитара — это рассвет (Ригееда 5.81.2), и в
гимне соответствующим образом описывается основная задача
божества, воплощенная в самом его имени savitr-93: каждый
день «оживлять» мир (5.81.2-5). «Запрягая» manas-, жрецы
тем самым косвенно возбуждают dhiyas- «мысли, сознание»
людей, поскольку взывают к памяти Савитара, который каждый
день призван подымать людей, пробуждая их на рассвете ото
сна (4.53.3, 6.71.2, 7.45.1). Точнее, Савитар пробуждает
именно сознание людей:
tit sa.vitur virenya.m
bhirgo devisya, dhlmahi
dhiyo у6 nah pracodiyät
Пусть примем мы этот избранный свет
Девы Савитара,
который пробудит наши мысли.
Ригееда 3.62.10
Эта строфа представляет собой знаменитую Савитри, в
размере которой следовало призывать Савитара всякому, кто
прикоснулся к знанию вед94. «Мысли» здесь обозначаются тем же
словом dhiyas-, которое было соотнесено с manas- в
процитированном чуть раньше месте «Ригведы» 5.81.195. Основываясь на
подобных контекстах, мы можем предположить, что не только
Савитар, но и manas- связан и с пробуждением ото сна, и с
93 См. выше с. 130.
Савитри — дочь бога Сурьи, персонификация гимнического размера
гаятри. — Прим. пер ее. Ср. также одноименную эпическую героиню, о
которой упоминалось выше в прим. 11 на с. 122.
См. выше.
156 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
воскрешением после смерти. Греческое ménos тоже обозначает
силу, которую человек теряет во время сна:
ου yàp παυσωλή ye μετέσσεται ουδ' ήβαιόι/
ε Ι μη ννξ έΧΘονσα διακρινεει μένος ανδρών.
Не будет времени для отдыха [от битвы], ни малейшего перерыва,
если только не наступит ночь и не отделит ménos от людей.
Илиада II 386-387
Тем самым мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали:
греческое ménos синонимично thümos и psûkhé в минуту потери
сознания вообще и в момент смерти в особенности.
Сопоставление с родственным ménos древнеиндийским man as- показывает,
что унаследованная греческим словом семантика могла
предполагать возможность пробуждения от смерти по образцу
пробуждения от сна или от потери сознания. В индийской традиции
такое пробуждение связано с областью «предков» (pitг-). И
теперь нам снова стоит вспомнить сочетание формулы ménos ей с
именем Patrokléës, означающем «славный предками», в
контексте, где этим выражением названа та сила, которая покидает
тело Патрокла в миг его гибели (Илиада XXIV 6).
Сравнение с родственным древнеиндийским словом может
еще отчетливее прояснить смысл древнегреческого ménos: для
нас очевидно теперь, что между ménos солнца (Илиада XXIII
90) и ветра (Одиссея XIX 440) и ménos героя, в чьем имени
заключена слава предков, существует определенная,
унаследованная связь. Посредством сжигающего тело огня, зрение и ды-
Qfi
хание перетекают в макрокосмические стихии солнца и ветра .
Поэтому крайне существенно, что и сам погребальный костер
называется «ménos огня» (Илиада XXIII 238, XXIV 792); более
того, в первом из упомянутых контекстов речь идет именно о
сожжении тела Патрокла97. Проявление того же взаимодействия
См. выше с. 152.
97 о
В связи с этим вспомним, что в гомеровском языке m en о s
употребляется не только по отношению к героям вроде Патрокла, но и к
лошадям (см. выше с. 154). Более того, в «Илиаде» XVII 456 Зевс вдыхает
ménos в коней, которые принадлежат самому Ахиллу и которые вообще
бессмертны. В моей книге [Nagy 1979а; 209-210 § 50, прим. 2] я подробно
аргументировал точку зрения, согласно которой в «Илиаде» бессмертный
конь Ахилла Ксанф служит своего рода воплощением идеи воскрешения
солнца. Ксанф и другие кони Ахилла изображены на мюнстерской ги-
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 157
можно усмотреть и в том, что существительное psukhe,
образованное от глагола psûkhô, который в «Илиаде» обозначает
дуновение ветров, может выступать в качестве синонима ménos
в описании момента умирания. В свою очередь, мы теперь в
состоянии понять, почему индоевропейский глагольный корень
*an (*h2enhi-), присутствующий в древнеиндийском aniti
«дует», одновременно дает такие существительные-дериваты, как
греческое anernos «ветер» и латинское animus «дух».
Показательно, что множественное число греческого существительного
апетпог может также означать и «духи предков» (так указывает
в объяснении слова tritopatores словарь Суды и т.д.)98.
Наконец, латинское fümus и древнеиндийское dhumâr, оба
означающие «дым», родственны греческому thümos: подобные сдвиги в
семантике опять-таки становятся более понятными, если
принять во внимание представление о жертвенном огне, преобра-
QQ
зующем дыхание жизни в ветер .
Но все еще остается неразрешенным вопрос об эпитете ёи
в гомеровском выражении ménos eu {μένος ην). Семантически
ёи соответствует древнеиндийскому bhadrâm «благой» в
ведийском выражении bhadrâm... mânas100. Мы увидим, что с
формальной точки зрения ёи соотносимо с существительным äsu-,
которое используется вместе с mânas- для обозначения
субстанций, определяющих личность покойного после его смерти.
Однако, прежде чем проследить эту формальную связь, стоит при-
дрии (см. выше прим. 17 на с. 123), и некоторые исследователи [см. StäMer
1967: 44 и далее] считают, что там эти кони выступают как символы
гибели Патрокла. Учитывая, что унаследованная словом ménos семантика
допускает связь этого понятия в том числе и с солнцем {Илиада XXIII
190), я бы добавил, что эти самые кони могут играть и роль символов
загробной жизни Патрокла и Ахилла. Ср. процитированный выше на с. 140
отрывок из «Ригведы» 2.35.6.
Свидетельства приведены в книге Э. Роде [Rohde 1898 1: 247-249,
особ. 248-249, прим. 1]. Принимая во внимание трактовку Эрвином Роде
героического культа как трансформации почитания предков в условиях
полиса или города-государства (см. выше с. 131), обсуждаемое Роде слово
iritopdïores (τριτοπάτορες — например, у Фотия и Суды) можно
сопоставить с встречающимся в микенском письме словом ti-ri-se-ro-e = *tris hëroei
(дательный падеж; пилосские таблички Fr 1204, Τη 316.5); ср. также разбор
в [Sacconi 1960: 171 и далее] гомеровского tris mdkar (τρίς μάκαρ).
Эту тему мы уже разбирали ранее: см. выше с. 122, 152.
См. вьпие с. 154.
158 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
вести конкретные примеры того, как, собственно, описывается
asu- в момент смерти и после нее.
Как мы уже говорили, в представлениях древних заходящее
солнце как бы забирает с собой зрение и дыхание, которые
уносятся в космос при сожжении тела умершего101.
Показательно, что вместе с покойником сжигается также козел (Ригведа
10.16.4). Он служит своего рода залогом того, что боги
станут проводниками умершего праведника на предстоящем ему
пути предков (pit г-), которые достигли asu- и которые были
avrkâs «нетронуты волком»:
as um yâ îyûi avrka, rtaynâs
кто достиг âsu-, нетронутый волком, зная, что праведно.
Ригведа 10.15.1
Опасность, исходящая от волка, — еще одно, помимо сожжения
козла, указание на то, что проводником душ является Пушан:
именно он отгоняет волка с пути странника (Ригведа 1.42.2).
Еще одной угрозой являются собаки Ямы, именуемые asutrpa
«похитители asu-» (10.14.11). Из-за этих псов нужно читать
вот такую молитву:
tâV asmâbhya,m drsâye suryäya,
pu лаг dätäm âsum a.dyéhâ. bhadrâm
пусть эти два [пса], дабы мы увидели солнце,
отдадут нам назад, сегодня и здесь, наш благой asu-.
Ригведа 10.14.12
Таким образом, понятие «благой asu-», использующее тот
самый эпитет bhadrâ-, который, как мы уже видели, в иных
случаях служит определением к inanas-102, становится ключевым
в построении образа солнечного света.
Имея в качестве проводников Агни/Савитара/Пушана,
души умерших должны пройти по dsunlti- «тропе, ведущей к asu-»
(Ригведа 10.12.4, 10.15.14, 10.16.2). В некоторых случаях эта
тропа âsunlti- персонифицирутся в образе богини, к которой
обращена мольба вернуть умершим возможность лицезреть свет
солнца (10.59.5-6). С завершением пути умерших с запада на
восток, спящие готовы проснуться, и все ждут прихода Ушас
«Зари»:
См. выше с. 152.
См. выше с. 154.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 159
ud lrdhva.m jlvo âsur na. âgad
ара prâgat tâma, a jyotir eti
Éraik pânth&m yi.ta.ve sûryaya.
âga.nma yâtra ρ rati г an ta âyuh
Вставайте! Живой âsu- пришел к нам;
тьма ушла, и близится свет;
она [Ушас] освободила дорогу солнцу;
мы прибыли туда, где они продолжат жить.
Ригведа 1.113.16
В миг, когда просыпаются спящие, восстают и умершие.
Преодолев путь, лежавший в царстве мертвых, умершие
праведники, следуя примеру Ямы, подымаются по течению pravât-
вместе с солнцем к обители предков (pitf-), высшей точке
солнечного пути (Ригведа 9.113.9), где вблизи солнца они и будут
пребывать (1.125.6, 10.107.2, 10.154.5).
В восхождении вместе с Ямой (10.14.8) в обитель предков
подходящим проводником для души может стать и сам бог
солнца Савитар (10.17.4)103, да и Агни в своей ипостаси Апам Напа-
та тоже может служить своего рода макрокосмической моделью
такого путешествия104. Не случайно одним из вариантов
именования apain nâpât, причем вариантом, используемым именно
по отношению к Агни, служит pravâto nâpât «отпрыск
течения pravai-» (Атхарваведа 1.13.2). К этому можно добавить и
еще одно свидетельство вед:
pravat te agne janima
Течение pia vat место твоего рождения, Агни!
Ригведа 10.142.2
Поскольку конечной целью пути умерших праведников
является âsu-j находящийся в высочайшем небе, весьма
показательно, что каждый раз, когда Агни вновь вспыхивает на
жертвенном алтаре, он тем самым возвращается к своему
собственному âsu-:
devo у an m art an ya.jitha.ya. krnvân
sidad dhotä. pra.tyân svâm âsu m yân
Когда Дева [Агни] помогает смертным в жертвоприношении,
См. цитату на с. 135.
См. выше с. 137 и далее.
160 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
восседая как хотар105, возвращаясь к своему âsu-...
Ригведа 10.12.1
Стоит пламени начать гаснуть, и Агни усиливает его своим âsu-:
tasäm jsLrâm pramuûcânn eti пал ad ad
âsum pâram janâya,n jlvâm âstrta,m
унося от них их старость, он с ревом приходит,
рождая высший, живой, нерушимый âsu-.
Ригведа 1.140.8
Выражению âsum pâiam «высший asu-» родственно иранское
parähu- «высшее существование», обозначающее в «Авесте»
(Ясна 46.19) место, где пребывают благочестивые умершие. То,
что parähu- следует переводить как «высшее существование»,
подтверждается синонимом parö.asti- с тем же значением (Яшт
1.25)106. По всей видимости, оба иранских слова *para-ahu- и
*para-asti- образованы от глагольного корня *(hi)es- и с точки
зрения индоевропейской морфологии могут быть
реконструированы соответственно как *es-u- и *es-ti-107. Если на самом
деле иранское ahu- и древнеиндийское asu- представляют собой
родственные друг другу производные, восходящие к *es-u, то
тогда в процитированном выше отрывке из «Ригведы» 1.140.8
âsu- можно переводить как «существование, бытие».
Впрочем, родство иранского ahu- и древнеиндийского âsu-
[Schlerath 1968: 147-148, 152] подтверждается и другими
примерами. Так, скажем, в только что процитированном фрагменте
«Ригведы» 1.140.8 asu- соединяется не только с para- (что
соответствует иранскому parähu- — Ясна 46.19), но и с jlvâ-
«живой, живущий» (см. выше). Этому соединению jlvâ- и asu- тоже
находится параллельное выражение в «Авесте» — juiiö aηhus
«живой аЛ^/ш» (Гадохт-наск 2.2). Более того, в этом же
фрагменте (Ригведа 1.140.8, см. выше) мы встречаем сочетание asu-
с глаголом jan- «рождать, производить», соответствующее
авестийскому выражению aηhдus zauöi «в рождении ahu-» (Ясна
43.5). На этот отрывок из «Авесты» следует обратить особое
внимание, ибо в нем верховный бог Ахура108 называется
первым существом, участвовавшим «в рождении сущности [аЛи-]».
Хотар — именование жреца «Ригведы». — Прим. перев.
106 Ср. [Schlerath 1968: 149].
107 [Schlerath 1968: 149]. Ср. [EWA 147].
О его имени см. выше прим. 45 на с. 132.
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ 161
Точно такое же выражение anhaue zaOöi «в рождении
сущности [ahu-]» встречается и в другом месте «Авесты» {Ясна 48.6),
где говорится, что Ахура стал причиной роста растений,
наделив их изначальной сущностью (ahu-). В качестве параллели
можно привести строфу из «Ригведы», непосредственно
предшествующую той, где встречается соединение asu- и para- (1.140.8,
см. выше). В этой предшествующей строфе Агни тоже назван
причиной роста растений (Ригведа 1.140.7).
Авестийское ahu- «существование, сущность» загробной
жизни — амбивалентное понятие: благочестивым уготована
vahista- ahu, «лучшее существование» (Ясна 9.19 и т.д.), а
дурным — arista- ahu «худшее существование» (Ясна 30.4 и т.д.).
Первому из них семантически параллельно ведийское сочетание
asu- с эпитетом bbadrâ- «добрый, благой» (Ригведа 10.14.12)109.
Правда, в индийской традиции asu- употребляется только в
позитивном смысле. Однако авестийская аналогия
встречающейся в «Ригведе» комбинации asu- и корня ni «вести» (как,
например, в âsu-riiti- «тропа, ведущая к asu-»)110 отмечена и
отрицательными коннотациями: tam... ahum naësat «пусть это
приведет к такому [злому] ahu-» (Ясна 31.20). Что же
касается доброй сущности, то для ее обозначения используется еще
одно понятие ahu- manahiia «сущность manah-, духовная
сущность» (Ясна 57.25 и т.д.; этому термину противопоставлено
ahu- astuuant «сущность костей» с отрицательным значением
— Ясна 28.2 и т.д.). При этом не только авестийское ahu-
родственно ведийскому asu-, но и авестийское manah- соответствует
ведийскому тал as-; а именно этими двумя словами — man as- и
asu- — в древнеиндийской традиции обозначаются силы, с
которыми связана жизнь после смерти111. Более того, авестийские
ahu- и manah- могут соединяться друг с другом [Schlerath 1968:
153] точно так же, как и ведийские asu- и mânas-:
yaOäcä aqhai ap amain arjhus
SLcisto draguutam at asâunë vahistam manö
и пребудет в конце ahu-.
У дурных оно [ahu-] будет наихудшим [acuta-],
но праведные обретут наилучший [vahista.-] manah-.
Ясна 30.4
1иэ См. выше с. 158.
См. там же.
См. выше с. 121 и далее.
162 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Иранский материал показывает, что не только
существительные тал ал- и ал и- могут сопровождать и замещать друг
друга, но и образованное от талал- прилагательное может быть
подчинено существительному ал и- (ал и- manahiia-). Сравнение
с этим помогает прояснить смысл греческого выражения ménos
tu (μένος ην — например, в Илиаде XX 80, XXIV б)112, в
котором существительное ménos (μένος) управляет прилагательным
ей (ην). Кратко говоря, в иранской традиции мы видим
примеры и равноправного, и подчиненного употребления этих
понятий (тапал- плюс али-, шал ал iia плюс али-), в древнеиндийской
— только равноправное употребление (талas- плюс asu-), в
греческой традиции — только подчинение (ménos ёи). Более того,
порядок этого подчинения (какое понятие каким управляет) в
греческом языке обратный по сравнению с древнеиранским.
Даже если мы и не можем с уверенностью говорить о точном
фонологическом соответствии греческого ёи ( ην)
древнеиндийскому asu- и иранскому али-, одно можно утверждать с полной
определенностью: все три формы восходят к корню *es- «быть».
Общеизвестно, что производные от корня *es- прилагательные
приобретают значение «добрый, благой»: в данном контексте
на ум прежде всего приходит пример греческого
прилагательного es-thlos (έσθλός) «прекрасный, славный, благой»113.
Потому я полагаю, что обозначение в «Илиаде» XXIV 6
того, что теряет Патрокл в результате собственной смерти,
словосочетанием ménos ёи (μένος ην) представляет собой весьма
архаический образ и контекст, в рамках которого значение
«добрый, благой» для ёи — это исключительно поверхностный
смысл. Если же проникнуть вглубь, то в данном примере мы
можем уловить отзвук гомеровских представлений о загробной
жизни героя.
112 См. выше с. 130-131.
По поводу es-thlos (εσθλός) см. подробнее [Watkins 1972, 1982b].
Глава 5
СМЕРТЬ САРПЕДОНА
И ПРОБЛЕМА
УНИКАЛЬНОСТИ
ГОМЕРА
Ученые не раз пытались утверждать, приводя различные
аргументы, что поэзия Гомера уникальна и ее никак нельзя
сводить к стоящему за ней поэтическому наследию. Эту часть
своего исследования я начну с возражений по поводу одной из
таких попыток, касающейся смысла гомеровского выражения
kléos... aphthiion «слава...нетленная» (Илиада IX 413),
родственного древнеиндийскому s'ravas... âksitam с тем же значением
(Ригведа 1.9.7). Я хотел бы сразу обозначить мою собственную
трактовку этих двух выражений, трактовку, которая
соответствует выводам целого ряда моих предшественников1. Как и
они, я полагаю, что греческое kléos... aphthiton и
древнеиндийское s'ravas... âksitam восходят к прообразу данного
словосочетания в общеиндоевропейском поэтическом языке2. Однако в
работе, специально посвященной анализу этих двух
родственных выражений, один из моих оппонентов сосредоточивается на
различиях между греческими и древнеиндийским контекстами,
заключая, что гомеровское представление о нетленной славе
отмечено безусловным своеобразием и потому его можно считать
уникальным гомеровским образом3. В ответ на это утвержде-
См. подробную библиографию в [Schmitt 1967: 61-71].
2 См. [Nagy 1079а: особ. 140-149, 244 и далее]. О вероятных
метрических мотивировках тмесиса, в котором s'ravas и âksitam отделены друг
от друга, см. в [Nagy 1979b: 630, прим. 6].
Я имею в виду статью [Floyd 1980]. Суть настоящей главы взята из
статьи [Nagy 1981а], которую я написал в ответ на рассуждения Э. Флойда.
164 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ние я постараюсь доказать, что даже если гомеровское kléos...
aphthiion «слава... нетленная» несет в себе смысл, отличный
от соответствующего древнеиндийского словосочетания,
разница между ними тем не менее может быть объяснена в свете
той поэтической традиции, которая в действительности
предшествовала гомеровским поэмам. Иначе говоря, то, что стоящие
за kléos... aphthiion поэтические темы могли в общем
контексте «Илиады» приобрести особую семантику, никак не
противоречит тому, что они были унаследованы от индоевропейской
эпохи. Также я попробую показать, что центральным в этом
тематическом наследии является идея бессмертия, гораздо более
значимая, нежели представления о материальном
благополучии или безопасном существовании. И наконец, чтобы показать,
как конкретно разрабатываются данные темы, я подробно
остановлюсь на гомеровском описании смерти и похорон
анатолийского героя Сарпедона, содержащемся в 16-й песни «Илиады».
Начнем с того эпизода, когда Ахилл предсказывает, что его
По этому поводу была опубликована еще одна работа — статья М. Фин-
кельберг [Finkeiberg 1986], где есть ссылки на Э. Флойда, но не на мою
статью 1981 года. Она идет еще дальше, чем Э. Флойд, утверждая, что
kléos... âphthiton в «Илиаде» IX 413 вообще не является формулой,
унаследованной от предшествующей эпохи. Критику работы М. Финке льберг
см. в [А.T. Edwards 1988; ср. Watkins 1989]. В качестве аргумента против
утверждений М. Финкельберг о том, что kléos... âphthiton присутствует в
«Илиаде» IX 413 не как «самодостаточное целое», сошлюсь на мой
разбор выражений типа κλέος αφθιτον εσται (например, в Илиаде IX 413),
κλέος εσται (VII 458), κλέος αφθιτον (например, у Сафо φρ. 44.4 V) в
[Nagy 1974а: 104-109]. В этой работе я стараюсь проанализировать связи,
существующие между фразами такого типа в контексте более широкого
понимания «формулы» как таковой. Я согласен с М. Финкельберг, что κλέος
αφθιτον εσται в IX 413 несет тот же смысл, что и κλέος ουποτ ολείται
в II 325. Я готов признать возможность того, что в «Илиаде» IX 413
выражение κλέος ουποτ* ολειται отсутствует потому, что в начале строки уже
присутствует форма того же глагола ωλετο. Но с чем я не могу
согласиться, так это с выводом о том, что использование κλέος αφθιτον εσται
вместо κλέος ουποτ ολείται в «Илиаде» IX 413 является инновацией.
Напротив, это вполне мог быть архаизм, сохраненный во имя стилистических
целей, как раз ради того, чтобы избежать словесного повтора. Такое
понимание можно в принципе допустить в качестве одного из законов поэтики:
порой возвращение к более архаическим формам может быть
продиктовано неуместностью использования более новых поэтических приемов. В
этой связи см. весьма глубокое рассуждение об употреблении более
старых и новых форм в [Meillet 1920].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
165
собственная «слава» (kléos) будет aphthiton «нетленной», имея
в виду, что представление о нем как о герое будет навечно
сохранено в эпической поэзии, которая переживет и его, Ахилла
[см. Nagy 1974а: 244-255]:
ει μεν к άνθι μένων Τρώων πόΧιν αμφιμάχωμαι,
ωΧετο μεν μοι νόστος, άταρ κλέος αφθιτον εσται-
ε Ι δε κεν οϊκαδ' ϊκωμι φίΧην ες ποίτρίδα jaîav,
ωΧετό μοι κΧεος εσθΧόν, επϊ δηρόν δε μοι αιών
εσσεται, ουδέ κέ μ' ωκα τέΧος θανάτοιο κιχείη.
Если я останусь здесь и буду сражаться у города троянцев,
погибнет мое возвращение домой [nostos], но слава [kléos]
пребудет нетленной [aphthiton],
если же я вернусь домой в милую землю моих предков,
погибнет моя подлинная слава [kléos], но срок жизни [αιοη]
моей будет долгим
и смертный конец наступит для меня еще не скоро.
Илиада IX 412-416
Если же обратиться к той «славе», srâvas, о которой
молятся жрецы в 7-й строфе 9-го гимна 1-й мандалы «Ригведы»,
то на первый взгляд может показаться, что ее «нетленность»
(aksitam), напротив, ограничена пределами жизненного срока.
Некоторые полагают, что в этом случае слава является
сиюминутной и находит свое выражение в «неприкосновенности
материального имущества, праздничных торжествах и долгой
жизни» [Floyd 1980: 135]. Та же трактовка распространяется
и на схожее словосочетание âksiti... srâvas в «Ригведе» 1.40.4,
8.103.5, 9.66.7 [Там же: 135].
Итак, если мы в принципе собираемся отстаивать саму идею
того, что греческое kléos... aphthiton и древнеиндийское srâvas...
âksitam являются двумя рефлексами базового
индоевропейского словосочетания, то прежде всего нам следует объяснить
семантические расхождения в употреблении каждого из двух
выражений. Пока согласимся с тем, что такие расхождения на
самом деле существуют. Эти различия легли в основу
утверждений о том, что «ведийская модель, вероятно, ближе к исходному
смыслу индоевропейской формулы» [Там же: 139]. Подобные
выводы означают, что присутствующий в контекстуальном
употреблении ведийского srâvas... âksitam акцент на материальном
благополучии был заложен уже в индоевропейском образце, в
166 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
то время как значение kléos... aphthiion в гомеровском
отрывке отражает, по всей видимости, некую новую интерпретацию
этого образца. Ахилл сознательно отказывается от
материального благополучия, связанного с его «возвращением домой»,
nostos (это слово присутствует в «Илиаде» IX 413), ради
возвышенной «славы», тождественной той поэтической традиции,
которая переживет героя и в которой его славные деяния
будут воспеваться вечно.
Представление о некоем особом смысле, заключенном в
kléos... aphthiion в «Илиаде» IX 413, расходится с точкой
зрения, изложенной мною в моей монографии о греческой и
древнеиндийской метрике. Позиция, зявленная мною тогда,
сводится к следующему: возвышенное представление о живущей
вечно поэтической традиции, существенно более общее, чем
стремление к материальному достатку и благополучию, содержится
не только в греческом kléos... aphthiion, но и в
древнеиндийском srâvas... âksitam, и на самом деле эта идея является
поэтической темой, унаследованной от индоевропейской эпохи4.
Расхождения двух взглядов на проблему можно кратко
продемонстрировать на примере двух различных трактовок
одного из трех (помимо âksitam) эпитетов, характеризующих srâvas
âksitam «славу» в строках бис 7-й строфы 9-го гимна 1-й ман-
далы «Ригведы» — а именно прилагательного visvâyur5. Я
перевожу visvayur как «длящийся вечно» [Nagy 1974а: 110], в то
время как некоторые считают, что значение слова может быть
См. [Nagy 1974а: 244-255]. Убедительный ответ сомневающимся в
древности этой темы содержится в статье [Risch 1987: особ. 4], в которой
обращено внимание на существенные упущения в рассуждениях
большинства специалистов, высказывавших свое мнение относительно греческого
эпитета dphthito- «нетленный» и родственного ему индийского âksita-. Ср.
также [Watkins 1989].
Я следую интерпретации Р. Шмитта [Schmitt 1967: 19, прим. 114
и 73, прим. 446], понимая форму visvayur как средний род от visvâyus- и
согласуя ее со srâvas «славой», а не как производное от visvayu-,
предположительно согласованное с тага,-. Конечно, в «Ригведе» есть места, в
которых зафиксировано соединение visvayu- с indra- (например, Ригведа
6.34.5), но в то же время есть очевидные примеры употребления
среднего рода visvâyus- ([Wackernagel, Debrunner 1930: 291; что касается
тенденции к замещению во вторых элементах композитов -ayu на -ayus см.
[Wackernagel, Debrunner 1954: 179]). О чтении visvayur в «Ригведе» 1.9.7
в сочетании с indra см. [Watkins 1989].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
167
более точно передано как «длящийся всю нашу жизнь» [Floyd
1980: 136, прим. 6]. В подтверждение именно такого понимания
приводятся два других эпитета, относимых к srâvas «славе»:
в той же строфе (Ригведа 1.9.7) ее именуют vâjavat «богатой
добром» и gomad «богатой скотом». В этой связи весьма
показательным считается то, что Ахилл, в свою очередь, упомянув
о богатстве вообще и о скоте в частности (Илиада IX 406-407),
утверждает, что все добро, которое можно добыть в Трое или в
Дельфах, не стоит его собственной жизни (IX 401-405, 406-409),
но что он тем не менее готов пожертвовать жизнью, дабы
приобрести нечто, ей равноценное, а именно kléos... dphthiton (IX
413). В «Ригведе» 1.9.7, напротив, srâvas... âksitam выражается
именно в материальном благополучии — в богатстве вообще и
обладании скотом, в частности.
Противоречия в интерпретации эпитета srâvas «славы» —
visvâyur можно разрешить, обратившись к этимологии
содержащегося в нем элемента -âyur, производного от
существительного êyu-/âyus- со значением «срок жизни», причем это
понятие функционирует как на человеческом, так и на
космологическом уровне. В своей важнейшей статье Эмиль Бенвенист
выявил формальные связи, существующие между этим
древнеиндийским существительным и родственным ему
древнегреческим агоп и другими словами типа древнегреческого агег «вечно,
всегда», латинским aeternus «вечный», авестийским yauuaëtât-
«вечность» и т.д.6 Небезынтересно, что греческое агоп «срок
жизни» присутствует в «Илиаде» IX 415 и при этом, с одной
стороны, противопоставлено «славе», kléos, которая переживет
Ахилла (IX 413), а с другой — ассоциируется с тем
материальным благополучием, которое ожидает его по возвращении
домой (IX 414; присутствующая здесь тема материального
благополучия развернута чуть ранее в IX 400). Nosios «возвращение»
Ахилла (IX 413) связано с этим благоденствием, выражаемом
в агоп (IX 415), и в то же время, как мы только что выяснили,
именно слово агоп связано с другим — агег, которое на самом
деле означает «вечно»! Более того, в гомеровском языке
зафиксировано формульное словосочетание âphthiton агег (II 45, 186;
XIV 238), а в примере, взятом из архаической эпиграфической
6 См. [Benveniste 1937]. Кстати, эту работу вовсе не упоминает
Э. Флойд [Floyd 1980].
168 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
поэзии VII века мы находим даже сочетание kléos àphihUon агег
(kXéFoç απθίτον oliFei — DGE № 316).
Таким образом, можно с полным основанием заключить,
что в индоевропейском контексте представление о
материальном благополучии на языковом уровне вполне согласуется с
представлением о вечности. А если взглянуть на все с другой
стороны, то можно сказать и так: трансцендентное понятие
вечности находит свое конкретное воплощение в представлениях
о материальном. Так, например, слово агоп, реальный смысл
которого для Ахилла заключен в материальном достатке,
обретенном после благополучного возвращения домой, несет в
себе еще и временное значение, ибо подразумевает еще и некую
жизненную силу, благодаря которой человек пребывает на этом
свете и без которой он не может остаться в живых [Benveniste
1937: 109]. Значение «длительности» может быть расширено до
«века», «поколения», выражая тем самым бесконечную
открытость в будущее: на космическом уровне жизненная сила
обеспечивает непрекращающуюся цепь поколений — именно такой
смысл вполне очевиден в семантике родственного греческому
агоп латинского aetas/aeternus [Там же: 105, 109]. Еще одно
соответствие внутри собственно греческого — наречие агег —
означает «вечно, всегда», исходно указывая на некий процесс
постоянного начинания сначала (см., например, Илиада I 52)7.
Это непрекращающееся обращение к началу можно определить
и как «вечное возвращение»8.
Более того, тема личного бессмертия в архаической
греческой поэзии обычно находит свое выражение в образах,
связанных с материальным достатком и благополучием: в
доказательство можно привести, например, эпитет olbioi «благословенные»
(от olbos «богатство»), употребляемый по отношению к
получившим бессмертие героям, составлявшим четвертое поколение
людей (Гесиод. Труды и дни 172)9. Сошлемся еще на один пример:
7 [Benveniste 1937: 105, 109].
8 [Там же: 100].
9 См. [Nagy 1979а: 169-170 § 30, прим. 2]. Об изображении героев в
«Трудах и днях» ср. также [Vernant 1985: 101, 104, 106]. Я считаю, что μέι/
в 166-й строке «Трудов и дней» параллельно μέι/ в строках 122, 137, 141,
161, а не тому μέι/, которое содержится в строке 162 — в противовес
интерпретации М. Уэста [West 1978: 192]. Разбор представления о циклическом
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
169
когда смертная Ино после смерти становится бессмертной
«Белой Богиней» — Левкотеей, она получает biotos «жизнь»,
которая названа aphthitos «нетленной» (Пиндар. Олимпийские оды.
2.29)10. Схожим образом, всякий раз когда уничтожение
грозит чьему-либо агоп'у, эта угроза выражается глаголами с
корнем phthi- «истлевать, губить, рушить» (Одиссея V 160, XVIII
204). Соответственно, коль скоро ά-phthi-to- «нерушимый,
нетленный» может использоваться для выражения идеи
приобретенного человеком бессмертия, это прилагательное может
соединяться и с kléos «славой», подразумевая непрерывность
поэтической традиции, прославляющей того, кто стал
бессмертным. Потому, скажем, та же Ино не только получает biotos
aphthitos «нетленную жизнь», но и kléos «славу», которая опять-
таки именуется aphthiton «нетленной» (Гесиод, фр. 70.7 MW).
Напротив, Ахилл, если хочет достичь kléos... aphthiton
«нетленной славы» (IX 413), должен пожертвовать своим axon
«сроком жизни» (IX 415), неразрывно связанным с его nostos
«возвращением, приходом домой» (IX 413). И при этом, если
вспомнить выводы Бенвениста, axon несет в себе тему «вечного
возвращения» [Benveniste 1937: ПО]. В своем исследовании Дуглас
Фрэйм продемонстрировал, что та же тема возвращения к
жизни после смерти присутствует и в слове nostos «возврат, приход
домой»11. И здесь как раз и заключено важнейшее расхождение
в употреблении kléos... aphthiton в «Илиаде» IX 413 и s'ravas...
âksitam в «Ригведе» 1.9.7. Гомеровская поэзия не столько
отделяет тему материального достатка от темы вечности,
непрерывности, сколько разграничивает тему обретения человеком
личного бессмертия и получение этого бессмертия посредством
поэзии. По сути дела, Ахилл говорит о том, что он предпочитает
возрождении в моей работе [Nagy 1979а: 168-172] согласуется с концепцией
Э. Бенвениста [Benveniste 1937: 112], согласно которой
образным'воплощением понятия axon как соединения конечного и бесконечного является круг.
10 См. [Nagy 1979а: 175, § 1, прим. 4; 203 § 41, прим. 2].
[Frame 1978]. См. также выше с. 129 и далее: там говорилось о связи
между nôos/nostos и psukhe. Это рассуждение важно для понимания
выражения ψνχή πάλα/ ελθεΐι/ «душа приходит обратно» в «Илиаде» IX 408.
Кроме того, соображения, высказанные Д. Фрэймом [Там же: 145-152]
относительно соотнесенности в индоевропейской поэтической традиции темы
бессмертия со скотом, показательны для понимания эпитета gomad
«богатый скотом» в «Ригведе» 1.9.7, о котором речь шла выше.
170 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
бессмертие, которое ему принесет «Илиада», тому вечному
благоденствию, образом которого служат понятия агоп и nostos12.
Это, впрочем, не отменяет того, что воплощенные в
эпитете âphthito- «нетленный» мотивы материального достатка и
благополучия в действительности вполне совместимы с
трансцендентной темой личного бессмертия13. Если kléos... aphthiion
«нетленную... славу» Ахилла и можно считать отмеченной
известным своеобразием, то своеобразие это состоит только в том,
что герой «Илиады» ставит бессмертие, принесенное ему
эпосом, даже выше собственного, личного бессмертия.
Я вовсе не хочу этим сказать, что тема личного бессмертия
в гомеровской поэзии сведена к минимуму. Даже в особой
системе ценностей, которую строит для себя Ахилл, мы можем
уловить отзвуки более широких представлений, в которых тема
личного бессмертия никак не расходится с темой бессмертия,
приносимого эпосом вообще и «Илиадой», в частности.
Весьма показательным с этой точки зрения становится описание в
«Илиаде» смерти и похорон ликийского героя Сарпедона.
Подробнее о присутствующей в «Илиаде» теме бессмертия, которое
герою дарует эпос, см. в [Nagy 1979а: 174-210]. Заметим, кстати, что, в
отличие от Ахилла, для другого героя — Одиссея достижимым оказьшается
и kléos, и nostos [Там же: 36-41]. По крайней мере, с этой точки зрения
можно действительно предполагать, что эпос об Одиссее ближе к исходной
индоевропейской модели. Более того, имея в виду только что разобранные
коннотации эпитета olbioi «благословенные», можно по ходу дела обратить
внимание на упомянутые в связи с конечным «возвращением» героя lâo'%...
olbioi «блаженные, благословенные народы» (Одиссея 136-137).
Обстоятельства будущей смерти Одиссея подразумевают его воскрешение в
Элизиуме, месте, тождественном Островам блаженных, на которых пребывают
получившие бессмертие герои (см. Гесиод. Труды и дни 172, см. ссылку
выше). Об иных аспектах темы воскрешения в «Одиссее» см. [Newton 1984].
Доказывая, что kléos... aphihiton является гомеровской новацией,
М. Финкельберг утверждает, что использование âphthito- по отношению
к такой «бестелесной данности», как kléos, представляет собой
«семантическую инновацию» [Finkeiberg 1986: 5]; при этом, исходя из того, что
aphthUo- чаще всего употребляется в связи с «материальными
объектами», она заключает, что «подобные конкретные ассоциации должны быть
исходными для данного понятия» [Finkeiberg 1986: 6]. Для меня такое
доверие к статистике в вопросе о том, что является «исходным», а что
нет, кажется весьма сомнительным. Кроме того, я хотел бы указать на
одну бросающуюся в глаза особенность употребления âphthito- по
отношению к «материальным объектам»: всякий раз эти конкретные ассоциации
связаны с иным миром [ср. Nagy 1974а: 244-255].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
171
Рассматривая рассказ о Сарпедоне, я буду
руководствоваться тремя общими принципиальными подходами, почерпнутыми
из трех разных областей науки, каждая из которых
непосредственно связана с вопросом об уникальности Гомера. Этими
областями являются: 1) археология, 2) сравнительное
языкознание и 3) изучение «устной поэзии». Я собираюсь
определить каждый из этих принципов последовательно, переходя от
одной дисциплины к другой, а затем соотнести все три подхода
с отрывком, повествующим о смерти и похоронах Сарпедона
в «Илиаде» XVI 419-683.
Начнем с археологии. Мы уже говорили о том, что для
нашего понимания гомеровской поэзии представление о восьмом
веке до н.э. — эпохе, в которую «Илиада» и «Одиссея»
получали свое окончательное оформление — так же важно, как и
знание особенностей конца второго тысячелетия до н.э. —
периода, откуда обе поэмы непосредственно черпали свое
содержание14. Археологические данные говорят о том, что
установлениями своего героического культа греки обязаны восьмому
веку — той же эпохе, которой обязаны своим происхождением
«Илиада» и «Одиссея»15. По утверждению Эрвина Роде,
герой как предмет культа связан прежде всего с определенным
местом, поскольку фундаментальным принципом греческой
религии была убежденность в том, что именно эта связь служит
залогом его сверхъестественной силы [Rohde 1898 1: 184-189].
С другой строны, герой как эпический персонаж — фигура
общегреческой значимости, и потому религиозная составляющая
не может играть непосредственной роли в его изображении в
повествовании [ср. Nagy 1979а: особ. 342]. Такие
ограничения, налагаемые гомеровской поэзией на самое себя, заставили
Э. Роде недооценить едва уловимые следы героического культа,
которые тем не менее присутствуют в «Илиаде» и «Одиссее».
Роде полагал, что коль скоро в целом гомеровская поэзия
умалчивает о самом явлении героического культа, то это означает,
что подобная идеология вообще еще не сформировалась16. И
все же даже Роде был вынужден признать, что признаки этого
культа пронизывают всю ключевую сцену похорон Патрокла в
23-й песни «Илиады» [Rohde 1898: 1: 14-22].
См. выше с. 26.
5 См. выше с. 27 и далее.
См. весьма убедительную критику этой точки зрения в [Hack 1929].
172 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
На самом деле вполне можно утверждать, что гомеровская
поэзия в принципе насыщена внутренними отсылками —
прямыми и косвенными — к религиозным характеристикам героев
как объектов культа [Nagy 1979а: 69-117]. Но сейчас я
ограничусь упоминанием одной центральной сцены, которую
согласился считать подобной культовой отсылкой даже Эрвин Роде.
Этот эпизод — похороны Патрокла в 23-й песни «Илиады» —
представляет собой идеальный повод для того, чтобы перейти
ко второму из трех подходов, которые нам надо использовать
при разборе повествования о смерти и похоронах Сарпедона в
16-й песни «Илиады». На сей раз его основой становится
сравнительное языкознание. Что касается его принципиальной
сути, то ее вкратце можно сформулировать так: как мы уже
видели, не только греческий язык как таковой родствен другим
индоевропейским языкам, но и различные древнегреческие
установления сродни установлениям иных народов, говоривших на
других индоевропейских языках17. В данном случае нас будет
интересовать один конкретный набор признаков, характерных
для определенного установления греков, которым можно
найти соответствие в социальной практике иных народов —
преемников индоевропейской языковой общности. Я имею в
виду похороны Патрокла в 23-й песни «Илиаде» в
сопоставлении с похоронными царскими обрядами, описанными в
официальных хеттских документах18. Детальные совпадения между
сценой «Илиады» и стандартным хеттским ритуалом
настолько поражают своей близостью, что напрашивается
предположение о стоящем за ними общем индоевропейском наследии19.
И этот вывод оказывается еще более подкрепленным
сравнением с древнеиндийским свидетельствами касательно похоронных
ритуалов и культа предков20.
Трудно переоценить ту роль, которую играет в
археологических исследованиях сравнение с хеттским и древнеиндийским
материалом. Так, например, споры археологов относительно
сожжения тела Патрокла, по сути, теряют свой смысл, стоит
только соотнести это описание с соответствующими обрядами
См. выше с. 16 ел., 24.
Они собраны в издании [Otten 1958].
См. выше с. 119.
См. выше с. 119-122.
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
173
кремации в хеттской и индийской культуре. Поскольку для
греков второго тысячелетия до н.э. обычной формой
захоронения было погребение в земле, а кремация вошла в обиход лишь
в первом тысячелетии, археологами гомеровские описания
сожжения тела Патрокла и других героев воспринимались как
отражение практики, характерной именно для первого
тысячелетия21. Однако данные сравнительного языкознания
указывают на то, что засвидетельствованные в гомеровской поэзии
черты ритуала кремации настолько архаичны, что они могут
даже восходить к обычаям, датируемым периодом,
предшествовавшим приходу в Грецию в начале второго тысячелетия до
н.э. народов, говоривших на индоевропейском языке, который в
конце концов преобразовался в древнегреческий язык22. Иначе
говоря, литературный материал гомеровской поэзии
оказывается в этом случае куда более архаичным, чем археологические
свидетельства, сохранившиеся от микенской цивилизации.
Впрочем, это вовсе не означает, что касательно второго
тысячелетия до н.э. мы попросту не располагаем данными о
ритуале, которые можно получить путем сравнительного
лингвистического анализа. Возьмем греческое слово therapön, которое
является заимствованием (датируемым где-то вторым
тысячелетием) из одного из индоевропейских языков,
распространенных в это время в районе Анатолии23. Таким языком мог быть
хеттский, лувийский или какой-то близко родственный им, но в
любом случае данные, которыми мы располагаем
относительно слова, заимствованного в форме therapôn, взяты в основном
из хеттского. В нем это слово зафиксировано как tarpan(alli)-
или tarpassa-, чему в греческом, соответственно,
параллельно therapön или параллельная форма théraps. Хеттское
слово означает «ритуальный заместитель, субститут». Объектом
такого замещения служит, как правило, сам царь, и tarpan(alli)-
/iarpassa обозначает его alter ego («второе я»), на которое в
ритуале переносятся проступки царя и общины, которую он пред-
См., например, [Andronikos 1968: 76].
В четвертой главе я уже подчеркивал, что вовсе не считаю, что
кремация была определяющим похоронным обрядом в индоевропейскую
эпоху. Я полагаю всего лишь, что она являлась одним из форм погребального
ритуала, возможно, наряду с другими различными формами этого обряда.
23 [Van Brock 1959; ср. Nagy 1979а: 33, 292-293]. Ср. также выше
с. 73.
174 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ставляет [Van Brock 1959: 119]. Механизм такого перенесения
присутствует и в описании смерти и похорон Патрокла: некоей
проекцией семантики хеттского термина можно считать
именование в «Илиаде» (XVI 244 и т.д.) словом therapön
Патрокла — героя, который принимает смерть в доспехах Ахилла и
который по ходу действия «Илиады» в самом деле замещает
своего покровителя Ахилла24.
Упомянутое греческое слово therapön окажется весьма
важным для наших дальнейших рассуждений о смерти и
похоронах Сарпедона в 16-й песни «Илиады». У нас еще будет
возможность поговорить об использовании другого ключевого
слова, тоже анатолийского происхождения, в котором опять-таки
будут воплощены ритуальные характеристики героя. Но
прежде чем заняться этим словом, следует в принципе доказать
аутентичность истории Сарпедона в «Илиаде». Дело в том,
что многие видные специалисты по Гомеру в ней сомневались,
полагая, что это позднейшая вставка, созданная по образу и
подобию описания гибели Мемнона в «Эфиопиде» [см.,
например, Schadewaldt 1965: 155-202]. Сторонники такой точки
зрения аргументировали свое мнение как иконографическими, так
и литературными свидетельствами, утверждая, что среди
греков была изначально и традиционно распространена история о
том, как тело Мемнона было унесено богиней Эос, а
параллельная тема похищения тела Сарпедона Аполлоном выглядит на
ее фоне вторичной и потому изобилует художественными
недостатками [Clark, Coulsen 1978].
Однако такая аргументация упускает из виду один из
существеннейших принципов, установленных для «устной поэзии»
полевыми исследованиями Милмэна Пэрри и Альберта Лорда.
Соответствующий подход будет третьим и последним из тех,
которые мы рассмотрим, а затем и применим в анализе отрывка из
«Илиады», повествующего о гибели и захоронении Сарпедона.
В кратком изложении он выглядит так: в устной поэзии та или
иная тема может существовать в более чем одной версии или
варианте, но это многообразие тематических вариантов вовсе
не означает, что лишь один из них по каким-то причинам
является исходным, первичным, а все остальные — вторичными и
24 См. [Householder, Nagy 1972: 774-776]. Ср. также [Sinos 1980,
Lowenstam 1981].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
175
производными. Система устной поэзии функционирует таким
образом, что каждый тематический вариант — это всего лишь
одна из множества форм, и ни один из вариантов, входящих
в тот или иной отдельный набор, не может считаться некоей
«праформой» [ср. Лорд 1994: 117]. Того же подхода следует
придерживаться и при изучении мифа как такового. В случае
с Сарпедоном продемонстрировать, что история о нем отмечена
определенными художественными несоответствиями, которых
нет в рассказе о Мемноне, вовсе не означает доказать, что
первая история создана по образцу второй. У каждой из множества
форм могут быть свои недостатки: мы можем только заметить,
что у некоторых из них таких недостатков больше — и все. Но
даже такие оценочные суждения могут оказаться следствием
культурных пристрастий. Вполне вероятно, что в этом и
других случаях наши представления о достоинствах и
недостатках свидетельствуют просто об определенной узости взгляда:
мы всего лишь принимаем за точку отсчета одну из множества
форм, которая по той или иной причине стала канонической.
Такой способ умозаключений, когда в результате мы
сбрасываем со счетов одну версию, считая ее позднейшим
слепком с другой, становится проявлением упущения, гораздо более
принципиального и мешающего целостному восприятию
Гомера. Стремясь как-то согласовать наши представления с
концепцией «устной поэзии», мы то и дело забываем о еще более
фундаментальной ее характеристике: устная поэзия — это еще
и поэзия традиционная. Поэт не выдумывает свои истории; он
скорее пересказывает то, что его слушатели уже слышали и
ожидают услышать вновь. Как замечал Альберт Лорд, «в
результате возникает картина, по существу не содержащая
противоречия между хранителем традиции и художником; это скорее
сохранение традиции путем постоянного ее воссоздания.
Идеалом является хорошо и точно переданная достоверная
история» [Лорд 1994: 42].
Теперь, руководствуясь описанными выше принципами, мы
можем наконец непосредственно заняться анализом
греческого слова анатолийского происхождения, которое встречается в
отрывке, где рассказывается о смерти и похоронах Сарпедона,
сына самого Зевса. После того как выдающийся вождь ликий-
цев гибнет от рук Патрокла, Аполлон по воле Зевса должен
забрать его тело, поручив близнецам «Сну» (Hiipnos) и «Смер-
176 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ти» (Thanatos) перенести его на родину героя в Ликию (Илиада
XVI 454-455, 671-673). А уже там должны произойти
следующие события:
ενθά ε ταρχύσονσι κασί*γνητοί те εται те
τνμβω те στήλη те- το yap -γέρας εστί θανόντων.
и там его родные и друзья должны устроить ему погребение
[глагол tarkhuö]
с гробницей и стелой; ибо таковы почести мертвым.
Илиада XVI 456-457 = 674-675
Мы вскоре увидим, что принятый перевод «устраивать
погребение, хоронить» не подходит для глагола tarkhuö. Если
история Сарпедона — как и другие гомеровские истории —
действительно представляет собой достоверный пересказ
подлинно традиционного сюжета, то тогда ее ликийский антураж
приобретает дополнительную значимость. Дело в том, что
ликийский язык — тоже индоевропейский по своему происхождения
и близко родствен хеттскому и лувийскому. В ликийском есть
слово trqqas: оно употребляется по отношению к богу, о
котором говорится, что он сокрушает дурных [Laroche 1958: 98-99;
Heubeck 1959: 32-35]. Данная форма прямо связана с именем
лувийского бога грома, главы лувийского пантеона — Tarhuni-
[Laroche 1958: 98-99, ср. Watkins 1974: 107]. Хеттский
вариант того же происхождения сохранился как Таг hu- в теофор-
ных именах; также он зафиксирован в форме прилагательного
tarhu-j означающего «завоевывающий, победоносный» [Laroche
1958: 90-96]. В целом вся группа данных имен
произведена от корня tarh- «побеждать, преодолевать», который на
индоевропейском уровне может быть реконструирован как *terh2-
[Laroche 1958: 96, ср. Watkins 1990].
Этот короткий экскурс в этимологию был нужен нам, чтобы
убедиться: все указывает на то, что греческий глагол tarkhuö
представляет собой заимствование из некоего анатолийского
языка, которое можно датировать II тысячелетием до н.э.,
причем заимствованная форма должна была выглядеть как
нечто вроде tarhu- «завоевывающий, победоносный». Такая
версия происхождения греческого tarkhuö принята, хотя и с
некоторой осторожностью, и столь авторитетным изданием, как
«Этимологический словарь греческого языка» Пьера Шантре-
на [DELG: 1095].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
177
Но при всем том остается вопрос: как же нам переводить
греческое tarkhuo? Поскольку, как мы видели, в анатолийских
языках tarhu- могло обозначать божество, П. Шантрен, следуя
интерпретации Пауля Кретчмера, так переводит фразу ενθά
ε ταρχύσουσι из «Илиады» XVI 456=674: «...и там они будут
считать его богом» [DELG: 1095; Kretchmer 1940: 103-104]. С
этим можно сравнить выражение, с помощью которого
описывается смерть царя или царицы в хеттских погребальных
ритуалах: DINGIRL/M-25 kisat «[он или она] становится богом» [Otten
1958: 119-120]. Наречие ένθα «там» в греческом выражении ε
νθά ε ταρχύσουσι относится κ demos «области» Ликии {Илиада
XVI 455, 673; ср. 683)25. Я хотел бы обратить внимание на
слово demos в свете того, о чем говорилось выше применительно
к архаической греческой религии, а именно касательно связи
культа с определенным местом. Также мне хотелось бы
привлечь внимание к еще одному гомеровскому выражению, где
тоже присутствует слово demos:
θεός £' ως τίετο δήμω.
и в demos он приобрел time [почет], подобно богу
Илиада V 78, X 33, XI 58, XIII 218, XVI 605
Для нас чрезвычайно важен глагол ttö/timaö и
соответствующее существительное time «почет, почесть», поскольку в
древнегреческом они употребляются, в частности, для обозначения
«почестей», которые бог или герой получают в форме
культа. В словаре Лидцелла-Скотта это значение не вынесено в
отдельную рубрику, хотя в языке архаической прозы и поэзии
оно зафиксировано весьма широко26. Если анализируемая
нами гомеровская формула в действительности подразумевает и
культовое значение, это подтверждает правильность перевода
О значении «область» для demos см. [DELG: 273-274]; в
результате семантического сдвига слово начинает означать и «людей, живущих в
данной области» (например, в Одиссее VII 11).
Проза: ср. употребление time у Геродота 1.118.2 (применительно к
культу бога) и 1.168 (о героическом культе); ср. также употребление timdö
в 1.90.2, 2.50.3, 2.75.4, 5.67.4-5. Поэзия: ср. употребление üme в
гомеровском Гимне к Деметре 311-312, где тема получения «почестей» божеством
прямо соотнесена с людским отправлением его культа (ср. также строки
353, 366-369) — см. комментарий к этому месту в [Richardson 1974: 260-
261]. Более подробно о поэтическом употреблении см. [Rudhardt 1979: 6-7],
а в принципе об этом соотнесении см. также [Rohde 1898 1: 99, прим. 1].
178 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
П. Шантреном ενθά ε ταρχυσονσι в «Илиаде» XVI 456=674
как «и там они будут считать его богом»: в ликийском démos
Сарпедон будут получать ту же time «почесть», что
полагается и божеству27.
Впрочем, наше понимание затрудняет еще одна вещь: во
всех упомянутых случаях гомеровская формула θεός δ' ως
τίετο δήμω «и в demos он приобрел time [почет], подобно
богу» применяется по отношению герою, который еще жив, в то
время как Сарпедон уже умер. На самом деле действие,
обозначаемое глаголом tarkhuö в «Илиаде» 456=674,
тождественно действию, описанному в «Илиаде» 457=675 более
развернуто — мертвому Сарпедону возводят «гробницу и стелу; ибо
таковы почести мертвым». Мы не должны забывать о реальных
археологических данных, касающихся второго тысячелетия до
н.э., согласно которым гробница и стела действительно были
принятыми атрибутами похоронного ритуала [Andronikos 1968:
114-121]. Вопрос в том, как согласовать наличие в описании
героя черт, которые выглядят данью культу, с его собственно
эпическими характеристиками?
Мне кажется, что для разрешения этой проблемы
необходимо проанализировать все контексты, в которых о том или ином
герое говорится, что он «приобрел time [почесть], как бог» (Или-
ада V 78, X 33, XI 58, XIII 218, XVI 605). В каждом из подобных
контекстов герой выступает в роли или жреца, или царя:
V 78 Долопион — жрец Скамандра;
XI 58 Агамемнон — царь аргивян;
X 33 Эней вместе с Антеноридами —
в «Илиаде» II 816-823 о них говорится,
что вместе они были вождями дарданцев;
XIII 218 Фоас — царь этолийцев;
XVI 605 Онетор — жрец Зевса Идейского.
Что касается жрецов, то их сакральный статус очевиден,
однако с царями дело обстоит не так ясно. Но если
отвлечься от гомеровской поэзии и обратиться к Гесиоду, то у него
мы обнаруживаем бесспорные указания на то, что царское
достоинство не только сакрально, но и является неотъемлемым
О поздних литературных и эпиграфических свидетельствах,
подтверждающих наличие местного героического культа Сарпедона и Главка
в Ликии см. [Kretchmer 1940: 104]. В ликийском Ксанфе в надписях
зафиксирован démos «дем, область» с названием Sarpëdonios [Там же].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
179
свойством героя как культовой фигуры, которая получает
положенную ему time.
В этом отношении показательно описание Гесиодом
золотого и серебряного поколений людей в «Трудах и днях» 109-
142. Как показал Эрвин Роде, значимость этих двух
поколений заключена в том, что вместе они составляют законченную
картину героического культа как такового [Rohde 1898 1: 91-
110]. Подробный разбор всех разнообразных деталей
изображенной картины увел бы нас далеко за рамки нашего иссле-
9Я
дования — и потому я ограничусь только темами царского
достоинства и time.
После рассказа о гибели поколения золотого века (Труды и
дни 116, 121), о людях этого века говорится, что они
получили géras basiléion «царский почетный дар» (yépaç βασιλήων —
126). Мы уже встречали слово géras «почетный дар, почесть»
в контексте, где им были обозначены погребальные почести,
отданные телу Сарпедона, — почести, которые подразумевали
действия, описываемые глаголом tarkhuö:
ενθά ε ταρχνσονσι κασίηνητοί τε εται τε
τύμβω τε στήλη τε- το yàp ηέρας εστί θανόντων.
и там его родные и друзья должны устроить ему погребение
[глагол tarkhuö]
с гробницей и стелой; ибо таковы почести мертвым.
Илиада XVI 456-457 = 674-675
В этой связи стоит отметить, что люди золотого века умирали
«как бы объятые сном» (Θνησκον δ' ώσθ' νπνω δεδμημένοι —
Труды и дни 116) — а тело Сарпедона уносят в Ликию «Сон»
(Hupnos) и «Смерть» (Thanatos), названные близнецами
(Илиада XVI 672). Поскольку у Гесиода, да у других авторов, слово
géras «почетный дар, почесть» обозначает некое особое
проявление time (см., например, Теогония 392-396)29, мы можем
соотнести сказанное в «Трудах и днях» 126 о царском géras поколения
золотого века с тем, что позже, после описания гибели второго
века, будет говориться о людях этого серебряного поколения:
Я попытался предпринять такой разбор в своей предыдущей
работе [Nagy 1979а: 151-173].
29 См. [Бенвенист 1995: 269-276].
180 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
δεύτεροι, άλλ' εμπης τιμή και τοισιι/ όπηδεΐ.
вторые по порядку — но и им положена time.
Гесиод. Труды и дни 142
Ирония здесь состоит в том, что поколение серебряного века,
в котором воплощены скрытые отрицательные
характеристики героического культа, по воле Зевса постигла безвременная
кончина, и вот по какой причине:
ουι/εκα τιμάς
ουκ εδιδον μακάρεσσι θεοίς οι "ΌΧνμποι/ έχουσα/.
потому что они не воздавали time [множественное
число]
блаженным богам, которые владеют Олимпом.
Труды и дни 138-139
Такая трактовка темы, согласно которой герой получает
time даже тогда, когда сам не способен воздать time богам, дает
нам ключ к пониманию идеи религиозного противостояния
героя и бога. Впрочем, опять-таки подробный анализ этого
предмета выходит далеко за рамки данного исследования30. Сейчас
важно обратить внимание на то, что неспособность людей
серебряного поколения воздать time богам отчасти равносильна их
неспособности приносить богам жертвы:
υ β ριι/ ηάρ άτάσθαΧον ουκ εδύναντο
αΧΧήΧωι/ άπέχειι/, ούδ' αθανάτους θεραπεύειι/
ηθεΧοι/ ουδ' ερδειι/ μακάρων ιεροις επι βωμοις,
η θέμις ài/θρώποις κατ' ηθεα
ибо не могли они удержать буйную гордыню [hubris]
друг от друга, и не желали ни быть служителями [глагол
therapeuö] бессмертных31,
ни приносить жертвы на алтарях блаженных,
30 См. [Nagy 1979а: 118-150].
Глагол therapeuö «быть therapôn [служителем]» может иметь и
более глубокое значение. Как было показано в работе [Sinos 1980], therapôn в
гомеровских поэмах обозначает человека, служащего вышестоящему и
этому вышестоящему полностью подобного. Therapôn может действовать как
равный своему вышестоящему подобию и быть при этом неуязвимым — но
только до тех пор, пока он несет свое слуоюение. Стоит ему покинуть
свое высшее подобие, объект своего служения, и начать действовать
самостоятельно, он теряет свою неуязвимость и гибнет, выполнив тем самым
свою функцию ритуального субститута — см. выше с. 73.
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
181
что для людей является законом, как положено по местным
обычаям.
Гесиод. Труды и дни 134-137
Иными словами, суть time описывается в терминах
ритуального жертвоприношения.
Анализ формул, включающих в себя понятия time и demos,
позволяет прийти к следующему выводу: о герое, получающем
time от demos, говорится, что он «подобен богу», потому что
в этом случае он воспринимается как культовая фигура.
Разумеется, в гомеровской поэзии герой как таковой наделен
прежде всего эпическими чертами, а его культовые характеристики
должны быть скрыты — прежде всего потому, что герой пока
еще жив. Но стоит ему умереть, и вся перспектива может
поменяться, как это происходит в случае с Сарпедоном. Глагол
tarkhuö, обозначающий действия, которые совершают с телом
героя его родственники и друзья, несет в себе идею того, что
Сарпедон уподобляется божеству — а так обозначается в эпосе
превращение героя в объект культа.
Из вышесказанного, впрочем, не следует, что традиционное
представление о том, что герой уподобляется божеству потому,
что получает time от своего demos, нужно считать не более чем
поэтическим образом. Установление героического культа
воспринимается (в религиозном контексте самого установления)
как одна из форм получения посмертного бессмертия. В
гомеровском «Гимне к Деметре» (260-264), например, молодой
герой, находящийся под покровительством богини, упускает
возможность избегнуть смерти, но в качестве своеобразной
компенсации ему предлагается time, которая именуется aphihitos
«нетленной, нерушимой» (Гимн к Деметре 263)32. В
следующих трех стихах становится вполне очевидной та ритуальная
форма, в которую будет облечена эта time в определенное
время — каждый год и до скончания веков, элевсинские юноши
будут участвовать в потешных битвах на празднествах (265-
267). Иными словами, культовый герой оказывается навечно
почтённым установлением ежегодного ритуального торжества
в его честь [Richardson 1974: 245-248]. Небезынтересно, что
имя этого юного протеже Деметры, который становится куль-
О семантике apktkito- см. выше с. 163 и далее.
182 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
товой фигурой — Демофонт, Dëmophoôn (например, 234), что
явственно означает «тот, кто несет свет для démos»33.
Если мы теперь сопоставим Демофонта в качестве
культового героя с Ахиллом как героем эпическим, то мы с большей
отчетливостью сможем представить себе гомеровский взгляд
на саму сущность героя как такового. В то время как
Демофонт взамен утерянного бессмертия получает time, названную
âphthitos «нетленной, нерушимой», Ахилл говорит, что в
качестве воздаяния за безвременную кончину он приобретет kléos
«славу», которая тоже aphihiton «нетленна» (Илиада IX 413).
Как мы видели, слово kléos подразумевает «славу», которую
герой получает исключительно благодаря поэзии3*. Главный
герой «Илиады», по сути, утверждает, что бессмертие ему
принесет его же эпическая традиция. Именно в этом и
заключена главная особенность гомеровского взгляда: тема получения
бессмертия героем переносится из сферы культа в область
эпоса как такового. Вот почему гомеровская поэзия о даровании
бессмертия прямо и не говорит: это действие просто
является ее сутью.
Конечно, это вовсе не означает, что гомеровская поэзия
вообще пренебрегает культом; она скорее ставит себя выше
культа. «Слава», kléos, которую гомеровский герой завоевывает на
поле брани, и становится основанием и даже оправданием той
timéj которую он получает дома, в своем démos «доме, области».
В «Илиаде» об этом говорит пока еще живой Сарпедон:
Γλαύκε τι η δη νωϊ τετιμήμεσθα μάλιστα
εδρτ} τε κρέασίι/ τε ιδε πλείοις δεπάεσσιν
εν Avkîtj, πάντες δε θεούς ως εισορόωσι,
και τέμενος νεμόμεσθα μέηα Έάνθοιο παρ' οχθας
καλόν φυταλιης καϊ άρούρης πυροφόροιο;
τω νυν χρή Αυκίοισι μετά πρώτοισιν εόντας
εστάμεν ηδε μάχης κανστείρης αντιβολήσαι,
οφρά τις ωδ' ειπτ] Ανκίων πύκα θωρηκτάων-
ου μαν άκλεέες Αυκίην κάτα κοιρανέουσιν
ημέτεροι βασιλήες, εδουσί τε πίονα μήλα
См. подробнее [Nagy 1979a: 181-182]. На греческих вазах это имя
реально зафиксировано и в написании ΔΕΜΟΦΑΩΝ — см. [Richardson
1974: 236-237).
См. выше с. 47.
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
183
о Li/όν τ εξαιτον μεΧιηδεα- άΧΧ ара και ις
έσθΧή, επει Ανκίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται.
Главк, почему нам с тобою положены величайшие почести
[глагол tlmaö от tlme[,
и особое место, и отборное мясо, и полные чаши вина,
в Ликии, и все смотрят на нас, как на богов,
и достался нам большой témenos [надел земли] у берегов Ксанфа,
хорошая земля, виноградник и хлебородная пашня.
Потому мы и должны стоять в первых рядах ликийцев, лицом
к пламени битвы,
чтобы мог сказать о нас ликиец в крепких доспехах:
«Нет, не без kléos владычествуют над нами
наши цари, что едят тучных овец
и пьют сладкое вино, ибо есть у них
подлинная сила и бьются они в первых рядах ликийцев».
Илиада XII 310-321
На одном уровне те формы <гте, о которых Сарпедон говорит
Главку, вполне могут характеризовать живущего героя,
который является еще и царем; но на другом уровне их можно
сопоставить с соответствующими сакральными почестями,
воздаваемыми объекту культа. Из свидетельств, относящихся к
исторической эпохе, мы знаем, что, согласно греческим
религиозным обрядам, героический культ включал в себя возлияния
[Burkert 1985: 194, 205], жертвование герою отборных кусков
мяса, которые помещались на специальном столике35, а также
выделение ему iémenos, означающего в данном случае
«священный участок, святилище»36.
Согласно ценностной системе «Илиады», Сарпедон
стремится завоевать kléos «славу», соответствующую той <гше, которой
он уже обладает у себя дома в Ликии. В свою очередь, в
системе ценностей культа он может получить time только после
О практике trapezomata см. [Gill 1974]. Царское меню Сарпедона,
питающегося бараниной (Илиада XII 319), можно соотнести с данными
археологических разысканий в Эретрии, согласно которым в жертву героям
обычно приносили овед — см. [Hadzisteliou Price 1973: 136].
О témenos как сакральном участке см. [Burkert 1985: 84-87]; о
подобных святилищах Пелопса и Пирра см., соответственно, [Burkert 1983:
93-103 и 119-120].
184 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
своей смерти. Таким образом, в эпическом контексте
логическая последовательность становится обратной: ставя эпос
превыше культа, гомеровская поэзии допускает, чтобы герой еще
до его смерти обладал той йгае, которая положена
культовому герою. А вот смертью своей он должен заслужить
именно и только kîéos.
Далее Сарпедон говорит, что они с Главком должны быть
готовы погибнуть в битве за Трою (Илиада XII 326-328) и что
он уклонился бы от сражения, только если бы бегство вело к
бессмертию (322-325). Как кажется, слова героя
подразумевают, что залогом бессмертия служит приятие смерти, а
уклонение от нее лишает бессмертия. В конце концов, обе
награды — и itmê, и kléos, — уготованные, соответственно,
культовому и эпическому герою, именуются âphihito- «нетленными,
нерушимыми» (τιμή... αφθιτος — Гимн к Деметре 263; κλέος
αφθιτοι/ — Илиада IX 413).
Тот же смысл заложен и в речи Геры, когда она убеждает
Зевса, что он не должен позволить Сарпедону избегнуть
гибели в битве и тем самым разрешить ему вернуться живым
домой в Ликию (Илиада XVI 440-457, в особенности 445). Ведь
это, по сути, означает, что Сарпедон обретет iîme, не пройдя
перед этим через смерть. Если Сарпедон избегнет гибели в
битве, случившееся нарушит принятый ход вещей — в устах
самой Геры это звучит так: «...смотри, как бы другое
божество не пожелало отослать своего сына обратно домой, прочь
с поля брани» (Илиада XVI 446-447). Вместо этого Гера
предлагает Зевсу позволить Сарпедону пасть от руки Патрокла, а
потом «Смерть» (Thânatos) и «Сон» (Hiipnos) вернут его тело
домой, в demos «область» Ликии (XVI 450-455). Сразу за этим
предложением идет стих, описывающий при помощи глагола
tarkhuö ритуал, который должно совершить над телом Сарпе-
дона (XVI 456, повторенный в строке 674). В контексте слов
Геры становится понятно, что подразумеваемое данным
глаголом действие является своеобразной компенсацией за смерть,
которая должна постигнуть Сарпедона. На основании других
примеров, в которых разрабатывается та же тема воздаяния за
смертный удел, можно заключить, что с глаголом tarkhuö
связано представление о получении бессмертия после гибели, — о
том, как это происходит, речь пойдет дальше. А значит, дело
не просто в том, что для родственников и товарищей Сарпедо-
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
185
на он станет объектом культа — он к тому же обретет некое
посмертное бессмертие37.
Предложенное толкование tarkhuö подтверждается и
данными сравнительного языкознания. Индоевропейский корень
*terh2-, с одной стороны, дает хеттское tarh- «побеждать,
преодолевать, одерживать верх», а с другой — древнеиндийское
tar(i)- «преодолевать, переправляться», которое присутствует
в композитах в форме -tur- (например, ap-tur-
«переправляться через воду»). Данная форма соответствует элементу -tar- в
греческом nék-tar — пище, поддерживающей бессмертие богов.
Более того, корень пек- в nék-tar тот же, что в латинском пех
«смерть» и греческом nék-ûs/nek-ros «труп»38. Тем самым
слово nék-tar должно было некогда означать что-то вроде
«преодолевающий смерть». В действительности мы обнаруживаем
схожие сочетания понятий и даже слов в архаической сакральной
индийской поэзии: так, например, в ней встречаются
контексты, где прямым дополнением глагола tar (г)- «преодолевать»
является mrtyu- «смерть» (Amxapeaeeda 4.35 ld-6d)39.
Такие сопоставления не только еще раз убеждают в
существовании в поэтическом языке общеиндоевропейского
наследия [Schmitt 1967: 190-191, ср. Householder, Nagy 1972: 771-772].
Более непосредственным результатом для нас становится
расширение нашего представления о семантике греческого tarkhuö.
Скажем по-другому: значение греческого -tar- в греческом
слове nék-tar, корень которого прямо восходит к индоевропейскому,
помогает понять значение греческого tarkhuö, где основу tarkhu-
можно косвенно возвести к индоевропейскому через посредство
анатолийской языковой семьи, откуда он и был заимствован
37 гр
1у же трактовку можно распространить и еще на один, помимо
«Илиады» XVI 456=674, случай употребления у Гомера глагола tarkhuö —
Илиада VII 85 (больше он вообще в гомеровской поэзии не встречается). На
этот раз мертвецом (правда, гипотетическим) является герой —
возможный соперник Гектора в поединке (VII 67-91), на который тот вызывает
любого «лучшего из ахейцев» (см. VII 50). В одной из своих работ я
постарался показать, что Гектор иронически намекает на самого Ахилла [Nagy
1979а: 26-41] и что в альтернативной эпической традиции, которую
«Илиада» косвенно учитывает [там же: 174-210, 317-347], личное бессмертие
Ахилла считалось предопределенным.
38 [Thieme 1952]. См. также [Schmitt 1967: 186-192]. Возражения
против данной этимологии были убедительно опровергнуты в [Schmitt 1974].
39 Ср. [Schmitt 1967: 190].
186 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
в древнегреческий язык40. При этом особое внимание
следует обратить на соответствующую анатолийскую форму tarhu-,
зафиксированную в хеттском tarhu- «победоносный» и в лувий-
ском Tarhunt-, являющемся именем бога громовержца, главы
лувийского пантеона, чьим атрибутом была молния41.
Вполне возможно, что все эти производные одного и того же корня
подразумевают не только победу над недругами и преодоление
иных конкретных и сиюминутных препятствий, но способность
превозмочь и последний барьер — саму смерть42.
Постараемся отыскать подтверждение данной идеи в
фигуре самого Зевса, главы греческого пантеона, владычествующего
над громами и молниями. Своим перуном он может принести
герою и смерть, и бессмертие. В качестве примера сошлюсь на
поэтическую традицию, согласно которой Семе л а обрела
бессмертие после того, как ее испепелили молнии бога (Пиндар.
Олимпийские оды2.25, ср. Гесиод. Теогония 942)43. Можно
вспомнить и историю сына Зевса Геракла, который бессмертным
вознесся на Олимп после того, как в него ударила отцовская
молния (Диодор Сицилийский 4.38.4-4.39.1)44. И вот, наконец,
с телом еще одного сына Зевса — все того же Сарпедона —
совершается некое действие, обозначаемое глаголом tarkhuö, —
и я полагаю, что действие это предполагает получение героем
бессмертия после его кончины.
Впрочем, коренное различие между прямым описанием
дарования бессмертия Гераклу и косвенным указанием на
обретение бессмертия Сарпедоном состоит в том, что первая
история является событием мифологическим, в то время как вторая
дана нам на уровне ритуала. Однако миф и ритуал
дополняют друг друга в рамках единой идеологии. Культовые
ритуалы представляют собой код, в котором может быть заключено
В словаре П. Шантрена [DELG: 1094], по крайней мере, допускается
возможность того, что родственным заимствованием является и греческое
tdrikhos «вяленое мясо или рыба, мумия». У Геродота 9.120 это слово
обозначает труп героя Протесилая, причем в данном контексте говорится
о том, что он был наделен сверхъестественной силой. См. [Nagy 1987с].
О боге TarhunU и молнии см. [Laroche: 1958: 95].
См. контексты, собранные в [Laroche 1958: 90-91].
По Пиндару, бессмертная Семела обитает непосредственно на
Олимпе; ср. Диодор Сицилийский 5.52, Xараке FGH 103 F 14 и т.д.
44 Ср. [Rohde 1898 1: 320-322].
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
187
то же сообщение, которое миф передает с помощью
собственного кода. Применительно к теме бессмертия такое взаимное
дополнение мифа и ритуала, причем на сугубо формальном
уровне, можно проследить на примере названия Elusion
«Элизий». Вспомним знаменитый пассаж «Одиссеи» IV 561-569, в
котором этим именем названо особое место, где герои
обретают бессмертие — с тех самых пор образ «Элизия, Елисейских
полей» навеки вошел в западную цивилизацию. Но мы
редко обращаем внимание на то, что древние знатоки греческой
религии говорили по поводу самого слова elusion. В
александрийской лексикографии (Гесихий s.v. ΉΧνσων) оно
пояснялось как κεκεραννωμενον χωρίον ή πεδίον «место или поле,
в которое ударила молния» с дополнением καλείται δε καϊ
ενηλύσια «и оно также зовется enëlusia». Это объяснение
подкрепляется Полемоном (fr. 5 Tresp): он тоже считал enëlusion
сакральным местом, которое стало таковым в результате удара
молнии. Прилагательное enëlusion зафиксировано и у Эсхила,
где оно употреблено в качестве эпитета героя Капанея,
который погиб от молнии Зевса [Burkert 1961]. Семантическую
пару enëlusios/enëlusion можно сравнить с hieros/hieron
«священный/священное место». Характерно, что тело убитого молнией
Капанея в «Просительницах» Еврипида 935 именуется hiero-
«священным»45.
Помимо Elusion^ есть и еще один пример, когда с помощью
одной и той же формы обозначается и место обретения
бессмертия (в мифе), и культовое святилище (в ритуале). Из «Трудов и
дней» Гесиода мы узнаем, что герои, сражавшиеся в фиванской
и троянской войне, после своей гибели обрели бессмертие на
Makdrôn nêsoi «Островах блаженных» (167-171)46. Но согласно
другой традиции, Makârôn nêsos «Островом блаженных» на
самом деле назывался старый фиванский акрополь — Kadrneion,
а точнее, священный покой матери Диониса Семелы, в котором
ее и застигли молнии Зевса (так сообщает Парменид, согласно
Ср. также свидетельства, взятые из текстов на золотых пластинках
из Фурий: А 1.4, А 2.5, А 3.5 [Zuntz 1971: 301-305], в которых от лица
умершего говорится, что своим бессмертием он обязан смерти от удара молнии.
46 Об ассоциации слова olbioi в 172-й строке «Трудов и дней» с
героями, населяющими острова блаженных см. [Nagy 1979а: 170 § 30, прим. 2].
Ср. также выше с. 168.
188 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
словарям Суды и Фотия s.v. Μακάρων νήσος; ср. комментарий
Цеца к Ликофрону 1194, 1204)47.
Напоследок взглянем еще раз на мертвое тело Сарпедона.
Стоит заметить, что в «Илиаде» содержатся, помимо глагола
tarkhuö в XVI 456=674, и другие указания на уготованное ему
бессмертие. Разбор каждого из них увел бы нас далеко за
рамки данной работы, и потому я удовольствуюсь тем, что
просто перечислю их в качестве неких отправных точек для
будущего исследования:
Аполлон омывает тело умершего героя Сарпедона в реке
{Илиада XVI 669, 679)48.
Аполлон умащает тело Сарпедона ambrosië «амброзией»49
и одевает его в «делающие бессмертным» (ambrota) одежды
(XVI 670, 680)50.
Именем Sarpëdon называется не только герой, но и
несколько мест, связанных с мифологической темой похищения
ветрами или схожими с птицами Гарпиями51. Для словесного
выражения этой темы служат многочисленные формы, содержащие
глагольный корень harp- «хватать» (например, в harpuia
«гарпия» или в harpazö «хватать»), с которым можно соотнести и
элемент sarp- в имени Сарпедон, Sarpëdon52. В этой связи я
хотел бы привести следующее соображение: «Не так уж
удивительно, что если у Гомера в «Илиаде» кого-то по-настоящему
хватают и уносят, так это Сарпедона. Правда, несут его не
крылатые птицы-женщины, а Сон и Смерть, но это изменение
47 См. [Burkert 1961: 212, прим. 2].
Ср. тему «омовения в Океане» в «Илиаде» XVIII 489 = «Одиссее»
V 275, которую я анализирую в [Nagy 1979а: 201-204]. Возможно, что в
«Илиаде» XVI 669 и 679 изначально имелись в виду воды местной реки
Ксанфа в Ликии (ср. Илиада II 877, V 479, VI 172).
Заметим, что ambrosië у Гомера порой синонимична néktar; иначе
говоря, не похоже, чтобы амброзия и нектар всегда разграничивались,
соответственно, как еда и питье богов — см. [Schmitt 1974: 158].
Об употреблении ambrot о- и его производных для обозначения как
«делания бессмертным», так и просто «бессмертного» см. [Thieme 1952].
51 См. [Vermeille 1979: 242, прим. 36 и 248, прим. 36] о «Гробнице
гарпий» около Ксанфа. Об унесении ветрами как форме реализации темы
смерти/бессмертия см. [Nagy 1979а: 190-203].
О морфологии -ëdon см. [Risch 1974: 61]. Подробнее о Гарпиях
см. ниже с. 318 и далее.
Глава 5. СМЕРТЬ САРПЕДОНА
189
скорее соответствовало эпическим представлениям о том, как
происходит смерть» [Vermeille 1979: 169].
То, что в «Илиаде» (XVI 454, 672, 682) тело Сарпедона
хватают «Сон» (Hupnos) и «Смерть» (Thanatos), некоторым
образом вытекает из описания того, как герой падает и умирает.
Как и другие гомеровские герои, в момент смерти Сарпедон
теряет свою psûkhe (XVI 453), которая ранее уже один раз
покидала его, когда он лишился чувств, получив тяжелую рану (V
696). Но при этом нигде у Гомера не говорится о том, что, когда
герой приходит в себя, он вновь обретает свою psûkhe53.
Основанием для столь жесткого гомеровского правила могло быть
представление о том, что воссоединение psûkhe и тела
подразумевает обретение бессмертия, а нигде в «Илиаде» и «Одиссее»
тема получения бессмертия прямо не выражена, и не
выражена сознательно54. И тем не менее описание того, как Сарпедон
приходит в себя после полученной раны, можно воспринимать
как своего рода скрытый намек на уготованное ему бессмертие:
ведь Сарпедона приводит в чувство, оживляет порыв северного
ветра Борея (V 697). Интересно, что именем Sarpëdon
называлась также скала, где Борей схватил и унес Орифию (схолии к
Аполлонию Родосскому 1.211 = Ферекид FGH 3 F 145)55.
Наш разбор истории о смерти Сарпедона завершен — но,
похоже, что в результате это анатолийское подобие Геракла
заинтриговало нас еще больше, чем прежде. Столько побочных
линий осталось неисследованными, что, пожалуй, данный
анализ поставил больше вопросов, чем дал ответов. Но по крайней
мере одно можно утверждать с полной уверенностью:
гомеровский эпос хранит множество секретов о жизни и смерти —
секретов, целиком разгадать которые не удастся никогда. В
случае с Сарпедоном анатолийское происхождение героя позволяет
на миг заглянуть под таинственный покров гомеровской
сдержанности — и кажется, что эти секреты вот-вот откроются нам.
См. выше с. 126.
См. выше с. 127 и далее.
Ср. [Vermeule 1979: 242, прим. 36].
Глава 6
ЦАРЬ И ОГОНЬ:
ШЕСТЬ ЭТЮДОВ
О САКРАЛЬНОМ
СЛОВАРЕ,
СВЯЗАННОМ С ОЧАГОМ
В «Электре» Софокла (417-419) Клитемнестре снится, что
Агамемнон вернулся из царства мертвых к свету (ές φως, 419).
Царь хватает skêpiron «скипетр» {σκήπτρου, 420), которым
некогда владел он сам, а теперь держит в своих руках
узурпатор Эгисф, и ставит его внутрь царского очага, обозначаемого
греческим словом hestiä (έφεστιον πήξαι, 419-420). И вот
помещенный в очаг скипетр дает побег, да такой мощный, что
крона выросшего дерева покрывает своей тенью все микенское
царство (421-423)1. Этот пример как нельзя лучше подходит
для начала исследования, средоточием которого и будет символ
hestiä «очага», который служит источником царской власти.
Общая символика, заключенная в греческом слове hestiä
«очаг» и в персонифицирующей его богини Гестии, была
исследована Жаном-Пьером Вернаном, который считал, что ее образ
служит своеобразной моделью греческого общества в целом и,
В «Илиаде» I 233-237 подобный skêptron «скипетр» воспринимается
как элемент природы, который преобразился в некий предмет
человеческой культуры: см. соображения по этому поводу в [Nagy 1979а: 179-180,
188-189]. В упомянутом месте «Электры» 421-423 переход совершается
в обратную сторону: от культуры обратно к природе. О культовом
почитании s к êp tron Агамемнона в Херонее, где он именовался dorn «дерево,
копье», см. у Павсания 9.40.11-12. Также ср. мои рассуждения в [Nagy
1974а: 242-243, прим. 6], где особое внимание уделено эпитету aphthiton
«нетленный, нерушимый», который употреблен по отношению к skêptron
«скипетру» в «Илиаде» II 46, 186.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
191
в частности, греческой семьи2. Ж.-П. Вернан особо
подчеркивал традиционные мотивы девственности (гомеровский гимн [5]
«К Афродите» 21-32) и неподвижности (например, гомеровский
гимн [29] «К Гестии» 3) Гестии [Vernant 1985: 156-157]. Для
него эти темы служат отражением экзогамной и
патрилинейной идеологии, вообще характерной для греческого общества.
Если в обычной жизни женщины, как правило, мобильны,
переходят от очага к очагу согласно экзогамным законам
греческого брака, то в мифе мы сталкиваемся с противоположной
картиной, олицетворяемой девственной и неподвижной
фигурой богини Гестии, в которой воплощен мифологический идеал
непрерывной преемственности по мужской линии, вечного
возрождения и обновления отцовского образа, символом которого
и служит отчий очаг [Vernant 1985: 163-165]. В пределах семьи
этот отчий огонь служит залогом правильной смены
поколений, законного продолжения рода3.
В рамках же древнегреческого общества в целом подобная
законность основана на продолжении отцовской линии.
Законность — это всеобщий социальный символ, в политической
сфере она воплощена в феномене царской власти. Сновидение
Клитемнестры, в котором законный монарх предстает в образе
побега, растущего из очага, пронизан той же символикой. Не
следует забывать, что микенский царский очаг из этого сна
впоследствии станет Народным Очагом греческого полиса [Vernant
1985: 187]. Отличительной чертой города-государства
классической эпохи является то, что Народный Очаг помещается в
pruianeîon «пританее, председательском здании» [Vernant 1985:
181, 186]: в Афинах, например, считалось, что власть
архонту дается Общим Очагом (Аристотель. Политика 1322b), да
2 [Vernant 1985: особ. 165-169]; ср. также [Gernet 1968: 387].
См. [Vernant 1985: 189-195] о ритуале Амфидромий, в котором
наречение именем новорожденного ребенка буквально разворачивается
вокруг hestiä «очага». Прежде чем произнести имя, которое дается
ребенку, на пятый день после его рождения отец с новорожденным на руках
обегает вокруг очага, а затем кладет ребенка внутрь священного
предела, который он тем самым очертил (схолии к платоновскому Теэтету
160е; Гесихий s.v. Δρομιάμφιον ημαρ; схолии к Аристофану. Лисистра-
та 758). См. также в [Vernant 1985: 164-168] раэбор понятия πα Γς αφ
εστίας «мальчик из очага» (Гарпократион s.v. αφ' εστίας, Anecdota Graeca
204.19 Bekker) в элевсинских обрядах (обзор новейших источников см. в
[Burkert 1983: 280, прим. 31]).
192 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
и заседали архонты тоже в пританее (Аристотель. Афинская
полития 3.5)4.
Символическое значение греческого «очага» как источника
власти и авторитета восходит к индоевропейской эпохе.
Обратившись к данным других индоевропейских языков и прежде
всего к священным текстам особых сообществ, вроде
умбрского «братства Атиедиев» из игувинских таблиц или брахманов,
описанных в древнеиндийских ведах, можно обнаружить
поразительные совпадения с моделью, засвидетельствованной в
греческой культуре. А поскольку мы имеем дело с обществами,
говорившими на родственных языках, то осмелюсь
предположить, что за такими совпадениями в реальности могли
скрываться и близкие религиозные представления, а может быть, и
родственные друг другу религиозные институты.
Для шести заметок о сакральном словаре, связанном с
очагом, которые я намереваюсь здесь предложить, центральным
будет индоевропейский корень *h2es-. Глагольное значение
корня *h2es- должно было означать нечто вроде «зажигать» — по
крайней мере, мы можем так считать, основываясь на
сравнительных данных различных индоевропейских языков, о
которых речь пойдет впереди. Начнем, пожалуй, с хеттов.
Исходя из законов фонетических соответствий, мы можем
предположить, что в хеттском *h2es- должен был давать форму
has-] и действительно, она зафиксирована в хеттском
существительном hassa-, означающем «жертвенный очаг» [ср. Benveniste
1962: 14]. По общему мнению ученых, это существительное
формально соответствует латинскому ära «жертвенный очаг,
алтарь» [Там же].
Однако проблема в том, что в хеттском также
существует глагол has-, но означает он не «зажигать», а «порождать»5.
Несмотря на такой сдвиг в семантике, я предлагаю соотнести
хеттский глагол has- «порождать» с существительным hassa-
«жертвенный очаг». В дальнейшем я постараюсь показать,
что семантическое родство понятий «рождения» и
«жертвенного очага» может быть заложено в стоящем за ними мифо-
ритуальном наследии.
4 [Vernant 1985: 186]
См. обзор различных этимологических интерпретаций данного
хеттского глагола в [Tischler 1983: 191-194].
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
193
На мой взгляд, сходная проблема сдвига значения
касается и еще одного хеттского слова hassu- «царь», которое
некоторые ученые предлагали связывать все с тем же с
глаголом has- «рождать»6. В дальнейшем я буду стремиться
доказать, что и это существительное, и hassa- «жертвенный
очаг» произведены от одного и того же хеттского глагола has-
«рождать»7. Даже при том, что пока мы еще не в силах
точно определить поле значений понятия «рождения», на ум
сразу же приходит аналогичный семантический переход,
зафиксированный в других языках. Английское существительное king
«король» и родственное ему немецкое König восходят к
общегерманской праформе *kuningaz. Это существительное, в свою
очередь, является производным корня *kun-
(присутствующего, например, в готском кипг «племя, семья»), родственного
латинским gens, genus, gignö и т.д. [Бенвенист 1995: 292]. Здесь
стоит обратить особое внимание на значение gignö «рождать»
(например, у Энния. Анналы 24 S). Со временем я надеюсь
продемонстрировать, что семантическое родство понятий для
«рождения» и «царя» тоже, вероятно, восходит к заложенному
в них мифо-ритуальному наследию.
См. [Tischler 1983: 207-209], где также приведены и иные
этимологические решения.
Хеттский глагол has- «рождать» в третьем лице единственного числа
пишется с одним (ha-a-si), а в третьем лице множественного — с двумя s
(ha-as-sa-an-zi). Двойное s зафиксировано в таких дериватах, как hassaiar
«порождение, род» (ha-as-sa-tar), а также в возможном производном hassu
(ha-as-su). Впрочем, следует обратить внимание на лувийское и палайское
прилагательное wasu- «хороший» (с одним s), образованное, по всей
видимости, от глагола wass- «быть милым, приятным», который в хеттском
зафиксирован в написании с двойным s. Но в отличие от wasu-, мы
имеем хеттское слово a s su- с тем же значением, но с двойным s. Даже при
том, что мы не можем дать убедительного объяснения этим разночтениям,
важно просто учитывать наличие такого чередования s/ss. На мой взгляд,
мы сталкиваемся с той же проблемой при сопоставлении латинского ära
с умбрским as а: оба слова обозначают «жертвенный очаг, алтарь». Как
и в латинском, в умбрском тоже наблюдается явление ротацизма, когда
интервокальное *-s- переходит в г. Следовательно, принимая во внимание
и латинскую, и умбрскую форму, мы должны реконструировать на
общеиталийском уровне дублетные формы *äsä (которая дает латинское ära) и
*ässä (для умбрского asa). Опять-таки я хотел бы просто констатировать
наличие вариантов s/ss и не буду пытаться дать этому объяснение.
194 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ГРЕЧЕСКАЯ ГЕСТИЯ, ЛАТИНСКАЯ
ВЕСТА; ИНДИЙСКИЙ ВИВАСВАТ
По мнению Жоржа Дюмезиля, корень *ues-, стоящий за
греческим hestiä «очаг» (εστία) и латинским именем римской
богини очага Vesta, дает и родственную им индийскую форму
VI-vas-vat- [Dumézil 1954: 34-35]. Как мы уже говорили, Вива-
сват (vi-vas-vat-) — это мифологический герой, который первым
на земле получил огонь, поскольку был первым, кто совершил
жертвоприношение: тем самым он является прародителем
человеческого рода8. В ведийском языке словосочетание sâdane
vivâsvatah «на месте Вивасвата» (Ригведа 1.53.1 и т.д.) по
смыслу тождественно «на жертвоприношении». Имя и
мифологическая сущность Вивасвата, отца Ямы (10.14.5, 10.17.1),
родственны персонажу зороастрийской «Авесты» Вивахванту,
отцу Йимы. Вивахвант был первым, кто приготовил хаому (Ясна
9.3-4). Связь иранского Вивахванта с хаомой важна потому,
что и древнеиндийский Вивасват тоже особым образом
ассоциируется с напитком сомы (Ригведа 9.26.4, 9.10.5 и т.д.), а еще
более с учетом того, что Сома/Хаома (восходящие к
индоиранскому *sauma) символизируют индоиранское
жертвоприношение как таковое9.
Древнеиндийская форма vivas vat- является
прилагательным, образованным от глагола vas- со значением «сиять,
светить» [Dumézil 1954: 34]. Сам Агни, ведийское божество
жертвенного огня, именуется Вивасватом на утреннем
жертвоприношении, в момент появления Ушас, богини зари (Ригведа
1.44.1, 7.9.3)10. В свою очередь, по отношению к Заре-Ушас
употребляется женская форма того же эпитета — Вивасвати:
didrksanta, usâso yam ал л aktoi
vivas va tyä, mâhi ci trâm ânlkam
с приходом Ушас из тьмы
они жаждут узреть великий сверкающий лик Вивасвати.
Ригведа 3.30.13
Когда бог огня Агни порождает человечество, его «око»
названо vivasvat-:
См. выше с. 143.
См. выше с. 143 и далее.
Ср. выше с. 143, где приводится цитата из «Ригведы» 7.9.3.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
195
im aii piSLJâ aj an ay an mânunam
vivâsvatâ câksasâ dyâm ca. apâs ca
он [Агни] породил потомство людей
своим сверкающим [vivasvat-] оком, небо и воды.
Ригведа 1.96.2
В ведийском языке в каузативном употреблении корня janäya-
значения «рождать» и «создавать, творить» не разграничены.
Сошлюсь еще на один пример употребления janäya- в значении
«творить» — речь, кстати, опять идет о боге огня Агни:
tvâm bhuva,nä ja.naya.nn ahhi kra,nn
ipa.tya.ya. ja.ta.vedo dasasyân
слышен твой голос, когда ты творишь мир,
О Джатаведас [Агни], помощник в потомстве.
Ригведа 7.5.7
Космологическая роль, которой наделен Агни, бог
жертвенного огня, неразрывно связана с верой в то, что восход солнца
невозможен без зажжения жертвенного костра. Вот о чем
молятся во время жертвоприношения:
a te agna idhlmahi
dyuma.nta.rn devajâram
y id dha. syä te panïyasl
samid dldâyati dyâvi
позволь нам, Агни, зажечь
твой яркий, вечный огонь,
чтобы твои удивительные дрова
засияли в небе.
Ригведа 5.6.4
По сути, приносящие жертву обращают мольбу о том, чтобы
на небе взошло солнце, именно к Агни (Ригведа 10.156.4). В
«Шатапатхе-брахмане» (2.3.1.5) та же идея выражена еще
откровеннее: без утреннего жертвенного костра солнце не
взойдет. Понятно, что и космическое «око» (câksas-) Агни в
процитированном выше фрагменте из «Ригведы» 1.96.2 тоже есть не
что иное, как солнце (ср. также 6.7.6). Вместе с солнцем Агни
ajanayat «создал, сотворил» или «породил» мир и человечество.
Вспомним еще раз, что эпитетом этого солярного «ока» служит
vivasvat-, образованный от глагола vas- «сиять».
196 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Итак, мы можем сейчас отметить три важнейших типа
контекстов, в которых в ведийской поэзии употребляется
прилагательное vivas vat-. Оно используется:
1) как эпитет Агни, бога жертвенного огня;
2) как эпитет глаза Агни, т.е. солнца, в момент, когда Агни
порождает человечество;
3) как имя прародителя человечества, первого, кто совершил на
земле жертвоприношение.
Из подобных случаев употребления vivâsvat- явствует, что
древнеиндийский глагол vas- мог использоваться для
реализации трех параллельных друг другу тем, обозначая сияние
солнца, зажжение жертвенного костра и порождение потомства.
Более того, как мы уже видели, vas- мог подразумевать как
творение, так и порождение.
Повторю еще раз, что Жорж Дюмезиль считал корень
древнеиндийского глагола vas- восходящим к индоевропейскому
корню *ues-, от которого образованы и древнегреческое hesiiä
«очаг» (εστία) и латинское имя римского божества очага
Vesta11 . Если пойти несколько дальше, то можно предположить,
что, несмотря на отсутствие каких-либо фонетических следов
начального ларингала *1ΐ2 в позиции перед *-и в греческом
*uestiâ, стоящим за hesiiä «очаг» (εστία)12 следующей
ступенью реконструкции корня *ues- может быть *li2ues-. Без этой
[Dumézil 1954: 34-35]. Наряду с аттической формой hestiä, в
ионийском и других греческих диалектах употребляется и вариант histiä
(ионийское Ιστίη) — см. [DELG: 379]. Я хотел бы обратить внимание на
изменение гласного по подъему — с *е на *i — после губного *и в histiä,
вследствие чего следует реконструировать форму *uistia. Такой переход
*е в *i в соседстве с губными является чертой, характерной для
«стандартного» микенского диалекта: см. [Householder, Nagy 1972: 784-785]. Иными
словами, вариант histiä может восходить к «стандартному» микенскому
диалекту второго тысячелетия до н.э. Рабочее определение
«стандартного микенского» см. в [Risch 1966]; более новую версию см. в [Risch 1979].
Альтернативное объяснение появления *i см. в [Vernant 1985: 199-200].
Отсутствие ларингала *1ΐ2 перед *и в предполагаемой нами
греческой форме *uestia можно с достаточным основанием объяснить сочетанием
ряда фонетических и морфологических причин. Во-первых, согласно
словарю П. Шантрена [DELG: 379], морфологическое устройство
суффиксального образования типа *uestia предполагает, что это существительное было
образовано от прилагательного *uesto- или, возможно, от *uestä-. Формы
типа *uesto- часто присутствуют во вторых элементах сложных слов.
Отсюда второе соображение, на этой раз фонологического свойства. Похоже
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
197
реконструкции большинство моих последующих рассуждений
все равно не потеряют своего смысла. Но все же если она
имеет право на существование, то тогда реконструируемый
корень *li2ues- в греческом hestiä «очаг» вполне можно считать
вариантом корня *h2es-, зафиксированного в хеттском
существительном hassa- «очаг» — а также, по моему мнению, и в
хеттском глаголе has- «рождать». Подобное корневое
чередование *li2es-/*h2ues- вполне отвечает индоевропейской модели,
действующей в целом ряде случаев. Ее схему можно
обозначить как CeC(C)-/CueC(C)13. Итак, еще раз сформулирую свое
предположение: учитывая, что в древнеиндийском vas- «сиять»
одновременно реализуются темы света солнца, зажжения жер-
на то, что ларингалы (*hi, *1ΐ2, *Ьз) имеют тенденцию к бесследному
исчезновению во вторых элементах композитов. Список примеров см. в [Beekes
1969: 242-243], ср. также [Mayrhofer 1986: 125, 129, 140]. В таком случае,
если мы принимаем версию П. Шантрена о том, что *uestia могло быть
образовано от компонента некоей сложной формы, вполне следует ожидать
определенной фонетической нестабильности: рефлексы ларингала могли
и сохраняться, и нет. Такая фонологическая нестабильность греческого
*uestia могла быть следствием и еще одного фактора. Во многих надписях,
представляющих диалекты, в которых, как правило, сохранялось
начальное *и, мы не обнаруживаем ожидаемой дигаммы, которой *и
обозначалось на письме. Как кажется, здесь мы имеем дело с явлением аналогии.
В древнегреческом языке естественной парой для hestiä (εστία) являлось
eskhdra ( εσχάρα) — слово, которое тоже обозначало «очаг». Очевидно, что
в eskhdra начального *и не было никогда — об этом четко свидетельствует
тот же словарь П. Шантрена [DELG: 379]. Впрочем, уже сейчас, говоря о
семантическом сходстве hestiä и eskhdra, следует обратить внимание и на
одно существенное различие между ними, которое окажется весьма
важным для наших дальнейших рассуждений о других словах, обозначающих
«очаг»: в отличие от hestiä, eskhdra в принципе может перемещаться. См.
[Risch 1981 (1976): 537], а также [DELG: 379-380].
Здесь С обозначает согласный. Формулировка принципов
подобного чередования содержится в работе Е. Куриловича [Kurylowicz 1927], и
я следую ей вопреки возражениям Э. Бенвениста [Бенвенист 1995: 35-37].
Вот некоторые возможные примеры: *hiesu-/hiuesu ср. греч. εν-
«хороший», хеттское assu- «хороший» наряду с древнеиндийским vâsu-
«хороший», иранским (авестийским) ν о hu- «хороший», лувийским и палайским
wasu- «хороший»; *teks-/*tueks- — ср. древнеиндийское taks- «строить,
придавать форму» наряду с древнеиндийским tvaks- «придавать форму»,
иранским (авестийским) вииахе- «придавать форму»; *hiers/*hiuers
ср. древнеиндийское ars- «течь», хеттское are- «течь» наряду с
древнеиндийским vars- «дождь», древнегреческим ερση/ εέρση «роса», хеттским
wars а- «роса».
198 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
твенного костра и порождения потомства, предложенная
просто в качестве одной из возможностей реконструкция данного
корня в форме *h2ues- позволяет считать его вариантом
корня *li2es-, присутствующего в хеттских has- «рождать» и hassa-
«жертвенный очаг»14.
От древнеиндийского глагола vas- «сиять», для которого я
предлагаю в качестве возможной реконструкции форму *h2ues-,
образовано существительное usas- «заря»; его, в свою очередь,
можно реконструировать как *li2us-os-. Иная аблаутная
ступень корня *h2eus-os- (огласовка на -е-) — зафиксирована в
латинском aurora «заря» и в греческом auös/eos (эолийское ανως /
ионийское ηώς) с тем же значением15. И тогда возникает схема
с таким возможным семантическим распределением: и в гре-
Более того, реконструкция *li2ues- в принципе может подойти и для
корня хеттского глагола huis- «жить» (впрочем, если он родствен лувий-
скому huit-, как предлагается в работе [Tischler 1983: 264-266], то
подобная связь невозможна). Если хеттское huis- предположительно родственно
индийскому vas- «сиять», то значение «жить» (скорее, чем «сиять»)
будет соответствовать семантике хеттского глагола Aas-, который означает
все же в первую очередь «рождать», а не «зажигать», несмотря на
наличие hassa- «жертвенный очаг». Характерно также, что суффикс
хеттского прилагательного huiswant- «живой» родствен тому, что мы находим
в древнеиндийском vivasvafc-. Не следует путать корень *h2ues-
(гипотетически реконструированный нами на основании греческого hestiä «очаг»
и, возможно, хеттского huis- «жить») с формой *h2ues-, которая
присутствует в греческом аористе aesa (αεσα) «ночевать» и является
вариантом корня *h2eus-, отраженного в форме настоящего времени iauö (ιαύω)
«спать». Разница данных корней явственно видна в древнеиндийском, где
глагол vas- «ночевать» (третье лицо единственного числа настоящего
времени vasati) и vas- «сиять» (третье лицо единственного числа настоящего
времени ucchati) спрягаются по-разному.
15 τ-» ' /
В качестве еще одного варианта реконструкции греческого auös/
tos можно выдвинуть форму *li2us-os- вместо *Ьгeus-os ср. [Peters 1980:
31-32]. В любом случае эолийский вариант написания ανως обнаруживает
стоящую за этим форму *auuös. Удвоение *и — следствие характерного
для эолийского диалекта поэтического удлинения начальных слогов типа
*Vu- (где V обозначает гласный). Наиболее содержательным
исследованием по этому поводу по-прежнему остается работа Ф. Зольмзена [Solmsen
1901]. В аттическом и ионийском диалектах результатом такого
поэтического удлинения начальных слогов типа * Vu- становится удвоение не *u, а
гласного *V. Из *hauôs в них получается *häuös, что дает ηώς в ионийском
(гомеровском) и εως в аттическом диалекте. Обзор диахронических
изменений в характере удлинения начальных слогов см. в [Kurylowicz 1956:
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
199
ческом, и в латыни слова, обозначающие «зарю» как макро-
космический огонь, образованы от корня *li2eus-, в то время
как слова для именования микрокосмического огня
«жертвенного очага» оказываются производными того же корня, но в
иной фонетической конфигурации *li2ues-, которая дает
греческое hestiä (εστία) и латинское Vesta16.
Семантическая связь между макрокосмическим огнем
«зари» и микрокосмическим огнем «жертвенного очага»
явственно выражена в «Ригведе», где приход зари воспринимается как
событие, подобное вспыхивающему одновременно с этим огню
жертвенного костра (1.124.1, 11; 5.75.9; 5.76.1; 5.79.8; 7.41.6 и
т.д.). Зарю и жертвенный костер связует в роли dutâ-
«посланника» бог огня Агни:
tvim id asya usâso vyùstisu
dût im kinväna, ayàjanta mânusah
и когда стала загораться эта заря [usas-]
люди [= «потомки Ману»17] приносили жертвы, делая тебя
264-269], а также [Householder, Nagy 1972: 754]. В качестве еще одного
варианта обе формы *auuôs и *äuös можно считать фонетическими
вариантами, непосредственно восходящими к *ausos.
Точно так же, как предполагаемый нами вариант корня *h2ues- мог
сохраниться в греческом в виде hesttd ( εστία) «очаг» без фонетических
следов исходного ларингала *ri2 (см. выше прим. 12), другой вариант корня
*li2eus- явно сохранился, например, в древнегреческом heuö (ενω)
«обжигать, опалять» тоже без каких-либо следов присутствия в исходной
форме *Ьг· Родственными греческому heuö являются латинское йто «жечь»,
и древнеиндийское osati «жечь». В этом случае утрату *1ΐ2 в греческих
рефлексах восстанавливаемого корня *ri2eus- можно объяснить вторично-
стью образований типа heuö/ürö/osati с е-огласовкой, очевидно
произведенных от нулевой ступени корня. Описание этой деривационной модели
см. в [Kurylowicz 1968: 221]. Наряду с вторичными глагольными
образованиями типа osati «жечь», в древнеиндийском присутствуют и вторичные по
своему происхождению прилагательные и существительные типа dur-osa-
«тот, что трудно зажечь» и osa-dhi «растение». Я предлагаю видеть в
последней форме сочетание корней us- (из *ri2us-) «свет» и dhä (из *dhehi-)
«ставить, помещать»: в итоге слово должно означать нечто вроде
«вместилища света» — см. выше с. 141. Семантическое подкрепление данной
этимологии см. выше на с. 141 и далее. Обзор возможных этимологии
osa-dhi (включая и предложенную сейчас) см. в [Minard 1956: 268]. В
качестве параллели можно привести английский фразеологизм «to set on fire»
(букв, «поставить огонь», отсюда «зажигать, поджигать»).
О Ману см. подробнее выше с. 150 и далее.
200 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
[Агни] посланником [döta-].
Ригведа 10.122.7
И сразу же в следующей строфе (Ригведа 10.122.8) речь идет о
Васиштхах («Лучших») — архетипических жертвователях,
которые призвали на жертвоприношение самого Агни. Именно эти
жрецы-Васиштхи были первыми, кто пробудил своими
восхвалениями Зарю-Ушас (7.80.1). В других местах «Ригведы»
говорится о том, что Ушас пробуждает людей, дабы они принесли
утреннюю жертву (см., например, 1.113.8-12), но существует и
противоположная тема — принося жертвы, люди будят Ушас:
ya.va.yid dvesasam trä
cikitvit sünrtävari
prâti stomaJT abhutsmahi
хвалебными песнями, со знанием дела,
мы разбудили тебя [Ушас],
ту, что прогоняет зло, о Сунритавари!18
Ригведа 4.52.4
КОРЕНЬ *H2ES- И ЛАТИНСКОЕ ÄRA
По своей форме и значению хеттское has s а- близко
италийскому *äsä/ässä «жертвенный очаг, алтарь»,
реконструируемому на основании латинского ära, умбрского asa и оскского aasai
(локатив)19. Долгота корневого гласного, подтверждаемая
латинским ara и оскским aasai^ является, вероятно, следствием
сугубо вторичного развития внутри италийских языков20. Если
исходно в италийском корень выглядел как *äs-, то все слово
можно реконструировать как *äs(s)-ä-. Данная форма может
восходить к *li2es(s)-oh2-, в то время как в хеттском hassa-
отразился несколько иной вариант *h20s(s)-o-.
Очевидно, что латинскому ära и хеттскому has s а- также
родственна целая серия германских производных корня *as-/*az
(из *h2es-). Приведем наиболее подходящие примеры:
В этом эпитете Ушас — sunrtavari- можно усмотреть корень nrt-
« танцевать». В связи с этим на память приходит ассоциация Ëos «Зари»
с khoroi «танцами» в «Одиссее» XII 4. Подробнее о богине Эос-Заре и ее
соотнесении с танцем см. [Boedeker 1974: 58-63, 87-88].
Ср. выше с. 193, прим. 7.
Мы можем высказать такое предположение, основываясь, в
частности, на сопоставлениях типа латинских асио/асег.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
201
Древнеисландское аггпп «жертвенный очаг», из *az-ina- (ср.
также финское заимствование arina «камень для очага»).
Немецкое Esse «кузнечный горн» = «кузница», из *as-jön; ср.
древневерхненемецкое essa, древнеисландское esja (ср. также
финское заимствование ahjo «очаг»).
Английское ash(es) «зола, пепел» из *as-kön; ср.
древнеанглийское aesce, древнеисландское aska, древневерхненемецкое asca.
Что касается значения английского ash(es), то в качестве
параллели можно привести родственное слово в
древнеиндийском — âsa- «пепел»21. Существительное мужского рода
может быть реконструировано как *h20s(s)-o-, та же форма вос-
В качестве особенно интересного примера употребления asa- можно
привести контекст из « Шатал атхи-брахманы» 4.5.1.9, где asa- описана как
некое порождающее вещество. Оно получается из angara- «углей»,
которые в «Шатапатхе-брахмане» 4.5.1.8 тоже предстают такой же
порождающей субстанцией — из них возникают жрецы, известные под именем Ан-
гирасов [ср. EWA: 48]. Ср. также «Айтарея-брахмана» 3.34 и «Шатапатха-
брахмана» 1.7.4.4, 2.3.2.1.3, 12.4.1.4. Форму и значение древнеиндийского
angara- «уголь» и имени жрецов огня Ангирасов, Angiras- можно
сопоставить с греческими anthrax «уголь» и dnthrôpos «человек». Последнее из
них я предлагаю этимологически трактовать как «тот, чьи глаза как
уголья». В будущем я намереваюсь в специальной работе связать
предложенную этимологию dnthrôpos с употреблением thümdlöps «горящая
деревяшка, древесный уголь» в «Ахарнянах» Аристофана (321). В этом контексте,
как кажется, можно обнаружить скрытые намеки на местную антропого-
ническую традицию; чрезвычайно характерно, что anthrakes «уголья» в
комедии непосредственно ассоциируются с самими ахарнянами (34, 332).
Об отождествлении в антропогонии Первочеловека с Первым
Жертвователем см. выше с. 101,150-151 (о вероятной родственной теме, согласно
которой Первочеловек является и Первым Mantis «Пророком», см. ниже с. 263,
прим. 75). Я бы также хотел обратить внимание на два прозвища
участников хора ахарнян: одного зовут Marilidts «сын угольев» (Ахарняне 609 —
имя образовано от marilë «угольки, горячая зола от древесного угля» — см.
Ахарняне 350 и ниже с. 263, прим. 75), а другого — Prïntdêâs «сын
каменного дуба» (612). Последняя кличка отвечает и общему именованию ахарнян
prininoi «сделанными из каменного дуба» (180 — о присутствии в
антропогонии мотивов, связанных с деревом, древесиной, см. ниже с. 263, прим. 75).
В свою очередь, этому прозвищу ахарнян сопутствует эпитет stiptoi
«крепко сбитые, упругие» (180), подразумевающий нечто «сжатое под
давлением» — так поступали с древесным углем кузнецы (Феофраст. Об огне
37 — ср. [Sommerstein 1980: 176]); более того, и об anthrakes «угольях»
сказано, что они prininoi «из каменного дуба» (ανθράκων προι/ύ/ωι/ —
668). Люди сделаны из того же крепкого материала, что и уголь (о
дереве, из которого ахарняне делали уголь, см. [Sommerstein 1980: 171]).
202 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
станавливается и для хеттского hassa- «жертвенный очаг»22.
В качестве семантической параллели к паре hassa-
«жертвенный очаг» / asa- «зола, пепел» можно привести литовские и
латышские слова pëlenas/pçlns, которые в единственном числе
обозначают «(домашний) очаг», а во множественном pëlenai/
pçlni — «пепел».
Еще один вероятный рефлекс корня *as- (из *h2es-)
присутствует в греческом asbolos/asbolë, которое обычно переводят как
«сажа, копоть»23. Ярким примером его использования
является отрывок, где ленивую женщину упрекают в том, что она
пренебрегает своими домашними обязанностями:
ούτε προς i-κνον άσβόληι/ άλεομέι/η
iÇOLT .
И не будет она сидеть у огня, [присматривая] чтобы не было
копоти [asbolë].
Семонид, фр. 7.61-62 W
Предпринятый нами обзор именных производных корня
*h2es- дает возможность представить себе и исходную
глагольную форму. Я полагаю, что непереходным значением этого
глагола было «гореть, быть в огне» — на это указывают
следующие древнеиндийские соответствия:
ката- «желание» из кат- «быть желанным»
еака- «сила» из sàk- «быть сильным»
и т.д.
asa- «пепел» из *as- «быть в огне» (?)
Сюда стоит присовокупить и семантические параллели в
литовском и латышском:
Комедия Аристофана буквально пронизана высмеиванием дружеских и
даже нежных чувств, которые ахарняне питают по отношению к anthrakes
«угольям» (325-341), которых они считают своими одушевленными dëmotai
«согражданами, жителями одной области» (349, ср'. 333).
Удлинение корневого гласного в asa- вторично — см. [Kurylowicz
1968: 282-283] о так называемом «законе Бругманна».
3 Я принимаю этимологию, предложенную в [Schwyzer 1939 1: 440],
согласно которой слово ασ βόλος следует понимать как «бросание золы»
(от βάλλω «кидать, бросать»). Что касается отсутствия -о- между ασ-
и -βόλος-, то это встречается и в других подобных образованиях — ср.
επεσ-βόλος, κερασ-βόλος.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
203
pëlenaî «пепел, зола» из *pel- «быть в огне, гореть»24
pçlni «пепел, зола»
Возможно, глагольным производным корня *h2es- является
и латинское ardeô, ardëre «гореть», которое можно
реконструировать как комбинацию корня *as-edh-25 и стативного суффикса
*-ё26. Схожим образом я реконструирую латинское äreö, avert
«быть сухим» как *as- плюс стативный суффикс *-ё- без
промежуточного элемента *-edh-. Реконструированную таким
образом дублетную пару: *âs-edh- (ardeô, ardëre «гореть»), с одной
стороны, и *as- (äreö, ärere), с другой, — можно сопоставить
с двумя греческими глаголами phleg-éth-ô ((pXey-έθ-ω) и phlég-ô
(φλέ^-ω): они оба означают «гореть»; ср. также солярные
имена Фаэтон, Pha-éth-δη (Φα-έθ-ων) и Фаон, Pha-ön (Φά-ων),
которые, в свою очередь, оба значат «яркий, сияющий»27. Сдвиг в
семантике можно объяснить достаточно легко: развитие
значения *âs-ë- от «гореть» к «быть сухим» тождественно переходу
от причины, в данном случае огня, к следствию — т.е.
отсутствию воды. В тохарском языке тоже существует глагол as-
(по-видимому, из *h2es-), означающий «быть сухим»28. Еще
одним проявлением наличия в корне *as- семантики «отсутствия
воды» служит употребление формы, которая изначально
являлась причастием, образованным от латинского ardëre — я имею
в виду слово assus, значащее «жареный, печеный», т.е.
«приготовленный без добавления воды», в противовес ëlixus
«вареный» [ср. DELL: 51-52].
24 Тот же самый корень присутствует в старославянском полети
«пылать, гореть».
Примером латинской формы, в становлении которой ротацизм
предшествовал синкопе, служит ornus «горный ясень» (из *örenos, которое, в
свою очередь, получилось в результате ротацизма из *ôsenos — ср. пра-
славянское *jaseni «ясень»). См. [DELL: 469]. См. также работу [Leumann
1977: 99], в которой тип ornus противопоставлен типу ρ δη δ (из *po-sinö).
Ср. также Faler-nus (из *Fales-inos, ср. Faits-et).
Индоевропейский стативный суффикс *-ё- должен быть нам знаком
хотя бы на примере одной только латыни: ср. calëre «быть горячим», tepëre
«быть теплым», albëre «быть белым» и т.д.
См. ниже с. 307. Иные примеры подобных дублетов см. в [Schwyzer
1939: 703].
Вторичное удлинение корневого гласного äs- в перфекте и
каузативе данного глагола (на фоне презенса as-) можно соотнести с долготой
гласного в корне латинского ârëre.
204 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Для ardëre предлагалась и иная реконструкция — *âsi-dhë,
однако она не выглядит убедительной, прежде всего потому, что
нет удовлетворительного морфологического объяснения
наличию *-i-29. Невозможно просто утверждать, что ardëre
произведено от äridus «сухой» путем синкопы -г-. Дело в том, что в
латыни прилагательным состояния на -idus формально и
функционально соответствуют глаголы состояния на -ёге, но никак
не на (i)dëre:
calidus «жаркий» calëre «быть жарким» (calor «жара»)
tepidus «теплый» tepëre «быть теплым» (tepor «тепло»)
äridus «сухой» ardëre «гореть» (ardor «горение»)
Мне совершенно непонятно, как прилагательное äridus,
означающее «сухой», могло дать производный глагол ardëre со
значением «гореть», тем более что существует обычный глагол
состояния àrëre, означающий «быть сухим»30.
Разница в семантике между
ardëre «гореть» из *âs-edh-ê-
и
агёге «быть сухим» из *âs-e-
может послужить хорошей иллюстрацией так называемого
«четвертого закона аналогии» по Куриловичу31, состоящего в том,
что позднейшая форма сохраняет исходное значение, а
исходная форма приобретает позднейшее значение. Впрочем, в
данном случае исходная форма, а именно *äs-, может сохранять
изначальный смысл «гореть» — например, в образованном от
этого корня существительном area, которое означает «земля,
Эта неудовлетворительная этимология фигурирует среди
приведенных Ф. Зоммером [Sommer 1914: 66-67]; обращает на себя внимание
замечание Зоммера о том, что urfet — мнимый эквивалент для ariet —
представляет собой испорченный текст.
Можно, конечно, сослаться в качестве аналогии на глагол gaud ёге,
для которого действительно нужно восстанавливать исходную форму
*gäuid-, поскольку в скрытом виде она присутствует в причастии gauïsus.
На это, впрочем, стоит возразить, что в причастии, исходно образованном
от ardëre, а именно в уже упоминавшемся слове as sus (вновь см. DELL:
51-52), не видно никаких следов формы *ärid-.
«Четвертый закон» Ежи Куриловича: «Когда некая форма
изменяется вследствие морфологической трансформации, то новой форме
соответствует первичная (основная) функция, а форме древней — вторичная
(основанная) функция» [Kurylowicz 1966 (1945-1949): 169].
Глава б. ЦАРЬ И ОГОНЬ
205
место без зданий или деревьев». Связь с деревьями кажется
для данного слова более архаичной — об этом
свидетельствует, например, такой контекст:
liber ab arboribus locus est, apta area pugnae.
место свободно от деревьев, земля [area] подходит для битвы.
Овидий. Фасты 5.707
Вероятно, area изначально называлось место, освобожденное
для посевов от деревьев и кустарников при помощи огня. В
качестве параллели можно привести литовское is-dag as «пахотная
земля», образованное от глагола dèg-ii «гореть»32.
В латыни *âs- сохраняет свое исходное значение «гореть»
не только в именном производном area, но и в еще одном
существительном, образованном от того же корня, — а именно
в ara «жертвенный очаг, алтарь». То же значение
зафиксировано и для родственных ему слов в оскском — aasai (локатив
единственного числа) и в умбрском — asa. Общеиталийская
форма *assâ-, которую, по моему мнению, на индоевропейском
уровне можно реконструировать как *h2es(s)-oh2-33, прямо
соотносится с хеттским has s а-, последнее же, в свою очередь,
восходит к *h20s(s)-o-34.
Подобно хеттскому has s а-, латинское ära постоянно
ассоциируется с огнем — например, у Вергилия в «Георгиках» 4.379
adolescunt ignibus ârae
горят огнями алтари.
Родственное латинскому ära оскское слово, исходной формой
которого, собственно, является äsä-, тоже реально
зафиксировано в непосредственном сочетании с прилагательным,
образованным от рйг- «огонь» (родственным греческому риг = πυρ
«огонь»), в локативной конструкции aasai purasiai«на огненном
äsä-» (147 А 16, В 19 Vetter). К этому можно также добавить
Подробнее о возможных семантических аналогиях см. [Reichelt 1914:
313-316]; впрочем, в этой работе ära интерпретировано по-другому.
33 D
В подтверждение того, что удлинение корневого гласного в
латинском и оскском языках является вторичным, ср. удлинение гласного
в ârëre; кроме того, еще раз сошлюсь на чередование а/а в словах
типа acuö/äcer и т.п.
34 См. выше с. 201-202.
206 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
умбрскую сакральную формулу из Игувинских таблиц pir ase
antentu «пусть он зажжет огонь на äs а-» (Па 19-20, III 22-23).
ЛАТИНСКИЕ ALTÄRIA tfADOLËRE
Следы внутренней связи между огнем и понятием ära
можно обнаружить и в латинском слове aliäria «жертвенный очаг,
алтарь». Форма существительного множественного числа
среднего рода происходит от адъективного образования altäri-.
Первый его элемент традиционно связывают с корнем глагола
adoleö, а второй объясняют как суффикс прилагательного -â/i-
с диссимиляцией -/- [DELL: 24]. Со своей стороны, я предлагаю
считать aliäria сложным словом типа «бахуврихи»35,
означающим «чей *âs- вскормлен». В этой связи показательно
объяснение, взятое Павлом Диаконом из словаря Феста (5 Lindsay):
altare, to quod in illo ignis excrescit «именуется altäre,
поскольку там произрастает огонь»; предложенному толкованию
противопоставлена приведенная там же народная этимология (27
Lindsay): aliäria ab aliiiudine dicta sunt «именуются aliäria из-
за высоты (altitudo)».
Итак, я полагаю, что alt- в aliäria происходит из
прилагательного, образованного от глагола alö «кормить». В
качестве семантического обоснования приведу расхожее латинское
выражение ignem alere «кормить (т.е. поддерживать) огонь»36.
Что касается лингвистических аналогий, то морфологическое
устройство восстанавливаемого сложного слова типа
«бахуврихи»: *ai-fco -f *äs- «чей *âs- вскормлен» — имеет множество
параллелей в древнеиндийском в словах типа hata-mätr- «чья
мать убита»37. Из многих подобных примеров, имеющихся в
«Ригведе», выделю один, чрезвычайно важный с точки зрения
семантики. Это слово iddbâgni- (1.83.4, 8.27.7), которое этимо-
Лингвистический термин (от древнеиндийского bahu-vfïhi-
«[имеющий] много риса»), обозначающий словосложение типа «имеющий что-то»,
«обладающий чем-то» [Иванов, Гамкрелидзе 1984 1:351]. — Прим. перев.
Ср. Цицерон. О природе богов 3.37; Тит Ливии 21.1.4; Плиний.
Естественная история 2.236; Овидий. Метаморфозы 10.173, Лекарство
от любви 808; Тацит. Германия 45; Анналы 15.38; История 3.71 и т.д.
Ср. [Whitney 1896: 446]. По поводу фонетического развития из
*alto-äsi в aliäria, с потерей *-о-, ср. слова типа тадп-animus, rëm-ex и т.д.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
207
логически представляет собой сочетание *idh-ta -h *адпг-зв и
соответственно означает «чей огонь зажжен». Некоторые
морфологические параллели можно обнаружить и в самой латыни —
например, сложное слово uersipellis «чья кожа сменена (букв,
"перевернута")». В «Амфитрионе» Плавта (123) так назван
Юпитер за то, что принял человеческий облик; в иных случаях
словом uersipellis называют «оборотней» (Плиний.
Естественная история 8.34, Петроний 62). Сходным образом устроен и
эпитет altiläneus «чья шерсть вскормлена», который
употребляется в качестве специального термина для обозначения
приносимой в жертву овцы в сохранившихся текстах Арвальского
братства (а. 183 I 24 Henzen). В «Энеиде» Вергилия 12.169-170
sacerdös «жрец» приносит в жертву intonsam bidentem
«нестриженую овцу», приводя ее на flagrantibus arts «горящие алтари»
(ärae). В своем комментарии на это место Сервий добавляет:
quam poniifices altilaneam uocant «а жрецы [poniifices] называют
ее [нестриженую овцу] aliilänea». За сложным словом altiläneus
должно стоять гипотетическое выражение länam alere
«отращивать шерсть» — его можно реконструировать по аналогии
с реально зафиксированными вариантами capillum alere
(Плиний. Естественная история 24.140) и pilos alere (35.47): оба
они означают «отращивать волосы».
В древнеиндийской традиции мне удалось обнаружить по
крайней мере три параллели и к реально встречающемуся в
латыни выражению ignem alere «вскармливать огонь» =
«поддерживать огонь». Первая представлена абстрактным
существительным, образованным от корня *al- «кормить» и многократно
употребляемым в «Ригведе» для обозначения особых кусочков
дерева, благодаря которым добывается огонь. Эти деревянные
палочки или дощечки обозначаются словом агаш-.
Этимология arani-, на мой взгляд, позволяет трактовать это слово как
«кормление, пищу» огня39. Латинское α/ö может
употребляться для обозначения «вскармливания [зародыша] в утробе» (см.,
Для реконструкции iddhagni- не важно, восходит ли
древнеиндийское agn'i- «огонь» к форме *egni или к *ngni.
Связь arani- с корнем *al- «кормить» допускали в качестве одной
из возможностей многие исследователи, от Р. Хаусшильда до М. Майерхо-
фера [см. KEWA s.v.] — впрочем, в последнем издании словаря Майерхо-
фера [EWA s.v.] возможность эта отвергается. Если все же предположить,
что arani- могло быть образовано от *al- «кормить» и означать, соответ-
208 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
например, Варрон. О сельском хозяйстве 2.4.13, Авл Геллий
12.1.6, Павел Диакон из словаря Феста 8 и т.д.) — схожую тему
мы находим в «Ригведе», где описывается ежедневное рождение
бога огня Агни из дощечек, именуемых arani- (Ригведа 3.29.2,
7.1.1, 10.7.9. и т.д.)40. Появившегося из arani- Агни трудно
поймать, как новорожденного ребенка (5.9.3-4)41. Одним из
эпитетов Агни является mätarisvan- (1.96.4, 3.5.9, 3.26.2), буквально
означающее «набухающий в матери» (svan- от su- «нарастать,
набухать»); Агни-Матаришван «сложился в матери» {àmimita
mätari — 3.29.11)42. Короче говоря, мой вывод таков: arâni-
есть не что иное, как aima mater огня.
Рассмотренная нами только что тема позволяет перейти ко
второй из трех найденных мною древнеиндийских параллелей
латинскому выражению ignem alere «кормить огонь» =
«поддерживать огонь». В древнеиндийских текстах, например в «Ма-
хабхарате», встречается существительное среднего рода aiâfca-
«головня, уголь». Этимологически его можно трактовать как
«кормящее», а форму слова считать производной от более
раннего *ala-43. И наконец в качестве третьего и последнего при-
ственно, «кормление, пищу», то можно привести многочисленные примеры
схожих морфологических конструкций: ср., скажем, ведийское dhamani-
«дуновение» от dham- «дуть». См. список других примеров в [Wackernagel,
Debninner 1954: 207], а также ниже на с. 245, прим. 16. Что касается
конкретизации значения — из абстрактного существительного arani-
становится конкретным обозначением куска дерева, с помощью которого «кормят»
огонь, — то в качестве интересной аналогии я сослался бы на развитие
значения слова tarani-. Если в ведах оно значит вообще некое
«пересечение» (от tar- «пересекать»), то в дальнейшем tarani- обозначает вполне
конкретный «корабль» или конкретное «солнце». Иначе говоря, слово,
исходно выражавшее абстрактное понятие действия, впоследствии
начинает служить для обозначения конкретных средств, с помощью которых
это действие осуществляется. (В принципе о процессе перехода
абстрактных существительных в конкретные см. [Nagy 1970: 63-65, 68-70], а также
шестую главу «От абстрактного к конкретному» в книге А. Эрну [Ernout
1954: 179-183]). О мифологических темах, связанных с пересечением
солнцем границы между мраком и светом, см. [Nagy 1979а: 192-210].
Ср. цитату из «Ригведы» 3.29.2, приведенную выше на с. 142.
По ходу дела я хотел бы заметить, что схожие мотивы мы
обнаруживаем в описании младенца Гермеса в гомеровском гимне «К Гермесу».
Подробнее о Матаришване см. выше с. 141 и далее.
В качестве морфологических параллелей можно сослаться на
встречающуюся в «Ригведе» форму saryâta- от sârya,- «тростник, стрела». Сло-
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
209
мера приведу слово an-ala-, употребляемое для обозначения
«огня» в постведийском языке. Его считают изначально
адъективным образованием, означающим «ненасытный»44, — для
сравнения можно упомянуть греческое an-altos (αι/-αλτος)
«ненасытный», встречающееся, например, в «Одиссее» XVII 228.
Древнеиндийская поэтическая традиция не раз рисует огонь
некоей первичной ненасытной стихией [Schulze 1966 (1927): 215—
216]. Чтобы поддерживать огонь, его постоянно надо кормить,
а он требует все больше и больше — оттого он и
«ненасытен» (an-ala-).
Я реконструирую корень -al- в греческом an-altos как *li2el-
(что касается префикса απ-, то он, соответственно, является
рефлексом *п-, который был добавлен к корню уже на той стадии,
когда начальный ларингал *1ΐ2- был утрачен). Тот же корень
можно восстановить и для каузативных форм типа *ol-éi-e/o-,
которые дают латинское adoleo или умбрское ufetu*5. В
латинском adoleo фонетическая последовательность ol представляет
некоторую проблему: дело в том, что о/в середине слова
должно было перейти в ul— это явно прослеживается в
заимствованиях типа cräpula из κραιπάλη или anculus из άμφίπολος.
Конечно, в архаической латыни мы время от времени
сталкиваемся с написанием ol вместо ul (popolom, Hercolei и т.п.), но все же
постоянство употребления формы adoleo и полное отсутствие
*aduleö не может не удивлять. Не менее сложный случай и со
словами subolës и indoles. Столкнувшись со столь
трудноразрешимыми фонологическими проблемами, один из
исследователей был вынужден предположить, что регулярным
фонологическим изменениям здесь препятствует внутреннее
морфологическое устройство слов, и соответственно возвести subolës
«побег, отпрыск» и indoles «врожденное свойство» к глаголу olescö
«расти, вскармливаться» [Leumann 1977: 86]. В словаре Феста
вообразовательная модель с расширением основы на -а- до -cita-
особенно продуктивна в названиях растений или деревьев: ср., например,
ämräia- «вид мангового дерева, spondias mangifera» от ämra- «манго» [см.
Wackernagel, Debrunner 1954: 269].
44 [Schulze 1966 (1927): 215-216, ср. EWA: 70].
Ларингал *1ΐ2 изчеэает перед *о. Этимологизация умбрского ufetu
как *olëtôd, соответственно тождественного латинскому (ad-)olëtôd «пусть
он горит», была предложена по ходу общих рассуждений в работе [Thurney-
sen 1907: 800].
210 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
[402 Lindsay] мы встречаем следующее объяснение: Suboles ab
olescendo, id est crescendo, ut adolescentes quoque, et adultae, et
indoles dicitur «subolës от olëscô, т.е. от "произрастания", и
точно так же adolescentes, adultae, indoles» — иллюстрированное
примерами из Лукреция (4.1232) и Вергилия (Буколики 4.49).
Теперь обратимся собственно к значению adoleô и
умбрского ufetu. Хотя латинское adoleô обычно переводят «гореть», с
этимологической точки зрения этот глагол, учитывая его
каузативное строение, можно трактовать как «кормить». В
доказательство такой этимологии попробуем проверить данный
перевод на нескольких контекстах, в которых также обращает
на себя внимание последовательное соединение adoleô с
производными корня *as-:
cruore captivo adolere aras
кормить жертвенники [множественное число от ära] кровью
пленных.
Тацит. Анналы 14.30
igné puro altaria adolentur,
алтари [altâria] вскармливаются чистым огнем.
Тацит. История 2.3
sanguine ...
conspergunt aras adolentque altaria donis
они окропляют жертвенники [множественное число от ära·]
кровью и кормят алтари [altäria] приношениями.
Лукреций 4.1236-1237
castis adolet dum altaria taedis
пока... кормит алтари [altäria] чистой смолистой сосною46.
Вергилий. Энеида 7.71
Я полагаю, что за всеми этими описаниями, в которых
употребляется глагол adoleô, скрывается представление о том, что
жертвенный очаг «кормят», поддерживая в нем пламя, и
потому, косвенно, пищей для него служит то, что бросают в огонь.
В тех случаях, когда ad-ol-eö непосредственно сочетается с
altäria, в соседстве -о/- и alt- можно усмотреть следы древней figura
etymologica. Такой скрытый смысл может таиться и за
определением Павла Диакона, взятым из словаря Феста (5 Lindsay):
В этом контексте описывается жертвоприношение, во время
которого волосы Лавинии, казалось, охватил огонь.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
211
altaria sunt in quibus igné adoletur «altäria — это то место, где
следует adolëre огнем». Значение «кормить» можно обнаружить
и в сочетаниях adoleô с именем Пенатов, pénates — богов
домашнего жертвенного очага:
flammis adolere penatis
кормить пламенем Пенаты {pénates).
Вергилий. Энеида 1.704
В комментарии к этому месту Сервий указывает, что здесь
adolëre тождественно augëre «увеличивать»: adolere est proprie
augere. В дополнение можно привести значение формального
антонима adoleô — глагола aboleö «истощать, умерять,
задерживать рост, истреблять».
В умбрском каузативная форма *oéi-e/o- зафиксирована в
сакральной формуле:
pir persklu ufetu
с молитвой, пусть он кормит огонь.
Игувинские таблицы III 12, ср. IV 30
Императив ufetu формально соответствует латинскому (ad-)
оlëtδ. Что касается перехода -/- в -г-, то он встречается,
например, и в умбрском kafetu «пусть он позовет» от *kal-, ср.
латинское calare «звать». С точки зрения семантики умбрское
pir... ufetu близко латинскому выражению ignem alere*7.
В случае с латинским adoleo его формальная и
функциональная связь с alö с течением времени оказалась размытой, и,
поскольку контекстуально arfo/eo чаще всего употреблялось для
обозначения «горения, сжигания», слово приобрело гораздо
менее жесткий и этимологически корректный смысл. В
результате adoleô в более простом значении «гореть» стало управлять в
качестве прямого дополнения словами, обозначавшими то, что
должно быть сожжено, — ср., например:
uerbenasque adole pinguis et mascula tura
жги пышные ветви и лучший [букв, «мужеский»] ладан.
Вергилий. Буколики 8.65
Помимо образования типа *ol-éi-e/o-, восстанавливаемого
для adoleô, в латинском языке сохранился и глагол adolëscô
Заметим, однако, что в латыни отсутствует выражение «ignem
adolëre».
212 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
«вскармливаться, расти», форму которого можно
реконструировать как сочетание основы непереходного глагола состояния
*ol-ë- и итеративного суффикса *sk-e/o. Та же основа
непереходного глагола состояния *ol-ë присутствует и в adolë-faciô
«заставлять вскармливаться», который употребляется в актах
Арвальского братства специально для обозначения деревьев, в
которые ударила молния (arborum ado le fact arum, a. 224.16).
Даже глагол adolëscô и тот употребляется в связи с огнем:
adolescunt ignibus arae
алтари кормятся [= зажигаются] огнями.
Вергилий. Георгики 4.379
Для сравнения можно еще привести шведский глагол ala «быть
в огне, гореть».
Развитие значения причастия от adolëscô «вскармливаться,
расти» привело к тому, что adolëscëns стало обозначать
«юношу», и именно в этом значении для него четко зафиксирован
сохранившийся формальный дублет adulëscëns [ср. DELL: 23].
Таким образом оказывается, что в слове, выступающем в
роли существительного, происходят ожидаемые фонологические
изменения из ol в w/, в то время как в случае, когда то же
самое слово функционирует как прилагательное или причастие,
подобные изменения не допускаются.
ЛАТИНСКОЕ FOCUS
Если специальным обозначением «жертвенного очага»
было ära, то более общим словом для «очага», как сакрального,
так и домашнего, было focus:
inde рапет facito, folia subdito, in foco caldo sub testu coquito leniter
сделай каравай, положи на листья и медленно выпекай на
теплом очаге под глиняной крышкой.
Катон. О сельском хозяйстве 75
Здесь Катон приводит рецепт изготовления специального
пирога под названием libum (ср. также О сельском хозяйстве
76.2). Вот еще очевидный пример употребления focus в
значении «домашний очаг»:
munda siet: uillam conuersam mundeque habeat; focum purum circu-
muersum cotidie, prius quam cubitum eat, habeat.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
213
Она [uilica «домоправительница»] должна быть опрятной и
держать усадьбу в чистоте и порядке. Она должна каждый вечер
перед сном чистить и убирать очаг.
Катон. О сельском хозяйстве 143.2
В свою очередь, у Варрона мы сталкиваемся с употреблением
focus в сакральном значении:
sane Varro rerum divinarum refert, inter sacratas aras focos quoque
sacrari solere, ut in Capitolio Iovi, Iunoni, Minervae, nee minus in
plurimis urbibus oppidisque, et id tarn publiée quam privatim solere
fieri... nee licere vel privata vel publico sacra sine foco fieri, quod
hie ostendit poeta.
Варрон в своем сочинении «О божественном» (Rerum diuinarum)
справедливо сообщает, что внутри освященных алтарей [агае]
освященными обычно бывают и foci — например, на Капитолии
они посвящены Юпитеру, Юноне, Минерве. Так же обстоит дело
и в большинстве городов и поселений; и совершается это обычно
и публично, и частным образом... и запрещено совершать
жертвоприношения, как общественные, так и частные, без focus. Вот
об этом здесь Поэт [Вергилий] и говорит.
Сервий. Комментарий к Энеиде Вергилия 3.134
Сообщение Варрона о том, что на Капитолии помещался
focus, можно непосредственно соотнести с производным словом
foculus, сохранившимся в актах Арвальского братства за 87 год
н.э.: там описывается обряд, происходящий тоже на Капитолии
(in CapHolio — а. 87 I 2), руководит всем promagister братства
(I 2 и далее), и после предварительных священных процедур
«в тот же день и на том же самом месте» (eodem die ibidem in
area — I 18) этот promagister совершает следующие действия:
ture et uino in igne in foculo fecit
он приносит жертвы ладаном и вином в огне foculus.
Акты Арвальского братства а. 87 I 19 Henzen
В актах Арвальского братства при описании
жертвоприношений свиней и телок термины ara и foculus (при том, что оба
жертвенника располагаются in luco «в роще») находятся в
некоей дополнительной дистрибуции: свиней, porcae piäculäres,
обычно заклают на ära, а телок, иасса honoraria, — на foculus**.
Акты Арвальского братства аа. 90. 49-50; эпохи Домициана С I
2-5; 105 II 7-9; 118 I 59-62; 120. 36-37; 155.32-34; эпохи Марка Аврелия Ε
1-2; 183 II 21-22; 218 а 17-19; 240 (= Dessau 9522) II 4.
214 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
В дополнение можно сослаться на слова Валерия Максима:
quae prima hostia ante foculum cecidit
первое жертвенное животное, что пало перед foculus.
Валерий Максим 1.6.9
В отличие от äray focus/foculus временами может менять
место49 — на это указывают многочисленные примеры
употребления данных слов:
adde preces positis et sua verba focis
молитвами и подходящими словами сопроводи установление foci.
Овидий. Фасты 2.542
posito tura dedere foco
был установлен focus i и они совершили приношение ладаном.
Овидий. Фасты 4.33450
crateras focosque ferunt
уносят кратеры и foci.
Вергилий. Энеида 12.285
praetextatum immolasse ad tibicinem foculo posito
приносить жертву в тоге-претексте в сопровождении флейтиста,
установив focus.
Плиний. Естественная история 22.11
bona... consecravit foculo posito in rostris adhibetoque tibicine
он принес в жертву добро..., установив foculus на рострах и
приведя флейтиста.
Цицерон. О своем доме 123
tu... capite velato... foculo posito bona... consecrasti
ты принес в жертву свое добро... покрыв голову и установив
foculus.
Цицерон. О своем доме 124
Liberalia dicta, quod per totum oppidum eo die sedent sacerdotes
Libert anus hedera coronatae cum libis et foculo pro emptore sacrifi-
cantes.
Общее описание см. в чрезвычайно полезном руководстве по истории
римской религии [Wissowa 1912].
В данном случае описывается жертвоприношение телки, которое
совершает перед отплытием свита Клавдии Квинты.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
215
Праздник Либералий именуется так, потому что в этот день по
всему городу сидят старухи-жрицы Либера в венках из плюща,
с пирогами и foculus, и жертвуют [эти пироги] за каждого
покупателя.
Варрон. О латинском языке 6.14
Получается, что focus/foculus можно соорудить на любом
месте. У Катона foculus перечислен среди прочих
сельскохозяйственных приспособлений (О сельском хозяйстве 11.4, 16.3).
Как утверждает Сервий, всякое место или предмет, на котором
разводят огонь, может быть названо focus:
quidquid ignem fovet «focus» vocatur, sive ara sit, sive quid aliud
in quo ignis fovetur
Что бы ни хранило [fovët] огонь, именуется focus, будь то ara или
нечто другое, в чем хранится [fovëtur] огонь51.
Сервий. Комментарий к «Энеиде» Вергилия 12.118
Допустимость столь неограниченного словоупотребления
делает объяснимым и последующее семантическое развитие focus,
ставшего общероманским обозначением для «огня»: ср.
французское /eu, итальянское fuoco, испанское fuego и т.п.
Поразительная широта замеченных нами контекстуальных
значений латинского существительного focus побуждает меня
Употребление слов fovët и fovëtur указывает на этимологическое
соотнесение существительного focus с глаголом foveö «хранить». От foveö
действительно существует производное foculum — не случайно, два этих
слова встречаются вместе в «Пленниках» Плавта 847. Однако следует
обратить внимание на то, что в этом föculum гласный о долгий; а значит,
следует различать föculum (с долгим о), производное от foveö, и foculum
(с кратким о), образованное от focus (например, у Катона. О сельском
хозяйстве 11.4). Другие примеры, демонстрирующие разную долготу
соответствующих гласных см. в [DELL: s.v. foveö]. Значение föculumi в
котором заключена идея «хранения» или «кормления» огня, аналогично
разобранному нами выше значению латинского altâria. Возможно,
фонетический параллелизм föculo- и foculo- был подкреплен и семантической
близостью, поскольку оба слова обозначали очаг, причем очаг подвижный,
который можно переносить, устанавливать на новом месте. Можно
предположить, что за этим параллелизмом скрывается более архаичная форма
*faculus, производная от *facus, a *facus приобрел форму *focus по аналогии
с foculus. В этом случае focus можно понимать как вторичное производное
от faciö «делать», означавшее нечто вроде «установления, размещения».
Подробнее об этой возможности см. ниже.
216 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
завершить данный раздел попыткой заполнить один из
зияющих пробелов в истории латинского языка. Он состоит вот в
чем: у focus нет принятой этимологии [DELL: 243]. По этому
поводу я хотел бы высказать одно предположение, но сразу
оговорюсь, что сделанные ранее выводы никак на нем не
основываются. Итак, я предлагаю связать существительное focus —
главное латинское слово для «очага» — с глаголом faciö, который
не только означает «делать» в обыденном смысле, но и
является главным словом для обозначения сакрального «действа»,
т.е. жертвоприношения. Я вовсе не утверждаю, что focus
следует считать первичным образованием, рефлексом отглагольного
существительного, возникшего уже на индоевропейском
уровне. Я склонен скорее предположить, что focus является
результатом вторичного словообразования, уже на италийском
уровне — таким же вторичным образованием, каким является
форма настоящего времени самого глагола faciö. Ведь в настоящем
времени глагола faciö формант -с- является вторичным
распространением того -с-, которое первоначально являлось
показателем перфекта — feci, соответствовавшего, например,
греческому thêka (Θηκα) «поставил, поместил». Исходное значение
«ставить, класть, помещать», сохраненное в родственном
греческом слове, помогает объяснить, почему faciö само по себе
может означать «приносить жертву» (например, Вергилий.
Энеида 8.89) и входить в составной глагол sacri-ficö «жертвовать,
[букв, делать священное]» (см., например, Π л авт. Пуниец 320).
Для нас сейчас, впрочем, даже важнее то, что этим же можно
объяснить и традиционные сочетания латинского focus с
глаголами, означающими «ставить, класть, помещать», примеры
которых мы видели только что во многих контекстах, где речь
шла о возможности перемещения focus. Если все же мы готовы
считать focus производным от faciö, то тогда следует
заключить, что вторичное -с- было обобщено в качестве составного
элемента глагольного корня fac- на достаточно ранней стадии —
только в таком случае этот корень мог давать отглагольные
существительные типа focus62. Более того, вторичным тогда
Ср. умбрские facta, faç(i)u, fakust, facurent, которые
соответствуют латинским faciat, facere, fëcerit, fëcerint. Более того, в умбрском
императиве fétu (который пишется также и feitu) можно усмотреть е-ступень
огласовки того же корня. Эту форму нельзя считать параллельной оскско-
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
217
следует считать и -о- в focus, поскольку вариант foc- также
никак нельзя вывести непосредственно из индоевропейского
корня *dhehi(-k-)/*dhhi(-k-). Впрочем, остается возможность того,
что подобное образование могло возникнуть уже на италийской
или даже собственно латинской почве, и тогда возникновение
вторичного -о-в focus могло быть продиктовано аналогией53.
УМБРСКИЕ AHTI- И ASO-
В умбрском языке латинскому focus в значении
«подвижного очага» соответствует слово ahti-5*. Этимологически оно
представляет собой абстрактное существительное *ag-ti, со
значением «перевозка, перенесение», образованное от глагола,
родственного латинскому agö, адеге. Формально и семантически
му faciud, поскольку в умбрском этому должно было бы соответствовать
*faitu: ср. умбрский императив aitu и параллельное ему оскское acini.
Таким образом, умбрское fe(i)tu можно реконструировать как *fekitôd. Еще
одной возможной реконструкцией могло бы быть *fëkitôd} но против нее
говорит тот факт, что изначальное умбрское ё в латинском алфавите
передается как г в противовес е в исконном умбрском алфавите (например,
fi.Uu в латинском алфавите соответствует ftliuf в умбрском). А в данном
случае собственно умбрскому написанию fetu/feiiu в латинском алфавите
соответствует fetu/feitu/feetu, но никогда *fitu.
См. выше прим. 51. Более того, можно привести формальную
параллель к тому типу словообразования, который мог дать производное focus
от fac-iô. Я имею в виду существительное iocus «шутливое слово»,
которое можно возвести к глаголу iaciö «бросать, метать», корень
которого *iehi(-k-) дает перфект iëcï. Что касается семантики, то можно
вспомнить греческое cpcs-bolos, букв, «мечущий слова» из «Илиады» II 275. В
этом контексте греческое слово является эпитетом Терсита, в образе
которого до некоторой степени воплощена идея поэтической хулы, вредящей
насмешливыми словами, — см. об этом подробнее [Nagy 1979а: 253-264,
особ. 264]. В нулевой ступени корня *ihi-k-, которая дает настоящее время
iaciö, *-k- тоже является вторичным расширением по аналогии с
перфектом iëcï — точно такое же соотношение существует и между faciö и feci.
Даже в классической латыни iaciö употребляется с прямым дополнением,
обозначающим нечто сказанное (ср. например, iaciö contumeliam «бросать
оскорбление» у Цицерона. За Суллу 23). О семантике умбрского гика
«сакральные слова, священная формула» см. [Poultney 1959: 199, Borgeaud
1982: 190]. Литовское juôkas может быть заимствованием из немецкого
jök, куда это слово могло попасть из студенческой латыни [LEW: 197].
К попытке истолковать слово ahti- меня подтолкнул критический
разбор материала умбрских текстов в работах [Devoto 1937: 267-268] и
[Poultney 1959: 165].
218 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
его можно сопоставить с латинским utctis «рычаг, запор»,
которое точно так же исходно является абстрактным
существительным *uegh-ti со значением «перенесение» от глагола,
существующего в латыни в форме uehö, uehere. Употребление слова
ahti- в значении «передвижной, переносной очаг» в принципе
не обязательно характерно для умбрского языка, скорее, такой
особой семантикой оно наделено в сакральных текстах,
принадлежавших братству Атиедиев из умбрского города Игувия
и зафиксированных в ряде надписей, известных под
названием «Игувинских таблиц». В религиозной жизни Игувия ahti-
играло важнейшую роль — это вытекает из описания обрядов
в тексте «Игувинских таблиц» III 1 и далее. После того как
ргг «огонь» зажигается на дороге, ведущей arven «в поле», и
после того как позже он помещается ase «на алтарь»,
который расположен vuke «в роще», справа от алтаря приносится
жертва iuvepaire «Юпитеру»:
fratrusper atiieries «за братство Атиедиев»
ahtisper eikvasatis «за ahti [множественное число] eikvasatis»
tutaper iiuvina «за народ Игувия»
trefiper iiuvina «за tribus Игувия»55.
Игувинские таблицы III 23-24
Такая иерархия ценностей самым наглядным образом
демонстрирует значимость ahti- для общины. Соединение в умбрском
vuke «в роще» / ase «на алтаре» с формулой ahtisper «за
переносные очаги» можно сопоставить с сочетанием выражений in
iuco «в роще» / in ara «на алтаре» и in foculo «на переносном
очаге» в латинских текстах Арвальского братства56.
В только что процитированном тексте из «Игувинских
таблиц» к аблативу множественного числа ahtis добавлен
постфикс per, который эквивалентен латинскому pro «за, от
имени». Тем самым соединение ahtis и per по смыслу тождественно
параллельно латинскому выражению pro arts focïsque,
встречающемуся, например, в таких контекстах:
sibi pro aris focisque et deum templis ас solo in quo nati essent
dimicandum fore
55 Относительно умбрского слова trifu- «племя» (родственного
латинскому tribus) см. ниже с. 359.
См. выше с. 213. О других параллелях между «Игувинскими
таблицами» и «Актами Арвальского братства» см. [Vine 1986].
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
219
что они шли, дабы сражаться за свои агае и foc\ за святилища
богов и за землю, на которой родились.
Тит Ливии 5.30.1
pro patria pro liberis pro ans atque focis suis cernere
биться за родину [patria], за своих детей, за свои ärae и foci.
Саллюстий. Заговор Катилины 59.5
Вдобавок можно вспомнить и о том, с каким чувством и с
каким пафосом упоминал об ärae и foci в своих речах Цицерон:
см!, например, Против Катилины 4.24; О своем доме 106, 143;
Против Пизона 91; За Сестия 90 и т.д.
Сакральная значимость передвижного очага в умбрском
обществе явствует не только из скрытой этимологии
абстрактного существительного ahii- и из той роли, которую ahti- играет
в иерархии обрядовых формул в только что процитированном
отрывке из «Игувинских таблиц». Не менее отчетливо на
подобную значимость указывает и использование данного слова
в описании ритуала огня в братстве Атиедиев. В «Игувинских
таблицах» содержатся две версии такого описания: одна
записана с помощью собственно умбрского (lb 10-16), а вторая — с
помощью латинского алфавита (VIb 48-53). Если внимательно
сопоставить два этих текста, то можно выяснить несколько
новых деталей касательно места жертвенного очага в италийском
ритуале. Для удобства тексты, приведенные ниже,
разделены на две части, каждая из которых поделена на разделы,
соответствующие внутреннему содержательному членению. Эти
разделы обозначены буквами А-Н для текста, записанного
латинским алфавитом, и буквами А-Н' — для умбрского. При
этом для наглядности латинский текст обозначен курсивом, а
умбрский помещен в скобки:
VIb 48-53 lb 10-16
A pone poplo afero heries A' {pune puplum aferum
heries}
когда он хочет совершить очи- когда ты хочешь совершить
щение народа очищение народа
В avif aseriato etu В' {avef anzeriatu etu}
он должен пойти и следить за иди и следи за птицами
птицами
Са аре angla combifiansiust С {pune kuvertus}
когда он объявит когда ты вернулся
220 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Cb perça arsmatiam anouihimu
он оденет perça arsmatia
Da cringatro hatu
он возьмет cringatro
Db destrame scapla anouihimu
он оденет его на правое плечо
Ε pir endendu
он поместит огонь
Fa pone esenome ferar pufe pir
entelust
когда на жертвоприношение
принесут то, куда он поместил
огонь
Fb ere fertu рое perça arsmatiam
höhtest
тот, у кого регса arsmatia,
должен нести его
Fc erihont aso destre onse fertu
и он же будет нести aso на
правом плече
G ennom stipîatu parfa desua
а затем он объявит о птице-
parfa с правой стороны
s es о tote iiouine
за себя и за народ Игувия
D' {krenkatrun hatu}
возьми {krenkatrum}
Ε' {enumek pir ahtimem
ententu}
затем помести огонь в
{ahti-}
F' {pune pir entelus ahtimem}
и когда ты поместил огонь
в {ahti-}
H
G' {enumek steplatu parfam
tesvam}
a затем объяви о птице-
{parfa} с правой стороны
Н' {tete tute ikuvine}
за тебя и за народ Игувия
На этом обряд завершается. Далее следует описание
ритуала изгнания в Акедонии, который начинается словами аре
acesoniame... benust «когда он пришел в Акедонию» (VIb 52-
53, в латинском алфавите) — им соответствует {pune menés
akeruniamem} «когда ты пришел в Акедонию» в местном
умбрском написании (lb 15-16).
В приведенном ритуале огня следует обратить внимание на
несколько деталей. Начнем с выражения рое регса arsmatiam
habiest «тот, у кого регса arsmatia» (Fb = VIb 50). Здесь и
в других местах (VIb 53, 63; Vila 46, 51) оно является
описательным обозначением табуированного имени главного
жреца a rsfe ri и г/ {affert иг} культа братства Атиедиев. Далее я
буду называть его адфертор, транслитерируя латинизированный
эквивалент — Adfertor «приносящий» — умбрского именования
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
221
жреца57. Словом perça называется нечто, что на нем надето, —
это явствует из сочетания perça с глаголом anouihimu «одевать,
носить», а также из определения ponisiater/{puniçate},
безусловно родственного латинскому pûniceus «пурпурный,
окрашенный в пурпур» [см. Ernout 1961: 126]. При отправлении
ритуала огня, описываемого в lb 10 и далее, адфертора должны
сопровождать два особых служителя, именуемые {prinuvatu},
и на них должны быть {perkaf... puniçate} (lb 15). Схожим
образом в ритуале огня, изложенном в VIb и далее, с адферто-
ром должны идти два prinuatur, и на них должны быть perça...
ponsiater (VIb 51), а сам адфертор должен быть одет в perça
arsmatiam (VIb 49, 50). Перифрастическое именование
адфертора «тем, кто в perça arsmatiam встречается только в той
части «Игувинских таблиц», которая написана латинским
алфавитом. Но если сравнить ее с фрагментами, записанными
умбрским алфавитом, тождество адфертора {affertur} и «того, кто
в perça arsmatiam становится очевидным: в lb 41-42 (умбрский
алфавит) адфертор {affertur} ведет на заклание одну
жертвенную телку, а двое {prinuvatu} — двух; а в Vila 51-52
(латинский алфавит) жертвенных телок ведут на заклание рое perça
arsmatiam habiest «тот, кто в регса arsmatia» и два prinuatur.
В параллельных описаниях обряда огня, которые мы
рассматриваем, нельзя непосредственно противопоставить
перифрастическую замену табуированного имени жреца на рое регса
arsmatiam habiest «того, кто в регса arsmatia» в латинском
варианте (А-Н) тому, что ей соответствует в умбрской версии (А?-
Н'), потому что в первом случае инструкции адфертору даются
в третьем лице (А-Н), а в умбрской версии этому
соответствует обращение во втором лице (А'-Н'). Однако можно заметить
четкую разницу двух версий в обозначении переносного
очага. Латинский вариант не только избегает прямого именования
главного жреца братства Атиедиев его собственным титулом, но
и уклоняется от называния «переносного очага» словом ahti-, в
сакральном языке братства эквивалентного латинскому focus.
Вспомним: в латинском разделе Ε мы читаем pir endendu «он
поместит огонь», в то время как в умбрской версии Е'
содержится фраза {enumek pir ahtimem ententu} «затем помести огонь в
О кельтских аналогах италийского Adfertor см. [Borgeaud 1982: 31]
с литературой вопроса.
222 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
{ahti-}». Обратим внимание еще на одну описательную
конструкцию pufe ргг entelust, возникающую взамен табуированно-
го слова ahti- в разделе Fa: вместо прямого указания — скажем,
фразы «когда ahti- принесен на жертвоприношение» — мы
видим в этом разделе следующую перифразу: ропе esenome ferar
pufe pir entelusi «когда то, куда он поместил огонь, принесено
на жертвоприношение». Получается, что особая осторожность
при обозначении культовых предметов и культовых служителей
братства Атиедиев соблюдается в тексте, записанном
латинскими буквами; быть может, этой же осторожностью объясняется
и то, что в данном тексте постоянно используется третье лицо
при обращении к приносящим жертву Атиедиям, в отличие от
второго лица, в котором к ним обращаются в варианте,
записанном на местном алфавите.
Указания, содержащиеся в версии А-Н, помимо подобной
осмотрительности, отмечены и большей, по сравнению с
вариантом А'-Н', точностью и подробностью. Большая детализация
может быть продиктована и меньшим знакомством с
предписанным порядком действий. Обратим внимание на раздел Db,
в котором оговорено, что приносящий жертву должен одеть на
правое плечо некую деталь туалета, названную cringatro.
Напротив, в соответствующей части умбрской версии D' просто
говорится о том, что он должен иметь при себе {krenkatrum}.
(Эту деталь одежды cringatro/{krenkatrum} можно соотнести с
латинским cinctus или cingulum). Можно предположить, что
жесткого предписания в разделе D' было достаточно для
того, чтобы напомнить, что следует делать дальше. В свою
очередь, в латинском варианте потребовалось не только указать
в разделе Da, что приносящий жертву должен иметь при
себе cringatro, но и уточнить в разделе Db, что, собственно, с
этим предметом надо делать — а именно надеть его на правое
плечо. Почему cringatro должно находиться именно на правом
плече, становится понятным из того, что сказано дальше: ведь
жрецом, который надевает cringatro/{krenkatrum}, является не
кто иной, как arsfertur/{aifertur} «адфертор» (ср. Cb: этот же
жрец надевает и perça arsmatiam). Затем адфертор должен
поместить огонь в «передвижной очаг» (ср. Е/Е', Fa/F'), который
в тот момент уже «доставлен на жертвоприношение» (esonome
ferar: Fa). К месту жертвоприношения его доставляет тот же
адфертор (ср. Fb), и он же несет очаг на правом плече (ср. Fc).
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
223
В итоге можно предположить, что деталь туалета, именуемая
сггпдαίνο/{krenkatrum}, должна была служить для того,
чтобы защитить плечо адфертора от жара ahti- «очага», который
он должен был нести. Возможно, словом ahti- называлось
нечто вроде жаровни; для сравнения сошлемся на уже
упоминавшийся медный cribrum, который в качестве переносного очага
использовали весталки в описании Павла Диакона, взятом из
словаря Феста (94 Lindsay):
ignis Vestae si quando interstinctus esset, virgines verberibus adfi-
ciebantur a pontifice, quibus mos erat tabulam felicis materia tamdiu
terebrare, quousque excepturn ignem cribro aeneo virgo in aedem
ferret.
Если когда-либо гас огонь Весты, девы-весталки биты были
понтификом, и должны были они тереть дощечку (tabula) из
благословенного древа (fëlix materia), пока не будет извлечен огонь и
принесен девой в храм Весты в медном решете (cribrum).
Употребленное здесь слово tabula «дощечка» можно
сопоставить с одним из указаний «Игувинских таблиц» (lib 12):
{tafia е pir fertu} «неси огонь туда на tafla», поскольку
умбрское tafia соответствует латинскому tabula. Заметим также, что
в приведенной выше цитате дерево, при помощи которого
разводится огонь, именуется materia. Сама форма этого
существительного предполагает его связь с mäter «мать»58. Кроме того,
materia здесь определяется словом fëlix — прилагательным,
часто обозначающим плодородие и способность к вскармливанию.
Ближайшей семантической параллелью можно считать
латинский фразеологизм ignem alere «вскармливать огонь»59, а
также схожую древнеиндийскую тему вскармливаемого в утробе
матери бога огня, именуемого Матаришваном60. Вспомним
также, что пространство, на котором возжигался древнеиндийский
Гархапатья — домашний огонь, именовалось yôni- «женское
лоно» (Шатапатха-брахмана 7.1.1.12)61.
См. выше с. 145.
См. выше с. 206 и далее.
См. выше с. 142, а также с. 208.
См. выше с. 145.
224 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Мы уже отмечали, что в приведенном выше списке
инструкций из «Игувинских таблиц» слово ahti- — им в языке Атиедиев
обозначался «передвижной очаг» — сознательно и
последовательно избегается. Зато в нем встречается его синоним,
который в латинском алфавите пишется как aso-:
Fc erihont aso destre onse fertu
и он же [= адфертор] будет нести aso на правом плече.
Игуеинские таблицы VIb 50
Поскольку в разделе Fc необходимо специально оговорить, что
предмет, упомянутый перед этим в разделе Fa, но не названный
там прямо (pufe pir entelust «то, куда он поместил огонь»),
следует нести на правом плече, то на сей раз он описывается не
перифрастически, а с помощью равнозначного слова, которое
тоже должно обозначать «переносной очаг». По всей
видимости, умбрское слово aso не входило в сакральный словарь
Атиедиев, и возможно, именно поэтому его можно было поместить
в письменном ритуальном тексте (VIb 48-53), настолько
чувствительном к употреблению табуированных слов, что термин
ahii- обозначается в нем не прямо, а посредством перифразы62.
Подобно тому, как умбрское слово asa (Игуеинские таблицы Па
38 и т.д.) можно реконструировать как *assâ, так же и aso
можно реконструировать как *ässo. Если пренебречь удвоением *s
(о подобных вариантах *s/ss мы говорили выше), то можно
возвести *aso- к *li2es-o-; иными словами, я предлагаю считать
умбрское aso родственным хеттскому hassa- «жертвенный очаг».
ЗНА ЧЕНИЕ ХЕТТСКОГО
HA5-/HA55A-/HA55U- С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МИФА И РИТУАЛА
Итак, мы установили следующий список существительных,
производных от индоевропейского корня *h2es-, для которых
общим семантическим полем является понятие «очага»:
Я предлагаю такую интерпретацию умбрского в противовес обычной
трактовке, которая содержится в большинстве соответствующих пособий.
Согласно принятой интерпретации, aso означает «жареное мясо» или что-
то в этом роде (ср. латинское assum). Такая трактовка порождает немало
трудностей в понимании данного контекста, как это было убедительно
продемонстрировано в работах [Devoto 1937: 268-269; Ernout 1961: 111].
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
225
хеттское hassa- жертвенный очаг
древнеиндийское asa- пепел
древнеисландское аггпп и т.д. жертвенный очаг
немецкое Esse и т.д. кузница
английское ashes и т.д. пепел
греческое άσβόλη, ασβοΧος сажа
латинское ära, altäria жертвенный очаг, алтарь
оскское aasa- жертвенный очаг, алтарь
умбрское asa жертвенный очаг, алтарь
умбрское aso жертвенный очаг (переносной).
Из общего семантического ряда слов, восходящих к корню
*h2es-, несколько выбиваются значения хеттского глагола has-
«рождать» и существительного hassu- «царь». Однако в
контексте находившихся в центре нашего исследования мифов и
ритуалов, в рамках которых жертвенный очаг выступает в
роли источника царского достоинства и власти, такое значение
отнюдь не выглядит необъяснимым или случайным.
В этой связи стоит обратить внимание на формульное
обозначение субъектом самого себя с помощью хеттского has su-:
например, в автобиографии царя Хаттусилиса III он
постоянно именует себя d UTUsi «мое солнце». Подобное
словоупотребление кажется характерным именно для хеттского языка,
поскольку, скажем, в аккадском не зафиксировано схожего
способа обозначать собственное «я» (в таком случае следовало
бы ожидать комбинации S'A M SI «мое солнце» с третьим лицом
единственного числа). Согласно похоронному обряду хеттских
царей63, где постоянно описывается сожжение тела hassu-
«царя» и погребальных приношений на hassa- «жертвенном
очаге», эти приношения адресованы прежде всего верховному
покровителю хеттского государства, богу dUTU «солнце». После
того как hassu- умирает, он соединяется именно с темхамым
богом dUTU и, по сути, после кончины сам становится
божеством [Otten 1958: 113, 119-120]. Это представление тоже
кажется характерным именно для хеттов — не случайно фраза,
вложенная в уста царя My реи лиса II на хеттском:
Тексты, относящиеся к этому ритуалу, были собраны в издании
[Otten 1958]. Там же [с. 113, 119-120] см. разбор фрагментов, специально
описывающих загробную жизнь царя.
226 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ABUYA DINGIRL/M-is kisat
[когда] мой отец стал богом, —
в параллельном аккадском варианте оказывается гораздо
более сглаженной:
ABUYA ARKI SIMTlSU KI ILLIKU
когда мой отец ушел к своей судьбе.
[Otten 1958: 120]
Для сравнения можно привести и такую хеттскую молитву:
п[м-?] ка-ги-ύ ma-ah-ha-an an-na-za SA-za ha-as-sa-[a] n~za e-su-un
n[u-rn\ u-kan DINGIR-Y/1 a-ap-pa a-pu-u-un Zl-cm an-da ta-a-i
[nu-um]u tu-el SA DINGIR-УА Zl-KA am-mu-uk [ ] IGl-an-da
[a]t-ta-as-ma-as an-na-as ha-as-sa-an-na-as χ χ χ
[Ζ]ΡΙΑ ki-sa-an-ta-ru
Уже тогда, когда я был рожден [has-] из чрева моей матери, ты,
мой бог, вложил в меня этот «animus, дух» [ZI = istanza-], и пусть
этот божественный «animus, дух» станет для меня «духами, апгт
Ь> моего отца, матери и «gens, рода».
[Otten 1958: 123-124]
Присутствующая здесь тема заставляет нас еще раз
вернуться к отправной точке наших рассуждений, а именно к
характерному для индоевропейцев представлению о связи восхода
солнца с зажжением жертвенного костра. Мы уже видели, что
ритуальное слово древнеиндийских вед утверждает этот
параллелизм прямо и непосредственно; в то же время в скрытом виде
он может стоять за возможным родством корней для понятий
«зари» и «очага» в различных индоевропейских языках (такое
сходство можно усмотреть, например, между греческим tos и
латинским auröra, с одной стороны, и греческим hestiä и
латинским Vesta, с другой). Иными словами, вполне вероятно, что
макрокосмический огонь восходящего солнца и
микрокосмический огонь жертвенного костра обозначался с помощью одного
и того же корня, причем для слова «заря» использовался
вариант *heus-, а для «очага» — *hues-.
Поскольку, как мы только что убедились, хеттский hassu-
«царь» отождествляет себя с солнцем, рождение царя
подобно тому, как на небе загорается солнце. Соответственно,
хеттский глагол h as- «рождать» становится тематически связанным
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
227
с hassu- «царь», и в таком случае с этимологической точки
зрения has- можно понимать и как «зажигать, загораться». В
качестве примера обратного семантического развития можно
привести английский глагол kindle «зажигать», который в
среднеанглийском означал «рождать», а затем «разводить огонь»;
еще одним примером может служить древнеисландское kveikja
«рождать, зажигать» (ср. существительное kveika со
значением «дрова, топливо»). И наконец, здесь стоит вспомнить и о
латинском adolëscëns/adulëscëns «юноша», исходно
являвшемся причастием, чью внутреннюю метафорическую семантику
— «вскармливаемый, как вскармливается огонь» — мы
анализировали выше.
Тем самым хеттское hassu- может исходно означать «тот,
кто загорелся, кого зажгли». В подтверждение такой
этимологии можно сослаться на известный италийский
мифологический сюжет, связанный с ритуальным огнем. Главным его
героем является римский царь Сервий Туллий: особую роль этого
персонажа подчеркивал еще Жорж Дюмезиль, отмечая, что в
Сервий воплотились многие черты индоевропейской
мифологической модели идеального властителя [Dumézil 1943]. Если
на самом деле можно утверждать, что латинское ara
родственно хеттскому hassa-, и, в свою очередь, если латинское focus
функционально близко понятию ära, то миф о царе Сервий и
focus «очаге» весьма убедительно свидетельствует в пользу
наших построений:
Non praeteribo et unum foci exemplum Romanis litteris darum: Tar-
quinio Prisco régnante tradunt repente in foco eius comparuisse
génitale e cinere masculi sexus eamque, quae insederat ibi, Tanaquilis
reginae ancillam Ocresiam captivam consurrexisse gravidam. ita
Servium Tullium natum, qui regno successit. inde et in regia cuban-
ti ei puero caput arsisse, creditumque Laris familiaris filium. ob id
Compitalia ludos Laribus primum instituisse.
Я не могу не упомянуть знаменитую историю о focus в римской
литературе. В царствование Тарквиния Приска в focus вдруг
появился из пепла детородный мужской орган, и от него понесла
Окресия, что сидела подле очага. Она была рабыней-служанкой
царицы Танаквиль. И так появился на свет Сервий Туллий, и
он стал следующим царем. А когда он еще ребенком спал во
дворце, голову его охватил огонь, и тогда уверовали в то, что он
228 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
сын Домашнего Лара (Lar farniliaris). И потому он был первым,
кто учредил игры Compitalia в честь Ларов.
Плиний. Естественная история 36.204
Вот еще один вариант той же истории:
namque pater Tulli Volcanus, Ocresia mater
praesignis facie Corniculana fuit,
hanc secum Tanaquil, sacris de more peractis,
iussit in ornatum fundere vina focum:
hinc inter cineres obsceni forma viriiis
aut fuit out visa est, sed fuit ilia magis.
iussa foco captiva sedet: conceptus ab ilia
Servius a caelo semina gentis habet,
signa dédit genitor tunc cum caput igne corusco
contigit, inque comis flammeus arsit apex.
Ибо отцом Туллия был Вулкан, а поражавшая своей красотою
Окресия из Корникула была ему матерью.
Когда были совершены священные обряды так, как положено,
Танаквиль велела ей возлить вино в украшенный focus.
И в тот миг среди пепла возник — или показалось, что возник, —
Образ мужской похоти — скорее всего, он все-таки был там.
Как велено, рабыня села у focus. Так зачатый ею,
Сервий семя своего рода [<7ëns] получил с небес.
Родитель подал знак тому, когда окружил его голову
Сверкающим огнем, и пламя заполыхало в его волосах.
Овидий. Фасты 6.625-634
Именно в этом замечательном мифологическом отрывке
отчетливо видна значимость ритуала. Тот же самый миф подробно
изложен Дионисием Галикарнасским в «Римских древностях»
4.2.1-4. Согласно мифу, приводимому Плутархом (Ромул 2.4-
8), схожим образом появились на свет Ромул и Рем. Такую же
историю рассказывали и о Цекуле, основателе города Пренесте
и зачинателе прославленного рода Цецилиев64.
Наконец, хотелось бы еще раз обратить,внимание на одну
поразительную деталь мифа о рождении из жертвенного очага
Свидетельства о подобных италийских мифах были весьма
тщательно подобраны в работах [Alföldi 1974: 182-185] и [Bremmer, Horsfäll 1987:
49-53]. Ср. также [Breiich 1949: 70, 96-100]. Ж. Дюмезиль [Dumézil 1966:
69, 320-321] дополняет эти варианты древнеиндийскими параллелями —
так, скажем, один из индийских эпических героев был зачат богом Агни в
домашнем очаге — Гархапатье (Махабхарата 3.213.45 и далее).
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
229
Сервия Туллия — идеального италийского царя. Как мы
убедились, в обеих приведенных нами версиях мифа подлинность
того, что царь был рожден из пепла очага, подтверждается
одним видимым знамением. Царственность ребенка
проявляется именно тогда, когда голова Сервия буквально вспыхивает.
Этот мотив сверкающего лика царя, высшего из смертных,
можно связать с предложенной выше этимологией греческого слова
anthrôpos {άνθρωπος) «человек» — «с глазами как уголь»65.
Мифологическое представление о том, что первочеловек
является одновременно и первым царем, распространено
повсеместно66, и ему как нельзя лучше соответствует этот образ
сияющего царского лика, встающего из очага. Он символизирует
вечное стремление мифа уловить связующую нить меж
человеческим родом и небесами67. И теперь, пройдя полный круг,
можно возвратиться к сну Клитемнестры в «Электре» Софокла
(417-423). Напомню: ей видится, что микенский царь
утвердил свой скипетр в монаршем очаге (419-420) и скипетр дает
побег столь мощный, что кроной своей он затмевает все
микенское царство (421-423). Очаг, как мы видели, притягивает к
себе мечты о том, что отец может породить ребенка без
экзогамного, внешнего посредства женщины. В подобных
представлениях женским началом, началом внутреннего первородства,
становится сам очаг как таковой, из него струится подлинная
власть, воплощенная в сияющем лике идеального царя.
См. выше с. 201, прим. 21.
Классическим трудом на эту тему до сих пор остается двухтомное
исследование [Christensen 1918, 1934].
Подобный мотив может послужить ключом к пониманию
этимологического родства греческого aner (άι/ήρ) «человек» с гомеровским
прилагательным nôrops. Эту глоссу словарь Гесихия (s.v. ι/ώροφ) поясняет
как λαμπρός «сверкающий, блестящий», а в гомеровских формулах это
слово синонимично aithops « огненно ликий, яростный» (ср. νώροπι χαλκψΒ
позиции после гласного и α ϊθοπι χαλκφ после согласного). По поводу
присутствия начального а, восходящего к ларингалу *П2, в е-ступени корня
*П2пег-, дающей anër, и его отсутствия в о-ступени "Ъгпог-,
соответствующей nor-, см. [Beekes 1969: 75-76].
230 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ПРИЛОЖЕНИЕ. КРЕМАЦИЯ,
ИНГУМАЦИЯ И ВЫСТАВЛЕНИЕ ТРУПА:
СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ИРАНСКОЙ ТРАДИЦИИ)
В «Авесте» корень *äs- (из *h2es-) зафиксирован в
элементе *ah-(ya-), входящем в комбинацию sairiia- и *ahiia- =
sairiie.hiia-. Слово sairiia- обозначает сухой навоз, на котором
следует покоиться трупу (Вендидад 8.8), а композит sairiie.hiia-
зафиксирован в «Авесте» всего один раз — Вендидад 8.83.
Обычно это понятие интерпретируют как «устройство для
сушки навоза» [Bartholomae 1904: 1565], считая значение
присутствующего в нем корня *äs- близким тому, что мы находим в
латинском агёге «быть сухим», тохарском as- «сушить» и т.д.68.
Я хотел бы предложить иное понимание и попытаться
этимологически истолковать sairiie.hiia как «устройство для
сжигания навоза». В дальнейшем мы увидим, что при такой
трактовке проясняются некоторые существенные аспекты
противоречивых представлений, лежащих в основе отношения
иранцев к погребальным ритуалам кремации, ингумации и
оставления трупа.
Согласно предписаниям зороастризма, должной формой
погребения считается оставление трупа в пищу собакам и
птицам, и эта практика предпочитается кремации и захоронению
в земле (Вендидад 8.8 passim). Мне кажется весьма
характерной противопоставленность такого обычая обряду кремации в
Древней Индии (см., например, Ригведа 10.16 и т.д.)69 и
греческим обрядам сожжения и захоронения тела покойного, о
которых говорилось выше70. Еще более значимым выглядит то,
что в «Илиаде» сожжение тела считается благочестивым
действием, которое, как я старался показать, служит залогом
благополучия умершего в загробной жизни71, и в этом качестве
Выше на с. 203 и далее я постарался показать, что семантика
«быть сухим» для латинского ârëre является вторичной, а исходное
значение корня для данного слова может быть восстановлено как «гореть,
жечь» — в частности, именно этот смысл сохранился в производном
существительном area.
Ср. [Caland 1896]. Разумеется, это не означает, что кремация была
единственной формой похоронного обряда в Индии.
См. с. 119 и далее.
См. выше с. 124 и далее.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
231
кремация четко противопоставлена оставлению тела на
растерзание собакам и птицам. Подобная практика, упомянутая
уже в самом начале «Илиады» (I 4-5), воспринимается как
отвратительное деяние и на протяжении всей эпической поэмы
служит символом предельной бесчеловечности, ибо ставит под
угрозу саму возможность загробного существования умершего
[ср. Nagy 1979а: 224-227].
В зороастрийской идеологии все обстоит прямо
противоположным образом: она не только освящает практику оставления
тела в пищу собакам и птицам, но и специально выделяет
кремацию как отвратительный, нечестивый обычай. Истинный
верующий должен даже защитить себя особыми ритуалами, если
столкнется с ätrdm nasupäkdm «варящим трупы огнем»
(Вендидад 8.73 и далее). Тем самым очевидным образом
предусматривается возможность встречи с обрядом кремации, а значит,
подобная практика, хотя и запрещалась законами зороастризма,
тем не менее была широко распространена в различных
областях, населенных иранцами.
В «Авесте» есть пример того, как население целого региона
выделяется именно своей приверженностью такому
нечестивому отклонению от принятых норм. В первой главе (фрагарде)
«Вендидад»- свода предписаний, направленных против daëuua-
«дэвов, демонов» — говорится о том, что зороастрийское
религиозное сообщество включает в себя шестнадцать областей,
заселенных иранцами. Среди них тринадцатая по счету
«лучшая» область именуется Чахра «Колесо колесницы», и о ней
сказано, что она запятнана «варением трупов» (Вендидад 1.16).
С этим можно сравнить и иные формы отклонения от
ортодоксального зороастризма:
Десятая «лучшая» область, именуемая Харахвати (= древне-
персидское Харахувати в надписи из Бехистона = греч. Арахосия),
запятнана погребением трупов, которые зарывают в землю
(Вендидад 1.12).
Шестая «лучшая» область, именуемая Харойва (= древнепер-
сидское Харайва = современный Герат), запятнана погребальными
плачами и причитаниями (Вендидад 1.8: sraskômca driuuikâca
«воплями и воем»).
В последнем случае мы опять-таки сталкиваемся с
ситуацией, прямо противоположной греческим обычаям, отраженным в
232 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
«Илиаде». В гомеровской поэме похоронные причитания и
плачи не только описываются как некая норма, но эти обычаи по
сути своей служат важнейшей характеристикой главного героя
«Илиады» Ахилла, пребывающего в вечной печали72. В зоро-
астрийской идеологии все обстоит с точностью до наоборот; не
случайно само место, строение, где следовало оставлять трупы,
для персов было «Башней Молчания» [ср. Humbach 1961: 99].
В конце первой главы книги «Вендидад» (1.20) говорится о
том, что зороастрийская община в целом выходит за пределы
шестнадцати перечисленных областей, она включает в себя и
другие регионы. Выбор шестнадцати «лучших» и их
расположение в нисходящем порядке — от более значимой и ценимой
области к менее значимой — сознательно направлены на то,
чтобы символически представить постепенное географическое
распространение зороастрийского учения73.
Список, приведенный в первой книге «Вендидад»,
возглавляют те области, которые первыми приняли зороастризм:
1. Арианам-Вайджа = греч. Ариана
2. Гава Согдийская = греч. Согдиана
3. Моуру = греч. Маргиана
4. Бахди = Бактрия
5. Нисайа
6. Харойва = греч. Ария, Ариана.
Некоторые ученые полагают, что под лучшей среди всех зоро-
астрийских областей, Арианам-Вайджа, букв. «Арийским
простором», родиной Заратуштры = Зороастра, имеется в виду
Xvarizm = Хорезм [см., например, Nyberg 1938; 326]. «Авеста»
прямо связывает Заратуштру с «Арийским простором» (Яшт
5.17-18, 104), и жертвоприношение свое Заратуштра совершал
на реке Датии, тоже тесно соотнесенной с этой
географической областью (Яшт 5.104, 15.2). Похоже, что представления
о точном местонахождении «арийского простора», служившего
воплощением священного зороастрийского пространства,
менялись с течением времени, вслед за тем, как в ходе истории
смещались центры власти и влияния. Потому область Хорезма,
Подробную аргументацию см. в [Nagy 1979а: 94-117].
Ср. [Nyberg 1938: 313-327]. Правда, идет немало споров
относительно точной локализации большинства мест, упомянутых в первой главе
«Вендидад». См., например, [Gnoli 1980: 23 ff.].
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
233
даже если она и заслуживала именования «арийской простор»,
не была единственной, к которой такой титул мог быть
применим74. Но в любом случае очевидной и неизменной остается
идея того, что шесть возглавляющих список областей из
первой главы «Вендидад» связаны с Восточным Ираном, причем
все эти области примыкают друг к другу. Так же неизменно
и представление о том, что они являются средоточием
правоверного зороастризма, откуда он распространялся в иные
регионы, например в Чахру.
В степях Центральной Азии, частью которых и является
Восточный Иран, в принципе не так много лесов, и в этих
условиях сожжение трупов — вряд ли практичная форма погребения.
Не случайно, что и другие народы, живущие в центральноази-
атских степях — в том числе и монголы, например [Nyberg 1938:
310], — придерживаются альтернативной формы погребального
обряда, а именно ритуала выставления тела. И поскольку
очагом возникновения ортодоксального зороастризма следует
считать Восточный Иран, логично предположить, что зороастрий-
ский обычай оставления тела был местной чертой,
заимствованной восточными иранцами от их центральноазиатских
соседей. По мере распространения ортодоксального зороастрийско-
го вероучения обычай оставления тела входил в противоречие
с привычной для областей вроде Чахры практикой
погребального трупосожжения. Особое упоминание о свойственной Ча-
хре греховной напасти «варения трупов» (Вендидад 1.16)
можно считать свидетельством того, что жители этих мест
придерживались старого обычая, искоренить который было совсем не
просто [Nyberg 1938: 321-322]. Сравнив очевидно характерный
для Древней Индии ритуал кремации (см., например, Ригведа
10.16 и т.д.)75 с упоминаниями в иранских источниках о
противостоящей зороастризму практике «варения трупов», можно
прийти к выводу о том, что оппозиция ритуалов кремации и
оставления трупа имеет индоиранское происхождение.
Также существуют прямые указания на то, что и в
зороастризме ритуал кремации в принципе предшествовал обычаю
Ср. [Davidson 1985: 93-94] с подробной литературой вопроса;
следует обратить особое внимание на работы [Duchesne-Guillemin 1979: 63]
и [Gnoli 1980: 91 ff.].
Повторю еще раз: это не означает, что сожжение тела было
единственной формой погребального обряда в Древней Индии.
234 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
оставления трупа. Показательно, что само место, специально
предназначенное для трупоположения, в зороастрийских
текстах обозначалось словом daxma (Вендидад 5.14, 8.2), которое
этимологически можно понимать как «сожжение» (откуда
«место для сожжения, кремации»), связывая его с глаголом dag-
«сжигать, гореть» (зафиксированным в «Авесте» — см.,
например, Ясна 71.8 и т.д.). Иначе говоря, я полагаю, что то, что
исходно было местом для погребального костра, впоследствии
стало местом выставления трупа, причем слово для
обозначения этого самого места так и осталось без изменения76. Есть
примеры, позволяющие уловить в daxma значение «места для
сожжения трупа». Так, например, в «Вендидад» 7.49-58 (ср.
также 3.13) по-разному обыгрывается тема «неправедной,
нечестивой дахмыъ, о которой говорится, что ее часто посещают
daëuua- «дэвы», демоны, исконные враги главы богов Ахуры.
Если вспомнить о позорной практике «варения трупов», все
выглядит так, как если бы дэвы на самом деле пожирают мертвых,
«сваренных» на месте, именуемом daxma- (Вендидад 7.55).
Тот факт, что в зороастрийском учении кремация предстает
нечестивым отклонением от правил, оказывается весьма
значимым для понимания контекста, в котором употреблено понятие
Принятую этимологию daxma «сожжение» (откуда «место для
сожжения, кремации») от dag- «сжигать» — ее придерживается, например,
К. Бартоломе [Bartholomae 1904: 676] — попытался опровергнуть К. Хоф-
фманн [Hoffmann 1975 (1965): 338], основываясь на выводах, сделанных в
работе Г. Гумбаха [Humbach 1961]. Автор последней показал, что в
определенных контекстах, например в «Вендидад» 7.49 и далее, daxma означает
нечто вроде «мавзолея», то есть некое здание, закрытое кровлей и
опечатанное и тем самым защищающее труп от воздействия стихий. Но в таком
случае подобное представление существенно отступает от требований
ортодоксального зороастризма, согласно которым тело следовало оставлять
под открытым небом. Впрочем, сам Г. Гумбах [Humbach 1961: 101]
признает, что в других контекстах, например в «Вендидад» 5.14, 8.2, в полном
соответствии с идеями ортодоксального зороастризма словом дахма
обозначено именно такое открытое место. Иными словами, в языке «Авесты»
дахма может подразумевать разные вещи — от ортодоксального «открытого
места» до противоречащего таким ортодоксальным представлениям
«мавзолея» (в новоперсидском daxma употребляется в значении «мавзолей» в
эпосе Фирдоуси «Шахнамэ» — примеры см. у того же Г. Гумбаха [там же:
100]). При таком разнообразии смыслов можно допустить и еще одно,
отличное от ортодоксального, значение слова daxma: оно может обозначать
и место, где тело сжигают, а не оставляют на волю стихий. Я склонен
считать, что именно этот вариант и отражает исходную семантику daxma.
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
235
sairiie.hiia- в «Вендидад» 8.83. В восьмой главе «Вендидад»
81-96 приводится перечень наград, положенных тем, кто
доставляет к центральному очистительному пламени разные виды
огня: чем более запятнан принесенный огонь, тем выше
заслуга. В основе подобных представлений, сохраняющихся и по сей
день в ритуальной практике зороастрийцев, лежит идея,
которую можно описать следующим образом:
Поскольку все эти процедуры нацелены на то, чтобы полученный
огонь был как можно более чистым, возникает вопрос: почему
необходимо использовать в них, среди прочего, огонь, который
осквернен самым немыслимым образом, а именно огонь, в
котором был сожжен труп. Ясно, что причина здесь в том, что
целью является и избавление огня от скверны, спасение огня
[Duchesne-Guillemin 1962: 82].
В восьмой главе «Вендидад» наиболее оскверненным
считается огонь, «варящий трупы»:
yö ätrdm nasupäkom däitim gätam auui auua.baraiti
тот, кто принесет варящий трупы огонь в надлежащее место...
Вендидад 8.81
И если кто-то принесет оскверненный огонь к центральному
очистительному пламени, то принесшему это в будущей жизни
зачтется, как если бы он принес десять тысяч головней с огнем.
Второй по порядку среди «нечистых» огней описан
следующим образом:
yö ätrdm uruzdipâkdm däitim gätam auui auua.baraiti
кто принесет варящий жидкость огонь в надлежащее место...
Вендидад 8.82
Этот оскверненный огонь зачтется принесшему за 1000 обычных
головней. Что касается «жидкости», о которой здесь
говорится, то похоже, имеются в виду жидкости, исторгнутые из тела:
в «Денкарде» 8.46 мы встречаем пояснение hixr рак «варящий
испражнения» [Bartholomae 1904: 1533].
О третьем из нечистых огней сказано так:
yö atrdm sairiie.hiiat haca ha däitim gätam auui auua.baraiti
кто принесет огонь от sairiie.hiia- в надлежащее место...
Вендидад 8.83
На этот раз принесшему зачтется 500 головней.
236 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Далее в рамках этого каталога перечисляются разные виды
огня, используемого для обыденных нужд: огонь из гончарни
(Вендидад 8.84), из кузницы (8.87), из пекарни (8.91) и т.д.
Последним назван огонь, который легче всего принести, а именно
огонь «из ближайшего места»:
у δ ätram nazdistat haca dâitïm gat am auui auua.baraiti
кто принесет огонь из ближайшего места в надлежащее место...
Вендидад 8.96
Такой поступок оценен всего в 10 головней.
Встает существенный вопрос: почему же огонь из sainte.hi-
ia- стоит столь высоко среди нечистых, запятнанных видов
огня — так высоко, что уступает только огню, в котором сгорело
человеческое тело или испражнения из этого тела? Ответ на
него, возможно, следует искать в том, что на sairiia- «навозе»
может покоиться тело умершего:
auua.hë gätum baraiian àtriehe va sairiiehe va
и для него [тела] в качестве подстилки следует принести
пепел или навоз.
Вендидад 8.8
Из контекста ясно, что такое действие — так же как и
выставление тела на дахме — соответствует предписаниям
ортодоксального зороастризма. Но если мои предположения верны, daxma
все же ранее обозначало место, где тело сжигали, а не
оставляли. Схожим образом я предлагаю считать, что sairiia- «навоз»
ранее означало топливо или одну из составляющих топлива,
которое использовалось при сожжении трупа. В ортодоксальном
зороастризме daxma сохранилось в качестве термина, но стало
означать уже не место кремации, а место, где следует оставлять
тело. Точно так же, на мой взгляд, дело могло обстоять и с
использованием навоза в качестве топлива для погребального
костра: произошло смещение смысла — тело следует только
положить на навоз, но ни тело, ни навоз уже не должны
гореть. Стоит заметить, что в современной Индии, скажем,
сохранился обычай использовать навоз в погребальном костре77;
да и вообще навозом в Индии повсюду топят домашние очаги.
См. [Dubois 1924: 485], а также [Gonda 1960: 130].
Глава 6. ЦАРЬ И ОГОНЬ
237
Если обычай пользоваться навозом как топливом имеет
индоиранское происхождение, то авестийское sairiie.hiia- ранее могло
просто означать место, где сжигали навоз.
Итак, подведем итог: в ортодоксальном зороастризме
предписывалось класть тело умершего на навоз; поскольку
запрещено было сжигать трупы, соответственно должно было быть
запрещено и жечь навоз, ибо с ним по-прежнему
ассоциировалось то место, где лежит умерший. Вследствие таких
ассоциаций, на использование навоза в качестве топлива для
домашних нужд был наложен запрет, подобный запрету на
сожжение покойников.
На самом деле обычай топить с помощью навоза может
восходить и к общеиндоевропейской эпохе. В этом смысле
показательно латинское существительное fimus «навоз», по всей
видимости образованное от ~fiö, присутствующего в глаголе suffiö
«дуть, окуривать» (Катон. О сельском хозяйстве 113.1) или
«сжигать для окуривания» (Плиний. Естественная история
28.42 и т.д.); можно сопоставить корневые варианты *dhuï- в
suffiö и *dhü- в fûmus «дым» [ср. DELL s.v. suffiö]. Весьма
характерны в этой связи и упоминания о том, что существовал
ритуал выметания stercus «навоза» из святилища Весты,
римской богини домашнего очага (Варрон. О латинском языке 6.32,
Фест 344 Lindsay)78.
Очень хорошо, что в конце этой главы мы заговорили об
окуривании, ибо само это действие своей сутью тесно связано
с объектом, все время находившимся в центре наших
размышлений, — с сакральным очагом. Я хотел бы обратить
внимание на словообразовательную параллель в устройстве глаголов
fümigö «окуривать» и pürgö «очищать», ранее
зафиксированного в форме pürigö (например, у Плавта. Хвастливый воин
177)79. Следуя за Рудольфом Турнейсеном [Thurneysen 1912—
1913: 276-281, ср. Leumann 1977: 550], я считаю правильным
выводить pürgö/pürigö «очищать» из стоящего за этим словом
выражения *рйг agere «нести огонь». Формальной параллелью
78 Ср. [Dumézil 1959а: 97-98].
Здесь стоит упомянуть и загадочную глоссу exfir, взятую
Павлом Диаконом из словаря Феста (69 Lindsay), в объяснении которой
рйгдamentum, похоже, отождествляется с suffitiö:
exfir, purgamentum, unit adhuc manet suffitiö.
238 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
такому словообразованию является глагол тётгдо «грести»,
тоже восходящий к выражению гетит адеге через ряд
промежуточных образований типа rëmex, rëmigis. Подобная
интерпретация зачастую отвергается из-за сомнений в гипотетическом
варианте *рйг адеге «нести огонь» [ср. DELL s.v. pürgö]. В
ответ на эти сомнения я хотел бы сослаться на встречающееся в
«Игувинских таблицах» lb 12 умбрское выражение ргг ahtimem
enieniu «помести огонь в аАй'-», в котором слово ргг (<рйг)
соединено с абстрактным существительным ahti- (<ag-ti-)}
образованным от глагола, который сохранился в латыни в форме
адеге*0. Вместилище священного огня, обозначаемое умбрским
аЛй-, становится источником очищения для всей общины.
См. выше с. 220 и далее.
Глава 7
ГРОМ И РОЖДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В мифотворчестве самых разных народов обнаруживаются
схожие представления о возникновении огня — их суть в том,
что с раскатом грома и ударом молнии огонь может
проникнуть в деревья или скалы, и затем этот небесный огонь можно
достать, вытащить из дерева или камня с помощью трения1.
Весьма часто такие представления трансформируются в идею
о том, что на самом деле бог-громовержец живет внутри этих
субстанций [Frazer 1930: 90]. Нередко ход развития
мифологической мысли в разных культурах приводит и к уподоблению
добывания огня трением трению друг о друга человеческих тел
в любовном соитии. Помимо многочисленных примеров такого
отождествления в фольклоре различных культур [Frazer 1930:
220-221], можно вспомнить и о философских построениях Га-
стона Башляра, по мнению которого картина соположения тел
в любовной игре подтолкнула Человека к открытию сходного
процесса добычи огня трением [Bachelard 1949: особ. 45-47]. Но
даже если оставить в стороне подобные теоретические схемы,
существует достаточно материала для того, чтобы показать, что
привнесение огня в дерево или камень является сексуальной и
антропогонической темой согласно самой логике мифа. Этим
мы сейчас и займемся, сосредоточившись прежде всего на
традиционных антропогониях греков. Рассмотрение
соответствующих мифов позволит нам убедиться в том, что удар молнии
1 См. [Frazer 1930: 224-225]. См. [там же: 90, 92, 151, 155] о деревьях
и [там же: 106, 131, 187-188] о скалах/камнях.
240 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
может восприниматься не только как губительный, но и как
порождающий акт. А порождение уже само по себе
предполагает создание и творение, в том числе и творение космическое
[ср. Dvorak 1938: особ. 1].
Ключевыми для нас будут два слова: балтийское
(литовское) perkûnas и славянское регипи. Оба они означают
«молнию»2. Анализируя формальные и семантические связи двух
этих слов, мы увидим, что образ «молнии» постоянно
ассоциируется с традиционными фольклорными историями о двух
особых материалах, которые притягивают молнию, — речь идет
опять-таки о дереве и камне. Далее мы обнаружим, что эти
существительные — perkûnas и регипи — формально связаны
с другими именами, обозначающими дерево — прежде всего
дуб — и камень, не говоря уж о словах, обозначающих
возвышенные места, куда может ударить молния, вроде гор,
скалистых возвышенностей или лесистых холмов. Идя еще глубже,
мы проследим механизм выстраивания тонких параллелей
между мифами о молниях и дубах, с одной стороны, и молниях
и скалах, с другой. И наконец, мы увидим, как этот
параллелизм распространяется и на мифы о происхождении
человечества. Подобные мифологические представления кроются,
как выяснится, за греческой пословицей, которая отсылает к
древним антропогоническим мифам — правда, в этой
пословице чувствуется некое отстраненное безразличие: все равно, как
возникли первые люди, то ли из дуба, то ли из скал. Когда
Пенелопа побуждает сменившего обличие Одиссея раскрыть, кто
он, рассказав о своем происхождении, она добавляет:
ου yàp από δρυός εσσι παΧαιφάτου ούδ' από πετρης.
Ведь точно ты не от дуба, как говаривали в старину, и не от
скалы.
Одиссея XIX 163
Начать с самого начала означает начать от дуба и
скалы — так, по крайней мере, выходит по старинной пословице.
Решая сложную проблему относительно этимологических связей
этих двух слов, я основывался на пионерской работе Вяч.Вс. Иванова [1958]
и его совместной статье с В.Н. Топоровым [Ivanov, Toporov 1970], в которых
развиваются идеи, высказанные P.O. Якобсоном [Jakobson 1950, 1955]; ср.
также [Watkins 1966: 33-34; 1970: 350; 1974: 107]. Этой проблеме во многом
посвящена и целая книга Иванова и Топорова [1974].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 241
Поэтому-то и Гесиод, упрекая самого себя в «Теогонии» за то,
что никак не закончит с началом, в итоге нетерпеливо скажет:
άλλα τι η μοι ταντα περί ορνν η περί πετρηι/)
Но что мне в том, что касается дуба и скалы?
Гесиод. Теогония 35
Ну а чтобы нам самим начать как следует, давайте не медля
обратимся к балтийскому и славянскому материалу.
В славянских языках регипй обозначает одновременно и
«молнию» и «бога грома» [ЭСРЯ: s.v. перун]. Тем самым
«гром» и «молния», по сути, тождественны друг другу, и
одно и то же происшествие можно назвать и «ударом грома», и
«ударом молнии». В случае со славянским регипй значение
«молния» засвидетельствовано в большинстве языков как
базовое (русское перуну чешское регищ польское ргогип и т.д.), а
значение «бога грома» сохранилось в остаточном виде лишь в
некоторых из них. Этот второй смысл наиболее очевидно
прослеживается на русском материале, ибо в русском слово перун
«молния» служило еще и именем одного из богов, входивших в
исконный небесный пантеон. В древнерусских летописях3
рассказывается, что деревянные идолы с изображением бога
Перуна стояли на холмах над Киевом и Новгородом. Они также
повествуют о том, как рыдали люди, когда по приказу
принявшего христианство князя Владимира идол Перуна бросили в
Днепр. Бога низвергли и в Новгороде. Но пока его идол еще
плыл по Волхову, Перун успел отомстить: люди верили в то,
что бог поразил своей палицей мост, одних покалечив, а других
испугав [см. Даркевич 1961: 91-102]. Образ Перуна сохранился
и в белорусском фольклоре [Иванов, Топоров 1968, 1970]. Там
он именуется Пяруном: он живет на вершинах гор и
поражает Змея [Ivanov, Toporov 1970: 1182]. Он даже первым добыл
огонь: это произошло случайно, когда он поразил дерево, в
котором скрывался нячистый (чёрт) [Сержпутовский 1930: 26 (I
№ 268); ср. Ivanov, Toporov 1970: 1194].
В балтийских языках также есть слово, которое формально
кажется близким славянскому регипй и тоже означает
«молнию» и «бога грома». Впрочем, в отличие от славянских, в
Я пользовался свидетельствами, приведенными в [Gimbutas 1967:
741-742].
242 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
балтийских языках для него нельзя сразу вывести
общебалтийскую форму. В литовском оно выглядит как perkunas, в
латышском зафиксировано в форме përkôns (что является
обычным написанием для perkuons). В «Эльбингском словаре» мы
находим примеры прусских форм: так, глосса perkunis
поясняется в нем как «гром». Отвлекшись от формальных проблем,
нельзя не заметить поразительное тематическое сходство
балтийских и славянских образов. Как и славянский Перун,
латышский Përkôns мечет палицу, или молот4. Как и Перун, в
литовском фольклоре балтийский Perkunas обитает на горах и
возвышенностях; такие места называли Perkûnkalnis
«вершинами Перкунаса», и там наверняка должны были стоять медные
идолы бога5. Кроме того, Перкунас тоже ударяет в дубы, в
стволах которых кроется огонь6.
Итак, как мы только что заметили, персонифицированный
perkunas тесно связан с дубом. Эта связь продолжена и
производным существительным perkunija, которое означает «грозу с
громом и молниями», а в качестве имени собственного Регкй-
nija служит названием места, где стоял большой дуб, под
которым был установлен идол Перкунаса [Balys 1937: 163, № 246;
ср. Ivanov, Toporov 1970: 1184]. В литовском фольклоре
часто встречается выражение Рёгкйпо azuolas «дуб Перкунаса»
[Balys 1937: 163, № 241; ср. Ivanov, Toporov 1970: 1184],
которому соответствует латышское Рёгкопа özöls «дуб Перконса»
[Smits 1940: 1401; ср. Ivanov, Toporov 1970: 1184]. Из
рассказа в рассказ Перкунас или выискивает дубы, чтобы ударить в
них, или специально избегает их [Balys 1937: 158, № 141; 197,
№ 802; ср. Ivanov, Toporov 1970: 1193-1194]. В обоих
случаях очевидно, что дубы и удар молнии Перкунаса тематически
Ср. выражение Përkôns mçt savu milnu «Перконс мечет свою палицу»
[Ivanov, Toporov 1970: 1195]; заметим, что типа «палица» родственно древ-
неисландскому слову mjçUnir, которым называется молот бога-громовника
Тора. Также показательно, что матерью Тора была Фьергун, Fiçrgun, чье
имя можно возвести к форме *perkunf. Об этом см. [Иванов 1958: 104].
5 См. [Balys 1937: 163, прим. 233-236; а также 149, прим. 4-5]. Ср.
[Ivanov, Toporov 1970: 1182].
Это поверье упоминается в рассказе монаха Маттеуса Преториуса
(конец семнадцатого века) о его встрече с литовскими дровосеками. Текст
напечатан в [Mannhardt 1936: 533-535]. Относительно надежности
свидетельств Преториуса см. [там же, 519-520].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 243
соотнесены. Существуют описания древних литовских
ритуалов, связанных с дубами и Перкунасом7. Наконец, в описании
обычаев древних пруссов, составленном Симоном Грунау в
начале шестнадцатого века, упоминается священный дуб, в дупле
которого помещался идол Перкунаса8.
Точно так же Перун ассоциируется с дубом и в
славянской традиции. Помимо древнерусского выражения Перуновъ
дубъ [Ivanov, Toporov 1970: 1183-1184], можно
дополнительно сослаться и на тему, весьма распространенную в
белорусском фольклоре: Пярун с силой бьет по дубам [Сержпутов-
ский 1930: 9, № 49, ср. 8, № 37-48; ср. также Ivanov, Toporov
1970: 1193-1194].
В свою очередь, и в балтийском, и в славянском материале
находится много подтверждений тому, что, помимо дубов, бог
грома ассоциируется еще и со скалами. В литовском
фольклоре, например, Перку нас может вместо дубов ударять и в скалы
Подробное описание, сделанное М. Преториусом, приведено в [Мапп-
hardt 1936: 539-540]; ср. [Ivanov, Toporov 1970: 1189]. В честь Перкунаса
горели костры, пламя которых постоянно поддерживалось, причем для
этих костров использовались дубовые дрова: свидетельства приведены в
в [Mannhardt 1936: 196, 335, 435, 535 и т.д.]. Когда ревностные христиане
уничтожали эти негасимые костры, местное население боялось, как бы
Перкунас не замерз [там же: 436].
8 См. [Mannhardt 1936: 196; ср. Ivanov, Toporov 1970: 1187]. В
решении вопроса о том, можно ли в принципе доверять свидетельствам Грунау,
взвешенным подходом отличается работа Кроллманна [Krollmann 1927: 14-
17]. Если бы этого исследования не существовало, скорее всего,
восторжествовало бы суровое мнение, высказанное В. Яскевичем [Jaskiewicz 1952:
92-93], который, впрочем, в основном был занят доказательством
ненадежности сведений, сообщаемых более поздним автором, Яном Ласипким
(конецшестнадцатого века). К. Кроллманн вполне убедительно
показывает, что Грунау вряд ли мог целиком «изобрести» прусскую божественную
систему, выстроив ее по скандинавской модели. Требуется слишком
большое воображение, чтобы представить, что странствующий монах (который
к тому же сам говорил по-прусски) смог создать такую смешанную
картину, стилизованную под идеи Адама Бременского [Krollmann 1927: 15-17].
Впрочем, мнение самого Кроллманна о том, что описанные Грунау
религиозные обычаи пруссов были заимствованы у северных народов [там же: 17],
также ни на чем не основано. Что касается работы Яскевича, мне не
кажется, что его краткие рассуждения о Грунау содержат хоть какие-то
фактические подтверждения того, что рассказ Грунау о Перкунасе и дубе —
чистая фантасмагория [Jaskiewicz 1952: 92-93]. Разумный взгляд на проблему
достоверности сведений Грунау также представлен работой [Puhvel 1974].
244 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
[Balys 1937: 159, № 155-164; ср. Ivanov, Toporov 1970: 1194]. В
источнике, датируемом концом семнадцатого века,
описывается место, где литовцы совершали ритуал в честь небесных
богов, среди которых одним из основных был Перку нас: там тоже
на расстоянии пяти шагов друг от друг располагались дуб и
скальный валун [Mannhardt 1936: 539-540]. Схожим образом
и белорусский Перун (Пярун) крушит на своем пути не только
дубы, но и скалы [Ivanov, Toporov 1970: 1193].
Вполне естественно, что такое обилие сходных свидетельств
провоцирует желание возвести балтийское и славянское
слово для «грома, молнии»/«бога-громовержца» к общей исходной
праформе. Однако такая попытка выглядит весьма
сомнительной на фоне того скепсиса, которым пронизаны
соответствующие статьи в стандартных этимологических словарях русского
языка [ЭСРЯ III: 246-247]. Согласно общепринятой
интерпретации, славянское регипи, по всей видимости, образовано с
помощью общеславянского суффикса имени деятеля -ипи от
корня *рег- , который присутствует, например, в
церковнославянском перж/пьрдти «бить, ударять»9. Типичным примером
славянской словообразовательной модели с суффиксом имени деятеля
-ипи может служить русское бегун от бегать. Если
славянское регипи выглядит как отглагольное образование со
значением «тот, кто ударяет», то литовское perkunas похоже на
отыменную форму. Путем сравнения с дериватами типа
латинского Portünus (из *portunos), образованного от существительного
porius с основой на -и, литовское perkunas реконструируется как
*perkwünos, образованное от *perkwus10. Подобная форма
существительного *perkwus с основой на -и реально
засвидетельствована в латинском quercus «дуб»11. Но даже и без сравнения
с данными других языков perkunas кажется отыменным
образованием. Все известные литовские слова с суффиксом -Unas
Более точное значение — «колотить (белье), стирать» [ЭСРЯ III:
355]. — Прим. перев. Ср. также русское перу, прать «колотить, стирать»,
чешское peru/prati; ср. литовское per-ti «бить [банным веником]».
[Schulze 1929: 287]. Ср. также латинские tribünus от tribus, lacûnus
от îacus и т.п.
[DELL: s.v.]. Подробный разбор различных родственных германских
слов, означающих «дуб» или «пихта», см. [Friedrich 1970: 136-137]. О
семантическом переходе «дуба» в «пихту» см. [Friedrich 1970: 136, прим. 30,
а также Vendryes 1927: 314-315, Güntert 1914: 214].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 245
произведены от существительных с основой на -щ от глаголов
могут образоваться только имена с суффиксом -Unas12.
Несмотря на то что данные самого литовского языка
подтверждают, что perkunas должно быть образовано от *perkwu-,
в стандартных этимологических словарях [LEW: s.v.] такая
возможность рассматривается с некоторой долей скептицизма;
в них perkunas связывается с глаголом per-ii «ударять»,
родственным церковнославянскому перж/^ьрАтн с тем же
значением13. Предполагается, что в литовском могли сохраниться два
варианта одного корня: собственно *рег- (который дает per-tï)
и *per-kw- (с корневым расширением *-kw-, этот вариант и
присутствует в perkunas)1*. Для сравнения можно привести
варианты корня *рег- и *per-g-, зафиксированные в спряжении
армянского глагола, означающего «бить», который в аористе
имеет форму hari, а в настоящем времени — harkanem15. Форма
*per-g- присутствует и в древнеиндийском Раг/алуа-, Парджа-
нья, которое в «Ригведе» является именем бога грозы и грома
[Meillet 1926: 171, KEWA: s.v.]. Опять-таки по законам
древнеиндийского словообразования Parjânya- должно быть
отглагольным именем16.
[Otrçbski 1965: 206]; суффикс -Unas может присутствовать и в
отыменных образованиях [Otrçbski 1965: 207], но для нас важно, что
суффикс -Unas не может быть отглагольным.
См. выше прим. 9.
14 [LEW: s.v.], ср. [Meillet 1926: 171].
15 [Meillet 1926: 171; LEW: s.v.]. О его производном orot «гром» см.
[Liden 1906: 88ff.].
Следует заметить, что -ani- является формантом, служащим для
образования отглагольных существительных и прилагательных: например,
sar-ani- «зло» от sr- «разрушать, губить» или saks-âni- «превосходство» от
sah- «превосходить». Иные примеры см. в [Wackernagel, Debrunner 1954:
207], где, в частности, отмечается, что суффикс *-eni- также является
весьма продуктивным для образования абстрактных существительных в
германских языках. (В древнеиндийском -ani- стал суффиксом
инфинитива, и похоже, что некоторые существительные на -ani- были отынфини-
тивными формами — см. [Renou 1937: особ. 73-78].) Наиболее
интересными для нас являются два древнеиндийских слова: as-ani- «молния» и
ar-ani- «деревяшка для добывания огня трением» (см. выше с. 207). В
обоих случаях в древнеиндийском не сохранилось соответствующего
глагола. Иногда мы сталкиваемся с другой акцентуацией в суффиксе: не
-ani-, а -ani-, как, например, в ksip-ani- «удар бича» от ksip- «бросать»
или в dyot-ani- «ясность» от dyut- «сиять». Суть в том, что суффиксы
246 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Кратко говоря, сравнение с другими языками не дает
однозначного решения проблемы с этимологией литовского per-
kûnas. Слова типа латинского Portünus предполагают
возможность образования perkûnas от существительного *perkwu-,
зафиксированного, например, в форме латинского quercus «дуб».
С другой стороны, славянское регипй и древнеиндийское parjä-
пуа- указывают на то, что корень *per-kw- в perkûnas мог быть
вариантом глагольного корня *per-/*per-g- со значением «бить,
ударять». Решение проблемы нашел в свое время Роман
Якобсон, предположив, что *perkwu- отнюдь не всегда должно было
означать «дуб» [Jakobson 1955]. Скорее, само это
существительное *perkwu- было произведено от глагола *perkw— «ударять».
Дуб обозначается словом *perkwu- (как в случае с латинским
quercus) потому, что это дерево посвящено богу, который
ударяет своей молнией17. В подтверждение такой трактовки можно
привести и многочисленные тематические ассоциации с дубом
балтийского Перкунаса и славянского Перуна18.
Существительное *perkwu- также зафиксировано в древне-
исландском женском имени Fjçrgun) образованном через
промежуточную форму *perkwunï-. Сыном Фьергун является бог
грома Тор {Прорицание велъвы 56.10 и т.д.)19. Если вспомнить о
связи бога грома Перкунаса с вершинами гор, то в число
параллелей следует включить и готскую форму fairguni «гора, горная
-anyà- (= -an) и -апуа- образованы,, соответственно, от -ani- и -ani-. (Об
образовании основ на io- от основ на i- см. [Wackernagel, Debrunner 1954:
778, 804, 816-817, а также Benveniste 1935: 73-74].) В качестве примеров
использования суффикса -anyà- можно привести nabh-anyà- «разбухание»
от nabh- «набухать» или abhy-ava-dâ-nyà- «распределение, разложение» от
abhy-ava-dhä- «разлагать» —. см. [Wackernagel, Debrunner 1954: 212]. В
итоге, по моему мнению, parj-anya следует понимать как «нанесение ударов»
или «тот, кто бьет, ударяет» от *perg- «ударять».
[Jakobson 1955]. В этимологическом словаре, литовского языка
[LEW: 574] предлагается связать друг с другом следующие слова с
корнем *рег-: литовское pérgas «челн, рыбацкая лодка», древнеанглийское
fercal «засов», латинское pergula «выступ здания». К этому, возможно,
стоит добавить чешское рткпо «доска». О проблемах сдвигов в семантике
ср. [Trautmann 1906]. Также см. [KEWA: s.v.] о древнеиндийском parkatl.
В этом и состоит главная идея, высказанная Вяч.Вс. Ивановым и
В.Н. Топоровым [Ivanov, Toporov 1970].
19 [Иванов 1958: 105; Meid 1957: 126; Güntert 1914: 213].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 247
цепь», которую можно восстановить как *perkwunio-20. Этой
форме соответствует кельтское название, которое в греческой
транслитерации выглядит как Έρκνι/ιο- [Иванов 1958: 104-105;
Watkins 1966: 33-34; Meid 1956: 284-285]. Страбон
использует выражение Έρκννιος δρυμός «Геркинские чащобы», говоря о
горной гряде в центре Германии (4.6.9 С207, 7.1.3, 5 С290, 292).
Широко известно и упоминание Цезарем Hercynia silva «Гер-
кинских лесов» [Записки о галльской войне 6.24.2, 25). Для
реконструируемой формы *perkwunio- (в женском роде *perkwunï-
/*perkwuniä-) можно вывести в качестве общего семантического
знаменателя значение «поросшая лесом гора». Как и в случае
с конкретным деревом — дубом, можно предположить, что
лесистые горные вершины тоже были посвящены богу грома и
молнии. Вяч.Вс. Иванов [1958: 104] также обратил внимание
на весьма показательную параллель в морфологической
структуре форм *perkwunio- и *meldhunio- — вторая из них стоит за
названием молота Тора — древнеисландским mjçllnir21.
Роман Якобсон убедительно обосновал тот факт, что еще
одной параллелью к кельтским и германским рефлексам
формы *perkwunio- является славянское слово для «поросшего
лесом холма» — *pergynja из *pergwuniä-22. Оно зафиксировано в
форме старославянского пр^гинга «лесистый холм» и
древнерусского перегинт с тем же значением; его рефлексы можно
обнаружить и в украинской и польской топонимике [Jakobson 1955].
Самыми важными для нас являются упоминания в восточно-
[Иванов 1958: 104-105]. Разбор родственных германских форм см.
в [Feist 1939: s.w. fairguni, fairhvus]. Обращает на себя внимание переход
*kw в *k с потерей лабиализации (вместо *perkwun- мы имеем *perkun-).
См. выше с. 242, прим. 4. Формообразования типа *perkwu-nio-
стоит противопоставить варианту *perkwüno-, зафиксированному в литовском
ptrkûnas, образованном от *perkwu- с удлинением *-и-. Мы уже
обращали внимание на то, что подобное удлинение присутствует и в латыни:
Port-ünus от portus, trib-ünus от tribus и т.п. В свою очередь, в
древнеиндийском мы сталкиваемся со словообразовательной моделью, в которой
такого удлинения не происходит (тем самым соответствующей *perkwû-
nio-): àrjuna- «яркий» (ср. греч. drgu-ros, argu-phos); ср. тот же принцип
словообразования внутри самого древнеиндийского: smasru-na-
«бородатый» от smasru- «борода», däru-na- «крепкий» от däru- «дерево» и т.п. Ср.
[Wackernagel, Debrunner 1954: 485-486; Meid 1956: 270, 280].
22 [Jakobson 1955]. Ср. также [Иванов 1958: 107-108] с опровержением
мнения, высказанного в работе [Vaillant 1948].
248 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
славянских источниках о том, что христианским священникам
стоило немалых трудов наложить запрет на бытовавшее в
народе почитание поросших лесом холмов [Mansikka 1922: 305,
Jakobson 1955: 616]. Здесь уместно вспомнить о том, что
литовцы называли словом Perk uni ja место, где стоял огромный дуб
и почитался идол Перкунаса23. Таким образом, славянское и
балтийское слово оказываются связанными не только
тематически, но и формально. И в балтийском perkûnija, и в славянском
*pergynja присутствуют и суффикс *-йп-, и расширенная форма
корня *рег- «ударять». Существенная разница состоит лишь в
том, что это расширение корня в балтийском имеет форму *-kw-
(per-kw-un-), а в славянском -*-gw- (*per-gw-un-).
В древнерусских летописях встречается и еще одно
славянское слово, весьма близкое к реконструируемой форме *регду~
nja. Это слово перыш и два его варианта перынь и перунъ; все
три зафиксированы в форме местного падежа —
соответственно, на перуне, на перыни, на перуни [Иванов 1958: 107]. Эти
слова употреблены в летописях в весьма показательных
контекстах: речь там идет о холме, с которого виден весь Новгород,
и на вершине этого холма находилось святилище, внутри
которого, по свидетельству летописей, стоял идол самого Перуна
[Mansikka 1922: 65, 380; Иванов 1958: 107]. В 1951 году
археологи обнаружили сохранившиеся следы описанного святилища:
оно на самом деле находилось в четырех километрах к югу от
Новгорода на вершине холма, окруженного рекою Волхов, ее
притоком и болотом [Jakobson 1955: 615; Gimbutas 1967: 742].
Таким образом, набирается достаточное количество
примеров конкретного словоупотребления, подтверждающих правоту
Романа Якобсона и Вяч.Вс. Иванова, считавших родственными
друг другу славянское регипй, перыни/перынь /перунъ, а
также реконструированную форму *pergynja. Я хотел бы со своей
стороны добавить, что мы можем с чистой совестью не считать
регипй отглагольным именем деятеля. Существование
вариаций типа перынь/перунь прямо указывает на наличие, наряду с
регипй, и праформы *регупй2А. Также, на мой взгляд, подобное
См. выше с. 242.
[Иванов 1958: 106-107]. Схожая вариативность обнаруживается и
в формах общеславянского слова для «полыни» *pelynu/peîunu: ср.
церковнославянское полынь, польское piolyn/piolun, чешское pelyn/pelun и т.д.
Ср. [Buga 1959 (1921): 332], а также [Meid 1956: 273-274].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 249
разнообразие предполагает и возможность не отглагольного, а
отыменного образования подобных форм непосредственно от
существительного с основой на -и-25. Для сравнения можно
привести латышские варианты слова для обозначения «молнии»:
pèrkuns/pêrkuons/pèrkauns26. Чередование ρerkuns/pêrkuons в
Путем сравнения с балтийскими языками, и прежде всего с
латышским, я реконструирую славянское -упи/-ипи как *-unos/*-öunos. В
качестве наиболее очевидного из существующих примеров сошлюсь на то,
что латышское существительное ûrsus «вершина» (с основой на -и-) имеет
два варианта производных — mrsüne и ûrsuone — оба с тем же значением
«вершина» [LDW 4: 610-611]; для сравнения можно привести литовское
virsune «вершина» от virsùs с тем же значением. Такое чередование -йп-
/-иоп- очевидно указывает на более ранние варианты *-йп-/-5ип-. См.
[Endzelin 1923: 235, 240] и ср. [Meid 1956: 276] о типе νίύς/νιωι/ός;
возражения, высказанные в работе [Schmeja 1963: 40-41], преимущественно
исходят из недостатка данных, подтверждающих такое чередование в
греческом. В латышском существует и еще один вариант virsaune [LDW 4:
610-611], который весьма показателен, поскольку исходное *-ôu- в
балтийских языках могло давать как au, так и ио [Stang 1966: 47-48, 75-76].
Чередование й/uo/au можно проследить не только в дериватах от и-основ
типа virsüne/virsuone/virsaune, но и в самом склонении основ на -и- как в
литовском, так и в латышском [Stang 1966: 75-76]. И именно это
чередование й/ио/аи мы находим в сохранившихся латышских вариантах названия
«молнии» — pêrkuns/pêrkuons/pêrkauns [LDW 3: 208-209]; помимо
подобных вариантов основы на -о-, встречаются также и го-основы: pçrkûnis/
pçrkuonis/pçrkaunis [LDW 3: 208-209].
См. предыдущее примечание. Из этих трех форм в нормативном
языке преобладает pêrkuons (пишется она как përkôns) главным образом
потому, что в латышском весьма продуктивна модель образования имен
деятеля с суффиксом -uons (схожим образом в латышском распространены
и образования с суффиксом -uonis; в литовском, в свою очередь,
продуктивен суффикс -uonis, а суффикс -uonas, родственный латышскому -uons,
не распространен). В статье Ф. Шпехта [Specht 1932: 240-241, 259, 264-
265 и т.д.] было показано, что суффикс -uons в подобных именах деятеля
следует возводить к *-δη- (который дает -ων в древнегреческом) ; очевидно
присутствие *-δη- в древних литовских формах на -ио, но согласно
механизму замещения, который действовал в этом языке, о-основы, дающие
-uonas, были вытеснены формами на -to - -uonis (в отличие от
латышского, где формы на -uons и -uonis сосуществуют). Однако из умозаключений
Шпехта не следует, что латышское pêrkuons, в противовес pêrkuns,
является новообразованием. Дело просто в том, что в балтийских языках
возникает определенное фонологическое смешение: за wo исходно могло стоять
и *ои, и *б — что ведет к переосмыслению морфологического устройства
слова. Вариант pêrkuons доминирует по сравнению с pêrkûns, именно
поэтому: присутствующий в нем суффикс -uons, который я реконструирую
250 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
балтийском (латышском) соответствует славянским вариантам
перынъ/перунъ, которые, в свою очередь, предполагают и
вероятность существования, наряду с регипй, и формы *регу-
пй27. В итоге мы можем реконструировать исходную форму
существительного как *peru-/*pergwu- для славянских и *perkwu-
для балтийских языков.
Для выстроенной мною славянской словообразовательной
цепочки: от глагола *рег- к существительному *реш- и затем
к существительному *peröuno- — обнаруживаются близкие
параллели в хеттском: глагол tarh- — существительное tarhu- —
существительное tarhuna-28. От глагола tarh- «побеждать,
превосходить, превозмогать», который сопоставим по семантике с
*рег- «ударять», могло быть образовано имя на -и- tarhu- — в
как *-öunos, в результате фонетических преобразований совпал с
привычным и продуктивным суффиксом имен деятеля -uons, за которым исходно
стояла другая форма — *-önos. Сравним эту ситуацию с другим случаем,
когда такого смешения не возникало, — например, с синонимическим
рядом virsune/virsuone/vïrsaune, о котором речь шла в предыдущей сноске. В
данном случае доминирующим вариантом стало ùrsaune, а не ûrsuone (обо
всех формах см. [LDW 4: 610-611]). Кроме того, рассуждая о вытеснении в
латышском формы perkuns вариантом perkuons, следует помнить и о том,
что в этом языке модель образования имен деятеля на -uns не была
продуктивной. В свою очередь, в литовском преобладает вариант perkûnas, а
не perkuonas, потому что в этом языке не была продуктивной
словообразовательная модель на -uonas (<*-önos): для образования имен деятеля
скорее использовались суффиксы -uonis и -Unas. О следах perkuonas (и
virsuont) в старолитовском см. [Specht 1932: 265].
Можно предположить, что подобно тому, как perkuons доминирует
над perkuns в латышском благодаря продуктивности суффикса имен
деятеля -uons (см. предыдущее примечание), славянское регипи вытесняет
форму *регупи потому, что суффикс -ипи, который я восстанавливаю как
*-öunos, по форме совпадает с продуктивным в славянских языках
суффиксом имени деятеля -ипи. В данном случае мне кажется
предпочтите льным реконструировать суффикс отглагольных имен деятеля тоже в
форме *-öunos, тождественной суффиксу, который используется при
деривации от именных и-основ. Иными словами, отглагольный суффикс -ипи
некогда использовался и в отыменных образованиях [Specht 1932: 268].
Для сравнения можно привести литовские -Unas и -uonis, которые могут
использоваться как в отыменных, так и в отглагольных дериватах и этим
отличаются от формы -Unas, присутствующей исключительно в отыменном
словообразовании [ср. Specht 1932: 240-241; ср. также Meid 1956: 268-270].
Из сказанного не следует, что *terh2U-, например, не может быть
глагольным образованием (ср. хеттское tarhuzzi, древнеиндийское tarute,
tûrvati и т.п.).
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 251
доказательство можно сослаться на производное tarhuUu-
«героический» [Laroche 1958: 90; ср. Watkins 1990]. Кроме того,
форма на -и- зафиксирована в имени главы лувийского
пантеона, бога грозы Tarhu-29. И наконец, от этого имени Tarhu-
образовано производное с тем же значением в форме Tarhuna-
[Laroche 1958: 93, 94].
Производное tarhu- образовано от глагола iarh- согласно
распространенной в хеттском деривационной модели: для
сравнения можно привести рагки- «приподнятый, возвышенный» от
park- «подымать», huisu- «живой» от huis- «жить» и т.п.30
Образованию Tarhuna- от Tarhu- параллельно производное регипа-
«скала» от реги- с тем же значением31: использованию двух
последних слов обычно предшествует шумерская логограмма
NA4, которая также обозначает «скалу» или «камень». В
склонении хеттского реги- «скала» к основе на -и- добавляется
основа на -Г-/-П- — на это указывает форма дательного/локатива
peruni [Hoffmann 1975 (1974): 332, 336]. Хеттскому реги-
«скала» родственно древнеиндийское par van- «сустав, член
[например, жертвенного животного], узел, нарост [у растения]» [там
же]. Индийское существительное следует считать производным
глагольного корня *рег- «доходить до конца, проникать сквозь,
достигать обратной стороны» [Bergren 1975: 62-101, особ. 95],
употребляемого специально для обозначения успешного
расчленения или разрезания жертвенной туши32. Схожую семантику
имеет и греческий глагол peirö, который значит «протыкать»,
если преградой служит тело жертвы, или «пересекать», если
речь идет, скажем, о водной преграде (это значение очевидно в
[Laroche 1958: 91-95]. О Тархунте (Tarhunt-) is. молнии см. [там же:
95]. Ср. также [Watkins 1974: 107] и выше с. 176.
[Laroche 1958: 90]. По поводу огласовки iarh- и подобных форм
сошлюсь на наблюдение Е. Куриловича [Kurylowicz 1958: 228] о'том, что
для корней, оканчивающихся на -егС, в хеттском была обобщена
нулевая ступень огласовки (-RC>-arC, где Я = г,/, га, π, а С обозначает
любой другой согласный).
[Laroche 1958: 90]. Возможно также написание рггипа- и piru-.
32 См. [Bergren 1975: 67-78, особ. 68-69] по поводу места из «Ригве-
ды» 1.61.12, где описывается, как Индра мечет свою молнию в Вритру с
тем, чтобы разорвать ему члены (существительное parvan-), подобно
тому, как расчленяют тушу жертвенного быка. Ср. также [Hoffmann 1975
(1974): 332].
252 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
таких производных именах, как, например, porös)33. Подобные
значения весьма существенны для понимания смысла
хеттского глагола tarh- «побеждать, превосходить, превозмогать», от
которого образовано имя бога грозы Tarhu-, Стоящий за
хеттским глаголом индоевропейский корень *terh2- тоже может
значить «пересекать»: это значение зафиксировано, например, в
древнеиндийском ар-tur- «пересекать воду, водную преграду»
и зачастую используется в знаковых словах, связанных с
идеей бессмертия, — например, в греческом nék-tar35.
Семантический параллелизм глагольных корней *terh2- в значении
«пересекать» и *рег- в значении «доходить до конца, проникать
сквозь, достигать обратной стороны» проясняет и этимологию
греческого elusion, слова, которым обозначается и место
удара молнии, и место пребывания обретших бессмертие,
«Элизий, Елисейские поля»36. Данное существительное
образовано от основы -elutho-, присутствующей в парадигме спряжения
глагола έρχομαι/ έλενσομαι, означающего «прибывать,
приходить»37. Кроме того, параллелизм, существующий между
хеттскими формами Tarhu-/Tarhuna-, являющимися именем бога
грозы, и реги-/регипа-, обозначающими «скалу», позволяет
связать хеттское регипа- «скала» со славянским регипи «бог грома
и молнии» — точно так же, как ранее мы соотносили латинское
quercus «дуб» с балтийским (литовским) perkunas «бог грома и
молнии». Мы ведь уже сталкивались с тем, что скалы, так эюе
как и дубы, были посвящены богу грома и молнии36.
Напомню, что хеттскому реги- «скала» родственно
древнеиндийское par van- «сустав, член [например, жертвенного
животного], узел, нарост [у растения]», образованное от
глагольного корня *рег- «доходить до конца, проникать сквозь,
достигать обратной стороны» и употребляемого специально для
Ср. [DELG: 871]. Подробный разбор семантики см. в [Bergren 1975:
95-101].
См. выше с. 185. Ср. также с. 207, прим. 39 о древнеиндийском
tara ni- в значении «корабль».
36 См. выше с. 187.
На уровне формы такая интерпретация elusion согласуется с тем,
что предлагает словарь П. Шантрена [DELG: 411]: однако в трактовке
семантики слова я с П. Шантреном расхожусь.
См. выше с. 242 и далее.
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 253
обозначения успешного расчленения или разрезания
жертвенной туши. В этом значении очевидно прослеживается
представление о некоем сакральном насилии, и потому мне кажется
вполне оправданным отождествить глагольный корень *рег- с
тем *рег- в балтийских и славянских глаголах, значение
которых мы до сих пор восстанавливали как «бить, ударять» и
от которых были произведены соответствующие имена балто-
славянского «бога грома». Хотя мне не известен хеттский
глагол в форме *рег-, можно обратить внимание на park-
«преследовать, гнать, пускать (лошадь) вскачь». Подобно тому, как
tarh- «побеждать, превосходить, превозмогать» можно возвести
к корню *terli2-, park- тоже может восходить к *perh2-, где
расширение *-1ΐ2- добавлено к корню *рег-: его
предположительно можно усмотреть в сохранившемся реги- «скала». Реально
зафиксированное значение park- может быть вторичным по
отношению к гипотетически первичному «бить»; для сравнения
приведем литовское gin-ti «преследовать, гнать (скот) на
пастбище»39, родственное древнеиндийскому hânti «ударять,
убивать», хеттскому kwenzi «то же» и т.д.
Еще одним доказательством связи хеттского регипа- с
глагольным корнем *рег- «ударять» может служить хеттское кип-
kunuzzi- (ему предшествует шумерограмма NA4, означающая
«скалу» или «камень»), выступающее в качестве эпитета
громадного каменного чудовища Улликумми, которое само
было рождено из большой рггипа- (= регипа) «скалы»40.
Форма kunkunuzzi- является инструментальным именным
производным глагола kwenzi «бить, убивать» [Иванов 1958: ПО; Ivanov,
Toporov 1970: 1196-1197]. В древнеиндийской «Ригведе» с
помощью родственного глагола hânti «бить, убивать» постоянно
описывается действие молнии41. С удвоением корня в хеттском
kun-kun-uzzi- можно сопоставить редупликацию в связанной с
регипи южнославянской форме pe(r)-per-una. Этим словом
именуется девственница, которая своим танцем должна вызвать
дождь42: «голая, украшенная цветами, она исступленно вер-
Ср. также производное naktï-gonis «ночной пастух» [LEW: 152].
40 Тексты об Улликумми см. в [Güterbock 1952, особ. 37, 146-147].
См. места, приведенные в словаре Грассманна [Grassmann 1873: s.v.
h an-] под цифрой 1.
[Jakobson 1955: 616] со списком вариантов замещения табуирован-
ных слов.
254 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
тится в танце в центре круга, призывая в песне небо или Илью-
пророка, чтобы те напоили и оплодотворили землю» [Jakobson
1950: 1026]. Напомню еще раз, что kun-kun-uzzi является
именем орудия43: соответственно следует предположить, что оно
может означать некое оружие — возможно, скажем, какой-то
метательный снаряд. Но нет: этим словом именуется
одушевленная каменная глыба, которой суждено быть сокрушенной
богом грозы и грома44.
С такого рода примером можно сопоставить двойственную
семантику древнеисландского слова hamarr, которое
одновременно может означать и «скалу, валун, утес», и «молот»; первое
из этих значений зафиксировано в топонимах типа Hammerfest.
В свою очередь, литовское актио «скала, камень»
родственно греческому актоп, но последнее значит уже не «молот», а
«наковальня». А если учесть, что в употреблении актоп у
Гомера и Гесиода проскальзывают отзвуки значения «молния»
[Whitman 1970: особ. 39-40], то картина запутывается
окончательно. В дополнение ко всему мы узнаем от Алкмана (PMG
61) еще и о боге Акмоне, Актоп, отце Неба — Урана. Кроме
того, в датируемом шестнадцатым веком описании литовских
языческих ритуалов наряду с Перкунасом упоминается
божество Акто, которое описано как saxum grandius «здоровущий
камень»45. Вся эта сложная картина убеждает только в одном:
а именно в исходной двойственности слова, которое, обозначая
молнию как оружие, в то же время может быть употреблено
по отношению к той цели, в которую эта молния направлена.
И в конце концов семантика может упроститься до того, что
В качестве еще одного примера подобных инструментальных
образований на -uzzi можно привести хеттское ishuzzi- «ремень», соотнесенное
с глаголом ish-iya- «соединять, связывать».
См. [Güterbock 1952: 6]. Бог грозы обозначается шумерограммой
U, но из текстов об Улликумми (да и из других) явствует, что его имя
содержало хеттское окончание -unas [ср. Güterbock 1952: 4, прим. 14]. Так
что возможно, что полной формой этого имени было Tarhunas [Laroche
1958: 94-95].
Я имею в виду историю иезуитского ордена в Литве, написанную
в 1583 году Ростовским, — см. [Mannhardt 1936: 435]. По поводу
схожего образа Iuppiter Lapis см. [Schwenck 1859: 393-394]. Также ср.
культовый камень, который лаконпы называли Zeus Kappotäs (Павсаний.
Описание Эллады 3.22.1).
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 255
слово начинает обозначать просто оружие или просто мишень,
а всякая связь с молнией окончательно теряется.
Чтобы углубить наши представления об этой двойственной
семантике оружие/цель, обратимся к древнеиндийскому слову
asm ал-, родственному древнегреческому akmön и литовскому
akmuô. Им в «Ригведе» обозначается оружие Индры (Ригве-
да 2.30.5, 4.22.1, 7.104.19). Действия Индры,
древнеиндийского бога войны, описываются, как правило, таким особым и
таким возвышенным языком, что в нем стираются все отсылки
к его исходному естеству бога грозы и грома, которое гораздо
более очевидно в фигуре параллельного Индре Парджаньи46.
Тем не менее в «Ригведе» постоянно подчеркиваются и некие
естественные функции и атрибуты Индры: он посылает дождь
(4.26.2 и т.д.), от него исходит молния (2.13.7), он
уподобляется гремящему погонщику туч (6.44.12), а в период дождей Ин-
дра отождествляется с Парджаньей (8.6.1). Оружием Индры
в большинстве случаев является «ваджра», vajra-, которая в
соответствии со стилистической маркированностью образа
Индры в «Ригведе» становится отличительным знаком этого
божества. За ваджрой, так же как и за ее владельцем Индрой,
сохранены некоторые естественные, природные
характеристики: она гремит (1.110.13) и ревет (2.11.10). Своей ваджрой
Индра обычно ударяет в скалы и тем самым освобождает
воды или свет: эта тема столь распространена в «Ригведе», что
любое перечисление контекстов заняло бы уйму места и
времени47. Для нас сейчас важно то, что одним из обозначений
для этих «скал» или «валунов» является asman- — то же
слово, которым, как мы уже говорили, иногда называется оружие
Индры (2.30.5 и т.д.)48.
Об образе Парджаньи см. выше с. 245. Природные черты
Парджаньи взвешенно проанализированы в работе [Lommel 1939: 38-44].
Противопоставление природных характеристик Парджаньи отвлеченным
характеристикам Индры разобрано в [Oldenberg 1917: 137]. То, что в
описании Индры исходные природные черты божества имеют сравнительно
небольшой удельный вес, объясняется долгим процессом стилистической
обработки этого образа, на фоне которого фигура Парджаньи выглядит
гораздо более простой и архаичной.
См. соответствующий обзор в [Reichelt 1913: 34-37].
В «Ригведе» 2.12.3 говорится о том, что Индра порождает огонь
âsmanor antâr «между двух скал». Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров (1970:
256 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Раз уже речь зашла о «Ригведе», рассмотрим и гораздо
более распространенное в ней слово, обычно используемое для
обозначения «скалы, валуна». Таким словом является parvafca-,
производное от древнеиндийского pärvan-, которое, в свою
очередь, родственно хеттскому реги- «скала»49. Зачастую, когда
говорится о том, что Индра ударяет в pärvata- своею ваджрой,
это слово служит метафорическим обозначением «облака»50. В
тексте «Ригведы» потоки воды, изливающиеся из расколотой
скалы, обычно сравниваются со струями дождя, текущими из
облаков51. Используемое при описании дождя выражение а...
divo brhatâh «из высокого неба» параллельно словосочетанию
pârvatâd... а «из скалы» (Ригведа 5.43.11). Обычно говорится о
том, что Индра поражает (глагол hânti) Змея на pärvata- (1.32.1
и т.д.) — в данном контексте это слово принято переводить как
«гора»52. При этом pârvata- на самом деле зачастую
употребляется вместе с существительным gir'i «гора» (1.37.7 и т.д.). Еще
одним вариантом той же темы служит рассказ об Индре,
поражающем (глагол hanti) на pârvata- демона Вритру: совершая
1195-1196) предлагают в качестве параллели белорусский сюжет о том,
как Перун (Пярун) трет друг о друга два огромных каменных жернова и
таким образом добывает гром и молнию.
См. выше с. 251 и далее.
См. опять-таки [Lommel 1939: 42-43]. В некоторых контекстах
âsman- можно тоже трактовать как «небо» (см., например, Ригведа 7.88.2 —
однако см. по этому поводу [Geldner 1951 2: 259; Kuiper 1964: 111,
прим. 80]). В статье X. Райхельта [Reichelt 1913] было высказано
предположение о том, что âsman- может обозначать как «небо», так и «камень»
потому, что согласно индийским представлениям, свод небес был некогда
каменным. Для сравнения можно привести авестийское asan-/asman-
«скала, камень, небо» [Bartholomae 1904: 207-208]. Подобные представления
имеют типологические параллели и в африканской культуре [см. Baumann
1936: 146-147]. Но хотя доказательства Райхельта и выглядят вполне
убедительно, можно найти и другое объяснение возникновению значения
«небо». Если метафорически «скала» отождествляется с «облаком», то от
«облака» недалеко и до «неба». Не случайно к тому же корню, который
дает хеттское перге «небо» и славянское nebo, небо, восходят и
древнеиндийское nâbhas «облако», и древнегреческое néphos «облако»; также,
например, в среднеанглийском слово sky означало и «облако», и «небо».
Славянские параллели приводятся в [Ivanov, Toporov 1970: 1193]. О
типологических параллелях в африканских мифах и ритуалах см. [Ноcart
1936: 56].
См. [Geldner 1951 1: 36 и т.д.]. То же и в русском переводе (см.
Близаренкова 1: 40). — Прим. перее.
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 257
это деяние, Индра заодно раскалывает и parvata-, тем самым
открывая путь водам [см. Benveniste, Renou 1934: 147, прим. 1].
Могучий Индра не только крушит pârvata-, но и сам
временами уподобляется ему, см., например, такую фразу:
si pa.iva.to ni dharunesu icyuta.h
как parvata-, нерушимый в своей крепости.
Ригведа 1.52.2
Иногда Парвата персонифицируется, являясь при этом либо
вторым «я» Индры (1.32.6 и т.д.), либо его противником
(8.3.19)53. Наконец, слово pârvata- может употребляться по
отношению к оружию Индры:
abhi jahi ia.ksisa.h pa.iva.tena.
сокруши [глагол hin-] демонов своим parvata-5 .
Ригведа 7.104.19
В своей совместной с Эмилем Бенвенистом книге о Вритре и
Вритрахане Луи Рену обращает внимание на одно неожиданное
обстоятельство. Суть его в том, что атрибуты Индры как Ври-
трахана, то есть «Убийцы Вритры», оказываются присущими
и самому главному противнику Индры — Вритре [Benveniste,
Renou 1934: 138]. Пример с parvata- подтверждает и развивает
эту идею. В данном случае уже в рамках целой группы
мифологических сюжетов одно и то же слово может обозначать и
цель, в которую направлено оружие Индры («скала, валун,
гора»), и само его оружие55. Кроме того, то же понятие в
мифологии индийцев служит метафорическим определением самой
сути верховного бога грома и молнии56.
Некоторые ученые полагают, впрочем, что в данном случае
Парвата не является именем собственным [см. Близаренкова 2: 670]. — Прим.
перев.
В той же строфе оружие Индры именуется âsman-: см. [Reichelt
1913: 44-45]. Ср. также Ригведа 2.30.5, 4.22.1. О точильном камне как
символе власти и авторитета в германской традиции см. [Mitchell 1985].
Славянские параллели см. в [Ivanov, Toporov 1970: 1193-1195].
56 Вяч.Вс. Иванов [1958: ПО] предлагает добавить к
соответствующему списку и анатолийское божество Pirwa-, о котором см. [Otten 1951],
выводя его имя из *рета-о-. Стоит обратить внимание на хеттское
словосочетание hé-kur рг-ir-wa [ср. Goetze 1954: 356, прим. 54], в котором
слову hé-kur предшествует шумерограмма NA4, обозначающая «скалу» или
«камень», а слову pi-ir-wa однажды предшествует шумерограмма d;
существительное hékur значит «вершина, гора».
258 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Разумеется, обзор форм, так или иначе связанных с
балтийским (литовским) perkûnas и славянским регипй, нельзя считать
полным без упоминания о греческом keraunos, которое точно
так же может означать и молнию, и бога-громовержца.
Например, в Мантинее в древней Аркадии Keraunos был эпитетом
самого Зевса (IG V 2.228). По мнению разных ученых, keraunos
схож со славянским регипй не только функционально, но и с
формальной точки зрения [Güntert 1914: 215]. В качестве
одного из объяснений предлагалось реконструировать регипй как
*peraunos: в таком случае keraunos было бы неким
рифмованным замещением табуированного слова, вроде Donnerledder
вместо Donnerwetter в немецком [там же: 215, 216, 221]. Согласно
такой интерпретации, keraunos состоит из корня *кег-,
зафиксированного, например, в keraizö «уничтожать, истреблять»,
и суффикса *-aunos, рифмующегося с *-aunos в *peraunos57:
по мнению исследователя, изначальная суффиксальная модель
для *кег- выглядела как *ker-u-, наподобие древнеиндийского
saru- «дротик, стрела» [там же: 216].
Я нахожу в этой интерпретации, по крайней мере, два
слабых места. Во-первых, реконструируемое *аи в *per-aunos
весьма сомнительно с точки зрения индоевропейской морфологии.
Во-вторых, *аи в keraunos гораздо легче объяснить, не выходя
за пределы греческого языка. Существительное keraunos
могло быть образовано от основы *kerau-, присутствующей в
гомеровском глаголе keraizö «уничтожать, истреблять»58. В свою
очередь, основа *kerau- (из *kerh2-u) содержит корень *kerli2-59,
наиболее очевидным рефлексом которого является
древнеиндийский глагол srnâti «дробить» (из *kr-n-eh2-ti)60. В «Ригве-
де» 3.30.17 данный глагол используется для описания того, что
совершают стрелы-молнии Индры с его врагами, — причем
[Güntert 1914: 216]. Впрочем, в греческом, кроме keraunos, нет
больше примеров суффиксального образования на -aunos: Слово puraunos
(приводимое словарем Поллукса 6.88, 10.104) — вероятно, композит, одним из
элементов которого является глагол αύδ; об этом слове см. [Borthwick 1969].
[DELG: 519]. Наличие пар вроде dato (из *аато)/daίζδ позволяет
предполагать более раннюю форму *kerauiô: ср. [GEW 822].
Примеры передачи *li2U- как au в древнегреческих корнях см. в
[DELG, GEW: s.v. kaxo\\ также ср. разбор проблемы в [Schmeja 1963: 29-32].
60 См. [KEWA: s.v. smatj].
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 259
в этом метафорическом описании противники бога предстают
не столько в человеческом облике, сколько в образе деревьев.
Наконец, нельзя не отметить явный параллелизм в
формальном устройстве греческого keraunos (из *кегЬг-и) и хеттского
tarhuna- (из *terli2-u).
Даже если keraunos и не связан формально с балтийским
perkunas и славянским регипй, такую связь можно установить
для другого греческого слова — terpikéraunos. Подобно
гомеровскому argikéraunos «со сверкающей молнией» (Илиада XX
16, XXII 178), terpikéraunos — эпитет, используемый
исключительно по отношению к Зевсу (VIII 2, XII 252 и т.д.). По сути,
оба эпитета выступают в роли формульных вариаций. А значит,
можно прийти к заключению, что на синхронном уровне
формы terpi- и argi- (из *h2ergi-, ср. хеттское harki- «светлый») были
параллельны друг другу по своему морфологическому
устройству. Если реконструировать terpi- как *kwerpi-, то можно
восстановить, предполагая метатезу, еще более раннюю форму
*perkwi-61. И если argikéraunos значит «тот, чья молния сияет»,
то terpikéraunos, возможно, означал «того, чья молния бьет»62.
Пришло время задаться вопросом, почему именно дубы и
скалы были отмечены особой сакральной соотнесенностью с
молнией, соотнесенностью настолько сильной, что в различных
индоевропейских языках сами слова, обозначавшие эти
понятия, могли замещать друг друга. Нашему приземленному уму
кажется вполне очевидным, что скалы, огромные валуны,
деревья, холмы и горы становятся мишенью для молнии просто
из-за своей высоты или величины. Но все же то, что какой-либо
предмет притягивает или не притягивает к себе молнию,
оказывается обусловленным и рядом других факторов. Пустившись
в строгие научные выкладки относительно этих других
факторов, я, безусловно, занялся бы не своим делом, но в принципе
Ср. ariokopos «пекарь, булочник» из *artokwopos-, а эта форма
произошла из *artopokwos посредством метатезы. См. об этом [DELG: 118].
В качестве еще одного варианта форму terpikéraunos можно
трактовать как продукт экспрессивного удвоения *kwerpi-ker(p)aunos с переходом
последовательности *kw...kw в *kw...к в результате диссимиляции. В таком
случае следует реконструировать исходную форму *kwer(p)aunos,
возникшую, в свою очередь, в результате метатезы, призванной дать возможность
использовать это слово для замещения табуированного *per(kw)aunos [ср.
Watkins 1970: 350].
260 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
они интуитивно понятны и человеку, далекому от естественных
наук. Так, например, чисто опытным путем можно установить,
что различные породы деревьев в большей или меньшей степени
подвержены ударам молнии, причем степень подобной
уязвимости разнится довольно сильно. Мы располагаем
статистическими данными весьма оригинального экспериментального
исследования, проведенного управлением лесного хозяйства
немецкой области Липпе-Детмольд в 1879-1880 гг., согласно
которому подверженность ударам молнии у разных видов деревьев в
одном и том же лесу распределялась следующим образом:
% от общего количества Количество ударов
деревьев в лесу молнии
дуб 11 56
бук 70 0
ель 13 3 или 4
пихта 6 20 или 21
Прежде всего в глаза бросается поразительный контраст между
дубами и буками — показательно, однако, что многими веками
раньше этот контраст уже был подмечен, и подмечен в
фольклоре. В скандинавской мифологии, например, бог грома Тор
способен сокрушить великанов, когда те прячутся под дубами,
но бессилен, стоит его противнику схорониться под буком63.
Тем самым логика мифа исходит из известного факта: дуб
притягивает молнию. Но этот факт должен иметь объяснение:
внутри дуба должно находиться нечто такое, что подобно
молнии и потому ее притягивает. Такое же нечто должно
присутствовать и в скалах. Это свойство, на мой взгляд, воплотилось в
представление о том, что в дубах и скалах кроется
потенциальный огонь. Так, согласно литовским верованиям, громовержец
Перкунас ударяет в дубы, которые хранят внутри себя огонь64.
Опять-таки первичным источником языческого огня германцев
Notfeuer— ему тождествен английский willfire — огня, что
может быть добыт только трением, была древесина дуба65. Что
касается скал, то здесь стоит еще раз вспомнить о белорусском
Перуне (Пяруне), который трет друг о друга два гигантских ка-
[Grimm 1878 3: 64]. Разбор связей Тора (и иных соответствующих
ему германских божеств) с дубом см. в [Wagler 1891 2: 43-46].
64 См. выше с. 242.
См. [Kuhn 1886], где разобран материал, собранный Я. Гриммом.
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 261
менных жернова, рождая тем самым гром и молнию66. Индра
тоже добывает огонь âsmanor antâr «между двух скал» (Ригве-
да 2.12.3)67. Суть в том, что земные предметы, которыми мы
пользуемся, чтобы зажечь огонь, и которые притягивают к себе
молнию, могут поведать нам о происхождении небесного огня
молнии, могут потому, что сами связаны с небесами. А с
другой стороны, раз огонь возникает, когда мы трем дерево или
камень, значит, некогда огонь был внесен или даже зачат
молнией внутри этих предметов68.
Теперь мы убедимся в том, что внесение огня молнии внутрь
дерева или камня является темой с явным сексуальным и ан-
тропогоническим подтекстом. Начнем с очевидных примеров
связи молнии с темой творения. Так, например, в
древнеиндийской мифологии преображенная молния, ставшая оружием,
вадэюрой Индры, может не только губить и разрушать, но и
рождать и созидать69. От родственного иранского слова vazra-
сушествует производное vazraka-, которое в древнеперсидском
означает «наделенного порождающей силой»70. Корень *ueg-,
дающий vajra-/vazra-, присутствует и в древнеиндийском vâja-
«порождающая сила, дающая произрастание, умножение скота
и т.д.»71. Тот же корень стоит за латинскими uigeö «быть
здоровым, процветать» и uegeô «возбуждать, ускорять»72. Можно
здесь вспомнить и о древнескандинавских преданиях о молоте
Тора, освящающем брачный обряд и способном оживить
мертвых козлов божества [Davidson 1965: 11-14]. К этому можно
66 См. выше с. 255, прим. 48, а также [Ivanov, Toporov 1970: 1195-1196].
67 [Ivanov, Toporov 1970: 1195-1196].
68 Ά*
Мы только что отметили, что среди пород деревьев сакральным
материалом для добывания огня чаще всего является древесина дуба.
Возможно, за этим скрывается опытное знание о том, что дуб особо
подвержен ударам молнии.
См. обзор соответствующих контекстов в [Gonda 1954: 32-55, особ.
36-37].
70 См. работу [Liebert 1962: 127], где, в частности, опровергается
попытка переинтерпретировать это слово как vazarka- [Bartholomae 1904:
1389-1390].
[Gonda 1954: 43ff; Liebert 1962: 145]. По-иному это слово трактует
К. Уоткинс [Watkins 1986: 325, 327 со ссылками в прим. 10].
[Gonda 1954: 43ft\]. О чередовании огласовок uig-/ueg- см. [Watkins
1973а].
262 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
добавить и литовское поверье, которое приводит монах Матте-
ус Преториус (конец семнадцатого века): если молния ударила
в какое-то место, то в округе будут рождаться дети73. Или
вот еще: если во время родов молния ударит днем, то
ребенок выживет, а если ночью, умрет [Mannhardt 1936: 538]. И
еще один литовский пример: если человека убьет молнией,
которая направлена на запад, то он был избран Богом, но если
молния была направлена на восток, то он умер за свои грехи
[там же]. Разумеется, в рамках данного исследования я не могу
должным образом охватить все многообразие индоевропейских
фольклорных представлений о двоякой — губительной и
созидающей — силе молнии74. Для меня важно другое:
сосредоточиться на тех индоевропейских традициях, в которых молния
особым образом связана с дубами и скалами, и показать,
почему удар молнии в эти объекты считался актом сакральным,
и более того, актом творения.
Вера в животворящую силу деревьев и скал и даже в их
способность породить человека косвенно содержится и в уже
знакомой нам древнегреческой пословице. По сути, она говорит
вот что: наверняка ни ты, ни я, ни вообще кто-либо из ныне
живущих не был создан из дуба или из скалы (см., например,
Платон. Апология Сократа 34d, Государство 544d, Плутарх.
Утешение жене 608с, Филострат. Картины 2.3.1). Но отсюда
следует, что раньше люди могли рождаться именно так, — и
мы найдем тому подтверждение.
73 Текст в [Mannhardt 1936: 538].
Подробнее об этом см. в [Gonda 1954: 36-37]. Также можно обратить
внимание на то, что в этимологическом словаре Майерхофера допускается
возможность связи существительного среднего рода sârlra- «тело» с
корнем *kerli2-, зафиксированным в глаголе srnâti «дробить» (о том, как этот
глагол ассоциируется с молнией в «Ригведе» 3.30.17, см. выше с. 258-259).
Здесь уместно вспомнить и об этимологической версии, выводящей, хотя
и опосредованно, латинское corpus «тело» из корня* *per-kw- [см. Vendryes
1927: 315]. Возможно, глагол srnâti имеет отношение не только к sarira-
«тело», но и к saru- «дротик, стрела» (об этом слове см. выше с. 258),
которое в «Ригведе» не раз употребляется в сравнении с молнией (1.172.2
и т.д.). Эти связи можно продолжить и за счет s'ara- «тростник» и sâras-
«пепел» [ср. KEWA: s.v.]. В контексте последнего значения — «пепел»,
— вероятно, стоит упомянуть и о таких рефлексах корня *perkw-, как
литовское pifksnys «тлеющие угольки» [ср. LEW: s.v. pirksnis] и, возможно,
древнеирландское richis «тлеющие уголья, горячая зола».
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 263
Вернемся к примеру, с которого мы начинали, а именно к
отрывку «Одиссеи», где Пенелопа побуждает сменившего
обличив Одиссея раскрыть, кто он, рассказав о своем
происхождении. Свой вопрос она сопровождает словами:
ου yàp άπα δρυός εσσι παλαιφάτου ου8' άπο πέτρης.
Ведь точно ты не от дуба, как говаривали в старину, и не от
скалы.
Одиссея XIX 163
Пенелопа просто ссылается на древнее предание, никак не
показывая своего отношения к нему. Повествование, куда
включены слова Пенелопы, тоже всего лишь отсылает к намеченной
теме, не вдаваясь в детали, поскольку это кажется неуместным
в данном эпическом контексте. Эпитет palaiphatos «тот, о
котором говорили давно-давно» можно относить как к «дубу», так и
к «скале» — но существенно то, что мы имеем дело с
сознательной поэтической отсылкой к иному, не эпическому жанру. В
других местах гомеровского текста прилагательное palaiphaio-
употребляется исключительно по отношению к thésphaia — это
понятие можно определить как «слова mantis [пророка] или
того, кто выступает в роли maniis»75.
См. Одиссея IX 507, XIII 172. Связь с мантикой особо очевидна в
контекстах типа IX 507, XI 151. Говоря о мантике и пророчествах,
хотелось бы обратить внимание на форму одного топонима Perkotë,
упомянутого в «Илиаде» II 835. «Пророк» по имени Меропс, Mérops, в «Илиаде»
II 831-832 назван Perkosios «из Perkotë, Перкоты» (Μέροπος Περκωσίον, ος
περί πάντων τ)6εε μαντοσννας). Форму Perkotë можно реконструировать
как *perkö(u)tä (по поводу фонетических преобразований ср. соображения
Б. Вайна [Vine 1982: 42-43] о греческом plöter) и считать производной от
более древнего существительного *perku- (из *perkwu-) с основой на -и-
и значением «дуб». В этой связи стоит заметить, что у Гомера
постоянным эпитетом людей является слово méropes, а также что сыновья Ме-
ропса, Mérops Perkosios, как сообщает «Илиада» II 829, стали править в
месте, именуемом Pitueia. Это название, безусловно, образовано от
существительного pitus «сосна». Быть может, здесь имеет смысл вспомнить
и о семантической путанице между «дубом» и «пихтой», о которой речь
шла выше на с. 244, прим. 11. В подобных ассоциациях можно усмотреть
следы древнего местного мифа, в котором Первочеловек отождествлялся
с Первым Пророком, Mantis. Об антропогонической теме Первочеловека
как Первожертвователя см. выше с. 150 и далее. Бели учесть антропо-
гонические мотивы, на которые может указывать истолкование anthröpos
«человек» как «тот, чьи глаза как уголья» (см. выше с. 201, прим. 21),
264 ЧАСТЬ II ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Гесиодовская поэзия, так же как и поэмы Гомера,
искусно уклоняется от того, чтобы хоть как-то развить тему дубов
и скал, ограничиваясь лишь краткими отсылками. Вернемся
к тому моменту в «Теогонии» (31-34), когда поэт только что
закончил рассказ о том, как Музы вдохнули в него
поэтическую способность петь о прошлом и будущем и о
происхождении богов, заповедовав ему начинать и заканчивать свои
песни прославлением самих Муз. И тут поэт перебивает сам
себя следующими словами:
αλλά τι η μοι ταύτα περί 6ρΰν η περί πέτρην\
Но что мне в том, что относится к дубу и скале?
Гесиод. Теогония 35
Эта фраза знаменует некий перерыв в ходе повествования,
замедление: его цель в том, чтобы осмыслить ступень, которой в
данный момент достигла «Теогония» в своем композиционном
развитии. И уже в следующем стихе звучит призыв: Μουσάων
άρχω μέθα «начнем с Муз» — выражение, открывавшее
«Теогонию» в первой строке. Таким образом, от первого к тридцать
шестому стиху «Теогония» совершила полный круг, и Гесиод
«должен заново стартовать с той же позиции» [West 1966: 170].
По сути дела, 35-я строка предвосхищает новый зачин; Гесиод
приступает к нему в 36-м стихе. Для Гесиода заданный в 35-м
стихе вопрос: зачем ему «то, что вокруг [=ходьба вокруг да
около]76 скалы и дуба» — в действительности означает:
сколько можно медлить, говоря о начале начал. «Что я, как в
пословице, все хожу вокруг да около дуба и скалы? Пойду-ка
вперед, хотя бы и начав заново!»
то этимологически возможно понимать mérops как «тот, чьи глаза горят»,
ср. название звезды Мероны, Мегорё, у Гесиода (fr. 169.3 MW). Я также
предлагаю читать еще одно приводимое Гесиодом название звезды Mala
как Масра=Магга} считая его производным корня *тег-, присутствующего
в глаголе тагталго «блестеть, сверкать», ср. martlë «горячая зола от
древесного угля». Предложенная интерпретация mérops «с горящими,
сверкающими глазами» может оказаться полезной ниже (с. 325-326) при
толковании древнеиндийского тагу а-.
В своем комментарии М. Уэст [West 1966: 169] утверждает, что
конструкция περί + винительный падеж в ранних поэтических текстах
имеет скорее конкретно-пространственный («вокруг»), а не отвлеченный («о,
относительно»). Возможно, это все же слишком жесткая формулировка:
второе значение может метафорически вытекать из первого.
Глава 7. ГРОМ И РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 265
Наконец стоит разобрать еще один контекст, на сей раз из
«Илиады», где Гектор размышляет, следует ли ему отдаться
на милость Ахилла. В итоге он решает не поступать так,
говоря себе:
άλλα τι η μοι ταύτα φίλος διελέξατο θυμός]
Но что я говорю обо всем этом с душою [thümos] своею?
Илиада XXII 122
Гектор признает, что Ахилл будет беспощаден и наверняка
убьет его (XXII 123-125). И в этот миг свое отчаяние Гектор
выражает в пословице:
ου μεν πως νυν εστίν από δρυός ουδ' άπο πετρης
tQ οαριζέμεναι
Нет, теперь невозможно с ним говорить, снова начав от дуба
или скалы77.
Илиада XXII 126-127
Иными словами, с Ахиллом нечего начинать все сначала.
Время для этого прошло.
Во всех трех поэтических примерах дуб или скала из
пословицы подразумевают не только пространственную, но и некую
культурную отдаленность. Во всех трех случаях поэт
настойчиво уклоняется от какой бы то ни было разработки темы, как
если бы она была неуместной, более того, слишком
примитивной. Эта тема действительно «примитивна» в том смысле, что
она была широко распространена в огромном количестве
разнообразных архаических культур. В мифотворчестве многих
народов раз за разом встречается представление о том, что
человечество родилось из деревьев или скал78. Схожее
представление можно реконструировать и на основе данных
индоевропейских языков79. В частности, в германских языках мы обнаружи-
Далее в «Илиаде» XXII 127-128 описано воркование двух
неженатых влюбленных. Выглядит все так, как будто именно такая парочка в
своем разговоре и может вернуться к какому-то дубу или скале.
Множество африканских примеров собрано в [Baumann 1936: 224-
235 (о деревьях), 219-220 (о скалах)]. Обзор европейских примеров см.
в [Vade 1977]. О следах этого мифа в семитской традиции см. [Dirlmeier
1955: 25-26]. Необходимую библиографию по теме Petra Genitrix см. в
[Eliade 1962: 208].
[Specht 1944]. См. также работу [Lincoln 1986: 188], в которой особое
внимание уделено параллелям в мифах о происхождении мира и
человеческого общества, прежде всего на примере германских традиций.
266 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ваем следующие рефлексы все того же корня *perkw-: древнеис-
ландское fjçr «жизнь», древнеанглийское feorth «жизнь, душа»
и /iras «человек» и т.д. [см. также Vendryes 1927]. В кельтских
языках мы встречаемся с древнеирландским Масс Daro «сын
дуба», Масс Cairthin (а также огамическая форма родительного
падежа Maqi Саггаипг) «сын рябины», Масс Ibair «сын тиса» и
т.д. [ср. Loth 1920: 122]. Есть множество прочих свидетельств —
например, взятых из литовских фольклорных песен80.
Впрочем, я не буду и дальше нагромождать примеры, а
вместо этого позволю себе еще раз подчеркнуть свой
главный вывод. Мы убедились в том, что индоевропейский корень
*per(kw)u- может использоваться в некоторых языках для
обозначения дуба (латинское quercus), а в других — для
обозначения скалы (хеттское реги-). Подобной этимологической
двойственности соответствует, как мы теперь видим, и
амбивалентный смысл старой греческой пословицы, намекающей на миф о
том, что люди произошли или от дубов или от скал — все равно
от чего именно. Но, по моему мнению, такая двойственность —
и формальная, и семантическая — объясняется тем, что за нею
стоит единая связующая тема — тема творящей мощи
индоевропейского бога молнии и грома, само имя которого в балтийских
и славянских языках образовано производными того же самого
корня *per(kw)u-: Perkunas, Перкунас и Регипй, Перун.
80 Ср. [Meulen 1907: 55-72, 121-169]. Там же [особ. с. 127]
содержится весьма полезное рассуждение об одушевлении деревьев. Разбор мифов,
согласно которым человечество родилось из ясеня, см. в [Shannon 1975:
44-48, 57, 70]. В этой книге весьма убедительно продемонстрировано, что
подобные мифы стоят за описанием ясеневого копья Ахилла в «Илиаде».
Р. Шэннон также обращает внимание на то, что согласно «Трудам и дням»
Гесиода, первое и второе поколение человечества создали все боги вместе
(109-110, 127-128), а третье поколение творит только Зевс, и именно это
третье творение особым образом связано с ясенем (143-145). То, что Зевс
специально ассоциируется с творением людей из ясеня, весьма
показательно, если вспомнить о его эпитетах keraunos, terpikéraunos и argikéraunos, о
которых речь шла выше на с. 258-259.
Глава 8
SÊMA И NOËSIS:
МОГИЛА ГЕРОЯ И
«ЧТЕНИЕ»
ГОМЕРОВСКИХ И
ГЕСИОДОВСКИХ
символов
На слово семиотика — а раз так, то и на слово
семантика — можно взглянуть по-новому, если вернуться к их
древнегреческим корням. Изначально они связаны с греческим
существительным среднего рода sema «знак», произведенным от
глагола, который в языке реально не засвидетельствован. Внутри
индоевропейской языковой семьи греческому sema находится
соответствие в санскрите. Это слово dhyäma «мысль» — тоже
существительное среднего рода, которое, впрочем,
зафиксировано только в поздней санскритской лексикографии [KEWA 2:
114]. Оно образовано от корня dhyä- «думать», который, в свою
очередь, является вариантом корня dhl- с тем же значением.
Даже при том, что морфологическая связь dhyä- и dhyäma в
санскрите выглядит абсолютно очевидной, а морфологический
параллелизм делает практически безусловным родство dhyäma
и греческого sêma) языковедов весьма озадачивает отсутствие
подобного параллелизма на семантическом уровне. И правда,
как значение греческого sema можно соотнести с «мыслью»,
которая обозначена индийским dhyäma [DELG: 998]?
В этой главе я и постараюсь показать, как sema связано с
семантикой мысли. В целом мой подход развивает идеи,
высказанные Эмилем Бенвенистом в его «Словаре
индоевропейских социальных терминов» [см. Бенвенист 1995: 277], и основан
на необходимости изучать то или иное слово не только в
связи с другими словами, но и в особенности обращая внимание
на то, как это слово ведет себя в рамках формульного языка
268 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
архаической греческой поэзии1. В результате мы обнаружим,
что ключевым для понимания семантики мысли, заложенной в
древнегреческом sema, станет его соотнесенность в словесном
употреблении с другим словом, обозначающим мыслительную
деятельность, а именно с существительным noos «разум, ум,
осознание», наряду с производным от него глаголом noéô
«мыслить, замечать, осознавать, обдумывать» (от него, в свою
очередь, образовано существительное noësis, второе понятие,
вынесенное в заглавие этого раздела книги). Для того чтобы
разобраться в достаточно сложном спектре значений слова noos и
его производных, нам нужно будет учесть и его этимологию: в
высшей степени полезной здесь окажется для нас работа
Дугласа Фрэйма, который возводит данное слово к индоевропейскому
корню *nes-, означающему нечто вроде «возвращать(ся) к свету
и жизни»2. В итоге анализ этимологии обоих слов — и sema, и
noos — позволит прояснить их соотнесенность друг с другом, в
частности, в поэтическом употреблении. И наконец, эта
соотнесенность даст нам, как я надеюсь, возможность приблизиться к
пониманию греческих представлений о человеческом познании
[см. Svenbro 1988а: особ. 53].
Наверное, проще начать с разбора употребления sema,
поскольку в этом слове заключено представление об одном особом
случае познания — а именно идея узнавания. В частности, у
Гомера словом sema обычно называются те знаки, благодаря
которым Одиссея узнают его philoi, т.е. «близкие и дорогие» ему
люди3. Так, например, словом sema назван шрам на ноге
Одиссея, по которому изменившего облик героя узнают его старая
Общее описание исповедуемого мною метода см. в [Nagy 1979а: 1-11].
[Frame 1978]; Ср. выше с. 129 и далее, а также с. 169. Ср. также
[Svenbro 1988а: 31, прим. 79].
По поводу перевода philos как «близкий и дорогой» ср. работу
[Jones 1962; 57-58], где разбирается аристотелевское определение
anagnorisis «узнавания» (Поэтика 1452а30-32) как перехода от незнания к
знанию, которому соответствует и переход к philiâ «близости,
привязанности» (или к противоположному чувству). Другой исследователь полагает,
что philos образовано от локативной формы phi, родственной, например,
английскому by, в значении «рядом». Если в philos на самом деле
присутствовала подобная семантика «близости, нахождения рядом», то это
понятие можно соотнести с представлением о «восходящей лестнице
привязанностей», которая может служить одной из форм самоидентификации
личности — см. [Nagy 1979а: 103-113].
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 269
няня Эвриклея (Одиссея XXIII 73), верные ему пастухи Эвмей
и Филойтий (XXI 73) и престарелый отец Одиссея Лаэрт (XXIV
329). Для «опознания» этого sema подходит глагол anagignosko
(см. άνα^ι/όντος в случае с Лаэртом — XXIV 329). Тот же
глагол использован в описании того, как Пенелопа «опознает»
(ai/ajuovarj — XVIII 206) в рассказе изменившего облик
Одиссея sémata (множественное число, та же строка), которыми для
нее является одежда, подаренная самой Пенелопой настоящему
Одиссею (то, что одежда — это именно sema, «знак»
подтверждено в 255-257-х строках девятнадцатой песни).
Во всех этих случаях опознание sema «знака» является в
повествовании ключевым элементом, ведущим к последующему
узнаванию самого Одиссея4. Более того, опознание sema
требует интерпретации. Например, во второй песни «Илиады»
рассказывается о sema (II 308), посланном ахейскому войску
Зевсом: змея сжирает восемь птенцов и их мать (II 308-319).
Однако это происшествие требует особой мантической
интерпретации, которую и дает mantis «пророк» Калхас,
признающий в нем знамение, говорящее о грядущем разрушении Трои
(II 320-322). Также у Гомера немало примеров того, как Зевс
посылает в качестве sema молнию (Илиада II 353, IX 236, XIII
244, Одиссея XXI 413 и т.д.), — можно сказать, что это
своеобразный код, содержащий разнообразные сообщения, которые
в том или ином контексте должны быть истолкованы и
свидетелями произошедшего, и самим повествованием.
Представление об этой важнейшей способности к
узнаванию, опознанию и интерпретации заключено в слове noos. Как
говорит, обращаясь к Гектору, троянский герой Полидамас:
"Εκτορ αμήχανος εσσι πα pa ρ ρητό ισι πιθέσθαι.
οννεκά τοι περί δωκε θεός ποΧεμήια ερηα
τοννεκα καΧ ßovXrj έθεΧεις περιίδμεναι αΧΧων-
αΧΧ' ο ν πως ίμα πάντα δννήσεαι αυτός εΧεσθαι.
αΧΧω μεν yap έδωκε θεός ποΧεμήια ερηα,
αΧΧω δ" όρχηστνν, ετέρω κίθαριν καϊ αοιδήν,
В иных случаях в повествовании эта промежуточная стадия
опознания может быть опущена. Так, например, в «Одиссее» IV 250 Елена
ανέηνω (глагол anagignosko) «узнала» Одиссея (непосредственно), когда
тот переодетым проник в Трою. Показательно, что этот фрагмент
рассказа в целом выглядит подчеркнуто сжатым.
270 ЧАСТЬ II ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
άλλω 6f ει/ στήθεσσι τιθεί νόον ενρνοπα Ζευς
εσθλόι/, του δε τε πολλοί επαυρίσκοντ άνθρωποι,
και τε πολεας εσάωσε, μάλιστα δε καυτός ài/éji/ω.
αυτάρ εηων ε ρέω ως μοι δοκει είναι άριστα·
Гектор, не способен ты5 прислушаться к убедительным речам.
Лишь потому, что бог дал тебе превосходство в воинском деле,
ты жаждешь превосходства и в промышлении [ЬоиЩ> знать
больше, чем другие6.
Но нельзя все иметь тебе одному.
Бог одному дает превосходство в воинскому деле,
другому в танце, а третьему — в игре на кифаре и пении.
А иному далеко зрящий Зевс в грудь влагает подлинный7 nôos,
и многим польза от такого человека —
многих он спасает, а сам великой обладает способностью
узнавать [глагол anagignosko].
И вот я скажу тебе, что мне кажется наилучшим.
Илиада XIII 726-735
Итак, именно nôos дает возможность человеку «узнавать»
(глагол anagignosko)8.
О семантике amekhanos «неспособный, неизлечимый» и значимости
этого эпитета в данном контексте см. [Martin 1983: 18].
Гектор не только стремится к первенству в boule «промышлении,
построении планов»; формально он служит образцом metis
«изобретательности, сообразительности», даже заслужив право именоваться «в metis
равным Зевсу» (Илиада VII 47, XI 200). Но именно это качество в конце
концов сталкивает его с Афиной, богиней, олицетворяющей metis. Гектор
даже жаждет time «почести», равной тем, что воздаются самим Афине и
Аполлону (ср. VIII 538-541, XIII 825-828), и потому его гибель, причиной
которой становится как раз то, что ему изменила metis (κακά μητιόωι/τι —
XVIII 312), символизирует ограниченность возможностей смертного.
Сама Афина помрачает его разум (XVIII 311). В своей книге [Nagy 1979а:
144-147] я постарался показать, что превосходство героя в той или иной
области неизбежно вынуждает его вступить в противоречие с тем богом,
который за эту область отвечает. Превосходство Полидамаса в
предвидении и построении планов (которое подчеркивается в этом отрывке точно
так же, как и в XVIII 251-252) важно не само по себе — на фоне
Полидамаса еще более зримой становится неспособность Гектора преуспеть именно
в той области, где он жаждет быть первым.
7 О семантике esthlos см. [Watkins 1972, 1982b].
Ср. вариацию этой же темы в «Одиссее» XXI 205: Одиссей ανέ^νω
«узнал» (глагол anagignosko) nôos Эвмея и Филойтия. Спустя несколько
строк (XXI 217) он предъявляет им sema — свой шрам. Иными словами, в
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 271
Вернемся к одежде Одиссея, являющейся sema, по которому
он должен быть опознан. Как следует из самого повествования,
для того чтобы его одежда стала sema, Одиссей сперва сам
должен обратить на нее внимание и счесть ее таким знаком:
... τον δε χιτων ενόησα...
... и я заметил [глагол noéô] хитон...
Одиссея XIX 232
На протяжении своего рассказа Одиссей, в частности, говоря и
об этом хитоне, скрывает, кто он на самом деле. Но, принимая
чужое обличье, он тем не менее указывает на свое подлинное
«я», указывает с помощью sema, который он сперва, согласно
своему рассказу, замечает сам. Так, на собственном примере,
он как бы намекает Пенелопе и всем слушателям гомеровских
поэм, что те должны, в свою очередь, сделать. Они тоже
должны «заметить», совершить действие, которое по-гречески
обозначается глаголом noéô, производным от по os.
Схожим образом о еще одном персонаже «Одиссеи» с
говорящим именем Алкиной, Alk'i-noos сказано, что тот «заметил»
[глагол noéô] рыдания Одиссея — тем самым обнаружив знак,
который в конечном счете приведет к узнаванию героя.
Алкиной — единственный из феаков, кто дважды замечает, что еще
не узнанный Одиссей плачет всякий раз, когда слепой феакий-
ский певец поет сказания о Троянской войне:
'Αλκίνοος δε μιν οίος ετεφράσατ' ήδ' ενόησεν
Алкиной был единственным, кто обратил внимание9 и заме-
тил [глагол noéô] его.
Одиссея VIII 94 и 533
Тут же в «Одиссее» VIII 536-638 Алкиной в пространной
речи призывает Одиссея перестать скрывать, кто он такой, —
и именно это Одиссей и делает в самом начале девятой
песни поэмы.
Есть несколько контекстов, в которых глагол noéô
подразумевает, что некто замечает знаки и одновременно осознает,
данном случае Одиссей распознает по os «разум», который, в свою очередь,
способен распознать sema «знак».
О том, что глагол phrazomai подразумевает действие, совершаемое
с помощью metis «изобретательности, сообразительности», см. [Détienne,
Vernant 1974: 25, прим. 32].
272 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
какой смысл они несут. Разумеется, это прежде всего
касается тех, кто одарен мантическими способностями: стоит им
просто заметить знамение и они немедленно проникают в суть
происшедшего. Само собой, первый «пророк» — это сам
Аполлон, и потому образцовым примером можно считать описание
того, что думает Аполлон, обратив внимание на пролетевшую
по небу птицу:
οιωνον 8" έι/όει ται/νσίπτερον, αντίκα 8' εηνω
φηλητήι/ ηε^αωτα Διός παΐ6α Κρονίωνος.
Он заметил [глагол noéô] длиннокрылую птицу и потому сразу
же узнал [глагол gignosko],
что вором был сын Зевса Кронида.
Гимн к Гермесу 213-214
В подобных контекстах глагол noéô, по сути, синонимичен
глаголу anagignosko в значении «узнавать, понимать». Точно так
же старец Приам замечает (= глагол поео: ι/οήσας, Илиада
XXIV 294, 312) посланную Зевсом птицу и считает это добрым
знаком для себя, позволяющим ему без опасения отправиться
к ахейским кораблям. В том же ряду стоит и эпизод
«Одиссеи», когда прорицатель Феоклимен разумно решает покинуть
пиршественную залу, считая мрачными предзнаменованиями
безудержный смех, обуявший нечестивых женихов (XX 346), и
страшный вид забрызганных кровью стен (XX 354):
... επεί ι/οέω κακοί/ νμμιν
ερχόμενου...
поскольку я замечаю [глагол поео], что злая судьба
близится к вам10...
Одиссея XX 367-368
Глагол noéô в данном случае вполне можно переводить и
«замечать», и «узнавать». Напротив, сами женихи никак не могут
распознать множество знаков, которые указывают на их
близкую гибель. Даже когда еще не узнанный Одиссей убивает их
предводителя — с весьма отвечающим ситуации именем Анти-
Ср. весьма схожее описание у Солона (fr. 13.54 W = fr. 1 GP]: ε^νω
6' ανδρϊ κακόν τηλόθει/ ερχόμενου «он [речь идет ο mantis, пророке как
таковом] узнает [глагол gignosko] несчастье, даже если оно приближается к
человеку издалека». См. комментарий к данному месту в [Nagy 1985а: 25].
Глава 8. SÊMA И NOËSIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 273
ной, Anii-noos, букв, «противо-разумный», — они так и не могут
обрести noësis (глагол noéô: ουκ ενόησαν XXII 32).
Конечно, все эти знаки кажутся в большей или меньшей
степени условными. Так, скажем, если в небе появляется
птица, это знамение может в одном случае расшифровываться как
утверждение: «Вор — это Гермес», а в другом означать
повеление: «Приам должен идти к Ахиллу». Но подлинное умение
распознать знак, постигнуть sema при помощи noësis, может
наступить только тогда, когда будет распознана вся законченная
система знамений или сигналов. В данной ситуации суть не
просто в том, что «в небе летит птица», а в том, что одна из 1 2
3... η птиц летит в небе в одном из α β у... ω направлений.
Приам видел птицу, пролетавшую с правой стороны (Илиада XXIV
294, 312); а если бы она появилась слева, то, следует полагать,
этот сигнал был бы тождествен сообщению с противоположным
смыслом: «Приам не должен идти к Ахиллу». Вот еще один
пример: чтобы распознать в качестве sema звезду Сириус (XXII
30) в созвездии Пса, которая ежегодно сообщает людям о
грядущей лихорадке (XXII 30-31), надо знать, как соотносится она с
другими звездными sémata и на что могут указывать эти другие
знаки11. Точно так же, дабы узнать гибельный смысл semaia,
начертанных Претом на табличке, которую герой Беллерофонт
должен был отнести ликийскому царю (VI 168/176/178), этот
царь должен был знать соотнесенность этих semata с другими,
входящими в ту же систему значков, а также весь набор
смыслов, стоящих за этими значками. Не важно, чем на самом деле
были эти значки: иероглифами, рунами или даже буквами, —
в любом случае царь должен был их «прочесть». И сказанное
выше должно убедить в том, что самым подходящим словом
для того, чтобы обозначить это «чтение», эту способность
распознать такую систему, было слово по os. Noos ликийского царя
может распознать код, состоящий из элементов вроде А В Г...
Ω — а Прету, в свою очередь, потребовался его noos для того,
чтобы зашифровать свое сообщение с помощью этого кода.
Неожиданную аналогию можно найти в латинском языке,
из которого семиотика тоже почерпнула одно важное слово.
Ср. также смысл, скрытый для Одиссея в созвездиях Арктос
«Медведицы» и Ориона, на который указано в «Одиссее» V 271-277 и V 121-124:
см. об этом [Nagy 1979а: 202-203].
274 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Слово это signum «знак»12, а неожиданным контекстом
будет служить использование этого слова в качестве военного
термина у римлян. На языке армейских команд фразе
«исполнять приказ» по-латыни соответствовало выражение signa
sequi — буквально «следовать знакам» (см., например, Тит
Ливии 3.28.3, 22.2.6, 23.35.7, 24.48.11, 30.35.6, 42.65.12). Если
оставаться на уровне синхронии, то signum в подобных
контекстах обозначает специальный значок, штандарт, который
нес signifer «знаменосец». Если же взглянуть на это слово в
диахронической перспективе, то его исходное значение
можно восстановить как «то, за чем следуют»: такое понимание
вытекает из реконструкции Эмилем Бенвенистом формы этого
существительного как *sekw-nom: соответственно, оно на
самом деле должно быть производным глагола sequi «следовать»
[Benveniste 1948: 122-124]. Тем самым выражение
представляет собой figura etymologica, которая включена в общую систему
принятых римских военных терминов:
signa sub sequi «сохранять боевой порядок»
ab signis discedere «дезертировать»
signa figere «разбивать лагерь»
signa movere «сниматься с лагеря, свернуть лагерь»
signa inferre «атаковать»
signa constituere «остановиться»
signa proferre «наступать»
signa convertere «разворачиваться, заходить во фланг»
signa conferre «вступить в бой, рукопашную»
и т.д.
Взятый в отдельности термин условен, но каждая из команд,
сигналов, приведенных в левой колонке, является элементом
внутренне согласованной и потому ясной системы или кода.
Для римского солдата каждый сигнал нес в себе
соответствующее сообщение из правой колонки, и это сообщение означало
конкретный воинский маневр. Так, если «знаменосец» втыкал
свой «значок» в землю, солдат занимался разбивкой лагеря, а
стоило выдернуть этот значок, и солдат знал, что пора
сниматься с лагеря, и т.д. Можно сказать, что римский солдат
опознавал отданные ему команды потому, что ему была
знакома вся система сигналов. Соответственно, он мог успешно
О латинских словах с семантикой «знака, знамения» см.
подробно [Бенвенист 1995: 388-393].
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 275
выполнять отдельные приказы потому, что ему был известен
весь код целиком13.
Если коды, подобные римской системе военных сигналов,
оставляли тем, для кого были предназначены их сообщения,
достаточно мало пространства для интерпретации,
существуют и иные типы кодов, для интерпретации которых требуется
немалое искусство. Вот, например, как отвечает скрывающий
свое истинное «я» Одиссей на веление Эвмея:
ηινώσκω, φρονέω- τά ye 6ή νοεοντι κελεύεις.
Я понимаю [глагол gignosko], я осознаю. Ты так велишь тому,
кто способен узнавать [глагол noeö], в чем дело.
Одиссея XVII 281
При этом указание Эвмея отнюдь не отличается
исключительной четкостью: он велел сменившему обличье Одиссею не
слоняться около дворца, не то «кто-нибудь» может его покалечить
или прогнать взашей. И в довершение пастух в целом
посоветовал Одиссею «следить за такими вещами» (XVII 279;
местоимение ta, глагол phrazomai)1*. Суть ответа Одиссея в том, что
он может успешно выполнить веления Эвмея потому, что
способен узнать, что тот подразумевает под «такими вещами» (XVII
279; местоимение ta), и эту способность «узнавать» и выражает
глагол noeö (та же строка).
Отдельный знак, sema, не может сам по себе служить
очевидным, прямым утверждением или приказом. Чтобы
уловить смысл сообщения, необходимо узнать (существительное
71005, глагол noeö), как sema функционирует внутри своего
кода. Этот механизм превосходно иллюстрирует гомеровский
рассказ в двадцать третьей песни «Илиады» о состязании колесниц
на погребальных играх в честь Патрокла. Желая помочь
своему сыну Антилоху завоевать награду на скачках (XXIII 314),
старец Нестор дает ему урок metis «изобретательности,
стратегического искусства» (313, значение «искусства» еще более
Стоит обратить особое внимание на одну фразу из Ливия signa sequi
et in acte agnoscere ordines suos «следовать сигналам (значкам) и узнавать
свое место в боевом порядке». Система (или ordines) «боевого порядка»
(actes) зависит от системы signa. Узнавать (agnoscere) значки в системе
signa означает узнавать ordines в actes, «боевом строю».
О phrazomai как глаголе, связанном с metis см. выше с. 271, прим. 9.
276 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
очевидно в строках 315-318). Ключом к победе должен
послужить «знак», sema: достигнув térma «поворотного столба», Ан-
тилох должен рискнуть и подскакать к нему как можно ближе,
заставив правую лошадь бежать быстрее, а левую
попридержав, — и тогда у него получится самый стремительный
поворот вокруг térma (327-345):
Térma
Быстрая
лошадь
Медленная
лошадь
- Колесница
Ранее Нестор также говорит своему сыну, что искусный
колесничий, направляясь к iérma, не сводит с него глаз (323),
ища возможности обойти более быструю колесницу (322-325),
возничий которой не так целеустремлен (319-321). И Антилох
на самом деле изыскивает такую возможность, стремительно
обойдя — чуть ли не «подрезав» — более быстрых коней Мене-
лая (417-441). В этот момент уже сам Антилох, описывая
собственные действия, прибегает к глаголу noéo (νοήσω 415). Что
же в итоге делает sema Нестора залогом победы? Не что иное,
как способность сына узнать, как функционирует полученный
«знак» внутри свойственного ему кода, — а узнать это можно в
тот же миг, когда заметишь знак. И эта способность заметить
и одновременно узнать и обозначается глаголом noéo.
Нестору и не нужно было говорить сыну, что и когда
делать. Он всего лишь дал ему sêma} и после этого Антилох
может взять инициативу на себя, опознав этот знак и правильно
его интерпретировав (глагол noéo)15. В этом отрывке связь
sema и noësis формально закреплена во фразе, где ключевым
является глагол lethö «ускользать, скрываться от чьего-либо
разума» (XXIII 326, 415-416):
О noéo в контекстах, где речь идет о взятии на себя
инициативы, см. [Nagy 1979а: 51]. Ср. употребление sema в «Одиссее» XXI 231 и
noësis в XXI 413-414, 431; XXII 129.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 277
σήμα 6έ τοι ερέω μάΧ αριφραδές, ουδέ σε Χήσει.
Я [Нестор] скажу тебе о sêrna, о явственном знаке, и он не
ускользнет от твоего разума.
Илиада XXIII 326
ταύτα Ь' εηων αυτός τεχνήσομαι ήδε νοήσω
στεινωπ$ εν ô&J παραδύμεναι, ουδέ με Χήσει.
И я сам [Антилох] сумею с этим справиться и распознаю [глагол
noéô\ как
обойти его на узкой части дороги, и это от разума моего не
ускользнет.
Илиада XXIII 415-416
Из второго примера явствует, что отрицательная конструкция
с léthô синонимична глаголу noéô. Точно такая же фраза, в
которой существительное sema соединено с глаголом noéô,
встречается и чуть раньше, когда Нестор говорит о том, что
искусный колесничий, направляясь к iérma «поворотному столбу»,
не должен сводить с него глаз:
αιεί τέρμ ορόων στρέφει εηηυβεν, ουδέ ε Χήθει
οππως το πρώτον τανυστ\ βοέοισιν ιμασιν,
άλλ' έχει άσ^αλεως και τον προύχοντα δοκεύει.
все время глядя на térma, он поворачивает вплотную, и это не
скрыто от его разума,
как только натянет он вожжи из бычьей кожи,
а пока он держится твердо вплотную за скачущим впереди.
Илиада XXIII 323-325
Нестор особо подчеркивает, что суть sema, «знака» победы (326)
заключена в том, как Антилох обогнет «поворотный столб»
(327-345). В свою очередь, sema, «знак» (326) и térma,
«поворотный столб» (323) соотнесены друг с другом и в
языковом плане, ибо о них говорит одна и та же формула ουδέ
σε/ε Χήθει/Χήσει «и это не скроется/скрыто от твоего/его
разума» (326/323). Весьма показательно в этой связи, что, как
подсказывает сам ход повествования, térma и является
«знаком», sèma\ недаром эти два слова стоят практически рядом
друг с другом {σήμα 331/τέρματ' 333). Правда, в 331-й
строке sema употреблено в специальном значении «гробница,
могила», анализом которого мы займемся чуть позже. Пока же
278 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
достаточно еще раз указать на соотнесенность
существительного sema с глаголом noéô, очевидную в упомянутой выше
негативной конструкции с глаголом léthô «ускользать,
скрываться от разума»16.
Нашего внимания заслуживают еще два случая
употребления такой конструкции:
πάντα ιδων Δώς οφθαλμός και πάι/та νοήσας
και ι/υ τάδ\ αϊ κ εθέλησ , επιδέρκεται, ουδέ ε Χήθει
οϊην δη και τήι/δε δίκην πόλις εντός εέρηει.
Око Зевса17 видит все и обо всем узнаёт [глагол noéô].
Если захочет, взглянет на то, что внизу, и от его разума не
укроется,
что за справедливость [dîkë] в городе чтится.
Гесиод. Труды и дни 267-269
σήμα δέ τοι ερέω μάΧ αριφραδές, ουδέ σε Χήσει
Я скажу тебе ο sema, о явственном знаке, и он не укроется от
твоего разума.
Одиссея XI 126
Из разобранных ранее примеров использования выражения «и
это не ускользнет от моего/твоего/его разума» следует, что в
первом отрывке знание Зевса должно быть как-то связано с
sema, а во втором получение знака, в свою очередь, должно
предполагать его узнавание, опознание (существительное noos,
глагол noéô).
Начнем с первого отрывка, в котором знание Зевса
действительно оказывается соотнесенным со «знаками», sémaia, но
разум, 71005, Зевса скорее кодирует, а не расшифровывает эти
Сочетание негативной частицы с корнем lëth- можно считать
фигурой двойного отрицания, литотой, по смыслу тождественной
усиленному значению корня тпё- «держать в уме, памяти». О ключевой роли
этого корня для индоевропейского поэтического языка см. [Watkins 1987:
270-271]. Обращает на себя внимание сочетание с корнем тпё- глагола
noéô, например, в «Одиссее» XX 204-205 (ως ει/όησα, δεδάκρυντοα δέ μοι
οσσε \ μι/ησαμέι/ω Όδυσηος). Также чрезвычайно показательны
приведенные и разобранные в книге Д. Фрэйма [Frame 1978; 36-37, 75-76] контексты,
в которых leiht «забвение» противопоставлено naos.
Об индоевропейских основах представления об «Оке Зевса» см.
соображения М. Уэста [West 1978: 223-224]. Следует заметить, однако, что
его разбор не затрагивает этической составляющей данной темы.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 279
sémata. Так, например, Зевс может послать сильную бурю в
знак того, что он разгневан насилием над dike, которое
творится в том или ином городе (Илиада XVI 384-393; слово dike
употреблено в 388-й строке); при этом наиболее явственным и
естественным для Зевса знамением обычно служит, разумеется,
молния (см., например, Илиада XIII 244)18. А люди, со своей
стороны, должны декодировать различные знаки, в которых
зашифровывает свои послания Зевс, — и сделать это нелегко:
άλλοτε £' άλλοΐος Ζηι/ος ι/όος αι^γιόχοιο,
άρ^αλέος δ' ανδρεσσι καταθι/ητοισι ι/οήσαι.
Noos эгидодержавного Зевса различен в различное время,
и трудно смертным узнать [глагол noeö], каков он.
Гесиод. Труды и дни 483-484
И Гесиод тут же приводит пример: когда над землей
впервые разносится голос кукушки, это знак того, что скоро будет
дождь, а значит, можно начинать весенний сев (Труды и дни
485-492). Свои указания он завершает следующим образом:
ει/ θνμ<ί δ' εν πάντα φυλάσσεο- μηδέ σε λήθοι
μήτ εαρ ηινόμενον πολιοί/ μήθ' ωριός ομβρος.
Пусть западет это тебе в душу и не ускользнет от твоего
разума —
и приход седой весны19, и пора дождей.
Гесиод. Труды и дни 491-492
Выражение «пусть это не ускользнет от твоего разума»
предполагает, что в данном случае опять-таки подразумевается
слово sema. В действительности, у Гесиода есть очень схожее
место, где слово это присутствует непосредственно: когда над
землей впервые проносится крик улетающих журавлей ( Труды
и дни 448-449), это sema, «знак» (450) того, что скоро будут
дожди, а значит, можно начинать осенний сев (450-451).
В данном контексте принятое у Гомера выражение αρίζηλοι δε οί
aewyoti: «и легко различить всполохи света» можно связать с темой «Ока
Зевса» (присутствующей, например, у Гесиода в «Трудах и днях» 267; см.
предыдущее примечание).
На мой взгляд, эпитет πολιόι/ «седая» означает «облачная,
туманная» (здесь я расхожусь во мнении с М. Уэстом [West 1978: 279]),
подразумевая дождливые дни, в противовес эпитетам типа λευκόι/ «светлая»
(например, Феокрит 18.27), обозначающим ясную погоду.
280 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Теперь перейдем ко второму отрывку: в этом случае sema
Одиссею дает прорицатель Тиресий (Одиссея XI 126).
Повторю еще раз: наличие сразу же в той же строке выражения
«и он не укроется от твоего разума» подсказывает, что
получение знака неразрывно связано с его пониманием, узнаванием
(существительное noos, глагол noéo). Слово noos в данном
контексте на самом деле прямо соотнесено с понятием sema, но
внимание вновь сосредоточено одновременно и на зашифровке,
и на декодировании знака. В повествовании специально
подчеркнуто, что от всех psukhai, пребывающих в Аиде, дающий
Одиссею sema Тиресий (XI 126) отличен тем, что у него
сохранились способности к познанию — эти способности обозначены
словом phrénes (X 493). Причина в том, что Персефона
даровала ему noos (Χ 494)20. Тем самым подразумевается, что
благодаря своему noos Тиресий и смог закодировать свое sema —
а значит, Одиссею потребуется его собственный noos, для того
чтобы этот знак расшифровать.
Данный Тиресием Одиссею «знак», sema, на самом деле
наполнен двойным содержанием. Но прежде чем рассматривать
дальше этот случай, стоит еще раз вернуться к гесиодовскому
sema «знаку», а именно к крику улетающих журавлей,
который служит сигналом к началу осеннего сева ( Труды и дни 450-
451). Оказывается, что и на этот раз этот знак двойствен, ибо
время осеннего сева совпадает со временем, когда не следует
выходить в море (Труды и дни 618-623). Помимо прямого
противопоставления запрета «не плавай» (622) побуждению «сей»
(623), последнее указание усилено определением memnëménos
«с умом» (623, оно взято из выражения memnëménos arotou «сея
с умом» в 616-й строке), которое становится положительной
реализацией отрицательной конструкции oudé те/se/he léthei
«и это не ускользает от моего/твоего/его ума»21. Следует
полагать, что тот, кто сеет memnëménos «с умом», делает так
потому, что его noos способен понять значение журавлиного крика
и узнать, что наступает время пахоты, а время для плавания в
море прошло22. Точно так же и в случае с sema Тиресия:
выражение oudé se lesег «и это не ускользнет от твоего ума» как
См. подробнее выше с. 128.
См. выше с. 278, прим. 16.
Ср. Феогнид 1197-1202: поэт слышит крик журавля (1197-1198),
который предвещает людям начало осенней пахоты (1198-1199). Но сам поэт
Глава 8. SÊMA И NOES1S: МОГИЛА ГЕРОЯ 281
бы исподволь бросает вызов уму, по os, Одиссея, ибо сам по себе
знак двойствен — то, что моряк именует веслом, сухопутный
житель назовет лопатой для просеивания зерна (ср. Одиссея
XI 121-137, XXIII 265-284).
Впрочем, стоящее за этим знаком сообщение не содержит
двоякого смысла ни для моряков, ни для сухопутных жителей.
Первые, безусловно, могут отличить весло от лопаты, а
вторым, судя по описанию, только лопаты и известны. Скорее,
сообщение двойственно только по отношению к
путешественнику Одиссею, поскольку именно он увидит, что один и тот же
предмет может в двух разных местах «сигнализировать» о двух
разных вещах: моряк назовет веслом то, что сухопутному
жителю покажется лопатой. Для того чтобы узнать, что один и
тот же знак может нести в себе два разных сообщения,
Одиссей должен странствовать по многим городам многих народов.
И в своих путешествиях ему придется столкнуться с великим
множеством разных знаков:
πολλών 8' ανθρώπων ϊδεν αστεα και νόον εηνω
Он видел города многих людей и вызнал [глагол gignosko] их
noos.
Одиссея I 3
Эта строка превосходно описывает то, что должен совершить
Одиссей, следуя велению Тиресия:
...επεί μάλα πολλά βροτων επί άστε' ανω*γεν
ελθείν
...поскольку он [Тиресий] повелел мне [Одиссею]
отправиться в великое множество городов, где живут смертные.
Одиссея XXIII 267-268
Более того, сам финальный жест, которым Одиссей должен
воткнуть рукоятку весла в землю после того, как достигнет места,
грустен и беспомощен: он потерял свою землю из-за морского
путешествия, и он продолжает переживать произошедшее в своем уме (1202). В
контексте только что предложенной трактовки отрывков из «Трудов и дней»
Гесиода (450-451/618-623) можно предположить, что употребление Феог-
нидом того же корня тппё- («в уме» — 1202) подразумевает, что
журавлиный крик опять-таки воспринимается как sema, «знак». Подробнее о крике
улетающих журавлей как о «знаке», sêmay см. в [Nagy 1985а: 64-68], где
разобрано и это место из Феогнида, и другие связанные с ним фрагменты.
282 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
где жители примут весло за лопату, наполнен двойным
смыслом. Когда на празднике жатвы работник втыкает рукоять
лопаты в кучу зерна, это является формальным символом
того, что просеивание зерна закончено (ср. Феокрит 7.155-156)23.
Соответственно, воткнуть в землю рукоять весла означает, что
точно так же завершен и труд гребца. Пример тому — эпизод
с погибшим спутником Одиссея Эльпенором (Одиссея XI 75-78,
XII 13-15), чьей могилой должен стать курган, на вершине
которого следует водрузить его весло [Hansen 1977: 38-39]. Так
же обстоит дело и с Одиссеем: больше он уже не будет плавать
по морям. Более того, воткнутое в землю весло Одиссея
косвенным образом символизирует и его собственную могилу! Но все
же эта «могила» удалена от моря настолько, насколько это
возможно, а Одиссею предречено, что смерть настигнет его ex halos
«из моря» (XI 134). Чтобы разрешить эту проблему, вряд ли
следует пускаться в рассуждения о том, что ex halos каким-то
образом означает «вдали от моря»24. Вспомним о
двойственности полученного Одиссеем знака, sema. Пожалуй, этой
двойственности как нельзя лучше соответствует и такое «единство
противоположностей»: Одиссей обнаруживает знак своей
гибели, которая должна прийти к нему из моря, как раз в месте,
от моря максимально удаленном25.
23 См. [Hansen 1977: 38-39].
Ср. такую попытку в [Hansen 1977: 42-48].
Иные примеры характерного для сказаний об Одиссее «единства
противоположностей» (coincidentia oppositorum) см. в [Nagy 1979а: 206].
Той же чертой отмечены и истории о св. Илье в народной культуре
современной Греции. Его святилища стоят на вершинах холмов и гор, как
можно дальше от моря, а вел он жизнь моряка. Весьма проницательный
разбор этих историй, поразительно напоминающих сказание об Одиссее,
см. в [Hansen 1977: 27-41]. Там же обращено особое внимание на сообщения
о существовании в древности святилища, стоявшего на горе в Аркадии —
области, не имевшей выхода к морю. Согласно преданию, его посвятил
Афине Soteira «Спасительнице» и Посейдону (!) Одиссей в благодарность
за свое благополучное возвращение из-под Трои (Павсаний 9.44.4). Все
очень похоже и в случае со св. Ильей: по легенде его часовни стоят на
горах и холмах потому, что как-то на вершине холма его весло приняли
за «посох» [Hansen 1977: 29]. О том, что Одиссей с Афиной и Посейдоном
могут сосуществовать на уровне культа, противостоя друг другу на
мифологическом уровне, см. [Nagy 1979а: 121, 142-152, 289-295]. Разумеется, в
«Одиссее» антагонизм Одиссея и Афины по большей части присутствует
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 283
Но возникает вопрос: почему же sema, «знак» (Одиссея XI
126), данный Одиссею Тиресием, должен в конце концов стать
опосредованным символом могилы героя? Чтобы ответить на
него, давайте еще раз обратимся к семантике этого слова.
Помимо общего значения «знак», у sema есть и вполне конкретное
значение — «гробница, могила», которая обычно представляет
собой земляной курган (ср. sema в Илиаде XXIII 45 о гробнице
Патрокла, а в Одиссее XI 75 о могиле Эльпенора). На самом
деле мы уже сталкивались со случаями26, когда оба значения
могут пересекаться. Когда Нестор сообщает sema, «знак»
своему сыну Антилоху (Илиада XXIII 326), который поможет тому
выиграть приз на скачках колесниц, в центре этого сообщения
все время находится то, как Антилоху следует огибать
«поворотный столб» (XXIII 327-345). Весьма показательно, что в
самом тексте подчеркнута возможность того, что этот
поворотный столб является «могилой»:
η τεν σήμα βροτοιο πάλαι κατατεθνηώτος,
η τό je νύσσα τέτυκτο επί προτέρων ανθρώπων,
και νυν τέρματ εθηκε ποδάρκης 6ιος ΆχιΧΧενς.
Это или могила [sema] мужа, что умер давным-давно,
или он и прежде служил людям местом поворота.
А сейчас быстроногий блистательный Ахилл сделал его
поворотным столбом [térma во множественном числе].
Илиада XXIII 331-333
Дэйл Синос отмечает, что на общегреческих играх поворотные
столбы на состязаниях колесниц обычно считались
надгробными знаками на могилах героев [Sinos 1980: 53, прим. 6]. Павса-
ний (6.20.15-19) сообщает, что духа одного из таких героев
звали Тараксиппом, Tardxippos «будоражащий лошадей», и этот
Тараксипп нередко был причиной того, что на скачках
колесницы разбивались [Rohde 1898 1: 173, прим. 1]. Схожим образом
все происходит и на скачках в честь умершего героя Патрокла:
именно поворотный столб является тем местом, где Антилох
должен быть особенно внимательным, дабы не разбить свою
колесницу (XXIII 341-345].
в скрытом виде, но зато он, по всей видимости, должен был быть
характерен для поэтической традиции «Возвращений», Nostoi (впрочем, иногда
он заметен и в «Одиссее» — например, III 130 и далее, XIII 221 и далее).
26 См. выше с. 276-277.
284 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Д. Синос также замечает [Sinos 1980: 47], что с точки зрения
гомеровского эпоса гробница служит физическим
воплощением kléos, «славы» героя, которая является и предметом поэзии
(см., например, Одиссея IV 584). Общая гробница Ахилла и Па-
трок ла, которую будут видеть не только их современники, но и
многие будущие поколения ( Одиссея XXIV 80-84), и
погребальные игры в честь Ахилла (XXIV 85-92) — вот две явные
причины того, что слава Ахилла будет жить вечно (XXIV 93-94).
И в этой связи значимой оказывается этимология sema «знак,
гробница»: служа «знаком» погибшего героя, «гробница»
напоминает о нем и его славе, kléos. Вот почему sema «могила,
надгробный знак» «давно умершего мужа» (Илиада XXIII 331)
чрезвычайно подходит Ахиллу, чтобы сделать его поворотным
столбом на скачках колесниц в честь умершего Патрокла, чье
имя Patrokléës означает «тот, кто обладает kléos, славой
предков»27. Этот смысл, заложенный в имени Патрокла, усиливают
коннотации, связанные с выражением επί προτέρων ανθρώπων
«во времена древних людей» (XXIII 332). За данной фразой
встает эпоха, когда впервые мог быть использован поворотный
столб, который, в свою очередь, мог быть sema «гробницей»
некоего мужа, о котором сказано, что он «умер давным-давно»,
βροτοΐο πάλαι κατατεθνηωτος (XXIII 331). Вот что пишет об
этом месте «Илиады» Дэйл Синос:
Sema умершего мужа окажется воплощением той подсказки
(sema), которую получает от Нестора его сын. Скрытый смысл
sema — «гробница» — таким образом выходит на поверхность:
«намек» указывает на «могилу». И одновременно «могила»
становится «намеком» на присутствие Мертвеца, дух которого
пробужден Ахиллом. Можно ли появление давно умершего героя
соотнести с героем, только что погибшим, которому и
посвящена двадцать третья песнь «Илиады»? Ответом на этот вопрос
служит само имя Патрокла, Patro-kléës. Вечная тема обретения
kléos заново воплощается в фигуре Патрокла, а его имя связу-
ет воедино происходящее ныне в ходе эпического повествования
со славными деяниями героев прошлого. В образе Патрокла
заключена самая суть «Илиады», ибо за ним встают вечные
ценности kléos. Для нас даже одно только имя Patro-kléës служит
Подробнее о значении имени Patro-kléës «тот, кто обладает kléos,
славой предков» см. [Nagy 1979а: 102-103, 111-115, 177, 319]. Ср.
также выше с. 131.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 285
знаком, sema, этих вечных ценностей. Патрокл своей ролью в
поэме реализует смысл, заложенный в его имени, а имя
является ключевым воплощением традиции, наделяющей славой, kléos,
Ахилла и делающей всю «Илиаду» воплощением героического
настоящего, за которым стоит вечное прошлое. Традиция
невозможна без продолжения и возрождения в настоящем ценностей
предков. В мифе, mûthos, предок — это герой, действующий вне
времени. С точки зрения мифа Мертвец, упомянутый в 331-й
строке двадцать третьей песни, и Патрокл, которому посвящена
вся двадцать третья песнь целиком, — это параллельные друг
другу образы с параллельными функциями [Sinos 1980: 48-49].
Вспомним: в тексте «Илиады» специально подчеркнуто, что
поворотный столб на скачках колесниц в честь Патрокл а в
прошлом являлся либо таким же поворотным столбом, либо
«могилой», sema (XXIII 331-332). Если учесть, что всего лишь пятью
строками выше Нестор дает своему сыну «знак», sema (XXIII
326), становится ясно, что такое нарочитое упоминание sema
«гробницы» в качестве одного из вариантов отнюдь не
случайно и несет особый смысл. Не просто могила является знаком,
но уже упоминание о могиле может быть знаком само по
себе. Скажу иначе: sema — это напоминание, и употребить слово
sema — это и означает напомнить. Но дело эпического
повествования — предложить, а дело героя — отказаться или нет
от предложения. Если отбросить возможность того, что
поворотный столб — это sema, «могила» мертвого мужа, то sema,
«знак» Нестора говорит только о том, как совершить поворот.
А если все же принять эту возможность во внимание, то тот же
самый 5ета-«знак» дополнительно говорит и о 5ета-«могиле»,
напоминающей о kléos.
У нас есть основания полагать, что благодаря sema,
полученному от Нестора, Антилох способен увидеть в поворотном
столбе и собственно столб, и гробницу — точно так же, как
Одиссей, благодаря sema, полученному от Тиресия, способен
увидеть в весле и весло, и лопату для просеивания зерна. Все
дело в η ό os. Прежде всего, от по о s Нестора и Антилоха
зависит то, как один из них закодирует sema, а другой его,
соответственно, расшифрует:
μυθειτ εις ά^αθα φρονέων νοέοντι και αντ$
Он [Нестор] говорил с ним для его же блага, но и тот [Антилох]
тоже был внимателен [глагол noéô].
Илиада XXIII 305
286 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Недаром сказано не просто «был внимателен», а «тоже был
внимателен». Это каг «тоже» в данном случае подчеркивает,
что ηоos есть не только у того, кто кодирует сообщение, но и
у того, кто это сообщение расшифровывает. И когда приходит
время действовать самому Антилоху, причем в ситуации,
которую Нестор предварительно специально не оговаривал,
Антилох заявляет: «У меня будет noos» {νοήσω [глагол noeö], XXIII
415). И тут же он совершает рискованный маневр, обходя
более быструю колесницу Менелая (XXIIL 418-441), и делает это
настолько внезапно, что Менелай обвиняет его в безрассудстве
(XXIII 426; ср., кстати, описание неразумного возничего в речи
Нестора — XXIII 320-321). В этот момент Антилох позволяет
себе действовать импульсивно, но свой порыв он впоследствии
сам уравновешивает разумной сдержанностью в речах, когда
увещевает разгневанного Менелая, потребовавшего отобрать у
Антилоха награду, — ив итоге ему удается настолько
умилостивить противника, что тот по доброй воле уступает приз
Антилоху (XXIII 586-6И)28. Много лет назад в личной беседе
Дуглас Фрэйм обратил мое внимание на то, что порывистость
Антилоха в действиях и его же сдержанность в словах
удивительным образом соответствуют тому, как он пускает вскачь
правую и придерживает левую лошадь, огибая sema, — а
именно в этом и состоит «искусство noos», которому учил его
Нестор29. Получив награду, Антилох передает ее затем товарищу
с очень подходящим для данного случая именем Noêmôn,
форма которого является производной от все того же глагола поtö.
Ирония ситуации в том, что Менелай подвергает сомнению не что
иное, как noos Антилоха (XXIII 604, в ответ на тонко рассчитанное
осуждение Антилохом самого себя в XXIII 590). Я согласен с М. Детьенном и
Ж.-П. Вернаном [Détienne, Vernant 1974: 22-24, 29-31] — в противовес
мнению, высказанному в работе [Lesher 1981: 19, 24, прим. 38] — в том,
что Антилох, проявляя искусство в metis, скорее добивается успеха, а
не терпит неудачу.
Ср. выше с. 276 и далее. Я хотел бы отметить и весьма
интересную параллель в изображении, сохранившемся на мюнстерской гидрии, —
см. публикацию в [Stahler 1967]. На этой чернофигурной вазе кони,
впряженные в колесницу, поворачивают вокруг столба против часовой стрелки
(об изображении поворотного столба см. ниже с. 289-290); и в результате
у лошадей справа морды оказываются впереди, а у лошадей слева-сзади.
Создается впечатление, что весь порыв сосредоточен справа, а
сдержанности отдана левая сторона.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 287
Еще одним говорящим именем является имя самого Нестора,
чей noos и создает тот код, дешифровав который Антилох
получает необходимое ему сообщение. Дуглас Фрэйм
убедительно доказал, что Nés-iôr — это имя деятеля, образованное от
того же корня *nes-, от которого произведено и имя действия
noos30. Весьма значимо то, что Нестор тоже получает награду
от Ахилла, хотя старец и не принимал участия в состязании
колесниц. И по словам Ахилла, эта награда дается для того,
чтобы служить mnêma «напоминанием» о похоронах Патрокла
{НатрокХош τάφου μνήμ εμμεναί — XXIII 619)! Таким
образом повествование проходит законченный круг, в центре
которого sema, данное Нестором: им закодирован sema «знак» для
Антилоха, этот знак связан с поворотным столбом, поворотный
столб мог использоваться в качестве такового уже «во времена
предков» {επί προτέρων ανθρώπων XXIII 332), а мог быть sema
«гробницей» некоего «мужа, что умер давным-давно» (βροτοϊο
πάλαι κατατεθνηωτος XXIII 331). Такое описание намекает
на имя Patro-kléës «того, кто обладает славой предков», и этот
намек впоследствии материализуется в награду, которую
Нестор получает от Ахилла в качестве mnêma «напоминания» о
похоронах Патрокла.
Теперь возникает новый вопрос: как связаны подобные
ассоциации sema с семантикой слова noos? В своем
проницательном исследовании Д. Фрэйм доказывает, что noos является
именем действия, производным от индоевропейского глагольного
корня *nes-, который означает «возвращать(ся) к свету и
жизни». Значение корня, пожалуй, еще можно уловить и в имени
древнеиндийских Божественных Близнецов, Nasatyau,
благодаря которым рассвет сменяет ночь, приходящую с каждым
закатом31. Тот же корень дает и греческое néomai, правда, на
этот раз глагол означает просто «возвращаться», а не
«возвращаться) к свету и жизни». Но зато одним из
производных пеотаг является nosios «возвращение, приход домой», а
другим — не что иное, как noos\ В книге Д. Фрэйма также
показано, что тема «возвращения к свету и жизни» заново
возникает в «Одиссее» благодаря постоянному взаимодействию в
целостной структуре поэмы мотивов noos и nosios. Noos
Одиссея служит залогом его nosios «возращения домой», и всякий
30 [Frame 1978: 81-115]. См. также ниже с. 295 и далее.
31 [Frame 1978: 134-152]. Ср. выше с. 129 и далее.
288 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
раз, когда noos Одиссея сталкивается с опасностью leihe
«забвения» (как, например, при встрече с лотофагами)32, под угрозой
оказывается и nostos. Тема «возвращения», nostos, в «Одиссее»
имеет две стороны: во-первых, это, разумеется, возвращение
героя домой из-под Трои и, во-вторых, его возвращение из Аида.
Более того, тему нисхождения Одиссея в подземное царство и
его последующего «возвращения» (nostos) оттуда можно
соотнести с чередованием заходов и последующих восходов солнца
[см. Nagy 1979а: 296; ср. 1985а: 74-76]. Путь лежит от тьмы к
свету, от пребывания в бессознательном состоянии к обретению
сознания и разума, что и воплощено в понятии noos. Не
случайно герой спит, в то время как его во тьме везут на родину,
а рассвет наступает именно тогда, когда его корабль достигает
берегов Итаки (XIII 79-95)33.
Но все это еще не дает ответа на вопрос: как связан
рассказ о sema Нестора с семантикой слова noos? Частично на
него можно ответить, сопоставив семантику sema и nostos, явно
образованного от корня *nes-. Точно так же, как у sema есть
общее значение «знак» и частное значение «могила, гробница»,
понятие nostos тоже наделено общим смыслом —
«возвращение» (из-под Трои) и более частным значением — «возвращение
к свету и жизни» (из Аида)34. Этому особому значению nostos,
как кажется, соответствует и весьма показательное
употребление греческого глагола пеотаг (непосредственно восходящего к
корню *nes-) в замечательной фразе Пиндара:
αφνεος πενιχρός τε Θανάτου παρά
σάμα νεονται.
И богач, и бедняк возвращаются [глагол néomaî[, пройдя мимо
sema Смерти.
Πиндар. Немейские оды 7.19-20
Язык этой фразы очень напоминает терминологию конных
состязаний, в которой глагол пеотаг подразумевает «обратный
пробег» после того, как колесницы обогнут поворотный столб.
И снова, как и в случае с sema Нестора, поворотный столб —
См. выше с. 278, прим. 16.
33 [Frame 1978: 75-76, 78, ср. Segal 1962].
См. [Nagy 1985а: 74-81], где такое понимание обосновано также на
примере Феогнида 1123-1125 и других значимых в этой связи контекстов.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 289
это не только «знак», но еще и «знак Смерти», то есть —
вспомним гомеровскую картину — «могила».
Но в гомеровском описании скачек в честь умершего Па-
трокла sema — это и не только «могила», которая служит
«напоминанием» о «муже, что умер давным-давно». Это еще
и «знак», закодированный «разумом», nôos, Нестора, чье имя
Nés-tôr означает «тот, кто возвращает»35 (опять-таки ср.
Илиада XXIII 30536). В слове nôos присутствует идея загробной
жизни: доказательством тому может служить не только
этимологическое значение «возвращать к жизни и смерти», но и
реальное гомеровское употребление. Ведь именно nôos сохраняет
у psukhe «души» способность к познанию даже после смерти —
так было с пророком Тиресием (Одиссея Χ 492-494)37.
Иными словами, nôos — это свойство, благодаря которому psukhe
умершего может воссоединиться с thümos и ménos,
обозначающими те физические части тела, в которых заключено
сознание. Таким образом, nôos — это свойство, благодаря которому
psukhe может воссоединиться с телом38. И тем самым sema —
не только «знак» смерти, но еще и «знак» возможной жизни
после смерти. С этой точки зрения приведенное выше
высказывание Пиндара можно понять и так: «И богач, и бедняк
возвращаются к свету и жизни, проходя мимо sema Смерти». В
любом случае sema — некий указатель для nôos. Вот,
например, sema «могила» местного троянского героя Ила, на которой
Гектор «думает свои думы» (boulas bouleuei — Илиада Χ 415)39.
Или вот sema «гробница» «мужа, что умер давным-давно», с
которой, приближаясь к ней на колеснице, не должен сводить
глаз Антилох (XXIII 323), ожидая возможности использовать
свой nôos. Или вот у Геллеспонта как спасительный
путеводный маяк для плывущих в море высится sema «могила» Ахилла
и Патрокла, именуемая tëlephanês «чей блеск виден издалека»
Обоснование того, что в имени Nés-tôr от глагольного корня
сохранено значение активного залога см. в [Frame 1978: 96-115].
Цитату см. выше на с. 285.
См. подробнее выше с. 128 и далее.
См. выше с. 129 и далее.
Подробнее о boule «думе, планах» Гектора см. выше с. 270,
прим. 6.
290 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
(Одиссея XXIV 80-84; ср. Илиада XIX 374-380)40. На черно-
фигурной мюнстерской гидрии именно эта sema представляет
собой подымающуюся из земли сверкающую белую
яйцеобразную глыбу, изображенную на красном фоне. Над ней парит
psukhé самого Патрокла (маленькая человеческая фигурка
даже специально помечена — «душа» в написании ΦΣΥΧΕ), а в
то же самое время колесница Ахилла на полном скаку
мчится вокруг могилы, причем двигается против часовой стрелки,
а рядом с ней бежит и сам Ахилл41.
В целом получается, что связи, обнаруживаемые в
контекстуальном употреблении sema и noosy отражают не только
этимологическое значение noos — «возвращение к жизни и свету»,
но и этимологическое сходство sema с древнеиндийским dhyäma
«мысль». Не случайно, кстати, что родственная
древнеиндийская форма dhiyas «мысли» зафиксирована в качестве
обозначения того, что происходит в сознании людей в момент, когда
они пробуждают солнце и напоминают ему, что наступила пора
восхода — и одновременно в момент, когда восходящее солнце
напоминает людям, что пора пробуждаться и приносить
жертвы42. В свою очередь, этот мотив тесно связан с
древнеиндийскими представлениями о загробной жизни43.
Стоит напомнить, что сам Ахилл выбрал в качестве
поворотного столба для скачек то, что, по всей вероятности, являет-
См. [Nagy 1979а: 338-341]. В этой связи чрезвычайно интересно
описание культовых героев у Павсания (Описание Эллады 2.12.5): их
надгробные камни стоят на вершине холма и видны издалека. Прежде чем
начать совершение мистерий в честь Деметры, местные жители специально
обращают свои взоры к этим mnemata «памятникам», ες ταύτα βλέποντες
τα μνήματα, призывая героев снизойти к жертвенным возлияниям.
См. [Stähler 1967: 15, 32-33, 44]. Автор книги полагает, что
изображенные на гидрии скачки вокруг могилы Патрокла, во время которых
возничий спрыгивает с колесницы и бежит рядом, можно одновременно
понять и как спортивное состязание, и как ритуальное действо культового
почитания героя. См. также выше с. 123, прим. 17. Что касается
спортивной стороны, то нам известно, в частности, что во время Панафиней атлеты
исполняли такой трюк: в полном вооружении спрыгивали с мчащейся
колесницы, а затем вскакивали обратно — такого атлета называли apobatës
(ср. Диоиисий Галикарнасский. Римские древности 7.73, Гарпократион,
s.v.; также см. библиографию, собранную в [Connor 1987: 45]).
См. выше с. 155 и далее.
См. выше с. 158 и далее.
Глава 8. SÊMA И NOESIS: МОГИЛА ГЕРОЯ 291
ся sema «гробницей» (Илиада XXIII 333). Получая из рук
Ахилла награду, Нестор говорит, что это наполняет его радостью:
ως μεν άεϊ μέμι/ησαι ενηέος, ουδέ σε λήθω,
τιμής ης τέ μ' εοικε τετιμησθαι μετ Άχαιοΐς.
ибо ты всегда помнишь обо мне, к тебе расположенном, и не
ускользаю я из ума твоего,
всякий раз когда дело доходит до почестей, что положены мне
среди ахейцев.
Илиада XXIII 648-649
Из сказанного следует, что и Ахилл обладает по о s: благодаря
ему он, во-первых, выбрал поворотный столб, а во-вторых,
почтил Нестора наградой, ибо тот, уже с помощью своего по os,
узнал в поворотном столбе sema «могилу». Нестор молит
богов наградить Ахилла за то, что тот наградил его (XXIII 650),
и в самом конце молитва названа в тексте ainos (XXIII 652).
Сейчас вряд ли уместно давать подробный разбор того, что в
поэзии именуется ainos, так что я позволю себе только краткое
резюме. Словом ainos называется еложноустроенный
поэтический текст, претендующий на награду или воздаяние, цель
которого — исключительно в прославлении сильных мира сего.
В этом тексте в рамках одного и того же кода всегда
заключено два или более сообщения [см. Nagy 1979а: 235-241]. И эта
последняя особенность делает aînos Нестора в полной мере
соответствующим sema, «знаку» Нестора.
Вполне можно сказать, что ainos Нестора, по сути, и есть
sema и что сама поэзия может быть sêrna**. В гомеровском
тексте это порой становится очевидным благодаря уравниванию
épos «слова, высказывания» с sema. Так, например, Одиссей
молит Зевса дать ему и знамение, и phêmë «пророчество» в
доказательство того, что он одержит победу над женихами
(Одиссея XX 98-101). В ответ Зевс посылает и молнию (103-104), и
phémë (105). «Пророчество» вложено в уста рабыни, которая
мелет зерно на мельнице: она молит Зевса наказать женихов
за то, что те сделали ее труд нестерпимо тяжелым (105-119).
Речь рабыни в самом ее начале обозначена словом epos (111),
и в том же стихе специально оговорено, что для Одиссея она
4 Не случайно, что и родственное sema древнеиндийское dhyä-/dhi-
«думать» и его производное dhiyas «мысли» могут обозначать и
поэтическое вдохновение (см. выше с. 155 и далее).
292 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
является sema, «знаком». То, что речь женщины
воспринимается как поэзия, очевидно не только исходя из параллелей к ней
в Carmina Popuiaria (PMG 869), но и из особенностей
употребления самого слова epos, которое в архаических поэтических
текстах обозначает не просто «высказывание», но и, в
частности, «высказывание поэтическое» [см. Koller 1972; а также
Nagy 1979а: 236, 272]. И опять-таки способность расшифровать
подобный словесный «знак» (sema) выражается словом noos*5.
Например, когда Зевс подтверждает свою волю мановением
головы, Гера корит его за то, что он не говорит, что это значит,
не хочет выразить в слове (épos) то, что у него на уме (глагол
noéô — Илиада I 543). Зевс отвечает: он один должен знать,
что за mûthos «слово, высказывание» он хранит в своем noos
(глагол noéô I 549). Но, разумеется, это известно и
гомеровской аудитории, поскольку уже самое начало «Илиады»
содержит программное утверждение: ее сюжет и есть Воля Зевса (I
5)46. В это смысле вся «Илиада» есть не что иное, как sema,
в котором закреплена Воля Зевса.
Естественным образом завершение этой части исследования
становится прелюдией к новым исследованиям, поскольку
главный вывод, к которому мы пришли, таков. Все, что греческая
поэзия рассказала нам о sema и noësis, — это урок того, как
такую поэзию следует читать. Стихотворное произведение
греков — это всегда sema, «знак», требующий от своих слушателей
noësis «узнавания, понимания»47.
Ср. иные примеры, где способность расшифровывать словесные
знаки тоже выражена с помощью глагола noéô — Илиада VII 358, XII 232.
Об этом см. [Nagy 1979а: 81-82, прим. 2] со ссылками на
литературу вопроса.
То же относится и к поэтическим речениям оракула Аполлона в
Дельфах: ср. Феогнид 808 и Гераклит В 93 DK. Хотелось бы сослаться
еще на один поэтический пример, суть которого можно охарактеризовать
как sema — причем не только в значении «знак», но и в значении
«гробница». Феогнид в стихах 1209-1210 (цитату см. ниже на с. 353), похоже,
намекает на то, что его поэзия станет и его sema «гробницей,
надгробным памятником». См. комментарий к этому месту в [Nagy 1985а: 76-81];
ср. также [Svenbro 1988а: особ. 96].
Глава 9
ФАЭТОН, ФАОН —
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
САФО И БЕЛАЯ СКАЛА
ЛЕВКАДА: «ЧТЕНИЕ»
СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ
ЛИРИКИ
В загадочных греческих мифах о Фаэтоне и Фаоне есть
мотивы, которые способны помочь в разрешении сразу трех
проблем, возникающих при интерпретации древнегреческой
поэзии. С первой из них мы сталкиваемся, разбирая парфений
Алкмана (PMG 1). Красота Агесихоры — девушки, к которой
приковано внимание в поющем и пляшущем хоре, —
сравнивается в нем с неким чудесным конем:
δοκέ î yàp ημεν αυτά
εκπρεπής τώς ωπερ αϊτις
ει/ βοτοΐς στάσειεν ϊππον
waybv άεθλοφόρον καναχάποδα
των νποπετρίδίων ονείρων
И настолько она
выдается среди других, как если бы кто-то
поместил среди пасущейся домашней живности звонкокопытно-
го коня,
с прекрасной статью, стяжателя наград,
из снов, что из-под низа скалы.
Алкман PMG 1.45-49
Итак, вопрос в том, что означает слово ύποπετριδίωι/? Я
перевожу его «из-под низа скалы», следуя комментарию схоли-
ев к Луврскому папирусу, где это прилагательное связывается
с πέτρα = pétra «скала». При этом комментатор ссылается
на место из «Одиссеи»:
294 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
παρ δ" ϊσαν Ωκεανού τε ρ οας και Αενκάδα πετρην,
ηδε παρ' ΉεΧίοιο πνλας και δήμοι/ 'Ονείρων
И они прошли мимо потоков Океана и мимо Белой Скалы [Leukâs
pétrâ],
и мимо Ворот Солнца, и мимо Области Снов.
Одиссея XXIV 11-12
Такая трактовка была отвергнута Деннисом Пэйджем,
полагающим, что «ссылка на "Одиссею" XXIV 11-12 ничего не
дает: ведь там не сказано, что сны живут "под скалой"» [Page
1951: 87]. Со своей стороны, Пэйдж предлагает согласиться с
трактовкой, содержащейся в «Большом Этимологике» (783.20),
где мы читаем ύποπτεριδίων с объяснением, что слово означает
«поддерживаемый крыльями». В таком случае следует
полагать, что чудесный конь в парфении Алкмана взят «из
крылатых снов»: в доказательство Пэйдж приводит примеры, в
которых сны изображены некими крылатыми созданиями
(например, Еврипид. Гекуба 70)1. Тем не менее в своем издании
Пэйдж сохраняет чтение ν-κο-κετριδίων, так что остается только
предполагать, что в данном случае почему-то произошла
метатеза, и ύποπτερίδίων превратилось в ύποπετριδίων, как если
бы в местном лаконском диалекте слово «крыло» было
принято произносить petr-, а не pter-. Потому другие
специалисты с неохотой допускают понимание «из-под скалы»,
ссылаясь на якобы существовавшее в лаконской поэтической
традиции расплывчатое представление о том, что сны обитают под
некоей таинственной скалой. В итоге в наиболее популярном
собрании греческой лирики издатель предпочитает переводить
ύποπετριδίων буквально, при этом объясняя его простейшим
образом: «это сны людей, отдыхающих в полуденный зной под
сенью скалы»2.
Соответственно, возникает вторая проблема: что имеется
в виду под Белой Скалой, Leukâs péira, в «Одиссее» XXIV
11-12? Упоминание этого таинственного места следует
поместить в общий контекст описываемого в «Одиссее» XXIV 1-
14 пути душ женихов Пенелопы, только что убитых Одиссе-
1 [Page 1951: 87]
[Campbell 1976: 203]. Я полагаю, что автор находился под
впечатлением подобных описаний, содержащихся, например, в «Трудах и днях»
Гесиода (588-589).
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 295
ем, в подземное царство. Это описание, традиционно
называемое вступлением ко второй сцене в Аиде (Nékyia), можно
считать самостоятельным субжанром греческого эпоса. Он
отмечен определенным постоянством тем и словесного выражения3 и
своим содержанием способен существенно прояснить греческие
представления о загробной жизни. Нигде больше в
гомеровском тексте мы не встречаемся с загадочными упоминаниями о
Ήελίοίο πύλας «Вратах [piilai\ Солнца», δήμοι/ 'Ονείρων
«Области [démos] Снов» и Αενκάδα πετρην «Белой Скале [Leukas
péira]». Однако мы можем обнаружить некоторые параллели
к двум из трех подобных выражений на уровне содержания
гомеровских поэм.
Что касается ΉεΧίοιο πνλας «Врат [pulai\ Солнца», то слово
pulai «ворота» можно тематически соотнести с названием
гомеровского Пилоса, Pillos. Дуглас Фрэйм показал, что и за именем
царя Нестора — Nés-tôr, и за названием его вотчины — Pulos
«Пилос» стоят мифологические модели [Frame 1978: 81-115].
Я хотел бы сразу же подчеркнуть, что аргументы Д. Фрэйма
вовсе не направлены на то, чтобы опровергнуть свидетельства
об историческом Несторе и историческом Пилосе; они просто
призваны показать, что ядром эпической традиции о Несторе
и Пилосе были местные мифы, связанные с местными
культами. Наиболее очевидным примером является рассказанная
самим Нестором история о том, как он возвратил в Пилос стада,
похищенные эпейцами (Илиада XI 671-761). Д. Фрэйм весьма
убедительно доказывает, что эти стада представляют собой
тематическую параллель к представлению'о Коровах Солнца4. В
См. соответствующий разбор в [Page 1955: 116-119]. Для
некоторых исследователей (включая самого Д. Пэйджа) подобная внутренняя
неизменность служит доказательством того, что этот отрывок «Одиссеи»
является позднейшей вставкой и никак не соответствует тому-месту,
которое он занимает в повествовании. Не могу с этим согласиться: на мой
взгляд, эпический жанр неизбежно включает в себя разнообразные под-
жанры, каждый из которых отмечен темами и словесным выражением,
свойственными именно ему. См. в [Householder, Nagy 1972: 741-743]
обоснование идеи, согласно которой любой эпический субжанр (такой отдельной
составляющей эпического текста являются, например, развернутые
сравнения) отличается своими характерными архаизмами и новациями.
[Frame 1978: 87-90,92]. Подобно Нестору, возвращающему свои стада
в Пилос, действует и еще один персонаж «Одиссеи» Меламп, о солярной
символике которого см. [там же: 91-92].
296 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
связи с этим показательна предложенная Д. Фрэймом
этимология имени Nestor — «тот, кто возвращает к свету и жизни»5.
Мы уже обращали внимание на то, что слова, образованные от
корня *nes-, соотносятся с темой восхода солнца6. На самом
деле, все повествование о странствиях Одиссея пронизано
лексикой, в иных случаях связанной с описанием смены закатов
и восходов. Можно выразиться и более прямо: в основе всего
повествования о странствиях Одиссея лежит метафора
солнца: тот же Д. Фрэйм продемонстрировал это в своем разборе
содержательной и словесной структуры гомеровского текста7.
Схожим образом история о том, как Нестор вернул свои
стада в Пилос, подразумевает, что Пилос — это Врата Солнца и
одновременно вход в подземный мир [Frame 1978: 92-93].
Следы такого сакрального истолкования обнаруживаются в
местных пилосских преданиях классической эпохи (см. Павсаний.
Описание Эллады 4.36.2-3)8. В гомеровских отсылках к мифу о
нисхождении Геракла в подземное царство и ранении им самого
Аида (Илиада V 395-404) название Пилос в действительности
тоже скорее связано с неким местом в ином мире, а не с какой-
то реальной областью из мира живых:
εν Πν\ω εν νεκνεσσι
в Пилосе, среди мертвых.
Илиада V 397
Сам Аид именуется pulariës «привратником» (Илиада VII 367
и т.д.). Короче говоря, связанные с Пилосом (Pulos) мотивы
указывают на то, что Врата Солнца одновременно являются и
Вратами подземного мира, — можно считать это тематической
параллелью к упоминанию о ΉεΧίοεο πύλας «Вратах [pulai\
См. выше с. 287 и далее.
См. выше с. 129. Ср. также с. 287 и далее, опять-таки со ссылкой
на прослеженную Д. Фрэймом [Frame 1978] традиционную тему, в
которой восход становится символической параллелью к обретению человеком
сознания, которое в греческом обозначается словом nôos.
См. особ. [Frame 1978: 75-76, 78], где анализируется фрагмент
«Одиссеи» XIII 79-95, в котором «возвращение» Одиссея совпадает с восходом
солнца, и именно в этот момент герой наконец пробуждается от сна,
подобного смерти: в нем он пребывал на протяжении всего ночного плавания
с острова феаков домой. Ср. выше с. 288, а также [Segal 1962].
Конкретные данные см. в [Frame 1978: 90-91].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 297
Солнца» в «Одиссее» XXIV 12. Соответственно, и другое
гомеровское выражение πνλας % Αιδοίο περήσειν «проходить
вратами Аида» (Илиада V 646; ср. XXIII 71) подразумевает, что
psükhai «души» умерших идут в подземный мир тем же путем,
по которому проходит солнце после заката.
Что касается δήμον 'Ονείρων «Области [démos] Снов»
(Одиссея XXIV 12), то представление о некоей обители снов,
расположенной за Вратами Аида, тематически согласуется и
с другими гомеровскими выражениями, где речь идет о снах.
Когда человек умирает, его psükhe улетает ήντ ονειρος
«подобно сну» (Одиссея XI 222). Гермес, сопровождающий в
подземный мир psûkhaг умерших женихов (Одиссея XXIV 1), также
именуется и ή^ήτορ* ονείρων «проводником снов» (Гимн к
Гермесу 14). Поскольку именно Гермес проводит psûkha г женихов
мимо Врат Солнца (Одиссея XXIV 11), показательно, что
одним из его традиционных эпитетов является pulëdokos (Гимн
к Гермесу 15), который следует трактовать как «тот, кто
принимает [psükhai] у Врат»9. Это Врата Аида, но их же можно
назвать и Вратами Солнца. Но для этих ворот есть и еще
одно имя. Поскольку Гермес служит проводником не только
для призраков умерших, но и для снов и поскольку сны
движутся, подобно призракам, не удивительно, что и у снов тоже
есть «врата» (Одиссея XIX 562; ср. IV 809)10. ΉεΧίοω πύλας
«Врата [pulai] Солнца» в «Одиссее» XXIV 12 уже присутствуют,
и потому можно предположить, что δήμον 'Ονείρων «Область
[démos] Снов» в той же строке перифрастически замещает еще
одно упоминание о «Вратах» — на сей раз из представления
о «Вратах Снов».
Но Αενκάδα πέτρην «Белой Скале [Leukas pétrâ]» (Одиссея
XXIV 11) параллелей в содержании и словесном выражении
гомеровских поэм не находится вовсе. Ее присутствие рядом с
Этот эпитет можно привести в качестве примера, опровергающего
мнение Д. Пэйджа о том, что Гермес выступает в роли психопомпа только
в двадцать четвертой песне «Одиссеи». Ср. также [Whitman 1958: 217-218]
по поводу двадцать четвертой песни «Илиады».
«Сны» в «Одиссее» XIX 562 именуются οιμενηνων «лишенными
жизненной силы [теп о s]»; в контексте наших рассуждений значимо, что в
других местах «Одиссеи» этот эпитет употребляется только по отношению
к мертвым (ι/εκύωι/ οιμει/ηνά κάρηνα — Χ 521, 536; XI 29, 49).
298 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
δήμοι/ 'Ονείρων «Области [démos] Снов» (XXIV 12) кажется
связанным с выражением νποπετριδίων ονείρων «из снов из-под
низа скалы» в парфении Алкмана (PMG 1.49) — это все, что
мы пока можем сказать.
Как только мы начинаем искать упоминания о Leukâs pétra
«Белой Скале» за пределами гомеровских поэм, мы
сталкиваемся в ее истолковании с третьей проблемой, на сей раз
связанной с Белой Скалой и персонажем по имени Фаон:
ου 8η Χέζεται πρώτη Σαπφώ
τον νπέρκομπον θηρώσα Φάων
οιστρώντι πόθω ριφαι πέτρας
από τηΧεφανονς αΧμα κατ εύχήν
σήν, δέσποτ αναξ, ευφημείσθω
τέμενος πέρι Αενκάδος ακτής.
где, говорят, Сафо,
преследуя гордого Фаона, была первой,
кто бросился в исступлении страсти со скалы,
что сияет издалека. Но теперь, по твоей заповеди,
царь и владыка, да разольется молчание
над священной областью Левкадского мыса.
Менандр, фр. 285 К11.
Этот фрагмент, содержащий в себе намек на историю о том,
как Сафо от любви к Фаону прыгнула со скалы в море, взят из
пьесы Менандра «Левкадия». Из отрывка следует, что Сафо
бросилась с Белой Левкадской скалы в погоне за Фаоном. Эти
стихи известны нам благодаря Страбону (10.2.9 С452). У
греческого географа они включены в описание Левкадского мыса,
огромной белой скалы у побережья острова Левкада,
выдающейся в море в сторону Кефаллении12. По легенде, с этой
самой скалы Сафо и бросилась в море из-за Фаона. Далее Стра-
бон описывает находящееся на этом мысе святилище Аполлона
Левкадского и особенности отправления связанного с ним
культа предков. По его свидетельству, каждый год с белой скалы в
море сбрасывали преступника, дабы отвратить зло, αποτροπής
Этот отрывок, вероятнее всего, взят из вступительных анапестов
к пьесе (схолии к трактату Гефестиона «О поэтических произведениях
(περί ποιημάτων)» 6.3).
Заселившие остров коринфяне назвали весь остров Левкадой по
этому мысу: ср. Страбон 10.2.8 С452.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 299
χάριν (там же). К его телу привязывали крылья и даже птиц,
а внизу в рыбачьих лодках ждали люди, чтобы подобрать
жертву после падения в море (там же).
Как справедливо утверждал Виламовиц [Wilamowitz 1913:
25-40], Менандр выбрал фоном для своей комедии место,
известное своеобразием культовых обычаев, а в процитированном
отрывке связал его с литературной темой, в которой тоже
фигурировала белая скала. Существуют еще два примера
использования этой темы в литературе. Первый взят из лирики:
αρθείς δηντ από Αευκάδος
πέτρης ες πολιοί/ κύμα κολυμβω μεθύωι/ ερωτι.
Опять, прянув в воздух, вниз с Белой
Скалы лечу я в седые волны, опьяненный страстью.
Анакреонт PMG 376
Второй — из сатировой драмы:
ως εκπιειν η αν κύλικα μαινοίμην μίαν,
πάντων Κυκλώπων <μή> αντιδούς βοσκήματα1 ,
ρίφαι τ ες αλμην Αευκάδος πέτρας άπο,
απαζ μεθυσθεις καταβαλών τε τας οφρυς.
ως ος ηε πίνων μη "γέ*γηθε μαίνεται·
Я спятил бы, когда б не отдал все стада Циклопов
за то, чтоб выпить одну чашу [этого вина],
а потом прыгнуть с белой скалы в соленую пучину,
опьяненным, со смеженными веками.
Кто не радостен, когда пьет, тот безумен.
Еврипид. Циклоп 163-168
В обоих случаях падение с белой скалы приравнивается к
тому, что человек впадает в беспамятство — или напившись,
или от любви. Что касается намека Менандра на историю Са-
фо, то Виламовиц вполне обоснованно предполагал, что
подобная тема должна была присутствовать и в поэзии Сафо — хотя
ее и нет в сохранившихся фрагментах. Она могла быть вплетена
в рассказ женщины о безумном любовном влечении к некоему
Фаону — по крайней мере, так все могло восприниматься во
1 См. в [Wilamowitz 1913: 30-31, прим. 2] обоснование конъекту-
рального восстановления <μή> в этой строке; убежденный Виламовицем,
А. Дитерих [Dieterich 1913: vii] отказался от чтения без <μ^>, которого
он придерживался ранее.
300 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
времена Новой Комедии [Wilamowitz 1913: 33-37]. Итак,
третий и последний вопрос: откуда взялось представление о том,
что Сафо была влюблена в мифический образ?
О самом Фаоне у нас практически нет никаких сведений,
кроме жалких свидетельств, собранных Фойгтом в его
издании фрагментов Сафо (фр. 221 V). Оказывается, он был
старым porthmeus «перевозчиком, паромщиком», которого
Афродита превратила в юного красавца; затем сама же богиня и
влюбилась в красавца Фаона и спрятала его в кочане латука.
Этот мифологический сюжет специально упоминается
комедиографом Кратином (fr. 330 Коек), но Афиней (69d-e) приводит
удивительные параллели из Эвбула (fr. 14 Коек) и Каллимаха
(fr. 478 Pfeiffer), согласно которым Афродита прятала в
кочане латука еще и Адониса. Тематический параллелизм между
Афродитой и Фаоном, с одной стороны, и Афродитой и
Адонисом, с другой, становится еще более важным, стоит только нам
обратиться к другому мифу об этой, второй паре.
В седьмой книге своего мифографического собрания
Птолемей Хенн (ок. 100 г. н.э.; излагается по «Библиотеке» Фотия
152-153 Bekker)14 рассказывал, что первой с кручи Левкадского
мыса в море бросилась не кто иная, как сама Афродита, из-за
любви к погибшему Адонису. После того как Адонис умер (как
это произошло, не сказано), скорбящая Афродита отправилась
на его поиски и в конце концов нашла его в «кипрском
Аргосе» в святилище Аполлона Эрифия (Erithios). Она обращается
к Аполлону за советом, и тот велит ей искать избавления от
любви, прыгнув с белой Левкадской скалы, на которой обычно
Зевс ищет убежища от страсти Геры. Затем Птолемей
пускается в перечисление всех тех, кто последовал примеру Афродиты
и на самом деле прибегнул к ритуальному прыжку со скалы,
дабы излечиться от любви. Так, например, о царице Артеми-
сии рассказывали, что она прыгнула с белой скалы из-за любви
к некоему Дардану, но в итоге погибла, и только. Называют и
еще несколько имен погибших таким образом. Среди них —
один ямбограф, которого звали Харином: он испустил дух уже
после того, как его выудили из воды со сломанной ногой, но
перед смертью успел выпалить свои последние четыре триметра,
14 См. [Westermann 1843: 197-199].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 301
которые с тяжелым сердцем (но с весьма лестными
комментариями) нам пересказал Птолемей (а с ним и Фотий). Человеку
по имени Макес повезло больше: успешно избавившись от
четырех сердечных неприятностей посредством четырех прыжков
со скалы, он даже заслужил прозвище Leukopeträs. Конечно,
можно вслед за Виламовицем подвергать сомнению
историческую достоверность подобных свидетельств [Wilamowitz 1913:
28], но гораздо важнее другое. В пространном и весьма
подробном списке Птолемея вовсе не упомянута Сафо, не говоря уж
о Фаоне. Это молчание убеждает меня в том, что источник
данного мифа об Афродите и Адонисе никак не был связан с
поэзией Сафо или даже с более поздними перетолкованиями ее
наследия15. А значит, причины того, что влюбленные
бросались вниз со скалы на Левкадском мысе, можно искать в
местном древнем культовом обряде бросания в море преступника,
описанном Страбоном (10.2.9 С452), — кстати, географ в том
же месте своего сочинения упоминает и обычай, когда со скалы
прыгали влюбленные. Выглядит все так, как если бы второй
обычай стал продолжением первого, как это часто бывает со
жреческим установлением, которое с течением времени все
более отрывается от породившего его социального контекста.
Когда религиозные установления перестают выполнять свои
исходные родовые функции, они перерождаются и дают толчок к
развитию неких мистических сообществ16.
Еще одной причиной для сомнений в том, что именно поэзия
Сафо подтолкнула влюбленных начать прыгать с Левкадского
мыса, является отношение к этой идее самого Страбона. Он
специально опровергает слова Менандра о том, что Сафо
была первой, кто бросилась вниз с Левкадской скалы. Взамен он
ссылается на авторитет arkhaiologikoteroi «тех, кто более сведущ
в древних преданиях», а они утверждали, что первым прыгнул
Кефал, сын Дейонея, движимый любовью к Птереладе (Стра-
бон 10.2.9 С452). Опять-таки я не вижу причин просто полагать,
как это делает Виламовиц [Wilamowitz 1913: 27], что подобный
миф об исторической Левкаде (Leukas) возник в результате
переосмысления каких-то элементов культа под влиянием поэзии
Здесь я не согласен с Виламовицем [Wilamowitz 1913: 28].
Четкий анализ этой общей тенденции см. в [Jeanmaire 1939:
особенно с. 310 по поводу мистерий].
302 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Сафо. Миф о Кефале и его прыжке в море может быть столь
же древним, сколь и представление о Leukas, Белой Скале. Я
говорю «представление» потому, что за ритуалом сталкивания
жертв вниз с белой скалы (как это было на Левкаде) вполне
может стоять наследие, параллельное традиционному эпическому
образу (каким он является в «Одиссее» XXIV 11) мифической
Белой Скалы на берегах Океана и связанному с этим образом
литературному мотиву прыжка с воображаемой Белой Скалы
(каким мы его видим у Анакреонта или Еврипида). Иными
словами, не стоит утверждать, что ритуал предшествовал
мифу или, наоборот, миф ритуалу.
На самом деле мы располагаем историческими
свидетельствами, что не только Левкадский мыс был связан с мифами
о прыжках в море. Например, Харон Лампсакский (пятый век
до н.э.)17 сообщает, что основатель Лампсака Фокс из рода Ко-
дридов был первым, кто бросился «с Белых Скал» — по всей
видимости, расположенных на северном берегу Смирнского
залива, неподалеку от Фокеи18. Также можно вспомнить и миф
о смерти Тезея. Ликомед столкнул его в море с высоких скал
острова Скирос (так, по свидетельству Павсания 1.17.6,
рассказывал Гераклид; см. также схолии к «Богатству»
Аристофана 627). Эти белые скалы и дали название острову — Skûros
[LSJ: s.w. skûros и skiros/skirros]19. В действительности, миф о
Свидетельство Харона приводит Плутарх. О доблести женской
255а-е.
18 См. комментарий Ф. Якоби в [FGH: 262, fr. 7, р. 16].
Исходное значение skiros «твердая скала» (откуда развиваются
значения «мел, гипс») присутствует в приводимом Аристархом варианте
чтения гомеровских стихов из «Илиады» XXIII 332-333. Нестор указывает в
качестве ориентира на ствол старого дерева (XXIII 326-328) и добавляет:
Хае δέ τον εκάτερθεν ερηρέδαται δύο λευκώ
с двух сторон от него подпирают его два белых валуна.
Илиада XXIII 329
В тексте гомеровской вульгаты (Илиада XXIII 331-333) образ
подпирающих ствол двух белых камней поясняется как то, что издревле было либо
«могилой», либо «поворотным столбом» (см. цитату выше на с. 283).
Аристарх заменяет строки 332-333, в которых говорится о поворотном
столбе, на один стих:
ηε σκΐρος εην· ννν αν θέτο τέρματ ΆχιΧλενς
или это был skiros, a теперь Ахилл сделал его поворотным столбом.
В «Гераклейских таблицах» (DGE № 62.19, 144) skiros обозначает екали-
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 303
Тезее пронизан темами, которые реализуются в словах,
образованных от skûros/skîros. Даже «дедушку» Тезея и того зовут
Skûrios (Аполлодор 3.15.5), а сам Тезей сбрасывает Скирона
(Sktrön) с Sklrônides pétrai «Скироновых скал» (Страбон 9.1.4
С39; Плутарх. Тезей 10; Павсаний 1.33.8)20. Сейчас я хотел бы
только заметить по ходу дела, что различные прыжки в море,
присутствующие в мифах о Тезее и его «отце» Эгее21, имеют
явно ритуальную природу и что в соответствующих ритуалах
и мифах подспудно присутствуют идеи гибели в состязании и
последующего мистического возрождения22.
В данный момент меня гораздо больше занимает тот факт,
что во всех только что перечисленных мифологических
примерах тема любовной тоски не фигурирует в качестве причины
прыжка со скалы. Но зато с Thorikios pétros «Скалой
Скачков» в Колоне в Аттике связан гораздо более глубинный
сексуальный мотив. Само название Колон означает «вершина», и
при этом оно постоянно ассоциируется, в том числе и
словесно, с белым цветом и сиянием (аруήτα Κο\ωνόν — Софокл.
Эдип в Колоне 670). Что же касается названия Thorikios, то
с формальной точки зрения оно образовано от
существительного ihoros «семя» (см., например, Геродот 2.93.1) через
прилагательное thorikos] в свою очередь, существительное ihoros
стую местность, где нельзя сеять и где растут только дикие деревья.
Содержательный разбор слов с корнем skïr- см. в [Robert 1885].
От Павсания (Описание Эллады 1.33.8) мы узнаем, что у Скироно-
вой скалы было свое имя: она называлась Молурида и была посвящена
Левкотее, Белой Богине — о ней см. [Nagy 1985а: 79-81]. Именно с этой
скалы Левкотея бросилась в море со своим «сыном» Меликертом
(Павсаний 1.44.7). На вершине Молуриды стояло святилище Зевса Афесия,
«Отпускающего» (Павсаний 1.44.8).
Интересно, что если Тезея со скалы сталкивает Ликомед, Lukomedës
(Гераклид в пересказе Павсания 1.17.6, схолии к «Богатству» Аристофана
627), то Дионис бросается в море из страха перед Ликургом, Lukoûrgos
(Илиада 130-141). При этом знаменательно описание того, что случилось
с Дионисом, нырнувшим в морскую пучину: Θέτι,ς δ' ύπεδέζατο κόλπω «и
Фетида приняла его в свое лоно» (136). О ритуальном смысле «волчьей»
(греч. 1ико~) темы см. [Jeanmaire 1939: 581].
22 Подробнее см. [Jeanmaire 1939: 324-337]. Следует в принципе
подчеркнуть параллелизм между обрядом инициации в сфере ритуала и
темой смерти в области мифа. Ср. [Nagy 1986а]. В связи с темой
возрождения в «Одиссее» я хотел бы привлечь внимание к самобытной
работе [Newton 1984].
304 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
образовано от аориста thorein глагола throiskô «прыгать,
скакать» [DELG: 444]. Впрочем, уже у самого глагола есть
побочное значение «покрывать, оплодотворять». Исходя только
из формы Thorikios, трудно сказать наверняка, могла ли она
одновременно подразумевать и прыжок, скачок, и
оплодотворение. Однако особенности употребления родственной ей формы
Thorikos заставляют предполагать, что семантика прыжка была
действительно актуальной. Это же самое слово Thorikos было
названием города и области Торик на юго-восточном побережье
Аттики (Аполлодор. Мифологическая библиотека 2.4.7),
которыми правил Кефал, сына Дейонея, — а мы помним, что, по
свидетельству Страбона (10.2.9 С452), Кефал был первым, кто
прыгнул с белой Левкадской скалы23.
В мифологии Колона тоже встречаются сексуальные
мотивы, так или иначе связанные с белой скалой. Посейдон как-то
заснул в этих местах и во сне изверг свое семя, от чего на свет
произошел конь по имени Skïronitës:
αΧΧοι 6έ φασιν οτι περί τους τετ ρους του εν Αθήναις
Κολωνού καθευδήσας άπεσπέρμηνε καΐ ϊππος Έκύφιος
έξήλθεν, 6 και Έκιρωνίτης2* λεγόμενος
А другие говорят, что по соседству со скалами Колона в
Аттике он [Посейдон] во сне изверг семя, и вышел конь Скифии
(Skuphios)y которого также называют Скиронит (Sklrönites).
Схолии к Ликофрону 766
Имя Скиронит вновь заставляет вспомнить о сыне Посейдона
Тезее и его падении с белых скал Скироса25. Аттической
истории параллелен фессалийский миф о Skuphios, «Скифие»:
Πετραίος τιμάται Ποσειδών -кара ΘεσσαΧοις... οτι επί τίνος
πέτρας κοιμηθείς άπεσπερμάτισε, και τον θορον δεξαμενή η *γή
ανέδωκεν ϊππον πρώτον, ον επεκάΧεσαν Σκύφιον.
Возможно, сначала этот прыжок Кефала связывался именно с То-
риком и лишь потом фоном для него стал Левкадскйй мыс. См. анализ
политической подоплеки подобных изменений в мифологической
географии в [Gruppe 1912: 373].
Надписи на вазах убеждают в предпочтительности чтения
Σκιρωνίτης по сравнению со Σκειρωνίτης. См. [Kretschmer 1894: 131ff.].
В статье О. Группе [Gruppe 1912: 372] приведены аргументы в
пользу того, что Колон был одной из географических точек, которые считались
местом, где Тезей спустился в подземный мир.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 305
Посейдон Petraios [= «Скальный»] почитается среди фессалий-
цев... потому что он, заснув у некоей скалы, изверг семя; а
земля, прияв его семя, породила первого коня, которого они
называют Скифии (Skuphios).
Схолии к Пиндару. Пифийские оды 4.246
Об этой самой первой из лошадей еще сообщается вот что:
φασϊ δε καΐ ά^γωι/α διατίθεσθαι τψ Πετραίω Ποσειδωι/L, οπού à
πο της πέτρας έξεπήδησεν 6 πρώτος Ιππος
и говорят, что было учреждено празднество в честь Посейдона
Petraios на месте, где первый конь прыгнул со скалы.
Схолии к Пиндару. Пифийские оды 4.24626
Миф о Скироните/Скифии, в котором присутствуют
мотивы прыжка, сексуального облегчения и пребывания в
беспамятстве, способен прояснить загадочные стихи Анакреонта,
которые я уже цитировал выше:
αρθείς δηντ από Κενκάδος
πέτρης ες πολιοί/ κύμα κοΧυμβω μεθύωι/ ερωτι.
Опять27, прянув в воздух, вниз с Белой
Скалы лечу я в седые волны, опьяненный страстью.
Анакреонт PMG 376
В этом поэтическом фрагменте мотив прыжка очевиден, а
мотив сексуального облегчения скрыт28 — в мифе же все наобо-
Эта скала, связанная со Скифием, называлась Pétrâ Нагтопгё
(Аполлоний Родосский. Аргопавтика 3.1244 и схолии к этому месту). В
этом контексте стоит упомянуть и об аргосском обычае приносить в жертву
коней, сбрасывая их со скалы (Павсаний 8.7.2). См. [Nilsson 1906: 71-72].
Чтобы оценить все нюансы употребления в этом контексте слова
δη ντε «еще раз, опять», я предлагаю поупражняться в ассоциативной
эстетике, прочитав подряд все фрагменты, приводимые в [Campbell 1976: 266],
по поводу троекратного использования δηυτε в первом фрагменте Сафо
(1.15, 16, 18 V).
Если прыжок вниз, или ныряние, действительно служит символом
сексуального облегчения, то значит, противоположный мотив по аналогии
должен подразумевать сексуальную неудовлетворенность:
αναπέτομοα δη προς "ΟΧνμπον πτερύ^/εσσι κονφηις
δια τον 'Έρωτ'· ο ν ηάρ εμοϊ <> θεΧει σννηβοίν.
Я лечу к Олимпу на легких крылах
Из-за Эрота. Ибо он [...] отказывается присоединиться ко мне в
юношеских забавах.
Анакреонт PMG 378.
306 ЧАСТЬ II ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
рот. В стихотворении беспамятство изображено чем-то сходным
с пьяным забытьём, в мифе оно порождено сном29. А
дополнительный мифологический образ коня заставляет вспомнить о
фантазии лаконца Алкмана, уподобившего прелести Агесихо-
ры чудесному коню из των νποπετρι,δίων ονείρων «снов из-под
низа скалы» (PMG 1.49).
Стоит заметить, что подобно тому, как Посейдон обретает
сексуальное облегчение в сонном забытьи на белых скалах
Колона, Зевс тоже находит избавление от страсти Геры на белой
скале Аполлона Левкадского (Птолемий Хенн, согласно
«Библиотеке» Фотия 152-153 Bekker). В Магнесии «посвященные»
Аполлона ныряли с крутых скал в реку Lëthaîos (Павсаний
10.32.6). Название реки очевидно образовано от слова leihe
«забвение, беспамятство». В подземном мире Тезей и Пейрифой
сидели на θρόνος της Αήθης «троне Леты» (Аполлодор. Эпи-
томе 1.24, Павсаний 10.29.9). Я уже приводил отрывок из
«Циклопа» Еврипида (163-168), где опьянение отождествляется с
прыжком с вошедшей в поговорку белой скалы. Весьма
показательны следующие за этим уподоблением стихи, в которых
описано, что ощущает человек в пьяном забытьи:
ϊν εστί τουτί τ ορθόν εξανιστάναι
μαστού τε δραημος και παρεσκευασμενον
φανσαι χεροΐν Χειμωνος, ορχηστνς θ' αμα
κακών τε Χηστις.
когда уж можно этой штуке встать,
и можно грудь схватить, обеими руками
коснуться луга30, что давно готов. И танцу время есть,
и забытью [lêstis] всего плохого.
Еврипид. Циклоп 169-172
В них мы опять встречаем и мотив сексуального облегчения, и
ключевое понятие lêstis «забытье, беспамятство».
Подытоживая, можно сказать, что Белая Скала служит
границей между сознательным и бессознательным, причем
последнее может быть тождественно трансу, забытью, сну или даже
Показательно, что у Гесиода вино ассоциируется с тенистым местом
под скалой: ευη πετραίη τε σκιή καά βίβλινός OLi/ος «пусть под скалой
будет тень и библосское вино» (Труды и дни 589, ср. далее 592-596).
Эвфемистическое обозначение женских гениталий.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 307
смерти. Соответственно, когда женихи проходят Белую
Скалу (Одиссея XXIV 11), они достигают démos oneirön «Области
Снов» (XXIV 12), за которой лежит царство мертвых (XXIV 14).
Даже разобрав такое количество свидетельств, касающихся
символики Белой Скалы, нам все еще трудно понять, как она
связана с мифической фигурой Фаона и как он, со своей
стороны, связан с Сафо. Быть может, дополнительные сведения
сможет дать анализ еще одного мифологического образа, а именно
Фаэтона, некоторыми своими чертами сходного с Адонисом и
Фаоном. Я отложу на потом конкретные детали и примеры и
пока просто обрисую суть дела. Как и Адониса и Фаона, Фаэтона
любит Афродита и так же, как и двух других, она прячет своего
возлюбленного. Фаэтон умирает — так же как и Адонис.
Подобно имени Фаона, имя Фаэтона означает «яркий, сияющий»
(с морфологическим соотношением форм Phaôn/Phaéthôn
можно сравнить пару греческих глаголов phlégô/phlegéihô с одним и
тем же значением «пылать, гореть»)31. Но в отличие от
Фаона, о котором сохранились лишь отрывистые свидетельства, за
Фаэтоном стоит огромное количество сведений, зачастую
сумбурных и противоречивых. К этому материалу мы и обратимся.
В комментарии к своему изданию «Теогонии» Гесиода
Мартин Уэст замечает, что Phaéthôn (ст. 987), как и Ниреггоп, Ги-
перион, является ипостасью бога солнца Гелиоса, Helios [West
1966: 427]. Внутреннее тождество Гелиоса с Фаэтоном и
Гиперионом прослеживается и на чисто словесном уровне,
поскольку в эпическом языке huperiôn «тот, кто ходит сверху»
(Одиссея I 8 и т.д.) и phaéthôn «тот, кто сияет» (Илиада XI 735 и
т.д.) являются украшающими эпитетами Гелиоса. В мифе это
тождество разграничивается на уровне генеалогии: Гиперион
становится отцом Гелиоса (Одиссея XII 176, Гесиод. Теогония
371-374), а Фаэтон — сыном. Именно родство Гелиоса и
Фаэтона и становится главной мифологической деталью, вокруг
которой было сосредоточено действие в не дошедшей до нас
трагедии Еврипида «Фаэтон»32. Вот основное содержание мифа,
излагавшегося Еврипидом.
По сюжету трагедии Фаэтон вырос в доме Меропа и Кли-
мены. Однако в действительности его отцом был не смертный
См. выше с. 203.
Сохранившиеся фрагменты собраны в [Diggle 1970].
308 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Мероп, а бог солнца Гелиос. По наущению матери Фаэтон
отправляется в страну эфиопов, где обитает Гелиос, дабы
получить подтверждение, что бог солнца — на самом деле его отец.
Он берет у Гелиоса на день его колесницу, но направляет ее
слишком низко, и от этого загорается земля. Тогда Зевс
поражает его молнией, и Фаэтон падает вниз с небес33.
Сравнение с иными культурами обнаруживает, что у
множества различных народов существовали мифы, аналогичные
греческому. Подобные параллели можно обнаружить,
например, даже в мифологии индейских племен квайкутль и белла
кула в Британской Колумбии. На основании преданий,
собранных антропологом Францем Боасом [Boas 1910: 123, 125, 127;
1898: 100-103], можно вычленить следующую общую
мифологическую схему. От Солнца беременеет женщина, которая
рождает ему сына (у индейцев квайкутль он именуется Рожденный-
чтобы-быть-Солнцем). Когда сын приходит к отцу, тот
позволяет ему занять место Солнца. Нарушив предписанные ему
границы, мальчик воспламеняет землю и за это низвергнут с неба34.
A priori кажется, что в этих мифах можно усмотреть
представления о чисто природных явлениях. И правда,
персонифицированный образ спускающегося с неба подобия солнца
напоминает то, как каждый вечер садится настоящее солнце.
Применительно к мифу о Фаэтоне падение героя трактовалось
исследователями как аналог захода солнца35. Я намереваюсь
уточнить такую трактовку впоследствии, а теперь мне
хотелось бы только показать, что существует определенная
тематическая связь между историей Фаэтона и тем, как
описывается заход солнца в греческом эпосе. Важнейшим связующим
звеном здесь оказывается параллелизм между Океаном и Эри-
Об иных — помимо Бврипида — упоминаниях этого мифа см. [там
же: 3-32].
См. подробное сравнение этой легенды с греческим мифом в
книге Д.Д. Фрэзера [Frazer 1921 2: 388-394, приложение XI: «Фаэтон и
Колесница Солнца»].
«Каждый вечер бог солнца спускается вниз на западе, и каждый
вечер при этом на небесный свод и вершины гор падает красноватый
отблеск, как если бы мир охватывало пламя. Нужно только представить
это повторяющееся событие однократным происшествием и превратить
бога солнца Гелиоса-Фаэтона в героя и сына солнечного бога Фаэтона, и вот
уже готов миф» [Robert 1883: 440].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 309
даном — рекой, в которую упал с неба Фаэтон (Херил TGF 4,
Ион Хиосский TGF 62):
αρθείην 8' επί πόντιοι/
κν μα τ ας Άδριηνας
акт ας Ηριδανού 0' ύδωρ-
ένθα τορφύρεον σταΧάσ-
σονσιν ες οιδμα πατρός τάΧαι-
ναι κόραι Φαέθοντος οϊκτω δακρύων
τας ηΧεκτροφαεις αν^άς.
Подняться бы мне ввысь и достичь волны
берегов Адриатики и вод Эридана,
где несчастные девы, сестры Фаэтона,
проливают в бурливые зыби
лучистые, янтарные потоки слез.
Еврипид. Ипполит 735-741
Для того чтобы понять суть представлений о реке Эридан,
необходимо рассмотреть ту роль, которую в эпическом
повествовании играет Океан. Но прежде чем приступить к анализу,
я хотел бы, забегая вперед, сразу обозначить конечный вывод.
Подобно Белой Скале и Вратам Солнца, Океан и Эридан
являются символическими границами, отделяющими свет от мрака,
жизнь от смерти, бодрствование от сна, пребывание в
сознании от его потери. Только в нескольких случаях возможно
пересечь границу между ними, и подобные случаи совпадают с
представлениями о рождении, смерти и с тем понятием,
обозначенным корнем *nes-, которое Д. Фрэйм считает
«возвращением к жизни и свету»36.
Река Океан служит пределом земли и морей {Илиада XIV
301-302). Из Океана подымается бог солнца Гелиос {Илиада VII
421-423; ср. Одиссея XIX 433-434), и, соответственно, в Океан
спускается Солнце на закате {Илиада VIII 485). Тем самым
мир живых, наш мир окружен Океаном37.
Согласно греческим представлениям, thûmos «дух, душа»
умершего уносится далеко на запад и, подобно солнцу, ныряет
См. выше с. 129 и далее; а также с. 169, 268, 286 и далее.
О кругообразности Океана см. ниже с. 310-311; ср. также [Nagy
1979а: 194, 206].
310 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
в воды Океана (Одиссея XX 63-64)38. У берегов Океана лежит
страна эфиопов (Илиада I 423-424, XXIII 205-207); и поскольку
Океан течет на крайнем востоке и крайнем западе, страна
эфиопов точно так же расположена в двух этих крайних точках
(Одиссея I 23-24). Подобная тема совмещения в одном целом
двух противоположных полюсов, отвечающая
мифологическому принципу coincideniia oppositorum39, развита в первых
строках двенадцатой песни «Одиссеи». В них два противоположных
места объединяются в одно. В ходе общего развития сюжета
«Одиссеи» мы узнаем, что Одиссей достигает острова Эй во
время своих странствий на крайнем западе (X 135). Именно с Эй,
острова Кирки, Одиссей и отправляется со своими спутниками
в подземное царство, путь к которому лежит через море к
берегам Океана (XI 21-22)40. Затем на обратном пути из царства
мертвых корабль Одиссея отплывает от Океана и возвращается
на Эю — но теперь описание острова указывает на то, что
расположен он на крайнем востоке. Так оказывается, что именно на
Эе обитают Эос и восход (XII 1-4)41. От разнообразных
местоположений мифологического Океана в эпосе голова шла кругом
и у позднейших античных авторов, и они вразнобой помещали
его то в одном, то в другом месте. Так, скажем, в четвертой
Пифийской оде Пиндара (4.251) говорится, что аргонавты
через Океан достигли Красного моря. Следуя
рационалистическим принципам своего труда, Геродот высмеивает идею того,
что Океан окружает Землю (4.36.2), и пользуется этим
названием для обозначения морей по соседству с Гадесом/Кадисом
(4.8.2), тем самым подчеркнуто дистанцируясь от
мифологического образа «мировой реки» и приближаясь к современному
географическому представлению об «океане».
В случае с Эриданом мы точно так же располагаем
несколькими и весьма необычными версиями местонахождения этой
мифологической реки. У Эсхила она связана с Испанией и
Это место процитировано ниже на с. 318. Ср. [Nagy 1979а: 194-
195].
39 См. также выше с. 282; ср. [Eliade 1963: 419-423, 428-429].
Ср. [Frame 1978: 57-60], где также обращено внимание на то, что
в повествование вторгаются и мотивы, связанные с севером, северным
направлением.
41 См. также [Frame 1978: 68-73].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 311
отождествляется с Роной (TGF 73; ср. Плиний.
Естественная история 37.31-32)42, а из приведенных выше слов Еври-
пида явствует, что, по его мнению, Эридан впадает в
Венецианский залив (Ипполит 736-737). Желая устранить еще одну
выдумку, Геродот берется утверждать, что Эридан — это,
скорее всего, миф, а не реальность (3.115; Страбон. 5.1.9 С215).
В целом в восприятии Эридана и Океана в позднейших по
отношению к эпосу источниках прослеживается одно
существенное различие: Эридан продолжает считаться рекой, а Океан
по мере расширения географических знаний об Атлантическом
океане так или иначе приближается к понятию «океана» в
современном смысле слова.
Однако в гомеровских поэмах Океан — это potamos «река»
(Илиада XVIII 607, Одиссея XI 639; ср. Гесиод. Теогония 242),
которая окружает Землю. Именно поэтому изображение
Океана помещено на круглом ободе щита Ахилла, окаймляя таким
образом все нарисованные на нем микро- и макрокосмические
сцены и образы (Илиада XVIII 607-608; ср. гесиодовский Щит
314). Напомню, что Солнце погружается в воды Океана
(Илиада VIII 485) и из них же встает (Илиада VII 421-423; Одиссея
XIX 433-434); в Океане берут свое начало все реки и источники
(Илиада XXI 195-197). Такая значимость Океана в «Илиаде»
и «Одиссее» делает неудивительным то, что впоследствии это
название стало обозначением «океана» как такового.
В целом в эпосе Эридан тематически связан с Океаном.
Согласно Гесиоду (Теогония 337-338), Эридан — попросту «сын»
Океана; их родство было бы не столь показательным (Океан
производит на свет несколько больших рек43), если бы Эридан
не был наделен несколькими весьма специфичными чертами.
Помимо того, что он характерным образом помещен в первой
же строке (338) каталога рек в «Теогонии» (338-345), Эридан
там же именуется baihudînës «глубоко-омутным» — а в
других местах поэмы то же слово служит эпитетом самого Океана
(Теогония 133, ср. Труды и дни 171)44. Эридан также упомина-
42 Ср. [Diggle 1970: 27-32].
4 См. Теогония 337-345. В этом каталоге присутствуют как реальные,
так и мифологические реки — см. [West 1966: 259-263],
44 Я намереваюсь в дальнейших исследованиях заняться
употреблением этого эпитета baihudînës по отношению к рекам Алфею (Гесиод,
фр. 193.9 MW) и Ксанфу/Скамандру (Илиада XX 73, XXI passim).
312 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ется и в вариативном чтении одного из стихов «Илиады». Здесь
стоит привести целиком весь контекст, в котором говорится о
рождении чудесных коней Ахилла:
τους ετεκε Ζεφύρω άνέμω "Αρπυια Ποδάρ-γη
βοσκό μένη Χειμωι/ι παρά ρόον Ώκεαι/οΐο.
Их родила от ветра Зефира Гарпия Подарга [Podargë =
яркая/быстроногая»]45 ,
когда паслась на прибрежном лугу у потоков Океана.
Илиада XVI 150-151
Сохранился вариант, в котором на месте Ώκεανοΐο «Океана»
в данном контексте стоит Ήριδανοΐο «Эридана». В этой
связи пару Ökeanos/Eridanos можно сопоставить с Thorikios pétros
«Скалой Скачков»46 — в обоих местах рождаются чудесные
кони, а имя одного из них — Skirônitës — подразумевает
мифологическую Белую Скалу47.
Теперь я перехожу к параллелям между Океаном и Эри-
даном, имеющим непосредственное отношение к образу
Фаэтона. Как сообщает Плиний (Естественная история 37.31-32),
согласно версии мифа о Фаэтоне, использованной Эсхилом,
дочери Солнца были превращены в тополя на берегах Эридана
(TGF 73) — реки, в которую упал Фаэтон (Херил TGF 4, Ион
Хиосский TGF 62)48. Схожим образом в «Одиссее» X 508-512
тополя ассоциируются с Океаном, на берегах которого они
растут у пределов царства мертвых. Подобно Океану, Эридан
тоже связан с темой перехода в иной, подземный мир. С
царством мертвых Эридан соотносится не только в мифе о
Фаэтоне. Так, например, в Ватиканской рукописи (909)
трагедии Еврипида «Орест» в схолие к 981-й строке сообщается, что
εις τον Ήριδανον ποταμοί/ κρέμαται ο Τάνταλος «Тантал
подвешен у реки Эридан»49.
Подробнее о Гарпиях см. ниже с. 318 и далее. *
46 См. выше с. 303.
См. выше с. 304.
48 [Murr 1890: 17].
См. [Dieterich 1913: 27]. Гораздо более известно упоминание о
подземном Эридане в «Энеиде» Вергилия 6.659 (см. также комментарий Сер-
вия к «Энеиде» 6.603). Название Эридан также фигурирует в мифах о
странствиях Геракла далеко на западе: Ферекид FGH 3, фр. 16-17, 74.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 313
Подобные параллели в описании Океана и Эридана
убеждают меня в том, что падение Фаэтона в Эридан аналогично
падению солнца в Океан, о чем говорится, например, в «Илиаде»
VIII 485. Такая мифологическая аналогия подкрепляется
генеалогической параллелью: если Фаэтон — сын Гелиоса, то
Эридан — сын Океана (об этом сказано в «Теогонии» 337-338).
В псевдорациональном изложении мифографа Дионисия Скито-
брахиона (второй-первый века до н.э.), которому, судя по всему,
не было дела до связей мифа с ритуалом и общими
представлениями о сакральном, самому Гелиосу выпала участь упасть и
утонуть в водах Эридана (Дионисий, фр. 6 Rüsten в изложении
Диодора Сицилийского 3.57.5).
Впрочем, из этого отнюдь не следует, что в мифе о
Фаэтоне просто изображается закат. Мне близко мнение тех, кто не
склонен соглашаться с теорией, согласно которой «падение
Фаэтона — это попытка осмыслить мифологически, почему солнце
садится на западе в таком сиянии, что, кажется, полыхает
земля, и все же как ни в чем не бывало продолжает заниматься
тем же самым и на следующий день»50. Вот одно из
противоречащих этой версии объяснений: «Падение и гибель
Фаэтона — отнюдь не ординарное событие, внезапное и неожиданное
бедствие, оно происходит только раз и не повторяется день за
днем» [Diggle 1970: 10, прим. 3]. В таких случаях я бы
положился на внутренне близкий мне взгляд Леви-Стросса. Да, он
признает, что «миф всегда отсылает к событиям, которые должны
были произойти давным-давно». Но тем не менее «миф
обладает оперативной ценностью именно потому, что описываемая
им особая модель лежит вне времени: она объясняет
настоящее и прошлое, а заодно и будущее» [Lévy-Strauss 1967: 205].
Соответственно, мне кажется совершенно ненужным
интуитивно искать естественные аналогии и видеть в мифе о Фаэтоне
изображение падения метеорита [Diggle 1970: 10, прим. 3].
Считать объяснением метеорит или заход солнца означает исходить
из убежденности в том, что, по сути, миф о Фаэтоне не более
чем метафорическое воплощение некоего природного,
небесного явления. Я не согласен с этим в принципе. Миф о Фаэтоне
[Diggle 1970: 10, прим. 3], где парафразируется, а затем
опровергается формулировка К. Роберта [Robert 1883: 440], процитированная
выше на с. 308, прим. 35.
314 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
ставит вопросы, а не дает решения. Более того, эти вопросы
касаются состояния человеческой души, а не динамики движения
небесных тел. Вспомним еще раз аналогичные мифу о Фаэтоне
представления индейцев Британской Колумбии. Согласно
версии индейцев бел л а кула, мальчик был зол, потому что другие
дети насмехались над ним за то, что назвал своим отцом
солнце. А у индейцев квайкутль Рожденный-чтоб-быть-Солнцем, не
зная, кто он такой на самом деле, плачет, когда его товарищ по
играм смеется над ним из-за того, что у него нет отца. С этим
схож Angst Фаэтона, над которым потешается его молодой
приятель: этот эпизод хорошо известен в описании Овидия:
erubuit Phaethon iramque pudore repressit
Фаэтон покраснел и, стыдясь, сдержал свой гнев.
Овидий. Метаморфозы 1.755
Не следует путать мифологический код с мифологическим
сообщением. Каким бы ни было это сообщение, кодом для мифа
о Фаэтоне служат движения солнца и движения человеческой
души. Так, скажем, мотив скачки по небесному своду для Ге-
лиоса является его функцией как бога солнца, а для Фаэтона —
его деянием как человека. Фаэтон может повторять то, что
совершает Гелиос, потому, что его отец — солнце, но до конца
выполнить эту солярную роль он не может, ибо его мать —
человек. В образе Фаэтона воплощено некое глубинное
противоречие в понимании героем своей сути. Он ищет доказательства
того, что его отцом на самом деле является Солнце: он это
подозревает сам, на это указывает его собственное имя, наконец,
на этом настаивает его собственная мать. Подобная дилемма и
лежит в основе трактовки мифа в трагедии Еврипида. Мать
Фаэтона Климена утверждает, что его настоящим отцом является
не Мероп, а Гелиос, и говорит сыну, что тот может обратиться
к Гелиосу с одной просьбой. И по ее словам, если просьба
будет выполнена, то Фаэтон получит доказательство своего
божественного происхождения (θεοΰ πέφυκας — Еврипид. Фаэтон
48). Фаэтон колеблется (51), но в конце концов решает
отправиться к Гелиосу (61-62). Разумеется, отец не может отказать
сыну в его просьбе — дать ему свою колесницу. Но трагическая
ирония в том, что доказательство унаследованной от отца
божественной природы оборачивается жестокой гибелью героя, а
его смерть, в свою очередь, становится доказательством чело-
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 315
веческой природы, полученной в наследство от матери.
Заблуждение Фаэтона в том, что он переоценил свою связь с отцом. В
его истинной сути две составляющих: «отцовская» часть
тождественна бессмертной, а «материнская» — смертной доле. Но в
своем воображении Фаэтон считает, что суть его — только
«отцовская», он думает, что может действовать как бессмертный
потому, что у него бессмертный отец. Эта воображаемая суть
заставляет Фаэтона взять на себя функции своего отца, бога
солнца, но его подлинная суть, ее смертная часть, обрекает его
на неудачу и гибель. При взгляде извне Фаэтон действительно
по своей сущности тождествен солнцу, ибо является его
ипостасью. Но изнутри самого мифа это тождество оказывается
только воображаемым, а истинная суть Фаэтона лишь отчасти
связанной с солнцем. Заблуждение Фаэтона сравнимо с
заблуждением другого трагического героя, Эдипа. Его ошибка в том,
что он недооценил свою связь с женой. По сути, он
одновременно «муж» и «сын» одной и той же женщины, а воображает себя
только ее «мужем»51. Но коренное различие заблуждений
Фаэтона и Эдипа в том, что один забывает о своей подлинной
сущности, а другой о ней и не подозревает. Забыв, что его мать —
смертная, Фаэтон пытается стать солнцем. Не зная, кто его
мать, Эдип женится на ней. Но в обоих случаях воображаемая
суть приводит к трагическому крушению.
Говоря о дилемме, стоящей перед человеком, миф о Фаэтоне
сообщает нам нечто и о загадке солнца. Мы исходим из
априорной убежденности в том, что Гелиос, бог солнца, должен быть
бессмертным. В эпических текстах он перечисляется наряду с
другими бессмертными богами. Но в то же время при простом
наблюдении за перемещениями солнца на небе возникает идея
его смерти и возрождения. По мере угасания дня старое
солнце опускается за горизонт, пропадая на западе в водах океана;
а когда кончается ночь, новое солнце встает из Океана на
востоке, и разгорается новый день. Поскольку человек смертен,
и с этим ничего не поделаешь, важнейшая оппозиция людей и
В данном случае я во многом основываюсь на трактовке мифа об
Эдипе К. Леви-Строссом [Lévy-Strauss 1967], который рассматривает его с
нескольких точек зрения, включая и фрейдистскую трактовку. Правда, я
должен заметить, что я использую термины «переоценка» и «недооценка»
несколько в ином смысле, чем это делает Леви-Стросс.
316 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
богов одновременно подразумевает противопоставление
человека богу как смертного бессмертному: недаром в языке
древнегреческого эпоса синонимом theoi «боги» является athanatoi
«бессмертные». А раз так, то с богом солнца Гелиосом не может
быть связана тема смерти/возрождения солнца, ибо Гелиос
должен быть бессмертным. Возникает своего рода пробел, и его-то
и заполняет миф о Фаэтоне. На закате, когда происходящее
со светилом неизбежно ассоциируется со смертью, солнце
перестает быть солнечным богом Гелиосом и становится Фаэтоном,
сыном бессмертного Гелиоса и смертной женщины. В фигуре
отца Гелиоса воплощена божественная неизменность
чередования восходов и закатов, а фигура его сына Фаэтона
олицетворяет то, что в этом чередовании, понятом как чередование смерти
и возрождения, неизбежно присутствует смерть. Традиционное
почитание бога солнца Гелиоса, все еще очевидное на примере
гомеровских поэм, естественным образом встроено в эту
дихотомию. Ярким контрастом к этой традиционной картине
становится версия, придуманная Дионисием Скитобрахионом (фр. б
Rüsten в изложении Диодора Сицилийского 3.57.5): мифогра-
фу уже не нужно связывать с солнцем какие бы то ни было
божественные мотивы, и потому он отдает роль Фаэтона самому
Гелиосу — и мы остаемся с приземленным толкованием мифа
как аллегории заката, только и всего.
В поэзии Гесиода мы сталкиваемся еще с одним вариантом
мифа о Фаэтоне, в котором затрагиваются уже обе стороны
солярного цикла и речь идет не только о смерти, но и о
возрождении. Согласно этому мифу, Фаэтон является сыном не Гелиоса,
а Эос, богини зари (Теогония 986-987). Вот как развивается
соответствующий рассказ: сначала Эос сходится с Тифоном и
рождает Мемнона, царя эфиопов, и Эмафиона (984-985);
затем Эос сходится с Кефалом и рождает Фаэтона (986-987); а
затем Афродита, похитив Фаэтона (990), делает его своим
возлюбленным (988-991)52. Подобие союза Эос с Кефалом союзу
Афродиты с их сыном, Фаэтоном, еще более отчетливо
просматривается в гомеровском «Гимне к Афродите»: там сама
богиня, соблазняя Анхиза, приводит в качестве примера похищение
Эос Тифона (218). Существуют и другие параллельные вер-
См. подробный разбор этого места «Теогонии» (986-991) в [Nagy
1979а: 191].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 317
сии: в «Одиссее» XV 250-251 говорится о том, что Эос
похитила героя по имени Клит, а в другом месте поэмы (V 121-124)
нимфа Калипсо сравнивает пленение ею Одиссея с
похищением Эос героя Ориона53.
В традиционном поэтическом языке можно уловить
косвенные следы того, каким образом представляли похищение героя
богиней. Но чтобы составить себе более ясное впечатление,
сначала стоит обратить внимание на сами глаголы, которыми это
действие обозначалось:
Афродита похищает Фаэтона, Теогония 990: anereipsaménë
«подхватив»;
Эос похищает Кефала, Еврипид. Ипполит 455: anerpasen
«подхватила»;
Эос похищает Тифона, Гимн к Афродите 218: herpasen
«схватила»;
Эос похищает Клита, Одиссея XV 250: herpasen «схватила»;
Эос похищает Ориона, Одиссея V 121: héleto «взяла».
Параллелью к только что перечисленным случаям можно
считать еще и похищение Ганимеда. Его сходство с ними
явствует из гомеровского «Гимна к Афродите», где сама
Афродита уподобляет то, что случилось с Анхизом, судьбе Ганимеда
(202-217) и Тифона (218-238). Характерно, что боги похищают
Ганимеда для Зевса κάλλεος εϊνεκα olo Ιν' άθαι/άτοισι μετείη
«ради его красоты и того, чтобы был он среди бессмертных»
(Илиада XX 235). В свою очередь, Эос похищает Клита по той
же самой причине: κάλλεος εϊνεκα οίο îv άθαι/άτοισί μετείη
«ради его красоты и того, чтобы был он среди бессмертных»
(Одиссея XV 251). Параллелизм мотивов, связанных с
фигурами Ганимеда/Тифона и Ганимеда/Клита, важен постольку,
поскольку само похищение Ганимеда обозначено в «Илиаде»
(XX 234) с помощью формы индикативного аориста anëreipsanio
«подхватили», образованной от того же глагола, что и аорист-
ное причастие anereipsaménë «подхватившая», которым в
«Теогонии» (990) описывается похищение Фаэтона. Да и в
гомеровском «Гимне к Афродите» похищение Ганимеда тоже обо-
Здесь уместно вспомнить теорию, согласно которой Калипсо
является ипостасью одной из сторон Афродиты, воплощенной в ее эпитете Melainis
«Черная»: см. [Güntert 1909: особ. 189]. Законченный анализ образа
Калипсо см. в [Crane 1988].
318 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
значено глаголом anérpase «подхватил» (208). Впрочем, в
данном случае похититель описан более конкретно, это не просто
некие «боги», которые anëreipsanto «подхватили» Ганимеда в
«Илиаде» XX 234:
07Г7Г7/ οι φίλοι/ νιου άι/ήρπασε θέσπις αελλα
где чудный порыв ветра [def/α] подхватил [anérpase] его сына.
Гимн к Афродите 208
Не только в этом контексте, но и во всех гомеровских
случаях употребления anëreipsanto «подхватили» (кроме
упомянутого места из «Илиады» XX 234) субъектом при глаголе
является слово, обозначающее «порыв ветра». Пенелопа горюет о
том, что ей неизвестна судьба пропавшего Телемаха, говоря,
что ее сына anëreipsanto «подхватили» thuellai «порывы ветра»
(Одиссея IV 727). Телемах сетует на то, что ему неизвестна
судьба пропавшего Одиссея, и говорит, что его пропавшего отца
anëreipsanto «подхватили» harpuiai «хваткие ветры, Гарпии» (I
241). И в тех же самых словах выражает свою тоску о невесть
где пропавшем хозяине пастух Эвмей (XIV 371).
Мы можем быть вполне уверены в значении thuella «порыв
ветра» (ср. άνέμοιο θύελλα — Илиада VI 346 и т.д.). Что же
касается семантики harpuiai «хваткие ветры, Гарпии», то это
слово встречается еще в одном — последнем не упомянутом
нами — гомеровском контексте, содержащем глагол anëreipsanto
«подхватили». Молясь о том, чтобы Артемида даровала ей
смерть и сейчас же унесла ее thümos «дух», Пенелопа
добавляет:
η επειτά μ' ài/αρπάξασα θύελλα
οϊχοιτο προφέρονσα κατ ηερόει/τα κέλευθα,
ει/ προχοης δε βάλοι αφορρόον Ώκεαι/οιο.
или пусть потом порыв ветра [thuella]
унесет меня вниз по туманным тропам
и погрузит меня в потоки текущего вспять Океана.
Одиссея XX 63-65
Примером того, что порыв ветра может подхватить и унести
кого-то в воды Океана, для Пенелопы служит судьба
дочерей Пандарея:
ως 6' οτε Παι/δαρεου κούρας ανέλοντο θύελλαι-
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 319
подобно тому, как когда-то порывы ветра [thueliat\ взяли [ané-
lonto] дочерей Пандарея.
Одиссея XX 66
Употребленную здесь форму anélonto «взяли» можно
сопоставить с héleto «взяла» в изображении похищения Ориона богиней
Эос (Одиссея V 121). Вслед за некоторыми подробностями,
относящимися к истории дочерей Пандарея, следует главное
событие, которое описано такими словами:
τόφρα δε τας κούρας apitviai ài/ηρείψαι/το
и тогда Гарпии [harpuiai «хваткие ветры»] подхватили [апёгегр-
santo] девушек.
Одиссея XX 77
Таким образом, мы рассмотрели все случаи употребления
anëreipsanto «подхватили» в гомеровских поэмах и
единственный случай использования причастия anereipsaménë
«подхватившая» у Гесиода. Слово hdrpuia «хваткий ветер, Гарпия»,
помимо уже упомянутых контекстов, употребляется у Гомера
еще только один раз — в описании коней Ахилла в «Илиаде»:
Έάνθον και ΒαΧίαν, τώ άμα πι/οιτ)σι πετέσθην,
τους ετεκε Ζεφύρω άι/έμω "Αρπυια Ποδάρ^η
βοσκομένη Χειμώι/ι παρά ρόον Ώκεαι/οιο.
Ксанф и Балий, что летели с порывами ветра,
Их родила от ветра Зефира Гарпия [harpuia «хваткий ветер»]
Подарга [Podargë = «яркая/быстроногая»],
когда паслась на прибрежном лугу у потоков Океана54.
Илиада XVI 150-151
В заключение следует упомянуть и о двух harpuiai
«хватких ветрах», или «Гарпиях», названных в «Теогонии» Гесиода
(267-269) Aello (267, от aella «порыв ветра») и Okupétë «быстро
летающая» (267). Кратко говоря, в эпосе harpuia
последовательно ассоциируется с ветром. Более того, это
существительное можно формально возвести к глаголу, который у Гомера
зафиксирован в аористе άνηρείφαι/το, а у Гесиода — в виде
причастия оси η ρε ιψ α μένη. В подтверждение такой версии можно
привести вариативное написание того же слова arepuîa,
встречающееся в «Большом Этимо логике» и в надписи на вазе из
Эгины [Kretchmer 1894: 208-209].
См. выше с. 312.
320 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Рассмотренные нами контексты значимы прежде всего
потому, что позволяют выяснить, каким образом происходило,
согласно поэтическим представлениям, похищение Фаэтона, Ке-
фала, Тифона, Клита, Ориона и Ганимеда. Все они были
подхвачены порывом ветра. Наиболее явствен этот образ в истории
Ганимеда. В данном случае непосредственным похитителем
является «порыв ветра», и отец Ганимеда не знает, где этот
«порыв» (âella) «подхватил» (anêrpase) его сына (Гимн к
Афродите 208). Но следует обратить внимание на то, что в конечном
счете похитителем является все же сам Зевс, ибо именно его
имя служит подлежащим для глагола hêrpasen «схватил»,
которым обозначен факт похищения Ганимеда (Гимн к Афродите
202-203). В качестве воздаяния за похищение Ганимеда Зевс
дарит отцу Ганимеда упряжку чудесных коней (Гимн к
Афродите 210-211), названных «ветроногими» (άελΧοπόδεσσιν).
Таким образом, в этом отрывке центральным мотивом для
обеих тем — и похищения, и воздаяния за него — становится
образ ветра.
Раз уж мы поняли, как похищают героев, подобных
Фаэтону, теперь можно задаться и вопросом, куда же их после
похищения уносят. Эта сторона деятельности «хватких порывов
ветров» наиболее очевидно воплощена в гомеровских образах,
содержащихся в уже упоминавшейся мольбе Пенелопы в
«Одиссее», когда она жаждет, чтобы порыв ветра схватил ее и
погрузил в воды Океана (XX 63-65)55. Опять-таки в качестве
непосредственного похитителя здесь выступает порыв ветра (XX
63), но в конечном счете похищают все равно сами боги (XX
79). Здесь уместно вспомнить и о том, что harpuia «Гарпия»
по имени Подарга [Podargë = «яркая/быстроногая»] рождает
подобных ветру коней Ахилла как раз на берегу Океана
(Илиада XVI 149-151). Не следует забывать и о том, что в
качестве варианта к этой строке (Илиада XVI 151) мы имеем чтение
Ήριδαι/οΐο «Эридана» вместо Ώκεανοΐο «Океана»56.
Если Пенелопа умрет, то ее thümos «духу» придется
погрузиться в Океан (Одиссея XX 65), но далее говорится еще и о
том, что она затем спустится под землю (XX 80-81). Два этих
См. выше с. 318.
См. с. 312.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 321
мотива: (1) падение в Океан и (2) уход под землю —
используются и в описании перемещений самого солнца (см., например,
Илиада VIII 485, Одиссея Χ 190-193)57. Итак, вот какова роль
Океана для смертных: когда ты умираешь, порыв ветра уносит
твой дух на крайний запад и погружает тебя в воды Океана;
а после того, как ты пересечешь Океан, ты достигаешь
пределов подземного мира, расположенного под землей. Такова
же функция Океана и по отношению к солнцу: когда на закате
солнце достигает крайнего запада, оно точно так же
погружается в воды Океана; и до тех пор, пока солнце снова не подымется
на крайнем востоке, оно остается скрытым под землей. Когда
же все-таки наступает восход, солнце встает из вод Океана на
крайнем востоке (Илиада VII 421-423; ср. Одиссея XIX 433).Тем
самым движения солнца, то погружающегося в Океан, то
подымающегося из него, служат некоей космической моделью
чередования смерти и возрождения. С точки зрения человека,
солнце умирает на западе, чтобы возродиться на востоке. А
поскольку содержательно Океан параллелен Эридану, то падение
в Эридан погибшего Фаэтона, аналогичное заходу солнца,
неизбежно должно предполагать существование и противоположной
темы: воскресший Фаэтон подымается из Эридана на востоке,
служа аналогом солнечному восходу.
В этом отношении чрезвычайно показательной оказывается
одна деталь, характеризующая мать Фаэтона Éos «Эос-Зарю».
Постоянным гомеровским эпитетом Эос является ëri-géneia
«рано-рожденная» (или «рано-рождающая»), причем такое
определение употребляется исключительно по отношению к ней
(см., например, Одиссея II 1). В основе данного
прилагательного присутствует корень, сохранившийся в наречной форме
древнего локатива êri «рано», и в языке Гомера эта форма
действительно употребляется в сочетании с ëos «заря»
(Одиссея XIX 320). Форму ëri-géneia можно сопоставить с
названием Eri-danos, первый элемент которого точно так же связан
с êri, а вторая часть слова -danos, по всей видимости, может
означать «жидкость, роса» (ср. древнеиндийское dânu-
«жидкость, роса»)58.
5 См. выше с. 136-137. Подробнее об «Одиссее» X 190-193 см. [Nagy
1979а: 320-321].
[Güntert 1923: 36]. Значение формы Eri-danos считает чрезвычайно
существенным и Д. Бедекер в своей работе [Boedeker 1984].
322 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Теперь мы в состоянии понять, почему в «Теогонии» 988-
991 Фаэтон непосредственно связан с Афродитой. На мой
взгляд, причина здесь в сексуальной символике, скрытой в
теме перехода солнца от смерти к воскрешению. По логике
мифа, садящееся солнце должно совокупиться с богиней
плодородия и возрождения, дабы заново родилось восходящее
солнце. А если считать заходящее и восходящее солнце одним и
тем же, то богиня возрождения оказывается одновременно и
супругой, и матерью.
Подобную двойственность можно на самом деле обнаружить
и в гимнах «Ригведы». Там богиня солярного возрождения
Ушас-Заря является женой или невестой солнечного бога Су-
рьи (1.115.1, 7.75.5 и т.д.) и в то же время его матерью (7.63.3,
7.78.3)59. В этом случае мотивы инцеста оказываются
несколько сглаженными за счет того, что имя Ушас употреблено во
множественном числе, олицетворяя тем самым бесконечную
череду восходов; схожим образом имя Ушас может употребляться
во множественном числе и для обозначения жен Сурьи (4.5.13).
Но даже если каждая новая заря становится супругой сына
зари предшествующей, мужем и сыном всегда остается все тот
же Сурья, и потому исходный мотив кровосмешения все же
остается неизменным.
Сравнение с «Ригведой» необходимо при анализе
греческого материала прежде всего потому, что древнеиндийские Surya-
«Солнце» и Usas- «Заря» родственны греческим Helios
«Солнце» и Éos «Заря» не только с содержательной, но и с
формальной точки зрения [Schmitt 1967: глава 4]. Более того, эпитеты,
употребляемые в «Ригведе» по отношению к Ушас — divâ(s)
duhitâr и duhitâr- divas — и означающие «дочь Неба», точно
соответствуют гомеровским эпитетам Dios ihugater и thugatër
Dios «дочь Зевса» [там же: 169-173]. В гомеровском
гекзаметрическом стихе эти формульные эпитеты встречаются
только в таких позициях:
A. -ии-ии- θν^άτηρ — Διός|-υυ-υ 6 раз
B. -и Διός θυιάτηρ\ -ии-ии-ии-и 8 раз
C. -ии-ии-и | Αώς θνγάτηρ ии-и 18 раз
Подробнее о солнечных богах Древней Индии см. выше с. 130 и
далее, 153 и далее.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 323
Из приведенной схемы понятно, что с точки зрения гомеровской
метрики было крайне трудно поместить в стихе имя Эос, 'Ηώς,
рядом с данными эпитетами. Потому и не удивительно, что
сочетание их с именем Эос не зафиксировано в греческом эпосе,
при том что сравнение с данными других языков, а именно с
древнеиндийскими divâ(s) duhitâr- и duhitâr- divâs, убеждает в
изначальном существовании подобного сочетания.
Метрические законы древнегреческого гекзаметра
допускают, пожалуй, одну ситуацию, в которой соединение имени Эос
с эпитетом thugatër Dios «Дочь Зевса» кажется в принципе
возможным:
D. * -ии-ии-ии- | θνγάτηρ Διός 'Ηώς
Фактически же в тех случаях, когда Ηώς «Заря» стоит в конце
гекзаметрической строки и этому имени предшествует эпитет
с метрической структурой ии-ии, таким эпитетом всегда
будет слово ροδοδάκ,τυλος «розовоперстая», а не Θνγάτηρ Αίός =
thug at ër Dios «Дочь Зевса». Я полагаю, что выражение θνγάτηρ
Αιός — thugatër Dios «Дочь Зевса» было вытеснено в позиции
D постоянным эпитетом ροδοδάκ,τυλος «розовоперстая», всем
известным по строке:
ημος S' ηριηένεια φάνη ροΒοδάκτυΧος 'Ηώς,
И когда появилась рождающаяся рано розовоперстая Заря...
Илиада I 477 и т.д.
Кратко говоря, особенности метрики и формульного
словоупотребления стали причиной того, что в греческом эпическом
языке не сохранилось сочетание имени Eos «Заря» с
выражением Dios thugatër или thugatër Dios, означающим «Дочь
Зевса»60. Зато, напротив, в тех случаях, когда в конце
гекзаметрического стиха стоит имя Афродиты, Aphrodite, ей постоянно
сопутствует эпитет Dios thugatër:
Я не согласен с мнением Р. Шмитта, считающим Эос дочерью Гелио-
са [Schmitt 1967: 172-173]. Формально в «Теогонии» 371-374 она
действительно является дочерью Солнца, но здесь ее «отцом» назван Гиперион, а
Гелиос, соответственно, является ее «братом». С образом Эос — дочери
солнца можно сопоставить и отдельные случаи, когда Ушас в «Ригведе»
тоже именуется дочерью Сурьи (2.32.2), при том что обычно в «Ригведе»
Ушас считается дочерью бога неба Дьяуса — divâ(s) duhitâr-, а
существительное dyaus- «небо», персонифицированное в этом образе, родственно
греческому слову Zeus, т.е. имени Зевса.
324 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
-ии-ии-и | Αιος θνγάτηρ 'Αφροδίτη
...Дочь Зевса Афродита...
Илиада III 374 и т.д.
Таким образом, при компаративном подходе становится
очевидным, что в эпическом тексте фигура Афродиты параллельна
образу Эос. Но это подтверждается и анализом собственно
греческих эпических тем, в рамках которых Афродита опять-таки
оказывается параллельной Эос. Подобно тому, как Эос
похищает Тифона {Гимн к Афродите 218), Клита {Одиссея XV 250),
Ориона {Одиссея V 121) и Кефала (Еврипид. Ипполит 455),
Афродита похищает Фаэтона {Теогония 990). Как мы уже
отмечали, Афродита, соблазняя Анхиза, сама ссылается на
пример Эос, похитившей Тифона {Гимн к Афродите 218-238). На
протяжении всей сцены соблазнения Афродита постоянно
именуется Dios thugatèr «дочерью Зевса» {Гимн к Афродите 81,
107, 191).
Из архаического сходства Эос и Афродиты следует, что в
какой-то момент Афродита начинает соперничать с Эос за
право именоваться Dios thugaiër «дочерью Зевса». Исходя из
сравнения с «Ригведой», можно было бы ожидать, что Эос окажется
не только матерью, но и супругой Солнца. Но греческий эпос
не сообщает нам ничего подобного ни о Гелиосе, ни о какой-
либо из его ипостасей, например о Фаэтоне. Зато у Гесиода
Афродита становится супругой Фаэтона, при том что Эос
остается только его матерью {Теогония 986-991). Иными словами, в
гесиодовской традиции изначально взаимосвязанные роли
матери и супруги разделились и отошли, соответственно, к Эос и
Афродите. В итоге тема инцеста оказалась изящно обойденной.
Впрочем, иногда в гомеровских текстах Éos и Phaéthôn
соотнесены друг с другом практически так же, как Ушас и Су-
рья в «Ригведе». Мы уже говорили о том, что phaéthôn
«сияющий, блестящий» служит украшающим эпитетом Гелиоса,
Helios {Илиада XI 735 и т.д.). Более того, один из коней Эос
тоже назван Phaéthôn:
Αάμποι/ και Φαέθονθ', οι τ Ήω πώλοι α^ουσι.
Ламп [Lampos] и Фаэтон [Phaéthôn], кони [pô/oi], что несут Эос.
Одиссея XXIII 246
Обращает на себя внимание тот факт, что и имя второго ко-
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 325
ня Ламп, Lampos, тоже связано с мотивом сияния и блеска61.
Поразительно, но в «Ригведе» «сияющей лошадью», svetam...
asvam, богини зари Ушас именуется Сурья, бог солнца.
Аналогию сочетанию имен Лампа и Фаэтона в «Одиссее»
XXIII 246 можно найти, и не выходя за пределы греческого
эпоса. В «Одиссее» XII 132 дочери бога солнца Гелиоса
названы именами Phaéthousa и Lampetië, которые являются формами
женского рода для Phaéthôn и Lamp os62. И вновь можно
привести удивительную древнеиндийскую параллель: в «Ригведе»
дочь бога солнца Сурьи, Surya-> названа Suryâ,- (1.116.17), т.е.
формой женского рода того же существительного.
Итак, для сочетания двух греческих имен в «Одиссее» XXIII
246 находится немало сравнительных параллелей. На этом
основании можно предположить, что имена Коней Зари
изначально служили некими метафорическими определениями
самого Солнца. Как и в «Ригведе», Солнце можно назвать
сияющим жеребцом Зари — и тогда для него подойдут имена
Phaéthôn или Lamp os. Но постепенно метафорический смысл
теряется, и представление о «Конях Зари» начинает
восприниматься буквально. Но если у Зари есть лошадь, то одной
ей мало, для колесницы нужно две — и вот два родственных
друг другу солнечных эпитета Phaéthôn и Lampos (и то, и
другое означает «сияющий») становятся именами двух разных
коней. И все же стоящие за этими именами персонифицированные
образы остаются крайне размытыми: об этом свидетельствует
то, что, в свою очередь, Phaéthousa и Lampetië стали именами
дочерей Гелиоса. В «Ригведе», напротив, метафора
сохранена и подчеркнута: бог солнца Сурья — и жених, и конь
богини зари Ушас. Эти две роли Сурьи могут порой выражаться
одним и тем же словом тагуа- (Ригведа 1.115.2, 7.76.3)63. На
самом деле, метафорическое уподобление жениха жеребцу
присутствует во многих древнеиндийских ритуалах, в том числе
Интересно, что это единственное место во всем гомеровском эпосе,
где речь идет о лошадях, впряженных в колесницу солнечного божества.
По поводу морфологического устройства Lampetië см. [Nagy 1970:
43-44, прим. 121]. Ср. также анализ древнеиндийского Nasatyau в [Frame
1978: 135-137].
Древнеиндийское существительное тагуа- может пролить свет и на
семантику древнегреческого теторз, о котором речь шла выше на с. 263,
прим. 75.
326 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
и в обряде инициации, и ключевым здесь оказывается
именно слово тагуа- и родственные ему иранские формы [Wikander
1938: 22-30, 81-85, особ. 84]64.
Весьма показательно, что подобное метафорическое
уподобление засвидетельствовано и в греческом, а именно в гименее,
«свадебной песни» из еврипидовского «Фаэтона» (227-235), где
«конем», polos, Афродиты именуется сам герой Гимен65. Как
мы видели, тем же словом polos названы в «Одиссее» XXIII
246 кони Эос, Ламп и Фаэтон66. Эпитет Гимена i/eoÇvjL «с
новым ярмом» (Еврипид. Фаэтон 233) указывает на то, что
он жених Афродиты (ср. схожее словоупотребление у Эсхила,
Прикованный Прометей 1009-1010 и того же Еврипида, Медея
804-805, TGF 821). В том же ряду далее употреблена
конструкция σων ηάμων jei/uau «отпрыск твоего брака» (Фаэтон 235):
соответственно, следует предположить, что Гимен — не только
жених, но и сын Афродиты. Стоит заметить, что в трагедии
«Фаэтон» 227-235 гименей поется в честь Фаэтона, который,
по всей видимости, должен вступить в брак с дочерью Солнца
[Diggle 1970: 158-160]. И наконец, Афродита в данном
контексте выступает в качестве τάι/ Αιος ονρανίαι/ «небесной
дочери Зевса» (Фаэтон 228).
Кроме Эос и Афродиты, именем Dios ihugaiër/thugatër Bios
«дочь Зевса» называют, конечно, и других богинь, а именно:
Афину (Илиада IV 128 и т.д.), Музу (Одиссея I 10), Ату
(Илиада XIX 91), Персефону (Одиссея XI 217), Артемиду (XX 61) и
Елену (IV 227)67. Разумеется, я не могу в пределах
настоящего исследования разбирать все контекстуальные употребления
выражения Dios thug atër/thug atêr Dios «дочь Зевса», а тем
более сопоставить их с эпитетом diva(s) duhitar-/duhitar- divas,
используемым в «Ригведе» только по отношению к богине зари
Впрочем, изначально тагуа- обозначает «человека, мужчину» и
лишь поэтому может быть распространено на любую особь мужского пола,
в том числе и животное, тем более что в ведийских текстах перевод всегда
оказывается спорным. — Прим. перев.
[Diggle 1970: 148-160]. Соответствующее место цитируется в [Nagy
1979а: 199-200].
66 См. выше с. 324.
О божественных характеристиках образа Елены в гомеровской
поэзии и о связи Dios thugdtër/thugatêr Dios «дочерей Зевса» с Dios koûroi
«сыновьями Зевса» см. [Clader 1976].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 327
Ушас68. Вместо этого я хотел бы ограничиться наблюдениями,
касающимися темы похищения.
На первый взгляд Ушас в «Ригведе» — исключительно
благое божество, чья общеизвестная задача состоит в том, чтобы
рассеивать мрак (1.92.5, 2.34.12 и т.д.). Тем не менее
употребление ее постоянного эпитета divâ(s) duhitar-/duhitar- divas носит
амбивалентный характер. В гимне, входящем в ведийское
собрание канонических молитв на жертвоприношении животного,
Ушас названа «дочерью неба» вместе с Ночью — divo duhitara
(Ригведа 10.70.6). Иными словами, «дочерьми Неба»,
древнеиндийского Дьяуса, Dyâus (родственного греческому Зевсу, Zeus)
оказываются и Заря, и Ночь. Когда Заря прогоняет Ночь,
последняя прямо названа ее сестрою (Ригведа 1.92.11, 4.52.1). Ту
же двойственность можно обнаружить и в употреблении
греческого Dies thugatër/thugatër Bios. В одном случае этот эпитет
может прилагаться к благодетельной Афине, только что
спасшей Менелая и в этот момент сравниваемой с матерью,
лелеющей свое дитя (Илиада IV 128). Покровительство Герою —
типичная функция «дочери Зевса»69. Но с другой стороны, то
же выражение может использоваться по отношению к
губительной богине мертвых Персефоне (Одиссея XI 217), а еще в одном
месте служить эпитетом Артемиды, от стрел которой жаждет
погибнуть Пенелопа (XX 61).
Хотя у нас и нет примеров использования эпитета Dies
thugatër/thugatër Dios по отношению к Эос, сама эта богиня
тоже имеет двойственную природу. В гомеровских поэмах она
похищает юношей и при этом дарует им бессмертие. В качестве
примера достаточно сослаться на случай с Клитом (Одиссея XV
250-251)70. Присущая Эос амбивалентность рождает
противоречия, которые эпос стремится сгладить, в том числе и на чисто
словесном уровне. Так, скажем, в описании похищения богиней
Эос Ориона использован не глагол с четким и грубым
значением hérpasen «схватила», а более абстрактный глагол héleto
«взяла» (Одиссея V 121)71. С устранением обозначения hérpasen
Первооткрывательской в этом отношении можно считать работу
[Boedeker 1974].
69 Иные примеры: Афина/Одиссей (Одиссея XIII 369), Афродита/
Александр (Илиада III 374), Афродита/Эней (Илиада V 312).
70 См. выше с. 317.
См. выше с. 317.
328 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
«схватила» исчезает и мотив смерти от Гарпий, и ему на смену
приходит новая тема гибели от рук Артемиды (Одиссея V 121-
124). Бросается в глаза то, что смерть от Артемиды, по крайней
мере, не так мучительна (она приносит ее ajai/οΐς βε\έεσσιν
«своими нежными стрелами» — V 124). Схожим образом
подразумевается, что, желая гибели от рук Артемиды, Пенелопа
рассчитывает на безболезненную смерть.
Альтернативой безболезненной смерти от рук Артемиды
становится мучительное объятие ihuella «порыва ветра»
(Одиссея XX 63), который похищает, anarpaxäsa «подхватив» (там
же). Примером такого похищения, окончившегося в водах
Океана, для Пенелопы служит история дочерей Пандарея: их
унесли thuellai «порывы ветра», о которых сказано, что они
anélonio «взяли» девушек (XX 66). За упоминанием о
похищении следует рассказ о том, как олимпийские боги хранили
дочерей Пандарея (XX 67-72); этому покровительству положила
конец смерть, наступившая в тот самый момент, когда
Афродита устраивала их брак (XX 73-74). На сей раз смерть описана
как похищение «хваткими ветрами», harpuiai, и при этом
говорится, что они «подхватили» девушек (XX 77)72.
Тем самым в истории о дочерях Пандарея (Одиссея XX 66-
81) мы сталкиваемся с несколькими мотивами,
расположенными в следующей последовательности: сохранение, а затем
похищение/смерть73 . В истории об Орионе и Эос, наоборот, мы
имеем дело с такой схемой: похищение/сохранение, а затем
смерть: Эос похищает и охраняет героя, и в этот момент
Артемида приносит Ориону смерть74. И наконец рассказ об
Афродите и Фаэтоне (Гесиод. Теогония 986-991) содержит еще одну
комбинацию тех же мотивов: похищение/смерть, а затем
сохранение75 . Каждая из различных схем становится одним из
" Об этом достаточно сложном месте «Одиссеи» XX 66—81, где речь
идет о дочерях Пандарея, см. подробнее в [Nagy 1979а: 195 § 25, прим. 2].
См. более подробный раэбор в [Nagy 1979а: 201 § 37, прим. 3].
Более детализированный анализ см. [там же: 201-203].
См. [там же: 191-192]. В рассказе о Тифоне из «Гимна к
Афродите» отсутствует последнее звено: в нем похищение тождественно
покровительству, но за этим не следует смерть. В этой связи
показательно, что Тифон так никогда и не подымается обратно из Океана, как
положено возрожденному Солнцу: всякий раз, когда Эос всходит на небо,
она оставляет Тифона внизу (Илиада XIX 1-2, ср. Одиссея V 1-2; Гимн
к Афродите 227, 236).
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 329
вариантов разграничения амбивалентной природы Эос —
божества, для которого функции похитителя, носителя смерти и
хранителя героя изначально слиты и нераздельны.
Ближайшим аналогом похищения Афродитой Фаэтона
можно считать похищение Клита Эос (Одиссея XV 251-252). Здесь
присутствует та же последовательность мотивов: похищение/
смерть, а затем сохранение. Клит назван сыном Мантия (XV
249) и внуком прорицателя Мелампа (XV 242). Как
продемонстрировал Д. Фрэйм, в мифе о Мелампе ключевой является
тема возвращения Коров Солнца76. Эта солярная функция
Мелампа, а также его родство с Клитом указывают и на близость
последнего к солнцу. Похищение Клита обозначено глаголом
hérpasen «схватила» (Одиссея XV 251), а это, в свою очередь,
предполагает, что он был унесен губительной Гарпией и
брошен в воды Океана. Тема смерти параллельна теме заката
солнца. Но с другой стороны, Клита hérpasen «схватила» не
кто-нибудь, а Эос, а тема восхода солнца параллельна
возрождению. Поскольку похитителем Клита становится Заря, это
можно считать, по крайней мере, намеком на то, что он должен
возродиться, подобно солнцу, а значит, сохраниться.
Пока Заря на небе, день прибывает. Но стоит Солнцу
достичь полуденной выси, Заря сходит на нет, и день начинает
угасать. Об этой жизненно важной функции Эос повествует
гомеровский эпос (см., например, Илиада XX 66-69). Солнце
внутренне связано со светом Зари до полудня; а затем
Солнце начинает опускаться в Океан с тем, чтобы возродиться на
следующий день. За рассказом об Эос и Клите кроются
взаимосвязанные друг с другом темы смерти и возрождения. Еще
раз обратим внимание на последовательность мотивов:
похищение/смерть, а затем сохранение (см. выше). С другой
стороны, в истории Ориона схема иная: похищение/сохранение,
а затем смерть77. Отсюда можно заключить, что связь
Ориона с Зарей, по сути, противоположна связи Зари и Солнца.
Если перевести эту оппозицию на язык движения светил, то
Орион должен поэтому перемещаться по небу по астральным,
а не солярным законам. Не случайно уже у Гомера фигуре
[Frame 1978: 91-92]. В данный момент я ограничусь ссылкой на
недвусмысленный намек, содержащийся в стихах «Одиссеи» XV 235-236.
77 См. выше с. 328.
330 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Ориона соответствует астральное тело (Одиссея V 274;
Илиада XVIII 488)78. Подобно Солнцу, созвездие Ориона встает из
Океана и садится в него (Одиссея V 275; Илиада XVIII 489),
но, в отличие от Солнца, и восход, и заход Ориона
происходит ночью, а не днем. Летом, во время молотьбы Орион
восходит перед Зарей (Гесиод. Труды и дни 598-599); зимой, во
время сева перед появлением Зари Орион начинает садиться
(Труды и дни 615-616). В летние дни свет Зари застает восход
Ориона, и потому он может быть ее дневным спутником79; а в
зимние дни свет Зари приходит слишком поздно и не
успевает предупредить погружение Ориона в воды Океана. Однако
одно близкое к Ориону созвездие никогда не садится в Океан
— это Арктос (Одиссея V 275 = Илиада XVIII 489). Арктос
«Медведица» dokeuei «следит» за Орионом (Одиссея V 274 =
= Илиада XVIII 488). Это dokeuei несет погибель; недаром
у Гомера данный глагол обозначает то, как воин или дикий
зверь примеривается, чтобы убить свою жертву (Илиада VIII
340, XIII 545, XVI 313)80. Кроме того, само имя Арктос
«Медведица» подразумевает богиню Артемиду81. Иными словами,
в гомеровском описании движения астральных тел (Одиссея V
273-275 = Илиада XVIII 487-489) в скрытом виде присутствует
тема гибели Ориона от рук Артемиды, о которой прямо
говорится в «Одиссее» V 121-12482. В этом месте упоминаются две
богини: благодетельная Эос и губительная Артемида83. Для
сравнения можно привести историю Клита: там Эос
амбивалентна и одновременно благодетельна и губительна (Одиссея
XV 251-252)84. В этом контексте глагол herpasen «схватила»
указывает на тему смерти (251), а выражение Ιν άθαι/άτοισι
μετείη «чтобы он мог быть с бессмертными» подразумевает то,
что герой будет храним в будущем.
Более детализированный анализ см. в [Nagy 1979а: 201-203].
Эта тема соответствует значению самого имени Önön (Oariön),
которое, по-видимому, связано с oar «жена», oaros «общение, беседа» и т.д.
См. обзор соответствующих контекстов в [Nagy 1979а: 202 § 39,
прим. 1].
Эта связь обоснована [там же: 202].
О внутренней связи мифа об Орионе с судьбой главного героя
«Одиссеи» см. [Nagy 1979а: 202-203]. См. также выше с. 273, прим. 11.
83 См. выше с. 328.
84 См. выше с. 317.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 331
Точно так же двойственна и роль Афродиты в гесиодов-
ском рассказе о Фаэтоне (Теогония 989-991). Вновь слово
anereipsaménë «подхватив» (990) подразумевает тему смерти. В
то же время эпитет daimön «сверхъестественное существо,
божественная сила» предполагает, что героя хранит божество —
об этом свидетельствует значение, в котором употребляется da
imön в «Трудах и днях» 109-12685. С этим можно сопоставить
описание того, как Афина хранила героя Эрехтея (Илиада II
547-551), причем в этом контексте богиня прямо именуется Dio s
thugatër «дочерью Зевса» (548). Характерно, что эта тема —
оба героя хранимы божеством — выдержана в обоих отрывках
в терминах героического культа [Nagy 1979а: 190-192]. Если
герою отведено особое сакральное место и если его в
определенное время следует умилостивлять жертвами, то с ним
обращаются как с богом, а значит, он должен быть подобен богу.
Следовательно, он каким-то образом остается живым86. Миф
прямо говорит о его смерти, но культ подразумевает, что он
возродился и потому жив. По мифу Эрехтей, как и Фаэтон,
погиб от молнии Зевса (Гигин 46). Вполне очевидно, что
Эрехтей какое-то время пребывает в подземном мире, — не
случайно о нем сказано, что он скрыт в χάσμα... χθονός «зеве земли»
(Еврипид. Ион 281). Схожим образом прилагательное mukhios
«сокрытый», употребленное по отношению к Фаэтону в
«Теогонии» 991, тоже намекает на его нахождение в нижнем мире —
на это указывает, в частности, значение слова mukhos «скрытое
место» в «Теогонии» 119. Да и сама Афродита, похитившая
Фаэтона и сделавшая его mukhios, была известна под культовым
именем Mukhiä (например, в Гиаре: IG XII ν 651; ср. Элиан. О
природе животных 10.34)87. Еще одним культовым эпитетом
Афродиты, тоже связанным с подземным миром, было Melain
is «Черная» (Павсаний 2.2.4, 8.6.5, 9.27.5). В мифе о
Фаэтоне, сохраненном Еврипидом, даже само имя его матери Кли-
мены, Kluménë, подразумевает нижний мир. Форма мужского
85 См. подробнее в [Nagy 1979а: 190-192].
[Rohde 1898 1: 189-199]. Рациональная трактовка фигуры жреца-
царя в [Farnell 1921: 17] кажется своеобразным упражнением в духе Эв-
гемера.
Ср. также [Güntert 1909: 185] о мистической роли слова mukhos и
его связи в «Одиссее» с именем Калипсо, Kalupso.
332 ЧАСТЬ П. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
рода Klumenos служила эвфемистическим эпитетом самого
Аида — например, в местных культах города Гермионы (Павса-
ний 2.35.9). Позади гермионского святилища Khtoniä «Хтонии,
Земной» было «Место Климена, KMmenos», а в этом месте
находился у ης χάσμα «провал, зев земли», через который Геракл
вывел на свет Кербера, пса Аида (Павсаний 2.35.10). В связи
со всем этим я предлагаю видеть в матери Фаэтона Климене
ипостась хтонической Афродиты.
Подведем некоторые итоги. Подобно Эос, Афродита,
похищая героя, действует одновременно как благодетельное и
губительное божество: она и убивает, и хранит. Когда родителями
Фаэтона названы Гелиос и Климена, героя в конце ждет смерть,
скрытая в фигуре его матери Климены. Но если его
родителями являются Кефал и Эос, героя ждет и смерть, и сохранение
жизни — и то, и другое заложено в образе Эос и
параллельной ей фигуре Афродиты. Тем самым я в принципе не
согласен с утверждением о том, что, «основываясь на имеющемся
у нас материале, сына Гелиоса и сына Эос и Кефала
следует считать совершенно разными персонажами» [Diggle 1970: 15,
прим. 3]. Это слишком личностный подход. Мы имеем дело
не с разными персонажами, а с разными мифами,
родственными друг другу вариантами, в центре которых стоит
унаследованный от предшествующих эпох персонифицированный образ
сына и спутника солнца.
В том, что по отношению к Фаэтону в «Теогонии» 991
употреблен эпитет mukhios «сокрытый», предполагающий, что он
был спрятан Афродитой, можно увидеть существенную
параллель к мифам о Фаоне и Адонисе, которых Афродита тоже
скрывала88. Подобно тому, как в культе Афродиты содержатся
намеки на сохранение жизни Фаэтона, то же самое происходит
и с Адонисом в культе Аполлона Эрифия, Erithios89. Что же
касается Фаона, то о сохранении его живым и молодым прямо
повествует миф о том, как Афродита превратила его в юного
красавца (Сафо фр. 211 V). Мы знаем из мифа о Фаэтоне, что
мотивы сокрытия и сохранения символически связаны с
движением солнца, и потому есть основания предположить, что та же
символика стоит и за мифами о Фаоне и Адонисе.
См. выше с. 300.
См. выше с. 300.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 333
Как и слово Phaéthôn, само имя Фаона — Phaön —
указывает на связь с солнцем90. Да и его занятие — перевозчик,
паромщик (Сафо фр. 211 V) — тоже является солярным
мотивом, как это продемонстрировал Германн Гюнтерт в своих
работах, посвященных другим мифологическим перевозчикам91.
Я хотел бы сопоставить с Фаоном одно из солярных божеств
«Ригведы» — Пушана92, который постоянно выступает в роли
проводника душ и который по крайней мере однажды
изображается путешествующим в золотых лодках (6.58.3). Пушан —
жених своей матери (6.55.5) и возлюбленный собственной сестры
(6.55.4, 5). Частым эпитетом, прилагаемым исключительно к
Пушану, является âghrni- «сверкающий, блестящий»,
сравнимый по смыслу с Phaön и Phaéthôn.
В свете таких характеристик, связанных с особым
индийским солярным божеством Пушаном, стоит заметить, что и
общепризнанный древнеиндийский бог солнца Сурья является
одновременно сыном и супругом богини зари Ушас (Ригведа 8.63.3,
7.78.3, 1.115.2, 7.75.5 и т.д.)93. «Отцами» Пушана являются
божественные солнечные близнецы, известные под именем Ашви-
нов (Ригведа 10.85.14); как и Пушан, Ашвины ассоциируются с
лодками, и их изображают путешествующими в них (1.116.3)94.
Об Ашвинах говорится, что они «родились по-разному» (папа
jâtâu — 5.73.4), родились «здесь и там» (ihéha jâtâ— 1.181.4);
один из них сын Sumakha- «Доброго Воина», а другой — сын
Дьяуса, Dyâus- «Неба»95. У Яски (Нирукта 12.1) цитируется
место, в котором об Ашвинах сказано, что «одного из них
называют сыном Ночи, а другого — сыном Зари». По моему
мнению, эти образы символизируют солярное противопоставление
дня и ночи, света и тьмы, смертного и бессмертного, живого и
мертвого. Но с другой стороны, если Ашвины предстают вме-
90 См. выше с. 307.
91 См. прежде всего [Güntert 1909; 1923: 273]. По поводу
древнеиндийских Ашвинов см. ниже, а также выше с. 153.
См. о нем выше с. 135 и далее.
Как мы видели, в греческой традиции Эос тоже может считаться
сестрою Гелиоса (Гесиод. Теогония 371-374). См. выше с. 323, прим. 60.
Подробнее об Ашвинах см. выше с. 129, 153.
Прилагательные makhâ- и sumakha- служат в древнеиндийской
поэзии эпитетами, подчеркивающими героическую сущность как людей, так
и богов.
334 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
сте, как парные божества, то обнаруживают только одну
сторону своей двойственной сущности96. Соответственно, вдвоем они
всегда сыновья Дьяуса-Неба (1.182.1) и сыновья Ушас (3.39.3,
причем для полноты картины следует учесть и комментарий
Саяны к этому месту).
Солярные образы Ашвинов также подразумевают
утреннюю/вечернюю звезду97. Астральной функции Ашвинов
соответствует солнечная богиня Сурья, дочь Солнца, в то время
как их солярной функции отвечает богиня зари Ушас. Братья
Ашвины — мужья Сурьи (Ригведа 4.43.6). Дуглас Фрэйм
обосновал точку зрения, согласно которой эпитет близнецов —
Насатьи, Nâsatyau, означает «возвращающие», поскольку они
возвращают солнечный свет98. По существу, этот эпитет
означает утреннюю звезду, восход которой над горизонтом
знаменует новое «обретение» солнечного света, воплощенного в
богине Сурье. Когда наступает ночь, вечерняя звезда опускается
за горизонт вслед за скрывшимся солнцем, дабы следующим
утром солнце было возвращено «вторым я» вечерней звезды —
звездой утренней99.
Древнеиндийские Ашвины параллельны греческим
Диоскурам, Dios koûroi, «сыновьям Зевса» [Güntert 1923: 260-276].
За именем Ашвинов стоит древнеиндийское слово для
«лошади» — asva-, а Диоскуров принято назвать leukopoloi «яркими
конями» (см., например, Пиндар. Пифийские оды 1.66)100.
Интересно, что у Диоскуров есть конь по имени Наград os «Хват,
Об этой особенности божественных близнецов см. [Davidson 1987:
103-104; ср. Wikander 1957].
Это отождествление сделал своей главной темой Г. Гюнтерт в
работе [Güntert 1923].
98 [Frame 1978: 134-152], см. выше с. 129, 153; ср. также [Güntert 1923:
268].
См. выше с. 136 и далее разбор древнеиндийских соответствий
греческому представлению о кроящемся за горизонтом Океане.
См. [Ward 1968: 54-55, Joseph 1983] об английских преданиях о
братьях-близнецах Хенгесте (его имя родственно немецкому Hengst
«жеребец») и Хорее (ср. horse «лошадь» в современном английском), которые,
согласно легенде, были предводителями саксов во время их вторжения на
Британские острова. См. также [Davidson 1987] о подобной Диоскурам
иранской паре отца и сына Lohräsp и Goshiäsp в «Шах-намэ» Фирдоуси.
В их именах второй элемент -äsp тоже можно соотнести с
древнеиндийским asva- «лошадь».
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 335
Хваткий», сын Podârgë «яркой, быстроногой» (Стесихор PMG
178.1). Имя его матери можно сопоставить с Гарпией Podârgë
«яркой, быстроногой», которая родила на берегах Океана коней
Ахилла (Илиада XVI150-151)101. Также можно вспомнить о ла-
конском сообществе жриц, именуемых Левкиппидами
Leukippides «яркими лошадьми» (Павсаний 3.16.1) и связанных с
культом Елены. В этом контексте Елена выступает в роли
богини зари, аналогичной или даже тождественной богине Aotis,
упоминаемой у Алкмана PMG 1.87102.
Однако вернемся к тому, что нас главным образом должно
сейчас занимать, а именно к солярному образу Фаона,
возникающему в поэзии Сафо. С ним связана еще одна солярная
тема: его прыжок с белой скалы подобен погружению солнца в
образе Фаэтона в воды Эридана. Мы уже имели возможность
понять, что Эридан подобен Океану и, как и Океан, служит
границей между светом и тьмой, жизнью и смертью, пробуждением
и сном, пребыванием в сознании и его потерей. Также мы
могли заметить, что и Белая Скала обозначает некое загадочное
место, отграничивающее те же самые полюса, и,
соответственно, мистическая река и скала дополняют друг друга в
гомеровском эпосе (Одиссея XXIV 11). Даже Фаэтон и тот связан
с Белой Скалой, поскольку, согласно легенде, его отец Кефал
прыгнул в море с Левкадского мыса (Страбон 10.2.9 С452)103
и, кроме того, ассоциируется с местом под названием Thorikos
(Аполлодор 2.4.7)104. Тема прыжка, погружения в воду
очевидно связана с солнцем — подтверждением тому может
служить гомеровское описание:
εν 6" επεσ 'Q/ceai/t? λαμπροί/ φάος Ήελίοιο
и яркий свет Гелиоса погрузился в Океан.
Илиада VIII 485
Согласно киклическим поэмам, возлюбленным Климены был
101 См. выше с. 312, 319.
Конкретные факты и их разбор см. в книге [Calame 1977 1: 326-
330, 2: 124-125], где также утверждается, что мотив сияющих, блещущих
лошадей служит сакральным символом зари, а эта культовая тема
связана и с Еленой, и с Левкиппидами, которые, согласно мифу, являются
подругами Диоскуров, братьев Елены.
103 См. выше с. 301.
104 См. выше с. 304.
336 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
не Гелиос, а «Кефал, сын Деиона» (ΚεφάΧω τωχ Αηίονος —
Nostoi fr. 4 Allen)105 — этот образ явно напоминает Кефал а,
сына Дейонея, родом из Торика, который бросился вниз с белой
Левкадской скалы (Страбон 10.2.9 С452)106.
Если на самом деле за мифами о Фаоне и Адонисе стоят
темы, связанные с солнцем, то следует выяснить и причину
присутствия в них Афродиты. Самый существенный вопрос
состоит в том, как понимать прыжок Афродиты с Белой Скалы?
Мы знаем, что она совершила его из любви к Адонису (Птоле-
мий Хенн, согласно «Библиотеке» Фотия 152-153 Bekker)107, и
эту историю, вероятно, нужно соотносить с уже известной нам
ролью Афродиты, замещающей индоевропейскую богиню зари,
по-гречески именуемую Эос. Как мы видели, Афродита
узурпировала исходно принадлежавший Эос эпитет Dios ihugâitr
«Дочь Зевса, Неба», а вместе с ним и соответствующие
функции. Действительно, внутри гомеровских поэм Афродита —
исключительно Diös ihugaiër, ибо даже имя ее матери Дионы,
Dionê, производно от имени Зевса и «Неба». Но тогда прыжок
Афродиты с Белой Скалы необходимо считать чертой,
характерной для божества, замещающего индоевропейскую богиню
зари, и его нужно соответствующим образом объяснить.
Мы можем обнаружить такое объяснение, обратившись к
стоящему за образом Афродиты ближневосточному наследию.
Поскольку прообразом греческой Афродиты является
семитская богиня плодородия Иштар, астральным символом
греческой богини становится планета Иштар, известная нам под
именем Венеры [Scherer 1953: 78-84, 90, 92, 94]. Разумеется,
Венера тождественна Вечерней, Hésperos, и Утренней, Heosphoros
(«несущей Эос, Ëos) зарю»), Звезде. Вечером Hésperos, Геспер
садится сразу же после захода солнца, а утром Heosphoros, Гео-
сфор загорается на небе прежде рассвета. Из стихов
современника Сафо Ивика (PMG 331) мы узнаем, что уже в это время
Геспер и Геосфор считались одной и той же звездой. Но с
другой стороны, в индоевропейской перспективе Геспер и Геосфор
должны были восприниматься как два Божественных
Близнеца, греческим воплощением которых были Диоскуры «сыны Зе-
Сына Климены и Кефала зовут Ификлом (Nostoi fr. 4 Allen).
См. выше с. 304.
См. выше с. 300.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 337
вса», родственные древнеиндийским Ашвинам108. Как
рассказывает Плутарх (Лисандр 12, 18), во время битвы при Эгоспота-
мах по обеим сторонам от флагманского корабля Лисандра на
небе загорелись две яркие звезды: спартанцы сочли это
явлением Диоскуров и потому после победы в благодарность
посвятили им две золотые звезды в дельфийском храме.
В поэтическом мире Сафо индоевропейский образ Утренней
и Вечерней Звезды смешивается с ближневосточным образом
Планеты богини любви, Афродиты. С одной стороны, Геспер
является звездой, покровительствующей браку, — об этом
непосредственно свидетельствует 104-й фрагмент Сафо в
собрании Фойгта и, опосредованно, знаменитая свадебная песнь,
Гименей Катулла Vesper adest (62-й фрагмент). Поскольку
Геспер становится вечерней астральной ипостасью Афродиты,
заход этой звезды за горизонт, за которым находится Океан, мог
стать причиной возникновения образа ныряющей в море
Афродиты. Но если представить себе, что Афродита погружается в
Океан вслед за солнцем, то, значит, утром она снова должна
выйти на поверхность, ведя за собою солнце нового дня.
Именно этот образ содержится в схолиях к Гесиоду, где объясняется
миф об Афродите и Фаэтоне:
о ηω ος αστήρ о ανάηων την ήμέραν καΐ τον Φαέθοντα ή
Αφροδίτη εστίν.
звезда Эос, возвращающая к свету и жизни [глагол an-agö] день
и Фаэтона, это и есть Афродита109.
Схолии к Гесиоду. Теогония 990
В подтверждение того, что глагол an-agö «выводить» может
нести мистический смысл «возвращать к свету и жизни»,
сошлюсь на употребление этого глагола у Гесиода ( Теогония 626
— εις φάος «на свет»), Платона {Государство 521с — εις φως
«к свету») и Эсхила (Агамемнон 123 — των φθιμένων «из
мира мертвых») и т.д.110
[Güntert 1923: 266-267]. См. выше с. 334 и далее.
109 В работах [Wilamowitz 1913: 13, прим. 3] и [Diggle 1970: 15, прим. 1]
смысл этой фразы признается совершенно неясным.
Опять-таки см. [Frame 1978: 150-162] об эпитете Литвинов — Наса-
тьи, которые Д. Фрэйм понимает как «те, кто возвращает к жизни и свету».
О тождестве Литвинов и Вечерней и Утренней Звезды см. выше с. 334.
338 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
По свидетельству Менандра (φρ. 258К), Сафо сама говорит
о том, что, обезумев от любви к Фаону, она кинулась вниз с
Белой Скалы. За этой картиной угадываются космические
мотивы. В поэзии Сафо ее «лирическое я» то и дело
подразумевает богиню Афродиту, любящую бога Солнца, воплотившегося в
лесбосском юноше. Бросаясь с Белой Скалы, «я» Сафо
совершает то же, что делает Афродита в образе Вечерней Звезды,
спускающейся в воду вслед за солнцем, дабы возвратить его
на следующее утро, поднявшись на небо как Утренняя
Звезда. Если предшествующей ночью она гонится за солнцем, то
на следующее утро уже солнце преследует ее. В этом образе
таится мотив amor versus, темы, которая возникает в других
поэтических строках Сафо:
και ηαρ αι φενηει, ταχέως διώξει,
и даже если сейчас она убегает, то скоро будет гоняться за тобой.
Сафо фр. 1.21 V
Поэзия Сафо пронизана представлением о ее особой
связи с Афродитой. В конце концов, самое первое стихотворение
в собрании фрагментов поэтессы — это молитва, обращенная
к Афродите, где Сафо призывает богиню стать для поэтессы
summakhos «союзницей в битве» (фр. 1.28 V). В этой мольбе
Афродита и «я» Сафо действуют не попеременно, а скорее
параллельно друг другу:
οσσα δε μοι τέλεσσαι θυμός ίμέρρει, τέΧεσον
и что бы мой дух [thümos] ни захотел совершить [глагол teléo
в активном залоге], я молю тебя [Афродита], соверши [глагол
teléô в активном залоге].
Сафо фр. 1.26-27 V
Я хотел бы привлечь внимание к использованию в этом отрывке
активного инфинитива τέλεσσαι «совершить» в том месте, где
следовало бы ожидать пассивной формы τεΧέσθην
«совершаться, быть совершенным»111. Если кому-то нужно, чтобы
Афродита сделала нечто, в поэзии Сафо это чаще всего обозначает-
Схожего эффекта достигает Катулл, в 85-м стихотворении
своего сборника противопоставляя активную форму faciam «что я совершаю»
и пассивную fieri «совершается», при том что обе они относятся
одновременно к двум глаголам odi et am о.
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 339
ся именно пассивным инфинитивом τελέσθηι/ «быть
совершенным», а не активной формой τέΧεσσαι «совершить»:
Κυπρί και] Νηρηίδες άβλάβη[ι/ μοι
τον κασι\ηνητον δ[6\τε τυί6' ϊκεσθα[ι
κωσσα F]oi θνμωι κε θέΧηι -γενέσθαι
πάντα τε]\έσθην,
Афродита и Нереиды, пусть мой брат
воротится сюда невредимым,
и пусть все, чего бы ни пожелал его дух [thumos\
было бы свершенным [глагол teléô в пассивном залоге].
Сафо фр. 5.1-4 V
В образе Сафо смертный отождествляется с божеством как
прямо, так и косвенно. Вот пример из другого стихотворения:
πόΧ]Χακι τυέδε [ν]ων εχοισα
σε θέα σ ικέΧαν αρι-
ηνώτα. σαδε μάΧιστ έχαιρε μόΧπα-
ε]υμαρ[ες μ]εν ουκ α[μ]μι θέαισι μόρ-
φαν επή[ρατ]ον εξίσω-
σθαι
Много раз обращая туда свой разум [noos]
ты, подобная всем известной богине.
И особо наслаждалась она твоим пением и пляской.
Нелегко нам
быть подобными прелестным обликом
богиням.
Сафо фр. 96.2-5, 21-23 V
Еще более показательны строки из еще одного фрагмента
Сафо (58.25-26 V), сохраненного у Афинея 687Ь. Он говорит
о Сафо как о женщине, которая открыто признавала в своих
стихах, что для нее to kalon «красота» неотделима от habrotës
«пышности»:
εηω δε φίΧημμ άβροσνναν, ] το ντο και μοι
το Χά[μπρον έρως112 άεΧίω και το κά]Χον Χέ[Χ]ο^χε.
Но я люблю пышность [(h)abrosunä]... это
112 Ср. [Hamm 1957: § 241].
340 ЧАСТЬ II. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
и страсть к солнцу принесла мне яркость и красу113.
Сафо фр. 58.25-26 V
Анализ оксиринхского папируса № 1787 показывает, что эти две
строки стоят в конце стихотворения, отсылающего к неким
мифологическим сюжетам. По мнению издателей Сафо Эдгара
Лобеля и Денниса Пэйджа, отрывок, начинающийся с
девятнадцатого стиха, повествует о Тифоне (фр. 58 LP). Каким бы
ни был в действительности его сюжет, в этом фрагменте мы на
самом деле сталкиваемся с картиной старения, здесь говорится
о том, как постепенно белеют волосы, а колени начинают
подгибаться (Сафо, фр. 58.13-15 V). Отрывочность сохранившихся
на папирусе строк не дает возможности точно установить, от
чьего имени произносятся эти слова и от каких тягот страдает
говорящий, но некто чувствует себя беспомощным,
риторически вопрошает, что ему делать, и горюет о том, что он не в
силах нечто совершить (58.17-18). Также присутствует и
лесбийская форма имени богини Эос: βροδόπαχνν Ανώι/ «розо-
ворукая Заря» (58.19).
Служа завершением стихотворения, две последние строки,
в которых, согласно моей интерпретации, Сафо утверждает
свою «страсть к солнцу», становятся своего рода личностным
и художественным манифестом. «Пышность», (hjabrosunä, о
которой говорит Сафо, конечно, гораздо глубже тривиальной
трактовки Афинея, цитирующего две эти строчки. У Сафо
(h)abrôs «пышный» служит эпитетом Адониса (фр. 140 V), а
также Харит «Граций» (128 V), на колеснице которых
выезжает сама Афродита (194 V). Во втором фрагменте Сафо (2.13-
16) наречие (h)abrös «пышно» (14) употреблено в описании
того, как Афродита проливает нектар. Использование (h)abrôs
«пышный»/(h)abrosunä «пышность» в лирике Сафо заставляет
вспомнить об употреблении латинских lepidus/lepos римскими
поэтами-неотериками, для которых эти слова служили
косвенным определением собственной поэтической личности. Что же
Предложенное здесь чтение фрагмента несколько отличается,
например, от трактовки Д. Кэмпбелла [Campbell 1982: 101], который считает
нужным читать τωεΧίω (то αεΧίω), соглашаясь, впрочем, с τόΧάμπροι/. Но
даже если и принять чтение τωεΧίω, то теоретически здесь можно
усмотреть слияние, красис, но другой формы τω άεΧίω = τωεΧίω (ср.,
например, πω εσΧον = πωσΧοι/ у Алкея 69.5 V). Ср. [Hamm 1957 § 91e].
Глава 9. «ЧТЕНИЕ» СИМВОЛОВ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ 341
касается «страсти к солнцу» и «любви к (h)abrosunä
пышности», то в этих темах соединены глубинные поэтические и
личные идеалы. В предшествующих этому завершению строках Са-
фо, быть может, подразумевает старого Фаона, сравнивая его с
Тифоном. Возможно также, что Фаон был сыном Тифона. У
Аполлодора (3.14.3) есть ссылка на версию мифа, по которой
сыном Тифона был Фаэтон; а поскольку Фаэтон был и сыном
Èos «Зари», то Фаон мог быть сыном ее лесбосского аналога,
Auös, упоминаемой в том же стихотворении (Сафо, фр. 58.19).
А уже в следующей, двадцатой строке того же фрагмента фраза
έσχατα у ας φέροισα «[она], унося на край земли» в сочетании
с глаголом εμαρψε «схватила» в двадцать первой строке
напоминает нам об Эридане/Океане и Гарпиях.
Как бы то ни было, несомненным фактом остается
существование лесбосского мифа о старике Фаоне (Сафо фр. 211 V);
весьма характерно, что в том же самом мифе и Афродита
принимает обличие старухи, которой старый Фаон великодушно
помогает и перевозит через пролив (см. там же). Я склонен
полагать, что с этой старухой себя отождествляла и сама Сафо. В
свете подобных отождествлений значимым оказывается и миф
о скорбящей Афродите, бросающейся вниз с Белой Скалы из-
за любви к умершему Адонису (Птолемий Хенн, согласно
«Библиотеке» Фотия 152-153 Bekker)114. В поэзии Сафо тема
скорби по умершему Адонису не только заявлена прямо (фр. 168
V), но ее можно соотнести и с угадывающимся во многих
стихах Сафо самоотождествлением поэтессы с богиней Афродитой.
Кратко говоря, у любви стареющей женщины к Фаону есть
мифологическая предыстория. За этой любовью кроется
надежда вновь обрести юность. После того как Афродита пересекла
пролив, она вновь стала прекрасной богиней и наделила
красотой и молодостью самого Фаона (см. снова Сафо фр. 211 V).
Разве все это недостаточно убедительные причины для того,
чтобы Сафо полюбила Фаона?
См. выше с. 300 и далее.
Глава 10
О СМЕРТИ АКТЕОНА
Миф об охотнике Актеоне известен нам прежде всего из
«Метаморфоз» Овидия (3.13 и далее), по версии которого
Артемида просто-напросто обращает Актеона в оленя. Несчастная
жертва гибнет затем от клыков своих собственных собак. По
мнению одного из исследователей [Rose 1931], тот же вариант
мифа излагается в одном из фрагментов Стесихора (PMG 236),
почерпнутого из «Описания Эллады» Павсания:
Στησίχορος 8è 6 Ίμεραιος ε^ραφεν εΧάφου περιβαΧεΐν δέρμα
Άκταίωνι την Θεόν, παρασκενάζονσάν οι τον εκ των κυνών
θάνατον·, ϊνα δη μη "γυναίκα ΣεμέΧην Χάβοι.
Стесихор из Гимеры писал, что богиня набросила на Актеона
оленью шкуру, обрекши его на смерть от его же собственных
собак, и все для того, чтобы он не взял в жены Семе л у.
Павсаний 9.2.3
Если согласиться с такой трактовкой, то выражение εΧάφου
περιβαΧειν δέρμα Άκταίωνι «набросила на Актеона оленью
шкуру» должно быть словами самого Стесихора, и их
образный смысл должен подразумевать, что, набросив dérma «кожу»
оленя на Актеона, богиня тем самым должна была превратить
dérma «кожу» Актеона в оленью шкуру. В доказательство
того, что для древнегреческого глагола peribâllo «набрасывать на
[кого-то]» значение «превращать» было якобы вполне
традиционным, этот же автор [Rose 1931] приводит поражающий
своей схожестью пример, где описывается, как боги превращают
в соловья Филомелу:
Глава 10. О СМЕРТИ АКТЕОНА
343
πτεροφόροι/ yap οι περί δέμας βάλοι/το
ибо они [боги] набросили [глагол periballô] на нее [Филомелу]
оперенную плоть [démas].
Эсхил. Агамемнон 1147
Другой ученый [Bowra 1961: 99-100], соглашаясь с тем, что
глагол periballô может подразумевать «превращение», тем не
менее отрицает, что такую семантику следует восстанавливать
для упомянутого контекста из Стесихора (PMG 236). С. Бау-
ра склонен скорее предполагать, что periballô в этом фрагменте
означает, что Артемида просто набрасывает на Актеона оленью
шкуру. В подтверждение он ссылается на древнегреческий
иконографический материал, где умирающий Актеон
действительно нередко изображается завернутым в оленью шкуру1.
Основным примером здесь служит изображение с метопы храма Ε в
Селинунте (середина пятого века до н.э.)2: там на Актеоне
действительно надета оленья шкура, причем его собаки бросаются
главным образом на нее, а не на него [Bowra 1961: 125].
Однако такие ссылки не кажутся убедительными. Образ
Актеона, одетого в оленью шкуру, а не превратившегося в
оленя, можно считать метафорой — как на изобразительном, так
и на словесном уровне. Что касается значения слова periballô,
то этот глагол действительно может значить «одевать»; об этом
говорит хотя бы только что приведенный отрывок о Филомеле
из «Агамемнона» Эсхила. Боги превращают Филомелу в
соловья, но если придерживаться буквального смысла эсхиловских
слов, то выглядит это так, как если бы боги одевали ее в démas
«тело, плоть» соловья. Значение «одевать» для periballô
вполне обычно в древнегреческом (Одиссея V 231, XXII 148; Геродот
1.152.1, 9.109.1; Еврипид. Ифигения в Тавриде 1150 и т.д.); а
образованное от этого глагола существительное реггЫёта
просто означает «часть одежды, предмет туалета» (Аристотель.
Problemata 870а27 и т.д.). Соответственно, я предлагаю считать
метафорическим и употребление periballô у Стесихора (PMG
236): фраза о том, «что богиня набросила оленью шкуру на
Актеона», ελάφον περιβαλείν δέρμα Άκταίωι/ι, означает, что
богиня превратила его в оленя.
1 [Bowra 1961: 99-100, 125-126]. При этом С. Баура принимает во
внимание и иной тип изображения, где у Актеона видны отросшие оленьи рога.
2 См. [Richter 1950: рис. 411].
344 ЧАСТЬ IL ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА
Если все же настаивать на не-метафорическом понимании,
то на это можно возразить, что «δέρμα [dérma "кожа"] ведь не
то же самое, что δέμας [démas "тело"]» [Bowra 1961: 100]. Но
такое возражение не учитывает традиционное отождествление
чьей-либо сущности, личности с «кожей». Следы такого
отождествления можно обнаружить дгже на лексическом уровне
во многих индоевропейских языках. В качестве примера можно
привести родственное индийскому tvâc- «кожа» и греческому
sdkos «щит из коровьей шкуры» хеттское слово tweka-:
помимо основного значения «тело», оно регулярно используется и
для определения «личности, естества». Стоит упомянуть и
латинское слово uersipellis, буквально обозначающее «того, у кого
перевернута кожа» (от глагола uertö «поворачивать» и
существительного pellis «кожа, шкура»). В «Амфитрионе» Плавта
(123) uersipellis используется по отношению к Зевсу, когда он
превращается в смертного Амфитриона; а у Плиния в
«Естественной истории» (8.34) и у Петрония (Сатирикон 62) это
слово обозначает «оборотня».
Таким образом, компаративный анализ говорит в пользу
того, что в тексте Стесихора (PMG 236) мы сталкиваемся со
вполне традиционным способом выражения, метафорически
подразумевающим, что Актеон на самом деле был превращен в
оленя. Иконографические свидетельства можно считать
символическим воспроизведением той же самой идеи, которую мы
обнаруживаем и в свидетельствах поэтических.
Остается еще одна, последняя проблема. Доказательством
того, что выражения, подобные стесихоровскому periballö,
«нельзя мыслить исходно метафорическими», считали бесспорной
связь мифа об Актеоне с охотничьими ритуалами3. Если я
правильно уловил логику аргументации, то она основана на
убежденности в несовместимости метафоры и ритуала. Мне такая
уверенность кажется ни на чем не основанной. Для участника
ритуала ношение оленьей шкуры во время обряда могло быть
действом, наполненным таким же метафорическим смыслом,
каким для слушателя мифа могли быть проникнуты слова о
том, что Артемида набросила кожу оленя на тело Актеона.
[Renner 1978: 286, прим. 16] со ссылкой, например, на [Burkert 1983
(1972): 111-114].
ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ
Эллинизация
индоевропейской
общественной
идеологии
Глава 11
поэзия И ПОЛИСНАЯ
ИДЕОЛОГИЯ:
СИМВОЛИКА ДОЛИ
НА ПИРУ
Φιλόχορος δε φησιν κρατήσαντας Αακεδαιμονίους Μεσσηνίων
δια την Τυρταίου στρατηηίαν εν ταΐς στρατείαις εθος
ποιήσασθαι, αν δειπνοποιήσωνται και παιωνίσωσιν, αδειν καθ'
ενα <τα> Τυρταίου· κρίνειν δε τον πολέμαρχον και αθλον
διδόναι тщ νικώντι κρέας.
Филохор говорит, что спартанцы, одержав победу над мессенца-
ми благодаря предводительству Тиртея, учредили такой обычай
в своем воинстве: всякий раз, когда они приготовляли еду и
пели пэаны, они по очереди исполняли и стихи Тиртея. Полемарх
был судьею и награждал победителя куском мяса.
Филохор FGH 328 фр. 216, согласно Афинею 630 f
Если считать свидетельство Афинея достоверным, то этот
фрагмент отражает одно из фундаментальных полисных
установлений, а именно идею единства, возникающего из
взаимодействия социально равных друг другу членов общины. Эта
идеологическая установка и воплощена в описываемом
ритуале награждения куском мяса в качестве приза на состязании.
Жан-Пьер Вернан и Марсель Детьенн показали в своих
исследованиях, что за древнегреческим обычаем соревнования за
награду кроется идея обобществления собственности, которая
затем должна быть распределена и роздана каждому. Такое
распределение предполагает идею равенства, но отнюдь не
исключает возможности особого отличия или награды [Vernant 1985:
202-260, особ. 210-215; Détienne 1973: 82-99]. Если призом
служит кусок мяса, то тогда подобное обобществление происходит
348 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
посредством важнейшего действа, служащего объединению
общины, и этим действом является жертвоприношение и
последующее распределение мяса жертвенного животного1.
В рассматриваемом нами фрагменте речь идет о награде
за лучшее исполнение стихов Тиртея. Я убежден в том, что
само содержание этих стихов непосредственным образом
связано с ритуалом награждения особой долей на пиру. Благодаря
тому, что в элегической поэзии вообще и произведениях
Тиртея в частности представление о социальном порядке
предстает прежде всего в образе равного распределения
общественного достояния среди равных членов общины, эти стихи в итоге
становятся неким формальным утверждением полисной
идеологии. Джованни Черри нашел в поэзии Феогнида
чрезвычайно показательный пример таких представлений. Речь идет об
отрывке, где поэт порицает нарушение основных принципов
общественного устройства2 :
χρήματα δ' άρπάζουσι βίηι, κόσμος 6" άπόλωΧεν,
δασμός δ' ούκετ Ισος γίνεται ες το μέσον-
Они силой захватывают достояние, и порядок [kosmos] рушится.
И нет уже равного распределения [isos dasmosf, тяготеющего к
середине [es to méson]*.
Феогнид 677-678
См. книгу [Détienne, Vernant 1979] и в особенности содержащуюся в
ней статью М. Детьенна «Способы приготовления пищи и дух
жертвоприношения» [там же: 10, 23-24], а также статью М. Детьенна и Е. Свенбро
«Волки на празднестве, или Невероятный Город» [Détienne, Svenbro 1979:
особ. 219-222]. Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что, хотя
в основе такого распределения и получения доли лежит принцип
равенства, это не отменяет возможности особых наград и отличий. См. также
[Svenbro 1982: особ. 954-955], ср. [Loraux 1981: 616-617].
[Cerri 1969]. Этот отрывок является частью цельного фрагмента
(Феогнид 667-682), анализ которого см. в [Nagy 1985а: 22-24].
Слово isos «равный, справедливый» в сочетании isos dasmos
подразумевает фактическое равенство участников: ср. [Détienne 1973: 96].
Дж. Черри передает смысл es to méson «[тяготеющее,
стремящееся] к середине» следующим образом: «под контролем общины» [Cerri 1969:
103]. Это выражение, очевидно, подразумевает некое состязательное
обобществление собственности, предназначенной для упорядоченного
распределения среди членов общины. Обзор параллельных мест см. в
упомянутой работе Дж. Черри.
Глава il. ПОЭЗИЯ И ПОЛИСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 349
В языке греческой элегии слово dasmos «распределение»
твердо ассоциируется с разделением пищи на пиру; в
подтверждение можно привести порицание Солоном власть имущих за
то, что те нарушают общественные установления:
βήμου 0' ηγεμόνων άδικος νόος, οισιν ετοιμον
υβριος εκ μεγάλης αληεα πολλά παθεΐν-
ου yàp επίστανται κατέχειν κόρον ουδέ παρούσας
ευφροσύνας κοσμεΐν δαιτός εν ησυχίηί
Нет справедливости [dike] в стремлениях предводителей
общины5. И ждет их
множество бед за великую их гордыню [hubris].
Ибо не могут они сдержать свою ненасытность
или придать порядок [kôsmos] веселью [euphrosunë во
множественном числе]6, коим наполнено спокойствие пира [dab].
Солон фр. 4.7-10 W [= фр. 3 GP]
Слово dais «пир» образовано от глагола daiomai,
означающего «разделять, распределять, выдавать долю»7. В
центре всего стихотворения Солона, из которого взят этот
фрагмент, находится понятие Еипотга «Благозакония»,
персонифицированное в образе богини Эвномии (Солон фр. 4.32 W).
Подобно слову isonomiä*, Еипотга является производным
глагола némôy означающего «разграничивать, распределять»9.
Аристотель {Политика 1306Ь40) и Страбон (8.4.10 С362)
сообщают, что то же самое слово Еипотга было заглавием произве-
Я не согласен с М. Уэстом [West 1974: 68], который полагает, что
выражение «предводители общины [demos]» (употребленное кроме этого
места и в другом фрагменте — Солон, фр. 6.1 W= φρ. 8 GP) подразумевает
«народных вождей», т.е. поборников демократии: см. [Nagy 1985а: 43-44].
О demos в значении «община» см. выше с. 18, прим. 5.
6 «Веселье» (euphrosunë) прежде всего подразумевает подходящую
обстановку для исполнения поэзии на пиру: см. [Nagy 1979а: 19, 92 (§ 39,
прим. 7), 236 (§ 15, прим. 5)].
См. [Nagy 1979а: 127-128] с соответствующей библиографией.
Об этом слове см. разбор примеров и литературу вопроса в [Cerri
1969: 103-104].
По поводу смысла eunomiä у Солона (фр. 4.32 W) и Аристотеля
(Политика 1294а4-7) см. весьма содержательные соображения Е. Свен-
бро [Svenbro 1982: 962, прим. 27], который также рассматривает и
некоторые нюансы, отличающие друг от друга политические концепции еипотга
и xsonomxä.
350 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
дения Тиртея, посвященного устройству спартанского
государства (фр. 1-4 W).
По словам Солона, hubris «гордыня» подрывает устои dais
«пира»; а этот «пир» поэзия рисует главным образом как повод
к распределению мяса. Об этом свидетельствует и осуждение
hubris в элегиях Феогнида:
δειμαίι/ω, μη τήι/6ε πόλιι/, ΠοΧνπαιδη, νβρις
η περ Κει/ταύρους ώμοφά^ονς οΧεσεν.
Я боюсь, Полипаид, что hubris погубит этот город,
[та hubris], что погубила Кентавров, пожирателей сырого мяса10.
Феогнид 541-542
В «Одиссее» предводитель женихов Антиной вспоминает
миф об осквернении пира кентавром Эвритионом, за которым
последовала битва кентавров с лапифами. Против воли
самого Антиноя подобное воспоминание исполнено внутренней
иронии, поскольку не кто иной, как сами женихи нарушают все
правила dais «пира», действа, в основе которого издревле
лежало ритуальное распределение мяса жертвы после
совершения жертвоприношения11.
Таким образом, анализ греческой элегии, подкрепленный
и материалом эпической поэзии, восстанавливает целостную
картину dike «справедливости», тождественной представлению
о правильном распределении мяса на пиру, за которым стоит
должное совершение жертвоприношения. И наоборот, hubris
«гордыня» тождественна нарушению и осквернению этого
действа12. Поскольку в стихотворениях Тиртея (одно из которых,
Ср. приводимый Аполлодором (2.5.4) рассказ о том, как кентавр
Фол предлагает своему гостю Гераклу жареное мясо, а сам ест свою
долю сырой (αντος δε ωμοΐς εχρητο). Ср. также Феогнид 54 и далее, где
низменные нравы аристократов описываются в выражениях, отсылающих
к изображению циклопов в «Одиссее» IX 215. См. разбор этого места в
[Nagy 1985а: 44 § 29, прим. 4, а также § 39, прим. 2].
О том, что нарушение женихами правил dais «пира» означает и
пренебрежение всеми социальными нормами, см. [Said 1979].
Басню Эзопа (348 Реггу) о Волке-Законодателе и Осле можно
сравнить с историей, рассказанной Геродотом (3.142-143), о том, как
наследовавший самосскому тирану Поликрату Меандрий объявил народному
собранию, что он поставит свою политическую власть es to méson «под
контроль общины», установив тем самым isonom га. О выражении es to
Глава П. ПОЭЗИЯ И ПОЛИСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 351
как мы убедились, даже носило название Еипотга) воплотилась
эта главная функция элегической поэзии — быть
служительницей полиса, исполнение произведений этого поэта с
идеологической точки зрения как нельзя лучше подходило ритуалу, о
котором рассказывает Филохор и который состоял в награждении
лучшего исполнителя порцией отборного мяса.
В связи с этим я хотел бы оспорить мнение, высказанное по
этому поводу Феликсом Якоби, который считал, что
упоминаемый Филохором обряд можно датировать самое раннее первой
половиной четвертого века до н.э.13 По умолчанию Ф. Якоби
исходит из того, что в пятом и в первом десятилетии
четвертого века до н.э. о Тиртее в Спарте не было известно
ничего14. Он полагает, что упоминания о Тиртее, содержащиеся у
Филохора (FGH 328 фр. 215, 216; вторая половина
четвертого — первая половина третьего века до н.э.), оратора Ликурга
{Против Леократа 106-107) и самого Платона (Законы 629Ь),
отражают афинскую традицию рассказов о Тиртее, к которой
me5on, означающем «[тяготеющий, стремящийся] к середине», см. выше
с. 348, прим. 4. Как отмечали М. Детьенн и Е. Свенбро [Détienne, Svenbro
1979: 220-221, 230], в обоих случаях и волк-законодатель, и тиран
нарушают принципы равенства одним и тем же способом. Так же как волк
оставляет за собой лучшие куски до того, как поместить всю добычу es
to méson «в середину» (Эзоп. Басни 348.4), Меандрий тоже оставляет за
собой особые права до того, как поместить es to méson свою политическую
власть (Геродот 3.142.3). О волке как символе противостояния Закону
см. свидетельства, собранные в [Davidson, Svenbro 1979; а также Davidson
1979; Grotanelli 1981: особ. 56]. Ср. также возможную этимологию имени
спартанского законодателя Ликурга, Lukoûrgos — «прогоняющий волка»
[Burkert 1979а: 165-166, прим. 24].
13 [Jacoby FGH Illb v. 1: 583-584; Illb v. 2: 479-480]. См. также
[Jacoby 1918: особ. 1-12].
14 Φ. Якоби полагал, что поэзия Тиртея была неизвестна Геродоту,
поскольку в том месте его «Истории», где говорится о достижении Спартой
еипотга (1.65-66), о Тиртее не сказано ни слова. И все же слова Геродота
не исключают возможности того, что он на самом деле знал нечто о
Тиртее. Геродот отвергает ту версию легенды о Лику pre, согласно которой
законодатель получил свои законы от оракула в Дельфах, и
предпочитает считать — так же как, по его же словам, полагали его современники-
спартанцы, — что Ликург привез свои законы с Крита. По моему
мнению, именно такой вариант допускал, что Ликург и Тиртей оба внесли
свой вклад в спартанское государственное устройство: Ликург, принеся
законы с Крита, а Тиртей, взяв законы у дельфийского оракула (ср.
Тиртей. фр. 4.1-2 W).
352 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
предположительно относятся и сообщения о том, что Тиртей
был родом из Афин15.
Однако такая логика совершенно не принимает во внимание
тот факт, что мифы о поэтах и поэзии в принципе тяготеют к
смешению материала. Даже если мы и согласимся с тем, что
упоминания об афинском происхождении Тиртея — следствие
позднейшей обработки предания, это совершенно не означает,
что данью такому анахронизму нужно считать и все остальные
детали истории Тиртея, изложенные в афинских источниках16.
Более того, можно усомниться и в самой идее того, что фигура
Тиртея-афинянина — плод именно афинской традиции.
Другие свидетельства дают основания предполагать, что истории о
неспартанском происхождении спартанских поэтов были
рождены именно внутри собственно спартанской, а не той или иной
иноземной традиции, поскольку в принципе отвечали
идеологии именно спартанского полиса17. Кроме того, легенда о том,
что культурный герой того или иного города был на самом деле
Об афинском происхождении Тиртея говорят историки Филохор
FGH 328 фр. 215 и Каллисфен FGH 124 фр. 24 (мнение Каллисфена
приводит Страбон 8.4.10 С362).
Кстати, мнение Ф. Якоби о том, что пятый век представляет собой
некую лакуну в бытовании преданий о Тиртее, можно оспорить, и
основываясь на историко-литературных данных. Есть основания полагать, что
поэзия Тиртея — ас ней и элегическая поэзия в делом — постоянно
воссоздавалась заново в процессе исполнительского воспроизведения — см.
[Nagy 1985а: 46-51]. Это последовательное воссоздание нельзя не
учитывать, рассуждая о смешении разновременного материала в тех или иных
фрагментах или свидетельствах.
Стоит обратить внимание на определенный тематический
параллелизм в сообщениях о чужеземном происхождении архаических поэтов
Спарты. См., например, свидетельства, собранные в [Fontenrose 1978] о
Тиртее (Q 18), Терпандре (Q 53), Фалете (Q 54); ср. также Q 118. См.
античные свидетельства об этих и других спартанских поэтах, включая Алк-
мана в [Calame 1977 2: 34-36]. Автор этой работы подчеркивает [Calame
1977 2: 35], что творчество всех этих поэтов было теснейшим образом
связано с ритуальной структурой спартанских празднеств [ср. Breiich 1969: 186
и далее]. Поэтому я склонен считать, что, скажем, историю о лидийском
происхождении Алкмана (PMG 13а; а также PMG 1 Schol. В, Веллей Па-
теркул 1.18.2; Элиан. Пестрые рассказы 12.50) можно соотнести с ролью
лидийских тем в спартанских ритуалах. Так, например, Плутарх
(Аристид 17.10) упоминает в связи со спартанским культом Артемиды Орфии
о των Αυδωι/ πομπή «лидийском шествии». В качестве параллели можно
привести ритуал, известный под названием «Танец лидийских девушек» и
Глава 11. ПОЭЗИЯ И ПОЛИСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 353
чужестранцем или, по крайней мере, принес свой культурный
дар из дальних мест, — это традиционная тема, получившая
широкое распространение18.
Интересный пример истории о том, что культурные дары
приходят из чужих стран, содержится в элегиях Феогнида. В
его стихах образцом общественного единства служит не
основание его родной Мегары, а Фив (Феогнид 15-18): именно в
этом городе поэт помещает свою собственную гробницу с
воображаемой эпиграммой на ней:
Αίθων μεν yévoç ειμί, πόλιν h' ευτείχεα Θήβηι/
οίκω πατρώιας ηης άπερνκόμενος.
я по рожденью Aithön, но прибежищем мне стали крепкостен-
ные Фивы,
поскольку я был изгнан из родной земли19.
Феогнид 1209-1210
То, что поэт рисует себя уже умершим, становится ясным
из следующего стиха: после нескольких загадочных слов,
которыми сейчас не время заниматься (Феогнид 1211-1213), он еще
раз повторяет, что изгнан (1213-1214), а затем прямо указывает,
что его обитель находится рядом с Долиной Леты ( 1215-121б)20.
являвшийся составной частью торжеств в честь Артемиды в Эфесе
(Автократ фр. 1 Коек, согласно Элиану. О природе животных 12.9, Аристофан.
Облака 599-600) — см. разбор свидетельств в [Calame 1977 1: 178-185].
Я совершенно уверен, что в этом случае название «Лидийские Девушки»
в действительности относилось к уроженкам Эфеса, исполнявшим
определенную роль в ритуале.
См. краткий перечень примеров в [Pfister 1909 1: 130-133:
«Почитание героя-чужестранца за его благодеяния»].
1 См. анализ этого отрывка в [Nagy 1985а: 76-81]. Следует обратить
внимание на схожее употребление глагола oikéô «мне служит
прибежищем» в этом фрагменте Феогнида (1210) и в «Эдипе в Колоне» Софокла
27, 28, 92, 627, 637. В упомянутой выше работе я постарался доказать, что
oikéô в данных контекстах подразумевает помещение трупа в отведенное
для этого сакральное место, как это предусмотрено в героическом культе.
Об исторических свидетельствах о вкладе Фив в культуру додорийской
Мегары см. [Hanell 1934: 95-97].
2 Об условном приеме, когда поэт изображает самого себя умершим,
см. [Nagy 1985а: 68-81] с подробным разбором данного фрагмента
Феогнида 1209-1210 и параллельных мест из других авторов. О еще одном
распространенном приеме отождествления собственной поэзии со своей sema
«гробницей» см. выше с. 292, прим. 47. В этой связи необходимо отметить,
354 ЧАСТЬ Hl ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Все эти мотивы удивительным образом напоминают
историю Ликурга. По преданию, спартанский законодатель принес
свои законы из чужой земли, на сей раз с Крита (Геродот 1.65.4;
Плутарх. Ликург 4.1), куда он возвращается, отправив сам
себя в изгнание, и где умирает, уморив себя голодом, дабы его
законы оставались вовек нерушимыми (Плутарх. Ликург 29.8,
31; Эфор FGH 70 фр. 175, согласно Элиану. Пестрые
рассказы 13.23)21. Тема голодной смерти Ликурга — повод
вернуться к имени Aiihön, которым именует себя вещающий из
могилы изгнанник Феогнид (1209-1210). Прилагательное aiihön
может означать «сгорающий [от голода]» и порой является
эпитетом персонажей, известных своей ненасытностью, — например,
оно употребляется по отношению к Эрисихтону (Гесиод фр. 43
MW)22. Именем Aiihön называет себя и Одиссей {Одиссея XIX
183), причем в тот момент, когда он примеряет на себя личину
поэта (XIX 203 — эти строки надо сопоставить с XIV 124-125 и
VII 215-221). Главной характеристикой Одиссея в облике поэта
становится его gastér «желудок» (ср. Одиссея VII 216): голод
понуждает человека пускаться в хитроумные россказни,
чтобы снискать одобрение слушателей и таким образом наполнить
свой gaster23. Впрочем, такой уклончивый рассказ,
обозначаемый специальным термином aînos (например, в Одиссее XIV
508), не воспринимается только негативно. Он может нести и
положительный социальный заряд: когда скрывающий свое
истинное лицо царь Одиссей выпрашивает милостыню на пирах
нечестивых женихов, он не просто произносит atnos2*, но и
выступает как носитель dike «справедливости»25. Аналогичную
роль выполняет и Эзоп, мастерски владеющий aînos и в общем
смысле этого слова, и в специфической форме «басни, притчи»
что элегическая поэзия, представителями которой являются Феогнид и
Тиртей, восходит к традиции фольклорного плача, но уже лишенного
своих родовых характеристик и приспособленного и переосмысленного в
рамках полисного мировосприятия. См. об этом [Edmunds 1985].
21 См. [Nagy 1985а: 31-32]. Ср. [Szegedy-Maszak 1978: 199-209, особ.
208].
22 См. подробнее [Nagy 1985а: 76-91].
23 См. выше с. 69. Ср. [Svenbro 1976: 50-59].
См. материал, разбираемый в [Nagy 1979а: 231-242].
[Там же: 231-242]. Образ Одиссея как воплощения справедливого
царя особенно явственен в «Одиссее» XIX 109-114.
Глава 11. ПОЭЗИЯ И ПОЛИСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ 355
[Nagy 1979а: 239 § 18, прим. 2]: для него подобное иносказание
— возможность скрыто дать понять, что хорошо и что плохо
[там же: 281-284]. Не следует забывать и о «причине» гибели
Эзопа: он высмеял ритуализованную жадность дельфийских
обрядов, где каждый беспорядочно жаждет урвать свой кусок
мяса (Оксиринхские папирусы № 1800)26. Характерно, что в
похвальных одах Пиндара (специальным обозначением для
которых служит все тот же термин aïnos, употребляемый в
самих пиндаровских стихах27) понятие g aster тоже может
обозначать вполне положительную социальную функцию (см. Ист-
мийские оды 1.49).
Мы видели, что и в элегии поэт как носитель dike
«справедливости» может уподоблять общественный порядок в
государстве правильному распределению мяса на праздничном пиру. В
начале этой главы мы рассматривали такое уподобление в
ситуации «от противного», когда поэты осуждали поведение власть
имущих. Так, Солон сравнивал их деяния с осквернением пира,
а Феогнид уподоблял осквернителей буйным кентаврам. В свою
очередь, примером использования того же образа в позитивном
контексте может служить описание Феогнидом основания Фив
Кадмом — причем поэт прославляет это событие как исток
собственного творчества (15-18)28. Согласно мифу, основание
города было на самом деле обставлено как праздничный пир, на
котором каждый получил равную долю мяса (Нонн. Деяния
Диониса 5.30-32). Не следует забывать, что супругой
основателя Фив Кадма была сама Гармония, Нагтопга^ во плоти29.
В итоге мы можем утверждать, что описанный Филохором
ритуал, предусматривающий в качестве приза кусок мяса,
полностью соответствует идеологии древнего полиса, воплощенной
в элегиях Тиртея. Автором исполняемых стихов был истинный
носитель dike «справедливости», и потому лучшей наградой
победившему исполнителю и должен быть отборный кусок мяса.
26 [Там же: 284-288].
27 [Там же: 222-223]: я следую интерпретации М. Детьенна [Détienne
1973: 21].
См. цитату и соответствующий комментарий в [Nagy 1985а: 27-29].
См. подробнее [там же: 28].
Глава 12
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПОНЯТИЕ
ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА
Терминология родства, взятая из различных
индоевропейских языков и описанная Эмилем Бенвенистом в его
«Словаре индоевропейских социальных терминов» [Бенвенист 1995],
вполне отчетливо демонстрирует, что основой индоевропейской
социальной структуры изначально было племя1. Используя
термин «племя», я исхожу из рабочего определения этого
понятия, данного Монтгомери Уаттом в его исследовании
доисламского арабского общества: «группа людей, объединенных
узами родства по мужской или женской линии» [Watt 1962: 153].
Разумеется, племенное родство не обязательно подразумевает
кровную связь, а может быть просто знаком устойчивого
союза, и разделяемая определенной группой людей вера в то, что у
них общие предки, может вовсе не соответствовать реальности,
а быть данью мифологическим представлениям2.
Однако проблема состоит в том, что исследование
племенного устройства индоевропейской общины затруднено
отсутствием реальных исторических свидетельств: ведь большинство
индоевропейских языков отражают уже государственную, а не
племенную или родовую стадию развития общества. В
настоящее время в особенности сложным кажется анализ
древнегреческого материала, поскольку большинство историков Гре-
Подробное исследование индоевропейской терминологии родства с
обширной литературой вопроса см. в [Szemerenyi 1978].
[Watt 1962: 153]. См. чрезвычайно содержательный обзор
представлений о потомственной преемственности и символическом родстве в
[Moore 1964]. См также [Calame 1987].
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 357
ции эпохи архаики и классики сходятся в том, что институты
древнегреческого полиса, города-государства, невозможно
непосредственно выводить из каких бы то ни было племенных
общинных установлений. В этой части своего исследования я
хотел бы оспорить эту общепринятую точку зрения и показать,
что древнегреческие данные могут служить ценнейшим
источником, позволяющим пролить свет на устройство
индоевропейской общины.
Превосходной иллюстрацией подобного скептического
отношения современных ученых к возможности обнаружить в
организации греческого полиса некое наследие родового строя
служит подробное исследование Дени Русселя [Roussel 1976].
Он возражает против обычного для классиков
отождествления понятия «племени» с древнегреческим словом phulé «фила»
[Roussel 1976: 163], которое в словаре Лидделла-Скотта
переводится как «раса, племя». Как указывает Д. Руссель, на самом
деле этим словом обозначались некие ячейки полисного
общества: в качестве примера можно привести традиционное
деление ионийских городов на четыре, а дорийских — на три или
четыре «филы». Аристотель с трудом может себе представить
существование полиса без деления на phülai, не говоря уж о
подразделении последних на ph(r)äiriai, «фратрии» (Политика
1264а8). То обстоятельство, что ρ h ûlê является отличительной
чертой именно полисной организации и не свойственна éthnos
«народу, этносу»3, позволило Максу Веберу утверждать, что
само по себе понятие phule было изобретением полисного общества
[Weber (1956): 776-780; ср. Latte 1941: 994-995]. Даже в мифе
phûlaг воспринимаются как установления, сделанные в городе и
для города (так, Ион учреждает четыре древние phülai в
Афинах: Геродот 5.66.2, Еврипид. Ион 1579-1588; Алет учреждает
восемь коринфских phülai: Суда π 225 Adler s.v. pânta okto). На
этом основании ученые приходят к выводу, что phülai никогда
не обозначали племена. По мнению Д. Русселя, если на самом
деле phüle служило обозначением одного из функциональных
элементов в структуре полиса, то нет никаких оснований
полагать, что этот институт следует возводить к племенному строю
[см. в особ. Roussel 1976: 257-260].
Мне кажется, что основной ошибкой подобных рассуждений
становится убеждение в том, что наследие племенной организа-
Подробнее о понятии éthnos см. [Snodgrass 1980: 42-47].
358 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ции следует искать — если его вообще можно найти — в
полисном представлении о phûlé «филе». На мой взгляд, таким
наследием мог быть полис как таковой. Не следует забывать,
что с точки зрения антропологии само понятие политики —
кстати, производное от греческого слова polis — вполне
согласуется с понятием племени в целом и представлением о родстве
в частности4. Подобно полису, племя тоже представляет собой
общественное объединение — разумеется, на уровне племенной
организации общества. Эмиль Бенвенист, например,
обращает внимание на семантику древнеиндийского слова vis- «племя,
народ» и производного того же корня vis va- «весь»5. А ведь из
наблюдений Д. Руссе л я вытекает, что город в целом предста-
О племенной политике см., например, [Gluckmann 1965].
[Бенвенист 1995: 239]. Показательно, что понятие vis- обозначает
целое сообщество, которым управляет царь, — см. разбор в [Drekmeier
1962: 20, 49]; ср. также древнеперсидское νιθ «царский дом, двор». Схожее
представление мы обнаруживаем и у древних ирландцев, где tuatk «племя,
народ» управляется ri «королем». Об ирландском материале см. [Byrne
1971: особ. 132], а также [Dillon 1975: 98-105]. Я бы еще добавил, что
упоминание о выборах царя «народами» visah [множественное число от
vis-] в «Ригведе» 10.124.8 кажется схожим с выборами верховного короля
на собрании tuatha в древнеирландской традиции — см. об этом [Byrne
1971: 133; Dillon 1975: 105]. Поскольку в тексте «Ригведы» тема всеобщей
царской власти связана и с богами, верховная монаршая власть
приобретает особую значимость: когда räjan- «царем» именуется тот или иной бог,
то о нем чаще всего говорится, что правит он «народами» visah
(множественное число), а не отдельным vis-. Сложное слово vispati- «владыка»,
по-видимому, употреблялось в качестве синонима räjan-: ср. Атхарваведа
4.22.3 и комментарии в [Gonda 1976: 139, прим. 66]. При этом
обращают на себя внимание перифрастические обозначения visah pati- «владыка
vis- [единственное число]» (Ригведа 10.152.2) и visäm pati- «владыка visah
[множественное число]» (например, Атхарваведа 1.21.1). В качестве
параллели я привел бы древнеирлгшдские выражения: соответственно, гг
tuaithe «король tuatWa [единственное число]» и т'% tuath «король tuath'oB
[множественное число]» = верховный король, см. [Byrne 1971: 132-134].
Что касается родственного древнеиндийскому vispati- литовского viespats-
« [верховный] владыка», то я не нашел подтверждений правильности
перевода этого слова Э. Бенвенистом — «глава рода» [Бенвенист 1995: 75].
См. аргументы против понимания древнеиндийского vis- как «род, клан» в
[Gonda 1976: 138-139], основанные, в частности, на контекстах, подобных
«Ригведе» 4.4.3, где поэт говорит о всей своей общине как об «этом vis-
[единственное число]». В этом отношении характерна, например, и
семантика литовского слова viêskelis «столбовая, общинная дорога» [LEW: 1244],
подразумевающая, что vies- обозначает общину в целом.
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 359
вляет собой совокупность «фил». Исходя из этого, я бы
полагал, что если полис вырастает из племени, то phûlé возникает
из составной части племени.
В этой связи стоит рассмотреть этимологию умбрского
слова trifu- «племя» (родственного латинскому tribus)6, которое,
наряду со словом tut а «город» или «народ» (родственным древ-
неирландскому tuath «племя, народ» и немецкому Deutsch),
употребляется по отношению к городу Игувий в «Игувинских
таблицах» (см. Игувинские таблицы III 24-25, 29-30: tutape(r)
Iiuvina trefiper Iiuvina)7. По мнению Э. Бенвениста, умбрское
trifu-, по всей видимости, образовано из комбинации *tri- и
*Ыш-, где второй элемент родствен phü- в древнегреческом
phûlé*. В качестве параллельных представлений о делении
общины на три части Бенвенист ссылается на греческий
топоним Triphûltc? и характерную для дорийцев практику разделять
граждан города на три phülat [Бенвенист 1995: 176].
Что касается латинского слова tribus, то похоже, что оно
претерпело определенное сужение семантики10: вместо того
чтобы определять всю целостность общины, как это делает
родственное ему умбрское trifu-, латинское tribus обозначает по
отдельности каждую из трех исходных частей населения Рима —
триб (Цицерон. О государстве 2.14: [Romulus] populum... in
tribus tris curiasque triginta discripserai] ср. Тит Ливии 10.6.7).
По моему мнению, этот семантический сдвиг можно связать
с процессом sunoikismos «синойкизма, слияния города»11,
который на идеологическом уровне мог осмысляться в соответ-
О семантике латинского tribus см. непосредственно ниже.
Параллельное употребление двух слов может объясняться
соотнесением политического и территориального деления: если tut а является
политическим термином, то trifu — территориальным. Ср.
использование «tribus* в умбрских топонимах, о чем сообщает Тит Ливии 31.2.6 и
33.37.1. Подробнее о семантике умбрского tuta, древнеирландского tuath и
немецкого Deutsch см. в [Бенвенист 1995: 238].
[Бенвенист 1995: 176]. Иначе трактует это слово К. Уоткинс [Watkins
1966: 45-49].
[Бенвенист 1995: 176]. При этом совершенно не обязательно
полагать, как это делает Бенвенист, что данное название должно быть
дорийским по своему происхождению.
См. об этом ниже с. 368, прим. 38.
В качестве параллели ср. то, как происходил этот процесс на
острове Родос, о чем будет идти речь ниже на с. 369, прим. 40.
360 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ствии с принципом трех функций: три части составляют целое,
которое, в свою очередь, является частью нового целого,
состоящего из трех элементов12. Кратко говоря, я полагаю, что
отождествление в Риме tribus с «третью» от целого стало
результатом вторичного семантического развития, в то время как
более раннее значение собственно «целого», понятого как
«триада», сохранилось в умбрском эквиваленте латинского слова13.
Римское понимание стало причиной того, что греческое рЛй/е,
бесспорно обозначавшее часть от целого, на латынь стало
переводиться словом tribus. При этом идея «разделения» была
заложена и в исходной, более ранней семантике слова,
подтверждением чему является глагол «распределять» tribuô.
Д. Руссе ль отвергает предложенную Э. Бенвенистом
интерпретацию изначальной структуры латинского tribus и
умбрского trifu- как комбинации двух элементов *tri- и *bhu-, второй из
которых родствен греческому рЛй-, содержащемуся в phûle, и
называет такое объяснение «чисто лингвистическим
жонглированием» [Roussel 1976: 166]. Со своей стороны, Д. Руссель
считает деление населения дорийских городов на три филы
сравнительно поздним, а не унаследованным издревле культурным
установлением [там же: 221-263]. Я же постараюсь сейчас
показать, что такая трактовка пренебрегает не только
сравнительными данными, но и чертами, характерными для самого
изучаемого феномена.
В недавней работе, посвященной анализу надписей,
содержащих официальные городские документы, утверждается,
что в тех дорийских городах, где существовало деление на
три филы, была и определенная иерархия в перечислении этих
По поводу отождествления, согласно принципу трех функций, трех
триб с тремя разными этническими группами латинян/этрусков/сабинян
см. развитие взглядов Ж. Дюмезиля в книге [Dumézil 1969: 214].
Я не могу согласиться с мнением, высказанным в [Täubler 1930],
согласно которому первичной является римская семантическая модель, а
умбрская — вторичной. Что касается ссылок на наличие трех городов
на территории, заселенной вестинами [там же: 6-10], и деления на три
части области пелигнов [там же: 12-14], то эти особенности напоминают
римскую модель лишь в том отношении, что элемент, в этих случая
соответствующий tribus, является «третью» более крупных образований — но
при этом сам по себе представляет тоже целое (именно поэтому Овидий в
«Любовных элегиях» 2.16.1 именует свой родной город Сульмону «третьей
частью» земли пелигнов: pars те Sulmo tenet Paeligni tertio, ruris).
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 361
phülai [Jones 1980а]. Филы, к которым принадлежали граждане
дорийских городов вроде Мегары или Коса, постоянно
называются в таком порядке: (1) Dumânes (2) Hulleîs (3) Pamphiiloi1*.
Такой иерархический подход дополнялся соблюдением
принципа равноправия: все три филы имели равный доступ к
определенным сферам жизни города. Так, например, сроки
занятия определенных должностей распределялись в течение года
равным образом между представителями каждой из трех фил.
Кроме того, действовал и некий механизм ротации:
последовательность 1/2/3 Dumânes/Hulleîs/Pamphuloi сменялась
последовательностью 2/3/1, затем 3/1/2, затем снова 1/2/3 и так
далее. Вот как описывает этот принцип Н. Джонс: «...в
перечислении дорийских phülai мы всякий раз имеем дело с
определенным традиционным порядком, однако в определенных
случаях происходило своего рода перемещение, и в итоге в каждом
отдельном документе любая из трех phülai могла стоять на
первом, втором или третьем месте» [Jones 1980а: 204].
Но все же иерархия фил сохранялась: об этом
свидетельствует тот факт, что третья фила, Pamphüloi, не допускалась к
исполнению определенных гражданских обязанностей,
например к участию в некоторых ритуалах, входивших в
процедуру публичного жертвоприношения15. Таким образом, исходной
все же была последовательность Dumânes/Hulleîs/Pamphuloi,
а на ее основе уже возможны были последующие
перемещения. Более того, в тех дорийских городах, где была введена
четвертая phüle— как предполагают, это было данью наследию
до-дорийской эпохи16, в иерархии эта дополнительная фила
Об иерархии такого перечисления в городах, где существовало
четыре филы, см. ниже.
Так, в одной косской надписи (DGE № 253) мы читаем «те phülai,
что участвуют в обрядах Аполлона и Геракла» (ст. 1-6). Данные,
почерпнутые из этой и других схожих надписей с о-ва Кос, указывают на то, что
филой, связанной с ритуалами в честь Аполлона, были Dumânes, а
ритуалы в честь Геракла совершали Hulleîs; соответственно, Pdmphuloi были
исключены из этих обрядов. См., например, [Jones 1980а: 210].
Свидетельства такого включения не-дорийских элементов в систему
общественного устройства в Сикионе, Флиунте, Эпидавре, Трезене, Герми-
оне см. у Павсания. Описание Эллады — соответственно, 2.6.7, 2.13.1-2,
2.26.1-2, 2.30.10, 2.34.5. Ср. [Wörrle 1964: 13], где содержатся
интересные наблюдения, касающиеся некоторых высказываний в речи Исокра-
та 12.177 и далее.
362 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
опять-таки могла стоять выше, чем Pamphüloi. Так, в аргосской
надписи, датируемой 460-450 гг. до н.э. (DGE № 96[1]),
порядок перечисления таков: (1) Dumânes (2) Hulleis (3) Hurnâihioi
(4) Pamphüloi11. Однако в позднейших надписях, относящихся
к эпохе, когда олигархическое правление сменилось
демократией18, порядок меняется: (1) Dumânes (2) Hulleis (3) Pamphüloi
(4) Hurnâihioi [Jones 1980a: 206]. То, что продвижение
Pamphüloi вверх по иерархической лестнице произошло в особых
условиях демократической идеологии, лишний раз
подтверждает, что изначально Pamphüloi считались самой низшей из трех
фил.
В итоге собственно сам греческий материал показывает, что
во всех дорийских городах — как с исходным делением на три
филы, так и с модифицированной системой четырех фил —
эти филы традиционно перечислялись в определенном
порядке. Н. Джонс приходит к выводу, что «поскольку этот обычай
прослеживается на протяжении всей дорийской области,
следует полагать, что выработка этого определенного порядка, как
и возникновение самих фил, должно было относиться ко
времени до переселения дорийцев в те места, где они оказались в
историческую эпоху» [Jones 1980а: 212]. К этому он добавляет,
что «механизм видоизменения этого порядка путем ротации —
весьма изощренный прием... установления равноправия —
должен был возникнуть уже спустя немалое время после начала
исторической эпохи»19.
[Jones 1980а: 205]. В аргосских надписях этого периода по той же
модели перечисляются и имена граждан: имя плюс прилагательное,
обозначающее филу, к которой принадлежит гражданин (патроним не
обязателен). См. [Worrle 1964: 16-19].
Такая смена произошла где-то в шестидесятых годах пятого века
до н.э., но не позднее 462 г.; см. [Worrle 1964: 20, 122-126; Jones 1980а: 206].
[Jones 1980а: 212]. H. Джонс обнаруживает [там же: 209-211] два
исключения, нарушающих привычный порядок Dumânes /Hulleis
/-/Pamphüloi. Оба они относятся к одной и той же серии надписей (DGE А 10-13,
С 1-5: Кос, четвертый-третий вв. до н.э.). В первом отрывке речь идет о
выборе быка для жертвоприношения Зевсу Городскому. Жрец и несколько
«жертвователей» должны отобрать одного из трижды трех быков, причем
каждая фила должна привести трех быков. Сначала смотрят трех быков,
которых привели Pamphüloi, если среди них не находят подходящего, то
переходят к трем быкам, приведенным Hulleis, а если и здесь не найдут
подходящего, то тогда уже выбирают из трех быков, которых представи-
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА
363
Данные, которыми мы располагаем внутри собственно
греческой культуры, оказываются весьма ценными и при более
широком компаративном подходе. Так, например, название
низшей в иерархии трех греческих phülat — Pamphûloi
оказывается связанным с самим обозначением «филы», phûlé, как таковой
— мы сталкиваемся со схожей ситуацией в Древней Индии, где
название низшей из трех основных каст, или varna-20, — vaisya-
, вайшья, образовано от общего названия для «племени, рода»
— vis-. Подобно тому, как название Pamphûloi
подразумевает целую общину, обозначая низшую из трех ее составляющих,
так и слово vaisya-, будучи образованным от vis-, тем самым
тоже несет в себе идею целого, одновременно служа
конкретным обозначением опять-таки низшей из трех частей общины.
Мы уже обращали внимание на то, что vis- становится
понятием, обозначающим всю общину, — об этом
свидетельствует семантическая соотнесенность vis- и его производного visva-
«весь»21. В этой связи характерно, что в «Ригведе» выражени-
ли Dumânes. Во втором отрывке, о котором еще пойдет речь ниже по
другому поводу, говорится об отборе для жертвоприношения трех овец,
каждая из которых приносится в жертву в определенном священном
месте от имени одной из фил. Перечисляются филы в следующем порядке:
Huîltis/Dumânes/Pamphûloi. Прежде всего обращает на себя внимание тот
факт, что в обоих случаях описывается ритуал жертвоприношения.
Последовательность упоминания фил в первом отрывке может отражать все
возрастающую степень важности происходящего, что соответствует идее
эмоционального подъема, заложенной в самом ритуале
жертвоприношения. Во втором случае причиной именно такой последовательности можно
считать особую значимость культа Геракла на Косе (стоит повторить, что
фила Hullets была особым образом связана со святилищем Геракла: см.
выше с. 361, прим. 15). Как бы то ни было, выражение para ta Anaxilea, о
котором речь пойдет далее, свидетельствует о том, что Dumânes все
равно были выше рангом, чем Hulleis.
О разделении индийского общества на классы, или varna- «варны»,
говорится, например, уже в «Ригведе» 10.90.11-12; ср. [Dumézil 1958: 7-
8; Бенвенист 1995: 187-195]. Представители четвертого класса — шудры,
südra изначально считались слугами первых трех каст.
Древнеиндийскому vis va- родственно авестийское vispa- «весь», а
древнеиндийскому vis-, в свою очередь, соответствует авестийское vis.
По всей видимости, в иранском обществе vis было подразделением zantu
(<*gen-tu-); см. [Бенвенист 1995: 197]. При том, что ведийское vis- и
авестийское vis могли и не обязательно подразумевать одну и ту же
социальную единицу, совпадение значений ведийского vis va- «весь» и
авестийского vispa- «весь» заставляет предполагать, что индоиранское понятие *vis-
364 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ем deväsah sarvayâ visa, буквально означающим «боги с
законченным vis-», завершается перечисление имен богов,
отражающих все три социальных функции, соответствующие трем
основным классам, или кастам древнеиндийского общества: Митра-
Варуна служит воплощением первой (власть/жречество), Ма-
руты — второй (класс воинов), а Ашвины — третьей
(земледелие/скотоводство)22. Третья из этих частей, или групп,
наполнена особой символической значимостью, и об этом говорит
целый ряд иных обстоятельств: не случайно, слово vis- само по
себе может означать низшую из трех основных каст (varna-) —
вайшьев, vaisya- (см., например, Ригведа 8.35.18)23.
Семантическая двойственность древнеиндийского vis-, обозначающего
одновременно и треть целого, и все целое, дала Жоржу Дю-
мезилю основания сопоставить это слово с латинской
терминологией, где словом QuirUes, Квириты (связанным с именем
бога Квирина, Quirinus, олицетворявшего третью функцию в до-
капитолийской триаде) могли называть и «гражданских лиц»
в противовес milites «воинам», и весь римский народ в целом
(при этом следует обратить внимание на предложенную этимо-
аналогично, скажем, древнеирландскому tuath. И древнеиндийское vis-, и
древнеирландское tuath, как мы видели (см. выше с. 358, прим. 5), явным
образом обозначали общину, которой правит царь. В этой связи следует
учесть результаты исследования индоиранских и кельтских ритуалов
возведения на трон, предпринятого в [Dubuisson 1978а, 1978b]. Исходя из этих
результатов, можно заключить, что индоевропейский царь воплощал
собою тройственную целостность основных социальных функций. Если при
этом считать третью функцию завершающей, благодаря которой эта
целостность и возникает, то целостная сущность царя должна наглядно
выражаться в терминах, связанных именно с этой третьей функцией. Не
случайно, что семантику «рода» можно обнаружить и в германском *kuningaz
«король» (корень, родственный латинскому gen-, дающему, скажем, слово
genitor; ср. также хеттское hassu- «царь» в контексте его связи с глаголом
has- «рождать», о которой говорилось выше на с. 193). Тогда и
авестийское выражение vlsö ривга, о котором рассуждает Э. Бенвенист [1995: 203],
может быть вариацией на ту же тему.
Подробнее об этом отрывке из «Ригведы» 8.35.13 см. [Dumézil 1977:
226].
23 См. комментарий к «Ригведе» 3.35.16-18 в [Dumézil 1977: 213-
215]. Ср. также отождествление целостности мира с триадой brahma/
ksatram/vis- (тремя характеристиками трех функций, причем последняя
обозначена просто как vis-) в «Шатапатхе = брахмане» 4.2.2.13 (ср. также
2.1.4.12). Ср. [Gonda 1976: 132, прим. 30].
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 365
логию: со-игго)2*. Я бы добавил к этому, что точно так же,
как древнеиндийское понятие vis- может либо включать внутрь
себя две более высокие функции, либо их исключать25, и
греческое слово démos может или определять всю общину
целиком26, или подразумевать ту же общину, но за исключением
ее hëgemones «вождей»27.
Параллелизм между последней из триады дорийских
«фил» — Pamphüloi и третьей индийской кастой — vaisya- не
ограничивается чисто семантическим сходством. Подобно тому,
как в иерархии фил Pamphüloi стоят на третьем и последнем
месте, среди трех основных древнеиндийских сословий (varna-)
вайшьи тоже занимают низшее место28. Более того, так же, как
и Pamphüloi*9, vaisya- имеют наименьший доступ к определен-
If)
ным ритуалам жертвоприношения .
24 [Dumézil 1977: 218, прим. 2, 226, прим. 3, 255].
См. в [Rau 1957: 59-61] чрезвычайно полезный обзор контекстов, в
которых vis- противопоставлено высшим слоям общества.
26 См. [Nagy 1979а: 149]. Ср. также выше с. 18, прим. 5 и с. 177.
27 [Nagy 1985а: 43-44]. Ср. также [Donlan 1970]. На то, что в
понятии demos тоже заложено представление о третьей функции, указывает,
на мой взгляд, слово dëmiourgoi, которым называли «ремесленников». По
сообщению Страбона 8.7.1 С383, Ион поделил население Афин на
четыре класса: деогдог «землепашцы», dêmiourgoi «ремесленники», hieropoiot
«жрецы» и phulakes «стражи». О связи этого деления с системой
четырех «фил» в некоторых ионийских городах и о ее соотнесенности с
индоевропейской идеологией трех основных функций: (1) власть/жречество
(2) класс воинов и (3) землепашцы/пастухи и ремесленники см. [Бенвенист
1995: 193-194] в противовес мнению М. Нильссона [Nilsson 1951]. О
подразделении носителей третьей функции на землепашцев/пастухов и
ремесленников см. [Dumézil 1977: 256]. Еще одним ценным результатом
исследования Ж. Дюмезиля стали намеченные им четыре исторических способа
приспособления новых классов, возникающих в том или ином обществе, к
традиционной системе трех функций.
В этой связи показательно отождествление разных каст с разными
частями человеческого тела в «Ригведе» 10.90.11-12.
См. выше с. 361, прим. 15.
См. обширный материал, собранный в [Gonda 1976: 131-133], где
есть примеры как упоминания вайшьев на третьем месте, так и полного
игнорирования этой касты. См. [там же: 135] обзор контекстов, в
которых первые две касты рисуются покоящимися на третьей, которая служит
им опорой. Вряд ли нужно специально подчеркивать, что я не приемлю
точку зрения Я. Гонды, который считает такую иерархию опровергающей
систему трех функций Ж. Дюмезиля. Здесь уместно привести одну из
366 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Установления, связанные с жертвоприношением,
обнаруживают и другие следы индоевропейской системы трех функций,
отраженные в триаде дорийских фил. В одной из надписей с
острова Кос (DGE № 251С)31 оговаривается, что для
жертвоприношения нужно отобрать три овцы, каждая из которых будет
принесена в жертву от имени одной из трех phûlai (строки 1-5):
овца от Hulleis: para to Herakleion «в святилище Геракла»;
овца от Dumânes: para ta Anaxîlea «в святилище, [именуемом]
Anaxîlea»]
овца от Pamphûloi: para to Dämatrion «в святилище Деметры».
Название Anaxîlea очевидным образом состоит из двух
элементов: anak(t)- «царь» и lâos «народ, воинство»; как
отмечал Э. Бенвенист, второе слово, обозначавшее «народ»,
подразумевало личную связь группы людей с их вождем
[Бенвенист 1995: 295-296]. Чтобы точнее понять идею
предводительства, заложенную в этом слове, стоит обратить внимание на его
производное laiton — leiton, которое Геродот (7.197.2) поясняет
как ахейское слово, обозначающее prutaneion «пританей,
правительственное здание» [там же: 297]. Тем самым становится
ясно, что связь Dumânes со святилищем, именуемым Anaxîlea,
отражает первую из трех социальных функций, а именно идею
власти или авторитета. Не менее ясно, что связь Pamphûloi
со святилищем Деметры отражает третью из этих функций,
а именно земледелие.
Что же касается связи Hulleis со святилищем Геракла, то
здесь стоит вспомнить предание, согласно которому сыном
Геракла был Гилл, Hilllos — из самого имени явствует, что он
считался предком филы Hulleis. Существует миф о том, что
один из Гераклидов Гилл предводительствовал первым
походом дорийцев на Пелопоннес (см., например, Геродот 9.26.2-
5). Гилл был усыновлен Эгимием, сыном Дора (Dôros),
прародителя дорийцев, у которого, в свою очередь, было два
сына, Думан и Памфил, имена которых дали названия филам
Dumânes и Pamphûloi (Эфор 70 фр. 15; ср. Страбон 9.4.10 С
247 и Аполлодор 2.8.3). Среди трех предков, чьи имена стали
четких формулировок Дюмезиля: «Исходное разграничение, отделившее
представителей первых двух классов от тех, кто принадлежал к третьему,
следует считать общеиндоевропейской данностью» [Dumézil 1958: 56; ср.
также Dumézil 1959b: 26].
Эта надпись уже обсуждалась выше на с. 362, прим. 19.
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 367
эпонимами дорийских фил, Гилл, который по крови не был
дорийцем, очевидно, воплощает вторую, воинскую функцию — об
этом говорят постоянные упоминания о нем как о военном
вожде. Так, повествуя о дорийском завоевании Пелопоннеса,
которое, согласно мифу, довели до победного конца трое
правнуков Гилла, Пиндар именует вторгнувшихся дорийцев ΎΑΑου те
καί ΑΙηιμιου Αωρι,ευς... στρατός «дорийским воинством
Гилла и Эгимия» (Истмийские оды 9.2-3). В свою очередь, три
правнука Гилла стали прародителями трех царских домов
Пелопоннеса, династий, правивших в Аргосе, Спарте и Мессении
(Аполлодор 2.8.4-5)32. Вот почему, например, спартанский царь
Леонид возводил свой род к Гераклу, считая себя его потомком
в двадцатом поколении (Геродот 7.204)33.
Генеалогическую связь дорийских властителей со второй
филой Hulleîs можно сопоставить с тем подтвержденным
исторически фактом, что древнеиндийские цари в принципе
были выходцами из второго сословия (varna-) — касты воинов-
кшатриев34. То, что именно за кшатриями было закреплено
царское достоинство, подтверждается и специфическим
употреблением древнеиндийского слова ksatriya для обозначения
второй, воинской функции: ведь сама по себе исходная
форма ksatram «власть, владычество» обозначает в принципе
царское достоинство, не обязательно соотнесенное исключительно
с функцией воина35. Более того, высший слой касты кшатриев
32 См. об этом [Sergent 1977/1978].
Так же поступал и спартанский царь Леотихид (см. Геродот 8.131.2).
В свете легенды о том, что Гил л не был дорийцем по крови, но был лишь
приемным сыном Эгимия, отца Дора, показательна история, которую
рассказывает Геродот (5.70.3) о спартанском царе Клеомене. Когда того не
пускали внутрь храма Афины на афинском Акрополе на том основании,
что он дориец, Клеомен возразил, что он не дориец (Dôritus),- а, скорее,
ахеец (Akhaios). О смысле самоотождествления греков как дорийцев и
ионийцев см. [Alty 1982]; см. [там же: 13] об этом рассказе у Геродота 5.70.3.
См. [Drekmeier 1962: 81-85]. Это подтверждается и свидетельством
ведийских текстов: так, скажем, в «Атхарваведе» 4.22.1 царь прямо
именуется ksatriya.
См. обзор контекстов в [Gonda 1976: 141]. Впрочем, эти примеры
отнюдь не опровергают, вопреки мнению Я. Гонды, определение Э. Бен-
венистом кшатрия как «лица, наделенного военной властью
(обладающего властью r&j-)» [Бенвенист 1995: 187]. Суть в том, что ksatriya-,
будучи производным слова ksatram, явно обозначает вторую, воинскую функ-
368 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
именуется в ведийском языке räjanya- (см., например, Ригведа
10.90.12 = Атхарваведа 19.6.6), и словообразовательная связь
этого названия с räjan «царь» делает еще более отчетливой
соотнесенность царского достоинства со второй функцией.
В свете таких сопоставлений есть все основания считать, что
система трех фил в дорийских городах тоже является
отражением индоевропейской системы трех функций36. Также вполне
можно предположить, что эпитет trikhâikes, употребленный по
отношению к «дорийцам» (Dôriées) в «Одиссее» XIX 177,
представляет собой комбинацию наречной формы *trikhä (?) «на три
части»37 и корня *ueik-/uoik-, родственного древнеиндийскому
vis-38. Во фрагменте Гесиода (233 MW) смысл того же самого
эпитета поясняется: дорийцев зовут так, поскольку их земля
разделена на три части. С такой характеристикой дорийцев
вполне согласуется пространственный смысл
древнеиндийского корня vis- «селиться, заселять». Традиционная дорийская
система трех phühi также отражала как политическое, так и
территориальное подразделение — об этом говорит, например,
описание заселения дорийского острова Родос в гомеровском
«Каталоге кораблей»: жители trikhtà... oikëthen kataphuladon
«расселились [корень *uoik-] тремя частями, фила за филой»
цию, и в результате, в свою очередь, сужается и значение исходной формы
ksatram. Потому примеры, в которых зафиксировано более раннее и более
общее значение, никак не придают больший вес возражениям Я. Гонды.
Ср. [Dumézil 1977: 255].
Так сперва полагал и Ж. Дюмезиль [Dumézil 1941: 254-257];
впрочем, он отказался от этой идеи в статье [Dumézil 1953: 25].
Ср. τριχτ) (= τρι,χη ?) у Геродота 3.39.2; показателен и сам контекст,
в котором употреблено это. слово.
См. Бенвенист [1995: 205]. В связи с предложенной мною
этимологией я хотел бы обратить внимание на утверждение Д. Руссе ля [Roussel 1976:
230], который полагает, что Э. Бенвенист смешивает семантические
понятия семьи/клана/племени. За такими претензиями кроется непонимание
одного из важнейших тезисов Э. Бенвениста о том, что в диахронической
перспективе возможны семантические сдвиги, в результате которых
более общее понятие приобретает более частное значение, и наоборот. Что
касается морфологического устройства слова trikhoïkes, то оно в общем
остается неясным, отчасти потому, что не до конца понятна и его
фонологическая структура: условный язык Гомера и Гесиода служит надежным
свидетельством только относительно долготы гласного, но не относительно
его качества (в данном случае это может быть *ueik-? *uoik-? * uik-?).
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 369
(Илиада II 668)39. Наречие trikhta «тремя частями»
подразумевает, что каждая phûlé представляет собой часть целого (ср.
Илиада XV 189 о том, как сыновья Крона поделили на три
части Вселенную)40.
Для наших целей не важно, к какому существительному восходит
слово kataphüladon — к ρ hü le или к phûlon, поскольку гомеровское phûlon
может употребляться в том же значении, что и ркй1еъ языке классической
эпохи (ср. Илиада II 362, об этом месте речь пойдет ниже).
На мой взгляд, в «Илиаде» II 655 (если сопоставить эту строку с II
668) говорится о том, что весь остров был поделен на три города: Линд,
Иалис и Камир, причем разделение острова на три части аналогично
подразделению города на три филы. Три города названы именно городами у
Геродота 1.144.3. Из гомеровского контекста не следует делать ложный
вывод о том, что каждый из этих городов не имел собственных фил. О
доступных нам эпиграфических свидетельствах относительно наличия ρ hula
г в каждом из трех городов на Родосе и о политическом механизме
ротации фил см. [Fraser 1953: особ. 40-41, прим. 1]. В Линде одна phüle
именовалась Argeiä, соответственно, можно предположить, что
традиционные дорийские названия Dumânes/Hulleîs/Pamphûloi на Родосе вышли из
употребления, возможно, уже на самой ранней стадии заселения острова;
ср. обсуждение этого вопроса в [Roussel 1976: 261]. В процессе sunoikismos
«синойкиэма, городского слияния» 408/407 гг. до н.э. три города
соединились в один город Родос, по всей видимости состоявший из трех фил,
известных как филы Линда, Иалиса и Камира [Latte 1941: 996].
Интересно, что Kamiris зафиксировано также в качестве названия филы в Гие-
рапитне (DGE J№ 200.1). Подробный анализ городской структуры Родоса
см. в [Momigliano 1936: особ. 60-63]. А. Момильяно [там же: 51] обращает
внимание на то, что, согласно «Илиаде», у трех родосских городов был
один вождь — Тлеполем. (В этой связи показательно сообщение Фере-
кида (FGH 3 фр. 80) о том, что дедом Тлеполема по материнской линии
был некий Фил, Phuläs — ср. [Robertson 1980: 8].) Известно, что даже
до синойкиэма 408/407 гг. определенные сакральные установления Линда
распространялись и на два других города [Momigliano 1936: 51];
характерно также сообщение о том, что текст седьмой олимпийской оды Пиндара в
честь Диагора из Иалиса был выбит на золоте и помещен в храме Афины
в Линде (схолии к Пиндару. Олимп 7.1 с. 195 Drachmann, ср. [Momigliano
1936: 51]). В заключение я хотел бы заметить, что весьма полезным могло
бы оказаться дальнейшее изучение существовавшего на Родосе понятия
ktoinä, которое, очевидно, тоже обозначало некий вид территориального
деления и в то же время некую градацию родства в аристократических
семьях (ср. Гесихий s.v.: κτύναι η κτοιναι- χω ρήσης προγονικών ιερών,
η δήμος με μερισμένος «ktotnai: преемственность потомственного
жречества или подразделение области». Кроме того, обращает на себя внимание
параллелизм родосского слова ktoinétai (DGE Jf» 281, прим. к ст. 14) и ко-
to-ne-ta в линейном В (Пилос ЕЬ901.1).
370 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Подобные указания на территориальный аспект разделения
на филы отнюдь не означают, что типичный полис и
прилегающая к нему территория просто дробились на определенное
число секторов, заселенных соответствующим числом phülaP1.
В этом отношении показателен пример Афин. После реформы
Клисфена (Геродот 5.69.1-2; Аристотель. Афинская полития
21.2-6) полис был разделен на десять phulai, каждая из
которых была, в свою очередь, поделена на три trittues, а каждая из
них была разделена на десять dêmoi «демов». В основе
механизма территориального распределения фил лежало не число
10 — по количеству phulai, а число 3 — по количеству tritiues,
на которые делились сами phulai. Соответственно, территория
Афин делилась на три части: А) городскую; В) прибрежную и
С) внутреннюю, материковую, а уже области этих tritiues
делились дальше на меньшие территории, к которым были
приписаны десять фил42. Иными словами, десять фил распределялись
по каждому из районов А, В и С43. В итоге оказывается, что, по
сути дела, десять phulai были территориальными
подразделениями не полиса как такового, а областей А, В и С, именуемых
tritiues, в то время как эти trittues А, В и С были
политическими подразделениями десяти phulai.
Что касается государственной организации Афин в эпоху
до реформы Клисфена, то у нас есть данные о том, что полис
был политически разделен на четыре phulai, которые, в свою
очередь, делились на три tritiues или phrätriai, а каждая из
На самом деле родосская модель как раз уникальна своей
внешней простотой. Возможно, именно поэтому в «Илиаде» особо
подчеркнута тема деления Родоса на три части (см. предшествующее примечание).
Есть еще свидетельство Сократа Аргосского (FGH 310 фр. 6) о том, что в
Аргосе существовало некое место под названием Pamphûliakon, букв.
«Место Всех Фил»; однако очень трудно понять, означало ли это название
определенный сектор города или просто место собраний: см. [Wörrle 1964:
13]. О возможных фактических подтверждениях того, что деление на
филы было связано и с территориальным разграничением, см. [Szanto 1906
(1901): 226]. В этой связи стоит упомянуть и об интересном
употреблении эпитета homophülos, букв, «общий для фил», по отношению к Зевсу
у Платона в «Законах» 843а.
В этом смысле полезно изучить карту, на которой показаны
только аттические phülat и trittues, но не dêmoi: см. [Levéque, Vidal-Naquet
1964: 15].
О политических механизмах такого деления см. [Levéque, Vidal-
Naquet 1964: 13-18].
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 371
последних делилась дальше на тридцать génë «родов»
(Аристотель. Афинская полития фр. 385 Rose)44. Четыре древние
филы Афин: Geléontes, Aigikoreîs, Argadeis и Hoplëtes —
возводились к четырем традиционным ионийским филам (Геродот
5.66.2, 5.69.1)45. На основании эпиграфических свидетельств мы
можем заключить, что в большинстве ионийских городов
действительно сохранялись эти четыре филы, к которым обычно
добавлялись новые46. В свою очередь, по мнению Э. Бенве-
ниста, четыре основные ионийские филы отражали
индоевропейскую систему трех функций, при том что носители третьей
социальной функции были поделены на два отдельных
класса: землепашцы/скотоводы, с одной стороны, и ремесленники,
с другой [Бенвенист 1995: 193-194].
Приведя основные данные, касающиеся того немногого, что
нам известно о политическом устройстве Афин до реформы
Клисфена, я бы хотел обратить внимание на возможность —
пусть и незначительную — сохранявшейся преемственности
территориального деления на филы. Да, конечно, Клисфен
изменил не просто названия и количество фил, но и их
внутреннюю структуру, поскольку на месте старых iriitues или
phrätriai появились новые iriitues ^ поделенные далее на dêmoi.
Но правда и то, что Клисфен вообще не реформировал phrätr'
гаг «фратрии» и входившие в них génë «роды», — об этом
прямо говорит Аристотель (Афинская полития 21.6). А значит,
фратрии могли сохраниться и даже каким-то образом
взаимодействовать с «демами» [ср. Roussel 1976: 139-151]. Кроме того,
тот факт, что новые iriitues были территориальными
образованиями, не обязательно означает, что фратрии, перестав быть
подразделениями фил, лишились полностью соотнесенности с
определенной территорией. Не следует считать, что составные
части полиса отделялись друг от друга исключительно либо по
территориальному признаку, либо по принципу родства (в более
Пространный комментарий к этому фрагменту см. в [Bourriot 1976:
460-491]. Разбирая понятие «фратрии», я буду постоянно употреблять
форму phrätriä, хотя существовали и побочные варианты pkrdträ, phdirä
и т.д.
Употребленной Геродотом форме Argddai в прочих источниках
соответствует Argadets (см., например, Плутарх. Солон 23.4).
См. обзор данных касательно Милета, Эфеса, Теоса и Самоса в
[Rouseel 1976: 209-220].
372 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
широком, политическом смысле этого слова). В конце концов в
функции афинских демов, ставших подразделением городской
структуры, стало входить и определение потомственной
принадлежности граждан [ср. Roussel 1976: 5]. И наконец, само
понятие triitus, которое Аристотель в разбираемом фрагменте
отождествляет с phrätriä, тоже подразумевает некий механизм
территориального распределения: не стоит забывать, что этот
термин после реформы Клисфена стал обозначать три разные
территориальные области, в рамках которых определенными
участками наделялись каждая из десяти фил.
Однако это не снимает существенных проблем, касающихся
числа упоминаемых подразделений городской структуры Афин,
которые в древности, как сообщает Аристотель (Афинская по-
лития фр. 385 Rose), делились на четыре phülai, те, в свою
очередь, на три trittues или phrätriai, а каждая из последних
делилась дальше на тридцать génë. В результате получается,
что старых trittues было двенадцать — а это слишком малое
число по сравнению с тридцатью новыми trittues,
установленными реформой Клисфена. Возможно, решение состоит в том,
что Аристотель не имеет в виду всю афинскую территорию.
Вначале он говорит о том, что все население было поделено на
деогдог «земледельцев» и dëmiourgoг «ремесленников». Потому
дальнейшее изложение можно понять и так: каждая из этих
двух основных групп граждан делилась на четыре phülat, а те,
в свою очередь, на три trittues или phrätriai каждая. В таком
случае мы имеем систему из двадцати четырех фратрий,
распределяемых в равных долях между филами47. Схожей могла
Стремление исчислять количество фратрий, исходя из четырех, а
не из восьми фил, возможно, объяснялось желанием уподобить двенадцать
фратрий, каждая из которых состояла из тридцати родов, двенадцати
месяцам с тридцатью днями в каждом. В действительности, именно этот
параллелизм и подчеркивается в рассуждении Аристотеля. Более того,
следует полагать, что названий фил было все же четыре, а в каждом
случае уточнялось, идет ли речь о «земледельческой» или
«ремесленнической» части. В любом случае в результате получалась бы схема
территориального деления на двадцать четыре, а не на двенадцать фратрий. Из
этого отнюдь не следует, что системе из двадцати четырех не могла
предшествовать система из двенадцати фратрий — числа, собственно
присутствующего в тексте Аристотеля. На память приходит миф о легендарном
первом царе Афин Кекропе, который разделил свою землю на двенадцать
poleis (Филохор FGH 328 фр. 94). Аристотелевское желание метафориче-
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 373
быть ситуация в Коринфе, где, по-видимому, восемь фил
делились каждая на три части — в итоге получается схема опять-
таки из двадцати четырех территориальных единиц48.
Коринфская система из восьми фил является очевидным следствием
политики тиранической династии так называемых Кипселидов
[Jones 1980b: 187-193], которые проводили четкую грань между
собственно городом и прилегавшей к нему сельской
территорией (Эфор FGH 70 фр. 179; Аристотель. Афинская полития
фр. 516 Rose [ср. фр. 611.20]); поэтому можно предположить,
что коринфская система восьми фил — результат удвоения (за
счет деления на город и деревню) модифицированной
дорийской схемы из четырех фил49. Существует некоторая
вероятность того, что описываемая Аристотелем структура
подразделения Афин в эпоху до реформы Клисфена была введена во
времена тирании Писистратидов. В таком случае — конечно,
если моя интерпретация аристотелевского фрагмента
заслуживает хоть какого-то внимания, — исходная ионийская система
ски представить город, состоящий из двенадцати частей, подобным году,
состоящему из двенадцати месяцев, нельзя считать следствием его личной
страсти к нумерологии. Двенадцать месяцев традиционно служат мифо-
поэтическим символом единства общины и равноправного распределения
функций между ее членами. Не случайно тем же приемом
воспользовался Соломон (/ Книга Царств 4.7 и далее), причем число 12 в библейском
тексте, безусловно, соотнесено с древнейшей идеей двенадцати колен Из-
раилевых (характерно, что в Септуагинте обозначением «колена» служит
именно рАй/е, — см. Книга Иисуса Навина 7.16-18; ср. [Wolf 1946а]).
См. [Stroud 1968: особ. 241]. Сомнения по поводу некоторых деталей
такого подразделения были высказаны в [Jones 1980b: 164-165].
Относительно наличия исходной дорийской системы из трех фил в
дочерних городах Коринфа Сиракузах и Керкире см. библиографию,
приведенную в [Jones 1980b: 187]. Заметим также, что у основавшего Коринф
героя Алета, который, согласно уже упоминавшемуся преданию, разделил
город на восемь фил (Суда π 225 s.v. panta okto), было два предка по имени
Фил, Phuläs. Более молодой из них был дедом Алета по отцовской линии,
а старший был не только прадедом Алета, но и дедом Тлеполема,
легендарного основателя Родоса (о нем см. выше с. 369, прим. 40). Возможной
параллелью к предполагаемому нами превращению четырех коринфских
фил в систему из восьми фил можно счесть произошедшее довольно
рано увеличение числа римских триб с трех до шести. При этом старые и
новые подразделения этой общей системы отличались друг от друга всего
лишь добавлением к привычному названию уточнения рггтг и secundi: в
итоге существовали «первые» и «вторые» Тиции, Рамны и Люцеры (Фест
468.3 Lindsay). Об этом процессе разделения римских триб и увеличения
их числа с трех до шести см. [Alföldi 1974: 63].
374 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
из четырех фил была удвоена за счет ее распространения на
«землепашцев» в сельской местности, с одной стороны, и на
«ремесленников» собственно в городе, с другой50.
Как бы то ни было, принцип территориального деления на
двенадцать частей — на основе четырех фил, каждая из
которых, в свою очередь, разбивалась на три фратрии, — следует
соотнести с тем, что рассказывает Геродот о священном
союзе двенадцати ионийских городов Малой Азии, образцом для
которого послужило разделении земли ионийцев на двенадцать
частей в те времена, когда они, вероятно, жили в
Пелопоннесе (Геродот 1.145: огкеоп). Интересно, что в городах,
составивших этот ионийский dödekdpolis «полис из двенадцати
частей», исходная ионийская система четырех фил сохранялась
всюду, кроме Эфеса. Здесь город был поделен на пять фил,
одна из которых называлась Epheseîs] далее они были
разбиты на неизвестное нам число khUiasiues. Среди шести
зафиксированных названий khiliastues встречаются имена Gelêontes и
Argadehj которыми назывались древние ионийские филы [см.
Roussel 1976: 211-212]. Весьма характерно, что, по
свидетельству Геродота (1.147.2), Эфес вместе с Колофоном были
единственными ионийскими городами, в которых не справлялось
празднество Apatouria.
Данное празднество — ионийские Apatouria — было
знаком периодического, приуроченного к определенному времени
года, воссоединения фратрий [см. Burkert 1975: 10]. Тем самым
отсутствие в Эфесе этого празднества кажется связанным с
отсутствием в этом городе деления на фратрии. В свою очередь,
если мы обратимся к дорийскому празднеству Apélla,
аналогичному ионийским Apatouria^ то обнаруживается, что и оно
служило поводом к периодическому воссоединению фратрий [там
же: 9-10]. В древней Спарте существовало три объединения, в
каждом из которых было по девять фратрий (Деметрий
Скептик, согласно Афинею 142 e-f), — по всей видимости, это со-
Традипия, согласно которой население Афин делилось на три части,
а именно на eupatridai/geôrgoi/dëmiourgot (Плутарх. Тезей 24-25),
отражает политическую линию, противостоявшую действиям Писистратидов; см.
анализ, проведенный в [Figueira 1984] и прослеживающий стремление к
политической поляризации geörgot и dëmiourgoi, за которой стояла
афинская аристократия.
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 375
ответствовало исходному делению на три филы51. По
аналогии с афинской моделью я бы предположил, что
территориальное распределение фил и фратрий в Спарте шло по
следующей схеме: D1/H1/P1, D2/H2/P2, D3/H3/P3..., а не по
системе D1/D2/D3..., Н1/Н2/НЗ..., Р1/Р2/РЗ... (где D = Dumânes,
H = Hulltîs, Ρ = Pamphuloi, a 1 2 3 = территориальная
последовательность фратрий).
Рассмотрев систему фратрий в том виде, в котором они
существовали до и после реформы Клисфена, можно в итоге
прийти к следующему выводу: деление на подобные
социальные единицы было основано как на территориальном, так и на
потомственном, родовом (в более широком, политическом
смысле слова) принципе. Исключение фратрий из числа значимых
составляющих афинского полиса отражает стремление уйти от
системы общественного устройства, в которой главенствовала
идея потомственного родства, ибо в ней не находилось места
новым жителям. Сохранение «фил» в качестве наиболее
крупных составляющих политической системы Афин тем самым
было призвано скрыть изменение коренного принципа, когда
родовое деление на фратрии было заменено территориальным
дроблением на trittues, которые и стали новыми значимыми
составляющими больших фил. Если понимать Аристотеля именно
таким образом, то выходит, что вместо двадцати четырех
старых фратрий появилось тридцать новых triitues, а вместо
четырех старых фил (временами двух) — десять новых. В другом
своем сочинении Аристотель замечает (Политика 1319Ь23-27),
что успеху демократии в полисе способствует увеличение числа
фил и фратрий, поскольку именно тогда «может возникнуть
настоящая совокупность людей».
То обстоятельство, что в этом месте Аристотель говорит
о некоей «совокупности» граждан, подразумевает, что
упорядочивание общественного устройства в соответствии с числом
фил и фратрий тождественно упорядочиванию брака в
соответствии с происхождением. Схожим образом, в «Афинской по-
литии» Аристотель утверждает, что Клисфен распределил все
См. Плутарх. Ликург 6: в тексте «Великой Ретры» (закона, по
легенде продиктованного Ликургу Дельфийским оракулом) предписанию об
учреждении фил сопутствует повеление периодически проводить apéllai
(Плутарх считает этот термин тождественным «народному собранию»).
См. также [Robertson 1980: 17]: на острове Кос тоже существовало три
филы, каждая из которых была, по-видимому, разбита на девять фратрий.
376 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
население Афин на десять новых фил вместо четырех старых,
так как хотел добиться «совокупности» граждан (21.2). Такая
«совокупность» вела к большему участию в государственных
делах, залогом которого Аристотель считал возможность те
phûlokrineîn «не делить в соответствии с phûlé», имея в виду
тех, кто смотрит на родословную {gène) своих сограждан.
Предписание «не делить в соответствии с phûlé» подразумевает не
столько новую филу, возникшую в результате социальной
реформы, а старую phule, которая более близка к родовым
установлениям племени [ср. Day, Chambers 1962: 112-114; Bourriot
1976: 496]. В действительности, фраза «не делить в
соответствии с phûlé» указывает на весьма значимый смысл,
изначально заложенный в понятия phûlé и phûîon. Как замечает Николь
Лоро [Loraux 178: 77, прим. 78], существительное phûîon
«раса, род» отграничивает одну данность от другой: так, скажем,
phûîon богов противопоставлена phûîon людей {Илиада V 441-
442); тем самым это понятие акцентирует закрытость
феномена, идею разделения. Именно поэтому множественное число
phûla подразумевает набор отдельных данностей в рамках
единой общей категории52. Обе идеи — различности и
разнообразия — явствуют из употребления phûîon в языке Гомера в
качестве синонима (точнее говоря, диахронического эквивалента)
phûlé. Так, в «Илиаде» II 362 Агамемнону советуют выстроить
войско katà phûla «по phûlab и katà phrétrâs «по phrätriai»53.
Более того, в данном контексте построение войска
обозначается глаголом kr mein «различать» — т.е. тем же самым
словом, которое служит одним из составных элементов выражения
phûlokrineîn. Иначе говоря, выстраивание katà phûla и katà phr '
ëirâs само по себе является неким отбором, разграничением и
различением54. Но в данном случае у разграничения есть и
вторая сторона, а именно взаимное дополнение: опять-таки в
См., например, разбор употребляемого Семонидом (фр. 7.94 W)
выражения phûla gunaikôn в [Loraux 1978: 54].
Примеры свидетельств относительно существования воинских
подразделений, организованных по филам, см. в [Jones 1980а: 197-198] по
поводу Геродота 6.111.1; о некоторых деталях касательно таких подразделений,
организованных по филам и фратриям см., например, в [Robertson 1980: 17]
по поводу Афинея 141e-f. Стоит обратить внимание и на упоминание Тир-
теем (фр. 19.8 W) трех дорийских ρ/ιΰ/αί, развернутых в боевом порядке.
В этом отношении показательны нюансы значения phûlokrineîn у
Фукидида 6.18.2.
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 377
том же самом контексте говорится о том, что каждый
отдельный отряд может помогать другому (Илиада II 363), при том
что в битве всем им отведены свои пределы, katà sphéas (II 366).
Таким образом, единство сообщества в целом никак не
противоречит отчетливому различению его составляющих. Значение
подразделения на phûia напоминает лингвистическую
оппозицию «маркированного/немаркированного» члена: в оппозиции
любому другому элементу целого phûlon является
маркированным членом. Так же обстоит дело и с термином родства phûlé
: «делить в соответствии с рЛй/е» означает утвердить принцип
маркированности. Если на минуту отвлечься от греков и
поискать аналогии в обществах, в иных отношениях весьма далеких
от греческого, я могу вспомнить свидетельства о том, как
представители африканской народности тонга объясняли
иностранцам цель проводимых ими основных родовых различий: каждое
служит для них своеобразным «флагом» [Gluckman 1965: 97].
Это некий дар божества людям, дабы те «могли правильно
вступать в брак» [там же].
В случае с народом тонга правила брака определяются в
соответствии с законами экзогамной связи между различными
родовыми группами. Это служит «первичным механизмом
сплетения целостной сети взаимодействий между группами»55.
Такое представление можно в действительности распространить
и на устройство племенного сообщества в целом: его
структура определяется правилами родовых связей, реализуемыми
в экзогамном или эндогамном браке или в некоей комбинации
этих двух моделей. Если говорить о греческом полисе, то у нас
недостаточно материала, чтобы судить о брачных
установлениях внутри него. Но одно можно утверждать точно: фратрия по
самой своей природе была ориентирована на экзогамный брак56.
См. [Gluckmann 1965: 97]. Ср. также [там же: 165] о многообразных
и потому разграниченных типах верности.
В некоторых городах проводилось и более тонкое различие: phrätriä
подразделялась на pairtai. Ср. [Roussel 1976: 156, 217, прим. 9] о ситуации в
Милете. Однако в других городах, по всей видимости, термином patriä
обозначалась та единица, которая в других местах называлась phrätriä. См.
[там же: 154] о ситуации на Фасосе. П.-И. Жакопин справедливо замечает,
что более узкая градация происхождения (как в любом из существующих
случаев более узкого подразделения, скажем, на patriä и более широкого
понятия phrätriä) у скорее всего, исключает наличие младших ветвей.
378 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Что же касается phulé, то похоже, что существовали
некоторые ограничения относительно браков между представителями
разных фил57, которые можно сопоставить с развитой
системой правил, касавшихся браков между представителями
разных древнеиндийских каст58.
В этой связи интересно отметить, что Геродот упоминает
род Эгеидов, имевший большой политический вес в Спарте, в
качестве phulé (4.149.1)59, в то время как Аристотель говорит о
них всего лишь как о phräiriä (Лакедемонская полития фр. 532
Rose)60. Аристотеля занимает главным образом то, что этот
Ср. [Gernet 1955: 140, прим. 4]. Ср. выше разбор семантики phûlo-
krîneîn, а также чрезвычайно ценный анализ этого слова в [Bourriot 1976:
501-508]. О традиционном запрете на браки между представителями двух
определенных аттических демов упоминает Плутарх (Тезей 13.2-3); см.
весьма полезные соображения, высказанные по этому поводу Л. Жерне
[Gernet 1968: 44-45], относительно возможного допущения экзогамных
браков для мужчин того или иного дема и эндогамных браков для мужчин в
пределах определенного набора демов.
Суть их прежде всего заключалась в том, что женщины высших
каст, как правило, не могли вступать в браки с мужчинами низших
сословий, в то время как мужчины могли брать себе в жены женщин из
ближайшей низшей касты. См. [Капе 1941: 19-104], а также работу [Tambiah 1973],
во многом основанную на [Dumont 1980]; ср. также [Yalman 1960]. Ирония
ситуации состояла в том, что традиционные запреты на межкастовые браки
создавали тем самым идеологические основания для вхождения в
кастовую иерархию представителей вновь возникающих социальных слоев: см.
[Dumézil 1958: 718-719] относительно Законов Many 10.46-50. В то же
время они создавали и идеологический механизм, удерживавший множество
различных слоев внизу общественной пирамиды: см. [Tambiah 1973]. Так,
например, к сословию sût а-, к которому относились возничий и вообще
те, кто занимался лошадьми, принадлежали сыновья от брака женщин из
касты брахманов с мужчинами из касты кшатриев. В данном случае
идеологический подход является первичным, определяющим и упрочивающим
по отношению к подходу генеалогическому. Проще говоря, не появление
определенного типа «полукровок» приводит к осмыслению его как
нового социального класса; скорее напротив, возникновение новой социальной
функции приводит к осмыслению различных типов «полукровок» как
своего рода отклонений внутри традиционной системы социальных функций.
О söta- как придворном поэте см. [Dillon 1975: 54-55].
Ср. схолии к Пиндару. Истпмийские оды 7.18а Drachmann.
Это свидетельство Аристотеля сохранилось в схолиях к Пиндару.
Истпмийские оды 7.18с.
Глава 12. ПОНЯТИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА 379
род заявлял о своем фиванском происхождении61, в то время
как Геродота прежде всего интересует его политическая роль в
истории Спарты62. Весьма характерно, что род Эгеидов
традиционно связывался с царским потомством Гераклидов,
поскольку предок Эгеидов Фер был дедом по материнской линии Эври-
сфена и Прок л а, двух Гераклидов, которые считались
прародителями двух царских домов Спарты (Геродот 6.52.2)63. Обычно
роды, связанные с царствующими домами или претендующие
на царскую власть, тяготеют к эндогамным бракам [ср. Gernet
1968 (1953): 349-350] — именно так, безусловно, обстояло дело
в коринфском роде Бакхиадов (Геродот 5.92)64. Таким образом,
именование Геродотом спартанских Эгеидов «филой» (4.149.1),
возможно, служит указанием на существование внутри этого
рода эндогамных тенденций65.
Проблема существовавших в Греции моделей родства
порождает множество вопросов и требует дальнейшего подробного
Спартанские Эгеиды прослеживали свой род через своего
прародителя Эгея (Геродот 4.149.1) вплоть до самого Полиника, сына Эдипа
(4.147.1-2). О том, что спартанские Эгеиды родом из Фив, гордо заявляет
Пиндар в седьмой истмийской оде (7.14-15). Это дает основания полагать,
что сам Пиндар был потомком исконной фиванской ветви Эгеидов: см.
[Farneil 1932: 178-179] и [Hubbard 1985: 129, прим. 83].
См. восстановление генеалогического древа Эгеидов в свете
политической истории Спарты в [Vian 1963: 219]. Согласно Тимагору (FGH
381 фр. 3), фиванские «спарты», бежавшие в Спарту (этими спартами и
были Эгеиды — см. [там же: 223]), и дали собственное имя этому
городу. Помимо того, что Геродот называет Эгеидов «филой», известно,
что в этом городе существовали три обычные дорийские филы: Dumânes/
Hulleîs/Pdmphûloi (см., например, Тиртей фр. 19.8 W). В своем рассказе
о знаменитой битве, произошедшей во времена нескольких военных
кампаний, известных под названием Мессенских войн, Павсаний описывает
военный строй спартанцев, где каждым из флангов командовал один из
спартанских царей, а центр был отведен под начало потомку Эгеидов
(Описание Эллады 4.7.8).
См. подробнее [Vian 1963: 218, прим. 4]. См. [там же: 225]
рассуждение о фиванских корнях брата Клеомена, Дория.
Для Геродота браки, заключенные внутри одного рода, служат
неким вариантом темы инцеста, которая, в свою очередь, тесно связана с
темой гордыни, или hubris, тирана: см. [Vernant 1982].
Формальным воплощением представлений о большой политической
власти Эгеидов в ранней Спарте и стала история Тимагора о том, что за
самим названием города стояло имя этого рода (см. выше прим. 62).
380 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
исследования66. Для меня ясно по крайней мере одно:
греческий полис вырос из племенных установлений и в нем
отразилось, пусть и опосредованно, наследие индоевропейской
эпохи. В процессе преобразования любой структуры, если процесс
этот занимает определенное время, одни элементы из ее
прежнего состояния подходят для состояния нового, а другие
выходят из употребления. Точно так же обстояло дело и с
переходом от племени к полису. Если преобразование шло трудно,
это не означает, что между старым и новым состоянием
нельзя установить историческую связь, точно так же, как
примеры легкого перехода не означают, что в этих случаях новое
было тождественно старому.
Полезный сравнительный материал — как фактический, так и
теоретический — можно почерпнуть, например, из книги [Brough 1953],
посвященной исследованию категорий got га-, обозначающей некий брахманский
клан, объединенный экзогамными связями, и pravara-, которая, со своей
стороны, подразумевает определенную модель последовательного
перечисления отдаленных предков, нужную для проверки обоснованности
экзогамного брака. Показательно при этом, что кшатрию позволено вступать
в брахманский клан (gotra-), к которому принадлежали его фамильные
жрецы (purohita-): именно поэтому Будда, по происхождению
являвшийся кшатрием, тем не менее получил брахманское родовое имя Гаутама.
О семантике gotra- см. [Lincoln 1975]. Также стоит обратить внимание
на интересные комментарии, содержащиеся в работе [Held 1935: 96-97],
о значимости схемы из пяти поколений (включая и поколение, к которому
принадлежит говорящий) в отношениях типа sapinda- (букв, «приносящий
совместную жертву предкам»); ср. символику числа 5 в гесиодовскоммифе
о пяти поколениях людей — об этом см. [Nagy 1979а: 168-172].
Глава 13
НЕДОСТИЖИМЫЕ
МЕЧТЫ: ПРЕДЕЛЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИДИОМАТИЧЕСКИХ
ОБОРОТОВ
В ЭПИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
ει yàp έ*γών ως
ειην αθάνατος και άηήρως ήματα πάντα,
τιοίμην δ' ως τίετ Άθηναίη και Απόλλων,
ως νυν ήμερη ηδε κακόν φέρει Άρ^είοισιν.
Если бы только я
был бессмертным и не старел в грядущие дни
и если бы чтили меня, как чтят Афину и Аполлона,
— если бы это свершилось так же точно, как то, что день этот
принесет аргивянам бедствия.
Илиада VIII 538-541
В этих строках в уста эпического героя Гектора вложено
невероятное желание, и потому возникли неизбежные
проблемы с интерпретацией этого отрывка. Я подозреваю, что корень
этих проблем — в некоем неловком чувстве, которое
испытывает читатель, гадая, что за система ценностей скрывается за
подобным желанием: уж очень эти ценности кажутся
отличными от наших обычных представлений о греческом идеале,
воплощенном в гомеровском эпосе.
Те же проблемы возникают вновь, когда мы читаем уже
тринадцатую песнь «Илиады», где Гектор выражает такое же
желание: строки 827-828 точно повторяют VIII 538-541, но две
предыдущие слегка отличаются:
382 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ει yàp εηων οντω ye Αώς παις αιηιόχοιο
εϊηι/ ηματα πάντα, τεκοι δε με πότι/ш Ήρη,
Если бы я был сыном эгидодержавного Зевса
в грядущие дни, а матерью мне была владычица Гера.
Илиада XIII 825-826
В одной из моих предыдущих книг1 в главе о смерти Гектора
я приводил эти два места в доказательство того, что гибристи-
ческое стремление героя стать богом вовлекает его в жесткое
противостояние с богами, и прежде всего с Афиной. Однако,
по мнению Ф.М. Комбеллака, я, подобно многим, попросту не
понял этих фрагментов. Он утверждает, что «хотя с
грамматической точки зрения в этих строках Гектор выражает некое
желание, он вовсе не стремится стать бессмертным или оказаться
сыном Зевса» [Combellack 1981: 116].
Свое утверждение Ф. Комбеллак пытается обосновать,
определяя используемую в этом случае идиому так, как это делал
в своих комментариях к этим отрывкам Уолтер Лиф: «форма
пожелания, в котором вероятность некоего события наглядно
демонстрируется путем противопоставления ему
воображаемого и очевидно невозможного происшествия» [Leaf 1900 1: 368].
Комбеллак настаивает, что на самом деле Гектор говорит вот
что: «Я хотел бы быть настолько же уверенным в бессмертии
(или в том, что я сын Зевса), насколько я убежден в том, что
этот день принесет зло грекам». Далее исследователь
развивает эту мысль:
Если я скажу: «Я хотел бы быть столь же уверенным в том,
что меня изберут президентом, сколь я уверен в том, что в этом
году мне придется платить больше налогов», мое
высказывание с грамматической точки зрения будет пожеланием, но
никто ни на минуту и не подумает, что я выражаю стремление
стать президентом. Я только воспользовался идиоматическим
оборотом, чтобы подчеркнуть свою уверенность в том, что мне
придется платить больше налогов. А Гектор всего лишь
подчеркивает свою убежденность в том, что грекам уготовано зло
[Combellack 1981: 116].
Однако в подобных рассуждениях кроется глубокое
заблуждение. Автор полагает, что точка зрения Гектора совпадает
с точкой зрения читателя Гомера. То, что кажется абсурдным
1 [Nagy 1979а: 42-50]. См. также выше с. 270, прим. 6.
Глава 13. НЕДОСТИЖИМЫЕ МЕЧТЫ
383
читателю или, говоря точнее, предполагаемой аудитории
гомеровских поэм, должно быть абсурдом и для самого персонажа,
в уста которого вложены эти слова. За таким отождествлением
стоит непонимание основного свойства речей гомеровских
героев, где восприятие реальности тем или иным персонажем очень
часто расходится с реальностью, возникающей в повествовании
в целом, — а значит, с восприятием реальности аудиторией,
которой были адресованы гомеровские поэмы. Ниже мы
рассмотрим некоторые примеры, а сейчас вполне достаточно
сослаться на книгу Д. Ломанна о речах героев в гомеровском эпосе,
которую стоит прочесть каждому, кто заинтересуется этой
стороной гомеровской поэзии [Lohmann 1970].
Еще одним существенным пробелом в построениях Ф. Ком-
беллака является то, что он не потрудился полностью
проанализировать все случаи использования схожей идиомы у
Гомера, по сути ограничившись только двумя речами Гектора.
Заимствуя примеры у У. Лифа, приводящего неполный список
мест, где встречаются схожие выражения, Ф. Комбеллак
считает формально наиболее близким следующий пассаж:
at jap μιν θανάτοιο δνσηχεος ωδε δυναίμην
νόσφιν αποκρύφαι, οτε μιν μόρος αίνος ικάι/οι,
ως οι τενχεα καλά παρέσσεται
Если бы только я был в силах избавить его от горестной смерти,
когда настигнет его жестокая судьба — и было б это
так же верно, как то что будут у него прекрасные доспехи!
Илиада XVIII 464-466
Здесь Гефест желает того, что в данный момент кажется
невозможным, и синтаксически его желание соединено наречием
ώδε «так» с союзом ως «как», вводящим абсолютно
достоверное утверждение2 : Ахилл получит превосходные доспехи.
Иными словами, в рамках единого высказывания невероятное
желание (спасти Ахилла от смерти) оказывается соотнесенным
с достоверной логической посылкой (Ахилл получит
прекрасные доспехи). Сочетание частиц αϊ jap (+ оптатив), которым
вводится пожелание, и ώδε ...ώς, которыми оно соединено с
посылкой, параллельны сочетанию ει jap (+ оптатив), которым
В своем разборе для удобства перевода я буду, вопреки Ф. Комбел-
лаку [Combellack 1981: 119], постоянно передавать греческую конструкцию
«так же... как» в несколько измененной форме: «...так же, как».
384 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
вводится желание Гектора быть бессмертным (VIII 538 и XIII
825), и ώς/οντω ... ώς, присоединяющим это желание к
посылке, в которой утверждается неизбежность бедствий для ахейцев
(VIII 538-541 и XIII 825-828).
Однако Ф. Комбеллак совершенно упустил из виду то
обстоятельство, что тот же самый идиоматический оборот может
использоваться и в ситуациях, когда говорящий вовсе не
считает свое желание невыполнимым, и при этом оно точно так
же вводится частицами si jap или, в качестве варианта,
частицами αϊ jap или εϊθε. Вот что, например, говорит Эвмею
сменивший обличие Одиссей:
αιθ' όντως, Εύμαιε, φίλος Ad πατρϊ jévoio
ως έμοί, οττι με τοιον εόντ àja6oîai ηεραίρεις.
Если б только ты, Эвмей, был дорог отцу Зевсу так же,
как дорог ты мне, поскольку меня, такого как я есть, ты
даришь добром.
Одиссея XIV 440-441
αϊθ' ούτως, Εύμαιε, φίλος Ad πατρϊ jévoio
ως εμοί, οττι μ επαυσας αλης και οιζύος αινης.
Если б только ты, Эвмей, был дорог отцу Зевсу так же,
как дорог ты мне, поскольку избавил меня от блужданий и
жестокого горя.
Одиссея XV 341-342
Ясно, что Эвмей вполне может оказаться дорог Зевсу. Скорее
даже подразумевается, что так оно и есть, и такая вероятность
усиливается благодаря неоспоримости посылки, которая
содержится во фразе Одиссея: Эвмей дорог Одиссею. В этой связи
можно вспомнить и наполненные горькой иронией слова
Приама об Ахилле: αϊθε θεοΐσι φίλος τοσσόνδε jévoiro οσσοι/ έμοί
«Если б он был дорог богам столь же, сколь дорог он мне»
(Илиада XXII 41-42).
Рассматриваемый нами оборот речи часто встречается в
молитвах. Так, например, Телемах возглашает:
ai jap, Ζευ τε πάτερ και Άθηναίη και "Απολλον,
οντω ι/νι/ μνηστήρες εν ημετέροισι δόμοισι
νεύοιεν κεφάλας δεδμημένοι, οι μεν εν ανλτ),
οι δ' εντοσθε δόμοιο, λελυτο δε 7^?α εκάστου,
Глава 13. НЕДОСТИЖИМЫЕ МЕЧТЫ
385
ώς νυν *Ιρος εκείνος επ' αύλείτ)σι βνρτ\σιν
ησται νευστάζων κεφαλή μεθύοντι εοικώς
О отец Зевс, Афина и Аполлон, если б только
в нашем доме женихи были бы сражены
и склонили свои головы, кто во дворе,
кто внутри дома, и распались бы тела их — и было б это
так же верно, как то, что вон там во дворовых воротах сидит Ир,
склонив свою голову.
Одиссея XVIII 235-240
Очевидно, что молящийся не противопоставляет невозможность
своего желания реальности происходящего (как это вытекает
из интерпретации данной идиомы Ф. Комбеллаком); скорее
напротив, реальность происходящего у него на глазах он кладет
в основу своей надежды на то, что желание его сбудется.
Временами желание основывается на логической посылке,
в которой отражено только что случившееся, причем
говорящий включает свое желание в этот непосредственный контекст
с помощью одного только слова όντως «так» = «так же верно,
как то, что сейчас произошло». Например, когда жених Анти-
ной ударяет еще не узнанного Одиссея, возмущенная Пенелопа
бросает такие слова: αϊθ' ούτως αυτόν σε βάλοι κλντότοξος
'Απόλλων «Если б только Аполлон, славный своим луком,
ударил бы тебя так же верно, [как ты ударил Одиссея]!» (Одиссея
XVII 494). Пожелание Пенелопы тут же подхватывает Эврино-
ма: ει jàp Ы apfjatv τέλος ήμετέρησί jévoiTo «Если б только
наши молитвы свершились!» (XVII 496). Словосочетание «наши
молитвы» здесь подразумевает мечты и Пенелопы, и Эвриномы,
выраженные в двух однострочных вариантах идиомы, которую
мы разбираем. И вновь данный оборот содержит желание,
которое произносится с надеждой на его исполнение, а не наоборот.
Однажды говорящий прибегает к усеченному варианту
идиомы, а затем прямо заявляет, что его мечта невозможна, — но
его немедленно поправляет другой персонаж, который на сей
раз пользуется развернутой идиоматической формулой. Я
говорю о том месте, когда Телемах хочет, чтобы боги наделили его
dunamis «силой», чтобы убить женихов (aï jàp έμοϊ τοσσήνδε
θεοί δυναμό/ περιθεΐεν — Одиссея III 205). Но затем вместо
того, чтобы привести некое основание для своей надежды, он
отказывается от нее, сетуя, что боги не даровали такой силы
386 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ни ему, ни его отцу (208-209). И в этот момент Телемаху
возражает Нестор, прибегая к тому же идиоматическому
обороту, но в полной форме:
ει ηάρ σ ως εθέΧοι φιΧέειν ηΧανκωπις Άθήι/η,
ως τότ Όδνσσηος περικήδετο κνδαΧίμοιο
δήμω ει/ι Τρώωι/.
Если бы только glaukôpis Афина удостоила бы тебя своей
благосклонности
так же верно, как прежде заботилась она о славном Одиссее
в Троянском краю.
Одиссея III 218-220.
Теперь у надежды есть основание, появилась логическая
посылка. Нестор говорит Телемаху: если любовь Афины к
тебе действительно сильна, то тогда женихи на самом деле
погибнут (223-224).
Если хочешь чего-то менее вероятного и опираешься при
этом на нечто кажущееся безусловным, тогда из конкретного
наблюдения можно сделать общий вывод. Вот, например, один
из женихов иронически замечает, глядя на то, как изменивший
обличив герой готовится натянуть лук:
αϊ ηαρ δη τοσσοντοι/ ονήσιος άι/τιάσειει/,
ως οντάς ποτέ го ντο δνι/ήσεται ει/ται/νσασθαι.
Если б только сумел он разбогатеть
так же верно, как силу иметь для того, чтобы натянуть этот лук.
Одиссея XXI 402-403
Он-то говорит иронически, но ирония поистине обернется
против него. Говорящий надеется на то, что Одиссея постигнет
полная неудача и во всем прочем, исходя из уверенности в
конкретной неудаче чужеземца — тот не сможет натянуть лук.
Вместо этого Одиссею сопутствует успех и в данном конкретном
случае, а затем он сумеет добиться и полной победы над
женихами. Сошлюсь на еще один пример: вот какие язвительные
слова вкладывает в уста некоему троянцу Агамемнон,
воображая, что может произойти, если падет Менелай:
αϊθ' όντως επι τάσι χόλοι/ τεΧέσει Αγαμέμνων,
ως και ι/νι/ αΧιοι/ στρατοί/ ηηαηει/ έι/θάδ' 'Αχαιών,
Глава 13. НЕДОСТИЖИМЫЕ МЕЧТЫ
387
Если б только Агамемнон обрушивал свой гнев на всех своих
врагов
так же верно, как зря сюда он привел ахейское войско.
Илиада IV 178-179
В этой воображаемой ситуации троянец, исходя из одной
конкретной неудачи Агамемнона, питает надежду на то, что вождь
греков потерпит полный и окончательный крах.
Рассматриваемый нами оборот часто содержит гиперболу,
и порою такое преувеличение граничит с чрезмерной гордыней
(hubris). Так, излишне самоуверенными кажутся слова,
обращенные Одиссеем к циклопу после того, как герой ослепил
чудище. «Если б только мог я тебя убить, — говорит Одиссей, —
так же верно, как точно то, что не сможет твой отец
Посейдон вернуть тебе зрение» (Одиссея IX 523-525)! За реально
совершенным гибристическим поступком — ослеплением сына
бога, противостоящего герою, — следует еще более гибристич-
ное желание: просто убить его. Точно так же и в первых двух
упомянутых нами контекстах Гектор вполне может уповать на
возможность стать богом, исходя из уверенности в том, что он
вот-вот положит конец походу ахейцев. В первом случае Гектор
с помощью интересующего нас оборота выражает уверенность
в том, что с наступлением утра он уничтожит ахейцев, и
прежде всего Диомеда (Илиада VIII 526-538). Во втором случае он
убежден в том же самом, но на сей раз главным объектом его
враждебных упований является уже не Диомед, а Аякс
(Илиада XIII 829-832). Разумеется, то, что Гектор считает реальной
основой своих мечтаний, расходится с реальностью
повествования: Гектор не сумеет одолеть Диомеда или Аякса, а
потому и не сможет изгнать ахейцев из-под стен Трои. Тем самым
гибристическое желание стать богом основано на самообмане,
и конкретное словесное воплощение этого желания усугубляет
подобный самообман. Все же в этот момент говорит сам Гектор,
и мы не можем подменять его восприятие реальности
реальностью повествования. Для Гектора стремление стать богом не
противоречит известным ему фактам, и потому нам при
переводе строк VIII 538 и XIII 825 лучше отказаться от фактически
неверного варианта: «если б только я был бессмертным...» и
«если бы я только был сыном эгидодержавного Зевса», заменив
его более нейтральным: «если я только буду бессмертным..» и
«если я только буду сыном эгидодержавного Зевса...».
388 ЧАСТЬ III. ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
В подобном, хотя и гораздо менее величественном,
заблуждении пребывает и злодей-пастух Меланфий в «Одиссее». Он
говорит: если б только Аполлон или кто-то из женихов убил
бы Телемаха так же верно, как верно то, что Одиссей погиб
в море (Одиссея XVII 251-253)! Ф. Комбеллак в своем
толковании напрочь упускает из виду гибристическое
преувеличение, очевидно стоящее за желанием пастуха: «Я хотел бы быть
так же уверенным в том, что Аполлон или один из женихов
убьет Телемаха сегодня, как верно то, что день возвращения
Одиссея давно пропал» [Combellack 1981: 118]. По-моему, нет
никаких оснований полагать, что Меланфий считает убийство
Телемаха невозможным.
Порой рассматриваемый нами оборот содержит заведомо
ложную посылку, сфальсифицированную в ходе самого
повествования. Так, например, Аполлон, уподобившись брату
матери Гектора, возбуждает в герое воинственный дух такими
словами: αίθ' όσον ησσων ειμί, τόσοι/ σέο φέρτερος εΐην «Если б
только я мог быть настолько выше тебя, насколько верно то,
что я ниже тебя!» (Илиада XVI 722). Аполлон в облике
дяди Гектора хочет сказать вот что: если бы ты был настолько
ниже, ты бы отступил в битве (723). Но поскольку
предполагается, что Гектор в действительности гораздо выше, он,
разумеется, так не поступит. Однако в подобных сравнениях фигура
божества играет промежуточную, срединную роль: дядя так
соотносится с Гектором, как Гектор соотносится с Аполлоном3.
С точки зрения Гектора, в использованном Аполлоном обороте
посылка соответствует реальности: дядя уступает Гектору. Но
с точки зрения Аполлона и, кстати, повествования в целом,
посылка ложна: Аполлон выше, а не ниже Гектора. Таким
образом, основанное на этой посылке желание многократно
усиливается: во фразе «пусть я буду настолько выше тебя»
«настолько» во много раз больше того, о чем Гектор может помыслить.
На данный момент, помимо примеров, обнаруженных мною
самим, я разобрал практически все случаи, упомянутые
Ф. Комбеллаком, — все, за исключением одного. Над телом
смертельно раненного Гектора из уст Ахилла звучит жуткое
Об этом и других случаях использования в архаической греческой
поэзии подобных пропорциональных уподоблений см. [Lohmann 1970: 189,
прим. 6].
Глава 13. НЕДОСТИЖИМЫЕ МЕЧТЫ
389
желание, пусть и в несколько смягченной форме. «Если бы
только, — говорит Ахилл, — мои ménos "сила" и thümos "дух"4
подвигли меня на то, чтобы съесть тебя заживо» {Илиада XXII
346-348)! Посылка, из которой вытекает желание, столь же ги-
бристична, сколь и само желание: Ахилл ссылается на
невозможность того, чтобы тело Гектора избегло собак и было
выкуплено Приамом (348-354). Тем не менее «невозможное» как раз
и происходит в двадцать четвертой песни «Илиады»5. С
развитием повествования от двадцать второй к двадцать четвертой
песни Ахилл становится все более и более человечным: именно
ему предстоит в конце концов отдать тело Гектора и лишить тем
самым свое собственное желание исходной посылки. Но в
момент, когда он произносит свою фразу, преисполненную
решимости отдать тело Гектора псам и не взять выкуп у Приама, эта
посылка кажется почти столь же отвратительной, сколь
омерзительна вытекающая из нее мечта людоеда. Я не вижу смысла
в утверждениях типа: «он упоминает о людоедстве как о самом
невероятном, дабы оттенить тем самым неизбежность того, что
псы разорвут тело Гектора» [Combellack 1981: 117]. Вряд ли
Ахилл дал себе труд уверять Гектора в том, что у его
животных порывов есть все же некие пределы: собакам-то он тело
Гектора отдаст, но сам его есть не будет, это слишком. Скорее,
если уж в посылке заложено животное чувство, то следствием
оказывается еще более животное желание.
Я хочу закончить свой обзор последним примером: словами,
обращенными к Нестору Агамемноном:
ω ηέρον είθ' ως θυμός ενϊ στήθεσσι φί\οισιν
ως τοι ηούνοιθ' εποιτο, βίη 6έ τοι εμπεδος εϊη·
Старец, если б только колени твои не слабели при ходьбе
и сила оставалась неизменной — так же, как неизменен в
тебе твой дух!
Илиада IV 313-314
Агамемнон вовсе не убеждает старика в том, что силы его не
могут быть прежними. Напротив, он воздает дань удивите л ь-
О соотношении этих слов в изображении Ахилла см. [Nagy 1979а:
136-137].
О соотношении двадцать второй и двадцать четвертой песней
«Илиады» см. [Lohmann 1970: 161, прим. 6, 279, 280, прим. 18].
390 ЧАСТЬ III ЭЛЛИНИЗАЦИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ной силе духа удивительного человека и своим желанием
стремится упрочить эту дань6.
Для меня разобранный идиоматический оборот —
особенно в том виде, в котором он использован в последнем
примере, — служит метафорой процесса эллинизации
индоевропейской общественной идеологии. Если для нас эллинский идеал
— это реализация мечты о прогрессе человечества, то стоящее
за греческим языком индоевропейское наследие дает нам пусть
неполное, но представление о соотношении прошлого и
настоящего, а значит, служит той исходной посылкой, без которой
подобная мечта так и останется неосуществленной.
В изначальном варианте статьи, легшей в основу данной главы, я
добавил: «Той же дани заслуживает и Стерлинг Доу, удивительный
человек, живущий среди нас» (статья была опубликована в 1984 году в номере
Greek, Roman and Byzantine Studies, посвященном восьмидесятилетнему
юбилею известного эллиниста и археолога С. Доу. — Прим. η ер ев.)
БИБЛИОГРАФИЯ
Бенвенист Э. 1995. Словарь индоевропейских социальных терминов.
М.-Л.
Вернан Ж.-П. 1988. Происхождение древнегреческой мысли. М.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984. Индоевропейский язык и
индоевропейцы. Реконструкция и типологический анализ прото-
языка и протокультуры. Т. 1-2. Тбилиси.
Даркевич В.П. 1961. «Топор как символ Перуна в древнерусском
язычестве». Советская археология 4: 91-102.
Дюмезиль Ж. 1986. Верховные боги индоевропейцев. М.
Елизаренкова Е.В. Ригведа. Т. 1-3. М., 1989-1999.
Иванов Вяч.Вс. 1958. «К этимологии балтийского и славянского
названия бога грома». Вопросы славянского языкознания 3: 101-111.
Иванов Вяч.Вс, Топоров В.Н. 1968. «К семиотическому анализу
мифа и ритуала (на белорусском материале)». Доклад на
конференции «Семиотика». Варшава. Переиздано в Sign, Language,
Culture, 321-389. The Hague-Paris.
— 1974. Исследования в области славянских древностей:
лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.
Лорд A.B. 1994. Сказитель. М.-СПб.
Седов В.В. 1953. «Древнерусское святилище в Перыни». Краткие
сообщения Института истории материальной культуры 50:
92-103.
— 1954. «Новые данные о языческом святилище Перуна».
Краткие сообщения Института истории материальной культуры
53: 195-208.
Сержпутовский А.К. 1930. «Прымхи и забабоны беларусав-паляшу-
ков». Беларуская этнография в доследах и материалах 7. Mihck.
Соссюр Ф. де 1977. Труды по языкознанию. М.
Фасмер М. 1996. Этимологический словарь русского языка в
четырех томах. СПб.
Alexiou, M. 1974. The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge.
Alföldi, A. 1974. Die Struktur des voretruskischen Römerstaates.
Heidelberg.
Allen, T.W., ed. 1912. Homeri Opera 5 (Hymns, Cycle, fragments, etc.).
Oxford.
392
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1924. Homer. The Origins and the Transmission. Oxford.
Allen, W.S. 1973. Accent and Rhythm. Prosodie Features of Latin and
Greek: A Study in Theory and Reconstruction. Cambridge.
— 1987.' Vox Graeca: The Pronunciation of Classical Greek 3 ed.
Cambridge.
Alty, J. 1982. «Dorians and Ionians». Journal of Hellenic Studies 102:
1-14.
Andronikos, M. 1968. Totenkult. Archaeologia Homerica 3W, ed. F. Matz
and H.G. Buchholz. Göttingen.
Arbman, Ε. 1926/1927. «Untersuchungen zur primitiven
Seelenvorstellung mit besonderer Rücksicht auf Indien. 1: Einleitendes. II:
Altindischer Seelenglaube, sein Ursprung and seine Entwicklung». Le
Monde oriental 20: 85-226 / 21: 1-185.
Austin, J.L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford.
Bachelard, G. 1949. La psychanalyse du feu. Paris.
Balys, J. 1937. «Perkunas lietuviu liaudies tikeijimuose». Tautosakos dar-
bai 3. Kaunas.
Bartholomae, C. 1904. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg.
Baumann, H. 1936. Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der
afrikanischen Völker. Berlin.
Bausinger, H. 1980. Formen der «Volkspoesie». Berlin.
Beekes, R.S.P. 1969. The Development of the Proto-Indo-European La-
ryngeals in Greek. The Hague.
Ben-Amos, D. 1976. «Analytical Categories and Ethnic Genres». Folklore
Genres, ed. D. Ben-Amos, 215-242. Austin.
Benveniste, E. 1935. Origines de la formation des noms en indo-européen.
Paris.
— 1937. «Expression indo-européenne de l'éternité». Bulletin de la
Société de Linguistique de Paris 38: 103-112.
— 1948. «Notes de vocabulaire latin». Revue de Philologie 22: 122-124.
— 1962. Hittite et Indo-Européen. Paris.
— 1966. Problèmes de linguistique générale. Paris.
— 1968. «Phraséologie poétique de l'indo-iranien». Mélanges
d'indianisme à la mémoire de Louis Remou 73-79. Paris.
— 1969. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. Economie,
parenté, société. 2. Pouvoir, droit, religion. Paris. = Indo-European
Language and Society, translated 1973 by E. Palmer. London and
Coral Gables, Fl. См. Бенвенист 1995.
Benveniste, E., et Renou, Ε. 1934. Vrtra et VrOrajna. Etude de
mythologie indoiranienne. Paris.
Bérard, C. 1970. L'hérôon à la porte de l'ouest. Bern.
— 1982. «Récupérer la mort du prince: Heroisation et formation de la
cité». La mort, les morts dans les sociétés anciennes, ed. G. Gnoli,
J.-P. Vernant, 89-105. Cambridge and Paris.
БИБЛИОГРАФИЯ
393
Bergaigne, Α. 1878-1883. La religion védique 1-3. Paris.
Bergren, A.L.T. 1975. The Etymology and Usage of ΠΕΙΡΑΡ in Early
Greek Poetry. American Classical Studies 2, American Philological
Association. New York.
Biezais, H.H. 1955. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala.
Bloom, H., ed. 1986. Modern Critical Views: Homer. New York.
Boas, F. 1898. The Mythology of the Bella Coola Indians. Memoirs of
the American Museum of Natural History 2: The Jesup North
Pacific Expedition. New York.
— 1910. Kwakiutl Tales. Columbia University Contributions to
Anthropology 2. New York and Leiden.
Boedeker, D.D. 1974. Aphrodite's Entry into Greek Epic. Leiden.
— 1984. Descent from Heaven: Images of Dew in Greek Poetiy and
Religion. American Classical Studies 13, American Philological
Association. Chico, Cal.
Böhme, J. 1929. Die Seele und das Ich im homerischen Epos. Leipzig.
Borgeaud, W.A. 1982. Fasti Umbrici: Etudes sur le vocabulaire et le rituel
des Tables eugubines. Ottawa.
Borthwick, E.F. 1969. «The Verb AYQ and Its Compounds». Classical
Quarterly 19: 306-313.
Bourriot, F. 1976. Recherches sur la nature du Genos: Etude d'histoire
sociale athénienne, périodes archaïques et classiques. 2 vols. Lille
and Geneva.
Bowie, A.M. 1981. The Poetic Dialect of Sappho and Alcaeus. New York.
Bowra, CM. 1961. Greek Lyric Poetry. 2 ed. Oxford.
Brelich, A. 1949. Vesta. Zürich.
— 1958. GH eroi greet. Rome.
— 1961. Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica. Bonn.
— 1969. Paides e Parthenoi. Incunabula Graeca 36. Rome.
Bremmer J.N. 1983. The Early Greek Concept of the Soul. Princeton.
Bremmer, J.N., and Horsfall, N.M. 1987. Roman Myth and Mythography.
University of London Institute of Classical Studies Bulletin
Supplement 52. London.
Brough J. 1953. The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara.
Cambridge.
Bruckner, A. 1926. «Mythologische Themen». Archiv für Slavische
Philologie 40: 1-26.
Brugmann, K. 1904/1905. «Griech. νίνς, ν Ιός, υΐωι/ός und ai. sûnus got.
sunus». Indogemanische Forschungen 17: 483-491.
Buga, К 1921. «Priesagos -ünash dvibalsio uo kilmes». Lietums mokykla
10/11: 420-457. Переиздано в 1959 г. в Buga, К. Rinktiniai ratai
2: 331-376. Vilnius.
394
БИБЛИОГРАФИЯ
Bundy, E.L. 1962 [1986]. «Studia Pindarica 1: The Eleventh Olympian
Ode; II: The First Isthmian Ode». University of California
Publications in Classical Philology 18, nos. 1-2: 1-92. Обе статьи
переизданы в Bundy 1986. Studia Pindarica. Berkeley and Los Angeles.
— 1972. «The "Quarrel" between Kallimachos and Apollonios», Part I:
«The Epilogue of Kallimachos' Hymn to Apollo». California Studies
in Classical Antiquity 5: 39-94.
Burkert, W. 1961. «Elysion». Glotta 39: 208-213.
— 1966. «Greek Tragedy and Sacrificial Ritual». Greek Roman and
Byzantine Studies 7: 87-121.
— 1965. «Demaratos, Astrabakos und Herakles». Museum Helveticum
22: 166-177.
— 1970. «Jason, Hypsipyle, and the New Fire of Lemnos». Classical
Quarterly 20: 1-16.
— 1972. «Die Leistung eines Kreophylos: Kreophyleer, Homeriden und
die archaische Heraklesepik». Museum Helvelicum 29: 74-85.
— 1975. «Apellai und Apollon». Rheinisches Museum 118: 1-21.
— 1979a. Structure and History in Greek Mythology and Ritual.
Berkeley and Los Angeles.
— 1979b. «Mythisches Denken». Philosophie und Mythos, ed. H. Poser,
16-39. Berlin and New York.
— 1983. Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial
Ritual and Myth, translated by P. Bing. Berkeley and Los Angeles.
Впервые опубликовано по-немецки в 1972 г.: Homo Necans. Berlin.
— 1984. Die Orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und
Literatur. Heidelberg.
— 1985. Greek Religion, translated by J. Raffan. Cambridge, Mass.
Впервые опубликовано по-немецки в 1977 г.: Griechische Religion
der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart.
Burnett, A.P. 1983. Three Archaic Poets: Archilochus, Alcaeus, Sappho.
Cambridge, Mass.
Byrne, J. 1971. «Tribes and Tribalism in Early Ireland». Eriu 22: 128-166.
Calame, C. 1977. Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque. 1:
Morphologie, fonction religieuse et sociale. 2: Alcman. Rome.
— éd. 1983. Alcman. Rome.
— 1986. Le récit en Grèce ancienne. Paris.
— 1987. «Spartan Genealogies: The Mythological Representation of a
Spatial Organisation». Interpretations of Greek Mythology, ed. by J.
Bremmer, 153-186. London.
Caland, W. 1893. Altindischer Ahnenkult. Leiden.
— 1896. Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche.
Amsterdam.
Campbell, D.A., ed. 1976. Greek Lyric Poetry: A Selection of Early Greek
Lyric, Elegiac and Iambic Poetry.
БИБЛИОГРАФИЯ
395
— 1982. Greek Lyric. 1: Sappho and Alcaeus. Cambridge, Mass.
Caswell, C.P. 1986. «A Study of Thumos in Early Greek Epic». Doctoral
dissertation, Boston University.
Cerri, G. 1969. «Isos dasmos come équivalente di isonomia nella silloge
teognidea». Quaderni Urbinati di Cultura Classica 8: 97-104.
Chantraine, P. 1968, 1970, 1975, 1977, 1980. Dictionnaire étymologique
de la langue grecque I, II, 111, IV-1, IV-2. Paris.
Christensen, A. 1916. «Reste von Manu-Legenden in der iranischen
Sagenwelt». Festschrift Friedrich Carl Andreas 63-69. Leipzig.
— 1918/1934. Le premier homme et le premier roi dans l'histoire
légendaire des Iraniens 1/2. Uppsala/Leiden.
Christmann-Franck, L. 1971. «Le rituel des funérailles royales hittites».
Revue Hittite et Asianique 29: 61-111.
Clader, L.L. 1976. Helen: The Evolution from Divine to Heroic in Greek
Epic Tradition. Leiden.
Clark, M.E., and Coulsen, D.E. 1978. «Memnon and Sarpedon».
Museum Helveticum 35: 65-73.
Claus, D.B. 1981. Toward the Soul. An Inquiry into the Meaning of Soul
before Plato. New Haven.
Clay, J.3. 1984. The Wrath of Athena. Gods and Men in the Odyssey.
Princeton.
Coldstream, J.N. 1976. «Hero-Cults in the Age of Homer». Journal of
Hellenic Studies 96: 8-17.
Combellack, F.M. 1981. «The Wish without Desire». American
Journal of Philology 102: 115-19.
Connor, W.R. 1987. «Tribes, Festivals and Processions: Civic Ceremonial
and Political Manipulation in Archaic Greece». Journal of Hellenic
Studies 107: 40-50.
Cook, R.M. 1937. «The Date of the Hesiodic Shield». Classical
Quarterly 31: 204-214.
Crane, G. 1988. Backgrounds and Conventions of the Odyssey. Beiträge
zur Klassischen Philologie 191. Frankfurt am Main.
Culler, J. 1975. The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruc-
tion. Ithaca, N.Y., London.
Darcus, S. M. 1979a. «A Person's Relation to ΨΥΧΗ in Homer, Hesiod,
and the Greek Lyric Poets». Glotta 57: 30-39.
— 1979b. «A Person's Relation to ΦΡΗΝ in Homer, Hesiod, and the
Greek Lyric Poets». Glotta 57: 159-173.
— 1980. «How a Person relates to ΝΟΟΣ in Homer, Hesiod, and the
Greek Lyric Poets». Glotta 58: 33-44.
Davidson, H.R.E. 1965. «Thor's Hammer». Folklore 76: 1-15.
Davidson, O.M. 1979. «Dolon and Rhesus in the Iliad». Quaderni Urbinati
di Cultura Classica 30: 61-66.
396
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1980. «Indo-European Dimensions of Herakles in Iliad 19: 95-133».
Arethusa 13: 197-202.
— 1985. «The Crown-Bestower in the Iranian Book of Kings». Acta
Iranica, Hommages et Opera Minora 10: Papers in Honour of
Professor Maly Boyce, 61-148. Leiden.
— 1987. «Aspects of Dioscurism in Iranian Kingship: The Case of
Lohrasp and Goshtasp in the Shähnäme of Ferdowsi». Edebiyat 1:
103-115.
Day, J., Chambers, M. 1962. Aristotle's History of Athenian
Democracy. Berkeley and Los Angeles.
Delcourt, M. 1965. Pyrrhos et Pyrrha: Recherches sur les valeurs du feu
dans les légendes helléniques. Paris.
DELG. Cm. Chantraine 1968-1980.
DELL. Cm. Ernout et Meillet 1959.
Détienne, M. 1972. Le jardins d'Adonis: La mythologie des aromates en
Grèce. Paris.= The Gardens of Adonis, translated 1977 by J. Lloyd.
Sussex.
— 1973. Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. 2 éd. Paris.
— 1977. Dionysos mis à mort. Paris = Dionysos Slain, translated 1979
by L. Muellner and M. Muellner. Baltimore.
— 1981. L'invention de la mythologie. Paris.
Détienne, M., and Svenbro, J. 1979. «Les loups au festin ou la Cité
impossible». B: Détienne and Vernant. 1979: 215-237.
Détienne, M., and Vernant, J.-R. 1974. Les ruses de l'intelligence: La
ΜΗΤΙΣ des Grecs. Paris. = Cunning Intelligence in Greek Culture
and Society, translated 1978 by J. Lloyd. Sussex.
Détienne, M., and Vernant, J.-R, eds. 1979. La cuisine du sacrifice en
pays grec. Paris.
Devoto, G., éd. 1937. Tabulae Iguvinae. Rome.
DGE. Cm. Schwyzer 1923.
Diels, R, Kranz, W., eds. 1951-1952. Die Fragmente der Vorsokratik-
er. 6 éd. Berlin.
Dieterich, A. 1913. Nekyia. Leipzig-Berlin.
Diggle, J., éd. 1970. Euripides, Phaethon. Cambridge.
Dihle, A. 1970. H orner-Probleme. Opladen.
Dillon, M. 1975. Celts and Aryans: Survivals of Indo-European Speech
and Society. Simla.
Dirlmeier, F. 1955. «Homerisches Epos und Orient». Rheinisches
Museum 98: 18-37.
Dittenberger, W., ed. 1915-1924. Sylloge Inscriptionum Graecarum. 3 ed.
Leipzig.
DK - Cm. Diels, Kranz 1951-1952.
Dodds, E.R. 1951. The Greeks and the Irrational. Berkeley-Los Angeles.
БИБЛИОГРАФИЯ
397
— ed. I960. Bacchae, by Euripides. 2nd ed. Oxford.
Donini, G. 1967. «Osservazioni sui rapporti tra alcuni passi dell'
Iliade riguardanti Enea». Rivista di Filologia e di Istruzione Classi-
ca 95: 389-396.
Donlan, W. 1970. «Changes and Shifts in the Meaning of Demos». La
Parola del Passato 135: 381-395.
Drachmann, A.I., ed. 1903-1927. Scholia Vetera in Pindari Carmina.
Bd. 1-3. Leipzig.
Drekmeier, C. 1962. Kingship and Community in Early India. Stanford.
Duban, J. 1980. «Poets and Kings in the Theogony Invocation». Quaderni
Urbinati di Cultura Classica 33: 7-21.
Dubois, J.A. 1924. Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de
l'Inde, translated by H.К. Beauchamp, Hindu Manners, Customs
and Ceremonies. 3rd ed. Oxford.
Dubuisson, D. 1978a. «Le roi indo-européen et la synthèse des trois
fonctions». Annales Economies Sociétés Civilisations 33: 21-34.
— 1978b. «L'équipement de Pinauguration royale dans l'Inde védique
et en Irlande». Revue de l'histoire des Religions 193: 153-164.
Duchesne-Guillemin, J. 1962. La religion de l'Iran ancien. Paris.
— 1979. «La royauté iranienne et le xv arenah». Iranica, ed. G. Gnoli
and A. Rossi, 375-386. Napoli.
Ducrot, O., Todorov, T. 1972. Dictionnaire encyclopédique des sciences
du langage. Paris. = Encyclopedic Dictionaiy of the Sciences of
Language, translated 1979 by С. Porter. Baltimore.
Duggan, J., ed. 1975. Oral Literature. Seven Essays. Edinburgh-New
York.
Dumézil, G. 1941. Jupiter Mars Quirinus 1. Paris.
— 1943. Les mythes romains. 2: Servius et la Fortune, essai sur la
fonction sociale de louange et de blâme et sur les éléments indo-européens
du cens romain. Paris.
— 1953. «Les trois fonctions dans quelques traditions grecques».
Hommage à Lucien Febvref 25-32. Paris.
— 1954. Rituels indo-européens à Rome. Paris.
— 1958. L'idéologie tripartie des Indo-Européens. Paris.
— 1959a. «Trois régies de l'Aedes Vestae». Revue des Etudes Latines
37: 94-104.
— 1959b. Les dieux des Germains. Paris.
— 1961. «Vesta extrema». Revue des Etudes Latines 39: 250-257.
— 1966. La religion romaine archaïque. Paris.
— 1968. Mythe et épopée 1: L'idéologie des trois fonctions dans les
épopées des peuples indo-européens. Paris.
— 1969. Idées romaines. Paris.
— 1971. Mythe et épopée. 2: Un héros, un sorcier, un roi. Paris.
398
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1973. Mythe et épopée. 3: Histoires romaines. Paris.
— 1977. Les dieux souverains des Indo-Européens. Paris. См. Дюме-
зиль 1986.
— 1982. Apollon sonore. Et autres essais. Vingt-cinq esquisses de
mythologie (1-25). Paris.
— 1983. La courtisane et les seigneurs colorés. Et autres essais. Vingt-
cinq esquisses de mythologie (26-50). Paris.
— 1985. L'oubli de l'homme et l'honneur des dieux. Et autres essais.
Vingt-cinq esquisses de mythologie (51-75). Paris.
Dumont, L. 1980. Homo Hierarchicus: The Caste System and Its
Implications, translated by M. Sainsbury, L. Dumont, and B. Gulaiti.
Chicago.
Dunkel, G. 1979. «Fighting Words: Alcman Partheneion 63: μάχοι/тси».
Journal of Indo-European Studies 7: 249-272.
Durante, M. 1976. Sulla preistoria della tradizione poetica greca. 2: Risul-
tanze della comparazione indoeuropea. Incunabula Graeca 64. Roma.
Dworak, P. 1938. Gott und König. Eine religionsgeschichtliche
Untersuchung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Bonn.
Edmunds, L. 1985. «The Genre of Theognidean Poetry». См.: Figueira
and Nagy 1985: 96-111.
Edwards, A.T. 1988. «ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ and Oral Theory».
Classical Quarterly 38: 25-30.
Edwards, G.P. 1971. The Language of Hesiod in Its Traditional
Context. Oxford.
Edwards, M.W. 1986. «Homer and Oral Tradition, Part I». Oral
Tradition 1: 171-230.
— 1988. «Homer and Oral Tradition, Part 2». Oral Tradition 3: 11-60.
EG - Cm. Page 1975.
Eliade, M. 1962. The Forge and the Crucible, translated by S. Corrin.
New York and London.
— 1963. Patterns in Comparative Religion, translated by R. Sheed.
Cleveland and New York.
Else, G.R, ed., 1957. Aristotle's Poetics: The Argument. Cambridge, Mass.
— 1967. Homer and the Homeric Problem. Lectures in Memory of Louise
Taft Semple, University of Cincinnati Classical Studies 1: 315-365.
Princeton.
Endzelin, J. 1923. Lettische Grammatik. Heidelberg.
Ernout, A. 1954. Aspects du vocabulaire latin. Paris.
— 1961. Le dialecte ombrien. Paris.
Ernout, Α., Meillet, A. 1959. Dictionnaire étymologique de la langue
latine. 4 éd. Paris.
EWA - Cm. Mayrhofer 1986.
Farneil, L.R. 1921. Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. Oxford.
БИБЛИОГРАФИЯ
399
— 1932. The Works of Pindar. 2: Critical Commentary. London.
Feist, S. 1939. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3 ed.
Leiden.
FGH - См. Jacoby 1923.
Figueira, T.J. 1981. Aegina. New York.
— 1984. «The Ten Arkhontes of 579/8 at Athens». Hesperia 53: 447-473.
— 1985. «The Theognidea and Megarian Society». См. Figueira and
Nagy 1985: 112-158.
Figueira, T.J., Nagy,G., eds. 1985. Theognis of Megara: Poetry and the
Polis. Baltimore, ρ Finkeiberg, M. 1986. «Is ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ a
Homeric Formula?» Classical Quarterly 36: 1-5.
Finnegan, R. 1970. Oral Literature in Africa. Oxford.
— 1977. Oral Poetiy: Rs Nature, Significance, and Social Context.
Cambridge.
Floyd, E.D. 1980. «ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ: An Indo-European Perspective
on Early Greek Poetry». Glotta 58: 133-157.
Fontenrose, J. 1978. The Delphic Oracle. Rs Responses and Operations,
with a Catalogue of Responses. Berkeley-Los Angeles.
Ford, A. L. 1985. «The Seal of Theognis: The Politics of Authorship in
Archaic Greece». См. Figueira, Nagy 1985: 82-95.
Fraenkel, E. 1962/1965. Litauisches etymologisches Wörterbuch 1/2.
Heidelberg.
Frame, D. 1978. The Myth of Return in Early Greek Epic. New Haven.
Fränkel, Η. 1960. «Der kallimachische und der homerische
Hexameter». Wege und Formen frühgriechischen Denkens, 100-156. 2 ed.
München.
— 1975. Early Greek Poetry and Philosophy, translated by M. Hadas
and J. Willis. New York.
Fraser, P. M. 1953. «The Tribal Cycles of Eponymous Priests at Lindos
and Kamiros». Eranos 51: 23-47.
Frazer, J.G. 1921. Apollodorus 1/2. London-New York.
— 1930. Myths of the Origin of Fire. London.
Friedrich, J. 1952. Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg.
Friedrich, P. 1970. Proto-Indo-European Trees. Chicago-London.
Frisk, H. 1960-1970. Griechisches etymologisches Wörterbuch.
Heidelberg.
Fritz, F.L von. 1943. «ΝΟΟΣ and NOEIN in the Homeric Poems».
Classical Quarterly 38: 79-93.
Garland, R. 1981. «The Causation of Death in the Iliad. A Theological
and Biological Investigation». Bulletin of the Institute of Classical
Studies 28: 43-60.
Geldner, К.F. 1951-1957. Der Rig-Veda, aus dem Sanskrit ins Deutsche
übersetzt 1-4. Cambridge, Mass.-Leipzig.
400
БИБЛИОГРАФИЯ
Gentili, В., Prato, С, eds. 1979/1985. Poetae Elegiaci 1/2. Leipzig.
Gerber, D.E., ed. 1970. Euterpe: An Anthology of Early Greek Lyric,
Elegiac and Iambic Poetry. Amsterdam.
— 1982. Pindar's Olympian One: A Commentary. Toronto.
Gernet, L. 1953. «Manages de Tyrans». Hommage à Lucien Febvre, 41-
53. Paris. Переиздано в Gernet 1968: 344-359.
— 1955. Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris.
— 1968. Anthropologie de la Grèce antique. Paris. = The
Anthropology of Ancient Greece, translated 1981 by J. Hamilton and B. Nagy.
Baltimore.
GEW - См. Frisk 1960-1970.
Gill, D. 1974. «Trapezomata: A Neglected Aspect of Greek Sacrifice».
Harvard Theological Review 67: 117-137.
Gimbutas, M. 1967. «Ancient Slavic Religion». To Honor Roman Jakob-
son, 738-759. The Hague-Paris.
Gluckman, M. 1965. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Oxford.
Gnoli, G. 1980. Zoroaster's Time and Homeland: A Study on the Origins
of Mazdeism and Related Problems Naples.
Goetze, A. 1954. «Some Groups of Ancient Anatolian Proper Names».
Language 30: 349-359.
Golden, L., Hardison, O.B. 1981. Aristotle's Poetics: A Translation and
Commentary for Students of Literature. Gainesville, Fl.
Gonda, J. 1954. Aspects of Early Visnuism. Utrecht.
— 1960. Die Religionen Indiens 1. Stuttgart.
— 1976. Triads in the Veda. Verhandelingen der koninklijke nederlandse
Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel
91. Amsterdam.
GP - Cm. Gentili, Prato 1979/1985.
Grassmann, H. 1873. Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig.
Griffith, M. 1983. «Personality in Hesiod». Classical Antiquity 2: 37-65.
Grimm, J. 1875-1878. Deutsche Mythologie 1-3. 4 ed. Berlin.
Grottanelli, C. 1981. «Relazione». Dialoghi di Archeologia 2: 55-67.
Grottanelli, C., Parise, N.R, eds. 1988. Sacrificio e società nel mondo
antico. Roma-Bari.
Gruppe, О. 1906. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte 1.
München.
— 1912. «Die eherne Schwelle und der Thorikische Stein». Archiv für
Religionswissenschaft 15: 359-379.
Güntert, H. 1909. Kalypso. Bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen auf
dem Gebiet der indogermanischen Sprachen. Halle am Saale.
— 1914. Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen. Eine
sprachwissenschaftliche Untersuchung. Heidelberg.
БИБЛИОГРАФИЯ
401
— 1923. Der arische Weltkönig und Heiland: Bedeutungsgeschichtliche
Untersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte und
Altertumskunde. Halle am Saale.
Güterbock, H.G. 1952. The Song of Ullikummi: Revised Text of the Hittite
Version of a Hurrian Myth. New Haven.
Haas, M.R. 1969. The Prehistory of Languages. The Hague.
Hack, R. 1929. «Homer and the Cult of Heroes». Transactions of the
American Philological Association 60: 57-74.
Hadzisteliou Price, T. 1973. «Hero-Cult and Homer». Historia 22: 129-
144.
Hainsworth, J.B. 1964. «Structure and Content in Epic Formulae: The
Question of the Unique Expression». Classical Quarterly 14: 155-164.
— 1968. The Flexibility of the Homeric Formula. Oxford.
Hamm, E.-M. 1957. Grammatik zu Sappho und Alkaios. Berlin.
Hanell, K. 1934. Megarische Studien. Lund.
Hansen, P.A., ed. 1983. Carmina Epigraphica Graeca saeculorum VIII-
V a.Chr.n. Berlin-New York.
Hansen, W.F. 1977. «Odysseus' Last Journey». Quaderni Urbinati di
Cultura Classica 24: 27-48.
Harrison, J.E. 1927. Themis: A Study of the Social Origins of Greek
Religion. 2 ed. Cambridge.
Haymes, E.R. 1973. A Bibliography of Studies Related to Parry's and
Lord's Oral Theory. Cambridge, Mass.
Held, G.J. 1935. The Mahäbhärata: An Ethnological Study. London-
Amsterdam.
Henzen, W., ed. 1874. Acta fratrum Arvalium quae supersunt. Berlin.
Heubeck, A. 1959. Lydiaka. Untersuchung zu Schrift, Sprache und
Götternamen der Lyder. Erlangen.
Hillebrandt, A. 1927. Vedische Mythologie 1-2. 2 ed. Breslau.
Hocart, A.M. 1936. Kings and Councillors: An Essay in the Comparative
Anatomy of Human Society. Cairo.
Hoekstra, A. 1965. Homeric Modifications of Formulaic Prototypes:
Studies in the Development of Greek Epic Diction. Amsterdam.
Hoffmann, K. 1965. «Av. daxma-.ъ Zeitschrift für Vergleichende
Sprachforschung 79: 300. Переиздано в Hoffmann 1975: 338.
— 1974. «Ved. dhànûs- und parus-». Die Sprache22: 15-25.
Переиздано в Hoffmann 1975: 327-337.
— 1975/1976. Aufsätze zur Indoiranistik 1/2, hrsg. J. Narten.
Wiesbaden.
Holoka, J. P. 1973. «Homeric Originality: A Survey». Classical World
66: 257-293.
Householder, F.W., Nagy, G. 1972. «Greek». Current Trends in
Linguistics IX, ed. by T.A. Sebeok, 735-816. The Hague.
402
БИБЛИОГРАФИЯ
Hubbard, Т.К. 1985. The Pindaric Mind: A Study of Logical Structure
in Early Greek Poetry. Leiden.
Humbach, H. 1961. «Bestattungsformen im Videvdät». Zeitschrift für
Vergleichende Sprachforschung 77: 99-105.
Hunt, R. 1981. «Satyric Elements in Hesiod's Works and Days».
Helios 8: 29-40.
1С = Inscriptiones Graecae. Berlin. 1873.
Ingalls, W. B. 1972. «Another Dimension of the Homeric Formula».
Phoenix 24: 1-12.
Ireland, S., Steel, F.L.D. 1975. «Phrenes as an Anatomical Organ in the
Works of Homer». Glotta 53: 183-195.
Ivanov, V.V. I960. «L'organisation sociale des tribus indo-européen
d'après les données linguistiques». Cahiers d'Histoire Mondiale 5:
796-799.
Ivanov V.V. Toporov, V.N. 1970. «Le mythe indo-européen du dieu de
l'orage poursuivant le serpent: Reconstruction du schéma». Mélanges
C. Lévi-Strauss, 1180-1206. The Hague and Paris.
Jacoby, F. 1918. «Studien zu den älteren griechischen Elegiekern».
Hermes 53: 1-44.
— ed. 1923. Die Fragmente der griechischen Historiker. Leiden.
— 1933. «Homerisches I». Hermes 68: 1-50. Переиздано в 1961 г. в
Kleine Schiften 1: 1-53. Berlin.
Jakobson, R. 1931. «Über die phonologischen Sprachbunde». Travaux du
Cercle Linguistique de Prague 4: 234-240. Переиздано в Jakobson
1962: 137-143.
— 1939. «Signe zéro». Mélanges de linguistique, offerts à Charles Bally,
143-152. Genève. Переиздано в Jakobson 1971: 211-219.
— 1950. «Slavic Mythology». Funk and WagnelVs Standard Dictionaiy
of Folklore, Mythology, and Legend, ed. by M. Leach, 1025-1028. New
York. Переиздано в Jakobson 1985: 3-11.
— 1952. «Studies in Comparative Slavic Metrics». Oxford Slavonic
Papers 3: 21-66. Переиздано в Jakobson 1966: 414-463. The Hague.
— 1955. «While Reading Vasmer's Dictionary». Word 11: 615-616.
Переиздано в Jakobson 1971: 636-637.
— 1957. Shifters, Verbal Categories, and the Russian Verb. Cambridge,
Mass. Переиздано в Jakobson 1971: 130-147.
— 1960. «Linguistics and Poetics». Style in Language, ed. by T. Se-
beok, 350-377. Cambridge, Mass.
— 1962. Selected Writings 1. The Hague.
— 1966. Selected Writings 4. The Hague.
— 1971. Selected Writings 2. The Hague.
— 1985. Selected Writings 7. Berlin, New York and Amsterdam.
Janko, R. 1982. Homer, Hesiod and the Hymns: Diachronie Development
in Epic Diction. Cambridge.
БИБЛИОГРАФИЯ
403
Jaskiewicz, W.C. 1952. «Jan Lasicki's Samogitian Gods». Studi Balti-
ci 1: 65-106.
Jeanmaire, H. 1939. Couroi et Courètes: Essai sur l'éducation Spartiate
et sur les rites d'adolescence dans l'antiquité hellénique. Lille.
Jerefflan, A.V. 1953. «The h-zero Alternation in Classical Armenian».
Word 9: 146-151.
Johnson, B. 1980. The Critical Difference: Essays in the Contemporary
Rhetoric of Reading. Baltimore. См. особ. гл. 4, с. 52-66: «Poetry
and Performative Language: Mallarmé and Austin».
Jones, J. 1962. On Aristotle and Greek Tragedy. London.
Jones, N.F. 1980a. «The Order of the Dorian Phylai». Classical
Philology 75: 197-215.
— 1980b. «The Civic Organization of Corinth». Transactions of the
American Philological Association 110: 161-193.
— 1987. Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study.
Philadelphia.
Joseph, B. 1983. «Old English Hengest as an Indo-European Twin Hero».
The Mankind Quarterly 24: 105-115.
Kane, P.V. 1941. History of Dharmasastra 2, part 1. Poona.
Kelly, S.T. 1974. «Homeric Correption and the Metrical Distinctions
between Speeches and Narrative». Doctoral dissertation, Harvard
University.
KEWA - Cm. Mayrhofer 1953-1980.
Kiparsky, P. 1976. «Oral Poetry: Some Linguistic and Typological
Considerations». Oral Literature and the Formula, ed. by B.A. Stolz and
R.S. Shannon, 73-106. Ann Arbor, Mich.
Kirk, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. 1983. The Presocratic
Philosophers. 2 ed. Cambridge.
Koch, H.J. 1976. «AinUE OAE0RON and the Etymology of ΟΛΛΥΜΙ».
Glotta 54: 216-222.
Kock, T., ed. 1880-1888. Comicorum Atticorum Fragmenta. Leipzig.
Koller, H. 1954. Die Mimesis in der Antike. Bern.
— 1956. «Das kitharodische Prooimion: Eine formgeschichtliche
Untersuchung». Philologus 100: 159-206.
— 1968. «ΠΟΛΙΣ MEROnQN ANORnnftN». Glotta 46: 18-26.
— 1972. «Epos». Glotta 50: 16-24.
Kretschmer, P. 1894. Die griechischen Vaseninschriften, ihrer Sprache
nach untersucht. Gütersloh.
— 1940. «Die Stellung der lykischen Sprache». Glotta 28: 103-104.
Krollmann, C. 1927. «Das Religionswesen der alten Preussen». Alt-
preussische Forschungen 4/2: 5-19.
Kulm, A. 1886. Mythologische Studien 1: Die Herabkunfl des Feuers und
des Göttertranks. 2 ed. Gütersloh.
404
БИБЛИОГРАФИЯ
Kuiper, F.B.J. 1964. «The Bliss of Asa». Indo-Iranian Journals: 96-129.
Kurylowicz, J. 1927. «Indoeuropéen ethhittite». Symbolae grammaticae in
honorem Ioannis Rozwadowski 1: 25-104. Krakow.
— 1945-1949 [1966]. «La nature des procès dits "analogiques"». Acta
Linguistica 5: 15-37 (1945-1949); переиздано в 1960 г. в Kurjiowicz.
Esquisses linguistiques, 66-86. Wroclaw/Krakow. Также переиздано
в 1966 г. в Readings in Linguistics, ed. by Ε.P. Hamp, F.W.
Householder, R. Austerlitz, 2: 158-174. Chicago.
— 1956. L'apophonie en indoeuropéen. Wroclaw.
— 1958. «Le hittite». Proceedings of the Eighth International Congress
of Linguists 216-243. Oslo.
— 1968. Indogermanische Grammatik 2: Akzent/Ablaut. Heidelberg.
Lamberton, R. 1988. Hesiod. New Haven-London.
Laroche, Ε. 1958. «Etudes de vocabulaire VII». Revue Hittite et Asianique
63: 85-114 (особ. с. 88-99).
Latacz, J. 1968. «ίχπτερος μύθος - άπτερος φάτις». Glotta 46: 27-47.
Latte, К. 1941. «Phyle». Realencyclopaedie der classischen
Altertumswissenschaft 21.1.994-1011.
Lattimore, R. 1951. The Iliad of Homer. Chicago.
— 1965. The Odyssey of Homer. New York.
LDW - Cm. Miihlenbach, Endzelin 1923-1925.
Leach, E.R. 1982. «Critical Introduction to Steblin-Kamenskij, M.L.».
Myth 1-20. Ann Arbor.
Leaf, W, ed. 1900. The Iliad. 2 vols. 2 ed. London.
Lesher, J.H. 1981. «Perceiving and Knowing in the Iliad and Odyssey».
Phronesis 26: 2-24.
Leumann, M. 1977. Lateinische Laut- und Formenlehre. 2 ed. München.
Lévêque, P., and Vidal-Naquet, P. 1964. Clisthène l'Athénien: Essai sur la
représentation de l'espace et du temps dans la pensée politique grecque
de la fin du VI siècle à la mort de Platon. Paris.
Lévi, S. 1898. La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas. Paris.
Переиздано в 1966 г.
Lévi-Strauss, С. 1967. «The Structural Study of Myth». Structural
Anthropology, 202-228. New York.
LEW - Cm. Fraenkel 1962/1965.
Liddell, H.G., Scott, R., and Stuart Jones, H., eds. 1940. Greek-English
Lexicon 9th ed. Oxford.
Liden, E. 1906. Armenische Studien. Göteborg.
Liebert, G. 1962. «Indoiranica Ι: Αρ. vazraJka-, aw. vazra-, ai. vajra-».
Orientalia Suecana 11: 126-154.
Lincoln, B. 1975. «Indo-Iranian *gautra-». Journal of Indo-European
Studies 3: 161-171.
БИБЛИОГРАФИЯ
405
— 1986. Myth, Cosmos, and Society: Indo-European Themes of Creation
and Destruction. Cambridge, Mass.
Lindsay, W.M., ed. 1914. Sexti Pompei Festi de uerborum significatu quae
supersunt cum Pauli epitome. Leipzig.
Lobel, E., and Page, D., eds. 1955. Poetarum Lesbiorum Fragmenta.
Oxford.
Lohmann, D. 1970. Die Komposition der Reden in der Utas. Berlin.
Lommel, H. 1939. Der arische Kriegsgott. Religion und Kultur der alten
Arier 2. Frankfurt am Main.
Loraux, N. 1978. «Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus».
Arethusa 11.43-87.
— 1981. «La cité comme cuisine et comme partage». Annales Economies
Sociétés Civilisations 36: 614-622.
Lord, A.B. 1938. «Homer and Huso II: Narrative Inconsistencies in Homer
and Oral Poetry». Transactions of the American Philological
Association 69: 439-445.
— 1951. «Composition by Theme in Homer and Southslavic Epos».
Transactions of the American Philological Association 82: 71-80.
— 1960. The Singer of Tales. Cambridge, Mass. См. Лорд 1994.
— 1968. «Homer as an Oral Poet». Harvard Studies in Classical
Philology 72: 1-46.
— 1975. «Perspectives on Recent Work on Oral Literature». См. Dug-
gan 1975: 1-24.
Loth, J. 1920. «Le gallo-latin Brigantes». Revue des Etudes Anciennes
22: 121-122.
Lowenstam, S. 1981. The Death of Patroklos: A Study in Typology.
Beiträge zur Klassischen Philologie 133. Königstein/Ts.
LSJ - См. Liddell, Scott, and Stuart Jones 1940.
LSS - См. Sokolowski 1962.
Lucas, D. W., ed. 1968. Aristotle. Poetics. Oxford.
Macdonell, A. A. 1897. «Vedic Mythology». Grundriss der Indo-Arischen
Philologie und Altertumskunde З.1.А. Strassburg.
Mannhardt, W. 1936. Letto-preussische Götterlehre. Riga.
Mansikka, V.J. 1922. Die Religion der Oststaven. Folklore Fellows
Communications 43. Helsinki.
Martin, R.P. 1983. Healing, Sacrifice and Battle. Amechania and Related
Concepts in Early Greek Poetry. Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft 41. Innsbruck.
— 1984a. «Hesiod, Odysseus, and the Instruction of Princes».
Transactions of the American Philological Association 114: 29-48.
— 1984b. «The Oral Tradition». Critical Survey of Poetry (Foreign
Language Series), ed. by F. Magill, 1746-1768. LaCanada, Cal.
406
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1989. The Language of Heroes: Speech and Perfomance in the
Iliad. Ithaca-N.Y. -London.
Mayrhofer, M. 1953-1980. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des
Altindischen. -Heidelberg.
— 1986. Indogermanische Grammatik 1 (2): Lautlehre. Heidelberg.
— 1986. Elymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg.
Meid, W. 1956. «Zur Dehnung praesuffixaler Vokale in sekundären
Nominalableitungen» 1. Indogermanische Forschungen 62: 260-295.
— 1957. «Das Suffix -no- in Götternamen». Beiträge zur
Namenforschung 8: 72-108, 113-126.
Meillet, A. 1920. «Sur le rhythme quantitatif de la langue védique».
Mémoires de la Société de Linguistique de Paris 21: 193-207.
— 1923. Les origines indo-européennes des mètres grecs. Paris.
— 1925. La méthode comparative en linguistique historique. Paris.
— 1926. «Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien». Revue
des Etudes Slaves 6: 164-174.
Merkelbach, R., West, M.L., eds. 1967. Fragmenta Hesiodea. Oxford.
Meulen, R. van der 1907. Die Naturvergleiche in den Liedern und
Totenklagen der Litauer. Leiden.
Michelini, A. 1978. «ΥΒΡΙΣ and Plants». Harvard Studies in Classical
Philology 82: 35-44.
Miller, A.M. 1979. «The "Address to the Delian Maidens" in the
Homeric Hymn to Apollo. Epilogue or Transition?» Transactions of the
American Philological Association 109: 173-186.
— 1986. From Delos to Delphi: A Literary Study of the Homeric Hymn
to Apollo. Leiden.
Minard, A. 1949/1956. Trois énigmes sur les Cent Chemins 1/2. Lyon-
Paris.
Minkowski, С.Ζ. 1986. «The Miträvaruna Priest». Doctoral dissertation,
Harvard University.
Mitchell, S.A. 1985. «The Whetstone as Symbol of Authority in Old
English and Old Norse». Scandinavian Studies 57: 1-31.
Momigliano, A. 1936. «Note sulla storia di Rodi». Rivista di Filologial
4: 49-63.
— 1962. Intervento in: Accademia Nazionale dei Lincei 359, Quaderno
n. 54, Problemi Attuali di Scienza e di Cultura, Atti del Convegno
Internazionale sul Tema: Dalla Tribu alio Stato, 189-191.
Mondi, R.J. 1978. «The Function and Social Position of the ΚΗΡΥΞ in
Early Greece». Doctoral dissertation, Harvard University.
— 1980. «ΣΚΗΠΤΟΥΧΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΕ: An Argument for Divine
Kingship in Early Greece». Arethusa 13: 203-216.
Monroe, J.T. 1972. «Oral Composition in Pre-Islamic Poetry». Journal
of Arabic Literature 3: 1-53.
БИБЛИОГРАФИЯ
407
Moore, S.F. 1964. «Descent and Symbolic Filiation». The American
Anthropologist 66: 1308-1320. Переиздано в 1967 г. в Myth and
Cosmos: Readings in Mythology and Symbolism, ed. by J. Middle-
ton, 63-75. Austin.
Morris, L. 1988. «Tomb Cult and the "Greek Renaissance": The Past and
the Present in the 8th Century B.C». Antiquity 62: 750-761.
Muellner, L. 1976. The Meaning of Homeric ΕΥΧΟΜΑΙ through its
Formulas. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 13. Innsbruck.
Mühlenbach, K, Endzelin, J. 1923-1925. Lettisch-Deutsches Wörterbuch
1-4. Riga.
Murr J. 1890. Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie. Innsbruck.
MW - См. Merkelbach, West 1967.
Nagler, M.N. 1967. 'Towards a Generative View of the Oral Formula».
Transactions of the American Philological Association 98: 269-311.
— 1974. Spontaneity and Tradition: A Study in the Oral Art of Homer.
Berkeley and Los Angeles.
— 1977. «Dread Goddess Endowed with Speech». Archeological News
6: 77-85.
Nagy, G. 1968. «On Dialectal Anomalies in Pylian Texts». Atti e Memo-
rie del I Congresso Internazionale di Micenologia (Incunabula Graeca
25: 2), 663-679. Roma.
— 1970. Greek Dialects and the Transformation of an Indo-European
Process. Cambridge, Mass.
— 1973. «Phaethon, Sappho's Phaon, and the White Rock of Leukas».
Harvard Studies in Classical Philology 77: 137-177. В
переработанном виде вошла в эту книгу (глава 9).
— 1974а. Comparative Studies in Greek and Indie Meter. Cambridge,
Mass.
— 1974b. «Six Studies of Sacral Vocabulary relating to the Fireplace».
Harvard Studies in Classical Philology 78: 71-106. В переработанном
виде вошла в эту книгу (глава 6).
— 1974с. «Perkunas and Perunû». Antiquitates Indogermanicae: Ge-
denkschrift für Hermann Güntert, ed. M. Mayrhofer, W. Meid,
B. Schlerath, R. Schmitt, 113-131. Innsbruck. В переработанном
виде вошла в эту книгу (глава 7).
— 1976а. Рецензия на Edwards 1971. Canadian Journal of
Linguistics 21: 219-224.
— 1976b. «Formula and Meter». Oral Literature and the Formula, ed.
by B.A. Stolz and R.S. Shannon, 239-260. Ann Arbor, Mich. В
переработанном виде вошла в эту книгу (глава 2).
— 1979а. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in
Archaic Greek Poetry. Baltimore.
— 1979b. «On the Origins of the Greek Hexameter». Festschrift Oswald
Szemerényi, ed. by В. Brogyanyi, 611-631. Amsterdam.
408
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1980. «Patroklos, Concepts of Afterlife, and the Indie Triple Fire».
Arethusa 13: Indo-European Roots of Classical Culture, 161-195. В
переработанном виде вошла в эту книгу (глава 4).
— 1981а. «Another Look at KLEOS APHTHITON». Würzburger
Jahrbücherfür die Altertumswissenschaft!: 113-116. В переработанном
виде вошла в эту книгу (часть главы 5).
— 1981b. «Essai sur Georges Dumézil et l'étude de l'épopée grecque».
Cahiers «Pour un temps»: Georges Dumézil, éd. by J. Bonnet et
al., 137-145. Aix-en-Provence. В переработанном виде вошла в эту
книгу (часть главы 1)
— 1982а. «Hesiod». Ancient Writers, ed. by T.J. Luce, 43-72. New
York. В переработанном виде вошла в эту книгу (часть главы 3).
— 1982b. Рецензия на Détienne 1981. Annales Economies Société
Civilisations 37: 778-780.
— 1982c. Рецензия на Burkert 1977 (немецкое издание Burkert 1985).
Classical Philology 77: 70-73.
— 1982d. Рецензия на Burkert 1980. Classical Philology 77: 159-161.
— 1983a. «Sema and Nôêsis: Some Illustrations». Arethusa 16: 35-55.
В переработанном виде вошла в эту книгу (глава 8).
— 1983b. «On the Death of Sarpedon». Approaches to Homer, ed. by
C.A. Rubino and C.W. Shelmerdine, 189-217. Austin. В
переработанном виде вошла в эту книгу (часть главы 5).
— 1983с. Рецензия на Bowie 1981. Phoenix 37: 273-275.
— 1984. «On the Range of an Idiom in Homeric Dialogue». Studies
Presented to Sterling Dow: Greek Roman and Byzantine Studies 25:
233-238. В переработанном виде вошла в эту книгу (глава 13).
— 1985а. «Theognis and Megara: A Poet's Vision of His City». См.
Figueira, Nagy 1985: 22-81.
— 1985b. «On the Symbolism of Apportioning Meat in Archaic Greek
Elegiac Poetry». L'Uomo 9: 45-52. В переработанном виде вошла
в эту книгу (глава 11).
— 1986а. «Pindar's Olympian 1 and the Aetiology of the Olympic
Games». Transactions of the American Philological Association 116:
71-88.
— 1986b. «Ancient Greek Praise and Epic Poetry». Oral Tradition
in Literature: Interpretation in Context, ed. by J. Foley, 89-102.
Columbia, Mo.
— 1986c. «Sovereignty, Boiling Cauldrons, and Chariot-Racing in
Pindar's Olympian 1». Cosmos 2: 143-147.
— 1986d. «Poetic Visions of Immortality for the Него». См. Bloom
1986: 205-212.
— 1986e. «The Worst of the Achaeans». См. Bloom 1986: 213-215.
БИБЛИОГРАФИЯ
409
— 1987а. «The Indo-European Heritage of Tribal Organization;
Evidence from the Greek Polis». Proto-Indo-European: The
Archaeology of a Linguistic Problem. Studies in Honor of Marija Gimbutas,
ed. by S.N. Skornal and E. Polome, 245-266. Washington, D.C. В
переработанном виде вошла в эту книгу (глава 12).
— 1987b. «Herodotus the Logios». Arethusa 20: 175-184, 209-210.
— 1987c. «The Sign of Protesilaos». ΜΗΤΙΣ: Revue d'anthropologie du
Monde Grec Ancien 2: 207-213.
— 1988a. «Sul simbolismo della ripartizione nella poesia elegiaca». См.
Grottanelli, Parise 1988: 203-209.
— 1988b. «Mythe et prose en Grèce archaïque: l'ainos». Métamorphoses
du mythe en Grèce ancienne, ed. C. Calame, 229-242. Genève.
— 1988c. «Homerische Epik und Pindars Preislieder: Mündlichkeit und
Aktualitätsbezug». См. Raible 1988: 51-64.
— 1988d. «Teaching the Ordeal of Reading». Harvard English
Studies 15: 163-167.
— 1989. «Early Greek Views of Poets and Poetry». Cambridge History
of Literary Criticism, ed. by G. Kennedy, 1: 1-77. Cambridge.
— 1990. Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past.
Baltimore.
Nagy, J.F. 1985. The Wisdom of the Outlaw: The Boyhood Deeds of Finn
in Gaelic Narrative Tradition. Berkeley-Los Angeles.
Nauck, Α., ed. 1889. Tragicorum Graecorum Fragmenta. Leipzig, hrsg.
von B. Snell et al., 1971. Göttingen.
Newton, R.M. 1984. «The Rebirth of Odysseus». Greek Roman and
Byzantine Studies 25: 5-20.
Nilsson, M.P. 1906. Griechische Feste. Leipzig.
— 1951. «The Ionian Phylae». Appendix 1 in Cults, Myths, Oracles
and Politics in Ancient Greece. Skrifter utg. av Svenska Institutet
i Athen 1: 143-149.
— 1967, 1961. Geschichte der griechischen Religion 1/2, 3 ed./2 ed.
München.
Nussbaum, M.C. 1972. «ΨΥΧΗ in Heraclitus». Phronesis 17: ,1-16, 153-
170.
Nyberg, H.S. 1938. Die Religionen des alten Iran. Leipzig.
Oldenberg, H. 1917. Die Religion des Veda. 2 ed. Stuttgart-Berlin.
O'Neill, E.G. 1942. «The Localization of Metrical Word-Types in the
Greek Hexameter». Yale Classical Studies 8: 102-176.
Otrebski, J. 1965. Gramatyka jezyka litewskiego 2. Warsaw.
Otten, H. 1951. «Pirva - Der Gott auf dem Pferde». Jahrbuch für
Kleinasiatische Forschung 2: 62-73.
— 1958. Hethitische Totenrituale. Deutsche Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung, Publication 37. Berlin.
410
БИБЛИОГРАФИЯ
Page, D.L. 1951. Alcman: The Partheneion. Oxford.
— 1953. «Corinna». The Society for the Promotion of Hellenic Studies
Supplementary Paper 6. London.
— 1955. The Homeric Odyssey. Oxford.
— 1959. History and the Homeric Iliad. Berkeley-Los Angeles.
— ed. 1962. Poetae Melici Graeci. Oxford.
— ed. 1974. Supplementum Lyricis Graecis. Oxford.
— ed. 1975. Epigrammata Graeca. Oxford.
Palmer, L.R. 1979. «A Mycenaean "Akhilleid"?» Serta Philologica Aeni-
pontanaZ, ed. R. Muth and G. Pfohl, 255-261. Innsbrucker Beiträge
zur Kulturwissenschaft 20.
— 1980. The Greek Language. Atlantic Highlands, N.J.
Parke, H.W., Wormell, D.E.W. 1956. The Delphic Oracle. 2 vols. Oxford.
Parry, M. 1928a. L'epithète traditionnelle dans Homère. Paris.
— 1928b. Les formules et la métrique d'Homère. Paris.
— 1930. «Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making. 1. Homer
and Homeric Style». Harvard Studies in Classical Philology 41: 73-
147.
— 1971. The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman
Parry, ed. by A. Parry. Oxford.
Pedersen, H. 1931. The Discovery of Language: Linguistic Science in
the Nineteenth Century, translated by J.W. Spargo. Переиздано в
1962 г. Bloomington, Ind.
Perpillou, L. 1973. Les substantifs grecs en -ΕΥΈ. Paris.
Perry, Β.Ε., ed. 1952. Aesopica. Urbana, 111.
Peters, M. 1980. Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen
Laryngale im Griechischen. Wien.
Pfeiffer, R., ed. 1949/1953. Callimachus. 1/2. Oxford.
— 1968. History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the
End of the Hellenistic Age. Oxford.
Pfister, F. 1909/1912. Der Reliquienkult im Altertum. 1/2. Giessen.
PMG - См. Page 1962.
Porter, H.N. 1951. «The Early Greek Hexameter». Yale Classical
Studies 12: 3-63.
Pötscher, W. 1961. «Hera und Heros». Rheinisches Museum 104: 302-355.
Poultney, J., ed. 1959. The Bronze Tables of Iguvium. American
Philological Association Monographs 18. Baltimore.
Pucci, P. 1987. Odysseus Polytropos: Intertextual Readings in the Odyssey
and the Iliad. Ithaca, Ν.Y., London.
Puhvel, J. 1974. «Indo-European Structure of the Baltic Pantheon».
Myth in Indo-European Antiquity, ed. by G.J. Larson et al., 75-85.
Berkeley-Los Angeles. Переиздано в Puhvel 1981: 225-235.
БИБЛИОГРАФИЯ
411
— 1975. «Remus et Frater». History of Religions 15: 146-157.
Переиздано в Puhvel 1981: 300-311.
— 1981. Analecta Indoeuropaea, Innsbrucker Beiträge zur
Sprachwissenschaft 35. Innsbruck.
PW - См. Parke, Wormell 1956.
Radin, P. 1956. With commentaries by Kerényi, К., and Jung, CG.
The Trickster: A Study in American Indian Mythology. London.
Переиздано в 1972 г.
RadlofF, W. 1885. Proben der Volksliteratur der nördlichen türkishen
Stämme. 5: Der Dialekt der Kara-Kirgisen. St. Petersburg.
Raible, W., ed. 1988. Zwischen Festtag und Alltag: Zehn Beiträge zum
Thema Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Tübingen.
Rau, W. 1957. Staat und Gesellschaft im alten Indien. Wiesbaden.
Redfield, J.M, 1975. Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of
Hector. Chicago.
Reichelt, H. 1913. «Der steinerne Himmel». Indogermanische
Forschungen 32: 23-57.
— 1914. «Studien zur lateinischen Laut- und Wortgeschichte».
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforchung 46: 313-316.
Renner, T. 1978. «A Papyrus Dictionary of Metamorphoses». Harvard
Studies in Classical Philology 82: 277-293.
Renou, L. 1937. «Infinitifs et derives nominaux dans le Rigveda». Bulletin
de la Société de Linguistique de Paris 39: 69-87.
— 1952. Grammaire de la langue védique. Lyon.
REW — Cm. Vasmer 1953-1958, Фасмер 1996.
Rhodes, P.J. 1981. A Commentary of the Aristotelian ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Oxford.
Richardson, N.J., ed., with commentary. 1974. The Homeric Hymn to
Demeter. Oxford.
Richter, G. 1950. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. New Haven.
Risch, E. 1954. «Die Sprache Alkmans». Museum Helveticum 11: 20-37.
Переиздано в Risch 1981: 314-331.
— 1966. «Les différences dialectales dans le mycénien». Proceedings of
the Cambridge Colloquium on Mycenaean Studies, ed. by L.R. Palmer
and J. Chadwick, 150-157. Cambridge. Переиздано в Risch 1981:
451-458.
— 1974. Wortbildung der homerischen Sprache. 2 ed. Berlin.
— 1976. «II miceneo nella storia della lingua greca». Quaderni Urbinati
di Cultura Classica 23: 7-28. Переиздано в Risch 1981: 527-548.
— 1979. «Die griechischen Dialekte im 2. vor christlichen Jahrtausend».
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 20: 9 1-111. Переиздано в Risch
1981: 269-289.
— 1981. Kleine Schriften, hrsg. von A. Etter und M. Looser. Berlin.
412
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1987. «Die ältesten Zeugnisse für κλέος αφθιτοι/». Zeitschrift für
Vergleichende Sprachforschung 100: 3-11.
Robert, C. 1883. «Die Phaethonsage bei Hesiod». Hermes 18: 434-441.
— 1885. «Athena Skiras und die Skirophorien». Hermes 20: 349-379.
Robertson, N. 1980. «The Dorian Migration and Corinthian Ritual».
Classical Philology 75: 1-22.
Rohde, Ε. 1898. Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der
Griechen. 2 Bd. Freiburg. Translated 1925 by W.B. Hillis. New York.
Rönnow, L.A. 1927. Trita Äptya: Eine vedische Gottheit. 1. Uppsala.
Rose, H.J. 1931. «De Actaeone Stesichoreo». Mnemosyne 59: 431-432.
Rose, V., ed. 1886. Aristoteles: Fragmenta. Leipzig.
Roth, C.P. 1976. «The Kings and the Muses in Hesiod's Theogony».
Transactions of the American Philological Association 106: 331-338.
Roussel, D. 1976. «Tribu et cité». Annales Littéraires de l'Université
de Besancon 193. Paris.
Rudhardt, J. 1970. «Les mythes grecs relatifs à l'instauration du
sacrifice». Museum Helveticum 27: 1-15.
Russo, J.A. 1966. «The Structural Formula in Homeric Verse». Yale
Classical Studies 20: 217-240.
Rüsten, J. 1982. Dionysius Scytobrachion. Papyrologica Coloniensia 10.
Opladen.
Sacconi, A. 1960. «II mito nel mondo miceneo». La Parola del Passato
15: 161-187.
Sacks, R. 1974. «Studies in Indo-European and Common Germanic
Poetic Diction: On the Origins of Old English Verse». A.B.
dissertation, Harvard University.
Said, E.W. 1978. Orientalism. New York.
Said, S. 1979. «Les crimes des prétendants, la maison d'Ulysse et les
festins de l'Odyssée». Etudes de Littérature Ancienne (Presses de
l'Ecole Normale Supérieure), 9-49. Paris.
Sapir, E. 1929. «The Status of Linguistics as a Science». Language 5:
207-214.
Saussure, F. de. 1916. Cours de linguistique générale. Новое критическое
издание 1972, ed. T. de Mauro. Paris. См. Соссюр 1977.
Schadewaldt, W. 1965. Von Homers Welt und Werk. 4 ed. Stuttgart.
Schein, S.L. 1984. The Mortal Hero: An Introduction to Homer's Iliad.
Berkeley-Los Angeles.
Scheinberg, S. 1979. «The Bee Maidens of the Homeric Hymn to Hermes».
Harvard Studies in Classical Philology 83: 1-28.
Scherer, A. 1953. Gestirnnamen bei den indogermanischen Völkern.
Heidelberg.
Schier ath, B. 1968. «Altindisch asu-, A westisch ahu- und ähnlich
klingende Wörter». Pratidänam: Indian, Iranian and Indo-European
БИБЛИОГРАФИЯ
413
Studies presented to F.B.J. Kuiper, ed. J.C. Heesterman,
G.H. Schokker, V. 1. Subramoniam, 142-153. The Hague and Paris.
Schmeja, H. 1963. «Die Verwandtschaftsnamen auf -ως und die
Nomina auf -ωνός, ώι/η im Griechischen». Indogermanische
Forschungen 68: 22-41.
Schmid, B. 1947. Studien zu griechischen Ktisissagen. Freiburg.
Schmitt, R. 1967. Dichtung und Dichter spräche in indogermanischer Zeit.
Wiesbaden.
— ed. 1968. Indogermanische Dichter spräche. Darmstadt.
— 1974. «Nektar und Keine Ende». Antiquitates Indogermanicae: Ge-
denkschrift für Hermann Güntert, hrsg. von M. Mayrhofer, W. Meid,
B. Schlerath, R. Schmitt, 155-163. Innsbruck.
Schnaufer, A. 1970. Frühgriechische Totenglaube: Untersuchungen zum
Totenglauben der mykenischen und homerischen Zeit. Spudasmata
20. Hildesheim.
Schulze, W. 1918. «Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte».
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 320-332,
481-511, 769-791. Переиздано в Schulze 1966: 148-210.
— 1927. «Zufall?» Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 54:
306. Переиздано в Schulze 1966: 215-216.
— 1929. Bemerkung in Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 56:
287. Переиздано в Schulze 1966: 361.
— 1966. Kleine Schriften. Göttingen.
Schwartz, M. 1982. «The Indo-European Vocabulary of Exchange,
Hospitality, and Intimacy». Proceedings of the Berkeley Linguistics
Society 8: 188-204.
Schwenck, K. 1859. «άπό δρυός, άπό πέτρης» Philologus 14: 391-395.
Schwyzer, Ε., ed. 1923. Dialectorum Graecarum exempla epigraphica po-
tiora. Leipzig. Переиздано, Hildesheim 1960.
— 1939. Griechische Grammatik 1. München.
Scodel, R. 1980. «Hesiod Redivivus». Greek Roman and Byzantine
Studies 21: 301-320.
Searle, J.R. 1979. Speech-Acts: An Essay in the Philosophy of Language.
Cambridge.
Segal, C.P. 1962. «The Phaeacians and the Symbolism of Odysseus'
Return». Arion 1: 17-64.
— 1983. «Kleos and Its Ironies in the Odyssey». L'Antiquité Classique
52: 22-47.
Sergent, В. 1976. «La réprésentation Spartiate de la royauté». Revue de
l'Histoire des Religions 189: 3-52.
— 1977/1978. «Le partage du Péloponnèse entre les Héraclides». Revue
de l'Histoire des Religions 190/191: 121-136/3-25.
414
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1979. «Les trois fonctions des Indo-Européens dans la Grèce
ancienne: Bilan critique». Annales Economies Société Civilisations 34:
1155-1186.
Shannon, R.S. 1975. The Arms of Achilles and Homeric Compositional
Technique. Leiden.
SIG - Cm. Dittenberger 1915-1924.
Sinclair, T.A., ed. 1932. Hesiod, Works and Days. London.
Sinos, D.S. 1980. Achilles, Patroklos, and the Meaning of Philos.
Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 29. Innsbruck.
Slatkin, L.M. 1986. «The Wrath of Thetis». Transactions of the American
Philological Association 116: 1-24.
SLG - Cm. Page 1974.
SM - Cm. Snell and Maehler 1971, 1975.
Smits, P. 1940. Latviesu tautas ticjëiumi, sacrâjis un sakärtojis Prof.
P. Smits. Riga.
Snell, В., Maehler, H., eds. 1971. Bacchylides. Leipzig.
— eds. 1975. Pindarus: Fragmenta. Leipzig.
Snodgrass, A.M. 1971. The Dark Age of Greece: An Archaeological Survey
of the Eleventh to the Eighth Centuries. Edinburgh.
— 1980. Archaic Greece: The Age of Experiment. Berkeley-Los Angeles.
— 1982. «Les origines du culte des héros dans la Grèce antique». La
mort, les morts dans les société anciennes, ed. G. Gnoli, J.-P. Ver-
nant, 107-119. Cambridge-Paris.
— 1987. An Archaeology of Greece: The Present State and Future Scope
of a Discipline. Berkeley-Los Angeles.
Sokolowski, E, ed. 1962. Lois sacrés des cités grecques. Supplément. Paris.
Solmsen, F. 1901. Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre.
Strassburg.
Sommer, F. 1914. Kritische Erläuterungen zur lateinischen Laut- und
Formenlehre. Heidelberg.
Sommerstein, A.H., ed.. 1980. Aristophanes, Acharnians. Warminster,
Wiltshire.
Specht, F. 1932. «Die Flexion der τι-Stämme im Baltisch-Slavischen und
Verwandtes». Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 59: 213-
304.
— 1944. «Zur idg. Sprache und Kultur. II». Zeitschrift für Vergleichende
Sprachforschung 68: 191-200.
Stähler, K.P. 1967. Grab und Psyche des Patroklos: Ein schwarzfiguriges
Vasenbild. Münster.
Stang, C.S. 1966. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen.
Oslo.
Stolz, B.A., Shannon, R.S., eds. 1976. Oral Literature and the
Formula. Ann Arbor, Mich.
БИБЛИОГРАФИЯ
415
Stroud, R.S. 1968. «Tribal Boundary Markers from Corinth». California
Studies in Classical Antiquity 1: 233-242.
Sulzberger, M. 1926. «ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝυΜΟΝ. Les noms propres chez
Homère». Revue des Etudes Grecques 39: 381-447.
Svenbro, J. 1976. La parole et le marbre: Aux origines de la poétique
grecque. Lund. Переиздано с исправлениями и дополнениями на
итальянском языке в 1984 г., Torino.
— 1982. «A Mégara Hyblaea: le corps géomètre». Annales Economies
Sociétés Civilisations 37: 953-964.
— 1984. «La découpe du poème: Notes sur les origines sacrificielles de
la poétique grecque». Poétique 58: 215-232.
— 1987. «The "Voice" of Letters in Ancient Greece. On silent
reading and the representation of speech». Culture and History, ed. by
M. Harbsmeier and M.T. Larsen, 2: 31-47. Copenhagen.
— 1988a. Phrasikleia: anthropologie de la lecture en Grèce ancienne.
Paris.
— 1988b. Il taglio délia poesia. Note sulle origini sacrificali délia poetica
greca. Cm. Grottanelli, Parise 1988: 231-252.
Szanto, E. 1901. «Die griechischen Phylen». Sitzungsberichte der kais.
Akademie der Wissenschaften in Wien, phil-hist. Klasse 145 (nr. 5)
1-74, переиздано в 1906 г. в Ausgewählte Abhandlungen, 216-288.
Tübingen.
Szegedy-Mamak, A. 1978. «Legends of the Greek Lawgivers». Greek
Roman ana Byzantine Studies 19: 199-209.
Szemerényi, О. 1978. «Studies in the Kinship Terminology of the Indo-
European Languages, with special reference to Indian, Iranian, Greek,
and Latin». Acta Iranica 16: 1-240.
Tambiah, S.J. 1973. «From Varna to Caste through Mixed Unions». The
Character of Kinship, ed. by J. Goody, 191-229. Cambridge.
Tarditi, G., ed. 1968. Archilochus. Roma.
Täubler, E. 1930. Die umbrisch-sabellischen und die römischen Tribus.
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse, 1929/30. Heidelberg.
TGF - См. Nauck 1889.
Thiel, H. van, ed. 1974. Leben und Taten Alexanders von Makedonien: Der
griechische Alexanderroman nach der Handschrift L. Darmstadt.
Thieme, P. 1952. Nektar/Ambrosia/Hades: Studien zur
indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte. Berichte über die
Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig,
Philologisch-historische Klasse. Berlin. Переиздано в Schmitt 1968:
102-153.
Thurneysen, R. 1907. Рецензия на Α. Walde, Lateinisches etymologisches
Wörterbuch (Heidelberg 1906). Göttingische Gelehrte Anzeigen, 800.
416
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1912-1913. «Zur Wortschöpfung im Lateinischen». Indogermanische
Forschungen 31: 276-281.
Tischler, J. 1983. Hethitisches etymologisches Glossar 1. Innsbrucker
Beiträge zur Sprachwissenschaft 20. Innsbruck.
Trautmann, R. 1906. «Etymologische Miscellen». Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur 32: 150-152.
V. См. Voigt 1971.
Vadé, Y. 1977. «Sur la maternité du chêne et de la pierre». Revue de
l'Histoire des Religions 191: 3-41.
Vaillant, Α. 1948. «Le suffixe -ynji». Revue des Etudes Slaves 24: 181-184.
Van Brock, N. 1959. «Substitution rituelle». Revue Hittite et Asianique
65: 117-146.
Vasmer, M. 1953-1958. Russisches etymologisches Wörterbuch 1-3.
Heidelberg. См. Фасмер 1996.
Vendryes, J. 1927. «Sur un nom ancien de l'arbre». Revue Celtique 44:
313-319.
Vermeule, E.D.T. 1965. «The Vengeance of Achilles: The Dragging of
Hektor at Troy». Bulletin of the Museum of Fine Arts. Boston 63:
34-52.
— 1979. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley and
Los Angeles.
Vernant, J.-P. 1960. «Le mythe hésiodique des races: Essai d'analyse
structurale». Revue de l'Histoire des Religions 157: 21-54. В
переработанном виде издано в Vernant 1985: 19-47.
— 1962. «La catégorie psychologique du double. Figuration de l'invisible
et catégorie psychologique du double: le colossos». Доклад на
конференции «Le signe et les systèmes de signes» (Royaumont). В
переработанном виде издано в Vernant 1985: 325-338.
— 1963. «Hestia-Hermias: Sur expression religieuse de l'espace et du
mouvement chez les Grecs». L'Homme 3: 12-50. В переработанном
виде издано в Vernant 1985: 155-201.
— 1966. «Le mythe hésiodique des races: Sur un essai de mise au point».
Revue de Philologie 40: 247-276. В переработанном виде издано
в Vernant 1985: 48-85.
— 1969. Les origines de la pensée grecque. Paris. См. Верная 1988.
— 1974. Mythe et société en Grèce ancienne^ Paris.
— 1982. «From Oedipus to Periander: Lameness, Tyranny, Incest in
Legend and History». Arethusa 15: 19-38.
— 1982-1983. «Étude comparée des religions antiques». Annuaires du
Collège de France, Résumé des cours et travaux 83: 443-456.
— 1985. Mythe et pensée chez les Grecs. 2 éd. Paris.
Vetter, Ε. 1953. Handbuch der italischen Dialekte 1. Heidelberg.
БИБЛИОГРАФИЯ
417
Vian, F. 1960. «La triade des rois d'Orchomène: Eteoclès, Phlégyas,
Minyas». Hommage à Georges D и m éziî (Collection Latomus 45), 215-
224. Bruxelles.
— 1963. Les origines de Thèbes: Cadrnos et les Spartes. Paris.
— 1970. Рецензия на Dumézil 1968. Gnomon 42: 53-58.
Vidal-Naquet, P. 1981. Le chasseur noir. Paris.
— 1986. «The Black Hunter Revisited». Proceedings of the Cambridge
Philological Society 212: 126-144.
Vieyra, M. 1965. «Ciel et enfer hittites». Revue d'Assyriologie 59: 127-
130.
Vine, В. 1977. «On the Heptasyllabic Verses of the Rig-Veda». Zeitschrift
für Vergleichende Sprachforschung 91: 246-255.
— 1978. «On the Metrics and Origin of Rig-Vedic ηά "like, as"». Indo-
Iranian Journal 20: 171-193.
— 1982. «Indo-European Verbal Formations in *-d-». Doctoral
dissertation, Harvard University.
— 1986. «An Umbrian-Latin Correspondence». Harvard Studies in
Classical Philology 90: 111-127.
Voigt, E.-M., ed. 1971. Sappho et Alcaeus: Fragmenta. Amsterdam.
W - Cm. West 1971/1972.
Wackernagel, J. 1953. Kleine Schriften. 2 Bd. Göttingen. 1953.
Wackernagel, J., Debrunner, A. 1930. Altindische Grammatik. 3:
Nominalflexton-Zahlwort-Pronomen. Göttingen.
— 1954. Altindische Grammatik 2 (2): Die Nominalsuffixe. Göttingen.
Wagler, P. 1891. Die Eiche in alter und neuer Zeit. Eine
mythologischkulturhistorische Studie 1/2. Würzen/Berlin.
Walcot, P. 1966. Hesiod and the Near East. Cardiff.
Wallace, P.W. 1974. «Hesiod and the Valley of the Muses». Greek Roman
and Byzantine Studies 15: 5-24.
Ward, D. 1968. The Divine Twins: An Indo-European Myth in
Germanic Tradition. University of California Publications, Folklore Studies
19. Berkeley-Los Angeles.
Warden, J. 1971. «ΨΥΧΗ in Homeric Death-Descriptions». Phoenix 25:
95-103.
Watkins, C. 1963. «Indo-European Metrics and Archaic Greek Verse».
Celtica 6: 194-249.
— 1966. «Italo-Celtic Revisited». Ancient Indo-European Dialects, ed.
H. Birnbaum and J. Puhvel, 29-50. Berkeley-Los Angeles.
— 1969. «The Indo-European Origin of English». The American
Heritage Dictionary of the English Language, xix-xx. New York.
— 1970. «Studies in Indo-European Legal Language, Institutions, and
Mythology». Indo-European and Indo-Europeans, ed. by G. Cardona,
H.M. Hoenigswald, and A. Senn, 321-354. Philadelphia.
418
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1971. «Hittite and Indo-European Studies: The Denominative Sta-
tives in -e->>. Transactions of the Philological Society 1971: 51-93.
— 1972. «An Indo-European Word for "Dream"». Studies for Einar
Haugen, ed. by E.S. Firchow, K. Grimstad, N. Hasselmo, W. O'Neil,
554-561. The Hague.
— 1973a. «Etyma Enniana: (1: uegeö, 2: ceu)». Harvard Studies in
Classical Philology 55: 195-206.
— 1973b. «Language and its History». Daedalus 102.3: 99-114.
— 1974. «God». Antiquitates Indogermanicae: Gedenkschrift für
Hermann Güntert, hrsg. M. Mayrhofer, W. Meid, В. Schlerath,
R. Schmitt, 101-110. Innsbruck.
— 1976. «Observations on the "Nestor's Cup" Inscription». Harvard
Studies in Classical Philology 80: 25-40.
— 1976b. «Syntax and Metrics in the Dipylon Vase Inscription». Studies
in Greek, Italic, and Indo-European Linguistics offered to Leonard
M. Palmer, ed. A. Morpurgo Davies, W. Meid, 431-441. Innsbruck.
— 1976c. «The Etymology of Irish duan.» Celtica 11: 270-277.
— 1978a. «ΑΝΟΣΤΕΟΣ ON ΠΟΔΑ ΤΕΝΔΕΙ». Etrennes de septan-
taine: Mélanges Michel Lejeune, 231-235. Paris.
— 1978b. «Remarques sur la méthode de Ferdinand de Saussure com-
paratiste». Cahiers Ferdinand de Saussure 32: 59-69.
— 1979. «Is tre fir flathemon: Marginalia to Audacht Morainn». Eriu
30: 181-198.
— 1982a. «Aspects of Indo-European Poetics». The Indo-Europeans in
the Fourth and Third Millenniums, ed. by E. Polomé, 104-120. Lin-
guistica Extranea, Studia 14. Arm Arbor, Mich.
— 1982b. «Notes on the Plural Formations of the Hittite Neuters».
Investigationes Philologicae Comparativae: Festschrift H. Kronasser,
ed. E. Neu, 250-262. Wiesbaden.
— ed. 1985a. The American Heritage Dictionary of Indo-European
Roots. Boston.
— 1985b. «Greek menoinâai. A Dead Metaphor». International Journal
of American Linguistics 51: 614-618.
— 1986. «The Name of Meleager». o-o-pe-ro-si: Festschrift für Ernst
Risch zum 75. Geburtstag, hrsg. von A. Etter, 320-328. Berlin.
— 1987. «How to Kill a Dragon in Indo-European». Studies in Memory
of Warren Cowgill (1929-1985), ed. by C. Watkins, 270-299. Berlin.
— 1989. «The Comparison of Formulaic Sequences». Proceedings of the
IREX Conference on Historical Linguistics, Austin, October 1986,
ed. E. Polome. Amsterdam.
— 1990. «Latin tarentum, the ludi saeculares, and Indo-European Es-
chatology». Proceedings of the IREX Conference on Indo-European
Linguistics, USSR Academy of Sciences, June 1988, ed. E. Polome.
Amsterdam.
БИБЛИОГРАФИЯ
419
Watt, W.M. 1962. «The Tribal Basis of the Islamic State». Accademia
Nazionale dei Lincei 359, Quaderno n. 54, Problemi Attuali di Scien-
za e di Cultura, Atti del Convegno Internazionale sul Tema: Dalla
Tribut alio Stato, 153-160.
Waugh, L.R. 1982. «Marked and Unmarked: A Choice between Unequals
in Semiotic Structure». Semiotica 38: 299-318.
Weber, M. 1956. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden
Soziologie. 4 ed. von J. Winckelmann. Tübingen.
Wehrli, R, ed. 1944. Die Schule des Aristoteles. Basel.
West, M. L. 1961. «Hesiodea III». Classical Quarterly 11: 142-145.
— ed. 1966. Hesiod: Theogony. Oxford.
— ed. 1971/1972. Iambi et Elegi Graeci. Oxford.
— 1973a. «Greek Poetry 2000-700 B.C.». Classical Quarterly 23: 179-
192.
— 1973b. «Indo-European Metre». Glotta 51: 161-187.
— 1974. Studies in Greek Elegy and Iambus. Berlin.
— ed. 1978. Hesiod: Works and Days. Oxford.
— 1982a. Greek Metre. Oxford.
— 1982b. «Three Topics in Greek Metre». Classical Quarterly 32: 281-
297.
— 1985. The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Structure, and
Origins. Oxford.
Westermann, Α., ed. 1843. ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ: Scriptores Poeticae Histo-
riae Graeci. Braunschweig.
Whallon, W. 1961. «The Homeric Epithets». Yale Classical Studies 17:
97-142.
Whitley, J. 1988. «Early States and Hero-Cults: A Re-Appraisal». Journal
of Hellenic Studies 108: 173-182.
Whitman, C.H. 1958. Homer and the Heroic Tradition. Cambridge, Mass.
— 1970. «Hera's Anvils». Harvard Studies in Classical Philology 74:
37-42.
Whitney, W.D. 1896. A Sanskrit Grammar. 3 ed. Leipzig.
Wickersham, J.M. 1986. «The Corpse Who Calls Theognis». Transactions
of the American Philological Association 116: 65-70.
Wikander, S. 1938. Der arische Männerbund: Studien zur indo-iranischen
Sprach- und Religionsgeschichte. Lund.
— 1950. «Sur le fonds commun indo-iranien des épopées de la Perse et
de l'Inde». La Nouvelle Clio 1/2: 310-329.
— 1957. «Nakula et Sahadeva». Orientalia Suecana 6: 66-96.
Wilamowitz-Moellendorff, U. von. 1897. «Der Chor der Hagesichora».
Hermes 32: 251-263. Переиздано в 1935 г. в Kleine Schriften 1:
209-220. Berlin.
— 1900. Textgeschichte der griechischen Lyriker. Berlin.
420
БИБЛИОГРАФИЯ
— 1913. Sappho und Simonides, Untersuchungen über griechische
Lyriker. Berlin.
— ed. 1916. Vitae Homeri et Hesiodi. Berlin.
— 1921. Griechische Verskunst. Berlin.
Wissowa, G. 1912. Religion und Kultus der Römer. 2 ed. München.
Witzel, M. 1984. «Sur le chemin du ciel». Bulletin d'Etudes Indiennes
2: 213-279.
Wolf, C.U. 1946а. «Terminology of Israel's Tribal Organization». Journal
of Biblical Literature 65: 45-49.
— 1946b. «Some Remarks on the Tribes and Clans of Israel». Jewish
Quarterly Review 36: 287-295.
Wörrle, M. 1964. Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte von Argos
im 5. Jahrhundert. Erlangen.
Yalman, N. 1960. «The Flexibility of Caste Principles in a Kandyan
Community». Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West
Pakistan, ed. by E.R. Leach, 78-112. Cambridge.
Zuntz, G. 1971. Persephone: Three Essays on Religion and Thought in
Magna Graecia. Oxford.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авл Геллий 208
Авлида 110, 111
Автократ 353
Агамемнон 49, 80, 110, 178, 190,
376, 386, 387, 389
Агесихора 293, 306
Агни 137, 138, 140-144, 148-154,
158-161, 194-196, 199, 200, 208,
228
Адонис 19, 300, 307, 332, 336, 340,
341
Аид 120, 124-128, 280, 288, 295-297,
332
Акгеон 342-344
Акусилай 78
Александр - см. Парис
Алет 357, 373
Алкей 340
Алкиной 69, 70, 271
Алкман 19, 82, 254, 293, 294, 298,
306, 335, 352
Алфей 311
Амфидамант 110
Амфидромии 191
Амфитрион 344
Анакреонт 299, 302, 305
Ангирасы 134, 201
Антилох 275-277, 283, 285-287, 289
Ангиной 272, 273, 350, 385
Анхиз 316, 317, 324
Апам Напат 137-140, 159
Аполлодор 303, 304, 306, 335, 341,
350, 366, 367
Аполлон 29, 30, 72, 77, 79, 81, 82,
84-89, 99, 107, 108, 126, 174,
175, 188, 270, 272, 292, 298, 300,
306, 332, 361, 381, 385, 388
Аполлоний Родосский 105, 189, 305
Аргос 300, 367, 370
Арджуна 33
Apec 73
Аристарх 302
Аристотель 76, 191, 192, 268, 343,
349, 357, 370-373, 375, 376, 378
Аристофан 191, 201, 202, 302, 303,
353
Аркадия 258, 282
Арктин Милетский 112
Артемида 85, 107, 110, 318, 325,
327, 328, 330, 342-344, 352, 353
Артемисия 300
Архилох 62, 75-79
Аеклениад 116
Асклепий 62
Аскра 75, 79, 80, 104-106
Астерия 108
Ата 326
Атар 138
Атиедии 192, 218-222, 224
Аттика 303, 304
Афина 30, 36, 85, 153, 154, 270, 282,
326, 327, 331, 367, 369, 381, 382,
385, 386
Афиней 77, 105, 300, 339, 340, 347,
374, 376
Афины 62, 191, 352, 357, 365, 367,
370-376
Афродита 17, 19, 36, 50, 72, 81, 115,
191, 300, 307, 316-318, 320, 321,
323, 324, 326-329, 331, 332,
336-341
Ахаванийя 144-150
Ахилл 29-32, 42, 44, 48-50, 80, 94,
102, 123, 124, 157, 164-170, 174,
182, 185, 232, 265, 266, 273, 283-
285, 287, 289-291, 302, 311, 312,
319, 320, 335, 383, 384, 388, 389
422
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ахура 132, 138, 160, 161
Ашвины 29, 33, 129, 130, 153, 287,
325, 333, 334, 337, 364
Аякс 387
Бакхиады 379
Балий 319
Беллерофонт 273
Борей 93, 115, 128, 189
Будда 380
Бхима 33
Вайю 29, 33, 152
Вакхилид 78
Валерий Максим 214
Варроы 208, 213, 215, 237
Варуна 364
Васиштха 200
Веллей Патеркул 352
Венера 17, 335
Вергилий 205, 207, 210-216, 312
Вест 143, 145, 147, 148, 194, 196,
199, 223, 226, 237
Вивасват 141, 143-145, 150, 194, 198
Вивасваш 194
Вивахвант 143, 194
Витрувий 147
Волхов 241
Вритра 148, 251, 256, 257
Вритрахан 257
Вулкан 228
Ганимед 317, 318, 320
Гармония 355
Гарпии 188, 312, 318, 319, 328, 329,
335, 341
Гарнократион 78, 191, 290
Гархапатья 144-150, 223, 228
Гаутама - см. Будда
Геката 107-109
Гектор 42, 126, 185, 265, 269, 270,
289, 381-384, 387-389
Геликон 80, 85-87, 106
Гелиос 139, 307-309, 313-316,
322-325, 332, 333, 335, 336
Гелланик 78
Геллеспонт 289
Геосфор 336
Гера 13, 36, 85, 184, 292, 300, 306,
382
Геракл 13, 30, 31, 32, 33, 86, 113,
186, 189, 296, 312, 332, 350, 361,
363, 366, 367
Гераклид 302, 303
Гераклиды 366, 379
Гераклит 59, 292
Гермес 57, 72, 81, 83, 85, 87-89, 91,
208, 272, 273, 297
Гермиона 332, 361
Геродот 59, 61, 62, 75, 99, 177, 186,
303, 310, 311, 343, 350, 351, 354,
357, 366-371, 374, 376, 378, 379
Гесиод 18, 31, 33-35, 44, 53, 59-116,
128, 168-170, 178-181, 186, 187,
241, 254, 264, 266, 278-281, 294,
306, 307, 311, 313, 316, 317, 319,
321, 324, 328, 330-333, 337, 354, 368
Гесихий 88, 106, 187, 191, 229, 369
Геспер 336, 337
Гестим 190, 191, 194, 196, 197, 199,
226
Гефест 383
Гефестион 298
Гиар 331
Гигин 331
Гилл 366, 367
Гимен 326
Гиперион 307, 323
Главк 178, 183, 184
Гомер 5-7, 18, 25, 26, 29, 31-33,
36-38, 40-45, 47-50, 53, 54, 56-69,
71-74, 77-82, 86, 90-92, 106, 108,
110-112, 114, 119, 120, 122-124,
126-131, 154, 156, 157, 162-172,
174-185, 187-191, 200, 209, 217,
230-232, 240, 254, 259, 263-266,
268-273, 275-292, 294-297, 302,
303, 307, 309-313, 317-331, 335,
343, 350, 354, 368, 369, 376, 377,
381-389
Гомериды 77, 78
Дакшима 148-150
Дардан 300
Дахака 138
Дева 132, 135, 149, 150, 155, 159
Дейоней 301, 304, 336
Делиады 84, 86, 87
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
423
Делос 84, 86, 108
Дельфы 26, 30, 60, 75, 85, 88, 89,
99, 167, 292, 351, 355, 375
Деметра 17, 18, 177, 181, 184, 290,
366
Деметрий Скептик 374
Демофонт 182
Диагор 369
Диодор Сицилийский 30, 186, 313,
316
Диомед 387
Диона 336
Дионис 68, 71, 93, 108, 187, 303
Дионисий Гадикарнасский 228, 290
Дионисий Скитобрахион 313, 316
Диоскуры 129, 334, 335, 336, 337
Днепр 241
Долоаион 178
Домициан 213
Дор 366, 367
Дорий 379
Дракан 68
Думан 366
Дхарма 29, 33
Дьяус 132, 153, 323, 327, 333, 334
Еврипид 86, 187, 294, 299, 302,
306-309, 311, 312, 314, 317, 324,
326, 331, 343, 357
Елена 36, 269, 326, 335
Енисейские поля 170, 187, 252
Заратуштра 232
Зевс 30, 34, 76, 80, 84-90, 93-98,
105-110, 114, 132, 154, 156,175,
178, 180, 184, 186, 187, 254, 258,
259, 266, 269, 270, 272, 278, 279,
291, 292, 300, 303, 306, 308, 317,
320, 322-324, 326, 327, 331, 334,
336, 344, 362, 370, 382, 384, 385,
387
Зефир 312, 319
Ивик 336
Игувий 192, 206, 211, 218-221,
223, 224, 238, 359
Ил 289
Индра 29, 33, 133, 148, 149, 251,
255-258, 261
Ино 169
Ион, прародитель ионийцев 357, 365
Ион, рапсод 62
Ион Хиосский 309, 312
Ир 385
Исократ 78, 361
Итака 288
Ифигения 110
Ификл 336
Иштар 17, 336
Йима 143, 194
К а дм 355
Калипсо 317, 331
Каллимах 69, 78, 87, 108, 300
Каллисфен 352
Калхас 269
Каааней 187
Капитолий 213
Катон Старший 212, 213, 215, 237
Катулл 337, 338
Квирин 364
Кекроп 372
Кербер 332
Керкира 373
Кефал 301, 302, 304, 316, 317, 320,
324, 332, 335, 336
Кефалления 298
Киев 241
Кима 104-106
Кипр 72
Кирка (Цирцея) 57, 310
Кирн 100, 102-104
Кифера 72
Клеарх 62, 77
Клеомен 367, 379
Климена 307, 314, 331, 332, 335, 336
Климент Александрийский 112
Клисфен 370-373, 375
Клит 317, 320, 324, 327, 329, 330
Клитемнестра 190, 191, 229
Кой 108
Колон 303, 304, 306
Колофон 104, 105, 374
Коринф 357, 373
Кос 361-363, 366, 375
Кратет Пергамский 81
Кратин 300
Крит 351, 354
424
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Крон 369
Ксанф, конь 156, 319
Ксанф, река в Ликии 178, 183
Ксанф, река в Трое 311
Ксенофан 59, 105
Лавиния 210
Ламп 324-326
Ламисак 302
Лары 227, 228
Лаэрт 269
Левкада 293-295, 297-302, 304-306,
335, 336, 341
Левкиппиды 335
Левкотея 169
Леонид 367
Леотихид 367
Лесбос 338, 341
Лесх Митиленский 112
Лет 306, 353
Лето (Латона) 108
Либер 215
Ливии, Тит 206, 219, 274, 275, 359
Лидия 352
Ликия 176-178, 183, 184, 188, 273
Ликомед 302, 303
Ликофрон 188, 304
Ликург, законодатель 99, 351, 354,
375
Ликург, оратор 351
Ликург, противник Диониса 303
Лисандр 337
Лукреции 210
Магнесия 306
Мантинея 258
Ману 101, 150, 151, 199, 378
Марк Аврелий 213
Маруты 364
Матаришван 141, 142, 144, 145, 150,
208, 223
Меандрий 350, 351
Мегара 78, 99, 105, 353, 361
Меламп 295, 329
Меланфий 388
Меликерт 76, 303
Мемнон 174, 175, 316
Менандр 298, 299, 301, 337
Менелай 276, 285, 327, 386
Ментес 154
Мерой 307, 308, 314
Мессения 347, 367, 379
Метида 98
Микены 190, 191, 229
Милет 371, 377
Минерва 213
Митра 143, 364
Мнемосина 70, 87, 88
Молурида 303
Мнесиеп 75, 77
Музы 47, 48, 70-73, 75, 79, 80, 83-87,
89, 90, 93, 94, 98, 106, 107,
110, 264, 326
Мурсилис II 225
Наксос 68
Накула 33
Насатьи - см. Ашвины
Неоптолем - см. Пирр
Нереиды 339
Нестор 275-277, 283-289, 291,
295, 296, 302, 386, 389
Ниса 68, 71, 108
Новгород 241
Нонн 355
Овидий 205, 206, 214, 314, 342, 360
Одиссей 30-32, 42-44, 56, 57, 69, 128,
130, 170, 240, 263, 268-273, 275,
280-283, 287, 291, 294, 296, 310,
317, 318, 327, 354, 384-388
Океан 86, 136, 138, 140, 188, 294,
308-313, 315, 318-321, 328-330,
334, 335, 337, 341
Олимп 72, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 102,
180, 186, 305
Онетор 178
Орион 73, 318-320, 324, 327-330
Орифия 189
Орхомен 76
От 106
Павел Диакон 145, 206, 208,
210, 223, 237
Павсаний 71, 89, 106, 110, 139, 190,
282, 283, 290, 296, 302, 303, 305,
306, 331, 332, 335, 342, 361, 379
Памфил 366
Панафинеи 290
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
425
Пандавы 29, 33, 34
Пандарей 318, 319, 328
Пандора 95, 114
Парвата 257
Парджанья 245, 246, 255
Парис 34-36, 327
Пармеыид 187
Парнас 88
Парос 75
Патрокл 6, 119, 120, 123, 124, 128,
130, 131, 152, 156, 157, 162,
171-175, 184, 275, 283-285,
287, 289, 290
Пейрифой 306
Пелопоннес 366, 367
Пелопс 183
Пенаты 211
Пенелопа 69, 137, 240, 263, 269,
271, 294, 318, 320, 327, 328, 385
Перкота 263
Перкунас (Перконс) 242-244, 246,
248, 254, 260, 266
Перс 94-97, 99, 102-104, 106, 107,
108, 109, 110
Персефона 128, 280, 326, 327
Перун 241-244, 246, 248, 256, 260,
266
Петроний 207, 344
Пидос 295, 296, 369
Пиндар 29, 30, 77, 102, 108, 169,
186, 288, 289, 305, 310, 334,
355, 367, 369, 378, 379
Пирр 29, 30, 183
Писистратиды 373, 374
Плат 207, 215, 216, 237, 344
Платон, комедиограф 76
Платон, философ 40, 62, 77, 78,
191, 262, 337, 351, 370
Плиний Старший 206, 207, 214,
228, 237, 311, 312, 344
Плутарх 76, 228, 262, 302, 303,
337, 352, 371, 374, 375, 378
Подарга 312, 319, 320, 335
Полемон 187
Полидамас 269
Поликрат 350
Политик 379
Поллукс 258
Посейдон 30, 49, 50, 85, 106, 282,
304, 305, 387
Праджапати 138
Пренесте 228
Прет 273
Приам 49, 50, 272, 273, 384, 389
Прокл 35, 76, 116
Прометей 95, 114
Протесилай 186
Птолемей Хенн 300, 301, 306, 336,
341
Пушан 135-137, 139, 152, 153, 158,
333
Рем 228
Рим 359, 360, 373
Родос 359, 368, 369, 373
Ромул 228, 359
Савитар 120, 130-139, 152, 153, 155,
158, 159
Савитри 122, 155
Саллюстий 219
Самос 350, 371
Самудра 136
Сарпедон 6, 163, 164, 170-172,
174-176, 178, 179, 181-184, 186,
188, 189
Сафо 17, 19, 164, 293, 298-302,
305, 307, 332, 333, 335-341
Сахадева 33
Саян а 334
Селинуш 343
Семела 186, 187, 342
Семонид 202, 376
Сервий 148, 207, 211, 215, 312
Сервий Туллий 227, 228, 229
Сикион 361
Симонид 78
Сиракузы 373
Сириус 273
Скамандр - см. Ксапф, река в Трое
Скирон 303
Скиронит 304, 305, 312
Скирос 302, 304
Скифии 304, 305
Сократ 62, 262
Сократ Аргосский 370
Соломон 102, 373
426
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Солон 96, 98-100, 272, 349, 350, 355
Сома 144, 153, 194
Софокл 116, 190, 229, 303, 353
Спарта 19, 78, 99, 351, 352, 354,
367, 374, 378, 379
Старкад 30
Стесихор 335, 342-344
Страбон 77, 104, 298, 301, 303, 304,
311, 335, 336, 349, 352, 365, 366
Суда 157, 188, 357, 373
Сурья 152, 153, 155, 322-325, 333,
334
Сфинкс 116
Тайгет 139
Танаквиль 227, 228
Тантал 312
Тараксипп 283
Тарквиний Приск 227
Тацит 151, 206, 210
Тезей 302-304, 306
Телемах 153, 154, 318, 384-386, 388
Телепинус 17
Теос 371
Терпандр 352
Терсит 217
Тимагор 379
Тиресий 79, 128, 280, 281, 283, 285,
289
Тиртей 78, 347, 348, 350-352, 354,
355, 376, 379
Тифон 98, 316, 317, 320, 324, 328,
340, 341
Тлеполем 369, 373
Тор 242, 246, 260, 261
Торик 304, 335, 336
Трезен 361
Троя 32-35, 43, 110, 167, 184, 269,
271, 282, 288, 386, 387
Уран 254
Улликумми 253, 254
Ушас 143, 158, 159, 194, 198, 200,
322-325, 327, 333, 334
Фалет 352
Фаон 203, 293, 298-301, 307, 332, 333,
335-337, 341
Фасос 377
Фаэтон 203, 293, 307-309, 312-317,
320, 321, 324-326, 328, 329,
331-333, 335, 337, 341
Феба 108
Фемида 98
Фемий 72
Феогнид 78, 79, 82, 99, 100, 102-105,
107, 280, 281, 288, 292, 348, 350,
353, 354, 355
Феоклимен 272
Феокрит 279, 282
Феофраст 201
Фер 379
Ферекид 189, 312, 369
Феспии 75, 76, 79
Фест 145, 206, 208-210, 223, 237, 373
Фетида 303
Фивы 31, 33, 68, 187, 353, 355, 379
Фил 369, 373
Филойтий 269, 270
Филомела 342, 343
Филострат 262
Филохор 347, 351, 352, 355, 372
Фирдоуси 138, 234, 334
Флиунт 361
Фоас 178
Фокея 302
Фол 350
Фотий 157, 188, 300, 301, 306, 336,
341
Фракия 93
Фрии 88, 89
Фукидид 76, 81, 84, 86, 376
Фьергун 242, 246
Халкида 110, 111
Хаома 143, 194
Харакс 186
Харин 300
Хариты 340
Харон Лампсакский 302
Хаттусилис III 225
Хентест 334
Херил 309, 312
Херонея 190
Хиром 102
Хоре 334
Хрис 79
Цезарь, Гай Юлий 247
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
427
Цекул 228
Цец 188
Цицерон 145, 206, 214, 217, 219, 359
Шишупала 30
Эвбея 110
Эвбул 300
Эвгемер 331
Эвмей 69, 269, 270, 275, 318, 384
Эвриклея 269
Эвримах 103
Эвринома 385
Эврисфей 31
Эврисфен 379
Эвритион 350
Эгеиды 378, 379
Эгей 303
Эгимий 366
Эгина 319
Эгисф 190
Эгоспотамы 337
Эдип 116, 315, 379
Эзоп 76, 77, 350, 351, 354, 355
Элевсин 181, 191
Элиан 331, 352, 353, 354
Элизий - см. Елисейские поля
Эльпенор 282, 283
Эмафион 316
Эней 44, 48-50, 178, 327
Энний 193
Эос 174, 198, 200, 310, 316, 317, 319,
321-324,326-330, 332, 333, 336,
337, 340, 341
Эиидавр 62, 361
Эрехтей 331
Эрида 109
Эридан 308-313, 320, 321, 341
Эрисихтон 354
Эрот 305
Эсхил 187, 310, 312, 326, 337, 343
Эфес 62, 116, 353, 371, 374
Эфиальт 106
Эфор 107, 354, 366, 373
Эя 310
Юдхиштхира 33
Юнона 213
Юпитер 207, 213, 218, 254
Яма 122, 131, 134, 143, 150, 151, 158,
159
Яска 333
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Автор, представление о 36, 47, 65-68, 78-80, 86-98, 101, 105,
107-108, 112-114
амброзия 188
антропогония - см. первочеловек
Басня 77, 95-97, 350, 351, 354, 355
Возрождение, представление о 120-122, 129, 130, 139, 140, 152, 156, 168,
303, 315, 316, 321, 322, 328, 329
волк 158, 303, 350
выставление тела 121, 230-237, 3 89
Гекзамеф 48, 53-57, 78, 83, 86, 90-93, 322, 323
герой 28-34, 76, 123, 126, 127, 131,170-172, 177, 178, 180, 182-184,
186-189, 194, 273, 285, 330, 352, 353
город-государство - см. полис
гром 176, 186, 239, 241-247, 252-255, 257, 258, 260, 261, 262; см. также
молния
Демократия 98, 349, 362, 375
диалекты
- аттический 196-198
- беотийский 90-94
- дорийский 78, 91
- ионийский 78, 90-94, 196-198
- лаконский 294
- микенский 196
диахрония 39 и далее; см. также синхрония
дидактическая поэзия 59
душа, представление о 120, 125 и далее
Жертвоприношение 19, 100-108, 110, 119, 137-144, 148, 150-155, 157, 159,
180, 183, 192-207, 210-228, 232, 251, 252, 263, 290, 305, 327, 347,
348, 350,362-366
Закон(ы) 26, 60, 98, 101, 151
- законодатель 98-101, 151, 351, 352, 354
Ингумапия 119-121, 173, 230, 231
исполнение 25, 40, 41, 45, 47, 48, 51, 61-69, 72, 81, 82, 90, 112, 348, 351
Каталог 81, 84, 311
козел 139, 158, 261
колесница 123, 132, 133, 139, 153, 275, 276, 283-290, 308, 314, 325, 340
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
429
конь 123, 138-140, 153, 154, 157, 276, 283, 286, 293, 294, 304,305, 312,
320, 324, 325, 334, 378
кремация/сожжение 119-122, 135, 152, 156, 158, 173, 225, 230, 231, 233-237
культ, определение 27
- героический 27-30, 76, 171, 172, 177, 178, 179, 180-184, 186, 187
- культ предков 28, 131, 156, 158, 172, 285
Лира 75, 77, 79, 81, 88, 89
лирика 86, 299
- хоровая 78, 82
Мед 88, 89
миф, определение 24-25
- миф и ритуал 17-19, 27, 30, 139, 186, 187
- миф о поколениях 380
молния - 138, 140, 141, 148, 149, 187, 239-244, 246, 247, 249, 252-262, 269,
279, 292, 308, 331 см. также гром
мореплавание 104, 105, 110, 111, 280-282, 289
Нектар 185, 188, 252, 340
Оборотень 207, 344
олигархия 98, 362
Панэллинизм/общегреческий 27, 28, 59-61, 66, 67, 71, 75, 78, 108
первочеловек
- как жертвователь/жред 106, 143, 144, 150, 151, 194, 196, 201, 263
- как проридате ль /пророк 201, 263
- как дарь 229
плач 19, 232, 354
племя 356-359
полевые исследования 25, 26, 38-41, 62, 63
полис 27, 28, 60, 96-98, 107, 157, 191,347-358, 360, 361, 368-380
поэт и поэзия 40, 41, 60, 61, 64-82, 84-90, 93-100, 102, 104, 105, 107, 108,
175, 263, 264, 280, 281, 292, 338, 340, 348-355
празднество 61, 64, 66, 67, 76, 181, 282, 305, 351, 352, 374
проводник душ (психопомп) 135, 136, 139, 152, 158, 159, 297, 333
Рапсод 62, 64- 67, 72, 77, 78, 112
ритуал, определение 27; см. миф и ритуал
- ритуальный субститут 73, 173, 174, 180
Сжатие (расширение), пришит повествования 30, 34, 35, 83, 85, 269
символ 75, 87, 90, 94, 106, 129, 139, 143, 146-150, 190-192, 194, 229, 231,
232, 257, 267, 282, 283, 293, 295, 296, 305, 307, 309, 322, 332, 333, 335,
336, 344, 347, 351, 356, 364, 373, 380
синхрония 39, 40, 43-46, 51-55, 58, 259, 274 см. также диахрония
сложение/сочинение/создание 25, 40, 41, 51, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 81, 85,
90
Танед 85, 86, 200, 254, 293, 306, 351, 352
тема, определение 26
- тема и формула 43-45
430
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
теогония 71, 72, 81, 83, 85-90
тиран, тирания 98, 350, 373, 379
Устная поэзия 25, 37-41, 45, 46, 50-53, 58, 62-74, 77, 78, 83, 89-90,
111-113, 174, 175 см. также сложение /сочинение /создание, исполнение
Филология, сравнительная 23
формула 37, 40-42, 44-46, 48, 50-57
- определение Пэрри 37
- уточненное определение 51
Хвала 35, 36, 291, 354, 355
хула 35, 36, 217
Царь 19, 79, 80, 87, 88, 90, 93-98, 103, 119, 172, 173, 177-179, 183, 190-193,
224-229, 354, 358, 364, 366-368, 372, 379
Экзогамный/эндогамный брак 191, 229, 377-380
экономии, принцип 41-45, 63
элегия 78, 353-355
эпитет 31, 32, 42-44, 57, 73, 75, 82, 108, 129, 130, 132, 137-139, 142-144,
149, 150, 153, 157, 158, 161,166-170, 187, 190,194-196, 200, 201, 207, 208,
217, 253, 258, 259, 263, 266, 270, 279, 297, 307, 311, 321-327, 331, 333, 334,
336, 340, 354, 368, 370
- постоянный 42, 321-323
- различительный 42, 43
- родовой 42, 43, 56, 73
эпос 32, 38, 43-50, 55, 58, 60, 66, 67, 72, 81, 90, 110-111, 112, 129, 178,
181, 184,284
- эпическая слава 163-170
эпические субжанры 295
- эпические идеалы 231, 381
- эпическое понятие справедливости 350
- эпос и героический культ 29-31
- эпос и миф 23-30
- эпос и ритуал 30-34
- аллюзии на неэпические темы 263
- местные эпические предания и вариации 49, 50, 71, 72
- нанэллинский эпос 28
- древнеиндийский эпос 24, 26, 29, 33, 34
- киргизский эпос 67, 68
- персидский эпос 138, 234
- славянский эпос 25, 38, 45
эсхатология 120-122, 131
Оглавление
От переводчика 5
Предисловие к русскому изданию 11
Введение 15
ЧАСТЬ I. Эллинизация индоевропейской поэтики 21
1. Гомер и сравнительная мифология 23
2. Формула и метр: Гомер и поэтика устного эпоса 37
3. Гесиод и поэтика панэллинизма 59
ЧАСТЬ II. Эллинизация индоевропейского мифа и
ритуала 117
4. Патрокл, представления о загробной жизни и
древнеиндийские три огня 119
5. Смерть Сарпедона и проблема уникальности Гомера 163
6. Царь и огонь: шесть этюдов о сакральном словаре,
связанном с очагом 190
7. Гром и рождение человечества 239
8. Sema и noësis: могила героя и «чтение» гомеровских и
гесиодовских символов 267
9. Фаэтон, Фаон — возлюбленный Сафо и белая скала
Левкада: «чтение» символов греческойлирики 293
10. О смерти Актеона 342
ЧАСТЬ III. Эллинизация индоевропейской
общественной идеологии 345
11. Поэзия и полисная идеология: символика доли на пиру 347
12. Мифологические основы древнегреческого общества и
понятие города-государства 356
13. Недостижимые мечты: пределы использования
идиоматических оборотов в эпическом языке 381
Библиография 391
Именной указатель 421
Предметный указатель 428
ГРЕГОРИ НАДЬ
Греческая мифология и поэтика
Научное издание
Директор издательства Б.В. Орешин
Зам. директора Е.Д. Горжевская
Зав. Производством Н.П. Романова
Редактор В.С.Гапаров
Верстка Ю.Н. Чернышова
Художник Л.Б. Орешина
Корректор Т.В. Калинина, КМ. Пущина
ЛР№ 065292 от 17.07.97
Подписано в печать 15.01.02. Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура Modern .
Усл. печ. л 27,0 Тираж 1500. Заказ № 5570
Издательство «Прогресс-Традиция»
119048, Москва, ул. Усачева д.29 кор.9
тел. 245-53-95, 245-49-03
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
ISBN 5-89826-122-2
9
Я бы хотел отдать дань труду Грегори Надя
«Греческая мифология и поэтика».
Подчеркивая значение мифологии как источника
гомеровского эпоса, он точно отыскивает
именно то, что, по моему мнению, является
глубинной основой структуры и смысла
«Илиады» и «Одиссеи». Прочитывая их как
традиционные поэмы, говорящие о
сакральной реальности, мы оказываемся в
состоянии уловить их религиозную - в самом
широком смысле этого слова· - значимость,
постигая самые истоки греческого эпоса.
Альберт Лорд