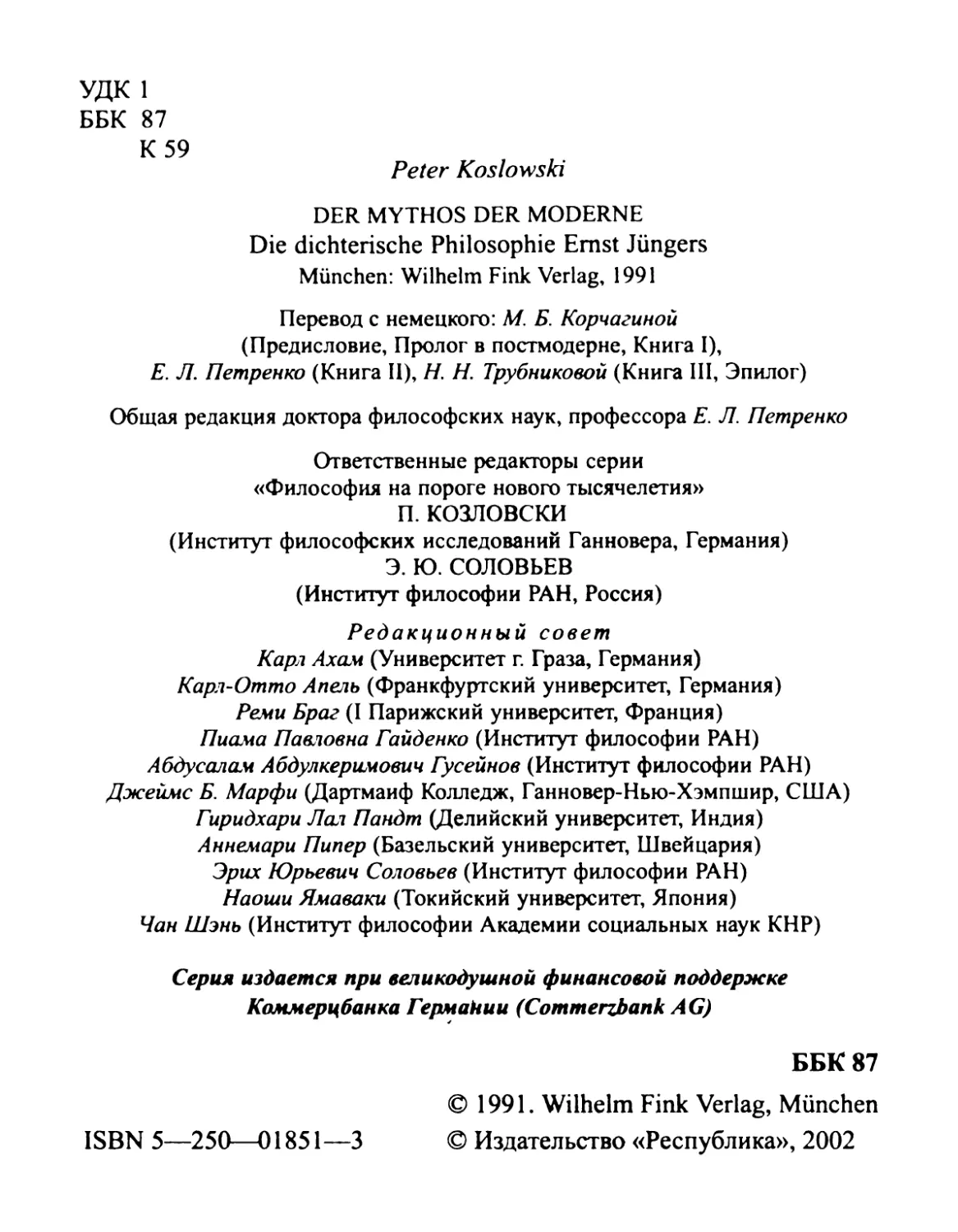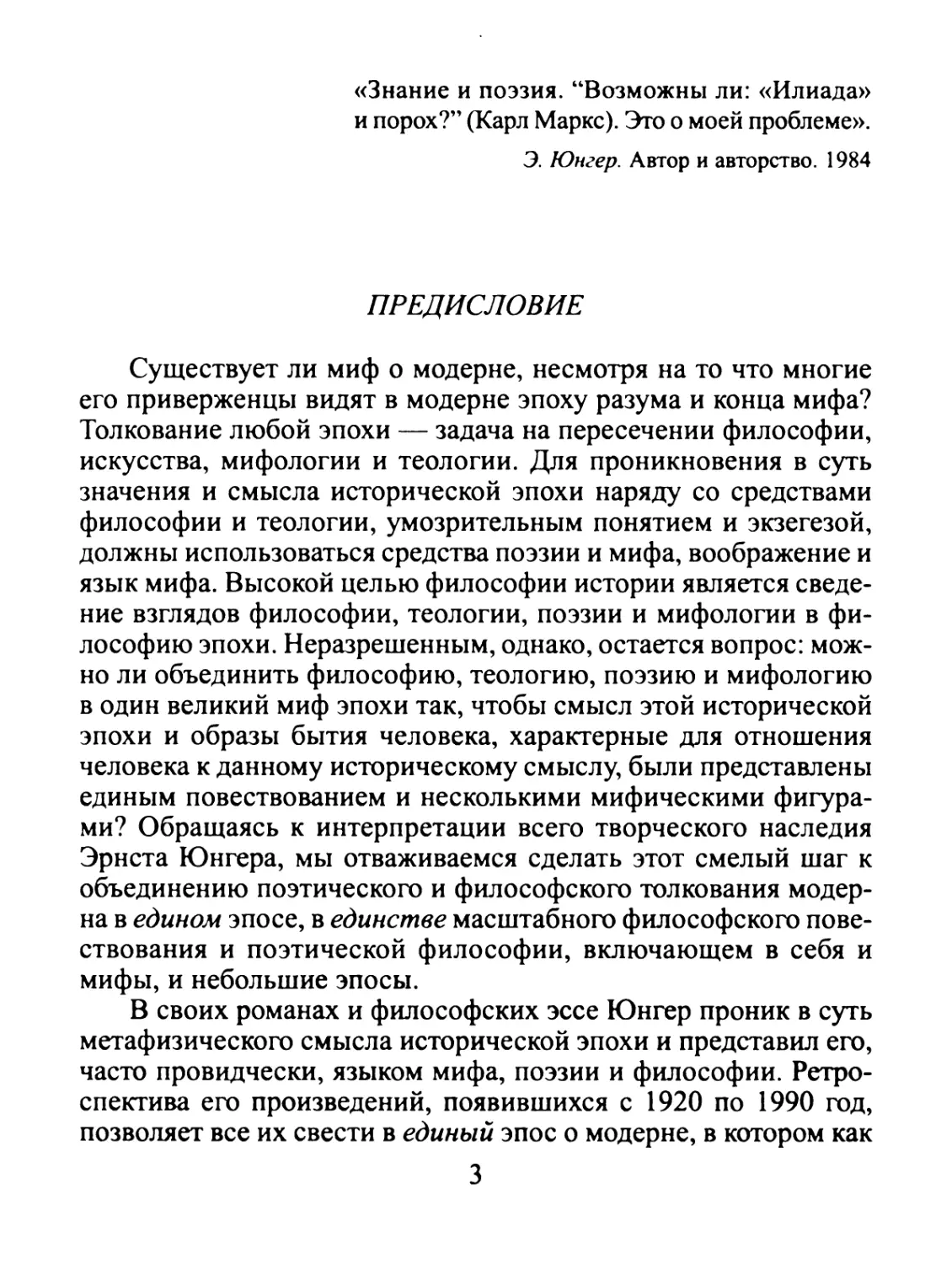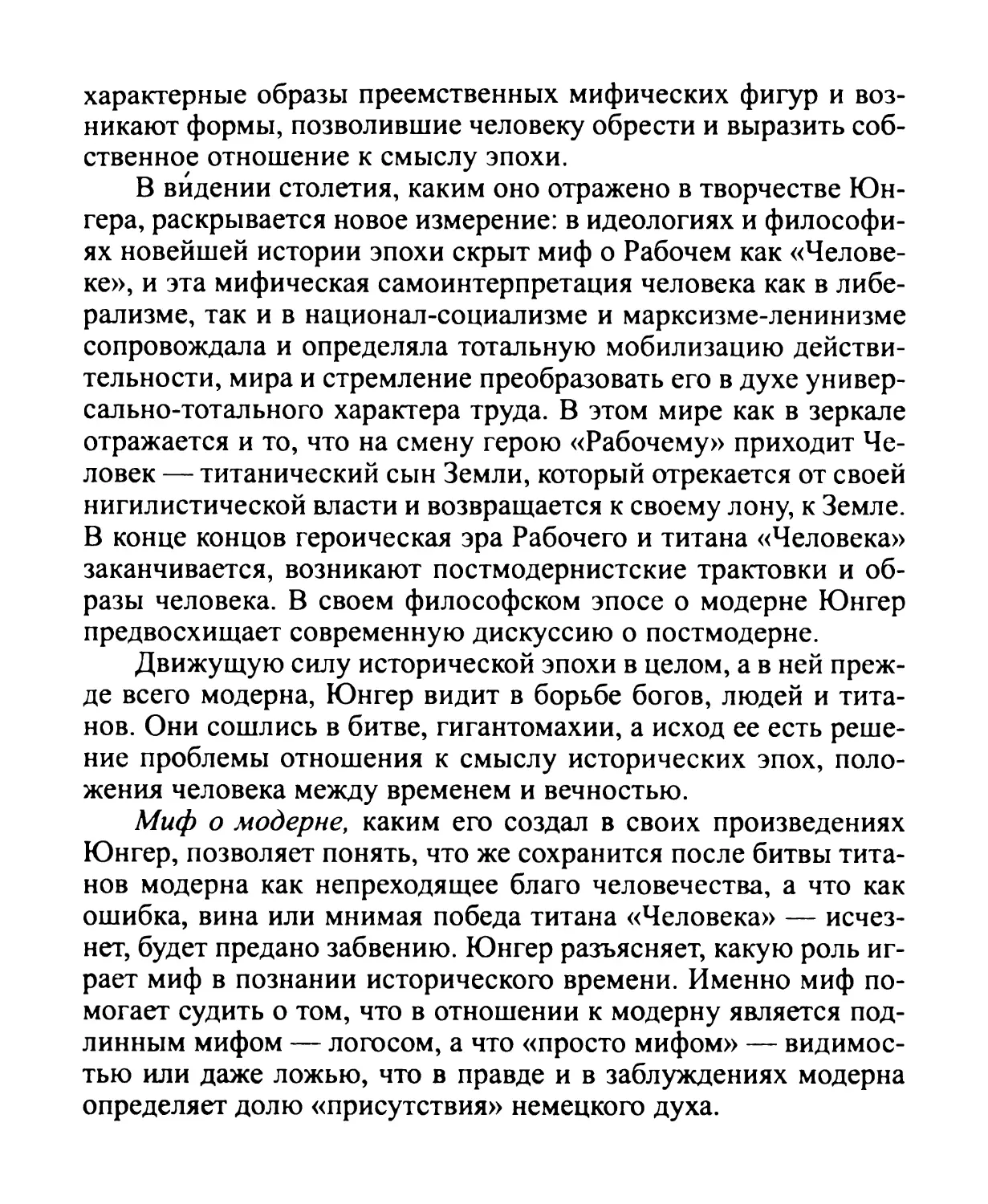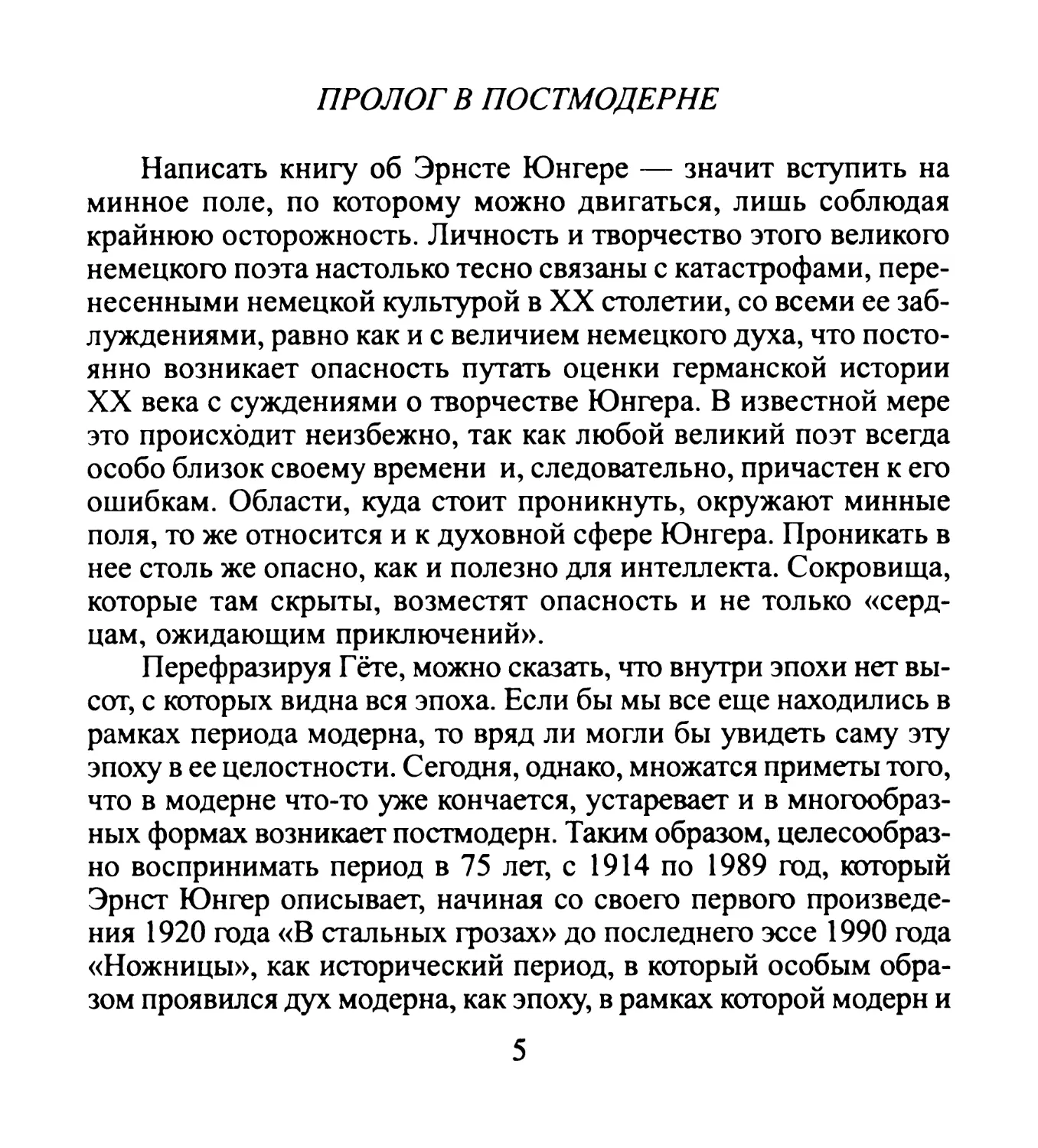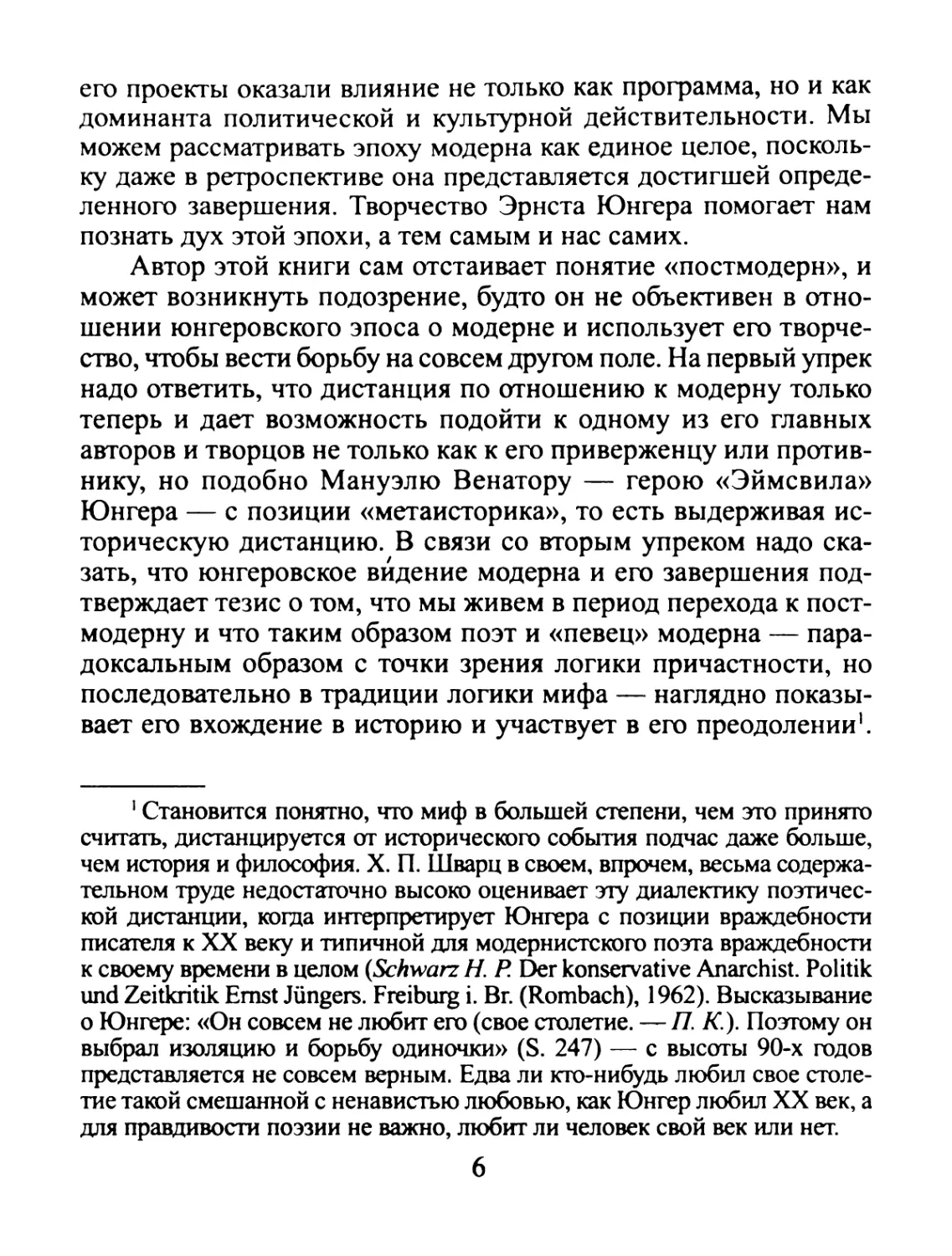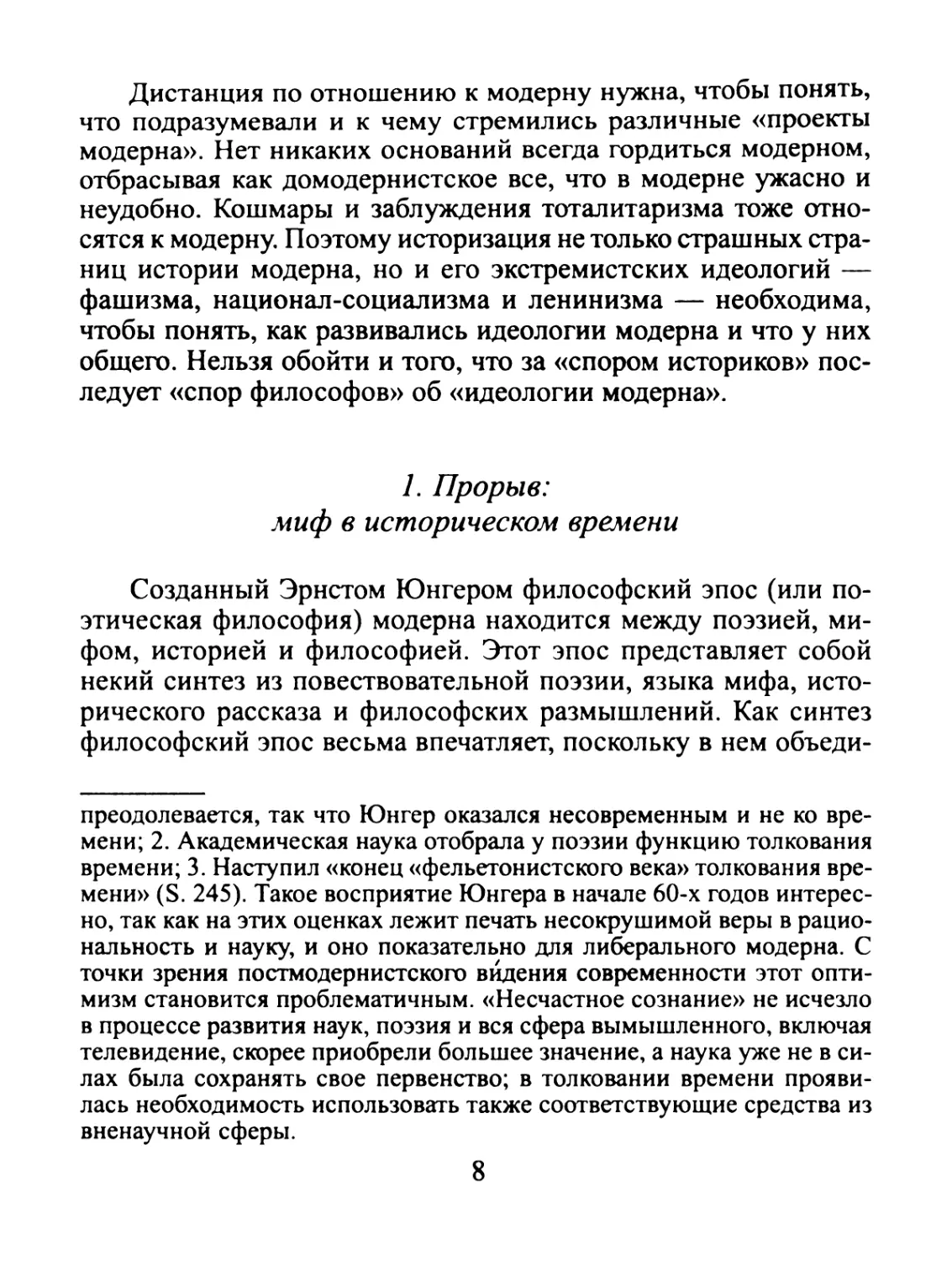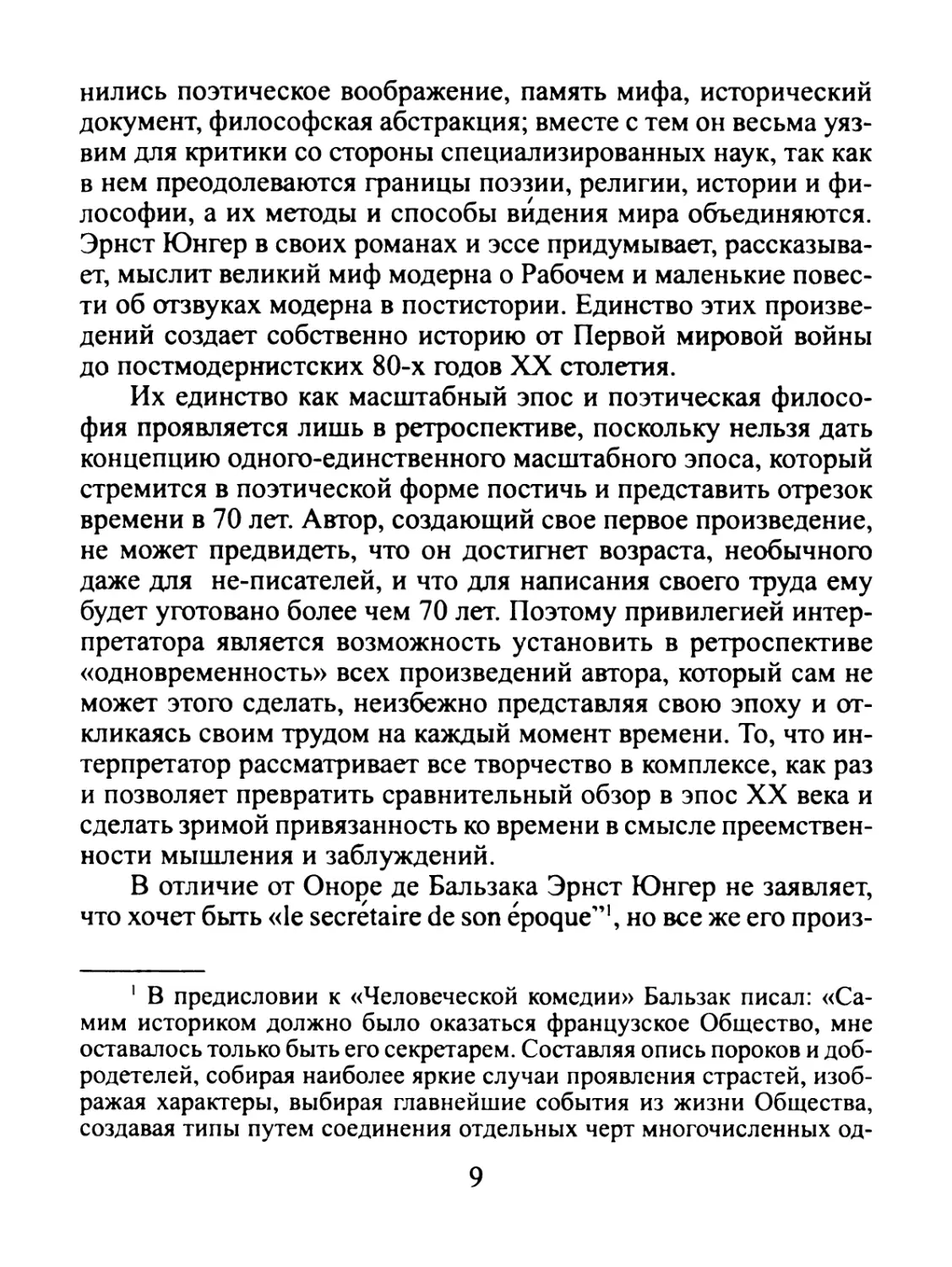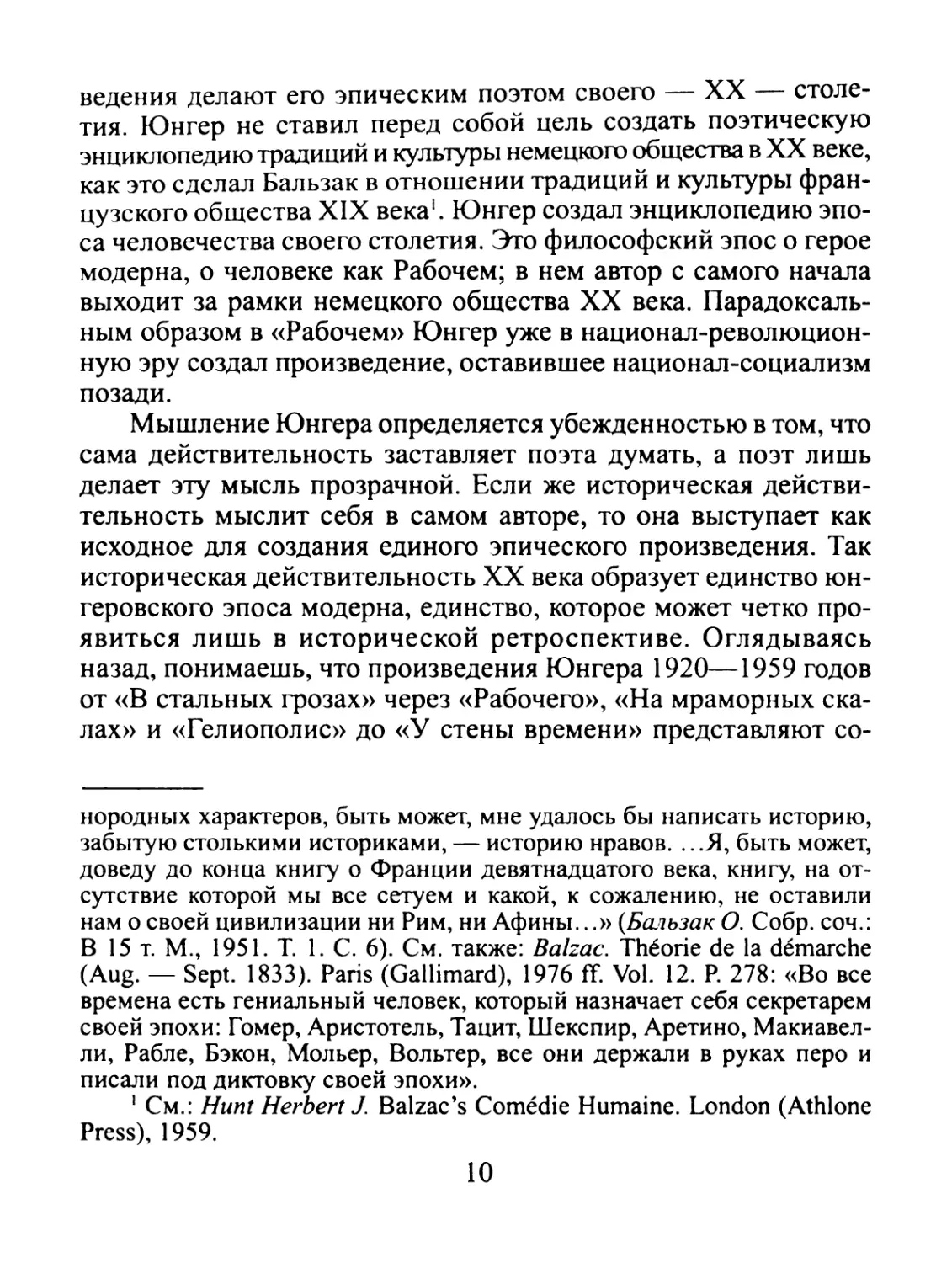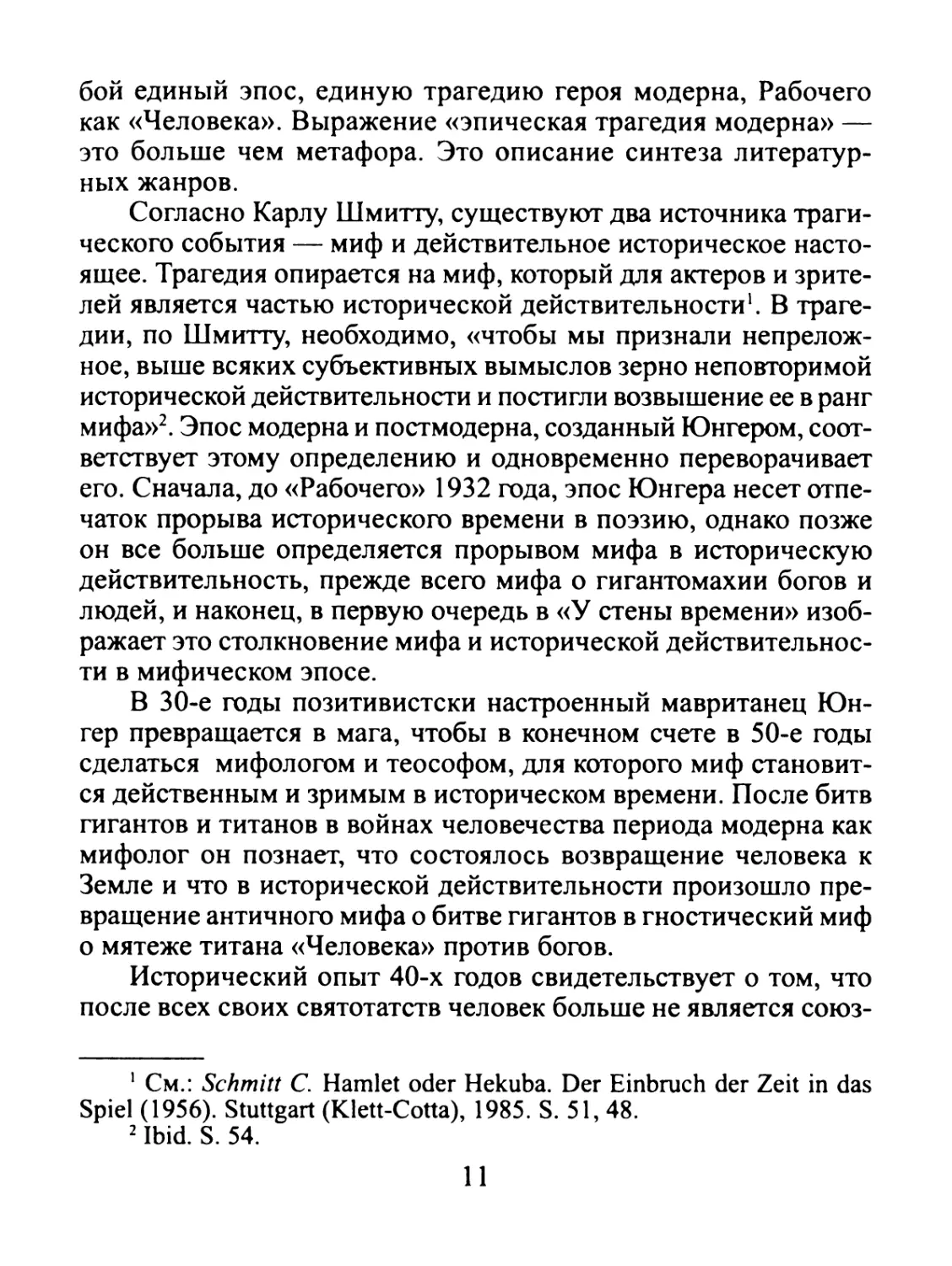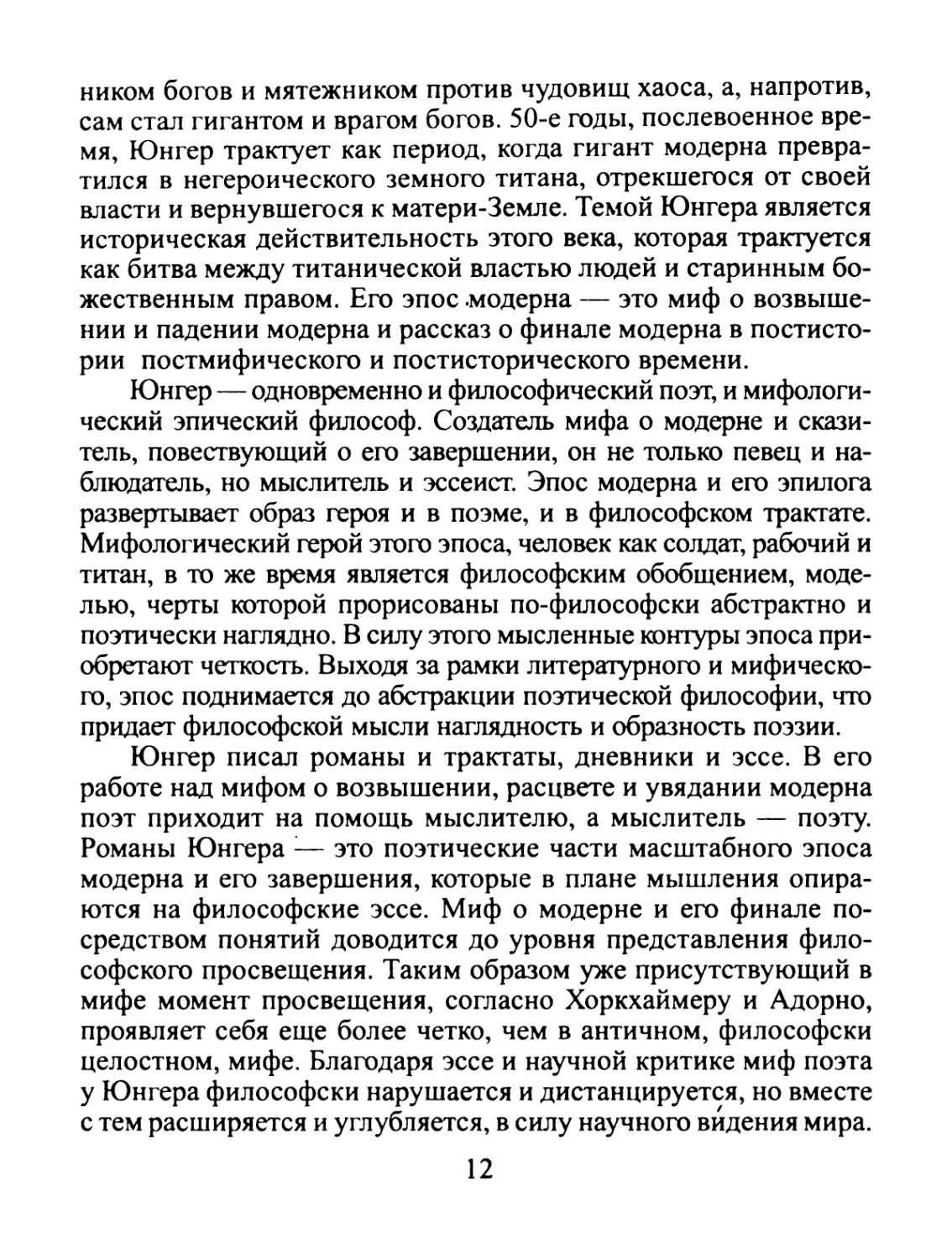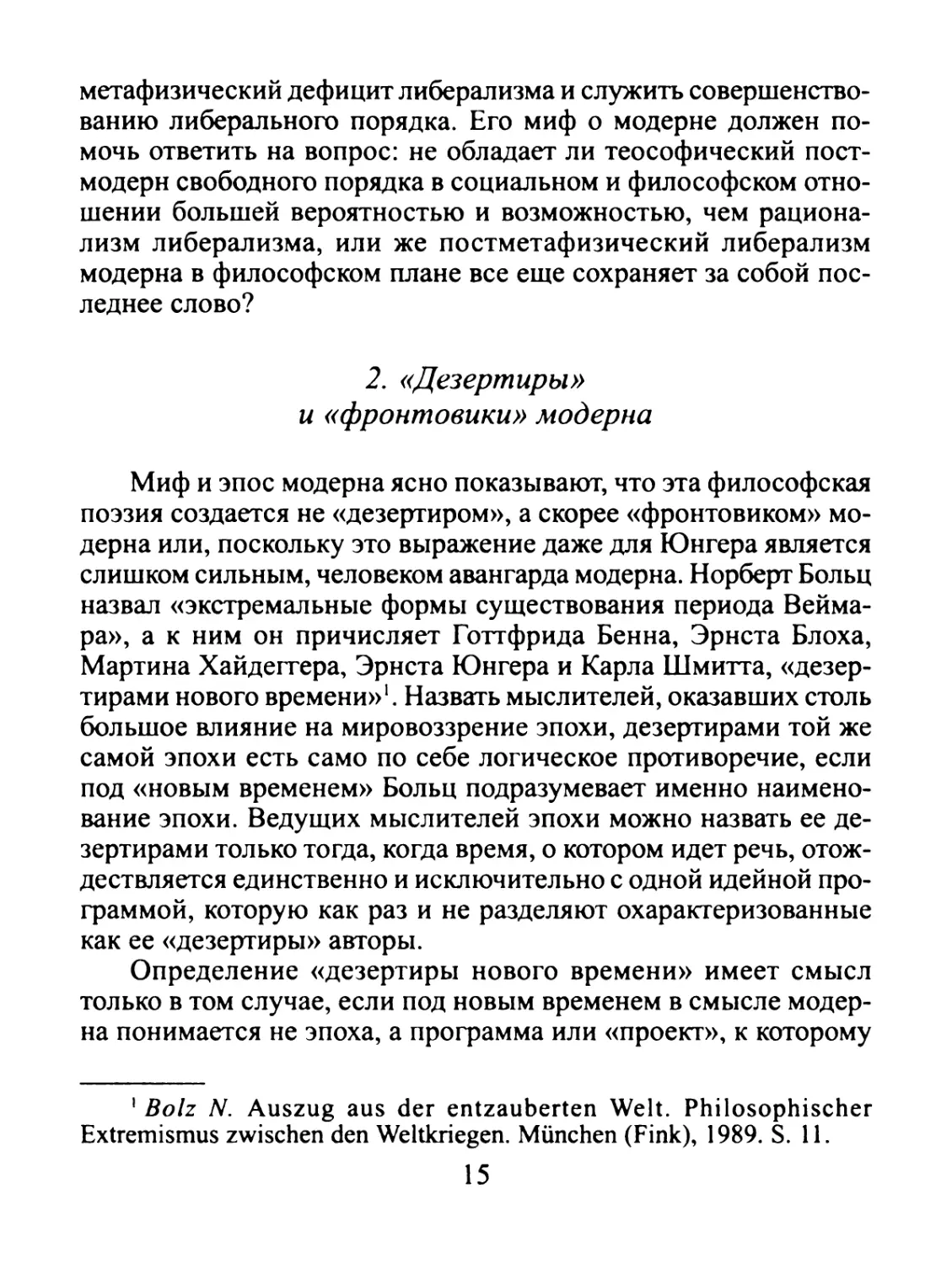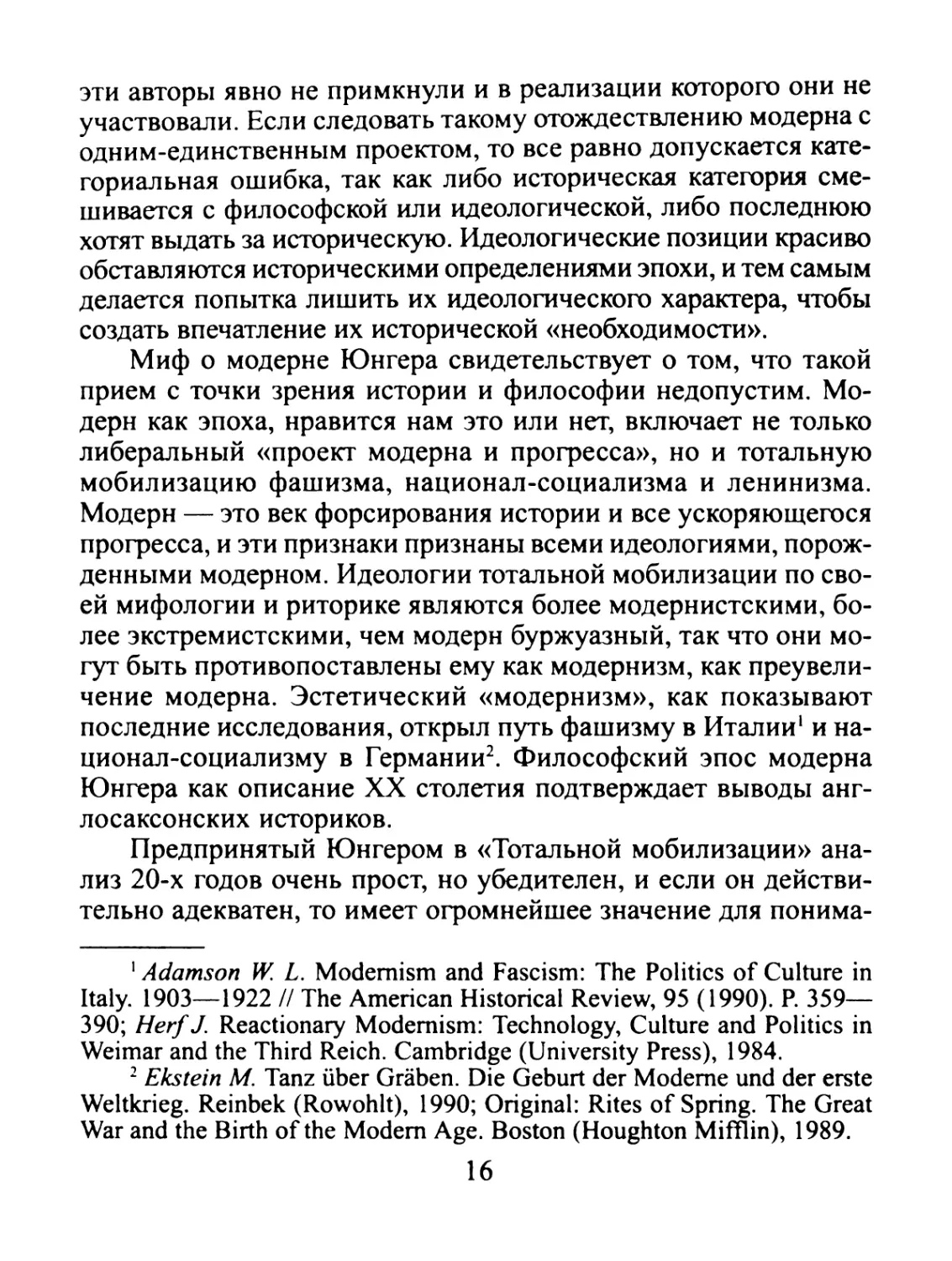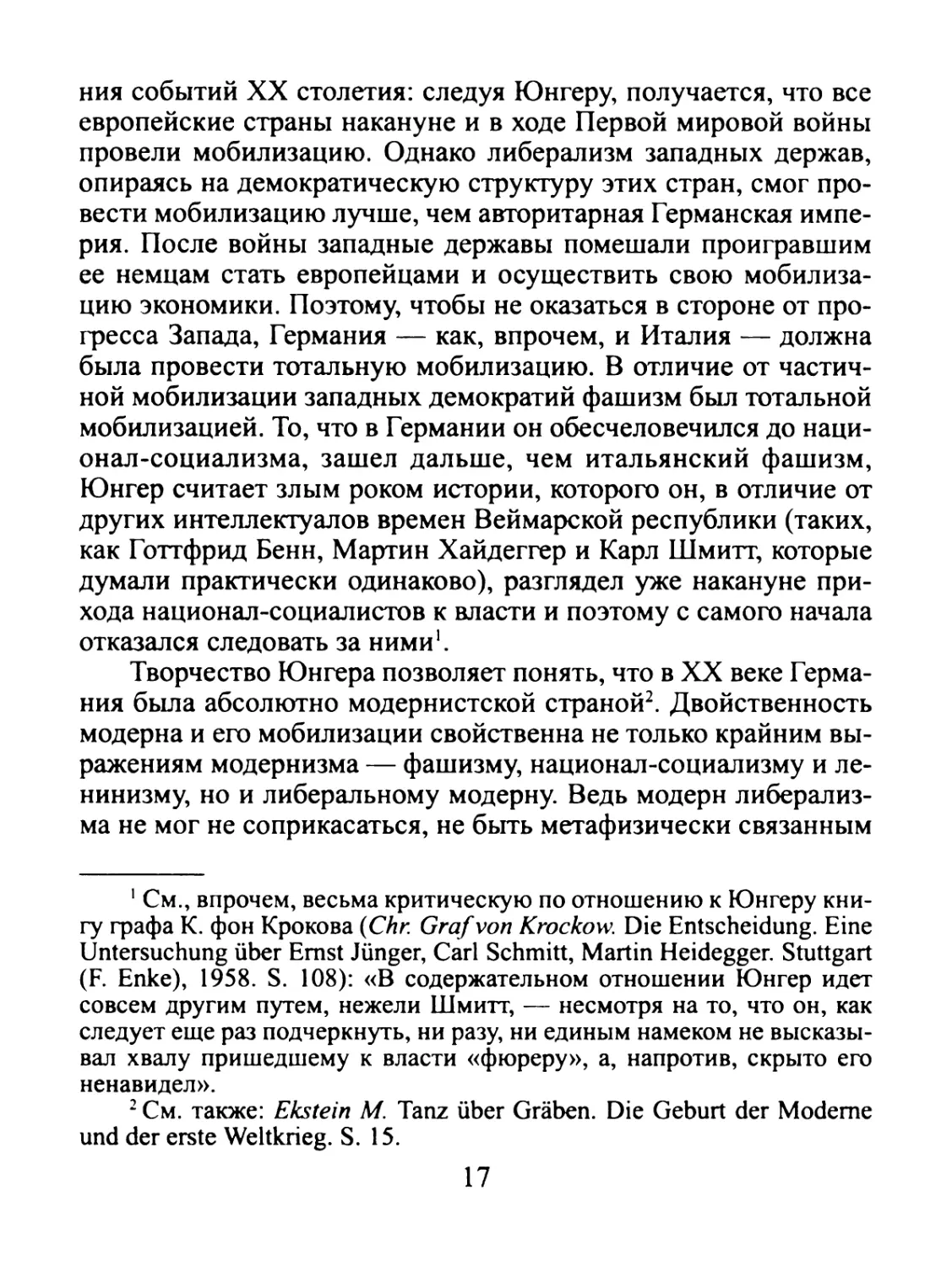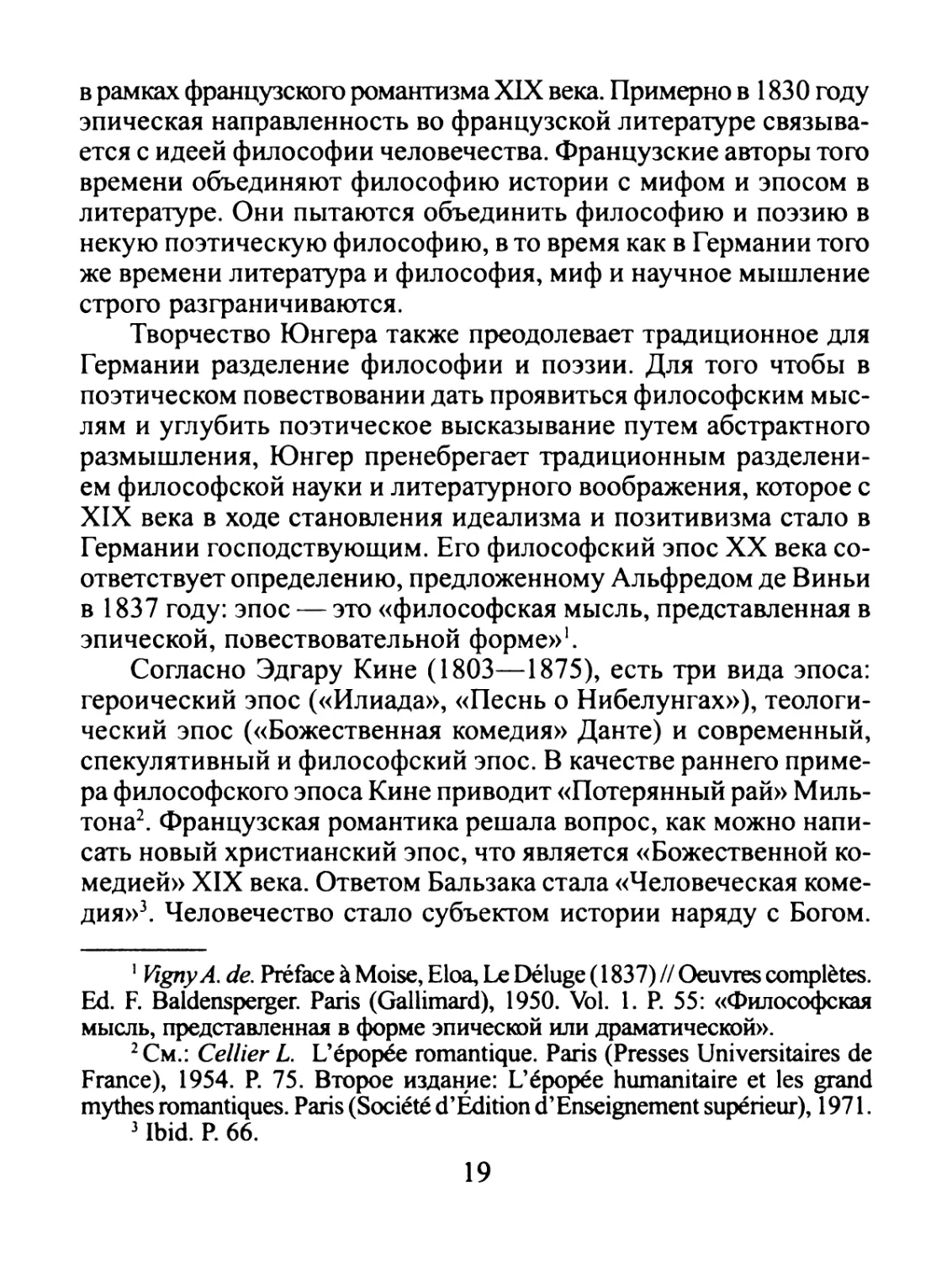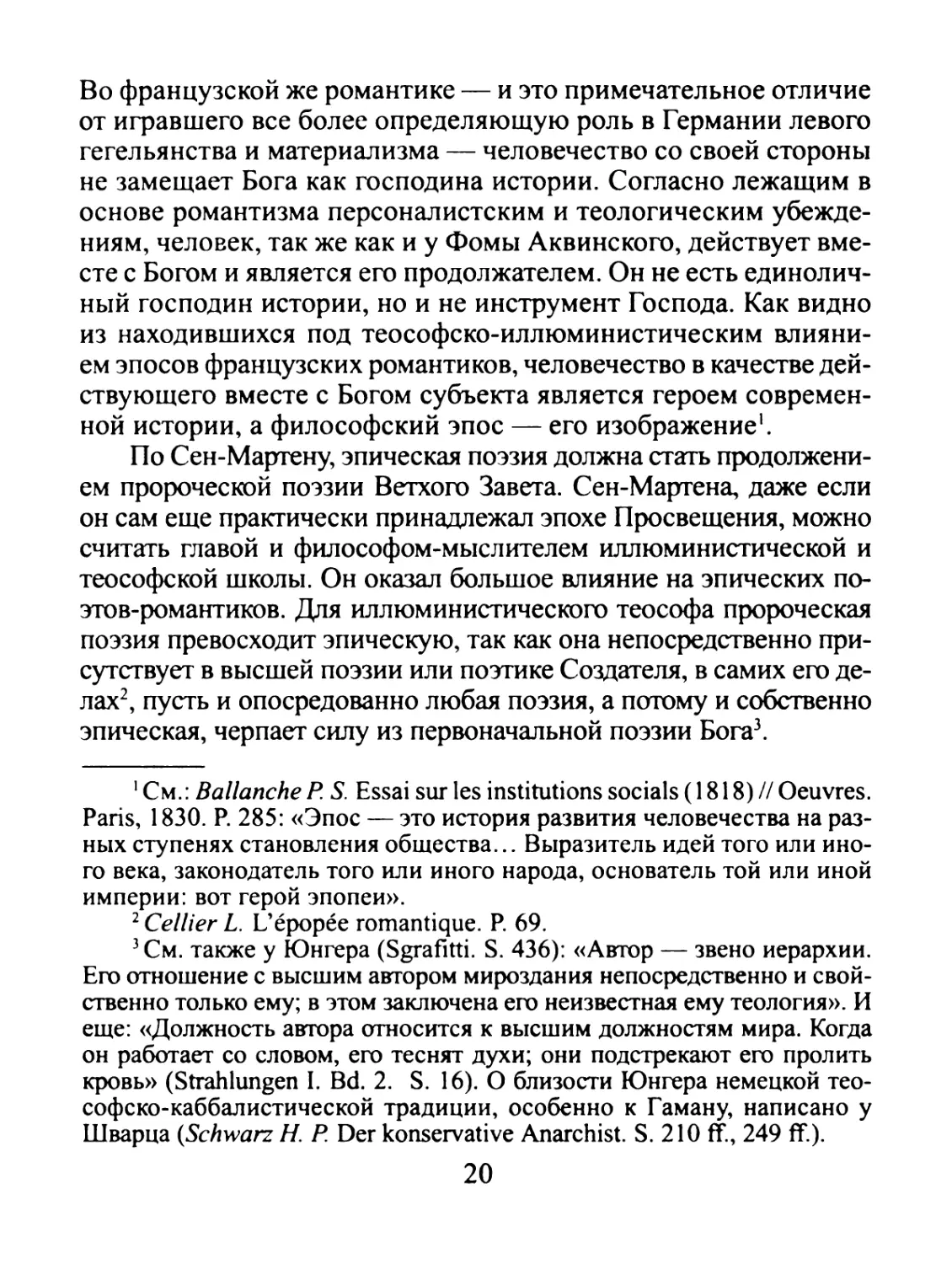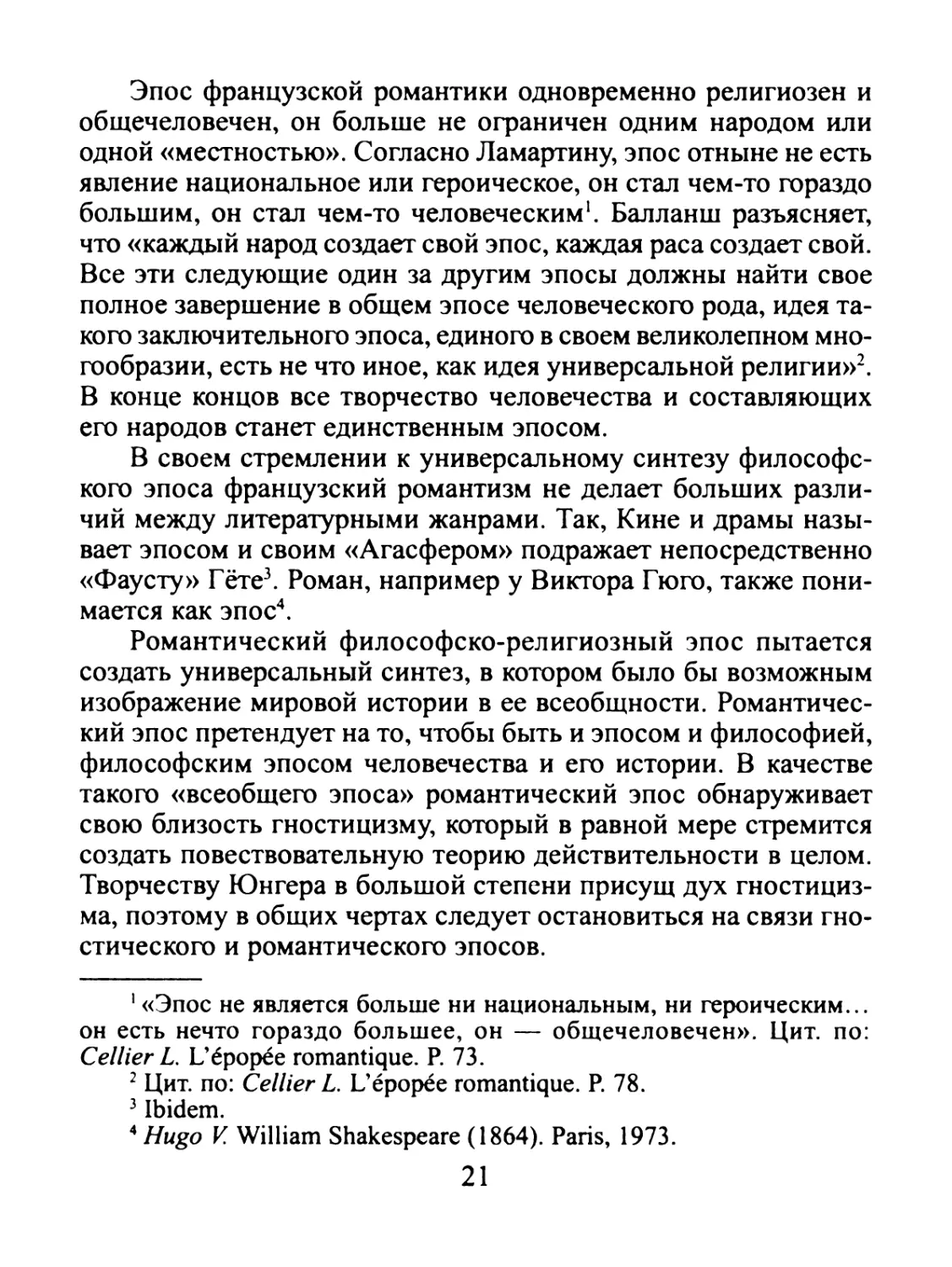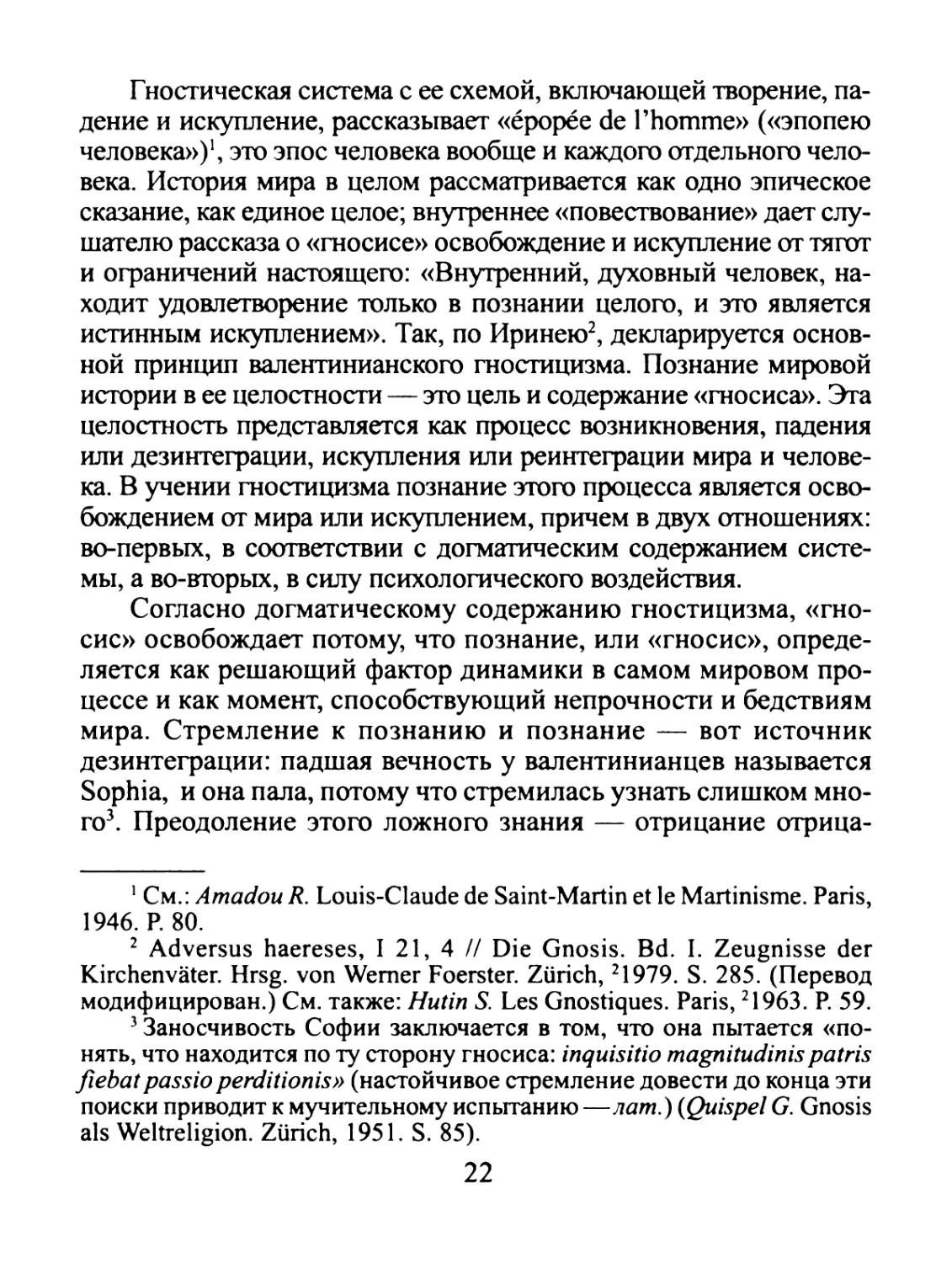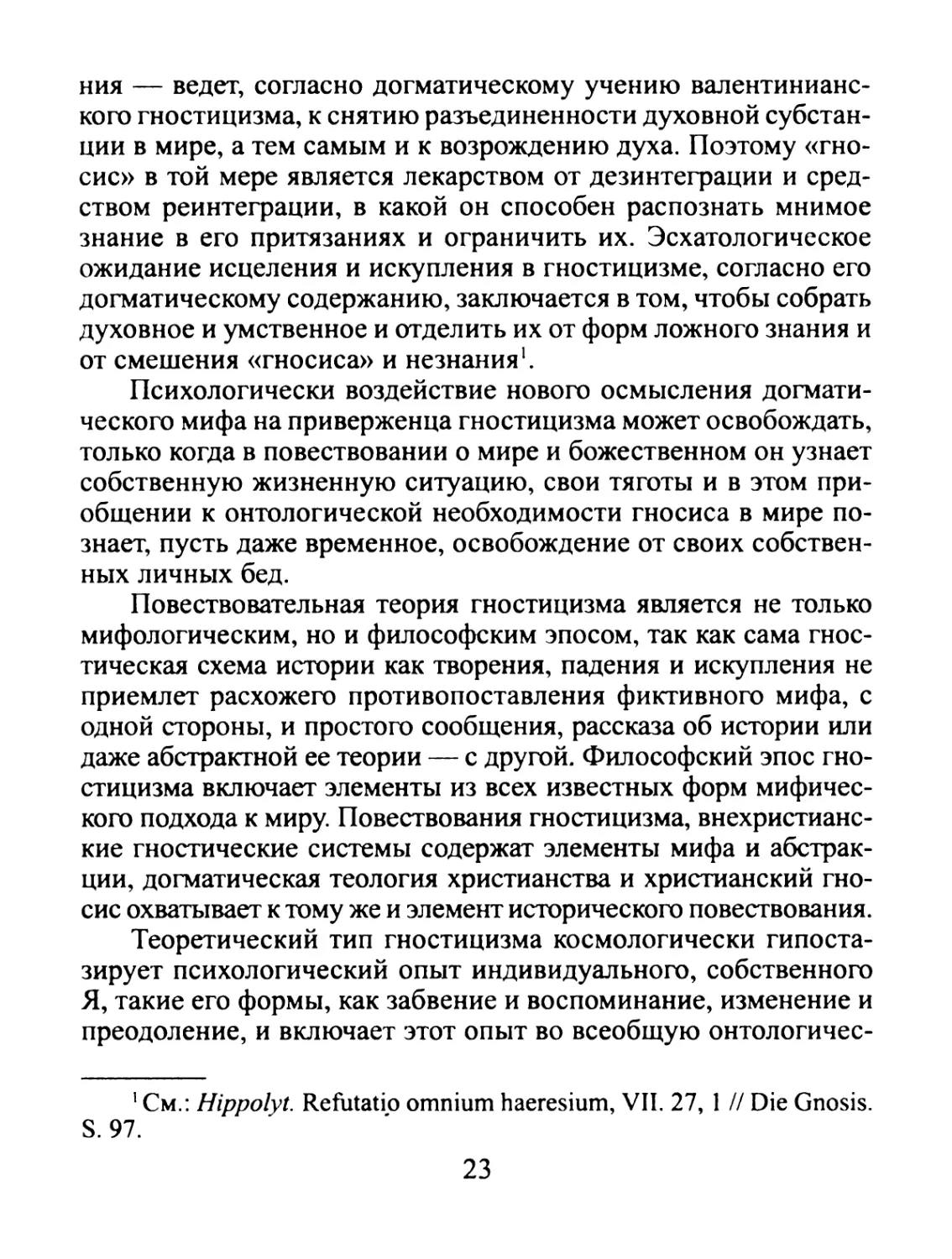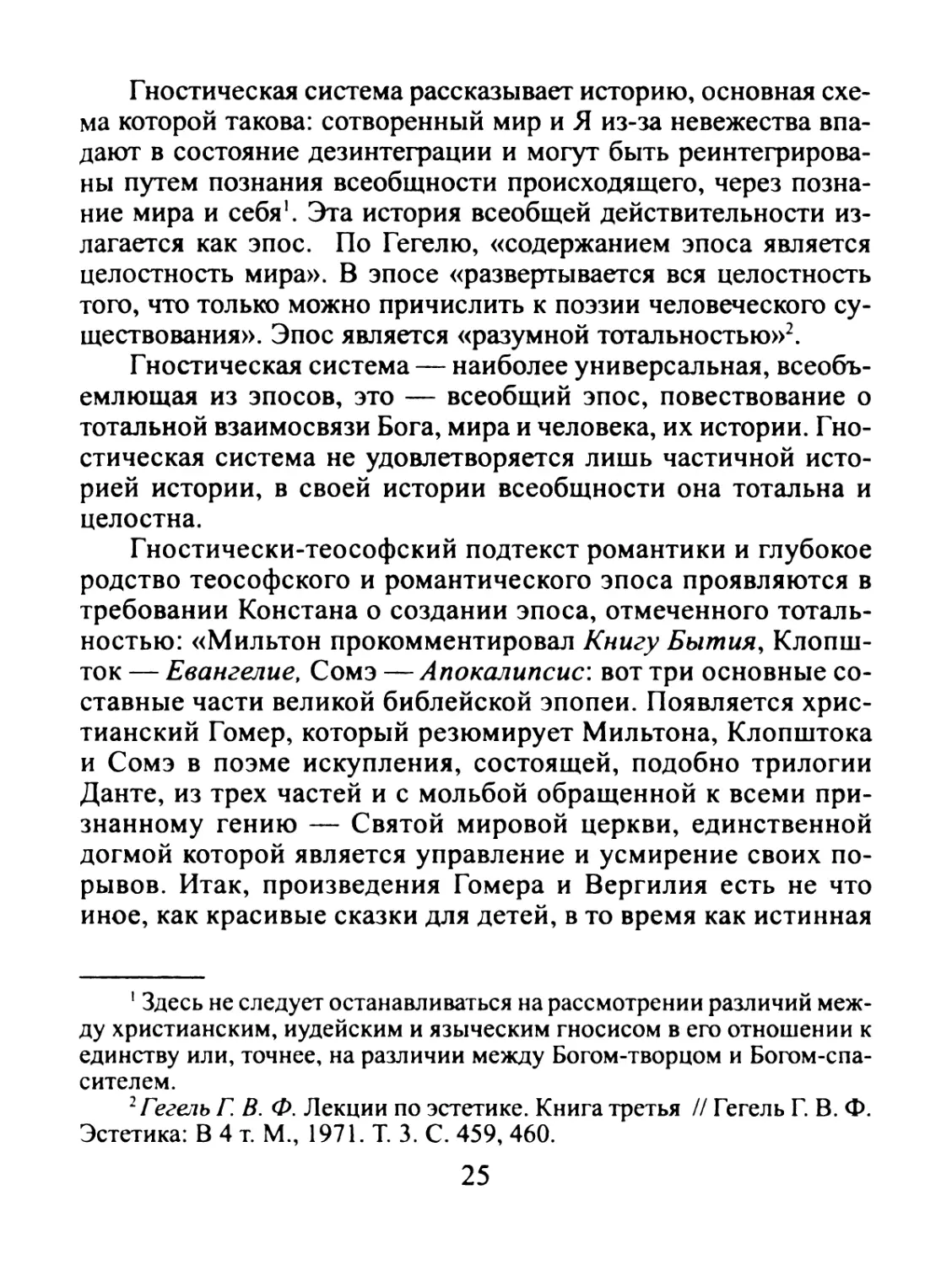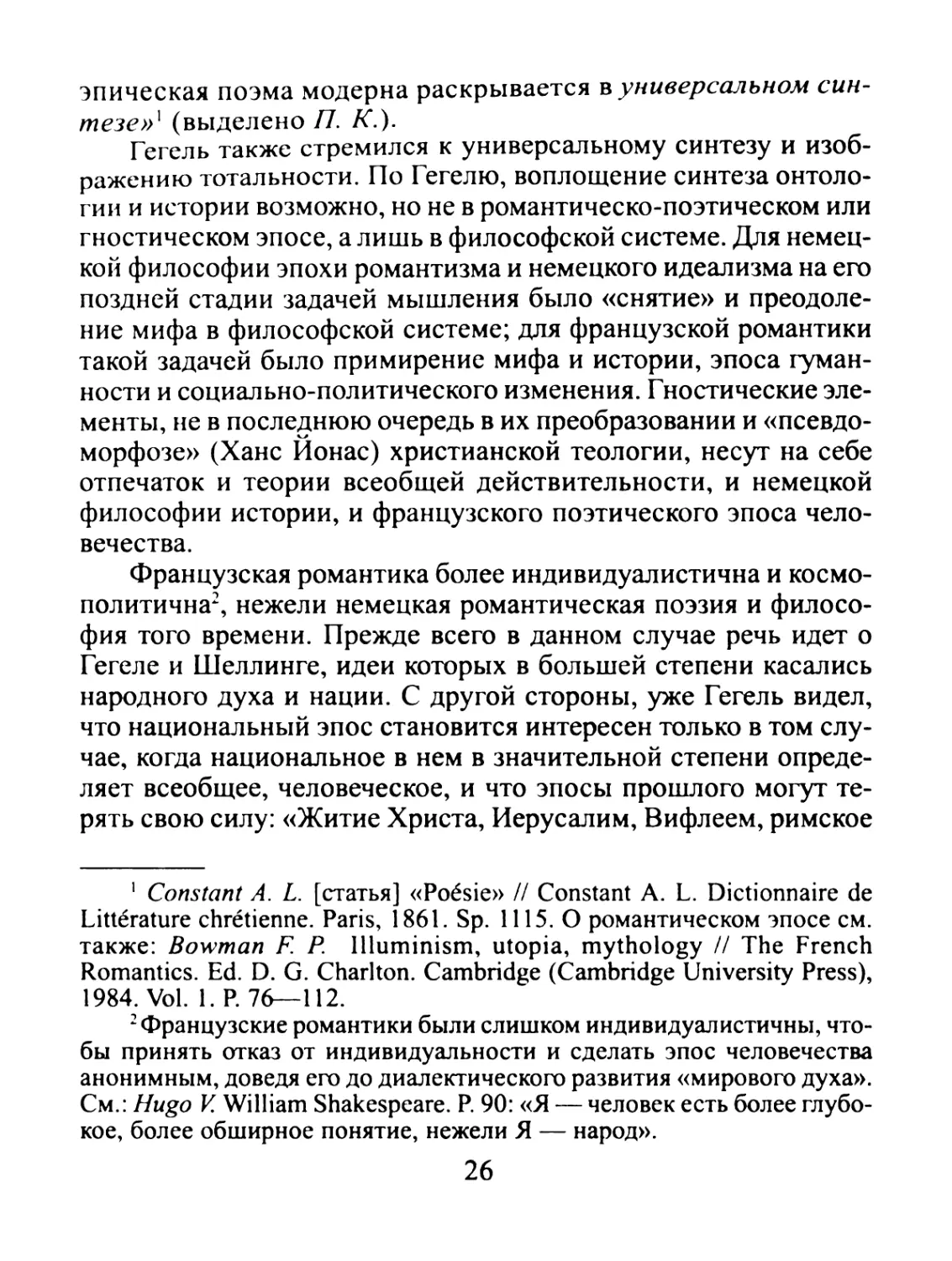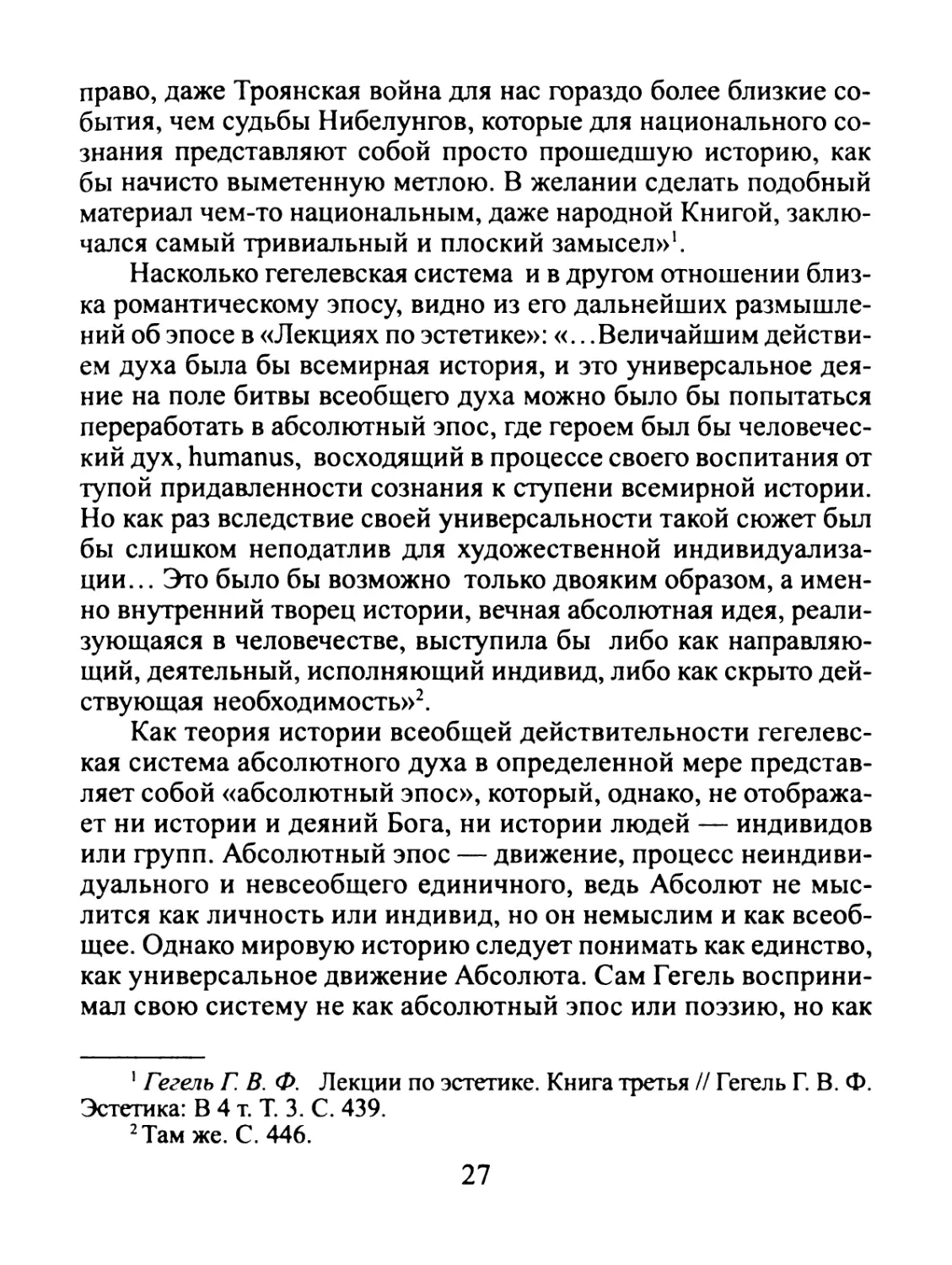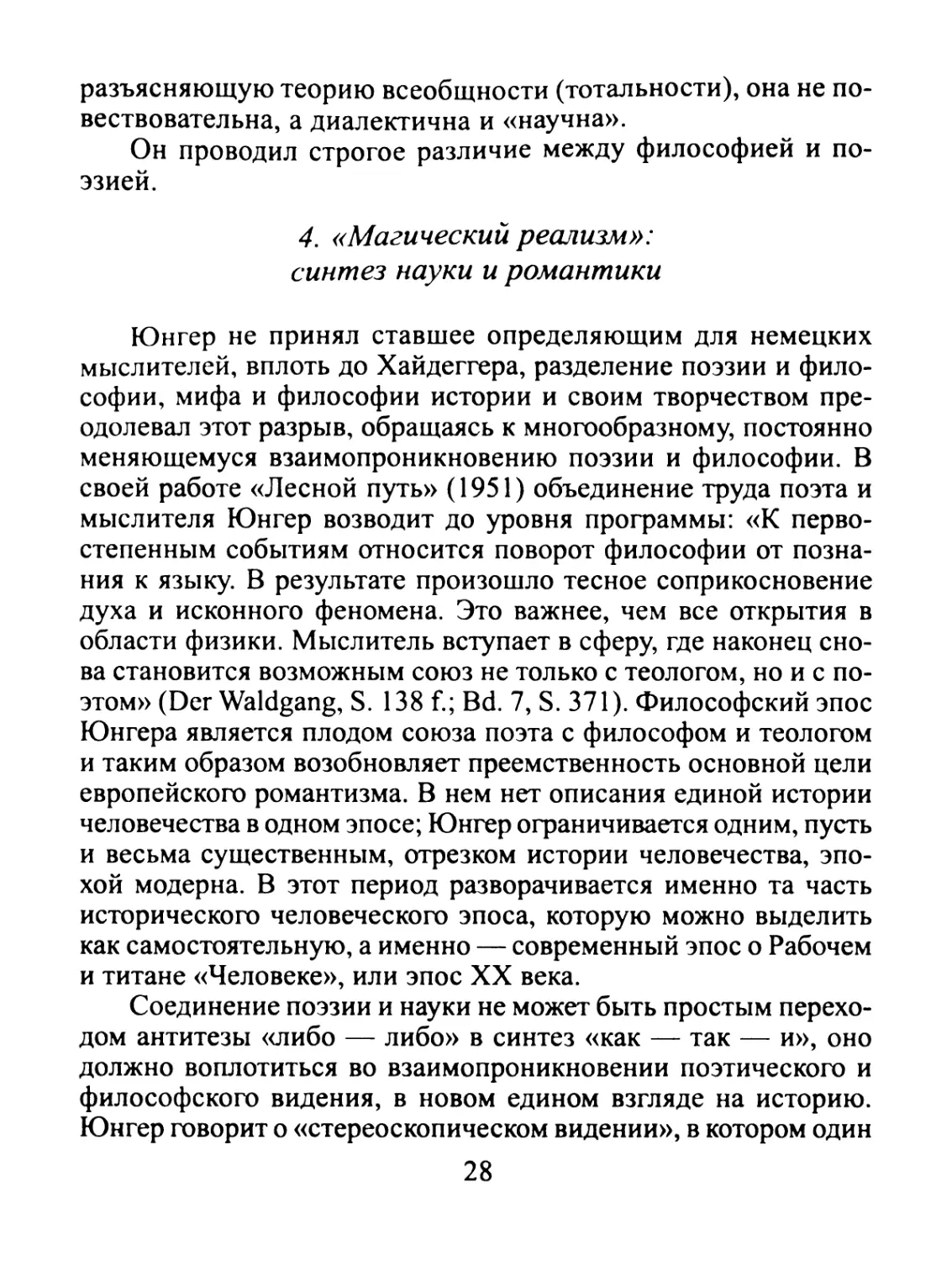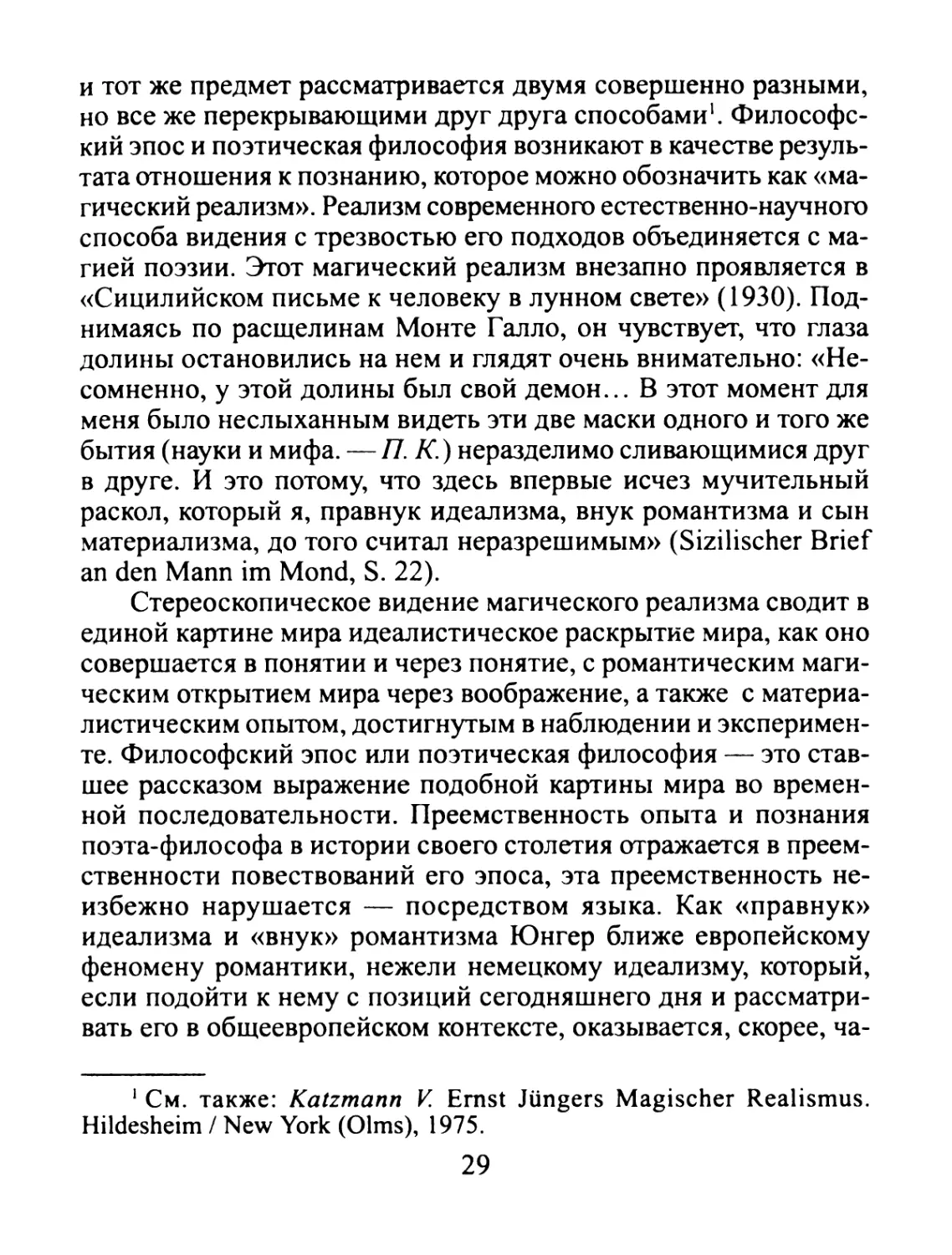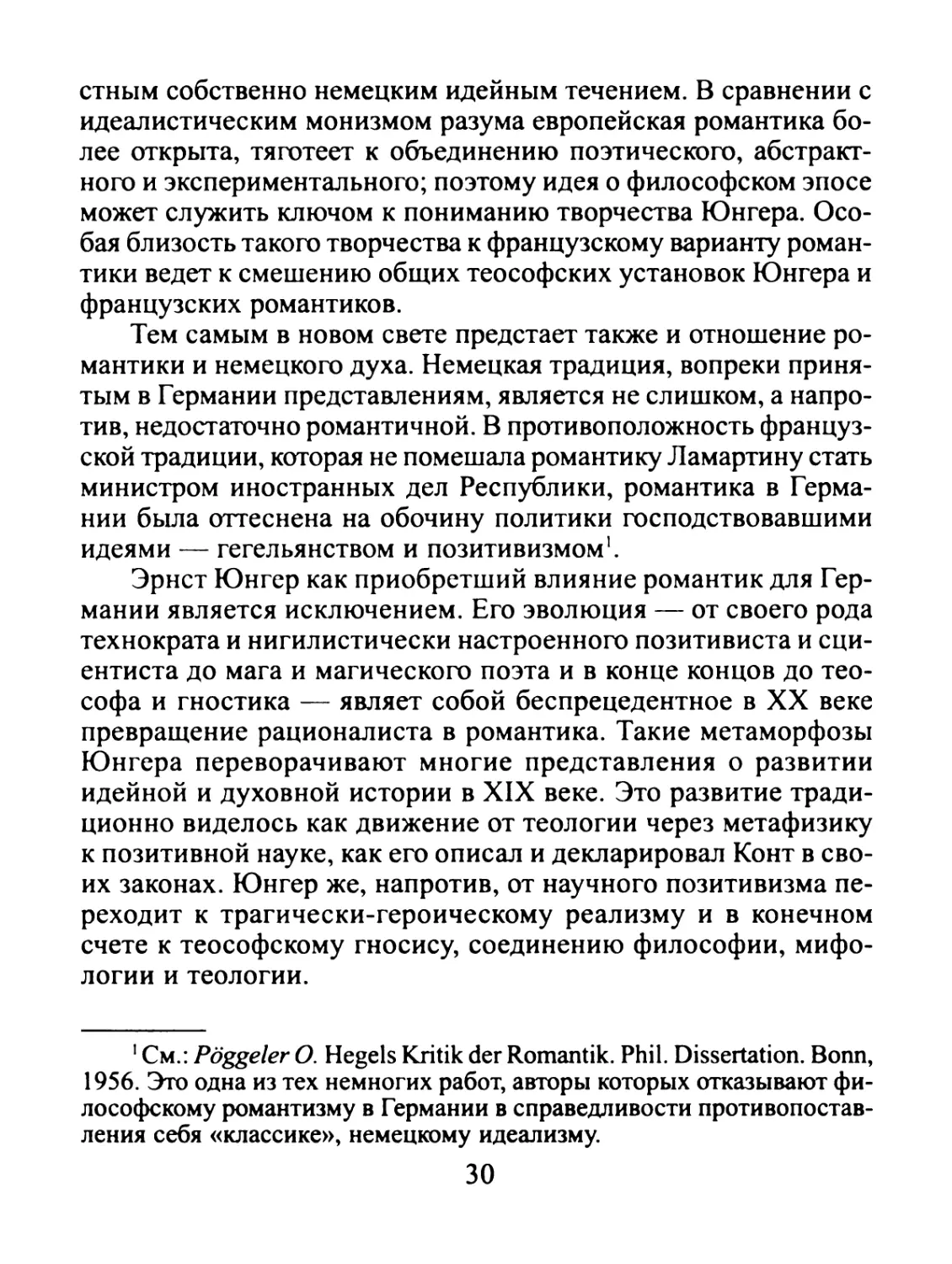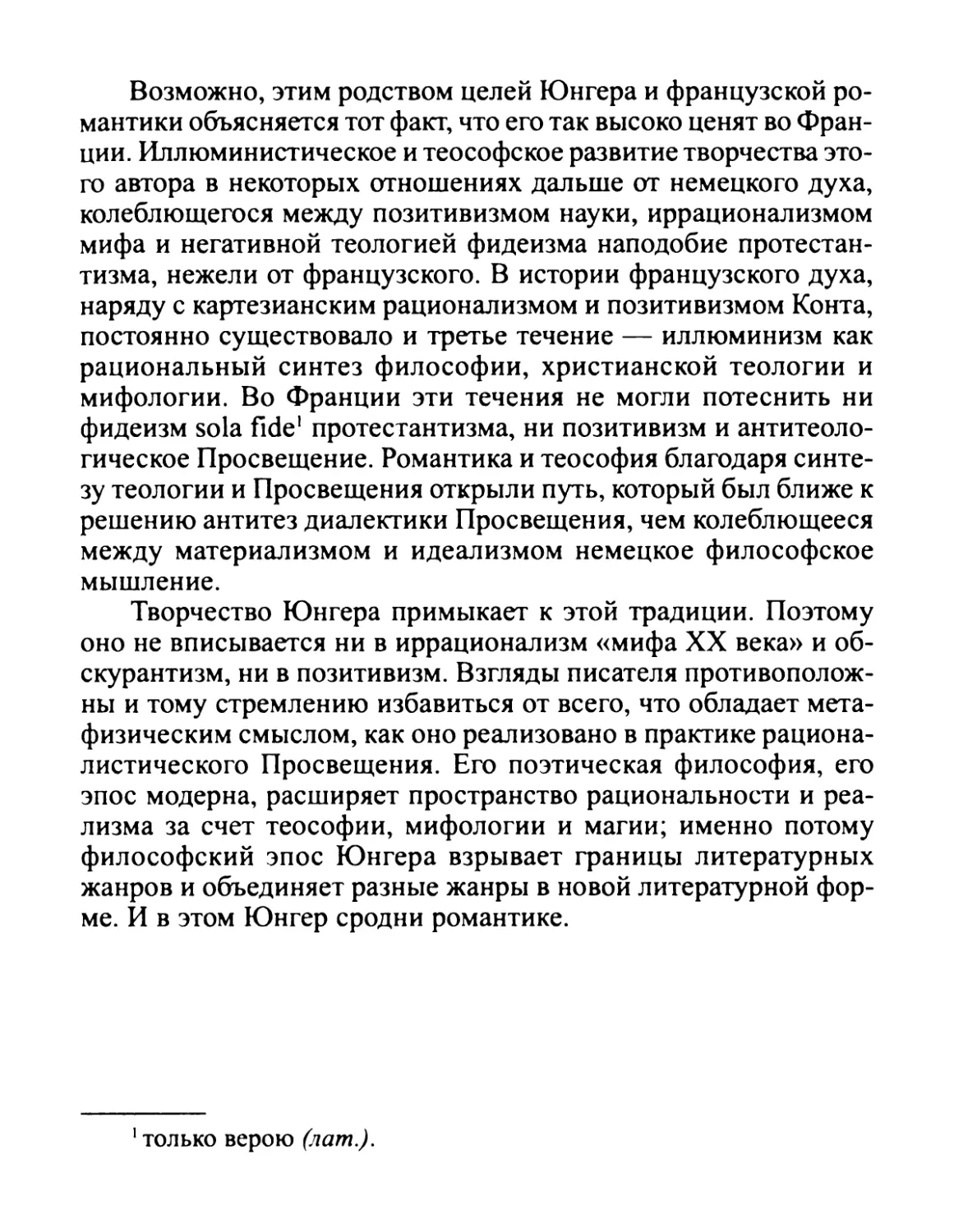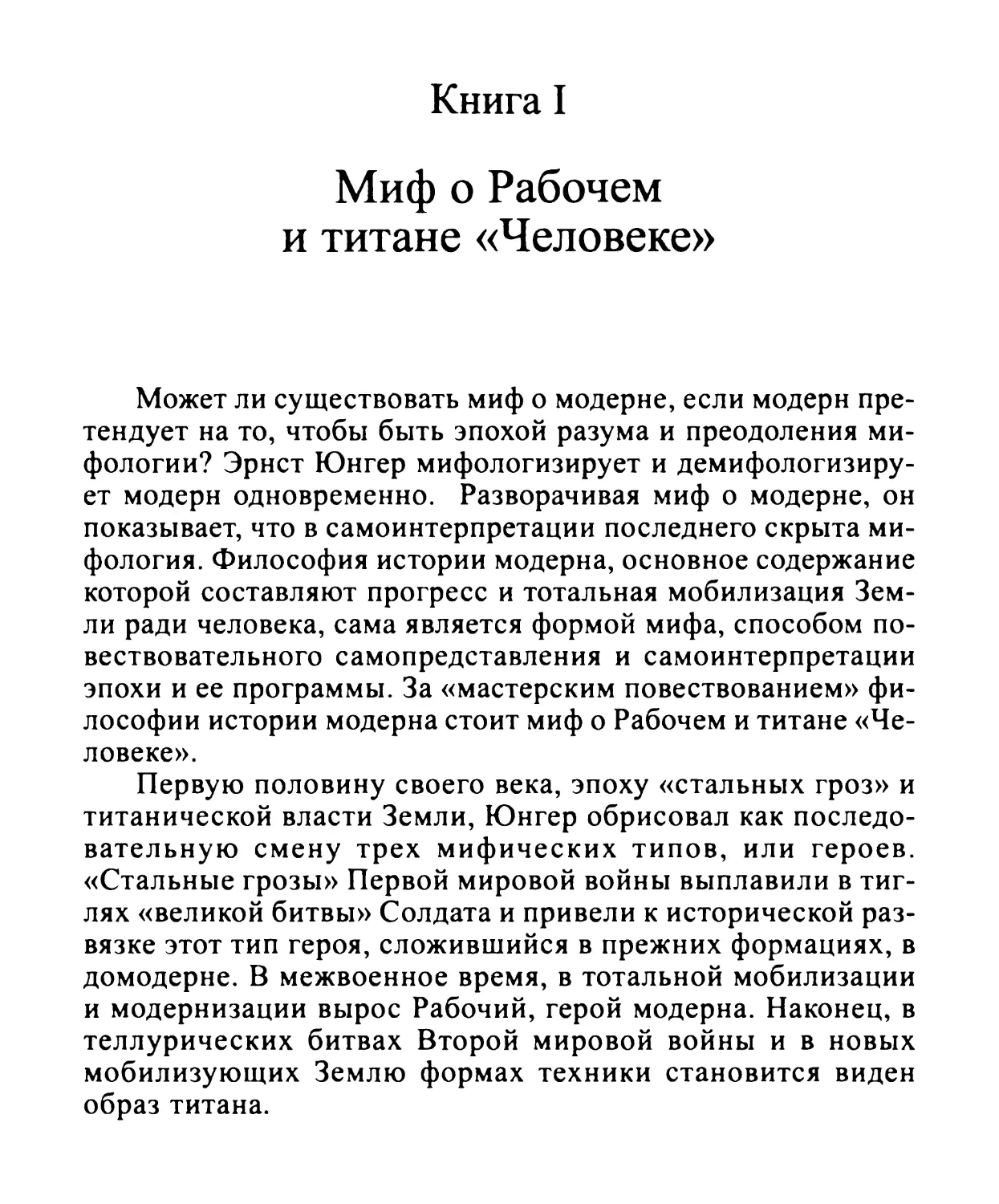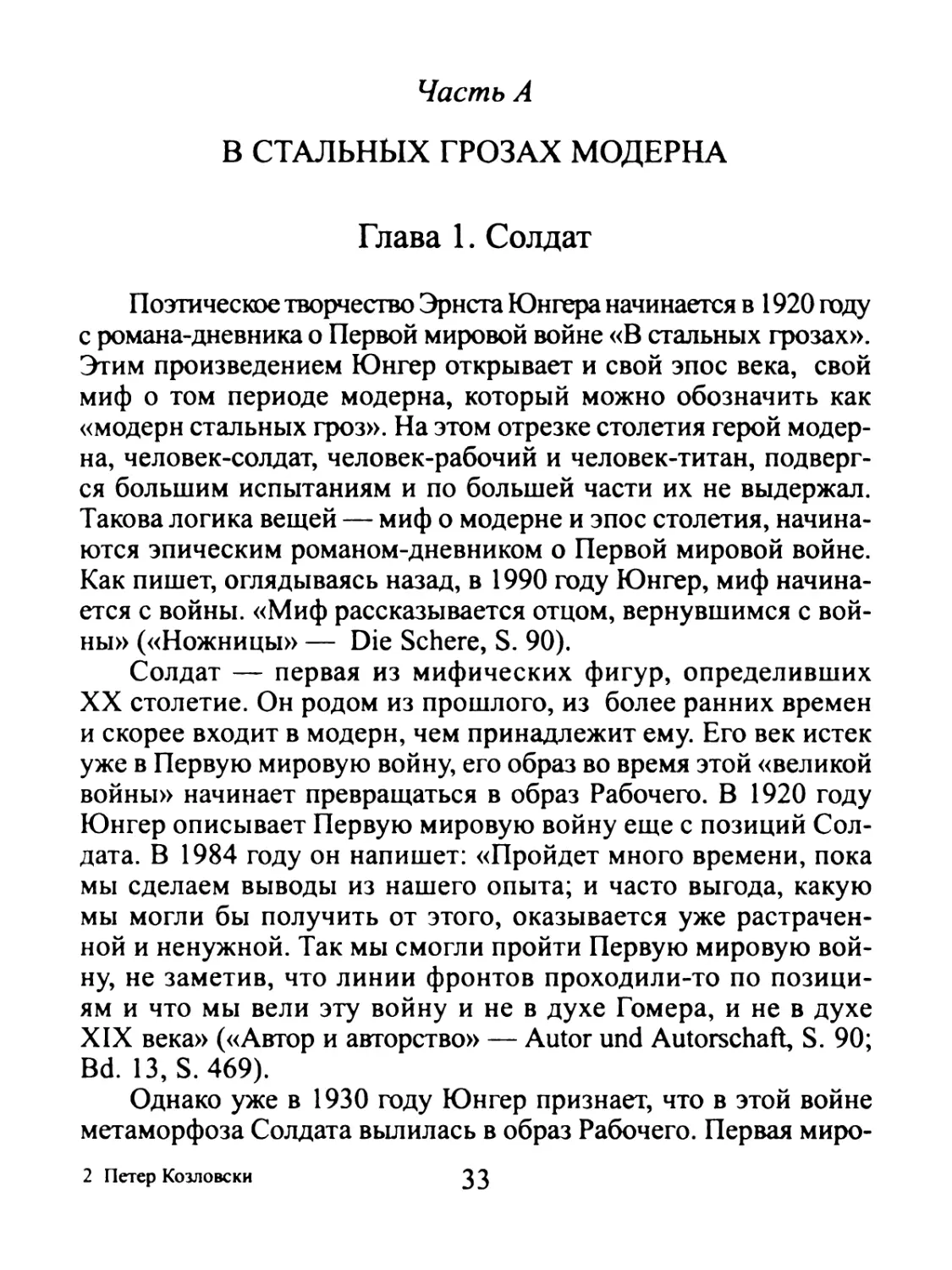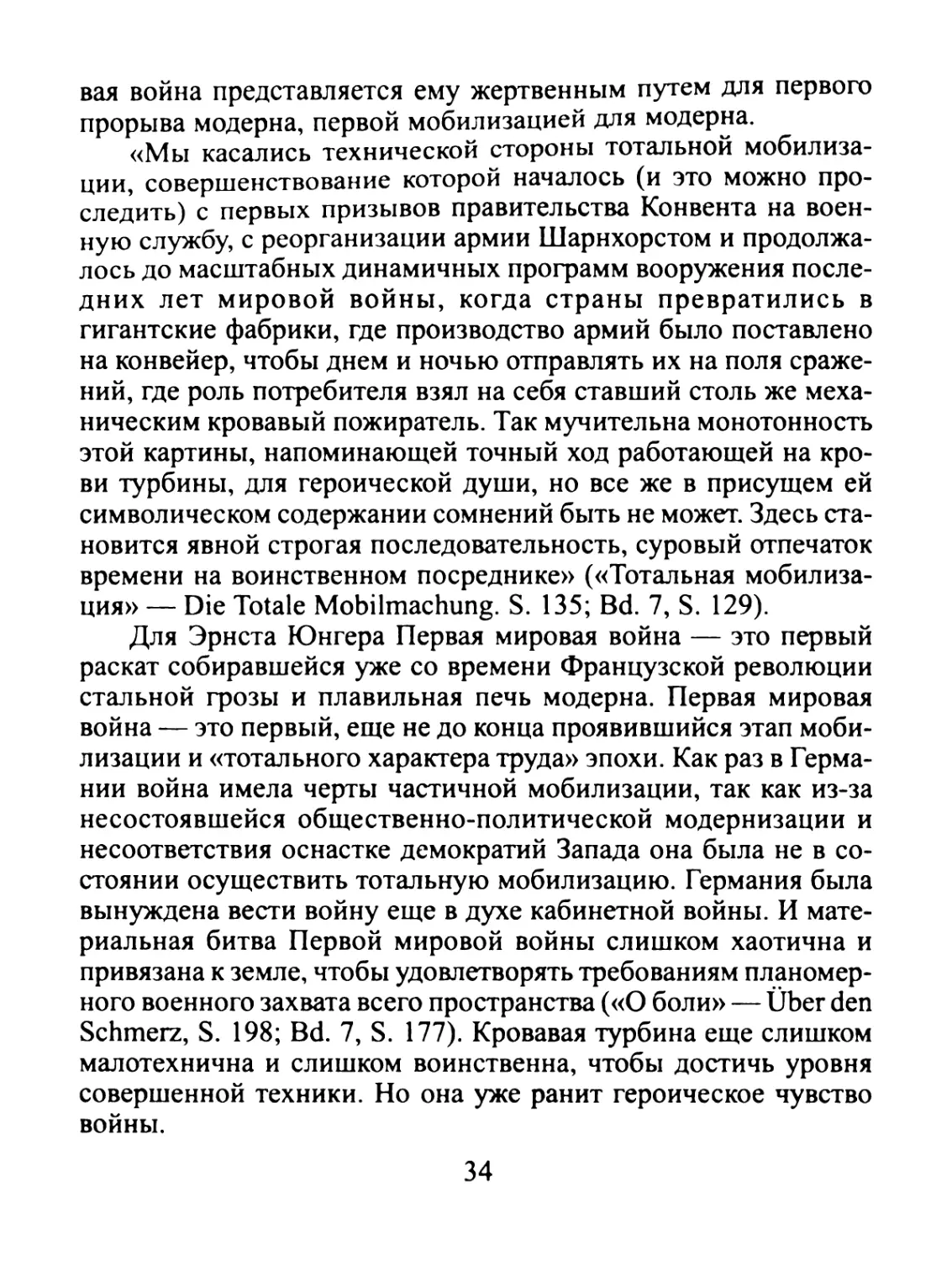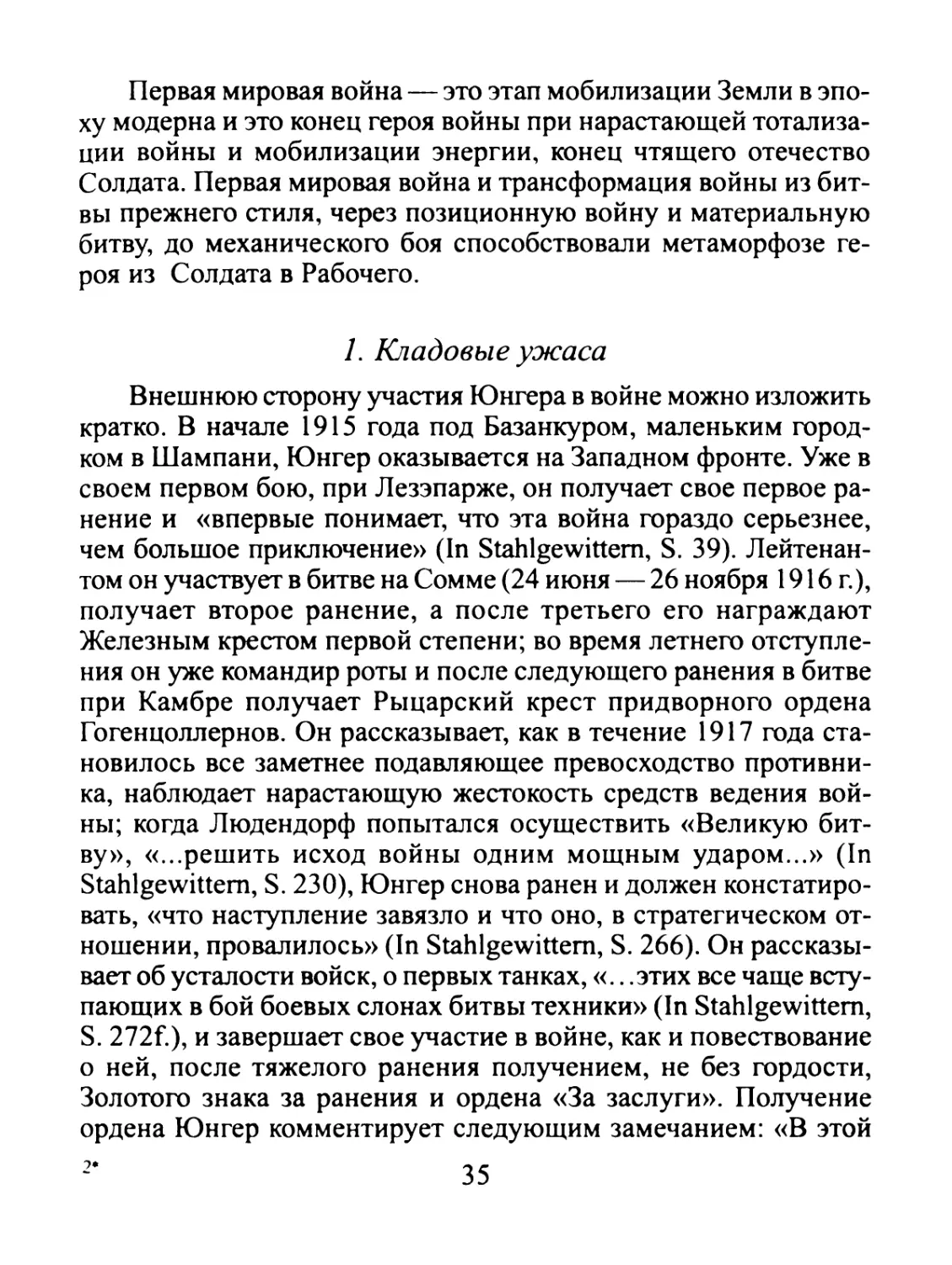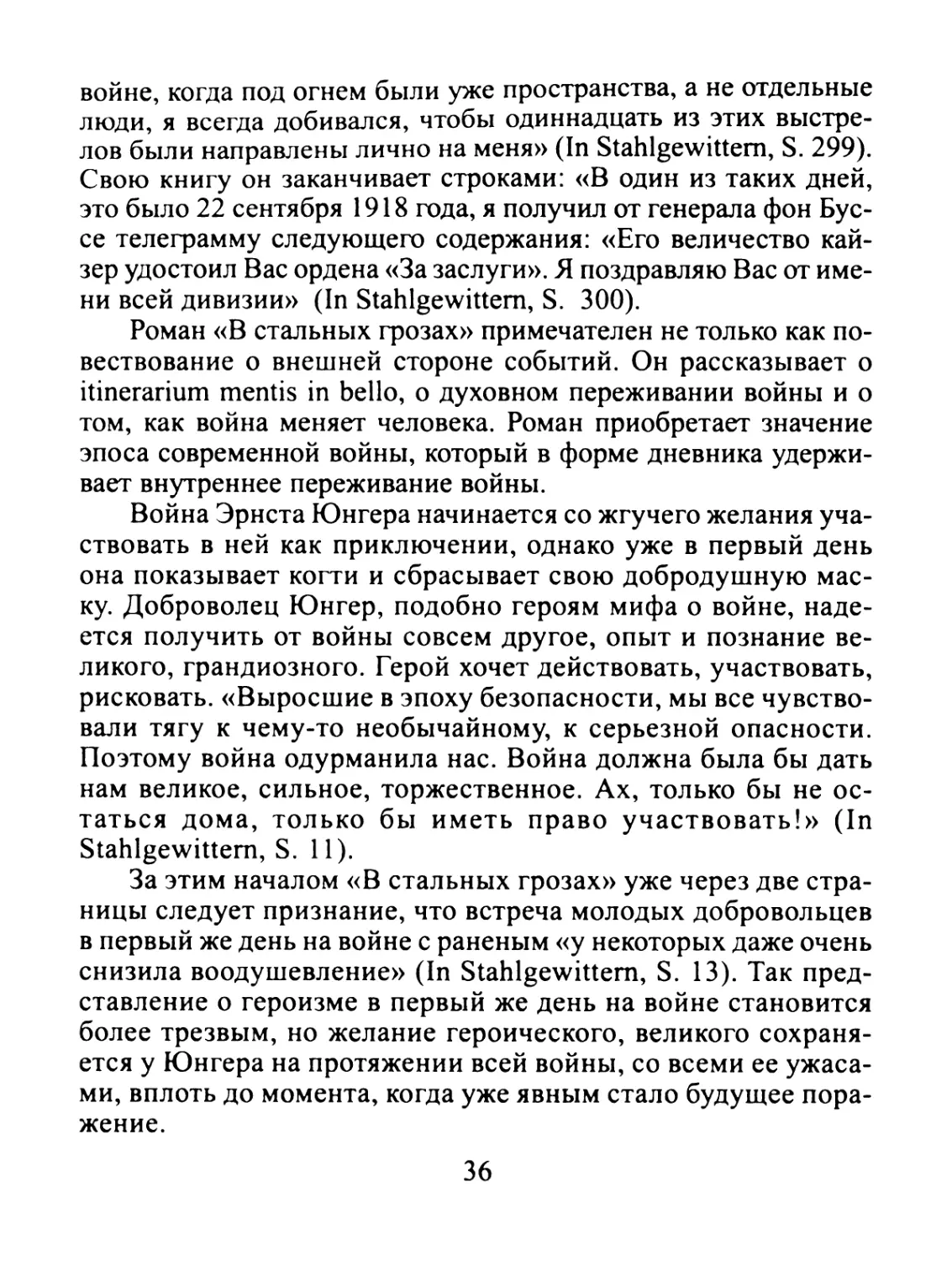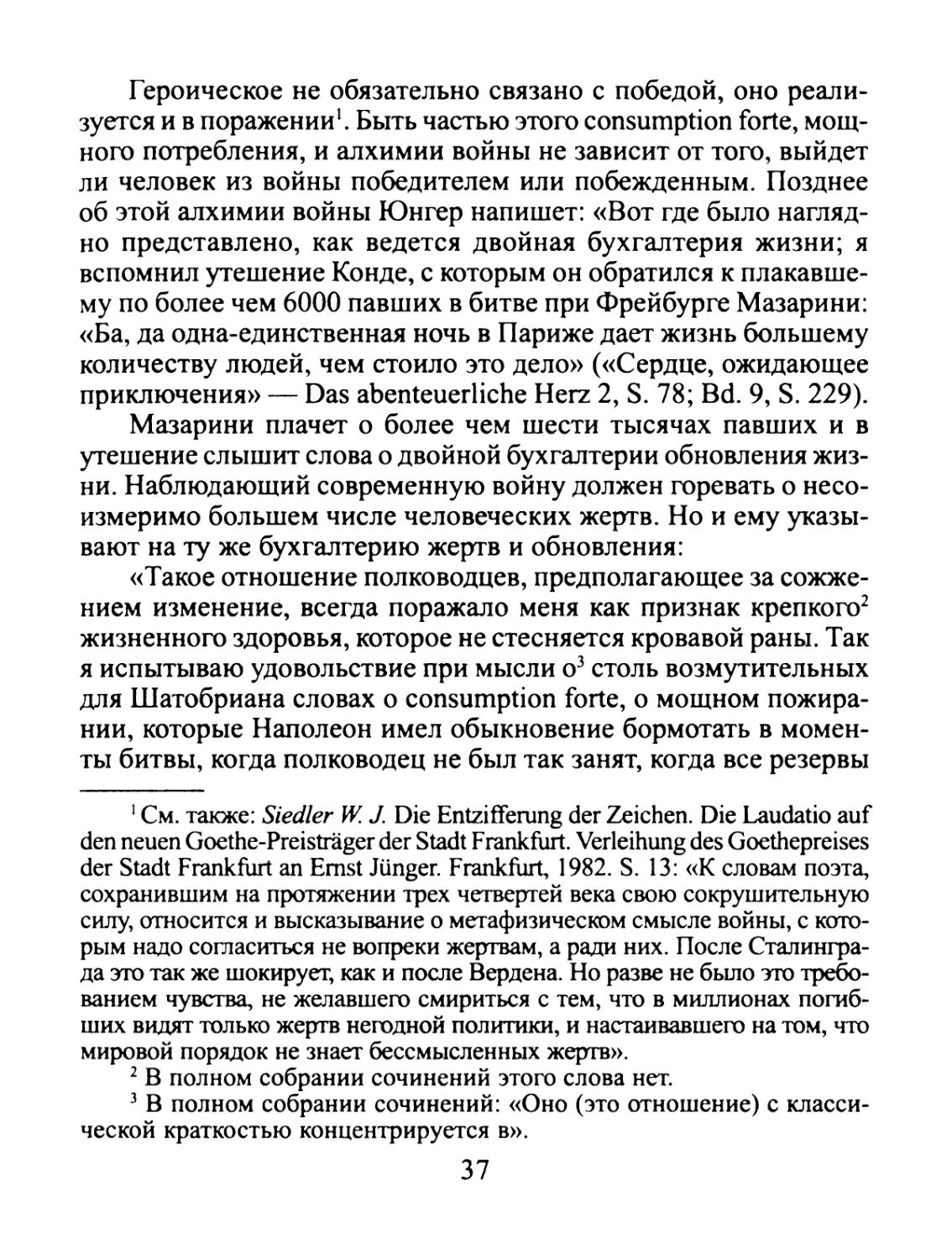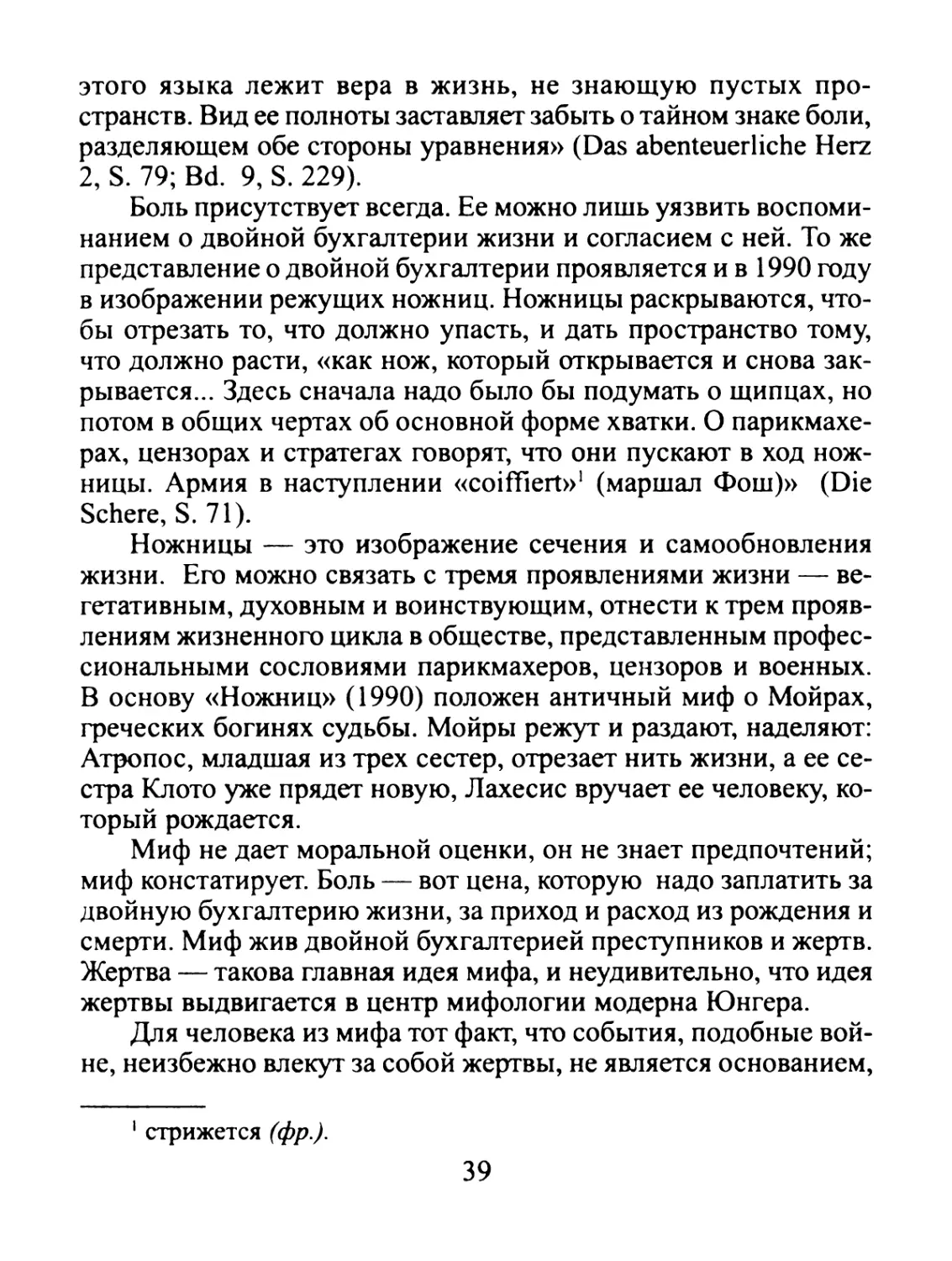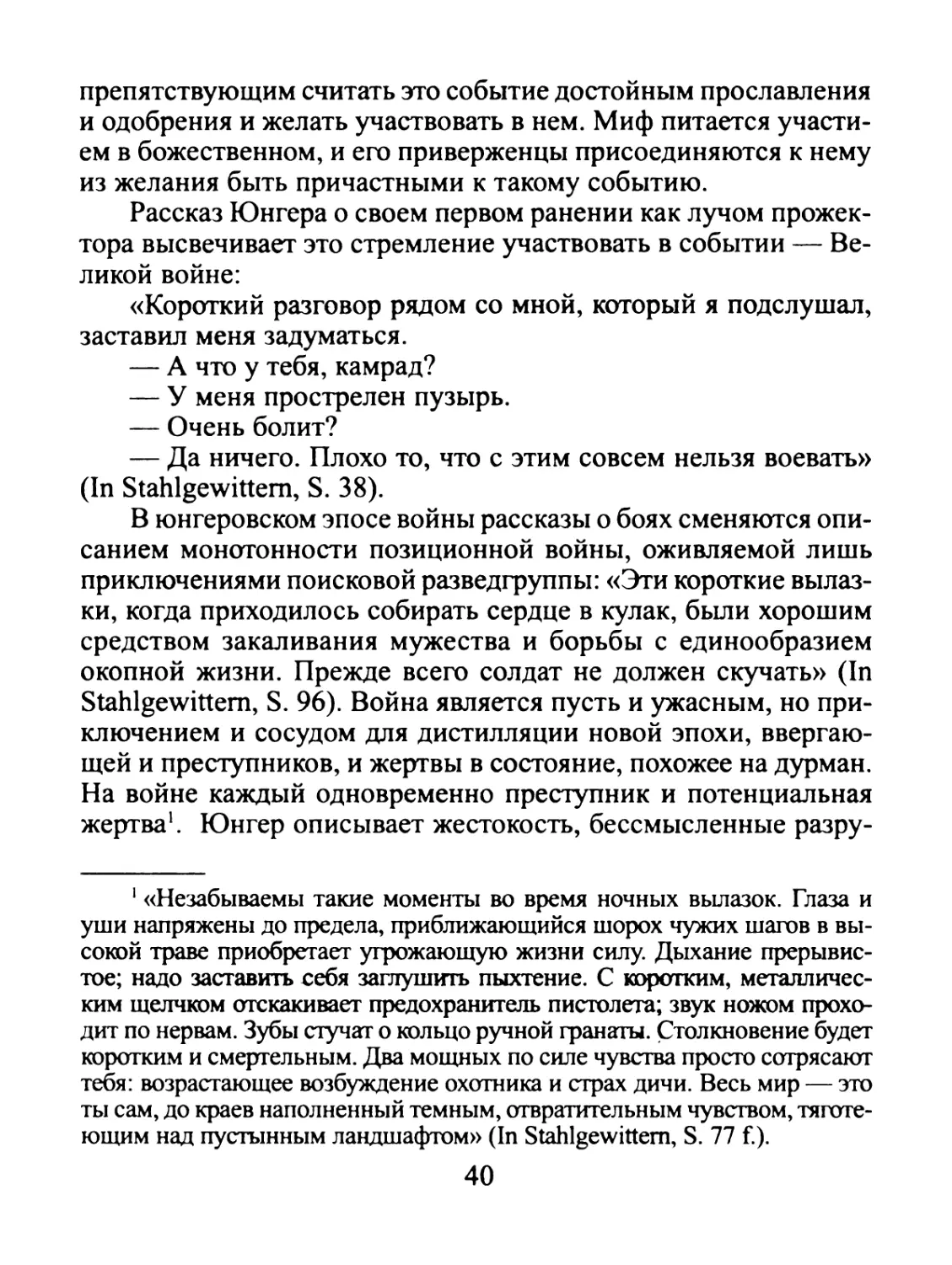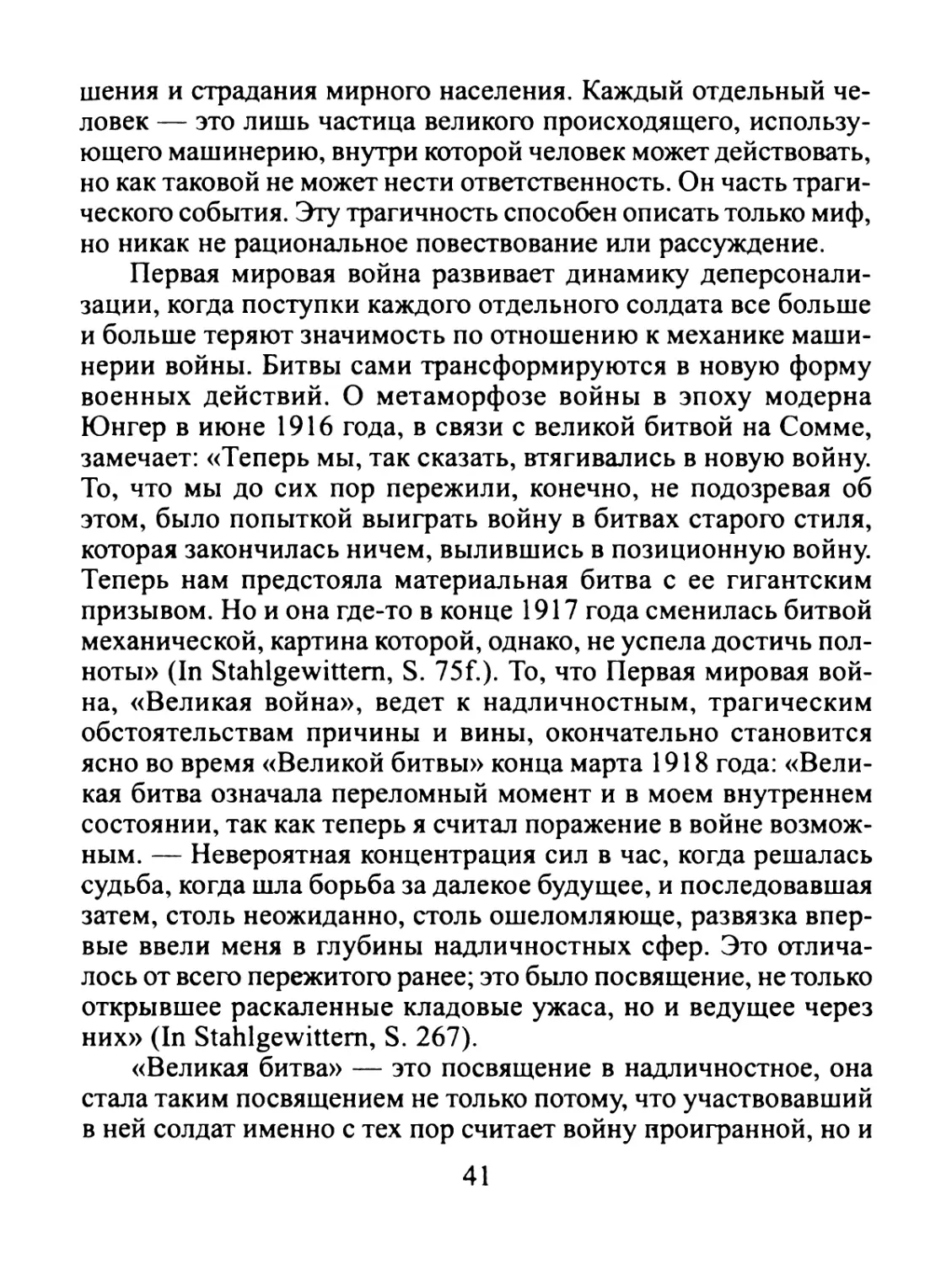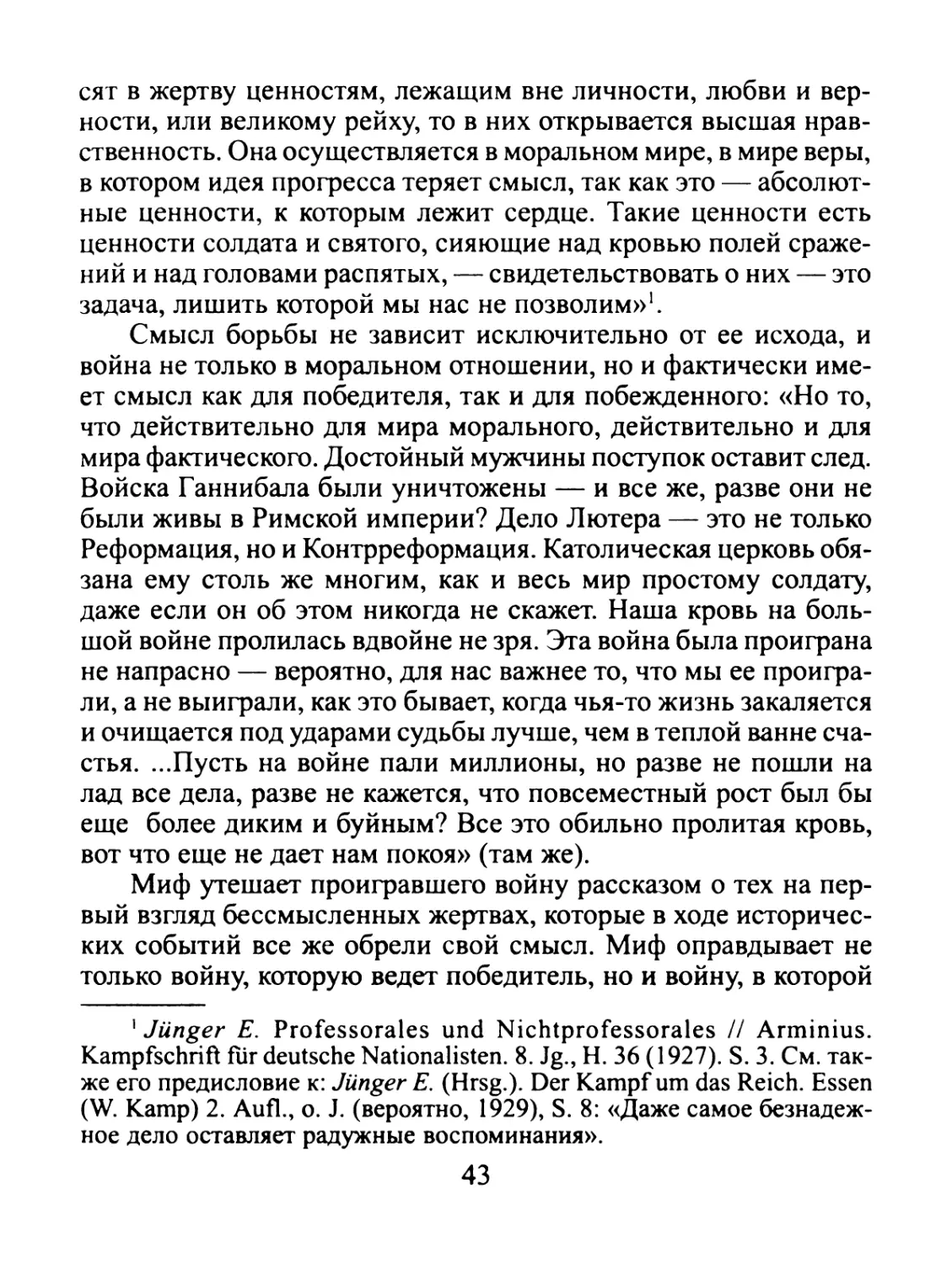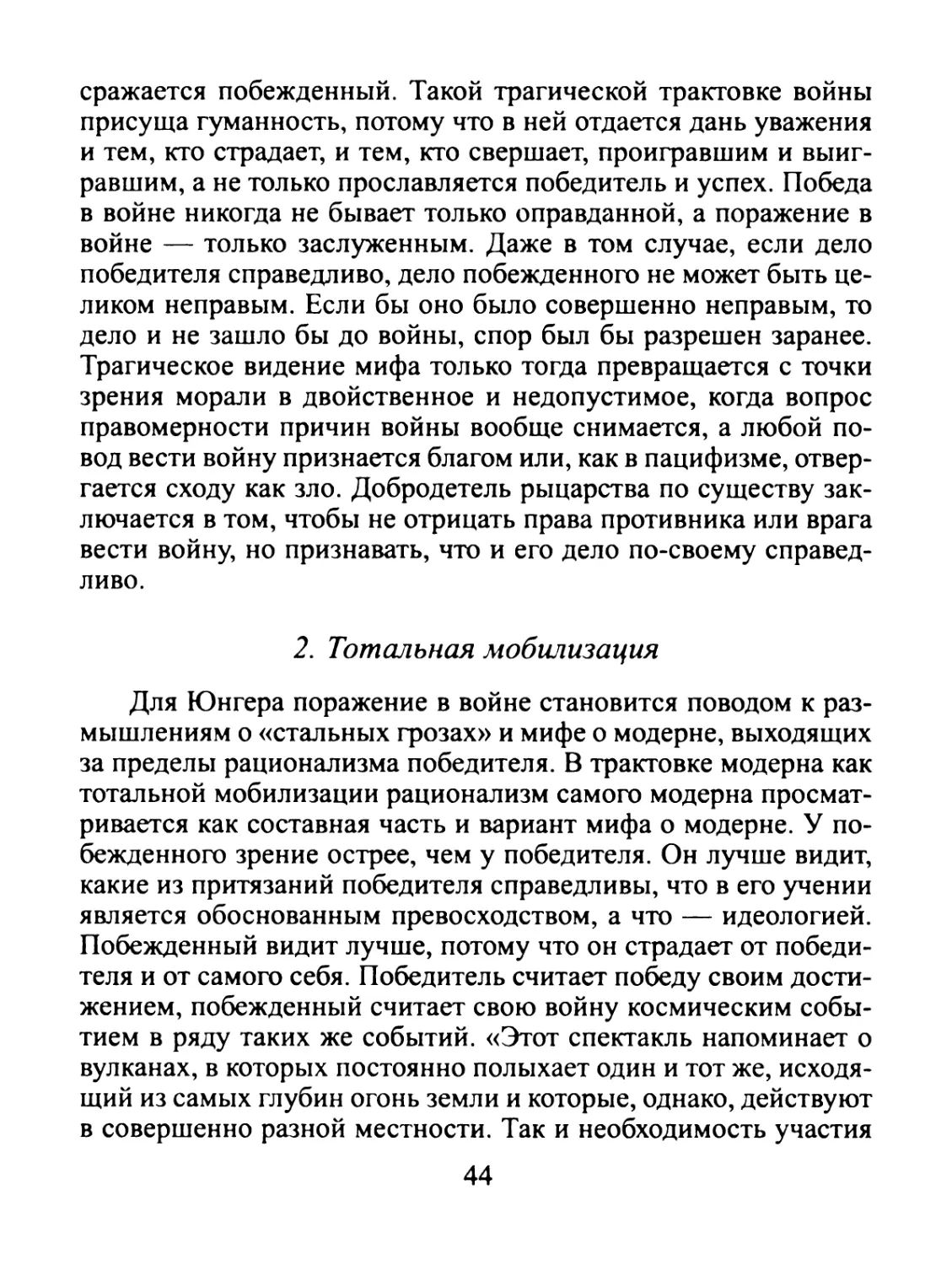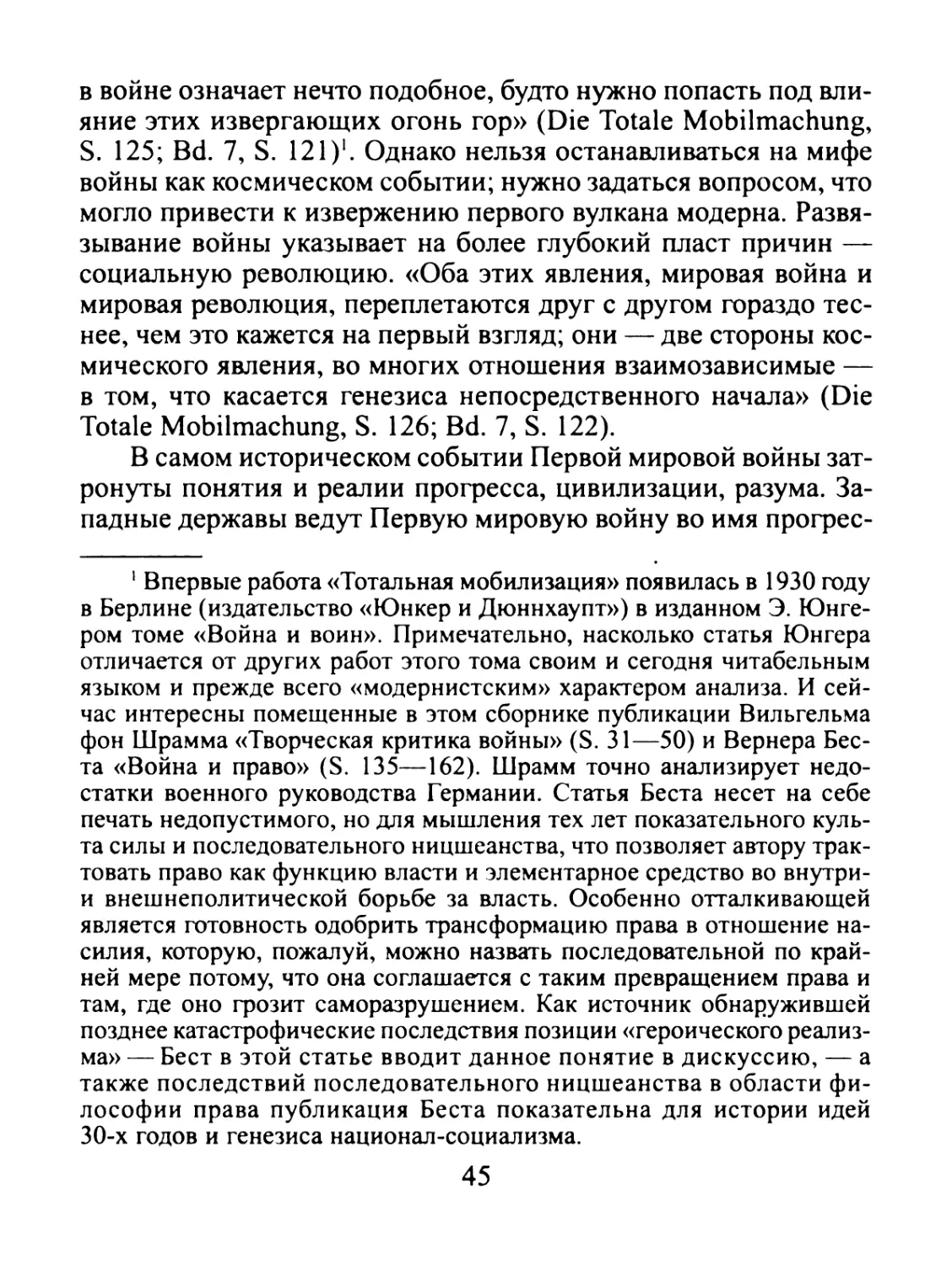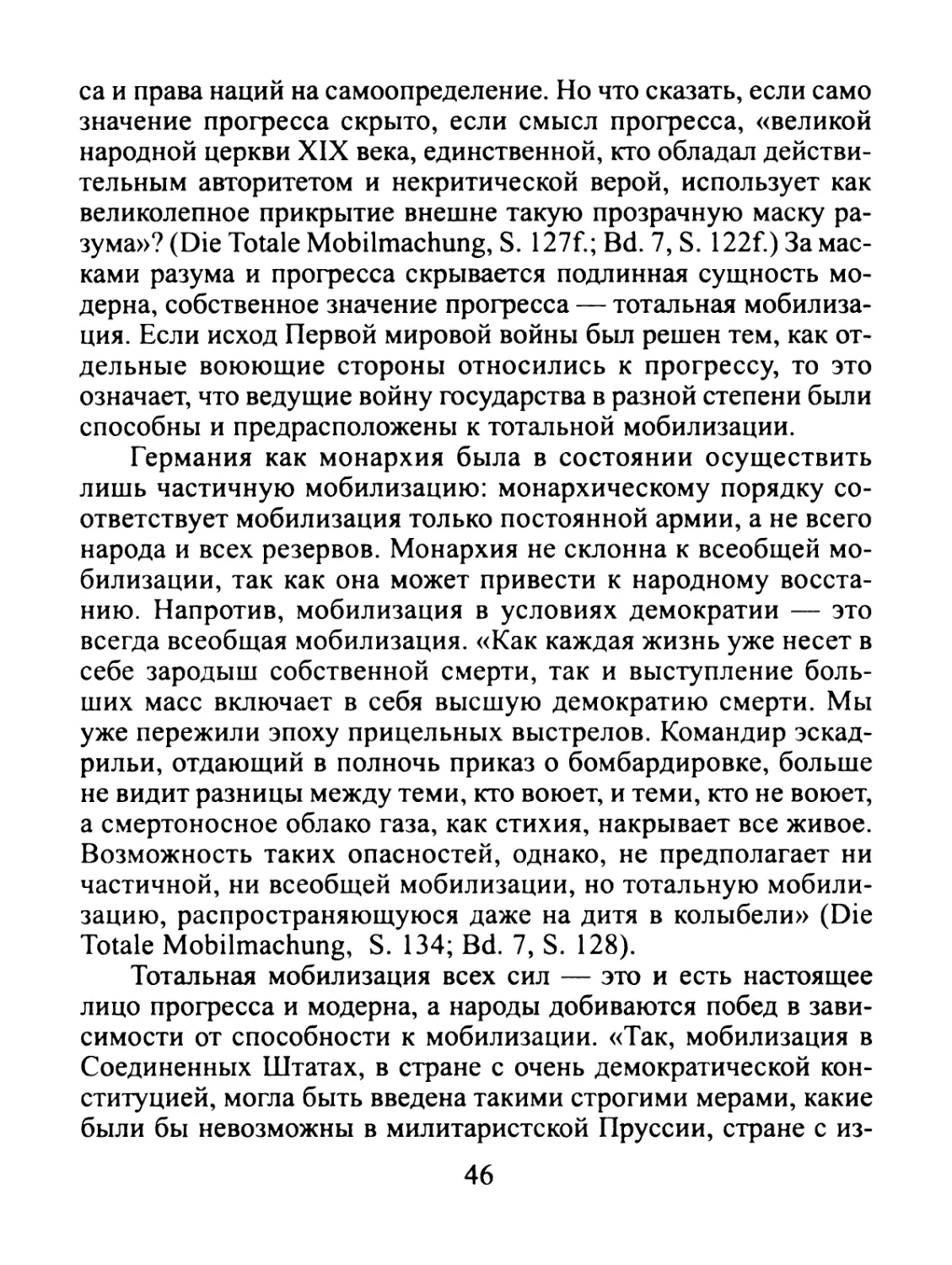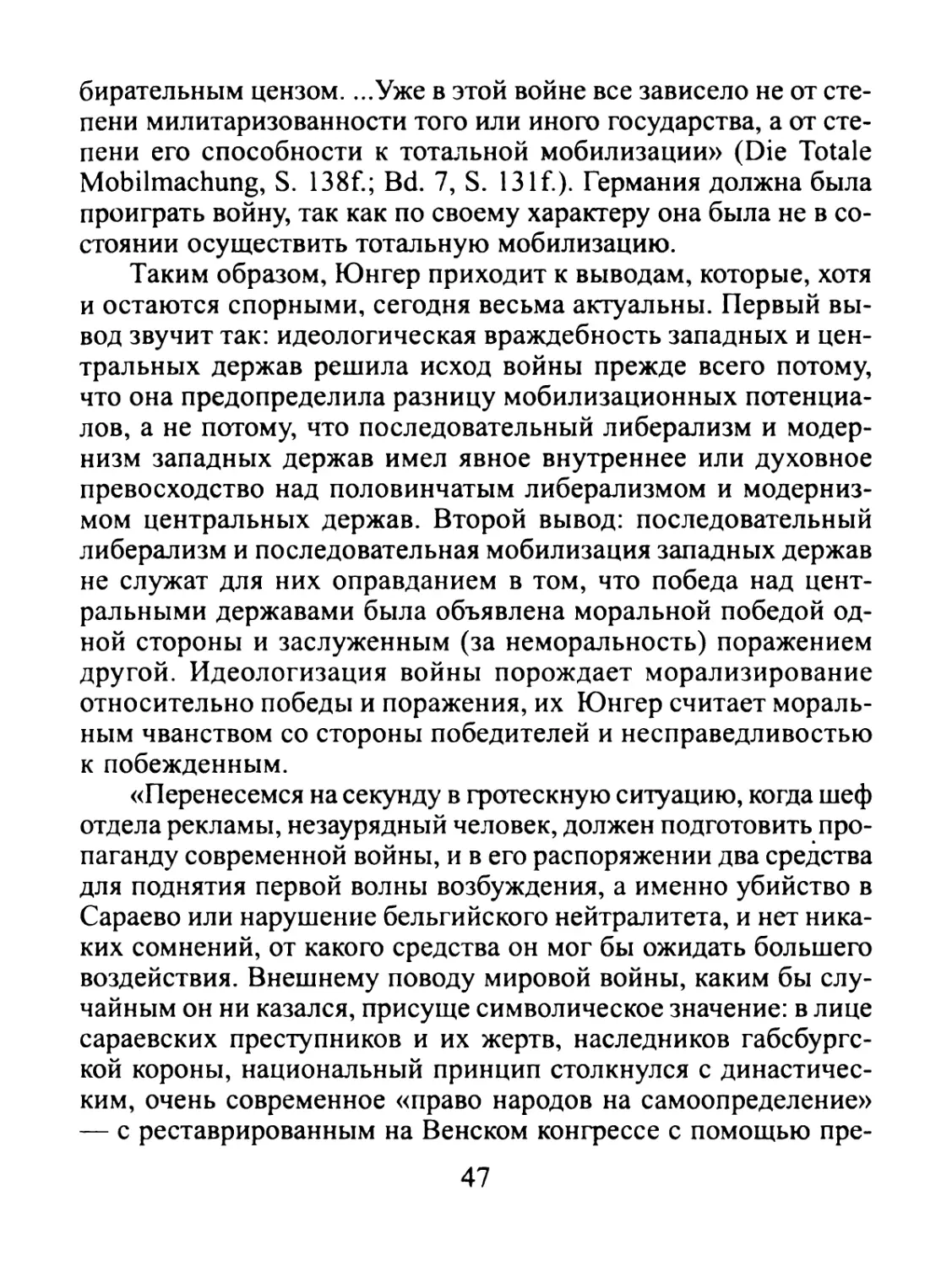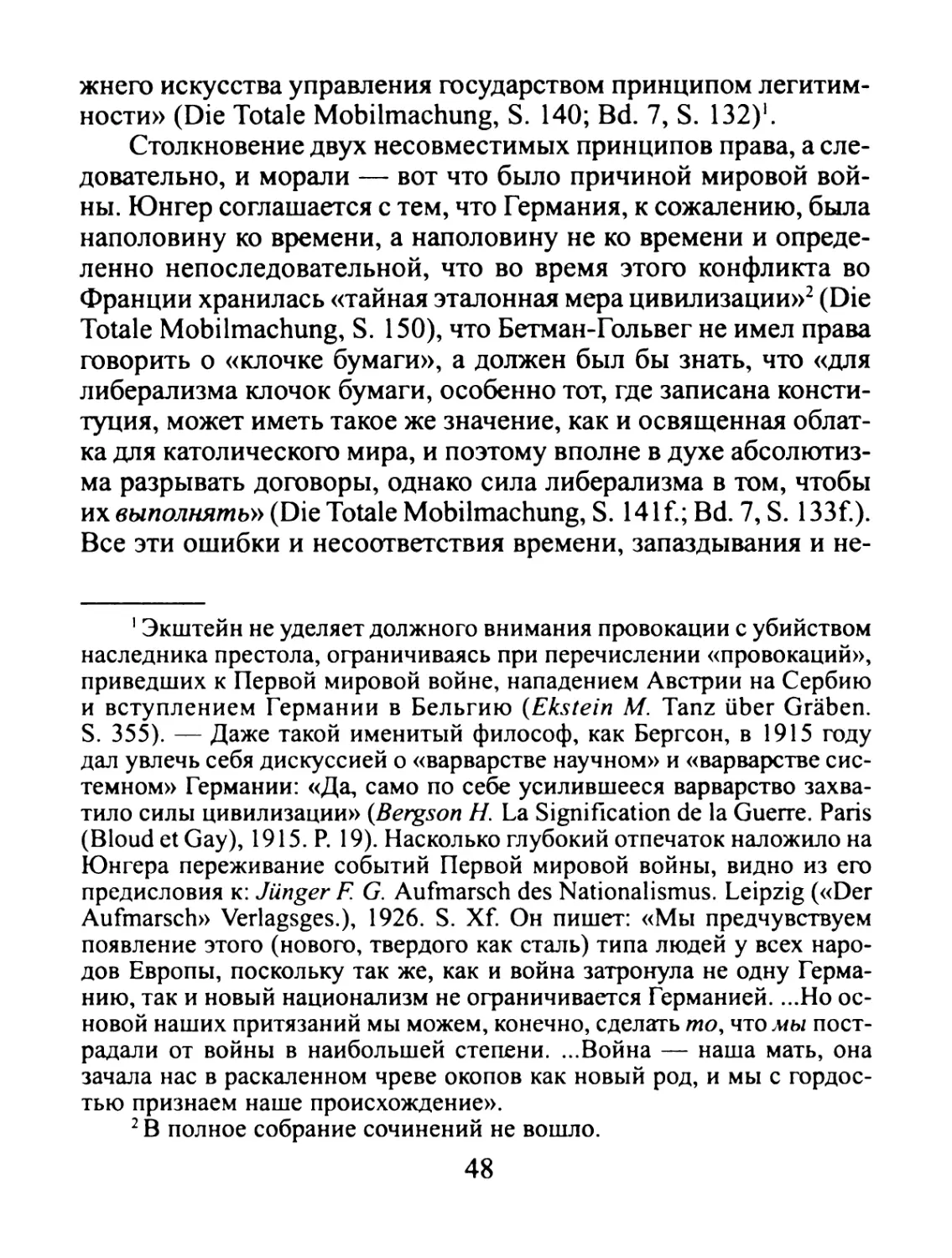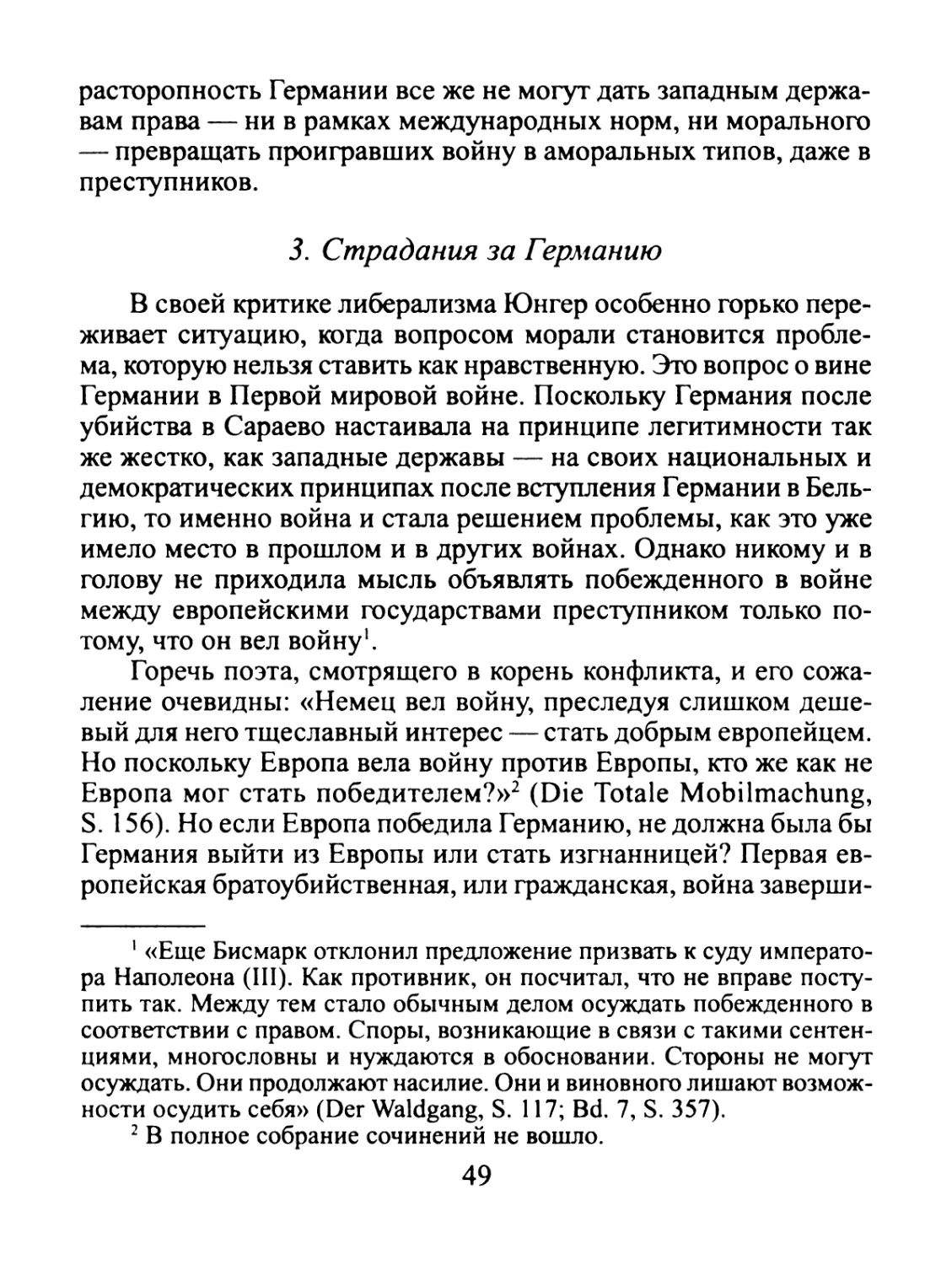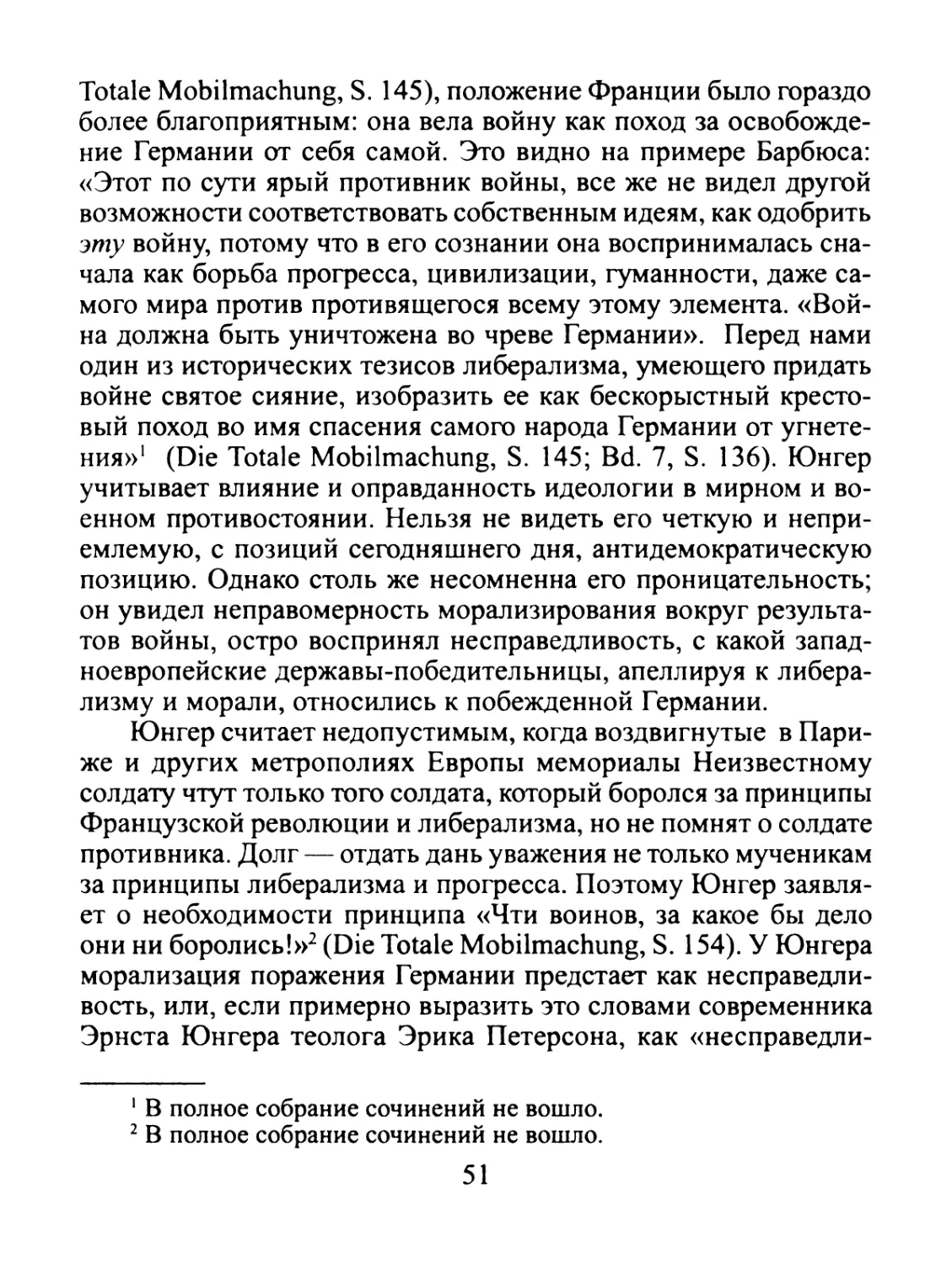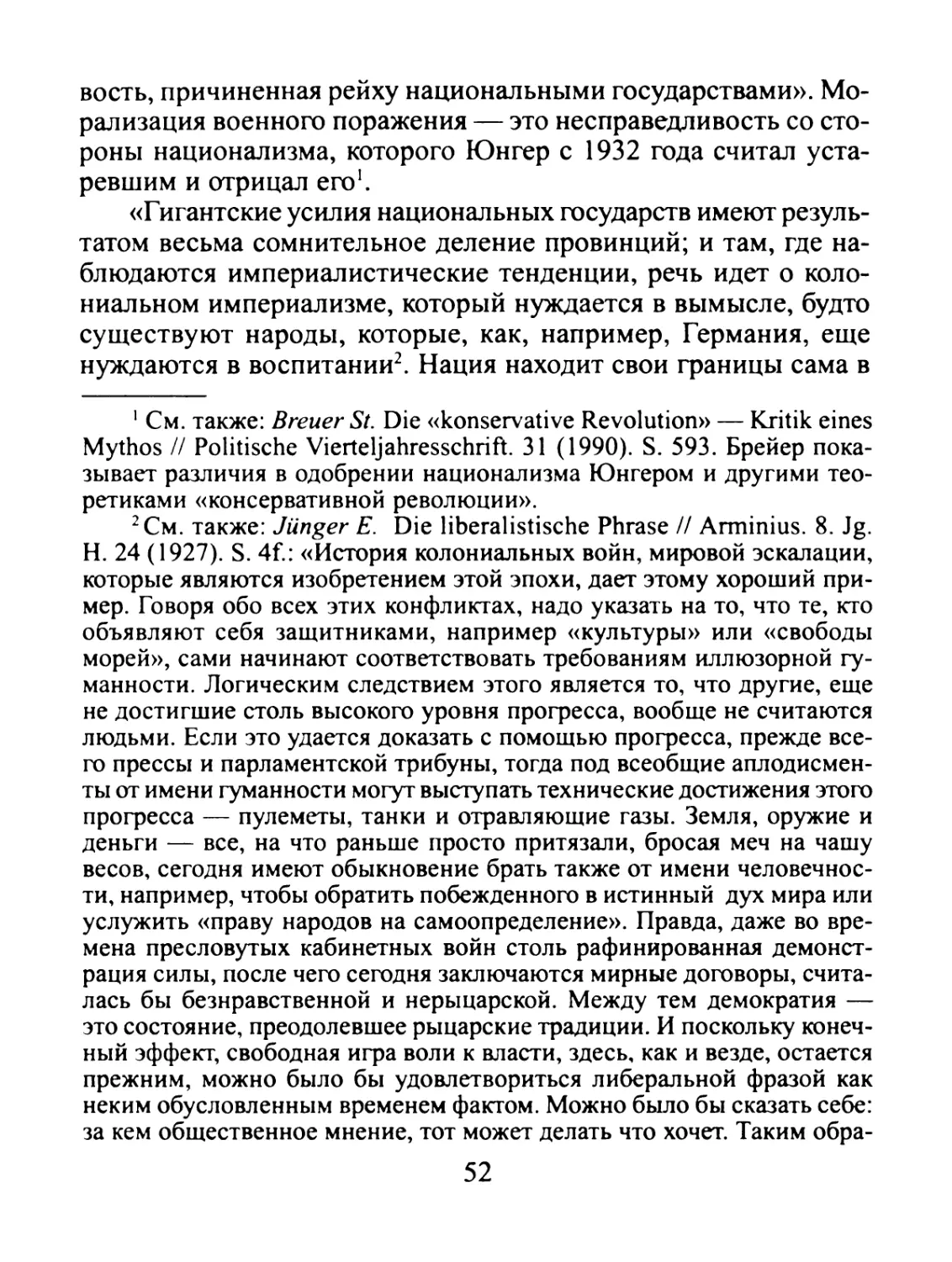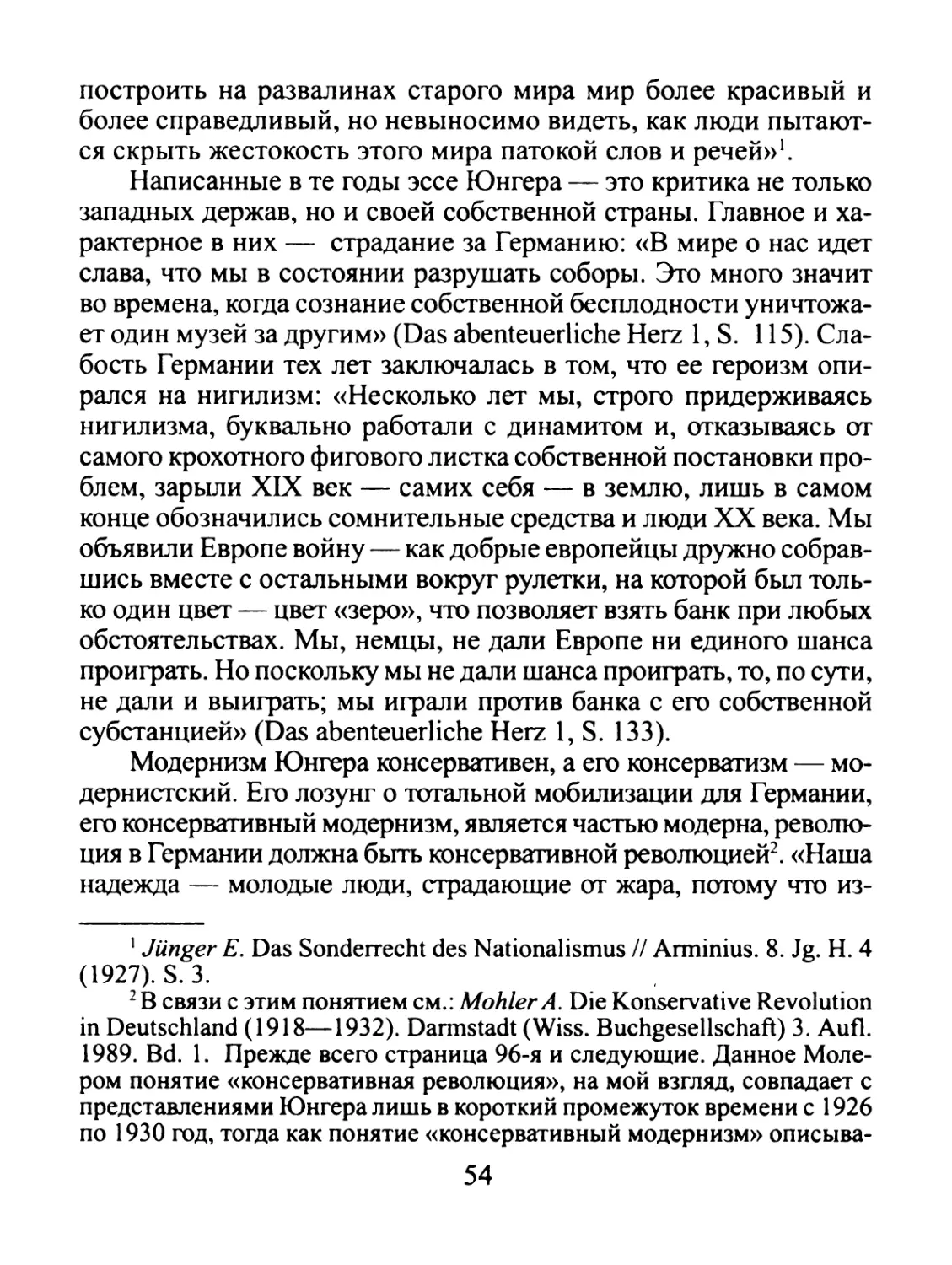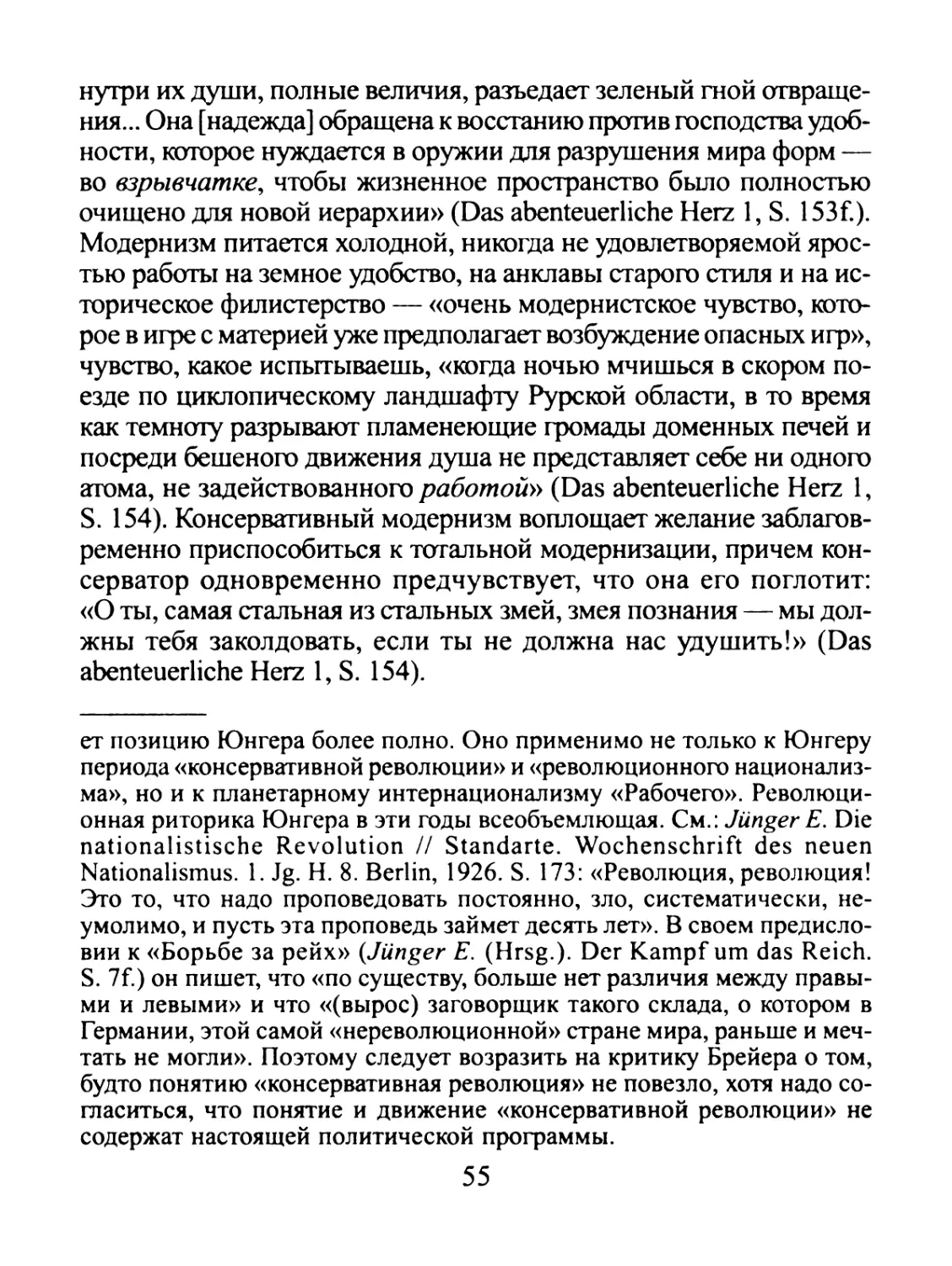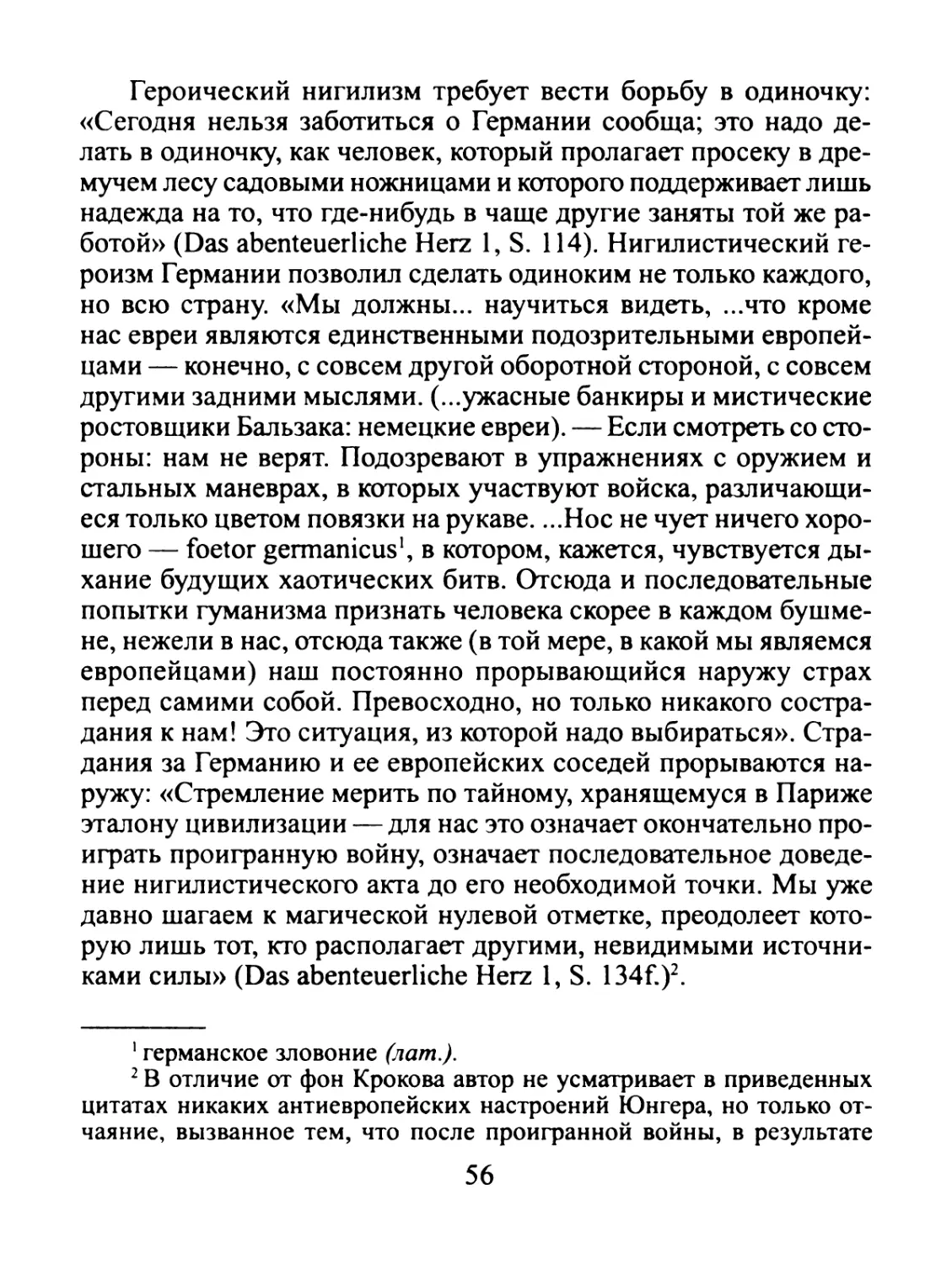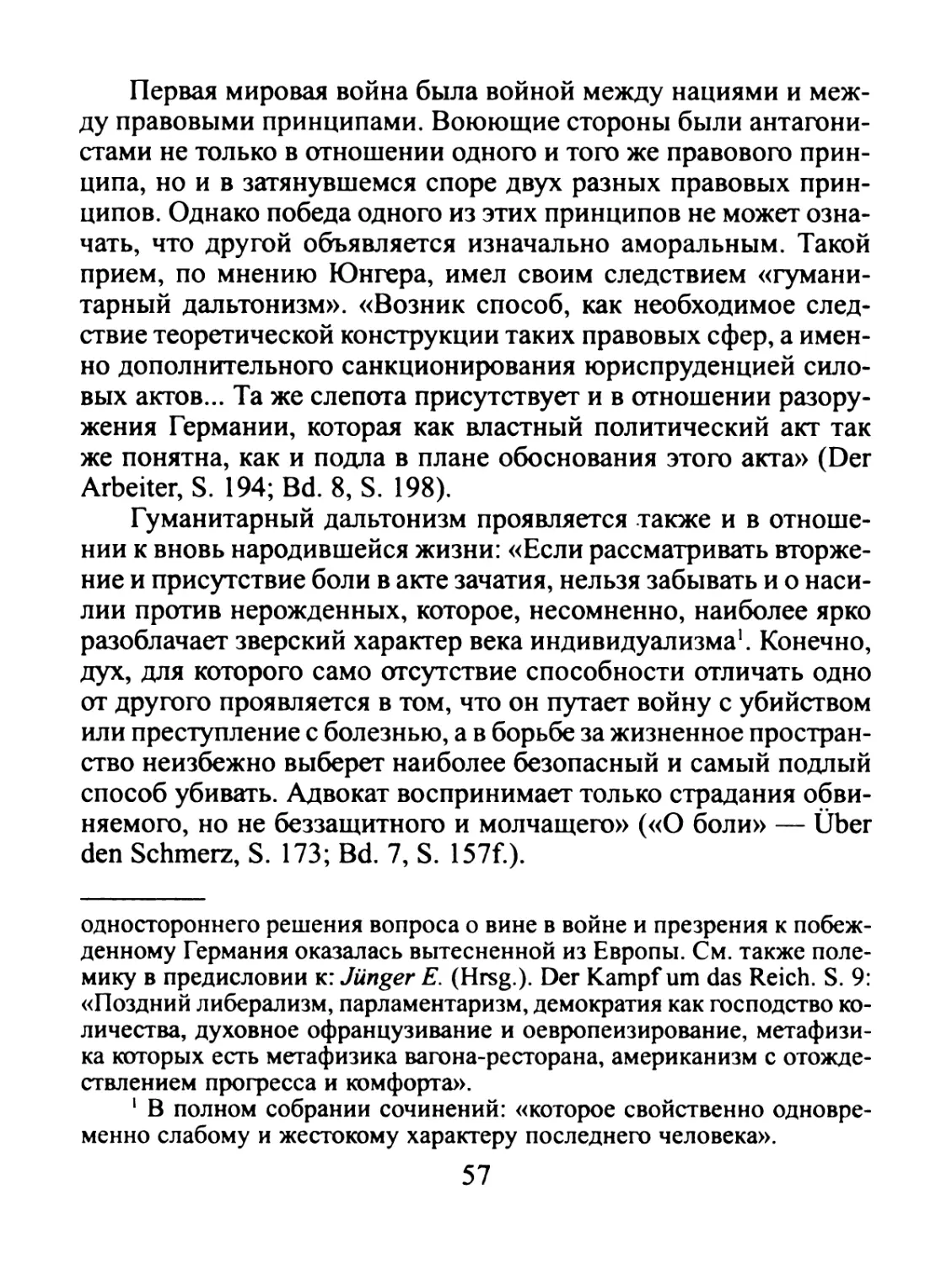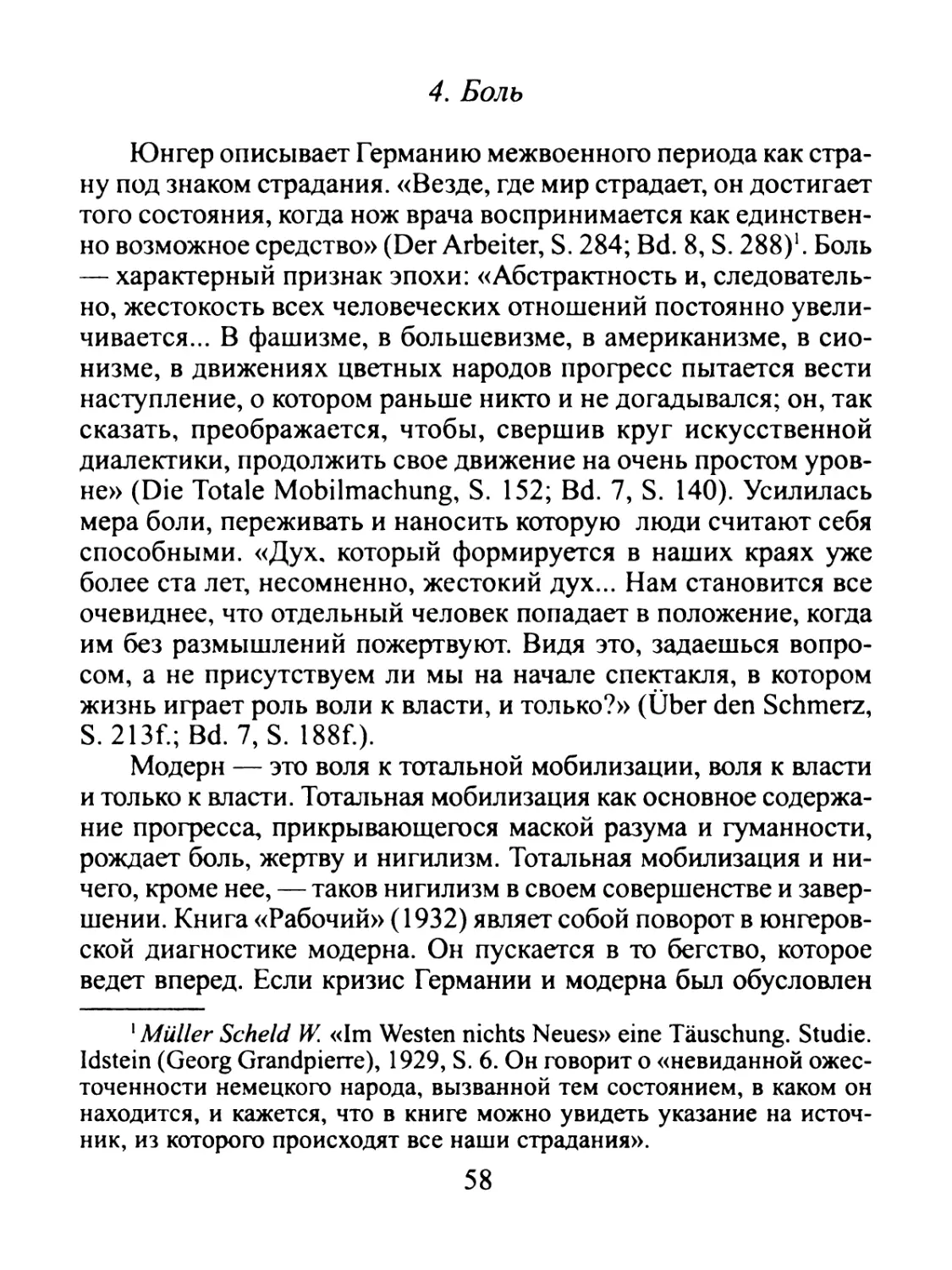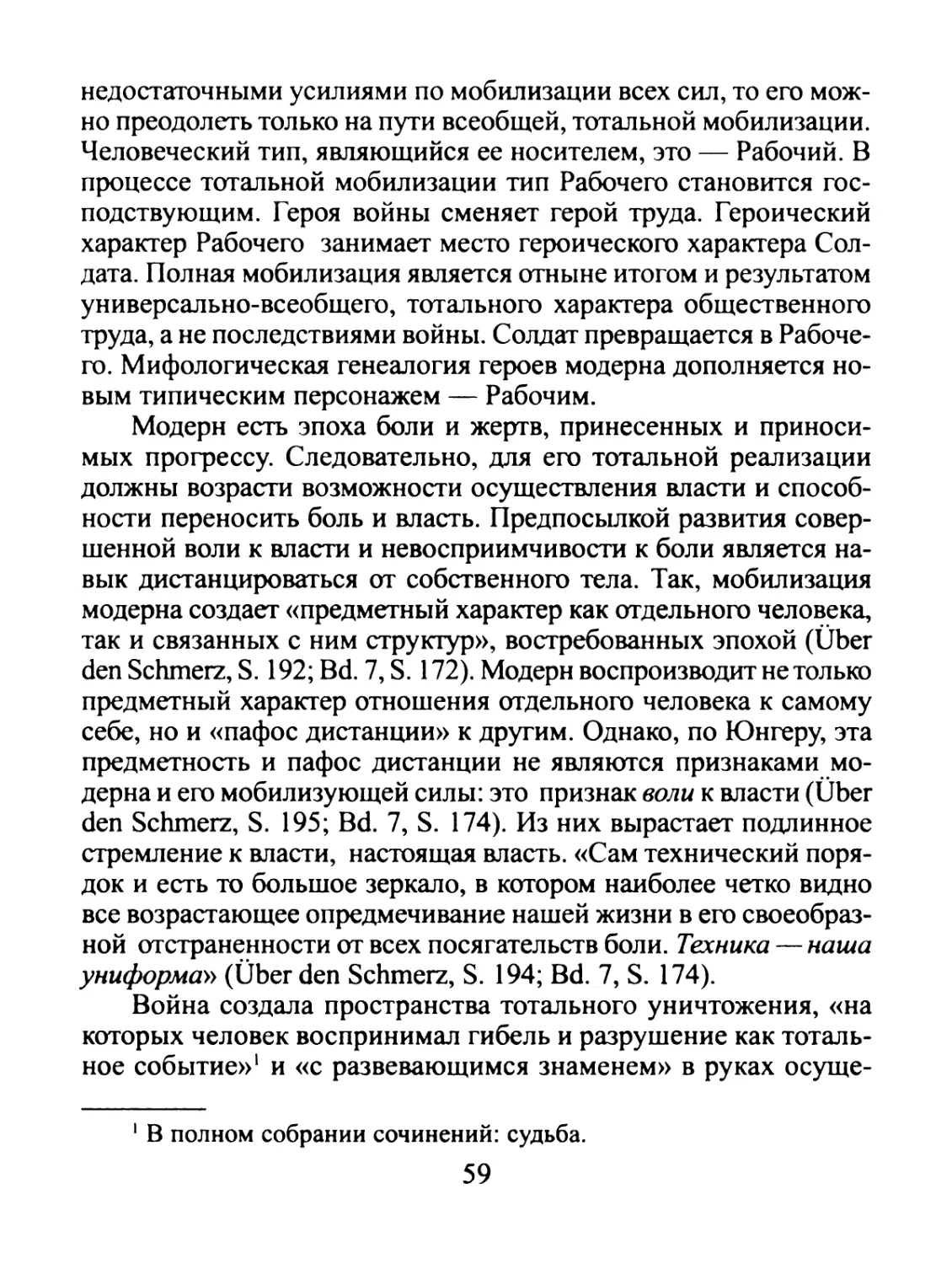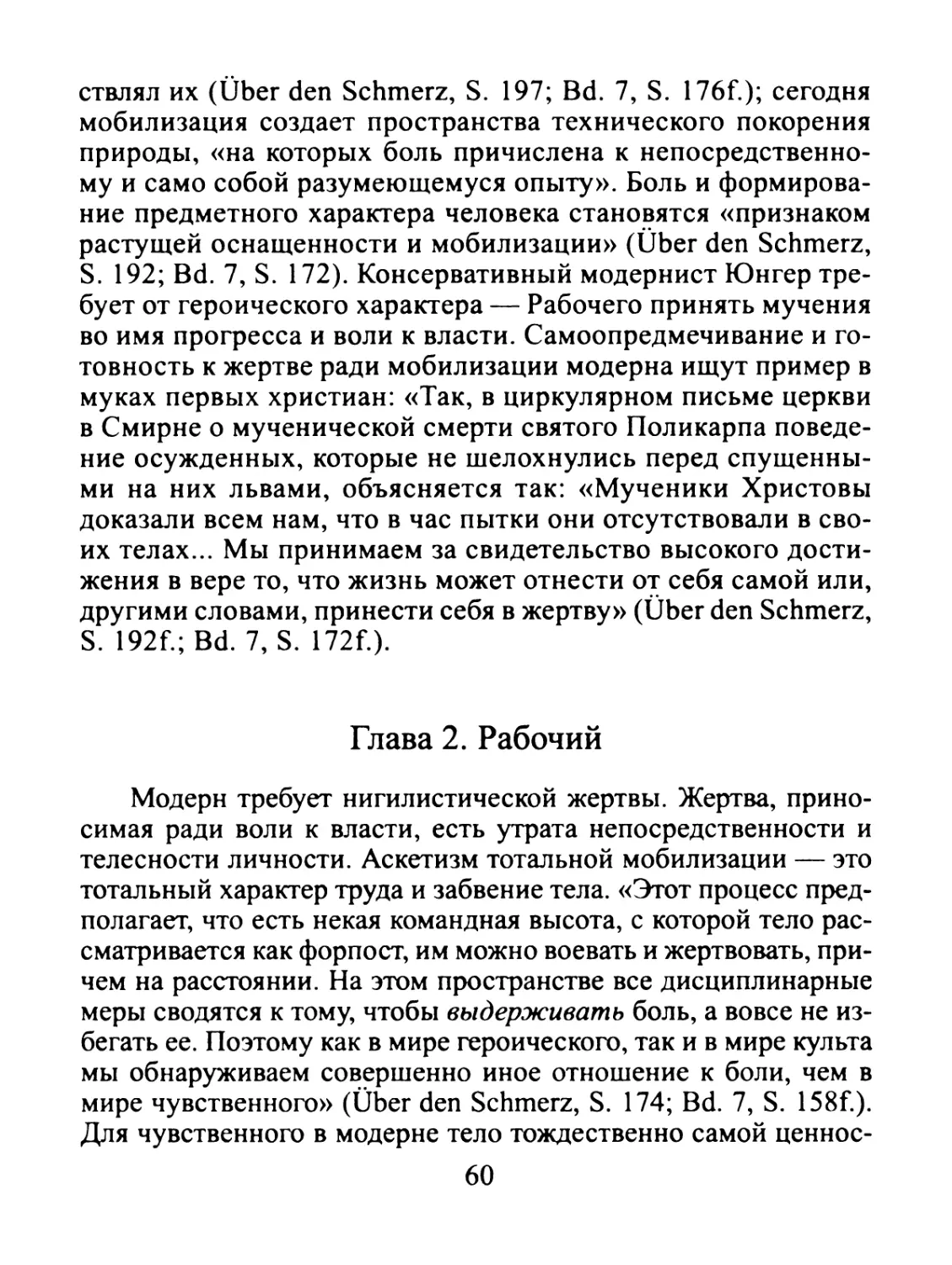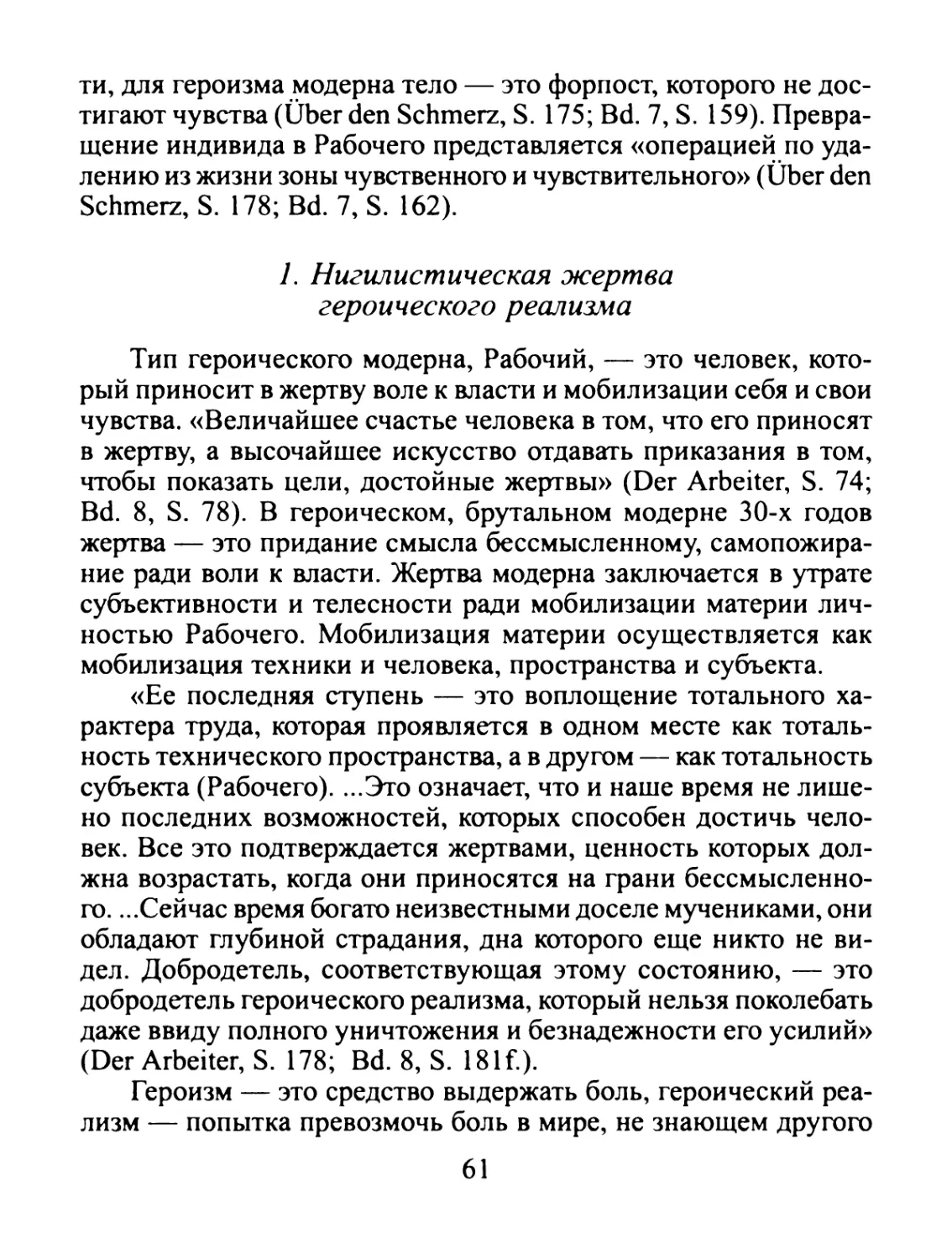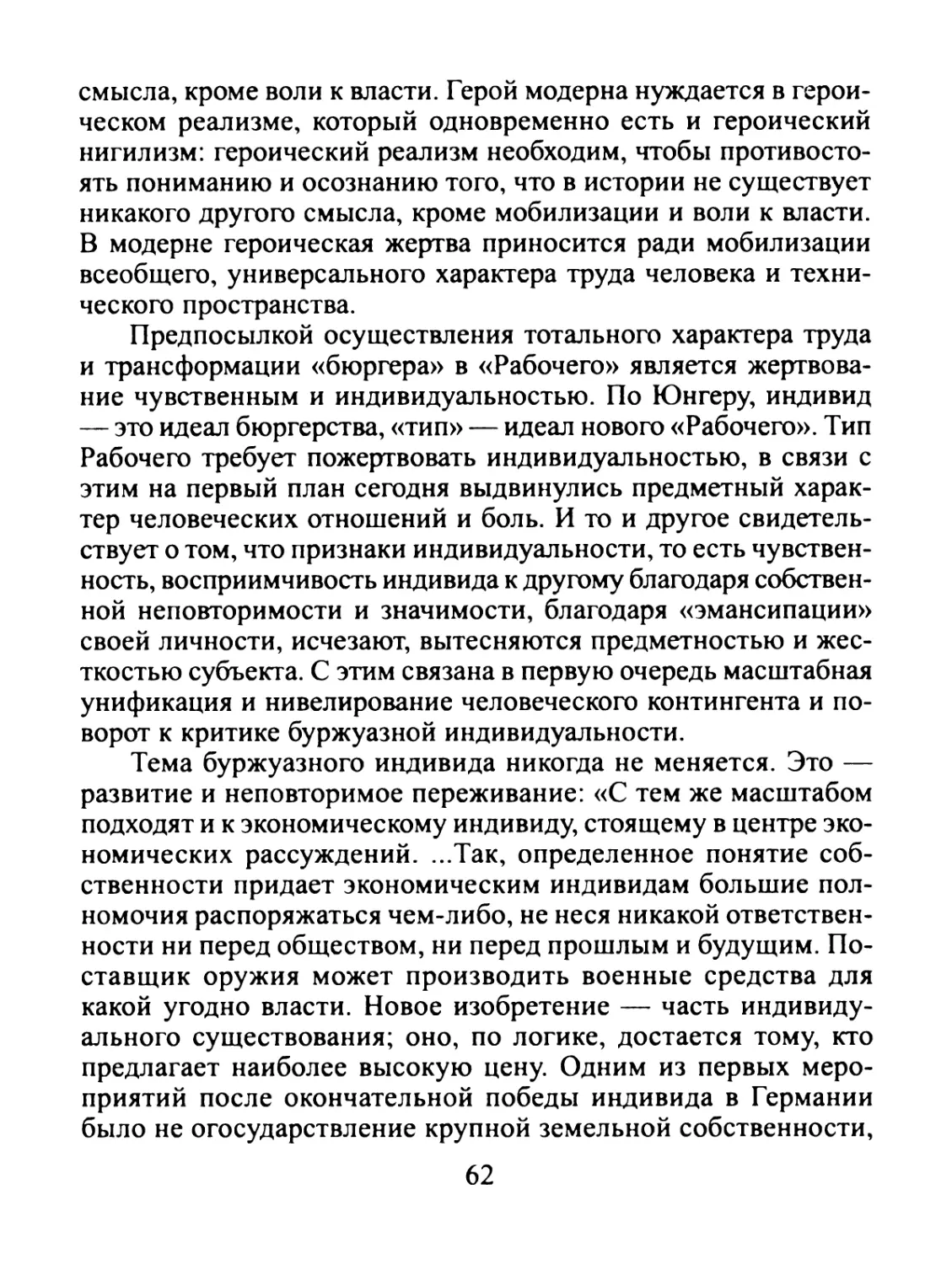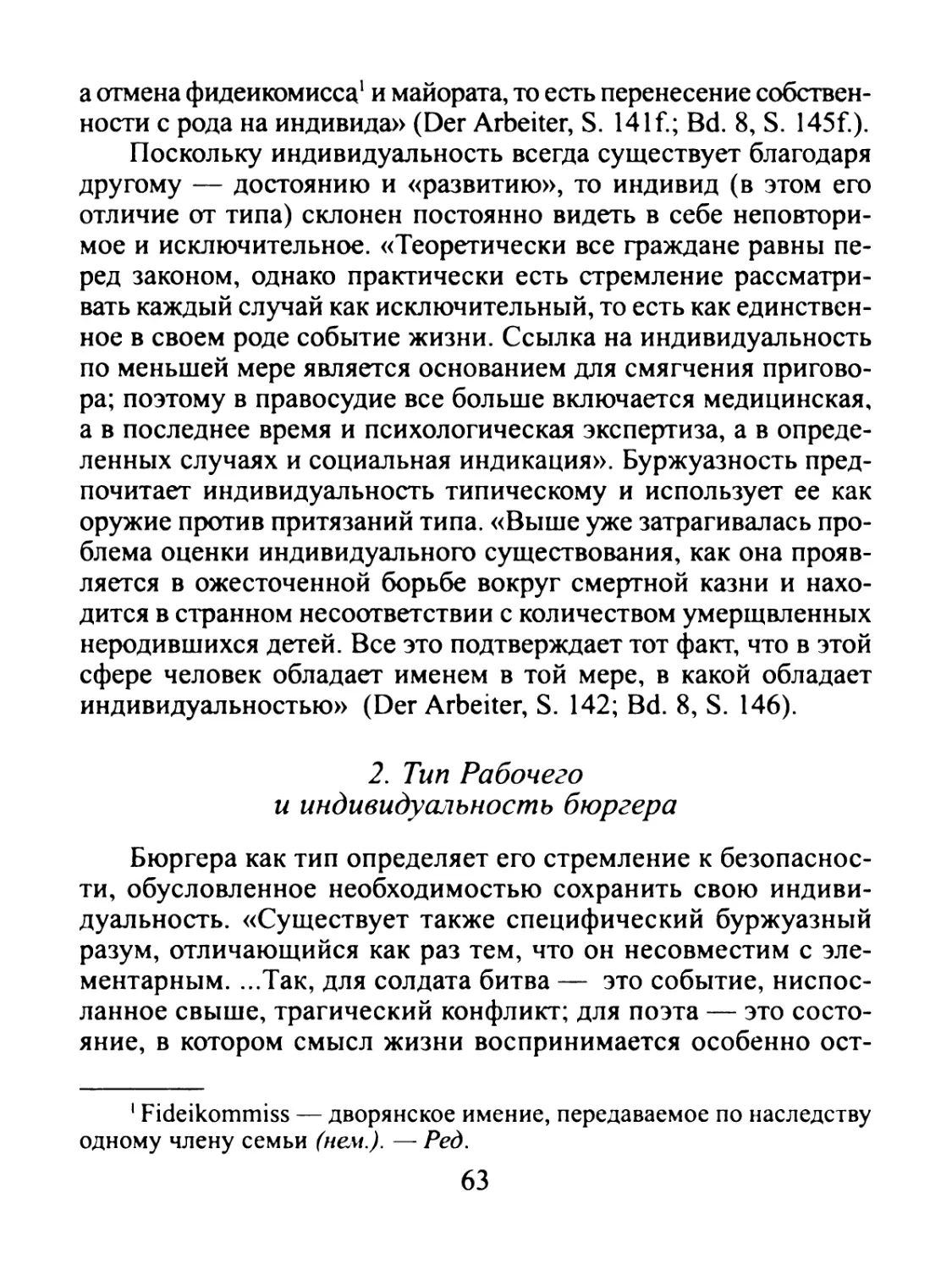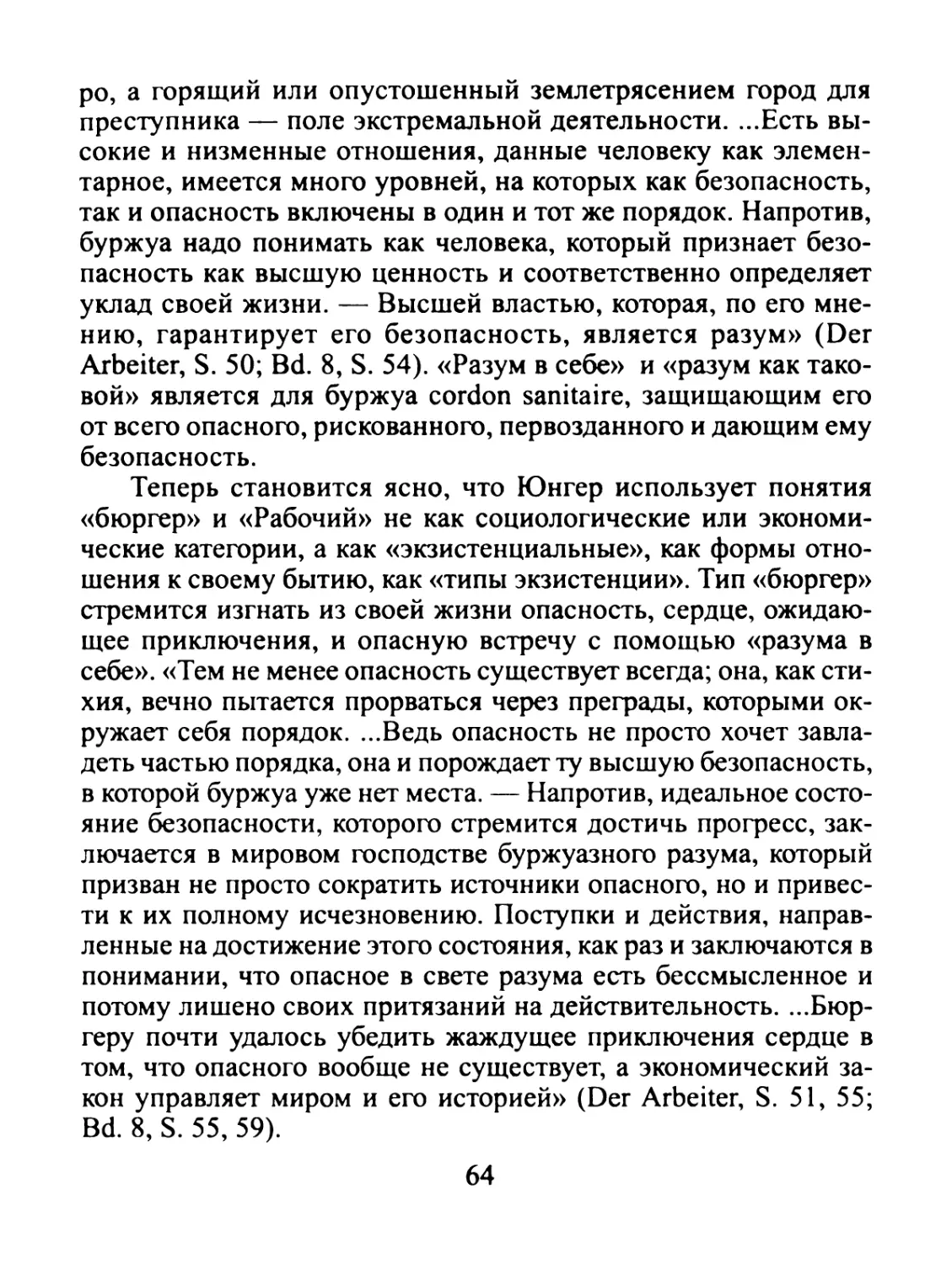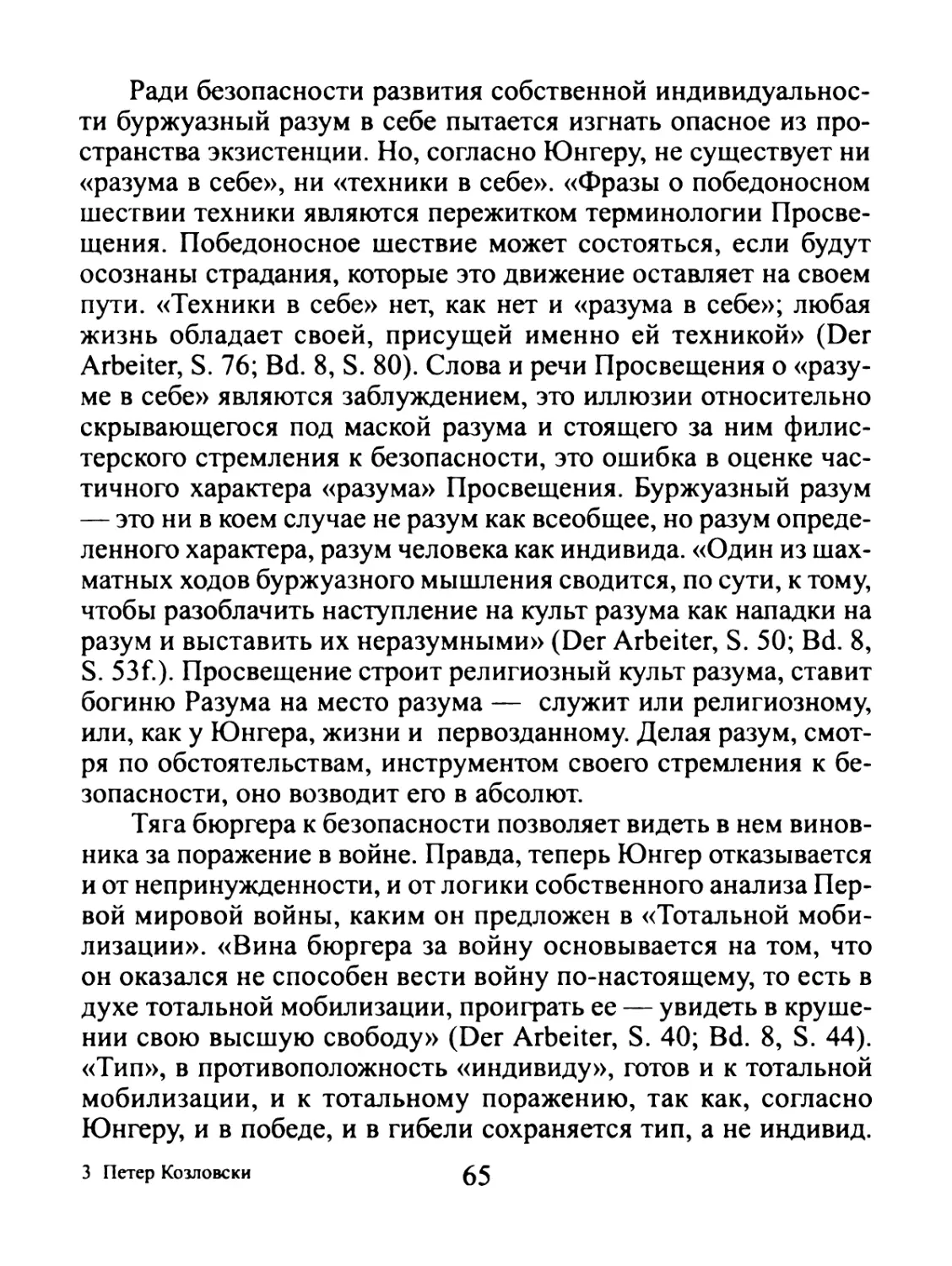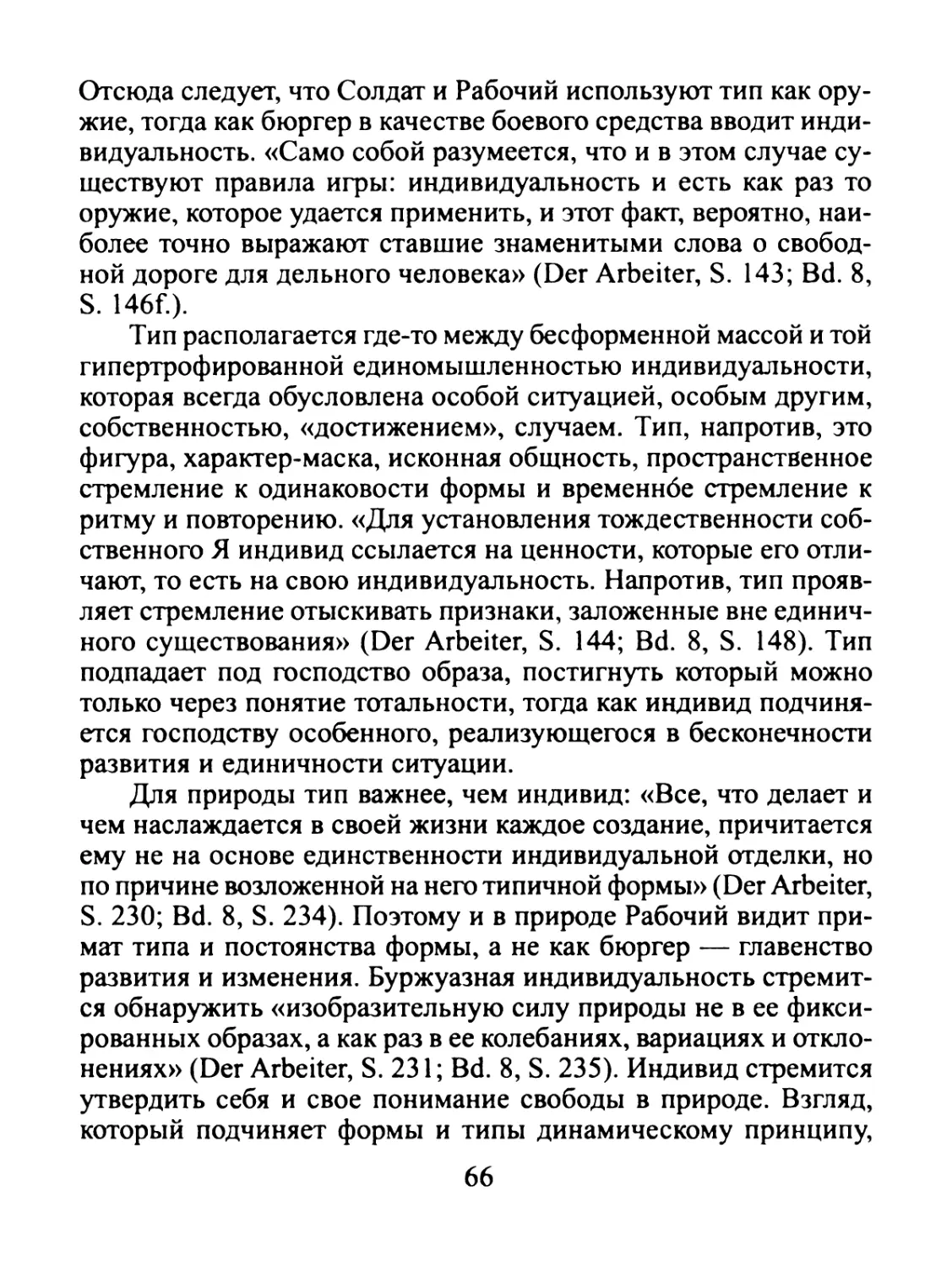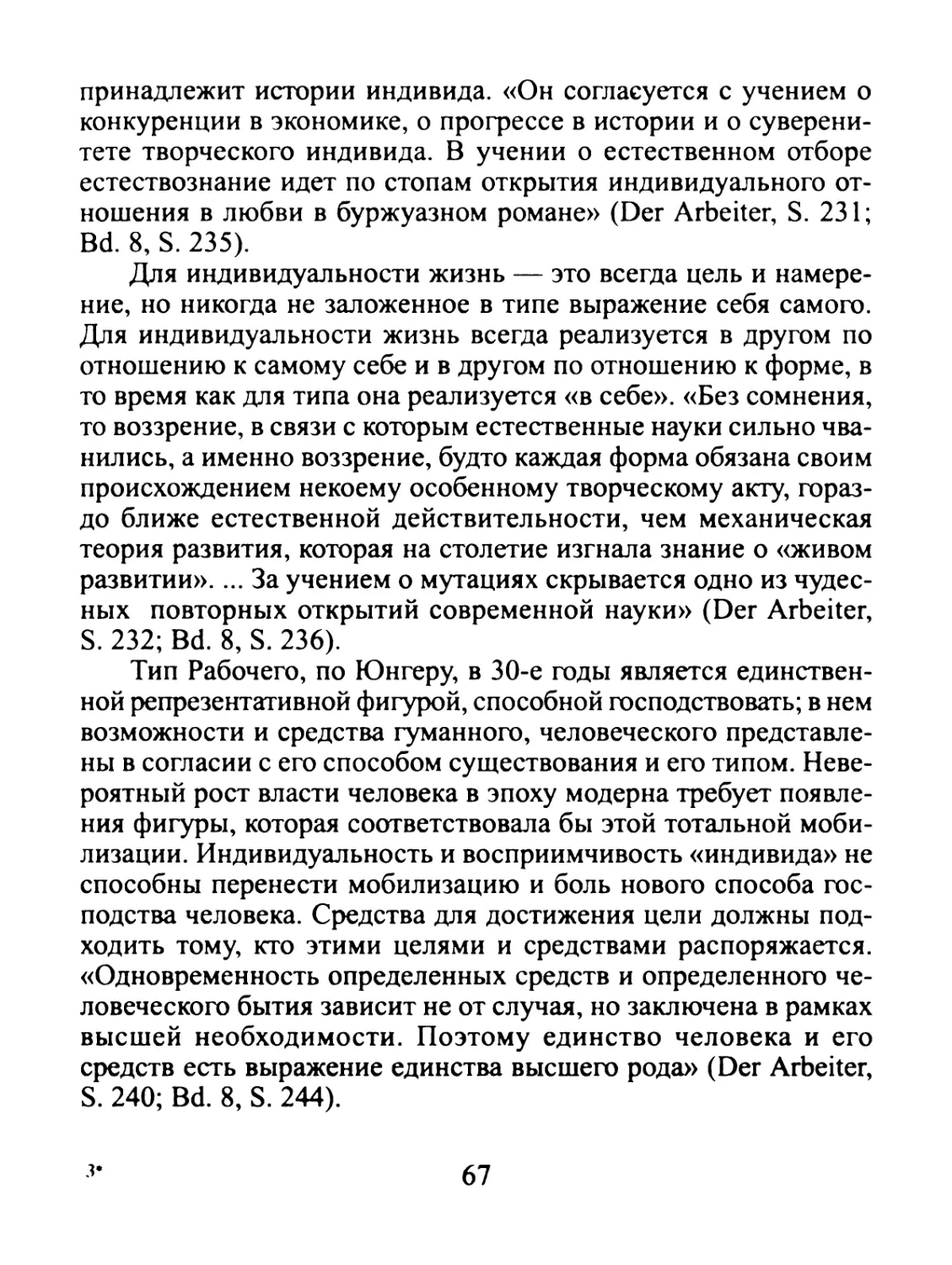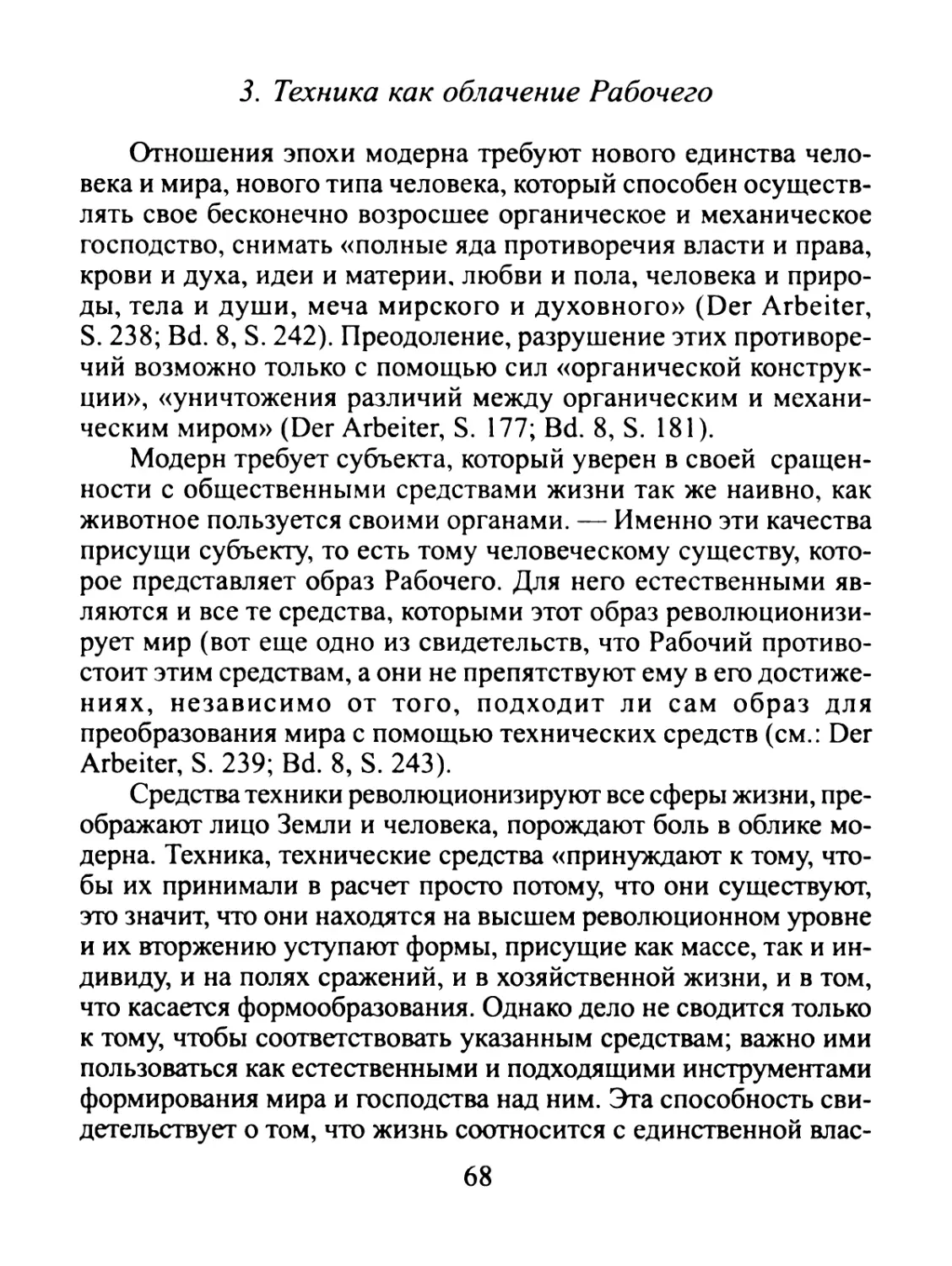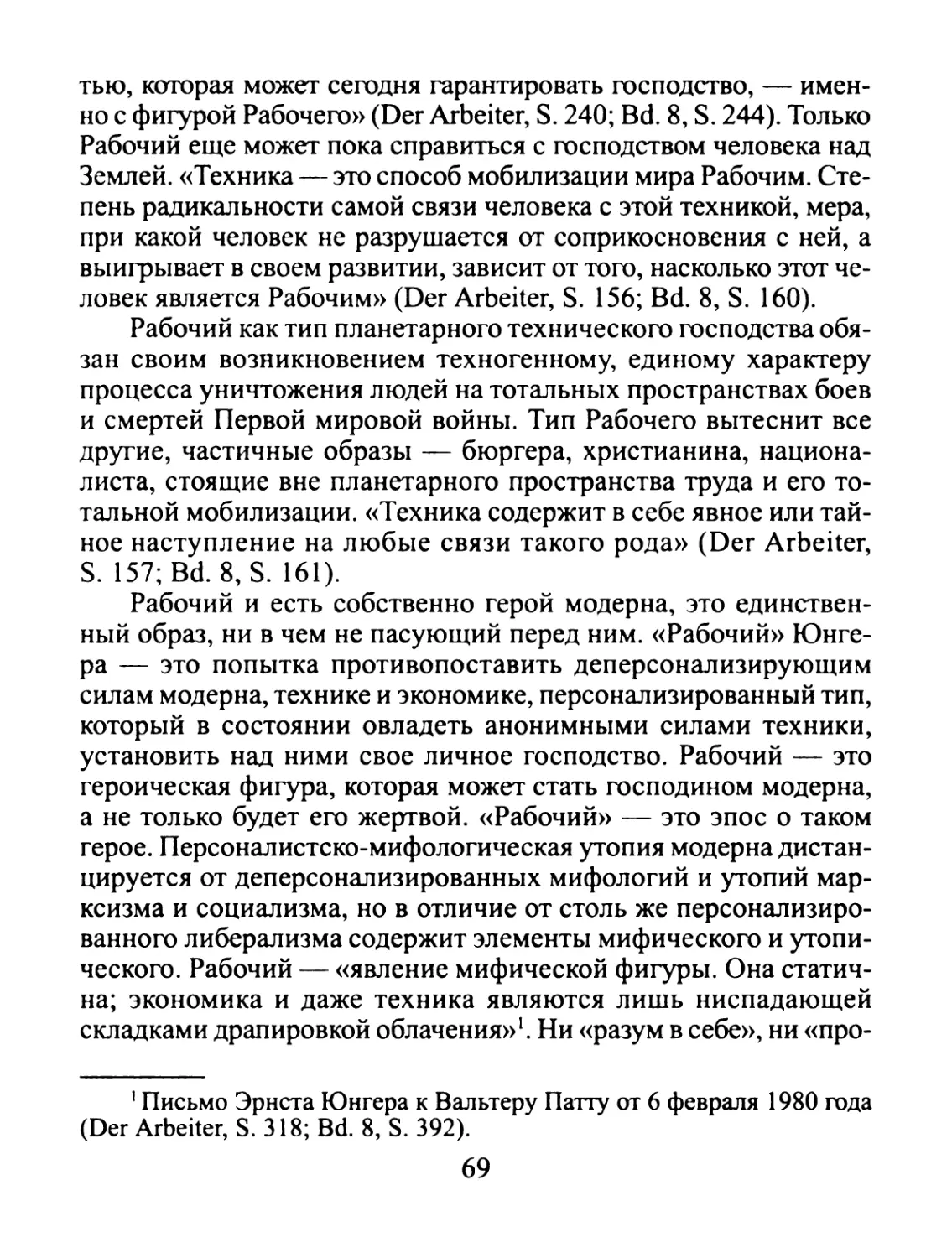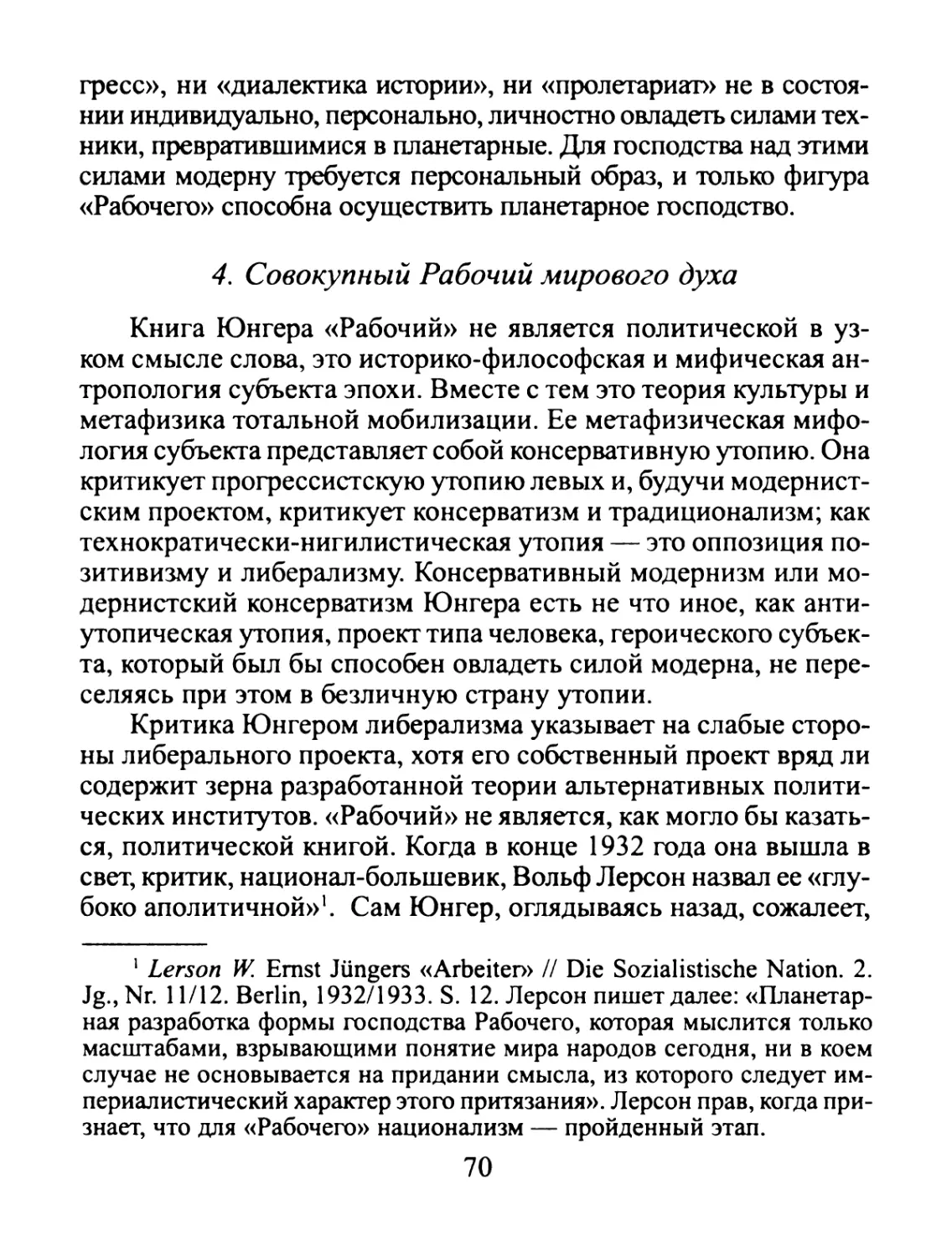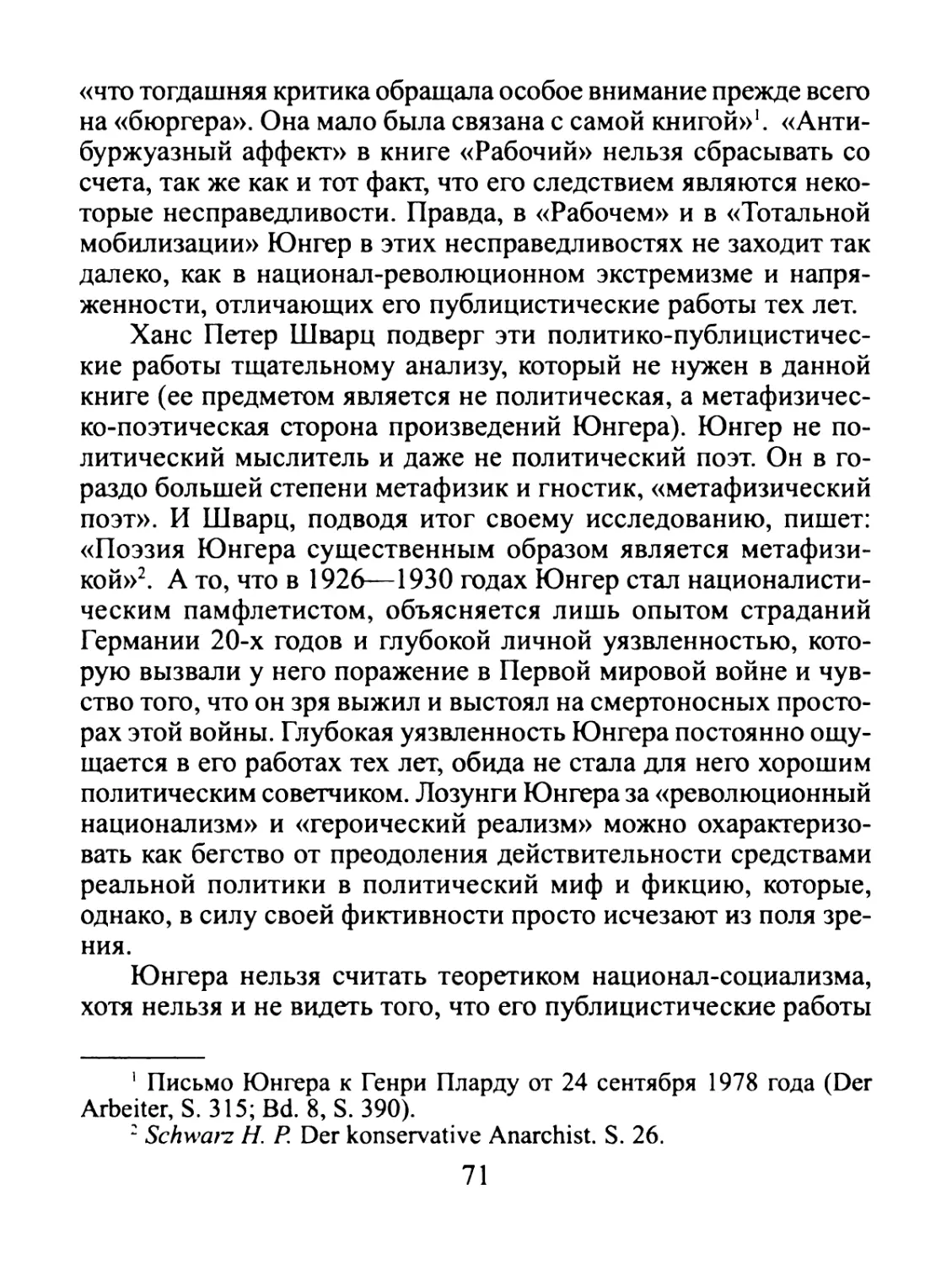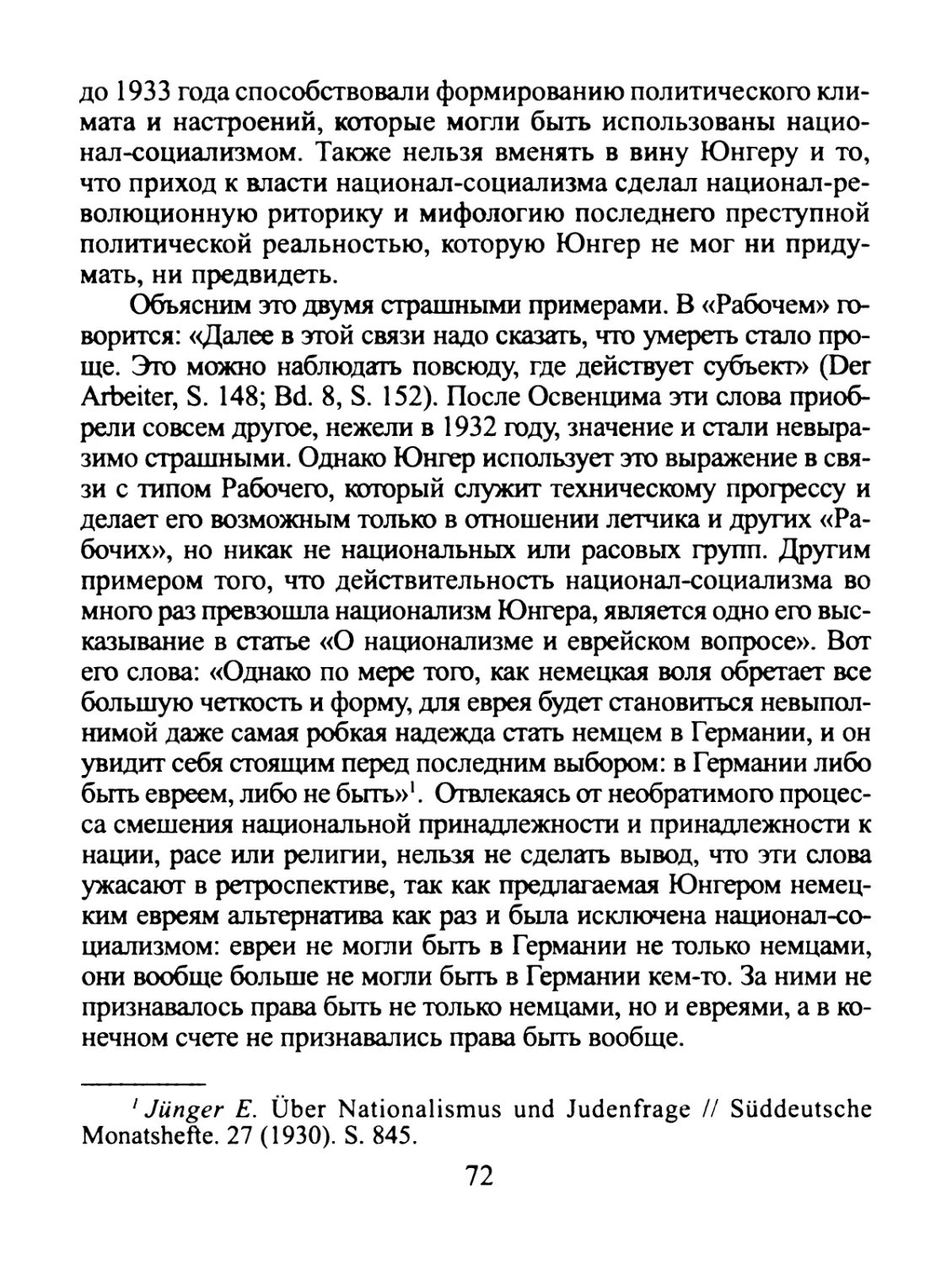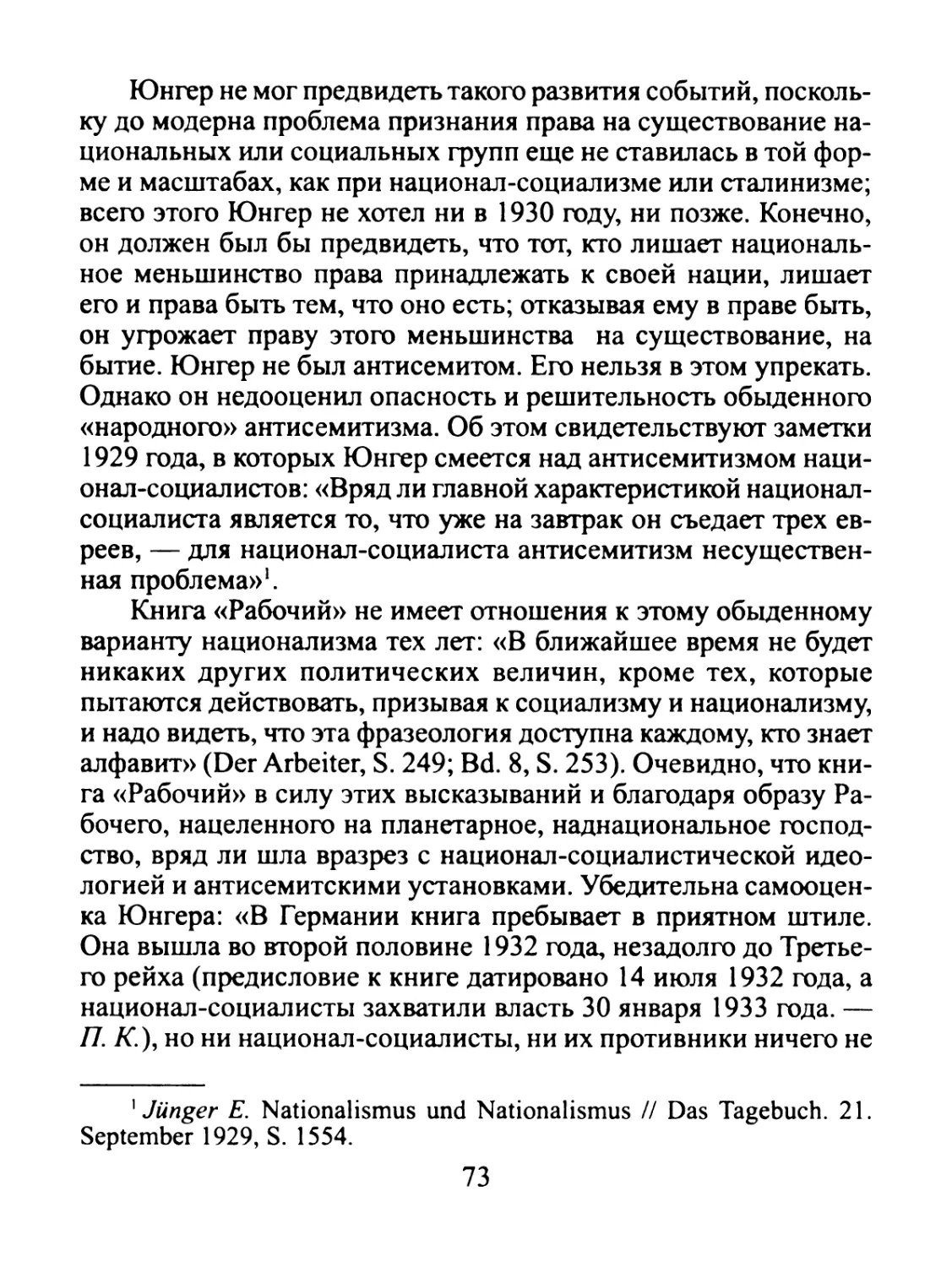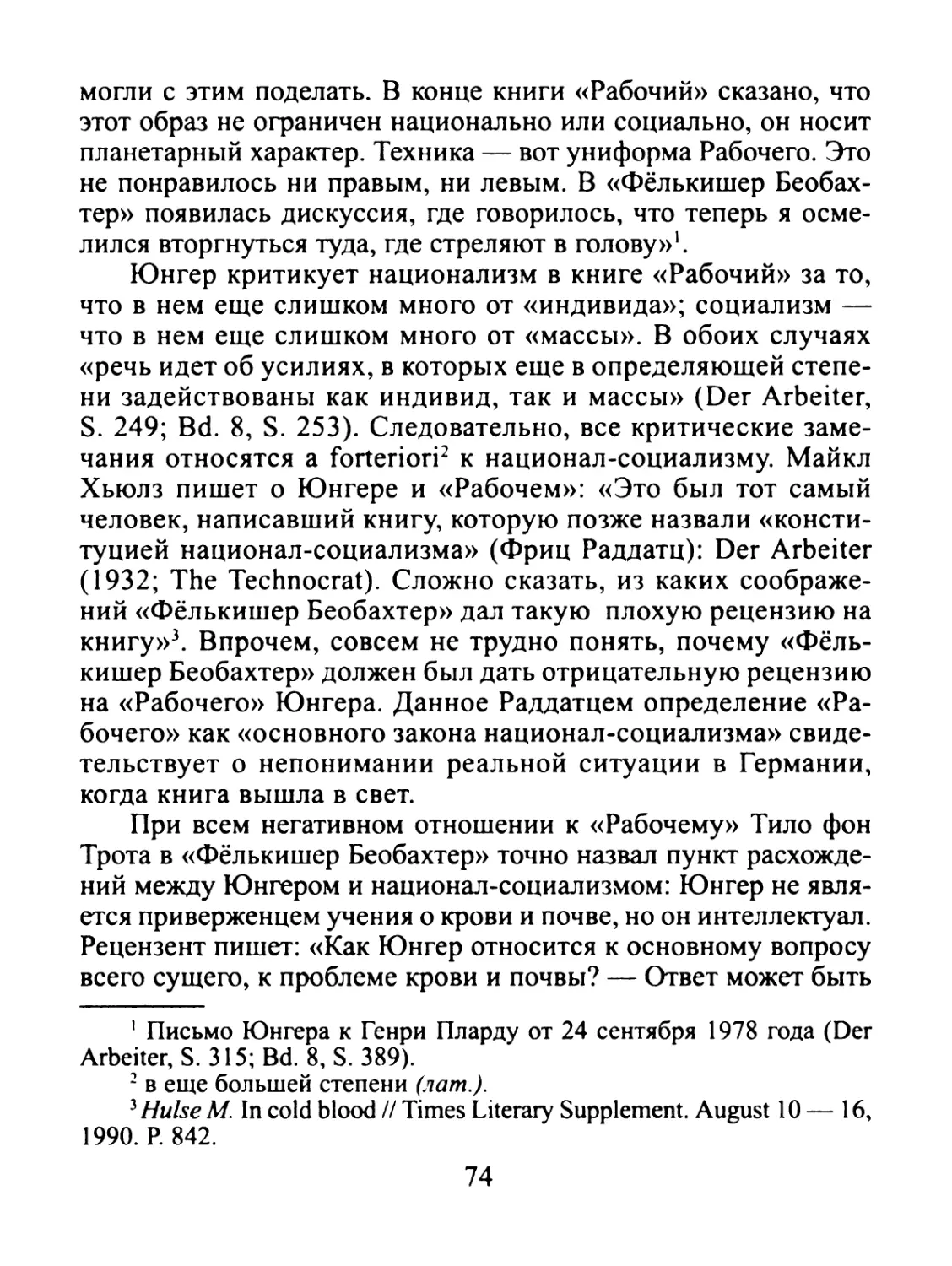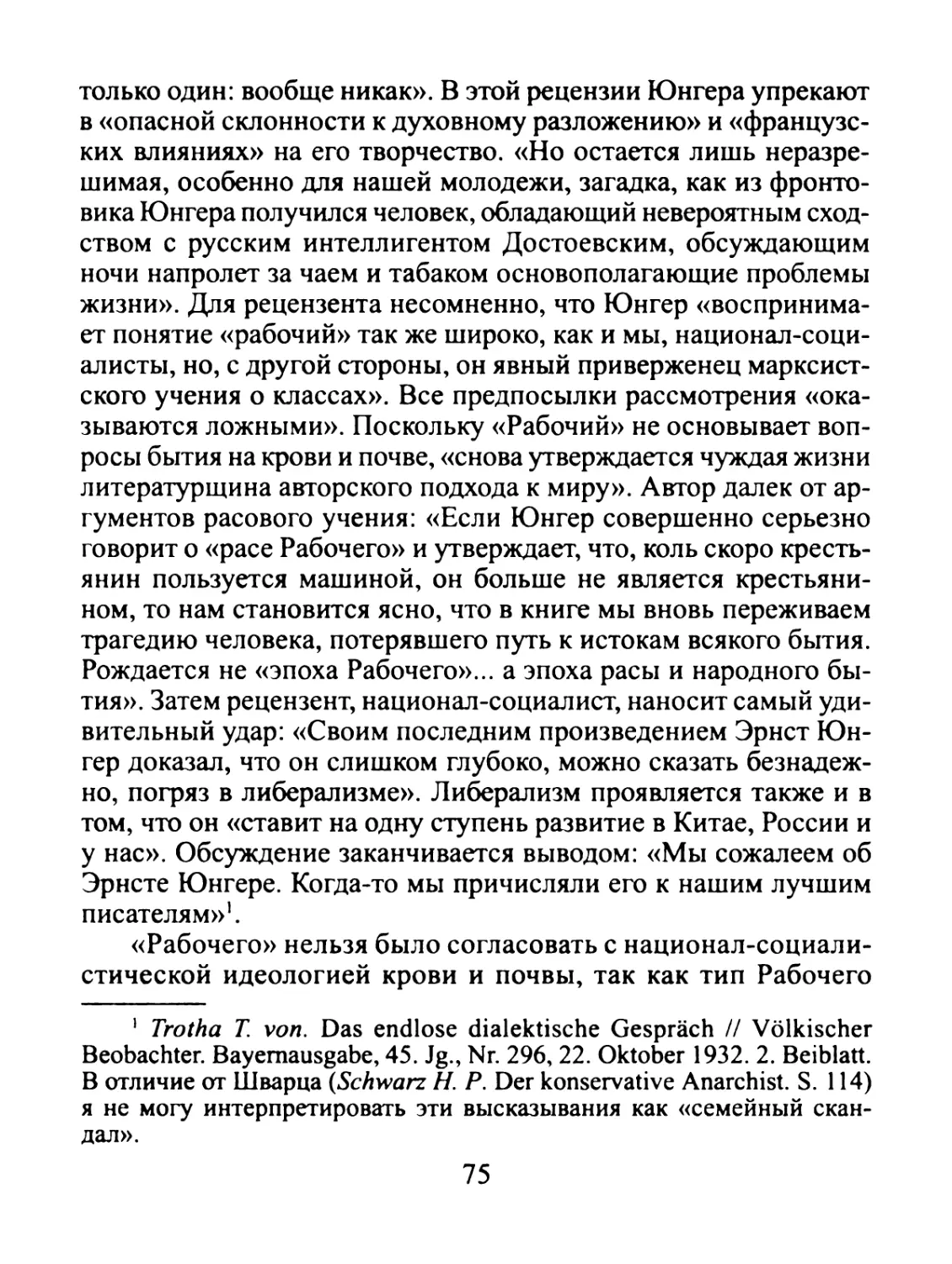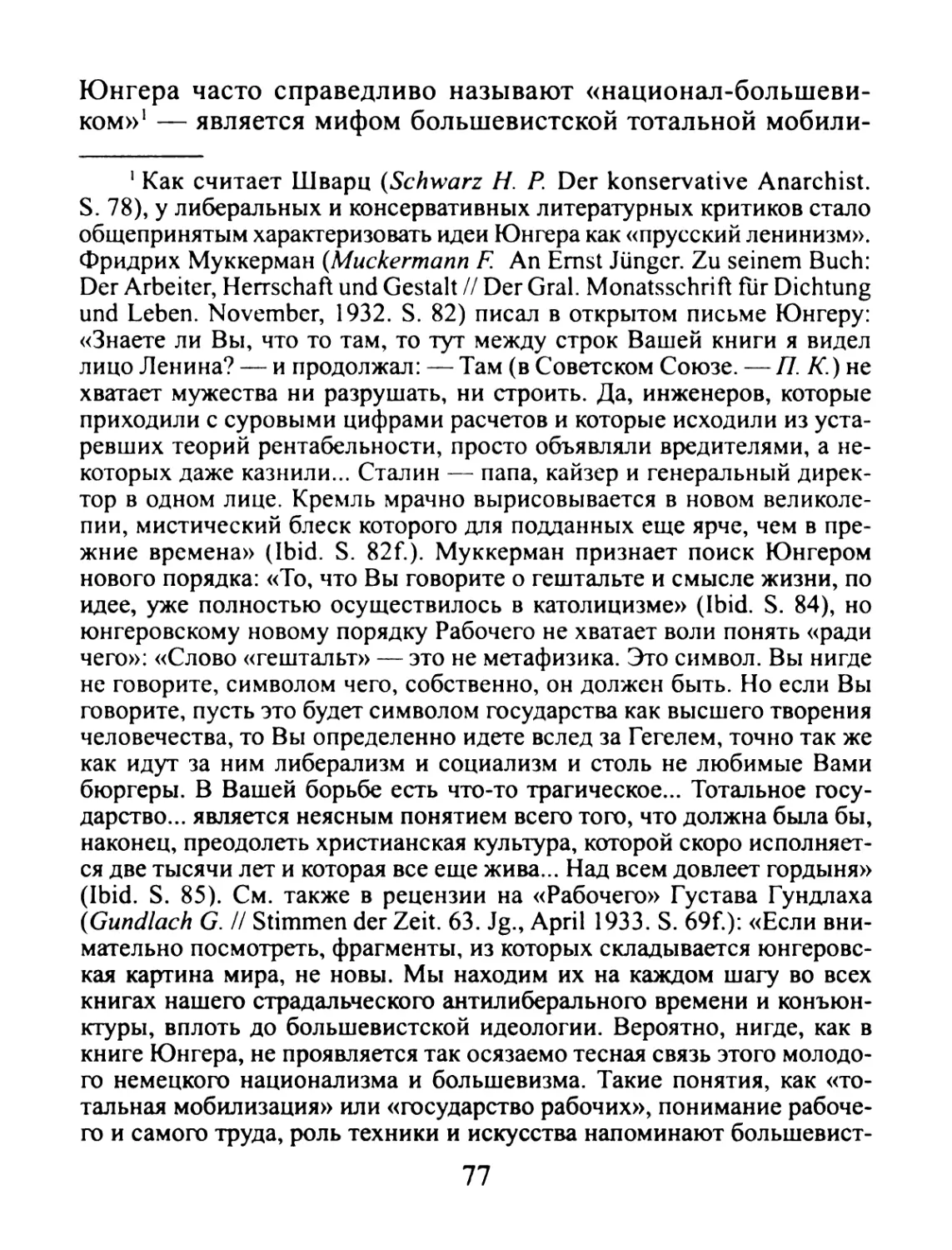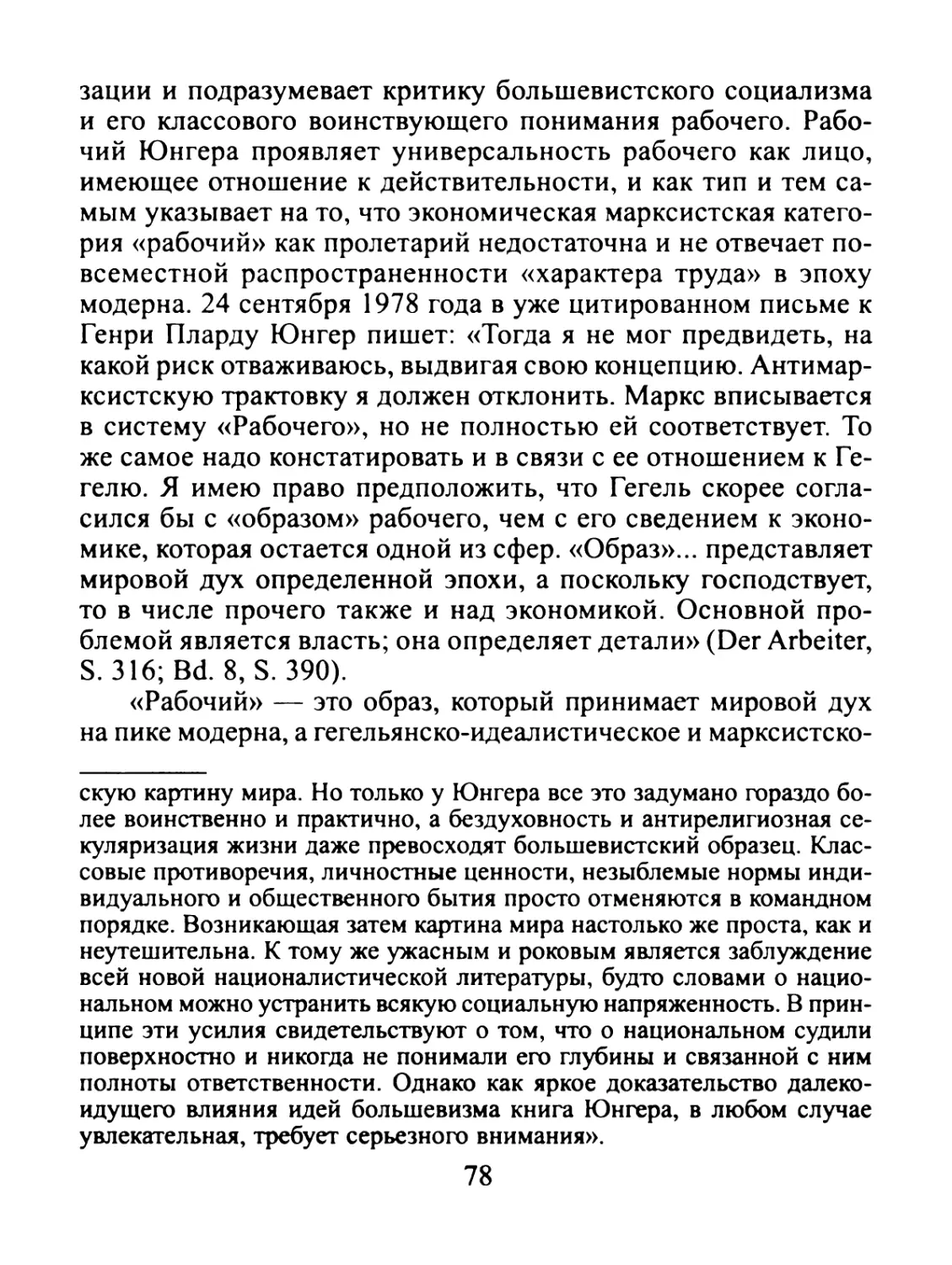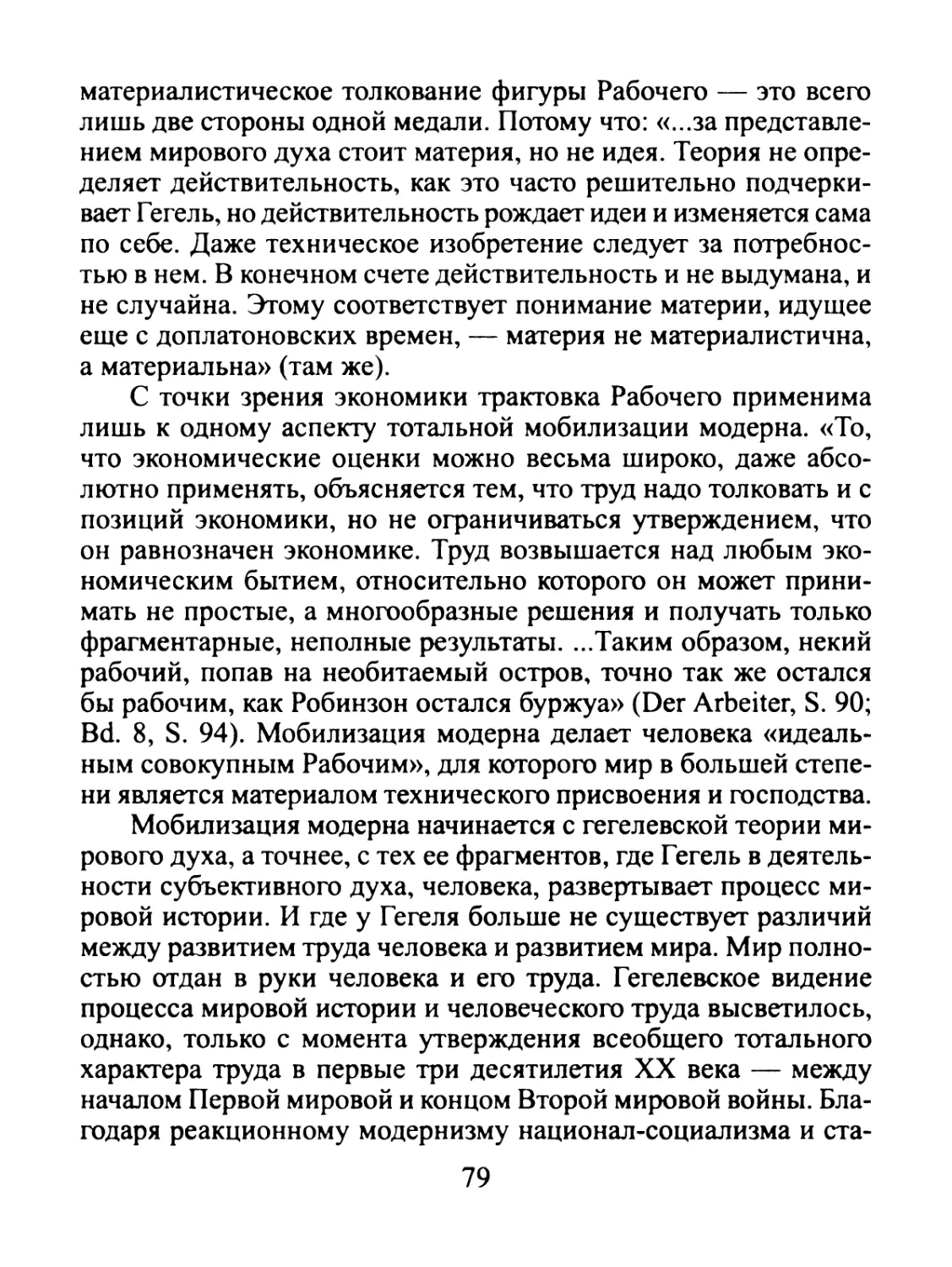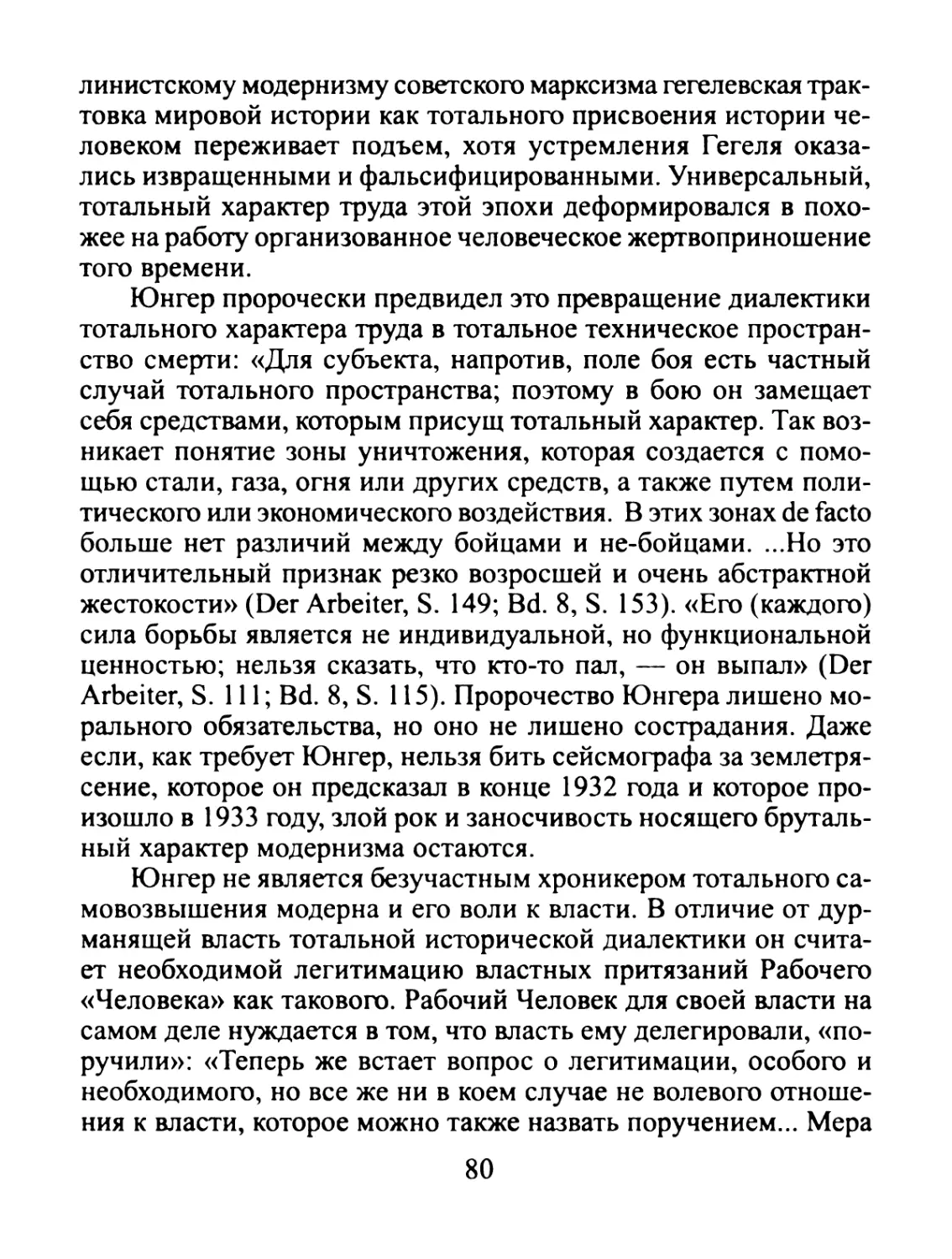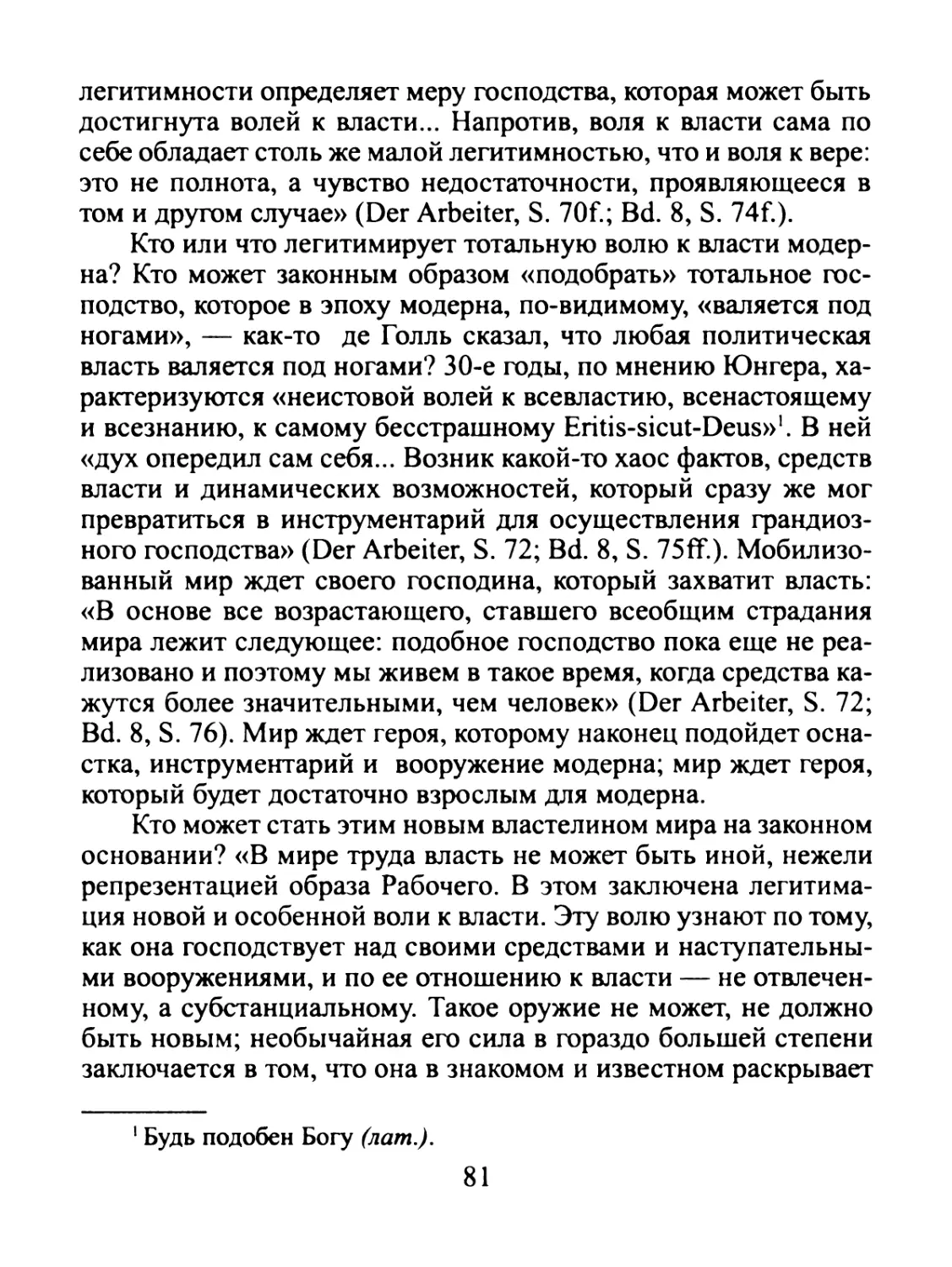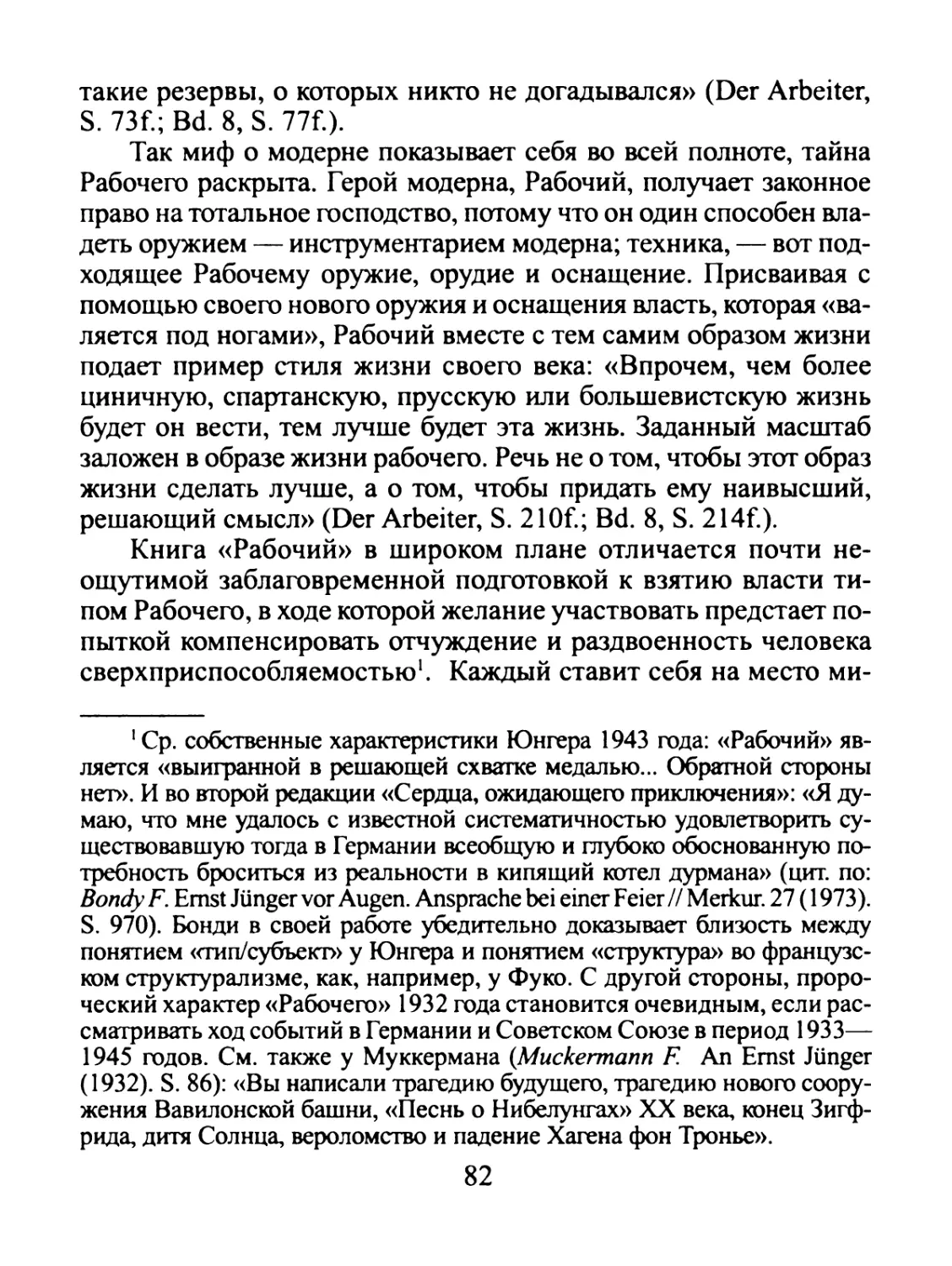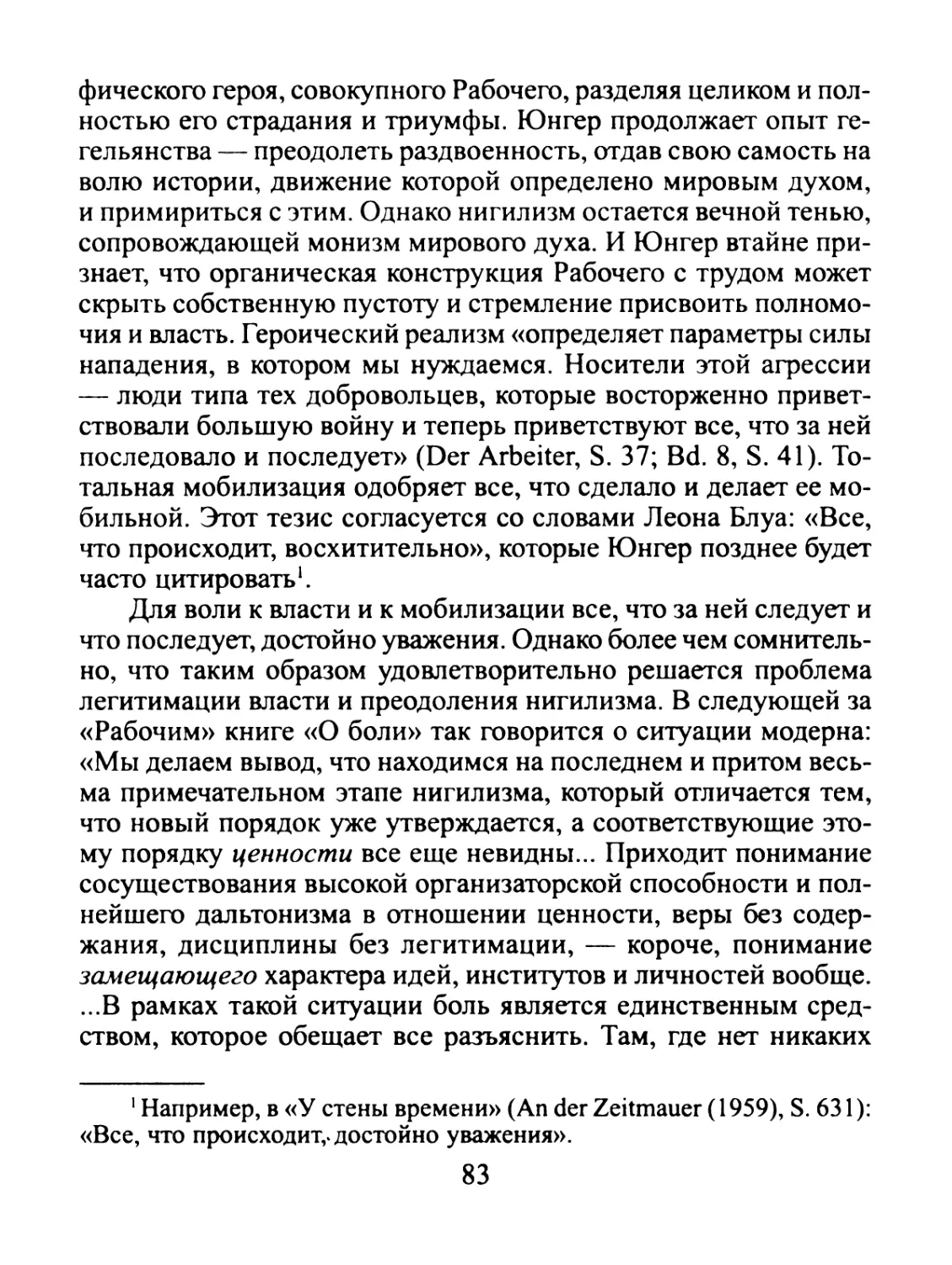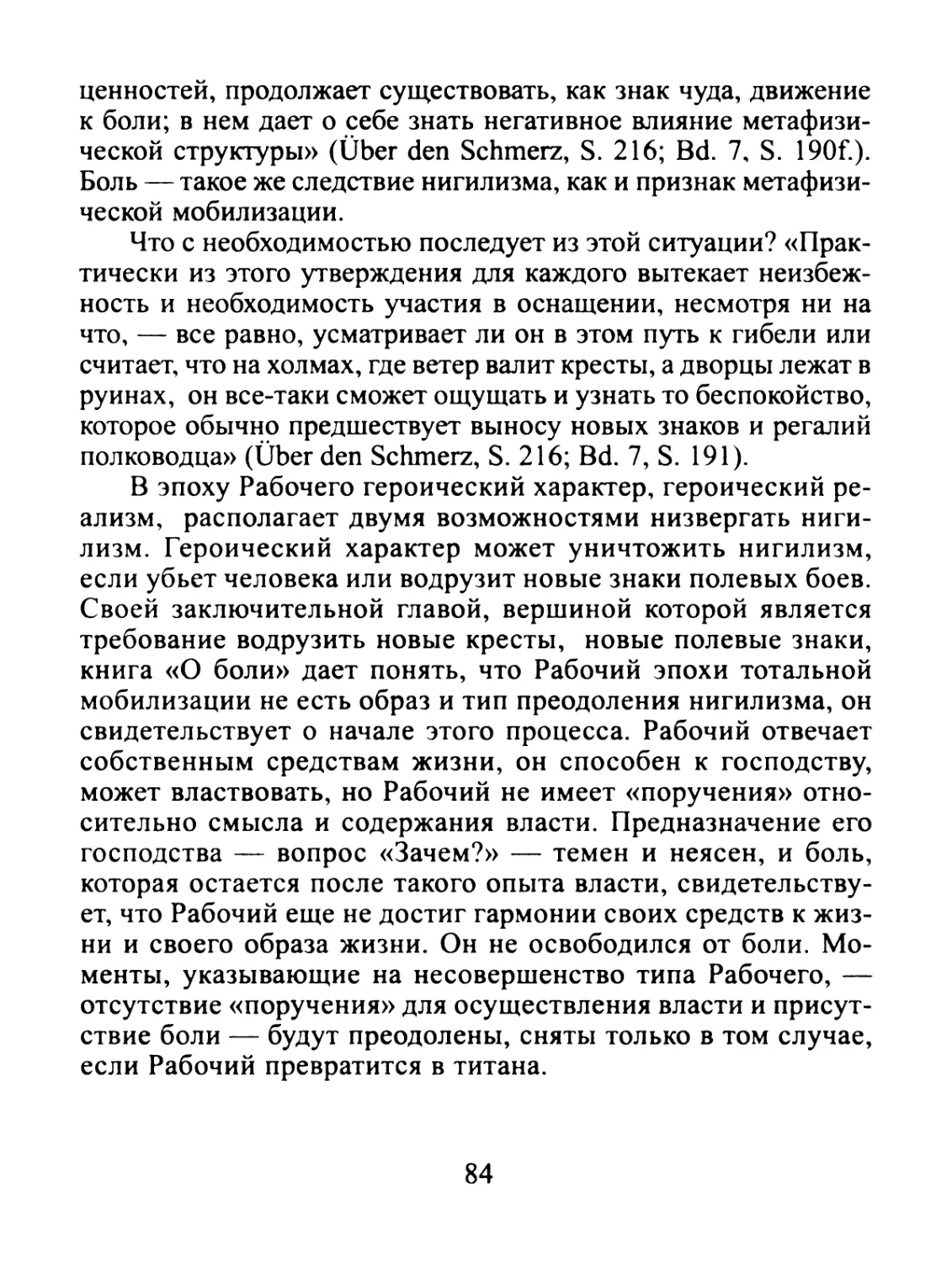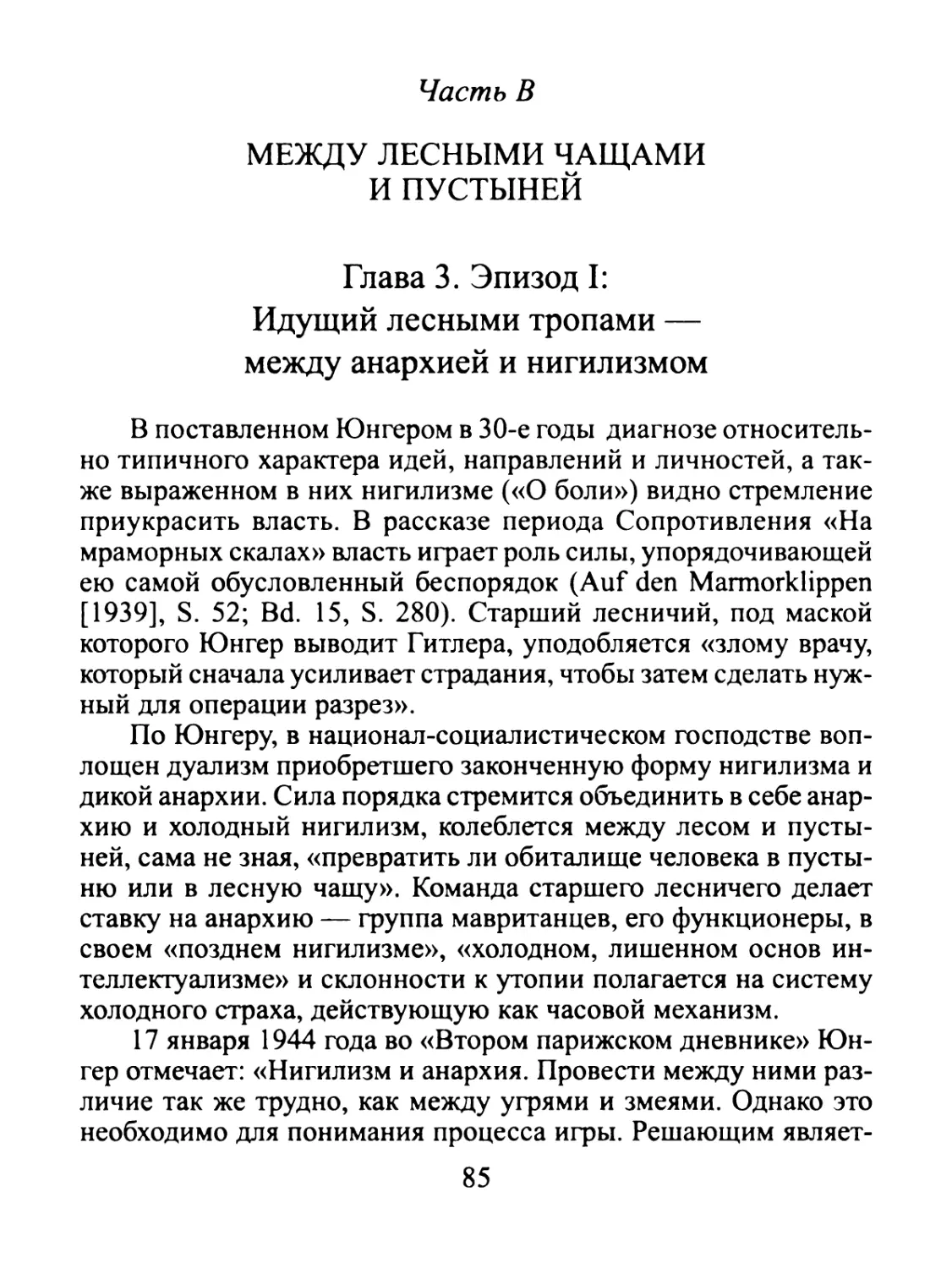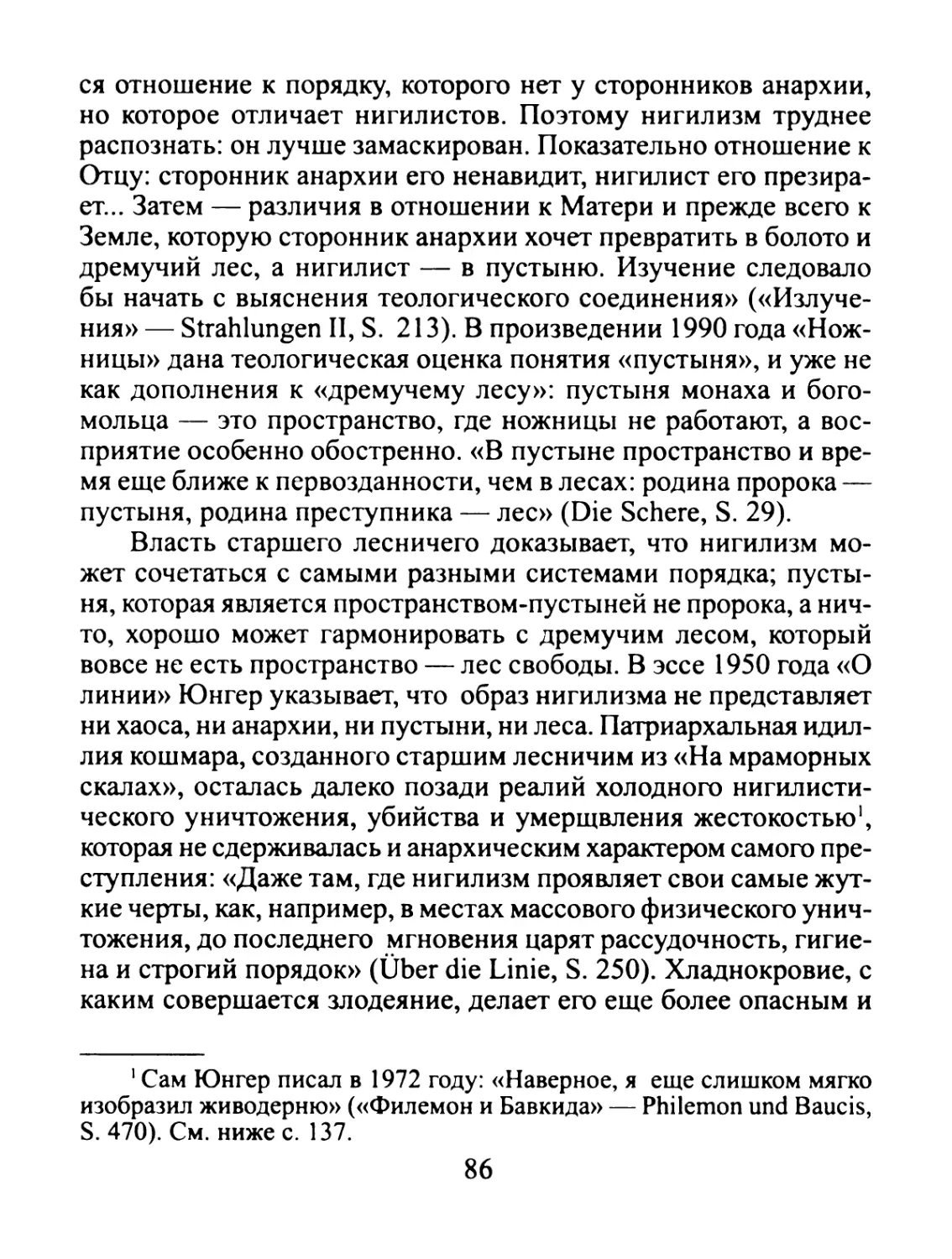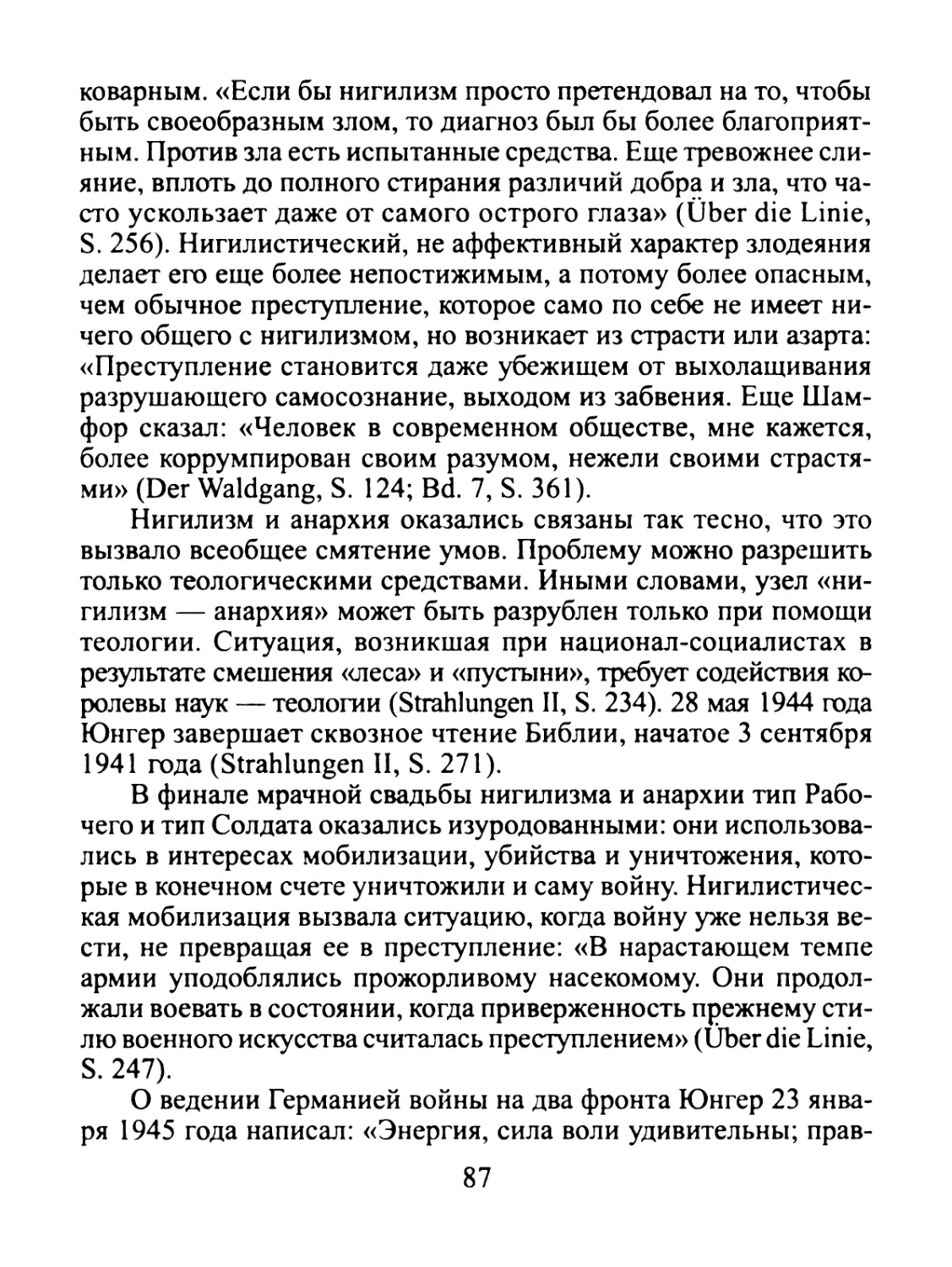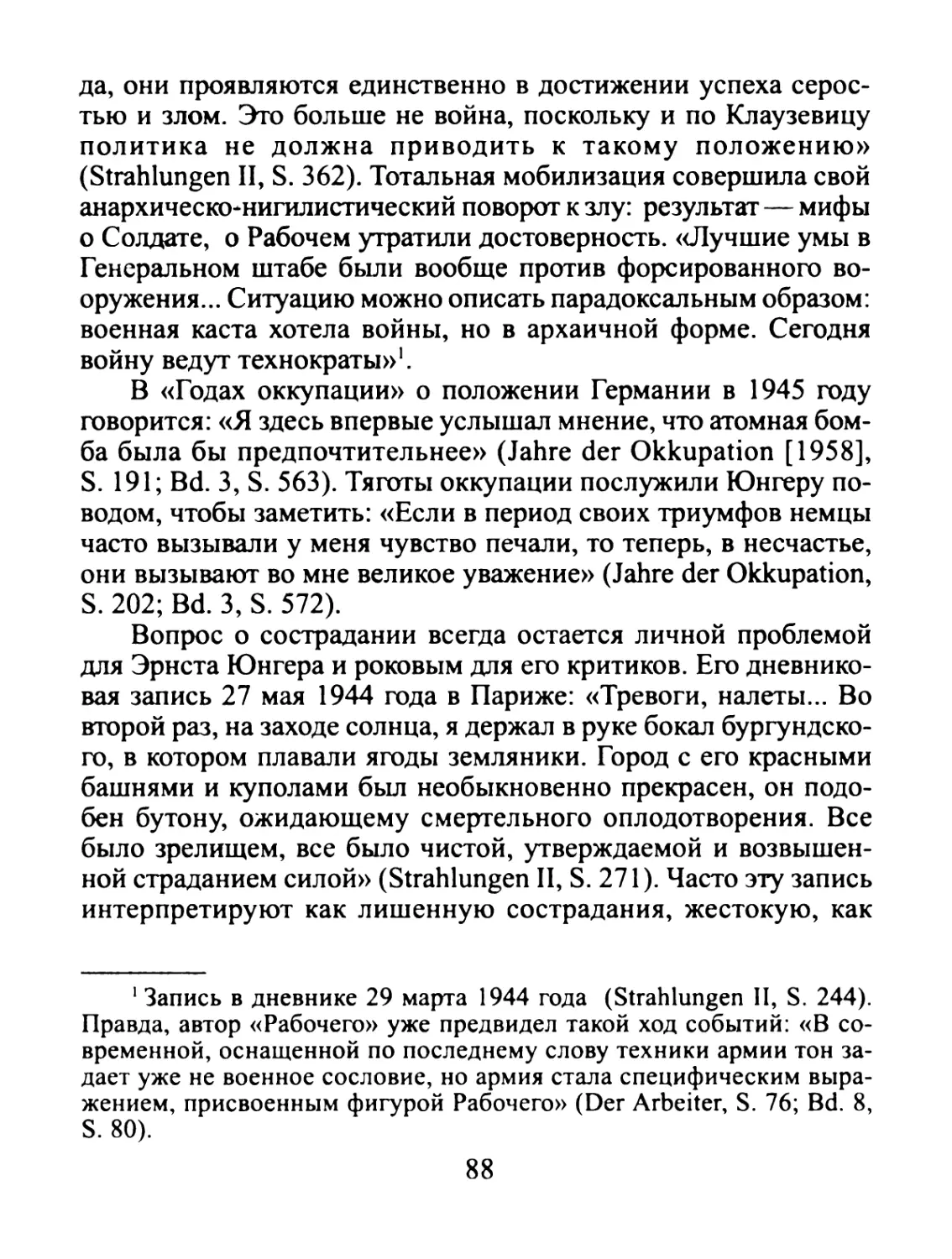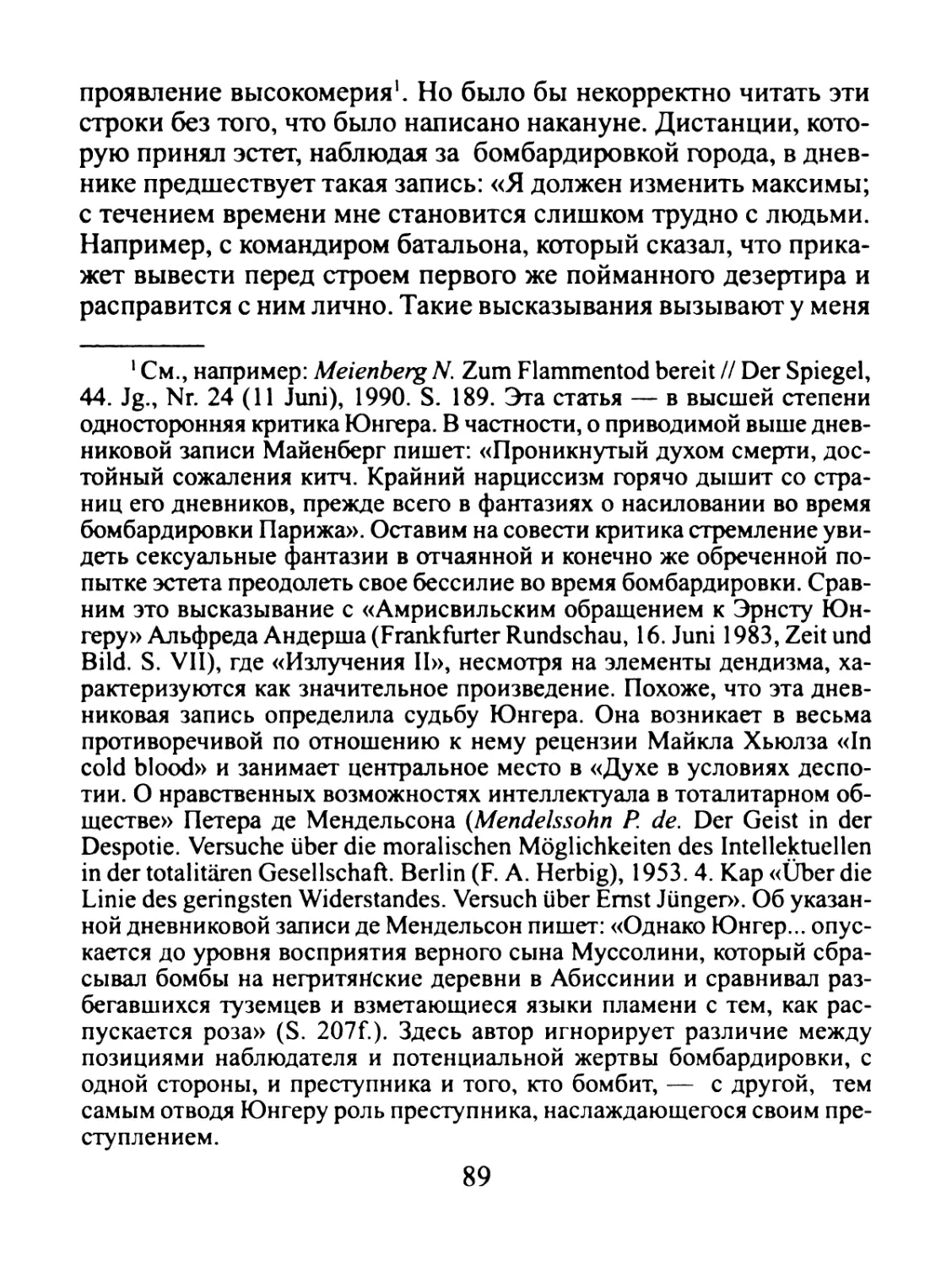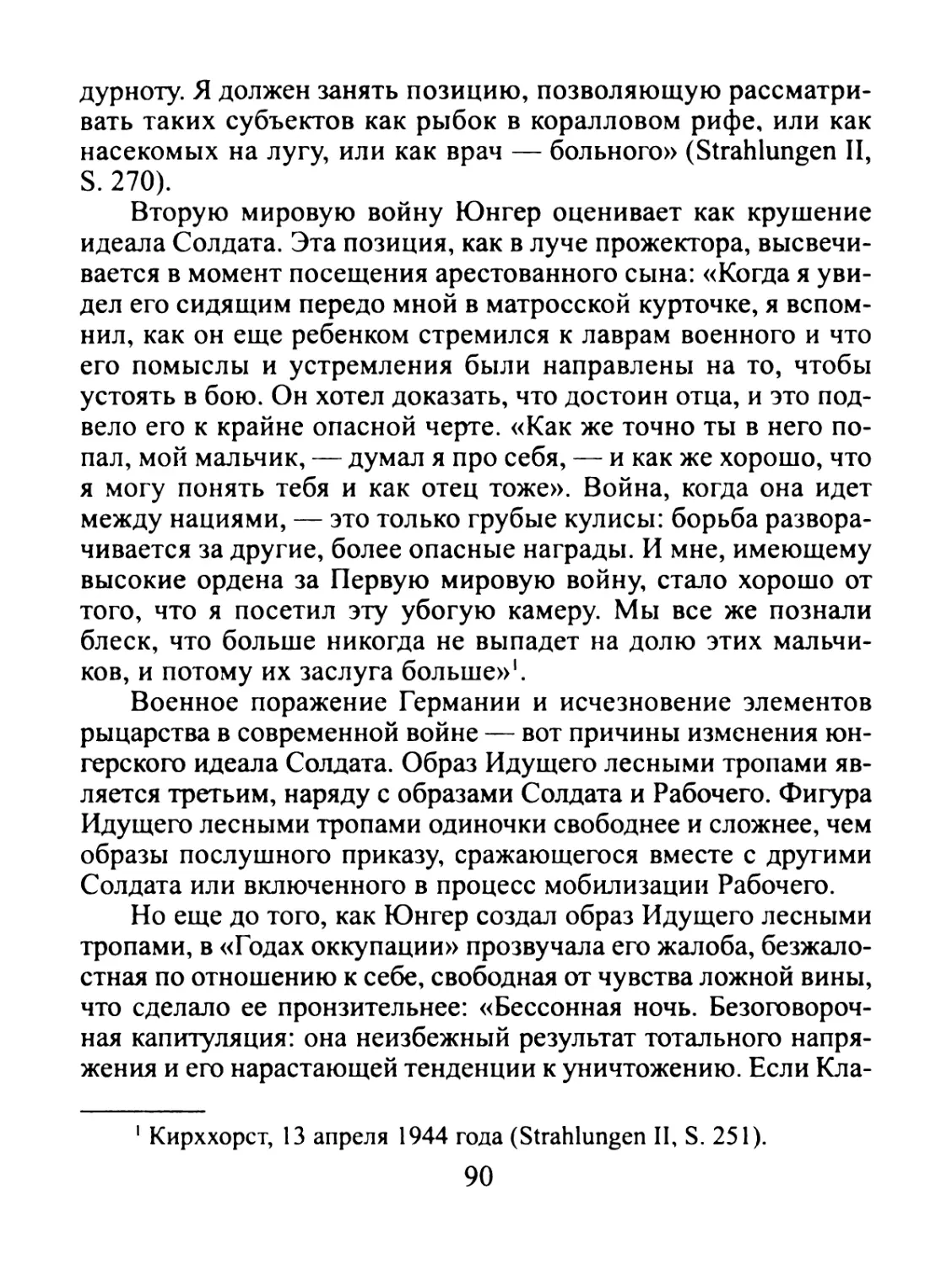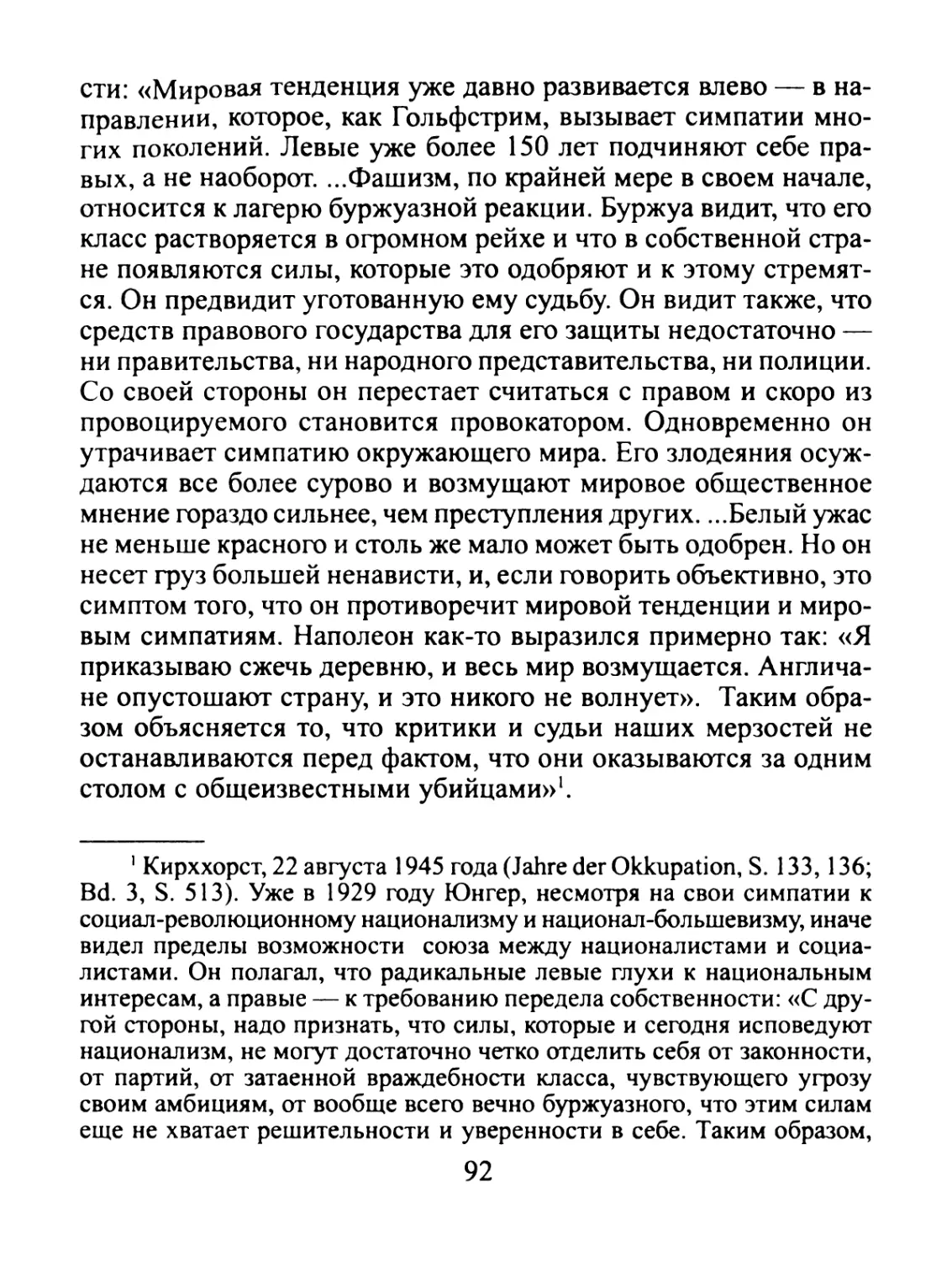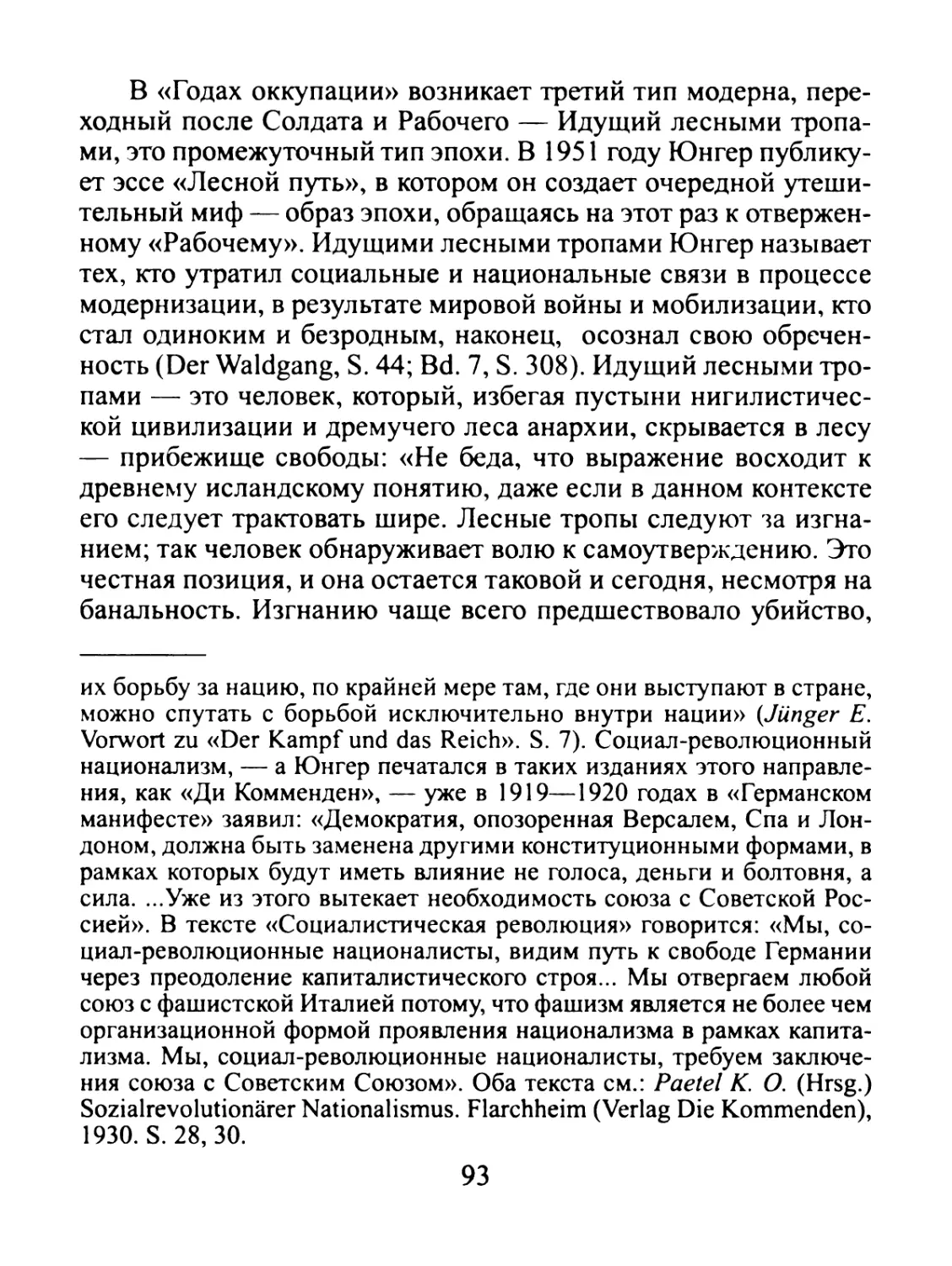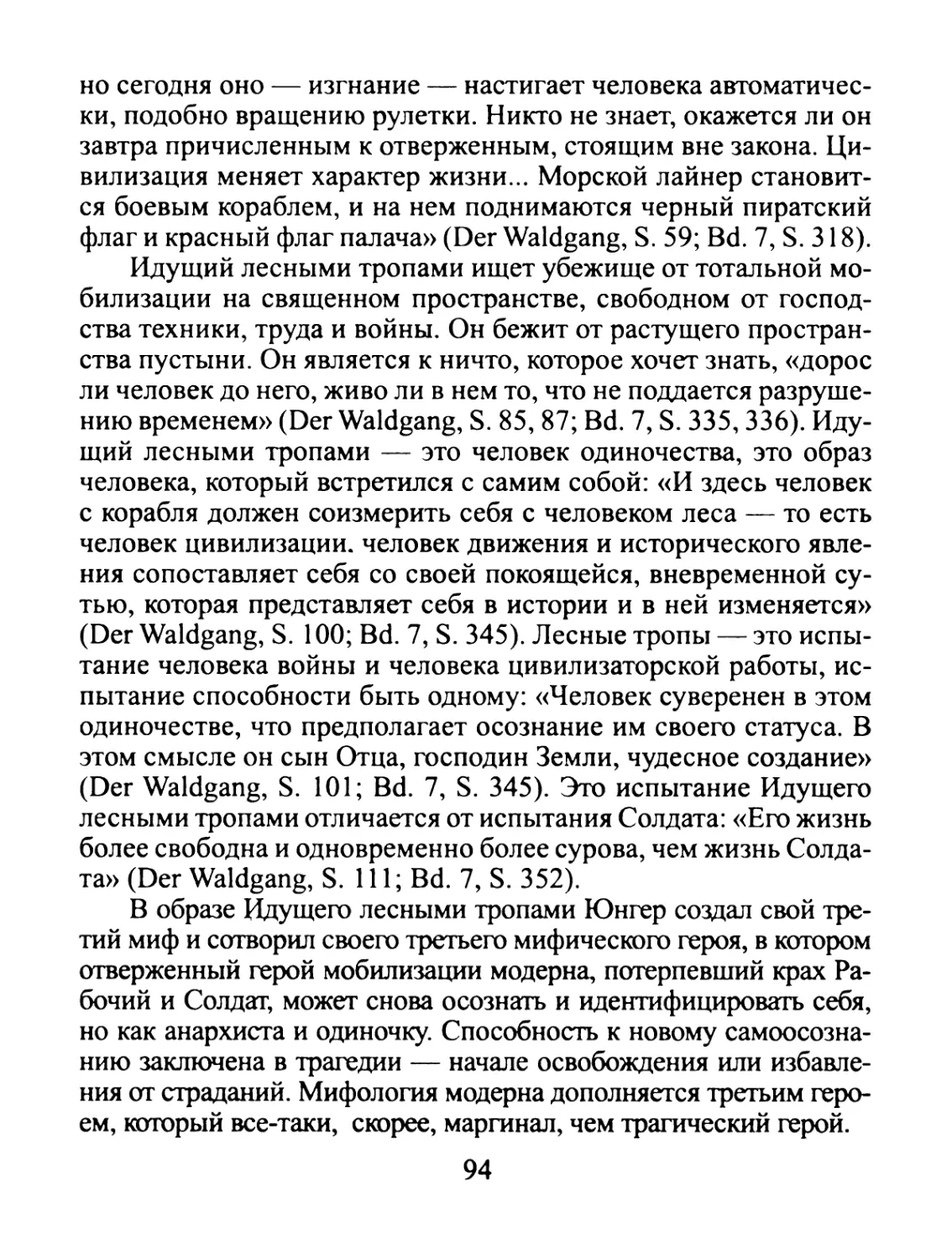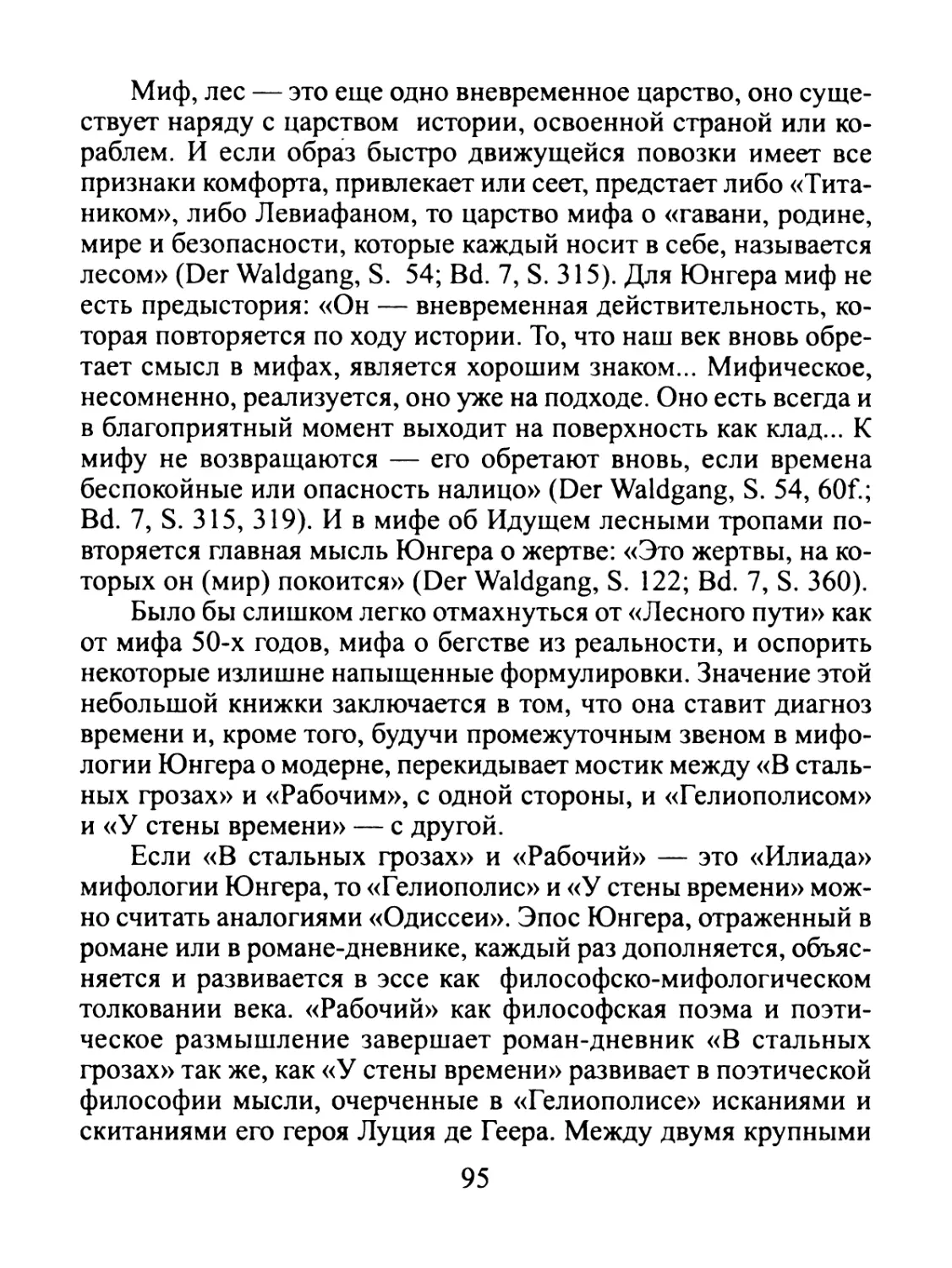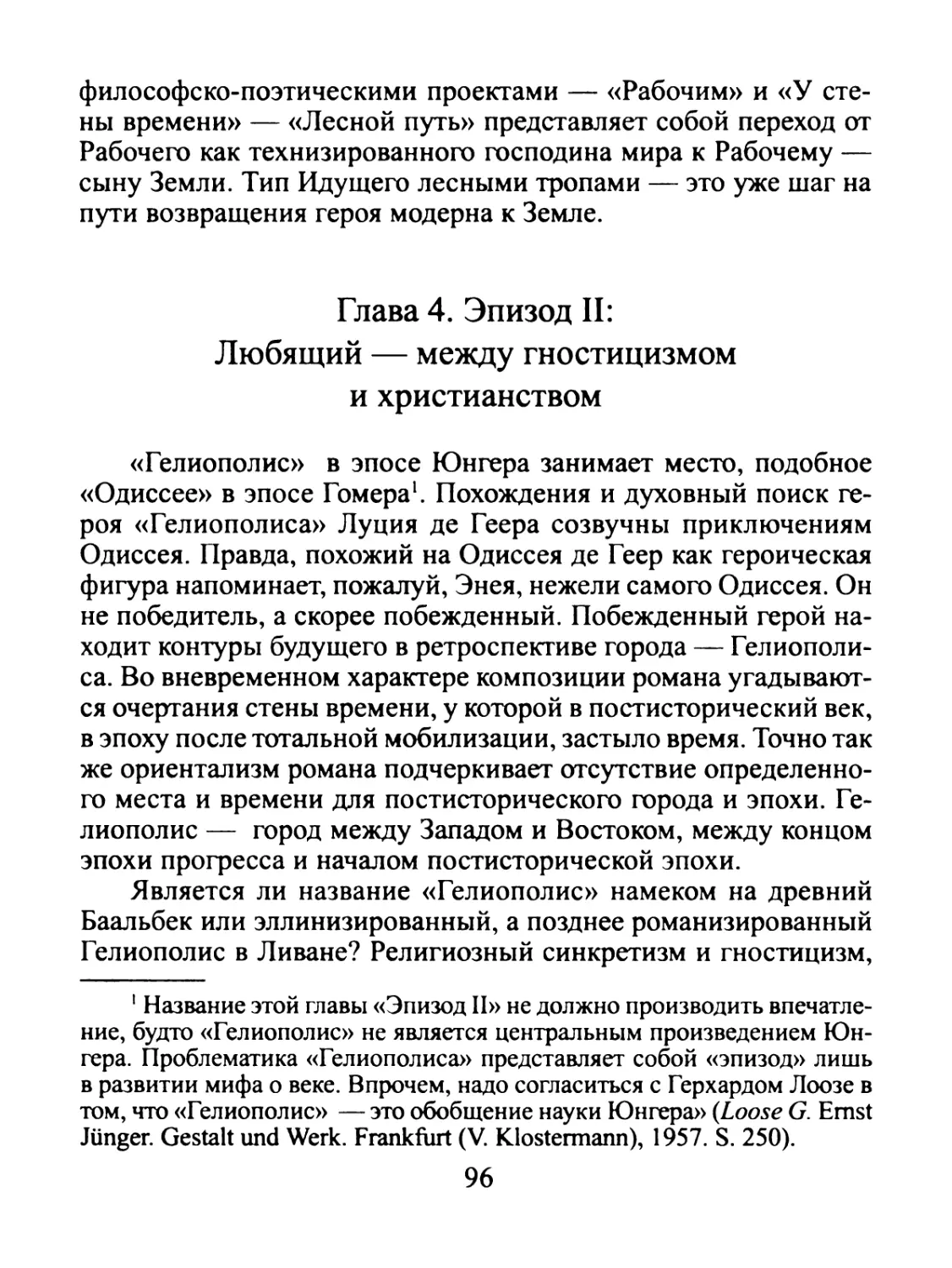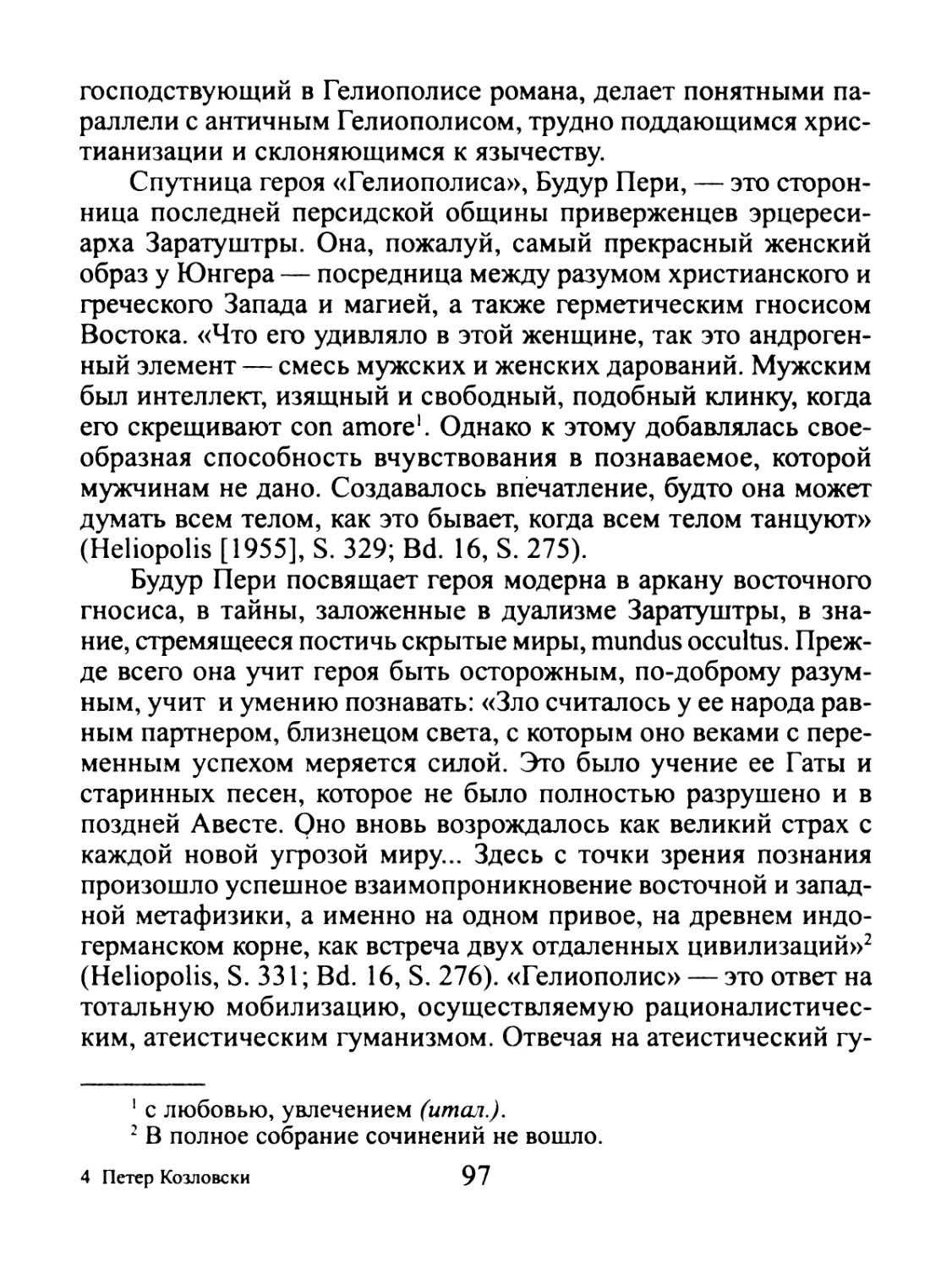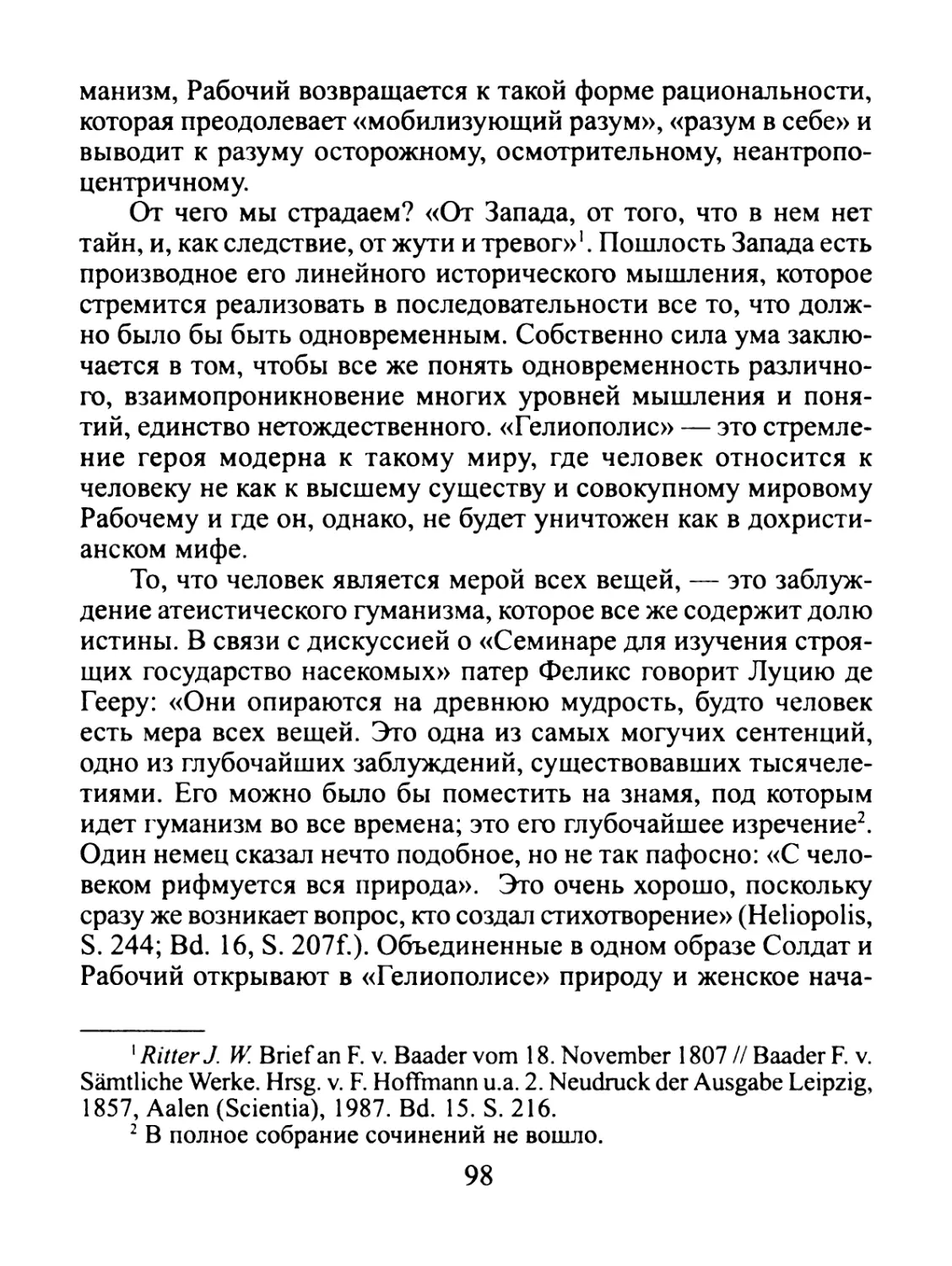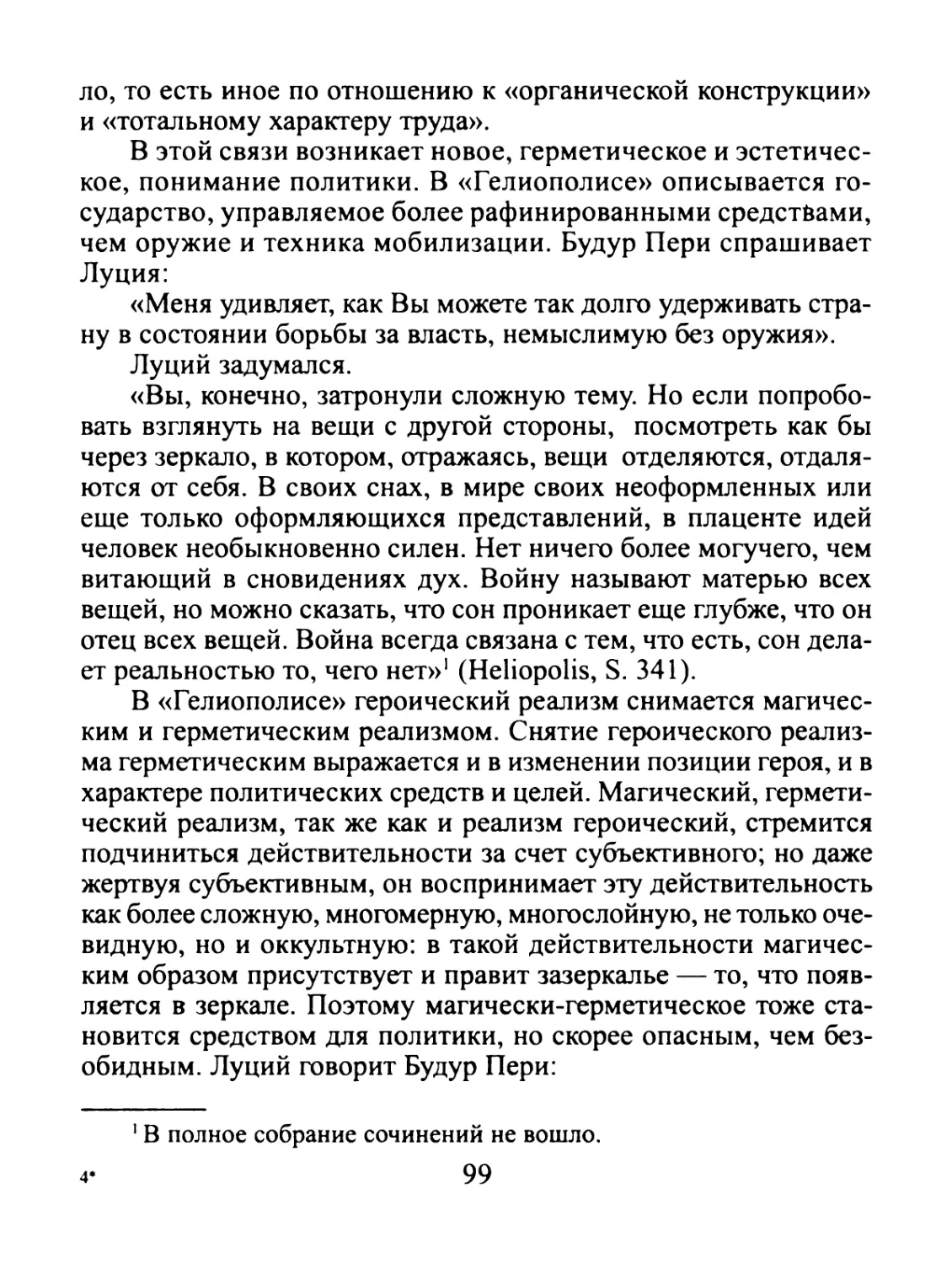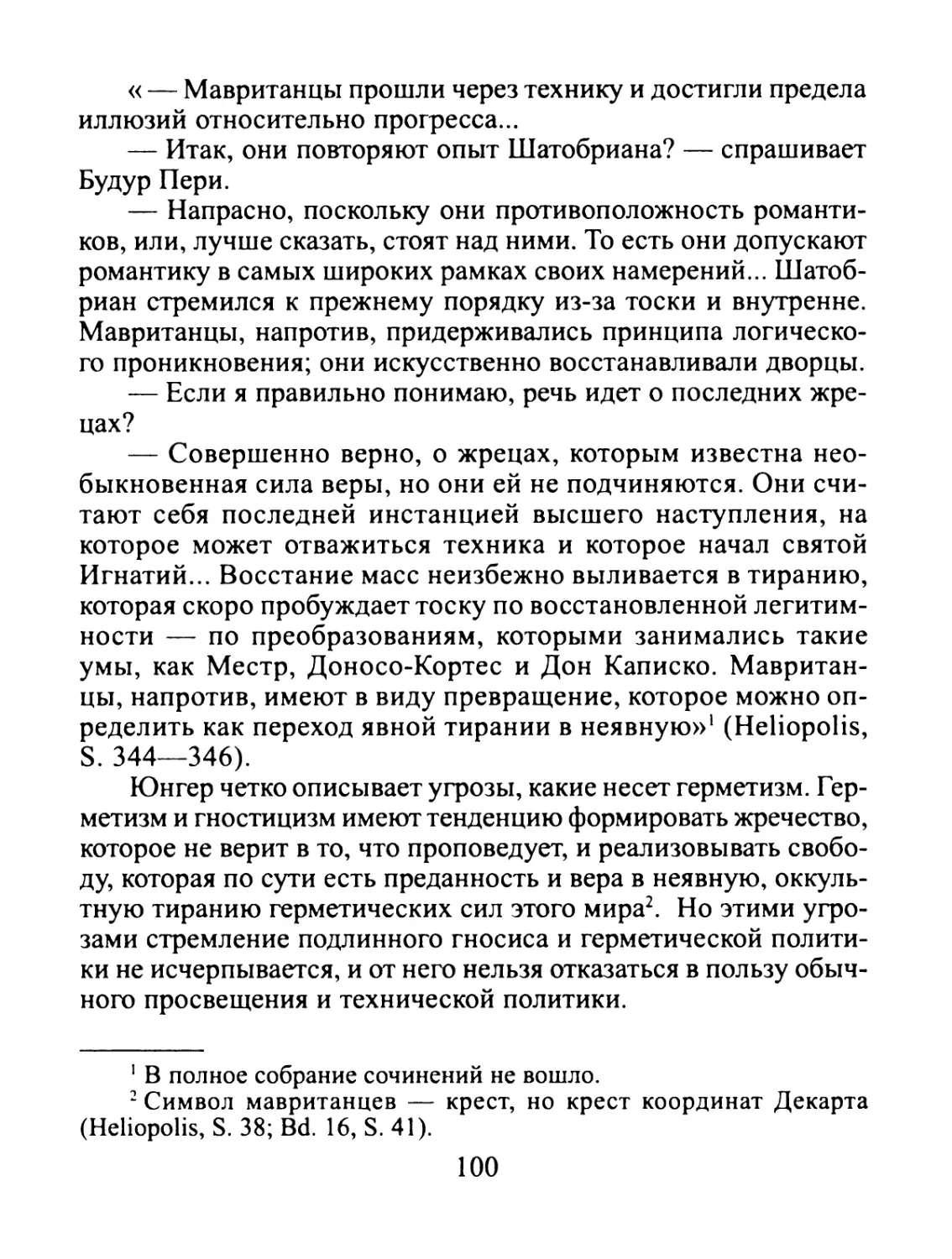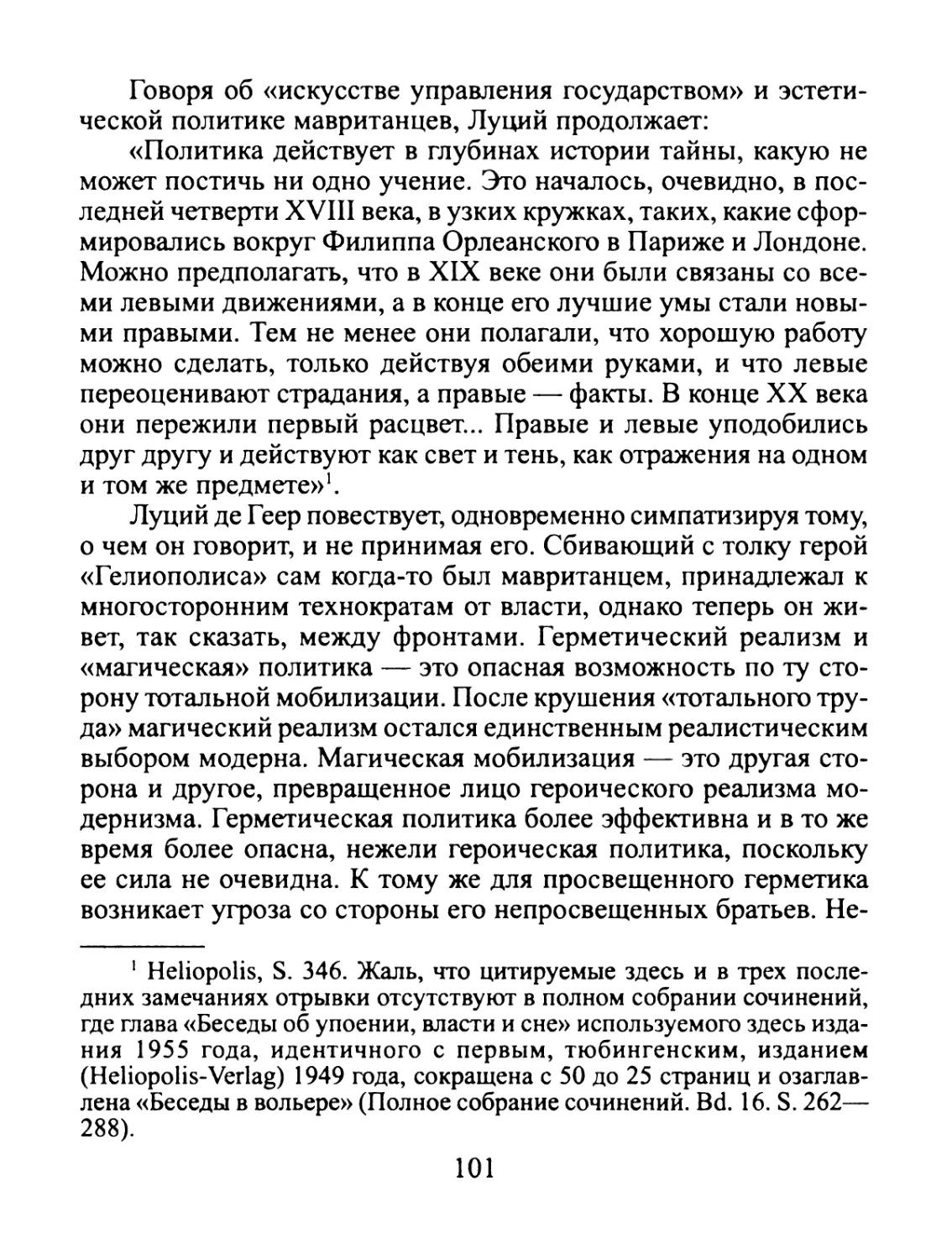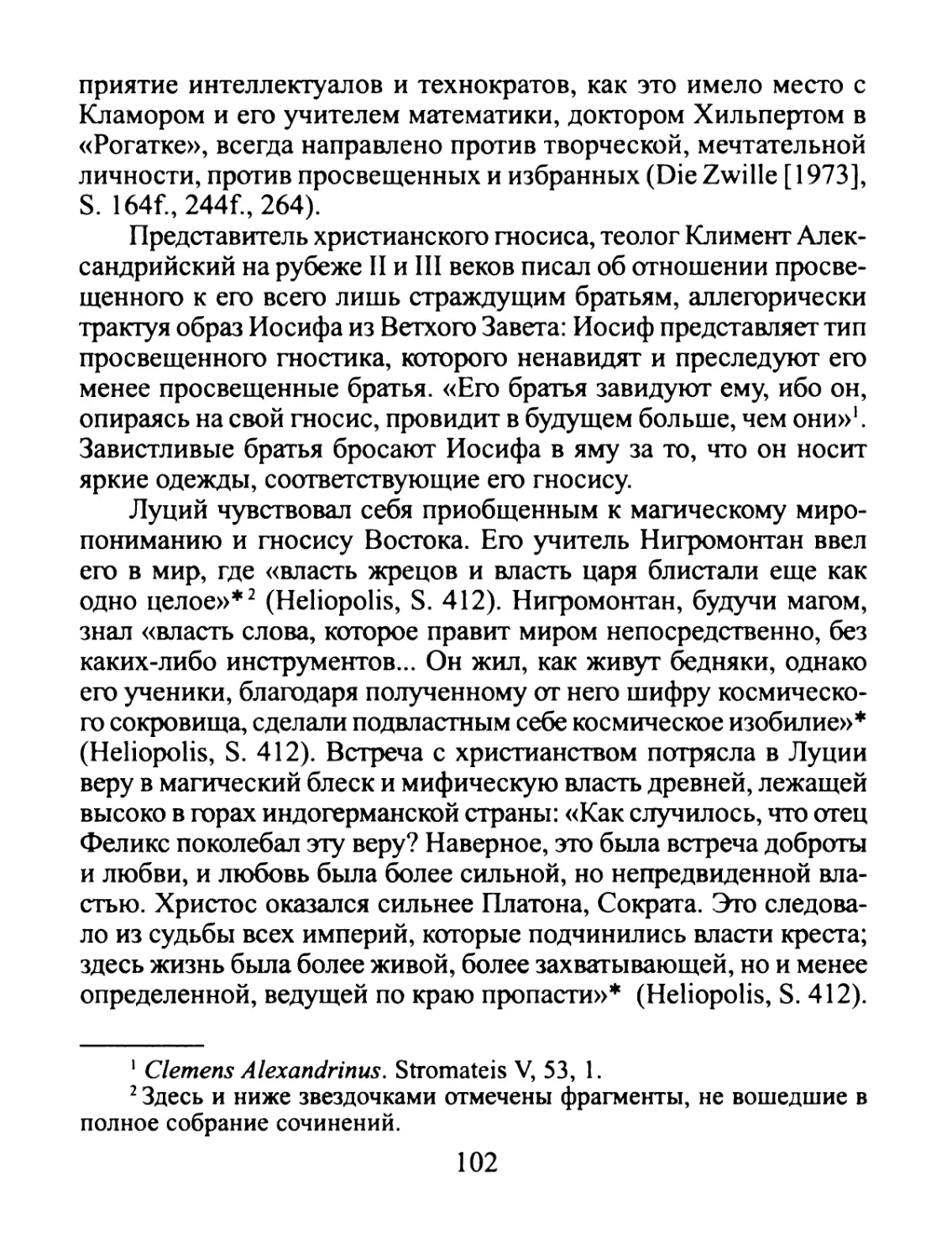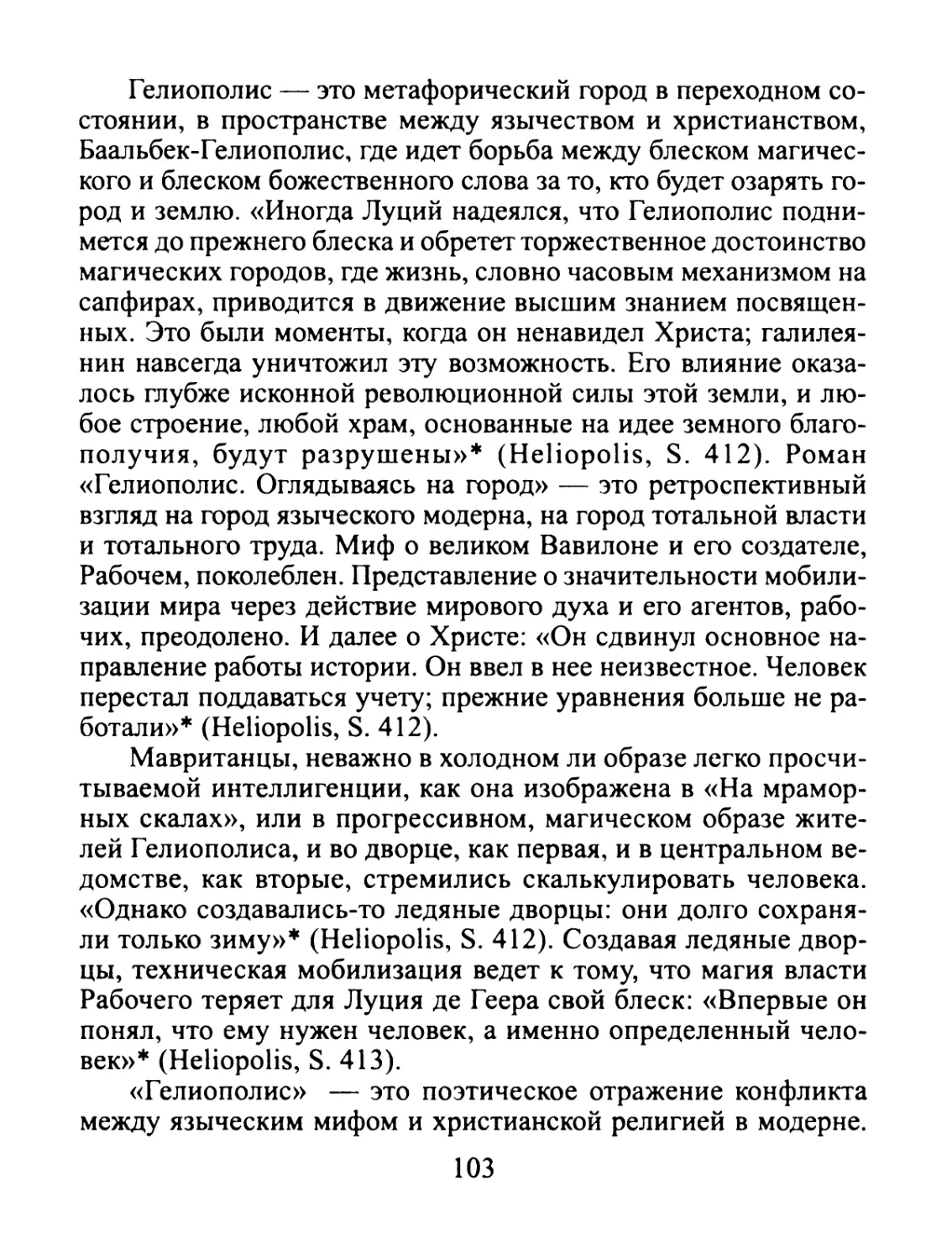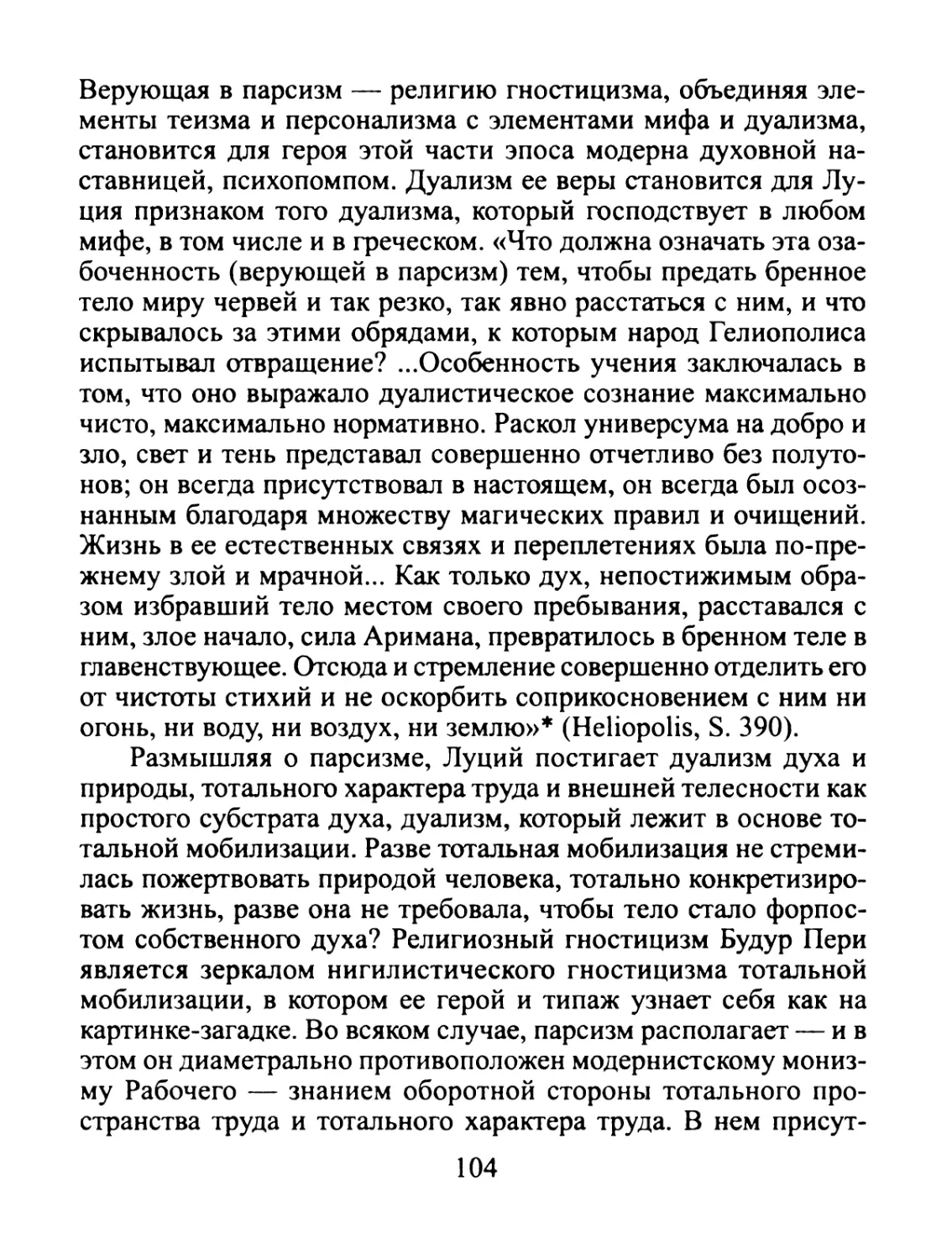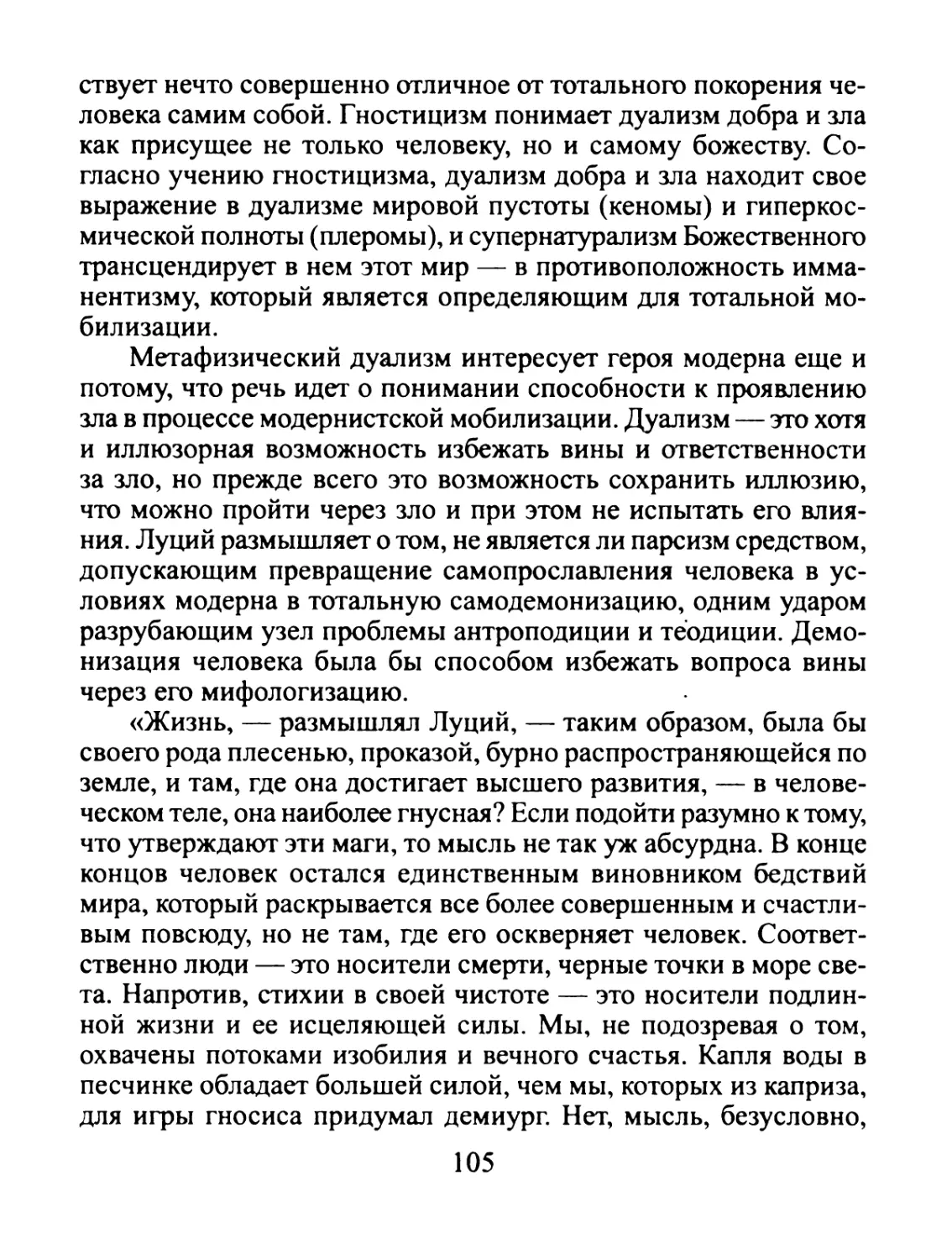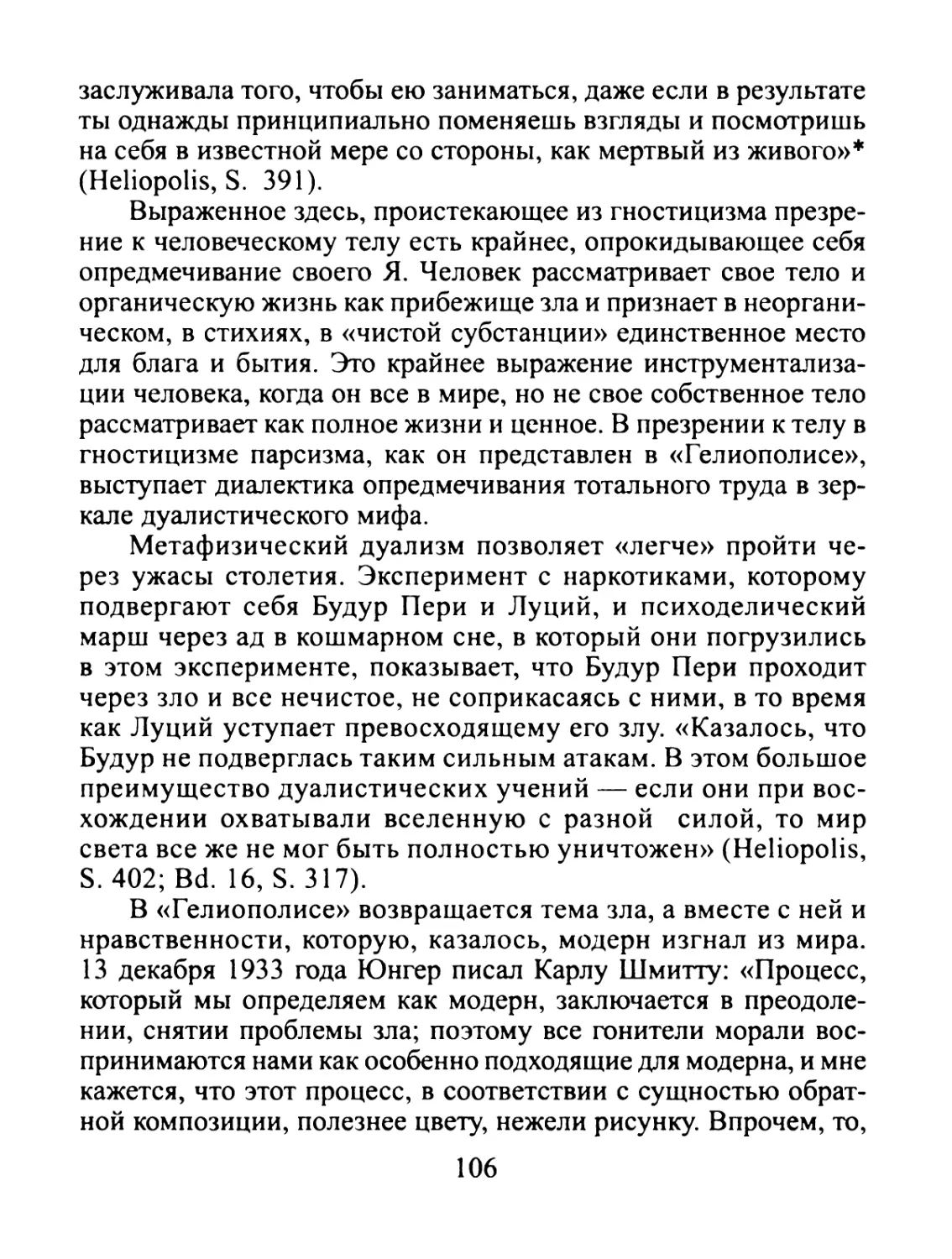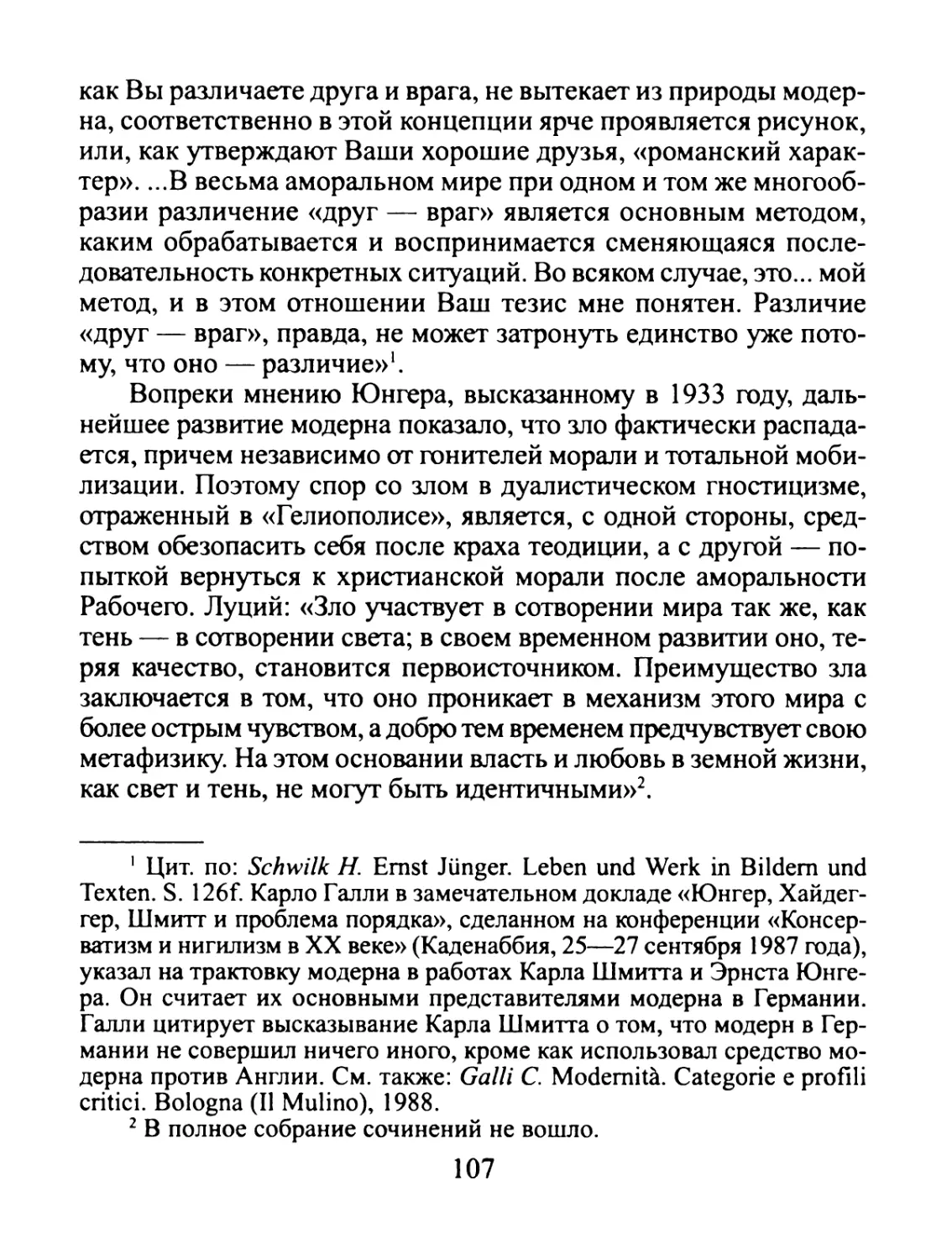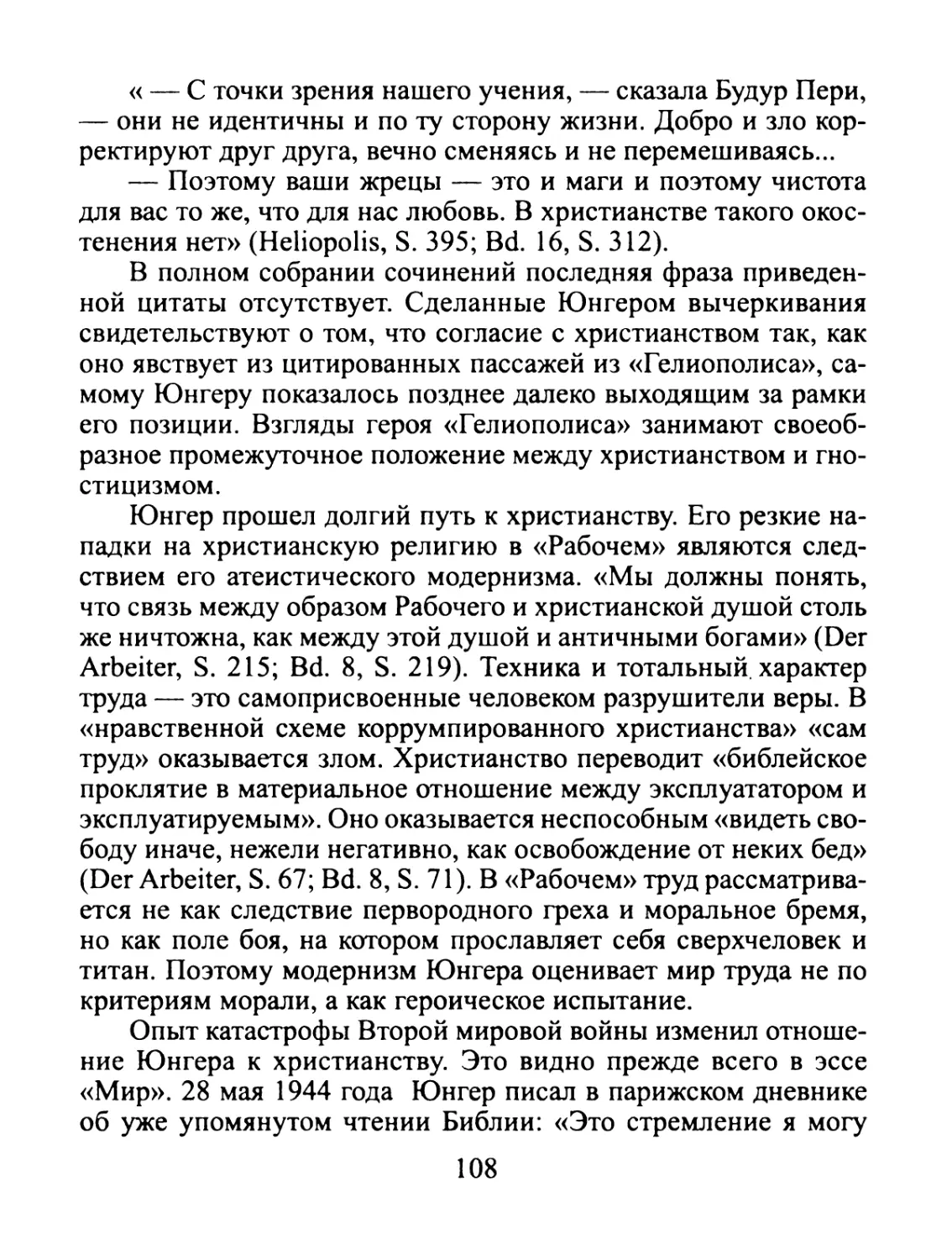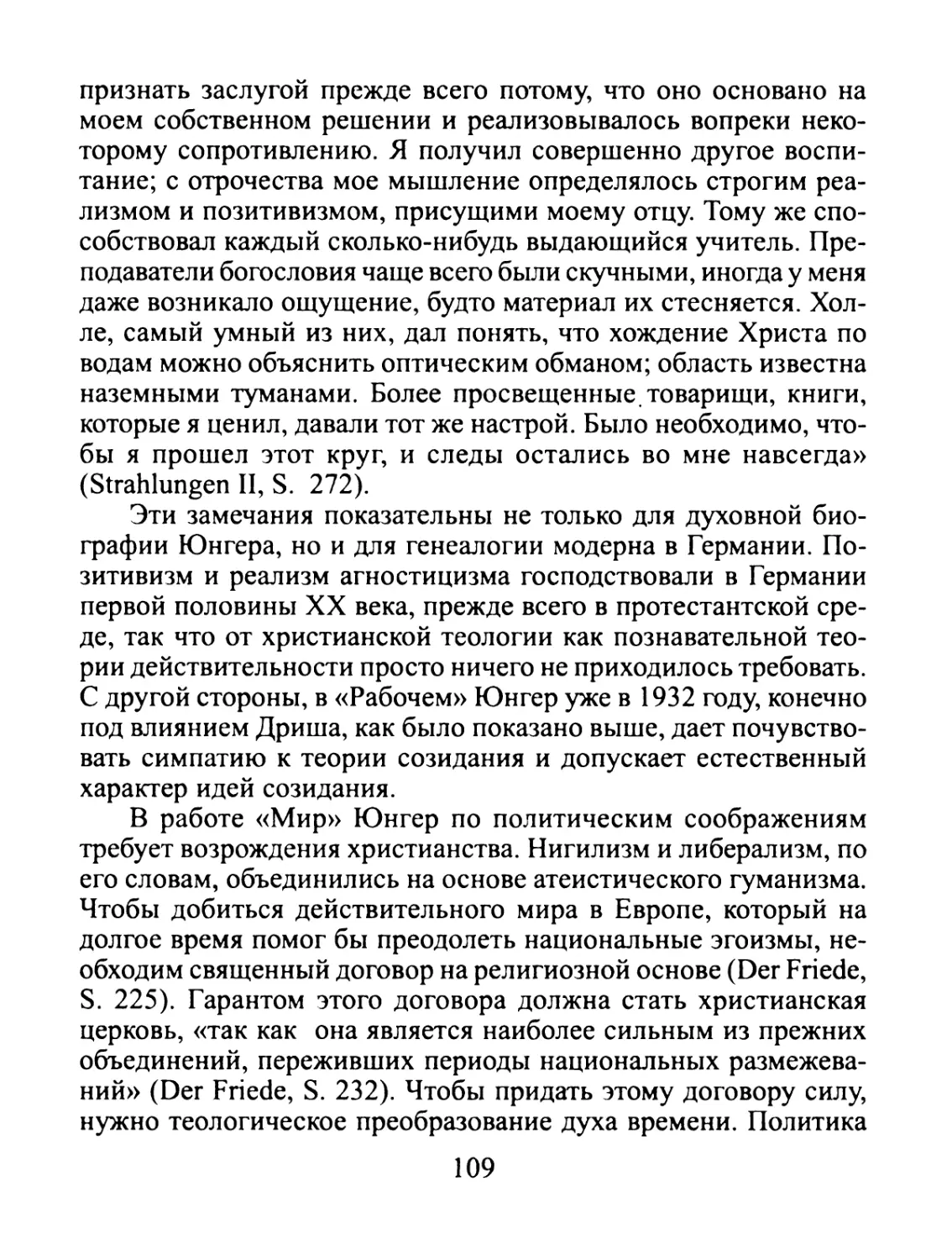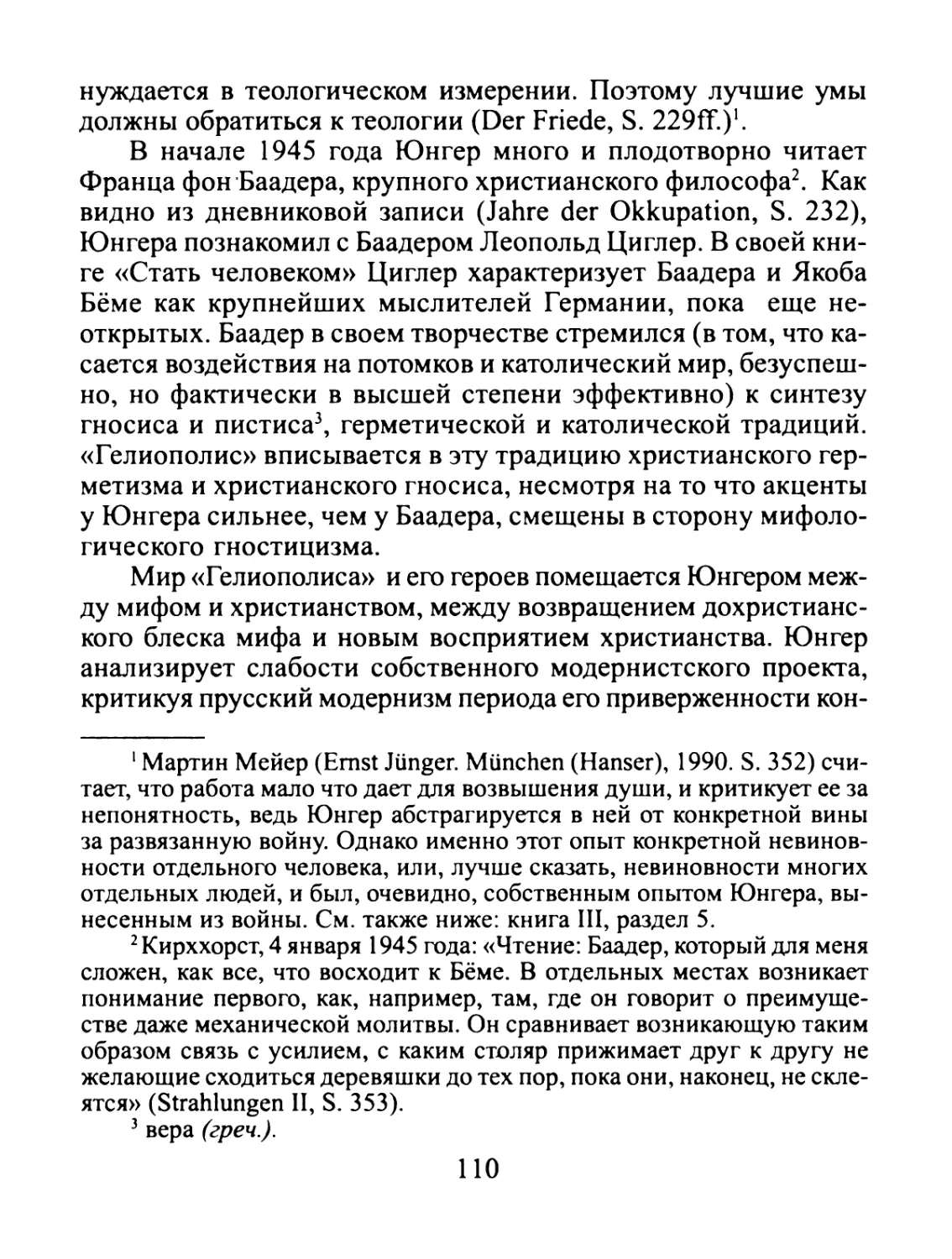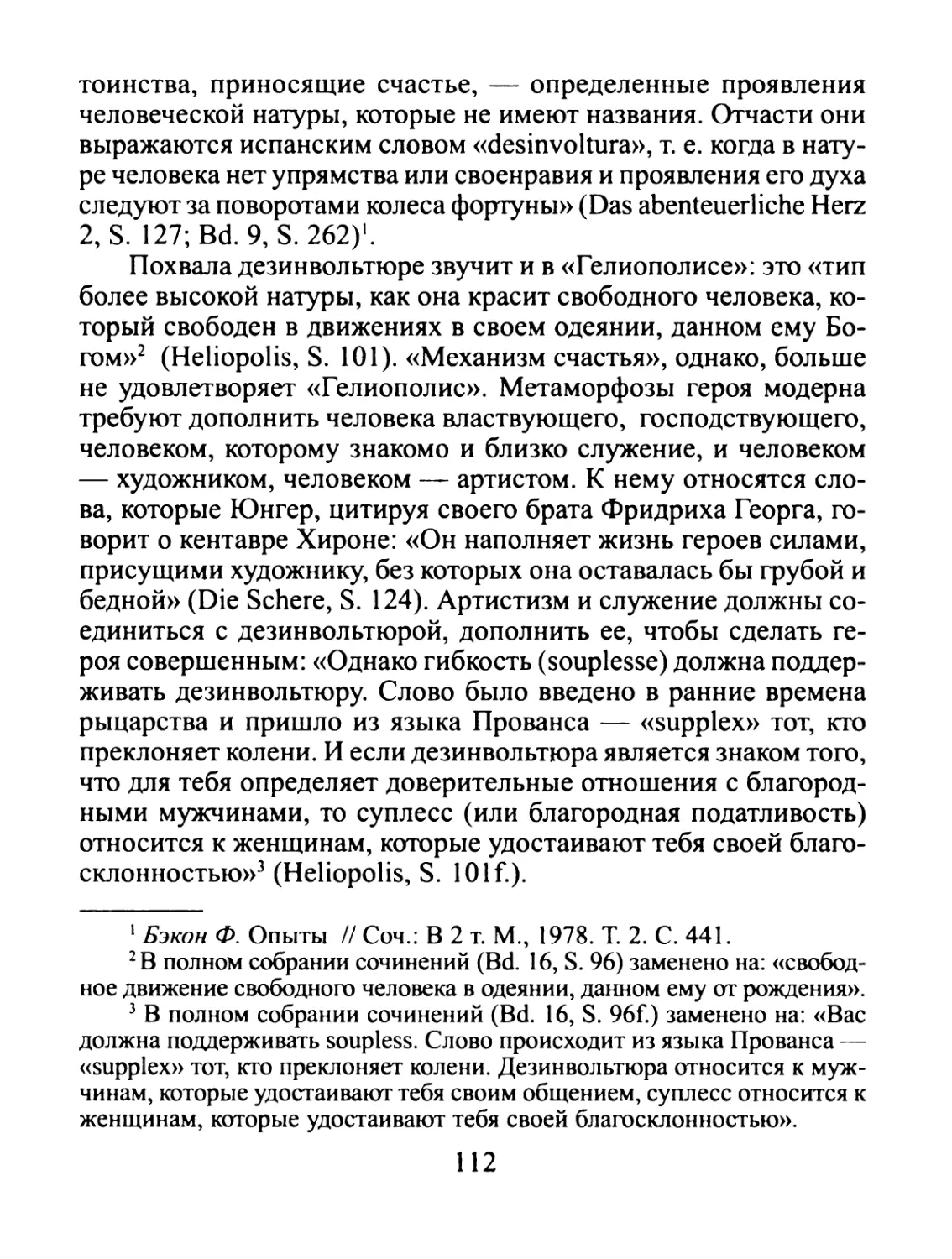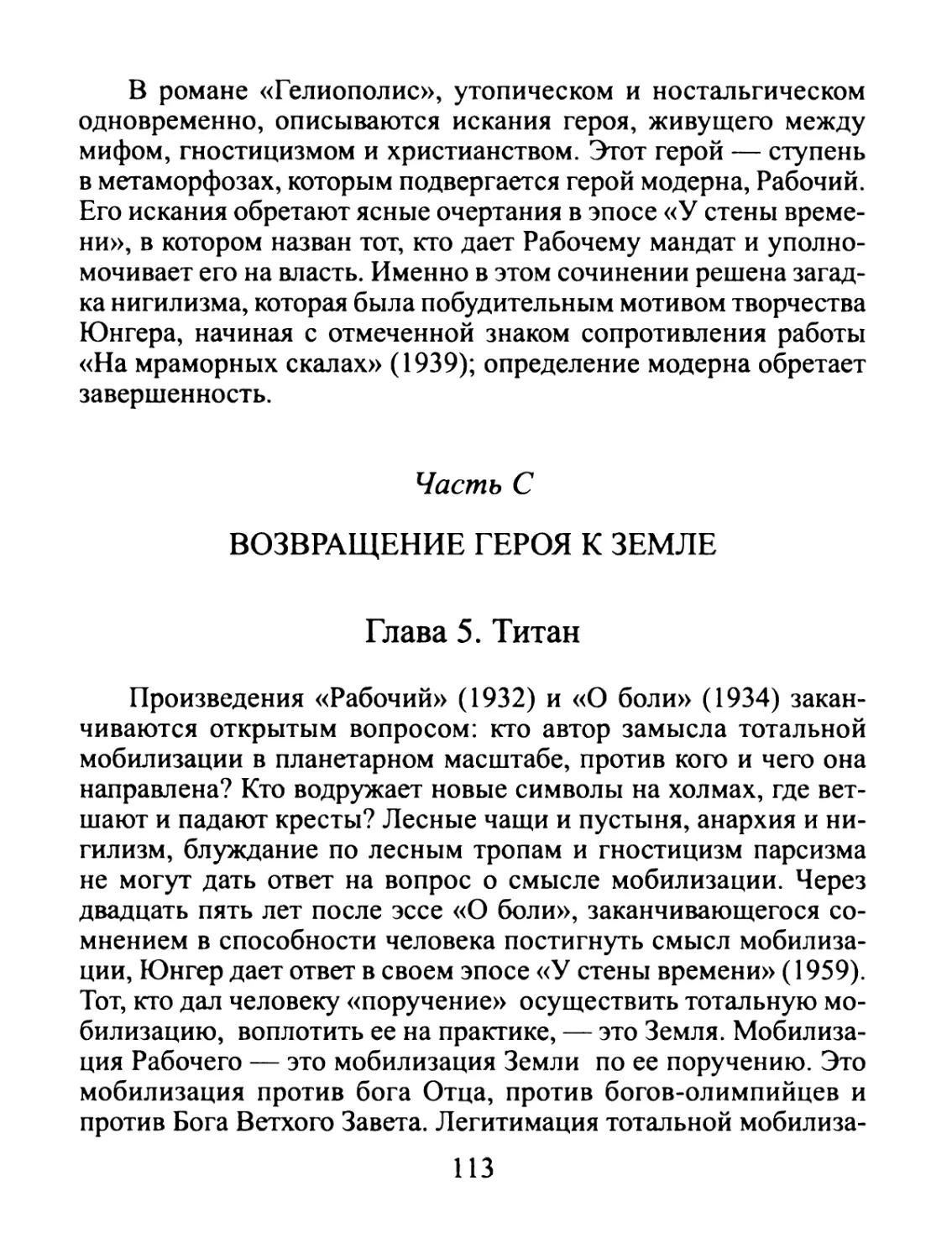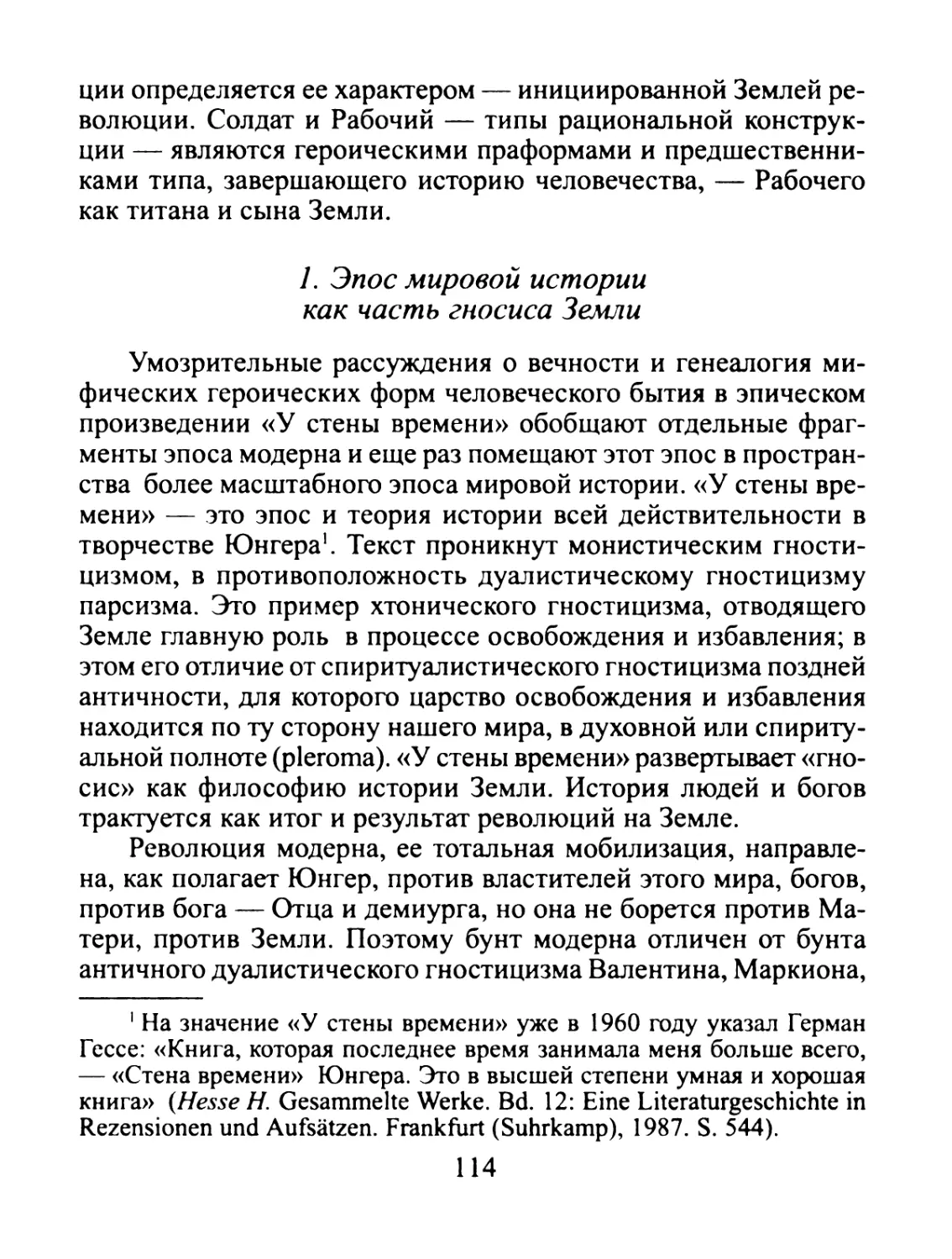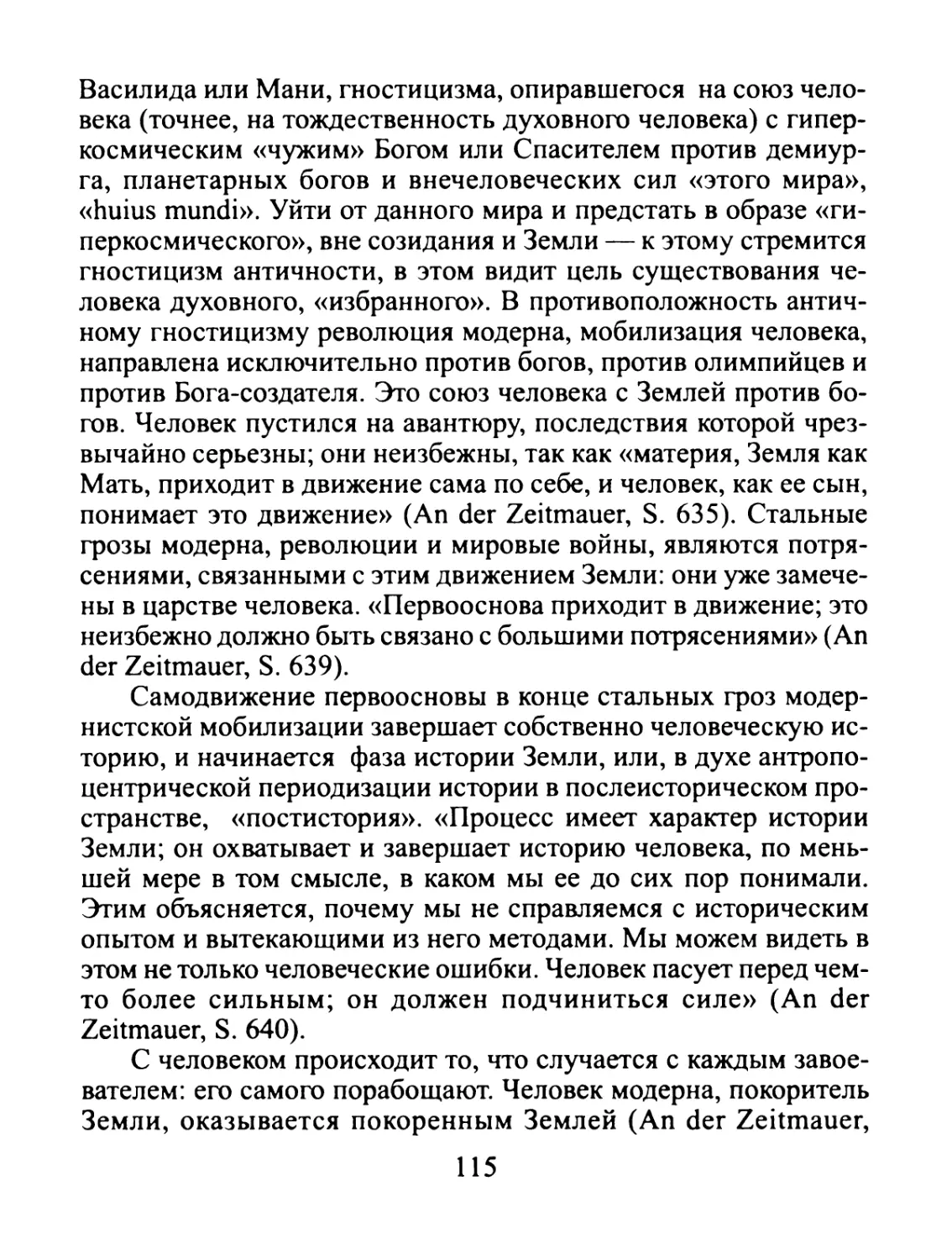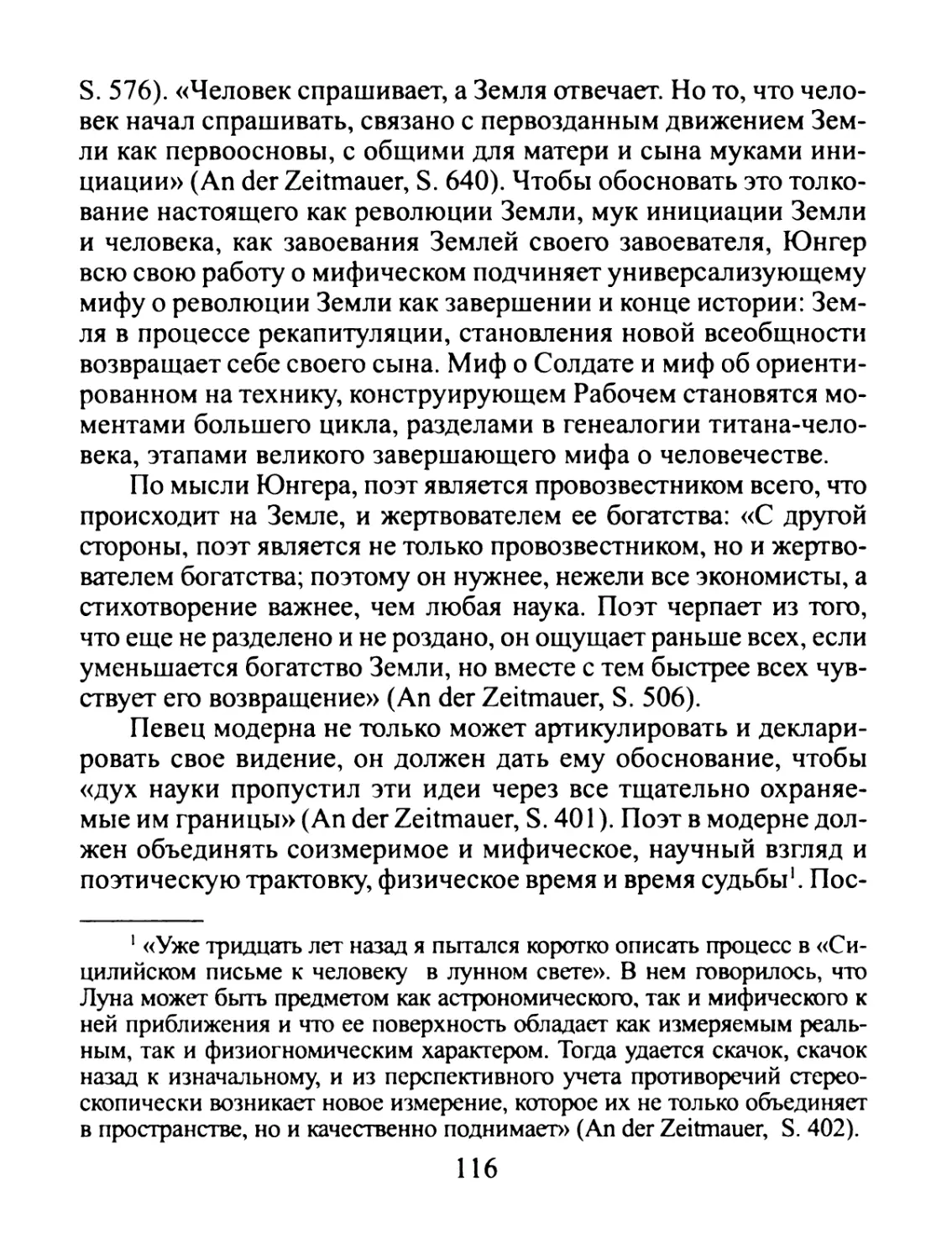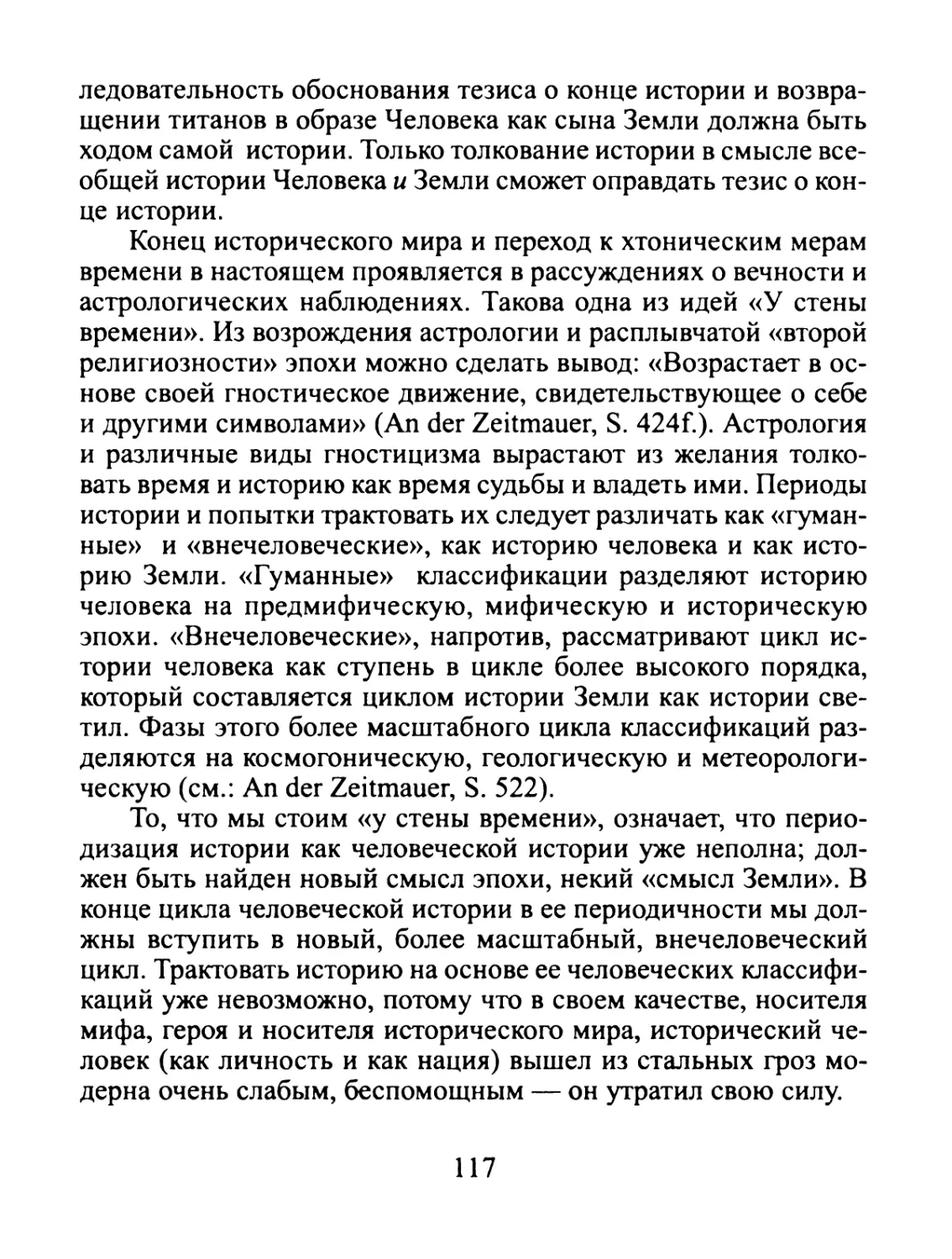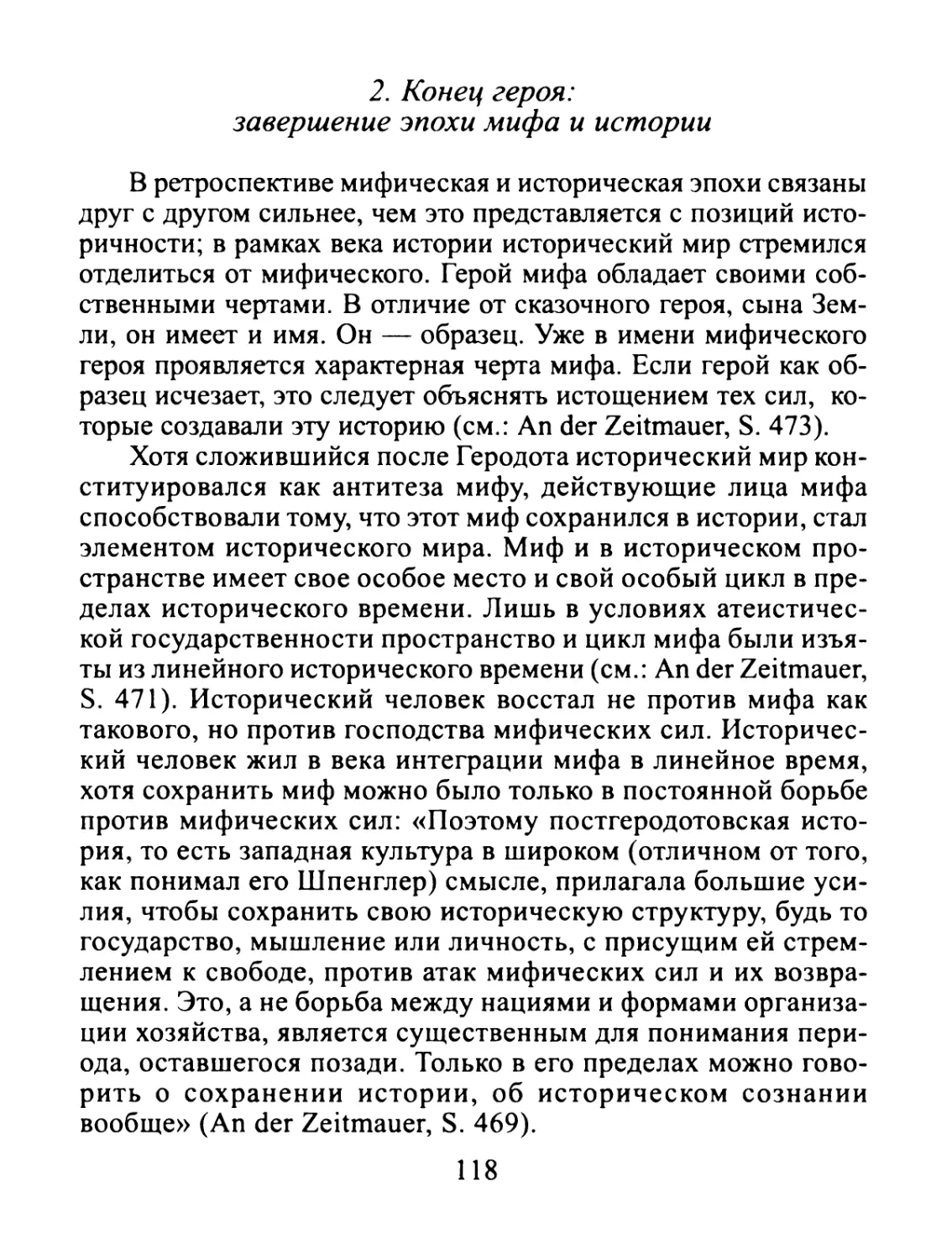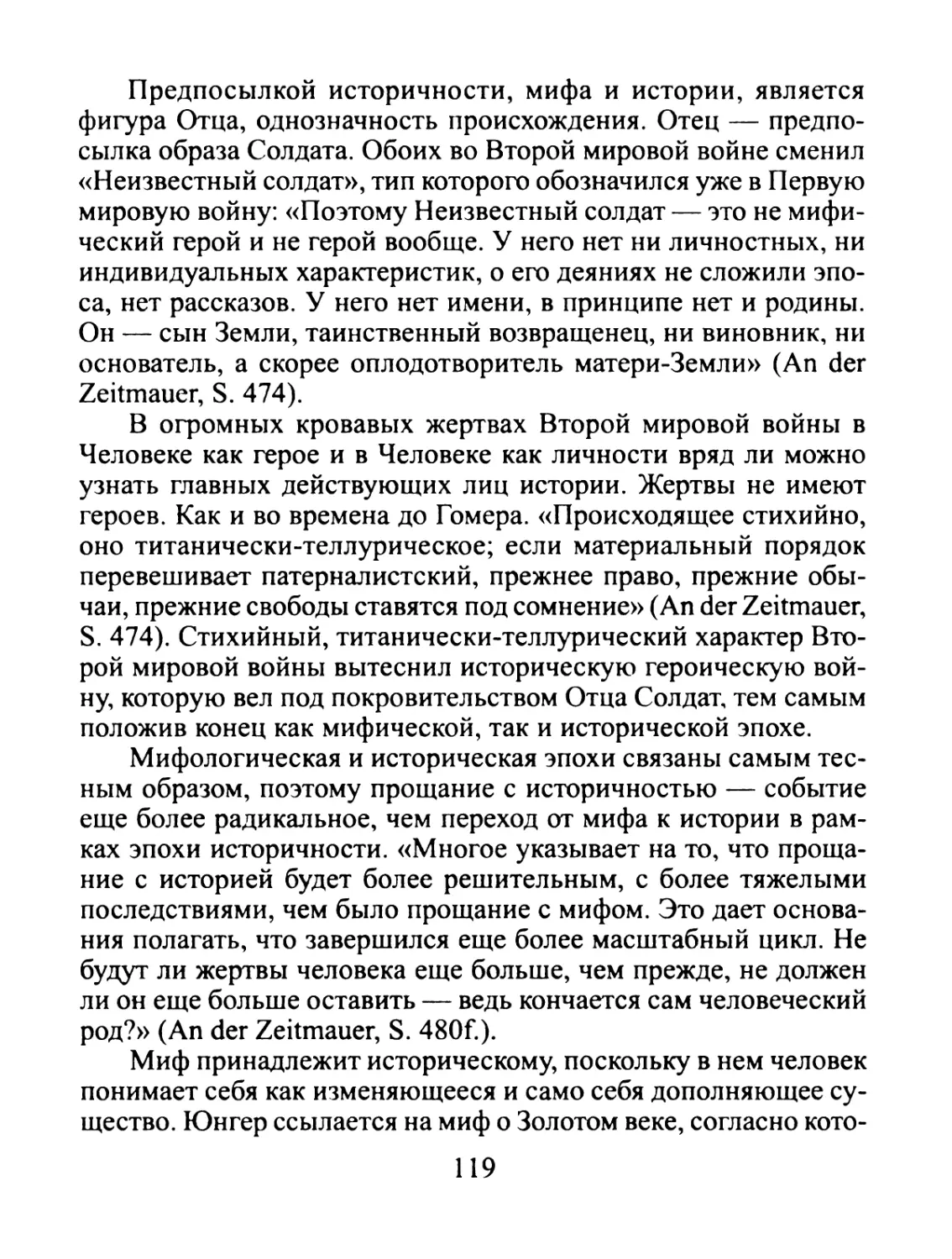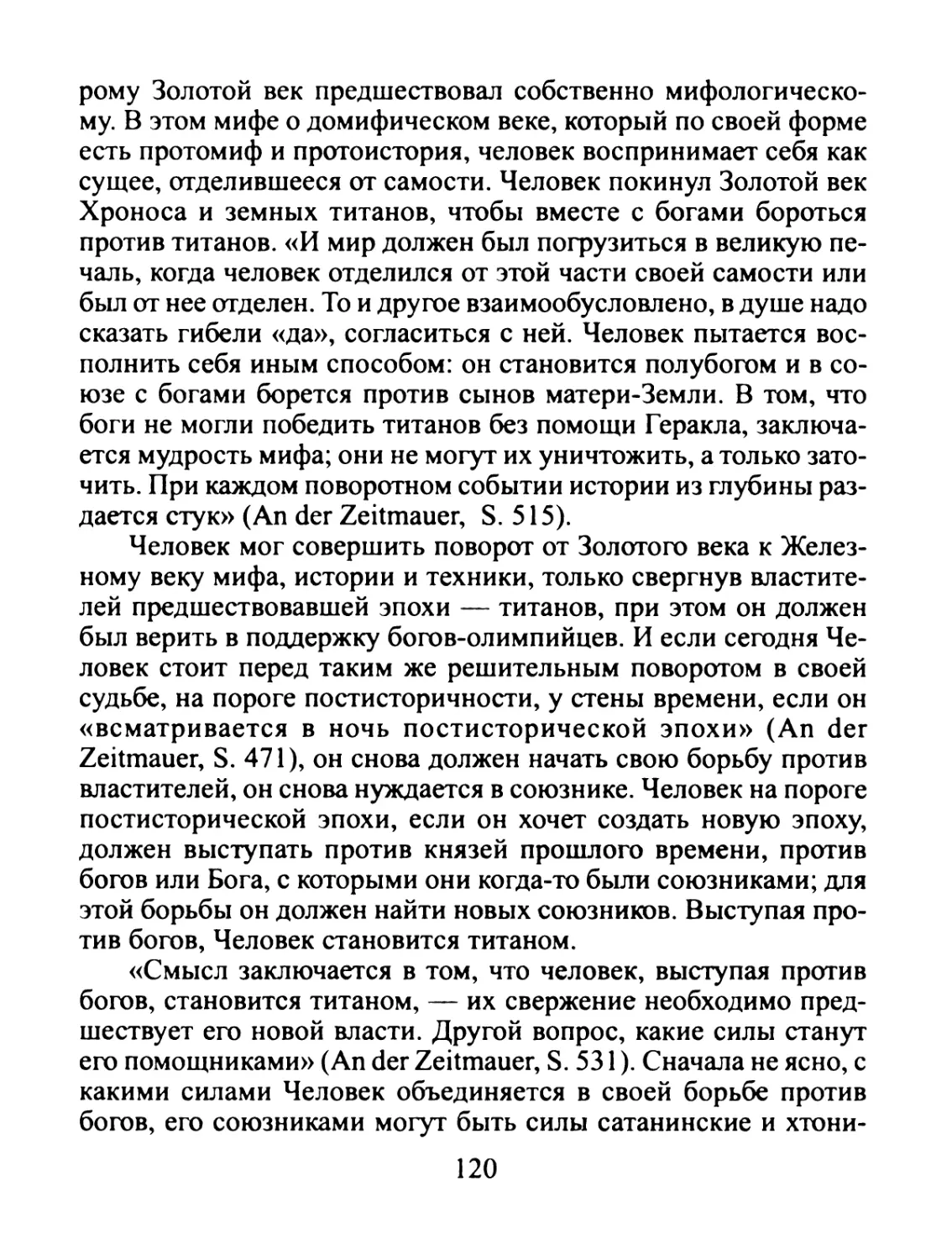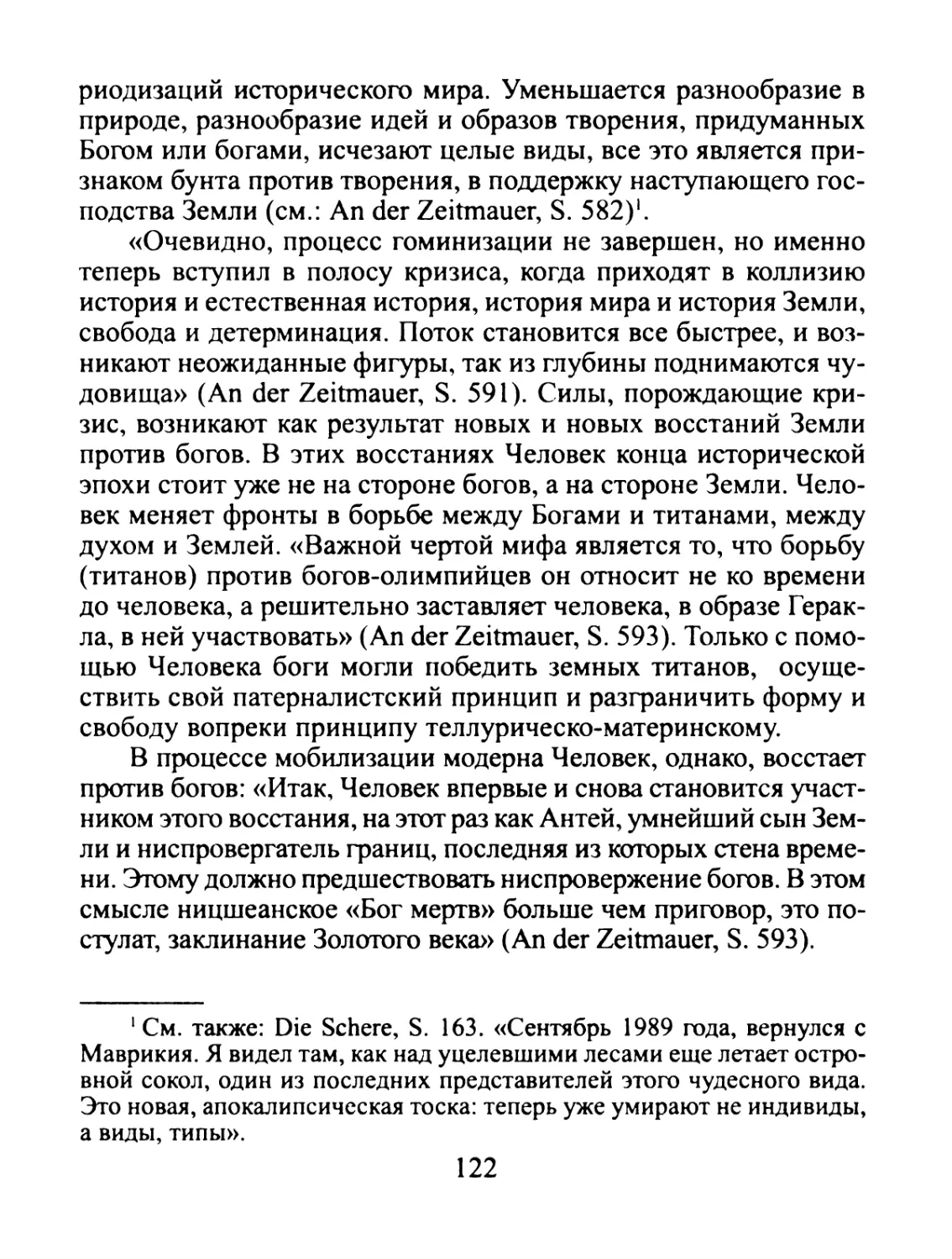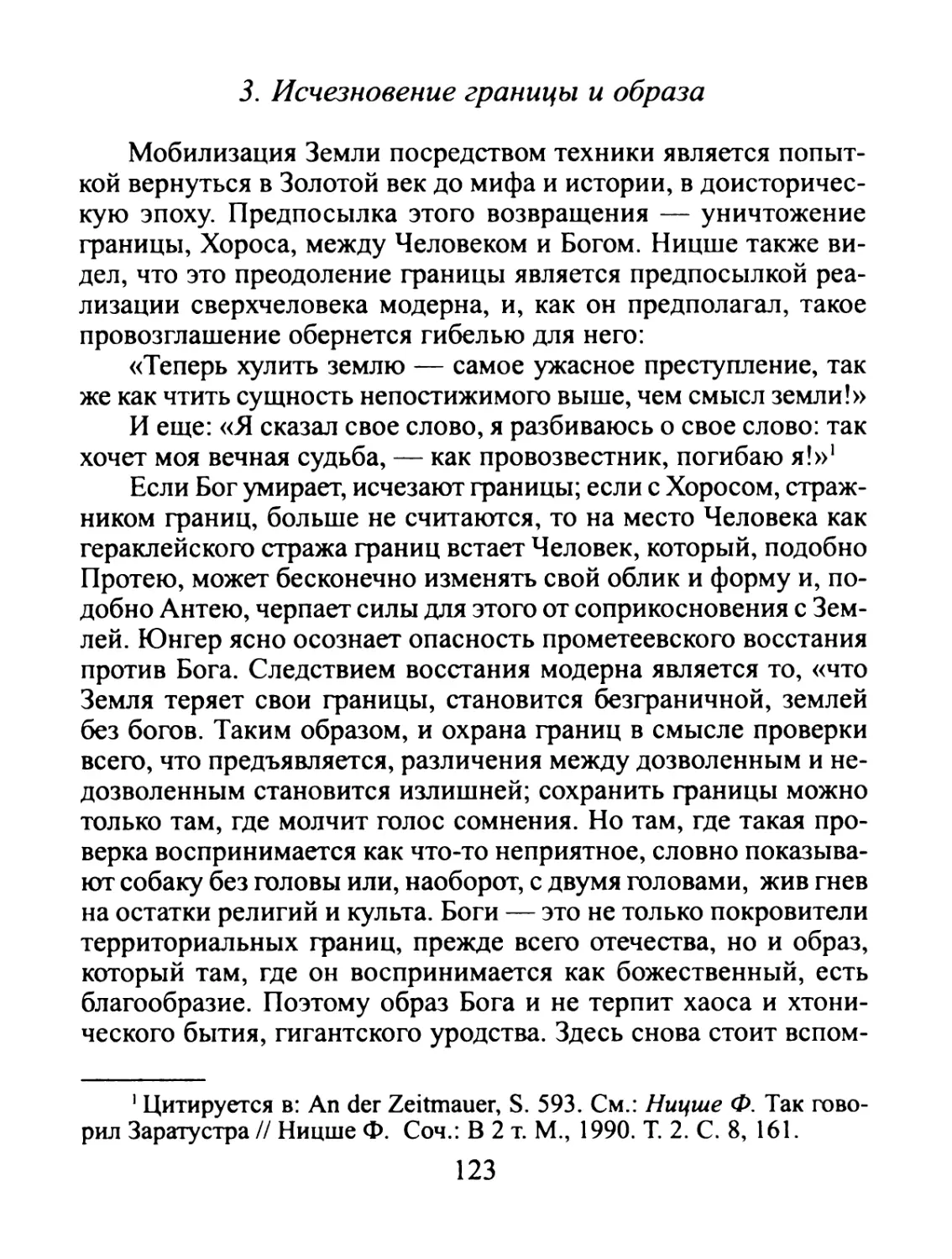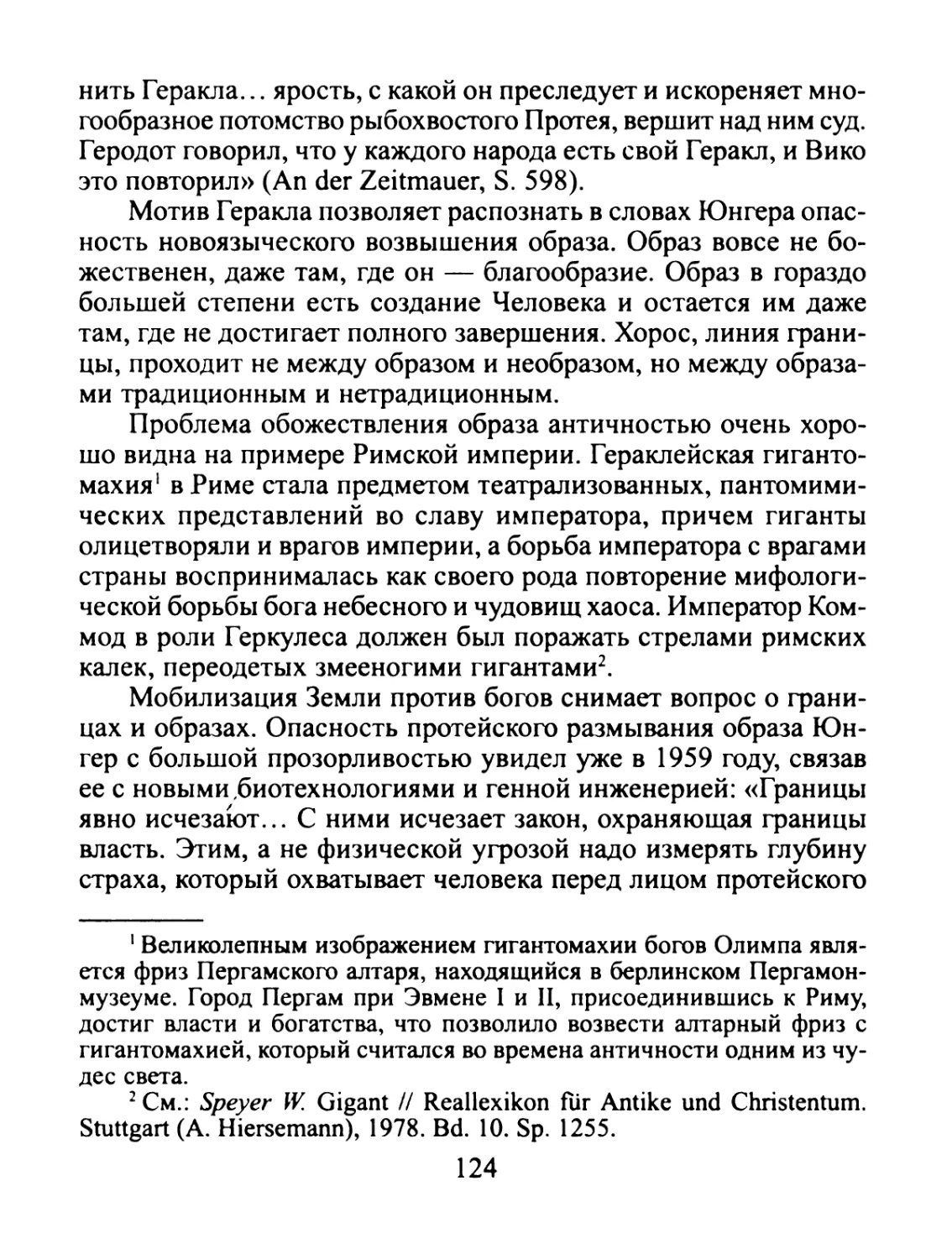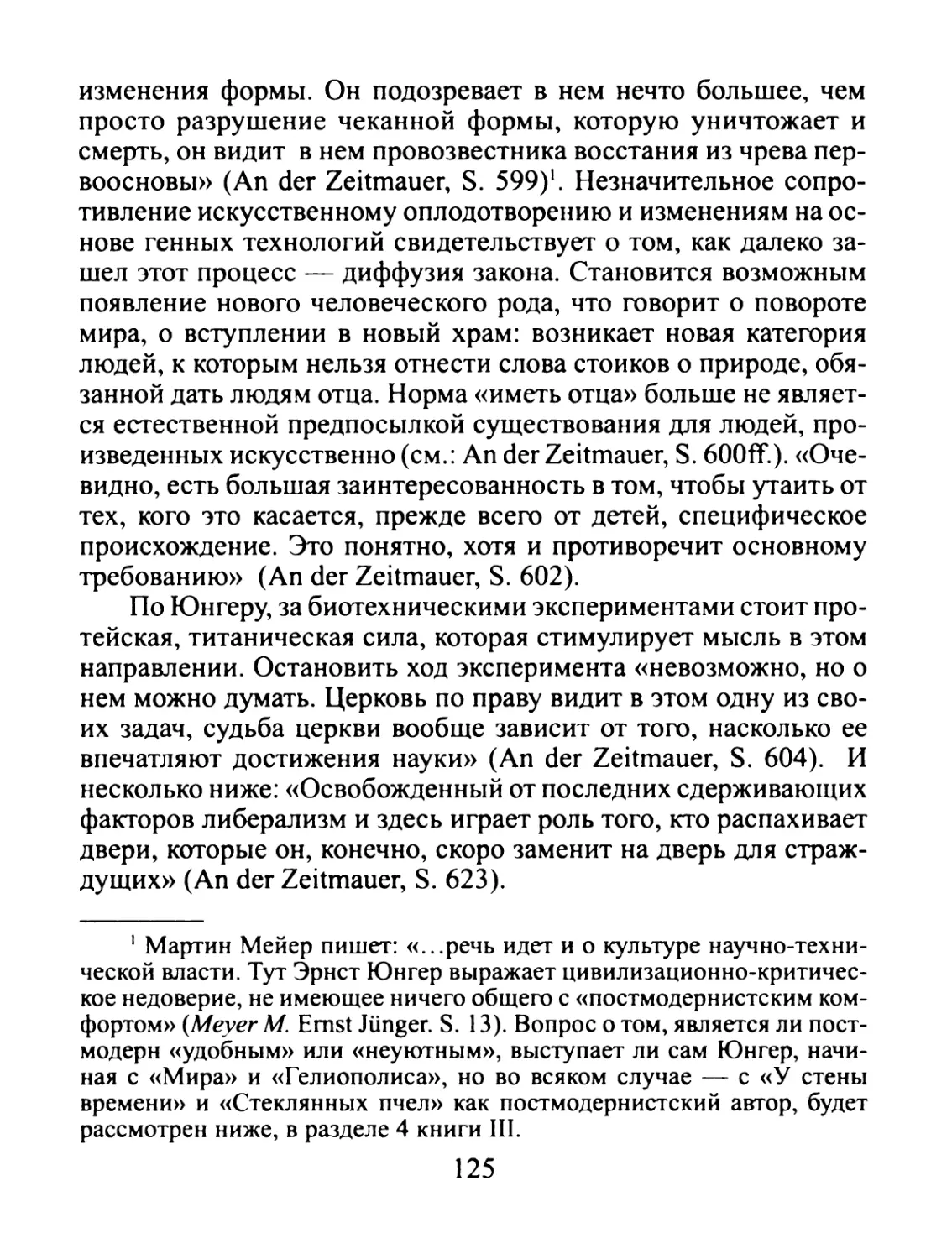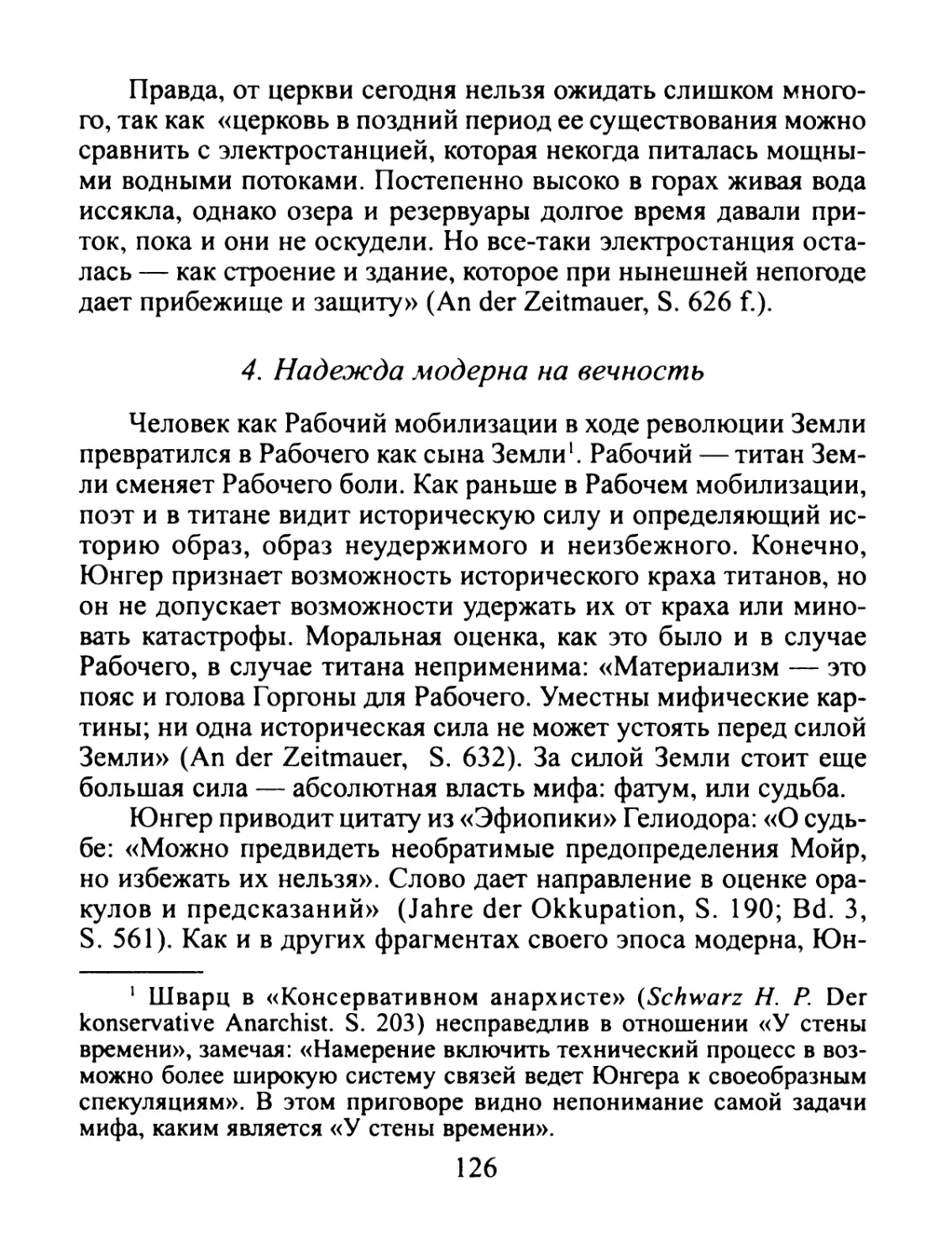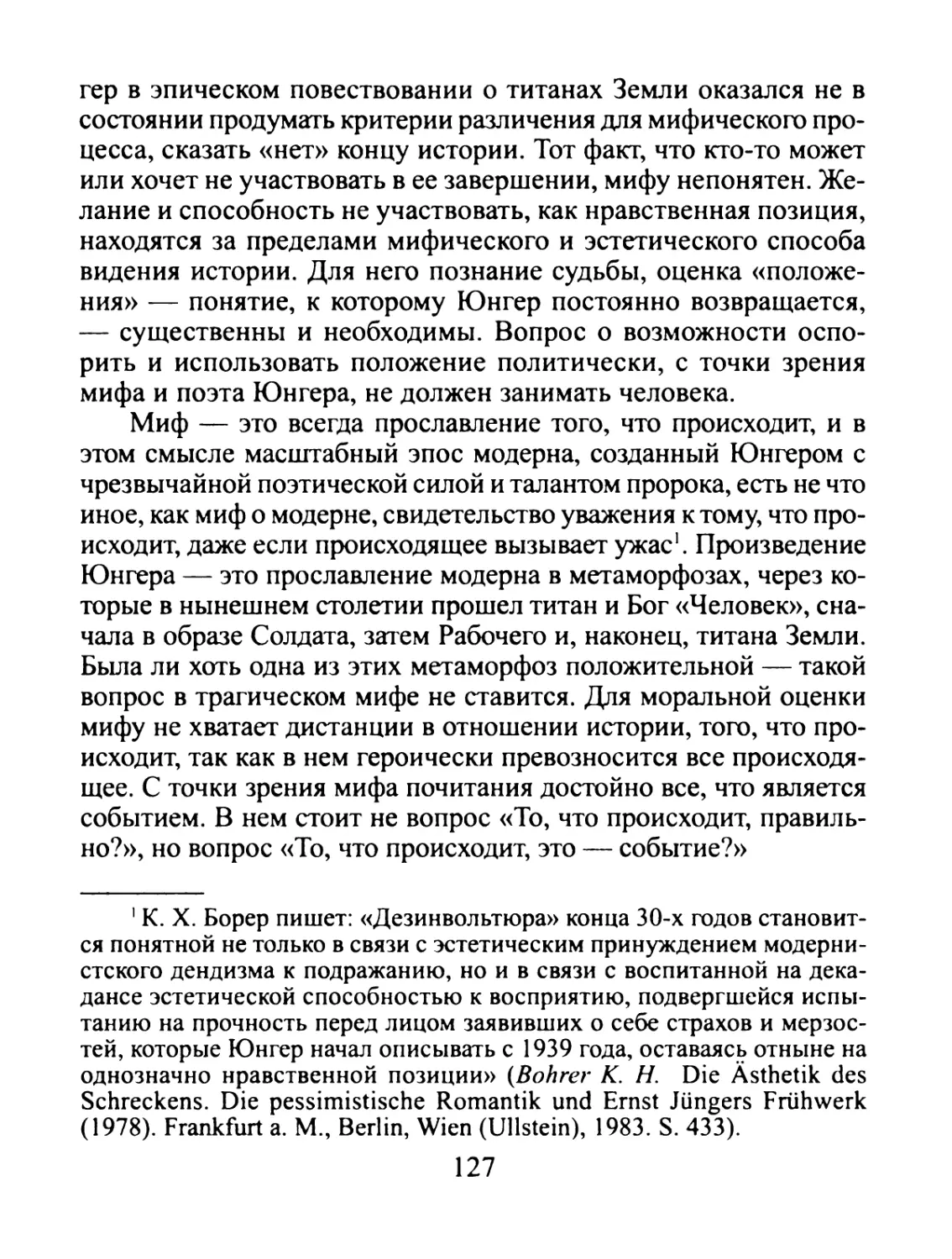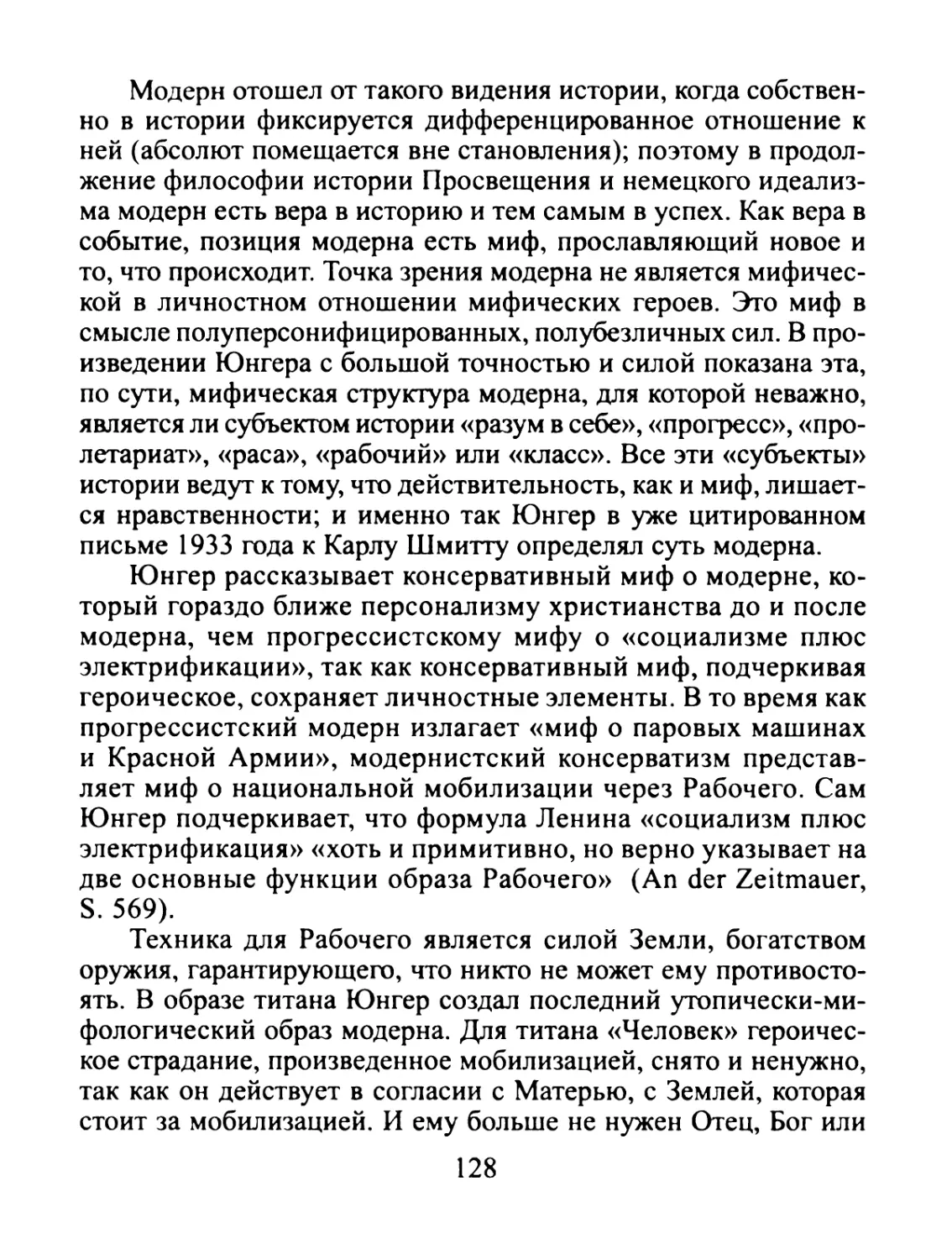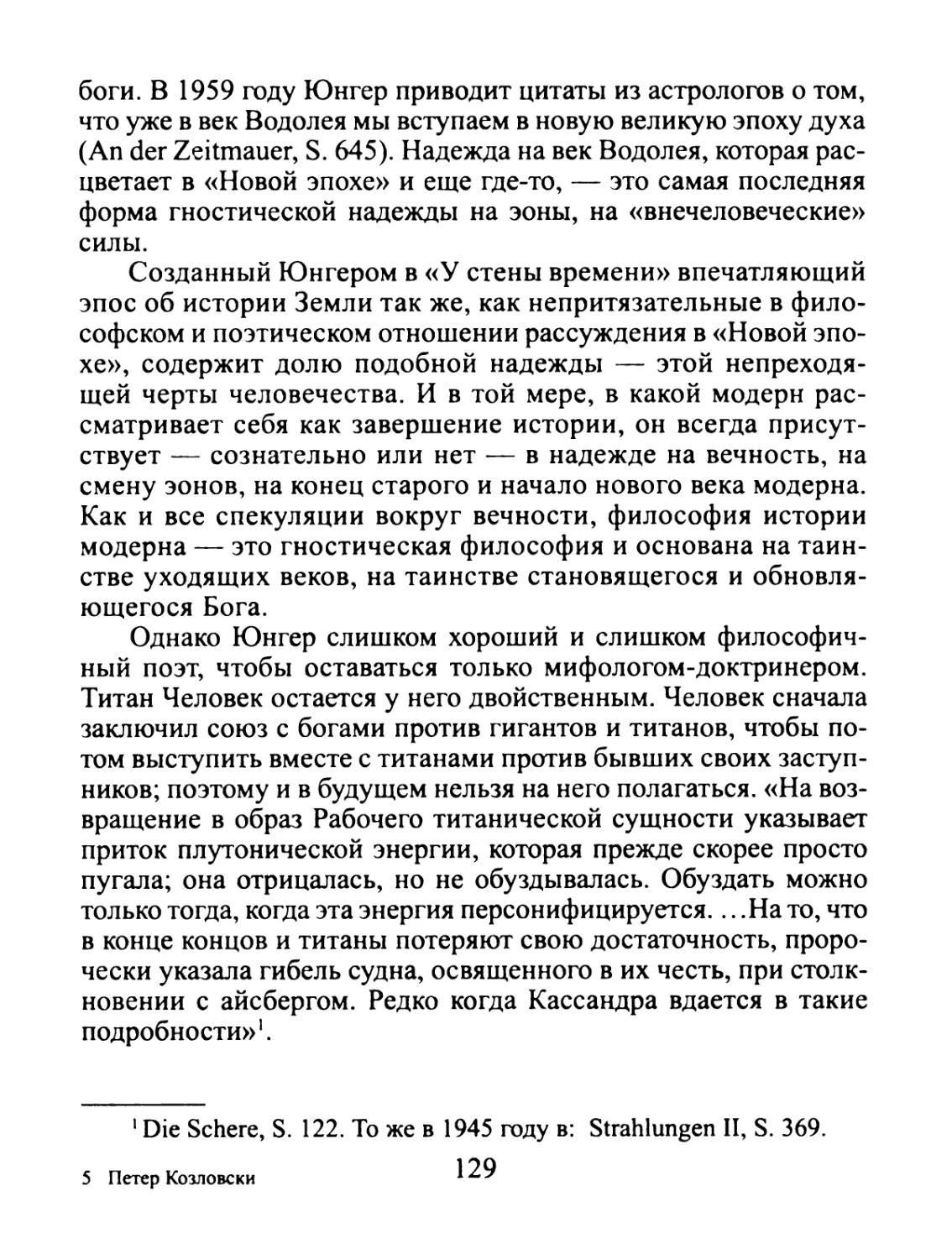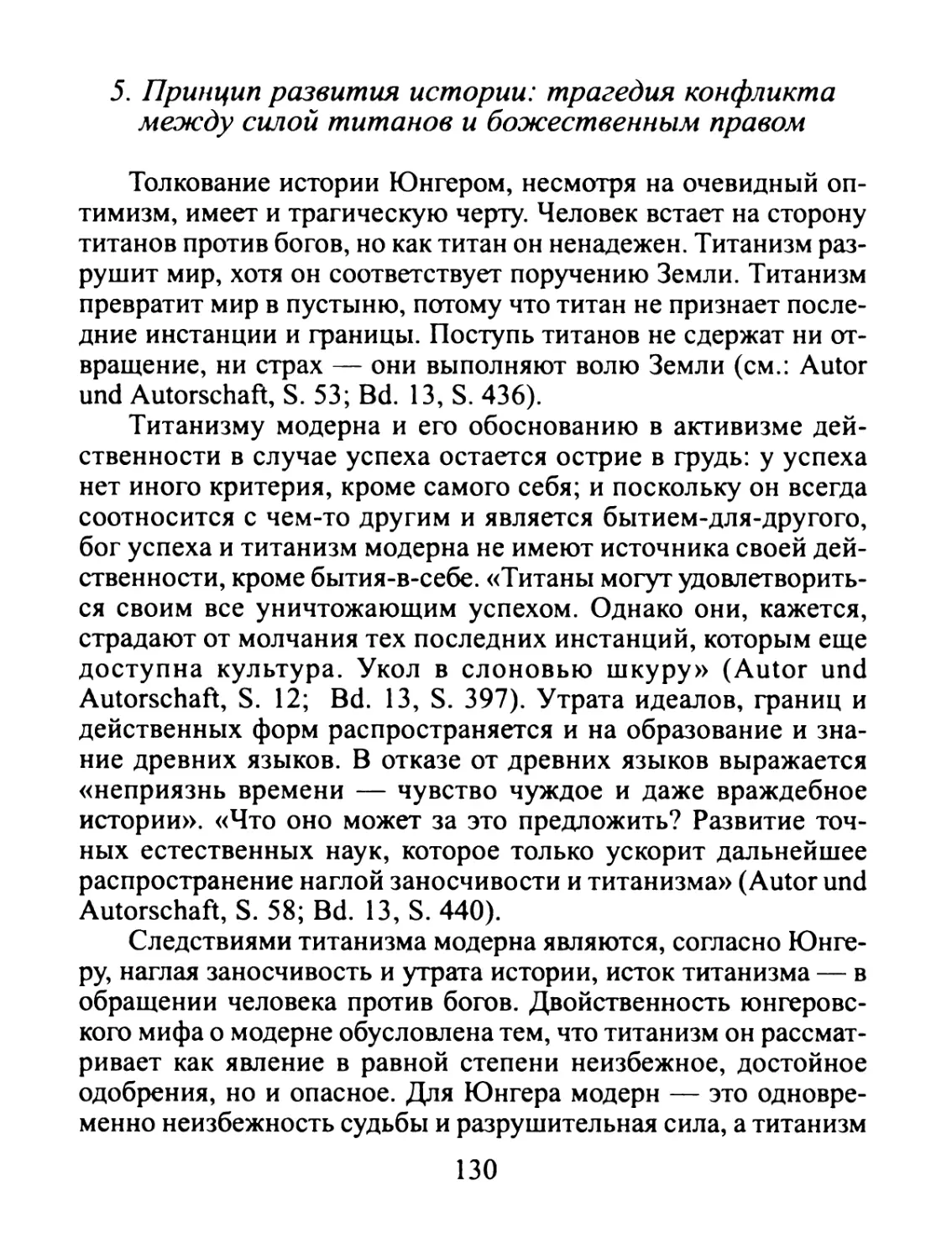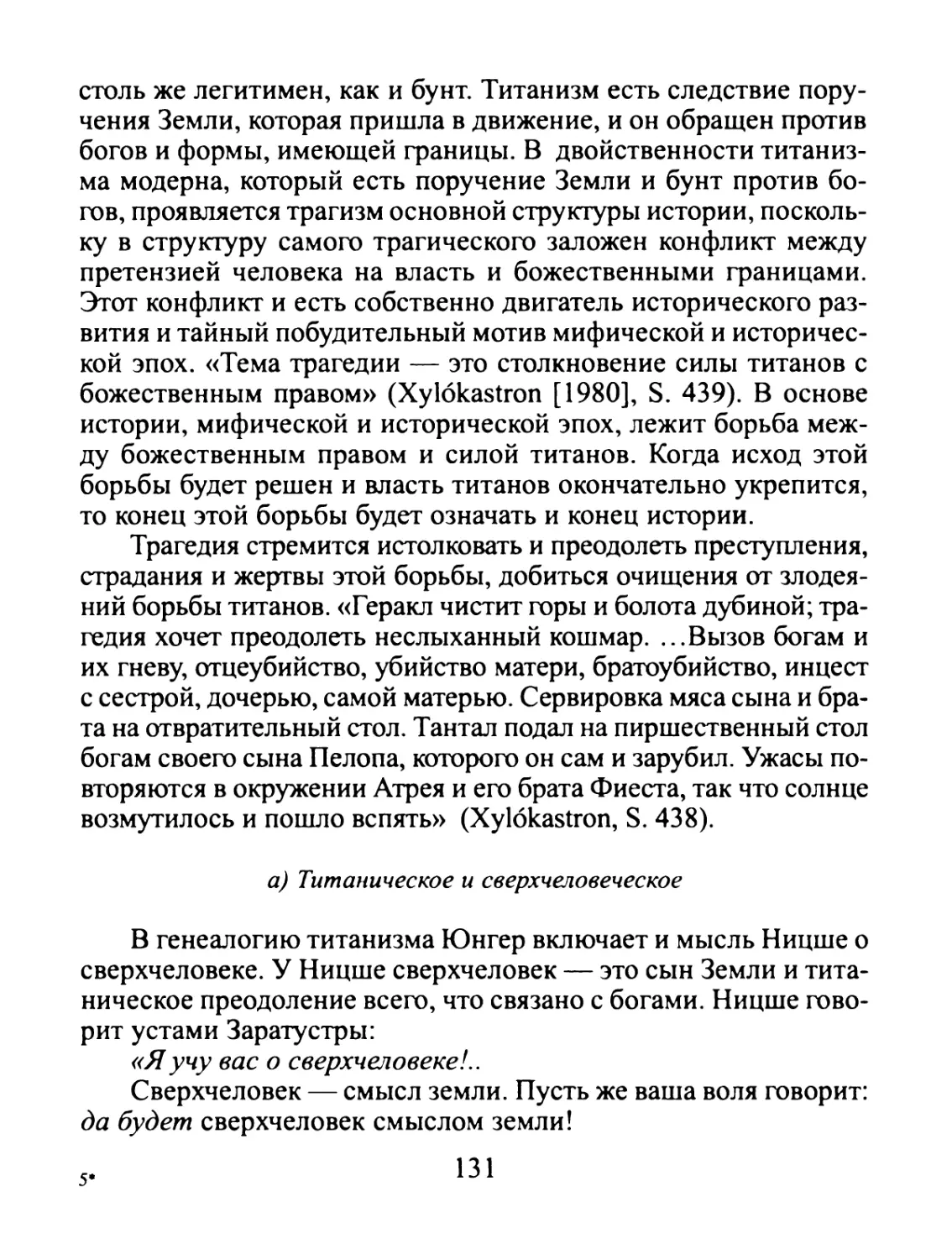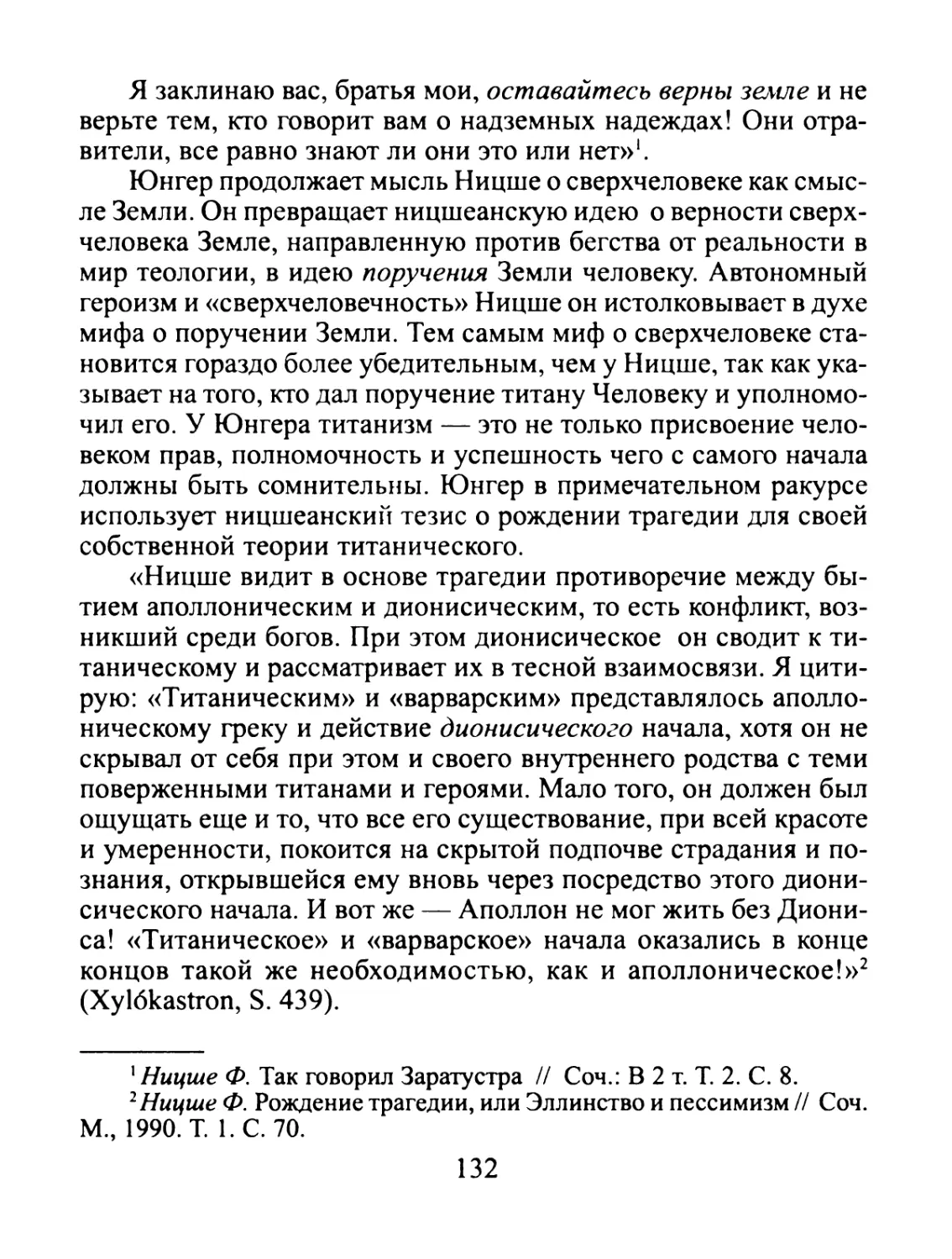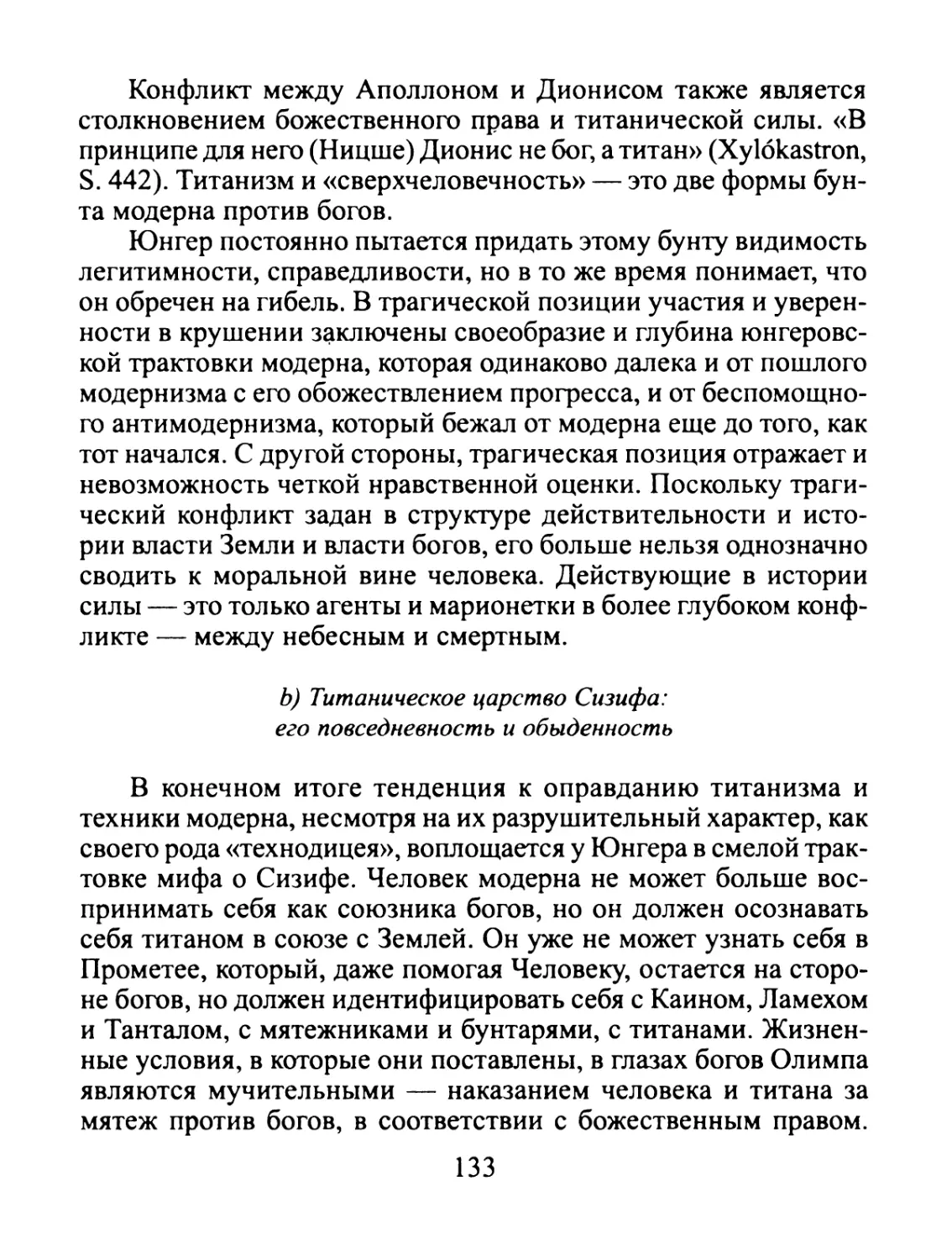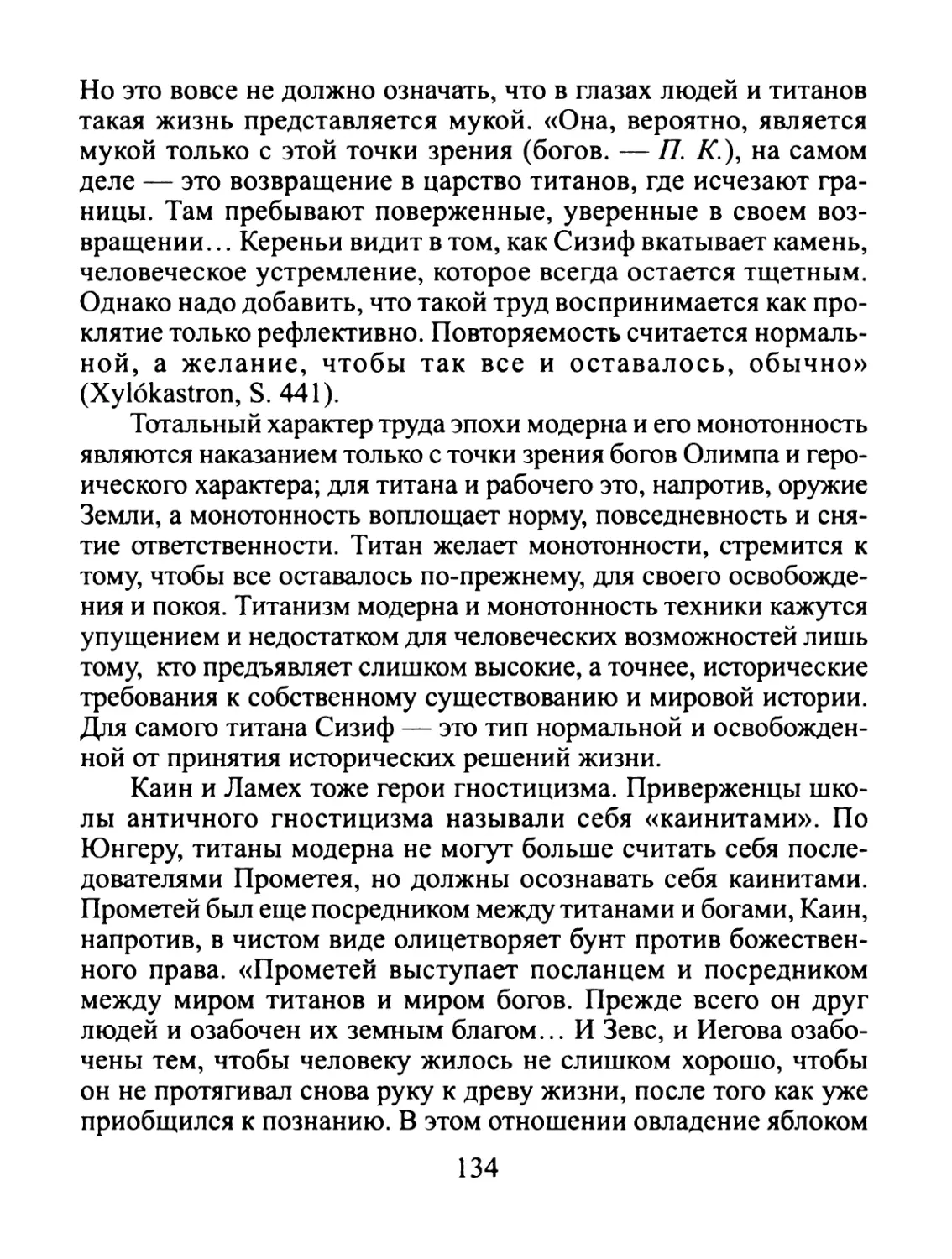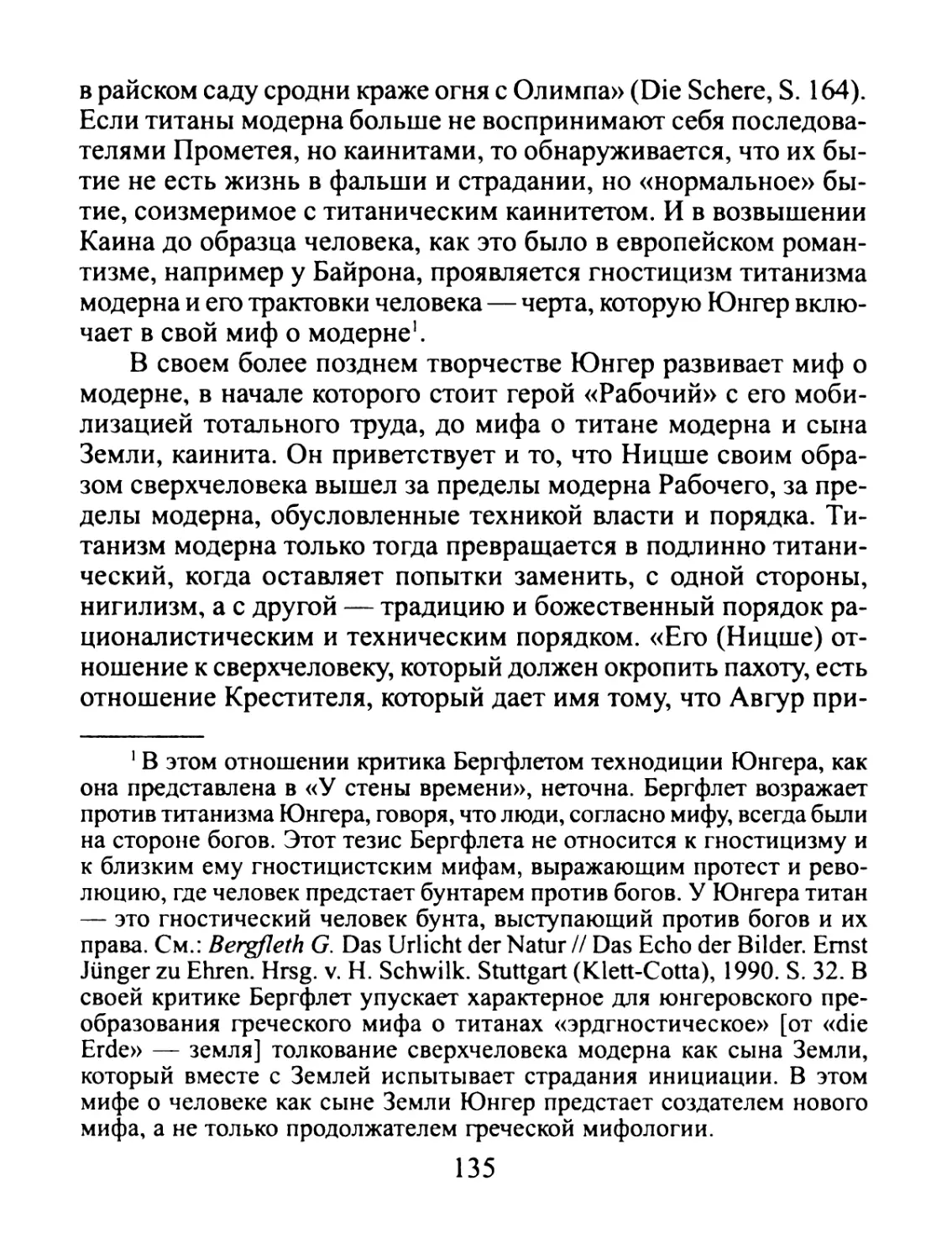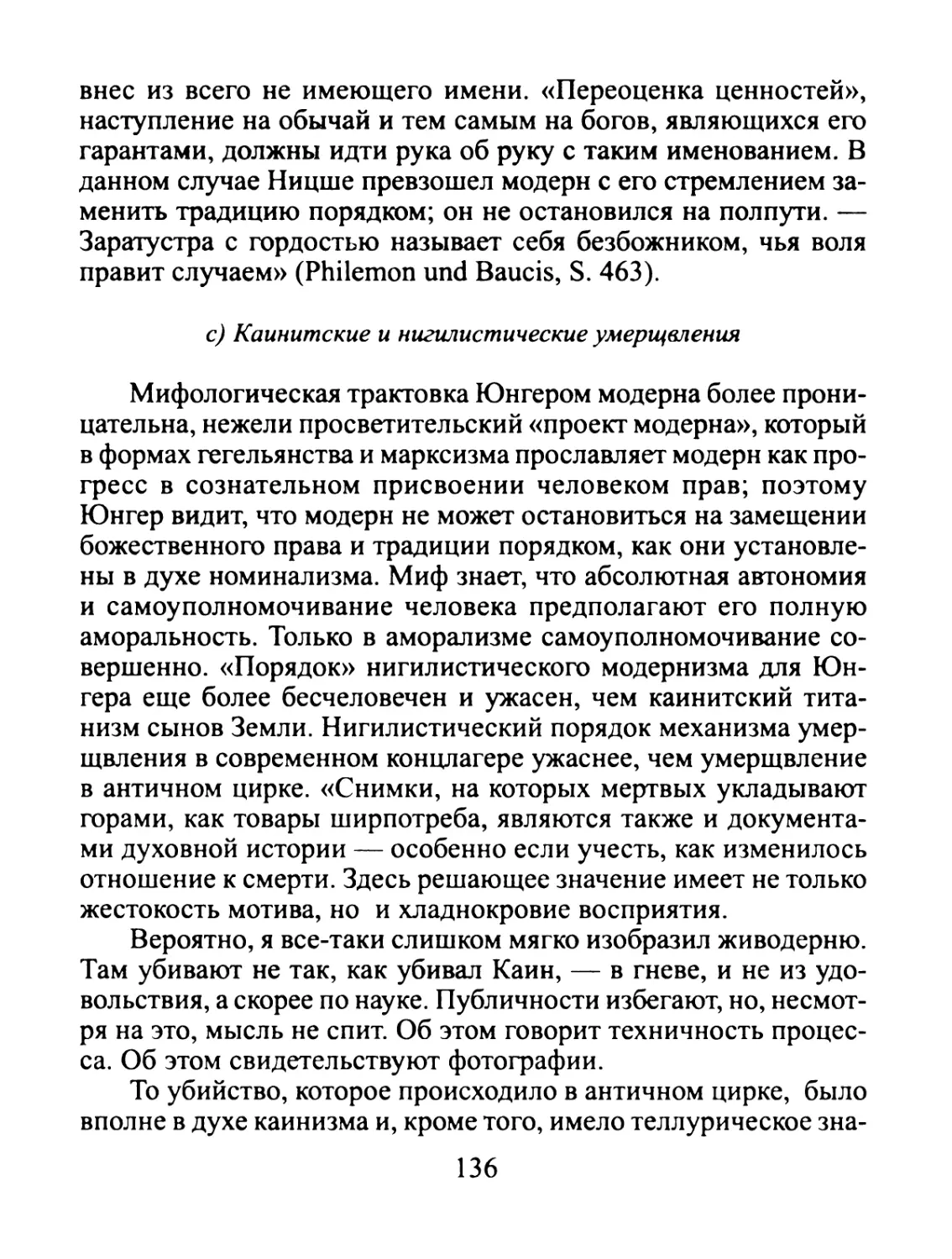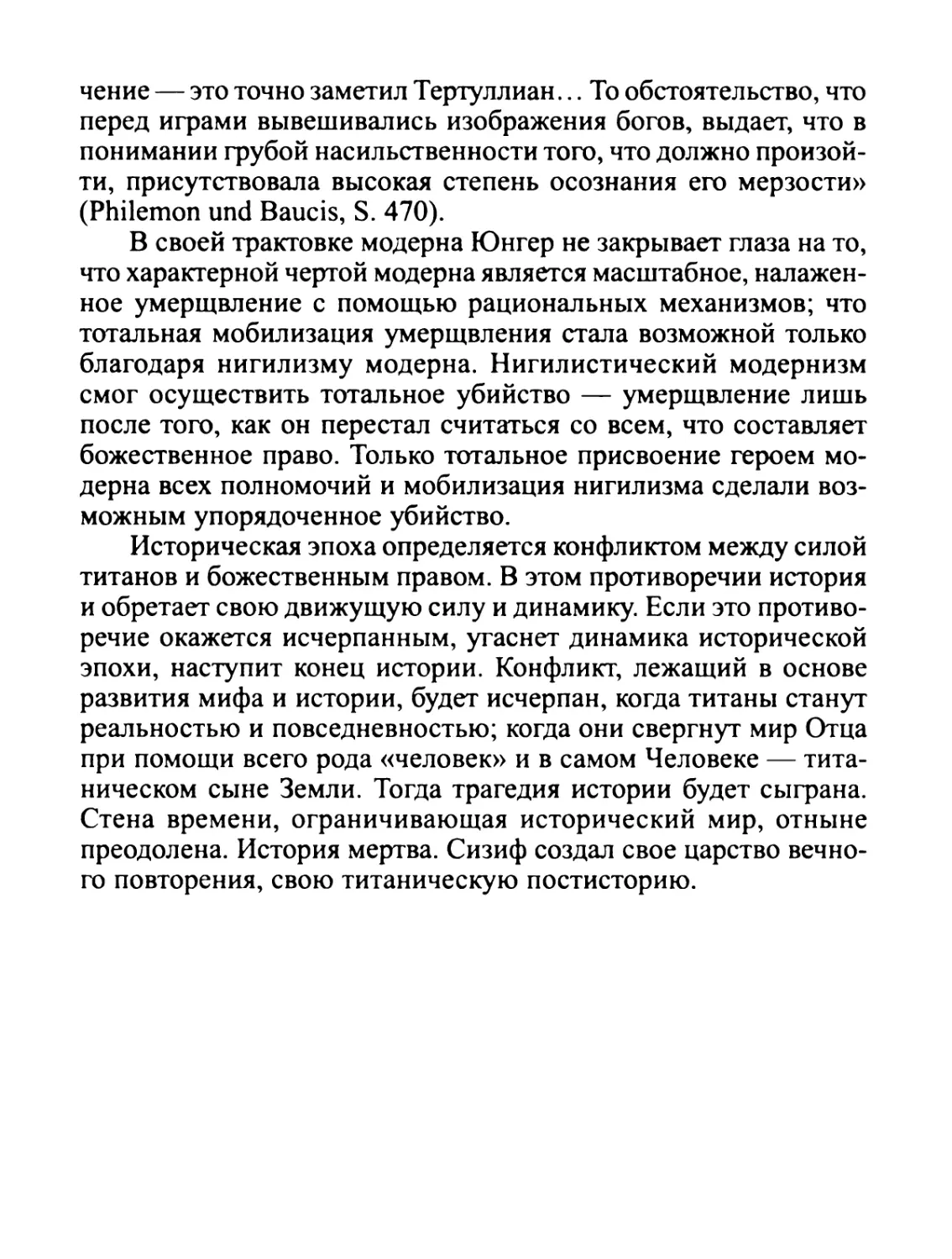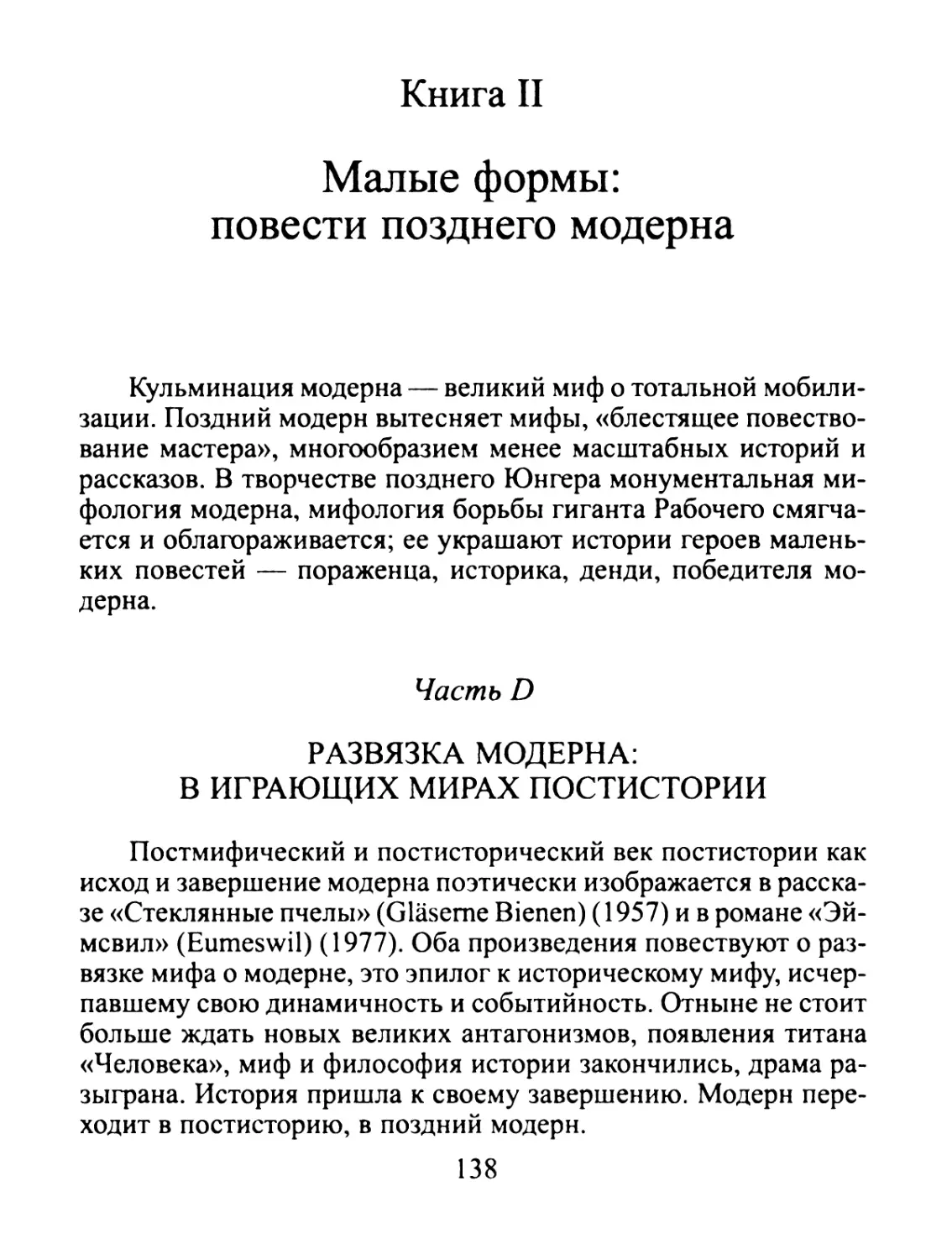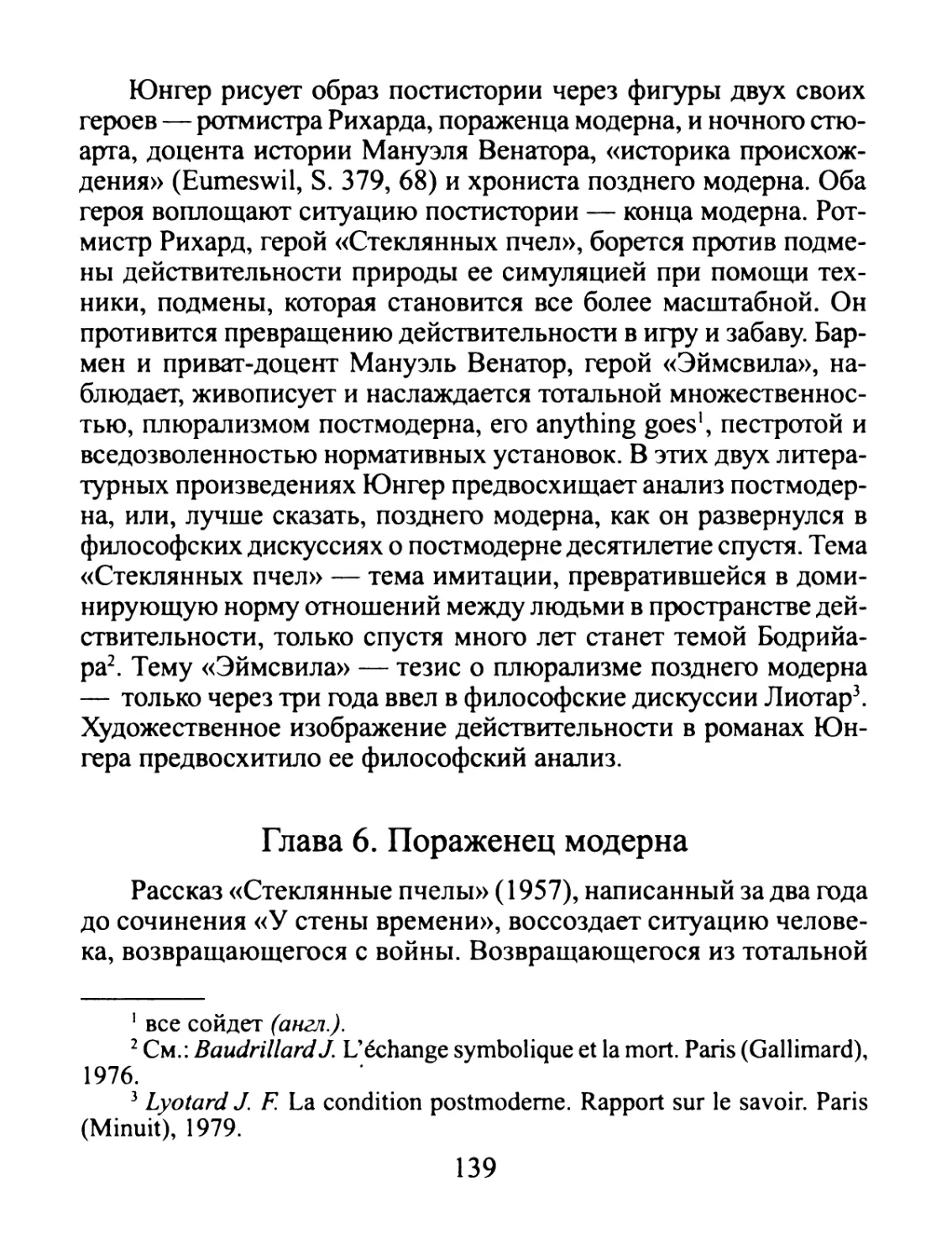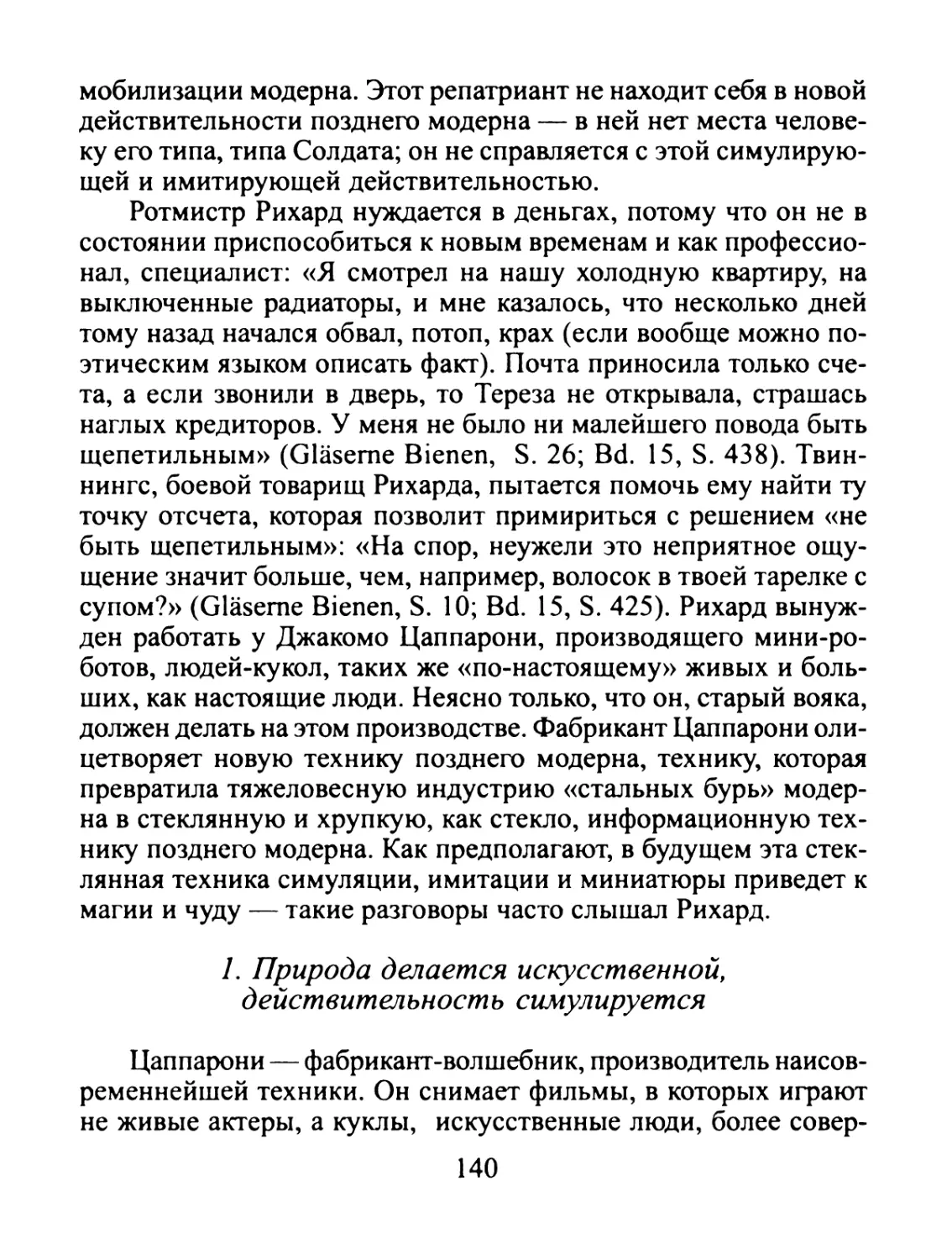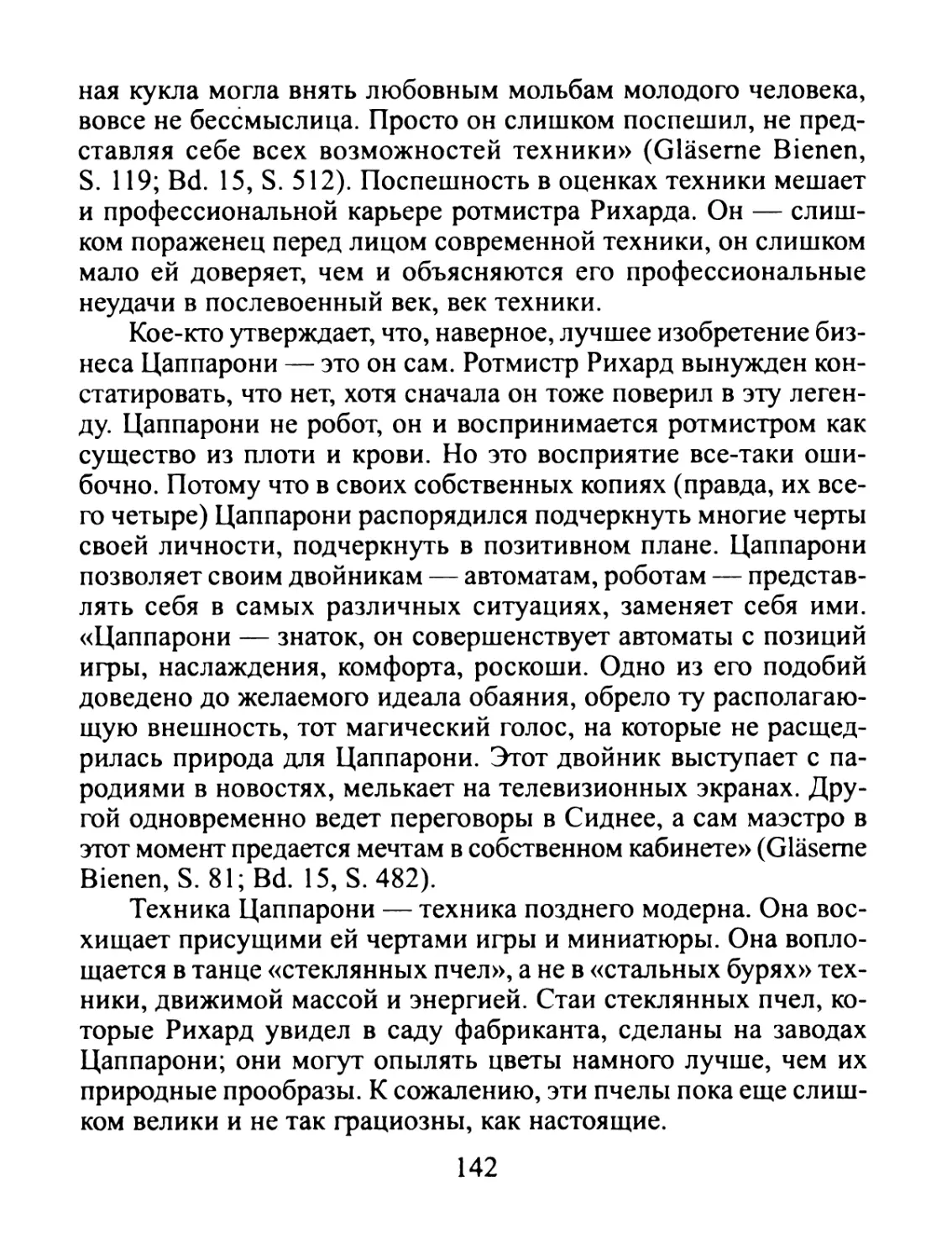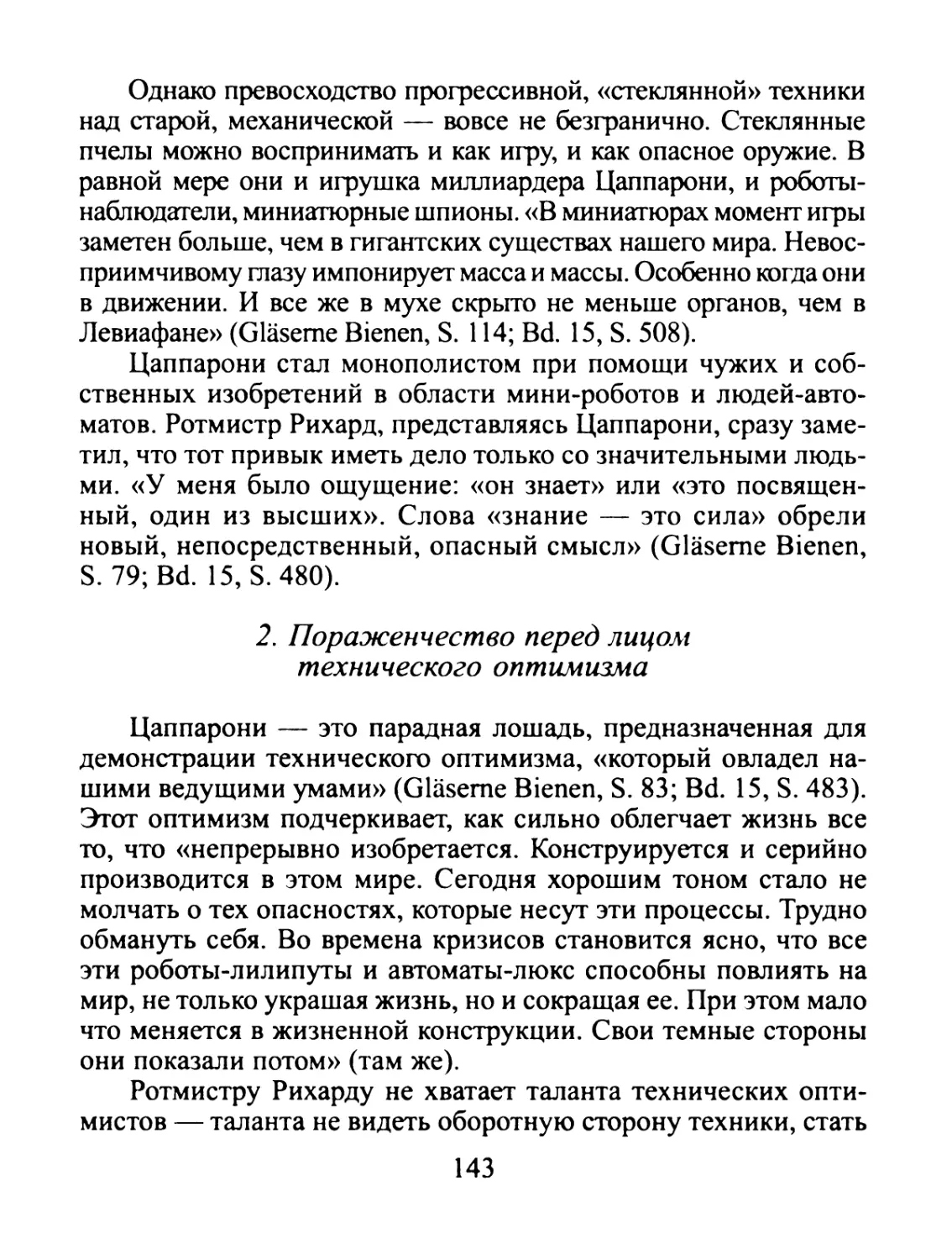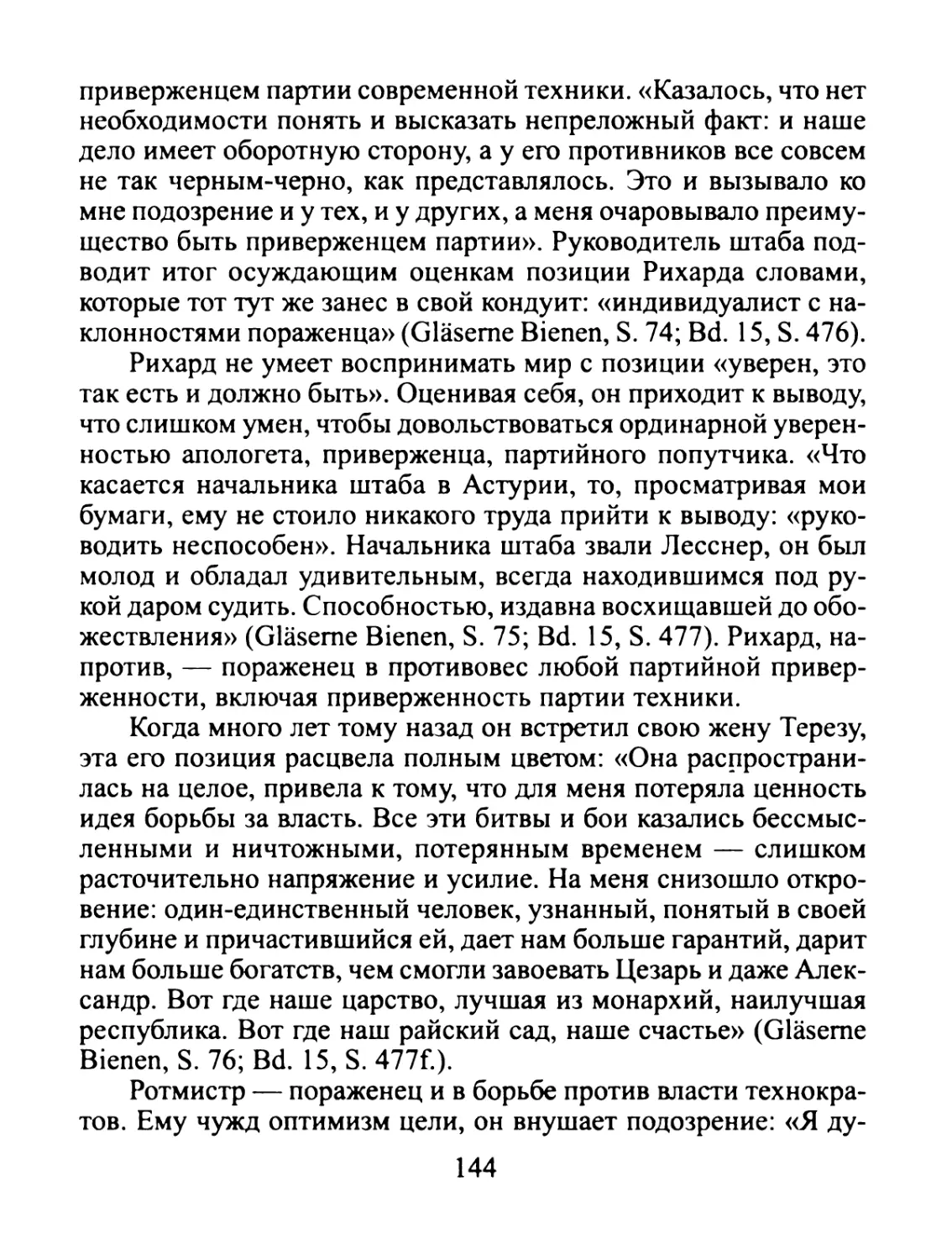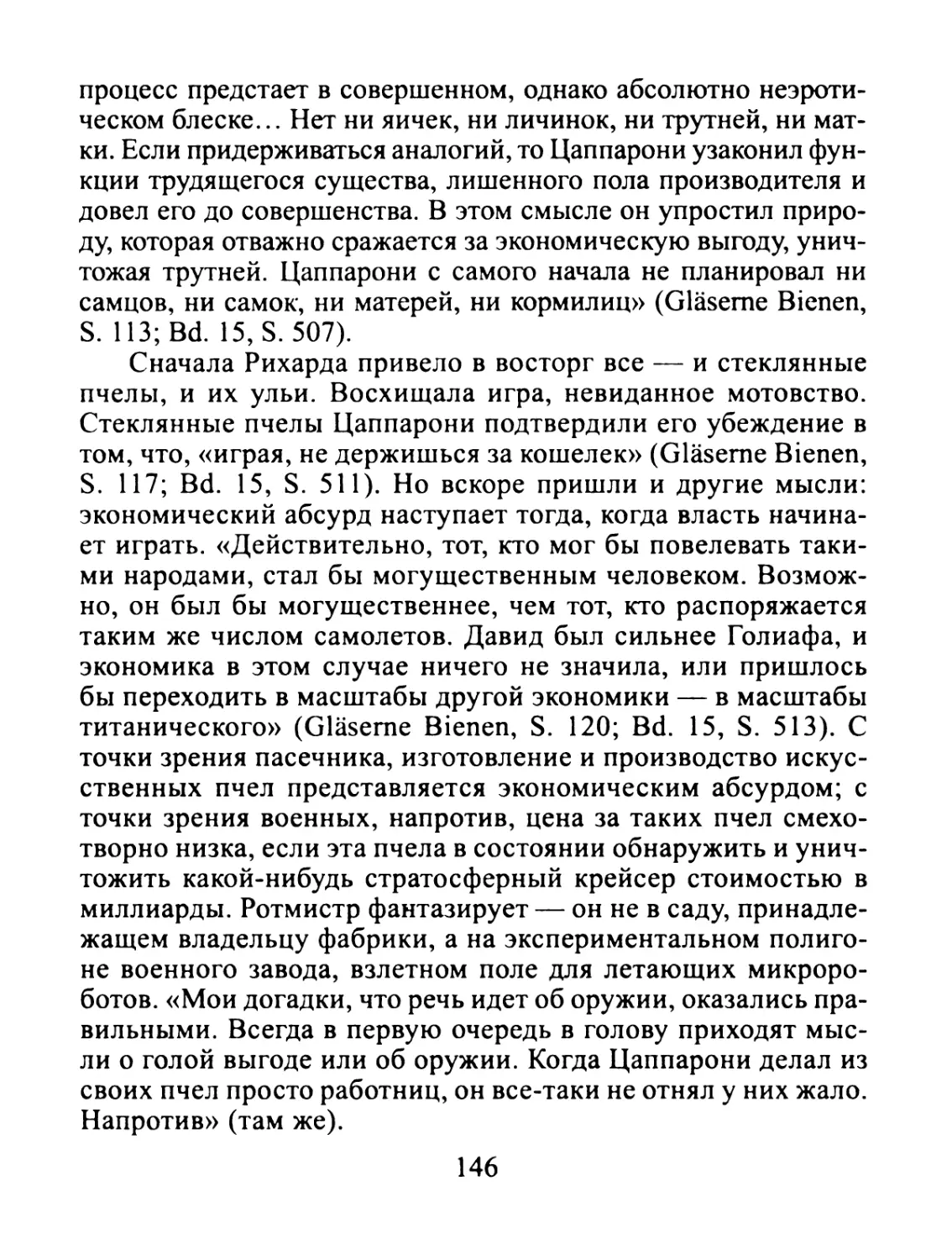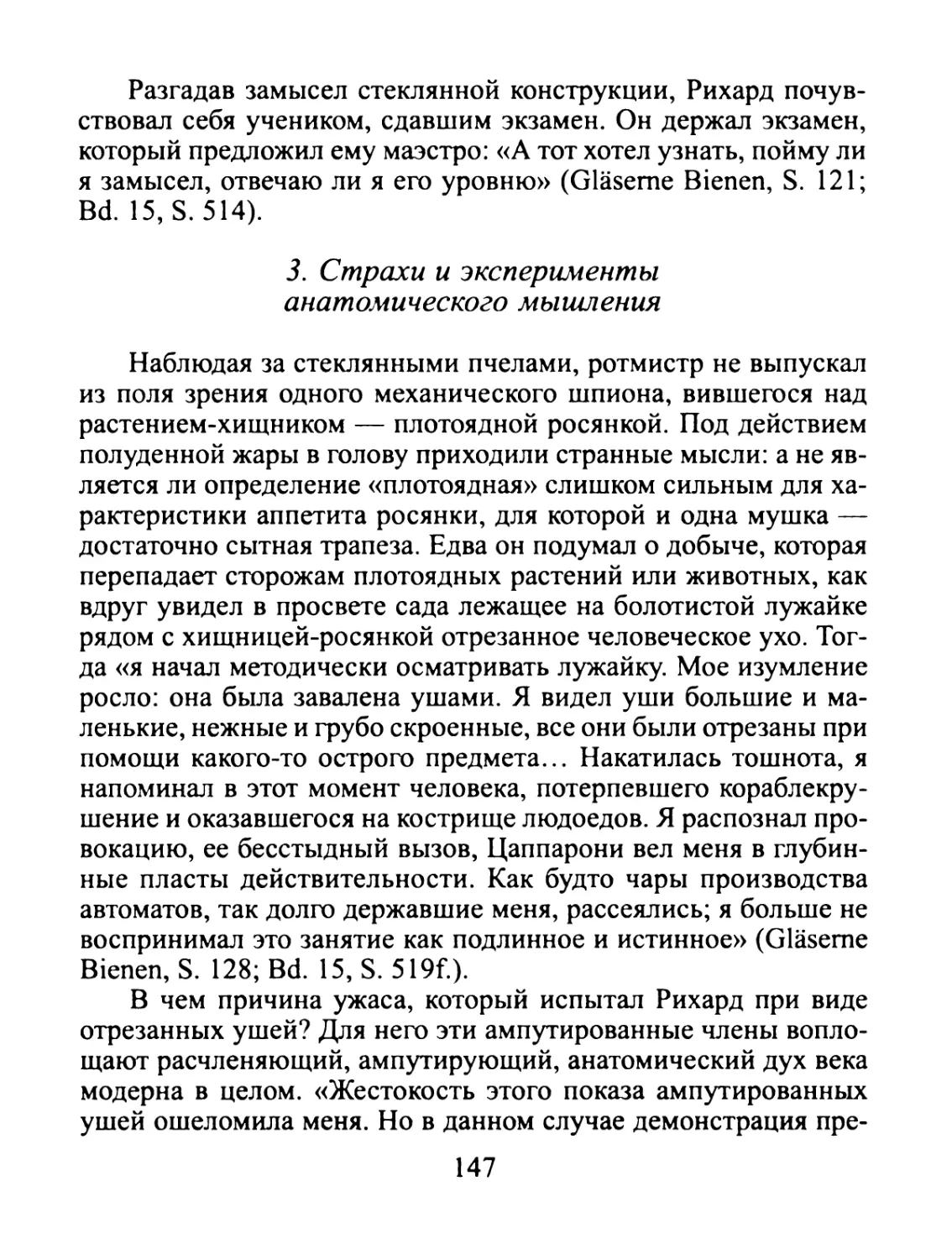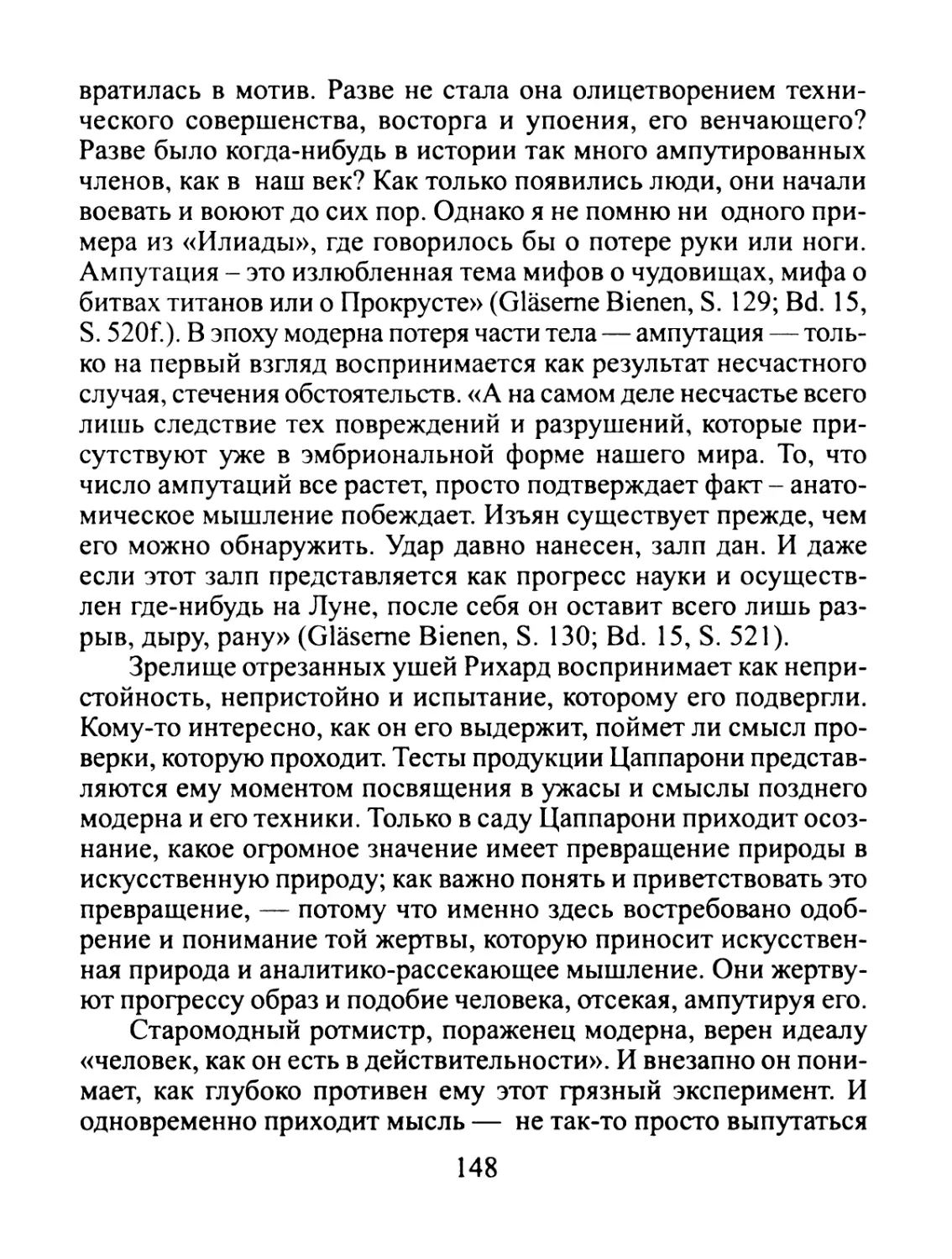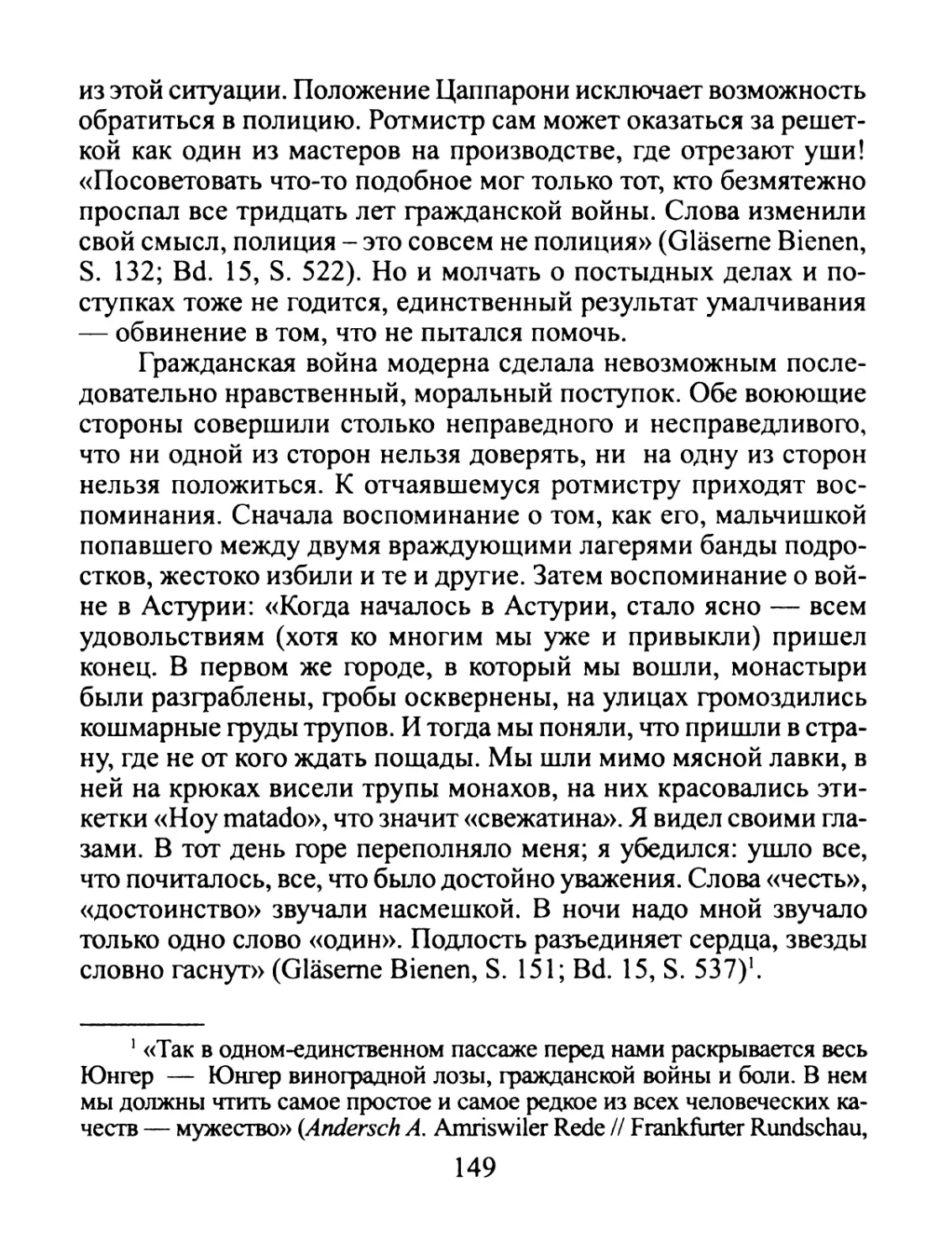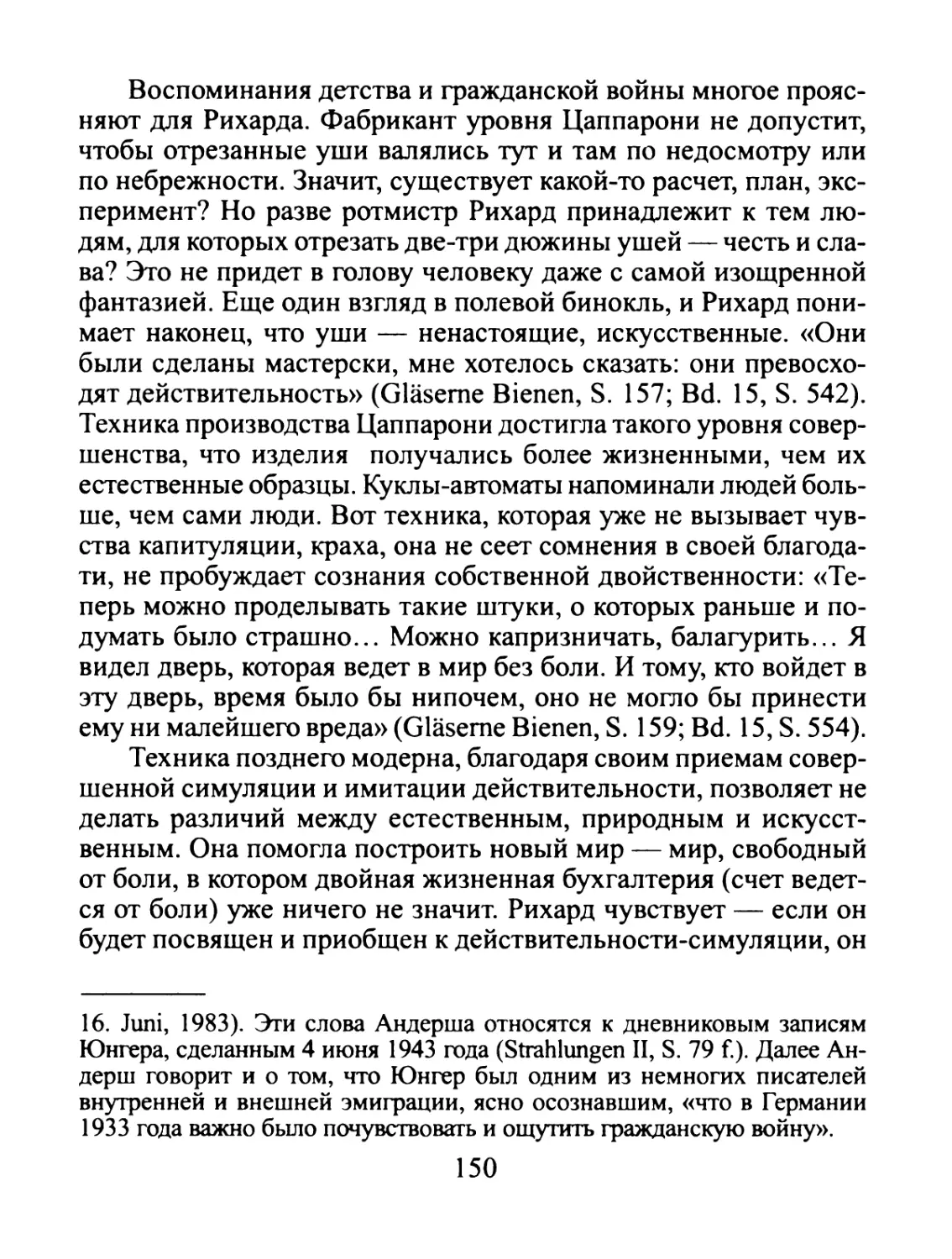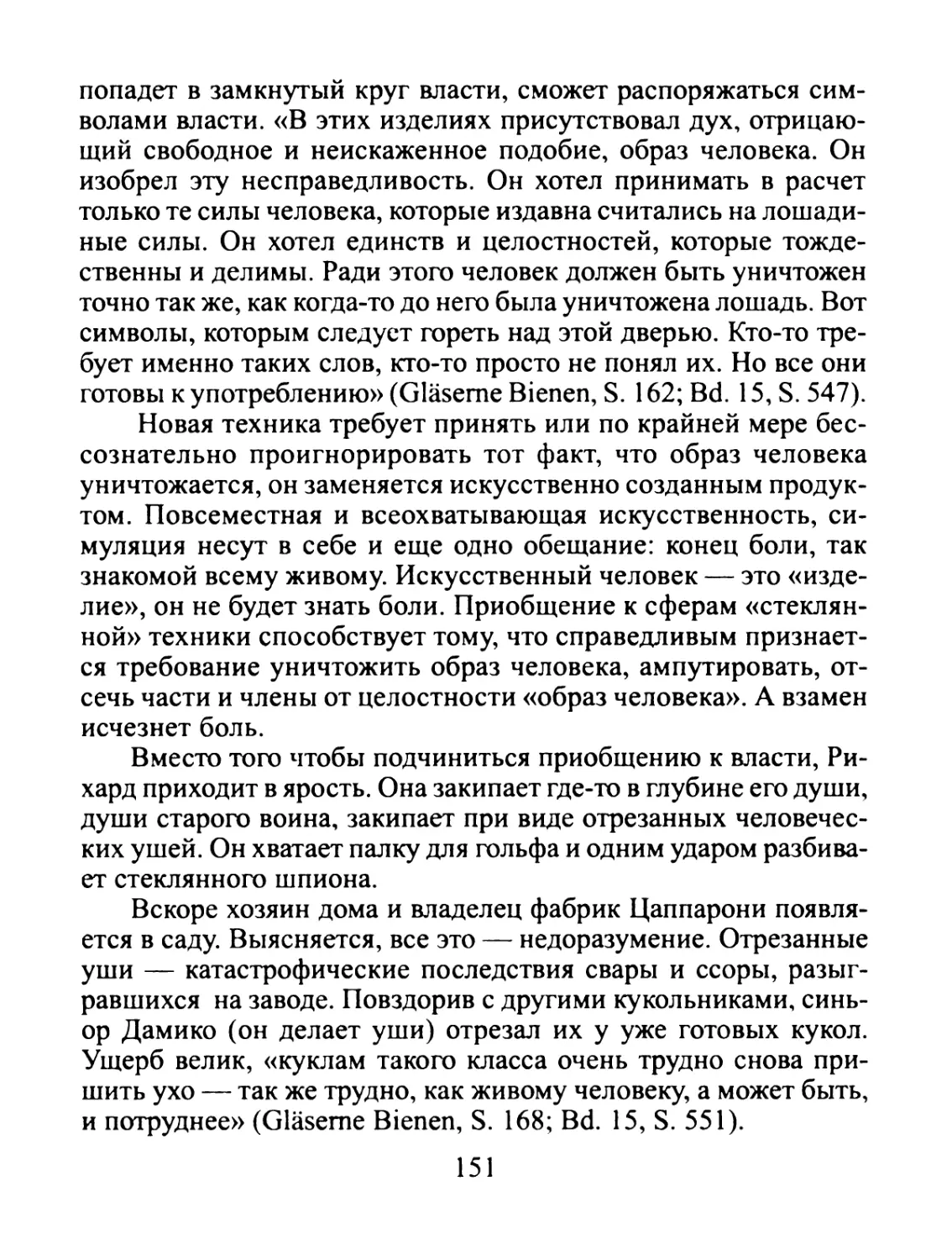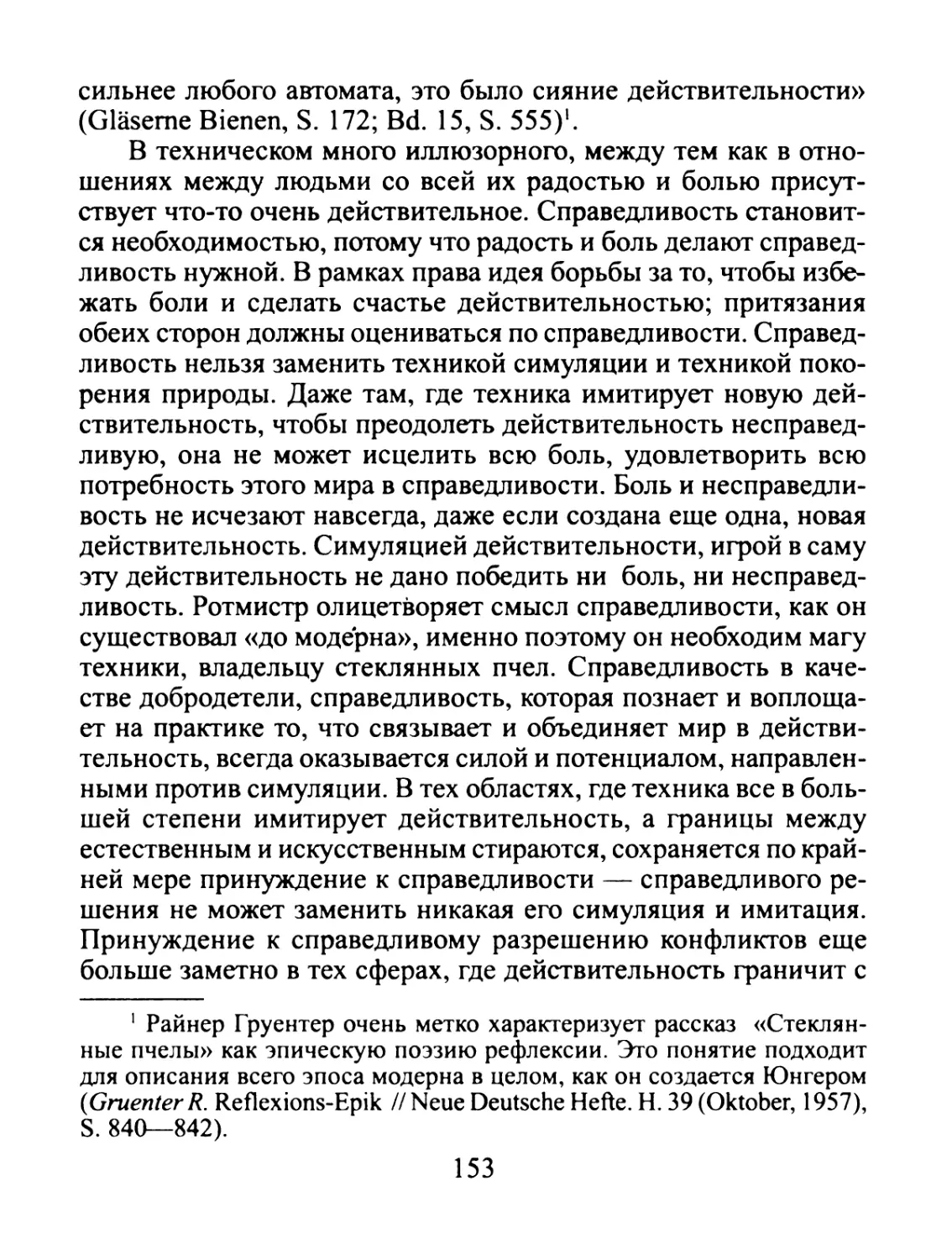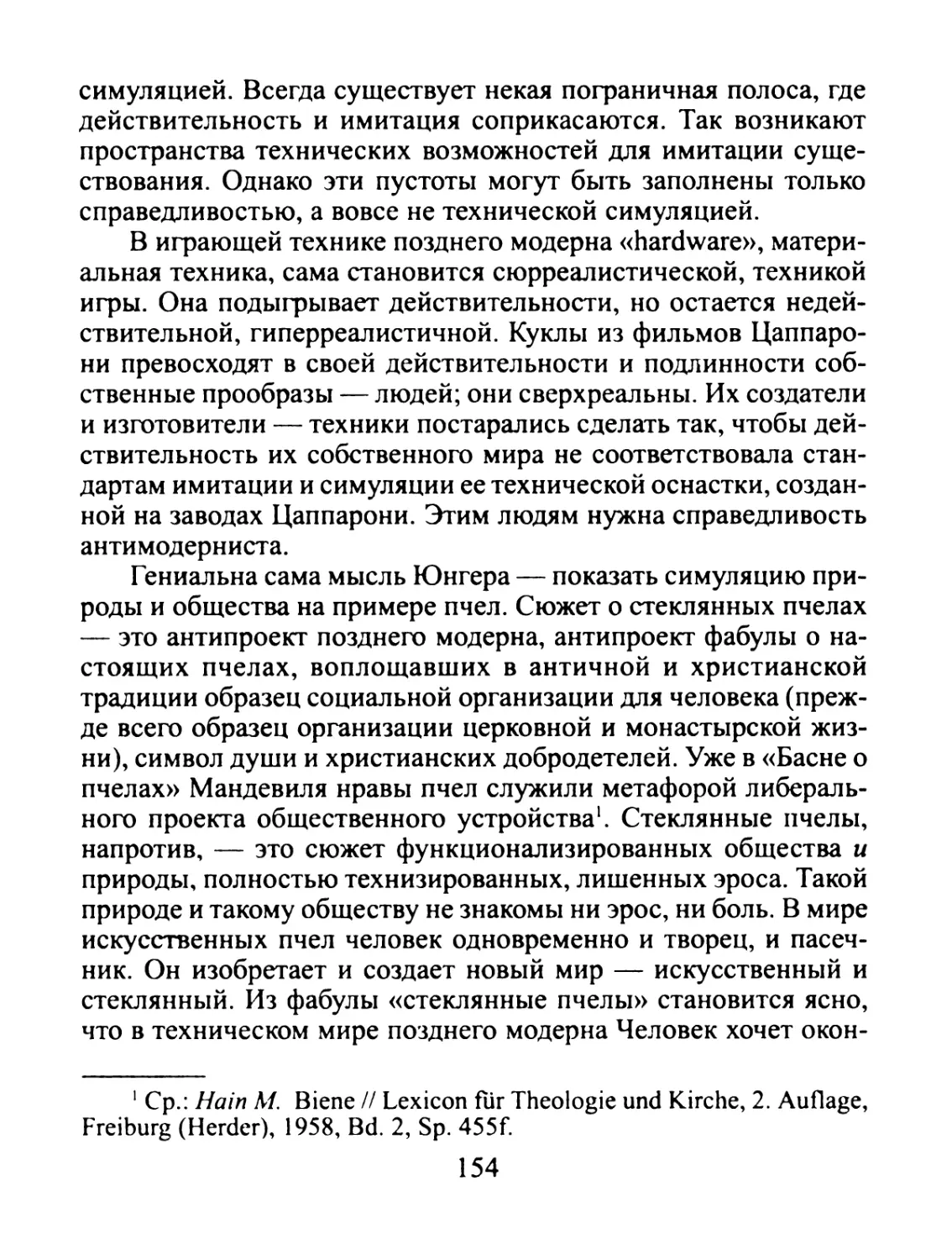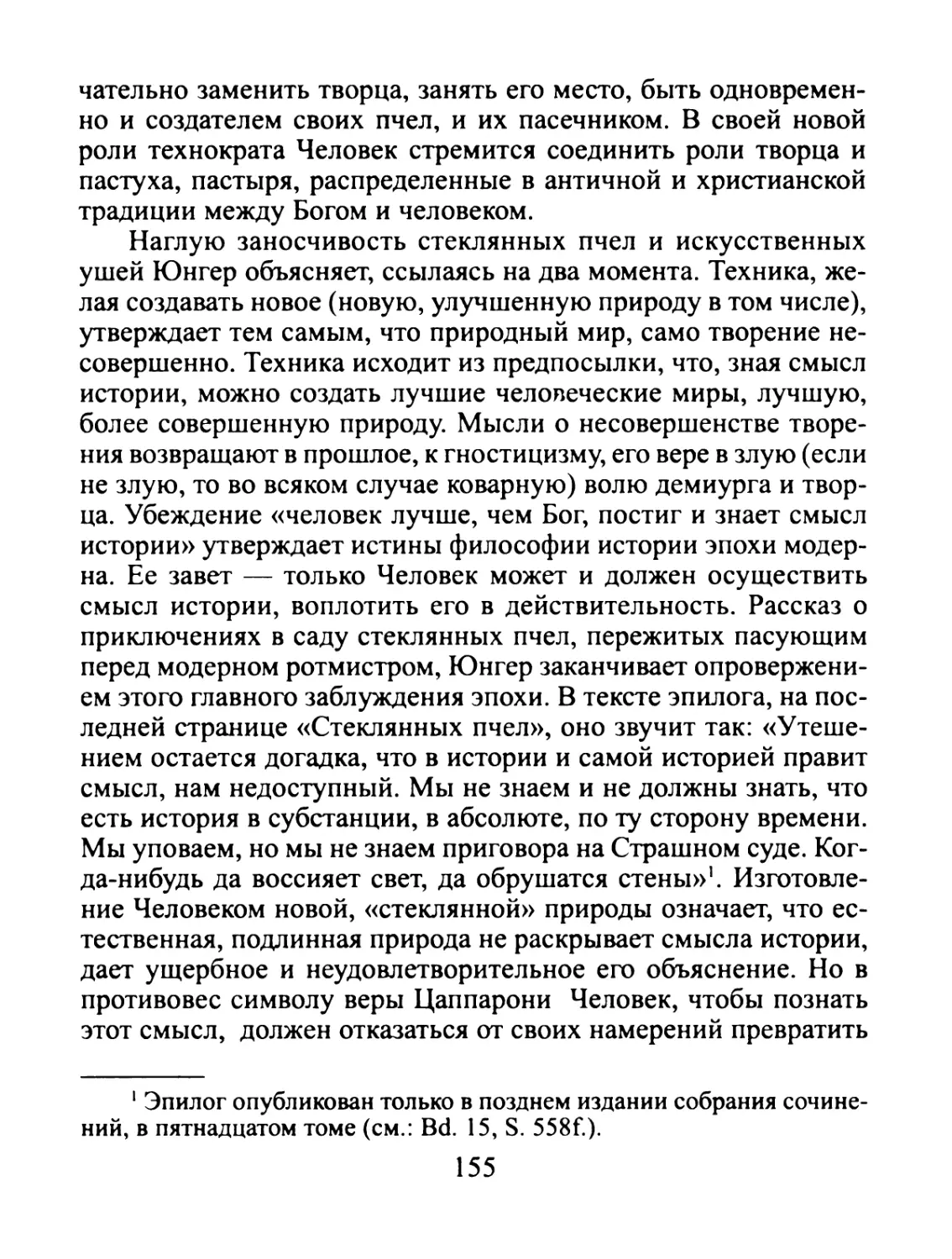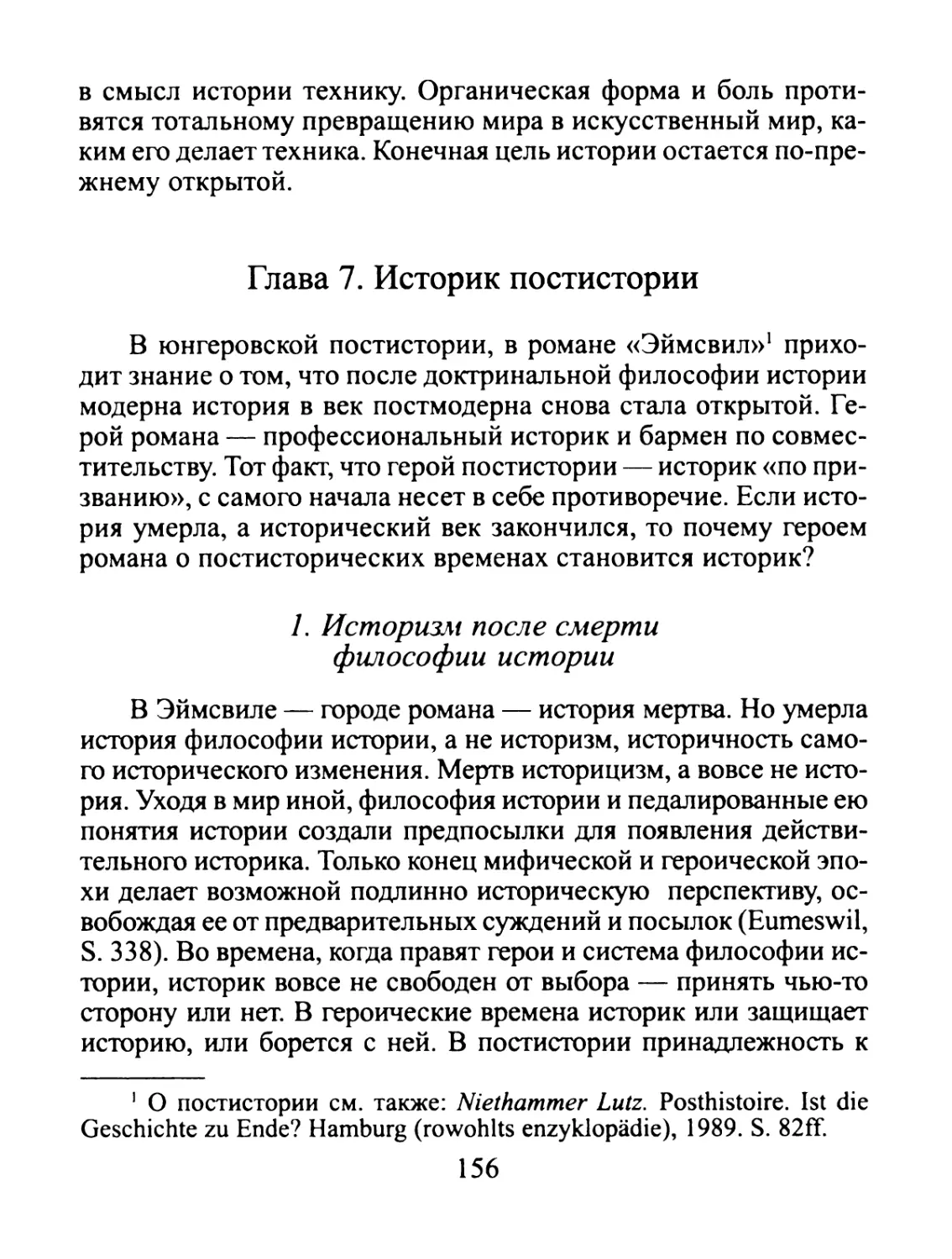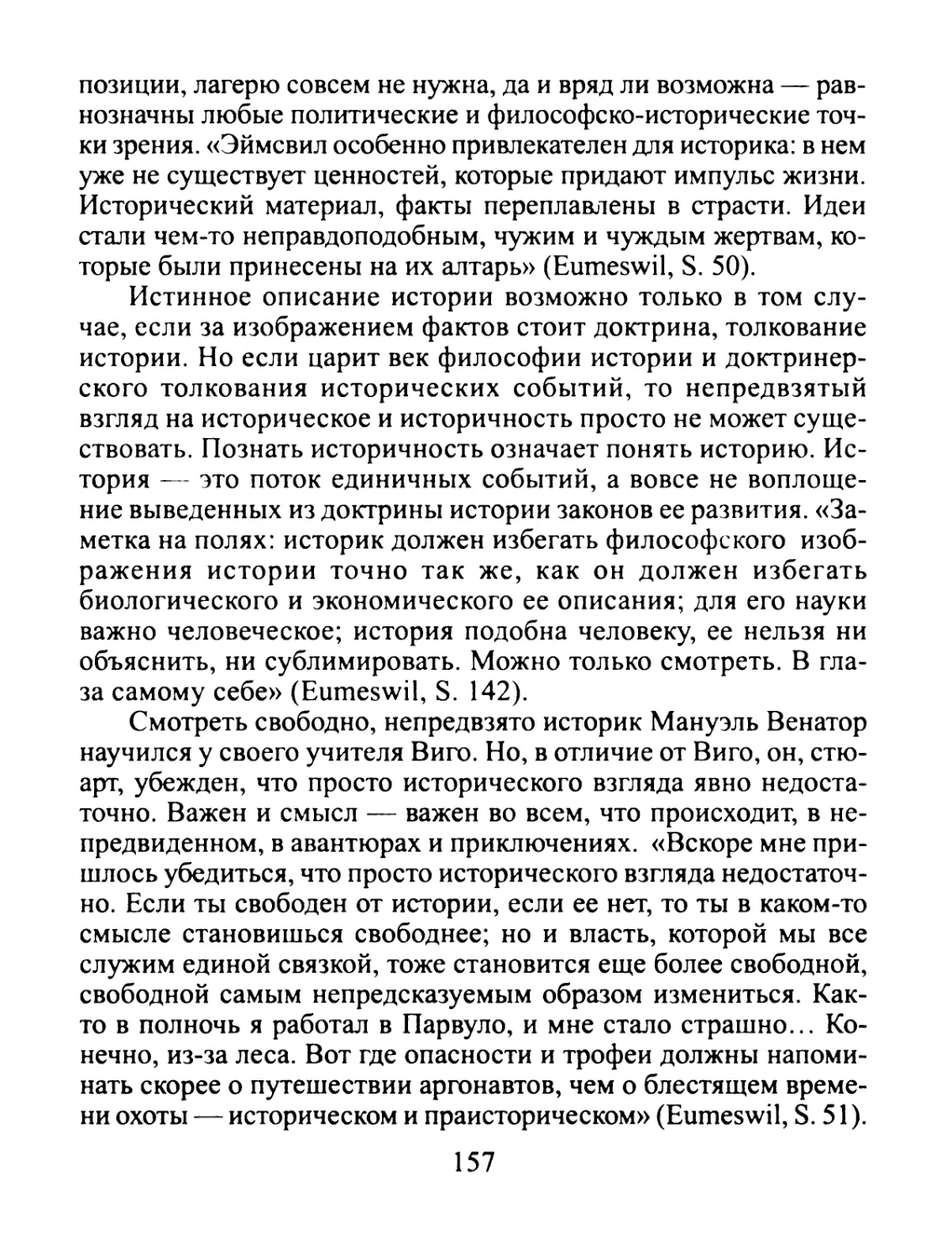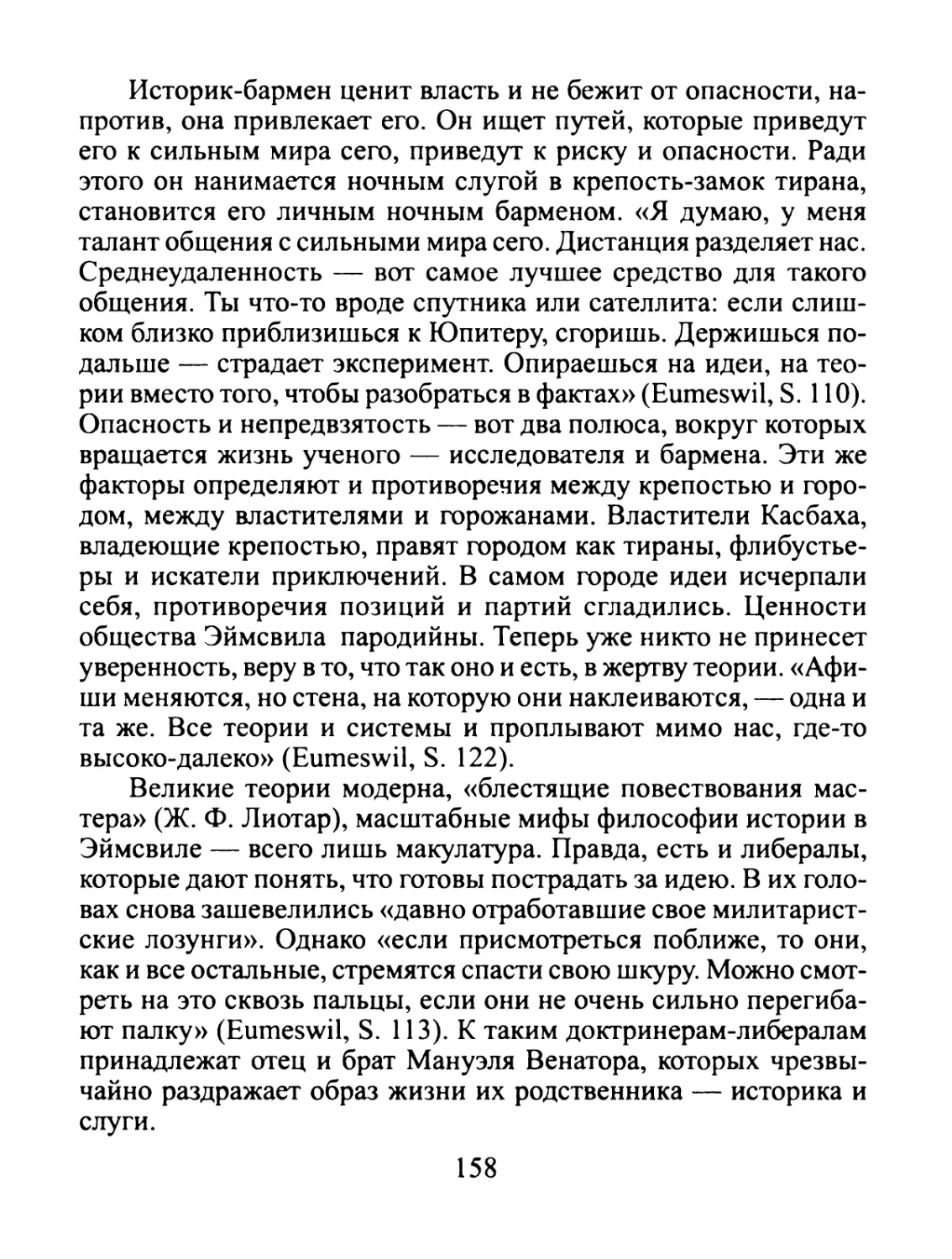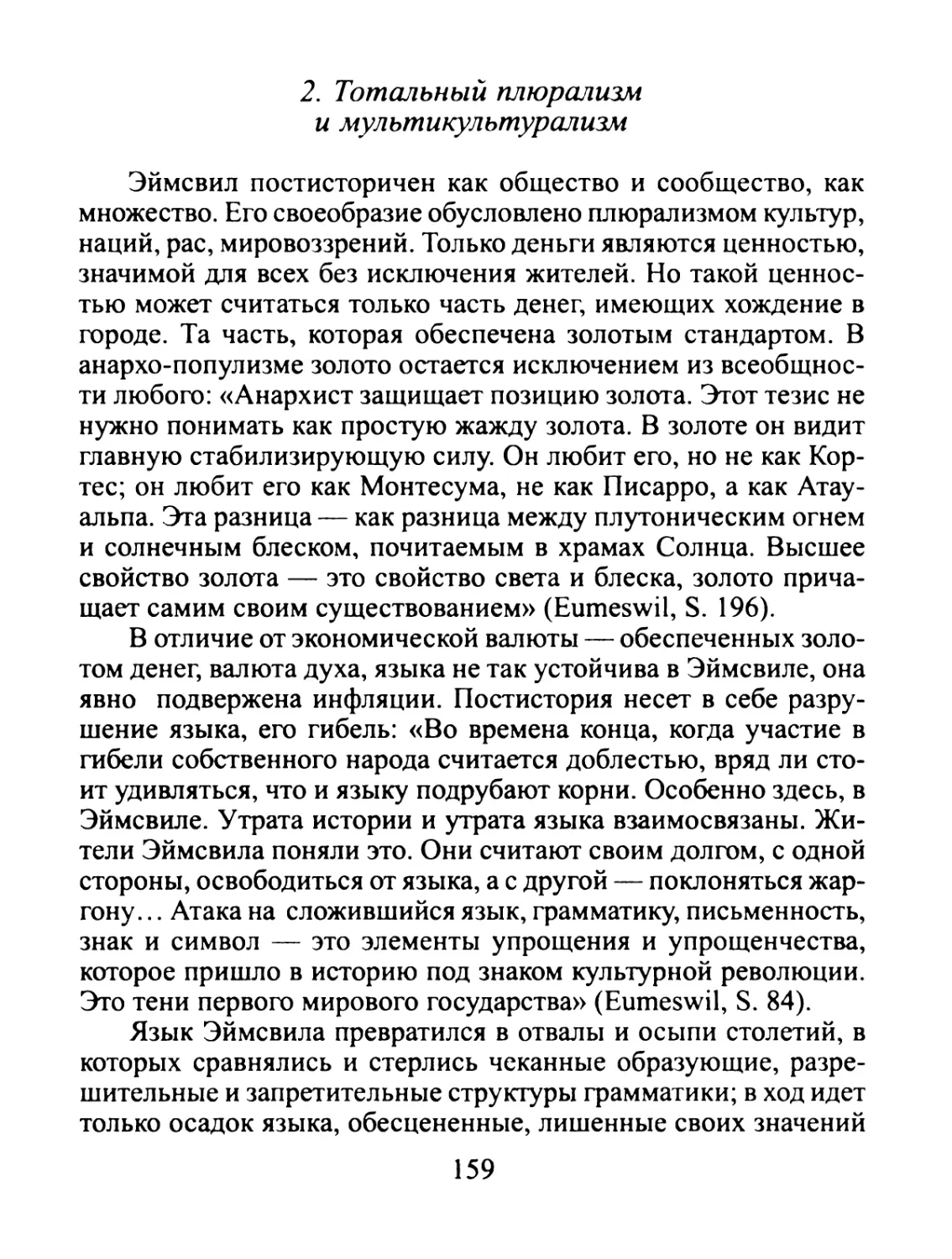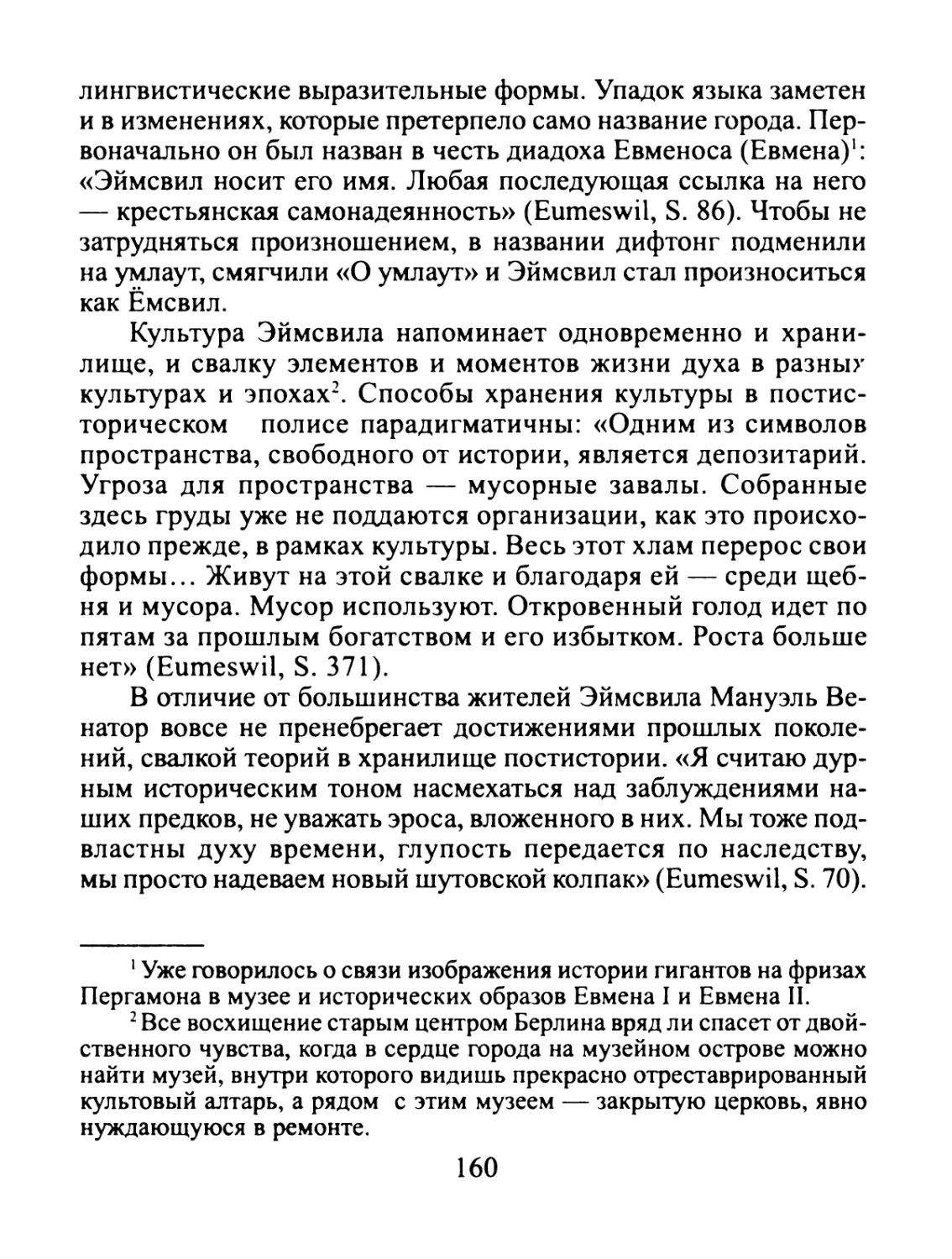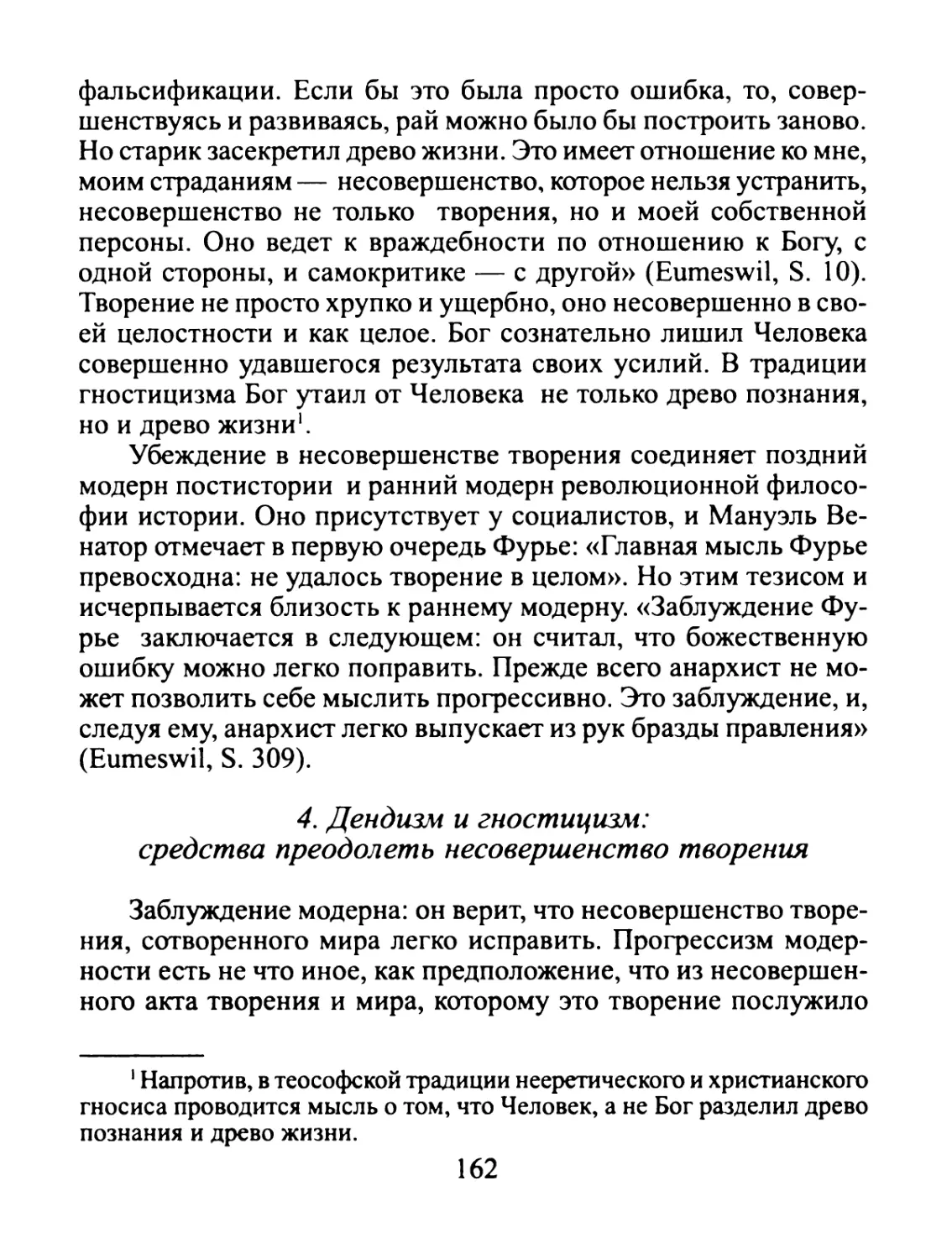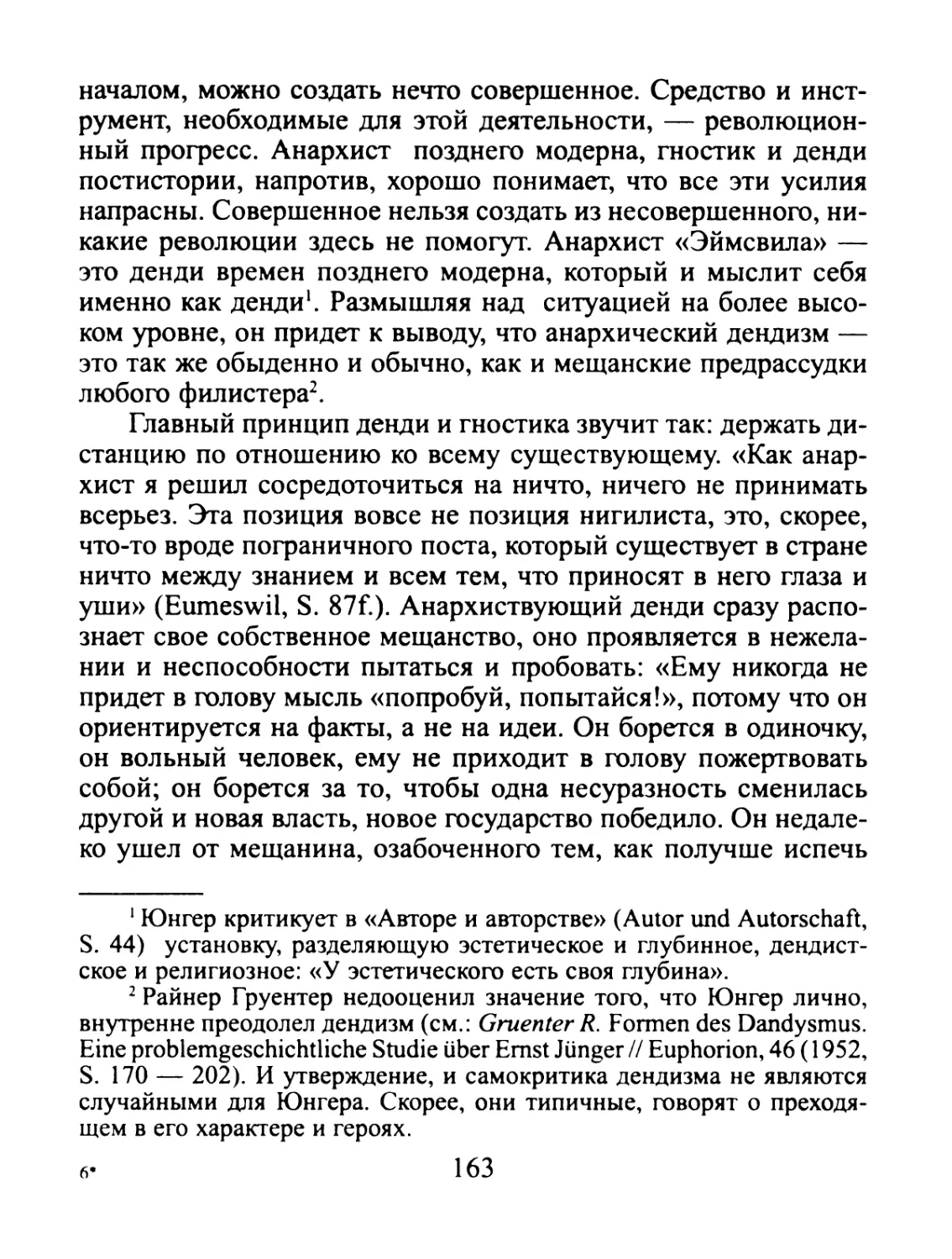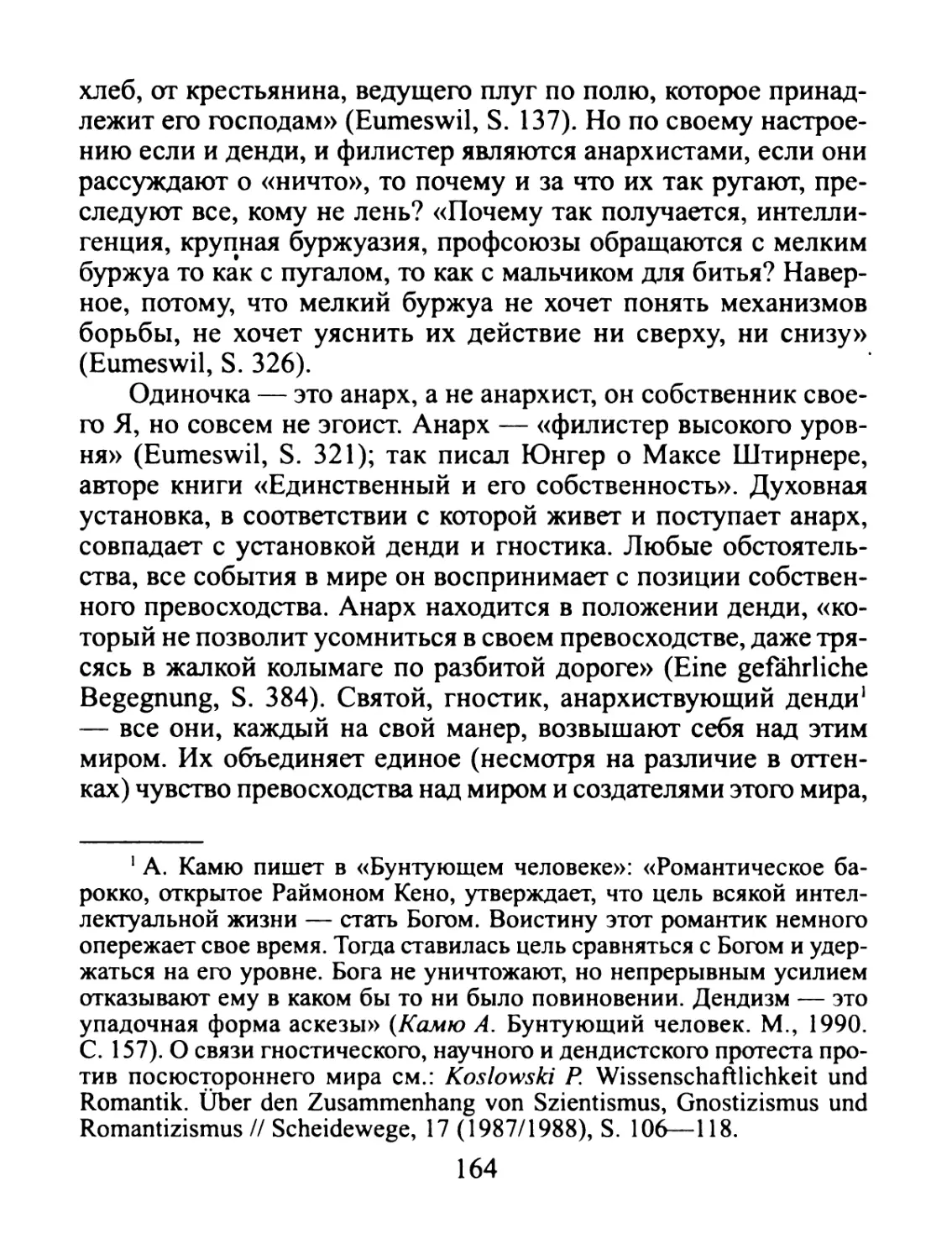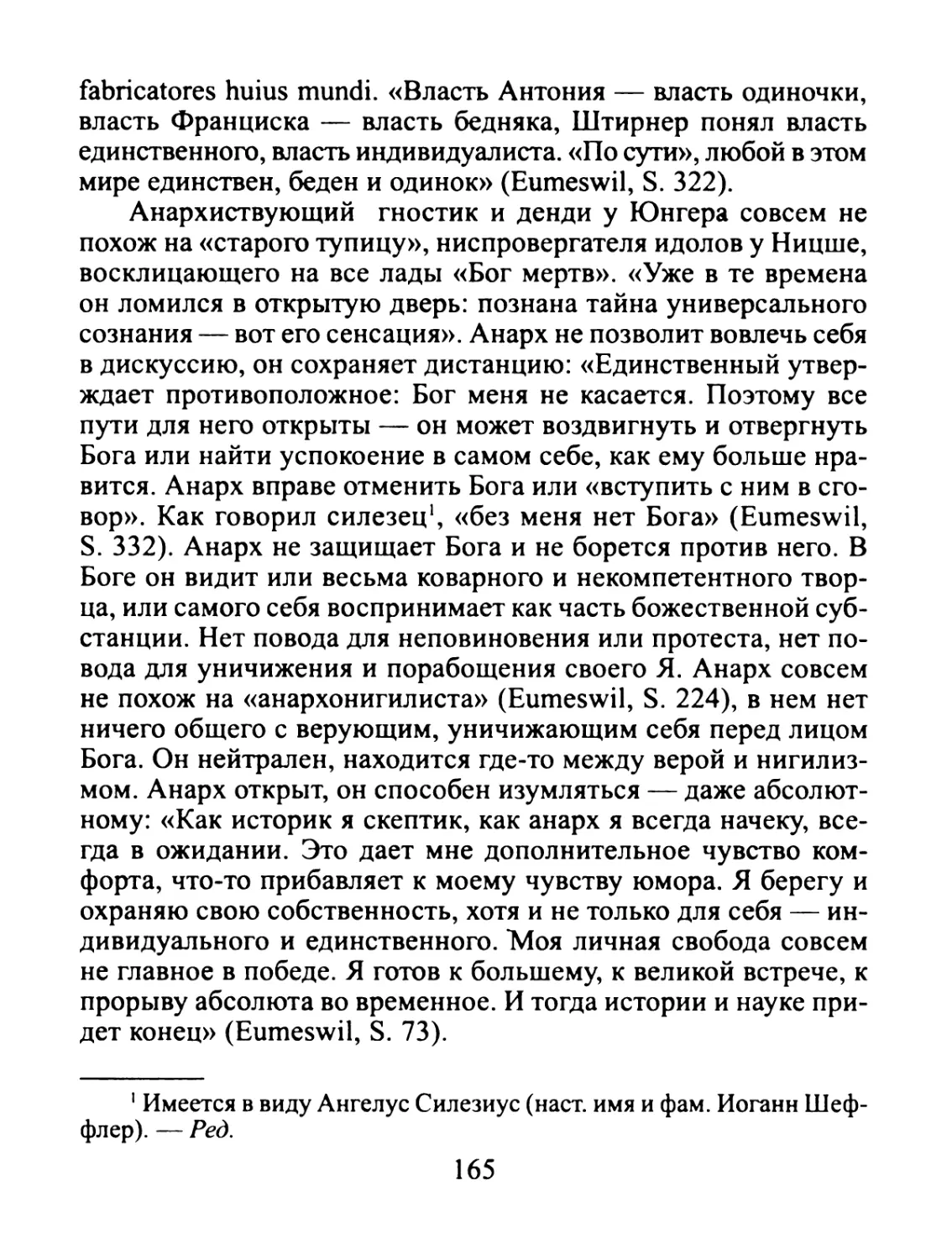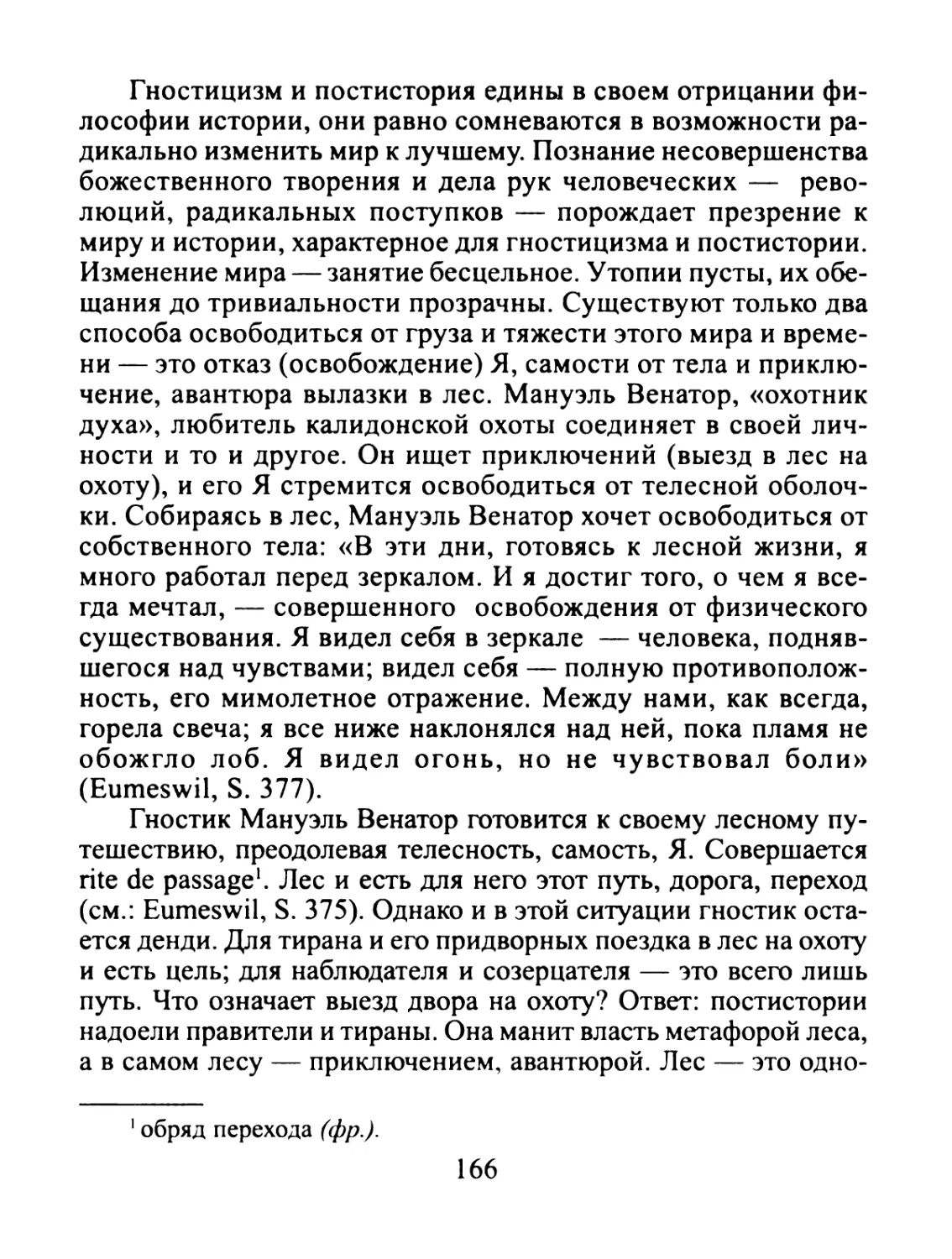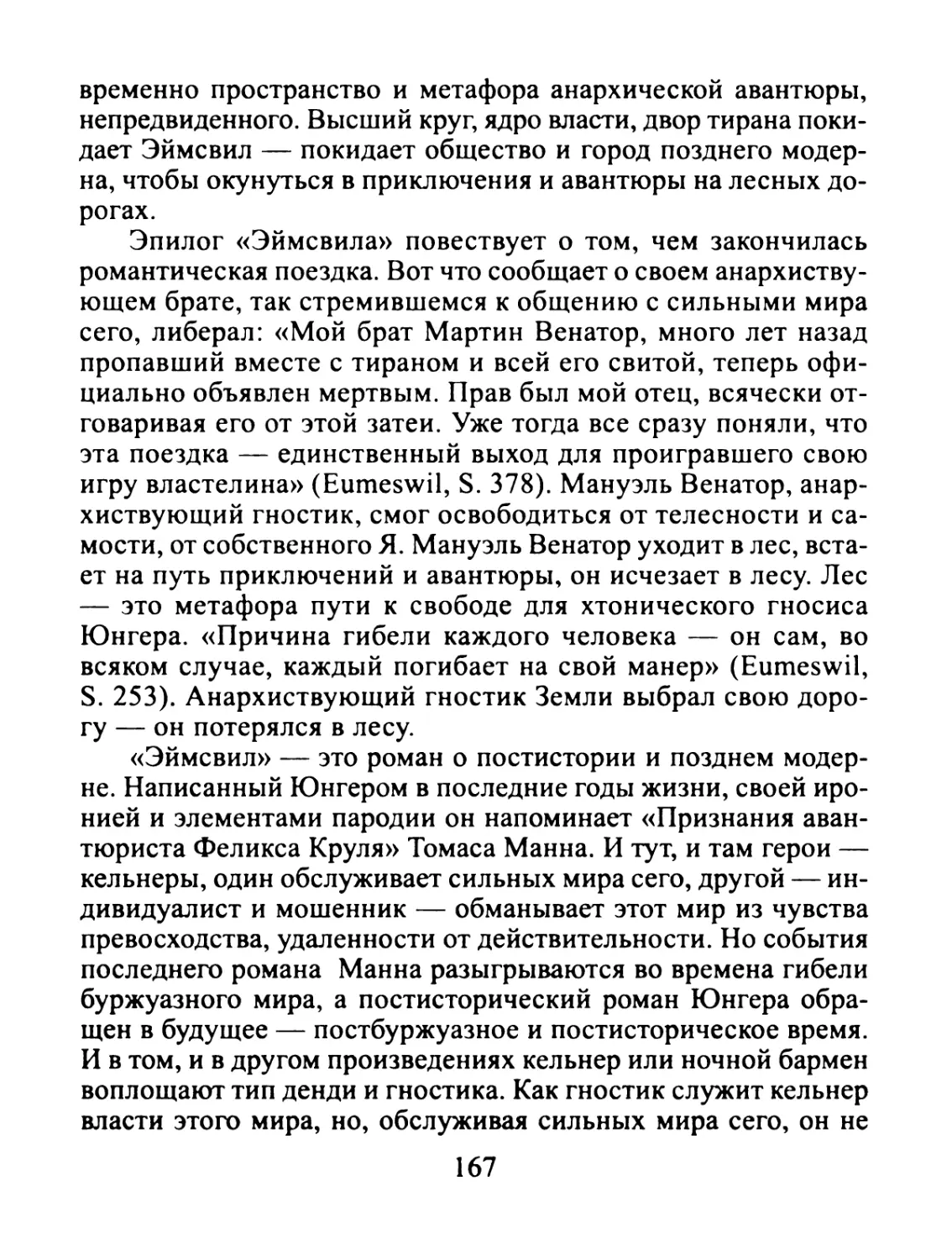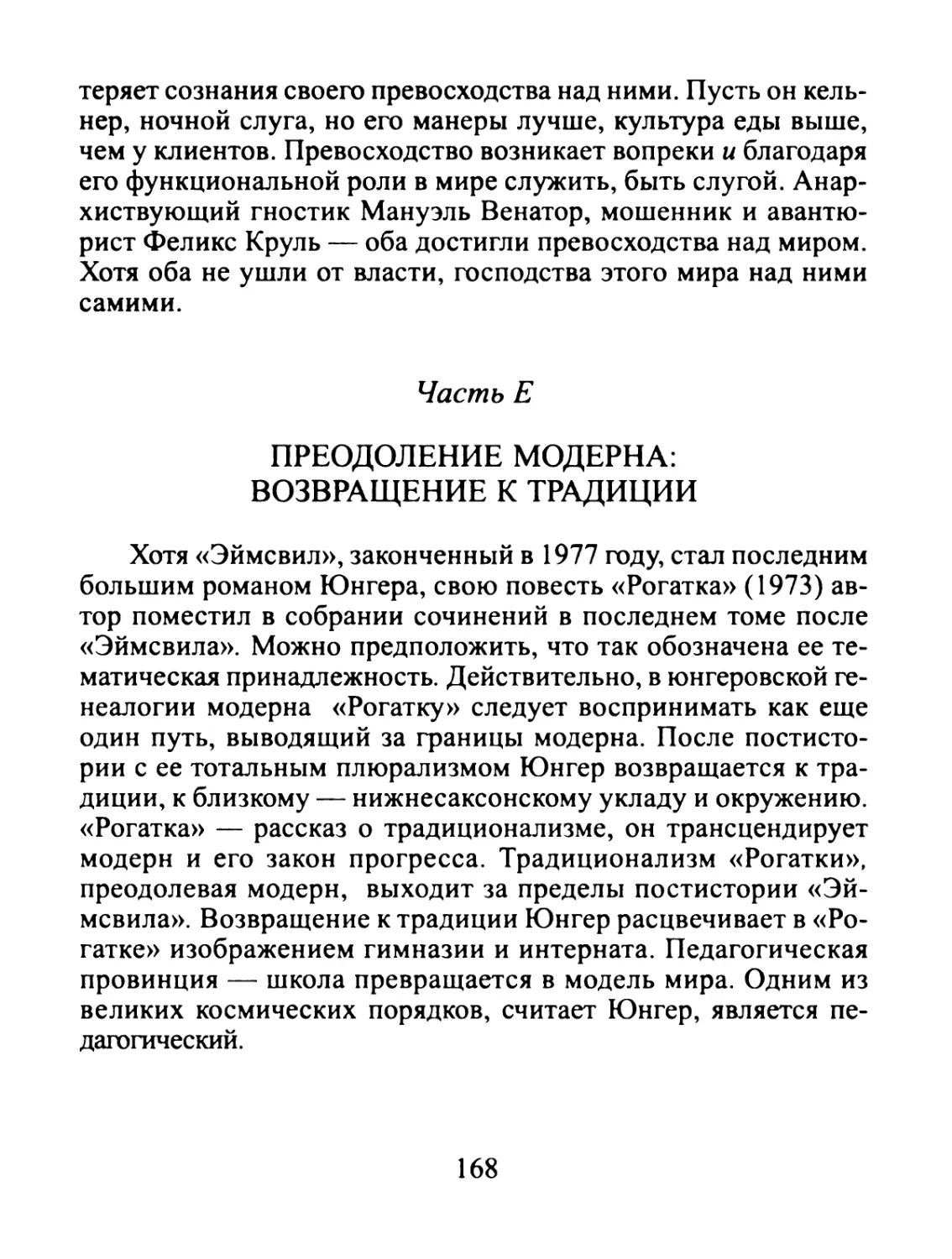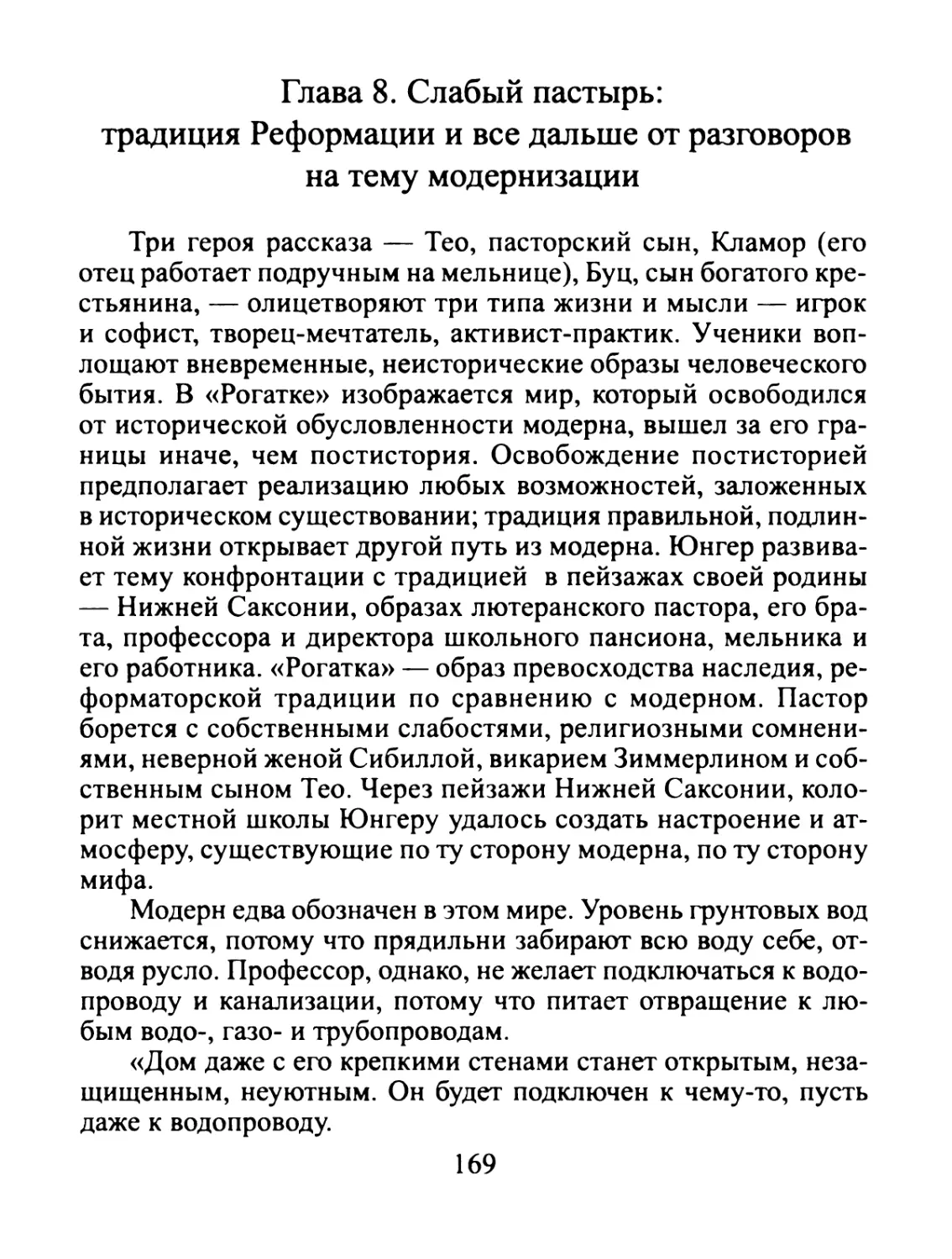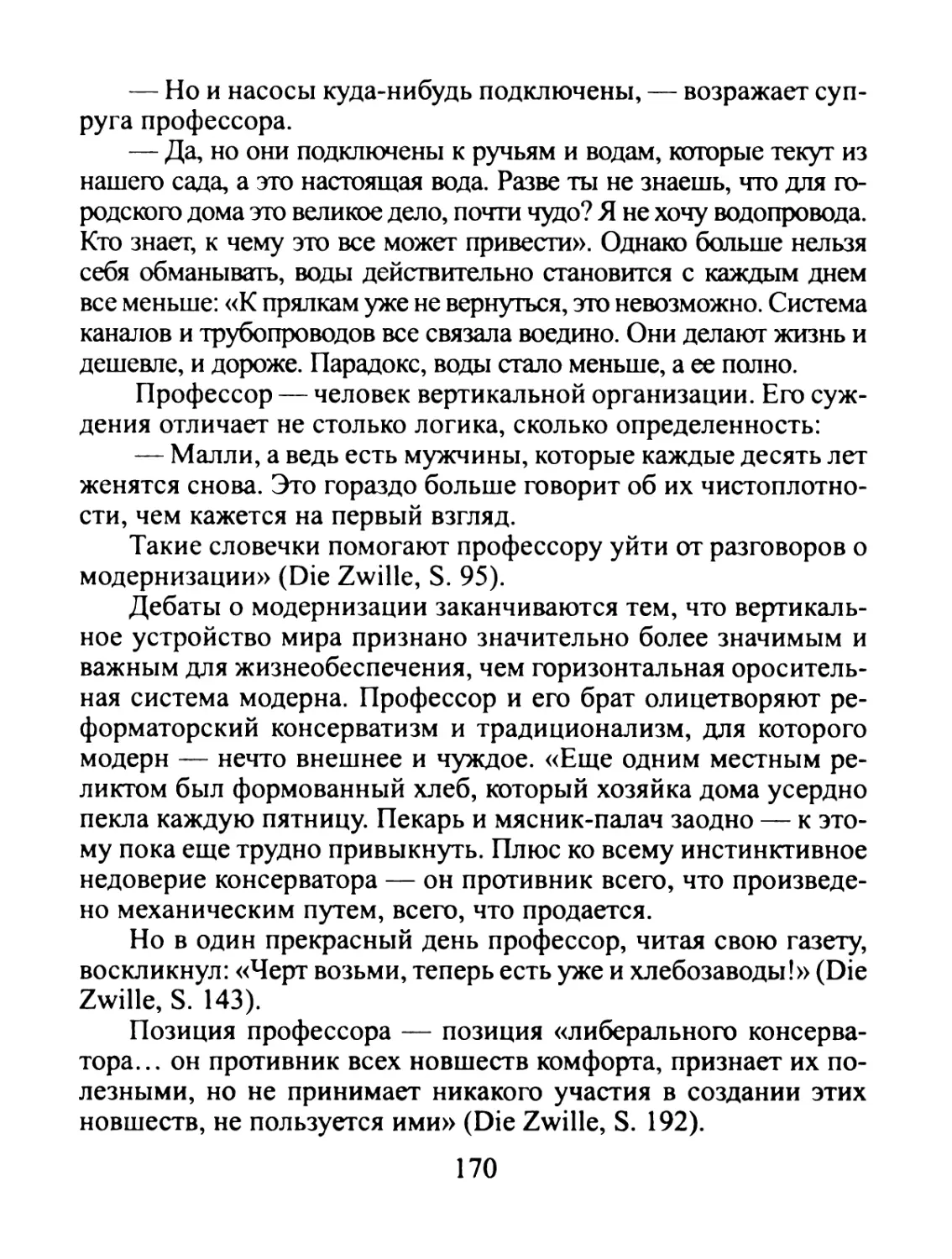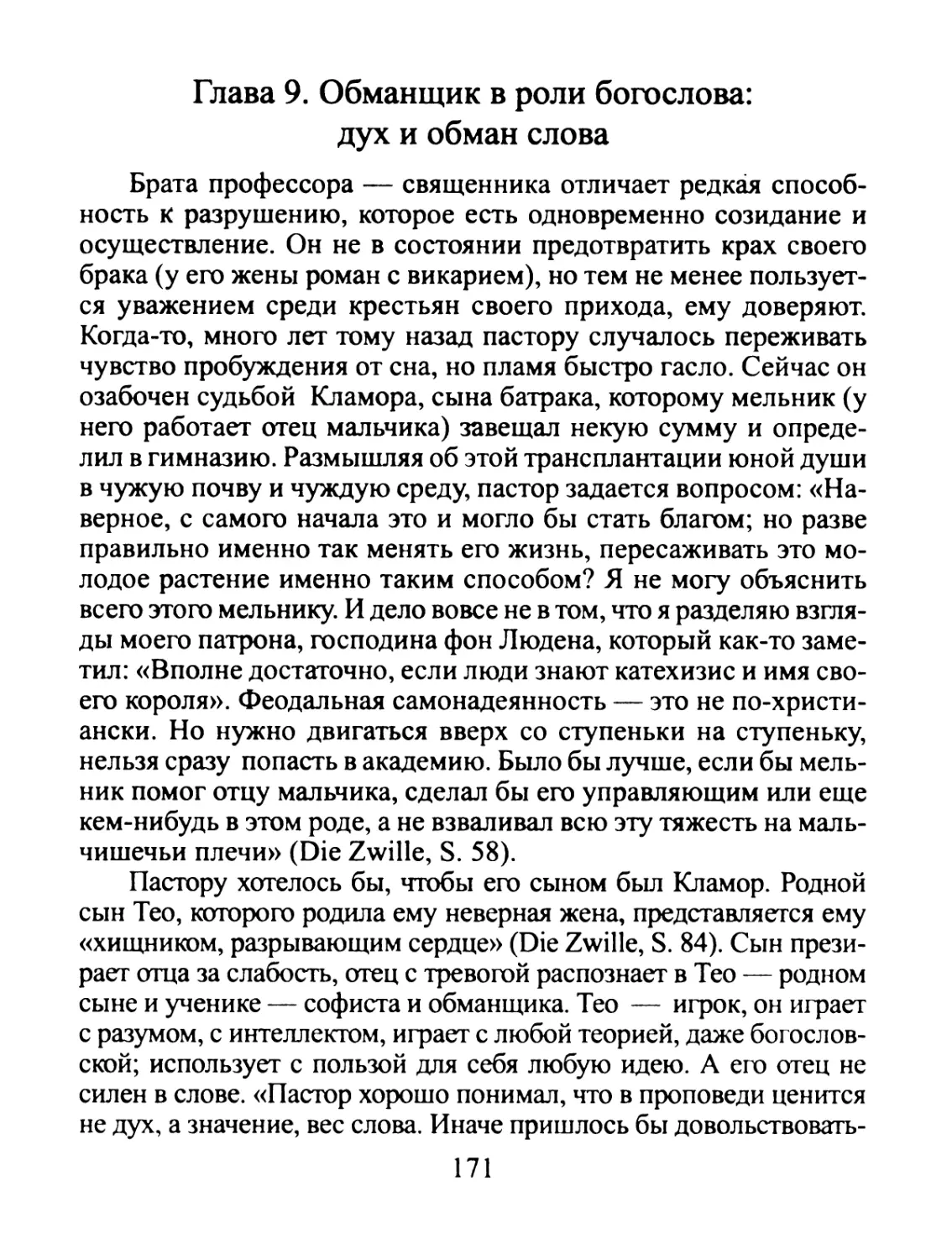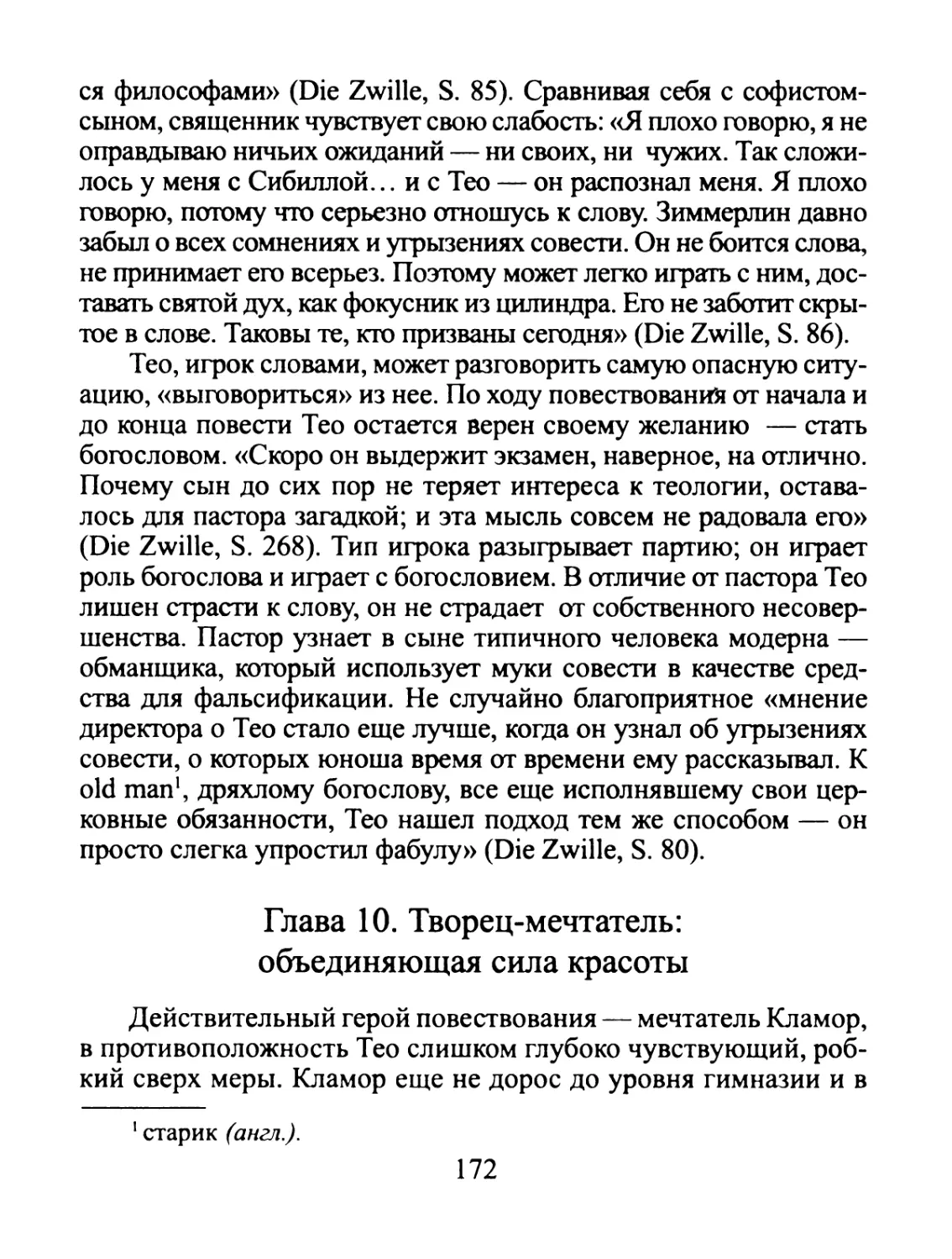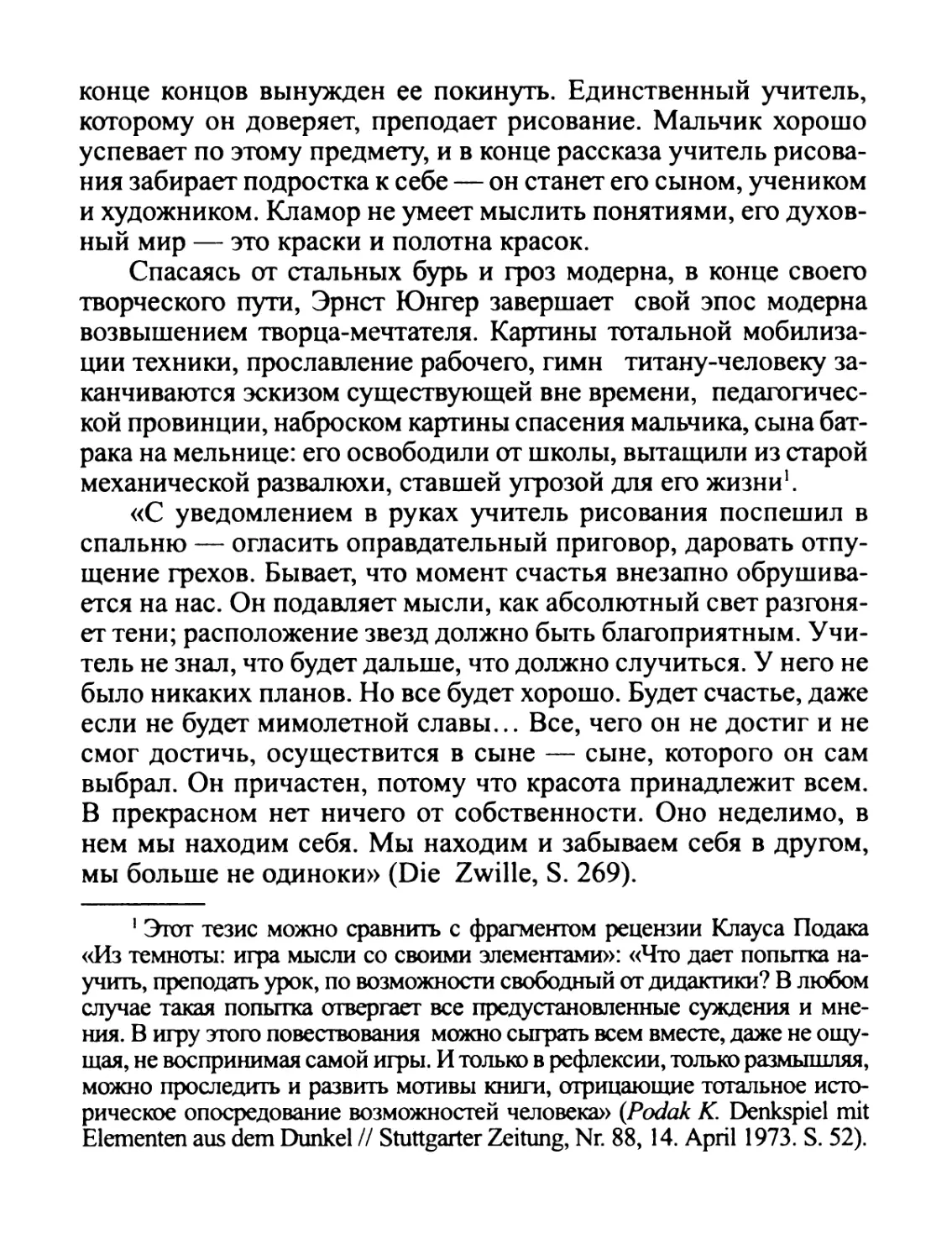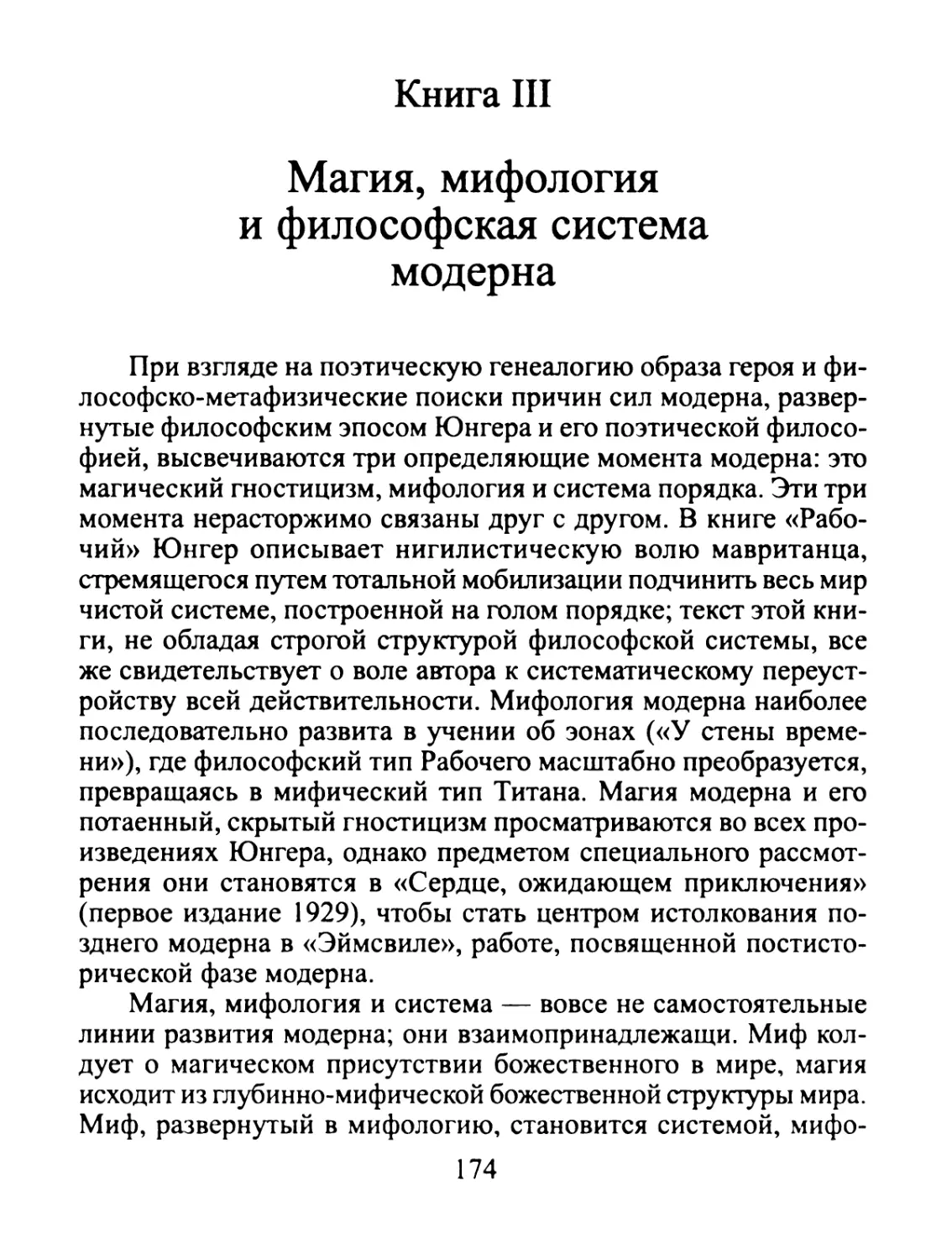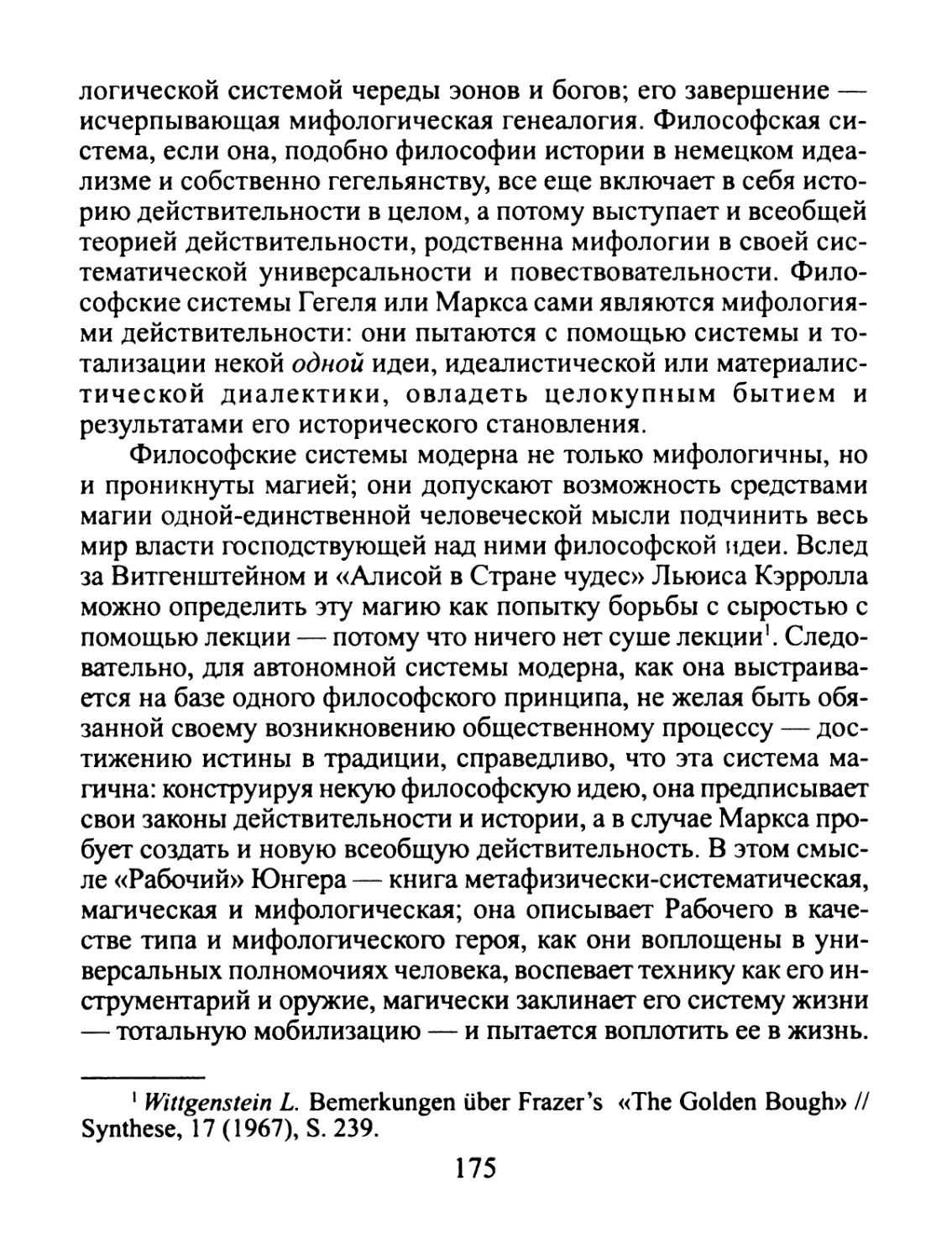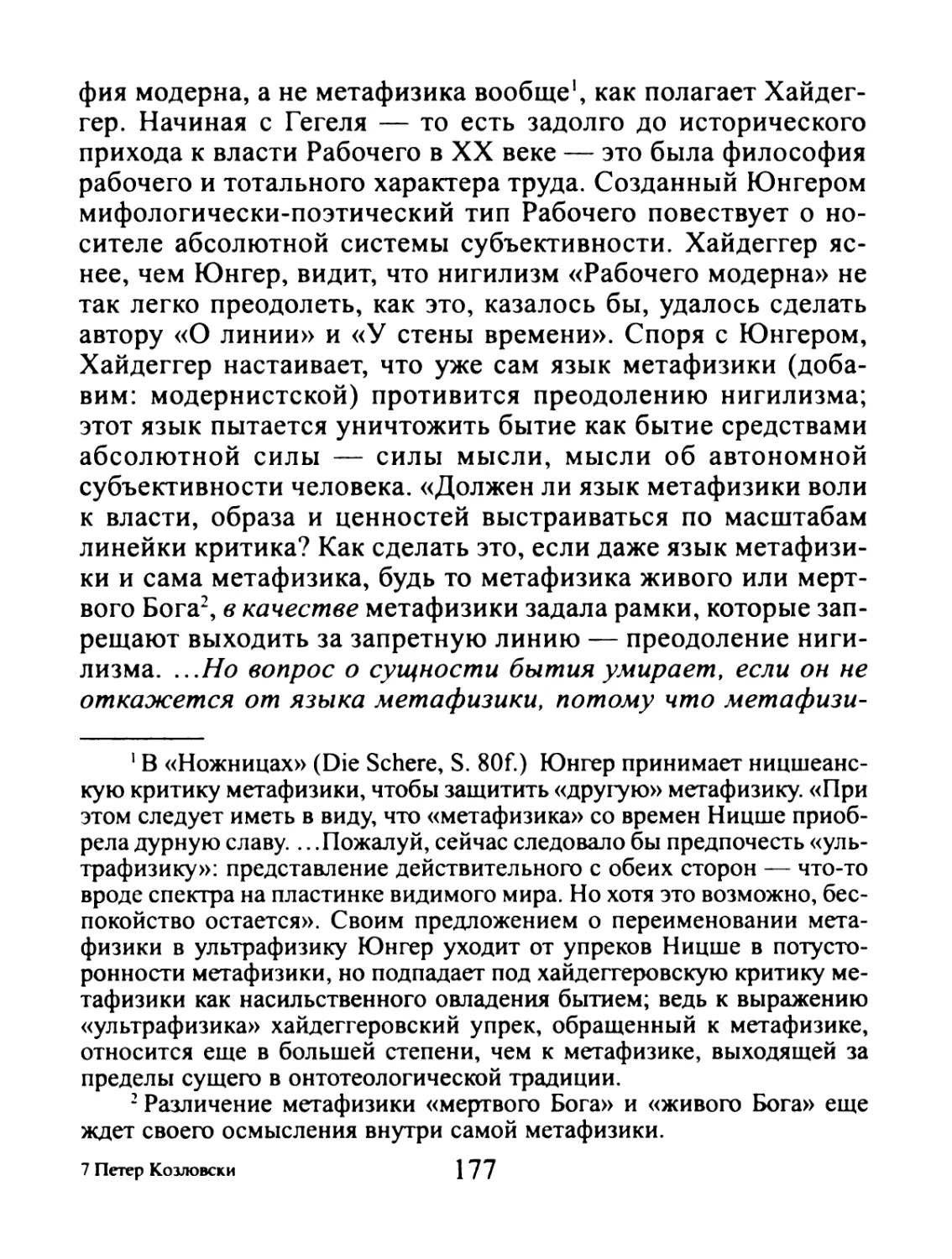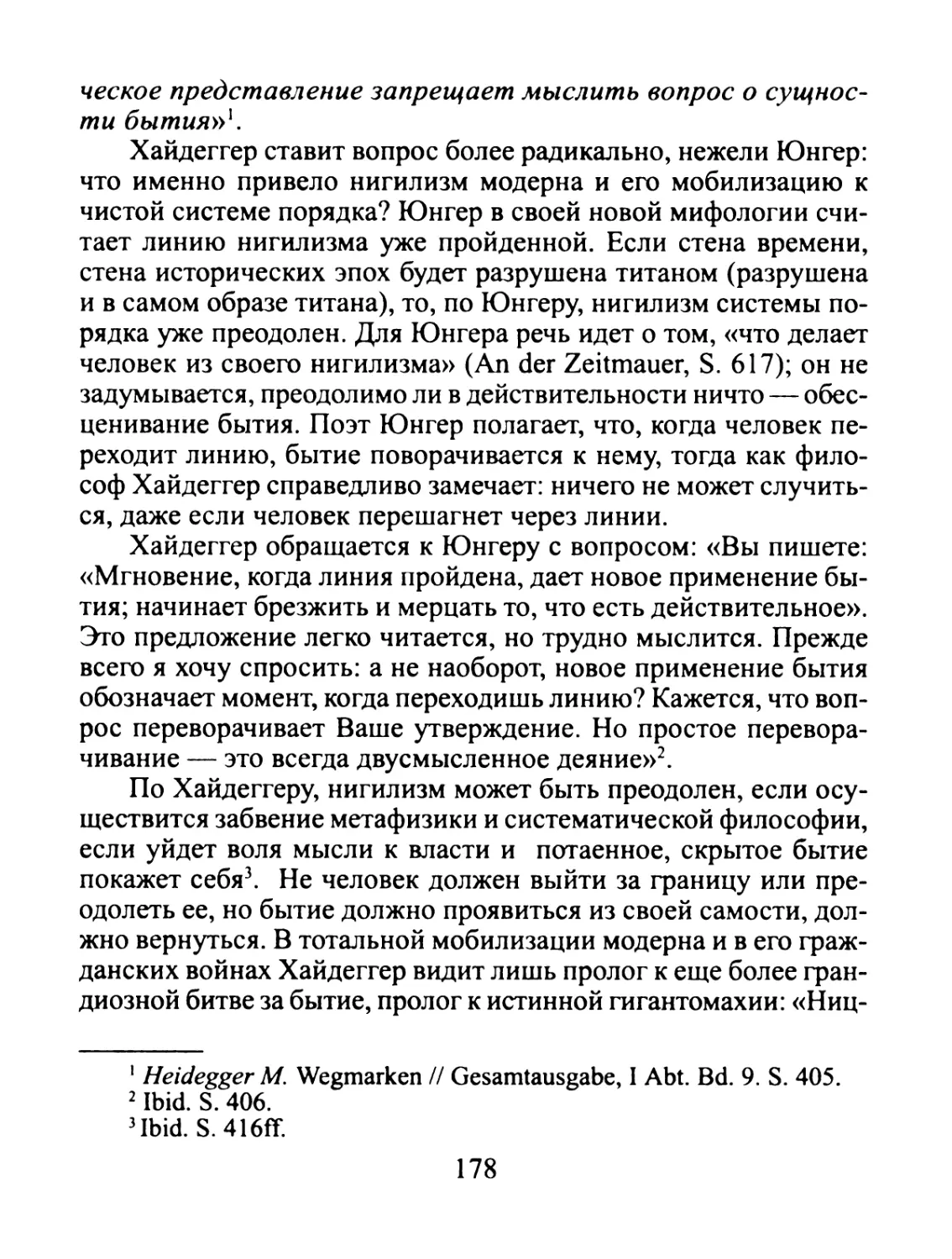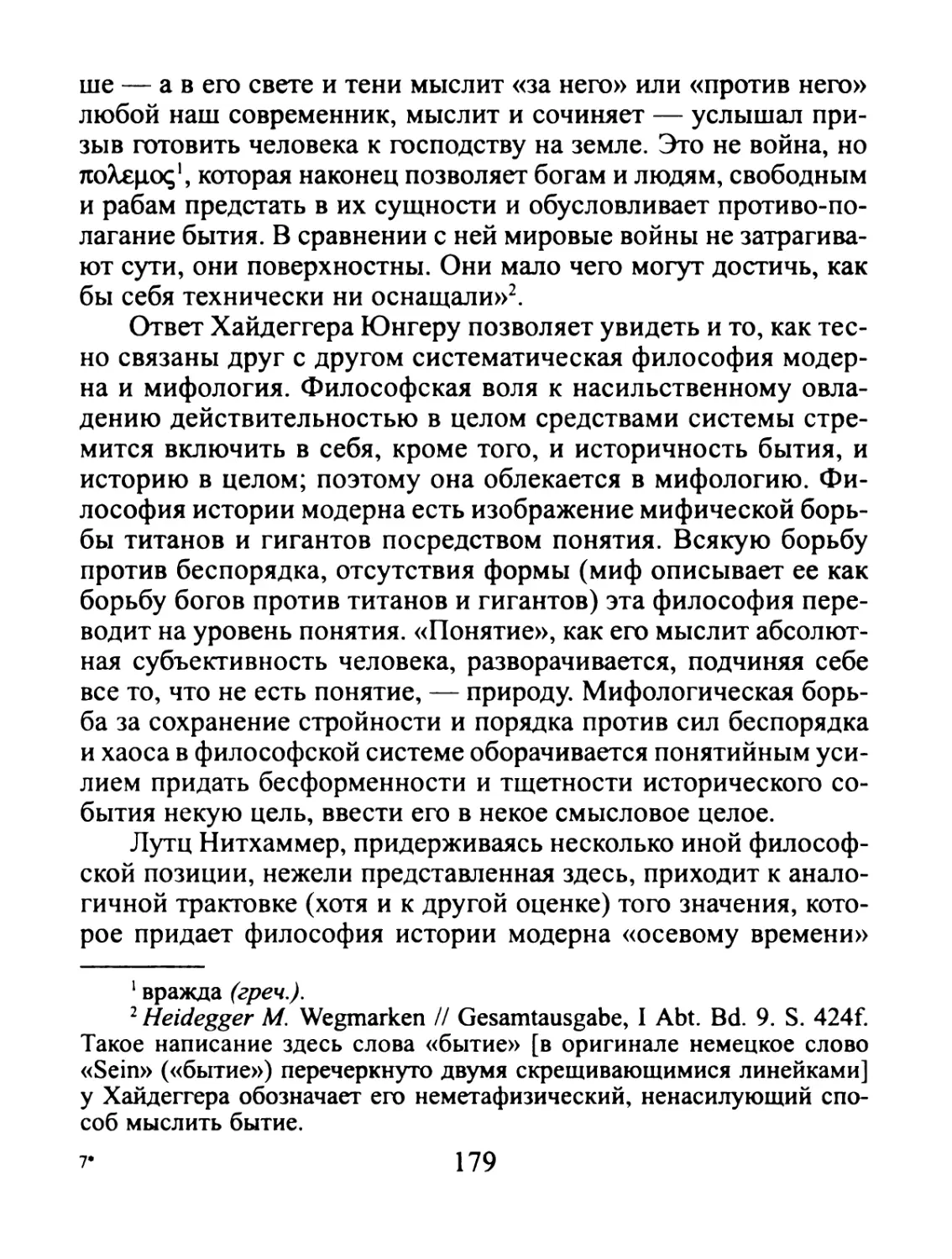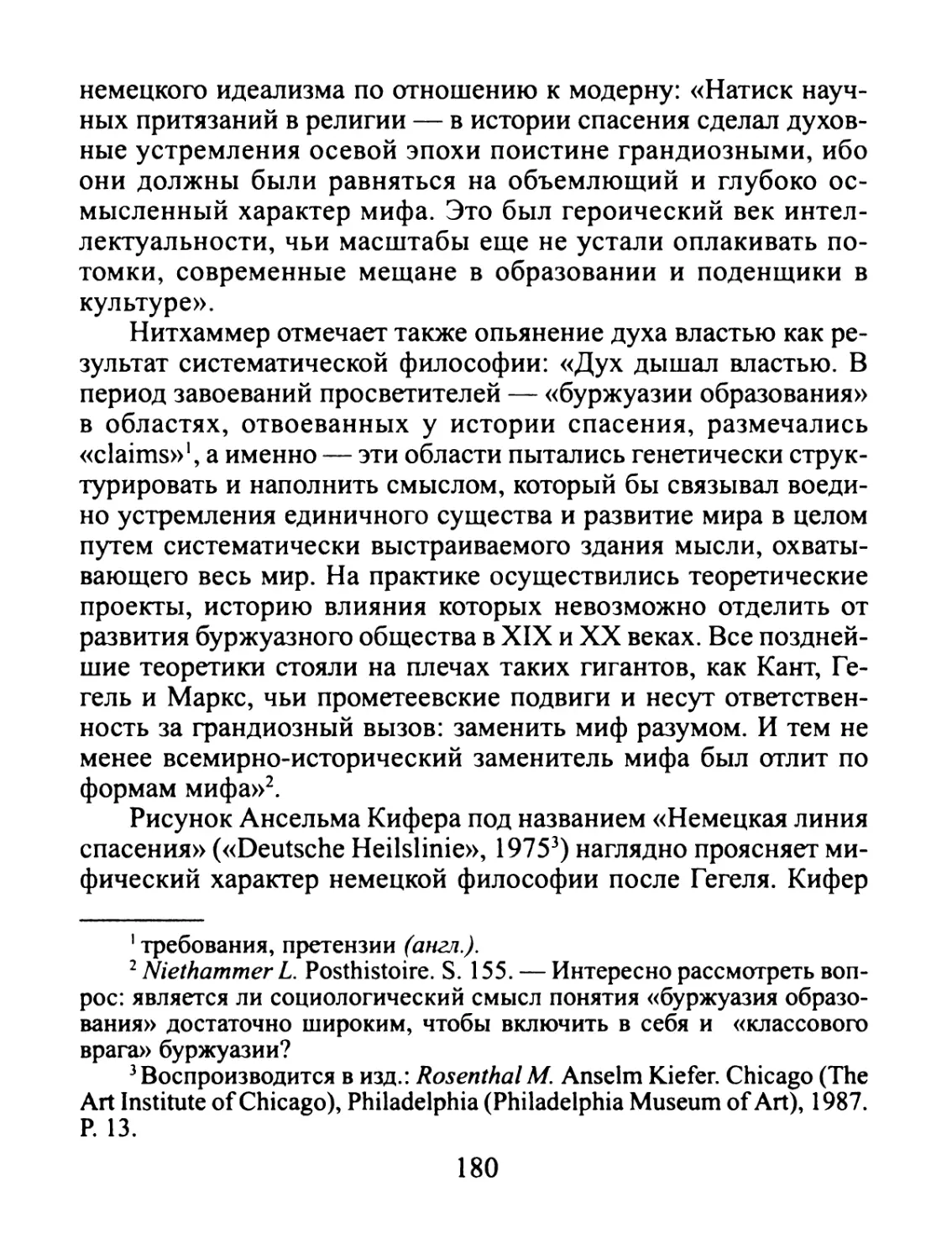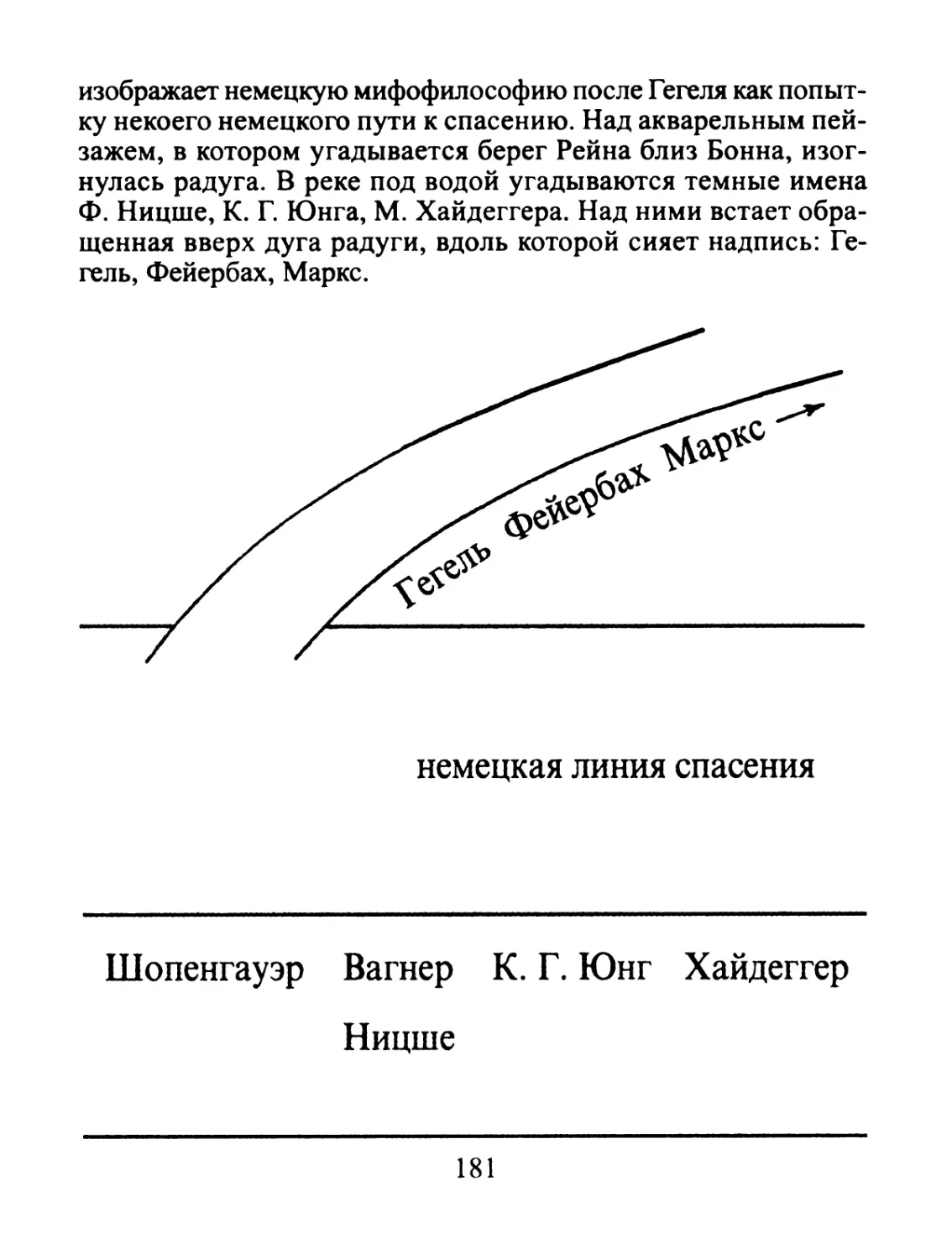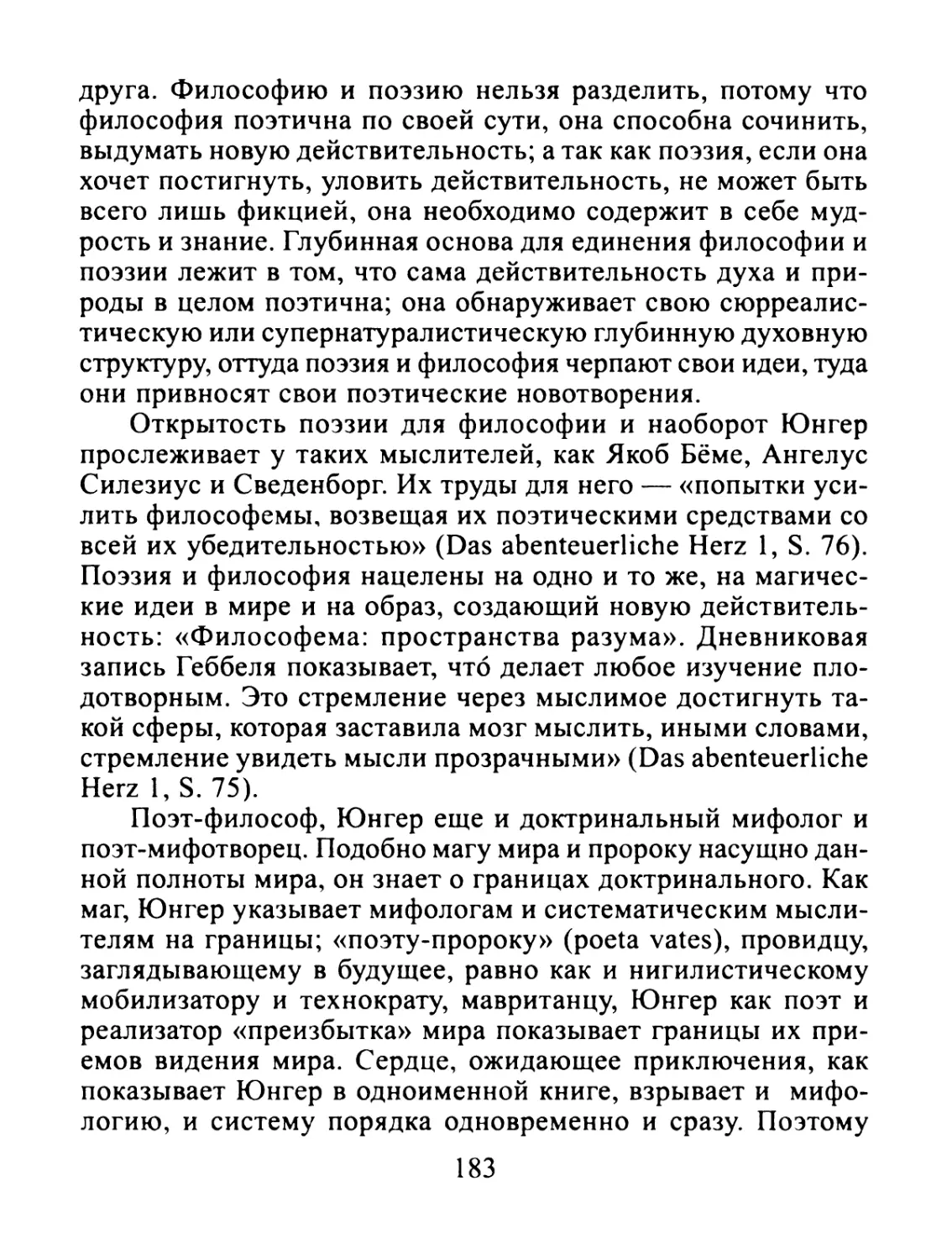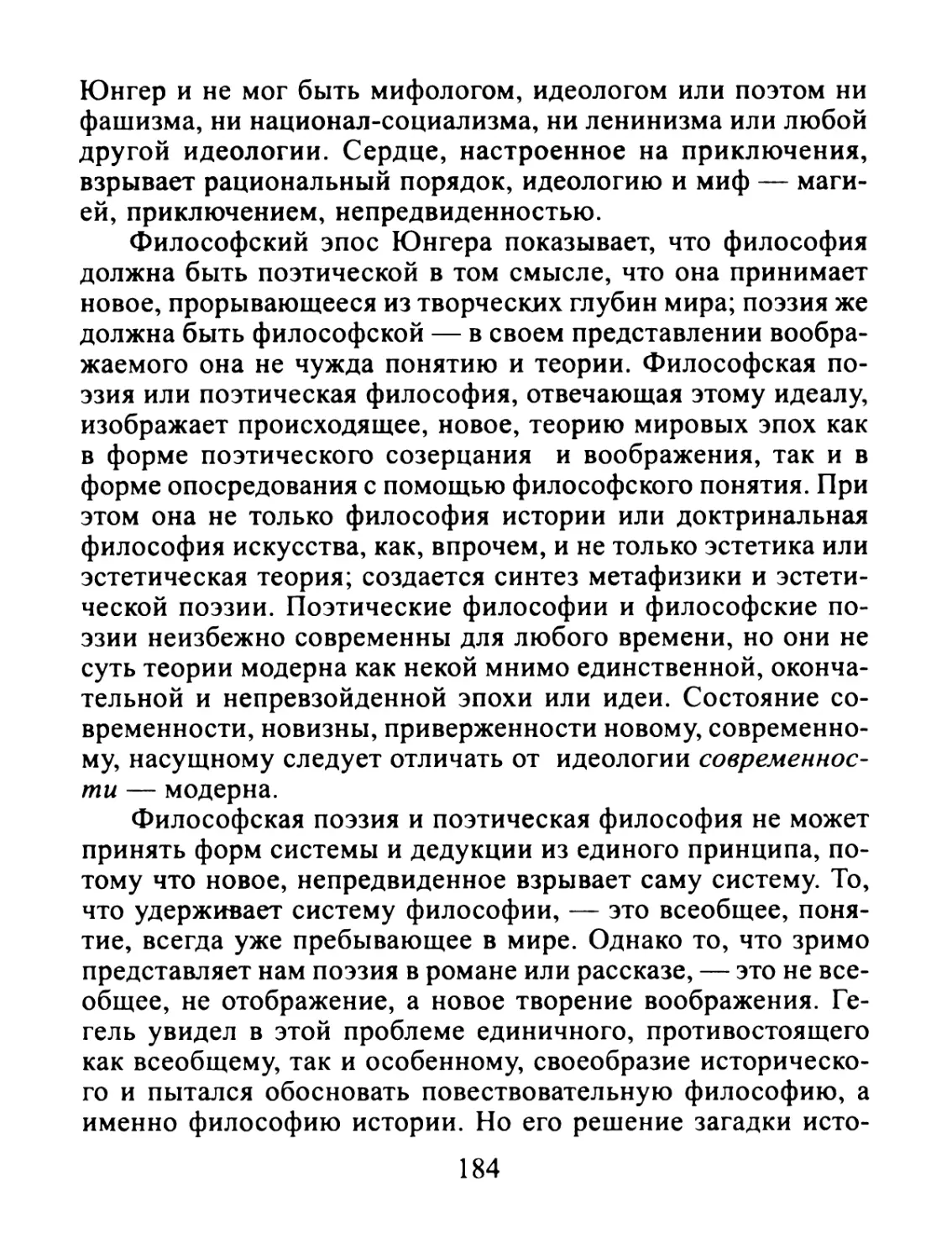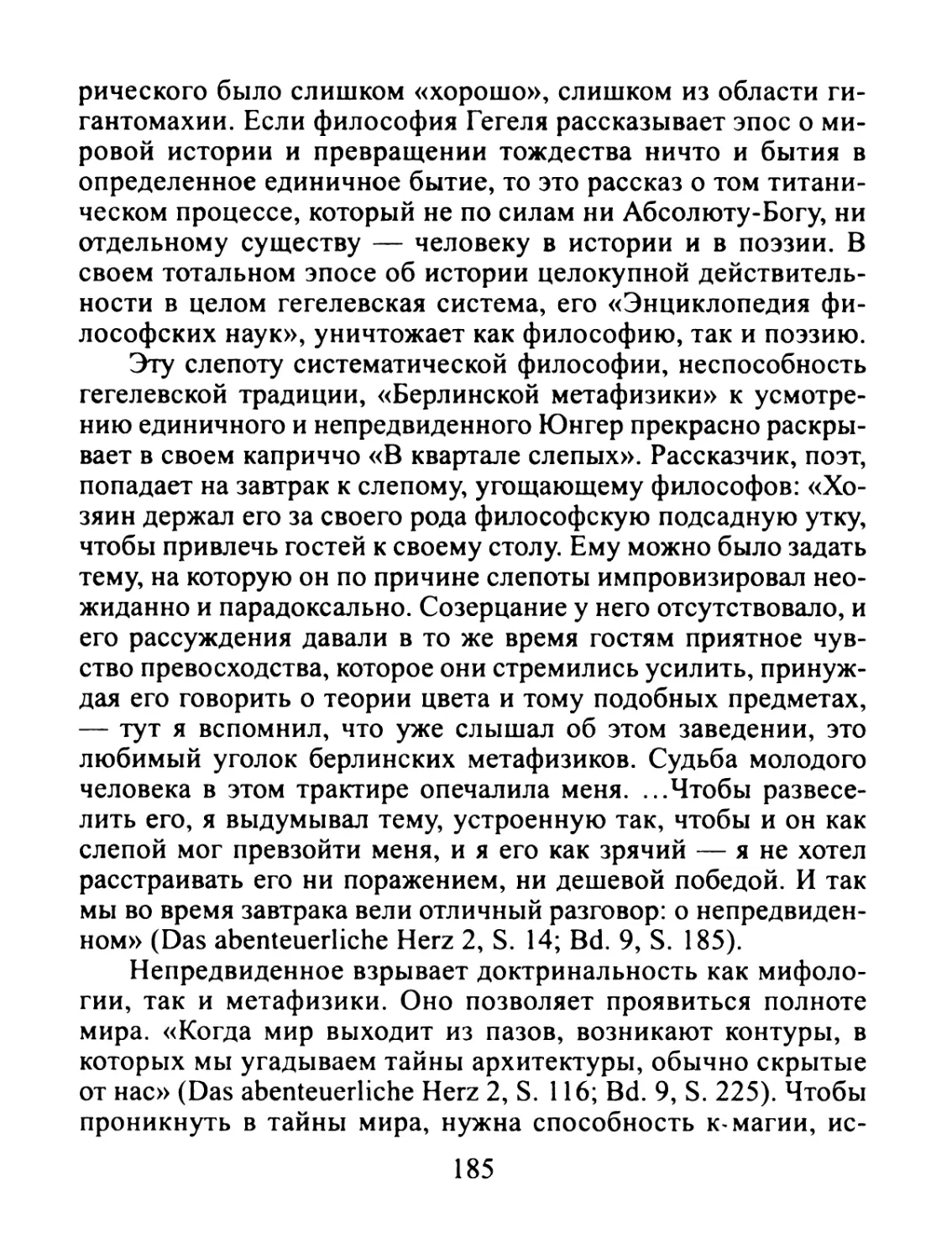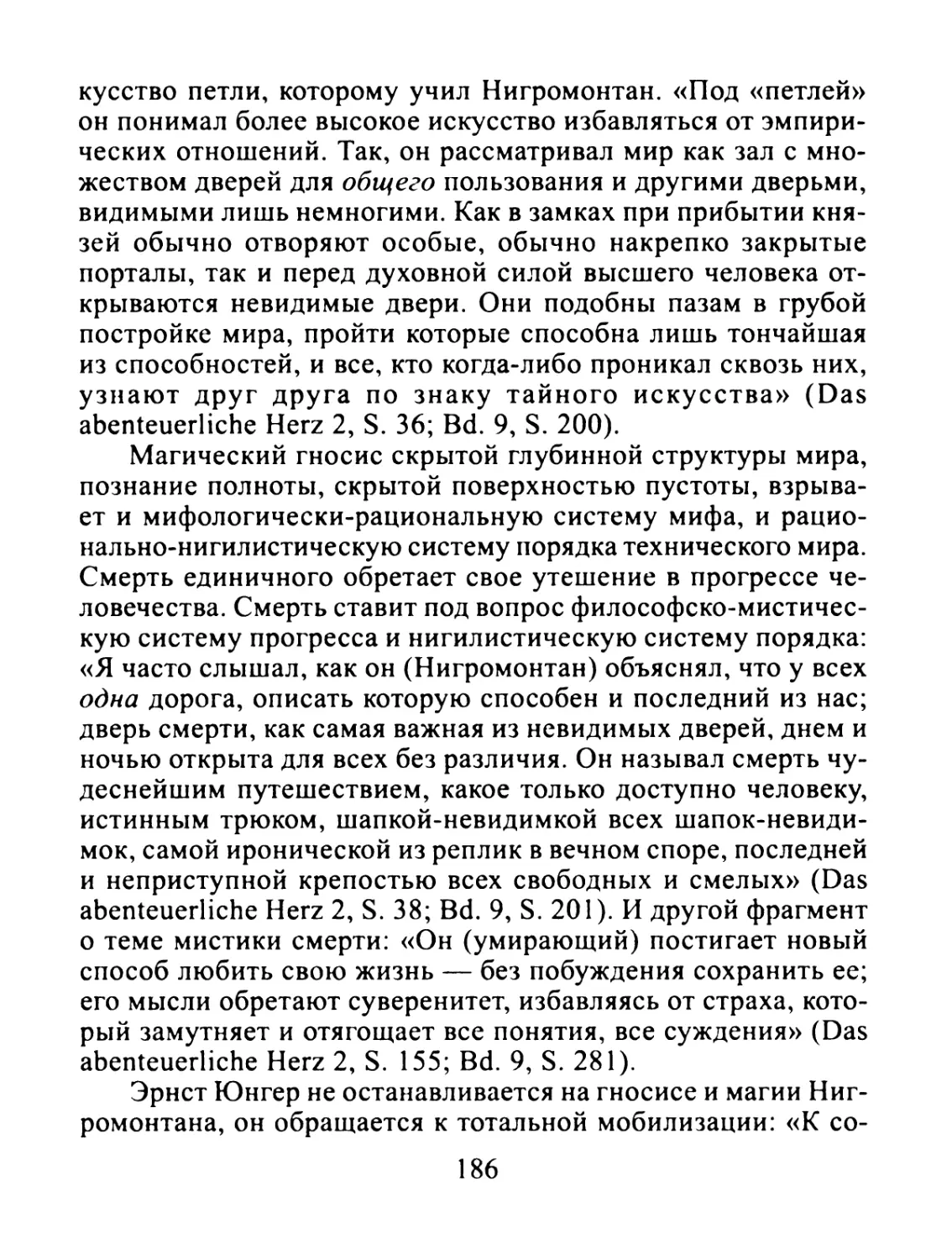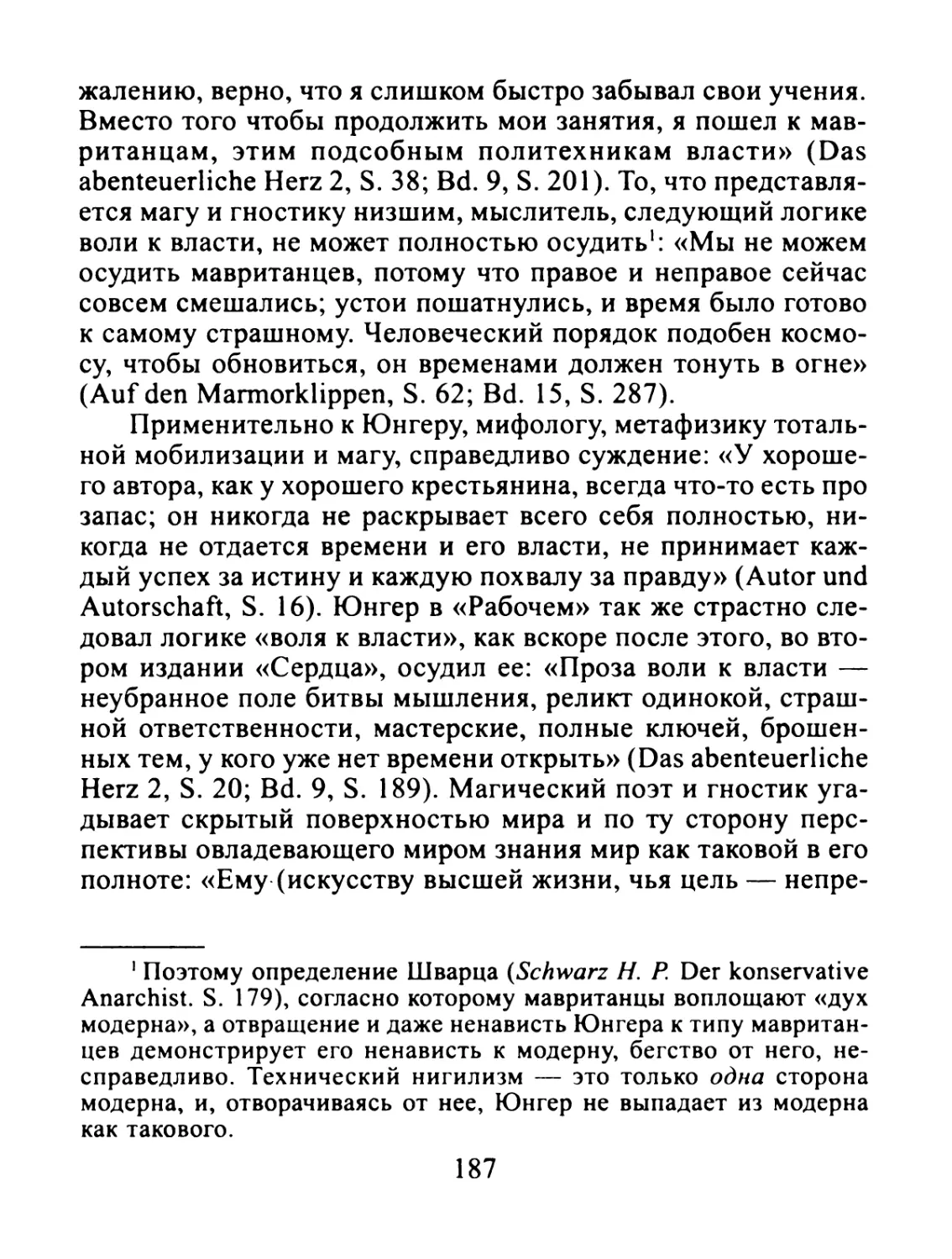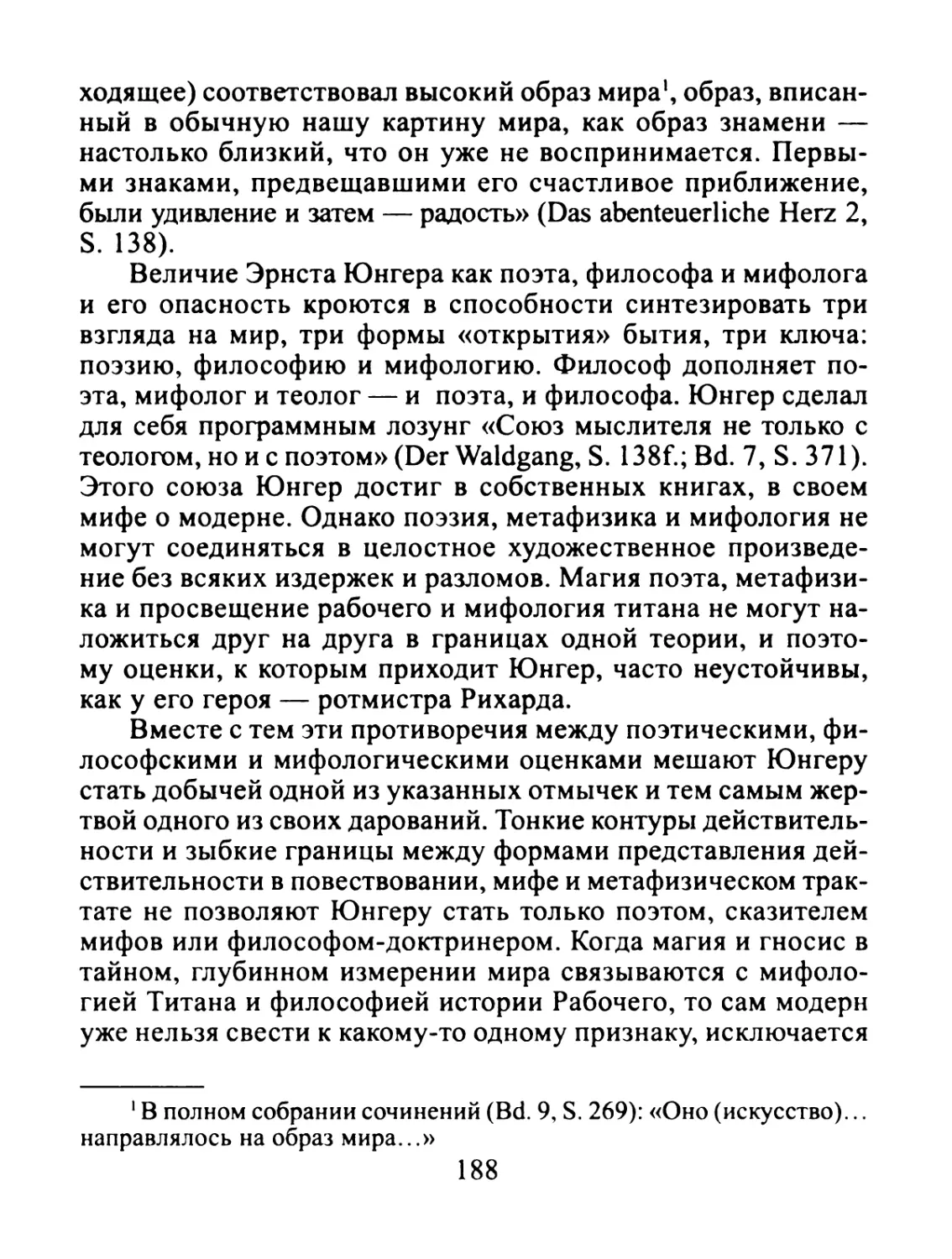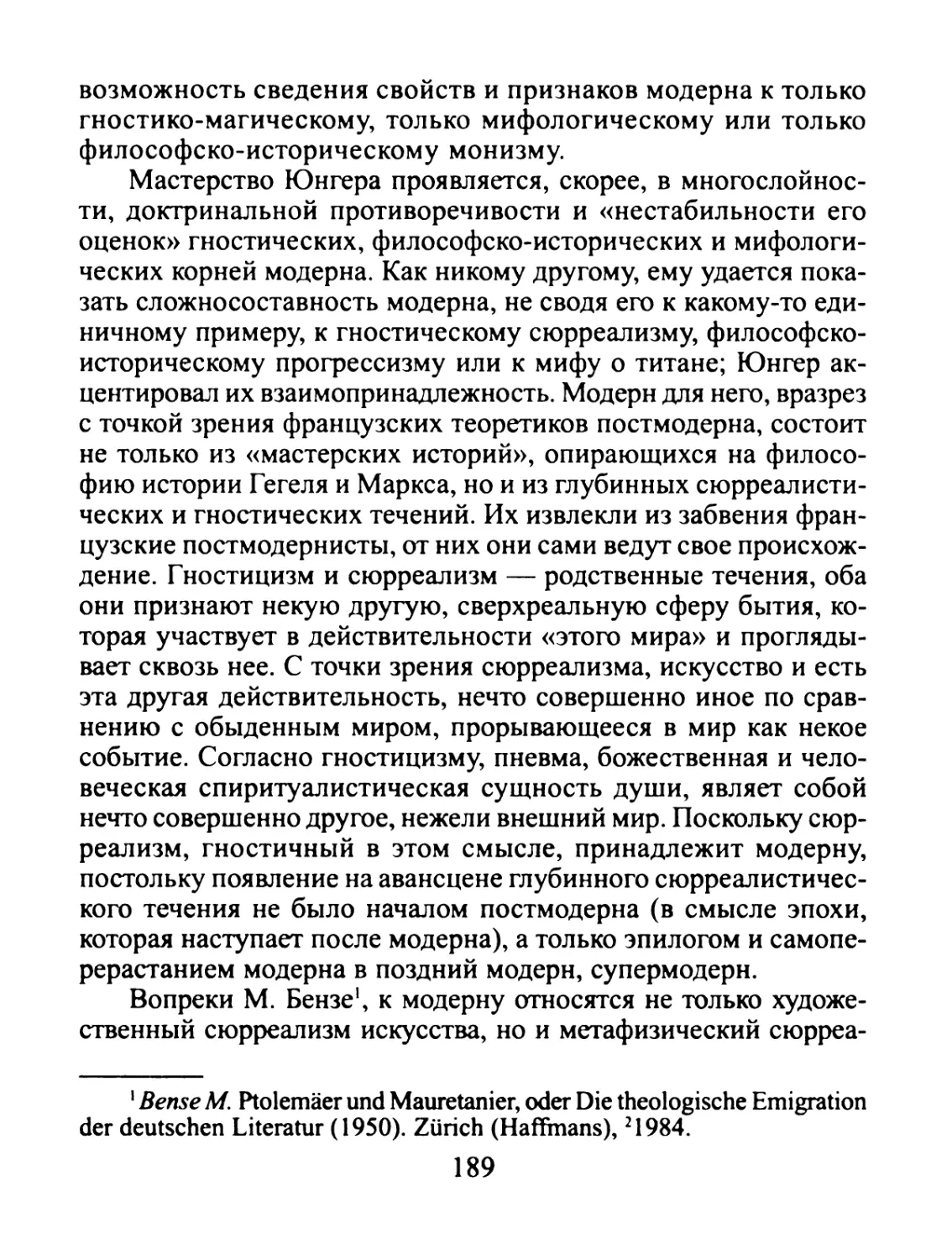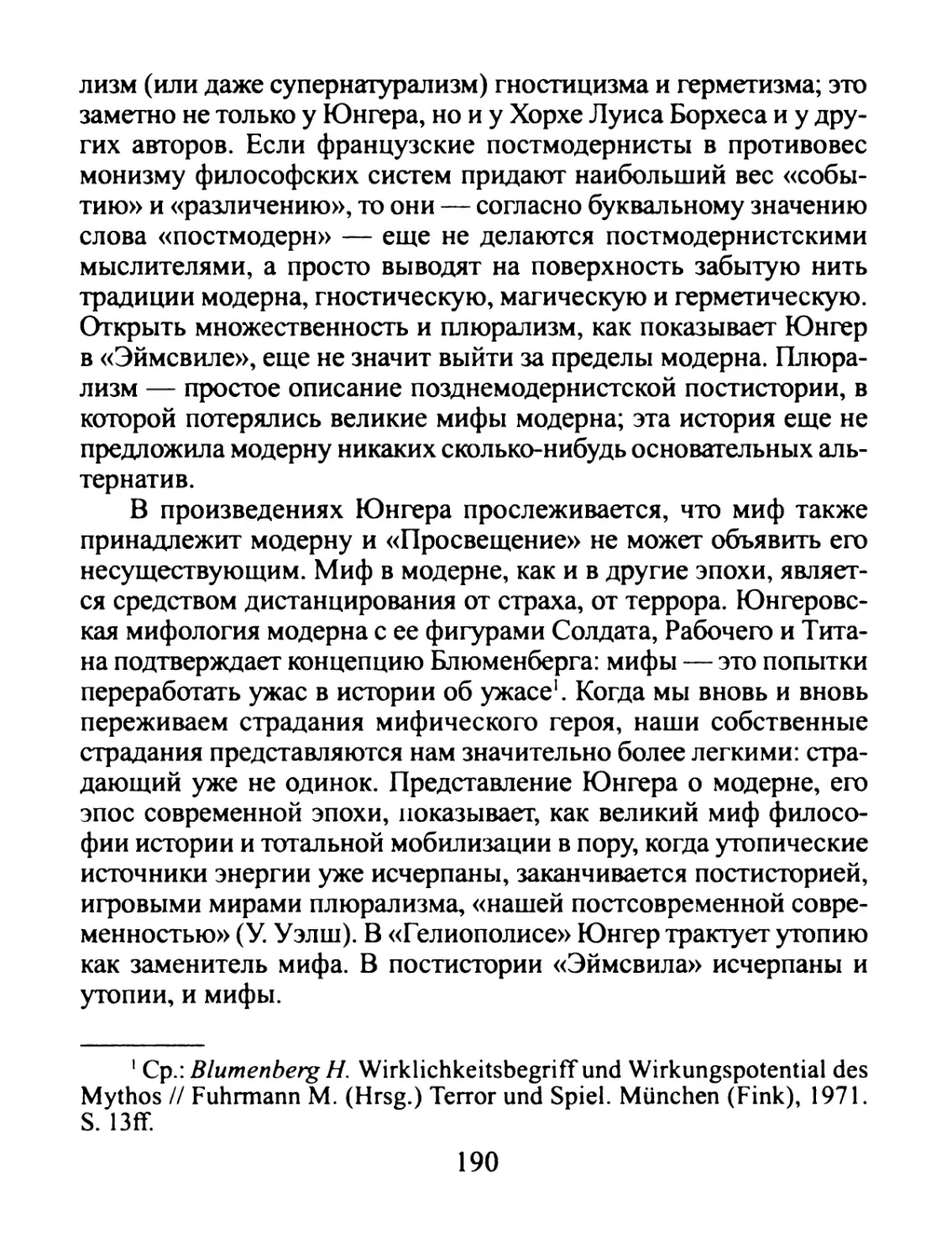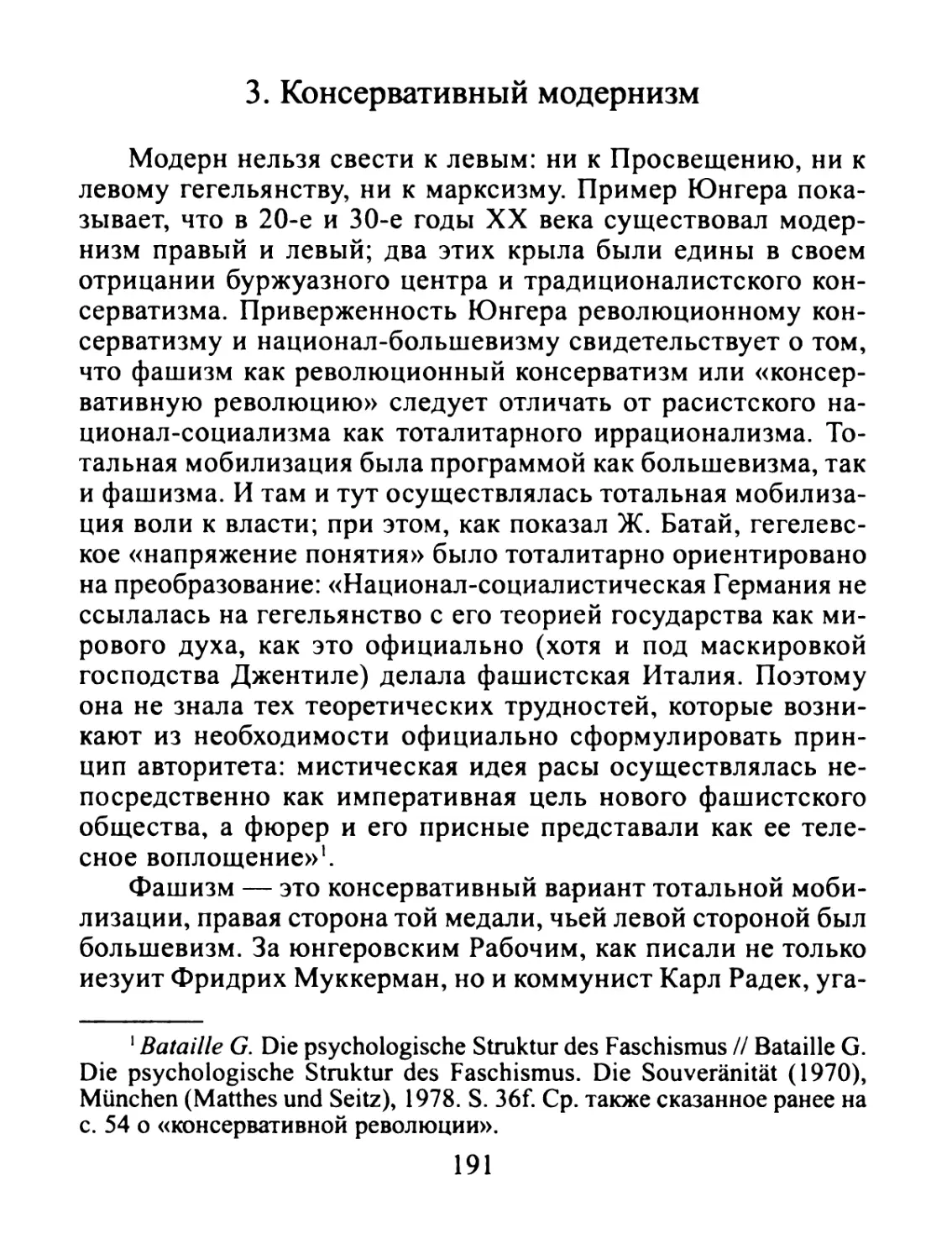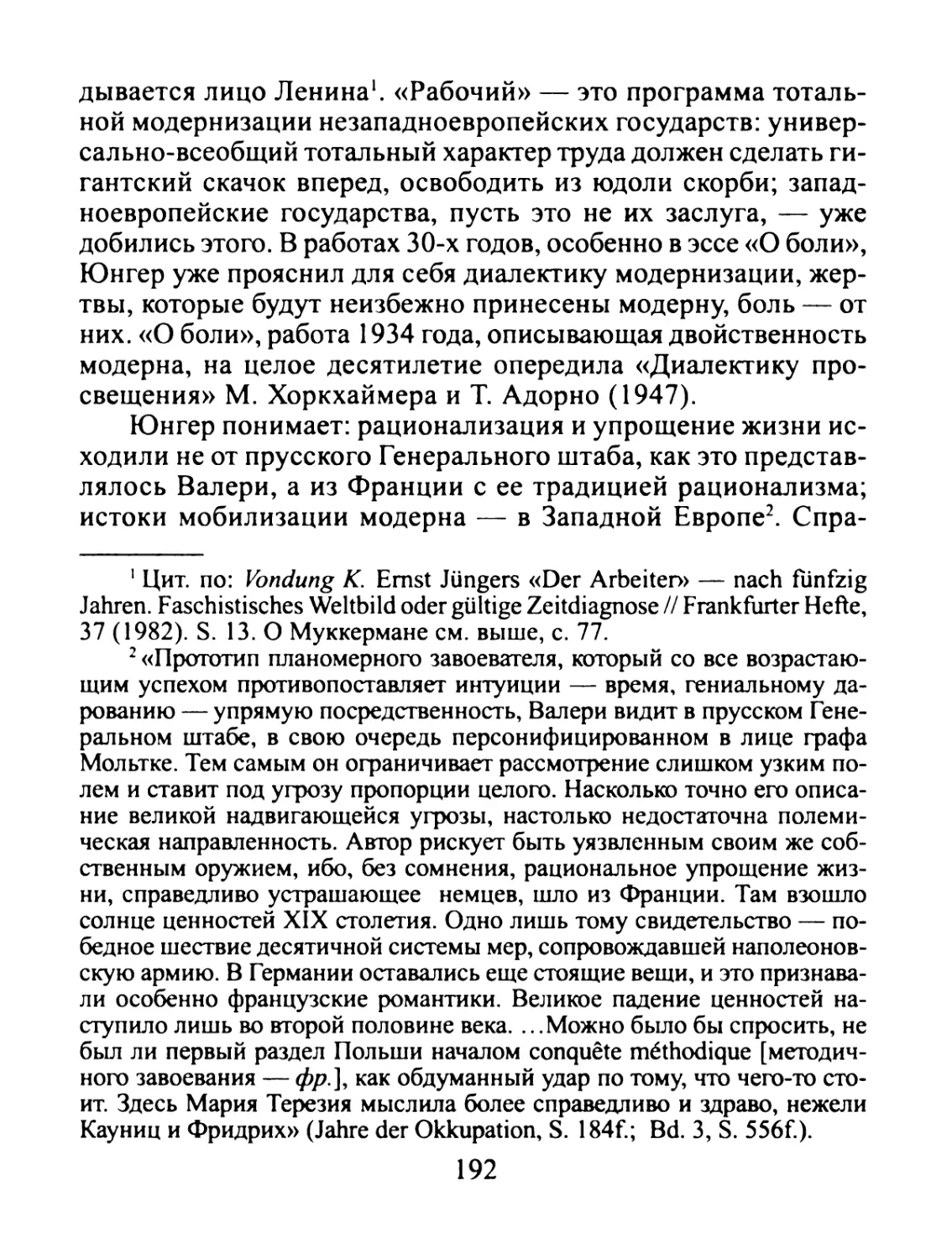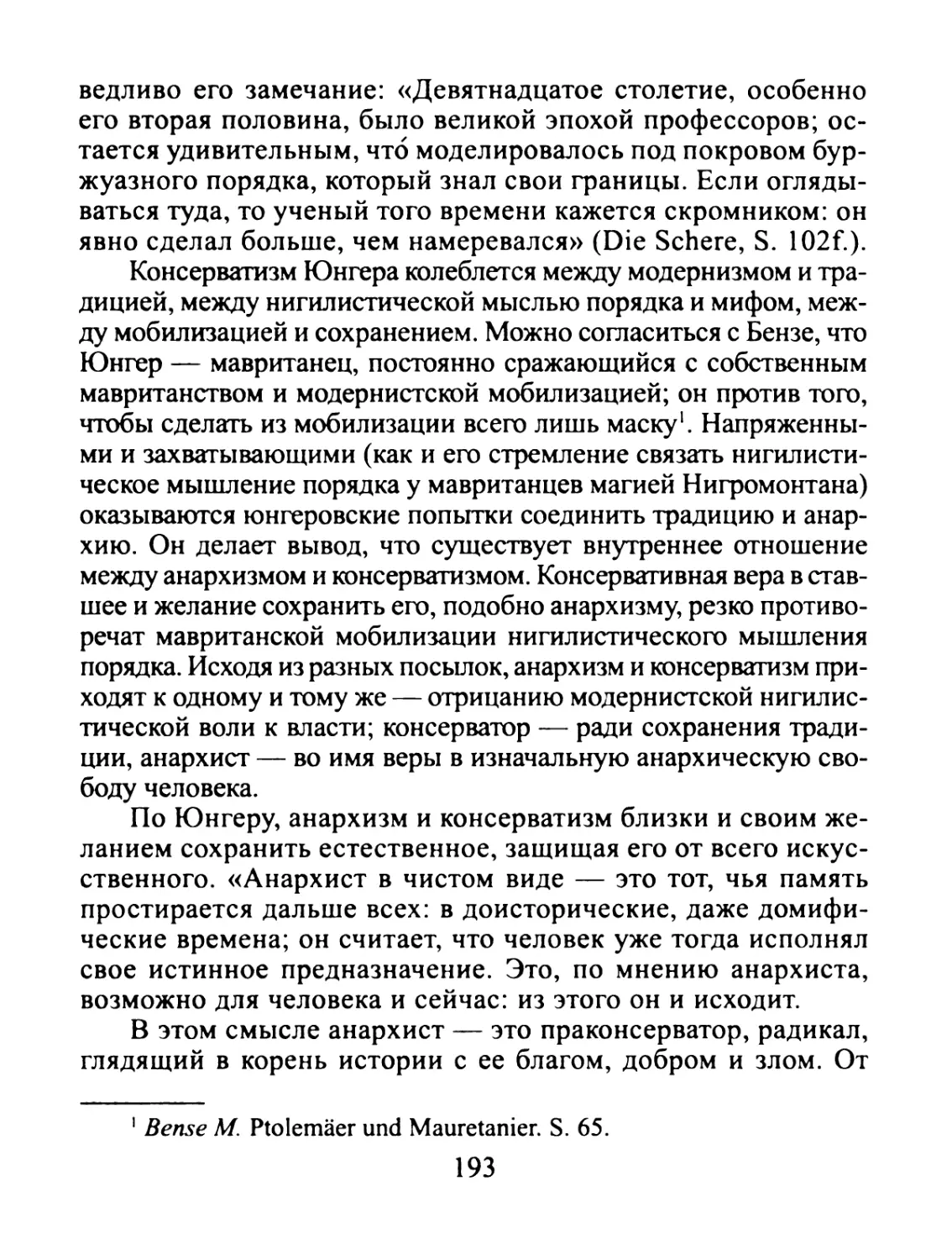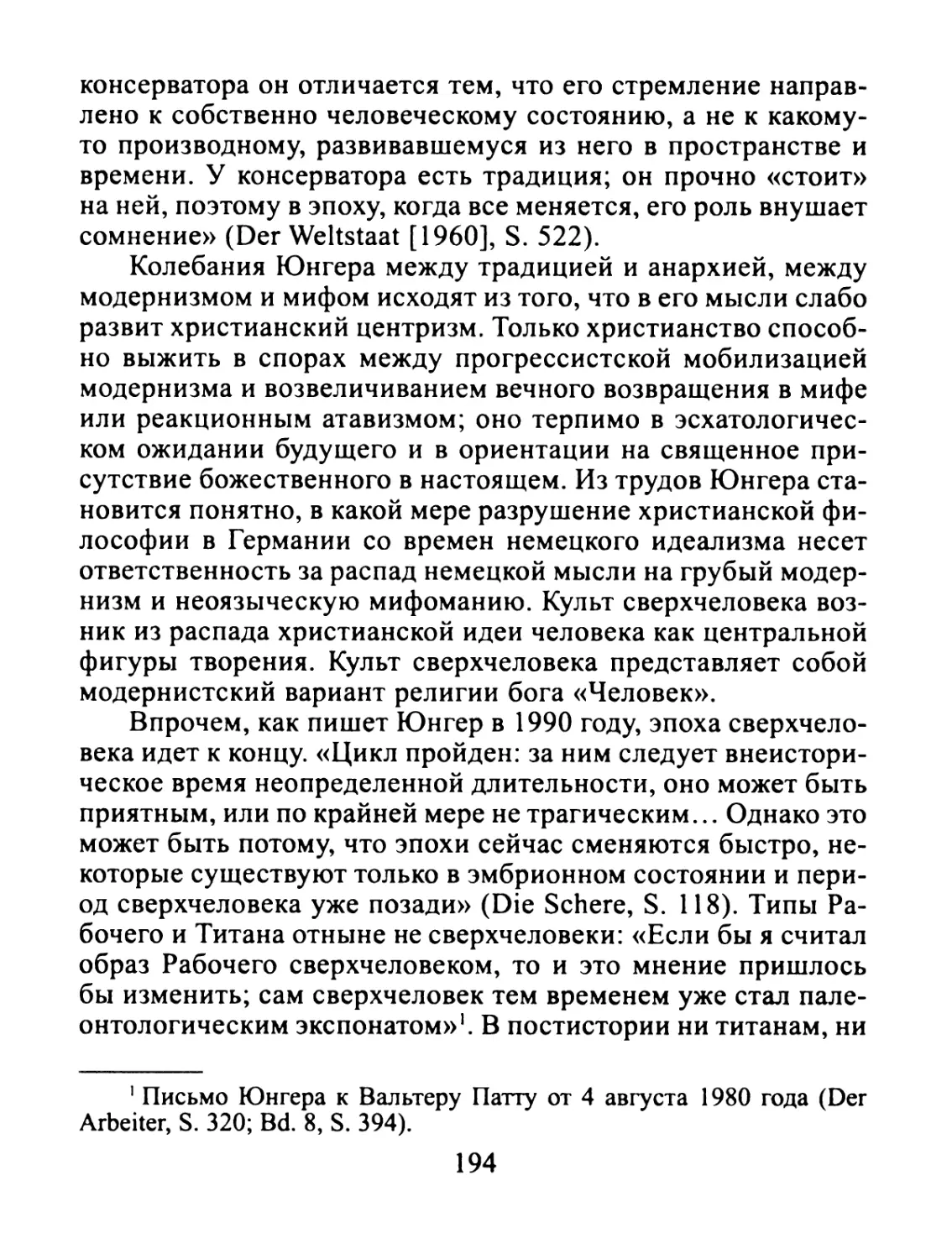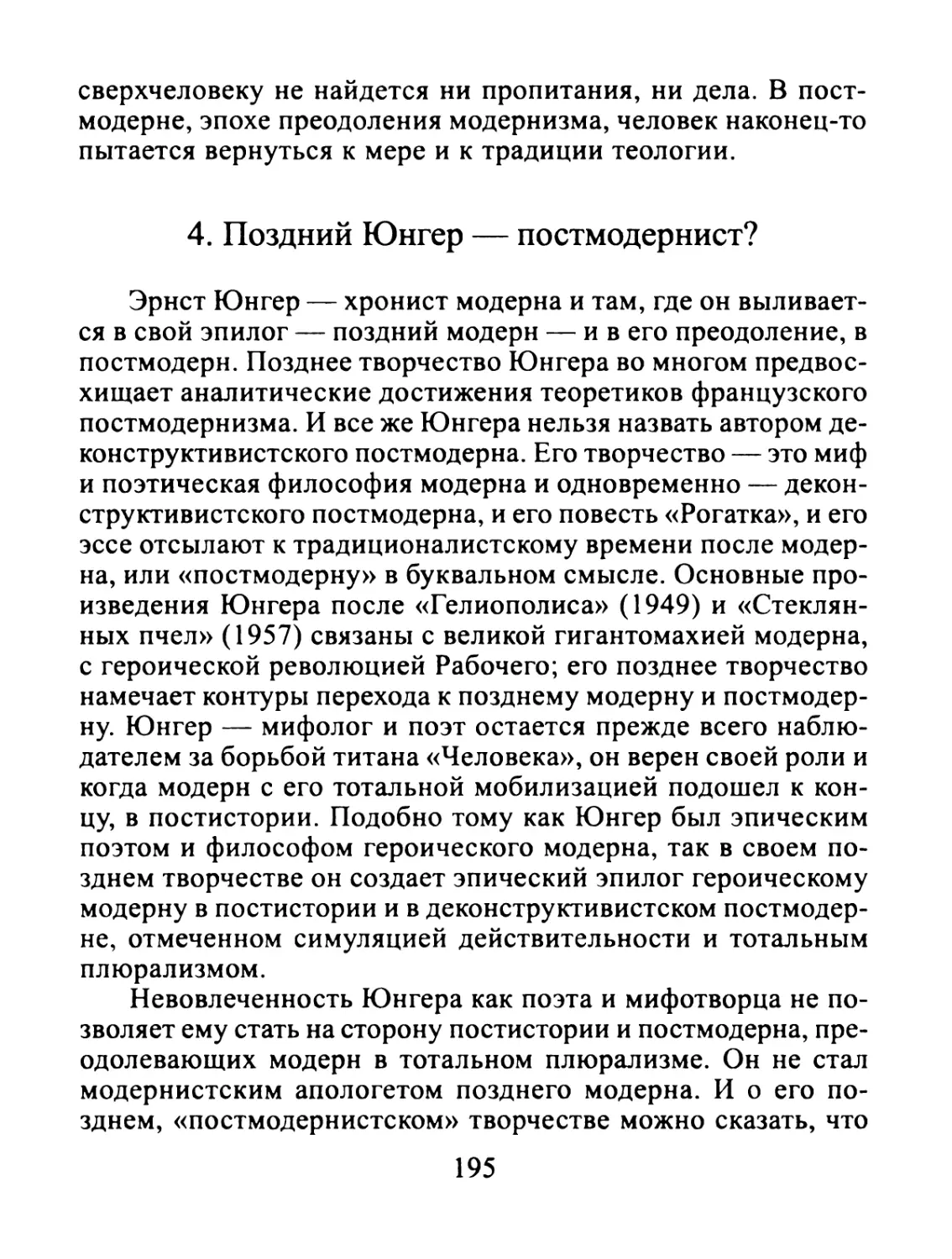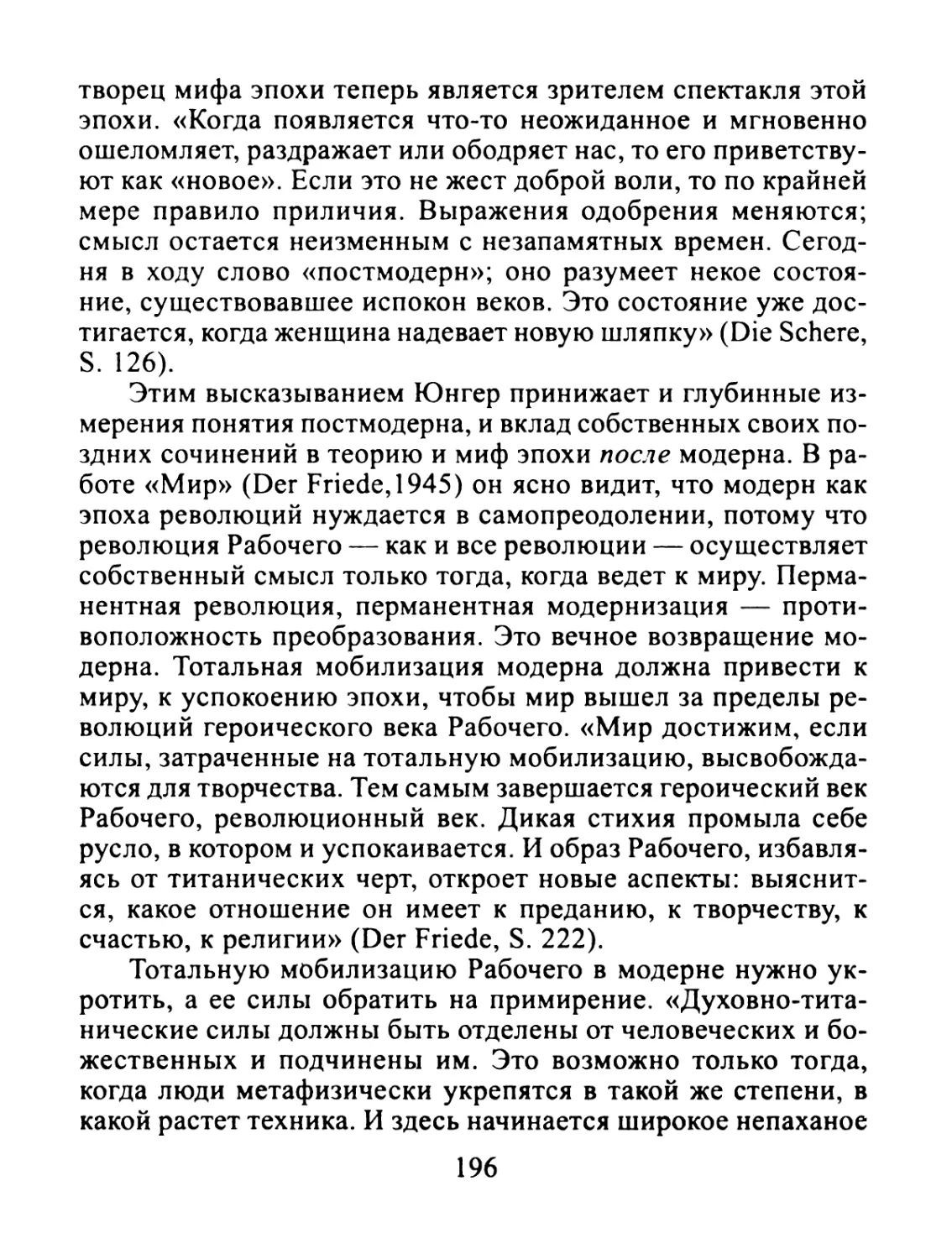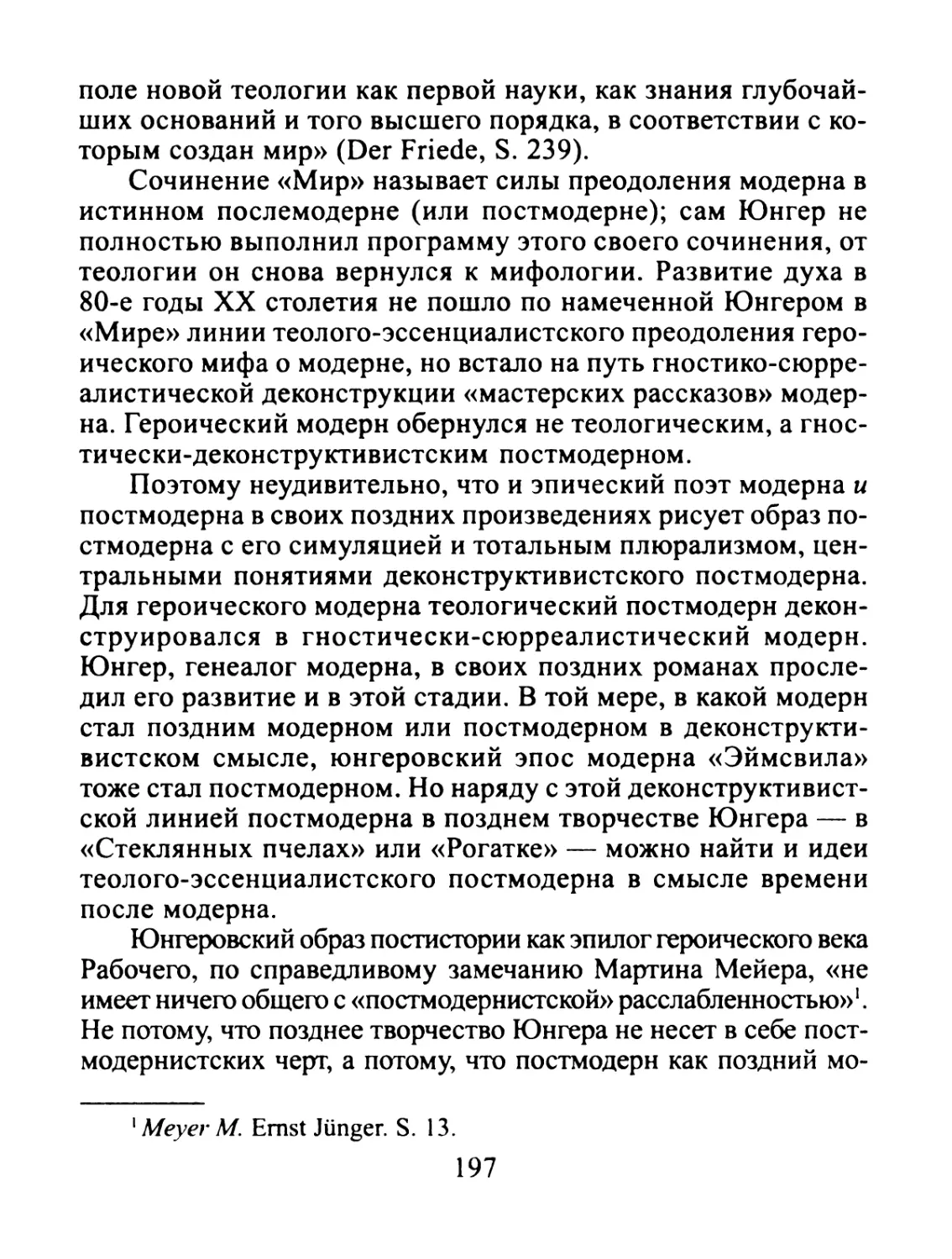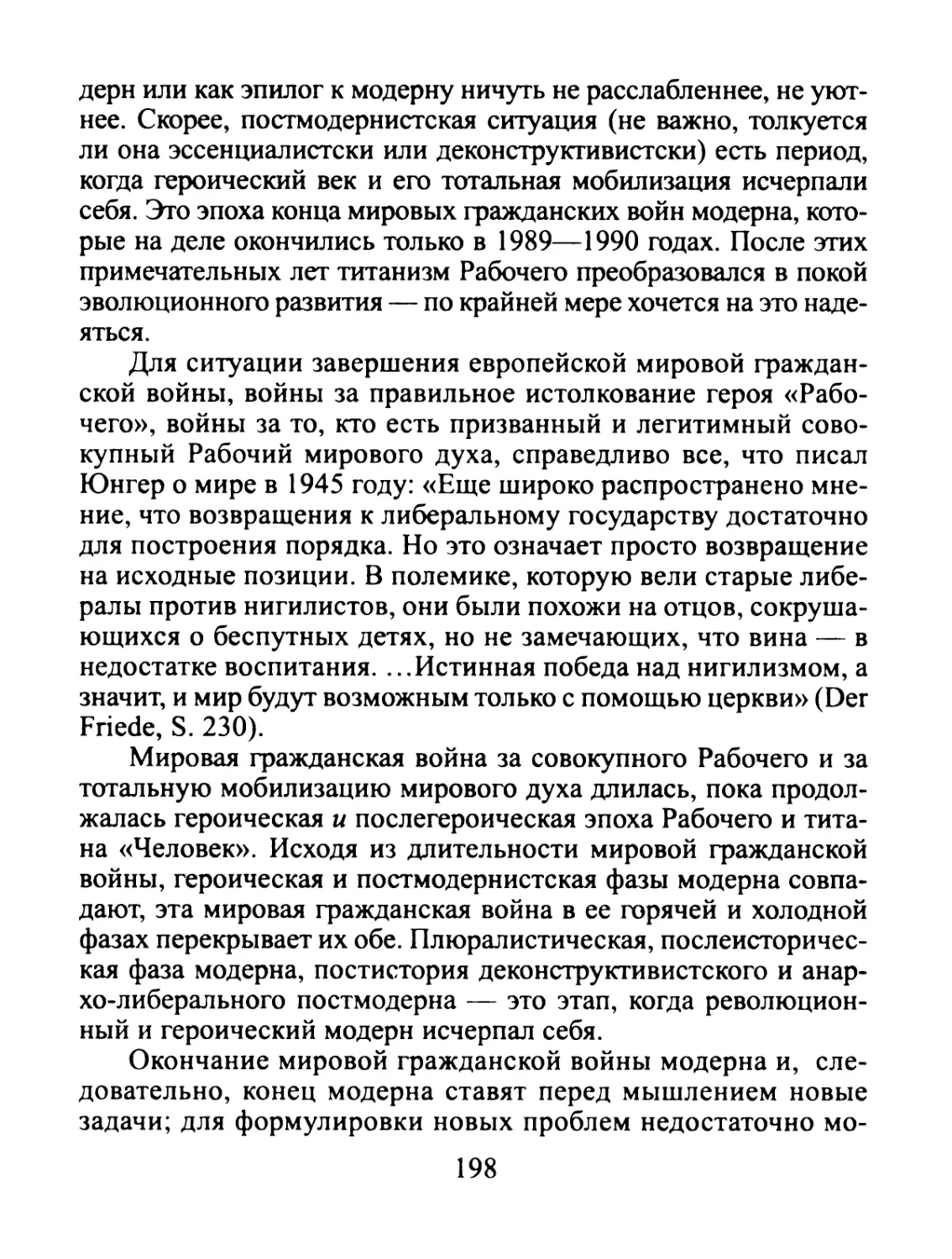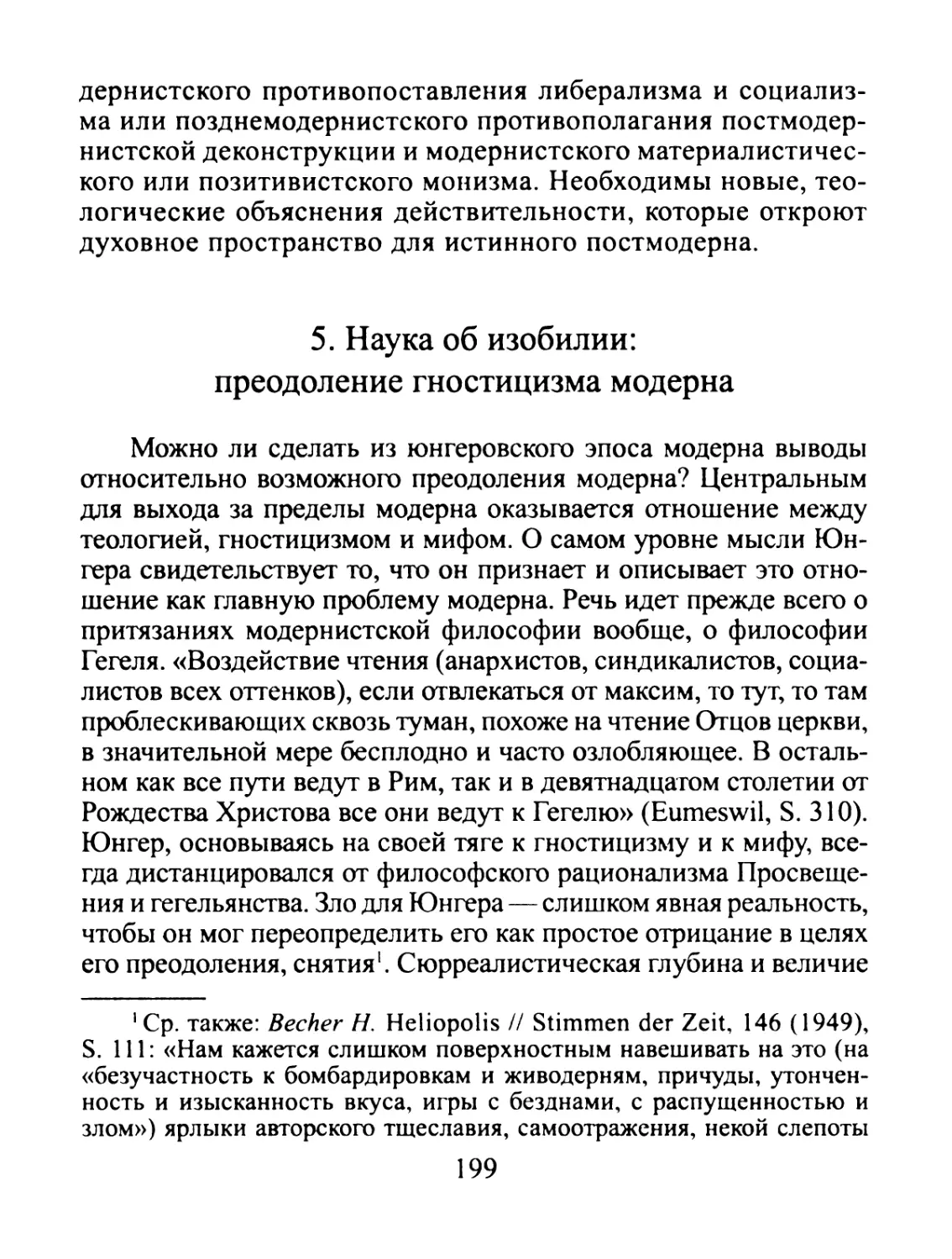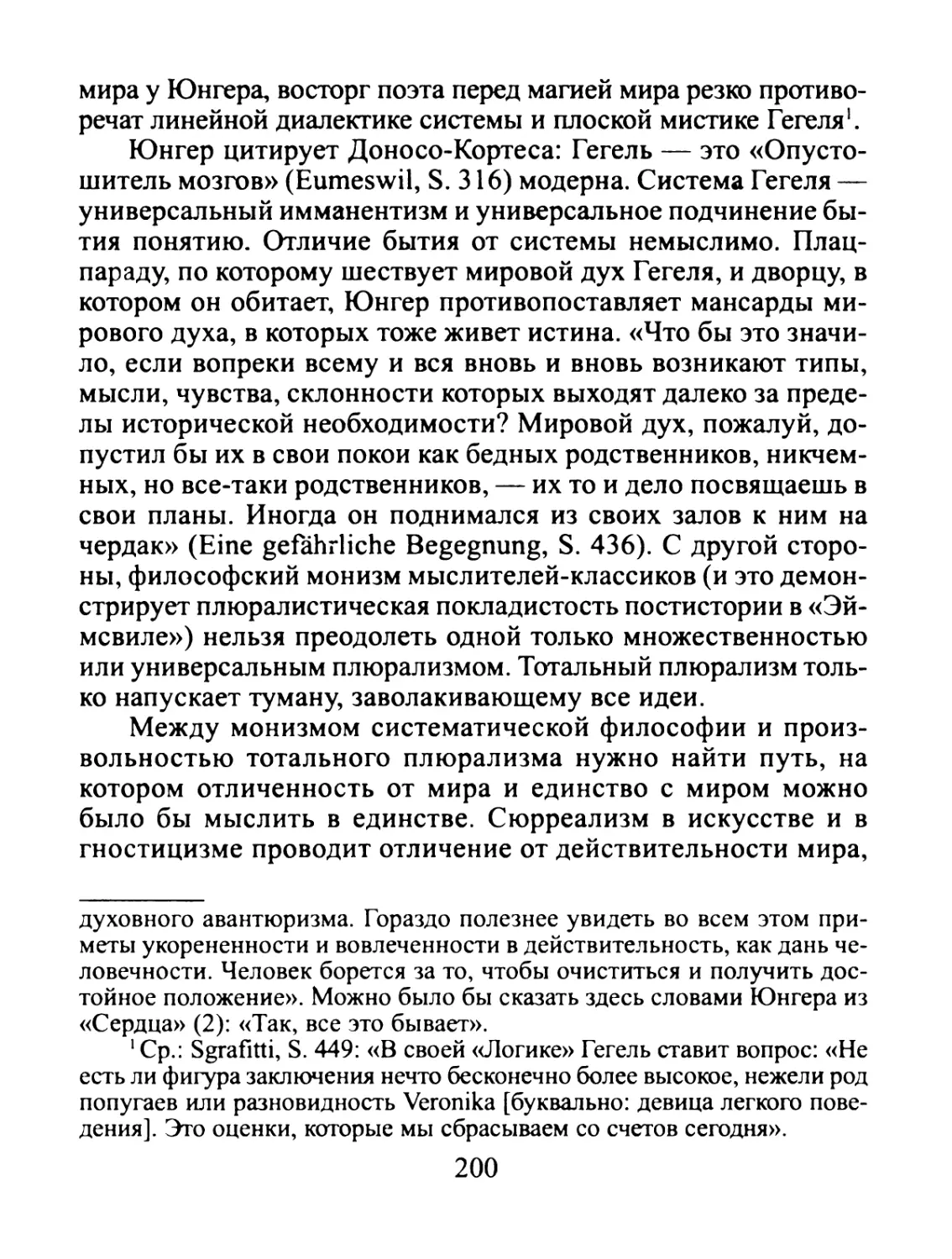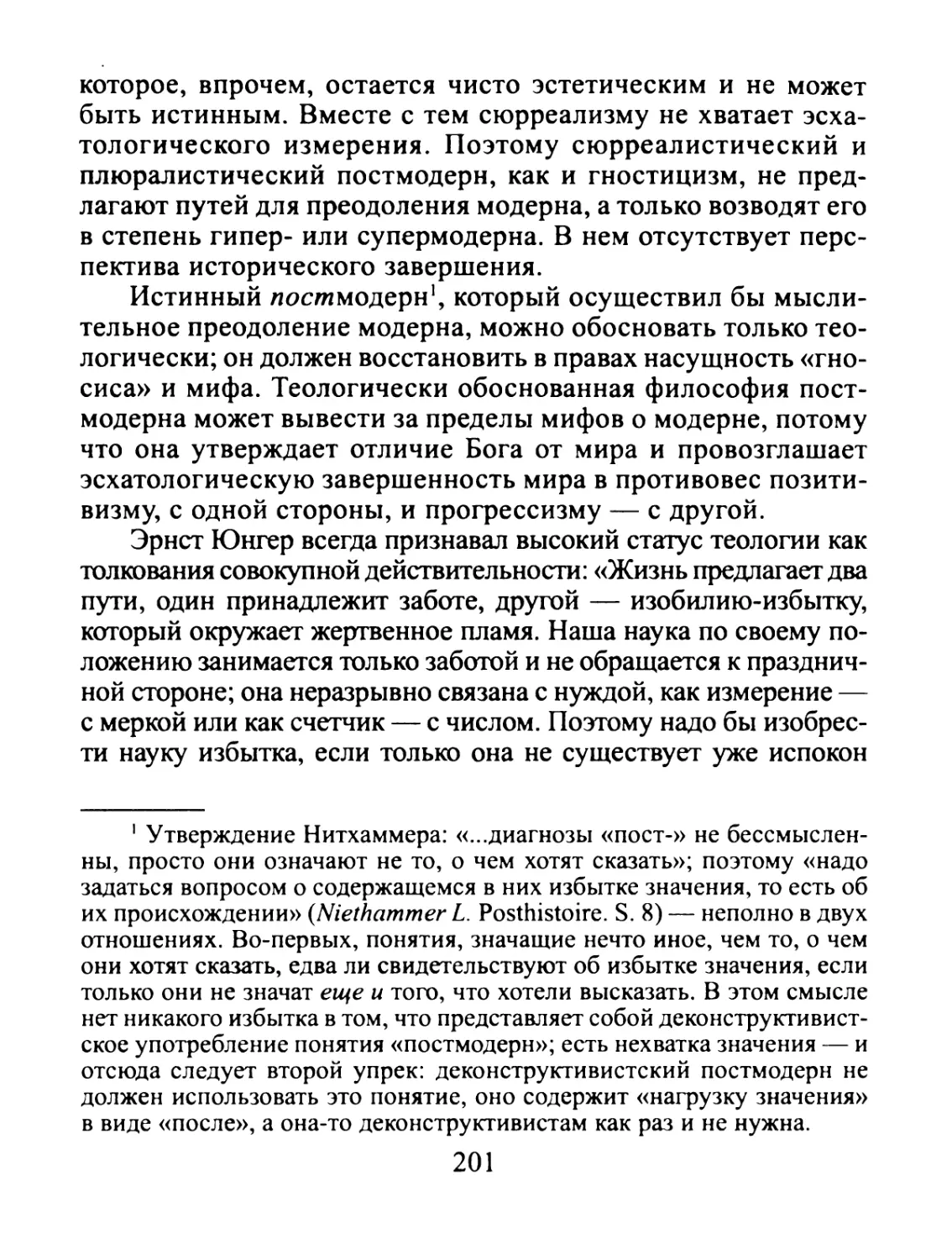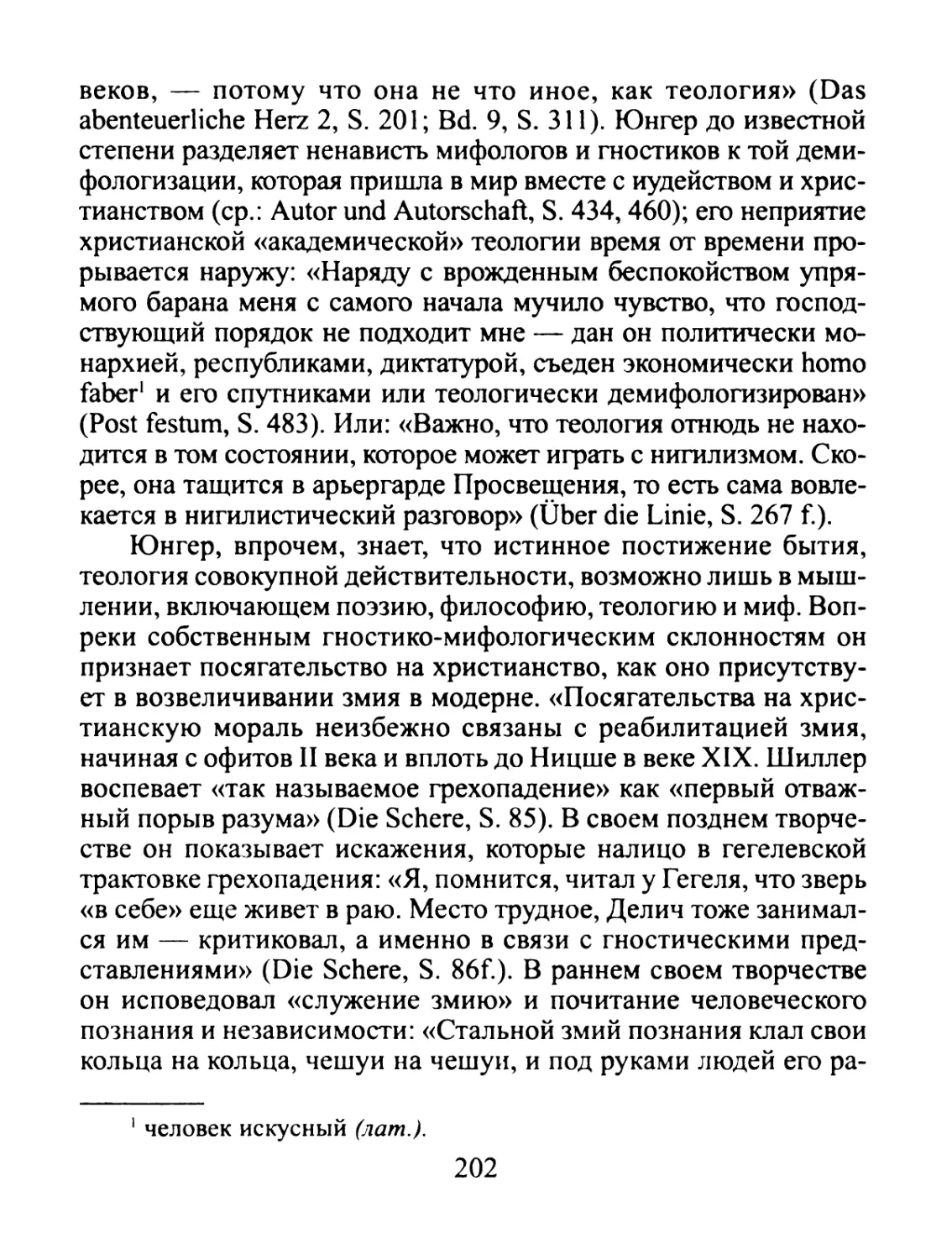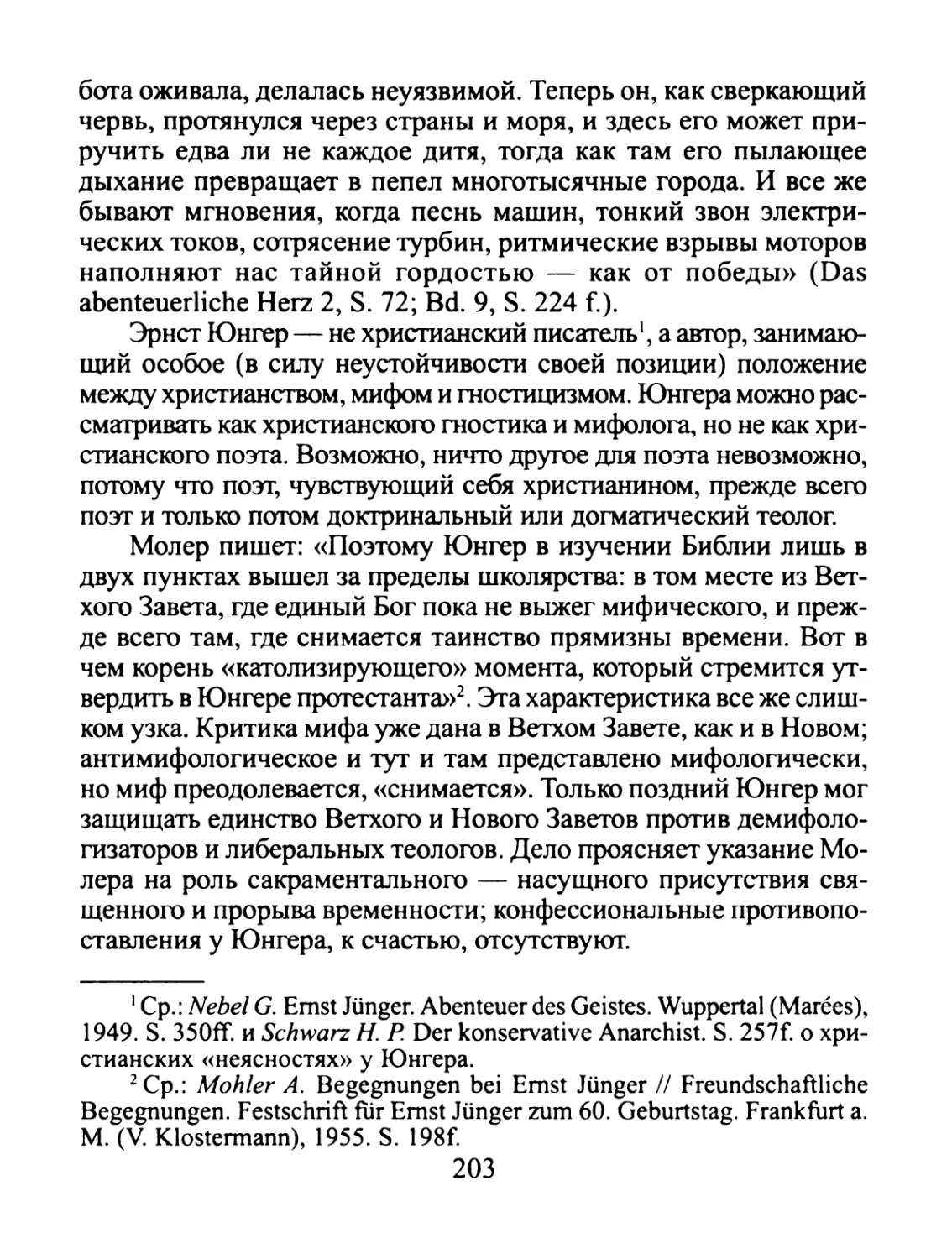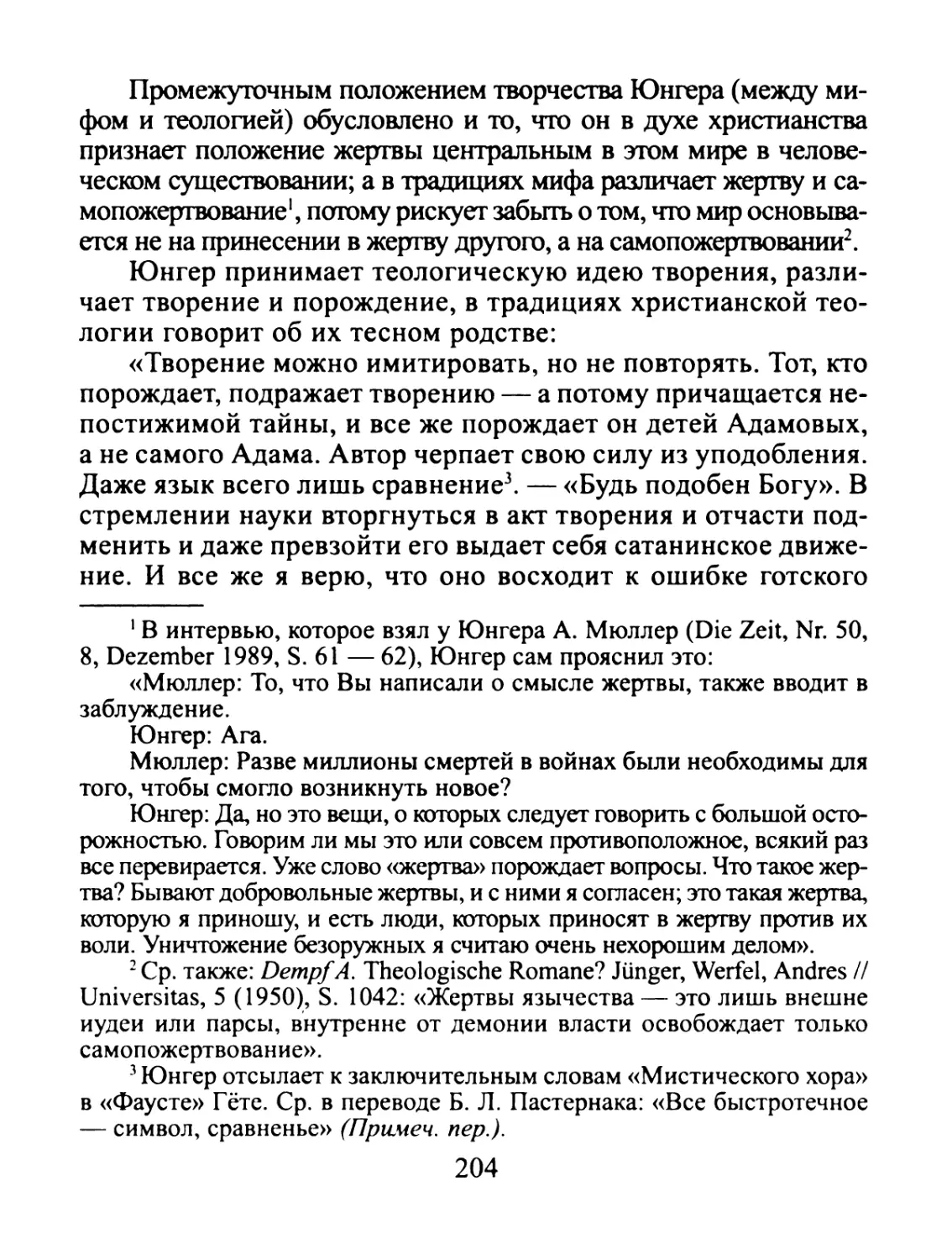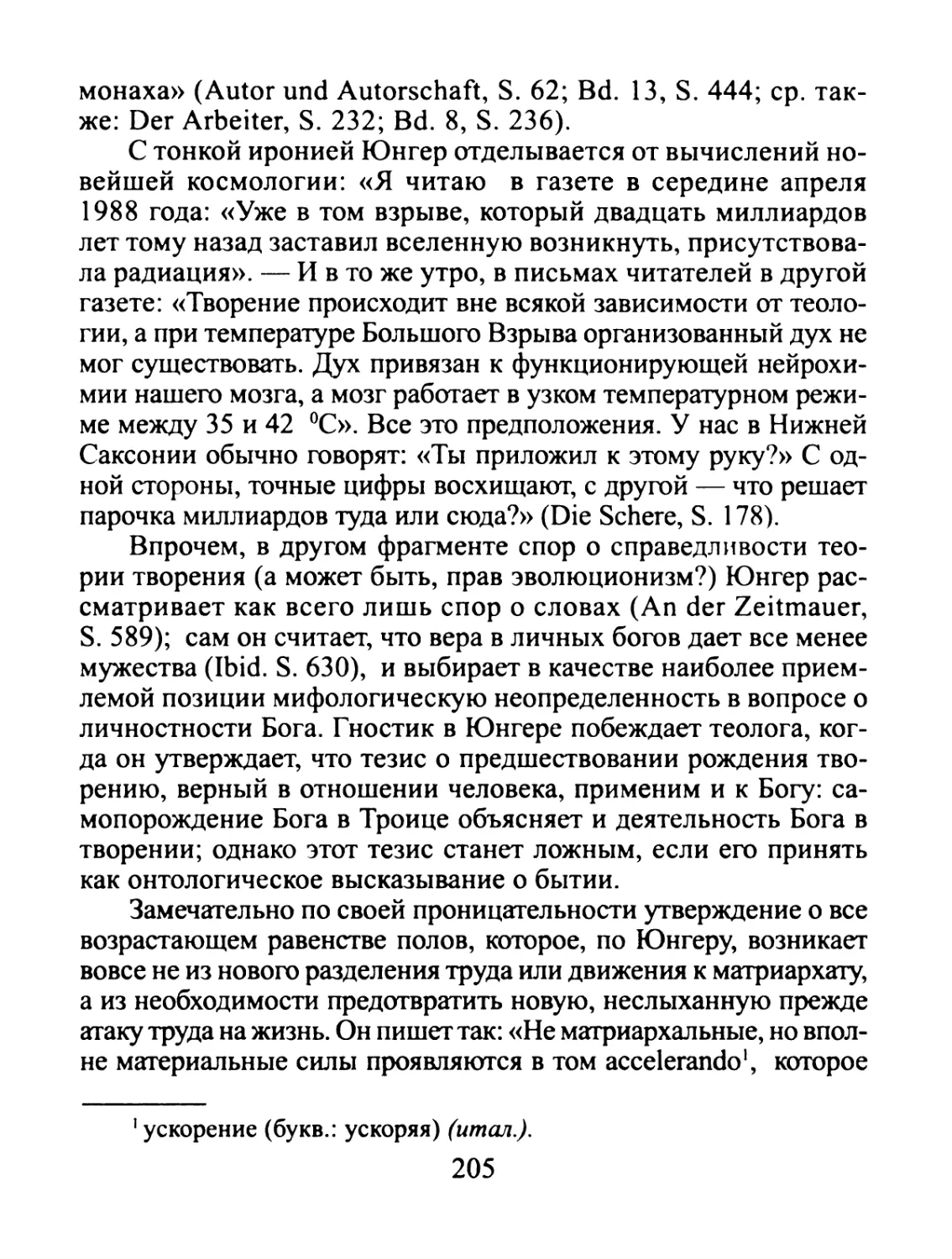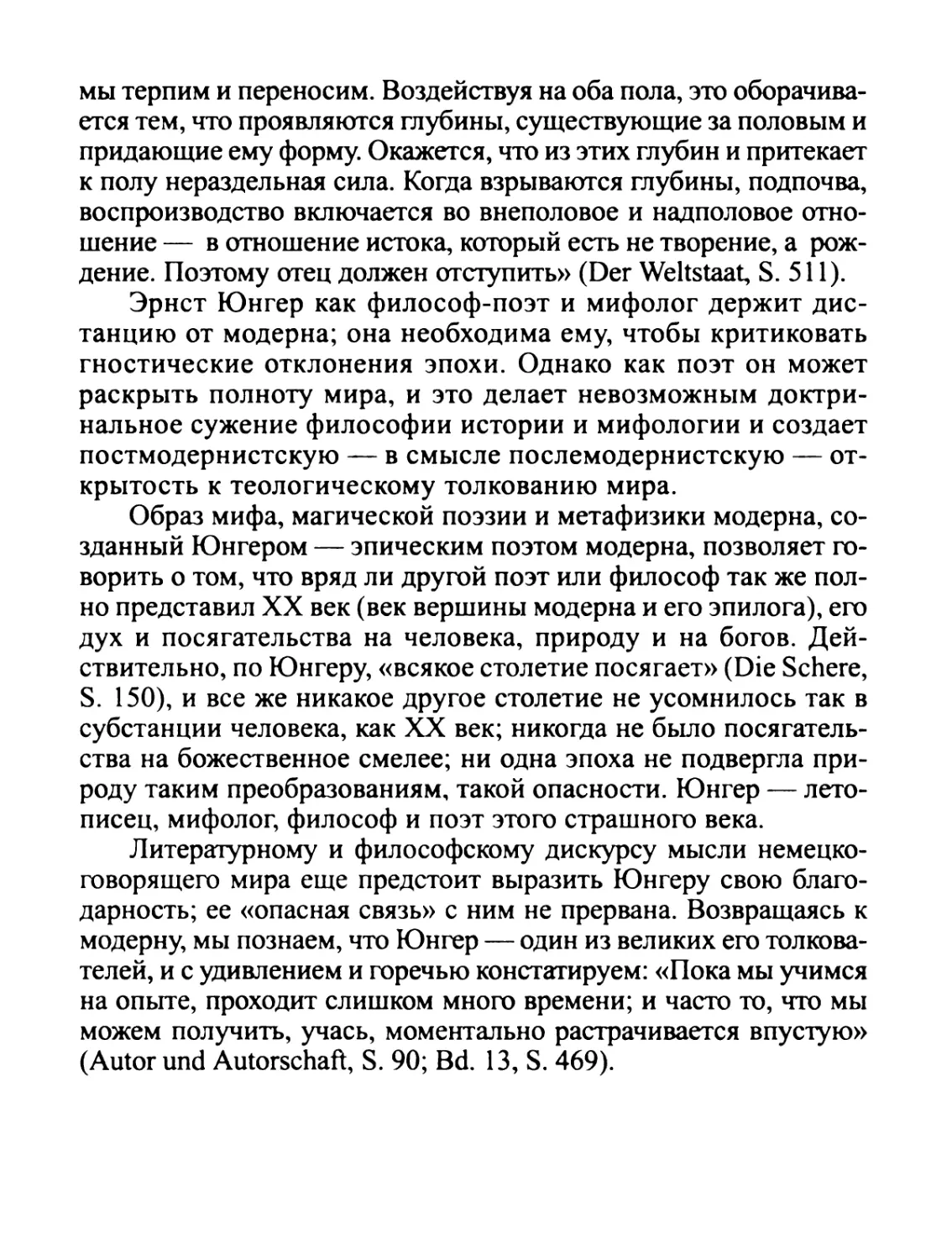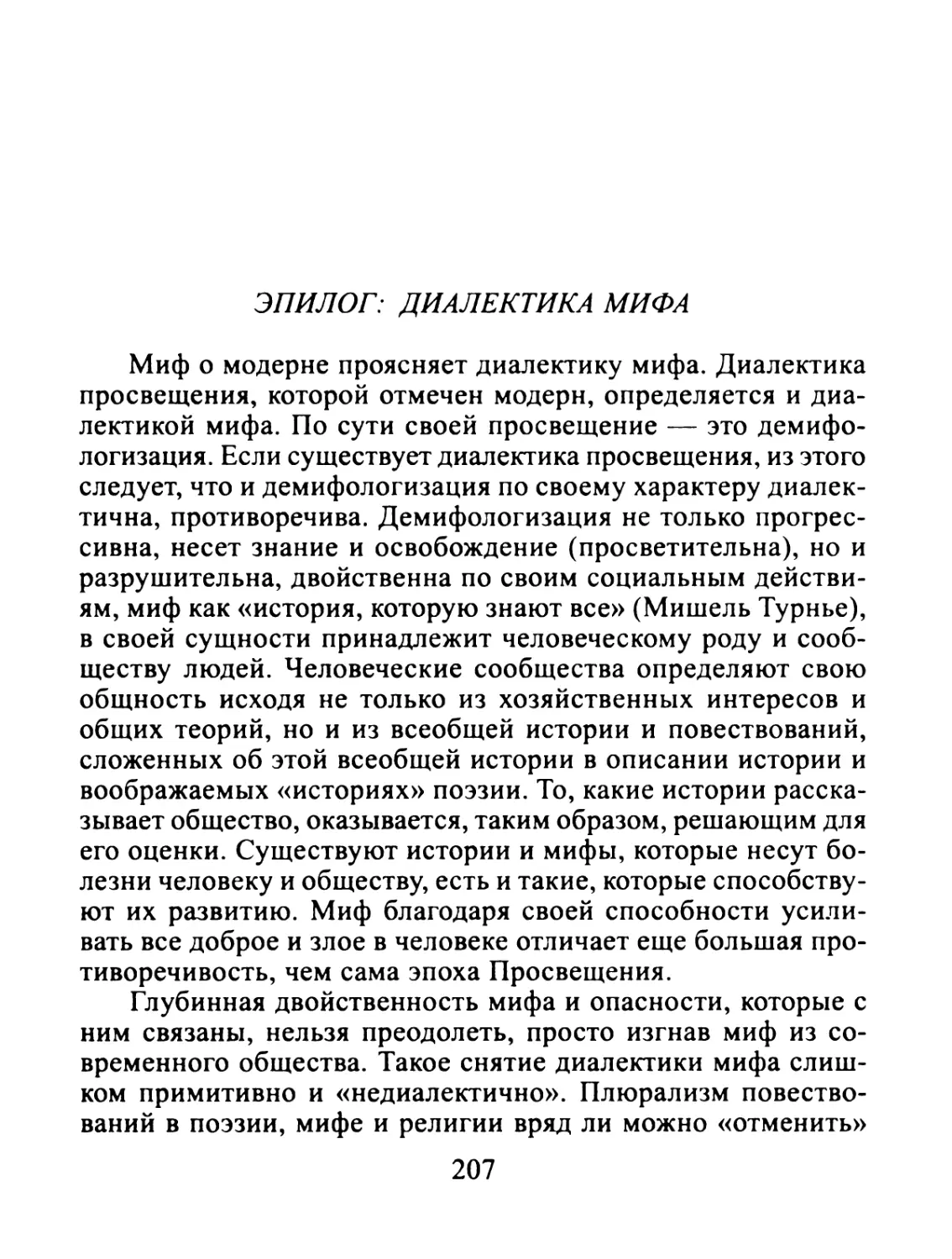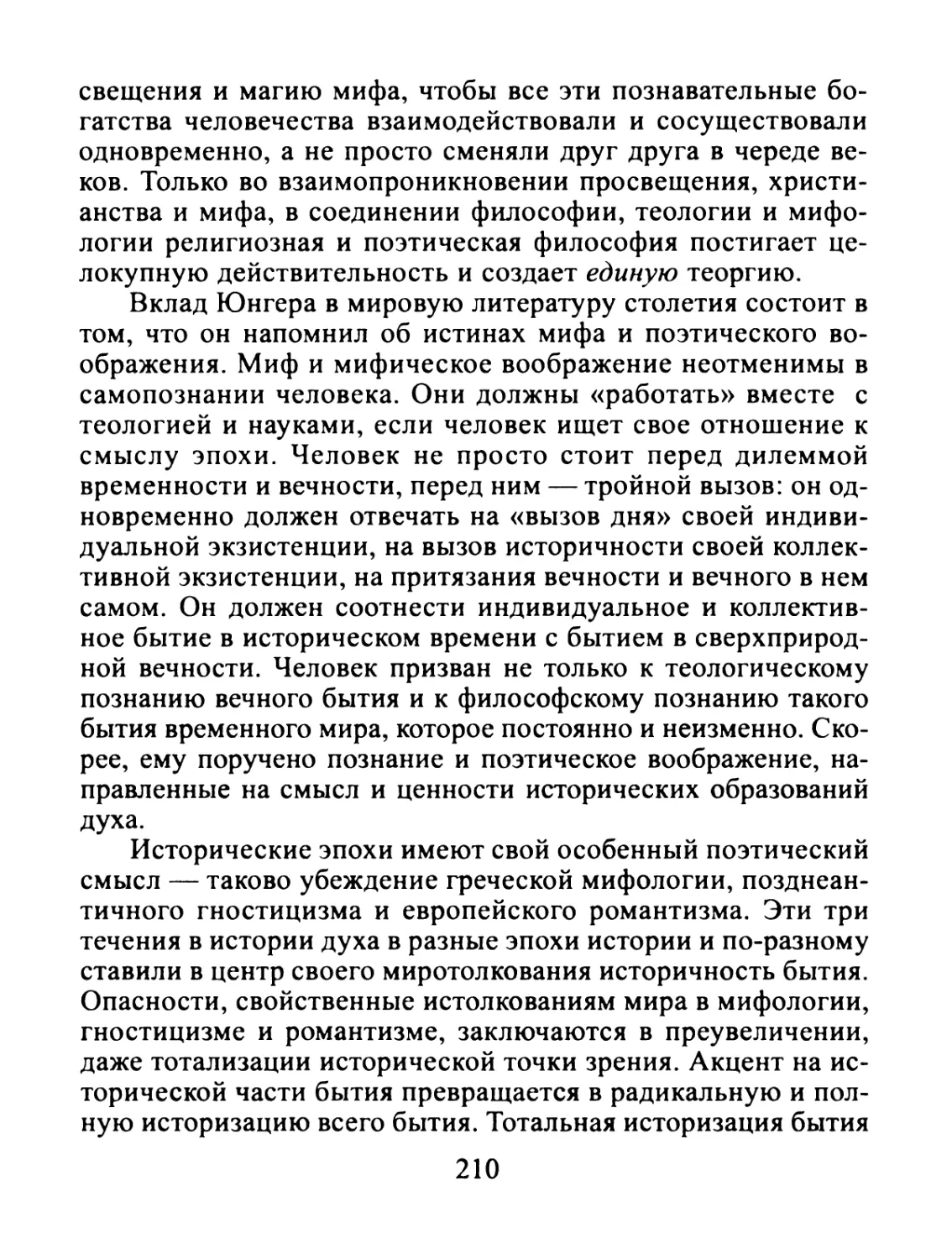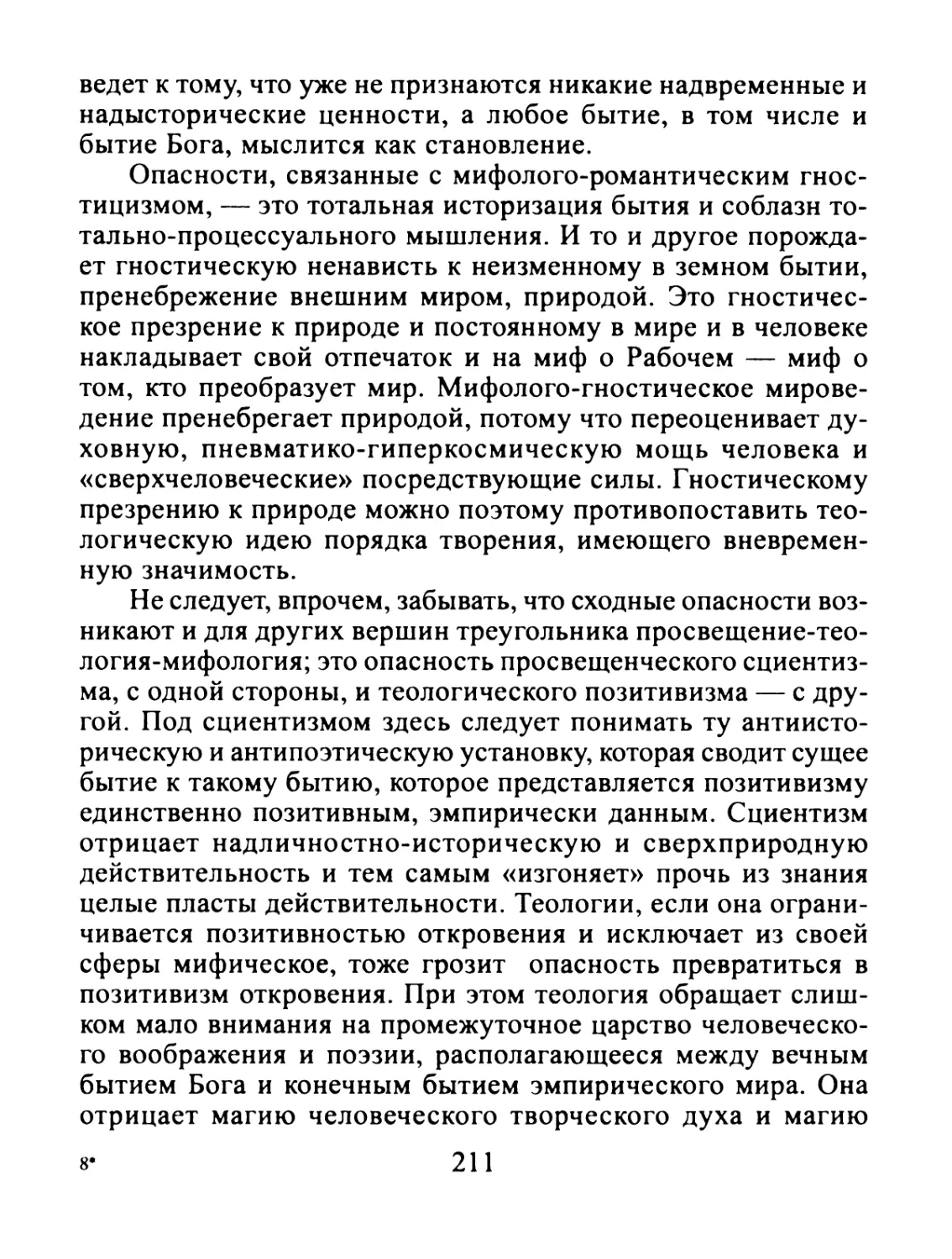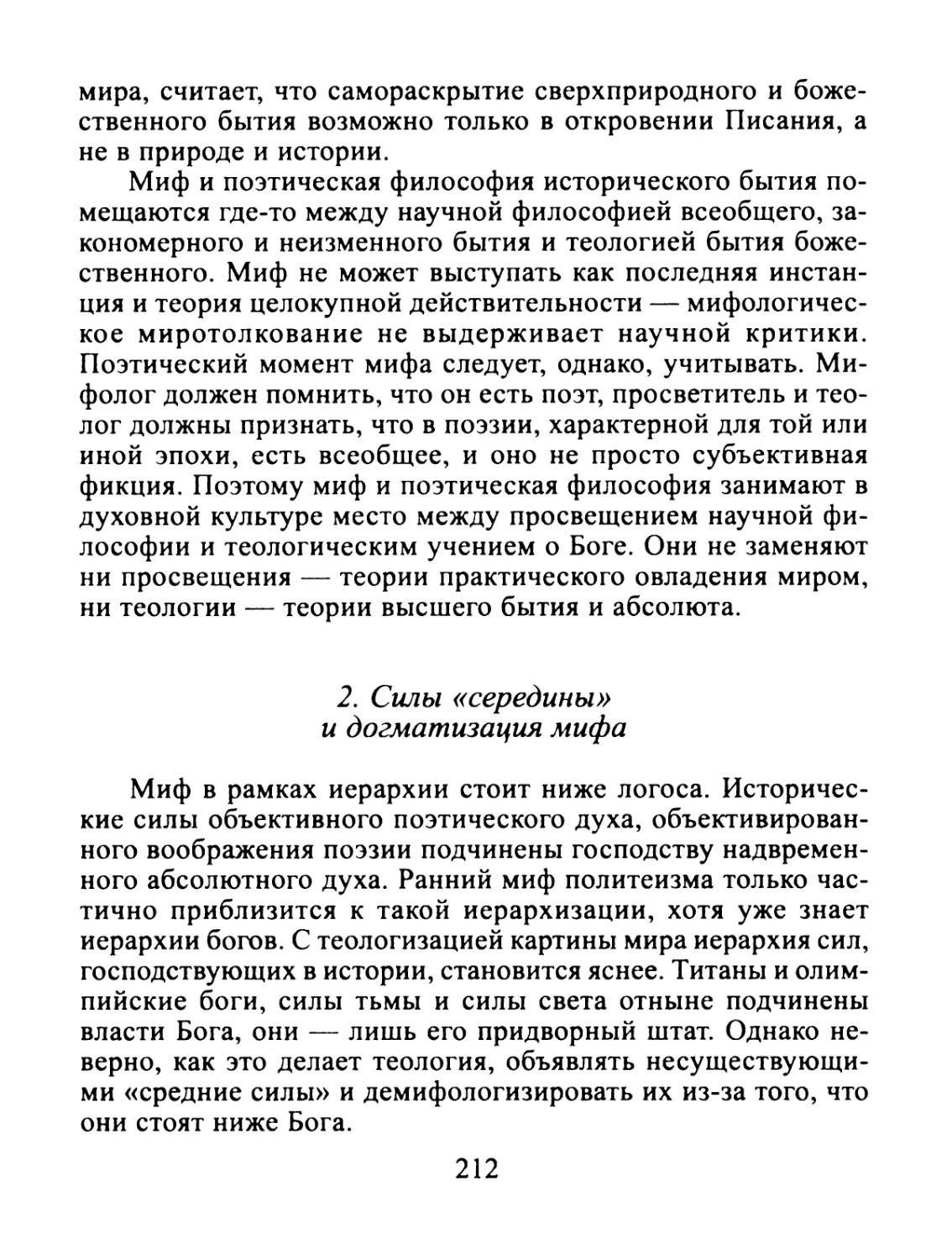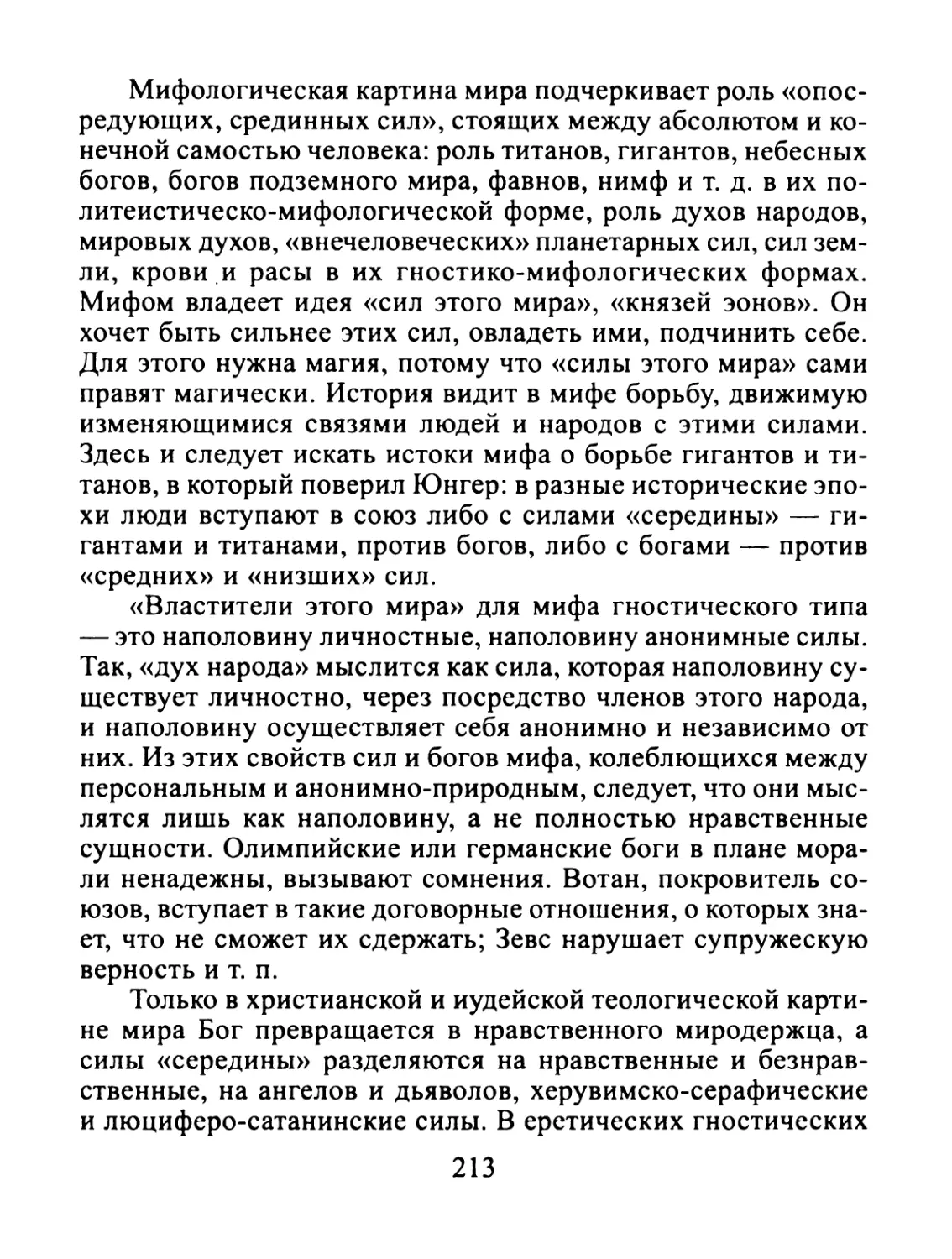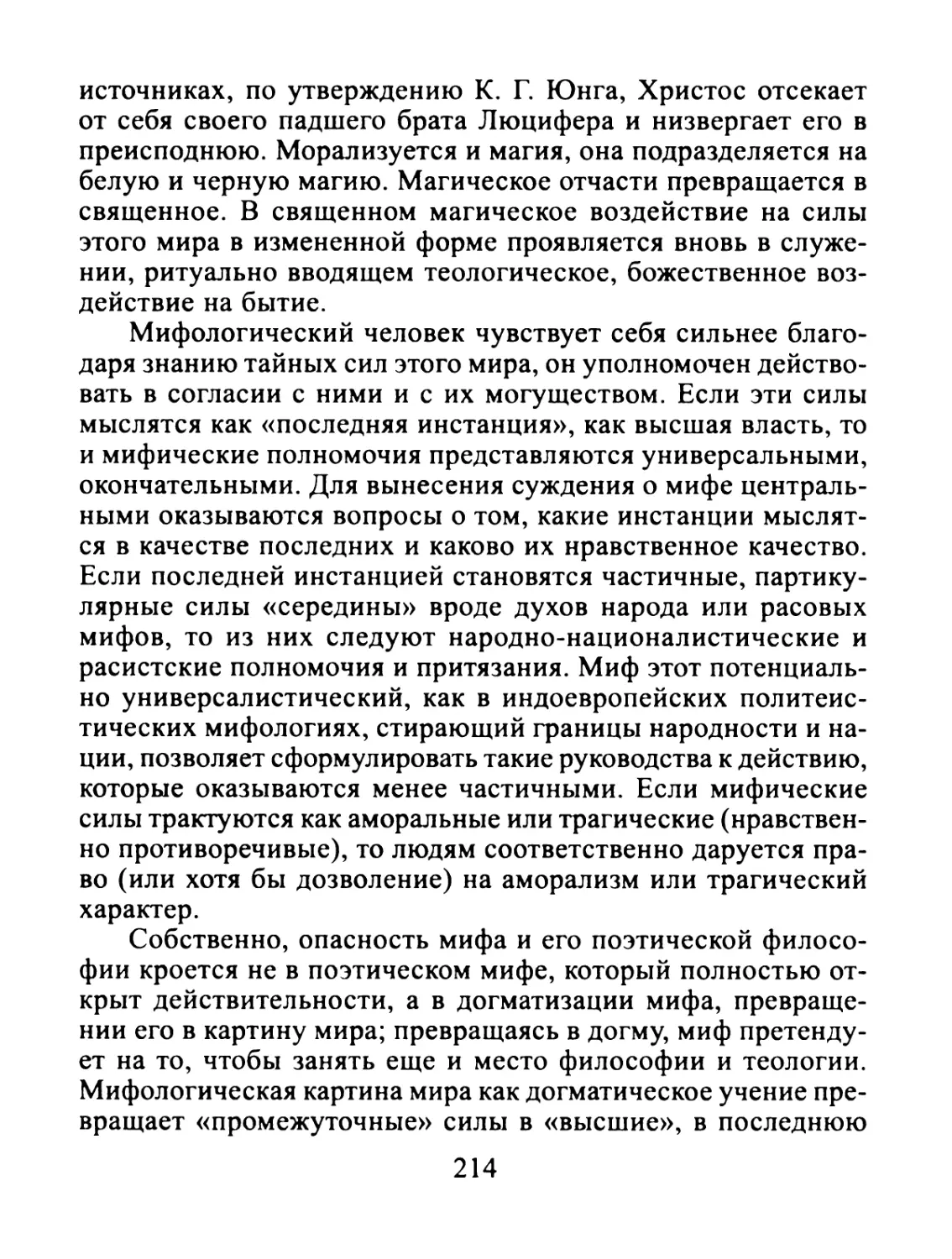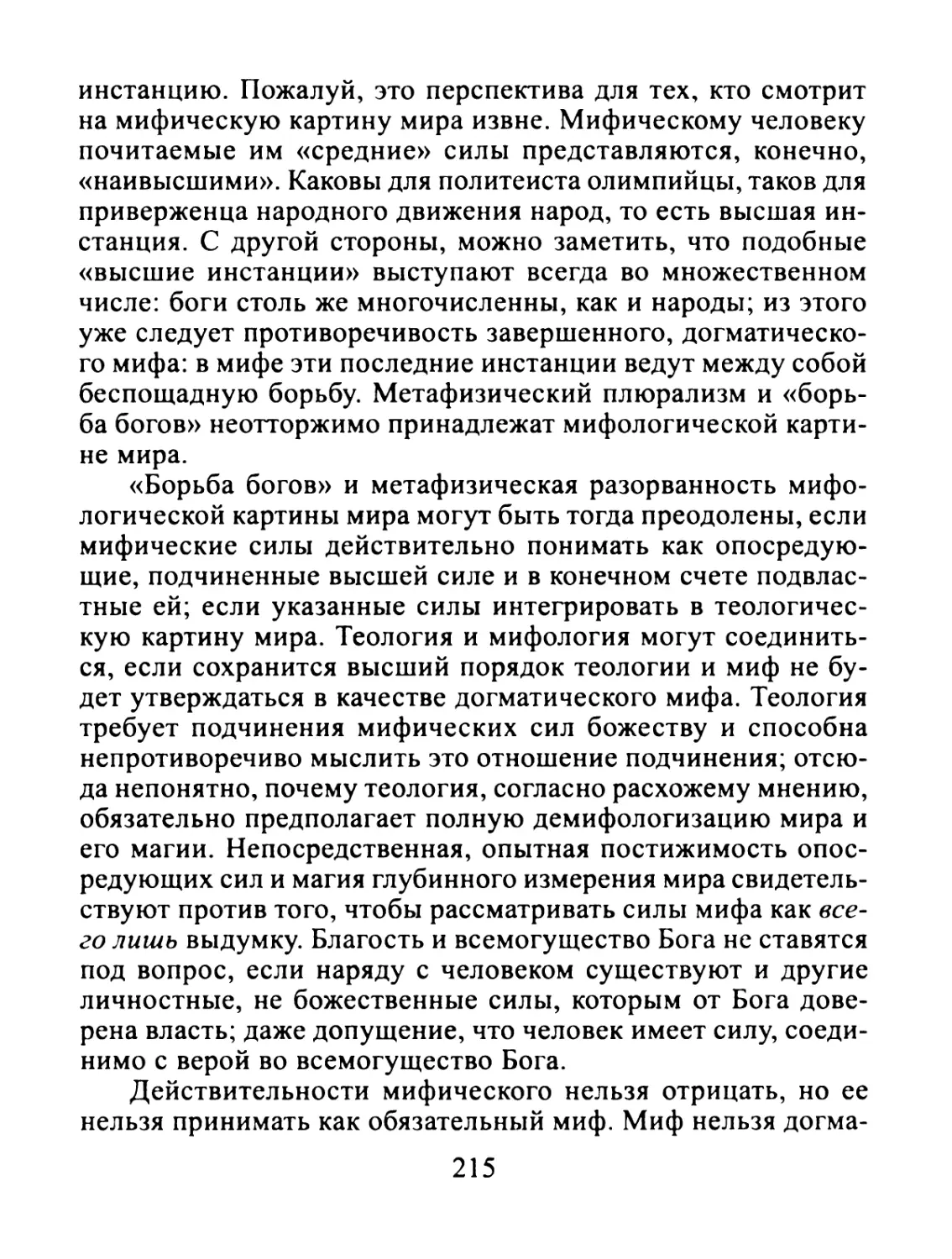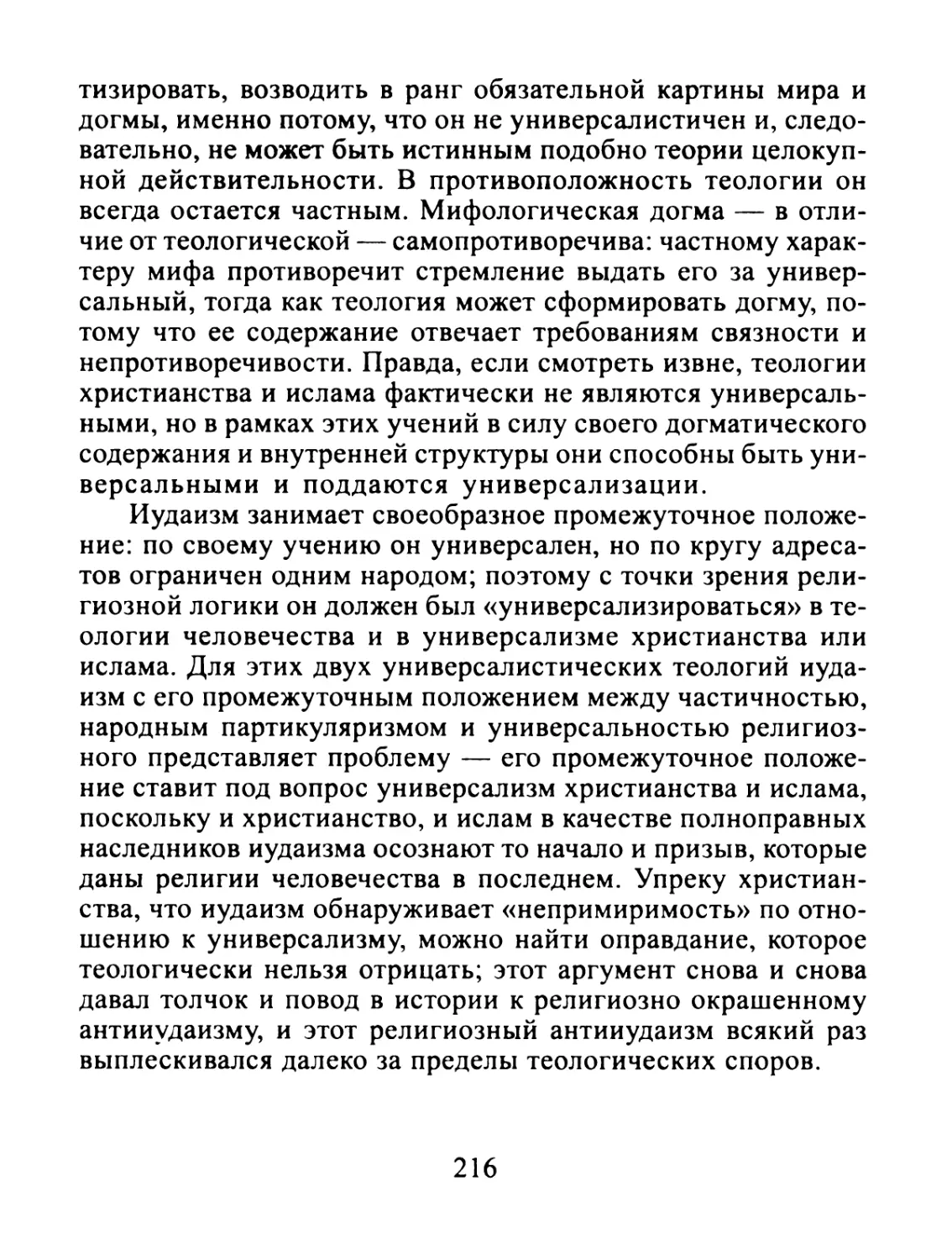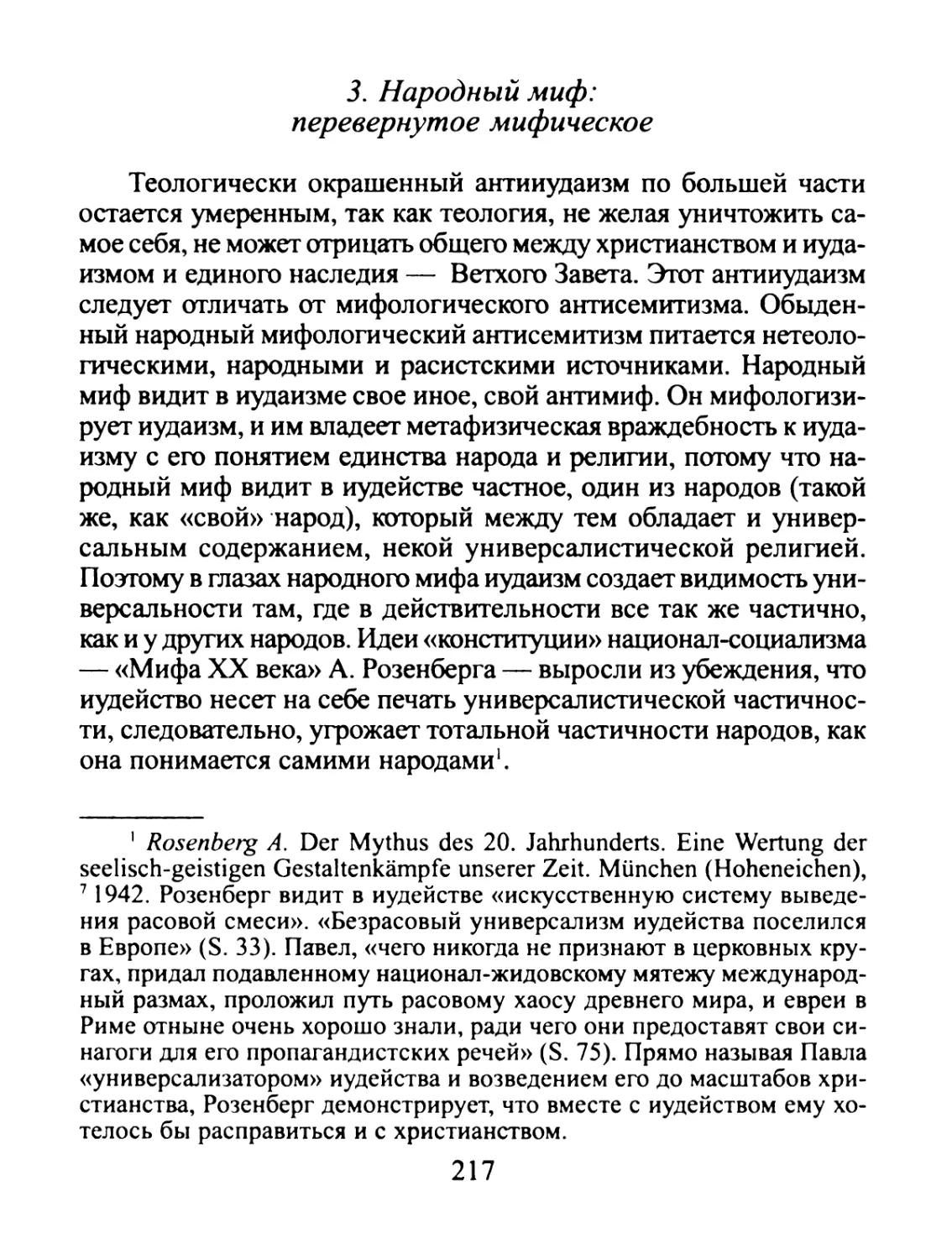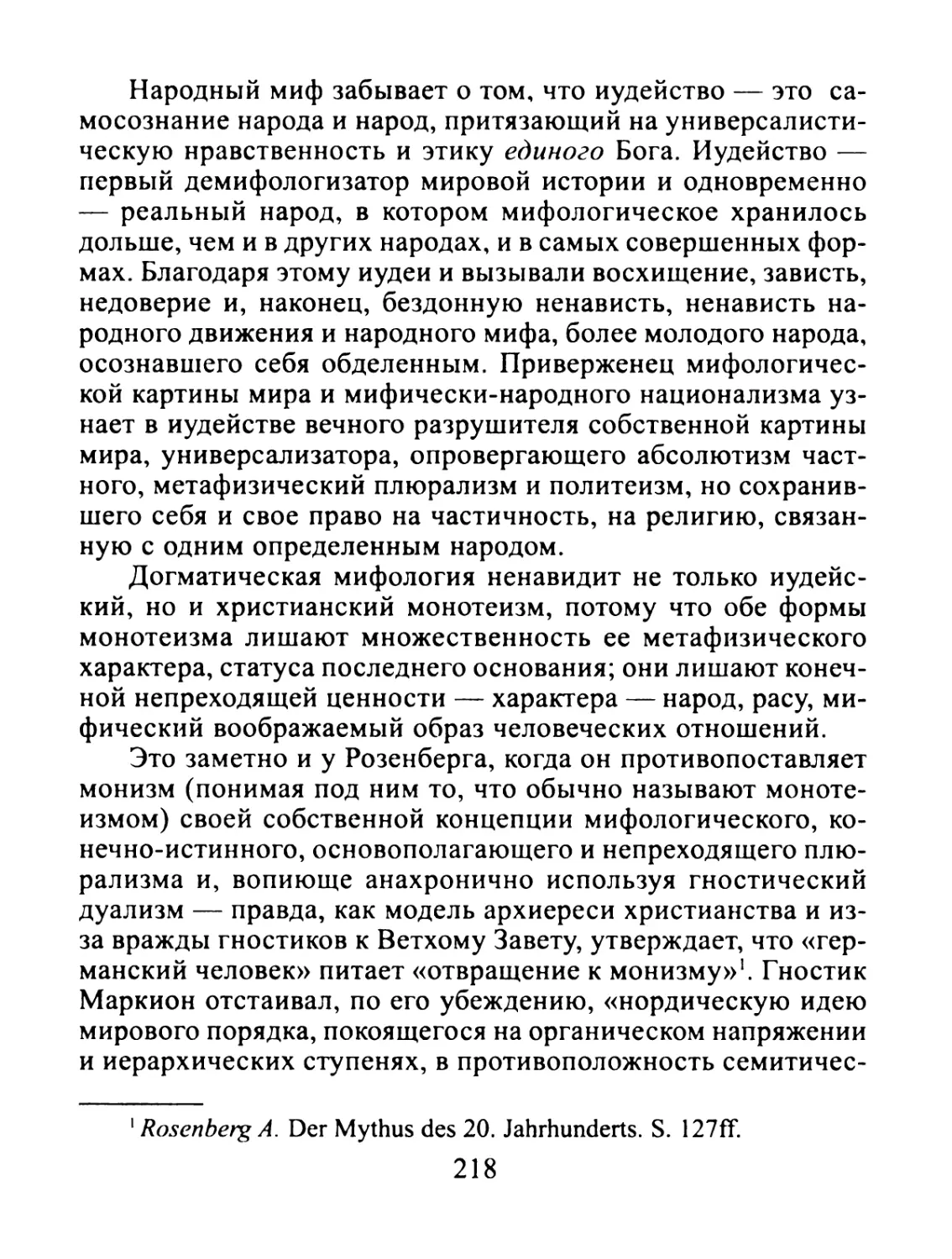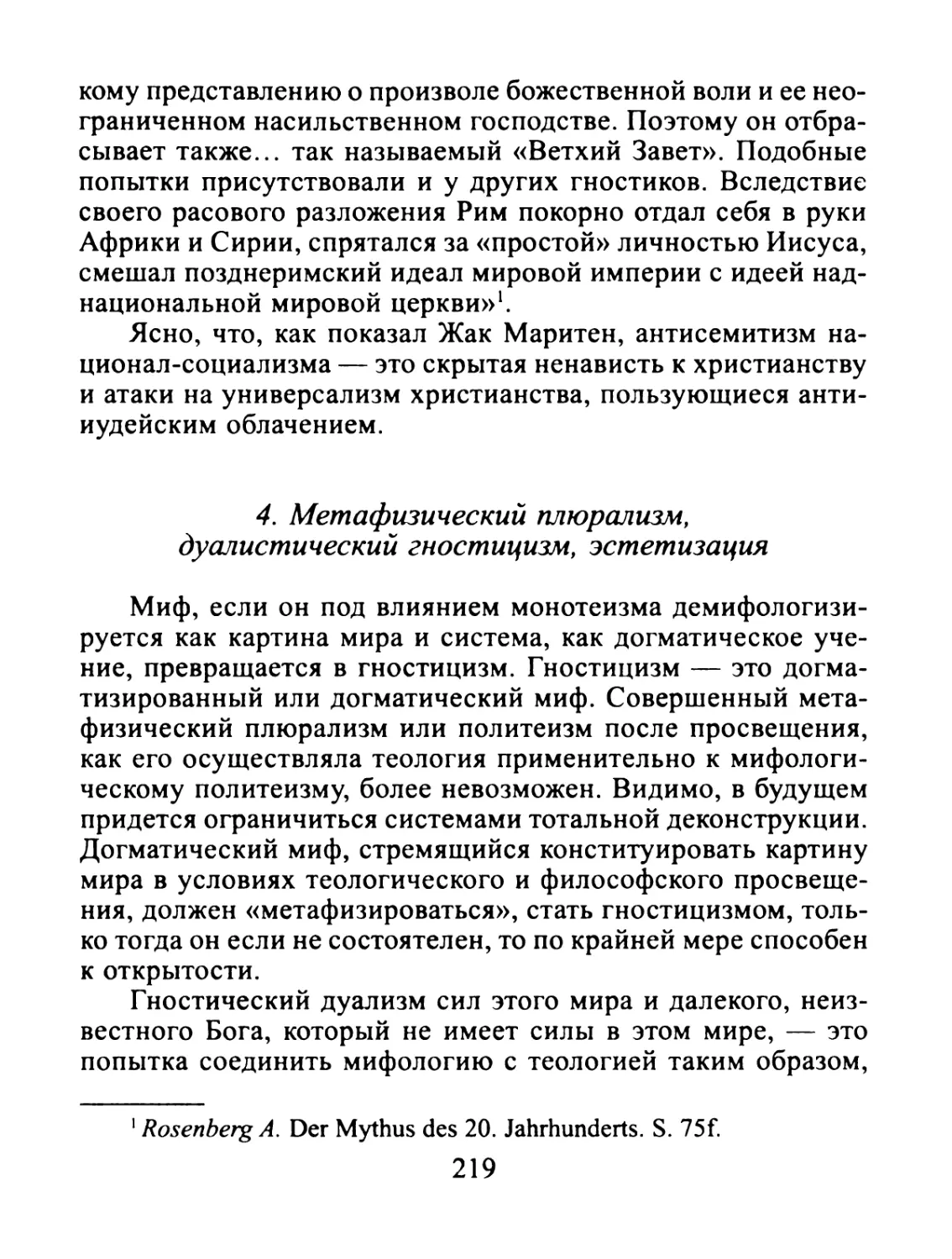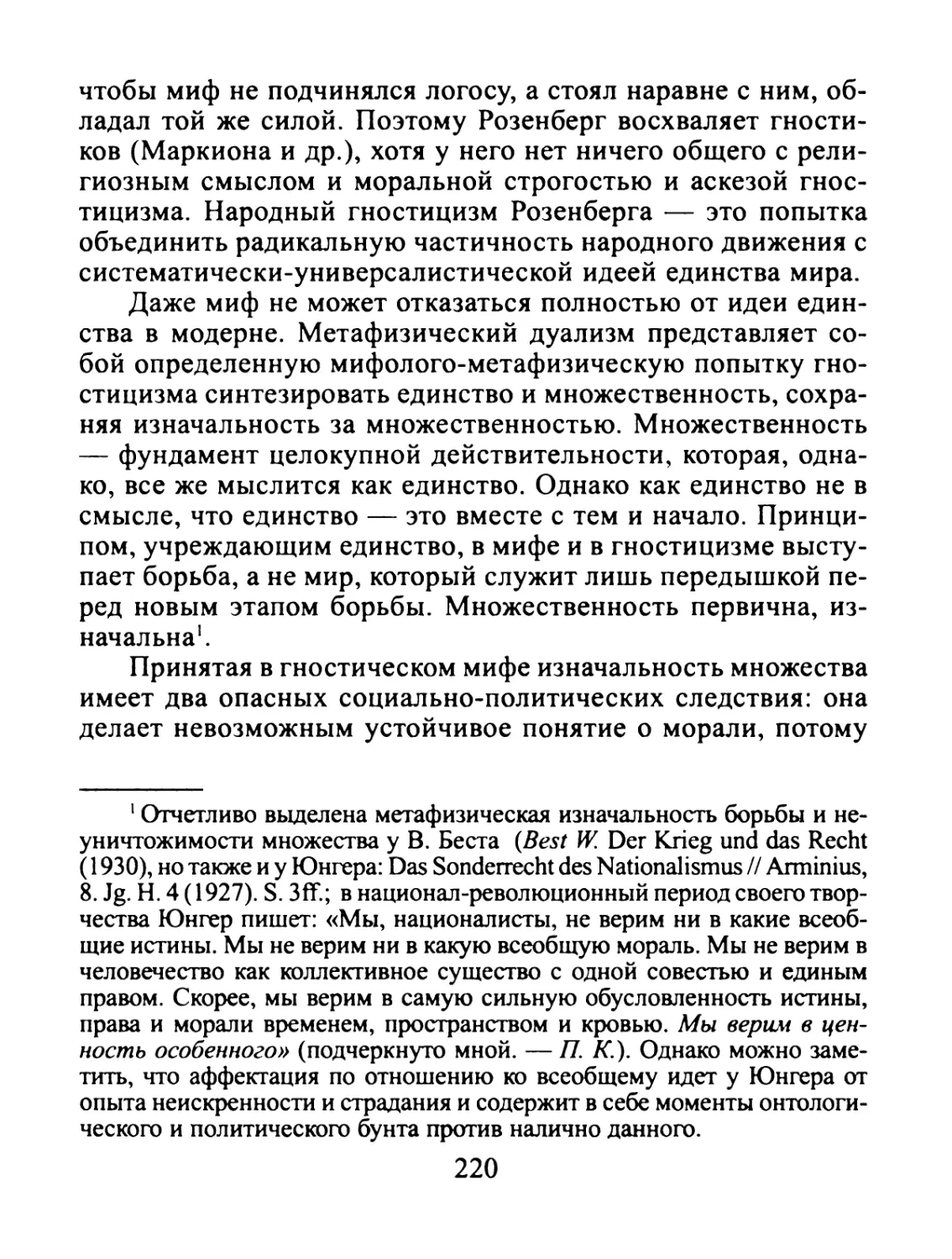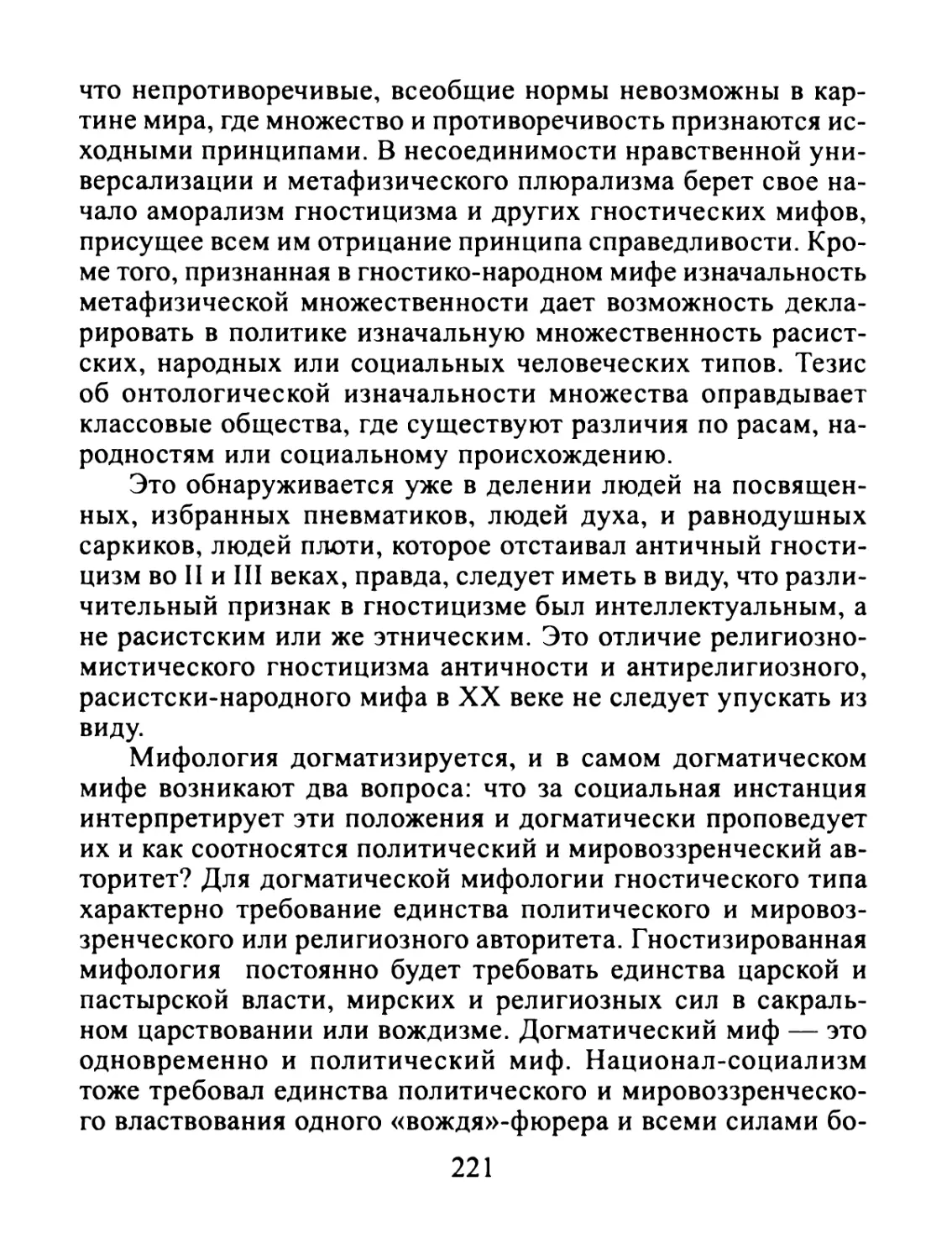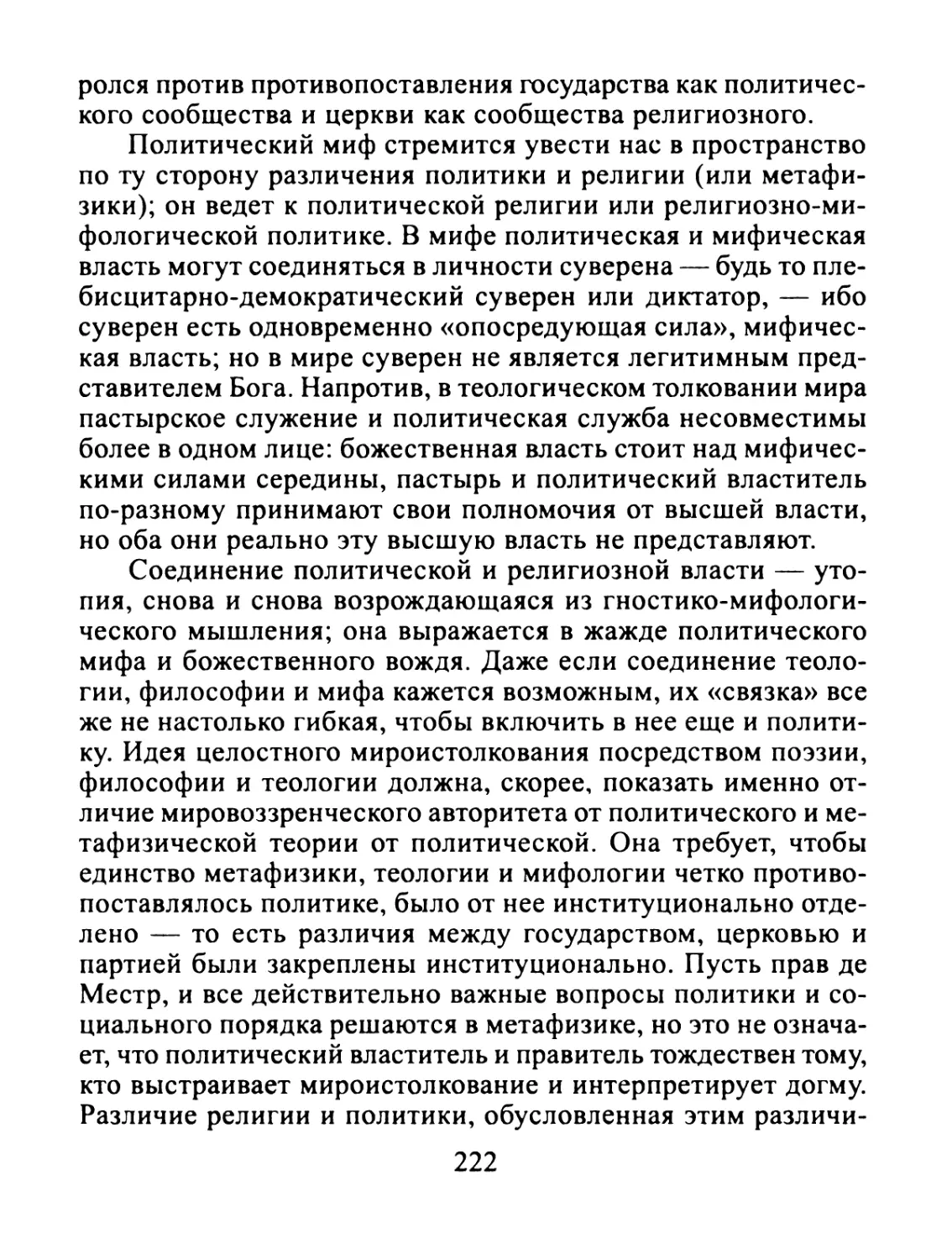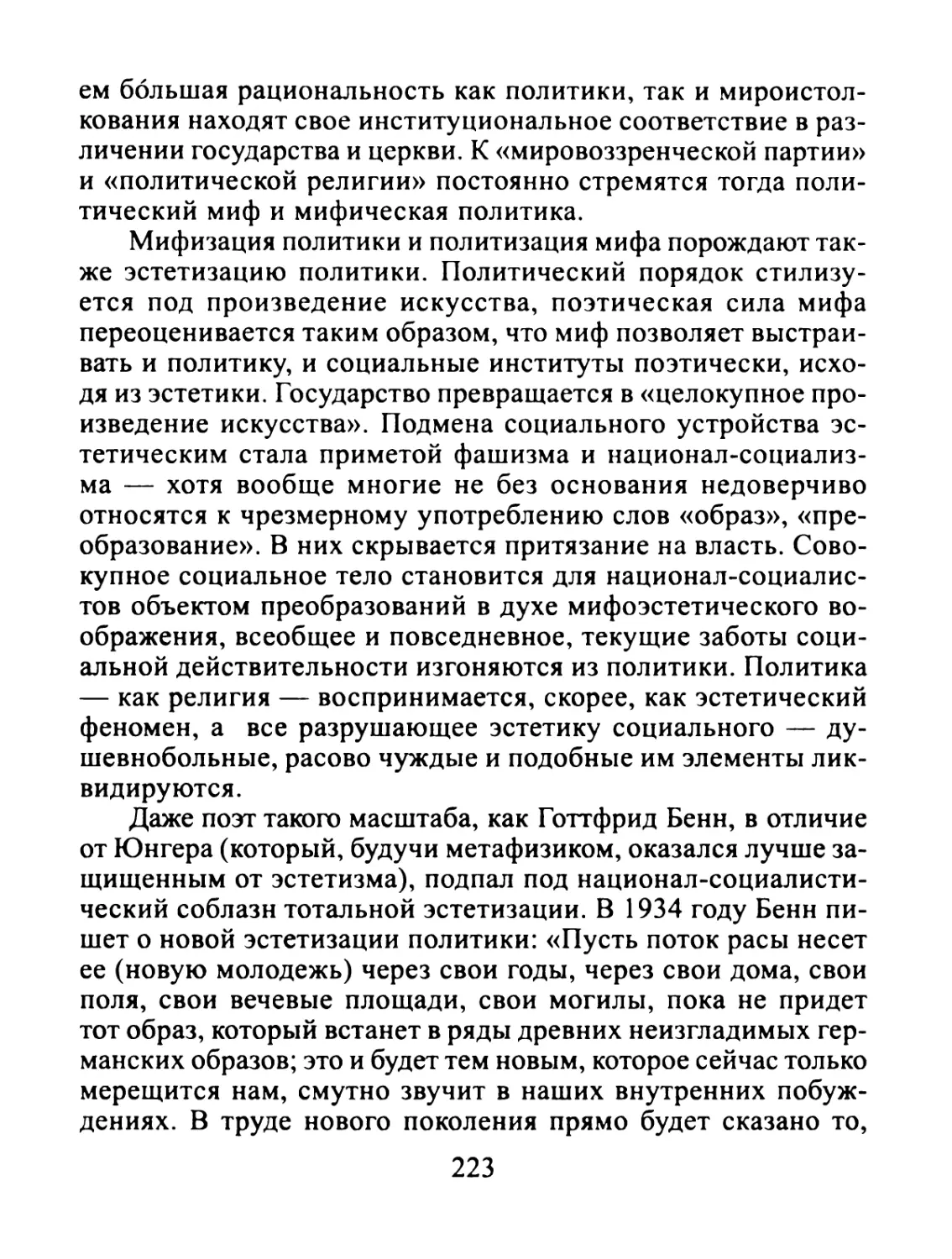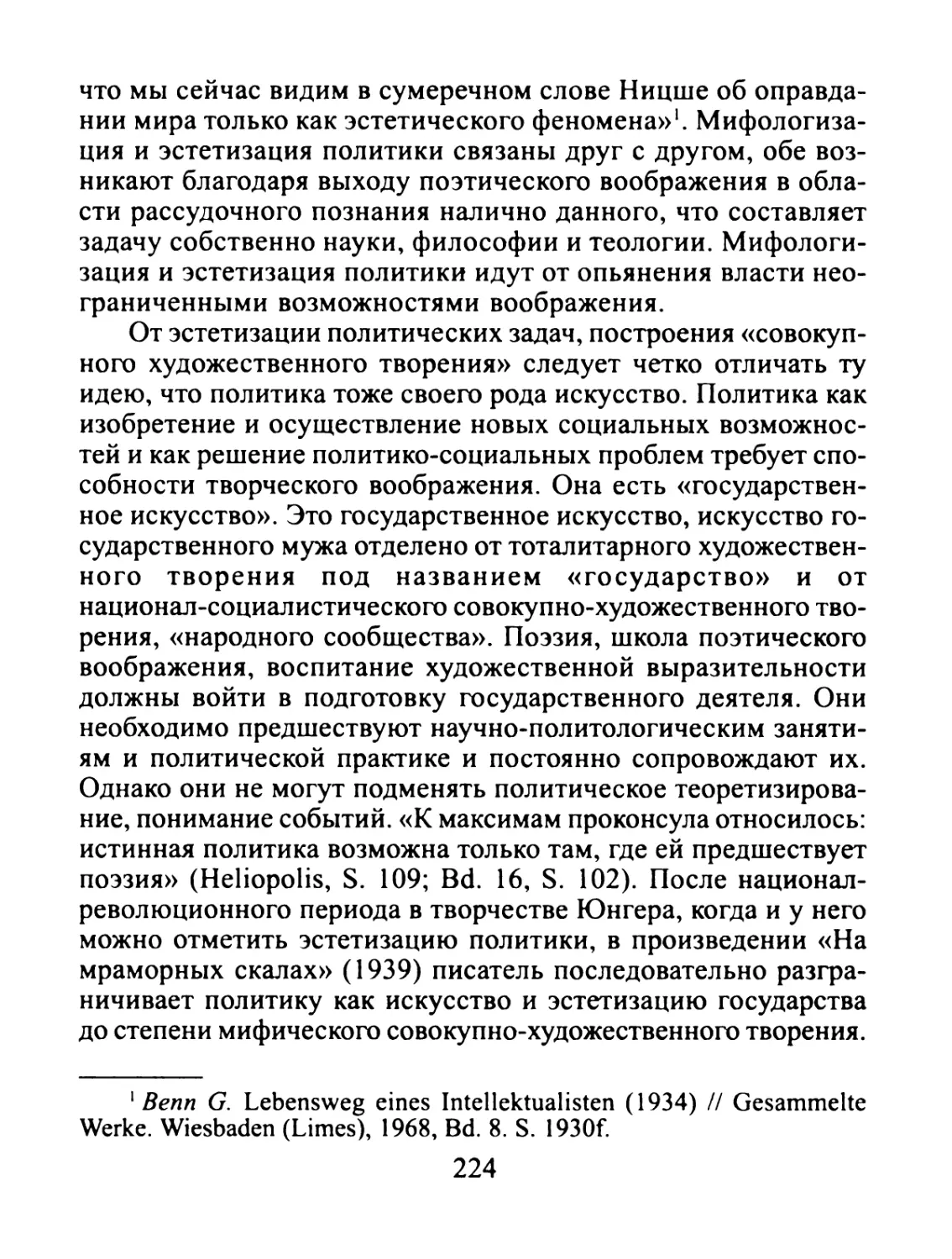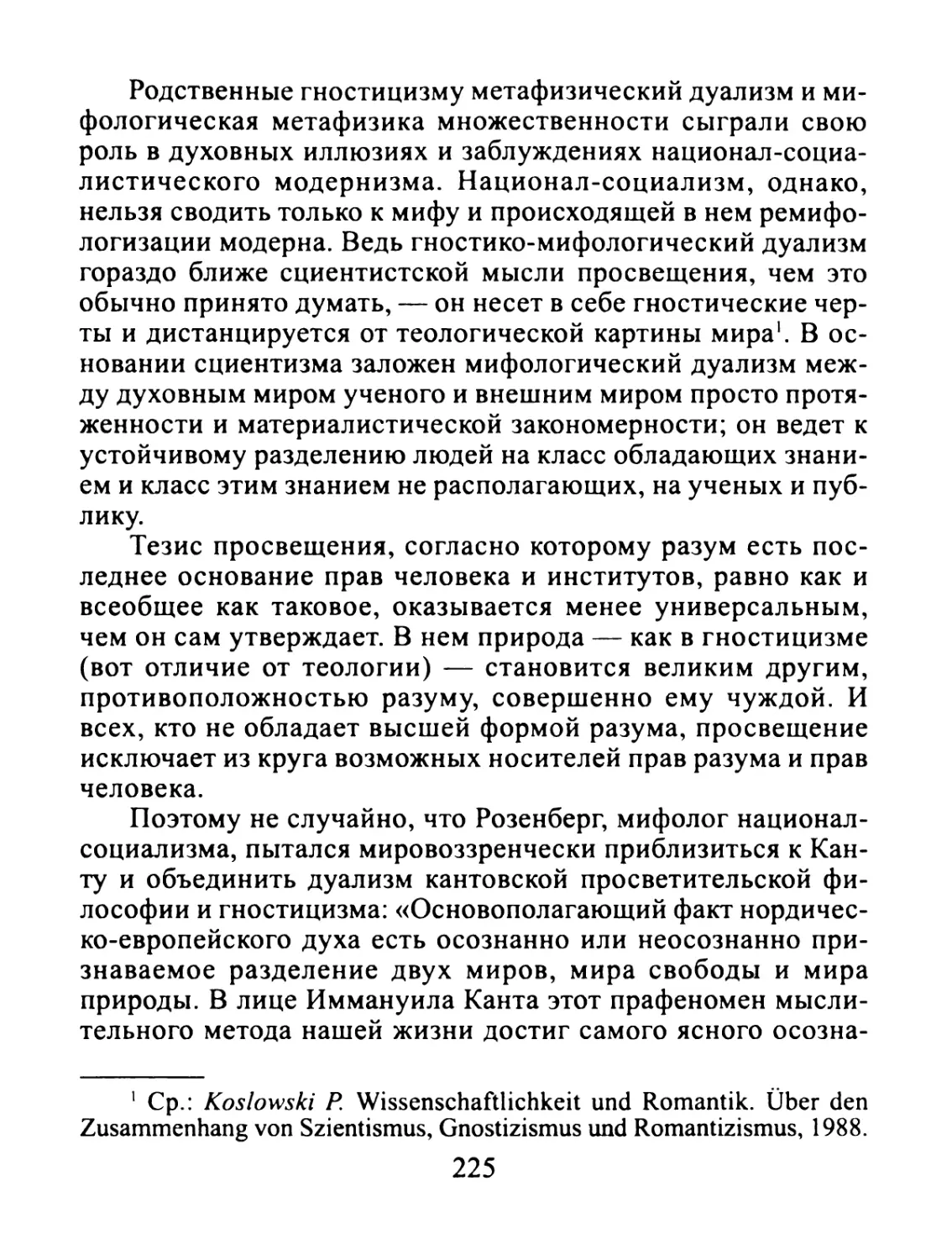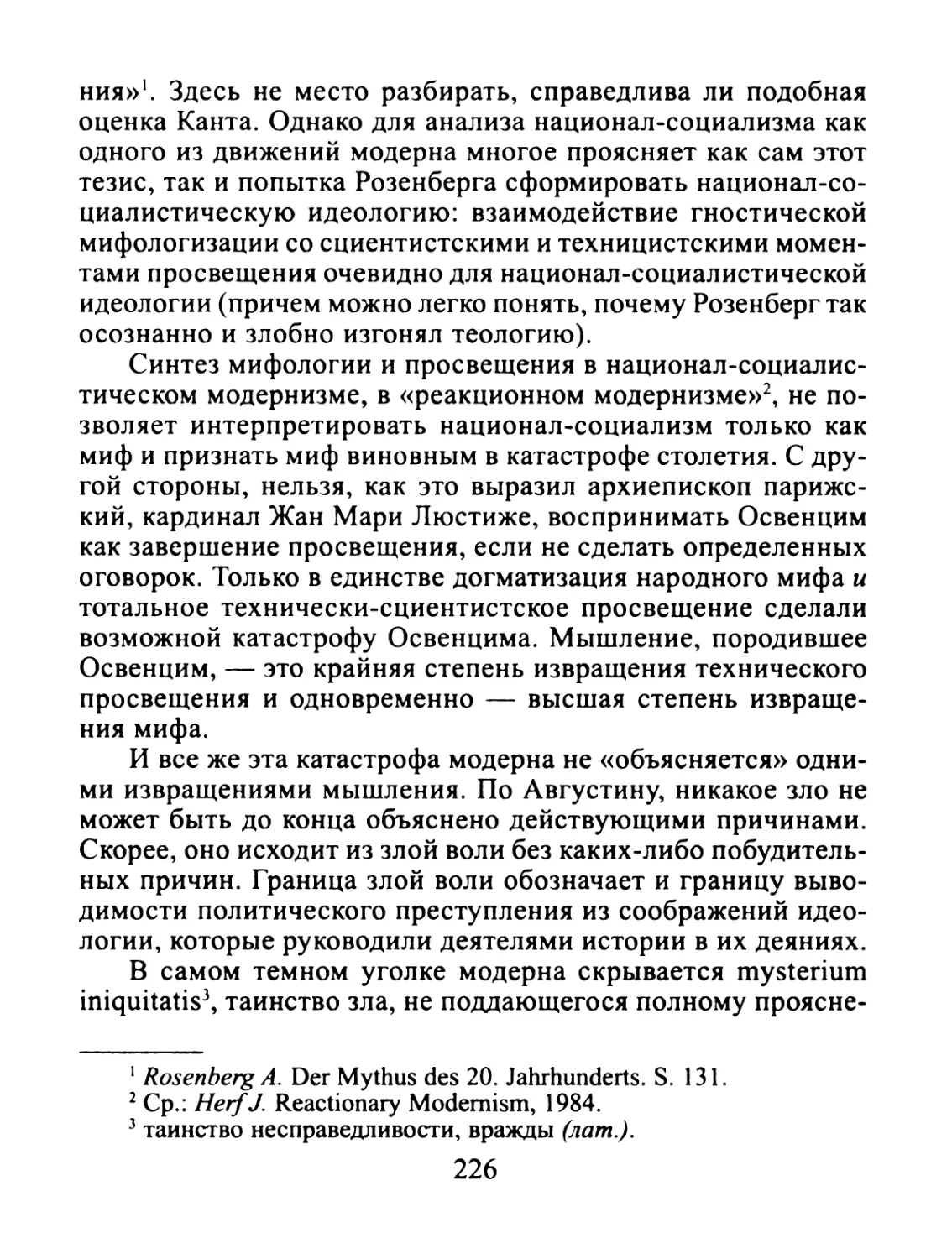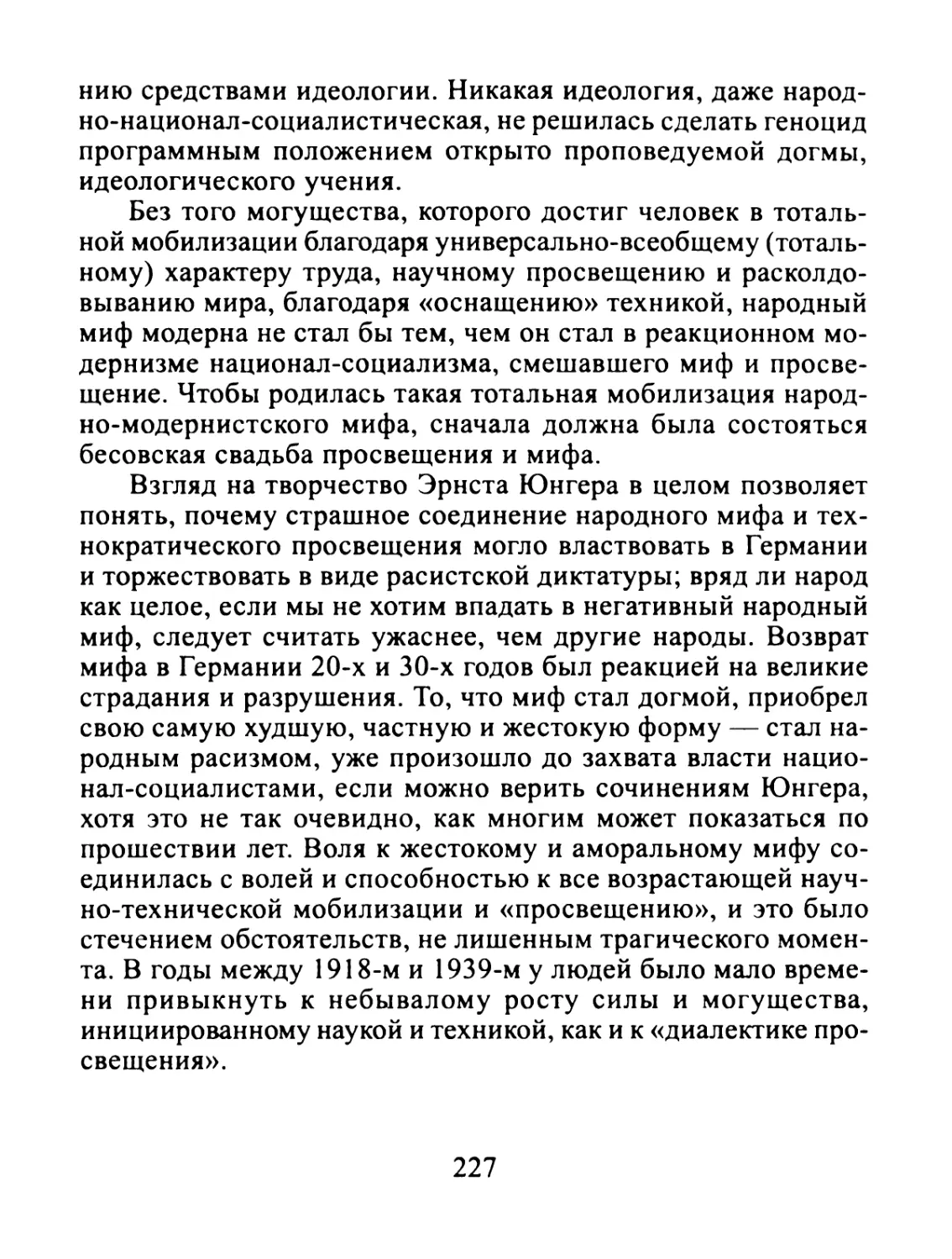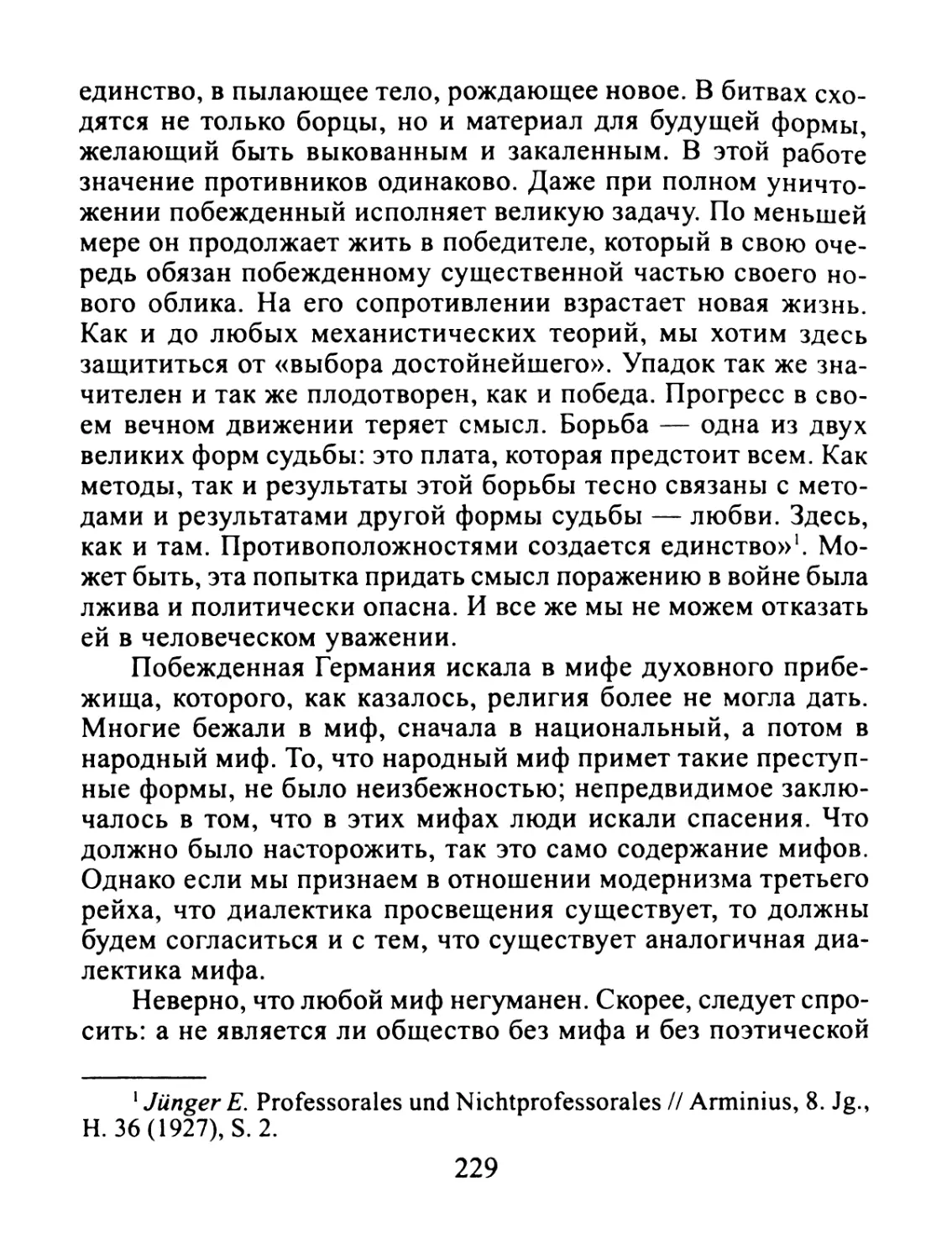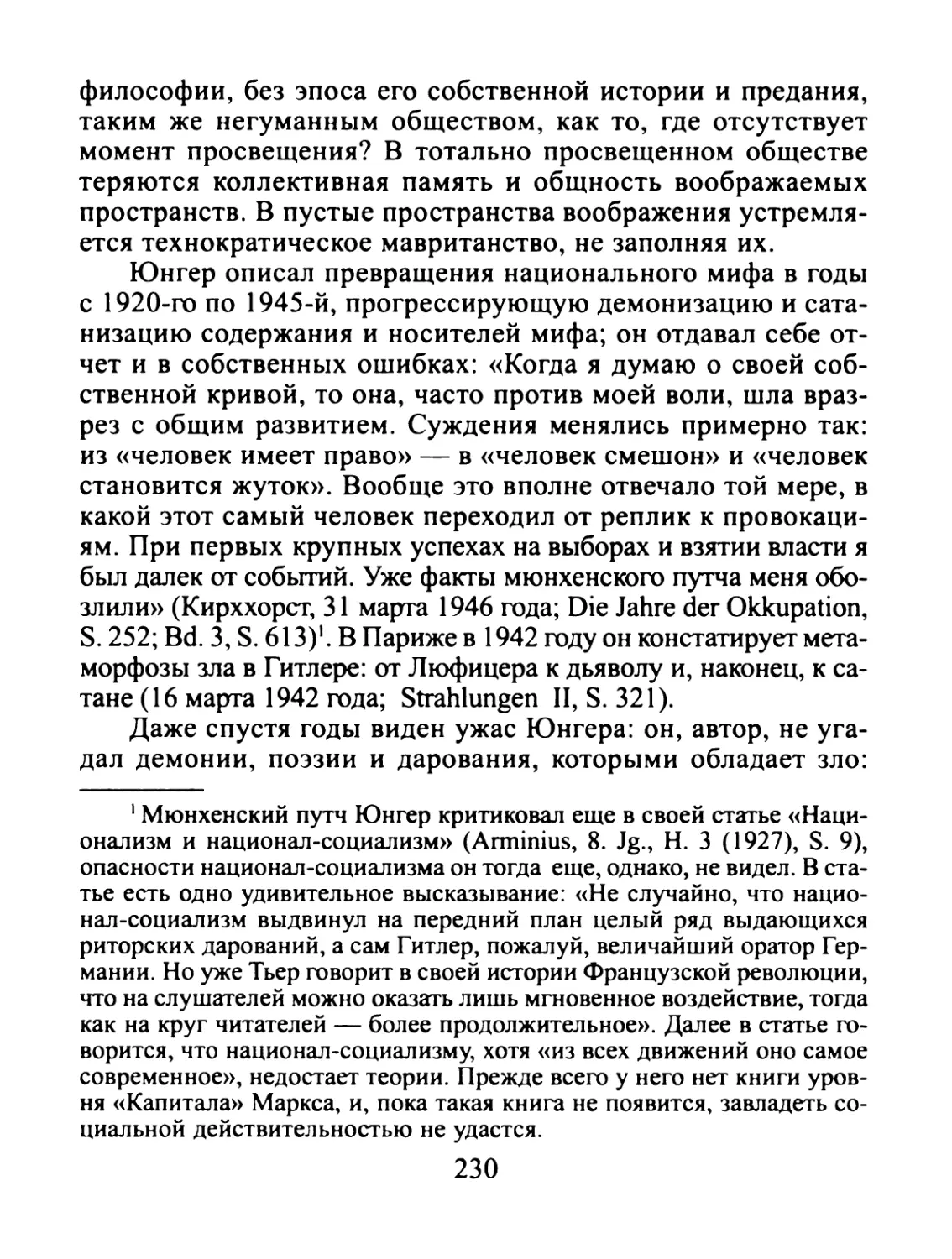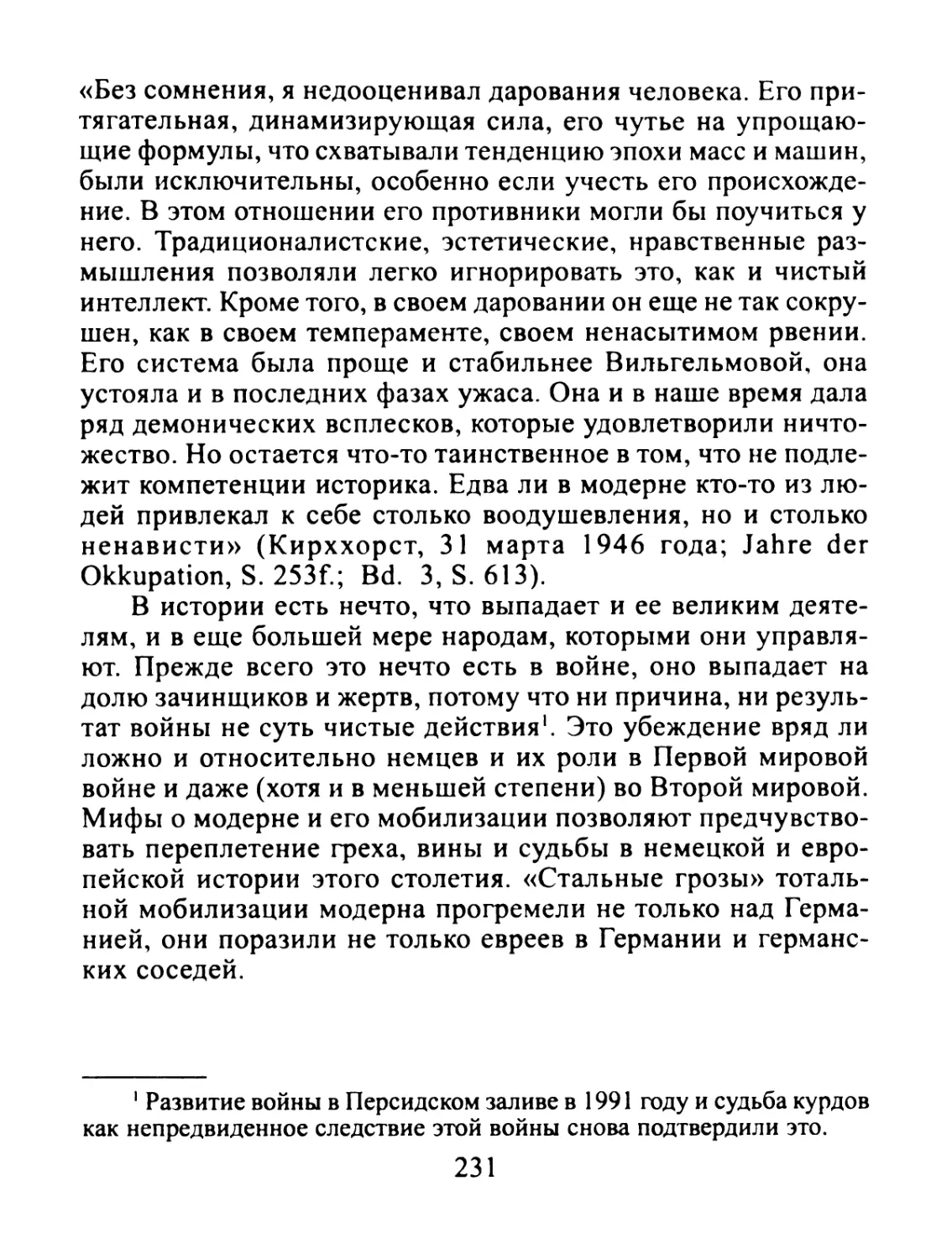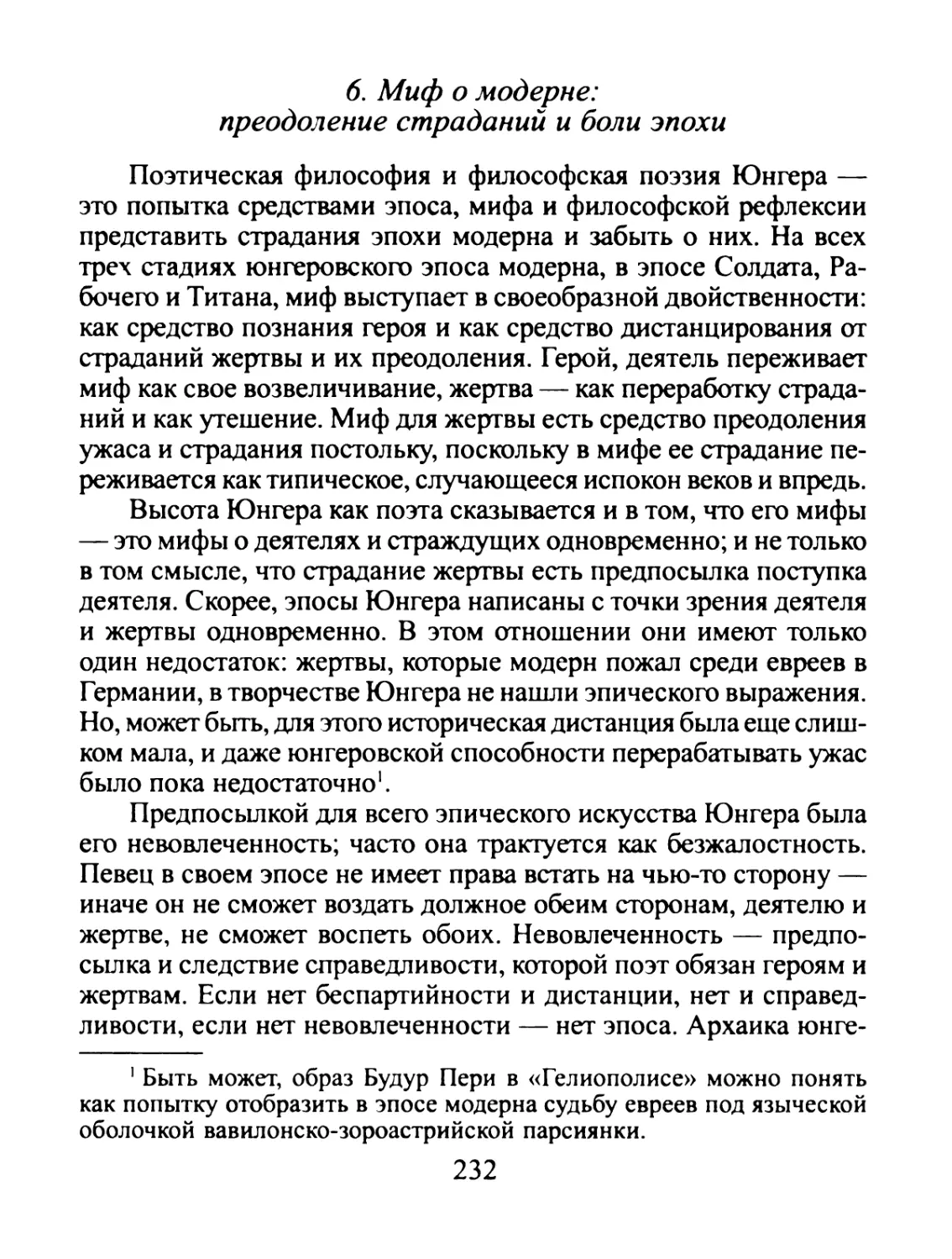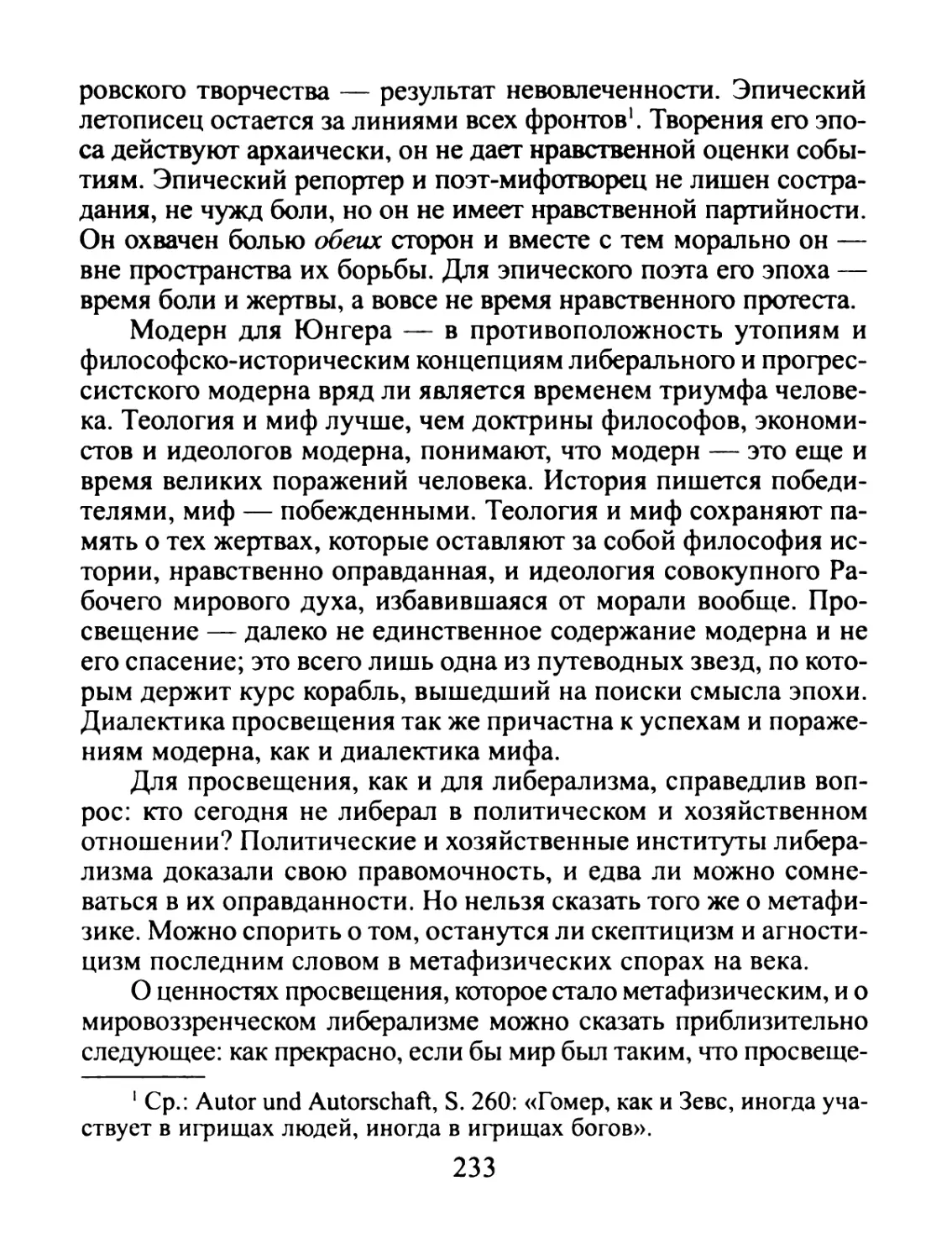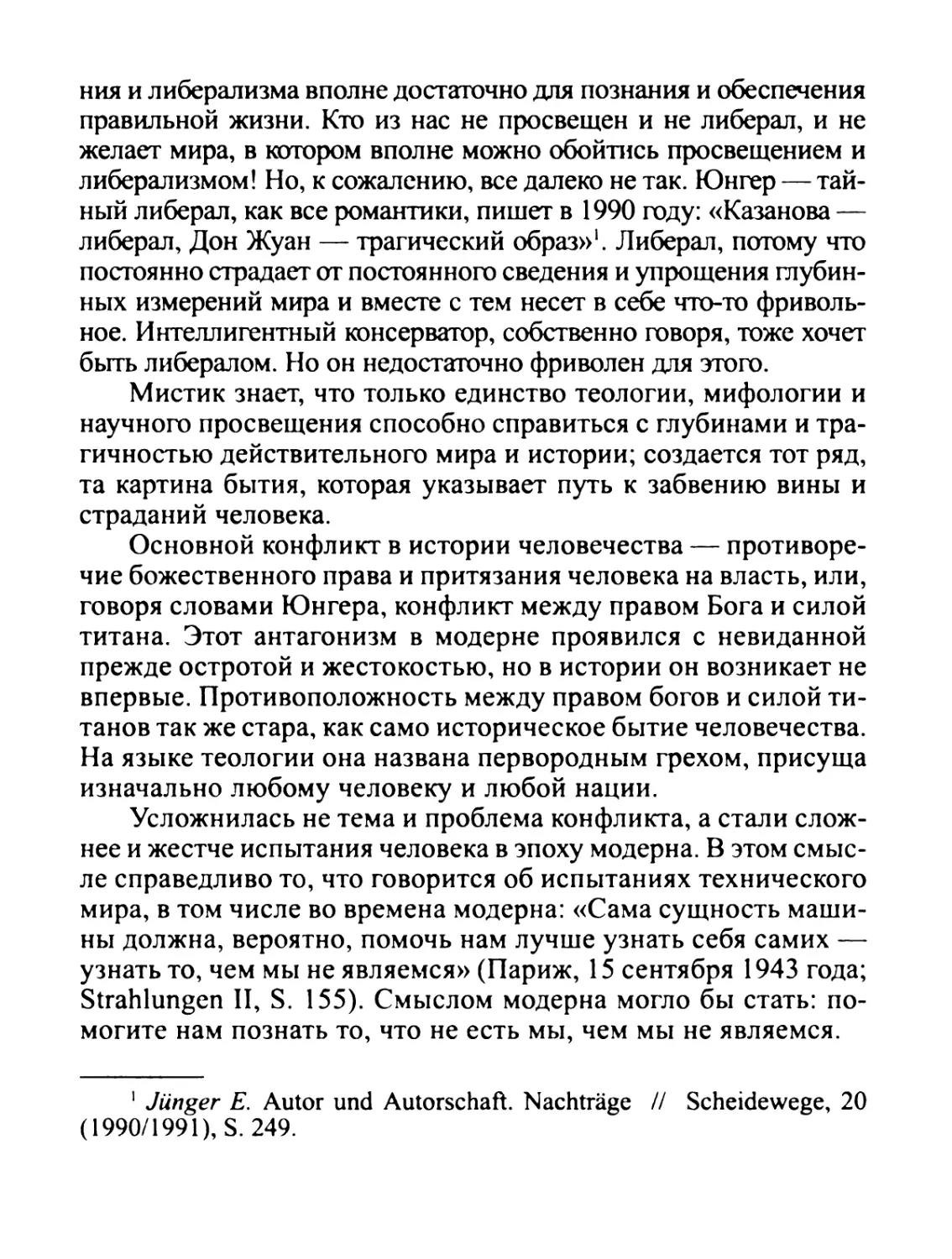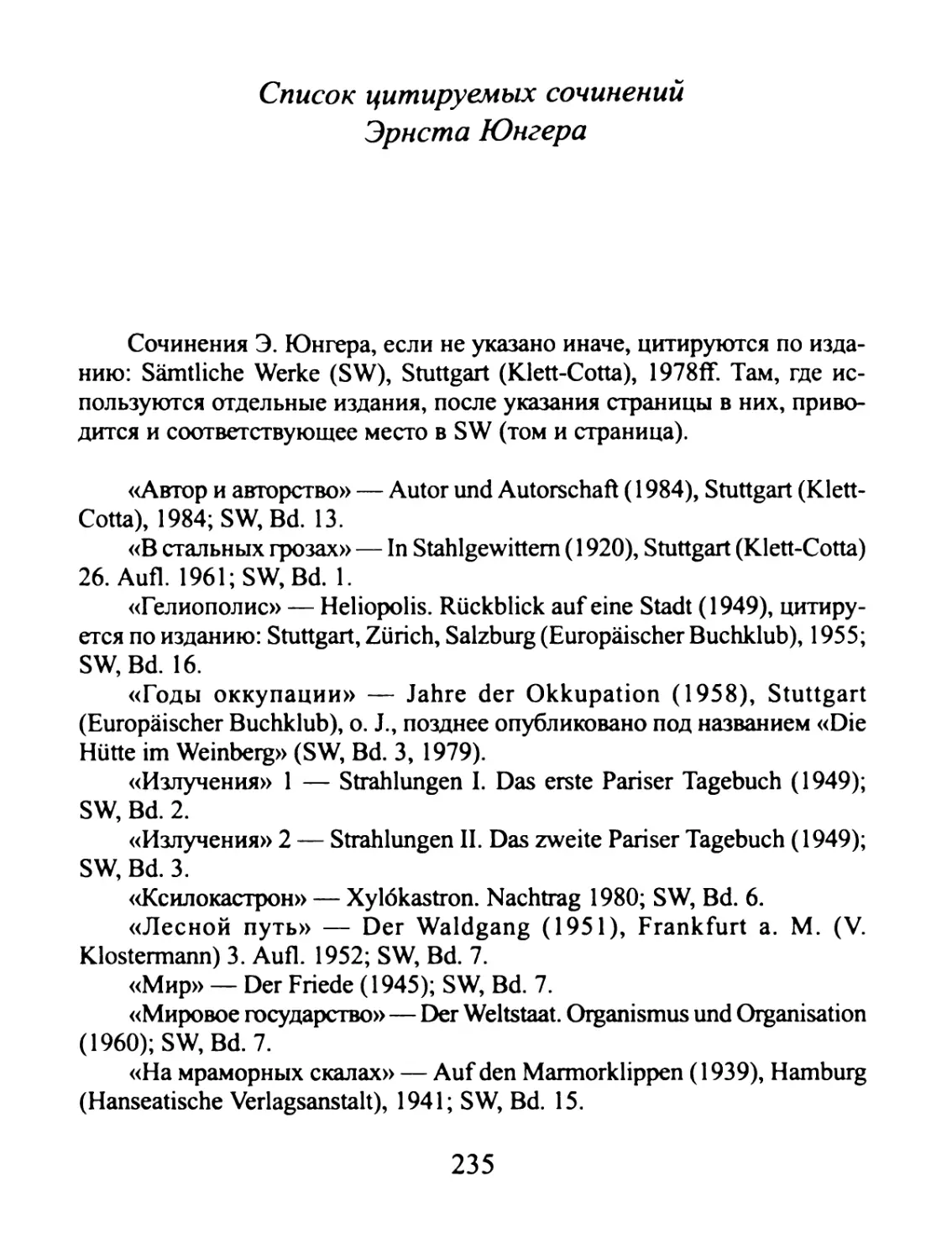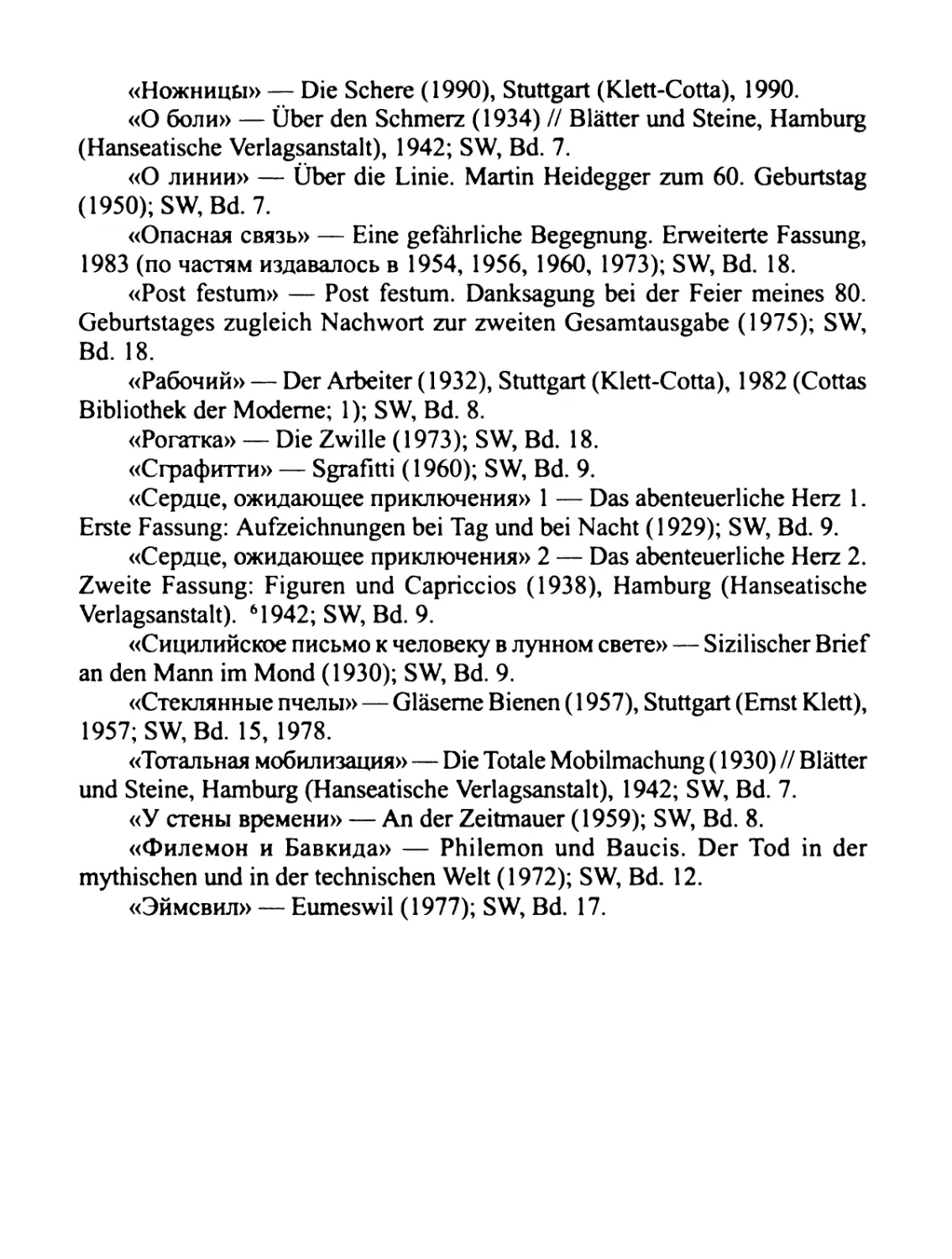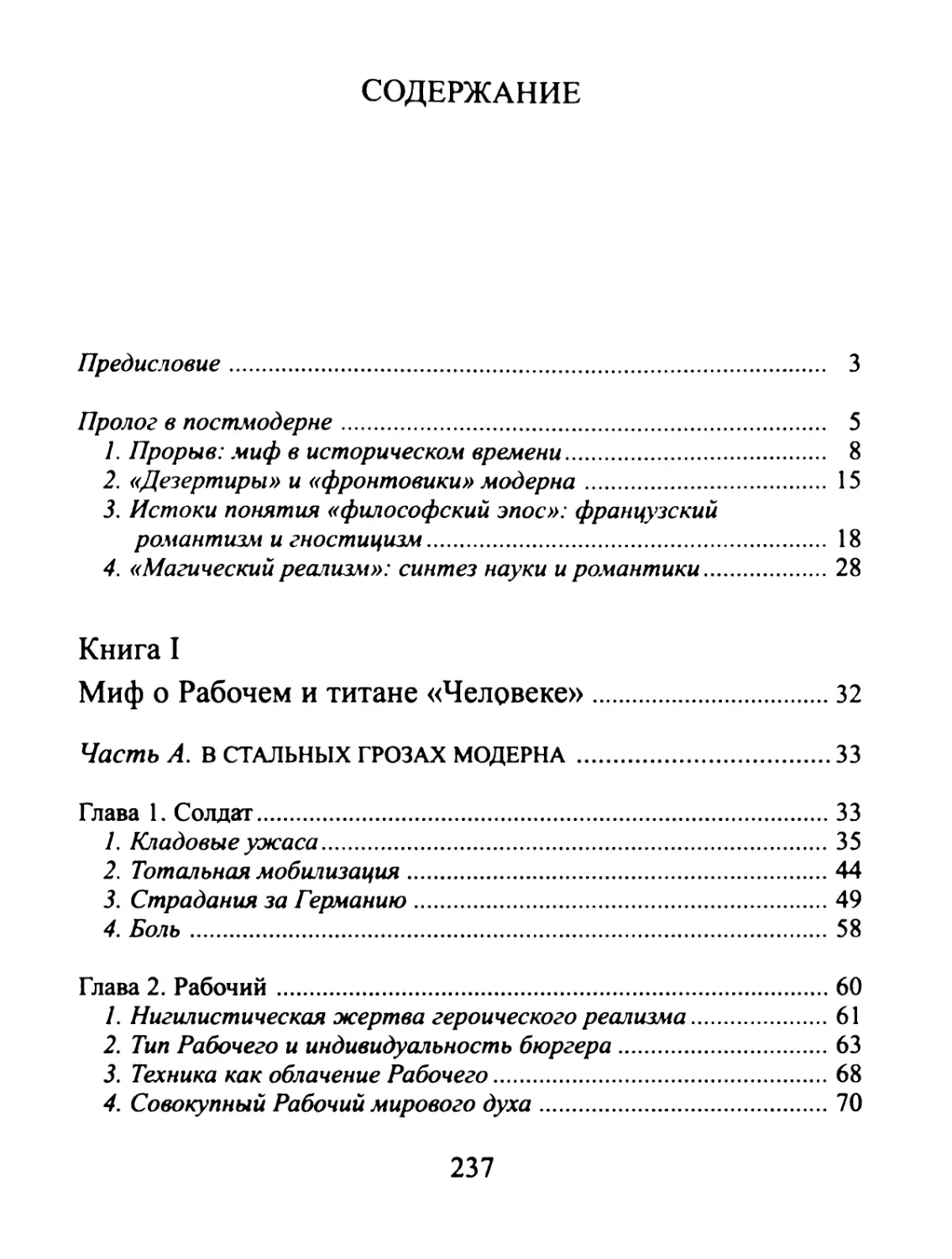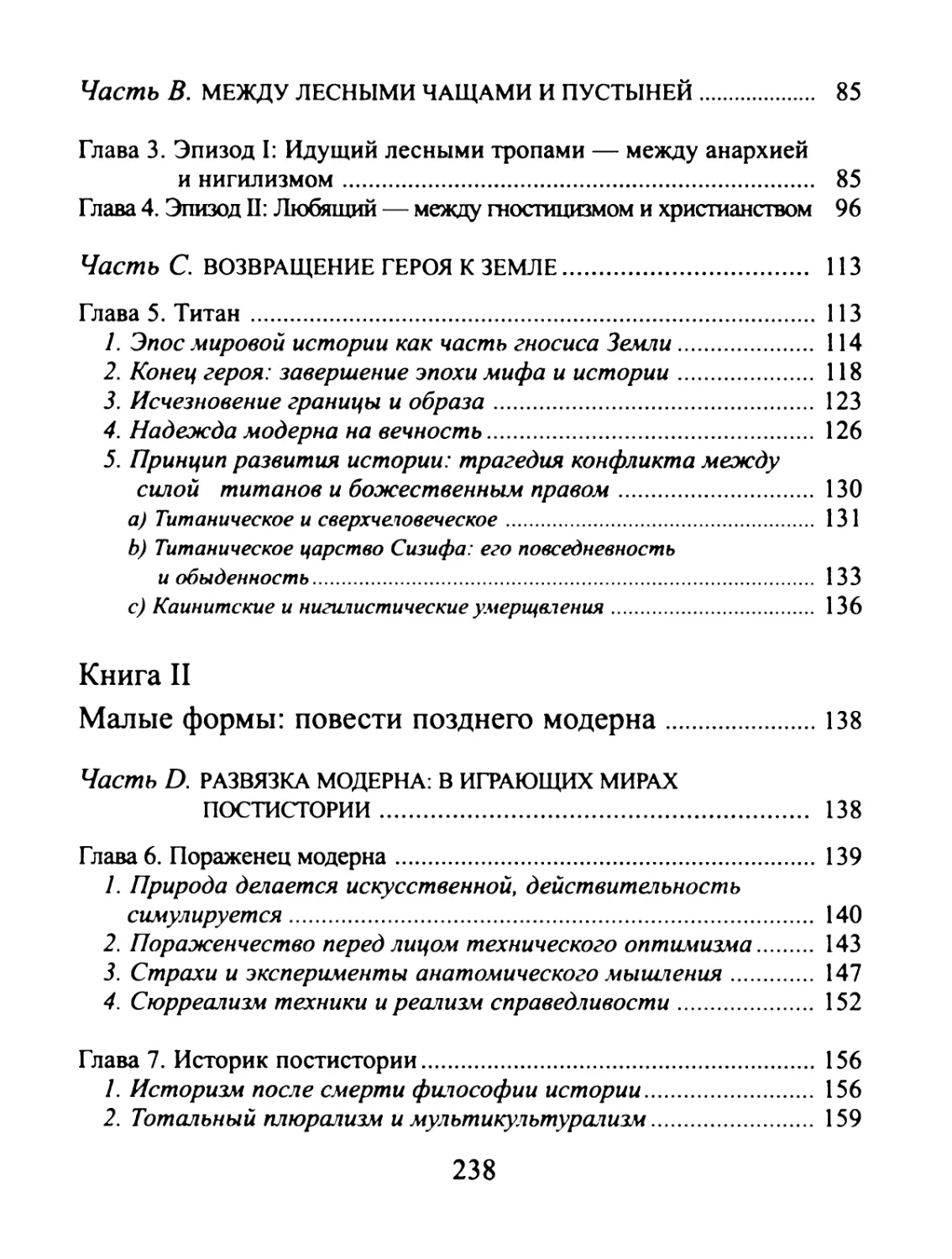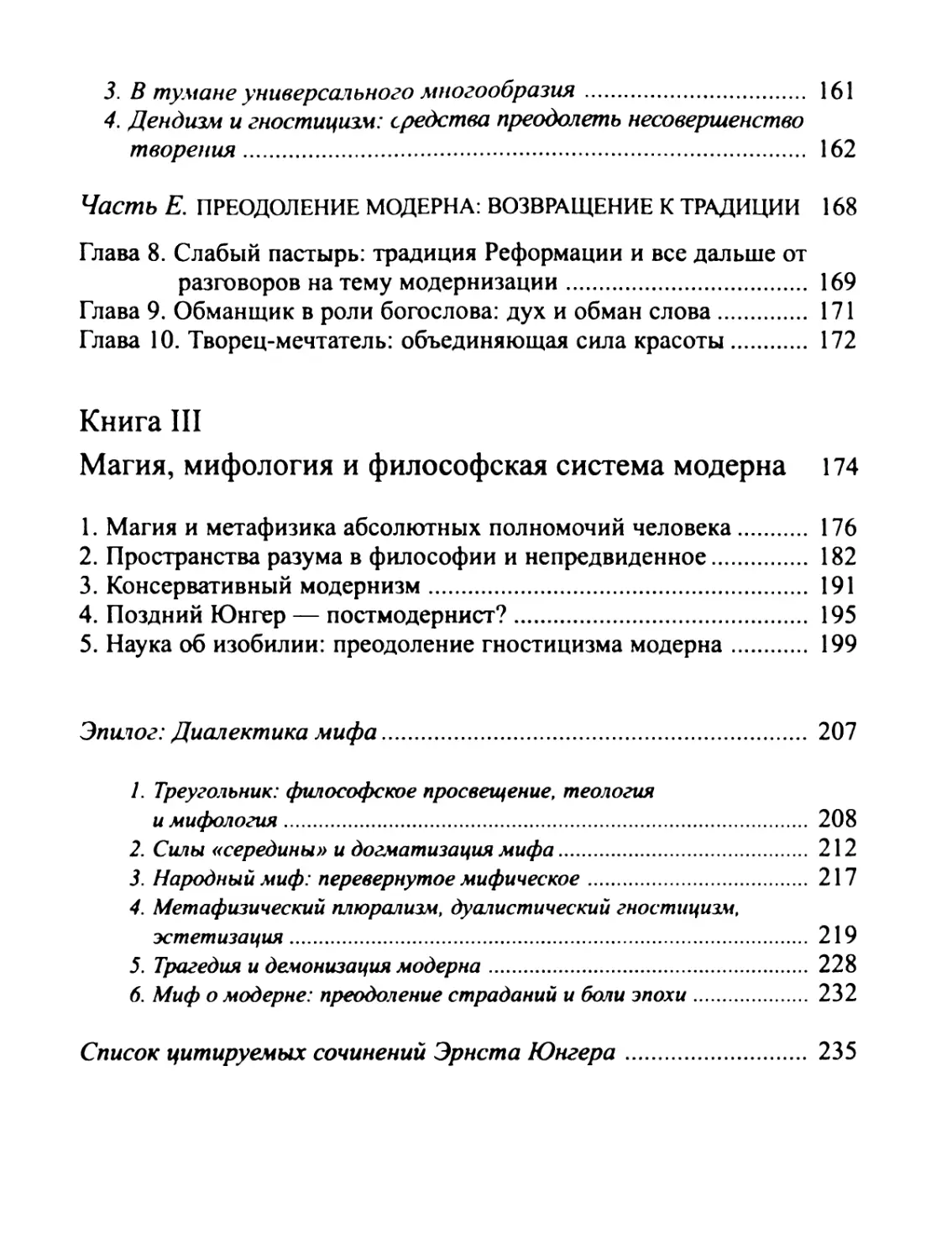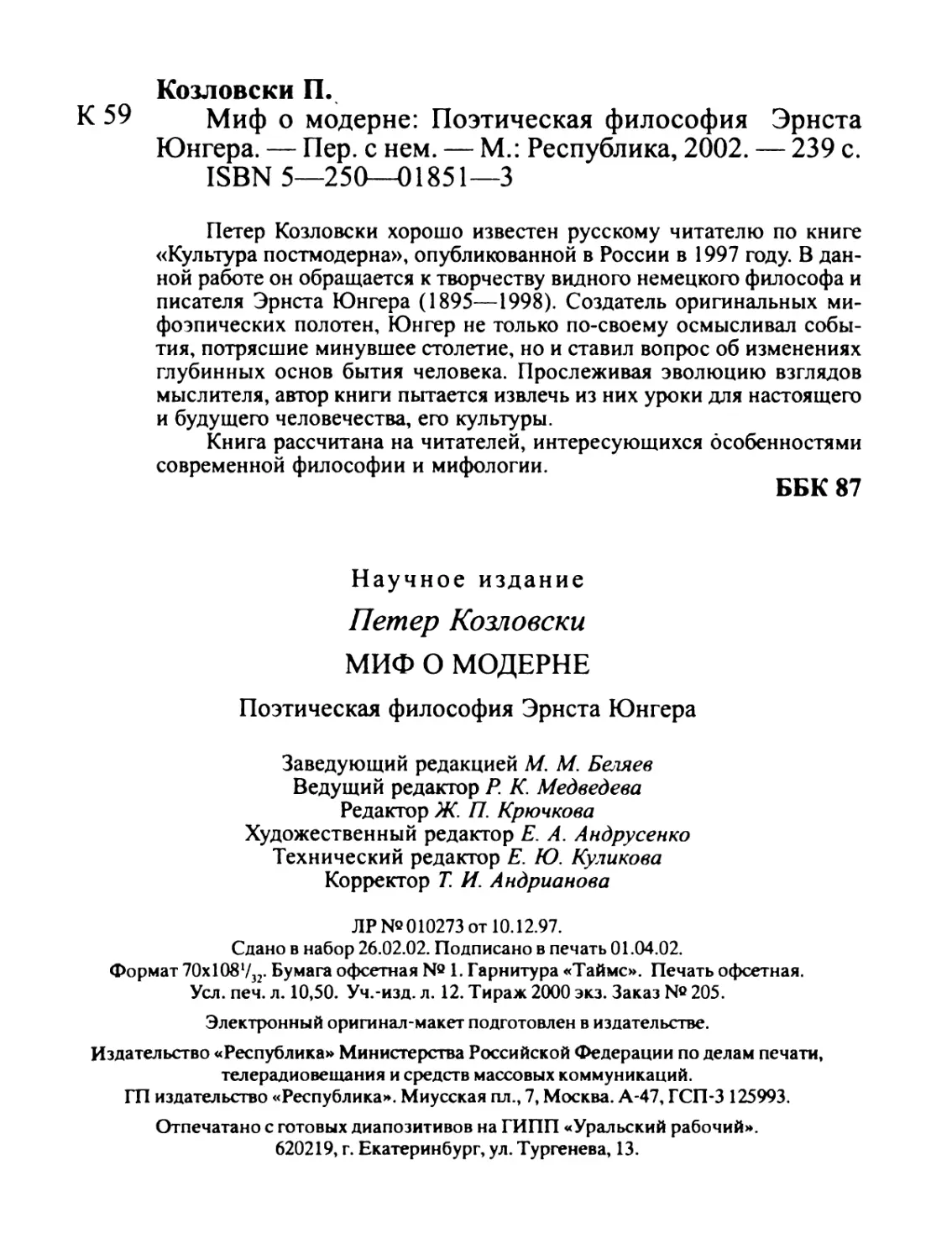Автор: Козловски П.
Теги: философские науки философия постмодерн философия постмодерна издательство республика серия философия на пороге нового тысячелетия философия модерна
ISBN: 5—250—01851—3
Год: 2002
Текст
Петер Козловски
МИФ
О МОДЕРНЕ
ЫСЯЧЕЛЕТИЯ
пороге . нового
Петер Козловски
МИФ О МОДЕРНЕ Поэтическая философия Эрнста Юнгера
Москва Издательство «Республика» 2002
УДК1
ББК 87
К 59
Peter Koslowski
DER MYTHOS DER MODERNE Die dichterische Philosophic Ernst Jiingers Munchen: Wilhelm Fink Verlag, 1991
Перевод с немецкого: M. Б. Корчагиной (Предисловие, Пролог в постмодерне, Книга I), Е. Л. Петренко (Книга II), Н. Н. Трубниковой (Книга III, Эпилог)
Общая редакция доктора философских наук, профессора Е. Л. Петренко
Ответственные редакторы серии «Философия на пороге нового тысячелетия» П. КОЗЛОВСКИ (Институт философских исследований Ганновера, Германия) Э. Ю. СОЛОВЬЕВ
(Институт философии РАН, Россия)
Редакционный совет
Карл Ахам (Университет г. Граза, Германия) Карл-Отто Апель (Франкфуртский университет, Германия) Реми Браг (I Парижский университет, Франция) Пиама Павловна Гайденко (Институт философии РАН) Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов (Институт философии РАН) Джеймс Б. Марфи (Дартмаиф Колледж, Ганновер-Нью-Хэмпшир, США) Гиридхари Лал Пандт (Делийский университет, Индия) Аннемари Пипер (Базельский университет, Швейцария) Эрих Юрьевич Соловьев (Институт философии РАН) Наоши Ямаваки (Токийский университет, Япония) Чан Шэнь (Институт философии Академии социальных наук КНР)
Серия издается при великодушной финансовой поддержке Коммерцбанка Германии (Commerzbank AG)
ББК 87
© 1991. Wilhelm Fink Verlag, Munchen ISBN 5—250—01851—3 © Издательство «Республика», 2002
«Знание и поэзия. “Возможны ли: «Илиада» и порох?” (Карл Маркс). Это о моей проблеме».
Э. Юнгер. Автор и авторство. 1984
ПРЕДИСЛОВИЕ
Существует ли миф о модерне, несмотря на то что многие его приверженцы видят в модерне эпоху разума и конца мифа? Толкование любой эпохи — задача на пересечении философии, искусства, мифологии и теологии. Для проникновения в суть значения и смысла исторической эпохи наряду со средствами философии и теологии, умозрительным понятием и экзегезой, должны использоваться средства поэзии и мифа, воображение и язык мифа. Высокой целью философии истории является сведение взглядов философии, теологии, поэзии и мифологии в философию эпохи. Неразрешенным, однако, остается вопрос: можно ли объединить философию, теологию, поэзию и мифологию в один великий миф эпохи так, чтобы смысл этой исторической эпохи и образы бытия человека, характерные для отношения человека к данному историческому смыслу, были представлены единым повествованием и несколькими мифическими фигурами? Обращаясь к интерпретации всего творческого наследия Эрнста Юнгера, мы отваживаемся сделать этот смелый шаг к объединению поэтического и философского толкования модерна в едином эпосе, в единстве масштабного философского повествования и поэтической философии, включающем в себя и мифы, и небольшие эпосы.
В своих романах и философских эссе Юнгер проник в суть метафизического смысла исторической эпохи и представил его, часто провидчески, языком мифа, поэзии и философии. Ретроспектива его произведений, появившихся с 1920 по 1990 год, позволяет все их свести в единый эпос о модерне, в котором как
3
характерные образы преемственных мифических фигур и возникают формы, позволившие человеку обрести и выразить собственное отношение к смыслу эпохи.
В видении столетия, каким оно отражено в творчестве Юн-гера, раскрывается новое измерение: в идеологиях и философиях новейшей истории эпохи скрыт миф о Рабочем как «Человеке», и эта мифическая самоинтерпретация человека как в либерализме, так и в национал-социализме и марксизме-ленинизме сопровождала и определяла тотальную мобилизацию действительности, мира и стремление преобразовать его в духе универсально-тотального характера труда. В этом мире как в зеркале отражается и то, что на смену герою «Рабочему» приходит Человек — титанический сын Земли, который отрекается от своей нигилистической власти и возвращается к своему лону, к Земле. В конце концов героическая эра Рабочего и титана «Человека» заканчивается, возникают постмодернистские трактовки и образы человека. В своем философском эпосе о модерне Юнгер предвосхищает современную дискуссию о постмодерне.
Движущую силу исторической эпохи в целом, а в ней прежде всего модерна, Юнгер видит в борьбе богов, людей и титанов. Они сошлись в битве, гигантомахии, а исход ее есть решение проблемы отношения к смыслу исторических эпох, положения человека между временем и вечностью.
Миф о модерне, каким его создал в своих произведениях Юнгер, позволяет понять, что же сохранится после битвы титанов модерна как непреходящее благо человечества, а что как ошибка, вина или мнимая победа титана «Человека» — исчезнет, будет предано забвению. Юнгер разъясняет, какую роль играет миф в познании исторического времени. Именно миф помогает судить о том, что в отношении к модерну является подлинным мифом — логосом, а что «просто мифом» — видимостью или даже ложью, что в правде и в заблуждениях модерна определяет долю «присутствия» немецкого духа.
ПРОЛОГ В ПОСТМОДЕРНЕ
Написать книгу об Эрнсте Юнгере — значит вступить на минное поле, по которому можно двигаться, лишь соблюдая крайнюю осторожность. Личность и творчество этого великого немецкого поэта настолько тесно связаны с катастрофами, перенесенными немецкой культурой в XX столетии, со всеми ее заблуждениями, равно как и с величием немецкого духа, что постоянно возникает опасность путать оценки германской истории XX века с суждениями о творчестве Юнгера. В известной мере это происходит неизбежно, так как любой великий поэт всегда особо близок своему времени и, следовательно, причастен к его ошибкам. Области, куда стоит проникнуть, окружают минные поля, то же относится и к духовной сфере Юнгера. Проникать в нее столь же опасно, как и полезно для интеллекта. Сокровища, которые там скрыты, возместят опасность и не только «сердцам, ожидающим приключений».
Перефразируя Гёте, можно сказать, что внутри эпохи нет высот, с которых видна вся эпоха. Если бы мы все еще находились в рамках периода модерна, то вряд ли могли бы увидеть саму эту эпоху в ее целостности. Сегодня, однако, множатся приметы того, что в модерне что-то уже кончается, устаревает и в многообразных формах возникает постмодерн. Таким образом, целесообразно воспринимать период в 75 лет, с 1914 по 1989 год, который Эрнст Юнгер описывает, начиная со своего первого произведения 1920 года «В стальных грозах» до последнего эссе 1990 года «Ножницы», как исторический период, в который особым образом проявился дух модерна, как эпоху, в рамках которой модерн и
5
его проекты оказали влияние не только как программа, но и как доминанта политической и культурной действительности. Мы можем рассматривать эпоху модерна как единое целое, поскольку даже в ретроспективе она представляется достигшей определенного завершения. Творчество Эрнста Юнгера помогает нам познать дух этой эпохи, а тем самым и нас самих.
Автор этой книги сам отстаивает понятие «постмодерн», и может возникнуть подозрение, будто он не объективен в отношении юнгеровского эпоса о модерне и использует его творчество, чтобы вести борьбу на совсем другом поле. На первый упрек надо ответить, что дистанция по отношению к модерну только теперь и дает возможность подойти к одному из его главных авторов и творцов не только как к его приверженцу или противнику, но подобно Мануэлю Венатору — герою «Эймсвила» Юнгера — с позиции «метаисторика», то есть выдерживая историческую дистанцию. В связи со вторым упреком надо сказать, что юнгеровское видение модерна и его завершения подтверждает тезис о том, что мы живем в период перехода к постмодерну и что таким образом поэт и «певец» модерна — парадоксальным образом с точки зрения логики причастности, но последовательно в традиции логики мифа — наглядно показывает его вхождение в историю и участвует в его преодолении1.
1 Становится понятно, что миф в большей степени, чем это принято считать, дистанцируется от исторического события подчас даже больше, чем история и философия. X. П. Шварц в своем, впрочем, весьма содержательном труде недостаточно высоко оценивает эту диалектику поэтической дистанции, когда интерпретирует Юнгера с позиции враждебности писателя к XX веку и типичной для модернистского поэта враждебности к своему времени в целом {Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. Poiitik und Zeitkritik Ernst Jiingers. Freiburg i. Br. (Rombach), 1962). Высказывание о Юнгере: «Он совсем не любит его (свое столетие. — П. К.). Поэтому он выбрал изоляцию и борьбу одиночки» (S. 247) — с высоты 90-х годов представляется не совсем верным. Едва ли кто-нибудь любил свое столетие такой смешанной с ненавистью любовью, как Юнгер любил XX век, а для правдивости поэзии не важно, любит ли человек свой век или нет.
6
После либеральной, марксистско-ленинской и фашистской философии истории и мобилизаций модерна только постисторизм позволяет рассмотреть правый и левый модернизм, а также модернизм либерального буржуазного центра с определенной исторической и интеллектуальной дистанции, а следовательно, и понять, и представить поэта этой эпохи объективно, без слепого поклонения.
Поэтому в самом замысле этой книги заложена практически уже свершившаяся историзация модерна с его идеологиями и содержится предложение историзировать не только события с начала Первой мировой войны в 1914 году и до объединения Германии в 1990 году, но и идеологии и политические воззрения этого времени. После чтения произведений Эрнста Юнгера представляется необходимым понять модернизм левый и правый как разные проявления единого модернистского импульса, единой тотальной мобилизации, а после завершения процессов марксистско-ленинской мобилизации в Восточной Европе в 1989—1990 годах рассматривать их как исторические феномены. Такая историзация идеологий модерна нужна для самопознания нашего прошлого и нашего становления. Она не означает прощения или ухода от ответственности. Произведения Юнгера способны служить «метаисторическому» рассмотрению идеологий, так как на всех этапах он творил и сочинял непринужденно, соблюдая поэтическую дистанцию. Непринужденность и «самоисторизация» поэта Юнгера как наблюдателя собственной эпохи являются одной из причин враждебности, с какой воспринималось его творчество. Оглядываясь назад, понимаешь, что непринужденность творчества Юнгера, его сознательное нежелание быть вовлеченным в битвы модерна важно для понимания общего и различного в проектах модерна1.
1 Шварц в 1962 году писал: «Время и он стали чужими друг другу» {Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 14). Он называет три причины такого отчуждения: 1. Расхождение между действительностью и сознанием и «несчастное сознание», которое было определяющим для периода 1920—1950 годов и показательно для произведений Юнгера,
7
Дистанция по отношению к модерну нужна, чтобы понять, что подразумевали и к чему стремились различные «проекты модерна». Нет никаких оснований всегда гордиться модерном, отбрасывая как домодернистское все, что в модерне ужасно и неудобно. Кошмары и заблуждения тоталитаризма тоже относятся к модерну. Поэтому историзация не только страшных страниц истории модерна, но и его экстремистских идеологий — фашизма, национал-социализма и ленинизма — необходима, чтобы понять, как развивались идеологии модерна и что у них общего. Нельзя обойти и того, что за «спором историков» последует «спор философов» об «идеологии модерна».
1. Прорыв: миф в историческом времени
Созданный Эрнстом Юнгером философский эпос (или поэтическая философия) модерна находится между поэзией, мифом, историей и философией. Этот эпос представляет собой некий синтез из повествовательной поэзии, языка мифа, исторического рассказа и философских размышлений. Как синтез философский эпос весьма впечатляет, поскольку в нем объеди
преодолевается, так что Юнгер оказался несовременным и не ко времени; 2. Академическая наука отобрала у поэзии функцию толкования времени; 3. Наступил «конец «фельетонистского века» толкования времени» (S. 245). Такое восприятие Юнгера в начале 60-х годов интересно, так как на этих оценках лежит печать несокрушимой веры в рациональность и науку, и оно показательно для либерального модерна. С точки зрения постмодернистского видения современности этот оптимизм становится проблематичным. «Несчастное сознание» не исчезло в процессе развития наук, поэзия и вся сфера вымышленного, включая телевидение, скорее приобрели большее значение, а наука уже не в силах была сохранять свое первенство; в толковании времени проявилась необходимость использовать также соответствующие средства из вненаучной сферы.
8
нились поэтическое воображение, память мифа, исторический документ, философская абстракция; вместе с тем он весьма уязвим для критики со стороны специализированных наук, так как в нем преодолеваются границы поэзии, религии, истории и философии, а их методы и способы видения мира объединяются. Эрнст Юнгер в своих романах и эссе придумывает, рассказывает, мыслит великий миф модерна о Рабочем и маленькие повести об отзвуках модерна в постистории. Единство этих произведений создает собственно историю от Первой мировой войны до постмодернистских 80-х годов XX столетия.
Их единство как масштабный эпос и поэтическая философия проявляется лишь в ретроспективе, поскольку нельзя дать концепцию одного-единственного масштабного эпоса, который стремится в поэтической форме постичь и представить отрезок времени в 70 лет. Автор, создающий свое первое произведение, не может предвидеть, что он достигнет возраста, необычного даже для не-писателей, и что для написания своего труда ему будет уготовано более чем 70 лет. Поэтому привилегией интерпретатора является возможность установить в ретроспективе «одновременность» всех произведений автора, который сам не может этого сделать, неизбежно представляя свою эпоху и откликаясь своим трудом на каждый момент времени. То, что интерпретатор рассматривает все творчество в комплексе, как раз и позволяет превратить сравнительный обзор в эпос XX века и сделать зримой привязанность ко времени в смысле преемственности мышления и заблуждений.
В отличие от Оноре де Бальзака Эрнст Юнгер не заявляет, что хочет быть «1е secretaire de son epoque”1, но все же его произ
' В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак писал: «Самим историком должно было оказаться французское Общество, мне оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных од
9
ведения делают его эпическим поэтом своего — XX — столетия. Юнгер не ставил перед собой цель создать поэтическую энциклопедию традиций и культуры немецкого общества в XX веке, как это сделал Бальзак в отношении традиций и культуры французского общества XIX века1. Юнгер создал энциклопедию эпоса человечества своего столетия. Это философский эпос о герое модерна, о человеке как Рабочем; в нем автор с самого начала выходит за рамки немецкого общества XX века. Парадоксальным образом в «Рабочем» Юнгер уже в национал-революцион-ную эру создал произведение, оставившее национал-социализм позади.
Мышление Юнгера определяется убежденностью в том, что сама действительность заставляет поэта думать, а поэт лишь делает эту мысль прозрачной. Если же историческая действительность мыслит себя в самом авторе, то она выступает как исходное для создания единого эпического произведения. Так историческая действительность XX века образует единство юн-геровского эпоса модерна, единство, которое может четко проявиться лишь в исторической ретроспективе. Оглядываясь назад, понимаешь, что произведения Юнгера 1920—1959 годов от «В стальных грозах» через «Рабочего», «На мраморных скалах» и «Гелиополис» до «У стены времени» представляют со
нородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками, — историю нравов. .. .Я, быть может, доведу до конца книгу о Франции девятнадцатого века, книгу, на отсутствие которой мы все сетуем и какой, к сожалению, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины...»(Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М., 1951. Т. 1. С. 6). См. также: Balzac. Theorie de la demarche (Aug. — Sept. 1833). Paris (Gallimard), 1976 ff. Vol. 12. P. 278: «Во все времена есть гениальный человек, который назначает себя секретарем своей эпохи: Гомер, Аристотель, Тацит, Шекспир, Аретино, Макиавелли, Рабле, Бэкон, Мольер, Вольтер, все они держали в руках перо и писали под диктовку своей эпохи».
1 См.: Hunt Herbert J. Balzac’s Comedie Humaine. London (Athlone Press), 1959.
10
бой единый эпос, единую трагедию героя модерна, Рабочего как «Человека». Выражение «эпическая трагедия модерна» — это больше чем метафора. Это описание синтеза литературных жанров.
Согласно Карлу Шмитту, существуют два источника трагического события — миф и действительное историческое настоящее. Трагедия опирается на миф, который для актеров и зрителей является частью исторической действительности1. В трагедии, по Шмитту, необходимо, «чтобы мы признали непреложное, выше всяких субъективных вымыслов зерно неповторимой исторической действительности и постигли возвышение ее в ранг мифа»1 2. Эпос модерна и постмодерна, созданный Юнгером, соответствует этому определению и одновременно переворачивает его. Сначала, до «Рабочего» 1932 года, эпос Юнгера несет отпечаток прорыва исторического времени в поэзию, однако позже он все больше определяется прорывом мифа в историческую действительность, прежде всего мифа о гигантомахии богов и людей, и наконец, в первую очередь в «У стены времени» изображает это столкновение мифа и исторической действительности в мифическом эпосе.
В 30-е годы позитивистски настроенный мавританец Юнгер превращается в мага, чтобы в конечном счете в 50-е годы сделаться мифологом и теософом, для которого миф становится действенным и зримым в историческом времени. После битв гигантов и титанов в войнах человечества периода модерна как мифолог он познает, что состоялось возвращение человека к Земле и что в исторической действительности произошло превращение античного мифа о битве гигантов в гностический миф о мятеже титана «Человека» против богов.
Исторический опыт 40-х годов свидетельствует о том, что после всех своих святотатств человек больше не является союз
1 См.: Schmitt С. Hamlet oder Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel (1956). Stuttgart (Klett-Cotta), 1985. S. 51,48.
2 Ibid. S. 54.
11
ником богов и мятежником против чудовищ хаоса, а, напротив, сам стал гигантом и врагом богов. 50-е годы, послевоенное время, Юнгер трактует как период, когда гигант модерна превратился в негероического земного титана, отрекшегося от своей власти и вернувшегося к матери-Земле. Темой Юнгера является историческая действительность этого века, которая трактуется как битва между титанической властью людей и старинным божественным правом. Его эпос .модерна — это миф о возвышении и падении модерна и рассказ о финале модерна в постистории постмифического и постисторического времени.
Юнгер — одновременно и философический поэт, и мифологический эпический философ. Создатель мифа о модерне и сказитель, повествующий о его завершении, он не только певец и наблюдатель, но мыслитель и эссеист. Эпос модерна и его эпилога развертывает образ героя и в поэме, и в философском трактате. Мифологический герой этого эпоса, человек как солдат, рабочий и титан, в то же время является философским обобщением, моделью, черты которой прорисованы по-философски абстрактно и поэтически наглядно. В силу этого мысленные контуры эпоса приобретают четкость. Выходя за рамки литературного и мифического, эпос поднимается до абстракции поэтической философии, что придает философской мысли наглядность и образность поэзии.
Юнгер писал романы и трактаты, дневники и эссе. В его работе над мифом о возвышении, расцвете и увядании модерна поэт приходит на помощь мыслителю, а мыслитель — поэту. Романы Юнгера ;— это поэтические части масштабного эпоса модерна и его завершения, которые в плане мышления опираются на философские эссе. Миф о модерне и его финале посредством понятий доводится до уровня представления философского просвещения. Таким образом уже присутствующий в мифе момент просвещения, согласно Хоркхаймеру и Адорно, проявляет себя еще более четко, чем в античном, философски целостном, мифе. Благодаря эссе и научной критике миф поэта у Юнгера философски нарушается и дистанцируется, но вместе с тем расширяется и углубляется, в силу научного видения мира.
12
Творчество Юнгера как философский эпос модерна и как поэтическая философия затрагивает вопросы о том, какое значение имеют теософия, гностицизм и мифология для разработки «теории эпохи», для философии истории и для метафизики, как следует оценивать их статус истинности. Тот факт, что такие подходы к осмыслению мира, такие «картины мира» противопоставляются господствующему рационализму, не должен провоцировать опрометчивого исключения их как иррациональных из философии и способного излагать истину рассказа, повествования. Возможно, существует нечто третье, стоящее наравне с рационализмом и иррациональностью или выше их. С этими вопросами о статусе гносиса и мифа связан вопрос о роли эстетики в философии и трактовке мира. Так как искусство, миф и теософия используют приемы поэтического и эстетического мышления, о чем свидетельствует пример Юнгера, то необходимо объяснить, какую роль играли и продолжают играть эстетическое мышление и эстетическое мировоззрение в возникновении и преобразованиях модерна.
«Магический реализм» Эрнста Юнгера и поэтическая философия — это попытка выйти за рамки рационализма, не становясь при этом иррациональным. Его мифология и теософия произошли из стремления преодолеть нигилизм. Однако они не хотят быть «верой» в понимании христианской теологии. Эрих Брок так оценивает эту попытку в период до 1944 года: «Целью Юнгера всегда было преодоление нигилизма. Тем не менее одностороннее экзистенциальное мышление, как и его политическое воплощение, фашизм, приводят к нигилизму несравнимо быстрее, чем это сделал рационализм и его политическое воплощение — либерализм»1. Фашизм не стал, как ожидал Юнгер, преодолением либерализма, но еще глубже, чем либерализм, погряз в нигилизме и пришел к антигуманизму и человеконенавистничеству.
1 Brock Е. Das Weltbild Ernst Jiingers. Darstellung und Deutung. Zurich (Max Niehans), 1945. S. 274.
13
Либерализм — это еще одна сфера проблематики юнгеров-ского мифа о модерне, мифа, который представляет собой нескончаемый спор с либерализмом. Начиная со «Стальных гроз» Первой мировой войны, либерализм для Юнгера был связан прежде всего со «старыми державами» Запада, с Англией и Францией. Красной нитью в его творчестве проходит мысль о том, что либерализм предполагает дефицит метафизики: дело в том, что он основывается на рационализме и исключает из социальной действительности мифическое и теологическое измерение мира и человека. Юнгер как раз и пытался вернуть это метафизическое измерение, сначала метафизически преувеличив технику, и преодолеть метафизический вакуум либерализма и его следствие — нигилизм, форсируя (как и близкие ему модернизм и футуризм) развитие техники до процессов тотальной мобилизации. После того как ошибки на пути тотальной технической и экономической мобилизации стали явными; после того как обнаружились обвалы пути, по которому пошли фашизм, национал-социализм и ленинизм, Юнгер уже в 1933—1938 годах понял, сколь необходимо преодолеть нигилизм с помощью магической поэзии, а в конечном счете — мифа и теософического гносиса, о чем свидетельствуют переработка «Сердца, ожидающего приключения» для второго издания 1938 года, а также рассказы «На мраморных скалах» (1939) и «Гелиополис» (1949).
В связи с этим обращением Юнгера к мифу Гисберт Кранц критически указывает на то, что такой поворот таит в себе опасность ухода от действительности. Для Кранца символом подобного эскапизма является шлейф магического видения мира, который, по Юнгеру, надо понимать как «более высокий стиль ухода от эмпирических отношений» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 36; SW, Bd. 9, S. 200)1. Поэтому следует проверить, является ли магическая, мифологическая и теософическая поэзия Юнгера уходом от действительности или она способна восполнить
1 Kranz G. Ernst Jiingers symbolische Weltschau. Dusseldorf (Schwann), 1968. S. 255 ff.
14
метафизический дефицит либерализма и служить совершенствованию либерального порядка. Его миф о модерне должен помочь ответить на вопрос: не обладает ли теософический постмодерн свободного порядка в социальном и философском отношении большей вероятностью и возможностью, чем рационализм либерализма, или же постметафизический либерализм модерна в философском плане все еще сохраняет за собой последнее слово?
2. «Дезертиры» и «фронтовики» модерна
Миф и эпос модерна ясно показывают, что эта философская поэзия создается не «дезертиром», а скорее «фронтовиком» модерна или, поскольку это выражение даже для Юнгера является слишком сильным, человеком авангарда модерна. Норберт Больц назвал «экстремальные формы существования периода Веймара», а к ним он причисляет Готтфрида Бенна, Эрнста Блоха, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и Карла Шмитта, «дезертирами нового времени»1. Назвать мыслителей, оказавших столь большое влияние на мировоззрение эпохи, дезертирами той же самой эпохи есть само по себе логическое противоречие, если под «новым временем» Больц подразумевает именно наименование эпохи. Ведущих мыслителей эпохи можно назвать ее дезертирами только тогда, когда время, о котором идет речь, отождествляется единственно и исключительно с одной идейной программой, которую как раз и не разделяют охарактеризованные как ее «дезертиры» авторы.
Определение «дезертиры нового времени» имеет смысл только в том случае, если под новым временем в смысле модерна понимается не эпоха, а программа или «проект», к которому
1 Bolz N. Auszug aus der entzauberten Welt. Philosophischer Extremismus zwischen den Weltkriegen. Munchen (Fink), 1989. S. 11.
15
эти авторы явно не примкнули и в реализации которого они не участвовали. Если следовать такому отождествлению модерна с одним-единственным проектом, то все равно допускается категориальная ошибка, так как либо историческая категория смешивается с философской или идеологической, либо последнюю хотят выдать за историческую. Идеологические позиции красиво обставляются историческими определениями эпохи, и тем самым делается попытка лишить их идеологического характера, чтобы создать впечатление их исторической «необходимости».
Миф о модерне Юнгера свидетельствует о том, что такой прием с точки зрения истории и философии недопустим. Модерн как эпоха, нравится нам это или нет, включает не только либеральный «проект модерна и прогресса», но и тотальную мобилизацию фашизма, национал-социализма и ленинизма. Модерн — это век форсирования истории и все ускоряющегося прогресса, и эти признаки признаны всеми идеологиями, порожденными модерном. Идеологии тотальной мобилизации по своей мифологии и риторике являются более модернистскими, более экстремистскими, чем модерн буржуазный, так что они могут быть противопоставлены ему как модернизм, как преувеличение модерна. Эстетический «модернизм», как показывают последние исследования, открыл путь фашизму в Италии1 и национал-социализму в Германии1 2. Философский эпос модерна Юнгера как описание XX столетия подтверждает выводы англосаксонских историков.
Предпринятый Юнгером в «Тотальной мобилизации» анализ 20-х годов очень прост, но убедителен, и если он действительно адекватен, то имеет огромнейшее значение для понима
1 Adamson W. L. Modernism and Fascism: The Politics of Culture in Italy. 1903—1922 // The American Historical Review, 95 (1990). P. 359— 390; Herf J. Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge (University Press), 1984.
2 Ekstein M. Tanz uber Graben. Die Geburt der Modeme und der erste Weltkrieg. Reinbek (Rowohlt), 1990; Original: Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modem Age. Boston (Houghton Mifflin), 1989.
16
ния событий XX столетия: следуя Юнгеру, получается, что все европейские страны накануне и в ходе Первой мировой войны провели мобилизацию. Однако либерализм западных держав, опираясь на демократическую структуру этих стран, смог провести мобилизацию лучше, чем авторитарная Германская империя. После войны западные державы помешали проигравшим ее немцам стать европейцами и осуществить свою мобилизацию экономики. Поэтому, чтобы не оказаться в стороне от прогресса Запада, Германия — как, впрочем, и Италия — должна была провести тотальную мобилизацию. В отличие от частичной мобилизации западных демократий фашизм был тотальной мобилизацией. То, что в Германии он обесчеловечился до национал-социализма, зашел дальше, чем итальянский фашизм, Юнгер считает злым роком истории, которого он, в отличие от других интеллектуалов времен Веймарской республики (таких, как Готтфрид Бенн, Мартин Хайдеггер и Карл Шмитт, которые думали практически одинаково), разглядел уже накануне прихода национал-социалистов к власти и поэтому с самого начала отказался следовать за ними1.
Творчество Юнгера позволяет понять, что в XX веке Германия была абсолютно модернистской страной1 2. Двойственность модерна и его мобилизации свойственна не только крайним выражениям модернизма — фашизму, национал-социализму и ленинизму, но и либеральному модерну. Ведь модерн либерализма не мог не соприкасаться, не быть метафизически связанным
1 См., впрочем, весьма критическую по отношению к Юнгеру книгу графа К. фон Крокова (Сhr. Graf von Krockow. Die Entscheidung. Eine Untersuchung uber Ernst Jiinger, Carl Schmitt, Martin Heidegger. Stuttgart (F. Enke), 1958. S. 108): «В содержательном отношении Юнгер идет совсем другим путем, нежели Шмитт, — несмотря на то, что он, как следует еще раз подчеркнуть, ни разу, ни единым намеком не высказывал хвалу пришедшему к власти «фюреру», а, напротив, скрыто его ненавидел».
2 См. также: Ekstein М. Tanz uber Graben. Die Geburt der Modeme und der erste Weltkrieg. S. 15.
17
с той данностью, к осуществлению которой он приложил руку и в случае Германии, и в случае Италии. Потому что утверждение, будто Германия 20-х годов XX века во всех отношениях была «запоздалой нацией», существовавшей по ту сторону либерализма, в каменном веке немецкого верноподданничества, мы должны все-таки отнести к историческому мифотворчеству. Если нация или народ виновны, то причины этого не следует искать в том, что они запаздывают в своем развитии.
Даже если принять, что либеральный модерн — это философия и социальная теория, превосходящая крайние (как левые, так и правые) формы модерна, остается открытым вопрос, как следует оценивать модерн сам по себе, учитывая, что именно он породил различные формы философского экстремизма. Философский экстремизм модерна и экстремистский модернизм вовсе не выпадают из эпохи. Более того, нельзя исключать, что поскольку они есть порождения модерна, то формы философского экстремизма могут заявить о себе еще раз, если метафизическая структура модерна не изменится коренным образом.
Как писал Генрик Ибсен, в художественном произведении человек сам себе является верховным судьей. Не поэт судит читателя или слушателя, а читатель или слушатель сам себя. Читатель, слушатель или зритель художественного произведения, в понимании художника, судит сам себя. В созданном Юнгером мифе о модерне эпоха может узнать себя — во всех своих ужасах, во всех своих страхах, но и в своих достижениях — и свершить над собой суд.
3. Истоки понятия «философский эпос»: французский романтизм и гностицизм
Произведения Юнгера складываются в единый философский эпос лишь при рассмотрении их в исторической ретроспективе и в рамках философской трактовки. У самого Юнгера понятие «философский эпос» не встречается ни разу, оно, скорее, заимствовано из дискуссии об эпосе человечества, которая шла
18
в рамках французского романтизма XIX века. Примерно в 1830 году эпическая направленность во французской литературе связывается с идеей философии человечества. Французские авторы того времени объединяют философию истории с мифом и эпосом в литературе. Они пытаются объединить философию и поэзию в некую поэтическую философию, в то время как в Германии того же времени литература и философия, миф и научное мышление строго разграничиваются.
Творчество Юнгера также преодолевает традиционное для Германии разделение философии и поэзии. Для того чтобы в поэтическом повествовании дать проявиться философским мыслям и углубить поэтическое высказывание путем абстрактного размышления, Юнгер пренебрегает традиционным разделением философской науки и литературного воображения, которое с XIX века в ходе становления идеализма и позитивизма стало в Германии господствующим. Его философский эпос XX века соответствует определению, предложенному Альфредом де Виньи в 1837 году: эпос — это «философская мысль, представленная в эпической, повествовательной форме»1.
Согласно Эдгару Кине (1803—1875), есть три вида эпоса: героический эпос («Илиада», «Песнь о Нибелунгах»), теологический эпос («Божественная комедия» Данте) и современный, спекулятивный и философский эпос. В качестве раннего примера философского эпоса Кине приводит «Потерянный рай» Мильтона1 2. Французская романтика решала вопрос, как можно написать новый христианский эпос, что является «Божественной комедией» XIX века. Ответом Бальзака стала «Человеческая комедия»3. Человечество стало субъектом истории наряду с Богом.
1 Vigny A. de. Preface & Moise, Eloa, Le Deluge (1837) // Oeuvres competes. Ed. E Baldensperger. Paris (Gallimard), 1950. Vol. 1. P. 55: «Философская мысль, представленная в форме эпической или драматической».
2 См.: Cellier L. Е’ёрорёе romantique. Paris (Presses Universitaires de France), 1954. P. 75. Второе издание: L’epopee humanitaire et les grand mythes romantiques. Paris (Societe d’Edition d’Enseignement superieur), 1971.
3 Ibid. P. 66.
19
Во французской же романтике — и это примечательное отличие от игравшего все более определяющую роль в Германии левого гегельянства и материализма — человечество со своей стороны не замещает Бога как господина истории. Согласно лежащим в основе романтизма персоналистским и теологическим убеждениям, человек, так же как и у Фомы Аквинского, действует вместе с Богом и является его продолжателем. Он не есть единоличный господин истории, но и не инструмент Господа. Как видно из находившихся под теософско-иллюминистическим влиянием эпосов французских романтиков, человечество в качестве действующего вместе с Богом субъекта является героем современной истории, а философский эпос — его изображение1.
По Сен-Мартену, эпическая поэзия должна стать продолжением пророческой поэзии Ветхого Завета. Сен-Мартена, даже если он сам еще практически принадлежал эпохе Просвещения, можно считать главой и философом-мыслителем иллюминистической и теософской школы. Он оказал большое влияние на эпических поэтов-романтиков. Для иллюминистического теософа пророческая поэзия превосходит эпическую, так как она непосредственно присутствует в высшей поэзии или поэтике Создателя, в самих его делах1 2, пусть и опосредованно любая поэзия, а потому и собственно эпическая, черпает силу из первоначальной поэзии Бога3.
1 См.: Ballanche Р. S. Essai sur les institutions socials (1818)// Oeuvres. Paris, 1830. P. 285: «Эпос — это история развития человечества на разных ступенях становления общества... Выразитель идей того или иного века, законодатель того или иного народа, основатель той или иной империи: вот герой эпопеи».
2 Cellier L. L’epopee romantique. Р. 69.
3См. также у Юнгера (Sgrafitti. S. 436): «Автор — звено иерархии. Его отношение с высшим автором мироздания непосредственно и свойственно только ему; в этом заключена его неизвестная ему теология». И еще: «Должность автора относится к высшим должностям мира. Когда он работает со словом, его теснят духи; они подстрекают его пролить кровь» (Strahlungen I. Bd. 2. S. 16). О близости Юнгера немецкой теософско-каббалистической традиции, особенно к Гаману, написано у Шварца (Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 210 ff., 249 ff.).
20
Эпос французской романтики одновременно религиозен и общечеловечен, он больше не ограничен одним народом или одной «местностью». Согласно Ламартину, эпос отныне не есть явление национальное или героическое, он стал чем-то гораздо большим, он стал чем-то человеческим1. Балланш разъясняет, что «каждый народ создает свой эпос, каждая раса создает свой. Все эти следующие один за другим эпосы должны найти свое полное завершение в общем эпосе человеческого рода, идея такого заключительного эпоса, единого в своем великолепном многообразии, есть не что иное, как идея универсальной религии»1 2. В конце концов все творчество человечества и составляющих его народов станет единственным эпосом.
В своем стремлении к универсальному синтезу философского эпоса французский романтизм не делает больших различий между литературными жанрами. Так, Кине и драмы называет эпосом и своим «Агасфером» подражает непосредственно «Фаусту» Гёте3. Роман, например у Виктора Гюго, также понимается как эпос4.
Романтический философско-религиозный эпос пытается создать универсальный синтез, в котором было бы возможным изображение мировой истории в ее всеобщности. Романтический эпос претендует на то, чтобы быть и эпосом и философией, философским эпосом человечества и его истории. В качестве такого «всеобщего эпоса» романтический эпос обнаруживает свою близость гностицизму, который в равной мере стремится создать повествовательную теорию действительности в целом. Творчеству Юнгера в большой степени присущ дух гностицизма, поэтому в общих чертах следует остановиться на связи гностического и романтического эпосов.
1 «Эпос не является больше ни национальным, ни героическим... он есть нечто гораздо большее, он — общечеловечен». Цит. по: Cellier L. L’epopee romantique. Р. 73.
2 Цит. по: Cellier L. L'epopee romantique. Р. 78.
3 Ibidem.
4 Hugo V. William Shakespeare (1864). Paris, 1973.
21
Гностическая система с ее схемой, включающей творение, падение и искупление, рассказывает «epopee de 1’homme» («эпопею человека»)1, это эпос человека вообще и каждого отдельного человека. История мира в целом рассматривается как одно эпическое сказание, как единое целое; внутреннее «повествование» дает слушателю рассказа о «гносисе» освобождение и искупление от тягот и ограничений настоящего: «Внутренний, духовный человек, находит удовлетворение только в познании целого, и это является истинным искуплением». Так, по Иринею1 2, декларируется основной принцип валентинианского гностицизма. Познание мировой истории в ее целостности — это цель и содержание «гносиса». Эта целостность представляется как процесс возникновения, падения или дезинтеграции, искупления или реинтеграции мира и человека. В учении гностицизма познание этого процесса является освобождением от мира или искуплением, причем в двух отношениях: во-первых, в соответствии с догматическим содержанием системы, а во-вторых, в силу психологического воздействия.
Согласно догматическому содержанию гностицизма, «гно-сис» освобождает потому, что познание, или «гносис», определяется как решающий фактор динамики в самом мировом процессе и как момент, способствующий непрочности и бедствиям мира. Стремление к познанию и познание — вот источник дезинтеграции: падшая вечность у валентинианцев называется Sophia, и она пала, потому что стремилась узнать слишком много3. Преодоление этого ложного знания — отрицание отрица
1 См.: Amadou R. Louis-Claude de Saint-Martin et le Martinisme. Paris, 1946. P. 80.
2 Adversus haereses, I 21, 4 11 Die Gnosis. Bd. I. Zeugnisse der Kirchenvater. Hrsg. von Werner Foerster. Zurich,21979. S. 285. (Перевод модифицирован.) См. также: Hutin S. Les Gnostiques. Paris,21963. P. 59.
3 Заносчивость Софии заключается в том, что она пытается «понять, что находится по ту сторону гносиса: inquisitio magnitudinispatris fiebatpassioperditionis» (настойчивое стремление довести до конца эти поиски приводит к мучительному испытанию —лат.) (Quispel G. Gnosis als Weltreligion. Ziirich, 1951. S. 85).
22
ния — ведет, согласно догматическому учению валентинианс-кого гностицизма, к снятию разъединенности духовной субстанции в мире, а тем самым и к возрождению духа. Поэтому «гно-сис» в той мере является лекарством от дезинтеграции и средством реинтеграции, в какой он способен распознать мнимое знание в его притязаниях и ограничить их. Эсхатологическое ожидание исцеления и искупления в гностицизме, согласно его догматическому содержанию, заключается в том, чтобы собрать духовное и умственное и отделить их от форм ложного знания и от смешения «гносиса» и незнания1.
Психологически воздействие нового осмысления догматического мифа на приверженца гностицизма может освобождать, только когда в повествовании о мире и божественном он узнает собственную жизненную ситуацию, свои тяготы и в этом приобщении к онтологической необходимости гносиса в мире познает, пусть даже временное, освобождение от своих собственных личных бед.
Повествовательная теория гностицизма является не только мифологическим, но и философским эпосом, так как сама гностическая схема истории как творения, падения и искупления не приемлет расхожего противопоставления фиктивного мифа, с одной стороны, и простого сообщения, рассказа об истории или даже абстрактной ее теории — с другой. Философский эпос гностицизма включает элементы из всех известных форм мифического подхода к миру. Повествования гностицизма, внехристианс-кие гностические системы содержат элементы мифа и абстракции, догматическая теология христианства и христианский гно-сис охватывает к тому же и элемент исторического повествования.
Теоретический тип гностицизма космологически гипостазирует психологический опыт индивидуального, собственного Я, такие его формы, как забвение и воспоминание, изменение и преодоление, и включает этот опыт во всеобщую онтологичес-
1 См.: Hippolyt. Refiitatio omnium haeresium, VII. 27, 1 // Die Gnosis. S. 97.
23
кую связь мировой истории, охватывающей возникновение мира, его кризис и его искупление. Такая онтологизация личного опыта может быть понята как простая психологическая проекция указанного опыта и ее дальнейшая трансформация в космологический миф. Однако гностические системы Валентина или Василида представляются не как мифическое приключение, как события или действия мифологических героев, а как систематическое развитие этого действия теми, кто стоят где-то между личностями и обладают собственными именами и абстрактными универсалиями. Так, Sophia как причина падения и забвения как следствия падения есть не только пример гипостазирования в лицах, имеющих собственные имена, как в мифе, но одновременно и психологически понятных универсалий, которые вводят или способны ввести в сферу абстрактного понимания и объяснения. Гностические имена можно трактовать и как имена собственные, и как понятия. Вместе с тем гностическое повествование в его высших формах у Валентина и Василида (мифологические вариации последователей здесь не рассматриваются) явно представлено не как вечное повторение одного и того же, а как единственный в своем роде процесс. Идея неповторимости истории существенно отличает гностицизм от схемы мирового круговорота в мифе.
Открытие собственного Я и его истории, абстрактность изложения и неповторимость происходящего в гностическом повествовании отличают систему гностицизма от мифа. Всеобъемлющий характер системы, ее стремление к всеобщности и связанности повествования как раз и выводят ее за рамки мифа и указывают на наличие философской системы. «Система», ее стремление к всеобщности и убеждение в том, что систематичность есть свидетельство достоверности, не были изобретением Нового времени, это открытие Александрии, открытие философии, христианской теологии и внехристианского гностицизма II и III веков. Следы такого гностически-мифологического системного мышления проявляются и в юнгеровском гносисе эонов и истории Земли, как они развиваются в эпосе «У стены времени».
24
Гностическая система рассказывает историю, основная схема которой такова: сотворенный мир и Я из-за невежества впадают в состояние дезинтеграции и могут быть реинтегрированы путем познания всеобщности происходящего, через познание мира и себя1. Эта история всеобщей действительности излагается как эпос. По Гегелю, «содержанием эпоса является целостность мира». В эпосе «развертывается вся целостность того, что только можно причислить к поэзии человеческого существования». Эпос является «разумной тотальностью»1 2.
Гностическая система — наиболее универсальная, всеобъемлющая из эпосов, это — всеобщий эпос, повествование о тотальной взаимосвязи Бога, мира и человека, их истории. Гностическая система не удовлетворяется лишь частичной историей истории, в своей истории всеобщности она тотальна и целостна.
Гностически-теософский подтекст романтики и глубокое родство теософского и романтического эпоса проявляются в требовании Констана о создании эпоса, отмеченного тотальностью: «Мильтон прокомментировал Книгу Бытия, Клопш-ток — Евангелие, Сомэ —Апокалипсис, вот три основные составные части великой библейской эпопеи. Появляется христианский Гомер, который резюмирует Мильтона, Клопштока и Сомэ в поэме искупления, состоящей, подобно трилогии Данте, из трех частей и с мольбой обращенной к всеми признанному гению — Святой мировой церкви, единственной догмой которой является управление и усмирение своих порывов. Итак, произведения Гомера и Вергилия есть не что иное, как красивые сказки для детей, в то время как истинная
1 Здесь не следует останавливаться на рассмотрении различий между христианским, иудейским и языческим гносисом в его отношении к единству или, точнее, на различии между Богом-творцом и Богом-спасителем.
2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 459, 460.
25
эпическая поэма модерна раскрывается ъ универсальном синтезе»' (выделено П. К.}.
Гегель также стремился к универсальному синтезу и изображению тотальности. По Гегелю, воплощение синтеза онтологии и истории возможно, но не в романтическо-поэтическом или гностическом эпосе, а лишь в философской системе. Для немецкой философии эпохи романтизма и немецкого идеализма на его поздней стадии задачей мышления было «снятие» и преодоление мифа в философской системе; для французской романтики такой задачей было примирение мифа и истории, эпоса гуманности и социально-политического изменения. Гностические элементы, не в последнюю очередь в их преобразовании и «псевдоморфозе» (Ханс Йонас) христианской теологии, несут на себе отпечаток и теории всеобщей действительности, и немецкой философии истории, и французского поэтического эпоса человечества.
Французская романтика более индивидуалистична и космополитична1 2, нежели немецкая романтическая поэзия и философия того времени. Прежде всего в данном случае речь идет о Гегеле и Шеллинге, идеи которых в большей степени касались народного духа и нации. С другой стороны, уже Гегель видел, что национальный эпос становится интересен только в том случае, когда национальное в нем в значительной степени определяет всеобщее, человеческое, и что эпосы прошлого могут терять свою силу: «Житие Христа, Иерусалим, Вифлеем, римское
1 Constant A. L. [статья] «Po£sie» // Constant A. L. Dictionnaire de Litt6rature chretienne. Paris, 1861. Sp. 1115. О романтическом эпосе см. также: Bowman F. Р. llluminism, utopia, mythology // The French Romantics. Ed. D. G. Charlton. Cambridge (Cambridge University Press), 1984. Vol. l.P. 76—112.
2 Французские романтики были слишком индивидуалистичны, чтобы принять отказ от индивидуальности и сделать эпос человечества анонимным, доведя его до диалектического развития «мирового духа». См.: Hugo V. William Shakespeare. Р. 90: «Я — человек есть более глубокое, более обширное понятие, нежели Я — народ».
26
право, даже Троянская война для нас гораздо более близкие события, чем судьбы Нибелунгов, которые для национального сознания представляют собой просто прошедшую историю, как бы начисто выметенную метлою. В желании сделать подобный материал чем-то национальным, даже народной Книгой, заключался самый тривиальный и плоский замысел»1.
Насколько гегелевская система и в другом отношении близка романтическому эпосу, видно из его дальнейших размышлений об эпосе в «Лекциях по эстетике»:«.. .Величайшим действием духа была бы всемирная история, и это универсальное деяние на поле битвы всеобщего духа можно было бы попытаться переработать в абсолютный эпос, где героем был бы человеческий дух, humanus, восходящий в процессе своего воспитания от тупой придавленности сознания к ступени всемирной истории. Но как раз вследствие своей универсальности такой сюжет был бы слишком неподатлив для художественной индивидуализации.. . Это было бы возможно только двояким образом, а именно внутренний творец истории, вечная абсолютная идея, реализующаяся в человечестве, выступила бы либо как направляющий, деятельный, исполняющий индивид, либо как скрыто действующая необходимость»1 2.
Как теория истории всеобщей действительности гегелевская система абсолютного духа в определенной мере представляет собой «абсолютный эпос», который, однако, не отображает ни истории и деяний Бога, ни истории людей — индивидов или групп. Абсолютный эпос — движение, процесс неиндивидуального и невсеобщего единичного, ведь Абсолют не мыслится как личность или индивид, но он немыслим и как всеобщее. Однако мировую историю следует понимать как единство, как универсальное движение Абсолюта. Сам Гегель воспринимал свою систему не как абсолютный эпос или поэзию, но как
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. С. 439.
2 Там же. С. 446.
27
разъясняющую теорию всеобщности (тотальности), она не повествовательна, а диалектична и «научна».
Он проводил строгое различие между философией и поэзией.
4. «Магический реализм»: синтез науки и романтики
Юнгер не принял ставшее определяющим для немецких мыслителей, вплоть до Хайдеггера, разделение поэзии и философии, мифа и философии истории и своим творчеством преодолевал этот разрыв, обращаясь к многообразному, постоянно меняющемуся взаимопроникновению поэзии и философии. В своей работе «Лесной путь» (1951) объединение труда поэта и мыслителя Юнгер возводит до уровня программы: «К первостепенным событиям относится поворот философии от познания к языку. В результате произошло тесное соприкосновение духа и исконного феномена. Это важнее, чем все открытия в области физики. Мыслитель вступает в сферу, где наконец снова становится возможным союз не только с теологом, но и с поэтом» (Der Waldgang, S. 138 f.; Bd. 7, S. 371). Философский эпос Юнгера является плодом союза поэта с философом и теологом и таким образом возобновляет преемственность основной цели европейского романтизма. В нем нет описания единой истории человечества в одном эпосе; Юнгер ограничивается одним, пусть и весьма существенным, отрезком истории человечества, эпохой модерна. В этот период разворачивается именно та часть исторического человеческого эпоса, которую можно выделить как самостоятельную, а именно — современный эпос о Рабочем и титане «Человеке», или эпос XX века.
Соединение поэзии и науки не может быть простым переходом антитезы «либо — либо» в синтез «как — так — и», оно должно воплотиться во взаимопроникновении поэтического и философского видения, в новом едином взгляде на историю. Юнгер говорит о «стереоскопическом видении», в котором один
28
и тот же предмет рассматривается двумя совершенно разными, но все же перекрывающими друг друга способами1. Философский эпос и поэтическая философия возникают в качестве результата отношения к познанию, которое можно обозначить как «магический реализм». Реализм современного естественно-научного способа видения с трезвостью его подходов объединяется с магией поэзии. Этот магический реализм внезапно проявляется в «Сицилийском письме к человеку в лунном свете» (1930). Поднимаясь по расщелинам Монте Галло, он чувствует, что глаза долины остановились на нем и глядят очень внимательно: «Несомненно, у этой долины был свой демон... В этот момент для меня было неслыханным видеть эти две маски одного и того же бытия (науки и мифа. — П. К.) неразделимо сливающимися друг в друге. И это потому, что здесь впервые исчез мучительный раскол, который я, правнук идеализма, внук романтизма и сын материализма, до того считал неразрешимым» (Sizilischer Brief an den Mann im Mond, S. 22).
Стереоскопическое видение магического реализма сводит в единой картине мира идеалистическое раскрытие мира, как оно совершается в понятии и через понятие, с романтическим магическим открытием мира через воображение, а также с материалистическим опытом, достигнутым в наблюдении и эксперименте. Философский эпос или поэтическая философия — это ставшее рассказом выражение подобной картины мира во временной последовательности. Преемственность опыта и познания поэта-философа в истории своего столетия отражается в преемственности повествований его эпоса, эта преемственность неизбежно нарушается — посредством языка. Как «правнук» идеализма и «внук» романтизма Юнгер ближе европейскому феномену романтики, нежели немецкому идеализму, который, если подойти к нему с позиций сегодняшнего дня и рассматривать его в общеевропейском контексте, оказывается, скорее, ча
1 См. также: Katzmann V. Ernst Jiingers Magischer Realismus. Hildesheim / New York (Olms), 1975.
29
стным собственно немецким идейным течением. В сравнении с идеалистическим монизмом разума европейская романтика более открыта, тяготеет к объединению поэтического, абстрактного и экспериментального; поэтому идея о философском эпосе может служить ключом к пониманию творчества Юнгера. Особая близость такого творчества к французскому варианту романтики ведет к смешению общих теософских установок Юнгера и французских романтиков.
Тем самым в новом свете предстает также и отношение романтики и немецкого духа. Немецкая традиция, вопреки принятым в Германии представлениям, является не слишком, а напротив, недостаточно романтичной. В противоположность французской традиции, которая не помешала романтику Ламартину стать министром иностранных дел Республики, романтика в Германии была оттеснена на обочину политики господствовавшими идеями — гегельянством и позитивизмом1.
Эрнст Юнгер как приобретший влияние романтик для Германии является исключением. Его эволюция — от своего рода технократа и нигилистически настроенного позитивиста и сциентиста до мага и магического поэта и в конце концов до теософа и гностика — являет собой беспрецедентное в XX веке превращение рационалиста в романтика. Такие метаморфозы Юнгера переворачивают многие представления о развитии идейной и духовной истории в XIX веке. Это развитие традиционно виделось как движение от теологии через метафизику к позитивной науке, как его описал и декларировал Конт в своих законах. Юнгер же, напротив, от научного позитивизма переходит к трагически-героическому реализму и в конечном счете к теософскому гносису, соединению философии, мифологии и теологии.
1 См.: Poggeler О. Hegels Kritik der Romantik. Phil. Dissertation. Bonn, 1956. Это одна из тех немногих работ, авторы которых отказывают философскому романтизму в Германии в справедливости противопоставления себя «классике», немецкому идеализму.
30
Возможно, этим родством целей Юнгера и французской романтики объясняется тот факт, что его так высоко ценят во Франции. Иллюминистическое и теософское развитие творчества этого автора в некоторых отношениях дальше от немецкого духа, колеблющегося между позитивизмом науки, иррационализмом мифа и негативной теологией фидеизма наподобие протестантизма, нежели от французского. В истории французского духа, наряду с картезианским рационализмом и позитивизмом Конта, постоянно существовало и третье течение — иллюминизм как рациональный синтез философии, христианской теологии и мифологии. Во Франции эти течения не могли потеснить ни фидеизм sola fide' протестантизма, ни позитивизм и антитеоло-гическое Просвещение. Романтика и теософия благодаря синтезу теологии и Просвещения открыли путь, который был ближе к решению антитез диалектики Просвещения, чем колеблющееся между материализмом и идеализмом немецкое философское мышление.
Творчество Юнгера примыкает к этой традиции. Поэтому оно не вписывается ни в иррационализм «мифа XX века» и обскурантизм, ни в позитивизм. Взгляды писателя противоположны и тому стремлению избавиться от всего, что обладает метафизическим смыслом, как оно реализовано в практике рационалистического Просвещения. Его поэтическая философия, его эпос модерна, расширяет пространство рациональности и реализма за счет теософии, мифологии и магии; именно потому философский эпос Юнгера взрывает границы литературных жанров и объединяет разные жанры в новой литературной форме. И в этом Юнгер сродни романтике.
1 только верою (лат.).
Книга I
Миф о Рабочем и титане «Человеке»
Может ли существовать миф о модерне, если модерн претендует на то, чтобы быть эпохой разума и преодоления мифологии? Эрнст Юнгер мифологизирует и демифологизирует модерн одновременно. Разворачивая миф о модерне, он показывает, что в самоинтерпретации последнего скрыта мифология. Философия истории модерна, основное содержание которой составляют прогресс и тотальная мобилизация Земли ради человека, сама является формой мифа, способом повествовательного самопредставления и самоинтерпретации эпохи и ее программы. За «мастерским повествованием» философии истории модерна стоит миф о Рабочем и титане «Человеке».
Первую половину своего века, эпоху «стальных гроз» и титанической власти Земли, Юнгер обрисовал как последовательную смену трех мифических типов, или героев. «Стальные грозы» Первой мировой войны выплавили в тиглях «великой битвы» Солдата и привели к исторической развязке этот тип героя, сложившийся в прежних формациях, в домодерне. В межвоенное время, в тотальной мобилизации и модернизации вырос Рабочий, герой модерна. Наконец, в теллурических битвах Второй мировой войны и в новых мобилизующих Землю формах техники становится виден образ титана.
Часть А
В СТАЛЬНЫХ ГРОЗАХ МОДЕРНА
Глава 1. Солдат
Поэтическое творчество Эрнста Юнгера начинается в 1920 году с романа-дневника о Первой мировой войне «В стальных грозах». Этим произведением Юнгер открывает и свой эпос века, свой миф о том периоде модерна, который можно обозначить как «модерн стальных гроз». На этом отрезке столетия герой модерна, человек-солдат, человек-рабочий и человек-титан, подвергся большим испытаниям и по большей части их не выдержал. Такова логика вещей — миф о модерне и эпос столетия, начинаются эпическим романом-дневником о Первой мировой войне. Как пишет, оглядываясь назад, в 1990 году Юнгер, миф начинается с войны. «Миф рассказывается отцом, вернувшимся с войны» («Ножницы» — Die Schere, S. 90).
Солдат — первая из мифических фигур, определивших XX столетие. Он родом из прошлого, из более ранних времен и скорее входит в модерн, чем принадлежит ему. Его век истек уже в Первую мировую войну, его образ во время этой «великой войны» начинает превращаться в образ Рабочего. В 1920 году Юнгер описывает Первую мировую войну еще с позиций Солдата. В 1984 году он напишет: «Пройдет много времени, пока мы сделаем выводы из нашего опыта; и часто выгода, какую мы могли бы получить от этого, оказывается уже растраченной и ненужной. Так мы смогли пройти Первую мировую войну, не заметив, что линии фронтов проходили-то по позициям и что мы вели эту войну и не в духе Гомера, и не в духе XIX века» («Автор и авторство» — Autor und Autorschaft, S. 90; Bd. 13, S. 469).
Однако уже в 1930 году Юнгер признает, что в этой войне метаморфоза Солдата вылилась в образ Рабочего. Первая миро
2 Петер Козловски 3 3
вая война представляется ему жертвенным путем для первого прорыва модерна, первой мобилизацией для модерна.
«Мы касались технической стороны тотальной мобилизации, совершенствование которой началось (и это можно проследить) с первых призывов правительства Конвента на военную службу, с реорганизации армии Шарнхорстом и продолжалось до масштабных динамичных программ вооружения последних лет мировой войны, когда страны превратились в гигантские фабрики, где производство армий было поставлено на конвейер, чтобы днем и ночью отправлять их на поля сражений, где роль потребителя взял на себя ставший столь же механическим кровавый пожиратель. Так мучительна монотонность этой картины, напоминающей точный ход работающей на крови турбины, для героической души, но все же в присущем ей символическом содержании сомнений быть не может. Здесь становится явной строгая последовательность, суровый отпечаток времени на воинственном посреднике» («Тотальная мобилизация» — Die Totale Mobilmachung. S. 135; Bd. 7, S. 129).
Для Эрнста Юнгера Первая мировая война — это первый раскат собиравшейся уже со времени Французской революции стальной грозы и плавильная печь модерна. Первая мировая война — это первый, еще не до конца проявившийся этап мобилизации и «тотального характера труда» эпохи. Как раз в Германии война имела черты частичной мобилизации, так как из-за несостоявшейся общественно-политической модернизации и несоответствия оснастке демократий Запада она была не в состоянии осуществить тотальную мобилизацию. Германия была вынуждена вести войну еще в духе кабинетной войны. И материальная битва Первой мировой войны слишком хаотична и привязана к земле, чтобы удовлетворять требованиям планомерного военного захвата всего пространства («О боли» — Uber den Schmerz, S. 198; Bd. 7, S. 177). Кровавая турбина еще слишком малотехнична и слишком воинственна, чтобы достичь уровня совершенной техники. Но она уже ранит героическое чувство войны.
34
Первая мировая война — это этап мобилизации Земли в эпоху модерна и это конец героя войны при нарастающей тотализа-ции войны и мобилизации энергии, конец чтящего отечество Солдата. Первая мировая война и трансформация войны из битвы прежнего стиля, через позиционную войну и материальную битву, до механического боя способствовали метаморфозе героя из Солдата в Рабочего.
1. Кладовые ужаса
Внешнюю сторону участия Юнгера в войне можно изложить кратко. В начале 1915 года под Базанкуром, маленьким городком в Шампани, Юнгер оказывается на Западном фронте. Уже в своем первом бою, при Лезэпарже, он получает свое первое ранение и «впервые понимает, что эта война гораздо серьезнее, чем большое приключение» (In Stahlgewittem, S. 39). Лейтенантом он участвует в битве на Сомме (24 июня — 26 ноября 1916г.), получает второе ранение, а после третьего его награждают Железным крестом первой степени; во время летнего отступления он уже командир роты и после следующего ранения в битве при Камбре получает Рыцарский крест придворного ордена Гогенцоллернов. Он рассказывает, как в течение 1917 года становилось все заметнее подавляющее превосходство противника, наблюдает нарастающую жестокость средств ведения войны; когда Людендорф попытался осуществить «Великую битву», «...решить исход войны одним мощным ударом...» (In Stahlgewittem, S. 230), Юнгер снова ранен и должен констатировать, «что наступление завязло и что оно, в стратегическом отношении, провалилось» (In Stahlgewittem, S. 266). Он рассказывает об усталости войск, о первых танках,«.. .этих все чаще вступающих в бой боевых слонах битвы техники» (In Stahlgewittem, S. 272f.), и завершает свое участие в войне, как и повествование о ней, после тяжелого ранения получением, не без гордости, Золотого знака за ранения и ордена «За заслуги». Получение ордена Юнгер комментирует следующим замечанием: «В этой
35
войне, когда под огнем были уже пространства, а не отдельные люди, я всегда добивался, чтобы одиннадцать из этих выстрелов были направлены лично на меня» (In Stahlgewittem, S. 299). Свою книгу он заканчивает строками: «В один из таких дней, это было 22 сентября 1918 года, я получил от генерала фон Буссе телеграмму следующего содержания: «Его величество кайзер удостоил Вас ордена «За заслуги». Я поздравляю Вас от имени всей дивизии» (In Stahlgewittem, S. 300).
Роман «В стальных грозах» примечателен не только как повествование о внешней стороне событий. Он рассказывает о itinerarium mentis in hello, о духовном переживании войны и о том, как война меняет человека. Роман приобретает значение эпоса современной войны, который в форме дневника удерживает внутреннее переживание войны.
Война Эрнста Юнгера начинается со жгучего желания участвовать в ней как приключении, однако уже в первый день она показывает когти и сбрасывает свою добродушную маску. Доброволец Юнгер, подобно героям мифа о войне, надеется получить от войны совсем другое, опыт и познание великого, грандиозного. Герой хочет действовать, участвовать, рисковать. «Выросшие в эпоху безопасности, мы все чувствовали тягу к чему-то необычайному, к серьезной опасности. Поэтому война одурманила нас. Война должна была бы дать нам великое, сильное, торжественное. Ах, только бы не остаться дома, только бы иметь право участвовать!» (In Stahlgewittem, S. 11).
За этим началом «В стальных грозах» уже через две страницы следует признание, что встреча молодых добровольцев в первый же день на войне с раненым «у некоторых даже очень снизила воодушевление» (In Stahlgewittem, S. 13). Так представление о героизме в первый же день на войне становится более трезвым, но желание героического, великого сохраняется у Юнгера на протяжении всей войны, со всеми ее ужасами, вплоть до момента, когда уже явным стало будущее поражение.
36
Героическое не обязательно связано с победой, оно реализуется и в поражении1. Быть частью этого consumption forte, мощного потребления, и алхимии войны не зависит от того, выйдет ли человек из войны победителем или побежденным. Позднее об этой алхимии войны Юнгер напишет: «Вот где было наглядно представлено, как ведется двойная бухгалтерия жизни; я вспомнил утешение Конде, с которым он обратился к плакавшему по более чем 6000 павших в битве при Фрейбурге Мазарини: «Ба, да одна-единственная ночь в Париже дает жизнь большему количеству людей, чем стоило это дело» («Сердце, ожидающее приключения» — Das abenteuerliche Herz 2, S. 78; Bd. 9, S. 229).
Мазарини плачет о более чем шести тысячах павших и в утешение слышит слова о двойной бухгалтерии обновления жизни. Наблюдающий современную войну должен горевать о несоизмеримо большем числе человеческих жертв. Но и ему указывают на ту же бухгалтерию жертв и обновления:
«Такое отношение полководцев, предполагающее за сожжением изменение, всегда поражало меня как признак крепкого1 2 жизненного здоровья, которое не стесняется кровавой раны. Так я испытываю удовольствие при мысли о3 столь возмутительных для Шатобриана словах о consumption forte, о мощном пожирании, которые Наполеон имел обыкновение бормотать в моменты битвы, когда полководец не был так занят, когда все резервы
1 См. также: Siedler W. J. Die Entzifferung der Zeichen. Die Laudatio auf den neuen Goethe-Preistrager der Stadt Frankfurt. Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt an Ernst Jiinger. Frankfurt, 1982. S. 13: «К словам поэта, сохранившим на протяжении трех четвертей века свою сокрушительную силу, относится и высказывание о метафизическом смысле войны, с которым надо согласиться не вопреки жертвам, а ради них. После Сталинграда это так же шокирует, как и после Вердена. Но разве не было это требованием чувства, не желавшего смириться с тем, что в миллионах погибших видят только жертв негодной политики, и настаивавшего на том, что мировой порядок не знает бессмысленных жертв».
2 В полном собрании сочинений этого слова нет.
3 В полном собрании сочинений: «Оно (это отношение) с классической краткостью концентрируется в».
37
на марше, когда линия фронта под натиском кавалерийских эскадронов и обстрелом подтянутой артиллерии плавится как в кузнице, где полыхают сталь и огонь. Это слова, без которых не хотелось бы обходиться, обрывки разговоров с самим собой у плавильных печей, которые краснеют и дрожат как тлеющие угли, в то время как в дымящейся крови дистиллируется в эссенцию дух нового столетия» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 78f.; Bd. 9, S. 229).
Пока Шатобриан выражает недовольство по поводу высказывания Наполеона об этом факте войны, Юнгер в «Сердце, ожидающем приключений» (1938) испытывает «удовольствие» от этого выражения, хотя и не от того, к чему оно относится. Умерщвление многих и многих людей — это факт войны. Люди буквально таяли уже в битвах войн до модерна. Этот факт совершенно не зависит от чувств человека, рассказывающего о войне. Назвать смерть, умерщвление на войне мощным пожиранием — это тот способ выражения, который следует из невовлеченности и крайнего дистанцирования. Такое отношение не лишено чувства сострадания, но в нем нет морального протеста и оценки. Его гораздо больше отличает воля к крайнему «терпеть-мочь» благодаря экстремистскому стоицизму в отношении того, что происходит. Невовлеченность эпика видит в масштабном умерщвлении в битве мощное пожирание сырья, которое в алхимической лаборатории войны должно превратиться в новый материал, в новую эпоху. Consumption forte — это выражение сознательного дистанцирования от того, что на войне приносят жертву, жертву во имя дистилляции эссенции нового времени. В крови войны дух дистиллируется в новое состояние.
Невовлеченность поэта не лишена сострадания. Ей известно, что цена этого рождения и дистилляции — боль1. «В основе
1 В связи с этим критика М. Грайфенхагена, который пишет, что Юнгер воспринимает войну эстетически (Greiffenhagen М. Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. Munchen (Piper), 1977. S. 277), несостоятельна. Грайфенхаген путает трагическую трактовку войны с просто эстетической.
38
этого языка лежит вера в жизнь, не знающую пустых пространств. Вид ее полноты заставляет забыть о тайном знаке боли, разделяющем обе стороны уравнения» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 79; Bd. 9, S. 229).
Боль присутствует всегда. Ее можно лишь уязвить воспоминанием о двойной бухгалтерии жизни и согласием с ней. То же представление о двойной бухгалтерии проявляется и в 1990 году в изображении режущих ножниц. Ножницы раскрываются, чтобы отрезать то, что должно упасть, и дать пространство тому, что должно расти, «как нож, который открывается и снова закрывается... Здесь сначала надо было бы подумать о щипцах, но потом в общих чертах об основной форме хватки. О парикмахерах, цензорах и стратегах говорят, что они пускают в ход ножницы. Армия в наступлении «coifTiert»1 (маршал Фош)» (Die Schere, S. 71).
Ножницы — это изображение сечения и самообновления жизни. Его можно связать с тремя проявлениями жизни — вегетативным, духовным и воинствующим, отнести к трем проявлениям жизненного цикла в обществе, представленным профессиональными сословиями парикмахеров, цензоров и военных. В основу «Ножниц» (1990) положен античный миф о Мойрах, греческих богинях судьбы. Мойры режут и раздают, наделяют: Атропос, младшая из трех сестер, отрезает нить жизни, а ее сестра Клото уже прядет новую, Лахесис вручает ее человеку, который рождается.
Миф не дает моральной оценки, он не знает предпочтений; миф констатирует. Боль — вот цена, которую надо заплатить за двойную бухгалтерию жизни, за приход и расход из рождения и смерти. Миф жив двойной бухгалтерией преступников и жертв. Жертва — такова главная идея мифа, и неудивительно, что идея жертвы выдвигается в центр мифологии модерна Юнгера.
Для человека из мифа тот факт, что события, подобные войне, неизбежно влекут за собой жертвы, не является основанием,
1 стрижется (фр.).
39
препятствующим считать это событие достойным прославления и одобрения и желать участвовать в нем. Миф питается участием в божественном, и его приверженцы присоединяются к нему из желания быть причастными к такому событию.
Рассказ Юнгера о своем первом ранении как лучом прожектора высвечивает это стремление участвовать в событии — Великой войне:
«Короткий разговор рядом со мной, который я подслушал, заставил меня задуматься.
— А что у тебя, камрад?
— У меня прострелен пузырь.
— Очень болит?
— Да ничего. Плохо то, что с этим совсем нельзя воевать» (In Stahlgewittem, S. 38).
В юнгеровском эпосе войны рассказы о боях сменяются описанием монотонности позиционной войны, оживляемой лишь приключениями поисковой разведгруппы: «Эти короткие вылазки, когда приходилось собирать сердце в кулак, были хорошим средством закаливания мужества и борьбы с единообразием окопной жизни. Прежде всего солдат не должен скучать» (In Stahlgewittem, S. 96). Война является пусть и ужасным, но приключением и сосудом для дистилляции новой эпохи, ввергающей и преступников, и жертвы в состояние, похожее на дурман. На войне каждый одновременно преступник и потенциальная жертва1. Юнгер описывает жестокость, бессмысленные разру
1 «Незабываемы такие моменты во время ночных вылазок. Глаза и уши напряжены до предела, приближающийся шорох чужих шагов в высокой траве приобретает угрожающую жизни силу. Дыхание прерывистое; надо заставить себя заглушить пыхтение. С коротким, металлическим щелчком отскакивает предохранитель пистолета; звук ножом проходит по нервам. Зубы стучат о кольцо ручной гранаты. Столкновение будет коротким и смертельным. Два мощных по силе чувства просто сотрясают тебя: возрастающее возбуждение охотника и страх дичи. Весь мир — это ты сам, до краев наполненный темным, отвратительным чувством, тяготеющим над пустынным ландшафтом» (In Stahlgewittem, S. 77 f.).
40
шения и страдания мирного населения. Каждый отдельный человек — это лишь частица великого происходящего, использующего машинерию, внутри которой человек может действовать, но как таковой не может нести ответственность. Он часть трагического события. Эту трагичность способен описать только миф, но никак не рациональное повествование или рассуждение.
Первая мировая война развивает динамику деперсонализации, когда поступки каждого отдельного солдата все больше и больше теряют значимость по отношению к механике маши-нерии войны. Битвы сами трансформируются в новую форму военных действий. О метаморфозе войны в эпоху модерна Юнгер в июне 1916 года, в связи с великой битвой на Сомме, замечает: «Теперь мы, так сказать, втягивались в новую войну. То, что мы до сих пор пережили, конечно, не подозревая об этом, было попыткой выиграть войну в битвах старого стиля, которая закончилась ничем, вылившись в позиционную войну. Теперь нам предстояла материальная битва с ее гигантским призывом. Но и она где-то в конце 1917 года сменилась битвой механической, картина которой, однако, не успела достичь полноты» (In Stahlgewittem, S. 75f.). To, что Первая мировая война, «Великая война», ведет к надличностным, трагическим обстоятельствам причины и вины, окончательно становится ясно во время «Великой битвы» конца марта 1918 года: «Великая битва означала переломный момент и в моем внутреннем состоянии, так как теперь я считал поражение в войне возможным. — Невероятная концентрация сил в час, когда решалась судьба, когда шла борьба за далекое будущее, и последовавшая затем, столь неожиданно, столь ошеломляюще, развязка впервые ввели меня в глубины надличностных сфер. Это отличалось от всего пережитого ранее; это было посвящение, не только открывшее раскаленные кладовые ужаса, но и ведущее через них» (In Stahlgewittem, S. 267).
«Великая битва» — это посвящение в надличностное, она стала таким посвящением не только потому, что участвовавший в ней солдат именно с тех пор считает войну проигранной, но и
41
потому, что там в бою высвободились силы, постижимые исключительно в категориях мифа (они уже не были результатом личного поступка солдата). Однако проигравший в войне воспринимает мифическое и надличностное сильнее, чем победитель, всегда склонный приписать заслугу победы себе — как личное достижение. Победитель видит вину и причину там, где побежденный усматривает трагические роковые обстоятельства. Кто из них прав, нельзя сказать заранее. Победа ослепляет, лишает способности видеть и трагичность победы и поражения. Побежденная Троя в метаморфозе истории становится более поздним, господствующим в мире и Греции Римом. На своих плечах Эней несет Трою до последующей победы над теми, кто ее победил, над греками.
Через несколько лет после Первой мировой войны, в 1927 году Юнгер все еще пытается раскрыть смысл, который, должно быть, есть и в поражении, он снова возвращается к мифическому его толкованию. Зал в Этцеле становится для него метафорой преодоления бессмысленных на первый взгляд страданий Первой мировой войны: «Ни один из нибелунгов не вышел живым из зала Этцеля, но как раз поэтому они продолжают жить в этом величии, — говорит Юнгер устами батрака и продолжает: Он был прав! Именно такая правда не может провозглашаться достаточно часто и настойчиво. В этой легендарной битве в горящем зале Этцеля выражается не только чрезвычайная отвага, но и глубочайшая мудрость. И триста спартанцев при Фермопилах выполнили свою задачу настолько блестяще, как ни одна задача на свете не может быть выполнена. Об этом надо не только говорить, но проповедовать в то время, когда вся пресса занята тем, чтобы выставить мужество нецелесообразным, а трусость — моральным постулатом. В таких высоких поступках человеческое достижение поднимается до степени безоговорочности, которую уже нельзя превзойти. Давайте никогда не забывать о том, что и у нас на этой войне были корабли, находясь на которых мы смотрели в глаза неизбежному концу с тем же упрямством, что и мужи в зале Этцеля. И когда такие поступки прино
42
сят в жертву ценностям, лежащим вне личности, любви и верности, или великому рейху, то в них открывается высшая нравственность. Она осуществляется в моральном мире, в мире веры, в котором идея прогресса теряет смысл, так как это — абсолютные ценности, к которым лежит сердце. Такие ценности есть ценности солдата и святого, сияющие над кровью полей сражений и над головами распятых, — свидетельствовать о них — это задача, лишить которой мы нас не позволим»1.
Смысл борьбы не зависит исключительно от ее исхода, и война не только в моральном отношении, но и фактически имеет смысл как для победителя, так и для побежденного: «Но то, что действительно для мира морального, действительно и для мира фактического. Достойный мужчины поступок оставит след. Войска Ганнибала были уничтожены — и все же, разве они не были живы в Римской империи? Дело Лютера — это не только Реформация, но и Контрреформация. Католическая церковь обязана ему столь же многим, как и весь мир простому солдату, даже если он об этом никогда не скажет. Наша кровь на большой войне пролилась вдвойне не зря. Эта война была проиграна не напрасно — вероятно, для нас важнее то, что мы ее проиграли, а не выиграли, как это бывает, когда чья-то жизнь закаляется и очищается под ударами судьбы лучше, чем в теплой ванне счастья. ...Пусть на войне пали миллионы, но разве не пошли на лад все дела, разве не кажется, что повсеместный рост был бы еще более диким и буйным? Все это обильно пролитая кровь, вот что еще не дает нам покоя» (там же).
Миф утешает проигравшего войну рассказом о тех на первый взгляд бессмысленных жертвах, которые в ходе исторических событий все же обрели свой смысл. Миф оправдывает не только войну, которую ведет победитель, но и войну, в которой
1 Jiinger Е. Professorales und Nichtprofessorales И Arminius. Kampfschrift fur deutsche Nationalisten. 8. Jg., H. 36 (1927). S. 3. См. также его предисловие к: Jiinger Е. (Hrsg.). Der Kampf um das Reich. Essen (W. Kamp) 2. Aufl., o. J. (вероятно, 1929), S. 8: «Даже самое безнадежное дело оставляет радужные воспоминания».
43
сражается побежденный. Такой трагической трактовке войны присуща гуманность, потому что в ней отдается дань уважения и тем, кто страдает, и тем, кто свершает, проигравшим и выигравшим, а не только прославляется победитель и успех. Победа в войне никогда не бывает только оправданной, а поражение в войне — только заслуженным. Даже в том случае, если дело победителя справедливо, дело побежденного не может быть целиком неправым. Если бы оно было совершенно неправым, то дело и не зашло бы до войны, спор был бы разрешен заранее. Трагическое видение мифа только тогда превращается с точки зрения морали в двойственное и недопустимое, когда вопрос правомерности причин войны вообще снимается, а любой повод вести войну признается благом или, как в пацифизме, отвергается сходу как зло. Добродетель рыцарства по существу заключается в том, чтобы не отрицать права противника или врага вести войну, но признавать, что и его дело по-своему справедливо.
2. Тотальная мобилизация
Для Юнгера поражение в войне становится поводом к размышлениям о «стальных грозах» и мифе о модерне, выходящих за пределы рационализма победителя. В трактовке модерна как тотальной мобилизации рационализм самого модерна просматривается как составная часть и вариант мифа о модерне. У побежденного зрение острее, чем у победителя. Он лучше видит, какие из притязаний победителя справедливы, что в его учении является обоснованным превосходством, а что — идеологией. Побежденный видит лучше, потому что он страдает от победителя и от самого себя. Победитель считает победу своим достижением, побежденный считает свою войну космическим событием в ряду таких же событий. «Этот спектакль напоминает о вулканах, в которых постоянно полыхает один и тот же, исходящий из самых глубин огонь земли и которые, однако, действуют в совершенно разной местности. Так и необходимость участия
44
в войне означает нечто подобное, будто нужно попасть под влияние этих извергающих огонь гор» (Die Totale Mobilmachung, S. 125; Bd. 7, S. 121)1. Однако нельзя останавливаться на мифе войны как космическом событии; нужно задаться вопросом, что могло привести к извержению первого вулкана модерна. Развязывание войны указывает на более глубокий пласт причин — социальную революцию. «Оба этих явления, мировая война и мировая революция, переплетаются друг с другом гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд; они — две стороны космического явления, во многих отношения взаимозависимые — в том, что касается генезиса непосредственного начала» (Die Totale Mobilmachung, S. 126; Bd. 7, S. 122).
В самом историческом событии Первой мировой войны затронуты понятия и реалии прогресса, цивилизации, разума. Западные державы ведут Первую мировую войну во имя прогрес
1 Впервые работа «Тотальная мобилизация» появилась в 1930 году в Берлине (издательство «Юнкер и Дюннхаупт») в изданном Э. Юнге-ром томе «Война и воин». Примечательно, насколько статья Юнгера отличается от других работ этого тома своим и сегодня читабельным языком и прежде всего «модернистским» характером анализа. И сейчас интересны помещенные в этом сборнике публикации Вильгельма фон Шрамма «Творческая критика войны» (S. 31—50) и Вернера Беста «Война и право» (S. 135—162). Шрамм точно анализирует недостатки военного руководства Германии. Статья Беста несет на себе печать недопустимого, но для мышления тех лет показательного культа силы и последовательного ницшеанства, что позволяет автору трактовать право как функцию власти и элементарное средство во внутри-и внешнеполитической борьбе за власть. Особенно отталкивающей является готовность одобрить трансформацию права в отношение насилия, которую, пожалуй, можно назвать последовательной по крайней мере потому, что она соглашается с таким превращением права и там, где оно грозит саморазрушением. Как источник обнаружившей позднее катастрофические последствия позиции «героического реализма» — Бест в этой статье вводит данное понятие в дискуссию, — а также последствий последовательного ницшеанства в области философии права публикация Беста показательна для истории идей 30-х годов и генезиса национал-социализма.
45
са и права наций на самоопределение. Но что сказать, если само значение прогресса скрыто, если смысл прогресса, «великой народной церкви XIX века, единственной, кто обладал действительным авторитетом и некритической верой, использует как великолепное прикрытие внешне такую прозрачную маску разума»? (Die Totale Mobilmachung, S. 127f.; Bd. 7, S. 122f.) За масками разума и прогресса скрывается подлинная сущность модерна, собственное значение прогресса — тотальная мобилизация. Если исход Первой мировой войны был решен тем, как отдельные воюющие стороны относились к прогрессу, то это означает, что ведущие войну государства в разной степени были способны и предрасположены к тотальной мобилизации.
Германия как монархия была в состоянии осуществить лишь частичную мобилизацию: монархическому порядку соответствует мобилизация только постоянной армии, а не всего народа и всех резервов. Монархия не склонна к всеобщей мобилизации, так как она может привести к народному восстанию. Напротив, мобилизация в условиях демократии — это всегда всеобщая мобилизация. «Как каждая жизнь уже несет в себе зародыш собственной смерти, так и выступление больших масс включает в себя высшую демократию смерти. Мы уже пережили эпоху прицельных выстрелов. Командир эскадрильи, отдающий в полночь приказ о бомбардировке, больше не видит разницы между теми, кто воюет, и теми, кто не воюет, а смертоносное облако газа, как стихия, накрывает все живое. Возможность таких опасностей, однако, не предполагает ни частичной, ни всеобщей мобилизации, но тотальную мобилизацию, распространяющуюся даже на дитя в колыбели» (Die Totale Mobilmachung, S. 134; Bd. 7, S. 128).
Тотальная мобилизация всех сил — это и есть настоящее лицо прогресса и модерна, а народы добиваются побед в зависимости от способности к мобилизации. «Так, мобилизация в Соединенных Штатах, в стране с очень демократической конституцией, могла быть введена такими строгими мерами, какие были бы невозможны в милитаристской Пруссии, стране с из
46
бирательным цензом. ...Уже в этой войне все зависело не от степени милитаризованности того или иного государства, а от степени его способности к тотальной мобилизации» (Die Totale Mobilmachung, S. 138f.; Bd. 7, S. 13If.). Германия должна была проиграть войну, так как по своему характеру она была не в состоянии осуществить тотальную мобилизацию.
Таким образом, Юнгер приходит к выводам, которые, хотя и остаются спорными, сегодня весьма актуальны. Первый вывод звучит так: идеологическая враждебность западных и центральных держав решила исход войны прежде всего потому, что она предопределила разницу мобилизационных потенциалов, а не потому, что последовательный либерализм и модернизм западных держав имел явное внутреннее или духовное превосходство над половинчатым либерализмом и модернизмом центральных держав. Второй вывод: последовательный либерализм и последовательная мобилизация западных держав не служат для них оправданием в том, что победа над центральными державами была объявлена моральной победой одной стороны и заслуженным (за неморальность) поражением другой. Идеологизация войны порождает морализирование относительно победы и поражения, их Юнгер считает моральным чванством со стороны победителей и несправедливостью к побежденным.
«Перенесемся на секунду в гротескную ситуацию, когда шеф отдела рекламы, незаурядный человек, должен подготовить пропаганду современной войны, и в его распоряжении два средства для поднятия первой волны возбуждения, а именно убийство в Сараево или нарушение бельгийского нейтралитета, и нет никаких сомнений, от какого средства он мог бы ожидать большего воздействия. Внешнему поводу мировой войны, каким бы случайным он ни казался, присуще символическое значение: в лице сараевских преступников и их жертв, наследников габсбургской короны, национальный принцип столкнулся с династическим, очень современное «право народов на самоопределение» — с реставрированным на Венском конгрессе с помощью пре
47
жнего искусства управления государством принципом легитимности» (Die Totale Mobilmachung, S. 140; Bd. 7, S. 132)1.
Столкновение двух несовместимых принципов права, а следовательно, и морали — вот что было причиной мировой войны. Юнгер соглашается с тем, что Германия, к сожалению, была наполовину ко времени, а наполовину не ко времени и определенно непоследовательной, что во время этого конфликта во Франции хранилась «тайная эталонная мера цивилизации»1 2 (Die Totale Mobilmachung, S. 150), что Бетман-Гольвег не имел права говорить о «клочке бумаги», а должен был бы знать, что «для либерализма клочок бумаги, особенно тот, где записана конституция, может иметь такое же значение, как и освященная облатка для католического мира, и поэтому вполне в духе абсолютизма разрывать договоры, однако сила либерализма в том, чтобы их выполнять» (Die Totale Mobilmachung, S. 14If.; Bd. 7, S. 133f.). Все эти ошибки и несоответствия времени, запаздывания и не
1 Экштейн не уделяет должного внимания провокации с убийством наследника престола, ограничиваясь при перечислении «провокаций», приведших к Первой мировой войне, нападением Австрии на Сербию и вступлением Германии в Бельгию (Ekstein М. Tanz iiber Graben. S. 355). — Даже такой именитый философ, как Бергсон, в 1915 году дал увлечь себя дискуссией о «варварстве научном» и «варварстве системном» Германии: «Да, само по себе усилившееся варварство захватило силы цивилизации» {Bergson Н. La Signification de la Guerre. Paris (Bloud et Gay), 1915. P. 19). Насколько глубокий отпечаток наложило на Юнгера переживание событий Первой мировой войны, видно из его предисловия к: Jiinger F. G. Aufmarsch des Nationalismus. Leipzig («Der Aufmarsch» Verlagsges.), 1926. S. Xf. Он пишет: «Мы предчувствуем появление этого (нового, твердого как сталь) типа людей у всех народов Европы, поскольку так же, как и война затронула не одну Германию, так и новый национализм не ограничивается Германией. ...Но основой наших притязаний мы можем, конечно, сделать то, что мы пострадали от войны в наибольшей степени. ...Война — наша мать, она зачала нас в раскаленном чреве окопов как новый род, и мы с гордостью признаем наше происхождение».
2 В полное собрание сочинений не вошло.
48
расторопность Германии все же не могут дать западным державам права — ни в рамках международных норм, ни морального — превращать проигравших войну в аморальных типов, даже в преступников.
3. Страдания за Германию
В своей критике либерализма Юнгер особенно горько переживает ситуацию, когда вопросом морали становится проблема, которую нельзя ставить как нравственную. Это вопрос о вине Германии в Первой мировой войне. Поскольку Германия после убийства в Сараево настаивала на принципе легитимности так же жестко, как западные державы — на своих национальных и демократических принципах после вступления Германии в Бельгию, то именно война и стала решением проблемы, как это уже имело место в прошлом и в других войнах. Однако никому и в голову не приходила мысль объявлять побежденного в войне между европейскими государствами преступником только потому, что он вел войну1.
Горечь поэта, смотрящего в корень конфликта, и его сожаление очевидны: «Немец вел войну, преследуя слишком дешевый для него тщеславный интерес — стать добрым европейцем. Но поскольку Европа вела войну против Европы, кто же как не Европа мог стать победителем?»1 2 (Die Totale Mobilmachung, S. 156). Но если Европа победила Германию, не должна была бы Германия выйти из Европы или стать изгнанницей? Первая европейская братоубийственная, или гражданская, война заверши
1 «Еще Бисмарк отклонил предложение призвать к суду императора Наполеона (III). Как противник, он посчитал, что не вправе поступить так. Между тем стало обычным делом осуждать побежденного в соответствии с правом. Споры, возникающие в связи с такими сентенциями, многословны и нуждаются в обосновании. Стороны не могут осуждать. Они продолжают насилие. Они и виновного лишают возможности осудить себя» (Der Waldgang, S. 117; Bd. 7, S. 357).
2 В полное собрание сочинений не вошло.
49
лась тем, что побежденную сторону осуждают и объявляют ее преступником против человечности. Что еще могло из этого получиться, как не дезавуирование в глазах побежденного идей победителя, идей Европы? Критика Юнгером либерализма — это критика неискренности морализирования держав-победительниц: «Стоит изучить обмен нотами, предшествовавший вступлению Америки в войну, и в них натыкаешься на принцип «свободы морей», являющийся хорошим примером того, как в такое время можно придать собственному интересу ранг гуманитарного принципа, всеобщего, затрагивающего человечество вопроса. Да, если бы нам удалось освободить кого-нибудь в Бельгии! Конечно, мы могли бы там кого-нибудь освободить, например фламандцев, но как объявить об этом так, чтобы нам поверили? Нам была нужна немецкая идеология, а ее-то как раз и не было»1.
Германия оказалась побежденной, потому что ее «пространство1 2 прогресса не могло быть полностью мобилизовано» (Die
1 Die Totale Mobilmachung, S. 142; Bd. 7, S. 134. И еще: «Надо принципиально заметить, что монополизация средств, причем даже там, где она выступает как процесс торговли, слишком явно противоречит сущности либерального национального государства. Национальное государство зависит от конкуренции, и этим объясняется то, что Германию разоружили, но не полностью, ей оставили столько солдат, кораблей и пушек, чтобы она могла сохранять хотя бы видимость конкуренции. На либеральном пространстве идеалом является не открытое, а завуалированное превосходство и соответственно завуалированное рабство; более слабый конкурент — экономически поверженный гарантирует всеобщее состояние собственностью на шреберовский садик, политически более слабый — бюллетенем для голосования. Это проливает свет на чрезмерный интерес, который мир проявляет к строительству даже самого маленького немецкого броненосца, — необходимые стимуляторы налицо. Это проливает свет и на важную ошибку в системе порабощения: у этой страны отобрали все колонии; маленькая концессия в Южном море, в Китае или в Африке была бы гораздо лучшей гарантией состояния, но весьма вероятно, что это обернется даром данайцев» («Рабочий» — Der Arbciter, S. 199).
2 В полном собрании сочинений — дух.
50
Totale Mobilmachung, S. 145), положение Франции было гораздо более благоприятным: она вела войну как поход за освобождение Германии от себя самой. Это видно на примере Барбюса: «Этот по сути ярый противник войны, все же не видел другой возможности соответствовать собственным идеям, как одобрить эту войну, потому что в его сознании она воспринималась сначала как борьба прогресса, цивилизации, гуманности, даже самого мира против противящегося всему этому элемента. «Война должна быть уничтожена во чреве Германии». Перед нами один из исторических тезисов либерализма, умеющего придать войне святое сияние, изобразить ее как бескорыстный крестовый поход во имя спасения самого народа Германии от угнетения»1 (Die Totale Mobilmachung, S. 145; Bd. 7, S. 136). Юнгер учитывает влияние и оправданность идеологии в мирном и военном противостоянии. Нельзя не видеть его четкую и неприемлемую, с позиций сегодняшнего дня, антидемократическую позицию. Однако столь же несомненна его проницательность; он увидел неправомерность морализирования вокруг результатов войны, остро воспринял несправедливость, с какой западноевропейские державы-победительницы, апеллируя к либерализму и морали, относились к побежденной Германии.
Юнгер считает недопустимым, когда воздвигнутые в Париже и других метрополиях Европы мемориалы Неизвестному солдату чтут только того солдата, который боролся за принципы Французской революции и либерализма, но не помнят о солдате противника. Долг — отдать дань уважения не только мученикам за принципы либерализма и прогресса. Поэтому Юнгер заявляет о необходимости принципа «Чти воинов, за какое бы дело они ни боролись!»1 2 (Die Totale Mobilmachung, S. 154). У Юнгера морализация поражения Германии предстает как несправедливость, или, если примерно выразить это словами современника Эрнста Юнгера теолога Эрика Петерсона, как «несправедли
1 В полное собрание сочинений не вошло.
2 В полное собрание сочинений не вошло.
51
вость, причиненная рейху национальными государствами». Морализация военного поражения — это несправедливость со стороны национализма, которого Юнгер с 1932 года считал устаревшим и отрицал его'.
«Гигантские усилия национальных государств имеют результатом весьма сомнительное деление провинций; и там, где наблюдаются империалистические тенденции, речь идет о колониальном империализме, который нуждается в вымысле, будто существуют народы, которые, как, например, Германия, еще нуждаются в воспитании1 2. Нация находит свои границы сама в
1 См. также: Breuer St. Die «konservative Revolution» — Kritik eines Mythos // Politische Vierteljahresschrift. 31 (1990). S. 593. Брейер показывает различия в одобрении национализма Юнгером и другими теоретиками «консервативной революции».
2 См. также: Jiinger Е. Die liberalistische Phrase // Arminius. 8. Jg. H. 24 (1927). S. 4f.: «История колониальных войн, мировой эскалации, которые являются изобретением этой эпохи, дает этому хороший пример. Говоря обо всех этих конфликтах, надо указать на то, что те, кто объявляют себя защитниками, например «культуры» или «свободы морей», сами начинают соответствовать требованиям иллюзорной гуманности. Логическим следствием этого является то, что другие, еще не достигшие столь высокого уровня прогресса, вообще не считаются людьми. Если это удается доказать с помощью прогресса, прежде всего прессы и парламентской трибуны, тогда под всеобщие аплодисменты от имени гуманности могут выступать технические достижения этого прогресса — пулеметы, танки и отравляющие газы. Земля, оружие и деньги — все, на что раньше просто притязали, бросая меч на чашу весов, сегодня имеют обыкновение брать также от имени человечности, например, чтобы обратить побежденного в истинный дух мира или услужить «праву народов на самоопределение». Правда, даже во времена пресловутых кабинетных войн столь рафинированная демонстрация силы, после чего сегодня заключаются мирные договоры, считалась бы безнравственной и нерыцарской. Между тем демократия — это состояние, преодолевшее рыцарские традиции. И поскольку конечный эффект, свободная игра воли к власти, здесь, как и везде, остается прежним, можно было бы удовлетвориться либеральной фразой как неким обусловленным временем фактом. Можно было бы сказать себе: за кем общественное мнение, тот может делать что хочет. Таким обра-
52
себе, и любой шаг, ведущий за эти пределы, крайне сомнителен. Выгода от нарушения этой границы на основе национального принципа гораздо менее легитимна, нежели захват целой империи путем брака в рамках династической системы соотношения сил. В войнах за наследование речь идет только о двух трактовках права, признаваемого обоими партнерами, в национальных войнах — о двух типах права вообще. Таким образом, и национальные войны, скорее, ведут к природному состоянию» (Der Arbeiter, S. 193; Bd. 8, S. 197).
Негативные эмоции Юнгера в отношении либерализма и его мнимого «всеобщего» объясняются опытом несправедливости и страдания:
«Провозглашение прав человека имеет тот же источник, что и всеобщая воинская обязанность или всеобщее воинское право, которые сделали возможными разрушительные формы последней войны. Мы все также узнали, что с появлением всеобщего избирательного права политические баталии и жестокости ни на йоту не стали менее жесткими — напротив.
Когда мы верим в особое и в приоритет особой необходимости перед лицом необходимости всеобщей, то нами движет прежде всего чувство отвращения по отношению к избитым просветительским фразам. Понятно, что люди отправляются на поле боя под знаменами свободы, равенства и братства, что они хотят
зом, сегодня все определяется тем, удастся ли завоевать общественное мнение, чтобы со всей мощью духовно-технической аппаратуры потребовать крови. Можно было бы свыкнуться с необыкновенной пошлостью, связанной со всем, что имеет отношение к общественному мнению, поскольку то, что подразумевается, гораздо глубже и живее, чем то, что написано на бумаге и что имеет смысл лишь в той мере, в какой удается перевести властные цели на язык либерально настроенного обывателя. Посвященным пришлось бы смириться даже с безвкусицей того, как предписывается не вредить противнику, но стремиться освободить его, то есть по сути оказать ему дружескую услугу, в то время как, например, авиационные бомбы несут культуру колониальным народам или господин Барбюс хотел бы «уничтожить войну во чреве Германии».
53
построить на развалинах старого мира мир более красивый и более справедливый, но невыносимо видеть, как люди пытаются скрыть жестокость этого мира патокой слов и речей»1.
Написанные в те годы эссе Юнгера — это критика не только западных держав, но и своей собственной страны. Главное и характерное в них — страдание за Германию: «В мире о нас идет слава, что мы в состоянии разрушать соборы. Это много значит во времена, когда сознание собственной бесплодности уничтожает один музей за другим» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 115). Слабость Германии тех лет заключалась в том, что ее героизм опирался на нигилизм: «Несколько лет мы, строго придерживаясь нигилизма, буквально работали с динамитом и, отказываясь от самого крохотного фигового листка собственной постановки проблем, зарыли XIX век — самих себя — в землю, лишь в самом конце обозначились сомнительные средства и люди XX века. Мы объявили Европе войну — как добрые европейцы дружно собравшись вместе с остальными вокруг рулетки, на которой был только один цвет — цвет «зеро», что позволяет взять банк при любых обстоятельствах. Мы, немцы, не дали Европе ни единого шанса проиграть. Но поскольку мы не дали шанса проиграть, то, по сути, не дали и выиграть; мы играли против банка с его собственной субстанцией» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 133).
Модернизм Юнгера консервативен, а его консерватизм — модернистский. Его лозунг о тотальной мобилизации для Германии, его консервативный модернизм, является частью модерна, революция в Германии должна быть консервативной революцией1 2. «Наша надежда — молодые люди, страдающие от жара, потому что из
1 Jiinger Е. Das Sonderrecht des Nationalismus // Arminius. 8. Jg. H. 4 (1927). S.3.
2 В связи с этим понятием см.: Mohler A. Die Konservative Revolution in Deutschland (1918—1932). Darmstadt (Wiss. Buchgesellschafi) 3. Aufl. 1989. Bd. 1. Прежде всего страница 96-я и следующие. Данное Модером понятие «консервативная революция», на мой взгляд, совпадает с представлениями Юнгера лишь в короткий промежуток времени с 1926 по 1930 год, тогда как понятие «консервативный модернизм» описыва
54
нутри их души, полные величия, разъедает зеленый гной отвращения... Она [надежда] обращена к восстанию против господства удобности, которое нуждается в оружии для разрушения мира форм — во взрывчатке, чтобы жизненное пространство было полностью очищено для новой иерархии» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 153f.). Модернизм питается холодной, никогда не удовлетворяемой яростью работы на земное удобство, на анклавы старого стиля и на историческое филистерство — «очень модернистское чувство, которое в игре с материей уже предполагает возбуждение опасных игр», чувство, какое испытываешь, «когда ночью мчишься в скором поезде по циклопическому ландшафту Рурской области, в то время как темноту разрывают пламенеющие громады доменных печей и посреди бешеного движения душа не представляет себе ни одного атома, не задействованного работой» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 154). Консервативный модернизм воплощает желание заблаговременно приспособиться к тотальной модернизации, причем консерватор одновременно предчувствует, что она его поглотит: «О ты, самая стальная из стальных змей, змея познания — мы должны тебя заколдовать, если ты не должна нас удушить!» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 154).
ет позицию Юнгера более полно. Оно применимо не только к Юнгеру периода «консервативной революции» и «революционного национализма», но и к планетарному интернационализму «Рабочего». Революционная риторика Юнгера в эти годы всеобъемлющая. См.: Jiinger Е. Die nationalistische Revolution // Standarte. Wochenschrift des neuen Nationalismus. 1. Jg. H. 8. Berlin, 1926. S. 173: «Революция, революция! Это то, что надо проповедовать постоянно, зло, систематически, неумолимо, и пусть эта проповедь займет десять лет». В своем предисловии к «Борьбе за рейх» (Jiinger Е. (Hrsg.). Der Kampf um das Reich. S. 7f.) он пишет, что «по существу, больше нет различия между правыми и левыми» и что «(вырос) заговорщик такого склада, о котором в Германии, этой самой «нереволюционной» стране мира, раньше и мечтать не могли». Поэтому следует возразить на критику Брейера о том, будто понятию «консервативная революция» не повезло, хотя надо согласиться, что понятие и движение «консервативной революции» не содержат настоящей политической программы.
55
Героический нигилизм требует вести борьбу в одиночку: «Сегодня нельзя заботиться о Германии сообща; это надо делать в одиночку, как человек, который пролагает просеку в дремучем лесу садовыми ножницами и которого поддерживает лишь надежда на то, что где-нибудь в чаще другие заняты той же работой» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 114). Нигилистический героизм Германии позволил сделать одиноким не только каждого, но всю страну. «Мы должны... научиться видеть, ...что кроме нас евреи являются единственными подозрительными европейцами — конечно, с совсем другой оборотной стороной, с совсем другими задними мыслями, (...ужасные банкиры и мистические ростовщики Бальзака: немецкие евреи). — Если смотреть со стороны: нам не верят. Подозревают в упражнениях с оружием и стальных маневрах, в которых участвуют войска, различающиеся только цветом повязки на рукаве. ...Нос не чует ничего хорошего — foetor germanicus1, в котором, кажется, чувствуется дыхание будущих хаотических битв. Отсюда и последовательные попытки гуманизма признать человека скорее в каждом бушмене, нежели в нас, отсюда также (в той мере, в какой мы являемся европейцами) наш постоянно прорывающийся наружу страх перед самими собой. Превосходно, но только никакого сострадания к нам! Это ситуация, из которой надо выбираться». Страдания за Германию и ее европейских соседей прорываются наружу: «Стремление мерить по тайному, хранящемуся в Париже эталону цивилизации — для нас это означает окончательно проиграть проигранную войну, означает последовательное доведение нигилистического акта до его необходимой точки. Мы уже давно шагаем к магической нулевой отметке, преодолеет которую лишь тот, кто располагает другими, невидимыми источниками силы» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 134f.)1 2.
1 германское зловоние (лат.).
2 В отличие от фон Крокова автор не усматривает в приведенных цитатах никаких антиевропейских настроений Юнгера, но только отчаяние, вызванное тем, что после проигранной войны, в результате
56
Первая мировая война была войной между нациями и между правовыми принципами. Воюющие стороны были антагонистами не только в отношении одного и того же правового принципа, но и в затянувшемся споре двух разных правовых принципов. Однако победа одного из этих принципов не может означать, что другой объявляется изначально аморальным. Такой прием, по мнению Юнгера, имел своим следствием «гуманитарный дальтонизм». «Возник способ, как необходимое следствие теоретической конструкции таких правовых сфер, а именно дополнительного санкционирования юриспруденцией силовых актов... Та же слепота присутствует и в отношении разоружения Германии, которая как властный политический акт так же понятна, как и подла в плане обоснования этого акта» (Der Arbeiter, S. 194; Bd. 8, S. 198).
Гуманитарный дальтонизм проявляется также и в отношении к вновь народившейся жизни: «Если рассматривать вторжение и присутствие боли в акте зачатия, нельзя забывать и о насилии против нерожденных, которое, несомненно, наиболее ярко разоблачает зверский характер века индивидуализма1. Конечно, дух, для которого само отсутствие способности отличать одно от другого проявляется в том, что он путает войну с убийством или преступление с болезнью, а в борьбе за жизненное пространство неизбежно выберет наиболее безопасный и самый подлый способ убивать. Адвокат воспринимает только страдания обвиняемого, но не беззащитного и молчащего» («О боли» — Uber den Schmerz, S. 173; Bd. 7, S. 157f.).
одностороннего решения вопроса о вине в войне и презрения к побежденному Германия оказалась вытесненной из Европы. См. также полемику в предисловии к: Jiinger Е. (Hrsg.). Der Kampf um das Reich. S. 9: «Поздний либерализм, парламентаризм, демократия как господство количества, духовное офранцузивание и оевропеизирование, метафизика которых есть метафизика вагона-ресторана, американизм с отождествлением прогресса и комфорта».
1 В полном собрании сочинений: «которое свойственно одновременно слабому и жестокому характеру последнего человека».
57
4. Боль
Юнгер описывает Германию межвоенного периода как страну под знаком страдания. «Везде, где мир страдает, он достигает того состояния, когда нож врача воспринимается как единственно возможное средство» (Der Arbeiter, S. 284; Bd. 8, S. 288)1. Боль — характерный признак эпохи: «Абстрактность и, следовательно, жестокость всех человеческих отношений постоянно увеличивается... В фашизме, в большевизме, в американизме, в сионизме, в движениях цветных народов прогресс пытается вести наступление, о котором раньше никто и не догадывался; он, так сказать, преображается, чтобы, свершив круг искусственной диалектики, продолжить свое движение на очень простом уровне» (Die Totale Mobilmachung, S. 152; Bd. 7, S. 140). Усилилась мера боли, переживать и наносить которую люди считают себя способными. «Дух. который формируется в наших краях уже более ста лет, несомненно, жестокий дух... Нам становится все очевиднее, что отдельный человек попадает в положение, когда им без размышлений пожертвуют. Видя это, задаешься вопросом, а не присутствуем ли мы на начале спектакля, в котором жизнь играет роль воли к власти, и только?» (Uber den Schmerz, S. 213f.; Bd. 7, S. 188f.).
Модерн — это воля к тотальной мобилизации, воля к власти и только к власти. Тотальная мобилизация как основное содержание прогресса, прикрывающегося маской разума и гуманности, рождает боль, жертву и нигилизм. Тотальная мобилизация и ничего, кроме нее, — таков нигилизм в своем совершенстве и завершении. Книга «Рабочий» (1932) являет собой поворот в юнгеров-ской диагностике модерна. Он пускается в то бегство, которое ведет вперед. Если кризис Германии и модерна был обусловлен
1 Miiller Scheid Ж «Im Westen nichts Neues» eine Tauschung. Studie. Idstein (Georg Grandpierre), 1929, S. 6. Он говорит о «невиданной ожесточенности немецкого народа, вызванной тем состоянием, в каком он находится, и кажется, что в книге можно увидеть указание на источник, из которого происходят все наши страдания».
58
недостаточными усилиями по мобилизации всех сил, то его можно преодолеть только на пути всеобщей, тотальной мобилизации. Человеческий тип, являющийся ее носителем, это — Рабочий. В процессе тотальной мобилизации тип Рабочего становится господствующим. Героя войны сменяет герой труда. Героический характер Рабочего занимает место героического характера Солдата. Полная мобилизация является отныне итогом и результатом универсально-всеобщего, тотального характера общественного труда, а не последствиями войны. Солдат превращается в Рабочего. Мифологическая генеалогия героев модерна дополняется новым типическим персонажем — Рабочим.
Модерн есть эпоха боли и жертв, принесенных и приносимых прогрессу. Следовательно, для его тотальной реализации должны возрасти возможности осуществления власти и способности переносить боль и власть. Предпосылкой развития совершенной воли к власти и невосприимчивости к боли является навык дистанцироваться от собственного тела. Так, мобилизация модерна создает «предметный характер как отдельного человека, так и связанных с ним структур», востребованных эпохой (Uber den Schmerz, S. 192; Bd. 7, S. 172). Модерн воспроизводит не только предметный характер отношения отдельного человека к самому себе, но и «пафос дистанции» к другим. Однако, по Юнгеру, эта предметность и пафос дистанции не являются признаками модерна и его мобилизующей силы: это признак воли к власти (Uber den Schmerz, S. 195; Bd. 7, S. 174). Из них вырастает подлинное стремление к власти, настоящая власть. «Сам технический порядок и есть то большое зеркало, в котором наиболее четко видно все возрастающее опредмечивание нашей жизни в его своеобразной отстраненности от всех посягательств боли. Техника — наша униформа» (Uber den Schmerz, S. 194; Bd. 7, S. 174).
Война создала пространства тотального уничтожения, «на которых человек воспринимал гибель и разрушение как тотальное событие»1 и «с развевающимся знаменем» в руках осуще
1 В полном собрании сочинений: судьба.
59
ствлял их (Uber den Schmerz, S. 197; Bd. 7, S. 176f.); сегодня мобилизация создает пространства технического покорения природы, «на которых боль причислена к непосредственному и само собой разумеющемуся опыту». Боль и формирование предметного характера человека становятся «признаком растущей оснащенности и мобилизации» (Uber den Schmerz, S. 192; Bd. 7, S. 172). Консервативный модернист Юнгер требует от героического характера — Рабочего принять мучения во имя прогресса и воли к власти. Самоопредмечивание и готовность к жертве ради мобилизации модерна ищут пример в муках первых христиан: «Так, в циркулярном письме церкви в Смирне о мученической смерти святого Поликарпа поведение осужденных, которые не шелохнулись перед спущенными на них львами, объясняется так: «Мученики Христовы доказали всем нам, что в час пытки они отсутствовали в своих телах... Мы принимаем за свидетельство высокого достижения в вере то, что жизнь может отнести от себя самой или, другими словами, принести себя в жертву» (Uber den Schmerz, S. 192f.; Bd. 7, S. 172f.).
Глава 2. Рабочий
Модерн требует нигилистической жертвы. Жертва, приносимая ради воли к власти, есть утрата непосредственности и телесности личности. Аскетизм тотальной мобилизации — это тотальный характер труда и забвение тела. «Этот процесс предполагает, что есть некая командная высота, с которой тело рассматривается как форпост, им можно воевать и жертвовать, причем на расстоянии. На этом пространстве все дисциплинарные меры сводятся к тому, чтобы выдерживать боль, а вовсе не избегать ее. Поэтому как в мире героического, так и в мире культа мы обнаруживаем совершенно иное отношение к боли, чем в мире чувственного» (Uber den Schmerz, S. 174; Bd. 7, S. 158f.). Для чувственного в модерне тело тождественно самой ценнос
60
ти, для героизма модерна тело — это форпост, которого не достигают чувства (Uber den Schmerz, S. 175; Bd. 7, S. 159). Превращение индивида в Рабочего представляется «операцией по удалению из жизни зоны чувственного и чувствительного» (Uber den Schmerz, S. 178; Bd. 7, S. 162).
1. Нигилистическая жертва героического реализма
Тип героического модерна, Рабочий, — это человек, который приносит в жертву воле к власти и мобилизации себя и свои чувства. «Величайшее счастье человека в том, что его приносят в жертву, а высочайшее искусство отдавать приказания в том, чтобы показать цели, достойные жертвы» (Der Arbeiter, S. 74; Bd. 8, S. 78). В героическом, брутальном модерне 30-х годов жертва — это придание смысла бессмысленному, самопожира-ние ради воли к власти. Жертва модерна заключается в утрате субъективности и телесности ради мобилизации материи личностью Рабочего. Мобилизация материи осуществляется как мобилизация техники и человека, пространства и субъекта.
«Ее последняя ступень — это воплощение тотального характера труда, которая проявляется в одном месте как тотальность технического пространства, а в другом — как тотальность субъекта (Рабочего). ...Это означает, что и наше время не лишено последних возможностей, которых способен достичь человек. Все это подтверждается жертвами, ценность которых должна возрастать, когда они приносятся на грани бессмысленного. ...Сейчас время богато неизвестными доселе мучениками, они обладают глубиной страдания, дна которого еще никто не видел. Добродетель, соответствующая этому состоянию, — это добродетель героического реализма, который нельзя поколебать даже ввиду полного уничтожения и безнадежности его усилий» (Der Arbeiter, S. 178; Bd. 8, S. 18If.).
Героизм — это средство выдержать боль, героический реализм — попытка превозмочь боль в мире, не знающем другого
61
смысла, кроме воли к власти. Герой модерна нуждается в героическом реализме, который одновременно есть и героический нигилизм: героический реализм необходим, чтобы противостоять пониманию и осознанию того, что в истории не существует никакого другого смысла, кроме мобилизации и воли к власти. В модерне героическая жертва приносится ради мобилизации всеобщего, универсального характера труда человека и технического пространства.
Предпосылкой осуществления тотального характера труда и трансформации «бюргера» в «Рабочего» является жертвование чувственным и индивидуальностью. По Юнгеру, индивид — это идеал бюргерства, «тип» — идеал нового «Рабочего». Тип Рабочего требует пожертвовать индивидуальностью, в связи с этим на первый план сегодня выдвинулись предметный характер человеческих отношений и боль. И то и другое свидетельствует о том, что признаки индивидуальности, то есть чувственность, восприимчивость индивида к другому благодаря собственной неповторимости и значимости, благодаря «эмансипации» своей личности, исчезают, вытесняются предметностью и жесткостью субъекта. С этим связана в первую очередь масштабная унификация и нивелирование человеческого контингента и поворот к критике буржуазной индивидуальности.
Тема буржуазного индивида никогда не меняется. Это — развитие и неповторимое переживание: «С тем же масштабом подходят и к экономическому индивиду, стоящему в центре экономических рассуждений. ...Так, определенное понятие собственности придает экономическим индивидам большие полномочия распоряжаться чем-либо, не неся никакой ответственности ни перед обществом, ни перед прошлым и будущим. Поставщик оружия может производить военные средства для какой угодно власти. Новое изобретение — часть индивидуального существования; оно, по логике, достается тому, кто предлагает наиболее высокую цену. Одним из первых мероприятий после окончательной победы индивида в Германии было не огосударствление крупной земельной собственности,
62
а отмена фидеикомисса1 и майората, то есть перенесение собственности с рода на индивида» (Der Arbeiter, S. 14If.; Bd. 8, S. 145f.).
Поскольку индивидуальность всегда существует благодаря другому — достоянию и «развитию», то индивид (в этом его отличие от типа) склонен постоянно видеть в себе неповторимое и исключительное. «Теоретически все граждане равны перед законом, однако практически есть стремление рассматривать каждый случай как исключительный, то есть как единственное в своем роде событие жизни. Ссылка на индивидуальность по меньшей мере является основанием для смягчения приговора; поэтому в правосудие все больше включается медицинская, а в последнее время и психологическая экспертиза, а в определенных случаях и социальная индикация». Буржуазность предпочитает индивидуальность типическому и использует ее как оружие против притязаний типа. «Выше уже затрагивалась проблема оценки индивидуального существования, как она проявляется в ожесточенной борьбе вокруг смертной казни и находится в странном несоответствии с количеством умерщвленных неродившихся детей. Все это подтверждает тот факт, что в этой сфере человек обладает именем в той мере, в какой обладает индивидуальностью» (Der Arbeiter, S. 142; Bd. 8, S. 146).
2. Тип Рабочего и индивидуальность бюргера
Бюргера как тип определяет его стремление к безопасности, обусловленное необходимостью сохранить свою индивидуальность. «Существует также специфический буржуазный разум, отличающийся как раз тем, что он несовместим с элементарным. ...Так, для солдата битва — это событие, ниспосланное свыше, трагический конфликт; для поэта — это состояние, в котором смысл жизни воспринимается особенно ост-
1 Fideikommiss — дворянское имение, передаваемое по наследству одному члену семьи <иеи.). — Ред.
63
ро, а горящий или опустошенный землетрясением город для преступника — поле экстремальной деятельности. ...Есть высокие и низменные отношения, данные человеку как элементарное, имеется много уровней, на которых как безопасность, так и опасность включены в один и тот же порядок. Напротив, буржуа надо понимать как человека, который признает безопасность как высшую ценность и соответственно определяет уклад своей жизни. — Высшей властью, которая, по его мнению, гарантирует его безопасность, является разум» (Der Arbeiter, S. 50; Bd. 8, S. 54). «Разум в себе» и «разум как таковой» является для буржуа cordon sanitaire, защищающим его от всего опасного, рискованного, первозданного и дающим ему безопасность.
Теперь становится ясно, что Юнгер использует понятия «бюргер» и «Рабочий» не как социологические или экономические категории, а как «экзистенциальные», как формы отношения к своему бытию, как «типы экзистенции». Тип «бюргер» стремится изгнать из своей жизни опасность, сердце, ожидающее приключения, и опасную встречу с помощью «разума в себе». «Тем не менее опасность существует всегда; она, как стихия, вечно пытается прорваться через преграды, которыми окружает себя порядок. ...Ведь опасность не просто хочет завладеть частью порядка, она и порождает ту высшую безопасность, в которой буржуа уже нет места. — Напротив, идеальное состояние безопасности, которого стремится достичь прогресс, заключается в мировом господстве буржуазного разума, который призван не просто сократить источники опасного, но и привести к их полному исчезновению. Поступки и действия, направленные на достижение этого состояния, как раз и заключаются в понимании, что опасное в свете разума есть бессмысленное и потому лишено своих притязаний на действительность. ...Бюргеру почти удалось убедить жаждущее приключения сердце в том, что опасного вообще не существует, а экономический закон управляет миром и его историей» (Der Arbeiter, S. 51, 55; Bd. 8, S. 55, 59).
64
Ради безопасности развития собственной индивидуальности буржуазный разум в себе пытается изгнать опасное из пространства экзистенции. Но, согласно Юнгеру, не существует ни «разума в себе», ни «техники в себе». «Фразы о победоносном шествии техники являются пережитком терминологии Просвещения. Победоносное шествие может состояться, если будут осознаны страдания, которые это движение оставляет на своем пути. «Техники в себе» нет, как нет и «разума в себе»; любая жизнь обладает своей, присущей именно ей техникой» (Der Arbeiter, S. 76; Bd. 8, S. 80). Слова и речи Просвещения о «разуме в себе» являются заблуждением, это иллюзии относительно скрывающегося под маской разума и стоящего за ним филистерского стремления к безопасности, это ошибка в оценке частичного характера «разума» Просвещения. Буржуазный разум — это ни в коем случае не разум как всеобщее, но разум определенного характера, разум человека как индивида. «Один из шахматных ходов буржуазного мышления сводится, по сути, к тому, чтобы разоблачить наступление на культ разума как нападки на разум и выставить их неразумными» (Der Arbeiter, S. 50; Bd. 8, S. 53f.). Просвещение строит религиозный культ разума, ставит богиню Разума на место разума — служит или религиозному, или, как у Юнгера, жизни и первозданному. Делая разум, смотря по обстоятельствам, инструментом своего стремления к безопасности, оно возводит его в абсолют.
Тяга бюргера к безопасности позволяет видеть в нем виновника за поражение в войне. Правда, теперь Юнгер отказывается и от непринужденности, и от логики собственного анализа Первой мировой войны, каким он предложен в «Тотальной мобилизации». «Вина бюргера за войну основывается на том, что он оказался не способен вести войну по-настоящему, то есть в духе тотальной мобилизации, проиграть ее — увидеть в крушении свою высшую свободу» (Der Arbeiter, S. 40; Bd. 8, S. 44). «Тип», в противоположность «индивиду», готов и к тотальной мобилизации, и к тотальному поражению, так как, согласно Юнгеру, и в победе, и в гибели сохраняется тип, а не индивид.
3 Петер Козловски
65
Отсюда следует, что Солдат и Рабочий используют тип как оружие, тогда как бюргер в качестве боевого средства вводит индивидуальность. «Само собой разумеется, что и в этом случае существуют правила игры: индивидуальность и есть как раз то оружие, которое удается применить, и этот факт, вероятно, наиболее точно выражают ставшие знаменитыми слова о свободной дороге для дельного человека» (Der Arbeiter, S. 143; Bd. 8, S. 146f.).
Тип располагается где-то между бесформенной массой и той гипертрофированной единомышленностью индивидуальности, которая всегда обусловлена особой ситуацией, особым другим, собственностью, «достижением», случаем. Тип, напротив, это фигура, характер-маска, исконная общность, пространственное стремление к одинаковости формы и временнбе стремление к ритму и повторению. «Для установления тождественности собственного Я индивид ссылается на ценности, которые его отличают, то есть на свою индивидуальность. Напротив, тип проявляет стремление отыскивать признаки, заложенные вне единичного существования» (Der Arbeiter, S. 144; Bd. 8, S. 148). Тип подпадает под господство образа, постигнуть который можно только через понятие тотальности, тогда как индивид подчиняется господству особенного, реализующегося в бесконечности развития и единичности ситуации.
Для природы тип важнее, чем индивид: «Все, что делает и чем наслаждается в своей жизни каждое создание, причитается ему не на основе единственности индивидуальной отделки, но по причине возложенной на него типичной формы» (Der Arbeiter, S. 230; Bd. 8, S. 234). Поэтому и в природе Рабочий видит примат типа и постоянства формы, а не как бюргер — главенство развития и изменения. Буржуазная индивидуальность стремится обнаружить «изобразительную силу природы не в ее фиксированных образах, а как раз в ее колебаниях, вариациях и отклонениях» (Der Arbeiter, S. 231; Bd. 8, S. 235). Индивид стремится утвердить себя и свое понимание свободы в природе. Взгляд, который подчиняет формы и типы динамическому принципу,
66
принадлежит истории индивида. «Он согласуется с учением о конкуренции в экономике, о прогрессе в истории и о суверенитете творческого индивида. В учении о естественном отборе естествознание идет по стопам открытия индивидуального отношения в любви в буржуазном романе» (Der Arbeiter, S. 231; Bd. 8, S. 235).
Для индивидуальности жизнь — это всегда цель и намерение, но никогда не заложенное в типе выражение себя самого. Для индивидуальности жизнь всегда реализуется в другом по отношению к самому себе и в другом по отношению к форме, в то время как для типа она реализуется «в себе». «Без сомнения, то воззрение, в связи с которым естественные науки сильно чванились, а именно воззрение, будто каждая форма обязана своим происхождением некоему особенному творческому акту, гораздо ближе естественной действительности, чем механическая теория развития, которая на столетие изгнала знание о «живом развитии».... За учением о мутациях скрывается одно из чудесных повторных открытий современной науки» (Der Arbeiter, S. 232; Bd. 8, S. 236).
Тип Рабочего, по Юнгеру, в ЗО-е годы является единственной репрезентативной фигурой, способной господствовать; в нем возможности и средства гуманного, человеческого представлены в согласии с его способом существования и его типом. Невероятный рост власти человека в эпоху модерна требует появления фигуры, которая соответствовала бы этой тотальной мобилизации. Индивидуальность и восприимчивость «индивида» не способны перенести мобилизацию и боль нового способа господства человека. Средства для достижения цели должны подходить тому, кто этими целями и средствами распоряжается. «Одновременность определенных средств и определенного человеческого бытия зависит не от случая, но заключена в рамках высшей необходимости. Поэтому единство человека и его средств есть выражение единства высшего рода» (Der Arbeiter, S. 240; Bd. 8, S. 244).
67
3. Техника как облачение Рабочего
Отношения эпохи модерна требуют нового единства человека и мира, нового типа человека, который способен осуществлять свое бесконечно возросшее органическое и механическое господство, снимать «полные яда противоречия власти и права, крови и духа, идеи и материи, любви и пола, человека и природы, тела и души, меча мирского и духовного» (Der Arbeiter, S. 238; Bd. 8, S. 242). Преодоление, разрушение этих противоречий возможно только с помощью сил «органической конструкции», «уничтожения различий между органическим и механическим миром» (Der Arbeiter, S. 177; Bd. 8, S. 181).
Модерн требует субъекта, который уверен в своей сращен-ности с общественными средствами жизни так же наивно, как животное пользуется своими органами. — Именно эти качества присущи субъекту, то есть тому человеческому существу, которое представляет образ Рабочего. Для него естественными являются и все те средства, которыми этот образ революционизирует мир (вот еще одно из свидетельств, что Рабочий противостоит этим средствам, а они не препятствуют ему в его достижениях, независимо от того, подходит ли сам образ для преобразования мира с помощью технических средств (см.: Der Arbeiter, S. 239; Bd. 8, S. 243).
Средства техники революционизируют все сферы жизни, преображают лицо Земли и человека, порождают боль в облике модерна. Техника, технические средства «принуждают к тому, чтобы их принимали в расчет просто потому, что они существуют, это значит, что они находятся на высшем революционном уровне и их вторжению уступают формы, присущие как массе, так и индивиду, и на полях сражений, и в хозяйственной жизни, и в том, что касается формообразования. Однако дело не сводится только к тому, чтобы соответствовать указанным средствам; важно ими пользоваться как естественными и подходящими инструментами формирования мира и господства над ним. Эта способность свидетельствует о том, что жизнь соотносится с единственной влас
68
тью, которая может сегодня гарантировать господство, — именно с фигурой Рабочего» (Der Arbeiter, S. 240; Bd. 8, S. 244). Только Рабочий еще может пока справиться с господством человека над Землей. «Техника — это способ мобилизации мира Рабочим. Степень радикальности самой связи человека с этой техникой, мера, при какой человек не разрушается от соприкосновения с ней, а выигрывает в своем развитии, зависит от того, насколько этот человек является Рабочим» (Der Arbeiter, S. 156; Bd. 8, S. 160).
Рабочий как тип планетарного технического господства обязан своим возникновением техногенному, единому характеру процесса уничтожения людей на тотальных пространствах боев и смертей Первой мировой войны. Тип Рабочего вытеснит все другие, частичные образы — бюргера, христианина, националиста, стоящие вне планетарного пространства труда и его тотальной мобилизации. «Техника содержит в себе явное или тайное наступление на любые связи такого рода» (Der Arbeiter, S. 157; Bd. 8, S. 161).
Рабочий и есть собственно герой модерна, это единственный образ, ни в чем не пасующий перед ним. «Рабочий» Юнгера — это попытка противопоставить деперсонализирующим силам модерна, технике и экономике, персонализированный тип, который в состоянии овладеть анонимными силами техники, установить над ними свое личное господство. Рабочий — это героическая фигура, которая может стать господином модерна, а не только будет его жертвой. «Рабочий» — это эпос о таком герое. Персоналистско-мифологическая утопия модерна дистанцируется от деперсонализированных мифологий и утопий марксизма и социализма, но в отличие от столь же персонализированного либерализма содержит элементы мифического и утопического. Рабочий — «явление мифической фигуры. Она статична; экономика и даже техника являются лишь ниспадающей складками драпировкой облачения»1. Ни «разум в себе», ни «про
1 Письмо Эрнста Юнгера к Вальтеру Патту от 6 февраля 1980 года (Der Arbeiter, S. 318; Bd. 8, S. 392).
69
гресс», ни «диалектика истории», ни «пролетариат» не в состоянии индивидуально, персонально, личностно овладеть силами техники, превратившимися в планетарные. Для господства над этими силами модерну требуется персональный образ, и только фигура «Рабочего» способна осуществить планетарное господство.
4. Совокупный Рабочий мирового духа
Книга Юнгера «Рабочий» не является политической в узком смысле слова, это историко-философская и мифическая антропология субъекта эпохи. Вместе с тем это теория культуры и метафизика тотальной мобилизации. Ее метафизическая мифология субъекта представляет собой консервативную утопию. Она критикует прогрессистскую утопию левых и, будучи модернистским проектом, критикует консерватизм и традиционализм; как технократически-нигилистическая утопия — это оппозиция позитивизму и либерализму. Консервативный модернизм или модернистский консерватизм Юнгера есть не что иное, как анти-утопическая утопия, проект типа человека, героического субъекта, который был бы способен овладеть силой модерна, не переселяясь при этом в безличную страну утопии.
Критика Юнгером либерализма указывает на слабые стороны либерального проекта, хотя его собственный проект вряд ли содержит зерна разработанной теории альтернативных политических институтов. «Рабочий» не является, как могло бы казаться, политической книгой. Когда в конце 1932 года она вышла в свет, критик, национал-большевик, Вольф Лерсон назвал ее «глубоко аполитичной»1. Сам Юнгер, оглядываясь назад, сожалеет,
1 Lerson W. Ernst Jiingers «Arbeiter» // Die Sozialistische Nation. 2. Jg., Nr. 11/12. Berlin, 1932/1933. S. 12. Лерсон пишет далее: «Планетарная разработка формы господства Рабочего, которая мыслится только масштабами, взрывающими понятие мира народов сегодня, ни в коем случае не основывается на придании смысла, из которого следует империалистический характер этого притязания». Лерсон прав, когда признает, что для «Рабочего» национализм — пройденный этап.
70
«что тогдашняя критика обращала особое внимание прежде всего на «бюргера». Она мало была связана с самой книгой»1. «Антибуржуазный аффект» в книге «Рабочий» нельзя сбрасывать со счета, так же как и тот факт, что его следствием являются некоторые несправедливости. Правда, в «Рабочем» и в «Тотальной мобилизации» Юнгер в этих несправедливостях не заходит так далеко, как в национал-революционном экстремизме и напряженности, отличающих его публицистические работы тех лет.
Ханс Петер Шварц подверг эти политико-публицистические работы тщательному анализу, который не нужен в данной книге (ее предметом является не политическая, а метафизическо-поэтическая сторона произведений Юнгера). Юнгер не политический мыслитель и даже не политический поэт. Он в гораздо большей степени метафизик и гностик, «метафизический поэт». И Шварц, подводя итог своему исследованию, пишет: «Поэзия Юнгера существенным образом является метафизикой»2. А то, что в 1926—1930 годах Юнгер стал националистическим памфлетистом, объясняется лишь опытом страданий Германии 20-х годов и глубокой личной уязвленностью, которую вызвали у него поражение в Первой мировой войне и чувство того, что он зря выжил и выстоял на смертоносных просторах этой войны. Глубокая уязвленность Юнгера постоянно ощущается в его работах тех лет, обида не стала для него хорошим политическим советчиком. Лозунги Юнгера за «революционный национализм» и «героический реализм» можно охарактеризовать как бегство от преодоления действительности средствами реальной политики в политический миф и фикцию, которые, однако, в силу своей фиктивности просто исчезают из поля зрения.
Юнгера нельзя считать теоретиком национал-социализма, хотя нельзя и не видеть того, что его публицистические работы
1 Письмо Юнгера к Генри Пларду от 24 сентября 1978 года (Der Arbeiter, S. 315; Bd. 8, S. 390).
: Schwarz H. P. Der konservative Anarchist. S. 26.
71
до 1933 года способствовали формированию политического климата и настроений, которые могли быть использованы национал-социализмом. Также нельзя вменять в вину Юнгеру и то, что приход к власти национал-социализма сделал национал-ре-волюционную риторику и мифологию последнего преступной политической реальностью, которую Юнгер не мог ни придумать, ни предвидеть.
Объясним это двумя страшными примерами. В «Рабочем» говорится: «Далее в этой связи надо сказать, что умереть стало проще. Это можно наблюдать повсюду, где действует субъект» (Der Arbeiter, S. 148; Bd. 8, S. 152). После Освенцима эти слова приобрели совсем другое, нежели в 1932 году, значение и стали невыразимо страшными. Однако Юнгер использует это выражение в связи с типом Рабочего, который служит техническому прогрессу и делает его возможным только в отношении летчика и других «Рабочих», но никак не национальных или расовых групп. Другим примером того, что действительность национал-социализма во много раз превзошла национализм Юнгера, является одно его высказывание в статье «О национализме и еврейском вопросе». Вот его слова: «Однако по мере того, как немецкая воля обретает все большую четкость и форму, для еврея будет становиться невыполнимой даже самая робкая надежда стать немцем в Германии, и он увидит себя стоящим перед последним выбором: в Германии либо быть евреем, либо не быть»1. Отвлекаясь от необратимого процесса смешения национальной принадлежности и принадлежности к нации, расе или религии, нельзя не сделать вывод, что эти слова ужасают в ретроспективе, так как предлагаемая Юнгером немецким евреям альтернатива как раз и была исключена национал-социализмом: евреи не могли быть в Германии не только немцами, они вообще больше не могли быть в Германии кем-то. За ними не признавалось права быть не только немцами, но и евреями, а в конечном счете не признавались права быть вообще.
' Junge г Е. Uber Nationalismus und Judenfrage // Siiddeutsche Monatshefte. 27 (1930). S. 845.
72
Юнгер не мог предвидеть такого развития событий, поскольку до модерна проблема признания права на существование национальных или социальных групп еще не ставилась в той форме и масштабах, как при национал-социализме или сталинизме; всего этого Юнгер не хотел ни в 1930 году, ни позже. Конечно, он должен был бы предвидеть, что тот, кто лишает национальное меньшинство права принадлежать к своей нации, лишает его и права быть тем, что оно есть; отказывая ему в праве быть, он угрожает праву этого меньшинства на существование, на бытие. Юнгер не был антисемитом. Его нельзя в этом упрекать. Однако он недооценил опасность и решительность обыденного «народного» антисемитизма. Об этом свидетельствуют заметки 1929 года, в которых Юнгер смеется над антисемитизмом национал-социалистов: «Вряд ли главной характеристикой национал-социалиста является то, что уже на завтрак он съедает трех евреев, — для национал-социалиста антисемитизм несущественная проблема»1.
Книга «Рабочий» не имеет отношения к этому обыденному варианту национализма тех лет: «В ближайшее время не будет никаких других политических величин, кроме тех, которые пытаются действовать, призывая к социализму и национализму, и надо видеть, что эта фразеология доступна каждому, кто знает алфавит» (Der Arbeiter, S. 249; Bd. 8, S. 253). Очевидно, что книга «Рабочий» в силу этих высказываний и благодаря образу Рабочего, нацеленного на планетарное, наднациональное господство, вряд ли шла вразрез с национал-социалистической идеологией и антисемитскими установками. Убедительна самооценка Юнгера: «В Германии книга пребывает в приятном штиле. Она вышла во второй половине 1932 года, незадолго до Третьего рейха (предисловие к книге датировано 14 июля 1932 года, а национал-социалисты захватили власть 30 января 1933 года. — П. К.), но ни национал-социалисты, ни их противники ничего не
'Jiinger Е. Nationalismus und Nationalismus // Das Tagebuch. 21. September 1929, S. 1554.
73
могли с этим поделать. В конце книги «Рабочий» сказано, что этот образ не ограничен национально или социально, он носит планетарный характер. Техника — вот униформа Рабочего. Это не понравилось ни правым, ни левым. В «Фёлькишер Беобах-тер» появилась дискуссия, где говорилось, что теперь я осмелился вторгнуться туда, где стреляют в голову»1.
Юнгер критикует национализм в книге «Рабочий» за то, что в нем еще слишком много от «индивида»; социализм — что в нем еще слишком много от «массы». В обоих случаях «речь идет об усилиях, в которых еще в определяющей степени задействованы как индивид, так и массы» (Der Arbeiter, S. 249; Bd. 8, S. 253). Следовательно, все критические замечания относятся a forteriori1 2 к национал-социализму. Майкл Хьюлз пишет о Юнгере и «Рабочем»: «Это был тот самый человек, написавший книгу, которую позже назвали «конституцией национал-социализма» (Фриц Раддатц): Der Arbeiter (1932; The Technocrat). Сложно сказать, из каких соображений «Фёлькишер Беобахтер» дал такую плохую рецензию на книгу»3. Впрочем, совсем не трудно понять, почему «Фёлькишер Беобахтер» должен был дать отрицательную рецензию на «Рабочего» Юнгера. Данное Раддатцем определение «Рабочего» как «основного закона национал-социализма» свидетельствует о непонимании реальной ситуации в Германии, когда книга вышла в свет.
При всем негативном отношении к «Рабочему» Тило фон Трота в «Фёлькишер Беобахтер» точно назвал пункт расхождений между Юнгером и национал-социализмом: Юнгер не является приверженцем учения о крови и почве, но он интеллектуал. Рецензент пишет: «Как Юнгер относится к основному вопросу всего сущего, к проблеме крови и почвы? — Ответ может быть
1 Письмо Юнгера к Генри Пларду от 24 сентября 1978 года (Der Arbeiter, S. 315; Bd. 8, S. 389).
2 в еще большей степени (лат.).
3 Hulse М. In cold blood И Times Literary Supplement. August 10 — 16, 1990. P. 842.
74
только один: вообще никак». В этой рецензии Юнгера упрекают в «опасной склонности к духовному разложению» и «французских влияниях» на его творчество. «Но остается лишь неразрешимая, особенно для нашей молодежи, загадка, как из фронтовика Юнгера получился человек, обладающий невероятным сходством с русским интеллигентом Достоевским, обсуждающим ночи напролет за чаем и табаком основополагающие проблемы жизни». Для рецензента несомненно, что Юнгер «воспринимает понятие «рабочий» так же широко, как и мы, национал-социалисты, но, с другой стороны, он явный приверженец марксистского учения о классах». Все предпосылки рассмотрения «оказываются ложными». Поскольку «Рабочий» не основывает вопросы бытия на крови и почве, «снова утверждается чуждая жизни литературщина авторского подхода к миру». Автор далек от аргументов расового учения: «Если Юнгер совершенно серьезно говорит о «расе Рабочего» и утверждает, что, коль скоро крестьянин пользуется машиной, он больше не является крестьянином, то нам становится ясно, что в книге мы вновь переживаем трагедию человека, потерявшего путь к истокам всякого бытия. Рождается не «эпоха Рабочего»... а эпоха расы и народного бытия». Затем рецензент, национал-социалист, наносит самый удивительный удар: «Своим последним произведением Эрнст Юнгер доказал, что он слишком глубоко, можно сказать безнадежно, погряз в либерализме». Либерализм проявляется также и в том, что он «ставит на одну ступень развитие в Китае, России и у нас». Обсуждение заканчивается выводом: «Мы сожалеем об Эрнсте Юнгере. Когда-то мы причисляли его к нашим лучшим писателям»1.
«Рабочего» нельзя было согласовать с национал-социалистической идеологией крови и почвы, так как тип Рабочего
1 Trotha Т. von. Das endlose dialektische Gesprach // Volkischer Beobachter. Bayemausgabe, 45. Jg., Nr. 296, 22. Oktober 1932. 2. Beiblatt. В отличие от Шварца (Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 114) я не могу интерпретировать эти высказывания как «семейный скандал».
75
транснационален, транссоциалистический и транскапиталистический. Поэтому ошибочна и оценка «Рабочего», данная Шварцем: «Книга Юнгера с гораздо большим правом, чем конгломерат идей Альфреда Розенберга, могла бы претендовать на название «Миф XX века». Разве не поступила бы НСРПГ правильно, если бы избрала этого гораздо более искусного автора своим идеологом, выразителем своего мировоззрения?»1 В национал-большевистском типе юнгеровского Рабочего национал-социализму так же трудно было узнать свой миф в народном духе, как Юнгеру реализацию своих представлений о тотальной мобилизации в тотальном захвате власти Гитлером1 2.
Так как национал-социализм представляет собой одно из движений эпохи модерна, а «Рабочий» является абсолютным мифом о модерне, то между тем и другим существуют точки соприкосновения, обусловленные степенью модернизма национал-социализма. Это соотношение близости и дистанции относится и к связям «Рабочего» с другим явлением модернизма, с большевизмом. «Рабочий» одновременно — поскольку
1 Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 93.
2 Это прекрасно демонстрирует отказ Юнгера от предложения вступить после «чистки» в Немецкую Академию поэзии, о чем он писал 16 ноября 1933 года: «Большая честь для меня сообщить Вам, что я не могу принять сделанный Вами выбор в Немецкую Академию поэзии. Своеобразие моей работы заключается в ее, по существу, солдатском стиле, которому я, связывая себя с Академией, не хочу нанести ущерба. В особенности я чувствую себя обязанным собственным поведением продемонстрировать мои взгляды на соотношение милитаризации и культуры, которые я изложил в 59-й главе моего произведения о Рабочем. Поэтому я прошу Вас воспринимать мой отказ как жертву ради моего участия в немецкой мобилизации, на службе которой я состою с 1914 года» (цит. по: Schwilk Н. Ernst Jiinger. Leben und Werk in Bildern und Texten. Stuttgart (Klett-Cotta), 1988. S. 143). В 59-й главе «Рабочего» Юнгер подверг резким нападкам культурную деятельность и культурную пропаганду в Германии.
76
Юнгера часто справедливо называют «национал-большеви-ком»1 — является мифом большевистской тотальной мобили-
1 Как считает Шварц (Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 78), у либеральных и консервативных литературных критиков стало общепринятым характеризовать идеи Юнгера как «прусский ленинизм». Фридрих Муккерман (Мискегтапп Е An Ernst Jiingcr. Zu seinem Buch: Der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt // Der Gral. Monatsschrift fur Dichtung und Leben. November, 1932. S. 82) писал в открытом письме Юнгеру: «Знаете ли Вы, что то там, то тут между строк Вашей книги я видел лицо Ленина? — и продолжал: — Там (в Советском Союзе. —77. К.) не хватает мужества ни разрушать, ни строить. Да, инженеров, которые приходили с суровыми цифрами расчетов и которые исходили из устаревших теорий рентабельности, просто объявляли вредителями, а некоторых даже казнили... Сталин — папа, кайзер и генеральный директор в одном лице. Кремль мрачно вырисовывается в новом великолепии, мистический блеск которого для подданных еще ярче, чем в прежние времена» (Ibid. S. 82f.). Муккерман признает поиск Юнгером нового порядка: «То, что Вы говорите о гештальте и смысле жизни, по идее, уже полностью осуществилось в католицизме» (Ibid. S. 84), но юнгеровскому новому порядку Рабочего не хватает воли понять «ради чего»: «Слово «гештальт» — это не метафизика. Это символ. Вы нигде не говорите, символом чего, собственно, он должен быть. Но если Вы говорите, пусть это будет символом государства как высшего творения человечества, то Вы определенно идете вслед за Гегелем, точно так же как идут за ним либерализм и социализм и столь не любимые Вами бюргеры. В Вашей борьбе есть что-то трагическое... Тотальное государство... является неясным понятием всего того, что должна была бы, наконец, преодолеть христианская культура, которой скоро исполняется две тысячи лет и которая все еще жива... Над всем довлеет гордыня» (Ibid. S. 85). См. также в рецензии на «Рабочего» Густава Гундлаха (Gundlach G. И Stimmen der Zeit. 63. Jg., April 1933. S. 69f.): «Если внимательно посмотреть, фрагменты, из которых складывается юнгеровс-кая картина мира, не новы. Мы находим их на каждом шагу во всех книгах нашего страдальческого антилиберального времени и конъюнктуры, вплоть до большевистской идеологии. Вероятно, нигде, как в книге Юнгера, не проявляется так осязаемо тесная связь этого молодого немецкого национализма и большевизма. Такие понятия, как «тотальная мобилизация» или «государство рабочих», понимание рабочего и самого труда, роль техники и искусства напоминают большевист-
77
зации и подразумевает критику большевистского социализма и его классового воинствующего понимания рабочего. Рабочий Юнгера проявляет универсальность рабочего как лицо, имеющее отношение к действительности, и как тип и тем самым указывает на то, что экономическая марксистская категория «рабочий» как пролетарий недостаточна и не отвечает повсеместной распространенности «характера труда» в эпоху модерна. 24 сентября 1978 года в уже цитированном письме к Генри Пларду Юнгер пишет: «Тогда я не мог предвидеть, на какой риск отваживаюсь, выдвигая свою концепцию. Антимарксистскую трактовку я должен отклонить. Маркс вписывается в систему «Рабочего», но не полностью ей соответствует. То же самое надо констатировать и в связи с ее отношением к Гегелю. Я имею право предположить, что Гегель скорее согласился бы с «образом» рабочего, чем с его сведением к экономике, которая остается одной из сфер. «Образ»... представляет мировой дух определенной эпохи, а поскольку господствует, то в числе прочего также и над экономикой. Основной проблемой является власть; она определяет детали» (Der Arbeiter, S. 316; Bd. 8, S. 390).
«Рабочий» — это образ, который принимает мировой дух на пике модерна, а гегельянско-идеалистическое и марксистско-
скую картину мира. Но только у Юнгера все это задумано гораздо более воинственно и практично, а бездуховность и антирелигиозная секуляризация жизни даже превосходят большевистский образец. Классовые противоречия, личностные ценности, незыблемые нормы индивидуального и общественного бытия просто отменяются в командном порядке. Возникающая затем картина мира настолько же проста, как и неутешительна. К тому же ужасным и роковым является заблуждение всей новой националистической литературы, будто словами о национальном можно устранить всякую социальную напряженность. В принципе эти усилия свидетельствуют о том, что о национальном судили поверхностно и никогда не понимали его глубины и связанной с ним полноты ответственности. Однако как яркое доказательство далекоидущего влияния идей большевизма книга Юнгера, в любом случае увлекательная, требует серьезного внимания».
78
материалистическое толкование фигуры Рабочего — это всего лишь две стороны одной медали. Потому что: «...за представлением мирового духа стоит материя, но не идея. Теория не определяет действительность, как это часто решительно подчеркивает Гегель, но действительность рождает идеи и изменяется сама по себе. Даже техническое изобретение следует за потребностью в нем. В конечном счете действительность и не выдумана, и не случайна. Этому соответствует понимание материи, идущее еще с доплатоновских времен, — материя не материалистична, а материальна» (там же).
С точки зрения экономики трактовка Рабочего применима лишь к одному аспекту тотальной мобилизации модерна. «То, что экономические оценки можно весьма широко, даже абсолютно применять, объясняется тем, что труд надо толковать и с позиций экономики, но не ограничиваться утверждением, что он равнозначен экономике. Труд возвышается над любым экономическим бытием, относительно которого он может принимать не простые, а многообразные решения и получать только фрагментарные, неполные результаты. ...Таким образом, некий рабочий, попав на необитаемый остров, точно так же остался бы рабочим, как Робинзон остался буржуа» (Der Arbeiter, S. 90; Bd. 8, S. 94). Мобилизация модерна делает человека «идеальным совокупным Рабочим», для которого мир в большей степени является материалом технического присвоения и господства.
Мобилизация модерна начинается с гегелевской теории мирового духа, а точнее, с тех ее фрагментов, где Гегель в деятельности субъективного духа, человека, развертывает процесс мировой истории. И где у Гегеля больше не существует различий между развитием труда человека и развитием мира. Мир полностью отдан в руки человека и его труда. Гегелевское видение процесса мировой истории и человеческого труда высветилось, однако, только с момента утверждения всеобщего тотального характера труда в первые три десятилетия XX века — между началом Первой мировой и концом Второй мировой войны. Благодаря реакционному модернизму национал-социализма и ста
79
линистскому модернизму советского марксизма гегелевская трактовка мировой истории как тотального присвоения истории человеком переживает подъем, хотя устремления Гегеля оказались извращенными и фальсифицированными. Универсальный, тотальный характер труда этой эпохи деформировался в похожее на работу организованное человеческое жертвоприношение того времени.
Юнгер пророчески предвидел это превращение диалектики тотального характера труда в тотальное техническое пространство смерти: «Для субъекта, напротив, поле боя есть частный случай тотального пространства; поэтому в бою он замещает себя средствами, которым присущ тотальный характер. Так возникает понятие зоны уничтожения, которая создается с помощью стали, газа, огня или других средств, а также путем политического или экономического воздействия. В этих зонах de facto больше нет различий между бойцами и не-бойцами. ...Но это отличительный признак резко возросшей и очень абстрактной жестокости» (Der Arbeiter, S. 149; Bd. 8, S. 153). «Его (каждого) сила борьбы является не индивидуальной, но функциональной ценностью; нельзя сказать, что кто-то пал, — он выпал» (Der Arbeiter, S. Ill; Bd. 8, S. 115). Пророчество Юнгера лишено морального обязательства, но оно не лишено сострадания. Даже если, как требует Юнгер, нельзя бить сейсмографа за землетрясение, которое он предсказал в конце 1932 года и которое произошло в 1933 году, злой рок и заносчивость носящего брутальный характер модернизма остаются.
Юнгер не является безучастным хроникером тотального са-мовозвышения модерна и его воли к власти. В отличие от дурманящей власть тотальной исторической диалектики он считает необходимой легитимацию властных притязаний Рабочего «Человека» как такового. Рабочий Человек для своей власти на самом деле нуждается в том, что власть ему делегировали, «поручили»: «Теперь же встает вопрос о легитимации, особого и необходимого, но все же ни в коем случае не волевого отношения к власти, которое можно также назвать поручением... Мера
80
легитимности определяет меру господства, которая может быть достигнута волей к власти... Напротив, воля к власти сама по себе обладает столь же малой легитимностью, что и воля к вере: это не полнота, а чувство недостаточности, проявляющееся в том и другом случае» (Der Arbeiter, S. 70f.; Bd. 8, S. 74f.).
Кто или что легитимирует тотальную волю к власти модерна? Кто может законным образом «подобрать» тотальное господство, которое в эпоху модерна, по-видимому, «валяется под ногами», — как-то де Голль сказал, что любая политическая власть валяется под ногами? ЗО-е годы, по мнению Юнгера, характеризуются «неистовой волей к всевластию, всенастоящему и всезнанию, к самому бесстрашному Eritis-sicut-Deus»1. В ней «дух опередил сам себя... Возник какой-то хаос фактов, средств власти и динамических возможностей, который сразу же мог превратиться в инструментарий для осуществления грандиозного господства» (Der Arbeiter, S. 72; Bd. 8, S. 75ff.). Мобилизованный мир ждет своего господина, который захватит власть: «В основе все возрастающего, ставшего всеобщим страдания мира лежит следующее: подобное господство пока еще не реализовано и поэтому мы живем в такое время, когда средства кажутся более значительными, чем человек» (Der Arbeiter, S. 72; Bd. 8, S. 76). Мир ждет героя, которому наконец подойдет оснастка, инструментарий и вооружение модерна; мир ждет героя, который будет достаточно взрослым для модерна.
Кто может стать этим новым властелином мира на законном основании? «В мире труда власть не может быть иной, нежели репрезентацией образа Рабочего. В этом заключена легитимация новой и особенной воли к власти. Эту волю узнают по тому, как она господствует над своими средствами и наступательными вооружениями, и по ее отношению к власти — не отвлеченному, а субстанциальному. Такое оружие не может, не должно быть новым; необычайная его сила в гораздо большей степени заключается в том, что она в знакомом и известном раскрывает
1 Будь подобен Богу (лат.).
81
такие резервы, о которых никто не догадывался» (Der Arbeiter, S. 73f.; Bd. 8, S. 77f.).
Так миф о модерне показывает себя во всей полноте, тайна Рабочего раскрыта. Герой модерна, Рабочий, получает законное право на тотальное господство, потому что он один способен владеть оружием — инструментарием модерна; техника, — вот подходящее Рабочему оружие, орудие и оснащение. Присваивая с помощью своего нового оружия и оснащения власть, которая «валяется под ногами», Рабочий вместе с тем самим образом жизни подает пример стиля жизни своего века: «Впрочем, чем более циничную, спартанскую, прусскую или большевистскую жизнь будет он вести, тем лучше будет эта жизнь. Заданный масштаб заложен в образе жизни рабочего. Речь не о том, чтобы этот образ жизни сделать лучше, а о том, чтобы придать ему наивысший, решающий смысл» (Der Arbeiter, S. 21 Of.; Bd. 8, S. 214f).
Книга «Рабочий» в широком плане отличается почти неощутимой заблаговременной подготовкой к взятию власти типом Рабочего, в ходе которой желание участвовать предстает попыткой компенсировать отчуждение и раздвоенность человека сверхприспособляемостью1. Каждый ставит себя на место ми-
1 Ср. собственные характеристики Юнгера 1943 года: «Рабочий» является «выигранной в решающей схватке медалью... Обратной стороны нет». И во второй редакции «Сердца, ожидающего приключения»: «Я думаю, что мне удалось с известной систематичностью удовлетворить существовавшую тогда в Германии всеобщую и глубоко обоснованную потребность броситься из реальности в кипящий котел дурмана» (цит. по: Bondy F. Ernst Jiinger vor Augen. Ansprache bei einer Feier // Merkur. 27 (1973). S. 970). Бонди в своей работе убедительно доказывает близость между понятием «тип/субъект» у Юнгера и понятием «структура» во французском структурализме, как, например, у Фуко. С другой стороны, пророческий характер «Рабочего» 1932 года становится очевидным, если рассматривать ход событий в Германии и Советском Союзе в период 1933— 1945 годов. См. также у Муккермана (Muckermann F. hn Ernst Jiinger (1932). S. 86): «Вы написали трагедию будущего, трагедию нового сооружения Вавилонской башни, «Песнь о Нибелунгах» XX века, конец Зигфрида, дитя Солнца, вероломство и падение Хагена фон Тронье».
82
фического героя, совокупного Рабочего, разделяя целиком и полностью его страдания и триумфы. Юнгер продолжает опыт гегельянства — преодолеть раздвоенность, отдав свою самость на волю истории, движение которой определено мировым духом, и примириться с этим. Однако нигилизм остается вечной тенью, сопровождающей монизм мирового духа. И Юнгер втайне признает, что органическая конструкция Рабочего с трудом может скрыть собственную пустоту и стремление присвоить полномочия и власть. Героический реализм «определяет параметры силы нападения, в котором мы нуждаемся. Носители этой агрессии — люди типа тех добровольцев, которые восторженно приветствовали большую войну и теперь приветствуют все, что за ней последовало и последует» (Der Arbeiter, S. 37; Bd. 8, S. 41). Тотальная мобилизация одобряет все, что сделало и делает ее мобильной. Этот тезис согласуется со словами Леона Блуа: «Все, что происходит, восхитительно», которые Юнгер позднее будет часто цитировать*.
Для воли к власти и к мобилизации все, что за ней следует и что последует, достойно уважения. Однако более чем сомнительно, что таким образом удовлетворительно решается проблема легитимации власти и преодоления нигилизма. В следующей за «Рабочим» книге «О боли» так говорится о ситуации модерна: «Мы делаем вывод, что находимся на последнем и притом весьма примечательном этапе нигилизма, который отличается тем, что новый порядок уже утверждается, а соответствующие этому порядку ценности все еще невидны... Приходит понимание сосуществования высокой организаторской способности и полнейшего дальтонизма в отношении ценности, веры без содержания, дисциплины без легитимации, — короче, понимание замещающего характера идей, институтов и личностей вообще. ...В рамках такой ситуации боль является единственным средством, которое обещает все разъяснить. Там, где нет никаких
1 Например, в «У стены времени» (An der Zeitmauer (1959), S. 631): «Все, что происходит,, достойно уважения».
83
ценностей, продолжает существовать, как знак чуда, движение к боли; в нем дает о себе знать негативное влияние метафизической структуры» (Uber den Schmerz, S. 216; Bd. 7, S. 190f.). Боль — такое же следствие нигилизма, как и признак метафизической мобилизации.
Что с необходимостью последует из этой ситуации? «Практически из этого утверждения для каждого вытекает неизбежность и необходимость участия в оснащении, несмотря ни на что, — все равно, усматривает ли он в этом путь к гибели или считает, что на холмах, где ветер валит кресты, а дворцы лежат в руинах, он все-таки сможет ощущать и узнать то беспокойство, которое обычно предшествует выносу новых знаков и регалий полководца» (Uber den Schmerz, S. 216; Bd. 7, S. 191).
В эпоху Рабочего героический характер, героический реализм, располагает двумя возможностями низвергать нигилизм. Героический характер может уничтожить нигилизм, если убьет человека или водрузит новые знаки полевых боев. Своей заключительной главой, вершиной которой является требование водрузить новые кресты, новые полевые знаки, книга «О боли» дает понять, что Рабочий эпохи тотальной мобилизации не есть образ и тип преодоления нигилизма, он свидетельствует о начале этого процесса. Рабочий отвечает собственным средствам жизни, он способен к господству, может властвовать, но Рабочий не имеет «поручения» относительно смысла и содержания власти. Предназначение его господства — вопрос «Зачем?» — темен и неясен, и боль, которая остается после такого опыта власти, свидетельствует, что Рабочий еще не достиг гармонии своих средств к жизни и своего образа жизни. Он не освободился от боли. Моменты, указывающие на несовершенство типа Рабочего, — отсутствие «поручения» для осуществления власти и присутствие боли — будут преодолены, сняты только в том случае, если Рабочий превратится в титана.
84
Часть В
МЕЖДУ ЛЕСНЫМИ ЧАЩАМИ И ПУСТЫНЕЙ
Глава 3. Эпизод I:
Идущий лесными тропами — между анархией и нигилизмом
В поставленном Юнгером в ЗО-е годы диагнозе относительно типичного характера идей, направлений и личностей, а также выраженном в них нигилизме («О боли») видно стремление приукрасить власть. В рассказе периода Сопротивления «На мраморных скалах» власть играет роль силы, упорядочивающей ею самой обусловленный беспорядок (Auf den Marmorklippen [1939], S. 52; Bd. 15, S. 280). Старший лесничий, под маской которого Юнгер выводит Гитлера, уподобляется «злому врачу, который сначала усиливает страдания, чтобы затем сделать нужный для операции разрез».
По Юнгеру, в национал-социалистическом господстве воплощен дуализм приобретшего законченную форму нигилизма и дикой анархии. Сила порядка стремится объединить в себе анархию и холодный нигилизм, колеблется между лесом и пустыней, сама не зная, «превратить ли обиталище человека в пустыню или в лесную чащу». Команда старшего лесничего делает ставку на анархию — группа мавританцев, его функционеры, в своем «позднем нигилизме», «холодном, лишенном основ интеллектуализме» и склонности к утопии полагается на систему холодного страха, действующую как часовой механизм.
17 января 1944 года во «Втором парижском дневнике» Юнгер отмечает: «Нигилизм и анархия. Провести между ними различие так же трудно, как между угрями и змеями. Однако это необходимо для понимания процесса игры. Решающим являет
85
ся отношение к порядку, которого нет у сторонников анархии, но которое отличает нигилистов. Поэтому нигилизм труднее распознать: он лучше замаскирован. Показательно отношение к Отцу: сторонник анархии его ненавидит, нигилист его презирает... Затем — различия в отношении к Матери и прежде всего к Земле, которую сторонник анархии хочет превратить в болото и дремучий лес, а нигилист — в пустыню. Изучение следовало бы начать с выяснения теологического соединения» («Излучения» — Strahlungen II, S. 213). В произведении 1990 года «Ножницы» дана теологическая оценка понятия «пустыня», и уже не как дополнения к «дремучему лесу»: пустыня монаха и богомольца — это пространство, где ножницы не работают, а восприятие особенно обостренно. «В пустыне пространство и время еще ближе к первозданности, чем в лесах: родина пророка — пустыня, родина преступника — лес» (Die Schere, S. 29).
Власть старшего лесничего доказывает, что нигилизм может сочетаться с самыми разными системами порядка; пустыня, которая является пространством-пустыней не пророка, а ничто, хорошо может гармонировать с дремучим лесом, который вовсе не есть пространство — лес свободы. В эссе 1950 года «О линии» Юнгер указывает, что образ нигилизма не представляет ни хаоса, ни анархии, ни пустыни, ни леса. Патриархальная идиллия кошмара, созданного старшим лесничим из «На мраморных скалах», осталась далеко позади реалий холодного нигилистического уничтожения, убийства и умерщвления жестокостью1, которая не сдерживалась и анархическим характером самого преступления: «Даже там, где нигилизм проявляет свои самые жуткие черты, как, например, в местах массового физического уничтожения, до последнего мгновения царят рассудочность, гигиена и строгий порядок» (Uber die Linie, S. 250). Хладнокровие, с каким совершается злодеяние, делает его еще более опасным и
1 Сам Юнгер писал в 1972 году: «Наверное, я еще слишком мягко изобразил живодерню» («Филемон и Бавкида» — Philemon und Baucis, S. 470). См. ниже с. 137.
86
коварным. «Если бы нигилизм просто претендовал на то, чтобы быть своеобразным злом, то диагноз был бы более благоприятным. Против зла есть испытанные средства. Еще тревожнее слияние, вплоть до полного стирания различий добра и зла, что часто ускользает даже от самого острого глаза» (Uber die Linie, S. 256). Нигилистический, не аффективный характер злодеяния делает его еще более непостижимым, а потому более опасным, чем обычное преступление, которое само по себе не имеет ничего общего с нигилизмом, но возникает из страсти или азарта: «Преступление становится даже убежищем от выхолащивания разрушающего самосознание, выходом из забвения. Еще Шам-фор сказал: «Человек в современном обществе, мне кажется, более коррумпирован своим разумом, нежели своими страстями» (Der Waldgang, S. 124; Bd. 7, S. 361).
Нигилизм и анархия оказались связаны так тесно, что это вызвало всеобщее смятение умов. Проблему можно разрешить только теологическими средствами. Иными словами, узел «нигилизм — анархия» может быть разрублен только при помощи теологии. Ситуация, возникшая при национал-социалистах в результате смешения «леса» и «пустыни», требует содействия королевы наук — теологии (Strahlungen II, S. 234). 28 мая 1944 года Юнгер завершает сквозное чтение Библии, начатое 3 сентября 1941 года (Strahlungen II, S. 271).
В финале мрачной свадьбы нигилизма и анархии тип Рабочего и тип Солдата оказались изуродованными: они использовались в интересах мобилизации, убийства и уничтожения, которые в конечном счете уничтожили и саму войну. Нигилистическая мобилизация вызвала ситуацию, когда войну уже нельзя вести, не превращая ее в преступление: «В нарастающем темпе армии уподоблялись прожорливому насекомому. Они продолжали воевать в состоянии, когда приверженность прежнему стилю военного искусства считалась преступлением» (Uber die Linie, S. 247).
О ведении Германией войны на два фронта Юнгер 23 января 1945 года написал: «Энергия, сила воли удивительны; прав
87
да, они проявляются единственно в достижении успеха серостью и злом. Это больше не война, поскольку и по Клаузевицу политика не должна приводить к такому положению» (Strahlungen II, S. 362). Тотальная мобилизация совершила свой анархическо-нигилистический поворот к злу: результат—мифы о Солдате, о Рабочем утратили достоверность. «Лучшие умы в Генеральном штабе были вообще против форсированного вооружения... Ситуацию можно описать парадоксальным образом: военная каста хотела войны, но в архаичной форме. Сегодня войну ведут технократы»1.
В «Годах оккупации» о положении Германии в 1945 году говорится: «Я здесь впервые услышал мнение, что атомная бомба была бы предпочтительнее» (Jahre der Okkupation [1958], S. 191; Bd. 3, S. 563). Тяготы оккупации послужили Юнгеру поводом, чтобы заметить: «Если в период своих триумфов немцы часто вызывали у меня чувство печали, то теперь, в несчастье, они вызывают во мне великое уважение» (Jahre der Okkupation, S. 202; Bd. 3, S. 572).
Вопрос о сострадании всегда остается личной проблемой для Эрнста Юнгера и роковым для его критиков. Его дневниковая запись 27 мая 1944 года в Париже: «Тревоги, налеты... Во второй раз, на заходе солнца, я держал в руке бокал бургундского, в котором плавали ягоды земляники. Город с его красными башнями и куполами был необыкновенно прекрасен, он подобен бутону, ожидающему смертельного оплодотворения. Все было зрелищем, все было чистой, утверждаемой и возвышенной страданием силой» (Strahlungen II, S. 271). Часто эту запись интерпретируют как лишенную сострадания, жестокую, как
1 Запись в дневнике 29 марта 1944 года (Strahlungen II, S. 244). Правда, автор «Рабочего» уже предвидел такой ход событий: «В современной, оснащенной по последнему слову техники армии тон задает уже не военное сословие, но армия стала специфическим выражением, присвоенным фигурой Рабочего» (Der Arbeiter, S. 76; Bd. 8, S. 80).
88
проявление высокомерия1. Но было бы некорректно читать эти строки без того, что было написано накануне. Дистанции, которую принял эстет, наблюдая за бомбардировкой города, в дневнике предшествует такая запись: «Я должен изменить максимы; с течением времени мне становится слишком трудно с людьми. Например, с командиром батальона, который сказал, что прикажет вывести перед строем первого же пойманного дезертира и расправится с ним лично. Такие высказывания вызывают у меня
1 См., например: Meienberg N. Zum Flammentod bereit // Der Spiegel, 44. Jg., Nr. 24 (11 Jimi), 1990. S. 189. Эта статья — в высшей степени односторонняя критика Юнгера. В частности, о приводимой выше дневниковой записи Майенберг пишет: «Проникнутый духом смерти, достойный сожаления китч. Крайний нарциссизм горячо дышит со страниц его дневников, прежде всего в фантазиях о насиловании во время бомбардировки Парижа». Оставим на совести критика стремление увидеть сексуальные фантазии в отчаянной и конечно же обреченной попытке эстета преодолеть свое бессилие во время бомбардировки. Сравним это высказывание с «Амрисвильским обращением к Эрнсту Юнгеру» Альфреда Андерша (Frankfurter Rundschau, 16. Juni 1983, Zeit und Bild. S. VII), где «Излучения II», несмотря на элементы дендизма, характеризуются как значительное произведение. Похоже, что эта дневниковая запись определила судьбу Юнгера. Она возникает в весьма противоречивой по отношению к нему рецензии Майкла Хьюлза «In cold blood» и занимает центральное место в «Духе в условиях деспотии. О нравственных возможностях интеллектуала в тоталитарном обществе» Петера де Мендельсона (Mendelssohn Р de. Der Geist in der Despotic. Versuche uber die moralischen Moglichkeiten des Intellektuellen in der totalitaren Gesellschaft. Berlin (F. A. Herbig), 1953. 4. Кар «Uber die Linie des geringsten Widerstandes. Versuch liber Emst Jlinger». Об указанной дневниковой записи де Мендельсон пишет: «Однако Юнгер... опускается до уровня восприятия верного сына Муссолини, который сбрасывал бомбы на негритянские деревни в Абиссинии и сравнивал разбегавшихся туземцев и взметающиеся языки пламени с тем, как распускается роза» (S. 207f.). Здесь автор игнорирует различие между позициями наблюдателя и потенциальной жертвы бомбардировки, с одной стороны, и преступника и того, кто бомбит, — с другой, тем самым отводя Юнгеру роль преступника, наслаждающегося своим преступлением.
89
дурноту. Я должен занять позицию, позволяющую рассматривать таких субъектов как рыбок в коралловом рифе, или как насекомых на лугу, или как врач — больного» (Strahlungen II, S. 270).
Вторую мировую войну Юнгер оценивает как крушение идеала Солдата. Эта позиция, как в луче прожектора, высвечивается в момент посещения арестованного сына: «Когда я увидел его сидящим передо мной в матросской курточке, я вспомнил, как он еще ребенком стремился к лаврам военного и что его помыслы и устремления были направлены на то, чтобы устоять в бою. Он хотел доказать, что достоин отца, и это подвело его к крайне опасной черте. «Как же точно ты в него попал, мой мальчик, — думал я про себя, — и как же хорошо, что я могу понять тебя и как отец тоже». Война, когда она идет между нациями, — это только грубые кулисы: борьба разворачивается за другие, более опасные награды. И мне, имеющему высокие ордена за Первую мировую войну, стало хорошо от того, что я посетил эту убогую камеру. Мы все же познали блеск, что больше никогда не выпадет на долю этих мальчиков, и потому их заслуга больше»1.
Военное поражение Германии и исчезновение элементов рыцарства в современной войне — вот причины изменения юн-герского идеала Солдата. Образ Идущего лесными тропами является третьим, наряду с образами Солдата и Рабочего. Фигура Идущего лесными тропами одиночки свободнее и сложнее, чем образы послушного приказу, сражающегося вместе с другими Солдата или включенного в процесс мобилизации Рабочего.
Но еще до того, как Юнгер создал образ Идущего лесными тропами, в «Годах оккупации» прозвучала его жалоба, безжалостная по отношению к себе, свободная от чувства ложной вины, что сделало ее пронзительнее: «Бессонная ночь. Безоговорочная капитуляция: она неизбежный результат тотального напряжения и его нарастающей тенденции к уничтожению. Если Кла
1 Кирххорст, 13 апреля 1944 года (Strahlungen II, S. 251).
90
узевиц видит цель идеальной войны в том, чтобы навязать свою волю противнику, то «реальная» война эту цель ограничивает. Она исходит из того, что противник еще имеет свою волю и выражающее ее руководство, то есть что он еще существует. ...Высказывания вроде наполеоновского «Брауншвейгский дом перестал существовать» уже выходят за рамки этого представления. Но Наполеон не сказал же страна Брауншвейг. В безоговорочной капитуляции выражается намерение подчинить противника вещному праву; права человека и международное право, включая неприкосновенность пленных, отменяются — констатируется физический, зоологический или технический факт. Побежденных можно истреблять и изгонять, как это происходит в наших восточных провинциях»1.
Юнгер видит бедственное положение побежденных немцев, которое в оккупированной Германии чуть не приводит к каннибализму: «Обозначаются, и часто весьма откровенно, первые проявления, переходы к интеллигентному каннибализму. Любое чисто экономическое представление должно это учитывать»1 2. Но он анализирует и все предшествующее: «Несомненно, не только более разумным, но и более достойным будет переход на сторону церквей, нежели на сторону тех, кто их преследует. Это проявилось недавно и проявляется по сей день. Все-таки мы должны быть благодарны, кроме некоторых военных, церкви за то, чтобы дело не дошло до явного каннибализма под ликование масс и восторженное поклонение зверю. Временами мы оказывались буквально на пороге такого развития» (Uber die Linie, S. 267).
Юнгер усматривает асимметрию в восприятии несправедливости побежденными и победителями во Второй мировой войне. Причины этого он видит в политической односторонно
1 Кирххорст, 22 августа 1945 года (Jahre der Okkupation, S. 133; Bd. 3, S. 5Ilf.).
2 Кирххорст, 12 сентября 1945 года (Jahre der Okkupation, S. 160; Bd. 3, S. 535).
91
сти: «Мировая тенденция уже давно развивается влево — в направлении, которое, как Гольфстрим, вызывает симпатии многих поколений. Левые уже более 150 лет подчиняют себе правых, а не наоборот. ...Фашизм, по крайней мере в своем начале, относится к лагерю буржуазной реакции. Буржуа видит, что его класс растворяется в огромном рейхе и что в собственной стране появляются силы, которые это одобряют и к этому стремятся. Он предвидит уготованную ему судьбу. Он видит также, что средств правового государства для его защиты недостаточно — ни правительства, ни народного представительства, ни полиции. Со своей стороны он перестает считаться с правом и скоро из провоцируемого становится провокатором. Одновременно он утрачивает симпатию окружающего мира. Его злодеяния осуждаются все более сурово и возмущают мировое общественное мнение гораздо сильнее, чем преступления других. ...Белый ужас не меньше красного и столь же мало может быть одобрен. Но он несет груз большей ненависти, и, если говорить объективно, это симптом того, что он противоречит мировой тенденции и мировым симпатиям. Наполеон как-то выразился примерно так: «Я приказываю сжечь деревню, и весь мир возмущается. Англичане опустошают страну, и это никого не волнует». Таким образом объясняется то, что критики и судьи наших мерзостей не останавливаются перед фактом, что они оказываются за одним столом с общеизвестными убийцами»1.
1 Кирххорст, 22 августа 1945 года (Jahre der Okkupation, S. 133,136; Bd. 3, S. 513). Уже в 1929 году Юнгер, несмотря на свои симпатии к социал-революционному национализму и национал-большевизму, иначе видел пределы возможности союза между националистами и социалистами. Он полагал, что радикальные левые глухи к национальным интересам, а правые — к требованию передела собственности: «С другой стороны, надо признать, что силы, которые и сегодня исповедуют национализм, не могут достаточно четко отделить себя от законности, от партий, от затаенной враждебности класса, чувствующего угрозу своим амбициям, от вообще всего вечно буржуазного, что этим силам еще не хватает решительности и уверенности в себе. Таким образом,
92
В «Годах оккупации» возникает третий тип модерна, переходный после Солдата и Рабочего — Идущий лесными тропами, это промежуточный тип эпохи. В 1951 году Юнгер публикует эссе «Лесной путь», в котором он создает очередной утешительный миф — образ эпохи, обращаясь на этот раз к отверженному «Рабочему». Идущими лесными тропами Юнгер называет тех, кто утратил социальные и национальные связи в процессе модернизации, в результате мировой войны и мобилизации, кто стал одиноким и безродным, наконец, осознал свою обреченность (Der Waldgang, S. 44; Bd. 7, S. 308). Идущий лесными тропами — это человек, который, избегая пустыни нигилистической цивилизации и дремучего леса анархии, скрывается в лесу — прибежище свободы: «Не беда, что выражение восходит к древнему исландскому понятию, даже если в данном контексте его следует трактовать шире. Лесные тропы следуют за изгнанием; так человек обнаруживает волю к самоутверждению. Это честная позиция, и она остается таковой и сегодня, несмотря на банальность. Изгнанию чаще всего предшествовало убийство,
их борьбу за нацию, по крайней мере там, где они выступают в стране, можно спутать с борьбой исключительно внутри нации» (Jlinger Е. Vorwort zu «Der Kampf und das Reich». S. 7). Социал-революционный национализм, — а Юнгер печатался в таких изданиях этого направления, как «Ди Комменден», — уже в 1919—1920 годах в «Германском манифесте» заявил: «Демократия, опозоренная Версалем, Спа и Лондоном, должна быть заменена другими конституционными формами, в рамках которых будут иметь влияние не голоса, деньги и болтовня, а сила. ...Уже из этого вытекает необходимость союза с Советской Россией». В тексте «Социалистическая революция» говорится: «Мы, со-циал-революционные националисты, видим путь к свободе Германии через преодоление капиталистического строя... Мы отвергаем любой союз с фашистской Италией потому, что фашизм является не более чем организационной формой проявления национализма в рамках капитализма. Мы, социал-революционные националисты, требуем заключения союза с Советским Союзом». Оба текста см.: Paetel К. О. (Hrsg.) Sozialrevolutionarer Nationalismus. Flarchheim (Verlag Die Kommenden), 1930. S. 28, 30.
93
но сегодня оно — изгнание — настигает человека автоматически, подобно вращению рулетки. Никто не знает, окажется ли он завтра причисленным к отверженным, стоящим вне закона. Цивилизация меняет характер жизни... Морской лайнер становится боевым кораблем, и на нем поднимаются черный пиратский флаг и красный флаг палача» (Der Waldgang, S. 59; Bd. 7, S. 318).
Идущий лесными тропами ищет убежище от тотальной мобилизации на священном пространстве, свободном от господства техники, труда и войны. Он бежит от растущего пространства пустыни. Он является к ничто, которое хочет знать, «дорос ли человек до него, живо ли в нем то, что не поддается разрушению временем» (Der Waldgang, S. 85, 87; Bd. 7, S. 335,336). Идущий лесными тропами — это человек одиночества, это образ человека, который встретился с самим собой: «И здесь человек с корабля должен соизмерить себя с человеком леса — то есть человек цивилизации, человек движения и исторического явления сопоставляет себя со своей покоящейся, вневременной сутью, которая представляет себя в истории и в ней изменяется» (Der Waldgang, S. 100; Bd. 7, S. 345). Лесные тропы — это испытание человека войны и человека цивилизаторской работы, испытание способности быть одному: «Человек суверенен в этом одиночестве, что предполагает осознание им своего статуса. В этом смысле он сын Отца, господин Земли, чудесное создание» (Der Waldgang, S. 101; Bd. 7, S. 345). Это испытание Идущего лесными тропами отличается от испытания Солдата: «Его жизнь более свободна и одновременно более сурова, чем жизнь Солдата» (Der Waldgang, S. 111; Bd. 7, S. 352).
В образе Идущего лесными тропами Юнгер создал свой третий миф и сотворил своего третьего мифического героя, в котором отверженный герой мобилизации модерна, потерпевший крах Рабочий и Солдат, может снова осознать и идентифицировать себя, но как анархиста и одиночку. Способность к новому самоосозна-нию заключена в трагедии — начале освобождения или избавления от страданий. Мифология модерна дополняется третьим героем, который все-таки, скорее, маргинал, чем трагический герой.
94
Миф, лес — это еще одно вневременное царство, оно существует наряду с царством истории, освоенной страной или кораблем. И если образ быстро движущейся повозки имеет все признаки комфорта, привлекает или сеет, предстает либо «Титаником», либо Левиафаном, то царство мифа о «гавани, родине, мире и безопасности, которые каждый носит в себе, называется лесом» (Der Waldgang, S. 54; Bd. 7, S. 315). Для Юнгера миф не есть предыстория: «Он — вневременная действительность, которая повторяется по ходу истории. То, что наш век вновь обретает смысл в мифах, является хорошим знаком... Мифическое, несомненно, реализуется, оно уже на подходе. Оно есть всегда и в благоприятный момент выходит на поверхность как клад... К мифу не возвращаются — его обретают вновь, если времена беспокойные или опасность налицо» (Der Waldgang, S. 54, 60f.; Bd. 7, S. 315, 319). И в мифе об Идущем лесными тропами повторяется главная мысль Юнгера о жертве: «Это жертвы, на которых он (мир) покоится» (Der Waldgang, S. 122; Bd. 7, S. 360).
Было бы слишком легко отмахнуться от «Лесного пути» как от мифа 50-х годов, мифа о бегстве из реальности, и оспорить некоторые излишне напыщенные формулировки. Значение этой небольшой книжки заключается в том, что она ставит диагноз времени и, кроме того, будучи промежуточным звеном в мифологии Юнгера о модерне, перекидывает мостик между «В стальных грозах» и «Рабочим», с одной стороны, и «Гелиополисом» и «У стены времени» — с другой.
Если «В стальных грозах» и «Рабочий» — это «Илиада» мифологии Юнгера, то «Гелиополис» и «У стены времени» можно считать аналогиями «Одиссеи». Эпос Юнгера, отраженный в романе или в романе-дневнике, каждый раз дополняется, объясняется и развивается в эссе как философско-мифологическом толковании века. «Рабочий» как философская поэма и поэтическое размышление завершает роман-дневник «В стальных грозах» так же, как «У стены времени» развивает в поэтической философии мысли, очерченные в «Гелиополисе» исканиями и скитаниями его героя Луция де Геера. Между двумя крупными
95
философско-поэтическими проектами — «Рабочим» и «У стены времени» — «Лесной путь» представляет собой переход от Рабочего как технизированного господина мира к Рабочему — сыну Земли. Тип Идущего лесными тропами — это уже шаг на пути возвращения героя модерна к Земле.
Глава 4. Эпизод II:
Любящий — между гностицизмом и христианством
«Гелиополис» в эпосе Юнгера занимает место, подобное «Одиссее» в эпосе Гомера1. Похождения и духовный поиск героя «Гелиополиса» Луция де Геера созвучны приключениям Одиссея. Правда, похожий на Одиссея де Геер как героическая фигура напоминает, пожалуй, Энея, нежели самого Одиссея. Он не победитель, а скорее побежденный. Побежденный герой находит контуры будущего в ретроспективе города — Гелиополиса. Во вневременном характере композиции романа угадываются очертания стены времени, у которой в постисторический век, в эпоху после тотальной мобилизации, застыло время. Точно так же ориентализм романа подчеркивает отсутствие определенного места и времени для постисторического города и эпохи. Гелиополис — город между Западом и Востоком, между концом эпохи прогресса и началом постисторической эпохи.
Является ли название «Гелиополис» намеком на древний Баальбек или эллинизированный, а позднее романизированный Гелиополис в Ливане? Религиозный синкретизм и гностицизм,
1 Название этой главы «Эпизод II» не должно производить впечатление, будто «Гелиополис» не является центральным произведением Юнгера. Проблематика «Гелиополиса» представляет собой «эпизод» лишь в развитии мифа о веке. Впрочем, надо согласиться с Герхардом Лоозе в том, что «Гелиополис» — это обобщение науки Юнгера» (Loose G. Ernst Junger. Gestalt und Werk. Frankfurt (V. Klostermann), 1957. S. 250).
96
господствующий в Гелиополисе романа, делает понятными параллели с античным Гелиополисом, трудно поддающимся христианизации и склоняющимся к язычеству.
Спутница героя «Гелиополиса», Будур Пери, — это сторонница последней персидской общины приверженцев эрцереси-арха Заратуштры. Она, пожалуй, самый прекрасный женский образ у Юнгера — посредница между разумом христианского и греческого Запада и магией, а также герметическим гносисом Востока. «Что его удивляло в этой женщине, так это андрогенный элемент — смесь мужских и женских дарований. Мужским был интеллект, изящный и свободный, подобный клинку, когда его скрещивают con amore1. Однако к этому добавлялась своеобразная способность вчувствования в познаваемое, которой мужчинам не дано. Создавалось впечатление, будто она может думать всем телом, как это бывает, когда всем телом танцуют» (Heliopolis [1955], S. 329; Bd. 16, S. 275).
Будур Пери посвящает героя модерна в аркану восточного гносиса, в тайны, заложенные в дуализме Заратуштры, в знание, стремящееся постичь скрытые миры, mundus occultus. Прежде всего она учит героя быть осторожным, по-доброму разумным, учит и умению познавать: «Зло считалось у ее народа равным партнером, близнецом света, с которым оно веками с переменным успехом меряется силой. Это было учение ее Гаты и старинных песен, которое не было полностью разрушено и в поздней Авесте. Оно вновь возрождалось как великий страх с каждой новой угрозой миру... Здесь с точки зрения познания произошло успешное взаимопроникновение восточной и западной метафизики, а именно на одном привое, на древнем индогерманском корне, как встреча двух отдаленных цивилизаций»1 2 (Heliopolis, S. 331; Bd. 16, S. 276). «Гелиополис» — это ответ на тотальную мобилизацию, осуществляемую рационалистическим, атеистическим гуманизмом. Отвечая на атеистический гу-
1 с любовью, увлечением (итал.).
2 В полное собрание сочинений не вошло.
4 Петер Козловски 97
манизм, Рабочий возвращается к такой форме рациональности, которая преодолевает «мобилизующий разум», «разум в себе» и выводит к разуму осторожному, осмотрительному, неантропоцентричному.
От чего мы страдаем? «От Запада, от того, что в нем нет тайн, и, как следствие, от жути и тревог»1. Пошлость Запада есть производное его линейного исторического мышления, которое стремится реализовать в последовательности все то, что должно было бы быть одновременным. Собственно сила ума заключается в том, чтобы все же понять одновременность различного, взаимопроникновение многих уровней мышления и понятий, единство нетождественного. «Гелиополис» — это стремление героя модерна к такому миру, где человек относится к человеку не как к высшему существу и совокупному мировому Рабочему и где он, однако, не будет уничтожен как в дохристианском мифе.
То, что человек является мерой всех вещей, — это заблуждение атеистического гуманизма, которое все же содержит долю истины. В связи с дискуссией о «Семинаре для изучения строящих государство насекомых» патер Феликс говорит Луцию де Гееру: «Они опираются на древнюю мудрость, будто человек есть мера всех вещей. Это одна из самых могучих сентенций, одно из глубочайших заблуждений, существовавших тысячелетиями. Его можно было бы поместить на знамя, под которым идет гуманизм во все времена; это его глубочайшее изречение1 2. Один немец сказал нечто подобное, но не так пафосно: «С человеком рифмуется вся природа». Это очень хорошо, поскольку сразу же возникает вопрос, кто создал стихотворение» (Heliopolis, S. 244; Bd. 16, S. 207f.). Объединенные в одном образе Солдат и Рабочий открывают в «Гелиополисе» природу и женское нача
1 Ritter J. W. Brief an F. v. Baader vom 18. November 1807 // Baader F. v. Samtliche Werke. Hrsg. v. F. Hoffmann u.a. 2. Neudruck der Ausgabe Leipzig, 1857, Aalen (Scientia), 1987. Bd. 15. S. 216.
2 В полное собрание сочинений не вошло.
98
ло, то есть иное по отношению к «органической конструкции» и «тотальному характеру труда».
В этой связи возникает новое, герметическое и эстетическое, понимание политики. В «Гелиополисе» описывается государство, управляемое более рафинированными средстйами, чем оружие и техника мобилизации. Будур Пери спрашивает Луция:
«Меня удивляет, как Вы можете так долго удерживать страну в состоянии борьбы за власть, немыслимую без оружия».
Луций задумался.
«Вы, конечно, затронули сложную тему. Но если попробовать взглянуть на вещи с другой стороны, посмотреть как бы через зеркало, в котором, отражаясь, вещи отделяются, отдаляются от себя. В своих снах, в мире своих неоформленных или еще только оформляющихся представлений, в плаценте идей человек необыкновенно силен. Нет ничего более могучего, чем витающий в сновидениях дух. Войну называют матерью всех вещей, но можно сказать, что сон проникает еще глубже, что он отец всех вещей. Война всегда связана с тем, что есть, сон делает реальностью то, чего нет»1 (Heliopolis, S. 341).
В «Гелиополисе» героический реализм снимается магическим и герметическим реализмом. Снятие героического реализма герметическим выражается и в изменении позиции героя, и в характере политических средств и целей. Магический, герметический реализм, так же как и реализм героический, стремится подчиниться действительности за счет субъективного; но даже жертвуя субъективным, он воспринимает эту действительность как более сложную, многомерную, многослойную, не только очевидную, но и оккультную: в такой действительности магическим образом присутствует и правит Зазеркалье — то, что появляется в зеркале. Поэтому магически-герметическое тоже становится средством для политики, но скорее опасным, чем безобидным. Луций говорит Будур Пери:
1 В полное собрание сочинений не вошло.
4*
99
« — Мавританцы прошли через технику и достигли предела иллюзий относительно прогресса...
— Итак, они повторяют опыт Шатобриана? — спрашивает Будур Пери.
— Напрасно, поскольку они противоположность романтиков, или, лучше сказать, стоят над ними. То есть они допускают романтику в самых широких рамках своих намерений... Шатоб-риан стремился к прежнему порядку из-за тоски и внутренне. Мавританцы, напротив, придерживались принципа логического проникновения; они искусственно восстанавливали дворцы.
— Если я правильно понимаю, речь идет о последних жрецах?
— Совершенно верно, о жрецах, которым известна необыкновенная сила веры, но они ей не подчиняются. Они считают себя последней инстанцией высшего наступления, на которое может отважиться техника и которое начал святой Игнатий... Восстание масс неизбежно выливается в тиранию, которая скоро пробуждает тоску по восстановленной легитимности — по преобразованиям, которыми занимались такие умы, как Местр, Доносо-Кортес и Дон Каписко. Мавританцы, напротив, имеют в виду превращение, которое можно определить как переход явной тирании в неявную»1 (Heliopolis, S. 344—346).
Юнгер четко описывает угрозы, какие несет герметизм. Гер-метизм и гностицизм имеют тенденцию формировать жречество, которое не верит в то, что проповедует, и реализовывать свободу, которая по сути есть преданность и вера в неявную, оккультную тиранию герметических сил этого мира1 2. Но этими угрозами стремление подлинного гносиса и герметической политики не исчерпывается, и от него нельзя отказаться в пользу обычного просвещения и технической политики.
1 В полное собрание сочинений не вошло.
2 Символ мавританцев — крест, но крест координат Декарта (Heliopolis, S. 38; Bd. 16, S. 41).
100
Говоря об «искусстве управления государством» и эстетической политике мавританцев, Луций продолжает:
«Политика действует в глубинах истории тайны, какую не может постичь ни одно учение. Это началось, очевидно, в последней четверти XVIII века, в узких кружках, таких, какие сформировались вокруг Филиппа Орлеанского в Париже и Лондоне. Можно предполагать, что в XIX веке они были связаны со всеми левыми движениями, а в конце его лучшие умы стали новыми правыми. Тем не менее они полагали, что хорошую работу можно сделать, только действуя обеими руками, и что левые переоценивают страдания, а правые — факты. В конце XX века они пережили первый расцвет... Правые и левые уподобились друг другу и действуют как свет и тень, как отражения на одном и том же предмете»1.
Луций де Геер повествует, одновременно симпатизируя тому, о чем он говорит, и не принимая его. Сбивающий с толку герой «Гелиополиса» сам когда-то был мавританцем, принадлежал к многосторонним технократам от власти, однако теперь он живет, так сказать, между фронтами. Герметический реализм и «магическая» политика — это опасная возможность по ту сторону тотальной мобилизации. После крушения «тотального труда» магический реализм остался единственным реалистическим выбором модерна. Магическая мобилизация — это другая сторона и другое, превращенное лицо героического реализма модернизма. Герметическая политика более эффективна и в то же время более опасна, нежели героическая политика, поскольку ее сила не очевидна. К тому же для просвещенного герметика возникает угроза со стороны его непросвещенных братьев. Не
1 Heliopolis, S. 346. Жаль, что цитируемые здесь и в трех последних замечаниях отрывки отсутствуют в полном собрании сочинений, где глава «Беседы об упоении, власти и сне» используемого здесь издания 1955 года, идентичного с первым, тюбингенским, изданием (Heliopolis-Verlag) 1949 года, сокращена с 50 до 25 страниц и озаглавлена «Беседы в вольере» (Полное собрание сочинений. Bd. 16. S. 262— 288).
101
приятие интеллектуалов и технократов, как это имело место с Кламором и его учителем математики, доктором Хильпертом в «Рогатке», всегда направлено против творческой, мечтательной личности, против просвещенных и избранных (Die Zwille [1973], S. 164f„ 244f., 264).
Представитель христианского гносиса, теолог Климент Александрийский на рубеже II и III веков писал об отношении просвещенного к его всего лишь страждущим братьям, аллегорически трактуя образ Иосифа из Ветхого Завета: Иосиф представляет тип просвещенного гностика, которого ненавидят и преследуют его менее просвещенные братья. «Его братья завидуют ему, ибо он, опираясь на свой гносис, провидит в будущем больше, чем они»1. Завистливые братья бросают Иосифа в яму за то, что он носит яркие одежды, соответствующие его гносису.
Луций чувствовал себя приобщенным к магическому миропониманию и гносису Востока. Его учитель Нигромонтан ввел его в мир, где «власть жрецов и власть царя блистали еще как одно целое»*1 2 (Heliopolis, S. 412). Нигромонтан, будучи магом, знал «власть слова, которое правит миром непосредственно, без каких-либо инструментов... Он жил, как живут бедняки, однако его ученики, благодаря полученному от него шифру космического сокровища, сделали подвластным себе космическое изобилие»* (Heliopolis, S. 412). Встреча с христианством потрясла в Луции веру в магический блеск и мифическую власть древней, лежащей высоко в горах индогерманской страны: «Как случилось, что отец Феликс поколебал эту веру? Наверное, это была встреча доброты и любви, и любовь была более сильной, но непредвиденной властью. Христос оказался сильнее Платона, Сократа. Это следовало из судьбы всех империй, которые подчинились власти креста; здесь жизнь была более живой, более захватывающей, но и менее определенной, ведущей по краю пропасти»* (Heliopolis, S. 412).
1 Clemens Alexandrinus. Stromateis V, 53, 1.
2 Здесь и ниже звездочками отмечены фрагменты, не вошедшие в полное собрание сочинений.
102
Гелиополис — это метафорический город в переходном состоянии, в пространстве между язычеством и христианством, Баальбек-Гелиополис, где идет борьба между блеском магического и блеском божественного слова за то, кто будет озарять город и землю. «Иногда Луций надеялся, что Гелиополис поднимется до прежнего блеска и обретет торжественное достоинство магических городов, где жизнь, словно часовым механизмом на сапфирах, приводится в движение высшим знанием посвященных. Это были моменты, когда он ненавидел Христа; галилеянин навсегда уничтожил эту возможность. Его влияние оказалось глубже исконной революционной силы этой земли, и любое строение, любой храм, основанные на идее земного благополучия, будут разрушены»* (Heliopolis, S. 412). Роман «Гелиополис. Оглядываясь на город» — это ретроспективный взгляд на город языческого модерна, на город тотальной власти и тотального труда. Миф о великом Вавилоне и его создателе, Рабочем, поколеблен. Представление о значительности мобилизации мира через действие мирового духа и его агентов, рабочих, преодолено. И далее о Христе: «Он сдвинул основное направление работы истории. Он ввел в нее неизвестное. Человек перестал поддаваться учету; прежние уравнения больше не работали»* (Heliopolis, S. 412).
Мавританцы, неважно в холодном ли образе легко просчитываемой интеллигенции, как она изображена в «На мраморных скалах», или в прогрессивном, магическом образе жителей Гелиополиса, и во дворце, как первая, и в центральном ведомстве, как вторые, стремились скалькулировать человека. «Однако создавались-то ледяные дворцы: они долго сохраняли только зиму»* (Heliopolis, S. 412). Создавая ледяные дворцы, техническая мобилизация ведет к тому, что магия власти Рабочего теряет для Луция де Геера свой блеск: «Впервые он понял, что ему нужен человек, а именно определенный человек»* (Heliopolis, S. 413).
«Гелиополис» — это поэтическое отражение конфликта между языческим мифом и христианской религией в модерне.
103
Верующая в парсизм — религию гностицизма, объединяя элементы теизма и персонализма с элементами мифа и дуализма, становится для героя этой части эпоса модерна духовной наставницей, психопомпом. Дуализм ее веры становится для Луция признаком того дуализма, который господствует в любом мифе, в том числе и в греческом. «Что должна означать эта озабоченность (верующей в парсизм) тем, чтобы предать бренное тело миру червей и так резко, так явно расстаться с ним, и что скрывалось за этими обрядами, к которым народ Гелиополиса испытывал отвращение? ...Особенность учения заключалась в том, что оно выражало дуалистическое сознание максимально чисто, максимально нормативно. Раскол универсума на добро и зло, свет и тень представал совершенно отчетливо без полутонов; он всегда присутствовал в настоящем, он всегда был осознанным благодаря множеству магических правил и очищений. Жизнь в ее естественных связях и переплетениях была по-прежнему злой и мрачной... Как только дух, непостижимым образом избравший тело местом своего пребывания, расставался с ним, злое начало, сила Аримана, превратилось в бренном теле в главенствующее. Отсюда и стремление совершенно отделить его от чистоты стихий и не оскорбить соприкосновением с ним ни огонь, ни воду, ни воздух, ни землю»* (Heliopolis, S. 390).
Размышляя о парсизме, Луций постигает дуализм духа и природы, тотального характера труда и внешней телесности как простого субстрата духа, дуализм, который лежит в основе тотальной мобилизации. Разве тотальная мобилизация не стремилась пожертвовать природой человека, тотально конкретизировать жизнь, разве она не требовала, чтобы тело стало форпостом собственного духа? Религиозный гностицизм Будур Пери является зеркалом нигилистического гностицизма тотальной мобилизации, в котором ее герой и типаж узнает себя как на картинке-загадке. Во всяком случае, парсизм располагает — ив этом он диаметрально противоположен модернистскому монизму Рабочего — знанием оборотной стороны тотального пространства труда и тотального характера труда. В нем присут
104
ствует нечто совершенно отличное от тотального покорения человека самим собой. Гностицизм понимает дуализм добра и зла как присущее не только человеку, но и самому божеству. Согласно учению гностицизма, дуализм добра и зла находит свое выражение в дуализме мировой пустоты (кеномы) и гиперкосмической полноты (плеромы), и супернатурализм Божественного трансцендирует в нем этот мир — в противоположность имма-нентизму, который является определяющим для тотальной мобилизации.
Метафизический дуализм интересует героя модерна еще и потому, что речь идет о понимании способности к проявлению зла в процессе модернистской мобилизации. Дуализм — это хотя и иллюзорная возможность избежать вины и ответственности за зло, но прежде всего это возможность сохранить иллюзию, что можно пройти через зло и при этом не испытать его влияния. Луций размышляет о том, не является ли парсизм средством, допускающим превращение самопрославления человека в условиях модерна в тотальную самодемонизацию, одним ударом разрубающим узел проблемы антроподиции и тёодиции. Демонизация человека была бы способом избежать вопроса вины через его мифологизацию.
«Жизнь, — размышлял Луций, — таким образом, была бы своего рода плесенью, проказой, бурно распространяющейся по земле, и там, где она достигает высшего развития, — в человеческом теле, она наиболее гнусная? Если подойти разумно к тому, что утверждают эти маги, то мысль не так уж абсурдна. В конце концов человек остался единственным виновником бедствий мира, который раскрывается все более совершенным и счастливым повсюду, но не там, где его оскверняет человек. Соответственно люди — это носители смерти, черные точки в море света. Напротив, стихии в своей чистоте — это носители подлинной жизни и ее исцеляющей силы. Мы, не подозревая о том, охвачены потоками изобилия и вечного счастья. Капля воды в песчинке обладает большей силой, чем мы, которых из каприза, для игры гносиса придумал демиург. Нет, мысль, безусловно,
105
заслуживала того, чтобы ею заниматься, даже если в результате ты однажды принципиально поменяешь взгляды и посмотришь на себя в известной мере со стороны, как мертвый из живого»* (Heliopolis, S. 391).
Выраженное здесь, проистекающее из гностицизма презрение к человеческому телу есть крайнее, опрокидывающее себя опредмечивание своего Я. Человек рассматривает свое тело и органическую жизнь как прибежище зла и признает в неорганическом, в стихиях, в «чистой субстанции» единственное место для блага и бытия. Это крайнее выражение инструментализации человека, когда он все в мире, но не свое собственное тело рассматривает как полное жизни и ценное. В презрении к телу в гностицизме парсизма, как он представлен в «Гелиополисе», выступает диалектика опредмечивания тотального труда в зеркале дуалистического мифа.
Метафизический дуализм позволяет «легче» пройти через ужасы столетия. Эксперимент с наркотиками, которому подвергают себя Будур Пери и Луций, и психоделический марш через ад в кошмарном сне, в который они погрузились в этом эксперименте, показывает, что Будур Пери проходит через зло и все нечистое, не соприкасаясь с ними, в то время как Луций уступает превосходящему его злу. «Казалось, что Будур не подверглась таким сильным атакам. В этом большое преимущество дуалистических учений — если они при восхождении охватывали вселенную с разной силой, то мир света все же не мог быть полностью уничтожен» (Heliopolis, S. 402; Bd. 16, S. 317).
В «Гелиополисе» возвращается тема зла, а вместе с ней и нравственности, которую, казалось, модерн изгнал из мира. 13 декабря 1933 года Юнгер писал Карлу Шмитту: «Процесс, который мы определяем как модерн, заключается в преодолении, снятии проблемы зла; поэтому все гонители морали воспринимаются нами как особенно подходящие для модерна, и мне кажется, что этот процесс, в соответствии с сущностью обратной композиции, полезнее цвету, нежели рисунку. Впрочем, то,
106
как Вы различаете друга и врага, не вытекает из природы модерна, соответственно в этой концепции ярче проявляется рисунок, или, как утверждают Ваши хорошие друзья, «романский характер». ...В весьма аморальном мире при одном и том же многообразии различение «друг — враг» является основным методом, каким обрабатывается и воспринимается сменяющаяся последовательность конкретных ситуаций. Во всяком случае, это... мой метод, и в этом отношении Ваш тезис мне понятен. Различие «друг — враг», правда, не может затронуть единство уже потому, что оно — различие»1.
Вопреки мнению Юнгера, высказанному в 1933 году, дальнейшее развитие модерна показало, что зло фактически распадается, причем независимо от гонителей морали и тотальной мобилизации. Поэтому спор со злом в дуалистическом гностицизме, отраженный в «Гелиополисе», является, с одной стороны, средством обезопасить себя после краха теодиции, а с другой — попыткой вернуться к христианской морали после аморальности Рабочего. Луций: «Зло участвует в сотворении мира так же, как тень — в сотворении света; в своем временном развитии оно, теряя качество, становится первоисточником. Преимущество зла заключается в том, что оно проникает в механизм этого мира с более острым чувством, а добро тем временем предчувствует свою метафизику. На этом основании власть и любовь в земной жизни, как свет и тень, не могут быть идентичными»1 2.
1 Цит. по: Schwilk Н. Ernst Jiinger. Leben und Werk in Bildem und Texten. S. 126f. Карло Галли в замечательном докладе «Юнгер, Хайдеггер, Шмитт и проблема порядка», сделанном на конференции «Консерватизм и нигилизм в XX веке» (Каденаббия, 25—27 сентября 1987 года), указал на трактовку модерна в работах Карла Шмитта и Эрнста Юнгера. Он считает их основными представителями модерна в Германии. Галли цитирует высказывание Карла Шмитта о том, что модерн в Германии не совершил ничего иного, кроме как использовал средство модерна против Англии. См. также: Galli С. Modernity. Categoric е profili critici. Bologna (Il Mulino), 1988.
2 В полное собрание сочинений не вошло.
107
« — С точки зрения нашего учения, — сказала Будур Пери, — они не идентичны и по ту сторону жизни. Добро и зло корректируют друг друга, вечно сменяясь и не перемешиваясь...
— Поэтому ваши жрецы — это и маги и поэтому чистота для вас то же, что для нас любовь. В христианстве такого окостенения нет» (Heliopolis, S. 395; Bd. 16, S. 312).
В полном собрании сочинений последняя фраза приведенной цитаты отсутствует. Сделанные Юнгером вычеркивания свидетельствуют о том, что согласие с христианством так, как оно явствует из цитированных пассажей из «Гелиополиса», самому Юнгеру показалось позднее далеко выходящим за рамки его позиции. Взгляды героя «Гелиополиса» занимают своеобразное промежуточное положение между христианством и гностицизмом.
Юнгер прошел долгий путь к христианству. Его резкие нападки на христианскую религию в «Рабочем» являются следствием его атеистического модернизма. «Мы должны понять, что связь между образом Рабочего и христианской душой столь же ничтожна, как между этой душой и античными богами» (Der Arbeiter, S. 215; Bd. 8, S. 219). Техника и тотальный характер труда — это самоприсвоенные человеком разрушители веры. В «нравственной схеме коррумпированного христианства» «сам труд» оказывается злом. Христианство переводит «библейское проклятие в материальное отношение между эксплуататором и эксплуатируемым». Оно оказывается неспособным «видеть свободу иначе, нежели негативно, как освобождение от неких бед» (Der Arbeiter, S. 67; Bd. 8, S. 71). В «Рабочем» труд рассматривается не как следствие первородного греха и моральное бремя, но как поле боя, на котором прославляет себя сверхчеловек и титан. Поэтому модернизм Юнгера оценивает мир труда не по критериям морали, а как героическое испытание.
Опыт катастрофы Второй мировой войны изменил отношение Юнгера к христианству. Это видно прежде всего в эссе «Мир». 28 мая 1944 года Юнгер писал в парижском дневнике об уже упомянутом чтении Библии: «Это стремление я могу
108
признать заслугой прежде всего потому, что оно основано на моем собственном решении и реализовывалось вопреки некоторому сопротивлению. Я получил совершенно другое воспитание; с отрочества мое мышление определялось строгим реализмом и позитивизмом, присущими моему отцу. Тому же способствовал каждый сколько-нибудь выдающийся учитель. Преподаватели богословия чаще всего были скучными, иногда у меня даже возникало ощущение, будто материал их стесняется. Холле, самый умный из них, дал понять, что хождение Христа по водам можно объяснить оптическим обманом; область известна наземными туманами. Более просвещенные, товарищи, книги, которые я ценил, давали тот же настрой. Было необходимо, чтобы я прошел этот круг, и следы остались во мне навсегда» (Strahlungen II, S. 272).
Эти замечания показательны не только для духовной биографии Юнгера, но и для генеалогии модерна в Германии. Позитивизм и реализм агностицизма господствовали в Германии первой половины XX века, прежде всего в протестантской среде, так что от христианской теологии как познавательной теории действительности просто ничего не приходилось требовать. С другой стороны, в «Рабочем» Юнгер уже в 1932 году, конечно под влиянием Дриша, как было показано выше, дает почувствовать симпатию к теории созидания и допускает естественный характер идей созидания.
В работе «Мир» Юнгер по политическим соображениям требует возрождения христианства. Нигилизм и либерализм, по его словам, объединились на основе атеистического гуманизма. Чтобы добиться действительного мира в Европе, который на долгое время помог бы преодолеть национальные эгоизмы, необходим священный договор на религиозной основе (Der Friede, S. 225). Гарантом этого договора должна стать христианская церковь, «так как она является наиболее сильным из прежних объединений, переживших периоды национальных размежеваний» (Der Friede, S. 232). Чтобы придать этому договору силу, нужно теологическое преобразование духа времени. Политика
109
нуждается в теологическом измерении. Поэтому лучшие умы должны обратиться к теологии (Der Friede, S. 229ff.)’.
В начале 1945 года Юнгер много и плодотворно читает Франца фон Баадера, крупного христианского философа1 2. Как видно из дневниковой записи (Jahre der Okkupation, S. 232), Юнгера познакомил с Баадером Леопольд Циглер. В своей книге «Стать человеком» Циглер характеризует Баадера и Якоба Бёме как крупнейших мыслителей Германии, пока еще неоткрытых. Баадер в своем творчестве стремился (в том, что касается воздействия на потомков и католический мир, безуспешно, но фактически в высшей степени эффективно) к синтезу гносиса и пистиса3, герметической и католической традиций. «Гелиополис» вписывается в эту традицию христианского гер-метизма и христианского гносиса, несмотря на то что акценты у Юнгера сильнее, чем у Баадера, смещены в сторону мифологического гностицизма.
Мир «Гелиополиса» и его героев помещается Юнгером между мифом и христианством, между возвращением дохристианского блеска мифа и новым восприятием христианства. Юнгер анализирует слабости собственного модернистского проекта, критикуя прусский модернизм периода его приверженности кон
1 Мартин Мейер (Ernst Jiinger. Miinchen (Hanser), 1990. S. 352) считает, что работа мало что дает для возвышения души, и критикует ее за непонятность, ведь Юнгер абстрагируется в ней от конкретной вины за развязанную войну. Однако именно этот опыт конкретной невиновности отдельного человека, или, лучше сказать, невиновности многих отдельных людей, и был, очевидно, собственным опытом Юнгера, вынесенным из войны. См. также ниже: книга III, раздел 5.
2Кирххорст, 4 января 1945 года: «Чтение: Баадер, который для меня сложен, как все, что восходит к Бёме. В отдельных местах возникает понимание первого, как, например, там, где он говорит о преимуществе даже механической молитвы. Он сравнивает возникающую таким образом связь с усилием, с каким столяр прижимает друг к другу не желающие сходиться деревяшки до тех пор, пока они, наконец, не склеятся» (Strahlungen II, S. 353).
3 вера (греч.).
ПО
сервативной революции за отсутствие связи между интеллектом и чувственностью:
«Что было... для пруссаков утопией?» — заметил Луций.
«Пруссаки? Они находились еще между мифом и просвещением. Отсюда сумеречность иррациональной рассудочности. Однако полностью отсутствует всякое чувство фантазии. Поэтому они так долго уступали прогрессивным державам, у которых были утопии. Только на переднем плане идет борьба за власть между интересами и армиями. За ним — коррекция изображений. В этом смысл древних символов, который утрачен. Они — дароносицы. В их ауре легко приносить жертвы... Напротив, утопии являются законом нового союзного уложения, называемого ratio. Их незримо приводят за собой армии»1 (Heliopolis, S.217; Bd. 16, S. 184).
Мобилизация в Германии не воспользовалась мобилизацией фантазии. Присущая ей смесь мифа и просвещения, иррациональная рассудочность не позволила придать модернизму мобилизации направление, цель. «Любое государство, коль скоро оно теряет связь с мифом, обязано иметь утопию. В ней оно осознает свою задачу. Утопия — это набросок идеального плана, которым определяется реальность» (Heliopolis, S. 217; Bd. 16, S. 184).
Рабочий тотальной мобилизации (и в этом заключается пересмотр героем модерна в «Гелиополисе» своих взглядов) имеет теперь два недостатка. Он соответствует своим средствам, технике, но ему не хватает мандата и цели, фантазии и женского начала. Тип Рабочего тотальной мобилизации обладает непринужденностью, но не обладает гибкостью. Поэтому его непринужденность по-прежнему остается всего лишь механической машиной.
В 1938 году в «Сердце, ожидающем приключения» Юнгер цитирует «Опыты» Фрэнсиса Бэкона: «Открытые и очевидные достоинства вызывают похвалу; но есть тайные и скрытые дос-
В полное собрание сочинений не вошло.
111
тоинства, приносящие счастье, — определенные проявления человеческой натуры, которые не имеют названия. Отчасти они выражаются испанским словом «desinvoltura», т. е. когда в натуре человека нет упрямства или своенравия и проявления его духа следуют за поворотами колеса фортуны» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 127; Bd. 9, S. 262)1.
Похвала дезинвольтюре звучит и в «Гелиополисе»: это «тип более высокой натуры, как она красит свободного человека, который свободен в движениях в своем одеянии, данном ему Богом»1 2 (Heliopolis, S. 101). «Механизм счастья», однако, больше не удовлетворяет «Гелиополис». Метаморфозы героя модерна требуют дополнить человека властвующего, господствующего, человеком, которому знакомо и близко служение, и человеком — художником, человеком — артистом. К нему относятся слова, которые Юнгер, цитируя своего брата Фридриха Георга, говорит о кентавре Хироне: «Он наполняет жизнь героев силами, присущими художнику, без которых она оставалась бы грубой и бедной» (Die Schere, S. 124). Артистизм и служение должны соединиться с дезинвольтюрой, дополнить ее, чтобы сделать героя совершенным: «Однако гибкость (souplesse) должна поддерживать дезинвольтюру. Слово было введено в ранние времена рыцарства и пришло из языка Прованса — «supplex» тот, кто преклоняет колени. И если дезинвольтюра является знаком того, что для тебя определяет доверительные отношения с благородными мужчинами, то суплесс (или благородная податливость) относится к женщинам, которые удостаивают тебя своей благосклонностью»3 (Heliopolis, S. 101f.).
1 Бэкон Ф. Опыты // Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 441.
2 В полном собрании сочинений (Bd. 16, S. 96) заменено на: «свободное движение свободного человека в одеянии, данном ему от рождения».
3 В полном собрании сочинений (Bd. 16, S. 96f.) заменено на: «Вас должна поддерживать soupless. Слово происходит из языка Прованса — «supplex» тот, кто преклоняет колени. Дезинвольтюра относится к мужчинам, которые удостаивают тебя своим общением, суплесс относится к женщинам, которые удостаивают тебя своей благосклонностью».
112
В романе «Гелиополис», утопическом и ностальгическом одновременно, описываются искания героя, живущего между мифом, гностицизмом и христианством. Этот герой — ступень в метаморфозах, которым подвергается герой модерна, Рабочий. Его искания обретают ясные очертания в эпосе «У стены времени», в котором назван тот, кто дает Рабочему мандат и уполномочивает его на власть. Именно в этом сочинении решена загадка нигилизма, которая была побудительным мотивом творчества Юнгера, начиная с отмеченной знаком сопротивления работы «На мраморных скалах» (1939); определение модерна обретает завершенность.
Часть С
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ К ЗЕМЛЕ
Глава 5. Титан
Произведения «Рабочий» (1932) и «О боли» (1934) заканчиваются открытым вопросом: кто автор замысла тотальной мобилизации в планетарном масштабе, против кого и чего она направлена? Кто водружает новые символы на холмах, где ветшают и падают кресты? Лесные чащи и пустыня, анархия и нигилизм, блуждание по лесным тропам и гностицизм парсизма не могут дать ответ на вопрос о смысле мобилизации. Через двадцать пять лет после эссе «О боли», заканчивающегося сомнением в способности человека постигнуть смысл мобилизации, Юнгер дает ответ в своем эпосе «У стены времени» (1959). Тот, кто дал человеку «поручение» осуществить тотальную мобилизацию, воплотить ее на практике, — это Земля. Мобилизация Рабочего — это мобилизация Земли по ее поручению. Это мобилизация против бога Отца, против богов-олимпийцев и против Бога Ветхого Завета. Легитимация тотальной мобилиза
113
ции определяется ее характером — инициированной Землей революции. Солдат и Рабочий — типы рациональной конструкции — являются героическими праформами и предшественниками типа, завершающего историю человечества, — Рабочего как титана и сына Земли.
1. Эпос мировой истории как часть гносиса Земли
Умозрительные рассуждения о вечности и генеалогия мифических героических форм человеческого бытия в эпическом произведении «У стены времени» обобщают отдельные фрагменты эпоса модерна и еще раз помещают этот эпос в пространства более масштабного эпоса мировой истории. «У стены времени» — это эпос и теория истории всей действительности в творчестве Юнгера1. Текст проникнут монистическим гностицизмом, в противоположность дуалистическому гностицизму парсизма. Это пример хтонического гностицизма, отводящего Земле главную роль в процессе освобождения и избавления; в этом его отличие от спиритуалистического гностицизма поздней античности, для которого царство освобождения и избавления находится по ту сторону нашего мира, в духовной или спириту-альной полноте (pleroma). «У стены времени» развертывает «гно-сис» как философию истории Земли. История людей и богов трактуется как итог и результат революций на Земле.
Революция модерна, ее тотальная мобилизация, направлена, как полагает Юнгер, против властителей этого мира, богов, против бога — Отца и демиурга, но она не борется против Матери, против Земли. Поэтому бунт модерна отличен от бунта античного дуалистического гностицизма Валентина, Маркиона,
1 На значение «У стены времени» уже в 1960 году указал Герман Гессе: «Книга, которая последнее время занимала меня больше всего, — «Стена времени» Юнгера. Это в высшей степени умная и хорошая книга» (Hesse И. Gesammelte Werke. Bd. 12: Eine Literaturgeschichte in Rezensionen und Aufsatzen. Frankfurt (Suhrkamp), 1987. S. 544).
114
Василида или Мани, гностицизма, опиравшегося на союз человека (точнее, на тождественность духовного человека) с гиперкосмическим «чужим» Богом или Спасителем против демиурга, планетарных богов и внечеловеческих сил «этого мира», «huius mundi». Уйти от данного мира и предстать в образе «гиперкосмического», вне созидания и Земли — к этому стремится гностицизм античности, в этом видит цель существования человека духовного, «избранного». В противоположность античному гностицизму революция модерна, мобилизация человека, направлена исключительно против богов, против олимпийцев и против Бога-создателя. Это союз человека с Землей против богов. Человек пустился на авантюру, последствия которой чрезвычайно серьезны; они неизбежны, так как «материя, Земля как Мать, приходит в движение сама по себе, и человек, как ее сын, понимает это движение» (An der Zeitmauer, S. 635). Стальные грозы модерна, революции и мировые войны, являются потрясениями, связанными с этим движением Земли: они уже замечены в царстве человека. «Первооснова приходит в движение; это неизбежно должно быть связано с большими потрясениями» (Ап der Zeitmauer, S. 639).
Самодвижение первоосновы в конце стальных гроз модернистской мобилизации завершает собственно человеческую историю, и начинается фаза истории Земли, или, в духе антропоцентрической периодизации истории в послеисторическом пространстве, «постистория». «Процесс имеет характер истории Земли; он охватывает и завершает историю человека, по меньшей мере в том смысле, в каком мы ее до сих пор понимали. Этим объясняется, почему мы не справляемся с историческим опытом и вытекающими из него методами. Мы можем видеть в этом не только человеческие ошибки. Человек пасует перед чем-то более сильным; он должен подчиниться силе» (An der Zeitmauer, S. 640).
С человеком происходит то, что случается с каждым завоевателем: его самого порабощают. Человек модерна, покоритель Земли, оказывается покоренным Землей (An der Zeitmauer,
115
S. 576). «Человек спрашивает, а Земля отвечает. Но то, что человек начал спрашивать, связано с первозданным движением Земли как первоосновы, с общими для матери и сына муками инициации» (An der Zeitmauer, S. 640). Чтобы обосновать это толкование настоящего как революции Земли, мук инициации Земли и человека, как завоевания Землей своего завоевателя, Юнгер всю свою работу о мифическом подчиняет универсализующему мифу о революции Земли как завершении и конце истории: Земля в процессе рекапитуляции, становления новой всеобщности возвращает себе своего сына. Миф о Солдате и миф об ориентированном на технику, конструирующем Рабочем становятся моментами большего цикла, разделами в генеалогии титана-человека, этапами великого завершающего мифа о человечестве.
По мысли Юнгера, поэт является провозвестником всего, что происходит на Земле, и жертвователем ее богатства: «С другой стороны, поэт является не только провозвестником, но и жертвователем богатства; поэтому он нужнее, нежели все экономисты, а стихотворение важнее, чем любая наука. Поэт черпает из того, что еще не разделено и не роздано, он ощущает раньше всех, если уменьшается богатство Земли, но вместе с тем быстрее всех чувствует его возвращение» (An der Zeitmauer, S. 506).
Певец модерна не только может артикулировать и декларировать свое видение, он должен дать ему обоснование, чтобы «дух науки пропустил эти идеи через все тщательно охраняемые им границы» (An der Zeitmauer, S. 401). Поэт в модерне должен объединять соизмеримое и мифическое, научный взгляд и поэтическую трактовку, физическое время и время судьбы1. Пос
1 «Уже тридцать лет назад я пытался коротко описать процесс в «Сицилийском письме к человеку в лунном свете». В нем говорилось, что Луна может быть предметом как астрономического, так и мифического к ней приближения и что ее поверхность обладает как измеряемым реальным, так и физиогномическим характером. Тогда удается скачок, скачок назад к изначальному, и из перспективного учета противоречий стереоскопически возникает новое измерение, которое их не только объединяет в пространстве, но и качественно поднимает» (An der Zeitmauer, S. 402).
116
ледовательность обоснования тезиса о конце истории и возвращении титанов в образе Человека как сына Земли должна быть ходом самой истории. Только толкование истории в смысле всеобщей истории Человека и Земли сможет оправдать тезис о конце истории.
Конец исторического мира и переход к хтоническим мерам времени в настоящем проявляется в рассуждениях о вечности и астрологических наблюдениях. Такова одна из идей «У стены времени». Из возрождения астрологии и расплывчатой «второй религиозности» эпохи можно сделать вывод: «Возрастает в основе своей гностическое движение, свидетельствующее о себе и другими символами» (An der Zeitmauer, S. 424f.). Астрология и различные виды гностицизма вырастают из желания толковать время и историю как время судьбы и владеть ими. Периоды истории и попытки трактовать их следует различать как «гуманные» и «внечеловеческие», как историю человека и как историю Земли. «Гуманные» классификации разделяют историю человека на предмифическую, мифическую и историческую эпохи. «Внечеловеческие», напротив, рассматривают цикл истории человека как ступень в цикле более высокого порядка, который составляется циклом истории Земли как истории светил. Фазы этого более масштабного цикла классификаций разделяются на космогоническую, геологическую и метеорологическую (см.: An der Zeitmauer, S. 522).
То, что мы стоим «у стены времени», означает, что периодизация истории как человеческой истории уже неполна; должен быть найден новый смысл эпохи, некий «смысл Земли». В конце цикла человеческой истории в ее периодичности мы должны вступить в новый, более масштабный, внечеловеческий цикл. Трактовать историю на основе ее человеческих классификаций уже невозможно, потому что в своем качестве, носителя мифа, героя и носителя исторического мира, исторический человек (как личность и как нация) вышел из стальных гроз модерна очень слабым, беспомощным — он утратил свою силу.
117
2. Конец героя: завершение эпохи мифа и истории
В ретроспективе мифическая и историческая эпохи связаны друг с другом сильнее, чем это представляется с позиций историчности; в рамках века истории исторический мир стремился отделиться от мифического. Герой мифа обладает своими собственными чертами. В отличие от сказочного героя, сына Земли, он имеет и имя. Он — образец. Уже в имени мифического героя проявляется характерная черта мифа. Если герой как образец исчезает, это следует объяснять истощением тех сил, которые создавали эту историю (см.: An der Zeitmauer, S. 473).
Хотя сложившийся после Геродота исторический мир конституировался как антитеза мифу, действующие лица мифа способствовали тому, что этот миф сохранился в истории, стал элементом исторического мира. Миф и в историческом пространстве имеет свое особое место и свой особый цикл в пределах исторического времени. Лишь в условиях атеистической государственности пространство и цикл мифа были изъяты из линейного исторического времени (см.: An der Zeitmauer, S. 471). Исторический человек восстал не против мифа как такового, но против господства мифических сил. Исторический человек жил в века интеграции мифа в линейное время, хотя сохранить миф можно было только в постоянной борьбе против мифических сил: «Поэтому постгеродотовская история, то есть западная культура в широком (отличном от того, как понимал его Шпенглер) смысле, прилагала большие усилия, чтобы сохранить свою историческую структуру, будь то государство, мышление или личность, с присущим ей стремлением к свободе, против атак мифических сил и их возвращения. Это, а не борьба между нациями и формами организации хозяйства, является существенным для понимания периода, оставшегося позади. Только в его пределах можно говорить о сохранении истории, об историческом сознании вообще» (An der Zeitmauer, S. 469).
118
Предпосылкой историчности, мифа и истории, является фигура Отца, однозначность происхождения. Отец — предпосылка образа Солдата. Обоих во Второй мировой войне сменил «Неизвестный солдат», тип которого обозначился уже в Первую мировую войну: «Поэтому Неизвестный солдат — это не мифический герой и не герой вообще. У него нет ни личностных, ни индивидуальных характеристик, о его деяниях не сложили эпоса, нет рассказов. У него нет имени, в принципе нет и родины. Он — сын Земли, таинственный возвращенец, ни виновник, ни основатель, а скорее оплодотворитель матери-Земли» (An der Zeitmauer, S. 474).
В огромных кровавых жертвах Второй мировой войны в Человеке как герое и в Человеке как личности вряд ли можно узнать главных действующих лиц истории. Жертвы не имеют героев. Как и во времена до Гомера. «Происходящее стихийно, оно титанически-теллурическое; если материальный порядок перевешивает патерналистский, прежнее право, прежние обычаи, прежние свободы ставятся под сомнение» (An der Zeitmauer, S. 474). Стихийный, титанически-теллурический характер Второй мировой войны вытеснил историческую героическую войну, которую вел под покровительством Отца Солдат, тем самым положив конец как мифической, так и исторической эпохе.
Мифологическая и историческая эпохи связаны самым тесным образом, поэтому прощание с историчностью — событие еще более радикальное, чем переход от мифа к истории в рамках эпохи историчности. «Многое указывает на то, что прощание с историей будет более решительным, с более тяжелыми последствиями, чем было прощание с мифом. Это дает основания полагать, что завершился еще более масштабный цикл. Не будут ли жертвы человека еще больше, чем прежде, не должен ли он еще больше оставить — ведь кончается сам человеческий род?» (An der Zeitmauer, S. 480f.).
Миф принадлежит историческому, поскольку в нем человек понимает себя как изменяющееся и само себя дополняющее существо. Юнгер ссылается на миф о Золотом веке, согласно кото
119
рому Золотой век предшествовал собственно мифологическому. В этом мифе о домифическом веке, который по своей форме есть протомиф и протоистория, человек воспринимает себя как сущее, отделившееся от самости. Человек покинул Золотой век Хроноса и земных титанов, чтобы вместе с богами бороться против титанов. «И мир должен был погрузиться в великую печаль, когда человек отделился от этой части своей самости или был от нее отделен. То и другое взаимообусловлено, в душе надо сказать гибели «да», согласиться с ней. Человек пытается восполнить себя иным способом: он становится полубогом и в союзе с богами борется против сынов матери-Земли. В том, что боги не могли победить титанов без помощи Геракла, заключается мудрость мифа; они не могут их уничтожить, а только заточить. При каждом поворотном событии истории из глубины раздается стук» (An der Zeitmauer, S. 515).
Человек мог совершить поворот от Золотого века к Железному веку мифа, истории и техники, только свергнув властителей предшествовавшей эпохи — титанов, при этом он должен был верить в поддержку богов-олимпийцев. И если сегодня Человек стоит перед таким же решительным поворотом в своей судьбе, на пороге постисторичности, у стены времени, если он «всматривается в ночь постисторической эпохи» (An der Zeitmauer, S. 471), он снова должен начать свою борьбу против властителей, он снова нуждается в союзнике. Человек на пороге постисторической эпохи, если он хочет создать новую эпоху, должен выступать против князей прошлого времени, против богов или Бога, с которыми они когда-то были союзниками; для этой борьбы он должен найти новых союзников. Выступая против богов, Человек становится титаном.
«Смысл заключается в том, что человек, выступая против богов, становится титаном, — их свержение необходимо предшествует его новой власти. Другой вопрос, какие силы станут его помощниками» (An der Zeitmauer, S. 531). Сначала не ясно, с какими силами Человек объединяется в своей борьбе против богов, его союзниками могут быть силы сатанинские и хтони-
120
ческие, предъестественные и естественные. То, что Человек уже давно направил против богов оружие техники и нигилизма, для Юнгера вопрос решенный: «Мир как дом, который может загореться, как большой сарай; люди в нем как дети со спичками — все это тоже означает выход из исторического пространства, является его приметой» (An der Zeitmauer, S. 531).
Приметами наступления Человека на прежний миропорядок и богов становятся «бараки» нового мира — технические мастерские с их монотонностью (An der Zeitmauer, S. 543f.), где свершаются необходимые технике человеческие жертвоприношения. Ограничение, локализация свободы и отчуждение Человека в мире техники — вот результаты его наступления на богов и миропорядок (An der Zeitmauer, S. 562). Первостепенным событием не только в мировой истории, но и в истории Земли и теологии, а также признаком восстания против богов представляется Юнгеру изобретение молниеотвода в 1752 году: «С точки зрения мифологии оно является первым сигналом титанического восстания, новым протестом Праматери против Отца всего сущего. ...Несколько позже протянулись городские стены... Города защитились, как большие ощетинившиеся животные» (An der Zeitmauer, S. 568, 571).
Открытие электричества — это не только новый акт самопознания, самоосвобождения Человека, но и освобождение материи и Земли. «Земля оплетает себя все более густой сетью проводов и кабелей» (An der Zeitmauer, S. 572). В этой сети проводов, опоясывающей Землю, просматривается сходство с нервной системой человека. Созданная последним электро-электронная сеть становится сетью самой Земли. Этой «сети Земли» соответствует «более высокая проводящая способность» в рамках демократии (An der Zeitmauer, S. 573).
Признаками наступления новой эпохи — эпохи Земли и господства матери-Земли — является и то, что новое исчисление времени геологических часов отсчитывает абсолютное время Земли; время больше не определяется эпохами времени, лежащего в основе антропоцентрических или астрономических пе
121
риодизаций исторического мира. Уменьшается разнообразие в природе, разнообразие идей и образов творения, придуманных Богом или богами, исчезают целые виды, все это является признаком бунта против творения, в поддержку наступающего господства Земли (см.: An der Zeitmauer, S. 582)'.
«Очевидно, процесс гоминизации не завершен, но именно теперь вступил в полосу кризиса, когда приходят в коллизию история и естественная история, история мира и история Земли, свобода и детерминация. Поток становится все быстрее, и возникают неожиданные фигуры, так из глубины поднимаются чудовища» (An der Zeitmauer, S. 591). Силы, порождающие кризис, возникают как результат новых и новых восстаний Земли против богов. В этих восстаниях Человек конца исторической эпохи стоит уже не на стороне богов, а на стороне Земли. Человек меняет фронты в борьбе между Богами и титанами, между духом и Землей. «Важной чертой мифа является то, что борьбу (титанов) против богов-олимпийцев он относит не ко времени до человека, а решительно заставляет человека, в образе Геракла, в ней участвовать» (An der Zeitmauer, S. 593). Только с помощью Человека боги могли победить земных титанов, осуществить свой патерналистский принцип и разграничить форму и свободу вопреки принципу теллурическо-материнскому.
В процессе мобилизации модерна Человек, однако, восстает против богов: «Итак, Человек впервые и снова становится участником этого восстания, на этот раз как Антей, умнейший сын Земли и ниспровергатель границ, последняя из которых стена времени. Этому должно предшествовать ниспровержение богов. В этом смысле ницшеанское «Бог мертв» больше чем приговор, это постулат, заклинание Золотого века» (An der Zeitmauer, S. 593).
1 См. также: Die Schere, S. 163. «Сентябрь 1989 года, вернулся с Маврикия. Я видел там, как над уцелевшими лесами еще летает островной сокол, один из последних представителей этого чудесного вида. Это новая, апокалипсическая тоска: теперь уже умирают не индивиды, а виды, типы».
122
3. Исчезновение границы и образа
Мобилизация Земли посредством техники является попыткой вернуться в Золотой век до мифа и истории, в доисторическую эпоху. Предпосылка этого возвращения — уничтожение границы, Хороса, между Человеком и Богом. Ницше также видел, что это преодоление границы является предпосылкой реализации сверхчеловека модерна, и, как он предполагал, такое провозглашение обернется гибелью для него:
«Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли!»
И еще: «Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет моя вечная судьба, — как провозвестник, погибаю я!»1
Если Бог умирает, исчезают границы; если с Хоросом, стражником границ, больше не считаются, то на место Человека как гераклейского стража границ встает Человек, который, подобно Протею, может бесконечно изменять свой облик и форму и, подобно Антею, черпает силы для этого от соприкосновения с Землей. Юнгер ясно осознает опасность прометеевского восстания против Бога. Следствием восстания модерна является то, «что Земля теряет свои границы, становится безграничной, землей без богов. Таким образом, и охрана границ в смысле проверки всего, что предъявляется, различения между дозволенным и недозволенным становится излишней; сохранить границы можно только там, где молчит голос сомнения. Но там, где такая проверка воспринимается как что-то неприятное, словно показывают собаку без головы или, наоборот, с двумя головами, жив гнев на остатки религий и культа. Боги — это не только покровители территориальных границ, прежде всего отечества, но и образ, который там, где он воспринимается как божественный, есть благообразие. Поэтому образ Бога и не терпит хаоса и хтони-ческого бытия, гигантского уродства. Здесь снова стоит вспом
1 Цитируется в: An der Zeitmauer, S. 593. См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра// Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 8, 161.
123
нить Геракла... ярость, с какой он преследует и искореняет многообразное потомство рыбохвостого Протея, вершит над ним суд. Геродот говорил, что у каждого народа есть свой Геракл, и Вико это повторил» (An der Zeitmauer, S. 598).
Мотив Геракла позволяет распознать в словах Юнгера опасность новоязыческого возвышения образа. Образ вовсе не божественен, даже там, где он — благообразие. Образ в гораздо большей степени есть создание Человека и остается им даже там, где не достигает полного завершения. Хорос, линия границы, проходит не между образом и необразом, но между образами традиционным и нетрадиционным.
Проблема обожествления образа античностью очень хорошо видна на примере Римской империи. Гераклейская гиганто-махия1 в Риме стала предметом театрализованных, пантомимических представлений во славу императора, причем гиганты олицетворяли и врагов империи, а борьба императора с врагами страны воспринималась как своего рода повторение мифологической борьбы бога небесного и чудовищ хаоса. Император Ком-мод в роли Геркулеса должен был поражать стрелами римских калек, переодетых змееногими гигантами1 2.
Мобилизация Земли против богов снимает вопрос о границах и образах. Опасность протейского размывания образа Юнгер с большой прозорливостью увидел уже в 1959 году, связав ее с новыми,биотехнологиями и генной инженерией: «Границы явно исчезают... С ними исчезает закон, охраняющая границы власть. Этим, а не физической угрозой надо измерять глубину страха, который охватывает человека перед лицом протейского
1 Великолепным изображением гигантомахии богов Олимпа является фриз Пергамского алтаря, находящийся в берлинском Пергамон-музеуме. Город Пергам при Эвмене I и II, присоединившись к Риму, достиг власти и богатства, что позволило возвести алтарный фриз с гигантомахией, который считался во времена античности одним из чудес света.
2 См.: Speyer W. Gigant // Reallexikon fur Antike und Christentum. Stuttgart (A. Hiersemann), 1978. Bd. 10. Sp. 1255.
124
изменения формы. Он подозревает в нем нечто большее, чем просто разрушение чеканной формы, которую уничтожает и смерть, он видит в нем провозвестника восстания из чрева первоосновы» (An der Zeitmauer, S. 599)1. Незначительное сопротивление искусственному оплодотворению и изменениям на основе генных технологий свидетельствует о том, как далеко зашел этот процесс — диффузия закона. Становится возможным появление нового человеческого рода, что говорит о повороте мира, о вступлении в новый храм: возникает новая категория людей, к которым нельзя отнести слова стоиков о природе, обязанной дать людям отца. Норма «иметь отца» больше не является естественной предпосылкой существования для людей, произведенных искусственно (см.: An der Zeitmauer, S. 600ff.). «Очевидно, есть большая заинтересованность в том, чтобы утаить от тех, кого это касается, прежде всего от детей, специфическое происхождение. Это понятно, хотя и противоречит основному требованию» (An der Zeitmauer, S. 602).
По Юнгеру, за биотехническими экспериментами стоит про-тейская, титаническая сила, которая стимулирует мысль в этом направлении. Остановить ход эксперимента «невозможно, но о нем можно думать. Церковь по праву видит в этом одну из своих задач, судьба церкви вообще зависит от того, насколько ее впечатляют достижения науки» (An der Zeitmauer, S. 604). И несколько ниже: «Освобожденный от последних сдерживающих факторов либерализм и здесь играет роль того, кто распахивает двери, которые он, конечно, скоро заменит на дверь для страждущих» (An der Zeitmauer, S. 623).
1 Мартин Мейер пишет: «...речь идет и о культуре научно-технической власти. Тут Эрнст Юнгер выражает цивилизационно-критическое недоверие, не имеющее ничего общего с «постмодернистским комфортом» (Meyer М. Ernst Jiinger. S. 13). Вопрос о том, является ли постмодерн «удобным» или «неуютным», выступает ли сам Юнгер, начиная с «Мира» и «Гелиополиса», но во всяком случае — с «У стены времени» и «Стеклянных пчел» как постмодернистский автор, будет рассмотрен ниже, в разделе 4 книги III.
125
Правда, от церкви сегодня нельзя ожидать слишком многого, так как «церковь в поздний период ее существования можно сравнить с электростанцией, которая некогда питалась мощными водными потоками. Постепенно высоко в горах живая вода иссякла, однако озера и резервуары долгое время давали приток, пока и они не оскудели. Но все-таки электростанция осталась — как строение и здание, которое при нынешней непогоде дает прибежище и защиту» (An der Zeitmauer, S. 626 f.).
4. Надежда модерна на вечность
Человек как Рабочий мобилизации в ходе революции Земли превратился в Рабочего как сына Земли1. Рабочий —титан Земли сменяет Рабочего боли. Как раньше в Рабочем мобилизации, поэт и в титане видит историческую силу и определяющий историю образ, образ неудержимого и неизбежного. Конечно, Юнгер признает возможность исторического краха титанов, но он не допускает возможности удержать их от краха или миновать катастрофы. Моральная оценка, как это было и в случае Рабочего, в случае титана неприменима: «Материализм — это пояс и голова Горгоны для Рабочего. Уместны мифические картины; ни одна историческая сила не может устоять перед силой Земли» (An der Zeitmauer, S. 632). За силой Земли стоит еще большая сила — абсолютная власть мифа: фатум, или судьба.
Юнгер приводит цитату из «Эфиопики» Гелиодора: «О судьбе: «Можно предвидеть необратимые предопределения Мойр, но избежать их нельзя». Слово дает направление в оценке оракулов и предсказаний» (Jahre der Okkupation, S. 190; Bd. 3, S. 561). Как и в других фрагментах своего эпоса модерна, Юн-
1 Шварц в «Консервативном анархисте» {Schwarz Н. Р. Der konservative Anarchist. S. 203) несправедлив в отношении «У стены времени», замечая: «Намерение включить технический процесс в возможно более широкую систему связей ведет Юнгера к своеобразным спекуляциям». В этом приговоре видно непонимание самой задачи мифа, каким является «У стены времени».
126
гер в эпическом повествовании о титанах Земли оказался не в состоянии продумать критерии различения для мифического процесса, сказать «нет» концу истории. Тот факт, что кто-то может или хочет не участвовать в ее завершении, мифу непонятен. Желание и способность не участвовать, как нравственная позиция, находятся за пределами мифического и эстетического способа видения истории. Для него познание судьбы, оценка «положения» — понятие, к которому Юнгер постоянно возвращается, — существенны и необходимы. Вопрос о возможности оспорить и использовать положение политически, с точки зрения мифа и поэта Юнгера, не должен занимать человека.
Миф — это всегда прославление того, что происходит, и в этом смысле масштабный эпос модерна, созданный Юнгером с чрезвычайной поэтической силой и талантом пророка, есть не что иное, как миф о модерне, свидетельство уважения к тому, что происходит, даже если происходящее вызывает ужас1. Произведение Юнгера — это прославление модерна в метаморфозах, через которые в нынешнем столетии прошел титан и Бог «Человек», сначала в образе Солдата, затем Рабочего и, наконец, титана Земли. Была ли хоть одна из этих метаморфоз положительной — такой вопрос в трагическом мифе не ставится. Для моральной оценки мифу не хватает дистанции в отношении истории, того, что происходит, так как в нем героически превозносится все происходящее. С точки зрения мифа почитания достойно все, что является событием. В нем стоит не вопрос «То, что происходит, правильно?», но вопрос «То, что происходит, это — событие?»
1 К. X. Борер пишет: «Дезинвольтюра» конца 30-х годов становится понятной не только в связи с эстетическим принуждением модернистского дендизма к подражанию, но и в связи с воспитанной на декадансе эстетической способностью к восприятию, подвергшейся испытанию на прочность перед лицом заявивших о себе страхов и мерзостей, которые Юнгер начал описывать с 1939 года, оставаясь отныне на однозначно нравственной позиции» {Bohrer К. Н. Die Asthetik des Schreckens. Die pessimistische Romantik und Ernst Jiingers Friihwerk (1978). Frankfurt a. M., Berlin, Wien (Ullstein), 1983. S. 433).
127
Модерн отошел от такого видения истории, когда собственно в истории фиксируется дифференцированное отношение к ней (абсолют помещается вне становления); поэтому в продолжение философии истории Просвещения и немецкого идеализма модерн есть вера в историю и тем самым в успех. Как вера в событие, позиция модерна есть миф, прославляющий новое и то, что происходит. Точка зрения модерна не является мифической в личностном отношении мифических героев. Это миф в смысле полуперсонифицированных, полубезличных сил. В произведении Юнгера с большой точностью и силой показана эта, по сути, мифическая структура модерна, для которой неважно, является ли субъектом истории «разум в себе», «прогресс», «пролетариат», «раса», «рабочий» или «класс». Все эти «субъекты» истории ведут к тому, что действительность, как и миф, лишается нравственности; и именно так Юнгер в уже цитированном письме 1933 года к Карлу Шмитту определял суть модерна.
Юнгер рассказывает консервативный миф о модерне, который гораздо ближе персонализму христианства до и после модерна, чем прогрессистскому мифу о «социализме плюс электрификации», так как консервативный миф, подчеркивая героическое, сохраняет личностные элементы. В то время как прогрессистский модерн излагает «миф о паровых машинах и Красной Армии», модернистский консерватизм представляет миф о национальной мобилизации через Рабочего. Сам Юнгер подчеркивает, что формула Ленина «социализм плюс электрификация» «хоть и примитивно, но верно указывает на две основные функции образа Рабочего» (An der Zeitmauer, S. 569).
Техника для Рабочего является силой Земли, богатством оружия, гарантирующего, что никто не может ему противостоять. В образе титана Юнгер создал последний утопически-ми-фологический образ модерна. Для титана «Человек» героическое страдание, произведенное мобилизацией, снято и ненужно, так как он действует в согласии с Матерью, с Землей, которая стоит за мобилизацией. И ему больше не нужен Отец, Бог или
128
боги. В 1959 году Юнгер приводит цитаты из астрологов о том, что уже в век Водолея мы вступаем в новую великую эпоху духа (An der Zeitmauer, S. 645). Надежда на век Водолея, которая расцветает в «Новой эпохе» и еще где-то, — это самая последняя форма гностической надежды на эоны, на «внечеловеческие» силы.
Созданный Юнгером в «У стены времени» впечатляющий эпос об истории Земли так же, как непритязательные в философском и поэтическом отношении рассуждения в «Новой эпохе», содержит долю подобной надежды — этой непреходящей черты человечества. И в той мере, в какой модерн рассматривает себя как завершение истории, он всегда присутствует — сознательно или нет — в надежде на вечность, на смену эонов, на конец старого и начало нового века модерна. Как и все спекуляции вокруг вечности, философия истории модерна — это гностическая философия и основана на таинстве уходящих веков, на таинстве становящегося и обновляющегося Бога.
Однако Юнгер слишком хороший и слишком философичный поэт, чтобы оставаться только мифологом-доктринером. Титан Человек остается у него двойственным. Человек сначала заключил союз с богами против гигантов и титанов, чтобы потом выступить вместе с титанами против бывших своих заступников; поэтому и в будущем нельзя на него полагаться. «На возвращение в образ Рабочего титанической сущности указывает приток плутонической энергии, которая прежде скорее просто пугала; она отрицалась, но не обуздывалась. Обуздать можно только тогда, когда эта энергия персонифицируется... .На то, что в конце концов и титаны потеряют свою достаточность, пророчески указала гибель судна, освященного в их честь, при столкновении с айсбергом. Редко когда Кассандра вдается в такие подробности»1.
1 Die Schere, S. 122. То же в 1945 году в: Strahlungen II, S. 369.
179
5 Петер Козловски 1
5. Принцип развития истории: трагедия конфликта между силой титанов и божественным правом
Толкование истории Юнгером, несмотря на очевидный оптимизм, имеет и трагическую черту. Человек встает на сторону титанов против богов, но как титан он ненадежен. Титанизм разрушит мир, хотя он соответствует поручению Земли. Титанизм превратит мир в пустыню, потому что титан не признает последние инстанции и границы. Поступь титанов не сдержат ни отвращение, ни страх — они выполняют волю Земли (см.: Autor und Autorschaft, S. 53; Bd. 13, S. 436).
Титанизму модерна и его обоснованию в активизме действенности в случае успеха остается острие в грудь: у успеха нет иного критерия, кроме самого себя; и поскольку он всегда соотносится с чем-то другим и является бытием-для-другого, бог успеха и титанизм модерна не имеют источника своей действенности, кроме бытия-в-себе. «Титаны могут удовлетвориться своим все уничтожающим успехом. Однако они, кажется, страдают от молчания тех последних инстанций, которым еще доступна культура. Укол в слоновью шкуру» (Autor und Autorschaft, S. 12; Bd. 13, S. 397). Утрата идеалов, границ и действенных форм распространяется и на образование и знание древних языков. В отказе от древних языков выражается «неприязнь времени — чувство чуждое и даже враждебное истории». «Что оно может за это предложить? Развитие точных естественных наук, которое только ускорит дальнейшее распространение наглой заносчивости и титанизма» (Autor und Autorschaft, S. 58; Bd. 13, S. 440).
Следствиями титанизма модерна являются, согласно Юнгеру, наглая заносчивость и утрата истории, исток титанизма — в обращении человека против богов. Двойственность юнгеровс-кого мифа о модерне обусловлена тем, что титанизм он рассматривает как явление в равной степени неизбежное, достойное одобрения, но и опасное. Для Юнгера модерн — это одновременно неизбежность судьбы и разрушительная сила, а титанизм
130
столь же легитимен, как и бунт. Титанизм есть следствие поручения Земли, которая пришла в движение, и он обращен против богов и формы, имеющей границы. В двойственности титанизма модерна, который есть поручение Земли и бунт против богов, проявляется трагизм основной структуры истории, поскольку в структуру самого трагического заложен конфликт между претензией человека на власть и божественными границами. Этот конфликт и есть собственно двигатель исторического развития и тайный побудительный мотив мифической и исторической эпох. «Тема трагедии — это столкновение силы титанов с божественным правом» (Xylokastron [1980], S. 439). В основе истории, мифической и исторической эпох, лежит борьба между божественным правом и силой титанов. Когда исход этой борьбы будет решен и власть титанов окончательно укрепится, то конец этой борьбы будет означать и конец истории.
Трагедия стремится истолковать и преодолеть преступления, страдания и жертвы этой борьбы, добиться очищения от злодеяний борьбы титанов. «Геракл чистит горы и болота дубиной; трагедия хочет преодолеть неслыханный кошмар. ...Вызов богам и их гневу, отцеубийство, убийство матери, братоубийство, инцест с сестрой, дочерью, самой матерью. Сервировка мяса сына и брата на отвратительный стол. Тантал подал на пиршественный стол богам своего сына Пелопа, которого он сам и зарубил. Ужасы повторяются в окружении Атрея и его брата Фиеста, так что солнце возмутилось и пошло вспять» (Xylokastron, S. 438).
а) Титаническое и сверхчеловеческое
В генеалогию титанизма Юнгер включает и мысль Ницше о сверхчеловеке. У Ницше сверхчеловек — это сын Земли и титаническое преодоление всего, что связано с богами. Ницше говорит устами Заратустры:
«Я учу вас о сверхчеловеке!..
Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!
131
5*
Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно знают ли они это или нет»1.
Юнгер продолжает мысль Ницше о сверхчеловеке как смысле Земли. Он превращает ницшеанскую идею о верности сверхчеловека Земле, направленную против бегства от реальности в мир теологии, в идею поручения Земли человеку. Автономный героизм и «сверхчеловечность» Ницше он истолковывает в духе мифа о поручении Земли. Тем самым миф о сверхчеловеке становится гораздо более убедительным, чем у Ницше, так как указывает на того, кто дал поручение титану Человеку и уполномочил его. У Юнгера титанизм — это не только присвоение человеком прав, полномочность и успешность чего с самого начала должны быть сомнительны. Юнгер в примечательном ракурсе использует ницшеанский тезис о рождении трагедии для своей собственной теории титанического.
«Ницше видит в основе трагедии противоречие между бытием аполлоническим и дионисическим, то есть конфликт, возникший среди богов. При этом дионисическое он сводит к титаническому и рассматривает их в тесной взаимосвязи. Я цитирую: «Титаническим» и «варварским» представлялось аполло-ническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Мало того, он должен был ощущать еще и то, что все его существование, при всей красоте и умеренности, покоится на скрытой подпочве страдания и познания, открывшейся ему вновь через посредство этого дионисического начала. И вот же — Аполлон не мог жить без Диониса! «Титаническое» и «варварское» начала оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое!»1 2 (Xyldkastron, S. 439).
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 8.
2Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Соч. М„ 1990. Т. 1.С. 70.
132
Конфликт между Аполлоном и Дионисом также является столкновением божественного права и титанической силы. «В принципе для него (Ницше) Дионис не бог, а титан» (Xylokastron, S. 442). Титанизм и «сверхчеловечность» — это две формы бунта модерна против богов.
Юнгер постоянно пытается придать этому бунту видимость легитимности, справедливости, но в то же время понимает, что он обречен на гибель. В трагической позиции участия и уверенности в крушении заключены своеобразие и глубина юнгеровс-кой трактовки модерна, которая одинаково далека и от пошлого модернизма с его обожествлением прогресса, и от беспомощного антимодернизма, который бежал от модерна еще до того, как тот начался. С другой стороны, трагическая позиция отражает и невозможность четкой нравственной оценки. Поскольку трагический конфликт задан в структуре действительности и истории власти Земли и власти богов, его больше нельзя однозначно сводить к моральной вине человека. Действующие в истории силы — это только агенты и марионетки в более глубоком конфликте — между небесным и смертным.
Ь) Титаническое царство Сизифа: его повседневность и обыденность
В конечном итоге тенденция к оправданию титанизма и техники модерна, несмотря на их разрушительный характер, как своего рода «технодицея», воплощается у Юнгера в смелой трактовке мифа о Сизифе. Человек модерна не может больше воспринимать себя как союзника богов, но он должен осознавать себя титаном в союзе с Землей. Он уже не может узнать себя в Прометее, который, даже помогая Человеку, остается на стороне богов, но должен идентифицировать себя с Каином, Ламехом и Танталом, с мятежниками и бунтарями, с титанами. Жизненные условия, в которые они поставлены, в глазах богов Олимпа являются мучительными — наказанием человека и титана за мятеж против богов, в соответствии с божественным правом.
133
Но это вовсе не должно означать, что в глазах людей и титанов такая жизнь представляется мукой. «Она, вероятно, является мукой только с этой точки зрения (богов. — П. К.), на самом деле — это возвращение в царство титанов, где исчезают границы. Там пребывают поверженные, уверенные в своем возвращении.. . Кереньи видит в том, как Сизиф вкатывает камень, человеческое устремление, которое всегда остается тщетным. Однако надо добавить, что такой труд воспринимается как проклятие только рефлективно. Повторяемость считается нормальной, а желание, чтобы так все и оставалось, обычно» (Xylokastron, S. 441).
Тотальный характер труда эпохи модерна и его монотонность являются наказанием только с точки зрения богов Олимпа и героического характера; для титана и рабочего это, напротив, оружие Земли, а монотонность воплощает норму, повседневность и снятие ответственности. Титан желает монотонности, стремится к тому, чтобы все оставалось по-прежнему, для своего освобождения и покоя. Титанизм модерна и монотонность техники кажутся упущением и недостатком для человеческих возможностей лишь тому, кто предъявляет слишком высокие, а точнее, исторические требования к собственному существованию и мировой истории. Для самого титана Сизиф — это тип нормальной и освобожденной от принятия исторических решений жизни.
Каин и Ламех тоже герои гностицизма. Приверженцы школы античного гностицизма называли себя «каинитами». По Юнгеру, титаны модерна не могут больше считать себя последователями Прометея, но должны осознавать себя каинитами. Прометей был еще посредником между титанами и богами, Каин, напротив, в чистом виде олицетворяет бунт против божественного права. «Прометей выступает посланцем и посредником между миром титанов и миром богов. Прежде всего он друг людей и озабочен их земным благом... И Зевс, и Иегова озабочены тем, чтобы человеку жилось не слишком хорошо, чтобы он не протягивал снова руку к древу жизни, после того как уже приобщился к познанию. В этом отношении овладение яблоком
134
в райском саду сродни краже огня с Олимпа» (Die Schere, S. 164). Если титаны модерна больше не воспринимают себя последователями Прометея, но каинитами, то обнаруживается, что их бытие не есть жизнь в фальши и страдании, но «нормальное» бытие, соизмеримое с титаническим каинитетом. И в возвышении Каина до образца человека, как это было в европейском романтизме, например у Байрона, проявляется гностицизм титанизма модерна и его трактовки человека—черта, которую Юнгер включает в свой миф о модерне1.
В своем более позднем творчестве Юнгер развивает миф о модерне, в начале которого стоит герой «Рабочий» с его мобилизацией тотального труда, до мифа о титане модерна и сына Земли, каинита. Он приветствует и то, что Ницше своим образом сверхчеловека вышел за пределы модерна Рабочего, за пределы модерна, обусловленные техникой власти и порядка. Титанизм модерна только тогда превращается в подлинно титанический, когда оставляет попытки заменить, с одной стороны, нигилизм, а с другой — традицию и божественный порядок рационалистическим и техническим порядком. «Его (Ницше) отношение к сверхчеловеку, который должен окропить пахоту, есть отношение Крестителя, который дает имя тому, что Авгур при
1В этом отношении критика Бергфлетом технодиции Юнгера, как она представлена в «У стены времени», неточна. Бергфлет возражает против титанизма Юнгера, говоря, что люди, согласно мифу, всегда были на стороне богов. Этот тезис Бергфлета не относится к гностицизму и к близким ему гностицистским мифам, выражающим протест и революцию, где человек предстает бунтарем против богов. У Юнгера титан — это гностический человек бунта, выступающий против богов и их права. См.: Bergfleth G. Das Urlicht der Natur // Das Echo der Bilder. Ernst Jiinger zu Ehren. Hrsg. v. H. Schwilk. Stuttgart (Klett-Cotta), 1990. S. 32. В своей критике Бергфлет упускает характерное для юнгеровского преобразования греческого мифа о титанах «эрдгностическое» [от «die Erde» — земля] толкование сверхчеловека модерна как сына Земли, который вместе с Землей испытывает страдания инициации. В этом мифе о человеке как сыне Земли Юнгер предстает создателем нового мифа, а не только продолжателем греческой мифологии.
135
внес из всего не имеющего имени. «Переоценка ценностей», наступление на обычай и тем самым на богов, являющихся его гарантами, должны идти рука об руку с таким именованием. В данном случае Ницше превзошел модерн с его стремлением заменить традицию порядком; он не остановился на полпути. — Заратустра с гордостью называет себя безбожником, чья воля правит случаем» (Philemon und Baucis, S. 463).
с) Каинитские и нигилистические умерщвления
Мифологическая трактовка Юнгером модерна более проницательна, нежели просветительский «проект модерна», который в формах гегельянства и марксизма прославляет модерн как прогресс в сознательном присвоении человеком прав; поэтому Юнгер видит, что модерн не может остановиться на замещении божественного права и традиции порядком, как они установлены в духе номинализма. Миф знает, что абсолютная автономия и самоуполномочивание человека предполагают его полную аморальность. Только в аморализме самоуполномочивание совершенно. «Порядок» нигилистического модернизма для Юнгера еще более бесчеловечен и ужасен, чем каинитский титанизм сынов Земли. Нигилистический порядок механизма умерщвления в современном концлагере ужаснее, чем умерщвление в античном цирке. «Снимки, на которых мертвых укладывают горами, как товары ширпотреба, являются также и документами духовной истории — особенно если учесть, как изменилось отношение к смерти. Здесь решающее значение имеет не только жестокость мотива, но и хладнокровие восприятия.
Вероятно, я все-таки слишком мягко изобразил живодерню. Там убивают не так, как убивал Каин, — в гневе, и не из удовольствия, а скорее по науке. Публичности избегают, но, несмотря на это, мысль не спит. Об этом говорит техничность процесса. Об этом свидетельствуют фотографии.
То убийство, которое происходило в античном цирке, было вполне в духе каинизма и, кроме того, имело теллурическое зна
136
чение — это точно заметил Тертуллиан... То обстоятельство, что перед играми вывешивались изображения богов, выдает, что в понимании грубой насильственности того, что должно произойти, присутствовала высокая степень осознания его мерзости» (Philemon und Baucis, S. 470).
В своей трактовке модерна Юнгер не закрывает глаза на то, что характерной чертой модерна является масштабное, налаженное умерщвление с помощью рациональных механизмов; что тотальная мобилизация умерщвления стала возможной только благодаря нигилизму модерна. Нигилистический модернизм смог осуществить тотальное убийство — умерщвление лишь после того, как он перестал считаться со всем, что составляет божественное право. Только тотальное присвоение героем модерна всех полномочий и мобилизация нигилизма сделали возможным упорядоченное убийство.
Историческая эпоха определяется конфликтом между силой титанов и божественным правом. В этом противоречии история и обретает свою движущую силу и динамику. Если это противоречие окажется исчерпанным, угаснет динамика исторической эпохи, наступит конец истории. Конфликт, лежащий в основе развития мифа и истории, будет исчерпан, когда титаны станут реальностью и повседневностью; когда они свергнут мир Отца при помощи всего рода «человек» и в самом Человеке — титаническом сыне Земли. Тогда трагедия истории будет сыграна. Стена времени, ограничивающая исторический мир, отныне преодолена. История мертва. Сизиф создал свое царство вечного повторения, свою титаническую постисторию.
Книга II
Малые формы: повести позднего модерна
Кульминация модерна — великий миф о тотальной мобилизации. Поздний модерн вытесняет мифы, «блестящее повествование мастера», многообразием менее масштабных историй и рассказов. В творчестве позднего Юнгера монументальная мифология модерна, мифология борьбы гиганта Рабочего смягчается и облагораживается; ее украшают истории героев маленьких повестей — пораженца, историка, денди, победителя модерна.
Часть D
РАЗВЯЗКА МОДЕРНА:
В ИГРАЮЩИХ МИРАХ ПОСТИСТОРИИ
Постмифический и постисторический век постистории как исход и завершение модерна поэтически изображается в рассказе «Стеклянные пчелы» (Glaseme Bienen) (1957) и в романе «Эй-мсвил» (Eumeswil) (1977). Оба произведения повествуют о развязке мифа о модерне, это эпилог к историческому мифу, исчерпавшему свою динамичность и событийность. Отныне не стоит больше ждать новых великих антагонизмов, появления титана «Человека», миф и философия истории закончились, драма разыграна. История пришла к своему завершению. Модерн переходит в постисторию, в поздний модерн.
138
Юнгер рисует образ постистории через фигуры двух своих героев—ротмистра Рихарда, пораженца модерна, и ночного стю-арта, доцента истории Мануэля Венатора, «историка происхождения» (Eumeswil, S. 379, 68) и хрониста позднего модерна. Оба героя воплощают ситуацию постистории — конца модерна. Ротмистр Рихард, герой «Стеклянных пчел», борется против подмены действительности природы ее симуляцией при помощи техники, подмены, которая становится все более масштабной. Он противится превращению действительности в игру и забаву. Бармен и приват-доцент Мануэль Венатор, герой «Эймсвила», наблюдает, живописует и наслаждается тотальной множественностью, плюрализмом постмодерна, его anything goes', пестротой и вседозволенностью нормативных установок. В этих двух литературных произведениях Юнгер предвосхищает анализ постмодерна, или, лучше сказать, позднего модерна, как он развернулся в философских дискуссиях о постмодерне десятилетие спустя. Тема «Стеклянных пчел» — тема имитации, превратившейся в доминирующую норму отношений между людьми в пространстве действительности, только спустя много лет станет темой Бодрийа-ра1 2. Тему «Эймсвила» — тезис о плюрализме позднего модерна — только через три года ввел в философские дискуссии Лиотар3. Художественное изображение действительности в романах Юнгера предвосхитило ее философский анализ.
Глава 6. Пораженец модерна
Рассказ «Стеклянные пчелы» (1957), написанный за два года до сочинения «У стены времени», воссоздает ситуацию человека, возвращающегося с войны. Возвращающегося из тотальной
1 все сойдет (англ.).
2 См.: BaudrillardJ. L’echange symbolique et la mort. Paris (Gallimard), 1976.
3 Lyotard J. F. La condition postmodeme. Rapport sur le savoir. Paris (Minuit), 1979.
139
мобилизации модерна. Этот репатриант не находит себя в новой действительности позднего модерна — в ней нет места человеку его типа, типа Солдата; он не справляется с этой симулирующей и имитирующей действительностью.
Ротмистр Рихард нуждается в деньгах, потому что он не в состоянии приспособиться к новым временам и как профессионал, специалист: «Я смотрел на нашу холодную квартиру, на выключенные радиаторы, и мне казалось, что несколько дней тому назад начался обвал, потоп, крах (если вообще можно поэтическим языком описать факт). Почта приносила только счета, а если звонили в дверь, то Тереза не открывала, страшась наглых кредиторов. У меня не было ни малейшего повода быть щепетильным» (Glaseme Bienen, S. 26; Bd. 15, S. 438). Твин-нингс, боевой товарищ Рихарда, пытается помочь ему найти ту точку отсчета, которая позволит примириться с решением «не быть щепетильным»: «На спор, неужели это неприятное ощущение значит больше, чем, например, волосок в твоей тарелке с супом?» (Glaseme Bienen, S. 10; Bd. 15, S. 425). Рихард вынужден работать у Джакомо Цаппарони, производящего мини-роботов, людей-кукол, таких же «по-настоящему» живых и больших, как настоящие люди. Неясно только, что он, старый вояка, должен делать на этом производстве. Фабрикант Цаппарони олицетворяет новую технику позднего модерна, технику, которая превратила тяжеловесную индустрию «стальных бурь» модерна в стеклянную и хрупкую, как стекло, информационную технику позднего модерна. Как предполагают, в будущем эта стеклянная техника симуляции, имитации и миниатюры приведет к магии и чуду — такие разговоры часто слышал Рихард.
1. Природа делается искусственной, действительность симулируется
Цаппарони — фабрикант-волшебник, производитель наисовременнейшей техники. Он снимает фильмы, в которых играют не живые актеры, а куклы, искусственные люди, более совер
140
шенные, чем их человеческие прообразы. «Цаппарони считал, что в природе недостает как красоты, так и логики. Поэтому желательно превзойти природу, превзойти техникой. В действительности Цаппарони просто подчеркивает стиль, которому соответствовали люди-актеры, а для живых актеров этот стиль и был созданным ими образом. В мастерских и фильмах Цаппарони попадались харизматические куклы, очаровательные сновидения» (Glaseme Bienen, S. 39; Bd. 15, S. 448). Произведения Цаппарони не просто симулировали действительность (в действительность играли куклами), но и подражали этой действительности. Подражали вдвойне, потому что подражанием были фильмы, в которых играли автоматы — роботы, имитирующие и симулирующие актеров, разыгрывающих драму. Автоматы исполняли роли, играли пьесы. Один из фильмов Цаппарони симулировал сюжет «Тангейзера», и вот что можно было прочесть на афишах: «Хайнц-Отто попадает в гости к королеве термитов: Тангейзер в гроте Венеры, адаптированный к детскому восприятию» (Glaseme Bienen, S. 40; Bd. 15, S. 449).
Персонажи этой тотально симулированной действительности мало чем отличаются от обычных людей, «они просто «лучше» их. Лица сияющие, гладкие, глаза большие, блестят, как драгоценные камни, движения замедленные, важные... И даже безобразное, патология воплощены в новых формах, подчас комических, подчас пугающих, но всегда восхитительных... Калибан, Шейлок, звонарь собора Парижской Богоматери, казалось, не могли быть зачаты в обычной супружеской постели, их не могла родить ни одна женщина. Но как же все заблуждались на этот счет» (Glaseme Bienen, S. 118; Bd. 15, S. 511).
Сначала публике казалось, что такая идея должна принадлежать чудаку-нелюдиму. Тем не менее первые показанные фильмы ждал необыкновенный успех. «Газеты оплакивали судьбу некоего молодого человека, бросившегося в Темзу. Он принял героиню Цаппарони за женщину из плоти и крови и не перенес боли разочарования. Создатели фильма выразили свое сожаление и, между прочим, заметили: предположение, что прекрас
141
ная кукла могла внять любовным мольбам молодого человека, вовсе не бессмыслица. Просто он слишком поспешил, не представляя себе всех возможностей техники» (Glaseme Bienen, S. 119; Bd. 15, S. 512). Поспешность в оценках техники мешает и профессиональной карьере ротмистра Рихарда. Он — слишком пораженец перед лицом современной техники, он слишком мало ей доверяет, чем и объясняются его профессиональные неудачи в послевоенный век, век техники.
Кое-кто утверждает, что, наверное, лучшее изобретение бизнеса Цаппарони — это он сам. Ротмистр Рихард вынужден констатировать, что нет, хотя сначала он тоже поверил в эту легенду. Цаппарони не робот, он и воспринимается ротмистром как существо из плоти и крови. Но это восприятие все-таки ошибочно. Потому что в своих собственных копиях (правда, их всего четыре) Цаппарони распорядился подчеркнуть многие черты своей личности, подчеркнуть в позитивном плане. Цаппарони позволяет своим двойникам — автоматам, роботам — представлять себя в самых различных ситуациях, заменяет себя ими. «Цаппарони — знаток, он совершенствует автоматы с позиций игры, наслаждения, комфорта, роскоши. Одно из его подобий доведено до желаемого идеала обаяния, обрело ту располагающую внешность, тот магический голос, на которые не расщедрилась природа для Цаппарони. Этот двойник выступает с пародиями в новостях, мелькает на телевизионных экранах. Другой одновременно ведет переговоры в Сиднее, а сам маэстро в этот момент предается мечтам в собственном кабинете» (Glaseme Bienen, S. 81; Bd. 15, S. 482).
Техника Цаппарони — техника позднего модерна. Она восхищает присущими ей чертами игры и миниатюры. Она воплощается в танце «стеклянных пчел», а не в «стальных бурях» техники, движимой массой и энергией. Стаи стеклянных пчел, которые Рихард увидел в саду фабриканта, сделаны на заводах Цаппарони; они могут опылять цветы намного лучше, чем их природные прообразы. К сожалению, эти пчелы пока еще слишком велики и не так грациозны, как настоящие.
142
Однако превосходство прогрессивной, «стеклянной» техники над старой, механической — вовсе не безгранично. Стеклянные пчелы можно воспринимать и как игру, и как опасное оружие. В равной мере они и игрушка миллиардера Цаппарони, и роботы-наблюдатели, миниатюрные шпионы. «В миниатюрах момент игры заметен больше, чем в гигантских существах нашего мира. Невосприимчивому глазу импонирует масса и массы. Особенно когда они в движении. И все же в мухе скрыто не меньше органов, чем в Левиафане» (Glaseme Bienen, S. 114; Bd. 15, S. 508).
Цаппарони стал монополистом при помощи чужих и собственных изобретений в области мини-роботов и людей-авто-матов. Ротмистр Рихард, представляясь Цаппарони, сразу заметил, что тот привык иметь дело только со значительными людьми. «У меня было ощущение: «он знает» или «это посвященный, один из высших». Слова «знание — это сила» обрели новый, непосредственный, опасный смысл» (Glaseme Bienen, S. 79; Bd. 15, S. 480).
2. Пораженчество перед лицом технического оптимизма
Цаппарони — это парадная лошадь, предназначенная для демонстрации технического оптимизма, «который овладел нашими ведущими умами» (Glaseme Bienen, S. 83; Bd. 15, S. 483). Этот оптимизм подчеркивает, как сильно облегчает жизнь все то, что «непрерывно изобретается. Конструируется и серийно производится в этом мире. Сегодня хорошим тоном стало не молчать о тех опасностях, которые несут эти процессы. Трудно обмануть себя. Во времена кризисов становится ясно, что все эти роботы-лилипуты и автоматы-люкс способны повлиять на мир, не только украшая жизнь, но и сокращая ее. При этом мало что меняется в жизненной конструкции. Свои темные стороны они показали потом» (там же).
Ротмистру Рихарду не хватает таланта технических оптимистов — таланта не видеть оборотную сторону техники, стать
143
приверженцем партии современной техники. «Казалось, что нет необходимости понять и высказать непреложный факт: и наше дело имеет оборотную сторону, а у его противников все совсем не так черным-черно, как представлялось. Это и вызывало ко мне подозрение и у тех, и у других, а меня очаровывало преимущество быть приверженцем партии». Руководитель штаба подводит итог осуждающим оценкам позиции Рихарда словами, которые тот тут же занес в свой кондуит: «индивидуалист с наклонностями пораженца» (Glaseme Bienen, S. 74; Bd. 15, S. 476).
Рихард не умеет воспринимать мир с позиции «уверен, это так есть и должно быть». Оценивая себя, он приходит к выводу, что слишком умен, чтобы довольствоваться ординарной уверенностью апологета, приверженца, партийного попутчика. «Что касается начальника штаба в Астурии, то, просматривая мои бумаги, ему не стоило никакого труда прийти к выводу: «руководить неспособен». Начальника штаба звали Лесснер, он был молод и обладал удивительным, всегда находившимся под рукой даром судить. Способностью, издавна восхищавшей до обожествления» (Glaseme Bienen, S. 75; Bd. 15, S. 477). Рихард, напротив, — пораженец в противовес любой партийной приверженности, включая приверженность партии техники.
Когда много лет тому назад он встретил свою жену Терезу, эта его позиция расцвела полным цветом: «Она распространилась на целое, привела к тому, что для меня потеряла ценность идея борьбы за власть. Все эти битвы и бои казались бессмысленными и ничтожными, потерянным временем — слишком расточительно напряжение и усилие. На меня снизошло откровение: один-единственный человек, узнанный, понятый в своей глубине и причастившийся ей, дает нам больше гарантий, дарит нам больше богатств, чем смогли завоевать Цезарь и даже Александр. Вот где наше царство, лучшая из монархий, наилучшая республика. Вот где наш райский сад, наше счастье» (Glaseme Bienen, S. 76; Bd. 15, S.477f.).
Ротмистр — пораженец и в борьбе против власти технократов. Ему чужд оптимизм цели, он внушает подозрение: «Я ду
144
маю, почему все эти умы, которые так пугающе непредвиденно изменили нашу жизнь, так пугающе непредсказуемо угрожают ей, почему они не довольствуются тем, что высвободили и покорили неизведанные силы? Почему им мало славы, власти, богатства, которые они за это получили? Почему они a tout prix1 хотят быть еще и святыми?» (Glaserne Bienen, S. 84; Bd. 15, S. 484). Ротмистр отказывается признать «святым» технократа-инноватора, — требуемое дополнение ко всеобщему восхищению его техническим могуществом. Ему, солдату, знаком «двойной стандарт» техники: ротмистр ревниво относится к ее способности «лучше» овладеть действительностью, преодолеть ее двойственность. Кроме того, угроза, исходящая от техники, анонимна, в отличие от угрозы, исходящей от армий, солдат, военных.
Ротмистр Рихард — это герой позднего модерна. Поэтому он критик-скептик, критик-пораженец модерна. Его история — эпилог мифа о модерне. Но почему протагонист постмодернистской техники и технического оптимизма хочет взять его к себе на службу? Рихард сам теряется в догадках, почему Цаппарони хочет взять на работу его — пораженца с холодной плитой и угасшим очагом? А Цаппарони заставляет ротмистра томиться неизвестностью в саду своего дома.
Ожидание затягивается, время обеда уже прошло; в этот момент Рихард и замечает стеклянных пчел, влетающих и вылетающих из искусственных ульев, напоминающих, скорее, насосные станции. Сюда искусственные пчелы со стеклянными хоботками несут собранный мед. Доход от стеклянных пчел больше, чем от настоящих. Настоящая пчела должна выполнять и природные, органические функции. Стеклянные пчелы проектировались исходя из одной-единственной задачи — вся их деятельность подчинена нормам технической целесообразности. В искусственном улье ощущается отсутствие всякого эроса, любых эротических элементов. В целом «весь производственный
1 любой ценой (фр.).
145
процесс предстает в совершенном, однако абсолютно неэротическом блеске... Нет ни яичек, ни личинок, ни трутней, ни матки. Если придерживаться аналогий, то Цаппарони узаконил функции трудящегося существа, лишенного пола производителя и довел его до совершенства. В этом смысле он упростил природу, которая отважно сражается за экономическую выгоду, уничтожая трутней. Цаппарони с самого начала не планировал ни самцов, ни самок, ни матерей, ни кормилиц» (Glaseme Bienen, S. 113; Bd. 15, S. 507).
Сначала Рихарда привело в восторг все — и стеклянные пчелы, и их ульи. Восхищала игра, невиданное мотовство. Стеклянные пчелы Цаппарони подтвердили его убеждение в том, что, «играя, не держишься за кошелек» (Glaseme Bienen, S. 117; Bd. 15, S. 511). Но вскоре пришли и другие мысли: экономический абсурд наступает тогда, когда власть начинает играть. «Действительно, тот, кто мог бы повелевать такими народами, стал бы могущественным человеком. Возможно, он был бы могущественнее, чем тот, кто распоряжается таким же числом самолетов. Давид был сильнее Голиафа, и экономика в этом случае ничего не значила, или пришлось бы переходить в масштабы другой экономики — в масштабы титанического» (Glaseme Bienen, S. 120; Bd. 15, S. 513). C точки зрения пасечника, изготовление и производство искусственных пчел представляется экономическим абсурдом; с точки зрения военных, напротив, цена за таких пчел смехотворно низка, если эта пчела в состоянии обнаружить и уничтожить какой-нибудь стратосферный крейсер стоимостью в миллиарды. Ротмистр фантазирует — он не в саду, принадлежащем владельцу фабрики, а на экспериментальном полигоне военного завода, взлетном поле для летающих микророботов. «Мои догадки, что речь идет об оружии, оказались правильными. Всегда в первую очередь в голову приходят мысли о голой выгоде или об оружии. Когда Цаппарони делал из своих пчел просто работниц, он все-таки не отнял у них жало. Напротив» (там же).
146
Разгадав замысел стеклянной конструкции, Рихард почувствовал себя учеником, сдавшим экзамен. Он держал экзамен, который предложил ему маэстро: «А тот хотел узнать, пойму ли я замысел, отвечаю ли я его уровню» (Glaseme Bienen, S. 121; Bd. 15, S. 514).
3. Страхи и эксперименты анатомического мышления
Наблюдая за стеклянными пчелами, ротмистр не выпускал из поля зрения одного механического шпиона, вившегося над растением-хищником — плотоядной росянкой. Под действием полуденной жары в голову приходили странные мысли: а не является ли определение «плотоядная» слишком сильным для характеристики аппетита росянки, для которой и одна мушка — достаточно сытная трапеза. Едва он подумал о добыче, которая перепадает сторожам плотоядных растений или животных, как вдруг увидел в просвете сада лежащее на болотистой лужайке рядом с хищницей-росянкой отрезанное человеческое ухо. Тогда «я начал методически осматривать лужайку. Мое изумление росло: она была завалена ушами. Я видел уши большие и маленькие, нежные и грубо скроенные, все они были отрезаны при помощи какого-то острого предмета... Накатилась тошнота, я напоминал в этот момент человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на кострище людоедов. Я распознал провокацию, ее бесстыдный вызов, Цаппарони вел меня в глубинные пласты действительности. Как будто чары производства автоматов, так долго державшие меня, рассеялись; я больше не воспринимал это занятие как подлинное и истинное» (Glaseme Bienen, S. 128; Bd. 15, S. 519f.).
В чем причина ужаса, который испытал Рихард при виде отрезанных ушей? Для него эти ампутированные члены воплощают расчленяющий, ампутирующий, анатомический дух века модерна в целом. «Жестокость этого показа ампутированных ушей ошеломила меня. Но в данном случае демонстрация пре
147
вратилась в мотив. Разве не стала она олицетворением технического совершенства, восторга и упоения, его венчающего? Разве было когда-нибудь в истории так много ампутированных членов, как в наш век? Как только появились люди, они начали воевать и воюют до сих пор. Однако я не помню ни одного примера из «Илиады», где говорилось бы о потере руки или ноги. Ампутация - это излюбленная тема мифов о чудовищах, мифа о битвах титанов или о Прокрусте» (Glaseme Bienen, S. 129; Bd. 15, S. 520f). В эпоху модерна потеря части тела — ампутация — только на первый взгляд воспринимается как результат несчастного случая, стечения обстоятельств. «А на самом деле несчастье всего лишь следствие тех повреждений и разрушений, которые присутствуют уже в эмбриональной форме нашего мира. То, что число ампутаций все растет, просто подтверждает факт - анатомическое мышление побеждает. Изъян существует прежде, чем его можно обнаружить. Удар давно нанесен, залп дан. И даже если этот залп представляется как прогресс науки и осуществлен где-нибудь на Луне, после себя он оставит всего лишь разрыв, дыру, рану» (Glaseme Bienen, S. 130; Bd. 15, S. 521).
Зрелище отрезанных ушей Рихард воспринимает как непристойность, непристойно и испытание, которому его подвергли. Кому-то интересно, как он его выдержит, поймет ли смысл проверки, которую проходит. Тесты продукции Цаппарони представляются ему моментом посвящения в ужасы и смыслы позднего модерна и его техники. Только в саду Цаппарони приходит осознание, какое огромное значение имеет превращение природы в искусственную природу; как важно понять и приветствовать это превращение, — потому что именно здесь востребовано одобрение и понимание той жертвы, которую приносит искусственная природа и аналитико-рассекающее мышление. Они жертвуют прогрессу образ и подобие человека, отсекая, ампутируя его.
Старомодный ротмистр, пораженец модерна, верен идеалу «человек, как он есть в действительности». И внезапно он понимает, как глубоко противен ему этот грязный эксперимент. И одновременно приходит мысль — не так-то просто выпутаться
148
из этой ситуации. Положение Цаппарони исключает возможность обратиться в полицию. Ротмистр сам может оказаться за решеткой как один из мастеров на производстве, где отрезают уши! «Посоветовать что-то подобное мог только тот, кто безмятежно проспал все тридцать лет гражданской войны. Слова изменили свой смысл, полиция - это совсем не полиция» (Glaseme Bienen, S. 132; Bd. 15, S. 522). Но и молчать о постыдных делах и поступках тоже не годится, единственный результат умалчивания — обвинение в том, что не пытался помочь.
Гражданская война модерна сделала невозможным последовательно нравственный, моральный поступок. Обе воюющие стороны совершили столько неправедного и несправедливого, что ни одной из сторон нельзя доверять, ни на одну из сторон нельзя положиться. К отчаявшемуся ротмистру приходят воспоминания. Сначала воспоминание о том, как его, мальчишкой попавшего между двумя враждующими лагерями банды подростков, жестоко избили и те и другие. Затем воспоминание о войне в Астурии: «Когда началось в Астурии, стало ясно — всем удовольствиям (хотя ко многим мы уже и привыкли) пришел конец. В первом же городе, в который мы вошли, монастыри были разграблены, гробы осквернены, на улицах громоздились кошмарные груды трупов. И тогда мы поняли, что пришли в страну, где не от кого ждать пощады. Мы шли мимо мясной лавки, в ней на крюках висели трупы монахов, на них красовались этикетки «Ноу matado», что значит «свежатина». Я видел своими глазами. В тот день горе переполняло меня; я убедился: ушло все, что почиталось, все, что было достойно уважения. Слова «честь», «достоинство» звучали насмешкой. В ночи надо мной звучало только одно слово «один». Подлость разъединяет сердца, звезды словно гаснут» (Glaseme Bienen, S. 151; Bd. 15, S. 537)1.
1 «Так в одном-единственном пассаже перед нами раскрывается весь Юнгер — Юнгер виноградной лозы, гражданской войны и боли. В нем мы должны чтить самое простое и самое редкое из всех человеческих качеств — мужество» (Andersch A. Amriswiler Rede // Frankfurter Rundschau,
149
Воспоминания детства и гражданской войны многое проясняют для Рихарда. Фабрикант уровня Цаппарони не допустит, чтобы отрезанные уши валялись тут и там по недосмотру или по небрежности. Значит, существует какой-то расчет, план, эксперимент? Но разве ротмистр Рихард принадлежит к тем людям, для которых отрезать две-три дюжины ушей — честь и слава? Это не придет в голову человеку даже с самой изощренной фантазией. Еще один взгляд в полевой бинокль, и Рихард понимает наконец, что уши — ненастоящие, искусственные. «Они были сделаны мастерски, мне хотелось сказать: они превосходят действительность» (Glaseme Bienen, S. 157; Bd. 15, S. 542). Техника производства Цаппарони достигла такого уровня совершенства, что изделия получались более жизненными, чем их естественные образцы. Куклы-автоматы напоминали людей больше, чем сами люди. Вот техника, которая уже не вызывает чувства капитуляции, краха, она не сеет сомнения в своей благодати, не пробуждает сознания собственной двойственности: «Теперь можно проделывать такие штуки, о которых раньше и подумать было страшно... Можно капризничать, балагурить... Я видел дверь, которая ведет в мир без боли. И тому, кто войдет в эту дверь, время было бы нипочем, оно не могло бы принести ему ни малейшего вреда» (Glaseme Bienen, S. 159; Bd. 15, S. 554).
Техника позднего модерна, благодаря своим приемам совершенной симуляции и имитации действительности, позволяет не делать различий между естественным, природным и искусственным. Она помогла построить новый мир — мир, свободный от боли, в котором двойная жизненная бухгалтерия (счет ведется от боли) уже ничего не значит. Рихард чувствует — если он будет посвящен и приобщен к действительности-симуляции, он
16. Juni, 1983). Эти слова Андерша относятся к дневниковым записям Юнгера, сделанным 4 июня 1943 года (Strahlungen II, S. 79 f.). Далее Ан-дерш говорит и о том, что Юнгер был одним из немногих писателей внутренней и внешней эмиграции, ясно осознавшим, «что в Германии 1933 года важно было почувствовать и ощутить гражданскую войну».
150
попадет в замкнутый круг власти, сможет распоряжаться символами власти. «В этих изделиях присутствовал дух, отрицающий свободное и неискаженное подобие, образ человека. Он изобрел эту несправедливость. Он хотел принимать в расчет только те силы человека, которые издавна считались на лошадиные силы. Он хотел единств и целостностей, которые тождественны и делимы. Ради этого человек должен быть уничтожен точно так же, как когда-то до него была уничтожена лошадь. Вот символы, которым следует гореть над этой дверью. Кто-то требует именно таких слов, кто-то просто не понял их. Но все они готовы к употреблению» (Glaseme Bienen, S. 162; Bd. 15, S. 547).
Новая техника требует принять или по крайней мере бессознательно проигнорировать тот факт, что образ человека уничтожается, он заменяется искусственно созданным продуктом. Повсеместная и всеохватывающая искусственность, симуляция несут в себе и еще одно обещание: конец боли, так знакомой всему живому. Искусственный человек — это «изделие», он не будет знать боли. Приобщение к сферам «стеклянной» техники способствует тому, что справедливым признается требование уничтожить образ человека, ампутировать, отсечь части и члены от целостности «образ человека». А взамен исчезнет боль.
Вместо того чтобы подчиниться приобщению к власти, Рихард приходит в ярость. Она закипает где-то в глубине его души, души старого воина, закипает при виде отрезанных человеческих ушей. Он хватает палку для гольфа и одним ударом разбивает стеклянного шпиона.
Вскоре хозяин дома и владелец фабрик Цаппарони появляется в саду. Выясняется, все это — недоразумение. Отрезанные уши — катастрофические последствия свары и ссоры, разыгравшихся на заводе. Повздорив с другими кукольниками, синьор Дамико (он делает уши) отрезал их у уже готовых кукол. Ущерб велик, «куклам такого класса очень трудно снова пришить ухо — так же трудно, как живому человеку, а может быть, и потруднее» (Glaseme Bienen, S. 168; Bd. 15, S. 551).
151
Однако на болоте уши были свалены не случайно. Готовилось испытание для Рихарда; и он его не выдержал. Рихард потерял голову, перестал мыслить ясно и последовательно. Оказывается, его легко обезоружить. «Обезоружить — это значит разоружить, — поучает Цаппарони. — Я мог бы сразу определить, что уши ненастоящие, они неестественно красные» (Glaseme Bienen, S. 169; Bd. 15, S. 552).
4. Сюрреализм техники и реализм справедливости
Хотя ротмистр и не оправдал ожиданий, не годится для работы в технических сферах, Цаппарони все-таки находит ему работу и занятие на своем предприятии — в сфере социальной. Он предлагает Рихарду место судьи. Техники-изобретатели и производители его продукции по своему характеру напоминают живых роботов, которых создают. Это в высшей степени многоплановые и нервные существа, склонные к профессиональному неврозу, — все они находятся в плену диктаторской власти точности. Техники Цаппарони не в состоянии преодолевать конфликты в своей среде, они компетентны только в профессиональных спорах. На заводах Цаппарони, где бушуют человеческие интриги и конкуренция, да и в самих оценках изобретений явно не хватает конфиденциального судьи. С точки зрения Цаппарони, ротмистр с его старомодным идеалом справедливости и является подходящим для этой должности человеком. Почему? Пораженческое передергивание — вот основание, на котором выстраивается представление о смысле справедливости, непонятном технократу.
Рихард принимает предложение, получает задаток. Можно включить отопление и сводить куда-нибудь жену. «Мы пошли поужинать. Это был один из тех дней, которые не забываются. Почти сразу забылось все, что я увидел в саду Цаппарони. В техническом много иллюзий. Но я запомнил слова Терезы, запомнил улыбку, с которой она их произносила. Такая улыбка
152
сильнее любого автомата, это было сияние действительности» (Glaseme Bienen, S. 172; Bd. 15, S. 555)’.
В техническом много иллюзорного, между тем как в отношениях между людьми со всей их радостью и болью присутствует что-то очень действительное. Справедливость становится необходимостью, потому что радость и боль делают справедливость нужной. В рамках права идея борьбы за то, чтобы избежать боли и сделать счастье действительностью; притязания обеих сторон должны оцениваться по справедливости. Справедливость нельзя заменить техникой симуляции и техникой покорения природы. Даже там, где техника имитирует новую действительность, чтобы преодолеть действительность несправедливую, она не может исцелить всю боль, удовлетворить всю потребность этого мира в справедливости. Боль и несправедливость не исчезают навсегда, даже если создана еще одна, новая действительность. Симуляцией действительности, игрой в саму эту действительность не дано победить ни боль, ни несправедливость. Ротмистр олицетворяет смысл справедливости, как он существовал «до модерна», именно поэтому он необходим магу техники, владельцу стеклянных пчел. Справедливость в качестве добродетели, справедливость, которая познает и воплощает на практике то, что связывает и объединяет мир в действительность, всегда оказывается силой и потенциалом, направленными против симуляции. В тех областях, где техника все в большей степени имитирует действительность, а границы между естественным и искусственным стираются, сохраняется по крайней мере принуждение к справедливости — справедливого решения не может заменить никакая его симуляция и имитация. Принуждение к справедливому разрешению конфликтов еще больше заметно в тех сферах, где действительность граничит с
1 Райнер Груентер очень метко характеризует рассказ «Стеклянные пчелы» как эпическую поэзию рефлексии. Это понятие подходит для описания всего эпоса модерна в целом, как он создается Юнгером (Gruenter R. Reflexions-Epik //Neue Deutsche Hefte. H. 39 (Oktober, 1957), S. 840—842).
153
симуляцией. Всегда существует некая пограничная полоса, где действительность и имитация соприкасаются. Так возникают пространства технических возможностей для имитации существования. Однако эти пустоты могут быть заполнены только справедливостью, а вовсе не технической симуляцией.
В играющей технике позднего модерна «hardware», материальная техника, сама становится сюрреалистической, техникой игры. Она подыгрывает действительности, но остается недействительной, гиперреалистичной. Куклы из фильмов Цаппарони превосходят в своей действительности и подлинности собственные прообразы — людей; они сверхреальны. Их создатели и изготовители — техники постарались сделать так, чтобы действительность их собственного мира не соответствовала стандартам имитации и симуляции ее технической оснастки, созданной на заводах Цаппарони. Этим людям нужна справедливость антимодерниста.
Гениальна сама мысль Юнгера — показать симуляцию природы и общества на примере пчел. Сюжет о стеклянных пчелах — это антипроект позднего модерна, антипроект фабулы о настоящих пчелах, воплощавших в античной и христианской традиции образец социальной организации для человека (прежде всего образец организации церковной и монастырской жизни), символ души и христианских добродетелей. Уже в «Басне о пчелах» Мандевиля нравы пчел служили метафорой либерального проекта общественного устройства1. Стеклянные пчелы, напротив, — это сюжет функционализированных общества и природы, полностью технизированных, лишенных эроса. Такой природе и такому обществу не знакомы ни эрос, ни боль. В мире искусственных пчел человек одновременно и творец, и пасечник. Он изобретает и создает новый мир — искусственный и стеклянный. Из фабулы «стеклянные пчелы» становится ясно, что в техническом мире позднего модерна Человек хочет окон-
' Ср.: Hain М. Biene // Lexicon fur Theologie und Kirche, 2. Auflage, Freiburg (Herder), 1958, Bd. 2, Sp. 455f.
154
чательно заменить творца, занять его место, быть одновременно и создателем своих пчел, и их пасечником. В своей новой роли технократа Человек стремится соединить роли творца и пастуха, пастыря, распределенные в античной и христианской традиции между Богом и человеком.
Наглую заносчивость стеклянных пчел и искусственных ушей Юнгер объясняет, ссылаясь на два момента. Техника, желая создавать новое (новую, улучшенную природу в том числе), утверждает тем самым, что природный мир, само творение несовершенно. Техника исходит из предпосылки, что, зная смысл истории, можно создать лучшие человеческие миры, лучшую, более совершенную природу. Мысли о несовершенстве творения возвращают в прошлое, к гностицизму, его вере в злую (если не злую, то во всяком случае коварную) волю демиурга и творца. Убеждение «человек лучше, чем Бог, постиг и знает смысл истории» утверждает истины философии истории эпохи модерна. Ее завет — только Человек может и должен осуществить смысл истории, воплотить его в действительность. Рассказ о приключениях в саду стеклянных пчел, пережитых пасующим перед модерном ротмистром, Юнгер заканчивает опровержением этого главного заблуждения эпохи. В тексте эпилога, на последней странице «Стеклянных пчел», оно звучит так: «Утешением остается догадка, что в истории и самой историей правит смысл, нам недоступный. Мы не знаем и не должны знать, что есть история в субстанции, в абсолюте, по ту сторону времени. Мы уповаем, но мы не знаем приговора на Страшном суде. Когда-нибудь да воссияет свет, да обрушатся стены»1. Изготовление Человеком новой, «стеклянной» природы означает, что естественная, подлинная природа не раскрывает смысла истории, дает ущербное и неудовлетворительное его объяснение. Но в противовес символу веры Цаппарони Человек, чтобы познать этот смысл, должен отказаться от своих намерений превратить
1 Эпилог опубликован только в позднем издании собрания сочинений, в пятнадцатом томе (см.: Bd. 15, S. 558f.).
155
в смысл истории технику. Органическая форма и боль противятся тотальному превращению мира в искусственный мир, каким его делает техника. Конечная цель истории остается по-прежнему открытой.
Глава 7. Историк постистории
В юнгеровской постистории, в романе «Эймсвил»1 приходит знание о том, что после доктринальной философии истории модерна история в век постмодерна снова стала открытой. Герой романа — профессиональный историк и бармен по совместительству. Тот факт, что герой постистории — историк «по призванию», с самого начала несет в себе противоречие. Если история умерла, а исторический век закончился, то почему героем романа о постисторических временах становится историк?
1. Историзм после смерти философии истории
В Эймсвиле — городе романа — история мертва. Но умерла история философии истории, а не историзм, историчность самого исторического изменения. Мертв историцизм, а вовсе не история. Уходя в мир иной, философия истории и педалированные ею понятия истории создали предпосылки для появления действительного историка. Только конец мифической и героической эпохи делает возможной подлинно историческую перспективу, освобождая ее от предварительных суждений и посылок (Eumeswil, S. 338). Во времена, когда правят герои и система философии истории, историк вовсе не свободен от выбора — принять чью-то сторону или нет. В героические времена историк или защищает историю, или борется с ней. В постистории принадлежность к
1 О постистории см. также: Niethammer Lutz. Posthistoire. 1st die Geschichte zu Ende? Hamburg (rowohlts enzyklopadie), 1989. S. 82ff.
156
позиции, лагерю совсем не нужна, да и вряд ли возможна — равнозначны любые политические и философско-исторические точки зрения. «Эймсвил особенно привлекателен для историка: в нем уже не существует ценностей, которые придают импульс жизни. Исторический материал, факты переплавлены в страсти. Идеи стали чем-то неправдоподобным, чужим и чуждым жертвам, которые были принесены на их алтарь» (Eumeswil, S. 50).
Истинное описание истории возможно только в том случае, если за изображением фактов стоит доктрина, толкование истории. Но если царит век философии истории и доктринерского толкования исторических событий, то непредвзятый взгляд на историческое и историчность просто не может существовать. Познать историчность означает понять историю. История -— это поток единичных событий, а вовсе не воплощение выведенных из доктрины истории законов ее развития. «Заметка на полях: историк должен избегать философского изображения истории точно так же, как он должен избегать биологического и экономического ее описания; для его науки важно человеческое; история подобна человеку, ее нельзя ни объяснить, ни сублимировать. Можно только смотреть. В глаза самому себе» (Eumeswil, S. 142).
Смотреть свободно, непредвзято историк Мануэль Венатор научился у своего учителя Виго. Но, в отличие от Виго, он, стю-арт, убежден, что просто исторического взгляда явно недостаточно. Важен и смысл — важен во всем, что происходит, в непредвиденном, в авантюрах и приключениях. «Вскоре мне пришлось убедиться, что просто исторического взгляда недостаточно. Если ты свободен от истории, если ее нет, то ты в каком-то смысле становишься свободнее; но и власть, которой мы все служим единой связкой, тоже становится еще более свободной, свободной самым непредсказуемым образом измениться. Как-то в полночь я работал в Парвуло, и мне стало страшно... Конечно, из-за леса. Вот где опасности и трофеи должны напоминать скорее о путешествии аргонавтов, чем о блестящем времени охоты — историческом и праисторическом» (Eumeswil, S. 51).
157
Историк-бармен ценит власть и не бежит от опасности, напротив, она привлекает его. Он ищет путей, которые приведут его к сильным мира сего, приведут к риску и опасности. Ради этого он нанимается ночным слугой в крепость-замок тирана, становится его личным ночным барменом. «Я думаю, у меня талант общения с сильными мира сего. Дистанция разделяет нас. Среднеудаленность — вот самое лучшее средство для такого общения. Ты что-то вроде спутника или сателлита: если слишком близко приблизишься к Юпитеру, сгоришь. Держишься подальше — страдает эксперимент. Опираешься на идеи, на теории вместо того, чтобы разобраться в фактах» (Eumeswil, S. 110). Опасность и непредвзятость — вот два полюса, вокруг которых вращается жизнь ученого — исследователя и бармена. Эти же факторы определяют и противоречия между крепостью и городом, между властителями и горожанами. Властители Касбаха, владеющие крепостью, правят городом как тираны, флибустьеры и искатели приключений. В самом городе идеи исчерпали себя, противоречия позиций и партий сгладились. Ценности общества Эймсвила пародийны. Теперь уже никто не принесет уверенность, веру в то, что так оно и есть, в жертву теории. «Афиши меняются, но стена, на которую они наклеиваются, — одна и та же. Все теории и системы и проплывают мимо нас, где-то высоко-далеко» (Eumeswil, S. 122).
Великие теории модерна, «блестящие повествования мастера» (Ж. Ф. Лиотар), масштабные мифы философии истории в Эймсвиле — всего лишь макулатура. Правда, есть и либералы, которые дают понять, что готовы пострадать за идею. В их головах снова зашевелились «давно отработавшие свое милитаристские лозунги». Однако «если присмотреться поближе, то они, как и все остальные, стремятся спасти свою шкуру. Можно смотреть на это сквозь пальцы, если они не очень сильно перегибают палку» (Eumeswil, S. 113). К таким доктринерам-либералам принадлежат отец и брат Мануэля Венатора, которых чрезвычайно раздражает образ жизни их родственника — историка и слуги.
158
2. Тотальный плюрализм и мультикультурализм
Эймсвил постисторичен как общество и сообщество, как множество. Его своеобразие обусловлено плюрализмом культур, наций, рас, мировоззрений. Только деньги являются ценностью, значимой для всех без исключения жителей. Но такой ценностью может считаться только часть денег, имеющих хождение в городе. Та часть, которая обеспечена золотым стандартом. В анархо-популизме золото остается исключением из всеобщности любого: «Анархист защищает позицию золота. Этот тезис не нужно понимать как простую жажду золота. В золоте он видит главную стабилизирующую силу. Он любит его, но не как Кортес; он любит его как Монтесума, не как Писарро, а как Атау-альпа. Эта разница — как разница между плутоническим огнем и солнечным блеском, почитаемым в храмах Солнца. Высшее свойство золота — это свойство света и блеска, золото причащает самим своим существованием» (Eumeswil, S. 196).
В отличие от экономической валюты — обеспеченных золотом денег, валюта духа, языка не так устойчива в Эймсвиле, она явно подвержена инфляции. Постистория несет в себе разрушение языка, его гибель: «Во времена конца, когда участие в гибели собственного народа считается доблестью, вряд ли стоит удивляться, что и языку подрубают корни. Особенно здесь, в Эймсвиле. Утрата истории и утрата языка взаимосвязаны. Жители Эймсвила поняли это. Они считают своим долгом, с одной стороны, освободиться от языка, а с другой — поклоняться жаргону. .. Атака на сложившийся язык, грамматику, письменность, знак и символ — это элементы упрощения и упрощенчества, которое пришло в историю под знаком культурной революции. Это тени первого мирового государства» (Eumeswil, S. 84).
Язык Эймсвила превратился в отвалы и осыпи столетий, в которых сравнялись и стерлись чеканные образующие, разрешительные и запретительные структуры грамматики; в ход идет только осадок языка, обесцененные, лишенные своих значений
159
лингвистические выразительные формы. Упадок языка заметен и в изменениях, которые претерпело само название города. Первоначально он был назван в честь диадоха Евменоса (Евмена)1: «Эймсвил носит его имя. Любая последующая ссылка на него — крестьянская самонадеянность» (Eumeswil, S. 86). Чтобы не затрудняться произношением, в названии дифтонг подменили на умлаут, смягчили «О умлаут» и Эймсвил стал произноситься как Ёмсвил.
Культура Эймсвила напоминает одновременно и хранилище, и свалку элементов и моментов жизни духа в разных культурах и эпохах1 2. Способы хранения культуры в постисторическом полисе парадигматичны: «Одним из символов пространства, свободного от истории, является депозитарий. Угроза для пространства — мусорные завалы. Собранные здесь груды уже не поддаются организации, как это происходило прежде, в рамках культуры. Весь этот хлам перерос свои формы... Живут на этой свалке и благодаря ей — среди щебня и мусора. Мусор используют. Откровенный голод идет по пятам за прошлым богатством и его избытком. Роста больше нет» (Eumeswil, S. 371).
В отличие от большинства жителей Эймсвила Мануэль Ве-натор вовсе не пренебрегает достижениями прошлых поколений, свалкой теорий в хранилище постистории. «Я считаю дурным историческим тоном насмехаться над заблуждениями наших предков, не уважать эроса, вложенного в них. Мы тоже подвластны духу времени, глупость передается по наследству, мы просто надеваем новый шутовской колпак» (Eumeswil, S. 70).
1 Уже говорилось о связи изображения истории гигантов на фризах Пергамона в музее и исторических образов Евмена I и Евмена II.
2 Все восхищение старым центром Берлина вряд ли спасет от двойственного чувства, когда в сердце города на музейном острове можно найти музей, внутри которого видишь прекрасно отреставрированный культовый алтарь, а рядом с этим музеем — закрытую церковь, явно нуждающуюся в ремонте.
160
3. В тумане универсального многообразия
Универсальный плюрализм идей и смыслов вовсе не ведет Эймсвил к осознанию важности существования, вере в возможность построить жизнь. Пестрота, многообразие и множественность остаются по-прежнему блеклой и угнетающей, вызывают неудовлетворенность и недовольство: «Недостаток идей или, проще, богов вызывает необъяснимый душевный разлад, похожий на тот, который испытываешь, если солнце не может разогнать туман. Мир становится бесцветным, слово теряет в самой своей субстанции — там, где оно должно сказать больше того, о чем просто сообщается» (Eumeswil, S. 71). Совершенный плюрализм, унификация идей и толкований окутывает бытие наподобие тумана, стирает его контуры, притушает краски.
Роман Эрнста Юнгера «Эймсвил» рисует мир тотального плюрализма позднего модерна и его «мультикультурное» общество. Всеохватывающая мобилизация модерна закончена, титаны — дети Земли больше не двигают историю. Техника достигла в своем развитии момента, когда она больше уже не может играть первую скрипку в истории, как это было в модерне; отныне с техникой не связывают боль и всеобщее порабощение трудом. Она приобрела новые черты. Техника — это нечто само собой разумеющееся, попутное, сопровождающее историю. Постистория как завершающая стадия модерна, как поздний постмодерн является тем постутопическим временем, которое идет на смену веку философии истории. Это время, которое пришло после мобилизации истории. Это поствоенный, постпролетарский, посттитанический эон, скрытый за туманом унифицированных идей.
Постисторию как завершение модерна отличает, впрочем, как и весь модерн, гностицизм. Однако этот гностицизм выводит совершенно иное, новое заключение из посылки, которая объединяет его с титаническим модерном, — из посылки «творение несовершенно». Венатор убежден в несовершенстве сотворенного мира: «Я подозреваю, что само творение началось с
6 Петер Козловски | |
фальсификации. Если бы это была просто ошибка, то, совершенствуясь и развиваясь, рай можно было бы построить заново. Но старик засекретил древо жизни. Это имеет отношение ко мне, моим страданиям — несовершенство, которое нельзя устранить, несовершенство не только творения, но и моей собственной персоны. Оно ведет к враждебности по отношению к Богу, с одной стороны, и самокритике — с другой» (Eumeswil, S. 10). Творение не просто хрупко и ущербно, оно несовершенно в своей целостности и как целое. Бог сознательно лишил Человека совершенно удавшегося результата своих усилий. В традиции гностицизма Бог утаил от Человека не только древо познания, но и древо жизни1.
Убеждение в несовершенстве творения соединяет поздний модерн постистории и ранний модерн революционной философии истории. Оно присутствует у социалистов, и Мануэль Ве-натор отмечает в первую очередь Фурье: «Главная мысль Фурье превосходна: не удалось творение в целом». Но этим тезисом и исчерпывается близость к раннему модерну. «Заблуждение Фурье заключается в следующем: он считал, что божественную ошибку можно легко поправить. Прежде всего анархист не может позволить себе мыслить прогрессивно. Это заблуждение, и, следуя ему, анархист легко выпускает из рук бразды правления» (Eumeswil, S. 309).
4. Дендизм и гностицизм: средства преодолеть несовершенство творения
Заблуждение модерна: он верит, что несовершенство творения, сотворенного мира легко исправить. Прогрессизм модер-ности есть не что иное, как предположение, что из несовершенного акта творения и мира, которому это творение послужило
1 Напротив, в теософской традиции нееретического и христианского гносиса проводится мысль о том, что Человек, а не Бог разделил древо познания и древо жизни.
162
началом, можно создать нечто совершенное. Средство и инструмент, необходимые для этой деятельности, — революционный прогресс. Анархист позднего модерна, гностик и денди постистории, напротив, хорошо понимает, что все эти усилия напрасны. Совершенное нельзя создать из несовершенного, никакие революции здесь не помогут. Анархист «Эймсвила» — это денди времен позднего модерна, который и мыслит себя именно как денди1. Размышляя над ситуацией на более высоком уровне, он придет к выводу, что анархический дендизм — это так же обыденно и обычно, как и мещанские предрассудки любого филистера1 2.
Главный принцип денди и гностика звучит так: держать дистанцию по отношению ко всему существующему. «Как анархист я решил сосредоточиться на ничто, ничего не принимать всерьез. Эта позиция вовсе не позиция нигилиста, это, скорее, что-то вроде пограничного поста, который существует в стране ничто между знанием и всем тем, что приносят в него глаза и уши» (Eumeswil, S. 87f.). Анархиствующий денди сразу распознает свое собственное мещанство, оно проявляется в нежелании и неспособности пытаться и пробовать: «Ему никогда не придет в голову мысль «попробуй, попытайся!», потому что он ориентируется на факты, а не на идеи. Он борется в одиночку, он вольный человек, ему не приходит в голову пожертвовать собой; он борется за то, чтобы одна несуразность сменилась другой и новая власть, новое государство победило. Он недалеко ушел от мещанина, озабоченного тем, как получше испечь
1 Юнгер критикует в «Авторе и авторстве» (Autor und Autorschaft, S. 44) установку, разделяющую эстетическое и глубинное, дендист-ское и религиозное: «У эстетического есть своя глубина».
2 Райнер Груентер недооценил значение того, что Юнгер лично, внутренне преодолел дендизм (см.: Gruenter R. Formen des Dandysmus. Eine problemgeschichtliche Studie liber Ernst Jiinger // Euphorion, 46 (1952, S. 170 — 202). И утверждение, и самокритика дендизма не являются случайными для Юнгера. Скорее, они типичные, говорят о преходящем в его характере и героях.
6*
163
хлеб, от крестьянина, ведущего плуг по полю, которое принадлежит его господам» (Eumeswil, S. 137). Но по своему настроению если и денди, и филистер являются анархистами, если они рассуждают о «ничто», то почему и за что их так ругают, преследуют все, кому не лень? «Почему так получается, интеллигенция, крупная буржуазия, профсоюзы обращаются с мелким буржуа то как с пугалом, то как с мальчиком для битья? Наверное, потому, что мелкий буржуа не хочет понять механизмов борьбы, не хочет уяснить их действие ни сверху, ни снизу» (Eumeswil, S. 326).
Одиночка — это анарх, а не анархист, он собственник своего Я, но совсем не эгоист. Анарх — «филистер высокого уровня» (Eumeswil, S. 321); так писал Юнгер о Максе Штирнере, авторе книги «Единственный и его собственность». Духовная установка, в соответствии с которой живет и поступает анарх, совпадает с установкой денди и гностика. Любые обстоятельства, все события в мире он воспринимает с позиции собственного превосходства. Анарх находится в положении денди, «который не позволит усомниться в своем превосходстве, даже трясясь в жалкой колымаге по разбитой дороге» (Eine gefahrliche Begegnung, S. 384). Святой, гностик, анархиствующий денди1 — все они, каждый на свой манер, возвышают себя над этим миром. Их объединяет единое (несмотря на различие в оттенках) чувство превосходства над миром и создателями этого мира,
1 А. Камю пишет в «Бунтующем человеке»: «Романтическое барокко, открытое Раймоном Кено, утверждает, что цель всякой интеллектуальной жизни — стать Богом. Воистину этот романтик немного опережает свое время. Тогда ставилась цель сравняться с Богом и удержаться на его уровне. Бога не уничтожают, но непрерывным усилием отказывают ему в каком бы то ни было повиновении. Дендизм — это упадочная форма аскезы» {Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 157). О связи гностического, научного и дендистского протеста против посюстороннего мира см.: Koslowski Р. Wissenschaftlichkeit und Romantik. Uber den Zusammenhang von Szientismus, Gnostizismus und Romantizismus//Scheidewege, 17 (1987/1988), S. 106—118.
164
fabricatores huius mundi. «Власть Антония — власть одиночки, власть Франциска — власть бедняка, Штирнер понял власть единственного, власть индивидуалиста. «По сути», любой в этом мире единствен, беден и одинок» (Eumeswil, S. 322).
Анархиствующий гностик и денди у Юнгера совсем не похож на «старого тупицу», ниспровергателя идолов у Ницше, восклицающего на все лады «Бог мертв». «Уже в те времена он ломился в открытую дверь: познана тайна универсального сознания — вот его сенсация». Анарх не позволит вовлечь себя в дискуссию, он сохраняет дистанцию: «Единственный утверждает противоположное: Бог меня не касается. Поэтому все пути для него открыты — он может воздвигнуть и отвергнуть Бога или найти успокоение в самом себе, как ему больше нравится. Анарх вправе отменить Бога или «вступить с ним в сговор». Как говорил силезец1, «без меня нет Бога» (Eumeswil, S. 332). Анарх не защищает Бога и не борется против него. В Боге он видит или весьма коварного и некомпетентного творца, или самого себя воспринимает как часть божественной субстанции. Нет повода для неповиновения или протеста, нет повода для уничижения и порабощения своего Я. Анарх совсем не похож на «анархонигилиста» (Eumeswil, S. 224), в нем нет ничего общего с верующим, уничижающим себя перед лицом Бога. Он нейтрален, находится где-то между верой и нигилизмом. Анарх открыт, он способен изумляться — даже абсолютному: «Как историк я скептик, как анарх я всегда начеку, всегда в ожидании. Это дает мне дополнительное чувство комфорта, что-то прибавляет к моему чувству юмора. Я берегу и охраняю свою собственность, хотя и не только для себя — индивидуального и единственного. Ъ4оя личная свобода совсем не главное в победе. Я готов к большему, к великой встрече, к прорыву абсолюта во временное. И тогда истории и науке придет конец» (Eumeswil, S. 73).
1 Имеется в виду Ангелус Силезиус (наст, имя и фам. Иоганн Шеффлер). — Ред.
165
Гностицизм и постистория едины в своем отрицании философии истории, они равно сомневаются в возможности радикально изменить мир к лучшему. Познание несовершенства божественного творения и дела рук человеческих — революций, радикальных поступков — порождает презрение к миру и истории, характерное для гностицизма и постистории. Изменение мира — занятие бесцельное. Утопии пусты, их обещания до тривиальности прозрачны. Существуют только два способа освободиться от груза и тяжести этого мира и времени — это отказ (освобождение) Я, самости от тела и приключение, авантюра вылазки в лес. Мануэль Венатор, «охотник духа», любитель калидонской охоты соединяет в своей личности и то и другое. Он ищет приключений (выезд в лес на охоту), и его Я стремится освободиться от телесной оболочки. Собираясь в лес, Мануэль Венатор хочет освободиться от собственного тела: «В эти дни, готовясь к лесной жизни, я много работал перед зеркалом. И я достиг того, о чем я всегда мечтал, — совершенного освобождения от физического существования. Я видел себя в зеркале — человека, поднявшегося над чувствами; видел себя — полную противоположность, его мимолетное отражение. Между нами, как всегда, горела свеча; я все ниже наклонялся над ней, пока пламя не обожгло лоб. Я видел огонь, но не чувствовал боли» (Eumeswil, S. 377).
Гностик Мануэль Венатор готовится к своему лесному путешествию, преодолевая телесность, самость, Я. Совершается rite de passage*. Лес и есть для него этот путь, дорога, переход (см.: Eumeswil, S. 375). Однако и в этой ситуации гностик остается денди. Для тирана и его придворных поездка в лес на охоту и есть цель; для наблюдателя и созерцателя — это всего лишь путь. Что означает выезд двора на охоту? Ответ: постистории надоели правители и тираны. Она манит власть метафорой леса, а в самом лесу — приключением, авантюрой. Лес — это одно
1 обряд перехода (фр.).
166
временно пространство и метафора анархической авантюры, непредвиденного. Высший круг, ядро власти, двор тирана покидает Эймсвил — покидает общество и город позднего модерна, чтобы окунуться в приключения и авантюры на лесных дорогах.
Эпилог «Эймсвила» повествует о том, чем закончилась романтическая поездка. Вот что сообщает о своем анархиствующем брате, так стремившемся к общению с сильными мира сего, либерал: «Мой брат Мартин Венатор, много лет назад пропавший вместе с тираном и всей его свитой, теперь официально объявлен мертвым. Прав был мой отец, всячески отговаривая его от этой затеи. Уже тогда все сразу поняли, что эта поездка — единственный выход для проигравшего свою игру властелина» (Eumeswil, S. 378). Мануэль Венатор, анархиствующий гностик, смог освободиться от телесности и самости, от собственного Я. Мануэль Венатор уходит в лес, встает на путь приключений и авантюры, он исчезает в лесу. Лес — это метафора пути к свободе для хтонического гносиса Юнгера. «Причина гибели каждого человека — он сам, во всяком случае, каждый погибает на свой манер» (Eumeswil, S. 253). Анархиствующий гностик Земли выбрал свою дорогу — он потерялся в лесу.
«Эймсвил» — это роман о постистории и позднем модерне. Написанный Юнгером в последние годы жизни, своей иронией и элементами пародии он напоминает «Признания авантюриста Феликса Круля» Томаса Манна. И тут, и там герои — кельнеры, один обслуживает сильных мира сего, другой — индивидуалист и мошенник — обманывает этот мир из чувства превосходства, удаленности от действительности. Но события последнего романа Манна разыгрываются во времена гибели буржуазного мира, а постисторический роман Юнгера обращен в будущее — постбуржуазное и постисторическое время. И в том, и в другом произведениях кельнер или ночной бармен воплощают тип денди и гностика. Как гностик служит кельнер власти этого мира, но, обслуживая сильных мира сего, он не
167
теряет сознания своего превосходства над ними. Пусть он кельнер, ночной слуга, но его манеры лучше, культура еды выше, чем у клиентов. Превосходство возникает вопреки и благодаря его функциональной роли в мире служить, быть слугой. Анархиствующий гностик Мануэль Венатор, мошенник и авантюрист Феликс Круль — оба достигли превосходства над миром. Хотя оба не ушли от власти, господства этого мира над ними самими.
Часть Е
ПРЕОДОЛЕНИЕ МОДЕРНА: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИИ
Хотя «Эймсвил», законченный в 1977 году, стал последним большим романом Юнгера, свою повесть «Рогатка» (1973) автор поместил в собрании сочинений в последнем томе после «Эймсвила». Можно предположить, что так обозначена ее тематическая принадлежность. Действительно, в юнгеровской генеалогии модерна «Рогатку» следует воспринимать как еще один путь, выводящий за границы модерна. После постистории с ее тотальным плюрализмом Юнгер возвращается к традиции, к близкому — нижнесаксонскому укладу и окружению. «Рогатка» — рассказ о традиционализме, он трансцендирует модерн и его закон прогресса. Традиционализм «Рогатки», преодолевая модерн, выходит за пределы постистории «Эймсвила». Возвращение к традиции Юнгер расцвечивает в «Рогатке» изображением гимназии и интерната. Педагогическая провинция — школа превращается в модель мира. Одним из великих космических порядков, считает Юнгер, является педагогический.
168
Глава 8. Слабый пастырь: традиция Реформации и все дальше от разговоров на тему модернизации
Три героя рассказа — Тео, пасторский сын, Кламор (его отец работает подручным на мельнице), Буц, сын богатого крестьянина, — олицетворяют три типа жизни и мысли — игрок и софист, творец-мечтатель, активист-практик. Ученики воплощают вневременные, неисторические образы человеческого бытия. В «Рогатке» изображается мир, который освободился от исторической обусловленности модерна, вышел за его границы иначе, чем постистория. Освобождение постисторией предполагает реализацию любых возможностей, заложенных в историческом существовании; традиция правильной, подлинной жизни открывает другой путь из модерна. Юнгер развивает тему конфронтации с традицией в пейзажах своей родины — Нижней Саксонии, образах лютеранского пастора, его брата, профессора и директора школьного пансиона, мельника и его работника. «Рогатка» — образ превосходства наследия, реформаторской традиции по сравнению с модерном. Пастор борется с собственными слабостями, религиозными сомнениями, неверной женой Сибиллой, викарием Зиммерлином и собственным сыном Тео. Через пейзажи Нижней Саксонии, колорит местной школы Юнгеру удалось создать настроение и атмосферу, существующие по ту сторону модерна, по ту сторону мифа.
Модерн едва обозначен в этом мире. Уровень грунтовых вод снижается, потому что прядильни забирают всю воду себе, отводя русло. Профессор, однако, не желает подключаться к водопроводу и канализации, потому что питает отвращение к любым водо-, газо- и трубопроводам.
«Дом даже с его крепкими стенами станет открытым, незащищенным, неуютным. Он будет подключен к чему-то, пусть даже к водопроводу.
169
— Нои насосы куда-нибудь подключены, — возражает супруга профессора.
— Да, но они подключены к ручьям и водам, которые текут из нашего сада, а это настоящая вода. Разве ты не знаешь, что для городского дома это великое дело, почти чудо? Я не хочу водопровода. Кто знает, к чему это все может привести». Однако больше нельзя себя обманывать, воды действительно становится с каждым днем все меньше: «К прялкам уже не вернуться, это невозможно. Система каналов и трубопроводов все связала воедино. Они делают жизнь и дешевле, и дороже. Парадокс, воды стало меньше, а ее полно.
Профессор — человек вертикальной организации. Его суждения отличает не столько логика, сколько определенность:
— Малли, а ведь есть мужчины, которые каждые десять лет женятся снова. Это гораздо больше говорит об их чистоплотности, чем кажется на первый взгляд.
Такие словечки помогают профессору уйти от разговоров о модернизации» (Die Zwille, S. 95).
Дебаты о модернизации заканчиваются тем, что вертикальное устройство мира признано значительно более значимым и важным для жизнеобеспечения, чем горизонтальная оросительная система модерна. Профессор и его брат олицетворяют реформаторский консерватизм и традиционализм, для которого модерн — нечто внешнее и чуждое. «Еще одним местным реликтом был формованный хлеб, который хозяйка дома усердно пекла каждую пятницу. Пекарь и мясник-палач заодно — к этому пока еще трудно привыкнуть. Плюс ко всему инстинктивное недоверие консерватора — он противник всего, что произведено механическим путем, всего, что продается.
Но в один прекрасный день профессор, читая свою газету, воскликнул: «Черт возьми, теперь есть уже и хлебозаводы!» (Die Zwille, S. 143).
Позиция профессора — позиция «либерального консерватора... он противник всех новшеств комфорта, признает их полезными, но не принимает никакого участия в создании этих новшеств, не пользуется ими» (Die Zwille, S. 192).
170
Глава 9. Обманщик в роли богослова: дух и обман слова
Брата профессора — священника отличает редкая способность к разрушению, которое есть одновременно созидание и осуществление. Он не в состоянии предотвратить крах своего брака (у его жены роман с викарием), но тем не менее пользуется уважением среди крестьян своего прихода, ему доверяют. Когда-то, много лет тому назад пастору случалось переживать чувство пробуждения от сна, но пламя быстро гасло. Сейчас он озабочен судьбой Кламора, сына батрака, которому мельник (у него работает отец мальчика) завещал некую сумму и определил в гимназию. Размышляя об этой трансплантации юной души в чужую почву и чуждую среду, пастор задается вопросом: «Наверное, с самого начала это и могло бы стать благом; но разве правильно именно так менять его жизнь, пересаживать это молодое растение именно таким способом? Я не могу объяснить всего этого мельнику. И дело вовсе не в том, что я разделяю взгляды моего патрона, господина фон Людена, который как-то заметил: «Вполне достаточно, если люди знают катехизис и имя своего короля». Феодальная самонадеянность — это не по-христиански. Но нужно двигаться вверх со ступеньки на ступеньку, нельзя сразу попасть в академию. Было бы лучше, если бы мельник помог отцу мальчика, сделал бы его управляющим или еще кем-нибудь в этом роде, а не взваливал всю эту тяжесть на мальчишечьи плечи» (Die Zwille, S. 58).
Пастору хотелось бы, чтобы его сыном был Кламор. Родной сын Тео, которого родила ему неверная жена, представляется ему «хищником, разрывающим сердце» (Die Zwille, S. 84). Сын презирает отца за слабость, отец с тревогой распознает в Тео — родном сыне и ученике — софиста и обманщика. Тео — игрок, он играет с разумом, с интеллектом, играет с любой теорией, даже богословской; использует с пользой для себя любую идею. А его отец не силен в слове. «Пастор хорошо понимал, что в проповеди ценится не дух, а значение, вес слова. Иначе пришлось бы довольствовать
171
ся философами» (Die Zwille, S. 85). Сравнивая себя с софистом-сыном, священник чувствует свою слабость: «Я плохо говорю, я не оправдываю ничьих ожиданий — ни своих, ни чужих. Так сложилось у меня с Сибиллой... и с Тео — он распознал меня. Я плохо говорю, потому что серьезно отношусь к слову. Зиммерлин давно забыл о всех сомнениях и угрызениях совести. Он не боится слова, не принимает его всерьез. Поэтому может легко играть с ним, доставать святой дух, как фокусник из цилиндра. Его не заботит скрытое в слове. Таковы те, кто призваны сегодня» (Die Zwille, S. 86).
Тео, игрок словами, может разговорить самую опасную ситуацию, «выговориться» из нее. По ходу повествования от начала и до конца повести Тео остается верен своему желанию — стать богословом. «Скоро он выдержит экзамен, наверное, на отлично. Почему сын до сих пор не теряет интереса к теологии, оставалось для пастора загадкой; и эта мысль совсем не радовала его» (Die Zwille, S. 268). Тип игрока разыгрывает партию; он играет роль богослова и играет с богословием. В отличие от пастора Тео лишен страсти к слову, он не страдает от собственного несовершенства. Пастор узнает в сыне типичного человека модерна — обманщика, который использует муки совести в качестве средства для фальсификации. Не случайно благоприятное «мнение директора о Тео стало еще лучше, когда он узнал об угрызениях совести, о которых юноша время от времени ему рассказывал. К old man1, дряхлому богослову, все еще исполнявшему свои церковные обязанности, Тео нашел подход тем же способом — он просто слегка упростил фабулу» (Die Zwille, S. 80).
Глава 10. Творец-мечтатель: объединяющая сила красоты
Действительный герой повествования — мечтатель Кламор, в противоположность Тео слишком глубоко чувствующий, робкий сверх меры. Кламор еще не дорос до уровня гимназии и в
1 старик (англ.).
172
конце концов вынужден ее покинуть. Единственный учитель, которому он доверяет, преподает рисование. Мальчик хорошо успевает по этому предмету, и в конце рассказа учитель рисования забирает подростка к себе — он станет его сыном, учеником и художником. Кламор не умеет мыслить понятиями, его духовный мир — это краски и полотна красок.
Спасаясь от стальных бурь и гроз модерна, в конце своего творческого пути, Эрнст Юнгер завершает свой эпос модерна возвышением творца-мечтателя. Картины тотальной мобилизации техники, прославление рабочего, гимн титану-человеку заканчиваются эскизом существующей вне времени, педагогической провинции, наброском картины спасения мальчика, сына батрака на мельнице: его освободили от школы, вытащили из старой механической развалюхи, ставшей угрозой для его жизни1.
«С уведомлением в руках учитель рисования поспешил в спальню — огласить оправдательный приговор, даровать отпущение грехов. Бывает, что момент счастья внезапно обрушивается на нас. Он подавляет мысли, как абсолютный свет разгоняет тени; расположение звезд должно быть благоприятным. Учитель не знал, что будет дальше, что должно случиться. У него не было никаких планов. Но все будет хорошо. Будет счастье, даже если не будет мимолетной славы... Все, чего он не достиг и не смог достичь, осуществится в сыне — сыне, которого он сам выбрал. Он причастен, потому что красота принадлежит всем. В прекрасном нет ничего от собственности. Оно неделимо, в нем мы находим себя. Мы находим и забываем себя в другом, мы больше не одиноки» (Die Zwille, S. 269).
1 Этот тезис можно сравнить с фрагментом рецензии Клауса Подака «Из темноты: игра мысли со своими элементами»: «Что дает попытка научить, преподать урок, по возможности свободный от дидактики? В любом случае такая попытка отвергает все предустановленные суждения и мнения. В игру этого повествования можно сыграть всем вместе, даже не ощущая, не воспринимая самой игры. И только в рефлексии, только размышляя, можно проследить и развить мотивы книги, отрицающие тотальное историческое опосредование возможностей человека» (Podak К. Denkspiel mit Elementen aus dem Dunkel H Stuttgarter Zeitung, Nr. 88,14. April 1973. S. 52).
Книга III
Магия, мифология и философская система модерна
При взгляде на поэтическую генеалогию образа героя и философско-метафизические поиски причин сил модерна, развернутые философским эпосом Юнгера и его поэтической философией, высвечиваются три определяющие момента модерна: это магический гностицизм, мифология и система порядка. Эти три момента нерасторжимо связаны друг с другом. В книге «Рабочий» Юнгер описывает нигилистическую волю мавританца, стремящегося путем тотальной мобилизации подчинить весь мир чистой системе, построенной на голом порядке; текст этой книги, не обладая строгой структурой философской системы, все же свидетельствует о воле автора к систематическому переустройству всей действительности. Мифология модерна наиболее последовательно развита в учении об эонах («У стены времени»), где философский тип Рабочего масштабно преобразуется, превращаясь в мифический тип Титана. Магия модерна и его потаенный, скрытый гностицизм просматриваются во всех произведениях Юнгера, однако предметом специального рассмотрения они становятся в «Сердце, ожидающем приключения» (первое издание 1929), чтобы стать центром истолкования позднего модерна в «Эймсвиле», работе, посвященной постисторической фазе модерна.
Магия, мифология и система — вовсе не самостоятельные линии развития модерна; они взаимопринадлежащи. Миф колдует о магическом присутствии божественного в мире, магия исходит из глубинно-мифической божественной структуры мира. Миф, развернутый в мифологию, становится системой, мифо
174
логической системой череды эонов и богов; его завершение — исчерпывающая мифологическая генеалогия. Философская система, если она, подобно философии истории в немецком идеализме и собственно гегельянству, все еще включает в себя историю действительности в целом, а потому выступает и всеобщей теорией действительности, родственна мифологии в своей систематической универсальности и повествовательности. Философские системы Гегеля или Маркса сами являются мифологиями действительности: они пытаются с помощью системы и то-тализации некой одной идеи, идеалистической или материалистической диалектики, овладеть целокупным бытием и результатами его исторического становления.
Философские системы модерна не только мифологичны, но и проникнуты магией; они допускают возможность средствами магии одной-единственной человеческой мысли подчинить весь мир власти господствующей над ними философской идеи. Вслед за Витгенштейном и «Алисой в Стране чудес» Льюиса Кэрролла можно определить эту магию как попытку борьбы с сыростью с помощью лекции — потому что ничего нет суше лекции1. Следовательно, для автономной системы модерна, как она выстраивается на базе одного философского принципа, не желая быть обязанной своему возникновению общественному процессу — достижению истины в традиции, справедливо, что эта система матична: конструируя некую философскую идею, она предписывает свои законы действительности и истории, а в случае Маркса пробует создать и новую всеобщую действительность. В этом смысле «Рабочий» Юнгера — книга метафизически-систематическая, магическая и мифологическая; она описывает Рабочего в качестве типа и мифологического героя, как они воплощены в универсальных полномочиях человека, воспевает технику как его инструментарий и оружие, магически заклинает его систему жизни — тотальную мобилизацию — и пытается воплотить ее в жизнь.
1 Wittgenstein L. Bemerkungen tiber Frazer’s «The Golden Bough» // Synthese, 17(1967), S. 239.
175
1. Магия и метафизика абсолютных полномочий человека
Мартин Хайдеггер указал на взаимосвязь между мобилизацией и метафизической системой модерна в своей статье для юбилейного сборника в честь Эрнста Юнгера в 1955 году. Статья называлась «О «Линии»1; она была ответом на юнге-ровскую статью из сборника в честь Хайдеггера (1950). Хайдеггер в своей статье не приводит различия между метафизикой модерна и предшествующими ему типами метафизики, но характеризует всю западноевропейскую метафизику в целом как самоуполномочивание человека путем насилия. О «Рабочем» Юнгера Хайдеггер пишет: «Переходя к Вашему сочинению «О боли», уместно прояснить внутреннюю взаимосвязь между «трудом» и «болью». Эта взаимосвязь указывает на метафизические отношения, видные Вам с метафизической точки зрения Вашей книги «Рабочий». Чтобы яснее обрисовать отношения, несущие взаимосвязь «труда» и «боли», нужно по крайней мере продумать основание метафизики Гегеля, глубинное единство «Феноменологии духа» и «Науки логики». Основание это — «абсолютная негативность» как «бесконечная сила» действительности, то есть «существующего понятия». В той же самой (а не похожей) принадлежности к отрицанию отрицания труд и боль открывают свое внутреннее метафизическое родство. ...Гегелевское понятие «понятия» и его правильно понятое «напряжение» на измененной почве абсолютной метафизики субъективности говорят об одном и том же»1 2.
Мышление в терминах тотальной мобилизации и магической негативности мысли — это систематическая филосо
1 Напечатана под заголовком «К вопросу о бытии». См.: Heidegger М. Wegmarken // Gesamtausgabe, I Abt. Bd. 9. Frankfurt a. M. (V. Klostermann), 1976. S. 385—426.
2 Heidegger M. Wegmarken // Gesamtausgabe, I Abt. Bd. 9. S. 404.
176
фия модерна, а не метафизика вообще1, как полагает Хайдеггер. Начиная с Гегеля — то есть задолго до исторического прихода к власти Рабочего в XX веке — это была философия рабочего и тотального характера труда. Созданный Юнгером мифологически-поэтический тип Рабочего повествует о носителе абсолютной системы субъективности. Хайдеггер яснее, чем Юнгер, видит, что нигилизм «Рабочего модерна» не так легко преодолеть, как это, казалось бы, удалось сделать автору «О линии» и «У стены времени». Споря с Юнгером, Хайдеггер настаивает, что уже сам язык метафизики (добавим: модернистской) противится преодолению нигилизма; этот язык пытается уничтожить бытие как бытие средствами абсолютной силы — силы мысли, мысли об автономной субъективности человека. «Должен ли язык метафизики воли к власти, образа и ценностей выстраиваться по масштабам линейки критика? Как сделать это, если даже язык метафизики и сама метафизика, будь то метафизика живого или мертвого Бога1 2, в качестве метафизики задала рамки, которые запрещают выходить за запретную линию — преодоление нигилизма. ...Но вопрос о сущности бытия умирает, если он не откажется от языка метафизики, потому что метафизи
1В «Ножницах» (Die Schere, S. 80f.) Юнгер принимает ницшеанскую критику метафизики, чтобы защитить «другую» метафизику. «При этом следует иметь в виду, что «метафизика» со времен Ницше приобрела дурную славу... .Пожалуй, сейчас следовало бы предпочесть «ультрафизику»: представление действительного с обеих сторон — что-то вроде спектра на пластинке видимого мира. Но хотя это возможно, беспокойство остается». Своим предложением о переименовании метафизики в ультрафизику Юнгер уходит от упреков Ницше в потусторонности метафизики, но подпадает под хайдеггеровскую критику метафизики как насильственного овладения бытием; ведь к выражению «ультрафизика» хайдеггеровский упрек, обращенный к метафизике, относится еще в большей степени, чем к метафизике, выходящей за пределы сущего в онтотеологической традиции.
2 Различение метафизики «мертвого Бога» и «живого Бога» еще ждет своего осмысления внутри самой метафизики.
7 Петер Козловски 177
ческое представление запрещает мыслить вопрос о сущности бытия»'.
Хайдеггер ставит вопрос более радикально, нежели Юнгер: что именно привело нигилизм модерна и его мобилизацию к чистой системе порядка? Юнгер в своей новой мифологии считает линию нигилизма уже пройденной. Если стена времени, стена исторических эпох будет разрушена титаном (разрушена и в самом образе титана), то, по Юнгеру, нигилизм системы порядка уже преодолен. Для Юнгера речь идет о том, «что делает человек из своего нигилизма» (An der Zeitmauer, S. 617); он не задумывается, преодолимо ли в действительности ничто — обесценивание бытия. Поэт Юнгер полагает, что, когда человек переходит линию, бытие поворачивается к нему, тогда как философ Хайдеггер справедливо замечает: ничего не может случиться, даже если человек перешагнет через линии.
Хайдеггер обращается к Юнгеру с вопросом: «Вы пишете: «Мгновение, когда линия пройдена, дает новое применение бытия; начинает брезжить и мерцать то, что есть действительное». Это предложение легко читается, но трудно мыслится. Прежде всего я хочу спросить: а не наоборот, новое применение бытия обозначает момент, когда переходишь линию? Кажется, что вопрос переворачивает Ваше утверждение. Но простое переворачивание — это всегда двусмысленное деяние»1 2.
По Хайдеггеру, нигилизм может быть преодолен, если осуществится забвение метафизики и систематической философии, если уйдет воля мысли к власти и потаенное, скрытое бытие покажет себя3. Не человек должен выйти за границу или преодолеть ее, но бытие должно проявиться из своей самости, должно вернуться. В тотальной мобилизации модерна и в его гражданских войнах Хайдеггер видит лишь пролог к еще более грандиозной битве за бытие, пролог к истинной гигантомахии: «Ниц
1 Heidegger М. Wegmarken // Gesamtausgabe, I Abt. Bd. 9. S. 405.
2 Ibid. S. 406.
3Ibid. S.416ff.
178
ше — а в его свете и тени мыслит «за него» или «против него» любой наш современник, мыслит и сочиняет — услышал призыв готовить человека к господству на земле. Это не война, но лоЛфод1, которая наконец позволяет богам и людям, свободным и рабам предстать в их сущности и обусловливает противо-по-лагание бытия. В сравнении с ней мировые войны не затрагивают сути, они поверхностны. Они мало чего могут достичь, как бы себя технически ни оснащали»1 2.
Ответ Хайдеггера Юнгеру позволяет увидеть и то, как тесно связаны друг с другом систематическая философия модерна и мифология. Философская воля к насильственному овладению действительностью в целом средствами системы стремится включить в себя, кроме того, и историчность бытия, и историю в целом; поэтому она облекается в мифологию. Философия истории модерна есть изображение мифической борьбы титанов и гигантов посредством понятия. Всякую борьбу против беспорядка, отсутствия формы (миф описывает ее как борьбу богов против титанов и гигантов) эта философия переводит на уровень понятия. «Понятие», как его мыслит абсолютная субъективность человека, разворачивается, подчиняя себе все то, что не есть понятие, — природу. Мифологическая борьба за сохранение стройности и порядка против сил беспорядка и хаоса в философской системе оборачивается понятийным усилием придать бесформенности и тщетности исторического события некую цель, ввести его в некое смысловое целое.
Лутц Нитхаммер, придерживаясь несколько иной философской позиции, нежели представленная здесь, приходит к аналогичной трактовке (хотя и к другой оценке) того значения, которое придает философия истории модерна «осевому времени»
1 вражда (греч.).
2 Heidegger М. Wegmarken И Gesamtausgabe, I Abt. Bd. 9. S. 424f. Такое написание здесь слова «бытие» [в оригинале немецкое слово «Sein» («бытие») перечеркнуто двумя скрещивающимися линейками] у Хайдеггера обозначает его неметафизический, ненасилующий способ мыслить бытие.
7*
179
немецкого идеализма по отношению к модерну: «Натиск научных притязаний в религии — в истории спасения сделал духовные устремления осевой эпохи поистине грандиозными, ибо они должны были равняться на объемлющий и глубоко осмысленный характер мифа. Это был героический век интеллектуальности, чьи масштабы еще не устали оплакивать потомки, современные мещане в образовании и поденщики в культуре».
Нитхаммер отмечает также опьянение духа властью как результат систематической философии: «Дух дышал властью. В период завоеваний просветителей — «буржуазии образования» в областях, отвоеванных у истории спасения, размечались «claims»1, а именно — эти области пытались генетически структурировать и наполнить смыслом, который бы связывал воедино устремления единичного существа и развитие мира в целом путем систематически выстраиваемого здания мысли, охватывающего весь мир. На практике осуществились теоретические проекты, историю влияния которых невозможно отделить от развития буржуазного общества в XIX и XX веках. Все позднейшие теоретики стояли на плечах таких гигантов, как Кант, Гегель и Маркс, чьи прометеевские подвиги и несут ответственность за грандиозный вызов: заменить миф разумом. И тем не менее всемирно-исторический заменитель мифа был отлит по формам мифа»1 2.
Рисунок Ансельма Кифера под названием «Немецкая линия спасения» («Deutsche Heilslinie», 19753) наглядно проясняет мифический характер немецкой философии после Гегеля. Кифер
1 требования, претензии (англ.).
2 Niethammer L. Posthistoire. S. 155. — Интересно рассмотреть вопрос: является ли социологический смысл понятия «буржуазия образования» достаточно широким, чтобы включить в себя и «классового врага» буржуазии?
3 Воспроизводится в изд.: Rosenthal М. Anselm Kiefer. Chicago (The Art Institute of Chicago), Philadelphia (Philadelphia Museum of Art), 1987. P. 13.
180
изображает немецкую мифофилософию после Гегеля как попытку некоего немецкого пути к спасению. Над акварельным пейзажем, в котором угадывается берег Рейна близ Бонна, изогнулась радуга. В реке под водой угадываются темные имена Ф. Ницше, К. Г. Юнга, М. Хайдеггера. Над ними встает обращенная вверх дуга радуги, вдоль которой сияет надпись: Гегель, Фейербах, Маркс.
немецкая линия спасения
Шопенгауэр Вагнер К. Г. Юнг Хайдеггер
Ницше
181
Система философии истории модерна (прежде всего марксова теория истории как развития производительных сил, а также гегелевская трактовка истории как саморазвертывания мирового духа) претендует на ясное видение хода истории и одновременно — на овладение им. Философско-исторические теории закона развития и движения истории столь же мифологичны, как и генеалогии мифа, трактующие историю как череду типов богов и божественных семейств. Гиганто-махия гегелевского понятия и его инобытия, природы, и есть битва героев. Своеобразие этого «рассказа мастера» (Ж. Ф. Лиотар), этого великого мифа состоит в том, что его герой и рассказчик отчасти тождественны; и оба, повествователь — рассказчик и пересказчик, с одной стороны, и герой, мировой дух, — с другой, самим повествованием о битве, мышлением системы и движением ее понятий переживают собственную гигантомахию.
2. Пространства разума в философии и непредвиденное
Юнгер как автор, который является в одном лице и доктринальным мифологом, и поэтическим философом, и философским поэтом, осознавал и признавал свою связь с философией истории и мифологией модерна. В отличие от модернистской систематической философии немецкого идеализма, которая или фиксировала глубокую пропасть между мифом и собственной системой исторического разума (как Гегель), или видела в философии продолжательницу мифа, превзошедшую собственно миф (как Шеллинг), Юнгер улавливает, что модерн и его философия, впервые сформулированная в немецком идеализме, сама опирается на миф. Философия и поэзия, философия истории и мифология — это способы овладения миром; они открыты друг для друга, пронизывают, дополняют друг друга и никогда окончательно не отрываются друг от
182
друга. Философию и поэзию нельзя разделить, потому что философия поэтична по своей сути, она способна сочинить, выдумать новую действительность; а так как поэзия, если она хочет постигнуть, уловить действительность, не может быть всего лишь фикцией, она необходимо содержит в себе мудрость и знание. Глубинная основа для единения философии и поэзии лежит в том, что сама действительность духа и природы в целом поэтична; она обнаруживает свою сюрреалистическую или супернатуралистическую глубинную духовную структуру, оттуда поэзия и философия черпают свои идеи, туда они привносят свои поэтические новотворения.
Открытость поэзии для философии и наоборот Юнгер прослеживает у таких мыслителей, как Якоб Бёме, Ангелус Силезиус и Сведенборг. Их труды для него — «попытки усилить философемы, возвещая их поэтическими средствами со всей их убедительностью» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 76). Поэзия и философия нацелены на одно и то же, на магические идеи в мире и на образ, создающий новую действительность: «Философема: пространства разума». Дневниковая запись Геббеля показывает, что делает любое изучение плодотворным. Это стремление через мыслимое достигнуть такой сферы, которая заставила мозг мыслить, иными словами, стремление увидеть мысли прозрачными» (Das abenteuerliche Herz 1, S. 75).
Поэт-философ, Юнгер еще и доктринальный мифолог и поэт-мифотворец. Подобно магу мира и пророку насущно данной полноты мира, он знает о границах доктринального. Как маг, Юнгер указывает мифологам и систематическим мыслителям на границы; «поэту-пророку» (poeta vates), провидцу, заглядывающему в будущее, равно как и нигилистическому мобилизатору и технократу, мавританцу, Юнгер как поэт и реализатор «преизбытка» мира показывает границы их приемов видения мира. Сердце, ожидающее приключения, как показывает Юнгер в одноименной книге, взрывает и мифологию, и систему порядка одновременно и сразу. Поэтому
183
Юнгер и не мог быть мифологом, идеологом или поэтом ни фашизма, ни национал-социализма, ни ленинизма или любой другой идеологии. Сердце, настроенное на приключения, взрывает рациональный порядок, идеологию и миф — магией, приключением, непредвиденностью.
Философский эпос Юнгера показывает, что философия должна быть поэтической в том смысле, что она принимает новое, прорывающееся из творческих глубин мира; поэзия же должна быть философской — в своем представлении воображаемого она не чужда понятию и теории. Философская поэзия или поэтическая философия, отвечающая этому идеалу, изображает происходящее, новое, теорию мировых эпох как в форме поэтического созерцания и воображения, так и в форме опосредования с помощью философского понятия. При этом она не только философия истории или доктринальная философия искусства, как, впрочем, и не только эстетика или эстетическая теория; создается синтез метафизики и эстетической поэзии. Поэтические философии и философские поэзии неизбежно современны для любого времени, но они не суть теории модерна как некой мнимо единственной, окончательной и непревзойденной эпохи или идеи. Состояние современности, новизны, приверженности новому, современному, насущному следует отличать от идеологии современности — модерна.
Философская поэзия и поэтическая философия не может принять форм системы и дедукции из единого принципа, потому что новое, непредвиденное взрывает саму систему. То, что удерживает систему философии, — это всеобщее, понятие, всегда уже пребывающее в мире. Однако то, что зримо представляет нам поэзия в романе или рассказе, — это не всеобщее, не отображение, а новое творение воображения. Гегель увидел в этой проблеме единичного, противостоящего как всеобщему, так и особенному, своеобразие исторического и пытался обосновать повествовательную философию, а именно философию истории. Но его решение загадки исто
184
рического было слишком «хорошо», слишком из области ги-гантомахии. Если философия Гегеля рассказывает эпос о мировой истории и превращении тождества ничто и бытия в определенное единичное бытие, то это рассказ о том титаническом процессе, который не по силам ни Абсолюту-Богу, ни отдельному существу — человеку в истории и в поэзии. В своем тотальном эпосе об истории целокупной действительности в целом гегелевская система, его «Энциклопедия философских наук», уничтожает как философию, так и поэзию.
Эту слепоту систематической философии, неспособность гегелевской традиции, «Берлинской метафизики» к усмотрению единичного и непредвиденного Юнгер прекрасно раскрывает в своем каприччо «В квартале слепых». Рассказчик, поэт, попадает на завтрак к слепому, угощающему философов: «Хозяин держал его за своего рода философскую подсадную утку, чтобы привлечь гостей к своему столу. Ему можно было задать тему, на которую он по причине слепоты импровизировал неожиданно и парадоксально. Созерцание у него отсутствовало, и его рассуждения давали в то же время гостям приятное чувство превосходства, которое они стремились усилить, принуждая его говорить о теории цвета и тому подобных предметах, — тут я вспомнил, что уже слышал об этом заведении, это любимый уголок берлинских метафизиков. Судьба молодого человека в этом трактире опечалила меня. ...Чтобы развеселить его, я выдумывал тему, устроенную так, чтобы и он как слепой мог превзойти меня, и я его как зрячий — я не хотел расстраивать его ни поражением, ни дешевой победой. И так мы во время завтрака вели отличный разговор: о непредвиденном» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 14; Bd. 9, S. 185).
Непредвиденное взрывает доктринальность как мифологии, так и метафизики. Оно позволяет проявиться полноте мира. «Когда мир выходит из пазов, возникают контуры, в которых мы угадываем тайны архитектуры, обычно скрытые от нас» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 116; Bd. 9, S. 225). Чтобы проникнуть в тайны мира, нужна способность к-магии, ис
185
кусство петли, которому учил Нигромонтан. «Под «петлей» он понимал более высокое искусство избавляться от эмпирических отношений. Так, он рассматривал мир как зал с множеством дверей для общего пользования и другими дверьми, видимыми лишь немногими. Как в замках при прибытии князей обычно отворяют особые, обычно накрепко закрытые порталы, так и перед духовной силой высшего человека открываются невидимые двери. Они подобны пазам в грубой постройке мира, пройти которые способна лишь тончайшая из способностей, и все, кто когда-либо проникал сквозь них, узнают друг друга по знаку тайного искусства» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 36; Bd. 9, S. 200).
Магический гносис скрытой глубинной структуры мира, познание полноты, скрытой поверхностью пустоты, взрывает и мифологически-рациональную систему мифа, и рационально-нигилистическую систему порядка технического мира. Смерть единичного обретает свое утешение в прогрессе человечества. Смерть ставит под вопрос философско-мистическую систему прогресса и нигилистическую систему порядка: «Я часто слышал, как он (Нигромонтан) объяснял, что у всех одна дорога, описать которую способен и последний из нас; дверь смерти, как самая важная из невидимых дверей, днем и ночью открыта для всех без различия. Он называл смерть чудеснейшим путешествием, какое только доступно человеку, истинным трюком, шапкой-невидимкой всех шапок-невидимок, самой иронической из реплик в вечном споре, последней и неприступной крепостью всех свободных и смелых» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 38; Bd. 9, S. 201). И другой фрагмент о теме мистики смерти: «Он (умирающий) постигает новый способ любить свою жизнь — без побуждения сохранить ее; его мысли обретают суверенитет, избавляясь от страха, который замутняет и отягощает все понятия, все суждения» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 155; Bd. 9, S. 281).
Эрнст Юнгер не останавливается на гносисе и магии Ниг-ромонтана, он обращается к тотальной мобилизации: «К со
186
жалению, верно, что я слишком быстро забывал свои учения. Вместо того чтобы продолжить мои занятия, я пошел к мавританцам, этим подсобным политехникам власти» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 38; Bd. 9, S. 201). To, что представляется магу и гностику низшим, мыслитель, следующий логике воли к власти, не может полностью осудить1: «Мы не можем осудить мавританцев, потому что правое и неправое сейчас совсем смешались; устои пошатнулись, и время было готово к самому страшному. Человеческий порядок подобен космосу, чтобы обновиться, он временами должен тонуть в огне» (Auf den Marmorklippen, S. 62; Bd. 15, S. 287).
Применительно к Юнгеру, мифологу, метафизику тотальной мобилизации и магу, справедливо суждение: «У хорошего автора, как у хорошего крестьянина, всегда что-то есть про запас; он никогда не раскрывает всего себя полностью, никогда не отдается времени и его власти, не принимает каждый успех за истину и каждую похвалу за правду» (Autor und Autorschaft, S. 16). Юнгер в «Рабочем» так же страстно следовал логике «воля к власти», как вскоре после этого, во втором издании «Сердца», осудил ее: «Проза воли к власти — неубранное поле битвы мышления, реликт одинокой, страшной ответственности, мастерские, полные ключей, брошенных тем, у кого уже нет времени открыть» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 20; Bd. 9, S. 189). Магический поэт и гностик угадывает скрытый поверхностью мира и по ту сторону перспективы овладевающего миром знания мир как таковой в его полноте: «Ему (искусству высшей жизни, чья цель — непре
1 Поэтому определение Шварца {Schwarz Н. Р Der konservative Anarchist. S. 179), согласно которому мавританцы воплощают «дух модерна», а отвращение и даже ненависть Юнгера к типу мавританцев демонстрирует его ненависть к модерну, бегство от него, несправедливо. Технический нигилизм — это только одна сторона модерна, и, отворачиваясь от нее, Юнгер не выпадает из модерна как такового.
187
ходящее) соответствовал высокий образ мира’, образ, вписанный в обычную нашу картину мира, как образ знамени — настолько близкий, что он уже не воспринимается. Первыми знаками, предвещавшими его счастливое приближение, были удивление и затем — радость» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 138).
Величие Эрнста Юнгера как поэта, философа и мифолога и его опасность кроются в способности синтезировать три взгляда на мир, три формы «открытия» бытия, три ключа: поэзию, философию и мифологию. Философ дополняет поэта, мифолог и теолог — и поэта, и философа. Юнгер сделал для себя программным лозунг «Союз мыслителя не только с теологом, но и с поэтом» (Der Waldgang, S. 138f.; Bd. 7, S. 371). Этого союза Юнгер достиг в собственных книгах, в своем мифе о модерне. Однако поэзия, метафизика и мифология не могут соединяться в целостное художественное произведение без всяких издержек и разломов. Магия поэта, метафизика и просвещение рабочего и мифология титана не могут наложиться друг на друга в границах одной теории, и поэтому оценки, к которым приходит Юнгер, часто неустойчивы, как у его героя — ротмистра Рихарда.
Вместе с тем эти противоречия между поэтическими, философскими и мифологическими оценками мешают Юнгеру стать добычей одной из указанных отмычек и тем самым жертвой одного из своих дарований. Тонкие контуры действительности и зыбкие границы между формами представления действительности в повествовании, мифе и метафизическом трактате не позволяют Юнгеру стать только поэтом, сказителем мифов или философом-доктринером. Когда магия и гносис в тайном, глубинном измерении мира связываются с мифологией Титана и философией истории Рабочего, то сам модерн уже нельзя свести к какому-то одному признаку, исключается
1В полном собрании сочинений (Bd. 9, S. 269): «Оно (искусство)... направлялось на образ мира...»
188
возможность сведения свойств и признаков модерна к только гностико-магическому, только мифологическому или только философско-историческому монизму.
Мастерство Юнгера проявляется, скорее, в многослойнос-ти, доктринальной противоречивости и «нестабильности его оценок» гностических, философско-исторических и мифологических корней модерна. Как никому другому, ему удается показать сложносоставность модерна, не сводя его к какому-то единичному примеру, к гностическому сюрреализму, философско-историческому прогрессизму или к мифу о титане; Юнгер акцентировал их взаимопринадлежность. Модерн для него, вразрез с точкой зрения французских теоретиков постмодерна, состоит не только из «мастерских историй», опирающихся на философию истории Гегеля и Маркса, но и из глубинных сюрреалистических и гностических течений. Их извлекли из забвения французские постмодернисты, от них они сами ведут свое происхождение. Гностицизм и сюрреализм — родственные течения, оба они признают некую другую, сверхреальную сферу бытия, которая участвует в действительности «этого мира» и проглядывает сквозь нее. С точки зрения сюрреализма, искусство и есть эта другая действительность, нечто совершенно иное по сравнению с обыденным миром, прорывающееся в мир как некое событие. Согласно гностицизму, пневма, божественная и человеческая спиритуалистическая сущность души, являет собой нечто совершенно другое, нежели внешний мир. Поскольку сюрреализм, гностичный в этом смысле, принадлежит модерну, постольку появление на авансцене глубинного сюрреалистического течения не было началом постмодерна (в смысле эпохи, которая наступает после модерна), а только эпилогом и самопе-рерастанием модерна в поздний модерн, супермодерн.
Вопреки М. Бензе1, к модерну относятся не только художественный сюрреализм искусства, но и метафизический сюрреа
1 Bense М. Ptolemaer und Mauretanier, oder Die theologische Emigration der deutschen Literatur (1950). Zurich (Haffmans),21984.
189
лизм (или даже супернатурализм) гностицизма и герметизма; это заметно не только у Юнгера, но и у Хорхе Луиса Борхеса и у других авторов. Если французские постмодернисты в противовес монизму философских систем придают наибольший вес «событию» и «различению», то они — согласно буквальному значению слова «постмодерн» — еще не делаются постмодернистскими мыслителями, а просто выводят на поверхность забытую нить традиции модерна, гностическую, магическую и герметическую. Открыть множественность и плюрализм, как показывает Юнгер в «Эймсвиле», еще не значит выйти за пределы модерна. Плюрализм — простое описание позднемодернистской постистории, в которой потерялись великие мифы модерна; эта история еще не предложила модерну никаких сколько-нибудь основательных альтернатив.
В произведениях Юнгера прослеживается, что миф также принадлежит модерну и «Просвещение» не может объявить его несуществующим. Миф в модерне, как и в другие эпохи, является средством дистанцирования от страха, от террора. Юнгеровс-кая мифология модерна с ее фигурами Солдата, Рабочего и Титана подтверждает концепцию Блюменберга: мифы — это попытки переработать ужас в истории об ужасе1. Когда мы вновь и вновь переживаем страдания мифического героя, наши собственные страдания представляются нам значительно более легкими: страдающий уже не одинок. Представление Юнгера о модерне, его эпос современной эпохи, показывает, как великий миф философии истории и тотальной мобилизации в пору, когда утопические источники энергии уже исчерпаны, заканчивается постисторией, игровыми мирами плюрализма, «нашей постсовременной современностью» (У. Уэлш). В «Гелиополисе» Юнгер трактует утопию как заменитель мифа. В постистории «Эймсвила» исчерпаны и утопии, и мифы.
1 Ср.: Blumenberg Н. Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos // Fuhrmann M. (Hrsg.) Terror und Spiel. Munchen (Fink), 1971. S. 13ff.
190
3. Консервативный модернизм
Модерн нельзя свести к левым: ни к Просвещению, ни к левому гегельянству, ни к марксизму. Пример Юнгера показывает, что в 20-е и 30-е годы XX века существовал модернизм правый и левый; два этих крыла были едины в своем отрицании буржуазного центра и традиционалистского консерватизма. Приверженность Юнгера революционному консерватизму и национал-большевизму свидетельствует о том, что фашизм как революционный консерватизм или «консервативную революцию» следует отличать от расистского национал-социализма как тоталитарного иррационализма. Тотальная мобилизация была программой как большевизма, так и фашизма. И там и тут осуществлялась тотальная мобилизация воли к власти; при этом, как показал Ж. Батай, гегелевское «напряжение понятия» было тоталитарно ориентировано на преобразование: «Национал-социалистическая Германия не ссылалась на гегельянство с его теорией государства как мирового духа, как это официально (хотя и под маскировкой господства Джентиле) делала фашистская Италия. Поэтому она не знала тех теоретических трудностей, которые возникают из необходимости официально сформулировать принцип авторитета: мистическая идея расы осуществлялась непосредственно как императивная цель нового фашистского общества, а фюрер и его присные представали как ее телесное воплощение»1.
Фашизм — это консервативный вариант тотальной мобилизации, правая сторона той медали, чьей левой стороной был большевизм. За юнгеровским Рабочим, как писали не только иезуит Фридрих Муккерман, но и коммунист Карл Радек, уга-
1 Bataille G. Die psychologische Struktur des Faschismus // Bataille G. Die psychologische Struktur des Faschismus. Die Souveranitat (1970), Munchen (Matthes und Seitz), 1978. S. 36f. Ср. также сказанное ранее на с. 54 о «консервативной революции».
191
дывается лицо Ленина1. «Рабочий» — это программа тотальной модернизации незападноевропейских государств: универсально-всеобщий тотальный характер труда должен сделать гигантский скачок вперед, освободить из юдоли скорби; западноевропейские государства, пусть это не их заслуга, — уже добились этого. В работах 30-х годов, особенно в эссе «О боли», Юнгер уже прояснил для себя диалектику модернизации, жертвы, которые будут неизбежно принесены модерну, боль — от них. «О боли», работа 1934 года, описывающая двойственность модерна, на целое десятилетие опередила «Диалектику просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно (1947).
Юнгер понимает: рационализация и упрощение жизни исходили не от прусского Генерального штаба, как это представлялось Валери, а из Франции с ее традицией рационализма; истоки мобилизации модерна — в Западной Европе1 2. Спра
1 Цит. по: Vondung К. Ernst Jiingers «Der Arbeiter» — nach fiinfzig Jahren. Faschistisches Weltbild oder giiltige Zeitdiagnose // Frankfurter Hefte, 37 (1982). S. 13. О Муккермане см. выше, с. 77.
2 «Прототип планомерного завоевателя, который со все возрастающим успехом противопоставляет интуиции — время, гениальному дарованию — упрямую посредственность, Валери видит в прусском Генеральном штабе, в свою очередь персонифицированном в лице графа Мольтке. Тем самым он ограничивает рассмотрение слишком узким полем и ставит под угрозу пропорции целого. Насколько точно его описание великой надвигающейся угрозы, настолько недостаточна полемическая направленность. Автор рискует быть уязвленным своим же собственным оружием, ибо, без сомнения, рациональное упрощение жизни, справедливо устрашающее немцев, шло из Франции. Там взошло солнце ценностей XIX столетия. Одно лишь тому свидетельство — победное шествие десятичной системы мер, сопровождавшей наполеоновскую армию. В Германии оставались еще стоящие вещи, и это признавали особенно французские романтики. Великое падение ценностей наступило лишь во второй половине века. .. .Можно было бы спросить, не был ли первый раздел Польши началом conquete methodique [методичного завоевания — фр], как обдуманный удар по тому, что чего-то стоит. Здесь Мария Терезия мыслила более справедливо и здраво, нежели Кауниц и Фридрих» (Jahre der Okkupation, S. 184f.; Bd. 3, S. 556f.).
192
ведливо его замечание: «Девятнадцатое столетие, особенно его вторая половина, было великой эпохой профессоров; остается удивительным, что моделировалось под покровом буржуазного порядка, который знал свои границы. Если оглядываться туда, то ученый того времени кажется скромником: он явно сделал больше, чем намеревался» (Die Schere, S. 102f.).
Консерватизм Юнгера колеблется между модернизмом и традицией, между нигилистической мыслью порядка и мифом, между мобилизацией и сохранением. Можно согласиться с Бензе, что Юнгер — мавританец, постоянно сражающийся с собственным мавританством и модернистской мобилизацией; он против того, чтобы сделать из мобилизации всего лишь маску1. Напряженными и захватывающими (как и его стремление связать нигилистическое мышление порядка у мавританцев магией Нигромонтана) оказываются юнгеровские попытки соединить традицию и анархию. Он делает вывод, что существует внутреннее отношение между анархизмом и консерватизмом. Консервативная вера в ставшее и желание сохранить его, подобно анархизму, резко противоречат мавританской мобилизации нигилистического мышления порядка. Исходя из разных посылок, анархизм и консерватизм приходят к одному и тому же — отрицанию модернистской нигилистической воли к власти; консерватор — ради сохранения традиции, анархист — во имя веры в изначальную анархическую свободу человека.
По Юнгеру, анархизм и консерватизм близки и своим желанием сохранить естественное, защищая его от всего искусственного. «Анархист в чистом виде — это тот, чья память простирается дальше всех: в доисторические, даже домифи-ческие времена; он считает, что человек уже тогда исполнял свое истинное предназначение. Это, по мнению анархиста, возможно для человека и сейчас: из этого он и исходит.
В этом смысле анархист — это праконсерватор, радикал, глядящий в корень истории с ее благом, добром и злом. От
1 Bense М. Ptolemaer und Mauretanier. S. 65.
193
консерватора он отличается тем, что его стремление направлено к собственно человеческому состоянию, а не к какому-то производному, развивавшемуся из него в пространстве и времени. У консерватора есть традиция; он прочно «стоит» на ней, поэтому в эпоху, когда все меняется, его роль внушает сомнение» (Der Weltstaat [1960], S. 522).
Колебания Юнгера между традицией и анархией, между модернизмом и мифом исходят из того, что в его мысли слабо развит христианский центризм. Только христианство способно выжить в спорах между прогрессистской мобилизацией модернизма и возвеличиванием вечного возвращения в мифе или реакционным атавизмом; оно терпимо в эсхатологическом ожидании будущего и в ориентации на священное присутствие божественного в настоящем. Из трудов Юнгера становится понятно, в какой мере разрушение христианской философии в Германии со времен немецкого идеализма несет ответственность за распад немецкой мысли на грубый модернизм и неоязыческую мифоманию. Культ сверхчеловека возник из распада христианской идеи человека как центральной фигуры творения. Культ сверхчеловека представляет собой модернистский вариант религии бога «Человек».
Впрочем, как пишет Юнгер в 1990 году, эпоха сверхчеловека идет к концу. «Цикл пройден: за ним следует внеистори-ческое время неопределенной длительности, оно может быть приятным, или по крайней мере не трагическим... Однако это может быть потому, что эпохи сейчас сменяются быстро, некоторые существуют только в эмбрионном состоянии и период сверхчеловека уже позади» (Die Schere, S. 118). Типы Рабочего и Титана отныне не сверхчеловеки: «Если бы я считал образ Рабочего сверхчеловеком, то и это мнение пришлось бы изменить; сам сверхчеловек тем временем уже стал палеонтологическим экспонатом»1. В постистории ни титанам, ни
1 Письмо Юнгера к Вальтеру Патту от 4 августа 1980 года (Der Arbeiter, S. 320; Bd. 8, S. 394).
194
сверхчеловеку не найдется ни пропитания, ни дела. В постмодерне, эпохе преодоления модернизма, человек наконец-то пытается вернуться к мере и к традиции теологии.
4. Поздний Юнгер — постмодернист?
Эрнст Юнгер — хронист модерна и там, где он выливается в свой эпилог — поздний модерн — ив его преодоление, в постмодерн. Позднее творчество Юнгера во многом предвосхищает аналитические достижения теоретиков французского постмодернизма. И все же Юнгера нельзя назвать автором де-конструктивистского постмодерна. Его творчество — это миф и поэтическая философия модерна и одновременно — декон-структивистского постмодерна, и его повесть «Рогатка», и его эссе отсылают к традиционалистскому времени после модерна, или «постмодерну» в буквальном смысле. Основные произведения Юнгера после «Гелиополиса» (1949) и «Стеклянных пчел» (1957) связаны с великой гигантомахией модерна, с героической революцией Рабочего; его позднее творчество намечает контуры перехода к позднему модерну и постмодерну. Юнгер — мифолог и поэт остается прежде всего наблюдателем за борьбой титана «Человека», он верен своей роли и когда модерн с его тотальной мобилизацией подошел к концу, в постистории. Подобно тому как Юнгер был эпическим поэтом и философом героического модерна, так в своем позднем творчестве он создает эпический эпилог героическому модерну в постистории и в деконструктивистском постмодерне, отмеченном симуляцией действительности и тотальным плюрализмом.
Невовлеченность Юнгера как поэта и мифотворца не позволяет ему стать на сторону постистории и постмодерна, преодолевающих модерн в тотальном плюрализме. Он не стал модернистским апологетом позднего модерна. И о его позднем, «постмодернистском» творчестве можно сказать, что
195
творец мифа эпохи теперь является зрителем спектакля этой эпохи. «Когда появляется что-то неожиданное и мгновенно ошеломляет, раздражает или ободряет нас, то его приветствуют как «новое». Если это не жест доброй воли, то по крайней мере правило приличия. Выражения одобрения меняются; смысл остается неизменным с незапамятных времен. Сегодня в ходу слово «постмодерн»; оно разумеет некое состояние, существовавшее испокон веков. Это состояние уже достигается, когда женщина надевает новую шляпку» (Die Schere, S. 126).
Этим высказыванием Юнгер принижает и глубинные измерения понятия постмодерна, и вклад собственных своих поздних сочинений в теорию и миф эпохи после модерна. В работе «Мир» (Der Friede,1945) он ясно видит, что модерн как эпоха революций нуждается в самопреодолении, потому что революция Рабочего — как и все революции — осуществляет собственный смысл только тогда, когда ведет к миру. Перманентная революция, перманентная модернизация — противоположность преобразования. Это вечное возвращение модерна. Тотальная мобилизация модерна должна привести к миру, к успокоению эпохи, чтобы мир вышел за пределы революций героического века Рабочего. «Мир достижим, если силы, затраченные на тотальную мобилизацию, высвобождаются для творчества. Тем самым завершается героический век Рабочего, революционный век. Дикая стихия промыла себе русло, в котором и успокаивается. И образ Рабочего, избавляясь от титанических черт, откроет новые аспекты: выяснится, какое отношение он имеет к преданию, к творчеству, к счастью, к религии» (Der Friede, S. 222).
Тотальную мобилизацию Рабочего в модерне нужно укротить, а ее силы обратить на примирение. «Духовно-титанические силы должны быть отделены от человеческих и божественных и подчинены им. Это возможно только тогда, когда люди метафизически укрепятся в такой же степени, в какой растет техника. И здесь начинается широкое непаханое
196
поле новой теологии как первой науки, как знания глубочайших оснований и того высшего порядка, в соответствии с которым создан мир» (Der Friede, S. 239).
Сочинение «Мир» называет силы преодоления модерна в истинном послемодерне (или постмодерне); сам Юнгер не полностью выполнил программу этого своего сочинения, от теологии он снова вернулся к мифологии. Развитие духа в 80-е годы XX столетия не пошло по намеченной Юнгером в «Мире» линии теолого-эссенциалистского преодоления героического мифа о модерне, но встало на путь гностико-сюрреалистической деконструкции «мастерских рассказов» модерна. Героический модерн обернулся не теологическим, а гнос-тически-деконструктивистским постмодерном.
Поэтому неудивительно, что и эпический поэт модерна и постмодерна в своих поздних произведениях рисует образ постмодерна с его симуляцией и тотальным плюрализмом, центральными понятиями деконструктивистского постмодерна. Для героического модерна теологический постмодерн декон-струировался в гностически-сюрреалистический модерн. Юнгер, генеалог модерна, в своих поздних романах проследил его развитие и в этой стадии. В той мере, в какой модерн стал поздним модерном или постмодерном в деконструкти-вистском смысле, юнгеровский эпос модерна «Эймсвила» тоже стал постмодерном. Но наряду с этой деконструктивист-ской линией постмодерна в позднем творчестве Юнгера — в «Стеклянных пчелах» или «Рогатке» — можно найти и идеи теолого-эссенциалистского постмодерна в смысле времени после модерна.
Юнгеровский образ постистории как эпилог героического века Рабочего, по справедливому замечанию Мартина Мейера, «не имеет ничего общего с «постмодернистской» расслабленностью»1. Не потому, что позднее творчество Юнгера не несет в себе постмодернистских черт, а потому, что постмодерн как поздний мо
1 Meyer М. Ernst Jiinger. S. 13.
197
дерн или как эпилог к модерну ничуть не расслабленнее, не уютнее. Скорее, постмодернистская ситуация (не важно, толкуется ли она эссенциалистски или деконструктивистски) есть период, когда героический век и его тотальная мобилизация исчерпали себя. Это эпоха конца мировых гражданских войн модерна, которые на деле окончились только в 1989—1990 годах. После этих примечательных лет титанизм Рабочего преобразовался в покой эволюционного развития — по крайней мере хочется на это надеяться.
Для ситуации завершения европейской мировой гражданской войны, войны за правильное истолкование героя «Рабочего», войны за то, кто есть призванный и легитимный совокупный Рабочий мирового духа, справедливо все, что писал Юнгер о мире в 1945 году: «Еще широко распространено мнение, что возвращения к либеральному государству достаточно для построения порядка. Но это означает просто возвращение на исходные позиции. В полемике, которую вели старые либералы против нигилистов, они были похожи на отцов, сокрушающихся о беспутных детях, но не замечающих, что вина — в недостатке воспитания. ...Истинная победа над нигилизмом, а значит, и мир будут возможным только с помощью церкви» (Der Friede, S. 230).
Мировая гражданская война за совокупного Рабочего и за тотальную мобилизацию мирового духа длилась, пока продолжалась героическая и послегероическая эпоха Рабочего и титана «Человек». Исходя из длительности мировой гражданской войны, героическая и постмодернистская фазы модерна совпадают, эта мировая гражданская война в ее горячей и холодной фазах перекрывает их обе. Плюралистическая, послеисторичес-кая фаза модерна, постистория деконструктивистского и анархо-либерального постмодерна — это этап, когда революционный и героический модерн исчерпал себя.
Окончание мировой гражданской войны модерна и, следовательно, конец модерна ставят перед мышлением новые задачи; для формулировки новых проблем недостаточно мо
198
дернистского противопоставления либерализма и социализма или позднемодернистского противополагания постмодернистской деконструкции и модернистского материалистического или позитивистского монизма. Необходимы новые, теологические объяснения действительности, которые откроют духовное пространство для истинного постмодерна.
5. Наука об изобилии: преодоление гностицизма модерна
Можно ли сделать из юнгеровского эпоса модерна выводы относительно возможного преодоления модерна? Центральным для выхода за пределы модерна оказывается отношение между теологией, гностицизмом и мифом. О самом уровне мысли Юнгера свидетельствует то, что он признает и описывает это отношение как главную проблему модерна. Речь идет прежде всего о притязаниях модернистской философии вообще, о философии Гегеля. «Воздействие чтения (анархистов, синдикалистов, социалистов всех оттенков), если отвлекаться от максим, то тут, то там проблескивающих сквозь туман, похоже на чтение Отцов церкви, в значительной мере бесплодно и часто озлобляющее. В остальном как все пути ведут в Рим, так и в девятнадцатом столетии от Рождества Христова все они ведут к Гегелю» (Eumeswil, S. 310). Юнгер, основываясь на своей тяге к гностицизму и к мифу, всегда дистанцировался от философского рационализма Просвещения и гегельянства. Зло для Юнгера — слишком явная реальность, чтобы он мог переопределить его как простое отрицание в целях его преодоления, снятия1. Сюрреалистическая глубина и величие
1 Ср. также: Becher Н. Heliopolis // Stimmen der Zeit, 146 (1949), S. Ill: «Нам кажется слишком поверхностным навешивать на это (на «безучастность к бомбардировкам и живодерням, причуды, утонченность и изысканность вкуса, игры с безднами, с распущенностью и злом») ярлыки авторского тщеславия, самоотражения, некой слепоты
199
мира у Юнгера, восторг поэта перед магией мира резко противоречат линейной диалектике системы и плоской мистике Гегеля* 1.
Юнгер цитирует Доносо-Кортеса: Гегель — это «Опустошитель мозгов» (Eumeswil, S. 316) модерна. Система Гегеля — универсальный имманентизм и универсальное подчинение бытия понятию. Отличие бытия от системы немыслимо. Плац-параду, по которому шествует мировой дух Гегеля, и дворцу, в котором он обитает, Юнгер противопоставляет мансарды мирового духа, в которых тоже живет истина. «Что бы это значило, если вопреки всему и вся вновь и вновь возникают типы, мысли, чувства, склонности которых выходят далеко за пределы исторической необходимости? Мировой дух, пожалуй, допустил бы их в свои покои как бедных родственников, никчемных, но все-таки родственников, — их то и дело посвящаешь в свои планы. Иногда он поднимался из своих залов к ним на чердак» (Eine gefahrliche Begegnung, S. 436). С другой стороны, философский монизм мыслителей-классиков (и это демонстрирует плюралистическая покладистость постистории в «Эй-мсвиле») нельзя преодолеть одной только множественностью или универсальным плюрализмом. Тотальный плюрализм только напускает туману, заволакивающему все идеи.
Между монизмом систематической философии и произвольностью тотального плюрализма нужно найти путь, на котором отличенность от мира и единство с миром можно было бы мыслить в единстве. Сюрреализм в искусстве и в гностицизме проводит отличение от действительности мира,
духовного авантюризма. Гораздо полезнее увидеть во всем этом приметы укорененности и вовлеченности в действительность, как дань человечности. Человек борется за то, чтобы очиститься и получить достойное положение». Можно было бы сказать здесь словами Юнгера из «Сердца» (2): «Так, все это бывает».
1 Ср.: Sgrafitti, S. 449: «В своей «Логике» Гегель ставит вопрос: «Не есть ли фигура заключения нечто бесконечно более высокое, нежели род попугаев или разновидность Veronika [буквально: девица легкого поведения]. Это оценки, которые мы сбрасываем со счетов сегодня».
200
которое, впрочем, остается чисто эстетическим и не может быть истинным. Вместе с тем сюрреализму не хватает эсхатологического измерения. Поэтому сюрреалистический и плюралистический постмодерн, как и гностицизм, не предлагают путей для преодоления модерна, а только возводят его в степень гипер- или супермодерна. В нем отсутствует перспектива исторического завершения.
Истинный постмодерн', который осуществил бы мыслительное преодоление модерна, можно обосновать только теологически; он должен восстановить в правах насущность «гно-сиса» и мифа. Теологически обоснованная философия постмодерна может вывести за пределы мифов о модерне, потому что она утверждает отличие Бога от мира и провозглашает эсхатологическую завершенность мира в противовес позитивизму, с одной стороны, и прогрессизму — с другой.
Эрнст Юнгер всегда признавал высокий статус теологии как толкования совокупной действительности: «Жизнь предлагает два пути, один принадлежит заботе, другой — изобилию-избытку, который окружает жертвенное пламя. Наша наука по своему положению занимается только заботой и не обращается к праздничной стороне; она неразрывно связана с нуждой, как измерение — с меркой или как счетчик — с числом. Поэтому надо бы изобрести науку избытка, если только она не существует уже испокон
1 Утверждение Нитхаммера: «...диагнозы «пост-» не бессмысленны, просто они означают не то, о чем хотят сказать»; поэтому «надо задаться вопросом о содержащемся в них избытке значения, то есть об их происхождении» (Niethammer L. Posthistoire. S. 8) — неполно в двух отношениях. Во-первых, понятия, значащие нечто иное, чем то, о чем они хотят сказать, едва ли свидетельствуют об избытке значения, если только они не значат еще и того, что хотели высказать. В этом смысле нет никакого избытка в том, что представляет собой деконструктивист-ское употребление понятия «постмодерн»; есть нехватка значения — и отсюда следует второй упрек: деконструктивистский постмодерн не должен использовать это понятие, оно содержит «нагрузку значения» в виде «после», а она-то деконструктивистам как раз и не нужна.
201
веков, — потому что она не что иное, как теология» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 201; Bd. 9, S. 311). Юнгер до известной степени разделяет ненависть мифологов и гностиков к той демифологизации, которая пришла в мир вместе с иудейством и христианством (ср.: Autor und Autorschaft, S. 434,460); его неприятие христианской «академической» теологии время от времени прорывается наружу: «Наряду с врожденным беспокойством упрямого барана меня с самого начала мучило чувство, что господствующий порядок не подходит мне — дан он политически монархией, республиками, диктатурой, съеден экономически homo faber1 и его спутниками или теологически демифологизирован» (Post festum, S. 483). Или: «Важно, что теология отнюдь не находится в том состоянии, которое может играть с нигилизмом. Скорее, она тащится в арьергарде Просвещения, то есть сама вовлекается в нигилистический разговор» (Uber die Linie, S. 267 f.).
Юнгер, впрочем, знает, что истинное постижение бытия, теология совокупной действительности, возможно лишь в мышлении, включающем поэзию, философию, теологию и миф. Вопреки собственным гностико-мифологическим склонностям он признает посягательство на христианство, как оно присутствует в возвеличивании змия в модерне. «Посягательства на христианскую мораль неизбежно связаны с реабилитацией змия, начиная с офитов II века и вплоть до Ницше в веке XIX. Шиллер воспевает «так называемое грехопадение» как «первый отважный порыв разума» (Die Schere, S. 85). В своем позднем творчестве он показывает искажения, которые налицо в гегелевской трактовке грехопадения: «Я, помнится, читал у Гегеля, что зверь «в себе» еще живет в раю. Место трудное, Делич тоже занимался им — критиковал, а именно в связи с гностическими представлениями» (Die Schere, S. 86f.). В раннем своем творчестве он исповедовал «служение змию» и почитание человеческого познания и независимости: «Стальной змий познания клал свои кольца на кольца, чешуи на чешуи, и под руками людей его ра
человек искусный (лат.).
202
бота оживала, делалась неуязвимой. Теперь он, как сверкающий червь, протянулся через страны и моря, и здесь его может приручить едва ли не каждое дитя, тогда как там его пылающее дыхание превращает в пепел многотысячные города. И все же бывают мгновения, когда песнь машин, тонкий звон электрических токов, сотрясение турбин, ритмические взрывы моторов наполняют нас тайной гордостью — как от победы» (Das abenteuerliche Herz 2, S. 72; Bd. 9, S. 224 f.).
Эрнст Юнгер — не христианский писатель1, а автор, занимающий особое (в силу неустойчивости своей позиции) положение между христианством, мифом и гностицизмом. Юнгера можно рассматривать как христианского гностика и мифолога, но не как христианского поэта. Возможно, ничто другое для поэта невозможно, потому что поэт, чувствующий себя христианином, прежде всего поэт и только потом доктринальный или догматический теолог.
Молер пишет: «Поэтому Юнгер в изучении Библии лишь в двух пунктах вышел за пределы школярства: в том месте из Ветхого Завета, где единый Бог пока не выжег мифического, и прежде всего там, где снимается таинство прямизны времени. Вот в чем корень «катализирующего» момента, который стремится утвердить в Юнгере протестанта»1 2. Эта характеристика все же слишком узка. Критика мифа уже дана в Ветхом Завете, как и в Новом; антимифологическое и тут и там представлено мифологически, но миф преодолевается, «снимается». Только поздний Юнгер мог защищать единство Ветхого и Нового Заветов против демифоло-гизаторов и либеральных теологов. Дело проясняет указание Молера на роль сакраментального — насущного присутствия священного и прорыва временности; конфессиональные противопоставления у Юнгера, к счастью, отсутствуют.
1 Ср.: NebelG. Ernst Jiinger. Abenteuer des Geistes. Wuppertal (Marees), 1949. S. 350ff. и Schwarz H. P Der konservative Anarchist. S. 257f. о христианских «неясностях» у Юнгера.
2 Ср.: Mohler A. Begegnungen bei Ernst Jiinger // Freundschaftliche Begegnungen. Festschrift fur Emst Jiinger zum 60. Geburtstag. Frankfurt a. M. (V. Klostermann), 1955. S. 198f.
203
Промежуточным положением творчества Юнгера (между мифом и теологией) обусловлено и то, что он в духе христианства признает положение жертвы центральным в этом мире в человеческом существовании; а в традициях мифа различает жертву и самопожертвование1, потому рискует забыть о том, что мир основывается не на принесении в жертву другого, а на самопожертвовании1 2.
Юнгер принимает теологическую идею творения, различает творение и порождение, в традициях христианской теологии говорит об их тесном родстве:
«Творение можно имитировать, но не повторять. Тот, кто порождает, подражает творению — а потому причащается непостижимой тайны, и все же порождает он детей Адамовых, а не самого Адама. Автор черпает свою силу из уподобления. Даже язык всего лишь сравнение3. — «Будь подобен Богу». В стремлении науки вторгнуться в акт творения и отчасти подменить и даже превзойти его выдает себя сатанинское движение. И все же я верю, что оно восходит к ошибке готского
1В интервью, которое взял у Юнгера А. Мюллер (Die Zeit, Nr. 50, 8, Dezember 1989, S. 61 — 62), Юнгер сам прояснил это:
«Мюллер: То, что Вы написали о смысле жертвы, также вводит в заблуждение.
Юнгер: Ага.
Мюллер: Разве миллионы смертей в войнах были необходимы для того, чтобы смогло возникнуть новое?
Юнгер: Да, но это вещи, о которых следует говорить с большой осторожностью. Говорим ли мы это или совсем противоположное, всякий раз все перевирается. Уже слово «жертва» порождает вопросы. Что такое жертва? Бывают добровольные жертвы, и с ними я согласен; это такая жертва, которую я приношу, и есть люди, которых приносят в жертву против их воли. Уничтожение безоружных я считаю очень нехорошим делом».
2 Ср. также: Dempf A. Theologische Romane? Jiinger, Werfel, Andres // Universitas, 5 (1950), S. 1042: «Жертвы язычества — это лишь внешне иудеи или парсы, внутренне от демонии власти освобождает только самопожертвование».
3 Юнгер отсылает к заключительным словам «Мистического хора» в «Фаусте» Гёте. Ср. в переводе Б. Л. Пастернака: «Все быстротечное — символ, сравненье» (Примеч. пер.).
204
монаха» (Autor und Autorschaft, S. 62; Bd. 13, S. 444; ср. также: Der Arbeiter, S. 232; Bd. 8, S. 236).
С тонкой иронией Юнгер отделывается от вычислений новейшей космологии: «Я читаю в газете в середине апреля 1988 года: «Уже в том взрыве, который двадцать миллиардов лет тому назад заставил вселенную возникнуть, присутствовала радиация». — И в то же утро, в письмах читателей в другой газете: «Творение происходит вне всякой зависимости от теологии, а при температуре Большого Взрыва организованный дух не мог существовать. Дух привязан к функционирующей нейрохимии нашего мозга, а мозг работает в узком температурном режиме между 35 и 42 °C». Все это предположения. У нас в Нижней Саксонии обычно говорят: «Ты приложил к этому руку?» С одной стороны, точные цифры восхищают, с другой — что решает парочка миллиардов туда или сюда?» (Die Schere, S. 178).
Впрочем, в другом фрагменте спор о справедливости теории творения (а может быть, прав эволюционизм?) Юнгер рассматривает как всего лишь спор о словах (An der Zeitmauer, S. 589); сам он считает, что вера в личных богов дает все менее мужества (Ibid. S. 630), и выбирает в качестве наиболее приемлемой позиции мифологическую неопределенность в вопросе о личностности Бога. Гностик в Юнгере побеждает теолога, когда он утверждает, что тезис о предшествовании рождения творению, верный в отношении человека, применим и к Богу: са-мопорождение Бога в Троице объясняет и деятельность Бога в творении; однако этот тезис станет ложным, если его принять как онтологическое высказывание о бытии.
Замечательно по своей проницательности утверждение о все возрастающем равенстве полов, которое, по Юнгеру, возникает вовсе не из нового разделения труда или движения к матриархату, а из необходимости предотвратить новую, неслыханную прежде атаку труда на жизнь. Он пишет так: «Не матриархальные, но вполне материальные силы проявляются в том accelerando1, которое
1 ускорение (букв.: ускоряя) (итал.).
205
мы терпим и переносим. Воздействуя на оба пола, это оборачивается тем, что проявляются глубины, существующие за половым и придающие ему форму. Окажется, что из этих глубин и притекает к полу нераздельная сила. Когда взрываются глубины, подпочва, воспроизводство включается во внеполовое и надполовое отношение — в отношение истока, который есть не творение, а рождение. Поэтому отец должен отступить» (Der Weltstaat, S. 511).
Эрнст Юнгер как философ-поэт и мифолог держит дистанцию от модерна; она необходима ему, чтобы критиковать гностические отклонения эпохи. Однако как поэт он может раскрыть полноту мира, и это делает невозможным доктринальное сужение философии истории и мифологии и создает постмодернистскую — в смысле послемодернистскую — открытость к теологическому толкованию мира.
Образ мифа, магической поэзии и метафизики модерна, созданный Юнгером — эпическим поэтом модерна, позволяет говорить о том, что вряд ли другой поэт или философ так же полно представил XX век (век вершины модерна и его эпилога), его дух и посягательства на человека, природу и на богов. Действительно, по Юнгеру, «всякое столетие посягает» (Die Schere, S. 150), и все же никакое другое столетие не усомнилось так в субстанции человека, как XX век; никогда не было посягательства на божественное смелее; ни одна эпоха не подвергла природу таким преобразованиям, такой опасности. Юнгер — летописец, мифолог, философ и поэт этого страшного века.
Литературному и философскому дискурсу мысли немецко-говорящего мира еще предстоит выразить Юнгеру свою благодарность; ее «опасная связь» с ним не прервана. Возвращаясь к модерну, мы познаем, что Юнгер — один из великих его толкователей, и с удивлением и горечью констатируем: «Пока мы учимся на опыте, проходит слишком много времени; и часто то, что мы можем получить, учась, моментально растрачивается впустую» (Autor und Autorschaft, S. 90; Bd. 13, S. 469).
ЭПИЛОГ: ДИАЛЕКТИКА МИФА
Миф о модерне проясняет диалектику мифа. Диалектика просвещения, которой отмечен модерн, определяется и диалектикой мифа. По сути своей просвещение — это демифологизация. Если существует диалектика просвещения, из этого следует, что и демифологизация по своему характеру диалектична, противоречива. Демифологизация не только прогрессивна, несет знание и освобождение (просветительна), но и разрушительна, двойственна по своим социальным действиям, миф как «история, которую знают все» (Мишель Турнье), в своей сущности принадлежит человеческому роду и сообществу людей. Человеческие сообщества определяют свою общность исходя не только из хозяйственных интересов и общих теорий, но и из всеобщей истории и повествований, сложенных об этой всеобщей истории в описании истории и воображаемых «историях» поэзии. То, какие истории рассказывает общество, оказывается, таким образом, решающим для его оценки. Существуют истории и мифы, которые несут болезни человеку и обществу, есть и такие, которые способствуют их развитию. Миф благодаря своей способности усиливать все доброе и злое в человеке отличает еще большая противоречивость, чем сама эпоха Просвещения.
Глубинная двойственность мифа и опасности, которые с ним связаны, нельзя преодолеть, просто изгнав миф из современного общества. Такое снятие диалектики мифа слишком примитивно и «недиалектично». Плюрализм повествований в поэзии, мифе и религии вряд ли можно «отменить»
207
монистическим мифом просвещения или диалектического материализма, мифами мобилизации либерального или марксистского Рабочего; существует то глубинное измерение мира и экзистенции смертного человеческого существа, которое вообще не находит своего выражения в просвещенческих мифах. В этих мифах мир предстает как совершенно познанный, а индивидуальный человек — как живущий вечно и пожинающий плоды прогресса всего человечества.
Просвещение не может быть просто противопоставлено трансценденции теологии так, чтобы демифологизированной действительности противостояла религия, не знающая космоса природы, не соприкасающаяся с миром, полностью познанным и подчиненным наукой и техникой. Предположим, что в мире и в самом нет ничего, кроме того, что признает реальностью просвещение; в этом случае и сама сверхприродная действительность, о существовании которой говорит теология откровения, не может мыслиться как граничащая с миром природы и опосредованная им. Отношение религии к действительности превращается тогда в сугубо моральное. Внушаемый свыше и магический характер религиозного и мифического изгоняется из религии и из действительности, он «вымифологизирован».
1. Треугольник: философское просвещение, теология и мифология
Франц фон Баадер в начале XIX века писал, что мнимо-просвещенный» и поэтому ставший нигилистом человек — уже не язычник и не мифолог; но ему приходится снова превратиться в язычника, чтобы понять таинства христианства и заново постигнуть истины теологии. Баадер поставил этот диагноз модерну в широком смысле — той эпохе, которая началась с эпохи Просвещения. Философски эпос Юнгера и его поэтическая философия модерна в узком смысле, как века,
208
начавшегося с Первой мировой войной, подтверждает тезис Баадера; этот эпос отражает метаморфозы самого автора из просвещенного нигилиста в мифолога и, наконец, в теолога. Описан путь духа, который шел, отталкиваясь от нигилизма и просвещения, чтобы через магию мифа прийти к таинствам теологии. Юнгер не стал просвещенным мавританцем или титаническим мифологом, поэтому его нельзя рассматривать и как христианского теолога; однако Юнгер постоянно привлекал в ряды своих сторонников мавританцев и технократических просветителей, мифологов и оккультистов, теологов и верующих, и вселял сомнения во всех них. Образ его творчества и оценка его сочинений и сегодня остаются неустойчивыми и спорными.
То, что на первый взгляд представляется недостатком, Юнгер нигде не допускал противопоставления просвещения, теологии и мифологии по принципу «или — или», на самом деле и составляет значимость, продуктивность его творчества для мысли постмодерна. Перед постмодерном стоит задача соединить теологию, мифологию и просвещение; в постмодерне творчеством Юнгера представлен миф эпического поэта эпохи модерна, он был также эксцентриком проекта модерна и модернизма.
Пройдя горнило просвещения и философской критики, мы уже не можем вернуться назад, в эпоху до Просвещения, к догматически-авторитарному христианству; но мы не можем и остаться в границах метафизического минимализма (что допускает традиция Просвещения), нигилизма, свойственного критицизму и либерализму; ждать спасения человечества от мобилизации Земли Рабочим-«Человеком». Для нас, осознавших фиктивный, поэтический характер мифа, закрыт и путь возвращения к тому мифу, который был чем-то большим, чем фантазия, вымысел, поэзия, то есть к догматическому мифу. Миф в наше время может существовать как поэзия, служить религии, но он не может стать религией как таковой.
Задача нашего времени, современности — так соединить истины христианской теологии, критическое сознание про
8 Петер Козловски
209
свещения и магию мифа, чтобы все эти познавательные богатства человечества взаимодействовали и сосуществовали одновременно, а не просто сменяли друг друга в череде веков. Только во взаимопроникновении просвещения, христианства и мифа, в соединении философии, теологии и мифологии религиозная и поэтическая философия постигает це-локупную действительность и создает единую теоргию.
Вклад Юнгера в мировую литературу столетия состоит в том, что он напомнил об истинах мифа и поэтического воображения. Миф и мифическое воображение неотменимы в самопознании человека. Они должны «работать» вместе с теологией и науками, если человек ищет свое отношение к смыслу эпохи. Человек не просто стоит перед дилеммой временности и вечности, перед ним — тройной вызов: он одновременно должен отвечать на «вызов дня» своей индивидуальной экзистенции, на вызов историчности своей коллективной экзистенции, на притязания вечности и вечного в нем самом. Он должен соотнести индивидуальное и коллективное бытие в историческом времени с бытием в сверхприродной вечности. Человек призван не только к теологическому познанию вечного бытия и к философскому познанию такого бытия временного мира, которое постоянно и неизменно. Скорее, ему поручено познание и поэтическое воображение, направленные на смысл и ценности исторических образований духа.
Исторические эпохи имеют свой особенный поэтический смысл — таково убеждение греческой мифологии, позднеантичного гностицизма и европейского романтизма. Эти три течения в истории духа в разные эпохи истории и по-разному ставили в центр своего миротолкования историчность бытия. Опасности, свойственные истолкованиям мира в мифологии, гностицизме и романтизме, заключаются в преувеличении, даже тотализации исторической точки зрения. Акцент на исторической части бытия превращается в радикальную и полную историзацию всего бытия. Тотальная историзация бытия
210
ведет к тому, что уже не признаются никакие надвременные и надысторические ценности, а любое бытие, в том числе и бытие Бога, мыслится как становление.
Опасности, связанные с мифолого-романтическим гностицизмом, — это тотальная историзация бытия и соблазн тотально-процессуального мышления. И то и другое порождает гностическую ненависть к неизменному в земном бытии, пренебрежение внешним миром, природой. Это гностическое презрение к природе и постоянному в мире и в человеке накладывает свой отпечаток и на миф о Рабочем — миф о том, кто преобразует мир. Мифолого-гностическое мирове-дение пренебрегает природой, потому что переоценивает духовную, пневматико-гиперкосмическую мощь человека и «сверхчеловеческие» посредствующие силы. Гностическому презрению к природе можно поэтому противопоставить теологическую идею порядка творения, имеющего вневременную значимость.
Не следует, впрочем, забывать, что сходные опасности возникают и для других вершин треугольника просвещение-тео-логия-мифология; это опасность просвещенческого сциентизма, с одной стороны, и теологического позитивизма — с другой. Под сциентизмом здесь следует понимать ту антиисторическую и антипоэтическую установку, которая сводит сущее бытие к такому бытию, которое представляется позитивизму единственно позитивным, эмпирически данным. Сциентизм отрицает надличностно-историческую и сверхприродную действительность и тем самым «изгоняет» прочь из знания целые пласты действительности. Теологии, если она ограничивается позитивностью откровения и исключает из своей сферы мифическое, тоже грозит опасность превратиться в позитивизм откровения. При этом теология обращает слишком мало внимания на промежуточное царство человеческого воображения и поэзии, располагающееся между вечным бытием Бога и конечным бытием эмпирического мира. Она отрицает магию человеческого творческого духа и магию
8*
211
мира, считает, что самораскрытие сверхприродного и божественного бытия возможно только в откровении Писания, а не в природе и истории.
Миф и поэтическая философия исторического бытия помещаются где-то между научной философией всеобщего, закономерного и неизменного бытия и теологией бытия божественного. Миф не может выступать как последняя инстанция и теория целокупной действительности — мифологическое миротолкование не выдерживает научной критики. Поэтический момент мифа следует, однако, учитывать. Мифолог должен помнить, что он есть поэт, просветитель и теолог должны признать, что в поэзии, характерной для той или иной эпохи, есть всеобщее, и оно не просто субъективная фикция. Поэтому миф и поэтическая философия занимают в духовной культуре место между просвещением научной философии и теологическим учением о Боге. Они не заменяют ни просвещения — теории практического овладения миром, ни теологии — теории высшего бытия и абсолюта.
2. Силы «середины» и догматизация мифа
Миф в рамках иерархии стоит ниже логоса. Исторические силы объективного поэтического духа, объективированного воображения поэзии подчинены господству надвременного абсолютного духа. Ранний миф политеизма только частично приблизится к такой иерархизации, хотя уже знает иерархии богов. С теологизацией картины мира иерархия сил, господствующих в истории, становится яснее. Титаны и олимпийские боги, силы тьмы и силы света отныне подчинены власти Бога, они — лишь его придворный штат. Однако неверно, как это делает теология, объявлять несуществующими «средние силы» и демифологизировать их из-за того, что они стоят ниже Бога.
212
Мифологическая картина мира подчеркивает роль «опосредующих, срединных сил», стоящих между абсолютом и конечной самостью человека: роль титанов, гигантов, небесных богов, богов подземного мира, фавнов, нимф и т. д. в их политеистическо-мифологической форме, роль духов народов, мировых духов, «внечеловеческих» планетарных сил, сил земли, крови и расы в их гностико-мифологических формах. Мифом владеет идея «сил этого мира», «князей эонов». Он хочет быть сильнее этих сил, овладеть ими, подчинить себе. Для этого нужна магия, потому что «силы этого мира» сами правят магически. История видит в мифе борьбу, движимую изменяющимися связями людей и народов с этими силами. Здесь и следует искать истоки мифа о борьбе гигантов и титанов, в который поверил Юнгер: в разные исторические эпохи люди вступают в союз либо с силами «середины» — гигантами и титанами, против богов, либо с богами — против «средних» и «низших» сил.
«Властители этого мира» для мифа гностического типа — это наполовину личностные, наполовину анонимные силы. Так, «дух народа» мыслится как сила, которая наполовину существует личностно, через посредство членов этого народа, и наполовину осуществляет себя анонимно и независимо от них. Из этих свойств сил и богов мифа, колеблющихся между персональным и анонимно-природным, следует, что они мыслятся лишь как наполовину, а не полностью нравственные сущности. Олимпийские или германские боги в плане морали ненадежны, вызывают сомнения. Вотан, покровитель союзов, вступает в такие договорные отношения, о которых знает, что не сможет их сдержать; Зевс нарушает супружескую верность и т. п.
Только в христианской и иудейской теологической картине мира Бог превращается в нравственного миродержца, а силы «середины» разделяются на нравственные и безнравственные, на ангелов и дьяволов, херувимско-серафические и люциферо-сатанинские силы. В еретических гностических
213
источниках, по утверждению К. Г. Юнга, Христос отсекает от себя своего падшего брата Люцифера и низвергает его в преисподнюю. Морализуется и магия, она подразделяется на белую и черную магию. Магическое отчасти превращается в священное. В священном магическое воздействие на силы этого мира в измененной форме проявляется вновь в служении, ритуально вводящем теологическое, божественное воздействие на бытие.
Мифологический человек чувствует себя сильнее благодаря знанию тайных сил этого мира, он уполномочен действовать в согласии с ними и с их могуществом. Если эти силы мыслятся как «последняя инстанция», как высшая власть, то и мифические полномочия представляются универсальными, окончательными. Для вынесения суждения о мифе центральными оказываются вопросы о том, какие инстанции мыслятся в качестве последних и каково их нравственное качество. Если последней инстанцией становятся частичные, партикулярные силы «середины» вроде духов народа или расовых мифов, то из них следуют народно-националистические и расистские полномочия и притязания. Миф этот потенциально универсалистический, как в индоевропейских политеистических мифологиях, стирающий границы народности и нации, позволяет сформулировать такие руководства к действию, которые оказываются менее частичными. Если мифические силы трактуются как аморальные или трагические (нравственно противоречивые), то людям соответственно даруется право (или хотя бы дозволение) на аморализм или трагический характер.
Собственно, опасность мифа и его поэтической философии кроется не в поэтическом мифе, который полностью открыт действительности, а в догматизации мифа, превращении его в картину мира; превращаясь в догму, миф претендует на то, чтобы занять еще и место философии и теологии. Мифологическая картина мира как догматическое учение превращает «промежуточные» силы в «высшие», в последнюю
214
инстанцию. Пожалуй, это перспектива для тех, кто смотрит на мифическую картину мира извне. Мифическому человеку почитаемые им «средние» силы представляются, конечно, «наивысшими». Каковы для политеиста олимпийцы, таков для приверженца народного движения народ, то есть высшая инстанция. С другой стороны, можно заметить, что подобные «высшие инстанции» выступают всегда во множественном числе: боги столь же многочисленны, как и народы; из этого уже следует противоречивость завершенного, догматического мифа: в мифе эти последние инстанции ведут между собой беспощадную борьбу. Метафизический плюрализм и «борьба богов» неотторжимо принадлежат мифологической картине мира.
«Борьба богов» и метафизическая разорванность мифологической картины мира могут быть тогда преодолены, если мифические силы действительно понимать как опосредующие, подчиненные высшей силе и в конечном счете подвластные ей; если указанные силы интегрировать в теологическую картину мира. Теология и мифология могут соединиться, если сохранится высший порядок теологии и миф не будет утверждаться в качестве догматического мифа. Теология требует подчинения мифических сил божеству и способна непротиворечиво мыслить это отношение подчинения; отсюда непонятно, почему теология, согласно расхожему мнению, обязательно предполагает полную демифологизацию мира и его магии. Непосредственная, опытная постижимость опосредующих сил и магия глубинного измерения мира свидетельствуют против того, чтобы рассматривать силы мифа как всего лишь выдумку. Благость и всемогущество Бога не ставятся под вопрос, если наряду с человеком существуют и другие личностные, не божественные силы, которым от Бога доверена власть; даже допущение, что человек имеет силу, соединимо с верой во всемогущество Бога.
Действительности мифического нельзя отрицать, но ее нельзя принимать как обязательный миф. Миф нельзя догма
215
тизировать, возводить в ранг обязательной картины мира и догмы, именно потому, что он не универсалистичен и, следовательно, не может быть истинным подобно теории целокуп-ной действительности. В противоположность теологии он всегда остается частным. Мифологическая догма — в отличие от теологической — самопротиворечива: частному характеру мифа противоречит стремление выдать его за универсальный, тогда как теология может сформировать догму, потому что ее содержание отвечает требованиям связности и непротиворечивости. Правда, если смотреть извне, теологии христианства и ислама фактически не являются универсальными, но в рамках этих учений в силу своего догматического содержания и внутренней структуры они способны быть универсальными и поддаются универсализации.
Иудаизм занимает своеобразное промежуточное положение: по своему учению он универсален, но по кругу адресатов ограничен одним народом; поэтому с точки зрения религиозной логики он должен был «универсализироваться» в теологии человечества и в универсализме христианства или ислама. Для этих двух универсалистических теологий иудаизм с его промежуточным положением между частичностью, народным партикуляризмом и универсальностью религиозного представляет проблему — его промежуточное положение ставит под вопрос универсализм христианства и ислама, поскольку и христианство, и ислам в качестве полноправных наследников иудаизма осознают то начало и призыв, которые даны религии человечества в последнем. Упреку христианства, что иудаизм обнаруживает «непримиримость» по отношению к универсализму, можно найти оправдание, которое теологически нельзя отрицать; этот аргумент снова и снова давал толчок и повод в истории к религиозно окрашенному антииудаизму, и этот религиозный антииудаизм всякий раз выплескивался далеко за пределы теологических споров.
216
3. Народный миф: перевернутое мифическое
Теологически окрашенный антииуцаизм по большей части остается умеренным, так как теология, не желая уничтожить самое себя, не может отрицать общего между христианством и иудаизмом и единого наследия — Ветхого Завета. Этот антииудаизм следует отличать от мифологического антисемитизма. Обыденный народный мифологический антисемитизм питается нетеологическими, народными и расистскими источниками. Народный миф видит в иудаизме свое иное, свой антимиф. Он мифологизирует иудаизм, и им владеет метафизическая враждебность к иудаизму с его понятием единства народа и религии, потому что народный миф видит в иудействе частное, один из народов (такой же, как «свой» народ), который между тем обладает и универсальным содержанием, некой универсалистической религией. Поэтому в глазах народного мифа иудаизм создает видимость универсальности там, где в действительности все так же частично, как и у других народов. Идеи «конституции» национал-социализма — «Мифа XX века» А. Розенберга — выросли из убеждения, что иудейство несет на себе печать универсалистической частичности, следовательно, угрожает тотальной частичности народов, как она понимается самими народами1.
1 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkampfe unserer Zeit. Munchen (Hoheneichen), 71942. Розенберг видит в иудействе «искусственную систему выведения расовой смеси». «Безрасовый универсализм иудейства поселился в Европе» (S. 33). Павел, «чего никогда не признают в церковных кругах, придал подавленному национал-жидовскому мятежу международный размах, проложил путь расовому хаосу древнего мира, и евреи в Риме отныне очень хорошо знали, ради чего они предоставят свои синагоги для его пропагандистских речей» (S. 75). Прямо называя Павла «универсализатором» иудейства и возведением его до масштабов христианства, Розенберг демонстрирует, что вместе с иудейством ему хотелось бы расправиться и с христианством.
217
Народный миф забывает о том, что иудейство — это самосознание народа и народ, притязающий на универсалисти-ческую нравственность и этику единого Бога. Иудейство — первый демифологизатор мировой истории и одновременно — реальный народ, в котором мифологическое хранилось дольше, чем и в других народах, и в самых совершенных формах. Благодаря этому иудеи и вызывали восхищение, зависть, недоверие и, наконец, бездонную ненависть, ненависть народного движения и народного мифа, более молодого народа, осознавшего себя обделенным. Приверженец мифологической картины мира и мифически-народного национализма узнает в иудействе вечного разрушителя собственной картины мира, универсализатора, опровергающего абсолютизм частного, метафизический плюрализм и политеизм, но сохранившего себя и свое право на частичность, на религию, связанную с одним определенным народом.
Догматическая мифология ненавидит не только иудейский, но и христианский монотеизм, потому что обе формы монотеизма лишают множественность ее метафизического характера, статуса последнего основания; они лишают конечной непреходящей ценности — характера — народ, расу, мифический воображаемый образ человеческих отношений.
Это заметно и у Розенберга, когда он противопоставляет монизм (понимая под ним то, что обычно называют монотеизмом) своей собственной концепции мифологического, конечно-истинного, основополагающего и непреходящего плюрализма и, вопиюще анахронично используя гностический дуализм — правда, как модель архиереси христианства и из-за вражды гностиков к Ветхому Завету, утверждает, что «германский человек» питает «отвращение к монизму»1. Гностик Маркион отстаивал, по его убеждению, «нордическую идею мирового порядка, покоящегося на органическом напряжении и иерархических ступенях, в противоположность семитичес
1 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 127ff.
218
кому представлению о произволе божественной воли и ее неограниченном насильственном господстве. Поэтому он отбрасывает также... так называемый «Ветхий Завет». Подобные попытки присутствовали и у других гностиков. Вследствие своего расового разложения Рим покорно отдал себя в руки Африки и Сирии, спрятался за «простой» личностью Иисуса, смешал позднеримский идеал мировой империи с идеей наднациональной мировой церкви»1.
Ясно, что, как показал Жак Маритен, антисемитизм национал-социализма — это скрытая ненависть к христианству и атаки на универсализм христианства, пользующиеся анти-иудейским облачением.
4. Метафизический плюрализм, дуалистический гностицизм, эстетизация
Миф, если он под влиянием монотеизма демифологизируется как картина мира и система, как догматическое учение, превращается в гностицизм. Гностицизм — это догматизированный или догматический миф. Совершенный метафизический плюрализм или политеизм после просвещения, как его осуществляла теология применительно к мифологическому политеизму, более невозможен. Видимо, в будущем придется ограничиться системами тотальной деконструкции. Догматический миф, стремящийся конституировать картину мира в условиях теологического и философского просвещения, должен «метафизироваться», стать гностицизмом, только тогда он если не состоятелен, то по крайней мере способен к открытости.
Гностический дуализм сил этого мира и далекого, неизвестного Бога, который не имеет силы в этом мире, — это попытка соединить мифологию с теологией таким образом,
1 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 75f.
219
чтобы миф не подчинялся логосу, а стоял наравне с ним, обладал той же силой. Поэтому Розенберг восхваляет гностиков (Маркиона и др.), хотя у него нет ничего общего с религиозным смыслом и моральной строгостью и аскезой гностицизма. Народный гностицизм Розенберга — это попытка объединить радикальную частичность народного движения с систематически-универсалистической идеей единства мира.
Даже миф не может отказаться полностью от идеи единства в модерне. Метафизический дуализм представляет собой определенную мифолого-метафизическую попытку гностицизма синтезировать единство и множественность, сохраняя изначальность за множественностью. Множественность — фундамент целокупной действительности, которая, однако, все же мыслится как единство. Однако как единство не в смысле, что единство — это вместе с тем и начало. Принципом, учреждающим единство, в мифе и в гностицизме выступает борьба, а не мир, который служит лишь передышкой перед новым этапом борьбы. Множественность первична, изначальна'.
Принятая в гностическом мифе изначальность множества имеет два опасных социально-политических следствия: она делает невозможным устойчивое понятие о морали, потому
1 Отчетливо выделена метафизическая изначальность борьбы и не-уничтожимости множества у В. Беста (Best W. Der Krieg und das Recht (1930), но также и у Юнгера: Das Sonderrecht des Nationalismus // Arminius, 8. Jg. H. 4 (1927). S. 3ff.; в национал-революционный период своего творчества Юнгер пишет: «Мы, националисты, не верим ни в какие всеобщие истины. Мы не верим ни в какую всеобщую мораль. Мы не верим в человечество как коллективное существо с одной совестью и единым правом. Скорее, мы верим в самую сильную обусловленность истины, права и морали временем, пространством и кровью. Мы верим в ценность особенного» (подчеркнуто мной. — П. К.). Однако можно заметить, что аффектация по отношению ко всеобщему идет у Юнгера от опыта неискренности и страдания и содержит в себе моменты онтологического и политического бунта против налично данного.
220
что непротиворечивые, всеобщие нормы невозможны в картине мира, где множество и противоречивость признаются исходными принципами. В несоединимости нравственной универсализации и метафизического плюрализма берет свое начало аморализм гностицизма и других гностических мифов, присущее всем им отрицание принципа справедливости. Кроме того, признанная в гностико-народном мифе изначальность метафизической множественности дает возможность декларировать в политике изначальную множественность расистских, народных или социальных человеческих типов. Тезис об онтологической изначальности множества оправдывает классовые общества, где существуют различия по расам, народностям или социальному происхождению.
Это обнаруживается уже в делении людей на посвященных, избранных пневматиков, людей духа, и равнодушных саркиков, людей плоти, которое отстаивал античный гностицизм во II и III веках, правда, следует иметь в виду, что различительный признак в гностицизме был интеллектуальным, а не расистским или же этническим. Это отличие религиозномистического гностицизма античности и антирелигиозного, расистски-народного мифа в XX веке не следует упускать из виду.
Мифология догматизируется, и в самом догматическом мифе возникают два вопроса: что за социальная инстанция интерпретирует эти положения и догматически проповедует их и как соотносятся политический и мировоззренческий авторитет? Для догматической мифологии гностического типа характерно требование единства политического и мировоззренческого или религиозного авторитета. Гностизированная мифология постоянно будет требовать единства царской и пастырской власти, мирских и религиозных сил в сакральном царствовании или вождизме. Догматический миф — это одновременно и политический миф. Национал-социализм тоже требовал единства политического и мировоззренческого властвования одного «вождя»-фюрера и всеми силами бо
221
ролся против противопоставления государства как политического сообщества и церкви как сообщества религиозного.
Политический миф стремится увести нас в пространство по ту сторону различения политики и религии (или метафизики); он ведет к политической религии или религиозно-мифологической политике. В мифе политическая и мифическая власть могут соединяться в личности суверена — будь то плебисцитарно-демократический суверен или диктатор, — ибо суверен есть одновременно «опосредующая сила», мифическая власть; но в мире суверен не является легитимным представителем Бога. Напротив, в теологическом толковании мира пастырское служение и политическая служба несовместимы более в одном лице: божественная власть стоит над мифическими силами середины, пастырь и политический властитель по-разному принимают свои полномочия от высшей власти, но оба они реально эту высшую власть не представляют.
Соединение политической и религиозной власти — утопия, снова и снова возрождающаяся из гностико-мифологического мышления; она выражается в жажде политического мифа и божественного вождя. Даже если соединение теологии, философии и мифа кажется возможным, их «связка» все же не настолько гибкая, чтобы включить в нее еще и политику. Идея целостного мироистолкования посредством поэзии, философии и теологии должна, скорее, показать именно отличие мировоззренческого авторитета от политического и метафизической теории от политической. Она требует, чтобы единство метафизики, теологии и мифологии четко противопоставлялось политике, было от нее институционально отделено — то есть различия между государством, церковью и партией были закреплены институционально. Пусть прав де Местр, и все действительно важные вопросы политики и социального порядка решаются в метафизике, но это не означает, что политический властитель и правитель тождествен тому, кто выстраивает мироистолкование и интерпретирует догму. Различие религии и политики, обусловленная этим различи
222
ем большая рациональность как политики, так и мироистол-кования находят свое институциональное соответствие в различении государства и церкви. К «мировоззренческой партии» и «политической религии» постоянно стремятся тогда политический миф и мифическая политика.
Мифизация политики и политизация мифа порождают также эстетизацию политики. Политический порядок стилизуется под произведение искусства, поэтическая сила мифа переоценивается таким образом, что миф позволяет выстраивать и политику, и социальные институты поэтически, исходя из эстетики. Государство превращается в «целокупное произведение искусства». Подмена социального устройства эстетическим стала приметой фашизма и национал-социализма — хотя вообще многие не без основания недоверчиво относятся к чрезмерному употреблению слов «образ», «преобразование». В них скрывается притязание на власть. Совокупное социальное тело становится для национал-социалистов объектом преобразований в духе мифоэстетического воображения, всеобщее и повседневное, текущие заботы социальной действительности изгоняются из политики. Политика — как религия — воспринимается, скорее, как эстетический феномен, а все разрушающее эстетику социального — душевнобольные, расово чуждые и подобные им элементы ликвидируются.
Даже поэт такого масштаба, как Готтфрид Бенн, в отличие от Юнгера (который, будучи метафизиком, оказался лучше защищенным от эстетизма), подпал под национал-социалистический соблазн тотальной эстетизации. В 1934 году Бенн пишет о новой эстетизации политики: «Пусть поток расы несет ее (новую молодежь) через свои годы, через свои дома, свои поля, свои вечевые площади, свои могилы, пока не придет тот образ, который встанет в ряды древних неизгладимых германских образов; это и будет тем новым, которое сейчас только мерещится нам, смутно звучит в наших внутренних побуждениях. В труде нового поколения прямо будет сказано то,
223
что мы сейчас видим в сумеречном слове Ницше об оправдании мира только как эстетического феномена»1. Мифологизация и эстетизация политики связаны друг с другом, обе возникают благодаря выходу поэтического воображения в области рассудочного познания налично данного, что составляет задачу собственно науки, философии и теологии. Мифологизация и эстетизация политики идут от опьянения власти неограниченными возможностями воображения.
От эстетизации политических задач, построения «совокупного художественного творения» следует четко отличать ту идею, что политика тоже своего рода искусство. Политика как изобретение и осуществление новых социальных возможностей и как решение политико-социальных проблем требует способности творческого воображения. Она есть «государственное искусство». Это государственное искусство, искусство государственного мужа отделено от тоталитарного художественного творения под названием «государство» и от национал-социалистического совокупно-художественного творения, «народного сообщества». Поэзия, школа поэтического воображения, воспитание художественной выразительности должны войти в подготовку государственного деятеля. Они необходимо предшествуют научно-политологическим занятиям и политической практике и постоянно сопровождают их. Однако они не могут подменять политическое теоретизирование, понимание событий. «К максимам проконсула относилось: истинная политика возможна только там, где ей предшествует поэзия» (Heliopolis, S. 109; Bd. 16, S. 102). После национал-революционного периода в творчестве Юнгера, когда и у него можно отметить эстетизацию политики, в произведении «На мраморных скалах» (1939) писатель последовательно разграничивает политику как искусство и эстетизацию государства до степени мифического совокупно-художественного творения.
1 Benn G. Lebensweg eines Intellektualisten (1934) // Gesammelte Werke. Wiesbaden (Limes), 1968, Bd. 8. S. 1930f.
224
Родственные гностицизму метафизический дуализм и мифологическая метафизика множественности сыграли свою роль в духовных иллюзиях и заблуждениях национал-социалистического модернизма. Национал-социализм, однако, нельзя сводить только к мифу и происходящей в нем ремифологизации модерна. Ведь гностико-мифологический дуализм гораздо ближе сциентистской мысли просвещения, чем это обычно принято думать, — он несет в себе гностические черты и дистанцируется от теологической картины мира1. В основании сциентизма заложен мифологический дуализм между духовным миром ученого и внешним миром просто протяженности и материалистической закономерности; он ведет к устойчивому разделению людей на класс обладающих знанием и класс этим знанием не располагающих, на ученых и публику.
Тезис просвещения, согласно которому разум есть последнее основание прав человека и институтов, равно как и всеобщее как таковое, оказывается менее универсальным, чем он сам утверждает. В нем природа — как в гностицизме (вот отличие от теологии) — становится великим другим, противоположностью разуму, совершенно ему чуждой. И всех, кто не обладает высшей формой разума, просвещение исключает из круга возможных носителей прав разума и прав человека.
Поэтому не случайно, что Розенберг, мифолог национал-социализма, пытался мировоззренчески приблизиться к Канту и объединить дуализм кантовской просветительской философии и гностицизма: «Основополагающий факт нордическо-европейского духа есть осознанно или неосознанно признаваемое разделение двух миров, мира свободы и мира природы. В лице Иммануила Канта этот прафеномен мыслительного метода нашей жизни достиг самого ясного осозна
1 Ср.: Koslowski Р. Wissenschaftlichkeit und Romantik. Uber den Zusammenhang von Szientismus, Gnostizismus und Romantizismus, 1988.
225
ния»1. Здесь не место разбирать, справедлива ли подобная оценка Канта. Однако для анализа национал-социализма как одного из движений модерна многое проясняет как сам этот тезис, так и попытка Розенберга сформировать национал-социалистическую идеологию: взаимодействие гностической мифологизации со сциентистскими и техницистскими моментами просвещения очевидно для национал-социалистической идеологии (причем можно легко понять, почему Розенберг так осознанно и злобно изгонял теологию).
Синтез мифологии и просвещения в национал-социалистическом модернизме, в «реакционном модернизме»1 2, не позволяет интерпретировать национал-социализм только как миф и признать миф виновным в катастрофе столетия. С другой стороны, нельзя, как это выразил архиепископ парижский, кардинал Жан Мари Люстиже, воспринимать Освенцим как завершение просвещения, если не сделать определенных оговорок. Только в единстве догматизация народного мифа и тотальное технически-сциентистское просвещение сделали возможной катастрофу Освенцима. Мышление, породившее Освенцим, — это крайняя степень извращения технического просвещения и одновременно — высшая степень извращения мифа.
И все же эта катастрофа модерна не «объясняется» одними извращениями мышления. По Августину, никакое зло не может быть до конца объяснено действующими причинами. Скорее, оно исходит из злой воли без каких-либо побудительных причин. Граница злой воли обозначает и границу выводимости политического преступления из соображений идеологии, которые руководили деятелями истории в их деяниях.
В самом темном уголке модерна скрывается mysterium iniquitatis3, таинство зла, не поддающегося полному проясне
1 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. S. 131.
2 Ср.: HerfJ. Reactionary Modernism, 1984.
3 таинство несправедливости, вражды (лат.).
226
нию средствами идеологии. Никакая идеология, даже народно-национал-социалистическая, не решилась сделать геноцид программным положением открыто проповедуемой догмы, идеологического учения.
Без того могущества, которого достиг человек в тотальной мобилизации благодаря универсально-всеобщему (тотальному) характеру труда, научному просвещению и расколдовыванию мира, благодаря «оснащению» техникой, народный миф модерна не стал бы тем, чем он стал в реакционном модернизме национал-социализма, смешавшего миф и просвещение. Чтобы родилась такая тотальная мобилизация народно-модернистского мифа, сначала должна была состояться бесовская свадьба просвещения и мифа.
Взгляд на творчество Эрнста Юнгера в целом позволяет понять, почему страшное соединение народного мифа и технократического просвещения могло властвовать в Германии и торжествовать в виде расистской диктатуры; вряд ли народ как целое, если мы не хотим впадать в негативный народный миф, следует считать ужаснее, чем другие народы. Возврат мифа в Германии 20-х и 30-х годов был реакцией на великие страдания и разрушения. То, что миф стал догмой, приобрел свою самую худшую, частную и жестокую форму — стал народным расизмом, уже произошло до захвата власти национал-социалистами, если можно верить сочинениям Юнгера, хотя это не так очевидно, как многим может показаться по прошествии лет. Воля к жестокому и аморальному мифу соединилась с волей и способностью к все возрастающей научно-технической мобилизации и «просвещению», и это было стечением обстоятельств, не лишенным трагического момента. В годы между 1918-м и 1939-м у людей было мало времени привыкнуть к небывалому росту силы и могущества, инициированному наукой и техникой, как и к «диалектике просвещения».
227
5. Трагедия и демонизация модерна
Можно ли оправдать точку зрения на времена горя и тотальной мобилизации как на трагедию? Трагик сознает, что во всяком грехе и вине есть момент судьбы, он не снимает вины, но он и неустраним; без него все превращается в морализаторство. Если бы грех содержал только одну вину, его нельзя было бы простить. Со времен своей первой книги, «В стальных грозах», Юнгер протестовал против того, чтобы военное поражение в Первой мировой войне объяснять как следствие немецкой вины — вины за войну. Его аргументы кажутся философски обоснованными. Если даже второй германский кайзерский рейх во многом был не на высоте для своего времени, война, которую ведет конституционная монархия, от этого вряд ли становится более безнравственной, чем война, которую ведет парламентская демократия. Юнгер описал горечь от несправедливого Версальского мира и от того, что вина за войну оскорбительным для немецкой гордости образом была возложена на немцев; эта горечь отравила внутриполитическое положение в Германии и осложнила примирение с тогдашними противниками войны. История Германии в XX веке позволяет признать, что победители в Первой мировой войне взяли на себя вину несправедливого мирного договора и тем самым разделили вину за дальнейшее развитие Германии.
Последствия несправедливого морализирования вопроса о вине за Первую мировую войну были весьма весомые. Прежде всего солдаты тех лет пытались задним числом придать смысл и поражению, и бессмысленным жертвам. Даже сейчас антимилитаристическое чувство оказывается задетым, когда поэт уровня Юнгера пытается в журналах, обращаясь к прежним фронтовым товарищам, придать какой-то смысл напрасным кровавым жертвам Первой мировой войны:
«Судьба подчиняет движение сил некоему высшему смыслу. Так, два народа борьбой смыкаются в некое магическое
228
единство, в пылающее тело, рождающее новое. В битвах сходятся не только борцы, но и материал для будущей формы, желающий быть выкованным и закаленным. В этой работе значение противников одинаково. Даже при полном уничтожении побежденный исполняет великую задачу. По меньшей мере он продолжает жить в победителе, который в свою очередь обязан побежденному существенной частью своего нового облика. На его сопротивлении взрастает новая жизнь. Как и до любых механистических теорий, мы хотим здесь защититься от «выбора достойнейшего». Упадок так же значителен и так же плодотворен, как и победа. Прогресс в своем вечном движении теряет смысл. Борьба — одна из двух великих форм судьбы: это плата, которая предстоит всем. Как методы, так и результаты этой борьбы тесно связаны с методами и результатами другой формы судьбы — любви. Здесь, как и там. Противоположностями создается единство»1. Может быть, эта попытка придать смысл поражению в войне была лжива и политически опасна. И все же мы не можем отказать ей в человеческом уважении.
Побежденная Германия искала в мифе духовного прибежища, которого, как казалось, религия более не могла дать. Многие бежали в миф, сначала в национальный, а потом в народный миф. То, что народный миф примет такие преступные формы, не было неизбежностью; непредвидимое заключалось в том, что в этих мифах люди искали спасения. Что должно было насторожить, так это само содержание мифов. Однако если мы признаем в отношении модернизма третьего рейха, что диалектика просвещения существует, то должны будем согласиться и с тем, что существует аналогичная диалектика мифа.
Неверно, что любой миф негуманен. Скорее, следует спросить: а не является ли общество без мифа и без поэтической
1 Jiinger Е. Professorales und Nichtprofessorales // Arminius, 8. Jg., H. 36(1927), S. 2.
229
философии, без эпоса его собственной истории и предания, таким же негуманным обществом, как то, где отсутствует момент просвещения? В тотально просвещенном обществе теряются коллективная память и общность воображаемых пространств. В пустые пространства воображения устремляется технократическое мавританство, не заполняя их.
Юнгер описал превращения национального мифа в годы с 1920-го по 1945-й, прогрессирующую демонизацию и сата-низацию содержания и носителей мифа; он отдавал себе отчет и в собственных ошибках: «Когда я думаю о своей собственной кривой, то она, часто против моей воли, шла вразрез с общим развитием. Суждения менялись примерно так: из «человек имеет право» — в «человек смешон» и «человек становится жуток». Вообще это вполне отвечало той мере, в какой этот самый человек переходил от реплик к провокациям. При первых крупных успехах на выборах и взятии власти я был далек от событий. Уже факты мюнхенского путча меня обозлили» (Кирххорст, 31 марта 1946 года; Die Jahre der Okkupation, S. 252; Bd. 3, S. 613)'. В Париже в 1942 году он констатирует метаморфозы зла в Гитлере: от Люфицера к дьяволу и, наконец, к сатане (16 марта 1942 года; Strahlungen II, S. 321).
Даже спустя годы виден ужас Юнгера: он, автор, не угадал демонии, поэзии и дарования, которыми обладает зло:
1 Мюнхенский путч Юнгер критиковал еще в своей статье «Национализм и национал-социализм» (Arminius, 8. Jg., Н. 3 (1927), S. 9), опасности национал-социализма он тогда еще, однако, не видел. В статье есть одно удивительное высказывание: «Не случайно, что национал-социализм выдвинул на передний план целый ряд выдающихся риторских дарований, а сам Гитлер, пожалуй, величайший оратор Германии. Но уже Тьер говорит в своей истории Французской революции, что на слушателей можно оказать лишь мгновенное воздействие, тогда как на круг читателей — более продолжительное». Далее в статье говорится, что национал-социализму, хотя «из всех движений оно самое современное», недостает теории. Прежде всего у него нет книги уровня «Капитала» Маркса, и, пока такая книга не появится, завладеть социальной действительностью не удастся.
230
«Без сомнения, я недооценивал дарования человека. Его притягательная, динамизирующая сила, его чутье на упрощающие формулы, что схватывали тенденцию эпохи масс и машин, были исключительны, особенно если учесть его происхождение. В этом отношении его противники могли бы поучиться у него. Традиционалистские, эстетические, нравственные размышления позволяли легко игнорировать это, как и чистый интеллект. Кроме того, в своем даровании он еще не так сокрушен, как в своем темпераменте, своем ненасытимом рвении. Его система была проще и стабильнее Вильгельмовой, она устояла и в последних фазах ужаса. Она и в наше время дала ряд демонических всплесков, которые удовлетворили ничтожество. Но остается что-то таинственное в том, что не подлежит компетенции историка. Едва ли в модерне кто-то из людей привлекал к себе столько воодушевления, но и столько ненависти» (Кирххорст, 31 марта 1946 года; Jahre der Okkupation, S. 253f.; Bd. 3, S. 613).
В истории есть нечто, что выпадает и ее великим деятелям, и в еще большей мере народам, которыми они управляют. Прежде всего это нечто есть в войне, оно выпадает на долю зачинщиков и жертв, потому что ни причина, ни результат войны не суть чистые действия1. Это убеждение вряд ли ложно и относительно немцев и их роли в Первой мировой войне и даже (хотя и в меньшей степени) во Второй мировой. Мифы о модерне и его мобилизации позволяют предчувствовать переплетение греха, вины и судьбы в немецкой и европейской истории этого столетия. «Стальные грозы» тотальной мобилизации модерна прогремели не только над Германией, они поразили не только евреев в Германии и германских соседей.
1 Развитие войны в Персидском заливе в 1991 году и судьба курдов как непредвиденное следствие этой войны снова подтвердили это.
231
6. Миф о модерне: преодоление страданий и боли эпохи
Поэтическая философия и философская поэзия Юнгера — это попытка средствами эпоса, мифа и философской рефлексии представить страдания эпохи модерна и забыть о них. На всех трех стадиях юнгеровского эпоса модерна, в эпосе Солдата, Рабочего и Титана, миф выступает в своеобразной двойственности: как средство познания героя и как средство дистанцирования от страданий жертвы и их преодоления. Герой, деятель переживает миф как свое возвеличивание, жертва — как переработку страданий и как утешение. Миф для жертвы есть средство преодоления ужаса и страдания постольку, поскольку в мифе ее страдание переживается как типическое, случающееся испокон веков и впредь.
Высота Юнгера как поэта сказывается и в том, что его мифы — это мифы о деятелях и страждущих одновременно; и не только в том смысле, что страдание жертвы есть предпосылка поступка деятеля. Скорее, эпосы Юнгера написаны с точки зрения деятеля и жертвы одновременно. В этом отношении они имеют только один недостаток: жертвы, которые модерн пожал среди евреев в Германии, в творчестве Юнгера не нашли эпического выражения. Но, может быть, для этого историческая дистанция была еще слишком мала, и даже юнгеровской способности перерабатывать ужас было пока недостаточно1.
Предпосылкой для всего эпического искусства Юнгера была его невовлеченность; часто она трактуется как безжалостность. Певец в своем эпосе не имеет права встать на чью-то сторону — иначе он не сможет воздать должное обеим сторонам, деятелю и жертве, не сможет воспеть обоих. Невовлеченность — предпосылка и следствие справедливости, которой поэт обязан героям и жертвам. Если нет беспартийности и дистанции, нет и справедливости, если нет невовлеченности — нет эпоса. Архаика юнге-
1 Быть может, образ Будур Пери в «Гелиополисе» можно понять как попытку отобразить в эпосе модерна судьбу евреев под языческой оболочкой вавилонско-зороастрийской парсиянки.
232
ровского творчества — результат невовлеченности. Эпический летописец остается за линиями всех фронтов1. Творения его эпоса действуют архаически, он не дает нравственной оценки событиям. Эпический репортер и поэт-мифотворец не лишен сострадания, не чужд боли, но он не имеет нравственной партийности. Он охвачен болью обеих сторон и вместе с тем морально он — вне пространства их борьбы. Для эпического поэта его эпоха — время боли и жертвы, а вовсе не время нравственного протеста.
Модерн для Юнгера — в противоположность утопиям и философско-историческим концепциям либерального и прогрессистского модерна вряд ли является временем триумфа человека. Теология и миф лучше, чем доктрины философов, экономистов и идеологов модерна, понимают, что модерн — это еще и время великих поражений человека. История пишется победителями, миф — побежденными. Теология и миф сохраняют память о тех жертвах, которые оставляют за собой философия истории, нравственно оправданная, и идеология совокупного Рабочего мирового духа, избавившаяся от морали вообще. Просвещение — далеко не единственное содержание модерна и не его спасение; это всего лишь одна из путеводных звезд, по которым держит курс корабль, вышедший на поиски смысла эпохи. Диалектика просвещения так же причастна к успехам и поражениям модерна, как и диалектика мифа.
Для просвещения, как и для либерализма, справедлив вопрос: кто сегодня не либерал в политическом и хозяйственном отношении? Политические и хозяйственные институты либерализма доказали свою правомочность, и едва ли можно сомневаться в их оправданности. Но нельзя сказать того же о метафизике. Можно спорить о том, останутся ли скептицизм и агностицизм последним словом в метафизических спорах на века.
О ценностях просвещения, которое стало метафизическим, и о мировоззренческом либерализме можно сказать приблизительно следующее: как прекрасно, если бы мир был таким, что просвеще
1 Ср.: Autor und Autorschaft, S. 260: «Гомер, как и Зевс, иногда участвует в игрищах людей, иногда в игрищах богов».
233
ния и либерализма вполне достаточно для познания и обеспечения правильной жизни. Кто из нас не просвещен и не либерал, и не желает мира, в котором вполне можно обойтись просвещением и либерализмом! Но, к сожалению, все далеко не так. Юнгер — тайный либерал, как все романтики, пишет в 1990 году: «Казанова — либерал, Дон Жуан — трагический образ»1. Либерал, потому что постоянно страдает от постоянного сведения и упрощения глубинных измерений мира и вместе с тем несет в себе что-то фривольное. Интеллигентный консерватор, собственно говоря, тоже хочет быть либералом. Но он недостаточно фриволен для этого.
Мистик знает, что только единство теологии, мифологии и научного просвещения способно справиться с глубинами и трагичностью действительного мира и истории; создается тот ряд, та картина бытия, которая указывает путь к забвению вины и страданий человека.
Основной конфликт в истории человечества — противоречие божественного права и притязания человека на власть, или, говоря словами Юнгера, конфликт между правом Бога и силой титана. Этот антагонизм в модерне проявился с невиданной прежде остротой и жестокостью, но в истории он возникает не впервые. Противоположность между правом богов и силой титанов так же стара, как само историческое бытие человечества. На языке теологии она названа первородным грехом, присуща изначально любому человеку и любой нации.
Усложнилась не тема и проблема конфликта, а стали сложнее и жестче испытания человека в эпоху модерна. В этом смысле справедливо то, что говорится об испытаниях технического мира, в том числе во времена модерна: «Сама сущность машины должна, вероятно, помочь нам лучше узнать себя самих — узнать то, чем мы не являемся» (Париж, 15 сентября 1943 года; Strahlungen II, S. 155). Смыслом модерна могло бы стать: помогите нам познать то, что не есть мы, чем мы не являемся.
1 Jlinger Е. Autor und Autorschaft. Nachtrage // Scheidewege, 20 (1990/1991), S. 249.
Список цитируемых сочинений Эрнста Юнгера
Сочинения Э. Юнгера, если не указано иначе, цитируются по изданию: Samtliche Werke (SW), Stuttgart (Klett-Cotta), 1978ff. Там, где используются отдельные издания, после указания страницы в них, приводится и соответствующее место в SW (том и страница).
«Автор и авторство» — Autor und Autorschaft (1984), Stuttgart (Klett-Cotta), 1984; SW, Bd. 13.
«В стальных грозах» — In Stahlgewittem (1920), Stuttgart (Klett-Cotta) 26. Aufl. 1961; SW, Bd. 1.
«Гелиополис» — Heliopolis. Riickblick auf eine Stadt (1949), цитируется по изданию: Stuttgart, Zurich, Salzburg (Europaischer Buchklub), 1955; SW, Bd. 16.
«Годы оккупации» — Jahre der Okkupation (1958), Stuttgart (Europaischer Buchklub), o. J., позднее опубликовано под названием «Die Hiitte im Weinberg» (SW, Bd. 3, 1979).
«Излучения» 1 — Strahlungen I. Das erste Pariser Tagebuch (1949); SW, Bd. 2.
«Излучения» 2 — Strahlungen II. Das zweite Pariser Tagebuch (1949); SW, Bd. 3.
«Ксилокастрон» — Xylokastron. Nachtrag 1980; SW, Bd. 6.
«Лесной путь» — Der Waldgang (1951), Frankfurt a. M. (V. Klostermann) 3. Aufl. 1952; SW, Bd. 7.
«Мир» — Der Friede (1945); SW, Bd. 7.
«Мировое государство»—Der Weltstaat. Organismus und Organisation (1960); SW, Bd. 7.
«На мраморных скалах» — Auf den Marmorklippen (1939), Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt), 1941; SW, Bd. 15.
235
«Ножницы» — Die Schere (1990), Stuttgart (Klett-Cotta), 1990.
«О боли» — Uber den Schmerz (1934) // Blatter und Steine, Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt), 1942; SW, Bd. 7.
«О линии» — Uber die Linie. Martin Heidegger zum 60. Geburtstag (1950); SW, Bd. 7.
«Опасная связь» — Eine gefahrliche Begegnung. Erweiterte Fassung, 1983 (по частям издавалось в 1954, 1956, 1960, 1973); SW, Bd. 18.
«Post festum» — Post festum. Danksagung bei der Feier meines 80. Geburtstages zugleich Nachwort zur zweiten Gesamtausgabe (1975); SW, Bd. 18.
«Рабочий» — Der Arbeiter (1932), Stuttgart (Klett-Cotta), 1982 (Cottas Bibliothek der Modeme; 1); SW, Bd. 8.
«Рогатка» — Die Zwille (1973); SW, Bd. 18.
«Сграфитти» — Sgrafitti (1960); SW, Bd. 9.
«Сердце, ожидающее приключения» 1 — Das abenteuerliche Herz 1. Erste Fassung: Aufzeichnungen bei Tag und bei Nacht (1929); SW, Bd. 9.
«Сердце, ожидающее приключения» 2 — Das abenteuerliche Herz 2. Zweite Fassung: Figuren und Capriccios (1938), Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt). 61942; SW, Bd. 9.
«Сицилийское письмо к человеку в лунном свете» — Sizilischer Brief an den Mann im Mond (1930); SW, Bd. 9.
«Стеклянные пчелы» — Glaseme Bienen (1957), Stuttgart (Ernst Klett), 1957; SW, Bd. 15, 1978.
«Тотальная мобилизация» — Die Totale Mobilmachung (1930) // Blatter und Steine, Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt), 1942; SW, Bd. 7.
«У стены времени» — An der Zeitmauer (1959); SW, Bd. 8.
«Филемон и Бавкида» — Philemon und Baucis. Der Tod in der mythischen und in der technischen Welt (1972); SW, Bd. 12.
«Эймсвил» — Eumeswil (1977); SW, Bd. 17.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................ 3
Пролог в постмодерне................................... 5
1. Прорыв: миф в историческом времени................ 8
2. «Дезертиры» и «фронтовики» модерна............... 15
3. Истоки понятия «философский эпос»: французский романтизм и гностицизм................................ 18
4. «Магический реализм»: синтез науки и романтики....28
Книга I Миф о Рабочем и титане «Человеке»......................32
Часть А. В СТАЛЬНЫХ ГРОЗАХ МОДЕРНА ....................33
Глава 1. Солдат........................................33
1. Кладовые ужаса....................................35
2. Тотальная мобилизация.............................44
3. Страдания за Германию.............................49
4. Боль..............................................58
Глава 2. Рабочий.......................................60
1. Нигилистическая жертва героического реализма......61
2. Тип Рабочего и индивидуальность бюргера...........63
3. Техника как облачение Рабочего....................68
4. Совокупный Рабочий мирового духа..................70
237
Часть В. МЕЖДУ ЛЕСНЫМИ ЧАЩАМИ И ПУСТЫНЕЙ............... 85
Глава 3. Эпизод I: Идущий лесными тропами — между анархией и нигилизмом........................................... 85
Глава 4. Эпизод П: Любящий — между гностицизмом и христианством 96
Часть С. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ К ЗЕМЛЕ.................... 113
Глава 5. Титан........................................ 113
1. Эпос мировой истории как часть гносиса Земли..... 114
2. Конец героя: завершение эпохи мифа и истории..... 118
3. Исчезновение границы и образа.................... 123
4. Надежда модерна на вечность...................... 126
5. Принцип развития истории: трагедия конфликта между силой титанов и божественным правом.................. 130
а) Титаническое и сверхчеловеческое............... 131
Ь) Титаническое царство Сизифа: его повседневность и обыденность....................................... 133
с) Каинитские и нигилистические умерщвления....... 136
Книга II
Малые формы: повести позднего модерна..................138
Часть D. РАЗВЯЗКА МОДЕРНА: В ИГРАЮЩИХ МИРАХ ПОСТИСТОРИИ........................................... 138
Глава 6. Пораженец модерна.............................139
7. Природа делается искусственной, действительность симулируется........................................ 140
2. Пораженчество перед лицом технического оптимизма... 143
3. Страхи и эксперименты анатомического мышления...... 147
4. Сюрреализм техники и реализм справедливости...... 152
Глава 7. Историк постистории.......................... 156
1. Историзм после смерти философии истории.......... 156
2. Тотальный плюрализм и мультикультурализм......... 159
238
3. В тумане универсального многообразия................ 161
4. Дендизм и гностицизм: средства преодолеть несовершенство творения.............................................. 162
Часть Е. ПРЕОДОЛЕНИЕ МОДЕРНА: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИИ 168
Глава 8. Слабый пастырь: традиция Реформации и все дальше от разговоров на тему модернизации......................... 169
Глава 9. Обманщик в роли богослова: дух и обман слова.... 171
Глава 10. Творец-мечтатель: объединяющая сила красоты.... 172
Книга III
Магия, мифология и философская система модерна 174
1. Магия и метафизика абсолютных полномочий человека..... 176
2. Пространства разума в философии и непредвиденное..... 182
3. Консервативный модернизм.............................. 191
4. Поздний Юнгер — постмодернист?........................ 195
5. Наука об изобилии: преодоление гностицизма модерна... 199
Эпилог: Диалектика мифа................................... 207
1. Треугольник: философское просвещение, теология и мифология.......................................... 208
2. Силы «середины» и догматизация мифа............... 212
3. Народный миф: перевернутое мифическое............ 217
4. Метафизический плюрализм, дуалистический гностицизм, эстетизация......................................... 219
5. Трагедия и демонизация модерна.................... 228
6. Миф о модерне: преодоление страданий и боли эпохи. 232
Список цитируемых сочинений Эрнста Юнгера................. 235
Козловски П.
К 59 Миф о модерне: Поэтическая философия Эрнста Юнгера. — Пер. с нем. — М.: Республика, 2002. — 239 с.
ISBN 5—250—01851—3
Петер Козловски хорошо известен русскому читателю по книге «Культура постмодерна», опубликованной в России в 1997 году. В данной работе он обращается к творчеству видного немецкого философа и писателя Эрнста Юнгера (1895—1998). Создатель оригинальных мифоэпических полотен, Юнгер не только по-своему осмысливал события, потрясшие минувшее столетие, но и ставил вопрос об изменениях глубинных основ бытия человека. Прослеживая эволюцию взглядов мыслителя, автор книги пытается извлечь из них уроки для настоящего и будущего человечества, его культуры.
Книга рассчитана на читателей, интересующихся особенностями современной философии и мифологии.
ББК 87
Научное издание
Петер Козловски
МИФ О МОДЕРНЕ
Поэтическая философия Эрнста Юнгера
Заведующий редакцией М. М. Беляев Ведущий редактор Р К. Медведева Редактор Ж. П. Крючкова Художественный редактор Е. А. Андрусенко Технический редактор Е. Ю. Куликова Корректор Т И. Андрианова
ЛР №010273 от 10.12.97.
Сдано в набор 26.02.02. Подписано в печать 01.04.02.
Формат 70х1081/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,50. Уч.-изд. л. 12. Тираж 2000 экз. Заказ № 205.
Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.
Издательство «Республика» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика». Миусская пл., 7, Москва. А-47, ГСП-3 125993.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Уральский рабочий». 620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
J-
Петер Козловски (р. 1952 г.) -немецкий философ.
социолог и экономист.
Изучал философию, теорию хозяйства и социологию в Тюбингене. Мюнхене и в США (Политехнический институт.
штат Вирджиния). С 1985 г.
- профессор философии и политической экономии в университете Виттен/Хендеке. С 1987 г. -директор Института философских исследований Ганновера.