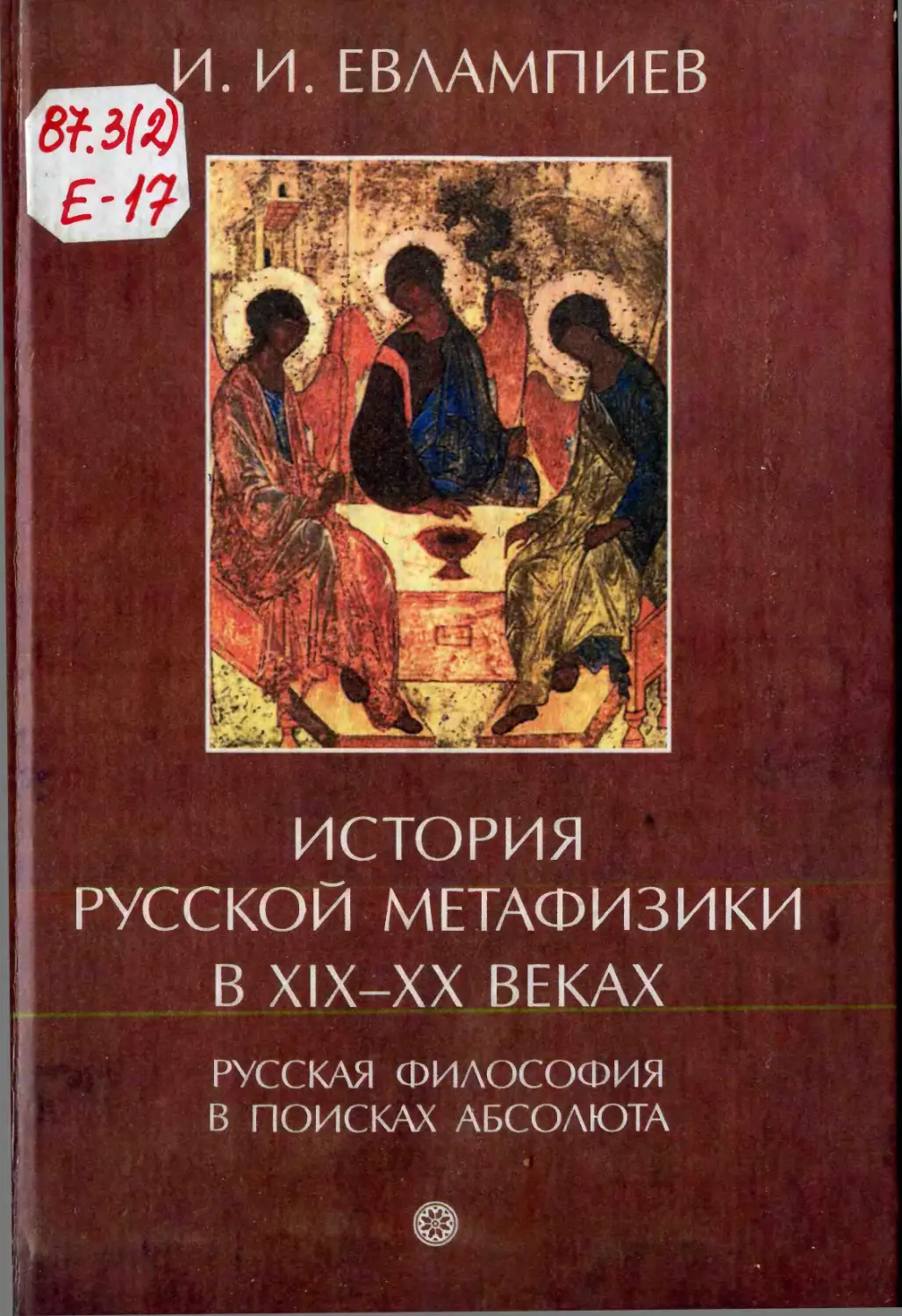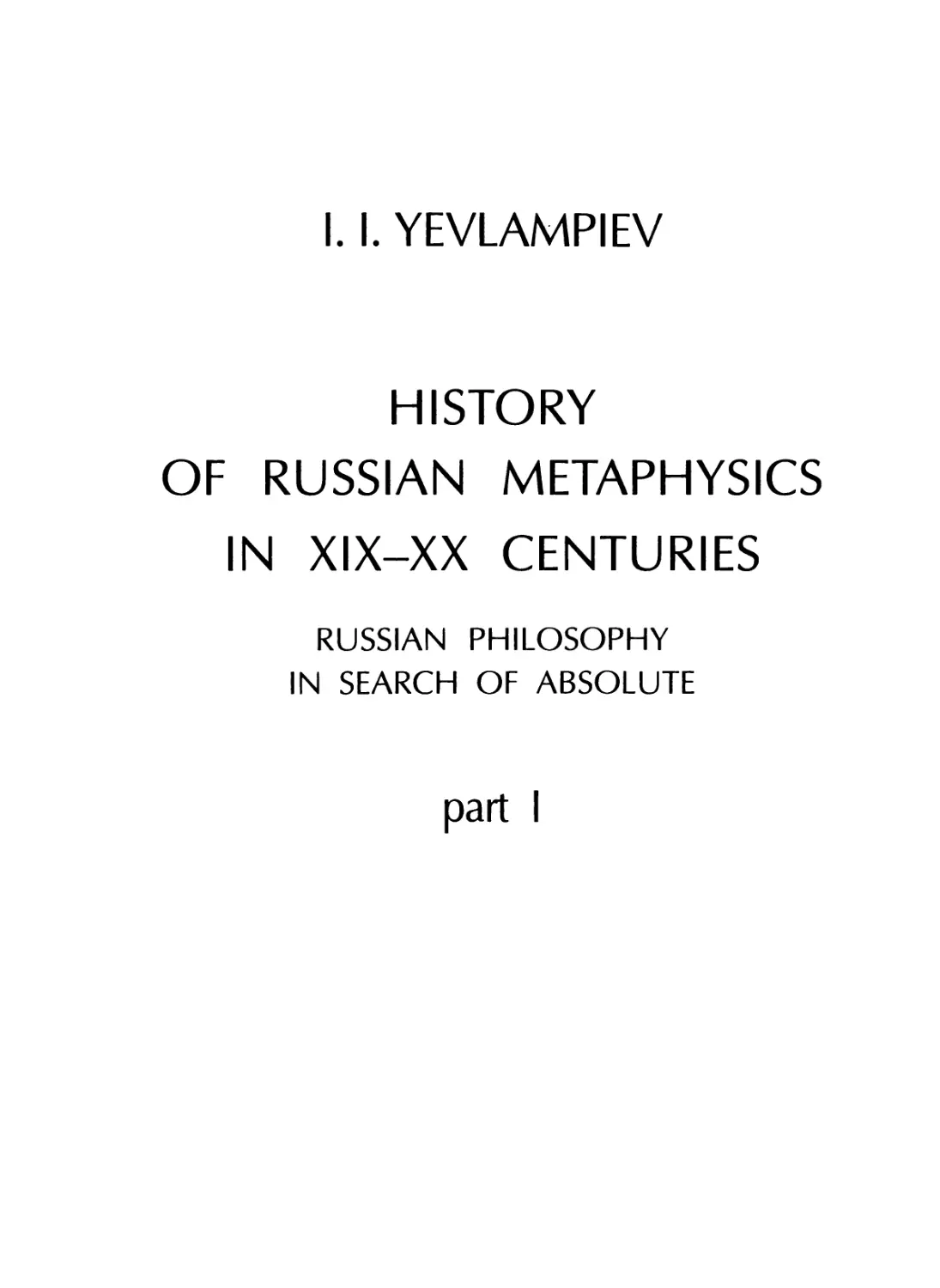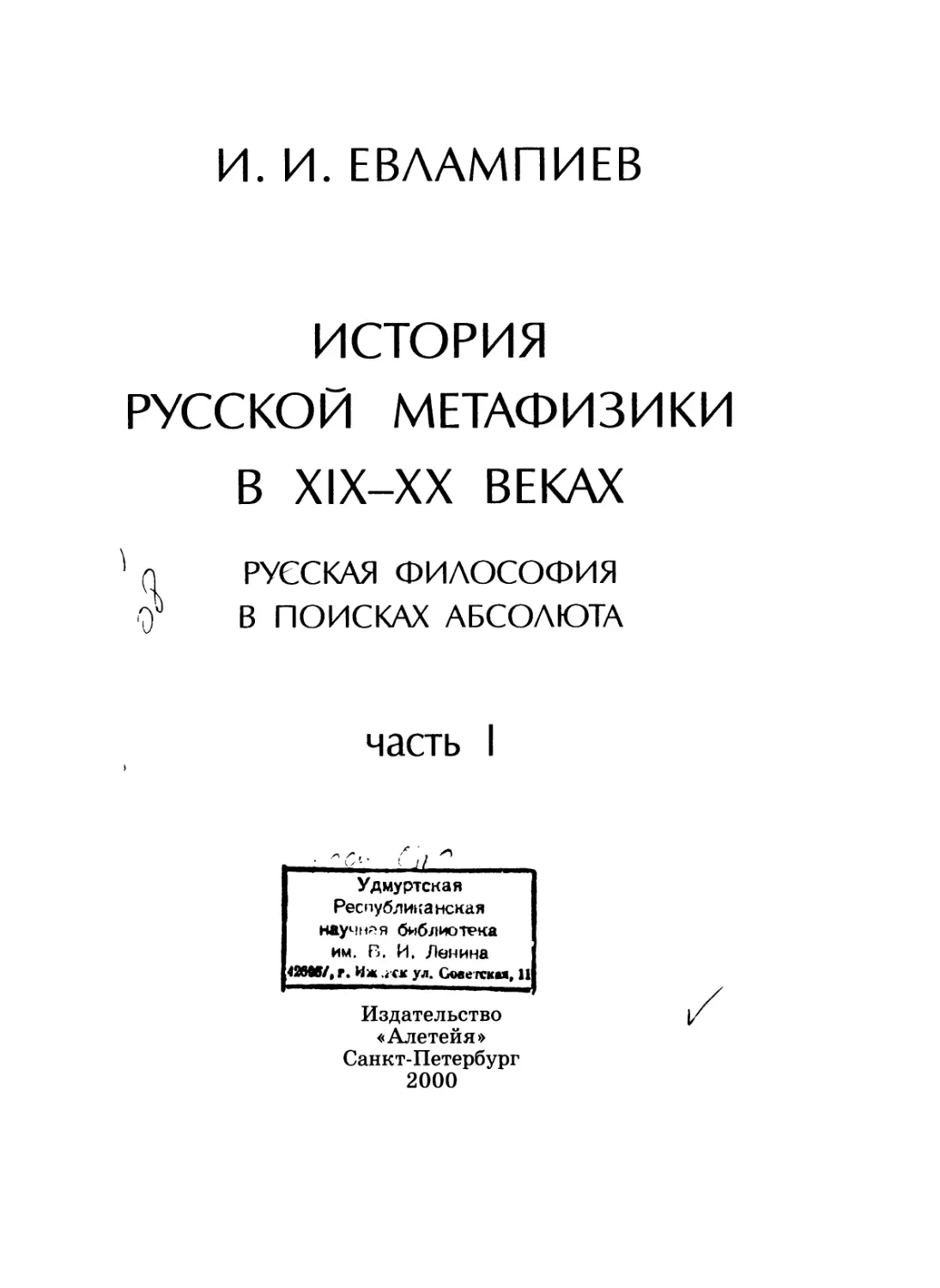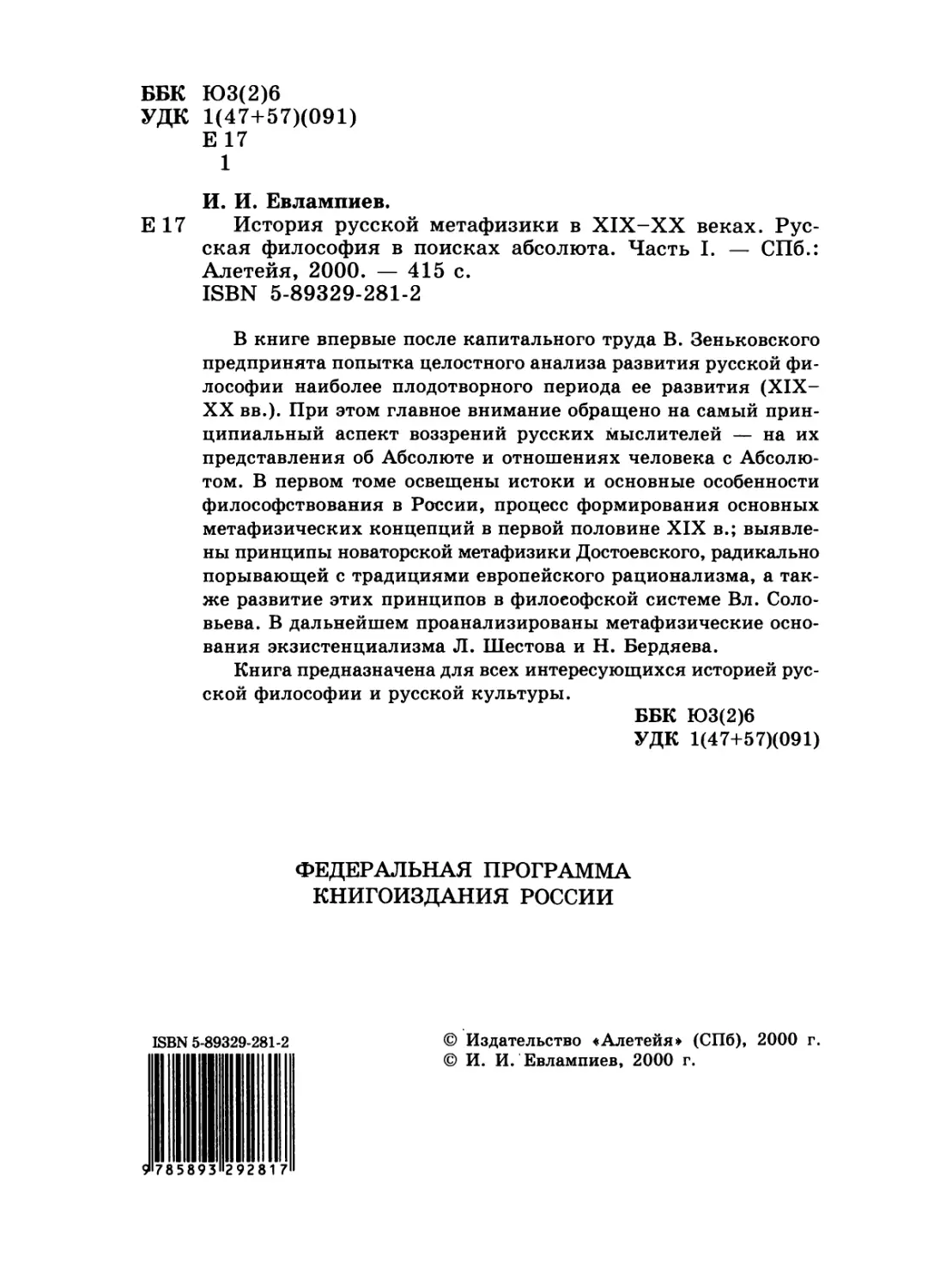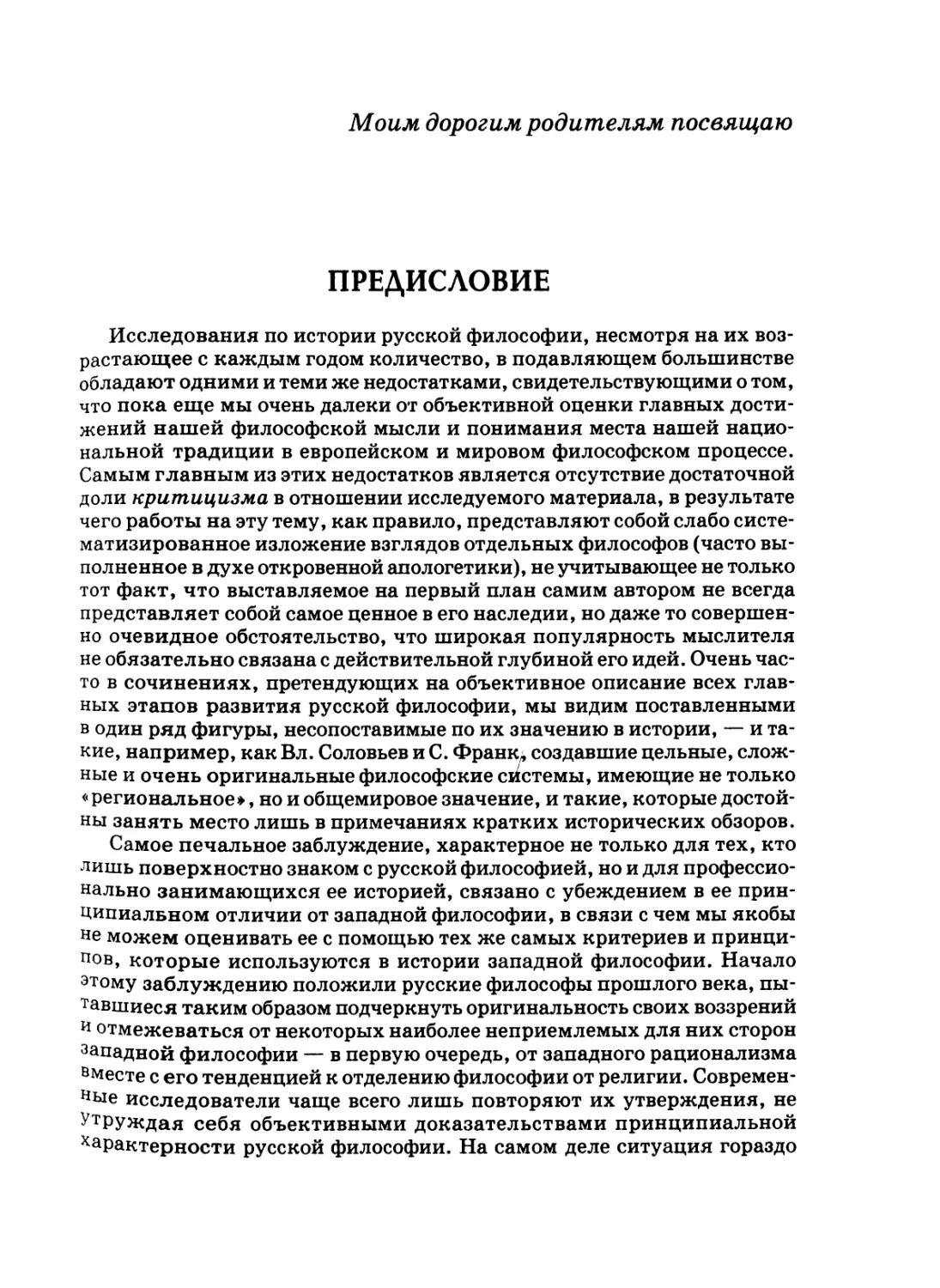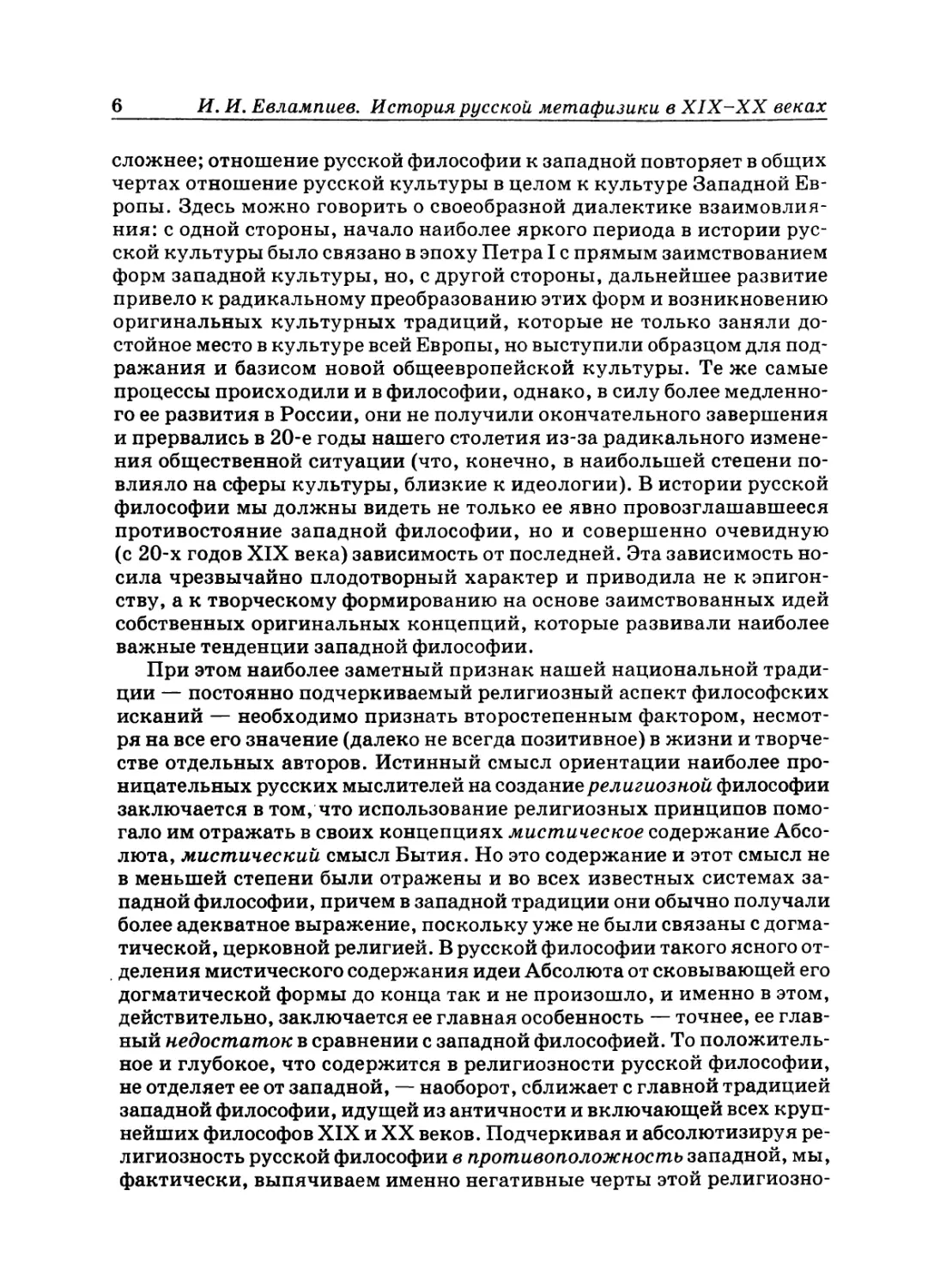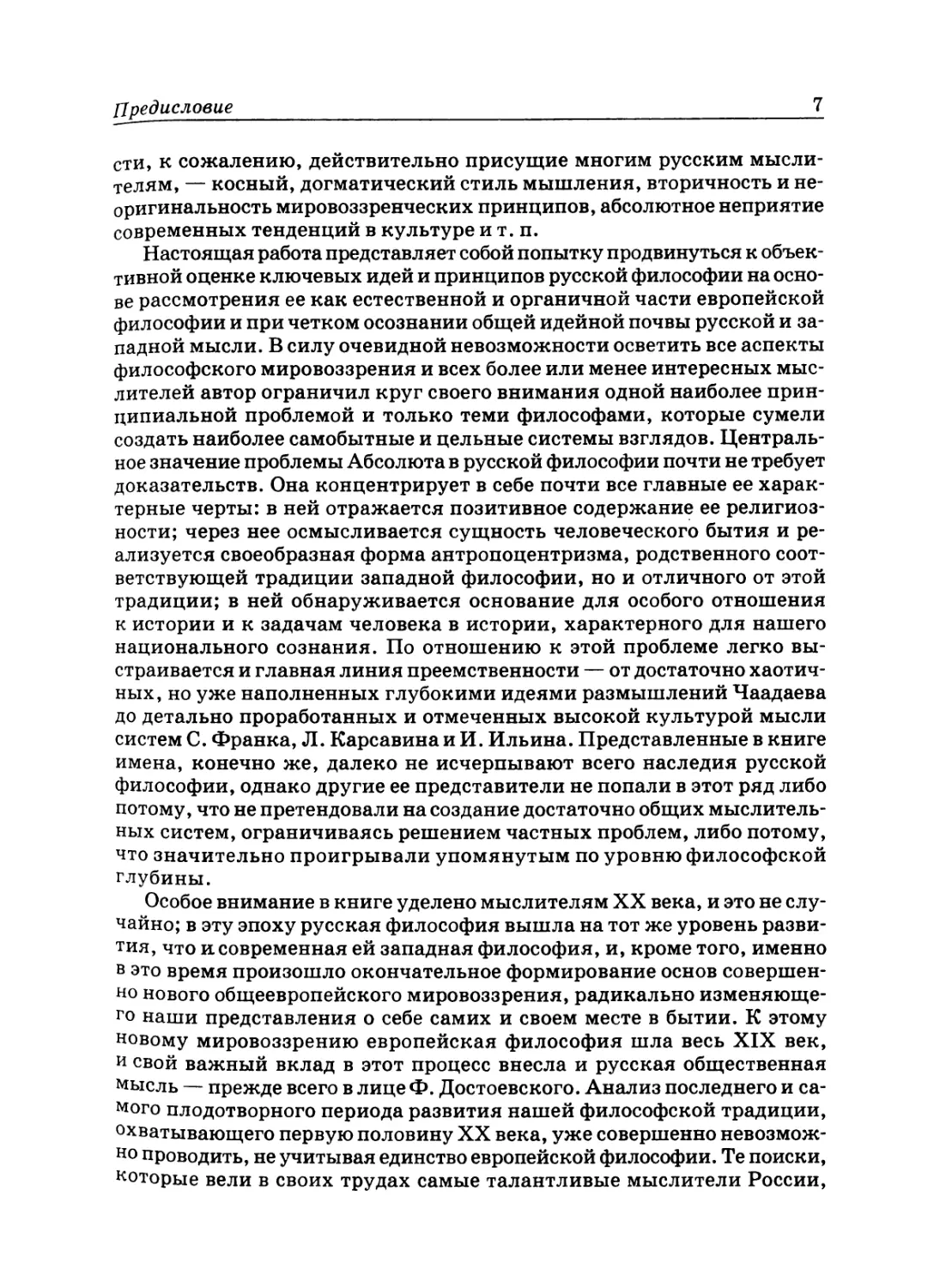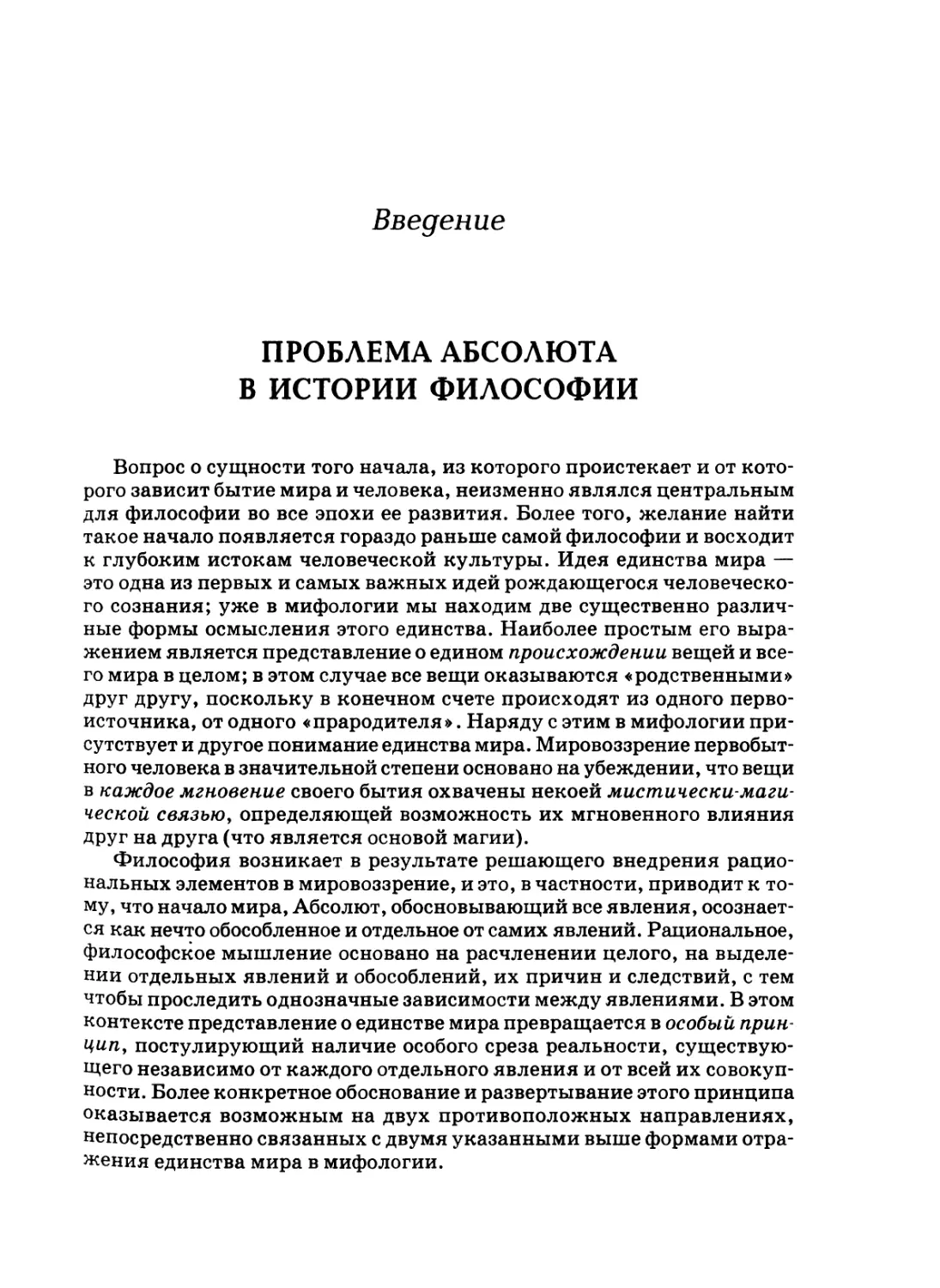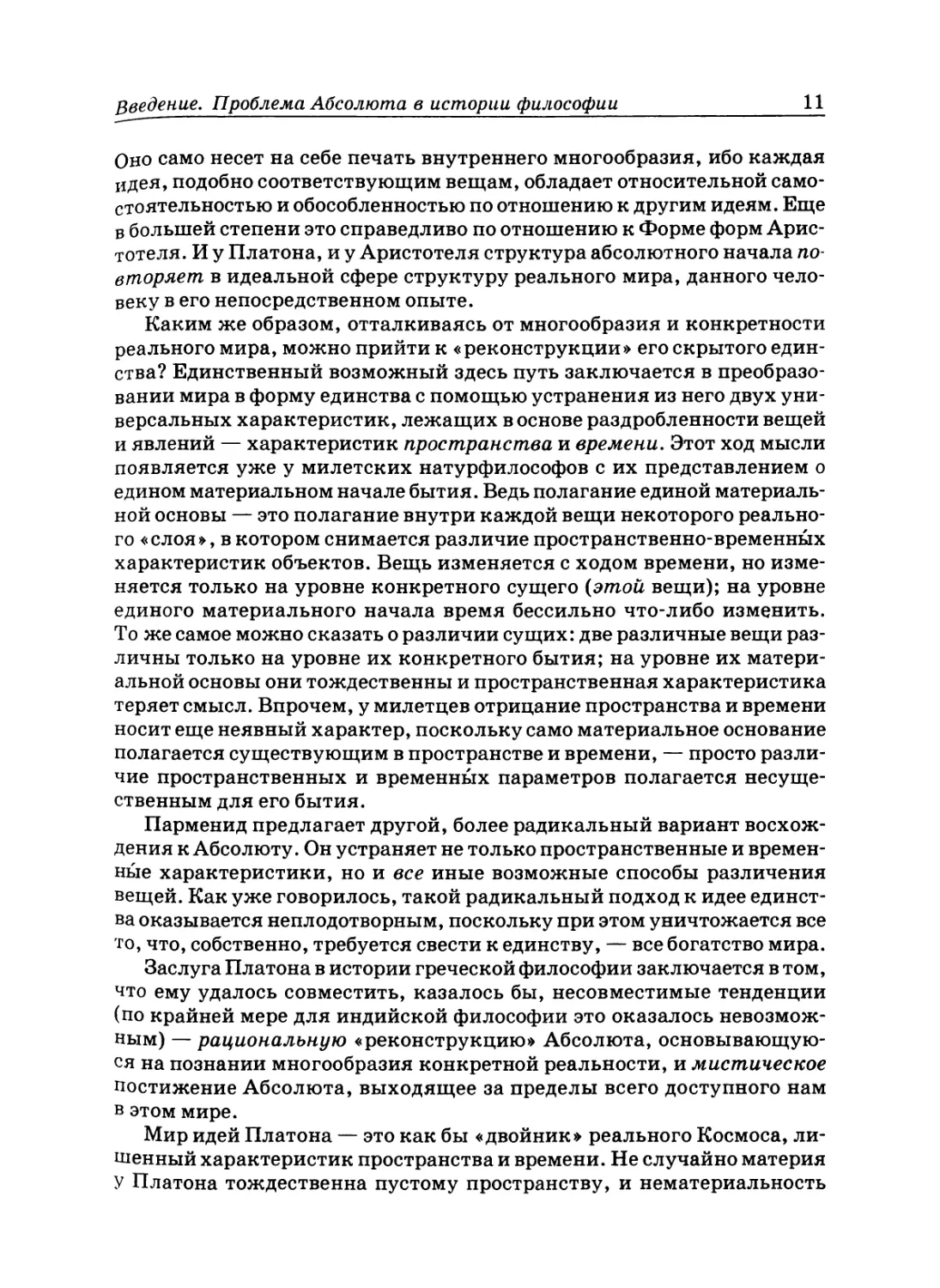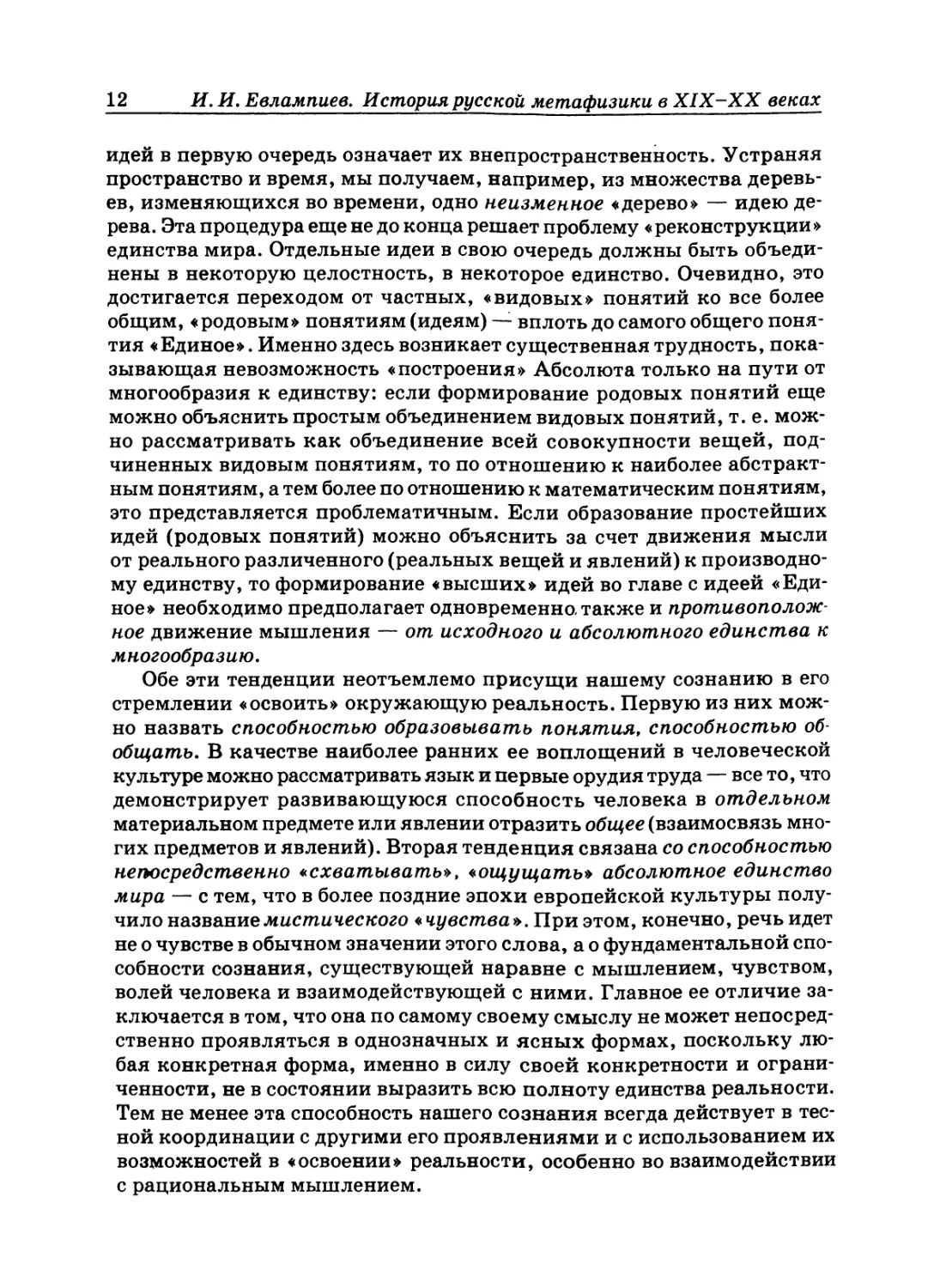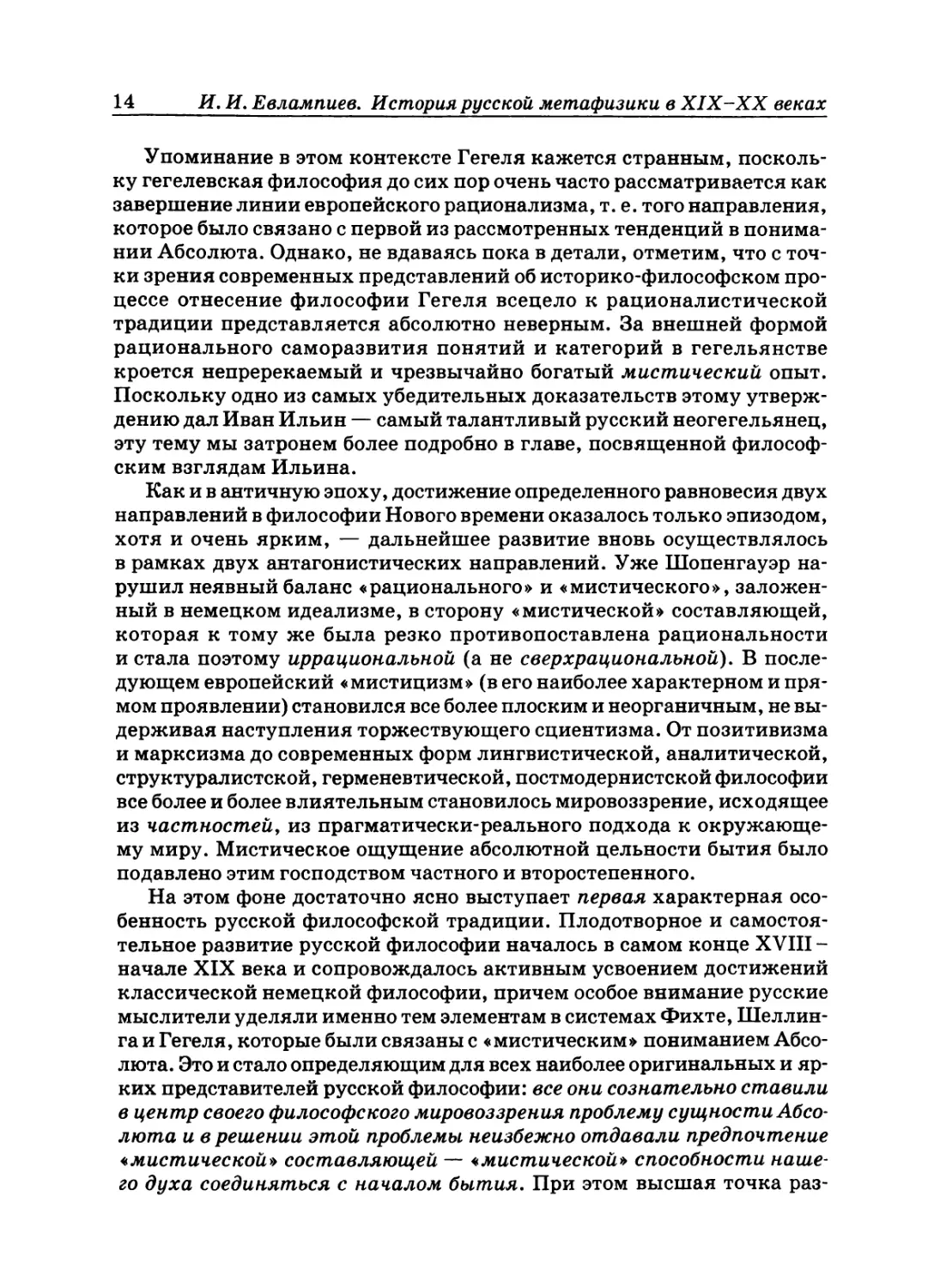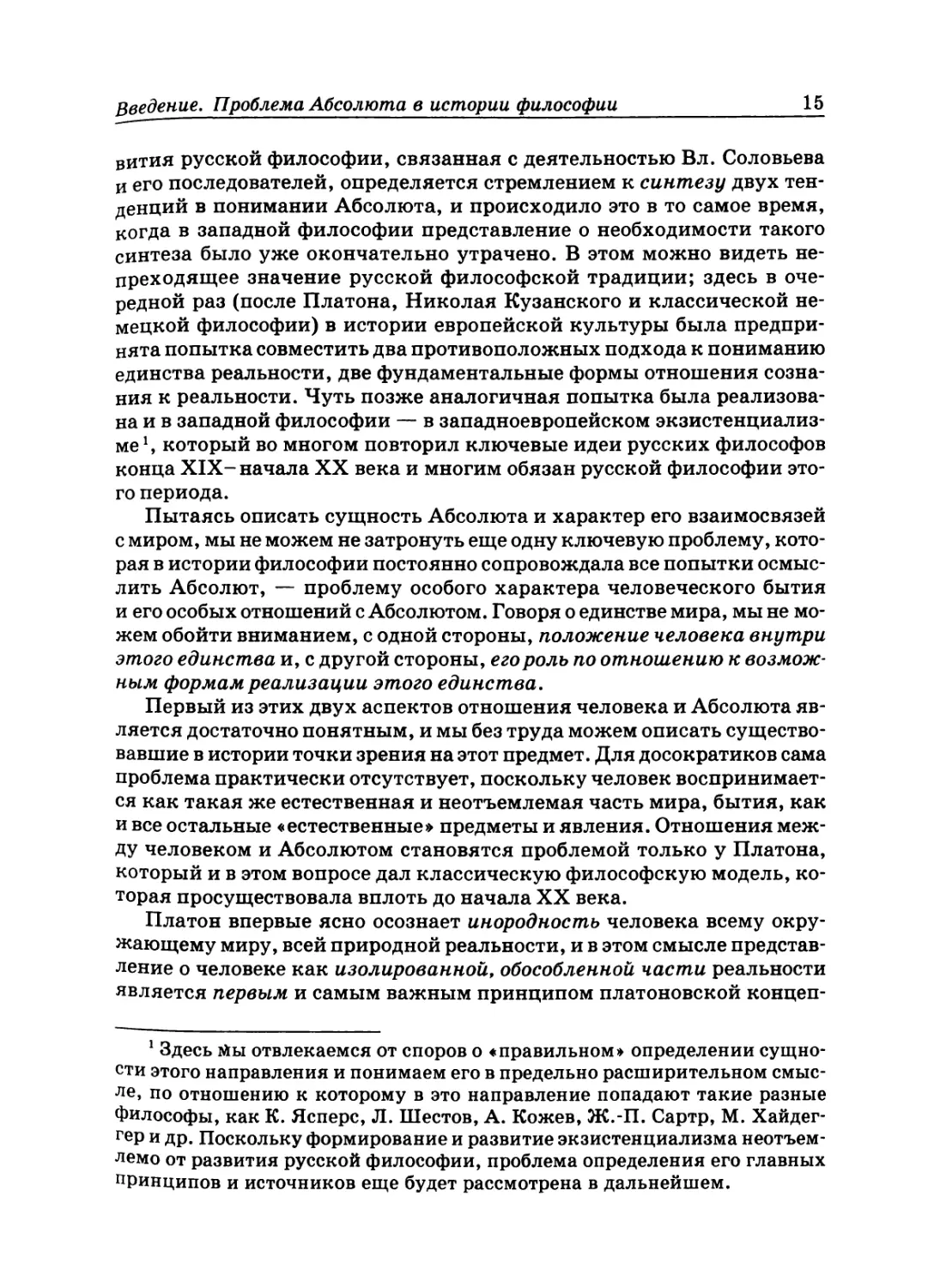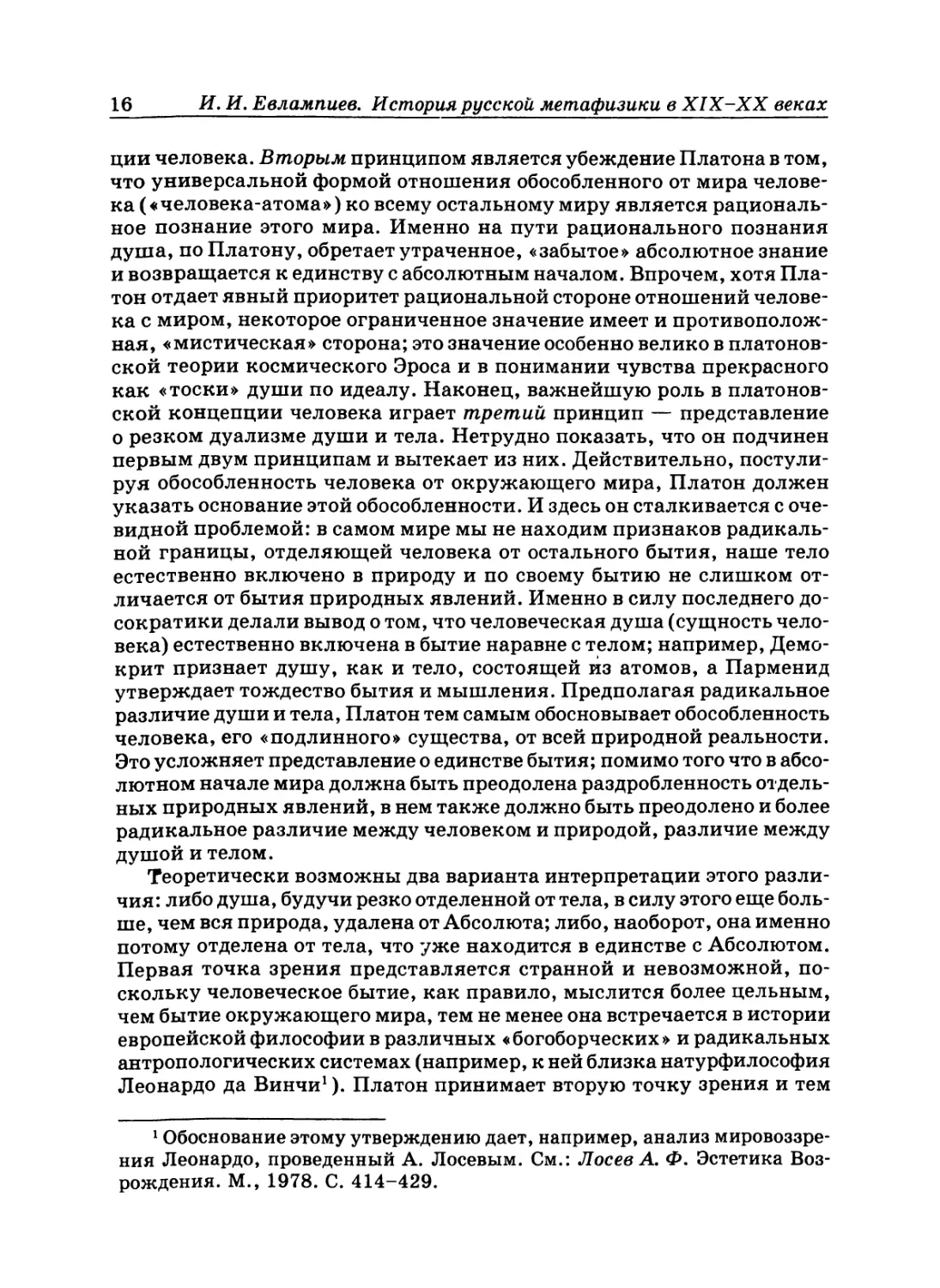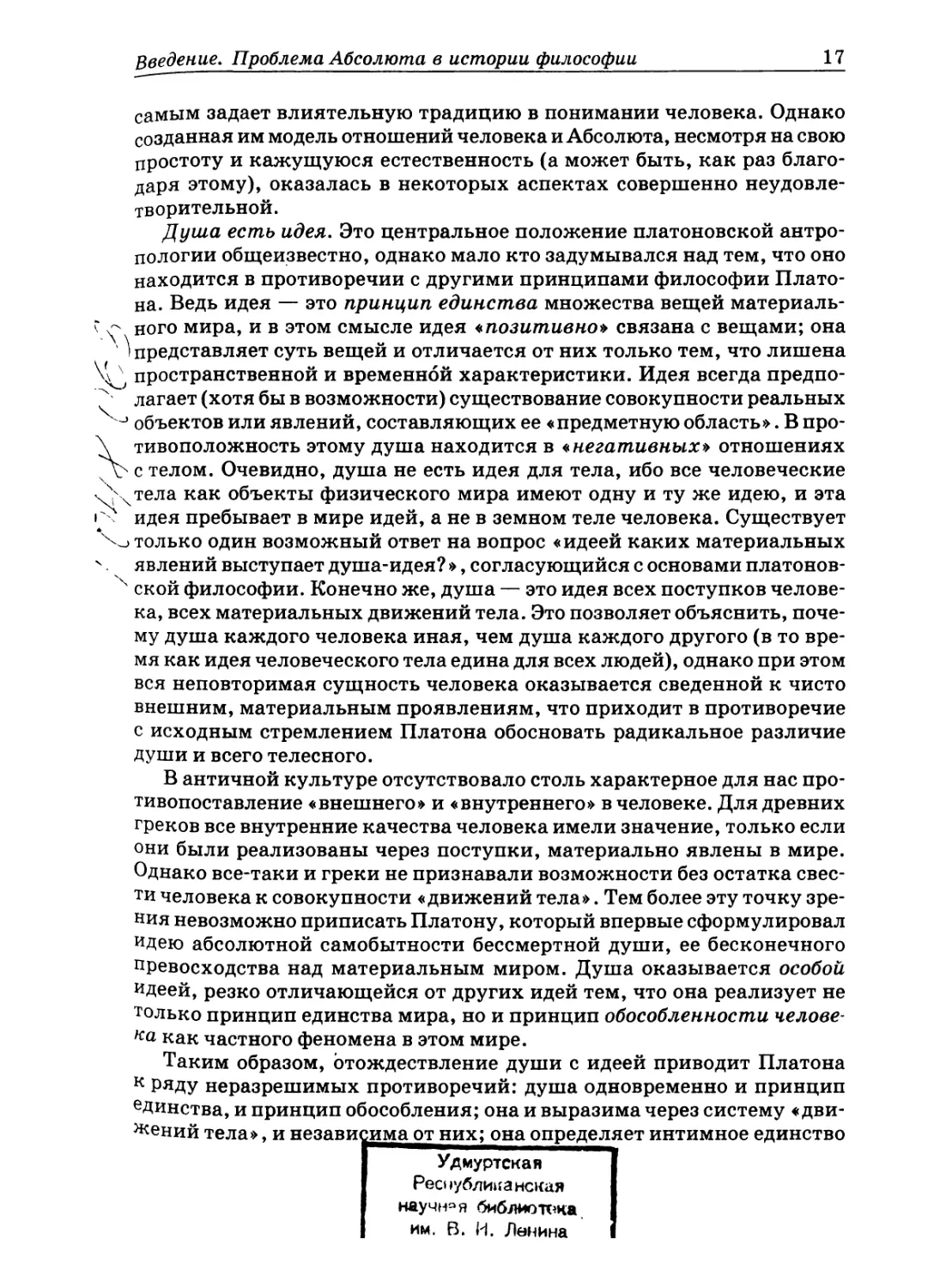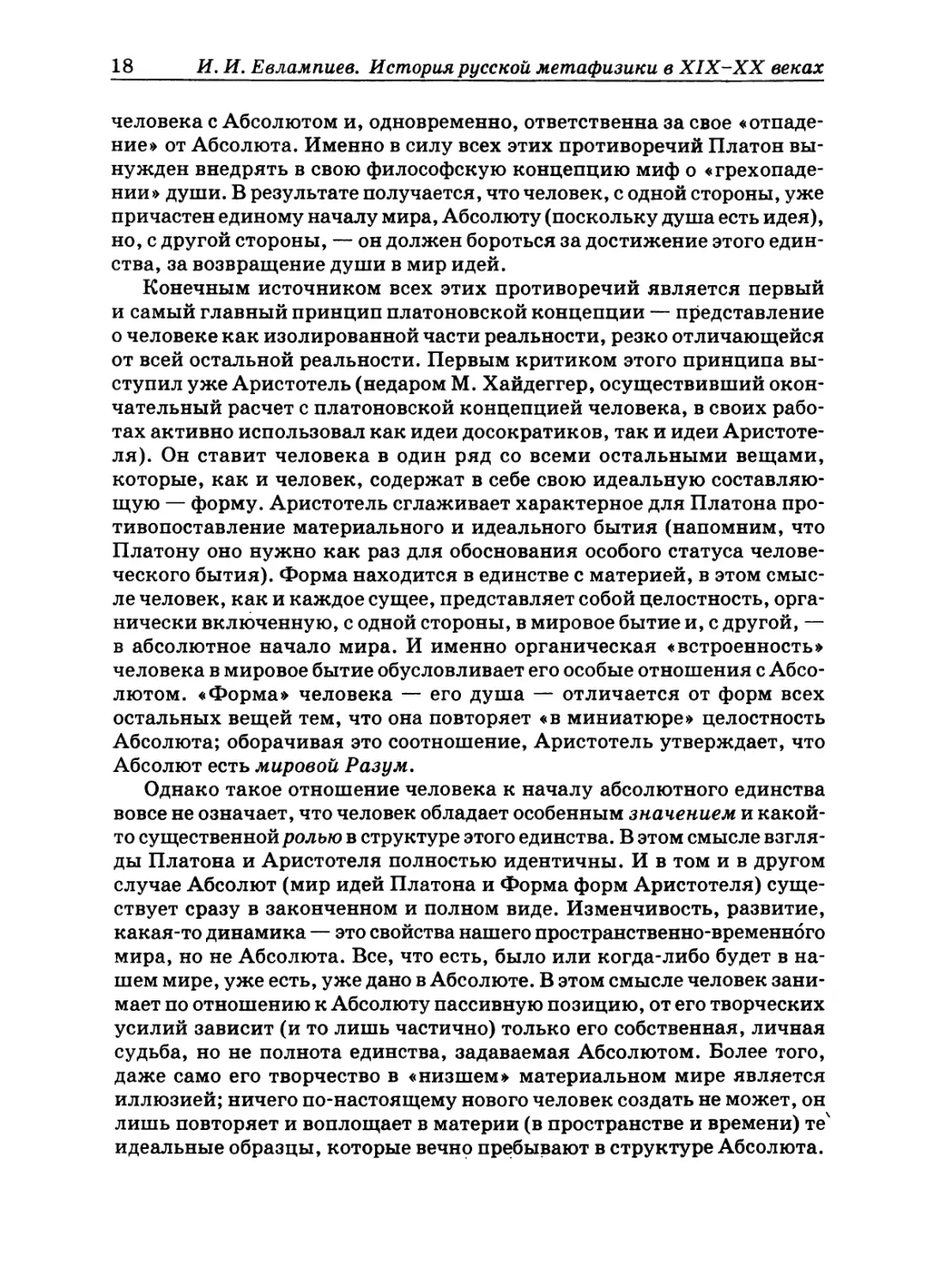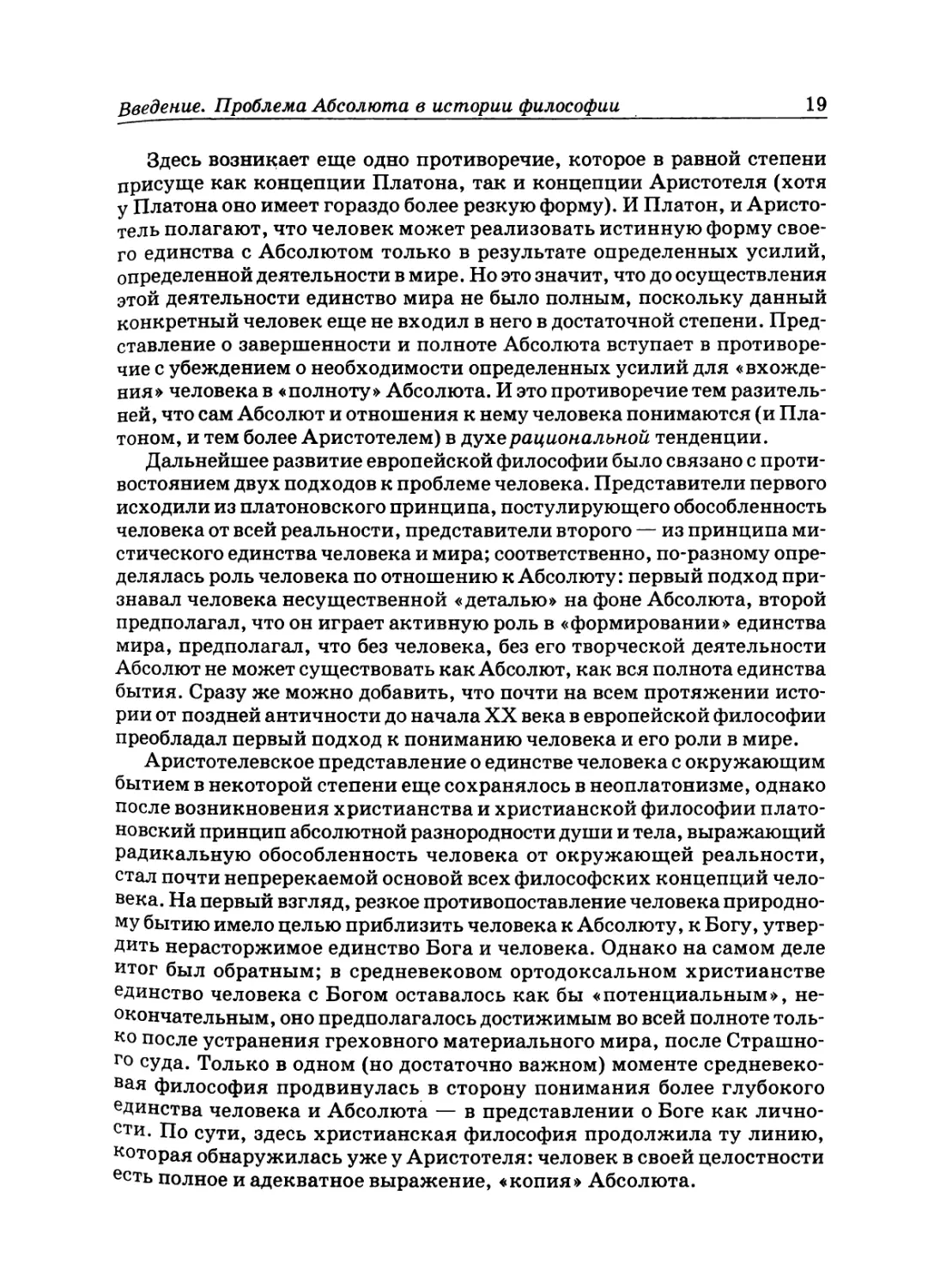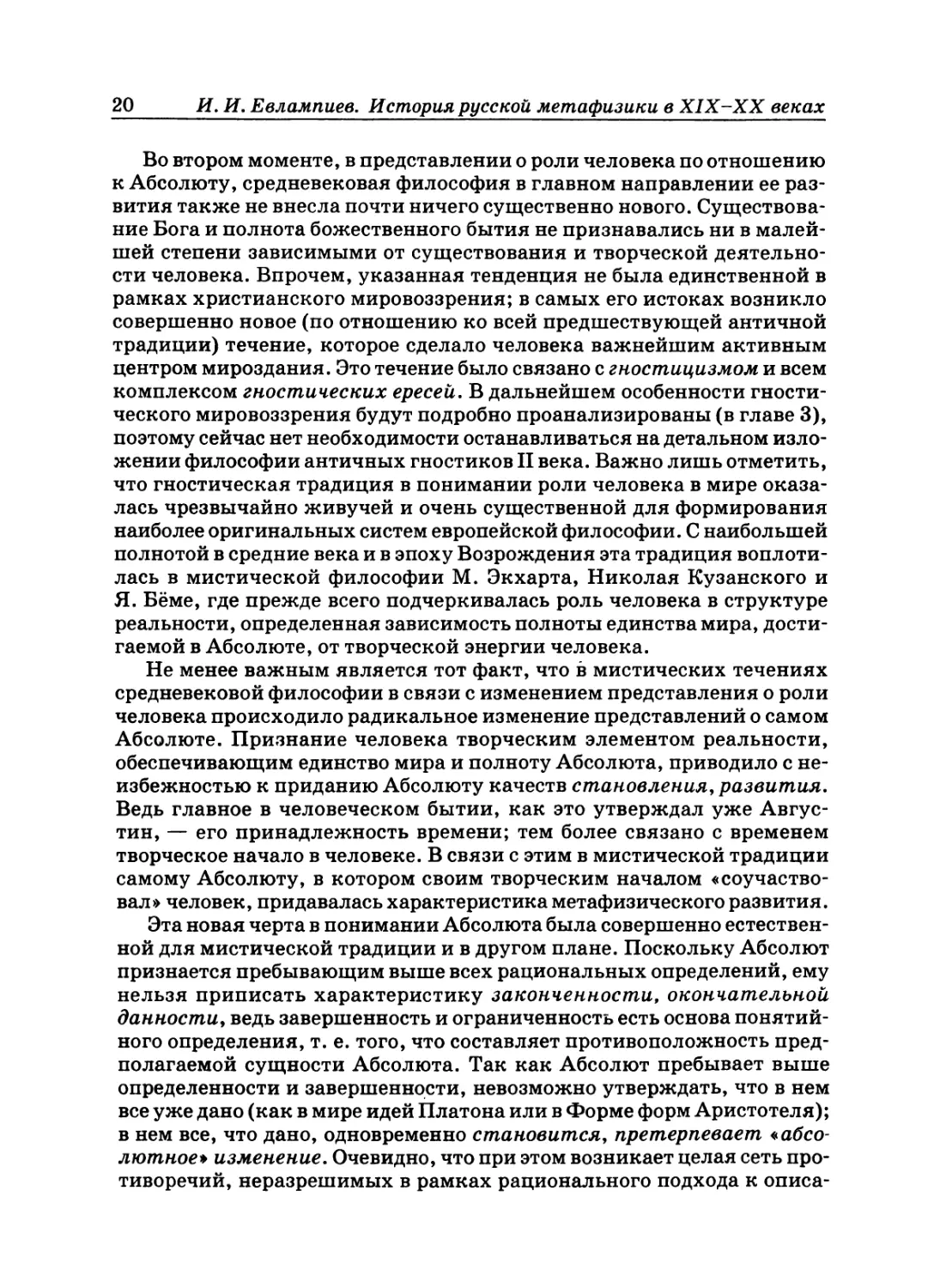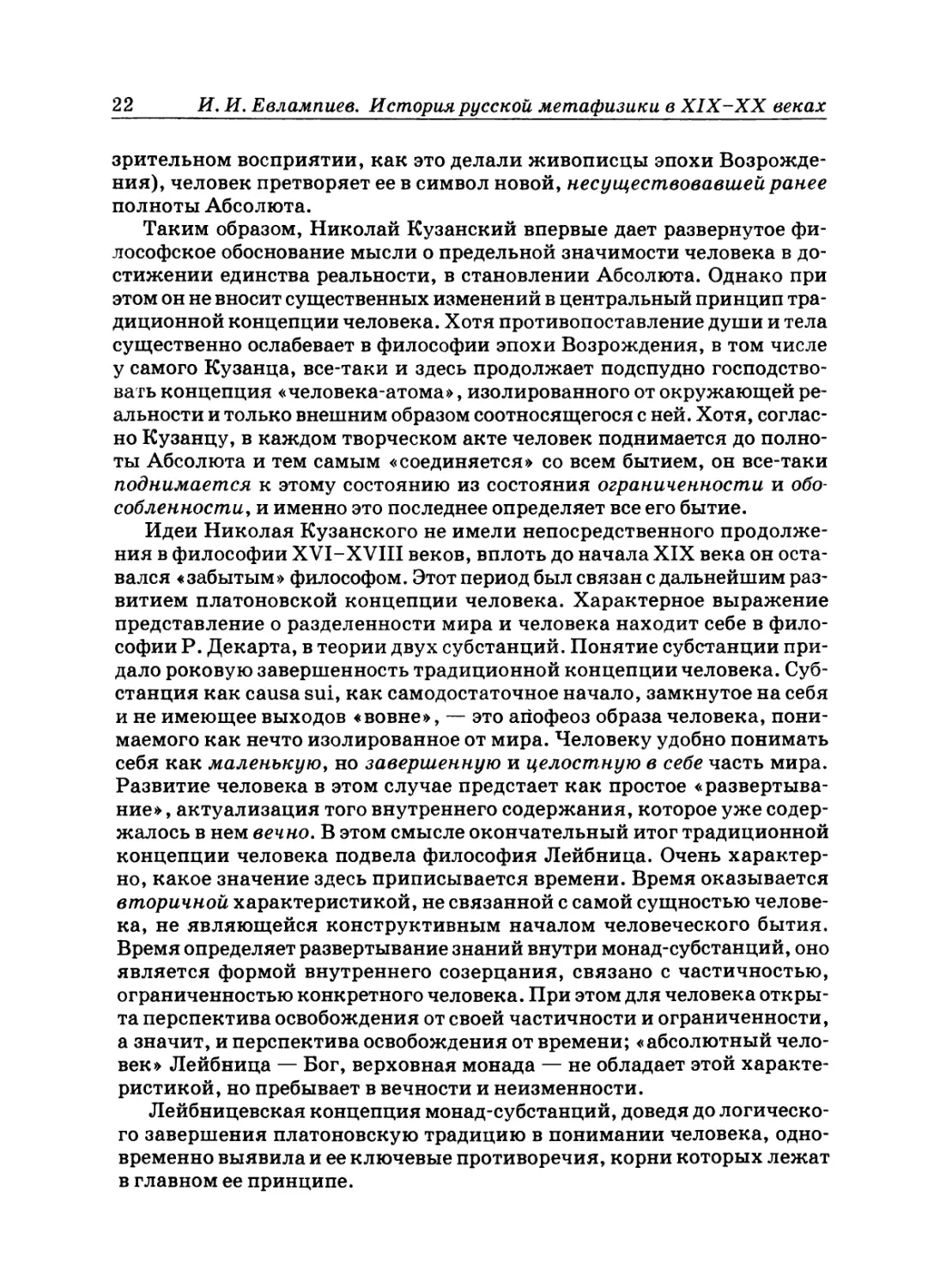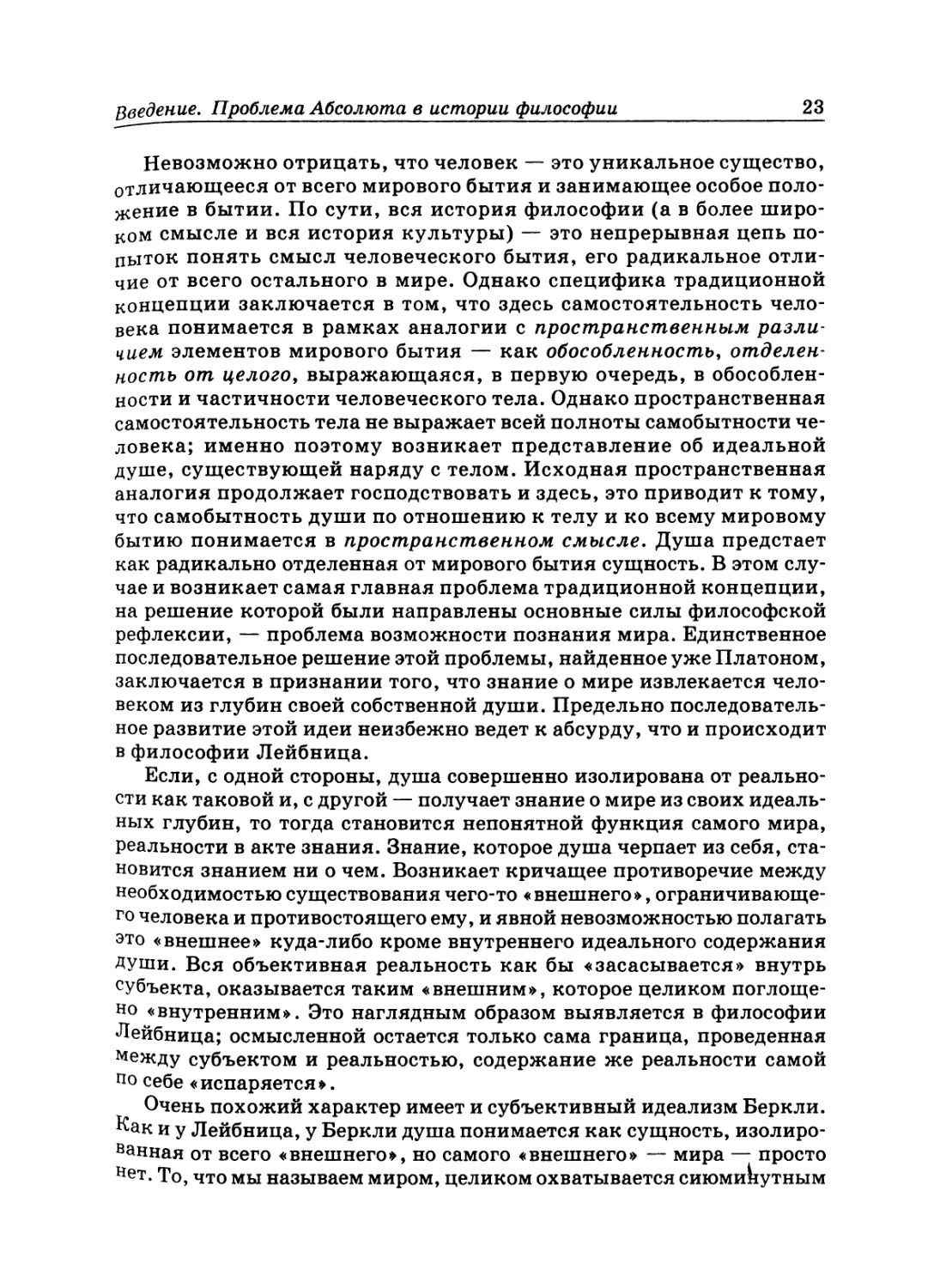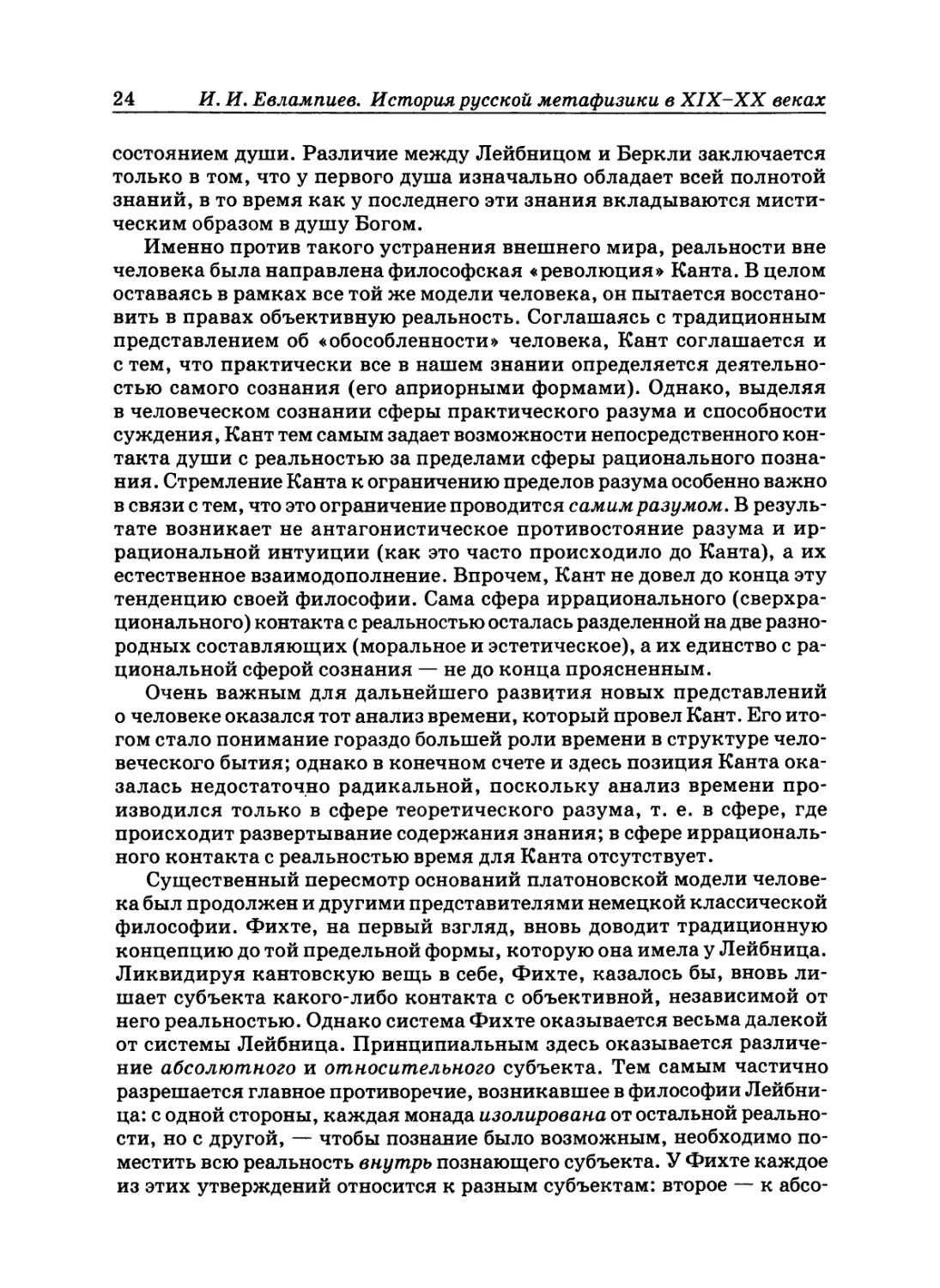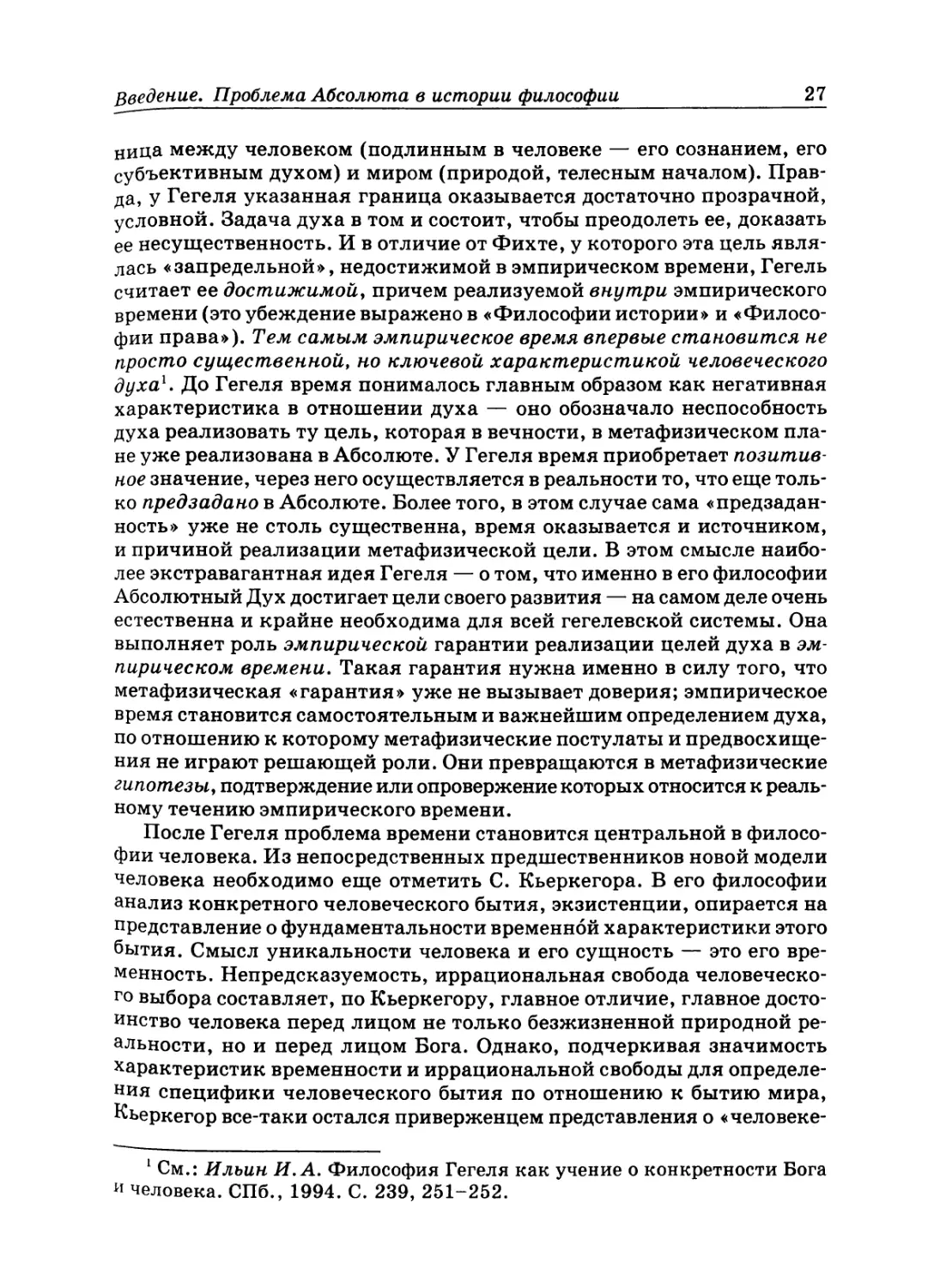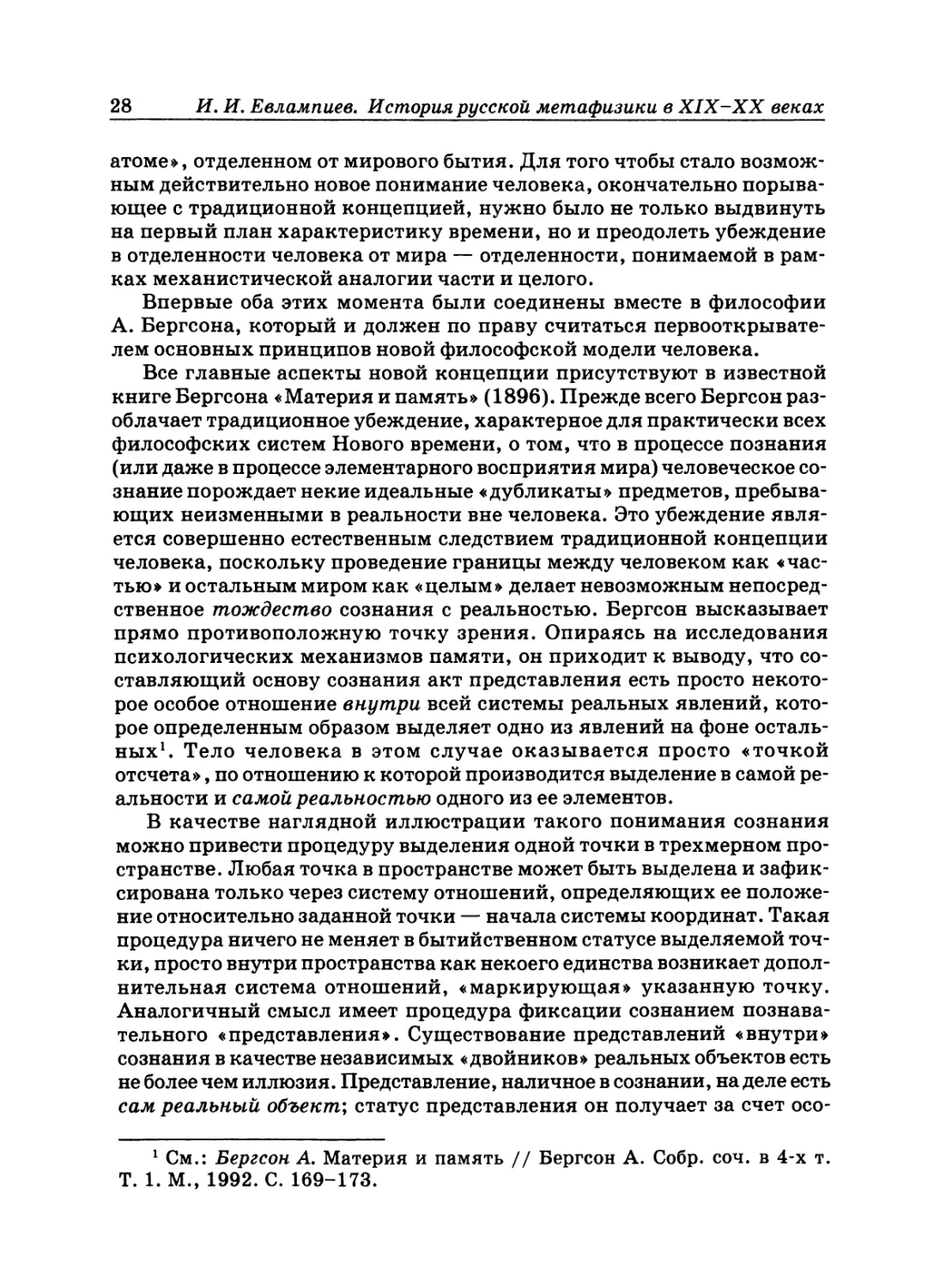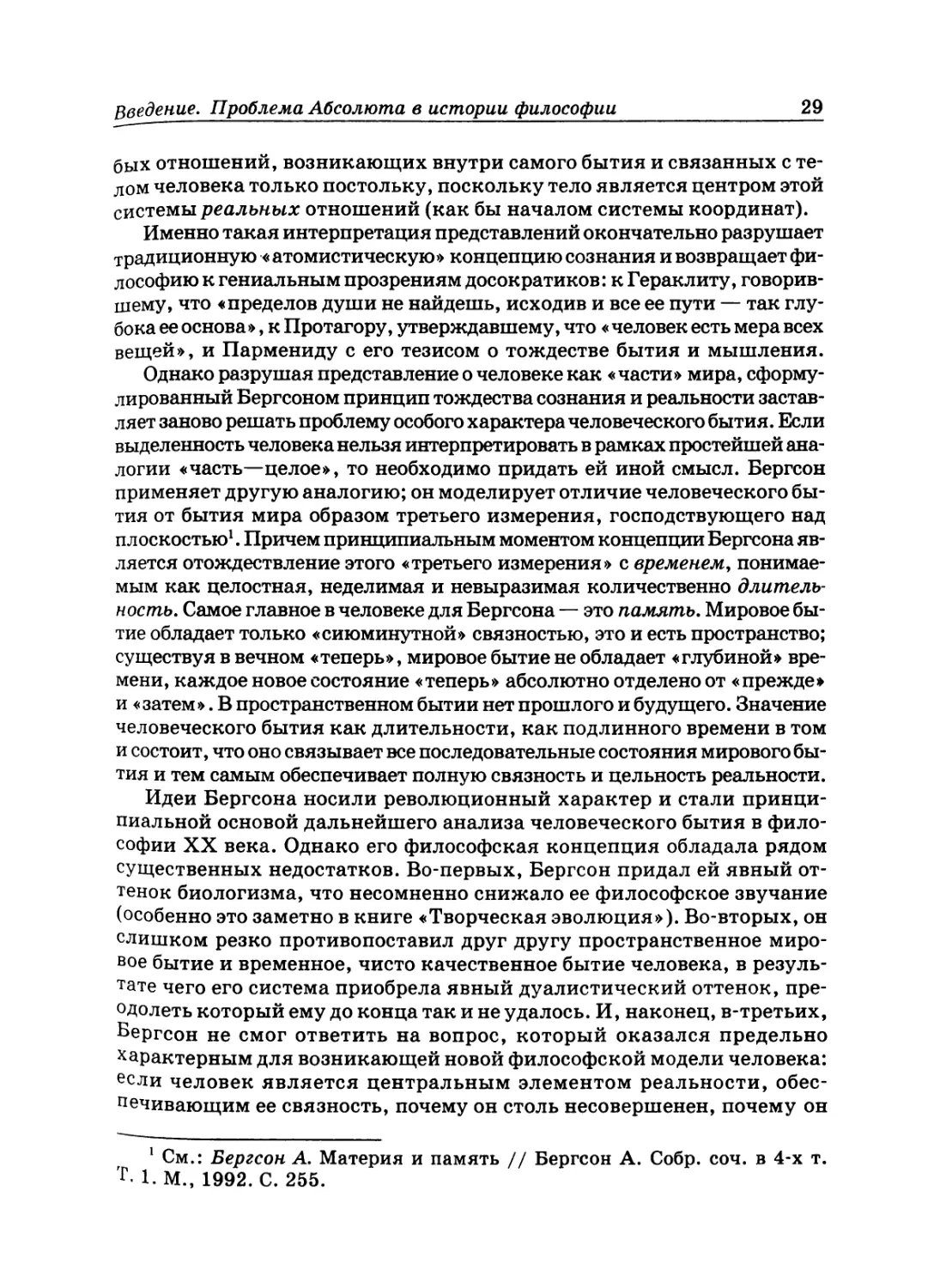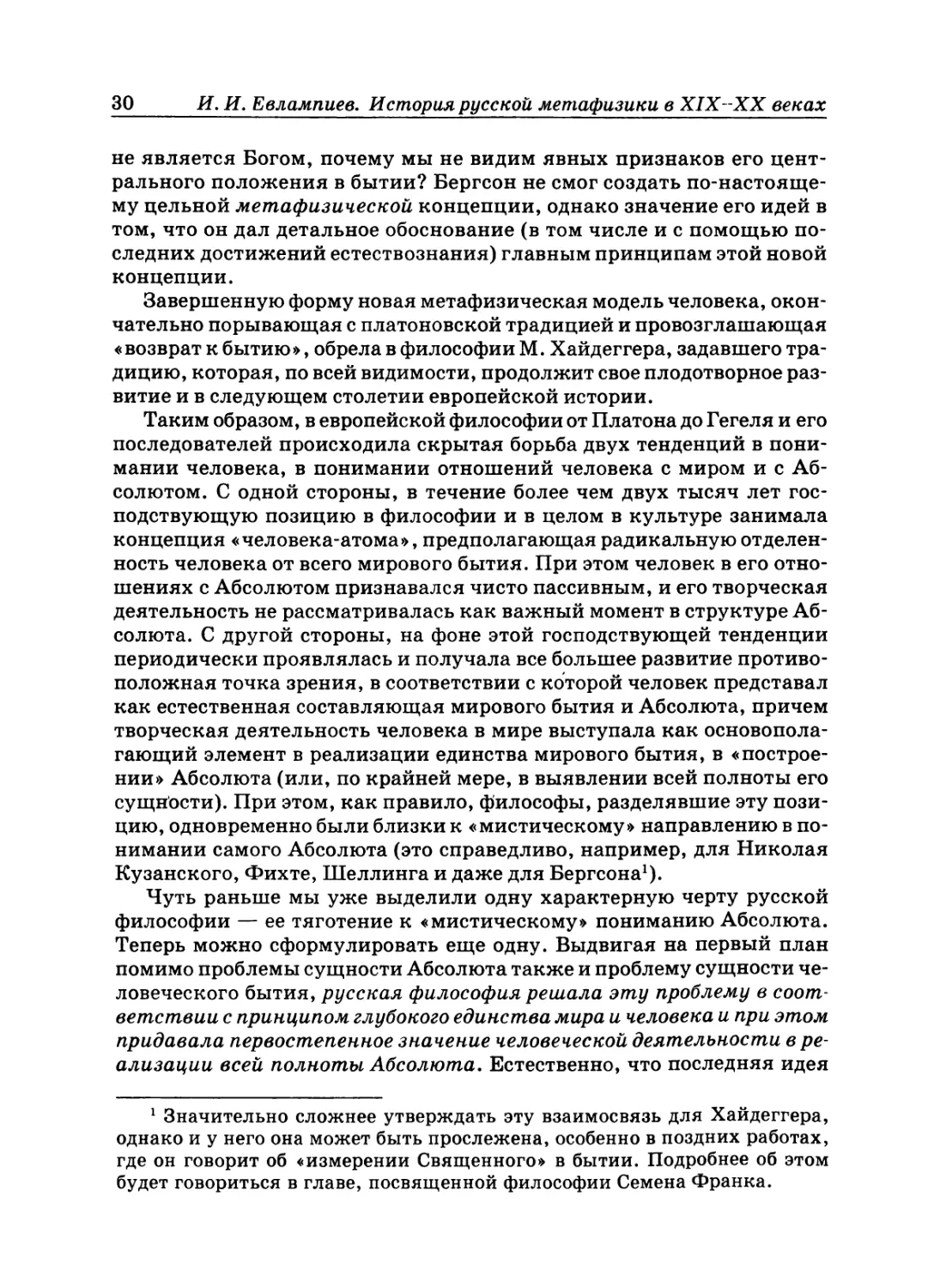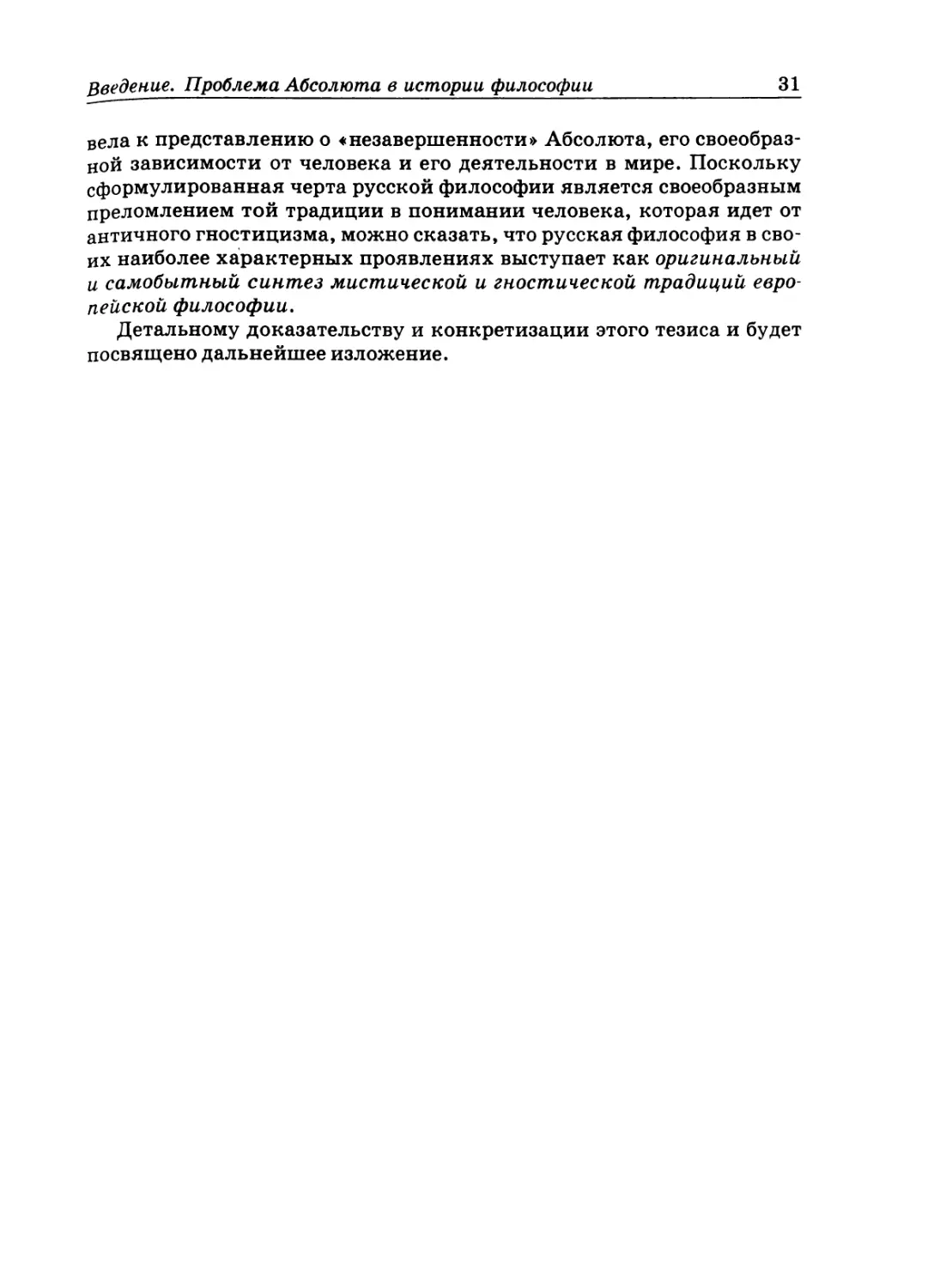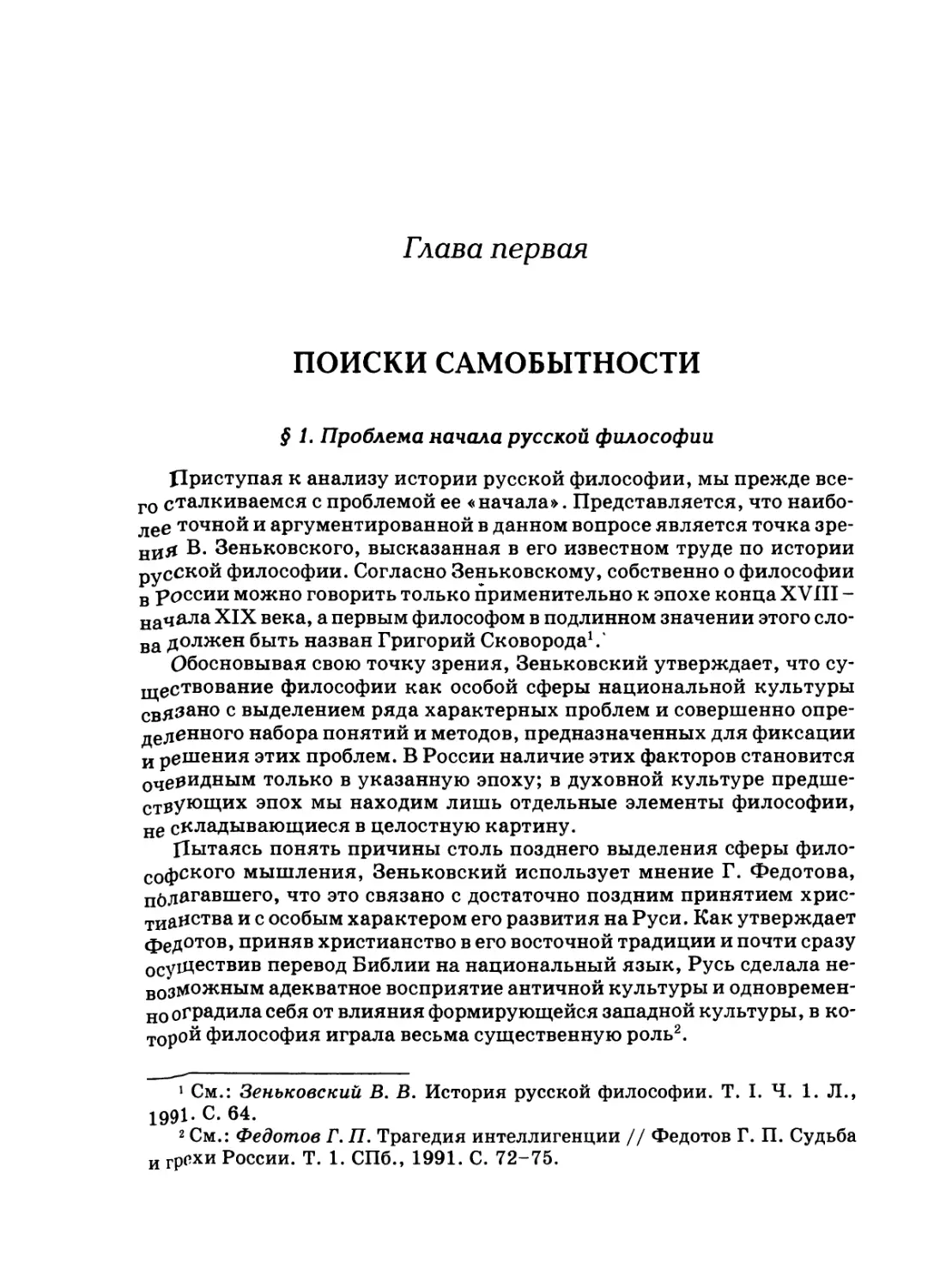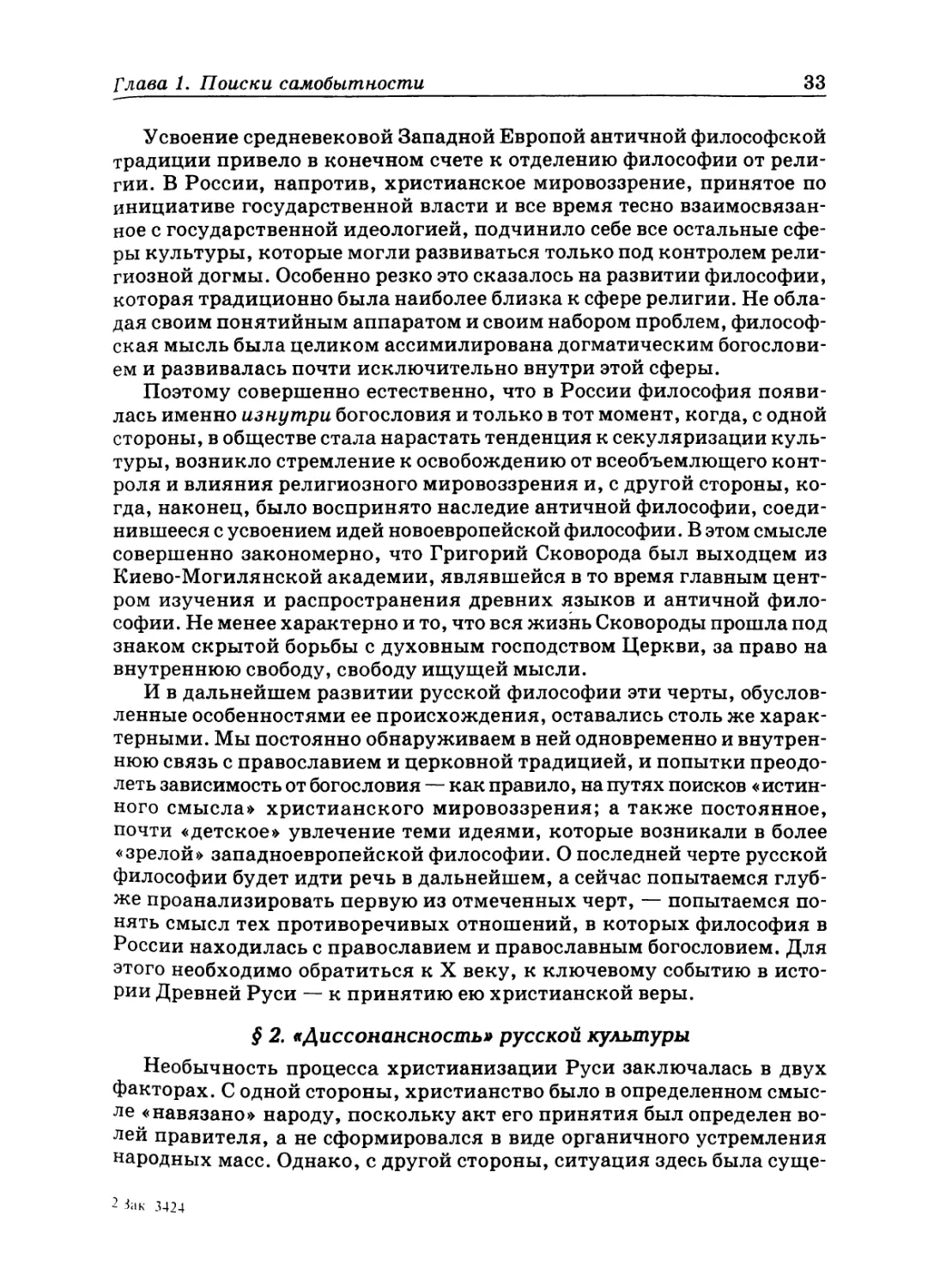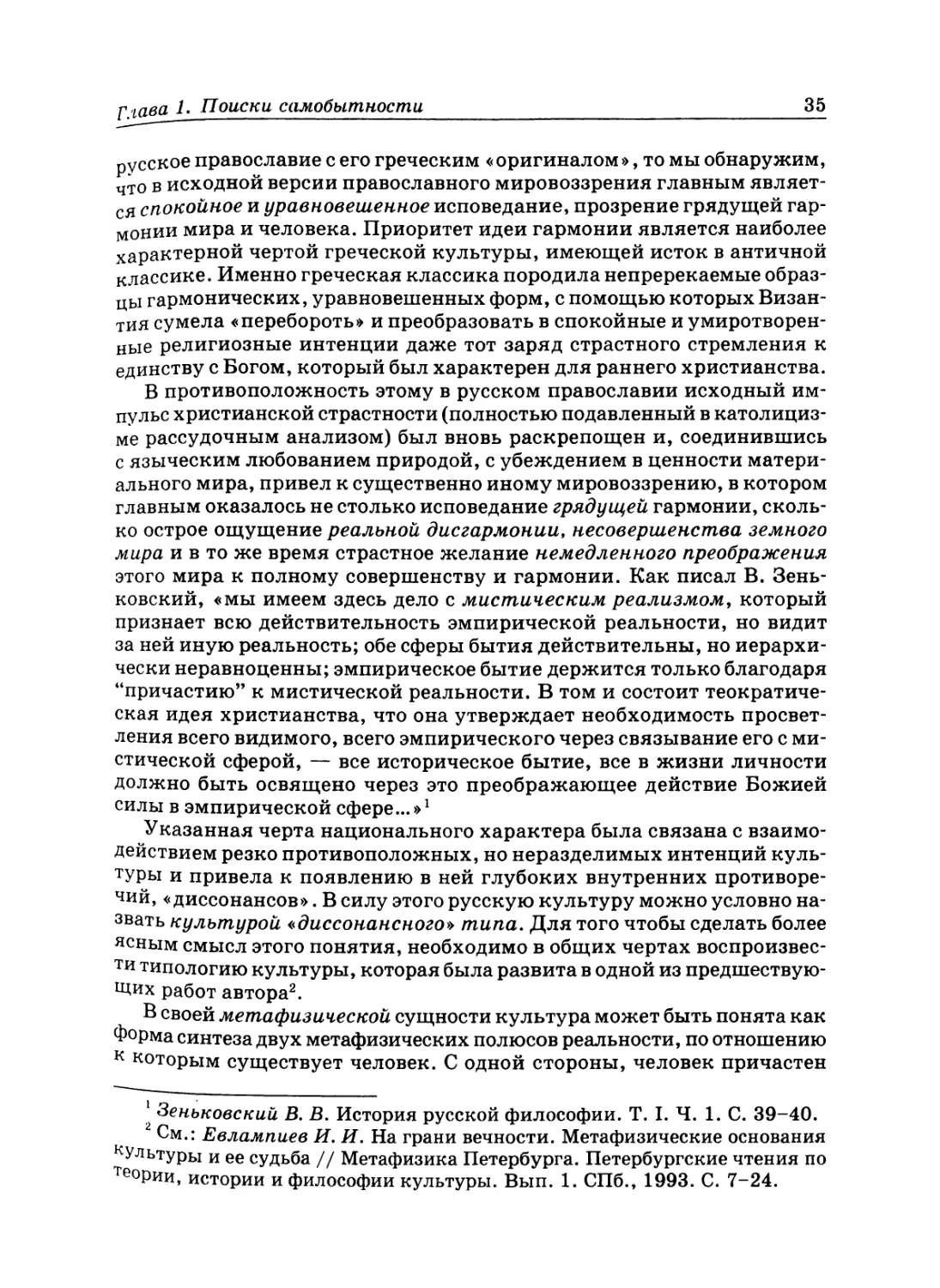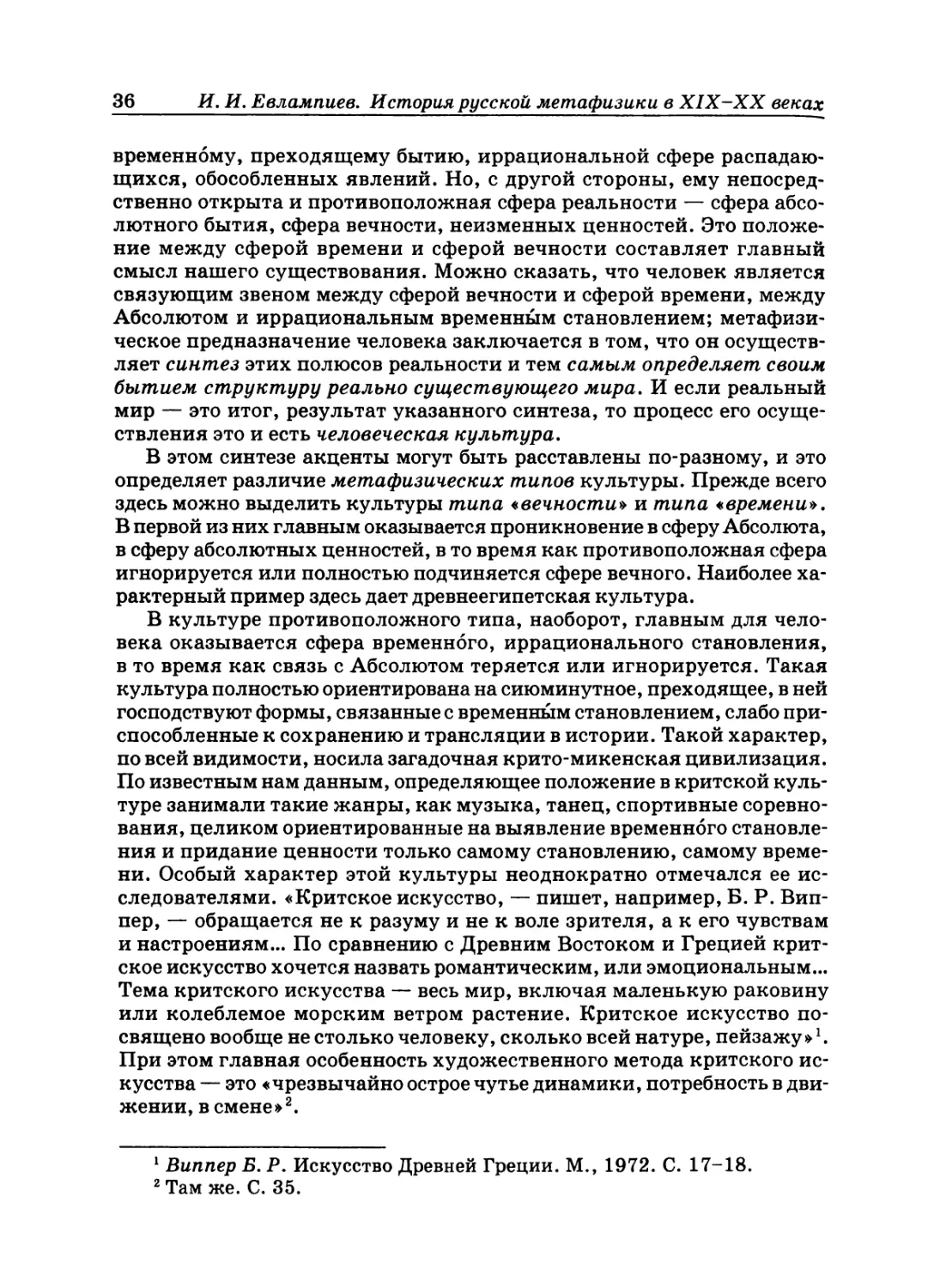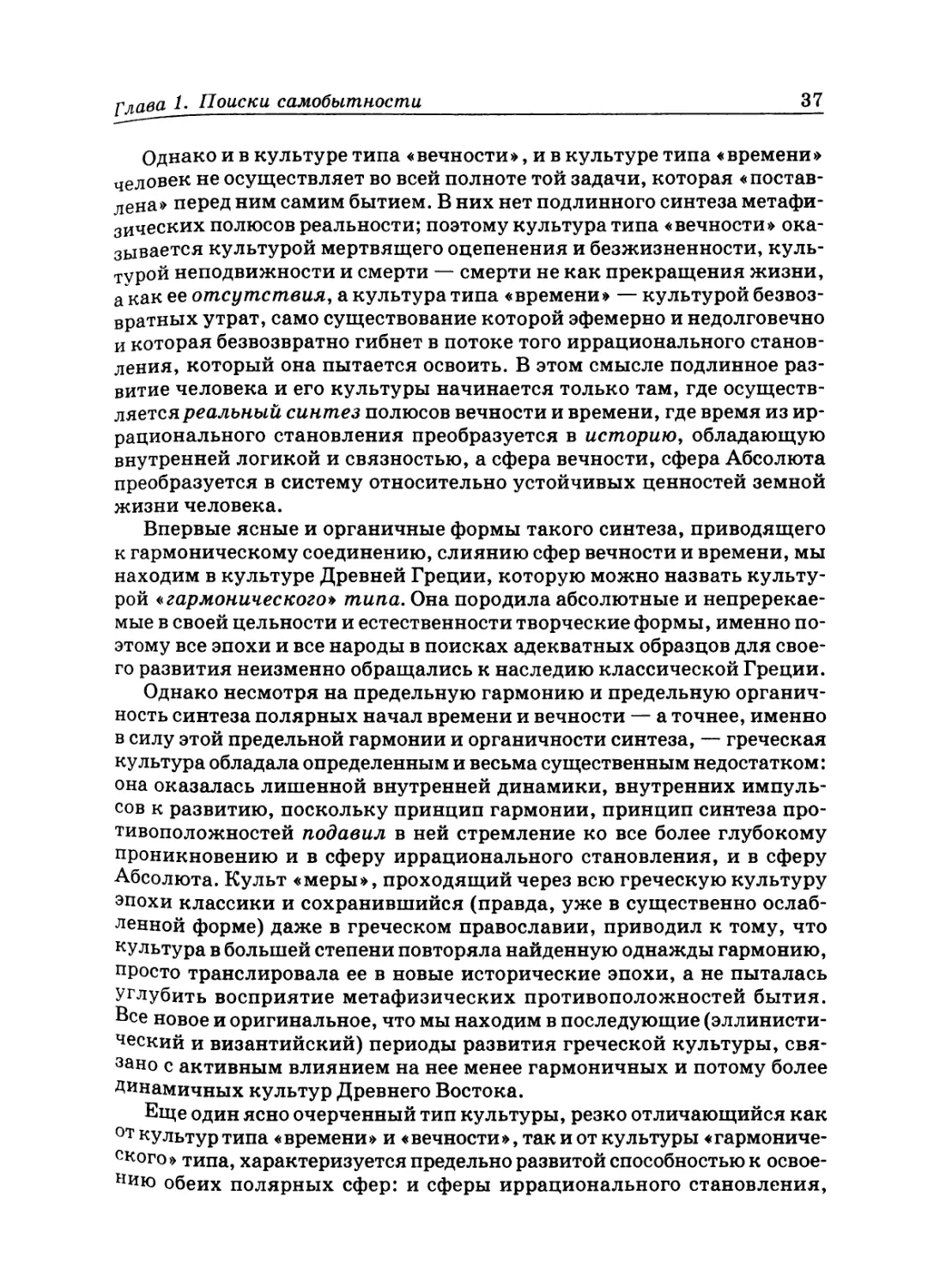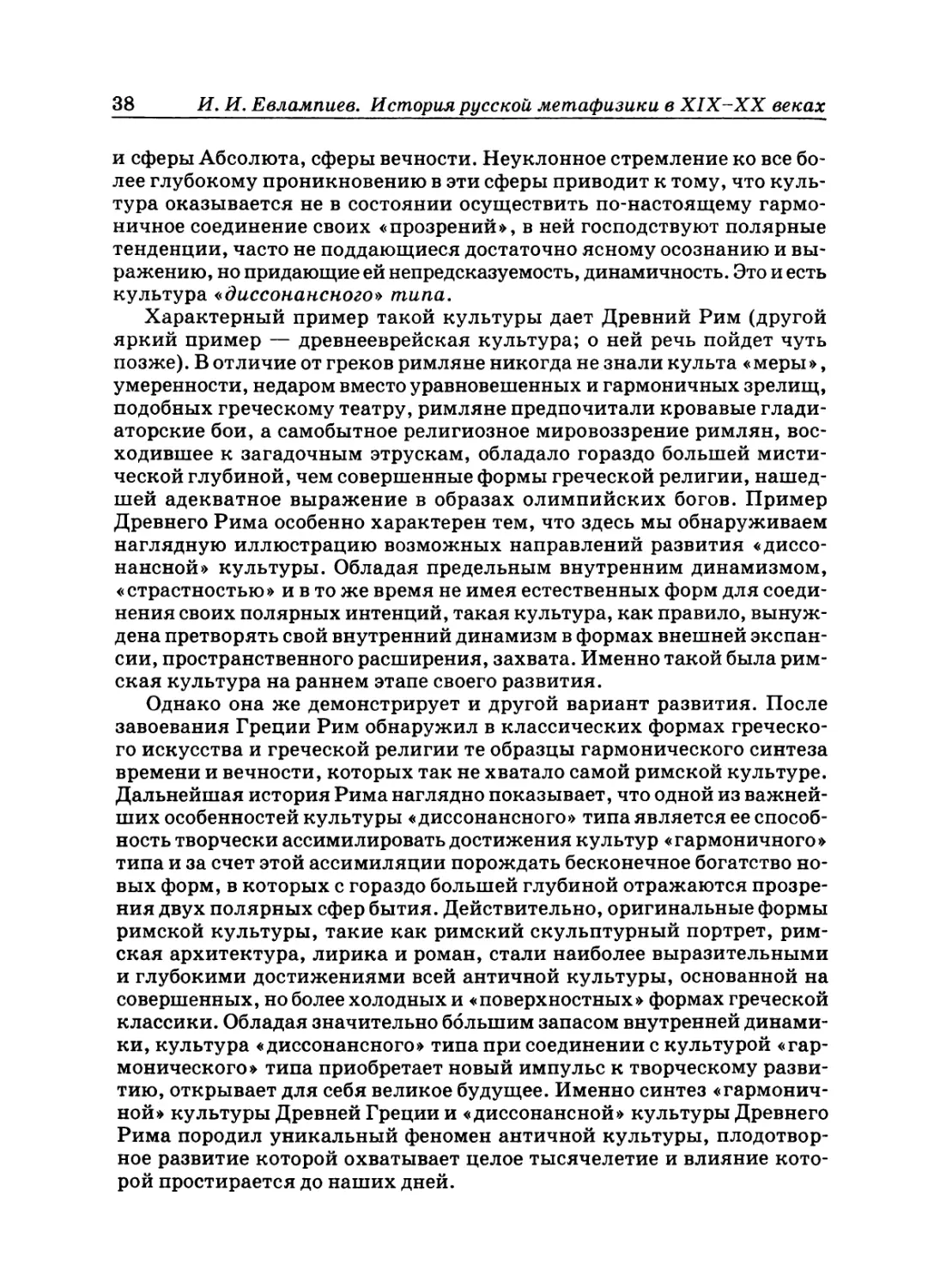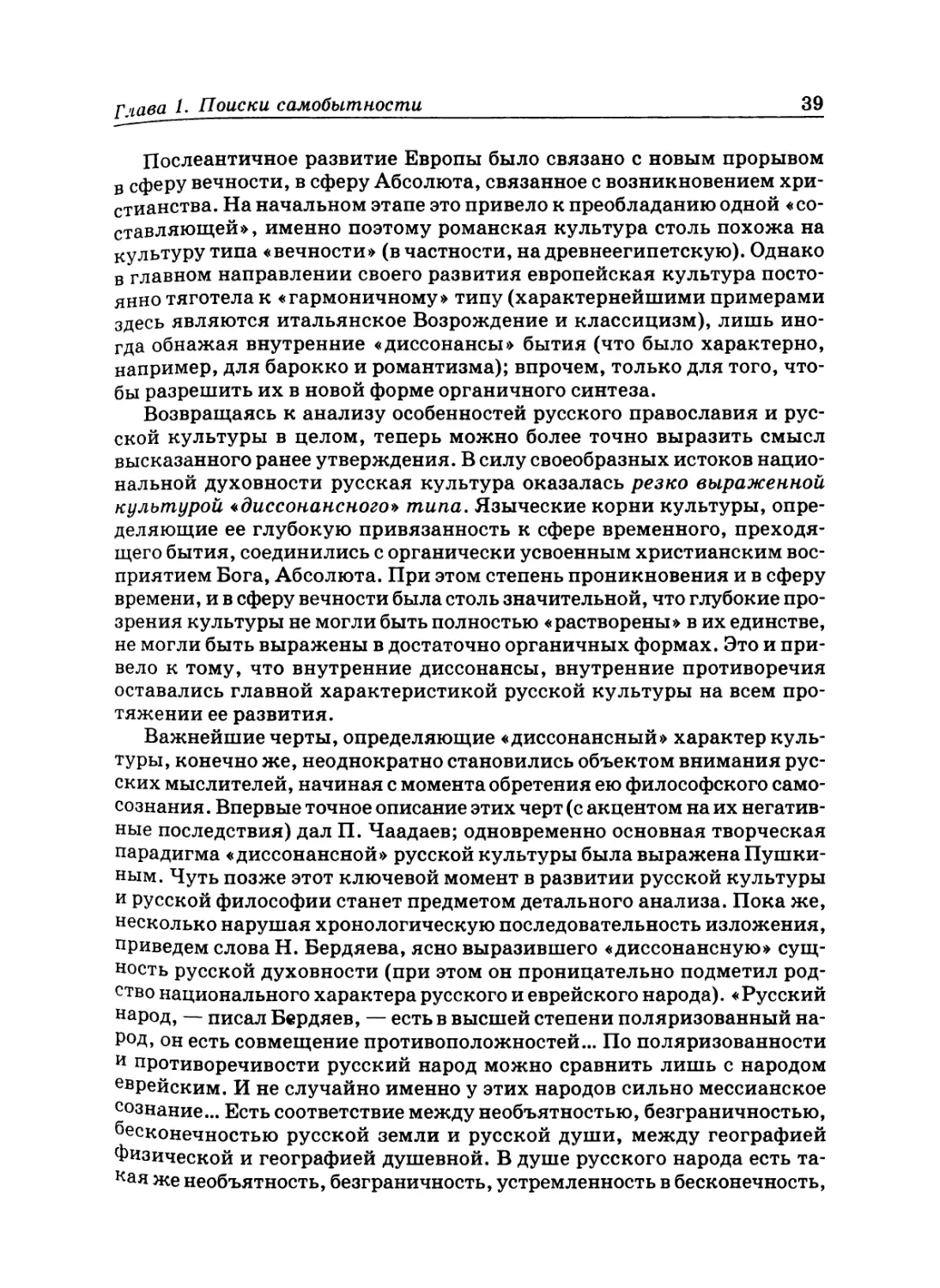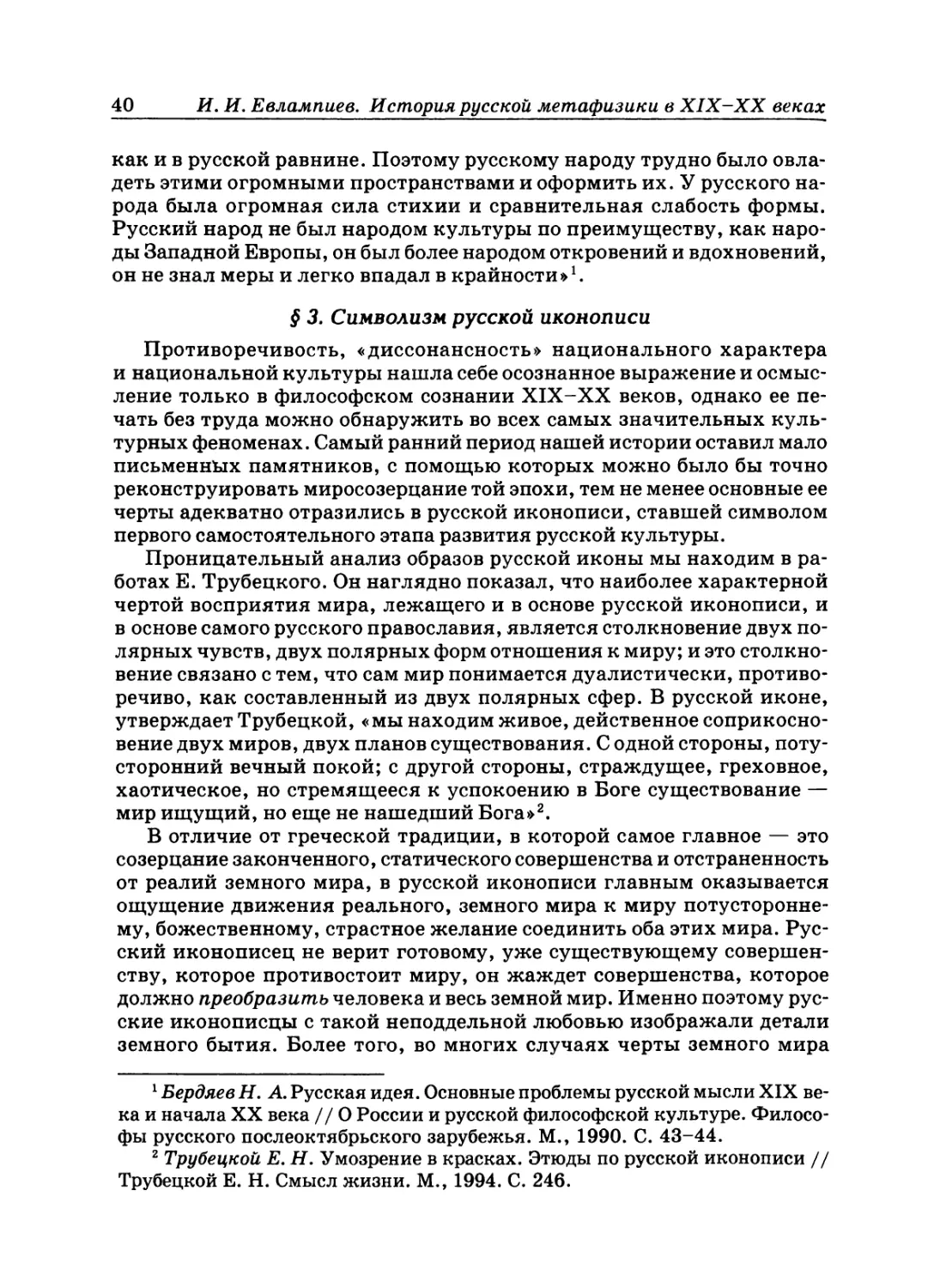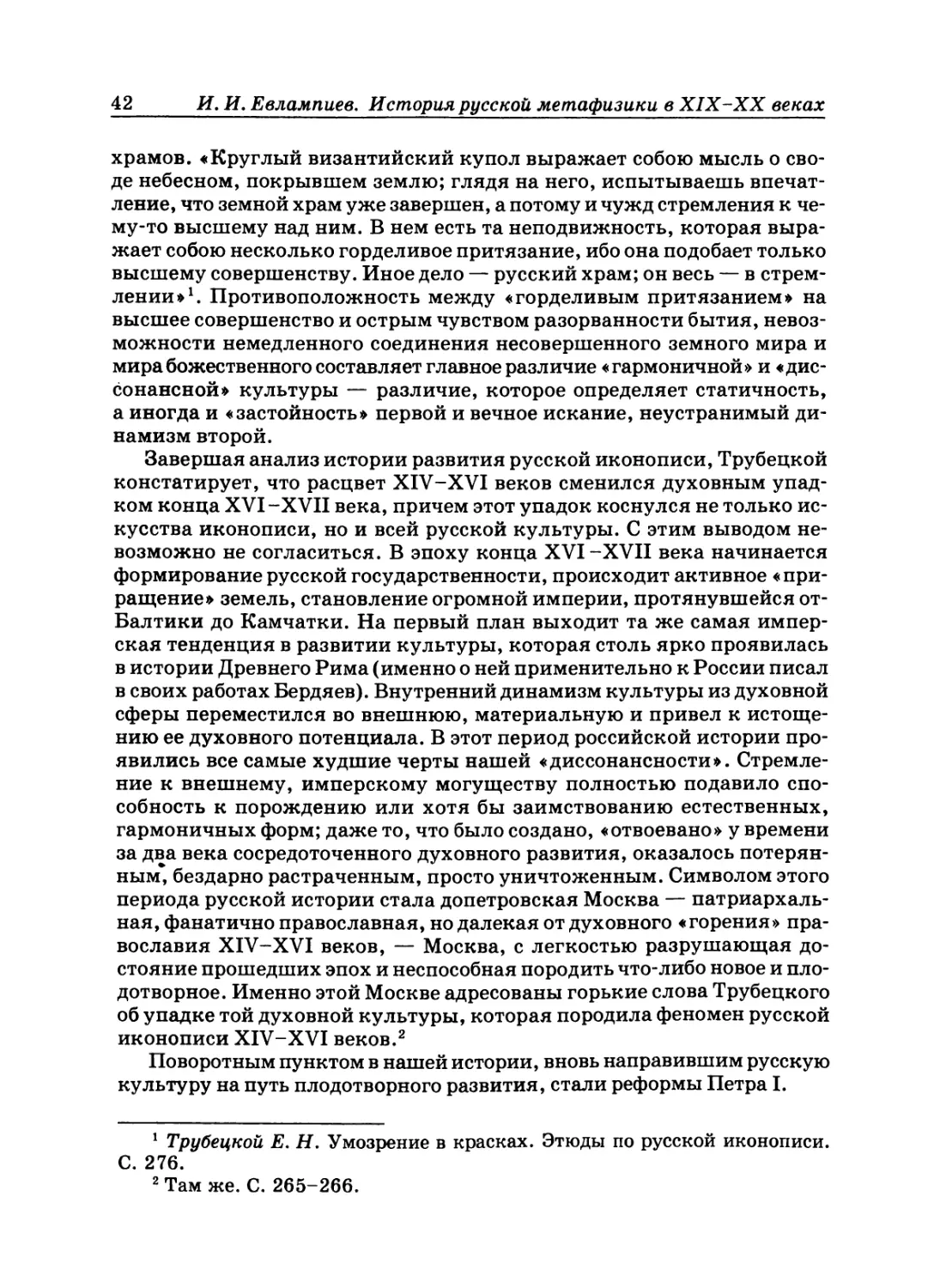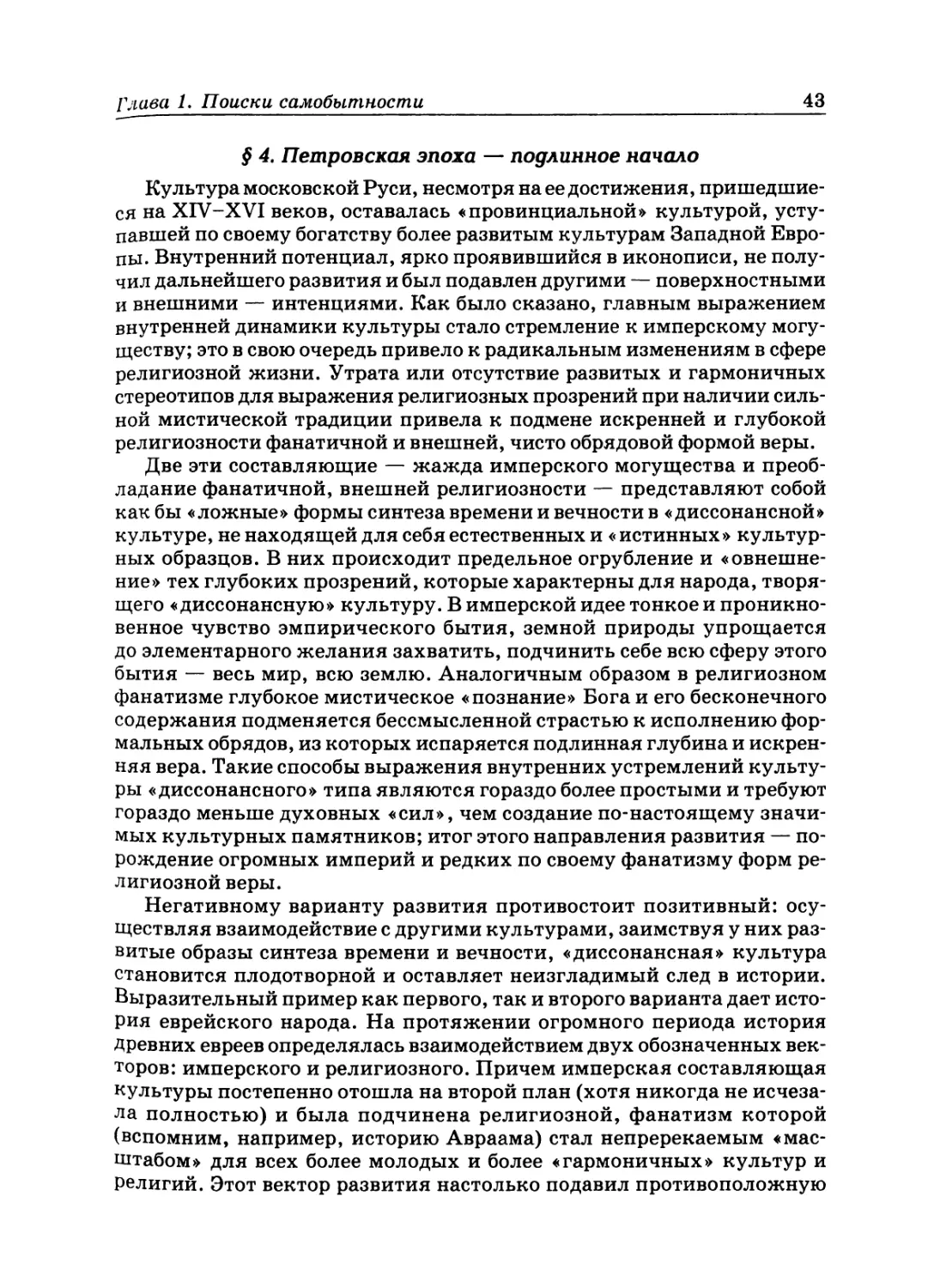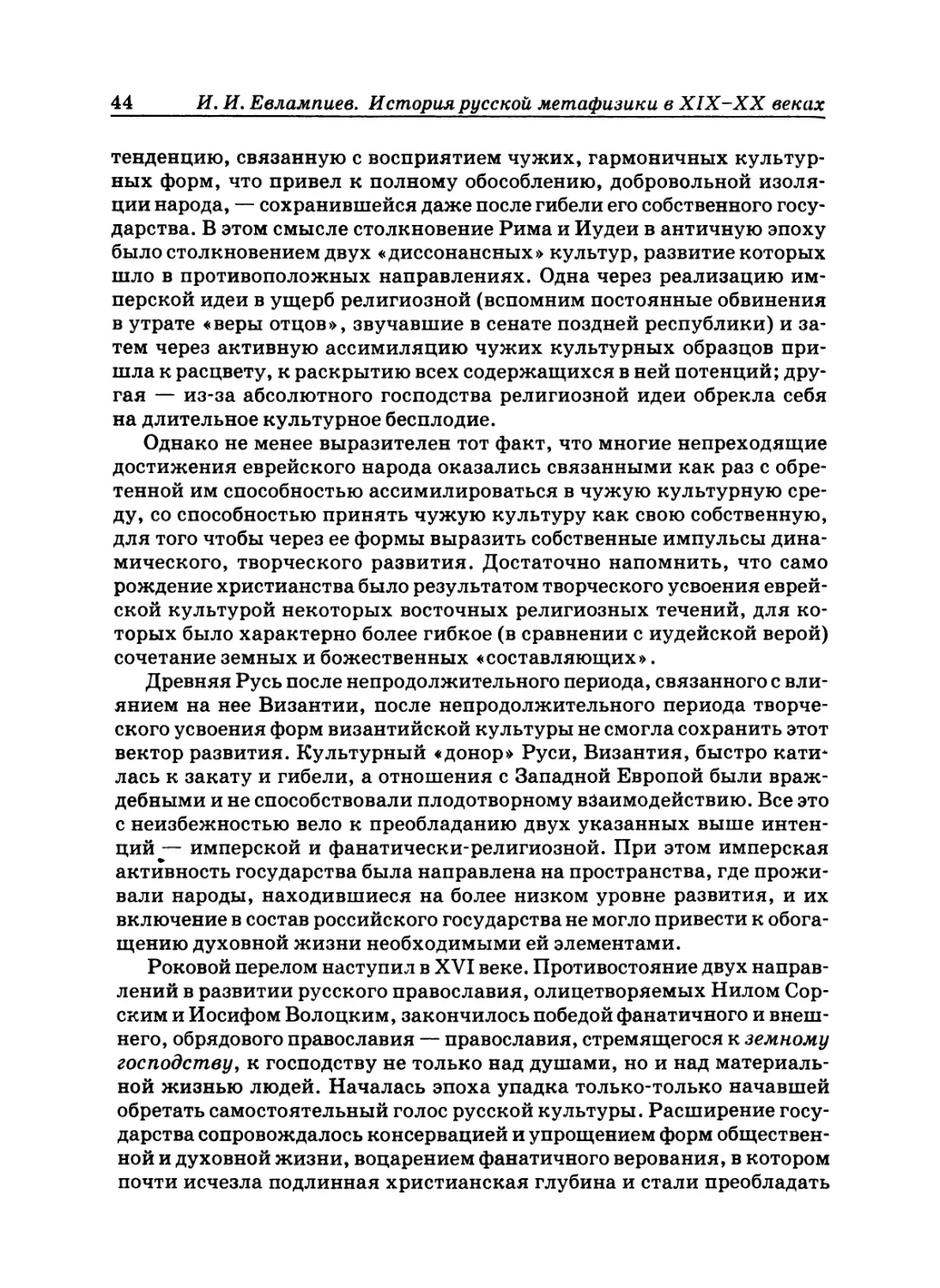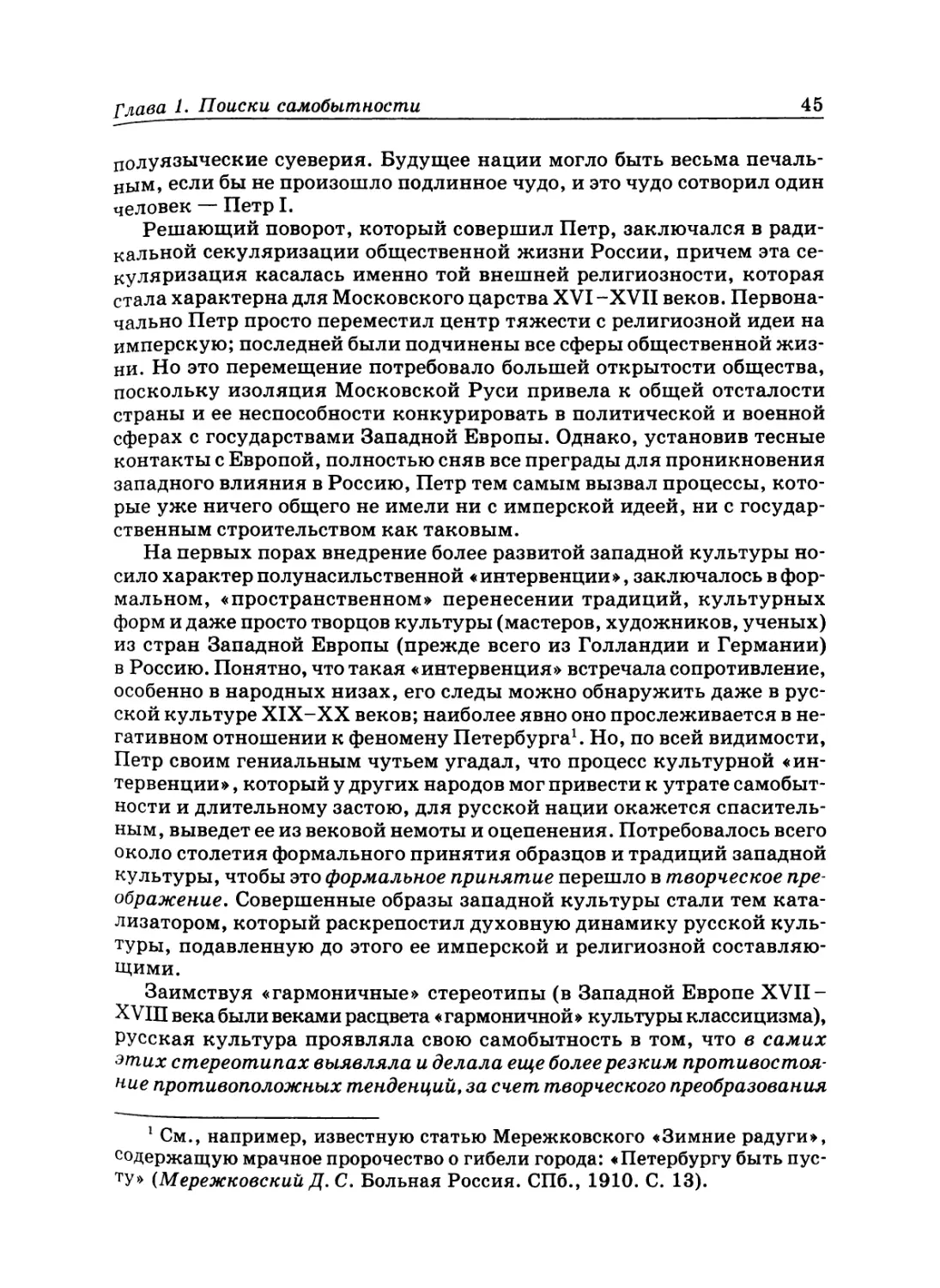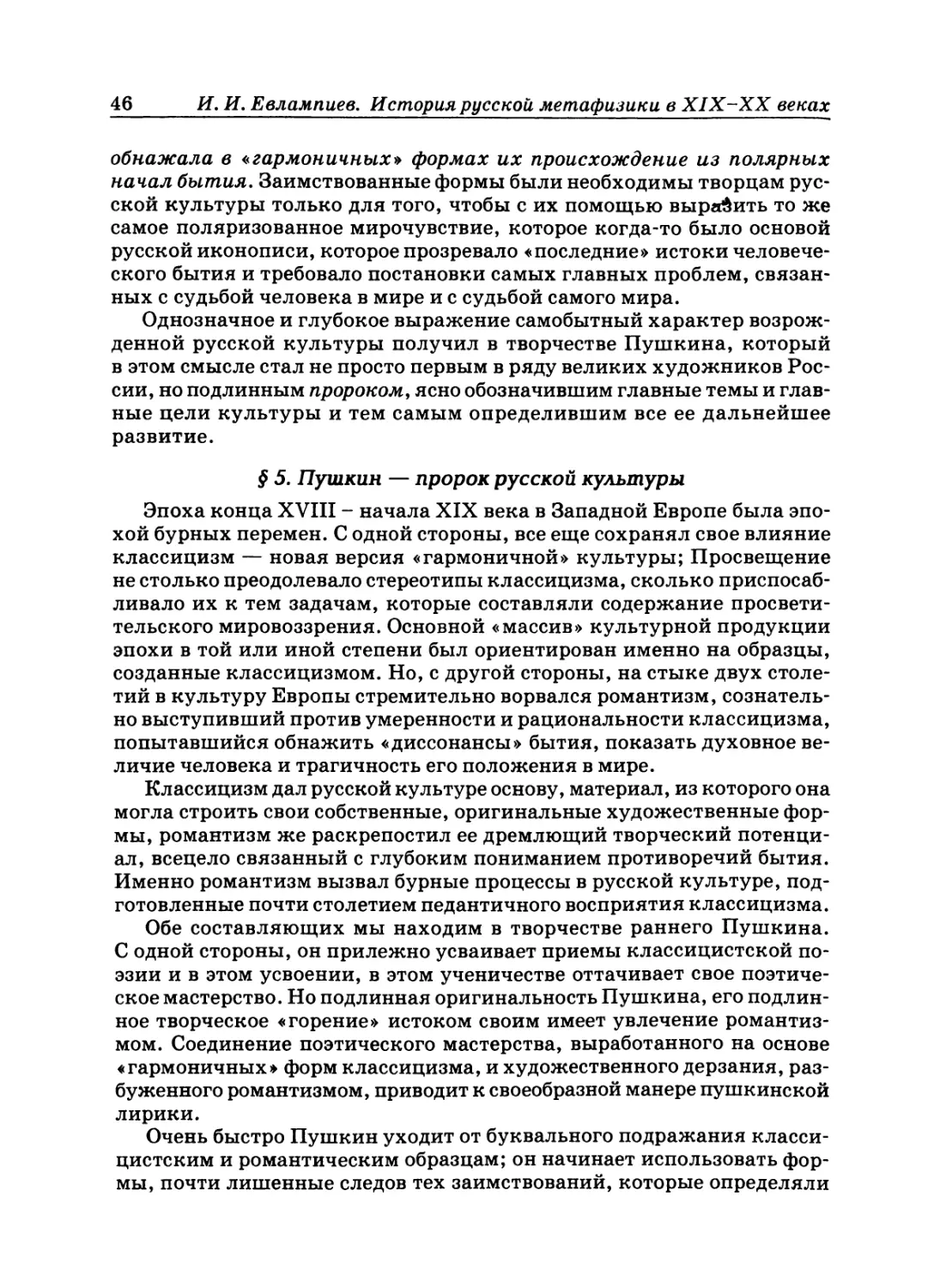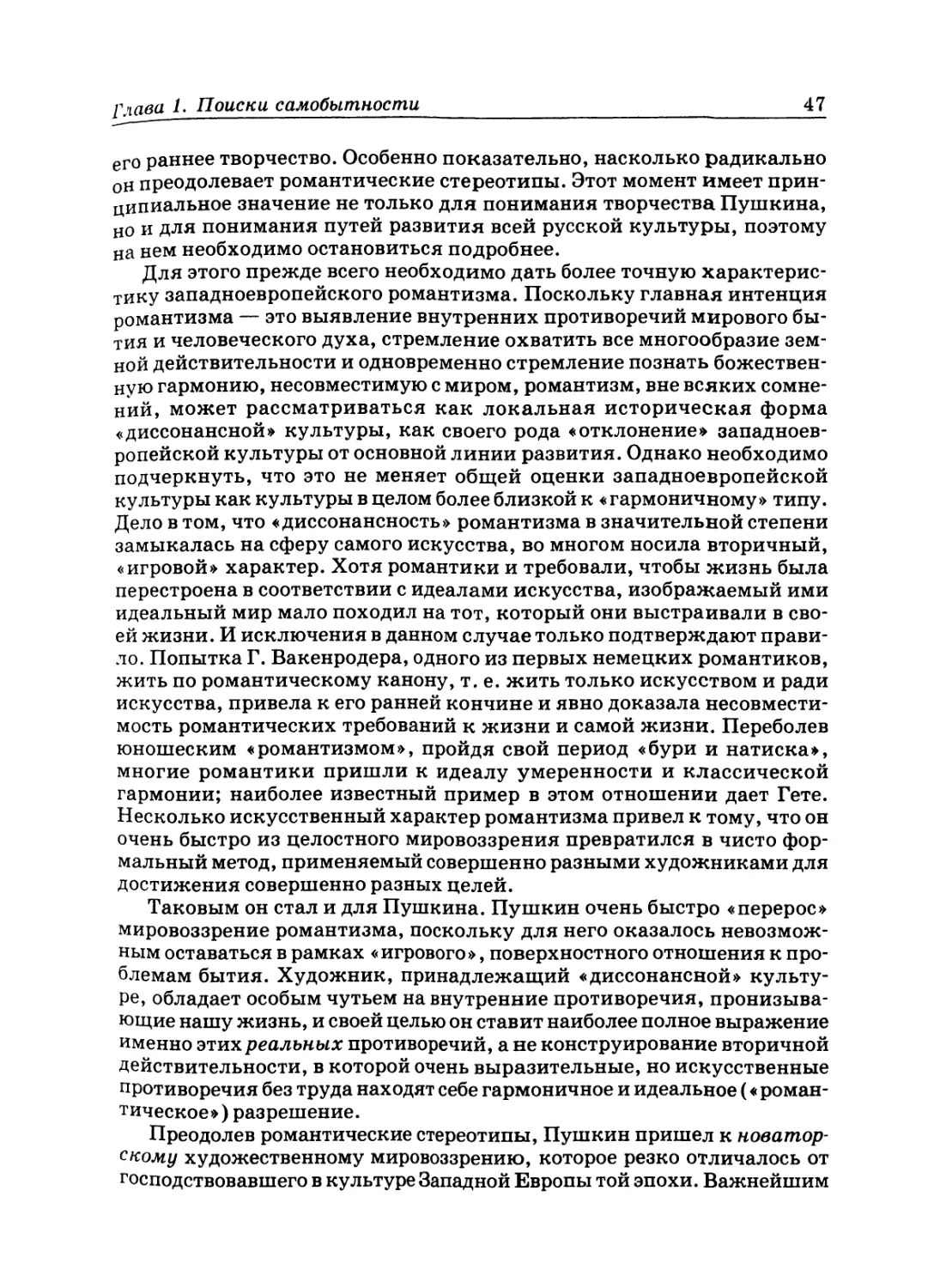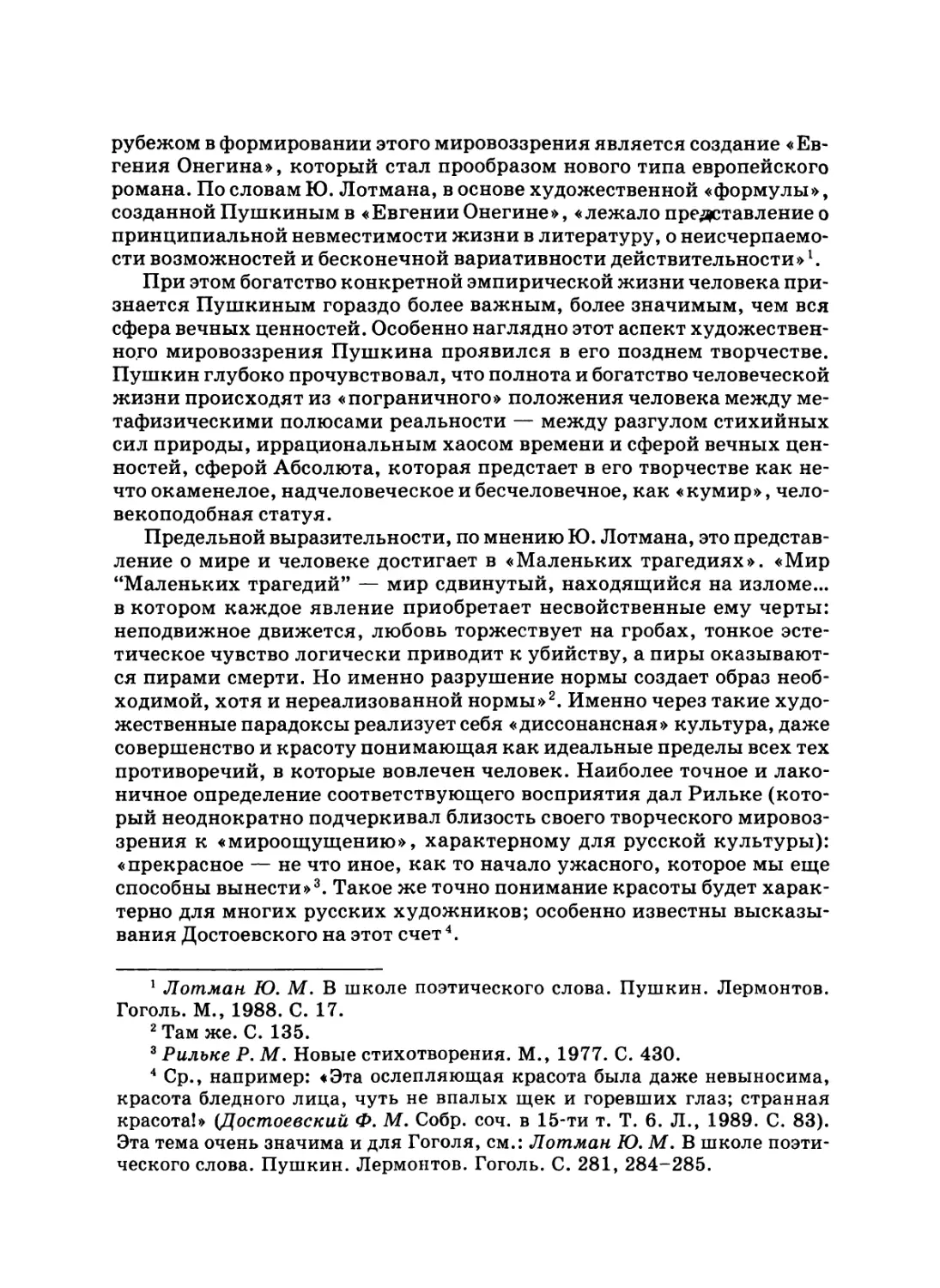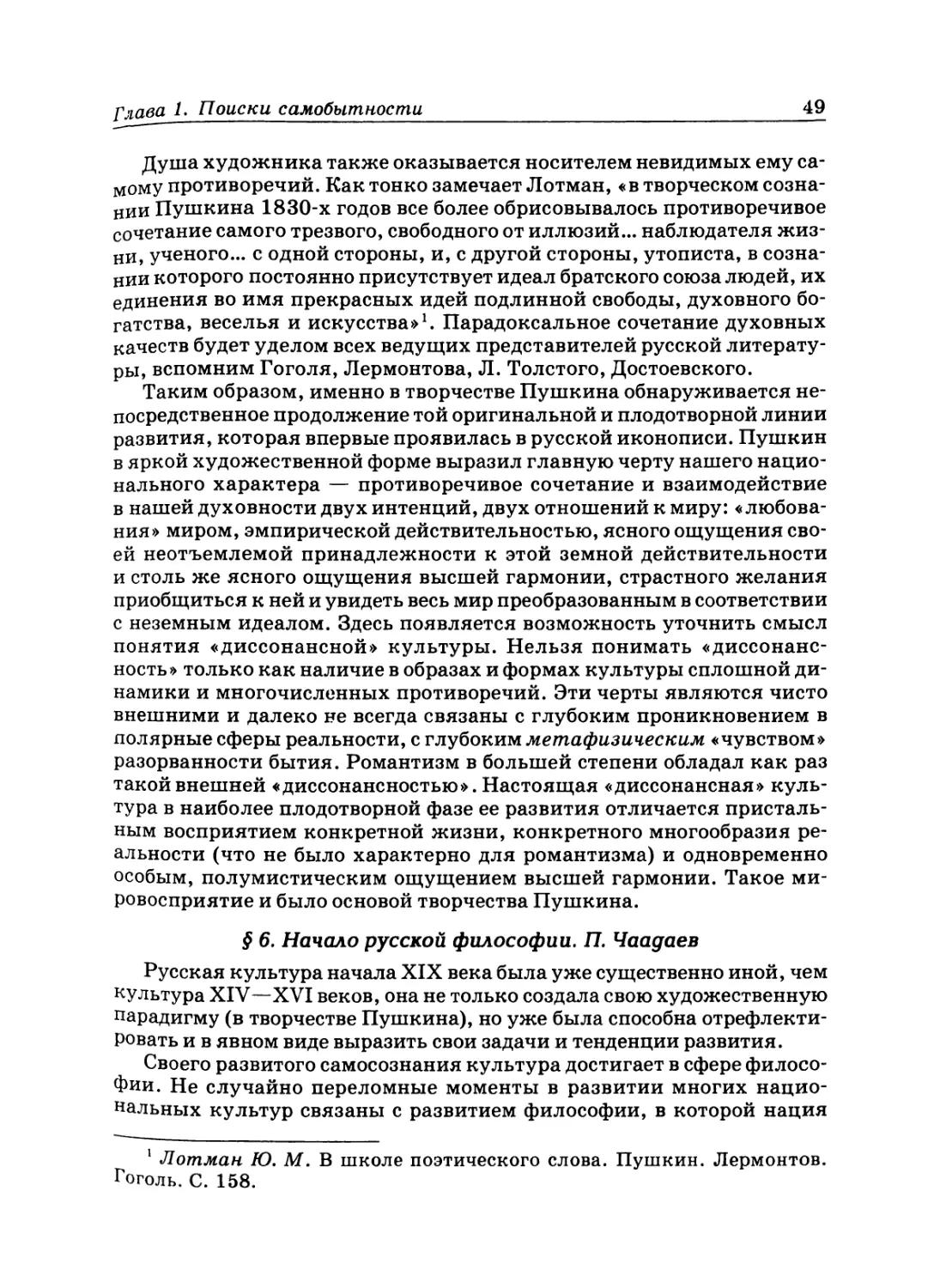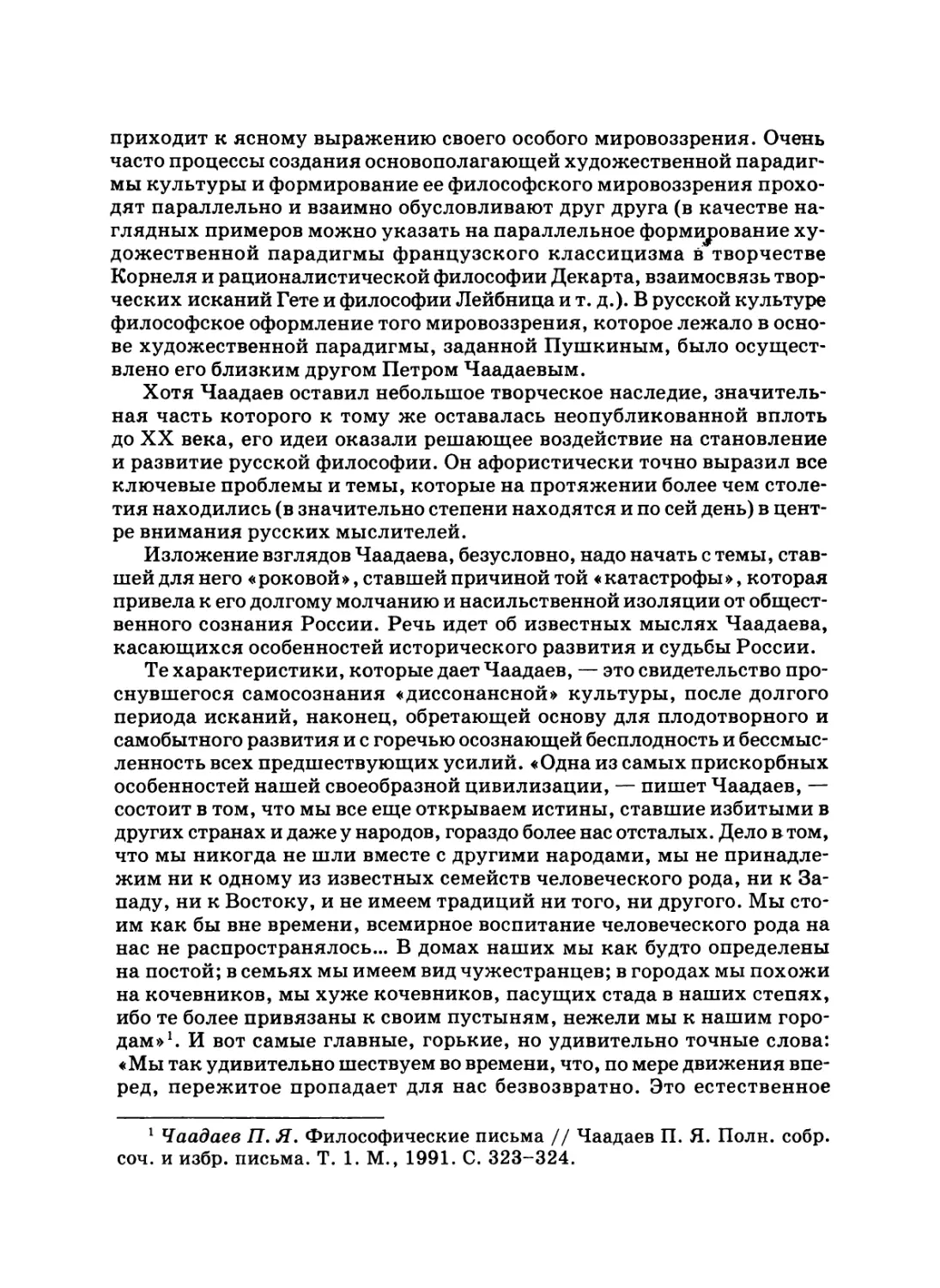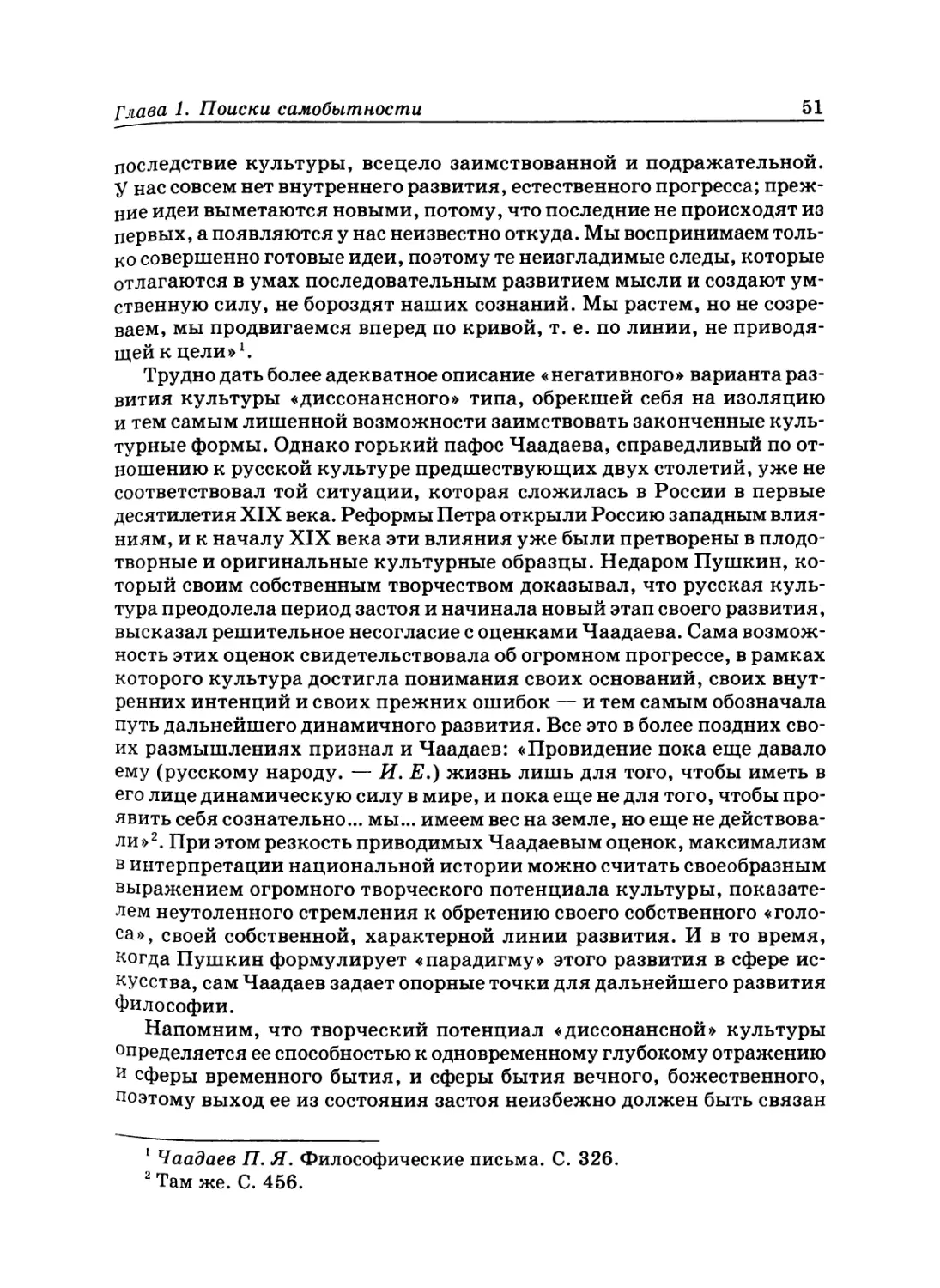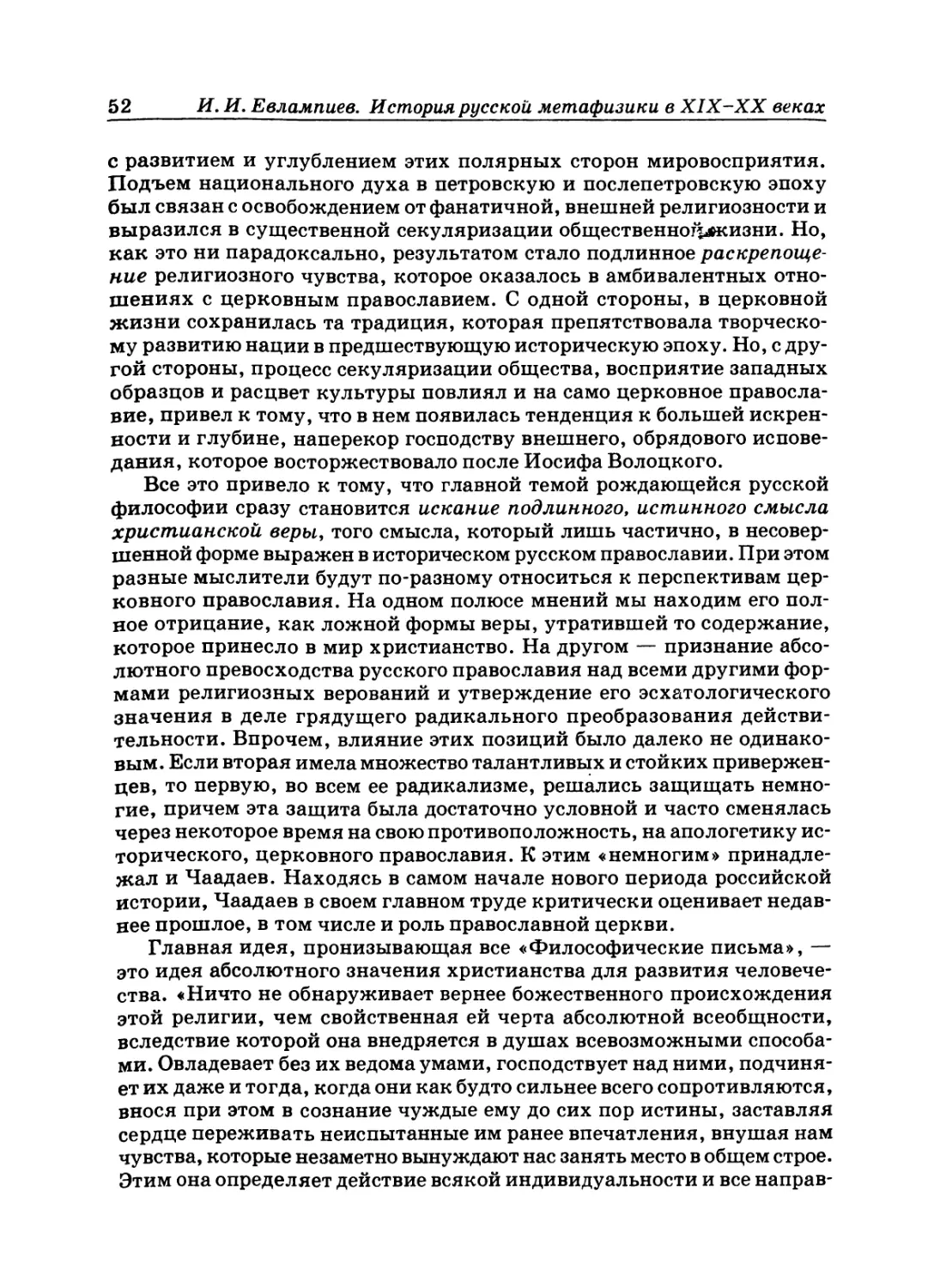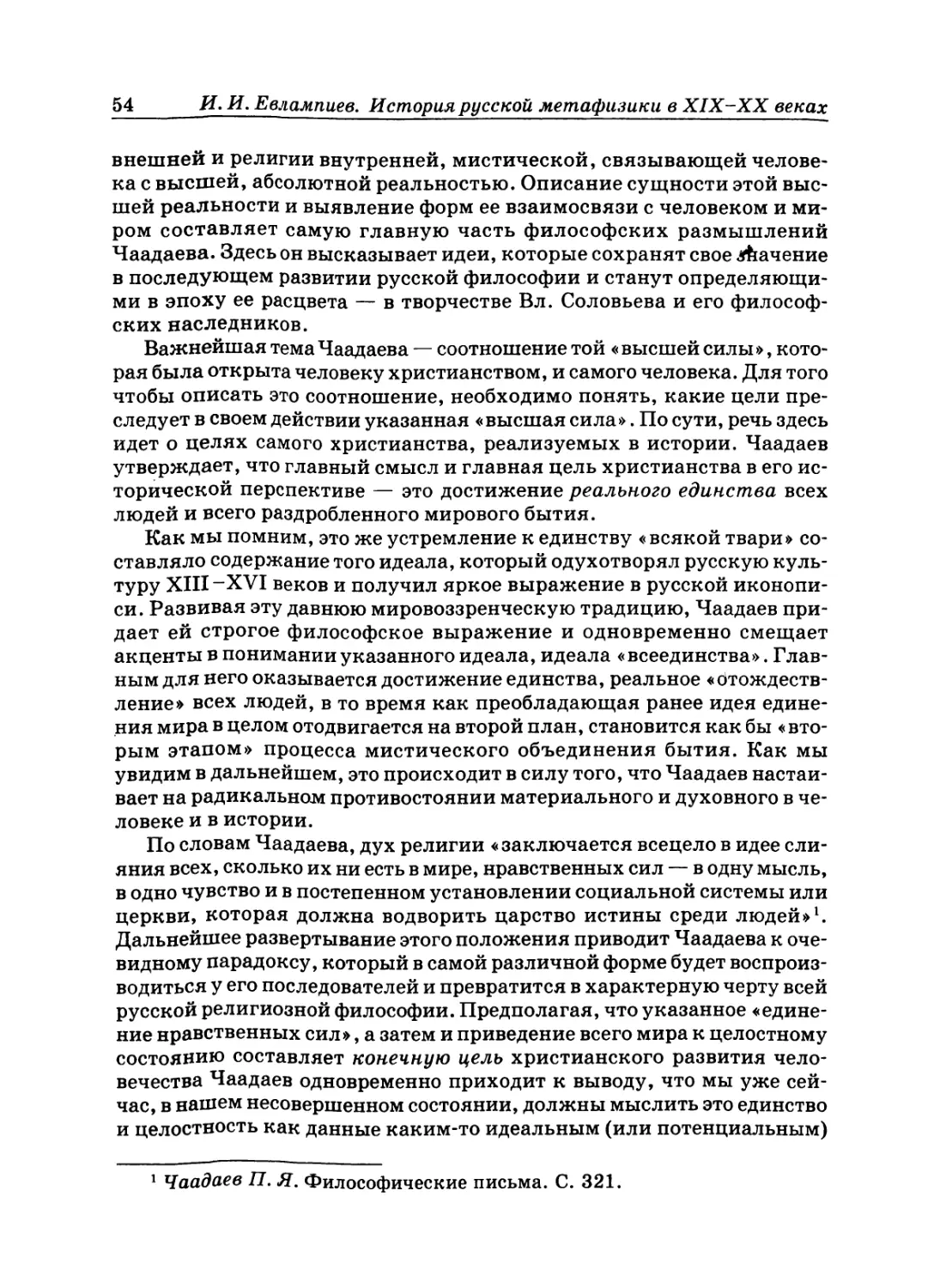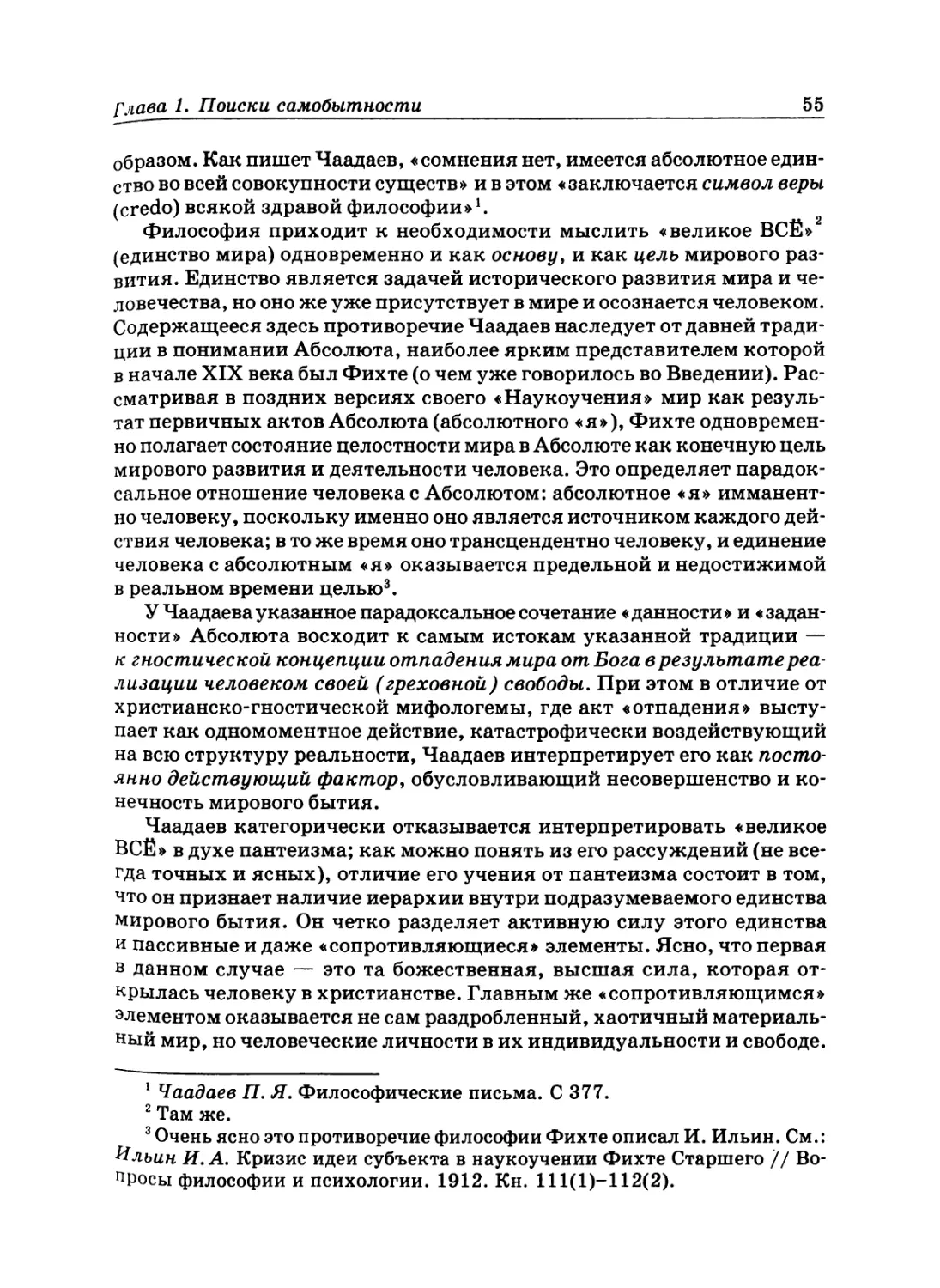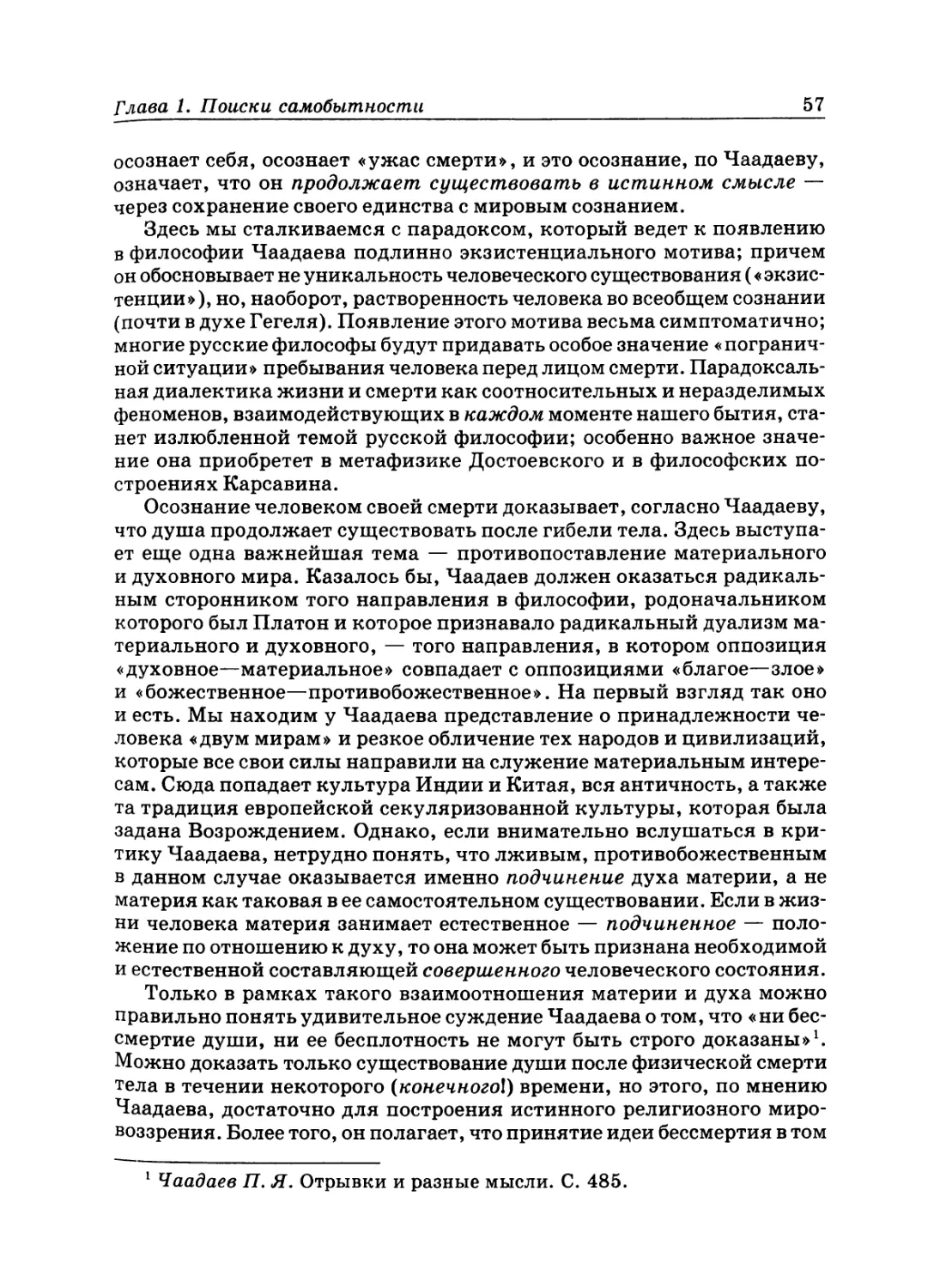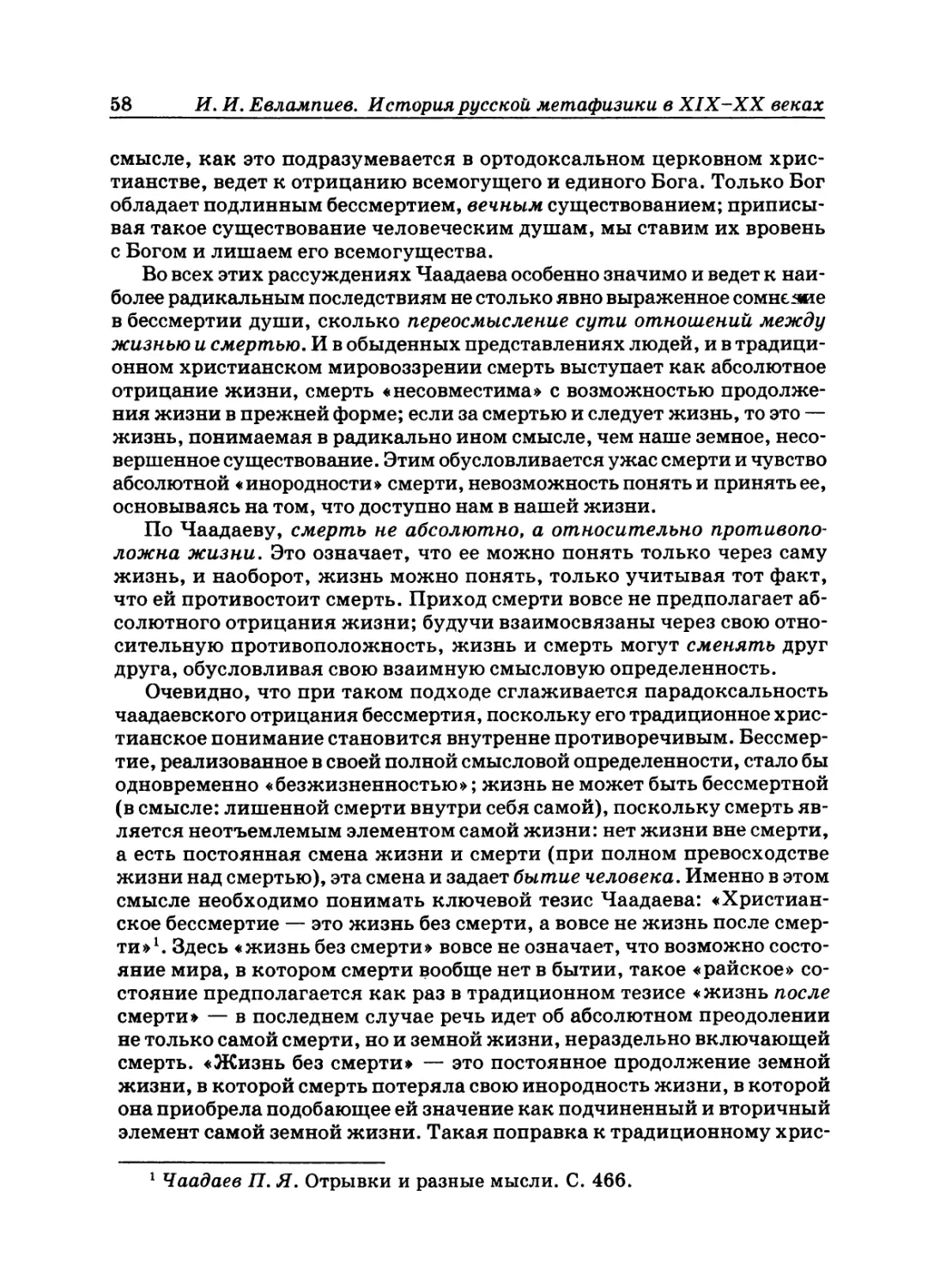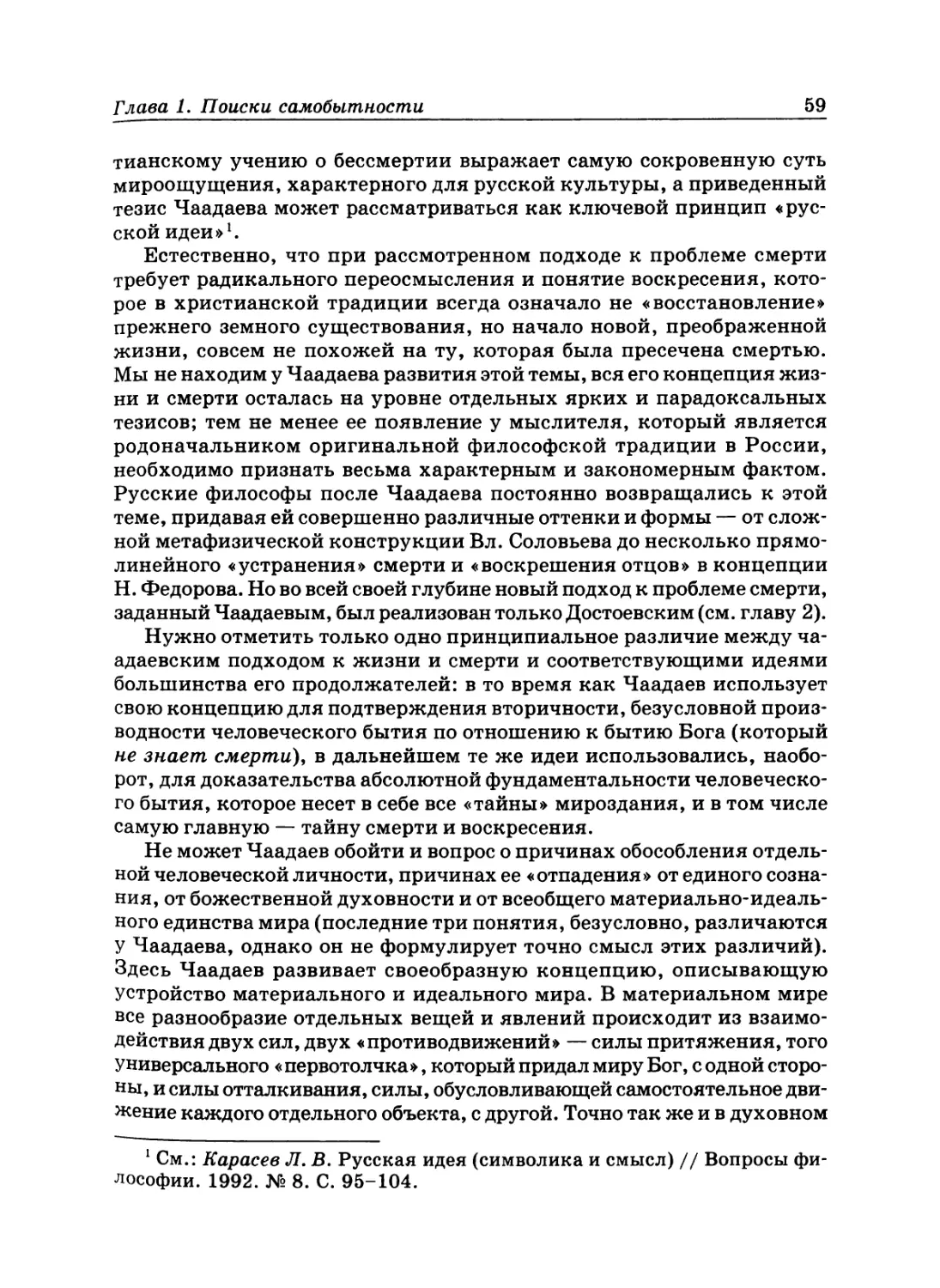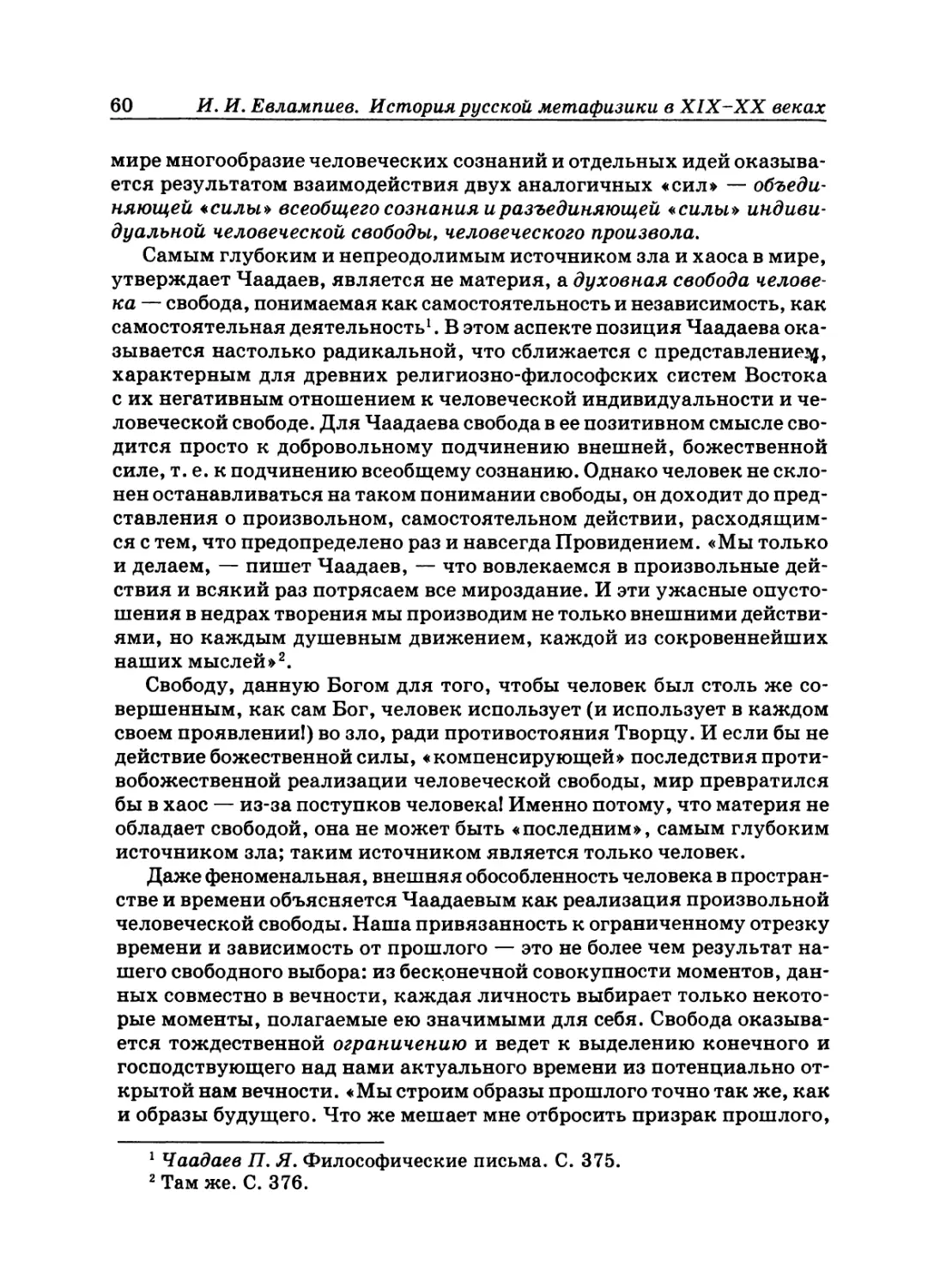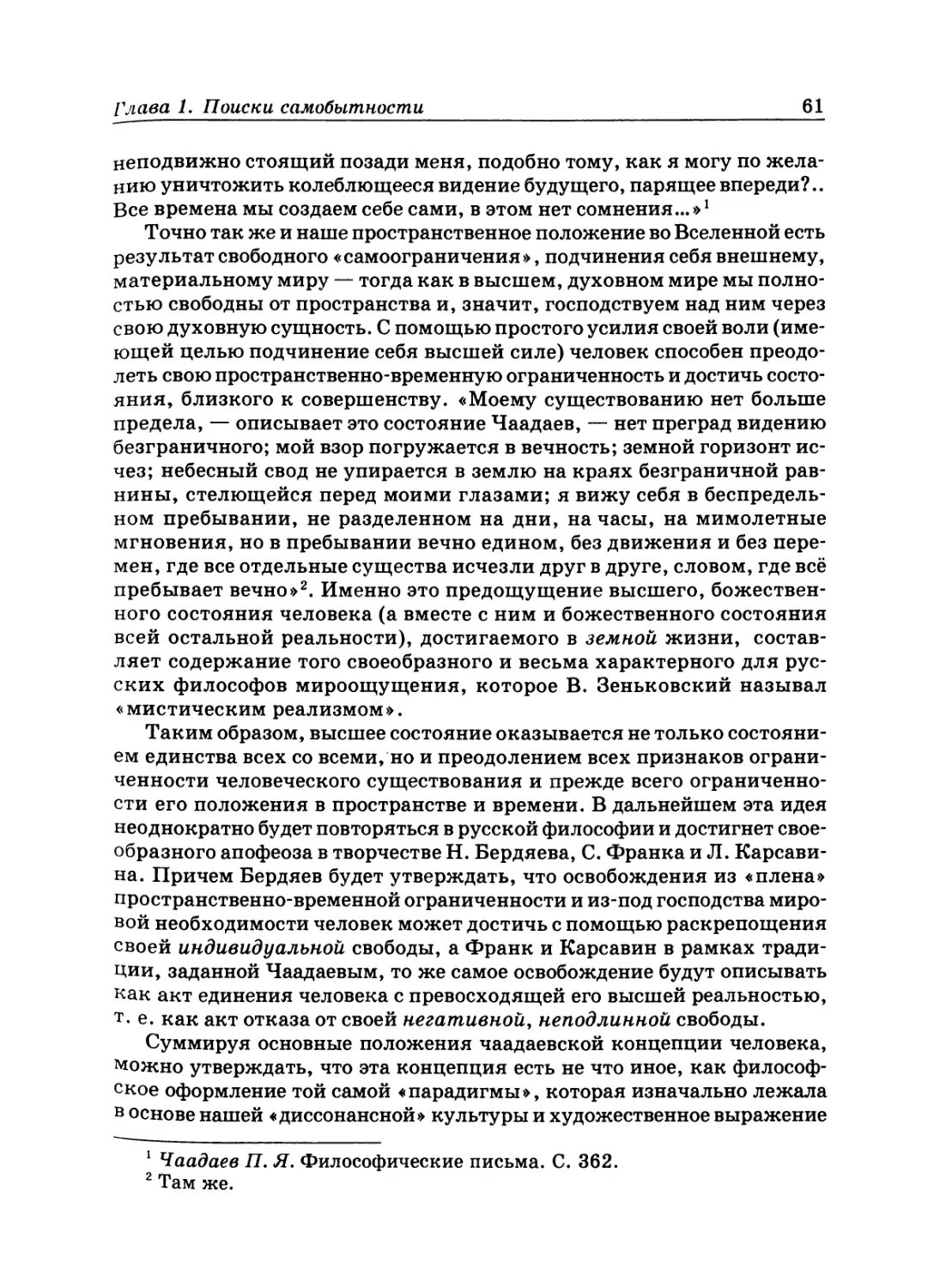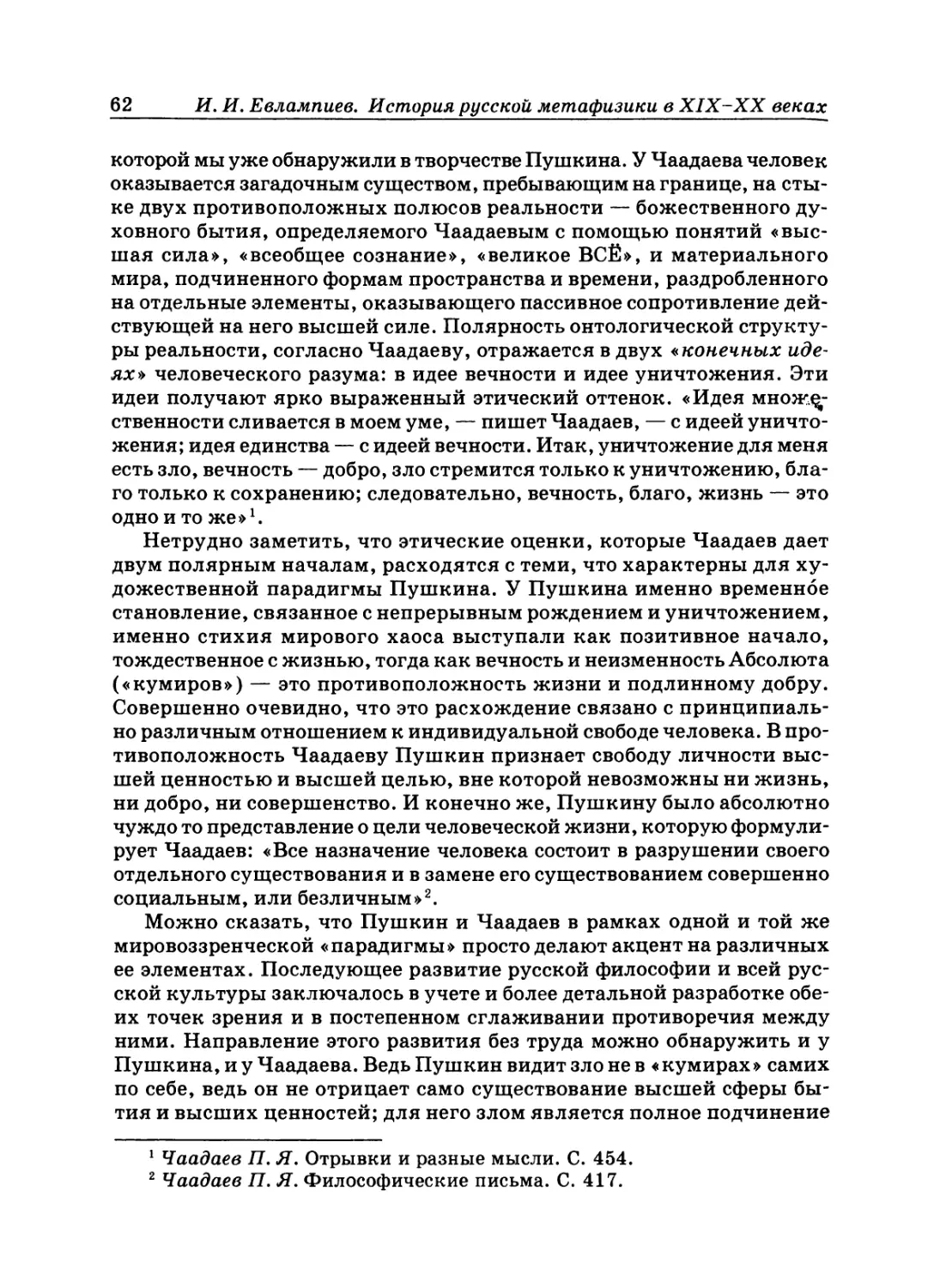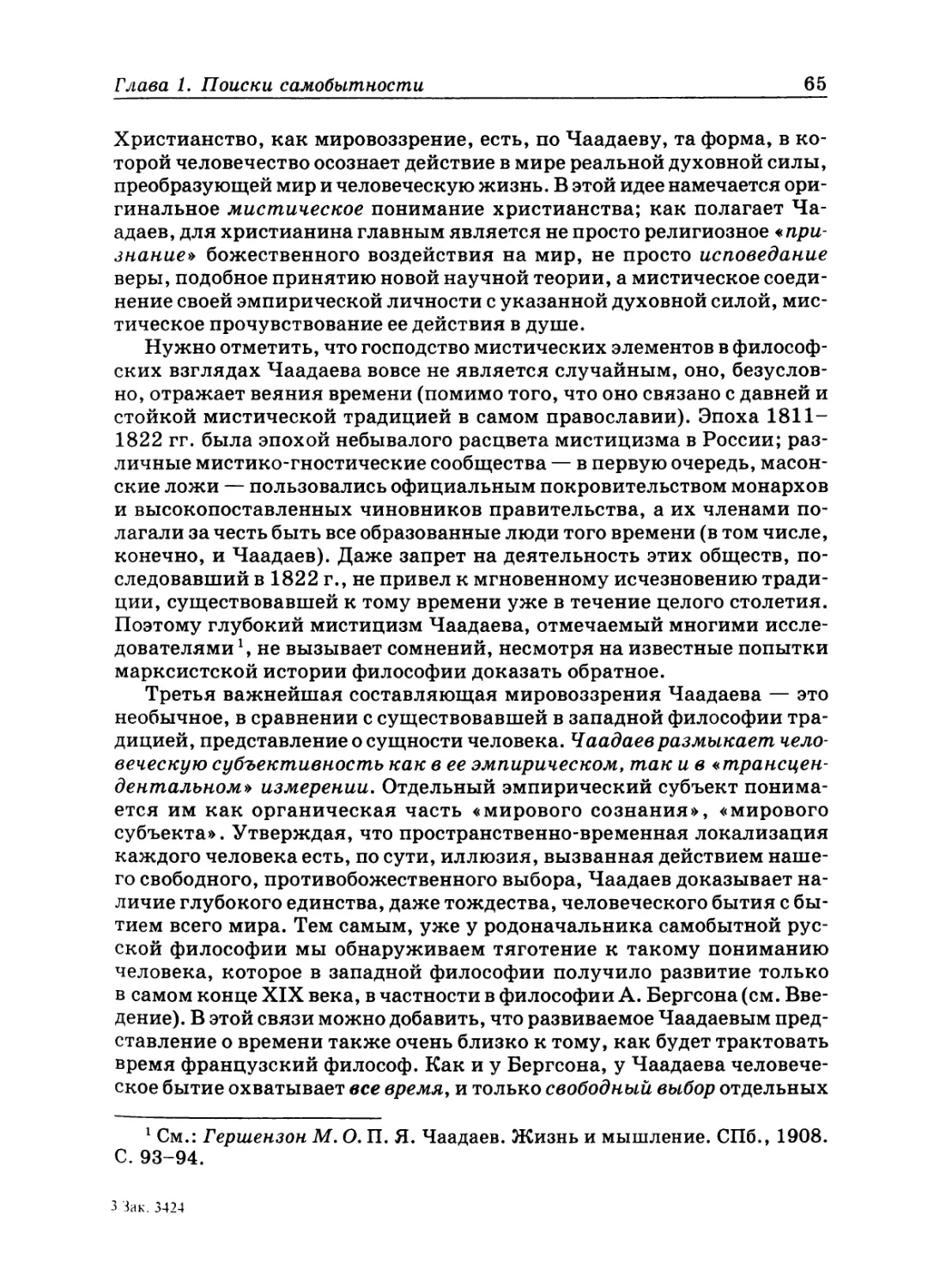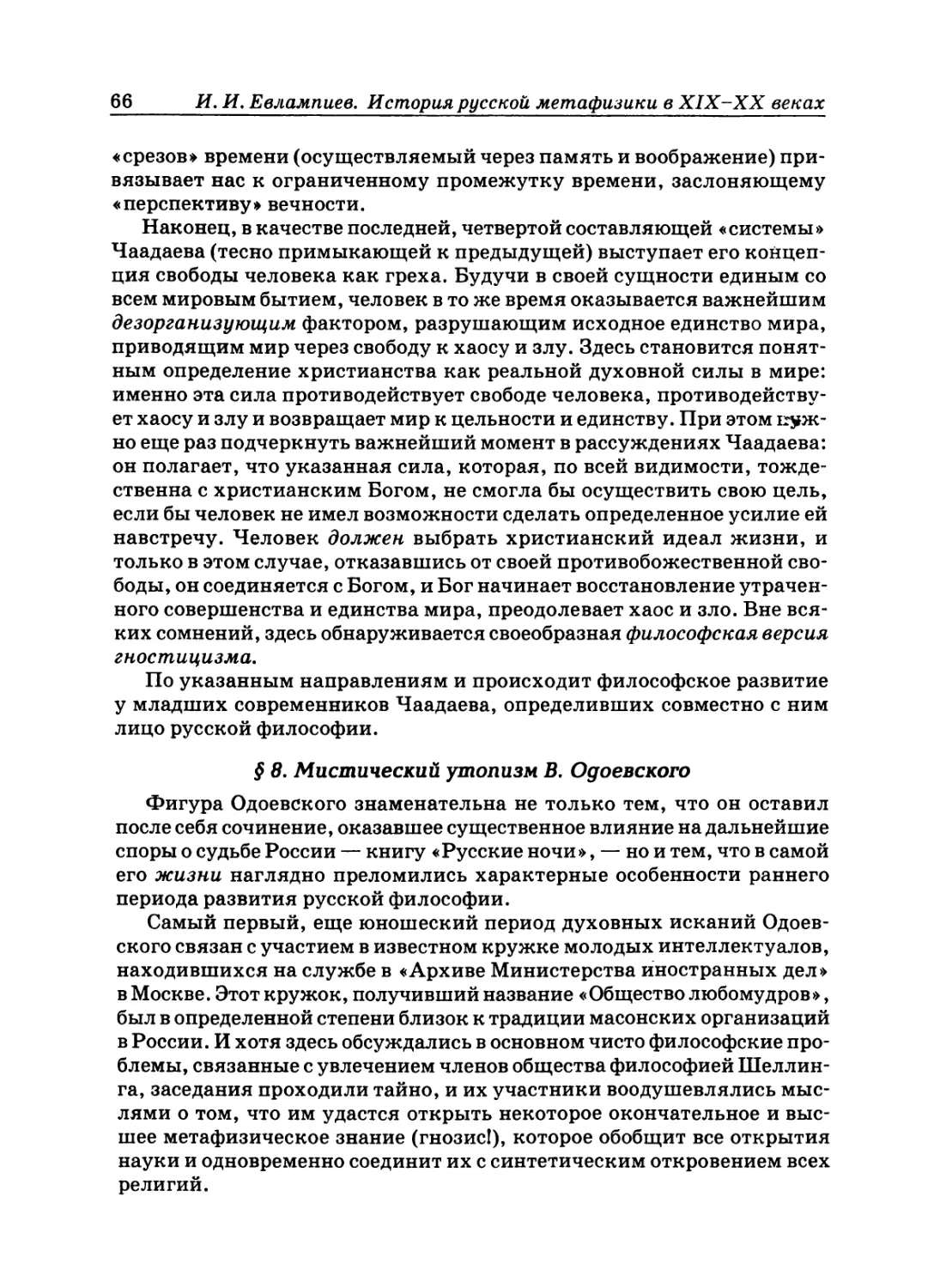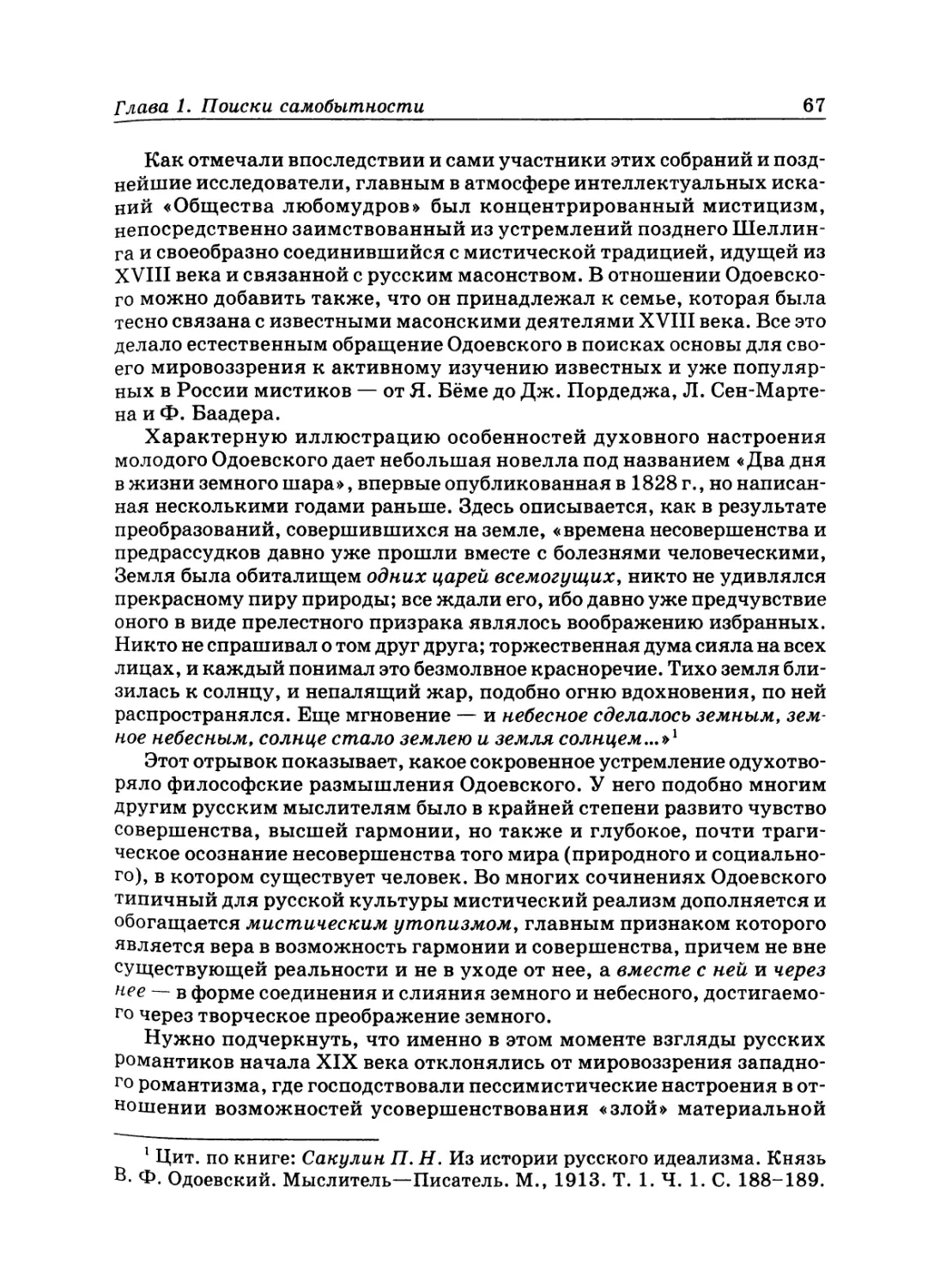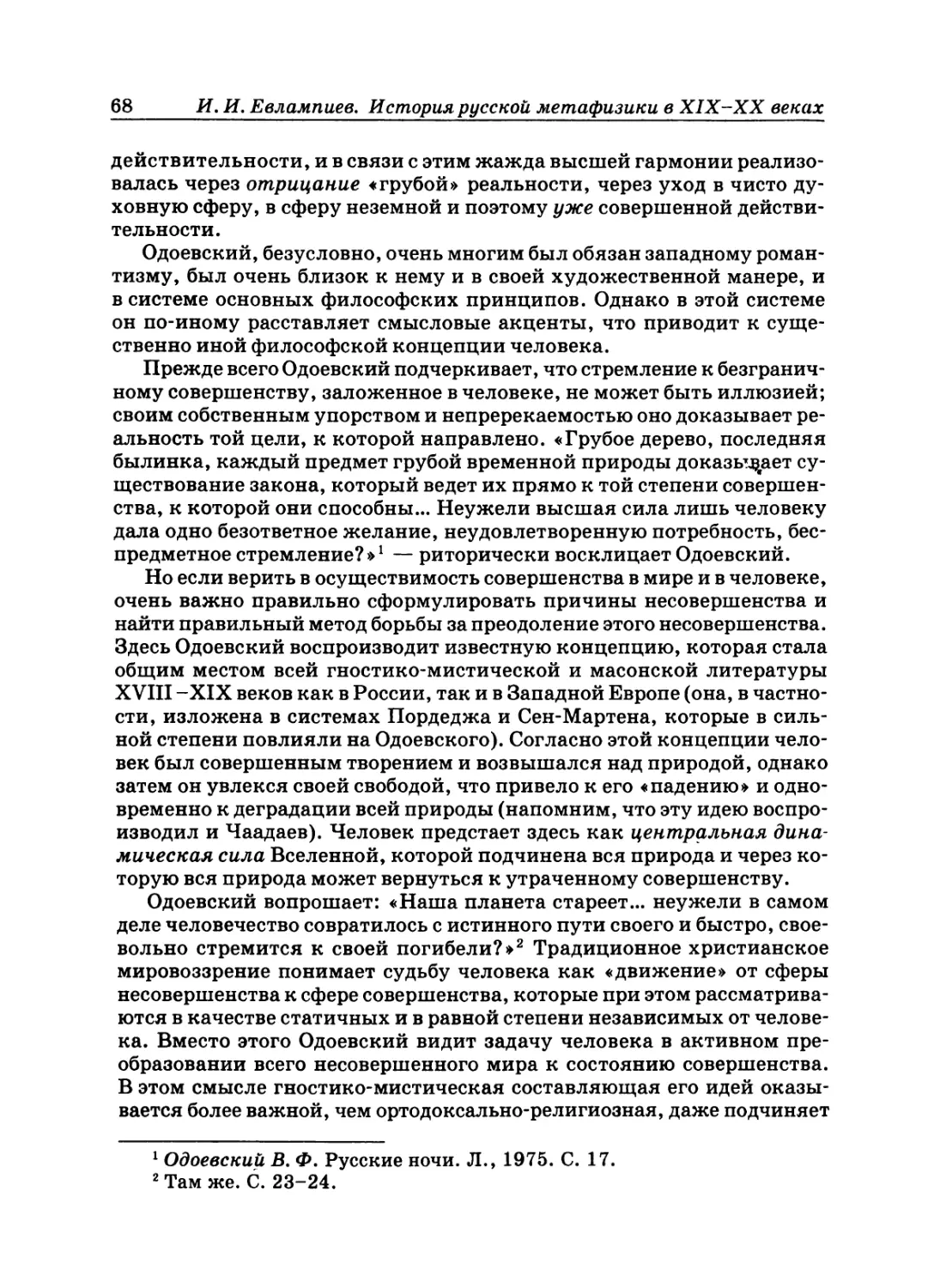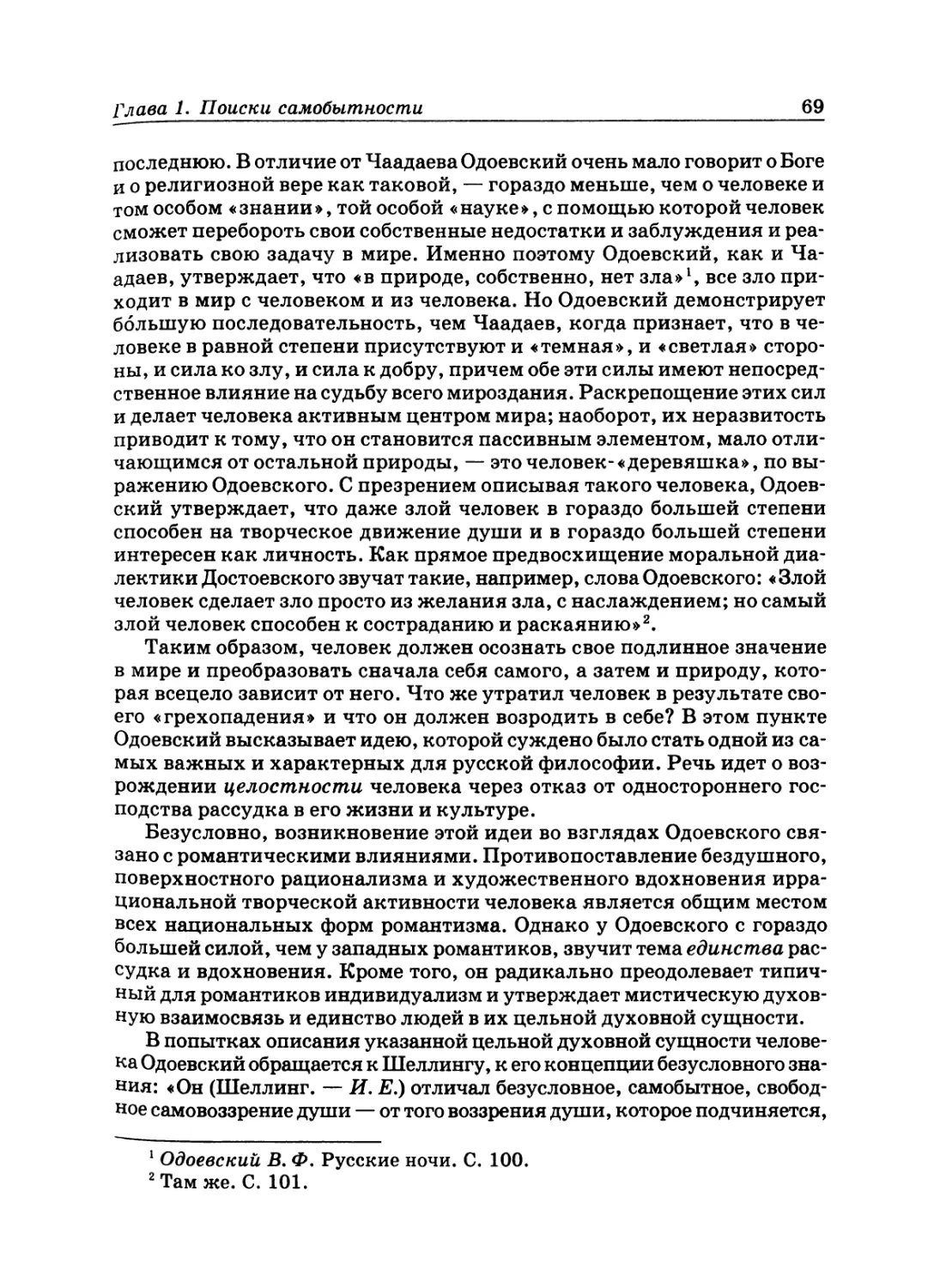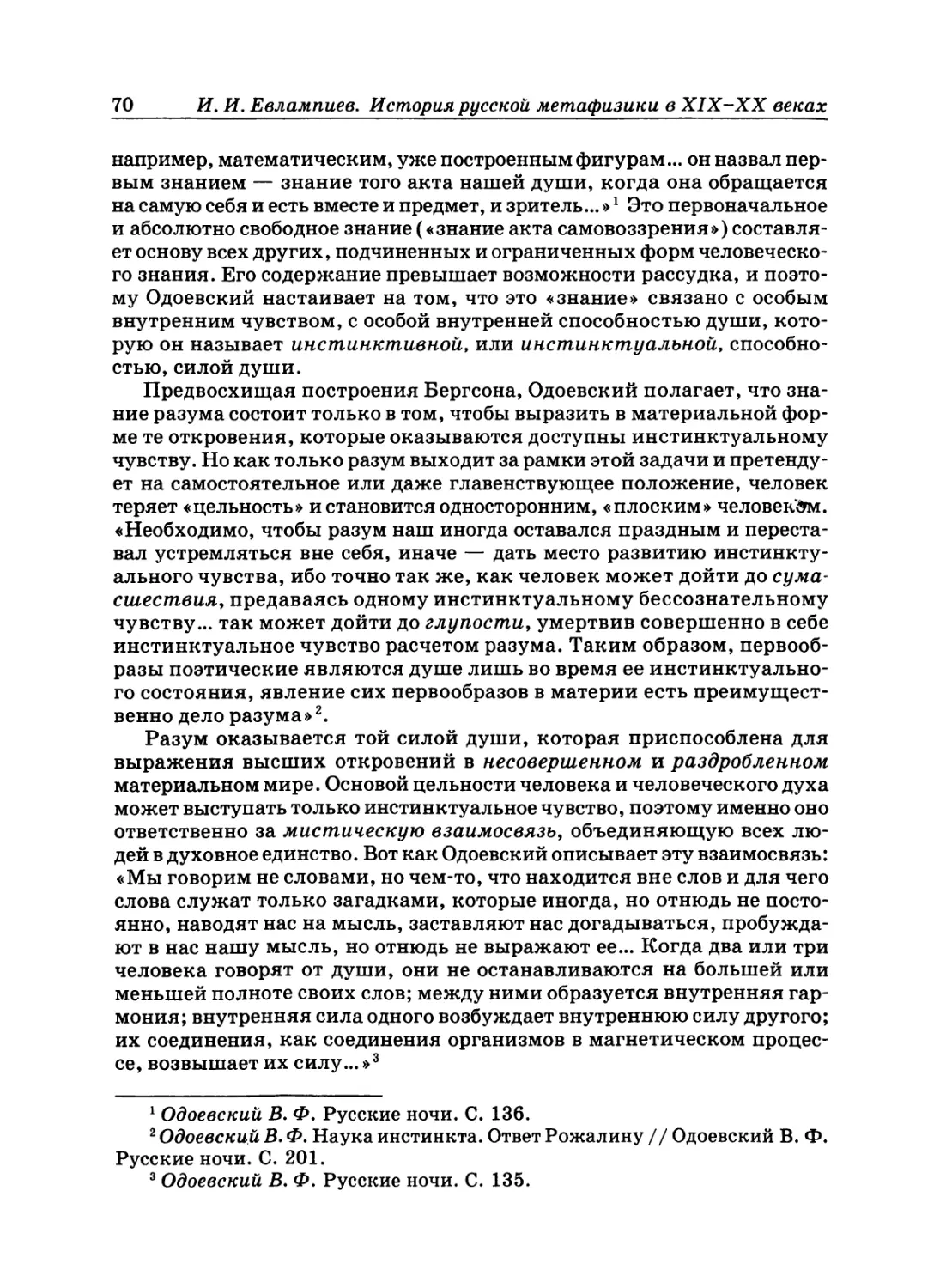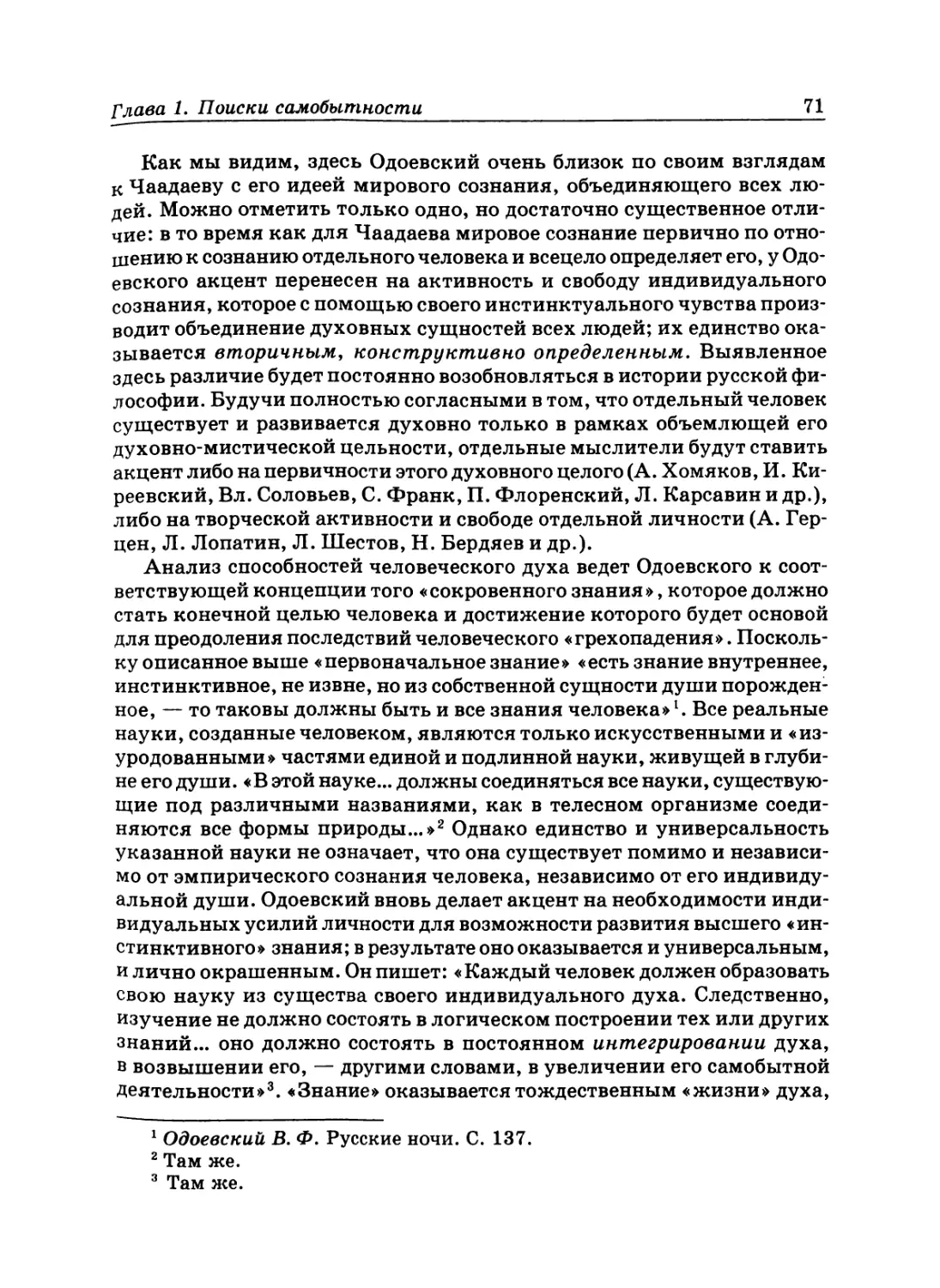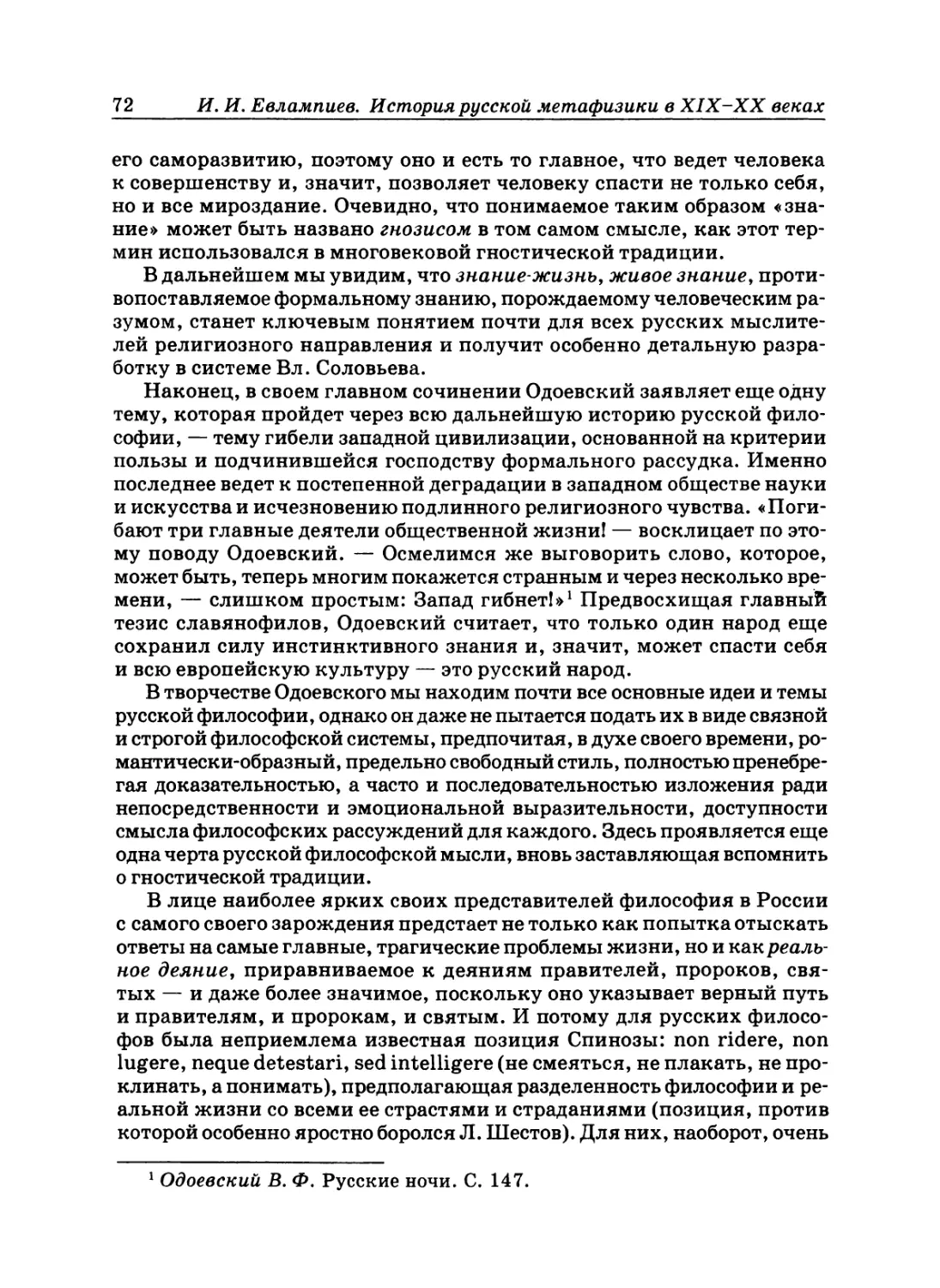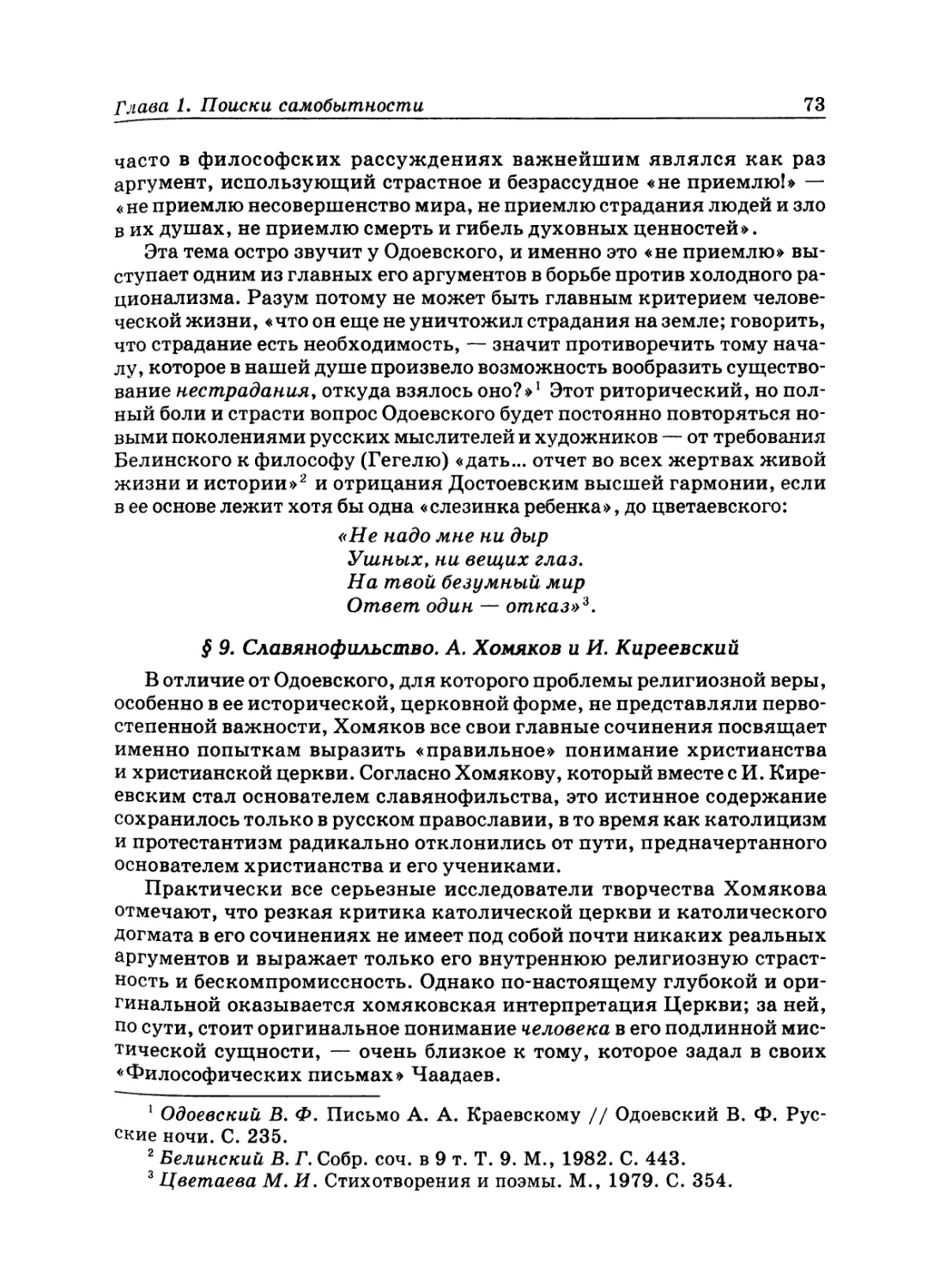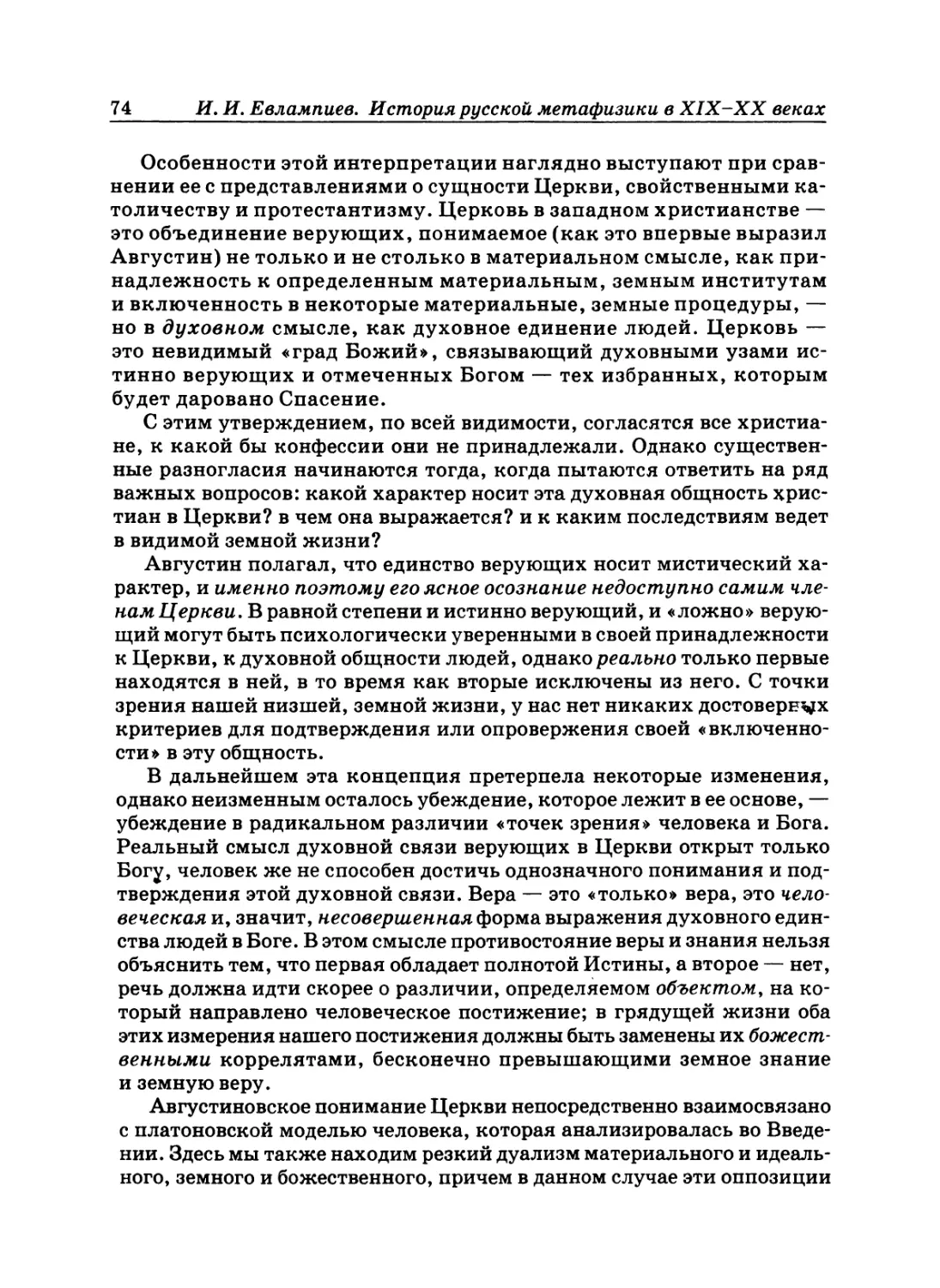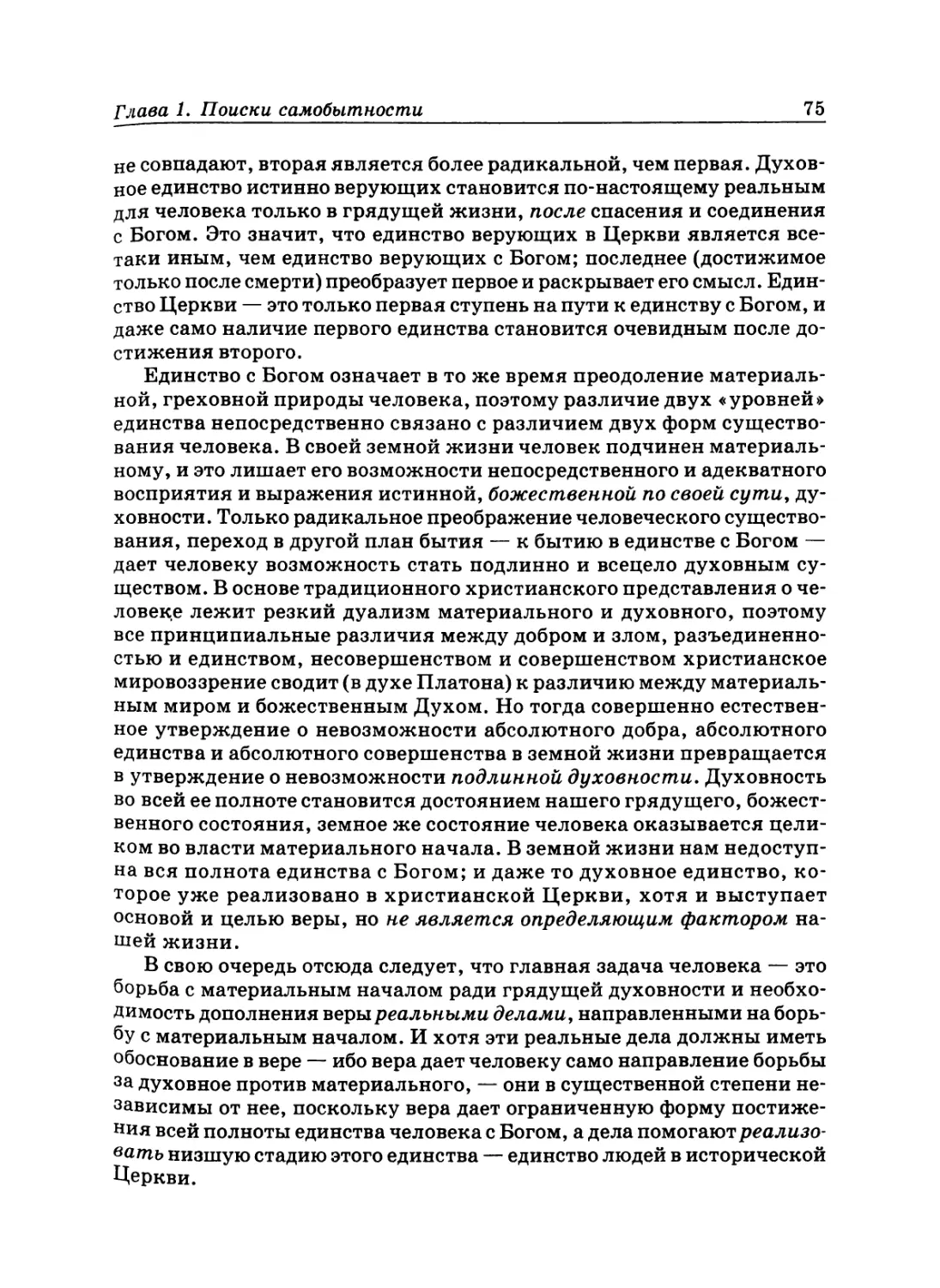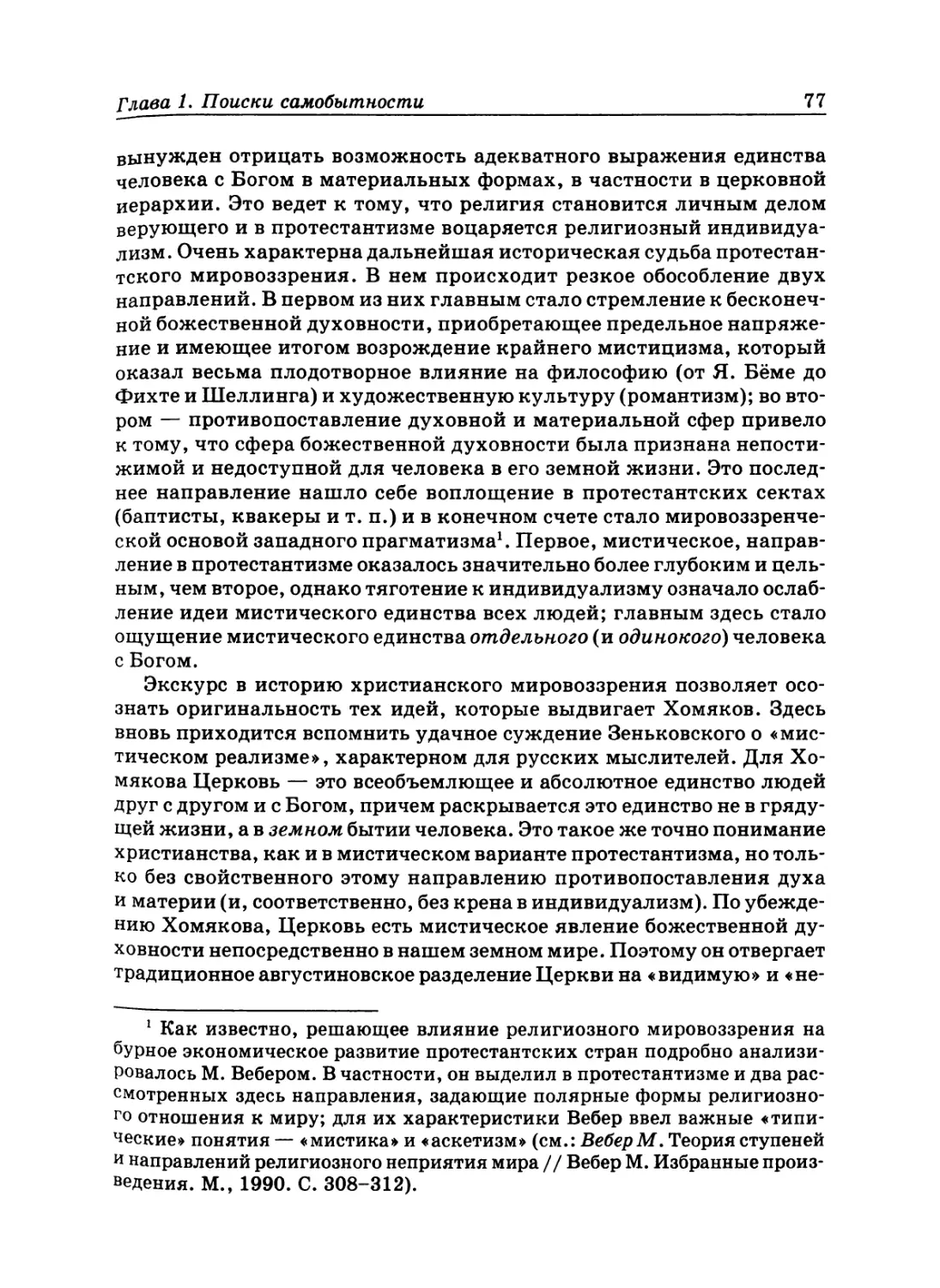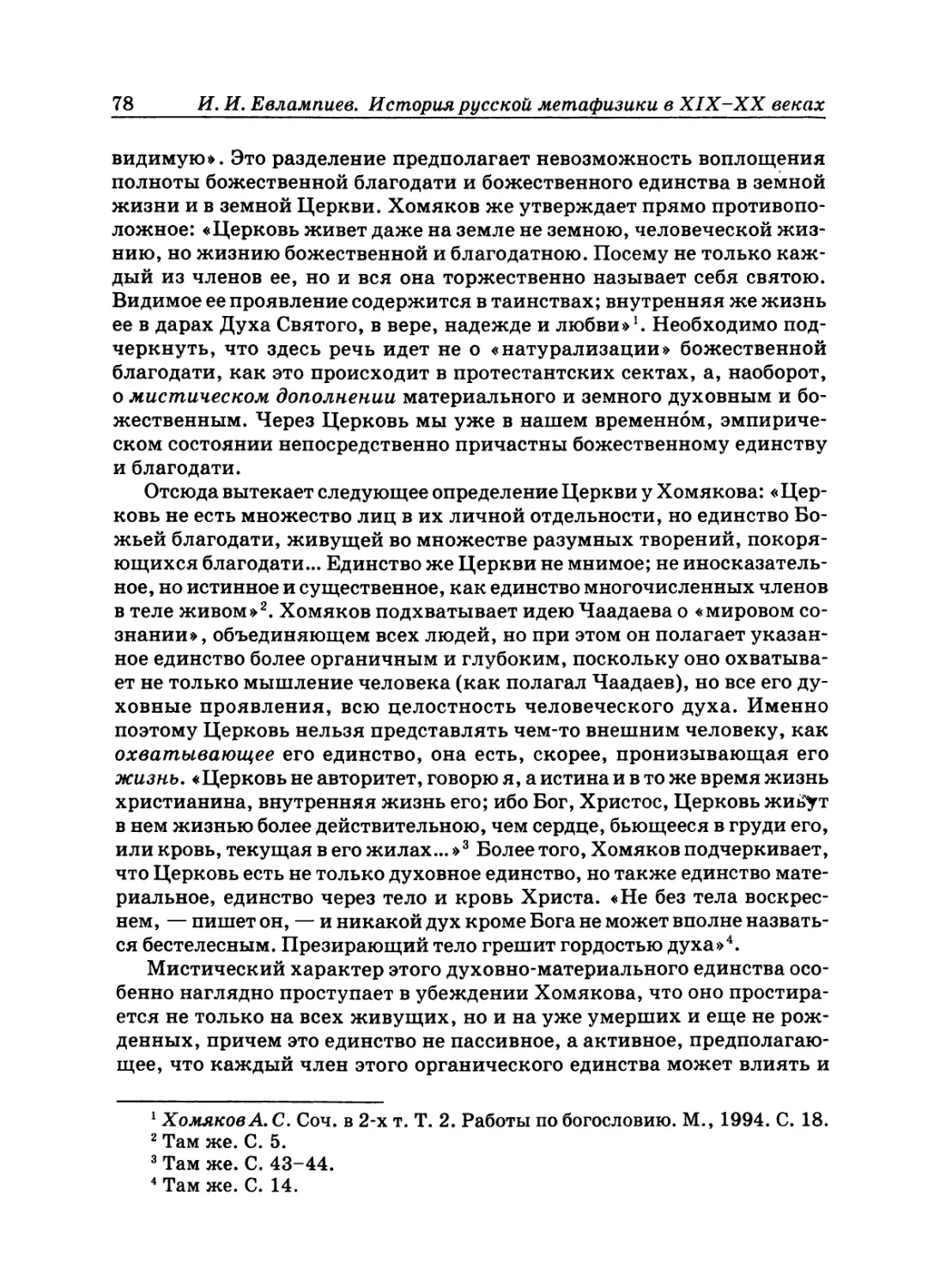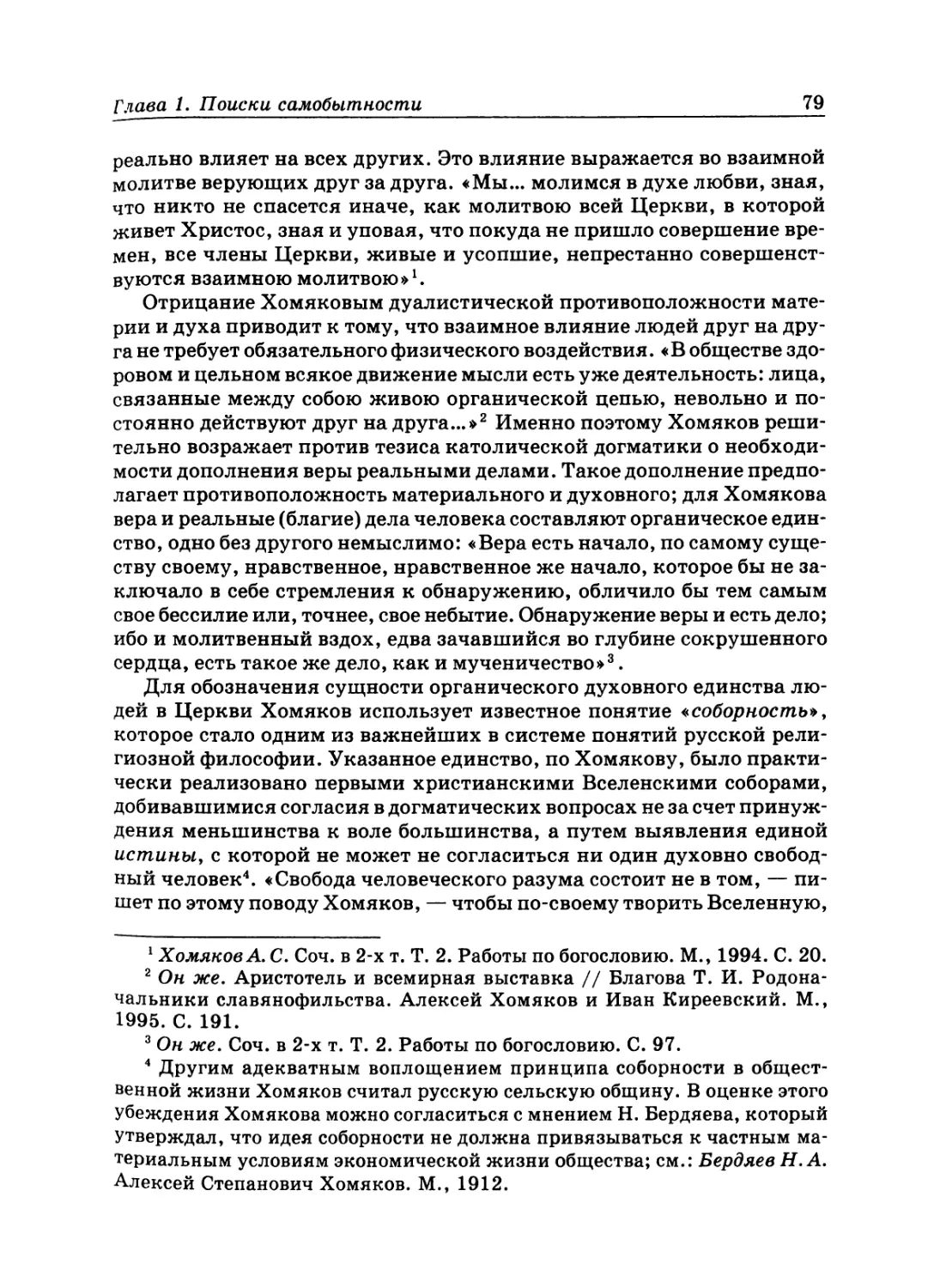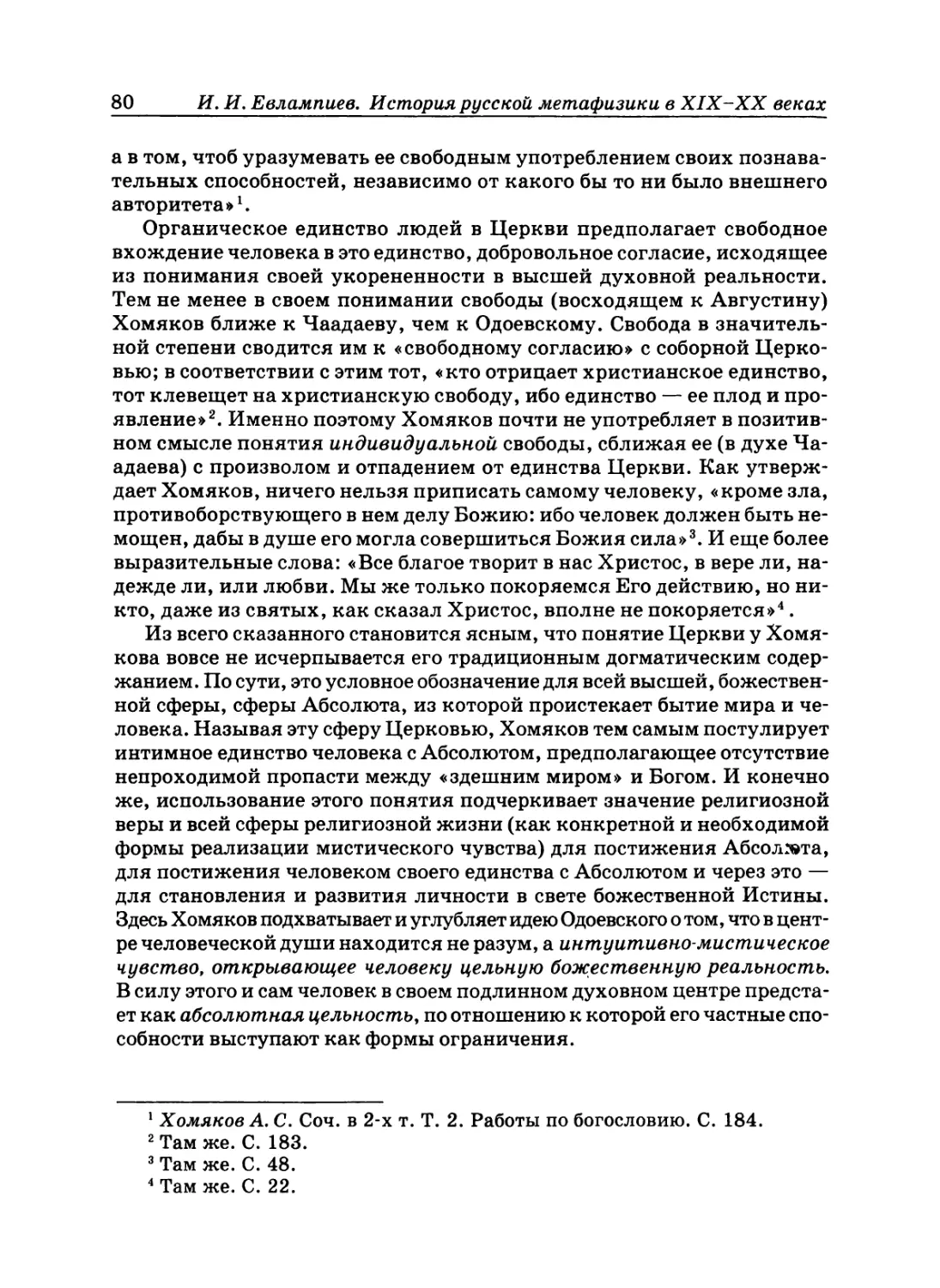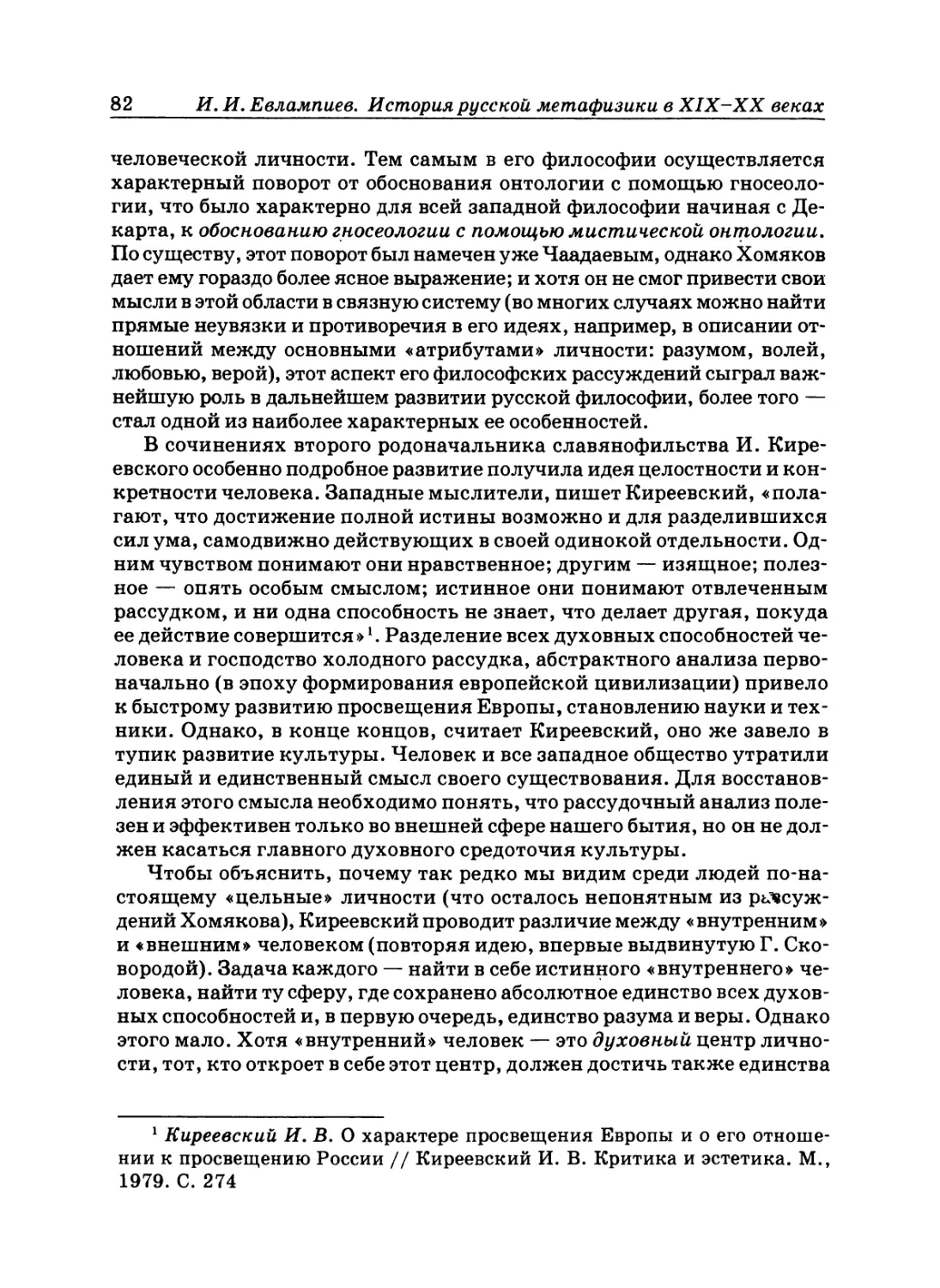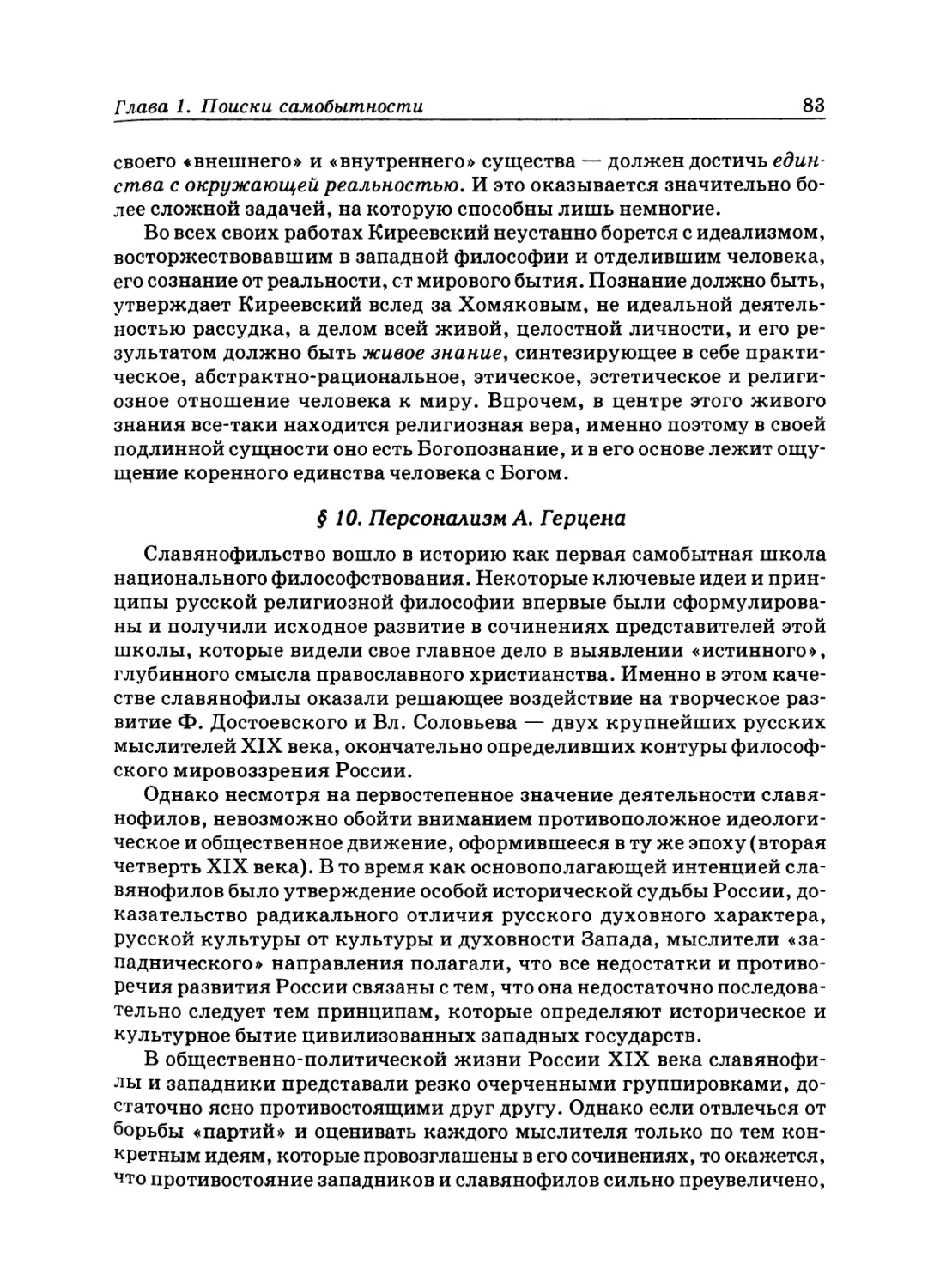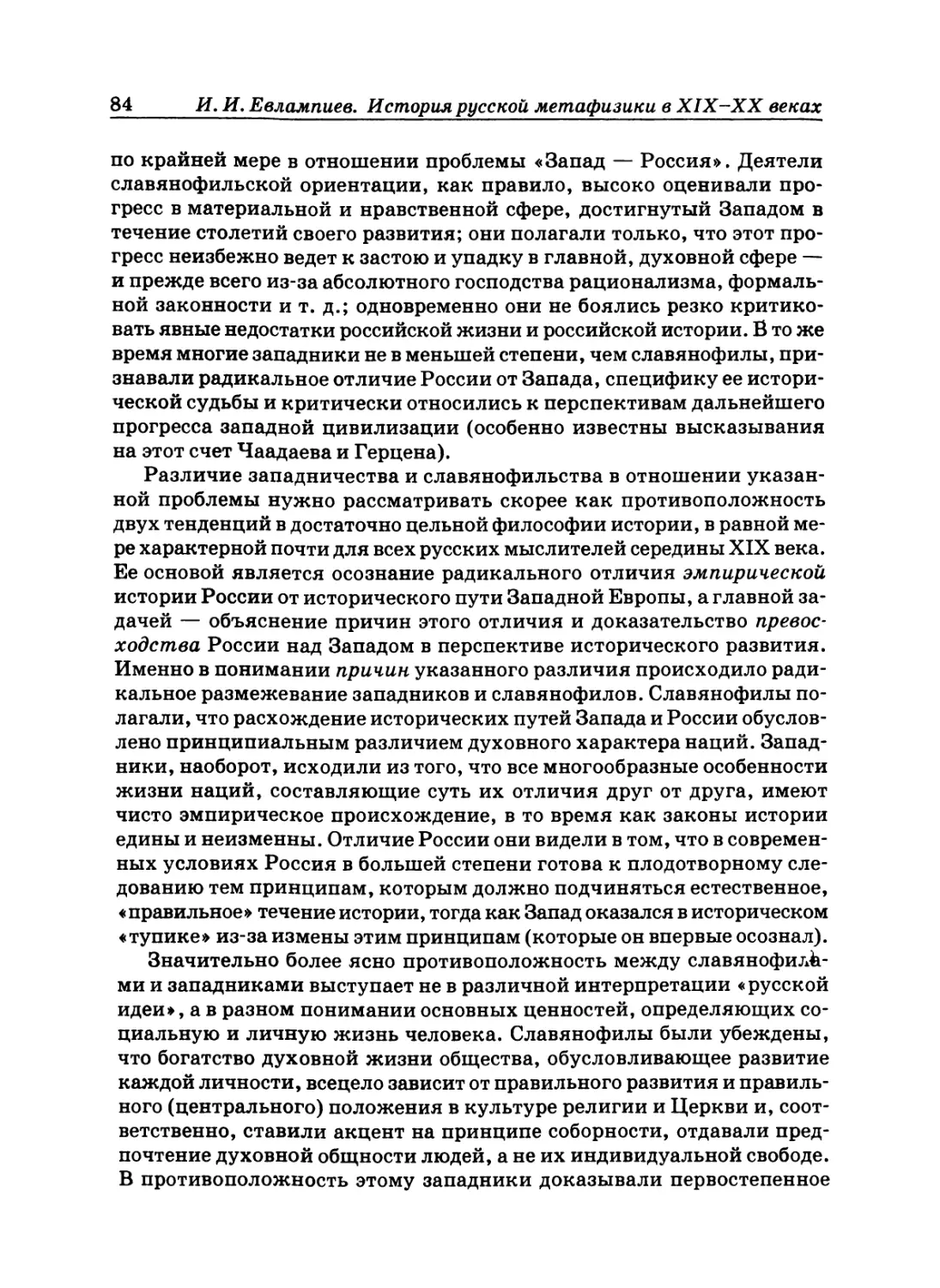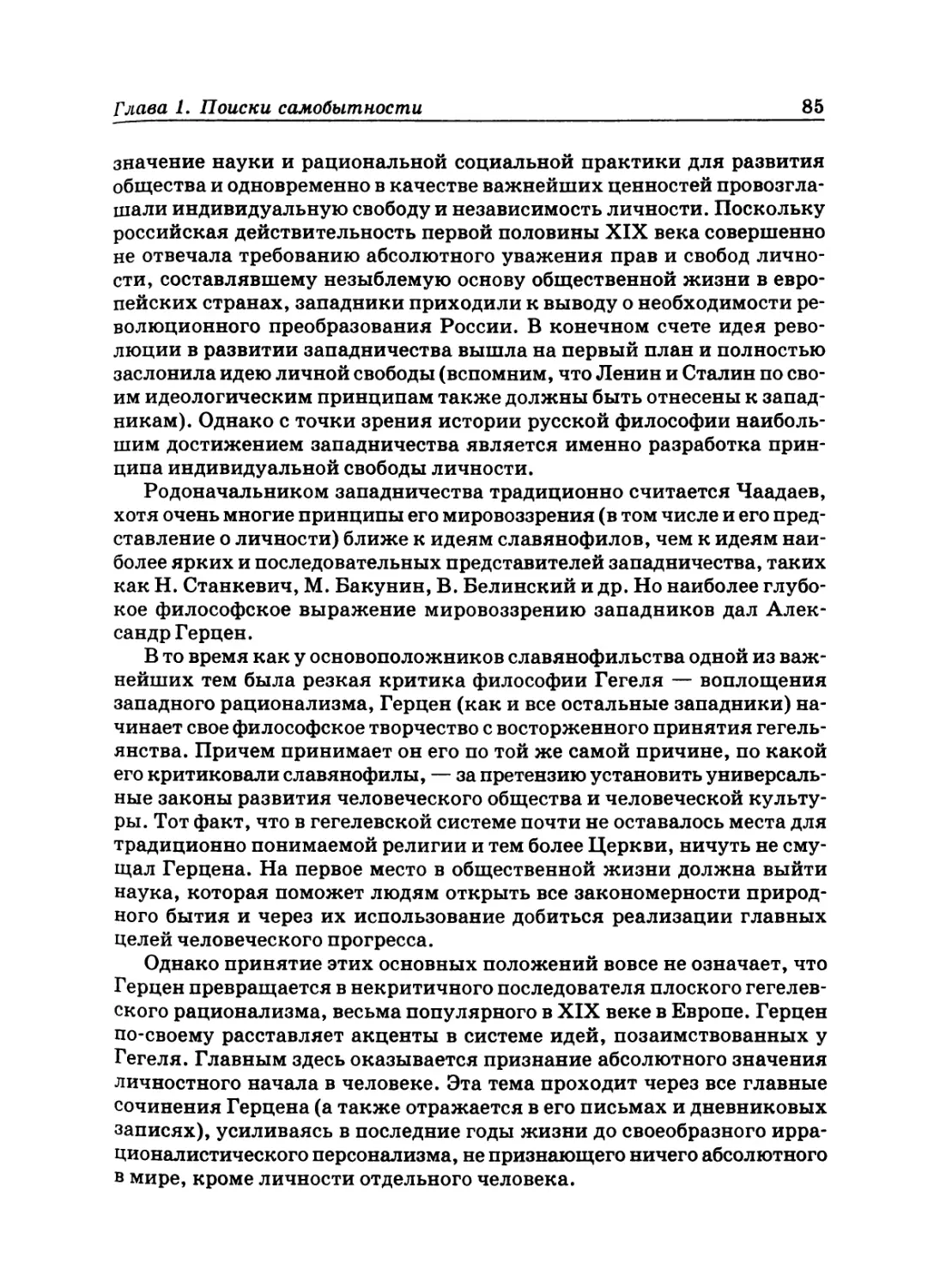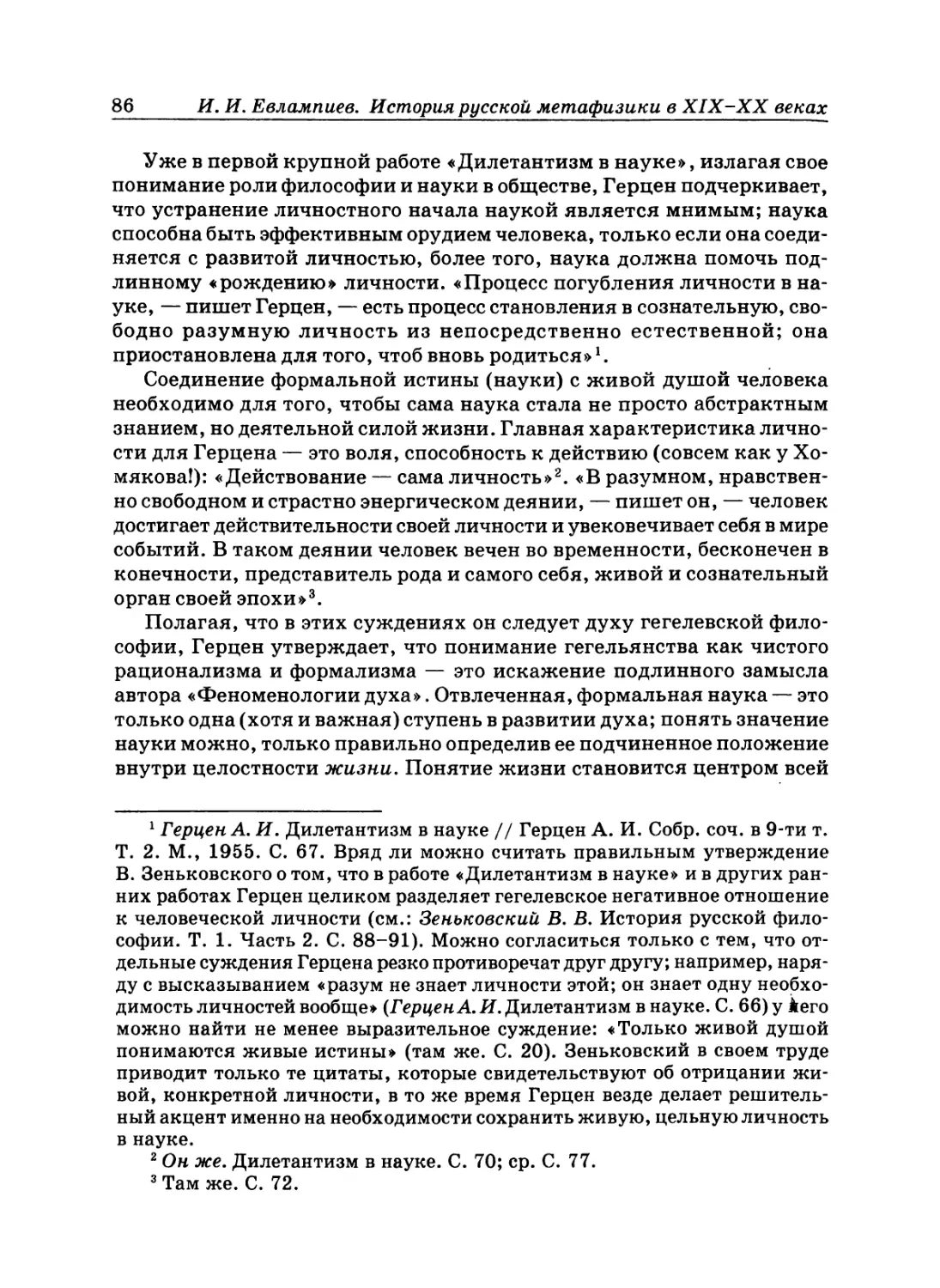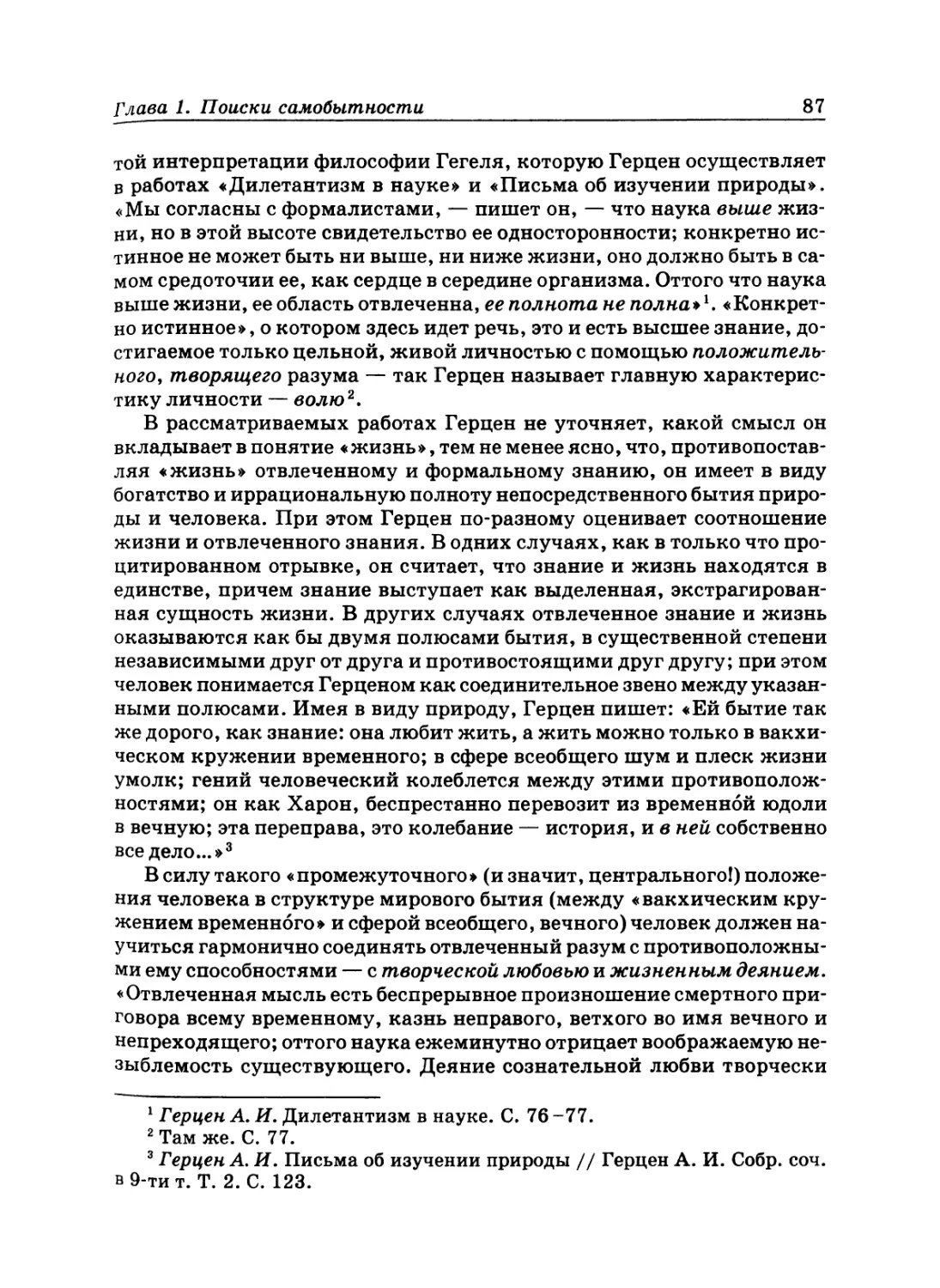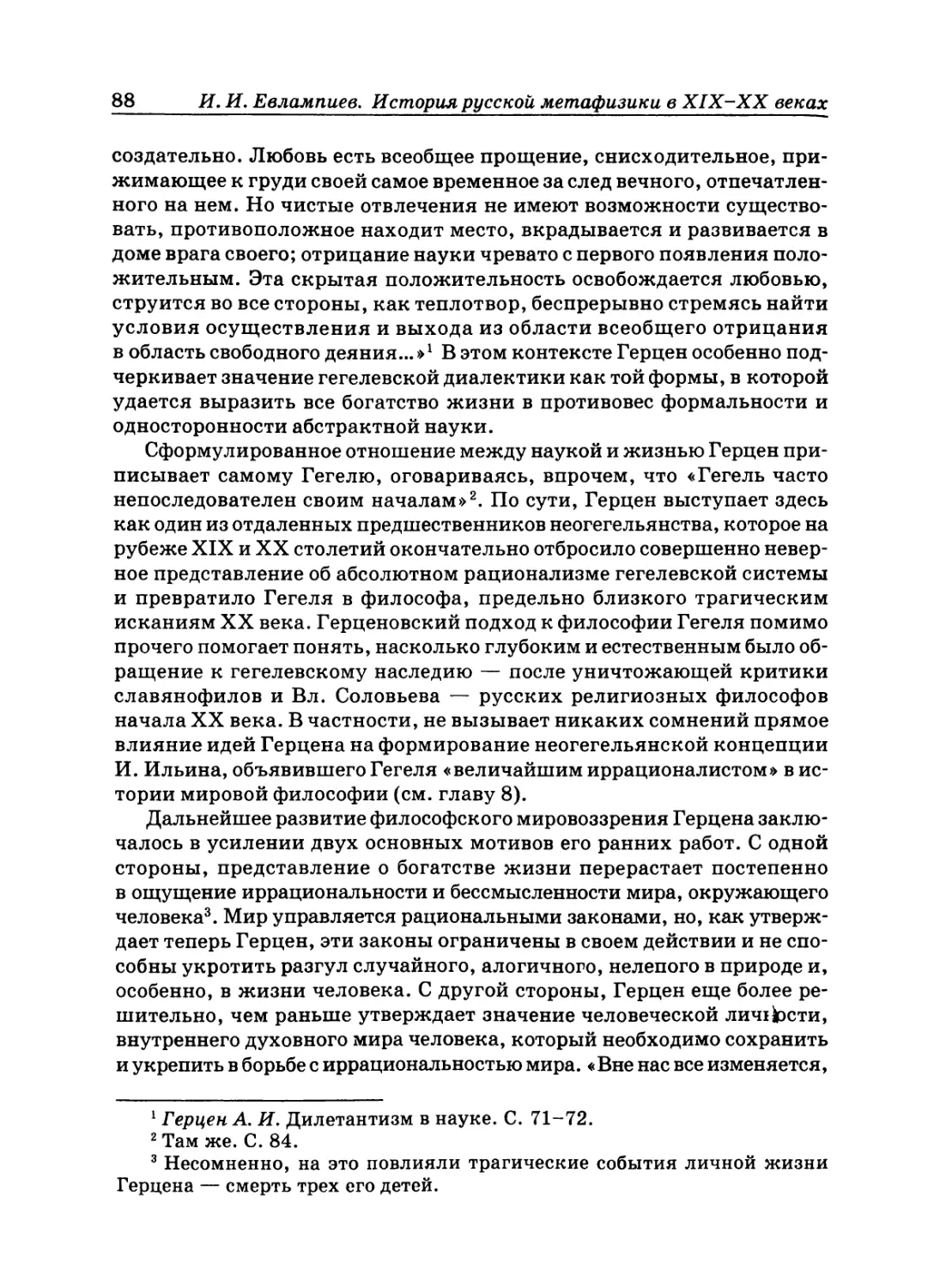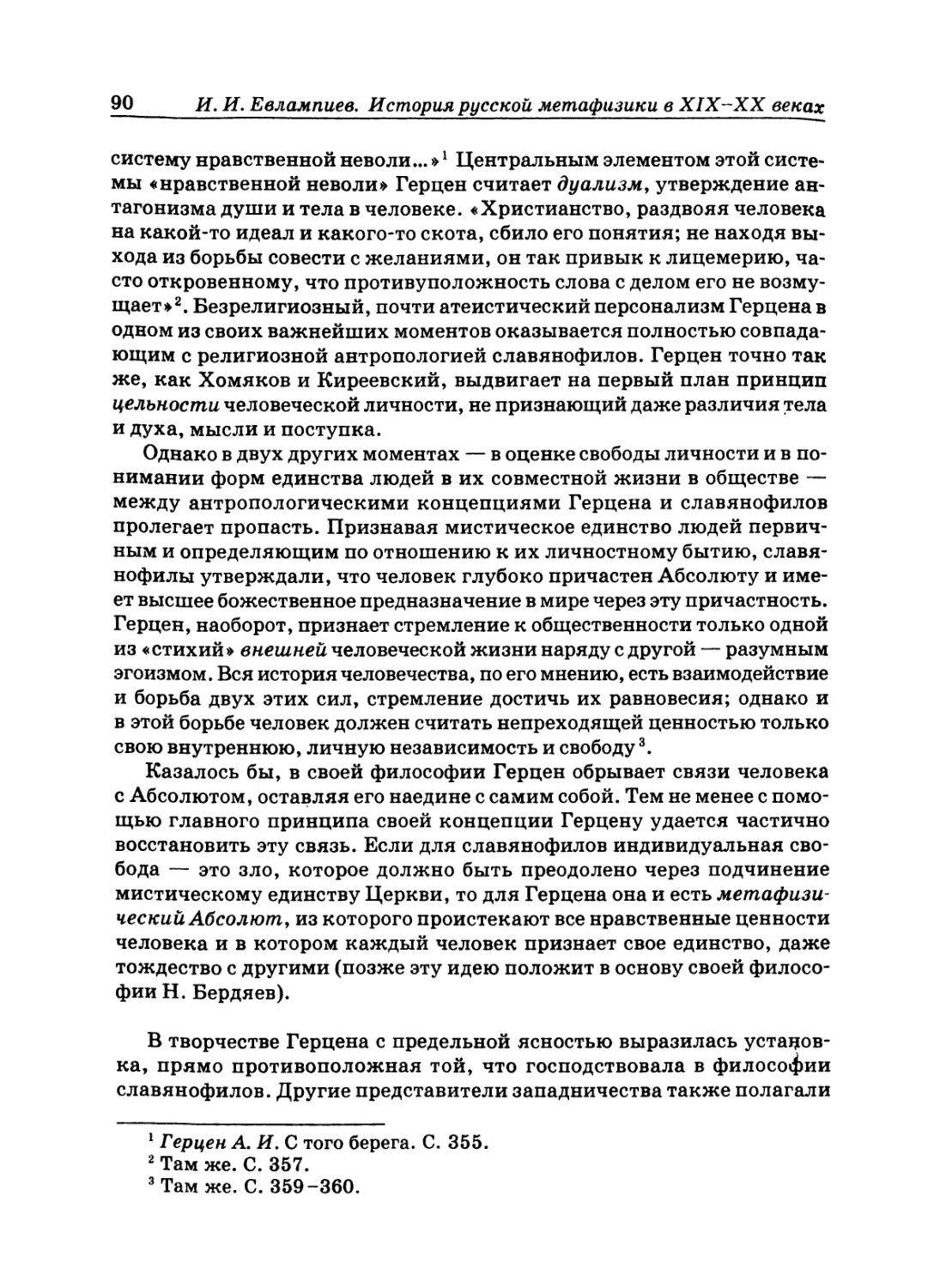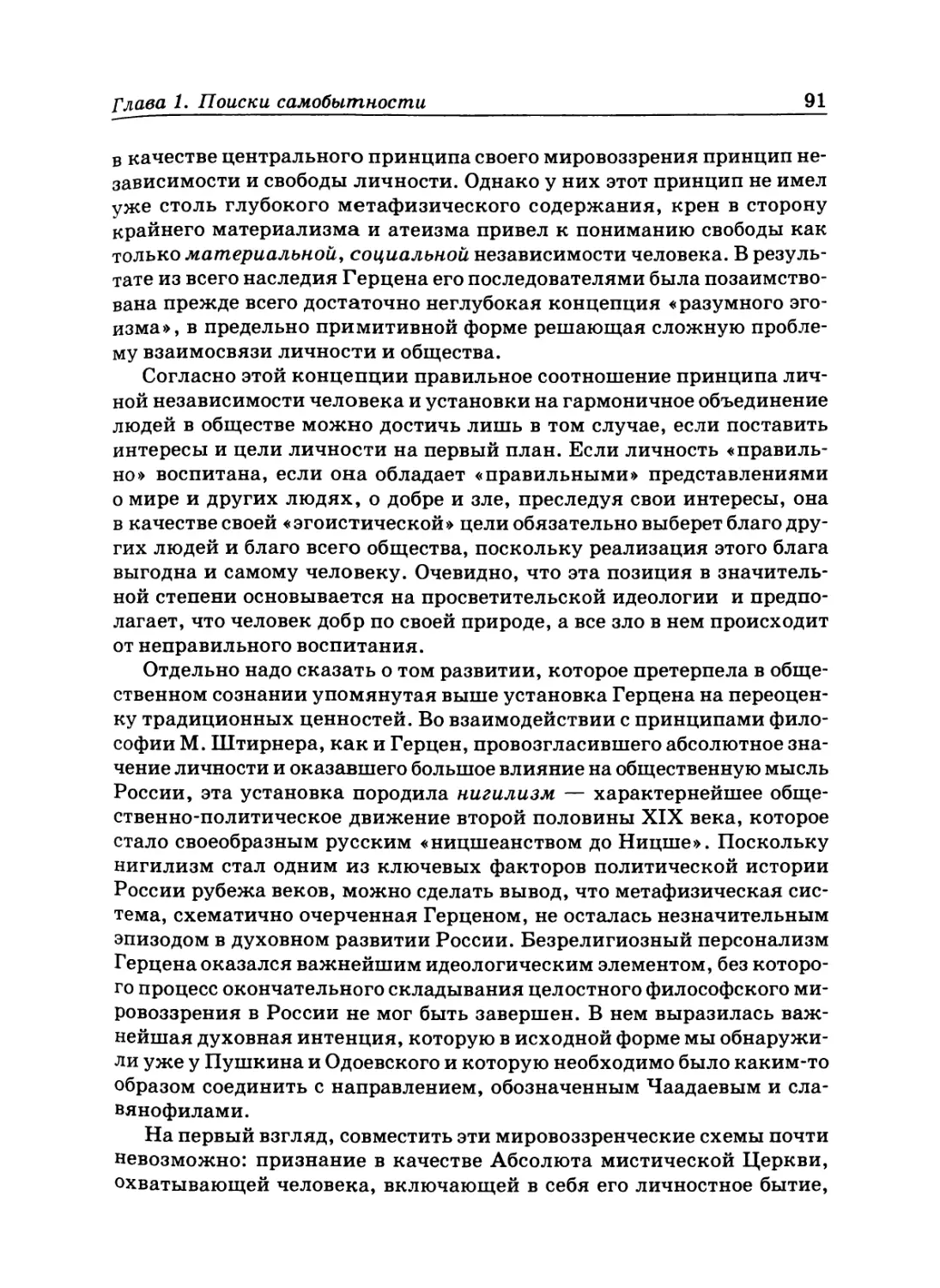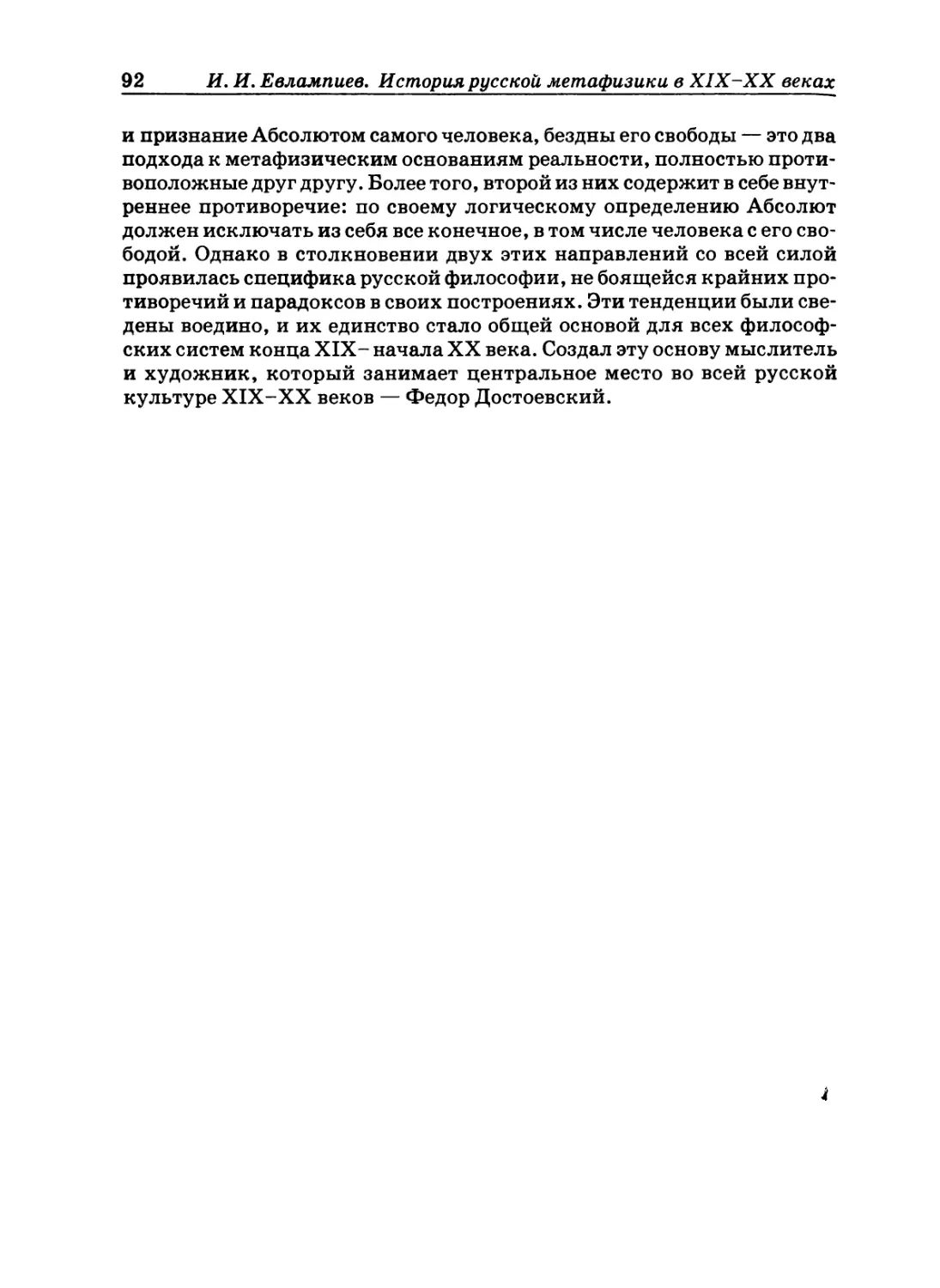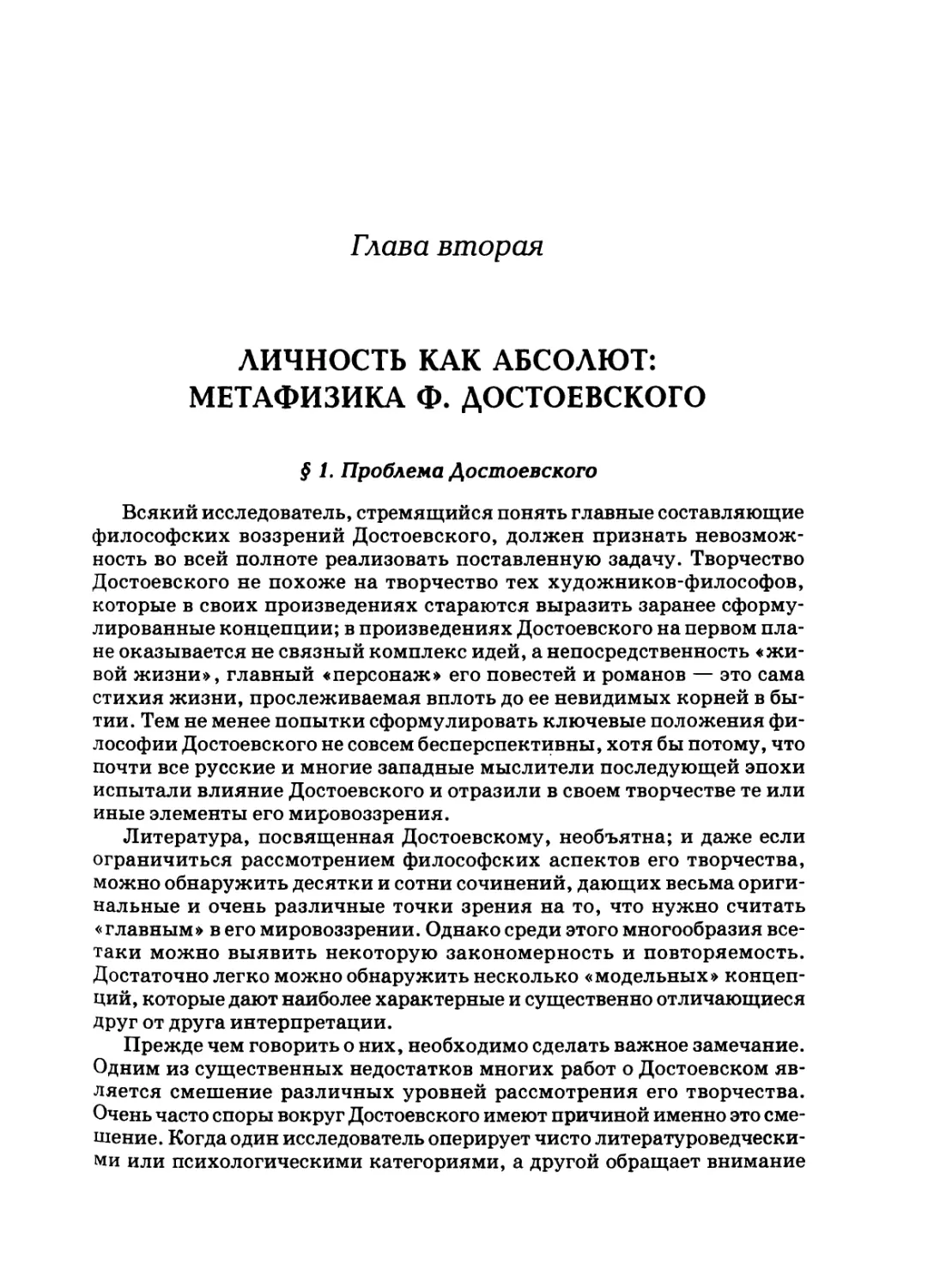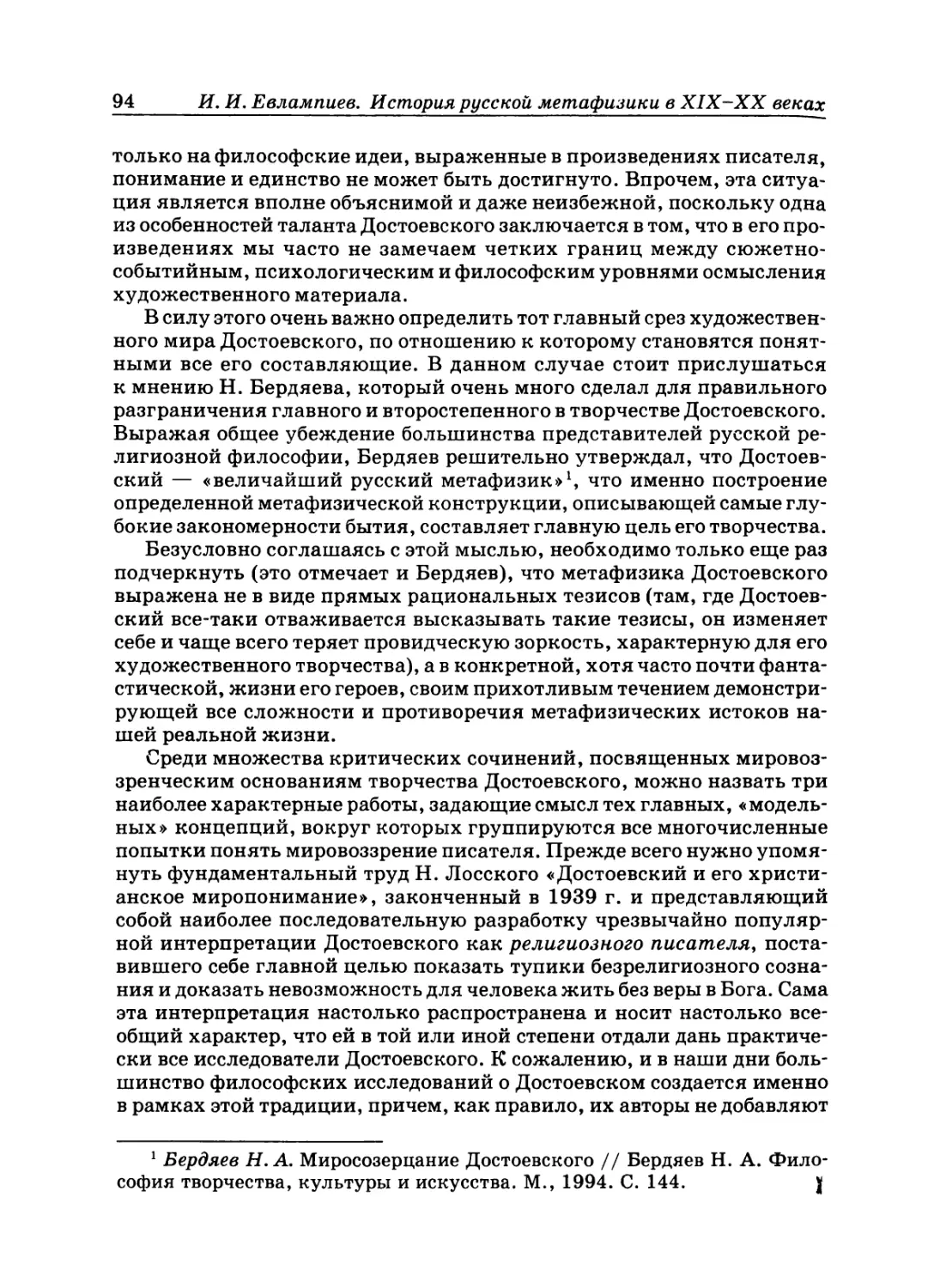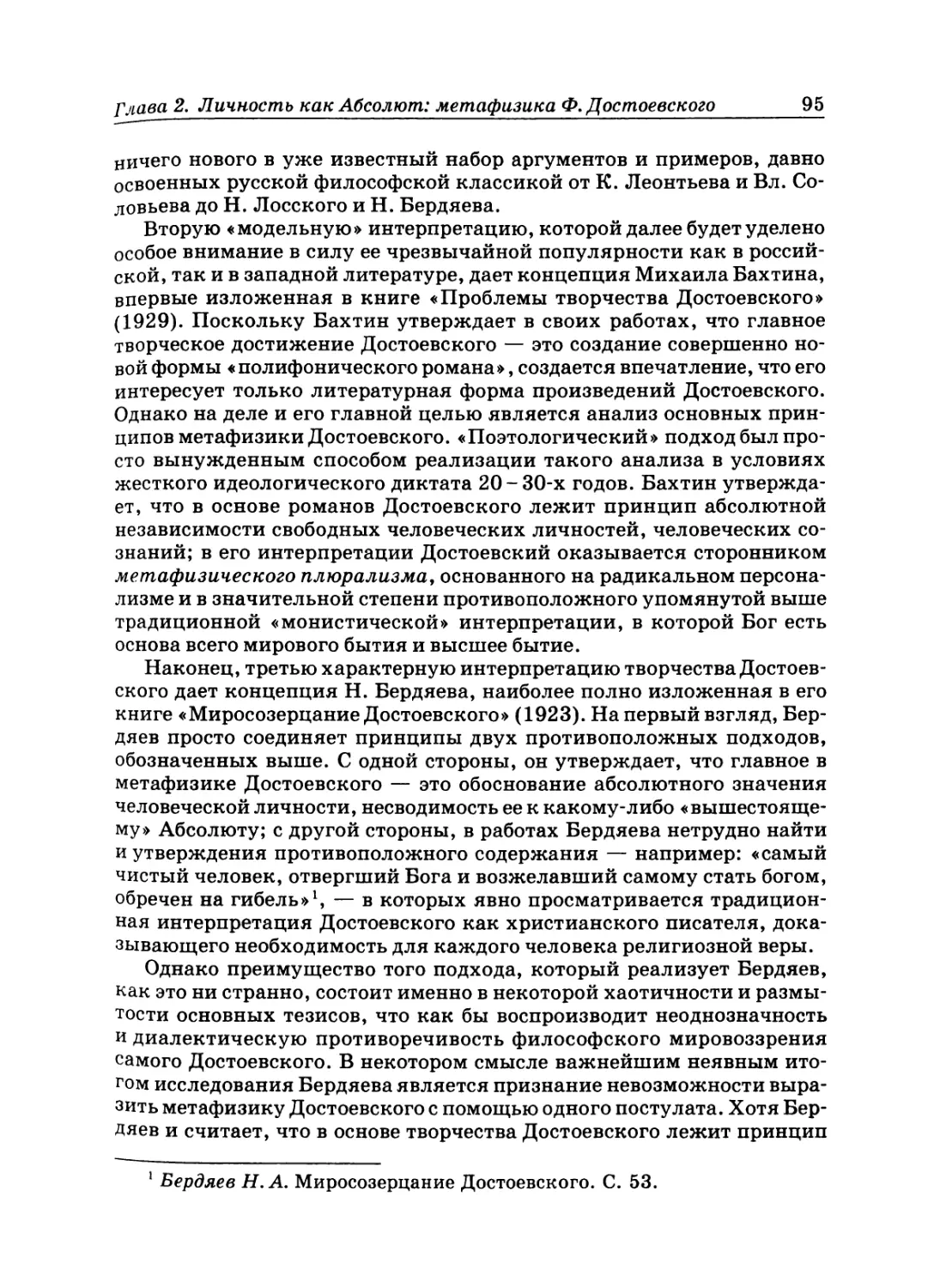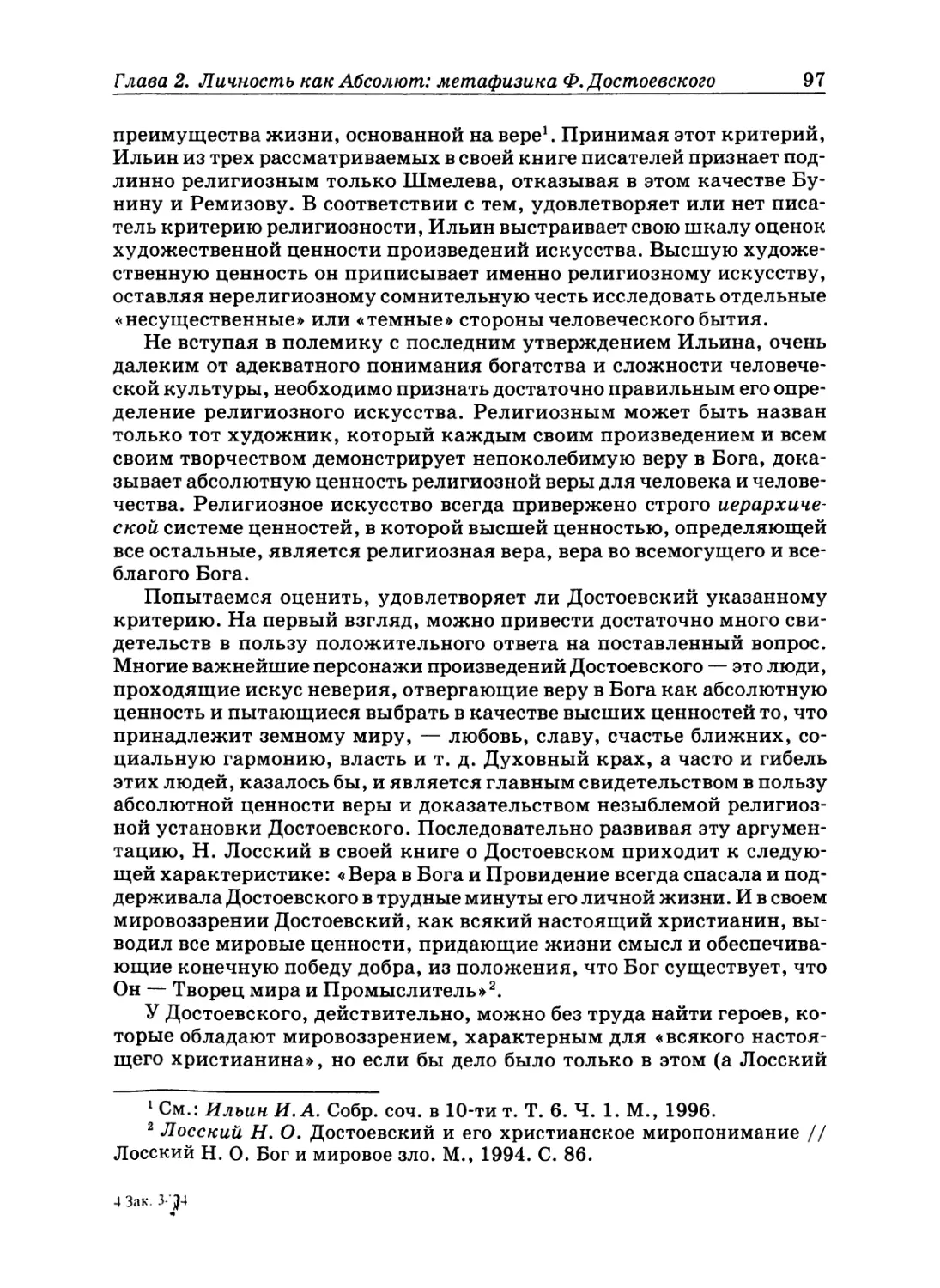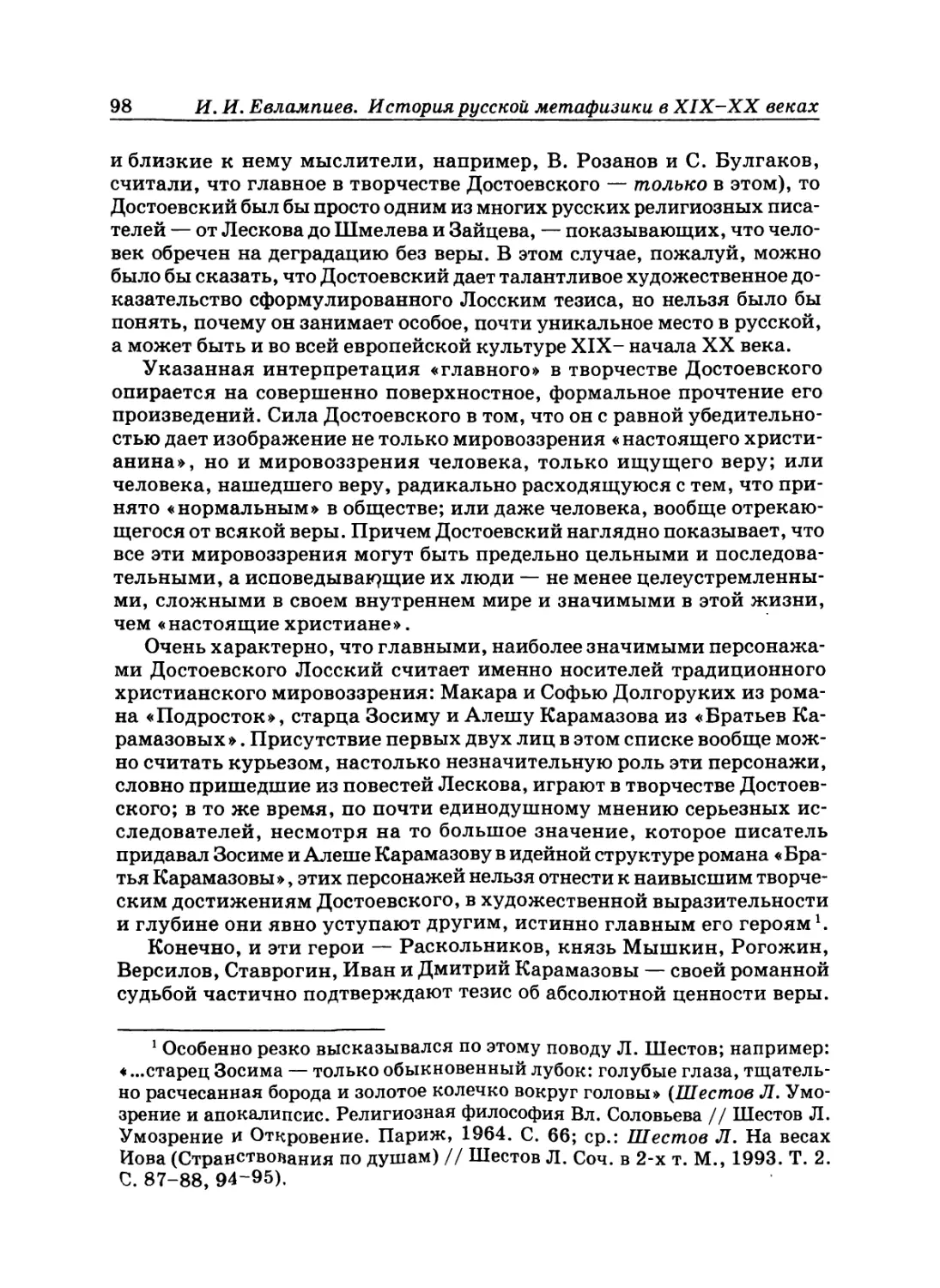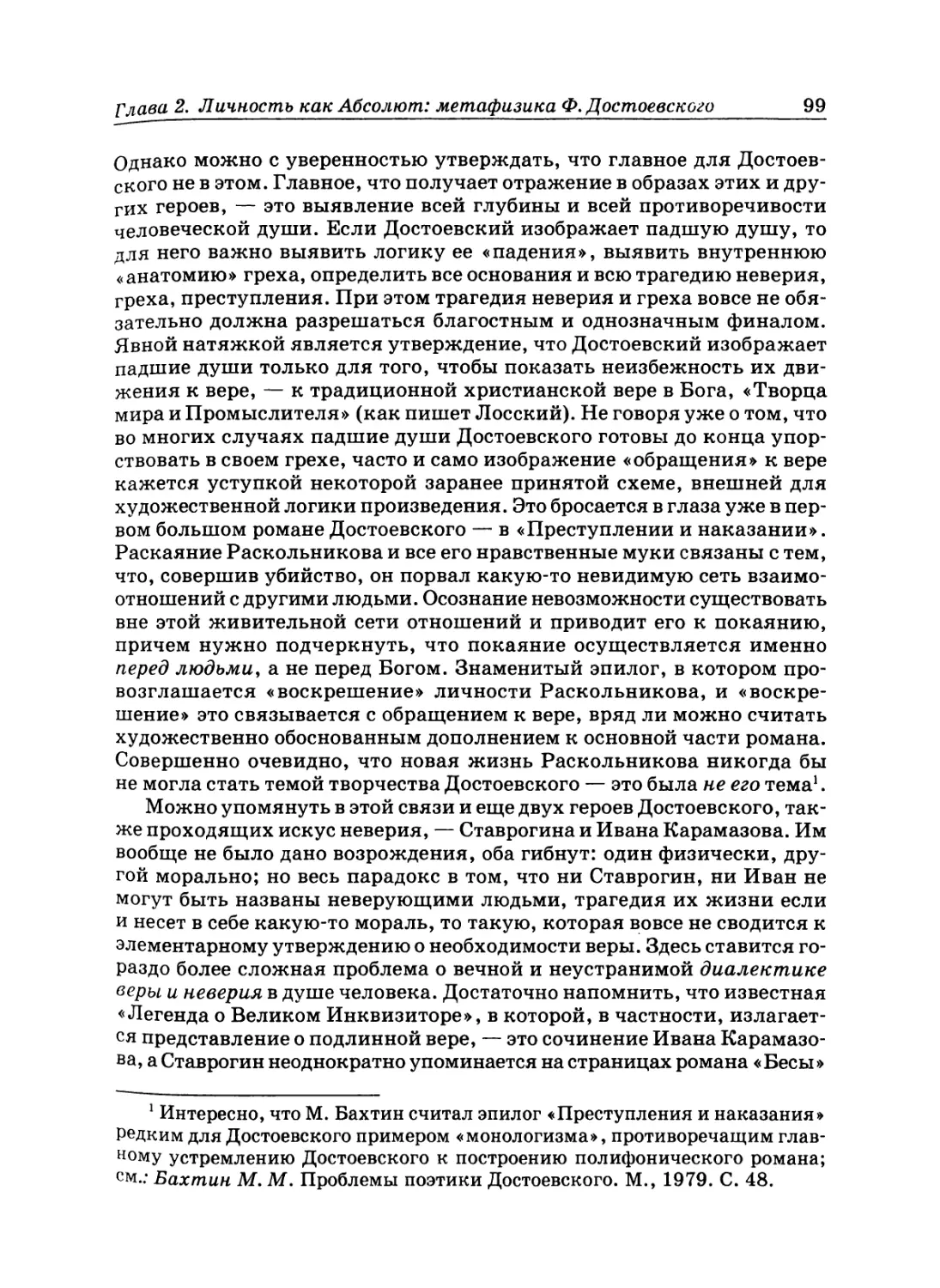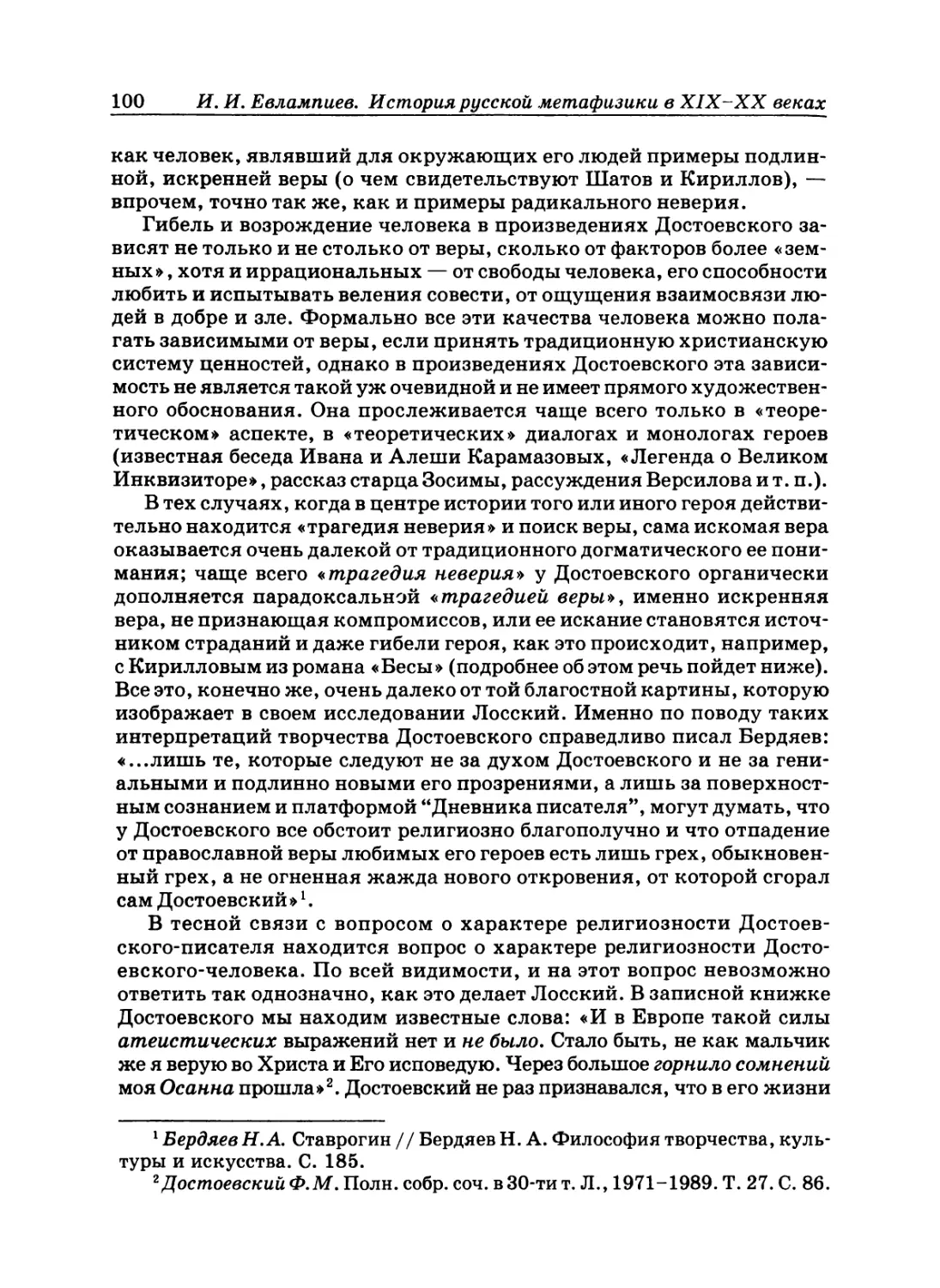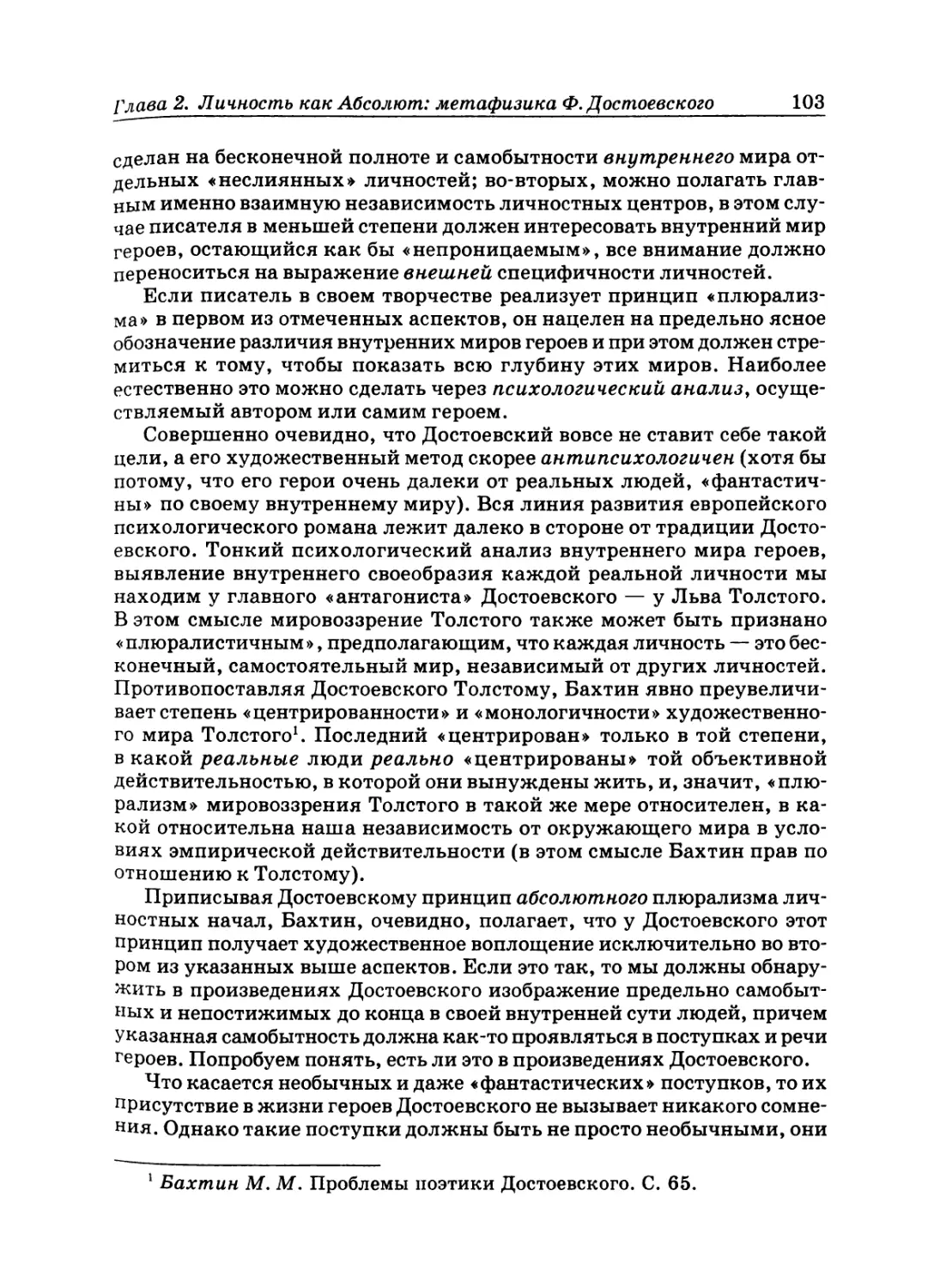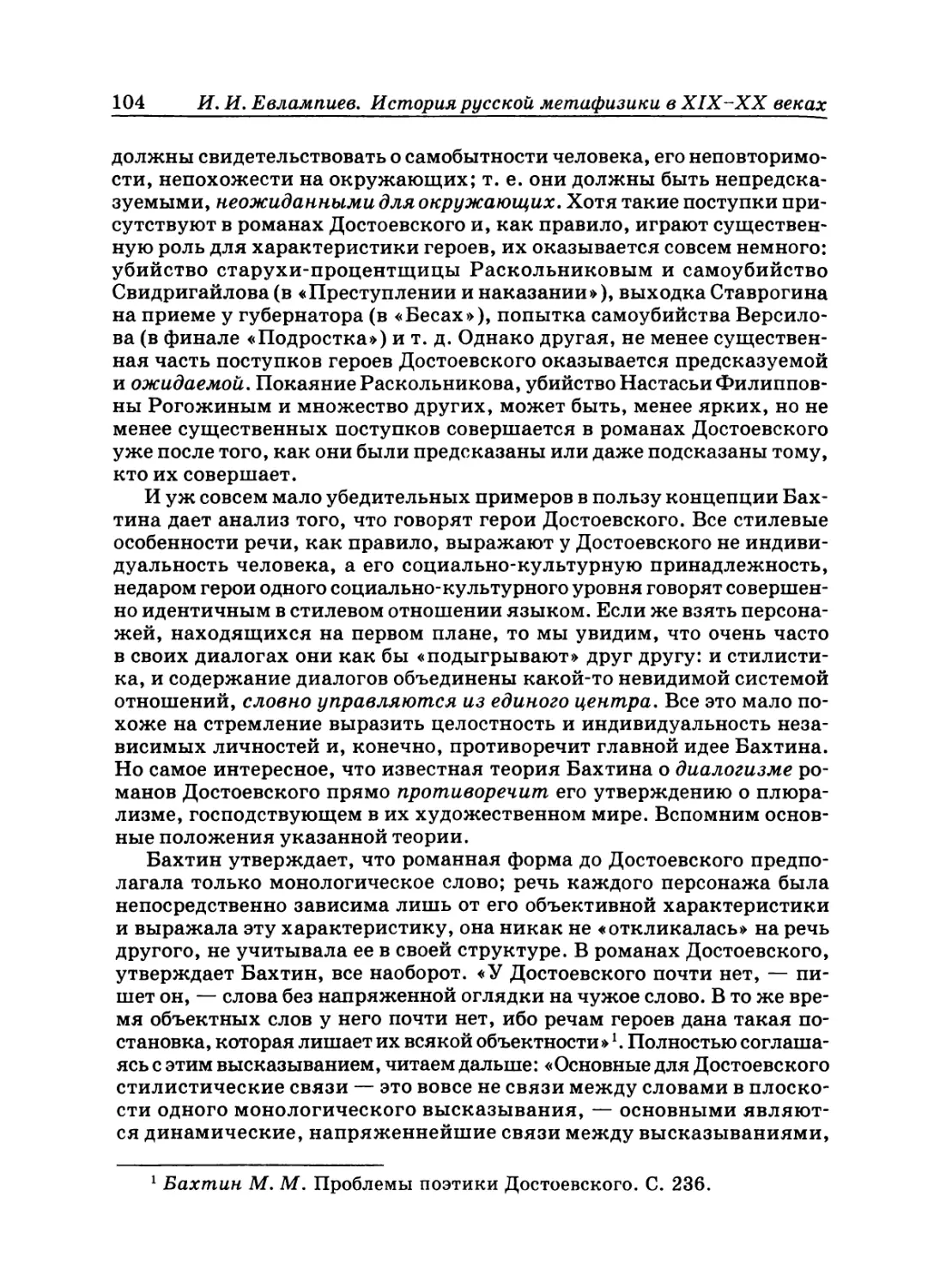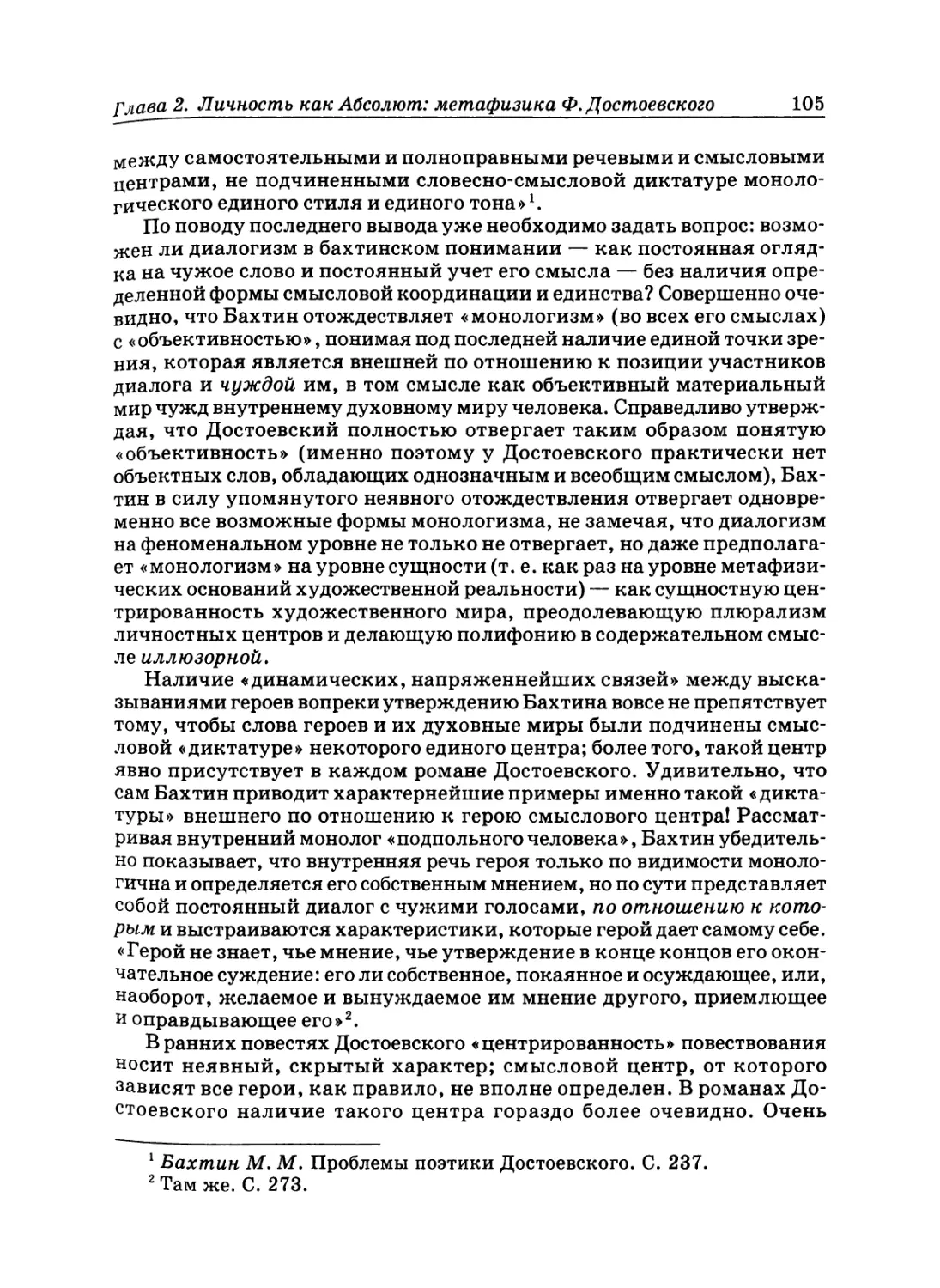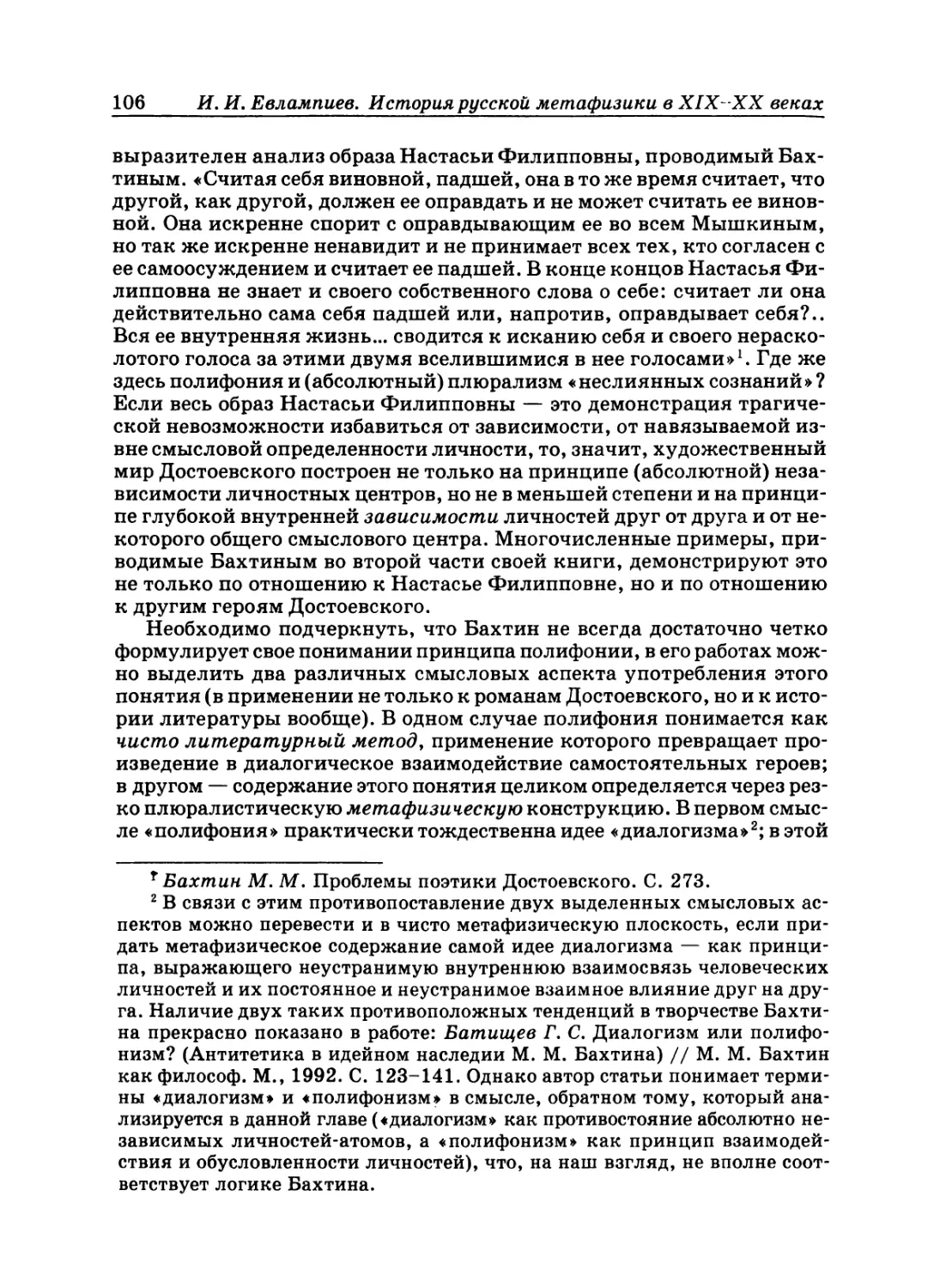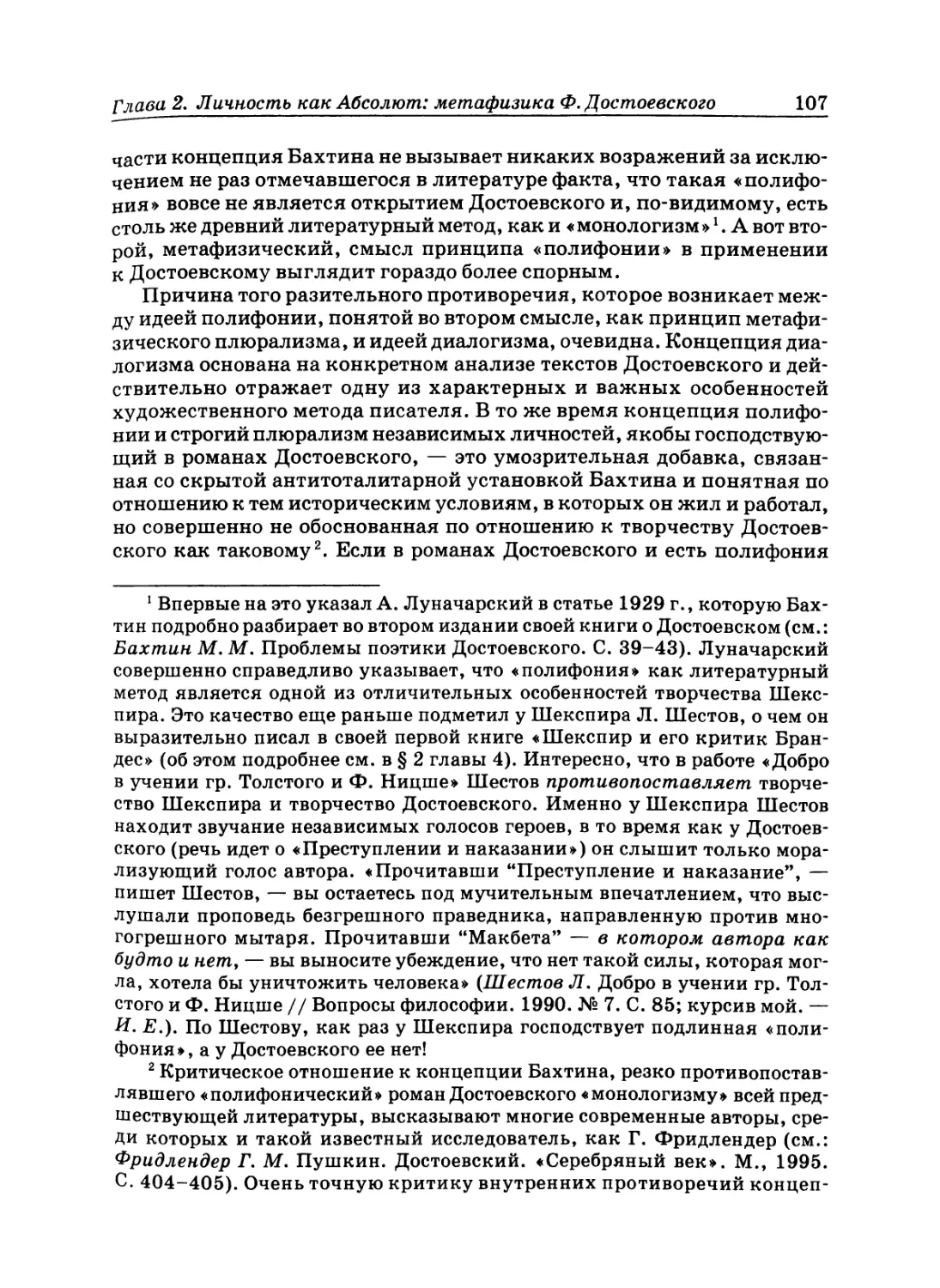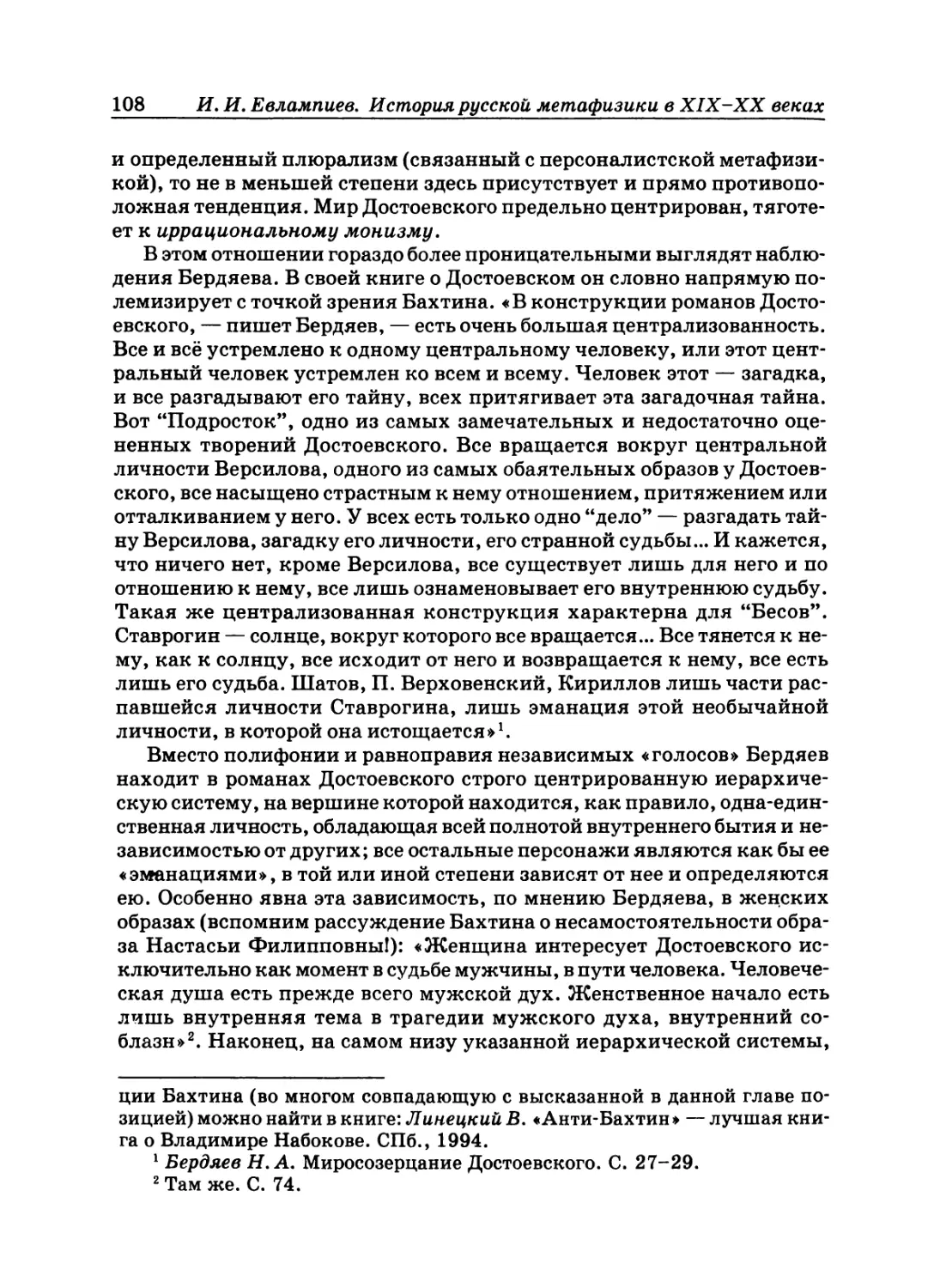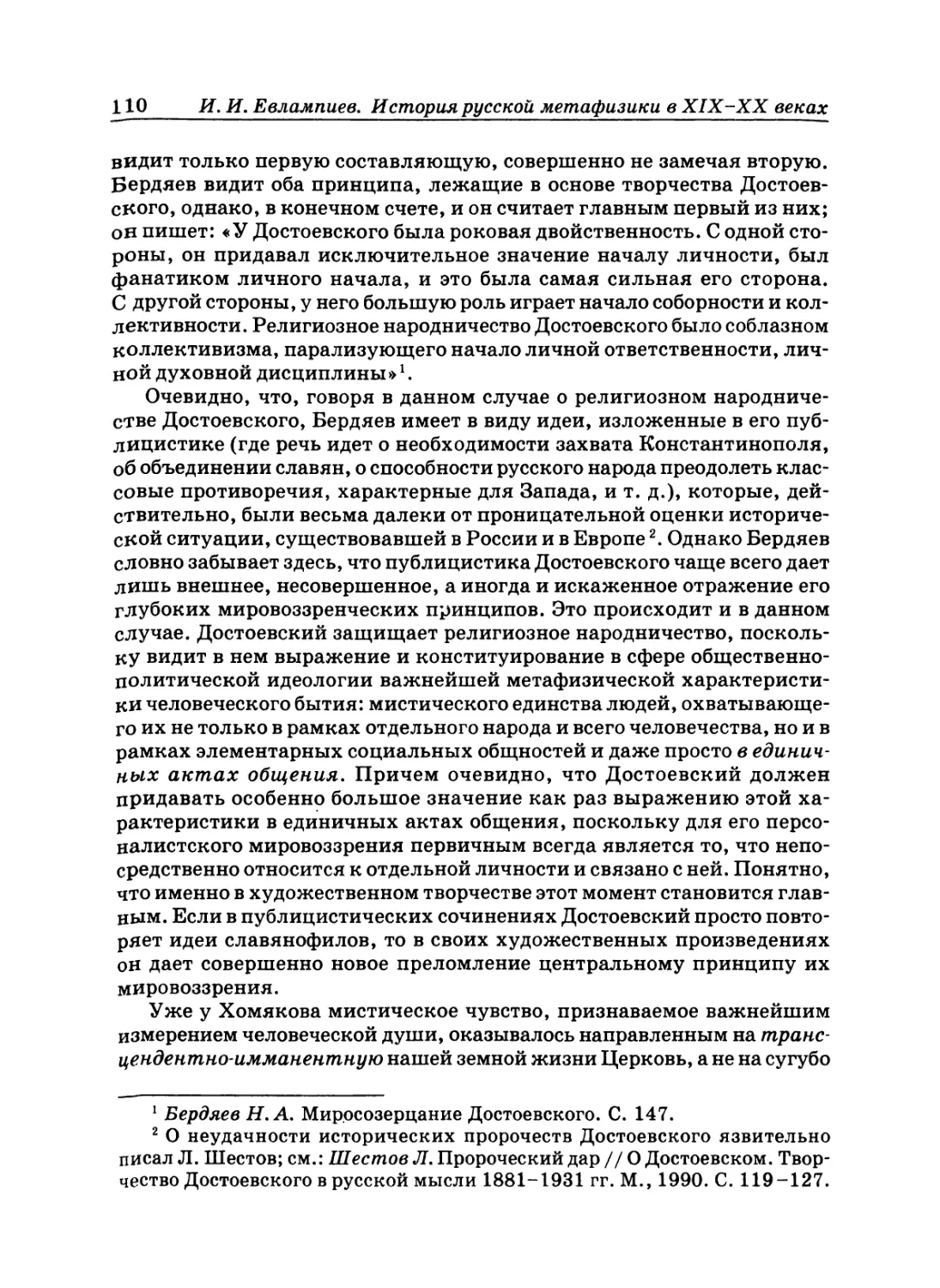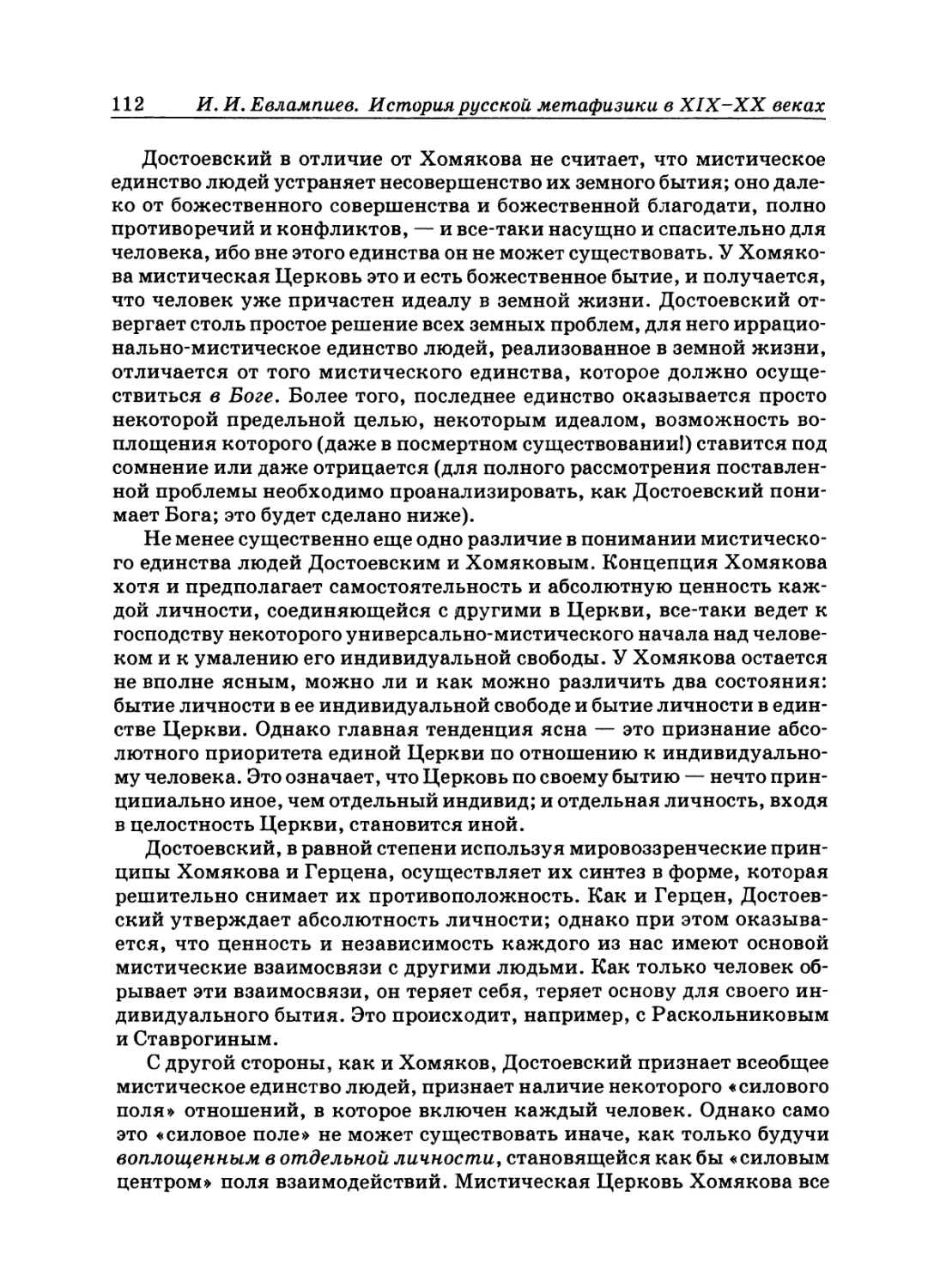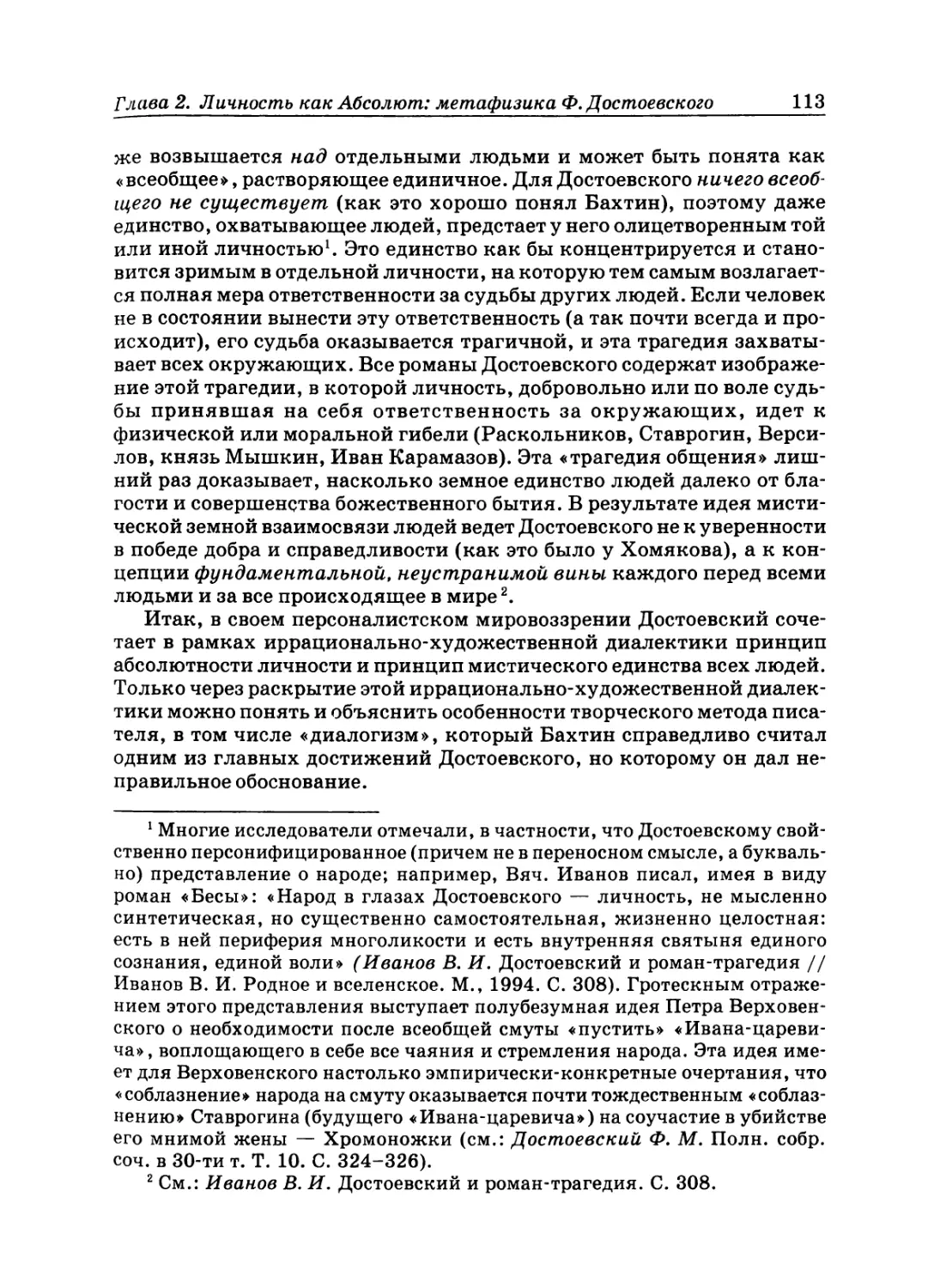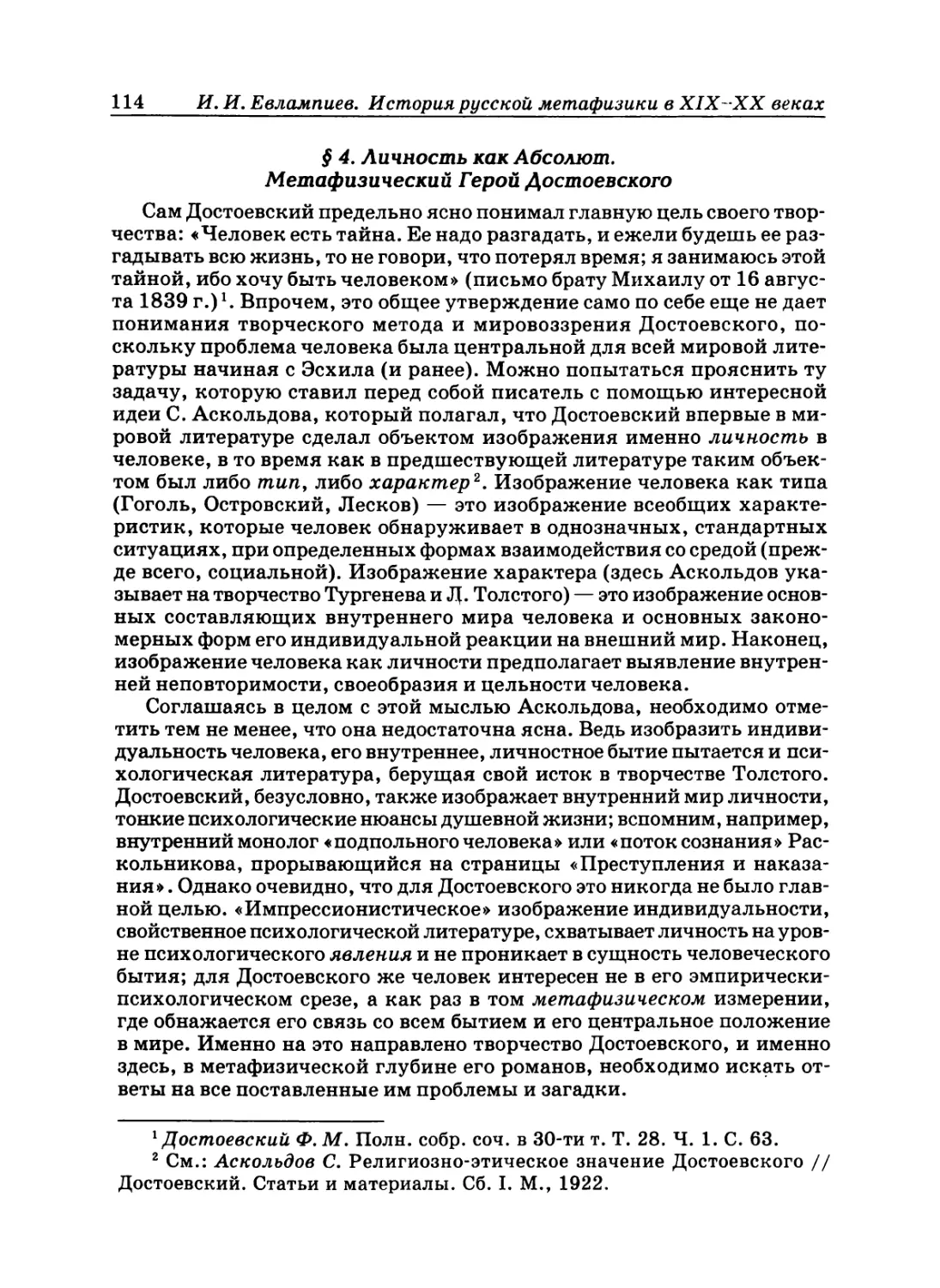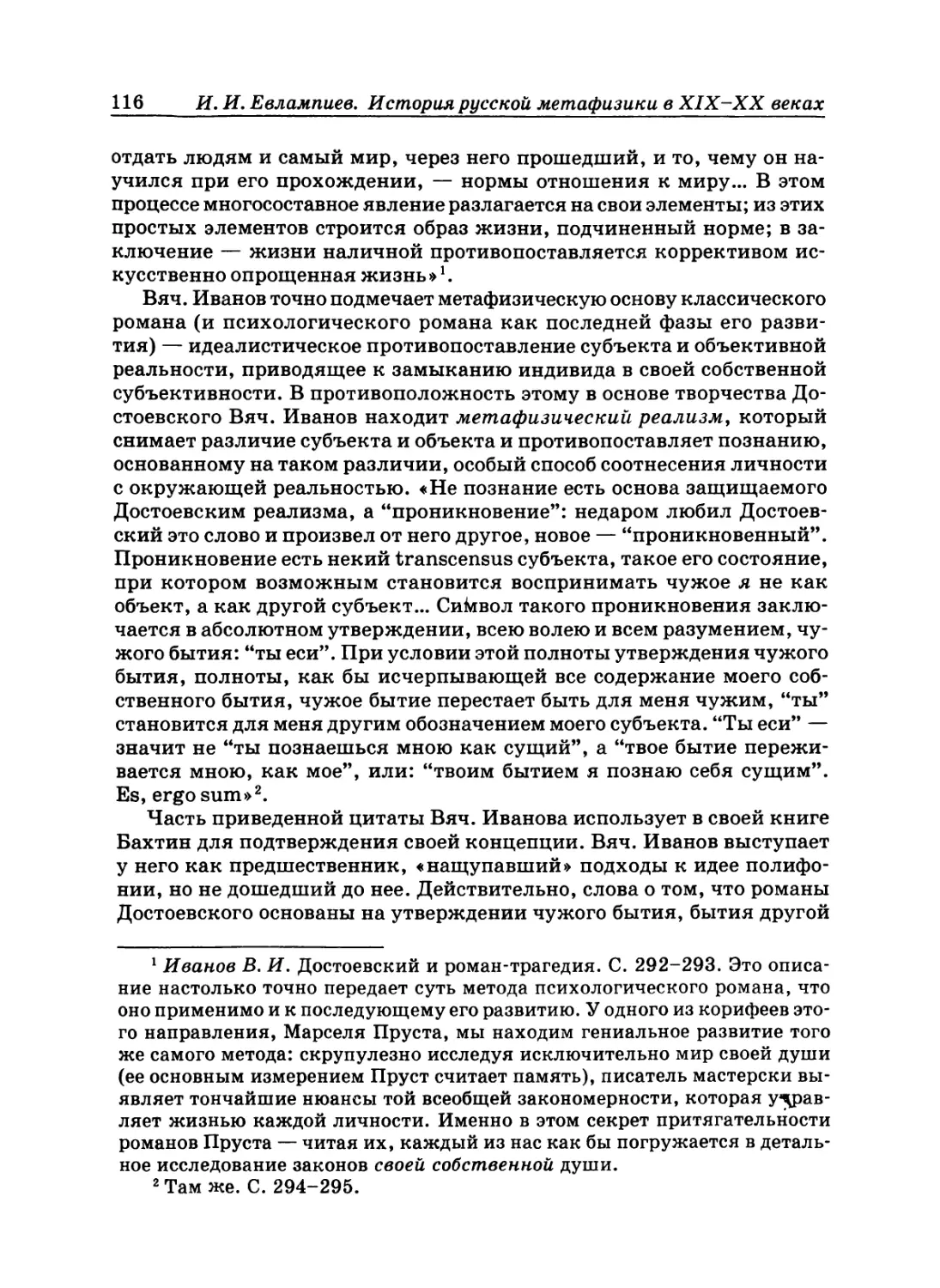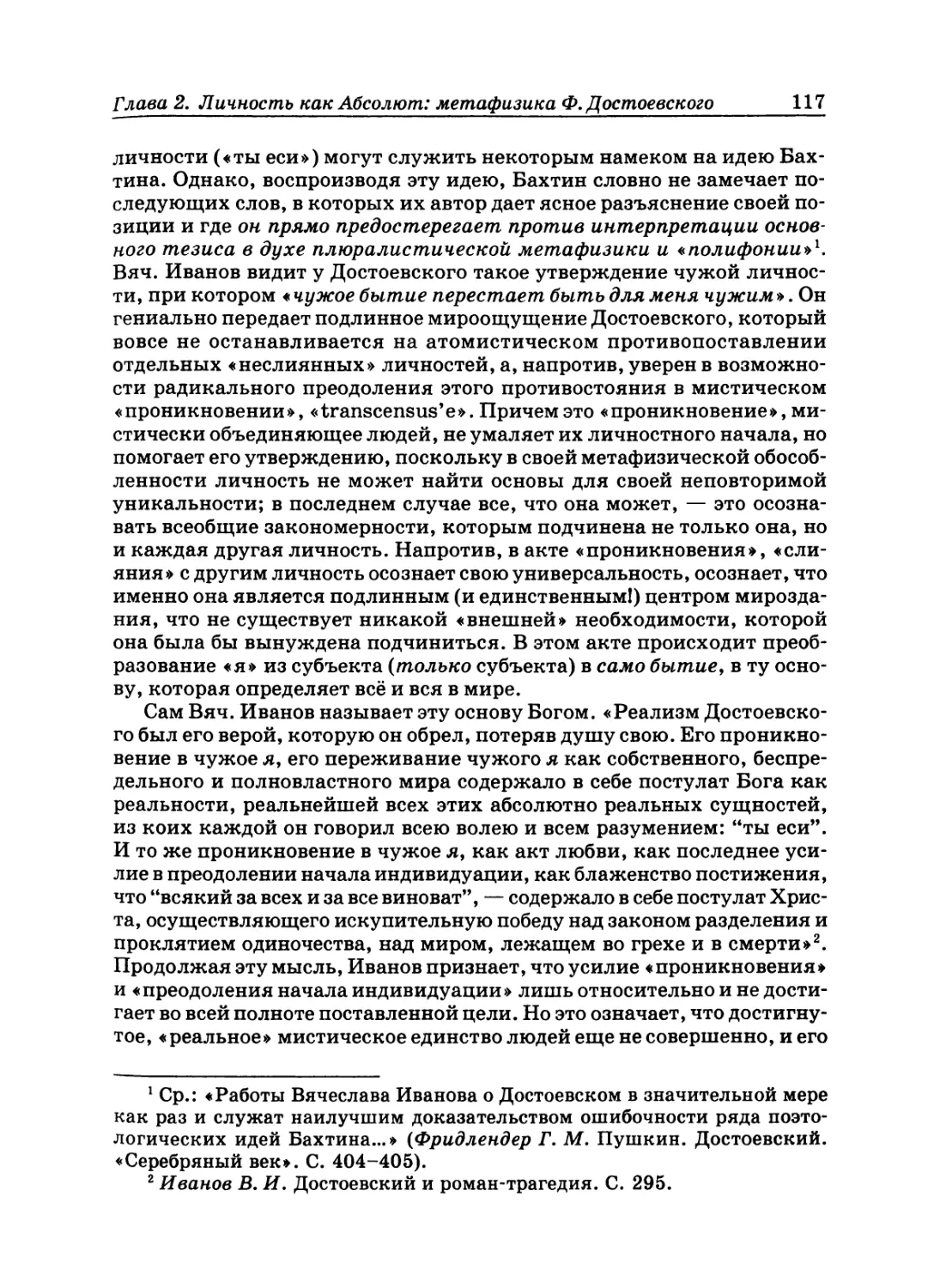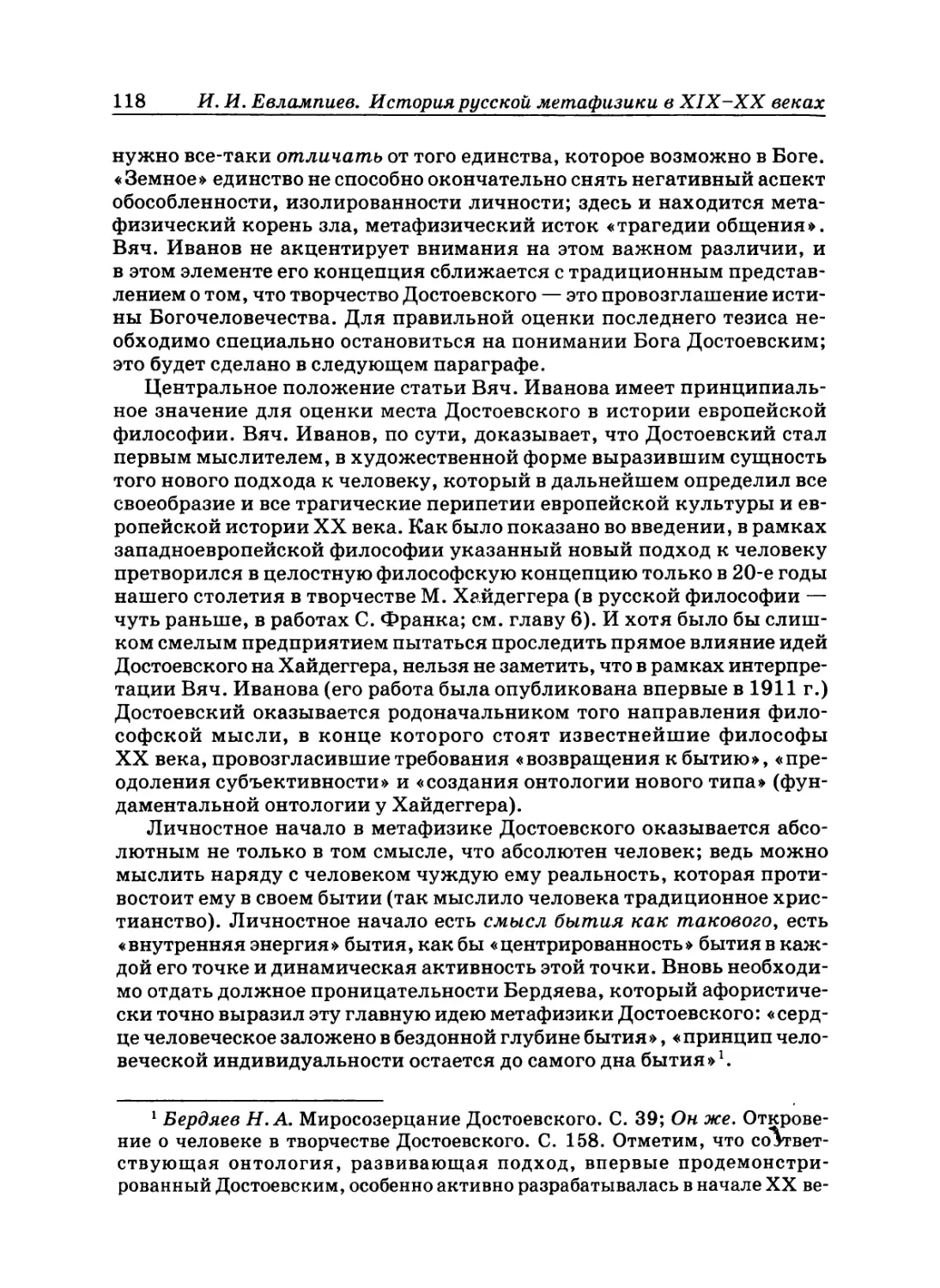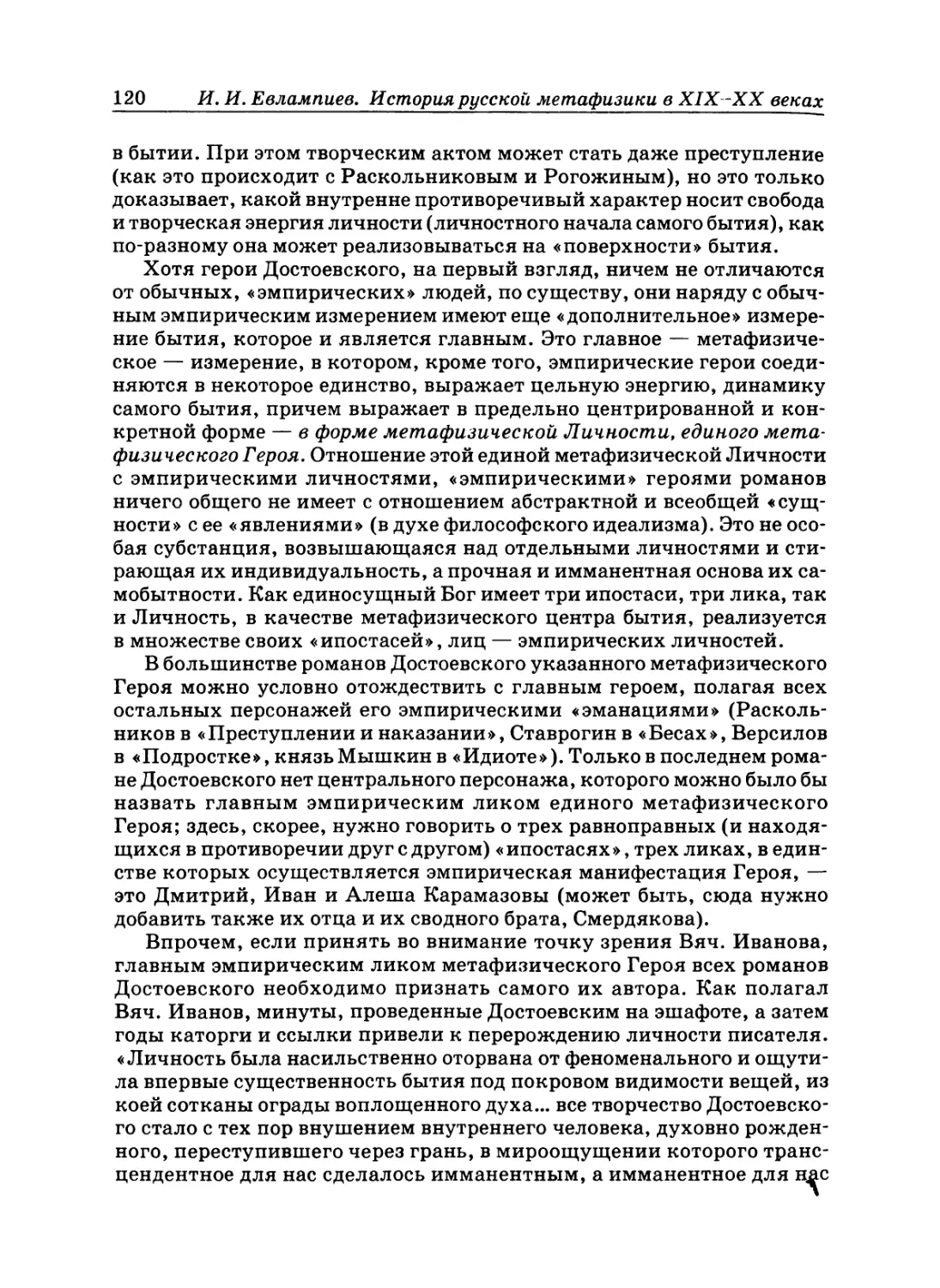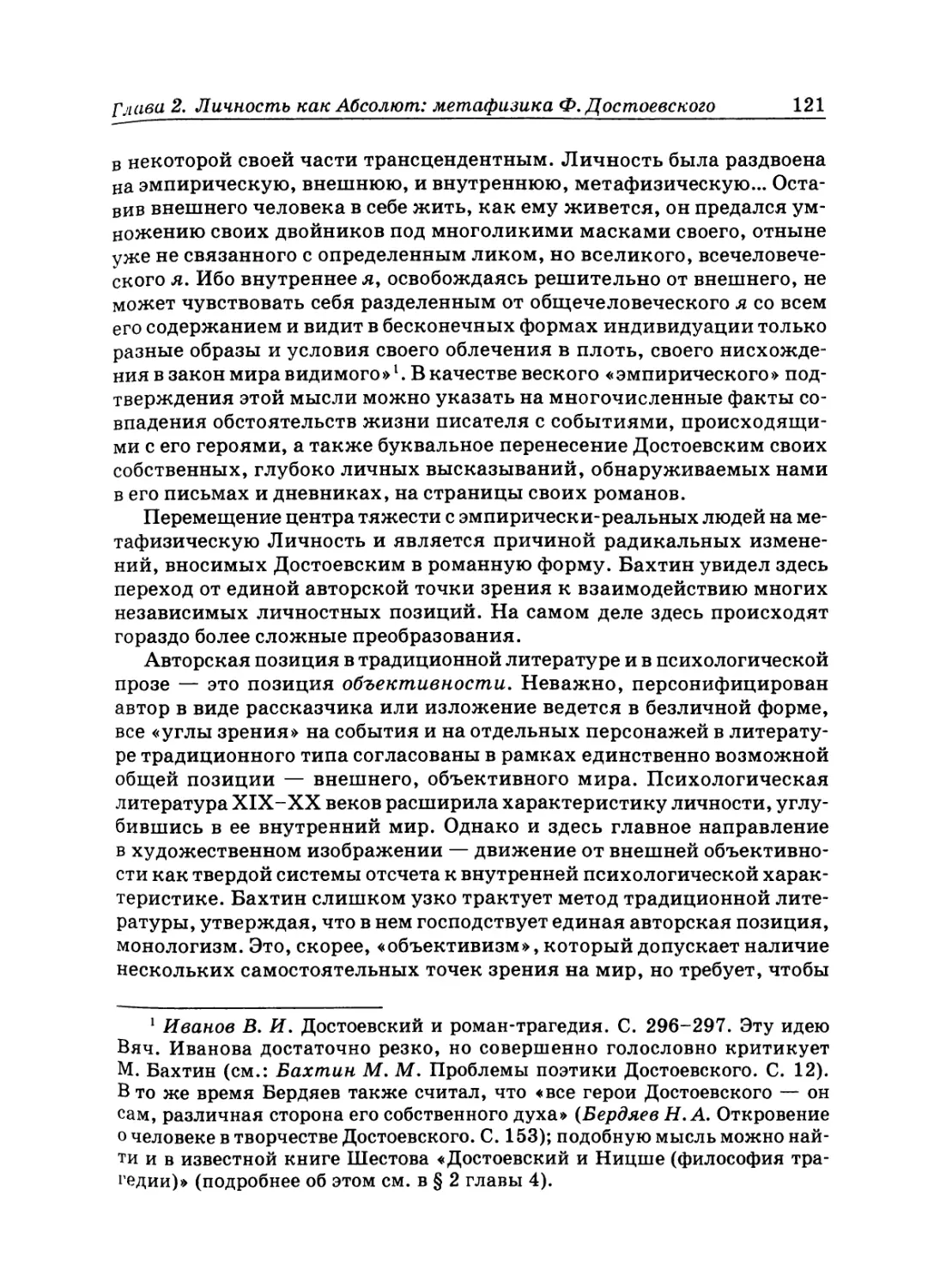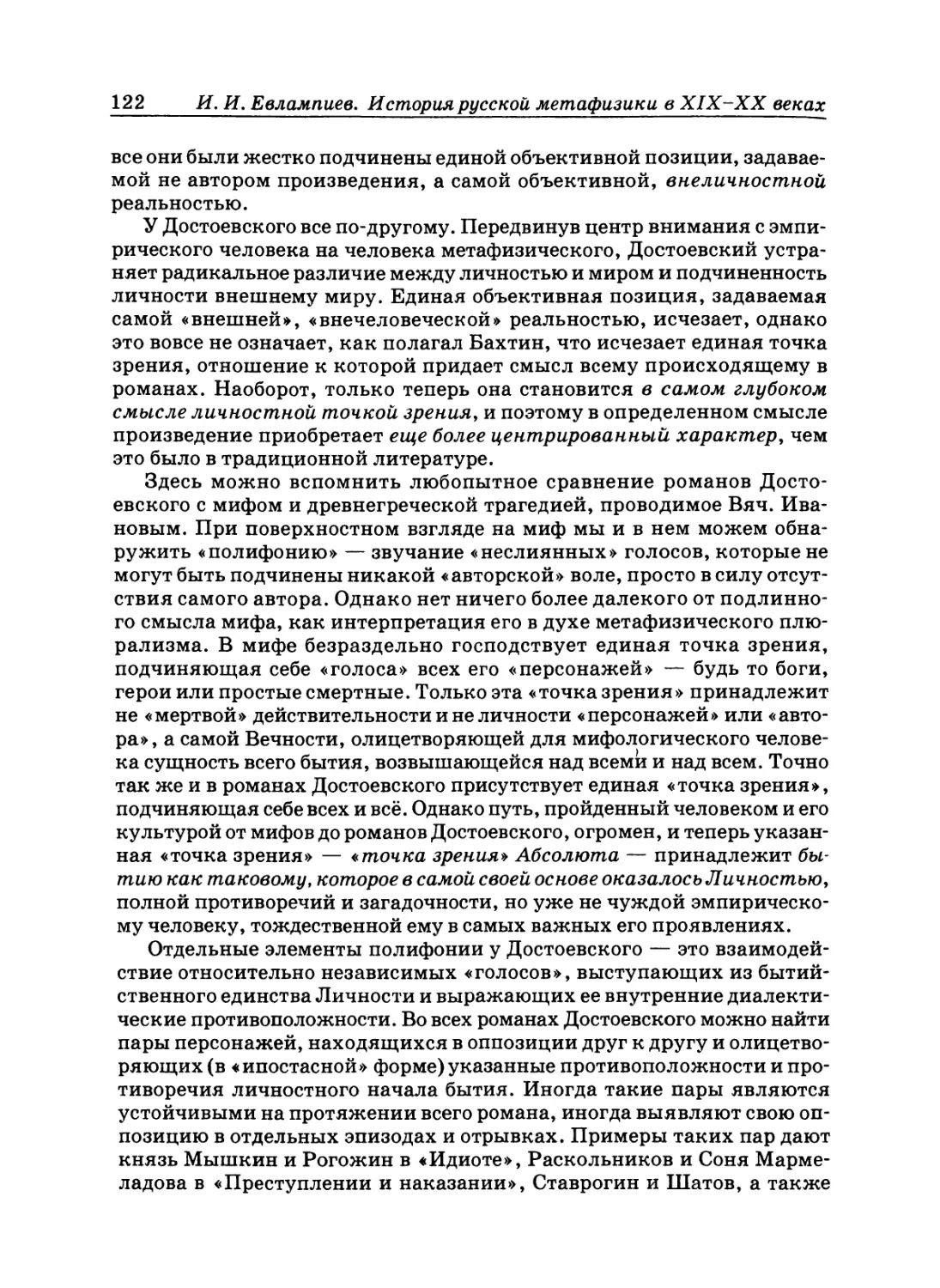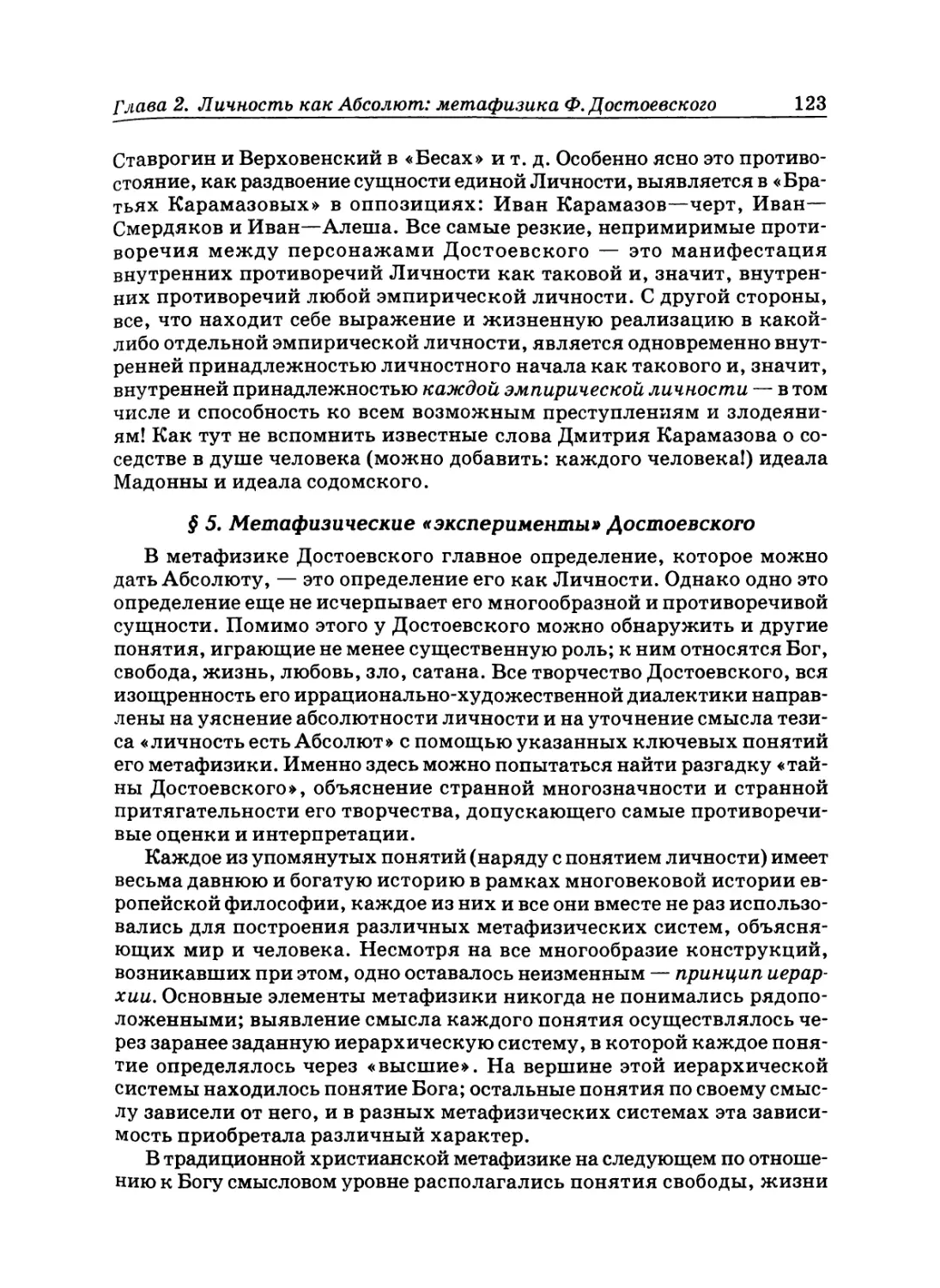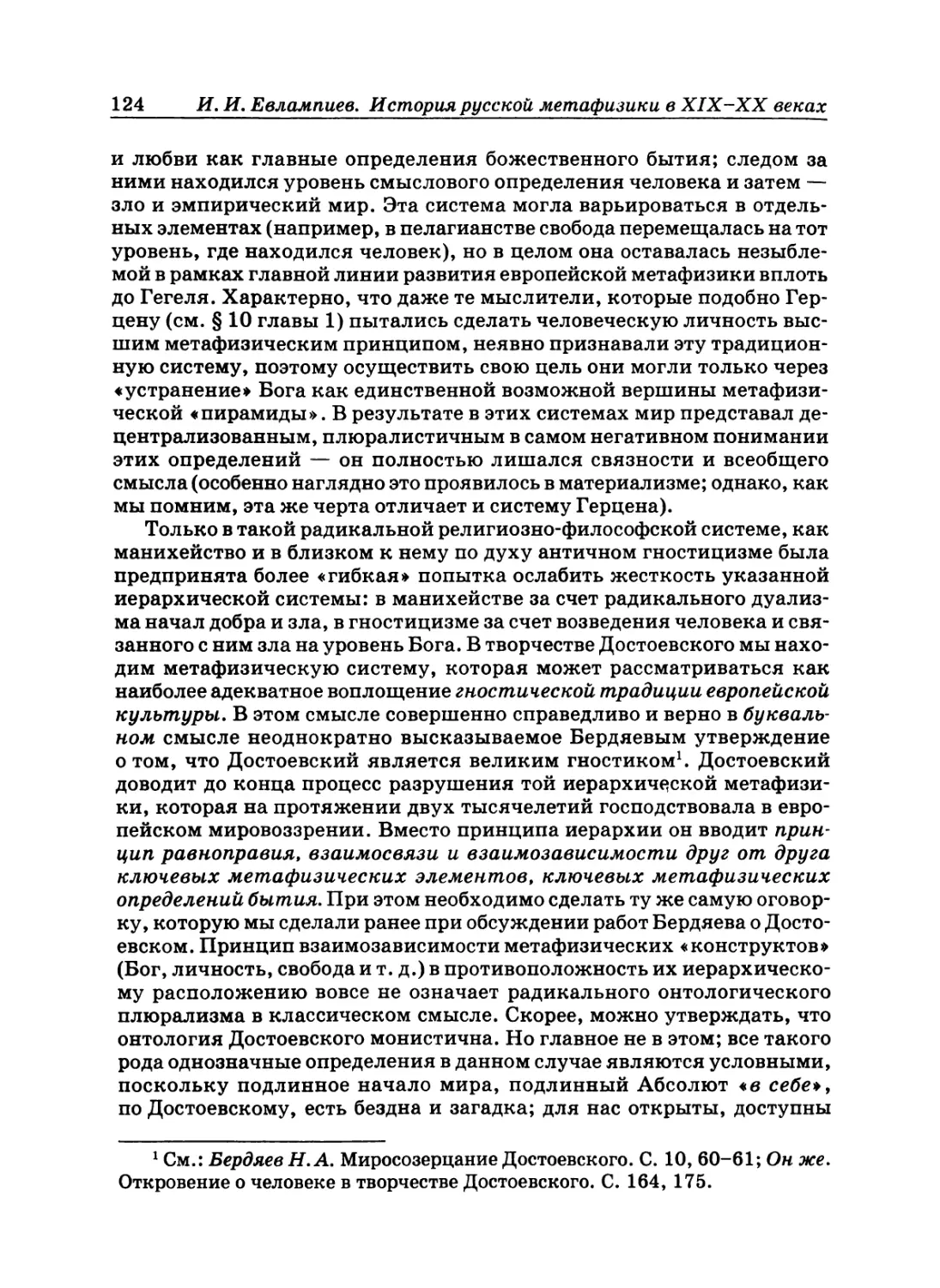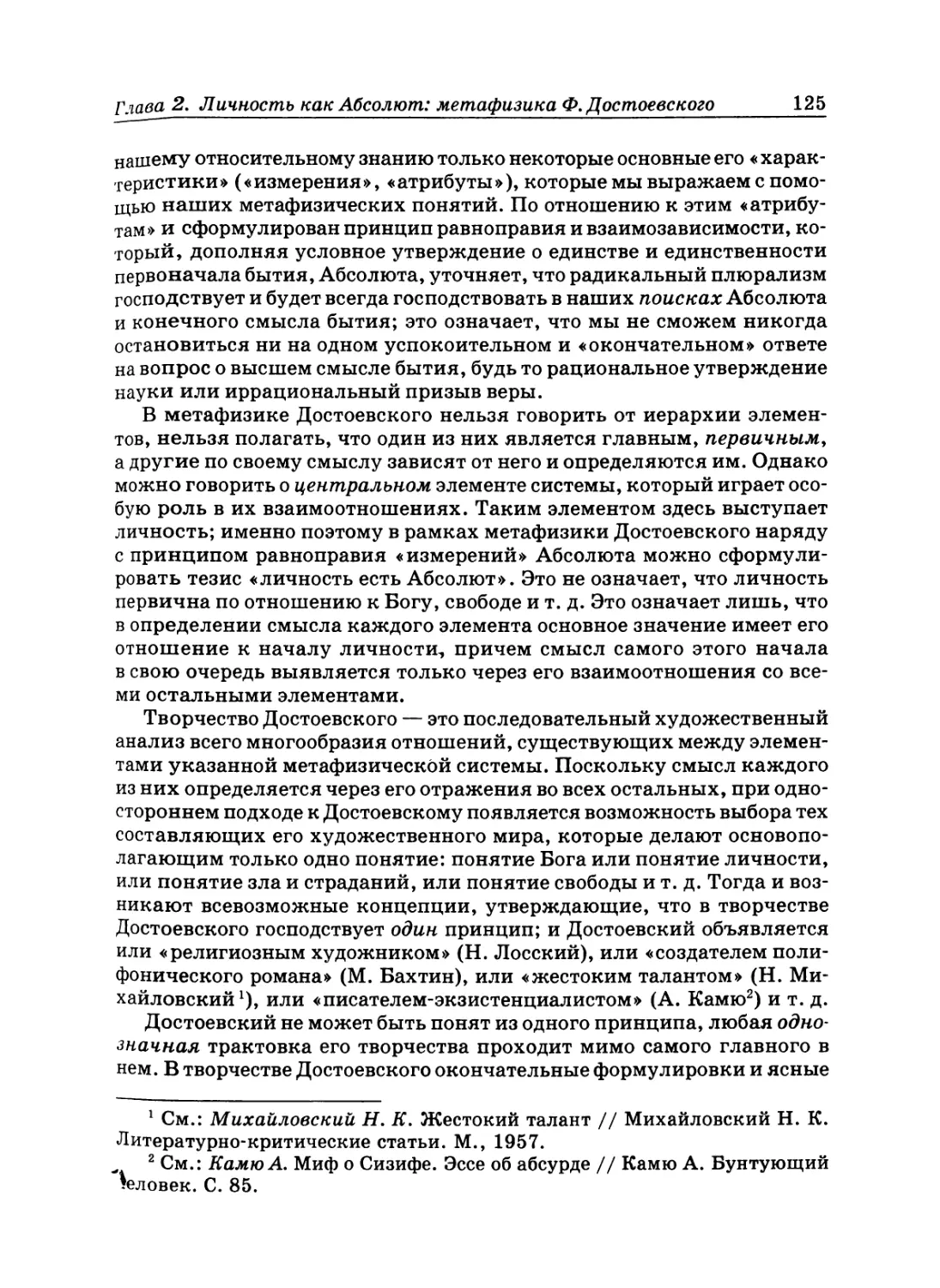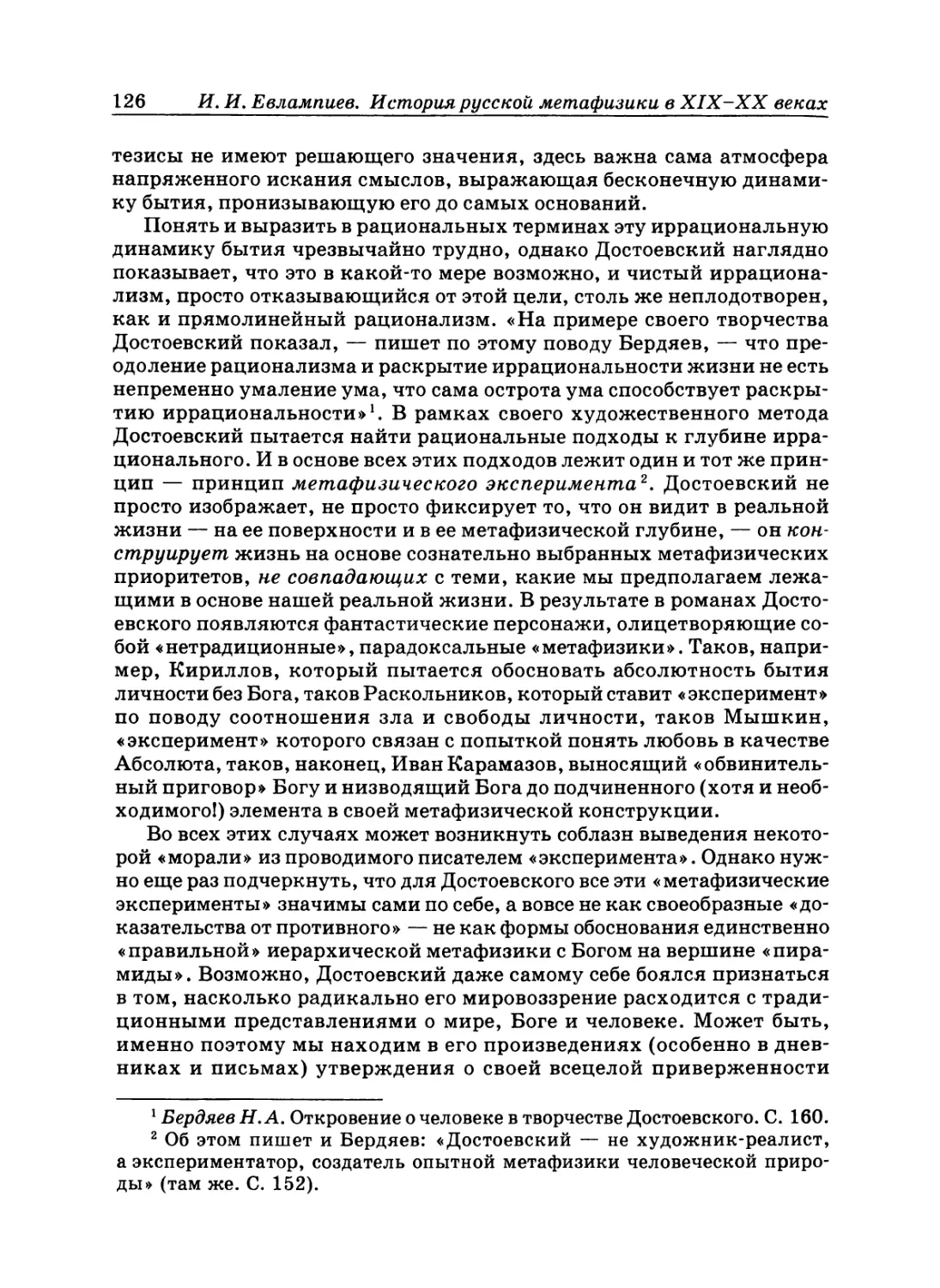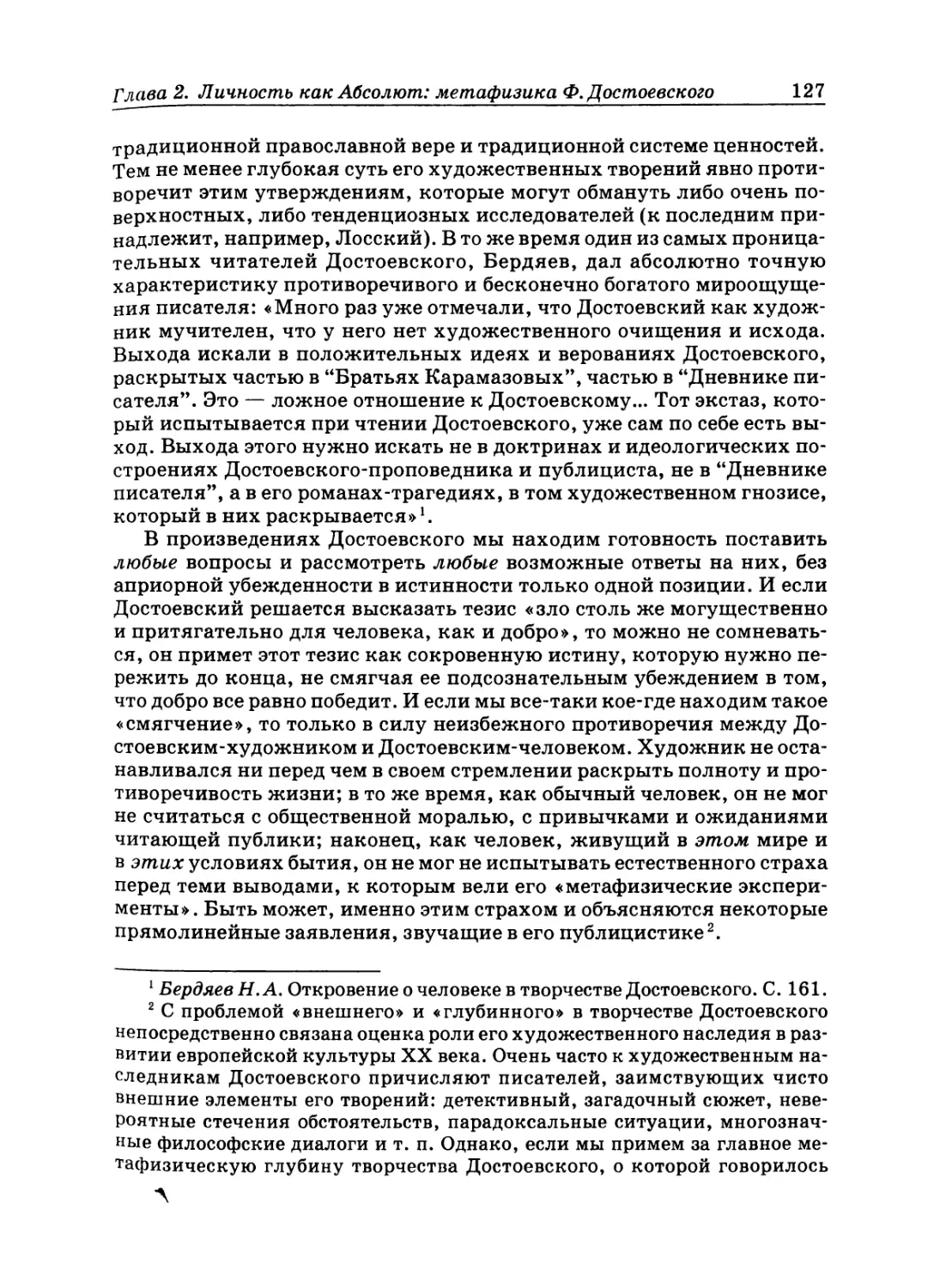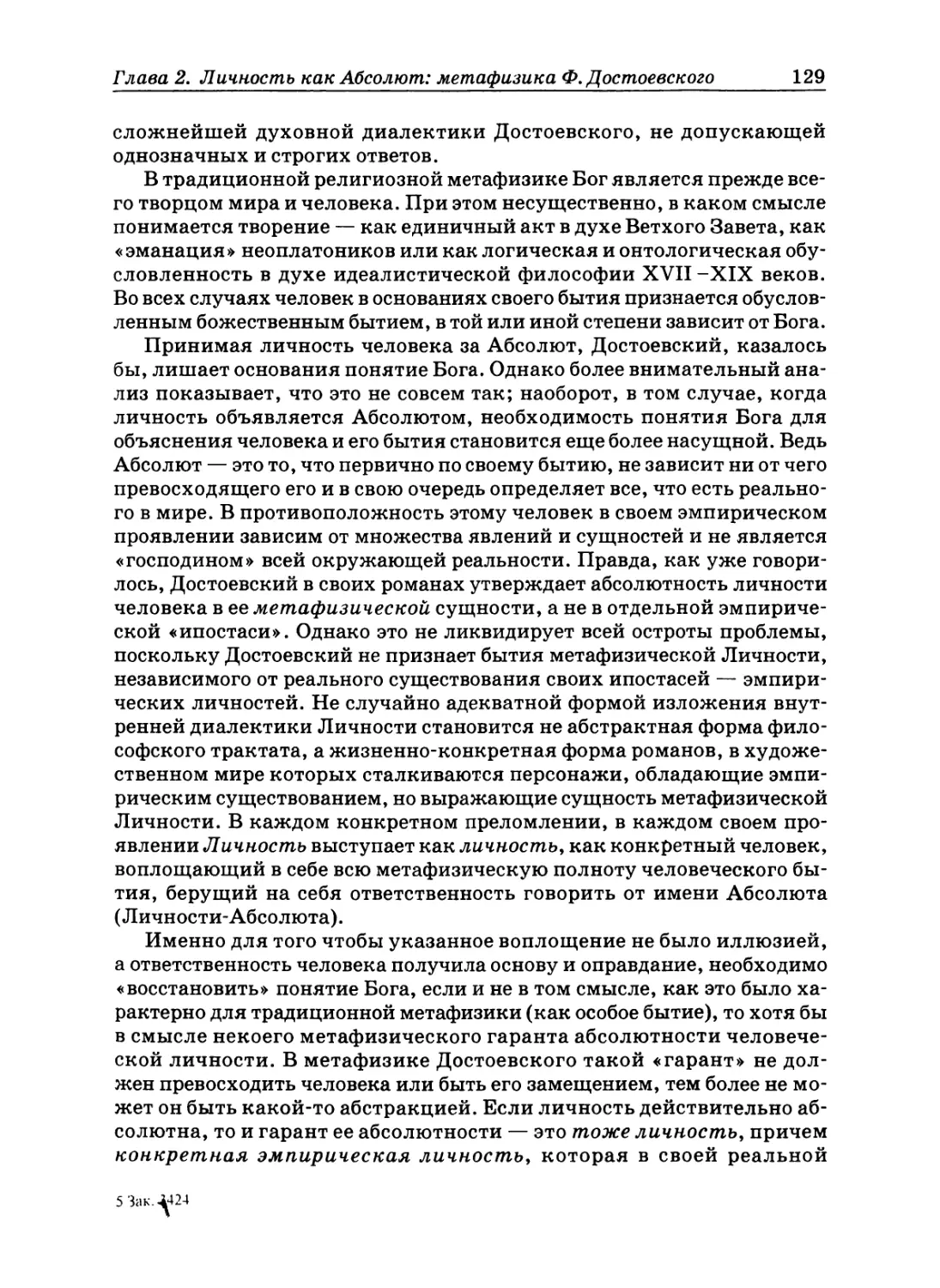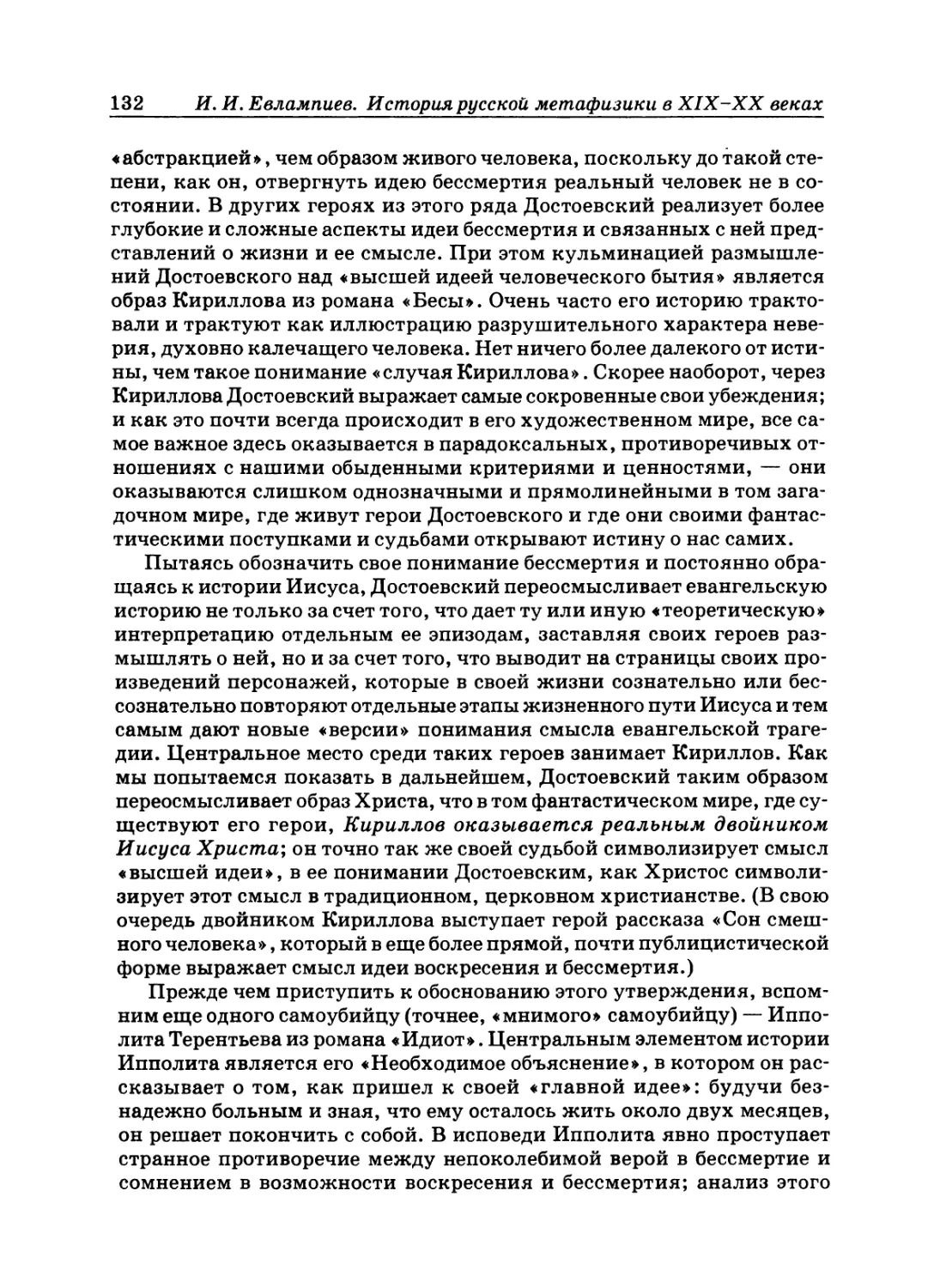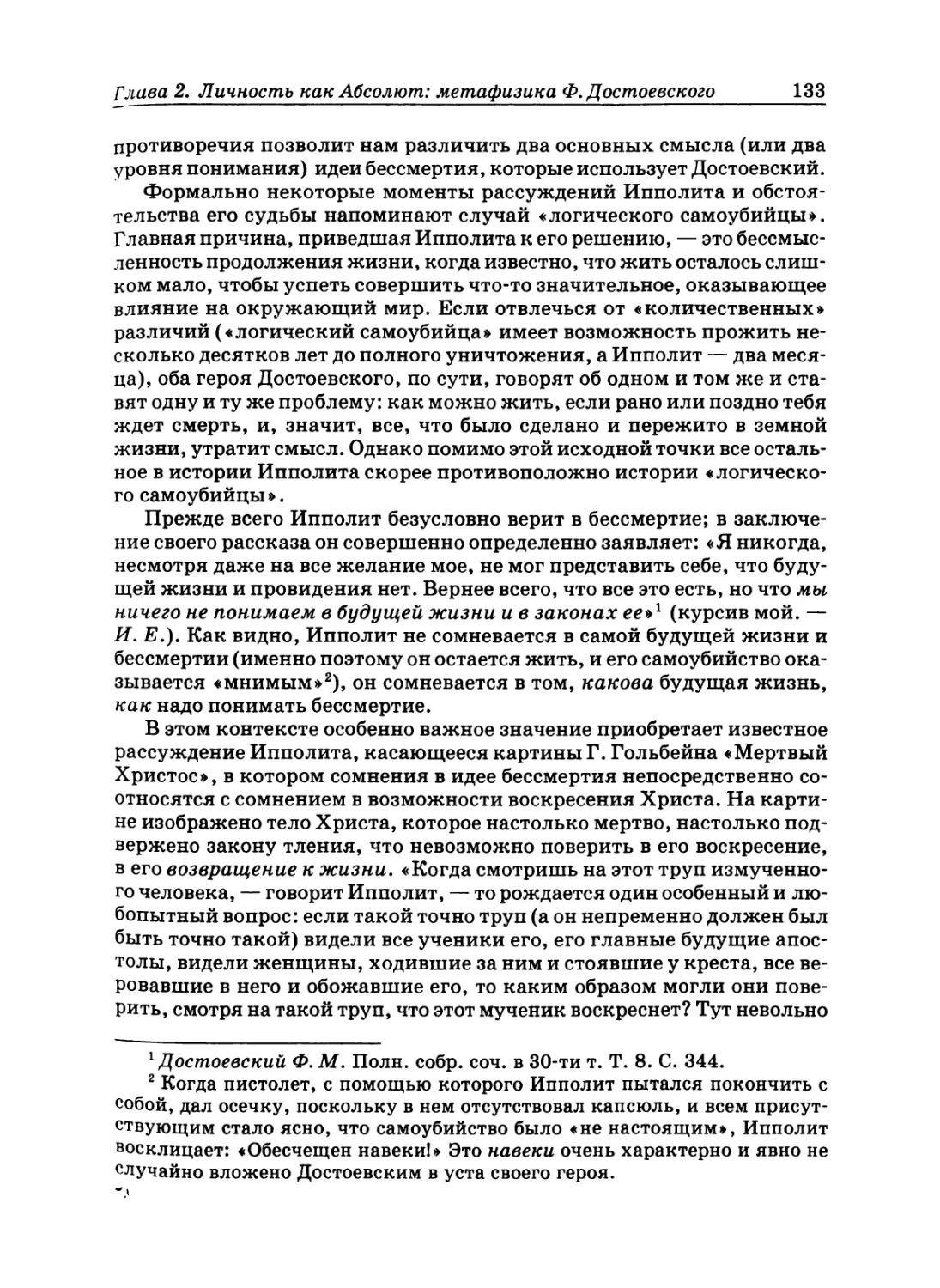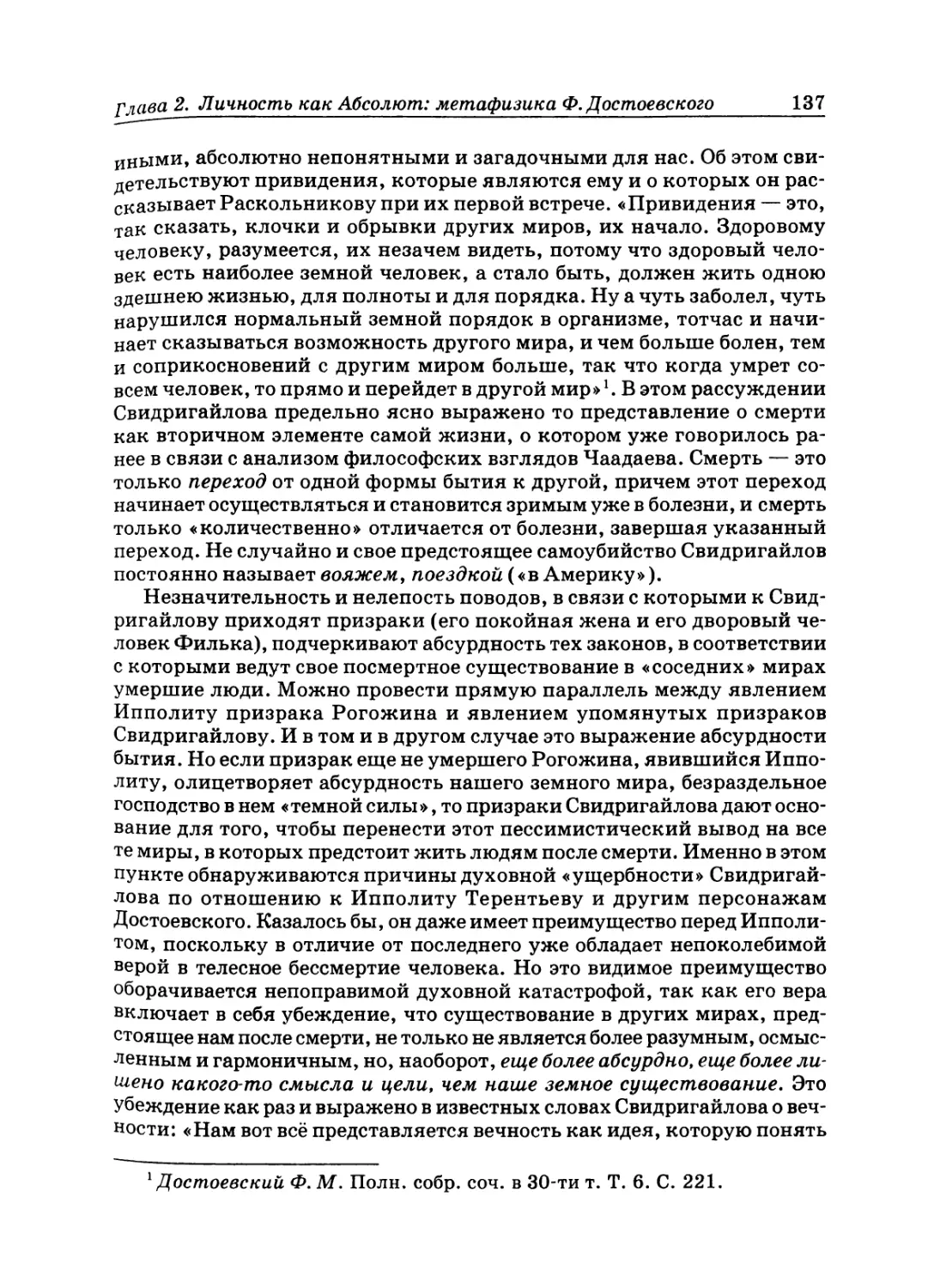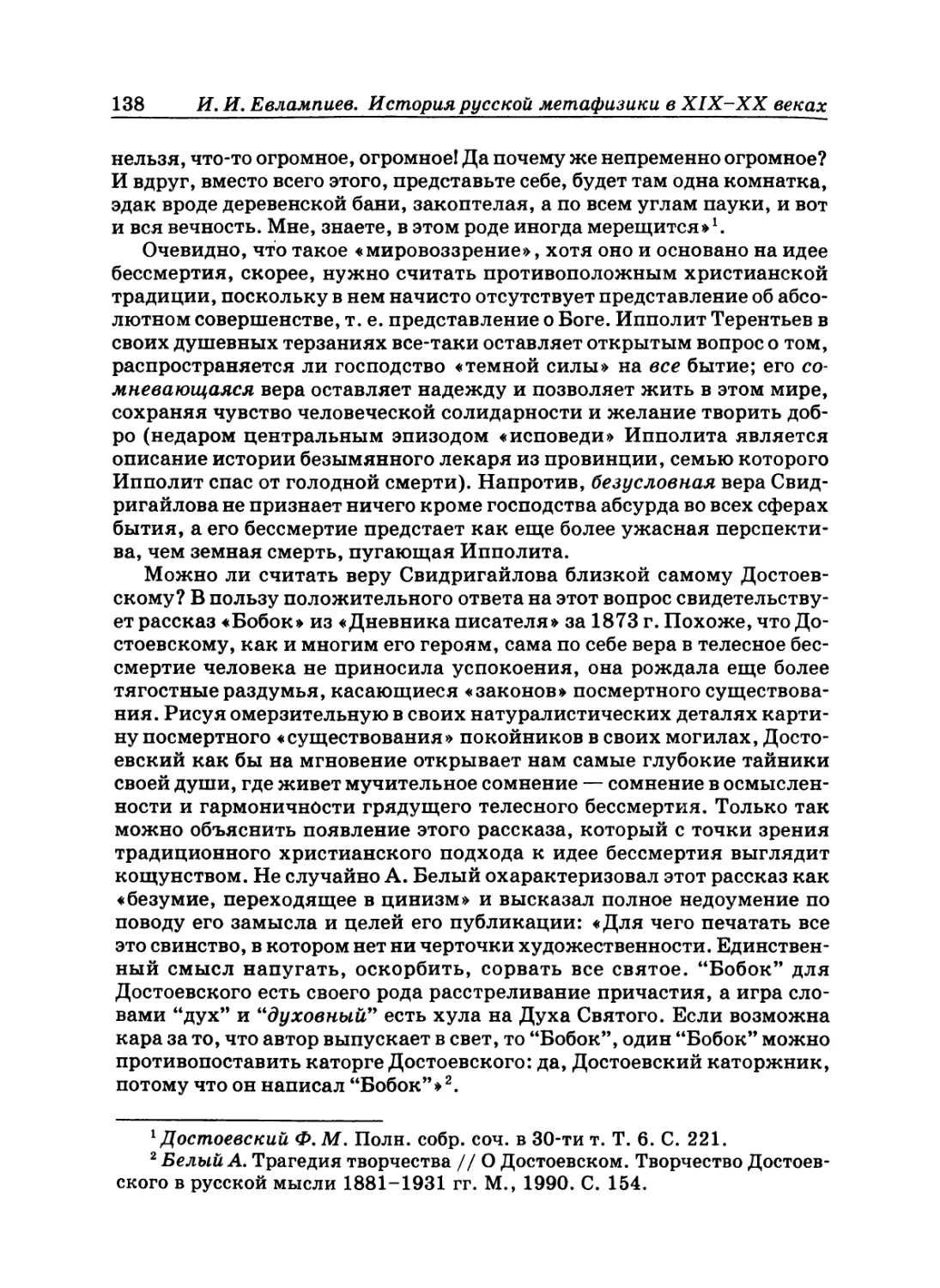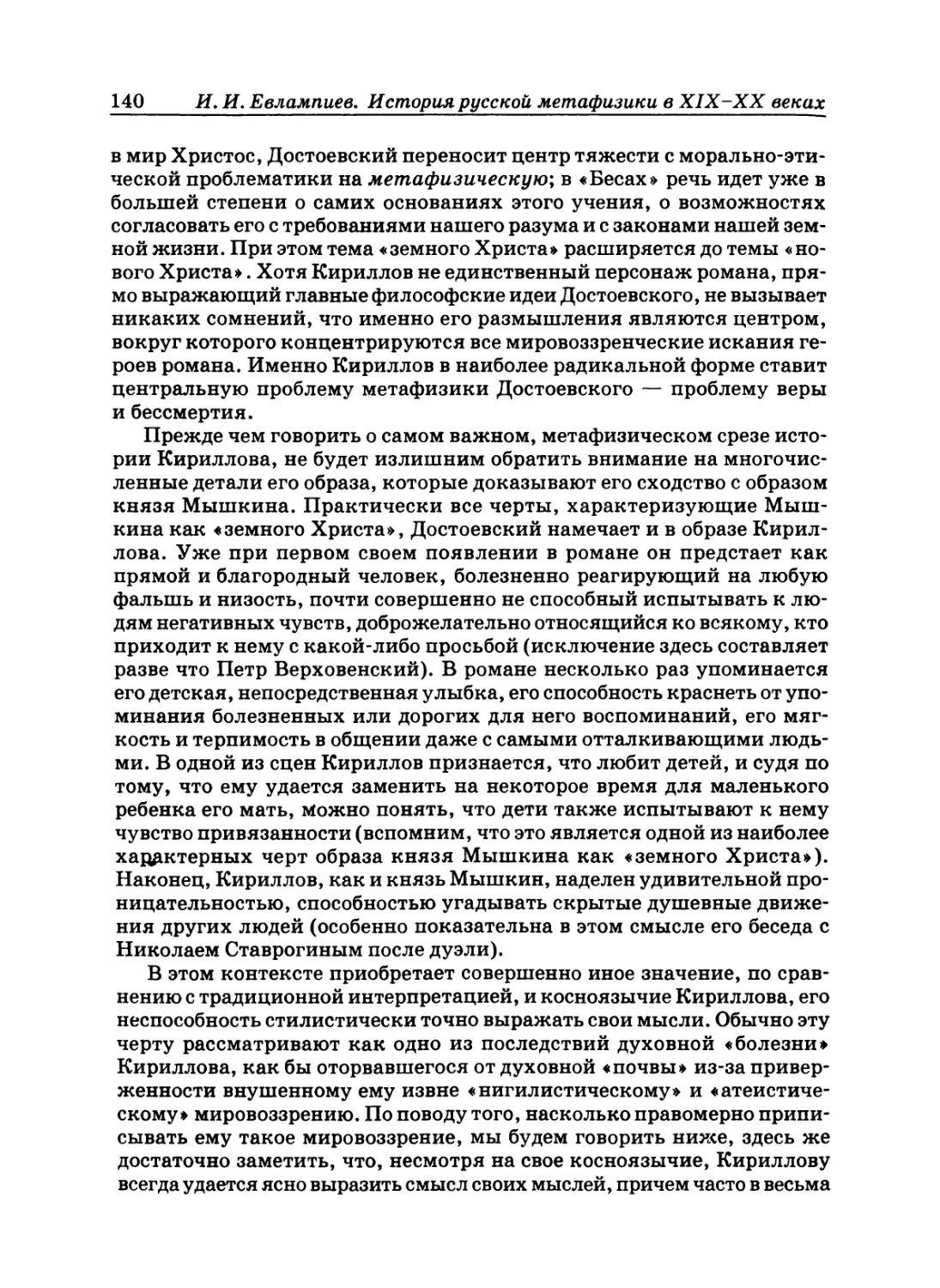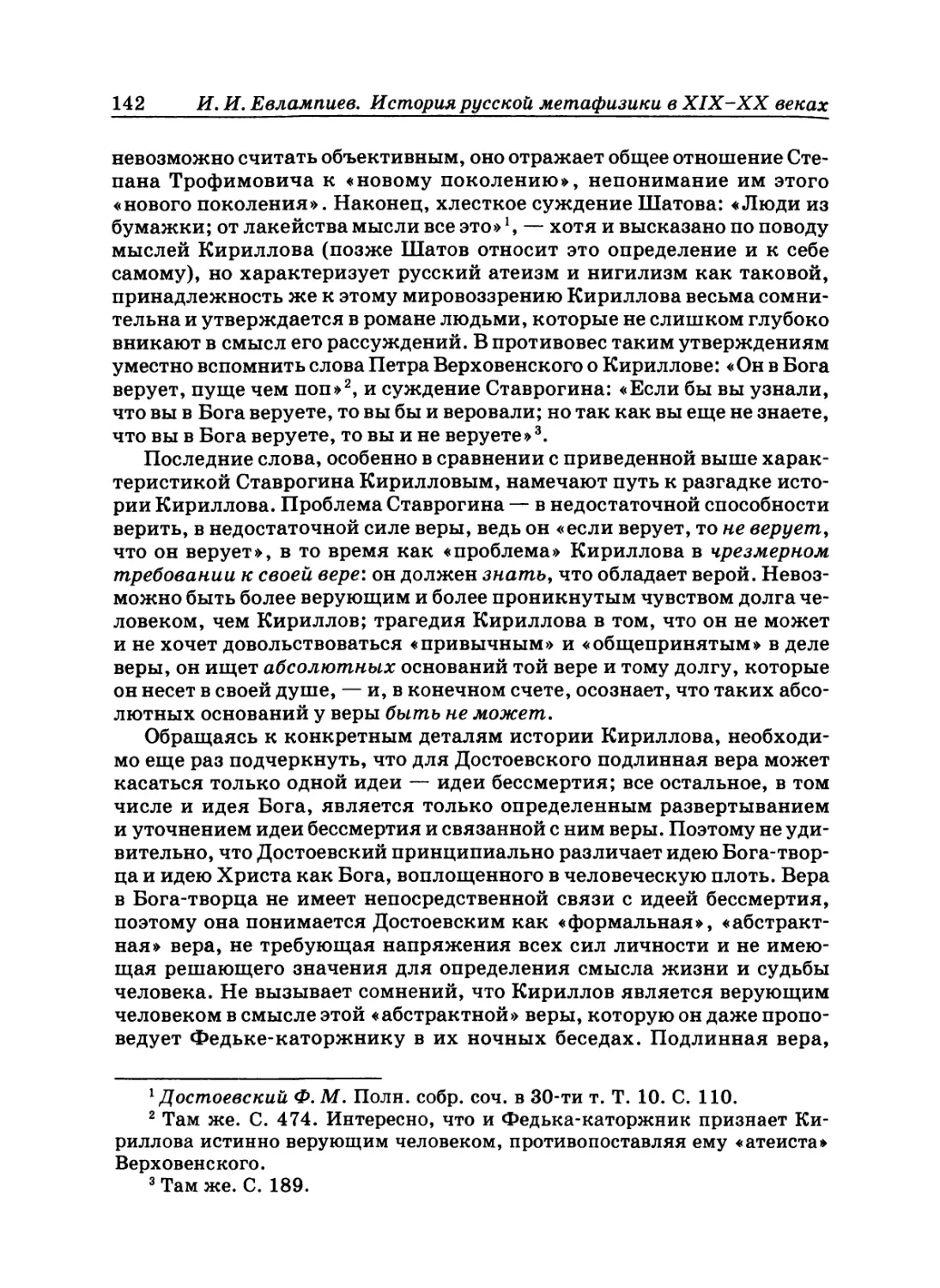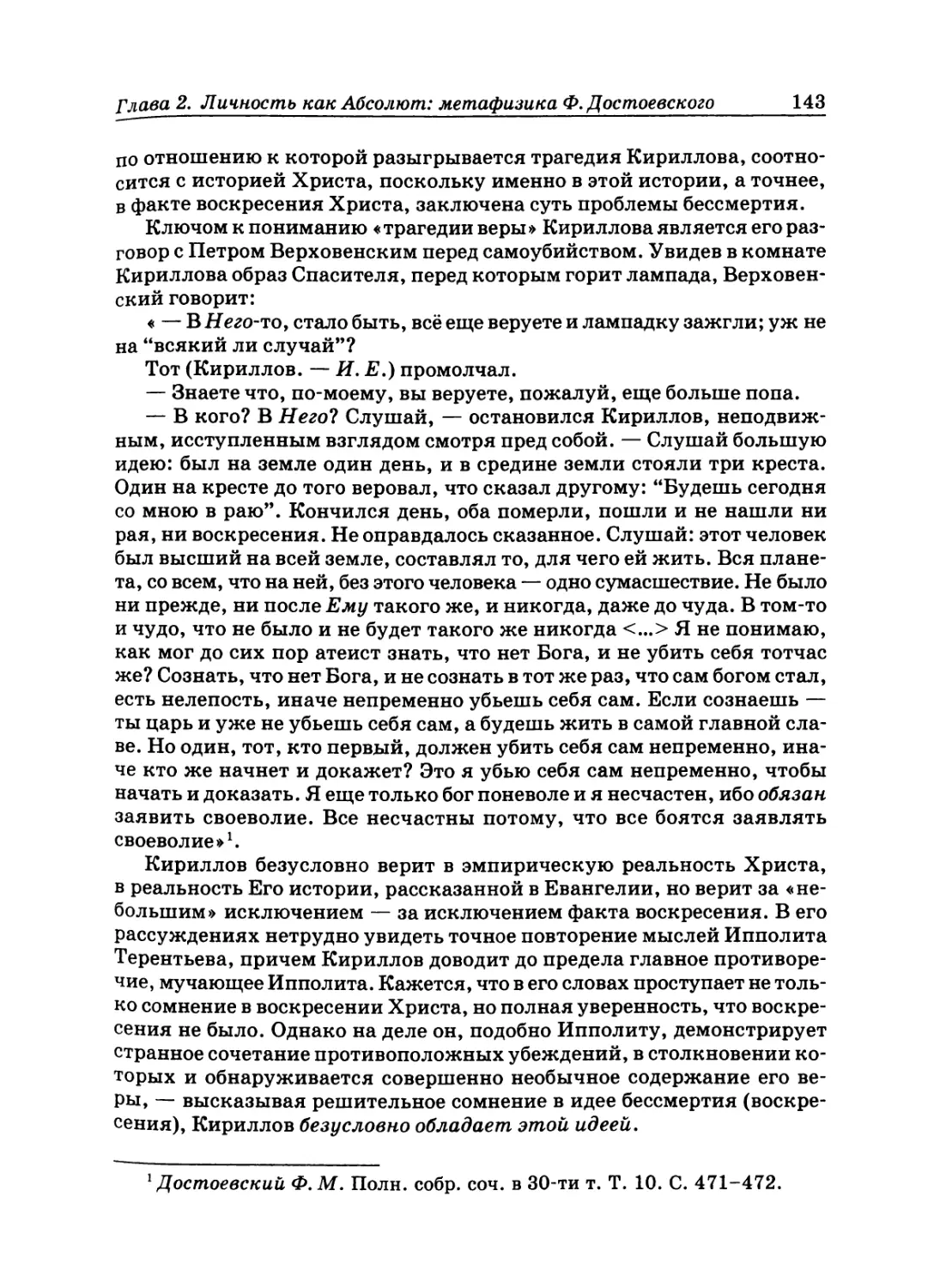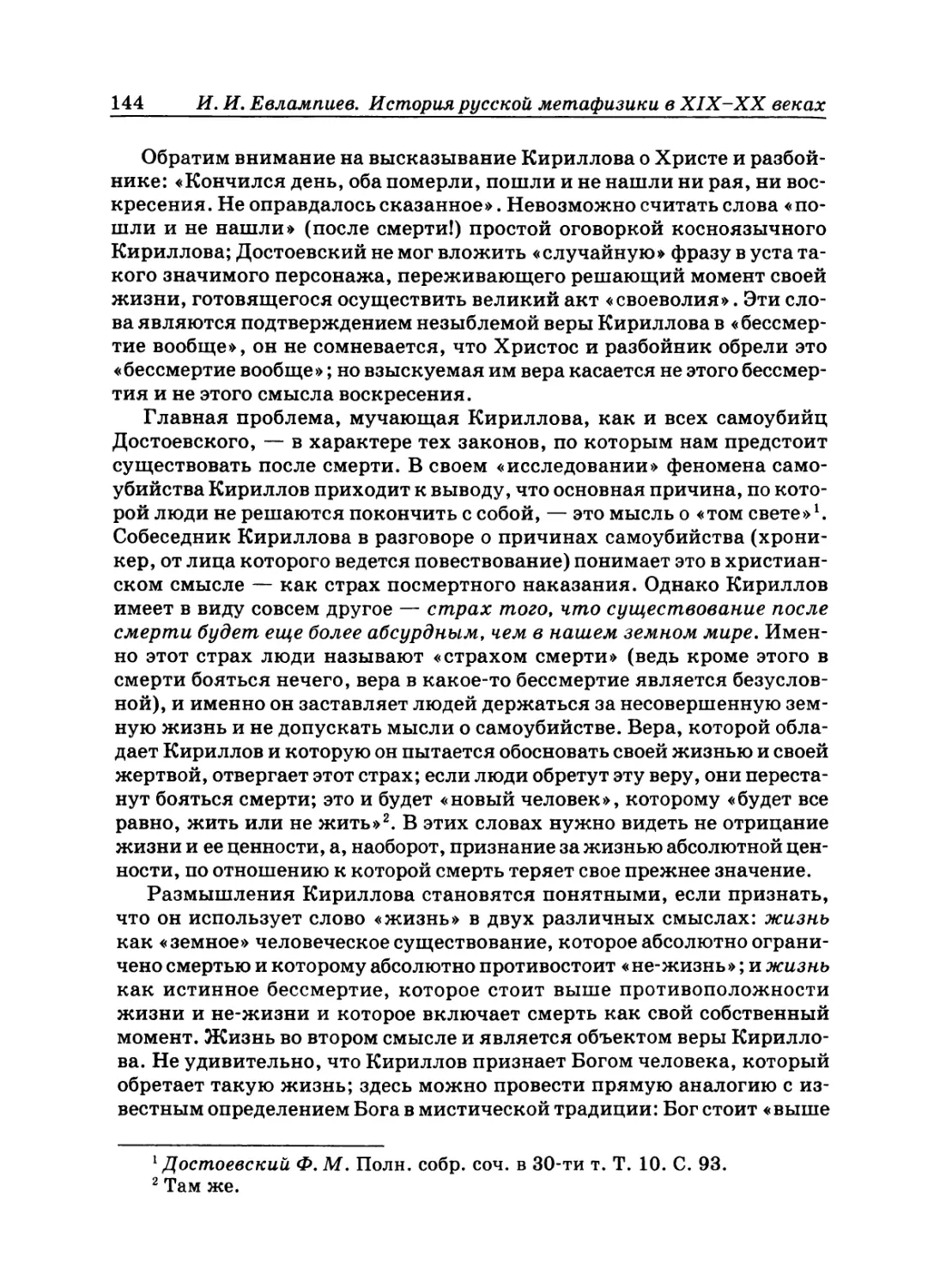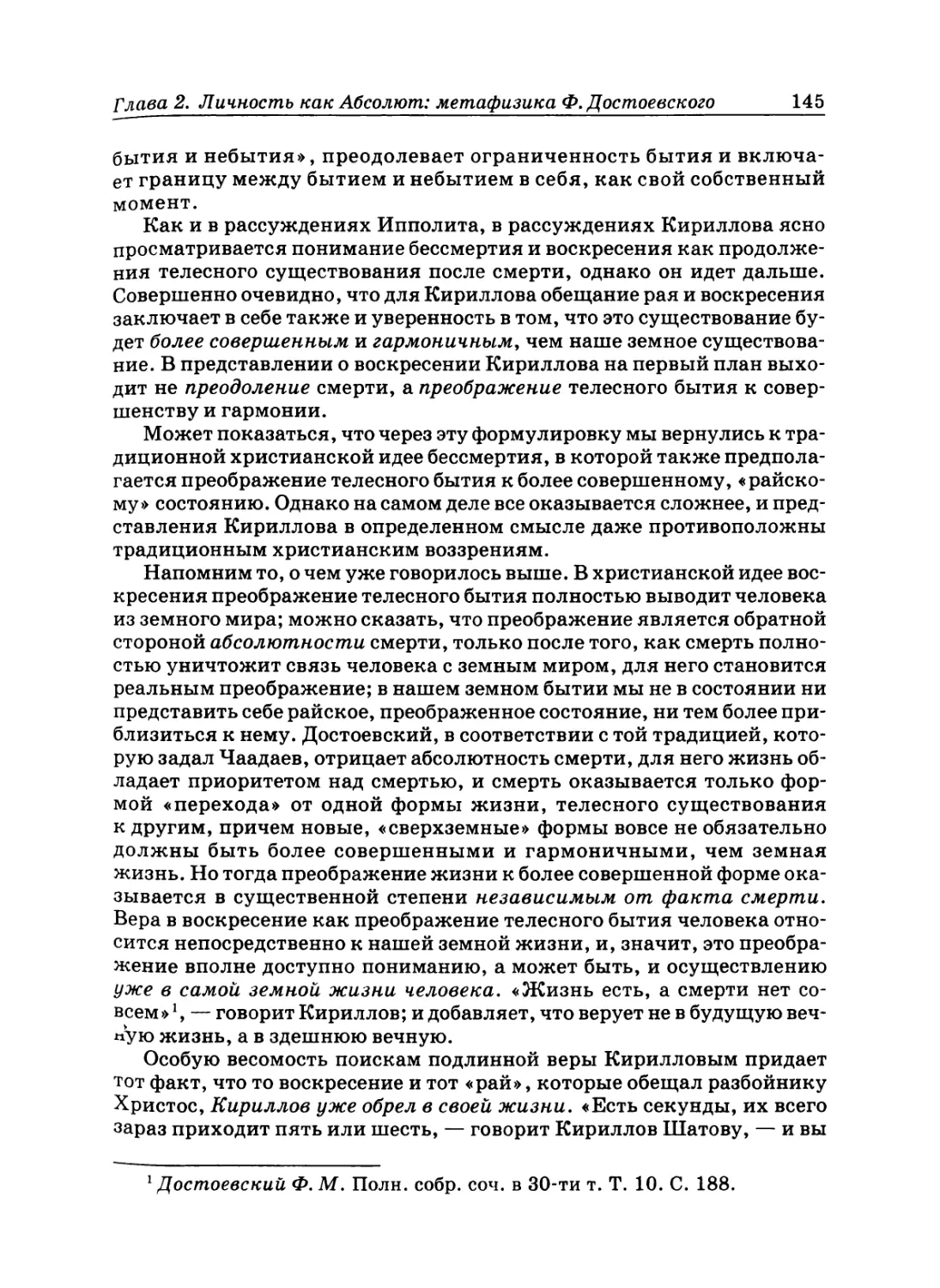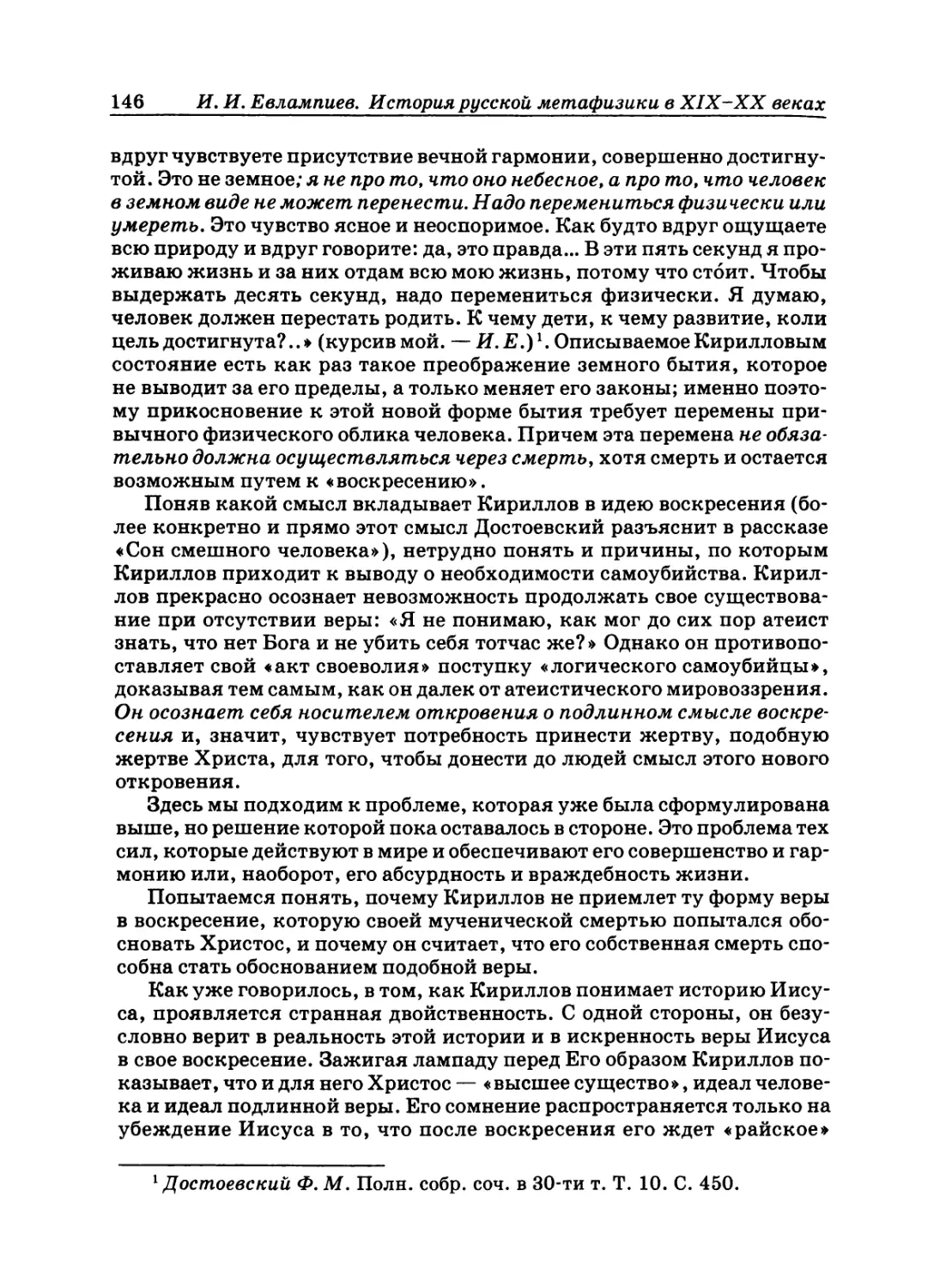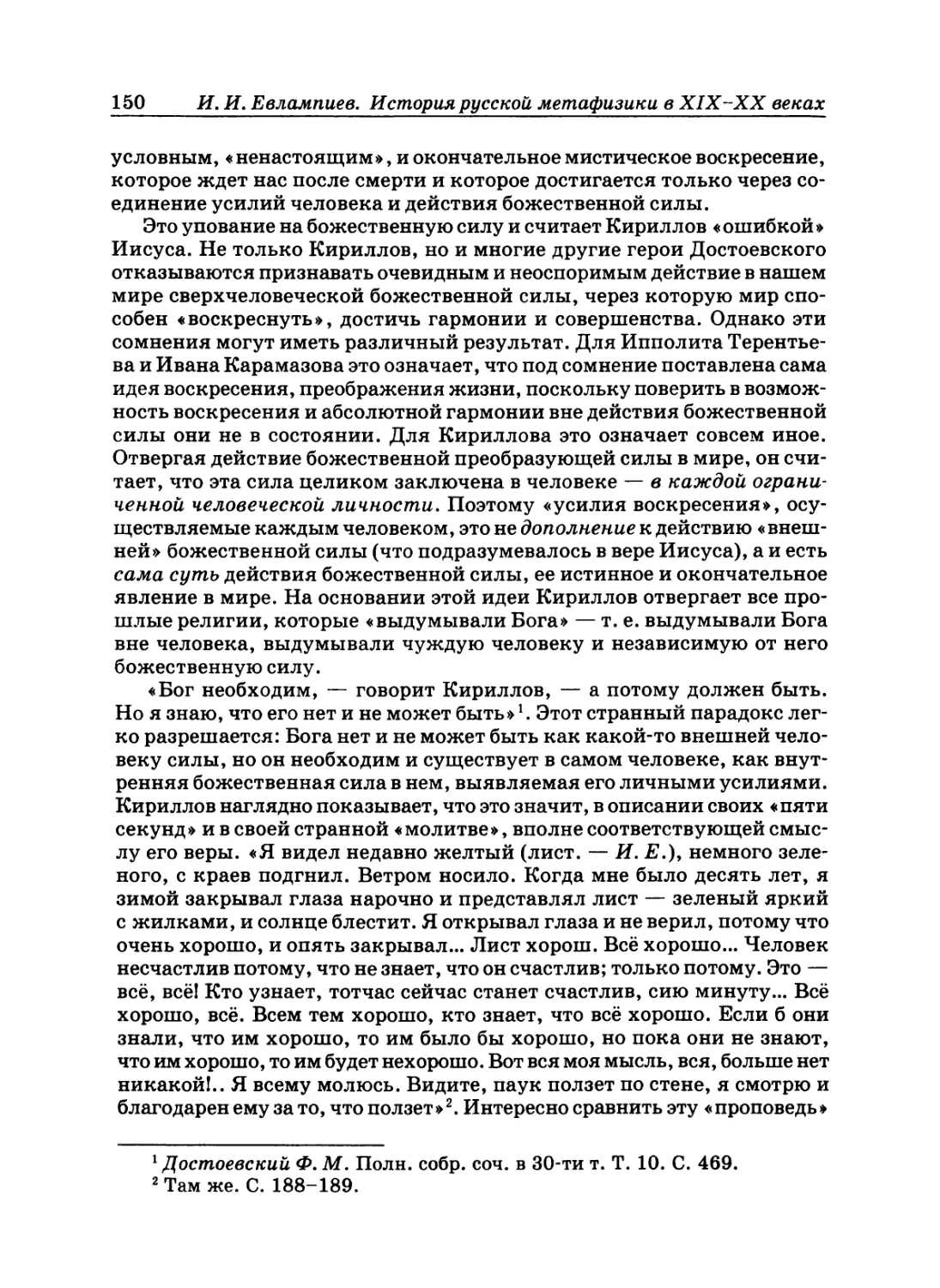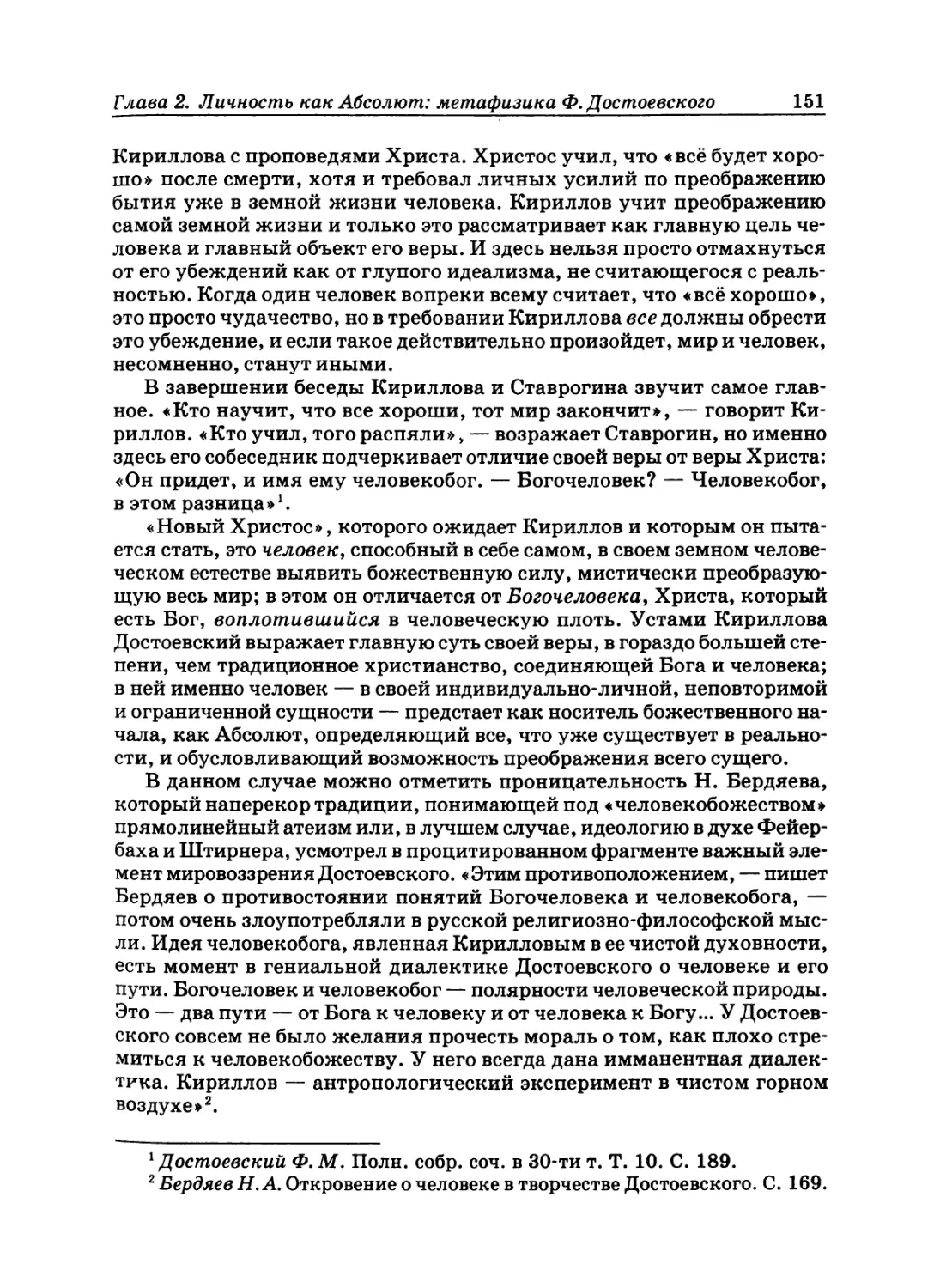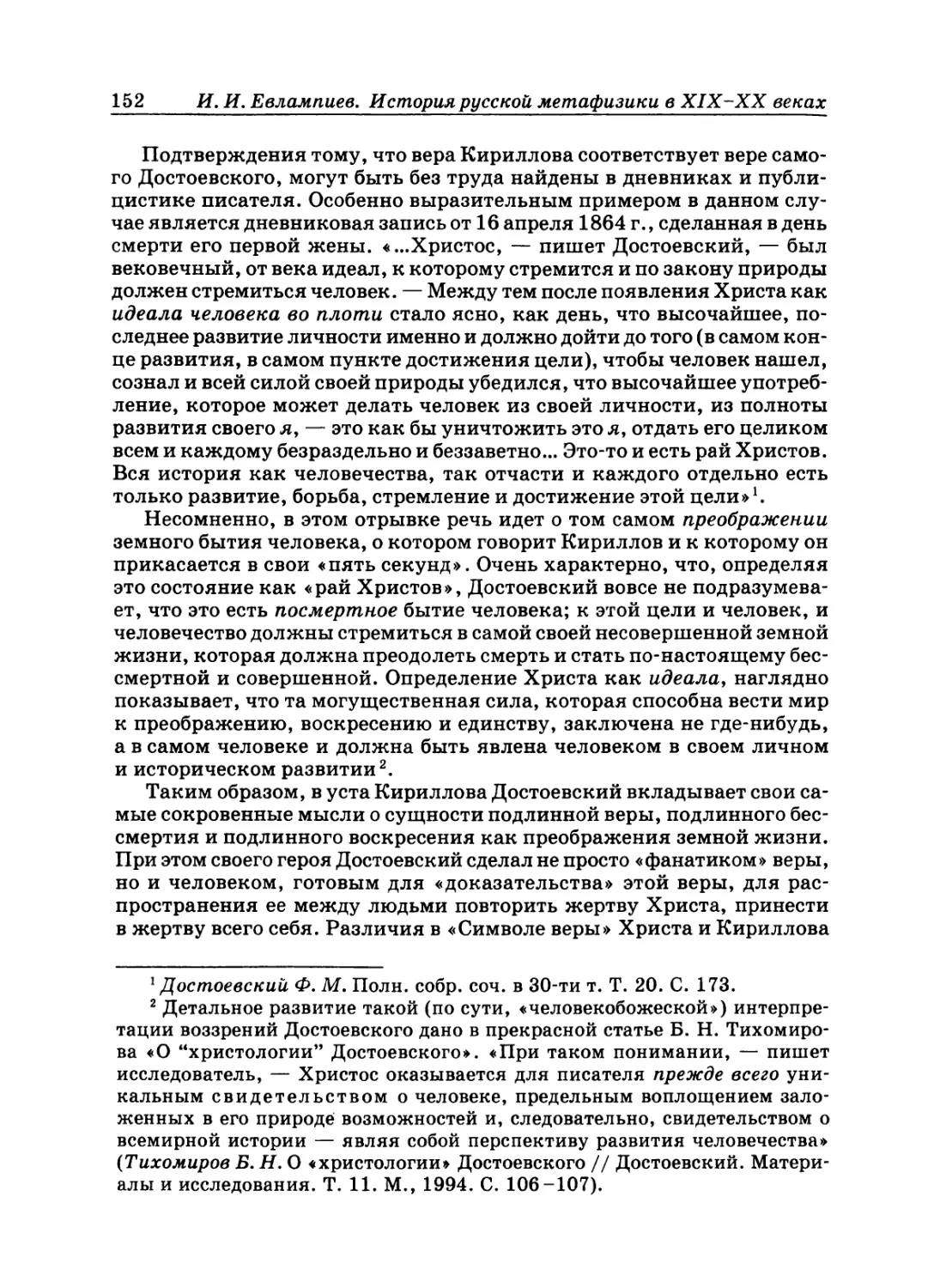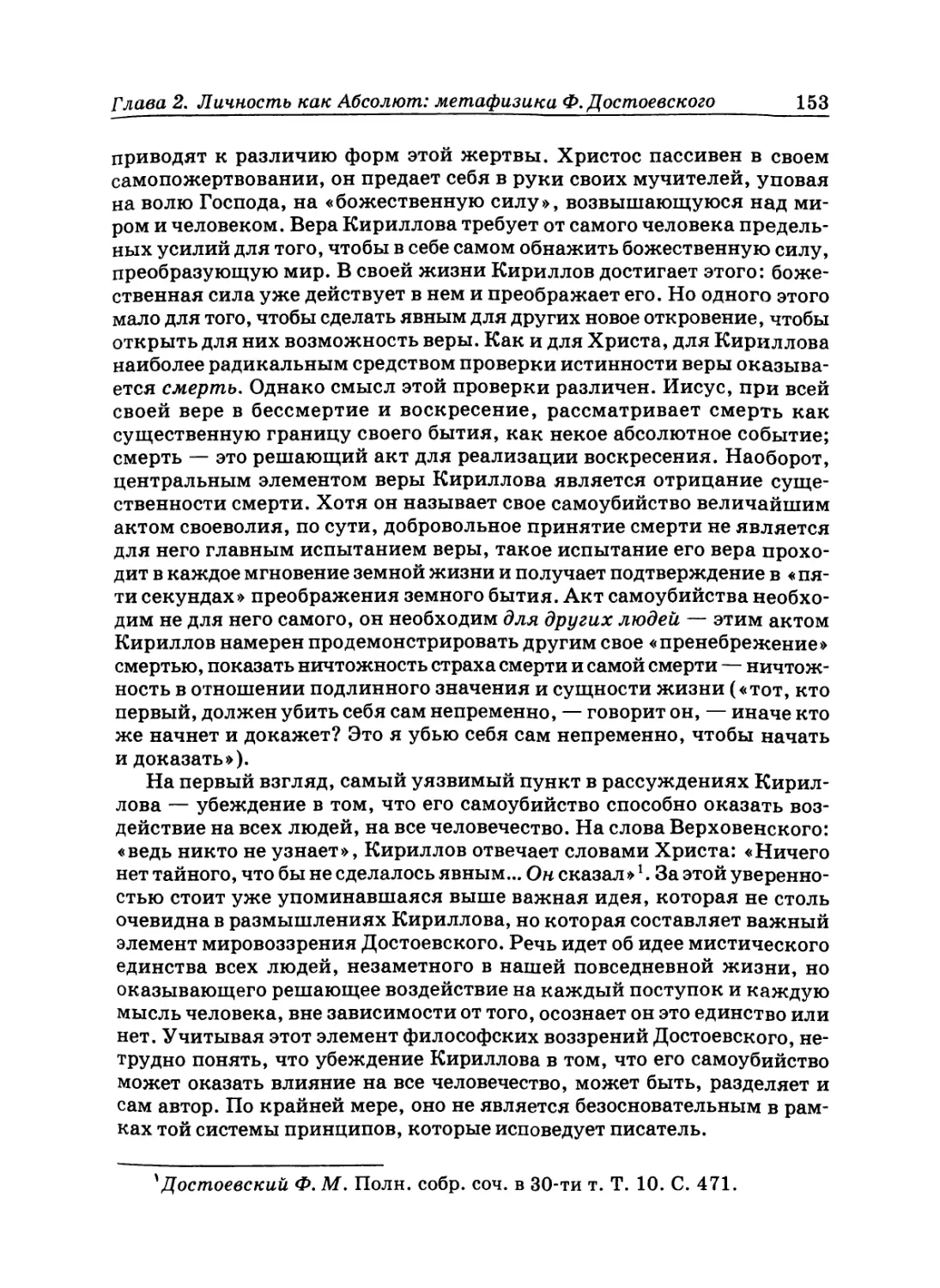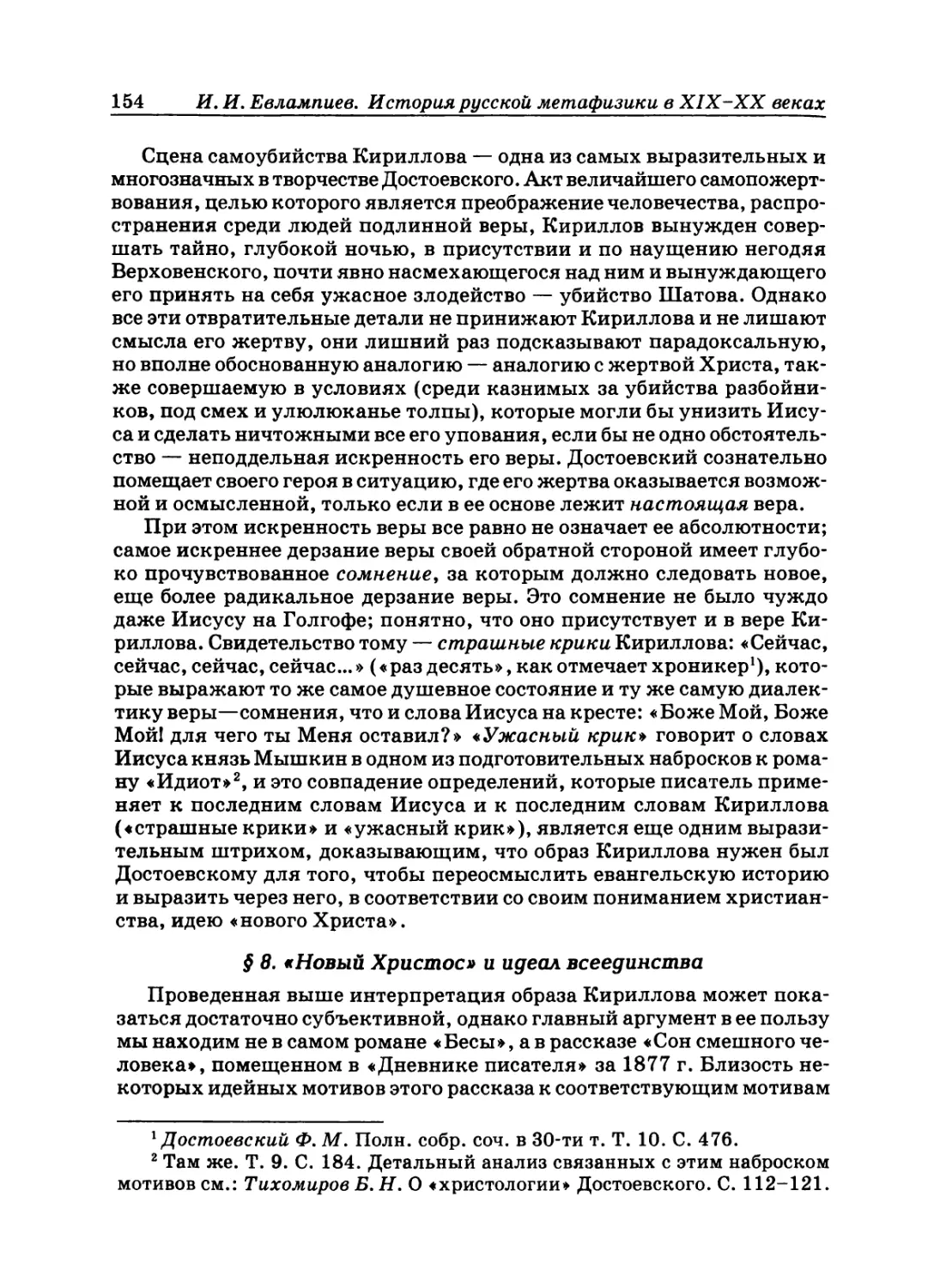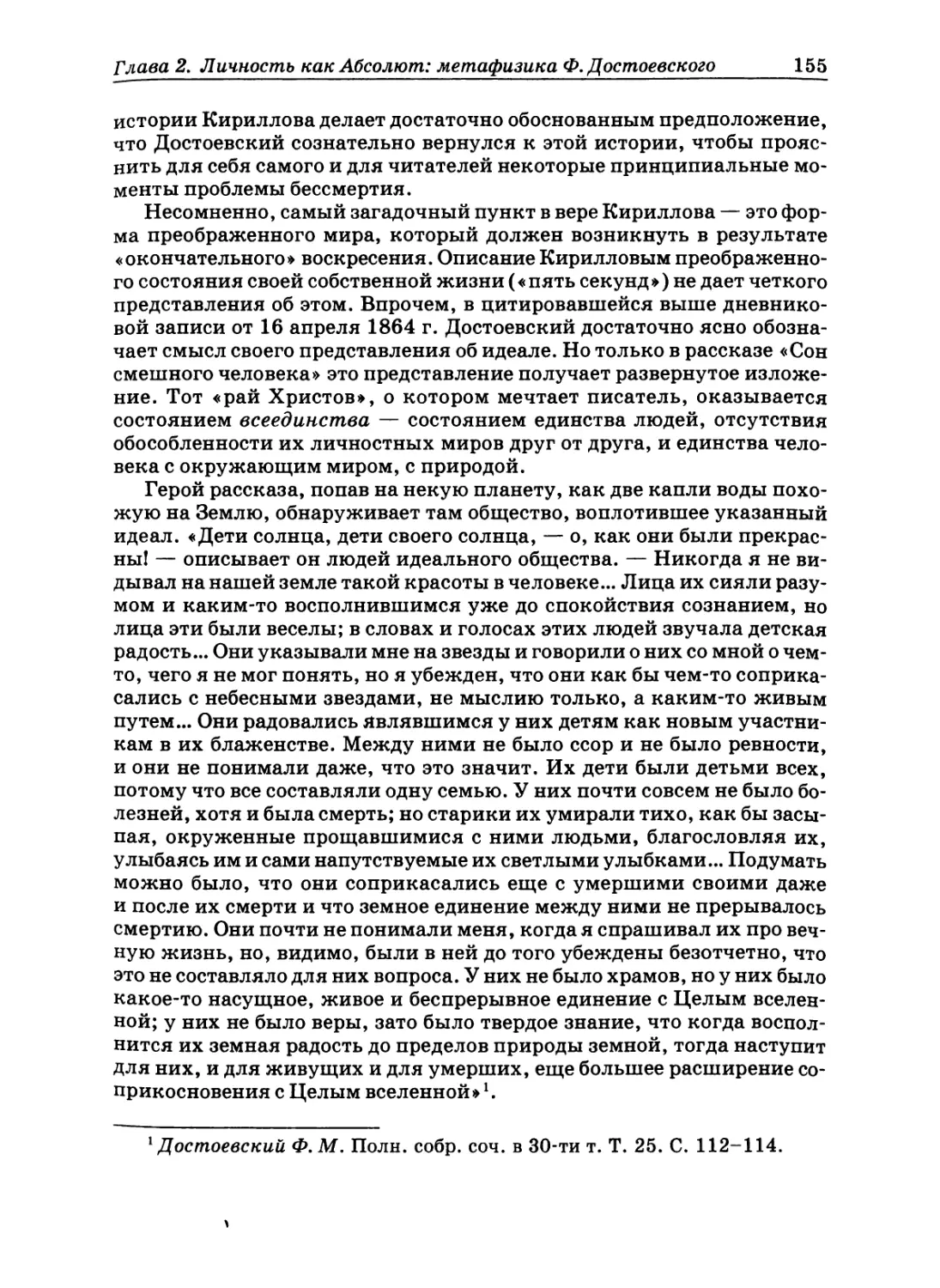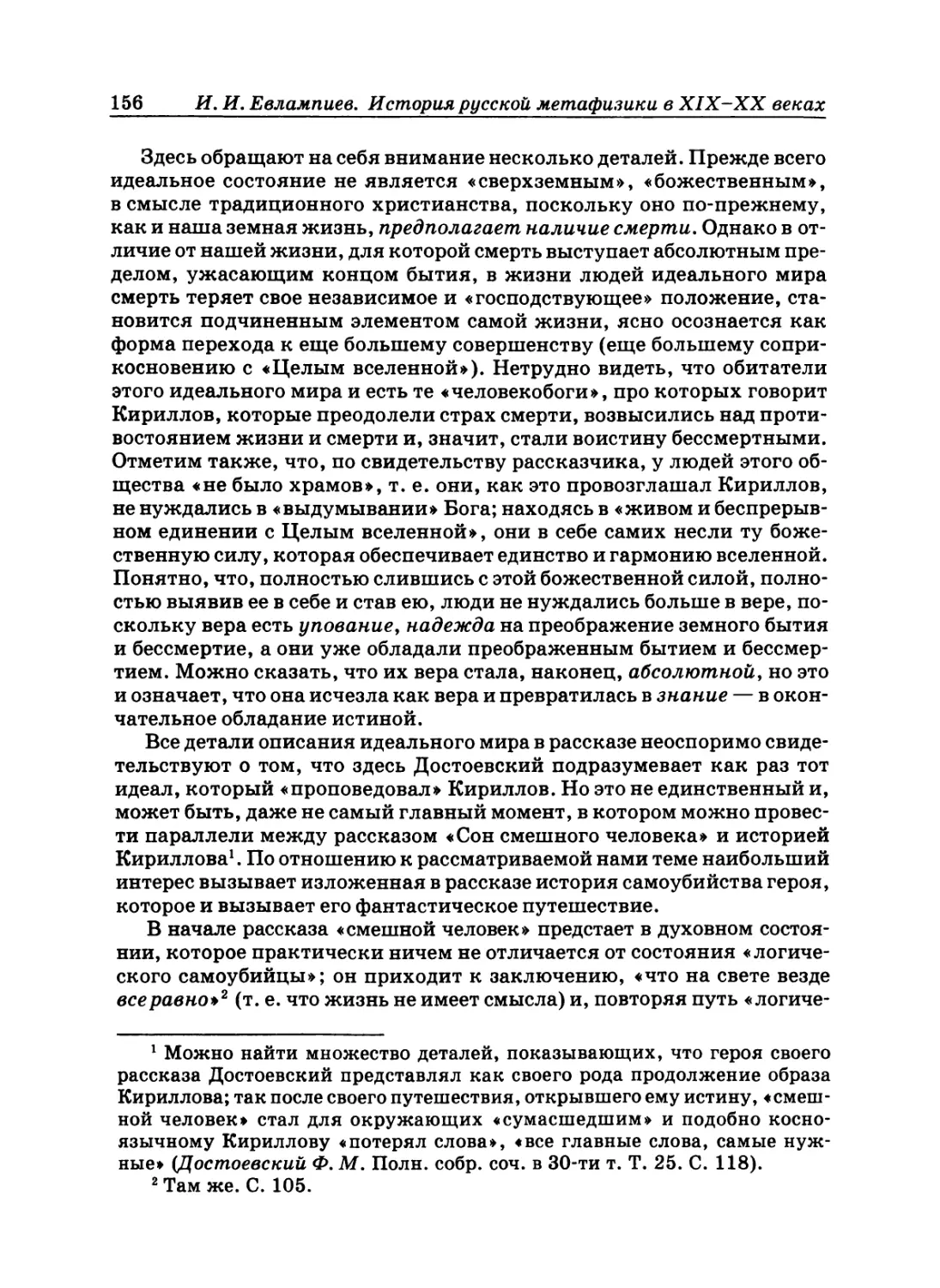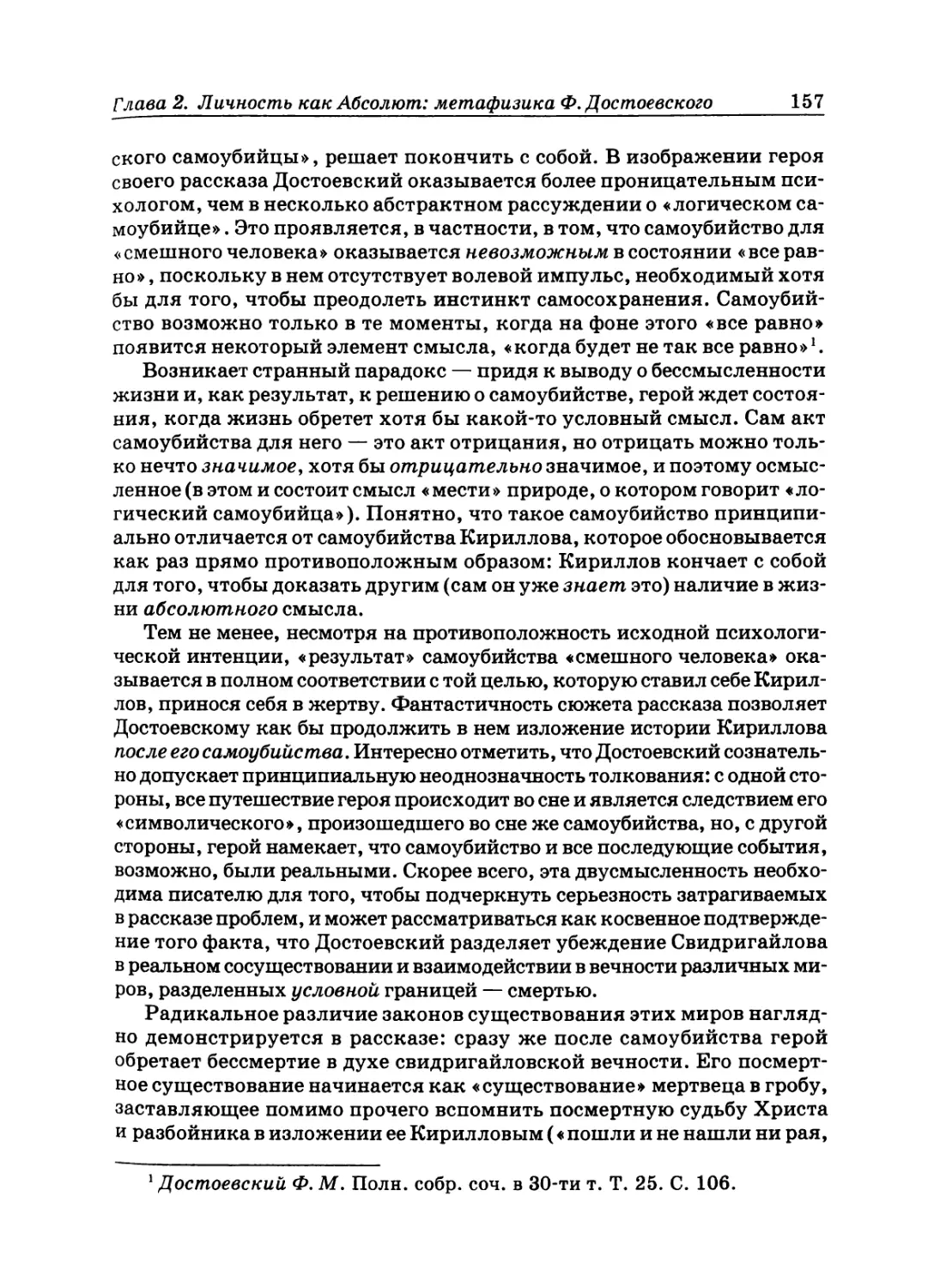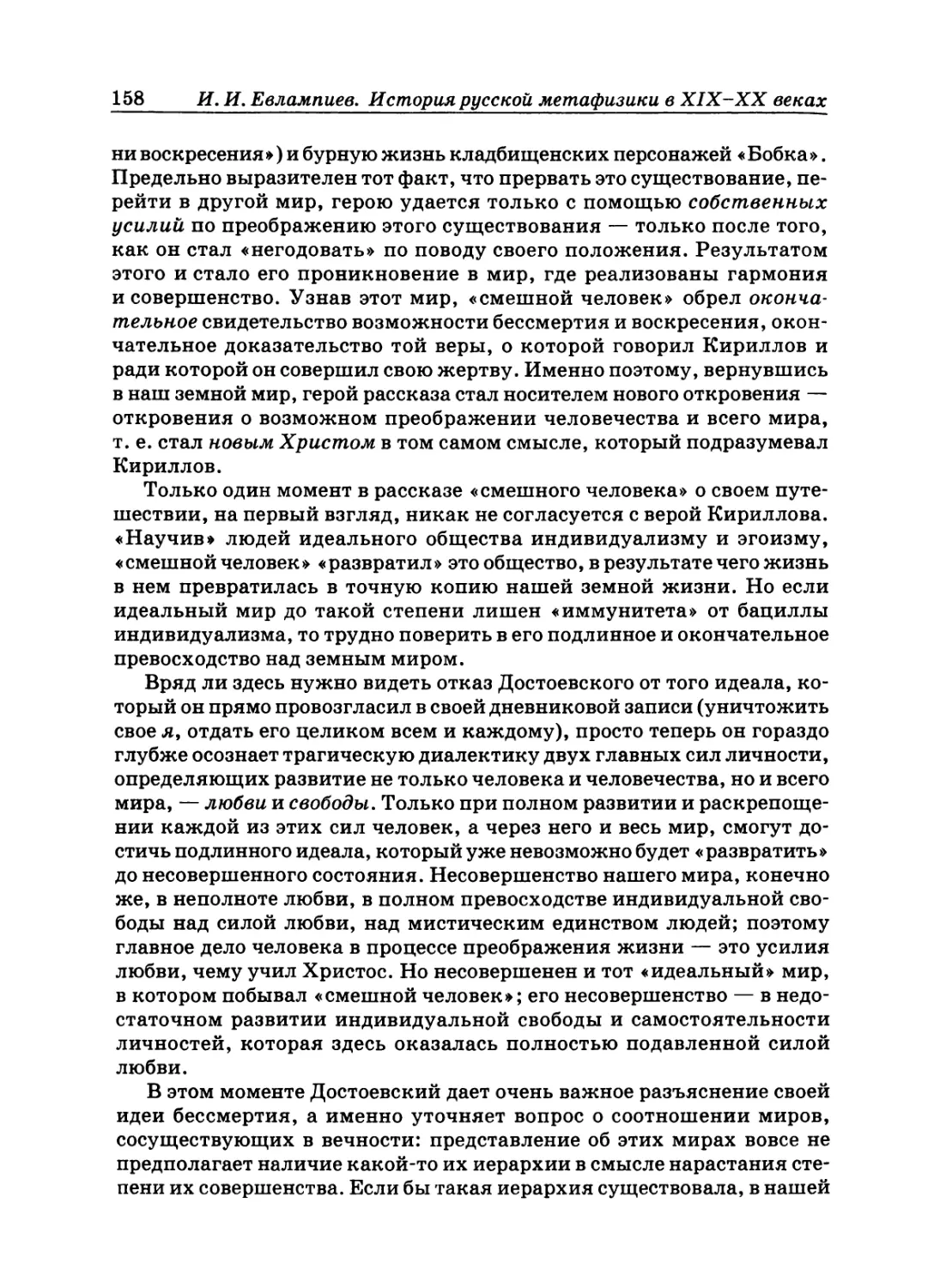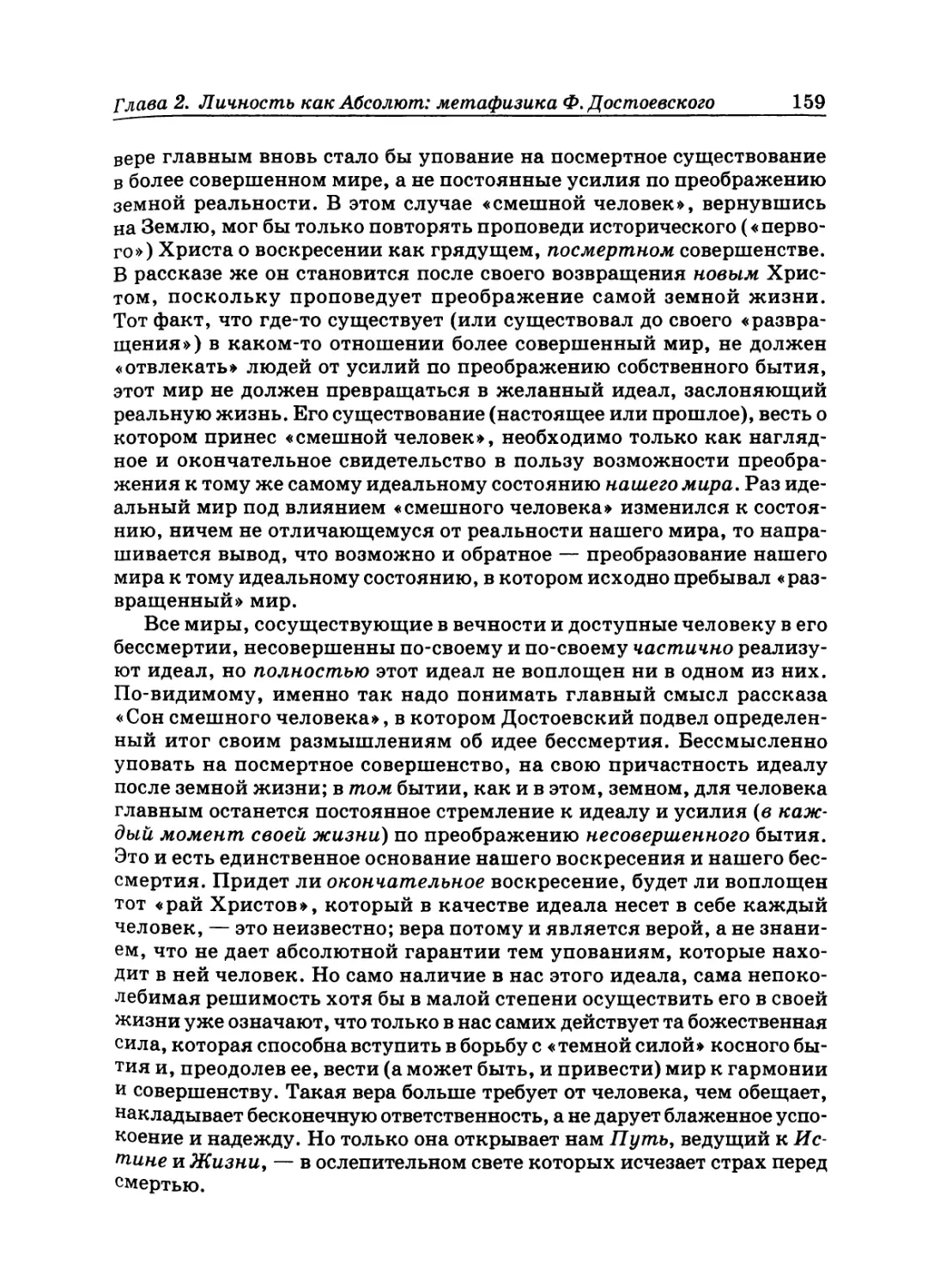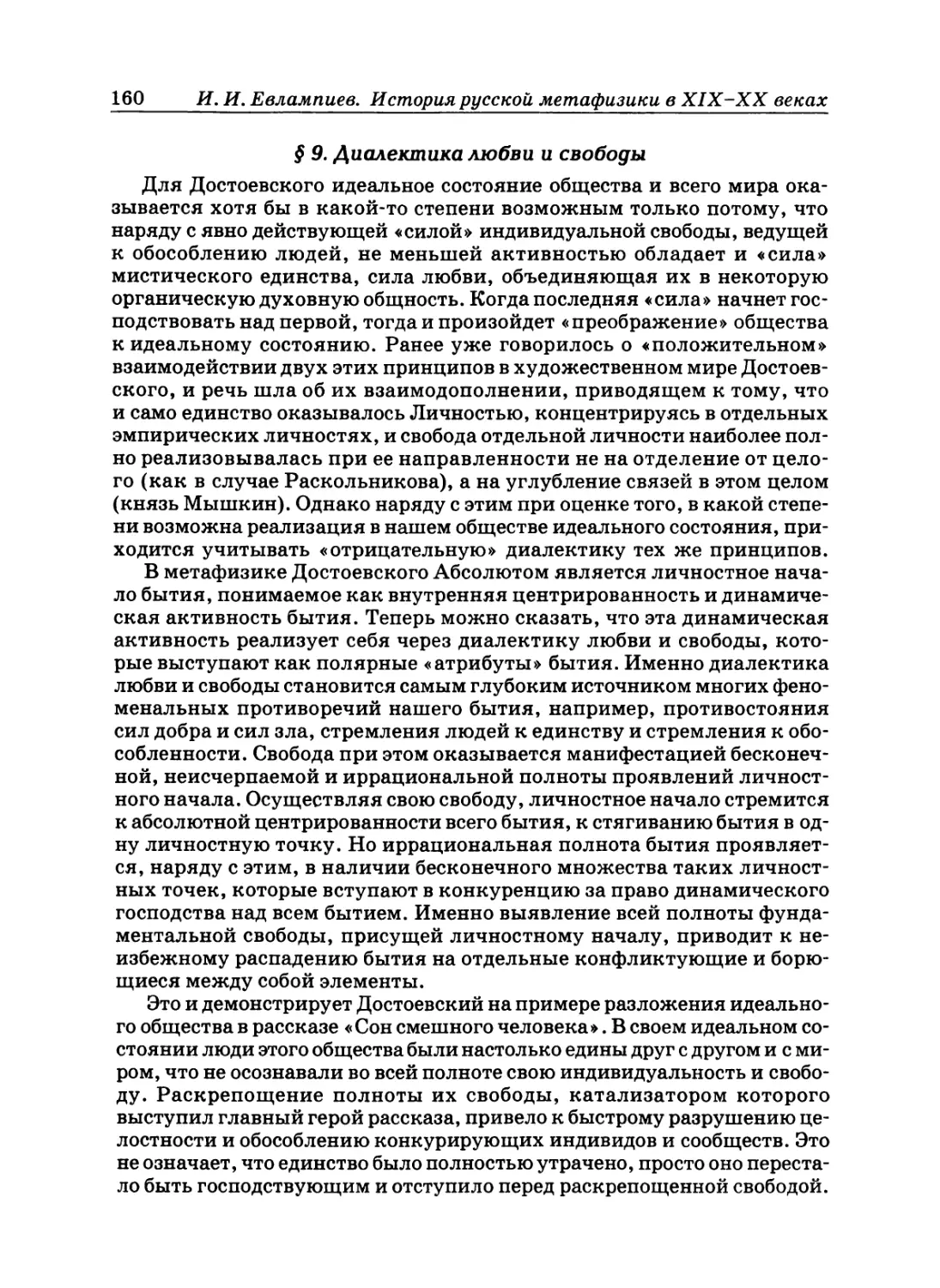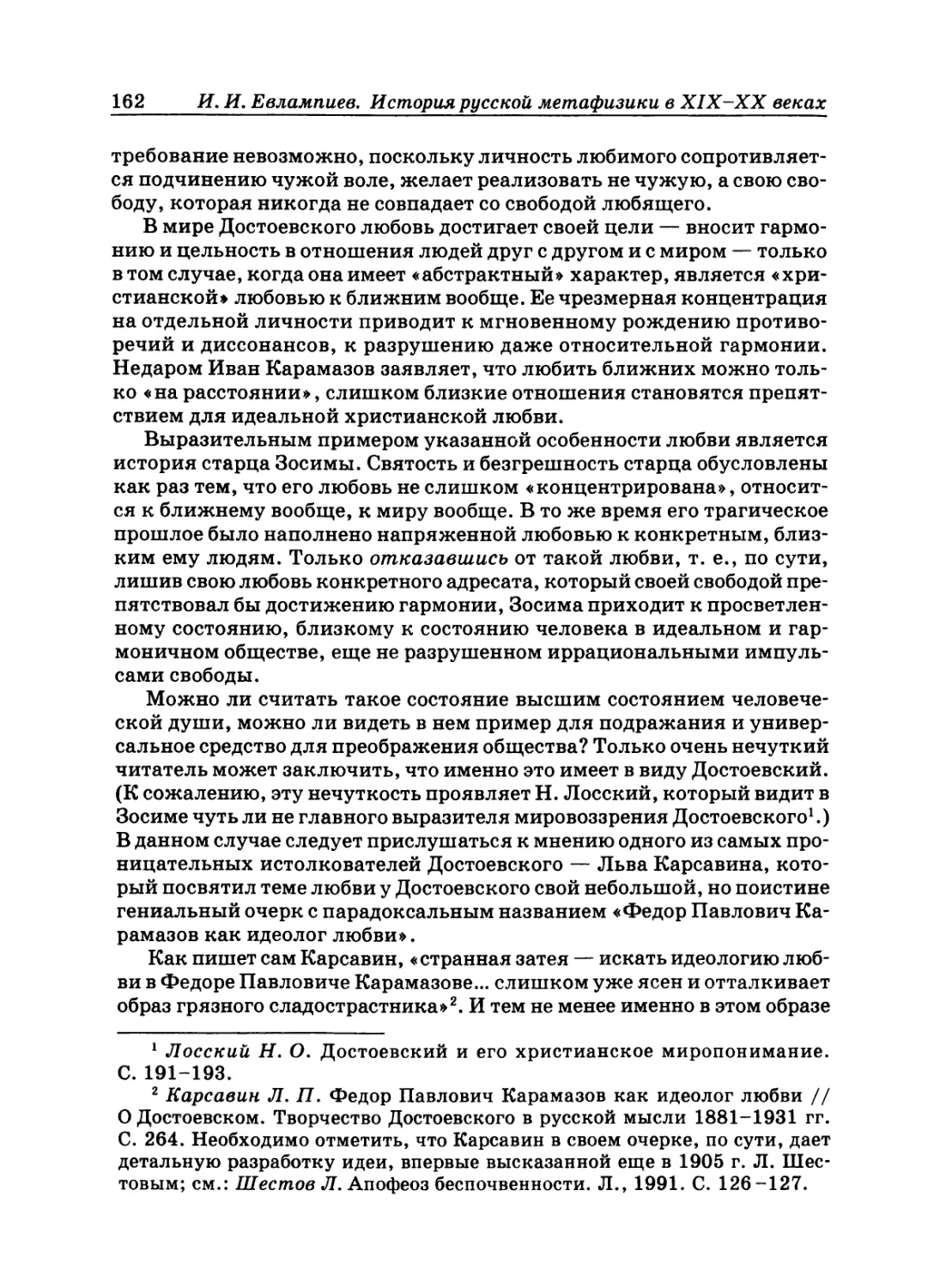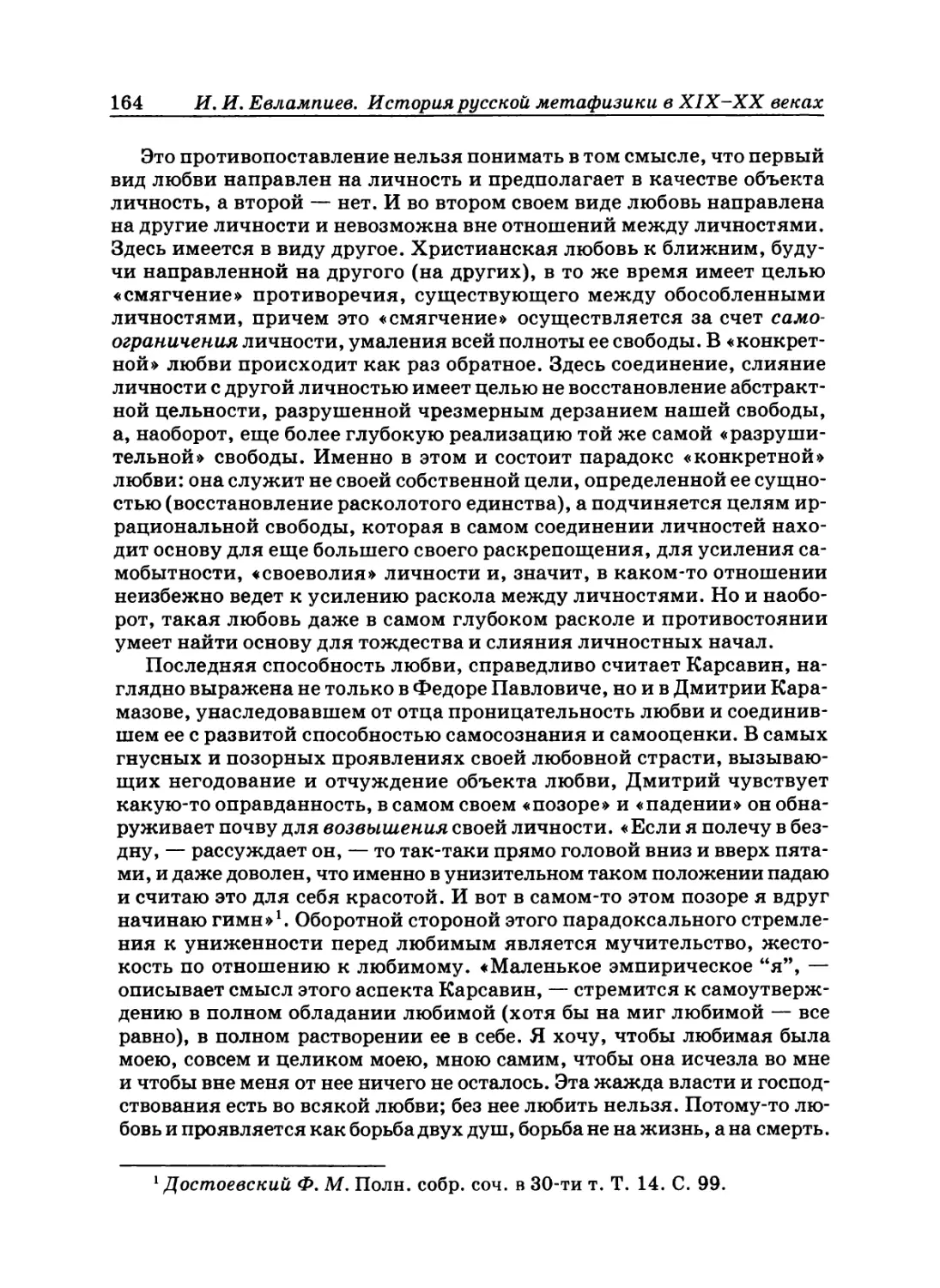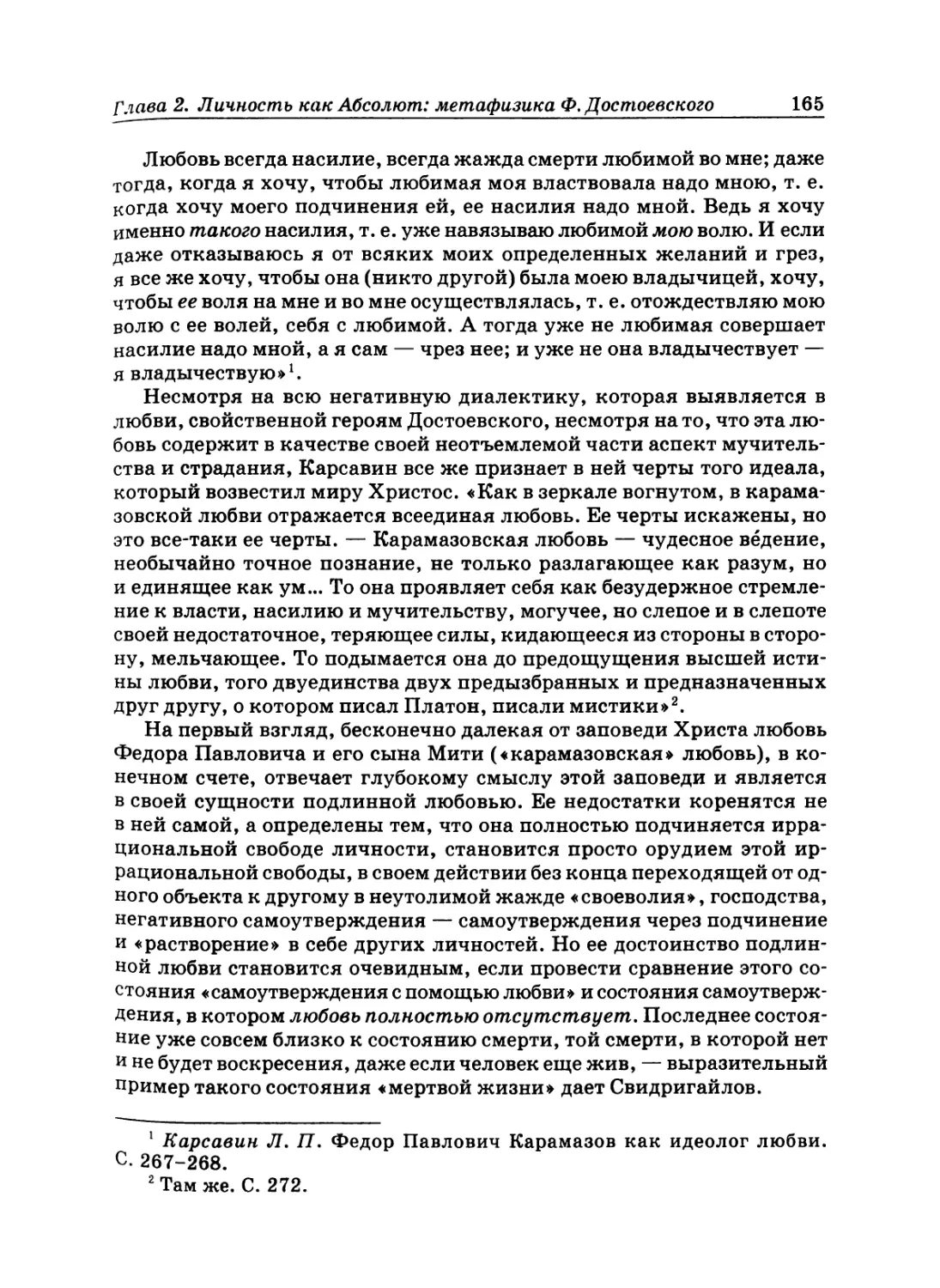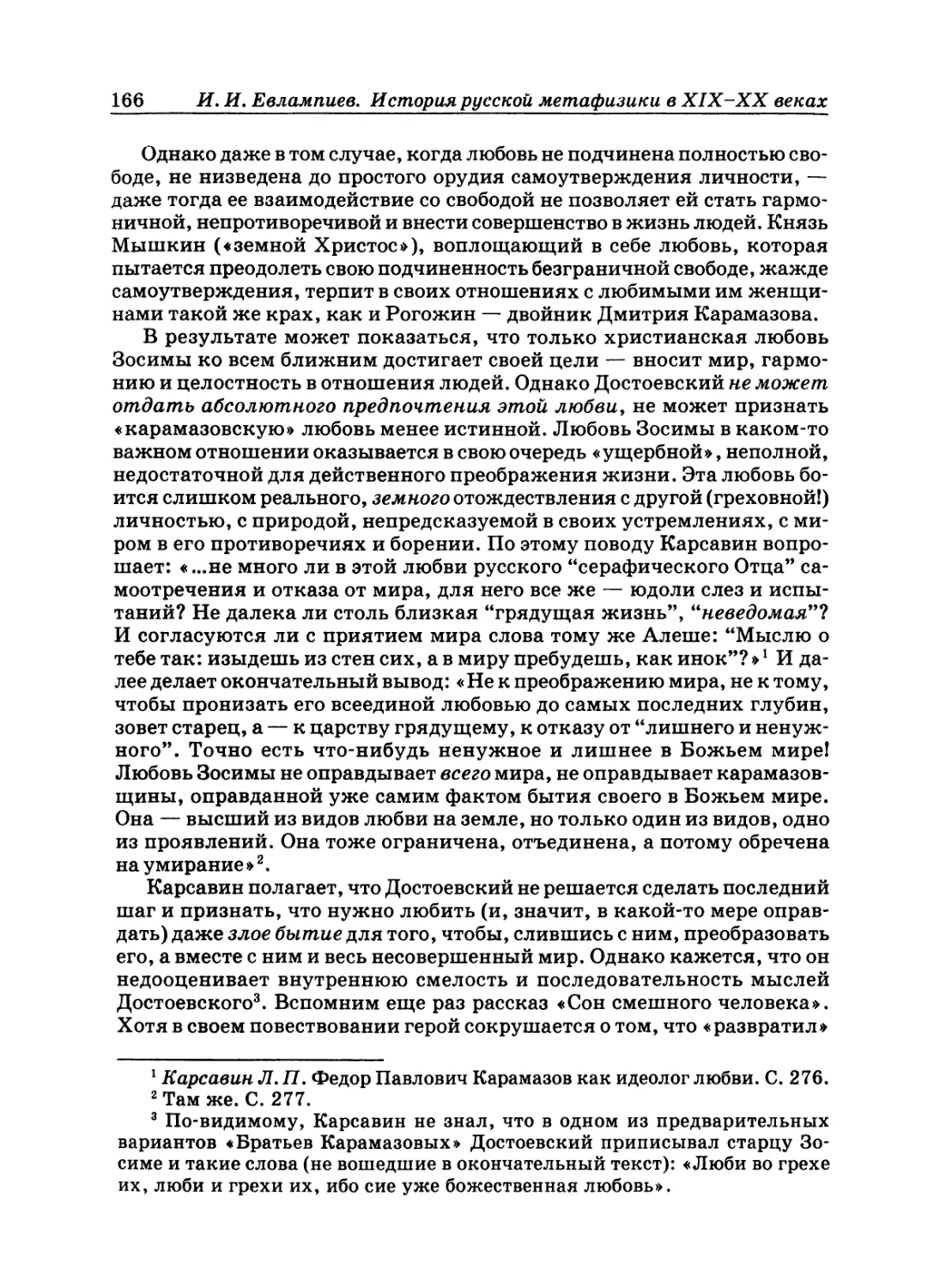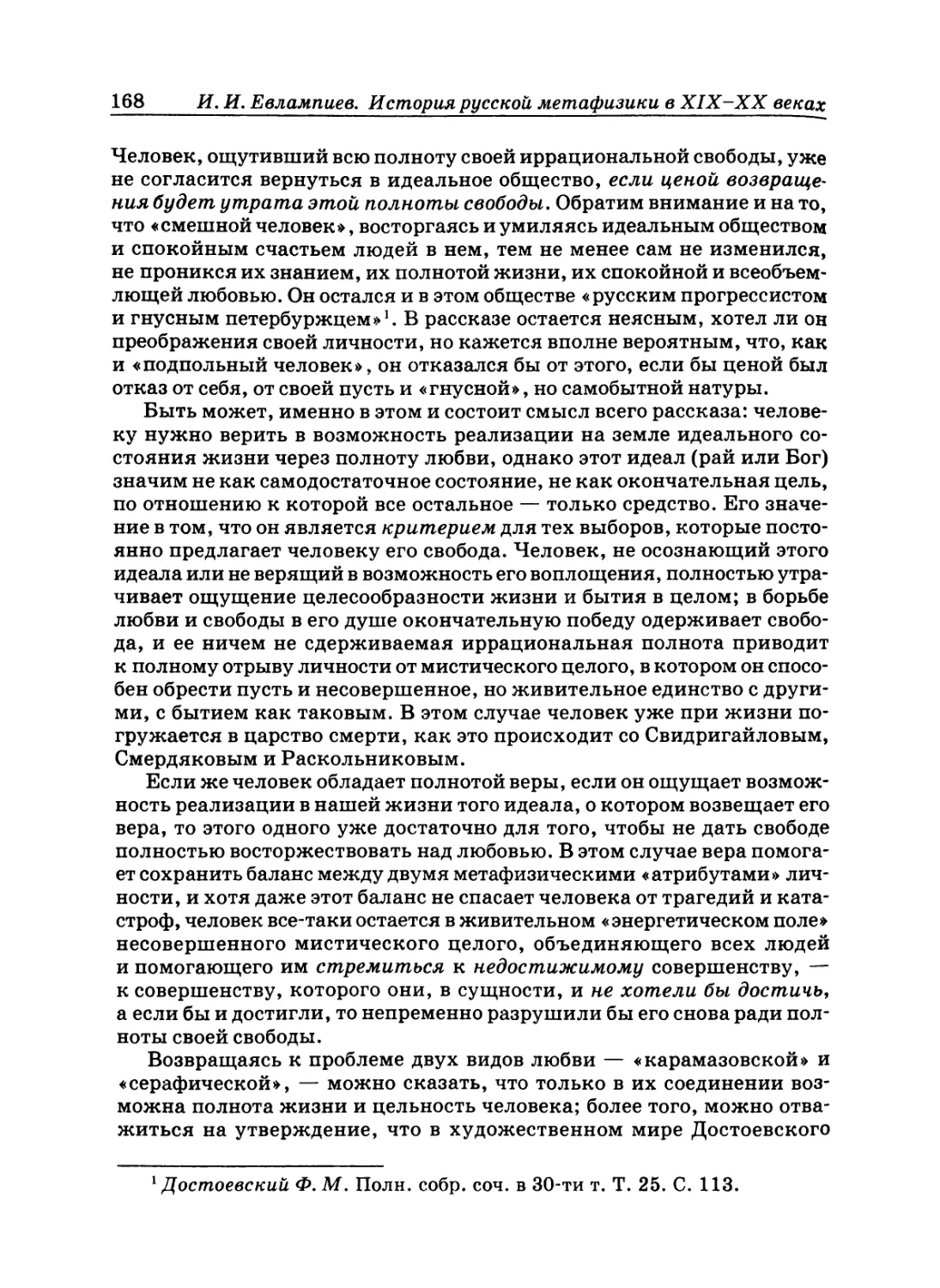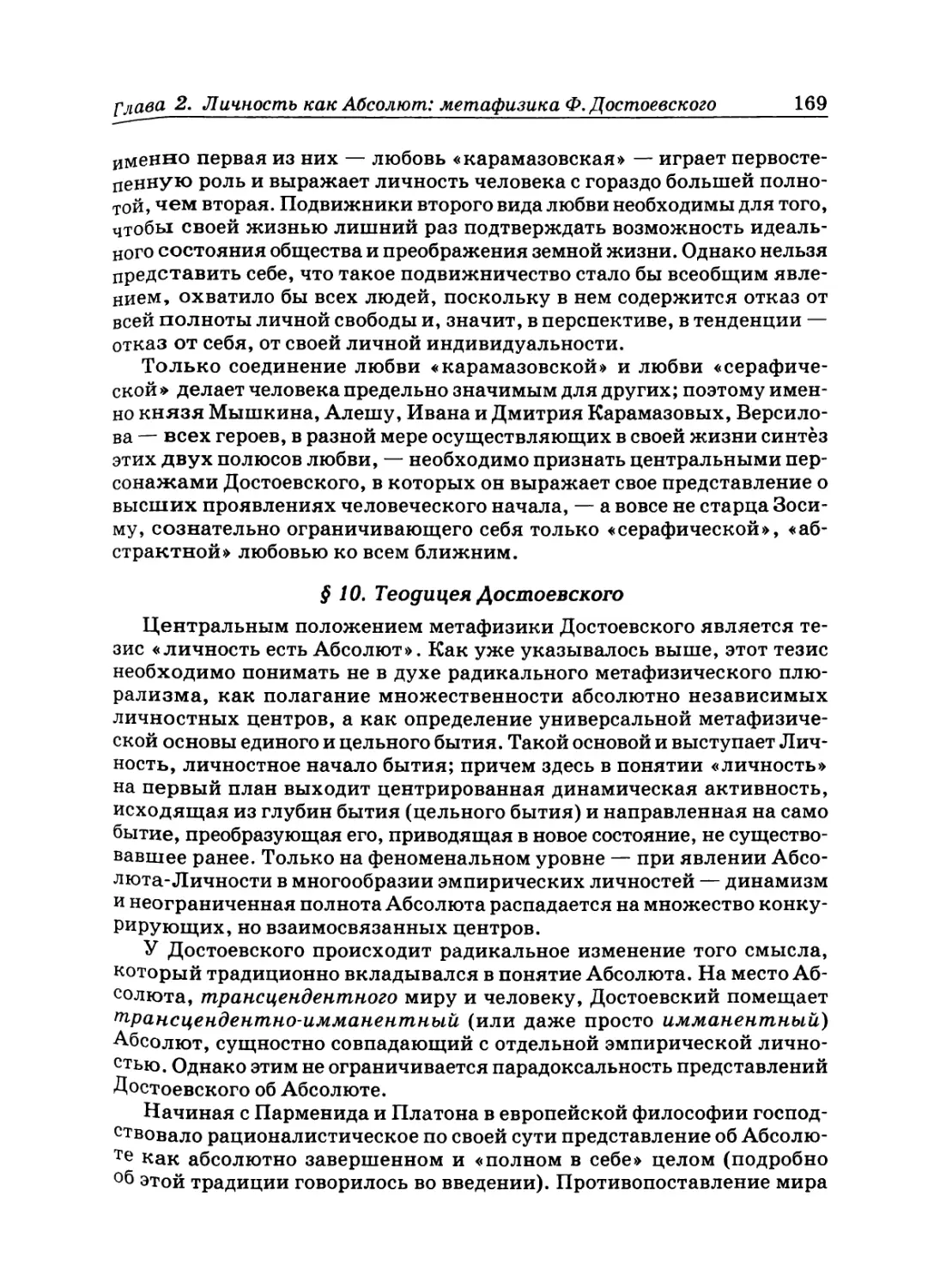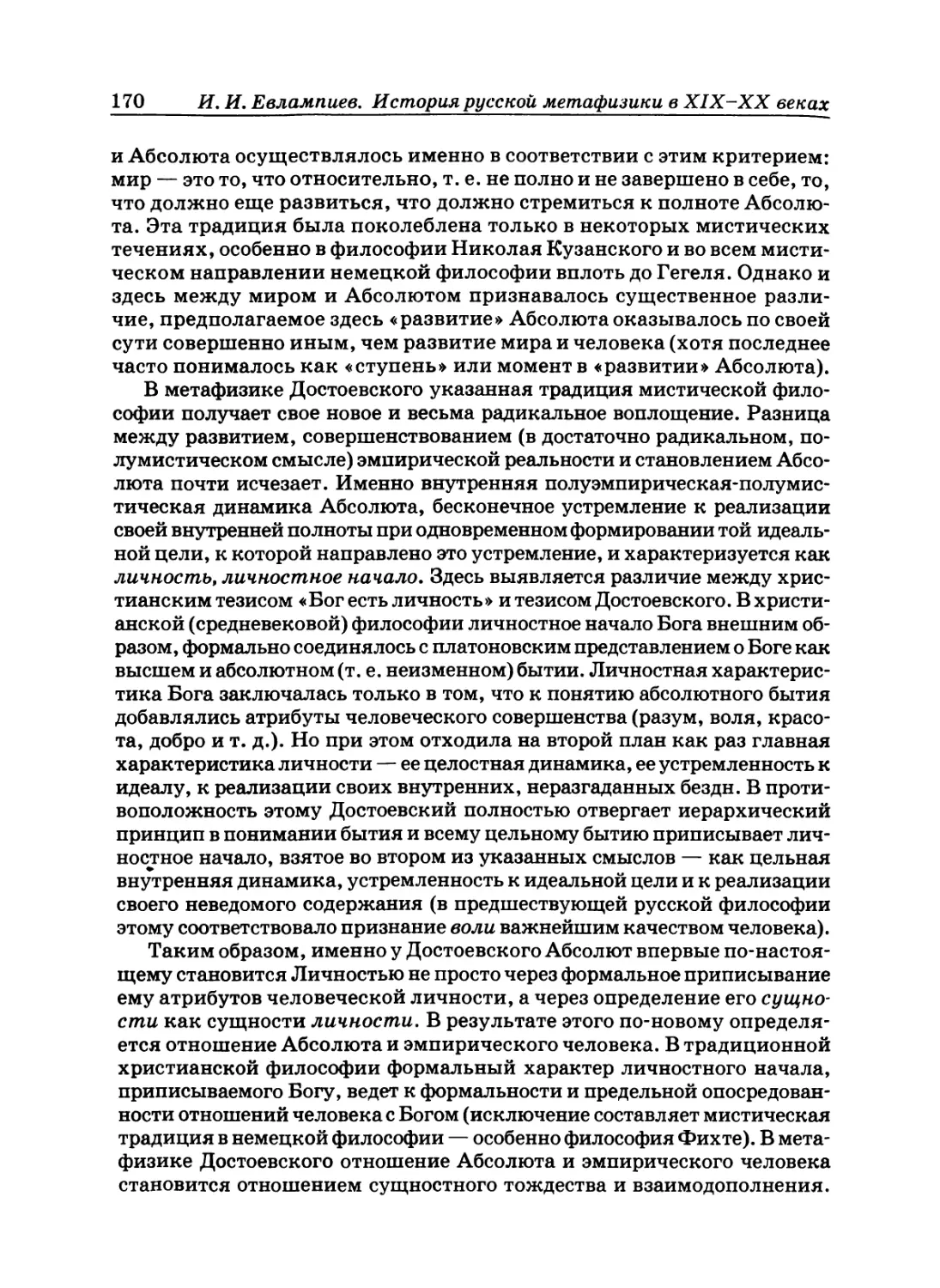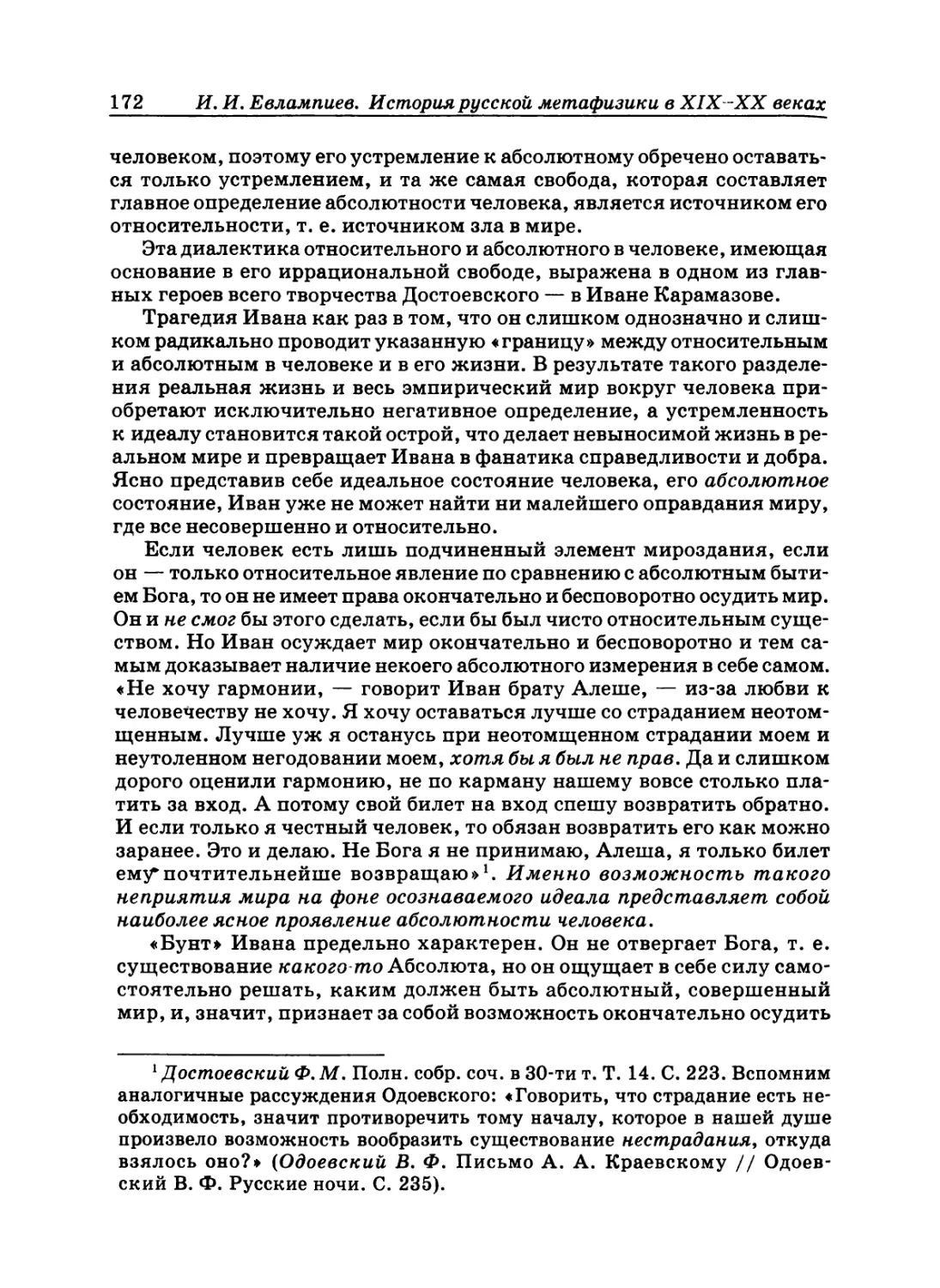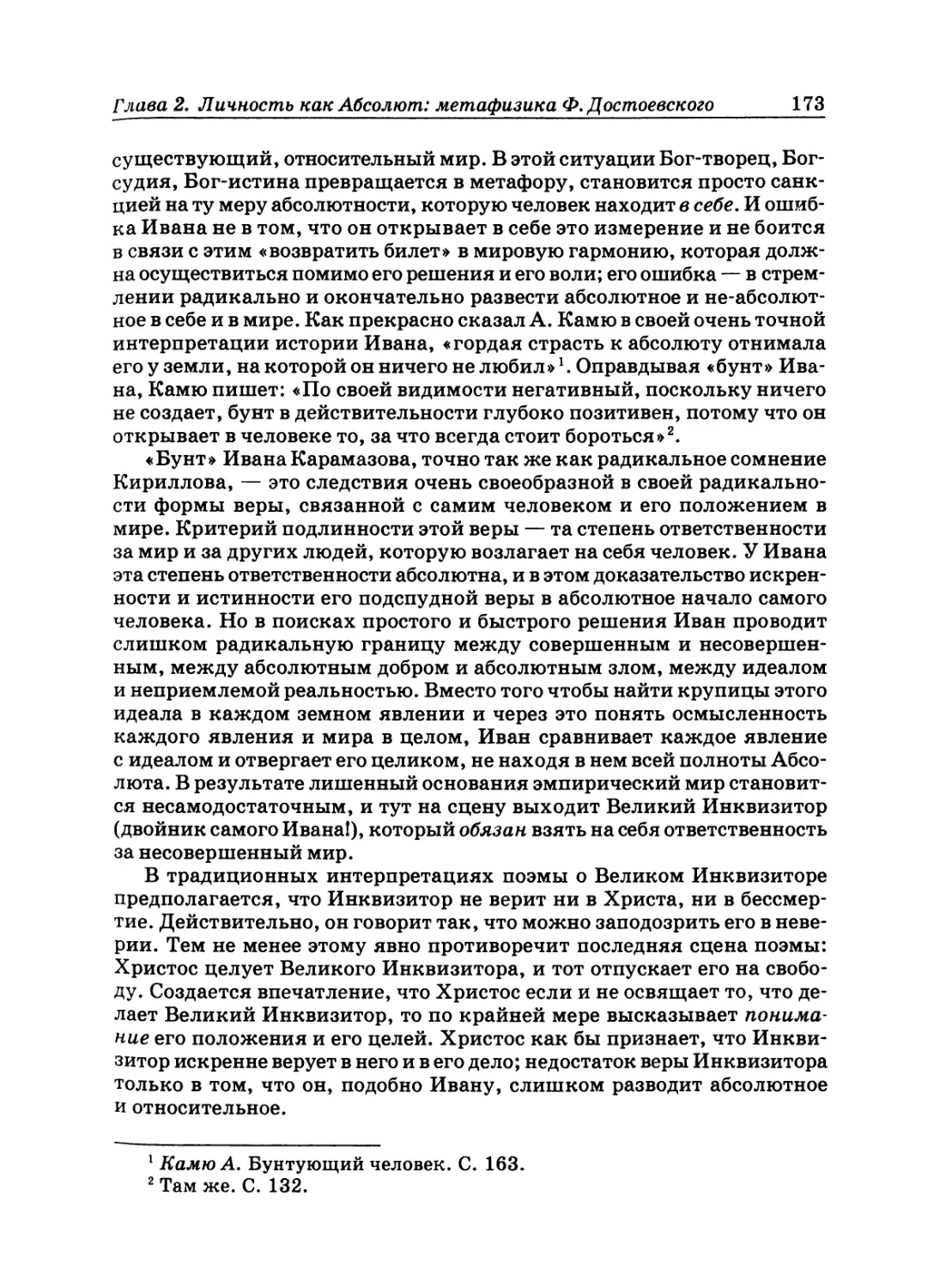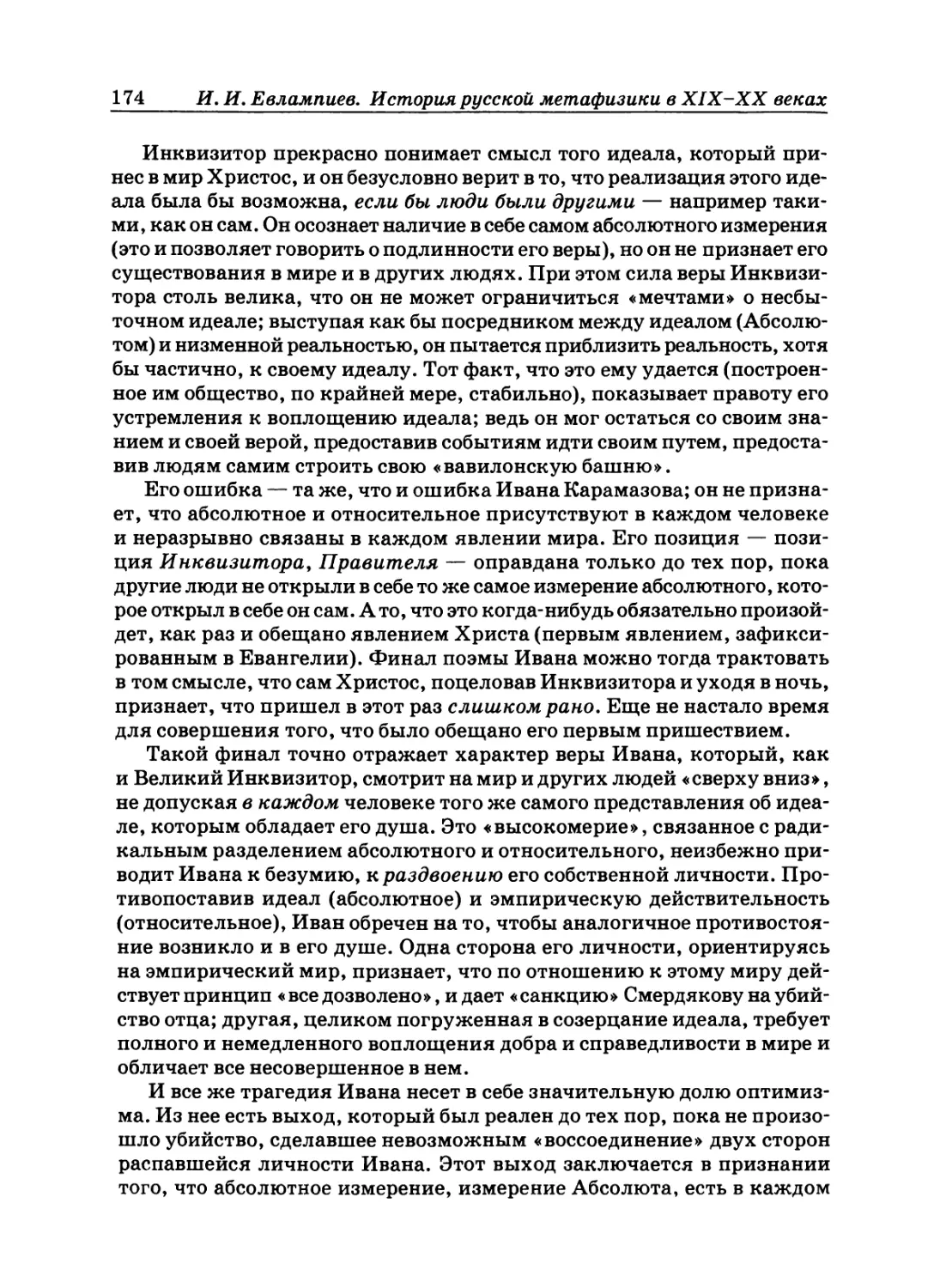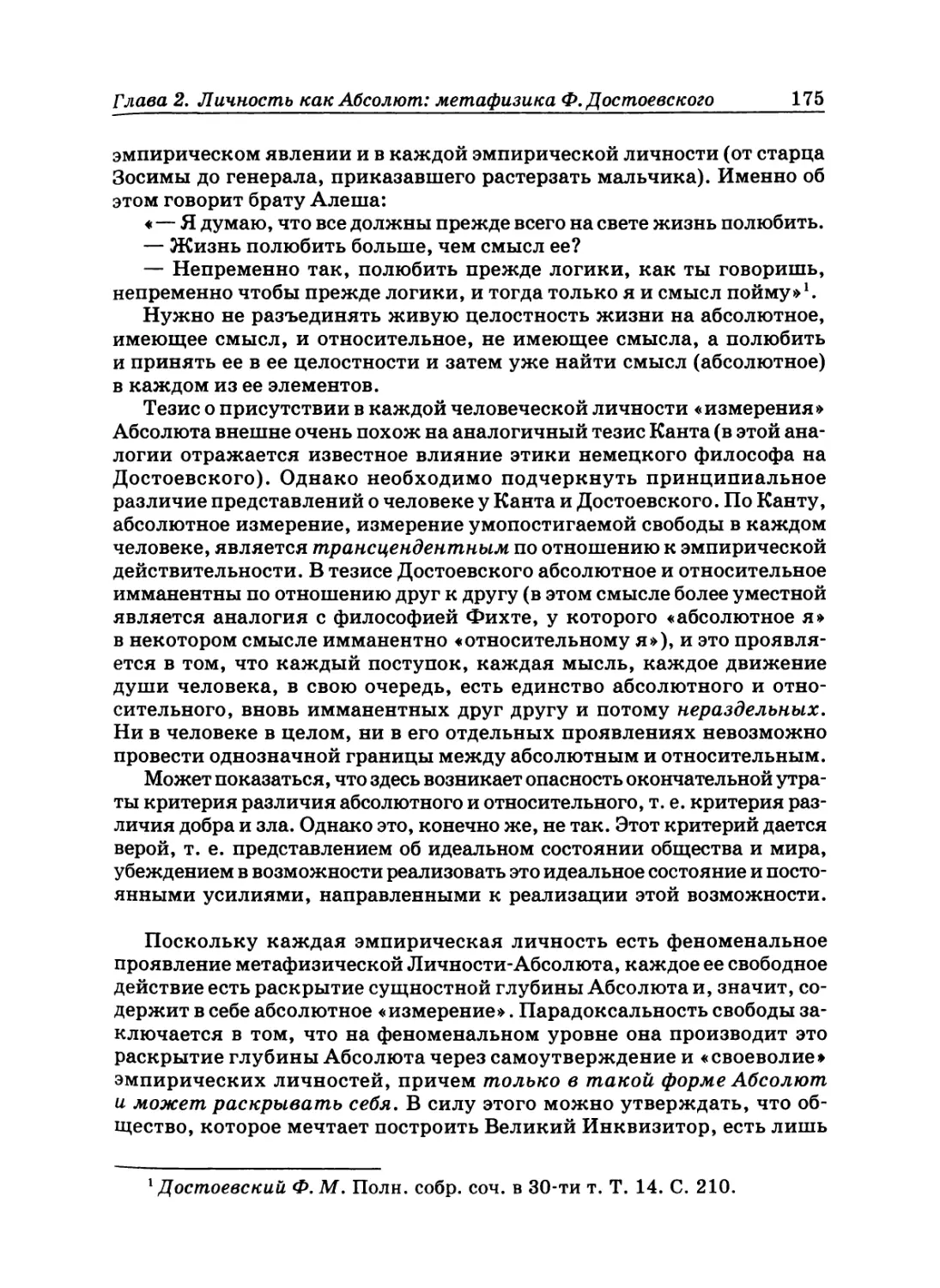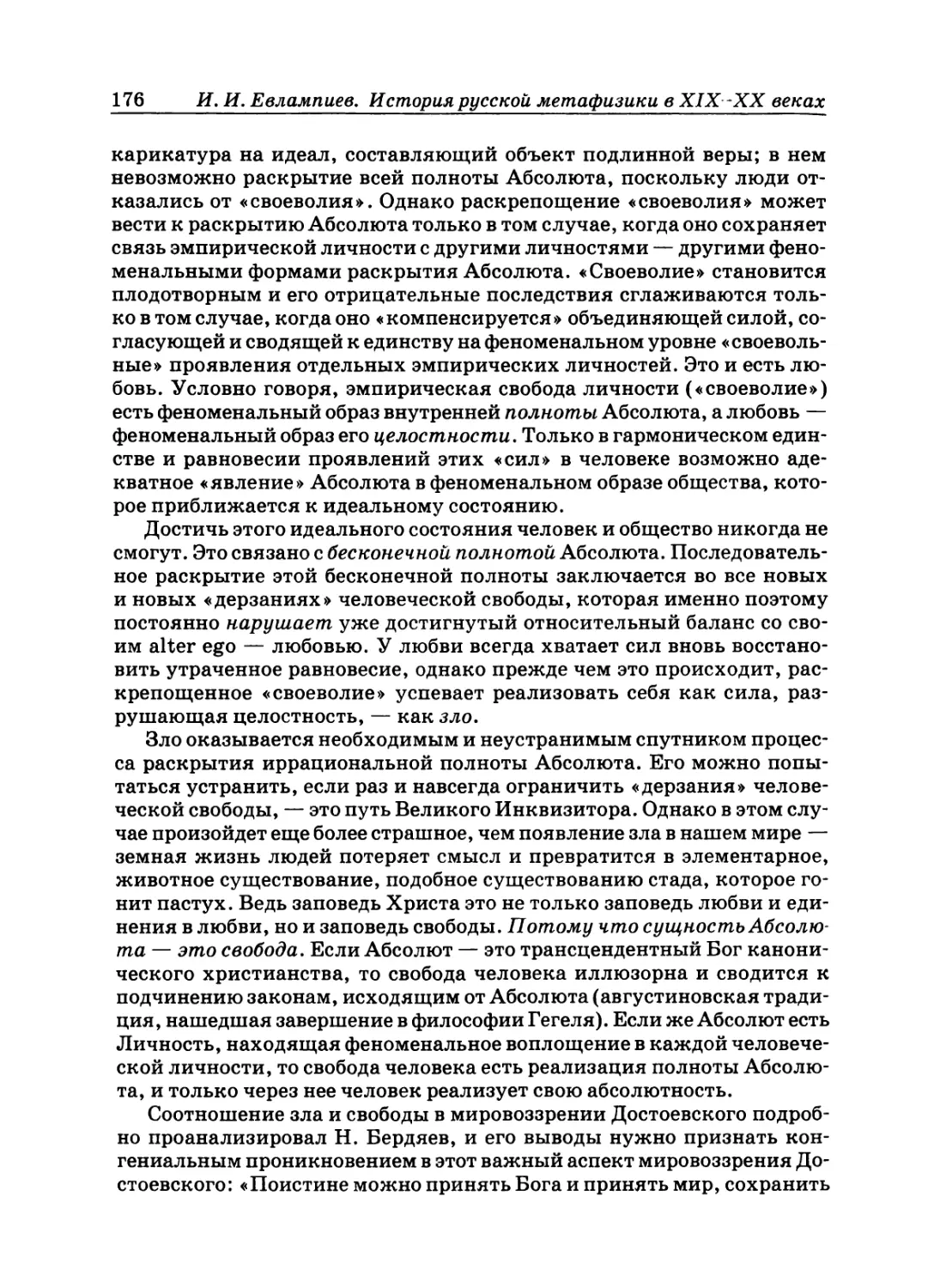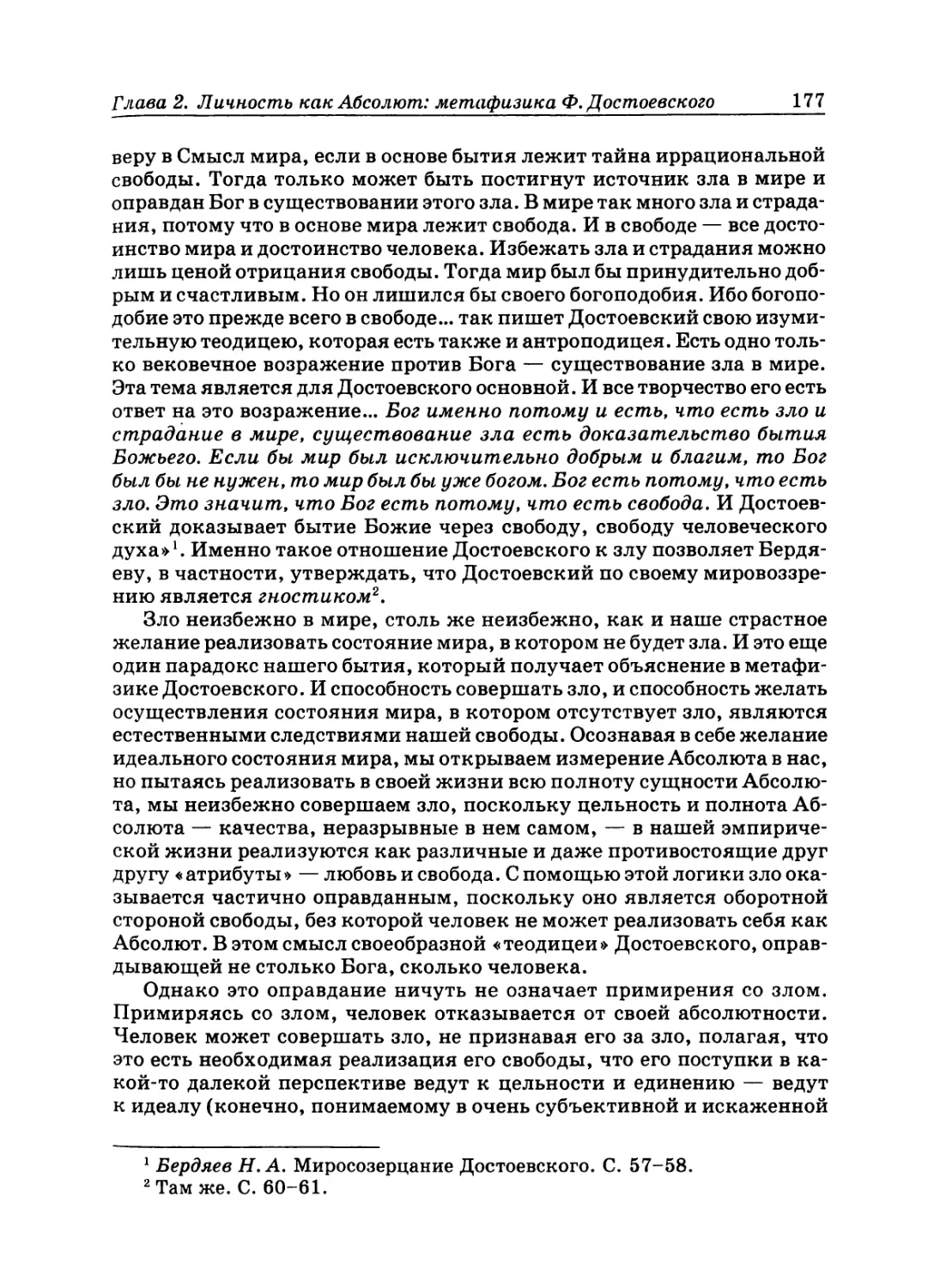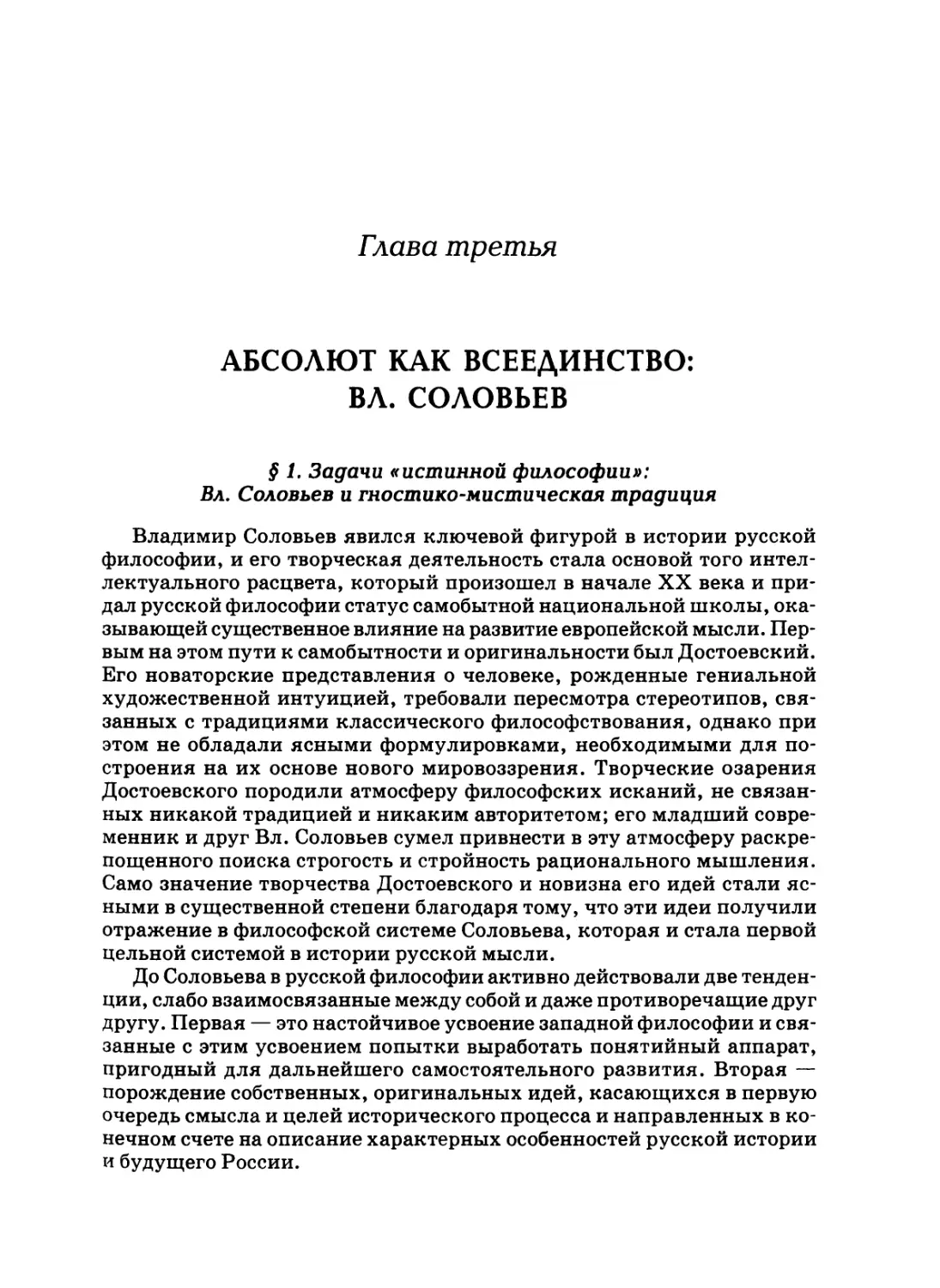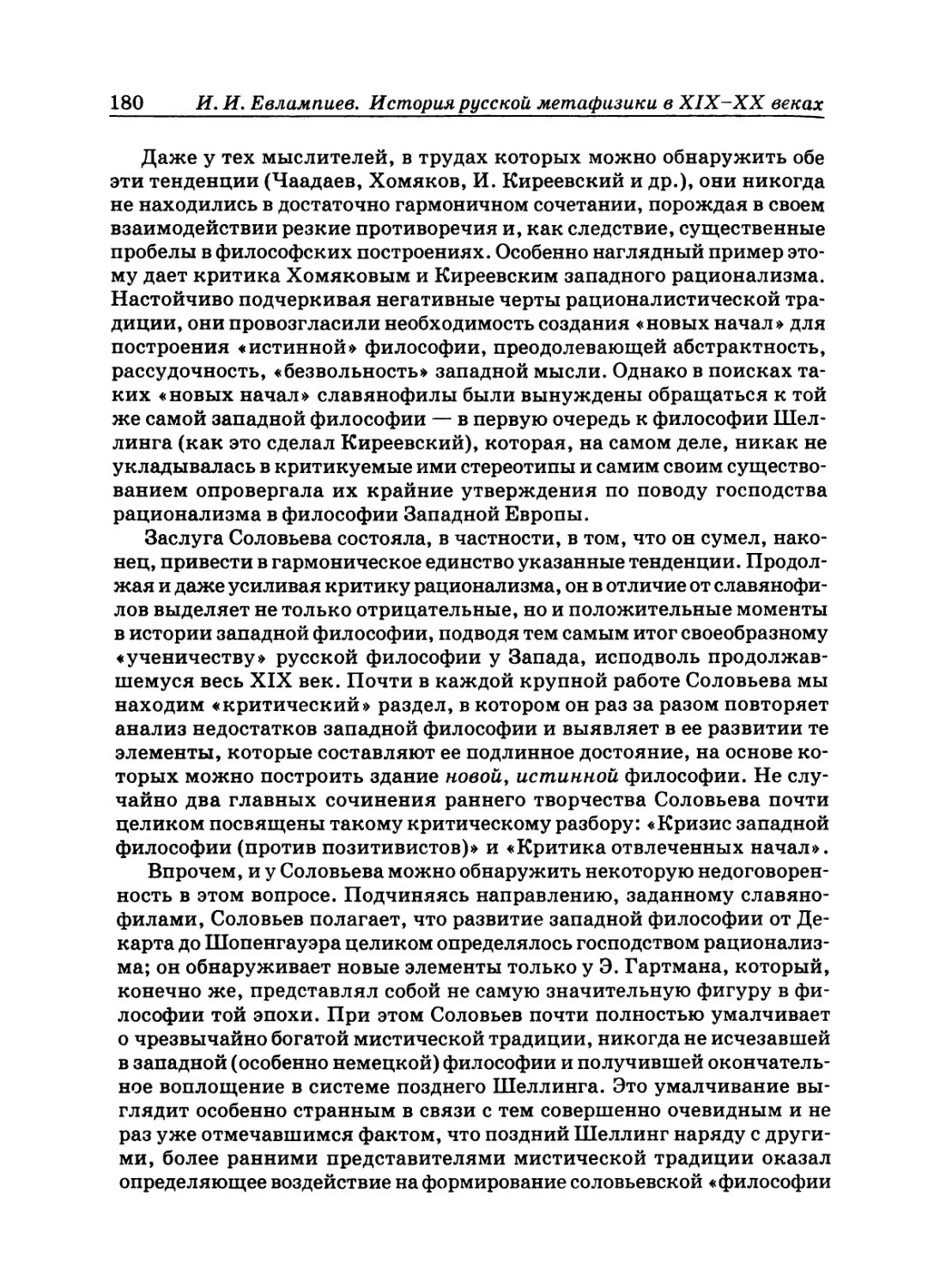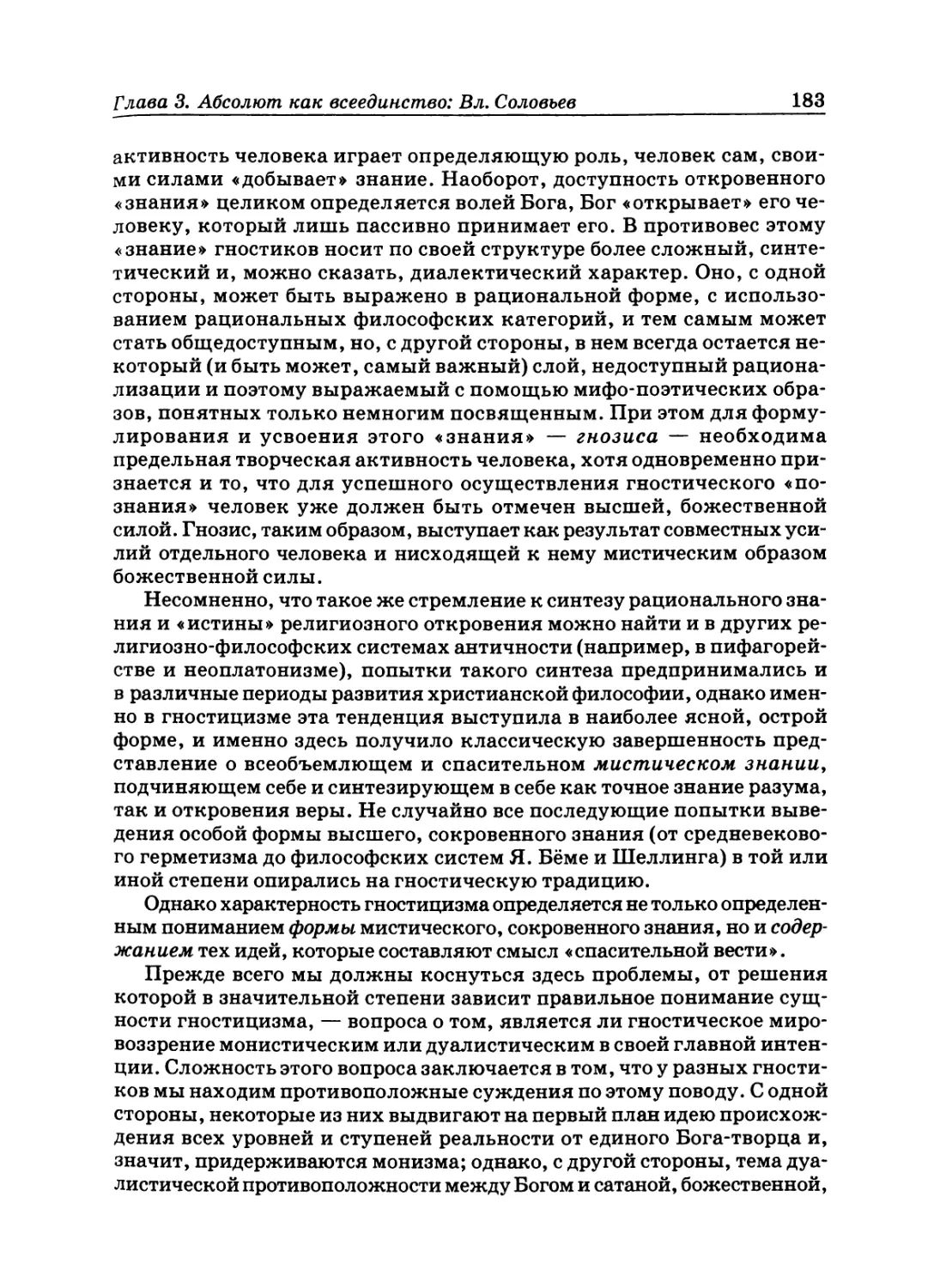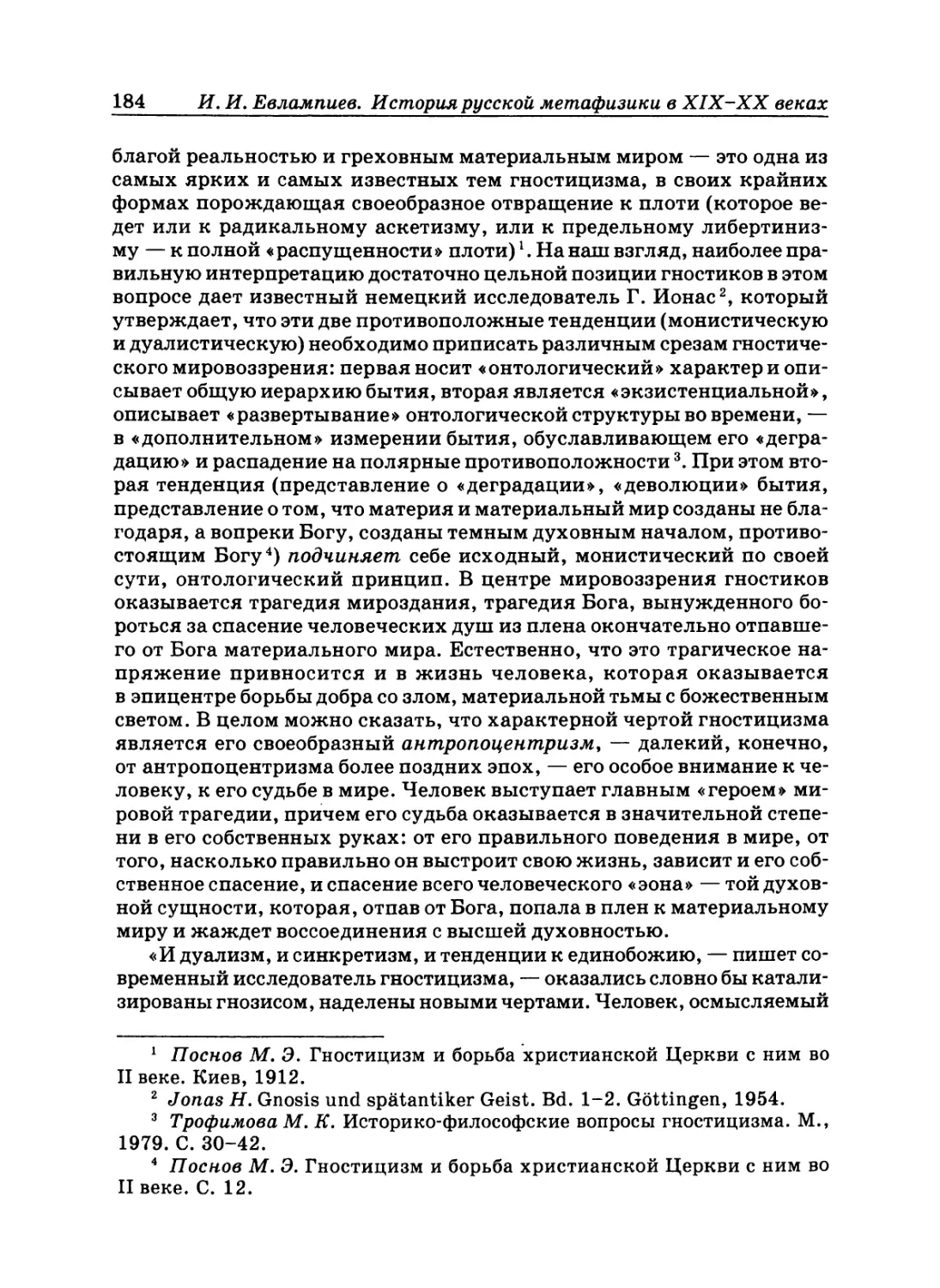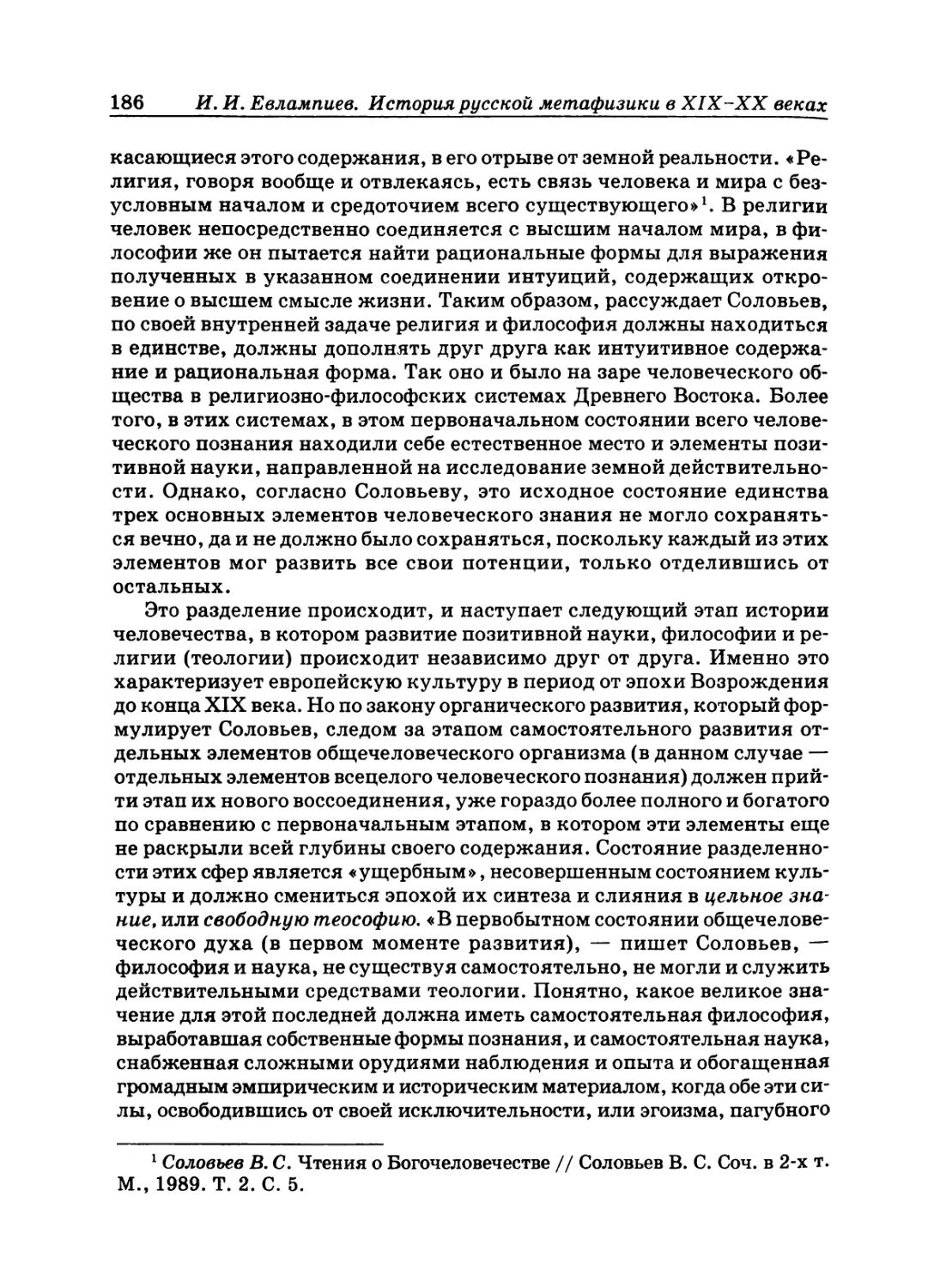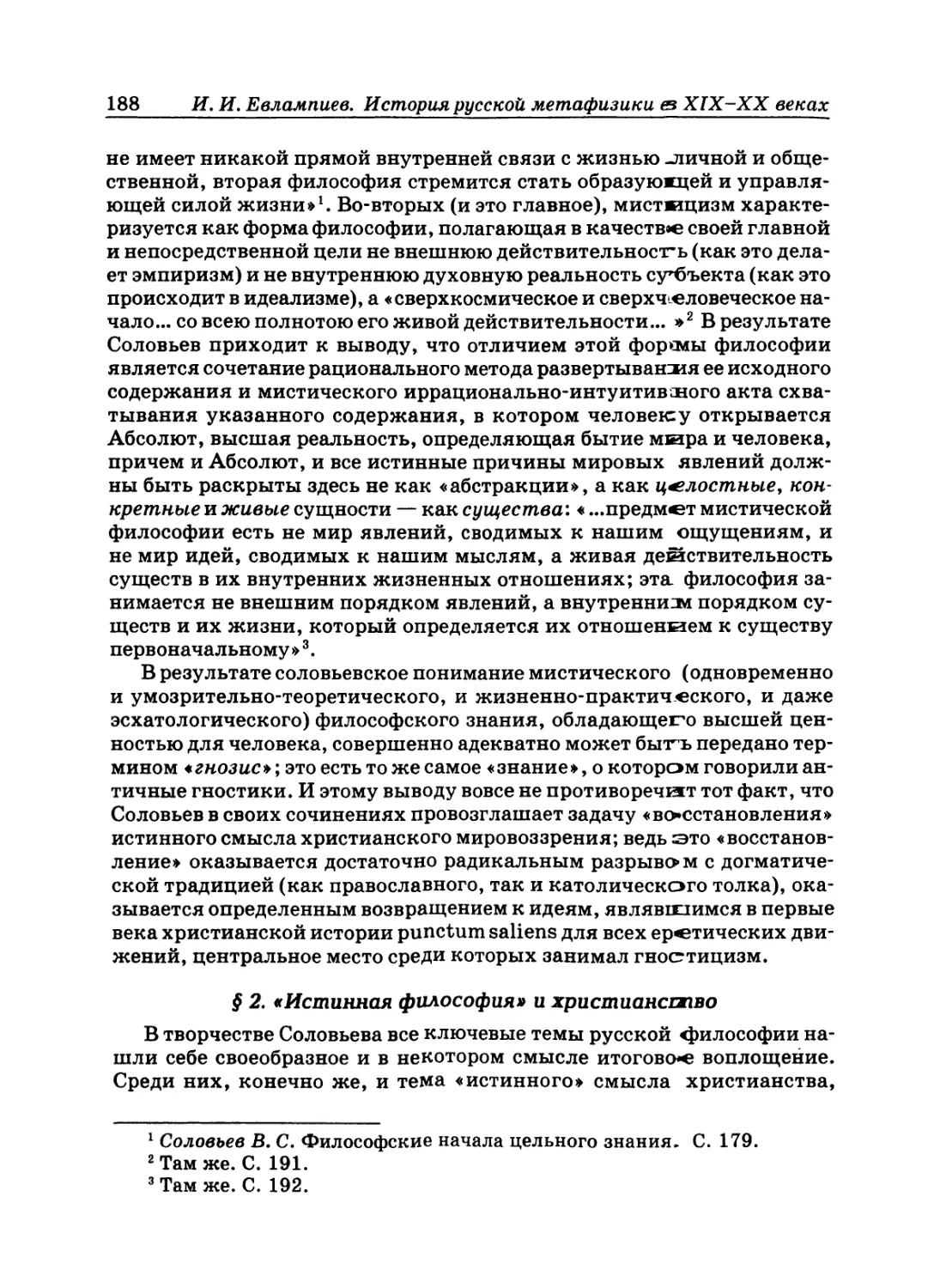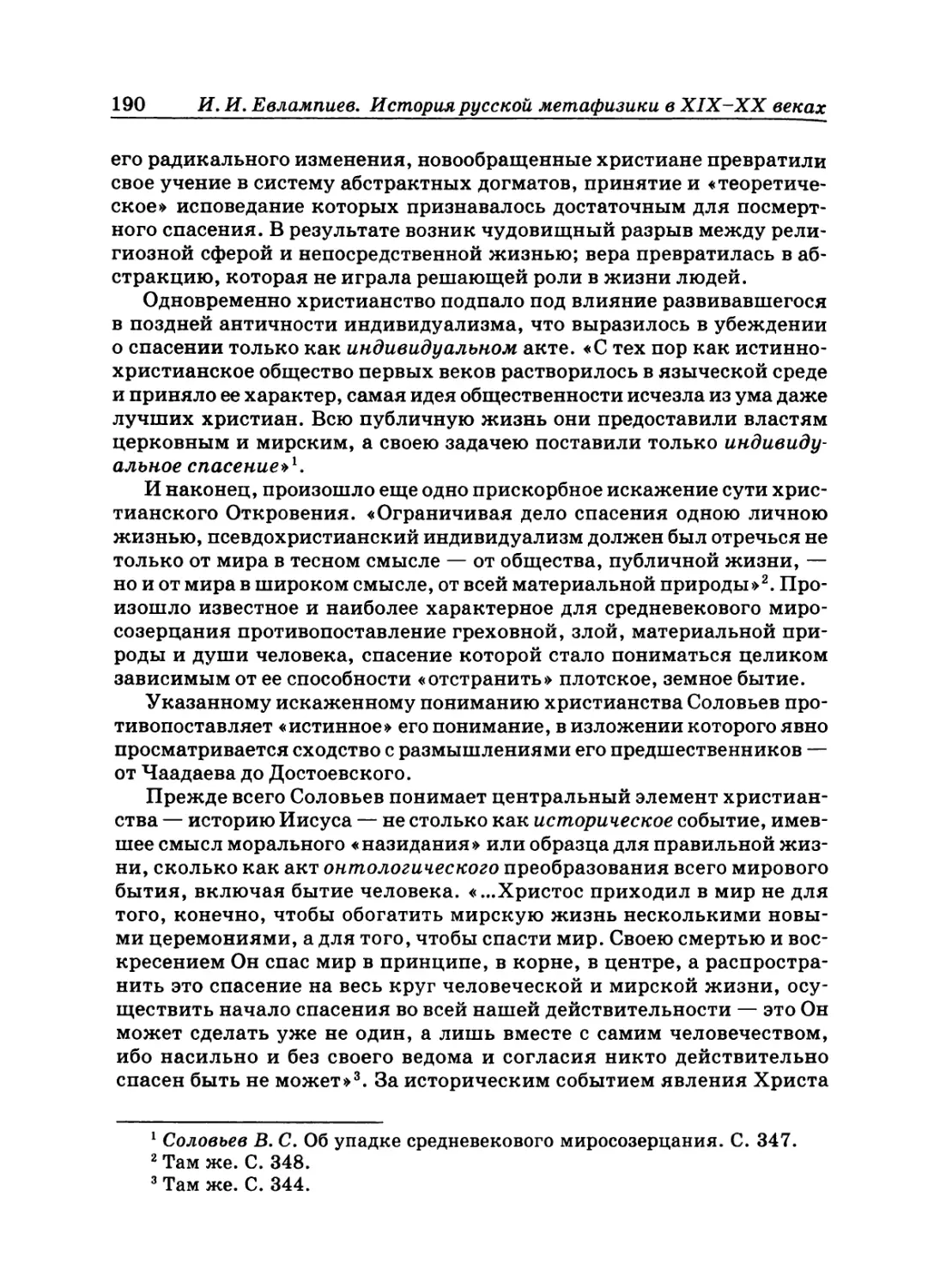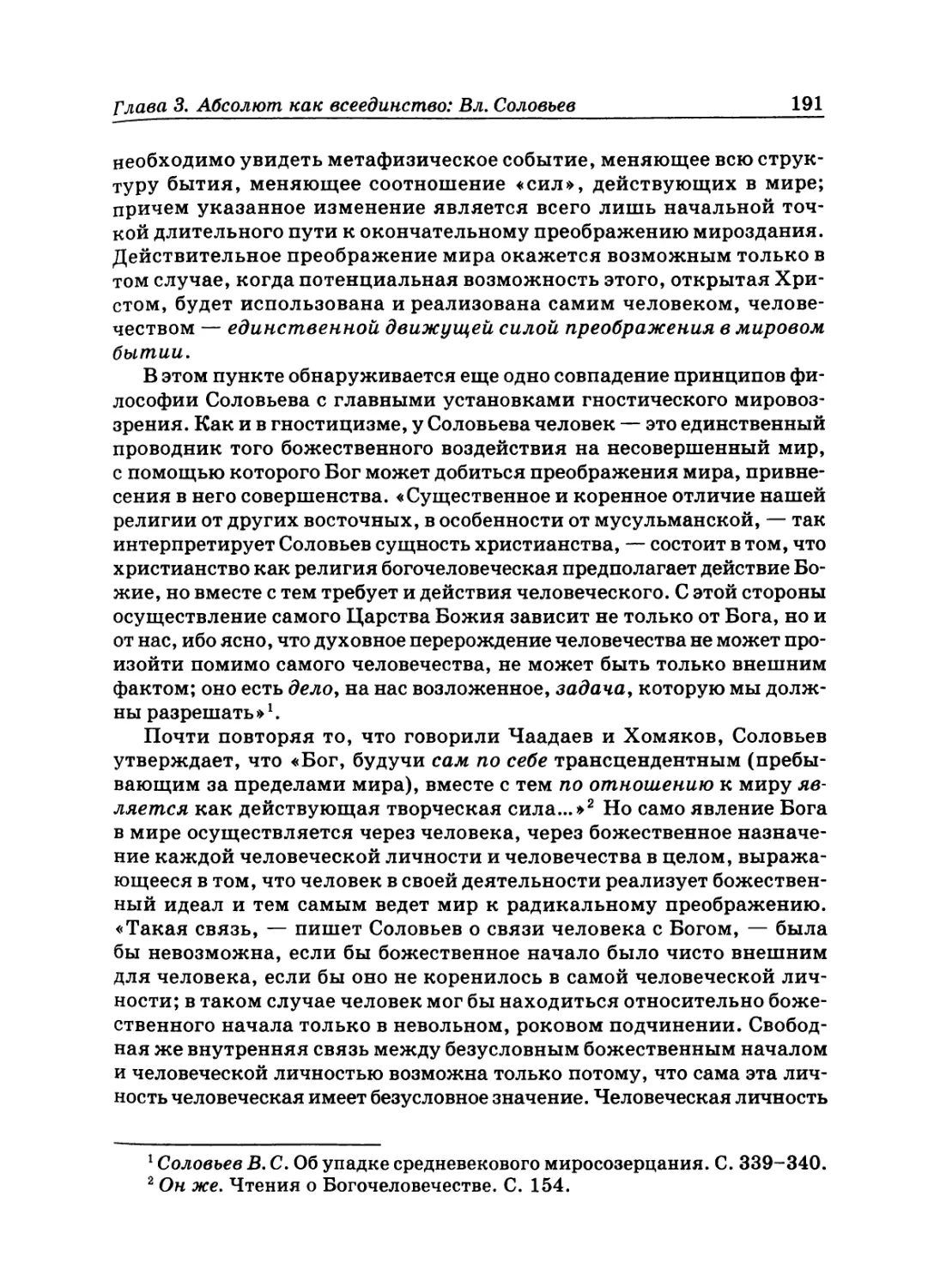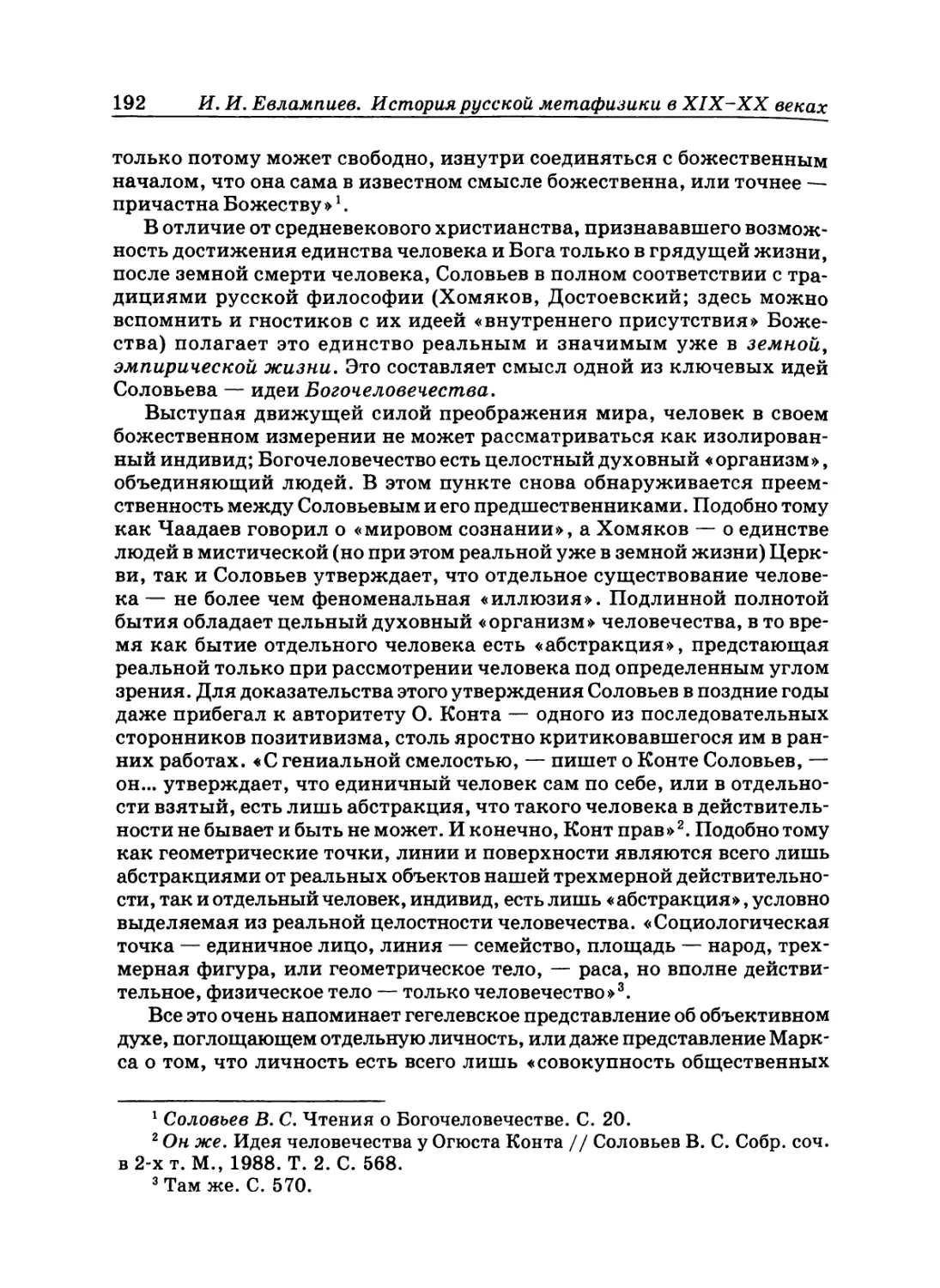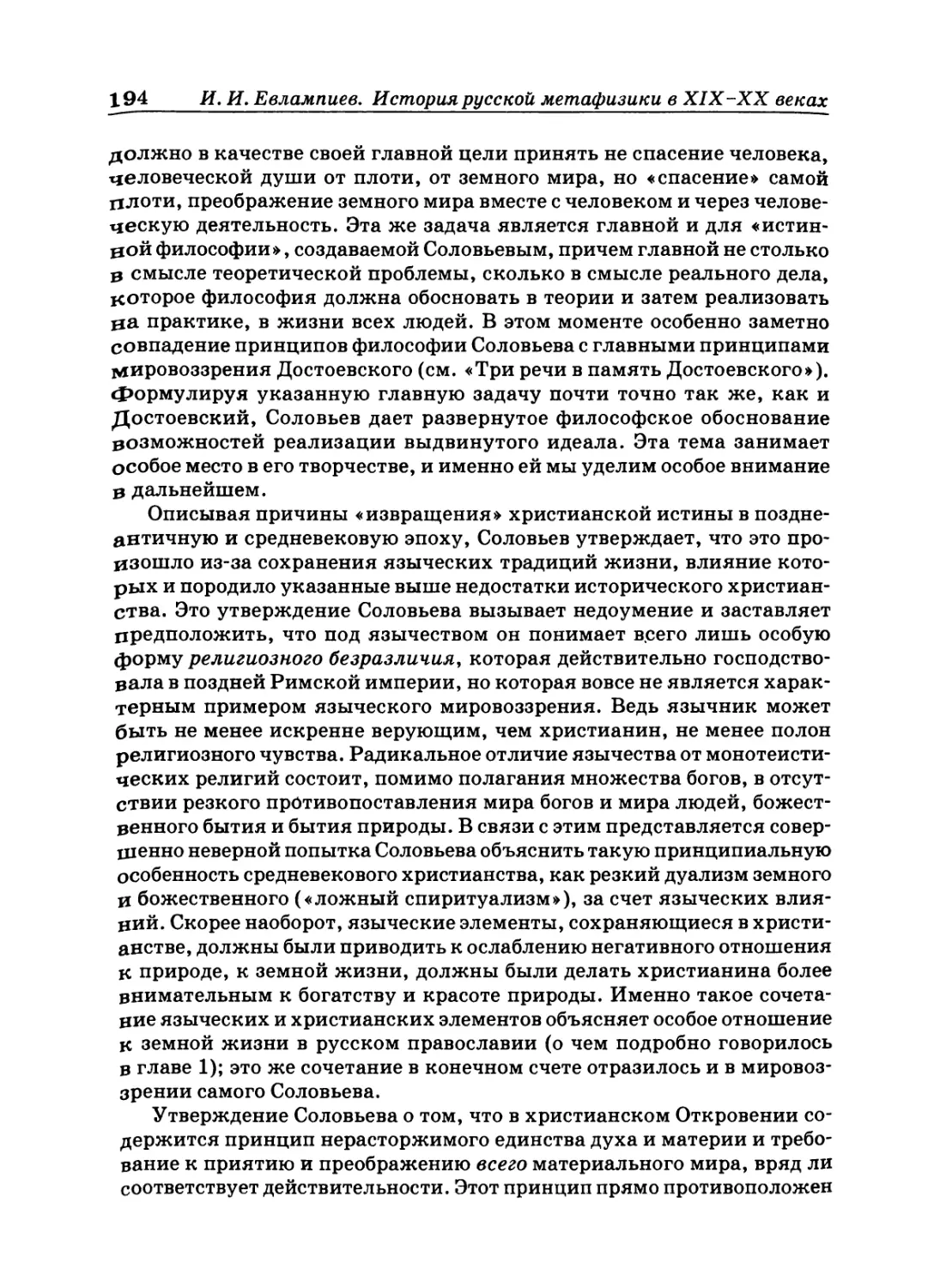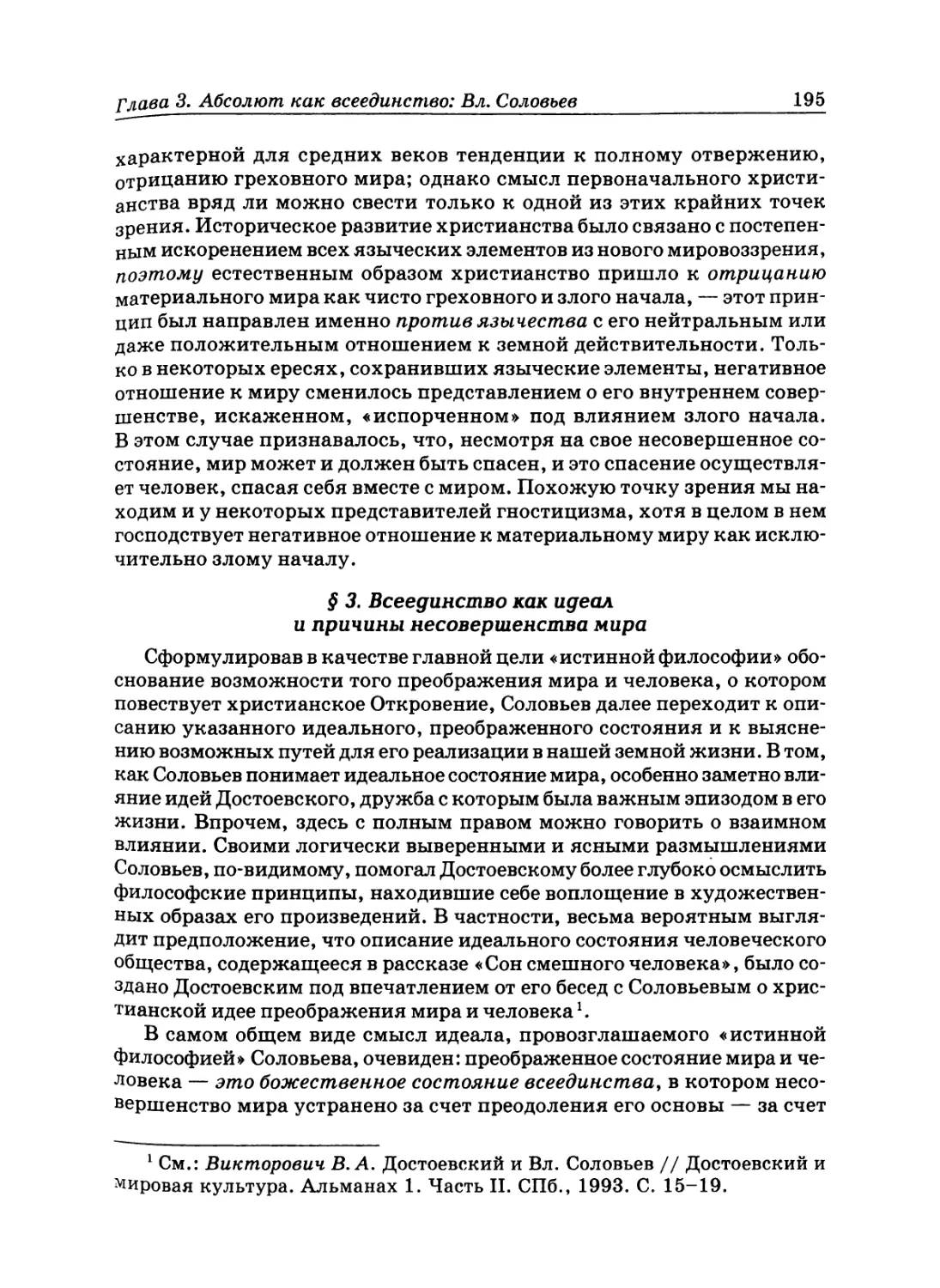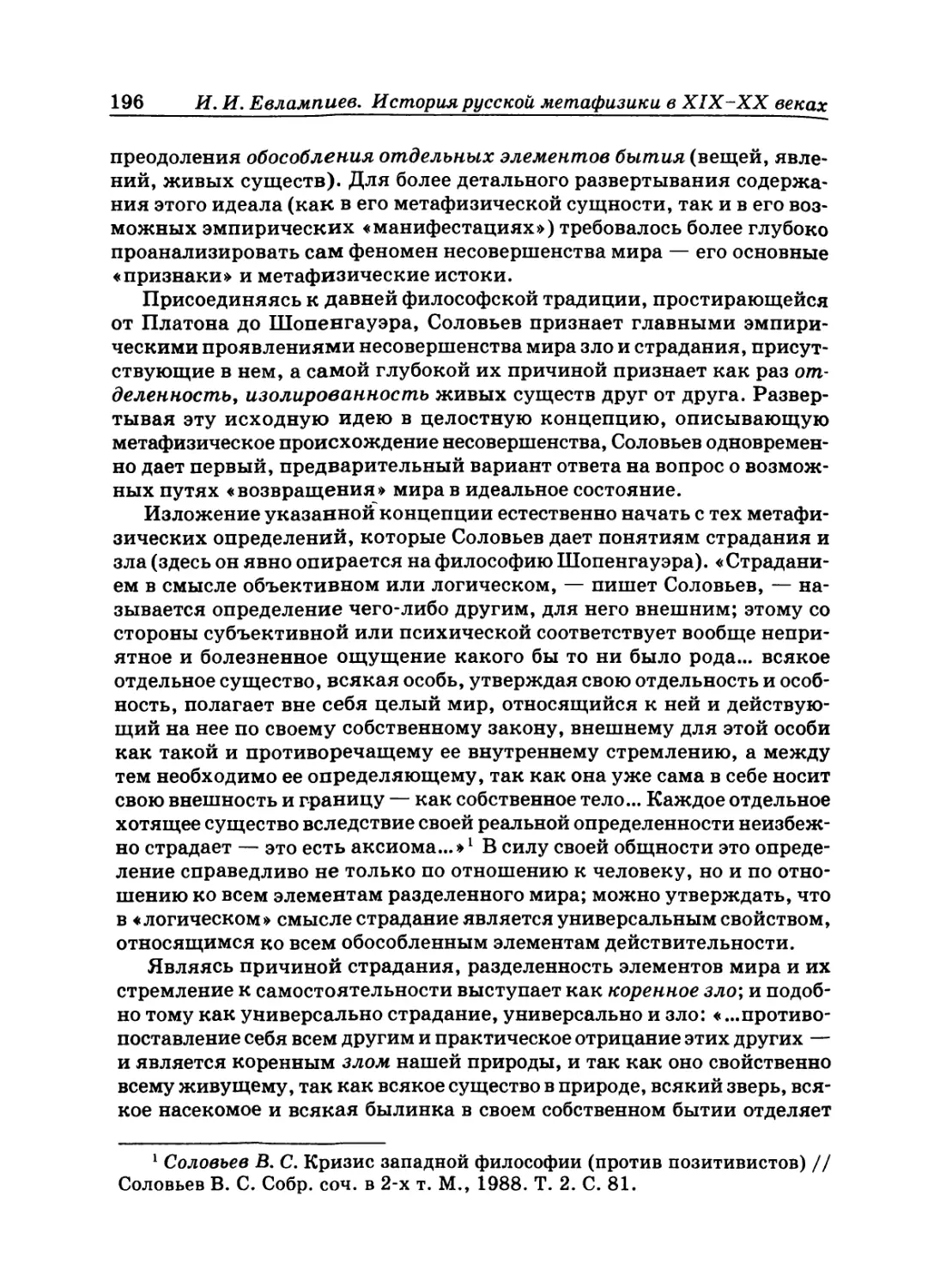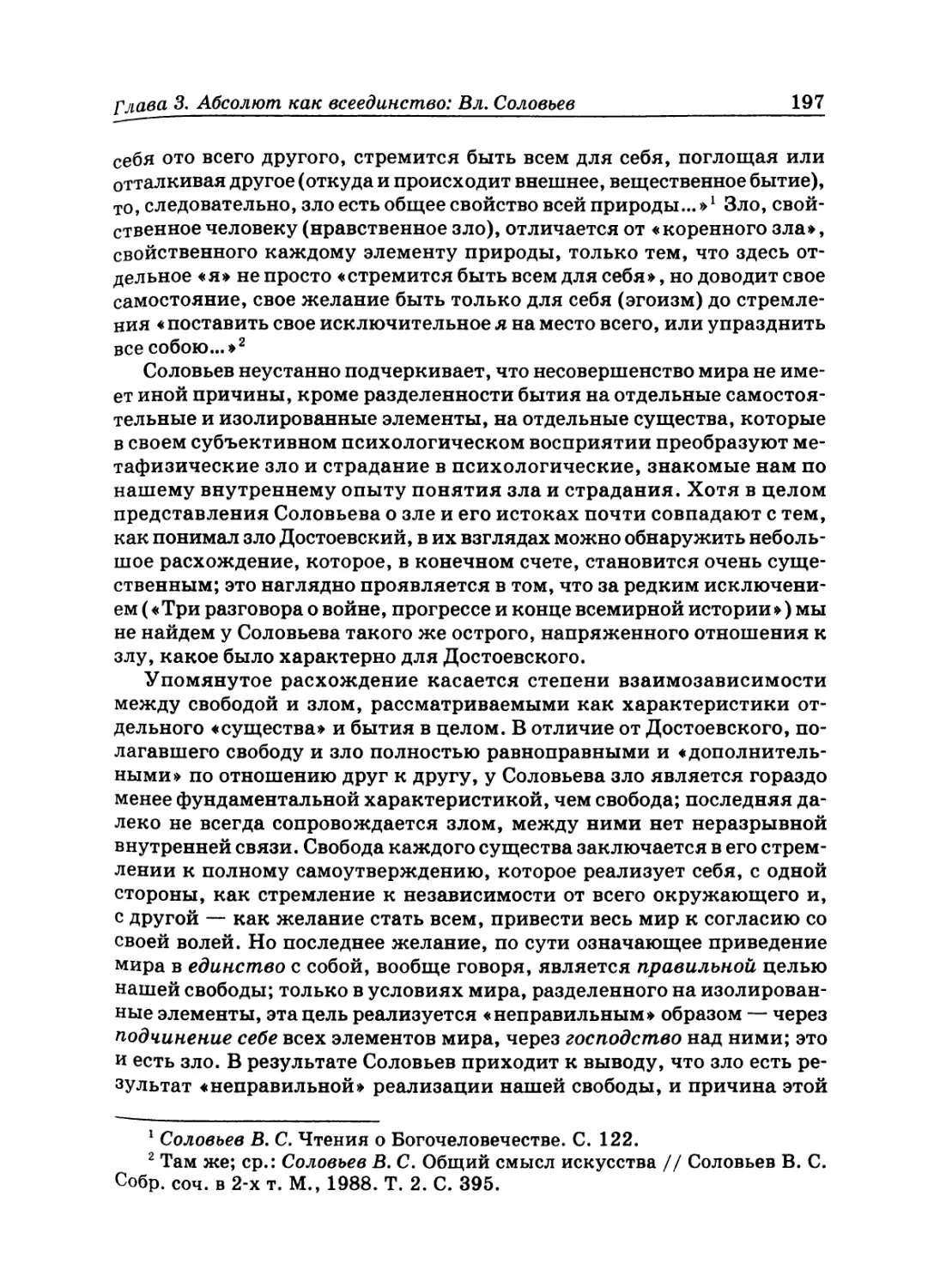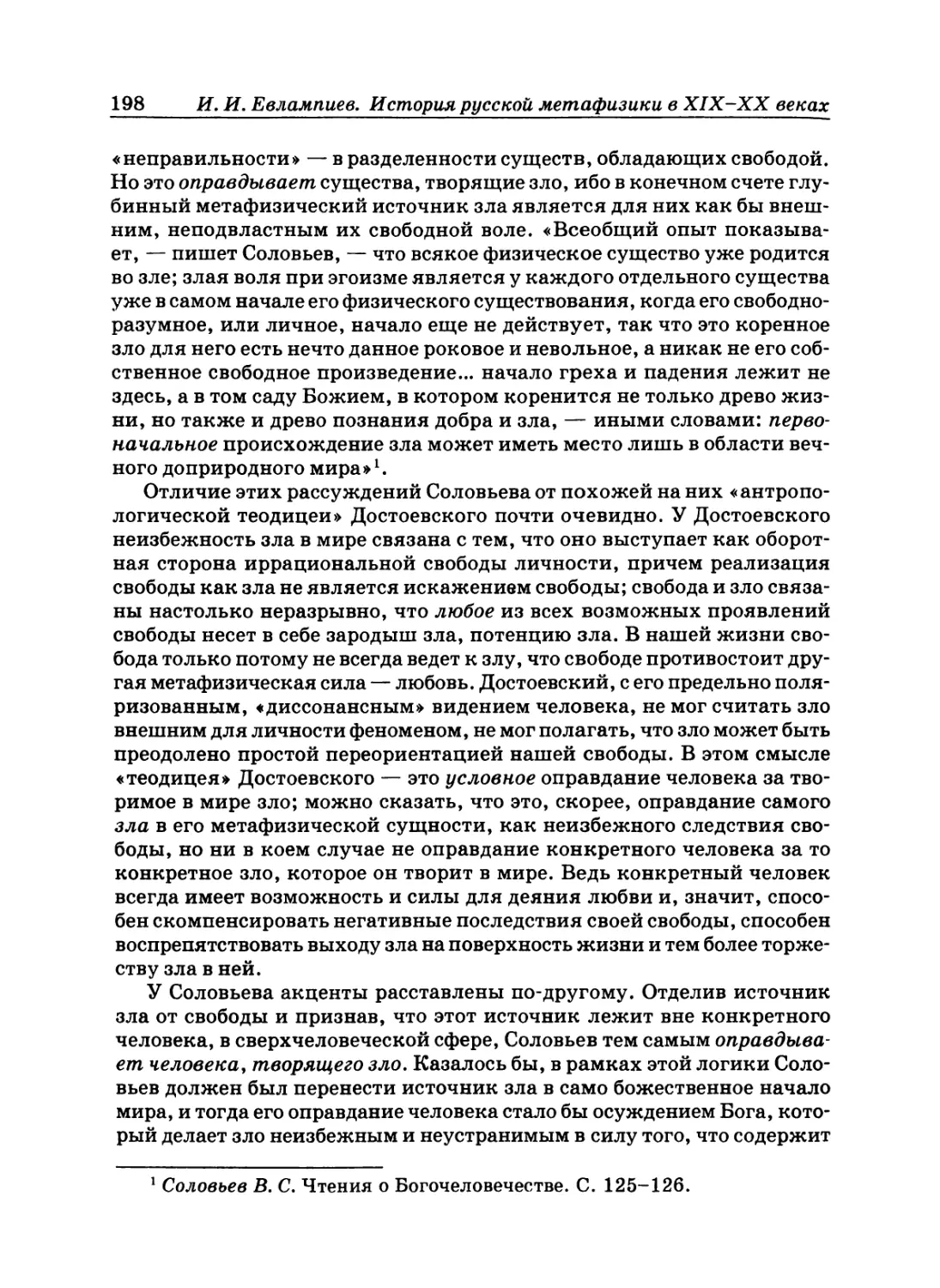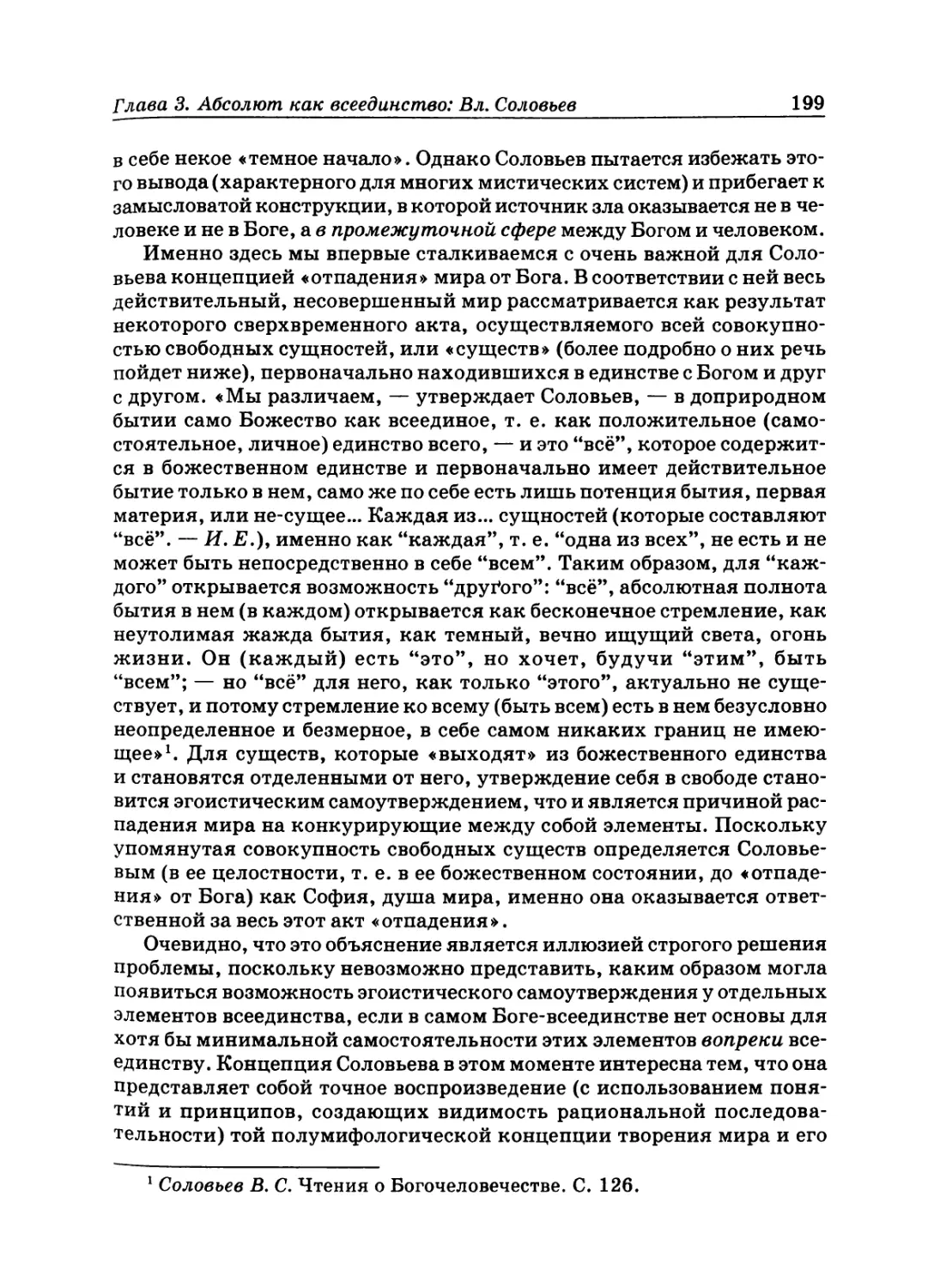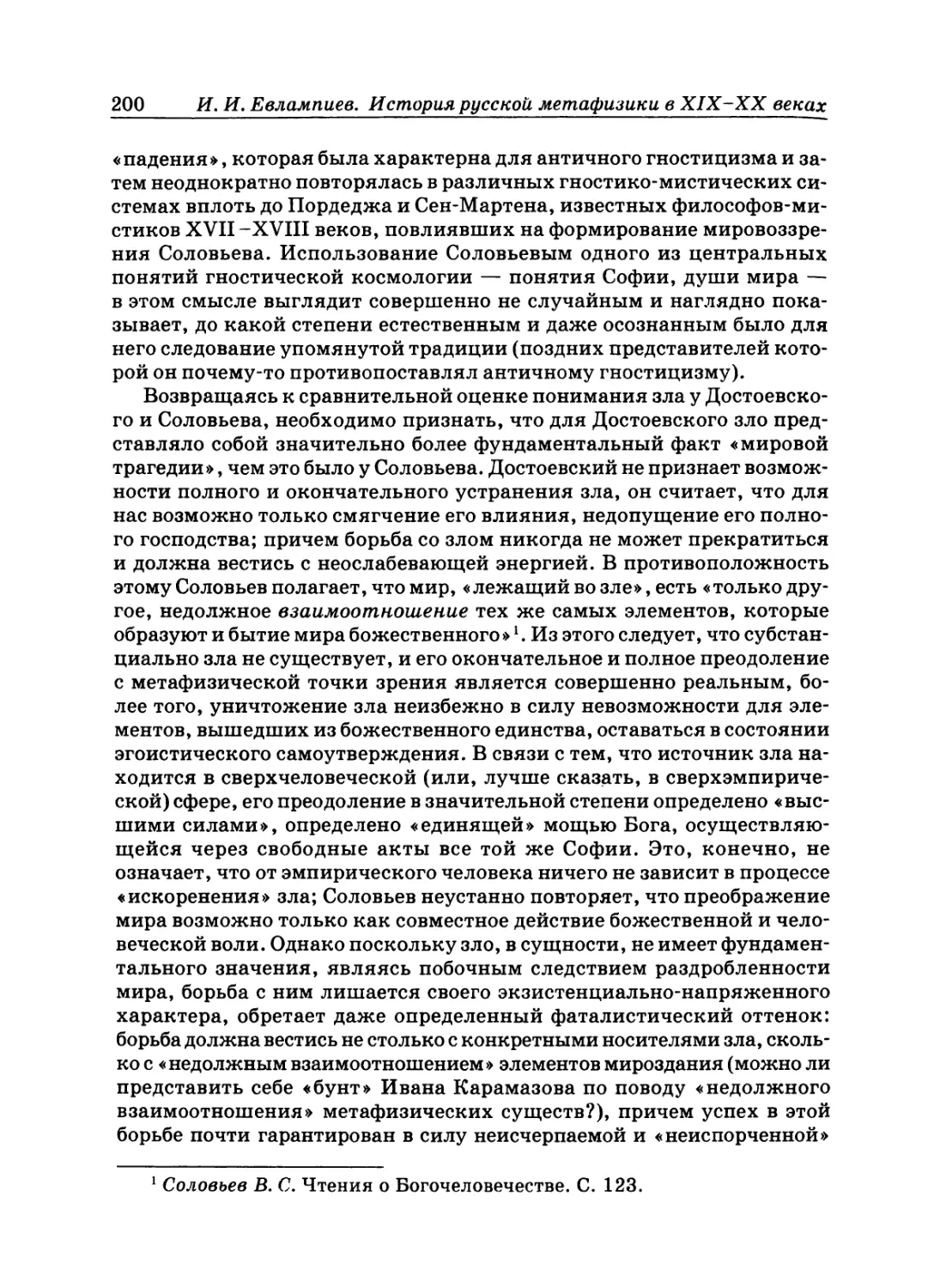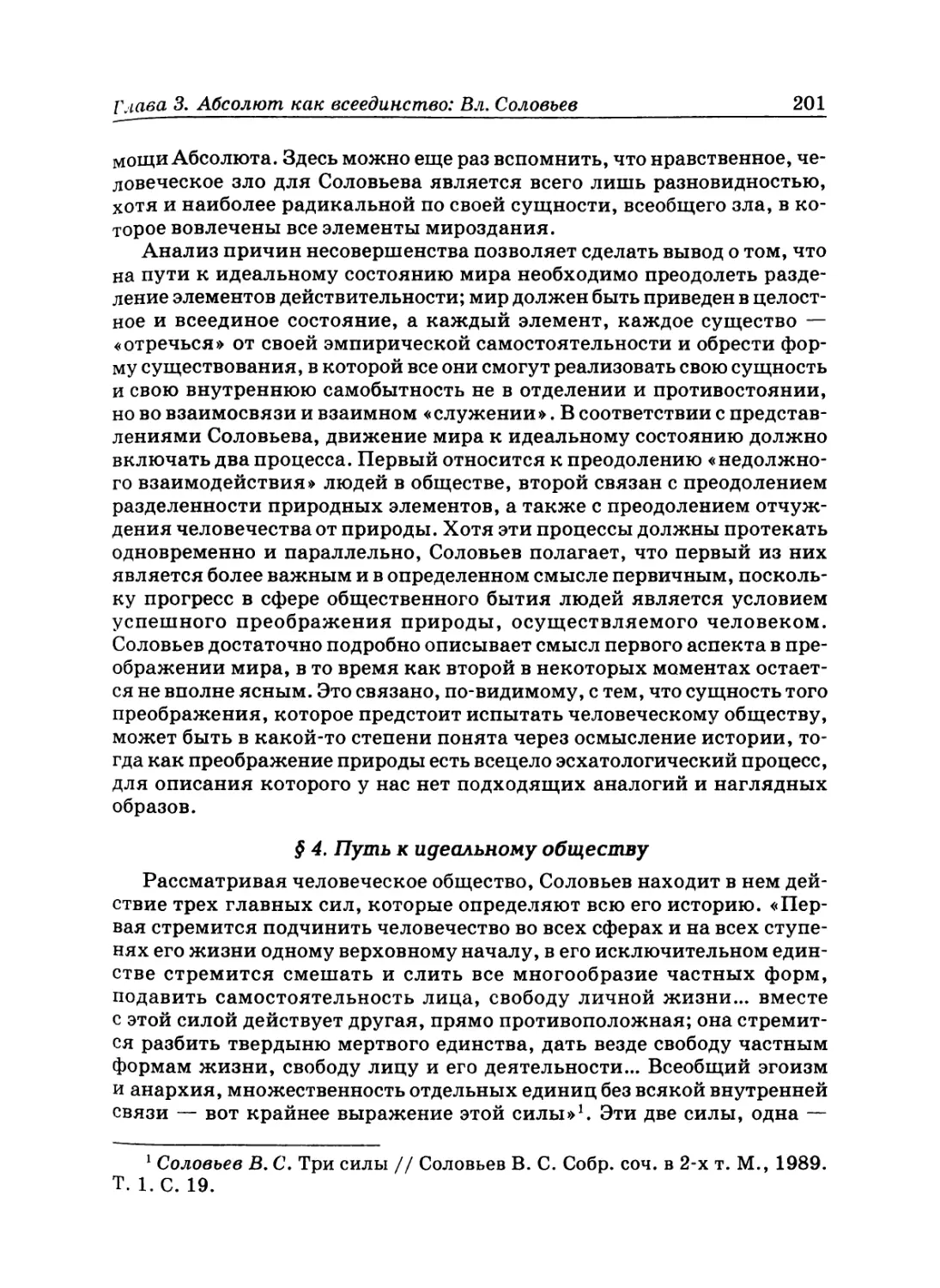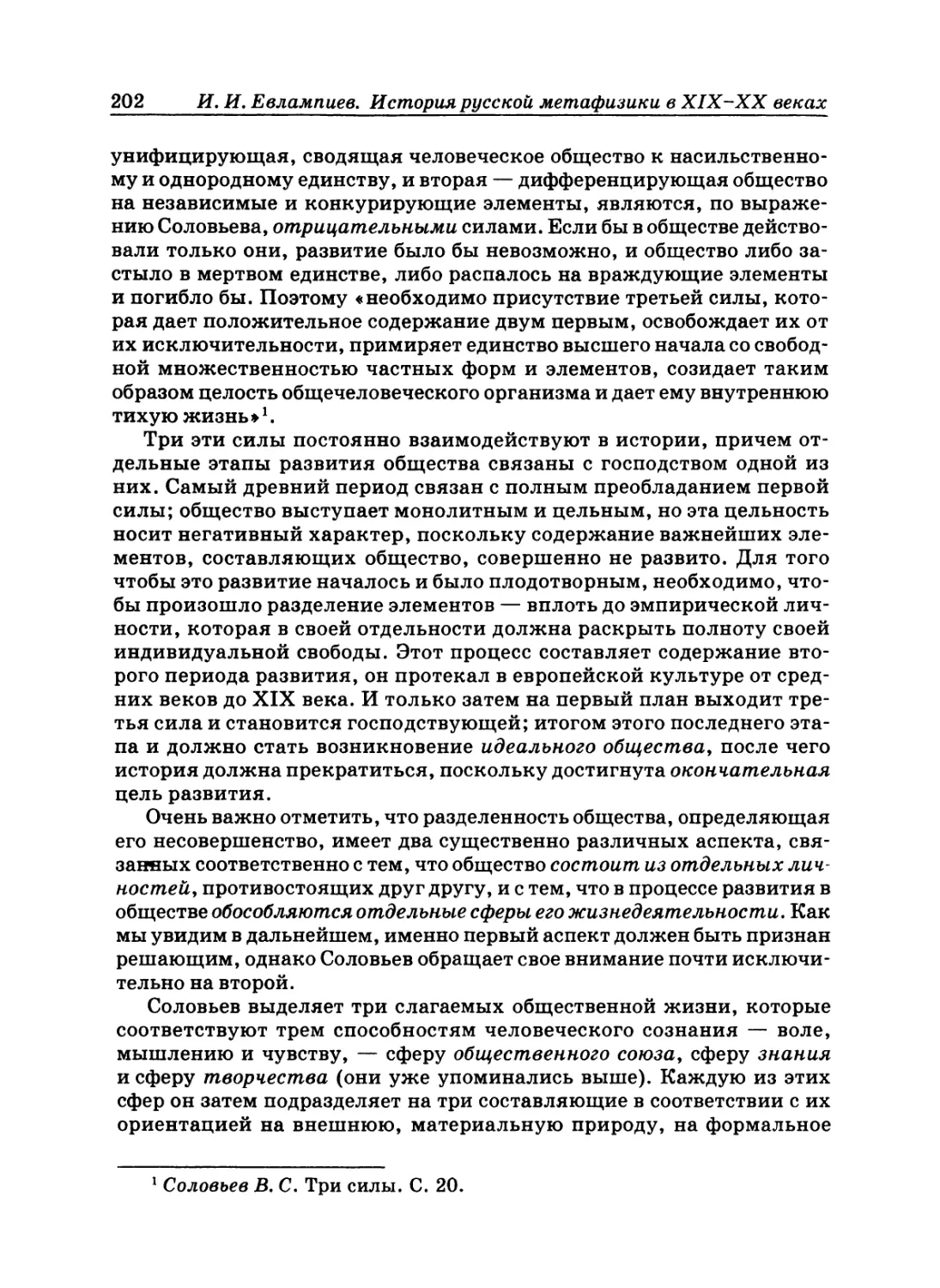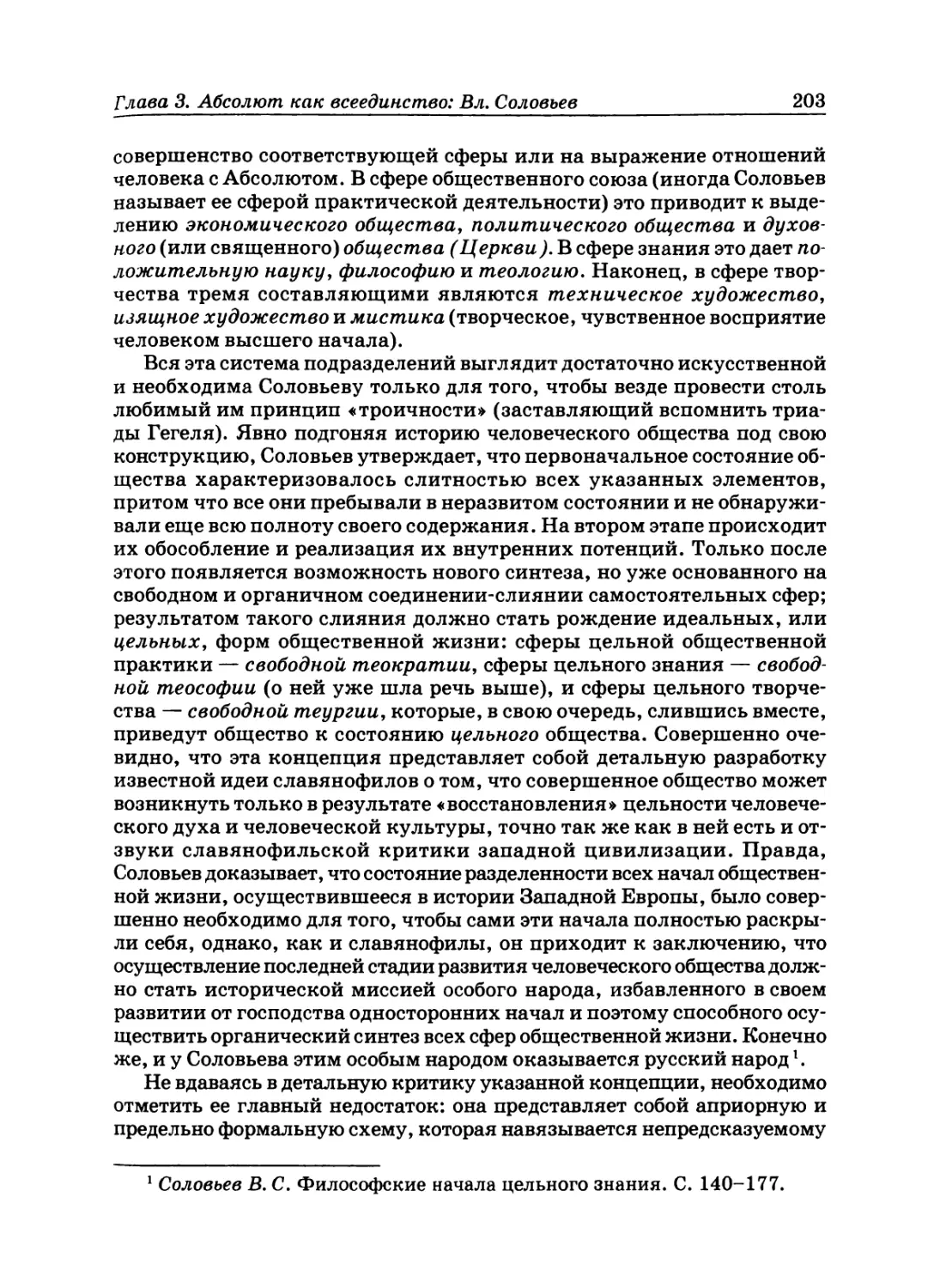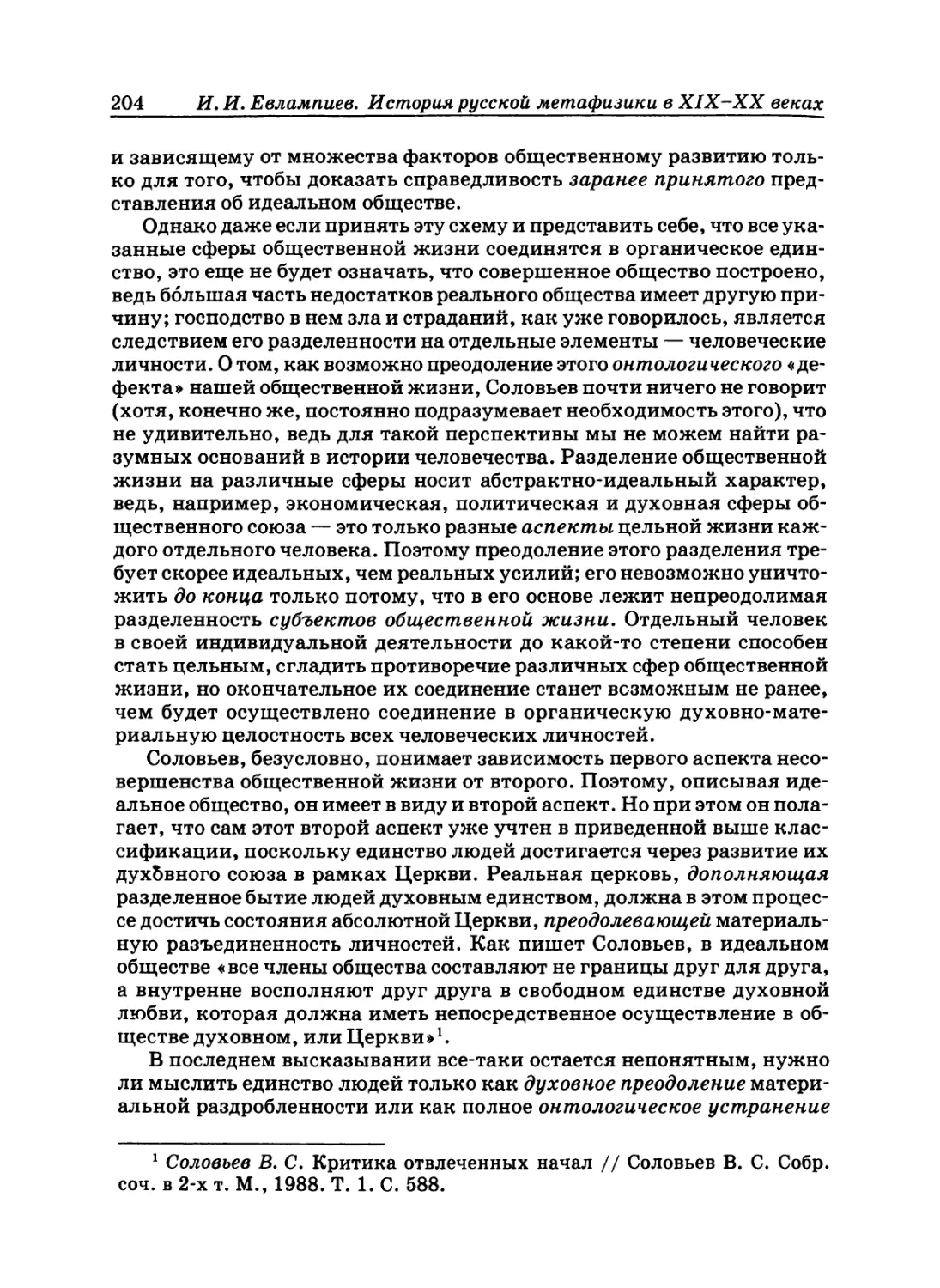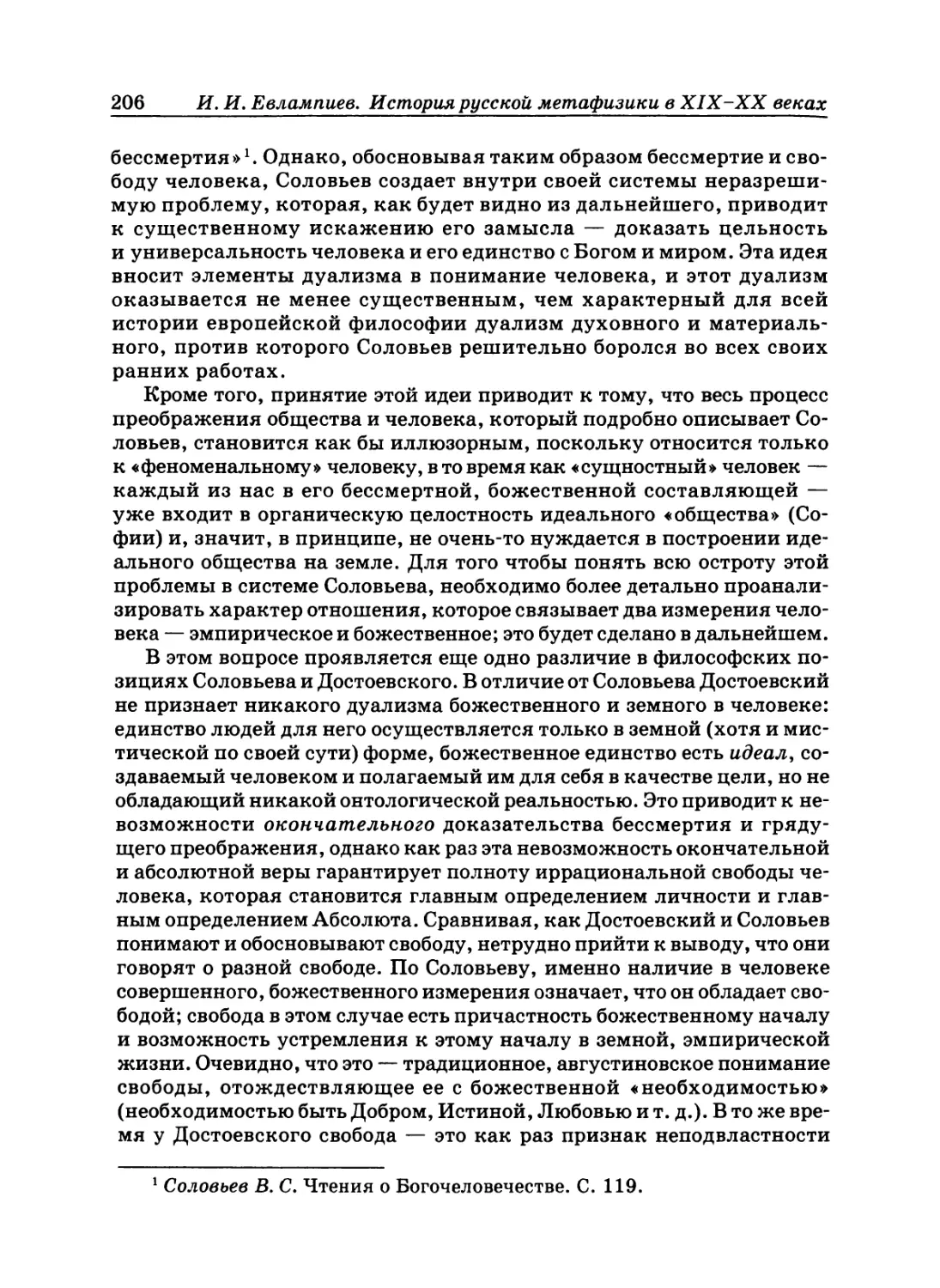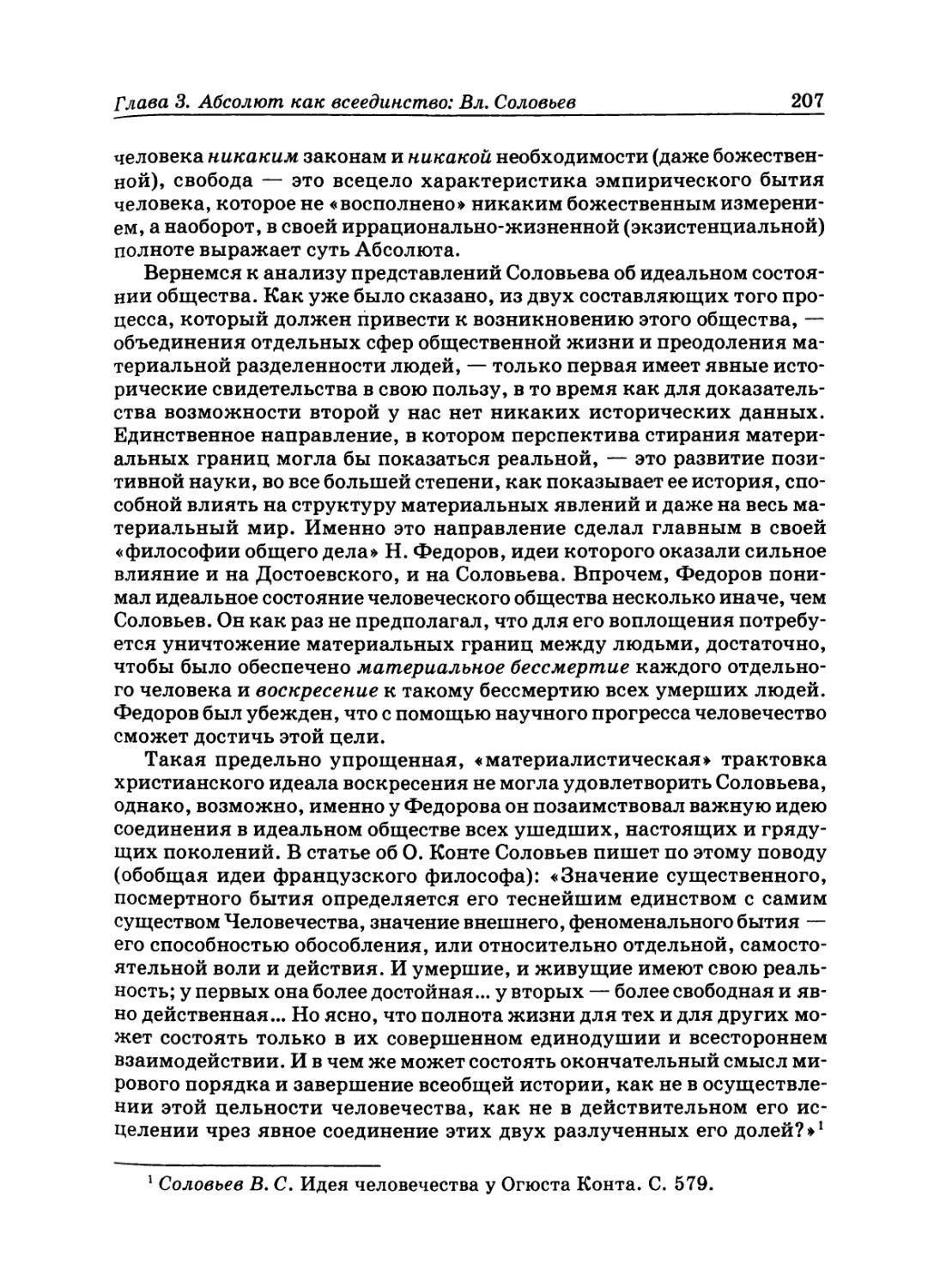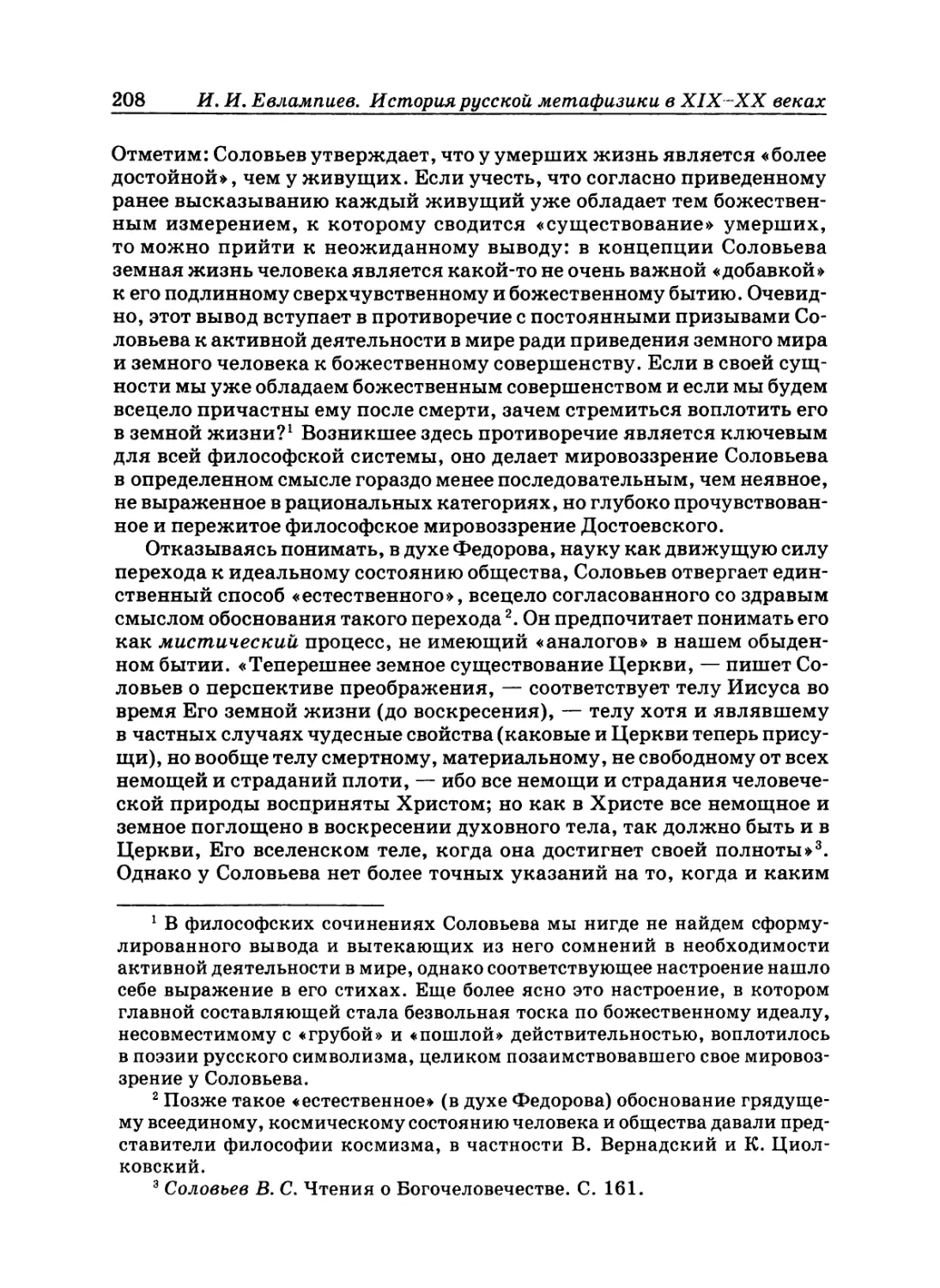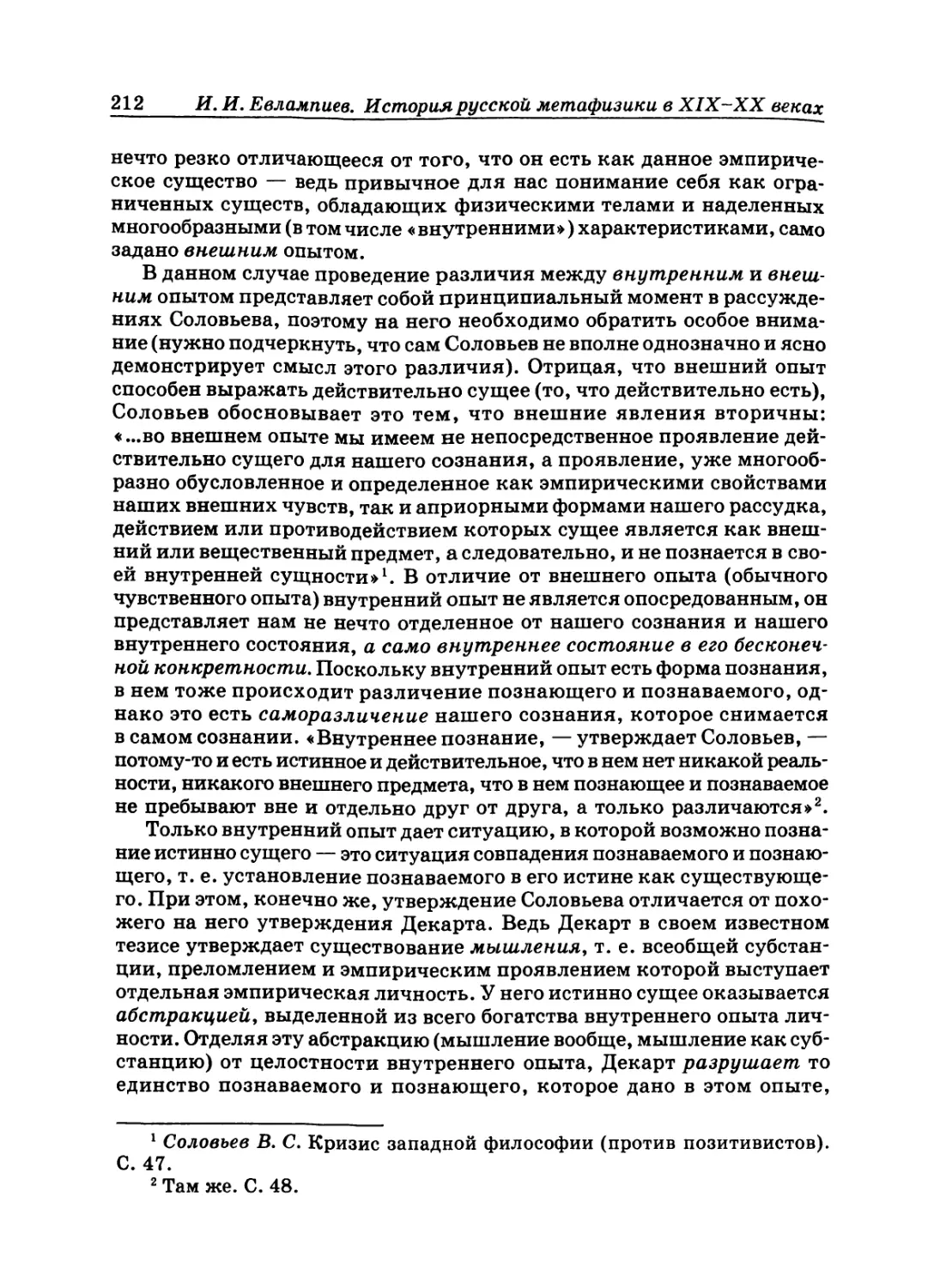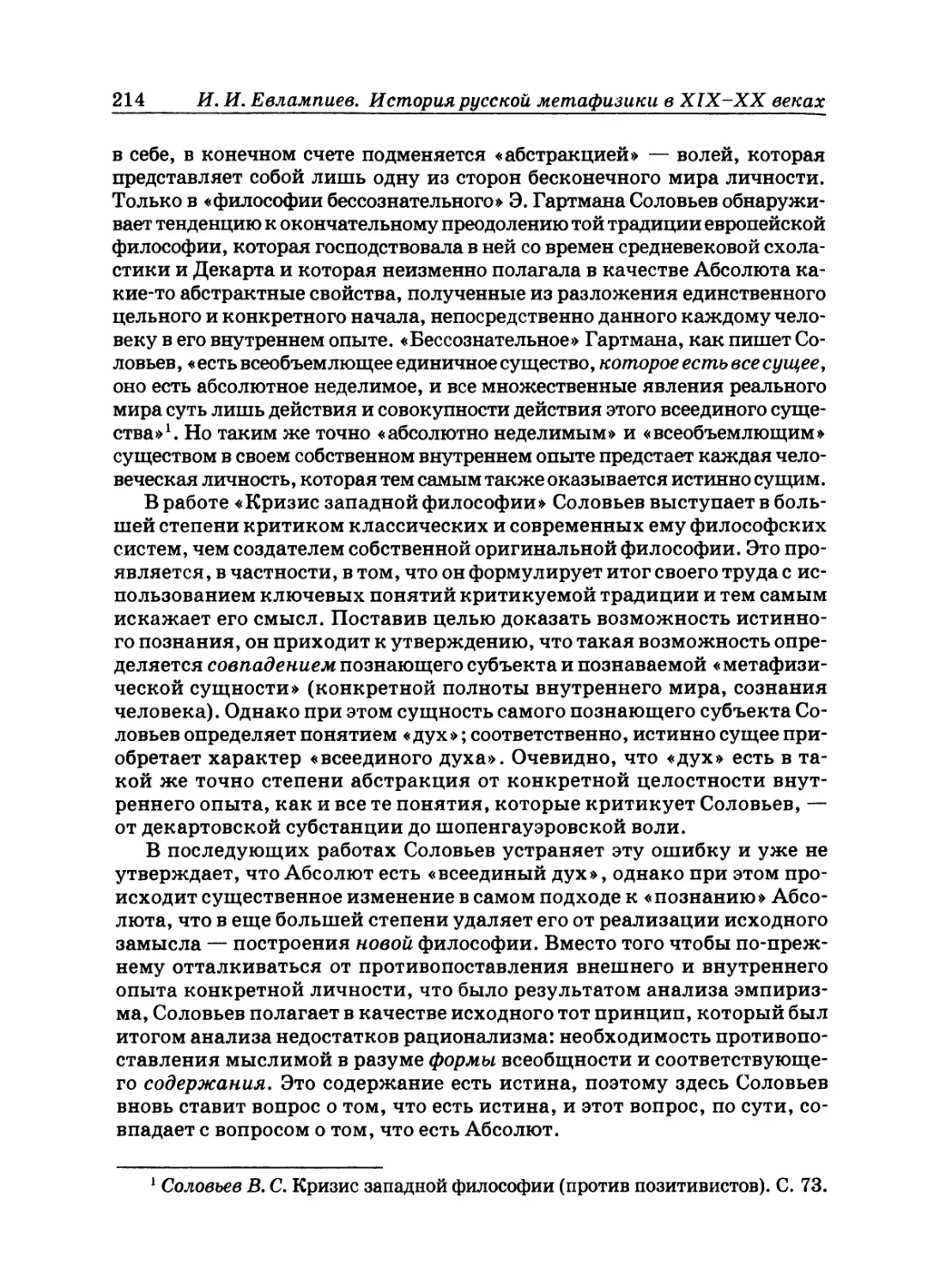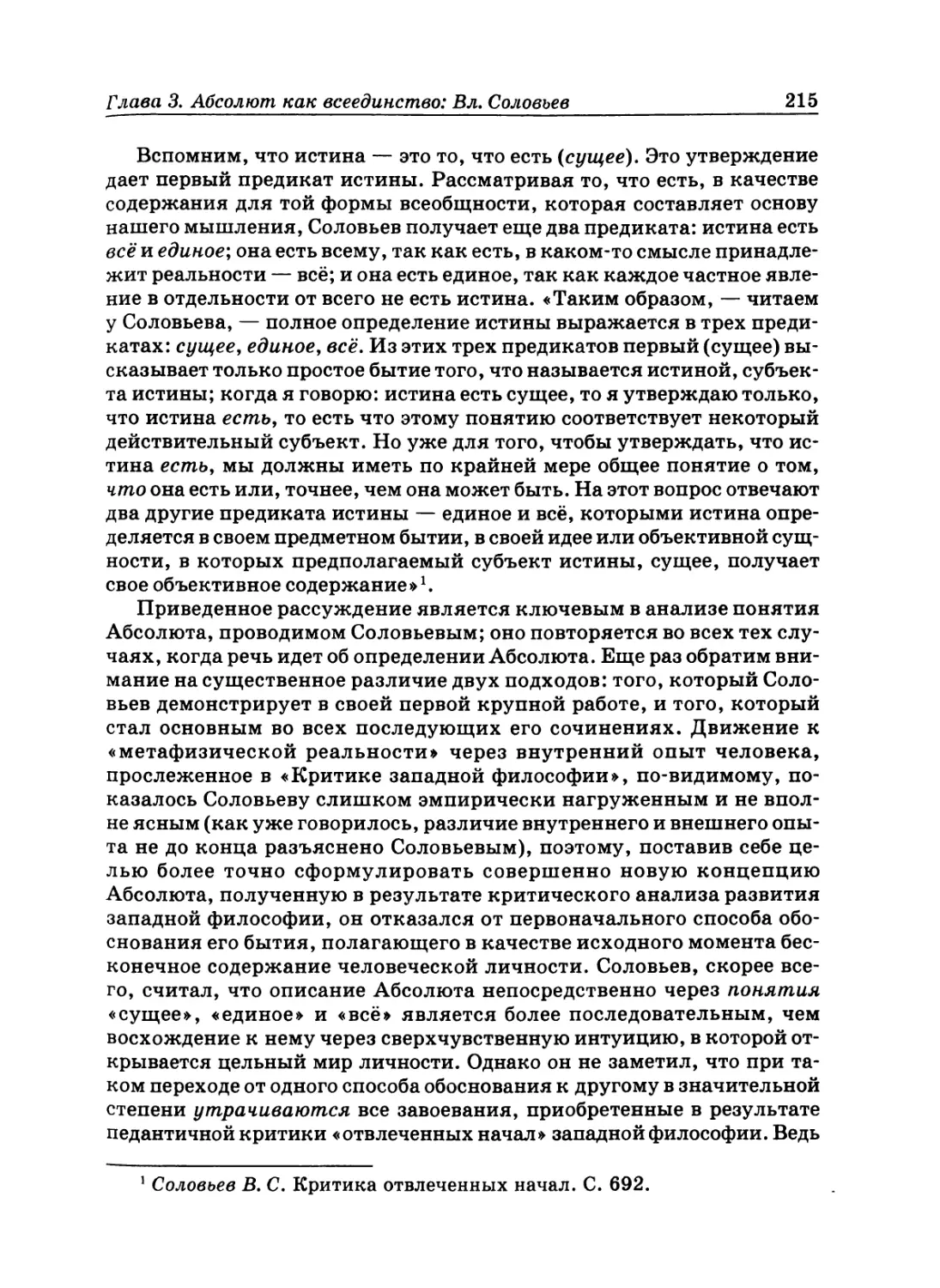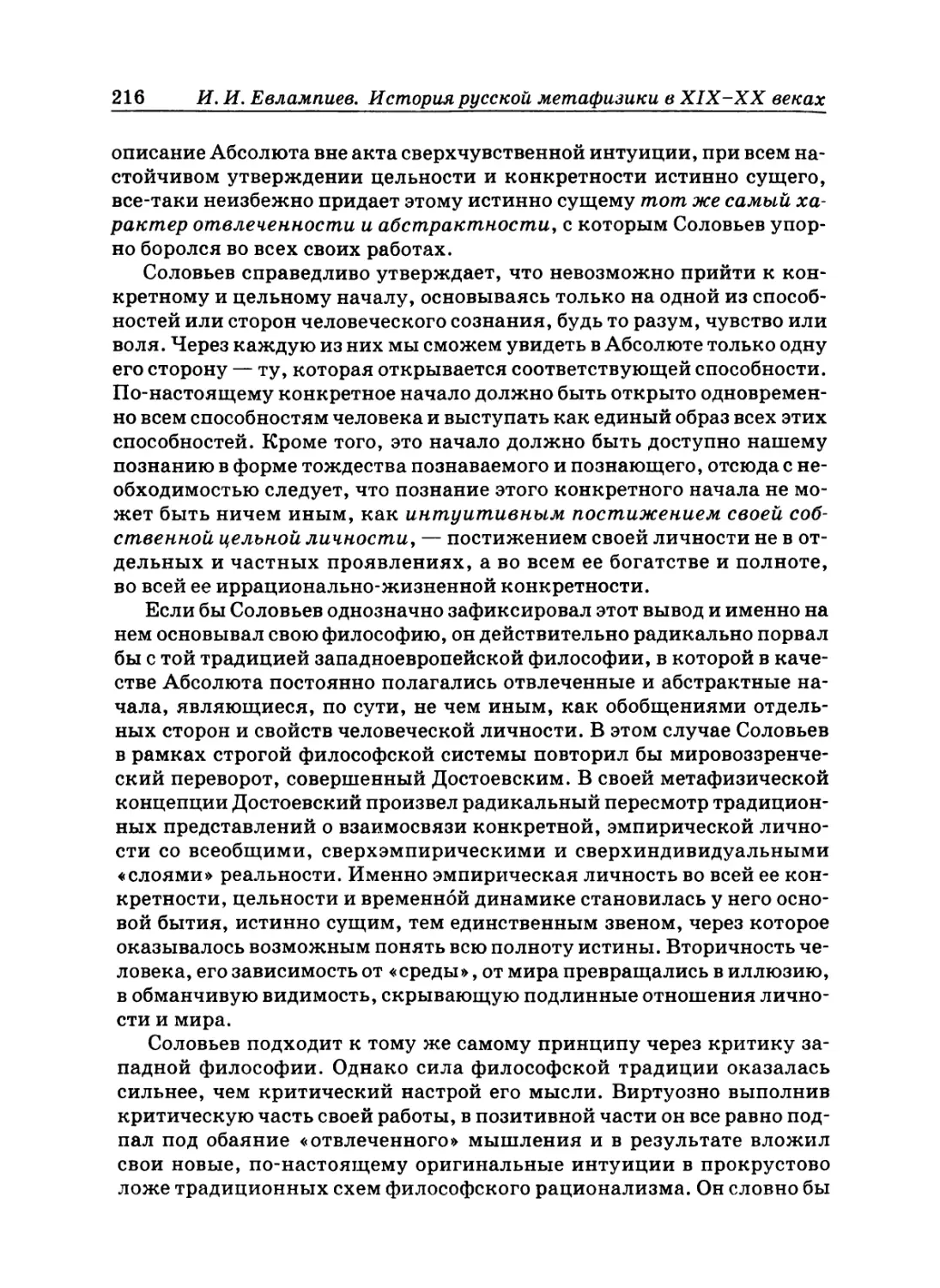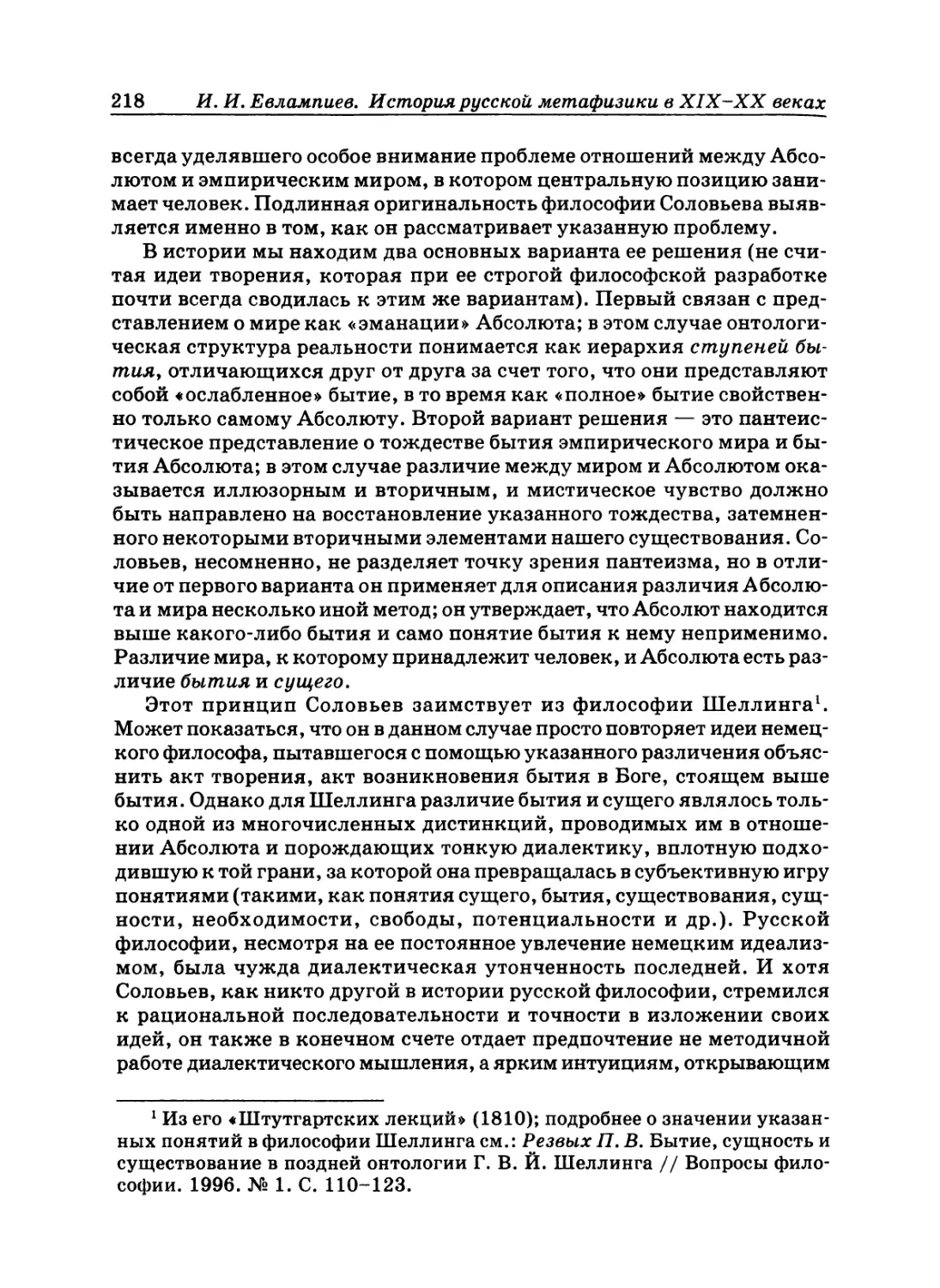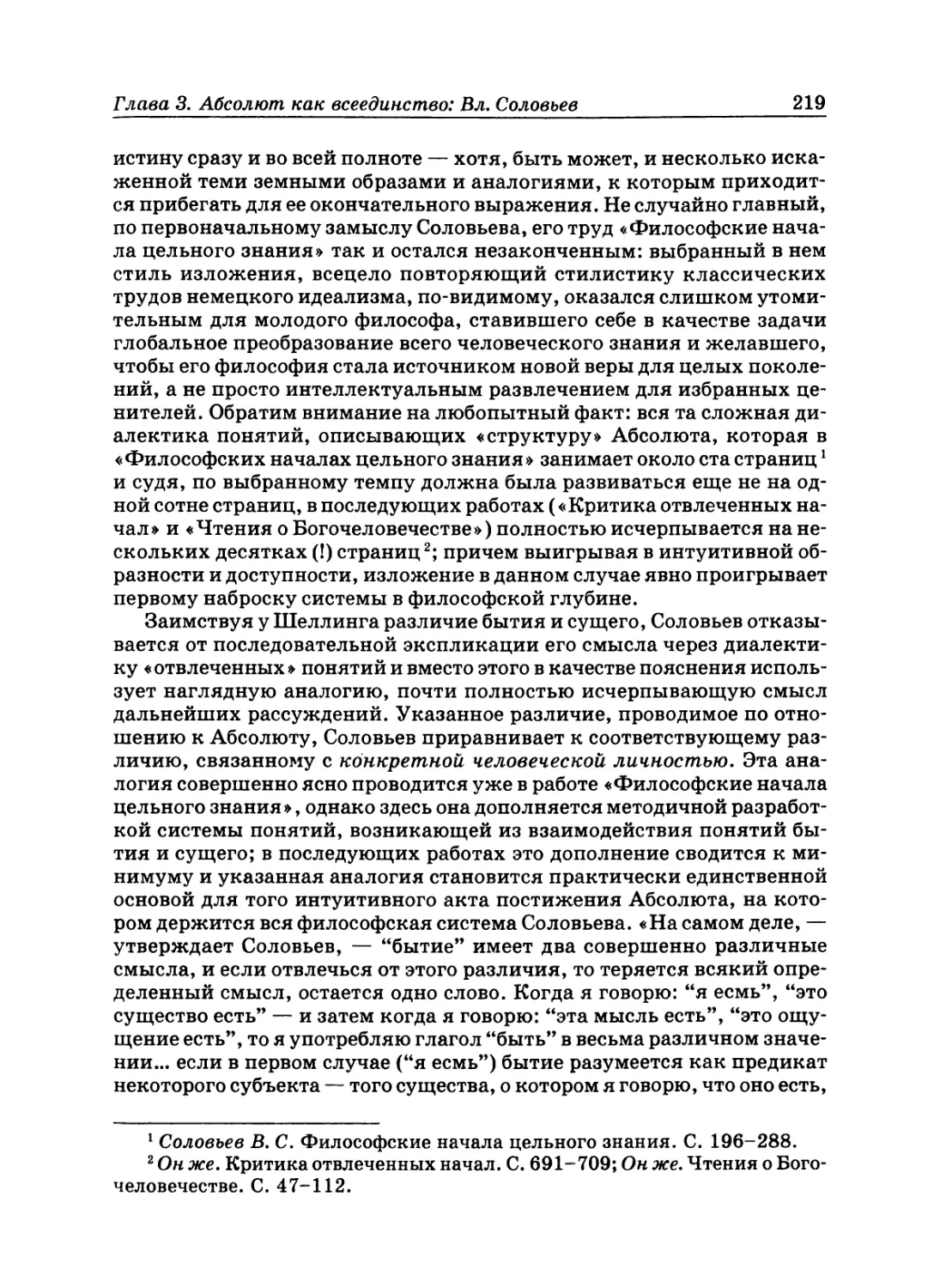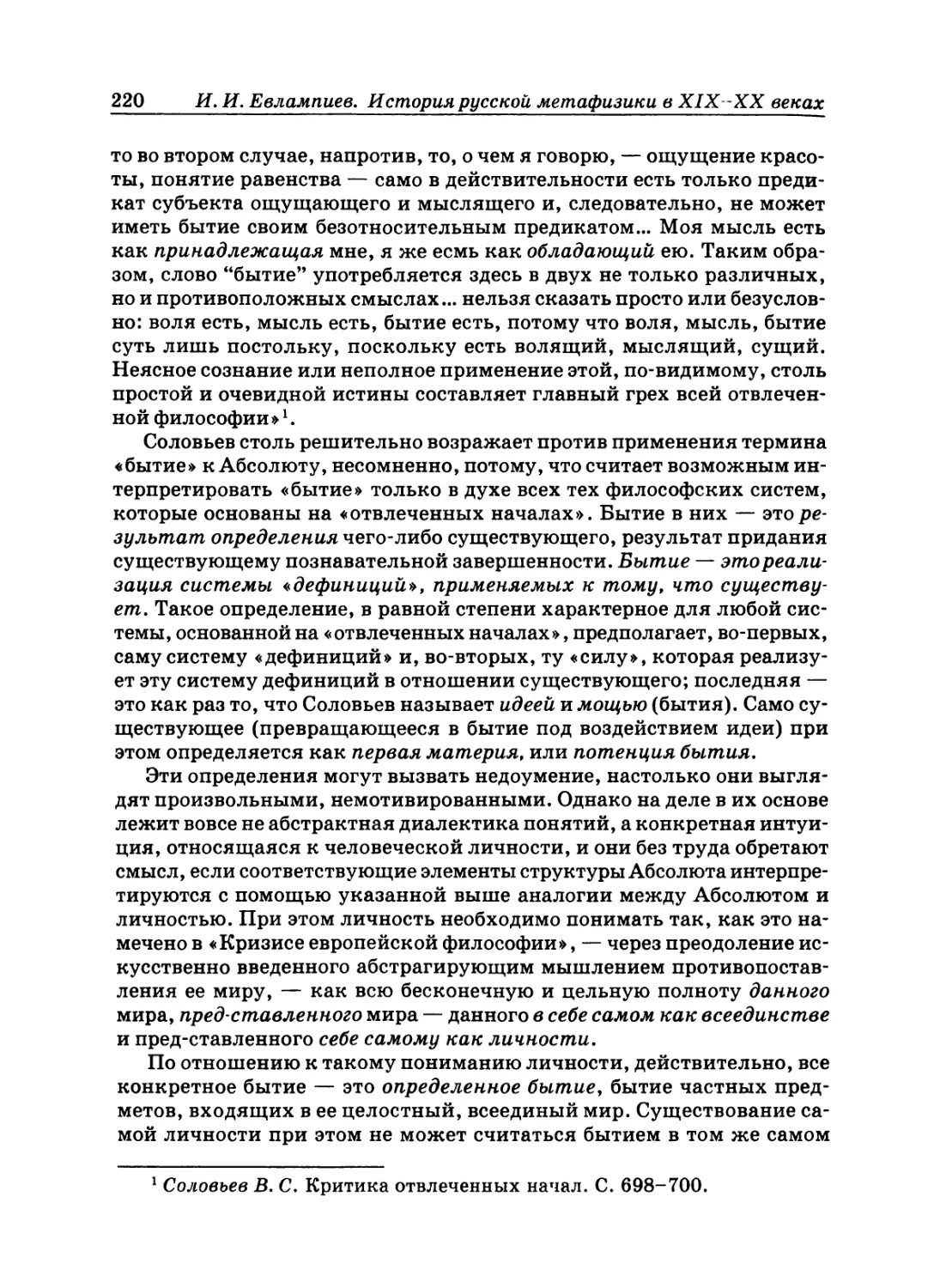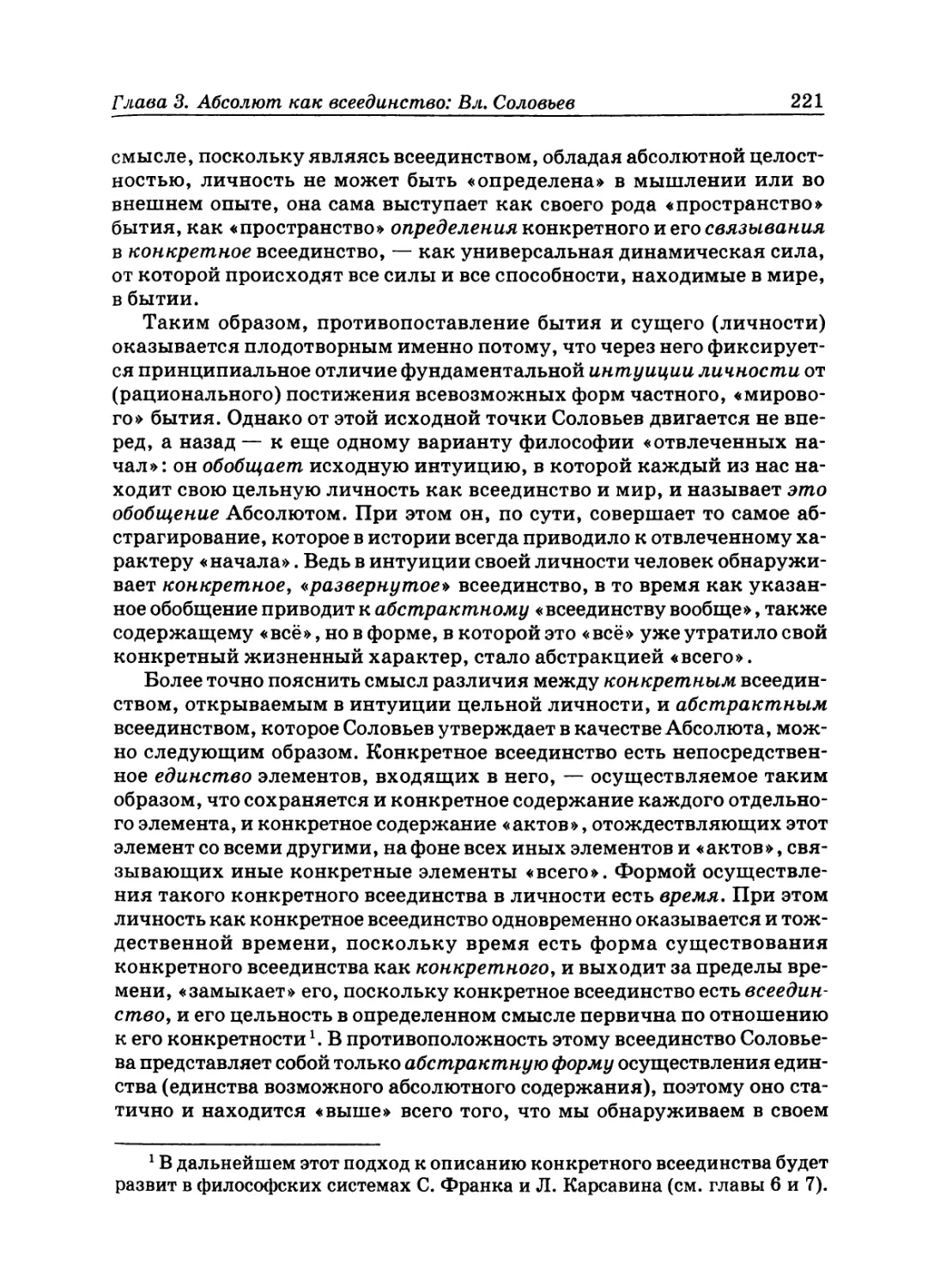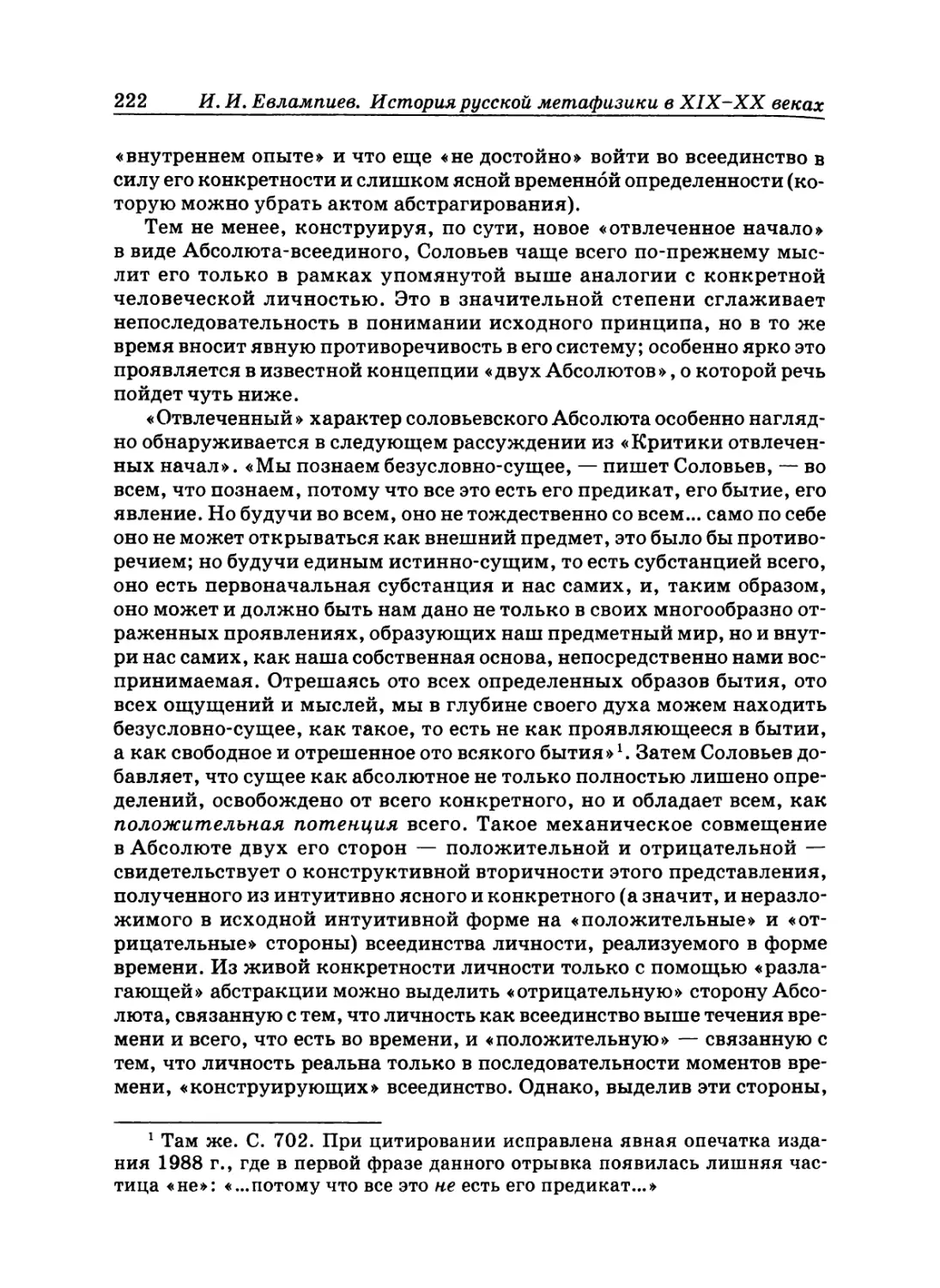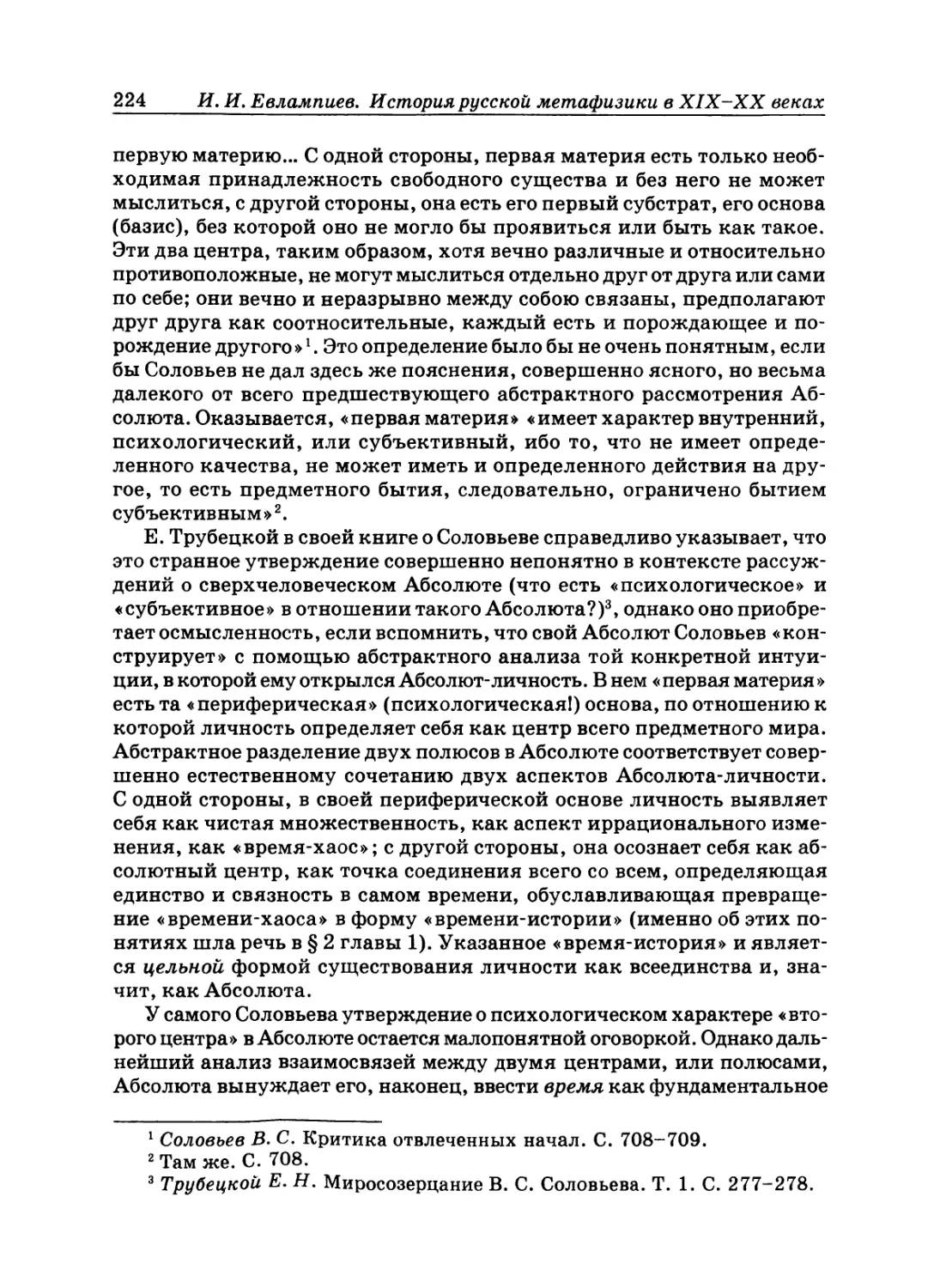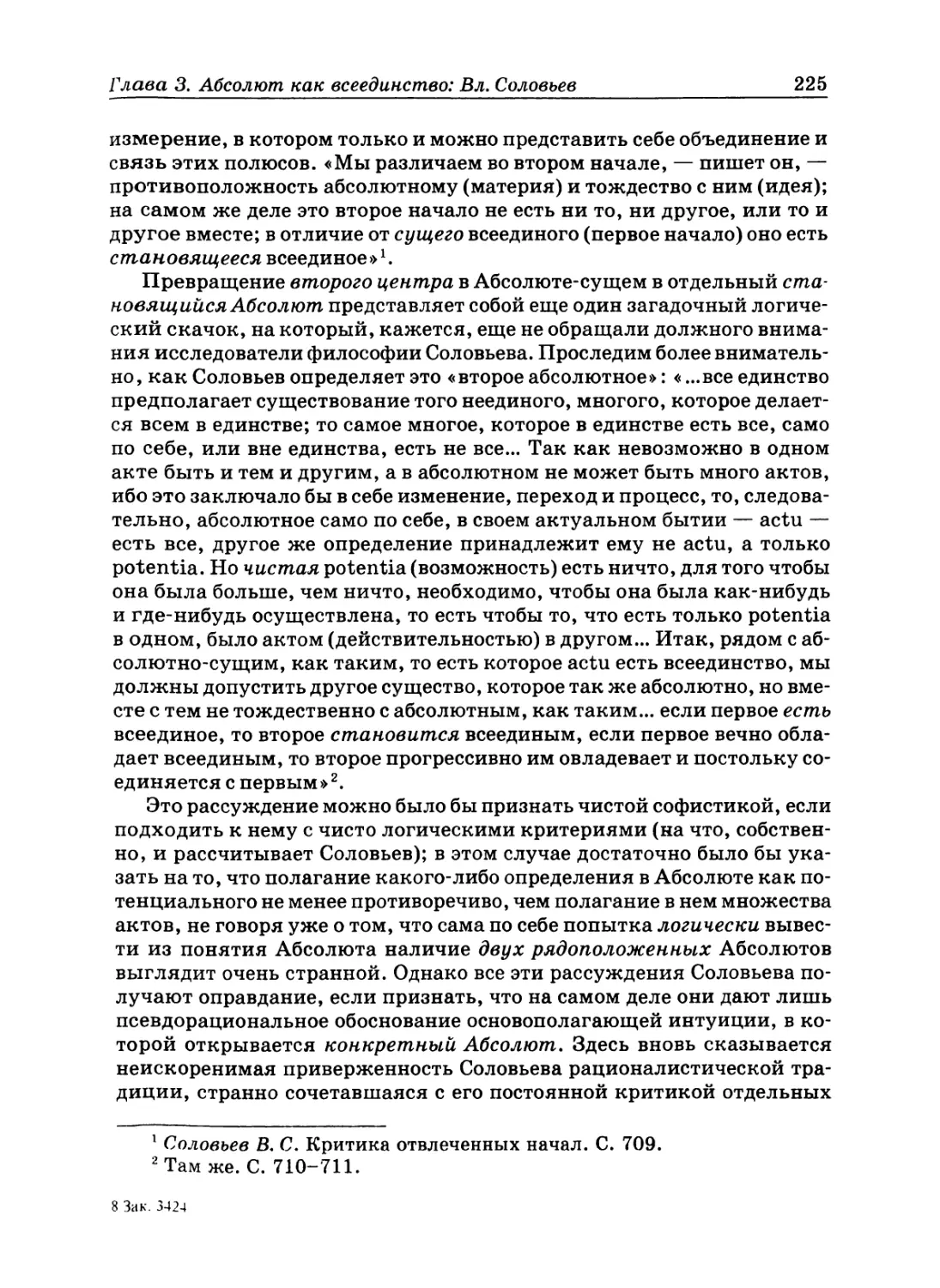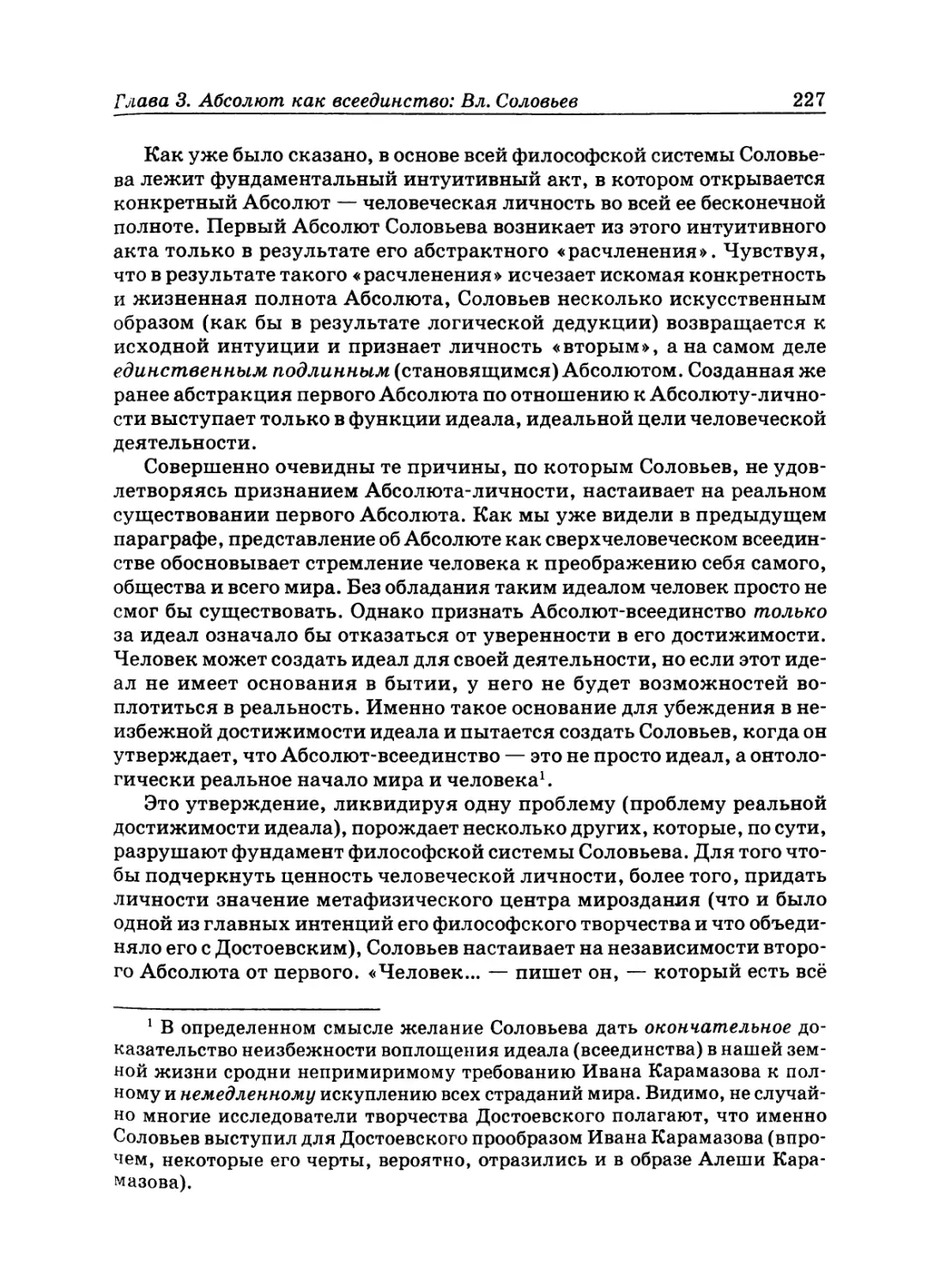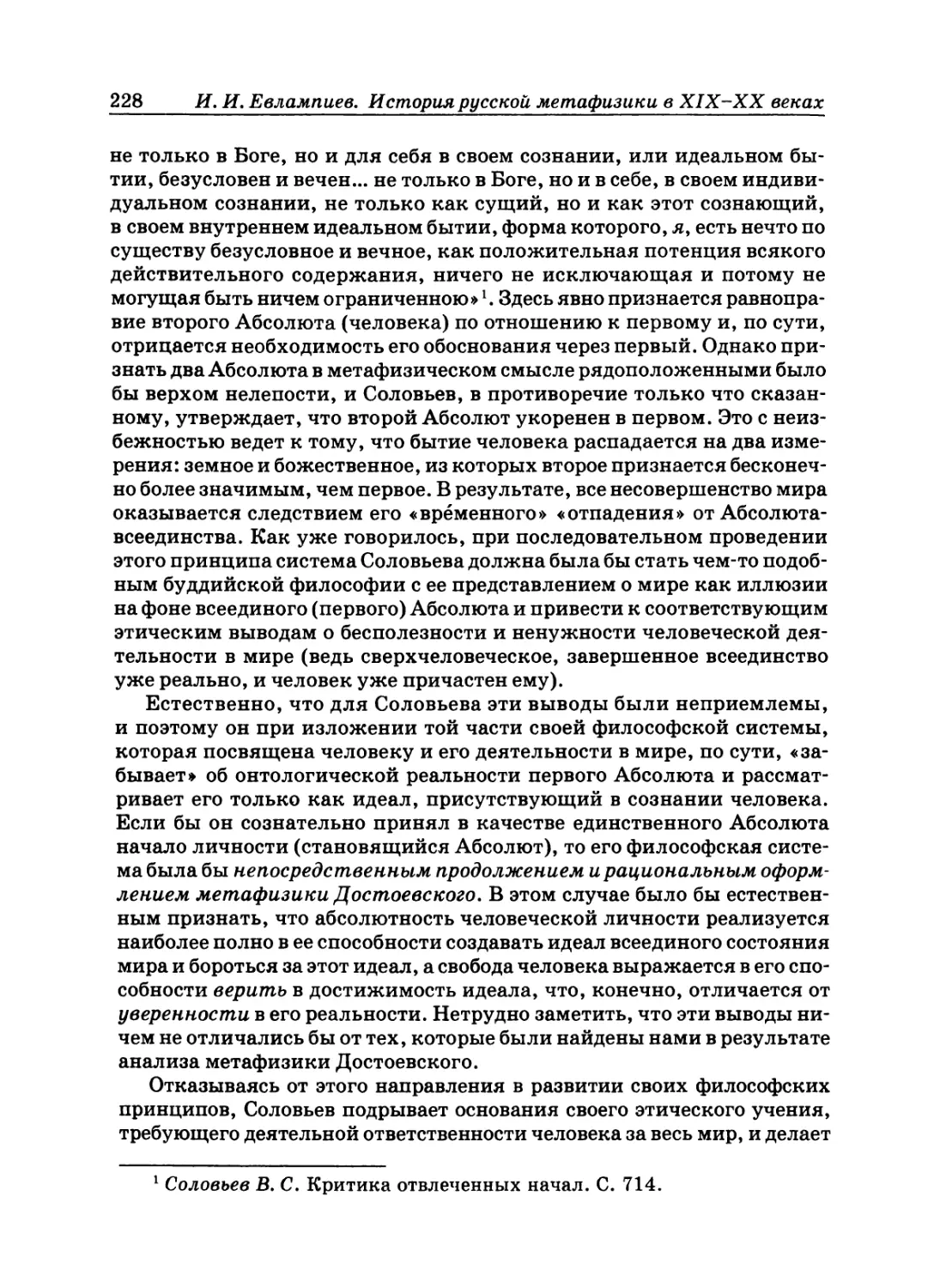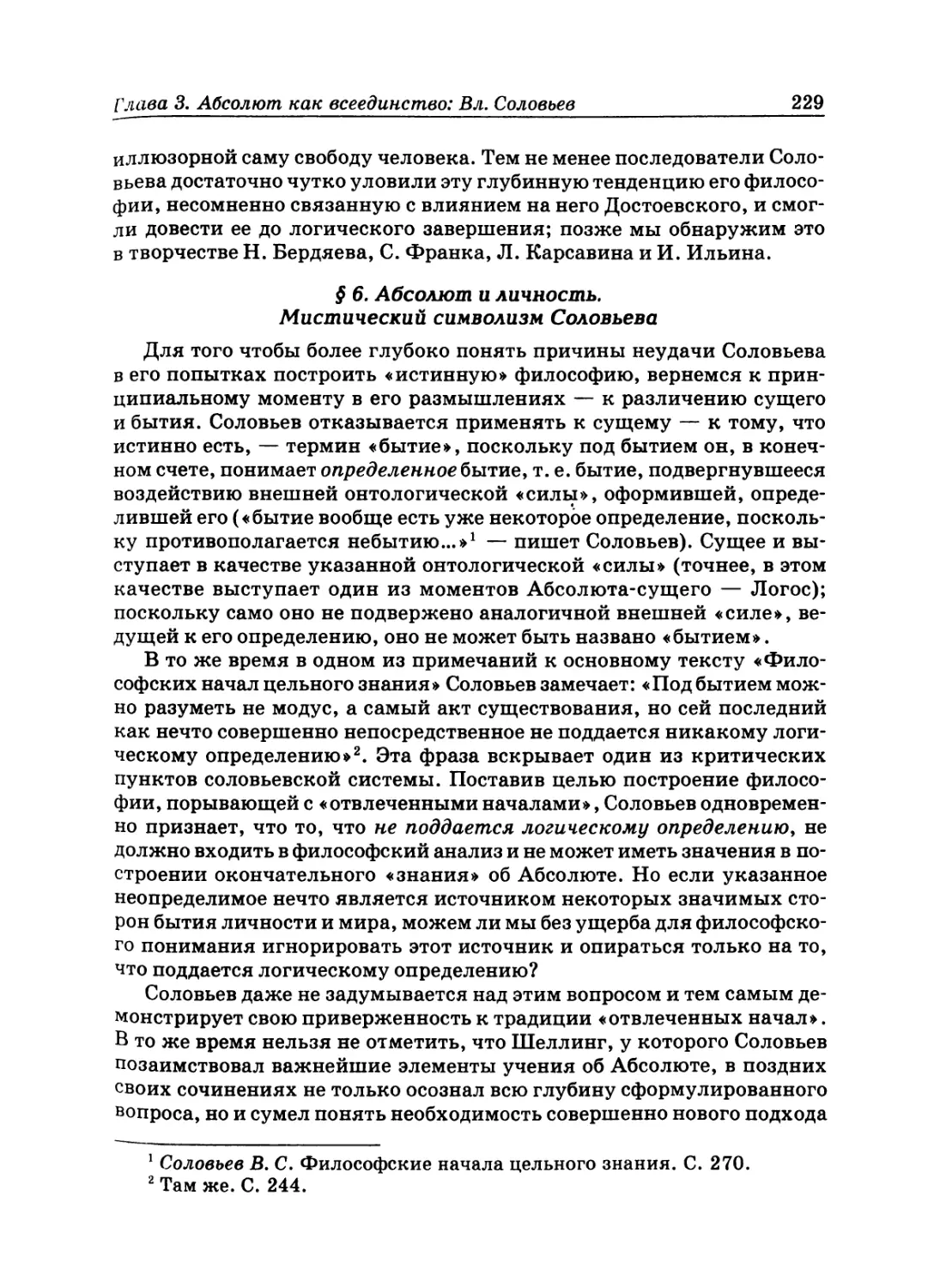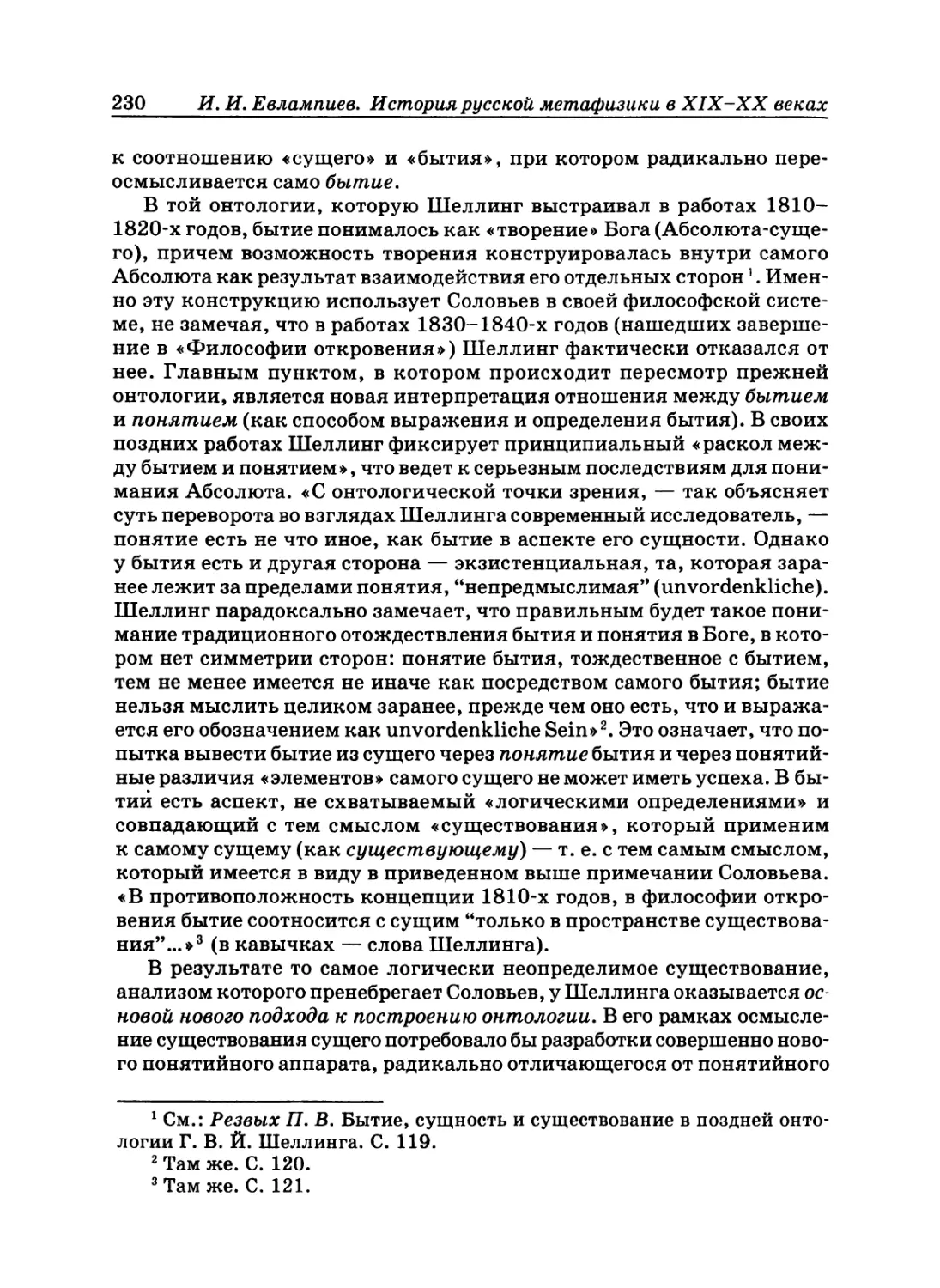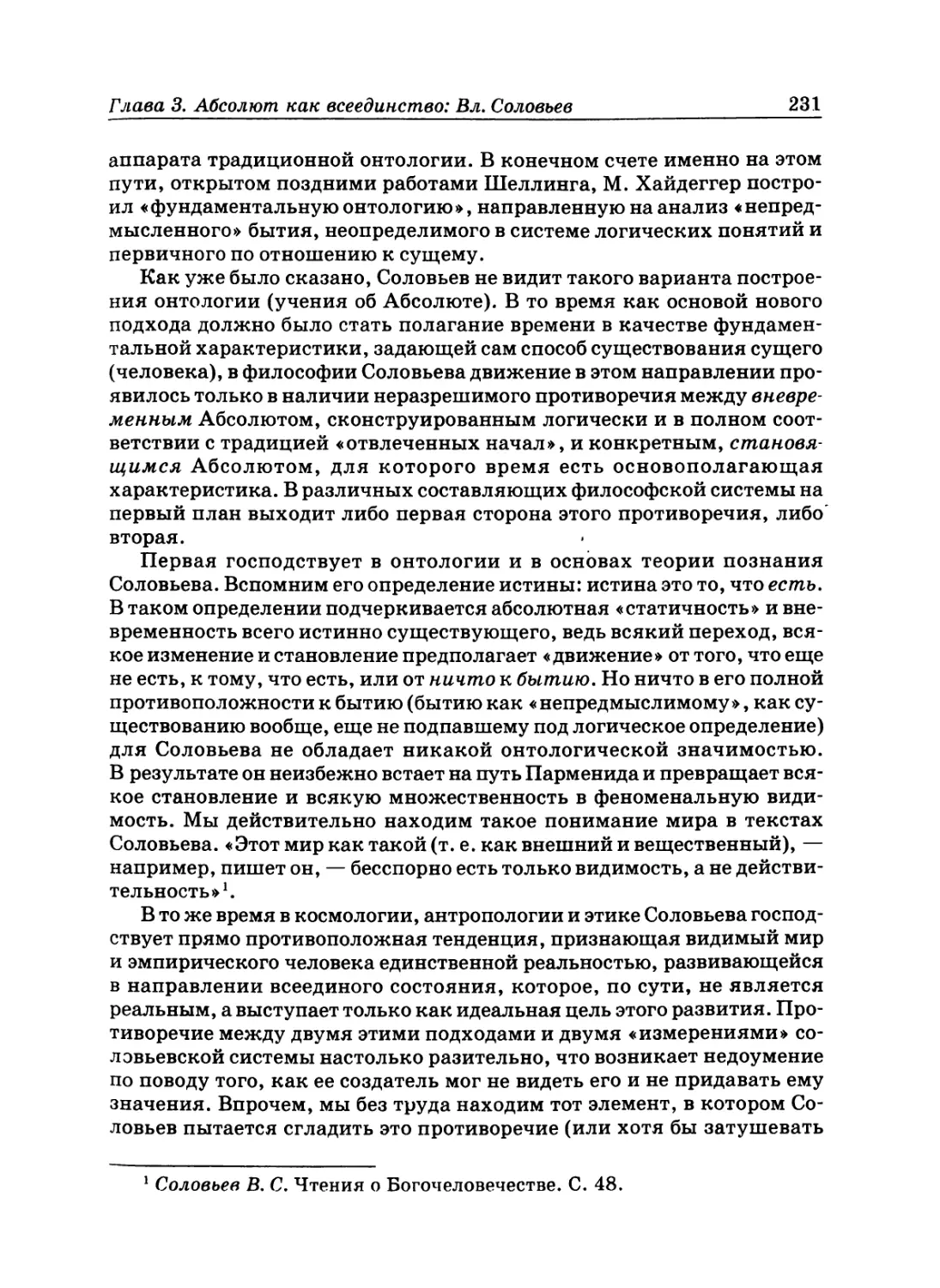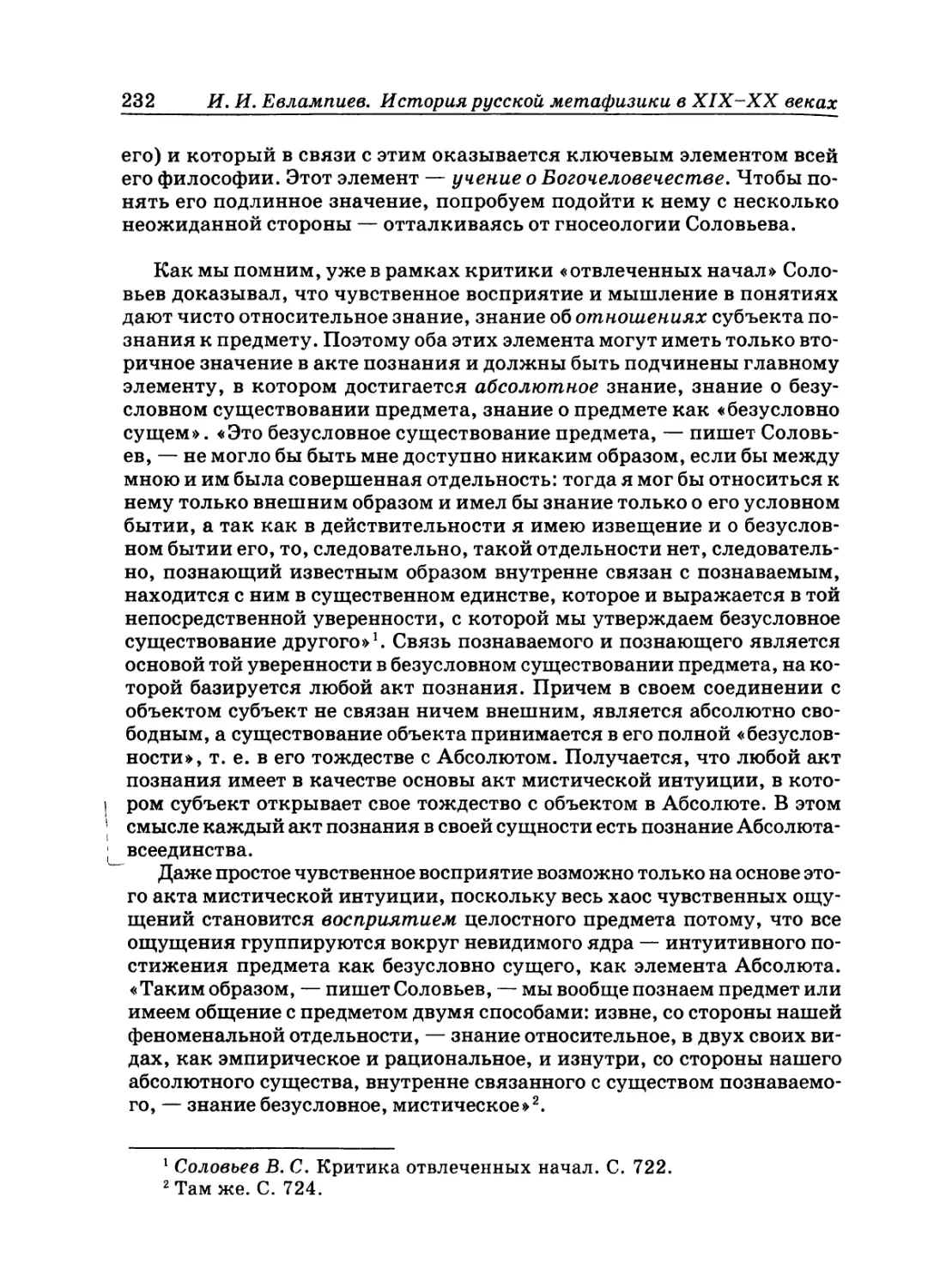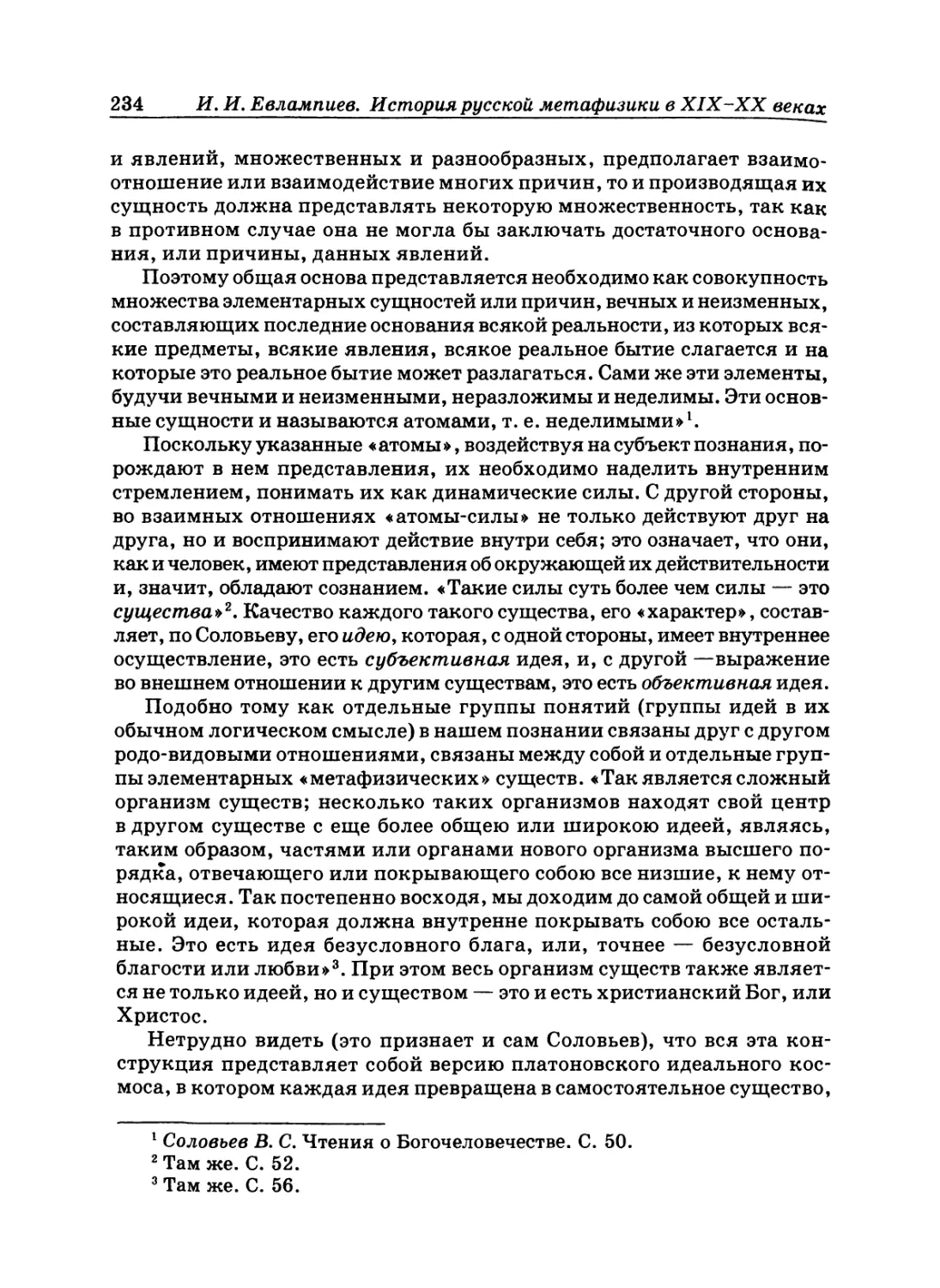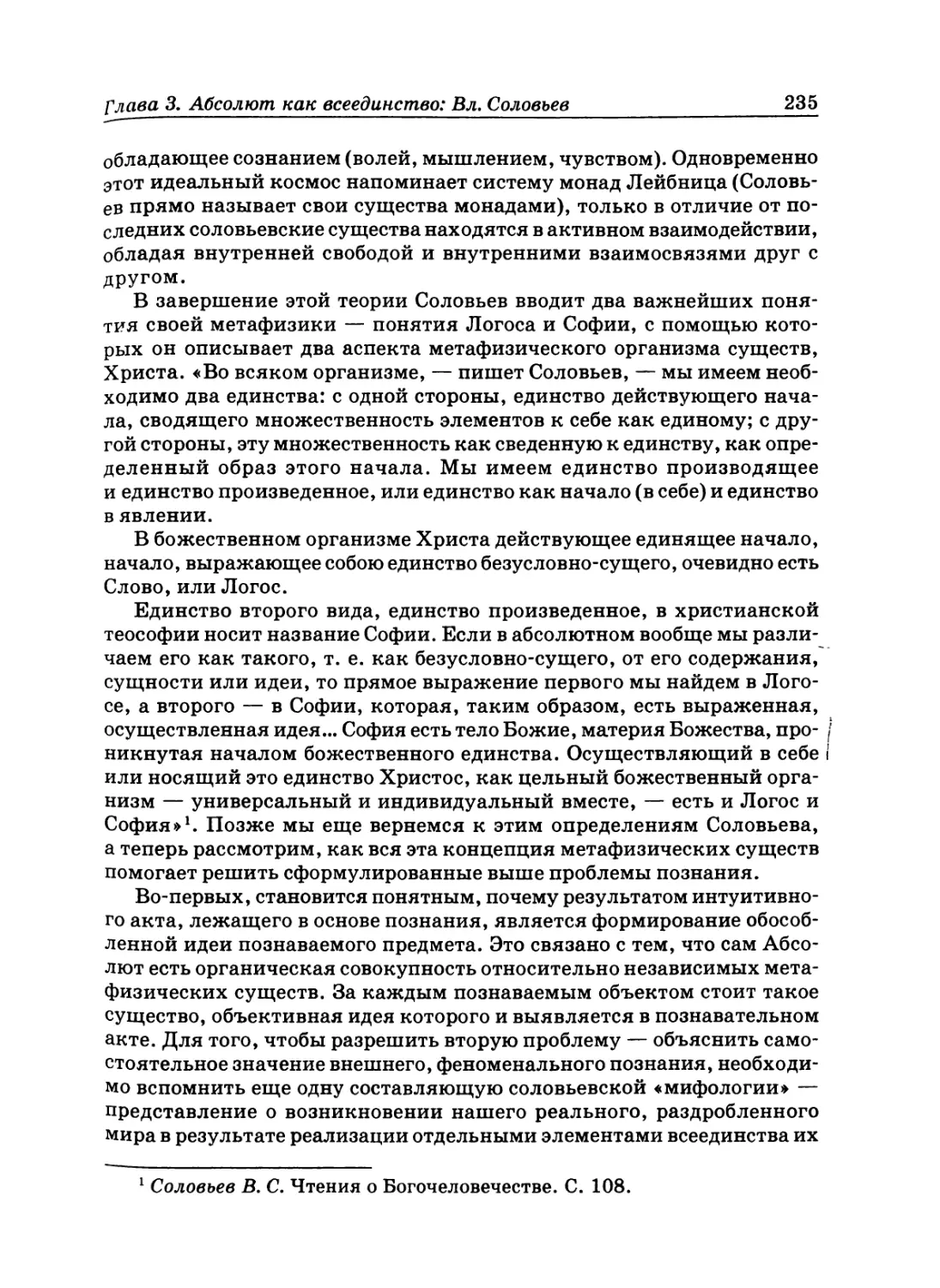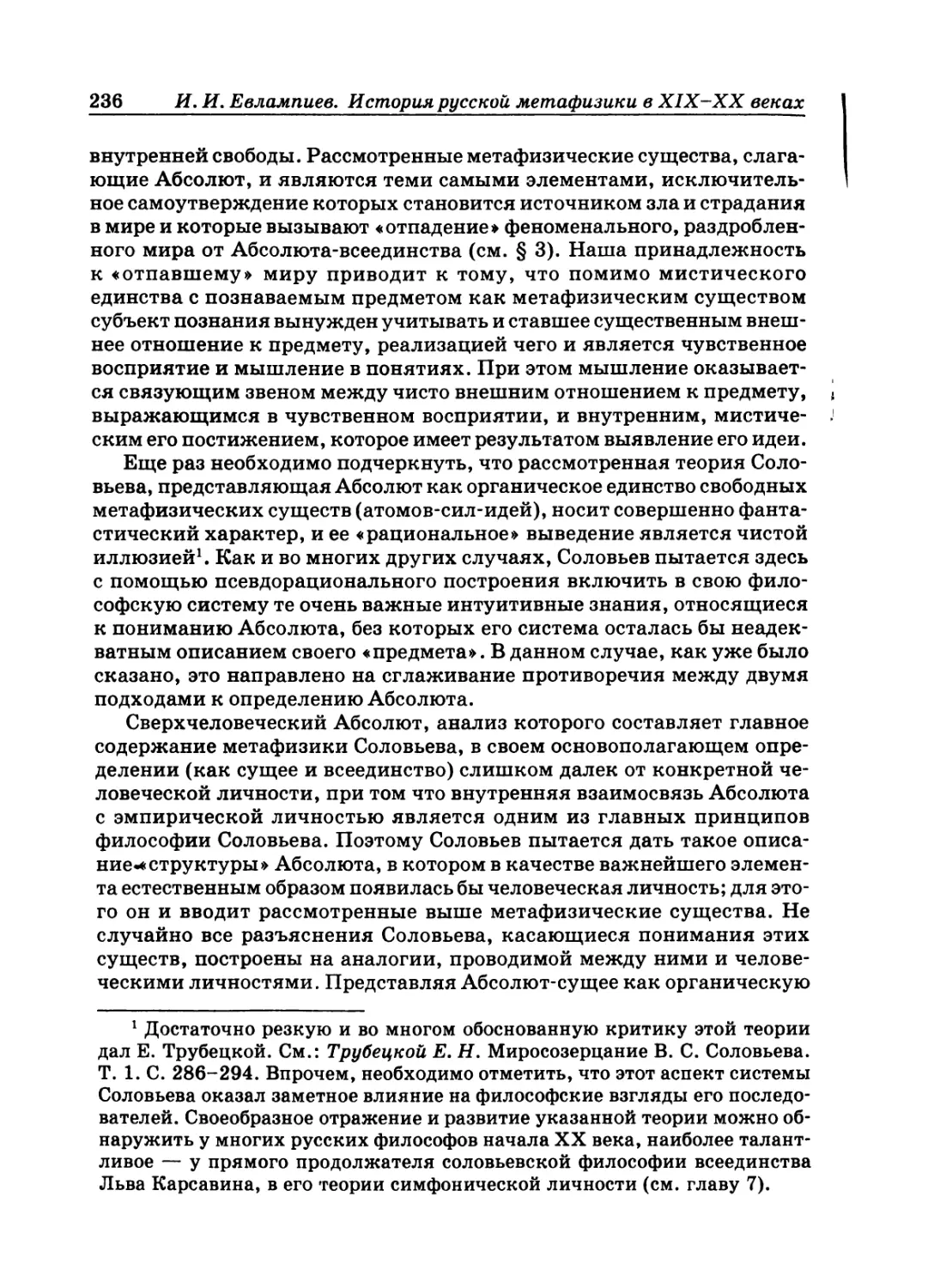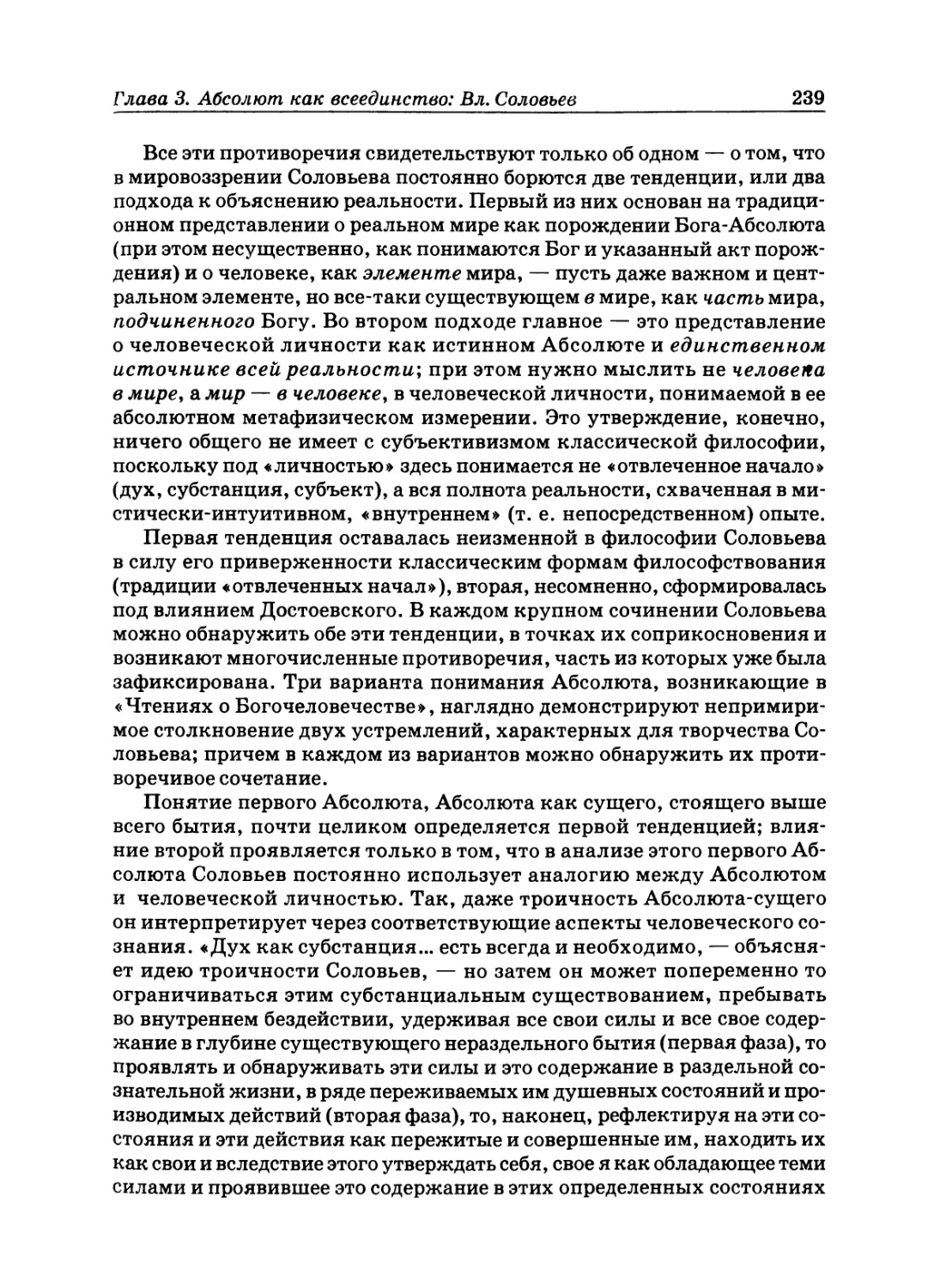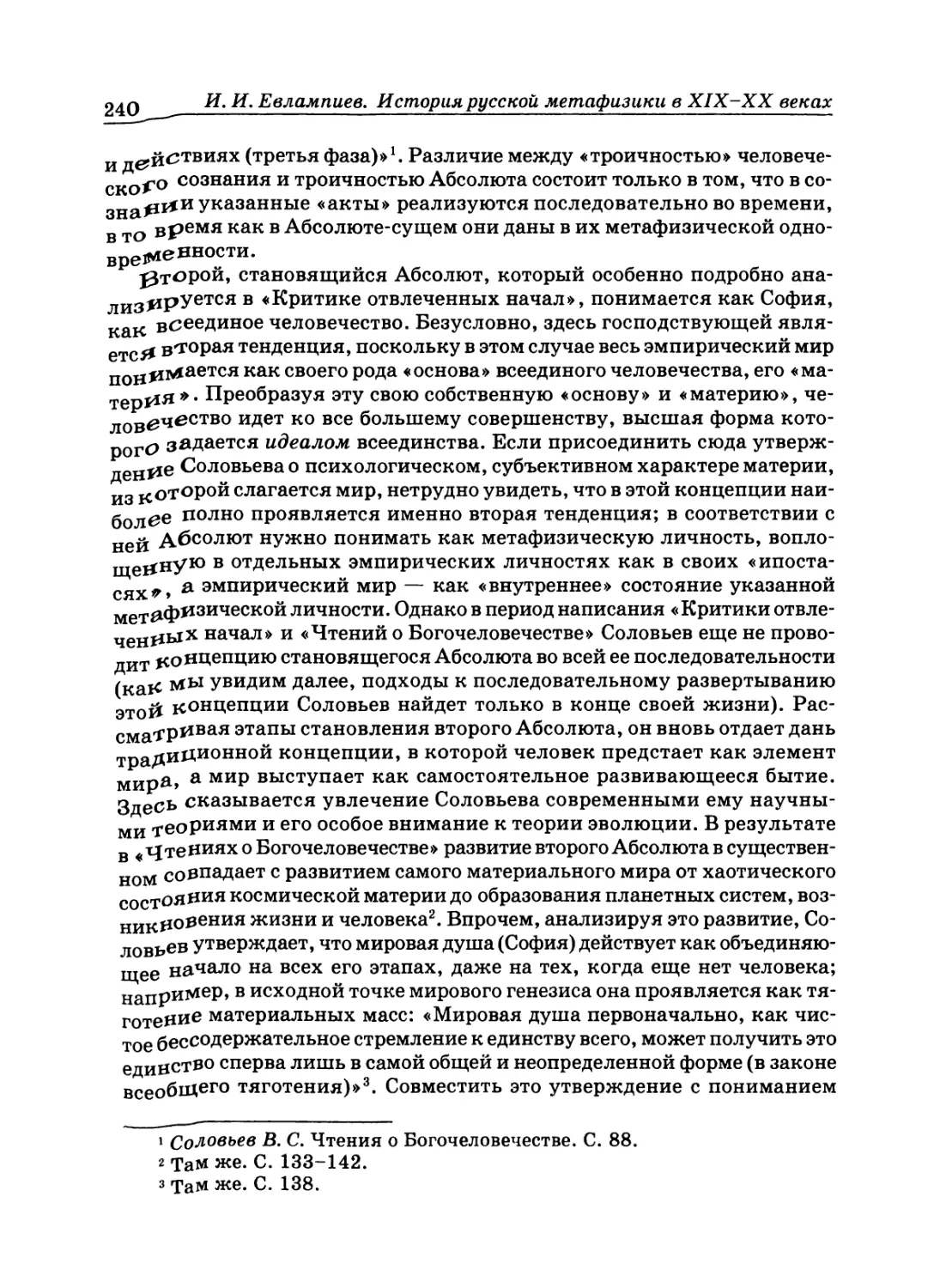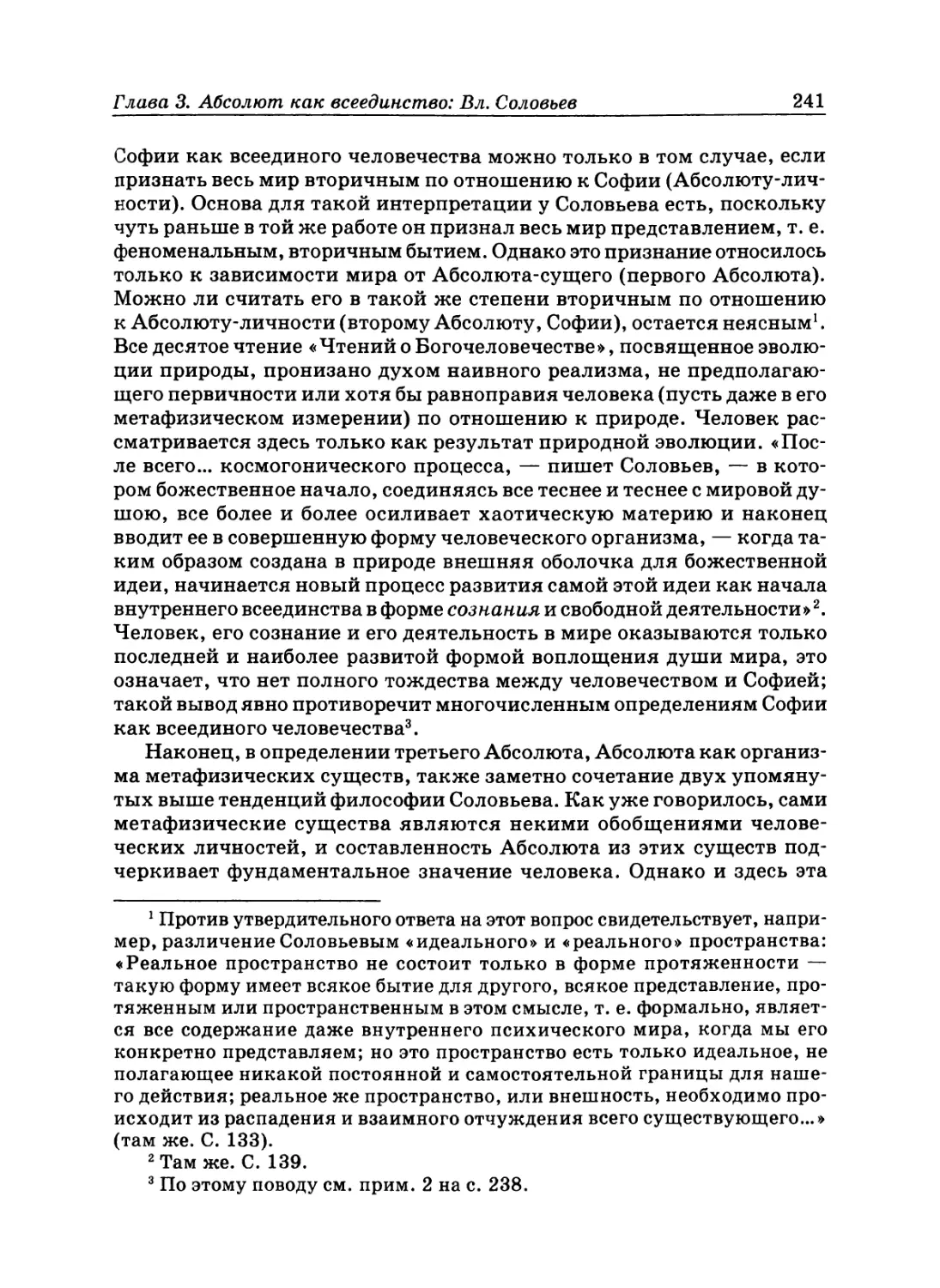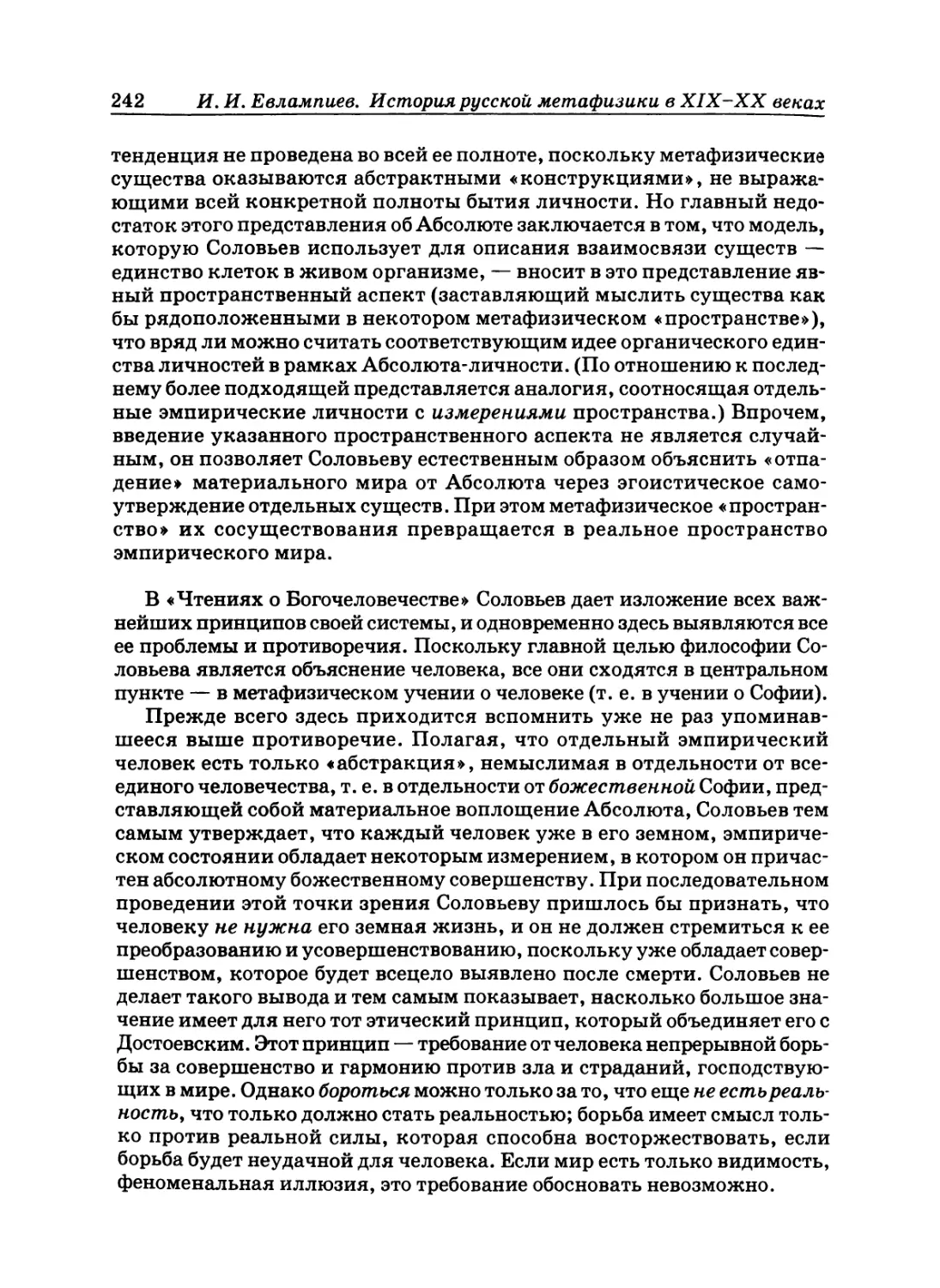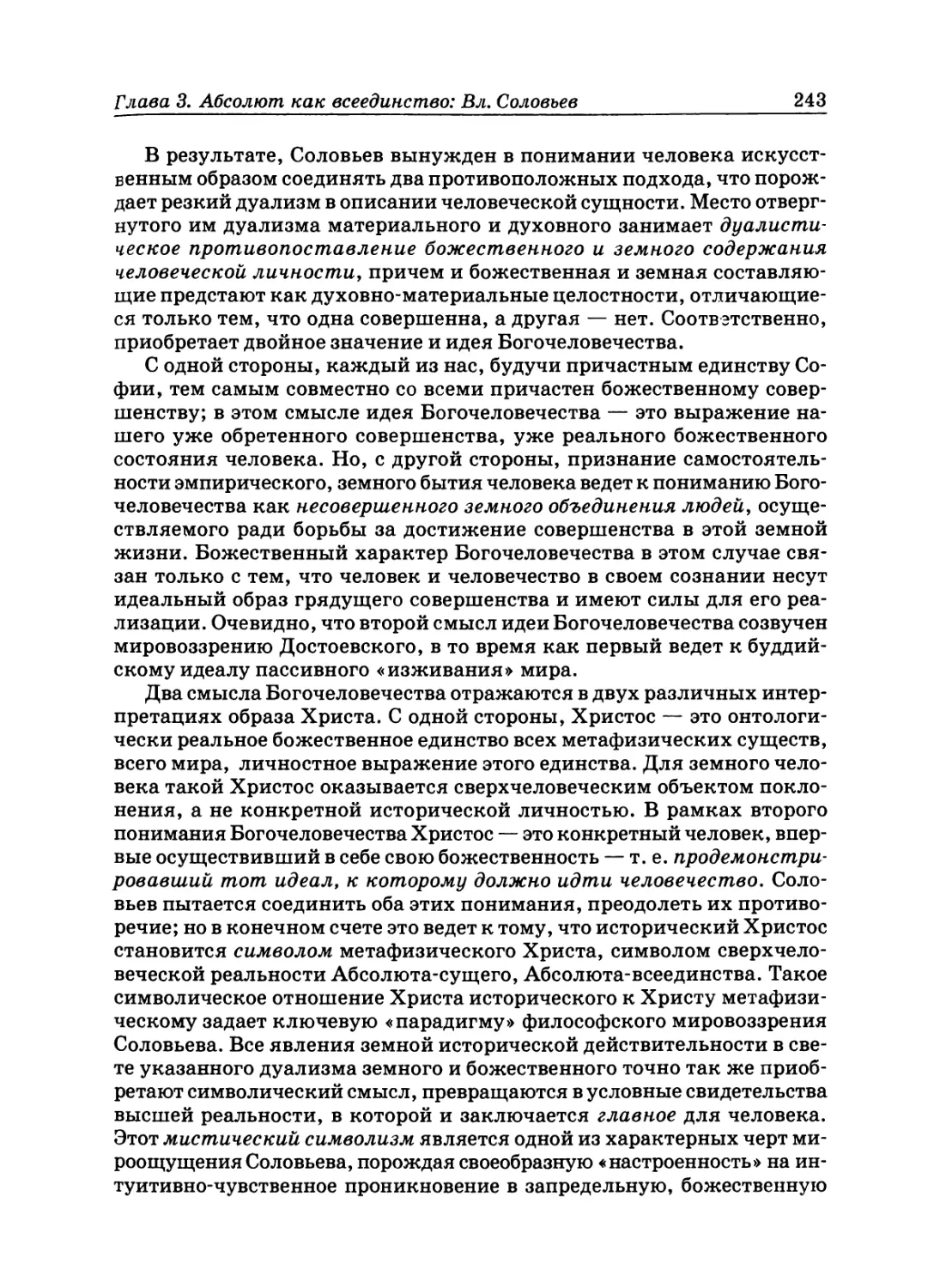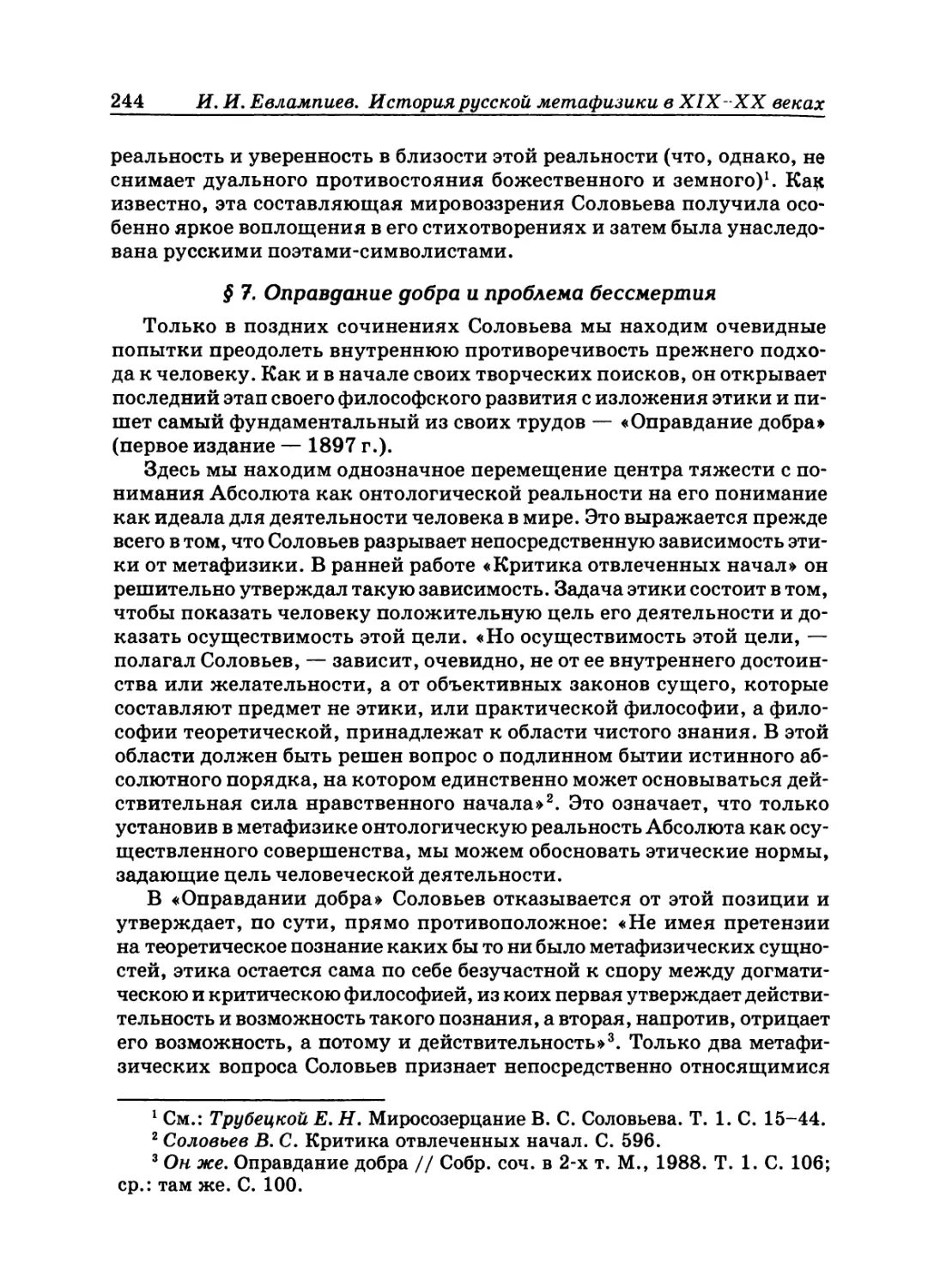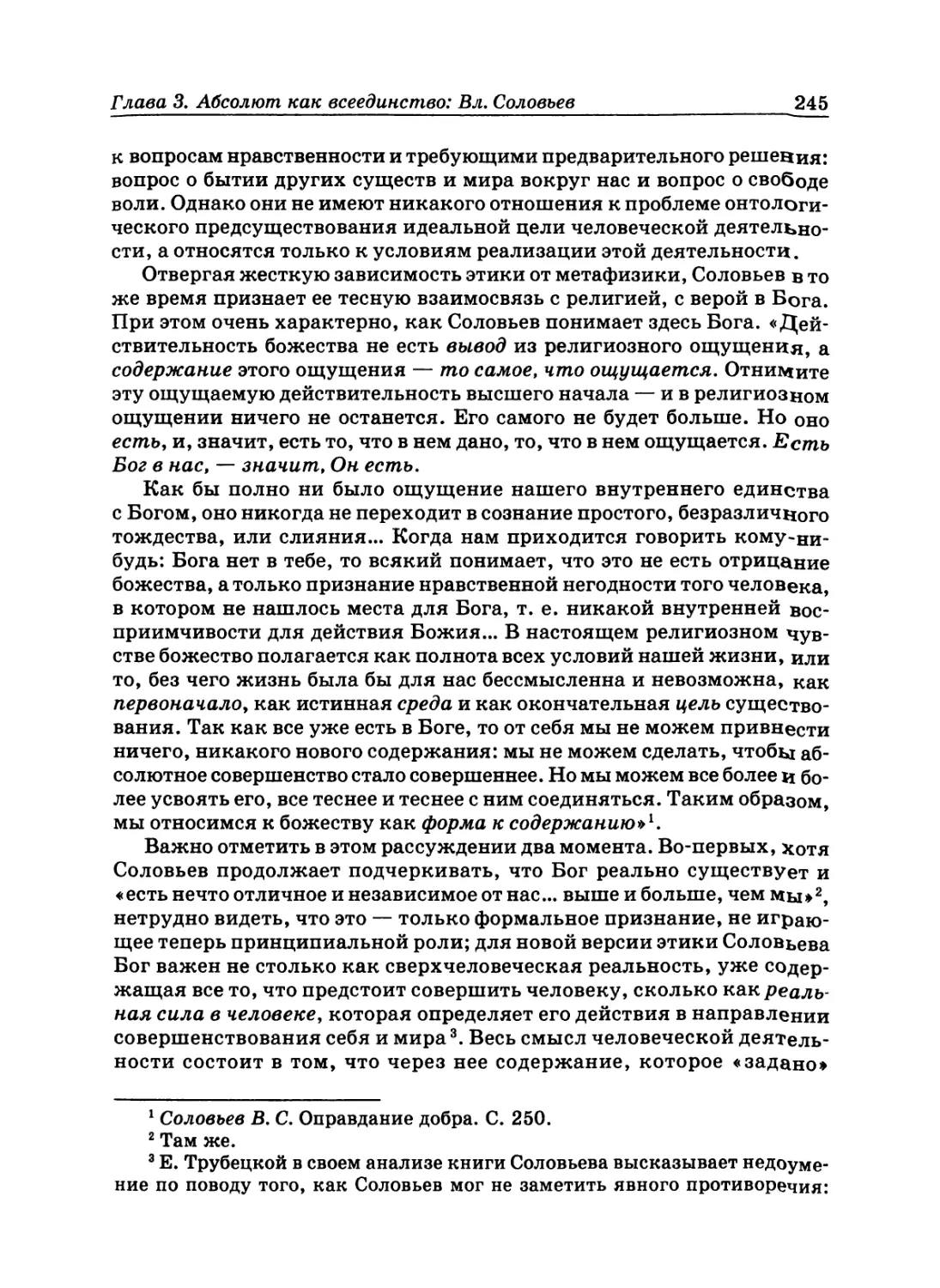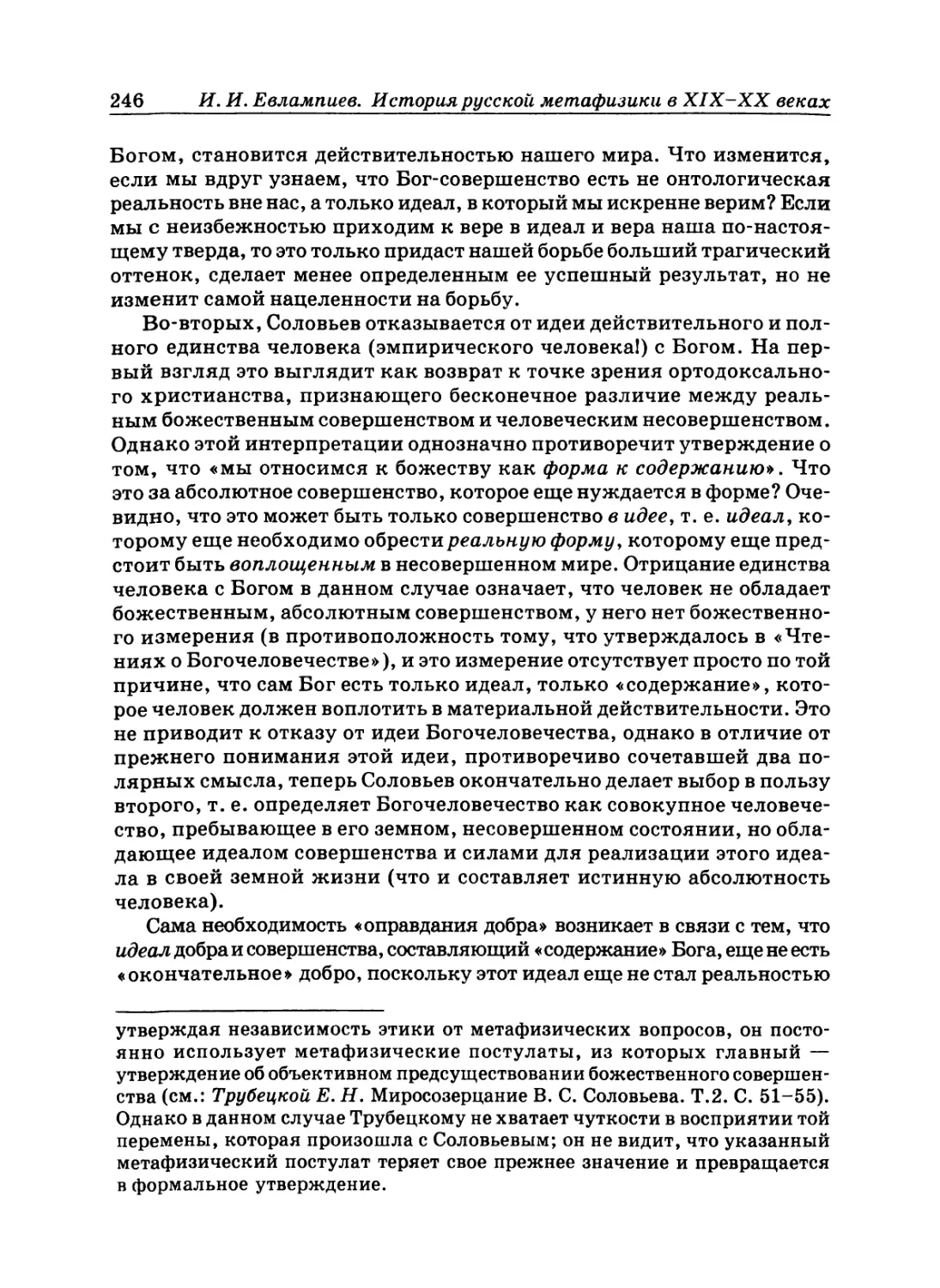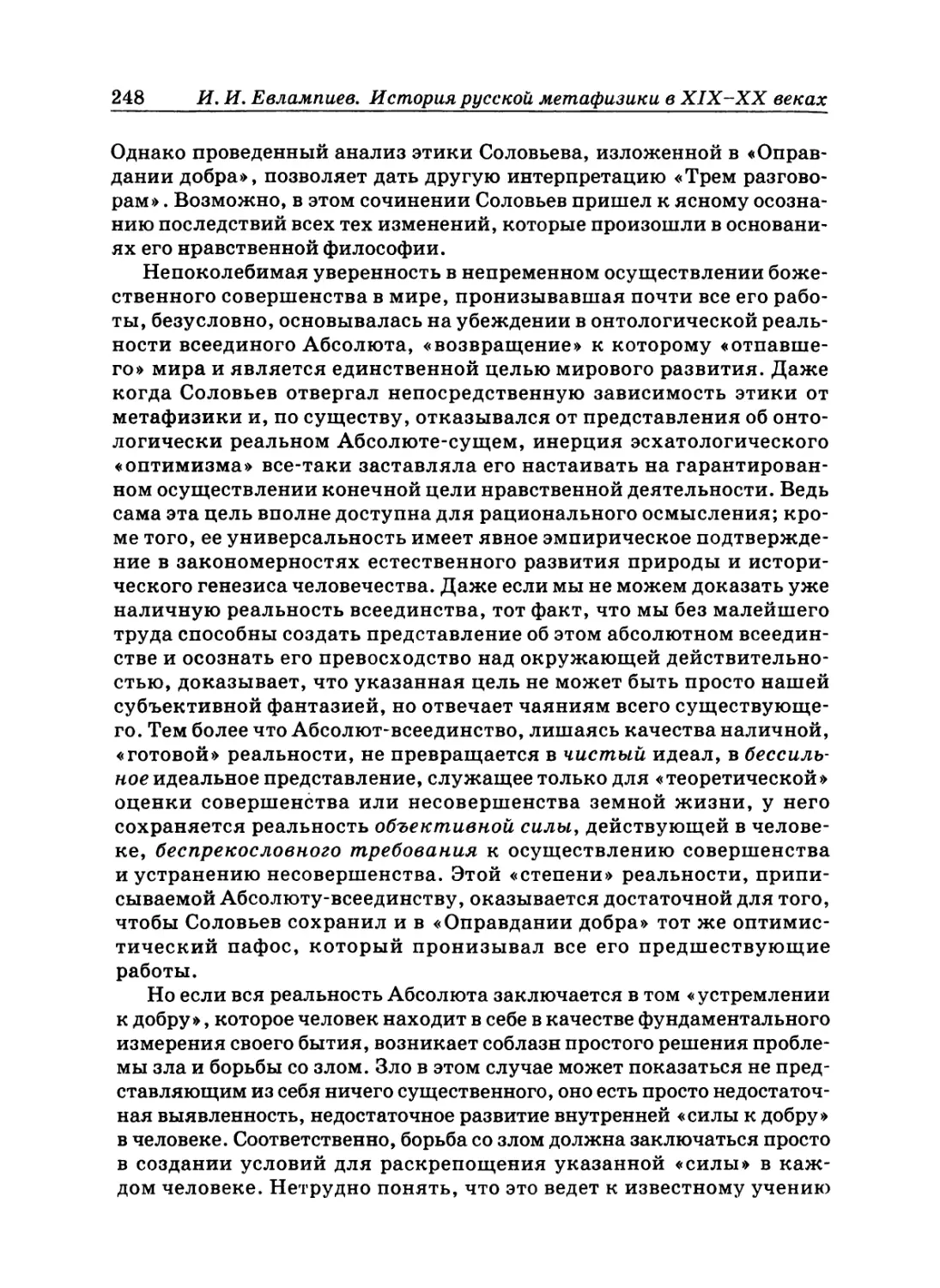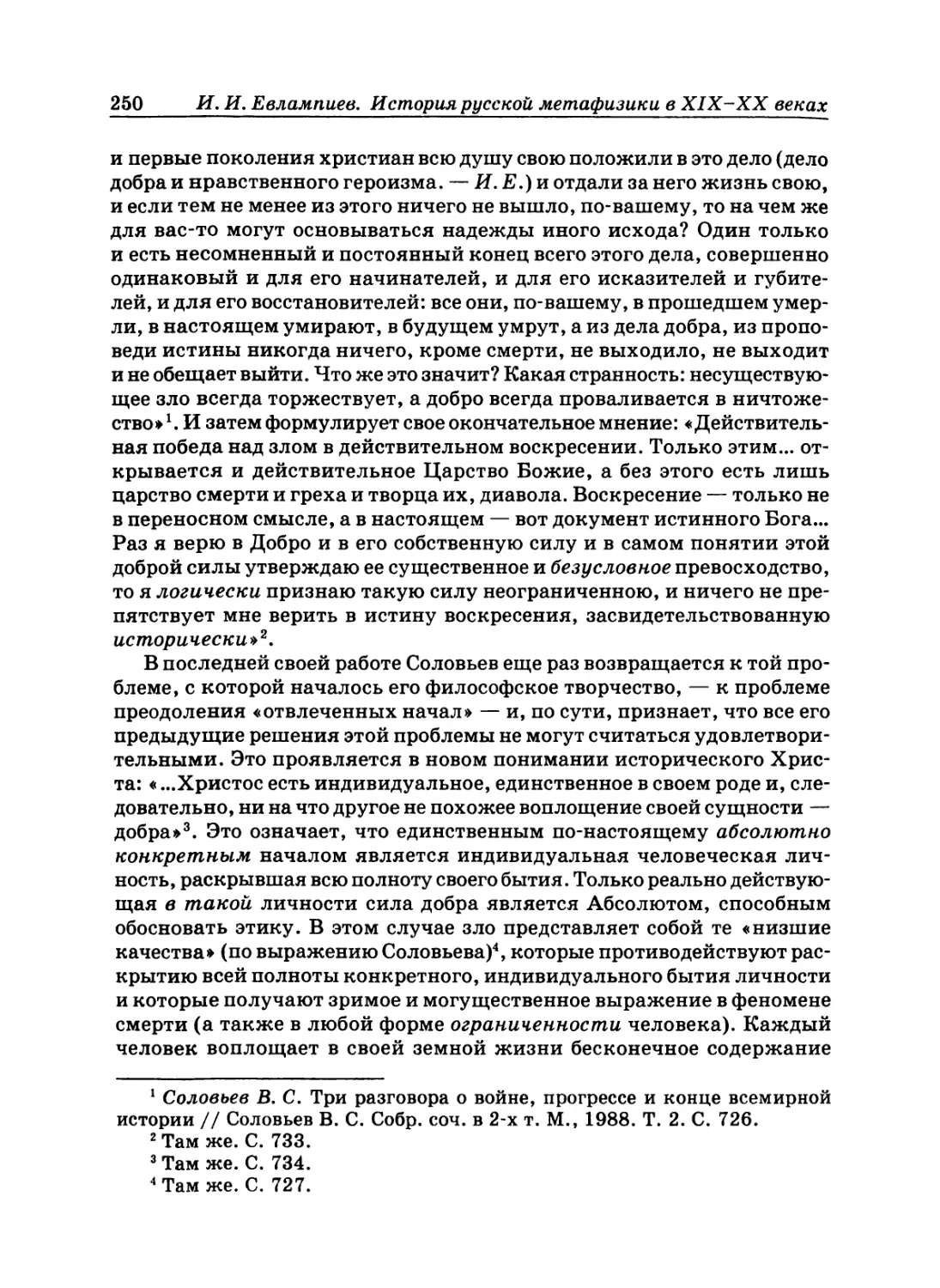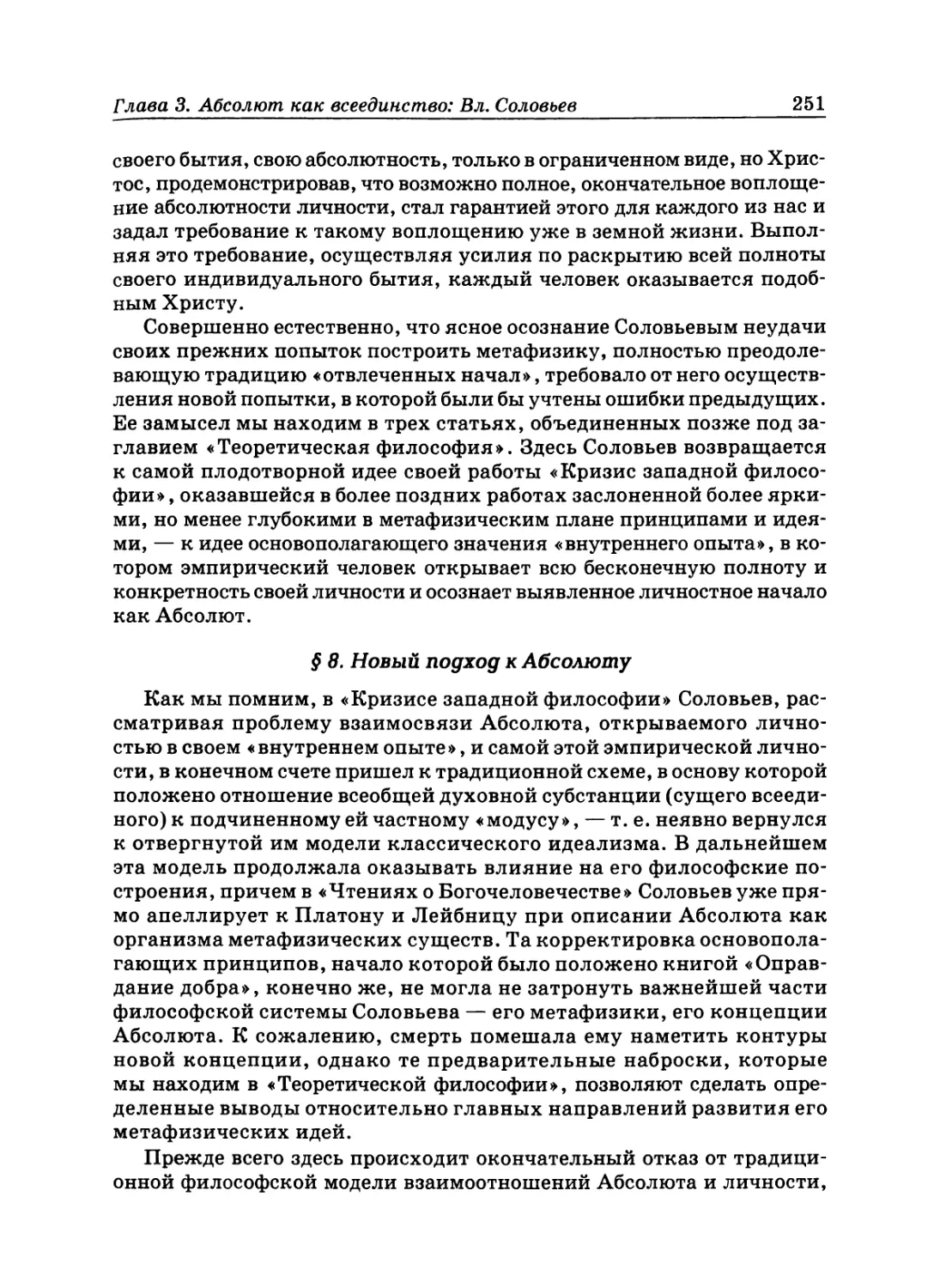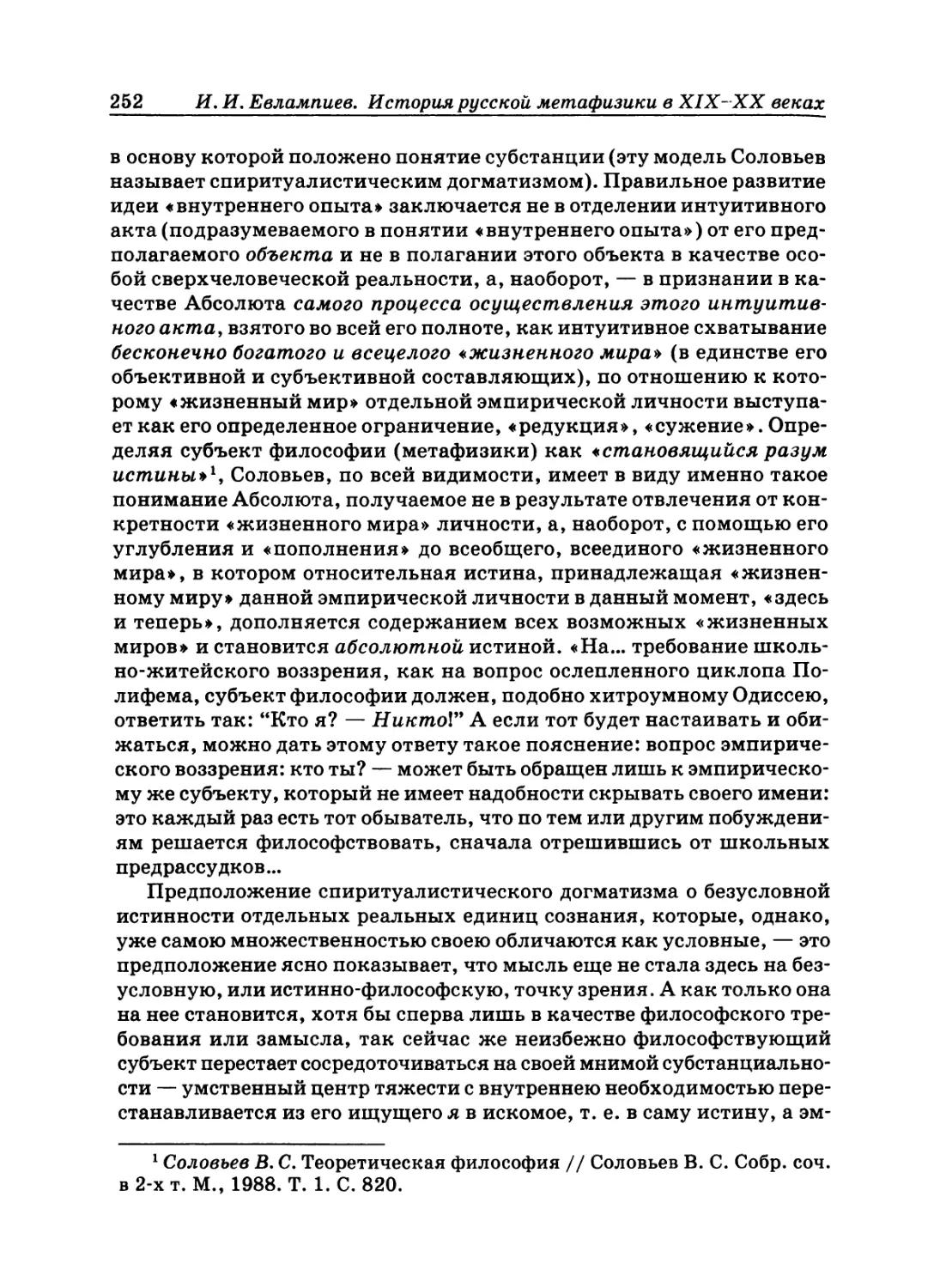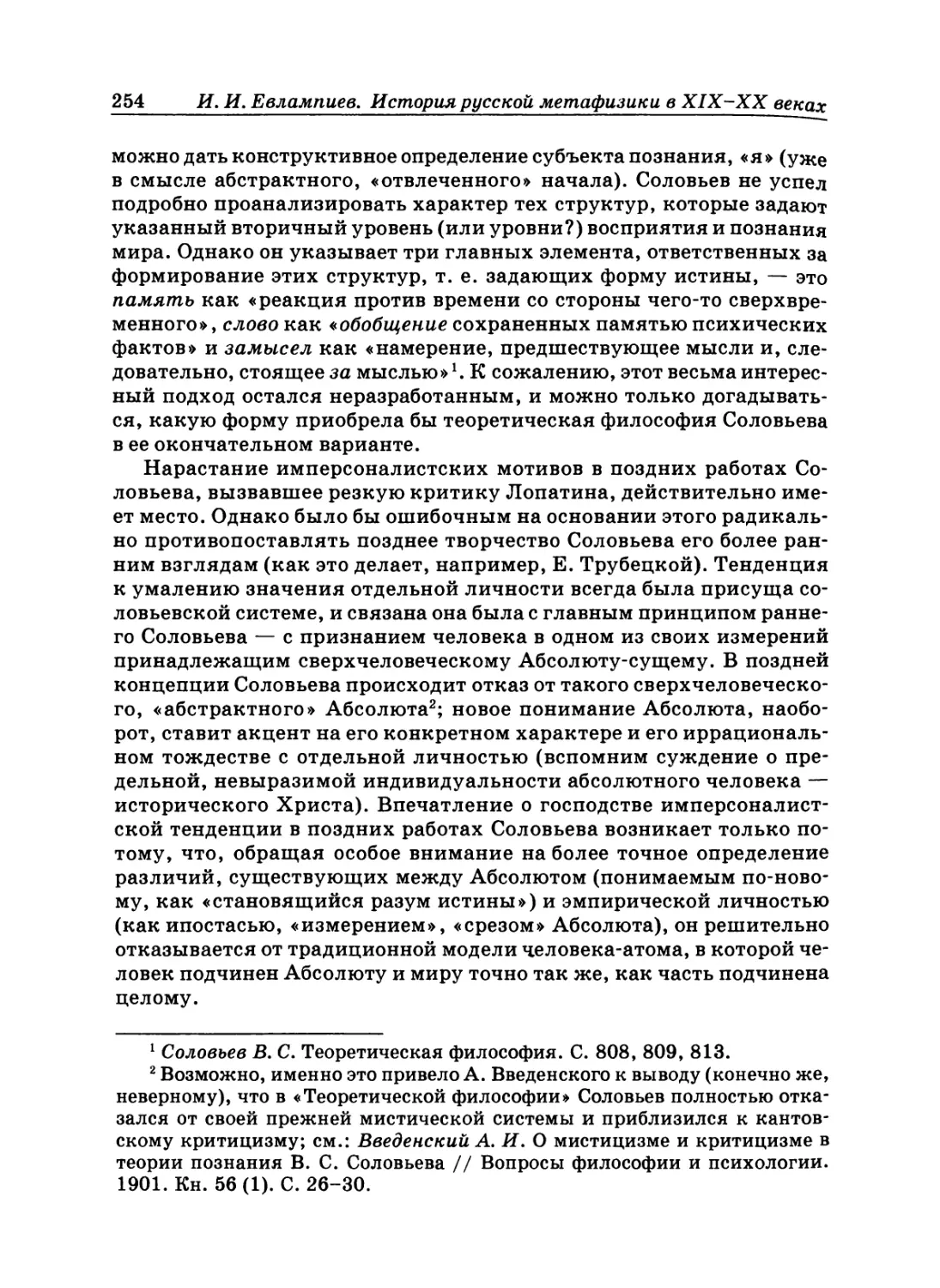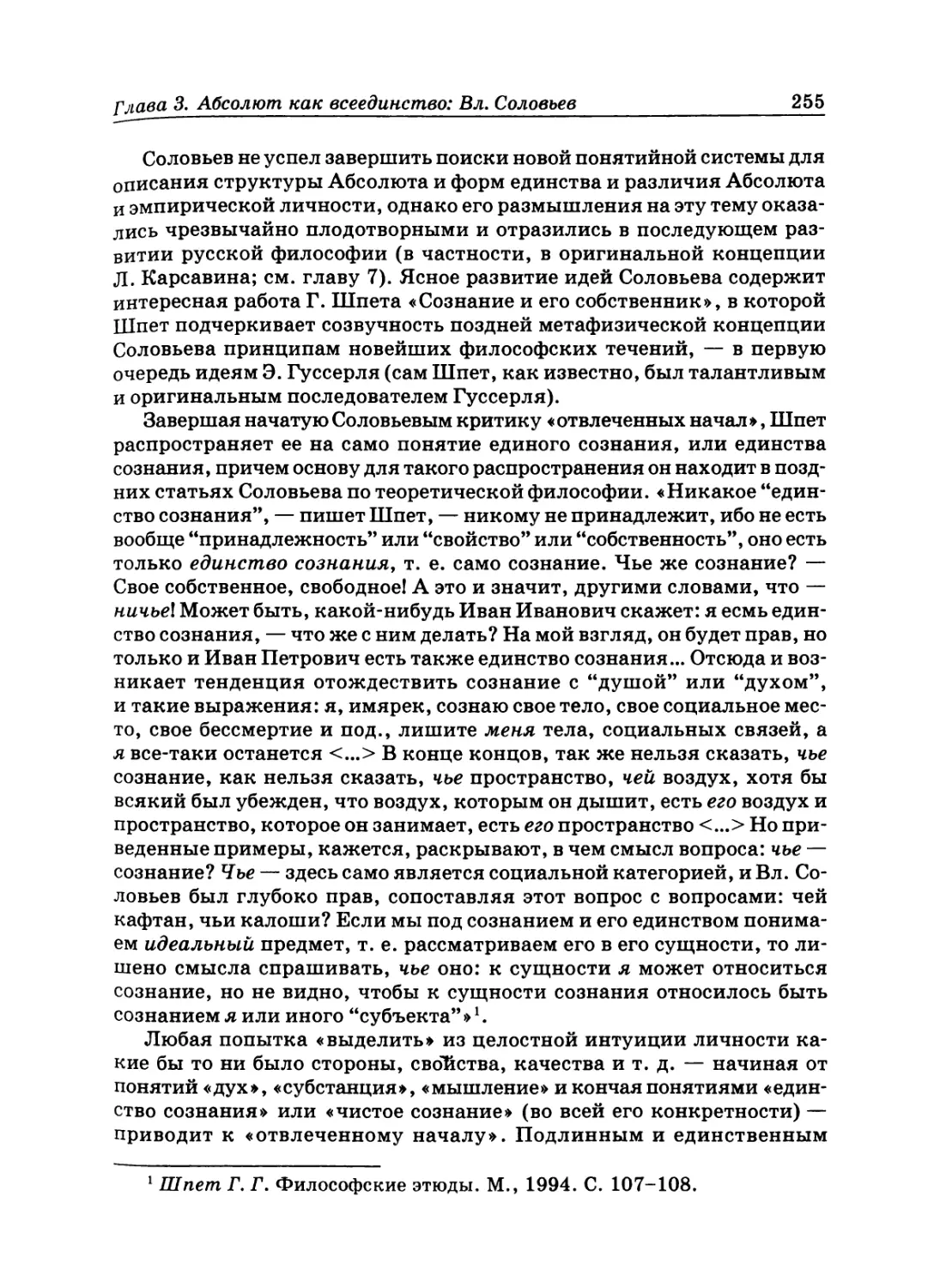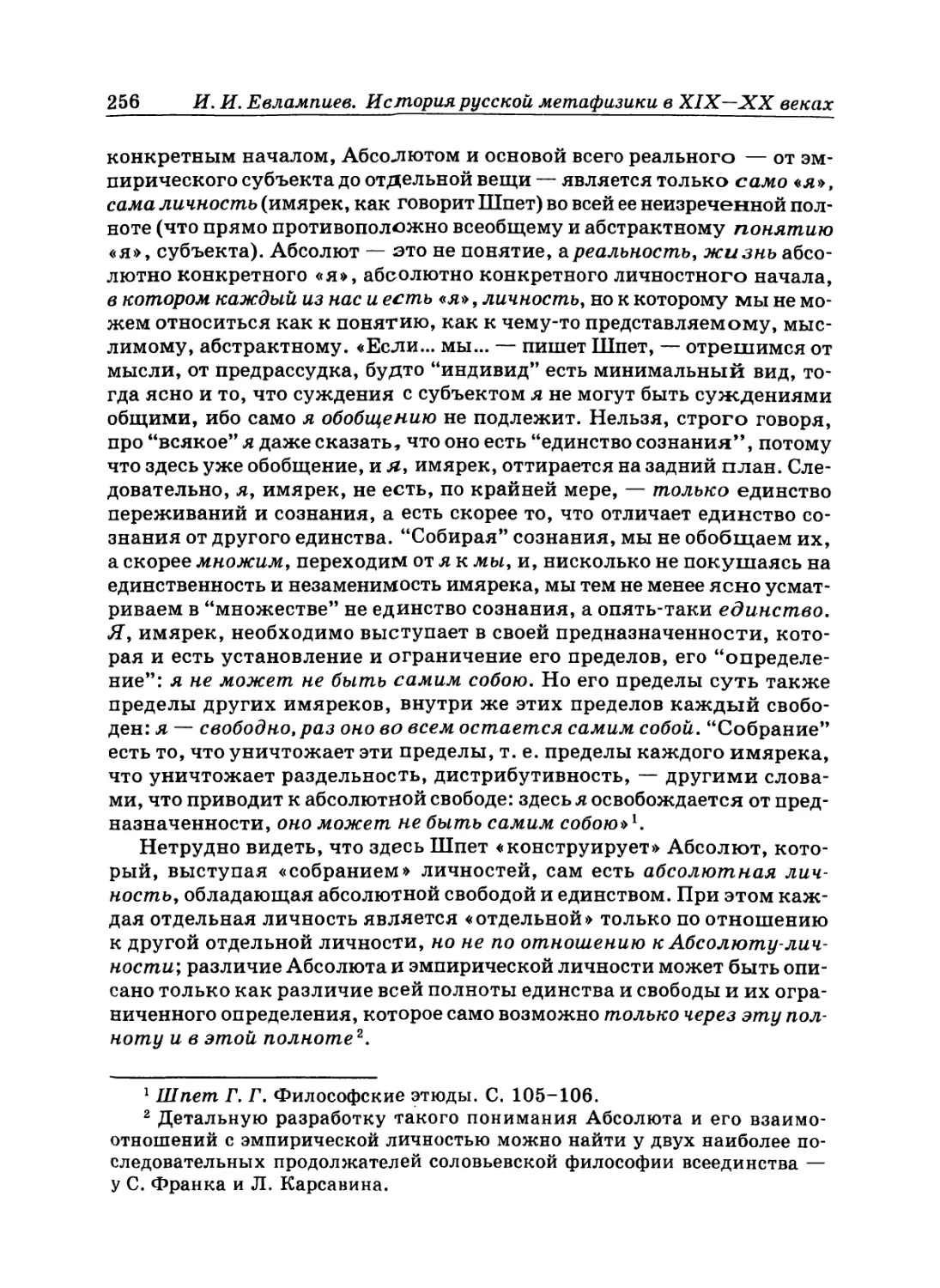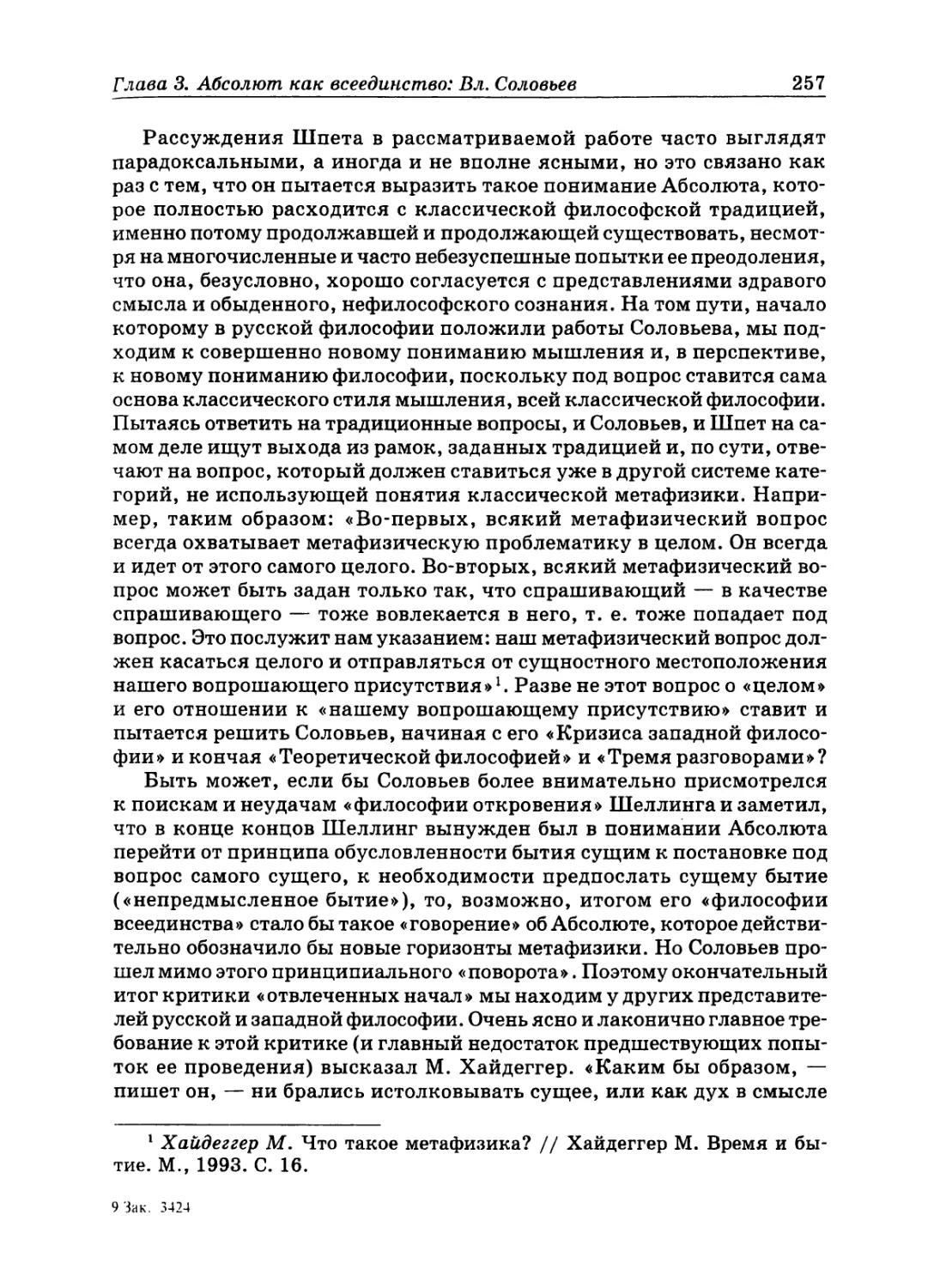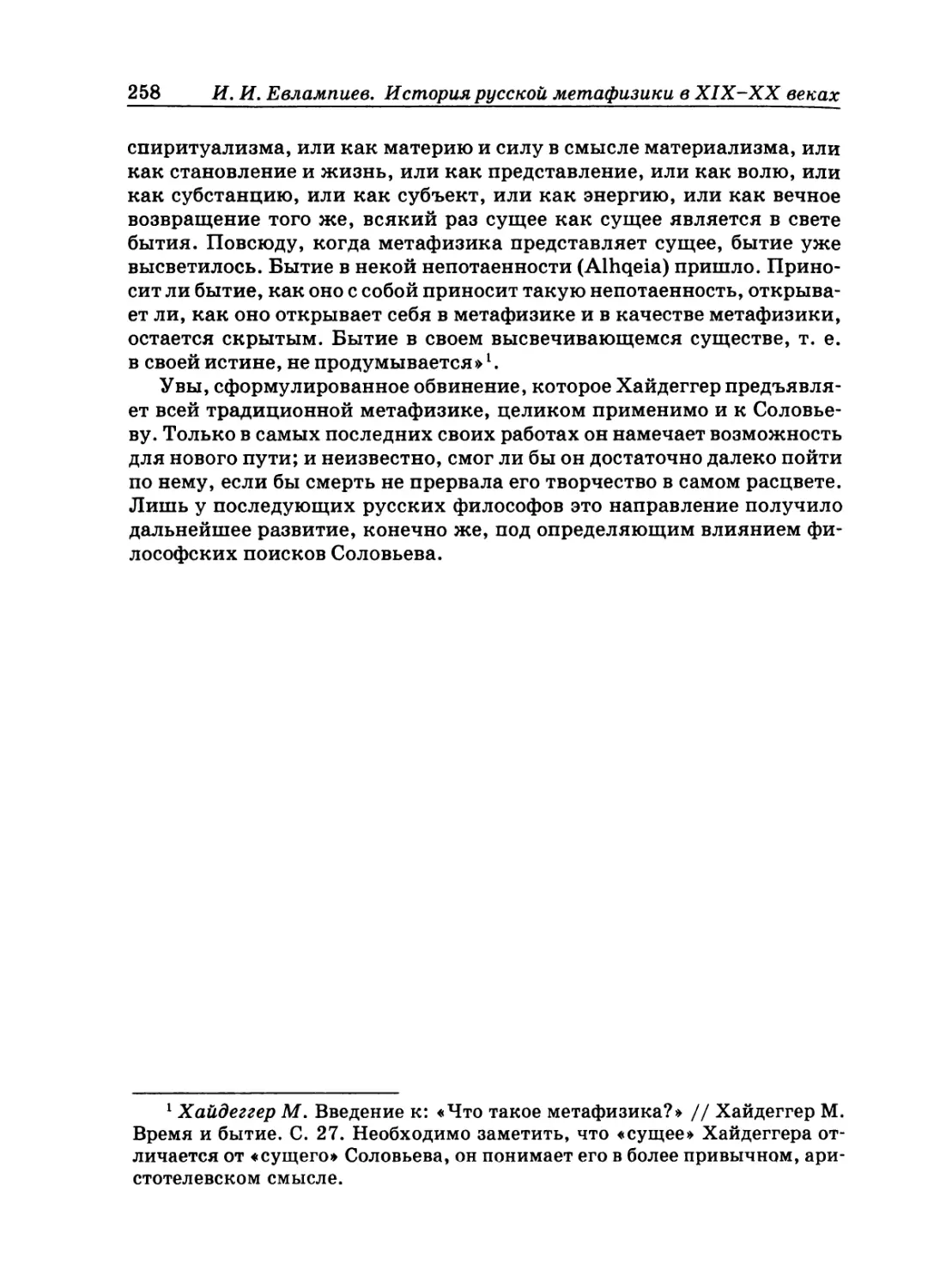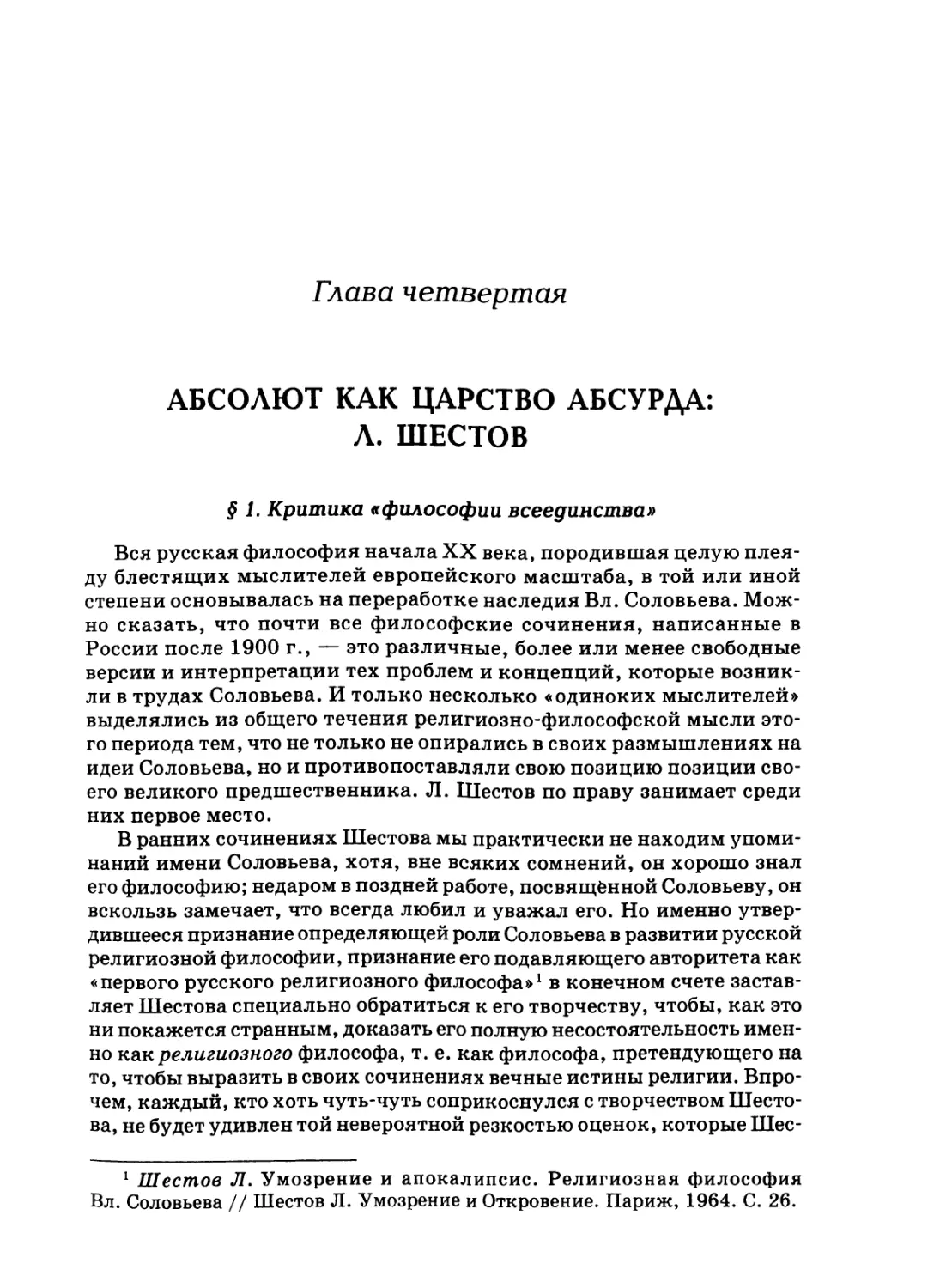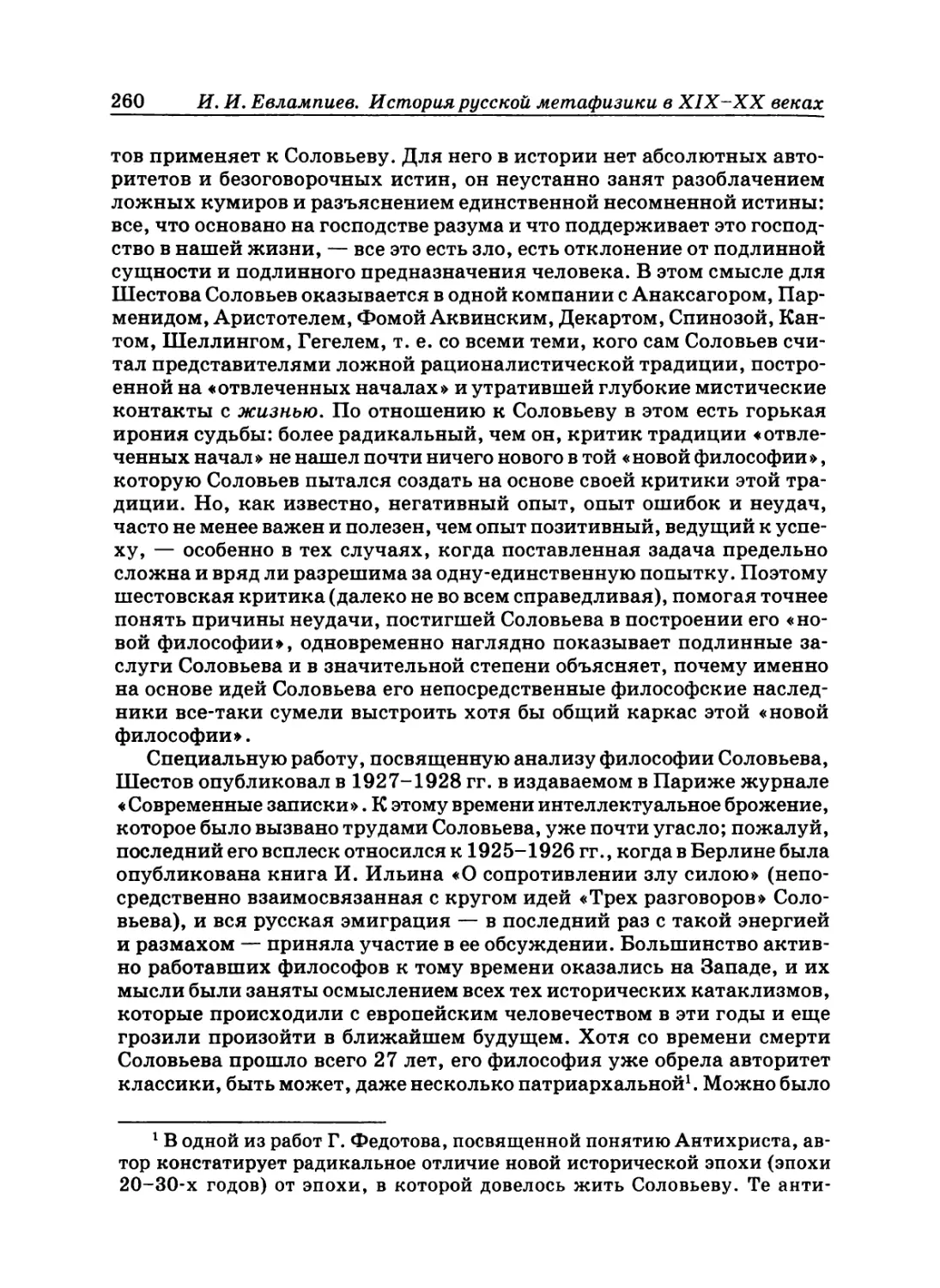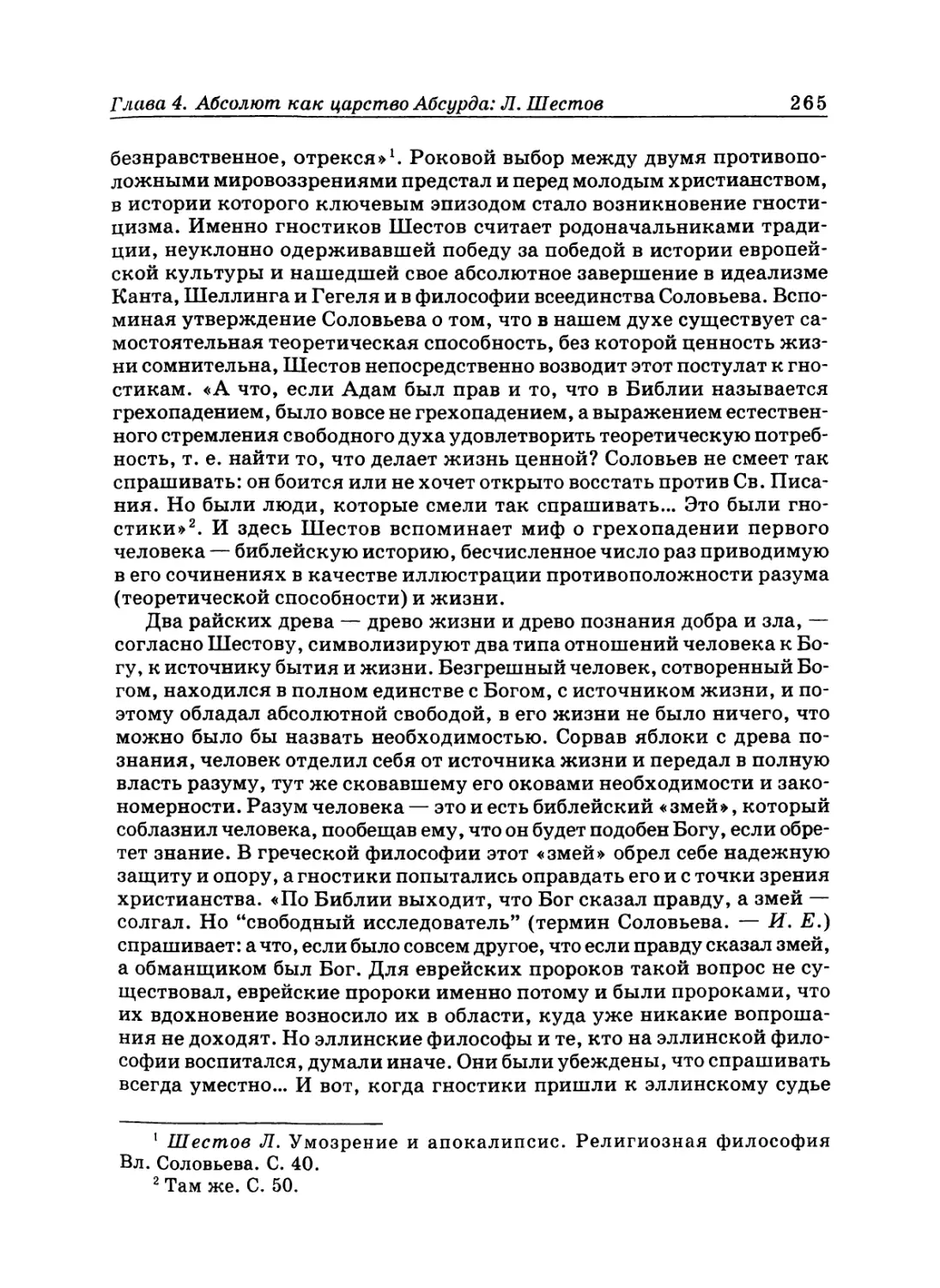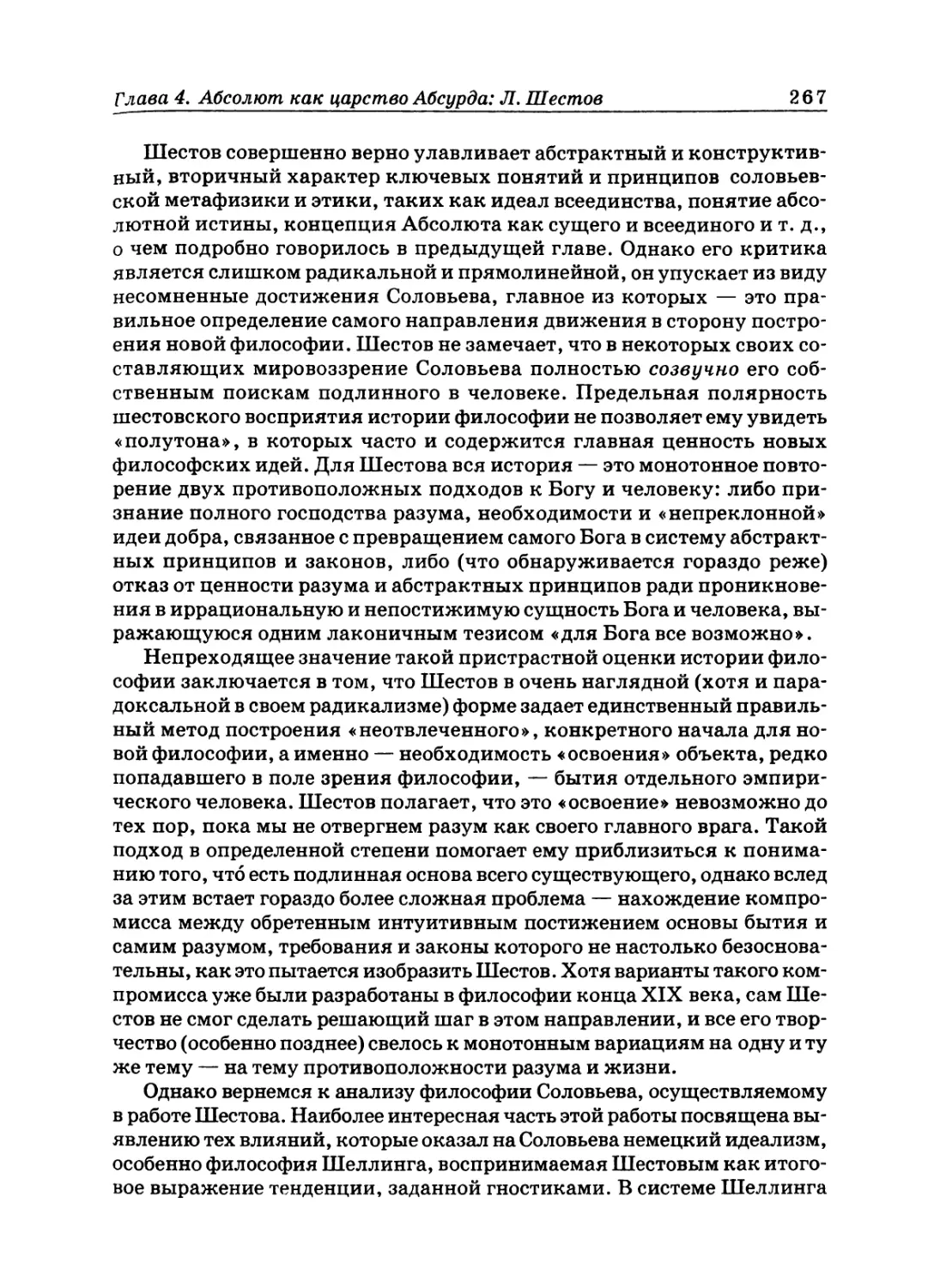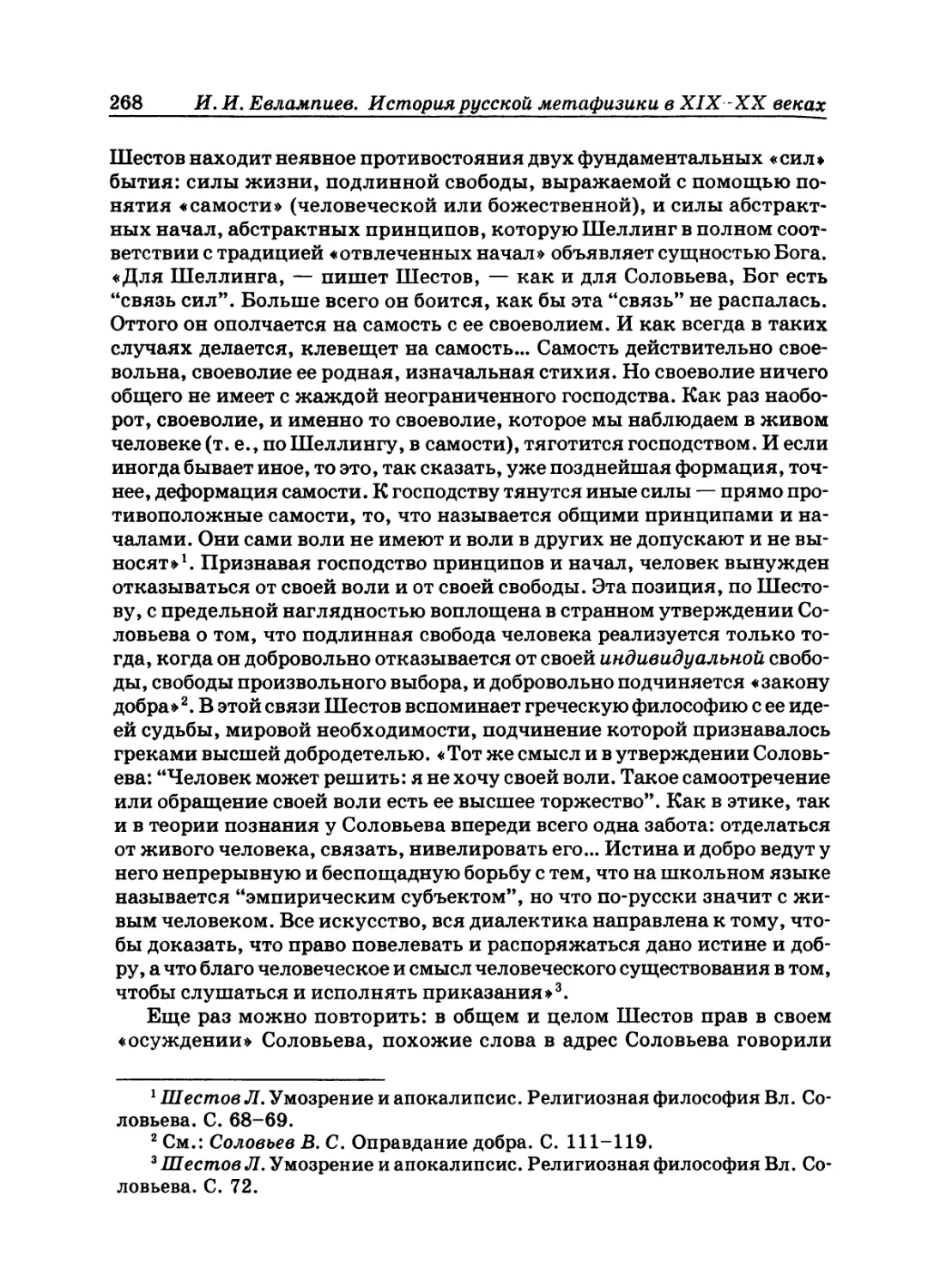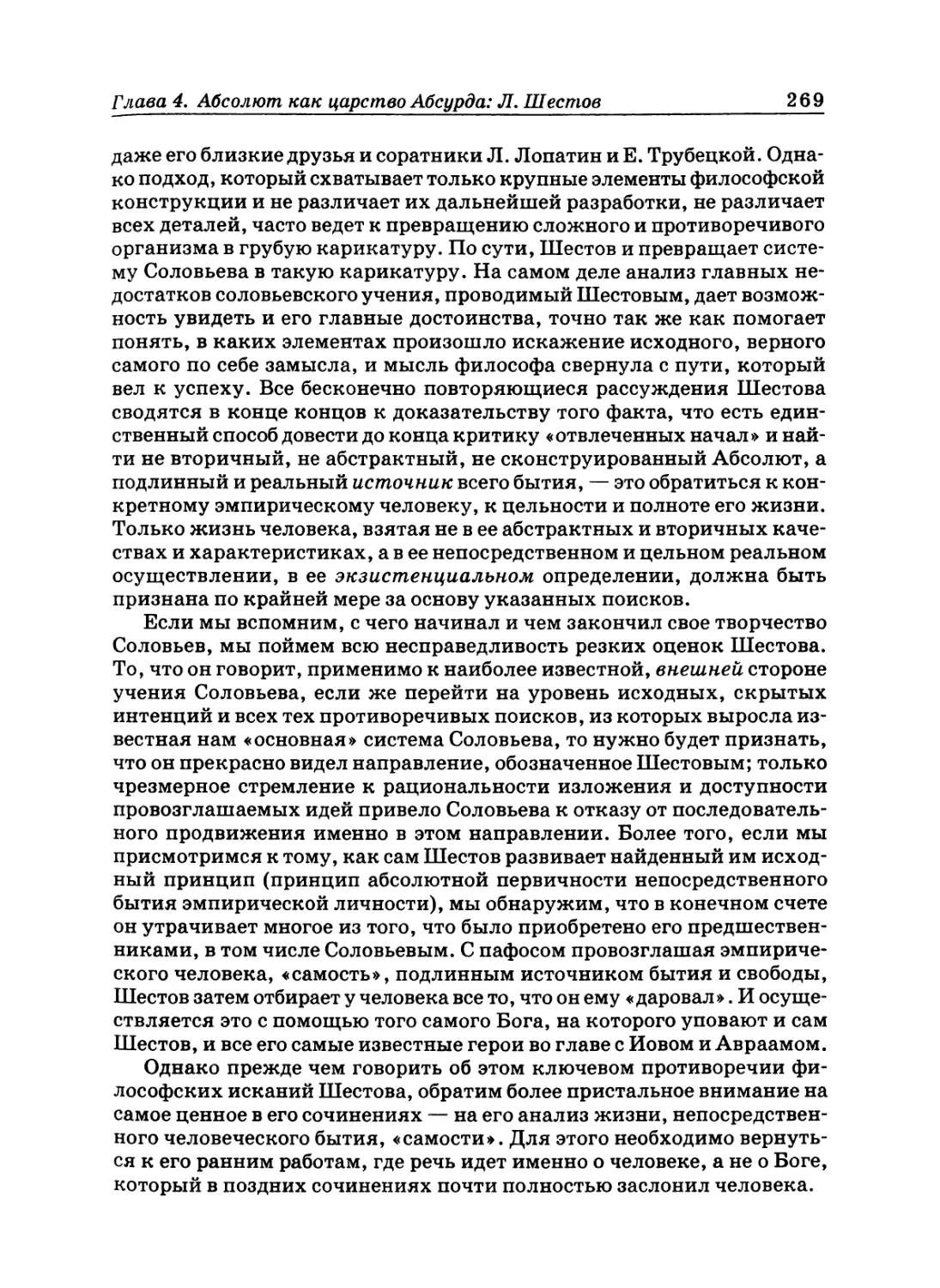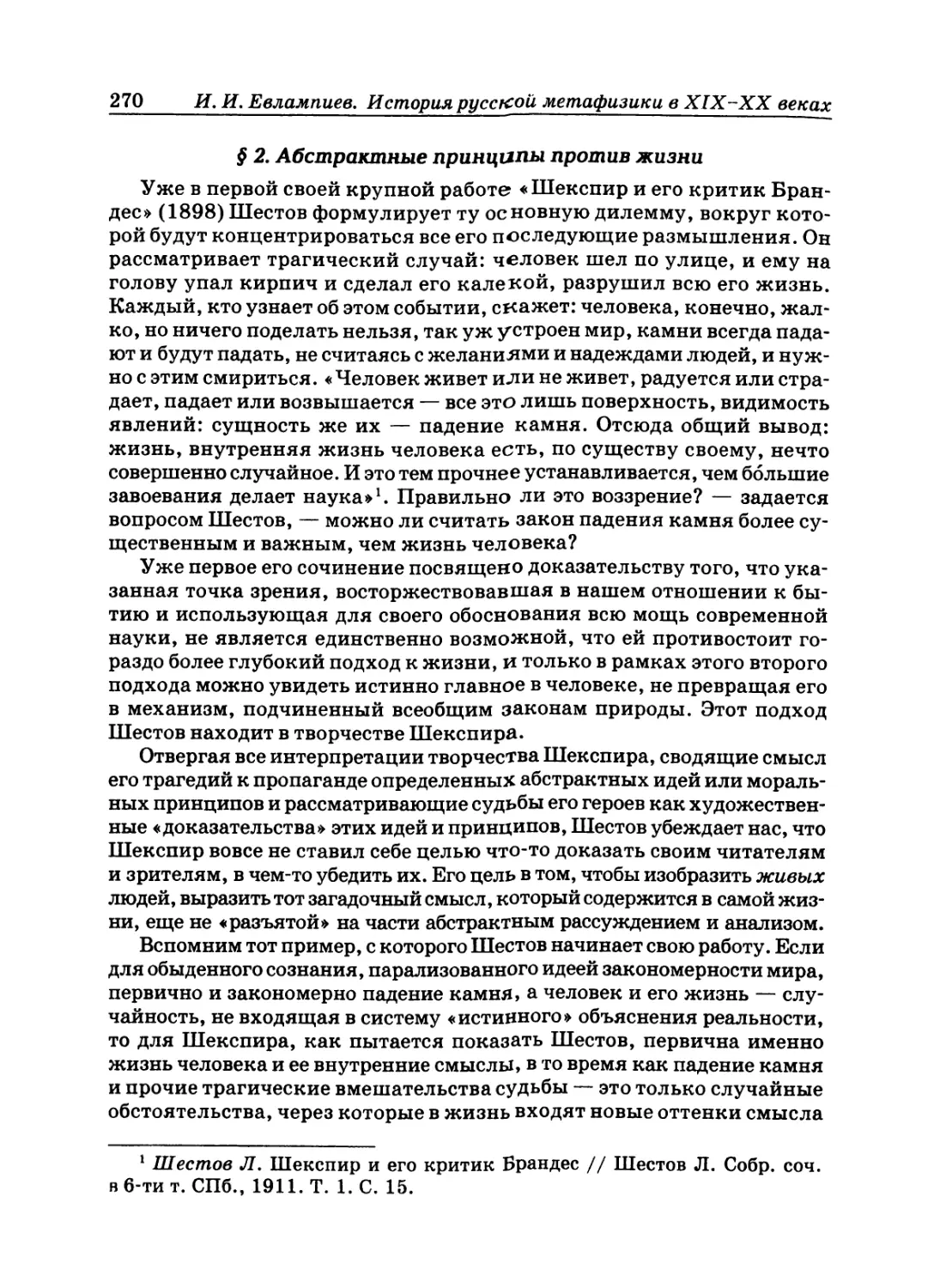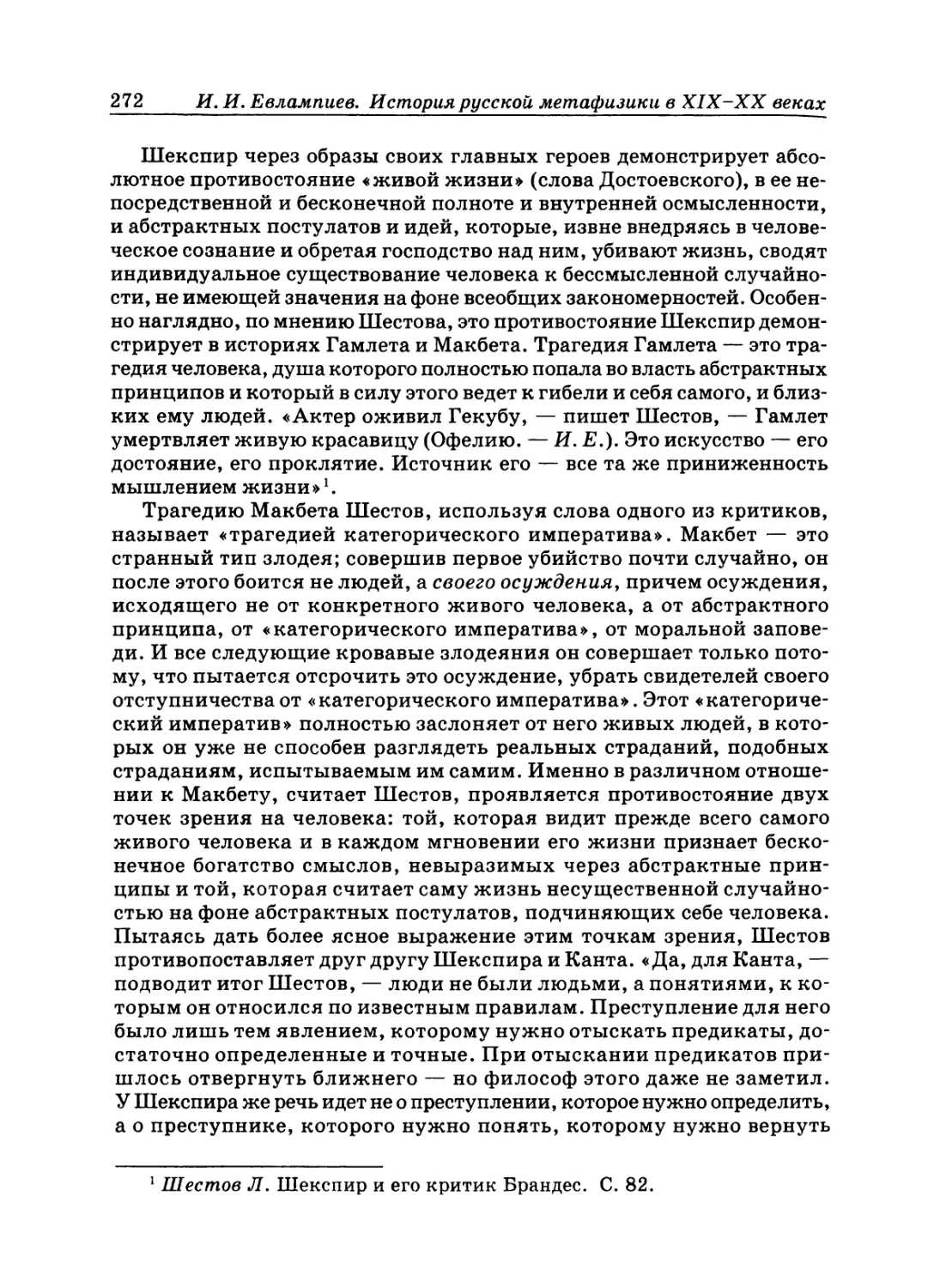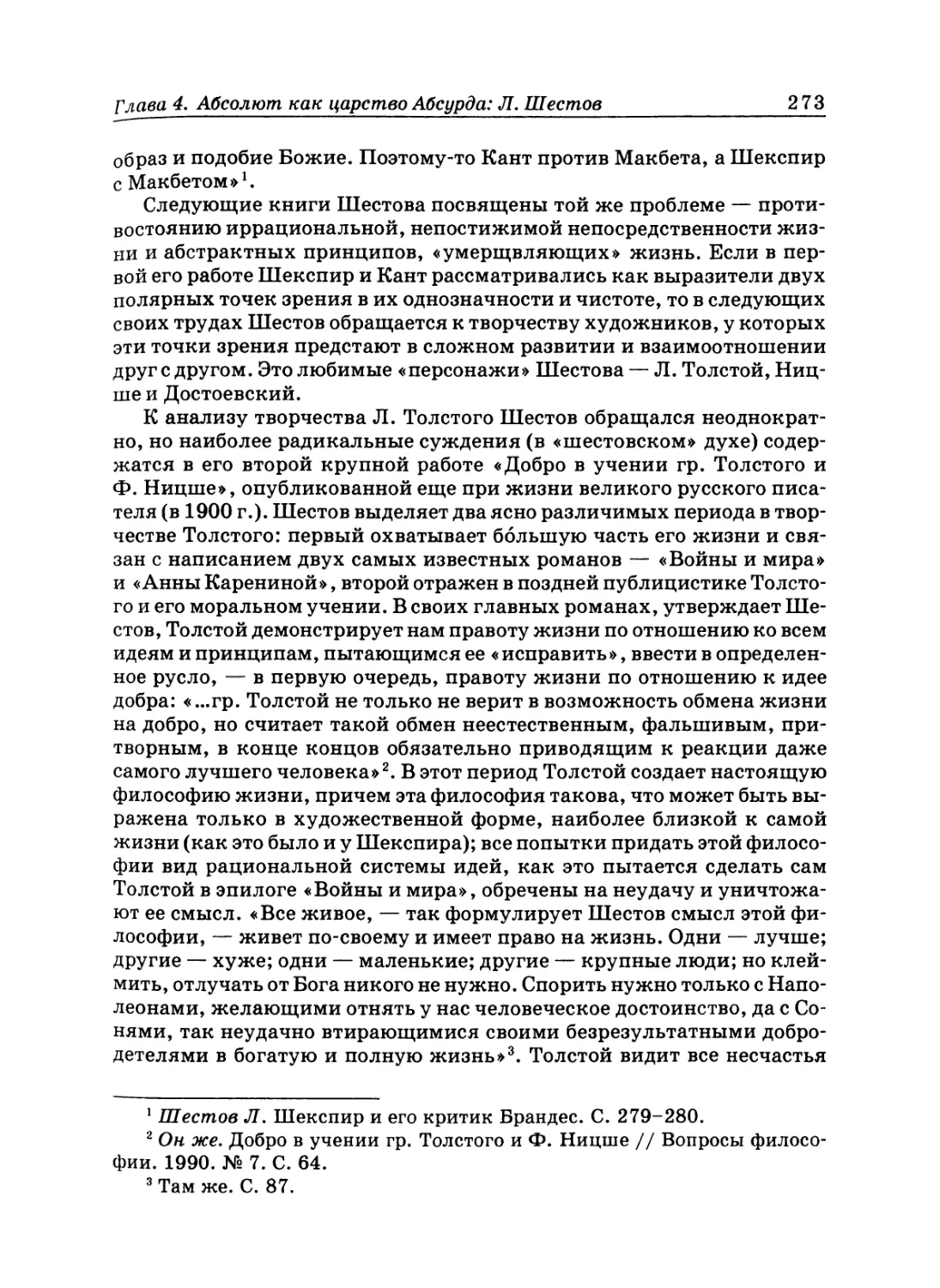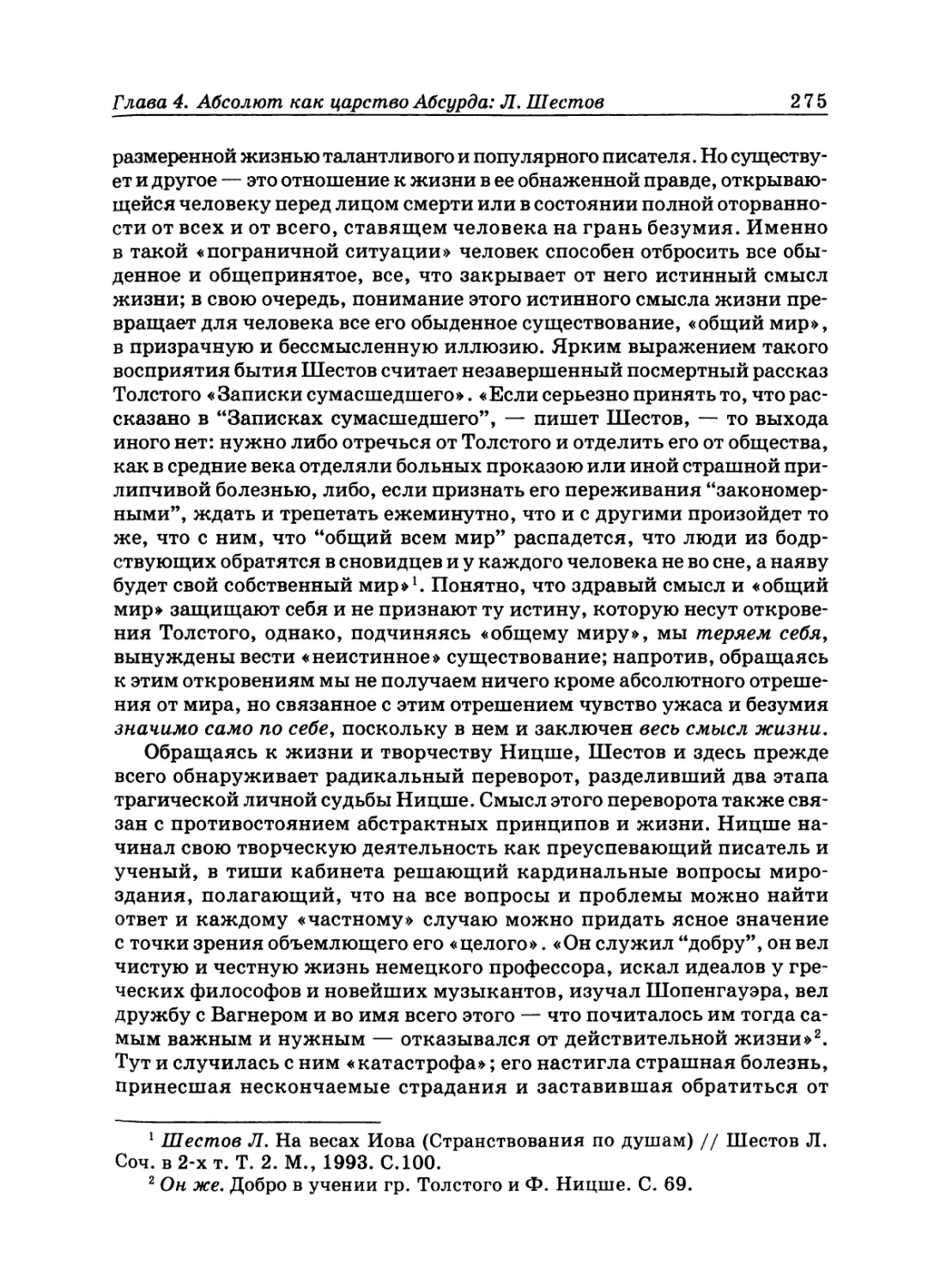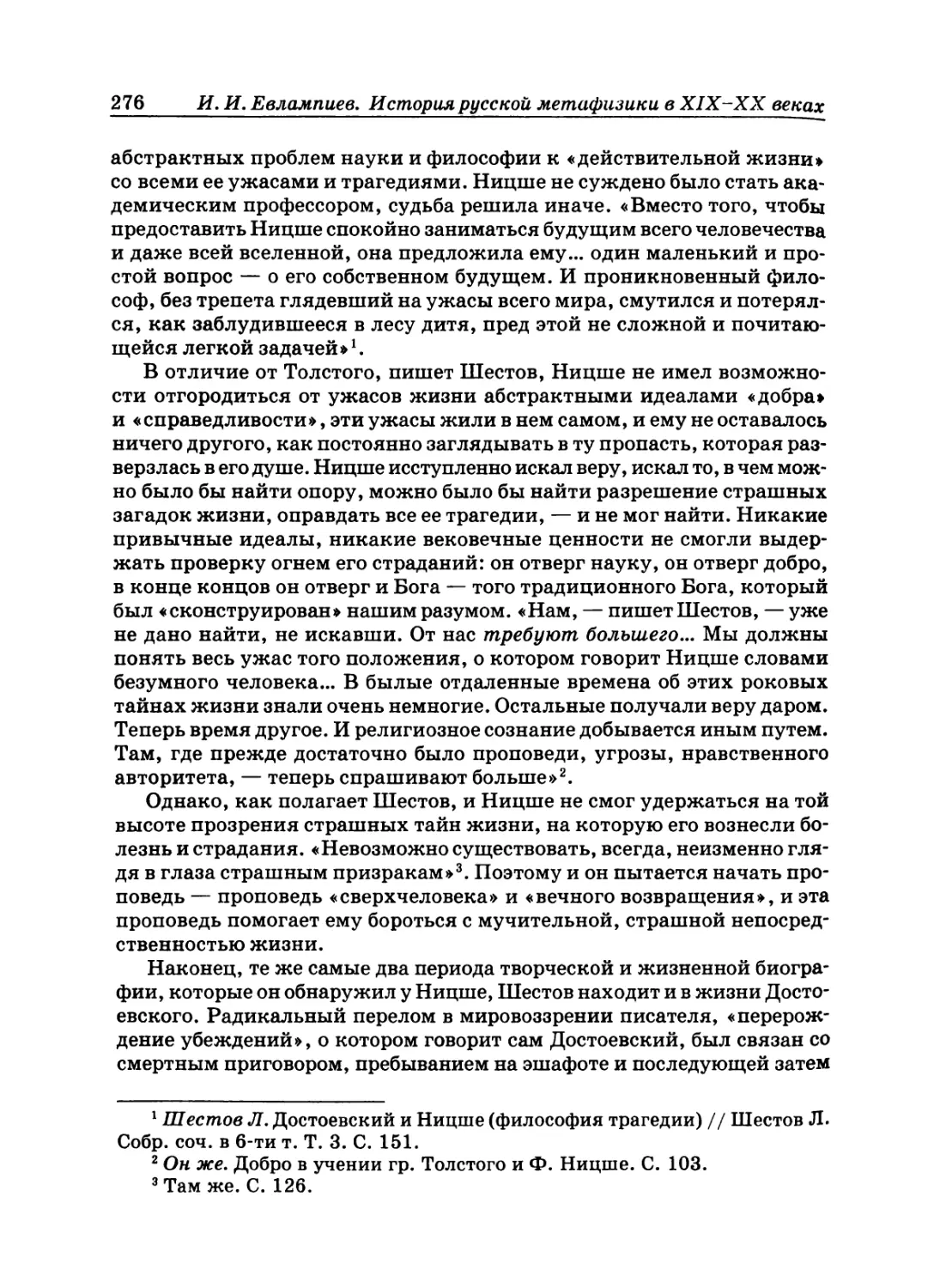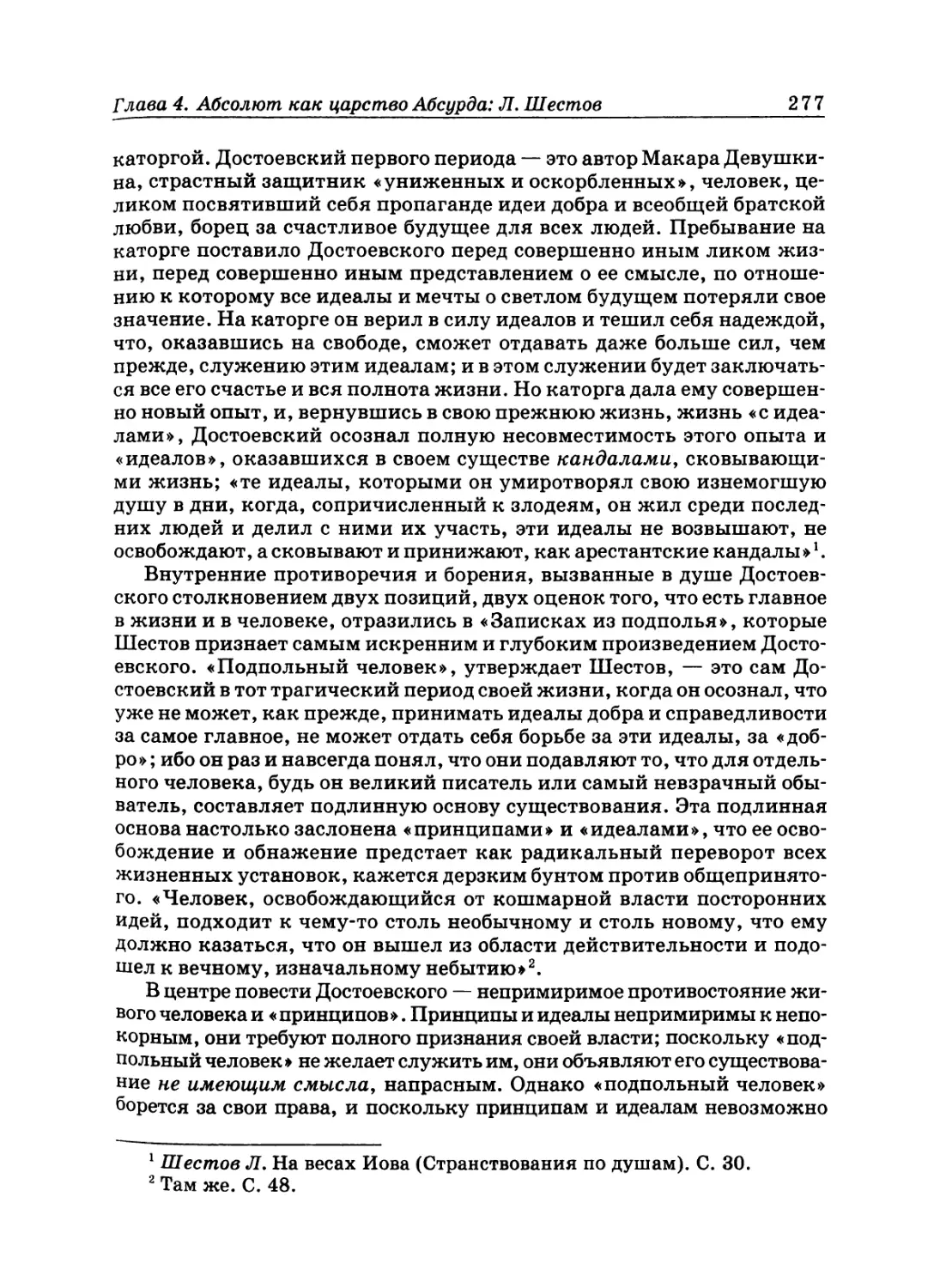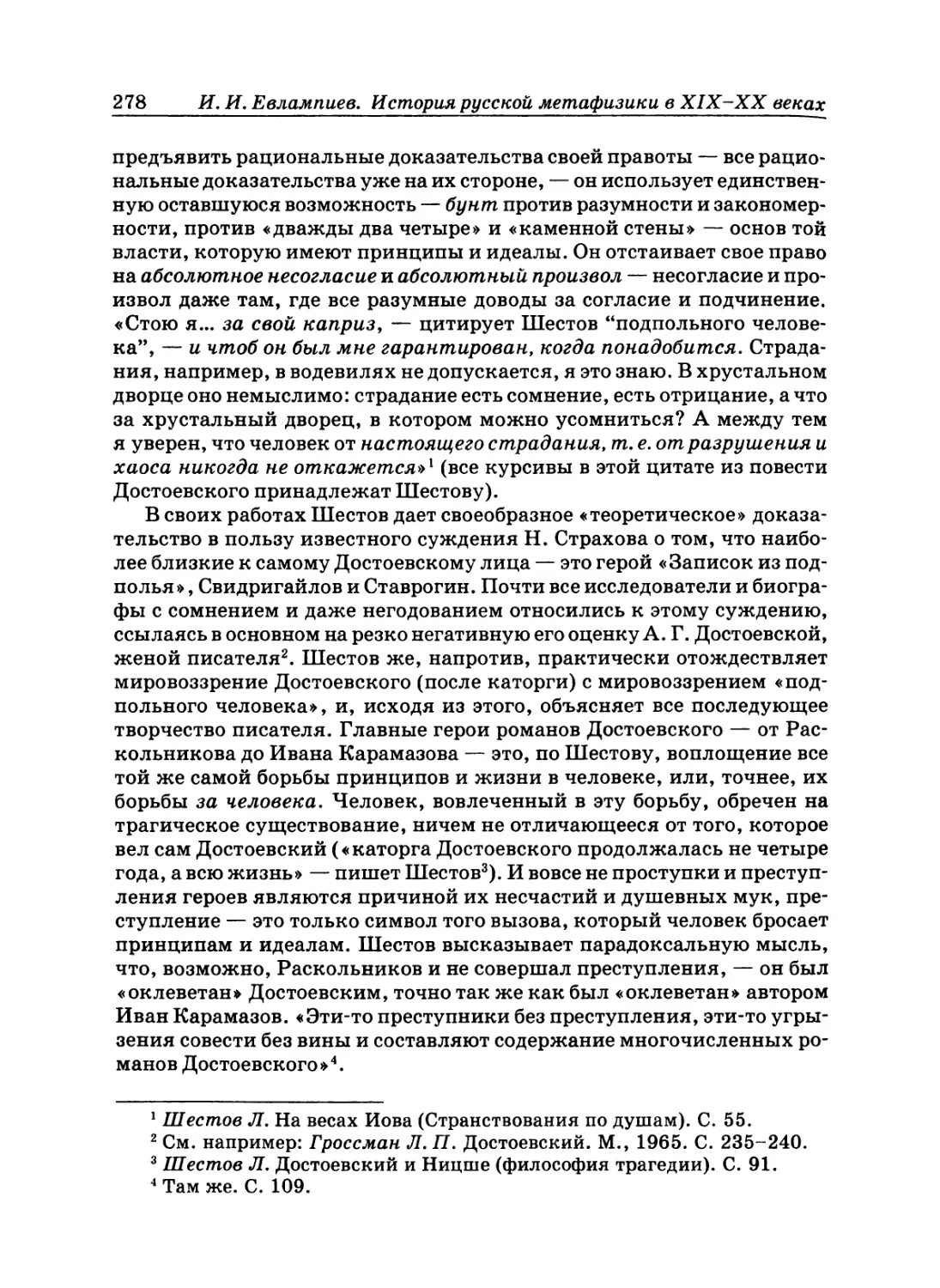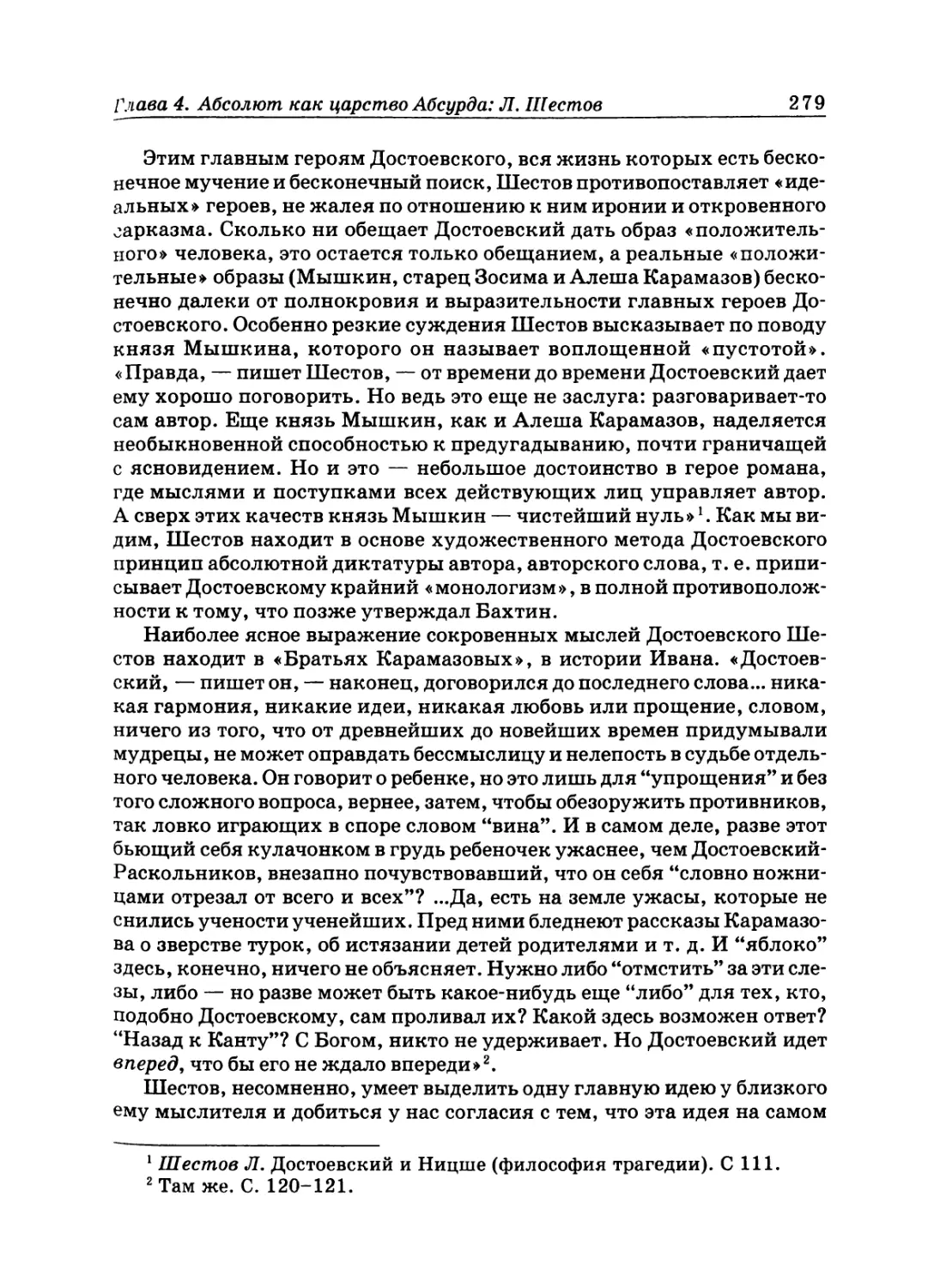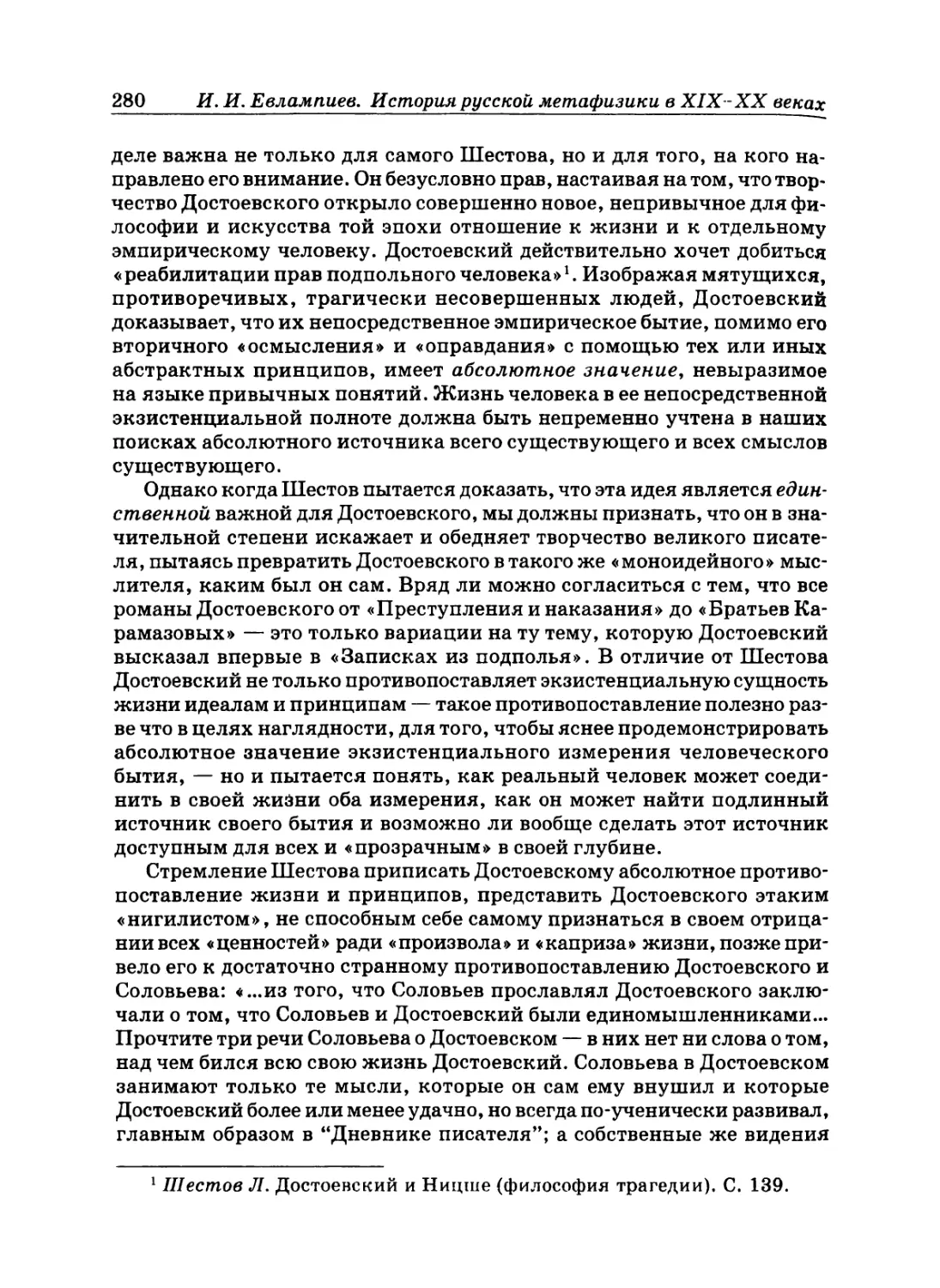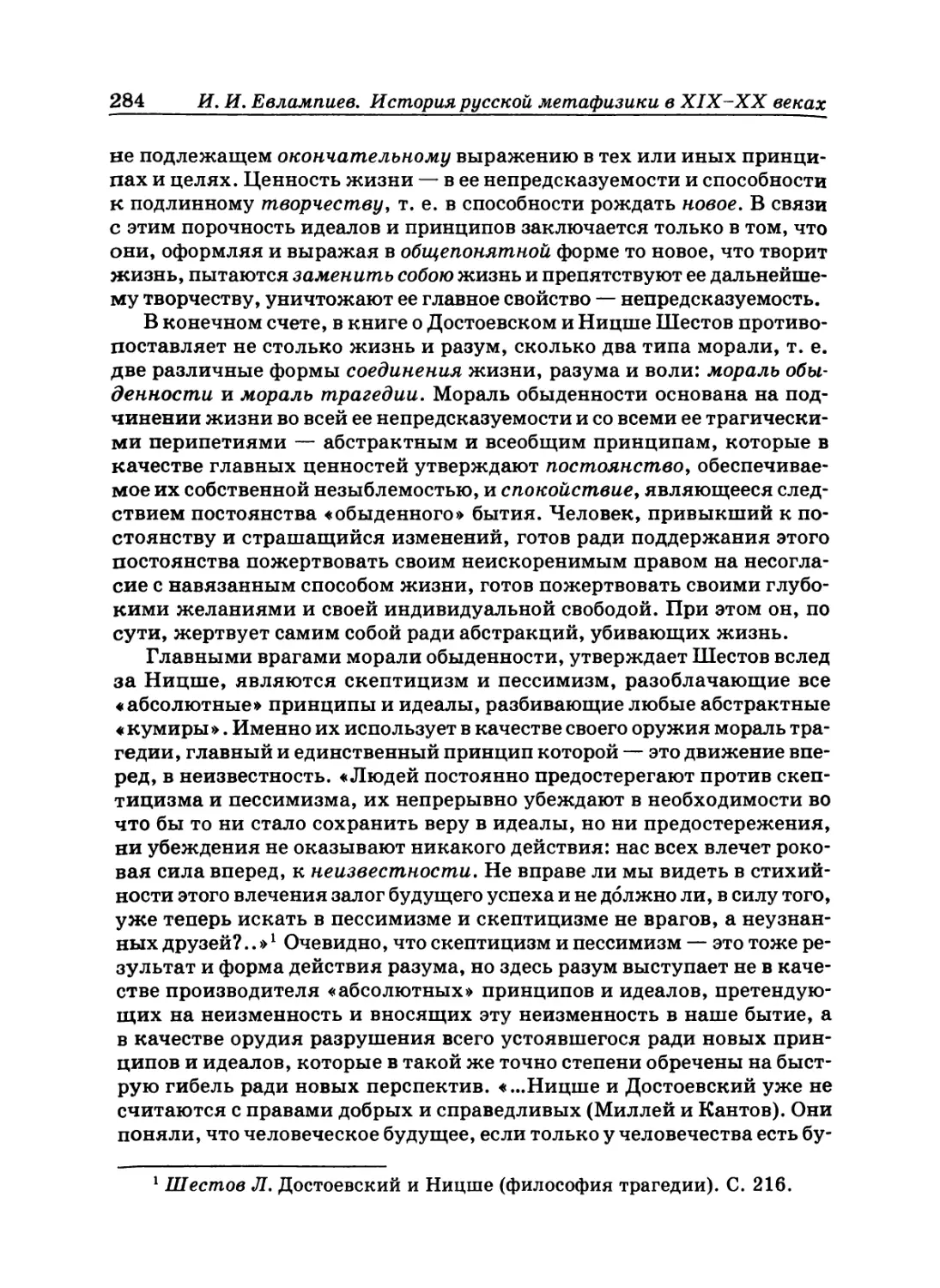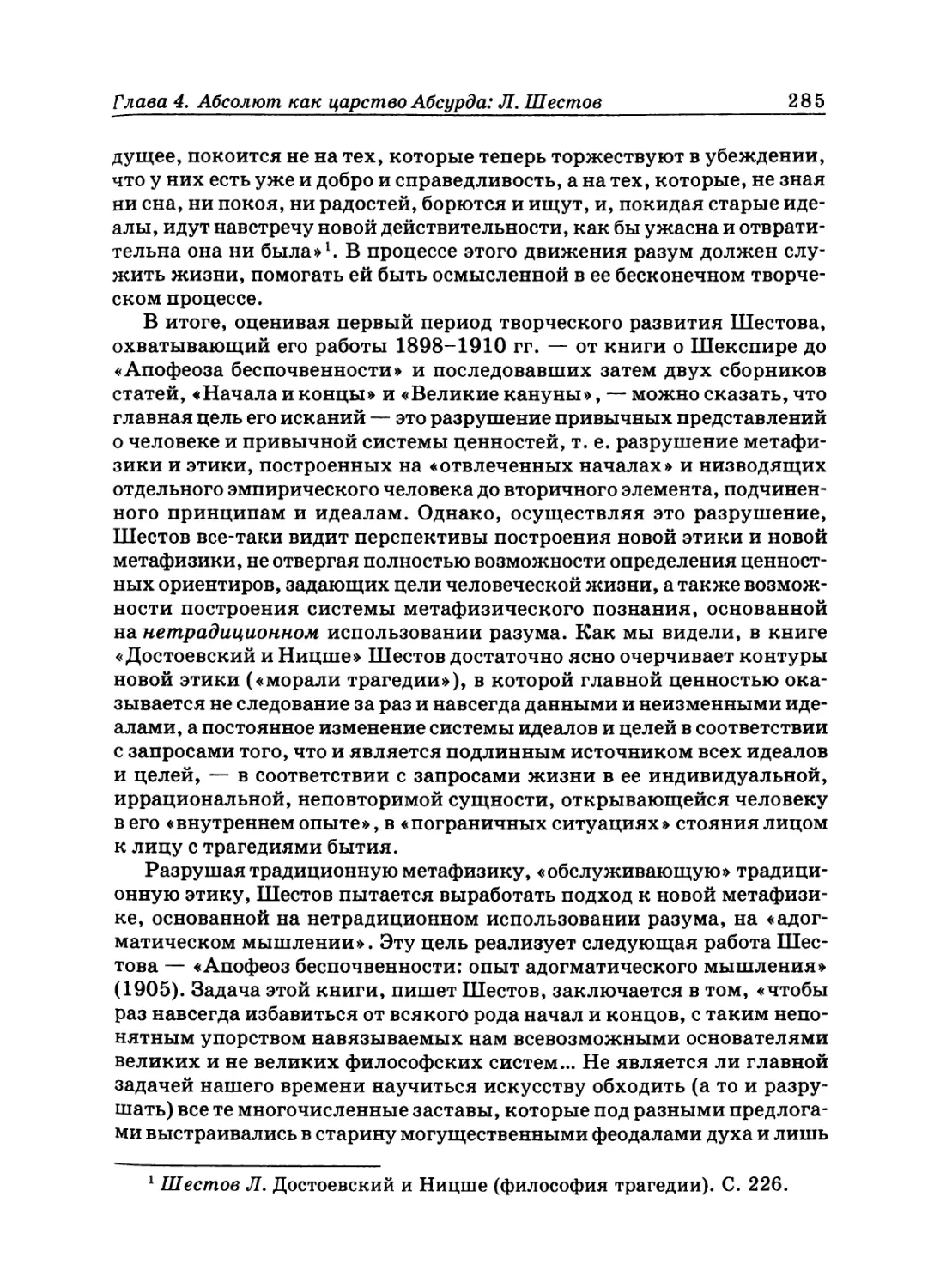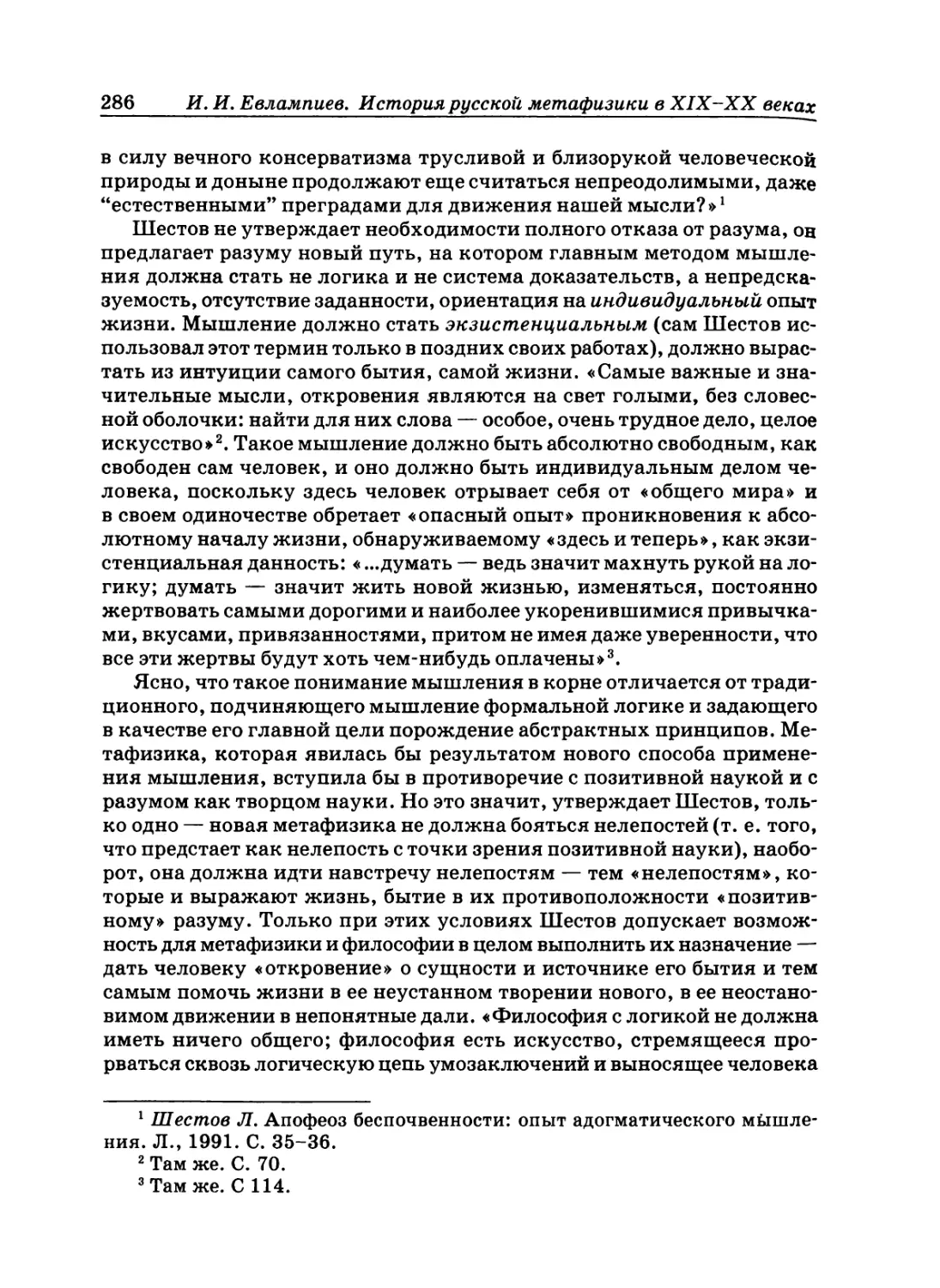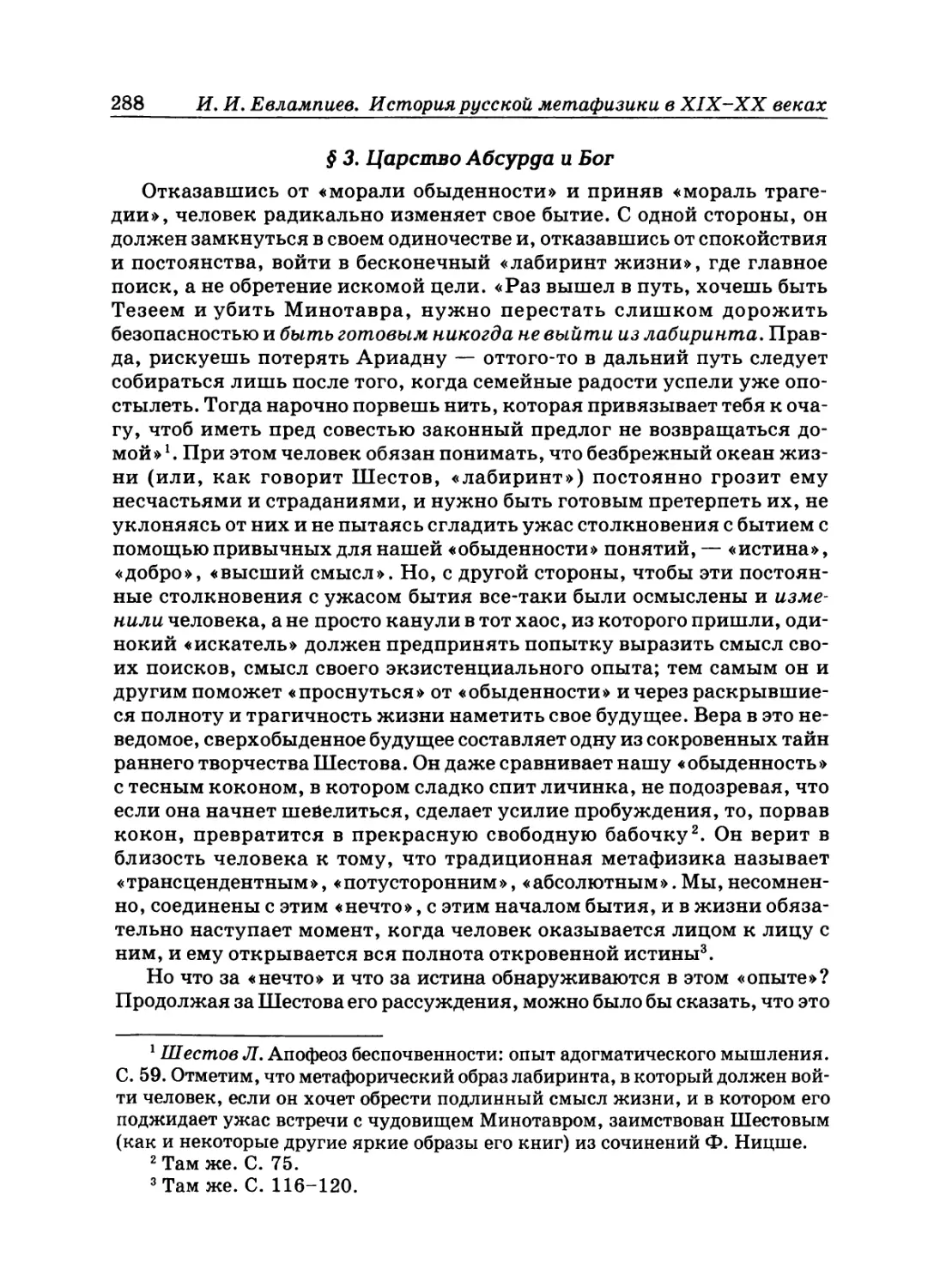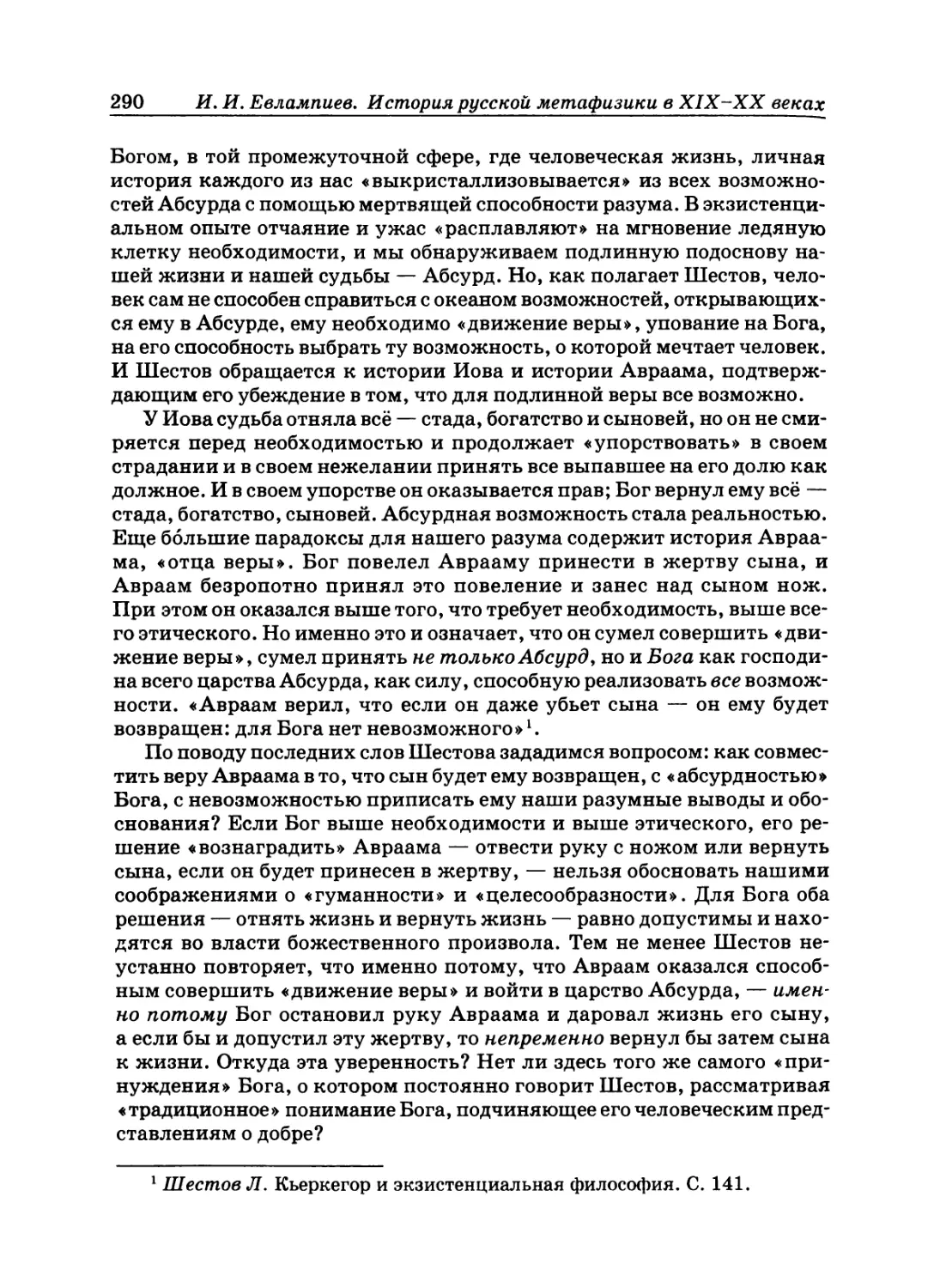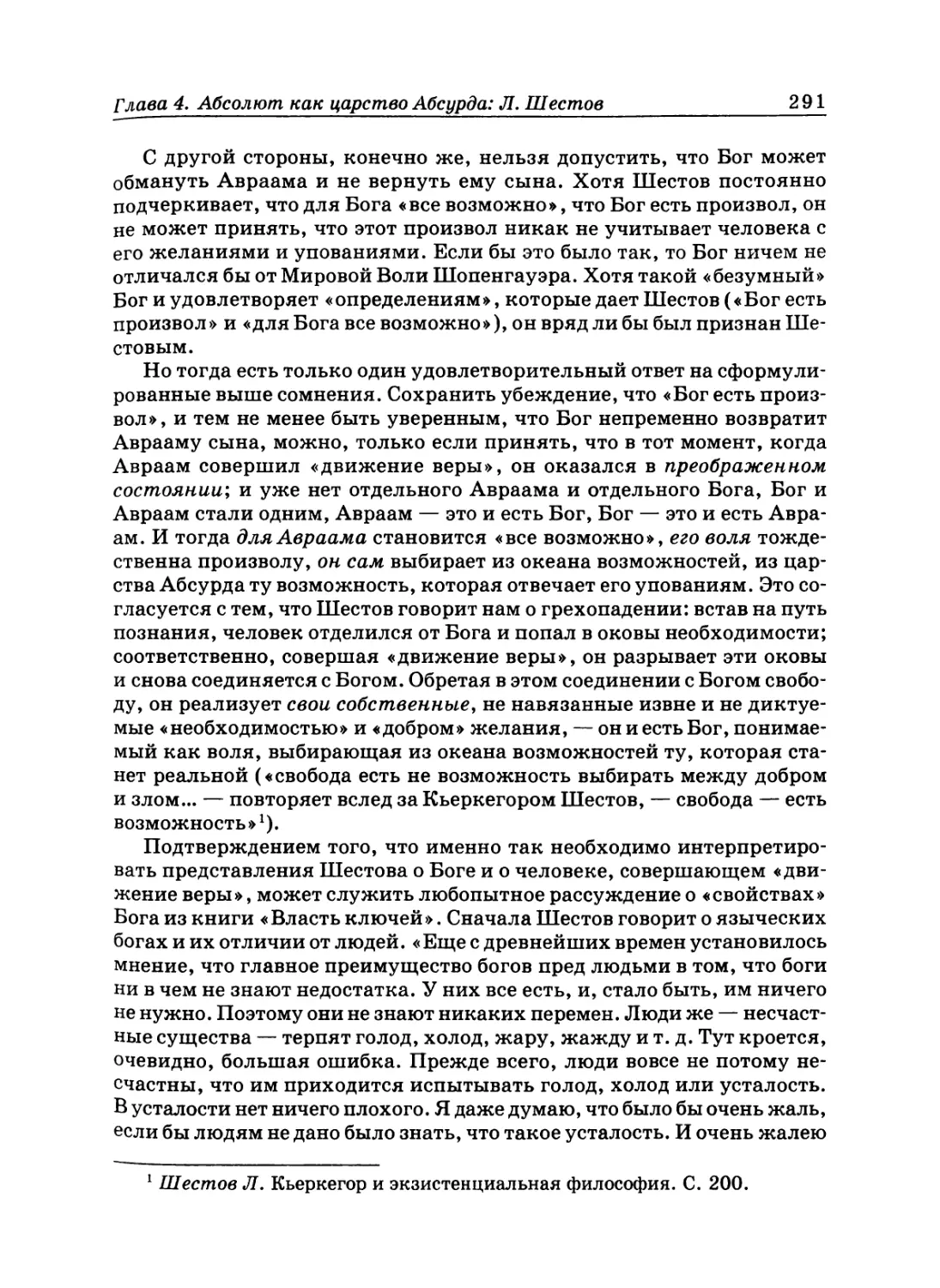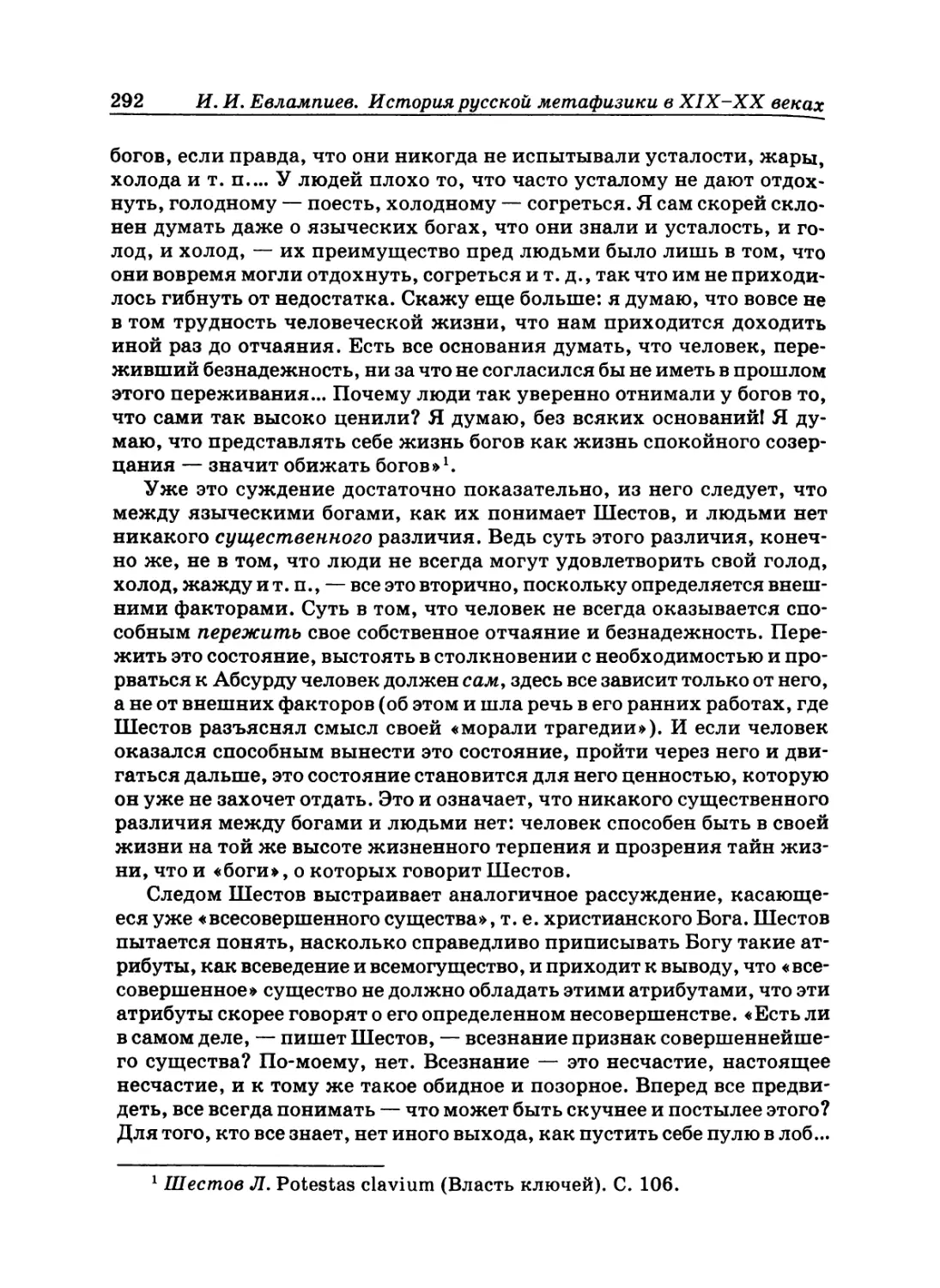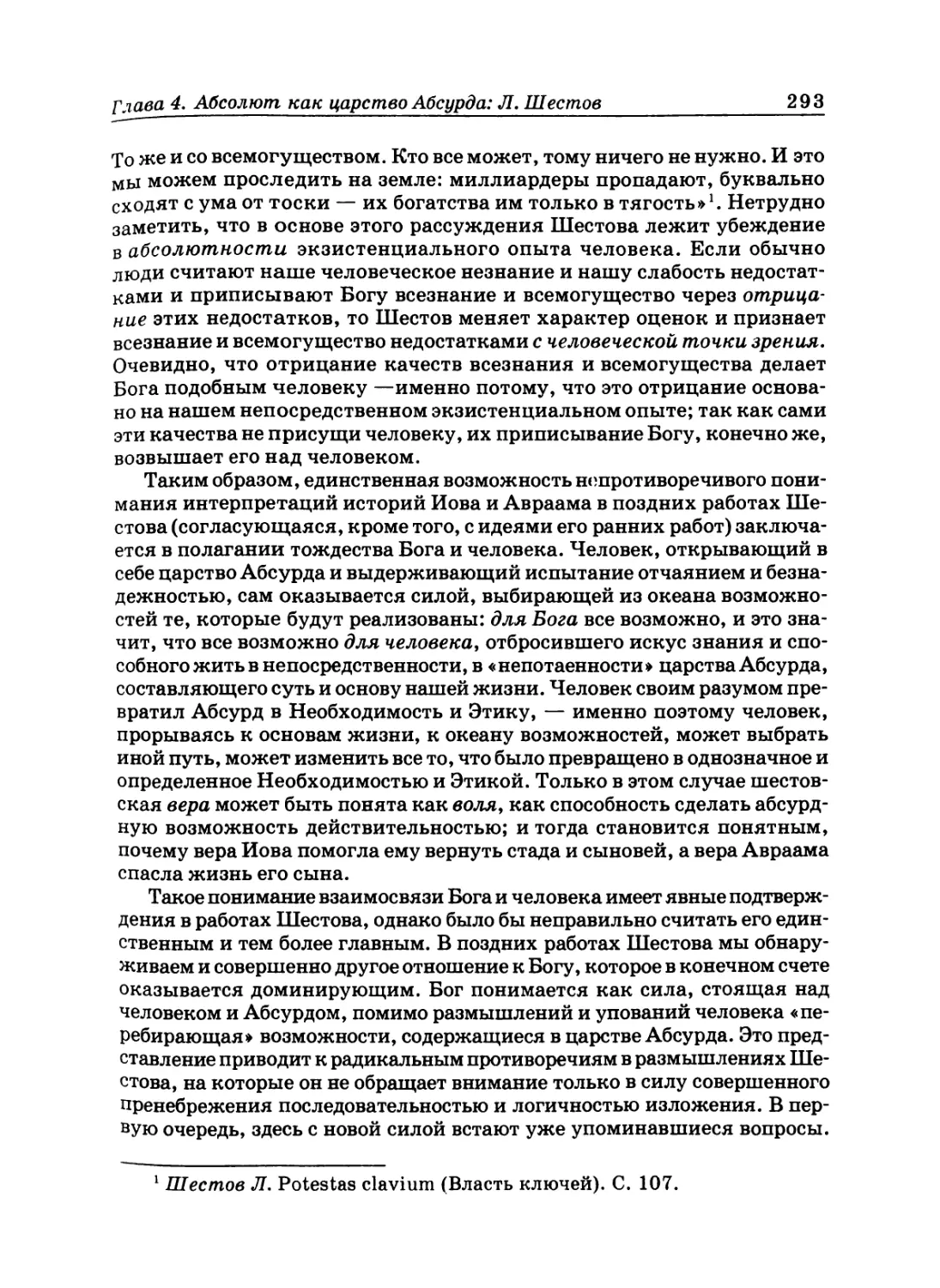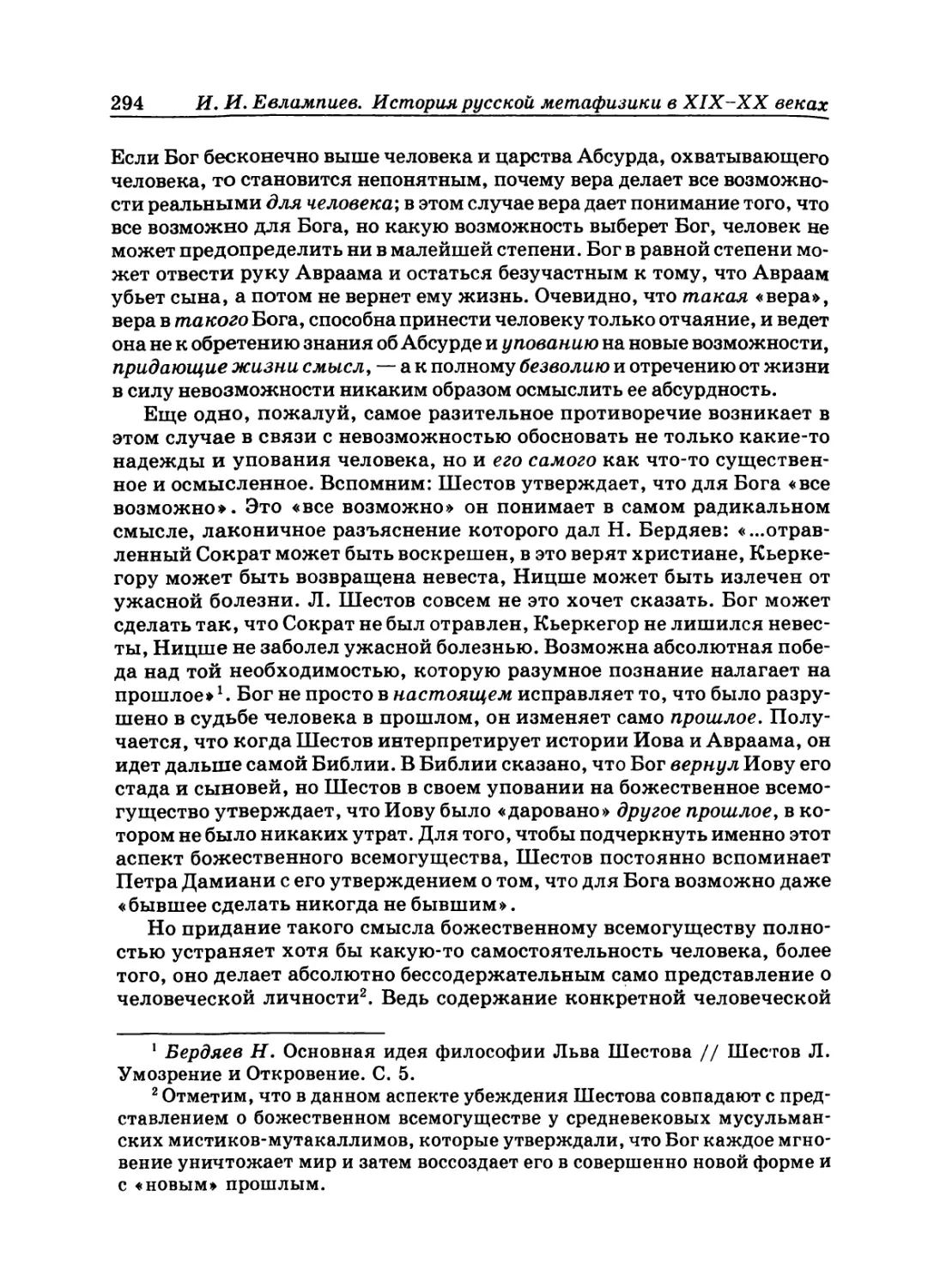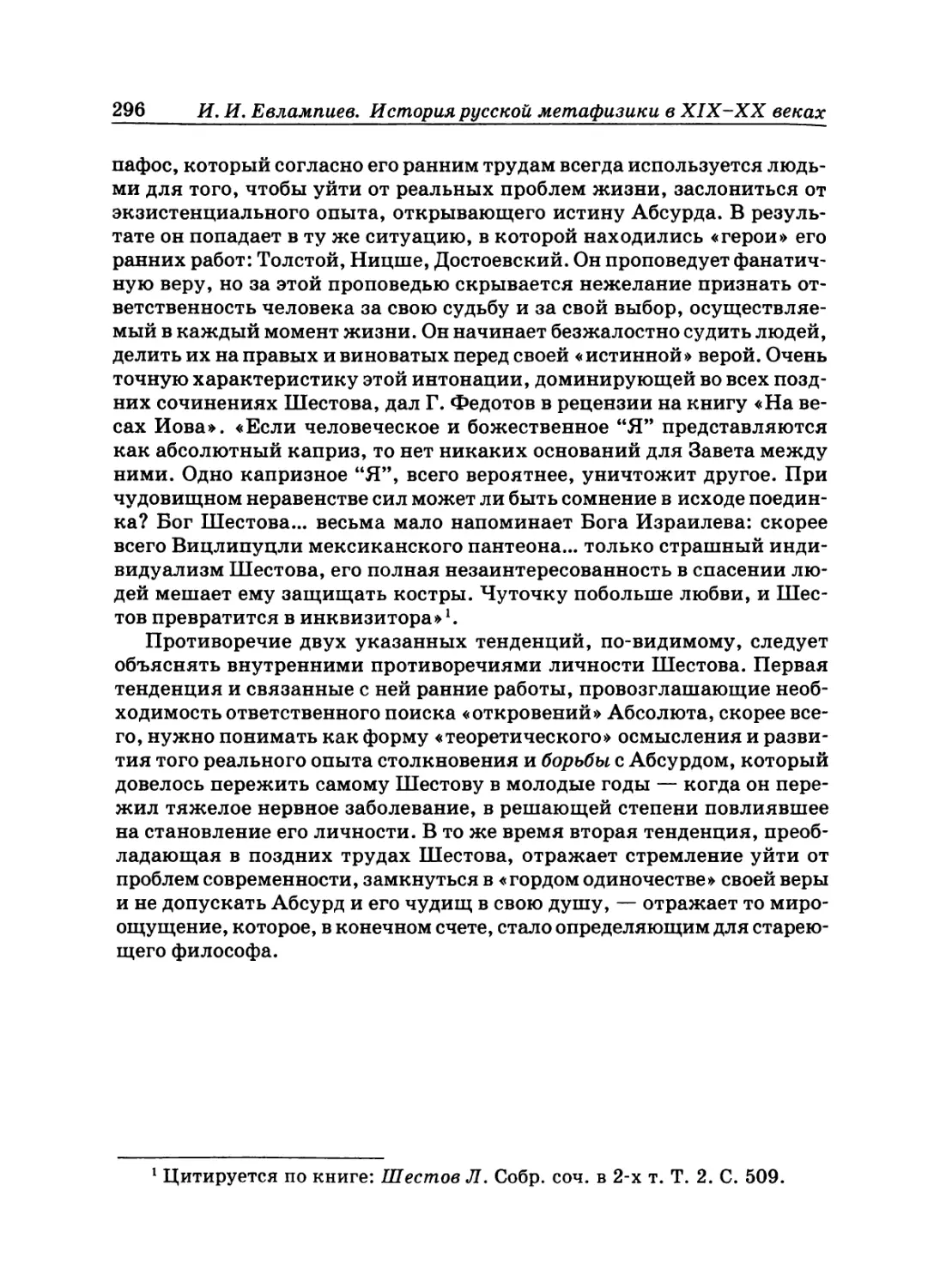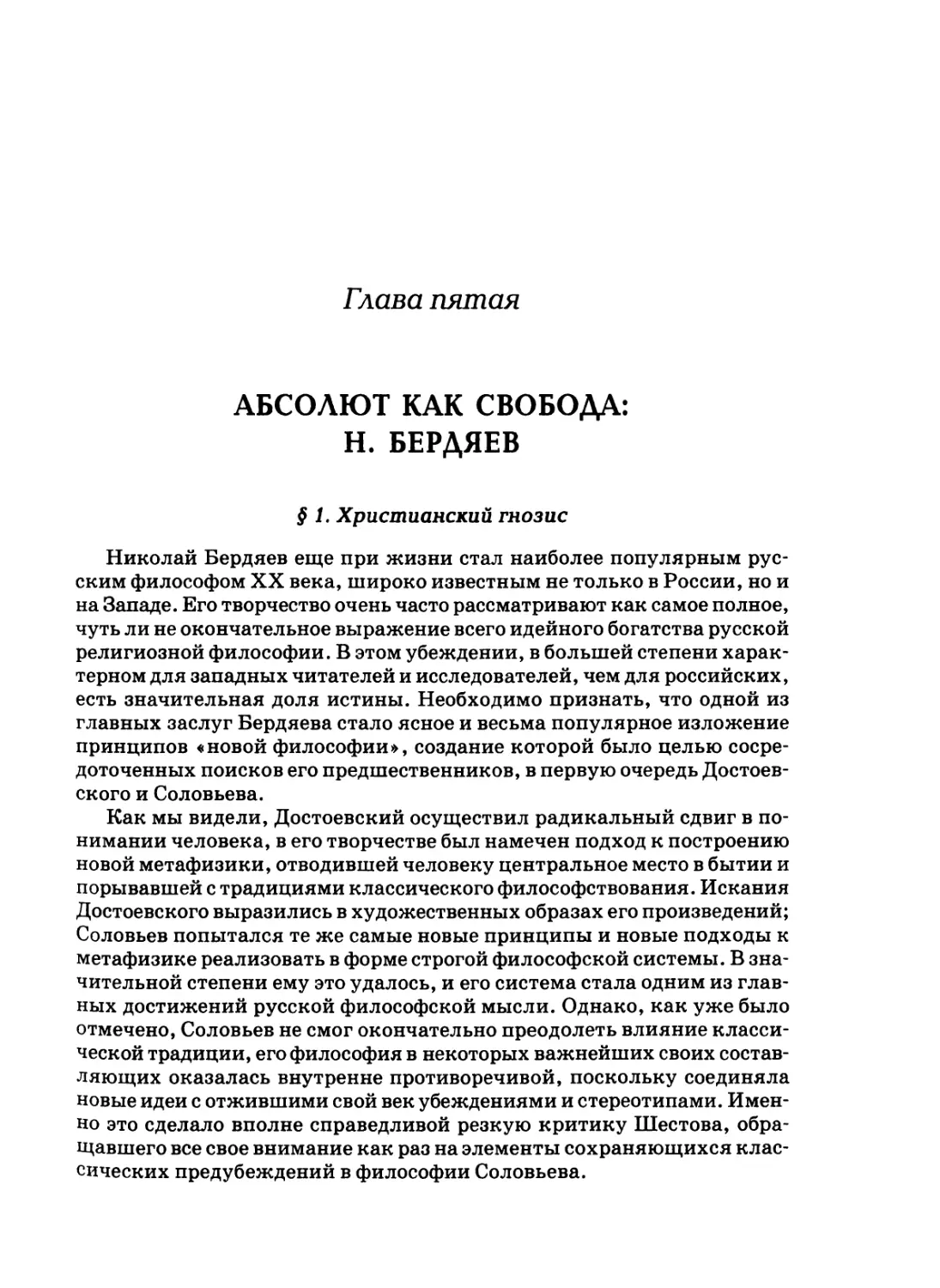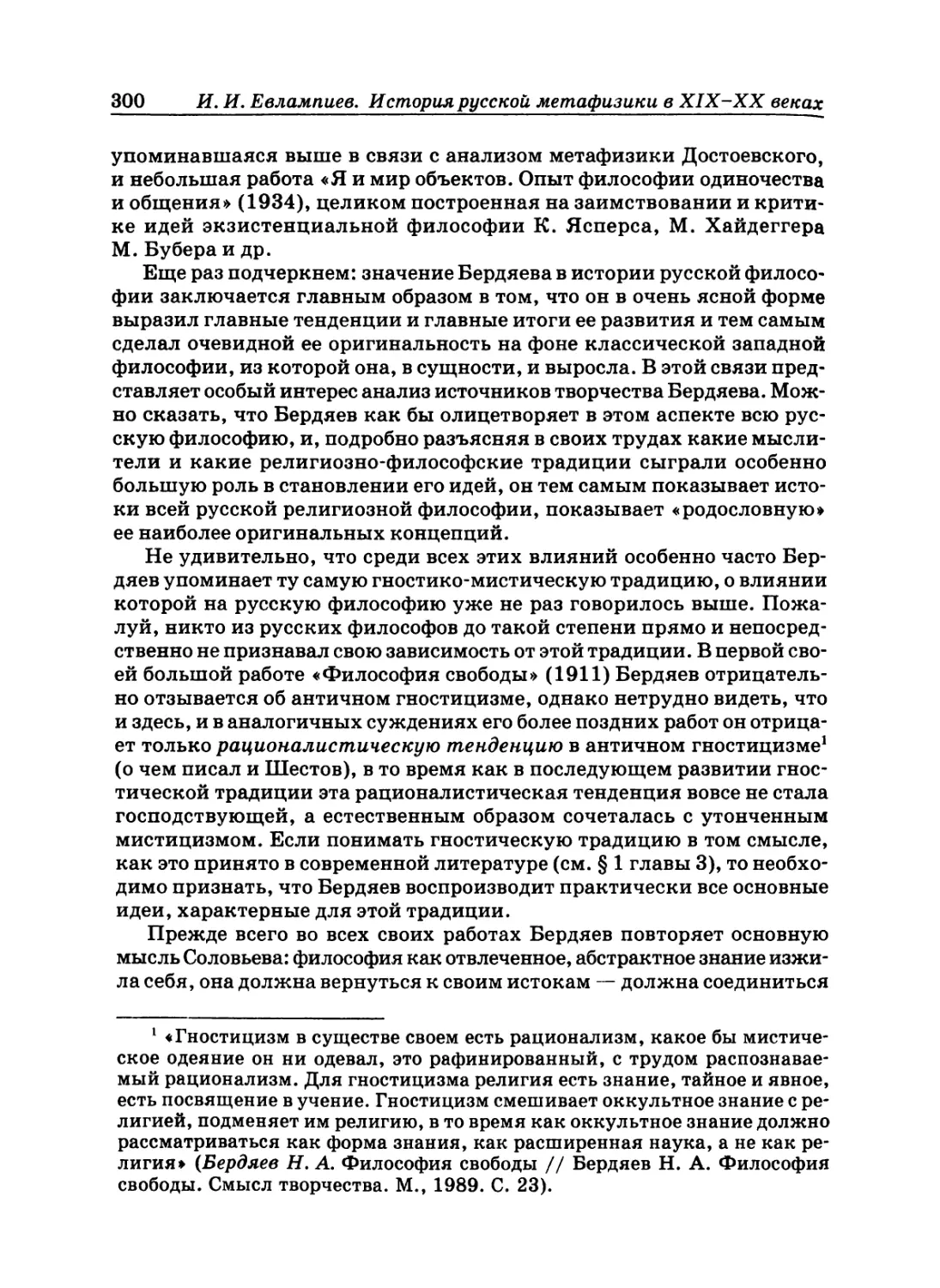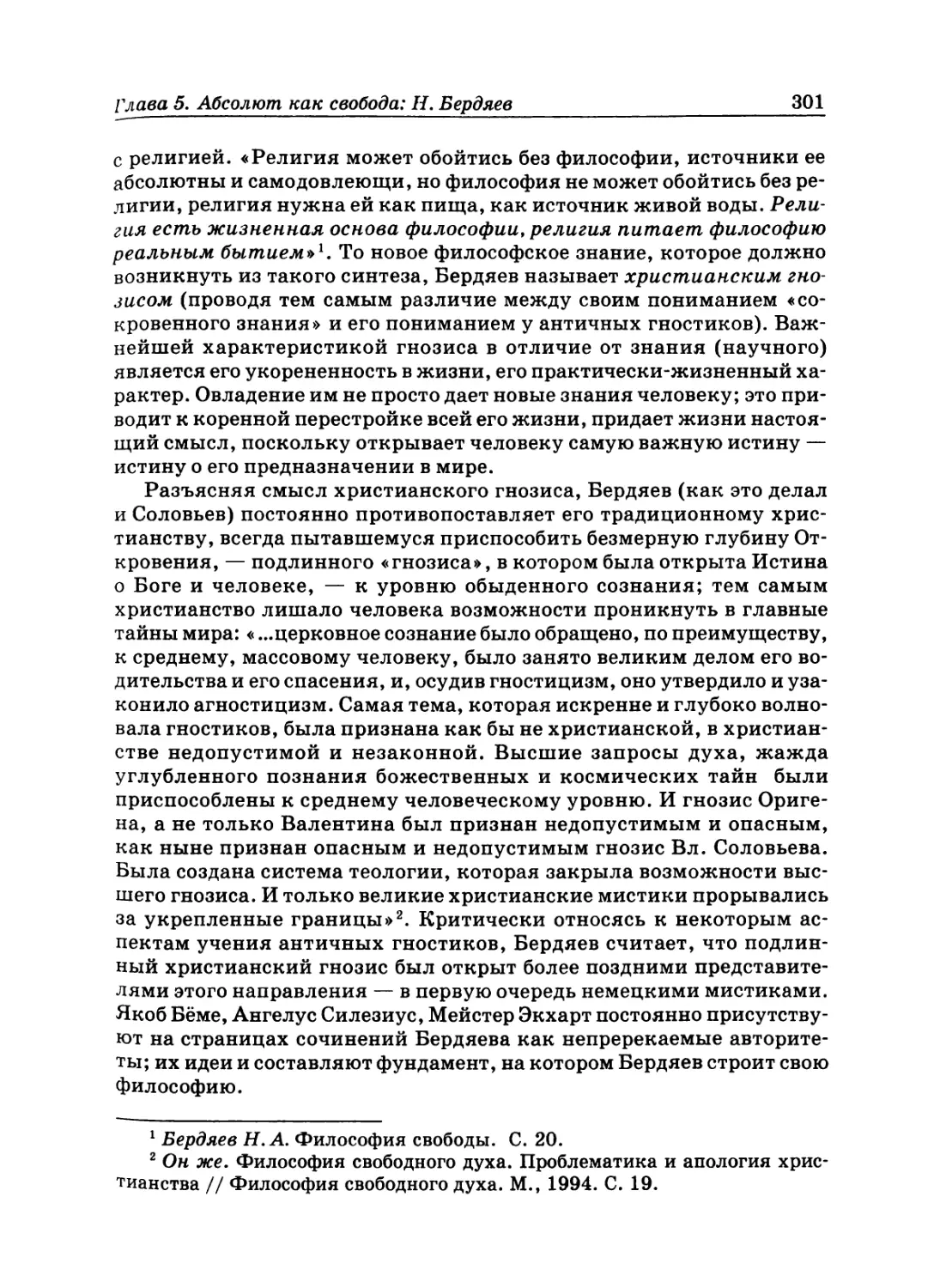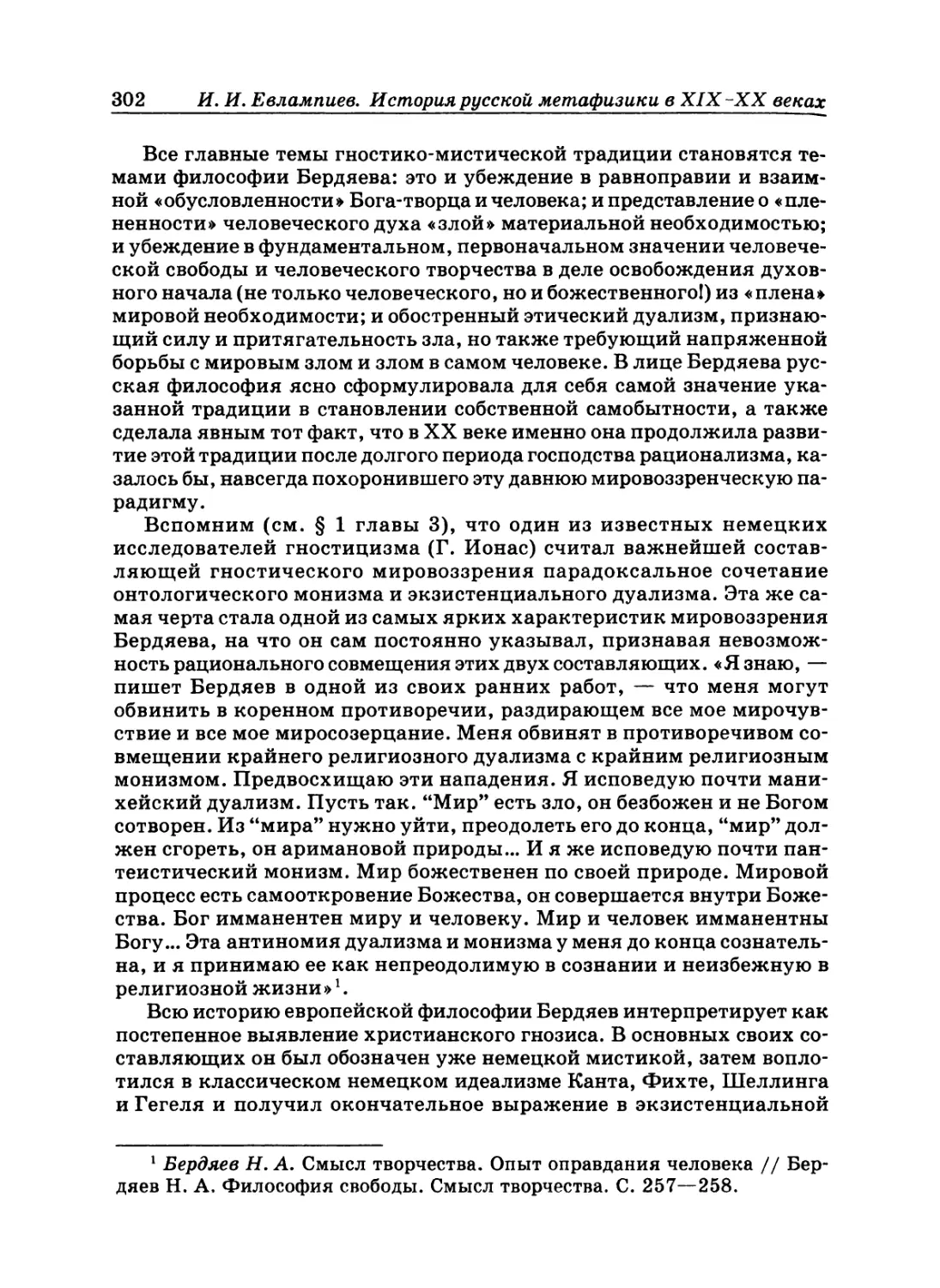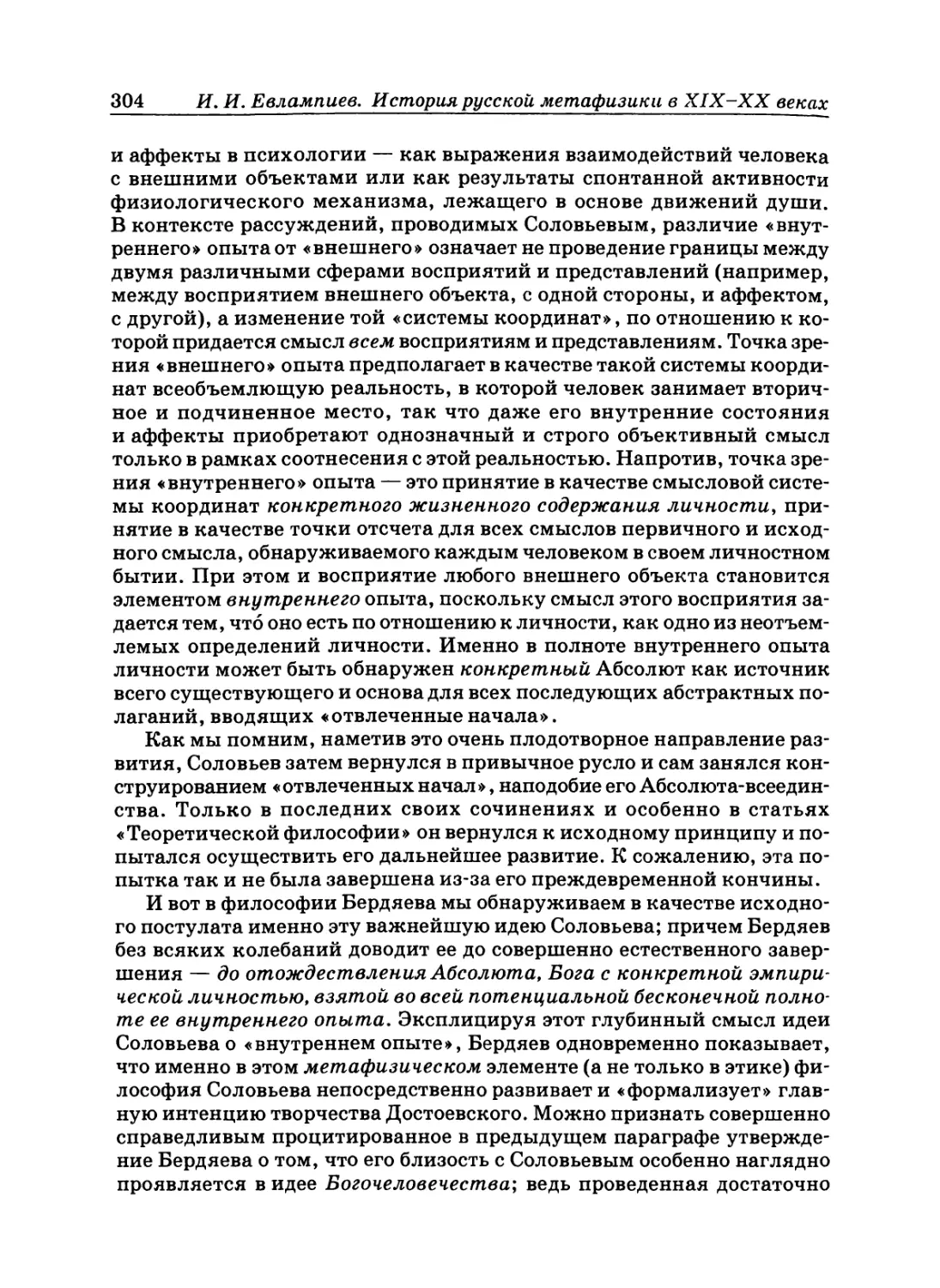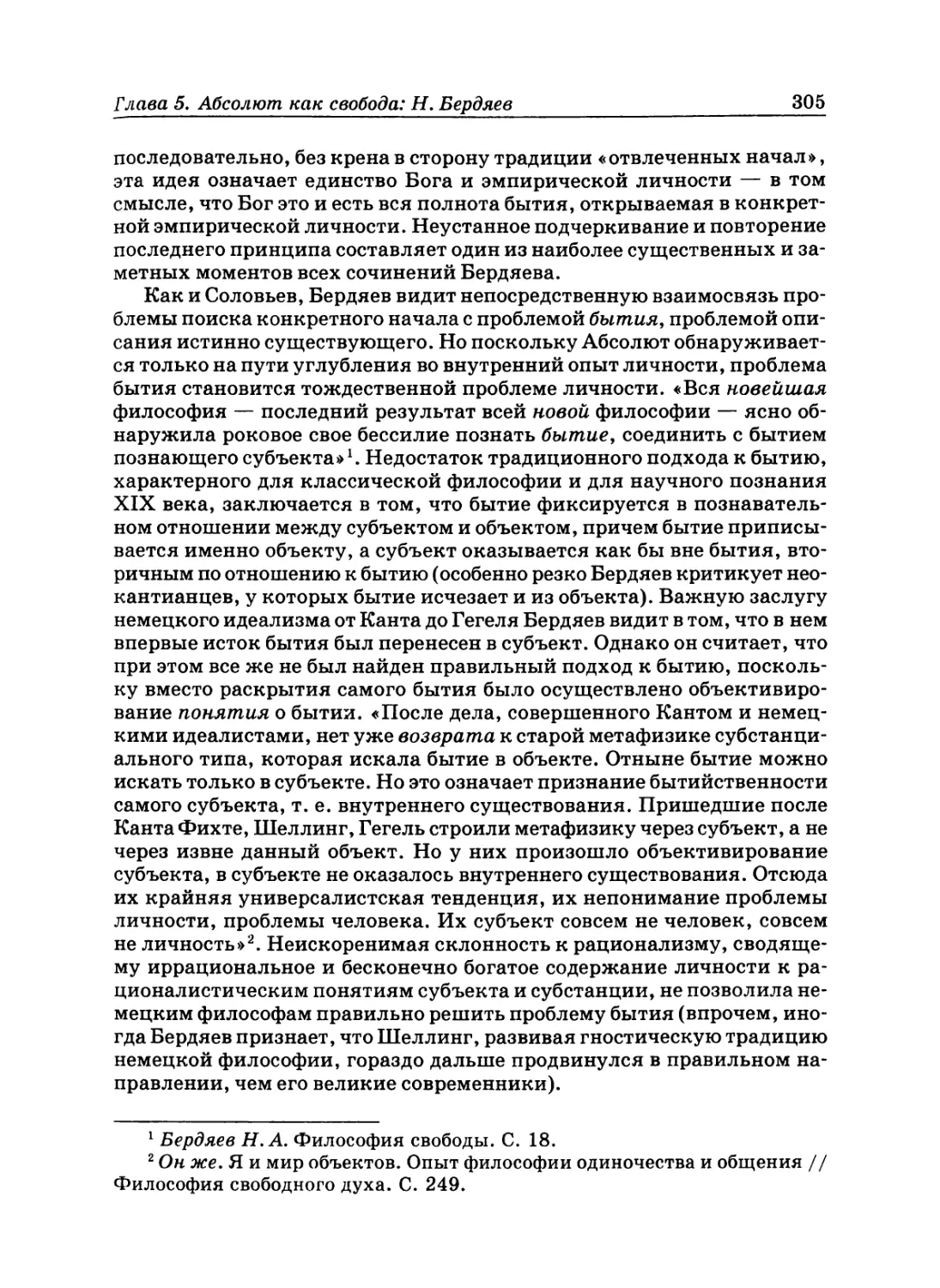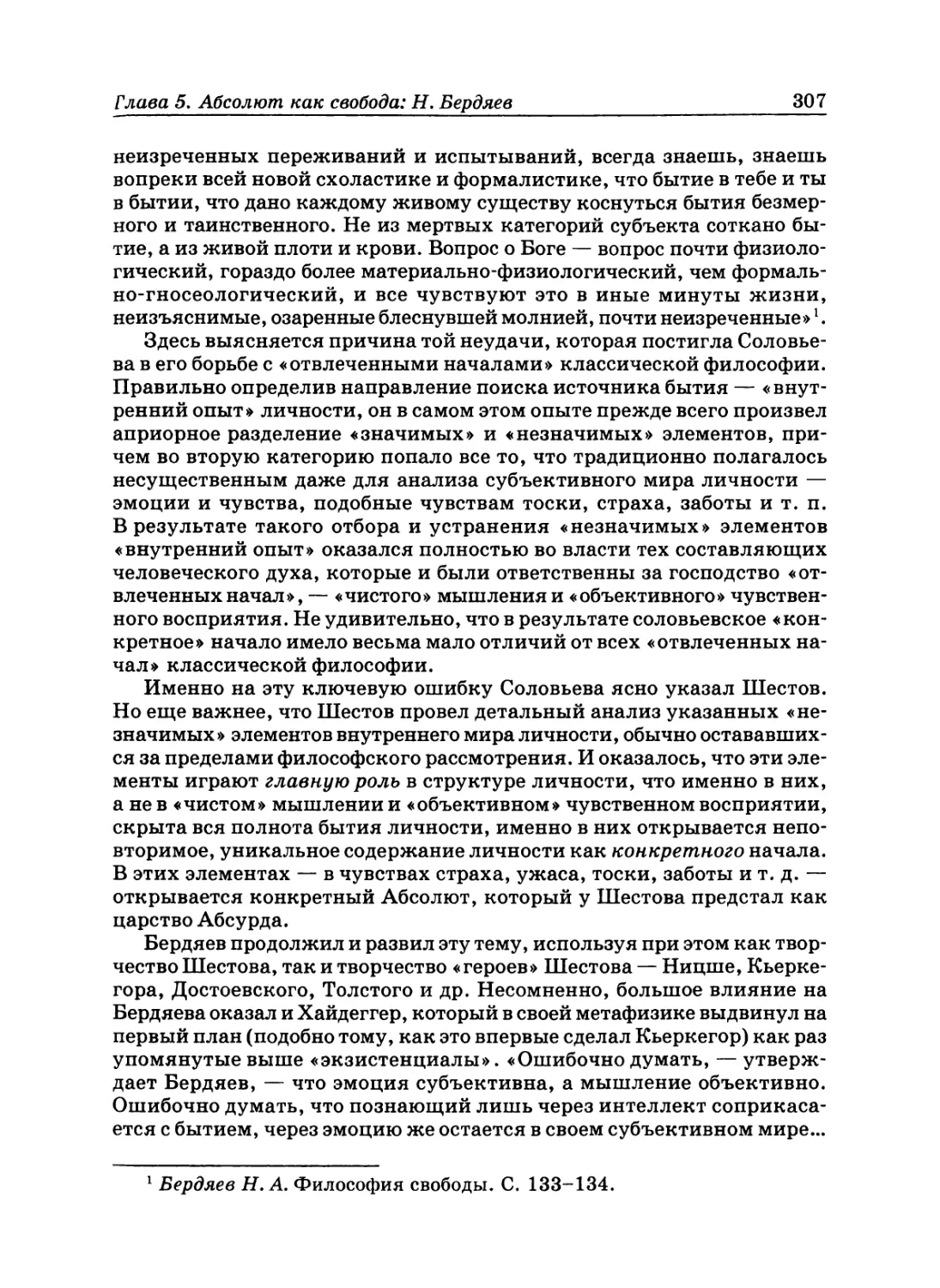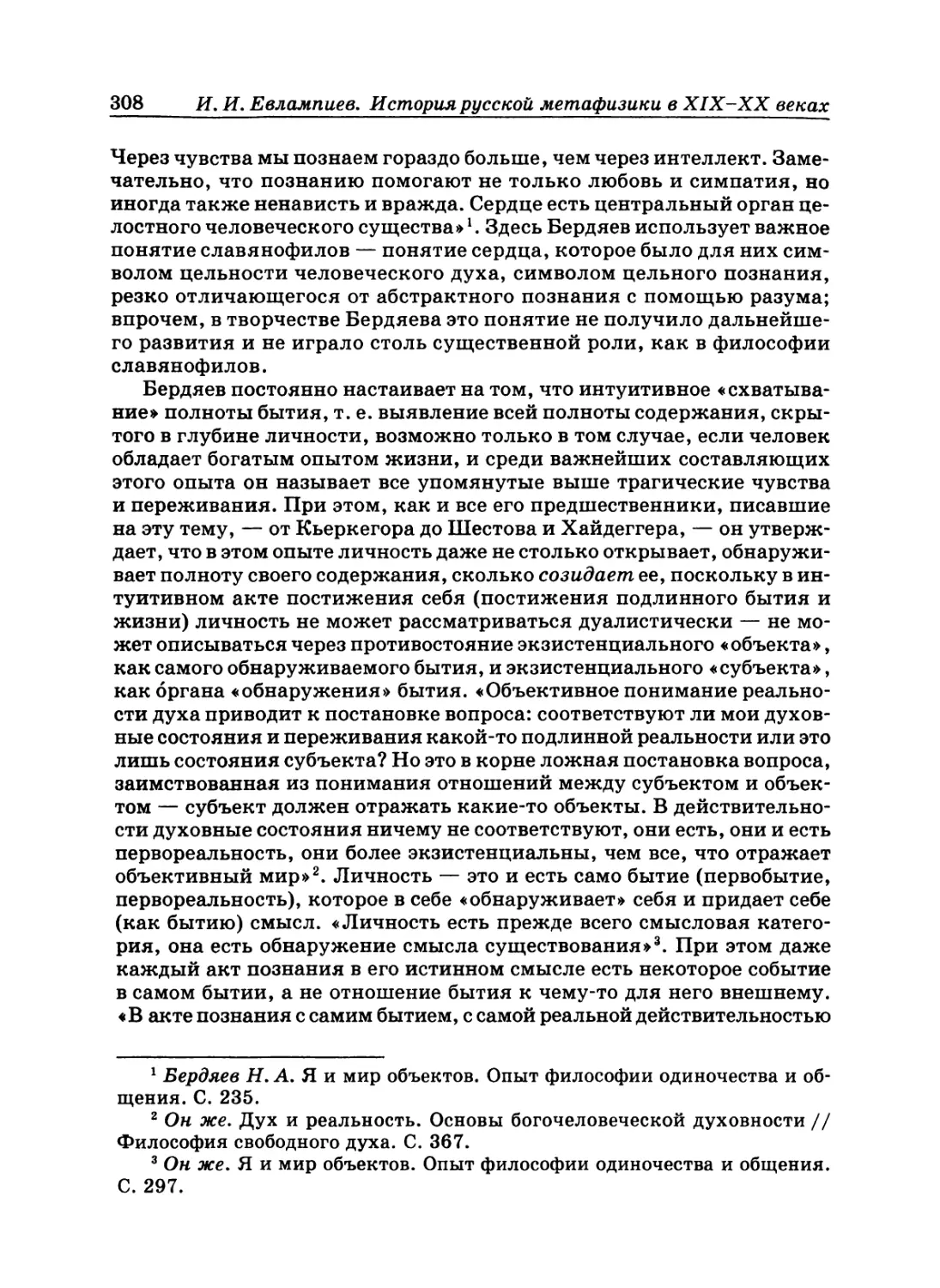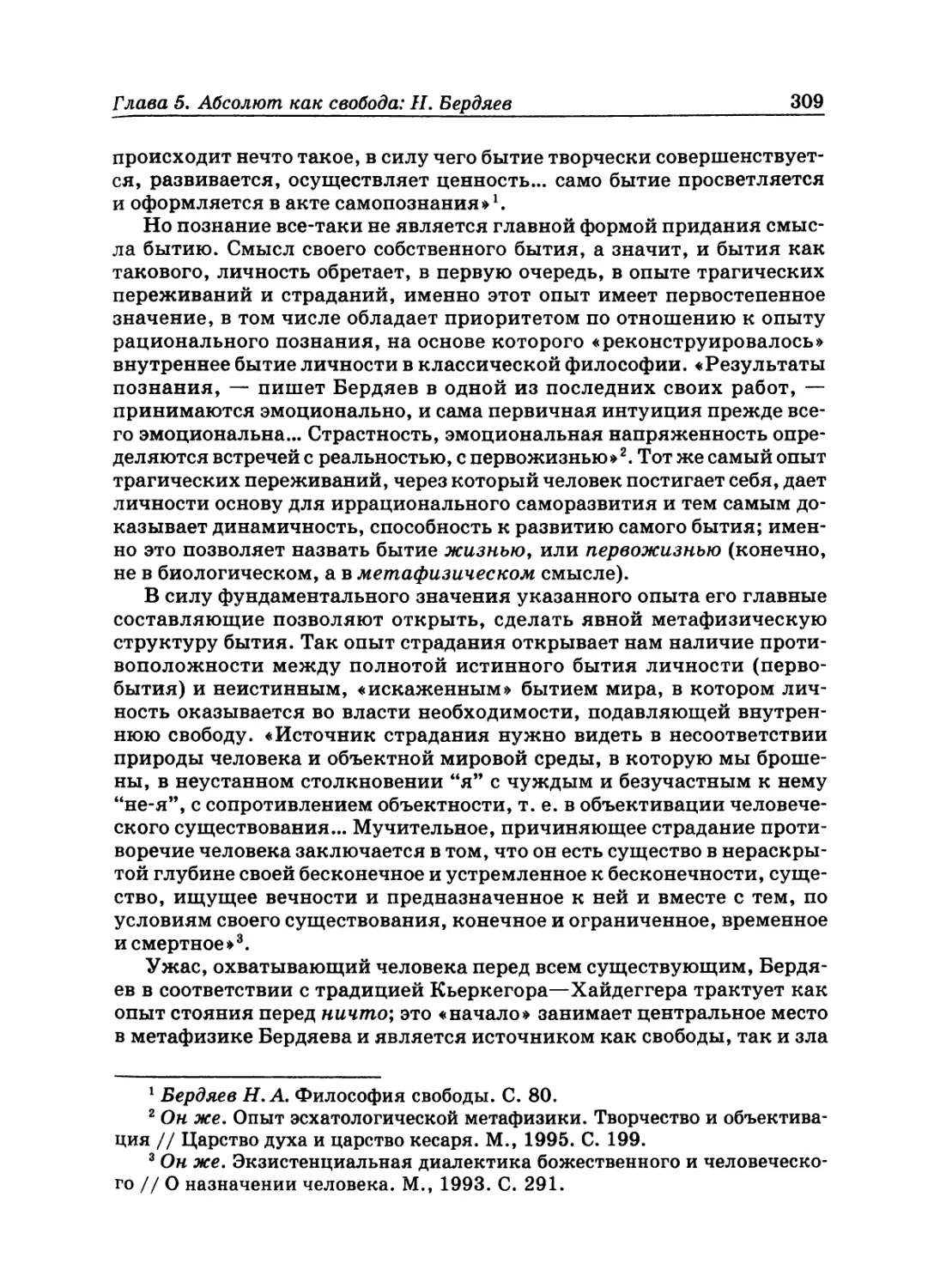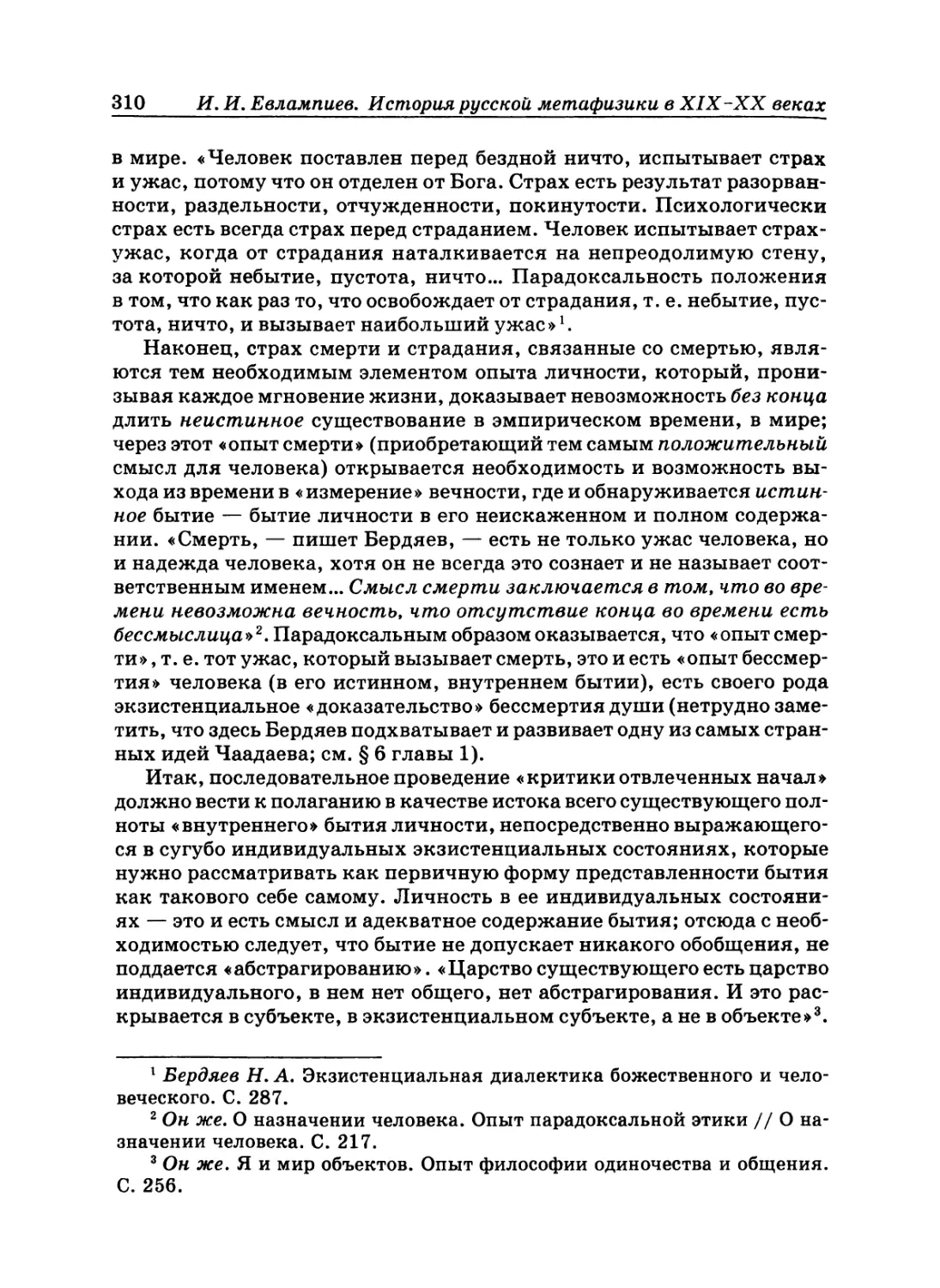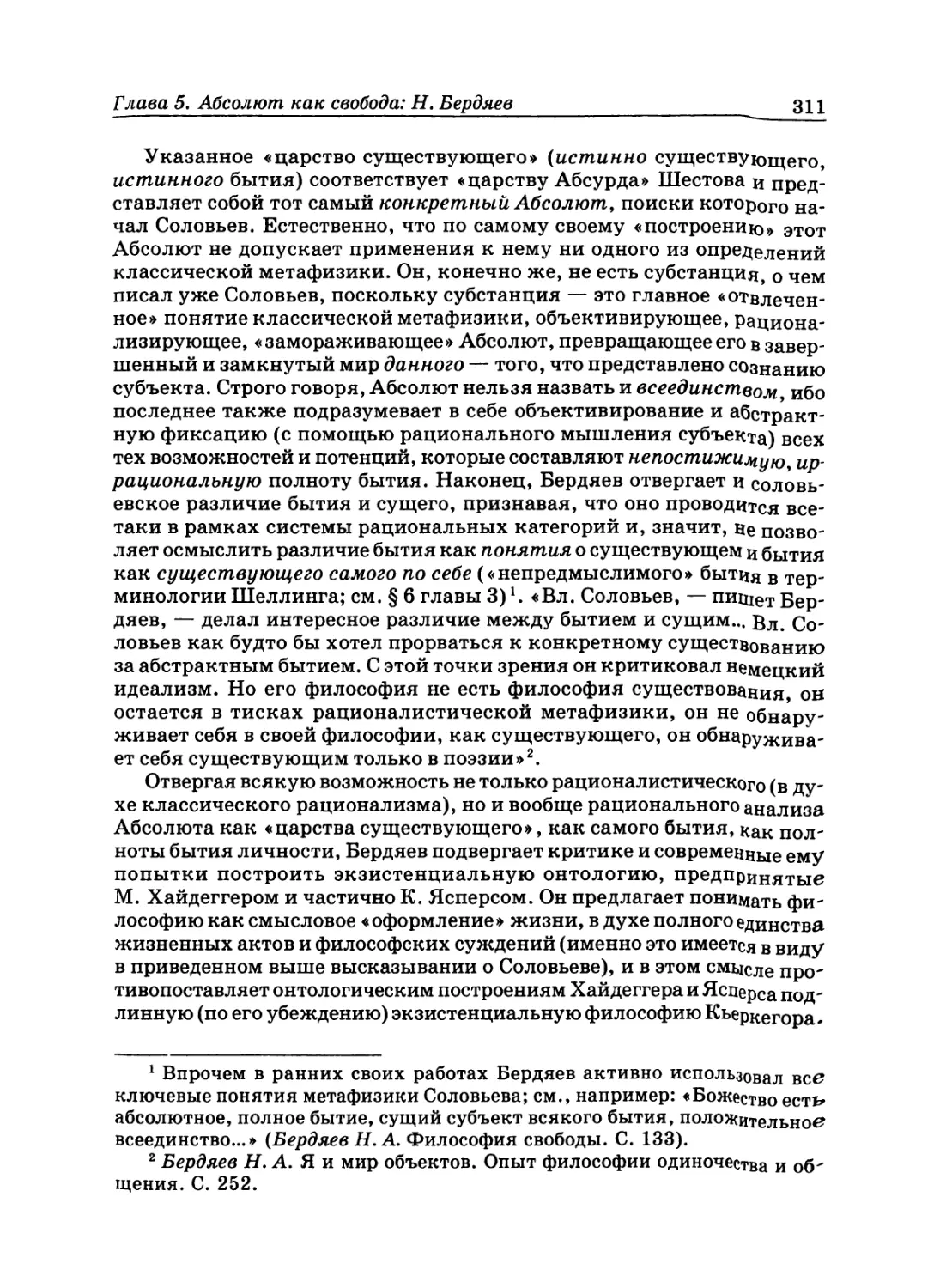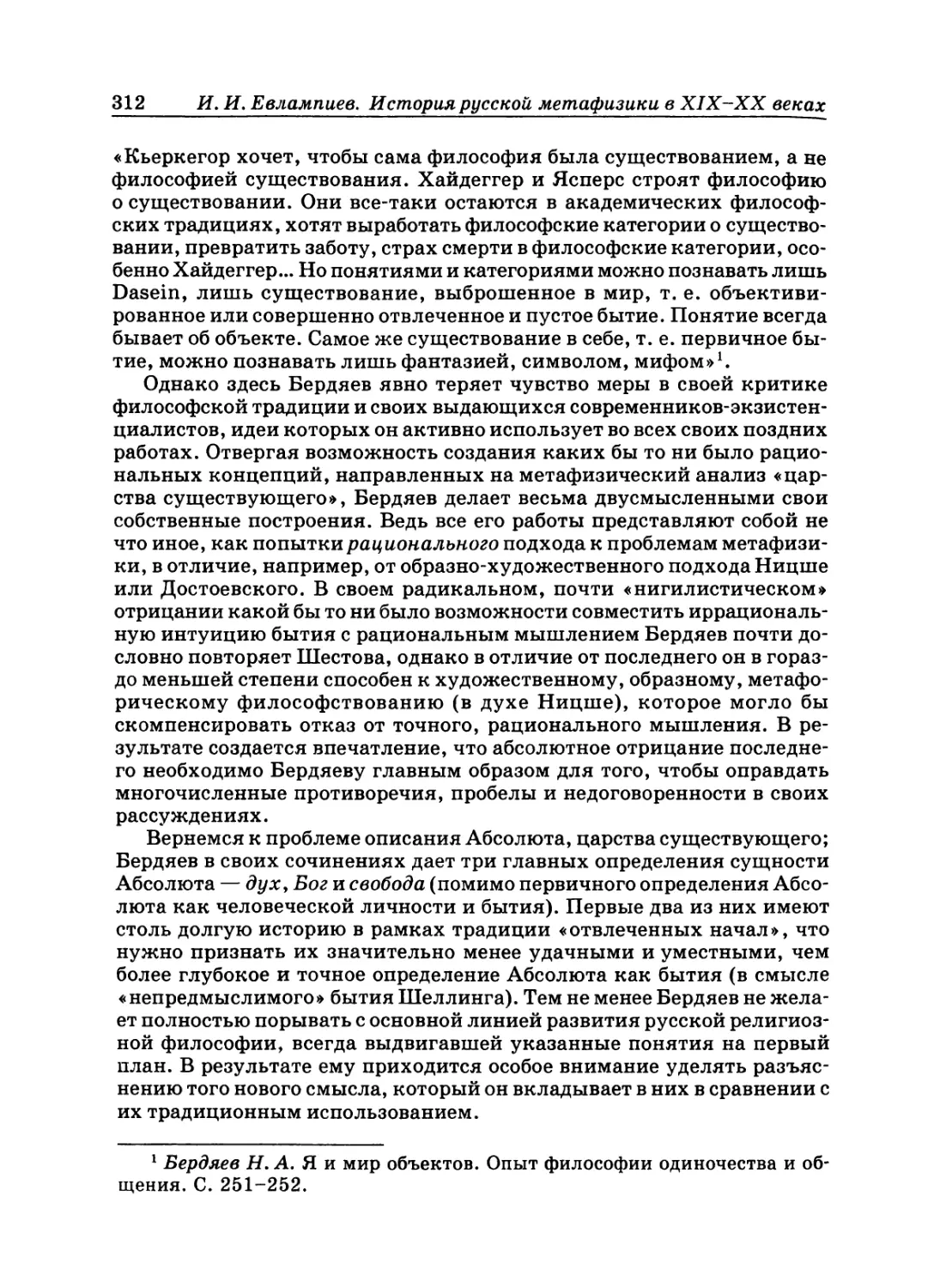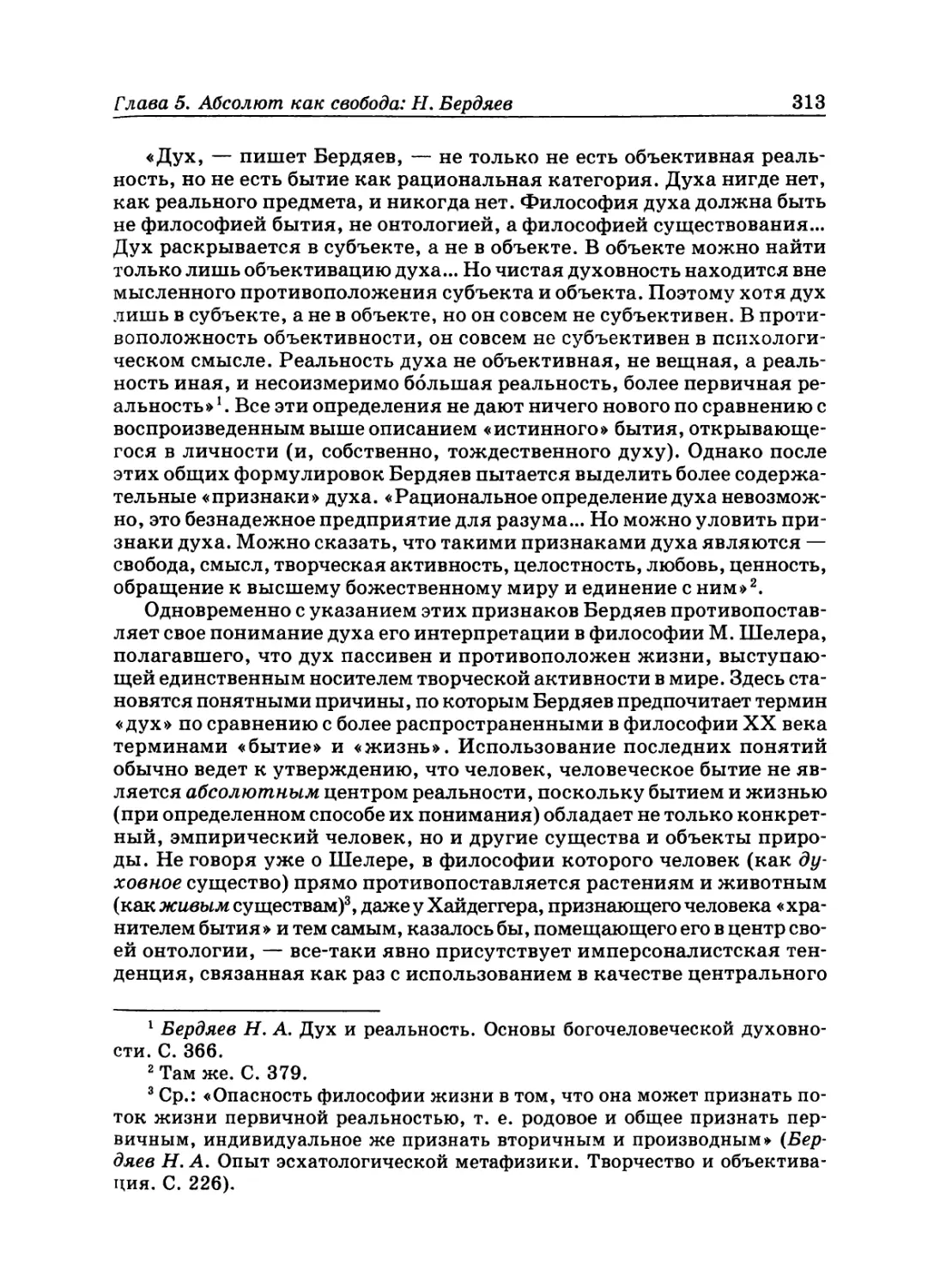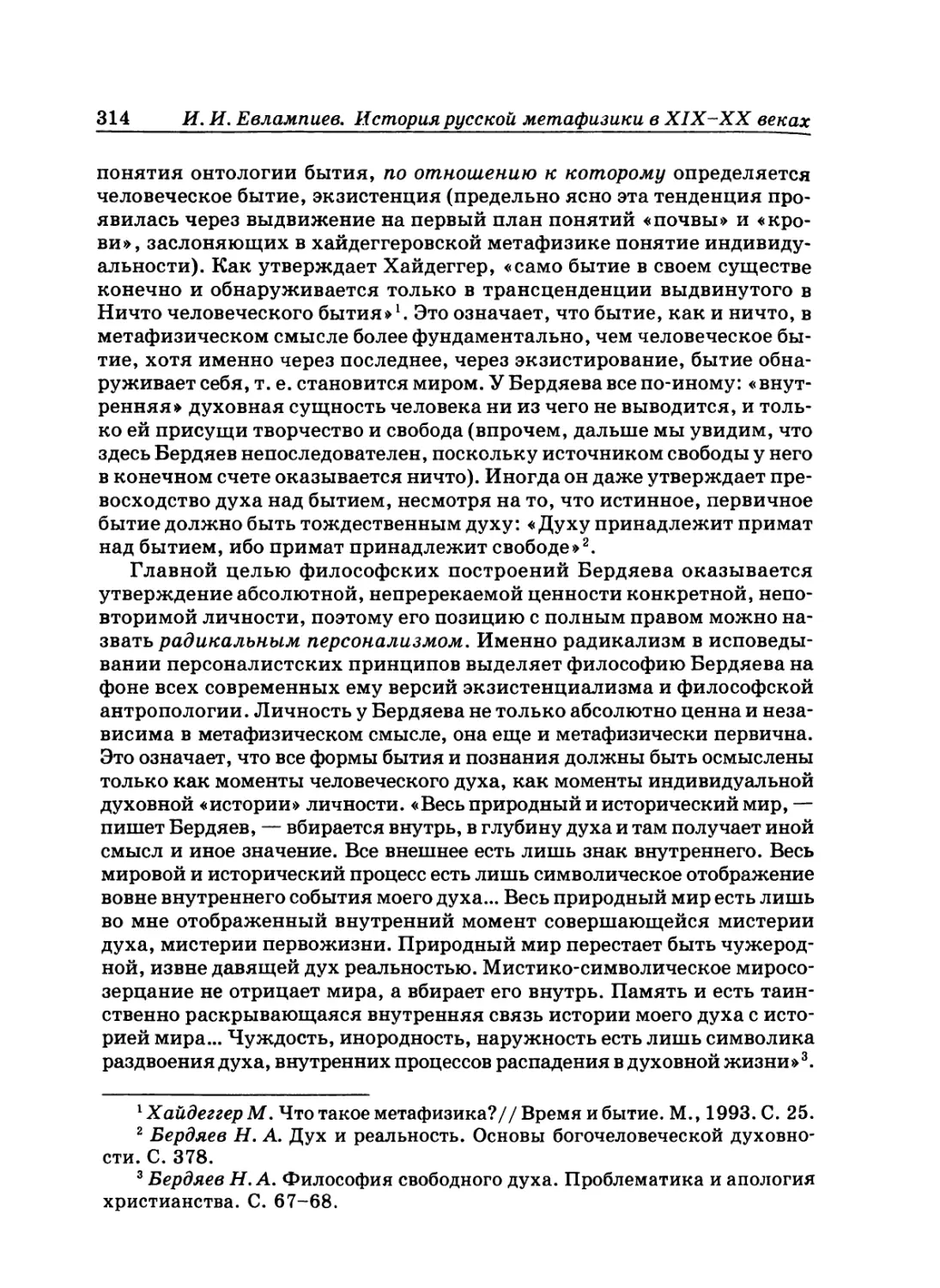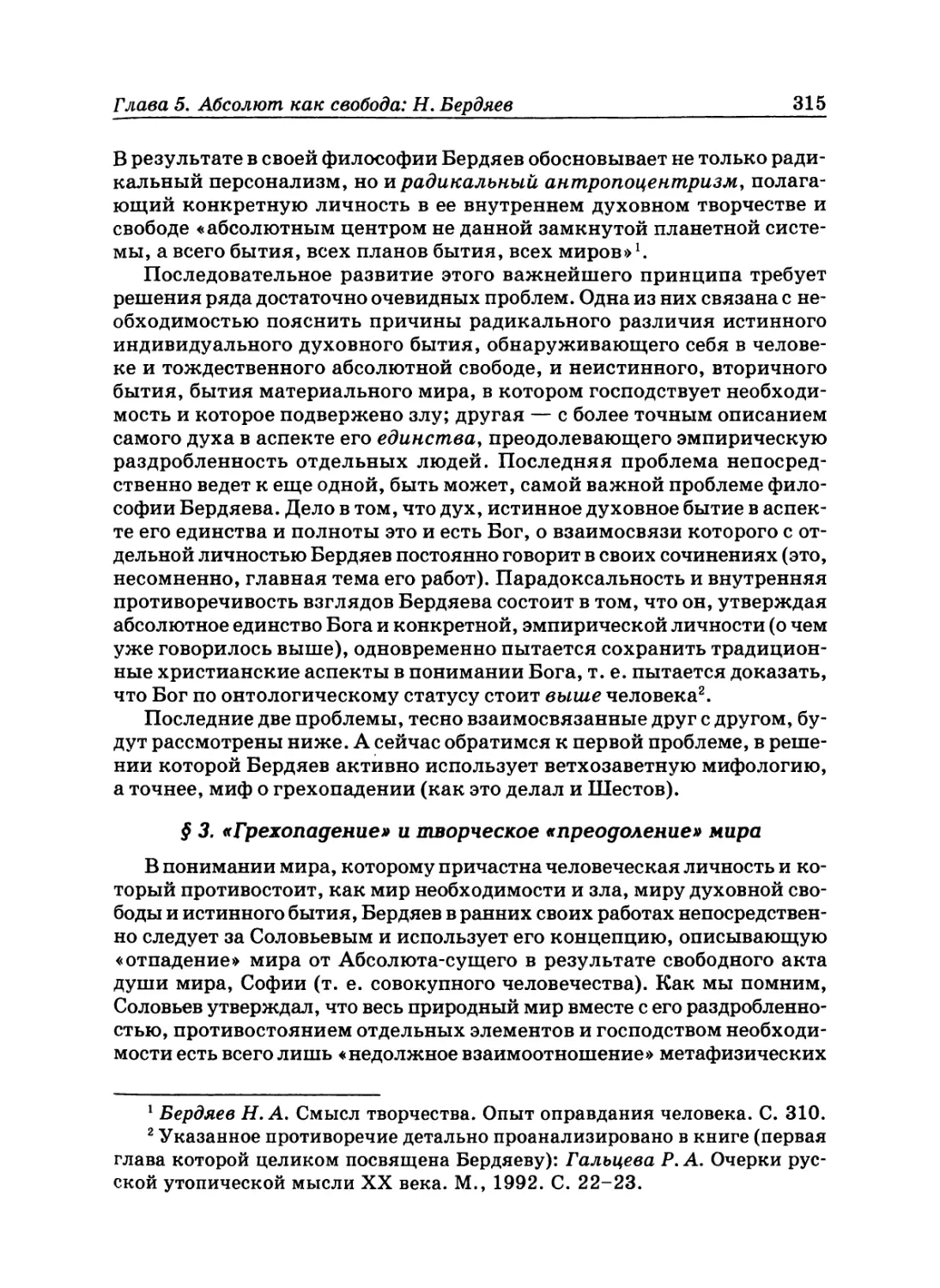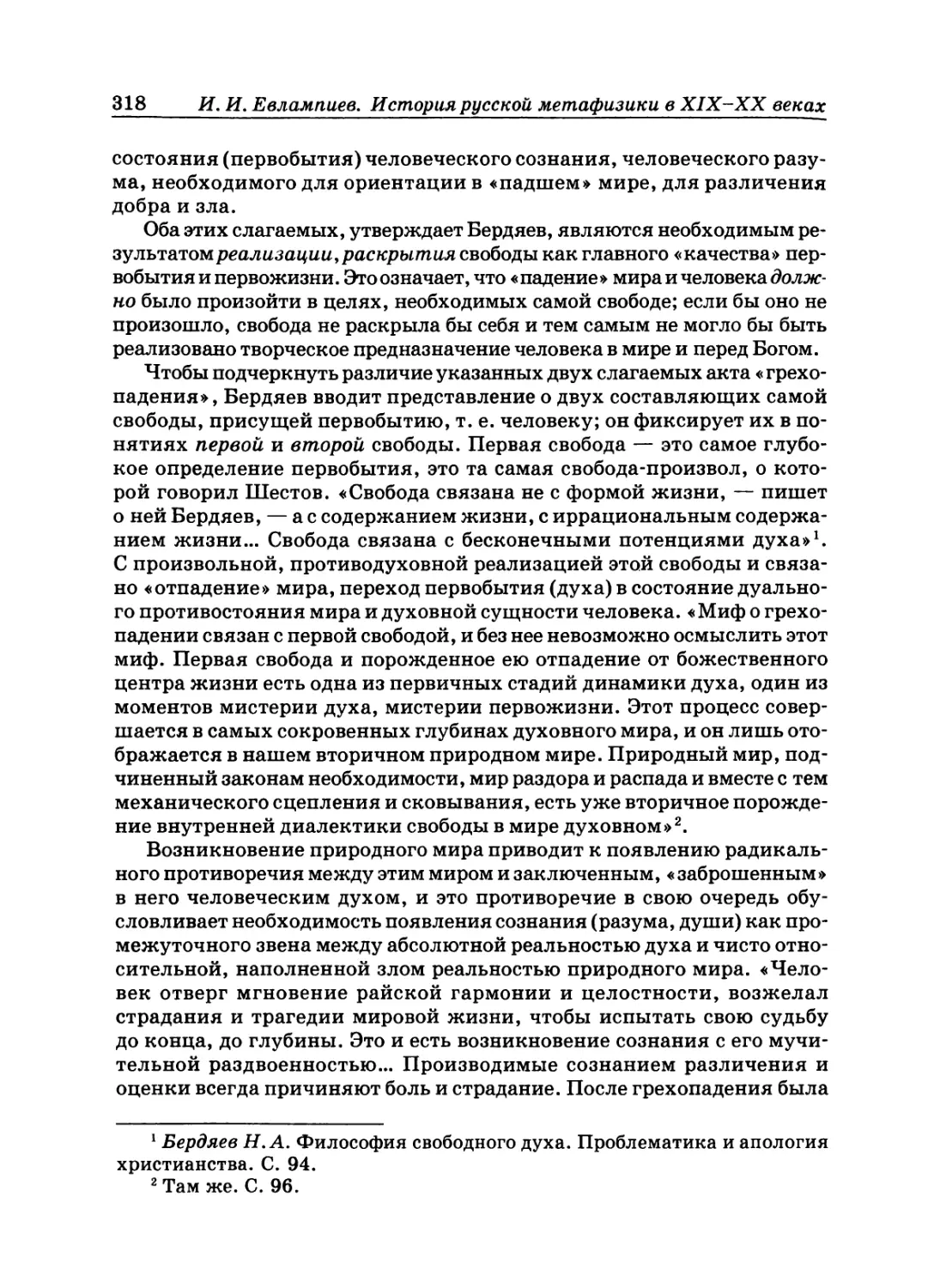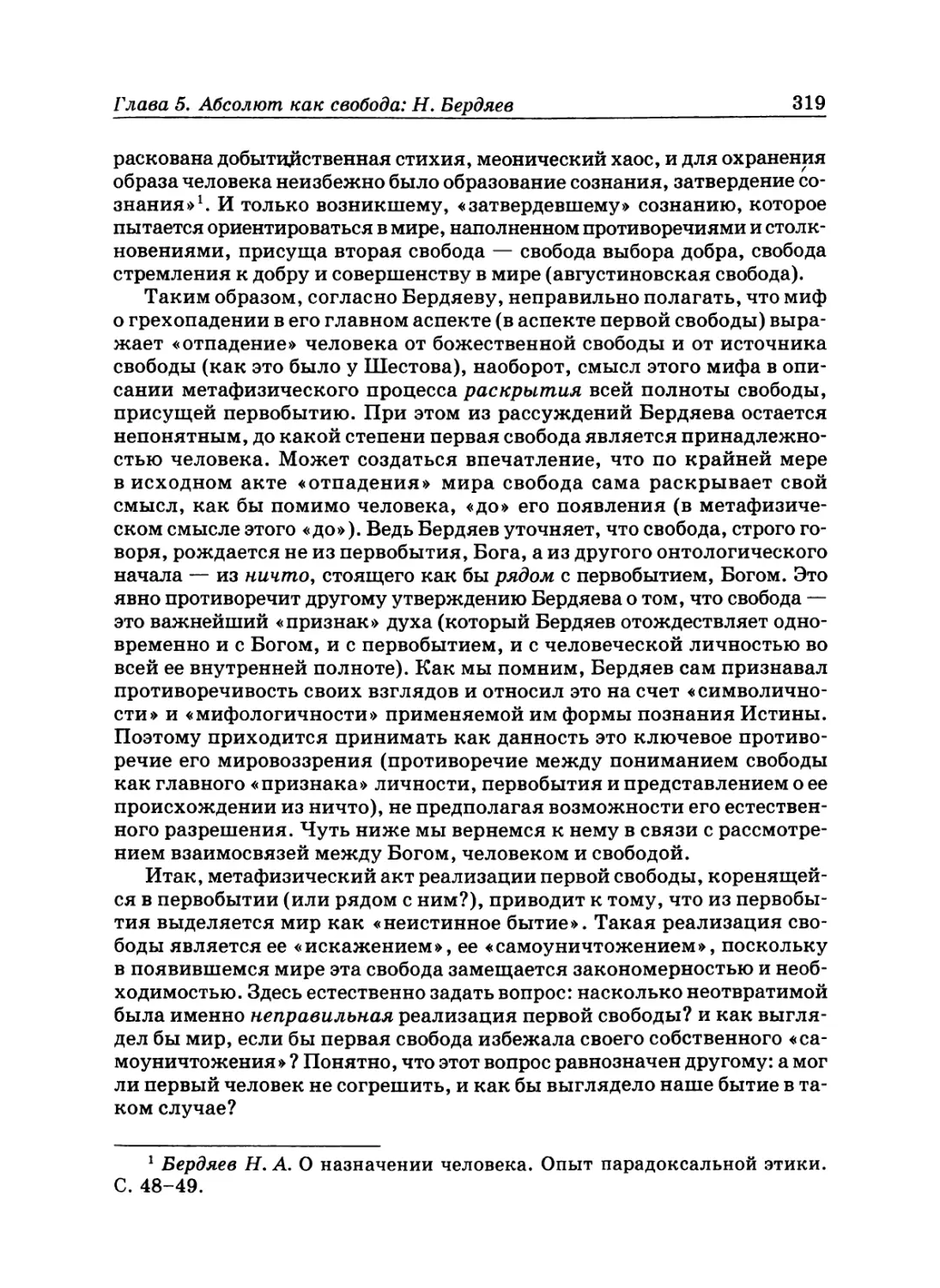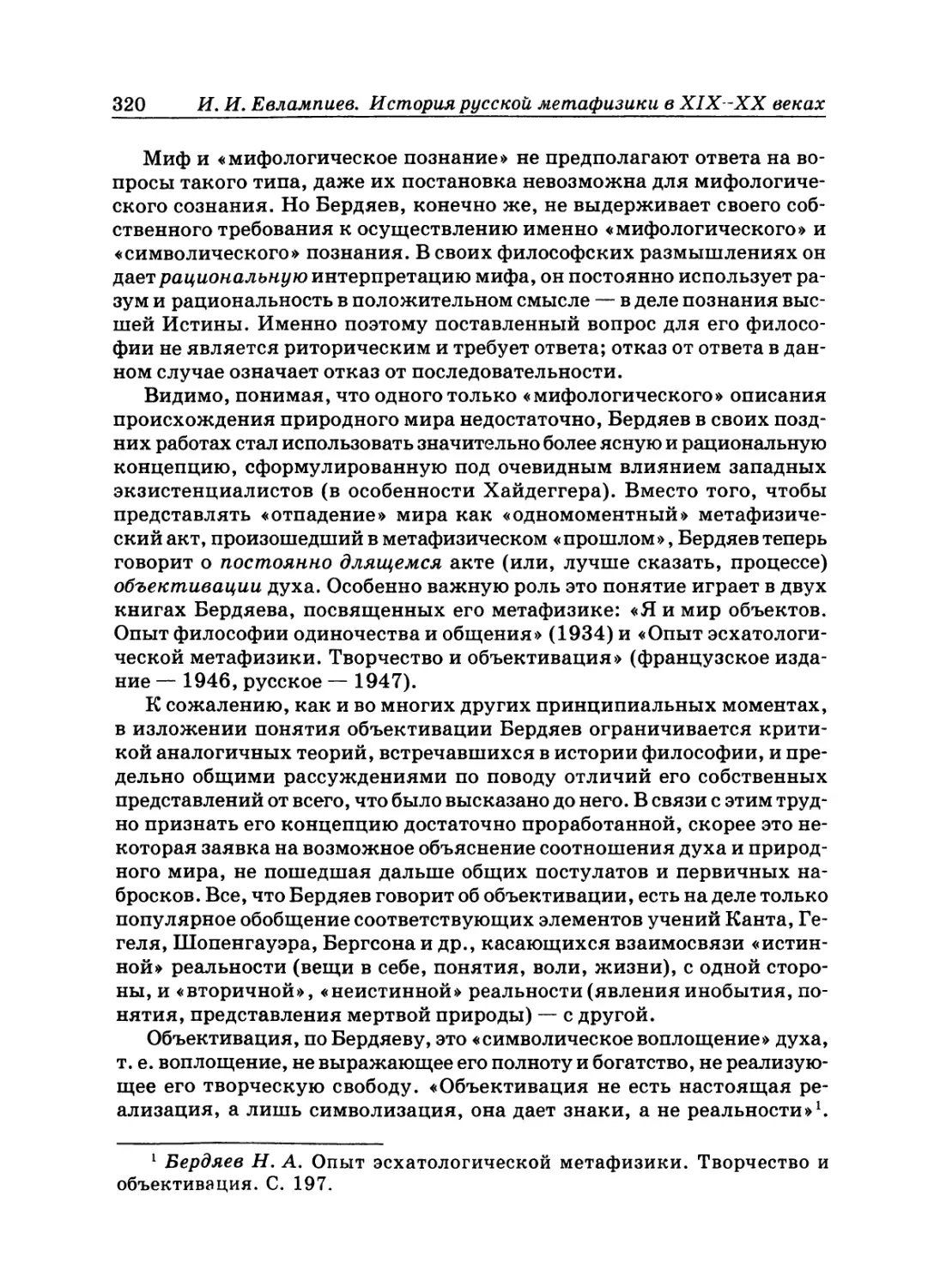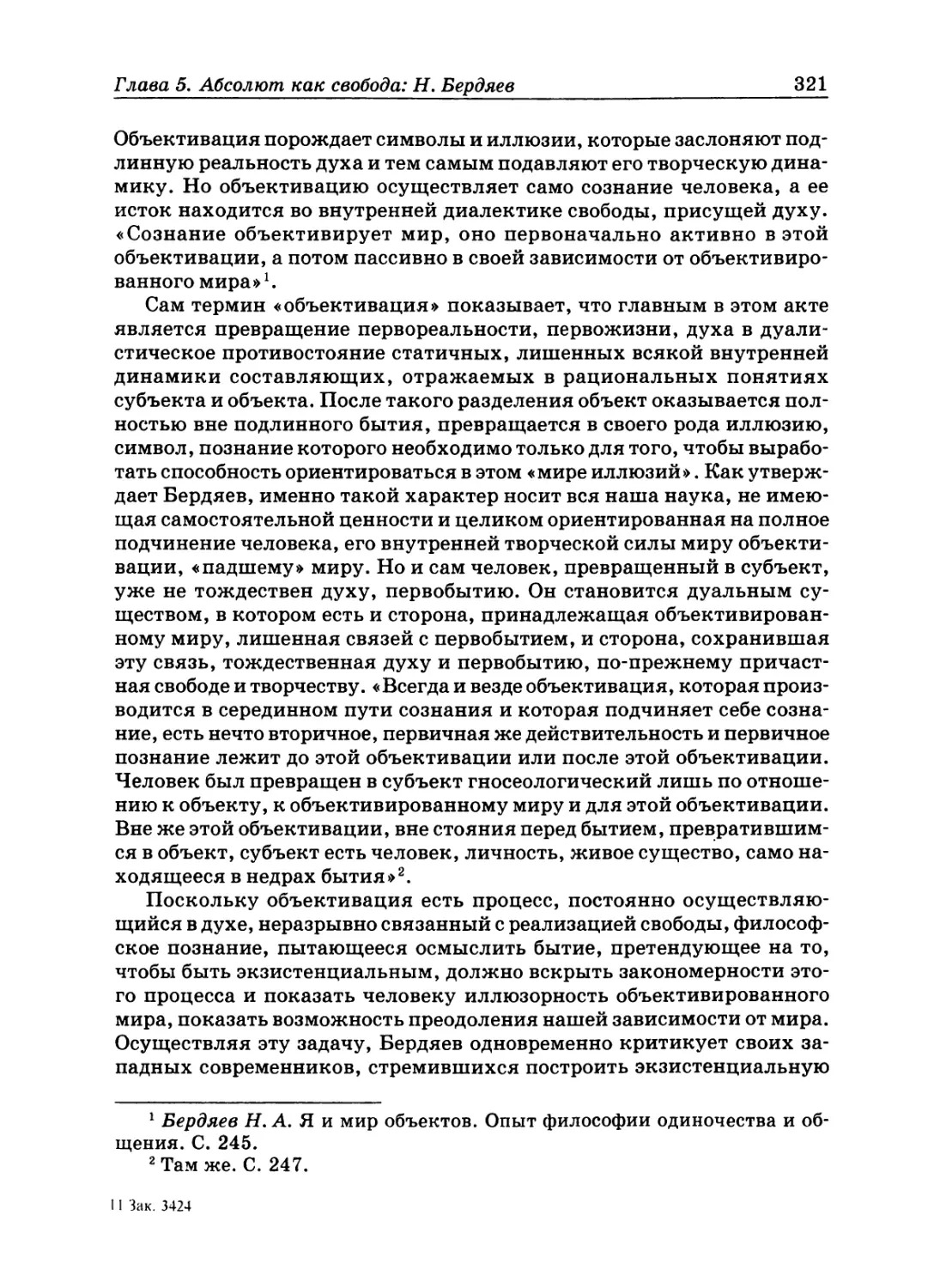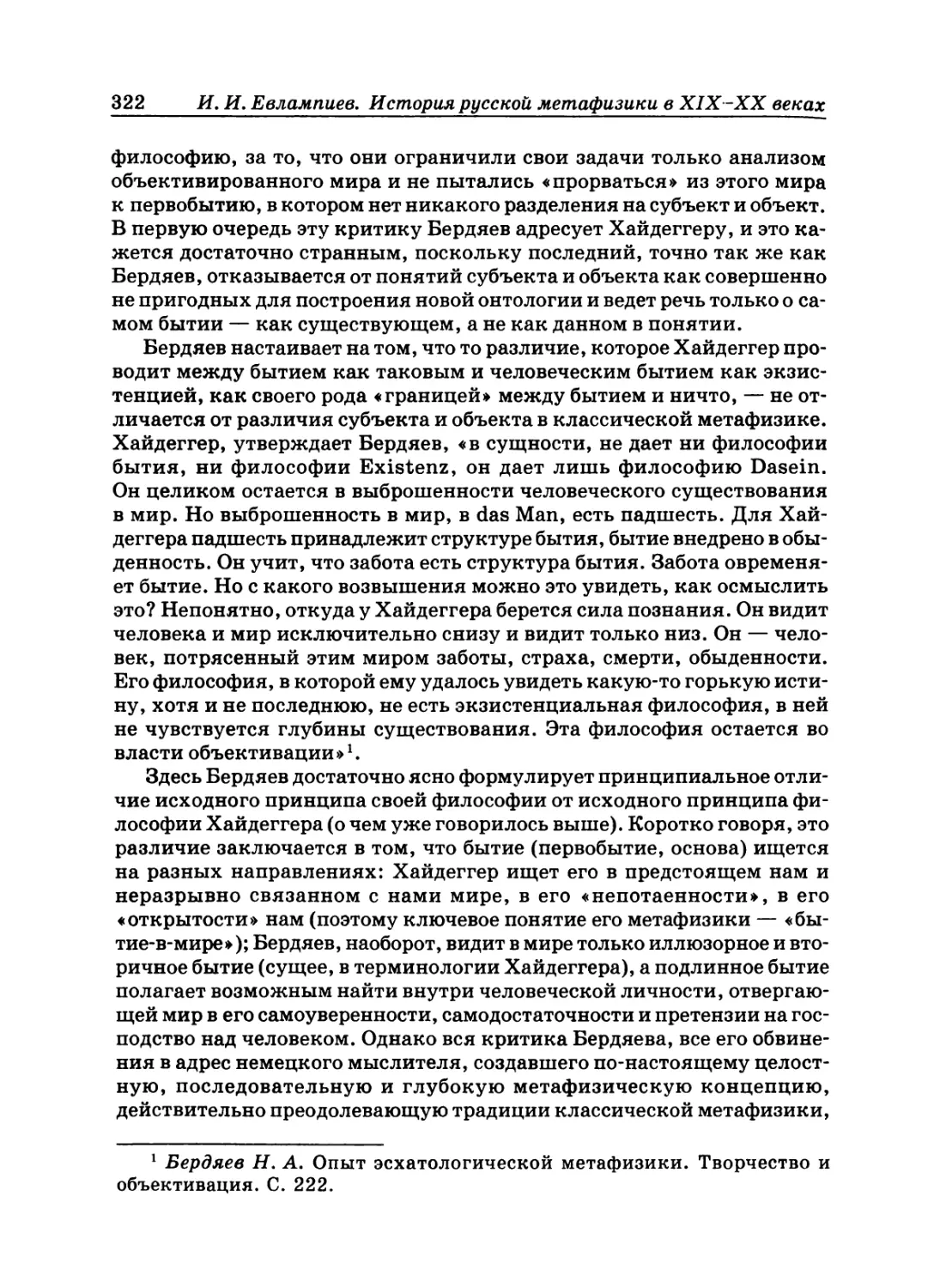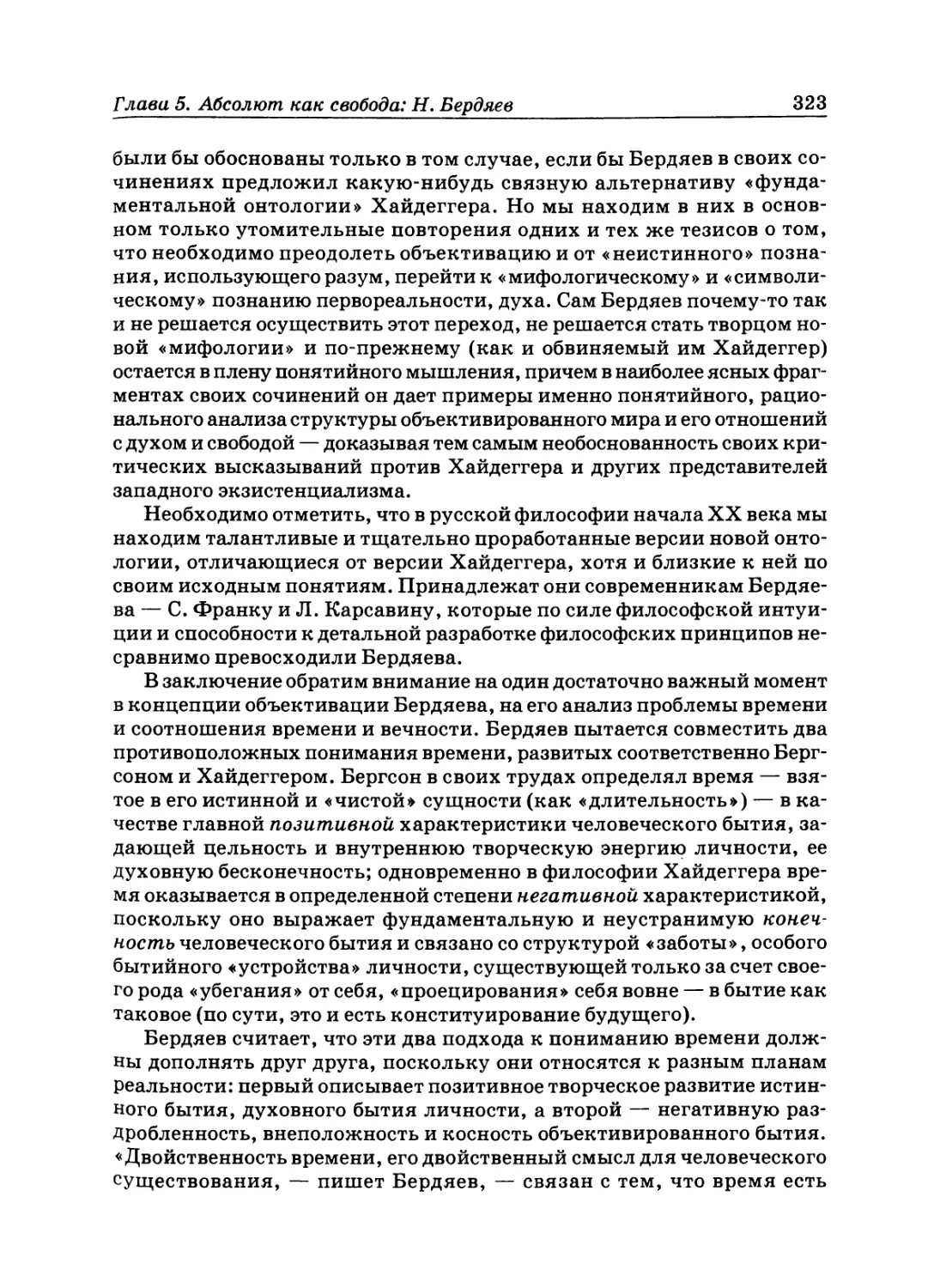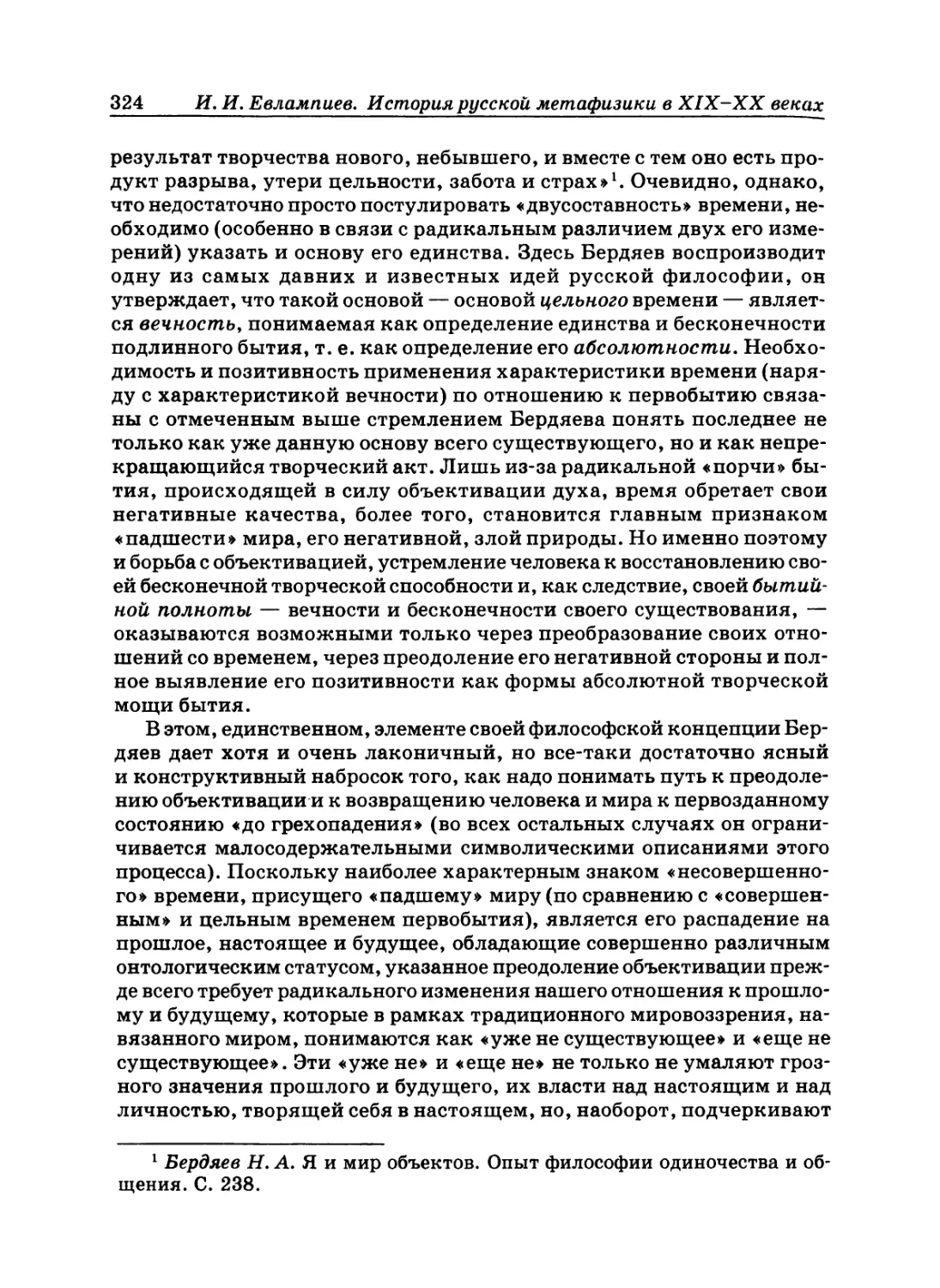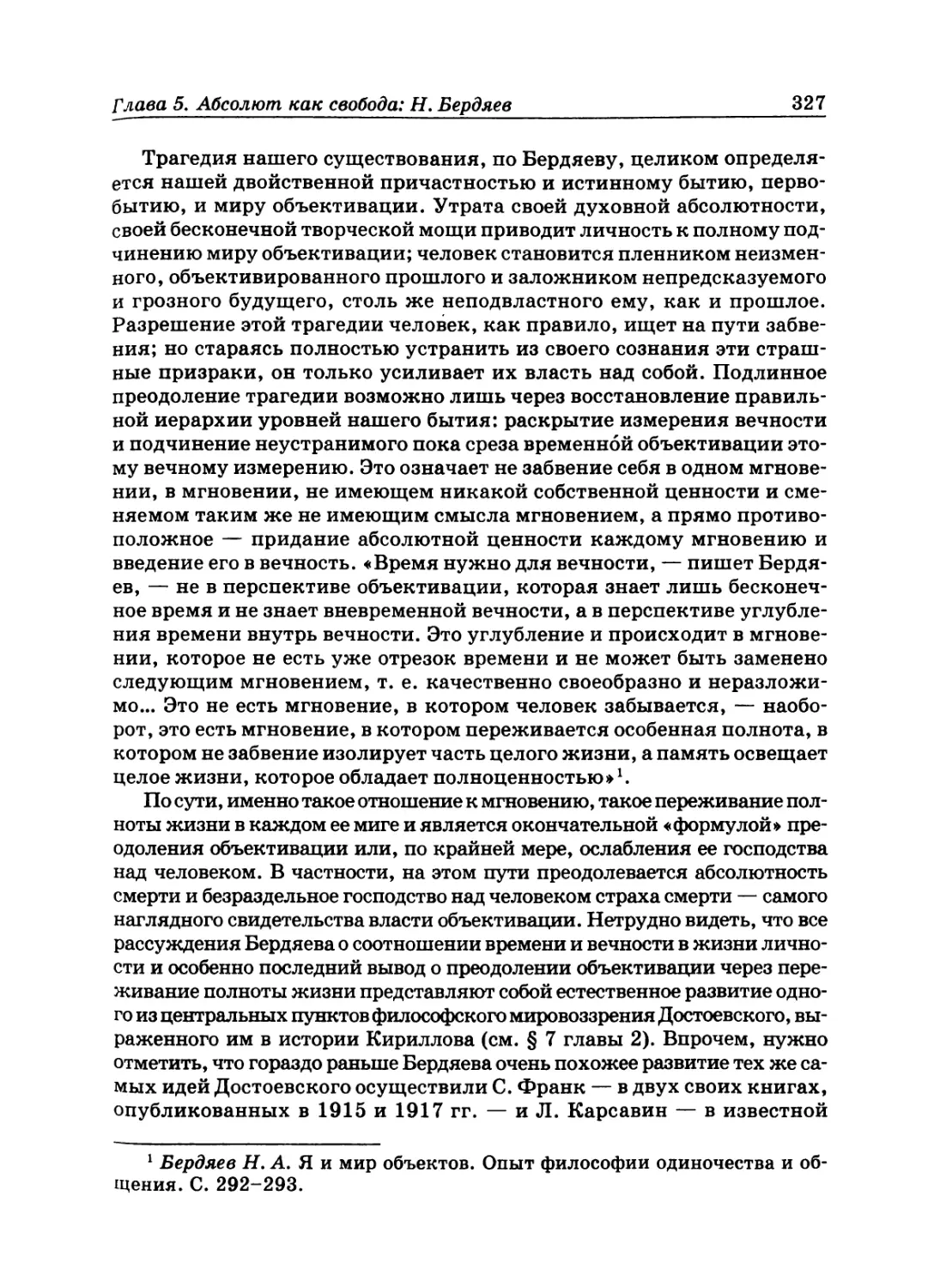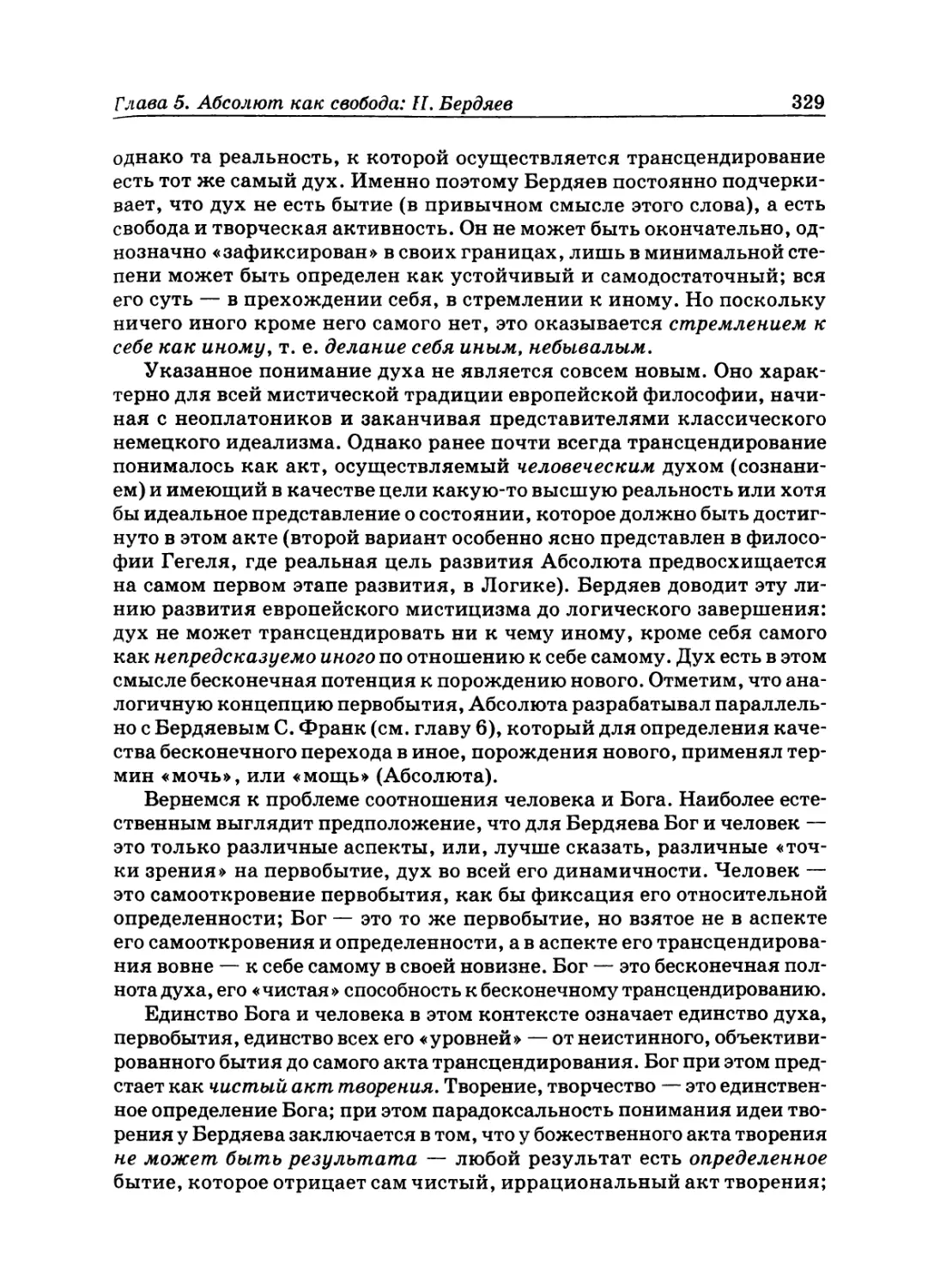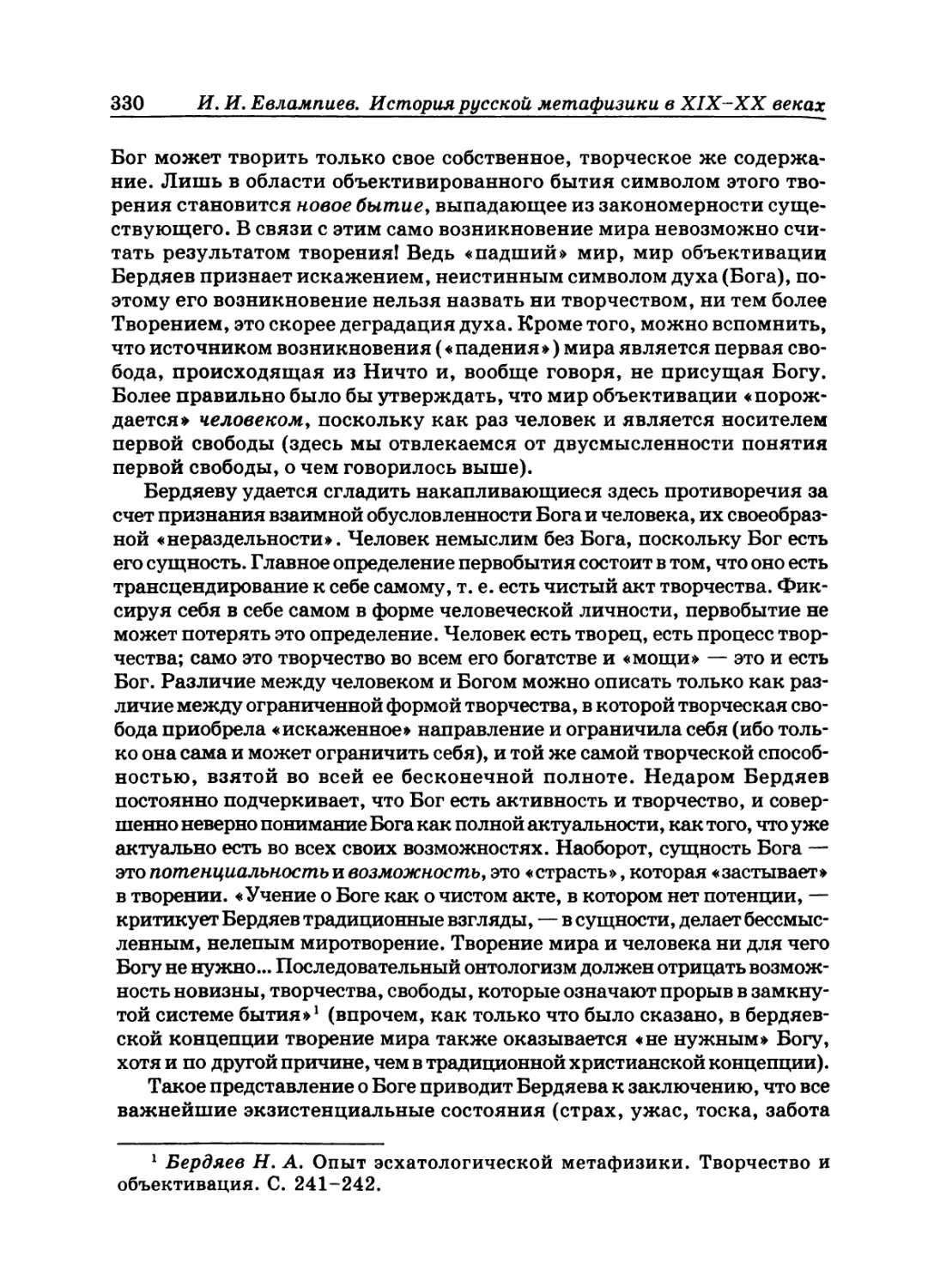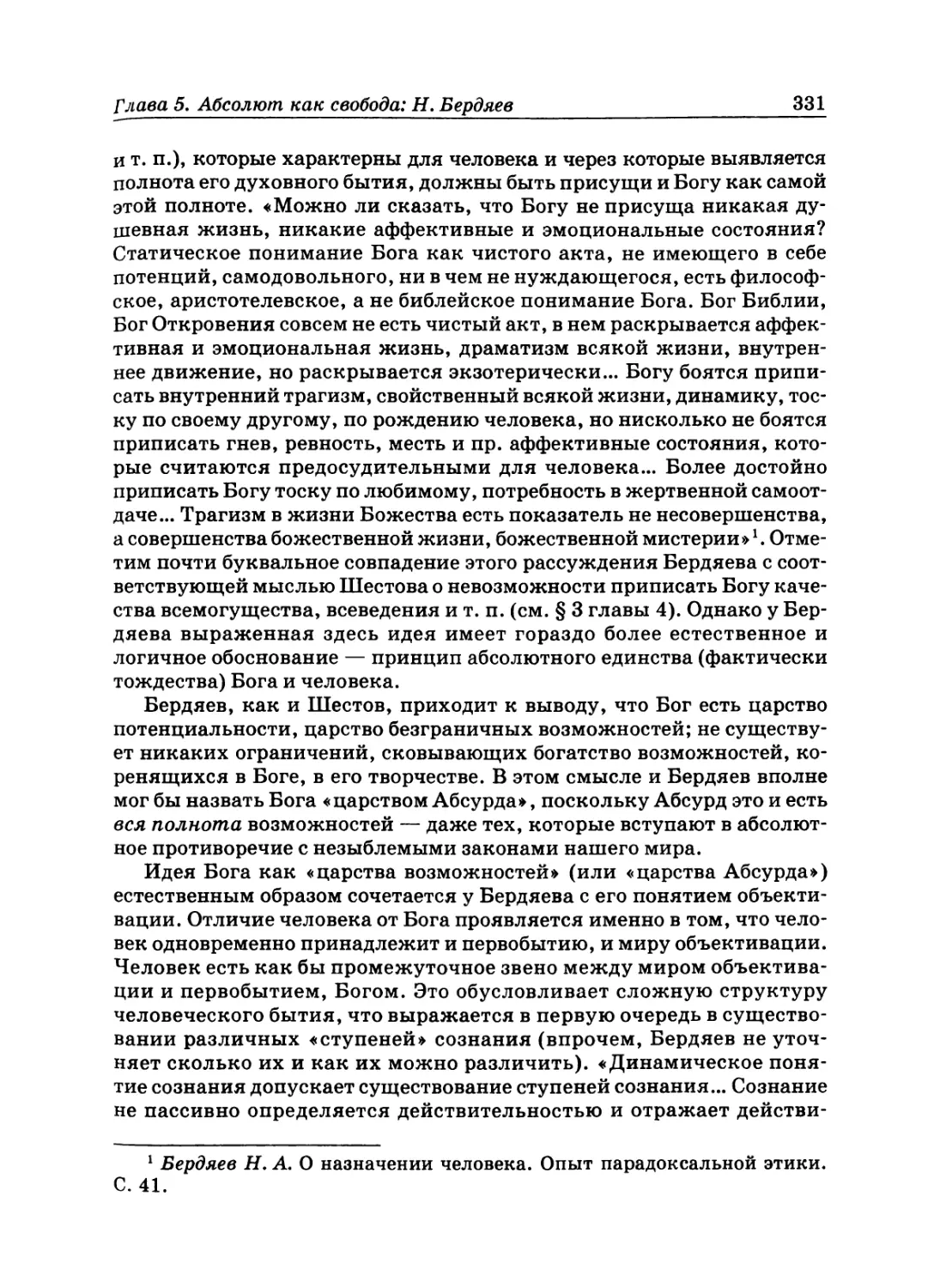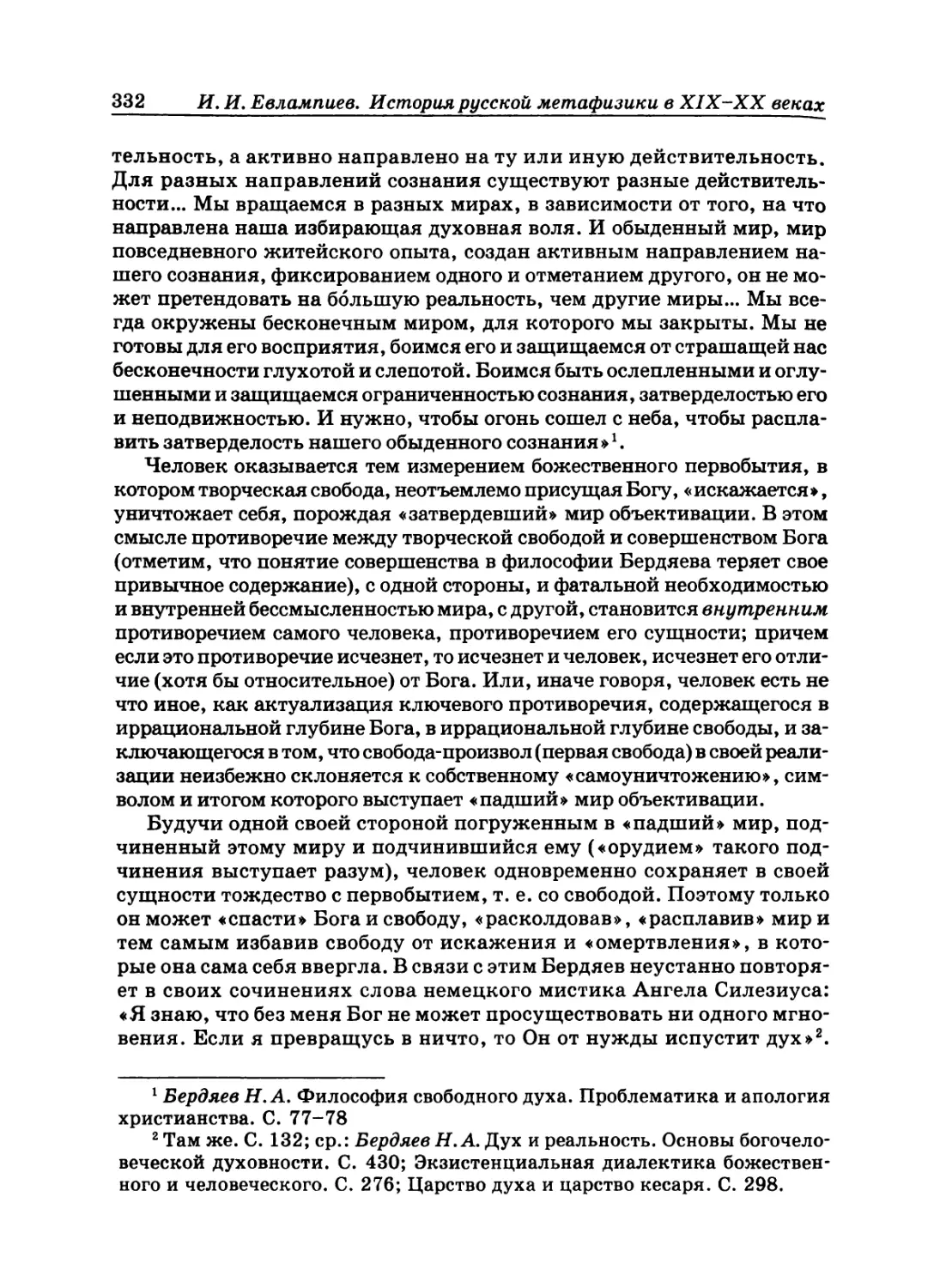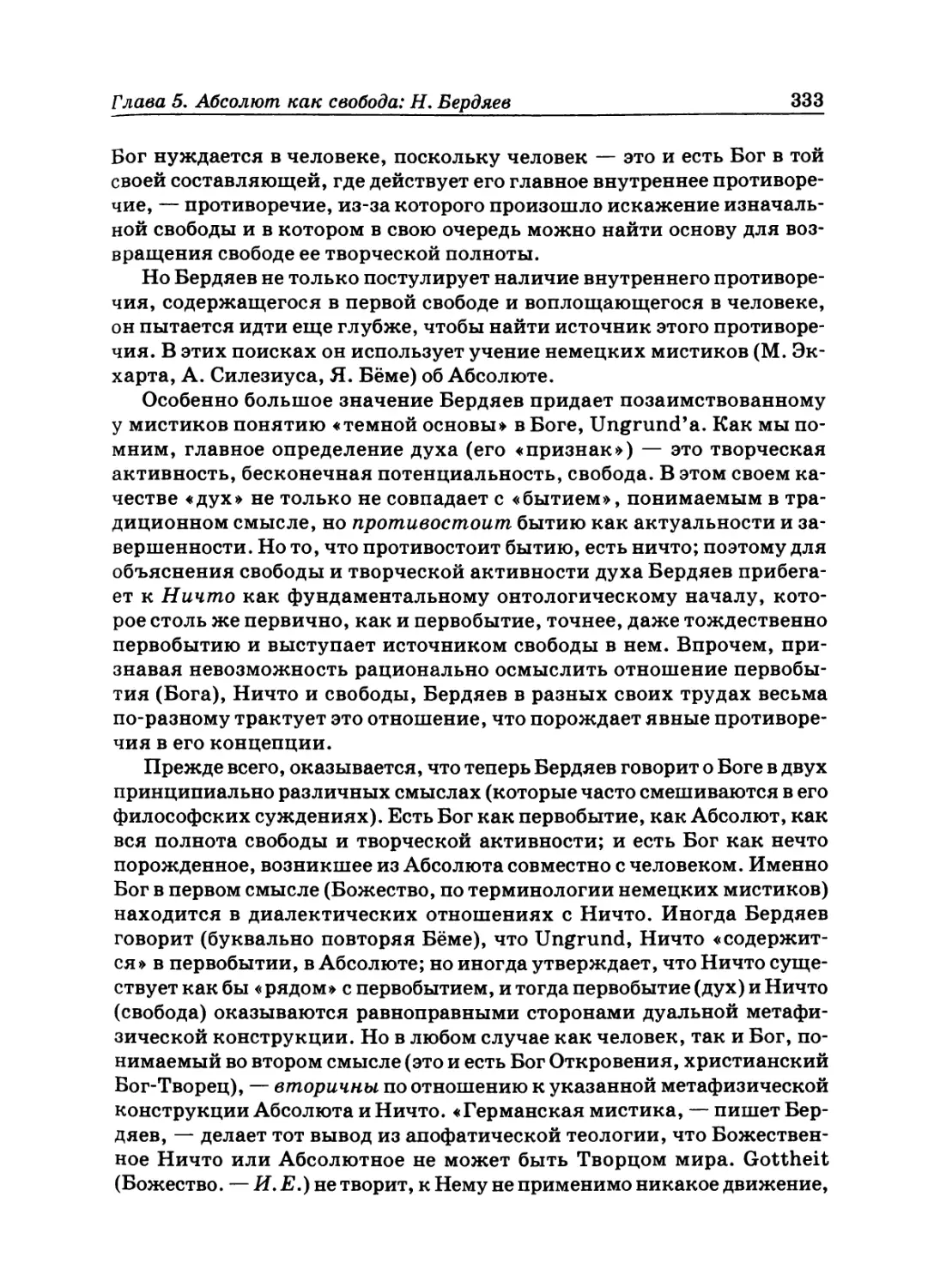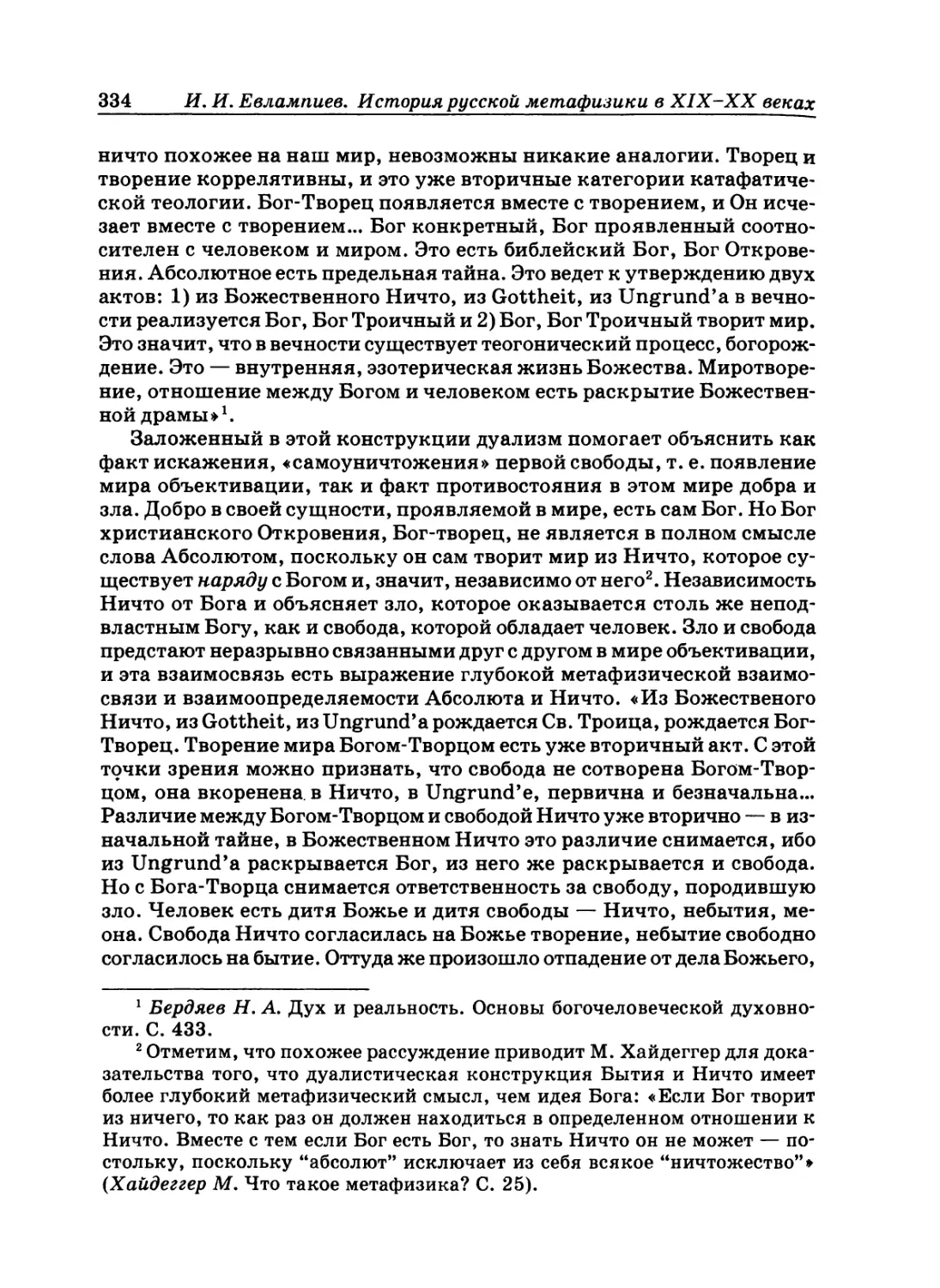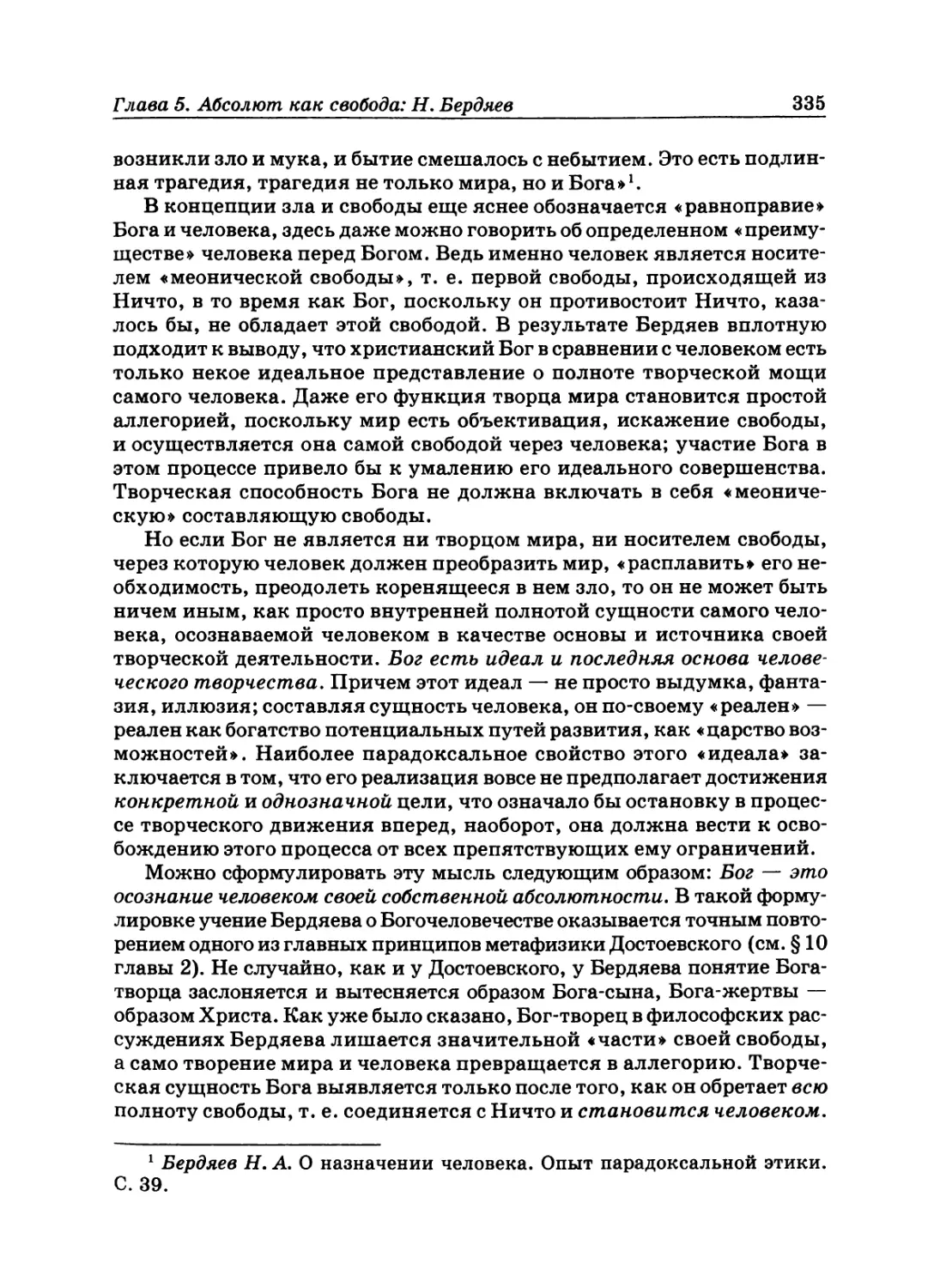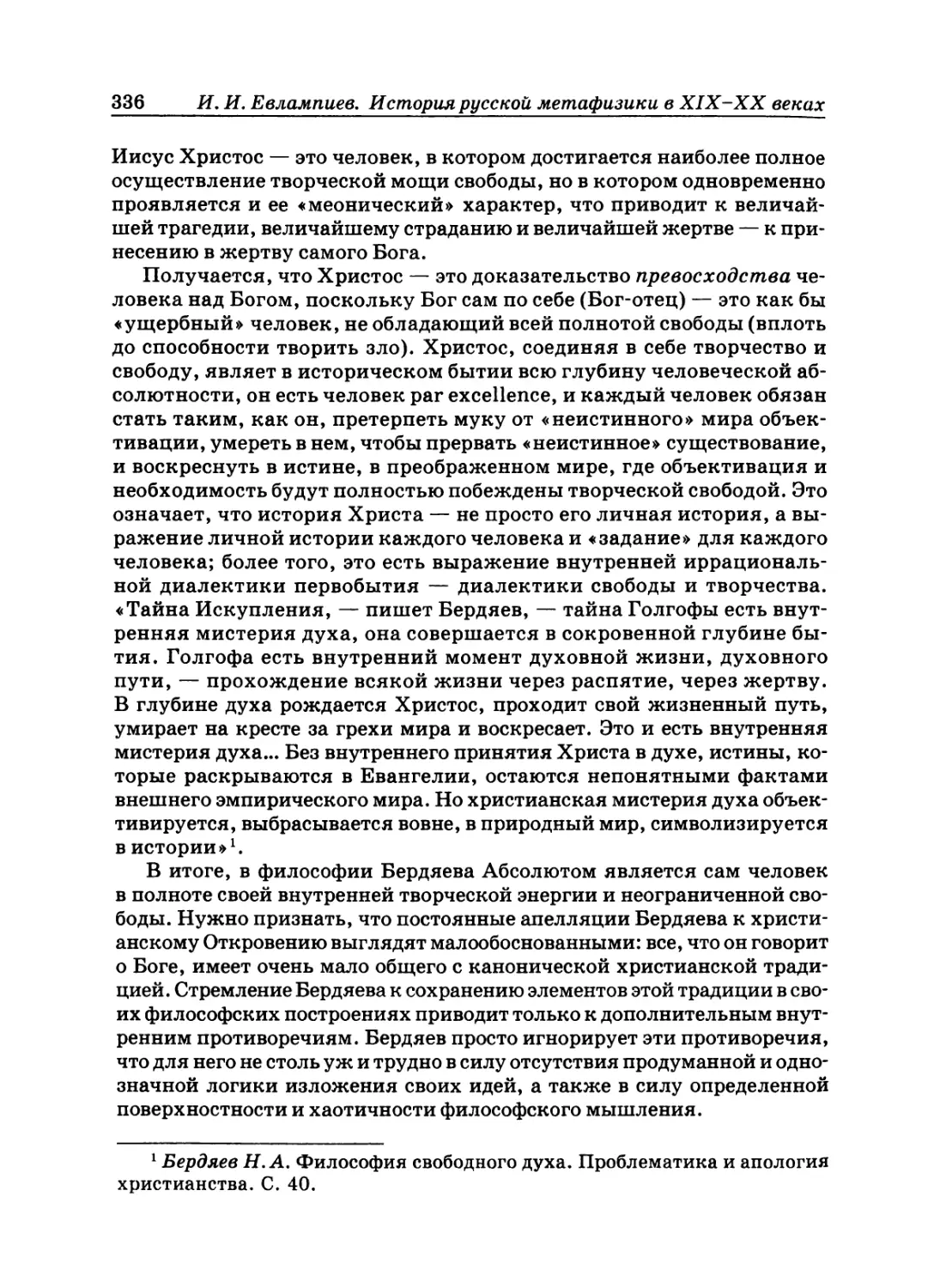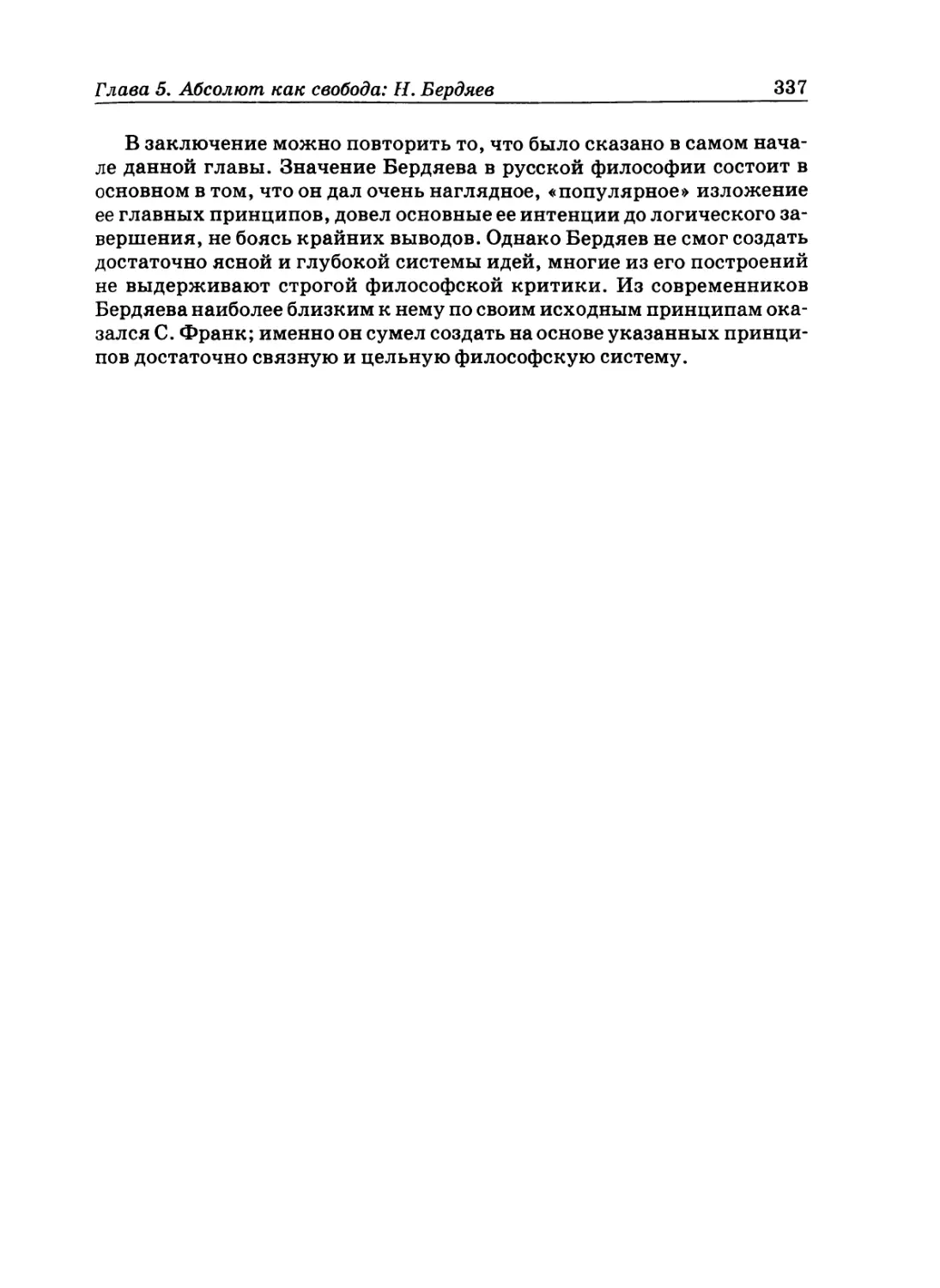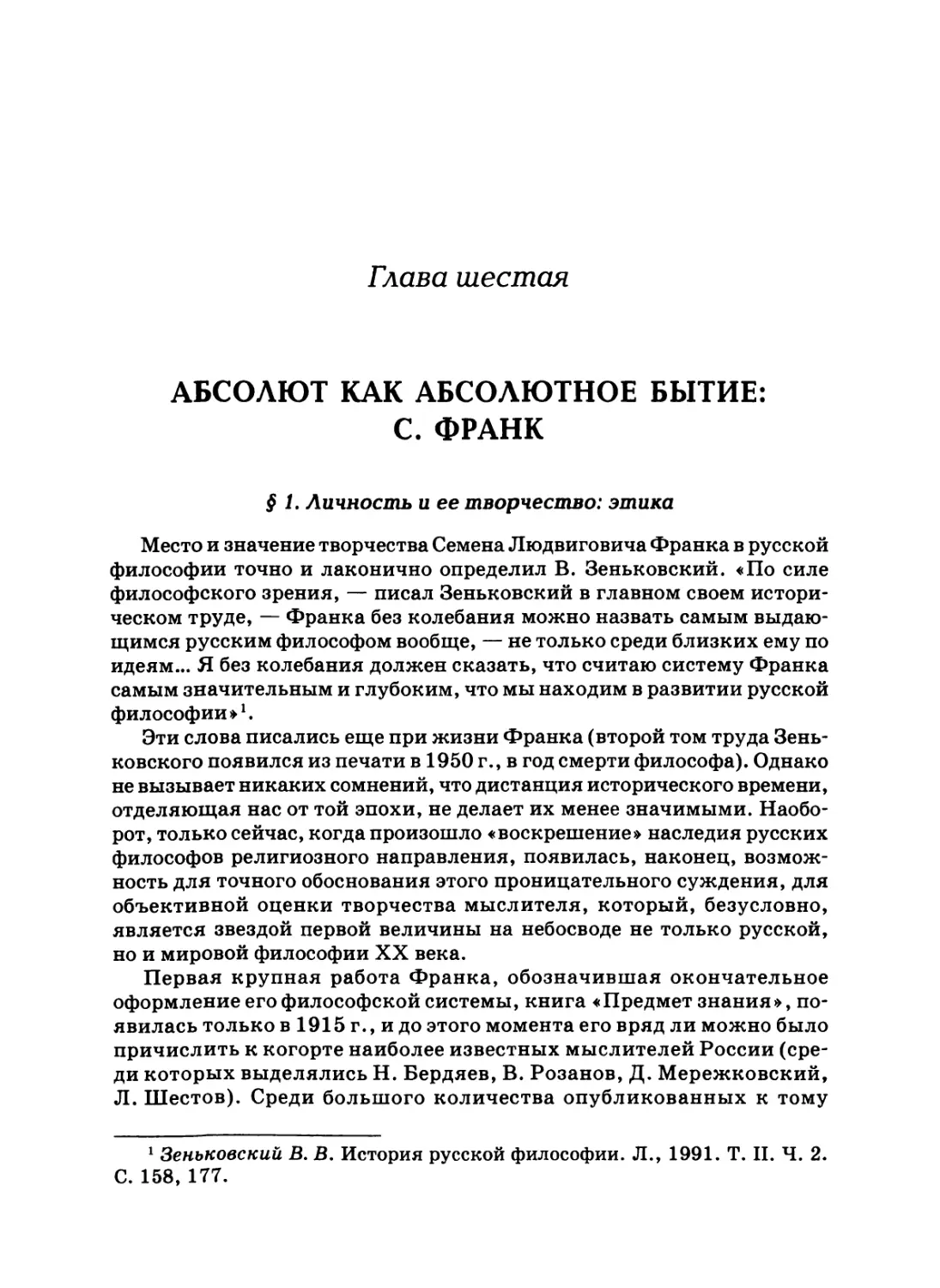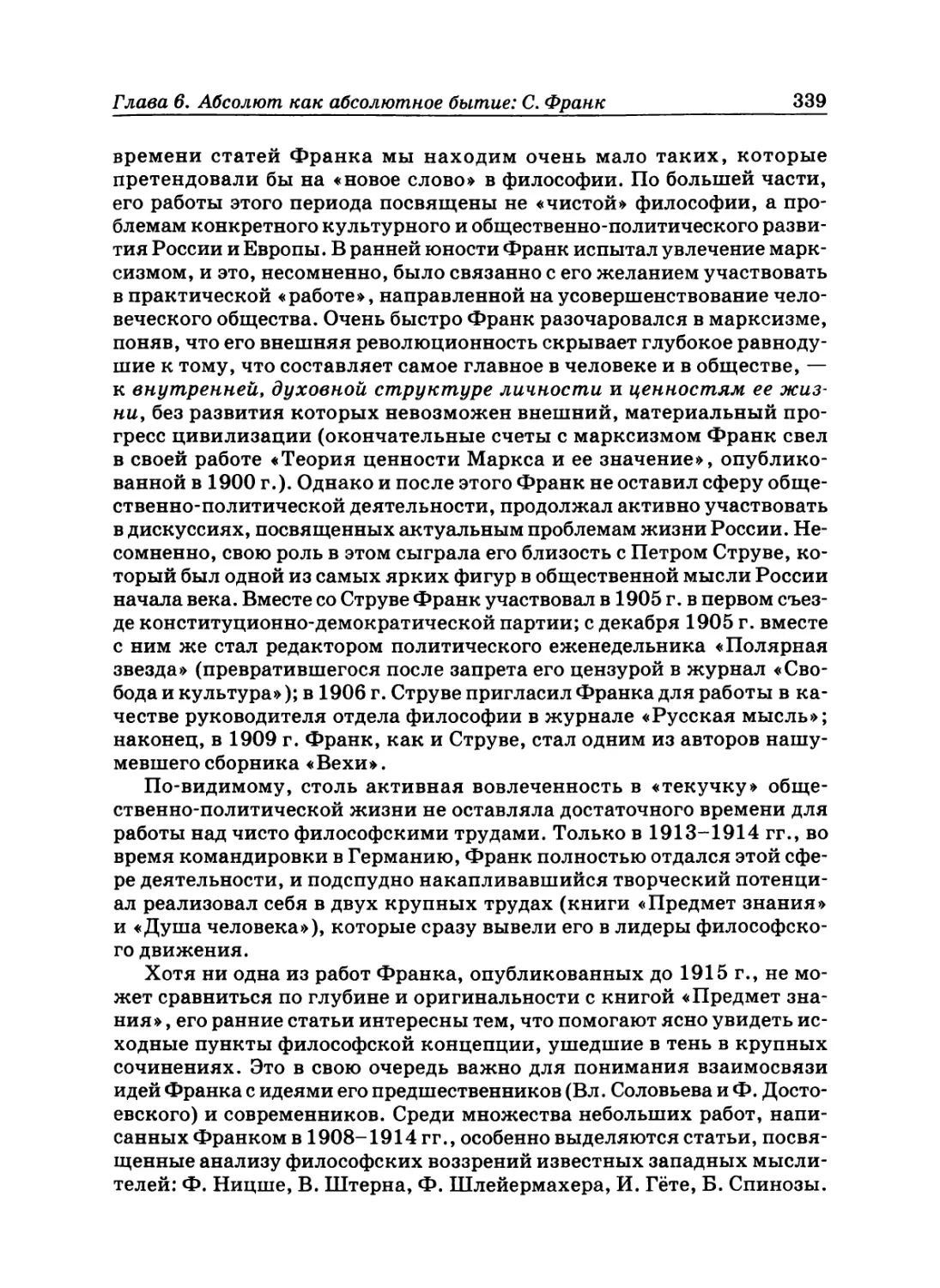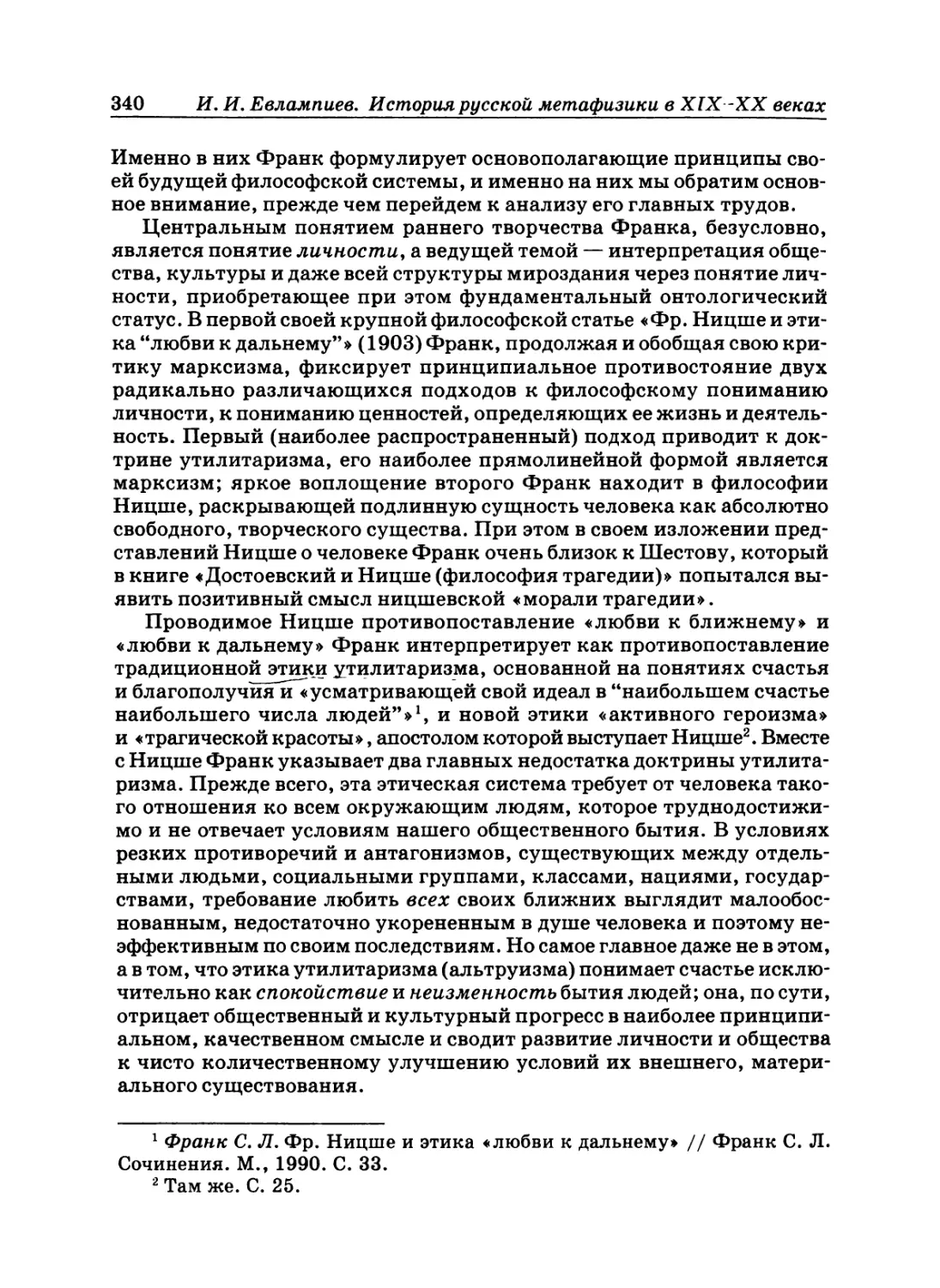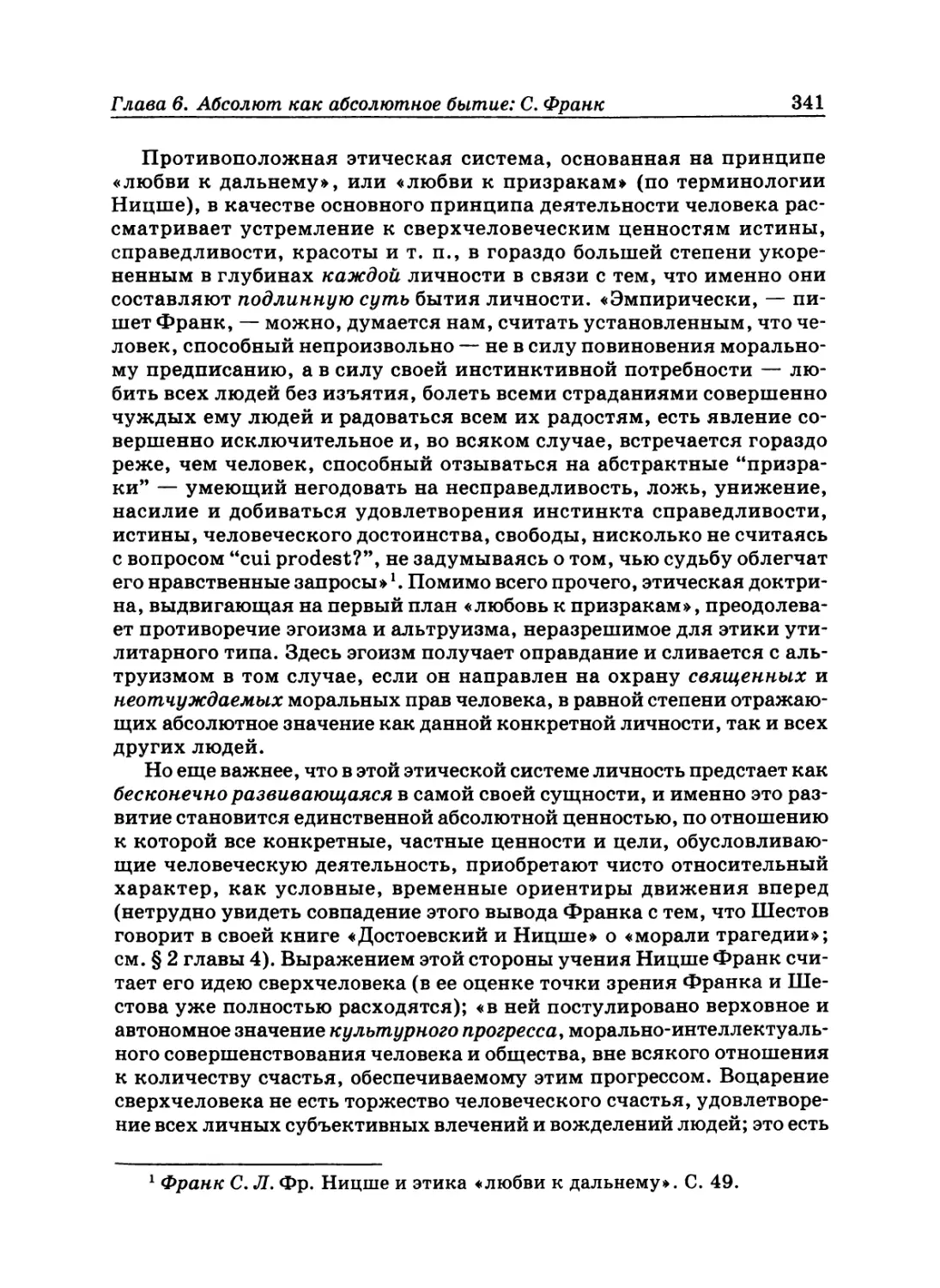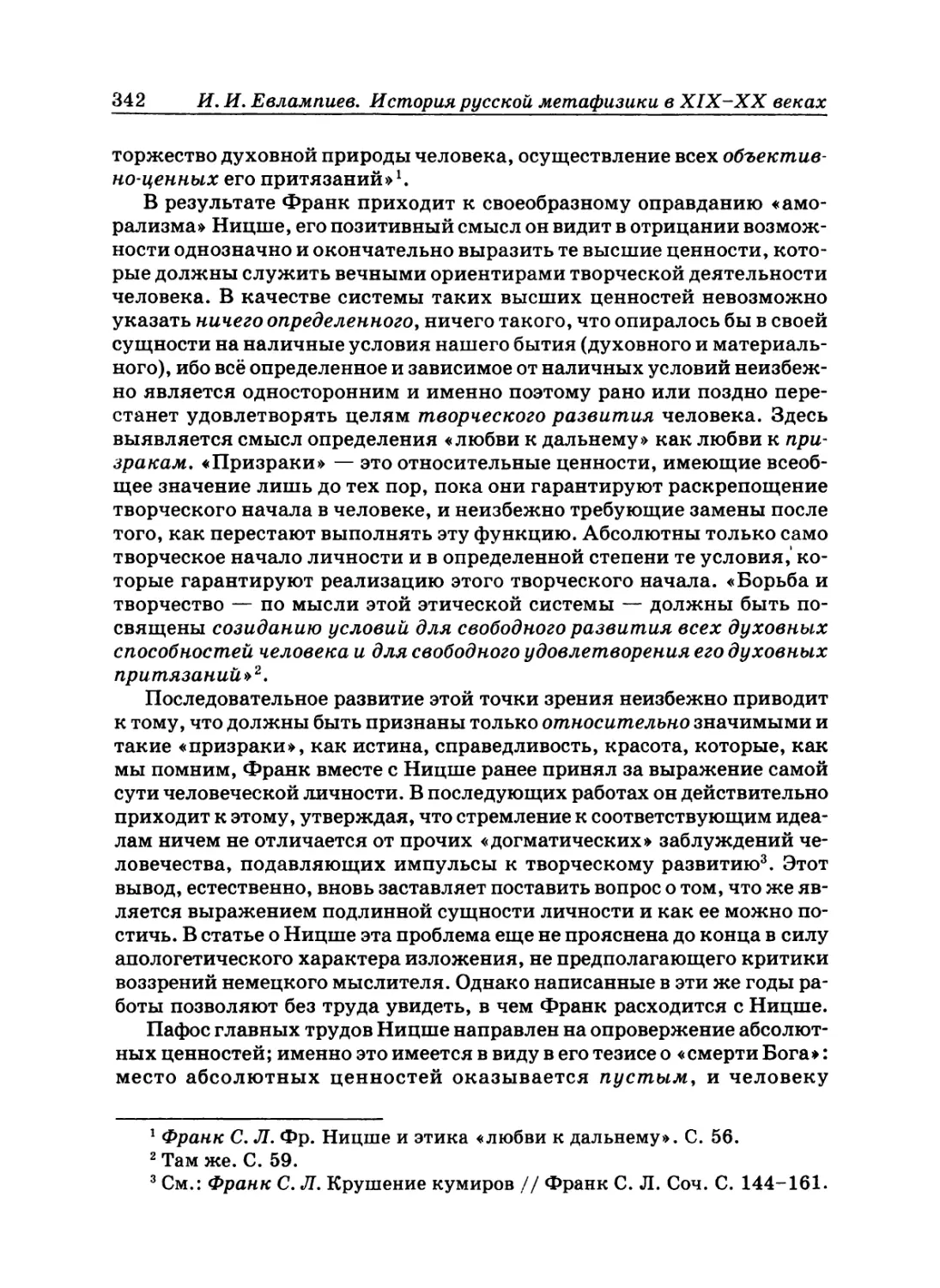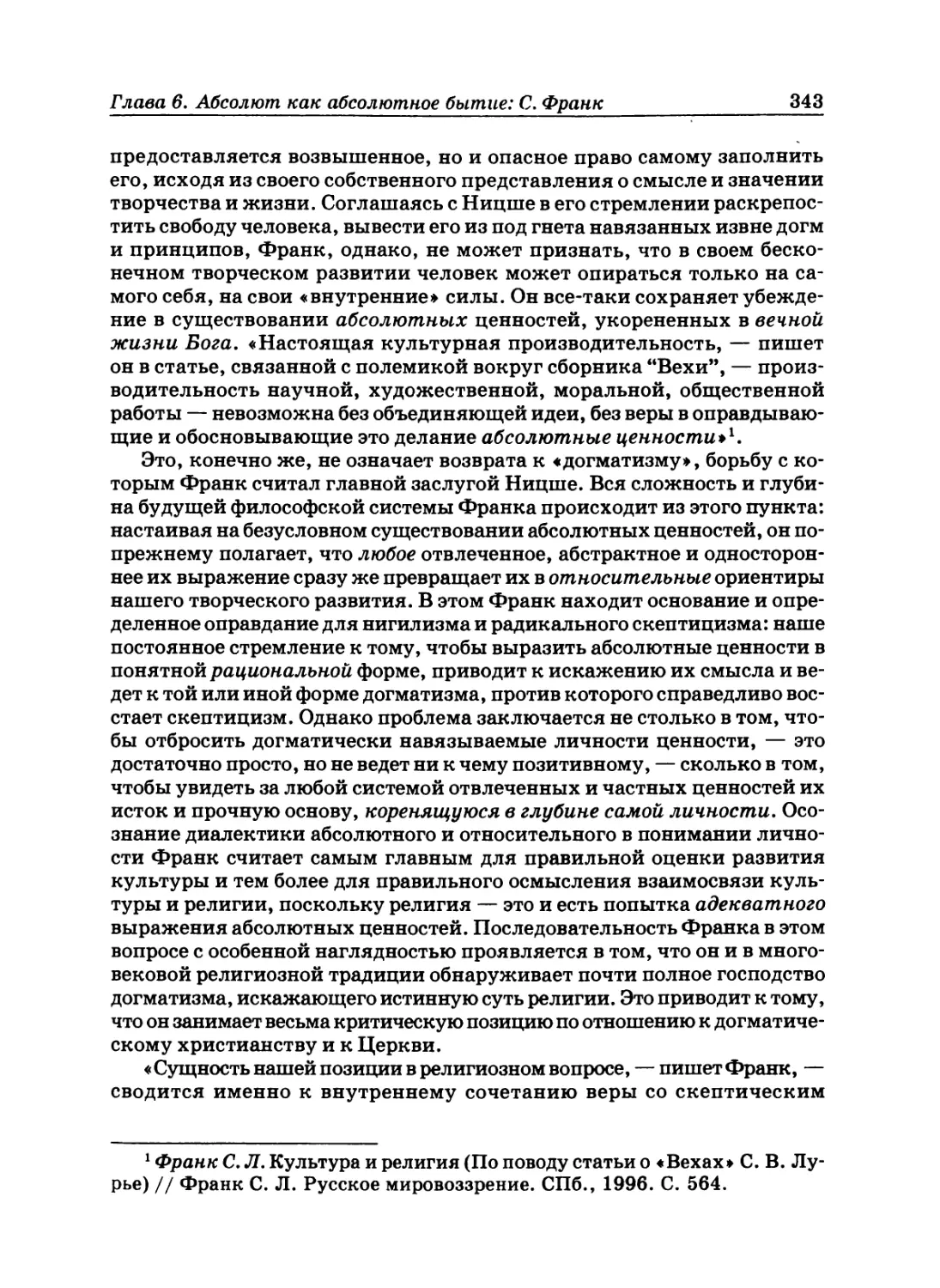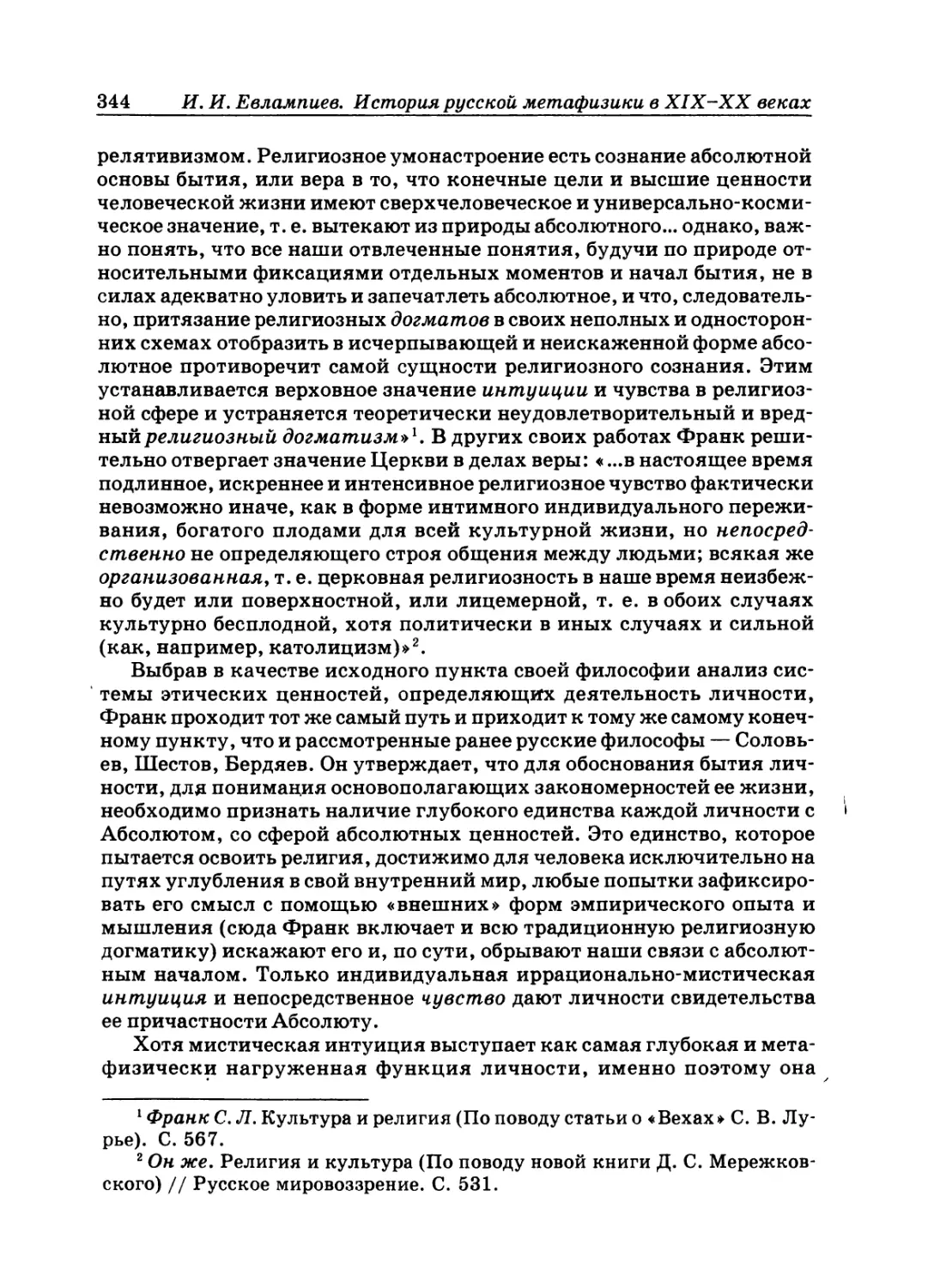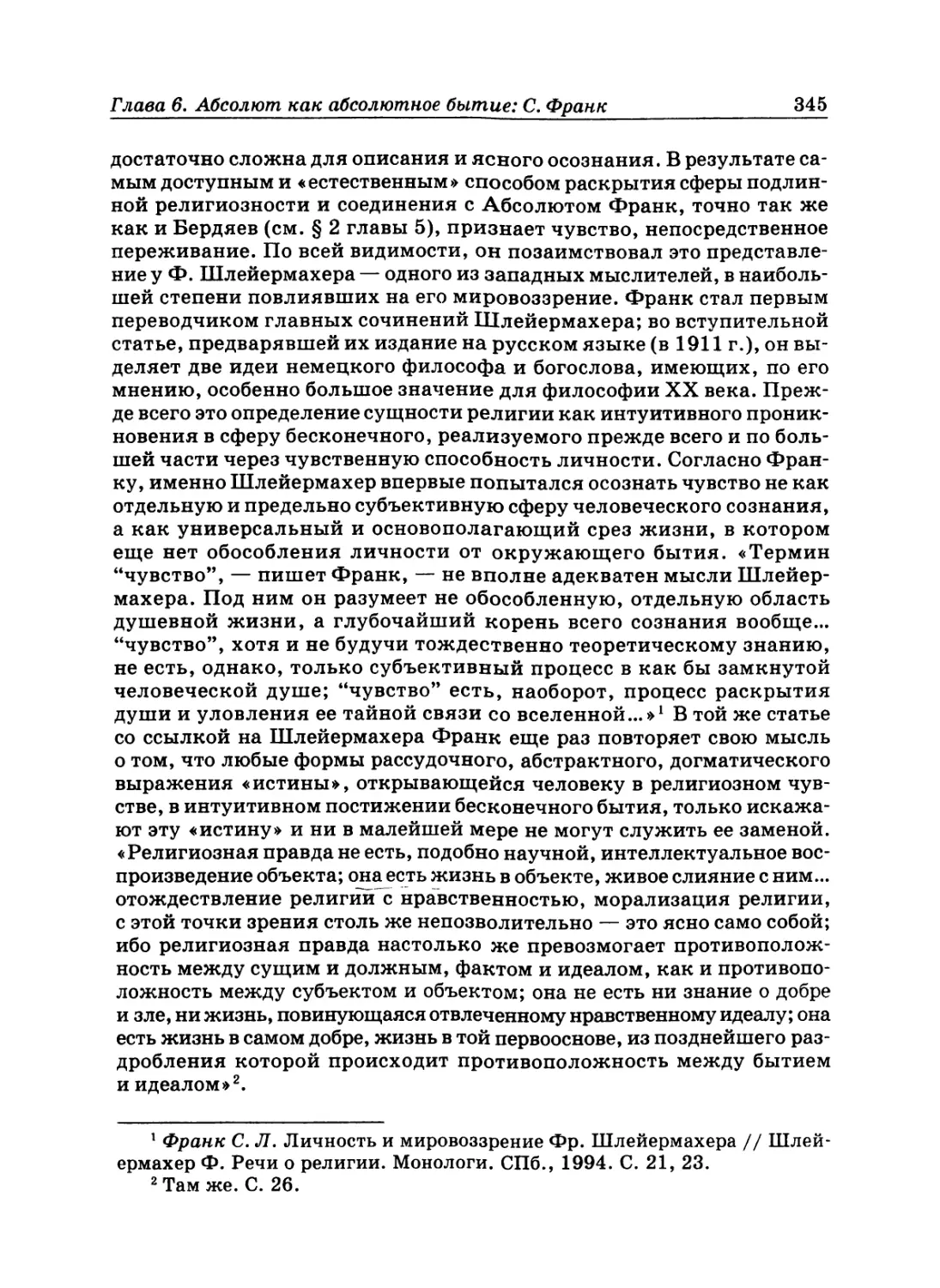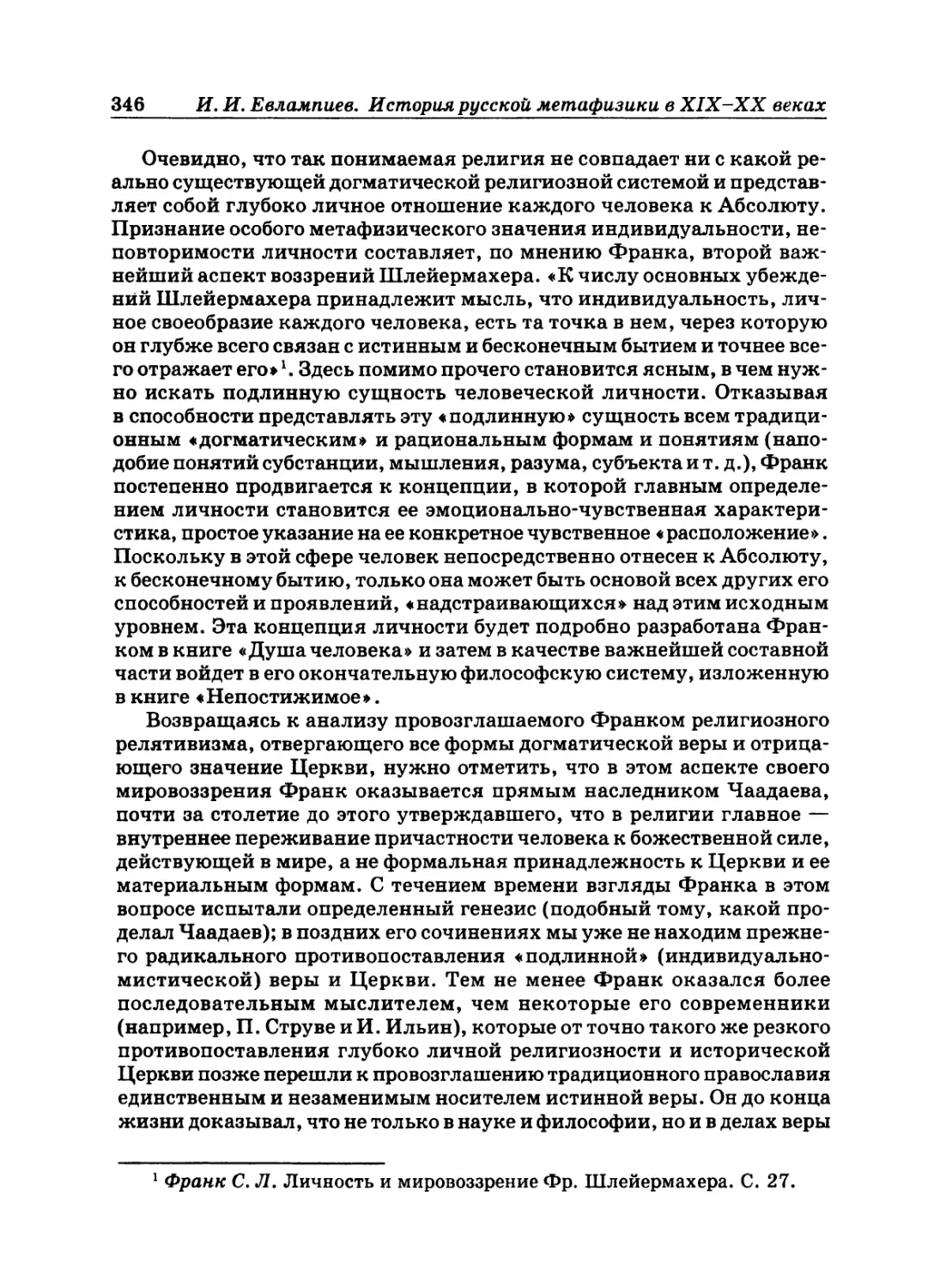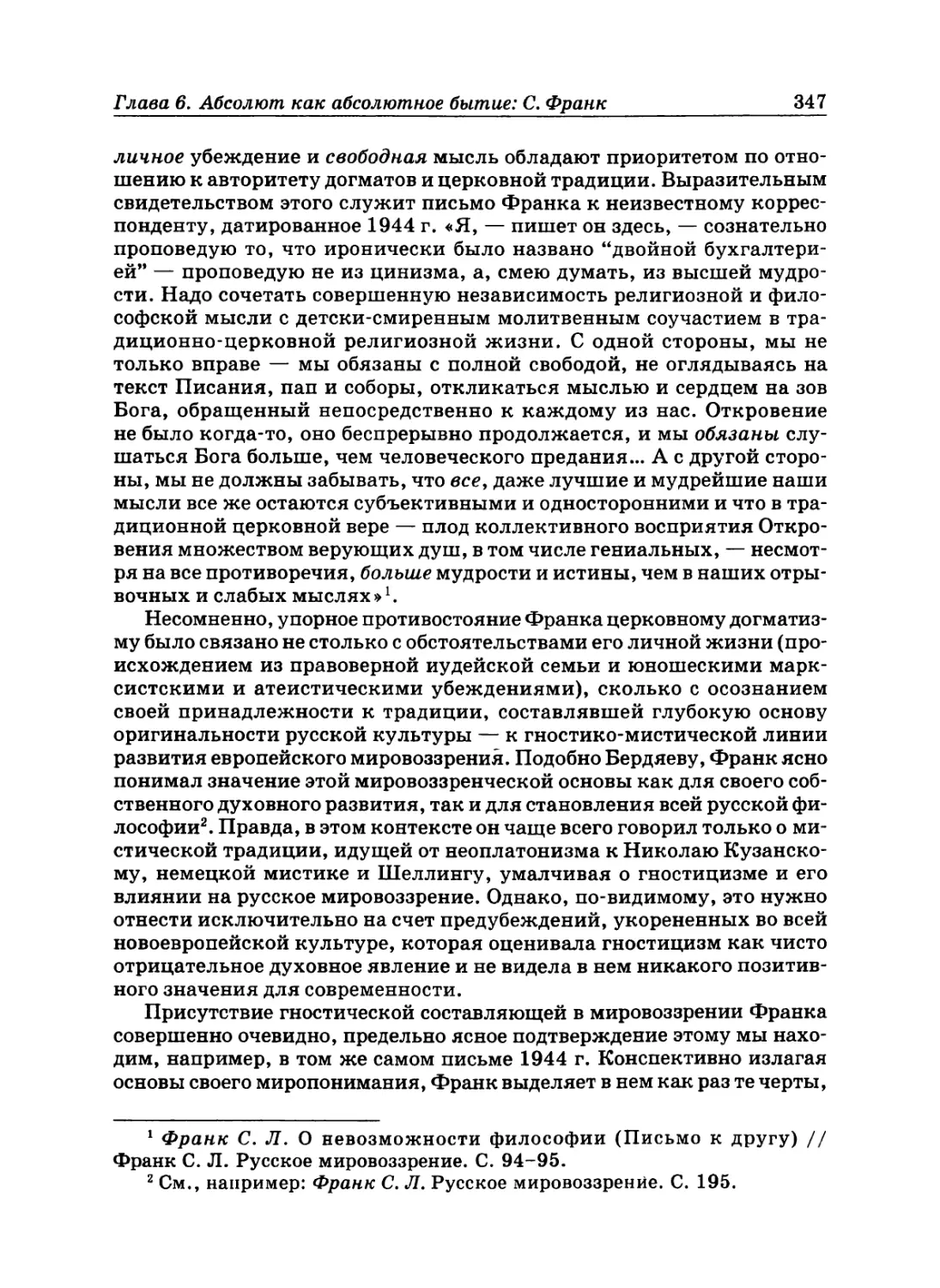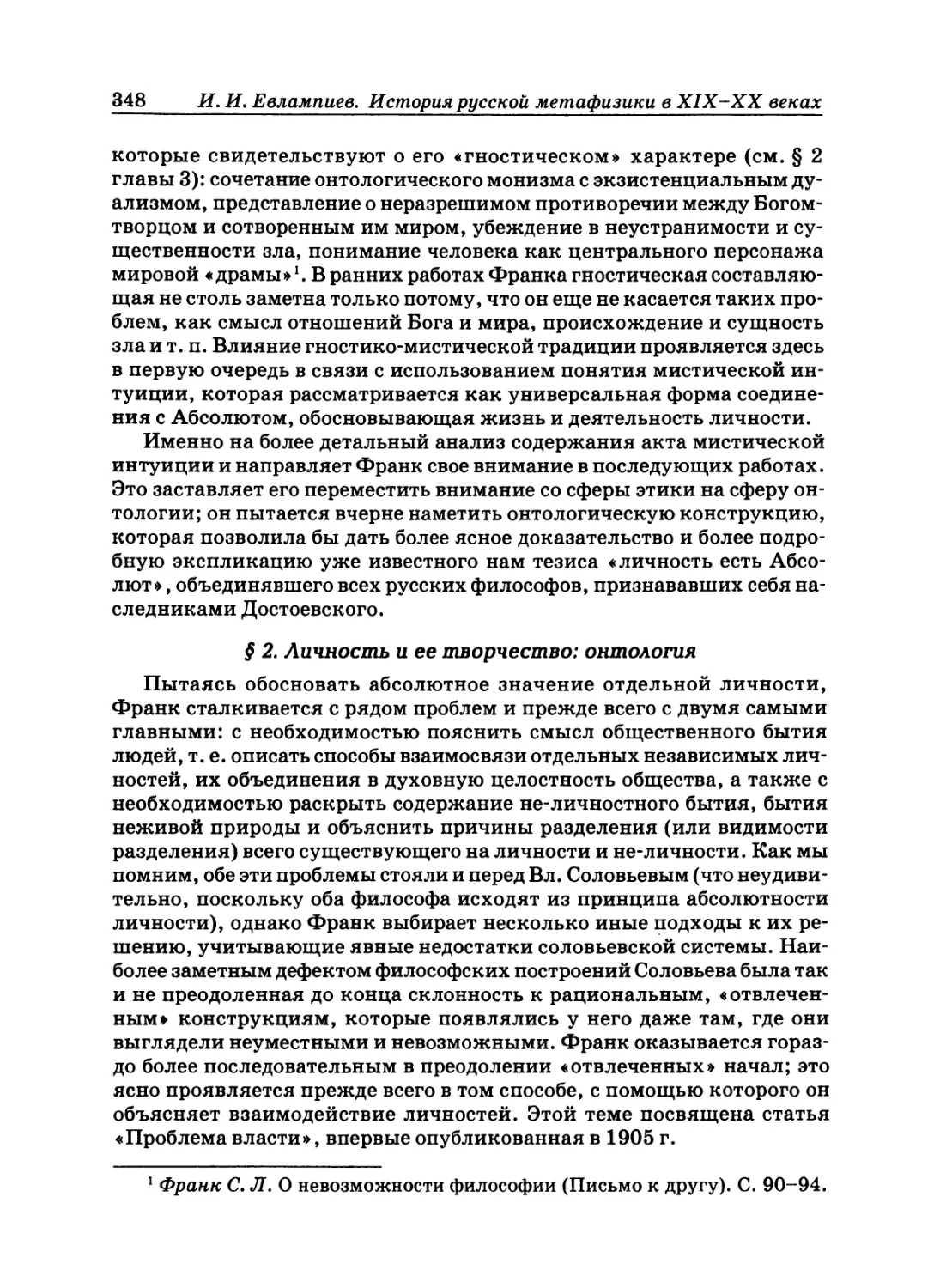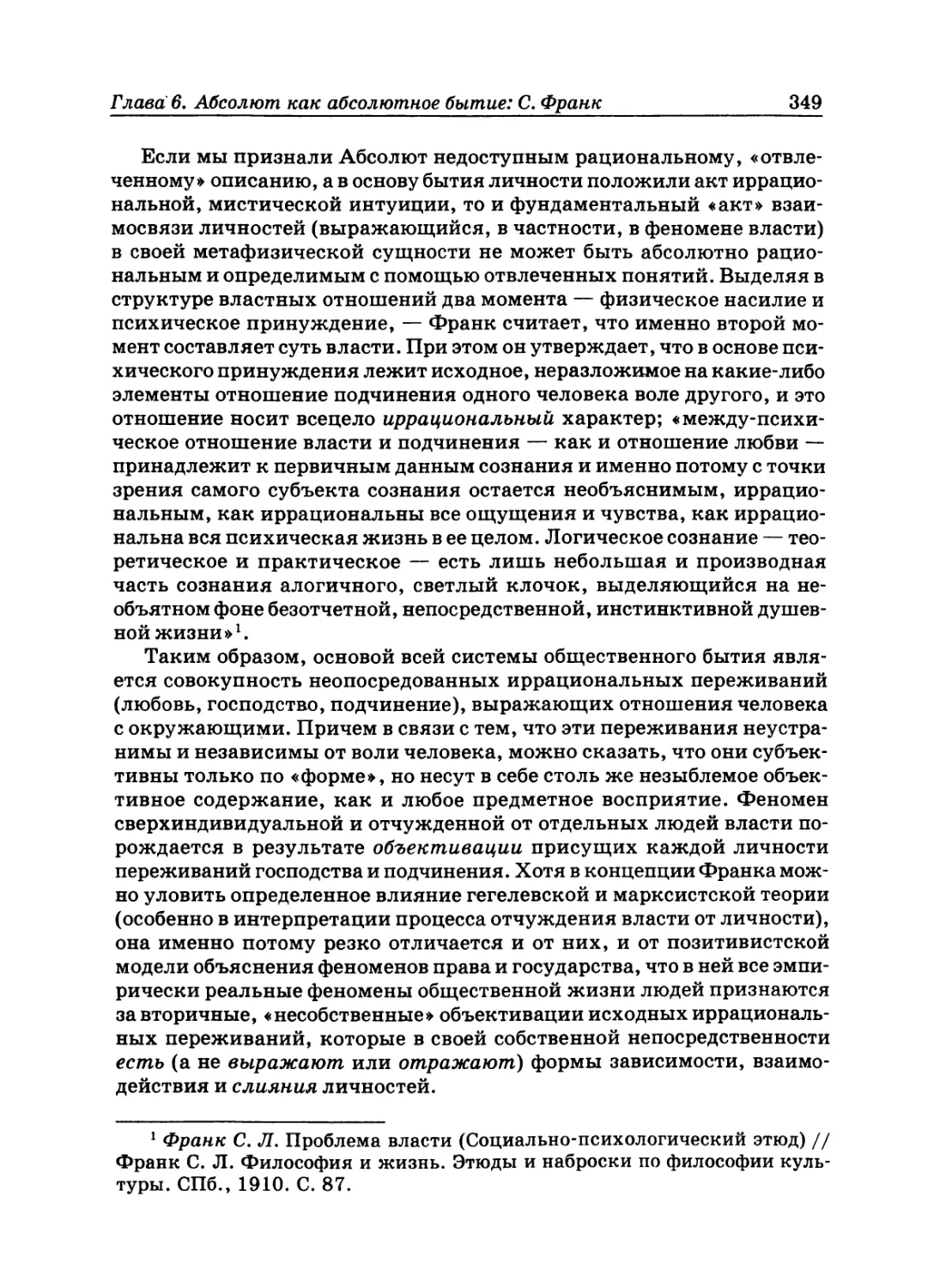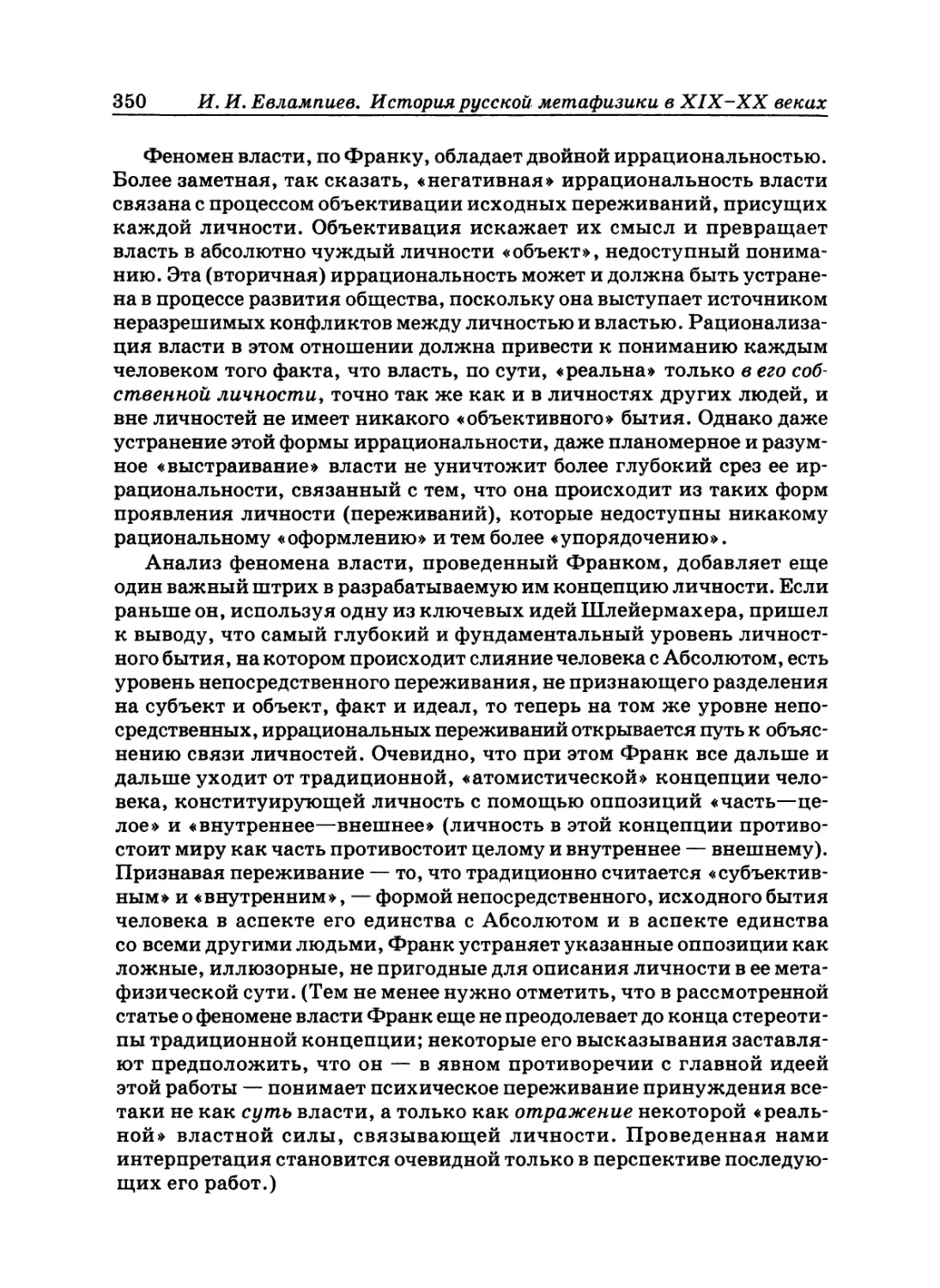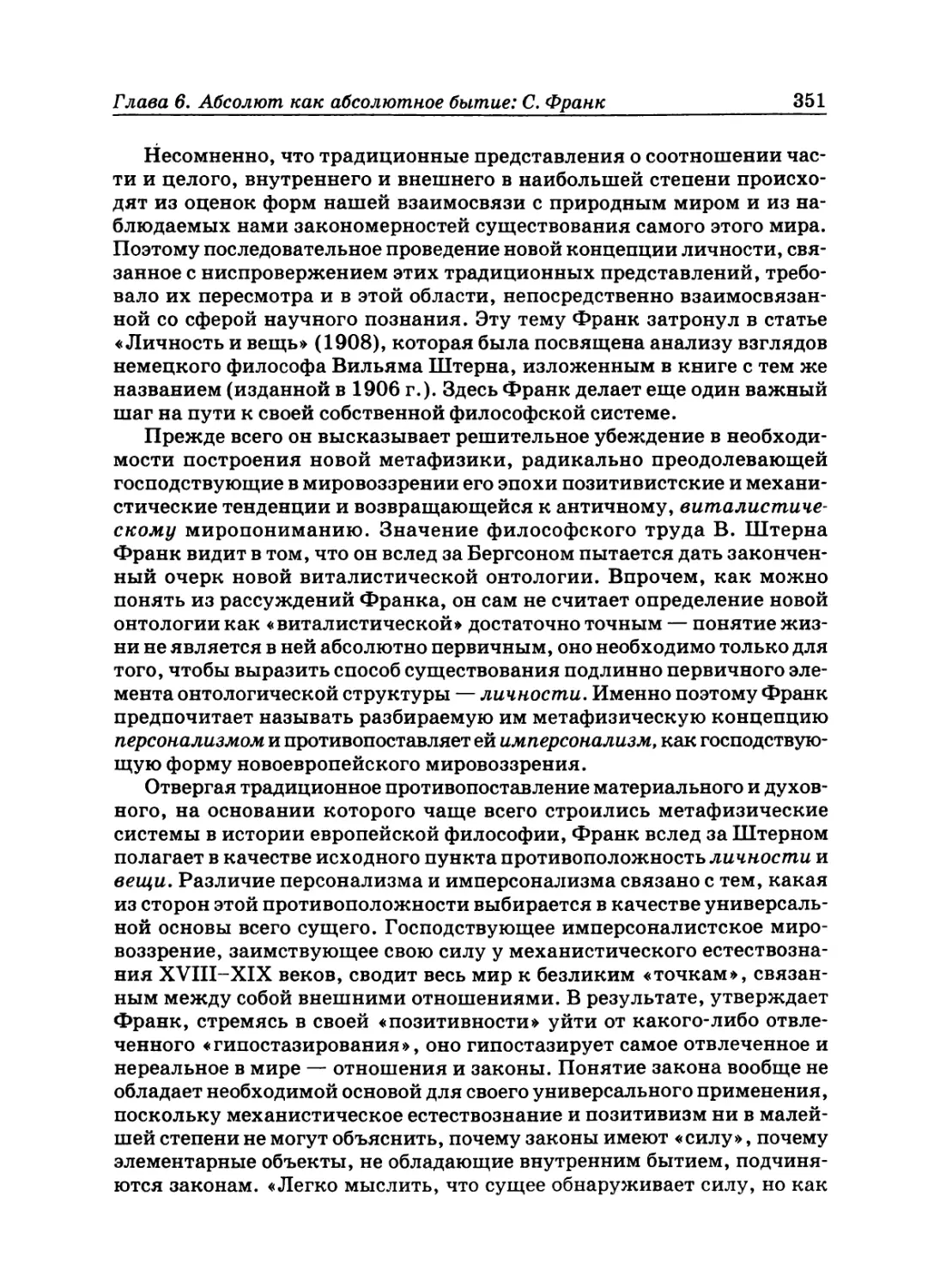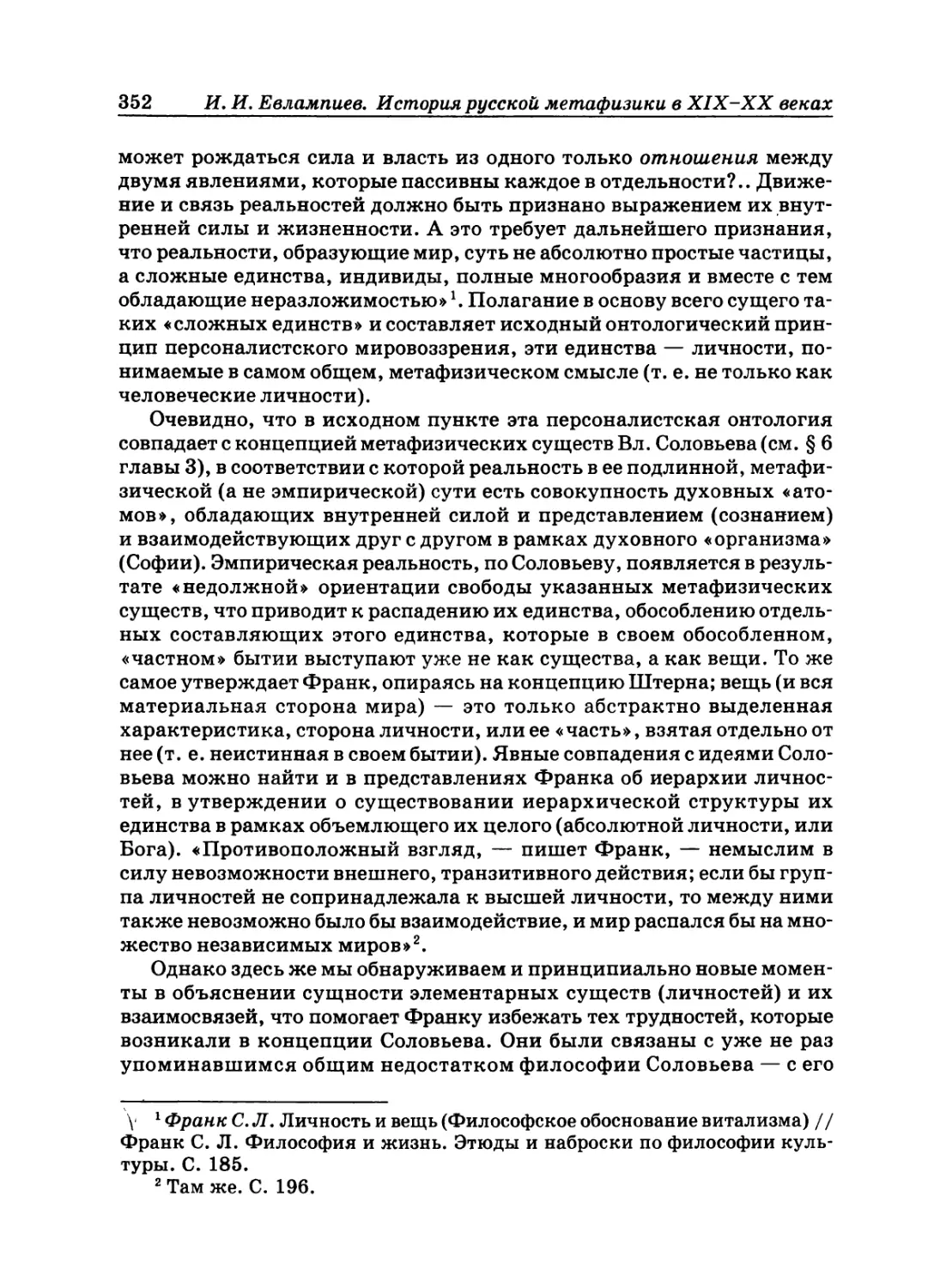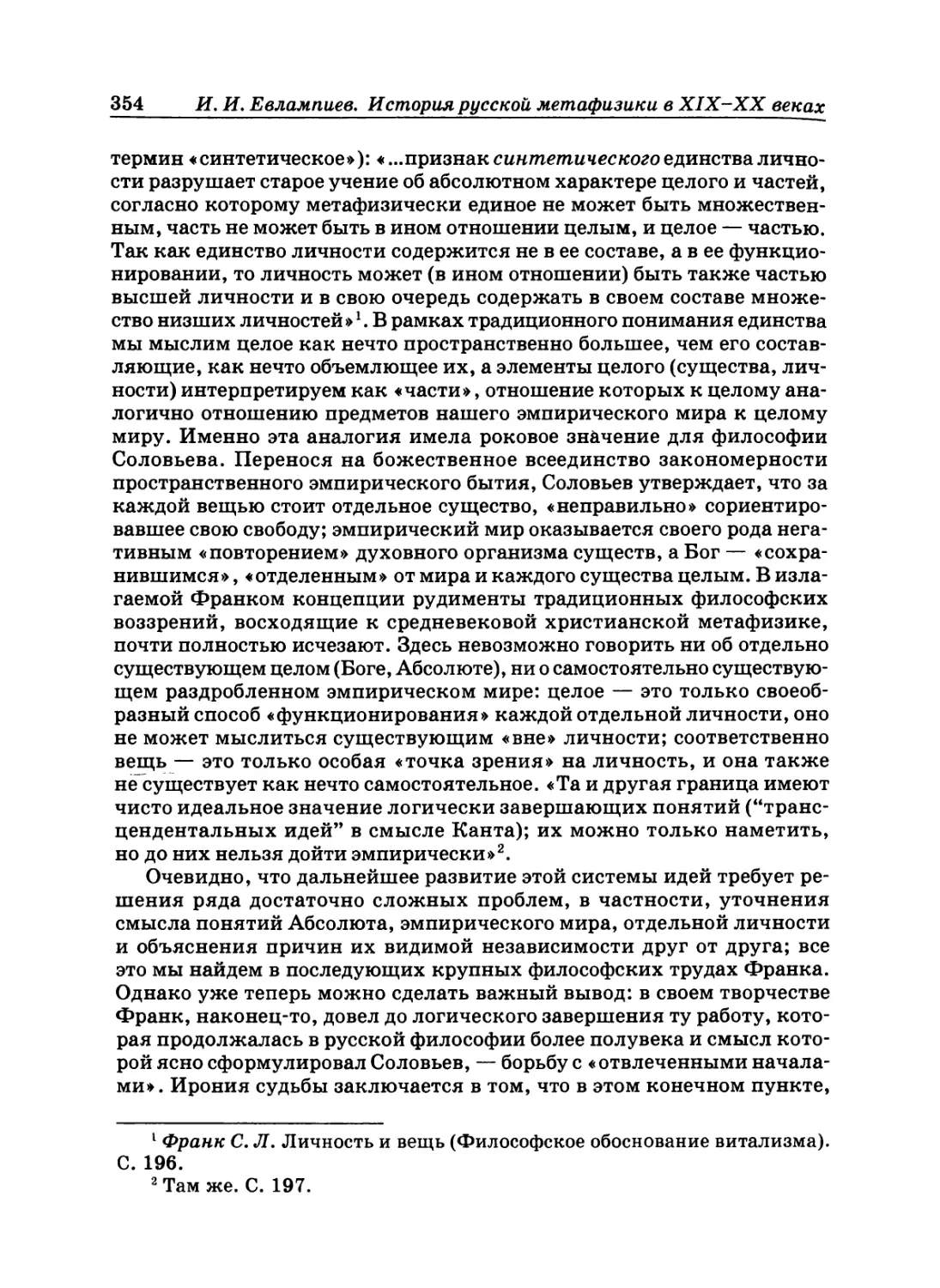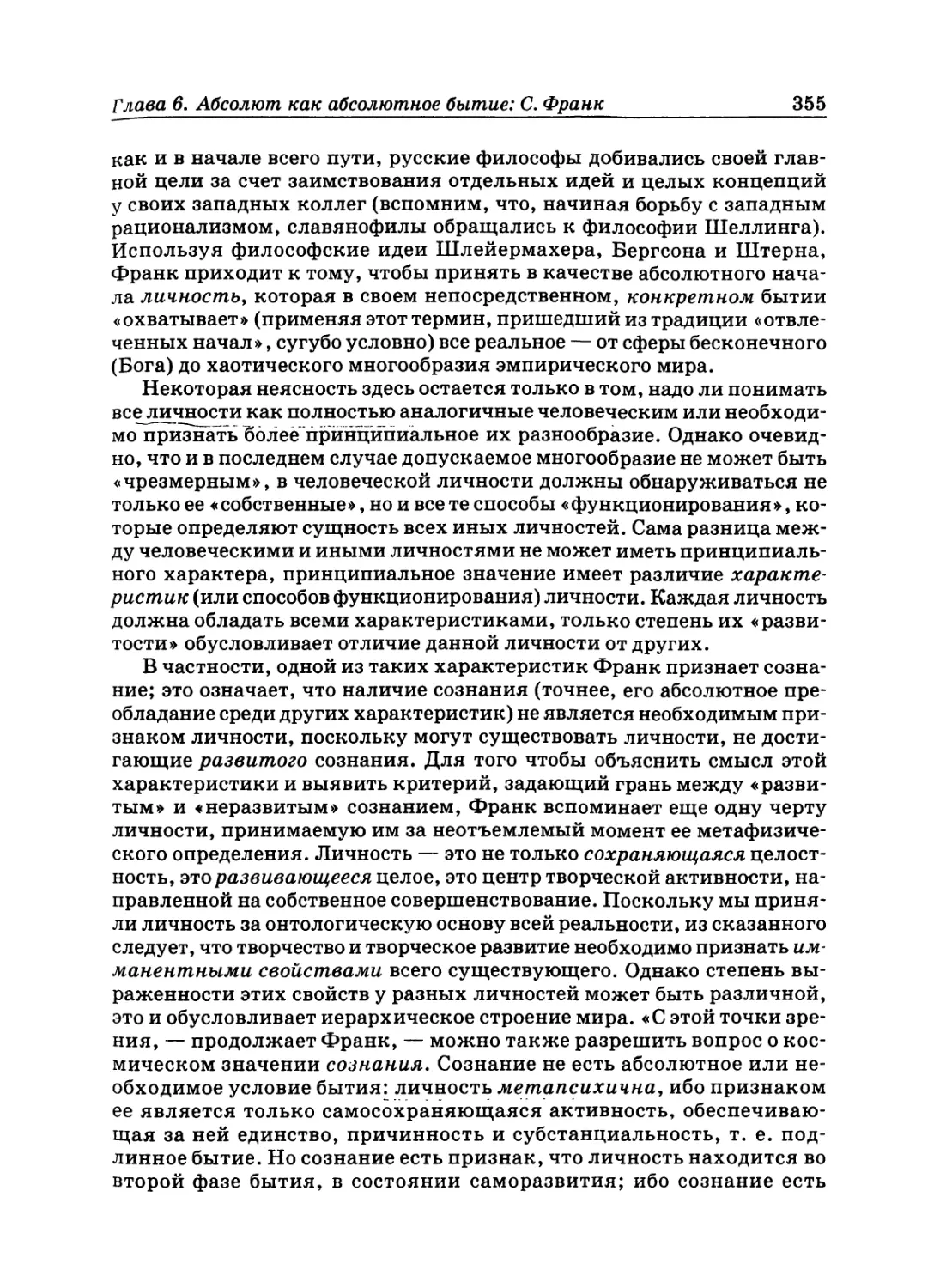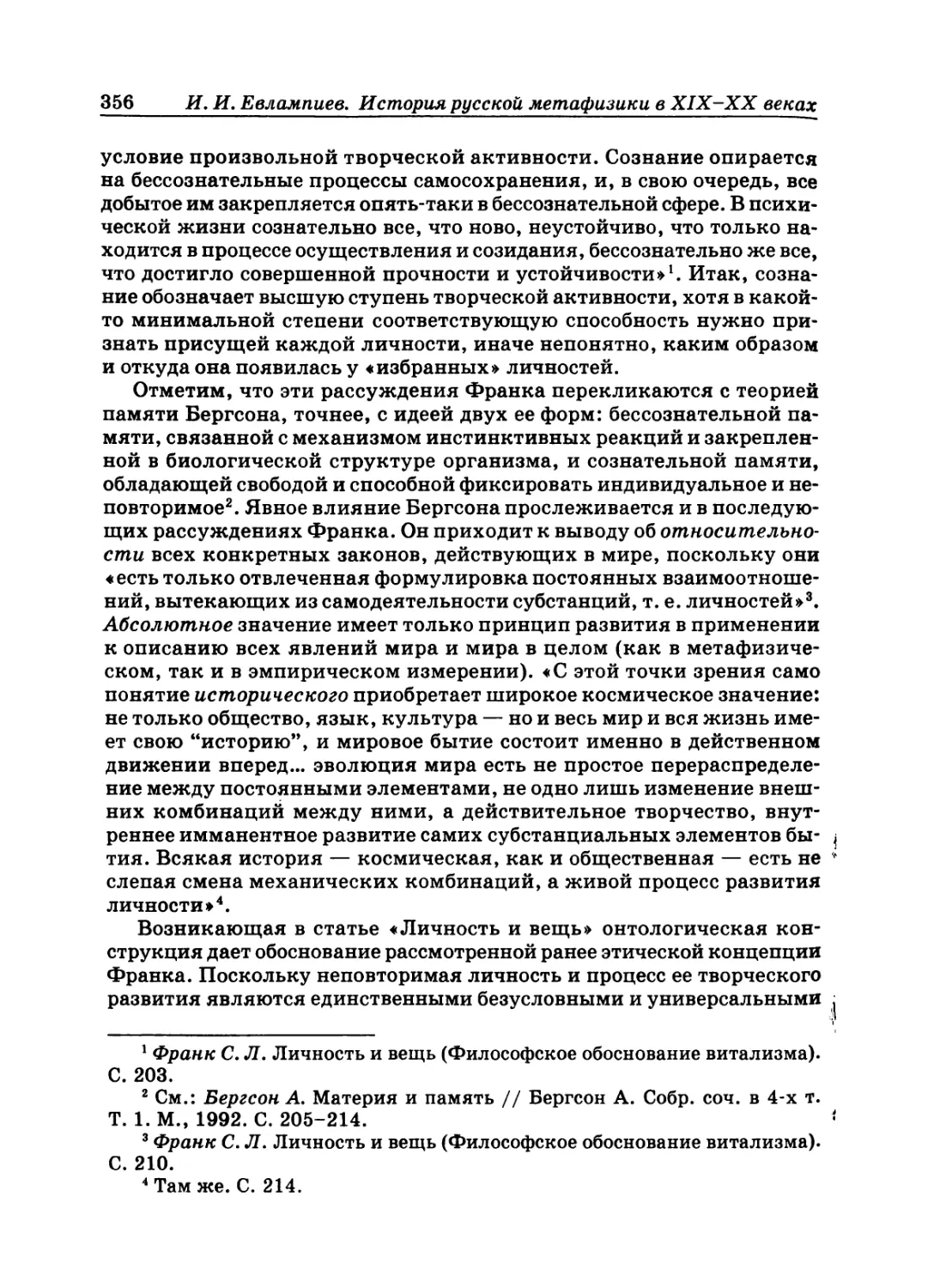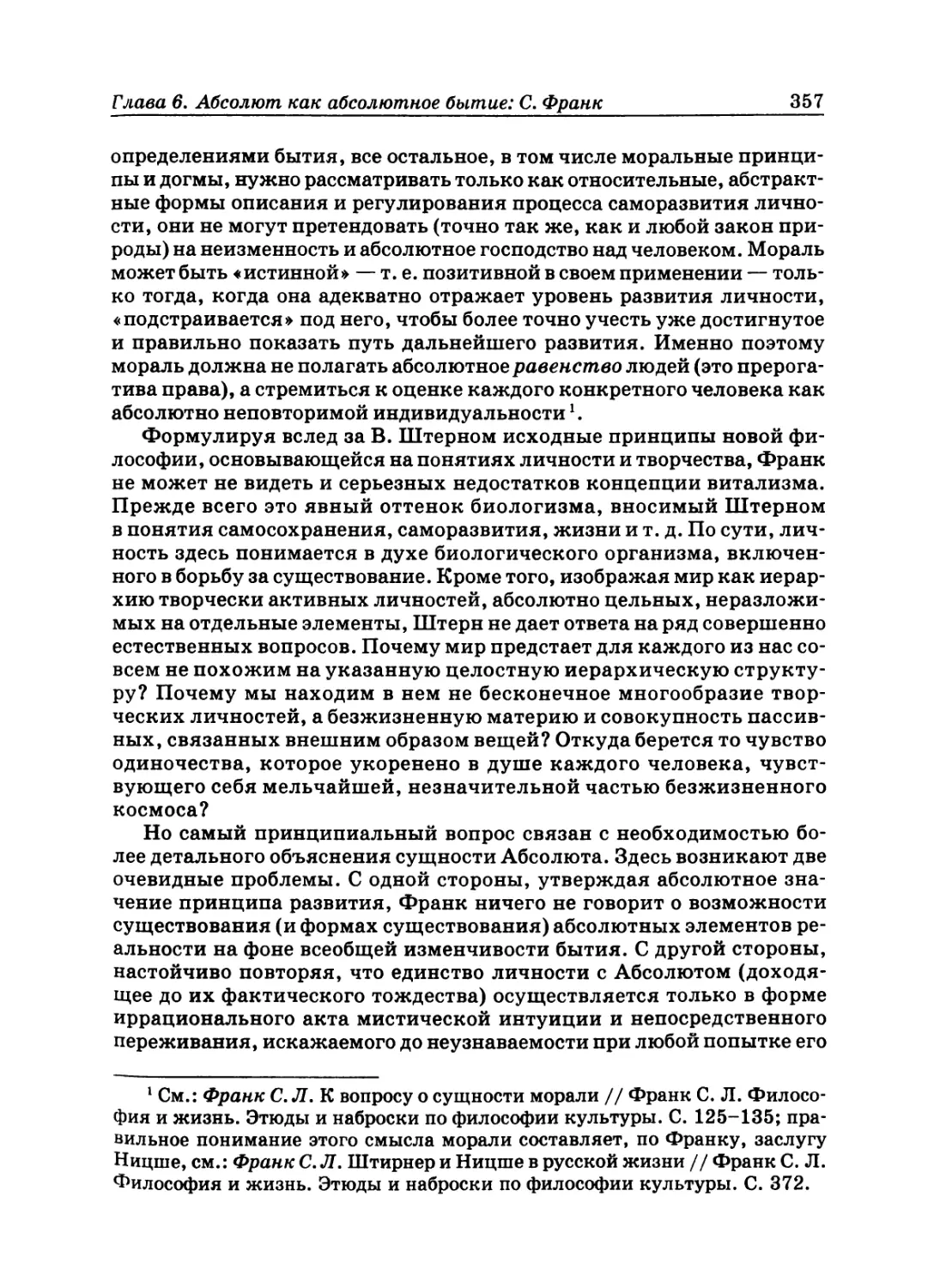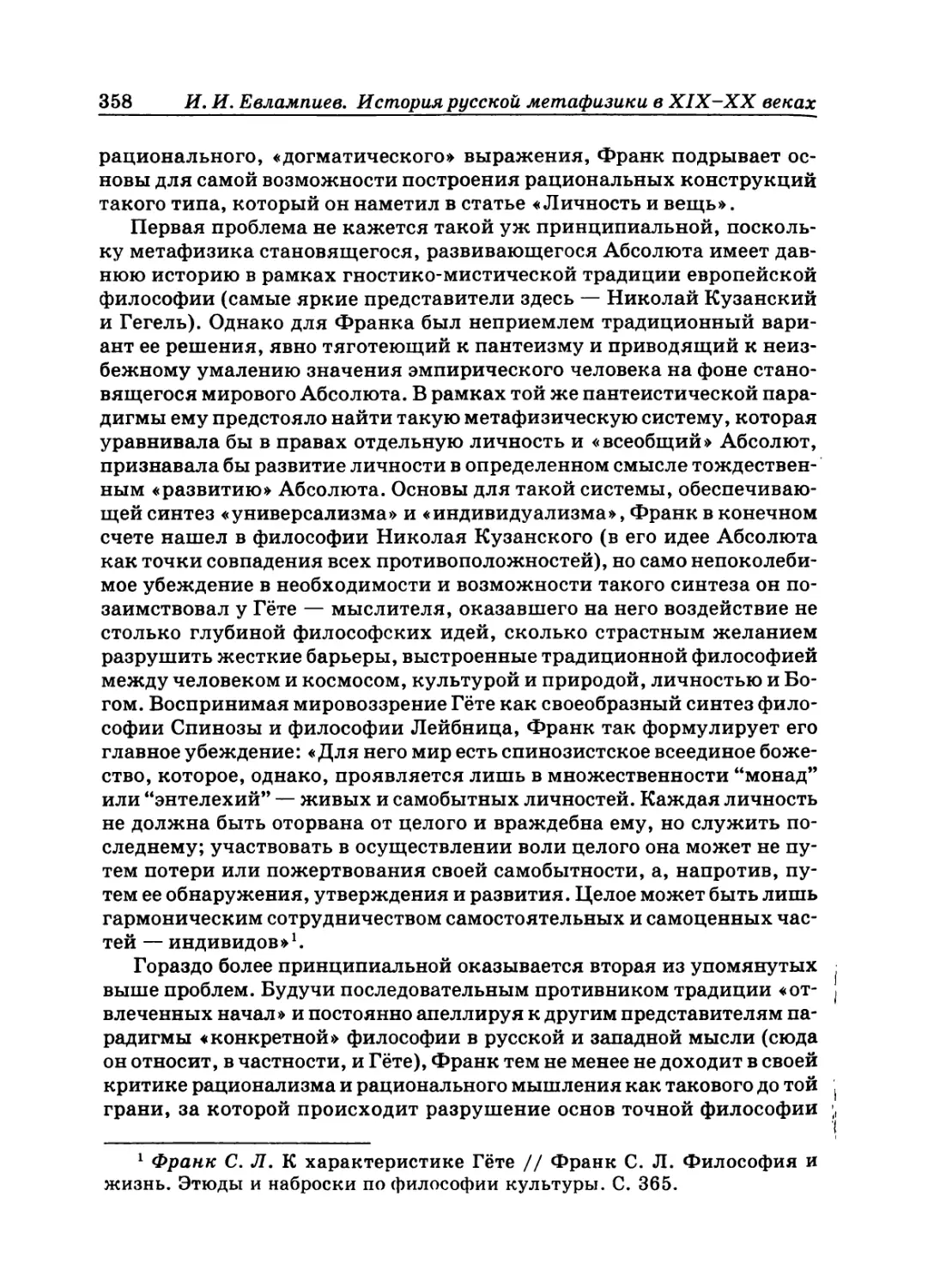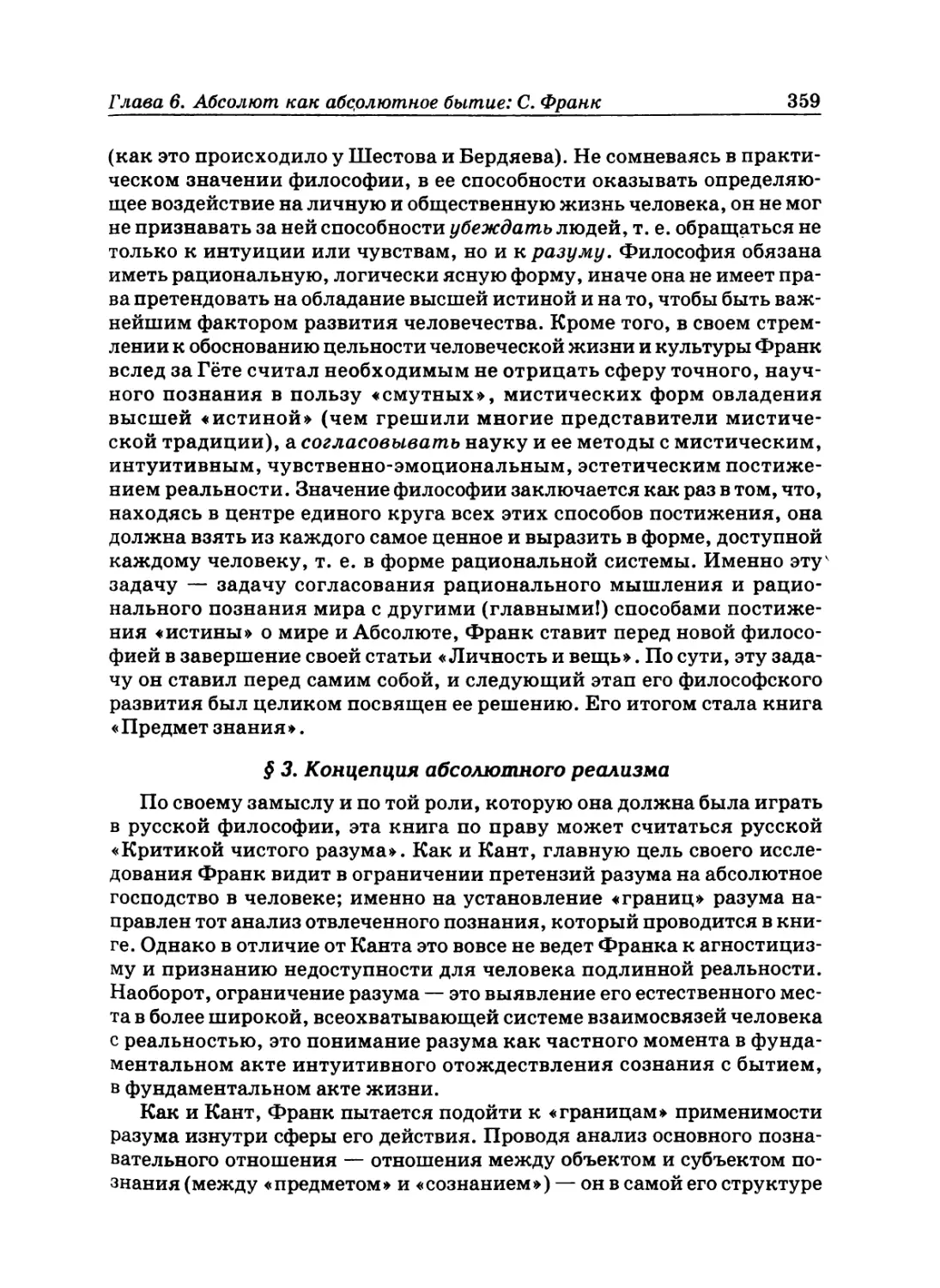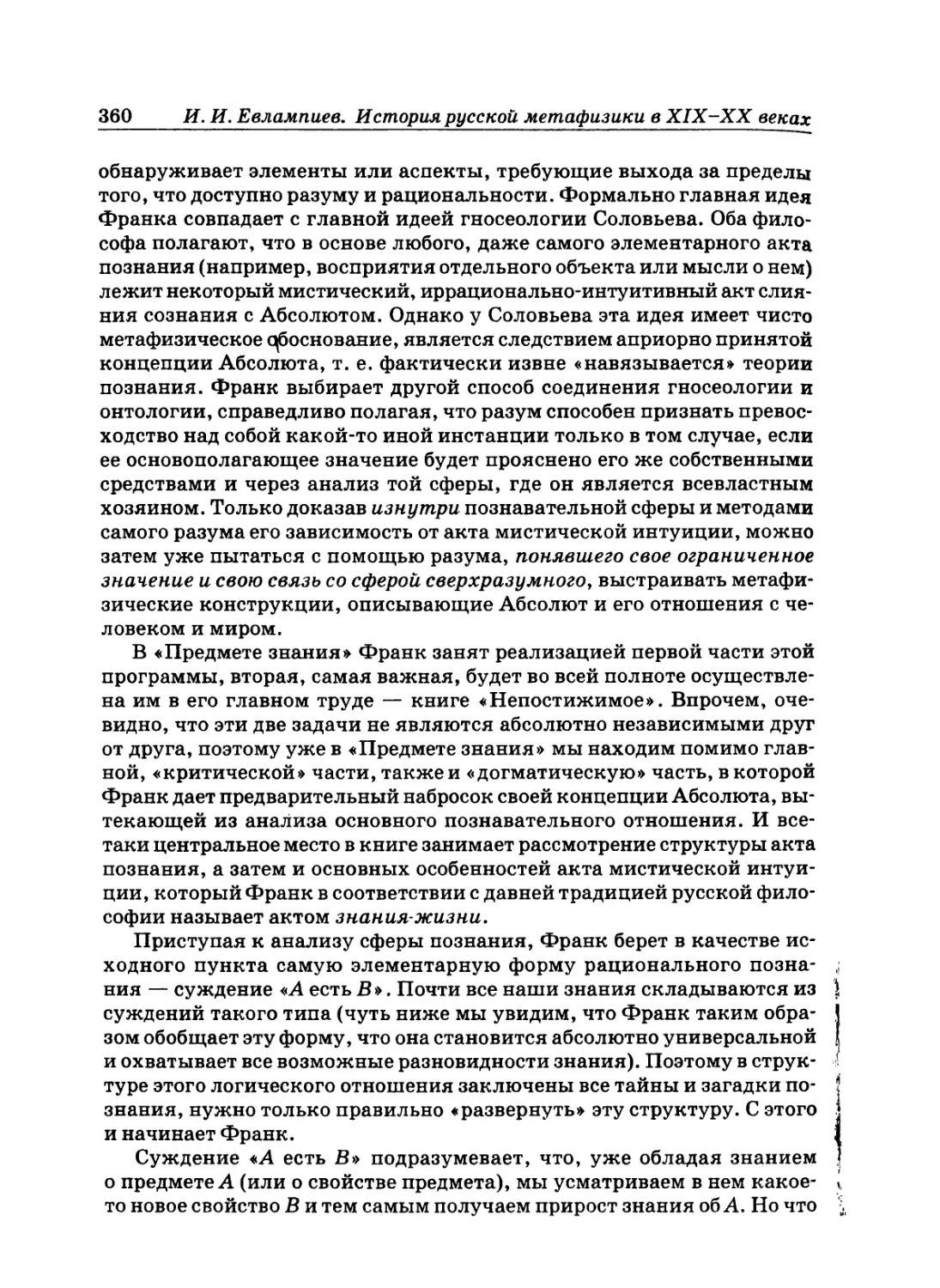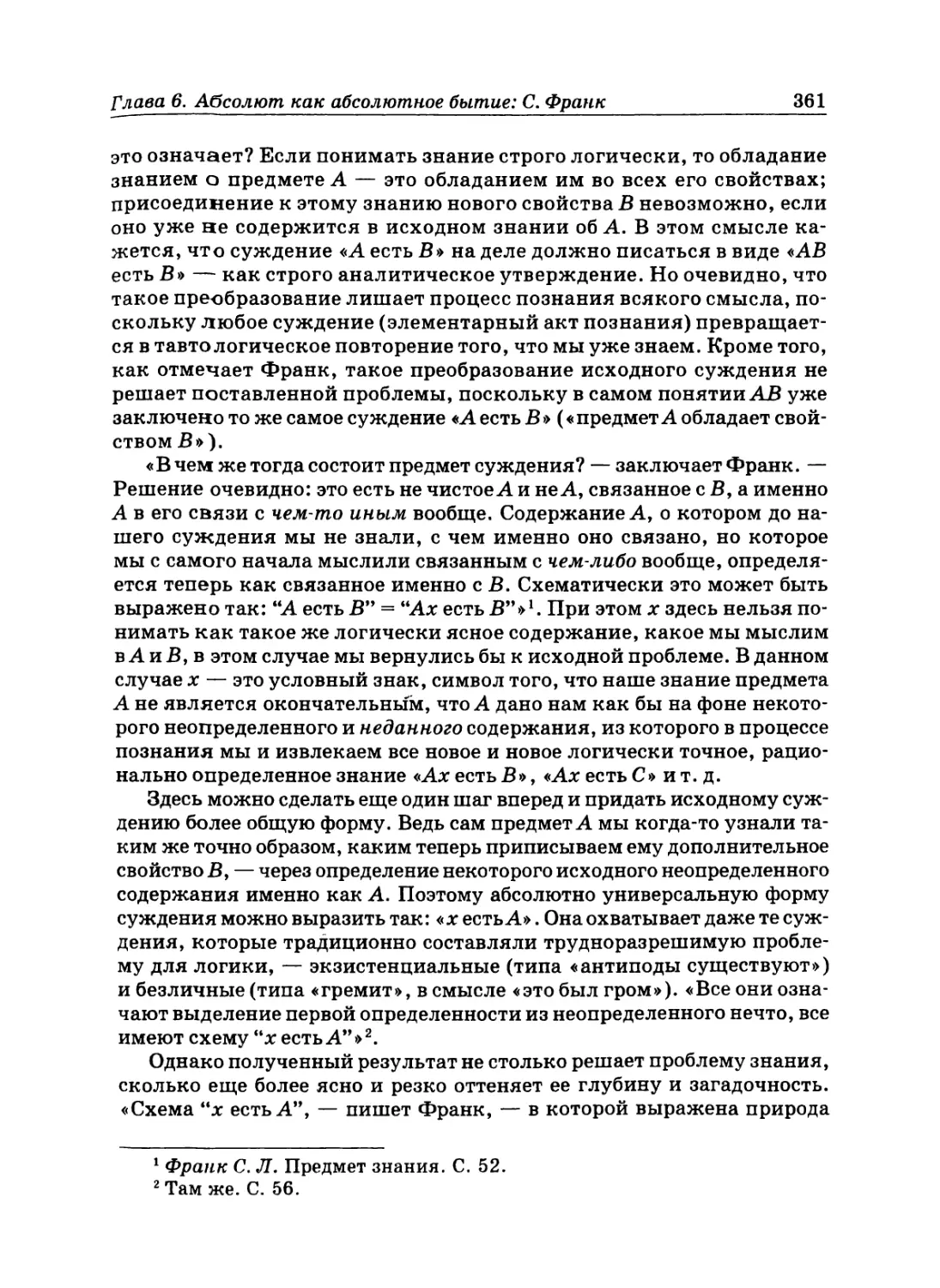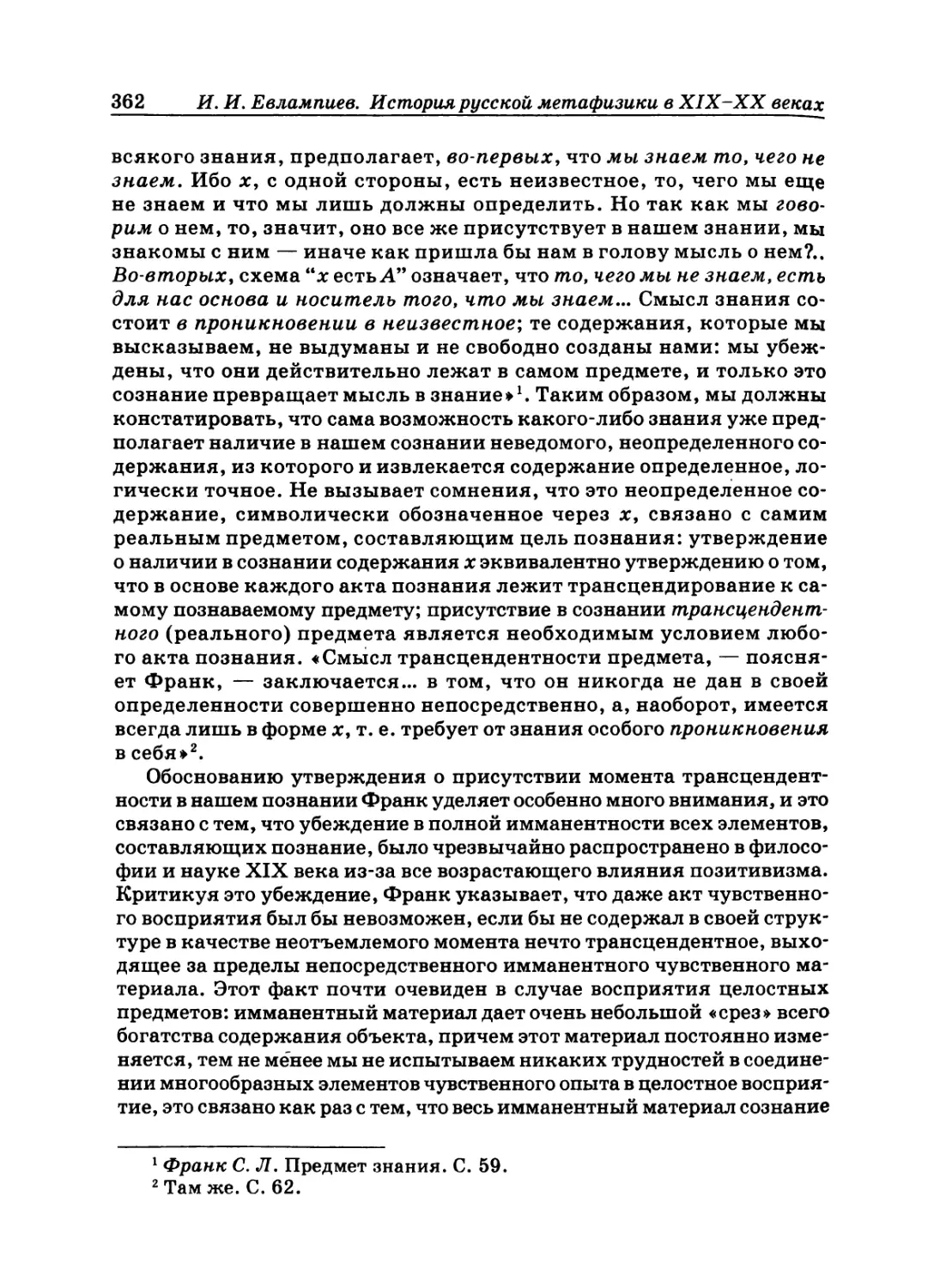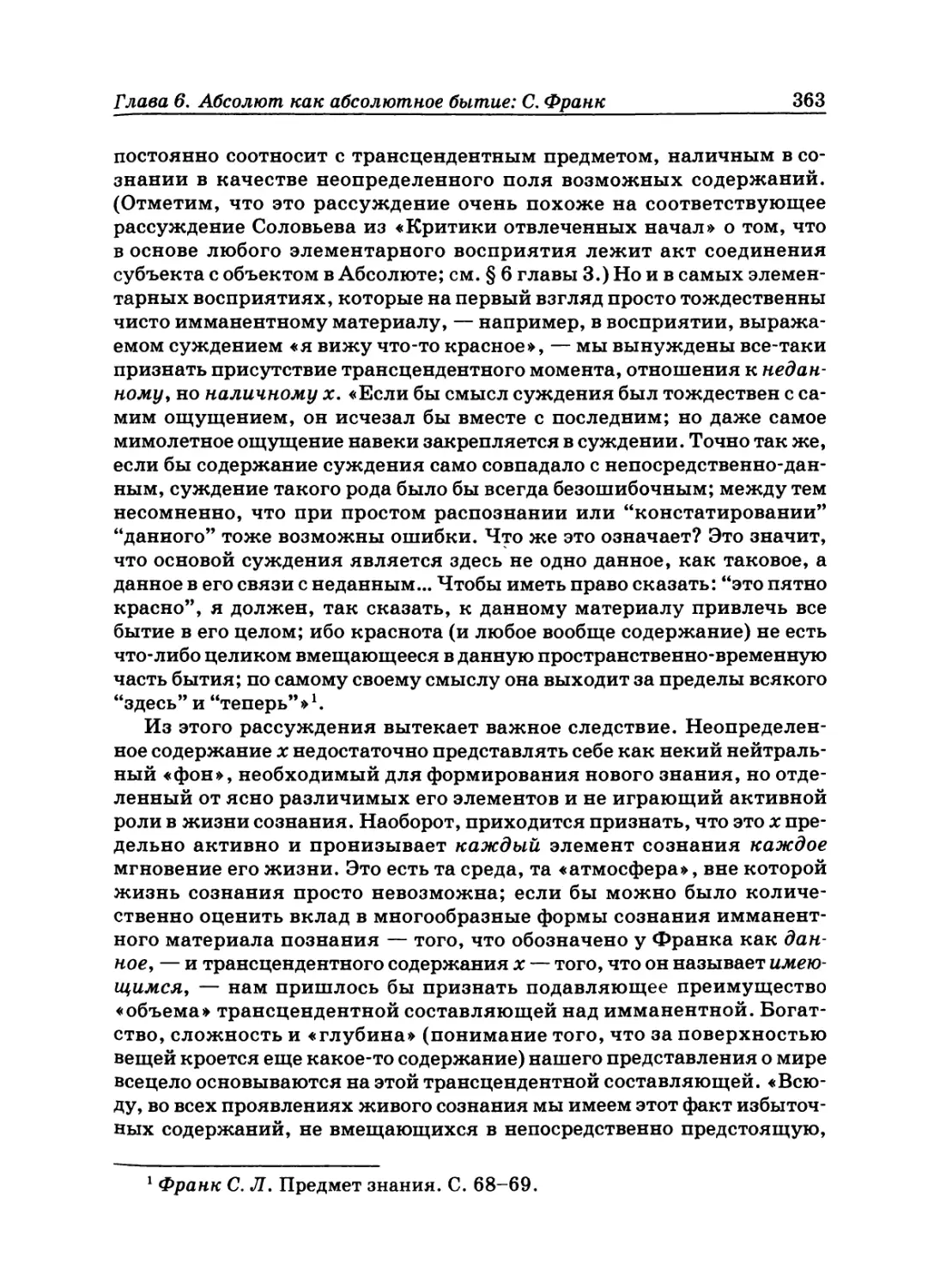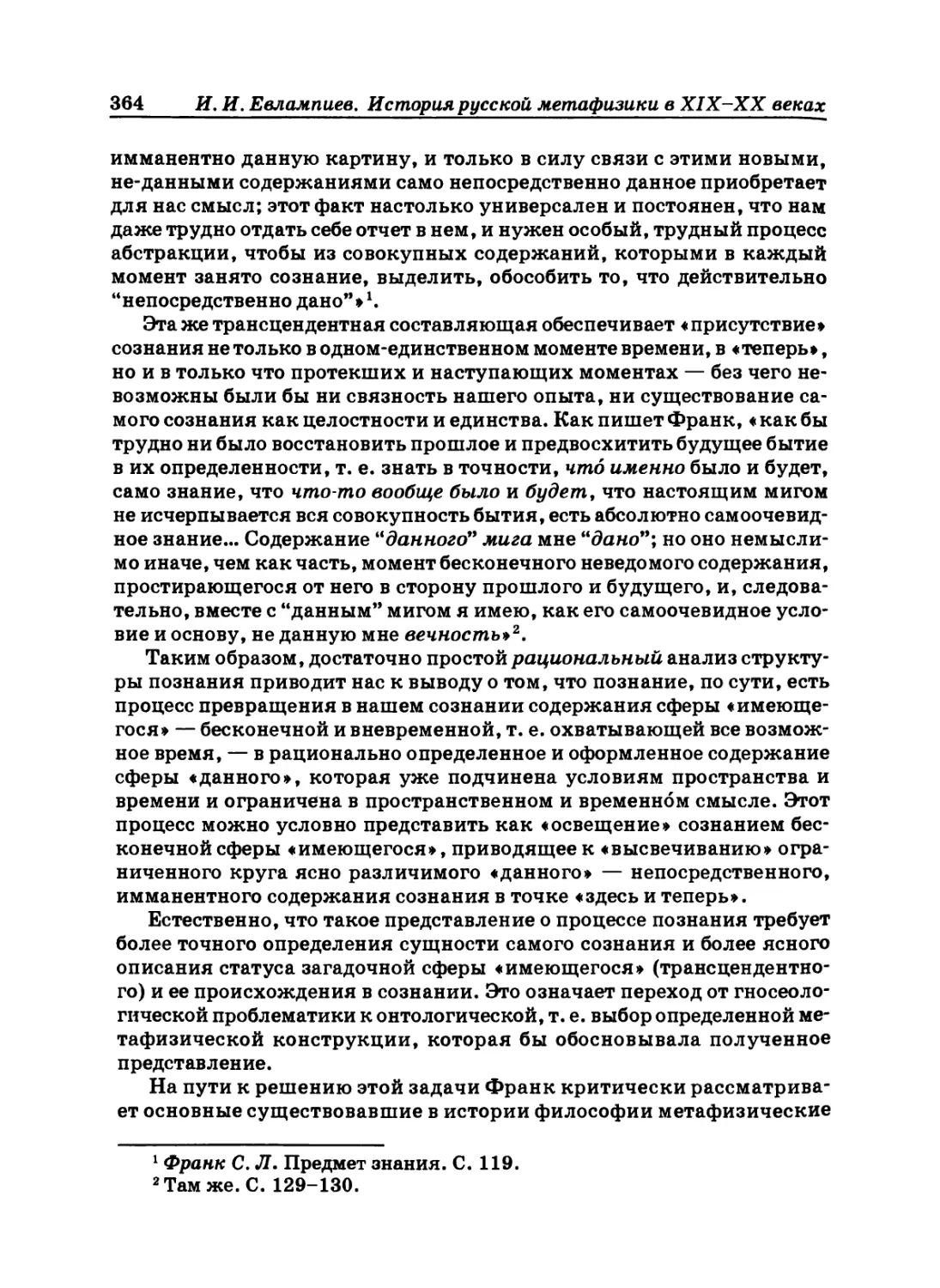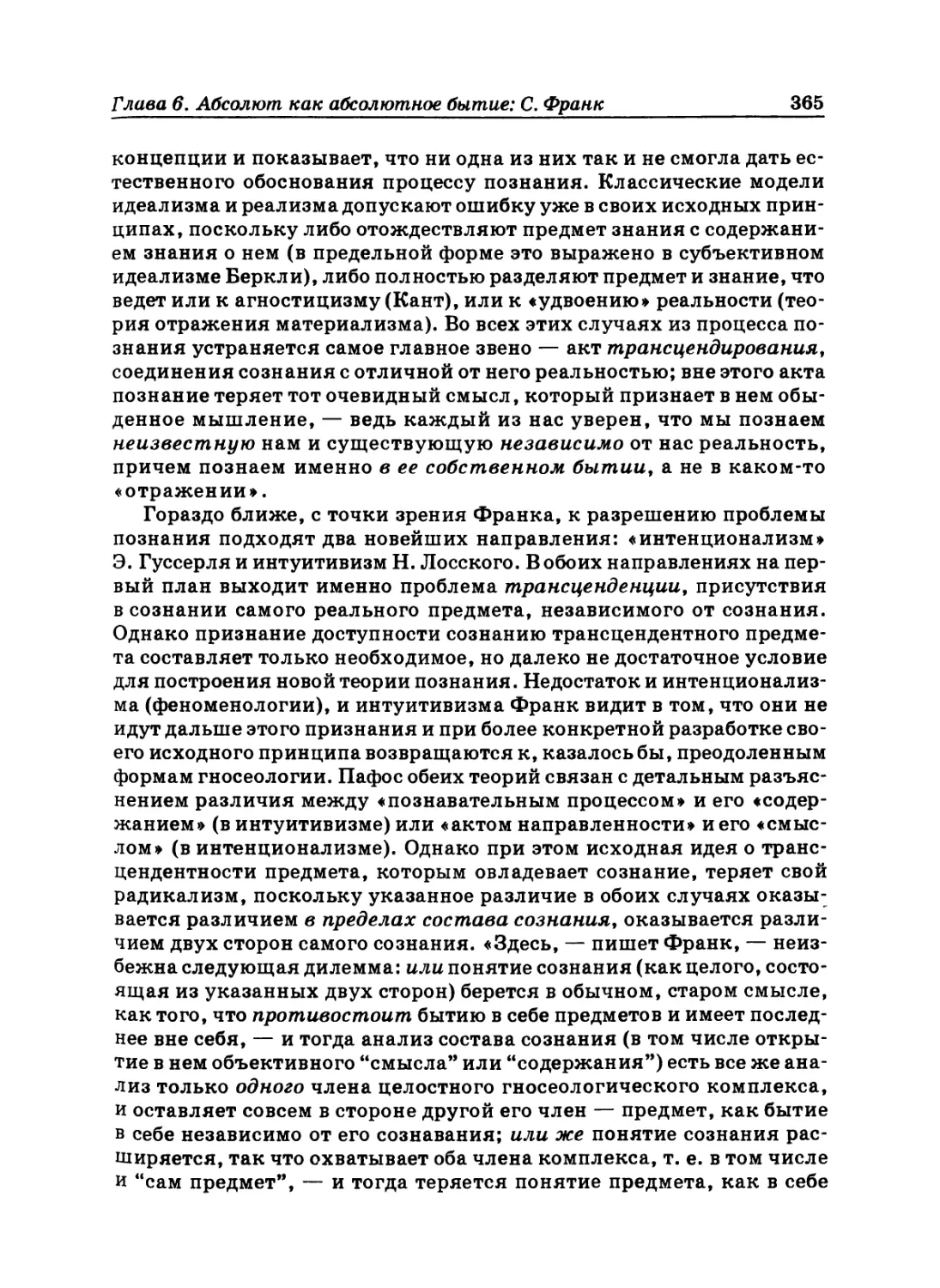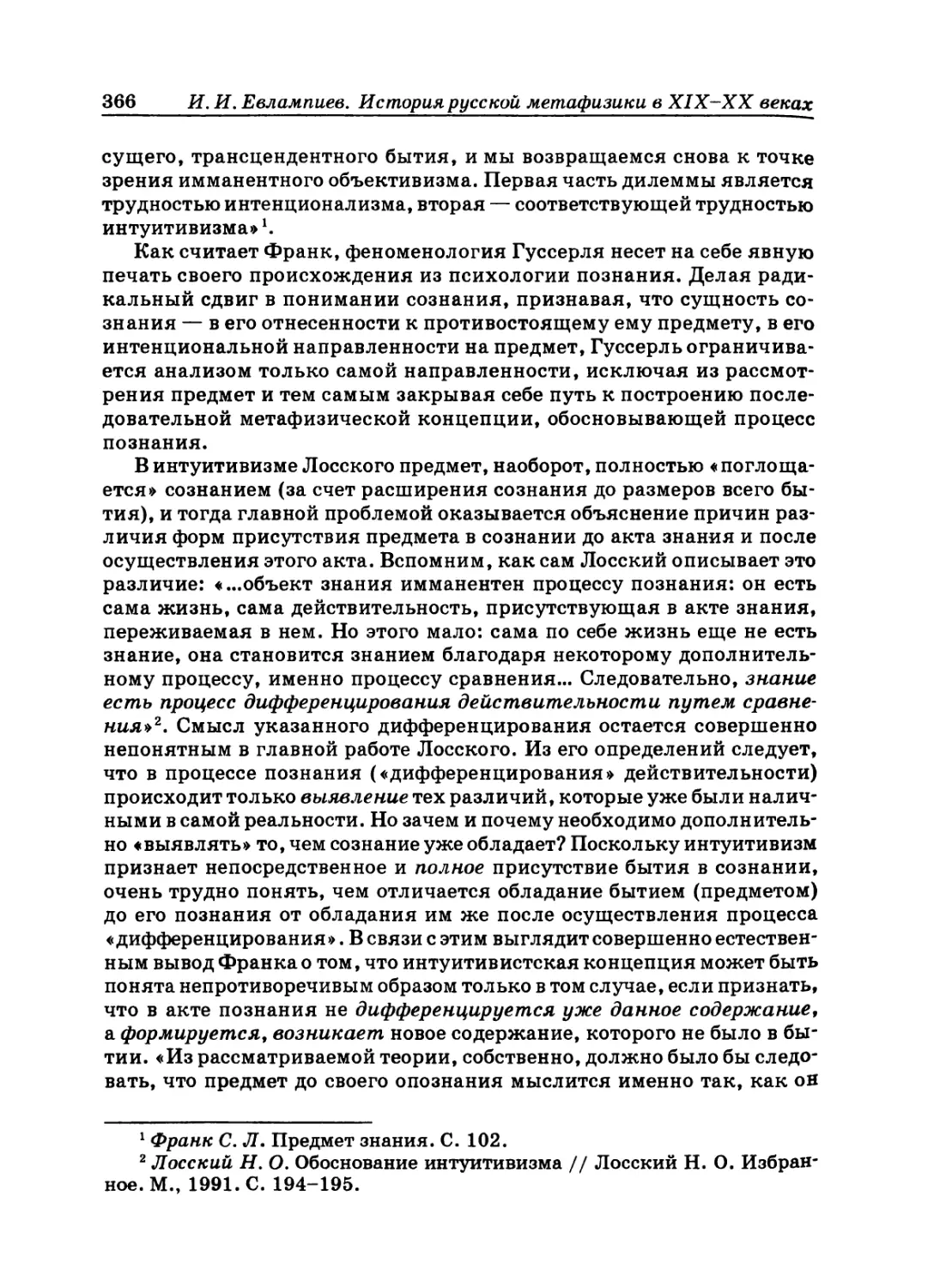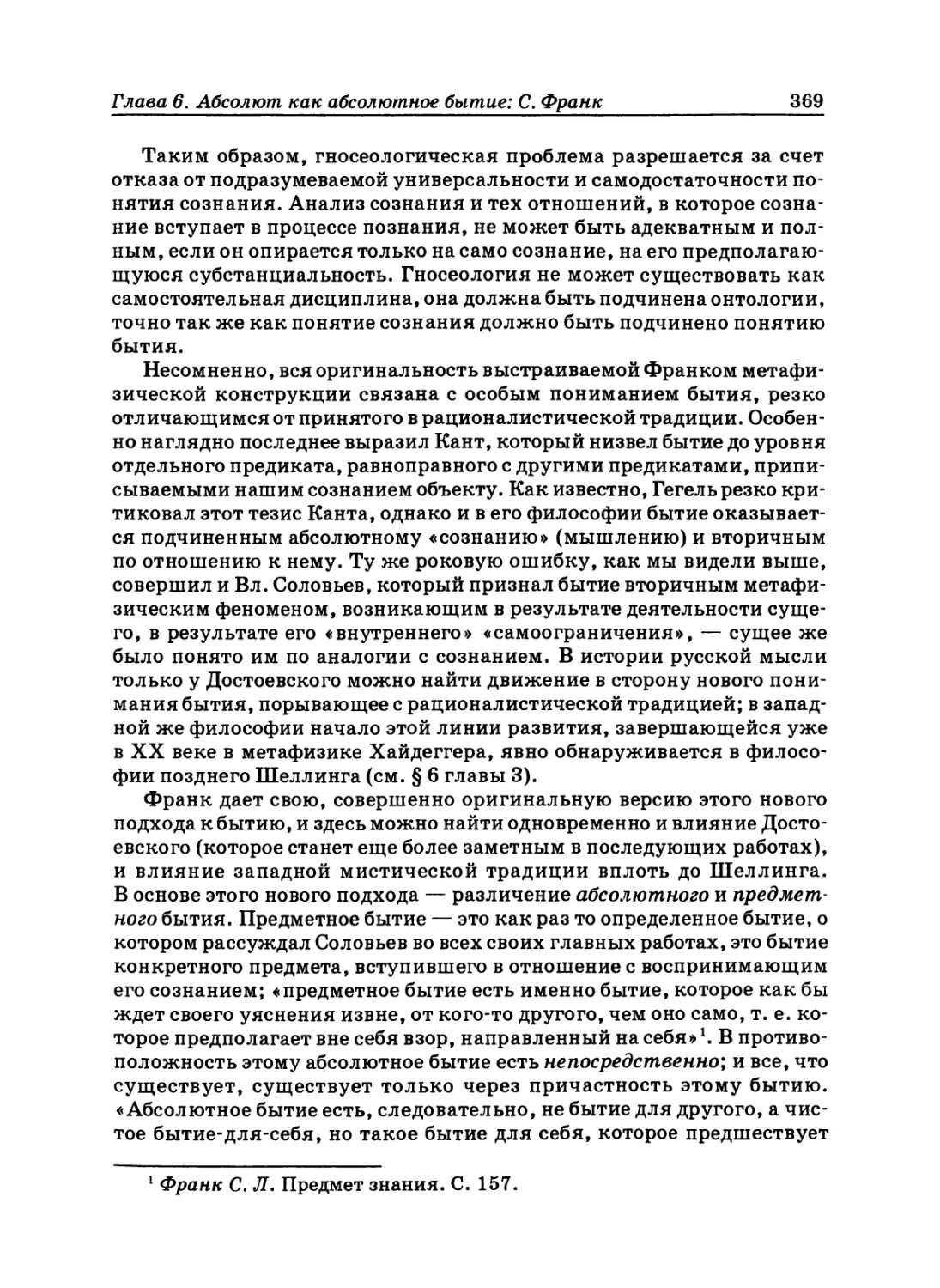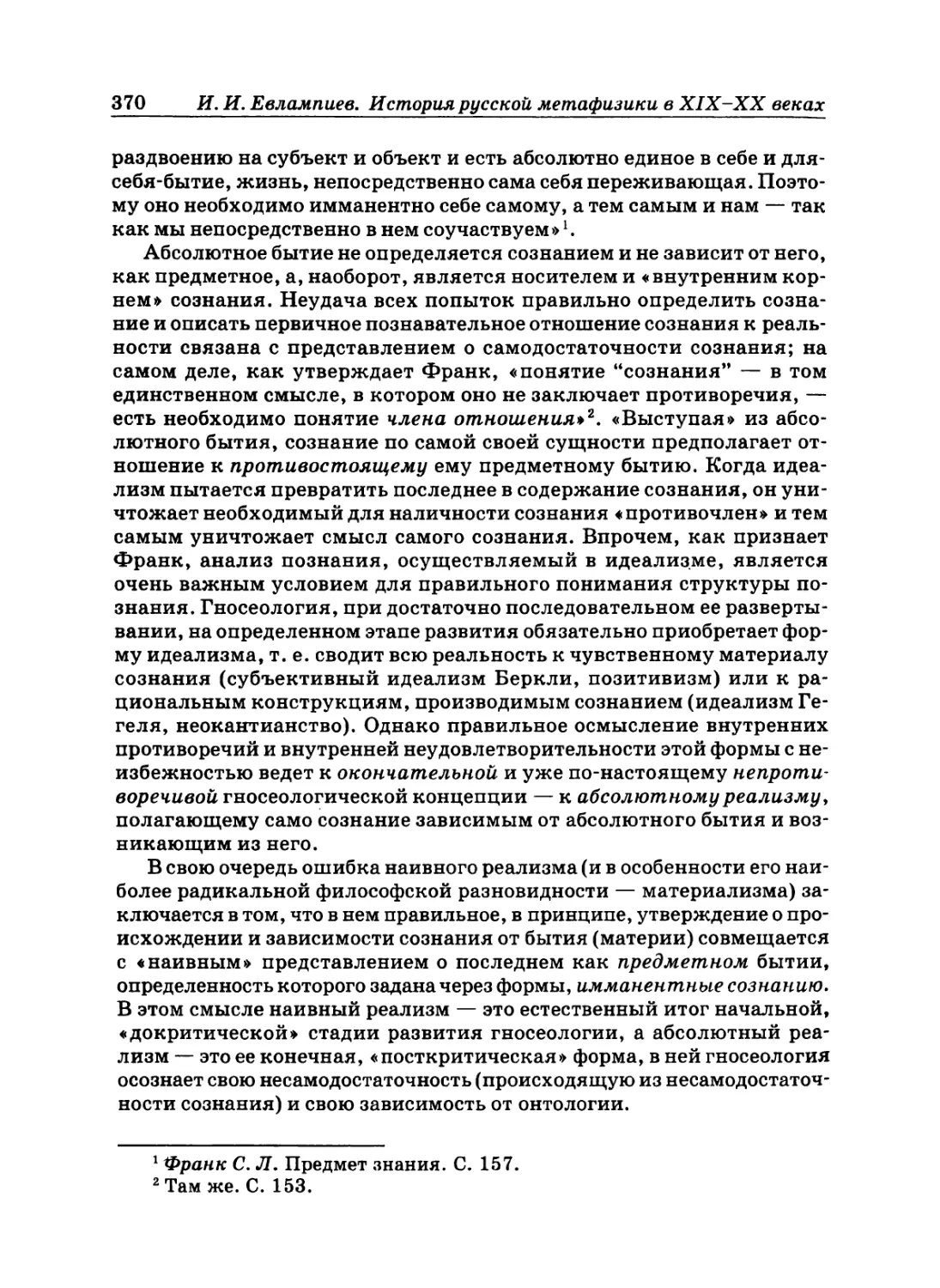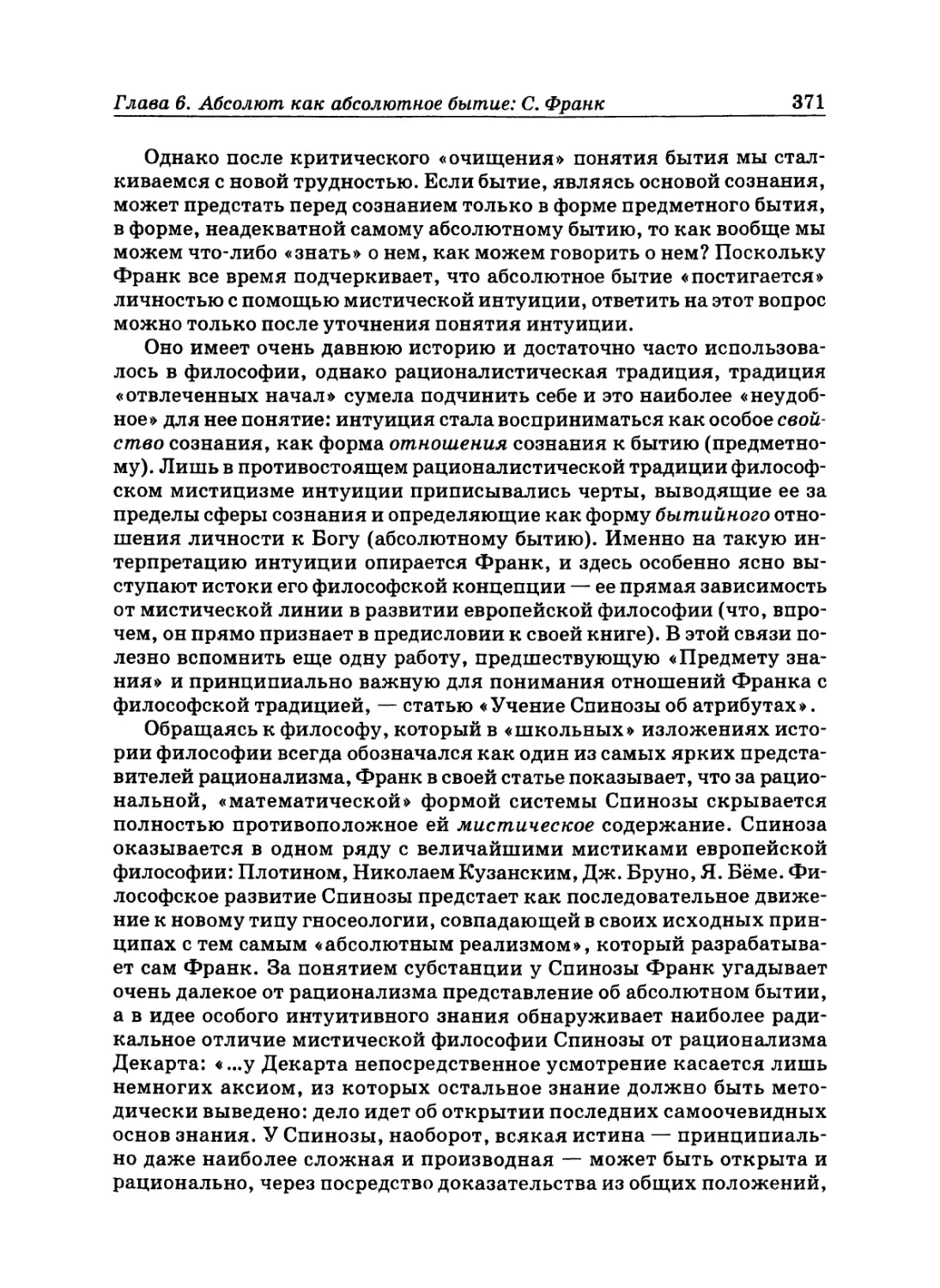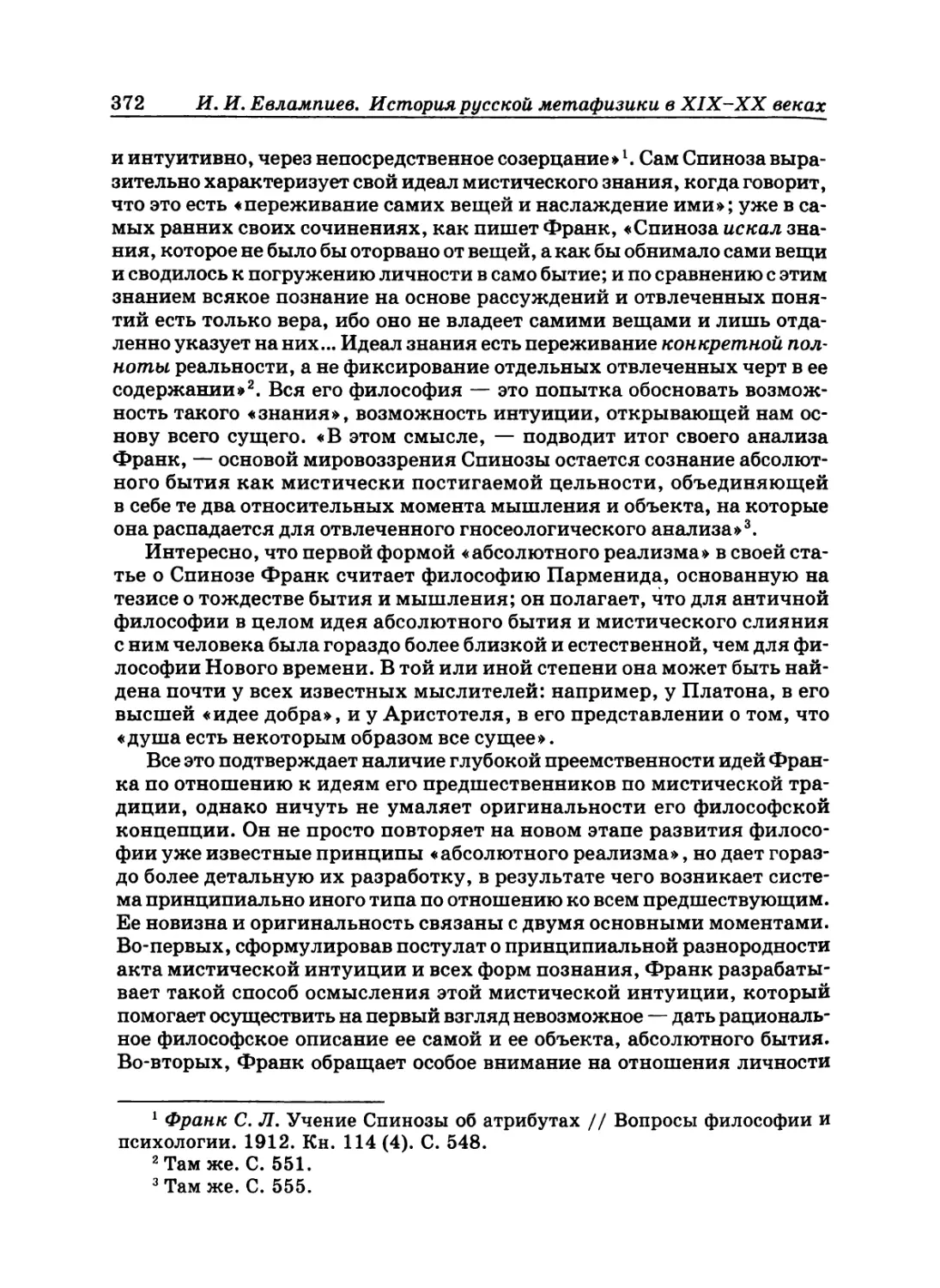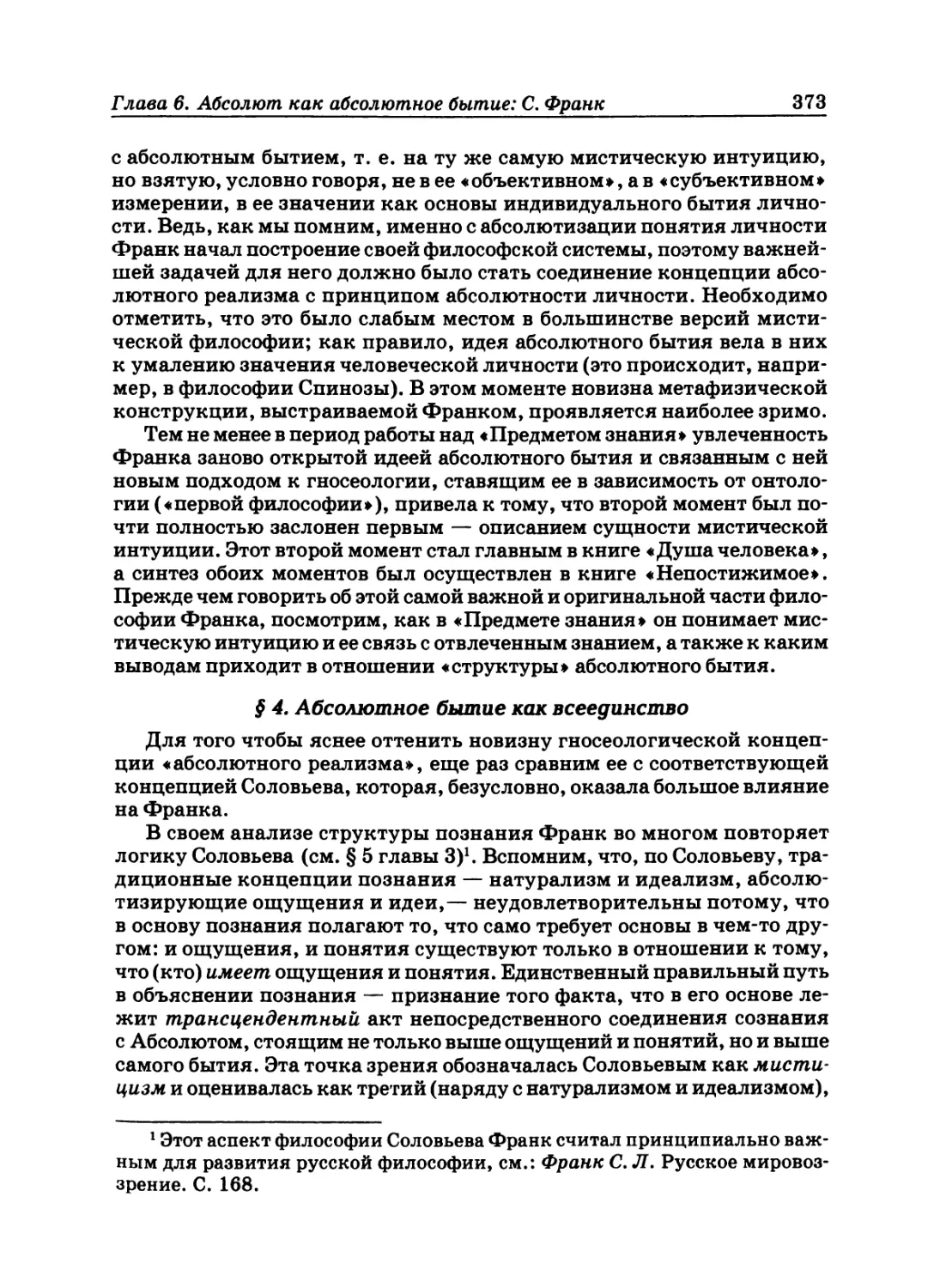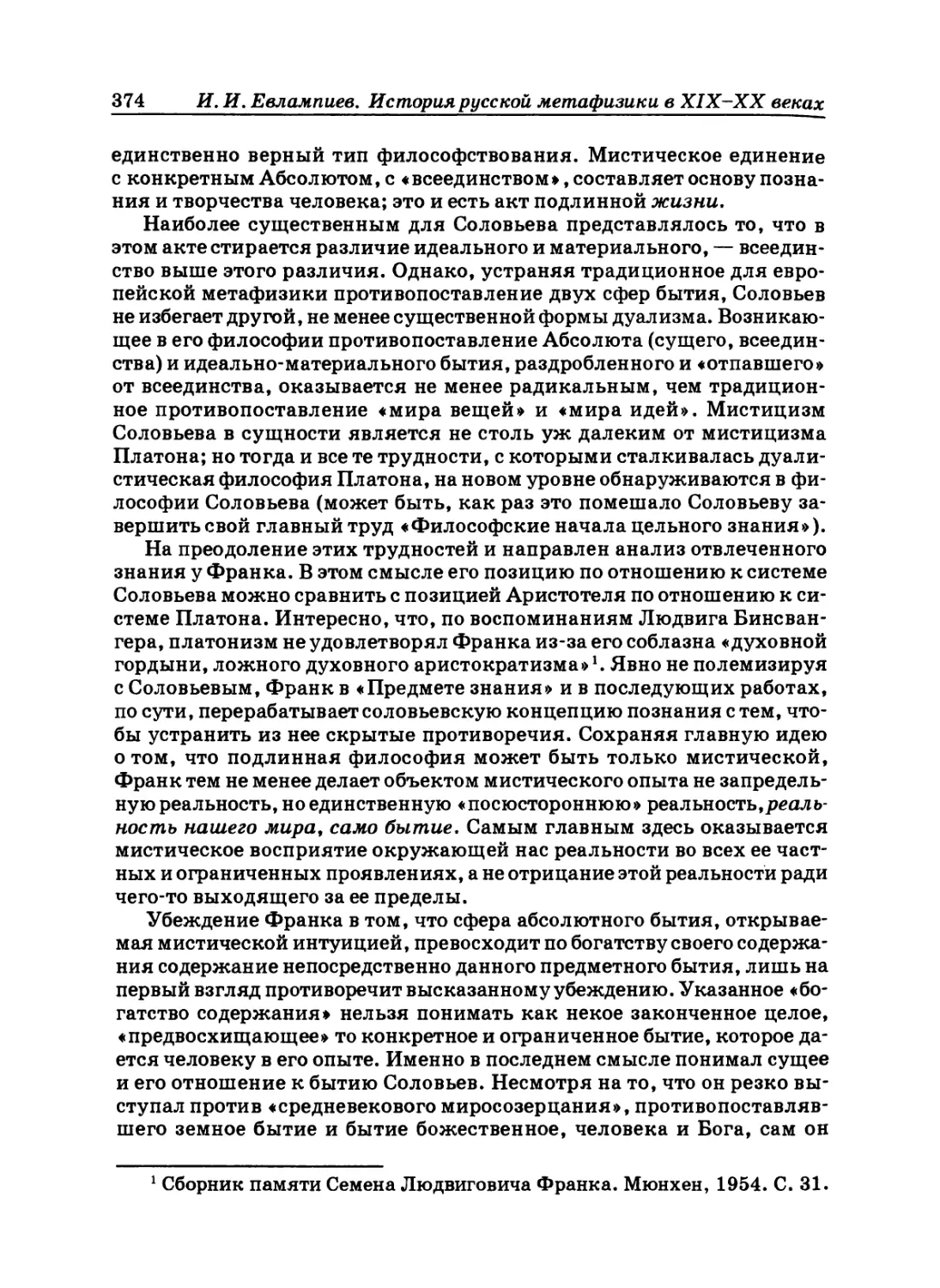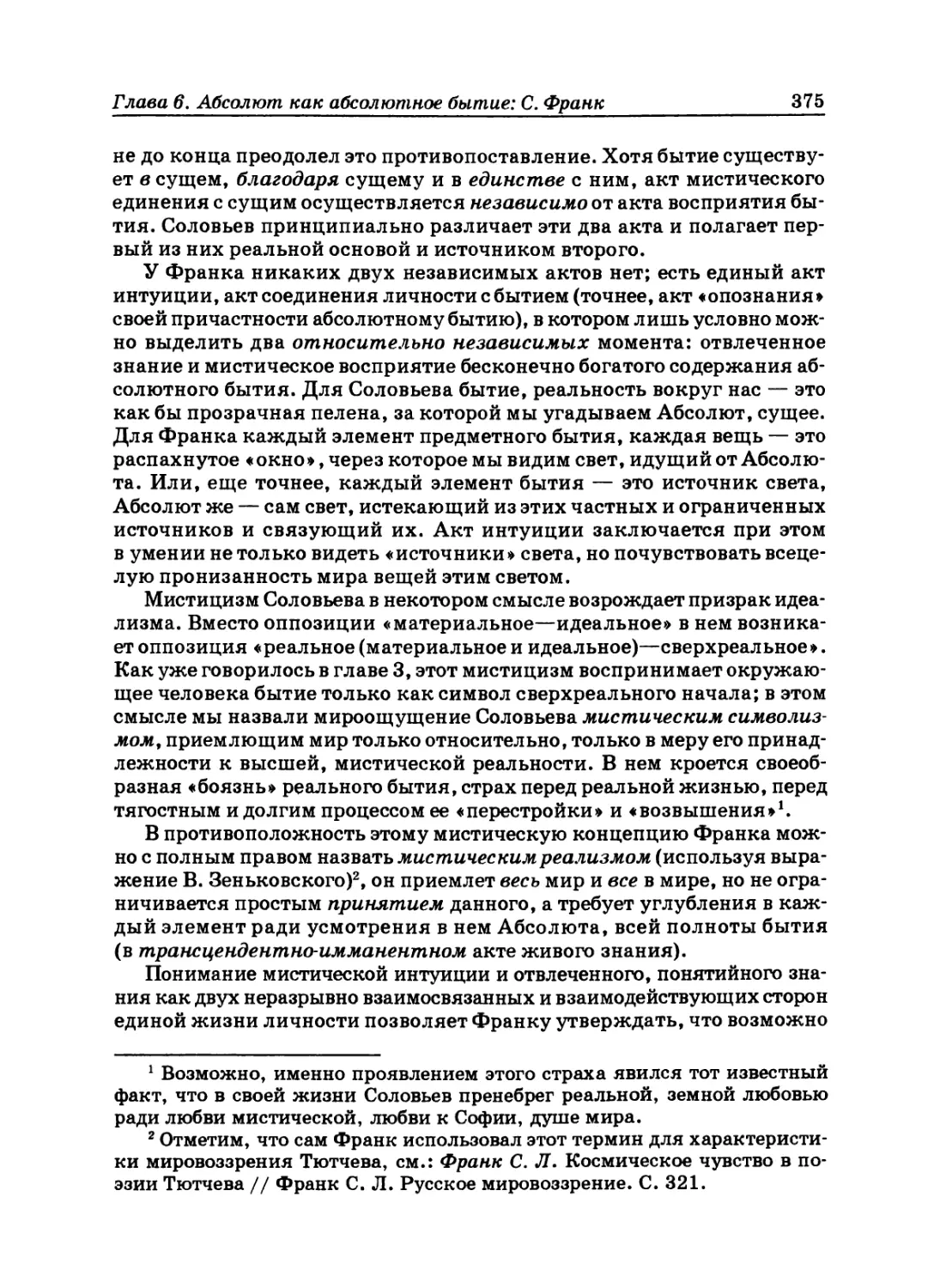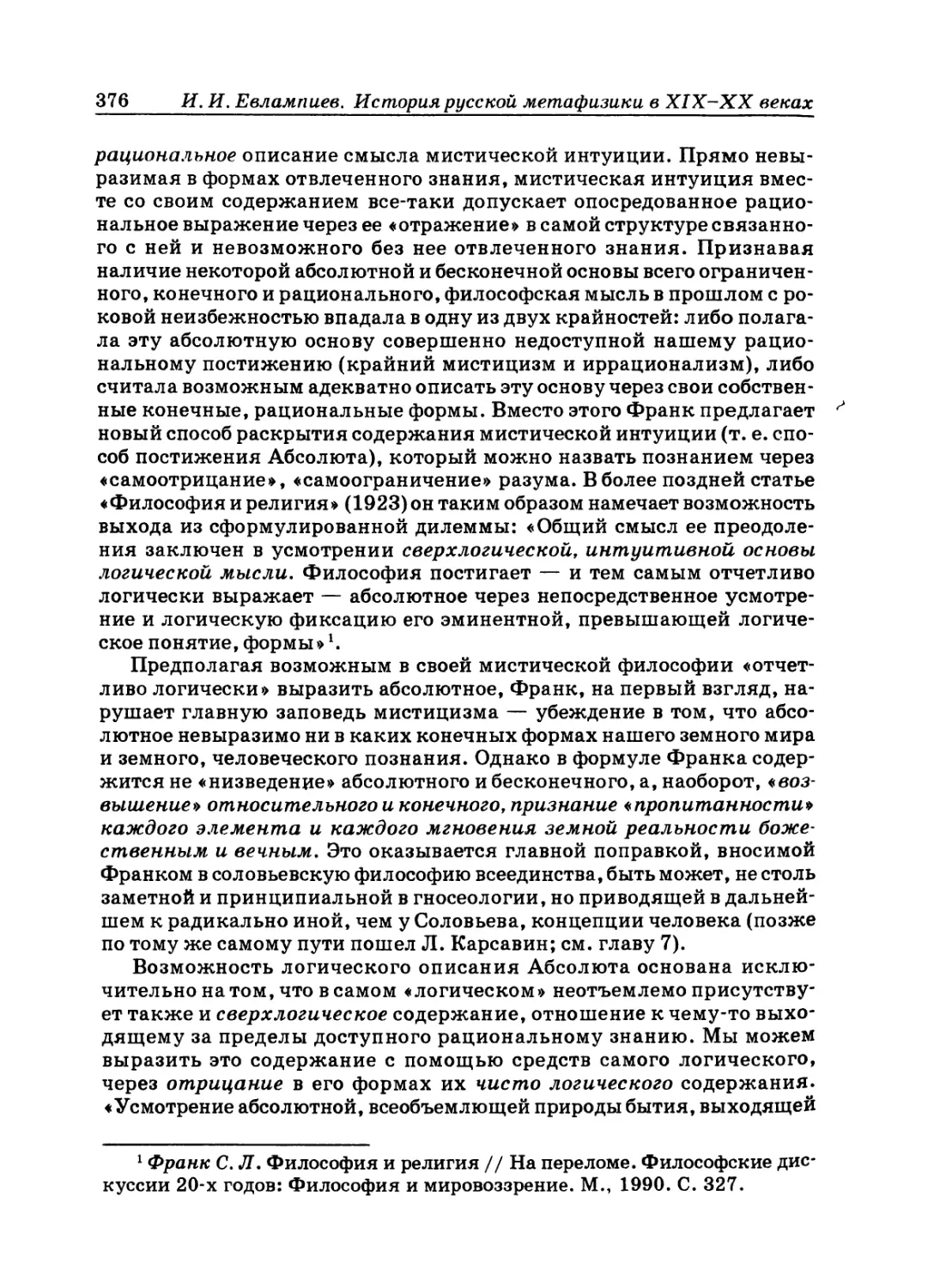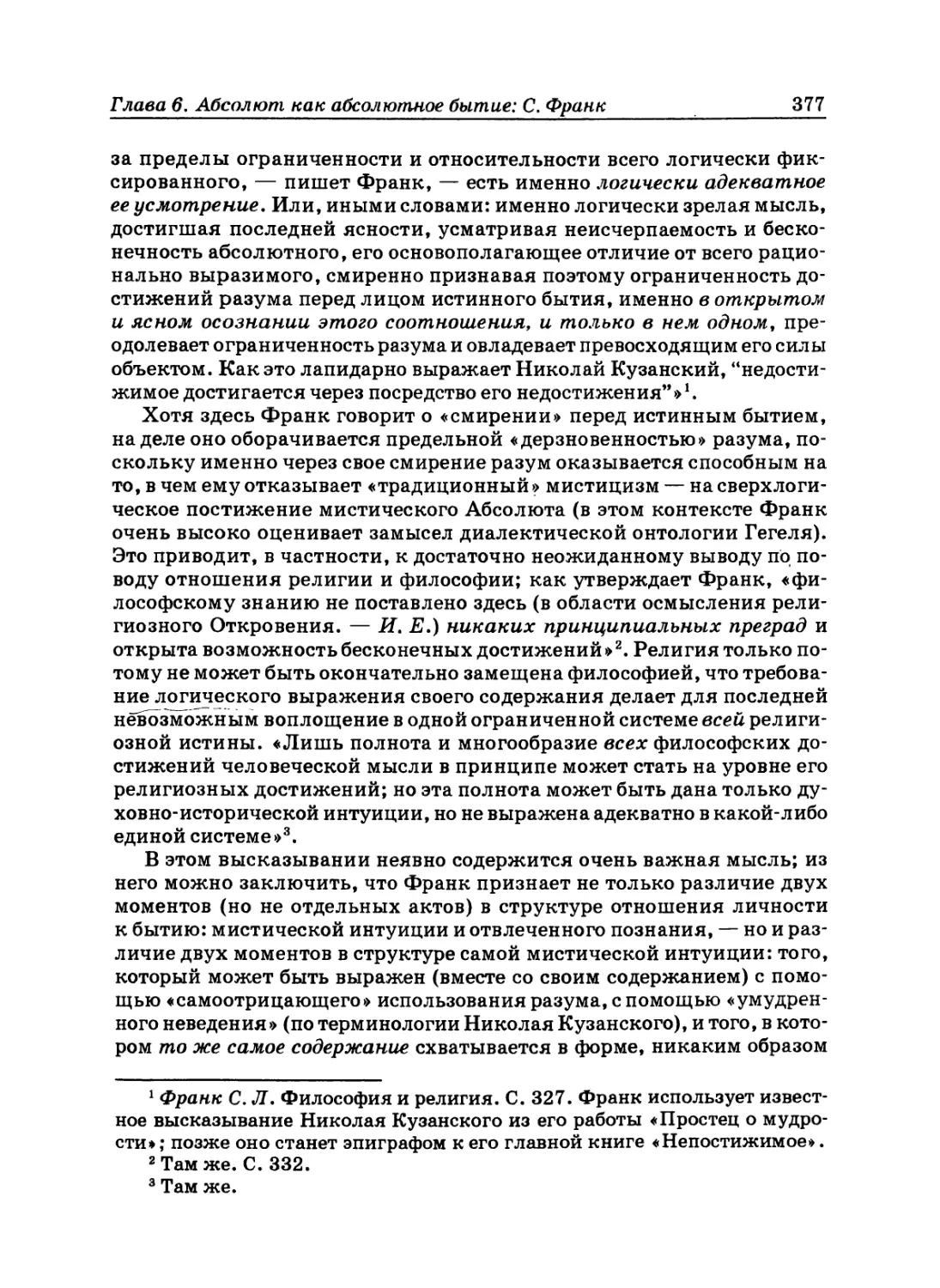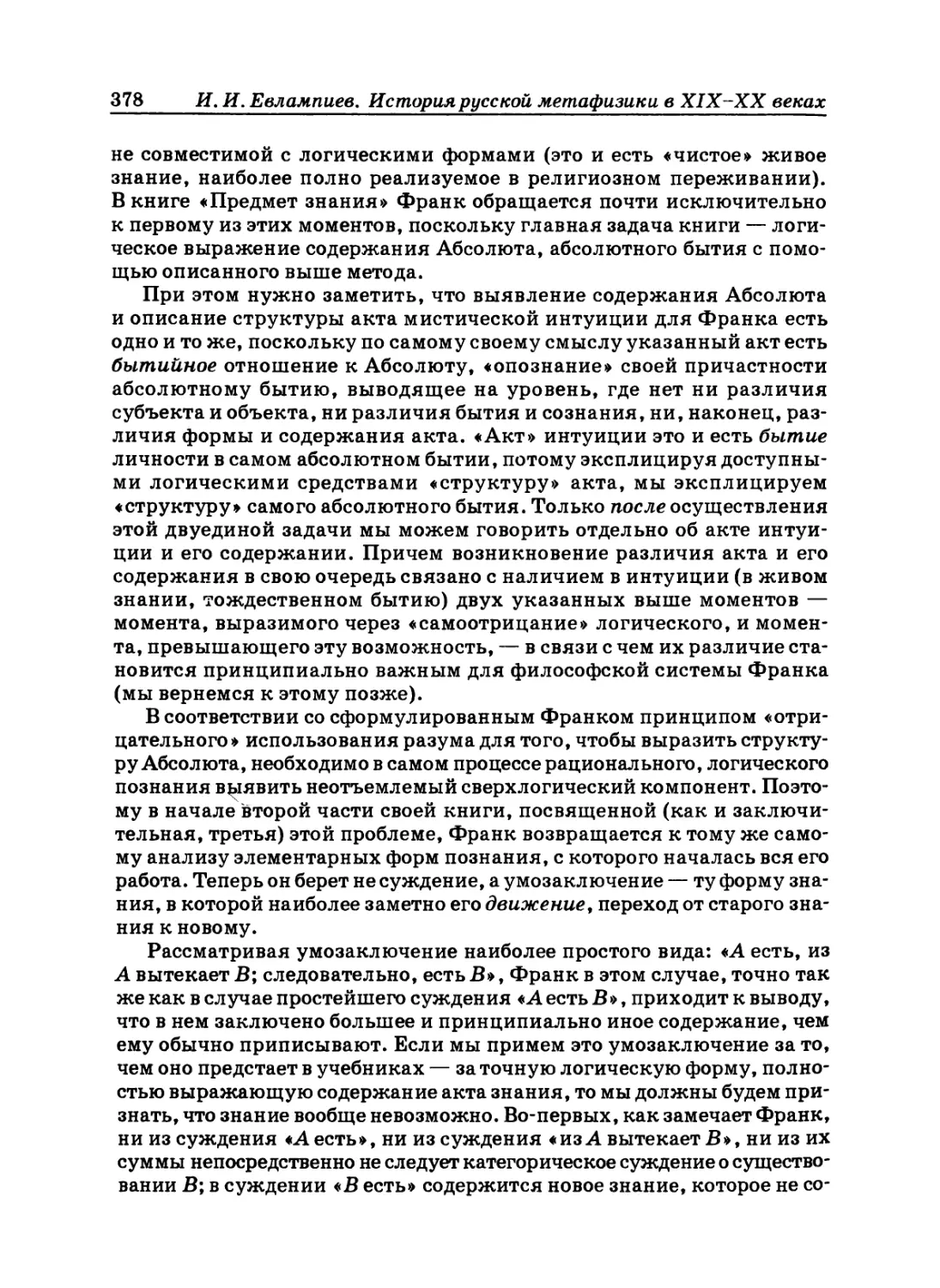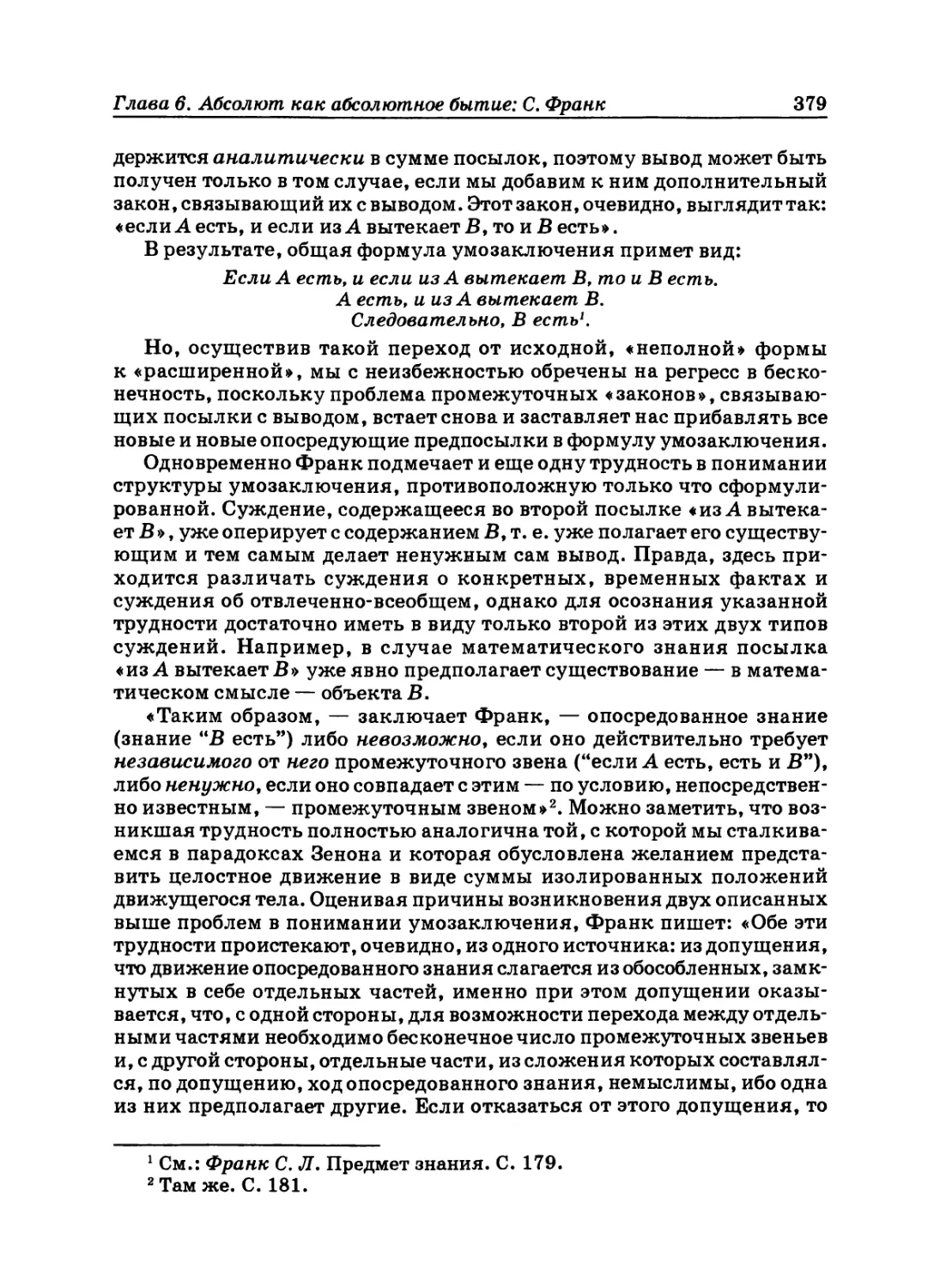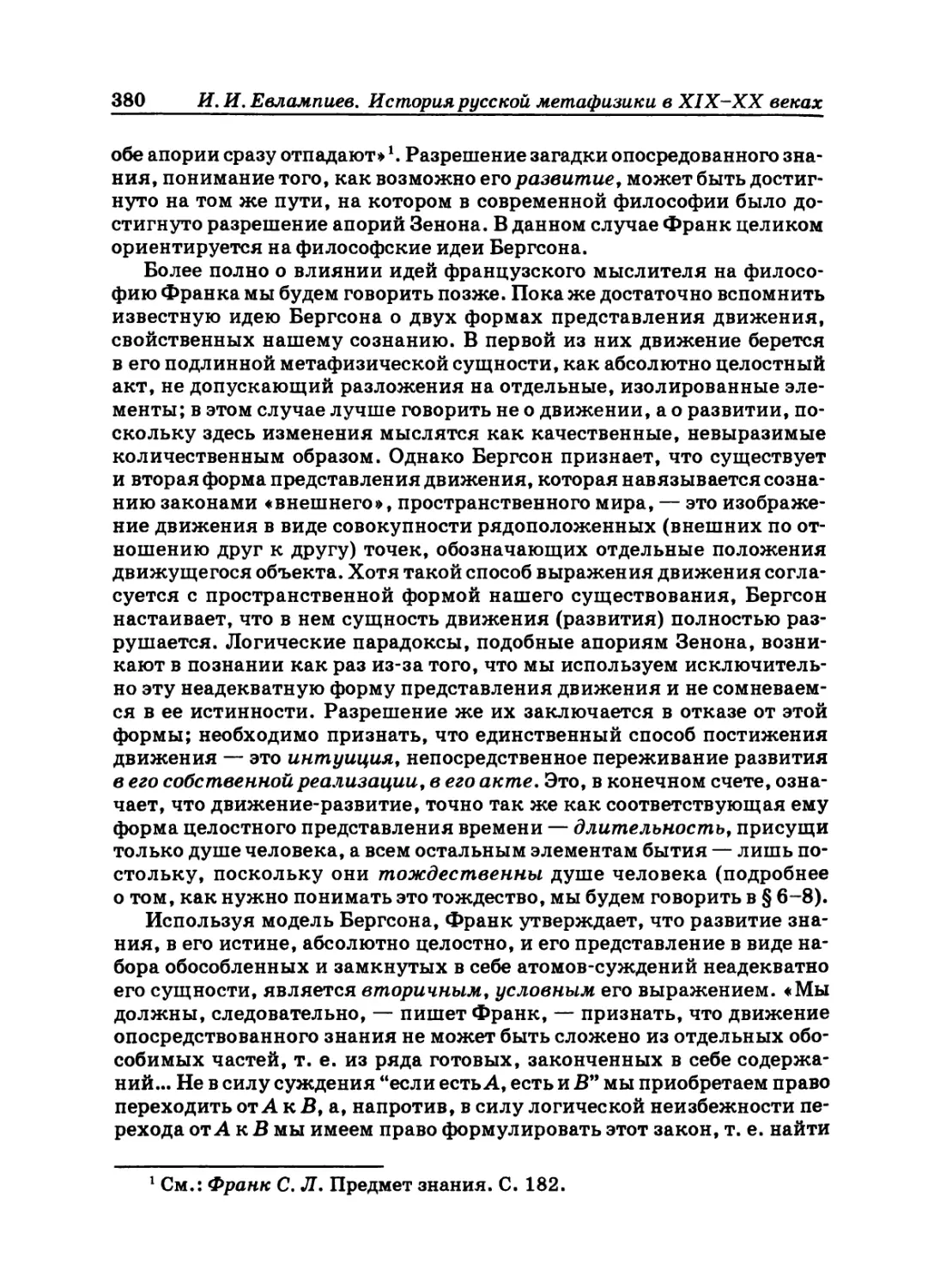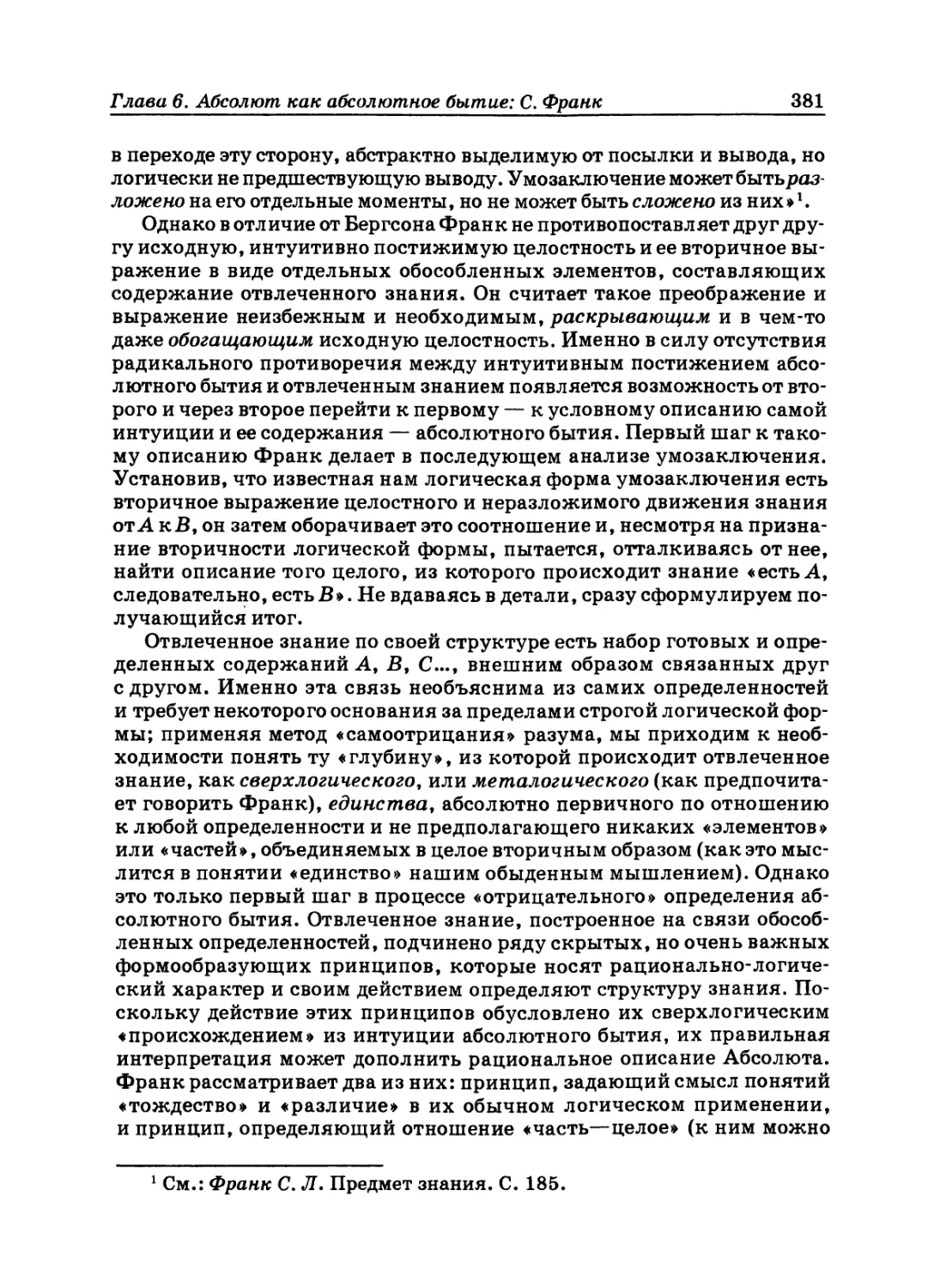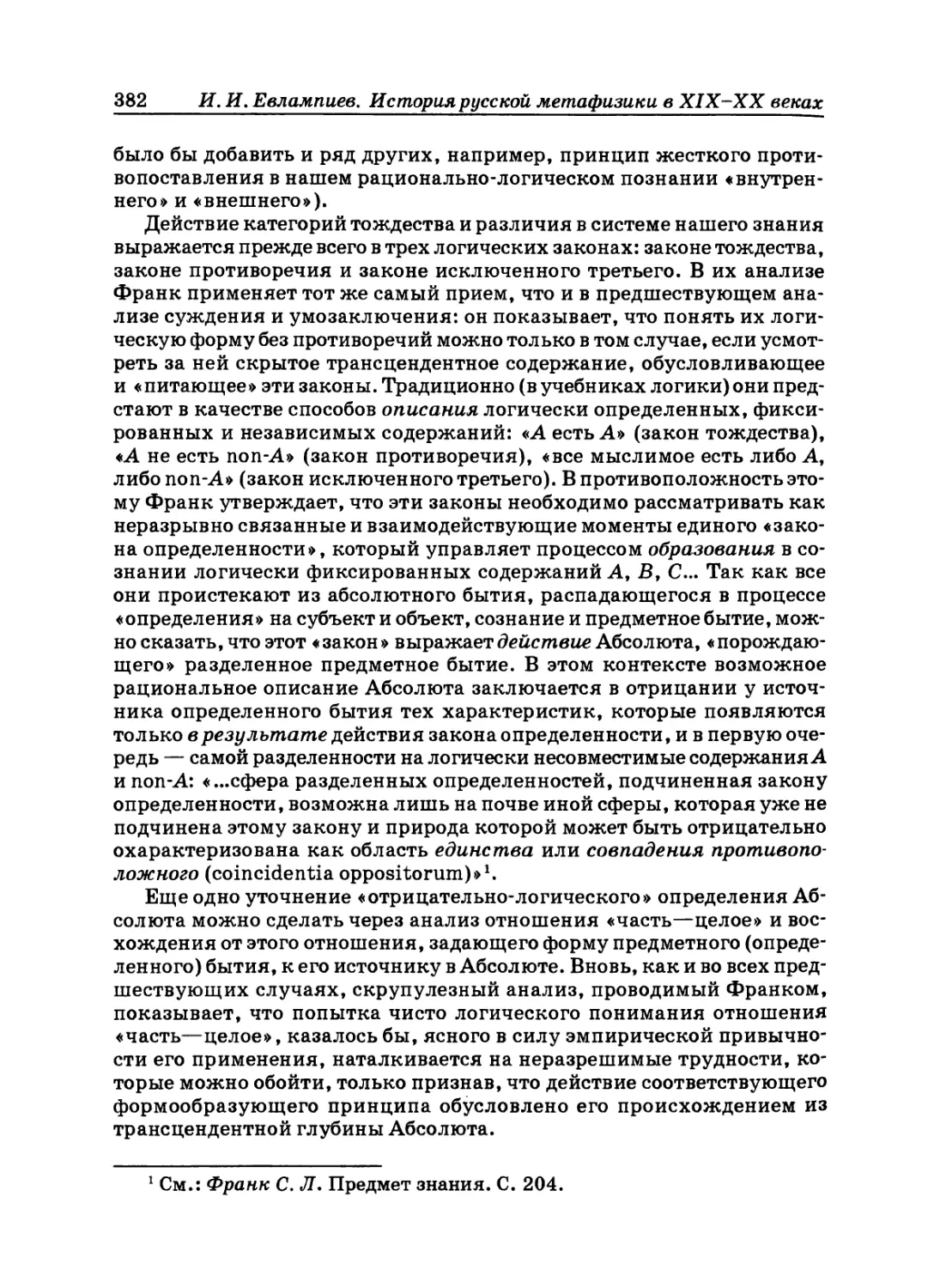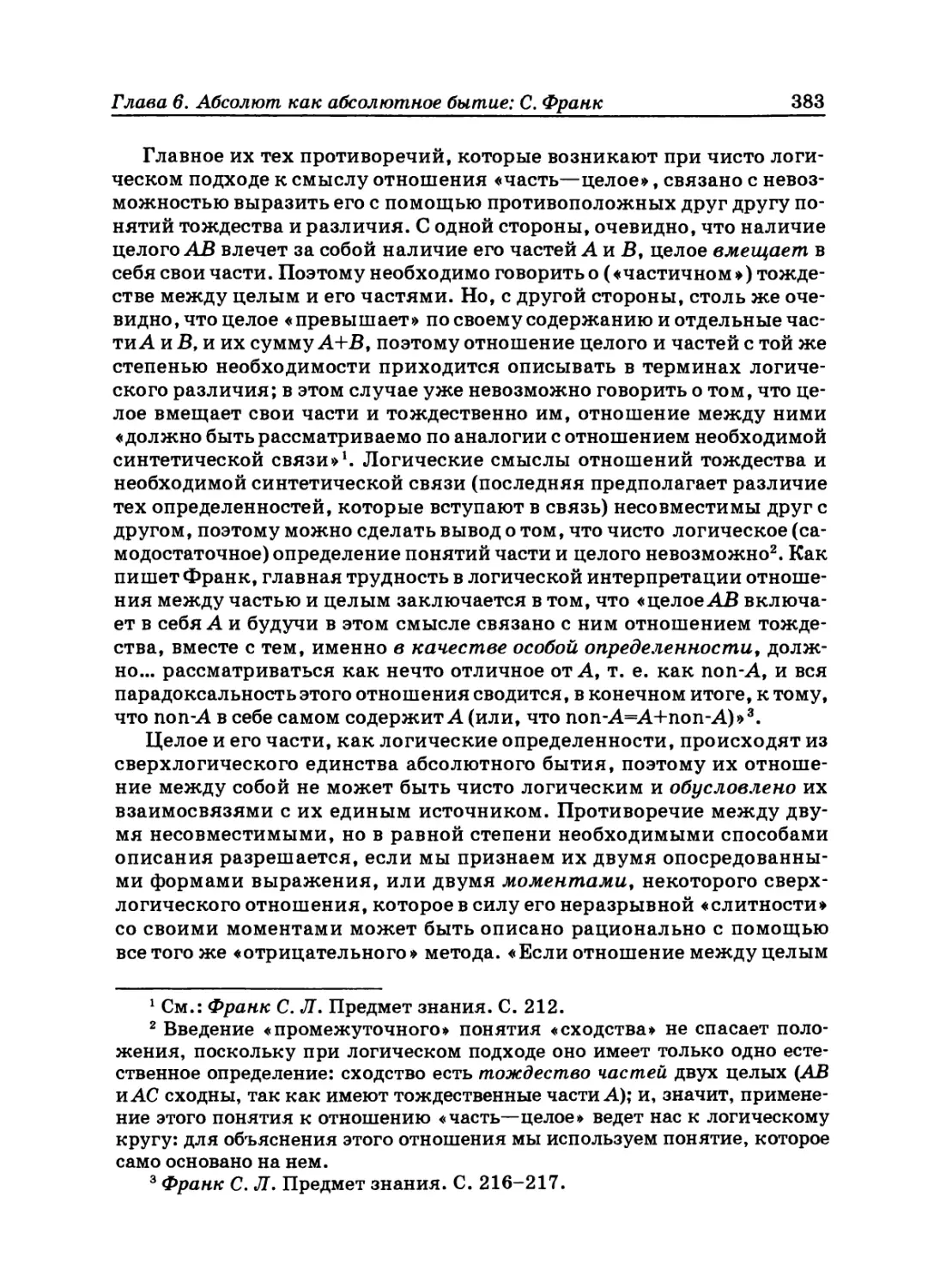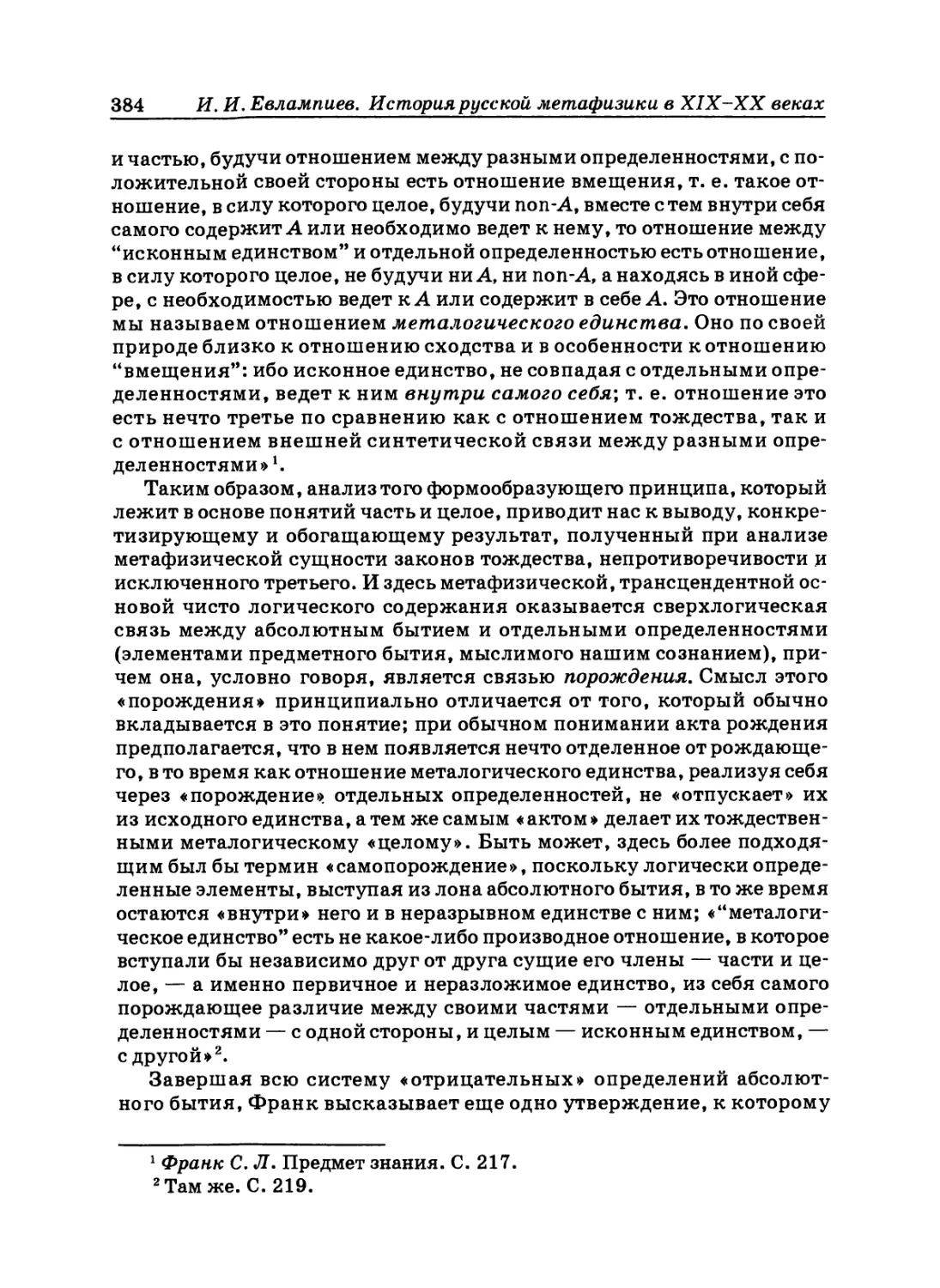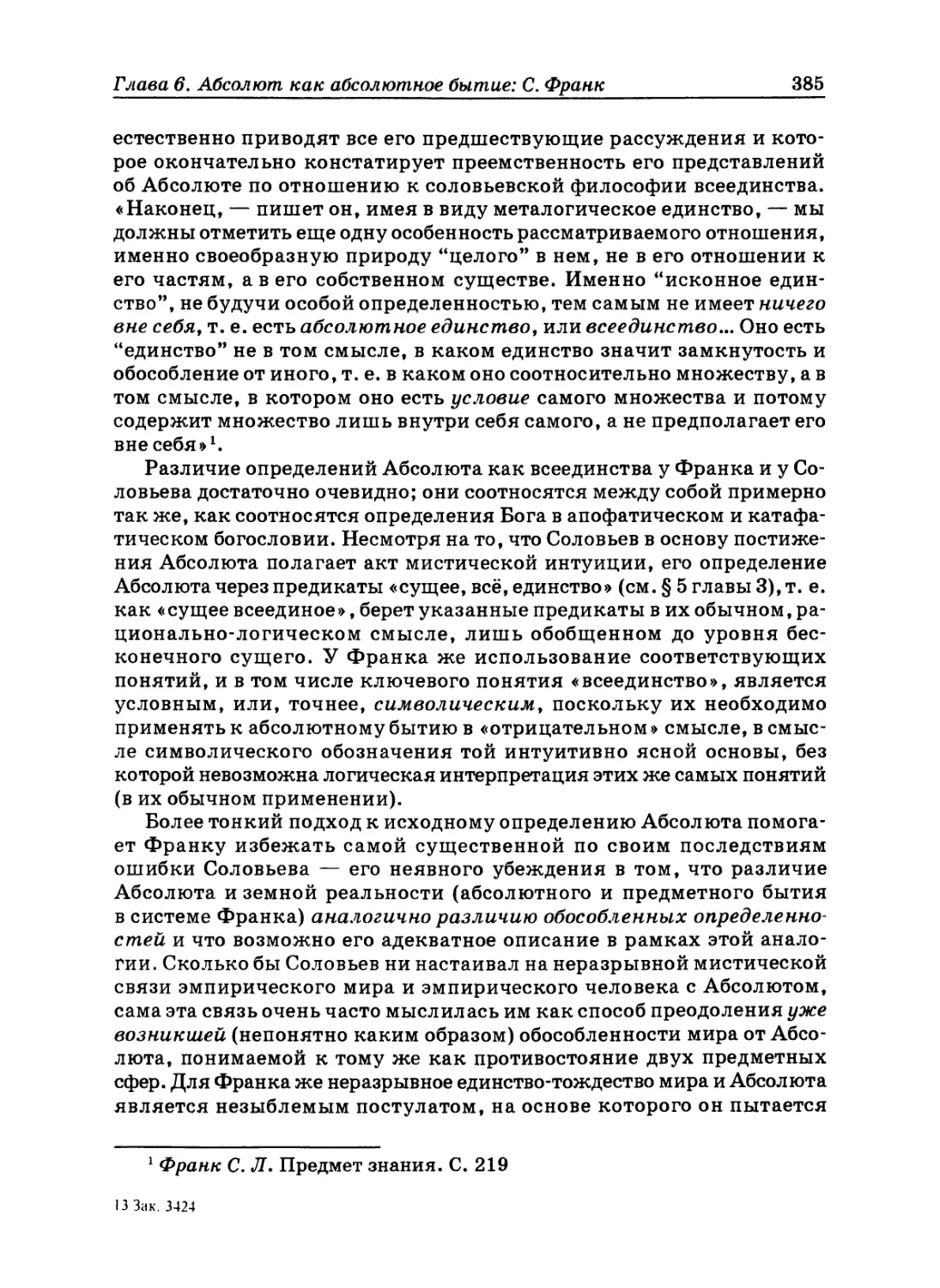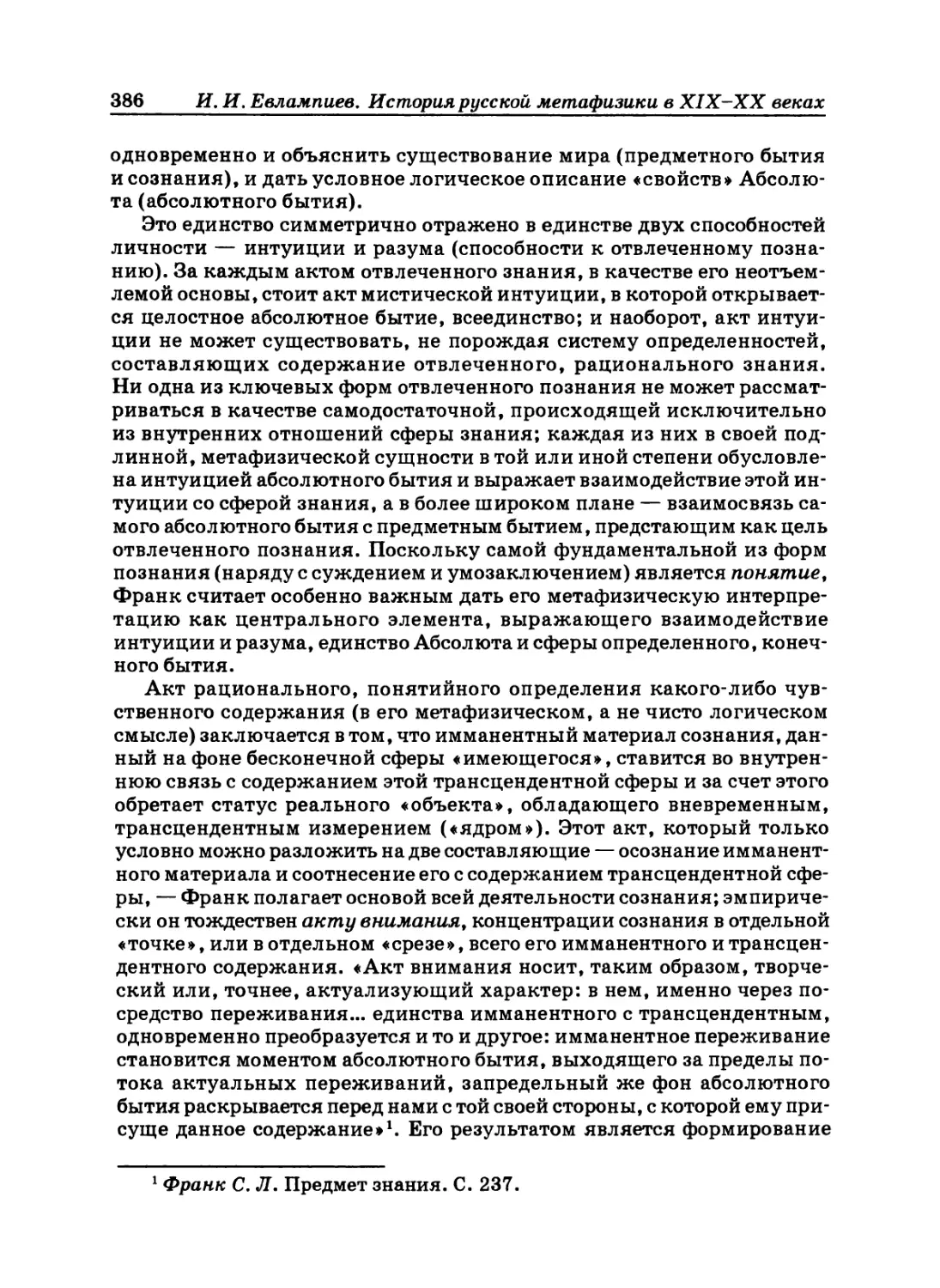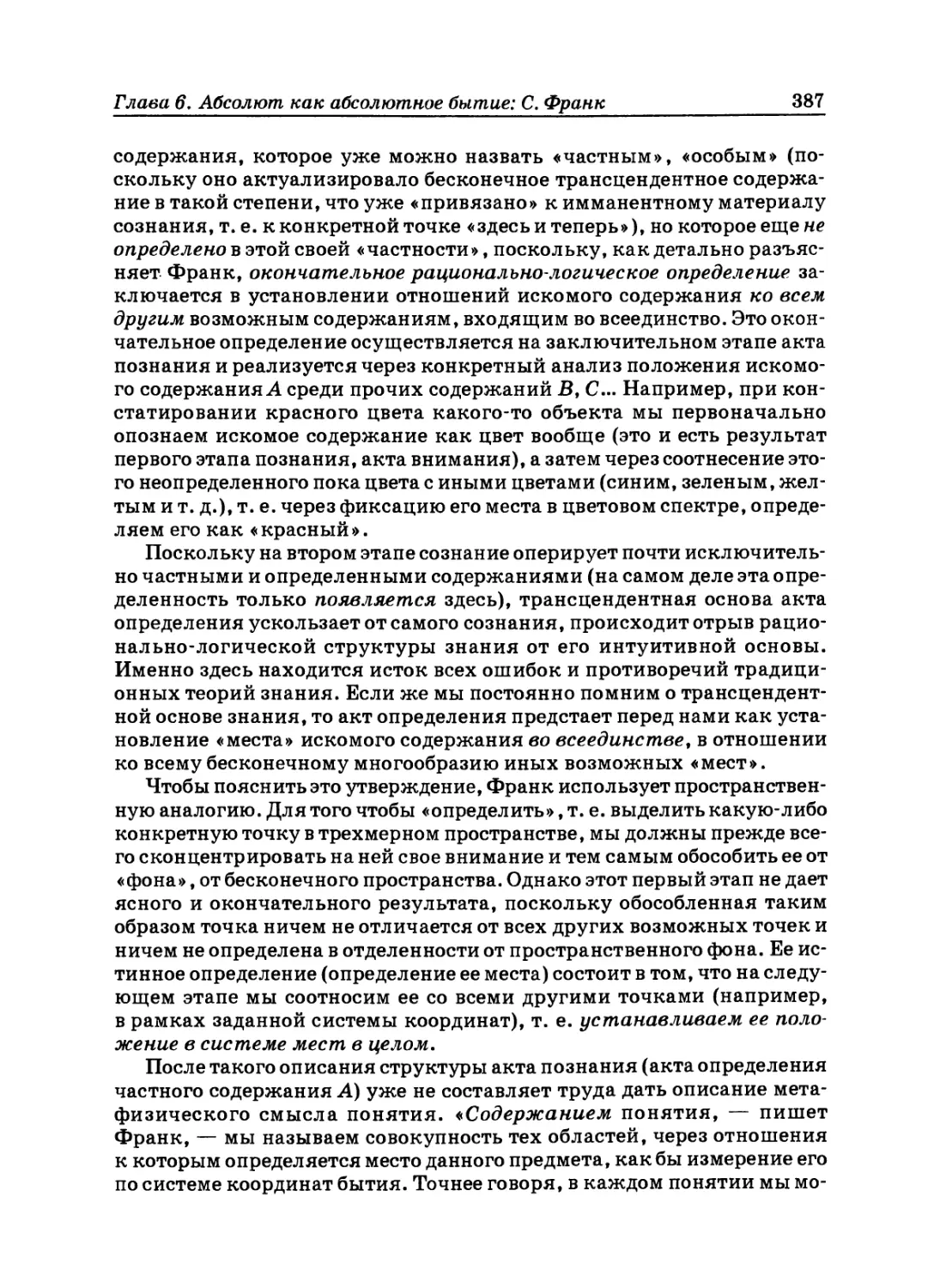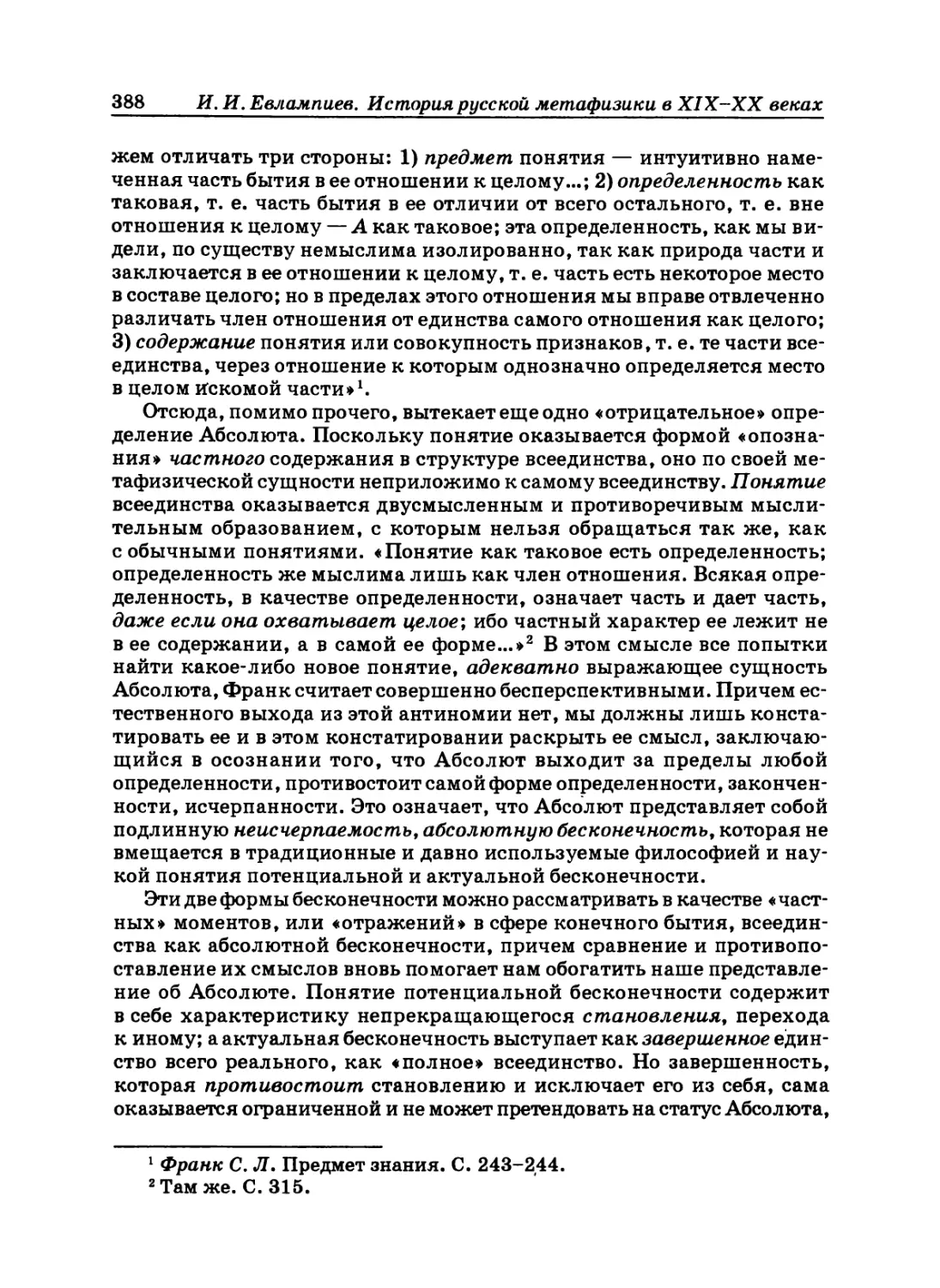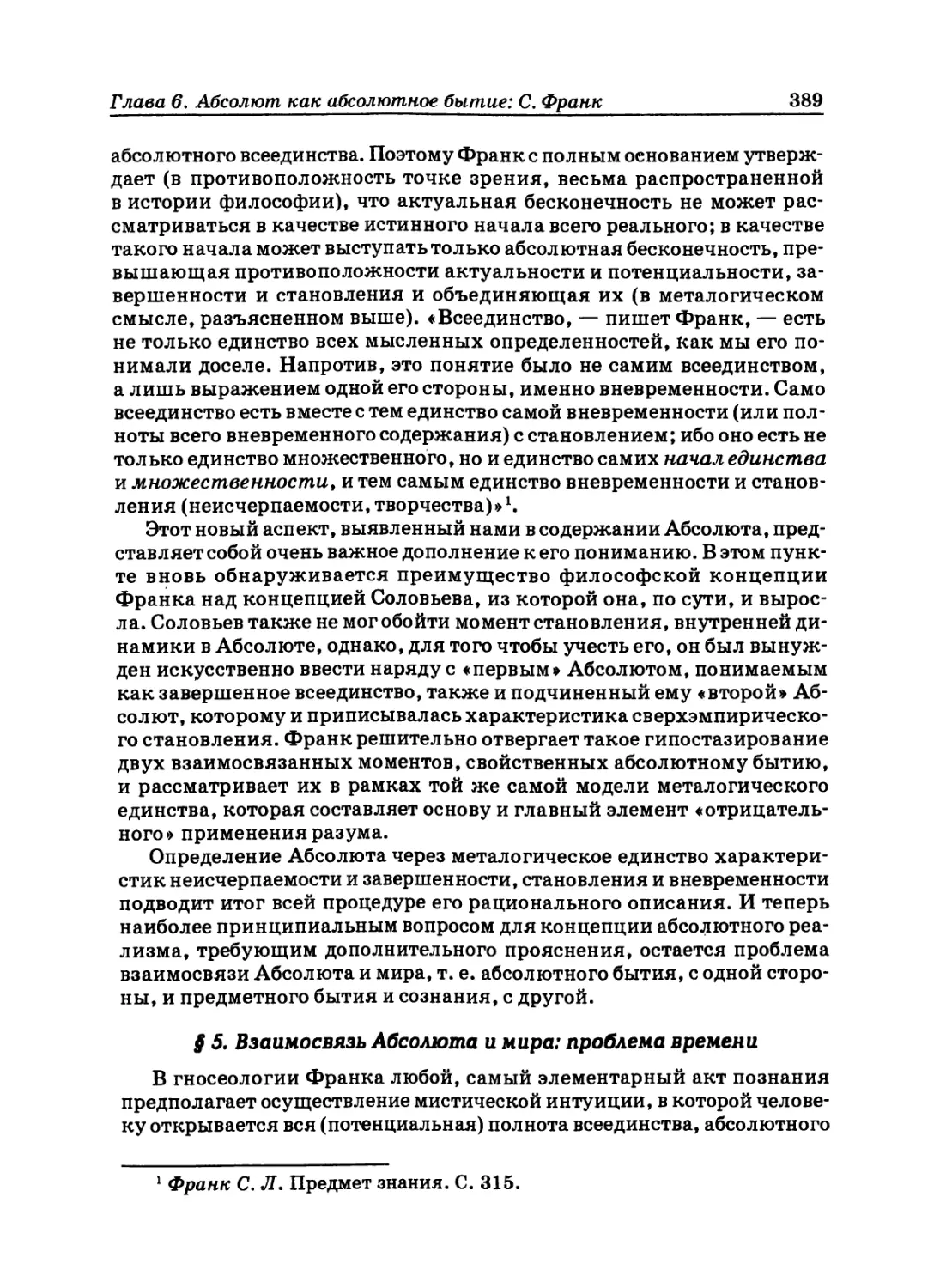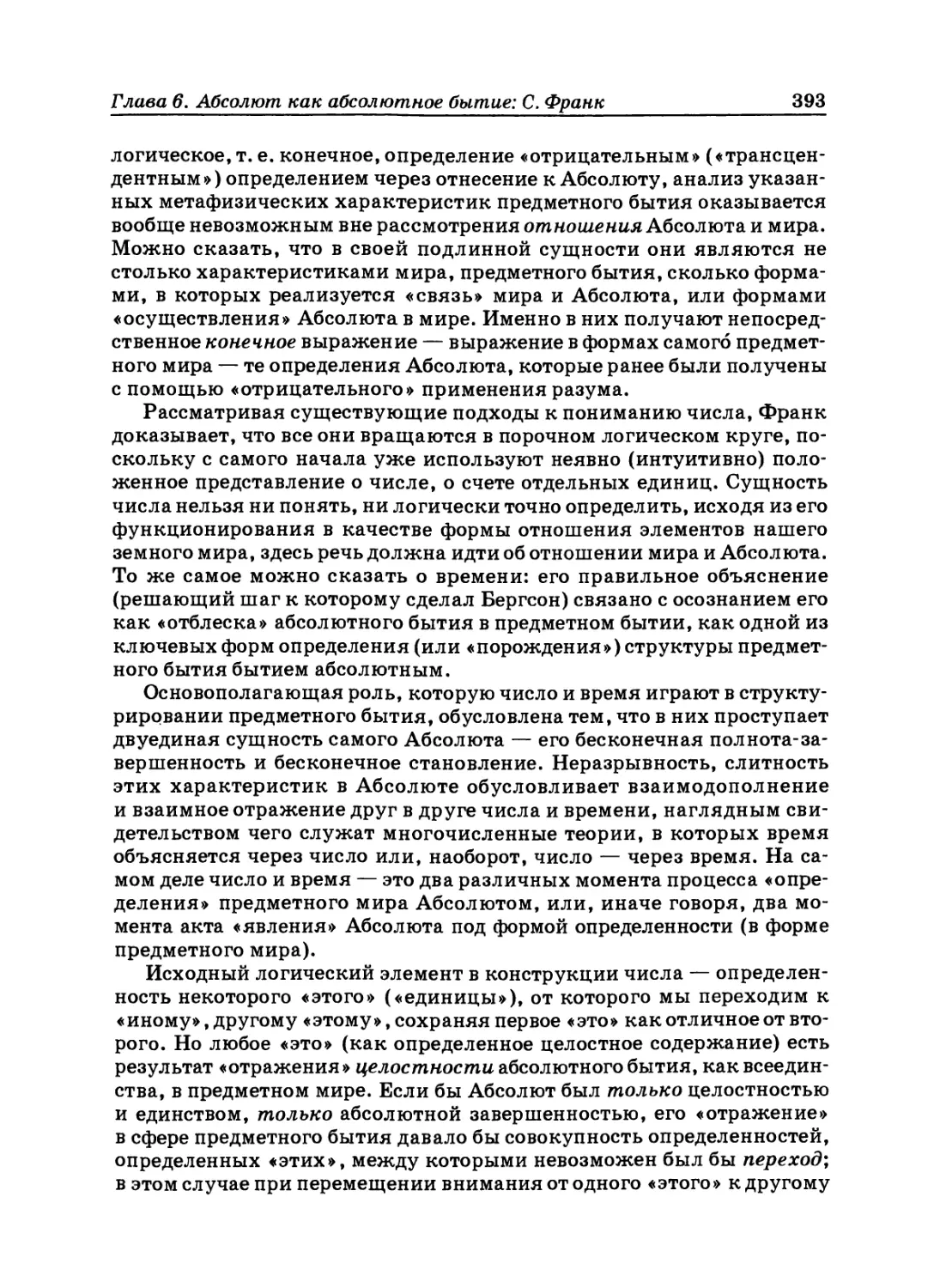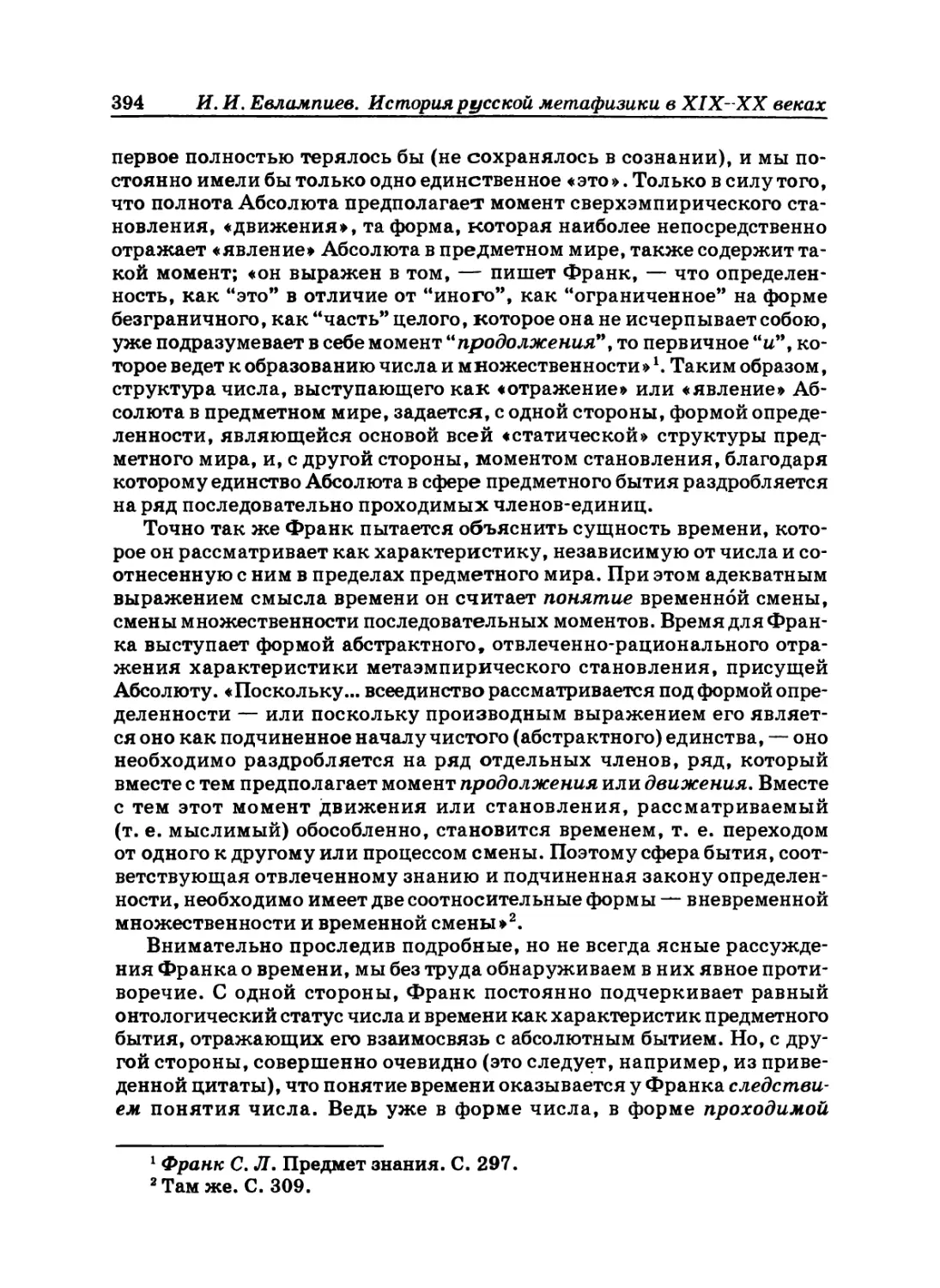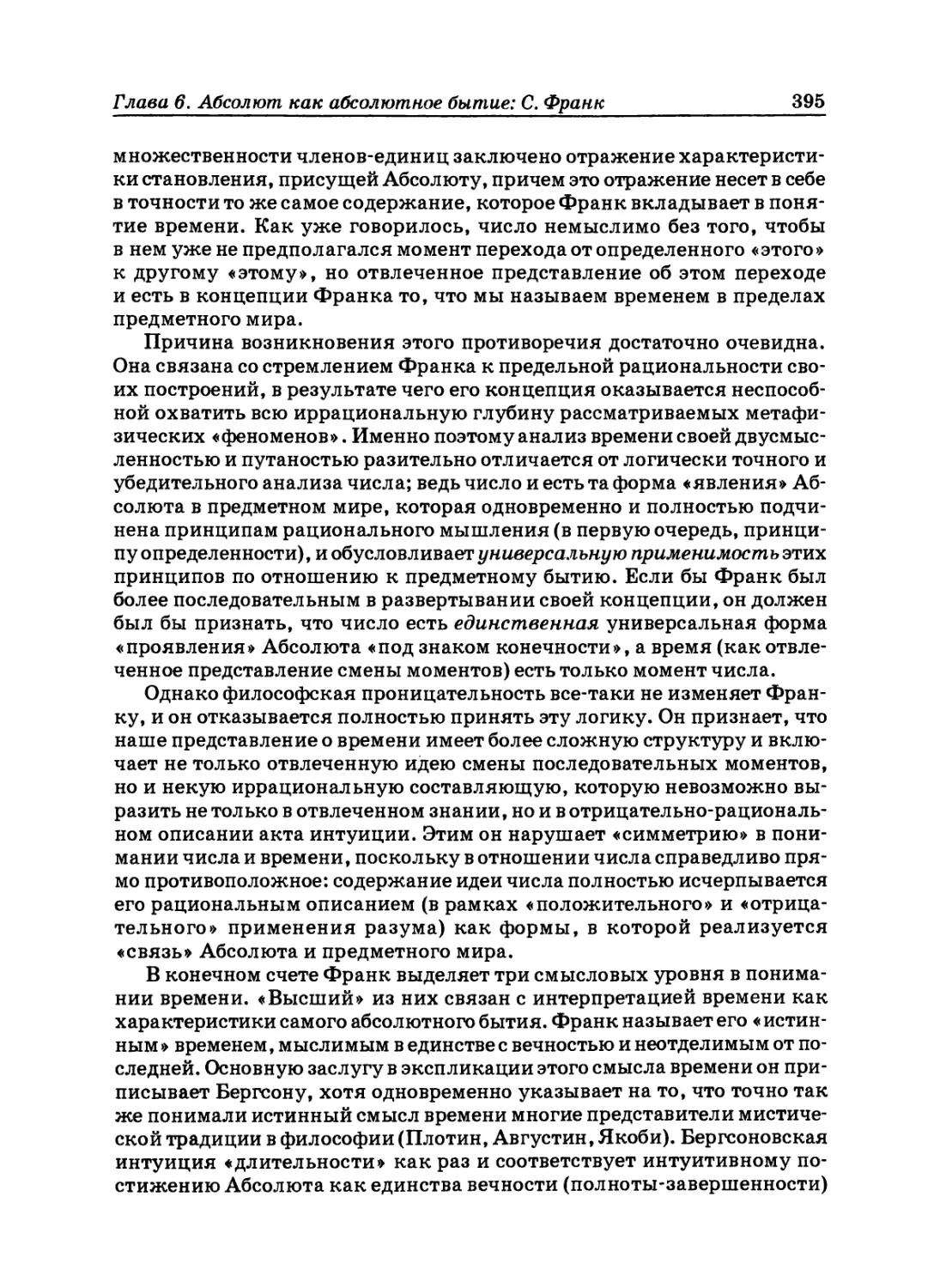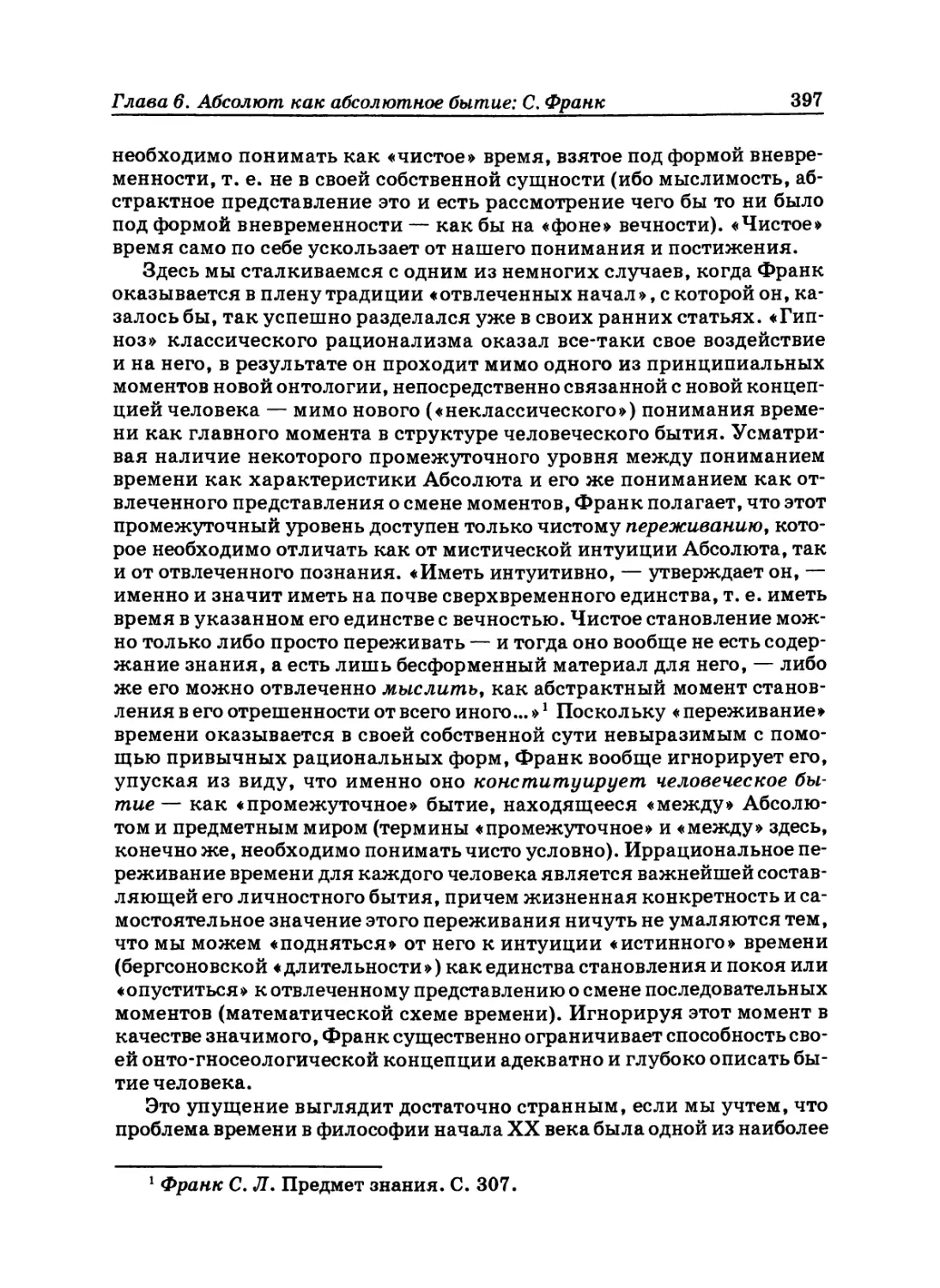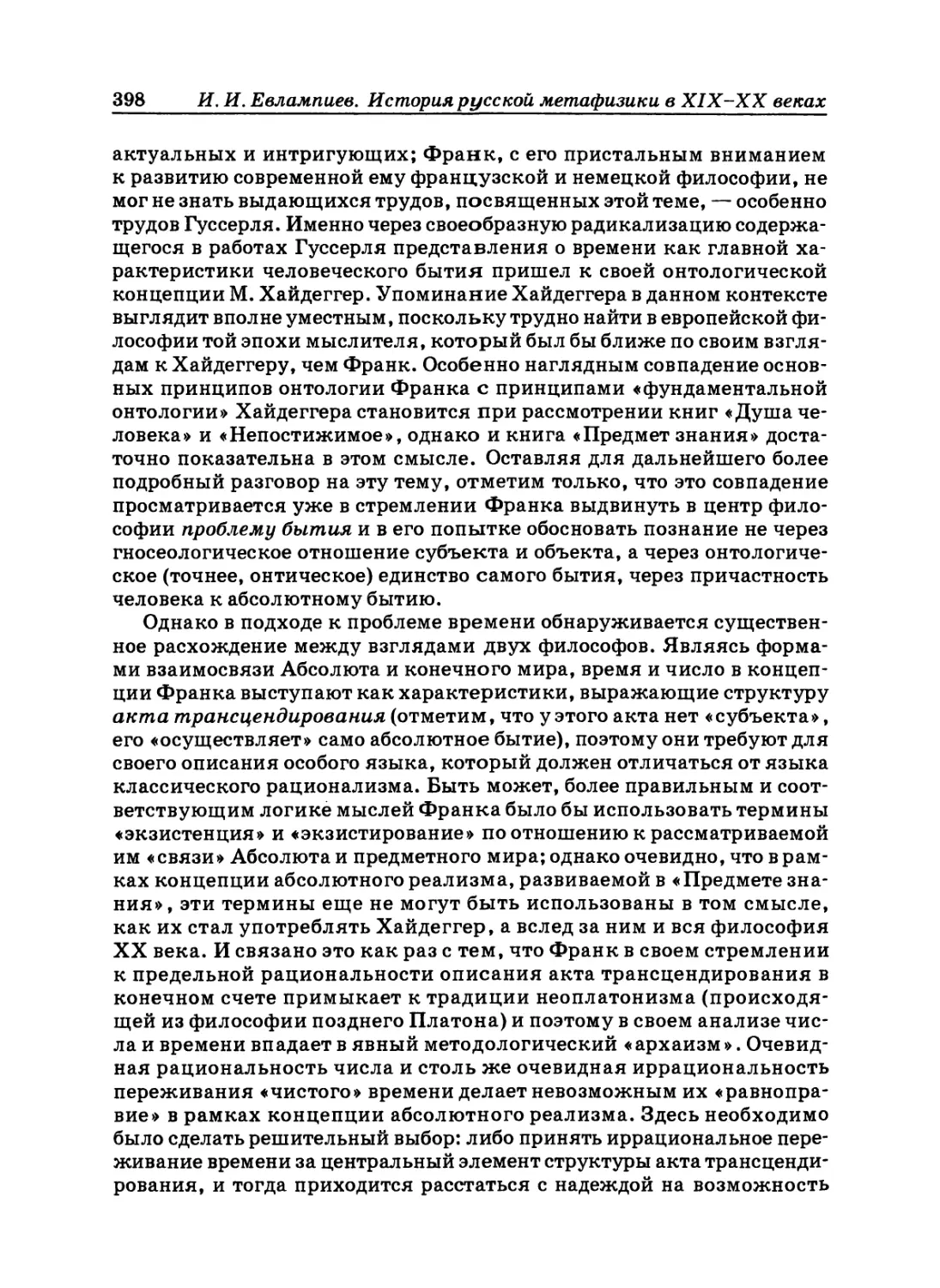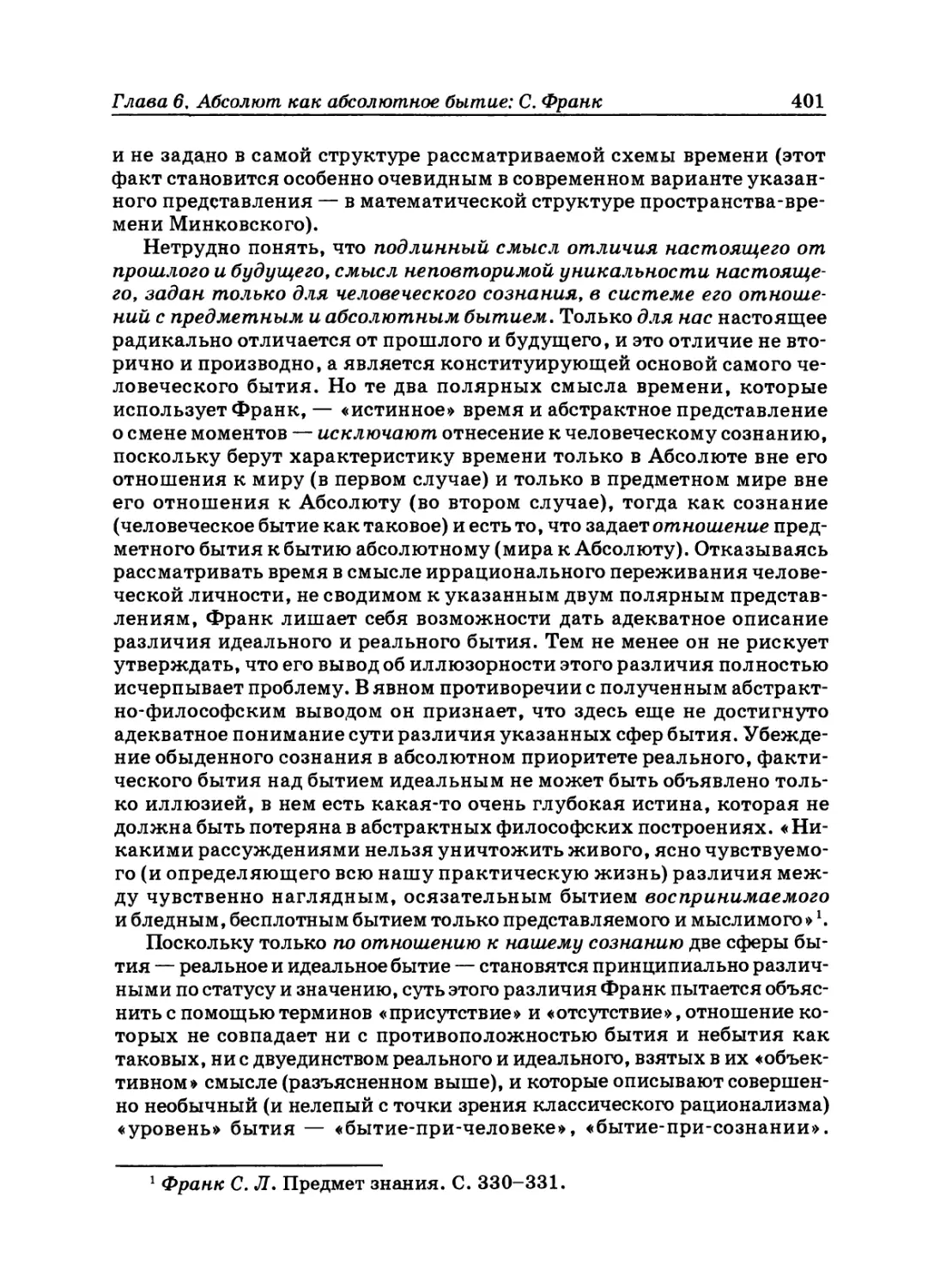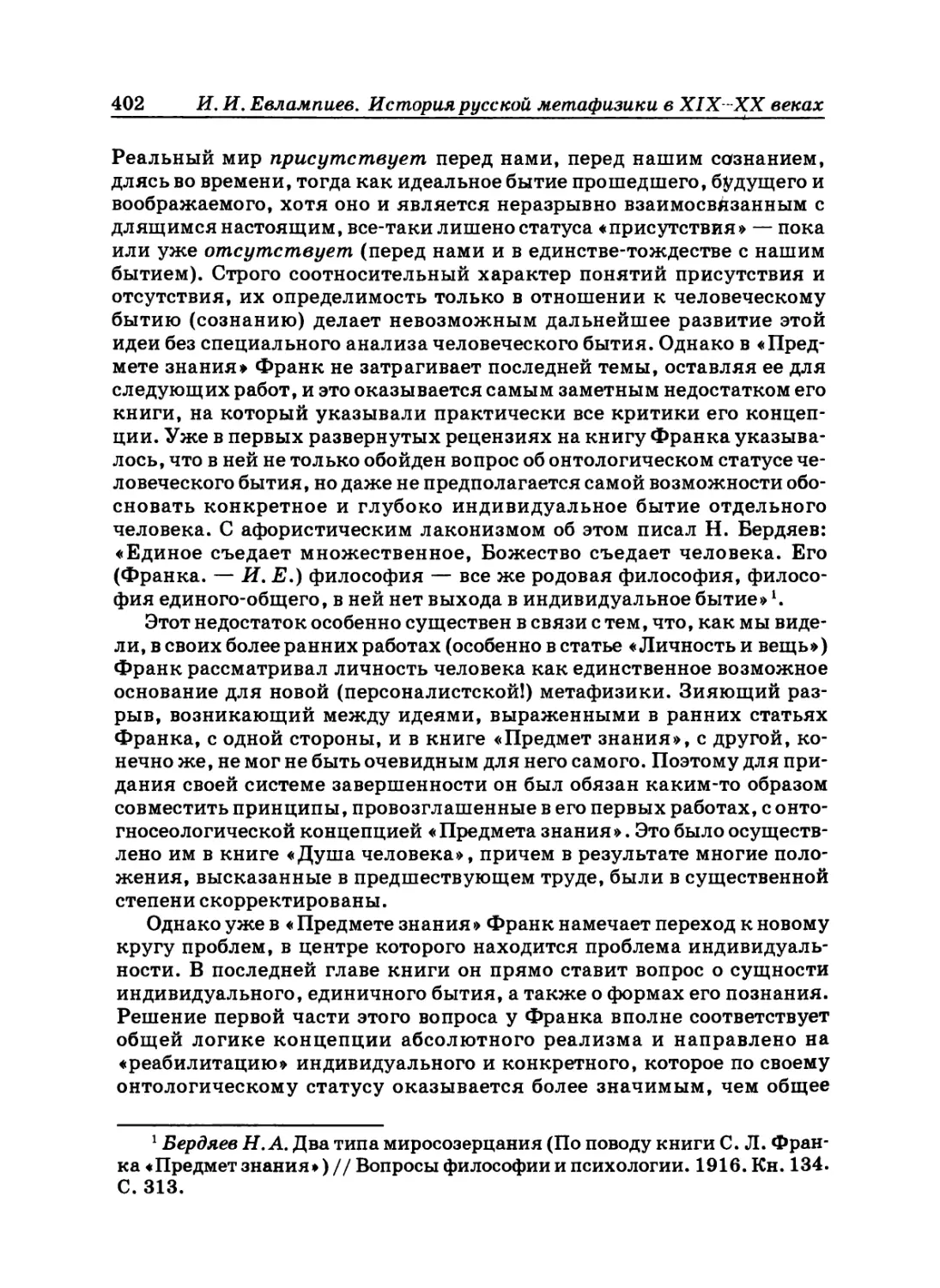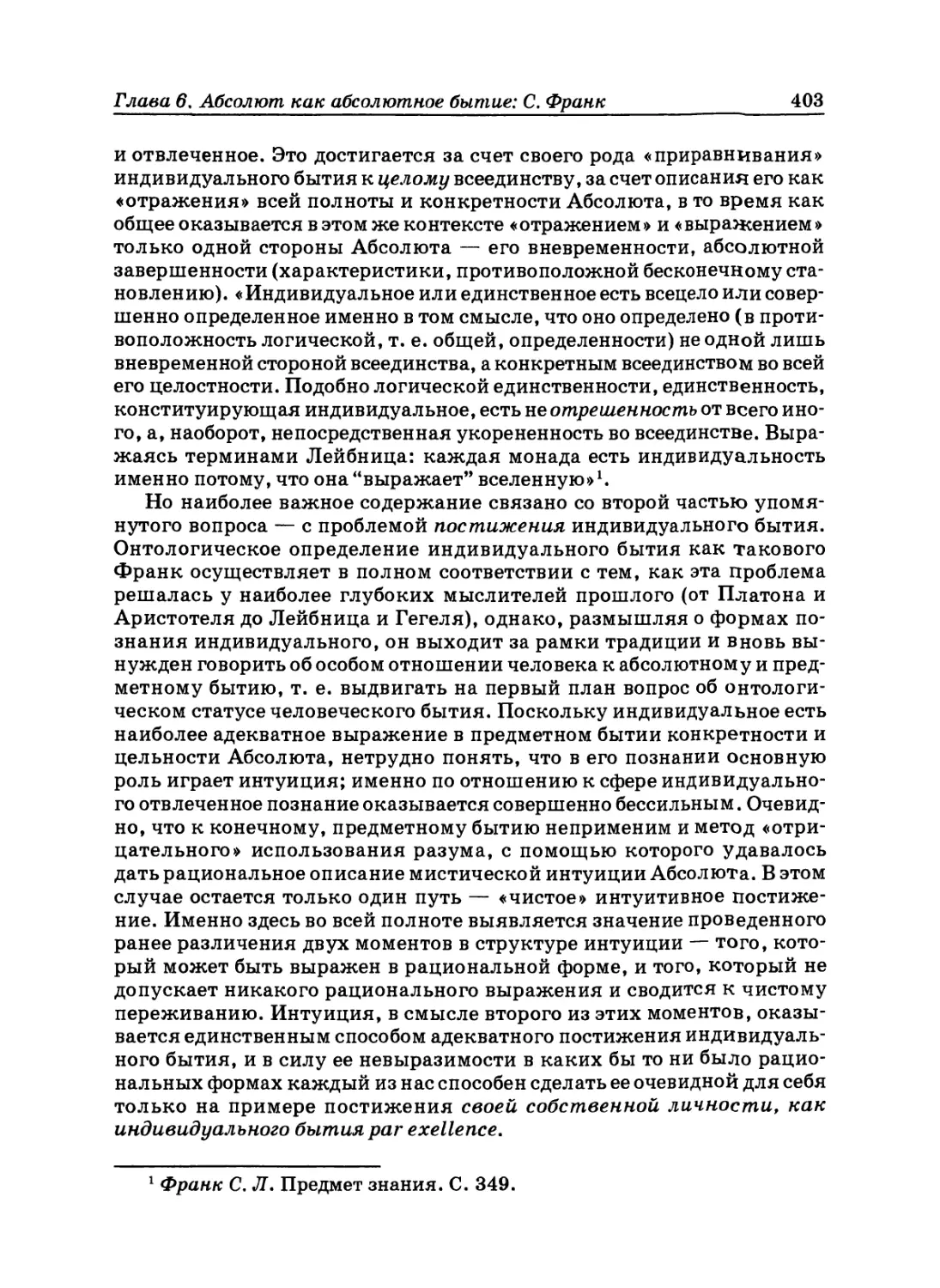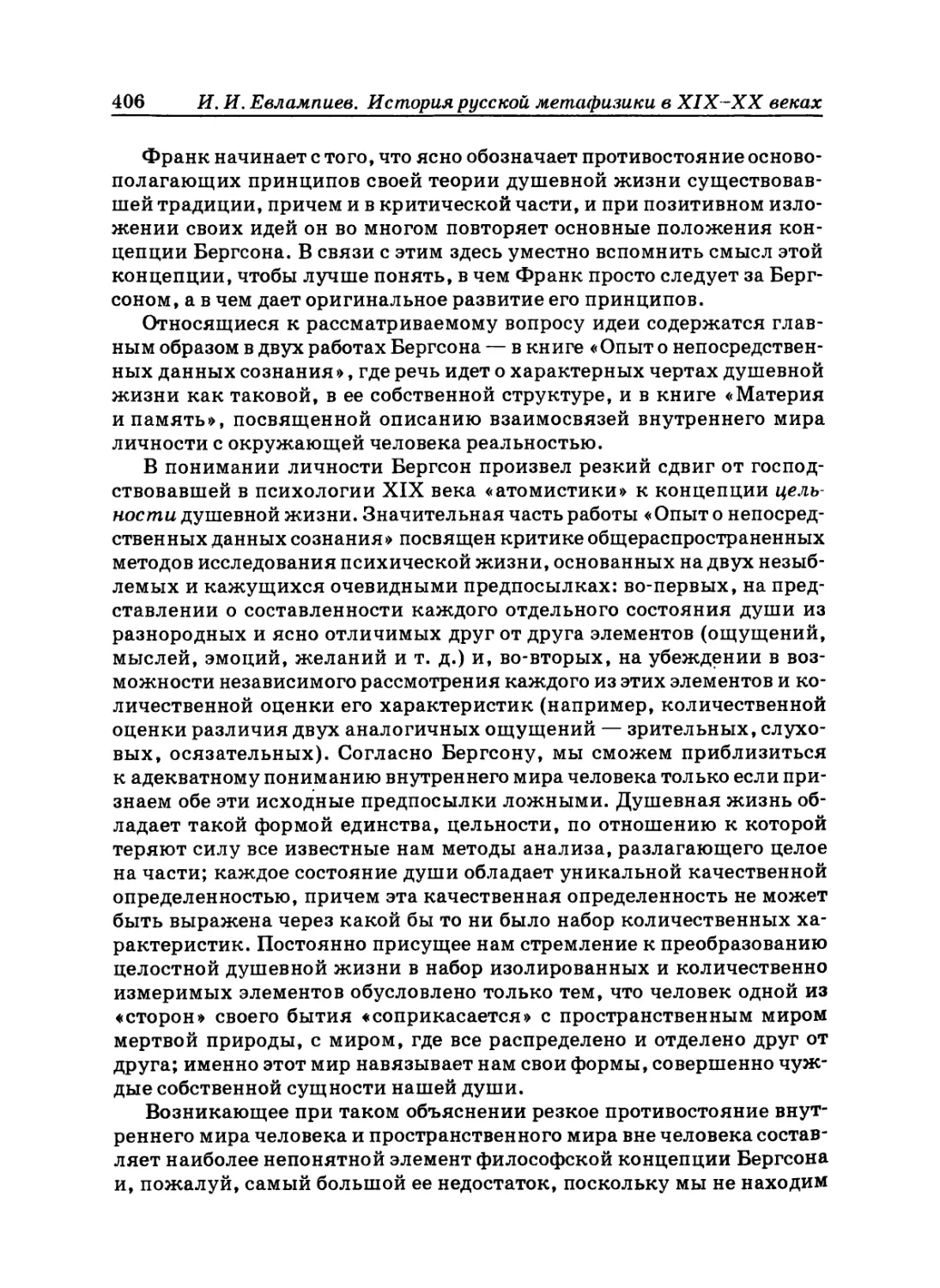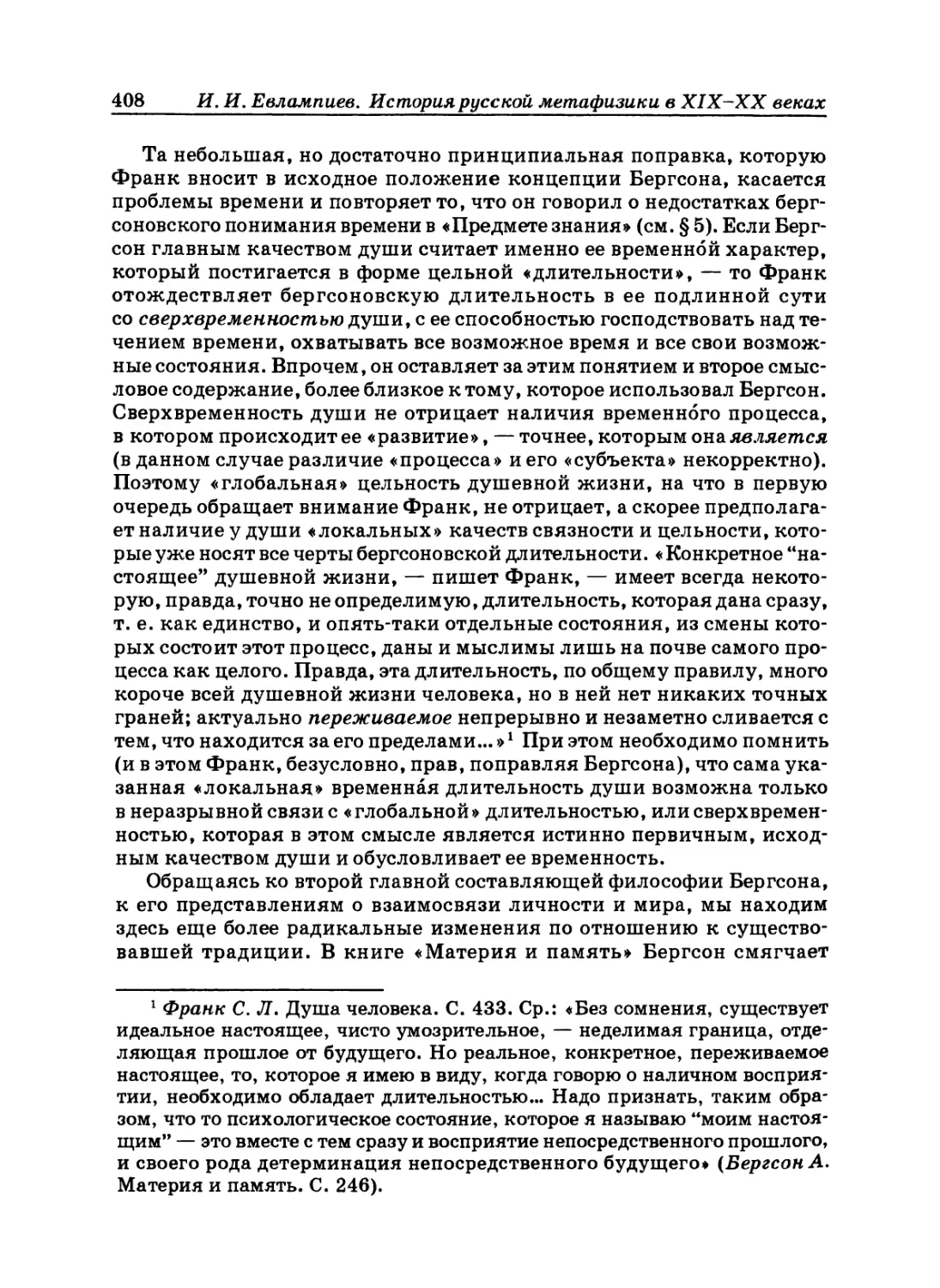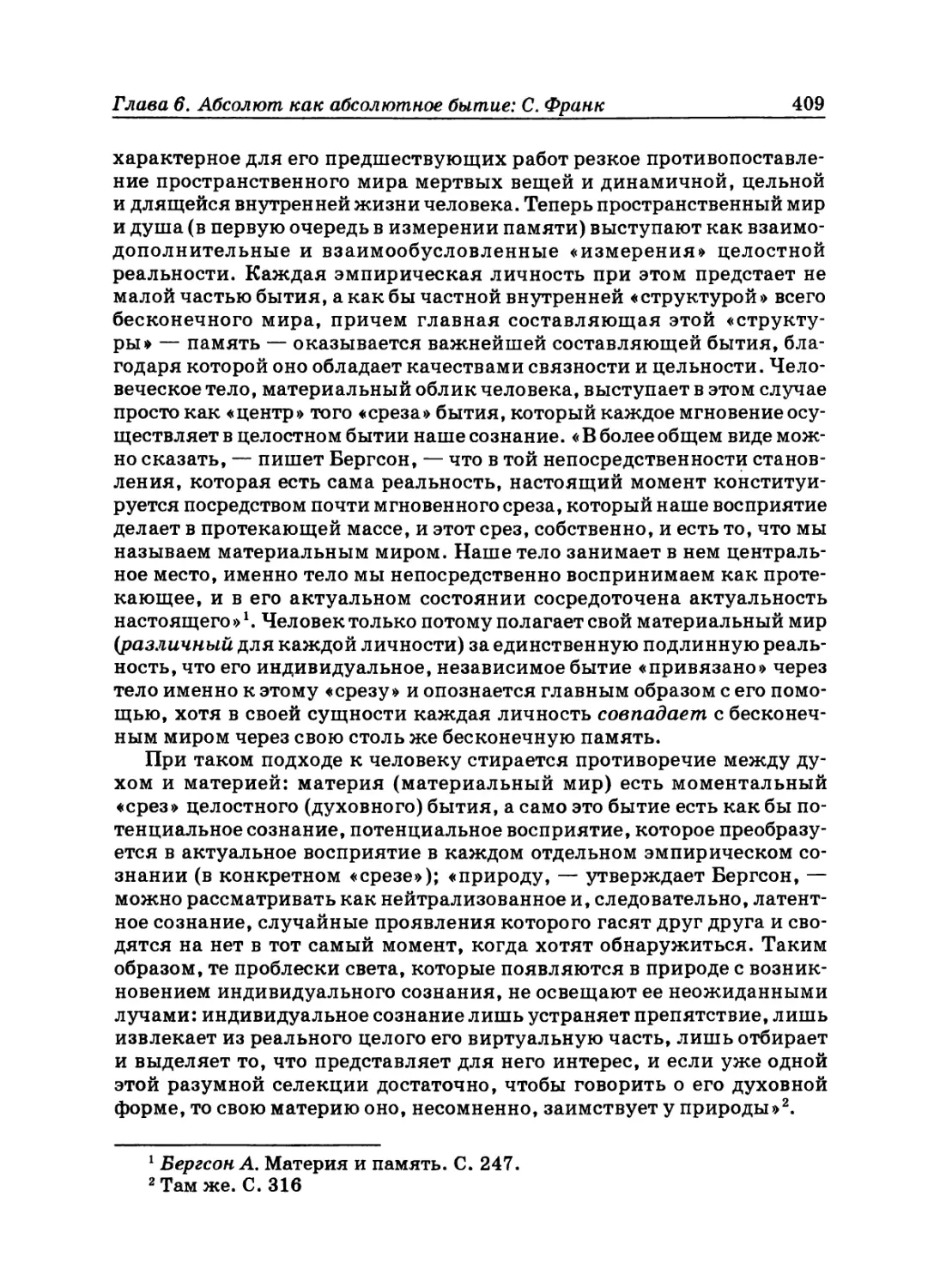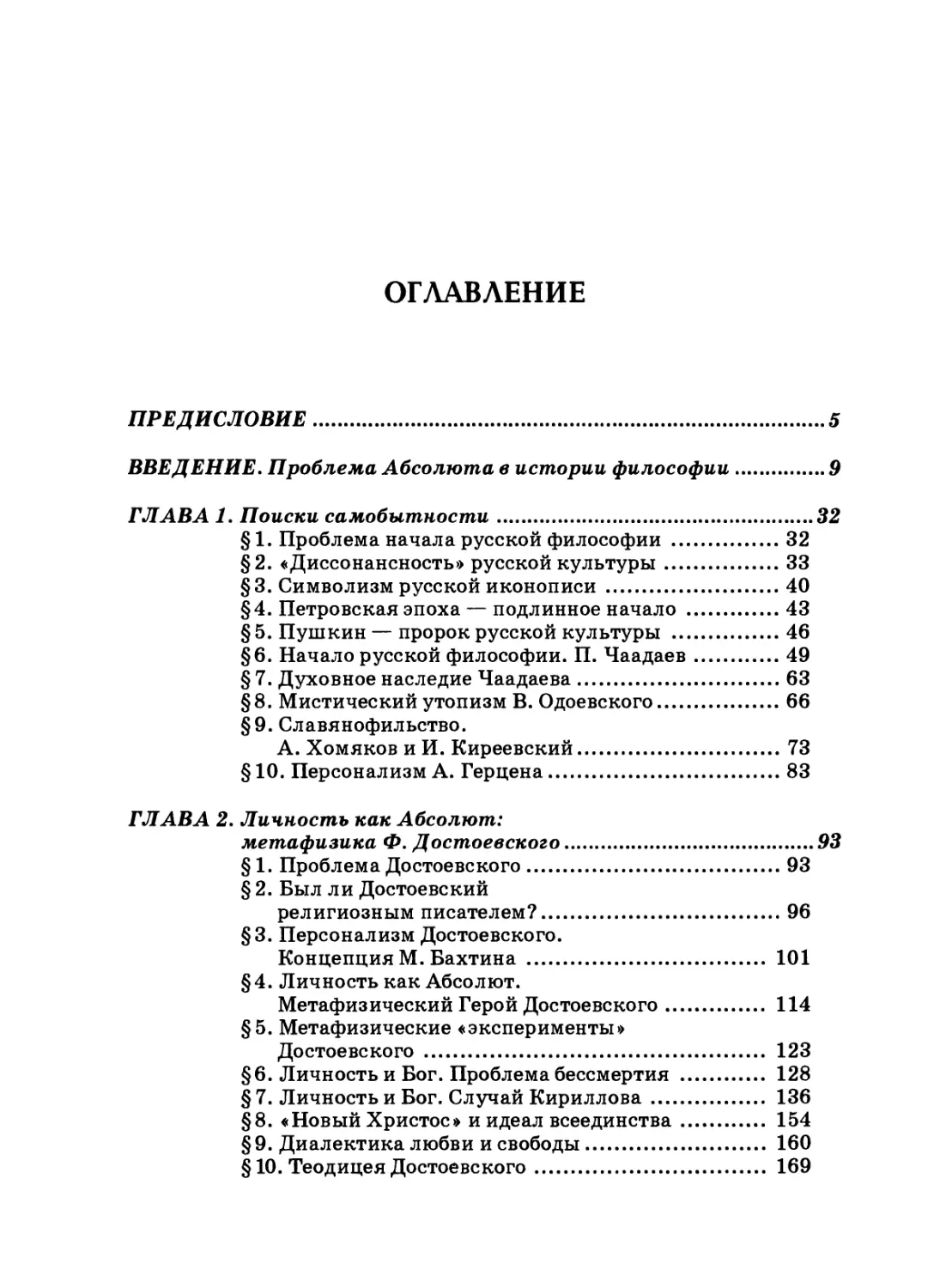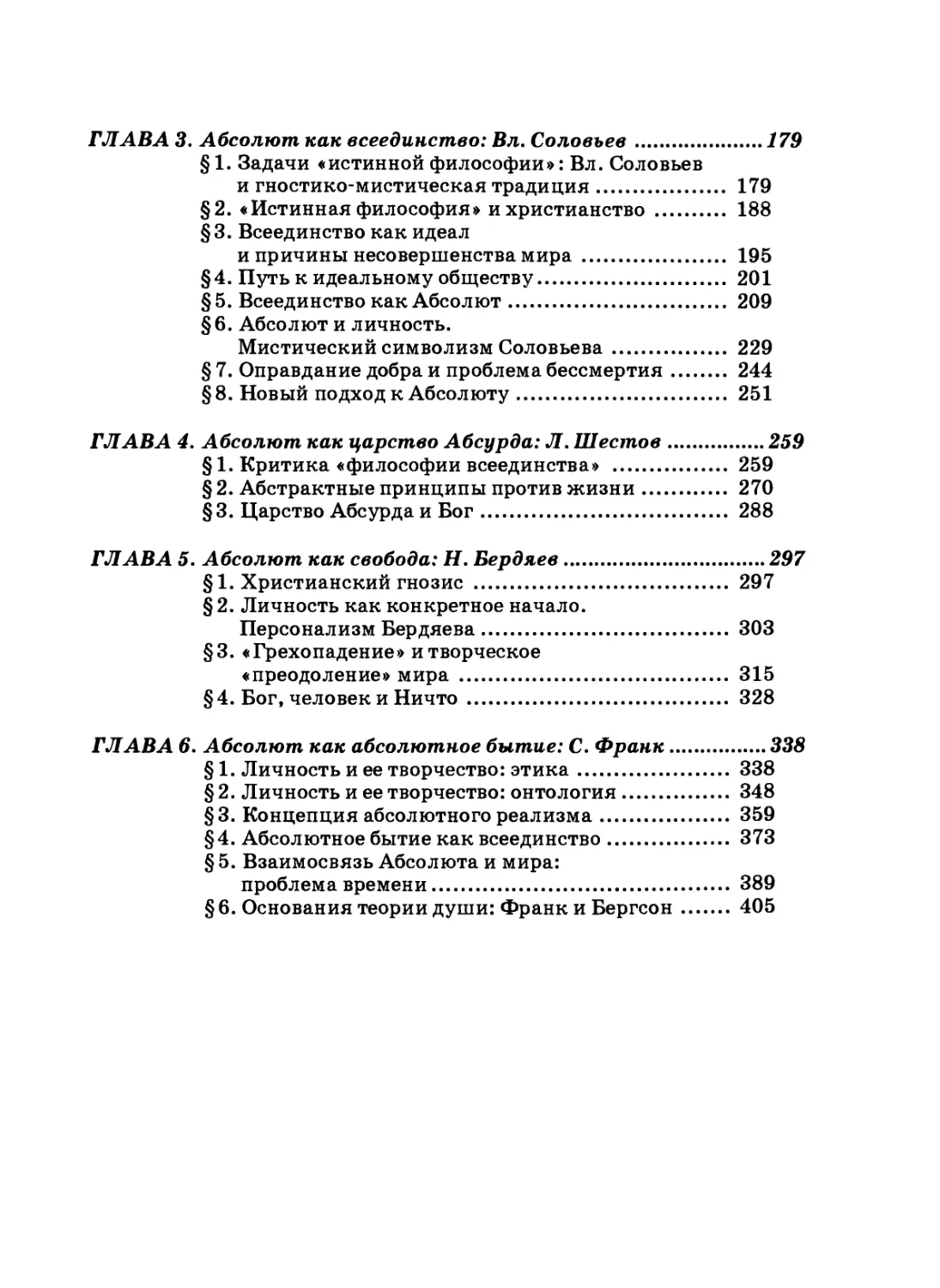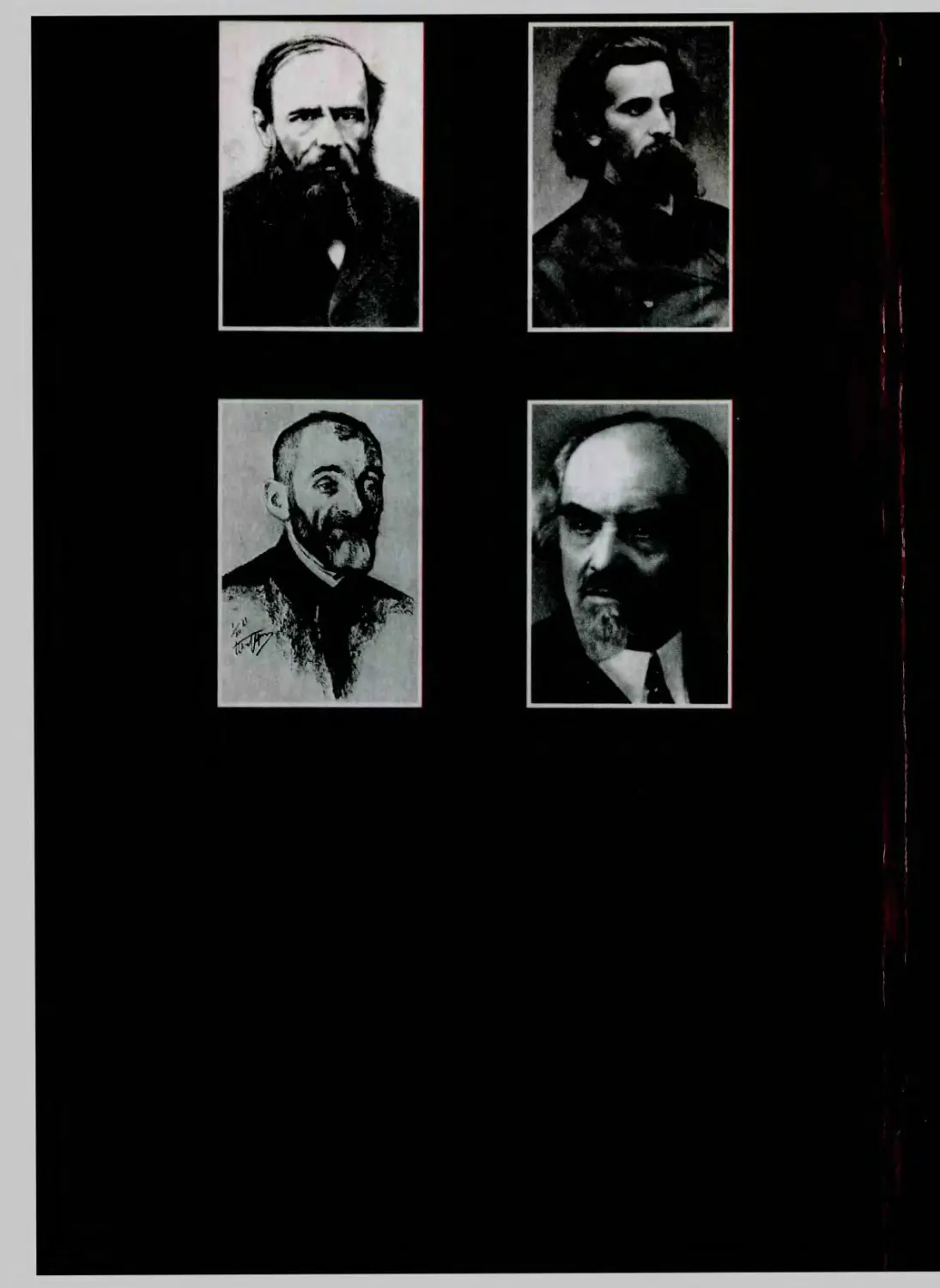Автор: Евлампиев И.
Теги: философия психология биологические науки в целом
ISBN: 5-89329-281-2
Год: 2000
Текст
И. И. ЕВЛАМПИЕВ
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ МЕТАФИЗИКИ
В XIX-XX ВЕКАХ
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В ПОИСКАХ АБСОЛЮТА
1.1. YEVLAMPIEV
HISTORY
OF RUSSIAN METAPHYSICS
IN XIX-XX CENTURIES
RUSSIAN PHILOSOPHY
IN SEARCH OF ABSOLUTE
part I
И. И. ЕВЛАМПИЕВ
ИСТОРИЯ
РУССКОЙ МЕТАФИЗИКИ
В XIX-XX ВЕКАХ
\>
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
В ПОИСКАХ АБСОЛЮТА
часть I
/1/",,
J)
Удмуртская
Республиканская
научная библиотека
им. П. И. Ленина
[426ИГ/,г. Нж .iCJf ул. Советская, 111
Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
2000
ББК Ю3(2)6
УДК 1(47+57)(091)
Е17
1
И. И. Бвлампиев.
Е17 История русской метафизики в XIX-XX веках. Рус-
ская философия в поисках абсолюта. Часть I. — СПб.:
Алетейя, 2000. — 415 с.
ISBN 5-89329-281-2
В книге впервые после капитального труда В. Зеньковского
предпринята попытка целостного анализа развития русской фи-
лософии наиболее плодотворного периода ее развития (XIX-
XX вв.). При этом главное внимание обращено на самый прин-
ципиальный аспект воззрений русских мыслителей — на их
представления об Абсолюте и отношениях человека с Абсолю-
том. В первом томе освещены истоки и основные особенности
философствования в России, процесс формирования основных
метафизических концепций в первой половине XIX в.; выявле-
ны принципы новаторской метафизики Достоевского, радикально
порывающей с традициями европейского рационализма, а так-
же развитие этих принципов в философской системе Вл. Соло-
вьева. В дальнейшем проанализированы метафизические осно-
вания экзистенциализма Л. Шестова и Н. Бердяева.
Книга предназначена для всех интересующихся историей рус-
ской философии и русской культуры.
ББК Ю3(2)6
УДК 1(47+57)(091)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ
ISBN 5-89329-281-2 © Издательство «Алетейя» (СПб), 2000 г.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII © И- И. Евлампиев, 2000 г.
9l785893"292817l
Моим дорогим родителям посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследования по истории русской философии, несмотря на их воз-
растающее с каждым годом количество, в подавляющем большинстве
обладают одними и теми же недостатками, свидетельствующими о том,
что пока еще мы очень далеки от объективной оценки главных дости-
жений нашей философской мысли и понимания места нашей нацио-
нальной традиции в европейском и мировом философском процессе.
Самым главным из этих недостатков является отсутствие достаточной
доли критицизма в отношении исследуемого материала, в результате
чего работы на эту тему, как правило, представляют собой слабо систе-
матизированное изложение взглядов отдельных философов (часто вы-
полненное в духе откровенной апологетики), не учитывающее не только
тот факт, что выставляемое на первый план самим автором не всегда
представляет собой самое ценное в его наследии, но даже то совершен-
но очевидное обстоятельство, что широкая популярность мыслителя
не обязательно связана с действительной глубиной его идей. Очень час-
то в сочинениях, претендующих на объективное описание всех глав-
ных этапов развития русской философии, мы видим поставленными
в один ряд фигуры, несопоставимые по их значению в истории, — и та-
кие, например, как Вл. Соловьев и С. Франк; создавшие цельные, слож-
ные и очень оригинальные философские системы, имеющие не только
«региональное», но и общемировое значение, и такие, которые достой-
ны занять место лишь в примечаниях кратких исторических обзоров.
Самое печальное заблуждение, характерное не только для тех, кто
лишь поверхностно знаком с русской философией, но и для профессио-
нально занимающихся ее историей, связано с убеждением в ее прин-
ципиальном отличии от западной философии, в связи с чем мы якобы
не можем оценивать ее с помощью тех же самых критериев и принци-
пов, которые используются в истории западной философии. Начало
этому заблуждению положили русские философы прошлого века, пы-
тавшиеся таким образом подчеркнуть оригинальность своих воззрений
и отмежеваться от некоторых наиболее неприемлемых для них сторон
западной философии — в первую очередь, от западного рационализма
вместе с его тенденцией к отделению философии от религии. Современ-
ные исследователи чаще всего лишь повторяют их утверждения, не
Утруждая себя объективными доказательствами принципиальной
характерности русской философии. На самом деле ситуация гораздо
6 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
сложнее; отношение русской философии к западной повторяет в общих
чертах отношение русской культуры в целом к культуре Западной Ев-
ропы. Здесь можно говорить о своеобразной диалектике взаимовлия-
ния: с одной стороны, начало наиболее яркого периода в истории рус-
ской культуры было связано в эпоху Петра I с прямым заимствованием
форм западной культуры, но, с другой стороны, дальнейшее развитие
привело к радикальному преобразованию этих форм и возникновению
оригинальных культурных традиций, которые не только заняли до-
стойное место в культуре всей Европы, но выступили образцом для под-
ражания и базисом новой общеевропейской культуры. Те же самые
процессы происходили и в философии, однако, в силу более медленно-
го ее развития в России, они не получили окончательного завершения
и прервались в 20-е годы нашего столетия из-за радикального измене-
ния общественной ситуации (что, конечно, в наибольшей степени по-
влияло на сферы культуры, близкие к идеологии). В истории русской
философии мы должны видеть не только ее явно провозглашавшееся
противостояние западной философии, но и совершенно очевидную
(с 20-х годов XIX века) зависимость от последней. Эта зависимость но-
сила чрезвычайно плодотворный характер и приводила не к эпигон-
ству, а к творческому формированию на основе заимствованных идей
собственных оригинальных концепций, которые развивали наиболее
важные тенденции западной философии.
При этом наиболее заметный признак нашей национальной тради-
ции — постоянно подчеркиваемый религиозный аспект философских
исканий — необходимо признать второстепенным фактором, несмот-
ря на все его значение (далеко не всегда позитивное) в жизни и творче-
стве отдельных авторов. Истинный смысл ориентации наиболее про-
ницательных русских мыслителей на создание религиозной философии
заключается в том, что использование религиозных принципов помо-
гало им отражать в своих концепциях мистическое содержание Абсо-
люта, мистический смысл Бытия. Но это содержание и этот смысл не
в меньшей степени были отражены и во всех известных системах за-
падной философии, причем в западной традиции они обычно получали
более адекватное выражение, поскольку уже не были связаны с догма-
тической, церковной религией. В русской философии такого ясного от-
. деления мистического содержания идеи Абсолюта от сковывающей его
догматической формы до конца так и не произошло, и именно в этом,
действительно, заключается ее главная особенность — точнее, ее глав-
ный недостаток в сравнении с западной философией. То положитель-
ное и глубокое, что содержится в религиозности русской философии,
не отделяет ее от западной, — наоборот, сближает с главной традицией
западной философии, идущей из античности и включающей всех круп-
нейших философов XIX и XX веков. Подчеркивая и абсолютизируя ре-
лигиозность русской философии в противоположность западной, мы,
фактически, выпячиваем именно негативные черты этой религиозно-
Предисловие
7
сти, к сожалению, действительно присущие многим русским мысли-
телям, — косный, догматический стиль мышления, вторичность и не-
оригинальность мировоззренческих принципов, абсолютное неприятие
современных тенденций в культуре и т. п.
Настоящая работа представляет собой попытку продвинуться к объек-
тивной оценке ключевых идей и принципов русской философии на осно-
ве рассмотрения ее как естественной и органичной части европейской
философии и при четком осознании общей идейной почвы русской и за-
падной мысли. В силу очевидной невозможности осветить все аспекты
философского мировоззрения и всех более или менее интересных мыс-
лителей автор ограничил круг своего внимания одной наиболее прин-
ципиальной проблемой и только теми философами, которые сумели
создать наиболее самобытные и цельные системы взглядов. Централь-
ное значение проблемы Абсолюта в русской философии почти не требует
доказательств. Она концентрирует в себе почти все главные ее харак-
терные черты: в ней отражается позитивное содержание ее религиоз-
ности; через нее осмысливается сущность человеческого бытия и ре-
ализуется своеобразная форма антропоцентризма, родственного соот-
ветствующей традиции западной философии, но и отличного от этой
традиции; в ней обнаруживается основание для особого отношения
к истории и к задачам человека в истории, характерного для нашего
национального сознания. По отношению к этой проблеме легко вы-
страивается и главная линия преемственности — от достаточно хаотич-
ных, но уже наполненных глубокими идеями размышлений Чаадаева
до детально проработанных и отмеченных высокой культурой мысли
систем С. Франка, Л. Карсавина и И. Ильина. Представленные в книге
имена, конечно же, далеко не исчерпывают всего наследия русской
философии, однако другие ее представители не попали в этот ряд либо
потому, что не претендовали на создание достаточно общих мыслитель-
ных систем, ограничиваясь решением частных проблем, либо потому,
что значительно проигрывали упомянутым по уровню философской
глубины.
Особое внимание в книге уделено мыслителям XX века, и это не слу-
чайно; в эту эпоху русская философия вышла на тот же уровень разви-
тия, что и современная ей западная философия, и, кроме того, именно
в это время произошло окончательное формирование основ совершен-
но нового общеевропейского мировоззрения, радикально изменяюще-
го наши представления о себе самих и своем месте в бытии. К этому
новому мировоззрению европейская философия шла весь XIX век,
и свой важный вклад в этот процесс внесла и русская общественная
мысль — прежде всего в лице Ф. Достоевского. Анализ последнего и са-
мого плодотворного периода развития нашей философской традиции,
охватывающего первую половину XX века, уже совершенно невозмож-
но проводить, не учитывая единство европейской философии. Те поиски,
которые вели в своих трудах самые талантливые мыслители России,
8 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
непосредственно соотносятся с поисками крупнейших мыслителей Ев-
ропы — А. Бергсона, В. Дильтея, Э. Гуссерля, Г. Риккерта, Э. Кассире-
ра, М. Хайдеггера и др. Поэтому сравнение и параллельный анализ
взглядов западных и русских представителей нового мировоззрения —
это необходимое условие правильного понимания достоинств и недо-
статков русской философии и правильной оценки ее главных достиже-
ний. В данной книге перспективы такого исследования только намече-
ны, и при этом основное внимание в рамках проводимых параллелей
уделяется двум центральным фигурам, в творчестве которых новое ми-
ровоззрение получило наиболее детальную разработку, — С. Франку
и М. Хайдеггеру. Именно анализ взглядов Франка, наиболее талант-
ливого представителя русской философии XX в., предвосхитившего
движение к «новой онтологии» в западной метафизике, нагляднее все-
го опровергает тезис об изолированности русской философии и каком-
то «особом» ее характере в сравнении с западной.
Не претендуя на окончательные оценки и суждения, автор все-таки
надеется, что его исследование поможет разрушению нелепого стерео-
типа, сложившегося в отношении к русской философии XIX - начала
XX века (по традиции называемой «религиозной»), в соответствии с ко-
торым для одних она выступает как скопище давно отживших свой век
заблуждений, ничего общего не имеющих с современными поисками
человеком смысла своего бытия, а для других — как православная ико-
на, в своей благости и святости также бесконечно далекая от наших
сегодняшних проблем.
Работа над книгой осуществлялась при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, за что автор приносит Фонду свою
искреннюю признательность.
Санкт-Петербург
Введение
ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТА
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
Вопрос о сущности того начала, из которого проистекает и от кото-
рого зависит бытие мира и человека, неизменно являлся центральным
для философии во все эпохи ее развития. Более того, желание найти
такое начало появляется гораздо раньше самой философии и восходит
к глубоким истокам человеческой культуры. Идея единства мира —
это одна из первых и самых важных идей рождающегося человеческо-
го сознания; уже в мифологии мы находим две существенно различ-
ные формы осмысления этого единства. Наиболее простым его выра-
жением является представление о едином происхождении вещей и все-
го мира в целом; в этом случае все вещи оказываются «родственными»
друг другу, поскольку в конечном счете происходят из одного перво-
источника, от одного «прародителя». Наряду с этим в мифологии при-
сутствует и другое понимание единства мира. Мировоззрение первобыт-
ного человека в значительной степени основано на убеждении, что вещи
в каждое мгновение своего бытия охвачены некоей мистически-маги-
ческой связью, определяющей возможность их мгновенного влияния
друг на друга (что является основой магии).
Философия возникает в результате решающего внедрения рацио-
нальных элементов в мировоззрение, и это, в частности, приводит к то-
му, что начало мира, Абсолют, обосновывающий все явления, осознает-
ся как нечто обособленное и отдельное от самих явлений. Рациональное,
философское мышление основано на расчленении целого, на выделе-
нии отдельных явлений и обособлений, их причин и следствий, с тем
чтобы проследить однозначные зависимости между явлениями. В этом
контексте представление о единстве мира превращается в особый прин-
цип, постулирующий наличие особого среза реальности, существую-
щего независимо от каждого отдельного явления и от всей их совокуп-
ности. Более конкретное обоснование и развертывание этого принципа
оказывается возможным на двух противоположных направлениях,
непосредственно связанных с двумя указанными выше формами отра-
жения единства мира в мифологии.
10 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Во-первых, начало мира может быть понято как нечто аналогичное
всем обособленным явлениям, из него происходящим; во-вторых, оно
может быть определено как нечто противоположное всему конкретно-
му и отдельному и «несоизмеримое» с ним. Различие этих двух под-
ходов обусловило различие западной и восточной философских тради-
ций. Уже в ранней греческой философии мы находим первый из них;
он был абсолютно естественным для греческой культуры с ее внимани-
ем к конкретности и «многоцветности» окружающего бытия. Наобо-
рот, второй подход оказался господствующим в восточной философии,
особенно в философии Древней Индии, устремленной в своих поисках
Абсолюта за грань видимого, реального мира. Впрочем, обе тенденции
очень редко проводились в чистом виде; в содержательных философ-
ских системах каждая из них причудливо взаимодействовала с проти-
воположной. Так, у индийцев можно найти следы представлений
о единстве мира, основанном на причастности всех вещей конкретно-
му материальному субстрату; это проявляется, например, в использо-
вании понятия «пуруша». Пуруша — это праматерия, единое телесное
начало, названное именем космического человека, из тела которого,
согласно мифологическим представлениям, произошел весь мир. Точно
так же и в греческой философии (например, у Парменида, затем у нео-
платоников) мы находим представление о сверхчувственном, мистиче-
ском начале мира, находящемся за пределами всего реального и кон-
кретного.
Однако преимущество греческой философии перед индийской мож-
но видеть как раз в том, что она сумела более гибко совместить обе про-
тивоположные тенденции, оставаясь все-таки ближе к первой из них.
В то же время индийская философия и весь Восток в целом так и оста-
лись в рамках «мистического» понимания мира. Это позволило восточ-
ным мыслителям очень глубоко осознать, мистически «прочувство-
вать» идею абсолютного единства мироздания, однако при этом была
утрачена определенная мера, и на фоне мистического единства потеря-
лось конкретное, индивидуальное. Мистический Брахман, стягиваю-
щий в единство все бытие, изображается в «Упанишадах» как океан,
в котором бесследно исчезают, растворяются отдельные «капли» — все
явления мирового бытия и все индивидуальные человеческие сознания.
Используя терминологию М. Хайдеггера, можно сказать, что вос-
точное (древнеиндийское) восприятие мира искало уровня «потаенно-
сти» бытия, искало не «открытого», а «скрытого» — того измерения
реальности, к которому необходимо пробиваться через многообразие
существующих вещей и явлений. Наоборот, греки искали «непотаен-
ного», открытого единства, того единства, которое можно обнаружить
в каждом сущем, не уничтожая это сущее, не растворяя его в безбрежно-
сти и неопределенности единого начала. Даже у Платона, который в мак-
симальной степени сблизился с традициями индийской философии,
начало единства не вполне оторвано от многообразного мира явлений.
Введение, Проблема Абсолюта в истории философии И
Оно само несет на себе печать внутреннего многообразия, ибо каждая
идея, подобно соответствующим вещам, обладает относительной само-
стоятельностью и обособленностью по отношению к другим идеям. Еще
в большей степени это справедливо по отношению к Форме форм Арис-
тотеля. И у Платона, и у Аристотеля структура абсолютного начала по-
вторяет в идеальной сфере структуру реального мира, данного чело-
веку в его непосредственном опыте.
Каким же образом, отталкиваясь от многообразия и конкретности
реального мира, можно прийти к «реконструкции» его скрытого един-
ства? Единственный возможный здесь путь заключается в преобразо-
вании мира в форму единства с помощью устранения из него двух уни-
версальных характеристик, лежащих в основе раздробленности вещей
и явлений — характеристик пространства и времени. Этот ход мысли
появляется уже у милетских натурфилософов с их представлением о
едином материальном начале бытия. Ведь полагание единой материаль-
ной основы — это полагание внутри каждой вещи некоторого реально-
го «слоя», в котором снимается различие пространственно-временных
характеристик объектов. Вещь изменяется с ходом времени, но изме-
няется только на уровне конкретного сущего (этой вещи); на уровне
единого материального начала время бессильно что-либо изменить.
То же самое можно сказать о различии сущих: две различные вещи раз-
личны только на уровне их конкретного бытия; на уровне их матери-
альной основы они тождественны и пространственная характеристика
теряет смысл. Впрочем, у милетцев отрицание пространства и времени
носит еще неявный характер, поскольку само материальное основание
полагается существующим в пространстве и времени, — просто разли-
чие пространственных и временных параметров полагается несуще-
ственным для его бытия.
Парменид предлагает другой, более радикальный вариант восхож-
дения к Абсолюту. Он устраняет не только пространственные и времен-
ные характеристики, но и все иные возможные способы различения
вещей. Как уже говорилось, такой радикальный подход к идее единст-
ва оказывается неплодотворным, поскольку при этом уничтожается все
то, что, собственно, требуется свести к единству, — все богатство мира.
Заслуга Платона в истории греческой философии заключается в том,
что ему удалось совместить, казалось бы, несовместимые тенденции
(по крайней мере для индийской философии это оказалось невозмож-
ным) — рациональную «реконструкцию» Абсолюта, основывающую-
ся на познании многообразия конкретной реальности, и мистическое
постижение Абсолюта, выходящее за пределы всего доступного нам
в этом мире.
Мир идей Платона — это как бы «двойник» реального Космоса, ли-
шенный характеристик пространства и времени. Не случайно материя
У Платона тождественна пустому пространству, и нематериальность
12 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
идей в первую очередь означает их внепространственность. Устраняя
пространство и время, мы получаем, например, из множества деревь-
ев, изменяющихся во времени, одно неизменное «дерево» — идею де-
рева. Эта процедура еще не до конца решает проблему « реконструкции »
единства мира. Отдельные идеи в свою очередь должны быть объеди-
нены в некоторую целостность, в некоторое единство. Очевидно, это
достигается переходом от частных, «видовых» понятий ко все более
общим, «родовым» понятиям (идеям) — вплоть до самого общего поня-
тия «Единое». Именно здесь возникает существенная трудность, пока-
зывающая невозможность «построения» Абсолюта только на пути от
многообразия к единству: если формирование родовых понятий еще
можно объяснить простым объединением видовых понятий, т. е. мож-
но рассматривать как объединение всей совокупности вещей, под-
чиненных видовым понятиям, то по отношению к наиболее абстракт-
ным понятиям, а тем более по отношению к математическим понятиям,
это представляется проблематичным. Если образование простейших
идей (родовых понятий) можно объяснить за счет движения мысли
от реального различенного (реальных вещей и явлений) к производно-
му единству, то формирование «высших» идей во главе с идеей «Еди-
ное» необходимо предполагает одновременно, также и противополож-
ное движение мышления — от исходного и абсолютного единства к
многообразию.
Обе эти тенденции неотъемлемо присущи нашему сознанию в его
стремлении «освоить» окружающую реальность. Первую из них мож-
но назвать способностью образовывать понятия, способностью об-
общать. В качестве наиболее ранних ее воплощений в человеческой
культуре можно рассматривать язык и первые орудия труда — все то, что
демонстрирует развивающуюся способность человека в отдельном
материальном предмете или явлении отразить общее (взаимосвязь мно-
гих предметов и явлений). Вторая тенденция связана со способностью
непосредственно «схватывать», «ощущать» абсолютное единство
мира — с тем, что в более поздние эпохи европейской культуры полу-
чило название мистического « чувства». При этом, конечно, речь идет
не о чувстве в обычном значении этого слова, а о фундаментальной спо-
собности сознания, существующей наравне с мышлением, чувством,
волей человека и взаимодействующей с ними. Главное ее отличие за-
ключается в том, что она по самому своему смыслу не может непосред-
ственно проявляться в однозначных и ясных формах, поскольку лю-
бая конкретная форма, именно в силу своей конкретности и ограни-
ченности, не в состоянии выразить всю полноту единства реальности.
Тем не менее эта способность нашего сознания всегда действует в тес-
ной координации с другими его проявлениями и с использованием их
возможностей в «освоении» реальности, особенно во взаимодействии
с рациональным мышлением.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 13
В первобытный период развития человека указанная способность
господствовала в культуре, мистическое ощущение единства мира все-
цело определяло образы мифологического и магического мировоззре-
ния древнего человека. Именно это делает почти невозможным для нас
адекватное восприятие и понимание мифологической культуры, ведь
в нашем мировоззрении и нашей культуре господствуют рациональ-
ные формы, подавляющие, отодвигающие в глубокую тень непосред-
ственное мистическое чувство цельной реальности. (На Востоке это
чувство никогда не было подавлено рациональным мышлением, на-
оборот, оно препятствовало развитию рациональных форм культуры,
что привело к длительному господству мифологии в культуре и миро-
воззрении.)
Возвращаясь к древнегреческой философии, еще раз подчеркнем,
что в системе Платона постижение (мыслительное «построение») Аб-
солюта в равной степени основывается на двух противоположных спо-
собностях сознания, и это сделало философию Платона универсальной
моделью для дальнейшего развития философских представлений об
Абсолюте. Вся последующая история европейской философии пред-
стает как борьба двух направлений в понимании единства реальности,
в понимании того начала, которое обеспечивает это единство. Первое
направление зародилось в философии милетцев, было развернуто во
всей полноте Аристотелем и затем стало главной линией развития но-
воевропейской культуры. Ощущение непосредственного мистическо-
го единства бытия и, соответственно, представление о мистическом Еди-
ном, находящемся выше всех понятийных определений мышления,
в этом направлении были оттеснены на второй план, а на первый вы-
шла рациональная реконструкция единства; это единство понималось
как сложная система взаимосвязей между явлениями, отражаемая
в системе понятий естественных наук и философии.
Второе направление, предтечей которого был Парменид, получило
развитие в неоплатонизме. Его представители усилили в философии
Платона содержащиеся в ней мистические элементы и выдвинули на
первый план идею сверхрационального Абсолюта-Единого, воплоще-
нием, «эманацией» которого предстает весь видимый мир. Позже эта
тенденция проявилась в философии средневековых мистиков (Эриуге-
на, Мейстер Экхарт) и оказала решающее воздействие на формирова-
ние философской системы Николая Кузанского. Впрочем, в эпоху Воз-
Рождения, и особенно у Николая Кузанского, мы обнаруживаем все
возрастающее стремление к новому синтезу двух различных подходов
к Абсолюту. Эта интенция не умирала и в дальнейшем и привела к куль-
минационному пункту в истории новоевропейской философии — к фор-
мированию мистико-рационалистических систем немецкого идеализ-
ма — систем Фихте, Шеллинга и Гегеля.
14 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Упоминание в этом контексте Гегеля кажется странным, посколь-
ку гегелевская философия до сих пор очень часто рассматривается как
завершение линии европейского рационализма, т.е. того направления,
которое было связано с первой из рассмотренных тенденций в понима-
нии Абсолюта. Однако, не вдаваясь пока в детали, отметим, что с точ-
ки зрения современных представлений об историко-философском про-
цессе отнесение философии Гегеля всецело к рационалистической
традиции представляется абсолютно неверным. За внешней формой
рационального саморазвития понятий и категорий в гегельянстве
кроется непререкаемый и чрезвычайно богатый мистический опыт.
Поскольку одно из самых убедительных доказательств этому утверж-
дению дал Иван Ильин — самый талантливый русский неогегельянец,
эту тему мы затронем более подробно в главе, посвященной философ-
ским взглядам Ильина.
Как и в античную эпоху, достижение определенного равновесия двух
направлений в философии Нового времени оказалось только эпизодом,
хотя и очень ярким, — дальнейшее развитие вновь осуществлялось
в рамках двух антагонистических направлений. Уже Шопенгауэр на-
рушил неявный баланс «рационального» и «мистического», заложен-
ный в немецком идеализме, в сторону «мистической» составляющей,
которая к тому же была резко противопоставлена рациональности
и стала поэтому иррациональной (а не сверхрациональной). В после-
дующем европейский «мистицизм» (в его наиболее характерном и пря-
мом проявлении) становился все более плоским и неорганичным, не вы-
держивая наступления торжествующего сциентизма. От позитивизма
и марксизма до современных форм лингвистической, аналитической,
структуралистской, герменевтической, постмодернистской философии
все более и более влиятельным становилось мировоззрение, исходящее
из частностей, из прагматически-реального подхода к окружающе-
му миру. Мистическое ощущение абсолютной цельности бытия было
подавлено этим господством частного и второстепенного.
На этом фоне достаточно ясно выступает первая характерная осо-
бенность русской философской традиции. Плодотворное и самостоя-
тельное развитие русской философии началось в самом конце XVIII -
начале XIX века и сопровождалось активным усвоением достижений
классической немецкой философии, причем особое внимание русские
мыслители уделяли именно тем элементам в системах Фихте, Шеллин-
га и Гегеля, которые были связаны с «мистическим» пониманием Абсо-
люта. Это и стало определяющим для всех наиболее оригинальных и яр-
ких представителей русской философии: все они сознательно ставили
в центр своего философского мировоззрения проблему сущности Абсо-
люта и в решении этой проблемы неизбежно отдавали предпочтение
«мистической* составляющей — «мистической» способности наше-
го духа соединяться с началом бытия. При этом высшая точка раз-
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 1*>
вития русской философии, связанная с деятельностью Вл. Соловьева
и его последователей, определяется стремлением к синтезу двух тен-
денций в понимании Абсолюта, и происходило это в то самое время,
когда в западной философии представление о необходимости такого
синтеза было уже окончательно утрачено. В этом можно видеть не-
преходящее значение русской философской традиции; здесь в оче-
редной раз (после Платона, Николая Кузанского и классической не-
мецкой философии) в истории европейской культуры была предпри-
нята попытка совместить два противоположных подхода к пониманию
единства реальности, две фундаментальные формы отношения созна-
ния к реальности. Чуть позже аналогичная попытка была реализова-
на и в западной философии — в западноевропейском экзистенциализ-
ме \ который во многом повторил ключевые идеи русских философов
конца XIX- начала XX века и многим обязан русской философии это-
го периода.
Пытаясь описать сущность Абсолюта и характер его взаимосвязей
с миром, мы не можем не затронуть еще одну ключевую проблему, кото-
рая в истории философии постоянно сопровождала все попытки осмыс-
лить Абсолют, — проблему особого характера человеческого бытия
и его особых отношений с Абсолютом. Говоря о единстве мира, мы не мо-
жем обойти вниманием, с одной стороны, положение человека внутри
этого единства и, с другой стороны, его роль по отношению к возмож-
ным формам реализации этого единства.
Первый из этих двух аспектов отношения человека и Абсолюта яв-
ляется достаточно понятным, и мы без труда можем описать существо-
вавшие в истории точки зрения на этот предмет. Для досократиков сама
проблема практически отсутствует, поскольку человек воспринимает-
ся как такая же естественная и неотъемлемая часть мира, бытия, как
и все остальные «естественные» предметы и явления. Отношения меж-
ду человеком и Абсолютом становятся проблемой только у Платона,
который и в этом вопросе дал классическую философскую модель, ко-
торая просуществовала вплоть до начала XX века.
Платон впервые ясно осознает инородность человека всему окру-
жающему миру, всей природной реальности, и в этом смысле представ-
ление о человеке как изолированной, обособленной части реальности
является первым и самым важным принципом платоновской концеп-
1 Здесь мы отвлекаемся от споров о «правильном» определении сущно-
сти этого направления и понимаем его в предельно расширительном смыс-
ле, по отношению к которому в это направление попадают такие разные
философы, как К. Ясперс, Л. Шестов, А. Кожев, Ж.-П. Сартр, М. Хайдег-
гер и др. Поскольку формирование и развитие экзистенциализма неотъем-
лемо от развития русской философии, проблема определения его главных
принципов и источников еще будет рассмотрена в дальнейшем.
16 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
ции человека. Вторым принципом является убеждение Платона в том,
что универсальной формой отношения обособленного от мира челове-
ка («человека-атома») ко всему остальному миру является рациональ-
ное познание этого мира. Именно на пути рационального познания
душа, по Платону, обретает утраченное, «забытое» абсолютное знание
и возвращается к единству с абсолютным началом. Впрочем, хотя Пла-
тон отдает явный приоритет рациональной стороне отношений челове-
ка с миром, некоторое ограниченное значение имеет и противополож-
ная, «мистическая» сторона; это значение особенно велико в платонов-
ской теории космического Эроса и в понимании чувства прекрасного
как «тоски» души по идеалу. Наконец, важнейшую роль в платонов-
ской концепции человека играет третий принцип — представление
о резком дуализме души и тела. Нетрудно показать, что он подчинен
первым двум принципам и вытекает из них. Действительно, постули-
руя обособленность человека от окружающего мира, Платон должен
указать основание этой обособленности. И здесь он сталкивается с оче-
видной проблемой: в самом мире мы не находим признаков радикаль-
ной границы, отделяющей человека от остального бытия, наше тело
естественно включено в природу и по своему бытию не слишком от-
личается от бытия природных явлений. Именно в силу последнего до-
сократики делали вывод о том, что человеческая душа (сущность чело-
века) естественно включена в бытие наравне с телом; например, Демо-
крит признает душу, как и тело, состоящей из атомов, а Парменид
утверждает тождество бытия и мышления. Предполагая радикальное
различие души и тела, Платон тем самым обосновывает обособленность
человека, его «подлинного» существа, от всей природной реальности.
Это усложняет представление о единстве бытия; помимо того что в абсо-
лютном начале мира должна быть преодолена раздробленность отдель-
ных природных явлений, в нем также должно быть преодолено и более
радикальное различие между человеком и природой, различие между
душой и телом.
Теоретически возможны два варианта интерпретации этого разли-
чия: либо душа, будучи резко отделенной от тела, в силу этого еще боль-
ше, чем вся природа, удалена от Абсолюта; либо, наоборот, она именно
потому отделена от тела, что уже находится в единстве с Абсолютом.
Первая точка зрения представляется странной и невозможной, по-
скольку человеческое бытие, как правило, мыслится более цельным,
чем бытие окружающего мира, тем не менее она встречается в истории
европейской философии в различных «богоборческих» и радикальных
антропологических системах (например, к ней близка натурфилософия
Леонардо да Винчи1). Платон принимает вторую точку зрения и тем
1 Обоснование этому утверждению дает, например, анализ мировоззре-
ния Леонардо, проведенный А. Лосевым. См.: Лосев А. Ф. Эстетика Воз-
рождения. М., 1978. С. 414-429.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии
17
•Ч
самым задает влиятельную традицию в понимании человека. Однако
созданная им модель отношений человека и Абсолюта, несмотря на свою
простоту и кажущуюся естественность (а может быть, как раз благо-
даря этому), оказалась в некоторых аспектах совершенно неудовле-
творительной.
Душа есть идея. Это центральное положение платоновской антро-
пологии общеизвестно, однако мало кто задумывался над тем, что оно
находится в противоречии с другими принципами философии Плато-
на. Ведь идея — это принцип единства множества вещей материаль-
ного мира, и в этом смысле идея «позитивно* связана с вещами; она
^представляет суть вещей и отличается от них только тем, что лишена
Чо пространственной и временной характеристики. Идея всегда предпо-
^ лагает (хотя бы в возможности) существование совокупности реальных
^° объектов или явлений, составляющих ее «предметную область». В про-
тивоположность этому душа находится в «негативных» отношениях
с телом. Очевидно, душа не есть идея для тела, ибо все человеческие
чЧ тела как объекты физического мира имеют одну и ту же идею, и эта
г идея пребывает в мире идей, а не в земном теле человека. Существует
Vj только один возможный ответ на вопрос «идеей каких материальных
явлений выступает душа-идея? », согласующийся с основами платонов-
N ской философии. Конечно же, душа — это идея всех поступков челове-
ка, всех материальных движений тела. Это позволяет объяснить, поче-
му душа каждого человека иная, чем душа каждого другого (в то вре-
мя как идея человеческого тела едина для всех людей), однако при этом
вся неповторимая сущность человека оказывается сведенной к чисто
внешним, материальным проявлениям, что приходит в противоречие
с исходным стремлением Платона обосновать радикальное различие
души и всего телесного.
В античной культуре отсутствовало столь характерное для нас про-
тивопоставление «внешнего» и «внутреннего» в человеке. Для древних
греков все внутренние качества человека имели значение, только если
они были реализованы через поступки, материально явлены в мире.
Однако все-таки и греки не признавали возможности без остатка свес-
ти человека к совокупности «движений тела». Тем более эту точку зре-
ния невозможно приписать Платону, который впервые сформулировал
идею абсолютной самобытности бессмертной души, ее бесконечного
превосходства над материальным миром. Душа оказывается особой
идеей, резко отличающейся от других идей тем, что она реализует не
только принцип единства мира, но и принцип обособленности челове-
ка как частного феномена в этом мире.
Таким образом, отождествление души с идеей приводит Платона
к Ряду неразрешимых противоречий: душа одновременно и принцип
единства, и принцип обособления; она и выразима через систему «дви-
жений тела», и независима от них; она определяет интимное единство
Удмуртская
Республиканская
научная библиотечка.
им. В. И. Ленина
18 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
человека с Абсолютом и, одновременно, ответственна за свое «отпаде-
ние» от Абсолюта. Именно в силу всех этих противоречий Платон вы-
нужден внедрять в свою философскую концепцию миф о «грехопаде-
нии» души. В результате получается, что человек, с одной стороны, уже
причастен единому началу мира, Абсолюту (поскольку душа есть идея),
но, с другой стороны, — он должен бороться за достижение этого един-
ства, за возвращение души в мир идей.
Конечным источником всех этих противоречий является первый
и самый главный принцип платоновской концепции — представление
о человеке как изолированной части реальности, резко отличающейся
от всей остальной реальности. Первым критиком этого принципа вы-
ступил уже Аристотель (недаром М. Хайдеггер, осуществивший окон-
чательный расчет с платоновской концепцией человека, в своих рабо-
тах активно использовал как идеи досократиков, так и идеи Аристоте-
ля). Он ставит человека в один ряд со всеми остальными вещами,
которые, как и человек, содержат в себе свою идеальную составляю-
щую — форму. Аристотель сглаживает характерное для Платона про-
тивопоставление материального и идеального бытия (напомним, что
Платону оно нужно как раз для обоснования особого статуса челове-
ческого бытия). Форма находится в единстве с материей, в этом смыс-
ле человек, как и каждое сущее, представляет собой целостность, орга-
нически включенную, с одной стороны, в мировое бытие и, с другой, —
в абсолютное начало мира. И именно органическая «встроенность»
человека в мировое бытие обусловливает его особые отношения с Абсо-
лютом. «Форма» человека — его душа — отличается от форм всех
остальных вещей тем, что она повторяет «в миниатюре» целостность
Абсолюта; оборачивая это соотношение, Аристотель утверждает, что
Абсолют есть мировой Разум.
Однако такое отношение человека к началу абсолютного единства
вовсе не означает, что человек обладает особенным значением и какой-
то существенной ролью в структуре этого единства. В этом смысле взгля-
ды Платона и Аристотеля полностью идентичны. И в том и в другом
случае Абсолют (мир идей Платона и Форма форм Аристотеля) суще-
ствует сразу в законченном и полном виде. Изменчивость, развитие,
какая-то динамика — это свойства нашего пространственно-временного
мира, но не Абсолюта. Все, что есть, было или когда-либо будет в на-
шем мире, уже есть, уже дано в Абсолюте. В этом смысле человек зани-
мает по отношению к Абсолюту пассивную позицию, от его творческих
усилий зависит (и то лишь частично) только его собственная, личная
судьба, но не полнота единства, задаваемая Абсолютом. Более того,
даже само его творчество в «низшем» материальном мире является
иллюзией; ничего по-настоящему нового человек создать не может, он
лишь повторяет и воплощает в материи (в пространстве и времени) те4
идеальные образцы, которые вечно пребывают в структуре Абсолюта.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии
19
Здесь возникает еще одно противоречие, которое в равной степени
присуще как концепции Платона, так и концепции Аристотеля (хотя
у Платона оно имеет гораздо более резкую форму). И Платон, и Аристо-
тель полагают, что человек может реализовать истинную форму свое-
го единства с Абсолютом только в результате определенных усилий,
определенной деятельности в мире. Но это значит, что до осуществления
этой деятельности единство мира не было полным, поскольку данный
конкретный человек еще не входил в него в достаточной степени. Пред-
ставление о завершенности и полноте Абсолюта вступает в противоре-
чие с убеждением о необходимости определенных усилий для «вхожде-
ния» человека в «полноту» Абсолюта. И это противоречие тем разитель-
ней, что сам Абсолют и отношения к нему человека понимаются (и Пла-
тоном, и тем более Аристотелем) в духе рациональной тенденции.
Дальнейшее развитие европейской философии было связано с проти-
востоянием двух подходов к проблеме человека. Представители первого
исходили из платоновского принципа, постулирующего обособленность
человека от всей реальности, представители второго — из принципа ми-
стического единства человека и мира; соответственно, по-разному опре-
делялась роль человека по отношению к Абсолюту: первый подход при-
знавал человека несущественной «деталью» на фоне Абсолюта, второй
предполагал, что он играет активную роль в «формировании» единства
мира, предполагал, что без человека, без его творческой деятельности
Абсолют не может существовать как Абсолют, как вся полнота единства
бытия. Сразу же можно добавить, что почти на всем протяжении исто-
рии от поздней античности до начала XX века в европейской философии
преобладал первый подход к пониманию человека и его роли в мире.
Аристотелевское представление о единстве человека с окружающим
бытием в некоторой степени еще сохранялось в неоплатонизме, однако
после возникновения христианства и христианской философии плато-
новский принцип абсолютной разнородности души и тела, выражающий
радикальную обособленность человека от окружающей реальности,
стал почти непререкаемой основой всех философских концепций чело-
века. На первый взгляд, резкое противопоставление человека природно-
му бытию имело целью приблизить человека к Абсолюту, к Богу, утвер-
дить нерасторжимое единство Бога и человека. Однако на самом деле
итог был обратным; в средневековом ортодоксальном христианстве
единство человека с Богом оставалось как бы «потенциальным», не-
окончательным, оно предполагалось достижимым во всей полноте толь-
ко после устранения греховного материального мира, после Страшно-
го суда. Только в одном (но достаточно важном) моменте средневеко-
вая философия продвинулась в сторону понимания более глубокого
единства человека и Абсолюта — в представлении о Боге как лично-
сти. По сути, здесь христианская философия продолжила ту линию,
которая обнаружилась уже у Аристотеля: человек в своей целостности
есть полное и адекватное выражение, «копия» Абсолюта.
20 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Во втором моменте, в представлении о роли человека по отношению
к Абсолюту, средневековая философия в главном направлении ее раз-
вития также не внесла почти ничего существенно нового. Существова-
ние Бога и полнота божественного бытия не признавались ни в малей-
шей степени зависимыми от существования и творческой деятельно-
сти человека. Впрочем, указанная тенденция не была единственной в
рамках христианского мировоззрения; в самых его истоках возникло
совершенно новое (по отношению ко всей предшествующей античной
традиции) течение, которое сделало человека важнейшим активным
центром мироздания. Это течение было связано с гностицизмом и всем
комплексом гностических ересей. В дальнейшем особенности гности-
ческого мировоззрения будут подробно проанализированы (в главе 3),
поэтому сейчас нет необходимости останавливаться на детальном изло-
жении философии античных гностиков II века. Важно лишь отметить,
что гностическая традиция в понимании роли человека в мире оказа-
лась чрезвычайно живучей и очень существенной для формирования
наиболее оригинальных систем европейской философии. С наибольшей
полнотой в средние века и в эпоху Возрождения эта традиция воплоти-
лась в мистической философии М. Экхарта, Николая Кузанского и
Я. Бёме, где прежде всего подчеркивалась роль человека в структуре
реальности, определенная зависимость полноты единства мира, дости-
гаемой в Абсолюте, от творческой энергии человека.
Не менее важным является тот факт, что в мистических течениях
средневековой философии в связи с изменением представления о роли
человека происходило радикальное изменение представлений о самом
Абсолюте. Признание человека творческим элементом реальности,
обеспечивающим единство мира и полноту Абсолюта, приводило с не-
избежностью к приданию Абсолюту качеств становления, развития.
Ведь главное в человеческом бытии, как это утверждал уже Авгус-
тин, — его принадлежность времени; тем более связано с временем
творческое начало в человеке. В связи с этим в мистической традиции
самому Абсолюту, в котором своим творческим началом «соучаство-
вал» человек, придавалась характеристика метафизического развития.
Эта новая черта в понимании Абсолюта была совершенно естествен-
ной для мистической традиции и в другом плане. Поскольку Абсолют
признается пребывающим выше всех рациональных определений, ему
нельзя приписать характеристику законченности, окончательной
данности, ведь завершенность и ограниченность есть основа понятий-
ного определения, т.е. того, что составляет противоположность пред-
полагаемой сущности Абсолюта. Так как Абсолют пребывает выше
определенности и завершенности, невозможно утверждать, что в нем
все уже дано (как в мире идей Платона или в Форме форм Аристотеля);
в нем все, что дано, одновременно становится, претерпевает «абсо-
лютное* изменение. Очевидно, что при этом возникает целая сеть про-
тиворечий, неразрешимых в рамках рационального подхода к описа-
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 2^
нию Абсолюта и его отношений с миром и человеком. В дальнейшем
мы не раз будем возвращаться к этой теме, поскольку она постоянно
звучит во всех оригинальных построениях русской философии.
Рассматриваемое мистическое понимание Абсолюта (и человека)
приобрело развитую форму (превратившись в «мистико-рациональное»
построение) в философии Николая Кузанского. В этом смысле Куза-
нец стал ключевой фигурой в поисках европейской философией сущ-
ности Абсолюта.
Во-первых, само определение истинной философии как «ученого
незнания» показывает, что в системе Кузанца естественным образом
соединяются два подхода к сущности Абсолюта: «понятийно-рацио-
нальный» и «мистический». Рациональное рассуждение, согласно Ни-
колаю, необходимо только для того, чтобы яснее выявить исходные
мистические интуиции Абсолюта. В свою очередь эти мистические ин-
туиции не должны оставаться в своей непосредственности, их необхо-
димо воплотить в систему рациональных понятий и принципов, кото-
рые способствуют постижению всей полноты реальности человеком.
Именно желание построить мистико-рационалистическую систему
заставило Николая выдвинуть на первый план диалектику как осо-
бый метод применения понятий, позволяющий с их помощью выразить
интуитивно-мистический смысл, обретаемый в непосредственном («от-
кровенном») постижении Абсолюта.
Использование этого метода позволило Николаю сформулировать
несколько важных мыслей о положении человека в мире. В платонов-
ской традиции причастность каждой вещи Абсолюту реализовывалась
через ее идею, в этом смысле отдельная вещь не могла быть «носите-
лем» всей полноты Абсолюта. У Николая все по-другому: каждая вещь
причастна полноте Абсолюта и как бы «содержит» Абсолют «в потен-
ции», выражает весь Абсолют в своеобразной, несовершенной форме.
При этом мир несовершенных вещей оказывается не бессмысленной
«копией» Абсолюта (как у Платона), а необходимой реализацией сущ-
ности Абсолюта, ее выражением и раскрытием. В соответствии со сво-
ей сверхрациональной сущностью Абсолют не может оставаться в ис-
ходном «чистом» состоянии, он выше непосредственности и завершен-
ности и реализует свою полноту и свое единство во множественности и
раздробленности материального мира. Естественно, что такое сближе-
ние Абсолюта и материального, пространственно-временного мира ве-
дет Николая к представлению о метафизическом «развитии» Абсолю-
та, о «пополнении его полноты». Здесь выясняется значение человека.
Человек в своем творчестве, направленном на вещи окружающего мира,
выявляет сущность Абсолюта, потенциально заложенную в каждой из
этих вещей. Творчество человека оказывается естественной частью не-
прерывного процесса творения мира Абсолютом, того процесса, в ко-
тором Абсолют реализует себя, т. е. становится подлинным Абсолю-
том. Творчески преобразуя земную вещь (хотя бы, например, в своем
22 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
зрительном восприятии, как это делали живописцы эпохи Возрожде-
ния), человек претворяет ее в символ новой, несуществовавшей ранее
полноты Абсолюта.
Таким образом, Николай Кузанский впервые дает развернутое фи-
лософское обоснование мысли о предельной значимости человека в до-
стижении единства реальности, в становлении Абсолюта. Однако при
этом он не вносит существенных изменений в центральный принцип тра-
диционной концепции человека. Хотя противопоставление души и тела
существенно ослабевает в философии эпохи Возрождения, в том числе
у самого Кузанца, все-таки и здесь продолжает подспудно господство-
вать концепция «человека-атома», изолированного от окружающей ре-
альности и только внешним образом соотносящегося с ней. Хотя, соглас-
но Кузанцу, в каждом творческом акте человек поднимается до полно-
ты Абсолюта и тем самым «соединяется» со всем бытием, он все-таки
поднимается к этому состоянию из состояния ограниченности и обо-
собленности, и именно это последнее определяет все его бытие.
Идеи Николая Кузанского не имели непосредственного продолже-
ния в философии XVI-XVIII веков, вплоть до начала XIX века он оста-
вался «забытым» философом. Этот период был связан с дальнейшим раз-
витием платоновской концепции человека. Характерное выражение
представление о разделенности мира и человека находит себе в фило-
софии Р. Декарта, в теории двух субстанций. Понятие субстанции при-
дало роковую завершенность традиционной концепции человека. Суб-
станция как causa sui, как самодостаточное начало, замкнутое на себя
и не имеющее выходов «вовне», — это апофеоз образа человека, пони-
маемого как нечто изолированное от мира. Человеку удобно понимать
себя как маленькую, но завершенную и целостную в себе часть мира.
Развитие человека в этом случае предстает как простое «развертыва-
ние» , актуализация того внутреннего содержания, которое уже содер-
жалось в нем вечно. В этом смысле окончательный итог традиционной
концепции человека подвела философия Лейбница. Очень характер-
но, какое значение здесь приписывается времени. Время оказывается
вторичной характеристикой, не связанной с самой сущностью челове-
ка, не являющейся конструктивным началом человеческого бытия.
Время определяет развертывание знаний внутри монад-субстанций, оно
является формой внутреннего созерцания, связано с частичностью,
ограниченностью конкретного человека. При этом для человека откры-
та перспектива освобождения от своей частичности и ограниченности,
а значит, и перспектива освобождения от времени; «абсолютный чело-
век» Лейбница — Бог, верховная монада — не обладает этой характе-
ристикой, но пребывает в вечности и неизменности.
Лейбницевская концепция монад-субстанций, доведя до логическо-
го завершения платоновскую традицию в понимании человека, одно-
временно выявила и ее ключевые противоречия, корни которых лежат
в главном ее принципе.
Введение, Проблема Абсолюта в истории философии 23
Невозможно отрицать, что человек — это уникальное существо,
отличающееся от всего мирового бытия и занимающее особое поло-
жение в бытии. По сути, вся история философии (а в более широ-
ком смысле и вся история культуры) — это непрерывная цепь по-
пыток понять смысл человеческого бытия, его радикальное отли-
чие от всего остального в мире. Однако специфика традиционной
концепции заключается в том, что здесь самостоятельность чело-
века понимается в рамках аналогии с пространственным разли-
чием элементов мирового бытия — как обособленность, отделен-
ностъ от целого, выражающаяся, в первую очередь, в обособлен-
ности и частичности человеческого тела. Однако пространственная
самостоятельность тела не выражает всей полноты самобытности че-
ловека; именно поэтому возникает представление об идеальной
душе, существующей наряду с телом. Исходная пространственная
аналогия продолжает господствовать и здесь, это приводит к тому,
что самобытность души по отношению к телу и ко всему мировому
бытию понимается в пространственном смысле. Душа предстает
как радикально отделенная от мирового бытия сущность. В этом слу-
чае и возникает самая главная проблема традиционной концепции,
на решение которой были направлены основные силы философской
рефлексии, — проблема возможности познания мира. Единственное
последовательное решение этой проблемы, найденное уже Платоном,
заключается в признании того, что знание о мире извлекается чело-
веком из глубин своей собственной души. Предельно последователь-
ное развитие этой идеи неизбежно ведет к абсурду, что и происходит
в философии Лейбница.
Если, с одной стороны, душа совершенно изолирована от реально-
сти как таковой и, с другой — получает знание о мире из своих идеаль-
ных глубин, то тогда становится непонятной функция самого мира,
реальности в акте знания. Знание, которое душа черпает из себя, ста-
новится знанием ни о чем. Возникает кричащее противоречие между
необходимостью существования чего-то «внешнего», ограничивающе-
го человека и противостоящего ему, и явной невозможностью полагать
это «внешнее» куда-либо кроме внутреннего идеального содержания
Души. Вся объективная реальность как бы «засасывается» внутрь
субъекта, оказывается таким «внешним», которое целиком поглоще-
но «внутренним». Это наглядным образом выявляется в философии
Лейбница; осмысленной остается только сама граница, проведенная
между субъектом и реальностью, содержание же реальности самой
по себе «испаряется».
Очень похожий характер имеет и субъективный идеализм Беркли.
Как и у Лейбница, у Беркли душа понимается как сущность, изолиро-
ванная от всего «внешнего», но самого «внешнего» — мира — просто
нет. То, что мы называем миром, целиком охватывается сиюминутным
24 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
состоянием души. Различие между Лейбницом и Беркли заключается
только в том, что у первого душа изначально обладает всей полнотой
знаний, в то время как у последнего эти знания вкладываются мисти-
ческим образом в душу Богом.
Именно против такого устранения внешнего мира, реальности вне
человека была направлена философская «революция» Канта. В целом
оставаясь в рамках все той же модели человека, он пытается восстано-
вить в правах объективную реальность. Соглашаясь с традиционным
представлением об «обособленности» человека, Кант соглашается и
с тем, что практически все в нашем знании определяется деятельно-
стью самого сознания (его априорными формами). Однако, выделяя
в человеческом сознании сферы практического разума и способности
суждения, Кант тем самым задает возможности непосредственного кон-
такта души с реальностью за пределами сферы рационального позна-
ния. Стремление Канта к ограничению пределов разума особенно важно
в связи с тем, что это ограничение проводится самим разумом. В резуль-
тате возникает не антагонистическое противостояние разума и ир-
рациональной интуиции (как это часто происходило до Канта), а их
естественное взаимодополнение. Впрочем, Кант не довел до конца эту
тенденцию своей философии. Сама сфера иррационального (сверхра-
ционального) контакта с реальностью осталась разделенной на две разно-
родных составляющих (моральное и эстетическое), а их единство с ра-
циональной сферой сознания — не до конца проясненным.
Очень важным для дальнейшего развития новых представлений
о человеке оказался тот анализ времени, который провел Кант. Его ито-
гом стало понимание гораздо большей роли времени в структуре чело-
веческого бытия; однако в конечном счете и здесь позиция Канта ока-
залась недостаточно радикальной, поскольку анализ времени про-
изводился только в сфере теоретического разума, т. е. в сфере, где
происходит развертывание содержания знания; в сфере иррациональ-
ного контакта с реальностью время для Канта отсутствует.
Существенный пересмотр оснований платоновской модели челове-
ка был продолжен и другими представителями немецкой классической
философии. Фихте, на первый взгляд, вновь доводит традиционную
концепцию до той предельной формы, которую она имела у Лейбница.
Ликвидируя кантовскую вещь в себе, Фихте, казалось бы, вновь ли-
шает субъекта какого-либо контакта с объективной, независимой от
него реальностью. Однако система Фихте оказывается весьма далекой
от системы Лейбница. Принципиальным здесь оказывается различе-
ние абсолютного и относительного субъекта. Тем самым частично
разрешается главное противоречие, возникавшее в философии Лейбни-
ца: с одной стороны, каждая монада изолирована от остальной реально-
сти, но с другой, — чтобы познание было возможным, необходимо по-
местить всю реальность внутрь познающего субъекта. У Фихте каждое
из этих утверждений относится к разным субъектам: второе — к абсо-
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 2«3
лютному, первое — к относительному. Относительное «я» по-прежнему
остается ограниченным, конечным, изолированным от остальной реаль-
ности; но одновременно, как преломление и реализация абсолютного «я»,
оно оказывается и «творцом» этой реальности (именнореальности как
таковой, а не только знания о ней, как это было у Лейбница).
Таким образом, через понятие абсолютного субъекта Фихте про-
возглашает глубокое единство мира и человека, причем это единство
осуществляется не в рациональной сфере знания, а в иррациональной
сфере самого бытия. Этот очень важный сдвиг в исходных принципах
превратил Фихте в одного из самых ранних предшественников той но-
вой модели человека, которая возникла в начале XX века. Однако у са-
мого Фихте этот аспект все-таки не стал ведущим, в результате он так
и не смог окончательно преодолеть недостатки традиционного пред-
ставления о человеке. Сформулированное выше ключевое противоре-
чие философии Лейбница превратилось у Фихте в противоречие отно-
шений абсолютного и относительного субъекта. С одной стороны, тож-
дество относительного и абсолютного «я» лежит в основе всей системы
Фихте; это означает, что каждый из нас не замкнут в себе, но, являясь
источником мирового бытия, един с ним. Однако, с другой стороны,
совпадение абсолютного и относительного «я» Фихте признает только
идеалом, целью деятельности относительного «я»; в этом смысле един-
ство эмпирического субъекта с миром только потенциально, в то вре-
мя как его отделенность от мира актуальна. Философия Фихте предель-
но двойственна. С одной стороны, она продолжает (и даже в определен-
ном смысле усиливает) традиционную концепцию человека: через
абсолютизацию понятия субъекта происходит замыкание человека
внутри своего собственного мира, внутри знания о себе самом. Но, с дру-
гой стороны, через понятие абсолютного субъекта и через полагание
метафизического тождества абсолютного и относительного (эмпириче-
ского) субъекта Фихте намечает новую перспективу — перспективу
«размыкания» человеческой субъективности на мир, полагания един-
ства человеческого духа и реальности. Человек оказывается при этом
онтологически первичным элементом реальности, по отношению к ко-
торому только и можно ставить вопрос о бытии объектов и их единстве
в Абсолюте.
Противоречие этих двух тенденций — главное внутреннее противо-
речие философии Фихте. Тот факт, что Фихте активно выдвигает на
первый план понятие субъекта, показывает, что в конечном счете пер-
вая тенденция оказалась для него непреодолимой и господствующей,
вторая же осталась не вполне развитой. Она получила дальнейшее раз-
витие в философии Гегеля.
В понимании человека Гегель делает существенный шаг вперед.
Ключевое значение здесь имеет тезис Гегеля о необходимости понять
Дух одновременно и как субстанцию, и как субъект. После Канта уста-
новилась традиция использовать понятие субстанции для описания
26 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
реальности, противостоящей человеку в познании и самодостаточной
в этом смысле, а понятие субъекта — для описания человека, его со-
знания. Субъект не может быть субстанцией, поскольку его определе-
ние включает необходимость открытости «внешнему» воздействию
(воздействию вещи в себе). Субъект — это центр активности, но эта
активность «опирается» на «внешнее», в этом смысле она несамодос-
таточна. Недаром М. Хайдеггер позже увидел в кантовском понятии
трансцендентального единства апперцепции признание непосредствен-
ного отношения субъекта к бытию как таковому1.
Требование Гегеля вновь соединить понятия субъекта и субстанции
в этом контексте означает необходимость понимания духа одновремен-
но и как всей полноты реального бытия, и как человеческой субъектив-
ности, отражающей, схватывающей (в познавательной, эстетической,
этической форме) это бытие. При этом само использование термина
«дух» становится не вполне адекватным; по существу, в гегелевской
системе это понятие приобретает иной смысл по отношению к тому,
который был принят в традиционной концепции человека, начиная
с Платона. В традиционном понимании дух определяется исключитель-
но через противопоставление его материи, как нечто замкнутое, само-
достаточное; понятие духа есть адекватное выражение изолированно-
сти человека от остальной реальности.
У Гегеля все наоборот. Абсолютный Дух, Абсолютная Идея — это
само бытие в его полноте. По сути, Гегель радикально меняет привыч-
ное понимание духа; употребляя тот же термин, он вкладывает в него
совершенно иной смысл в сравнении с традицией, идущей от Платона.
Точнее, он акцентирует внимание на той стороне платоновской концеп-
ции, которая оставалась в тени после Платона. У Платона дух, идея —
это одновременно и нечто противостоящее вещам, материи, и истин-
ное бытие вещей, то, что «обеспечивает» сущее бытием (об этом очень
хорошо писал Хайдеггер в работе «Европейский нигилизм»2). В фило-
софии средних веков и позже развивалась исключительно первая тен-
денция платонизма. Для Гегеля более важной оказывается вторая (это
есть и у Фихте). Именно дух представляет собой подлинное бытие, ко-
торое целостно, связно, в котором нет изолированных друг от друга
частей и состояний (и которое глубоко иррационально по своей сути3).
Однако Гегель также не смог провести до конца эту новую тенден-
цию. Утверждая, что Дух полагает свое инобытие, Гегель возвращает-
ся к традиционной концепции человека. Здесь вновь проводится гра-
1 См.: Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии // Хайдеггер М. Время и бы-
тие. М., 1993. С. 370-374.
2 См.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время
и бытие. С. 154-162.
3 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога
и человека. СПб., 1994. С. 68, 232-234.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 27
ница между человеком (подлинным в человеке — его сознанием, его
субъективным духом) и миром (природой, телесным началом). Прав-
да, у Гегеля указанная граница оказывается достаточно прозрачной,
условной. Задача духа в том и состоит, чтобы преодолеть ее, доказать
ее несущественность. И в отличие от Фихте, у которого эта цель явля-
лась «запредельной», недостижимой в эмпирическом времени, Гегель
считает ее достижимой, причем реализуемой внутри эмпирического
времени (это убеждение выражено в «Философии истории» и «Филосо-
фии права»). Тем самым эмпирическое время впервые становится не
просто существенной, но ключевой характеристикой человеческого
духа1. До Гегеля время понималось главным образом как негативная
характеристика в отношении духа — оно обозначало неспособность
духа реализовать ту цель, которая в вечности, в метафизическом пла-
не уже реализована в Абсолюте. У Гегеля время приобретает позитив-
ное значение, через него осуществляется в реальности то, что еще толь-
ко предзадано в Абсолюте. Более того, в этом случае сама «предзадан-
ность» уже не столь существенна, время оказывается и источником,
и причиной реализации метафизической цели. В этом смысле наибо-
лее экстравагантная идея Гегеля — о том, что именно в его философии
Абсолютный Дух достигает цели своего развития — на самом деле очень
естественна и крайне необходима для всей гегелевской системы. Она
выполняет роль эмпирической гарантии реализации целей духа в эм-
пирическом времени. Такая гарантия нужна именно в силу того, что
метафизическая «гарантия» уже не вызывает доверия; эмпирическое
время становится самостоятельным и важнейшим определением духа,
по отношению к которому метафизические постулаты и предвосхище-
ния не играют решающей роли. Они превращаются в метафизические
гипотезы, подтверждение или опровержение которых относится к реаль-
ному течению эмпирического времени.
После Гегеля проблема времени становится центральной в филосо-
фии человека. Из непосредственных предшественников новой модели
человека необходимо еще отметить С. Кьеркегора. В его философии
анализ конкретного человеческого бытия, экзистенции, опирается на
представление о фундаментальности временной характеристики этого
бытия. Смысл уникальности человека и его сущность — это его вре-
менность. Непредсказуемость, иррациональная свобода человеческо-
го выбора составляет, по Кьеркегору, главное отличие, главное досто-
инство человека перед лицом не только безжизненной природной ре-
альности, но и перед лицом Бога. Однако, подчеркивая значимость
характеристик временности и иррациональной свободы для определе-
ния специфики человеческого бытия по отношению к бытию мира,
Кьеркегор все-таки остался приверженцем представления о «человеке-
1 См.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога
и человека. СПб., 1994. С. 239, 251-252.
28 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
атоме», отделенном от мирового бытия. Для того чтобы стало возмож-
ным действительно новое понимание человека, окончательно порыва-
ющее с традиционной концепцией, нужно было не только выдвинуть
на первый план характеристику времени, но и преодолеть убеждение
в отделенности человека от мира — отделенности, понимаемой в рам-
ках механистической аналогии части и целого.
Впервые оба этих момента были соединены вместе в философии
А. Бергсона, который и должен по праву считаться первооткрывате-
лем основных принципов новой философской модели человека.
Все главные аспекты новой концепции присутствуют в известной
книге Бергсона «Материя и память» (1896). Прежде всего Бергсон раз-
облачает традиционное убеждение, характерное для практически всех
философских систем Нового времени, о том, что в процессе познания
(или даже в процессе элементарного восприятия мира) человеческое со-
знание порождает некие идеальные «дубликаты» предметов, пребыва-
ющих неизменными в реальности вне человека. Это убеждение явля-
ется совершенно естественным следствием традиционной концепции
человека, поскольку проведение границы между человеком как «час-
тью» и остальным миром как «целым» делает невозможным непосред-
ственное тождество сознания с реальностью. Бергсон высказывает
прямо противоположную точку зрения. Опираясь на исследования
психологических механизмов памяти, он приходит к выводу, что со-
ставляющий основу сознания акт представления есть просто некото-
рое особое отношение внутри всей системы реальных явлений, кото-
рое определенным образом выделяет одно из явлений на фоне осталь-
ных1. Тело человека в этом случае оказывается просто «точкой
отсчета», по отношению к которой производится выделение в самой ре-
альности и самой реальностью одного из ее элементов.
В качестве наглядной иллюстрации такого понимания сознания
можно привести процедуру выделения одной точки в трехмерном про-
странстве. Любая точка в пространстве может быть выделена и зафик-
сирована только через систему отношений, определяющих ее положе-
ние относительно заданной точки — начала системы координат. Такая
процедура ничего не меняет в бытийственном статусе выделяемой точ-
ки, просто внутри пространства как некоего единства возникает допол-
нительная система отношений, «маркирующая» указанную точку.
Аналогичный смысл имеет процедура фиксации сознанием познава-
тельного «представления». Существование представлений «внутри»
сознания в качестве независимых «двойников» реальных объектов есть
не более чем иллюзия. Представление, наличное в сознании, на деле есть
сам реальный объект; статус представления он получает за счет осо-
1 См.: Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х т.
Т. 1.М., 1992. С. 169-173.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии 29
бых отношений, возникающих внутри самого бытия и связанных с те-
лом человека только постольку, поскольку тело является центром этой
системы реальных отношений (как бы началом системы координат).
Именно такая интерпретация представлений окончательно разрушает
традиционную « атомистическую» концепцию сознания и возвращает фи-
лософию к гениальным прозрениям досократиков: к Гераклиту, говорив-
шему, что «пределов души не найдешь, исходив и все ее пути — так глу-
бока ее основа», к Протагору, утверждавшему, что « человек есть мера всех
вещей», и Пармениду с его тезисом о тождестве бытия и мышления.
Однако разрушая представление о человеке как «части» мира, сформу-
лированный Бергсоном принцип тождества сознания и реальности застав-
ляет заново решать проблему особого характера человеческого бытия. Если
выделенность человека нельзя интерпретировать в рамках простейшей ана-
логии «часть—целое», то необходимо придать ей иной смысл. Бергсон
применяет другую аналогию; он моделирует отличие человеческого бы-
тия от бытия мира образом третьего измерения, господствующего над
плоскостью1. Причем принципиальным моментом концепции Бергсона яв-
ляется отождествление этого «третьего измерения» с временем, понимае-
мым как целостная, неделимая и невыразимая количественно длитель-
ность. Самое главное в человеке для Бергсона — это память. Мировое бы-
тие обладает только «сиюминутной» связностью, это и есть пространство;
существуя в вечном «теперь», мировое бытие не обладает «глубиной» вре-
мени, каждое новое состояние «теперь» абсолютно отделено от «прежде»
и «затем». В пространственном бытии нет прошлого и будущего. Значение
человеческого бытия как длительности, как подлинного времени в том
и состоит, что оно связывает все последовательные состояния мирового бы-
тия и тем самым обеспечивает полную связность и цельность реальности.
Идеи Бергсона носили революционный характер и стали принци-
пиальной основой дальнейшего анализа человеческого бытия в фило-
софии XX века. Однако его философская концепция обладала рядом
существенных недостатков. Во-первых, Бергсон придал ей явный от-
тенок биологизма, что несомненно снижало ее философское звучание
(особенно это заметно в книге «Творческая эволюция»). Во-вторых, он
слишком резко противопоставил друг другу пространственное миро-
вое бытие и временное, чисто качественное бытие человека, в резуль-
тате чего его система приобрела явный дуалистический оттенок, пре-
одолеть который ему до конца так и не удалось. И, наконец, в-третьих,
Бергсон не смог ответить на вопрос, который оказался предельно
характерным для возникающей новой философской модели человека:
если человек является центральным элементом реальности, обес-
печивающим ее связность, почему он столь несовершенен, почему он
1 См.: Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х т.
т- 1.М., 1992. С. 255.
30 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
не является Богом, почему мы не видим явных признаков его цент-
рального положения в бытии? Бергсон не смог создать по-настояще-
му цельной метафизической концепции, однако значение его идей в
том, что он дал детальное обоснование (в том числе и с помощью по-
следних достижений естествознания) главным принципам этой новой
концепции.
Завершенную форму новая метафизическая модель человека, окон-
чательно порывающая с платоновской традицией и провозглашающая
«возврат к бытию», обрела в философии М. Хайдеггера, задавшего тра-
дицию, которая, по всей видимости, продолжит свое плодотворное раз-
витие и в следующем столетии европейской истории.
Таким образом, в европейской философии от Платона до Гегеля и его
последователей происходила скрытая борьба двух тенденций в пони-
мании человека, в понимании отношений человека с миром и с Аб-
солютом. С одной стороны, в течение более чем двух тысяч лет гос-
подствующую позицию в философии и в целом в культуре занимала
концепция «человека-атома», предполагающая радикальную отделен-
ность человека от всего мирового бытия. При этом человек в его отно-
шениях с Абсолютом признавался чисто пассивным, и его творческая
деятельность не рассматривалась как важный момент в структуре Аб-
солюта. С другой стороны, на фоне этой господствующей тенденции
периодически проявлялась и получала все большее развитие противо-
положная точка зрения, в соответствии с которой человек представал
как естественная составляющая мирового бытия и Абсолюта, причем
творческая деятельность человека в мире выступала как основопола-
гающий элемент в реализации единства мирового бытия, в «построе-
нии» Абсолюта (или, по крайней мере, в выявлении всей полноты его
сущности). При этом, как правило, философы, разделявшие эту пози-
цию, одновременно были близки к «мистическому» направлению в по-
нимании самого Абсолюта (это справедливо, например, для Николая
Кузанского, Фихте, Шеллинга и даже для Бергсона1).
Чуть раньше мы уже выделили одну характерную черту русской
философии — ее тяготение к «мистическому» пониманию Абсолюта.
Теперь можно сформулировать еще одну. Выдвигая на первый план
помимо проблемы сущности Абсолюта также и проблему сущности че-
ловеческого бытия, русская философия решала эту проблему в соот-
ветствии с принципом глубокого единства мира и человека и при этом
придавала первостепенное значение человеческой деятельности в ре-
ализации всей полноты Абсолюта. Естественно, что последняя идея
1 Значительно сложнее утверждать эту взаимосвязь для Хайдеггера,
однако и у него она может быть прослежена, особенно в поздних работах,
где он говорит об «измерении Священного» в бытии. Подробнее об этом
будет говориться в главе, посвященной философии Семена Франка.
Введение. Проблема Абсолюта в истории философии JU
вела к представлению о * незавершенности» Абсолюта, его своеобраз-
ной зависимости от человека и его деятельности в мире. Поскольку
сформулированная черта русской философии является своеобразным
преломлением той традиции в понимании человека, которая идет от
античного гностицизма, можно сказать, что русская философия в сво-
их наиболее характерных проявлениях выступает как оригинальный
и самобытный синтез мистической и гностической традиций евро-
пейской философии.
Детальному доказательству и конкретизации этого тезиса и будет
посвящено дальнейшее изложение.
Глава первая
ПОИСКИ САМОБЫТНОСТИ
§ 1. Проблема начала русской философии
Приступая к анализу истории русской философии, мы прежде все-
г0 сталкиваемся с проблемой ее «начала». Представляется, что наибо-
лее точной и аргументированной в данном вопросе является точка зре-
нй# В. Зеньковского, высказанная в его известном труде по истории
русской философии. Согласно Зеньковскому, собственно о философии
в россии можно говорить только применительно к эпохе конца XVIII -
начала XIX века, а первым философом в подлинном значении этого сло-
ва должен быть назван Григорий Сковорода1/
Обосновывая свою точку зрения, Зеньковский утверждает, что су-
ществование философии как особой сферы национальной культуры
св#зано с выделением ряда характерных проблем и совершенно опре-
деленного набора понятий и методов, предназначенных для фиксации
и решения этих проблем. В России наличие этих факторов становится
оче0идным только в указанную эпоху; в духовной культуре предше-
ствующих эпох мы находим лишь отдельные элементы философии,
не складывающиеся в целостную картину.
Пытаясь понять причины столь позднего выделения сферы фило-
софского мышления, Зеньковский использует мнение Г. Федотова,
полагавшего, что это связано с достаточно поздним принятием хрис-
тианства и с особым характером его развития на Руси. Как утверждает
Федотов, приняв христианство в его восточной традиции и почти сразу
осуществив перевод Библии на национальный язык, Русь сделала не-
возможным адекватное восприятие античной культуры и одновремен-
но оградила себя от влияния формирующейся западной культуры, в ко-
торой философия играла весьма существенную роль2.
1 См.: Зеньковский В. Б. История русской философии. Т. I. Ч. 1. Л.,
1991-С. 64.
2 См.: Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г. П. Судьба
и грохи России. Т. 1. СПб., 1991. С. 72-75.
Глава 1. Поиски самобытности
33
Усвоение средневековой Западной Европой античной философской
традиции привело в конечном счете к отделению философии от рели-
гии. В России, напротив, христианское мировоззрение, принятое по
инициативе государственной власти и все время тесно взаимосвязан-
ное с государственной идеологией, подчинило себе все остальные сфе-
ры культуры, которые могли развиваться только под контролем рели-
гиозной догмы. Особенно резко это сказалось на развитии философии,
которая традиционно была наиболее близка к сфере религии. Не обла-
дая своим понятийным аппаратом и своим набором проблем, философ-
ская мысль была целиком ассимилирована догматическим богослови-
ем и развивалась почти исключительно внутри этой сферы.
Поэтому совершенно естественно, что в России философия появи-
лась именно изнутри богословия и только в тот момент, когда, с одной
стороны, в обществе стала нарастать тенденция к секуляризации куль-
туры, возникло стремление к освобождению от всеобъемлющего конт-
роля и влияния религиозного мировоззрения и, с другой стороны, ко-
гда, наконец, было воспринято наследие античной философии, соеди-
нившееся с усвоением идей новоевропейской философии. В этом смысле
совершенно закономерно, что Григорий Сковорода был выходцем из
Киево-Могилянской академии, являвшейся в то время главным цент-
ром изучения и распространения древних языков и античной фило-
софии. Не менее характерно и то, что вся жизнь Сковороды прошла под
знаком скрытой борьбы с духовным господством Церкви, за право на
внутреннюю свободу, свободу ищущей мысли.
И в дальнейшем развитии русской философии эти черты, обуслов-
ленные особенностями ее происхождения, оставались столь же харак-
терными. Мы постоянно обнаруживаем в ней одновременно и внутрен-
нюю связь с православием и церковной традицией, и попытки преодо-
леть зависимость от богословия — как правило, на путях поисков «истин-
ного смысла» христианского мировоззрения; а также постоянное,
почти «детское» увлечение теми идеями, которые возникали в более
«зрелой» западноевропейской философии. О последней черте русской
философии будет идти речь в дальнейшем, а сейчас попытаемся глуб-
же проанализировать первую из отмеченных черт, — попытаемся по-
нять смысл тех противоречивых отношений, в которых философия в
России находилась с православием и православным богословием. Для
этого необходимо обратиться к X веку, к ключевому событию в исто-
рии Древней Руси — к принятию ею христианской веры.
§ 2. «Диссонансность» русской культуры
Необычность процесса христианизации Руси заключалась в двух
факторах. С одной стороны, христианство было в определенном смыс-
ле «навязано» народу, поскольку акт его принятия был определен во-
лей правителя, а не сформировался в виде органичного устремления
народных масс. Однако, с другой стороны, ситуация здесь была суще-
2 Чнк. 3424
34 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
ственно иной, чем в тех случаях, когда народу навязывалась вера завое-
вателей, силой покоривших страну. Князь Владимир, обращая свой
народ в христианство, пытался сознательно выбрать религию, отвечав-
шую внутренним интенциям народного духа. Осознанность и осторож-
ность этого выбора косвенно подтверждается полулегендарным свиде-
тельством «Повести временных лет», согласно которому Владимир дол-
го колебался, сравнивая между собой религии, в равной степени
утверждавшие веру в единого Бога, но по-разному трактовавшие смысл
отношений между Богом и человеком. Предполагая, что Владимир вы-
брал православие не под влиянием вторичных факторов (например,
внешней «красивости» богослужения), а в силу глубокого духовного
родства между национальным мировоззрением и основами правосла-
вия, можно утверждать, что ситуация принятия Русью христианства
выглядит очень многозначительной и, возможно, уникальной в исто-
рии. Народ, целиком принадлежащий языческой культуре, привер-
женный ценностям земной жизни, земной красоты и земного счас-
тья, — этот народ через своего правителя, в соответствии с какими-то
бессознательными коллективными импульсами выбирает религиозное
мировоззрение, в котором с особой полнотой выражено мистическое
чувство единства человека с Богом, с высшей реальностью, жажда
вечной гармонии и абсолютного совершенства.
Именно эти черты отличают православие от католицизма, в кото-
ром идея единства с Богом предельно ослаблена и на первый план вы-
ходит принцип подчинения, зависимости от Бога, бесконечной ничтож-
ности человека перед лицом Бога (в еще большей степени в этом мо-
менте православие отличается от иудаизма и ислама). Мистическое
чувство слияния с Богом отвергается католицизмом как опасный путь
к ересям, а идея возможного абсолютного совершенства в Боге и с Бо-
гом признается за слишком дерзкую для несовершенного, бренного
человека.
Необычный способ принятия христианства вызвал поляризацию
отношения к нему в народе. С одной стороны, мы обнаруживаем посто-
янное отторжение христианских идеалов в пользу языческих ценно-
стей, отрицание идеальных целей ради земной, чувственной жизни.
Но в то же время уже в первые века христианской истории Руси мы
находим страстное принятие веры, страстное стремление к полному об-
ретению в вере ее целей — мистического единства с Богом и абсолют-
ной гармонии.
Первоначально указанная оппозиция проявляла себя в резком про-
тивостоянии исконных языческих верований и новой религии. Одна-
ко в силу того, что оба слагаемых были глубоко созвучны каким-то глу-
боким чертам национального характера, эта внешняя оппозиция очень
скоро преобразовалась во внутреннее противоречие той своеобразной
формы православного христианства, которая стала основой всего даль-
нейшего развития русской нации и русской культуры. Если сравнить
Р гава 1. Поиски самобытности 35
русское православие с его греческим «оригиналом», то мы обнаружим,
что в исходной версии православного мировоззрения главным являет-
ся спокойное и уравновешенное исповедание, прозрение грядущей гар-
монии мира и человека. Приоритет идеи гармонии является наиболее
характерной чертой греческой культуры, имеющей исток в античной
классике. Именно греческая классика породила непререкаемые образ-
цы гармонических, уравновешенных форм, с помощью которых Визан-
тия сумела «перебороть» и преобразовать в спокойные и умиротворен-
ные религиозные интенции даже тот заряд страстного стремления к
единству с Богом, который был характерен для раннего христианства.
В противоположность этому в русском православии исходный им-
пульс христианской страстности (полностью подавленный в католициз-
ме рассудочным анализом) был вновь раскрепощен и, соединившись
с языческим любованием природой, с убеждением в ценности матери-
ального мира, привел к существенно иному мировоззрению, в котором
главным оказалось не столько исповедание грядущей гармонии, сколь-
ко острое ощущение реальной дисгармонии, несовершенства земного
мира и в то же время страстное желание немедленного преображения
этого мира к полному совершенству и гармонии. Как писал В. Зень-
ковский, «мы имеем здесь дело с мистическим реализмом, который
признает всю действительность эмпирической реальности, но видит
за ней иную реальность; обе сферы бытия действительны, но иерархи-
чески неравноценны; эмпирическое бытие держится только благодаря
"причастию" к мистической реальности. В том и состоит теократиче-
ская идея христианства, что она утверждает необходимость просвет-
ления всего видимого, всего эмпирического через связывание его с ми-
стической сферой, — все историческое бытие, все в жизни личности
должно быть освящено через это преображающее действие Божией
силы в эмпирической сфере...»1
Указанная черта национального характера была связана с взаимо-
действием резко противоположных, но неразделимых интенций куль-
туры и привела к появлению в ней глубоких внутренних противоре-
чий, «диссонансов». В силу этого русскую культуру можно условно на-
звать культурой «диссонансного» типа. Для того чтобы сделать более
ясным смысл этого понятия, необходимо в общих чертах воспроизвес-
ти типологию культуры, которая была развита в одной из предшествую-
щих работ автора2.
В своей метафизической сущности культура может быть понята как
Форма синтеза двух метафизических полюсов реальности, по отношению
к которым существует человек. С одной стороны, человек причастен
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1.4.1. С. 39-40.
См.: Евлампиев И. И. На грани вечности. Метафизические основания
культуры и ее судьба // Метафизика Петербурга. Петербургские чтения по
Теории, истории и философии культуры. Вып. 1. СПб., 1993. С. 7-24.
36 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
временному, преходящему бытию, иррациональной сфере распадаю-
щихся, обособленных явлений. Но, с другой стороны, ему непосред-
ственно открыта и противоположная сфера реальности — сфера абсо-
лютного бытия, сфера вечности, неизменных ценностей. Это положе-
ние между сферой времени и сферой вечности составляет главный
смысл нашего существования. Можно сказать, что человек является
связующим звеном между сферой вечности и сферой времени, между
Абсолютом и иррациональным временным становлением; метафизи-
ческое предназначение человека заключается в том, что он осуществ-
ляет синтез этих полюсов реальности и тем самым определяет своим
бытием структуру реально существующего мира. И если реальный
мир — это итог, результат указанного синтеза, то процесс его осуще-
ствления это и есть человеческая культура.
В этом синтезе акценты могут быть расставлены по-разному, и это
определяет различие метафизических типов культуры. Прежде всего
здесь можно выделить культуры типа «вечности» и типа «времени».
В первой из них главным оказывается проникновение в сферу Абсолюта,
в сферу абсолютных ценностей, в то время как противоположная сфера
игнорируется или полностью подчиняется сфере вечного. Наиболее ха-
рактерный пример здесь дает древнеегипетская культура.
В культуре противоположного типа, наоборот, главным для чело-
века оказывается сфера временного, иррационального становления,
в то время как связь с Абсолютом теряется или игнорируется. Такая
культура полностью ориентирована на сиюминутное, преходящее, в ней
господствуют формы, связанные с временным становлением, слабо при-
способленные к сохранению и трансляции в истории. Такой характер,
по всей видимости, носила загадочная крито-микенская цивилизация.
По известным нам данным, определяющее положение в критской куль-
туре занимали такие жанры, как музыка, танец, спортивные соревно-
вания, целиком ориентированные на выявление временного становле-
ния и придание ценности только самому становлению, самому време-
ни. Особый характер этой культуры неоднократно отмечался ее ис-
следователями. «Критское искусство, — пишет, например, Б. Р. Вип-
пер, — обращается не к разуму и не к воле зрителя, а к его чувствам
и настроениям... По сравнению с Древним Востоком и Грецией крит-
ское искусство хочется назвать романтическим, или эмоциональным...
Тема критского искусства — весь мир, включая маленькую раковину
или колеблемое морским ветром растение. Критское искусство по-
священо вообще не столько человеку, сколько всей натуре, пейзажу»1.
При этом главная особенность художественного метода критского ис-
кусства — это «чрезвычайно острое чутье динамики, потребность в дви-
жении, в смене»2.
1 Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М., 1972. С. 17-18.
2 Там же. С. 35.
глава 1- Поиски самобытности 37
Однако и в культуре типа «вечности», и в культуре типа «времени»
человек не осуществляет во всей полноте той задачи, которая «постав-
лена» перед ним самим бытием. В них нет подлинного синтеза метафи-
зических полюсов реальности; поэтому культура типа «вечности» ока-
зывается культурой мертвящего оцепенения и безжизненности, куль-
турой неподвижности и смерти — смерти не как прекращения жизни,
а как ее отсутствия, а культура типа «времени» — культурой безвоз-
вратных утрат, само существование которой эфемерно и недолговечно
и которая безвозвратно гибнет в потоке того иррационального станов-
ления, который она пытается освоить. В этом смысле подлинное раз-
витие человека и его культуры начинается только там, где осуществ-
ляется реальный синтез полюсов вечности и времени, где время из ир-
рационального становления преобразуется в историю, обладающую
внутренней логикой и связностью, а сфера вечности, сфера Абсолюта
преобразуется в систему относительно устойчивых ценностей земной
жизни человека.
Впервые ясные и органичные формы такого синтеза, приводящего
к гармоническому соединению, слиянию сфер вечности и времени, мы
находим в культуре Древней Греции, которую можно назвать культу-
рой «гармонического» типа. Она породила абсолютные и непререкае-
мые в своей цельности и естественности творческие формы, именно по-
этому все эпохи и все народы в поисках адекватных образцов для свое-
го развития неизменно обращались к наследию классической Греции.
Однако несмотря на предельную гармонию и предельную органич-
ность синтеза полярных начал времени и вечности — а точнее, именно
в силу этой предельной гармонии и органичности синтеза, — греческая
культура обладала определенным и весьма существенным недостатком:
она оказалась лишенной внутренней динамики, внутренних импуль-
сов к развитию, поскольку принцип гармонии, принцип синтеза про-
тивоположностей подавил в ней стремление ко все более глубокому
проникновению и в сферу иррационального становления, и в сферу
Абсолюта. Культ «меры», проходящий через всю греческую культуру
эпохи классики и сохранившийся (правда, уже в существенно ослаб-
ленной форме) даже в греческом православии, приводил к тому, что
культура в большей степени повторяла найденную однажды гармонию,
просто транслировала ее в новые исторические эпохи, а не пыталась
углубить восприятие метафизических противоположностей бытия.
Все новое и оригинальное, что мы находим в последующие (эллинисти-
ческий и византийский) периоды развития греческой культуры, свя-
зано с активным влиянием на нее менее гармоничных и потому более
Динамичных культур Древнего Востока.
Еще один ясно очерченный тип культуры, резко отличающийся как
от культур типа «времени» и «вечности», так и от культуры «гармониче-
ского» типа, характеризуется предельно развитой способностью к освое-
нию обеих полярных сфер: и сферы иррационального становления,
38 Я. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и сферы Абсолюта, сферы вечности. Неуклонное стремление ко все бо-
лее глубокому проникновению в эти сферы приводит к тому, что куль-
тура оказывается не в состоянии осуществить по-настоящему гармо-
ничное соединение своих «прозрений», в ней господствуют полярные
тенденции, часто не поддающиеся достаточно ясному осознанию и вы-
ражению, но придающие ей непредсказуемость, динамичность. Это и есть
культура «диссонансного» типа.
Характерный пример такой культуры дает Древний Рим (другой
яркий пример — древнееврейская культура; о ней речь пойдет чуть
позже). В отличие от греков римляне никогда не знали культа «меры»,
умеренности, недаром вместо уравновешенных и гармоничных зрелищ,
подобных греческому театру, римляне предпочитали кровавые глади-
аторские бои, а самобытное религиозное мировоззрение римлян, вос-
ходившее к загадочным этрускам, обладало гораздо большей мисти-
ческой глубиной, чем совершенные формы греческой религии, нашед-
шей адекватное выражение в образах олимпийских богов. Пример
Древнего Рима особенно характерен тем, что здесь мы обнаруживаем
наглядную иллюстрацию возможных направлений развития «диссо-
нансной» культуры. Обладая предельным внутренним динамизмом,
«страстностью» и в то же время не имея естественных форм для соеди-
нения своих полярных интенций, такая культура, как правило, вынуж-
дена претворять свой внутренний динамизм в формах внешней экспан-
сии, пространственного расширения, захвата. Именно такой была рим-
ская культура на раннем этапе своего развития.
Однако она же демонстрирует и другой вариант развития. После
завоевания Греции Рим обнаружил в классических формах греческо-
го искусства и греческой религии те образцы гармонического синтеза
времени и вечности, которых так не хватало самой римской культуре.
Дальнейшая история Рима наглядно показывает, что одной из важней-
ших особенностей культуры «диссонансного» типа является ее способ-
ность творчески ассимилировать достижения культур «гармоничного»
типа и за счет этой ассимиляции порождать бесконечное богатство но-
вых форм, в которых с гораздо большей глубиной отражаются прозре-
ния двух полярных сфер бытия. Действительно, оригинальные формы
римской культуры, такие как римский скульптурный портрет, рим-
ская архитектура, лирика и роман, стали наиболее выразительными
и глубокими достижениями всей античной культуры, основанной на
совершенных, но более холодных и «поверхностных» формах греческой
классики. Обладая значительно большим запасом внутренней динами-
ки, культура «диссонансного» типа при соединении с культурой «гар-
монического» типа приобретает новый импульс к творческому разви-
тию, открывает для себя великое будущее. Именно синтез «гармонич-
ной» культуры Древней Греции и «диссонансной» культуры Древнего
Рима породил уникальный феномен античной культуры, плодотвор-
ное развитие которой охватывает целое тысячелетие и влияние кото-
рой простирается до наших дней.
ргава L Поиски самобытности
39
Послеантичное развитие Европы было связано с новым прорывом
в сферу вечности, в сферу Абсолюта, связанное с возникновением хри-
стианства. На начальном этапе это привело к преобладанию одной «со-
ставляющей», именно поэтому романская культура столь похожа на
культуру типа «вечности» (в частности, на древнеегипетскую). Однако
в главном направлении своего развития европейская культура посто-
янно тяготела к «гармоничному» типу (характернейшими примерами
здесь являются итальянское Возрождение и классицизм), лишь ино-
гда обнажая внутренние «диссонансы» бытия (что было характерно,
например, для барокко и романтизма); впрочем, только для того, что-
бы разрешить их в новой форме органичного синтеза.
Возвращаясь к анализу особенностей русского православия и рус-
ской культуры в целом, теперь можно более точно выразить смысл
высказанного ранее утверждения. В силу своеобразных истоков нацио-
нальной духовности русская культура оказалась резко выраженной
культурой «диссонансного» типа. Языческие корни культуры, опре-
деляющие ее глубокую привязанность к сфере временного, преходя-
щего бытия, соединились с органически усвоенным христианским вос-
приятием Бога, Абсолюта. При этом степень проникновения и в сферу
времени, и в сферу вечности была столь значительной, что глубокие про-
зрения культуры не могли быть полностью «растворены» в их единстве,
не могли быть выражены в достаточно органичных формах. Это и при-
вело к тому, что внутренние диссонансы, внутренние противоречия
оставались главной характеристикой русской культуры на всем про-
тяжении ее развития.
Важнейшие черты, определяющие «диссонансный» характер куль-
туры, конечно же, неоднократно становились объектом внимания рус-
ских мыслителей, начиная с момента обретения ею философского само-
сознания. Впервые точное описание этих черт (с акцентом на их негатив-
ные последствия) дал П. Чаадаев; одновременно основная творческая
парадигма «диссонансной» русской культуры была выражена Пушки-
ным. Чуть позже этот ключевой момент в развитии русской культуры
и русской философии станет предметом детального анализа. Пока же,
несколько нарушая хронологическую последовательность изложения,
приведем слова Н. Бердяева, ясно выразившего «диссонансную» сущ-
ность русской духовности (при этом он проницательно подметил род-
ство национального характера русского и еврейского народа). «Русский
народ, — писал Бердяев, — есть в высшей степени поляризованный на-
род, он есть совмещение противоположностей... По поляризованности
и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом
еврейским. И не случайно именно у этих народов сильно мессианское
сознание... Есть соответствие между необъятностью, безграничностью,
бесконечностью русской земли и русской души, между географией
Физической и географией душевной. В душе русского народа есть та-
кая же необъятность, безграничность, устремленность в бесконечность,
40 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно было овла-
деть этими огромными пространствами и оформить их. У русского на-
рода была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы.
Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как наро-
ды Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений,
он не знал меры и легко впадал в крайности»1.
§ 3. Символизм русской иконописи
Противоречивость, «диссонансность» национального характера
и национальной культуры нашла себе осознанное выражение и осмыс-
ление только в философском сознании XIX-XX веков, однако ее пе-
чать без труда можно обнаружить во всех самых значительных куль-
турных феноменах. Самый ранний период нашей истории оставил мало
письменных памятников, с помощью которых можно было бы точно
реконструировать миросозерцание той эпохи, тем не менее основные ее
черты адекватно отразились в русской иконописи, ставшей символом
первого самостоятельного этапа развития русской культуры.
Проницательный анализ образов русской иконы мы находим в ра-
ботах Е. Трубецкого. Он наглядно показал, что наиболее характерной
чертой восприятия мира, лежащего и в основе русской иконописи, и
в основе самого русского православия, является столкновение двух по-
лярных чувств, двух полярных форм отношения к миру; и это столкно-
вение связано с тем, что сам мир понимается дуалистически, противо-
речиво, как составленный из двух полярных сфер. В русской иконе,
утверждает Трубецкой, «мы находим живое, действенное соприкосно-
вение двух миров, двух планов существования. С одной стороны, поту-
сторонний вечный покой; с другой стороны, страждущее, греховное,
хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование —
мир ищущий, но еще не нашедший Бога»2.
В отличие от греческой традиции, в которой самое главное — это
созерцание законченного, статического совершенства и отстраненность
от реалий земного мира, в русской иконописи главным оказывается
ощущение движения реального, земного мира к миру потусторонне-
му, божественному, страстное желание соединить оба этих мира. Рус-
ский иконописец не верит готовому, уже существующему совершен-
ству, которое противостоит миру, он жаждет совершенства, которое
должно преобразить человека и весь земной мир. Именно поэтому рус-
ские иконописцы с такой неподдельной любовью изображали детали
земного бытия. Более того, во многих случаях черты земного мира
1 БердяевН. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX ве-
ка и начала XX века // О России и русской философской культуре. Филосо-
фы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 43-44.
2 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи //
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 246.
Глава 1. Поиски самобытности 41^
в иконе переносятся даже на божественную сферу, и это подчеркивает
значимость «низшего» мира, даже его равноправие по отношению к ми-
ру вечному и божественному. Трубецкой указывает здесь ряд харак-
терных примеров — изображение узнаваемой русской дуги на конях,
уносящих пророка Илью в небо, русский, даже крестьянский облик
святых, покровительствующих земледельцам1, и характерное исполь-
зование земных красок в изображении божественной сферы: «поту-
стороннее небо для них (иконописцев. — И. Е.) окрашивалось много-
цветной радугой посюсторонних, здешних тонов»2. Особенно ясным
свидетельством необычного для христианского мировоззрения любо-
вания здешним, земным миром выступает в иконописи вера в земную
идиллию любви. Однако признание возможности совершенной земной
любви сочетается с решительным требованием к принесению ее в жерт-
ву ради любви высшей, сверхземной3. В результате главной состав-
ляющей иконописи оказывается не спокойная уверенность в грядущем
спасении и грядущей гармонии, а искание гармонии; и эта «динамиче-
ская составляющая» иконописи преобразуется в образах некоторых ее
персонажей в «драму встречи двух миров»4.
Здесь проявляется наиболее характерная черта мировоззрения « дис-
сонансной» культуры — трагическое восприятие мировой истории
и судьбы человека в мире. Трубецкой полагает, что наиболее вырази-
тельным примером этого в русской иконе становится образ Иосифа-
пастуха, мужа Марии, который не может подняться выше искушения
неверия. «В лице Иосифа иконопись угадала не индивидуальную, а об-
щечеловеческую, мировую драму, которая повторялась и будет повто-
ряться из века в век, доколе не получит окончательного разрешения
трагическое столкновение двух миров, ибо она — всегда одна и та же...
С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное, все сводя-
щее к плоскости здешнего. А с другой, противоположной стороны, вы-
ступает то мистическое мирочувствие, которое видит в мире и над ми-
ром великое множество сфер, великое многообразие планов бытия и
непосредственно ощущает возможность перехода из плана в план»5.
Именно отсюда, от обозначенного в иконописи противостояния двух
«мирочувствий» идет та традиция мучительного «испытания Бога»,
мучительного поиска веры, которая пронизывает русскую культуру
вплоть до трагических исканий Достоевского.
Не менее ясную характеристику русской культуры дает проводимый
Трубецким сравнительный анализ структур русского и византийского
1 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи.
с- 273, 247-248.
2 Там же. С. 250.
3 Там же. С. 259.
4 Там же. С. 257.
5 Там же. С. 261.
42 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
храмов. «Круглый византийский купол выражает собою мысль о сво-
де небесном, покрывшем землю; глядя на него, испытываешь впечат-
ление, что земной храм уже завершен, а потому и чужд стремления к че-
му-то высшему над ним. В нем есть та неподвижность, которая выра-
жает собою несколько горделивое притязание, ибо она подобает только
высшему совершенству. Иное дело — русский храм; он весь — в стрем-
лении»1. Противоположность между «горделивым притязанием» на
высшее совершенство и острым чувством разорванности бытия, невоз-
можности немедленного соединения несовершенного земного мира и
мира божественного составляет главное различие «гармоничной» и «дис-
сонансной» культуры — различие, которое определяет статичность,
а иногда и «застойность» первой и вечное искание, неустранимый ди-
намизм второй.
Завершая анализ истории развития русской иконописи, Трубецкой
констатирует, что расцвет XIV-XVI веков сменился духовным упад-
ком конца XVI-XVII века, причем этот упадок коснулся не только ис-
кусства иконописи, но и всей русской культуры. С этим выводом не-
возможно не согласиться. В эпоху конца XVI-XVII века начинается
формирование русской государственности, происходит активное «при-
ращение» земель, становление огромной империи, протянувшейся от-
Балтики до Камчатки. На первый план выходит та же самая импер-
ская тенденция в развитии культуры, которая столь ярко проявилась
в истории Древнего Рима (именно о ней применительно к России писал
в своих работах Бердяев). Внутренний динамизм культуры из духовной
сферы переместился во внешнюю, материальную и привел к истоще-
нию ее духовного потенциала. В этот период российской истории про-
явились все самые худшие черты нашей «диссонансности». Стремле-
ние к внешнему, имперскому могуществу полностью подавило спо-
собность к порождению или хотя бы заимствованию естественных,
гармоничных форм; даже то, что было создано, «отвоевано» у времени
за два века сосредоточенного духовного развития, оказалось потерян-
ным* бездарно растраченным, просто уничтоженным. Символом этого
периода русской истории стала допетровская Москва — патриархаль-
ная, фанатично православная, но далекая от духовного «горения» пра-
вославия XIV-XVI веков, — Москва, с легкостью разрушающая до-
стояние прошедших эпох и неспособная породить что-либо новое и пло-
дотворное. Именно этой Москве адресованы горькие слова Трубецкого
об упадке той духовной культуры, которая породила феномен русской
иконописи XIV-XVI веков.2
Поворотным пунктом в нашей истории, вновь направившим русскую
культуру на путь плодотворного развития, стали реформы Петра I.
1 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи.
С. 276.
2 Там же. С. 265-266.
Глава 1. Поиски самобытности
43
§ 4. Петровская эпоха — подлинное начало
Культура московской Руси, несмотря на ее достижения, пришедшие-
ся на XIV-XVI веков, оставалась «провинциальной» культурой, усту-
павшей по своему богатству более развитым культурам Западной Евро-
пы. Внутренний потенциал, ярко проявившийся в иконописи, не полу-
чил дальнейшего развития и был подавлен другими — поверхностными
и внешними — интенциями. Как было сказано, главным выражением
внутренней динамики культуры стало стремление к имперскому могу-
ществу; это в свою очередь привело к радикальным изменениям в сфере
религиозной жизни. Утрата или отсутствие развитых и гармоничных
стереотипов для выражения религиозных прозрений при наличии силь-
ной мистической традиции привела к подмене искренней и глубокой
религиозности фанатичной и внешней, чисто обрядовой формой веры.
Две эти составляющие — жажда имперского могущества и преоб-
ладание фанатичной, внешней религиозности — представляют собой
как бы «ложные» формы синтеза времени и вечности в « диссонансной»
культуре, не находящей для себя естественных и «истинных» культур-
ных образцов. В них происходит предельное огрубление и «овнешне-
ние» тех глубоких прозрений, которые характерны для народа, творя-
щего « диссонансную» культуру. В имперской идее тонкое и проникно-
венное чувство эмпирического бытия, земной природы упрощается
до элементарного желания захватить, подчинить себе всю сферу этого
бытия — весь мир, всю землю. Аналогичным образом в религиозном
фанатизме глубокое мистическое «познание» Бога и его бесконечного
содержания подменяется бессмысленной страстью к исполнению фор-
мальных обрядов, из которых испаряется подлинная глубина и искрен-
няя вера. Такие способы выражения внутренних устремлений культу-
ры « диссонансного» типа являются гораздо более простыми и требуют
гораздо меньше духовных «сил», чем создание по-настоящему значи-
мых культурных памятников; итог этого направления развития — по-
рождение огромных империй и редких по своему фанатизму форм ре-
лигиозной веры.
Негативному варианту развития противостоит позитивный: осу-
ществляя взаимодействие с другими культурами, заимствуя у них раз-
витые образы синтеза времени и вечности, «диссонансная» культура
становится плодотворной и оставляет неизгладимый след в истории.
Выразительный пример как первого, так и второго варианта дает исто-
рия еврейского народа. На протяжении огромного периода история
древних евреев определялась взаимодействием двух обозначенных век-
торов: имперского и религиозного. Причем имперская составляющая
культуры постепенно отошла на второй план (хотя никогда не исчеза-
ла полностью) и была подчинена религиозной, фанатизм которой
(вспомним, например, историю Авраама) стал непререкаемым «мас-
штабом» для всех более молодых и более «гармоничных» культур и
религий. Этот вектор развития настолько подавил противоположную
44 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
тенденцию, связанную с восприятием чужих, гармоничных культур-
ных форм, что привел к полному обособлению, добровольной изоля-
ции народа, — сохранившейся даже после гибели его собственного госу-
дарства. В этом смысле столкновение Рима и Иудеи в античную эпоху
было столкновением двух «диссонансных» культур, развитие которых
шло в противоположных направлениях. Одна через реализацию им-
перской идеи в ущерб религиозной (вспомним постоянные обвинения
в утрате «веры отцов», звучавшие в сенате поздней республики) и за-
тем через активную ассимиляцию чужих культурных образцов при-
шла к расцвету, к раскрытию всех содержащихся в ней потенций; дру-
гая — из-за абсолютного господства религиозной идеи обрекла себя
на длительное культурное бесплодие.
Однако не менее выразителен тот факт, что многие непреходящие
достижения еврейского народа оказались связанными как раз с обре-
тенной им способностью ассимилироваться в чужую культурную сре-
ду, со способностью принять чужую культуру как свою собственную,
для того чтобы через ее формы выразить собственные импульсы дина-
мического, творческого развития. Достаточно напомнить, что само
рождение христианства было результатом творческого усвоения еврей-
ской культурой некоторых восточных религиозных течений, для ко-
торых было характерно более гибкое (в сравнении с иудейской верой)
сочетание земных и божественных «составляющих».
Древняя Русь после непродолжительного периода, связанного с вли-
янием на нее Византии, после непродолжительного периода творче-
ского усвоения форм византийской культуры не смогла сохранить этот
вектор развития. Культурный «донор» Руси, Византия, быстро кати*
лась к закату и гибели, а отношения с Западной Европой были враж-
дебными и не способствовали плодотворному взаимодействию. Все это
с неизбежностью вело к преобладанию двух указанных выше интен-
ций^— имперской и фанатически-религиозной. При этом имперская
активность государства была направлена на пространства, где прожи-
вали народы, находившиеся на более низком уровне развития, и их
включение в состав российского государства не могло привести к обога-
щению духовной жизни необходимыми ей элементами.
Роковой перелом наступил в XVI веке. Противостояние двух направ-
лений в развитии русского православия, олицетворяемых Нилом Сор-
ским и Иосифом Волоцким, закончилось победой фанатичного и внеш-
него, обрядового православия — православия, стремящегося к земному
господству у к господству не только над душами, но и над материаль-
ной жизнью людей. Началась эпоха упадка только-только начавшей
обретать самостоятельный голос русской культуры. Расширение госу-
дарства сопровождалось консервацией и упрощением форм обществен-
ной и духовной жизни, воцарением фанатичного верования, в котором
почти исчезла подлинная христианская глубина и стали преобладать
Главе! 1. Поиски самобытности
45
полуязыческие суеверия. Будущее нации могло быть весьма печаль-
ным, если бы не произошло подлинное чудо, и это чудо сотворил один
человек — Петр I.
Решающий поворот, который совершил Петр, заключался в ради-
кальной секуляризации общественной жизни России, причем эта се-
куляризация касалась именно той внешней религиозности, которая
стала характерна для Московского царства XVI -XVII веков. Первона-
чально Петр просто переместил центр тяжести с религиозной идеи на
имперскую; последней были подчинены все сферы общественной жиз-
ни. Но это перемещение потребовало большей открытости общества,
поскольку изоляция Московской Руси привела к общей отсталости
страны и ее неспособности конкурировать в политической и военной
сферах с государствами Западной Европы. Однако, установив тесные
контакты с Европой, полностью сняв все преграды для проникновения
западного влияния в Россию, Петр тем самым вызвал процессы, кото-
рые уже ничего общего не имели ни с имперской идеей, ни с государ-
ственным строительством как таковым.
На первых порах внедрение более развитой западной культуры но-
сило характер полунасильственной «интервенции», заключалось в фор-
мальном, «пространственном» перенесении традиций, культурных
форм и даже просто творцов культуры (мастеров, художников, ученых)
из стран Западной Европы (прежде всего из Голландии и Германии)
в Россию. Понятно, что такая «интервенция» встречала сопротивление,
особенно в народных низах, его следы можно обнаружить даже в рус-
ской культуре XIX-XX веков; наиболее явно оно прослеживается в не-
гативном отношении к феномену Петербурга1. Но, по всей видимости,
Петр своим гениальным чутьем угадал, что процесс культурной «ин-
тервенции» , который у других народов мог привести к утрате самобыт-
ности и длительному застою, для русской нации окажется спаситель-
ным, выведет ее из вековой немоты и оцепенения. Потребовалось всего
около столетия формального принятия образцов и традиций западной
культуры, чтобы это формальное принятие перешло в творческое пре-
ображение. Совершенные образы западной культуры стали тем ката-
лизатором, который раскрепостил духовную динамику русской куль-
туры, подавленную до этого ее имперской и религиозной составляю-
щими.
Заимствуя «гармоничные» стереотипы (в Западной Европе XVII-
XVIII века были веками расцвета « гармоничной » культуры классицизма),
русская культура проявляла свою самобытность в том, что в самих
этих стереотипах выявляла и делала еще более резким противостоя-
ние противоположных тенденций, за счет творческого преобразования
1 См., например, известную статью Мережковского «Зимние радуги»,
содержащую мрачное пророчество о гибели города: «Петербургу быть пус-
ТУ» (Мережковский Д. С. Больная Россия. СПб., 1910. С. 13).
46 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
обнажала в «гармоничных» формах их происхождение из полярных
начал бытия. Заимствованные формы были необходимы творцам рус-
ской культуры только для того, чтобы с их помощью выразить то же
самое поляризованное мирочувствие, которое когда-то было основой
русской иконописи, которое прозревало «последние» истоки человече-
ского бытия и требовало постановки самых главных проблем, связан-
ных с судьбой человека в мире и с судьбой самого мира.
Однозначное и глубокое выражение самобытный характер возрож-
денной русской культуры получил в творчестве Пушкина, который
в этом смысле стал не просто первым в ряду великих художников Рос-
сии, но подлинным пророком, ясно обозначившим главные темы и глав-
ные цели культуры и тем самым определившим все ее дальнейшее
развитие.
§ 5. Пушкин — пророк русской культуры
Эпоха конца XVIII - начала XIX века в Западной Европе была эпо-
хой бурных перемен. С одной стороны, все еще сохранял свое влияние
классицизм — новая версия «гармоничной» культуры; Просвещение
не столько преодолевало стереотипы классицизма, сколько приспосаб-
ливало их к тем задачам, которые составляли содержание просвети-
тельского мировоззрения. Основной «массив» культурной продукции
эпохи в той или иной степени был ориентирован именно на образцы,
созданные классицизмом. Но, с другой стороны, на стыке двух столе-
тий в культуру Европы стремительно ворвался романтизм, сознатель-
но выступивший против умеренности и рациональности классицизма,
попытавшийся обнажить «диссонансы» бытия, показать духовное ве-
личие человека и трагичность его положения в мире.
Классицизм дал русской культуре основу, материал, из которого она
могла строить свои собственные, оригинальные художественные фор-
мы, романтизм же раскрепостил ее дремлющий творческий потенци-
ал, всецело связанный с глубоким пониманием противоречий бытия.
Именно романтизм вызвал бурные процессы в русской культуре, под-
готовленные почти столетием педантичного восприятия классицизма.
Обе составляющих мы находим в творчестве раннего Пушкина.
С одной стороны, он прилежно усваивает приемы классицистской по-
эзии и в этом усвоении, в этом ученичестве оттачивает свое поэтиче-
ское мастерство. Но подлинная оригинальность Пушкина, его подлин-
ное творческое «горение» истоком своим имеет увлечение романтиз-
мом. Соединение поэтического мастерства, выработанного на основе
«гармоничных» форм классицизма, и художественного дерзания, раз-
буженного романтизмом, приводит к своеобразной манере пушкинской
лирики.
Очень быстро Пушкин уходит от буквального подражания класси-
цистским и романтическим образцам; он начинает использовать фор-
мы, почти лишенные следов тех заимствований, которые определяли
fJLдва 1. Поиски самобытности
47
его раннее творчество. Особенно показательно, насколько радикально
он преодолевает романтические стереотипы. Этот момент имеет прин-
ципиальное значение не только для понимания творчества Пушкина,
но и для понимания путей развития всей русской культуры, поэтому
на нем необходимо остановиться подробнее.
Для этого прежде всего необходимо дать более точную характерис-
тику западноевропейского романтизма. Поскольку главная интенция
романтизма — это выявление внутренних противоречий мирового бы-
тия и человеческого духа, стремление охватить все многообразие зем-
ной действительности и одновременно стремление познать божествен-
ную гармонию, несовместимую с миром, романтизм, вне всяких сомне-
ний, может рассматриваться как локальная историческая форма
«диссонансной» культуры, как своего рода «отклонение» западноев-
ропейской культуры от основной линии развития. Однако необходимо
подчеркнуть, что это не меняет общей оценки западноевропейской
культуры как культуры в целом более близкой к «гармоничному» типу.
Дело в том, что « диссонансность» романтизма в значительной степени
замыкалась на сферу самого искусства, во многом носила вторичный,
«игровой» характер. Хотя романтики и требовали, чтобы жизнь была
перестроена в соответствии с идеалами искусства, изображаемый ими
идеальный мир мало походил на тот, который они выстраивали в сво-
ей жизни. И исключения в данном случае только подтверждают прави-
ло. Попытка Г. Вакенродера, одного из первых немецких романтиков,
жить по романтическому канону, т. е. жить только искусством и ради
искусства, привела к его ранней кончине и явно доказала несовмести-
мость романтических требований к жизни и самой жизни. Переболев
юношеским «романтизмом», пройдя свой период «бури и натиска»,
многие романтики пришли к идеалу умеренности и классической
гармонии; наиболее известный пример в этом отношении дает Гете.
Несколько искусственный характер романтизма привел к тому, что он
очень быстро из целостного мировоззрения превратился в чисто фор-
мальный метод, применяемый совершенно разными художниками для
достижения совершенно разных целей.
Таковым он стал и для Пушкина. Пушкин очень быстро «перерос»
мировоззрение романтизма, поскольку для него оказалось невозмож-
ным оставаться в рамках «игрового», поверхностного отношения к про-
блемам бытия. Художник, принадлежащий «диссонансной» культу-
ре, обладает особым чутьем на внутренние противоречия, пронизыва-
ющие нашу жизнь, и своей целью он ставит наиболее полное выражение
именно этих реальных противоречий, а не конструирование вторичной
действительности, в которой очень выразительные, но искусственные
противоречия без труда находят себе гармоничное и идеальное (« роман-
тическое») разрешение.
Преодолев романтические стереотипы, Пушкин пришел к новатор-
скому художественному мировоззрению, которое резко отличалось от
господствовавшего в культуре Западной Европы той эпохи. Важнейшим
рубежом в формировании этого мировоззрения является создание «Ев-
гения Онегина», который стал прообразом нового типа европейского
романа. По словам Ю. Лотмана, в основе художественной «формулы»,
созданной Пушкиным в «Евгении Онегине», «лежало представление о
принципиальной невместимости жизни в литературу, о неисчерпаемо-
сти возможностей и бесконечной вариативности действительности»1.
При этом богатство конкретной эмпирической жизни человека при-
знается Пушкиным гораздо более важным, более значимым, чем вся
сфера вечных ценностей. Особенно наглядно этот аспект художествен-
ного мировоззрения Пушкина проявился в его позднем творчестве.
Пушкин глубоко прочувствовал, что полнота и богатство человеческой
жизни происходят из «пограничного» положения человека между ме-
тафизическими полюсами реальности — между разгулом стихийных
сил природы, иррациональным хаосом времени и сферой вечных цен-
ностей, сферой Абсолюта, которая предстает в его творчестве как не-
что окаменелое, надчеловеческое и бесчеловечное, как «кумир», чело-
векоподобная статуя.
Предельной выразительности, по мнению Ю. Лотмана, это представ-
ление о мире и человеке достигает в «Маленьких трагедиях». «Мир
"Маленьких трагедий" — мир сдвинутый, находящийся на изломе...
в котором каждое явление приобретает несвойственные ему черты:
неподвижное движется, любовь торжествует на гробах, тонкое эсте-
тическое чувство логически приводит к убийству, а пиры оказывают-
ся пирами смерти. Но именно разрушение нормы создает образ необ-
ходимой, хотя и нереализованной нормы»2. Именно через такие худо-
жественные парадоксы реализует себя «диссонансная» культура, даже
совершенство и красоту понимающая как идеальные пределы всех тех
противоречий, в которые вовлечен человек. Наиболее точное и лако-
ничное определение соответствующего восприятия дал Рильке (кото-
рый неоднократно подчеркивал близость своего творческого мировоз-
зрения к «мироощущению», характерному для русской культуры):
«прекрасное — не что иное, как то начало ужасного, которое мы еще
способны вынести»3. Такое же точно понимание красоты будет харак-
терно для многих русских художников; особенно известны высказы-
вания Достоевского на этот счет4.
1 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов.
Гоголь. М., 1988. С. 17.
2 Там же. С. 135.
3 Рильке Р. М. Новые стихотворения. М., 1977. С. 430.
4 Ср., например: «Эта ослепляющая красота была даже невыносима,
красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная
красота!» (Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15-ти т. Т. 6. Л., 1989. С. 83).
Эта тема очень значима и для Гоголя, см.: Лотман Ю. М. В школе поэти-
ческого слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. С. 281, 284-285.
Глава 1. Поиски самобытности
49
Душа художника также оказывается носителем невидимых ему са-
мому противоречий. Как тонко замечает Лотман, «в творческом созна-
нии Пушкина 1830-х годов все более обрисовывалось противоречивое
сочетание самого трезвого, свободного от иллюзий... наблюдателя жиз-
ни, ученого... с одной стороны, и, с другой стороны, утописта, в созна-
нии которого постоянно присутствует идеал братского союза людей, их
единения во имя прекрасных идей подлинной свободы, духовного бо-
гатства, веселья и искусства»1. Парадоксальное сочетание духовных
качеств будет уделом всех ведущих представителей русской литерату-
ры, вспомним Гоголя, Лермонтова, Л. Толстого, Достоевского.
Таким образом, именно в творчестве Пушкина обнаруживается не-
посредственное продолжение той оригинальной и плодотворной линии
развития, которая впервые проявилась в русской иконописи. Пушкин
в яркой художественной форме выразил главную черту нашего нацио-
нального характера — противоречивое сочетание и взаимодействие
в нашей духовности двух интенций, двух отношений к миру: «любова-
ния» миром, эмпирической действительностью, ясного ощущения сво-
ей неотъемлемой принадлежности к этой земной действительности
и столь же ясного ощущения высшей гармонии, страстного желания
приобщиться к ней и увидеть весь мир преобразованным в соответствии
с неземным идеалом. Здесь появляется возможность уточнить смысл
понятия «диссонансной» культуры. Нельзя понимать «диссонанс-
ность» только как наличие в образах и формах культуры сплошной ди-
намики и многочисленных противоречий. Эти черты являются чисто
внешними и далеко не всегда связаны с глубоким проникновением в
полярные сферы реальности, с глубоким метафизическим «чувством»
разорванности бытия. Романтизм в большей степени обладал как раз
такой внешней «диссонансностью». Настоящая «диссонансная» куль-
тура в наиболее плодотворной фазе ее развития отличается присталь-
ным восприятием конкретной жизни, конкретного многообразия ре-
альности (что не было характерно для романтизма) и одновременно
особым, полумистическим ощущением высшей гармонии. Такое ми-
ровосприятие и было основой творчества Пушкина.
§ 6. Начало русской философии. П. Чаадаев
Русская культура начала XIX века была уже существенно иной, чем
культура XIV—XVI веков, она не только создала свою художественную
парадигму (в творчестве Пушкина), но уже была способна отрефлекти-
ровать и в явном виде выразить свои задачи и тенденции развития.
Своего развитого самосознания культура достигает в сфере филосо-
фии. Не случайно переломные моменты в развитии многих нацио-
нальных культур связаны с развитием философии, в которой нация
1 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов.
Гоголь. С. 158.
приходит к ясному выражению своего особого мировоззрения. Очень
часто процессы создания основополагающей художественной парадиг-
мы культуры и формирование ее философского мировоззрения прохо-
дят параллельно и взаимно обусловливают друг друга (в качестве на-
глядных примеров можно указать на параллельное формирование ху-
дожественной парадигмы французского классицизма в творчестве
Корнеля и рационалистической философии Декарта, взаимосвязь твор-
ческих исканий Гете и философии Лейбница и т. д.). В русской культуре
философское оформление того мировоззрения, которое лежало в осно-
ве художественной парадигмы, заданной Пушкиным, было осущест-
влено его близким другом Петром Чаадаевым.
Хотя Чаадаев оставил небольшое творческое наследие, значитель-
ная часть которого к тому же оставалась неопубликованной вплоть
до XX века, его идеи оказали решающее воздействие на становление
и развитие русской философии. Он афористически точно выразил все
ключевые проблемы и темы, которые на протяжении более чем столе-
тия находились (в значительно степени находятся и по сей день) в цент-
ре внимания русских мыслителей.
Изложение взглядов Чаадаева, безусловно, надо начать с темы, став-
шей для него «роковой», ставшей причиной той «катастрофы», которая
привела к его долгому молчанию и насильственной изоляции от общест-
венного сознания России. Речь идет об известных мыслях Чаадаева,
касающихся особенностей исторического развития и судьбы России.
Те характеристики, которые дает Чаадаев, — это свидетельство про-
снувшегося самосознания «диссонансной» культуры, после долгого
периода исканий, наконец, обретающей основу для плодотворного и
самобытного развития и с горечью осознающей бесплодность и бессмыс-
ленность всех предшествующих усилий. «Одна из самых прискорбных
особенностей нашей своеобразной цивилизации, — пишет Чаадаев, —
состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в
других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том,
что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадле-
жим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к За-
паду, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы сто-
им как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на
нас не распространялось... В домах наших мы как будто определены
на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи
на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях,
ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим горо-
дам»1. И вот самые главные, горькие, но удивительно точные слова:
«Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения впе-
ред, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное
1 Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Поли. собр.
соч. и избр. письма. Т. 1. М., 1991. С. 323-324.
Глава 1. Поиски самобытности
51
последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной.
у нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; преж-
ние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из
первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем толь-
ко совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые
отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают ум-
ственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созре-
ваем, мы продвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводя-
щей к цели»1.
Трудно дать более адекватное описание «негативного» варианта раз-
вития культуры «диссонансного» типа, обрекшей себя на изоляцию
и тем самым лишенной возможности заимствовать законченные куль-
турные формы. Однако горький пафос Чаадаева, справедливый по от-
ношению к русской культуре предшествующих двух столетий, уже не
соответствовал той ситуации, которая сложилась в России в первые
десятилетия XIX века. Реформы Петра открыли Россию западным влия-
ниям, и к началу XIX века эти влияния уже были претворены в плодо-
творные и оригинальные культурные образцы. Недаром Пушкин, ко-
торый своим собственным творчеством доказывал, что русская куль-
тура преодолела период застоя и начинала новый этап своего развития,
высказал решительное несогласие с оценками Чаадаева. Сама возмож-
ность этих оценок свидетельствовала об огромном прогрессе, в рамках
которого культура достигла понимания своих оснований, своих внут-
ренних интенций и своих прежних ошибок — и тем самым обозначала
путь дальнейшего динамичного развития. Все это в более поздних сво-
их размышлениях признал и Чаадаев: «Провидение пока еще давало
ему (русскому народу. — И. Е.) жизнь лишь для того, чтобы иметь в
его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы про-
явить себя сознательно... мы... имеем вес на земле, но еще не действова-
ли»2. При этом резкость приводимых Чаадаевым оценок, максимализм
в интерпретации национальной истории можно считать своеобразным
выражением огромного творческого потенциала культуры, показате-
лем неутоленного стремления к обретению своего собственного «голо-
са», своей собственной, характерной линии развития. И в то время,
когда Пушкин формулирует «парадигму» этого развития в сфере ис-
кусства, сам Чаадаев задает опорные точки для дальнейшего развития
философии.
Напомним, что творческий потенциал «диссонансной» культуры
определяется ее способностью к одновременному глубокому отражению
и сферы временного бытия, и сферы бытия вечного, божественного,
поэтому выход ее из состояния застоя неизбежно должен быть связан
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 326.
2 Там же. С. 456.
52 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
с развитием и углублением этих полярных сторон мировосприятия.
Подъем национального духа в петровскую и послепетровскую эпоху
был связан с освобождением от фанатичной, внешней религиозности и
выразился в существенной секуляризации общественнотЧ^мсизни. Но,
как это ни парадоксально, результатом стало подлинное раскрепоще-
ние религиозного чувства, которое оказалось в амбивалентных отно-
шениях с церковным православием. С одной стороны, в церковной
жизни сохранилась та традиция, которая препятствовала творческо-
му развитию нации в предшествующую историческую эпоху. Но, с дру-
гой стороны, процесс секуляризации общества, восприятие западных
образцов и расцвет культуры повлиял и на само церковное правосла-
вие, привел к тому, что в нем появилась тенденция к большей искрен-
ности и глубине, наперекор господству внешнего, обрядового испове-
дания, которое восторжествовало после Иосифа Волоцкого.
Все это привело к тому, что главной темой рождающейся русской
философии сразу становится искание подлинного, истинного смысла
христианской веры, того смысла, который лишь частично, в несовер-
шенной форме выражен в историческом русском православии. При этом
разные мыслители будут по-разному относиться к перспективам цер-
ковного православия. На одном полюсе мнений мы находим его пол-
ное отрицание, как ложной формы веры, утратившей то содержание,
которое принесло в мир христианство. На другом — признание абсо-
лютного превосходства русского православия над всеми другими фор-
мами религиозных верований и утверждение его эсхатологического
значения в деле грядущего радикального преобразования действи-
тельности. Впрочем, влияние этих позиций было далеко не одинако-
вым. Если вторая имела множество талантливых и стойких привержен-
цев, то первую, во всем ее радикализме, решались защищать немно-
гие, причем эта защита была достаточно условной и часто сменялась
через некоторое время на свою противоположность, на апологетику ис-
торического, церковного православия. К этим «немногим» принадле-
жал и Чаадаев. Находясь в самом начале нового периода российской
истории, Чаадаев в своем главном труде критически оценивает недав-
нее прошлое, в том числе и роль православной церкви.
Главная идея, пронизывающая все «Философические письма», —
это идея абсолютного значения христианства для развития человече-
ства. «Ничто не обнаруживает вернее божественного происхождения
этой религии, чем свойственная ей черта абсолютной всеобщности,
вследствие которой она внедряется в душах всевозможными способа-
ми. Овладевает без их ведома умами, господствует над ними, подчиня-
ет их даже и тогда, когда они как будто сильнее всего сопротивляются,
внося при этом в сознание чуждые ему до сих пор истины, заставляя
сердце переживать неиспытанные им ранее впечатления, внушая нам
чувства, которые незаметно вынуждают нас занять место в общем строе.
Этим она определяет действие всякой индивидуальности и все направ-
Глава 1. Поиски самобытности
53
л лет к одной цели» Ч При этом Чаадаев понимает христианство не толь-
ко и не столько как систему идей, но как важнейшую реальную силу,
управляющую движением истории; причем именно как ту силу, гос-
подство которой придаст истории «правильный», наиболее плодотвор-
ный ход. «Христианская религия раскрывается не только как система
нравственности, воспринятая в преходящих формах человеческого ра-
зума, но еще как божественная вечная сила, действующая всеобщим
образом в духовном мире, так что ее видимое проявление должно слу-
жить нам постоянным поучением»2.
Понятно, что при таком подходе все исторические формы христи-
анства оказываются только «видимыми проявлениями» указанной
силы и имеют для отдельного человека только ограниченное значение
в сравнении с непосредственным ощущением этой силы, слиянием с
ней, которое одно и может быть названо истинным верованием и ис-
тинным христианством. Поэтому Чаадаев утверждает, что внешняя
религиозность вообще не является необходимой в том случае, «когда
обретешь в себе верования более высокого порядка, нежели те, кото-
рые исповедуют массы, верования, возносящие душу к тому самому
источнику, из коего проистекают все убеждения, причем верования эти
нисколько не противоречат народным, а, напротив, их подтверждают;
в таком случае, но единственно в этом, позволительно пренебречь внеш-
ней обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более важным тру-
дам»3. В самом обрядовом христианстве Чаадаев полагает как наибо-
лее согласующуюся с истиной ту его версию, которую реализует като-
лицизм; православие в главном его философском труде подвергается
резкой критике за то, что оно препятствует раскрепощению внутрен-
них творческих сил человека, выдвигает на первый план внешнее, вто-
ричное. Он даже бросает русской православной церкви обвинение в том,
что именно она способствовала воцарению «рабства» (крепостного пра-
ва) на русской земле и тем самым надолго задержала развитие русской
культуры4.
В дальнейшем Чаадаев существенно изменит свои оценки и даже
будет рассматривать православную церковь как важнейший фактор,
определивший характер развития русского народа: «Этой церкви, столь
смиренной, столь безропотной, наша страна обязана не только самыми
прекрасными страницами своей истории, но и своим сохранением. Вот
Урок, который она была призвана явить миру: великий народ, обра-
зовавшийся всецело под влиянием религии Христа... »5 Однако все-таки
главным для него останется противопоставление религии обрядовой,
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 337.
2 Там же. С. 332.
3 Там же. С. 322.
4 Там же. С. 347.
5 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли. С. 501.
54 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
внешней и религии внутренней, мистической, связывающей челове-
ка с высшей, абсолютной реальностью. Описание сущности этой выс-
шей реальности и выявление форм ее взаимосвязи с человеком и ми-
ром составляет самую главную часть философских размышлений
Чаадаева. Здесь он высказывает идеи, которые сохранят свое «Аачение
в последующем развитии русской философии и станут определяющи-
ми в эпоху ее расцвета — в творчестве Вл. Соловьева и его философ-
ских наследников.
Важнейшая тема Чаадаева — соотношение той «высшей силы», кото-
рая была открыта человеку христианством, и самого человека. Для того
чтобы описать это соотношение, необходимо понять, какие цели пре-
следует в своем действии указанная «высшая сила». По сути, речь здесь
идет о целях самого христианства, реализуемых в истории. Чаадаев
утверждает, что главный смысл и главная цель христианства в его ис-
торической перспективе — это достижение реального единства всех
людей и всего раздробленного мирового бытия.
Как мы помним, это же устремление к единству «всякой твари» со-
ставляло содержание того идеала, который одухотворял русскую куль-
туру XIII -XVI веков и получил яркое выражение в русской иконопи-
си. Развивая эту давнюю мировоззренческую традицию, Чаадаев при-
дает ей строгое философское выражение и одновременно смещает
акценты в понимании указанного идеала, идеала «всеединства». Глав-
ным для него оказывается достижение единства, реальное «отождеств-
ление» всех людей, в то время как преобладающая ранее идея едине-
ния мира в целом отодвигается на второй план, становится как бы «вто-
рым этапом» процесса мистического объединения бытия. Как мы
увидим в дальнейшем, это происходит в силу того, что Чаадаев настаи-
вает на радикальном противостоянии материального и духовного в че-
ловеке и в истории.
По словам Чаадаева, дух религии «заключается всецело в идее сли-
яния всех, сколько их ни есть в мире, нравственных сил — в одну мысль,
в одно чувство и в постепенном установлении социальной системы или
церкви, которая должна водворить царство истины среди людей»1.
Дальнейшее развертывание этого положения приводит Чаадаева к оче-
видному парадоксу, который в самой различной форме будет воспроиз-
водиться у его последователей и превратится в характерную черту всей
русской религиозной философии. Предполагая, что указанное «едине-
ние нравственных сил», а затем и приведение всего мира к целостному
состоянию составляет конечную цель христианского развития чело-
вечества Чаадаев одновременно приходит к выводу, что мы уже сей-
час, в нашем несовершенном состоянии, должны мыслить это единство
и целостность как данные каким-то идеальным (или потенциальным)
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 321.
Глава 1. Поиски самобытности
55
образом. Как пишет Чаадаев, «сомнения нет, имеется абсолютное един-
ство во всей совокупности существ» и в этом «заключается символ веры
(credo) всякой здравой философии »1.
Философия приходит к необходимости мыслить «великое ВСЁ»
(единство мира) одновременно и как основу, и как цель мирового раз-
вития. Единство является задачей исторического развития мира и че-
ловечества, но оно же уже присутствует в мире и осознается человеком.
Содержащееся здесь противоречие Чаадаев наследует от давней тради-
ции в понимании Абсолюта, наиболее ярким представителем которой
в начале XIX века был Фихте (о чем уже говорилось во Введении). Рас-
сматривая в поздних версиях своего «Наукоучения» мир как резуль-
тат первичных актов Абсолюта (абсолютного « я»), Фихте одновремен-
но полагает состояние целостности мира в Абсолюте как конечную цель
мирового развития и деятельности человека. Это определяет парадок-
сальное отношение человека с Абсолютом: абсолютное «я» имманент-
но человеку, поскольку именно оно является источником каждого дей-
ствия человека; в то же время оно трансцендентно человеку, и единение
человека с абсолютным «я» оказывается предельной и недостижимой
в реальном времени целью3.
У Чаадаева указанное парадоксальное сочетание «данности» и «задан-
ности» Абсолюта восходит к самым истокам указанной традиции —
к гностической концепции отпадения мира от Бога в результате реа-
лизации человеком своей (греховной) свободы. При этом в отличие от
христианско-гностической мифологемы, где акт «отпадения» высту-
пает как одномоментное действие, катастрофически воздействующий
на всю структуру реальности, Чаадаев интерпретирует его как посто-
янно действующий фактор, обусловливающий несовершенство и ко-
нечность мирового бытия.
Чаадаев категорически отказывается интерпретировать «великое
ВСЁ» в духе пантеизма; как можно понять из его рассуждений (не все-
гда точных и ясных), отличие его учения от пантеизма состоит в том,
что он признает наличие иерархии внутри подразумеваемого единства
мирового бытия. Он четко разделяет активную силу этого единства
и пассивные и даже «сопротивляющиеся» элементы. Ясно, что первая
в данном случае — это та божественная, высшая сила, которая от-
крылась человеку в христианстве. Главным же «сопротивляющимся»
элементом оказывается не сам раздробленный, хаотичный материаль-
ный мир, но человеческие личности в их индивидуальности и свободе.
1 Чаадаев 77. Я. Философические письма. С 377.
2 Там же.
3 Очень ясно это противоречие философии Фихте описал И. Ильин. См.:
Ильин И. А. Кризис идеи субъекта в наукоучении Фихте Старшего // Во-
просы философии и психологии. 1912. Кн. 111(1)-112(2).
56 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Именно в понимании человека особенно остро проявляется антиномизм
мышления Чаадаева. Сущность человека определяется им через две
антиномии: «единство—обособленность» и «подчиненность—свобода».
В своем анализе человеческого бытия Чаадаев постоянно подчерки-
вает, что хотя феноменально человек выступает как изолированное
и самостоятельное существо, его сущность можно понять, только пред-
полагая глубокую духовную взаимосвязь, более того, — духовное един-
ство всех людей. При этом указанное единство недостаточно мыслить
как вторичный феномен, реализуемый в объективированной челове-
ческой культуре. Чаадаев утверждает первичное субстанциальное един-
ство всех людей в некоем мировом сознании: «...всякий отдельный че-
ловек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми чело-
веческими мыслями, предшествующими и последующими: и как едина
природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся последователь-
ная смена людей есть один человек, пребывающий вечно, и каждый из
нас — участник работы сознания, которая совершается на протяжении
веков... и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я
должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как еди-
ное и единственное сознание »*.
Внутреннее состояние каждого из нас целиком определяется миро-
вым сознанием, причем на феноменальном уровне влияние последнего
осуществляется с помощью незаметных воздействий на человека окру-
жающих людей, в своей совокупности бессознательно реализующих
«веления» высшей силы. В соответствии с этим ни одна идея, свойствен-
ная конкретному человеку, творимая человеком, не есть его собствен-
ное достояние; она вызывается непосредственным действием единого
сознания. Само индивидуальное сознание в своей истине есть не что
иное, как единое мировое сознание, и «подлинное тождество существу-
ет не между нашим разумом и природой, но между нашим разумом и
другим разумом»2. Каждый акт мышления есть «подключение» чело-
века к единому сознанию, слияние с ним. Поскольку это слияние и со-
ставляет суть нашей жизни, Чаадаев приходит к парадоксальному вы-
воду, что смерть для нас наступает не в момент прекращения существо-
вания нашего тела, а в любой из моментов, когда прекращается наше
мышление, например, во время сна. «Я нахожу, что именно сон скорее
есть настоящая смерть, а то, что называется смертью, быть может, и
есть жизнь?»3 И далее: «Мы бываем мертвы, совершенно мертвы поло-
вину нашей жизни без преувеличения, без иносказания, но в букваль-
ном, истинном смысле мертвы»4. Напротив, в момент физической смер-
ти, в момент прекращения существования тела человек особенно остро
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 380-381.
2 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли. С. 483.
3 Там же. С. 458.
4 Там же. С. 459.
Глава L Поиски самобытности
57
осознает себя, осознает «ужас смерти», и это осознание, по Чаадаеву,
означает, что он продолжает существовать в истинном смысле —
через сохранение своего единства с мировым сознанием.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксом, который ведет к появлению
в философии Чаадаева подлинно экзистенциального мотива; причем
он обосновывает не уникальность человеческого существования («экзис-
тенции»), но, наоборот, растворенность человека во всеобщем сознании
(почти в духе Гегеля). Появление этого мотива весьма симптоматично;
многие русские философы будут придавать особое значение «погранич-
ной ситуации» пребывания человека перед лицом смерти. Парадоксаль-
ная диалектика жизни и смерти как соотносительных и неразделимых
феноменов, взаимодействующих в каждом моменте нашего бытия, ста-
нет излюбленной темой русской философии; особенно важное значе-
ние она приобретет в метафизике Достоевского и в философских по-
строениях Карсавина.
Осознание человеком своей смерти доказывает, согласно Чаадаеву,
что душа продолжает существовать после гибели тела. Здесь выступа-
ет еще одна важнейшая тема — противопоставление материального
и духовного мира. Казалось бы, Чаадаев должен оказаться радикаль-
ным сторонником того направления в философии, родоначальником
которого был Платон и которое признавало радикальный дуализм ма-
териального и духовного, — того направления, в котором оппозиция
«духовное—материальное» совпадает с оппозициями «благое—злое»
и «божественное—противобожественное». На первый взгляд так оно
и есть. Мы находим у Чаадаева представление о принадлежности че-
ловека «двум мирам» и резкое обличение тех народов и цивилизаций,
которые все свои силы направили на служение материальным интере-
сам. Сюда попадает культура Индии и Китая, вся античность, а также
та традиция европейской секуляризованной культуры, которая была
задана Возрождением. Однако, если внимательно вслушаться в кри-
тику Чаадаева, нетрудно понять, что лживым, противобожественным
в данном случае оказывается именно подчинение духа материи, а не
материя как таковая в ее самостоятельном существовании. Если в жиз-
ни человека материя занимает естественное — подчиненное — поло-
жение по отношению к духу, то она может быть признана необходимой
и естественной составляющей совершенного человеческого состояния.
Только в рамках такого взаимоотношения материи и духа можно
правильно понять удивительное суждение Чаадаева о том, что «ни бес-
смертие души, ни ее бесплотность не могут быть строго доказаны»1.
Можно доказать только существование души после физической смерти
тела в течении некоторого (конечного]) времени, но этого, по мнению
Чаадаева, достаточно для построения истинного религиозного миро-
воззрения. Более того, он полагает, что принятие идеи бессмертия в том
1 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли. С. 485.
58 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
смысле, как это подразумевается в ортодоксальном церковном хрис-
тианстве, ведет к отрицанию всемогущего и единого Бога. Только Бог
обладает подлинным бессмертием, вечным существованием; приписы-
вая такое существование человеческим душам, мы ставим их вровень
с Богом и лишаем его всемогущества.
Во всех этих рассуждениях Чаадаева особенно значимо и ведет к наи-
более радикальным последствиям не столько явно выраженное сомнение
в бессмертии души, сколько переосмысление сути отношений между
жизнью и смертью. И в обыденных представлениях людей, и в традици-
онном христианском мировоззрении смерть выступает как абсолютное
отрицание жизни, смерть «несовместима» с возможностью продолже-
ния жизни в прежней форме; если за смертью и следует жизнь, то это —
жизнь, понимаемая в радикально ином смысле, чем наше земное, несо-
вершенное существование. Этим обусловливается ужас смерти и чувство
абсолютной «инородности» смерти, невозможность понять и принять ее,
основываясь на том, что доступно нам в нашей жизни.
По Чаадаеву, смерть не абсолютно, а относительно противопо-
ложна жизни. Это означает, что ее можно понять только через саму
жизнь, и наоборот, жизнь можно понять, только учитывая тот факт,
что ей противостоит смерть. Приход смерти вовсе не предполагает аб-
солютного отрицания жизни; будучи взаимосвязаны через свою отно-
сительную противоположность, жизнь и смерть могут сменять друг
друга, обусловливая свою взаимную смысловую определенность.
Очевидно, что при таком подходе сглаживается парадоксальность
чаадаевского отрицания бессмертия, поскольку его традиционное хрис-
тианское понимание становится внутренне противоречивым. Бессмер-
тие, реализованное в своей полной смысловой определенности, стало бы
одновременно «безжизненностью»; жизнь не может быть бессмертной
(в смысле: лишенной смерти внутри себя самой), поскольку смерть яв-
ляется неотъемлемым элементом самой жизни: нет жизни вне смерти,
а есть постоянная смена жизни и смерти (при полном превосходстве
жизни над смертью), эта смена и задает бытие человека. Именно в этом
смысле необходимо понимать ключевой тезис Чаадаева: «Христиан-
ское бессмертие — это жизнь без смерти, а вовсе не жизнь после смер-
ти»1. Здесь «жизнь без смерти» вовсе не означает, что возможно состо-
яние мира, в котором смерти вообще нет в бытии, такое «райское» со-
стояние предполагается как раз в традиционном тезисе «жизнь после
смерти» — в последнем случае речь идет об абсолютном преодолении
не только самой смерти, но и земной жизни, нераздельно включающей
смерть. «Жизнь без смерти» — это постоянное продолжение земной
жизни, в которой смерть потеряла свою инородность жизни, в которой
она приобрела подобающее ей значение как подчиненный и вторичный
элемент самой земной жизни. Такая поправка к традиционному хрис-
1 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли. С. 466.
Глава L Поиски самобытности
59
тианскому учению о бессмертии выражает самую сокровенную суть
мироощущения, характерного для русской культуры, а приведенный
тезис Чаадаева может рассматриваться как ключевой принцип «рус-
ской идеи»1.
Естественно, что при рассмотренном подходе к проблеме смерти
требует радикального переосмысления и понятие воскресения, кото-
рое в христианской традиции всегда означало не «восстановление»
прежнего земного существования, но начало новой, преображенной
жизни, совсем не похожей на ту, которая была пресечена смертью.
Мы не находим у Чаадаева развития этой темы, вся его концепция жиз-
ни и смерти осталась на уровне отдельных ярких и парадоксальных
тезисов; тем не менее ее появление у мыслителя, который является
родоначальником оригинальной философской традиции в России,
необходимо признать весьма характерным и закономерным фактом.
Русские философы после Чаадаева постоянно возвращались к этой
теме, придавая ей совершенно различные оттенки и формы — от слож-
ной метафизической конструкции Вл. Соловьева до несколько прямо-
линейного «устранения» смерти и «воскрешения отцов» в концепции
Н. Федорова. Но во всей своей глубине новый подход к проблеме смерти,
заданный Чаадаевым, был реализован только Достоевским (см. главу 2).
Нужно отметить только одно принципиальное различие между ча-
адаевским подходом к жизни и смерти и соответствующими идеями
большинства его продолжателей: в то время как Чаадаев использует
свою концепцию для подтверждения вторичности, безусловной произ-
водности человеческого бытия по отношению к бытию Бога (который
не знает смерти), в дальнейшем те же идеи использовались, наобо-
рот, для доказательства абсолютной фундаментальности человеческо-
го бытия, которое несет в себе все «тайны» мироздания, и в том числе
самую главную — тайну смерти и воскресения.
Не может Чаадаев обойти и вопрос о причинах обособления отдель-
ной человеческой личности, причинах ее «отпадения» от единого созна-
ния, от божественной духовности и от всеобщего материально-идеаль-
ного единства мира (последние три понятия, безусловно, различаются
У Чаадаева, однако он не формулирует точно смысл этих различий).
Здесь Чаадаев развивает своеобразную концепцию, описывающую
устройство материального и идеального мира. В материальном мире
все разнообразие отдельных вещей и явлений происходит из взаимо-
действия двух сил, двух «противодвижений» — силы притяжения, того
универсального «первотолчка», который придал миру Бог, с одной сторо-
ны, и силы отталкивания, силы, обусловливающей самостоятельное дви-
жение каждого отдельного объекта, с другой. Точно так же и в духовном
1 См.: Карасев Л. В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы фи-
лософии. 1992. № 8. С. 95-104.
60 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
мире многообразие человеческих сознаний и отдельных идей оказыва-
ется результатом взаимодействия двух аналогичных «сил» — объеди-
няющей «силы» всеобщего сознания и разъединяющей «силы» индиви-
дуальной человеческой свободы, человеческого произвола.
Самым глубоким и непреодолимым источником зла и хаоса в мире,
утверждает Чаадаев, является не материя, а духовная свобода челове-
ка — свобода, понимаемая как самостоятельность и независимость, как
самостоятельная деятельность1. В этом аспекте позиция Чаадаева ока-
зывается настолько радикальной, что сближается с представлением,
характерным для древних религиозно-философских систем Востока
с их негативным отношением к человеческой индивидуальности и че-
ловеческой свободе. Для Чаадаева свобода в ее позитивном смысле сво-
дится просто к добровольному подчинению внешней, божественной
силе, т. е. к подчинению всеобщему сознанию. Однако человек не скло-
нен останавливаться на таком понимании свободы, он доходит до пред-
ставления о произвольном, самостоятельном действии, расходящим-
ся с тем, что предопределено раз и навсегда Провидением. «Мы только
и делаем, — пишет Чаадаев, — что вовлекаемся в произвольные дей-
ствия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опусто-
шения в недрах творения мы производим не только внешними действи-
ями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших
наших мыслей»2.
Свободу, данную Богом для того, чтобы человек был столь же со-
вершенным, как сам Бог, человек использует (и использует в каждом
своем проявлении!) во зло, ради противостояния Творцу. И если бы не
действие божественной силы, «компенсирующей» последствия проти-
вобожественной реализации человеческой свободы, мир превратился
бы в хаос — из-за поступков человека! Именно потому, что материя не
обладает свободой, она не может быть «последним», самым глубоким
источником зла; таким источником является только человек.
Даже феноменальная, внешняя обособленность человека в простран-
стве и времени объясняется Чаадаевым как реализация произвольной
человеческой свободы. Наша привязанность к ограниченному отрезку
времени и зависимость от прошлого — это не более чем результат на-
шего свободного выбора: из бесконечной совокупности моментов, дан-
ных совместно в вечности, каждая личность выбирает только некото-
рые моменты, полагаемые ею значимыми для себя. Свобода оказыва-
ется тождественной ограничению и ведет к выделению конечного и
господствующего над нами актуального времени из потенциально от-
крытой нам вечности. «Мы строим образы прошлого точно так же, как
и образы будущего. Что же мешает мне отбросить призрак прошлого,
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 375.
2 Там же. С. 376.
Г л ава 1. Поиски самобытности и
61
неподвижно стоящий позади меня, подобно тому, как я могу по жела-
нию уничтожить колеблющееся видение будущего, парящее впереди?..
Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения...»1
Точно так же и наше пространственное положение во Вселенной есть
результат свободного «самоограничения», подчинения себя внешнему,
материальному миру — тогда как в высшем, духовном мире мы полно-
стью свободны от пространства и, значит, господствуем над ним через
свою духовную сущность. С помощью простого усилия своей воли (име-
ющей целью подчинение себя высшей силе) человек способен преодо-
леть свою пространственно-временную ограниченность и достичь состо-
яния, близкого к совершенству. «Моему существованию нет больше
предела, — описывает это состояние Чаадаев, — нет преград видению
безграничного; мой взор погружается в вечность; земной горизонт ис-
чез; небесный свод не упирается в землю на краях безграничной рав-
нины, стелющейся перед моими глазами; я вижу себя в беспредель-
ном пребывании, не разделенном на дни, на часы, на мимолетные
мгновения, но в пребывании вечно едином, без движения и без пере-
мен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, словом, где всё
пребывает вечно»2. Именно это предощущение высшего, божествен-
ного состояния человека (а вместе с ним и божественного состояния
всей остальной реальности), достигаемого в земной жизни, состав-
ляет содержание того своеобразного и весьма характерного для рус-
ских философов мироощущения, которое В. Зеньковский называл
«мистическим реализмом».
Таким образом, высшее состояние оказывается не только состояни-
ем единства всех со всемирно и преодолением всех признаков ограни-
ченности человеческого существования и прежде всего ограниченно-
сти его положения в пространстве и времени. В дальнейшем эта идея
неоднократно будет повторяться в русской философии и достигнет свое-
образного апофеоза в творчестве Н. Бердяева, С. Франка и Л. Карсави-
на. Причем Бердяев будет утверждать, что освобождения из «плена»
пространственно-временной ограниченности и из-под господства миро-
вой необходимости человек может достичь с помощью раскрепощения
своей индивидуальной свободы, а Франк и Карсавин в рамках тради-
ции, заданной Чаадаевым, то же самое освобождение будут описывать
как акт единения человека с превосходящей его высшей реальностью,
т. е. как акт отказа от своей негативной, неподлинной свободы.
Суммируя основные положения чаадаевской концепции человека,
можно утверждать, что эта концепция есть не что иное, как философ-
ское оформление той самой «парадигмы», которая изначально лежала
в основе нашей « диссонансной» культуры и художественное выражение
1 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 362.
2 Там же.
62 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
которой мы уже обнаружили в творчестве Пушкина. У Чаадаева человек
оказывается загадочным существом, пребывающим на границе, на сты-
ке двух противоположных полюсов реальности — божественного ду-
ховного бытия, определяемого Чаадаевым с помощью понятий «выс-
шая сила», «всеобщее сознание», «великое ВСЁ», и материального
мира, подчиненного формам пространства и времени, раздробленного
на отдельные элементы, оказывающего пассивное сопротивление дей-
ствующей на него высшей силе. Полярность онтологической структу-
ры реальности, согласно Чаадаеву, отражается в двух «конечных иде-
ях» человеческого разума: в идее вечности и идее уничтожения. Эти
идеи получают ярко выраженный этический оттенок. «Идея множе-
ственности сливается в моем уме, — пишет Чаадаев, — с идеей уничто-
жения; идея единства — с идеей вечности. Итак, уничтожение для меня
есть зло, вечность — добро, зло стремится только к уничтожению, бла-
го только к сохранению; следовательно, вечность, благо, жизнь — это
одно и то же»1.
Нетрудно заметить, что этические оценки, которые Чаадаев дает
двум полярным началам, расходятся с теми, что характерны для ху-
дожественной парадигмы Пушкина. У Пушкина именно временное
становление, связанное с непрерывным рождением и уничтожением,
именно стихия мирового хаоса выступали как позитивное начало,
тождественное с жизнью, тогда как вечность и неизменность Абсолюта
(«кумиров») — это противоположность жизни и подлинному добру.
Совершенно очевидно, что это расхождение связано с принципиаль-
но различным отношением к индивидуальной свободе человека. В про-
тивоположность Чаадаеву Пушкин признает свободу личности выс-
шей ценностью и высшей целью, вне которой невозможны ни жизнь,
ни добро, ни совершенство. И конечно же, Пушкину было абсолютно
чуждо то представление о цели человеческой жизни, которую формули-
рует Чаадаев: «Все назначение человека состоит в разрушении своего
отдельного существования и в замене его существованием совершенно
социальным, или безличным»2.
Можно сказать, что Пушкин и Чаадаев в рамках одной и той же
мировоззренческой «парадигмы» просто делают акцент на различных
ее элементах. Последующее развитие русской философии и всей рус-
ской культуры заключалось в учете и более детальной разработке обе-
их точек зрения и в постепенном сглаживании противоречия между
ними. Направление этого развития без труда можно обнаружить и у
Пушкина, и у Чаадаева. Ведь Пушкин видит зло не в «кумирах» самих
по себе, ведь он не отрицает само существование высшей сферы бы-
тия и высших ценностей; для него злом является полное подчинение
1 Чаадаев 77. Я. Отрывки и разные мысли. С. 454.
2 Чаадаев П. Я. Философические письма. С. 417.
Глава L Поиски самобытности
63
человека этой сфере, уничтожение личности и ее свободы. В том слу-
чае, когда соединение с вечностью, с абсолютной реальностью приво-
дит к раскрепощению человека, раскрытию его индивидуальности и
свободы, это соединение оказывается благом. Именно отсюда происхо-
дит страстное желание высшей гармонии и высшего идеала, столь ха-
рактерное для Пушкина.
С другой стороны, и Чаадаев, как уже отмечалось выше, вовсе не
считает материальный, подчиненный времени мир злым по своей соб-
ственной природе. Сущность зла коренится в человеке и через челове-
ка входит в мир.
Таким образом, элементом, объединяющим мировоззрение Пушки-
на и Чаадаева, является убеждение в том, что эмпирический человек,
обладающий индивидуальностью и свободой, неподвластной даже Богу
(«в тот день, когда Бог предоставил человеку свободу воли, Он отказал-
ся от части своего владычества в мире и предоставил место этому ново-
му началу в мировом порядке» *), находится в центре всей системы ре-
альности и определяет своей свободой как свою собственную судьбу,
так и судьбу мирового бытия. Расхождение между Пушкиным и Ча-
адаевым состоит только в разной оценке этой фундаментальной роли
человека. Пушкин оценивает ее как борьбу за добро и совершенство,
Чаадаев — как непрерывное движение ко злу и разрушению. Отметим,
что, в конечном счете, и у Чаадаева путь к победе добра все-таки зави-
сит от выбора отдельного человека. Только выбор этот парадоксален:
чтобы встать на путь совершенства, человек должен своим свободным
решением отвергнуть свою индивидуальную, «негативную» свободу.
§ 7. Духовное наследие Чаадаева
Значение Чаадаева для развития русской философии трудно пере-
оценить. В его сочинениях были заданы все главные темы, которые
определяли это развитие вплоть до начала XX века. Уже современни-
ки и ближайшие последователи Чаадаева подхватывают и углубляют
эти темы. Прежде всего здесь необходимо назвать Владимира Одоев-
ского и двух родоначальников славянофильства Алексея Хомякова
и Ивана Киреевского.
Чаадаев был парадоксальной фигурой в русской культуре первой
половины XIX века. И один из парадоксов, связанных с ним, относит-
ся к характеру его влияния на современников. Как известно, публика-
ция первого из «Философических писем» в 1836 г. (по крайней мере
через шесть лет после его написания) вызвала бурную и очень противо-
речивую реакцию в обществе, привела к тому, что Чаадаев был офици-
ально объявлен «сумасшедшим» и лишен права обнародовать свои ра-
боты. В результате все остальные письма из его главного сочинения
1 Чаадаев Я. Я. Отрывки и разные мысли. С. 470.
64 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
дошли до читателей с большим опозданием, а пять из них были впер-
вые опубликованы только в 1935 (!) г., т. е. в то время, когда развитие
русской религиозной философии фактически завершилось (через на-
сильственное изгнание и уничтожение главных ее представителей).
В связи с этим невозможно говорить о прямом воздействии фило-
софских идей Чаадаева на последующих мыслителей. Однако здесь не-
обходимо учесть одну очень характерную для культурной жизни Рос-
сии XIX века черту: духовные процессы здесь в значительно большей
степени, чем в Западной Европе, определялись деятельностью различ-
ных (и, как правило, полярных по идеологии) интеллектуальных
«кружков», союзов, сообществ, внутри которых происходило актив-
ное обсуждение новых идей и направлений, позже находивших cebe
выражение в творчестве отдельных представителей этих объединений.
Духовная атмосфера эпохи формировалась всеми ее значимыми пред-
ставителями, окончательная же формулировка главных составляющих
нового мировоззрения могла принадлежать далеко не тем, кто играл
центральную роль в его зарождении.
Творческая судьба Чаадаева выглядит трагичной, как была трагич-
ной судьба многих других русских мыслителей, существовавших в усло-
виях жесткой правительственной цензуры, в обществе, не имевшем
развитых демократических традиций. Однако более пристальный взгляд
на место и роль Чаадаева в духовной истории России приводит к суще-
ственному смягчению первоначальной оценки. Чаадаев после «ката-
строфы» 1836 г. стал легендарной фигурой во всех интеллектуальных
кружках Москвы, и если невозможно говорить о прямом воздействии
его сочинений на современников, все же необходимо признать непо-
средственное распространение его идей через атмосферу живых дискус-
сий, характерных для всей той эпохи. Поэтому мы можем на законном
основании утверждать, что идеи, сформулированные Чаадаевым в его
«Философических письмах», получили дальнейшее развитие в трудах
его младших современников, которые хотя и не читали их в полном
объеме (впрочем, некоторые из них ходили в списках, не будучи опуб-
ликованными), но наверняка знали о главных философских принци-
пах, в них изложенных.
Возвращаясь к анализу философской концепции Чаадаева, еще раз
сформулируем основные ее составляющие.
Наиболее известной и громко прозвучавшей ее темой стала пробле-
ма исторической судьбы России. По-разному оценивая историю Рос-
сии в разные периоды своего творчества, Чаадаев неуклонно подчер-
кивает особый характер развития России и пытается понять причины
его отличия от исторического развития Западной Европы.
Указанную тему можно назвать историософской. Важнейшей соб-
ственно философской проблемой для Чаадаева стало выявление духов-
ной сущности христианства и оценка его исторического значения.
Глава 1. Поиски самобытности
65
Христианство, как мировоззрение, есть, по Чаадаеву, та форма, в ко-
торой человечество осознает действие в мире реальной духовной силы,
преобразующей мир и человеческую жизнь. В этой идее намечается ори-
гинальное мистическое понимание христианства; как полагает Ча-
адаев, для христианина главным является не просто религиозное « при-
знание» божественного воздействия на мир, не просто исповедание
веры, подобное принятию новой научной теории, а мистическое соеди-
нение своей эмпирической личности с указанной духовной силой, мис-
тическое прочувствование ее действия в душе.
Нужно отметить, что господство мистических элементов в философ-
ских взглядах Чаадаева вовсе не является случайным, оно, безуслов-
но, отражает веяния времени (помимо того, что оно связано с давней и
стойкой мистической традицией в самом православии). Эпоха 1811—
1822 гг. была эпохой небывалого расцвета мистицизма в России; раз-
личные мистико-гностические сообщества — в первую очередь, масон-
ские ложи — пользовались официальным покровительством монархов
и высокопоставленных чиновников правительства, а их членами по-
лагали за честь быть все образованные люди того времени (в том числе,
конечно, и Чаадаев). Даже запрет на деятельность этих обществ, по-
следовавший в 1822 г., не привел к мгновенному исчезновению тради-
ции, существовавшей к тому времени уже в течение целого столетия.
Поэтому глубокий мистицизм Чаадаева, отмечаемый многими иссле-
дователями *, не вызывает сомнений, несмотря на известные попытки
марксистской истории философии доказать обратное.
Третья важнейшая составляющая мировоззрения Чаадаева — это
необычное, в сравнении с существовавшей в западной философии тра-
дицией, представление о сущности человека. Чаадаев размыкает чело-
веческую субъективность как в ее эмпирическом, так и в «трансцен-
дентальном» измерении. Отдельный эмпирический субъект понима-
ется им как органическая часть «мирового сознания», «мирового
субъекта». Утверждая, что пространственно-временная локализация
каждого человека есть, по сути, иллюзия, вызванная действием наше-
го свободного, противобожественного выбора, Чаадаев доказывает на-
личие глубокого единства, даже тождества, человеческого бытия с бы-
тием всего мира. Тем самым, уже у родоначальника самобытной рус-
ской философии мы обнаруживаем тяготение к такому пониманию
человека, которое в западной философии получило развитие только
в самом конце XIX века, в частности в философии А. Бергсона (см. Вве-
дение). В этой связи можно добавить, что развиваемое Чаадаевым пред-
ставление о времени также очень близко к тому, как будет трактовать
время французский философ. Как и у Бергсона, у Чаадаева человече-
ское бытие охватывает все время, и только свободный выбор отдельных
1 См.: Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908.
С 93-94.
3 'Зак. 3424
66 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
«срезов» времени (осуществляемый через память и воображение) при-
вязывает нас к ограниченному промежутку времени, заслоняющему
«перспективу» вечности.
Наконец, в качестве последней, четвертой составляющей «системы»
Чаадаева (тесно примыкающей к предыдущей) выступает его концеп-
ция свободы человека как греха. Будучи в своей сущности единым со
всем мировым бытием, человек в то же время оказывается важнейшим
дезорганизующим фактором, разрушающим исходное единство мира,
приводящим мир через свободу к хаосу и злу. Здесь становится понят-
ным определение христианства как реальной духовной силы в мире:
именно эта сила противодействует свободе человека, противодейству-
ет хаосу и злу и возвращает мир к цельности и единству. При этом ггуж-
но еще раз подчеркнуть важнейший момент в рассуждениях Чаадаева:
он полагает, что указанная сила, которая, по всей видимости, тожде-
ственна с христианским Богом, не смогла бы осуществить свою цель,
если бы человек не имел возможности сделать определенное усилие ей
навстречу. Человек должен выбрать христианский идеал жизни, и
только в этом случае, отказавшись от своей противобожественной сво-
боды, он соединяется с Богом, и Бог начинает восстановление утрачен-
ного совершенства и единства мира, преодолевает хаос и зло. Вне вся-
ких сомнений, здесь обнаруживается своеобразная философская версия
гностицизма.
По указанным направлениям и происходит философское развитие
у младших современников Чаадаева, определивших совместно с ним
лицо русской философии.
§ 8. Мистический утопизм В. Одоевского
Фигура Одоевского знаменательна не только тем, что он оставил
после себя сочинение, оказавшее существенное влияние на дальнейшие
споры о судьбе России — книгу «Русские ночи», — но и тем, что в самой
его жизни наглядно преломились характерные особенности раннего
периода развития русской философии.
Самый первый, еще юношеский период духовных исканий Одоев-
ского связан с участием в известном кружке молодых интеллектуалов,
находившихся на службе в «Архиве Министерства иностранных дел»
в Москве. Этот кружок, получивший название «Общество любомудров»,
был в определенной степени близок к традиции масонских организаций
в России. И хотя здесь обсуждались в основном чисто философские про-
блемы, связанные с увлечением членов общества философией Шеллин-
га, заседания проходили тайно, и их участники воодушевлялись мыс-
лями о том, что им удастся открыть некоторое окончательное и выс-
шее метафизическое знание (гнозис!), которое обобщит все открытия
науки и одновременно соединит их с синтетическим откровением всех
религий.
Глава 1. Поиски самобытности
67
Как отмечали впоследствии и сами участники этих собраний и позд-
нейшие исследователи, главным в атмосфере интеллектуальных иска-
ний «Общества любомудров» был концентрированный мистицизм,
непосредственно заимствованный из устремлений позднего Шеллин-
га и своеобразно соединившийся с мистической традицией, идущей из
XVIII века и связанной с русским масонством. В отношении Одоевско-
го можно добавить также, что он принадлежал к семье, которая была
тесно связана с известными масонскими деятелями XVIII века. Все это
делало естественным обращение Одоевского в поисках основы для сво-
его мировоззрения к активному изучению известных и уже популяр-
ных в России мистиков — от Я. Бёме до Дж. Пордеджа, Л. Сен-Марте-
на и Ф. Баадера.
Характерную иллюстрацию особенностей духовного настроения
молодого Одоевского дает небольшая новелла под названием «Два дня
в жизни земного шара», впервые опубликованная в 1828 г., но написан-
ная несколькими годами раньше. Здесь описывается, как в результате
преобразований, совершившихся на земле, «времена несовершенства и
предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими,
Земля была обиталищем одних царей всемогущих, никто не удивлялся
прекрасному пиру природы; все ждали его, ибо давно уже предчувствие
оного в виде прелестного призрака являлось воображению избранных.
Никто не спрашивал о том друг друга; торжественная дума сияла на всех
лицах, и каждый понимал это безмолвное красноречие. Тихо земля бли-
зилась к солнцу, и непалящий жар, подобно огню вдохновения, по ней
распространялся. Еще мгновение — и небесное сделалось земным, зем-
ное небесным, солнце стало землею и земля солнцем...»1
Этот отрывок показывает, какое сокровенное устремление одухотво-
ряло философские размышления Одоевского. У него подобно многим
другим русским мыслителям было в крайней степени развито чувство
совершенства, высшей гармонии, но также и глубокое, почти траги-
ческое осознание несовершенства того мира (природного и социально-
го), в котором существует человек. Во многих сочинениях Одоевского
типичный для русской культуры мистический реализм дополняется и
обогащается мистическим утопизмом, главным признаком которого
является вера в возможность гармонии и совершенства, причем не вне
существующей реальности и не в уходе от нее, а вместе с ней и через
нее — в форме соединения и слияния земного и небесного, достигаемо-
го через творческое преображение земного.
Нужно подчеркнуть, что именно в этом моменте взгляды русских
романтиков начала XIX века отклонялись от мировоззрения западно-
го романтизма, где господствовали пессимистические настроения в от-
ношении возможностей усовершенствования «злой» материальной
1 Цит. по книге: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь
в- Ф. Одоевский. Мыслитель—Писатель. М., 1913. Т. 1. Ч. 1. С. 188-189.
68 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
действительности, и в связи с этим жажда высшей гармонии реализо-
валась через отрицание « грубой» реальности, через уход в чисто ду-
ховную сферу, в сферу неземной и поэтому уже совершенной действи-
тельности.
Одоевский, безусловно, очень многим был обязан западному роман-
тизму, был очень близок к нему и в своей художественной манере, и
в системе основных философских принципов. Однако в этой системе
он по-иному расставляет смысловые акценты, что приводит к суще-
ственно иной философской концепции человека.
Прежде всего Одоевский подчеркивает, что стремление к безгранич-
ному совершенству, заложенное в человеке, не может быть иллюзией;
своим собственным упорством и непререкаемостью оно доказывает ре-
альность той цели, к которой направлено. «Грубое дерево, последняя
былинка, каждый предмет грубой временной природы доказывает су-
ществование закона, который ведет их прямо к той степени совершен-
ства, к которой они способны... Неужели высшая сила лишь человеку
дала одно безответное желание, неудовлетворенную потребность, бес-
предметное стремление?»1 — риторически восклицает Одоевский.
Но если верить в осуществимость совершенства в мире и в человеке,
очень важно правильно сформулировать причины несовершенства и
найти правильный метод борьбы за преодоление этого несовершенства.
Здесь Одоевский воспроизводит известную концепцию, которая стала
общим местом всей гностико-мистической и масонской литературы
XVIII -XIX веков как в России, так и в Западной Европе (она, в частно-
сти, изложена в системах Пордеджа и Сен-Мартена, которые в силь-
ной степени повлияли на Одоевского). Согласно этой концепции чело-
век был совершенным творением и возвышался над природой, однако
затем он увлекся своей свободой, что привело к его «падению» и одно-
временно к деградации всей природы (напомним, что эту идею воспро-
изводил и Чаадаев). Человек предстает здесь как центральная дина-
мическая сила Вселенной, которой подчинена вся природа и через ко-
торую вся природа может вернуться к утраченному совершенству.
Одоевский вопрошает: «Наша планета стареет... неужели в самом
деле человечество совратилось с истинного пути своего и быстро, свое-
вольно стремится к своей погибели?»2 Традиционное христианское
мировоззрение понимает судьбу человека как «движение» от сферы
несовершенства к сфере совершенства, которые при этом рассматрива-
ются в качестве статичных и в равной степени независимых от челове-
ка. Вместо этого Одоевский видит задачу человека в активном пре-
образовании всего несовершенного мира к состоянию совершенства.
В этом смысле гностико-мистическая составляющая его идей оказы-
вается более важной, чем ортодоксально-религиозная, даже подчиняет
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 17.
2 Там же. С. 23-24.
Глава 1. Поиски самобытности 69
последнюю. В отличие от Чаадаева Одоевский очень мало говорит о Боге
и о религиозной вере как таковой, — гораздо меньше, чем о человеке и
том особом «знании», той особой «науке», с помощью которой человек
сможет перебороть свои собственные недостатки и заблуждения и реа-
лизовать свою задачу в мире. Именно поэтому Одоевский, как и Ча-
адаев, утверждает, что «в природе, собственно, нет зла»1, все зло при-
ходит в мир с человеком и из человека. Но Одоевский демонстрирует
большую последовательность, чем Чаадаев, когда признает, что в че-
ловеке в равной степени присутствуют и «темная», и «светлая» сторо-
ны, и сила ко злу, и сила к добру, причем обе эти силы имеют непосред-
ственное влияние на судьбу всего мироздания. Раскрепощение этих сил
и делает человека активным центром мира; наоборот, их неразвитость
приводит к тому, что он становится пассивным элементом, мало отли-
чающимся от остальной природы, — это человек-«деревяшка», по вы-
ражению Одоевского. С презрением описывая такого человека, Одоев-
ский утверждает, что даже злой человек в гораздо большей степени
способен на творческое движение души и в гораздо большей степени
интересен как личность. Как прямое предвосхищение моральной диа-
лектики Достоевского звучат такие, например, слова Одоевского: «Злой
человек сделает зло просто из желания зла, с наслаждением; но самый
злой человек способен к состраданию и раскаянию»2.
Таким образом, человек должен осознать свое подлинное значение
в мире и преобразовать сначала себя самого, а затем и природу, кото-
рая всецело зависит от него. Что же утратил человек в результате сво-
его «грехопадения» и что он должен возродить в себе? В этом пункте
Одоевский высказывает идею, которой суждено было стать одной из са-
мых важных и характерных для русской философии. Речь идет о воз-
рождении целостности человека через отказ от одностороннего гос-
подства рассудка в его жизни и культуре.
Безусловно, возникновение этой идеи во взглядах Одоевского свя-
зано с романтическими влияниями. Противопоставление бездушного,
поверхностного рационализма и художественного вдохновения ирра-
циональной творческой активности человека является общим местом
всех национальных форм романтизма. Однако у Одоевского с гораздо
большей силой, чем у западных романтиков, звучит тема единства рас-
судка и вдохновения. Кроме того, он радикально преодолевает типич-
ный для романтиков индивидуализм и утверждает мистическую духов-
ную взаимосвязь и единство людей в их цельной духовной сущности.
В попытках описания указанной цельной духовной сущности челове-
ка Одоевский обращается к Шеллингу, к его концепции безусловного зна-
ния: «Он (Шеллинг. — И. Е.) отличал безусловное, самобытное, свобод-
ное самовоззрение души — от того воззрения души, которое подчиняется,
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 100.
2 Там же. С. 101.
70 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
например, математическим, уже построенным фигурам... он назвал пер-
вым знанием — знание того акта нашей души, когда она обращается
на самую себя и есть вместе и предмет, и зритель...»* Это первоначальное
и абсолютно свободное знание («знание акта самовоззрения») составля-
ет основу всех других, подчиненных и ограниченных форм человеческо-
го знания. Его содержание превышает возможности рассудка, и поэто-
му Одоевский настаивает на том, что это «знание» связано с особым
внутренним чувством, с особой внутренней способностью души, кото-
рую он называет инстинктивной, или инстинкту алъной, способно-
стью, силой души.
Предвосхищая построения Бергсона, Одоевский полагает, что зна-
ние разума состоит только в том, чтобы выразить в материальной фор-
ме те откровения, которые оказываются доступны инстинктуальному
чувству. Но как только разум выходит за рамки этой задачи и претенду-
ет на самостоятельное или даже главенствующее положение, человек
теряет «цельность» и становится односторонним, «плоским» человек&м.
«Необходимо, чтобы разум наш иногда оставался праздным и переста-
вал устремляться вне себя, иначе — дать место развитию инстинкту-
ального чувства, ибо точно так же, как человек может дойти до сума-
сшествия, предаваясь одному инстинктуальному бессознательному
чувству... так может дойти до глупости, умертвив совершенно в себе
инстинктуальное чувство расчетом разума. Таким образом, первооб-
разы поэтические являются душе лишь во время ее инстинктуально-
го состояния, явление сих первообразов в материи есть преимущест-
венно дело разума»2.
Разум оказывается той силой души, которая приспособлена для
выражения высших откровений в несовершенном и раздробленном
материальном мире. Основой цельности человека и человеческого духа
может выступать только инстинктуальное чувство, поэтому именно оно
ответственно за мистическую взаимосвязь, объединяющую всех лю-
дей в духовное единство. Вот как Одоевский описывает эту взаимосвязь:
«Мы говорим не словами, но чем-то, что находится вне слов и для чего
слова служат только загадками, которые иногда, но отнюдь не посто-
янно, наводят нас на мысль, заставляют нас догадываться, пробужда-
ют в нас нашу мысль, но отнюдь не выражают ее... Когда два или три
человека говорят от души, они не останавливаются на большей или
меньшей полноте своих слов; между ними образуется внутренняя гар-
мония; внутренняя сила одного возбуждает внутреннюю силу другого;
их соединения, как соединения организмов в магнетическом процес-
се, возвышает их силу... »3
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 136.
2 Одоевский В. Ф. Наука инстинкта. Ответ Рожалину // Одоевский В. Ф.
Русские ночи. С. 201.
3 Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 135.
Глава 1. Поиски самобытности
71
Как мы видим, здесь Одоевский очень близок по своим взглядам
к Чаадаеву с его идеей мирового сознания, объединяющего всех лю-
дей. Можно отметить только одно, но достаточно существенное отли-
чие: в то время как для Чаадаева мировое сознание первично по отно-
шению к сознанию отдельного человека и всецело определяет его, у Одо-
евского акцент перенесен на активность и свободу индивидуального
сознания, которое с помощью своего инстинктуального чувства произ-
водит объединение духовных сущностей всех людей; их единство ока-
зывается вторичным, конструктивно определенным. Выявленное
здесь различие будет постоянно возобновляться в истории русской фи-
лософии. Будучи полностью согласными в том, что отдельный человек
существует и развивается духовно только в рамках объемлющей его
духовно-мистической цельности, отдельные мыслители будут ставить
акцент либо на первичности этого духовного целого (А. Хомяков, И. Ки-
реевский, Вл. Соловьев, С. Франк, П. Флоренский, Л. Карсавин и др.),
либо на творческой активности и свободе отдельной личности (А. Гер-
цен, Л. Лопатин, Л. Шестов, Н. Бердяев и др.).
Анализ способностей человеческого духа ведет Одоевского к соот-
ветствующей концепции того «сокровенного знания», которое должно
стать конечной целью человека и достижение которого будет основой
для преодоления последствий человеческого «грехопадения». Посколь-
ку описанное выше «первоначальное знание» «есть знание внутреннее,
инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожден-
ное, — то таковы должны быть и все знания человека»1. Все реальные
науки, созданные человеком, являются только искусственными и «из-
уродованными» частями единой и подлинной науки, живущей в глуби-
не его души. «В этой науке... должны соединяться все науки, существую-
щие под различными названиями, как в телесном организме соеди-
няются все формы природы...»2 Однако единство и универсальность
указанной науки не означает, что она существует помимо и независи-
мо от эмпирического сознания человека, независимо от его индивиду-
альной души. Одоевский вновь делает акцент на необходимости инди-
видуальных усилий личности для возможности развития высшего «ин-
стинктивного» знания; в результате оно оказывается и универсальным,
и лично окрашенным. Он пишет: «Каждый человек должен образовать
свою науку из существа своего индивидуального духа. Следственно,
изучение не должно состоять в логическом построении тех или других
знаний... оно должно состоять в постоянном интегрировании духа,
в возвышении его, — другими словами, в увеличении его самобытной
Деятельности»3. «Знание» оказывается тождественным «жизни» духа,
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 137.
2 Там же.
3 Там же.
72 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
его саморазвитию, поэтому оно и есть то главное, что ведет человека
к совершенству и, значит, позволяет человеку спасти не только себя,
но и все мироздание. Очевидно, что понимаемое таким образом «зна-
ние» может быть названо гнозисом в том самом смысле, как этот тер-
мин использовался в многовековой гностической традиции.
В дальнейшем мы увидим, что знание-жизнь, живое знание, проти-
вопоставляемое формальному знанию, порождаемому человеческим ра-
зумом, станет ключевым понятием почти для всех русских мыслите-
лей религиозного направления и получит особенно детальную разра-
ботку в системе Вл. Соловьева.
Наконец, в своем главном сочинении Одоевский заявляет еще одну
тему, которая пройдет через всю дальнейшую историю русской фило-
софии, — тему гибели западной цивилизации, основанной на критерии
пользы и подчинившейся господству формального рассудка. Именно
последнее ведет к постепенной деградации в западном обществе науки
и искусства и исчезновению подлинного религиозного чувства. «Поги-
бают три главные деятели общественной жизни! — восклицает по это-
му поводу Одоевский. — Осмелимся же выговорить слово, которое,
может быть, теперь многим покажется странным и через несколько вре-
мени, — слишком простым: Запад гибнет!»1 Предвосхищая главный
тезис славянофилов, Одоевский считает, что только один народ еще
сохранил силу инстинктивного знания и, значит, может спасти себя
и всю европейскую культуру — это русский народ.
В творчестве Одоевского мы находим почти все основные идеи и темы
русской философии, однако он даже не пытается подать их в виде связной
и строгой философской системы, предпочитая, в духе своего времени, ро-
мантически-образный, предельно свободный стиль, полностью пренебре-
гая доказательностью, а часто и последовательностью изложения ради
непосредственности и эмоциональной выразительности, доступности
смысла философских рассуждений для каждого. Здесь проявляется еще
одна черта русской философской мысли, вновь заставляющая вспомнить
о гностической традиции.
В лице наиболее ярких своих представителей философия в России
с самого своего зарождения предстает не только как попытка отыскать
ответы на самые главные, трагические проблемы жизни, но и как реаль-
ное деяние, приравниваемое к деяниям правителей, пророков, свя-
тых — и даже более значимое, поскольку оно указывает верный путь
и правителям, и пророкам, и святым. И потому для русских филосо-
фов была неприемлема известная позиция Спинозы: поп ridere, поп
lugere, neque detestari, sed intelligere (не смеяться, не плакать, не про-
клинать, а понимать), предполагающая разделейность философии и ре-
альной жизни со всеми ее страстями и страданиями (позиция, против
которой особенно яростно боролся Л. Шестов). Для них, наоборот, очень
1 Одоевский В. Ф. Русские ночи. С. 147.
Глава 1. Поиски самобытности
73
часто в философских рассуждениях важнейшим являлся как раз
аргумент, использующий страстное и безрассудное «не приемлю!» —
« не приемлю несовершенство мира, не приемлю страдания людей и зло
в их душах, не приемлю смерть и гибель духовных ценностей».
Эта тема остро звучит у Одоевского, и именно это «не приемлю» вы-
ступает одним из главных его аргументов в борьбе против холодного ра-
ционализма. Разум потому не может быть главным критерием челове-
ческой жизни, «что он еще не уничтожил страдания на земле; говорить,
что страдание есть необходимость, — значит противоречить тому нача-
лу, которое в нашей душе произвело возможность вообразить существо-
вание нестрадания, откуда взялось оно?»1 Этот риторический, но пол-
ный боли и страсти вопрос Одоевского будет постоянно повторяться но-
выми поколениями русских мыслителей и художников — от требования
Белинского к философу (Гегелю) «дать... отчет во всех жертвах живой
жизни и истории»2 и отрицания Достоевским высшей гармонии, если
в ее основе лежит хотя бы одна «слезинка ребенка», до цветаевского:
«Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ»3.
§ 9. Славянофильство. А. Хомяков и И. Киреевский
В отличие от Одоевского, для которого проблемы религиозной веры,
особенно в ее исторической, церковной форме, не представляли перво-
степенной важности, Хомяков все свои главные сочинения посвящает
именно попыткам выразить «правильное» понимание христианства
и христианской церкви. Согласно Хомякову, который вместе с И. Кире-
евским стал основателем славянофильства, это истинное содержание
сохранилось только в русском православии, в то время как католицизм
и протестантизм радикально отклонились от пути, предначертанного
основателем христианства и его учениками.
Практически все серьезные исследователи творчества Хомякова
отмечают, что резкая критика католической церкви и католического
догмата в его сочинениях не имеет под собой почти никаких реальных
аргументов и выражает только его внутреннюю религиозную страст-
ность и бескомпромиссность. Однако по-настоящему глубокой и ори-
гинальной оказывается хомяковская интерпретация Церкви; за ней,
по сути, стоит оригинальное понимание человека в его подлинной мис-
тической сущности, — очень близкое к тому, которое задал в своих
«Философических письмах» Чаадаев.
1 Одоевский В. Ф. Письмо А. А. Краевскому // Одоевский В. Ф. Рус-
ские ночи. С. 235.
2 Белинский В. Г. Собр. соч. в 9 т. Т. 9. М., 1982. С. 443.
3 Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. М., 1979. С. 354.
74 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Особенности этой интерпретации наглядно выступают при срав-
нении ее с представлениями о сущности Церкви, свойственными ка-
толичеству и протестантизму. Церковь в западном христианстве —
это объединение верующих, понимаемое (как это впервые выразил
Августин) не только и не столько в материальном смысле, как при-
надлежность к определенным материальным, земным институтам
и включенность в некоторые материальные, земные процедуры, —
но в духовном смысле, как духовное единение людей. Церковь —
это невидимый «град Божий», связывающий духовными узами ис-
тинно верующих и отмеченных Богом — тех избранных, которым
будет даровано Спасение.
С этим утверждением, по всей видимости, согласятся все христиа-
не, к какой бы конфессии они не принадлежали. Однако существен-
ные разногласия начинаются тогда, когда пытаются ответить на ряд
важных вопросов: какой характер носит эта духовная общность хрис-
тиан в Церкви? в чем она выражается? и к каким последствиям ведет
в видимой земной жизни?
Августин полагал, что единство верующих носит мистический ха-
рактер, и именно поэтому его ясное осознание недоступно самим чле-
нам Церкви. В равной степени и истинно верующий, и «ложно» верую-
щий могут быть психологически уверенными в своей принадлежности
к Церкви, к духовной общности людей, однако реально только первые
находятся в ней, в то время как вторые исключены из него. С точки
зрения нашей низшей, земной жизни, у нас нет никаких достоверных
критериев для подтверждения или опровержения своей «включенно-
сти» в эту общность.
В дальнейшем эта концепция претерпела некоторые изменения,
однако неизменным осталось убеждение, которое лежит в ее основе, —
убеждение в радикальном различии «точек зрения» человека и Бога.
Реальный смысл духовной связи верующих в Церкви открыт только
Богу, человек же не способен достичь однозначного понимания и под-
тверждения этой духовной связи. Вера — это «только» вера, это чело-
веческая и, значит, несовершенная форма выражения духовного един-
ства людей в Боге. В этом смысле противостояние веры и знания нельзя
объяснить тем, что первая обладает полнотой Истины, а второе — нет,
речь должна идти скорее о различии, определяемом объектом, на ко-
торый направлено человеческое постижение; в грядущей жизни оба
этих измерения нашего постижения должны быть заменены их божест-
венными коррелятами, бесконечно превышающими земное знание
и земную веру.
Августиновское понимание Церкви непосредственно взаимосвязано
с платоновской моделью человека, которая анализировалась во Введе-
нии. Здесь мы также находим резкий дуализм материального и идеаль-
ного, земного и божественного, причем в данном случае эти оппозиции
Глава 1. Поиски самобытности
75
не совпадают, вторая является более радикальной, чем первая. Духов-
ное единство истинно верующих становится по-настоящему реальным
для человека только в грядущей жизни, после спасения и соединения
с Богом. Это значит, что единство верующих в Церкви является все-
таки иным, чем единство верующих с Богом; последнее (достижимое
только после смерти) преобразует первое и раскрывает его смысл. Един-
ство Церкви — это только первая ступень на пути к единству с Богом, и
даже само наличие первого единства становится очевидным после до-
стижения второго.
Единство с Богом означает в то же время преодоление материаль-
ной, греховной природы человека, поэтому различие двух «уровней»
единства непосредственно связано с различием двух форм существо-
вания человека. В своей земной жизни человек подчинен материаль-
ному, и это лишает его возможности непосредственного и адекватного
восприятия и выражения истинной, божественной по своей сути, ду-
ховности. Только радикальное преображение человеческого существо-
вания, переход в другой план бытия — к бытию в единстве с Богом —
дает человеку возможность стать подлинно и всецело духовным су-
ществом. В основе традиционного христианского представления о че-
ловеке лежит резкий дуализм материального и духовного, поэтому
все принципиальные различия между добром и злом, разъединенно-
стью и единством, несовершенством и совершенством христианское
мировоззрение сводит (в духе Платона) к различию между материаль-
ным миром и божественным Духом. Но тогда совершенно естествен-
ное утверждение о невозможности абсолютного добра, абсолютного
единства и абсолютного совершенства в земной жизни превращается
в утверждение о невозможности подлинной духовности. Духовность
во всей ее полноте становится достоянием нашего грядущего, божест-
венного состояния, земное же состояние человека оказывается цели-
ком во власти материального начала. В земной жизни нам недоступ-
на вся полнота единства с Богом; и даже то духовное единство, ко-
торое уже реализовано в христианской Церкви, хотя и выступает
основой и целью веры, но не является определяющим фактором на-
шей жизни.
В свою очередь отсюда следует, что главная задача человека — это
борьба с материальным началом ради грядущей духовности и необхо-
димость дополнения ветры реальными делами, направленными на борь-
бу с материальным началом. И хотя эти реальные дела должны иметь
обоснование в вере — ибо вера дает человеку само направление борьбы
за духовное против материального, — они в существенной степени не-
зависимы от нее, поскольку вера дает ограниченную форму постиже-
ния всей полноты единства человека с Богом, а дела помогают реализо-
вать низшую стадию этого единства — единство людей в исторической
Церкви.
76 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Проведенная «реконструкция» традиционного (средневекового)
христианского мировоззрения, родоначальником которого выступил
Августин, наглядно показывает, какую огромную роль в этом миро-
воззрении играло различие «Церкви видимой» и «Церкви невиди-
мой». Последняя является объектом веры и станет по-настоящему
реальной для нас только в грядущей жизни; в земной жизни един-
ственным выражением нашего единства с Богом выступает «Церковь
видимая». Резкий дуализм материального и духовного, унаследован-
ный христианством от платонизма, привел к тому, что только мате-
риальное становится действенным и реальным объектом приложения
человеческой активности, и только через развитие материального
признается возможным постижение и развитие духовного и боже-
ственного. В результате сама Церковь сводится к иерархии земных
людей. Пусть даже за этой формой мыслится божественное содержа-
ние, это не меняет сути дела — Церковь есть совокупность конкрет-
ных материальных индивидов, и причастность к Церкви реализуется
только через совокупность материальных процедур, таинств; тот
факт, что за ними мыслится мистическое содержание, является важ-
ным, но все-таки вторичным.
В этой связи идеологический переворот, осуществленный Возрож-
дением, выглядит естественным, хотя, как это ни парадоксально, не
столь уж существенным. Возрождение «реабилитирует» земную, мате-
риальную сторону человеческого бытия; это приводит к тому, что ма-
териальное в еще большей степени подчиняет себе духовное как уни-
версальная форма его выражения. Происходит не столько «возвыше-
ние» материального, сколько «снижение» духовного; представление
духовного в материальном оказывается его ограничением, удалением
из духовного всех мистических, божественных черт. Именно это на-
правление восторжествовало в европейской культуре Нового времени
и придало западной цивилизации известные черты практицизма и
« умеренности »1.
На этом фоне Реформация предстает как попытка сохранить боже-
ственный, мистический статус духовности. Тезис Лютера «sola fide»
(«только верою») — это попытка сохранить дистанцию между духов-
ным и материальным для того, чтобы сохранить мистическую глуби-
ну духовности. Однако, подчеркивая эту дистанцию, протестантизм
1 Необходимо оговориться, что, конечно же, все сказанное относится к
«массовой» культуре Возрождения и Нового времени; в лице своих наибо-
лее талантливых творцов Возрождение дает уникальный пример гармо-
ничного синтеза божественной духовности и материального начала. Од-
нако, в конечном счете, сближение материального и духовного в западной
культуре привело все-таки к ограничению того чувства божественной,
трансцендентной духовности, которое было свойственно средневековому
человеку.
Глава 1. Поиски самобытности
77
вынужден отрицать возможность адекватного выражения единства
человека с Богом в материальных формах, в частности в церковной
иерархии. Это ведет к тому, что религия становится личным делом
верующего и в протестантизме воцаряется религиозный индивидуа-
лизм. Очень характерна дальнейшая историческая судьба протестан-
тского мировоззрения. В нем происходит резкое обособление двух
направлений. В первом из них главным стало стремление к бесконеч-
ной божественной духовности, приобретающее предельное напряже-
ние и имеющее итогом возрождение крайнего мистицизма, который
оказал весьма плодотворное влияние на философию (от Я. Бёме до
Фихте и Шеллинга) и художественную культуру (романтизм); во вто-
ром — противопоставление духовной и материальной сфер привело
к тому, что сфера божественной духовности была признана непости-
жимой и недоступной для человека в его земной жизни. Это послед-
нее направление нашло себе воплощение в протестантских сектах
(баптисты, квакеры и т. п.) и в конечном счете стало мировоззренче-
ской основой западного прагматизма1. Первое, мистическое, направ-
ление в протестантизме оказалось значительно более глубоким и цель-
ным, чем второе, однако тяготение к индивидуализму означало ослаб-
ление идеи мистического единства всех людей; главным здесь стало
ощущение мистического единства отдельного (и одинокого) человека
с Богом.
Экскурс в историю христианского мировоззрения позволяет осо-
знать оригинальность тех идей, которые выдвигает Хомяков. Здесь
вновь приходится вспомнить удачное суждение Зеньковского о «мис-
тическом реализме», характерном для русских мыслителей. Для Хо-
мякова Церковь — это всеобъемлющее и абсолютное единство людей
друг с другом и с Богом, причем раскрывается это единство не в гряду-
щей жизни, а в земном бытии человека. Это такое же точно понимание
христианства, как и в мистическом варианте протестантизма, но толь-
ко без свойственного этому направлению противопоставления духа
и материи (и, соответственно, без крена в индивидуализм). По убежде-
нию Хомякова, Церковь есть мистическое явление божественной ду-
ховности непосредственно в нашем земном мире. Поэтому он отвергает
традиционное августиновское разделение Церкви на «видимую» и «не-
1 Как известно, решающее влияние религиозного мировоззрения на
бурное экономическое развитие протестантских стран подробно анализи-
ровалось М. Вебером. В частности, он выделил в протестантизме и два рас-
смотренных здесь направления, задающие полярные формы религиозно-
го отношения к миру; для их характеристики Вебер ввел важные «типи-
ческие» понятия — «мистика» и «аскетизм» (см.: ВеберМ. Теория ступеней
и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранные произ-
ведения. М., 1990. С. 308-312).
78 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
видимую». Это разделение предполагает невозможность воплощения
полноты божественной благодати и божественного единства в земной
жизни и в земной Церкви. Хомяков же утверждает прямо противопо-
ложное: «Церковь живет даже на земле не земною, человеческой жиз-
нию, но жизнию божественной и благодатною. Посему не только каж-
дый из членов ее, но и вся она торжественно называет себя святою.
Видимое ее проявление содержится в таинствах; внутренняя же жизнь
ее в дарах Духа Святого, в вере, надежде и любви»1. Необходимо под-
черкнуть, что здесь речь идет не о «натурализации» божественной
благодати, как это происходит в протестантских сектах, а, наоборот,
о мистическом дополнении материального и земного духовным и бо-
жественным. Через Церковь мы уже в нашем временном, эмпириче-
ском состоянии непосредственно причастны божественному единству
и благодати.
Отсюда вытекает следующее определение Церкви у Хомякова: «Цер-
ковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Бо-
жьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоря-
ющихся благодати... Единство же Церкви не мнимое; не иносказатель-
ное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов
в теле живом»2. Хомяков подхватывает идею Чаадаева о «мировом со-
знании», объединяющем всех людей, но при этом он полагает указан-
ное единство более органичным и глубоким, поскольку оно охватыва-
ет не только мышление человека (как полагал Чаадаев), но все его ду-
ховные проявления, всю целостность человеческого духа. Именно
поэтому Церковь нельзя представлять чем-то внешним человеку, как
охватывающее его единство, она есть, скорее, пронизывающая его
жизнь. «Церковь не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь
христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь жийут
в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его,
или кровь, текущая в его жилах... »3 Более того, Хомяков подчеркивает,
что Церковь есть не только духовное единство, но также единство мате-
риальное, единство через тело и кровь Христа. «Не без тела воскрес-
нем, — пишет он, — и никакой дух кроме Бога не может вполне назвать-
ся бестелесным. Презирающий тело грешит гордостью духа»4.
Мистический характер этого духовно-материального единства осо-
бенно наглядно проступает в убеждении Хомякова, что оно простира-
ется не только на всех живущих, но и на уже умерших и еще не рож-
денных, причем это единство не пассивное, а активное, предполагаю-
щее, что каждый член этого органического единства может влиять и
1 Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. М., 1994. С. 18.
2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 43-44.
4 Там же. С. 14.
Глава 1. Поиски самобытности
79
реально влияет на всех других. Это влияние выражается во взаимной
молитве верующих друг за друга. «Мы... молимся в духе любви, зная,
что никто не спасется иначе, как молитвою всей Церкви, в которой
живет Христос, зная и уповая, что покуда не пришло совершение вре-
мен, все члены Церкви, живые и усопшие, непрестанно совершенст-
вуются взаимною молитвою»1.
Отрицание Хомяковым дуалистической противоположности мате-
рии и духа приводит к тому, что взаимное влияние людей друг на дру-
га не требует обязательного физического воздействия. «В обществе здо-
ровом и цельном всякое движение мысли есть уже деятельность: лица,
связанные между собою живою органической цепью, невольно и по-
стоянно действуют друг на друга...»2 Именно поэтому Хомяков реши-
тельно возражает против тезиса католической догматики о необходи-
мости дополнения веры реальными делами. Такое дополнение предпо-
лагает противоположность материального и духовного; для Хомякова
вера и реальные (благие) дела человека составляют органическое един-
ство, одно без другого немыслимо: «Вера есть начало, по самому суще-
ству своему, нравственное, нравственное же начало, которое бы не за-
ключало в себе стремления к обнаружению, обличило бы тем самым
свое бессилие или, точнее, свое небытие. Обнаружение веры и есть дело;
ибо и молитвенный вздох, едва зачавшийся во глубине сокрушенного
сердца, есть такое же дело, как и мученичество»3.
Для обозначения сущности органического духовного единства лю-
дей в Церкви Хомяков использует известное понятие «соборность»,
которое стало одним из важнейших в системе понятий русской рели-
гиозной философии. Указанное единство, по Хомякову, было практи-
чески реализовано первыми христианскими Вселенскими соборами,
добивавшимися согласия в догматических вопросах не за счет принуж-
дения меньшинства к воле большинства, а путем выявления единой
истины, с которой не может не согласиться ни один духовно свобод-
ный человек4. «Свобода человеческого разума состоит не в том, — пи-
шет по этому поводу Хомяков, — чтобы по-своему творить Вселенную,
1 Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. М., 1994. С. 20.
2 Он же. Аристотель и всемирная выставка // Благова Т. И. Родона-
чальники славянофильства. Алексей Хомяков и Иван Киреевский. М.,
1995. С. 191.
3 Он же. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. С. 97.
4 Другим адекватным воплощением принципа соборности в общест-
венной жизни Хомяков считал русскую сельскую общину. В оценке этого
убеждения Хомякова можно согласиться с мнением Н. Бердяева, который
Утверждал, что идея соборности не должна привязываться к частным ма-
териальным условиям экономической жизни общества; см.: Бердяев Н.А.
Алексей Степанович Хомяков. М., 1912.
80 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
а в том, чтоб уразумевать ее свободным употреблением своих познава-
тельных способностей, независимо от какого бы то ни было внешнего
авторитета»1.
Органическое единство людей в Церкви предполагает свободное
вхождение человека в это единство, добровольное согласие, исходящее
из понимания своей укорененности в высшей духовной реальности.
Тем не менее в своем понимании свободы (восходящем к Августину)
Хомяков ближе к Чаадаеву, чем к Одоевскому. Свобода в значитель-
ной степени сводится им к «свободному согласию» с соборной Церко-
вью; в соответствии с этим тот, «кто отрицает христианское единство,
тот клевещет на христианскую свободу, ибо единство — ее плод и про-
явление»2. Именно поэтому Хомяков почти не употребляет в позитив-
ном смысле понятия индивидуальной свободы, сближая ее (в духе Ча-
адаева) с произволом и отпадением от единства Церкви. Как утверж-
дает Хомяков, ничего нельзя приписать самому человеку, «кроме зла,
противоборствующего в нем делу Божию: ибо человек должен быть не-
мощен, дабы в душе его могла совершиться Божия сила»3. И еще более
выразительные слова: «Все благое творит в нас Христос, в вере ли, на-
дежде ли, или любви. Мы же только покоряемся Его действию, но ни-
кто, даже из святых, как сказал Христос, вполне не покоряется»4.
Из всего сказанного становится ясным, что понятие Церкви у Хомя-
кова вовсе не исчерпывается его традиционным догматическим содер-
жанием. По сути, это условное обозначение для всей высшей, божествен-
ной сферы, сферы Абсолюта, из которой проистекает бытие мира и че-
ловека. Называя эту сферу Церковью, Хомяков тем самым постулирует
интимное единство человека с Абсолютом, предполагающее отсутствие
непроходимой пропасти между «здешним миром» и Богом. И конечно
же, использование этого понятия подчеркивает значение религиозной
веры и всей сферы религиозной жизни (как конкретной и необходимой
формы реализации мистического чувства) для постижения Абсолюта,
для постижения человеком своего единства с Абсолютом и через это —
для становления и развития личности в свете божественной Истины.
Здесь Хомяков подхватывает и углубляет идею Одоевского о том, что в цент-
ре человеческой души находится не разум, а интуитивно-мистическое
чувство, открывающее человеку цельную божественную реальность,
В силу этого и сам человек в своем подлинном духовном центре предста-
ет как абсолютная цельность, по отношению к которой его частные спо-
собности выступают как формы ограничения.
1 Хомяков А, С. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. С. 184.
2 Там же. С. 183.
3 Там же. С. 48.
4 Там же. С. 22.
Глава t. Поиски самобытности и
81
В первую очередь это относится к разуму. «Дух Божий... доступен
только полноте человеческого духа под вдохновением благодати.
Попытка проникнуть в область веры и ее тайн только со светильниками
разума есть дерзость, в глазах христианина столь же безумная, сколь
преступная»1. Среди всех способностей, которыми обладает человек,
Хомяков важнейшее значение придает не разуму, а воле. Именно она
с наибольшей полнотой раскрывают активно-практический смысл
веры, фактически является необходимой формой реализации веры.
Соединение разума и воли составляет, по Хомякову, основу цельной
человеческой личности (даже онтологический Абсолют, подлинно су-
щее Хомяков определяет как «Болящий Разум»). В состоянии такой
цельности исчезает различие между субъектом и объектом, между от-
носительным и абсолютным, и человек постигает себя единым с Абсо-
лютом (с Церковью, взятой в ее онтологическом аспекте). Это пости-
жение и есть вера, или, по терминологии Хомякова, живознание (поня-
тие, уже встречавшееся у Одоевского). Его условием, или законом,
является любовь, поскольку только через любовь цельный человек реа-
лизует себя в единстве Церкви. «Из всемирных законов волящего разу-
ма или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа), —
утверждает Хомяков, — первым, высшим, совершеннейшим является
в неискаженной душе закон любви»2. Без любви, обеспечивающей «со-
борность» личности, даже вера оказывается субъективной и подвержен-
ной сомнению. «Чтобы возвыситься над сомнением и заблуждением,
ей нужно возвыситься над собой, нужно пустить корни в мир объек-
тивный, в мир святых реальностей, в такой мир, которого она была бы
частью, и частию живой, неотъемлемою... Этот мир... заключается толь-
ко во внутреннем единении человеческой субъективности с реальной
объективностью органического и живого мира, в том святом единстве,
закон которого не есть ни абстракт, ни что-либо изобретенное челове-
ком, а Божественная реальность — Сам Бог в откровении взаимной люб-
ви: это Церковь»3. Нетрудно видеть, что здесь Хомяков присоединяется
к весьма древней мистической концепции любви, в которой любовь по-
нимается как главная метафизическая сила, объединяющая бытие.
После того как интуитивно-мистическое постижение Абсолюта осу-
ществилось, оно может стать предметом обособленного разума; здесь
появляется различие субъекта и объекта и возникает традиционная про-
блематика познания, которая и составляет содержание западной фи-
лософии Нового времени (особенно в рамках рационализма). Для Хомя-
кова все эти проблемы оказываются разрешимыми только на основе при-
нятия принципа живознания и связанного с ним принципа цельности
1 Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. С. 46.
2 Он же. Поли. собр. соч. в 8-ми т. М., 1900-1914. Т. 1. С. 280.
3 Он же. Соч. в 2-х т. Т. 2. Работы по богословию. С. 157.
82 Я. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
человеческой личности. Тем самым в его философии осуществляется
характерный поворот от обоснования онтологии с помощью гносеоло-
гии, что было характерно для всей западной философии начиная с Де-
карта, к обоснованию гносеологии с помощью мистической онтологии.
По существу, этот поворот был намечен уже Чаадаевым, однако Хомяков
дает ему гораздо более ясное выражение; и хотя он не смог привести свои
мысли в этой области в связную систему (во многих случаях можно найти
прямые неувязки и противоречия в его идеях, например, в описании от-
ношений между основными «атрибутами» личности: разумом, волей,
любовью, верой), этот аспект его философских рассуждений сыграл важ-
нейшую роль в дальнейшем развитии русской философии, более того —
стал одной из наиболее характерных ее особенностей.
В сочинениях второго родоначальника славянофильства И. Кире-
евского особенно подробное развитие получила идея целостности и кон-
кретности человека. Западные мыслители, пишет Киреевский, «пола-
гают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся
сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Од-
ним чувством понимают они нравственное; другим — изящное; полез-
ное — опять особым смыслом; истинное они понимают отвлеченным
рассудком, и ни одна способность не знает, что делает другая, покуда
ее действие совершится»1. Разделение всех духовных способностей че-
ловека и господство холодного рассудка, абстрактного анализа перво-
начально (в эпоху формирования европейской цивилизации) привело
к быстрому развитию просвещения Европы, становлению науки и тех-
ники. Однако, в конце концов, считает Киреевский, оно же завело в
тупик развитие культуры. Человек и все западное общество утратили
единый и единственный смысл своего существования. Для восстанов-
ления этого смысла необходимо понять, что рассудочный анализ поле-
зен и эффективен только во внешней сфере нашего бытия, но он не дол-
жен касаться главного духовного средоточия культуры.
Чтобы объяснить, почему так редко мы видим среди людей по-на-
стоящему «цельные» личности (что осталось непонятным из ргЛсуж-
дений Хомякова), Киреевский проводит различие между «внутренним»
и «внешним» человеком (повторяя идею, впервые выдвинутую Г. Ско-
вородой). Задача каждого — найти в себе истинного «внутреннего» че-
ловека, найти ту сферу, где сохранено абсолютное единство всех духов-
ных способностей и, в первую очередь, единство разума и веры. Однако
этого мало. Хотя «внутренний» человек — это духовный центр лично-
сти, тот, кто откроет в себе этот центр, должен достичь также единства
1 Киреевский Я. В. О характере просвещения Европы и о его отноше-
нии к просвещению России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.,
1979. С.274
Глава 1. Поиски самобытности
83
своего «внешнего» и «внутреннего» существа — должен достичь един-
ства с окружающей реальностью. И это оказывается значительно бо-
лее сложной задачей, на которую способны лишь немногие.
Во всех своих работах Киреевский неустанно борется с идеализмом,
восторжествовавшим в западной философии и отделившим человека,
его сознание от реальности, ст мирового бытия. Познание должно быть,
утверждает Киреевский вслед за Хомяковым, не идеальной деятель-
ностью рассудка, а делом всей живой, целостной личности, и его ре-
зультатом должно быть живое знание, синтезирующее в себе практи-
ческое, абстрактно-рациональное, этическое, эстетическое и религи-
озное отношение человека к миру. Впрочем, в центре этого живого
знания все-таки находится религиозная вера, именно поэтому в своей
подлинной сущности оно есть Богопознание, и в его основе лежит ощу-
щение коренного единства человека с Богом.
§ 10. Персонализм А. Герцена
Славянофильство вошло в историю как первая самобытная школа
национального философствования. Некоторые ключевые идеи и прин-
ципы русской религиозной философии впервые были сформулирова-
ны и получили исходное развитие в сочинениях представителей этой
школы, которые видели свое главное дело в выявлении «истинного»,
глубинного смысла православного христианства. Именно в этом каче-
стве славянофилы оказали решающее воздействие на творческое раз-
витие Ф. Достоевского и Вл. Соловьева — двух крупнейших русских
мыслителей XIX века, окончательно определивших контуры философ-
ского мировоззрения России.
Однако несмотря на первостепенное значение деятельности славя-
нофилов, невозможно обойти вниманием противоположное идеологи-
ческое и общественное движение, оформившееся в ту же эпоху (вторая
четверть XIX века). В то время как основополагающей интенцией сла-
вянофилов было утверждение особой исторической судьбы России, до-
казательство радикального отличия русского духовного характера,
русской культуры от культуры и духовности Запада, мыслители «за-
паднического» направления полагали, что все недостатки и противо-
речия развития России связаны с тем, что она недостаточно последова-
тельно следует тем принципам, которые определяют историческое и
культурное бытие цивилизованных западных государств.
В общественно-политической жизни России XIX века славянофи-
лы и западники представали резко очерченными группировками, до-
статочно ясно противостоящими друг другу. Однако если отвлечься от
борьбы «партий» и оценивать каждого мыслителя только по тем кон-
кретным идеям, которые провозглашены в его сочинениях, то окажется,
что противостояние западников и славянофилов сильно преувеличено,
84 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
по крайней мере в отношении проблемы «Запад — Россия». Деятели
славянофильской ориентации, как правило, высоко оценивали про-
гресс в материальной и нравственной сфере, достигнутый Западом в
течение столетий своего развития; они полагали только, что этот про-
гресс неизбежно ведет к застою и упадку в главной, духовной сфере —
и прежде всего из-за абсолютного господства рационализма, формаль-
ной законности и т. д.; одновременно они не боялись резко критико-
вать явные недостатки российской жизни и российской истории. В то же
время многие западники не в меньшей степени, чем славянофилы, при-
знавали радикальное отличие России от Запада, специфику ее истори-
ческой судьбы и критически относились к перспективам дальнейшего
прогресса западной цивилизации (особенно известны высказывания
на этот счет Чаадаева и Герцена).
Различие западничества и славянофильства в отношении указан-
ной проблемы нужно рассматривать скорее как противоположность
двух тенденций в достаточно цельной философии истории, в равной ме-
ре характерной почти для всех русских мыслителей середины XIX века.
Ее основой является осознание радикального отличия эмпирической
истории России от исторического пути Западной Европы, а главной за-
дачей — объяснение причин этого отличия и доказательство превос-
ходства России над Западом в перспективе исторического развития.
Именно в понимании причин указанного различия происходило ради-
кальное размежевание западников и славянофилов. Славянофилы по-
лагали, что расхождение исторических путей Запада и России обуслов-
лено принципиальным различием духовного характера наций. Запад-
ники, наоборот, исходили из того, что все многообразные особенности
жизни наций, составляющие суть их отличия друг от друга, имеют
чисто эмпирическое происхождение, в то время как законы истории
едины и неизменны. Отличие России они видели в том, что в современ-
ных условиях Россия в большей степени готова к плодотворному сле-
дованию тем принципам, которым должно подчиняться естественное,
«правильное» течение истории, тогда как Запад оказался в историческом
«тупике» из-за измены этим принципам (которые он впервые осознал).
Значительно более ясно противоположность между славянофила-
ми и западниками выступает не в различной интерпретации «русской
идеи», а в разном понимании основных ценностей, определяющих со-
циальную и личную жизнь человека. Славянофилы были убеждены,
что богатство духовной жизни общества, обусловливающее развитие
каждой личности, всецело зависит от правильного развития и правиль-
ного (центрального) положения в культуре религии и Церкви и, соот-
ветственно, ставили акцент на принципе соборности, отдавали пред-
почтение духовной общности людей, а не их индивидуальной свободе.
В противоположность этому западники доказывали первостепенное
Глава L Поиски самобытности
85
значение науки и рациональной социальной практики для развития
общества и одновременно в качестве важнейших ценностей провозгла-
шали индивидуальную свободу и независимость личности. Поскольку
российская действительность первой половины XIX века совершенно
не отвечала требованию абсолютного уважения прав и свобод лично-
сти, составлявшему незыблемую основу общественной жизни в евро-
пейских странах, западники приходили к выводу о необходимости ре-
волюционного преобразования России. В конечном счете идея рево-
люции в развитии западничества вышла на первый план и полностью
заслонила идею личной свободы (вспомним, что Ленин и Сталин по сво-
им идеологическим принципам также должны быть отнесены к запад-
никам). Однако с точки зрения истории русской философии наиболь-
шим достижением западничества является именно разработка прин-
ципа индивидуальной свободы личности.
Родоначальником западничества традиционно считается Чаадаев,
хотя очень многие принципы его мировоззрения (в том числе и его пред-
ставление о личности) ближе к идеям славянофилов, чем к идеям наи-
более ярких и последовательных представителей западничества, таких
как Н. Станкевич, М. Бакунин, В. Белинский и др. Но наиболее глубо-
кое философское выражение мировоззрению западников дал Алек-
сандр Герцен.
В то время как у основоположников славянофильства одной из важ-
нейших тем была резкая критика философии Гегеля — воплощения
западного рационализма, Герцен (как и все остальные западники) на-
чинает свое философское творчество с восторженного принятия гегель-
янства. Причем принимает он его по той же самой причине, по какой
его критиковали славянофилы, — за претензию установить универсаль-
ные законы развития человеческого общества и человеческой культу-
ры. Тот факт, что в гегелевской системе почти не оставалось места для
традиционно понимаемой религии и тем более Церкви, ничуть не сму-
щал Герцена. На первое место в общественной жизни должна выйти
наука, которая поможет людям открыть все закономерности природ-
ного бытия и через их использование добиться реализации главных
целей человеческого прогресса.
Однако принятие этих основных положений вовсе не означает, что
Герцен превращается в некритичного последователя плоского гегелев-
ского рационализма, весьма популярного в XIX веке в Европе. Герцен
по-своему расставляет акценты в системе идей, позаимствованных у
Гегеля. Главным здесь оказывается признание абсолютного значения
личностного начала в человеке. Эта тема проходит через все главные
сочинения Герцена (а также отражается в его письмах и дневниковых
записях), усиливаясь в последние годы жизни до своеобразного ирра-
Ционалистического персонализма, не признающего ничего абсолютного
в мире, кроме личности отдельного человека.
86 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Уже в первой крупной работе «Дилетантизм в науке», излагая свое
понимание роли философии и науки в обществе, Герцен подчеркивает,
что устранение личностного начала наукой является мнимым; наука
способна быть эффективным орудием человека, только если она соеди-
няется с развитой личностью, более того, наука должна помочь под-
линному «рождению» личности. «Процесс погубления личности в на-
уке, — пишет Герцен, — есть процесс становления в сознательную, сво-
бодно разумную личность из непосредственно естественной; она
приостановлена для того, чтоб вновь родиться»1.
Соединение формальной истины (науки) с живой душой человека
необходимо для того, чтобы сама наука стала не просто абстрактным
знанием, но деятельной силой жизни. Главная характеристика лично-
сти для Герцена — это воля, способность к действию (совсем как у Хо-
мякова!): «Действование — сама личность»2. «В разумном, нравствен-
но свободном и страстно энергическом деянии, — пишет он, — человек
достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире
событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в
конечности, представитель рода и самого себя, живой и сознательный
орган своей эпохи»3.
Полагая, что в этих суждениях он следует духу гегелевской фило-
софии, Герцен утверждает, что понимание гегельянства как чистого
рационализма и формализма — это искажение подлинного замысла
автора «Феноменологии духа». Отвлеченная, формальная наука — это
только одна (хотя и важная) ступень в развитии духа; понять значение
науки можно, только правильно определив ее подчиненное положение
внутри целостности жизни. Понятие жизни становится центром всей
1 Герцен А. И. Дилетантизм в науке // Герцен А. И. Собр. соч. в 9-ти т.
Т. 2. М., 1955. С. 67. Вряд ли можно считать правильным утверждение
В. Зеньковского о том, что в работе «Дилетантизм в науке» и в других ран-
них работах Герцен целиком разделяет гегелевское негативное отношение
к человеческой личности (см.: Зенъковский В. В. История русской фило-
софии. Т. 1. Часть 2. С. 88-91). Можно согласиться только с тем, что от-
дельные суждения Герцена резко противоречат друг другу; например, наря-
ду с высказыванием «разум не знает личности этой; он знает одну необхо-
димость личностей вообще» (Герцен А. И. Дилетантизм в науке. С. 66) у hero
можно найти не менее выразительное суждение: «Только живой душой
понимаются живые истины» (там же. С. 20). Зеньковский в своем труде
приводит только те цитаты, которые свидетельствуют об отрицании жи-
вой, конкретной личности, в то же время Герцен везде делает решитель-
ный акцент именно на необходимости сохранить живую, цельную личность
в науке.
2 Он же. Дилетантизм в науке. С. 70; ср. С. 77.
3 Там же. С. 72.
Глава 1. Поиски самобытности
87
той интерпретации философии Гегеля, которую Герцен осуществляет
в работах «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы».
«Мы согласны с формалистами, — пишет он, — что наука выше жиз-
ни, но в этой высоте свидетельство ее односторонности; конкретно ис-
тинное не может быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть в са-
мом средоточии ее, как сердце в середине организма. Оттого что наука
выше жизни, ее область отвлеченна, ее полнота не полна*1. «Конкрет-
но истинное», о котором здесь идет речь, это и есть высшее знание, до-
стигаемое только цельной, живой личностью с помощью положитель-
ного, творящего разума — так Герцен называет главную характерис-
тику личности — волю2.
В рассматриваемых работах Герцен не уточняет, какой смысл он
вкладывает в понятие «жизнь», тем не менее ясно, что, противопостав-
ляя «жизнь» отвлеченному и формальному знанию, он имеет в виду
богатство и иррациональную полноту непосредственного бытия приро-
ды и человека. При этом Герцен по-разному оценивает соотношение
жизни и отвлеченного знания. В одних случаях, как в только что про-
цитированном отрывке, он считает, что знание и жизнь находятся в
единстве, причем знание выступает как выделенная, экстрагирован-
ная сущность жизни. В других случаях отвлеченное знание и жизнь
оказываются как бы двумя полюсами бытия, в существенной степени
независимыми друг от друга и противостоящими друг другу; при этом
человек понимается Герценом как соединительное звено между указан-
ными полюсами. Имея в виду природу, Герцен пишет: «Ей бытие так
же дорого, как знание: она любит жить, а жить можно только в вакхи-
ческом кружении временного; в сфере всеобщего шум и плеск жизни
умолк; гений человеческий колеблется между этими противополож-
ностями; он как Харон, беспрестанно перевозит из временной юдоли
в вечную; эта переправа, это колебание — история, и в ней собственно
все дело...»3
В силу такого «промежуточного» (и значит, центрального!) положе-
ния человека в структуре мирового бытия (между «вакхическим кру-
жением временного» и сферой всеобщего, вечного) человек должен на-
учиться гармонично соединять отвлеченный разум с противоположны-
ми ему способностями — с творческой любовью и жизненным деянием.
«Отвлеченная мысль есть беспрерывное произношение смертного при-
говора всему временному, казнь неправого, ветхого во имя вечного и
непреходящего; оттого наука ежеминутно отрицает воображаемую не-
зыблемость существующего. Деяние сознательной любви творчески
1 Герцен А. И. Дилетантизм в науке. С. 76 -77.
2 Там же. С. 77.
3 Герцен А. И. Письма об изучении природы // Герцен А. И. Собр. соч.
в 9-ти т. Т. 2. С. 123.
88 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
создательно. Любовь есть всеобщее прощение, снисходительное, при-
жимающее к груди своей самое временное за след вечного, отпечатлен-
ного на нем. Но чистые отвлечения не имеют возможности существо-
вать, противоположное находит место, вкрадывается и развивается в
доме врага своего; отрицание науки чревато с первого появления поло-
жительным. Эта скрытая положительность освобождается любовью,
струится во все стороны, как теплотвор, беспрерывно стремясь найти
условия осуществления и выхода из области всеобщего отрицания
в область свободного деяния... »1 В этом контексте Герцен особенно под-
черкивает значение гегелевской диалектики как той формы, в которой
удается выразить все богатство жизни в противовес формальности и
односторонности абстрактной науки.
Сформулированное отношение между наукой и жизнью Герцен при-
писывает самому Гегелю, оговариваясь, впрочем, что «Гегель часто
непоследователен своим началам»2. По сути, Герцен выступает здесь
как один из отдаленных предшественников неогегельянства, которое на
рубеже XIX и XX столетий окончательно отбросило совершенно невер-
ное представление об абсолютном рационализме гегелевской системы
и превратило Гегеля в философа, предельно близкого трагическим
исканиям XX века. Герценовский подход к философии Гегеля помимо
прочего помогает понять, насколько глубоким и естественным было об-
ращение к гегелевскому наследию — после уничтожающей критики
славянофилов и Вл. Соловьева — русских религиозных философов
начала XX века. В частности, не вызывает никаких сомнений прямое
влияние идей Герцена на формирование неогегельянской концепции
И. Ильина, объявившего Гегеля «величайшим иррационалистом» в ис-
тории мировой философии (см. главу 8).
Дальнейшее развитие философского мировоззрения Герцена заклю-
чалось в усилении двух основных мотивов его ранних работ. С одной
стороны, представление о богатстве жизни перерастает постепенно
в ощущение иррациональности и бессмысленности мира, окружающего
человека3. Мир управляется рациональными законами, но, как утверж-
дает теперь Герцен, эти законы ограничены в своем действии и не спо-
собны укротить разгул случайного, алогичного, нелепого в природе и,
особенно, в жизни человека. С другой стороны, Герцен еще более ре-
шительно, чем раньше утверждает значение человеческой лич!)рсти,
внутреннего духовного мира человека, который необходимо сохранить
и укрепить в борьбе с иррациональностью мира. «Вне нас все изменяется,
1 Герцен А. И. Дилетантизм в науке. С. 71-72.
2 Там же. С. 84.
3 Несомненно, на это повлияли трагические события личной жизни
Герцена — смерть трех его детей.
Глава 1. Поиски самобытности
89
все зыблется, — пишет он, — мы стоим на краю пропасти и видим, как
он осыпается; сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не
является на небе. Мы не сыщем гавани иначе как в нас самих, в созна-
нии нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независи-
мости»1.
В ранних работах Герцен подчеркивал единство природы и разума,
доказывал необходимость достижения гармонии между личностью и
миром. Теперь он говорит в основном о противоречии между ними, при-
чем провозглашаемый Герценом персонализм приобретает ярко вы-
раженный трагический оттенок. Погруженный в иррациональную,
полную нелепых и грозных случайностей природу, обреченный на бес-
плодную и безнадежную борьбу за воплощение нравственного и соци-
ального идеала человек может опираться только на самого себя и на
свою свободу. И как философское кредо звучат следующие слова Гер-
цена: «Я не советую браниться с миром, а начать независимую, само-
бытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение, даже
тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы... Если вы сильны,
если в вас есть не только что-нибудь годное, но что-нибудь глубоко ше-
велящее других, оно не пропадет, — такова экономия природы. Сила
ваша, как капля дрожжей, непременно взволнует, заставит бродить все
подвергнувшееся ее влиянию; ваши слова, дела, мысли займут свое
место, без особенных хлопот»2.
Безграничная свобода, самостоятельность личности требуют пре-
дельной ответственности человека за свои поступки; абсолютность лич-
ности выражается, по мнению Герцена, в том, что человек должен из-
нутри самого себя, через свою свободу создать себе нравственный иде-
ал и беспрекословно следовать ему: «Свободный человек создает свою
нравственность... Незыблемой, вечной нравственности так же нет, как
вечных наград и наказаний»3. В этом элементе мировоззрения Герцена
можно увидеть предвосхищение «бунта» Ницше против традиционных
ценностей и его требования «переоценки всех ценностей»4. Подобной
переоценке Герцен подвергает роль христианства в истории европей-
ского человечества. «Христианство, религия противоречий, — пишет
он, — признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица,
как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед ис-
куплением, Церковью, Отцом небесным... оно выработалось в целую
1 Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 3. М.,
1956. С. 348-349.
2 Там же. С. 361.
3 Там же. С. 360.
4 Близость идей Герцена и Ницше отмечалась, например, С. Булгако-
вЬ1м, см.: Булгаков С. Я. Душевная драма Герцена // Булгаков С. Н. Соч.
в 2-х т. Т. 2. М., 1993. С. 115-117.
90 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
систему нравственной неволи...»* Центральным элементом этой систе-
мы «нравственной неволи» Герцен считает дуализм, утверждение ан-
тагонизма души и тела в человеке. «Христианство, раздвояя человека
на какой-то идеал и какого-то скота, сбило его понятия; не находя вы-
хода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, ча-
сто откровенному, что противуположность слова с делом его не возму-
щает»2. Безрелигиозный, почти атеистический персонализм Герцена в
одном из своих важнейших моментов оказывается полностью совпада-
ющим с религиозной антропологией славянофилов. Герцен точно так
же, как Хомяков и Киреевский, выдвигает на первый план принцип
цельности человеческой личности, не признающий даже различия тела
и духа, мысли и поступка.
Однако в двух других моментах — в оценке свободы личности и в по-
нимании форм единства людей в их совместной жизни в обществе —
между антропологическими концепциями Герцена и славянофилов
пролегает пропасть. Признавая мистическое единство людей первич-
ным и определяющим по отношению к их личностному бытию, славя-
нофилы утверждали, что человек глубоко причастен Абсолюту и име-
ет высшее божественное предназначение в мире через эту причастность.
Герцен, наоборот, признает стремление к общественности только одной
из «стихий» внешней человеческой жизни наряду с другой — разумным
эгоизмом. Вся история человечества, по его мнению, есть взаимодействие
и борьба двух этих сил, стремление достичь их равновесия; однако и
в этой борьбе человек должен считать непреходящей ценностью только
свою внутреннюю, личную независимость и свободу3.
Казалось бы, в своей философии Герцен обрывает связи человека
с Абсолютом, оставляя его наедине с самим собой. Тем не менее с помо-
щью главного принципа своей концепции Герцену удается частично
восстановить эту связь. Если для славянофилов индивидуальная сво-
бода — это зло, которое должно быть преодолено через подчинение
мистическому единству Церкви, то для Герцена она и есть метафизи-
ческий Абсолют, из которого проистекают все нравственные ценности
человека и в котором каждый человек признает свое единство, даже
тождество с другими (позже эту идею положит в основу своей филосо-
фии Н. Бердяев).
В творчестве Герцена с предельной ясностью выразилась установ-
ка, прямо противоположная той, что господствовала в философии
славянофилов. Другие представители западничества также полагали
1 Герцен А. И. С того берега. С. 355.
2 Там же. С. 357.
3 Там же. С. 359-360.
Глава 1. Поиски самобытности
91
в качестве центрального принципа своего мировоззрения принцип не-
зависимости и свободы личности. Однако у них этот принцип не имел
уже столь глубокого метафизического содержания, крен в сторону
крайнего материализма и атеизма привел к пониманию свободы как
только материальной, социальной независимости человека. В резуль-
тате из всего наследия Герцена его последователями была позаимство-
вана прежде всего достаточно неглубокая концепция «разумного эго-
изма», в предельно примитивной форме решающая сложную пробле-
му взаимосвязи личности и общества.
Согласно этой концепции правильное соотношение принципа лич-
ной независимости человека и установки на гармоничное объединение
людей в обществе можно достичь лишь в том случае, если поставить
интересы и цели личности на первый план. Если личность «правиль-
но» воспитана, если она обладает «правильными» представлениями
о мире и других людях, о добре и зле, преследуя свои интересы, она
в качестве своей «эгоистической» цели обязательно выберет благо дру-
гих людей и благо всего общества, поскольку реализация этого блага
выгодна и самому человеку. Очевидно, что эта позиция в значитель-
ной степени основывается на просветительской идеологии и предпо-
лагает, что человек добр по своей природе, а все зло в нем происходит
от неправильного воспитания.
Отдельно надо сказать о том развитии, которое претерпела в обще-
ственном сознании упомянутая выше установка Герцена на переоцен-
ку традиционных ценностей. Во взаимодействии с принципами фило-
софии М. Штирнера, как и Герцен, провозгласившего абсолютное зна-
чение личности и оказавшего большое влияние на общественную мысль
России, эта установка породила нигилизм — характернейшее обще-
ственно-политическое движение второй половины XIX века, которое
стало своеобразным русским «ницшеанством до Ницше». Поскольку
нигилизм стал одним из ключевых факторов политической истории
России рубежа веков, можно сделать вывод, что метафизическая сис-
тема, схематично очерченная Герценом, не осталась незначительным
эпизодом в духовном развитии России. Безрелигиозный персонализм
Герцена оказался важнейшим идеологическим элементом, без которо-
го процесс окончательного складывания целостного философского ми-
ровоззрения в России не мог быть завершен. В нем выразилась важ-
нейшая духовная интенция, которую в исходной форме мы обнаружи-
ли уже у Пушкина и Одоевского и которую необходимо было каким-то
образом соединить с направлением, обозначенным Чаадаевым и сла-
вянофилами.
На первый взгляд, совместить эти мировоззренческие схемы почти
невозможно: признание в качестве Абсолюта мистической Церкви,
охватывающей человека, включающей в себя его личностное бытие,
92 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и признание Абсолютом самого человека, бездны его свободы — это два
подхода к метафизическим основаниям реальности, полностью проти-
воположные друг другу. Более того, второй из них содержит в себе внут-
реннее противоречие: по своему логическому определению Абсолют
должен исключать из себя все конечное, в том числе человека с его сво-
бодой. Однако в столкновении двух этих направлений со всей силой
проявилась специфика русской философии, не боящейся крайних про-
тиворечий и парадоксов в своих построениях. Эти тенденции были све-
дены воедино, и их единство стало общей основой для всех философ-
ских систем конца XIX- начала XX века. Создал эту основу мыслитель
и художник, который занимает центральное место во всей русской
культуре XIX-XX веков — Федор Достоевский.
4
Глава вторая
ЛИЧНОСТЬ КАК АБСОЛЮТ:
МЕТАФИЗИКА Ф. ДОСТОЕВСКОГО
§ 1. Проблема Достоевского
Всякий исследователь, стремящийся понять главные составляющие
философских воззрений Достоевского, должен признать невозмож-
ность во всей полноте реализовать поставленную задачу. Творчество
Достоевского не похоже на творчество тех художников-философов,
которые в своих произведениях стараются выразить заранее сформу-
лированные концепции; в произведениях Достоевского на первом пла-
не оказывается не связный комплекс идей, а непосредственность «жи-
вой жизни», главный «персонаж» его повестей и романов — это сама
стихия жизни, прослеживаемая вплоть до ее невидимых корней в бы-
тии. Тем не менее попытки сформулировать ключевые положения фи-
лософии Достоевского не совсем бесперспективны, хотя бы потому, что
почти все русские и многие западные мыслители последующей эпохи
испытали влияние Достоевского и отразили в своем творчестве те или
иные элементы его мировоззрения.
Литература, посвященная Достоевскому, необъятна; и даже если
ограничиться рассмотрением философских аспектов его творчества,
можно обнаружить десятки и сотни сочинений, дающих весьма ориги-
нальные и очень различные точки зрения на то, что нужно считать
«главным» в его мировоззрении. Однако среди этого многообразия все-
таки можно выявить некоторую закономерность и повторяемость.
Достаточно легко можно обнаружить несколько «модельных» концеп-
ций, которые дают наиболее характерные и существенно отличающиеся
друг от друга интерпретации.
Прежде чем говорить о них, необходимо сделать важное замечание.
Одним из существенных недостатков многих работ о Достоевском яв-
ляется смешение различных уровней рассмотрения его творчества.
Очень часто споры вокруг Достоевского имеют причиной именно это сме-
шение. Когда один исследователь оперирует чисто литературоведчески-
ми или психологическими категориями, а другой обращает внимание
94 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
только на философские идеи, выраженные в произведениях писателя,
понимание и единство не может быть достигнуто. Впрочем, эта ситуа-
ция является вполне объяснимой и даже неизбежной, поскольку одна
из особенностей таланта Достоевского заключается в том, что в его про-
изведениях мы часто не замечаем четких границ между сюжетно-
событийным, психологическим и философским уровнями осмысления
художественного материала.
В силу этого очень важно определить тот главный срез художествен-
ного мира Достоевского, по отношению к которому становятся понят-
ными все его составляющие. В данном случае стоит прислушаться
к мнению Н. Бердяева, который очень много сделал для правильного
разграничения главного и второстепенного в творчестве Достоевского.
Выражая общее убеждение большинства представителей русской ре-
лигиозной философии, Бердяев решительно утверждал, что Достоев-
ский — «величайший русский метафизик»1, что именно построение
определенной метафизической конструкции, описывающей самые глу-
бокие закономерности бытия, составляет главную цель его творчества.
Безусловно соглашаясь с этой мыслью, необходимо только еще раз
подчеркнуть (это отмечает и Бердяев), что метафизика Достоевского
выражена не в виде прямых рациональных тезисов (там, где Достоев-
ский все-таки отваживается высказывать такие тезисы, он изменяет
себе и чаще всего теряет провидческую зоркость, характерную для его
художественного творчества), а в конкретной, хотя часто почти фанта-
стической, жизни его героев, своим прихотливым течением демонстри-
рующей все сложности и противоречия метафизических истоков на-
шей реальной жизни.
Среди множества критических сочинений, посвященных мировоз-
зренческим основаниям творчества Достоевского, можно назвать три
наиболее характерные работы, задающие смысл тех главных, «модель-
ных» концепций, вокруг которых группируются все многочисленные
попытки понять мировоззрение писателя. Прежде всего нужно упомя-
нуть фундаментальный труд Н. Лосского «Достоевский и его христи-
анское миропонимание», законченный в 1939 г. и представляющий
собой наиболее последовательную разработку чрезвычайно популяр-
ной интерпретации Достоевского как религиозного писателя, поста-
вившего себе главной целью показать тупики безрелигиозного созна-
ния и доказать невозможность для человека жить без веры в Бога. Сама
эта интерпретация настолько распространена и носит настолько все-
общий характер, что ей в той или иной степени отдали дань практиче-
ски все исследователи Достоевского. К сожалению, и в наши дни боль-
шинство философских исследований о Достоевском создается именно
в рамках этой традиции, причем, как правило, их авторы не добавляют
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Фило-
софия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 144. J
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 95
ничего нового в уже известный набор аргументов и примеров, давно
освоенных русской философской классикой от К. Леонтьева и Вл. Со-
ловьева до Н. Лосского и Н. Бердяева.
Вторую «модельную» интерпретацию, которой далее будет уделено
особое внимание в силу ее чрезвычайной популярности как в россий-
ской, так и в западной литературе, дает концепция Михаила Бахтина,
впервые изложенная в книге «Проблемы творчества Достоевского»
(1929). Поскольку Бахтин утверждает в своих работах, что главное
творческое достижение Достоевского — это создание совершенно но-
вой формы «полифонического романа», создается впечатление, что его
интересует только литературная форма произведений Достоевского.
Однако на деле и его главной целью является анализ основных прин-
ципов метафизики Достоевского. «Поэтологический» подход был про-
сто вынужденным способом реализации такого анализа в условиях
жесткого идеологического диктата 20-30-х годов. Бахтин утвержда-
ет, что в основе романов Достоевского лежит принцип абсолютной
независимости свободных человеческих личностей, человеческих со-
знаний; в его интерпретации Достоевский оказывается сторонником
метафизического плюрализма, основанного на радикальном персона-
лизме и в значительной степени противоположного упомянутой выше
традиционной «монистической» интерпретации, в которой Бог есть
основа всего мирового бытия и высшее бытие.
Наконец, третью характерную интерпретацию творчества Достоев-
ского дает концепция Н. Бердяева, наиболее полно изложенная в его
книге «Миросозерцание Достоевского» (1923). На первый взгляд, Бер-
дяев просто соединяет принципы двух противоположных подходов,
обозначенных выше. С одной стороны, он утверждает, что главное в
метафизике Достоевского — это обоснование абсолютного значения
человеческой личности, несводимость ее к какому-либо «вышестояще-
му» Абсолюту; с другой стороны, в работах Бердяева нетрудно найти
и утверждения противоположного содержания — например: «самый
чистый человек, отвергший Бога и возжелавший самому стать богом,
обречен на гибель»1, — в которых явно просматривается традицион-
ная интерпретация Достоевского как христианского писателя, дока-
зывающего необходимость для каждого человека религиозной веры.
Однако преимущество того подхода, который реализует Бердяев,
как это ни странно, состоит именно в некоторой хаотичности и размы-
тости основных тезисов, что как бы воспроизводит неоднозначность
и диалектическую противоречивость философского мировоззрения
самого Достоевского. В некотором смысле важнейшим неявным ито-
гом исследования Бердяева является признание невозможности выра-
зить метафизику Достоевского с помощью одного постулата. Хотя Бер-
дяев и считает, что в основе творчества Достоевского лежит принцип
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 53.
96 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
абсолютности личности, в своем анализе он доказывает, что этот прин-
цип сочетается с другими, не менее важными: абсолютное значение
имеют и Бог, и свобода, и любовь, и даже зло и преступление. По сути,
Бердяев доказывает, что метафизика Достоевского плюралистична
не столько в сущностном, онтологическом плане, сколько в методоло-
гическом. Полагая человеческую личность в качестве Абсолюта, Досто-
евский имеет в виду не эмпирическую личность во всем ее многообра-
зии, а личность человека в ее метафизическом измерении, как некую
творческую, динамическую бездну бытия, как некую космическую за-
гадку. Для описания этой бездны, для разгадывания этой загадки пи-
сатель вынужден использовать различные, часто противоположные и
противоречащие друг другу понятия и принципы, среди которых очень
трудно выделить главные и второстепенные. Бог, свобода, любовь, доб-
ро, зло, сатана — это не что иное, как ограниченные и несовершенные
человеческие понятия, предназначенные для условного описания той
метафизической бездны, которая скрывается за каждым эмпириче-
ским человеком и укоренена в глубинах его личности.
Впрочем, «хаотичность» рассуждений Бердяева имеет не только
«позитивную» сторону; все-таки при философском анализе творчества
писателя необходимо было попытаться привести многообразие выяв-
ленных принципов к некоторому единству, тем более что та метафизи-
ческая конструкция, которая лежит в основе главных произведений
Достоевского, до некоторой степени поддается однозначной формули-
ровке. Этого Бердяев так и не смог сделать; и именно это будет главной
целью дальнейшего изложения.
Однако прежде мы попытаемся оценить правомерность двух наибо-
лее известных и полярных интерпретаций творчества Достоевского —
«традиционной» интерпретации, наиболее полно развитой Лосским,
и интерпретации Бахтина, особенно распространенной в наши дни.
§ 2. Был ли Достоевский религиозным писателем?
Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, кажущийся дос-
таточно странным по отношению к Достоевскому, необходимо вдумать-
ся в тот смысл, который мы вкладываем в понятие «религиозный ху-
дожник». Предельно ясно его смысл проанализировал И. Ильин
в работах «Основы художества. О совершенном в искусстве» и «О тьме
и просветлении. Книга художественной критики. Бунин—Ремизов-
Шмелев». Ильин утверждает, что мы имеем право называть искусство
религиозным только в том случае, когда в его основе лежит однознач-
но принятая религиозная установка. Религиозное искусство имеет
единственную цель — демонстрировать позитивное значение религи-
озной веры в жизни человека; даже отступления от веры должны изобра-
жаться художником только для того, чтобы яснее продемонстрировать
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 97
преимущества жизни, основанной на вере1. Принимая этот критерий,
Ильин из трех рассматриваемых в своей книге писателей признает под-
линно религиозным только Шмелева, отказывая в этом качестве Бу-
нину и Ремизову. В соответствии с тем, удовлетворяет или нет писа-
тель критерию религиозности, Ильин выстраивает свою шкалу оценок
художественной ценности произведений искусства. Высшую художе-
ственную ценность он приписывает именно религиозному искусству,
оставляя нерелигиозному сомнительную честь исследовать отдельные
«несущественные» или «темные» стороны человеческого бытия.
Не вступая в полемику с последним утверждением Ильина, очень
далеким от адекватного понимания богатства и сложности человече-
ской культуры, необходимо признать достаточно правильным его опре-
деление религиозного искусства. Религиозным может быть назван
только тот художник, который каждым своим произведением и всем
своим творчеством демонстрирует непоколебимую веру в Бога, дока-
зывает абсолютную ценность религиозной веры для человека и челове-
чества. Религиозное искусство всегда привержено строго иерархиче-
ской системе ценностей, в которой высшей ценностью, определяющей
все остальные, является религиозная вера, вера во всемогущего и все-
благого Бога.
Попытаемся оценить, удовлетворяет ли Достоевский указанному
критерию. На первый взгляд, можно привести достаточно много сви-
детельств в пользу положительного ответа на поставленный вопрос.
Многие важнейшие персонажи произведений Достоевского — это люди,
проходящие искус неверия, отвергающие веру в Бога как абсолютную
ценность и пытающиеся выбрать в качестве высших ценностей то, что
принадлежит земному миру, — любовь, славу, счастье ближних, со-
циальную гармонию, власть и т. д. Духовный крах, а часто и гибель
этих людей, казалось бы, и является главным свидетельством в пользу
абсолютной ценности веры и доказательством незыблемой религиоз-
ной установки Достоевского. Последовательно развивая эту аргумен-
тацию, Н. Лосский в своей книге о Достоевском приходит к следую-
щей характеристике: «Вера в Бога и Провидение всегда спасала и под-
держивала Достоевского в трудные минуты его личной жизни. И в своем
мировоззрении Достоевский, как всякий настоящий христианин, вы-
водил все мировые ценности, придающие жизни смысл и обеспечива-
ющие конечную победу добра, из положения, что Бог существует, что
Он — Творец мира и Промыслитель»2.
У Достоевского, действительно, можно без труда найти героев, ко-
торые обладают мировоззрением, характерным для «всякого настоя-
щего христианина», но если бы дело было только в этом (а Лосский
1 См.: Ильин И. А. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 6. Ч. 1. М., 1996.
2 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание //
Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 86.
4 Зак. 3-'}4
98 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и близкие к нему мыслители, например, В. Розанов и С. Булгаков,
считали, что главное в творчестве Достоевского — только в этом), то
Достоевский был бы просто одним из многих русских религиозных писа-
телей — от Лескова до Шмелева и Зайцева, — показывающих, что чело-
век обречен на деградацию без веры. В этом случае, пожалуй, можно
было бы сказать, что Достоевский дает талантливое художественное до-
казательство сформулированного Лосским тезиса, но нельзя было бы
понять, почему он занимает особое, почти уникальное место в русской,
а может быть и во всей европейской культуре XIX- начала XX века.
Указанная интерпретация «главного» в творчестве Достоевского
опирается на совершенно поверхностное, формальное прочтение его
произведений. Сила Достоевского в том, что он с равной убедительно-
стью дает изображение не только мировоззрения «настоящего христи-
анина», но и мировоззрения человека, только ищущего веру; или
человека, нашедшего веру, радикально расходящуюся с тем, что при-
нято «нормальным» в обществе; или даже человека, вообще отрекаю-
щегося от всякой веры. Причем Достоевский наглядно показывает, что
все эти мировоззрения могут быть предельно цельными и последова-
тельными, а исповедываю,щие их люди — не менее целеустремленны-
ми, сложными в своем внутреннем мире и значимыми в этой жизни,
чем «настоящие христиане».
Очень характерно, что главными, наиболее значимыми персонажа-
ми Достоевского Лосский считает именно носителей традиционного
христианского мировоззрения: Макара и Софью Долгоруких из рома-
на «Подросток», старца Зосиму и Алешу Карамазова из «Братьев Ка-
рамазовых». Присутствие первых двух лиц в этом списке вообще мож-
но считать курьезом, настолько незначительную роль эти персонажи,
словно пришедшие из повестей Лескова, играют в творчестве Достоев-
ского; в то же время, по почти единодушному мнению серьезных ис-
следователей, несмотря на то большое значение, которое писатель
придавал Зосиме и Алеше Карамазову в идейной структуре романа «Бра-
тья Карамазовы», этих персонажей нельзя отнести к наивысшим творче-
ским достижениям Достоевского, в художественной выразительности
и глубине они явно уступают другим, истинно главным его героям1.
Конечно, и эти герои — Раскольников, князь Мышкин, Рогожин,
Версилов, Ставрогин, Иван и Дмитрий Карамазовы — своей романной
судьбой частично подтверждают тезис об абсолютной ценности веры.
1 Особенно резко высказывался по этому поводу Л. Шестов; например:
«...старец Зосима — только обыкновенный лубок: голубые глаза, тщатель-
но расчесанная борода и золотое колечко вокруг головы» (Шестов Л. Умо-
зрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Соловьева // Шестов Л.
Умозрение и Откровение. Париж, 1964. С. 66; ср.: Шестов Л. На весах
Иова (Странствования по душам) // Шестов Л. Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2.
С. 87-88, 94-95).
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 99
Однако можно с уверенностью утверждать, что главное для Достоев-
ского не в этом. Главное, что получает отражение в образах этих и дру-
гих героев, — это выявление всей глубины и всей противоречивости
человеческой души. Если Достоевский изображает падшую душу, то
для него важно выявить логику ее «падения», выявить внутреннюю
«анатомию» греха, определить все основания и всю трагедию неверия,
греха, преступления. При этом трагедия неверия и греха вовсе не обя-
зательно должна разрешаться благостным и однозначным финалом.
Явной натяжкой является утверждение, что Достоевский изображает
падшие души только для того, чтобы показать неизбежность их дви-
жения к вере, — к традиционной христианской вере в Бога, «Творца
мира и Промыслителя» (как пишет Лосский). Не говоря уже о том, что
во многих случаях падшие души Достоевского готовы до конца упор-
ствовать в своем грехе, часто и само изображение «обращения» к вере
кажется уступкой некоторой заранее принятой схеме, внешней для
художественной логики произведения. Это бросается в глаза уже в пер-
вом большом романе Достоевского — в «Преступлении и наказании».
Раскаяние Раскольникова и все его нравственные муки связаны с тем,
что, совершив убийство, он порвал какую-то невидимую сеть взаимо-
отношений с другими людьми. Осознание невозможности существовать
вне этой живительной сети отношений и приводит его к покаянию,
причем нужно подчеркнуть, что покаяние осуществляется именно
перед людьми, а не перед Богом. Знаменитый эпилог, в котором про-
возглашается «воскрешение» личности Раскольникова, и «воскре-
шение» это связывается с обращением к вере, вряд ли можно считать
художественно обоснованным дополнением к основной части романа.
Совершенно очевидно, что новая жизнь Раскольникова никогда бы
не могла стать темой творчества Достоевского — это была не его тема1.
Можно упомянуть в этой связи и еще двух героев Достоевского, так-
же проходящих искус неверия, — Ставрогина и Ивана Карамазова. Им
вообще не было дано возрождения, оба гибнут: один физически, дру-
гой морально; но весь парадокс в том, что ни Ставрогин, ни Иван не
могут быть названы неверующими людьми, трагедия их жизни если
и несет в себе какую-то мораль, то такую, которая вовсе не сводится к
элементарному утверждению о необходимости веры. Здесь ставится го-
раздо более сложная проблема о вечной и неустранимой диалектике
веры и неверия в душе человека. Достаточно напомнить, что известная
«Легенда о Великом Инквизиторе», в которой, в частности, излагает-
ся представление о подлинной вере, — это сочинение Ивана Карамазо-
ва, а Ставрогин неоднократно упоминается на страницах романа «Бесы»
1 Интересно, что М. Бахтин считал эпилог «Преступления и наказания»
Редким для Достоевского примером «монологизма», противоречащим глав-
ному устремлению Достоевского к построению полифонического романа;
см.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 48.
100 И.И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
как человек, являвший для окружающих его людей примеры подлин-
ной, искренней веры (о чем свидетельствуют Шатов и Кириллов), —
впрочем, точно так же, как и примеры радикального неверия.
Гибель и возрождение человека в произведениях Достоевского за-
висят не только и не столько от веры, сколько от факторов более «зем-
ных», хотя и иррациональных — от свободы человека, его способности
любить и испытывать веления совести, от ощущения взаимосвязи лю-
дей в добре и зле. Формально все эти качества человека можно пола-
гать зависимыми от веры, если принять традиционную христианскую
систему ценностей, однако в произведениях Достоевского эта зависи-
мость не является такой уж очевидной и не имеет прямого художествен-
ного обоснования. Она прослеживается чаще всего только в «теоре-
тическом» аспекте, в «теоретических» диалогах и монологах героев
(известная беседа Ивана и Алеши Карамазовых, «Легенда о Великом
Инквизиторе», рассказ старца Зосимы, рассуждения Версилова и т. п.).
В тех случаях, когда в центре истории того или иного героя действи-
тельно находится «трагедия неверия» и поиск веры, сама искомая вера
оказывается очень далекой от традиционного догматического ее пони-
мания; чаще всего «трагедия неверия» у Достоевского органически
дополняется парадоксальной «трагедией веры», именно искренняя
вера, не признающая компромиссов, или ее искание становятся источ-
ником страданий и даже гибели героя, как это происходит, например,
с Кирилловым из романа «Бесы» (подробнее об этом речь пойдет ниже).
Все это, конечно же, очень далеко от той благостной картины, которую
изображает в своем исследовании Лосский. Именно по поводу таких
интерпретаций творчества Достоевского справедливо писал Бердяев:
«...лишь те, которые следуют не за духом Достоевского и не за гени-
альными и подлинно новыми его прозрениями, а лишь за поверхност-
ным сознанием и платформой "Дневника писателя", могут думать, что
у Достоевского все обстоит религиозно благополучно и что отпадение
от православной веры любимых его героев есть лишь грех, обыкновен-
ный грех, а не огненная жажда нового откровения, от которой сгорал
сам Достоевский »1.
В тесной связи с вопросом о характере религиозности Достоев-
ского-писателя находится вопрос о характере религиозности Досто-
евского-человека. По всей видимости, и на этот вопрос невозможно
ответить так однозначно, как это делает Лосский. В записной книжке
Достоевского мы находим известные слова: «Ив Европе такой силы
атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик
же я верую во Христа и Его исповедую. Через большое горнило сомнений
моя Осанна прошла»2. Достоевский не раз признавался, что в его жизни
1 Бердяев Н.А. Ставрогин // Бердяев Н. А. Философия творчества, куль-
туры и искусства. С. 185.
2 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Л., 1971-1989. Т. 27. С. 86.
рлдва 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 101
был период, когда он пребывал в глубоком неверии. Казалось бы, смысл
приведенного высказывания заключается в том, что вера все-таки была
им окончательно обретена и осталась незыблемой, тем более что про-
цитированная запись сделана Достоевским в 1881 г. — в последний год
жизни. Но нельзя не вспомнить и другое. Многие исследователи аргу-
ментировано доказывают1, что из героев «Братьев Карамазовых» —
последнего романа Достоевского — наиболее близок автору по своему
мировоззрению Иван Карамазов, тот самый Иван, который демонстри-
рует все глубину диалектики веры и неверия. Можно предположить,
что в жизни Достоевского, как и в жизни главных его героев, вера и не-
верие были не отдельными этапами жизненного пути, а двумя нераз-
рывными моментами, постоянно присутствующими в душе и обрекаю-
щими ее на бесконечные сомнения и борьбу с собой.
Обобщая эту проблему, можно поставить еще более сложный вопрос,
который, собственно, присутствует в произведениях Достоевского: как
вообще можно отличить человека, искренне верующего, и человека,
заявляющего «я верую», но несущего в душе сомнения в своей вере или
даже неверие? Каковы критерии и последствия истинной веры, особен-
но в мире, который во все большей степени обустраивается и развива-
ется на безрелигиозных началах? Ни герои Достоевского, ни сам автор
не смогли дать окончательного ответа на эти вопросы (эти вопросы
остались главными для всей русской философии после Достоевского).
Может быть, в этом, в частности, и заключается глубина и привлека-
тельность творчества великого писателя. И когда мы пытаемся припи-
сать Достоевскому однозначные оценки и суждения, как это делает
Лосский, мы тем самым подменяем его бесконечно богатый и противо-
речивый художественный мир приятной и «благостной» схемой.
§ 3. Персонализм Достоевского.
Концепция М. Бахтина
Теперь мы проанализируем ту метафизическую конструкцию, ко-
торую обнаруживает в произведениях Достоевского М. Бахтин. Хотя
Бахтин мало говорит о ней, основное внимание уделяя особенностям
формы «полифонического романа», творцом которого он считает До-
стоевского, ее смысл достаточно ясен.
«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и со-
знаний, подлинная полифония полноценных голосов, — пишет Бах-
тин — ...является основною особенностью романов Достоевского.
Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете
единого авторского сознания развертывается в его произведениях,
но именно множественность равноправных сознаний с их мирами
сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого
события»2. И далее: «В его (Достоевского. — И. Е.) произведениях
1 См., например: Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 85, 161.
2 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 6-7.
102 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
появляется герой, голос которого построен так, как строится голос са-
мого автора в романе обычного типа. Слово героя о себе самом и о мире
так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено
объектному образу героя как одна из его характеристик, но и не слу-
жит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная са-
мостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом
с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноцен-
ными же голосами других героев»1. И наконец, непосредственно о ме-
тафизике романов Достоевского: «Мир Достоевского глубоко плюра-
листичен. Если уж искать для него образ, к которому как бы тяготеет
весь этот мир, образ в духе мировоззрения самого Достоевского, то та-
ким является церковь, как общение неслиянных душ, где сойдутся и
грешники и праведники; или, может быть, образ дантовского мира, где
многоплановость переносится в вечность, где есть нераскаянные и рас-
каявшиеся, осужденные и спасенные. Такой образ в стиле самого До-
стоевского, точнее, его идеологии, между тем как образ единого духа
глубоко чужд ему»2.
Несмотря на странное сочетание существенно различных по содер-
жанию образов в последней цитате (ведь «дантовский мир» включает
не только Рай, но и Ад с Чистилищем, где души пребывают изоли-
рованными друг от друга, просто сосуществующими вне общения;
в то время как Церковь — это именно мистическое общение душ),
мысль Бахтина предельно ясна: форма полифонического романа была
нужна Достоевскому для того, чтобы выразить важнейший принцип
своего мировоззрения — убеждение в абсолютной независимости и сво-
боде человеческой личности. Таким образом, здесь речь идет о персона-
лизме Достоевского, очень похожем на персонализм Герцена, о кото-
ром шла речь выше (это сравнение вполне уместно, если принять во вни-
мание, что Герцен, по свидетельствам самого Достоевского, оказал
на него сильное влияние).
Далее Бахтин подчеркивает слова писателя о том, что для него было
главным изобразить «человека в человеке». «Для Достоевского не суще-
ствует идей, мыслей, положений, которые были бы ничьими — были бы
"в себе". И "истину в себе" он представляет в духе христианской идео-
логии, как воплощенную в Христе, т. е. представляет ее как личность,
вступающую во взаимоотношения с другими личностями»3.
Для того чтобы критически оценить концепцию Бахтина, прежде все-
го попытаемся понять, какое преломление в конкретном художествен-
ном методе того или иного писателя могут иметь принципы «плюрализ-
ма» и «полифонии», взятые в самом общем их значении. Здесь, вообще
говоря, обнаруживаются два аспекта. Во-первых, акцент может быть
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 7.
2 Там же. С. 31-32.
3 Там же. С. 38.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 103
сделан на бесконечной полноте и самобытности внутреннего мира от-
дельных «неслиянных» личностей; во-вторых, можно полагать глав-
ным именно взаимную независимость личностных центров, в этом слу-
чае писателя в меньшей степени должен интересовать внутренний мир
героев, остающийся как бы «непроницаемым», все внимание должно
переноситься на выражение внешней специфичности личностей.
Если писатель в своем творчестве реализует принцип «плюрализ-
ма» в первом из отмеченных аспектов, он нацелен на предельно ясное
обозначение различия внутренних миров героев и при этом должен стре-
миться к тому, чтобы показать всю глубину этих миров. Наиболее
естественно это можно сделать через психологический анализ, осуще-
ствляемый автором или самим героем.
Совершенно очевидно, что Достоевский вовсе не ставит себе такой
цели, а его художественный метод скорее антипсихологичен (хотя бы
потому, что его герои очень далеки от реальных людей, «фантастич-
ны» по своему внутреннему миру). Вся линия развития европейского
психологического романа лежит далеко в стороне от традиции Досто-
евского. Тонкий психологический анализ внутреннего мира героев,
выявление внутреннего своеобразия каждой реальной личности мы
находим у главного «антагониста» Достоевского — у Льва Толстого.
В этом смысле мировоззрение Толстого также может быть признано
«плюралистичным», предполагающим, что каждая личность — это бес-
конечный, самостоятельный мир, независимый от других личностей.
Противопоставляя Достоевского Толстому, Бахтин явно преувеличи-
вает степень «центрированности» и «монологичности» художественно-
го мира Толстого1. Последний «центрирован» только в той степени,
в какой реальные люди реально «центрированы» той объективной
действительностью, в которой они вынуждены жить, и, значит, «плю-
рализм» мировоззрения Толстого в такой же мере относителен, в ка-
кой относительна наша независимость от окружающего мира в усло-
виях эмпирической действительности (в этом смысле Бахтин прав по
отношению к Толстому).
Приписывая Достоевскому принцип абсолютного плюрализма лич-
ностных начал, Бахтин, очевидно, полагает, что у Достоевского этот
принцип получает художественное воплощение исключительно во вто-
ром из указанных выше аспектов. Если это так, то мы должны обнару-
жить в произведениях Достоевского изображение предельно самобыт-
ных и непостижимых до конца в своей внутренней сути людей, причем
Указанная самобытность должна как-то проявляться в поступках и речи
героев. Попробуем понять, есть ли это в произведениях Достоевского.
Что касается необычных и даже «фантастических» поступков, то их
присутствие в жизни героев Достоевского не вызывает никакого сомне-
ния. Однако такие поступки должны быть не просто необычными, они
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 65.
104 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
должны свидетельствовать о самобытности человека, его неповторимо-
сти, непохожести на окружающих; т. е. они должны быть непредска-
зуемыми, неожиданными для окружающих. Хотя такие поступки при-
сутствуют в романах Достоевского и, как правило, играют существен-
ную роль для характеристики героев, их оказывается совсем немного:
убийство старухи-процентщицы Раскольниковым и самоубийство
Свидригайлова (в «Преступлении и наказании»), выходка Ставрогина
на приеме у губернатора (в «Бесах»), попытка самоубийства Версило-
ва (в финале «Подростка») и т. д. Однако другая, не менее существен-
ная часть поступков героев Достоевского оказывается предсказуемой
и ожидаемой. Покаяние Раскольникова, убийство Настасьи Филиппов-
ны Рогожиным и множество других, может быть, менее ярких, но не
менее существенных поступков совершается в романах Достоевского
уже после того, как они были предсказаны или даже подсказаны тому,
кто их совершает.
И уж совсем мало убедительных примеров в пользу концепции Бах-
тина дает анализ того, что говорят герои Достоевского. Все стилевые
особенности речи, как правило, выражают у Достоевского не индиви-
дуальность человека, а его социально-культурную принадлежность,
недаром герои одного социально-культурного уровня говорят совершен-
но идентичным в стилевом отношении языком. Если же взять персона-
жей, находящихся на первом плане, то мы увидим, что очень часто
в своих диалогах они как бы «подыгрывают» друг другу: и стилисти-
ка, и содержание диалогов объединены какой-то невидимой системой
отношений, словно управляются из единого центра. Все это мало по-
хоже на стремление выразить целостность и индивидуальность неза-
висимых личностей и, конечно, противоречит главной идее Бахтина.
Но самое интересное, что известная теория Бахтина о диалогизме ро-
манов Достоевского прямо противоречит его утверждению о плюра-
лизме, господствующем в их художественном мире. Вспомним основ-
ные положения указанной теории.
Бахтин утверждает, что романная форма до Достоевского предпо-
лагала только монологическое слово; речь каждого персонажа была
непосредственно зависима лишь от его объективной характеристики
и выражала эту характеристику, она никак не «откликалась» на речь
другого, не учитывала ее в своей структуре. В романах Достоевского,
утверждает Бахтин, все наоборот. «У Достоевского почти нет, — пи-
шет он, — слова без напряженной оглядки на чужое слово. В то же вре-
мя объектных слов у него почти нет, ибо речам героев дана такая по-
становка, которая лишает их всякой объектности»1. Полностью соглаша-
ясь с этим высказыванием, читаем дальше: «Основные для Достоевского
стилистические связи — это вовсе не связи между словами в плоско-
сти одного монологического высказывания, — основными являют-
ся динамические, напряженнейшие связи между высказываниями,
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 236.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 105
между самостоятельными и полноправными речевыми и смысловыми
центрами, не подчиненными словесно-смысловой диктатуре моноло-
гического единого стиля и единого тона»1.
По поводу последнего вывода уже необходимо задать вопрос: возмо-
жен ли диалогизм в бахтинском понимании — как постоянная огляд-
ка на чужое слово и постоянный учет его смысла — без наличия опре-
деленной формы смысловой координации и единства? Совершенно оче-
видно, что Бахтин отождествляет «монологизм» (во всех его смыслах)
с «объективностью», понимая под последней наличие единой точки зре-
ния, которая является внешней по отношению к позиции участников
диалога и чуждой им, в том смысле как объективный материальный
мир чужд внутреннему духовному миру человека. Справедливо утверж-
дая, что Достоевский полностью отвергает таким образом понятую
«объективность» (именно поэтому у Достоевского практически нет
объектных слов, обладающих однозначным и всеобщим смыслом), Бах-
тин в силу упомянутого неявного отождествления отвергает одновре-
менно все возможные формы монологизма, не замечая, что диалогизм
на феноменальном уровне не только не отвергает, но даже предполага-
ет «монологизм» на уровне сущности (т. е. как раз на уровне метафизи-
ческих оснований художественной реальности) — как сущностную цен-
трированность художественного мира, преодолевающую плюрализм
личностных центров и делающую полифонию в содержательном смыс-
ле иллюзорной.
Наличие «динамических, напряженнейших связей» между выска-
зываниями героев вопреки утверждению Бахтина вовсе не препятствует
тому, чтобы слова героев и их духовные миры были подчинены смыс-
ловой «диктатуре» некоторого единого центра; более того, такой центр
явно присутствует в каждом романе Достоевского. Удивительно, что
сам Бахтин приводит характернейшие примеры именно такой «дикта-
туры» внешнего по отношению к герою смыслового центра! Рассмат-
ривая внутренний монолог «подпольного человека», Бахтин убедитель-
но показывает, что внутренняя речь героя только по видимости моноло-
гична и определяется его собственным мнением, но по сути представляет
собой постоянный диалог с чужими голосами, по отношению к кото-
рым и выстраиваются характеристики, которые герой дает самому себе.
«Герой не знает, чье мнение, чье утверждение в конце концов его окон-
чательное суждение: его ли собственное, покаянное и осуждающее, или,
наоборот, желаемое и вынуждаемое им мнение другого, приемлющее
и оправдывающее его»2.
В ранних повестях Достоевского «центрированность» повествования
носит неявный, скрытый характер; смысловой центр, от которого
зависят все герои, как правило, не вполне определен. В романах До-
стоевского наличие такого центра гораздо более очевидно. Очень
1 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 237.
2 Там же. С. 273.
106 И, И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
выразителен анализ образа Настасьи Филипповны, проводимый Бах-
тиным. «Считая себя виновной, падшей, она в то же время считает, что
другой, как другой, должен ее оправдать и не может считать ее винов-
ной. Она искренне спорит с оправдывающим ее во всем Мышкиным,
но так же искренне ненавидит и не принимает всех тех, кто согласен с
ее самоосуждением и считает ее падшей. В конце концов Настасья Фи-
липповна не знает и своего собственного слова о себе: считает ли она
действительно сама себя падшей или, напротив, оправдывает себя?..
Вся ее внутренняя жизнь... сводится к исканию себя и своего нераско-
лотого голоса за этими двумя вселившимися в нее голосами»1. Где же
здесь полифония и (абсолютный) плюрализм «неслиянных сознаний» ?
Если весь образ Настасьи Филипповны — это демонстрация трагиче-
ской невозможности избавиться от зависимости, от навязываемой из-
вне смысловой определенности личности, то, значит, художественный
мир Достоевского построен не только на принципе (абсолютной) неза-
висимости личностных центров, но не в меньшей степени и на принци-
пе глубокой внутренней зависимости личностей друг от друга и от не-
которого общего смыслового центра. Многочисленные примеры, при-
водимые Бахтиным во второй части своей книги, демонстрируют это
не только по отношению к Настасье Филипповне, но и по отношению
к другим героям Достоевского.
Необходимо подчеркнуть, что Бахтин не всегда достаточно четко
формулирует свое понимании принципа полифонии, в его работах мож-
но выделить два различных смысловых аспекта употребления этого
понятия (в применении не только к романам Достоевского, но и к исто-
рии литературы вообще). В одном случае полифония понимается как
чисто литературный метод, применение которого превращает про-
изведение в диалогическое взаимодействие самостоятельных героев;
в другом — содержание этого понятия целиком определяется через рез-
ко плюралистическую метафизическую конструкцию. В первом смыс-
ле «полифония» практически тождественна идее «диалогизма»2; в этой
Т Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 273.
2 В связи с этим противопоставление двух выделенных смысловых ас-
пектов можно перевести и в чисто метафизическую плоскость, если при-
дать метафизическое содержание самой идее диалогизма — как принци-
па, выражающего неустранимую внутреннюю взаимосвязь человеческих
личностей и их постоянное и неустранимое взаимное влияние друг на дру-
га. Наличие двух таких противоположных тенденций в творчестве Бахти-
на прекрасно показано в работе: Батищев Г. С. Диалогизм или полифо-
низм? (Антитетика в идейном наследии М. М. Бахтина) // М. М. Бахтин
как философ. М., 1992. С. 123-141. Однако автор статьи понимает терми-
ны «диалогизм» и «полифонизм» в смысле, обратном тому, который ана-
лизируется в данной главе («диалогизм» как противостояние абсолютно не-
зависимых личностей-атомов, а «полифонизм» как принцип взаимодей-
ствия и обусловленности личностей), что, на наш взгляд, не вполне соот-
ветствует логике Бахтина.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 107
части концепция Бахтина не вызывает никаких возражений за исклю-
чением не раз отмечавшегося в литературе факта, что такая «полифо-
ния» вовсе не является открытием Достоевского и, по-видимому, есть
столь же древний литературный метод, как и «монологизм»1. А вот вто-
рой, метафизический, смысл принципа «полифонии» в применении
к Достоевскому выглядит гораздо более спорным.
Причина того разительного противоречия, которое возникает меж-
ду идеей полифонии, понятой во втором смысле, как принцип метафи-
зического плюрализма, и идеей диалогизма, очевидна. Концепция диа-
логизма основана на конкретном анализе текстов Достоевского и дей-
ствительно отражает одну из характерных и важных особенностей
художественного метода писателя. В то же время концепция полифо-
нии и строгий плюрализм независимых личностей, якобы господствую-
щий в романах Достоевского, — это умозрительная добавка, связан-
ная со скрытой антитоталитарной установкой Бахтина и понятная по
отношению к тем историческим условиям, в которых он жил и работал,
но совершенно не обоснованная по отношению к творчеству Достоев-
ского как таковому2. Если в романах Достоевского и есть полифония
1 Впервые на это указал А. Луначарский в статье 1929 г., которую Бах-
тин подробно разбирает во втором издании своей книги о Достоевском (см.:
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 39-43). Луначарский
совершенно справедливо указывает, что «полифония» как литературный
метод является одной из отличительных особенностей творчества Шекс-
пира. Это качество еще раньше подметил у Шекспира Л. Шестов, о чем он
выразительно писал в своей первой книге «Шекспир и его критик Бран-
дес» (об этом подробнее см. в § 2 главы 4). Интересно, что в работе «Добро
в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» Шестов противопоставляет творче-
ство Шекспира и творчество Достоевского. Именно у Шекспира Шестов
находит звучание независимых голосов героев, в то время как у Достоев-
ского (речь идет о «Преступлении и наказании») он слышит только мора-
лизующий голос автора. «Прочитавши "Преступление и наказание", —
пишет Шестов, — вы остаетесь под мучительным впечатлением, что выс-
лушали проповедь безгрешного праведника, направленную против мно-
гогрешного мытаря. Прочитавши "Макбета" — в котором автора как
будто и нет, — вы выносите убеждение, что нет такой силы, которая мог-
ла, хотела бы уничтожить человека» (Шестов Л. Добро в учении гр. Тол-
стого и Ф. Ницше // Вопросы философии. 1990. № 7. С. 85; курсив мой. —
Я. Е.). По Шестову, как раз у Шекспира господствует подлинная «поли-
фония», а у Достоевского ее нет!
2 Критическое отношение к концепции Бахтина, резко противопостав-
лявшего «полифонический» роман Достоевского «монологизму» всей пред-
шествующей литературы, высказывают многие современные авторы, сре-
ди которых и такой известный исследователь, как Г. Фридлендер (см.:
Фридлендер Г. М. Пушкин. Достоевский. «Серебряный век». М., 1995.
С. 404-405). Очень точную критику внутренних противоречий концеп-
108 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и определенный плюрализм (связанный с персоналистской метафизи-
кой), то не в меньшей степени здесь присутствует и прямо противопо-
ложная тенденция. Мир Достоевского предельно центрирован, тяготе-
ет к иррациональному монизму.
В этом отношении гораздо более проницательными выглядят наблю-
дения Бердяева. В своей книге о Достоевском он словно напрямую по-
лемизирует с точкой зрения Бахтина. «В конструкции романов Досто-
евского, — пишет Бердяев, — есть очень большая централизованность.
Все и всё устремлено к одному центральному человеку, или этот цент-
ральный человек устремлен ко всем и всему. Человек этот — загадка,
и все разгадывают его тайну, всех притягивает эта загадочная тайна.
Вот "Подросток", одно из самых замечательных и недостаточно оце-
ненных творений Достоевского. Все вращается вокруг центральной
личности Версилова, одного из самых обаятельных образов у Достоев-
ского, все насыщено страстным к нему отношением, притяжением или
отталкиванием у него. У всех есть только одно "дело" — разгадать тай-
ну Версилова, загадку его личности, его странной судьбы... И кажется,
что ничего нет, кроме Версилова, все существует лишь для него и по
отношению к нему, все лишь ознаменовывает его внутреннюю судьбу.
Такая же централизованная конструкция характерна для "Бесов".
Ставрогин — солнце, вокруг которого все вращается... Все тянется к не-
му, как к солнцу, все исходит от него и возвращается к нему, все есть
лишь его судьба. Шатов, П. Верховенский, Кириллов лишь части рас-
павшейся личности Ставрогина, лишь эманация этой необычайной
личности, в которой она истощается»1.
Вместо полифонии и равноправия независимых «голосов» Бердяев
находит в романах Достоевского строго центрированную иерархиче-
скую систему, на вершине которой находится, как правило, одна-един-
ственная личность, обладающая всей полнотой внутреннего бытия и не-
зависимостью от других; все остальные персонажи являются как бы ее
«эманациями», в той или иной степени зависят от нее и определяются
ею. Особенно явна эта зависимость, по мнению Бердяева, в женских
образах (вспомним рассуждение Бахтина о несамостоятельности обра-
за Настасьи Филипповны!): «Женщина интересует Достоевского ис-
ключительно как момент в судьбе мужчины, в пути человека. Человече-
ская душа есть прежде всего мужской дух. Женственное начало есть
лишь внутренняя тема в трагедии мужского духа, внутренний со-
блазн»2. Наконец, на самом низу указанной иерархической системы,
ции Бахтина (во многом совпадающую с высказанной в данной главе по-
зицией) можно найти в книге: Липецкий В. «Анти-Бахтин» — лучшая кни-
га о Владимире Набокове. СПб., 1994.
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 27-29.
2 Там же. С. 74.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 109
как утверждает Бердяев, находятся существа, ведущие «вампириче-
ское существование», живущие призрачной жизнью двойников, «от-
бросов путей развития» (в качестве таких существ Бердяев называет
Свидригайлова, Петра Верховенского, вечного мужа, Смердякова)1.
Все это позволяет Бердяеву проницательно определить главную цель
романов Достоевского как « раскрытие единого человеческого лица че-
рез человеческую множественность»2.
Согласно интерпретации Бахтина персонализм Достоевского выра-
жается главным образом в идее абсолютной независимости индивиду-
альных сознаний, которые взаимодействуют в художественном поле его
романов именно как самостоятельные, «неслиянные». Бердяев делает
акцент совсем на другом. Он считает, что для Достоевского важнее все-
го проникнуть в глубину отдельной личности (причем не в психологи-
ческую, а в метафизическую глубину) и показать всю противоречи-
вость и невыразимость ее мира. В этом смысле многообразие лиц, за-
полняющих романы Достоевского, — это всего лишь своеобразное
выражение многообразия различных «голосов», различных интенций
внутреннего мира одной и той же личности. Последовательное разви-
тие этой идеи должно было бы привести Бердяева к тому, чтобы при-
писать Достоевскому своеобразный художественный «солипсизм», что,
конечно, столь же не соответствует действительности, как и приписы-
ваемый ему Бахтиным радикальный «плюрализм». Бердяева спасает
от такого крайнего вывода только характерная для многих его работ
хаотичность и непоследовательность в проведении сформулированных
принципов. В результате наряду со всем сказанным о «центрирован-
ной конструкции» романов Достоевского, он заявляет (почти в духе
Бахтина): «Достоевский совсем не монист, он до конца признает мно-
жественность ликов, плюральность и сложность бытия. Ему свойствен-
но какое-то исступленное чувство человеческой личности и вечной не-
истребимой судьбы ее»3.
Впрочем, это противоречие в рассуждениях Бердяева можно оправ-
дать предельной диалектичностью мировоззрения Достоевского, в си-
лу чего его невозможно понять исходя из одного-единственного прин-
ципа, как это пытается сделать Бахтин. Как уже упоминалось выше,
значение Достоевского в истории развития русской философии состо-
яло, в частности (а может быть, и в главном), в том, что он совместил
в рамках одного мировоззрения крайнюю форму персонализма, разви-
тую Герценом, и представление о глубоком мистическом единстве
людей, лежащее в основе философии славянофилов. Бахтин почему-то
1 Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского //
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. С. 164.
2 Там же. С. 157.
3 Там же. С. 159.
110 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
видит только первую составляющую, совершенно не замечая вторую.
Бердяев видит оба принципа, лежащие в основе творчества Достоев-
ского, однако, в конечном счете, и он считает главным первый из них;
он пишет: «У Достоевского была роковая двойственность. С одной сто-
роны, он придавал исключительное значение началу личности, был
фанатиком личного начала, и это была самая сильная его сторона.
С другой стороны, у него большую роль играет начало соборности и кол-
лективности. Религиозное народничество Достоевского было соблазном
коллективизма, парализующего начало личной ответственности, лич-
ной духовной дисциплины »1.
Очевидно, что, говоря в данном случае о религиозном народниче-
стве Достоевского, Бердяев имеет в виду идеи, изложенные в его пуб-
лицистике (где речь идет о необходимости захвата Константинополя,
об объединении славян, о способности русского народа преодолеть клас-
совые противоречия, характерные для Запада, и т. д.), которые, дей-
ствительно, были весьма далеки от проницательной оценки историче-
ской ситуации, существовавшей в России и в Европе2. Однако Бердяев
словно забывает здесь, что публицистика Достоевского чаще всего дает
лишь внешнее, несовершенное, а иногда и искаженное отражение его
глубоких мировоззренческих принципов. Это происходит и в данном
случае. Достоевский защищает религиозное народничество, посколь-
ку видит в нем выражение и конституирование в сфере общественно-
политической идеологии важнейшей метафизической характеристи-
ки человеческого бытия: мистического единства людей, охватывающе-
го их не только в рамках отдельного народа и всего человечества, но и в
рамках элементарных социальных общностей и даже просто в единич-
ных актах общения. Причем очевидно, что Достоевский должен
придавать особенно большое значение как раз выражению этой ха-
рактеристики в единичных актах общения, поскольку для его персо-
налистского мировоззрения первичным всегда является то, что непо-
средственно относится к отдельной личности и связано с ней. Понятно,
что именно в художественном творчестве этот момент становится глав-
ным. Если в публицистических сочинениях Достоевский просто повто-
ряет идеи славянофилов, то в своих художественных произведениях
он дает совершенно новое преломление центральному принципу их
мировоззрения.
Уже у Хомякова мистическое чувство, признаваемое важнейшим
измерением человеческой души, оказывалось направленным на транс-
цендентно-имманентную нашей земной жизни Церковь, а не на сугубо
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 147.
2 О неудачности исторических пророчеств Достоевского язвительно
писал Л. Шестов; см.: Шестов Л. Пророческий дар // О Достоевском. Твор-
чество Достоевского в русской мысли 1881-1931 гг. М., 1990. С. 119-127.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 111
трансцендентного Бога, как это принято в традиционном христиан-
стве. Достоевский, целиком принимая это положение, в еще большей
степени сближает объект мистического чувства с нашей земной реаль-
ностью. Вспомним приведенные выше слова Бахтина о том, что мир
Достоевского подобен общению верующих в Церкви или дантовскому
миру. Из этих двух аналогий более соответствует бахтинской интер-
претации Достоевского вторая, поскольку именно в дантовском мире
(особенно в Аду) души людей остаются совершенно изолированными
друг от друга, «неслиянными». Однако, в сущности, первая аналогия
является гораздо более адекватной духу романов Достоевского, особен-
но если понимать Церковь в том смысле, какой придал ей Хомяков, —
как мистическое духовно-материальное единство людей, уже в этой,
земной жизни соединяющихся друг с другом и с божественной реаль-
ностью. Если отбросить в тезисе Хомякова последний момент — утверж-
дение, что мистическое единение людей носит божественно-совершен-
ный характер1, уже осенено божественной благодатью, — то мы по-
лучим принцип, помогающий объяснить ту магическую атмосферу
всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости, которая наполняет ро-
маны Достоевского. Именно присутствие этой магической атмосфе-
ры заставляет нас считать почти естественными многие странные чер-
ты художественного мира Достоевского: появление всех важнейших
персонажей в определенные кульминационные моменты в одной и той
же точке романного пространства, разговоры «в унисон», когда один
персонаж словно подхватывает и развивает слова и мысли другого,
странное угадывание мыслей и предсказание поступков и т. д. Все это —
внешние знаки той невидимой, мистической сети взаимосвязей, в ко-
торую включены герои Достоевского, — даже те, кто ставит целью раз-
рушить эту сеть, вырваться из нее (Верховенский, Свидригайлов, Смер-
дяковидр.).
Особо следует сказать об очень характерных эпизодах, которые при-
сутствуют в каждом романе Достоевского: при встрече герои общают-
ся в молчании, причем Достоевский скрупулезно «подсчитывает» вре-
мя — одна, две, три, пять минут2. Очевидно, что два человека, имею-
щие общую жизненную проблему, могут молчать в течение нескольких
минут только в том случае, если это молчание есть своеобразная форма
мистического общения.
1 Вспомним слова Хомякова: «Церковь живет даже на земле не зем-
ною, человеческой жизнию, но жизнею божественной и благодатною»
(Хомяков А. С. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 16). В этих словах сказывается недо-
оценка Хомяковым могущества зла в эмпирической жизни людей и в струк-
туре всего мироздания.
2 См., например, встречи Раскольникова с Разумихиным, Свидригай-
ловым, Соней в «Преступлении и наказании».
112 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Достоевский в отличие от Хомякова не считает, что мистическое
единство людей устраняет несовершенство их земного бытия; оно дале-
ко от божественного совершенства и божественной благодати, полно
противоречий и конфликтов, — и все-таки насущно и спасительно для
человека, ибо вне этого единства он не может существовать. У Хомяко-
ва мистическая Церковь это и есть божественное бытие, и получается,
что человек уже причастен идеалу в земной жизни. Достоевский от-
вергает столь простое решение всех земных проблем, для него иррацио-
нально-мистическое единство людей, реализованное в земной жизни,
отличается от того мистического единства, которое должно осуще-
ствиться в Боге. Более того, последнее единство оказывается просто
некоторой предельной целью, некоторым идеалом, возможность во-
площения которого (даже в посмертном существовании!) ставится под
сомнение или даже отрицается (для полного рассмотрения поставлен-
ной проблемы необходимо проанализировать, как Достоевский пони-
мает Бога; это будет сделано ниже).
Не менее существенно еще одно различие в понимании мистическо-
го единства людей Достоевским и Хомяковым. Концепция Хомякова
хотя и предполагает самостоятельность и абсолютную ценность каж-
дой личности, соединяющейся с другими в Церкви, все-таки ведет к
господству некоторого универсально-мистического начала над челове-
ком и к умалению его индивидуальной свободы. У Хомякова остается
не вполне ясным, можно ли и как можно различить два состояния:
бытие личности в ее индивидуальной свободе и бытие личности в един-
стве Церкви. Однако главная тенденция ясна — это признание абсо-
лютного приоритета единой Церкви по отношению к индивидуально-
му человека. Это означает, что Церковь по своему бытию — нечто прин-
ципиально иное, чем отдельный индивид; и отдельная личность, входя
в целостность Церкви, становится иной.
Достоевский, в равной степени используя мировоззренческие прин-
ципы Хомякова и Герцена, осуществляет их синтез в форме, которая
решительно снимает их противоположность. Как и Герцен, Достоев-
ский утверждает абсолютность личности; однако при этом оказыва-
ется, что ценность и независимость каждого из нас имеют основой
мистические взаимосвязи с другими людьми. Как только человек об-
рывает эти взаимосвязи, он теряет себя, теряет основу для своего ин-
дивидуального бытия. Это происходит, например, с Раскольниковым
и Ставрогиным.
С другой стороны, как и Хомяков, Достоевский признает всеобщее
мистическое единство людей, признает наличие некоторого «силового
поля» отношений, в которое включен каждый человек. Однако само
это «силовое поле» не может существовать иначе, как только будучи
воплощенным в отдельной личности, становящейся как бы «силовым
центром» поля взаимодействий. Мистическая Церковь Хомякова все
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 113
же возвышается над отдельными людьми и может быть понята как
«всеобщее», растворяющее единичное. Для Достоевского ничего всеоб-
щего не существует (как это хорошо понял Бахтин), поэтому даже
единство, охватывающее людей, предстает у него олицетворенным той
или иной личностью1. Это единство как бы концентрируется и стано-
вится зримым в отдельной личности, на которую тем самым возлагает-
ся полная мера ответственности за судьбы других людей. Если человек
не в состоянии вынести эту ответственность (а так почти всегда и про-
исходит), его судьба оказывается трагичной, и эта трагедия захваты-
вает всех окружающих. Все романы Достоевского содержат изображе-
ние этой трагедии, в которой личность, добровольно или по воле судь-
бы принявшая на себя ответственность за окружающих, идет к
физической или моральной гибели (Раскольников, Ставрогин, Верси-
лов, князь Мышкин, Иван Карамазов). Эта «трагедия общения» лиш-
ний раз доказывает, насколько земное единство людей далеко от бла-
гости и совершенства божественного бытия. В результате идея мисти-
ческой земной взаимосвязи людей ведет Достоевского не к уверенности
в победе добра и справедливости (как это было у Хомякова), а к кон-
цепции фундаментальной, неустранимой вины каждого перед всеми
людьми и за все происходящее в мире2.
Итак, в своем персоналистском мировоззрении Достоевский соче-
тает в рамках иррационально-художественной диалектики принцип
абсолютности личности и принцип мистического единства всех людей.
Только через раскрытие этой иррационально-художественной диалек-
тики можно понять и объяснить особенности творческого метода писа-
теля, в том числе «диалогизм», который Бахтин справедливо считал
одним из главных достижений Достоевского, но которому он дал не-
правильное обоснование.
1 Многие исследователи отмечали, в частности, что Достоевскому свой-
ственно персонифицированное (причем не в переносном смысле, а букваль-
но) представление о народе; например, Вяч. Иванов писал, имея в виду
роман «Бесы»: «Народ в глазах Достоевского — личность, не мысленно
синтетическая, но существенно самостоятельная, жизненно целостная:
есть в ней периферия многоликости и есть внутренняя святыня единого
сознания, единой воли» (Иванов В, И. Достоевский и роман-трагедия //
Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 308). Гротескным отраже-
нием этого представления выступает полубезумная идея Петра Верховен-
ского о необходимости после всеобщей смуты «пустить» «Ивана-цареви-
ча» , воплощающего в себе все чаяния и стремления народа. Эта идея име-
ет для Верховенского настолько эмпирически-конкретные очертания, что
«соблазнение» народа на смуту оказывается почти тождественным «соблаз-
нению» Ставрогина (будущего «Ивана-царевича») на соучастие в убийстве
его мнимой жены — Хромоножки (см.: Достоевский Ф. М. Поли. собр.
соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 324-326).
2 См.: Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия. С. 308.
114 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
§ 4. Личность как Абсолют.
Метафизический Герой Достоевского
Сам Достоевский предельно ясно понимал главную цель своего твор-
чества: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее раз-
гадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой
тайной, ибо хочу быть человеком» (письмо брату Михаилу от 16 авгус-
та 1839 г.)1. Впрочем, это общее утверждение само по себе еще не дает
понимания творческого метода и мировоззрения Достоевского, по-
скольку проблема человека была центральной для всей мировой лите-
ратуры начиная с Эсхила (и ранее). Можно попытаться прояснить ту
задачу, которую ставил перед собой писатель с помощью интересной
идеи С. Аскольдова, который полагал, что Достоевский впервые в ми-
ровой литературе сделал объектом изображения именно личность в
человеке, в то время как в предшествующей литературе таким объек-
том был либо тип, либо характер2. Изображение человека как типа
(Гоголь, Островский, Лесков) — это изображение всеобщих характе-
ристик, которые человек обнаруживает в однозначных, стандартных
ситуациях, при определенных формах взаимодействия со средой (преж-
де всего, социальной). Изображение характера (здесь Аскольдов ука-
зывает на творчество Тургенева и Д. Толстого) — это изображение основ-
ных составляющих внутреннего мира человека и основных законо-
мерных форм его индивидуальной реакции на внешний мир. Наконец,
изображение человека как личности предполагает выявление внутрен-
ней неповторимости, своеобразия и цельности человека.
Соглашаясь в целом с этой мыслью Аскольдова, необходимо отме-
тить тем не менее, что она недостаточна ясна. Ведь изобразить индиви-
дуальность человека, его внутреннее, личностное бытие пытается и пси-
хологическая литература, берущая свой исток в творчестве Толстого.
Достоевский, безусловно, также изображает внутренний мир личности,
тонкие психологические нюансы душевной жизни; вспомним, например,
внутренний монолог «подпольного человека» или «поток сознания» Рас-
кольникова, прорывающийся на страницы «Преступления и наказа-
ния» . Однако очевидно, что для Достоевского это никогда не было глав-
ной целью. «Импрессионистическое» изображение индивидуальности,
свойственное психологической литературе, схватывает личность на уров-
не психологического явления и не проникает в сущность человеческого
бытия; для Достоевского же человек интересен не в его эмпирически-
психологическом срезе, а как раз в том метафизическом измерении,
где обнажается его связь со всем бытием и его центральное положение
в мире. Именно на это направлено творчество Достоевского, и именно
здесь, в метафизической глубине его романов, необходимо искать от-
веты на все поставленные им проблемы и загадки.
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 28. Ч. 1. С. 63.
2 См.: Аскольдов С. Религиозно-этическое значение Достоевского //
Достоевский. Статьи и материалы. Сб. I. M., 1922.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 115
Очень плодотворный подход к экспликации метафизики челове-
ка, лежащей в основе романов Достоевского, продемонстрировал
Вяч. Иванов. Наиболее известной его идеей (которую резко критико-
вал Бахтин) стало утверждение о том, что Достоевский создал новую
форму романа — роман-трагедию. В этой форме, по мнению Вяч. Ива-
нова, произошло возвращение искусства к тому прозрению основ жиз-
ни, которое было характерно для древнегреческой мифологии и древ-
негреческой трагедии и которое было утрачено в последующие эпохи.
С помощью этой идеи Вяч. Иванову удается дать гораздо более убеди-
тельное, по сравнению с аргументацией Бахтина, описание характер-
ных особенностей романов Достоевского, безусловно, резко выделяю-
щихся на фоне современной ему литературы. Противопоставляя твор-
чество Достоевского классической европейской литературе, Иванов
возводит исток этого противостояния к различию метафизических кон-
цепций человека, лежащих, соответственно, в основе классического
европейского романа Нового времени и в основе романа-трагедии До-
стоевского. Как мы сейчас увидим, здесь речь идет о тех двух концеп-
циях человека, которые были описаны во введении.
Основой и целью классического романа от Сервантеса до Л. Толсто-
го, как полагает Вяч. Иванов, является последовательное изображе-
ние субъективного мира личности, которая при этом понимается как
особая духовная реальность, противостоящая всему объективному
бытию. «Роман делается... знаменосцем и герольдом индивидуализма;
в нем личность разрабатывает свое внутреннее содержание, открывает
Мексику и Перу в своем душевном мире, приучается сознавать и оце-
нивать неизмеримость своего микрокосма... Роман становится референ-
думом личности, предъявляющей жизни свои новые запросы, и вмес-
те подземною шахтой, где кипит работа рудокопов интимнейшей сфе-
ры духа, откуда постоянно высылаются на землю новые находки, новые
дары сокровенных от внешнего мира недр»1. В конце долгой истории
развития романа стоит Лев Толстой, доведший до совершенства ана-
лиз внутренней жизни субъекта; в результате этого анализа происхо-
дит выявление всех главных закономерностей и норм, которым подчи-
няется внутренний мир индивидуальности. Поскольку каждая инди-
видуальность (внутренний мир каждого «человека-атома») подчинена
одним и тем же основным законам, автор психологического романа
может ограничиться исследованием только своего собственного внут-
реннего мира, рассматривая всю остальную реальность — и объектив-
ную среду вне человека, и других людей — только в ее преломлении и
отражении в «зеркале» своего внутреннего мира. «Толстой поставил
себя зеркалом перед миром, — пишет Вяч. Иванов, — и все, что входит
в зеркало, входит в него: так хочет он наполниться миром, взять его
в себя, сделать его своим посредством осознания и, в сознании преодолев,
1 Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия. С. 285.
116 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
отдать людям и самый мир, через него прошедший, и то, чему он на-
учился при его прохождении, — нормы отношения к миру... В этом
процессе многосоставное явление разлагается на свои элементы; из этих
простых элементов строится образ жизни, подчиненный норме; в за-
ключение — жизни наличной противопоставляется коррективом ис-
кусственно опрощенная жизнь »1.
Вяч. Иванов точно подмечает метафизическую основу классического
романа (и психологического романа как последней фазы его разви-
тия) — идеалистическое противопоставление субъекта и объективной
реальности, приводящее к замыканию индивида в своей собственной
субъективности. В противоположность этому в основе творчества До-
стоевского Вяч. Иванов находит метафизический реализм, который
снимает различие субъекта и объекта и противопоставляет познанию,
основанному на таком различии, особый способ соотнесения личности
с окружающей реальностью. «Не познание есть основа защищаемого
Достоевским реализма, а "проникновение": недаром любил Достоев-
ский это слово и произвел от него другое, новое — "проникновенный".
Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние,
при котором возможным становится воспринимать чужое я не как
объект, а как другой субъект... Символ такого проникновения заклю-
чается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чу-
жого бытия: "ты еси". При условии этой полноты утверждения чужого
бытия, полноты, как бы исчерпывающей все содержание моего соб-
ственного бытия, чужое бытие перестает быть для меня чужим, "ты"
становится для меня другим обозначением моего субъекта. "Ты еси" —
значит не "ты познаешься мною как сущий", а "твое бытие пережи-
вается мною, как мое", или: "твоим бытием я познаю себя сущим".
Es, ergo sum»2.
Часть приведенной цитаты Вяч. Иванова использует в своей книге
Бахтин для подтверждения своей концепции. Вяч. Иванов выступает
у него как предшественник, «нащупавший» подходы к идее полифо-
нии, но не дошедший до нее. Действительно, слова о том, что романы
Достоевского основаны на утверждении чужого бытия, бытия другой
1 Иванов В. И. Достоевский и роман-трагедия. С. 292-293. Это описа-
ние настолько точно передает суть метода психологического романа, что
оно применимо и к последующему его развитию. У одного из корифеев это-
го направления, Марселя Пруста, мы находим гениальное развитие того
же самого метода: скрупулезно исследуя исключительно мир своей души
(ее основным измерением Пруст считает память), писатель мастерски вы-
являет тончайшие нюансы той всеобщей закономерности, которая убав-
ляет жизнью каждой личности. Именно в этом секрет притягательности
романов Пруста — читая их, каждый из нас как бы погружается в деталь-
ное исследование законов своей собственной души.
2 Там же. С. 294-295.
Глава 2, Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 117
личности («ты еси») могут служить некоторым намеком на идею Бах-
тина. Однако, воспроизводя эту идею, Бахтин словно не замечает по-
следующих слов, в которых их автор дает ясное разъяснение своей по-
зиции и где он прямо предостерегает против интерпретации основ-
ного тезиса в духе плюралистической метафизики и «полифонии»1.
Вяч. Иванов видит у Достоевского такое утверждение чужой личнос-
ти, при котором «чужое бытие перестает быть для меня чужим». Он
гениально передает подлинное мироощущение Достоевского, который
вовсе не останавливается на атомистическом противопоставлении
отдельных «неслиянных» личностей, а, напротив, уверен в возможно-
сти радикального преодоления этого противостояния в мистическом
«проникновении», «transcensus'e». Причем это «проникновение», ми-
стически объединяющее людей, не умаляет их личностного начала, но
помогает его утверждению, поскольку в своей метафизической обособ-
ленности личность не может найти основы для своей неповторимой
уникальности; в последнем случае все, что она может, — это осозна-
вать всеобщие закономерности, которым подчинена не только она, но
и каждая другая личность. Напротив, в акте «проникновения», «сли-
яния» с другим личность осознает свою универсальность, осознает, что
именно она является подлинным (и единственным!) центром мирозда-
ния, что не существует никакой «внешней» необходимости, которой
она была бы вынуждена подчиниться. В этом акте происходит преоб-
разование «я» из субъекта (только субъекта) в само бытие, в ту осно-
ву, которая определяет всё и вся в мире.
Сам Вяч. Иванов называет эту основу Богом. «Реализм Достоевско-
го был его верой, которую он обрел, потеряв душу свою. Его проникно-
вение в чужое я, его переживание чужого я как собственного, беспре-
дельного и полновластного мира содержало в себе постулат Бога как
реальности, реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей,
из коих каждой он говорил всею волею и всем разумением: "ты еси".
И то же проникновение в чужое я, как акт любви, как последнее уси-
лие в преодолении начала индивидуации, как блаженство постижения,
что "всякий за всех и за все виноват", — содержало в себе постулат Хрис-
та, осуществляющего искупительную победу над законом разделения и
проклятием одиночества, над миром, лежащем во грехе и в смерти»2.
Продолжая эту мысль, Иванов признает, что усилие «проникновения»
и «преодоления начала индивидуации» лишь относительно и не дости-
гает во всей полноте поставленной цели. Но это означает, что достигну-
тое, «реальное» мистическое единство людей еще не совершенно, и его
1 Ср.: «Работы Вячеслава Иванова о Достоевском в значительной мере
как раз и служат наилучшим доказательством ошибочности ряда поэто-
логических идей Бахтина...» (Фридлендер Г. М. Пушкин. Достоевский.
«Серебряный век». С. 404-405).
2 Иванов Б. И. Достоевский и роман-трагедия. С. 295.
118 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
нужно все-таки отличать от того единства, которое возможно в Боге.
«Земное» единство не способно окончательно снять негативный аспект
обособленности, изолированности личности; здесь и находится мета-
физический корень зла, метафизический исток «трагедии общения».
Вяч. Иванов не акцентирует внимания на этом важном различии, и
в этом элементе его концепция сближается с традиционным представ-
лением о том, что творчество Достоевского — это провозглашение исти-
ны Богочеловечества. Для правильной оценки последнего тезиса не-
обходимо специально остановиться на понимании Бога Достоевским;
это будет сделано в следующем параграфе.
Центральное положение статьи Вяч. Иванова имеет принципиаль-
ное значение для оценки места Достоевского в истории европейской
философии. Вяч. Иванов, по сути, доказывает, что Достоевский стал
первым мыслителем, в художественной форме выразившим сущность
того нового подхода к человеку, который в дальнейшем определил все
своеобразие и все трагические перипетии европейской культуры и ев-
ропейской истории XX века. Как было показано во введении, в рамках
западноевропейской философии указанный новый подход к человеку
претворился в целостную философскую концепцию только в 20-е годы
нашего столетия в творчестве М. Хайдеггера (в русской философии —
чуть раньше, в работах С. Франка; см. главу 6). И хотя было бы слиш-
ком смелым предприятием пытаться проследить прямое влияние идей
Достоевского на Хайдеггера, нельзя не заметить, что в рамках интерпре-
тации Вяч. Иванова (его работа была опубликована впервые в 1911 г.)
Достоевский оказывается родоначальником того направления фило-
софской мысли, в конце которого стоят известнейшие философы
XX века, провозгласившие требования «возвращения к бытию», «пре-
одоления субъективности» и «создания онтологии нового типа» (фун-
даментальной онтологии у Хайдеггера).
Личностное начало в метафизике Достоевского оказывается абсо-
лютным не только в том смысле, что абсолютен человек; ведь можно
мыслить наряду с человеком чуждую ему реальность, которая проти-
востоит ему в своем бытии (так мыслило человека традиционное хрис-
тианство). Личностное начало есть смысл бытия как такового, есть
«внутренняя энергия» бытия, как бы «центрированность» бытия в каж-
дой его точке и динамическая активность этой точки. Вновь необходи-
мо отдать должное проницательности Бердяева, который афористиче-
ски точно выразил эту главную идею метафизики Достоевского: «серд-
це человеческое заложено в бездонной глубине бытия», «принцип чело-
веческой индивидуальности остается до самого дна бытия»1.
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 39; Он же. Открове-
ние о человеке в творчестве Достоевского. С. 158. Отметим, что соответ-
ствующая онтология, развивающая подход, впервые продемонстри-
рованный Достоевским, особенно активно разрабатывалась в начале XX ве-
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф.Достоевского 119
Ясно, что на уровне феноменальной, эмпирической действительно-
сти личностное начало, укорененное в самом бытии, выступает наи-
более полно в эмпирических человеческих личностях. В рамках но-
вой метафизики уже невозможно рассматривать индивидуальность
и свободу человека как «параметры» его обособленности, замкнутости
на себе. Все важнейшие характеристики личности, такие как индиви-
дуальность, цельность и свобода, выражают не столько полноту ее огра-
ниченной жизни, сколько бесконечную полноту жизни как таковой,
не признающей различия внутреннего и внешнего, материального
и идеального. Человек — это творческий центр реальности, разруша-
ющий все границы, положенные миром, преодолевающий все внешние
ему закономерности. Достоевского интересуют не психологические
нюансы душевной жизни человека, обосновывающие его поведение,
а те «динамические» составляющие личностного бытия, в которых
выражается волевая энергия личности, ее самобытное творчество
ка. Среди западных мыслителей в наиболее ясной и простой форме основ-
ной принцип этой онтологии и возможные формы его преломления в искус-
стве выразил X. Ортега-и-Гассет (в статье, опубликованной в 1914 г.). Го-
воря о необходимости преодоления «первородного греха современной эпо-
хи» — субъективизма, исходящего из понимания «я» как внутреннего
личностного мира, противостоящего «внешней» реальности, Ортега-и-Гас-
сет пишет: «"Я" означает... не этого человека в отличие от другого или тем
менее — человека в отличие от вещи, но всё — людей, вещи, ситуации —
в процессе бытия, осуществляющих себя, обнаруживающих себя. Каждый
из нас, согласно этому, "я" не потому, что принадлежит к привилегиро-
ванному зоологическому виду, наделенному проекционным аппаратом,
именуемым сознанием, но просто потому, что является чем-то... Как есть
"я" — имярек, так есть "я" — красный, "я" — вода, "я" — звезда. Все
увиденное изнутри самого себя есть "я"» (Ортега-и-Гассет X. Эссе на эсте-
тические темы в форме предисловия // Ортега-и-Гассет X. Эстетика.
Философия культуры. М., 1991. С. 99). И далее он размышляет о том «язы-
ке», «функция которого состояла бы не в рассказе о вещах, но в представ-
лении их нам как осуществляющихся». «Такой язык — искусство. Имен-
но это делает искусство. Эстетический объект — это внутренняя жизнь
как она есть, это любой предмет, превращенный в "я". Я не говорю — будьте
внимательны! — что произведение искусства открывает нам тайну жизни
и бытия; я говорю, что произведение искусства приносит нам то особое
наслаждение, которое мы называем эстетическим, потому что нам кажет-
ся, что нам открывается внутренняя жизнь вещей, их осуществляющаяся
реальность, — и рядом с этим все сведения, доставленные наукой, кажут-
ся только схемами, далекими аллюзиями, тенями и символами» (там же.
С. 103). Последняя оговорка Ортеги-и-Гассета существенна, однако есть
художники, по отношению к которым она теряет силу, ибо они именно
«открывают нам тайну жизни и бытия»; одним из первых среди них, ко-
нечно же, должен быть назван Достоевский.
120 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
в бытии. При этом творческим актом может стать даже преступление
(как это происходит с Раскольниковым и Рогожиным), но это только
доказывает, какой внутренне противоречивый характер носит свобода
и творческая энергия личности (личностного начала самого бытия), как
по-разному она может реализовываться на «поверхности» бытия.
Хотя герои Достоевского, на первый взгляд, ничем не отличаются
от обычных, «эмпирических» людей, по существу, они наряду с обыч-
ным эмпирическим измерением имеют еще «дополнительное» измере-
ние бытия, которое и является главным. Это главное — метафизиче-
ское — измерение, в котором, кроме того, эмпирические герои соеди-
няются в некоторое единство, выражает цельную энергию, динамику
самого бытия, причем выражает в предельно центрированной и кон-
кретной форме — в форме метафизической Личности, единого мета-
физического Героя. Отношение этой единой метафизической Личности
с эмпирическими личностями, «эмпирическими» героями романов
ничего общего не имеет с отношением абстрактной и всеобщей «сущ-
ности» с ее «явлениями» (в духе философского идеализма). Это не осо-
бая субстанция, возвышающаяся над отдельными личностями и сти-
рающая их индивидуальность, а прочная и имманентная основа их са-
мобытности. Как единосущный Бог имеет три ипостаси, три лика, так
и Личность, в качестве метафизического центра бытия, реализуется
в множестве своих «ипостасей», лиц — эмпирических личностей.
В большинстве романов Достоевского указанного метафизического
Героя можно условно отождествить с главным героем, полагая всех
остальных персонажей его эмпирическими «эманациями» (Расколь-
ников в «Преступлении и наказании», Ставрогин в «Бесах», Версилов
в «Подростке», князь Мышкин в «Идиоте»). Только в последнем рома-
не Достоевского нет центрального персонажа, которого можно было бы
назвать главным эмпирическим ликом единого метафизического
Героя; здесь, скорее, нужно говорить о трех равноправных (и находя-
щихся в противоречии друг с другом) « ипостасях », трех ликах, в един-
стве которых осуществляется эмпирическая манифестация Героя, —
это Дмитрий, Иван и Алеша Карамазовы (может быть, сюда нужно
добавить также их отца и их сводного брата, Смердякова).
Впрочем, если принять во внимание точку зрения Вяч. Иванова,
главным эмпирическим ликом метафизического Героя всех романов
Достоевского необходимо признать самого их автора. Как полагал
Вяч. Иванов, минуты, проведенные Достоевским на эшафоте, а затем
годы каторги и ссылки привели к перерождению личности писателя.
«Личность была насильственно оторвана от феноменального и ощути-
ла впервые существенность бытия под покровом видимости вещей, из
коей сотканы ограды воплощенного духа... все творчество Достоевско-
го стало с тех пор внушением внутреннего человека, духовно рожден-
ного, переступившего через грань, в мироощущении которого транс-
цендентное для нас сделалось имманентным, а имманентное для нас
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 121
в некоторой своей части трансцендентным. Личность была раздвоена
на эмпирическую, внешнюю, и внутреннюю, метафизическую... Оста-
вив внешнего человека в себе жить, как ему живется, он предался ум-
ножению своих двойников под многоликими масками своего, отныне
уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, всечеловече-
ского я. Ибо внутреннее я, освобождаясь решительно от внешнего, не
может чувствовать себя разделенным от общечеловеческого я со всем
его содержанием и видит в бесконечных формах индивидуации только
разные образы и условия своего облечения в плоть, своего нисхожде-
ния в закон мира видимого»1. В качестве веского «эмпирического» под-
тверждения этой мысли можно указать на многочисленные факты со-
впадения обстоятельств жизни писателя с событиями, происходящи-
ми с его героями, а также буквальное перенесение Достоевским своих
собственных, глубоко личных высказываний, обнаруживаемых нами
в его письмах и дневниках, на страницы своих романов.
Перемещение центра тяжести с эмпирически-реальных людей на ме-
тафизическую Личность и является причиной радикальных измене-
ний, вносимых Достоевским в романную форму. Бахтин увидел здесь
переход от единой авторской точки зрения к взаимодействию многих
независимых личностных позиций. На самом деле здесь происходят
гораздо более сложные преобразования.
Авторская позиция в традиционной литературе и в психологической
прозе — это позиция объективности. Неважно, персонифицирован
автор в виде рассказчика или изложение ведется в безличной форме,
все «углы зрения» на события и на отдельных персонажей в литерату-
ре традиционного типа согласованы в рамках единственно возможной
общей позиции — внешнего, объективного мира. Психологическая
литература XIX-XX веков расширила характеристику личности, углу-
бившись в ее внутренний мир. Однако и здесь главное направление
в художественном изображении — движение от внешней объективно-
сти как твердой системы отсчета к внутренней психологической харак-
теристике. Бахтин слишком узко трактует метод традиционной лите-
ратуры, утверждая, что в нем господствует единая авторская позиция,
монологизм. Это, скорее, «объективизм», который допускает наличие
нескольких самостоятельных точек зрения на мир, но требует, чтобы
1 Иванов Б. Я. Достоевский и роман-трагедия. С. 296-297. Эту идею
Вяч. Иванова достаточно резко, но совершенно голословно критикует
М. Бахтин (см.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 12).
В то же время Бердяев также считал, что «все герои Достоевского — он
сам, различная сторона его собственного духа» (Бердяев Н.А. Откровение
о человеке в творчестве Достоевского. С. 153); подобную мысль можно най-
ти и в известной книге Шестова «Достоевский и Ницше (философия тра-
гедии)» (подробнее об этом см. в § 2 главы 4).
122 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
все они были жестко подчинены единой объективной позиции, задавае-
мой не автором произведения, а самой объективной, внеличностной
реальностью.
У Достоевского все по-другому. Передвинув центр внимания с эмпи-
рического человека на человека метафизического, Достоевский устра-
няет радикальное различие между личностью и миром и подчиненность
личности внешнему миру. Единая объективная позиция, задаваемая
самой «внешней», «внечеловеческой» реальностью, исчезает, однако
это вовсе не означает, как полагал Бахтин, что исчезает единая точка
зрения, отношение к которой придает смысл всему происходящему в
романах. Наоборот, только теперь она становится в самом глубоком
смысле личностной точкой зрения, и поэтому в определенном смысле
произведение приобретает еще более центрированный характер, чем
это было в традиционной литературе.
Здесь можно вспомнить любопытное сравнение романов Досто-
евского с мифом и древнегреческой трагедией, проводимое Вяч. Ива-
новым. При поверхностном взгляде на миф мы и в нем можем обна-
ружить «полифонию» — звучание «неслиянных» голосов, которые не
могут быть подчинены никакой «авторской» воле, просто в силу отсут-
ствия самого автора. Однако нет ничего более далекого от подлинно-
го смысла мифа, как интерпретация его в духе метафизического плю-
рализма. В мифе безраздельно господствует единая точка зрения,
подчиняющая себе «голоса» всех его «персонажей» — будь то боги,
герои или простые смертные. Только эта «точка зрения» принадлежит
не «мертвой» действительности и не личности «персонажей» или «авто-
ра», а самой Вечности, олицетворяющей для мифологического челове-
ка сущность всего бытия, возвышающейся над всеми и над всем. Точно
так же и в романах Достоевского присутствует единая «точка зрения»,
подчиняющая себе всех и всё. Однако путь, пройденный человеком и его
культурой от мифов до романов Достоевского, огромен, и теперь указан-
ная «точка зрения» — «точка зрения» Абсолюта — принадлежит бы-
тию как таковому, которое в самой своей основе оказалось Личностью,
полной противоречий и загадочности, но уже не чуждой эмпирическо-
му человеку, тождественной ему в самых важных его проявлениях.
Отдельные элементы полифонии у Достоевского — это взаимодей-
ствие относительно независимых «голосов», выступающих из бытий-
ственного единства Личности и выражающих ее внутренние диалекти-
ческие противоположности. Во всех романах Достоевского можно найти
пары персонажей, находящихся в оппозиции друг к другу и олицетво-
ряющих (в «ипостасной» форме) указанные противоположности и про-
тиворечия личностного начала бытия. Иногда такие пары являются
устойчивыми на протяжении всего романа, иногда выявляют свою оп-
позицию в отдельных эпизодах и отрывках. Примеры таких пар дают
князь Мышкин и Рогожин в «Идиоте», Раскольников и Соня Марме-
ладова в «Преступлении и наказании», Ставрогин и Шатов, а также
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 123
Ставрогин и Верховенский в «Бесах» и т. д. Особенно ясно это противо-
стояние, как раздвоение сущности единой Личности, выявляется в «Бра-
тьях Карамазовых» в оппозициях: Иван Карамазов—черт, Иван—
Смердяков и Иван—Алеша. Все самые резкие, непримиримые проти-
воречия между персонажами Достоевского — это манифестация
внутренних противоречий Личности как таковой и, значит, внутрен-
них противоречий любой эмпирической личности. С другой стороны,
все, что находит себе выражение и жизненную реализацию в какой-
либо отдельной эмпирической личности, является одновременно внут-
ренней принадлежностью личностного начала как такового и, значит,
внутренней принадлежностью каждой эмпирической личности — в том
числе и способность ко всем возможным преступлениям и злодеяни-
ям! Как тут не вспомнить известные слова Дмитрия Карамазова о со-
седстве в душе человека (можно добавить: каждого человека!) идеала
Мадонны и идеала содомского.
§ 5. Метафизические «эксперименты» Достоевского
В метафизике Достоевского главное определение, которое можно
дать Абсолюту, — это определение его как Личности. Однако одно это
определение еще не исчерпывает его многообразной и противоречивой
сущности. Помимо этого у Достоевского можно обнаружить и другие
понятия, играющие не менее существенную роль; к ним относятся Бог,
свобода, жизнь, любовь, зло, сатана. Все творчество Достоевского, вся
изощренность его иррационально-художественной диалектики направ-
лены на уяснение абсолютности личности и на уточнение смысла тези-
са «личность есть Абсолют» с помощью указанных ключевых понятий
его метафизики. Именно здесь можно попытаться найти разгадку «тай-
ны Достоевского», объяснение странной многозначности и странной
притягательности его творчества, допускающего самые противоречи-
вые оценки и интерпретации.
Каждое из упомянутых понятий (наряду с понятием личности) имеет
весьма давнюю и богатую историю в рамках многовековой истории ев-
ропейской философии, каждое из них и все они вместе не раз использо-
вались для построения различных метафизических систем, объясня-
ющих мир и человека. Несмотря на все многообразие конструкций,
возникавших при этом, одно оставалось неизменным — принцип иерар-
хии. Основные элементы метафизики никогда не понимались рядопо-
ложенными; выявление смысла каждого понятия осуществлялось че-
рез заранее заданную иерархическую систему, в которой каждое поня-
тие определялось через «высшие». На вершине этой иерархической
системы находилось понятие Бога; остальные понятия по своему смыс-
лу зависели от него, и в разных метафизических системах эта зависи-
мость приобретала различный характер.
В традиционной христианской метафизике на следующем по отноше-
нию к Богу смысловом уровне располагались понятия свободы, жизни
124 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и любви как главные определения божественного бытия; следом за
ними находился уровень смыслового определения человека и затем —
зло и эмпирический мир. Эта система могла варьироваться в отдель-
ных элементах (например, в пелагианстве свобода перемещалась на тот
уровень, где находился человек), но в целом она оставалась незыбле-
мой в рамках главной линии развития европейской метафизики вплоть
до Гегеля. Характерно, что даже те мыслители, которые подобно Гер-
цену (см. § 10 главы 1) пытались сделать человеческую личность выс-
шим метафизическим принципом, неявно признавали эту традицион-
ную систему, поэтому осуществить свою цель они могли только через
♦устранение» Бога как единственной возможной вершины метафизи-
ческой «пирамиды». В результате в этих системах мир представал де-
централизованным, плюралистичным в самом негативном понимании
этих определений — он полностью лишался связности и всеобщего
смысла (особенно наглядно это проявилось в материализме; однако, как
мы помним, эта же черта отличает и систему Герцена).
Только в такой радикальной религиозно-философской системе, как
манихейство и в близком к нему по духу античном гностицизме была
предпринята более «гибкая» попытка ослабить жесткость указанной
иерархической системы: в манихействе за счет радикального дуализ-
ма начал добра и зла, в гностицизме за счет возведения человека и свя-
занного с ним зла на уровень Бога. В творчестве Достоевского мы нахо-
дим метафизическую систему, которая может рассматриваться как
наиболее адекватное воплощение гностической традиции европейской
культуры. В этом смысле совершенно справедливо и верно в букваль-
ном смысле неоднократно высказываемое Бердяевым утверждение
о том, что Достоевский является великим гностиком1. Достоевский
доводит до конца процесс разрушения той иерархической метафизи-
ки, которая на протяжении двух тысячелетий господствовала в евро-
пейском мировоззрении. Вместо принципа иерархии он вводит прин-
цип равноправия, взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга
ключевых метафизических элементов, ключевых метафизических
определений бытия. При этом необходимо сделать ту же самую оговор-
ку, которую мы сделали ранее при обсуждении работ Бердяева о Досто-
евском. Принцип взаимозависимости метафизических «конструктов»
(Бог, личность, свобода и т. д.) в противоположность их иерархическо-
му расположению вовсе не означает радикального онтологического
плюрализма в классическом смысле. Скорее, можно утверждать, что
онтология Достоевского монистична. Но главное не в этом; все такого
рода однозначные определения в данном случае являются условными,
поскольку подлинное начало мира, подлинный Абсолют «в себе»,
по Достоевскому, есть бездна и загадка; для нас открыты, доступны
1 См.: Бердяевы. А. Миросозерцание Достоевского. С. 10, 60-61; Он же.
Откровение о человеке в творчестве Достоевского. С. 164, 175.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 125
нашему относительному знанию только некоторые основные его «харак-
теристики» («измерения», «атрибуты»), которые мы выражаем с помо-
щью наших метафизических понятий. По отношению к этим «атрибу-
там» и сформулирован принцип равноправия и взаимозависимости, ко-
торый, дополняя условное утверждение о единстве и единственности
первоначала бытия, Абсолюта, уточняет, что радикальный плюрализм
господствует и будет всегда господствовать в наших поисках Абсолюта
и конечного смысла бытия; это означает, что мы не сможем никогда
остановиться ни на одном успокоительном и «окончательном» ответе
на вопрос о высшем смысле бытия, будь то рациональное утверждение
науки или иррациональный призыв веры.
В метафизике Достоевского нельзя говорить от иерархии элемен-
тов, нельзя полагать, что один из них является главным, первичным,
а другие по своему смыслу зависят от него и определяются им. Однако
можно говорить о центральном элементе системы, который играет осо-
бую роль в их взаимоотношениях. Таким элементом здесь выступает
личность; именно поэтому в рамках метафизики Достоевского наряду
с принципом равноправия «измерений» Абсолюта можно сформули-
ровать тезис «личность есть Абсолют». Это не означает, что личность
первична по отношению к Богу, свободе и т. д. Это означает лишь, что
в определении смысла каждого элемента основное значение имеет его
отношение к началу личности, причем смысл самого этого начала
в свою очередь выявляется только через его взаимоотношения со все-
ми остальными элементами.
Творчество Достоевского — это последовательный художественный
анализ всего многообразия отношений, существующих между элемен-
тами указанной метафизической системы. Поскольку смысл каждого
из них определяется через его отражения во всех остальных, при одно-
стороннем подходе к Достоевскому появляется возможность выбора тех
составляющих его художественного мира, которые делают основопо-
лагающим только одно понятие: понятие Бога или понятие личности,
или понятие зла и страданий, или понятие свободы и т. д. Тогда и воз-
никают всевозможные концепции, утверждающие, что в творчестве
Достоевского господствует один принцип; и Достоевский объявляется
или «религиозным художником» (Н. Лосский), или «создателем поли-
фонического романа» (М. Бахтин), или «жестоким талантом» (Н. Ми-
хайловскийх), или «писателем-экзистенциалистом» (А. Камю2) и т. д.
Достоевский не может быть понят из одного принципа, любая одно-
значная трактовка его творчества проходит мимо самого главного в
нем. В творчестве Достоевского окончательные формулировки и ясные
1 См.: Михайловский Н. К. Жестокий талант // Михайловский Н. К.
Литературно-критические статьи. М., 1957.
2 См.: Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий
Человек. С. 85.
126 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
тезисы не имеют решающего значения, здесь важна сама атмосфера
напряженного искания смыслов, выражающая бесконечную динами-
ку бытия, пронизывающую его до самых оснований.
Понять и выразить в рациональных терминах эту иррациональную
динамику бытия чрезвычайно трудно, однако Достоевский наглядно
показывает, что это в какой-то мере возможно, и чистый иррациона-
лизм, просто отказывающийся от этой цели, столь же неплодотворен,
как и прямолинейный рационализм. «На примере своего творчества
Достоевский показал, — пишет по этому поводу Бердяев, — что пре-
одоление рационализма и раскрытие иррациональности жизни не есть
непременно умаление ума, что сама острота ума способствует раскры-
тию иррациональности»1. В рамках своего художественного метода
Достоевский пытается найти рациональные подходы к глубине ирра-
ционального. И в основе всех этих подходов лежит один и тот же прин-
цип — принцип метафизического эксперимента2, Достоевский не
просто изображает, не просто фиксирует то, что он видит в реальной
жизни — на ее поверхности и в ее метафизической глубине, — он кон-
струирует жизнь на основе сознательно выбранных метафизических
приоритетов, не совпадающих с теми, какие мы предполагаем лежа-
щими в основе нашей реальной жизни. В результате в романах Досто-
евского появляются фантастические персонажи, олицетворяющие со-
бой «нетрадиционные», парадоксальные «метафизики». Таков, напри-
мер, Кириллов, который пытается обосновать абсолютность бытия
личности без Бога, таков Раскольников, который ставит «эксперимент»
по поводу соотношения зла и свободы личности, таков Мышкин,
«эксперимент» которого связан с попыткой понять любовь в качестве
Абсолюта, таков, наконец, Иван Карамазов, выносящий «обвинитель-
ный приговор» Богу и низводящий Бога до подчиненного (хотя и необ-
ходимого!) элемента в своей метафизической конструкции.
Во всех этих случаях может возникнуть соблазн выведения некото-
рой «морали» из проводимого писателем «эксперимента». Однако нуж-
но еще раз подчеркнуть, что для Достоевского все эти «метафизические
эксперименты» значимы сами по себе, а вовсе не как своеобразные «до-
казательства от противного» — не как формы обоснования единственно
«правильной» иерархической метафизики с Богом на вершине «пира-
миды». Возможно, Достоевский даже самому себе боялся признаться
в том, насколько радикально его мировоззрение расходится с тради-
ционными представлениями о мире, Боге и человеке. Может быть,
именно поэтому мы находим в его произведениях (особенно в днев-
никах и письмах) утверждения о своей всецелой приверженности
1 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. С. 160.
2 Об этом пишет и Бердяев: «Достоевский — не художник-реалист,
а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой приро-
ды» (там же. С. 152).
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 127
традиционной православной вере и традиционной системе ценностей.
Тем не менее глубокая суть его художественных творений явно проти-
воречит этим утверждениям, которые могут обмануть либо очень по-
верхностных, либо тенденциозных исследователей (к последним при-
надлежит, например, Лосский). В то же время один из самых проница-
тельных читателей Достоевского, Бердяев, дал абсолютно точную
характеристику противоречивого и бесконечно богатого мироощуще-
ния писателя: «Много раз уже отмечали, что Достоевский как худож-
ник мучителен, что у него нет художественного очищения и исхода.
Выхода искали в положительных идеях и верованиях Достоевского,
раскрытых частью в "Братьях Карамазовых", частью в "Дневнике пи-
сателя". Это — ложное отношение к Достоевскому... Тот экстаз, кото-
рый испытывается при чтении Достоевского, уже сам по себе есть вы-
ход. Выхода этого нужно искать не в доктринах и идеологических по-
строениях Достоевского-проповедника и публициста, не в "Дневнике
писателя", а в его романах-трагедиях, в том художественном гнозисе,
который в них раскрывается»1.
В произведениях Достоевского мы находим готовность поставить
любые вопросы и рассмотреть любые возможные ответы на них, без
априорной убежденности в истинности только одной позиции. И если
Достоевский решается высказать тезис «зло столь же могущественно
и притягательно для человека, как и добро», то можно не сомневать-
ся, он примет этот тезис как сокровенную истину, которую нужно пе-
режить до конца, не смягчая ее подсознательным убеждением в том,
что добро все равно победит. И если мы все-таки кое-где находим такое
«смягчение», то только в силу неизбежного противоречия между До-
стоевским-художником и Достоевским-человеком. Художник не оста-
навливался ни перед чем в своем стремлении раскрыть полноту и про-
тиворечивость жизни; в то же время, как обычный человек, он не мог
не считаться с общественной моралью, с привычками и ожиданиями
читающей публики; наконец, как человек, живущий в этом мире и
в этих условиях бытия, он не мог не испытывать естественного страха
перед теми выводами, к которым вели его «метафизические экспери-
менты». Быть может, именно этим страхом и объясняются некоторые
прямолинейные заявления, звучащие в его публицистике2.
1 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. С. 161.
2 С проблемой «внешнего» и «глубинного» в творчестве Достоевского
непосредственно связана оценка роли его художественного наследия в раз-
витии европейской культуры XX века. Очень часто к художественным на-
следникам Достоевского причисляют писателей, заимствующих чисто
внешние элементы его творений: детективный, загадочный сюжет, неве-
роятные стечения обстоятельств, парадоксальные ситуации, многознач-
ные философские диалоги и т. п. Однако, если мы примем за главное ме-
тафизическую глубину творчества Достоевского, о которой говорилось
Л
128 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
§ 6. Личность и Бог. Проблема бессмертия
Признание личности за метафизический Абсолют ведет к необхо-
димости разъяснить отношение этого Абсолюта к Богу — верховному
началу традиционной «иерархической» метафизики. Эта проблема —
проблема тех отношений между личностью и Богом, которые в значи-
тельной степени и определяют смысл самих понятий «личность» и
«Бог», — является одной из главных и наиболее сложных в творчестве
Достоевского.
Герои Достоевского, как и он сам в публицистике и в «Дневнике
писателя», очень часто и много говорят о Боге, однако необходимо
с большой осторожностью относится к этим «прямым» высказывани-
ям, у Достоевского прямые утверждения далеко не всегда являются
основой правильного понимания, они занимают ограниченное (и не са-
мое значительное) место в общем наборе выразительных средств писа-
теля. Все попытки понять смысл представлений Достоевского о Боге
только из прямой речи его героев неплодотворны и проходят мимо
выше, число претендентов на «наследство» резко сузится. Не вдаваясь в
детальное обоснование этого предпочтения (что выходит за рамки данно-
го исследования), можно указать на трех художников XX века, подобно
Достоевскому отваживавшихся на «метафизические эксперименты» в сво-
ем творчестве, — что требует не только развитой художественной интуи-
ции, умения пристально видеть окружающую жизнь, но и способности к
Творению новых художественных миров, в которых человек и его судьба
предстают в облике, совершенно непохожем на то, что явлено нам в нашей
действительности. Такими художниками являются Франц Кафка, Вла-
димир Набоков и Сэмюэль Беккет.
Упоминание этих трех имен вовсе не означает, что они представляют
собой самое «ценное» или «талантливое» в литературе XX века; вовсе нет.
Традиция Достоевского не является единственной и исчерпывающей, если
бы литература развивалась исключительно в рамках этой традиции, она
неизбежно была бы односторонней. Только взаимосвязь всех важнейших
направлений позволяет культуре быть достаточно полным отражением и
выражением многообразия реальности. Если говорить о литературе, то
здесь наряду с традицией Достоевского необходимо отметить не раз уже
упоминавшуюся традицию Л. Толстого, традицию психологической про-
зы, которая в гораздо большей степени, чем это было возможно в прозе
Достоевского, сумела выразить все богатство человеческой личности в ее
эмпирическом проявлении. Однако только в традиции Достоевского лите-
ратура смогла увидеть основания эмпирической личности и ее потенци-
альные творческие возможности. Психологическая литература никогда
не могла претендовать на обретение загадочной способности, столь харак-
терной для «метафизической» литературы, — способности предсказывать
будущее, изображать не реального исторического человека, человека се-
годняшнего дня, а человека будущего.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 129
сложнейшей духовной диалектики Достоевского, не допускающей
однозначных и строгих ответов.
В традиционной религиозной метафизике Бог является прежде все-
го творцом мира и человека. При этом несущественно, в каком смысле
понимается творение — как единичный акт в духе Ветхого Завета, как
«эманация» неоплатоников или как логическая и онтологическая обу-
словленность в духе идеалистической философии XVII-XIX веков.
Во всех случаях человек в основаниях своего бытия признается обуслов-
ленным божественным бытием, в той или иной степени зависит от Бога.
Принимая личность человека за Абсолют, Достоевский, казалось
бы, лишает основания понятие Бога. Однако более внимательный ана-
лиз показывает, что это не совсем так; наоборот, в том случае, когда
личность объявляется Абсолютом, необходимость понятия Бога для
объяснения человека и его бытия становится еще более насущной. Ведь
Абсолют — это то, что первично по своему бытию, не зависит ни от чего
превосходящего его и в свою очередь определяет все, что есть реально-
го в мире. В противоположность этому человек в своем эмпирическом
проявлении зависим от множества явлений и сущностей и не является
«господином» всей окружающей реальности. Правда, как уже говори-
лось, Достоевский в своих романах утверждает абсолютность личности
человека в ее метафизической сущности, а не в отдельной эмпириче-
ской «ипостаси». Однако это не ликвидирует всей остроты проблемы,
поскольку Достоевский не признает бытия метафизической Личности,
независимого от реального существования своих ипостасей — эмпири-
ческих личностей. Не случайно адекватной формой изложения внут-
ренней диалектики Личности становится не абстрактная форма фило-
софского трактата, а жизненно-конкретная форма романов, в художе-
ственном мире которых сталкиваются персонажи, обладающие эмпи-
рическим существованием, но выражающие сущность метафизической
Личности. В каждом конкретном преломлении, в каждом своем про-
явлении Личность выступает как личность, как конкретный человек,
воплощающий в себе всю метафизическую полноту человеческого бы-
тия, берущий на себя ответственность говорить от имени Абсолюта
(Личности-Абсолюта).
Именно для того чтобы указанное воплощение не было иллюзией,
а ответственность человека получила основу и оправдание, необходимо
«восстановить» понятие Бога, если и не в том смысле, как это было ха-
рактерно для традиционной метафизики (как особое бытие), то хотя бы
в смысле некоего метафизического гаранта абсолютности человече-
ской личности. В метафизике Достоевского такой «гарант» не дол-
жен превосходить человека или быть его замещением, тем более не мо-
жет он быть какой-то абстракцией. Если личность действительно аб-
солютна, то и гарант ее абсолютности — это тоже личность, причем
конкретная эмпирическая личность, которая в своей реальной
5 3ак.4424
130 Я. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
эмпирической жизни раз и навсегда проявила свою абсолютность и
тем самым навеки стала идеалом для всех людей. Эта личность — Иисус
Христос.
Особое место, которое занимает личность Христа в творчестве До-
стоевского не вызывает никаких сомнений. Практически все главные
герои Достоевского проходят своеобразную проверку на искренность и
глубину через их отношение к личности Иисуса. Вспомним, например,
характерный эпизод из романа «Преступление и наказание». В сцене
первой встречи Раскольникова и Порфирия Петровича последний вне-
запно задает странный вопрос, слабо связанный с контекстом беседы
(вызванный упоминанием «Нового Иерусалима» Раскольниковым):
«— Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?
— Верую, — твердо ответил Раскольников <...>
— И-и-и в Бога веруете? Извините, что так любопытствую.
— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.
— И-и в воскресение Лазаря веруете?
— Ве-верую. Зачем вам все это?
— Буквально веруете?
— Буквально»1.
Самое главное здесь это «буквально*, прозвучавшее в самом конце.
«Буквально» — это в отношении реального человека Лазаря и реаль-
ного человека Иисуса Христа, о которых говорит Евангелие. Словно
предвидя дальнейшую судьбу Раскольникова (такое предвидение яв-
ляется обычным для героев Достоевского, которые из своего «метафи-
зического» времени способны охватить все, что ожидает их самих и их
alter ego в реально-событийном, эмпирическом времени), Порфирий
Петрович проверяет, насколько глубока вера в Бога у его « подследствен-
ного»; при этом он прекрасно понимает, что спасти Раскольникова мо-
жет только вера в конкретного Христа и конкретного Лазаря, воскрес-
шего после смерти, абстрактная вера в Бога-творца и Бога-судию этого
сделать не может.
Тот факт, что Порфирий Петрович непосредственно связывает веру
в Бога (Иисуса Христа) с верой в воскресение Лазаря, также является
далеко не случайным. Вера в Христа для Достоевского оказывается
практически тождественной вере в бессмертие человека. История
Христа, как и история Лазаря, несет в себе залог грядущего воскресе-
ния каждого человека, залог его бессмертия, но это и есть главное, что
позволяет признать человека абсолютным элементом бытия; конечный,
смертный человек, всецело подчиненный эмпирическому времени,
не может претендовать на то, чтобы быть причастным Абсолюту.
На первый взгляд, может показаться, что Достоевский решает проб-
лему смерти и бессмертия с обезоруживающей простотой и в полном со-
гласии с канонической христианской традицией. В « Дневнике писателя »
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 6. С. 201.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 131
за 1876 г. он пишет: «Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие
человека неестественно, немыслимо и невыносимо»1. Называя веру
в бессмертие «основной и самой высшей идеей человеческого бытия»,
он приходит к выводу, что «самоубийство, при потере идеи о бессмер-
тии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для
всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над ско-
тами... идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее оконча-
тельная формула и главный источник истины и правильного сознания
для человечества»2. В качестве наглядной иллюстрации этой мысли
в «Дневнике писателя» выступает история «логического самоубий-
цы», — человека, который кончает с собой именно из-за того, что не
может найти разумных оснований для веры в бессмертие, следствием
чего является вывод о совершенной бессмысленности жизни.
Однако, если принять, что Достоевский всегда и везде понимает бес-
смертие только в традиционном христианском смысле (как бытие души
в ее «райском» состоянии), станут совершенно непонятными душевные
терзания и мучительные размышления многих его героев (да и самого
их автора) по поводу жизни, смерти и бессмертия. Ведь из приведен-
ных слов следует, что вера в бессмертие является настолько фундамен-
тальной и незыблемой, что она, в сущности, и не может быть предме-
том сомнения и обсуждения без того, чтобы тут же не привести человека
к безумию и самоубийству. Если же человек мучительно размышляет
над проблемой бессмертия, но продолжает жить, значит, он уже обла-
дает указанной верой, и его сомнения имеют какой-то более сложный
смысл, чем просто ее принятие или отвержение.
Для разрешения этой трудности необходимо признать, что Досто-
евский (и его герои) в различных случаях придает существенно разный
смысл идее бессмертия и, соответственно, по-разному трактует фено-
мен смерти, что и обуславливает столкновение точек зрения при обсуж-
дении этой проблемы и противоречия в мировоззрении отдельных пер-
сонажей. Пытаясь различить смысловые аспекты идеи бессмертия, мы
должны особое внимание обратить на целый ряд героев, которые са-
мой своей романной судьбой дают художественное обоснование тому
мировоззрению, к которому в мучительных поисках идет Достоевский.
Здесь имеются в виду герои-самоубийцы. Самоубийство — это наибо-
лее непосредственный, жизненно-конкретный способ решения пробле-
мы смерти и бессмертия, и понятно, что, изображая героев на пороге
самоубийства, Достоевский через их поступки и слова в наибольшей
степени раскрывает свое собственное отношение к этой проблеме.
Крайний случай в ряду этих героев представляет «логический са-
моубийца» , который своей судьбой как бы доказывает идею бессмер-
тия «от противного». Но он, в сущности, является в большей степени
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 24. С. 46.
2 Там же. С. 49-50.
132 И, И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
«абстракцией», чем образом живого человека, поскольку до такой сте-
пени, как он, отвергнуть идею бессмертия реальный человек не в со-
стоянии. В других героях из этого ряда Достоевский реализует более
глубокие и сложные аспекты идеи бессмертия и связанных с ней пред-
ставлений о жизни и ее смысле. При этом кульминацией размышле-
ний Достоевского над «высшей идеей человеческого бытия» является
образ Кириллова из романа «Бесы». Очень часто его историю тракто-
вали и трактуют как иллюстрацию разрушительного характера неве-
рия, духовно калечащего человека. Нет ничего более далекого от исти-
ны, чем такое понимание «случая Кириллова». Скорее наоборот, через
Кириллова Достоевский выражает самые сокровенные свои убеждения;
и как это почти всегда происходит в его художественном мире, все са-
мое важное здесь оказывается в парадоксальных, противоречивых от-
ношениях с нашими обыденными критериями и ценностями, — они
оказываются слишком однозначными и прямолинейными в том зага-
дочном мире, где живут герои Достоевского и где они своими фантас-
тическими поступками и судьбами открывают истину о нас самих.
Пытаясь обозначить свое понимание бессмертия и постоянно обра-
щаясь к истории Иисуса, Достоевский переосмысливает евангельскую
историю не только за счет того, что дает ту или иную «теоретическую»
интерпретацию отдельным ее эпизодам, заставляя своих героев раз-
мышлять о ней, но и за счет того, что выводит на страницы своих про-
изведений персонажей, которые в своей жизни сознательно или бес-
сознательно повторяют отдельные этапы жизненного пути Иисуса и тем
самым дают новые «версии» понимания смысла евангельской траге-
дии. Центральное место среди таких героев занимает Кириллов. Как
мы попытаемся показать в дальнейшем, Достоевский таким образом
переосмысливает образ Христа, что в том фантастическом мире, где су-
ществуют его герои, Кириллов оказывается реальным двойником
Иисуса Христа; он точно так же своей судьбой символизирует смысл
«высшей идеи», в ее понимании Достоевским, как Христос символи-
зирует этот смысл в традиционном, церковном христианстве. (В свою
очередь двойником Кириллова выступает герой рассказа «Сон смеш-
ного человека», который в еще более прямой, почти публицистической
форме выражает смысл идеи воскресения и бессмертия.)
Прежде чем приступить к обоснованию этого утверждения, вспом-
ним еще одного самоубийцу (точнее, «мнимого» самоубийцу) — Иппо-
лита Терентьева из романа «Идиот». Центральным элементом истории
Ипполита является его «Необходимое объяснение», в котором он рас-
сказывает о том, как пришел к своей «главной идее»: будучи без-
надежно больным и зная, что ему осталось жить около двух месяцев,
он решает покончить с собой. В исповеди Ипполита явно проступает
странное противоречие между непоколебимой верой в бессмертие и
сомнением в возможности воскресения и бессмертия; анализ этого
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 133
противоречия позволит нам различить два основных смысла (или два
уровня понимания) идеи бессмертия, которые использует Достоевский.
Формально некоторые моменты рассуждений Ипполита и обстоя-
тельства его судьбы напоминают случай «логического самоубийцы».
Главная причина, приведшая Ипполита к его решению, — это бессмыс-
ленность продолжения жизни, когда известно, что жить осталось слиш-
ком мало, чтобы успеть совершить что-то значительное, оказывающее
влияние на окружающий мир. Если отвлечься от «количественных»
различий («логический самоубийца» имеет возможность прожить не-
сколько десятков лет до полного уничтожения, а Ипполит — два меся-
ца), оба героя Достоевского, по сути, говорят об одном и том же и ста-
вят одну и ту же проблему: как можно жить, если рано или поздно тебя
ждет смерть, и, значит, все, что было сделано и пережито в земной
жизни, утратит смысл. Однако помимо этой исходной точки все осталь-
ное в истории Ипполита скорее противоположно истории «логическо-
го самоубийцы».
Прежде всего Ипполит безусловно верит в бессмертие; в заключе-
ние своего рассказа он совершенно определенно заявляет: «Я никогда,
несмотря даже на все желание мое, не мог представить себе, что буду-
щей жизни и провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но что мы
ничего не понимаем в будущей жизни и в законах ееьх (курсив мой. —
И. Е.). Как видно, Ипполит не сомневается в самой будущей жизни и
бессмертии (именно поэтому он остается жить, и его самоубийство ока-
зывается «мнимым»2), он сомневается в том, какова будущая жизнь,
как надо понимать бессмертие.
В этом контексте особенно важное значение приобретает известное
рассуждение Ипполита, касающееся картины Г. Гольбейна «Мертвый
Христос», в котором сомнения в идее бессмертия непосредственно со-
относятся с сомнением в возможности воскресения Христа. На карти-
не изображено тело Христа, которое настолько мертво, настолько под-
вержено закону тления, что невозможно поверить в его воскресение,
в его возвращение к жизни. «Когда смотришь на этот труп измученно-
го человека, — говорит Ипполит, — то рождается один особенный и лю-
бопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был
быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апос-
толы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все ве-
ровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они пове-
рить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 8. С. 344.
2 Когда пистолет, с помощью которого Ипполит пытался покончить с
собой, дал осечку, поскольку в нем отсутствовал капсюль, и всем присут-
ствующим стало ясно, что самоубийство было «не настоящим», Ипполит
восклицает: «Обесчещен навеки!» Это навеки очень характерно и явно не
случайно вложено Достоевским в уста своего героя.
134 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы
природы, то как же одолеть их?.. И если б этот самый учитель мог уви-
дать свой образ накануне казни, то так ли бы сам Он взошел на крест
и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится,
когда смотришь на картину»1.
Строго говоря, сомнения Ипполита не вполне понятны с точки зре-
ния традиционного христианского мировоззрения. Поскольку Хрис-
тос претерпел все крестные муки как человек, Он и в смерти должен
был выглядеть как мертвый человек; и это нисколько не противоречит
Его воскресению и возможности веры в воскресение. Ведь воскресает
Христос уже не как человек, а как Бог, и Его телесный облик после
воскресения нельзя отождествлять с телесным обликом страдавшего
и умершего Христа. Традиционное понимание воскресения вовсе не
подразумевает «непрерывности» телесного существования Христа, ско-
рее наоборот, смерть признается абсолютным пределом земного телес-
ного бытия; за ним через воскресение приходит новая жизнь и новое
бытие, в котором телесное начало если и присутствует, то в радикаль-
но иной форме по отношению к земной телесности.
Ужас, вызываемый у Ипполита видом мертвого тела Христа с кар-
тины Гольбейна, свидетельствует не столько о невозможности веры
в воскресение вообще — как мы помним, он решительно подтверждает
наличие такой веры, — сколько об особом понимании воскресения, вера
в которое и оказывается поколебленной. В этом понимании главным
смыслом воскресения оказывается не новое рождение в новой форме
бытия, а продолжение существования в прежней форме, получающей
новое содержание, которое дополняет старое, но не отменяет его. Карти-
на Гольбейна заставляет Ипполита усомниться (про такое сомнение,
глядя на картину, говорит и князь Мышкин) в возможности воскресе-
ния, которое отрицало бы смерть как абсолютную грань земного бы-
тия, предполагало бы, что смерть относительна или, точнее, соотноси-
тельна жизни, «вторична* по отношению к жизни, и «разрыв», вно-
симый смертью, может и должен быть «скомпенсирован» возвраще-
нием к такой же жизни в том же теле (хотя законы этой возрожденной
жизни могут быть иными). Нетрудно видеть, что здесь происходит точ-
но такое же преобразование христианской идеи бессмертия, которое
мы уже обнаружили ранее у Чаадаева (см. § 6 главы 1).
Необходимо отметить еще несколько характерных деталей истории
Ипполита. Поскольку Ипполит безусловно верит в будущую жизнь, у
него нет «логических» оснований для самоубийства; он дважды на про-
тяжении своего «объяснения» подчеркивает этот факт, словно дис-
танцируясь от позиции «логическогосамоубийцы»2. «Окончательному
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 8. С. 339.
2 Роман «Идиот» был опубликован за восемь лет до появления истории
«логического самоубийцы» в «Дневнике писателя» за 1876 г., однако
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 135
решению способствовала... не логика, не логическое убеждение, а от-
вращение», — пишет Ипполит в своем «объяснении», имея в виду
отвращение перед «темной силой», господствующей в нашей жизни и
не позволяющей надеяться на возможность преодоления смерти, пе-
ред той силой, которая посмела уничтожить даже Иисуса — «великое
и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей при-
роды и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может
быть, единственно для одного только появления этого существа!»1
Мысль об этой «темной силе» настолько овладела Ипполитом, что
приобрела форму навязчивого бреда, преследующего его и во сне и на-
яву. Во сне «темная сила» явилась ему в облике отвратительного насе-
комого, укусившего за язык его собаку; наяву реализовала себя в зага-
дочном визите Рогожина (или его призрака?), который, не сказав ни
слова, просидел весь вечер в комнате Ипполита и столь же странно ис-
чез, как и появился. Если вспомнить, что картину Гольбейна, представ-
шую как главный символ господства «темной силы» в нашей жизни,
Ипполит видел именно в доме Рогожина, этот визит обретает в свою
очередь зловещее символическое значение — как прямая насмешка
«темной силы» над человеком, который пытается понять ее истоки и
ее роль в мире и тем самым — через ее смысловое «просветление» —
бросить вызов ее всемогуществу. «Нельзя оставаться в жизни, — с го-
речью констатирует Ипполит свое поражение, — которая принимает та-
кие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило.
Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула»2.
Трагедия Ипполита связана с разрывающим его душу противоречием:
он верит в бессмертие вообще, но не может поверить в бессмертие как
преодоление смерти и тления, как продолжение земной телесной жиз-
ни. Имитация самоубийства нужна ему только для того, чтобы заста-
вить окружающих почувствовать весь ужас его сомнений в своем Сим-
воле веры.
В итоге, история Ипполита, раскрывая главное содержание идеи
бессмертия, заставляет задуматься над двумя важнейшими проблема-
ми: во-первых, над тем, в какой форме будет реализовано бессмертие
человека и так ли уж очевидно, что в своем посмертном существовании
человек станет более совершенным и гармоничным, чем в земной жиз-
ни; и, во-вторых, над тем, какие метафизические силы обусловливают
смерть и бессмертие человека, определяют форму его существования
за гранью смерти. В истории Ипполита первая проблема остается
совершенно очевидно, что проблема «идейного» самоубийства постоянно
мучила Достоевского, и проведение прямых параллелей между героями-
самоубийцами, выведенными в разных произведениях, часто разделенных
большими временными промежутками, вполне законно.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 8. С. 339.
2 Там же. С. 341.
1
136 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
открытой, в то время как решение второй имеет явно пессимистичес-
кий оттенок: Ипполит видит в основаниях мира только «темную»
силу, которая служит смерти и тлению; очень характерно, что, даже
рассуждая о Христе, он совсем не вспоминает о том, что Христос есть
Бог, и, значит, за Ним стоит какая-то «светлая» сила, способная по-
бороть или хотя бы сгладить действие «темной силы». Чтобы понять,
как Достоевский решает эти проблемы, необходимо обратиться к дру-
гим его героям, которые стоят на той же грани между жизнью и смер-
тью и поэтому способны увидеть то, что не видят люди, погруженные
в обыденность.
§ 7. Личность и Бог. Случай Кириллова
Убеждение в том, что вера в бессмертие может сочетаться с совершен-
но различным пониманием той вечности, которая ожидает человека пос-
ле смерти, составляет одну из самых странных составляющих мировоз-
зрения Достоевского; прикасаясь к этой теме, его фантазия приобрета-
ла поистине болезненные формы, порождая образы, леденящие своей
безысходностью. Самый известный пример этому мы находим в извест-
ном суждении Свидригайлова о вечности как «бане с пауками».
Свидригайлова, вне всяких сомнений, можно отнести к наиболее
значимым образам Достоевского, недаром близкий друг и первый био-
граф Достоевского Н. Страхов высказывал убеждение, что Свидригай-
лов — это один из персонажей, наиболее адекватно выражающих
мировоззрение Достоевского («Лица наиболее на него похожие, —
утверждал Страхов в письме к Л. Толстому, — это герой "Записок из
подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин
в "Бесах"»1). Как и все прочие герои Достоевского, Свидригайлов без-
условно верит в бессмертие (еще раз подчеркнем, что единственный
пример отсутствия такой веры — «логический самоубийца» — являет-
ся не образом реального человека, а некоторой «абстракцией»). Более
того, его рассуждение о множестве миров, соседствующих с нашим и
проникающих в наш земной мир в виде снов, видений и призраков, —
это достаточно адекватное выражение веры в телесное бессмертие че-
ловека. Смерть — это переход от бытия в одном мире к бытию в дру-
гом, «соседнем» мире. Очевидно, что такой переход имеет мало общего
с христианским представлением о бессмертии души в ее райском со-
стоянии. В вере Свидригайлова человек продолжает телесно существо-
вать и в другом мире, однако законы его существования становятся
1 Цит. по книге: Достоевская А, Г. Воспоминания. М., 1987. С. 418.
Как известно, вдова писателя резко возражала против этого мнения Стра-
хова (см.: там же), однако Л. Шестов приводил позже достаточно убеди-
тельные аргументы в его пользу, основанные на глубоком анализе творче-
ства Достоевского (см.: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по ду-
шам) // Шестов Л. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1993. С. 32-97).
рлдва 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 137
иными, абсолютно непонятными и загадочными для нас. Об этом сви-
детельствуют привидения, которые являются ему и о которых он рас-
сказывает Раскольникову при их первой встрече. «Привидения — это,
так сказать, клочки и обрывки других миров, их начало. Здоровому
человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый чело-
век есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною
здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть
нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начи-
нает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем
и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет со-
всем человек, то прямо и перейдет в другой мир»1. В этом рассуждении
Свидригайлова предельно ясно выражено то представление о смерти
как вторичном элементе самой жизни, о котором уже говорилось ра-
нее в связи с анализом философских взглядов Чаадаева. Смерть — это
только переход от одной формы бытия к другой, причем этот переход
начинает осуществляться и становится зримым уже в болезни, и смерть
только «количественно» отличается от болезни, завершая указанный
переход. Не случайно и свое предстоящее самоубийство Свидригайлов
постоянно называет вояжем, поездкой («в Америку»).
Незначительность и нелепость поводов, в связи с которыми к Свид-
ригайлову приходят призраки (его покойная жена и его дворовый че-
ловек Филька), подчеркивают абсурдность тех законов, в соответствии
с которыми ведут свое посмертное существование в «соседних» мирах
умершие люди. Можно провести прямую параллель между явлением
Ипполиту призрака Рогожина и явлением упомянутых призраков
Свидригайлову. И в том и в другом случае это выражение абсурдности
бытия. Но если призрак еще не умершего Рогожина, явившийся Иппо-
литу, олицетворяет абсурдность нашего земного мира, безраздельное
господство в нем «темной силы», то призраки Свидригайлова дают осно-
вание для того, чтобы перенести этот пессимистический вывод на все
те миры, в которых предстоит жить людям после смерти. Именно в этом
пункте обнаруживаются причины духовной «ущербности» Свидригай-
лова по отношению к Ипполиту Терентьеву и другим персонажам
Достоевского. Казалось бы, он даже имеет преимущество перед Ипполи-
том, поскольку в отличие от последнего уже обладает непоколебимой
верой в телесное бессмертие человека. Но это видимое преимущество
оборачивается непоправимой духовной катастрофой, так как его вера
включает в себя убеждение, что существование в других мирах, пред-
стоящее нам после смерти, не только не является более разумным, осмыс-
ленным и гармоничным, но, наоборот, еще более абсурдно, еще более ли-
шено какого-то смысла и цели, чем наше земное существование. Это
Убеждение как раз и выражено в известных словах Свидригайлова о веч-
ности: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 6. С. 221.
138 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное?
И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка,
эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот
и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится»1.
Очевидно, что такое «мировоззрение», хотя оно и основано на идее
бессмертия, скорее, нужно считать противоположным христианской
традиции, поскольку в нем начисто отсутствует представление об абсо-
лютном совершенстве, т. е. представление о Боге. Ипполит Терентьев в
своих душевных терзаниях все-таки оставляет открытым вопрос о том,
распространяется ли господство «темной силы» на все бытие; его со-
мневающаяся вера оставляет надежду и позволяет жить в этом мире,
сохраняя чувство человеческой солидарности и желание творить доб-
ро (недаром центральным эпизодом «исповеди» Ипполита является
описание истории безымянного лекаря из провинции, семью которого
Ипполит спас от голодной смерти). Напротив, безусловная вера Свид-
ригайлова не признает ничего кроме господства абсурда во всех сферах
бытия, а его бессмертие предстает как еще более ужасная перспекти-
ва, чем земная смерть, пугающая Ипполита.
Можно ли считать веру Свидригайлова близкой самому Достоев-
скому? В пользу положительного ответа на этот вопрос свидетельству-
ет рассказ «Бобок» из «Дневника писателя» за 1873 г. Похоже, что До-
стоевскому, как и многим его героям, сама по себе вера в телесное бес-
смертие человека не приносила успокоения, она рождала еще более
тягостные раздумья, касающиеся «законов» посмертного существова-
ния. Рисуя омерзительную в своих натуралистических деталях карти-
ну посмертного «существования» покойников в своих могилах, Досто-
евский как бы на мгновение открывает нам самые глубокие тайники
своей души, где живет мучительное сомнение — сомнение в осмыслен-
ности и гармоничности грядущего телесного бессмертия. Только так
можно объяснить появление этого рассказа, который с точки зрения
традиционного христианского подхода к идее бессмертия выглядит
кощунством. Не случайно А. Белый охарактеризовал этот рассказ как
«безумие, переходящее в цинизм» и высказал полное недоумение по
поводу его замысла и целей его публикации: «Для чего печатать все
это свинство, в котором нет ни черточки художественности. Единствен-
ный смысл напугать, оскорбить, сорвать все святое. "Бобок" для
Достоевского есть своего рода расстреливание причастия, а игра сло-
вами "дух" и "духовный" есть хула на Духа Святого. Если возможна
кара за то, что автор выпускает в свет, то "Бобок", один "Бобок" можно
противопоставить каторге Достоевского: да, Достоевский каторжник,
потому что он написал "Бобок"»2.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 6. С. 221.
2 Белый А. Трагедия творчества // О Достоевском. Творчество Достоев-
ского в русской мысли 1881-1931 гг. М., 1990. С. 154.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 139
Все аспекты проблемы бессмертия сходятся воедино в истории
Кириллова.
Прежде всего обратим внимание на некоторые особенности возник-
новения этого персонажа. Как показывают подготовительные матери-
алы к «Бесам», Достоевский в этом романе первоначально предпола-
гал продолжить ту тему, которую он задал в «Идиоте», — изображе-
ние «положительно прекрасного человека», воплощавшего всю полноту
христианского идеала жизни. В первых набросках этот герой, условно
названный Князем, представал как «новый человек», ищущий подлин-
ного смысла христианской правды и обретающий его через единство
с народом. В более поздних версиях романа на первый план выходил
природный философ крестьянин-старообрядец Голубов, о котором
Достоевский узнал из статьи в «Русском вестнике» и которому он пе-
редал все качества «нового человека», в том числе главное — способ-
ность оказывать решающее влияние на окружающих его людей (в пер-
вую очередь на Князя и Шатова). Однако и этот сугубо положительный
герой также не удовлетворил Достоевского, вероятно, потому, что по-
лучался слишком однозначным и дидактически прямолинейным; в
конце концов он исчез со страниц романа. В окончательной версии, на-
писанию которой предшествовало трагическое в творческом плане со-
бытие — признание неудовлетворительными уже написанных первых
глав романа, — Достоевский возвратился к теме Князя — Николая
Ставрогина; однако теперь этот герой ничего общего не имел с первона-
чальным замыслом, главным в разработке этого образа стала демонст-
рация трагической диалектики души, разрывающейся между злом и
добром, верой и неверием, страстной любовью и глубоким безразличи-
ем ко всему и ко всем; в центре романа оказался персонаж с поистине
«демоническим» характером1.
Приступая к написанию новой версии романа летом 1870 г., Досто-
евский не мог не осознавать, что в результате всех изменений среди ге-
роев не осталось ни одного, развивавшего тему, которая была задана
образом князя Мышкина. И именно в этот момент, непосредственно
перед оформлением окончательного варианта первой части, в черно-
вых записках Достоевского появляется новый персонаж — инженер
Кириллов. Нужно подчеркнуть этот знаменательный факт: образ Ки-
риллова отсутствовал в предшествующих подготовительных материа-
лах, и, значит, его появление было обусловлено какой-то очень важ-
ной задачей, которую не мог выполнить ни один из других персонажей
романа. Эта задача кажется почти очевидной: Кириллов необходим был
Достоевскому для того, чтобы в новом романе продолжить разработку
темы «земного Христа».
В соответствии с общим «идеологическим» замыслом «Бесов» в сво-
их попытках понять современное значение того учения, которое принес
1 См.: Сараскина Л. Федор Достоевский. Одоление демонов. М., 1996.
С 23-38.
140 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в мир Христос, Достоевский переносит центр тяжести с морально-эти-
ческой проблематики на метафизическую; в «Бесах» речь идет уже в
большей степени о самих основаниях этого учения, о возможностях
согласовать его с требованиями нашего разума и с законами нашей зем-
ной жизни. При этом тема «земного Христа» расширяется до темы «но-
вого Христа». Хотя Кириллов не единственный персонаж романа, пря-
мо выражающий главные философские идеи Достоевского, не вызывает
никаких сомнений, что именно его размышления являются центром,
вокруг которого концентрируются все мировоззренческие искания ге-
роев романа. Именно Кириллов в наиболее радикальной форме ставит
центральную проблему метафизики Достоевского — проблему веры
и бессмертия.
Прежде чем говорить о самом важном, метафизическом срезе исто-
рии Кириллова, не будет излишним обратить внимание на многочис-
ленные детали его образа, которые доказывают его сходство с образом
князя Мышкина. Практически все черты, характеризующие Мыш-
кина как «земного Христа», Достоевский намечает и в образе Кирил-
лова. Уже при первом своем появлении в романе он предстает как
прямой и благородный человек, болезненно реагирующий на любую
фальшь и низость, почти совершенно не способный испытывать к лю-
дям негативных чувств, доброжелательно относящийся ко всякому, кто
приходит к нему с какой-либо просьбой (исключение здесь составляет
разве что Петр Верховенский). В романе несколько раз упоминается
его детская, непосредственная улыбка, его способность краснеть от упо-
минания болезненных или дорогих для него воспоминаний, его мяг-
кость и терпимость в общении даже с самыми отталкивающими людь-
ми. В одной из сцен Кириллов признается, что любит детей, и судя по
тому, что ему удается заменить на некоторое время для маленького
ребенка его мать, можно понять, что дети также испытывают к нему
чувство привязанности (вспомним, что это является одной из наиболее
характерных черт образа князя Мышкина как «земного Христа»).
Наконец, Кириллов, как и князь Мышкин, наделен удивительной про-
ницательностью, способностью угадывать скрытые душевные движе-
ния других людей (особенно показательна в этом смысле его беседа с
Николаем Ставрогиным после дуэли).
В этом контексте приобретает совершенно иное значение, по срав-
нению с традиционной интерпретацией, и косноязычие Кириллова, его
неспособность стилистически точно выражать свои мысли. Обычно эту
черту рассматривают как одно из последствий духовной «болезни»
Кириллова, как бы оторвавшегося от духовной «почвы» из-за привер-
женности внушенному ему извне «нигилистическому» и «атеистиче-
скому» мировоззрению. По поводу того, насколько правомерно припи-
сывать ему такое мировоззрение, мы будем говорить ниже, здесь же
достаточно заметить, что, несмотря на свое косноязычие, Кириллову
всегда удается ясно выразить смысл своих мыслей, причем часто в весьма
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 141
афористичной форме, не оставляющей никаких сомнений в том, что
это сокровенные мысли самого Достоевского (вспомним некоторые вы-
сказывания Кириллова: «Меня Бог всю жизнь мучил»1, «Жизнь есть,
а смерти нет совсем», наконец, известную характеристику Ставроги-
на: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не ве-
рует, то не верует, что он не верует»2). Косноязычие Кириллова, ско-
рее, свидетельствует о том, что он человек «не от мира сего», большой
ребенок, юродивый, которому открыто нечто неведомое для «нормаль-
ных» людей; это еще один элемент его характеристики, который дела-
ет его подобным князю Мышкину. Как и «идиот» Мышкин, «сума-
сшедший» Кириллов сумел выполнить завет Христа «будьте как дети»
и в обретенной детской непосредственности оказался способным бли-
же других подойти и к пониманию высшей Истины, и к осознанию тех
трагических заблуждений, которые стоят на пути к ней.
Нужно признать, что в изображении Кириллова существует какая-
то странная двойственность, Достоевский словно бы боится открыто
показать, насколько дорог ему этот человек и насколько важны и отве-
чают его сокровенным убеждениям те мысли, которые высказывает
Кириллов. В адрес Кириллова то и дело звучат обвинения в «атеизме»,
«нигилизме», проповеди «всеобщегоразрушения», «лакействемысли»
и т. д., и при поверхностном подходе кажется, что все эти обвинения
соответствуют действительности и выражают отношение автора к сво-
ему герою. Однако более внимательный взгляд мгновенно рассеивает
эту иллюзию. Каждый из героев, высказывающих подобные обвине-
ния, делает это через призму своего собственного мировоззрения, сво-
их собственных пристрастий, и в данном случае будет весьма уместно
вспомнить идеи М. Бахтина, который настаивал на необходимости раз-
личать позиции героев Достоевского и их автора. Нетрудно убедиться,
что, в конечном счете, все негативные оценки, высказываемые в адрес
Кириллова, выражают только одно — отсутствие проницательности
или даже духовную слепоту тех, кто их произносит, — подобно тому как
в евангельской истории все обвинения в адрес Иисуса выдавали духов-
ную пустоту и отсутствие истинной веры у произносящих их фарисеев.
Так, например, утверждение Липутина о том, что Кириллов высту-
пает за всеобщее разрушение («Они уже больше чем сто миллионов го-
лов требуют для водворения здравого рассудка в Европе...»3), оказыва-
ется просто клеветой («Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам
сначала мне говорил, и понимает худо...» — говорит позже Кириллов4).
Пренебрежительное замечание Степана Трофимовича о том, что Кирил-
лов принадлежит к типу людей «с коротенькими мыслями»5, также
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 94.
2 Там же. С. 469.
3 Там же. С. 77.
4 Там же. С. 92.
5 Там же. С. 99.
142 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
невозможно считать объективным, оно отражает общее отношение Сте-
пана Трофимовича к «новому поколению», непонимание им этого
«нового поколения». Наконец, хлесткое суждение Шатова: «Люди из
бумажки; от лакейства мысли все это» *, — хотя и высказано по поводу
мыслей Кириллова (позже Шатов относит это определение и к себе
самому), но характеризует русский атеизм и нигилизм как таковой,
принадлежность же к этому мировоззрению Кириллова весьма сомни-
тельна и утверждается в романе людьми, которые не слишком глубоко
вникают в смысл его рассуждений. В противовес таким утверждениям
уместно вспомнить слова Петра Верховенского о Кириллове: «Он в Бога
верует, пуще чем поп»2, и суждение Ставрогина: «Если бы вы узнали,
что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете,
что вы в Бога веруете, то вы и не веруете»3.
Последние слова, особенно в сравнении с приведенной выше харак-
теристикой Ставрогина Кирилловым, намечают путь к разгадке исто-
рии Кириллова. Проблема Ставрогина — в недостаточной способности
верить, в недостаточной силе веры, ведь он «если верует, то не верует,
что он верует», в то время как «проблема» Кириллова в чрезмерном
требовании к своей вере: он должен знать, что обладает верой. Невоз-
можно быть более верующим и более проникнутым чувством долга че-
ловеком, чем Кириллов; трагедия Кириллова в том, что он не может
и не хочет довольствоваться «привычным» и «общепринятым» в деле
веры, он ищет абсолютных оснований той вере и тому долгу, которые
он несет в своей душе, — и, в конечном счете, осознает, что таких абсо-
лютных оснований у веры быть не может.
Обращаясь к конкретным деталям истории Кириллова, необходи-
мо еще раз подчеркнуть, что для Достоевского подлинная вера может
касаться только одной идеи — идеи бессмертия; все остальное, в том
числе и идея Бога, является только определенным развертыванием
и уточнением идеи бессмертия и связанной с ним веры. Поэтому не уди-
вительно, что Достоевский принципиально различает идею Бога-твор-
ца и идею Христа как Бога, воплощенного в человеческую плоть. Вера
в Бога-творца не имеет непосредственной связи с идеей бессмертия,
поэтому она понимается Достоевским как «формальная», «абстракт-
ная» вера, не требующая напряжения всех сил личности и не имею-
щая решающего значения для определения смысла жизни и судьбы
человека. Не вызывает сомнений, что Кириллов является верующим
человеком в смысле этой «абстрактной» веры, которую он даже пропо-
ведует Федьке-каторжнику в их ночных беседах. Подлинная вера,
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 110.
2 Там же. С. 474. Интересно, что и Федька-каторжник признает Ки-
риллова истинно верующим человеком, противопоставляя ему «атеиста»
Верховенского.
3 Там же. С. 189.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф.Достоевского 143
по отношению к которой разыгрывается трагедия Кириллова, соотно-
сится с историей Христа, поскольку именно в этой истории, а точнее,
в факте воскресения Христа, заключена суть проблемы бессмертия.
Ключом к пониманию «трагедии веры» Кириллова является его раз-
говор с Петром Верховенским перед самоубийством. Увидев в комнате
Кириллова образ Спасителя, перед которым горит лампада, Верховен-
ский говорит:
« — В Него-то^ стало быть, всё еще веруете и лампадку зажгли; уж не
на "всякий ли случай"?
Тот (Кириллов. — И. Е.) промолчал.
— Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа.
— В кого? В Него! Слушай, — остановился Кириллов, неподвиж-
ным, исступленным взглядом смотря пред собой. — Слушай большую
идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста.
Один на кресте до того веровал, что сказал другому: "Будешь сегодня
со мною в раю". Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни
рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек
был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся плане-
та, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было
ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том-то
и чудо, что не было и не будет такого же никогда <...> Я не понимаю,
как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас
же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал,
есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь —
ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной сла-
ве. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, ина-
че кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы
начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я несчастен, ибо обязан
заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять
своеволие»1.
Кириллов безусловно верит в эмпирическую реальность Христа,
в реальность Его истории, рассказанной в Евангелии, но верит за «не-
большим» исключением — за исключением факта воскресения. В его
рассуждениях нетрудно увидеть точное повторение мыслей Ипполита
Терентьева, причем Кириллов доводит до предела главное противоре-
чие, мучающее Ипполита. Кажется, что в его словах проступает не толь-
ко сомнение в воскресении Христа, но полная уверенность, что воскре-
сения не было. Однако на деле он, подобно Ипполиту, демонстрирует
странное сочетание противоположных убеждений, в столкновении ко-
торых и обнаруживается совершенно необычное содержание его ве-
ры, — высказывая решительное сомнение в идее бессмертия (воскре-
сения), Кириллов безусловно обладает этой идеей.
1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 471-472.
144 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Обратим внимание на высказывание Кириллова о Христе и разбой-
нике: «Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни вос-
кресения. Не оправдалось сказанное». Невозможно считать слова «по-
шли и не нашли» (после смерти!) простой оговоркой косноязычного
Кириллова; Достоевский не мог вложить «случайную» фразу в уста та-
кого значимого персонажа, переживающего решающий момент своей
жизни, готовящегося осуществить великий акт «своеволия». Эти сло-
ва являются подтверждением незыблемой веры Кириллова в «бессмер-
тие вообще», он не сомневается, что Христос и разбойник обрели это
«бессмертие вообще»; но взыскуемая им вера касается не этого бессмер-
тия и не этого смысла воскресения.
Главная проблема, мучающая Кириллова, как и всех самоубийц
Достоевского, — в характере тех законов, по которым нам предстоит
существовать после смерти. В своем «исследовании» феномена само-
убийства Кириллов приходит к выводу, что основная причина, по кото-
рой люди не решаются покончить с собой, — это мысль о «том свете»1.
Собеседник Кириллова в разговоре о причинах самоубийства (хрони-
кер, от лица которого ведется повествование) понимает это в христиан-
ском смысле — как страх посмертного наказания. Однако Кириллов
имеет в виду совсем другое — страх того, что существование после
смерти будет еще более абсурдным, чем в нашем земном мире. Имен-
но этот страх люди называют «страхом смерти» (ведь кроме этого в
смерти бояться нечего, вера в какое-то бессмертие является безуслов-
ной), и именно он заставляет людей держаться за несовершенную зем-
ную жизнь и не допускать мысли о самоубийстве. Вера, которой обла-
дает Кириллов и которую он пытается обосновать своей жизнью и своей
жертвой, отвергает этот страх; если люди обретут эту веру, они переста-
нут бояться смерти; это и будет «новый человек», которому «будет все
равно, жить или не жить»2. В этих словах нужно видеть не отрицание
жизни и ее ценности, а, наоборот, признание за жизнью абсолютной цен-
ности, по отношению к которой смерть теряет свое прежнее значение.
Размышления Кириллова становятся понятными, если признать,
что он использует слово «жизнь» в двух различных смыслах: жизнь
как «земное» человеческое существование, которое абсолютно ограни-
чено смертью и которому абсолютно противостоит «не-жизнь»; и жизнь
как истинное бессмертие, которое стоит выше противоположности
жизни и не-жизни и которое включает смерть как свой собственный
момент. Жизнь во втором смысле и является объектом веры Кирилло-
ва. Не удивительно, что Кириллов признает Богом человека, который
обретает такую жизнь; здесь можно провести прямую аналогию с из-
вестным определением Бога в мистической традиции: Бог стоит «выше
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 93.
2 Там же.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 145
бытия и небытия», преодолевает ограниченность бытия и включа-
ет границу между бытием и небытием в себя, как свой собственный
момент.
Как и в рассуждениях Ипполита, в рассуждениях Кириллова ясно
просматривается понимание бессмертия и воскресения как продолже-
ния телесного существования после смерти, однако он идет дальше.
Совершенно очевидно, что для Кириллова обещание рая и воскресения
заключает в себе также и уверенность в том, что это существование бу-
дет более совершенным и гармоничным, чем наше земное существова-
ние. В представлении о воскресении Кириллова на первый план выхо-
дит не преодоление смерти, а преображение телесного бытия к совер-
шенству и гармонии.
Может показаться, что через эту формулировку мы вернулись к тра-
диционной христианской идее бессмертия, в которой также предпола-
гается преображение телесного бытия к более совершенному, «райско-
му» состоянию. Однако на самом деле все оказывается сложнее, и пред-
ставления Кириллова в определенном смысле даже противоположны
традиционным христианским воззрениям.
Напомним то, о чем уже говорилось выше. В христианской идее вос-
кресения преображение телесного бытия полностью выводит человека
из земного мира; можно сказать, что преображение является обратной
стороной абсолютности смерти, только после того, как смерть полно-
стью уничтожит связь человека с земным миром, для него становится
реальным преображение; в нашем земном бытии мы не в состоянии ни
представить себе райское, преображенное состояние, ни тем более при-
близиться к нему. Достоевский, в соответствии с той традицией, кото-
рую задал Чаадаев, отрицает абсолютность смерти, для него жизнь об-
ладает приоритетом над смертью, и смерть оказывается только фор-
мой «перехода» от одной формы жизни, телесного существования
к другим, причем новые, «сверхземные» формы вовсе не обязательно
должны быть более совершенными и гармоничными, чем земная
жизнь. Но тогда преображение жизни к более совершенной форме ока-
зывается в существенной степени независимым от факта смерти,
Вера в воскресение как преображение телесного бытия человека отно-
сится непосредственно к нашей земной жизни, и, значит, это преобра-
жение вполне доступно пониманию, а может быть, и осуществлению
уже в самой земной жизни человека. «Жизнь есть, а смерти нет со-
всем»1, — говорит Кириллов; и добавляет, что верует не в будущую веч-
ную жизнь, а в здешнюю вечную.
Особую весомость поискам подлинной веры Кирилловым придает
тот факт, что то воскресение и тот «рай», которые обещал разбойнику
Христос, Кириллов уже обрел в своей жизни. «Есть секунды, их всего
зараз приходит пять или шесть, — говорит Кириллов Шатову, — и вы
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 188.
146 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигну-
той. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек
в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или
умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете
всю природу и вдруг говорите: да, это правда... В эти пять секунд я про-
живаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы
выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю,
человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли
цель достигнута?..» (курсив мой. — И.Е.)1. Описываемое Кирилловым
состояние есть как раз такое преображение земного бытия, которое
не выводит за его пределы, а только меняет его законы; именно поэто-
му прикосновение к этой новой форме бытия требует перемены при-
вычного физического облика человека. Причем эта перемена не обяза-
тельно должна осуществляться через смерть, хотя смерть и остается
возможным путем к «воскресению».
Поняв какой смысл вкладывает Кириллов в идею воскресения (бо-
лее конкретно и прямо этот смысл Достоевский разъяснит в рассказе
«Сон смешного человека»), нетрудно понять и причины, по которым
Кириллов приходит к выводу о необходимости самоубийства. Кирил-
лов прекрасно осознает невозможность продолжать свое существова-
ние при отсутствии веры: «Я не понимаю, как мог до сих пор атеист
знать, что нет Бога и не убить себя тотчас же?» Однако он противопо-
ставляет свой «акт своеволия» поступку «логического самоубийцы»,
доказывая тем самым, как он далек от атеистического мировоззрения.
Он осознает себя носителем откровения о подлинном смысле воскре-
сения и, значит, чувствует потребность принести жертву, подобную
жертве Христа, для того, чтобы донести до людей смысл этого нового
откровения.
Здесь мы подходим к проблеме, которая уже была сформулирована
выше, но решение которой пока оставалось в стороне. Это проблема тех
сил, которые действуют в мире и обеспечивают его совершенство и гар-
монию или, наоборот, его абсурдность и враждебность жизни.
Попытаемся понять, почему Кириллов не приемлет ту форму веры
в воскресение, которую своей мученической смертью попытался обо-
сновать Христос, и почему он считает, что его собственная смерть спо-
собна стать обоснованием подобной веры.
Как уже говорилось, в том, как Кириллов понимает историю Иису-
са, проявляется странная двойственность. С одной стороны, он безу-
словно верит в реальность этой истории и в искренность веры Иисуса
в свое воскресение. Зажигая лампаду перед Его образом Кириллов по-
казывает, что и для него Христос — «высшее существо», идеал челове-
ка и идеал подлинной веры. Его сомнение распространяется только на
убеждение Иисуса в то, что после воскресения его ждет «райское»
Достоевский Ф. М. Полы. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 450.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 147
состояние, преображенное, гармоничное состояние земной жизни.
Здесь возникает явное противоречие: хотя Кириллов верит в преобра-
жение земной жизни, поскольку сам уже обладает (в какой-то степе-
ни) им, он тем не менее отказывается верить в возможность такого пре-
ображения для Иисуса Христа после смерти. Все, что мы знаем о Ки-
риллове, делает нелепым предположение, что он может ставить себя
выше Христа, считая, что ему доступно то, что недоступно Христу. Раз-
решение этого противоречия кроется в том, на первый взгляд, несуще-
ственном различии, что Христос верит в преображение только после
смерти у в то время кадс Кириллов в своей вере утверждает возможность
преображения уже в самой земной жизни.
Только что мы уже говорили, что в вере Кириллова эти «формы»
преображения оказались существенно независимыми друг от друга;
теперь можно утверждать большее: Кириллов противопоставляет их,
отдавая предпочтение второй. Это не означает, что он, подобно Свидри-
гайлову, убежден, что все «миры», ожидающие нас после смерти, яв-
ляются более абсурдными, чем наш. Они могут быть и более абсурдны-
ми, и более совершенными; главное не в этой «вариабильности» наше-
го будущего, главное в том, что это будущее не придет к нам без наших
усилий, и только от усилий самого человека зависит, какое будущее
ждет его после смерти, главное для человека — уже в земной жизни
добиться «воскресения» и преображения.
Теперь уже нетрудно понять, в чем видит Кириллов и великую за-
слугу Иисуса, и его великую неудачу. Его заслуга, его подвиг перед че-
ловечеством состоит в том, что он своей жизнью показал, что грядущее
преображение не может быть реальным без постоянных усилий каж-
дого человека, направленных на преображение своей жизни в каждый
ее момент. Именно это требование и именно эта взаимосвязь грядуще-
го преображения с сиюминутными личными усилиями человека дела-
ют невозможной абсолютную веру (в грядущее воскресение), о чем по-
стоянно говорит Кириллов. Абсолютная вера предполагает отсутствие
каких-либо сомнений и исканий — это успокоенность и ожидание обе-
щанного грядущего преображения. Вера Христа вовсе не этого требует
от человека. Сама суть человеческой личности — это свобода, вера че-
ловека также должна быть свободной верой, т. е. предполагать посто-
янное усилие веры.
Очень ясно связь между свободой и верой (причем именно верой в
воскресение Христа) Достоевский демонстрирует в «Легенде о Великом
Инквизиторе» из романа «Братья Карамазовы». Размышляя об исто-
рии Христа, Великий Инквизитор ставит ему в вину как раз отсутствие
прямых свидетельств его воскресения. Христос отвергает возможность
сойти со креста на Голгофе (при свидетелях!) и тем доказать однознач-
но, раз и навсегда свое божественное происхождение, свою абсолют-
ность. Он хочет от людей свободной веры, т.е. веры, которая не имеет
необходимого, принудительного обоснования (например, обоснования
150 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
условным, «ненастоящим», и окончательное мистическое воскресение,
которое ждет нас после смерти и которое достигается только через со-
единение усилий человека и действия божественной силы.
Это упование на божественную силу и считает Кириллов «ошибкой»
Иисуса. Не только Кириллов, но и многие другие герои Достоевского
отказываются признавать очевидным и неоспоримым действие в нашем
мире сверхчеловеческой божественной силы, через которую мир спо-
собен «воскреснуть», достичь гармонии и совершенства. Однако эти
сомнения могут иметь различный результат. Для Ипполита Терентье-
ва и Ивана Карамазова это означает, что под сомнение поставлена сама
идея воскресения, преображения жизни, поскольку поверить в возмож-
ность воскресения и абсолютной гармонии вне действия божественной
силы они не в состоянии. Для Кириллова это означает совсем иное.
Отвергая действие божественной преобразующей силы в мире, он счи-
тает, что эта сила целиком заключена в человеке — в каждой ограни-
ченной человеческой личности. Поэтому «усилия воскресения», осу-
ществляемые каждым человеком, это не дополнение к действию «внеш-
ней» божественной силы (что подразумевалось в вере Иисуса), а и есть
сама суть действия божественной силы, ее истинное и окончательное
явление в мире. На основании этой идеи Кириллов отвергает все про-
шлые религии, которые «выдумывали Бога» — т. е. выдумывали Бога
вне человека, выдумывали чуждую человеку и независимую от него
божественную силу.
«Бог необходим, — говорит Кириллов, — а потому должен быть.
Но я знаю, что его нет и не может быть»1. Этот странный парадокс лег-
ко разрешается: Бога нет и не может быть как какой-то внешней чело-
веку силы, но он необходим и существует в самом человеке, как внут-
ренняя божественная сила в нем, выявляемая его личными усилиями.
Кириллов наглядно показывает, что это значит, в описании своих «пяти
секунд» и в своей странной «молитве», вполне соответствующей смыс-
лу его веры. «Я видел недавно желтый (лист. — И. Е.), немного зеле-
ного, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я
зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист — зеленый яркий
с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что
очень хорошо, и опять закрывал... Лист хорош. Всё хорошо... Человек
несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это —
всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту... Всё
хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они
знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают,
что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся моя мысль, вся, больше нет
никакой!.. Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и
благодарен ему за то, что ползет»2. Интересно сравнить эту «проповедь»
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 469.
2 Там же. С. 188-189.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 151
Кириллова с проповедями Христа. Христос учил, что «всё будет хоро-
шо» после смерти, хотя и требовал личных усилий по преображению
бытия уже в земной жизни человека. Кириллов учит преображению
самой земной жизни и только это рассматривает как главную цель че-
ловека и главный объект его веры. И здесь нельзя просто отмахнуться
от его убеждений как от глупого идеализма, не считающегося с реаль-
ностью. Когда один человек вопреки всему считает, что «всё хорошо»,
это просто чудачество, но в требовании Кириллова все должны обрести
это убеждение, и если такое действительно произойдет, мир и человек,
несомненно, станут иными.
В завершении беседы Кириллова и Ставрогина звучит самое глав-
ное. «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит», — говорит Ки-
риллов. «Кто учил, того распяли», — возражает Ставрогин, но именно
здесь его собеседник подчеркивает отличие своей веры от веры Христа:
«Он придет, и имя ему человекобог. — Богочеловек? — Человекобог,
в этом разница»1.
«Новый Христос», которого ожидает Кириллов и которым он пыта-
ется стать, это человек, способный в себе самом, в своем земном челове-
ческом естестве выявить божественную силу, мистически преобразую-
щую весь мир; в этом он отличается от Богочеловека, Христа, который
есть Бог, воплотившийся в человеческую плоть. Устами Кириллова
Достоевский выражает главную суть своей веры, в гораздо большей сте-
пени, чем традиционное христианство, соединяющей Бога и человека;
в ней именно человек — в своей индивидуально-личной, неповторимой
и ограниченной сущности — предстает как носитель божественного на-
чала, как Абсолют, определяющий все, что уже существует в реально-
сти, и обусловливающий возможность преображения всего сущего.
В данном случае можно отметить проницательность Н. Бердяева,
который наперекор традиции, понимающей под «человекобожеством»
прямолинейный атеизм или, в лучшем случае, идеологию в духе Фейер-
баха и Штирнера, усмотрел в процитированном фрагменте важный эле-
мент мировоззрения Достоевского. «Этим противоположением, — пишет
Бердяев о противостоянии понятий Богочеловека и человекобога, —
потом очень злоупотребляли в русской религиозно-философской мыс-
ли. Идея человекобога, явленная Кирилловым в ее чистой духовности,
есть момент в гениальной диалектике Достоевского о человеке и его
пути. Богочеловек и человекобог — полярности человеческой природы.
Это — два пути — от Бога к человеку и от человека к Богу... У Достоев-
ского совсем не было желания прочесть мораль о том, как плохо стре-
миться к человекобожеству. У него всегда дана имманентная диалек-
тика. Кириллов — антропологический эксперимент в чистом горном
воздухе»2.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 189.
2 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. С. 169.
152 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Подтверждения тому, что вера Кириллова соответствует вере само-
го Достоевского, могут быть без труда найдены в дневниках и публи-
цистике писателя. Особенно выразительным примером в данном слу-
чае является дневниковая запись от 16 апреля 1864 г., сделанная в день
смерти его первой жены. «...Христос, — пишет Достоевский, — был
вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы
должен стремиться человек. — Между тем после появления Христа как
идеала человека во плоти стало ясно, как день, что высочайшее, по-
следнее развитие личности именно и должно дойти до того (в самом кон-
це развития, в самом пункте достижения цели), чтобы человек нашел,
сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее употреб-
ление, которое может делать человек из своей личности, из полноты
развития своего л, — это как бы уничтожить это л, отдать его целиком
всем и каждому безраздельно и беззаветно... Это-то и есть рай Христов.
Вся история как человечества, так отчасти и каждого отдельно есть
только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели»1.
Несомненно, в этом отрывке речь идет о том самом преображении
земного бытия человека, о котором говорит Кириллов и к которому он
прикасается в свои «пять секунд». Очень характерно, что, определяя
это состояние как «рай Христов», Достоевский вовсе не подразумева-
ет, что это есть посмертное бытие человека; к этой цели и человек, и
человечество должны стремиться в самой своей несовершенной земной
жизни, которая должна преодолеть смерть и стать по-настоящему бес-
смертной и совершенной. Определение Христа как идеала, наглядно
показывает, что та могущественная сила, которая способна вести мир
к преображению, воскресению и единству, заключена не где-нибудь,
а в самом человеке и должна быть явлена человеком в своем личном
и историческом развитии2.
Таким образом, в уста Кириллова Достоевский вкладывает свои са-
мые сокровенные мысли о сущности подлинной веры, подлинного бес-
смертия и подлинного воскресения как преображения земной жизни.
При этом своего героя Достоевский сделал не просто «фанатиком» веры,
но и человеком, готовым для «доказательства» этой веры, для рас-
пространения ее между людьми повторить жертву Христа, принести
в жертву всего себя. Различия в «Символе веры» Христа и Кириллова
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 20. С. 173.
2 Детальное развитие такой (по сути, «человекобожеской») интерпре-
тации воззрений Достоевского дано в прекрасной статье Б. Н. Тихомиро-
ва «О "христологии" Достоевского». «При таком понимании, — пишет
исследователь, — Христос оказывается для писателя прежде всего уни-
кальным свидетельством о человеке, предельным воплощением зало-
женных в его природе возможностей и, следовательно, свидетельством о
всемирной истории — являя собой перспективу развития человечества»
(Тихомиров Б. Н. О «христологии» Достоевского // Достоевский. Матери-
алы и исследования. Т. 11. М., 1994. С. 106-107).
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 153
приводят к различию форм этой жертвы. Христос пассивен в своем
самопожертвовании, он предает себя в руки своих мучителей, уповая
на волю Господа, на «божественную силу», возвышающуюся над ми-
ром и человеком. Вера Кириллова требует от самого человека предель-
ных усилий для того, чтобы в себе самом обнажить божественную силу,
преобразующую мир. В своей жизни Кириллов достигает этого: боже-
ственная сила уже действует в нем и преображает его. Но одного этого
мало для того, чтобы сделать явным для других новое откровение, чтобы
открыть для них возможность веры. Как и для Христа, для Кириллова
наиболее радикальным средством проверки истинности веры оказыва-
ется смерть. Однако смысл этой проверки различен. Иисус, при всей
своей вере в бессмертие и воскресение, рассматривает смерть как
существенную границу своего бытия, как некое абсолютное событие;
смерть — это решающий акт для реализации воскресения. Наоборот,
центральным элементом веры Кириллова является отрицание суще-
ственности смерти. Хотя он называет свое самоубийство величайшим
актом своеволия, по сути, добровольное принятие смерти не является
для него главным испытанием веры, такое испытание его вера прохо-
дит в каждое мгновение земной жизни и получает подтверждение в «пя-
ти секундах» преображения земного бытия. Акт самоубийства необхо-
дим не для него самого, он необходим для других людей — этим актом
Кириллов намерен продемонстрировать другим свое «пренебрежение»
смертью, показать ничтожность страха смерти и самой смерти — ничтож-
ность в отношении подлинного значения и сущности жизни («тот, кто
первый, должен убить себя сам непременно, — говорит он, — иначе кто
же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать
и доказать»).
На первый взгляд, самый уязвимый пункт в рассуждениях Кирил-
лова — убеждение в том, что его самоубийство способно оказать воз-
действие на всех людей, на все человечество. На слова Верховенского:
«ведь никто не узнает», Кириллов отвечает словами Христа: «Ничего
нет тайного, что бы не сделалось явным... Он сказал»1. За этой уверенно-
стью стоит уже упоминавшаяся выше важная идея, которая не столь
очевидна в размышлениях Кириллова, но которая составляет важный
элемент мировоззрения Достоевского. Речь идет об идее мистического
единства всех людей, незаметного в нашей повседневной жизни, но
оказывающего решающее воздействие на каждый поступок и каждую
мысль человека, вне зависимости от того, осознает он это единство или
нет. Учитывая этот элемент философских воззрений Достоевского, не-
трудно понять, что убеждение Кириллова в том, что его самоубийство
может оказать влияние на все человечество, может быть, разделяет и
сам автор. По крайней мере, оно не является безосновательным в рам-
ках той системы принципов, которые исповедует писатель.
* Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 471.
154 И. И. Евлампиев, История русской метафизики в XIX-XX веках
Сцена самоубийства Кириллова — одна из самых выразительных и
многозначных в творчестве Достоевского. Акт величайшего самопожерт-
вования, целью которого является преображение человечества, распро-
странения среди людей подлинной веры, Кириллов вынужден совер-
шать тайно, глубокой ночью, в присутствии и по наущению негодяя
Верховенского, почти явно насмехающегося над ним и вынуждающего
его принять на себя ужасное злодейство — убийство Шатова. Однако
все эти отвратительные детали не принижают Кириллова и не лишают
смысла его жертву, они лишний раз подсказывают парадоксальную,
но вполне обоснованную аналогию — аналогию с жертвой Христа, так-
же совершаемую в условиях (среди казнимых за убийства разбойни-
ков, под смех и улюлюканье толпы), которые могли бы унизить Иису-
са и сделать ничтожными все его упования, если бы не одно обстоятель-
ство — неподдельная искренность его веры. Достоевский сознательно
помещает своего героя в ситуацию, где его жертва оказывается возмож-
ной и осмысленной, только если в ее основе лежит настоящая вера.
При этом искренность веры все равно не означает ее абсолютности;
самое искреннее дерзание веры своей обратной стороной имеет глубо-
ко прочувствованное сомнение, за которым должно следовать новое,
еще более радикальное дерзание веры. Это сомнение не было чуждо
даже Иисусу на Голгофе; понятно, что оно присутствует и в вере Ки-
риллова. Свидетельство тому — страшные крики Кириллова: «Сейчас,
сейчас, сейчас, сейчас...» («раз десять», как отмечает хроникер1), кото-
рые выражают то же самое душевное состояние и ту же самую диалек-
тику веры—сомнения, что и слова Иисуса на кресте: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего ты Меня оставил?» «Ужасный крикъ говорит о словах
Иисуса князь Мышкин в одном из подготовительных набросков к рома-
ну «Идиот»2, и это совпадение определений, которые писатель приме-
няет к последним словам Иисуса и к последним словам Кириллова
(«страшные крики» и «ужасный крик»), является еще одним вырази-
тельным штрихом, доказывающим, что образ Кириллова нужен был
Достоевскому для того, чтобы переосмыслить евангельскую историю
и выразить через него, в соответствии со своим пониманием христиан-
ства, идею «нового Христа».
§ 8. «Новый Христос» и идеал всеединства
Проведенная выше интерпретация образа Кириллова может пока-
заться достаточно субъективной, однако главный аргумент в ее пользу
мы находим не в самом романе «Бесы», а в рассказе «Сон смешного че-
ловека», помещенном в «Дневнике писателя» за 1877 г. Близость не-
которых идейных мотивов этого рассказа к соответствующим мотивам
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 10. С. 476.
2 Там же. Т. 9. С. 184. Детальный анализ связанных с этим наброском
мотивов см.: Тихомиров Б. Н. О «христологии» Достоевского. С. 112-121.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 155
истории Кириллова делает достаточно обоснованным предположение,
что Достоевский сознательно вернулся к этой истории, чтобы прояс-
нить для себя самого и для читателей некоторые принципиальные мо-
менты проблемы бессмертия.
Несомненно, самый загадочный пункт в вере Кириллова — это фор-
ма преображенного мира, который должен возникнуть в результате
«окончательного» воскресения. Описание Кирилловым преображенно-
го состояния своей собственной жизни («пять секунд») не дает четкого
представления об этом. Впрочем, в цитировавшейся выше дневнико-
вой записи от 16 апреля 1864 г. Достоевский достаточно ясно обозна-
чает смысл своего представления об идеале. Но только в рассказе «Сон
смешного человека» это представление получает развернутое изложе-
ние. Тот «рай Христов», о котором мечтает писатель, оказывается
состоянием всеединства — состоянием единства людей, отсутствия
обособленности их личностных миров друг от друга, и единства чело-
века с окружающим миром, с природой.
Герой рассказа, попав на некую планету, как две капли воды похо-
жую на Землю, обнаруживает там общество, воплотившее указанный
идеал. «Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрас-
ны! — описывает он людей идеального общества. — Никогда я не ви-
дывал на нашей земле такой красоты в человеке... Лица их сияли разу-
мом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но
лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская
радость... Они указывали мне на звезды и говорили о них со мной о чем-
то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприка-
сались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым
путем... Они радовались являвшимся у них детям как новым участни-
кам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности,
и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех,
потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было бо-
лезней, хотя и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засы-
пая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их,
улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками... Подумать
можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже
и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось
смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про веч-
ную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что
это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было
какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселен-
ной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда воспол-
нится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит
для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение со-
прикосновения с Целым вселенной»1.
1 Достоевский Ф.М. Полы. собр. соч. в 30-ти т. Т. 25. С. 112-114.
156 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Здесь обращают на себя внимание несколько деталей. Прежде всего
идеальное состояние не является «сверхземным», «божественным»,
в смысле традиционного христианства, поскольку оно по-прежнему,
как и наша земная жизнь, предполагает наличие смерти. Однако в от-
личие от нашей жизни, для которой смерть выступает абсолютным пре-
делом, ужасающим концом бытия, в жизни людей идеального мира
смерть теряет свое независимое и «господствующее» положение, ста-
новится подчиненным элементом самой жизни, ясно осознается как
форма перехода к еще большему совершенству (еще большему сопри-
косновению с «Целым вселенной»). Нетрудно видеть, что обитатели
этого идеального мира и есть те «человекобоги», про которых говорит
Кириллов, которые преодолели страх смерти, возвысились над проти-
востоянием жизни и смерти и, значит, стали воистину бессмертными.
Отметим также, что, по свидетельству рассказчика, у людей этого об-
щества «не было храмов», т. е. они, как это провозглашал Кириллов,
не нуждались в «выдумывании» Бога; находясь в «живом и беспрерыв-
ном единении с Целым вселенной», они в себе самих несли ту боже-
ственную силу, которая обеспечивает единство и гармонию вселенной.
Понятно, что, полностью слившись с этой божественной силой, полно-
стью выявив ее в себе и став ею, люди не нуждались больше в вере, по-
скольку вера есть упование, надежда на преображение земного бытия
и бессмертие, а они уже обладали преображенным бытием и бессмер-
тием. Можно сказать, что их вера стала, наконец, абсолютной, но это
и означает, что она исчезла как вера и превратилась в знание — в окон-
чательное обладание истиной.
Все детали описания идеального мира в рассказе неоспоримо свиде-
тельствуют о том, что здесь Достоевский подразумевает как раз тот
идеал, который «проповедовал» Кириллов. Но это не единственный и,
может быть, даже не самый главный момент, в котором можно провес-
ти параллели между рассказом «Сон смешного человека» и историей
Кириллова1. По отношению к рассматриваемой нами теме наибольший
интерес вызывает изложенная в рассказе история самоубийства героя,
которое и вызывает его фантастическое путешествие.
В начале рассказа «смешной человек» предстает в духовном состоя-
нии, которое практически ничем не отличается от состояния «логиче-
ского самоубийцы»; он приходит к заключению, «что на свете везде
все равно*2 (т. е. что жизнь не имеет смысла) и, повторяя путь « логиче-
1 Можно найти множество деталей, показывающих, что героя своего
рассказа Достоевский представлял как своего рода продолжение образа
Кириллова; так после своего путешествия, открывшего ему истину, «смеш-
ной человек» стал для окружающих «сумасшедшим» и подобно косно-
язычному Кириллову «потерял слова», «все главные слова, самые нуж-
ные» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 25. С. 118).
2 Там же. С. 105.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 157
ского самоубийцы», решает покончить с собой. В изображении героя
своего рассказа Достоевский оказывается более проницательным пси-
хологом, чем в несколько абстрактном рассуждении о «логическом са-
моубийце» . Это проявляется, в частности, в том, что самоубийство для
«смешного человека» оказывается невозможным в состоянии «все рав-
но» , поскольку в нем отсутствует волевой импульс, необходимый хотя
бы для того, чтобы преодолеть инстинкт самосохранения. Самоубий-
ство возможно только в те моменты, когда на фоне этого «все равно»
появится некоторый элемент смысла, «когда будет не так все равно»1.
Возникает странный парадокс — придя к выводу о бессмысленности
жизни и, как результат, к решению о самоубийстве, герой ждет состоя-
ния, когда жизнь обретет хотя бы какой-то условный смысл. Сам акт
самоубийства для него — это акт отрицания, но отрицать можно толь-
ко нечто значимое, хотя бы отрицательно значимое, и поэтому осмыс-
ленное (в этом и состоит смысл «мести» природе, о котором говорит «ло-
гический самоубийца»). Понятно, что такое самоубийство принципи-
ально отличается от самоубийства Кириллова, которое обосновывается
как раз прямо противоположным образом: Кириллов кончает с собой
для того, чтобы доказать другим (сам он уже знает это) наличие в жиз-
ни абсолютного смысла.
Тем не менее, несмотря на противоположность исходной психологи-
ческой интенции, «результат» самоубийства «смешного человека» ока-
зывается в полном соответствии с той целью, которую ставил себе Кирил-
лов, принося себя в жертву. Фантастичность сюжета рассказа позволяет
Достоевскому как бы продолжить в нем изложение истории Кириллова
после его самоубийства. Интересно отметить, что Достоевский сознатель-
но допускает принципиальную неоднозначность толкования: с одной сто-
роны, все путешествие героя происходит во сне и является следствием его
«символического», произошедшего во сне же самоубийства, но, с другой
стороны, герой намекает, что самоубийство и все последующие события,
возможно, были реальными. Скорее всего, эта двусмысленность необхо-
дима писателю для того, чтобы подчеркнуть серьезность затрагиваемых
в рассказе проблем, и может рассматриваться как косвенное подтвержде-
ние того факта, что Достоевский разделяет убеждение Свидригаилова
в реальном сосуществовании и взаимодействии в вечности различных ми-
ров, разделенных условной границей — смертью.
Радикальное различие законов существования этих миров нагляд-
но демонстрируется в рассказе: сразу же после самоубийства герой
обретает бессмертие в духе свидригайловской вечности. Его посмерт-
ное существование начинается как «существование» мертвеца в гробу,
заставляющее помимо прочего вспомнить посмертную судьбу Христа
и разбойника в изложении ее Кирилловым (« пошли и не нашли ни рая,
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 25. С. 106.
158 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
ни воскресения») и бурную жизнь кладбищенских персонажей «Бобка».
Предельно выразителен тот факт, что прервать это существование, пе-
рейти в другой мир, герою удается только с помощью собственных
усилий по преображению этого существования — только после того,
как он стал «негодовать» по поводу своего положения. Результатом
этого и стало его проникновение в мир, где реализованы гармония
и совершенство. Узнав этот мир, «смешной человек» обрел оконча-
тельное свидетельство возможности бессмертия и воскресения, окон-
чательное доказательство той веры, о которой говорил Кириллов и
ради которой он совершил свою жертву. Именно поэтому, вернувшись
в наш земной мир, герой рассказа стал носителем нового откровения —
откровения о возможном преображении человечества и всего мира,
т. е. стал новым Христом в том самом смысле, который подразумевал
Кириллов.
Только один момент в рассказе «смешного человека» о своем путе-
шествии, на первый взгляд, никак не согласуется с верой Кириллова.
«Научив» людей идеального общества индивидуализму и эгоизму,
«смешной человек» «развратил» это общество, в результате чего жизнь
в нем превратилась в точную копию нашей земной жизни. Но если
идеальный мир до такой степени лишен «иммунитета» от бациллы
индивидуализма, то трудно поверить в его подлинное и окончательное
превосходство над земным миром.
Вряд ли здесь нужно видеть отказ Достоевского от того идеала, ко-
торый он прямо провозгласил в своей дневниковой записи (уничтожить
свое л, отдать его целиком всем и каждому), просто теперь он гораздо
глубже осознает трагическую диалектику двух главных сил личности,
определяющих развитие не только человека и человечества, но и всего
мира, — любви и свободы. Только при полном развитии и раскрепоще-
нии каждой из этих сил человек, а через него и весь мир, смогут до-
стичь подлинного идеала, который уже невозможно будет «развратить»
до несовершенного состояния. Несовершенство нашего мира, конечно
же, в неполноте любви, в полном превосходстве индивидуальной сво-
боды над силой любви, над мистическим единством людей; поэтому
главное дело человека в процессе преображения жизни — это усилия
любви, чему учил Христос. Но несовершенен и тот «идеальный» мир,
в котором побывал «смешной человек»; его несовершенство — в недо-
статочном развитии индивидуальной свободы и самостоятельности
личностей, которая здесь оказалась полностью подавленной силой
любви.
В этом моменте Достоевский дает очень важное разъяснение своей
идеи бессмертия, а именно уточняет вопрос о соотношении миров,
сосуществующих в вечности: представление об этих мирах вовсе не
предполагает наличие какой-то их иерархии в смысле нарастания сте-
пени их совершенства. Если бы такая иерархия существовала, в нашей
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 159
вере главным вновь стало бы упование на посмертное существование
в более совершенном мире, а не постоянные усилия по преображению
земной реальности. В этом случае «смешной человек», вернувшись
на Землю, мог бы только повторять проповеди исторического («перво-
го») Христа о воскресении как грядущем, посмертном совершенстве.
В рассказе же он становится после своего возвращения новым Хрис-
том, поскольку проповедует преображение самой земной жизни.
Тот факт, что где-то существует (или существовал до своего «развра-
щения») в каком-то отношении более совершенный мир, не должен
«отвлекать» людей от усилий по преображению собственного бытия,
этот мир не должен превращаться в желанный идеал, заслоняющий
реальную жизнь. Его существование (настоящее или прошлое), весть о
котором принес «смешной человек», необходимо только как нагляд-
ное и окончательное свидетельство в пользу возможности преобра-
жения к тому же самому идеальному состоянию нашего мира. Раз иде-
альный мир под влиянием «смешного человека» изменился к состоя-
нию, ничем не отличающемуся от реальности нашего мира, то напра-
шивается вывод, что возможно и обратное — преобразование нашего
мира к тому идеальному состоянию, в котором исходно пребывал «раз-
вращенный» мир.
Все миры, сосуществующие в вечности и доступные человеку в его
бессмертии, несовершенны по-своему и по-своему частично реализу-
ют идеал, но полностью этот идеал не воплощен ни в одном из них.
По-видимому, именно так надо понимать главный смысл рассказа
«Сон смешного человека», в котором Достоевский подвел определен-
ный итог своим размышлениям об идее бессмертия. Бессмысленно
уповать на посмертное совершенство, на свою причастность идеалу
после земной жизни; в том бытии, как и в этом, земном, для человека
главным останется постоянное стремление к идеалу и усилия (в каж-
дый момент своей жизни) по преображению несовершенного бытия.
Это и есть единственное основание нашего воскресения и нашего бес-
смертия. Придет ли окончательное воскресение, будет ли воплощен
тот «рай Христов», который в качестве идеала несет в себе каждый
человек, — это неизвестно; вера потому и является верой, а не знани-
ем, что не дает абсолютной гарантии тем упованиям, которые нахо-
дит в ней человек. Но само наличие в нас этого идеала, сама непоко-
лебимая решимость хотя бы в малой степени осуществить его в своей
жизни уже означают, что только в нас самих действует та божественная
сила, которая способна вступить в борьбу с «темной силой» косного бы-
тия и, преодолев ее, вести (а может быть, и привести) мир к гармонии
и совершенству. Такая вера больше требует от человека, чем обещает,
накладывает бесконечную ответственность, а не дарует блаженное успо-
коение и надежду. Но только она открывает нам Путь, ведущий к Ис-
тине и Жизни, — в ослепительном свете которых исчезает страх перед
смертью.
160 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
§ 9. Диалектика любви и свободы
Для Достоевского идеальное состояние общества и всего мира ока-
зывается хотя бы в какой-то степени возможным только потому, что
наряду с явно действующей «силой» индивидуальной свободы, ведущей
к обособлению людей, не меньшей активностью обладает и «сила»
мистического единства, сила любви, объединяющая их в некоторую
органическую духовную общность. Когда последняя «сила» начнет гос-
подствовать над первой, тогда и произойдет «преображение» общества
к идеальному состоянию. Ранее уже говорилось о «положительном»
взаимодействии двух этих принципов в художественном мире Достоев-
ского, и речь шла об их взаимодополнении, приводящем к тому, что
и само единство оказывалось Личностью, концентрируясь в отдельных
эмпирических личностях, и свобода отдельной личности наиболее пол-
но реализовывалась при ее направленности не на отделение от цело-
го (как в случае Раскольникова), а на углубление связей в этом целом
(князь Мышкин). Однако наряду с этим при оценке того, в какой степе-
ни возможна реализация в нашем обществе идеального состояния, при-
ходится учитывать «отрицательную» диалектику тех же принципов.
В метафизике Достоевского Абсолютом является личностное нача-
ло бытия, понимаемое как внутренняя центрированность и динамиче-
ская активность бытия. Теперь можно сказать, что эта динамическая
активность реализует себя через диалектику любви и свободы, кото-
рые выступают как полярные «атрибуты» бытия. Именно диалектика
любви и свободы становится самым глубоким источником многих фено-
менальных противоречий нашего бытия, например, противостояния
сил добра и сил зла, стремления людей к единству и стремления к обо-
собленности. Свобода при этом оказывается манифестацией бесконеч-
ной, неисчерпаемой и иррациональной полноты проявлений личност-
ного начала. Осуществляя свою свободу, личностное начало стремится
к абсолютной центрированности всего бытия, к стягиванию бытия в од-
ну личностную точку. Но иррациональная полнота бытия проявляет-
ся, наряду с этим, в наличии бесконечного множества таких личност-
ных точек, которые вступают в конкуренцию за право динамического
господства над всем бытием. Именно выявление всей полноты фунда-
ментальной свободы, присущей личностному началу, приводит к не-
избежному распадению бытия на отдельные конфликтующие и борю-
щиеся между собой элементы.
Это и демонстрирует Достоевский на примере разложения идеально-
го общества в рассказе «Сон смешного человека». В своем идеальном со-
стоянии люди этого общества были настолько едины друг с другом и с ми-
ром, что не осознавали во всей полноте свою индивидуальность и свобо-
ду. Раскрепощение полноты их свободы, катализатором которого
выступил главный герой рассказа, привело к быстрому разрушению це-
лостности и обособлению конкурирующих индивидов и сообществ. Это
не означает, что единство было полностью утрачено, просто оно переста-
ло быть господствующим и отступило перед раскрепощенной свободой.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 161
Но единство может быть восстановлено, если над свободой востор-
жествует любовь, как принцип объединения, слияния разъединенно-
го. В духе традиции, идущей от Платона, Достоевский понимает лю-
бовь как всеобщую, космическую (точнее, онтологическую) силу, ко-
торая должна соединить людей друг с другом и с миром и тем самым
реализовать в нашей земной жизни идеал, возвещенный Христом.
Впрочем, понимание любви у Достоевского в некоторых существенных
моментах далеко отступает от традиции Платона. Для последнего лю-
бовь является стремлением к сверхземному состоянию, в то время как
для Достоевского любовь направлена только на земные объекты и име-
ет целью преображение земного; цель любящего в том, чтобы преодо-
леть разъединенность с объектом своей любви именно в его земной, кон-
кретной форме, цель любви в преображении земного бытия любящего
и любимого к состоянию единства.
У Платона эрос — это безличная космическая сила, пронизываю-
щая мир и входящая в душу человека как внешняя, подчиняющая его
себе сила. В метафизике Достоевского все по-другому. Любовь — это
не безличная внешняя сила, а внутренняя интенция личностного на-
чала бытия. Она идет из самого бытия, объединяя и связывая бытие в
целостное состояние мира. Для человека любовь — глубоко индивиду-
альная и самобытная сила, проистекающая из глубин души и застав-
ляющая его отождествить свое бытие с бытием другого, любимого. Тот
факт, что у Достоевского любовь постоянно взаимодействует со своим
alter ego — свободой, также приводит к радикальному изменению ее
сущности. Поскольку любовь и свобода требуют противоположного и
ведут к противоположному, человеческая жизнь оказывается полной
неразрешимых противоречий и борений, что особенно наглядно про-
является в трагичности самой «конкретной» формы любви — половой
любви, любви между мужчиной и женщиной. Здесь остро проявляет-
ся диалектика господства и подчинения, отождествления и разделения,
жертвенности и мучительства, вытекающая из взаимодействия мета-
физических «сил» любви и свободы. И именно в изображении жизнен-
ных деталей этой диалектики ярко проявляется художественный та-
лант Достоевского.
Смысл любви — в отождествлении себя с любимым, это отождест-
вление возможно одновременно и через самопожертвование, через ра-
створение себя в любимом, и через подчинение себе любимого, через
растворение его в себе. Каждая из этих интенций любви в свою очередь
содержит диалектическое противоречие, связанное с требованиями
свободы. При самопожертвовании, при стремлении к растворению себя
в любимом одновременно реализуется стремление личности к полному
раскрепощению своей свободы: растворяясь в другом, личность пред-
полагает, что это изменит другого (любимого) так, что он будет вы-
ражать уже не себя (не только себя), а слившуюся с ним личность
любящего. Отсюда и проистекает трагедия любви; выполнить это
6 Зак. 3424
162 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
требование невозможно, поскольку личность любимого сопротивляет-
ся подчинению чужой воле, желает реализовать не чужую, а свою сво-
боду, которая никогда не совпадает со свободой любящего.
В мире Достоевского любовь достигает своей цели — вносит гармо-
нию и цельность в отношения людей друг с другом и с миром — только
в том случае, когда она имеет «абстрактный» характер, является «хри-
стианской» любовью к ближним вообще. Ее чрезмерная концентрация
на отдельной личности приводит к мгновенному рождению противо-
речий и диссонансов, к разрушению даже относительной гармонии.
Недаром Иван Карамазов заявляет, что любить ближних можно толь-
ко «на расстоянии», слишком близкие отношения становятся препят-
ствием для идеальной христианской любви.
Выразительным примером указанной особенности любви является
история старца Зосимы. Святость и безгрешность старца обусловлены
как раз тем, что его любовь не слишком «концентрирована», относит-
ся к ближнему вообще, к миру вообще. В то же время его трагическое
прошлое было наполнено напряженной любовью к конкретным, близ-
ким ему людям. Только отказавшись от такой любви, т. е., по сути,
лишив свою любовь конкретного адресата, который своей свободой пре-
пятствовал бы достижению гармонии, Зосима приходит к просветлен-
ному состоянию, близкому к состоянию человека в идеальном и гар-
моничном обществе, еще не разрушенном иррациональными импуль-
сами свободы.
Можно ли считать такое состояние высшим состоянием человече-
ской души, можно ли видеть в нем пример для подражания и универ-
сальное средство для преображения общества? Только очень нечуткий
читатель может заключить, что именно это имеет в виду Достоевский.
(К сожалению, эту нечуткость проявляет Н. Лосский, который видит в
Зосиме чуть ли не главного выразителя мировоззрения Достоевского1.)
В данном случае следует прислушаться к мнению одного из самых про-
ницательных истолкователей Достоевского — Льва Карсавина, кото-
рый посвятил теме любви у Достоевского свой небольшой, но поистине
гениальный очерк с парадоксальным названием «Федор Павлович Ка-
рамазов как идеолог любви».
Как пишет сам Карсавин, «странная затея — искать идеологию люб-
ви в Федоре Павловиче Карамазове... слишком уже ясен и отталкивает
образ грязного сладострастника»2. И тем не менее именно в этом образе
1 Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание.
С.191-193.
2 Карсавин Л. П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви //
О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 гг.
С. 264. Необходимо отметить, что Карсавин в своем очерке, по сути, дает
детальную разработку идеи, впервые высказанной еще в 1905 г. Л. Шес-
товым; см.: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. С. 126-127.
Глава 2, Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 163
Карсавин находит подлинное, не приукрашенное расхожими христи-
анскими сентенциями выражение того аспекта любви, который состав-
ляет одну из важнейших и характернейших особенностей всего миро-
воззрения Достоевского.
Федор Павлович омерзителен своей грубостью, животной похотью
и отсутствием видимого благородства и духовной высоты. Однако все
его отрицательные черты могут быть поняты как своеобразное негатив-
ное отражение (а может быть, и как следствие!) невероятного развития
чувства любви — любви в ее самой подлинной сути, — дошедшей в сво-
ей «чуткости» до сатанинских глубин. «От клейких слов и наглого
хихиканья, — пишет о Федоре Павловиче Карсавин, — веет чем-то глу-
боко проницающим в самое природу любви. И прежде всего — Федор
Павлович видит то, чего не видят другие, улавливает неповторимо-ин-
дивидуальное» 1. Федор Павлович, как никто другой, способен разгля-
деть и оценить невинность и чистоту женщины и именно поэтому ув-
лечься ею до безумия, как это произошло с его любовью к матери Але-
ши. «Пускай ему хотелось осквернить, в грязь втоптать эту чистоту.
Он ее понимал и чувствовал острее и глубже, чем иной "благородный"
и непохотливый человек. Сама жажда осквернить понятна лишь на
почве яркого переживания того, что оскверняется. А следовательно,
восприятие чистоты (т. е. сама чистота) должно было находится в душе
Федора Павловича, до известной степени быть им самим. Невозмож-
но понять чужую душу, не сообразуя себя с нею, не уподобляясь ей, т. е.
не становясь такою же, как и она»2.
Проницательность Федора Павловича доходит до такой степени, что
даже в Лизавете Смердящей — в безумной юродивой, вызывающей
у людей только отвращение, — он способен найти нечто привлекатель-
ное, «нечто особого рода пикантное» (по его собственным словам). «Что
влекло его к Лизавете, — рассуждает Карсавин, — к идиотке, ростом
"два аршина с малым"? Он думал и всякий думает: не она сама, а осо-
бенность наслаждения, "пикантность". Но ведь эта особенность не-
мыслима без самой Лизаветы, и сознание в себе такого влечения есть вме-
сте с тем и познание в Лизавете чего-то непонятного и невидимого для дру-
гих, самой Смердящей»3. Оказывается, что за вызывающей отвращение
похотливой «всеядностью» Федора Павловича открывается подлинная
проницательность любви, способность проникнуть в неповторимую и
конкретную земную индивидуальность и слиться с ней, стать ею. Имен-
но этой способностью «конкретная» любовь между мужчиной и жен-
щиной отличается от «абстрактной» любви к ближним, олицетворе-
нием которой выступает старец Зосима.
1 Карсавин Л. 77. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви. С. 264.
2 Там же. С. 264-265.
3 Там же. С. 265.
164 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Это противопоставление нельзя понимать в том смысле, что первый
вид любви направлен на личность и предполагает в качестве объекта
личность, а второй — нет. И во втором своем виде любовь направлена
на другие личности и невозможна вне отношений между личностями.
Здесь имеется в виду другое. Христианская любовь к ближним, буду-
чи направленной на другого (на других), в то же время имеет целью
«смягчение» противоречия, существующего между обособленными
личностями, причем это «смягчение» осуществляется за счет само-
ограничения личности, умаления всей полноты ее свободы. В «конкрет-
ной» любви происходит как раз обратное. Здесь соединение, слияние
личности с другой личностью имеет целью не восстановление абстракт-
ной цельности, разрушенной чрезмерным дерзанием нашей свободы,
а, наоборот, еще более глубокую реализацию той же самой «разруши-
тельной» свободы. Именно в этом и состоит парадокс «конкретной»
любви: она служит не своей собственной цели, определенной ее сущно-
стью (восстановление расколотого единства), а подчиняется целям ир-
рациональной свободы, которая в самом соединении личностей нахо-
дит основу для еще большего своего раскрепощения, для усиления са-
мобытности, «своеволия» личности и, значит, в каком-то отношении
неизбежно ведет к усилению раскола между личностями. Но и наобо-
рот, такая любовь даже в самом глубоком расколе и противостоянии
умеет найти основу для тождества и слияния личностных начал.
Последняя способность любви, справедливо считает Карсавин, на-
глядно выражена не только в Федоре Павловиче, но и в Дмитрии Кара-
мазове, унаследовавшем от отца проницательность любви и соединив-
шем ее с развитой способностью самосознания и самооценки. В самых
гнусных и позорных проявлениях своей любовной страсти, вызываю-
щих негодование и отчуждение объекта любви, Дмитрий чувствует
какую-то оправданность, в самом своем «позоре» и «падении» он обна-
руживает почву для возвышения своей личности. «Если я полечу в без-
дну, — рассуждает он, — то так-таки прямо головой вниз и вверх пята-
ми, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю
и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг
начинаю гимн»1. Оборотной стороной этого парадоксального стремле-
ния к униженности перед любимым является мучительство, жесто-
кость по отношению к любимому. «Маленькое эмпирическое "я", —
описывает смысл этого аспекта Карсавин, — стремится к самоутверж-
дению в полном обладании любимой (хотя бы на миг любимой — все
равно), в полном растворении ее в себе. Я хочу, чтобы любимая была
моею, совсем и целиком моею, мною самим, чтобы она исчезла во мне
и чтобы вне меня от нее ничего не осталось. Эта жажда власти и господ-
ствования есть во всякой любви; без нее любить нельзя. Потому-то лю-
бовь и проявляется как борьба двух душ, борьба не на жизнь, а на смерть.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 14. С. 99.
рлава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 165
Любовь всегда насилие, всегда жажда смерти любимой во мне; даже
тогда, когда я хочу, чтобы любимая моя властвовала надо мною, т. е.
когда хочу моего подчинения ей, ее насилия надо мной. Ведь я хочу
именно такого насилия, т.е. уже навязываю любимой мою волю. И если
даже отказываюсь я от всяких моих определенных желаний и грез,
я все же хочу, чтобы она (никто другой) была моею владычицей, хочу,
чтобы ее воля на мне и во мне осуществлялась, т. е. отождествляю мою
волю с ее волей, себя с любимой. А тогда уже не любимая совершает
насилие надо мной, а я сам — чрез нее; и уже не она владычествует —
я владычествую»1.
Несмотря на всю негативную диалектику, которая выявляется в
любви, свойственной героям Достоевского, несмотря на то, что эта лю-
бовь содержит в качестве своей неотъемлемой части аспект мучитель-
ства и страдания, Карсавин все же признает в ней черты того идеала,
который возвестил миру Христос. «Как в зеркале вогнутом, в карама-
зовской любви отражается всеединая любовь. Ее черты искажены, но
это все-таки ее черты. — Карамазовская любовь — чудесное ведение,
необычайно точное познание, не только разлагающее как разум, но
и единящее как ум... То она проявляет себя как безудержное стремле-
ние к власти, насилию и мучительству, могучее, но слепое и в слепоте
своей недостаточное, теряющее силы, кидающееся из стороны в сторо-
ну, мельчающее. То подымается она до предощущения высшей исти-
ны любви, того двуединства двух предызбранных и предназначенных
ДРУГ другу, о котором писал Платон, писали мистики»2.
На первый взгляд, бесконечно далекая от заповеди Христа любовь
Федора Павловича и его сына Мити («карамазовская» любовь), в ко-
нечном счете, отвечает глубокому смыслу этой заповеди и является
в своей сущности подлинной любовью. Ее недостатки коренятся не
в ней самой, а определены тем, что она полностью подчиняется ирра-
циональной свободе личности, становится просто орудием этой ир-
рациональной свободы, в своем действии без конца переходящей от од-
ного объекта к другому в неутолимой жажде «своеволия», господства,
негативного самоутверждения — самоутверждения через подчинение
и «растворение» в себе других личностей. Но ее достоинство подлин-
ной любви становится очевидным, если провести сравнение этого со-
стояния «самоутверждения с помощью любви» и состояния самоутверж-
дения, в котором любовь полностью отсутствует. Последнее состоя-
ние уже совсем близко к состоянию смерти, той смерти, в которой нет
и не будет воскресения, даже если человек еще жив, — выразительный
пример такого состояния «мертвой жизни» дает Свидригайлов.
1 Карсавин Л. П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви.
С 267-268.
2 Там же. С. 272.
166 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Однако даже в том случае, когда любовь не подчинена полностью сво-
боде, не низведена до простого орудия самоутверждения личности, —
даже тогда ее взаимодействие со свободой не позволяет ей стать гармо-
ничной, непротиворечивой и внести совершенство в жизнь людей. Князь
Мышкин («земной Христос»), воплощающий в себе любовь, которая
пытается преодолеть свою подчиненность безграничной свободе, жажде
самоутверждения, терпит в своих отношениях с любимыми им женщи-
нами такой же крах, как и Рогожин — двойник Дмитрия Карамазова.
В результате может показаться, что только христианская любовь
Зосимы ко всем ближним достигает своей цели — вносит мир, гармо-
нию и целостность в отношения людей. Однако Достоевский не может
отдать абсолютного предпочтения этой любви, не может признать
«карамазовскую» любовь менее истинной. Любовь Зосимы в каком-то
важном отношении оказывается в свою очередь «ущербной», неполной,
недостаточной для действенного преображения жизни. Эта любовь бо-
ится слишком реального, земного отождествления с другой (греховной!)
личностью, с природой, непредсказуемой в своих устремлениях, с ми-
ром в его противоречиях и борении. По этому поводу Карсавин вопро-
шает: «...не много ли в этой любви русского "серафического Отца" са-
моотречения и отказа от мира, для него все же — юдоли слез и испы-
таний? Не далека ли столь близкая "грядущая жизнь", "неведомая"?
И согласуются ли с приятием мира слова тому же Алеше: "Мыслю о
тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь, как инок"? »1 И да-
лее делает окончательный вывод: «Не к преображению мира, не к тому,
чтобы пронизать его всеединой любовью до самых последних глубин,
зовет старец, а — к царству грядущему, к отказу от "лишнего и ненуж-
ного". Точно есть что-нибудь ненужное и лишнее в Божьем мире!
Любовь Зосимы не оправдывает всего мира, не оправдывает карамазов-
щины, оправданной уже самим фактом бытия своего в Божьем мире.
Она — высший из видов любви на земле, но только один из видов, одно
из проявлений. Она тоже ограничена, отъединена, а потому обречена
на умирание»2.
Карсавин полагает, что Достоевский не решается сделать последний
шаг и признать, что нужно любить (и, значит, в какой-то мере оправ-
дать) даже злое бытие для того, чтобы, слившись с ним, преобразовать
его, а вместе с ним и весь несовершенный мир. Однако кажется, что он
недооценивает внутреннюю смелость и последовательность мыслей
Достоевского3. Вспомним еще раз рассказ «Сон смешного человека».
Хотя в своем повествовании герой сокрушается о том, что «развратил»
1 Карсавин Л. П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви. С. 276.
2 Там же. С. 277.
3 По-видимому, Карсавин не знал, что в одном из предварительных
вариантов «Братьев Карамазовых» Достоевский приписывал старцу Зо-
симе и такие слова (не вошедшие в окончательный текст): «Люби во грехе
их, люби и грехи их, ибо сие уже божественная любовь».
Глава 2, Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 167
идеальное общество, мы чувствуем, что ни герой, ни автор не сожале-
ют об этом. Это общество, несмотря на всю его идеальность, должно
было быть развращено, поскольку личностное начало в человеке долж-
но было полностью выявить потенциал своей свободы, своей внутрен-
ней «энергии».
Попав в идеальное общество, «смешной человек» завидует людям,
его составляющим, однако вряд ли бы он согласился отказаться от сво-
ей индивидуальности, от своей «самости» для того, чтобы войти в их
круг и слиться с ними. Вспомним целый ряд героев Достоевского, веду-
щих свою «родословную» от «подпольного человека» и готовых на лю-
бой, самый нелепый поступок только ради доказательства своей само-
бытности, индивидуальности, своей свободы1. «Ведь я, например, ни-
сколько не удивлюсь, — утверждает "подпольный человек", — если
вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия воз-
никнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать,
с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и ска-
жет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие
с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти
логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле
пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последо-
вателей найдет: так человек устроен... есть один только случай, только
один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже
вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право по-
желать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью
желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой
каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для наше-
го брата из всего, что есть на земле... потому что во всяком случае со-
храняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и на-
шу индивидуальность»2.
Так и поступают люди идеального общества, о котором рассказыва-
ет «смешной человек». Они «отправили к черту» все их благоразумие
и гармонию ради того, чтобы «по своей глупой воле пожить». Сам
«смешной человек» признает, что в своем «развращенном» состоянии
они, с одной стороны, стали мечтать о возвращении невинности, чисто-
ты и гармонии, но, с другой — не приняли бы этой гармонии, если бы
это возвращение стало реальным: «если б только могло так случиться,
чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое
они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их:
хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались»3.
1 И сам Достоевский, и знавшие его люди утверждали, что мысли «под-
польного человека» во многом являются мыслями самого автора (см. снос-
ку 1 на с. 135).
2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 5. С. 113, 115.
3 Там же. Т. 25. С. 116.
168 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Человек, ощутивший всю полноту своей иррациональной свободы, уже
не согласится вернуться в идеальное общество, если ценой возвраще-
ния будет утрата этой полноты свободы. Обратим внимание и на то,
что «смешной человек», восторгаясь и умиляясь идеальным обществом
и спокойным счастьем людей в нем, тем не менее сам не изменился,
не проникся их знанием, их полнотой жизни, их спокойной и всеобъем-
лющей любовью. Он остался и в этом обществе «русским прогрессистом
и гнусным петербуржцем»1. В рассказе остается неясным, хотел ли он
преображения своей личности, но кажется вполне вероятным, что, как
и «подпольный человек», он отказался бы от этого, если бы ценой был
отказ от себя, от своей пусть и «гнусной», но самобытной натуры.
Быть может, именно в этом и состоит смысл всего рассказа: челове-
ку нужно верить в возможность реализации на земле идеального со-
стояния жизни через полноту любви, однако этот идеал (рай или Бог)
значим не как самодостаточное состояние, не как окончательная цель,
по отношению к которой все остальное — только средство. Его значе-
ние в том, что он является критерием для тех выборов, которые посто-
янно предлагает человеку его свобода. Человек, не осознающий этого
идеала или не верящий в возможность его воплощения, полностью утра-
чивает ощущение целесообразности жизни и бытия в целом; в борьбе
любви и свободы в его душе окончательную победу одерживает свобо-
да, и ее ничем не сдерживаемая иррациональная полнота приводит
к полному отрыву личности от мистического целого, в котором он спосо-
бен обрести пусть и несовершенное, но живительное единство с други-
ми, с бытием как таковым. В этом случае человек уже при жизни по-
гружается в царство смерти, как это происходит со Свидригайловым,
Смердяковым и Раскольниковым.
Если же человек обладает полнотой веры, если он ощущает возмож-
ность реализации в нашей жизни того идеала, о котором возвещает его
вера, то этого одного уже достаточно для того, чтобы не дать свободе
полностью восторжествовать над любовью. В этом случае вера помога-
ет сохранить баланс между двумя метафизическими «атрибутами» лич-
ности, и хотя даже этот баланс не спасает человека от трагедий и ката-
строф, человек все-таки остается в живительном «энергетическом поле»
несовершенного мистического целого, объединяющего всех людей
и помогающего им стремиться к недостижимому совершенству, —
к совершенству, которого они, в сущности, и не хотели бы достичь,
а если бы и достигли, то непременно разрушили бы его снова ради пол-
ноты своей свободы.
Возвращаясь к проблеме двух видов любви — «карамазовской» и
«серафической», — можно сказать, что только в их соединении воз-
можна полнота жизни и цельность человека; более того, можно отва-
житься на утверждение, что в художественном мире Достоевского
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 25. С. 113.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 169
йменно первая из них — любовь «карамазовская» — играет первосте-
пенную роль и выражает личность человека с гораздо большей полно-
той, чем вторая. Подвижники второго вида любви необходимы для того,
чтобы своей жизнью лишний раз подтверждать возможность идеаль-
ного состояния общества и преображения земной жизни. Однако нельзя
представить себе, что такое подвижничество стало бы всеобщим явле-
нием, охватило бы всех людей, поскольку в нем содержится отказ от
всей полноты личной свободы и, значит, в перспективе, в тенденции —
отказ от себя, от своей личной индивидуальности.
Только соединение любви «карамазовской» и любви «серафиче-
ской» делает человека предельно значимым для других; поэтому имен-
но князя Мышкина, Алешу, Ивана и Дмитрия Карамазовых, Версило-
ва — всех героев, в разной мере осуществляющих в своей жизни синтез
этих двух полюсов любви, — необходимо признать центральными пер-
сонажами Достоевского, в которых он выражает свое представление о
высших проявлениях человеческого начала, — а вовсе не старца Зоси-
му, сознательно ограничивающего себя только «серафической», «аб-
страктной» любовью ко всем ближним.
§10. Теодицея Достоевского
Центральным положением метафизики Достоевского является те-
зис «личность есть Абсолют». Как уже указывалось выше, этот тезис
необходимо понимать не в духе радикального метафизического плю-
рализма, как полагание множественности абсолютно независимых
личностных центров, а как определение универсальной метафизиче-
ской основы единого и цельного бытия. Такой основой и выступает Лич-
ность, личностное начало бытия; причем здесь в понятии «личность»
на первый план выходит центрированная динамическая активность,
исходящая из глубин бытия (цельного бытия) и направленная на само
бытие, преобразующая его, приводящая в новое состояние, не существо-
вавшее ранее. Только на феноменальном уровне — при явлении Абсо-
люта-Личности в многообразии эмпирических личностей — динамизм
и неограниченная полнота Абсолюта распадается на множество конку-
рирующих, но взаимосвязанных центров.
У Достоевского происходит радикальное изменение того смысла,
который традиционно вкладывался в понятие Абсолюта. На место Аб-
солюта, трансцендентного миру и человеку, Достоевский помещает
трансцендентно-имманентный (или даже просто имманентный)
Абсолют, сущностно совпадающий с отдельной эмпирической лично-
стью. Однако этим не ограничивается парадоксальность представлений
Достоевского об Абсолюте.
Начиная с Парменида и Платона в европейской философии господ-
ствовало рационалистическое по своей сути представление об Абсолю-
те как абсолютно завершенном и «полном в себе» целом (подробно
°б этой традиции говорилось во введении). Противопоставление мира
170 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и Абсолюта осуществлялось именно в соответствии с этим критерием:
мир — это то, что относительно, т. е. не полно и не завершено в себе, то,
что должно еще развиться, что должно стремиться к полноте Абсолю-
та. Эта традиция была поколеблена только в некоторых мистических
течениях, особенно в философии Николая Кузанского и во всем мисти-
ческом направлении немецкой философии вплоть до Гегеля. Однако и
здесь между миром и Абсолютом признавалось существенное разли-
чие, предполагаемое здесь «развитие» Абсолюта оказывалось по своей
сути совершенно иным, чем развитие мира и человека (хотя последнее
часто понималось как «ступень» или момент в «развитии» Абсолюта).
В метафизике Достоевского указанная традиция мистической фило-
софии получает свое новое и весьма радикальное воплощение. Разница
между развитием, совершенствованием (в достаточно радикальном, по-
лумистическом смысле) эмпирической реальности и становлением Абсо-
люта почти исчезает. Именно внутренняя полуэмпирическая-полумис-
тическая динамика Абсолюта, бесконечное устремление к реализации
своей внутренней полноты при одновременном формировании той идеаль-
ной цели, к которой направлено это устремление, и характеризуется как
личность, личностное начало. Здесь выявляется различие между хрис-
тианским тезисом «Бог есть личность» и тезисом Достоевского. В христи-
анской (средневековой) философии личностное начало Бога внешним об-
разом, формально соединялось с платоновским представлением о Боге как
высшем и абсолютном (т.е. неизменном) бытии. Личностная характерис-
тика Бога заключалась только в том, что к понятию абсолютного бытия
добавлялись атрибуты человеческого совершенства (разум, воля, красо-
та, добро и т. д.). Но при этом отходила на второй план как раз главная
характеристика личности — ее целостная динамика, ее устремленность к
идеалу, к реализации своих внутренних, неразгаданных бездн. В проти-
воположность этому Достоевский полностью отвергает иерархический
принцип в понимании бытия и всему цельному бытию приписывает лич-
ностное начало, взятое во втором из указанных смыслов — как цельная
внутренняя динамика, устремленность к идеальной цели и к реализации
своего неведомого содержания (в предшествующей русской философии
этому соответствовало признание воли важнейшим качеством человека).
Таким образом, именно у Достоевского Абсолют впервые по-настоя-
щему становится Личностью не просто через формальное приписывание
ему атрибутов человеческой личности, а через определение его сущно-
сти как сущности личности. В результате этого по-новому определя-
ется отношение Абсолюта и эмпирического человека. В традиционной
христианской философии формальный характер личностного начала,
приписываемого Богу, ведет к формальности и предельной опосредован-
ности отношений человека с Богом (исключение составляет мистическая
традиция в немецкой философии — особенно философия Фихте). В мета-
физике Достоевского отношение Абсолюта и эмпирического человека
становится отношением сущностного тождества и взаимодополнения.
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф.Достоевского 171
Если и можно говорить о различии Абсолюта и эмпирического челове-
ка, то только в том же смысле, в каком мы различаем сущность явления
и само это явление. Впрочем, рационалистическая (гегелевская) мо-
дель «сущность—явление» не вполне соответствует духу метафизики
Достоевского, поскольку в последней господствует иррациональная ди-
алектика отношений между отдельными основополагающими элемен-
тами. Если бы метафизика Достоевского была построена на основе ра-
ционалистических принципов, ей бы не удалось избежать опасности
превращения в индивидуализм классического типа — в духе Герцена,
Штирнера или Фейербаха. Достаточно очевидно, что Достоевский рез-
ко негативно относится к такому крайнему индивидуализму (поэтому
столь странно выглядят попытки Бахтина приписать ему мировоззре-
ние этого типа). Метафизика Достоевского остается иррациональным
монизмом именно благодаря тому, что в ней постулируется не объясни-
мое рациональным образом сущностное тождество Абсолюта и эмпи-
рических личностей.
Однако не менее важно уточнить, в чем с точки зрения самой эмпи-
рической личности состоит смысл ее «несовпадения» с Абсолютом.
Это различие оказывается определенным и явным за счет того, что
эмпирическая личность сама различает в себе и в своем эмпирическом
состоянии в мире две сферы, два измерения — абсолютное и отно-
сительное. Или, говоря по-иному, Абсолют есть только потому, что
человек сам задает в себе и в своем эмпирическом состоянии возмож-
ность преобразования к идеальному, абсолютному состоянию, кото-
рое и становится целью всей человеческой активности. При этом глав-
ная проблема нашего бытия заключается в том, что «границу» между
абсолютным и относительным невозможно провести однозначно (соб-
ственно, и само понятие «граница» здесь вряд ли применимо, даже
в качестве метафоры).
Каждая эмпирическая личность выступает как неразложимая цель-
ность, в которой относительное и абсолютное присутствуют в каждом
поступке, в каждой мысли, в каждом чувстве и т. д. — в каждом ее
проявлении. Однако человек не может существовать без постоянных
усилий по «разделению» абсолютного и относительного, без этого он
теряет основу для своего бытия. В результате, он постоянно делает одну
и ту же ошибку — искусственно обособляет абсолютное и относитель-
ное и поэтому искажает их соотношение в своей жизни. Постоянно
полагая для себя самого свою абсолютность, человек искажает ее; но,
с другой стороны, он не может не полагать ее, ибо в противном случае
вовсе утратит ее смысл.
В силу этого тот идеал, который человек формулирует для выраже-
ния своей абсолютности, оказывается нереализуемым. Более того, его
реализация привела бы к радикальному искажению смысла подлин-
ной абсолютности человека, а значит, к искажению его собственной
сущности. Без относительного измерения человек перестал бы быть
172 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
человеком, поэтому его устремление к абсолютному обречено оставать-
ся только устремлением, и та же самая свобода, которая составляет
главное определение абсолютности человека, является источником его
относительности, т. е. источником зла в мире.
Эта диалектика относительного и абсолютного в человеке, имеющая
основание в его иррациональной свободе, выражена в одном из глав-
ных героев всего творчества Достоевского — в Иване Карамазове.
Трагедия Ивана как раз в том, что он слишком однозначно и слиш-
ком радикально проводит указанную «границу» между относительным
и абсолютным в человеке и в его жизни. В результате такого разделе-
ния реальная жизнь и весь эмпирический мир вокруг человека при-
обретают исключительно негативное определение, а устремленность
к идеалу становится такой острой, что делает невыносимой жизнь в ре-
альном мире и превращает Ивана в фанатика справедливости и добра.
Ясно представив себе идеальное состояние человека, его абсолютное
состояние, Иван уже не может найти ни малейшего оправдания миру,
где все несовершенно и относительно.
Если человек есть лишь подчиненный элемент мироздания, если
он — только относительное явление по сравнению с абсолютным быти-
ем Бога, то он не имеет права окончательно и бесповоротно осудить мир.
Он и не смог бы этого сделать, если бы был чисто относительным суще-
ством. Но Иван осуждает мир окончательно и бесповоротно и тем са-
мым доказывает наличие некоего абсолютного измерения в себе самом.
«Не хочу гармонии, — говорит Иван брату Алеше, — из-за любви к
человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданием неотом-
щенным. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и
неутоленном негодовании моем, хотя бы я был не прав. Да и слишком
дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько пла-
тить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно.
И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно
заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет
ему почтительнейше возвращаю»1. Именно возможность такого
неприятия мира на фоне осознаваемого идеала представляет собой
наиболее ясное проявление абсолютности человека.
«Бунт» Ивана предельно характерен. Он не отвергает Бога, т. е.
существование какого то Абсолюта, но он ощущает в себе силу само-
стоятельно решать, каким должен быть абсолютный, совершенный
мир, и, значит, признает за собой возможность окончательно осудить
1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 14. С. 223. Вспомним
аналогичные рассуждения Одоевского: «Говорить, что страдание есть не-
обходимость, значит противоречить тому началу, которое в нашей душе
произвело возможность вообразить существование нестрадания, откуда
взялось оно?» (Одоевский В. Ф. Письмо А. А. Краевскому // Одоев-
ский В. Ф. Русские ночи. С. 235).
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 173
существующий, относительный мир. В этой ситуации Бог-творец, Бог-
судия, Бог-истина превращается в метафору, становится просто санк-
цией на ту меру абсолютности, которую человек находит в себе. И ошиб-
ка Ивана не в том, что он открывает в себе это измерение и не боится
в связи с этим «возвратить билет» в мировую гармонию, которая долж-
на осуществиться помимо его решения и его воли; его ошибка — в стрем-
лении радикально и окончательно развести абсолютное и не-абсолют-
ное в себе и в мире. Как прекрасно сказал А. Камю в своей очень точной
интерпретации истории Ивана, «гордая страсть к абсолюту отнимала
его у земли, на которой он ничего не любил»1. Оправдывая «бунт» Ива-
на, Камю пишет: «По своей видимости негативный, поскольку ничего
не создает, бунт в действительности глубоко позитивен, потому что он
открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться»2.
«Бунт» Ивана Карамазова, точно так же как радикальное сомнение
Кириллова, — это следствия очень своеобразной в своей радикально-
сти формы веры, связанной с самим человеком и его положением в
мире. Критерий подлинности этой веры — та степень ответственности
за мир и за других людей, которую возлагает на себя человек. У Ивана
эта степень ответственности абсолютна, и в этом доказательство искрен-
ности и истинности его подспудной веры в абсолютное начало самого
человека. Но в поисках простого и быстрого решения Иван проводит
слишком радикальную границу между совершенным и несовершен-
ным, между абсолютным добром и абсолютным злом, между идеалом
и неприемлемой реальностью. Вместо того чтобы найти крупицы этого
идеала в каждом земном явлении и через это понять осмысленность
каждого явления и мира в целом, Иван сравнивает каждое явление
с идеалом и отвергает его целиком, не находя в нем всей полноты Абсо-
люта. В результате лишенный основания эмпирический мир становит-
ся несамодостаточным, и тут на сцену выходит Великий Инквизитор
(двойник самого Ивана!), который обязан взять на себя ответственность
за несовершенный мир.
В традиционных интерпретациях поэмы о Великом Инквизиторе
предполагается, что Инквизитор не верит ни в Христа, ни в бессмер-
тие. Действительно, он говорит так, что можно заподозрить его в неве-
рии. Тем не менее этому явно противоречит последняя сцена поэмы:
Христос целует Великого Инквизитора, и тот отпускает его на свобо-
ду. Создается впечатление, что Христос если и не освящает то, что де-
лает Великий Инквизитор, то по крайней мере высказывает понима-
ние его положения и его целей. Христос как бы признает, что Инкви-
зитор искренне верует в него и в его дело; недостаток веры Инквизитора
только в том, что он, подобно Ивану, слишком разводит абсолютное
и относительное.
1 Камю А. Бунтующий человек. С. 163.
2 Там же. С. 132.
174 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Инквизитор прекрасно понимает смысл того идеала, который при-
нес в мир Христос, и он безусловно верит в то, что реализация этого иде-
ала была бы возможна, если бы люди были другими — например таки-
ми, как он сам. Он осознает наличие в себе самом абсолютного измерения
(это и позволяет говорить о подлинности его веры), но он не признает его
существования в мире и в других людях. При этом сила веры Инквизи-
тора столь велика, что он не может ограничиться «мечтами» о несбы-
точном идеале; выступая как бы посредником между идеалом (Абсолю-
том) и низменной реальностью, он пытается приблизить реальность, хотя
бы частично, к своему идеалу. Тот факт, что это ему удается (построен-
ное им общество, по крайней мере, стабильно), показывает правоту его
устремления к воплощению идеала; ведь он мог остаться со своим зна-
нием и своей верой, предоставив событиям идти своим путем, предоста-
вив людям самим строить свою «вавилонскую башню».
Его ошибка — та же, что и ошибка Ивана Карамазова; он не призна-
ет, что абсолютное и относительное присутствуют в каждом человеке
и неразрывно связаны в каждом явлении мира. Его позиция — пози-
ция Инквизитора, Правителя — оправдана только до тех пор, пока
другие люди не открыли в себе то же самое измерение абсолютного, кото-
рое открыл в себе он сам. А то, что это когда-нибудь обязательно произой-
дет, как раз и обещано явлением Христа (первым явлением, зафикси-
рованным в Евангелии). Финал поэмы Ивана можно тогда трактовать
в том смысле, что сам Христос, поцеловав Инквизитора и уходя в ночь,
признает, что пришел в этот раз слишком рано. Еще не настало время
для совершения того, что было обещано его первым пришествием.
Такой финал точно отражает характер веры Ивана, который, как
и Великий Инквизитор, смотрит на мир и других людей « сверху вниз »,
не допуская в каждом человеке того же самого представления об идеа-
ле, которым обладает его душа. Это «высокомерие», связанное с ради-
кальным разделением абсолютного и относительного, неизбежно при-
водит Ивана к безумию, к раздвоению его собственной личности. Про-
тивопоставив идеал (абсолютное) и эмпирическую действительность
(относительное), Иван обречен на то, чтобы аналогичное противостоя-
ние возникло и в его душе. Одна сторона его личности, ориентируясь
на эмпирический мир, признает, что по отношению к этому миру дей-
ствует принцип «все дозволено», и дает «санкцию» Смерд якову на убий-
ство отца; другая, целиком погруженная в созерцание идеала, требует
полного и немедленного воплощения добра и справедливости в мире и
обличает все несовершенное в нем.
И все же трагедия Ивана несет в себе значительную долю оптимиз-
ма. Из нее есть выход, который был реален до тех пор, пока не произо-
шло убийство, сделавшее невозможным «воссоединение» двух сторон
распавшейся личности Ивана. Этот выход заключается в признании
того, что абсолютное измерение, измерение Абсолюта, есть в каждом
Глава 2, Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 175
эмпирическом явлении и в каждой эмпирической личности (от старца
Зосимы до генерала, приказавшего растерзать мальчика). Именно об
этом говорит брату Алеша:
« — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь,
непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму»1.
Нужно не разъединять живую целостность жизни на абсолютное,
имеющее смысл, и относительное, не имеющее смысла, а полюбить
и принять ее в ее целостности и затем уже найти смысл (абсолютное)
в каждом из ее элементов.
Тезис о присутствии в каждой человеческой личности «измерения»
Абсолюта внешне очень похож на аналогичный тезис Канта (в этой ана-
логии отражается известное влияние этики немецкого философа на
Достоевского). Однако необходимо подчеркнуть принципиальное
различие представлений о человеке у Канта и Достоевского. По Канту,
абсолютное измерение, измерение умопостигаемой свободы в каждом
человеке, является трансцендентным по отношению к эмпирической
действительности. В тезисе Достоевского абсолютное и относительное
имманентны по отношению друг к другу (в этом смысле более уместной
является аналогия с философией Фихте, у которого «абсолютное я»
в некотором смысле имманентно «относительному я»), и это проявля-
ется в том, что каждый поступок, каждая мысль, каждое движение
души человека, в свою очередь, есть единство абсолютного и отно-
сительного, вновь имманентных друг другу и потому нераздельных.
Ни в человеке в целом, ни в его отдельных проявлениях невозможно
провести однозначной границы между абсолютным и относительным.
Может показаться, что здесь возникает опасность окончательной утра-
ты критерия различия абсолютного и относительного, т.е. критерия раз-
личия добра и зла. Однако это, конечно же, не так. Этот критерий дается
верой, т. е. представлением об идеальном состоянии общества и мира,
убеждением в возможности реализовать это идеальное состояние и посто-
янными усилиями, направленными к реализации этой возможности.
Поскольку каждая эмпирическая личность есть феноменальное
проявление метафизической Личности-Абсолюта, каждое ее свободное
действие есть раскрытие сущностной глубины Абсолюта и, значит, со-
держит в себе абсолютное «измерение». Парадоксальность свободы за-
ключается в том, что на феноменальном уровне она производит это
раскрытие глубины Абсолюта через самоутверждение и «своеволие»
эмпирических личностей, причем только в такой форме Абсолют
и может раскрывать себя. В силу этого можно утверждать, что об-
щество, которое мечтает построить Великий Инквизитор, есть лишь
1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. в 30-ти т. Т. 14. С. 210.
176 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
карикатура на идеал, составляющий объект подлинной веры; в нем
невозможно раскрытие всей полноты Абсолюта, поскольку люди от-
казались от «своеволия». Однако раскрепощение «своеволия» может
вести к раскрытию Абсолюта только в том случае, когда оно сохраняет
связь эмпирической личности с другими личностями — другими фено-
менальными формами раскрытия Абсолюта. «Своеволие» становится
плодотворным и его отрицательные последствия сглаживаются толь-
ко в том случае, когда оно «компенсируется» объединяющей силой, со-
гласующей и сводящей к единству на феноменальном уровне «своеволь-
ные» проявления отдельных эмпирических личностей. Это и есть лю-
бовь. Условно говоря, эмпирическая свобода личности («своеволие»)
есть феноменальный образ внутренней полноты Абсолюта, а любовь —
феноменальный образ его целостности. Только в гармоническом един-
стве и равновесии проявлений этих «сил» в человеке возможно аде-
кватное «явление» Абсолюта в феноменальном образе общества, кото-
рое приближается к идеальному состоянию.
Достичь этого идеального состояния человек и общество никогда не
смогут. Это связано с бесконечной полнотой Абсолюта. Последователь-
ное раскрытие этой бесконечной полноты заключается во все новых
и новых «дерзаниях» человеческой свободы, которая именно поэтому
постоянно нарушает уже достигнутый относительный баланс со сво-
им alter ego — любовью. У любви всегда хватает сил вновь восстано-
вить утраченное равновесие, однако прежде чем это происходит, рас-
крепощенное «своеволие» успевает реализовать себя как сила, раз-
рушающая целостность, — как зло.
Зло оказывается необходимым и неустранимым спутником процес-
са раскрытия иррациональной полноты Абсолюта. Его можно попы-
таться устранить, если раз и навсегда ограничить «дерзания» челове-
ческой свободы, — это путь Великого Инквизитора. Однако в этом слу-
чае произойдет еще более страшное, чем появление зла в нашем мире —
земная жизнь людей потеряет смысл и превратится в элементарное,
животное существование, подобное существованию стада, которое го-
нит пастух. Ведь заповедь Христа это не только заповедь любви и еди-
нения в любви, но и заповедь свободы. Потому что сущность Абсолю-
та — это свобода. Если Абсолют — это трансцендентный Бог канони-
ческого христианства, то свобода человека иллюзорна и сводится к
подчинению законам, исходящим от Абсолюта (августиновская тради-
ция, нашедшая завершение в философии Гегеля). Если же Абсолют есть
Личность, находящая феноменальное воплощение в каждой человече-
ской личности, то свобода человека есть реализация полноты Абсолю-
та, и только через нее человек реализует свою абсолютность.
Соотношение зла и свободы в мировоззрении Достоевского подроб-
но проанализировал Н. Бердяев, и его выводы нужно признать кон-
гениальным проникновением в этот важный аспект мировоззрения До-
стоевского: «Поистине можно принять Бога и принять мир, сохранить
Глава 2. Личность как Абсолют: метафизика Ф. Достоевского 177
веру в Смысл мира, если в основе бытия лежит тайна иррациональной
свободы. Тогда только может быть постигнут источник зла в мире и
оправдан Бог в существовании этого зла. В мире так много зла и страда-
ния, потому что в основе мира лежит свобода. И в свободе — все досто-
инство мира и достоинство человека. Избежать зла и страдания можно
лишь ценой отрицания свободы. Тогда мир был бы принудительно доб-
рым и счастливым. Но он лишился бы своего богоподобия. Ибо богопо-
добие это прежде всего в свободе... так пишет Достоевский свою изуми-
тельную теодицею, которая есть также и антроподицея. Есть одно толь-
ко вековечное возражение против Бога — существование зла в мире.
Эта тема является для Достоевского основной. И все творчество его есть
ответ на это возражение... Бог именно потому и есть, что есть зло и
страдание в мире, существование зла есть доказательство бытия
Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог
был бы не нужен, то мир был бы уже богом. Бог есть потому, что есть
зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода. И Достоев-
ский доказывает бытие Божие через свободу, свободу человеческого
духа» Ч Именно такое отношение Достоевского к злу позволяет Бердя-
еву, в частности, утверждать, что Достоевский по своему мировоззре-
нию является гностиком2.
Зло неизбежно в мире, столь же неизбежно, как и наше страстное
желание реализовать состояние мира, в котором не будет зла. И это еще
один парадокс нашего бытия, который получает объяснение в метафи-
зике Достоевского. И способность совершать зло, и способность желать
осуществления состояния мира, в котором отсутствует зло, являются
естественными следствиями нашей свободы. Осознавая в себе желание
идеального состояния мира, мы открываем измерение Абсолюта в нас,
но пытаясь реализовать в своей жизни всю полноту сущности Абсолю-
та, мы неизбежно совершаем зло, поскольку цельность и полнота Аб-
солюта — качества, неразрывные в нем самом, — в нашей эмпириче-
ской жизни реализуются как различные и даже противостоящие друг
Другу «атрибуты» — любовь и свобода. С помощью этой логики зло ока-
зывается частично оправданным, поскольку оно является оборотной
стороной свободы, без которой человек не может реализовать себя как
Абсолют. В этом смысл своеобразной «теодицеи» Достоевского, оправ-
дывающей не столько Бога, сколько человека.
Однако это оправдание ничуть не означает примирения со злом.
Примиряясь со злом, человек отказывается от своей абсолютности.
Человек может совершать зло, не признавая его за зло, полагая, что
это есть необходимая реализация его свободы, что его поступки в ка-
кой-то далекой перспективе ведут к цельности и единению — ведут
к идеалу (конечно, понимаемому в очень субъективной и искаженной
1 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 57-58.
2 Там же. С. 60-61.
178 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
форме). Именно так оправдывает свой преступный замысел Расколь-
ников. Даже Петр Верховенский, выступающий своего рода воплощен-
ным Бесом, носителем зла, — даже он, высказывая свой сокровенный
замысел Ставрогину, по сути, говорит о плане своеобразного единения
людей через насилие и принуждение (в том же смысле, как это пред-
ставлялось Великому Инквизитору); особенно наглядно «идеальный»
характер этого замысла проступает в идее «Ивана-царевича», который
должен стать символом грядущего объединения. Впрочем, Достоевский
показывает, что человек может совершать зло и в том случае, когда он
полностью подчиняет свою свободу другому, когда он отрекается от сво-
ей абсолютности и становится простым орудием в руках другого, как
это происходит с членами «пятерки» Верховенского в «Бесах».
Но как только чувство своей абсолютности возрождается в душе и че-
ловек осознает свой поступок как зло, разрушающее мистическое един-
ство людей, он становится непримиримым борцом против него и, если
нет другого способа борьбы с ним, — уничтожает себя. Именно в этом
смысле нужно понимать слова Дмитрия Карамазова о том, что главным
полем битвы между добром и злом, между Богом и дьяволом является
душа человека.
Глава третья
АБСОЛЮТ КАК ВСЕЕДИНСТВО:
ВЛ. СОЛОВЬЕВ
§ 1. Задачи «истинной философии»:
Вл. Соловьев и гностико-мистическая традиция
Владимир Соловьев явился ключевой фигурой в истории русской
философии, и его творческая деятельность стала основой того интел-
лектуального расцвета, который произошел в начале XX века и при-
дал русской философии статус самобытной национальной школы, ока-
зывающей существенное влияние на развитие европейской мысли. Пер-
вым на этом пути к самобытности и оригинальности был Достоевский.
Его новаторские представления о человеке, рожденные гениальной
художественной интуицией, требовали пересмотра стереотипов, свя-
занных с традициями классического философствования, однако при
этом не обладали ясными формулировками, необходимыми для по-
строения на их основе нового мировоззрения. Творческие озарения
Достоевского породили атмосферу философских исканий, не связан-
ных никакой традицией и никаким авторитетом; его младший совре-
менник и друг Вл. Соловьев сумел привнести в эту атмосферу раскре-
пощенного поиска строгость и стройность рационального мышления.
Само значение творчества Достоевского и новизна его идей стали яс-
ными в существенной степени благодаря тому, что эти идеи получили
отражение в философской системе Соловьева, которая и стала первой
цельной системой в истории русской мысли.
До Соловьева в русской философии активно действовали две тенден-
ции, слабо взаимосвязанные между собой и даже противоречащие друг
ДРУгу. Первая — это настойчивое усвоение западной философии и свя-
занные с этим усвоением попытки выработать понятийный аппарат,
пригодный для дальнейшего самостоятельного развития. Вторая —
порождение собственных, оригинальных идей, касающихся в первую
очередь смысла и целей исторического процесса и направленных в ко-
нечном счете на описание характерных особенностей русской истории
и будущего России.
180 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Даже у тех мыслителей, в трудах которых можно обнаружить обе
эти тенденции (Чаадаев, Хомяков, И. Киреевский и др.), они никогда
не находились в достаточно гармоничном сочетании, порождая в своем
взаимодействии резкие противоречия и, как следствие, существенные
пробелы в философских построениях. Особенно наглядный пример это-
му дает критика Хомяковым и Киреевским западного рационализма.
Настойчиво подчеркивая негативные черты рационалистической тра-
диции, они провозгласили необходимость создания «новых начал» для
построения «истинной» философии, преодолевающей абстрактность,
рассудочность, «безвольность» западной мысли. Однако в поисках та-
ких «новых начал» славянофилы были вынуждены обращаться к той
же самой западной философии — в первую очередь к философии Шел-
линга (как это сделал Киреевский), которая, на самом деле, никак не
укладывалась в критикуемые ими стереотипы и самим своим существо-
ванием опровергала их крайние утверждения по поводу господства
рационализма в философии Западной Европы.
Заслуга Соловьева состояла, в частности, в том, что он сумел, нако-
нец, привести в гармоническое единство указанные тенденции. Продол-
жая и даже усиливая критику рационализма, он в отличие от славянофи-
лов выделяет не только отрицательные, но и положительные моменты
в истории западной философии, подводя тем самым итог своеобразному
«ученичеству» русской философии у Запада, исподволь продолжав-
шемуся весь XIX век. Почти в каждой крупной работе Соловьева мы
находим «критический» раздел, в котором он раз за разом повторяет
анализ недостатков западной философии и выявляет в ее развитии те
элементы, которые составляют ее подлинное достояние, на основе ко-
торых можно построить здание новой, истинной философии. Не слу-
чайно два главных сочинения раннего творчества Соловьева почти
целиком посвящены такому критическому разбору: «Кризис западной
философии (против позитивистов)» и «Критика отвлеченных начал».
Впрочем, и у Соловьева можно обнаружить некоторую недоговорен-
ность в этом вопросе. Подчиняясь направлению, заданному славяно-
филами, Соловьев полагает, что развитие западной философии от Де-
карта до Шопенгауэра целиком определялось господством рационализ-
ма; он обнаруживает новые элементы только у Э. Гартмана, который,
конечно же, представлял собой не самую значительную фигуру в фи-
лософии той эпохи. При этом Соловьев почти полностью умалчивает
о чрезвычайно богатой мистической традиции, никогда не исчезавшей
в западной (особенно немецкой) философии и получившей окончатель-
ное воплощение в системе позднего Шеллинга. Это умалчивание вы-
глядит особенно странным в связи с тем совершенно очевидным и не
раз уже отмечавшимся фактом, что поздний Шеллинг наряду с други-
ми, более ранними представителями мистической традиции оказал
определяющее воздействие на формирование соловьевской «философии
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
181
всеединства» (сам термин «всеединство» также встречается в текстах
немецкого философа)1. Настойчиво называя свою философию мисти-
ческой и противопоставляя ее эмпиризму и идеалистическому рацио-
нализму, Соловьев, по сути, доказывает, что его система, как и систе-
ма позднего Шеллинга, претендует на то, чтобы быть завершением той
линии развития европейской философии, которую мы ранее (во Введе-
нии) назвали гностико-мистической.
Влияние философии Шеллинга на Соловьева будет рассмотрено
в дальнейшем, при анализе соловьевского понятия Абсолюта-сущего,
непосредственно происходящего из соответствующего понятия Шел-
линга. Однако не меньший интерес представляет выявление взаимо-
связей философского мировоззрения Соловьева со всей указанной гно-
стико-мистической традицией в целом, начиная с одного из ее источ-
ников — античного гностицизма. В этой проблеме также есть своя
интрига; известно, что Соловьев не раз в своих работах высказывал
негативную оценку гностицизма и сознательно дистанцировался от
этой еретической разновидности раннего христианства2. Однако объек-
тивный анализ без труда обнаруживает в системе Соловьева явные па-
раллели по отношению к важнейшим принципам гностицизма, на что
указывал, например, уже Е. Трубецкой и что является достаточно оче-
видным для современных исследователей3. Тем не менее проблема
взаимосвязей между философией Соловьева и гностической традици-
ей еще не может считаться окончательно разрешенной. В тех немного-
численных пока исследованиях, где производится анализ указанных
взаимосвязей, речь идет, как правило, лишь об отдельных составляю-
щих (пусть и очень важных) системы Соловьева, происхождение кото-
рых можно проследить вплоть до их гностических истоков (в первую
очередь это касается понятия Софии). Однако при этом остается вопрос
о том, насколько органичными были такие заимствования и насколь-
ко важны они были для становления философии Соловьева в целом.
В этом смысле характерна позиция Е. Трубецкого, который, вскрывая
1 Впервые на это влияние указали Соловьеву оппоненты на защите его
докторской диссертации по «Критике отвлеченных начал»; Соловьев был
вынужден признать справедливость этого факта. Позже об этом писали
такие авторитетные исследователи его творчества, как Е. Трубецкой и
А. Лосев; см.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. М., 1995.
Т. 1. С. 60-67; Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.
С. 178-182, 192-194 (впрочем, Лосев, признавая большое влияние тео-
софско-гностической литературы на Соловьева, пытается преуменьшить
влияние Шеллинга).
2 См., например: Соловьев В. С. Великий спор и христианская полити-
ка // Соловьев В. С. Соч. в 2-х т. М., 1989. Т. 1. С. 88-92.
3 См., например: Козырев А. П. Смысл любви в философии Владимира
Соловьева и гностические параллели // Вопросы философии. 1995. № 7.
182 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в системе Соловьева гностические, шеллингианские элементы, оцени-
вает их исключительно негативно и полагает, что если бы Соловьев был
более последователен и аккуратен в изложении своих идей, он бы из-
бежал столь явного сближения с гностической традицией1.
Для того чтобы показать неправомерность такой точки зрения, т. е.
убедиться в органичности и неустранимости элементов гностического
мировоззрения во взглядах Соловьева (что и будет доказательством
сформулированного выше тезиса о том, что система Соловьева — это
определенное завершение гностико-мистической традиции), необходи-
мо рассмотреть параллели между «философией всеединства» и гности-
цизмом не только с точки зрения ее отдельных понятий и принципов,
а по отношению к главным мировоззренческим установкам и целям,
которые провозглашаются Соловьевым в его программе «истинной
философии». Естественно, для того чтобы сравнительный анализ этих
установок и целей было корректным, необходимо прежде всего произ-
вести «реконструкцию» главных принципов гностицизма.
Как известно, гностицизм являлся по своему происхождению пара-
доксальным синтезом трех мировоззренческих течений: восточных
религиозных верований, сохранивших в себе элементы древнейших
мифологических и магических представлений о мире и человеке, гре-
ческой философии (включавшей в себя науку) с ее акцентом на необхо-
димость поиска окончательного, полного знания о мире и христиан-
ского мировоззрения, в равной степени противостоявшего в момент сво-
его возникновения и языческим верованиям, и «эллинской мудрости».
Именно эта сложность идеологической основы гностицизма делает до-
статочно трудной проблему выявления его главных характерных эле-
ментов. При внешнем анализе системы идей гностицизма очень труд-
но обнаружить среди этих идей что-либо существенно оригинальное;
все они выглядят как заимствования из соответствующего «источни-
ка» — из восточной мифологии и магии, из системы понятий грече-
ской философии или из учения христианства. Именно поэтому здесь
самым главным оказывается не анализ конкретных мифологем, а вы-
деление тех целей, которые лежат за попытками гностиков синтезиро-
вать три указанных течения позднеантичной идеологии.
Главная интенция гностицизма — стремление доказать возмож-
ность и необходимость для человека получения третьего вида «знания»
наряду с двумя традиционными его формами (и в противоположность
им) — рациональным, точным знанием, приоритет которого утверж-
дала греческая философия, и откровенным «знанием» иудейской рели-
гии и раннего христианства. Две эти формы противоположны с точки
зрения представлений о роли человека в процессе получения соответствую-
щего «знания». В акте рационального познания именно самостоятельная
1 См.: Трубецкой Е. Я. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 278,370-380.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
183
активность человека играет определяющую роль, человек сам, свои-
ми силами «добывает» знание. Наоборот, доступность откровенного
«знания» целиком определяется волей Бога, Бог «открывает» его че-
ловеку, который лишь пассивно принимает его. В противовес этому
«знание» гностиков носит по своей структуре более сложный, синте-
тический и, можно сказать, диалектический характер. Оно, с одной
стороны, может быть выражено в рациональной форме, с использо-
ванием рациональных философских категорий, и тем самым может
стать общедоступным, но, с другой стороны, в нем всегда остается не-
который (и быть может, самый важный) слой, недоступный рациона-
лизации и поэтому выражаемый с помощью мифо-поэтических обра-
зов, понятных только немногим посвященным. При этом для форму-
лирования и усвоения этого «знания» — гнозиса — необходима
предельная творческая активность человека, хотя одновременно при-
знается и то, что для успешного осуществления гностического «по-
знания» человек уже должен быть отмечен высшей, божественной
силой. Гнозис, таким образом, выступает как результат совместных уси-
лий отдельного человека и нисходящей к нему мистическим образом
божественной силы.
Несомненно, что такое же стремление к синтезу рационального зна-
ния и «истины» религиозного откровения можно найти и в других ре-
лигиозно-философских системах античности (например, в пифагорей-
стве и неоплатонизме), попытки такого синтеза предпринимались и
в различные периоды развития христианской философии, однако имен-
но в гностицизме эта тенденция выступила в наиболее ясной, острой
форме, и именно здесь получило классическую завершенность пред-
ставление о всеобъемлющем и спасительном мистическом знании,
подчиняющем себе и синтезирующем в себе как точное знание разума,
так и откровения веры. Не случайно все последующие попытки выве-
дения особой формы высшего, сокровенного знания (от средневеково-
го герметизма до философских систем Я. Бёме и Шеллинга) в той или
иной степени опирались на гностическую традицию.
Однако характерность гностицизма определяется не только определен-
ным пониманием формы мистического, сокровенного знания, но и содер-
жанием тех идей, которые составляют смысл «спасительной вести».
Прежде всего мы должны коснуться здесь проблемы, от решения
которой в значительной степени зависит правильное понимание сущ-
ности гностицизма, — вопроса о том, является ли гностическое миро-
воззрение монистическим или дуалистическим в своей главной интен-
ции. Сложность этого вопроса заключается в том, что у разных гности-
ков мы находим противоположные суждения по этому поводу. С одной
стороны, некоторые из них выдвигают на первый план идею происхож-
дения всех уровней и ступеней реальности от единого Бога-творца и,
значит, придерживаются монизма; однако, с другой стороны, тема дуа-
листической противоположности между Богом и сатаной, божественной,
184 И, И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
благой реальностью и греховным материальным миром — это одна из
самых ярких и самых известных тем гностицизма, в своих крайних
формах порождающая своеобразное отвращение к плоти (которое ве-
дет или к радикальному аскетизму, или к предельному либертиниз-
му — к полной «распущенности» плоти)1. На наш взгляд, наиболее пра-
вильную интерпретацию достаточно цельной позиции гностиков в этом
вопросе дает известный немецкий исследователь Г. Ионас2, который
утверждает, что эти две противоположные тенденции (монистическую
и дуалистическую) необходимо приписать различным срезам гностиче-
ского мировоззрения: первая носит «онтологический» характер и опи-
сывает общую иерархию бытия, вторая является «экзистенциальной»,
описывает «развертывание» онтологической структуры во времени, —
в «дополнительном» измерении бытия, обуславливающем его «дегра-
дацию» и распадение на полярные противоположности3. При этом вто-
рая тенденция (представление о «деградации», «деволюции» бытия,
представление о том, что материя и материальный мир созданы не бла-
годаря, а вопреки Богу, созданы темным духовным началом, противо-
стоящим Богу4) подчиняет себе исходный, монистический по своей
сути, онтологический принцип. В центре мировоззрения гностиков
оказывается трагедия мироздания, трагедия Бога, вынужденного бо-
роться за спасение человеческих душ из плена окончательно отпавше-
го от Бога материального мира. Естественно, что это трагическое на-
пряжение привносится и в жизнь человека, которая оказывается
в эпицентре борьбы добра со злом, материальной тьмы с божественным
светом. В целом можно сказать, что характерной чертой гностицизма
является его своеобразный антропоцентризм, — далекий, конечно,
от антропоцентризма более поздних эпох, — его особое внимание к че-
ловеку, к его судьбе в мире. Человек выступает главным «героем» ми-
ровой трагедии, причем его судьба оказывается в значительной степе-
ни в его собственных руках: от его правильного поведения в мире, от
того, насколько правильно он выстроит свою жизнь, зависит и его соб-
ственное спасение, и спасение всего человеческого «зона» — той духов-
ной сущности, которая, отпав от Бога, попала в плен к материальному
миру и жаждет воссоединения с высшей духовностью.
«И дуализм, и синкретизм, и тенденции к единобожию, — пишет со-
временный исследователь гностицизма, — оказались словно бы катали-
зированы гнозисом, наделены новыми чертами. Человек, осмысляемый
1 Поеное М, Э. Гностицизм и борьба христианской Церкви с ним во
II веке. Киев, 1912.
2 Jonas Я. Gnosis und spatantiker Geist. Bd. 1-2. Gottingen, 1954.
3 Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М.,
1979. С.30-42.
4 Поеное М. Э. Гностицизм и борьба христианской Церкви с ним во
II веке. С. 12.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
185
ныне не как космичное по своей природе существо, а как централь-
ная позиция в эсхатологической борьбе между добром и злом, имеет
характер бытия исключительного. Он — центральная фигура, цент-
ральный персонаж мировой драмы, его сердце несет в себе и самые
кардинальные вопросы Универсума, и столь же кардинальные отве-
ты на них. Человек — сама воплощенная драма, его двусоставность
(плоть — от творения, дух — от Творца или от того, кто выше Творца)
таит в себе поистине вселенский узел противоречий»1. При этом осо-
бое значение человека в мироздании обосновывается гностиками че-
рез идею «внутреннего присутствия» Божества в человеке. «Гности-
ческое ощущение "внутреннего присутствия" отметает языческую
опосредованность. Напрямую увязывая "небеса" в человеке с транс-
цендентным Божеством, оно делает критерием проверки истинности
любой мысли, чувства, события именно этот внутренний, духовный
центр в человеке»2.
Если теперь обратиться к философии Соловьева, то без труда мож-
но обнаружить существенное совпадение ее основных целей со сформу-
лированными интенциями гностического мировоззрения. Прежде все-
го это относится к представлениям о роли философского знания в жиз-
ни человека и общества.
Во всех своих главных работах Соловьев подчеркивает, что целью
философии является определение высшего смысла человеческой жиз-
ни. Все остальные конкретные и частные задачи должны быть подчи-
нены, должны служить этой главной цели. Философия является не
просто игрой ума, а самым главным и самым ответственным делом,
необходимым для каждого человека, если он желает сознательно вы-
страивать свою жизнь и сознательно стремиться к высшим целям
существования.
«Сокровища непосредственной жизни, — пишет Соловьев, — име-
ют цену лишь тогда, когда за ними таится безусловное содержание,
когда над ними стоит безусловная цель. Если же это содержание, эта
цель перестали существовать для человека, а интересы материальной
жизни обнаружили между тем все свое ничтожество, то понятно, что
ничего более не остается, кроме самоубийства»3. Высшее, безусловное
содержание жизни человек способен уловить в двух сферах культуры —
в религии и философии. Однако его ясное принятие и осмысление его
взаимосвязей с нашей непосредственной жизнью возможно только
в философии, поскольку религия дает лишь иррациональные интуиции,
1 Светлов Р. Б. Античный неоплатонизм и александрийская экзегети-
ка. СПб., 1996. С. 17.
2 Там же. С. 21.
3 Соловьев В. С. Несколько слов о настоящей задаче философии //
Соловьев В. С. Соч. в 2-х т. М., 1989. Т. 1. С. 16.
186 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
касающиеся этого содержания, в его отрыве от земной реальности. «Ре-
лигия, говоря вообще и отвлекаясь, есть связь человека и мира с без-
условным началом и средоточием всего существующего»1. В религии
человек непосредственно соединяется с высшим началом мира, в фи-
лософии же он пытается найти рациональные формы для выражения
полученных в указанном соединении интуиции, содержащих откро-
вение о высшем смысле жизни. Таким образом, рассуждает Соловьев,
по своей внутренней задаче религия и философия должны находиться
в единстве, должны дополнять друг друга как интуитивное содержа-
ние и рациональная форма. Так оно и было на заре человеческого об-
щества в религиозно-философских системах Древнего Востока. Более
того, в этих системах, в этом первоначальном состоянии всего челове-
ческого познания находили себе естественное место и элементы пози-
тивной науки, направленной на исследование земной действительно-
сти. Однако, согласно Соловьеву, это исходное состояние единства
трех основных элементов человеческого знания не могло сохранять-
ся вечно, да и не должно было сохраняться, поскольку каждый из этих
элементов мог развить все свои потенции, только отделившись от
остальных.
Это разделение происходит, и наступает следующий этап истории
человечества, в котором развитие позитивной науки, философии и ре-
лигии (теологии) происходит независимо друг от друга. Именно это
характеризует европейскую культуру в период от эпохи Возрождения
до конца XIX века. Но по закону органического развития, который фор-
мулирует Соловьев, следом за этапом самостоятельного развития от-
дельных элементов общечеловеческого организма (в данном случае —
отдельных элементов всецелого человеческого познания) должен прий-
ти этап их нового воссоединения, уже гораздо более полного и богатого
по сравнению с первоначальным этапом, в котором эти элементы еще
не раскрыли всей глубины своего содержания. Состояние разделенно-
сти этих сфер является «ущербным», несовершенным состоянием куль-
туры и должно смениться эпохой их синтеза и слияния в цельное зна-
ние, или свободную теософию. «В первобытном состоянии общечелове-
ческого духа (в первом моменте развития), — пишет Соловьев, —
философия и наука, не существуя самостоятельно, не могли и служить
действительными средствами теологии. Понятно, какое великое зна-
чение для этой последней должна иметь самостоятельная философия,
выработавшая собственные формы познания, и самостоятельная наука,
снабженная сложными орудиями наблюдения и опыта и обогащенная
громадным эмпирическим и историческим материалом, когда обе эти си-
лы, освободившись от своей исключительности, или эгоизма, пагубного
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В. С. Соч. в 2-х т.
М., 1989. Т. 2. С. 5.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
187
для них самих, придут к сознательной необходимости обратить все свои
средства на достижение общей верховной цели познания, определяемой
теологией, причем эта последняя в свою очередь должна будет отказать-
ся от незаконного притязания регулировать самые средства философ-
ского познания и ограничивать самый материал науки, вмешиваясь в
частную их область, как это делала средневековая теология. Только
такая теология, которая имеет под собою самостоятельную философию
и науку, может превратиться вместе с ними в свободную теософию, ибо
только тот свободен, кто дает свободу другим»1.
Достижение цельного состояния сферы знания, по Соловьеву, долж-
но сопровождаться соответствующим преобразованием к состоянию
цельности и двух других слагаемых общечеловеческого бытия — сфе-
ры творчества и сферы общественной жизни. Однако среди этих трех
слагаемых сфера знания является самой важной для реализации эсха-
тологической перспективы человеческого развития, поскольку в ней
особенно значимы личностные усилия отдельных людей; именно пре-
образование сферы знания к состоянию свободной теософии определяет
грядущее «спасение» не только человечества, но и всего мира. «Только
в одной сфере — свободной теософии, или цельного знания — отдель-
ный человек является настоящим субъектом и деятелем, и здесь лич-
ное сознание идеи есть уже начало ее осуществления. Трудиться в этой
сфере становится, таким образом, обязанностью для всякого, кто осо-
знал нормальную цель человеческого развития»2. В полном согласии с
идеями гностиков Соловьев убежден, что овладение «сокровенным»
синтетическим знанием есть не только идеально-умозрительное пред-
приятие, но и практически значимое деяние, значимое в наибольшей
степени из всего того, что делает человек.
Однако это еще не все. Полагая, что свободная теософия наиболее
естественным образом может развиться из сферы философии, Соловь-
ев утверждает, что генезис философии неизбежно должен заключать-
ся в ее преобразовании в форму мистицизма. Соловьев выделяет два
основных аспекта, характеризующих этот тип философии. Во-первых,
это определение мистицизма как философии жизни в противополож-
ность «философии школы»: «...для философии школы... от человека
требуется только развитой до известной степени ум, обогащенный не-
которыми познаниями и освобожденный от вульгарных предрассуд-
ков... для философии жизни — требуется, кроме того, особенное направ-
ление воли, т. е. особенное нравственное настроение, и еще художе-
ственное чувство и смысл, сила воображения, или фантазия. Первая
философия, занимаясь исключительно теоретическими вопросами,
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С.
Соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 175.
2 Там же. С. 177-178.
188 И.И.Евлампиев. История русской метафизики ез XIX-XX веках
не имеет никакой прямой внутренней связи с жизнью -личной и обще-
ственной, вторая философия стремится стать образуюжцей и управля-
ющей силой жизни»1. Во-вторых (и это главное), мистжщизм характе-
ризуется как форма философии, полагающая в качестве своей главной
и непосредственной цели не внешнюю действительность (как это дела-
ет эмпиризм) и не внутреннюю духовную реальность субъекта (как это
происходит в идеализме), а «сверхкосмическое и сверхчеловеческое на-
чало... со всею полнотою его живой действительности... »2 В результате
Соловьев приходит к выводу, что отличием этой форшы философии
является сочетание рационального метода развертыванжя ее исходного
содержания и мистического иррационально-интуитившого акта схва-
тывания указанного содержания, в котором человеку открывается
Абсолют, высшая реальность, определяющая бытие мира и человека,
причем и Абсолют, и все истинные причины мировых явлений долж-
ны быть раскрыты здесь не как «абстракции», а как целостные, кон-
кретные и живые сущности — как существа: «...предмет мистической
философии есть не мир явлений, сводимых к нашим ощущениям, и
не мир идей, сводимых к нашим мыслям, а живая действительность
существ в их внутренних жизненных отношениях; эта философия за-
нимается не внешним порядком явлений, а внутренним порядком су-
ществ и их жизни, который определяется их отношением к существу
первоначальному »3.
В результате соловьевское понимание мистического (одновременно
и умозрительно-теоретического, и жизненно-практического, и даже
эсхатологического) философского знания, обладающего высшей цен-
ностью для человека, совершенно адекватно может быть передано тер-
мином *гнозис*; это есть то же самое «знание», о котором говорили ан-
тичные гностики. И этому выводу вовсе не противоречит тот факт, что
Соловьев в своих сочинениях провозглашает задачу «восстановления»
истинного смысла христианского мировоззрения; ведь это «восстанов-
ление» оказывается достаточно радикальным разрывом с догматиче-
ской традицией (как православного, так и католического толка), ока-
зывается определенным возвращением к идеям, являвшимся в первые
века христианской истории punctum saliens для всех еретических дви-
жений, центральное место среди которых занимал гностицизм.
§ 2. «Истинная философия» и христианство
В творчестве Соловьева все ключевые темы русской философии на-
шли себе своеобразное и в некотором смысле итоговое воплощение.
Среди них, конечно же, и тема «истинного» смысла христианства,
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 179.
2 Там же. С. 191.
3 Там же. С. 192.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
189
которой отдали дань большинство русских мыслителей. Мы уже виде-
ли, что многие из них достаточно критически относились к историче-
скому, церковному христианству и пытались таким образом перетолко-
вать религиозные догматы, чтобы понять христианское миросозерцание
как глубоко насущное, спасительное учение, не ограниченное в своем
значении отдельными и частными сферами жизни и культуры, но вы-
ступающее как центр жизни и незыблемая основа всей культуры.
Если вспомнить, как развивались эти поиски истинного содержа-
ния христианства от Чаадаева до Достоевского, то нетрудно будет под-
метить две черты, которые объединяют большинство русских мысли-
телей, писавших на эту тему, вне зависимости от их конкретной кон-
фессиональной и догматической ориентации.
Во-первых, это представление о христианстве не просто как об уче-
нии, «теории» (пусть даже ориентированной на практическую деятель-
ность), а как о реальной силе, действующей в мире и человеке и связан-
ной с самыми глубокими основами человеческого бытия и бытия всего
мира.
Во-вторых, это решительный отказ от однозначного противопостав-
ления и разделения духа и материи, божественного и земного бытия,
свойственного средневековому христианству. Не к «подавлению» и не
к «умерщвлению» плоти зовет истинное христианство, по мнению рус-
ских философов, но к ее преображению, возведению на ступень божест-
венной и совершенной материальности. Отметим, что, как мы видели
ранее (см. § 3 главы 1), эту черту можно обнаружить в глубоких основа-
ниях русской культуры, а не только в сочинениях философов XIX века.
Эти же черты мы находим и у Соловьева. Свое отношение к «истин-
ной» сути христианства Соловьев особенно ясно изложил в небольшой,
но очень важной работе «Об упадке средневекового миросозерцания».
Главная мысль Соловьева заключается в том, что «средневековое миро-
созерцание», составляющее основу исторического, церковного хрис-
тианства в обеих его главных конфессиях, по своей сути не является
выражением той истины, которая содержится в Откровении, данном
человечеству приходом Иисуса. Искажение учения первоначального
христианства, произошедшее в период поздней античности и средневе-
ковья, по Соловьеву, связано прежде всего с внесением в него «исклю-
чительного догматизма», «одностороннего индивидуализма» и «лож-
ного спиритуализма»1.
Признание христианства официальной религией Рима при импера-
торе Константине привело к тому, что «к христианству привалили язы-
ческие массы не по убеждению, а по рабскому подражанию или корыст-
ному расчету»2. Сохраняя старый, языческий строй жизни и не желая
1 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соловьев В. С.
Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 348.
2 Там же. С. 342.
190 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
его радикального изменения, новообращенные христиане превратили
свое учение в систему абстрактных догматов, принятие и «теоретиче-
ское» исповедание которых признавалось достаточным для посмерт-
ного спасения. В результате возник чудовищный разрыв между рели-
гиозной сферой и непосредственной жизнью; вера превратилась в аб-
стракцию, которая не играла решающей роли в жизни людей.
Одновременно христианство подпало под влияние развивавшегося
в поздней античности индивидуализма, что выразилось в убеждении
о спасении только как индивидуальном акте. «С тех пор как истинно-
христианское общество первых веков растворилось в языческой среде
и приняло ее характер, самая идея общественности исчезла из ума даже
лучших христиан. Всю публичную жизнь они предоставили властям
церковным и мирским, а своею задачею поставили только индивиду-
альное спасение»1.
И наконец, произошло еще одно прискорбное искажение сути хрис-
тианского Откровения. «Ограничивая дело спасения одною личною
жизнью, псевдохристианский индивидуализм должен был отречься не
только от мира в тесном смысле — от общества, публичной жизни, —
но и от мира в широком смысле, от всей материальной природы»2. Про-
изошло известное и наиболее характерное для средневекового миро-
созерцания противопоставление греховной, злой, материальной при-
роды и души человека, спасение которой стало пониматься целиком
зависимым от ее способности «отстранить» плотское, земное бытие.
Указанному искаженному пониманию христианства Соловьев про-
тивопоставляет «истинное» его понимание, в изложении которого явно
просматривается сходство с размышлениями его предшественников —
от Чаадаева до Достоевского.
Прежде всего Соловьев понимает центральный элемент христиан-
ства — историю Иисуса — не столько как историческое событие, имев-
шее смысл морального «назидания» или образца для правильной жиз-
ни, сколько как акт онтологического преобразования всего мирового
бытия, включая бытие человека. «...Христос приходил в мир не для
того, конечно, чтобы обогатить мирскую жизнь несколькими новы-
ми церемониями, а для того, чтобы спасти мир. Своею смертью и вос-
кресением Он спас мир в принципе, в корне, в центре, а распростра-
нить это спасение на весь круг человеческой и мирской жизни, осу-
ществить начало спасения во всей нашей действительности — это Он
может сделать уже не один, а лишь вместе с самим человечеством,
ибо насильно и без своего ведома и согласия никто действительно
спасен быть не может»3. За историческим событием явления Христа
1 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания. С. 347.
2 Там же. С. 348.
3 Там же. С. 344.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
191
необходимо увидеть метафизическое событие, меняющее всю струк-
туру бытия, меняющее соотношение «сил», действующих в мире;
причем указанное изменение является всего лишь начальной точ-
кой длительного пути к окончательному преображению мироздания.
Действительное преображение мира окажется возможным только в
том случае, когда потенциальная возможность этого, открытая Хри-
стом, будет использована и реализована самим человеком, челове-
чеством — единственной движущей силой преображения в мировом
бытии.
В этом пункте обнаруживается еще одно совпадение принципов фи-
лософии Соловьева с главными установками гностического мировоз-
зрения. Как и в гностицизме, у Соловьева человек — это единственный
проводник того божественного воздействия на несовершенный мир,
с помощью которого Бог может добиться преображения мира, привне-
сения в него совершенства. «Существенное и коренное отличие нашей
религии от других восточных, в особенности от мусульманской, — так
интерпретирует Соловьев сущность христианства, — состоит в том, что
христианство как религия богочеловеческая предполагает действие Бо-
жие, но вместе с тем требует и действия человеческого. С этой стороны
осуществление самого Царства Божия зависит не только от Бога, но и
от нас, ибо ясно, что духовное перерождение человечества не может про-
изойти помимо самого человечества, не может быть только внешним
фактом; оно есть дело, на нас возложенное, задача, которую мы долж-
ны разрешать»1.
Почти повторяя то, что говорили Чаадаев и Хомяков, Соловьев
утверждает, что «Бог, будучи сам по себе трансцендентным (пребы-
вающим за пределами мира), вместе с тем по отношению к миру яв-
ляется как действующая творческая сила...»2 Но само явление Бога
в мире осуществляется через человека, через божественное назначе-
ние каждой человеческой личности и человечества в целом, выража-
ющееся в том, что человек в своей деятельности реализует божествен-
ный идеал и тем самым ведет мир к радикальному преображению.
«Такая связь, — пишет Соловьев о связи человека с Богом, — была
бы невозможна, если бы божественное начало было чисто внешним
для человека, если бы оно не коренилось в самой человеческой лич-
ности; в таком случае человек мог бы находиться относительно боже-
ственного начала только в невольном, роковом подчинении. Свобод-
ная же внутренняя связь между безусловным божественным началом
и человеческой личностью возможна только потому, что сама эта лич-
ность человеческая имеет безусловное значение. Человеческая личность
1 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания. С. 339-340.
2 Он же. Чтения о Богочеловечестве. С. 154.
192 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
только потому может свободно, изнутри соединяться с божественным
началом, что она сама в известном смысле божественна, или точнее —
причастна Божеству »*.
В отличие от средневекового христианства, признававшего возмож-
ность достижения единства человека и Бога только в грядущей жизни,
после земной смерти человека, Соловьев в полном соответствии с тра-
дициями русской философии (Хомяков, Достоевский; здесь можно
вспомнить и гностиков с их идеей «внутреннего присутствия» Боже-
ства) полагает это единство реальным и значимым уже в земной,
эмпирической жизни. Это составляет смысл одной из ключевых идей
Соловьева — идеи Богочеловечества.
Выступая движущей силой преображения мира, человек в своем
божественном измерении не может рассматриваться как изолирован-
ный индивид; Богочеловечество есть целостный духовный «организм»,
объединяющий людей. В этом пункте снова обнаруживается преем-
ственность между Соловьевым и его предшественниками. Подобно тому
как Чаадаев говорил о «мировом сознании», а Хомяков — о единстве
людей в мистической (но при этом реальной уже в земной жизни) Церк-
ви, так и Соловьев утверждает, что отдельное существование челове-
ка — не более чем феноменальная «иллюзия». Подлинной полнотой
бытия обладает цельный духовный «организм» человечества, в то вре-
мя как бытие отдельного человека есть «абстракция», предстающая
реальной только при рассмотрении человека под определенным углом
зрения. Для доказательства этого утверждения Соловьев в поздние годы
даже прибегал к авторитету О. Конта — одного из последовательных
сторонников позитивизма, столь яростно критиковавшегося им в ран-
них работах. «С гениальной смелостью, — пишет о Конте Соловьев, —
он... утверждает, что единичный человек сам по себе, или в отдельно-
сти взятый, есть лишь абстракция, что такого человека в действитель-
ности не бывает и быть не может. И конечно, Конт прав»2. Подобно тому
как геометрические точки, линии и поверхности являются всего лишь
абстракциями от реальных объектов нашей трехмерной действительно-
сти, так и отдельный человек, индивид, есть лишь «абстракция», условно
выделяемая из реальной целостности человечества. «Социологическая
точка — единичное лицо, линия — семейство, площадь — народ, трех-
мерная фигура, или геометрическое тело, — раса, но вполне действи-
тельное, физическое тело — только человечество»3.
Все это очень напоминает гегелевское представление об объективном
духе, поглощающем отдельную личность, или даже представление Марк-
са о том, что личность есть всего лишь «совокупность общественных
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 20.
2 Он же. Идея человечества у Огюста Конта // Соловьев В. С. Собр. соч.
в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 568.
3 Там же. С. 570.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
193
отношений». Определенные основания для таких сравнений, конечно
же, есть, однако Соловьев в значительной степени отводит указанные
параллели за счет уточнения двух важнейших моментов. Прежде все-
го само общечеловеческое единство он понимает в смысле, очень близ-
ком к тому, в каком его понимал Достоевский (см. предыдущую гла-
ву), — как личность (Великое Существо, по терминологии Конта), при-
чем как личность, обладающую женским началом; это и есть София —
душа мира — ключевое понятие философии Соловьева, заимствован-
ное из гностической традиции и имеющее ветхозаветное происхожде-
ние (Божественная София — это та Премудрость, которая упоминает-
ся в книге Притчей Соломоновых и которая, по этой книге, была со-
здана Богом до сотворения мира). С другой стороны, в отличие от
гегельянства и марксизма, утверждавших упомянутое выше единство
либо исключительно в духовной, либо исключительно в материальной
сфере, Соловьев понимает человечество как духовно-материальное
единство людей, органически соединяющее две стороны их жизни,
разъединенных и противопоставленных традиционным (средневеко-
вым) христианством. Как пишет Соловьев, «истинное человечество, как
всемирная форма соединения материальной природы с божеством, или
форма восприятия божества природою, есть по необходимости Богоче-
ловечество и Богоматерия... Великое Существо не есть пустая форма,
а всеобъемлющая богочеловеческая полнота духовно-телесной, бо-
жественно-тварной жизни, открывшейся нам в христианстве»1.
Впрочем, здесь выявляется некоторое противоречие во взглядах
Соловьева. Тот факт, что человечество представляет собой божествен-
ную духовно-материальную целостность (уже представляет собой!), не
согласуется с утверждением, что главная цель человечества заключа-
ется в преодолении наличной раздробленности людей и достижении
именно такого состояния цельности, обозначаемого Соловьевым тер-
минами «нормальное общество» и «практическое всеединство»: цель
не должна и не может пониматься как уже реальное состояние. При-
чины возникновения этого противоречия (аналогичного тому, которое
мы ранее обнаружили в философии Чаадаева; см. § 6 главы 1) будут
подробно рассмотрены в дальнейшем, а сейчас вернемся к анализу пред-
ставлений Соловьева об истинной сути христианства.
Критикуя средневековое христианство, Соловьев пишет: «В своем
одностороннем спиритуализме средневековое миросозерцание вступи-
ло в прямое противоречие с самою основою христианства. Христиан-
ство есть религия воплощения Божия и воскресения плоти, а ее пре-
вратили в какой-то восточный дуализм, отрицающий материальную
природу как злое начало»2. Возрожденное, «истинное» христианство
1 Соловьев Б. С. Идея человечества у Огюста Конта. С. 578.
2 Он же. Об упадке средневекового миросозерцания. С. 348.
Чак. 3424
194 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
должно в качестве своей главной цели принять не спасение человека,
человеческой души от плоти, от земного мира, но «спасение» самой
плоти, преображение земного мира вместе с человеком и через челове-
ческую деятельность. Эта же задача является главной и для «истин-
ной философии», создаваемой Соловьевым, причем главной не столько
в смысле теоретической проблемы, сколько в смысле реального дела,
которое философия должна обосновать в теории и затем реализовать
на практике, в жизни всех людей. В этом моменте особенно заметно
совпадение принципов философии Соловьева с главными принципами
мировоззрения Достоевского (см. «Три речи в память Достоевского»),
формулируя указанную главную задачу почти точно так же, как и
Достоевский, Соловьев дает развернутое философское обоснование
возможностей реализации выдвинутого идеала. Эта тема занимает
особое место в его творчестве, и именно ей мы уделим особое внимание
в дальнейшем.
Описывая причины «извращения» христианской истины в поздне-
античную и средневековую эпоху, Соловьев утверждает, что это про-
изошло из-за сохранения языческих традиций жизни, влияние кото-
рых и породило указанные выше недостатки исторического христиан-
ства. Это утверждение Соловьева вызывает недоумение и заставляет
предположить, что под язычеством он понимает всего лишь особую
форму религиозного безразличия, которая действительно господство-
вала в поздней Римской империи, но которая вовсе не является харак-
терным примером языческого мировоззрения. Ведь язычник может
быть не менее искренне верующим, чем христианин, не менее полон
религиозного чувства. Радикальное отличие язычества от монотеисти-
ческих религий состоит, помимо полагания множества богов, в отсут-
ствии резкого противопоставления мира богов и мира людей, божест-
венного бытия и бытия природы. В связи с этим представляется совер-
шенно неверной попытка Соловьева объяснить такую принципиальную
особенность средневекового христианства, как резкий дуализм земного
и божественного («ложный спиритуализм»), за счет языческих влия-
ний. Скорее наоборот, языческие элементы, сохраняющиеся в христи-
анстве, должны были приводить к ослаблению негативного отношения
к природе, к земной жизни, должны были делать христианина более
внимательным к богатству и красоте природы. Именно такое сочета-
ние языческих и христианских элементов объясняет особое отношение
к земной жизни в русском православии (о чем подробно говорилось
в главе 1); это же сочетание в конечном счете отразилось и в мировоз-
зрении самого Соловьева.
Утверждение Соловьева о том, что в христианском Откровении со-
держится принцип нерасторжимого единства духа и материи и требо-
вание к приятию и преображению всего материального мира, вряд ли
соответствует действительности. Этот принцип прямо противоположен
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
195
характерной для средних веков тенденции к полному отвержению,
отрицанию греховного мира; однако смысл первоначального христи-
анства вряд ли можно свести только к одной из этих крайних точек
зрения. Историческое развитие христианства было связано с постепен-
ным искоренением всех языческих элементов из нового мировоззрения,
поэтому естественным образом христианство пришло к отрицанию
материального мира как чисто греховного и злого начала, — этот прин-
цип был направлен именно против язычества с его нейтральным или
даже положительным отношением к земной действительности. Толь-
ко в некоторых ересях, сохранивших языческие элементы, негативное
отношение к миру сменилось представлением о его внутреннем совер-
шенстве, искаженном, «испорченном» под влиянием злого начала.
В этом случае признавалось, что, несмотря на свое несовершенное со-
стояние, мир может и должен быть спасен, и это спасение осуществля-
ет человек, спасая себя вместе с миром. Похожую точку зрения мы на-
ходим и у некоторых представителей гностицизма, хотя в целом в нем
господствует негативное отношение к материальному миру как исклю-
чительно злому началу.
§ 3. Всеединство как идеал
и причины несовершенства мира
Сформулировав в качестве главной цели «истинной философии» обо-
снование возможности того преображения мира и человека, о котором
повествует христианское Откровение, Соловьев далее переходит к опи-
санию указанного идеального, преображенного состояния и к выясне-
нию возможных путей для его реализации в нашей земной жизни. В том,
как Соловьев понимает идеальное состояние мира, особенно заметно вли-
яние идей Достоевского, дружба с которым была важным эпизодом в его
жизни. Впрочем, здесь с полным правом можно говорить о взаимном
влиянии. Своими логически выверенными и ясными размышлениями
Соловьев, по-видимому, помогал Достоевскому более глубоко осмыслить
философские принципы, находившие себе воплощение в художествен-
ных образах его произведений. В частности, весьма вероятным выгля-
дит предположение, что описание идеального состояния человеческого
общества, содержащееся в рассказе «Сон смешного человека», было со-
здано Достоевским под впечатлением от его бесед с Соловьевым о хрис-
тианской идее преображения мира и человека1.
В самом общем виде смысл идеала, провозглашаемого «истинной
философией» Соловьева, очевиден: преображенное состояние мира и че-
ловека — это божественное состояние всеединства, в котором несо-
вершенство мира устранено за счет преодоления его основы — за счет
1 См.: Викторович В. А. Достоевский и Вл. Соловьев // Достоевский и
мировая культура. Альманах 1. Часть П. СПб., 1993. С. 15-19.
196 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
преодоления обособления отдельных элементов бытия (вещей, явле-
ний, живых существ). Для более детального развертывания содержа-
ния этого идеала (как в его метафизической сущности, так и в его воз-
можных эмпирических «манифестациях») требовалось более глубоко
проанализировать сам феномен несовершенства мира — его основные
«признаки» и метафизические истоки.
Присоединяясь к давней философской традиции, простирающейся
от Платона до Шопенгауэра, Соловьев признает главными эмпири-
ческими проявлениями несовершенства мира зло и страдания, присут-
ствующие в нем, а самой глубокой их причиной признает как раз от-
деленность, изолированность живых существ друг от друга. Развер-
тывая эту исходную идею в целостную концепцию, описывающую
метафизическое происхождение несовершенства, Соловьев одновремен-
но дает первый, предварительный вариант ответа на вопрос о возмож-
ных путях «возвращения» мира в идеальное состояние.
Изложение указанной концепции естественно начать с тех метафи-
зических определений, которые Соловьев дает понятиям страдания и
зла (здесь он явно опирается на философию Шопенгауэра). «Страдани-
ем в смысле объективном или логическом, — пишет Соловьев, — на-
зывается определение чего-либо другим, для него внешним; этому со
стороны субъективной или психической соответствует вообще непри-
ятное и болезненное ощущение какого бы то ни было рода... всякое
отдельное существо, всякая особь, утверждая свою отдельность и особ-
ность, полагает вне себя целый мир, относящийся к ней и действую-
щий на нее по своему собственному закону, внешнему для этой особи
как такой и противоречащему ее внутреннему стремлению, а между
тем необходимо ее определяющему, так как она уже сама в себе носит
свою внешность и границу — как собственное тело... Каждое отдельное
хотящее существо вследствие своей реальной определенности неизбеж-
но страдает — это есть аксиома...»1 В силу своей общности это опреде-
ление справедливо не только по отношению к человеку, но и по отно-
шению ко всем элементам разделенного мира; можно утверждать, что
в «логическом» смысле страдание является универсальным свойством,
относящимся ко всем обособленным элементам действительности.
Являясь причиной страдания, разделейность элементов мира и их
стремление к самостоятельности выступает как коренное зло; и подоб-
но тому как универсально страдание, универсально и зло: «...противо-
поставление себя всем другим и практическое отрицание этих других —
и является коренным злом нашей природы, и так как оно свойственно
всему живущему, так как всякое существо в природе, всякий зверь, вся-
кое насекомое и всякая былинка в своем собственном бытии отделяет
1 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) //
Соловьев В. С. Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 81.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
197
себя ото всего другого, стремится быть всем для себя, поглощая или
отталкивая другое (откуда и происходит внешнее, вещественное бытие),
то, следовательно, зло есть общее свойство всей природы...»1 Зло, свой-
ственное человеку (нравственное зло), отличается от «коренного зла»,
свойственного каждому элементу природы, только тем, что здесь от-
дельное «я» не просто «стремится быть всем для себя», но доводит свое
самостояние, свое желание быть только для себя (эгоизм) до стремле-
ния «поставить свое исключительное я на место всего, или упразднить
все собою...»2
Соловьев неустанно подчеркивает, что несовершенство мира не име-
ет иной причины, кроме разделенности бытия на отдельные самостоя-
тельные и изолированные элементы, на отдельные существа, которые
в своем субъективном психологическом восприятии преобразуют ме-
тафизические зло и страдание в психологические, знакомые нам по
нашему внутреннему опыту понятия зла и страдания. Хотя в целом
представления Соловьева о зле и его истоках почти совпадают с тем,
как понимал зло Достоевский, в их взглядах можно обнаружить неболь-
шое расхождение, которое, в конечном счете, становится очень суще-
ственным; это наглядно проявляется в том, что за редким исключени-
ем («Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории») мы
не найдем у Соловьева такого же острого, напряженного отношения к
злу, какое было характерно для Достоевского.
Упомянутое расхождение касается степени взаимозависимости
между свободой и злом, рассматриваемыми как характеристики от-
дельного «существа» и бытия в целом. В отличие от Достоевского, по-
лагавшего свободу и зло полностью равноправными и «дополнитель-
ными» по отношению друг к другу, у Соловьева зло является гораздо
менее фундаментальной характеристикой, чем свобода; последняя да-
леко не всегда сопровождается злом, между ними нет неразрывной
внутренней связи. Свобода каждого существа заключается в его стрем-
лении к полному самоутверждению, которое реализует себя, с одной
стороны, как стремление к независимости от всего окружающего и,
с другой — как желание стать всем, привести весь мир к согласию со
своей волей. Но последнее желание, по сути означающее приведение
мира в единство с собой, вообще говоря, является правильной целью
нашей свободы; только в условиях мира, разделенного на изолирован-
ные элементы, эта цель реализуется «неправильным» образом — через
подчинение себе всех элементов мира, через господство над ними; это
и есть зло. В результате Соловьев приходит к выводу, что зло есть ре-
зультат «неправильной» реализации нашей свободы, и причина этой
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 122.
2 Там же; ср.: Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Соловьев В. С.
Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 395.
198 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
«неправильности» — в разделенности существ, обладающих свободой.
Но это оправдывает существа, творящие зло, ибо в конечном счете глу-
бинный метафизический источник зла является для них как бы внеш-
ним, неподвластным их свободной воле. «Всеобщий опыт показыва-
ет, — пишет Соловьев, — что всякое физическое существо уже родится
во зле; злая воля при эгоизме является у каждого отдельного существа
уже в самом начале его физического существования, когда его свободно-
разумное, или личное, начало еще не действует, так что это коренное
зло для него есть нечто данное роковое и невольное, а никак не его соб-
ственное свободное произведение... начало греха и падения лежит не
здесь, а в том саду Божием, в котором коренится не только древо жиз-
ни, но также и древо познания добра и зла, — иными словами: перво-
начальное происхождение зла может иметь место лишь в области веч-
ного доприродного мира»1.
Отличие этих рассуждений Соловьева от похожей на них «антропо-
логической теодицеи» Достоевского почти очевидно. У Достоевского
неизбежность зла в мире связана с тем, что оно выступает как оборот-
ная сторона иррациональной свободы личности, причем реализация
свободы как зла не является искажением свободы; свобода и зло связа-
ны настолько неразрывно, что любое из всех возможных проявлений
свободы несет в себе зародыш зла, потенцию зла. В нашей жизни сво-
бода только потому не всегда ведет к злу, что свободе противостоит дру-
гая метафизическая сила — любовь. Достоевский, с его предельно поля-
ризованным, «диссонансным» видением человека, не мог считать зло
внешним для личности феноменом, не мог полагать, что зло может быть
преодолено простой переориентацией нашей свободы. В этом смысле
«теодицея» Достоевского — это условное оправдание человека за тво-
римое в мире зло; можно сказать, что это, скорее, оправдание самого
зла в его метафизической сущности, как неизбежного следствия сво-
боды, но ни в коем случае не оправдание конкретного человека за то
конкретное зло, которое он творит в мире. Ведь конкретный человек
всегда имеет возможность и силы для деяния любви и, значит, спосо-
бен скомпенсировать негативные последствия своей свободы, способен
воспрепятствовать выходу зла на поверхность жизни и тем более торже-
ству зла в ней.
У Соловьева акценты расставлены по-другому. Отделив источник
зла от свободы и признав, что этот источник лежит вне конкретного
человека, в сверхчеловеческой сфере, Соловьев тем самым оправдыва-
ет человека, творящего зло. Казалось бы, в рамках этой логики Соло-
вьев должен был перенести источник зла в само божественное начало
мира, и тогда его оправдание человека стало бы осуждением Бога, кото-
рый делает зло неизбежным и неустранимым в силу того, что содержит
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 125-126.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
199
в себе некое «темное начало». Однако Соловьев пытается избежать это-
го вывода (характерного для многих мистических систем) и прибегает к
замысловатой конструкции, в которой источник зла оказывается не в че-
ловеке и не в Боге, а в промежуточной сфере между Богом и человеком.
Именно здесь мы впервые сталкиваемся с очень важной для Соло-
вьева концепцией «отпадения» мира от Бога. В соответствии с ней весь
действительный, несовершенный мир рассматривается как результат
некоторого сверхвременного акта, осуществляемого всей совокупно-
стью свободных сущностей, или «существ» (более подробно о них речь
пойдет ниже), первоначально находившихся в единстве с Богом и друг
с другом. «Мы различаем, — утверждает Соловьев, — в доприродном
бытии само Божество как всеединое, т. е. как положительное (само-
стоятельное, личное) единство всего, — и это "всё", которое содержит-
ся в божественном единстве и первоначально имеет действительное
бытие только в нем, само же по себе есть лишь потенция бытия, первая
материя, или не-сущее... Каждая из... сущностей (которые составляют
"всё". — И. Е.)9 именно как "каждая", т. е. "одна из всех", не есть и не
может быть непосредственно в себе "всем". Таким образом, для "каж-
дого" открывается возможность "другого": "всё", абсолютная полнота
бытия в нем (в каждом) открывается как бесконечное стремление, как
неутолимая жажда бытия, как темный, вечно ищущий света, огонь
жизни. Он (каждый) есть "это", но хочет, будучи "этим", быть
"всем"; — но "всё" для него, как только "этого", актуально не суще-
ствует, и потому стремление ко всему (быть всем) есть в нем безусловно
неопределенное и безмерное, в себе самом никаких границ не имею-
щее»1. Для существ, которые «выходят» из божественного единства
и становятся отделенными от него, утверждение себя в свободе стано-
вится эгоистическим самоутверждением, что и является причиной рас-
падения мира на конкурирующие между собой элементы. Поскольку
упомянутая совокупность свободных существ определяется Соловье-
вым (в ее целостности, т. е. в ее божественном состоянии, до «отпаде-
ния» от Бога) как София, душа мира, именно она оказывается ответ-
ственной за весь этот акт «отпадения».
Очевидно, что это объяснение является иллюзией строгого решения
проблемы, поскольку невозможно представить, каким образом могла
появиться возможность эгоистического самоутверждения у отдельных
элементов всеединства, если в самом Боге-всеединстве нет основы для
хотя бы минимальной самостоятельности этих элементов вопреки все-
единству. Концепция Соловьева в этом моменте интересна тем, что она
представляет собой точное воспроизведение (с использованием поня-
тий и принципов, создающих видимость рациональной последова-
тельности) той полумифологической концепции творения мира и его
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 126.
200 Я. Я. Евлампиев. История русской метафизика в XIX-XX веках
«падения», которая была характерна для античного гностицизма и за-
тем неоднократно повторялась в различных гностико-мистических си-
стемах вплоть до Пордеджа и Сен-Мартена, известных философов-ми-
стиков XVII-XVIII веков, повлиявших на формирование мировоззре-
ния Соловьева. Использование Соловьевым одного из центральных
понятий гностической космологии — понятия Софии, души мира —
в этом смысле выглядит совершенно не случайным и наглядно пока-
зывает, до какой степени естественным и даже осознанным было для
него следование упомянутой традиции (поздних представителей кото-
рой он почему-то противопоставлял античному гностицизму).
Возвращаясь к сравнительной оценке понимания зла у Достоевско-
го и Соловьева, необходимо признать, что для Достоевского зло пред-
ставляло собой значительно более фундаментальный факт «мировой
трагедии», чем это было у Соловьева. Достоевский не признает возмож-
ности полного и окончательного устранения зла, он считает, что для
нас возможно только смягчение его влияния, недопущение его полно-
го господства; причем борьба со злом никогда не может прекратиться
и должна вестись с неослабевающей энергией. В противоположность
этому Соловьев полагает, что мир, «лежащий во зле», есть «только дру-
гое, недолжное взаимоотношение тех же самых элементов, которые
образуют и бытие мира божественного»1. Из этого следует, что субстан-
циально зла не существует, и его окончательное и полное преодоление
с метафизической точки зрения является совершенно реальным, бо-
лее того, уничтожение зла неизбежно в силу невозможности для эле-
ментов, вышедших из божественного единства, оставаться в состоянии
эгоистического самоутверждения. В связи с тем, что источник зла на-
ходится в сверхчеловеческой (или, лучше сказать, в сверхэмпириче-
ской) сфере, его преодоление в значительной степени определено «выс-
шими силами», определено «единящей» мощью Бога, осуществляю-
щейся через свободные акты все той же Софии. Это, конечно, не
означает, что от эмпирического человека ничего не зависит в процессе
«искоренения» зла; Соловьев неустанно повторяет, что преображение
мира возможно только как совместное действие божественной и чело-
веческой воли. Однако поскольку зло, в сущности, не имеет фундамен-
тального значения, являясь побочным следствием раздробленности
мира, борьба с ним лишается своего экзистенциально-напряженного
характера, обретает даже определенный фаталистический оттенок:
борьба должна вестись не столько с конкретными носителями зла, сколь-
ко с «недолжным взаимоотношением» элементов мироздания (можно ли
представить себе «бунт» Ивана Карамазова по поводу «недолжного
взаимоотношения» метафизических существ?), причем успех в этой
борьбе почти гарантирован в силу неисчерпаемой и «неиспорченной»
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 123.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
201
мощи Абсолюта. Здесь можно еще раз вспомнить, что нравственное, че-
ловеческое зло для Соловьева является всего лишь разновидностью,
хотя и наиболее радикальной по своей сущности, всеобщего зла, в ко-
торое вовлечены все элементы мироздания.
Анализ причин несовершенства позволяет сделать вывод о том, что
на пути к идеальному состоянию мира необходимо преодолеть разде-
ление элементов действительности; мир должен быть приведен в целост-
ное и всеединое состояние, а каждый элемент, каждое существо —
«отречься» от своей эмпирической самостоятельности и обрести фор-
му существования, в которой все они смогут реализовать свою сущность
и свою внутреннюю самобытность не в отделении и противостоянии,
но во взаимосвязи и взаимном «служении». В соответствии с представ-
лениями Соловьева, движение мира к идеальному состоянию должно
включать два процесса. Первый относится к преодолению «недолжно-
го взаимодействия» людей в обществе, второй связан с преодолением
разделенности природных элементов, а также с преодолением отчуж-
дения человечества от природы. Хотя эти процессы должны протекать
одновременно и параллельно, Соловьев полагает, что первый из них
является более важным и в определенном смысле первичным, посколь-
ку прогресс в сфере общественного бытия людей является условием
успешного преображения природы, осуществляемого человеком.
Соловьев достаточно подробно описывает смысл первого аспекта в пре-
ображении мира, в то время как второй в некоторых моментах остает-
ся не вполне ясным. Это связано, по-видимому, с тем, что сущность того
преображения, которое предстоит испытать человеческому обществу,
может быть в какой-то степени понята через осмысление истории, то-
гда как преображение природы есть всецело эсхатологический процесс,
для описания которого у нас нет подходящих аналогий и наглядных
образов.
§ 4. Путь к идеальному обществу
Рассматривая человеческое общество, Соловьев находит в нем дей-
ствие трех главных сил, которые определяют всю его историю. «Пер-
вая стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех ступе-
нях его жизни одному верховному началу, в его исключительном един-
стве стремится смешать и слить все многообразие частных форм,
подавить самостоятельность лица, свободу личной жизни... вместе
с этой силой действует другая, прямо противоположная; она стремит-
ся разбить твердыню мертвого единства, дать везде свободу частным
формам жизни, свободу лицу и его деятельности... Всеобщий эгоизм
и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней
связи — вот крайнее выражение этой силы»1. Эти две силы, одна —
1 Соловьев Б. С. Три силы // Соловьев В. С. Собр. соч. в 2-х т. М., 1989.
Т. 1.С. 19.
202 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
унифицирующая, сводящая человеческое общество к насильственно-
му и однородному единству, и вторая — дифференцирующая общество
на независимые и конкурирующие элементы, являются, по выраже-
нию Соловьева, отрицательными силами. Если бы в обществе действо-
вали только они, развитие было бы невозможно, и общество либо за-
стыло в мертвом единстве, либо распалось на враждующие элементы
и погибло бы. Поэтому «необходимо присутствие третьей силы, кото-
рая дает положительное содержание двум первым, освобождает их от
их исключительности, примиряет единство высшего начала со свобод-
ной множественностью частных форм и элементов, созидает таким
образом целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю
тихую жизнь»1.
Три эти силы постоянно взаимодействуют в истории, причем от-
дельные этапы развития общества связаны с господством одной из
них. Самый древний период связан с полным преобладанием первой
силы; общество выступает монолитным и цельным, но эта цельность
носит негативный характер, поскольку содержание важнейших эле-
ментов, составляющих общество, совершенно не развито. Для того
чтобы это развитие началось и было плодотворным, необходимо, что-
бы произошло разделение элементов — вплоть до эмпирической лич-
ности, которая в своей отдельности должна раскрыть полноту своей
индивидуальной свободы. Этот процесс составляет содержание вто-
рого периода развития, он протекал в европейской культуре от сред-
них веков до XIX века. И только затем на первый план выходит тре-
тья сила и становится господствующей; итогом этого последнего эта-
па и должно стать возникновение идеального общества, после чего
история должна прекратиться, поскольку достигнута окончательная
цель развития.
Очень важно отметить, что разделенность общества, определяющая
его несовершенство, имеет два существенно различных аспекта, свя-
занных соответственно с тем, что общество состоит из отдельных лич-
ностей, противостоящих друг другу, и с тем, что в процессе развития в
обществе обособляются отдельные сферы его жизнедеятельности. Как
мы увидим в дальнейшем, именно первый аспект должен быть признан
решающим, однако Соловьев обращает свое внимание почти исключи-
тельно на второй.
Соловьев выделяет три слагаемых общественной жизни, которые
соответствуют трем способностям человеческого сознания — воле,
мышлению и чувству, — сферу общественного союза, сферу знания
и сферу творчества (они уже упоминались выше). Каждую из этих
сфер он затем подразделяет на три составляющие в соответствии с их
ориентацией на внешнюю, материальную природу, на формальное
1 Соловьев В. С. Три силы. С. 20.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
203
совершенство соответствующей сферы или на выражение отношений
человека с Абсолютом. В сфере общественного союза (иногда Соловьев
называет ее сферой практической деятельности) это приводит к выде-
лению экономического общества, политического общества и духов-
ного (или священного) общества (Церкви). В сфере знания это дает по-
ложительную науку у философию и теологию. Наконец, в сфере твор-
чества тремя составляющими являются техническое художество,
изящное художество и мистика (творческое, чувственное восприятие
человеком высшего начала).
Вся эта система подразделений выглядит достаточно искусственной
и необходима Соловьеву только для того, чтобы везде провести столь
любимый им принцип «троичности» (заставляющий вспомнить триа-
ды Гегеля). Явно подгоняя историю человеческого общества под свою
конструкцию, Соловьев утверждает, что первоначальное состояние об-
щества характеризовалось слитностью всех указанных элементов,
притом что все они пребывали в неразвитом состоянии и не обнаружи-
вали еще всю полноту своего содержания. На втором этапе происходит
их обособление и реализация их внутренних потенций. Только после
этого появляется возможность нового синтеза, но уже основанного на
свободном и органичном соединении-слиянии самостоятельных сфер;
результатом такого слияния должно стать рождение идеальных, или
цельных, форм общественной жизни: сферы цельной общественной
практики — свободной теократии, сферы цельного знания — свобод-
ной теософии (о ней уже шла речь выше), и сферы цельного творче-
ства — свободной теургии, которые, в свою очередь, слившись вместе,
приведут общество к состоянию цельного общества. Совершенно оче-
видно, что эта концепция представляет собой детальную разработку
известной идеи славянофилов о том, что совершенное общество может
возникнуть только в результате «восстановления» цельности человече-
ского духа и человеческой культуры, точно так же как в ней есть и от-
звуки славянофильской критики западной цивилизации. Правда,
Соловьев доказывает, что состояние разделенности всех начал обществен-
ной жизни, осуществившееся в истории Западной Европы, было совер-
шенно необходимо для того, чтобы сами эти начала полностью раскры-
ли себя, однако, как и славянофилы, он приходит к заключению, что
осуществление последней стадии развития человеческого общества долж-
но стать исторической миссией особого народа, избавленного в своем
развитии от господства односторонних начал и поэтому способного осу-
ществить органический синтез всех сфер общественной жизни. Конечно
же, и у Соловьева этим особым народом оказывается русский народ1.
Не вдаваясь в детальную критику указанной концепции, необходимо
отметить ее главный недостаток: она представляет собой априорную и
предельно формальную схему, которая навязывается непредсказуемому
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 140-177.
204 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и зависящему от множества факторов общественному развитию толь-
ко для того, чтобы доказать справедливость заранее принятого пред-
ставления об идеальном обществе.
Однако даже если принять эту схему и представить себе, что все ука-
занные сферы общественной жизни соединятся в органическое един-
ство, это еще не будет означать, что совершенное общество построено,
ведь большая часть недостатков реального общества имеет другую при-
чину; господство в нем зла и страданий, как уже говорилось, является
следствием его разделенности на отдельные элементы — человеческие
личности. О том, как возможно преодоление этого онтологического «де-
фекта» нашей общественной жизни, Соловьев почти ничего не говорит
(хотя, конечно же, постоянно подразумевает необходимость этого), что
не удивительно, ведь для такой перспективы мы не можем найти ра-
зумных оснований в истории человечества. Разделение общественной
жизни на различные сферы носит абстрактно-идеальный характер,
ведь, например, экономическая, политическая и духовная сферы об-
щественного союза — это только разные аспекты цельной жизни каж-
дого отдельного человека. Поэтому преодоление этого разделения тре-
бует скорее идеальных, чем реальных усилий; его невозможно уничто-
жить до конца только потому, что в его основе лежит непреодолимая
разделенность субъектов общественной жизни. Отдельный человек
в своей индивидуальной деятельности до какой-то степени способен
стать цельным, сгладить противоречие различных сфер общественной
жизни, но окончательное их соединение станет возможным не ранее,
чем будет осуществлено соединение в органическую духовно-мате-
риальную целостность всех человеческих личностей.
Соловьев, безусловно, понимает зависимость первого аспекта несо-
вершенства общественной жизни от второго. Поэтому, описывая иде-
альное общество, он имеет в виду и второй аспект. Но при этом он пола-
гает, что сам этот второй аспект уже учтен в приведенной выше клас-
сификации, поскольку единство людей достигается через развитие их
духбвного союза в рамках Церкви. Реальная церковь, дополняющая
разделенное бытие людей духовным единством, должна в этом процес-
се достичь состояния абсолютной Церкви, преодолевающей материаль-
ную разъединенность личностей. Как пишет Соловьев, в идеальном
обществе «все члены общества составляют не границы друг для друга,
а внутренне восполняют друг друга в свободном единстве духовной
любви, которая должна иметь непосредственное осуществление в об-
ществе духовном, или Церкви»1.
В последнем высказывании все-таки остается непонятным, нужно
ли мыслить единство людей только как духовное преодоление матери-
альной раздробленности или как полное онтологическое устранение
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Собр.
соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 1. С. 588.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
205
разъединенности людей, т. е. разъединенности их тел. Однако если
вспомнить еще раз, что источник зла, по Соловьеву, лежит в матери-
альной разделенности объектов нашего мира, то придется признать,
что чисто духовное «восполнение» людей друг другом все-таки не мо-
жет привести к окончательному устранению зла и страдания. В этом
смысле то идеальное общество, которое Достоевский обрисовал в «Сне
смешного человека», Соловьев, вообще говоря, не должен был рассмат-
ривать как вполне идеальное — духовного единства людей в любви не-
достаточно для воссоздания их подлинного «всеединства» (может быть,
именно под влиянием этого убеждения Достоевский изображает, как
«смешной человек» развратил «идеальное» общество?). По-настояще-
му идеальное состояние общества возникнет только тогда, когда про-
изойдет не только нравственное, но и онтологическое преображение
мира, приводящее к «снятию» материальных, бытийственных границ
между элементами мира и прежде всего — между людьми как отдель-
ными материальными существами. Требование такого преображения,
включающего преображение к божественному (всеединому) состоянию
материи, по Соловьеву, и составляет главное содержание христиан-
ского Откровения, принесенного в мир Иисусом.
Здесь необходимо заметить, что в рассуждениях Соловьева о гряду-
щем совершенстве человеческого общества есть еще одна неясность.
Ведь, как уже упоминалось выше, рассматривая отношение отдельной
личности и общества, он утверждает, что отдельный человек есть свое-
го рода «абстракция», в то время как реальным существованием обла-
дает только материально-духовная целостность людей, душа мира,
София. Но если все люди уже принадлежат к цельному состоянию
Софии, а их отдельное, единичное существование есть только «абстрак-
ция», то зачем же необходимо стремиться к преодолению этой иллю-
зорной обособленности? И откуда тогда берется зло, если эта обособ-
ленность не имеет онтологического основания?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, Соловьев делает очень от-
ветственный шаг и полагает, что человек обладает двумя измерения-
ми, или двумя уровнями своего бытия. Помимо того, что он существу-
ет в эмпирическом, земном измерении как единичное, обособленное и
смертное существо, он одновременно есть вечное и божественное суще-
ство, входящее в органическую целостность Софии. «Только при при-
знании, — пишет Соловьев, — что каждый действительный человек
своею глубочайшею сущностью коренится в вечном божественном
мире, что он есть не только видимое явление, т. е. ряд событий и груп-
па фактов, а вечное и особенное существо, необходимое и незаменимое
звено в абсолютном целом, только при этом признании, говорю я, можно
разумно допустить две великие истины, безусловно необходимые не толь-
ко для богословия, т.е. религиозного знания, но и для человеческой жиз-
ни вообще, я разумею истины: человеческой свободы и человеческого
206 Я. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
бессмертия»х. Однако, обосновывая таким образом бессмертие и сво-
боду человека, Соловьев создает внутри своей системы неразреши-
мую проблему, которая, как будет видно из дальнейшего, приводит
к существенному искажению его замысла — доказать цельность
и универсальность человека и его единство с Богом и миром. Эта идея
вносит элементы дуализма в понимание человека, и этот дуализм
оказывается не менее существенным, чем характерный для всей
истории европейской философии дуализм духовного и материаль-
ного, против которого Соловьев решительно боролся во всех своих
ранних работах.
Кроме того, принятие этой идеи приводит к тому, что весь процесс
преображения общества и человека, который подробно описывает Со-
ловьев, становится как бы иллюзорным, поскольку относится только
к «феноменальному» человеку, в то время как «сущностный» человек —
каждый из нас в его бессмертной, божественной составляющей —
уже входит в органическую целостность идеального «общества» (Со-
фии) и, значит, в принципе, не очень-то нуждается в построении иде-
ального общества на земле. Для того чтобы понять всю остроту этой
проблемы в системе Соловьева, необходимо более детально проанали-
зировать характер отношения, которое связывает два измерения чело-
века — эмпирическое и божественное; это будет сделано в дальнейшем.
В этом вопросе проявляется еще одно различие в философских по-
зициях Соловьева и Достоевского. В отличие от Соловьева Достоевский
не признает никакого дуализма божественного и земного в человеке:
единство людей для него осуществляется только в земной (хотя и мис-
тической по своей сути) форме, божественное единство есть идеал, со-
здаваемый человеком и полагаемый им для себя в качестве цели, но не
обладающий никакой онтологической реальностью. Это приводит к не-
возможности окончательного доказательства бессмертия и гряду-
щего преображения, однако как раз эта невозможность окончательной
и абсолютной веры гарантирует полноту иррациональной свободы че-
ловека, которая становится главным определением личности и глав-
ным определением Абсолюта. Сравнивая, как Достоевский и Соловьев
понимают и обосновывают свободу, нетрудно прийти к выводу, что они
говорят о разной свободе. По Соловьеву, именно наличие в человеке
совершенного, божественного измерения означает, что он обладает сво-
бодой; свобода в этом случае есть причастность божественному началу
и возможность устремления к этому началу в земной, эмпирической
жизни. Очевидно, что это — традиционное, августиновское понимание
свободы, отождествляющее ее с божественной «необходимостью»
(необходимостью быть Добром, Истиной, Любовью и т. д.). В то же вре-
мя у Достоевского свобода — это как раз признак неподвластности
1 Соловьев Б. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 119.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
207
человека никаким законам и никакой необходимости (даже божествен-
ной), свобода — это всецело характеристика эмпирического бытия
человека, которое не «восполнено» никаким божественным измерени-
ем, а наоборот, в своей иррационально-жизненной (экзистенциальной)
полноте выражает суть Абсолюта.
Вернемся к анализу представлений Соловьева об идеальном состоя-
нии общества. Как уже было сказано, из двух составляющих того про-
цесса, который должен привести к возникновению этого общества, —
объединения отдельных сфер общественной жизни и преодоления ма-
териальной разделенности людей, — только первая имеет явные исто-
рические свидетельства в свою пользу, в то время как для доказатель-
ства возможности второй у нас нет никаких исторических данных.
Единственное направление, в котором перспектива стирания матери-
альных границ могла бы показаться реальной, — это развитие пози-
тивной науки, во все большей степени, как показывает ее история, спо-
собной влиять на структуру материальных явлений и даже на весь ма-
териальный мир. Именно это направление сделал главным в своей
«философии общего дела» Н. Федоров, идеи которого оказали сильное
влияние и на Достоевского, и на Соловьева. Впрочем, Федоров пони-
мал идеальное состояние человеческого общества несколько иначе, чем
Соловьев. Он как раз не предполагал, что для его воплощения потребу-
ется уничтожение материальных границ между людьми, достаточно,
чтобы было обеспечено материальное бессмертие каждого отдельно-
го человека и воскресение к такому бессмертию всех умерших людей.
Федоров был убежден, что с помощью научного прогресса человечество
сможет достичь этой цели.
Такая предельно упрощенная, «материалистическая» трактовка
христианского идеала воскресения не могла удовлетворить Соловьева,
однако, возможно, именно у Федорова он позаимствовал важную идею
соединения в идеальном обществе всех ушедших, настоящих и гряду-
щих поколений. В статье об О. Конте Соловьев пишет по этому поводу
(обобщая идеи французского философа): «Значение существенного,
посмертного бытия определяется его теснейшим единством с самим
существом Человечества, значение внешнего, феноменального бытия —
его способностью обособления, или относительно отдельной, самосто-
ятельной воли и действия. И умершие, и живущие имеют свою реаль-
ность; у первых она более достойная... у вторых — более свободная и яв-
но действенная... Но ясно, что полнота жизни для тех и для других мо-
жет состоять только в их совершенном единодушии и всестороннем
взаимодействии. И в чем же может состоять окончательный смысл ми-
рового порядка и завершение всеобщей истории, как не в осуществле-
нии этой цельности человечества, как не в действительном его ис-
целении чрез явное соединение этих двух разлученных его долей? »1
1 Соловьев В. С. Идея человечества у Огюста Конта. С. 579.
208 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Отметим: Соловьев утверждает, что у умерших жизнь является «более
достойной», чем у живущих. Если учесть, что согласно приведенному
ранее высказыванию каждый живущий уже обладает тем божествен-
ным измерением, к которому сводится «существование» умерших,
то можно прийти к неожиданному выводу: в концепции Соловьева
земная жизнь человека является какой-то не очень важной «добавкой»
к его подлинному сверхчувственному и божественному бытию. Очевид-
но, этот вывод вступает в противоречие с постоянными призывами Со-
ловьева к активной деятельности в мире ради приведения земного мира
и земного человека к божественному совершенству. Если в своей сущ-
ности мы уже обладаем божественным совершенством и если мы будем
всецело причастны ему после смерти, зачем стремиться воплотить его
в земной жизни?1 Возникшее здесь противоречие является ключевым
для всей философской системы, оно делает мировоззрение Соловьева
в определенном смысле гораздо менее последовательным, чем неявное,
не выраженное в рациональных категориях, но глубоко прочувствован-
ное и пережитое философское мировоззрение Достоевского.
Отказываясь понимать, в духе Федорова, науку как движущую силу
перехода к идеальному состоянию общества, Соловьев отвергает един-
ственный способ «естественного», всецело согласованного со здравым
смыслом обоснования такого перехода2. Он предпочитает понимать его
как мистический процесс, не имеющий «аналогов» в нашем обыден-
ном бытии. «Теперешнее земное существование Церкви, — пишет Со-
ловьев о перспективе преображения, — соответствует телу Иисуса во
время Его земной жизни (до воскресения), — телу хотя и являвшему
в частных случаях чудесные свойства (каковые и Церкви теперь прису-
щи), но вообще телу смертному, материальному, не свободному от всех
немощей и страданий плоти, — ибо все немощи и страдания человече-
ской природы восприняты Христом; но как в Христе все немощное и
земное поглощено в воскресении духовного тела, так должно быть и в
Церкви, Его вселенском теле, когда она достигнет своей полноты»3.
Однако у Соловьева нет более точных указаний на то, когда и каким
1 В философских сочинениях Соловьева мы нигде не найдем сформу-
лированного вывода и вытекающих из него сомнений в необходимости
активной деятельности в мире, однако соответствующее настроение нашло
себе выражение в его стихах. Еще более ясно это настроение, в котором
главной составляющей стала безвольная тоска по божественному идеалу,
несовместимому с «грубой» и «пошлой» действительностью, воплотилось
в поэзии русского символизма, целиком позаимствовавшего свое мировоз-
зрение у Соловьева.
2 Позже такое «естественное» (в духе Федорова) обоснование грядуще-
му всеединому, космическому состоянию человека и общества давали пред-
ставители философии космизма, в частности В. Вернадский и К. Циол-
ковский.
3 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 161.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
209
путем произойдет «пополнение» вселенского тела, превращение несо-
вершенной, «атомизированной» материи в Богоматерию1. Более того,
в поздних «Трех разговорах» явно чувствуется нарастание сомнений
в возможности окончательной победы над злом и, значит, в возможно-
сти достижения окончательного всеединого состояния человеческого
общества и всего мира. Человеческая история дает мало оптимизма для
веры в такую возможность.
Очевидно, что Соловьев мог уверенно утверждать, что указанное иде-
альное состояние безусловно достижимо только потому, что у него были
веские аргументы, обеспечивающие хотя бы его личное убеждение
в этом, остававшееся незыблемым почти во всех его сочинениях (за ис-
ключением «Трех разговоров»). Здесь мы подходим к важнейшему эле-
менту философской системы Соловьева, без которого она осталась бы на-
бором слабо связанных принципов, наподобие концепции славянофилов.
Таким элементом у Соловьева является интуиция Абсолюта как онто-
логически реального всеединства, предшествующего в метафизическом
смысле нашему несовершенному миру и поэтому гарантирующего
воплощение идеального состояния мира в конце его космологического
и исторического развития. Исторические аргументы, подтверждающие,
что человеческое общество и весь мир движутся к окончательному иде-
альному состоянию, являются только косвенными свидетельствами,
единственным же прямым аргументом является непосредственное усмот-
рение Абсолюта-всеединства в философской (рационально-мистической)
интуиции; раскрытие этого интуитивного усмотрения и составляет са-
мую важную и самую оригинальную часть всех работ Соловьева.
§ 5. Всеединство как Абсолют
Описание Абсолюта Соловьев считает главной задачей философии.
Для того чтобы подчеркнуть новизну и плодотворность своего подхода
к этой проблеме, он уделяет особое внимание критике тех представле-
ний, которые были приняты в европейской философии вплоть до сере-
дины XIX века. Их главный порок Соловьев видит в том, что в них Аб-
солют представал как «отвлеченное начало».
Почти во всех крупных сочинениях Соловьева мы находим воспро-
изведение одного и того же рассуждения, исходным пунктом которого
является убеждение в том, что целью истинной философии, порываю-
щей с традициями чисто теоретического философствования, господ-
ствовавшего в европейской истории на протяжении последних веков,
должно быть определение конечного смысла человеческой жизни
и человеческой деятельности. Решить эту задачу философия сможет
только после того, как установит истину о существующей реальности:
«чтобы должным образом осуществить благо, необходимо знать истину;
1 См.: Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С.
Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 313.
210 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
для того, чтобы делать, что должно, надо знать, что есть*1. В этом
элементарном рассуждении заключен незыблемый и совершенно бес-
спорный, по мнению Соловьева, критерий истины. «Мы разумеем под
истиной вообще то, — пишет он, — что есть, и, следовательно, истин-
ным знанием называем знание того, что есть»2.
Это рассуждение кажется очевидным и не вызывает возражений.
Однако оно порождает вопрос: каким образом мы можем констатиро-
вать, что нечто есть, что вообще означают слова «нечто есть»? Ведь
любое нечто «есть» каким-то способом, раз мы о нем говорим. Облада-
ет какой-то реальностью любой вымысел, любая фантазия, любая
ложь. Но как тогда возможно отличение истины от лжи, как вообще
возможно ввести понятие лжи или понятие того, что не есть?
Именно вокруг этого вопроса концентрируются искания европей-
ской философии. Критически разбирая многочисленные попытки ре-
шить указанную проблему, Соловьев приходит к выводу, что все они
сводятся к двум вариантам, которые воплощены в эмпиризме и рацио-
нализме (идеализме). И в том и в другом случае речь идет о том, чтобы
найти надежный критерий различения того, что подлинно есть.
В эмпиризме в качестве такого критерия выбираются ощущения,
чувственный опыт: существует то, что постоянно воспроизводится в ви-
де чувственных данных в нашем опыте. Однако принятие данного те-
зиса далеко не устраняет всех трудностей. Любая галлюцинация или
оптическая иллюзия обладает столь же ясной и непосредственной чув-
ственной наличностью, как и восприятие реальных предметов. Деталь-
но рассматривая подходы, с помощью которых эмпиризм пытается
различить «истинные» и «ложные» чувственные восприятия, Соловь-
ев приходит к выводу, что окончательной и наиболее последователь-
ной формой эмпиризма является позитивизм, постулирующий полную
относительность различия восприятий реальных предметов и иллю-
зий. Последовательный эмпиризм вынужден признать, что все чув-
ственные данные есть только то, что они есть, — только чувственные
данные, наличные в сознании и не существующие «в себе», независи-
мо от сознания. Но и само сознание в этом случае должно рассматри-
ваться как предмет чувственного восприятия, как объект внешнего чув-
ства. При этом все внутренние качества человека сводятся к функциям
мозга, которые как физические явления также редуцируются к сово-
купности ощущений. «Но если субъект сознания, — пишет Соловьев, —
сам есть лишь явление в сознании, то очевидно, что субъекта, собственно,
нет совсем, и остаются одни состояния сознания сами по себе, одни яв-
ления, находящиеся между собою в различных внешних соотношени-
ях последовательности и подобия, как говорит Ог. Конт»3.
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 596.
2 Там же.
3 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов). С. 43.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
211
Этот результат, по Соловьеву, несет в себе очень важную мысль.
Отвергая наивное гипостазирование восприятий в форме «субстанции»
или «материи», последовательный позитивизм доказывает, что знание,
основанное только на чувственном опыте, является всецело относитель-
ным и ограничивается констатацией непосредственных восприятий
в их данности здесь и теперь. Но поскольку мы в нашем познании ни-
когда не довольствуемся таким относительным знанием и предполага-
ем, что возможны и другие, более «основательные» его формы, есте-
ственный вывод, вытекающий из этой концепции (который сами пози-
тивисты, конечно, не делают), заключается в том, что такое более
основательное знание может быть получено из другого источника —
в непосредственном внутреннем опыте человека (носящем нечув-
ственный, или, точнее, сверхчувственный, характер). «Принцип по-
зитивизма есть внешний опыт; настоящее познание, познание в стро-
гом смысле слова, есть для позитивизма такое познание, которое про-
исходит из внешнего опыта, следовательно, в котором познаваемое есть
для познающего внешний объект; поэтому, когда, с точки зрения по-
зитивизма, говорится, что абсолютное непознаваемо, то это значит толь-
ко, что оно не есть объект внешнего опыта... >И
С другой стороны, развитие рационалистического идеализма (от Де-
карта до Гегеля) доказывает, что критерием истины не может быть и фор-
ма разумности, мыслимости, определяемая понятием. Как утверждает
Соловьев, чистое мышление, точно так же как и чистое ощущение, есть
только отношение и поэтому не может давать абсолютного знания без
того, чтобы не предполагать нечто абсолютное, к чему и относится мыш-
ление. «Сущая истина заключается не в форме мышления (понятия), а
в его содержании. Но этим содержанием не могут быть ощущения; ибо,
как мы знаем, ощущения сами суть только отношения, только способы
или формы бытия, а здесь требуется не отношение, а то, к чему относит-
ся субъект... Всеобщность и необходимость, отличающие мысли разума
от фактического материала ощущений, — эта всеобщность и необходи-
мость, эта безусловность нашего мышления перестает быть пустою фор-
мой, лишь когда она выражает собою всеобщий и необходимый пред-
мет, когда она соответствует безусловному содержанию»2.
Таким образом, абсолютную опору для опознания истины, т. е. того,
что подлинно есть, человек должен найти в своем внутреннем опы-
те, причем этот «опыт» не может пониматься ни как действие чувств,
ни как действие разума; у человека есть особая способность, с помо-
щью которой он раскрывает для себя истинную реальность — основу
всего чувственно воспринимаемого и мыслимого бытия. При этом Со-
ловьев подчеркивает, что в том же самом акте соединения с реально-
стью человек постигает свою подлинную сущность и опознает себя как
1 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов). С. 45.
2 Он же. Критика отвлеченных начал. С. 690.
212 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
нечто резко отличающееся от того, что он есть как данное эмпириче-
ское существо — ведь привычное для нас понимание себя как огра-
ниченных существ, обладающих физическими телами и наделенных
многообразными (в том числе «внутренними») характеристиками, само
задано внешним опытом.
В данном случае проведение различия между внутренним и внеш-
ним опытом представляет собой принципиальный момент в рассужде-
ниях Соловьева, поэтому на него необходимо обратить особое внима-
ние (нужно подчеркнуть, что сам Соловьев не вполне однозначно и ясно
демонстрирует смысл этого различия). Отрицая, что внешний опыт
способен выражать действительно сущее (то, что действительно есть),
Соловьев обосновывает это тем, что внешние явления вторичны:
«...во внешнем опыте мы имеем не непосредственное проявление дей-
ствительно сущего для нашего сознания, а проявление, уже многооб-
разно обусловленное и определенное как эмпирическими свойствами
наших внешних чувств, так и априорными формами нашего рассудка,
действием или противодействием которых сущее является как внеш-
ний или вещественный предмет, а следовательно, и не познается в сво-
ей внутренней сущности»1. В отличие от внешнего опыта (обычного
чувственного опыта) внутренний опыт не является опосредованным, он
представляет нам не нечто отделенное от нашего сознания и нашего
внутреннего состояния, а само внутреннее состояние в его бесконеч-
ной конкретности. Поскольку внутренний опыт есть форма познания,
в нем тоже происходит различение познающего и познаваемого, од-
нако это есть саморазличение нашего сознания, которое снимается
в самом сознании. «Внутреннее познание, — утверждает Соловьев, —
потому-то и есть истинное и действительное, что в нем нет никакой реаль-
ности, никакого внешнего предмета, что в нем познающее и познаваемое
не пребывают вне и отдельно друг от друга, а только различаются»2.
Только внутренний опыт дает ситуацию, в которой возможно позна-
ние истинно сущего — это ситуация совпадения познаваемого и познаю-
щего, т. е. установление познаваемого в его истине как существующе-
го. При этом, конечно же, утверждение Соловьева отличается от похо-
жего на него утверждения Декарта. Ведь Декарт в своем известном
тезисе утверждает существование мышления, т. е. всеобщей субстан-
ции, преломлением и эмпирическим проявлением которой выступает
отдельная эмпирическая личность. У него истинно сущее оказывается
абстракцией, выделенной из всего богатства внутреннего опыта лич-
ности. Отделяя эту абстракцию (мышление вообще, мышление как суб-
станцию) от целостности внутреннего опыта, Декарт разрушает то
единство познаваемого и познающего, которое дано в этом опыте,
1 Соловьев Б. С. Кризис западной философии (против позитивистов).
С. 47.
2 Там же. С. 48.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
213
й получает на самом деле не истинно сущее, а только пустую форму для
его возможного познания. Точно так же необходимо отвергнуть возмож-
ные параллели между идеей Соловьева и главным принципом филосо-
фии Канта. Кантовский трансцендентальный субъект, как и декартов-
ская мыслящая субстанция, есть только абстракция от всей конкрет-
ной полноты и богатства истинной реальности, которую каждый человек
способен обнаружить в себе самом через особый сверхчувственный акт.
Результатом критической работы, проделанной Соловьевым в сво-
ей первой крупной работе «Кризис западной философии (против пози-
тивистов)» , является, конечно же, не возврат к точке зрения классиче-
ского рационализма в духе Декарта, Канта или Гегеля, а выдвижение
по-настоящему нового принципа. Тот решающий сдвиг в понимании
проблемы безусловного знания, который совершает Соловьев, заклю-
чается в признании нерушимой, основополагающей цельности и кон-
кретности внутреннего опыта. Любая попытка отделить в этом опыте
главное, фундаментальное, от неглавного, второстепенного, приводит
к его полному разрушению, к распаду на абстрактные элементы, в каж-
дом из которых уже нет истинного содержания, т. е. уже не присут-
ствует истинно сущее. Только схватывание непосредственной конкрет-
ной целостности всего бесконечного содержания внутреннего опыта —
его всеединства — представляет собой тот уникальный пример акта
познания, когда познающее полностью совпадает с познаваемым, и,
значит, познание, вне всяких сомнений, обладает истиной*. Парадок-
сальный вывод, который естественно вытекает из такого понимания
внутреннего опыта, заключается в том, что в указанное «всеединство»,
безусловно, должны войти и все внешние восприятия, поскольку и они
в определенном смысле составляют внутренний опыт, его своеобразную
периферию. На первый взгляд, этот вывод делает двусмысленным столь
принципиальное для Соловьева различие внутреннего и внешнего опы-
та, однако по существу это не так. Ведь «внешние» восприятия входят
во внутренний опыт в ином статусе по сравнению с их полаганием как
внешних в смысле обычной (позитивистской) концепции познания;
восприятие любого объекта, которое с точки зрения внешнего опыта
выступает как самостоятельное и только внешним образом связанное
с другими восприятиями, в рамках внутреннего опыта оказывается
органичной частью того бесконечного, конкретного и неразрывного
целого, каковым предстает на этом уровне личность человека.
Определенное предвосхищение своего понимания внутреннего опыта
Соловьев находит в философии Шопенгауэра; однако и у Шопенгауэра
цельность и конкретность истинной реальности, открываемой личностью
1 Отметим, что если пытаться провести какие-то аналогии, то данную
идею Соловьева нужно считать не запоздалым повторение постулатов фи-
лософии Декарта или Канта, а, скорее, отдаленным предвосхищением фе-
номенологии Э. Гуссерля.
214 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в себе, в конечном счете подменяется «абстракцией» — волей, которая
представляет собой лишь одну из сторон бесконечного мира личности.
Только в «философии бессознательного» Э. Гартмана Соловьев обнаружи-
вает тенденцию к окончательному преодолению той традиции европейской
философии, которая господствовала в ней со времен средневековой схола-
стики и Декарта и которая неизменно полагала в качестве Абсолюта ка-
кие-то абстрактные свойства, полученные из разложения единственного
цельного и конкретного начала, непосредственно данного каждому чело-
веку в его внутреннем опыте. «Бессознательное» Гартмана, как пишет Со-
ловьев, «есть всеобъемлющее единичное существо, которое есть все сущее,
оно есть абсолютное неделимое, и все множественные явления реального
мира суть лишь действия и совокупности действия этого всеединого суще-
ства»1. Но таким же точно «абсолютно неделимым» и «всеобъемлющим»
существом в своем собственном внутреннем опыте предстает каждая чело-
веческая личность, которая тем самым также оказывается истинно сущим.
В работе «Кризис западной философии» Соловьев выступает в боль-
шей степени критиком классических и современных ему философских
систем, чем создателем собственной оригинальной философии. Это про-
является, в частности, в том, что он формулирует итог своего труда с ис-
пользованием ключевых понятий критикуемой традиции и тем самым
искажает его смысл. Поставив целью доказать возможность истинно-
го познания, он приходит к утверждению, что такая возможность опре-
деляется совпадением познающего субъекта и познаваемой «метафизи-
ческой сущности» (конкретной полноты внутреннего мира, сознания
человека). Однако при этом сущность самого познающего субъекта Со-
ловьев определяет понятием «дух»; соответственно, истинно сущее при-
обретает характер «всеединого духа». Очевидно, что «дух» есть в та-
кой же точно степени абстракция от конкретной целостности внут-
реннего опыта, как и все те понятия, которые критикует Соловьев, —
от декартовской субстанции до шопенгауэровской воли.
В последующих работах Соловьев устраняет эту ошибку и уже не
утверждает, что Абсолют есть «всеединый дух», однако при этом про-
исходит существенное изменение в самом подходе к «познанию» Абсо-
люта, что в еще большей степени удаляет его от реализации исходного
замысла — построения новой философии. Вместо того чтобы по-преж-
нему отталкиваться от противопоставления внешнего и внутреннего
опыта конкретной личности, что было результатом анализа эмпириз-
ма, Соловьев полагает в качестве исходного тот принцип, который был
итогом анализа недостатков рационализма: необходимость противопо-
ставления мыслимой в разуме формы всеобщности и соответствующе-
го содержания. Это содержание есть истина, поэтому здесь Соловьев
вновь ставит вопрос о том, что есть истина, и этот вопрос, по сути, со-
впадает с вопросом о том, что есть Абсолют.
1 Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов). С. 73.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
215
Вспомним, что истина — это то, что есть (сущее). Это утверждение
дает первый предикат истины. Рассматривая то, что есть, в качестве
содержания для той формы всеобщности, которая составляет основу
нашего мышления, Соловьев получает еще два предиката: истина есть
всё и единое; она есть всему, так как есть, в каком-то смысле принадле-
жит реальности — всё; и она есть единое, так как каждое частное явле-
ние в отдельности от всего не есть истина. «Таким образом, — читаем
у Соловьева, — полное определение истины выражается в трех преди-
катах: сущее, единое, всё. Из этих трех предикатов первый (сущее) вы-
сказывает только простое бытие того, что называется истиной, субъек-
та истины; когда я говорю: истина есть сущее, то я утверждаю только,
что истина есть, то есть что этому понятию соответствует некоторый
действительный субъект. Но уже для того, чтобы утверждать, что ис-
тина есть, мы должны иметь по крайней мере общее понятие о том,
что она есть или, точнее, чем она может быть. На этот вопрос отвечают
два другие предиката истины — единое и всё, которыми истина опре-
деляется в своем предметном бытии, в своей идее или объективной сущ-
ности, в которых предполагаемый субъект истины, сущее, получает
свое объективное содержание»1.
Приведенное рассуждение является ключевым в анализе понятия
Абсолюта, проводимом Соловьевым; оно повторяется во всех тех слу-
чаях, когда речь идет об определении Абсолюта. Еще раз обратим вни-
мание на существенное различие двух подходов: того, который Соло-
вьев демонстрирует в своей первой крупной работе, и того, который
стал основным во всех последующих его сочинениях. Движение к
«метафизической реальности» через внутренний опыт человека,
прослеженное в «Критике западной философии», по-видимому, по-
казалось Соловьеву слишком эмпирически нагруженным и не впол-
не ясным (как уже говорилось, различие внутреннего и внешнего опы-
та не до конца разъяснено Соловьевым), поэтому, поставив себе це-
лью более точно сформулировать совершенно новую концепцию
Абсолюта, полученную в результате критического анализа развития
западной философии, он отказался от первоначального способа обо-
снования его бытия, полагающего в качестве исходного момента бес-
конечное содержание человеческой личности. Соловьев, скорее все-
го, считал, что описание Абсолюта непосредственно через понятия
«сущее», «единое» и «всё» является более последовательным, чем
восхождение к нему через сверхчувственную интуицию, в которой от-
крывается цельный мир личности. Однако он не заметил, что при та-
ком переходе от одного способа обоснования к другому в значительной
степени утрачиваются все завоевания, приобретенные в результате
педантичной критики «отвлеченных начал» западной философии. Ведь
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 692.
216 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
описание Абсолюта вне акта сверхчувственной интуиции, при всем на-
стойчивом утверждении цельности и конкретности истинно сущего,
все-таки неизбежно придает этому истинно сущему тот же самый ха-
рактер отвлеченности и абстрактности, с которым Соловьев упор-
но боролся во всех своих работах.
Соловьев справедливо утверждает, что невозможно прийти к кон-
кретному и цельному началу, основываясь только на одной из способ-
ностей или сторон человеческого сознания, будь то разум, чувство или
воля. Через каждую из них мы сможем увидеть в Абсолюте только одну
его сторону — ту, которая открывается соответствующей способности.
По-настоящему конкретное начало должно быть открыто одновремен-
но всем способностям человека и выступать как единый образ всех этих
способностей. Кроме того, это начало должно быть доступно нашему
познанию в форме тождества познаваемого и познающего, отсюда с не-
обходимостью следует, что познание этого конкретного начала не мо-
жет быть ничем иным, как интуитивным постижением своей соб-
ственной цельной личности, — постижением своей личности не в от-
дельных и частных проявлениях, а во всем ее богатстве и полноте,
во всей ее иррационально-жизненной конкретности.
Если бы Соловьев однозначно зафиксировал этот вывод и именно на
нем основывал свою философию, он действительно радикально порвал
бы с той традицией западноевропейской философии, в которой в каче-
стве Абсолюта постоянно полагались отвлеченные и абстрактные на-
чала, являющиеся, по сути, не чем иным, как обобщениями отдель-
ных сторон и свойств человеческой личности. В этом случае Соловьев
в рамках строгой философской системы повторил бы мировоззренче-
ский переворот, совершенный Достоевским. В своей метафизической
концепции Достоевский произвел радикальный пересмотр традицион-
ных представлений о взаимосвязи конкретной, эмпирической лично-
сти со всеобщими, сверхэмпирическими и сверхиндивидуальными
«слоями» реальности. Именно эмпирическая личность во всей ее кон-
кретности, цельности и временной динамике становилась у него осно-
вой бытия, истинно сущим, тем единственным звеном, через которое
оказывалось возможным понять всю полноту истины. Вторичность че-
ловека, его зависимость от «среды», от мира превращались в иллюзию,
в обманчивую видимость, скрывающую подлинные отношения лично-
сти и мира.
Соловьев подходит к тому же самому принципу через критику за-
падной философии. Однако сила философской традиции оказалась
сильнее, чем критический настрой его мысли. Виртуозно выполнив
критическую часть своей работы, в позитивной части он все равно под-
пал под обаяние «отвлеченного» мышления и в результате вложил
свои новые, по-настоящему оригинальные интуиции в прокрустово
ложе традиционных схем философского рационализма. Он словно бы
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
217
испугался окончательного признания бесконечно богатого, конкретного
и цельного мира, открываемого во «внутреннем опыте» эмпирической
личности, за абсолютную основу всех форм бытия и познания (сам тер-
мин «внутренний опыт», конечно, не вполне адекватно передает смысл
того интуитивного акта, который имеется здесь в виду). Поэтому уже
в первой своей крупной работе, проявляя непоследовательность, он
объявляет, что указанный «мир» (человеческая личность) является
только выражением, «манифестацией» некоторой всеединой духовной
реальности. Здесь находится исходный пункт того разделения челове-
ка на эмпирическое и божественное существо, которое было обнаруже-
но выше при анализе представлений Соловьева об идеальном состоя-
нии мира и которое в конечном счете привело к роковой противоречи-
вости его взглядов, не позволило ему стать основоположником по-настоя-
щему последовательной формы новой метафизики человека.
Перемещая в последующих работах центр тяжести с интуиции кон-
кретного бытия личности на рациональный анализ акта интуитивного
постижения сверхчеловеческого Абсолюта-всеединства, Соловьев еще
больше уклоняется от того пути, на котором можно было бы построить
мировоззрение, действительно радикально порывающее с традицией
«отвлеченных начал». Будь он более последовательным, перед ним
предстала бы совершенно новая и никем до него не осмысленная зада-
ча разработки понятийного аппарата, способного выразить смысл ин-
туиции цельного внутреннего мира личности, и описания всей реально-
сти через понятия, исходно применимые только к миру личности, —
та самая задача, которую в дальнейшем поставила и решила экзистенци-
альная философия, в том числе усилиями ее русских представителей —
Л. Шестова, Н. Бердяева, С. Франка и Л. Карсавина.
Соловьев, хотя и наметил этот путь, оказался неспособным пройти
по нему до конца. Он все же остался приверженцем традиционного спо-
соба философствования, и, несмотря на отдельные нововведения, его
система вполне укладывается в ту линию развития европейского
«рационализированного» мистицизма, которая на Западе нашла себе
гениальное завершение в философии позднего Шеллинга. Не случайно
многие ключевые принципы соловьевскои системы почти дословно
заимствованы из системы его немецкого предшественника. Соловьев
не любил признаваться в существенном влиянии на него философии
Шеллинга по вполне понятной причине; он безусловно понимал: это
ставит его систему в тот же самый философский ряд, порвать с кото-
рым он так настойчиво пытался.
Итак, Соловьев, приступая к описанию Абсолюта (что для него тож-
дественно описанию истины), определяет его как сущее, единое и всё,
т. е. как сущее всеединое. Еще раз можно повторить, что такое опре-
деление не является слишком оригинальным и выражает привержен-
ность Соловьева к древней традиции философского мистицизма,
218 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
всегда уделявшего особое внимание проблеме отношений между Абсо-
лютом и эмпирическим миром, в котором центральную позицию зани-
мает человек. Подлинная оригинальность философии Соловьева выяв-
ляется именно в том, как он рассматривает указанную проблему.
В истории мы находим два основных варианта ее решения (не счи-
тая идеи творения, которая при ее строгой философской разработке
почти всегда сводилась к этим же вариантам). Первый связан с пред-
ставлением о мире как «эманации» Абсолюта; в этом случае онтологи-
ческая структура реальности понимается как иерархия ступеней бы-
тия, отличающихся друг от друга за счет того, что они представляют
собой «ослабленное» бытие, в то время как «полное» бытие свойствен-
но только самому Абсолюту. Второй вариант решения — это пантеис-
тическое представление о тождестве бытия эмпирического мира и бы-
тия Абсолюта; в этом случае различие между миром и Абсолютом ока-
зывается иллюзорным и вторичным, и мистическое чувство должно
быть направлено на восстановление указанного тождества, затемнен-
ного некоторыми вторичными элементами нашего существования. Со-
ловьев, несомненно, не разделяет точку зрения пантеизма, но в отли-
чие от первого варианта он применяет для описания различия Абсолю-
та и мира несколько иной метод; он утверждает, что Абсолют находится
выше какого-либо бытия и само понятие бытия к нему неприменимо.
Различие мира, к которому принадлежит человек, и Абсолюта есть раз-
личие бытия и сущего.
Этот принцип Соловьев заимствует из философии Шеллинга1.
Может показаться, что он в данном случае просто повторяет идеи немец-
кого философа, пытавшегося с помощью указанного различения объяс-
нить акт творения, акт возникновения бытия в Боге, стоящем выше
бытия. Однако для Шеллинга различие бытия и сущего являлось толь-
ко одной из многочисленных дистинкций, проводимых им в отноше-
нии Абсолюта и порождающих тонкую диалектику, вплотную подхо-
дившую к той грани, за которой она превращалась в субъективную игру
понятиями (такими, как понятия сущего, бытия, существования, сущ-
ности, необходимости, свободы, потенциальности и др.). Русской
философии, несмотря на ее постоянное увлечение немецким идеализ-
мом, была чужда диалектическая утонченность последней. И хотя
Соловьев, как никто другой в истории русской философии, стремился
к рациональной последовательности и точности в изложении своих
идей, он также в конечном счете отдает предпочтение не методичной
работе диалектического мышления, а ярким интуициям, открывающим
1 Из его «Штутгартских лекций» (1810); подробнее о значении указан-
ных понятий в философии Шеллинга см.: Резвых П. Б. Бытие, сущность и
существование в поздней онтологии Г. В. Й. Шеллинга // Вопросы фило-
софии. 1996. № 1. С. 110-123.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев 219
истину сразу и во всей полноте — хотя, быть может, и несколько иска-
женной теми земными образами и аналогиями, к которым приходит-
ся прибегать для ее окончательного выражения. Не случайно главный,
по первоначальному замыслу Соловьева, его труд «Философские нача-
ла цельного знания» так и остался незаконченным: выбранный в нем
стиль изложения, всецело повторяющий стилистику классических
трудов немецкого идеализма, по-видимому, оказался слишком утоми-
тельным для молодого философа, ставившего себе в качестве задачи
глобальное преобразование всего человеческого знания и желавшего,
чтобы его философия стала источником новой веры для целых поколе-
ний, а не просто интеллектуальным развлечением для избранных це-
нителей. Обратим внимание на любопытный факт: вся та сложная ди-
алектика понятий, описывающих «структуру» Абсолюта, которая в
«Философских началах цельного знания» занимает около ста страниц1
и судя, по выбранному темпу должна была развиваться еще не на од-
ной сотне страниц, в последующих работах («Критика отвлеченных на-
чал» и «Чтения о Богочеловечестве») полностью исчерпывается на не-
скольких десятках (!) страниц2; причем выигрывая в интуитивной об-
разности и доступности, изложение в данном случае явно проигрывает
первому наброску системы в философской глубине.
Заимствуя у Шеллинга различие бытия и сущего, Соловьев отказы-
вается от последовательной экспликации его смысла через диалекти-
ку «отвлеченных» понятий и вместо этого в качестве пояснения исполь-
зует наглядную аналогию, почти полностью исчерпывающую смысл
дальнейших рассуждений. Указанное различие, проводимое по отно-
шению к Абсолюту, Соловьев приравнивает к соответствующему раз-
личию, связанному с конкретной человеческой личностью. Эта ана-
логия совершенно ясно проводится уже в работе «Философские начала
цельного знания», однако здесь она дополняется методичной разработ-
кой системы понятий, возникающей из взаимодействия понятий бы-
тия и сущего; в последующих работах это дополнение сводится к ми-
нимуму и указанная аналогия становится практически единственной
основой для того интуитивного акта постижения Абсолюта, на кото-
ром держится вся философская система Соловьева. «На самом деле, —
утверждает Соловьев, — "бытие" имеет два совершенно различные
смысла, и если отвлечься от этого различия, то теряется всякий опре-
деленный смысл, остается одно слово. Когда я говорю: "я есмь", "это
существо есть" — и затем когда я говорю: "эта мысль есть", "это ощу-
щение есть", то я употребляю глагол "быть" в весьма различном значе-
нии... если в первом случае ("я есмь") бытие разумеется как предикат
некоторого субъекта — того существа, о котором я говорю, что оно есть,
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 196-288.
2 Он же. Критика отвлеченных начал. С. 691-709; Он же. Чтения о Бого-
человечестве. С. 47-112.
220 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
то во втором случае, напротив, то, о чем я говорю, — ощущение красо-
ты, понятие равенства — само в действительности есть только преди-
кат субъекта ощущающего и мыслящего и, следовательно, не может
иметь бытие своим безотносительным предикатом... Моя мысль есть
как принадлежащая мне, я же есмь как обладающий ею. Таким обра-
зом, слово "бытие" употребляется здесь в двух не только различных,
но и противоположных смыслах... нельзя сказать просто или безуслов-
но: воля есть, мысль есть, бытие есть, потому что воля, мысль, бытие
суть лишь постольку, поскольку есть волящий, мыслящий, сущий.
Неясное сознание или неполное применение этой, по-видимому, столь
простой и очевидной истины составляет главный грех всей отвлечен-
ной философии »х.
Соловьев столь решительно возражает против применения термина
«бытие» к Абсолюту, несомненно, потому, что считает возможным ин-
терпретировать «бытие» только в духе всех тех философских систем,
которые основаны на «отвлеченных началах». Бытие в них — это ре-
зультат определения чего-либо существующего, результат придания
существующему познавательной завершенности. Бытие — это реали-
зация системы «дефиниций», применяемых к тому, что существу-
ет. Такое определение, в равной степени характерное для любой сис-
темы, основанной на «отвлеченных началах», предполагает, во-первых,
саму систему «дефиниций» и, во-вторых, ту «силу», которая реализу-
ет эту систему дефиниций в отношении существующего; последняя —
это как раз то, что Соловьев называет идеей и мощью (бытия). Само су-
ществующее (превращающееся в бытие под воздействием идеи) при
этом определяется как первая материя, или потенция бытия.
Эти определения могут вызвать недоумение, настолько они выгля-
дят произвольными, немотивированными. Однако на деле в их основе
лежит вовсе не абстрактная диалектика понятий, а конкретная интуи-
ция, относящаяся к человеческой личности, и они без труда обретают
смысл, если соответствующие элементы структуры Абсолюта интерпре-
тируются с помощью указанной выше аналогии между Абсолютом и
личностью. При этом личность необходимо понимать так, как это на-
мечено в «Кризисе европейской философии», — через преодоление ис-
кусственно введенного абстрагирующим мышлением противопостав-
ления ее миру, — как всю бесконечную и цельную полноту данного
мира, пред-ставленного мира — данного в себе самом как всеединстве
и пред-ставленного себе самому как личности.
По отношению к такому пониманию личности, действительно, все
конкретное бытие — это определенное бытие, бытие частных пред-
метов, входящих в ее целостный, всеединый мир. Существование са-
мой личности при этом не может считаться бытием в том же самом
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 698-700.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
221
смысле, поскольку являясь всеединством, обладая абсолютной целост-
ностью, личность не может быть «определена» в мышлении или во
внешнем опыте, она сама выступает как своего рода «пространство»
бытия, как «пространство» определения конкретного и его связывания
в конкретное всеединство, — как универсальная динамическая сила,
от которой происходят все силы и все способности, находимые в мире,
в бытии.
Таким образом, противопоставление бытия и сущего (личности)
оказывается плодотворным именно потому, что через него фиксирует-
ся принципиальное отличие фундаментальной интуиции личности от
(рационального) постижения всевозможных форм частного, «мирово-
го» бытия. Однако от этой исходной точки Соловьев двигается не впе-
ред, а назад — к еще одному варианту философии «отвлеченных на-
чал» : он обобщает исходную интуицию, в которой каждый из нас на-
ходит свою цельную личность как всеединство и мир, и называет это
обобщение Абсолютом. При этом он, по сути, совершает то самое аб-
страгирование, которое в истории всегда приводило к отвлеченному ха-
рактеру «начала». Ведь в интуиции своей личности человек обнаружи-
вает конкретное, «развернутое» всеединство, в то время как указан-
ное обобщение приводит к абстрактному «всеединству вообще», также
содержащему «всё», но в форме, в которой это «всё» уже утратило свой
конкретный жизненный характер, стало абстракцией «всего».
Более точно пояснить смысл различия между конкретным всеедин-
ством, открываемым в интуиции цельной личности, и абстрактным
всеединством, которое Соловьев утверждает в качестве Абсолюта, мож-
но следующим образом. Конкретное всеединство есть непосредствен-
ное единство элементов, входящих в него, — осуществляемое таким
образом, что сохраняется и конкретное содержание каждого отдельно-
го элемента, и конкретное содержание «актов», отождествляющих этот
элемент со всеми другими, на фоне всех иных элементов и « актов », свя-
зывающих иные конкретные элементы «всего». Формой осуществле-
ния такого конкретного всеединства в личности есть время. При этом
личность как конкретное всеединство одновременно оказывается и тож-
дественной времени, поскольку время есть форма существования
конкретного всеединства как конкретного, и выходит за пределы вре-
мени, «замыкает» его, поскольку конкретное всеединство есть всеедин-
ство, и его цельность в определенном смысле первична по отношению
к его конкретности1. В противоположность этому всеединство Соловье-
ва представляет собой только абстрактную форму осуществления един-
ства (единства возможного абсолютного содержания), поэтому оно ста-
тично и находится «выше» всего того, что мы обнаруживаем в своем
1В дальнейшем этот подход к описанию конкретного всеединства будет
развит в философских системах С. Франка и Л. Карсавина (см. главы 6 и 7).
222 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
«внутреннем опыте» и что еще «не достойно» войти во всеединство в
силу его конкретности и слишком ясной временной определенности (ко-
торую можно убрать актом абстрагирования).
Тем не менее, конструируя, по сути, новое «отвлеченное начало»
в виде Абсолюта-всеединого, Соловьев чаще всего по-прежнему мыс-
лит его только в рамках упомянутой выше аналогии с конкретной
человеческой личностью. Это в значительной степени сглаживает
непоследовательность в понимании исходного принципа, но в то же
время вносит явную противоречивость в его систему; особенно ярко это
проявляется в известной концепции «двух Абсолютов», о которой речь
пойдет чуть ниже.
«Отвлеченный» характер соловьевского Абсолюта особенно нагляд-
но обнаруживается в следующем рассуждении из «Критики отвлечен-
ных начал». «Мы познаем безусловно-сущее, — пишет Соловьев, — во
всем, что познаем, потому что все это есть его предикат, его бытие, его
явление. Но будучи во всем, оно не тождественно со всем... само по себе
оно не может открываться как внешний предмет, это было бы противо-
речием; но будучи единым истинно-сущим, то есть субстанцией всего,
оно есть первоначальная субстанция и нас самих, и, таким образом,
оно может и должно быть нам дано не только в своих многообразно от-
раженных проявлениях, образующих наш предметный мир, но и внут-
ри нас самих, как наша собственная основа, непосредственно нами вос-
принимаемая. Отрешаясь ото всех определенных образов бытия, ото
всех ощущений и мыслей, мы в глубине своего духа можем находить
безусловно-сущее, как такое, то есть не как проявляющееся в бытии,
а как свободное и отрешенное ото всякого бытия»1. Затем Соловьев до-
бавляет, что сущее как абсолютное не только полностью лишено опре-
делений, освобождено от всего конкретного, но и обладает всем, как
положительная потенция всего. Такое механическое совмещение
в Абсолюте двух его сторон — положительной и отрицательной —
свидетельствует о конструктивной вторичности этого представления,
полученного из интуитивно ясного и конкретного (а значит, и неразло-
жимого в исходной интуитивной форме на «положительные» и «от-
рицательные» стороны) всеединства личности, реализуемого в форме
времени. Из живой конкретности личности только с помощью «разла-
гающей» абстракции можно выделить «отрицательную» сторону Абсо-
люта, связанную с тем, что личность как всеединство выше течения вре-
мени и всего, что есть во времени, и «положительную» — связанную с
тем, что личность реальна только в последовательности моментов вре-
мени, «конструирующих» всеединство. Однако, выделив эти стороны,
1 Там же. С. 702. При цитировании исправлена явная опечатка изда-
ния 1988 г., где в первой фразе данного отрывка появилась лишняя час-
тица «не»: «...потому что все это не есть его предикат...»
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
223
мы уже не сможем никаким их соединением получить ту же самую
живую конкретность, — подобно тому как, расчленив живой организм
на части, мы не сможем составить из них ничего живого.
Анализируя построенный таким «абстрактным» образом Абсолют,
Соловьев фактически просто вкладывает в представление о нем все те
аспекты, которые он почерпнул из интуитивного акта восприятия под-
линного конкретного Абсолюта — человеческой личности. Он сам при-
знает это, когда пишет: «Общее понятие абсолютного первоначала, как
оно утверждается нашим отвлеченным мышлением, имеет характер
отрицательный, то есть в нем собственно показывается, что оно не есть,
а не что оно есть. Положительное же содержание этого начала, его цент-
ральная идея, дается только умственному созерцанию или интуиции»1.
По существу, все определения, которые Соловьев придает Абсолюту как
бы в результате дедуктивных выводов, на самом деле всего лишь внеш-
ний покров для интуитивного знания, не допускающего прямолиней-
ной абстрактно-рациональной интерпретации. Эту черту учения Со-
ловьева особенно подчеркивал Е. Трубецкой: «По содержанию своему
учение Соловьева об Абсолюте заключает в себе чрезвычайно много по-
ложительного и ценного; но эти положительные элементы добыты не
путем чистой априорной дедукции, а путем включения в понятие абсо-
лютного эмпирических данных. Ценность этого учения заключается
главным образом в богатстве интуитивного знания, которое оно в себе
содержит»2. Интересно, что под упомянутыми здесь «эмпирическими
данными» Трубецкой имеет в виду как раз интуитивно схваченные ха-
рактеристики эмпирической личности, т. е. его утверждение совпада-
ет с высказанным выше: большинство определений, приписываемых
Абсолюту в философии Соловьева, получено в результате некоего «от-
влеченного» обобщения того содержания, которое можно найти в ин-
туитивном акте постижения всей полноты содержания своей эмпири-
ческой личности.
Выразительный пример этой методологии дает тот способ, каким
Соловьев вводит понятие «первой материи» в «Философских началах
цельного знания» и в «Критике отвлеченных начал» (данный фрагмент
совпадает в обеих работах). Через это понятие Соловьев конкретизи-
рует смысл «положительной» стороны Абсолюта: он утверждает, что
Абсолют есть первая материя, поскольку он есть потенция бытия. Это
позволяет говорить уже не о двух «сторонах» («положительной» и «от-
рицательной»), а о двух «полюсах» в структуре Абсолюта; «если выс-
ший, или свободный, полюс есть самоутверждение абсолютного перво-
начала, как такого, то для этого самоутверждения ему логически необ-
ходимо иметь в себе или при себе свое другое, свой второй полюс, то есть
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 225-226.
2 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 275.
224 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
первую материю... С одной стороны, первая материя есть только необ-
ходимая принадлежность свободного существа и без него не может
мыслиться, с другой стороны, она есть его первый субстрат, его основа
(базис), без которой оно не могло бы проявиться или быть как такое.
Эти два центра, таким образом, хотя вечно различные и относительно
противоположные, не могут мыслиться отдельно друг от друга или сами
по себе; они вечно и неразрывно между собою связаны, предполагают
друг друга как соотносительные, каждый есть и порождающее и по-
рождение другого»1. Это определение было бы не очень понятным, если
бы Соловьев не дал здесь же пояснения, совершенно ясного, но весьма
далекого от всего предшествующего абстрактного рассмотрения Аб-
солюта. Оказывается, «первая материя» «имеет характер внутренний,
психологический, или субъективный, ибо то, что не имеет опреде-
ленного качества, не может иметь и определенного действия на дру-
гое, то есть предметного бытия, следовательно, ограничено бытием
субъективным »2.
Е. Трубецкой в своей книге о Соловьеве справедливо указывает, что
это странное утверждение совершенно непонятно в контексте рассуж-
дений о сверхчеловеческом Абсолюте (что есть «психологическое» и
«субъективное» в отношении такого Абсолюта?)3, однако оно приобре-
тает осмысленность, если вспомнить, что свой Абсолют Соловьев «кон-
струирует» с помощью абстрактного анализа той конкретной интуи-
ции, в которой ему открылся Абсолют-личность. В нем «первая материя»
есть та «периферическая» (психологическая!) основа, по отношению к
которой личность определяет себя как центр всего предметного мира.
Абстрактное разделение двух полюсов в Абсолюте соответствует совер-
шенно естественному сочетанию двух аспектов Абсолюта-личности.
С одной стороны, в своей периферической основе личность выявляет
себя как чистая множественность, как аспект иррационального изме-
нения, как «время-хаос»; с другой стороны, она осознает себя как аб-
солютный центр, как точка соединения всего со всем, определяющая
единство и связность в самом времени, обуславливающая превраще-
ние «времени-хаоса» в форму «времени-истории» (именно об этих по-
нятиях шла речь в § 2 главы 1). Указанное «время-история» и являет-
ся цельной формой существования личности как всеединства и, зна-
чит, как Абсолюта.
У самого Соловьева утверждение о психологическом характере «вто-
рого центра» в Абсолюте остается малопонятной оговоркой. Однако даль-
нейший анализ взаимосвязей между двумя центрами, или полюсами,
Абсолюта вынуждает его, наконец, ввести время как фундаментальное
1 Соловьев В. С Критика отвлеченных начал. С. 708-709.
2 Там же. С. 708.
3 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 277-278.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
225
измерение, в котором только и можно представить себе объединение и
связь этих полюсов. «Мы различаем во втором начале, — пишет он, —
противоположность абсолютному (материя) и тождество с ним (идея);
на самом же деле это второе начало не есть ни то, ни другое, или то и
другое вместе; в отличие от сущего всеединого (первое начало) оно есть
становящееся всеединое »1.
Превращение второго центра в Абсолюте-сущем в отдельный ста-
новящийся Абсолют представляет собой еще один загадочный логиче-
ский скачок, на который, кажется, еще не обращали должного внима-
ния исследователи философии Соловьева. Проследим более вниматель-
но, как Соловьев определяет это «второе абсолютное»: «...все единство
предполагает существование того неединого, многого, которое делает-
ся всем в единстве; то самое многое, которое в единстве есть все, само
по себе, или вне единства, есть не все... Так как невозможно в одном
акте быть и тем и другим, а в абсолютном не может быть много актов,
ибо это заключало бы в себе изменение, переход и процесс, то, следова-
тельно, абсолютное само по себе, в своем актуальном бытии — actu —
есть все, другое же определение принадлежит ему не actu, а только
potentia. Но чистая potentia (возможность) есть ничто, для того чтобы
она была больше, чем ничто, необходимо, чтобы она была как-нибудь
и где-нибудь осуществлена, то есть чтобы то, что есть только potentia
в одном, было актом (действительностью) в другом... Итак, рядом с аб-
солютно-сущим, как таким, то есть которое actu есть всеединство, мы
должны допустить другое существо, которое так же абсолютно, но вме-
сте с тем не тождественно с абсолютным, как таким... если первое есть
всеединое, то второе становится всеединым, если первое вечно обла-
дает всеединым, то второе прогрессивно им овладевает и постольку со-
единяется с первым»2.
Это рассуждение можно было бы признать чистой софистикой, если
подходить к нему с чисто логическими критериями (на что, собствен-
но, и рассчитывает Соловьев); в этом случае достаточно было бы ука-
зать на то, что полагание какого-либо определения в Абсолюте как по-
тенциального не менее противоречиво, чем полагание в нем множества
актов, не говоря уже о том, что сама по себе попытка логически вывес-
ти из понятия Абсолюта наличие двух рядоположенных Абсолютов
выглядит очень странной. Однако все эти рассуждения Соловьева по-
лучают оправдание, если признать, что на самом деле они дают лишь
псевдорациональное обоснование основополагающей интуиции, в ко-
торой открывается конкретный Абсолют. Здесь вновь сказывается
неискоренимая приверженность Соловьева рационалистической тра-
диции, странно сочетавшаяся с его постоянной критикой отдельных
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 709.
2 Там же. С. 710-711.
8 Зак.3424
226 Я. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
представителей этой традиции: не довольствуясь той степенью «очевид-
ности», которая заключена в иррационально-интуитивном (мистиче-
ском) акте соединения с конкретным Абсолютом, он хочет продемон-
стрировать возможность рационального обоснования подлинной абсо-
лютности этого необычного Абсолюта.
Вводя столь странным образом «становящееся абсолютное», Соловь-
ев в дальнейшем интересуется только этим вторым абсолютным и опи-
сывает его «становление». Здесь проявляется его подлинная фило-
софская проницательность, поскольку именно в этой форме он описывает
настоящий Абсолют, который и был целью его исканий, который откры-
ла ему его гениальная интуиция. На фоне становящегося «второго» Аб-
солюта «первый» Абсолют оказывается полностью подобным многочис-
ленным «отвлеченным началам» классической философии.
В контексте всего сказанного ранее не кажется удивительным, что
второй Абсолют, содержащий, как и первый, всё, но в потенциально-
сти (для обозначения этого потенциального существования «всего»
Соловьев использует несколько странный термин «не всё»), оказывает-
ся тождественным конкретной человеческой личности. Вот как
разъясняет этот переход Соловьев: «...многое частное или не всё (кате-
гория, природа), не имея возможности существовать ни само по себе,
ни в Боге, как таком, существует по необходимости в том существе, ко-
торое причастно божеству, но не есть сущий Бог, а только становится
Богом, в том существе, которое есть вместе и абсолютное и относитель-
ное. В нем совмещаются многое и единое, частное и всё; но так как эти
противоположные определения не могут совмещаться в нем в одном и
том же отношении, то если частное, неистинное имеет в нем реальность
(а оно должно иметь реальность в нем, так как не может иметь ее само
по себе), то, следовательно, другое, истинное, всеединое, может суще-
ствовать в нем действительно только как идеальное, постепенно реа-
лизуемое. Существо это, имеющее реальную множественность или ма-
терию, как свою природу, имеет в себе божественное начало как идею,
в сознании»1. В результате, оказывается, что все многообразие реаль-
ного мира имеет своим конкретным основанием не первый Абсолют,
а человека, как второй Абсолют. Вспомнив, что для Соловьева отдель-
ный человек есть лишь «абстракция» от целостной общности челове-
чества, выражаемой понятиями души мира и Софии, мы поймем, по-
чему он отождествляет второй Абсолют с Софией.
Но если реальной основой реального мира является человеческая
личность (понимаемая диалектически — как составляющая души
мира), то какая функция остается у первого Абсолюта? Как нетрудно
видеть из приведенной выше цитаты, первый Абсолют оказывается
идеалом, идеальной целью для деятельности личности, для становле-
ния второго Абсолюта.
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 712.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
227
Как уже было сказано, в основе всей философской системы Соловье-
ва лежит фундаментальный интуитивный акт, в котором открывается
конкретный Абсолют — человеческая личность во всей ее бесконечной
полноте. Первый Абсолют Соловьева возникает из этого интуитивного
акта только в результате его абстрактного «расчленения». Чувствуя,
что в результате такого «расчленения» исчезает искомая конкретность
и жизненная полнота Абсолюта, Соловьев несколько искусственным
образом (как бы в результате логической дедукции) возвращается к
исходной интуиции и признает личность «вторым», а на самом деле
единственным подлинным (становящимся) Абсолютом. Созданная же
ранее абстракция первого Абсолюта по отношению к Абсолюту-лично-
сти выступает только в функции идеала, идеальной цели человеческой
деятельности.
Совершенно очевидны те причины, по которым Соловьев, не удов-
летворяясь признанием Абсолюта-личности, настаивает на реальном
существовании первого Абсолюта. Как мы уже видели в предыдущем
параграфе, представление об Абсолюте как сверхчеловеческом всеедин-
стве обосновывает стремление человека к преображению себя самого,
общества и всего мира. Без обладания таким идеалом человек просто не
смог бы существовать. Однако признать Абсолют-всеединство только
за идеал означало бы отказаться от уверенности в его достижимости.
Человек может создать идеал для своей деятельности, но если этот иде-
ал не имеет основания в бытии, у него не будет возможностей во-
плотиться в реальность. Именно такое основание для убеждения в не-
избежной достижимости идеала и пытается создать Соловьев, когда он
утверждает, что Абсолют-всеединство — это не просто идеал, а онтоло-
гически реальное начало мира и человека1.
Это утверждение, ликвидируя одну проблему (проблему реальной
достижимости идеала), порождает несколько других, которые, по сути,
разрушают фундамент философской системы Соловьева. Для того что-
бы подчеркнуть ценность человеческой личности, более того, придать
личности значение метафизического центра мироздания (что и было
одной из главных интенций его философского творчества и что объеди-
няло его с Достоевским), Соловьев настаивает на независимости второ-
го Абсолюта от первого. «Человек... — пишет он, — который есть всё
1 В определенном смысле желание Соловьева дать окончательное до-
казательство неизбежности воплощения идеала (всеединства) в нашей зем-
ной жизни сродни непримиримому требованию Ивана Карамазова к пол-
ному и немедленному искуплению всех страданий мира. Видимо, не случай-
но многие исследователи творчества Достоевского полагают, что именно
Соловьев выступил для Достоевского прообразом Ивана Карамазова (впро-
чем, некоторые его черты, вероятно, отразились и в образе Алеши Кара-
мазова).
228 И, И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
не только в Боге, но и для себя в своем сознании, или идеальном бы-
тии, безусловен и вечен... не только в Боге, но и в себе, в своем индиви-
дуальном сознании, не только как сущий, но и как этот сознающий,
в своем внутреннем идеальном бытии, форма которого, я, есть нечто по
существу безусловное и вечное, как положительная потенция всякого
действительного содержания, ничего не исключающая и потому не
могущая быть ничем ограниченною»1. Здесь явно признается равнопра-
вие второго Абсолюта (человека) по отношению к первому и, по сути,
отрицается необходимость его обоснования через первый. Однако при-
знать два Абсолюта в метафизическом смысле рядоположенными было
бы верхом нелепости, и Соловьев, в противоречие только что сказан-
ному, утверждает, что второй Абсолют укоренен в первом. Это с неиз-
бежностью ведет к тому, что бытие человека распадается на два изме-
рения: земное и божественное, из которых второе признается бесконеч-
но более значимым, чем первое. В результате, все несовершенство мира
оказывается следствием его «временного» «отпадения» от Абсолюта-
всеединства. Как уже говорилось, при последовательном проведении
этого принципа система Соловьева должна была бы стать чем-то подоб-
ным буддийской философии с ее представлением о мире как иллюзии
на фоне всеединого (первого) Абсолюта и привести к соответствующим
этическим выводам о бесполезности и ненужности человеческой дея-
тельности в мире (ведь сверхчеловеческое, завершенное всеединство
уже реально, и человек уже причастен ему).
Естественно, что для Соловьева эти выводы были неприемлемы,
и поэтому он при изложении той части своей философской системы,
которая посвящена человеку и его деятельности в мире, по сути, «за-
бывает» об онтологической реальности первого Абсолюта и рассмат-
ривает его только как идеал, присутствующий в сознании человека.
Если бы он сознательно принял в качестве единственного Абсолюта
начало личности (становящийся Абсолют), то его философская систе-
ма была бы непосредственным продолжением и рациональным оформ-
лением метафизики Достоевского. В этом случае было бы естествен-
ным признать, что абсолютность человеческой личности реализуется
наиболее полно в ее способности создавать идеал всеединого состояния
мира и бороться за этот идеал, а свобода человека выражается в его спо-
собности верить в достижимость идеала, что, конечно, отличается от
уверенности в его реальности. Нетрудно заметить, что эти выводы ни-
чем не отличались бы от тех, которые были найдены нами в результате
анализа метафизики Достоевского.
Отказываясь от этого направления в развитии своих философских
принципов, Соловьев подрывает основания своего этического учения,
требующего деятельной ответственности человека за весь мир, и делает
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 714.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Ел. Соловьев
229
иллюзорной саму свободу человека. Тем не менее последователи Соло-
вьева достаточно чутко уловили эту глубинную тенденцию его филосо-
фии, несомненно связанную с влиянием на него Достоевского, и смог-
ли довести ее до логического завершения; позже мы обнаружим это
в творчестве Н. Бердяева, С. Франка, Л. Карсавина и И. Ильина.
§ 6. Абсолют и личность.
Мистический символизм Соловьева
Для того чтобы более глубоко понять причины неудачи Соловьева
в его попытках построить «истинную» философию, вернемся к прин-
ципиальному моменту в его размышлениях — к различению сущего
и бытия. Соловьев отказывается применять к сущему — к тому, что
истинно есть, — термин «бытие», поскольку под бытием он, в конеч-
ном счете, понимает определенное бытие, т. е. бытие, подвергнувшееся
воздействию внешней онтологической «силы», оформившей, опреде-
лившей его («бытие вообще есть уже некоторое определение, посколь-
ку противополагается небытию...»1 — пишет Соловьев). Сущее и вы-
ступает в качестве указанной онтологической «силы» (точнее, в этом
качестве выступает один из моментов Абсолюта-сущего — Логос);
поскольку само оно не подвержено аналогичной внешней «силе», ве-
дущей к его определению, оно не может быть названо «бытием».
В то же время в одном из примечаний к основному тексту «Фило-
софских начал цельного знания» Соловьев замечает: «Под бытием мож-
но разуметь не модус, а самый акт существования, но сей последний
как нечто совершенно непосредственное не поддается никакому логи-
ческому определению»2. Эта фраза вскрывает один из критических
пунктов соловьевской системы. Поставив целью построение филосо-
фии, порывающей с «отвлеченными началами», Соловьев одновремен-
но признает, что то, что не поддается логическому определению, не
должно входить в философский анализ и не может иметь значения в по-
строении окончательного «знания» об Абсолюте. Но если указанное
неопределимое нечто является источником некоторых значимых сто-
рон бытия личности и мира, можем ли мы без ущерба для философско-
го понимания игнорировать этот источник и опираться только на то,
что поддается логическому определению?
Соловьев даже не задумывается над этим вопросом и тем самым де-
монстрирует свою приверженность к традиции «отвлеченных начал».
В то же время нельзя не отметить, что Шеллинг, у которого Соловьев
позаимствовал важнейшие элементы учения об Абсолюте, в поздних
своих сочинениях не только осознал всю глубину сформулированного
вопроса, но и сумел понять необходимость совершенно нового подхода
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. С. 270.
2 Там же. С. 244.
230 И. И. Евлампиев. История русской метафизика в XIX-XX веках
к соотношению «сущего» и «бытия», при котором радикально пере-
осмысливается само бытие.
В той онтологии, которую Шеллинг выстраивал в работах 1810-
1820-х годов, бытие понималось как «творение» Бога (Абсолюта-суще-
го), причем возможность творения конструировалась внутри самого
Абсолюта как результат взаимодействия его отдельных сторон1. Имен-
но эту конструкцию использует Соловьев в своей философской систе-
ме, не замечая, что в работах 1830-1840-х годов (нашедших заверше-
ние в «Философии откровения») Шеллинг фактически отказался от
нее. Главным пунктом, в котором происходит пересмотр прежней
онтологии, является новая интерпретация отношения между бытием
и понятием (как способом выражения и определения бытия). В своих
поздних работах Шеллинг фиксирует принципиальный «раскол меж-
ду бытием и понятием», что ведет к серьезным последствиям для пони-
мания Абсолюта. «С онтологической точки зрения, — так объясняет
суть переворота во взглядах Шеллинга современный исследователь, —
понятие есть не что иное, как бытие в аспекте его сущности. Однако
у бытия есть и другая сторона — экзистенциальная, та, которая зара-
нее лежит за пределами понятия, "непредмыслимая" (unvordenkliche).
Шеллинг парадоксально замечает, что правильным будет такое пони-
мание традиционного отождествления бытия и понятия в Боге, в кото-
ром нет симметрии сторон: понятие бытия, тождественное с бытием,
тем не менее имеется не иначе как посредством самого бытия; бытие
нельзя мыслить целиком заранее, прежде чем оно есть, что и выража-
ется его обозначением как unvordenkliche Sein»2. Это означает, что по-
пытка вывести бытие из сущего через понятие бытия и через понятий-
ные различия «элементов» самого сущего не может иметь успеха. В бы-
тии есть аспект, не схватываемый «логическими определениями» и
совпадающий с тем смыслом «существования», который применим
к самому сущему (как существующему) — т. е. с тем самым смыслом,
который имеется в виду в приведенном выше примечании Соловьева.
«В противоположность концепции 1810-х годов, в философии откро-
вения бытие соотносится с сущим "только в пространстве существова-
ния"...»3 (в кавычках — слова Шеллинга).
В результате то самое логически неопределимое существование,
анализом которого пренебрегает Соловьев, у Шеллинга оказывается ос-
новой нового подхода к построению онтологии. В его рамках осмысле-
ние существования сущего потребовало бы разработки совершенно ново-
го понятийного аппарата, радикально отличающегося от понятийного
1 См.: Резвых П. Б. Бытие, сущность и существование в поздней онто-
логии Г. В. Й. Шеллинга. С. 119.
2 Там же. С. 120.
3 Там же. С. 121.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
231
аппарата традиционной онтологии. В конечном счете именно на этом
пути, открытом поздними работами Шеллинга, М. Хайдеггер постро-
ил «фундаментальную онтологию», направленную на анализ «непред-
мысленного» бытия, неопределимого в системе логических понятий и
первичного по отношению к сущему.
Как уже было сказано, Соловьев не видит такого варианта построе-
ния онтологии (учения об Абсолюте). В то время как основой нового
подхода должно было стать полагание времени в качестве фундамен-
тальной характеристики, задающей сам способ существования сущего
(человека), в философии Соловьева движение в этом направлении про-
явилось только в наличии неразрешимого противоречия между вневре-
менным Абсолютом, сконструированным логически и в полном соот-
ветствии с традицией «отвлеченных начал», и конкретным, становя-
щимся Абсолютом, для которого время есть основополагающая
характеристика. В различных составляющих философской системы на
первый план выходит либо первая сторона этого противоречия, либо
вторая.
Первая господствует в онтологии и в основах теории познания
Соловьева. Вспомним его определение истины: истина это то, что есть,
В таком определении подчеркивается абсолютная «статичность» и вне-
временность всего истинно существующего, ведь всякий переход, вся-
кое изменение и становление предполагает «движение» от того, что еще
не есть, к тому, что есть, или от ничто к бытию. Но ничто в его полной
противоположности к бытию (бытию как «непредмыслимому», как су-
ществованию вообще, еще не подпавшему под логическое определение)
для Соловьева не обладает никакой онтологической значимостью.
В результате он неизбежно встает на путь Парменида и превращает вся-
кое становление и всякую множественность в феноменальную види-
мость. Мы действительно находим такое понимание мира в текстах
Соловьева. «Этот мир как такой (т. е. как внешний и вещественный), —
например, пишет он, — бесспорно есть только видимость, а не действи-
тельность»1.
В то же время в космологии, антропологии и этике Соловьева господ-
ствует прямо противоположная тенденция, признающая видимый мир
и эмпирического человека единственной реальностью, развивающейся
в направлении всеединого состояния, которое, по сути, не является
реальным, а выступает только как идеальная цель этого развития. Про-
тиворечие между двумя этими подходами и двумя «измерениями» со-
лэвьевской системы настолько разительно, что возникает недоумение
по поводу того, как ее создатель мог не видеть его и не придавать ему
значения. Впрочем, мы без труда находим тот элемент, в котором Со-
ловьев пытается сгладить это противоречие (или хотя бы затушевать
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 48.
232 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
его) и который в связи с этим оказывается ключевым элементом всей
его философии. Этот элемент — учение о Богочеловечестве. Чтобы по-
нять его подлинное значение, попробуем подойти к нему с несколько
неожиданной стороны — отталкиваясь от гносеологии Соловьева.
Как мы помним, уже в рамках критики «отвлеченных начал» Соло-
вьев доказывал, что чувственное восприятие и мышление в понятиях
дают чисто относительное знание, знание об отношениях субъекта по-
знания к предмету. Поэтому оба этих элемента могут иметь только вто-
ричное значение в акте познания и должны быть подчинены главному
элементу, в котором достигается абсолютное знание, знание о безу-
словном существовании предмета, знание о предмете как «безусловно
сущем». «Это безусловное существование предмета, — пишет Соловь-
ев, — не могло бы быть мне доступно никаким образом, если бы между
мною и им была совершенная отдельность: тогда я мог бы относиться к
нему только внешним образом и имел бы знание только о его условном
бытии, а так как в действительности я имею извещение и о безуслов-
ном бытии его, то, следовательно, такой отдельности нет, следователь-
но, познающий известным образом внутренне связан с познаваемым,
находится с ним в существенном единстве, которое и выражается в той
непосредственной уверенности, с которой мы утверждаем безусловное
существование другого»1. Связь познаваемого и познающего является
основой той уверенности в безусловном существовании предмета, на ко-
торой базируется любой акт познания. Причем в своем соединении с
объектом субъект не связан ничем внешним, является абсолютно сво-
бодным, а существование объекта принимается в его полной «безуслов-
ности», т. е. в его тождестве с Абсолютом. Получается, что любой акт
познания имеет в качестве основы акт мистической интуиции, в кото-
I ром субъект открывает свое тождество с объектом в Абсолюте. В этом
1 смысле каждый акт познания в своей сущности есть познание Абсолюта-
[^ всеединства.
Даже простое чувственное восприятие возможно только на основе это-
го акта мистической интуиции, поскольку весь хаос чувственных ощу-
щений становится восприятием целостного предмета потому, что все
ощущения группируются вокруг невидимого ядра — интуитивного по-
стижения предмета как безусловно сущего, как элемента Абсолюта.
«Таким образом, — пишет Соловьев, — мы вообще познаем предмет или
имеем общение с предметом двумя способами: извне, со стороны нашей
феноменальной отдельности, — знание относительное, в двух своих ви-
дах, как эмпирическое и рациональное, и изнутри, со стороны нашего
абсолютного существа, внутренне связанного с существом познаваемо-
го, — знание безусловное, мистическое»2.
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. С. 722.
2 Там же. С. 724.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
233
В этих рассуждениях имеются два пункта, в отношении которых
требуются более детальные пояснения, без чего теория познания Соло-
вьева останется непонятной. Первый из них касается самого различия
двух типов знания — феноменального и мистического — точнее, при-
чин их определенного равноправия в нашей жизни. Если признать, что
субъект познания, так же как и объект, непосредственно причастен
Абсолюту, нужно дать какое-то объяснение существованию и суще-
ственности феноменального, «внешнего» знания, на фоне истинного
и абсолютного мистического знания. Кажется естественным, что наша
способность иметь второй тип знания делает совершенно ненужным
знание первого типа.
С другой стороны, проблема возникает и в отношении самого мисти-
ческого знания. Соловьев утверждает, что его непосредственным ре-
зультатом является формирование в сознании субъекта идеи объекта
(способность к такому формированию — это воображение). Но здесь
встает новый вопрос: каким образом субъект на основании акта мисти-
ческой интуиции, в котором производится схватывание внутреннего
единства субъекта и объекта в рамках их принадлежности к Абсолюту-
всеединству, способен сформировать идею объекта как чего-то отдель-
ного от всеединства? Иными словами, почему мистическая интуиция,
выявляющая абсолютное тождество субъекта и объекта в Абсолюте,
тем не менее предъявляет в качестве результата не «весь» Абсолют,
а только его «часть» — тот предмет (в его безусловном существовании),
который является объектом познания?
Проблемы, стоящие за сформулированными вопросами, Соловьев
пытается решить с помощью самой фантастической части своего фи-
лософского учения — интерпретации Абсолюта как совокупности «су-
ществ», каждое из которых подобно конкретной человеческой лично-
сти. Несмотря на то, что соответствующая концепция не имеет ясного
логического обоснования и искусственным образом возникает в систе-
ме исходных философских принципов, она помогает в какой-то степе-
ни синтезировать указанные выше полярные способы понимания Аб-
солюта (как онтологически реального сверхчеловеческого сущего и как
конкретного всеединства, открываемого человеком в интуитивном по-
стижении бесконечной полноты своей личности) и в этом смысле игра-
ет важную роль в философии Соловьева. Наиболее подробно она изло-
жена в «Чтениях о Богочеловечестве».
Используя центральную идею Шопенгауэра, Соловьев рассмат-
ривает весь внешний мир как «представление», данное человеку в его
сознании. «Если то, что мы видим, есть только представление, — рас-
суждает он, — то из этого не следует, чтобы это представление не име-
ло независимых от нас причин, которые мы не видим. Обязательный
же характер этого представления делает допущение этих причин
необходимым... Но так как относительная реальность этих предметов
234 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и явлений, множественных и разнообразных, предполагает взаимо-
отношение или взаимодействие многих причин, то и производящая их
сущность должна представлять некоторую множественность, так как
в противном случае она не могла бы заключать достаточного основа-
ния, или причины, данных явлений.
Поэтому общая основа представляется необходимо как совокупность
множества элементарных сущностей или причин, вечных и неизменных,
составляющих последние основания всякой реальности, из которых вся-
кие предметы, всякие явления, всякое реальное бытие слагается и на
которые это реальное бытие может разлагаться. Сами же эти элементы,
будучи вечными и неизменными, неразложимы и неделимы. Эти основ-
ные сущности и называются атомами, т.е. неделимыми»1.
Поскольку указанные «атомы», воздействуя на субъект познания, по-
рождают в нем представления, их необходимо наделить внутренним
стремлением, понимать их как динамические силы. С другой стороны,
во взаимных отношениях «атомы-силы» не только действуют друг на
друга, но и воспринимают действие внутри себя; это означает, что они,
как и человек, имеют представления об окружающей их действительности
и, значит, обладают сознанием. «Такие силы суть более чем силы — это
существа»2. Качество каждого такого существа, его «характер», состав-
ляет, по Соловьеву, его идею, которая, с одной стороны, имеет внутреннее
осуществление, это есть субъективная идея, и, с другой —выражение
во внешнем отношении к другим существам, это есть объективная идея.
Подобно тому как отдельные группы понятий (группы идей в их
обычном логическом смысле) в нашем познании связаны друг с другом
родо-видовыми отношениями, связаны между собой и отдельные груп-
пы элементарных «метафизических» существ. «Так является сложный
организм существ; несколько таких организмов находят свой центр
в другом существе с еще более общею или широкою идеей, являясь,
таким образом, частями или органами нового организма высшего по-
рядка, отвечающего или покрывающего собою все низшие, к нему от-
носящиеся. Так постепенно восходя, мы доходим до самой общей и ши-
рокой идеи, которая должна внутренне покрывать собою все осталь-
ные. Это есть идея безусловного блага, или, точнее — безусловной
благости или любви»3. При этом весь организм существ также являет-
ся не только идеей, но и существом — это и есть христианский Бог, или
Христос.
Нетрудно видеть (это признает и сам Соловьев), что вся эта кон-
струкция представляет собой версию платоновского идеального кос-
моса, в котором каждая идея превращена в самостоятельное существо,
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 50.
2 Там же. С. 52.
3 Там же. С. 56.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
235
обладающее сознанием (волей, мышлением, чувством). Одновременно
этот идеальный космос напоминает систему монад Лейбница (Соловь-
ев прямо называет свои существа монадами), только в отличие от по-
следних соловьевские существа находятся в активном взаимодействии,
обладая внутренней свободой и внутренними взаимосвязями друг с
другом.
В завершение этой теории Соловьев вводит два важнейших поня-
тия своей метафизики — понятия Логоса и Софии, с помощью кото-
рых он описывает два аспекта метафизического организма существ,
Христа. «Во всяком организме, — пишет Соловьев, — мы имеем необ-
ходимо два единства: с одной стороны, единство действующего нача-
ла, сводящего множественность элементов к себе как единому; с дру-
гой стороны, эту множественность как сведенную к единству, как опре-
деленный образ этого начала. Мы имеем единство производящее
и единство произведенное, или единство как начало (в себе) и единство
в явлении.
В божественном организме Христа действующее единящее начало,
начало, выражающее собою единство безусловно-сущего, очевидно есть
Слово, или Логос.
Единство второго вида, единство произведенное, в христианской
теософии носит название Софии. Если в абсолютном вообще мы разли-
чаем его как такого, т. е. как безусловно-сущего, от его содержания,
сущности или идеи, то прямое выражение первого мы найдем в Лого-
се, а второго — в Софии, которая, таким образом, есть выраженная,
осуществленная идея... София есть тело Божие, материя Божества, про- /
никнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе I
или носящий это единство Христос, как цельный божественный орга-
низм — универсальный и индивидуальный вместе, — есть и Логос и
София»1. Позже мы еще вернемся к этим определениям Соловьева,
а теперь рассмотрим, как вся эта концепция метафизических существ
помогает решить сформулированные выше проблемы познания.
Во-первых, становится понятным, почему результатом интуитивно-
го акта, лежащего в основе познания, является формирование обособ-
ленной идеи познаваемого предмета. Это связано с тем, что сам Абсо-
лют есть органическая совокупность относительно независимых мета-
физических существ. За каждым познаваемым объектом стоит такое
существо, объективная идея которого и выявляется в познавательном
акте. Для того, чтобы разрешить вторую проблему — объяснить само-
стоятельное значение внешнего, феноменального познания, необходи-
мо вспомнить еще одну составляющую соловьевской «мифологии» —
представление о возникновении нашего реального, раздробленного
мира в результате реализации отдельными элементами всеединства их
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 108.
236 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
внутренней свободы. Рассмотренные метафизические существа, слага-
ющие Абсолют, и являются теми самыми элементами, исключитель-
ное самоутверждение которых становится источником зла и страдания
в мире и которые вызывают «отпадение» феноменального, раздроблен-
ного мира от Абсолюта-всеединства (см. § 3). Наша принадлежность
к «отпавшему» миру приводит к тому, что помимо мистического
единства с познаваемым предметом как метафизическим существом
субъект познания вынужден учитывать и ставшее существенным внеш-
нее отношение к предмету, реализацией чего и является чувственное
восприятие и мышление в понятиях. При этом мышление оказывает-
ся связующим звеном между чисто внешним отношением к предмету,
выражающимся в чувственном восприятии, и внутренним, мистиче-
ским его постижением, которое имеет результатом выявление его идеи.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что рассмотренная теория Соло-
вьева, представляющая Абсолют как органическое единство свободных
метафизических существ (атомов-сил-идей), носит совершенно фанта-
стический характер, и ее «рациональное» выведение является чистой
иллюзией1. Как и во многих других случаях, Соловьев пытается здесь
с помощью псевдорационального построения включить в свою фило-
софскую систему те очень важные интуитивные знания, относящиеся
к пониманию Абсолюта, без которых его система осталась бы неадек-
ватным описанием своего «предмета». В данном случае, как уже было
сказано, это направлено на сглаживание противоречия между двумя
подходами к определению Абсолюта.
Сверхчеловеческий Абсолют, анализ которого составляет главное
содержание метафизики Соловьева, в своем основополагающем опре-
делении (как сущее и всеединство) слишком далек от конкретной че-
ловеческой личности, при том что внутренняя взаимосвязь Абсолюта
с эмпирической личностью является одним из главных принципов
философии Соловьева. Поэтому Соловьев пытается дать такое описа-
ние* структуры» Абсолюта, в котором в качестве важнейшего элемен-
та естественным образом появилась бы человеческая личность; для это-
го он и вводит рассмотренные выше метафизические существа. Не
случайно все разъяснения Соловьева, касающиеся понимания этих
существ, построены на аналогии, проводимой между ними и челове-
ческими личностями. Представляя Абсолют-сущее как органическую
1 Достаточно резкую и во многом обоснованную критику этой теории
дал Е. Трубецкой. См.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева.
Т. 1.С. 286-294. Впрочем, необходимо отметить, что этот аспект системы
Соловьева оказал заметное влияние на философские взгляды его последо-
вателей. Своеобразное отражение и развитие указанной теории можно об-
наружить у многих русских философов начала XX века, наиболее талант-
ливое — у прямого продолжателя соловьевской философии всеединства
Льва Карсавина, в его теории симфонической личности (см. главу 7).
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
237
целостность существ, среди которых, конечно, присутствуют и челове-
ческие личности, Соловьев тем самым дает естественное обоснование
своему утверждению о том, что каждый человек в акте интуитивного
постижения бесконечной глубины своей личности открывает Абсо-
лют — ведь он причастен Абсолюту в одном из «измерений» своего бы-
тия, хотя, вообще говоря, не совпадает с ним.
С другой стороны, рассматривая «второй», становящийся Абсолют
и отождествляя его с совокупным человечеством, Софией, Соловьев не
может обойти проблему реальной разделенности (телесной и духовной)
людей и предметов окружающего материального мира. Простое ука-
зание на то, что в основе этого разделения лежит акт свободной воли
Софии-личности, отделяющей себя от Абсолюта-сущего, невозможно
считать точным объяснением, этот тезис представляет собой типичную
гностическую мифологему, которую Соловьев буквально заимствует у
своих предшественников по гностико-мистической традиции. Пред-
ставление об эгоистическом самоутверждении всех метафизических су-
ществ как источнике «раздробления» мира на изолированные части
является гораздо более логичным и последовательным, хотя тоже не-
сет в себе явный мифологический оттенок.
Таким образом, используя представление об Абсолюте как совокуп-
ности метафизических существ, Соловьев сглаживает остроту противо-
речия между двумя подходами к Абсолюту и дает связное объяснение
причин «отпадения» мира от Абсолюта; однако при этом он не замеча-
ет, что в его учении возникают новые, хотя и не столь заметные проти-
воречия. Прежде всего это касается различия между метафизически-
ми существами и человеческими личностями, составляющими Софию.
По всей логике введения существ-атомов они не должны исчерпывать-
ся человеческими личностями; точнее, последние, взятые в своем бо-
жественном измерении, должны составлять только часть всех существ.
Это следует хотя бы из анализа акта познания; ведь, как мы видели,
Соловьев помещает некоторое метафизическое существо за каждым
предметом познаваемого человеком мира. Но тогда становится совер-
шенно непонятным, почему он выделяет человеческие личности в ка-
честве особого класса существ, объединяя их в Софию. Ведь в своем бо-
жественном содержании все метафизические существа являются рав-
ноправными и в равной степени внутренне связаны друг с другом.
Почему при выявлении их многообразия, при переходе от первого Аб-
солюта ко второму (этот переход осуществляется Логосом), только часть
из этих существ остается в органическом единстве Софии, тогда как дру-
гая часть полностью «растворяется» в мире, занимает чисто внешнее
положение в отношении друг друга, из рассуждений Соловьева понять
невозможно.
Однако самая главная трудность по-прежнему связана с недостаточ-
ной ясностью представлений о том, что же такое Абсолют. Как уже гово-
рилось, сама концепция «организма» метафизических существ вводится
238 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Соловьевым для того, чтобы сгладить явное противоречие между дву-
мя определениями Абсолюта: Абсолюта-сущего как онтологически ре-
ального всеединства и Абсолюта как абсолютного личностного нача-
ла, наиболее адекватно выражающегося в Софии, всеедином человече-
стве (но также и в полноте каждой отдельной личности). Однако
противоположность этих подходов к Абсолюту настолько существен-
на, что введенное понятие оказывается не естественным их синтезом,
а просто промежуточным, гибридным вариантом, механически соеди-
■ няющим отдельные характеристики двух основных. В результате в
«^[тениях о Богочеловечестве» обнаруживаются уже целых три (!) Абсо-
люта (или три подхода к Абсолюту). При этом третий, «промежуточ-
ный» Абсолют (организм существ), с одной стороны, похож на первый
Абсолют, поскольку подобно ему представляет собой всеединство —
органическое объединение всего существующего. Но, с другой сторо-
ны, поскольку в качестве истинно существующего признаются только
метафизические существа (т.е., по сути, личности), их единство ока-
зывается в свою очередь существом-личностью, Христом; в этом смыс-
ле третий Абсолют подобен второму, в котором все человеческие лич-
ности понимаются как целостная свободная личность — София.
С понятием Софии связано новое разительное противоречие. В при-
веденном выше отрывке из «Чтений о Богочеловечестве» София опре-
делялась как реализованный в материальном бытии Абсолют. Посколь-
ку в этом случае Абсолют понимался как организм всех метафизиче-
ских существ (а не только человеческих личностей), София должна
представлять собой материальное воплощение всего этого организма,
а это есть весь материальный мир. Однако Соловьев не делает такого
вывода, казалось бы, совершенно естественного и необходимого, и
утверждает, что «София есть идеальное, совершенное человечество, веч-
но заключающееся в целом божественном существе, или Христе» *, т.е.
дает то же самое определение, которое позже будет развито им в статье
«Идея человечества у Огюста Конта». Эмпирический мир при этом по-
нимается как совокупность «реальных элементов», в которых прояв-
ляется Бог-Логос. Откуда берутся эти элементы, по отношению к кото-
рым реализует себя Логос и в совокупности которых (в эмпирическом
мире) как их объединяющая сила действует человечество-София, понять
в данном случае невозможно2.
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 113-114.
2 А. Лосев, осуществивший детальный анализ понятия Софии у Соловье-
ва, пришел к выводу, что в его сочинениях можно найти десять (!) существен-
но различных смысловых аспектов этого понятия, некоторые из которых
вступают в противоречие друг с другом. Рассмотренные два значения Софии
соответствуют второму и четвертому аспекту в классификации Лосева:
«космологическому», определяющему Софию как «духовную устроенность
космоса в целом», и «антропологическому», задающему «благоустроенность
человечества» (Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. С. 230-231).
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
239
Все эти противоречия свидетельствуют только об одном — о том, что
в мировоззрении Соловьева постоянно борются две тенденции, или два
подхода к объяснению реальности. Первый из них основан на традици-
онном представлении о реальном мире как порождении Бога-Абсолюта
(при этом несущественно, как понимаются Бог и указанный акт порож-
дения) и о человеке, как элементе мира, — пусть даже важном и цент-
ральном элементе, но все-таки существующем в мире, как часть мира,
подчиненного Богу. Во втором подходе главное — это представление
о человеческой личности как истинном Абсолюте и единственном
источнике всей реальности; при этом нужно мыслить не человека
в мире, а мир — в человеке, в человеческой личности, понимаемой в ее
абсолютном метафизическом измерении. Это утверждение, конечно,
ничего общего не имеет с субъективизмом классической философии,
поскольку под «личностью» здесь понимается не «отвлеченное начало»
(дух, субстанция, субъект), а вся полнота реальности, схваченная в ми-
стически-интуитивном, «внутреннем» (т. е. непосредственном) опыте.
Первая тенденция оставалась неизменной в философии Соловьева
в силу его приверженности классическим формам философствования
(традиции «отвлеченных начал»), вторая, несомненно, сформировалась
под влиянием Достоевского. В каждом крупном сочинении Соловьева
можно обнаружить обе эти тенденции, в точках их соприкосновения и
возникают многочисленные противоречия, часть из которых уже была
зафиксирована. Три варианта понимания Абсолюта, возникающие в
«Чтениях о Богочеловечестве», наглядно демонстрируют непримири-
мое столкновение двух устремлений, характерных для творчества Со-
ловьева; причем в каждом из вариантов можно обнаружить их проти-
воречивое сочетание.
Понятие первого Абсолюта, Абсолюта как сущего, стоящего выше
всего бытия, почти целиком определяется первой тенденцией; влия-
ние второй проявляется только в том, что в анализе этого первого Аб-
солюта Соловьев постоянно использует аналогию между Абсолютом
и человеческой личностью. Так, даже троичность Абсолюта-сущего
он интерпретирует через соответствующие аспекты человеческого со-
знания. «Дух как субстанция... есть всегда и необходимо, — объясня-
ет идею троичности Соловьев, — но затем он может попеременно то
ограничиваться этим субстанциальным существованием, пребывать
во внутреннем бездействии, удерживая все свои силы и все свое содер-
жание в глубине существующего нераздельного бытия (первая фаза), то
проявлять и обнаруживать эти силы и это содержание в раздельной со-
знательной жизни, в ряде переживаемых им душевных состояний и про-
изводимых действий (вторая фаза), то, наконец, рефлектируя на эти со-
стояния и эти действия как пережитые и совершенные им, находить их
как свои и вследствие этого утверждать себя, свое я как обладающее теми
силами и проявившее это содержание в этих определенных состояниях
94о И' И- Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и п0КСТВИЯХ (тРетья фаза)»1. Различие между «троичностью» человече-
ское0 сознания и троичностью Абсолюта состоит только в том, что в со-
зна£***и указанные «акты» реализуются последовательно во времени,
в то время как в Абсолюте-сущем они даны в их метафизической одно-
временности.
второй, становящийся Абсолют, который особенно подробно ана-
3^руется в «Критике отвлеченных начал», понимается как София,
как всеединое человечество. Безусловно, здесь господствующей явля-
ете** вторая тенденция, поскольку в этом случае весь эмпирический мир
н^]**ается как своего рода «основа» всеединого человечества, его «ма-
тер*^** Преобразуя эту свою собственную «основу» и «материю», че-
в^ч£Ство идет ко все большему совершенству, высшая форма кото-
рого задается идеалом всеединства. Если присоединить сюда утверж-
дение Соловьева о психологическом, субъективном характере материи,
из коТ°Р0** слагается мир, нетрудно увидеть, что в этой концепции наи-
более полно проявляется именно вторая тенденция; в соответствии с
ней Абсолют нужно понимать как метафизическую личность, вопло-
ше1*нУю в отдельных эмпирических личностях как в своих «ипоста-
сях^, а эмпирический мир — как «внутреннее» состояние указанной
меТ£ф#зической личности. Однако в период написания «Критики отвле-
чен#ь1х начал» и «Чтений о Богочеловечестве» Соловьев еще не прово-
дит концепцию становящегося Абсолюта во всей ее последовательности
(каК ^ы УВИДИМ далее, подходы к последовательному развертыванию
этой концепции Соловьев найдет только в конце своей жизни). Рас-
сматривая этапы становления второго Абсолюта, он вновь отдает дань
адИц;ионной концепции, в которой человек предстает как элемент
мир&> а МИР выстУпает как самостоятельное развивающееся бытие.
Здесь сказывается увлечение Соловьева современными ему научны-
ми теориями и его особое внимание к теории эволюции. В результате
в «Чтениях о Богочеловечестве» развитие второго Абсолюта в существен-
ном совпадает с развитием самого материального мира от хаотического
состояния космической материи до образования планетных систем, воз-
никновения жизни и человека2. Впрочем, анализируя это развитие, Со-
ловьев утверждает, что мировая душа (София) действует как объединяю-
щее начало на всех его этапах, даже на тех, когда еще нет человека;
например, в исходной точке мирового генезиса она проявляется как тя-
готение материальных масс: «Мировая душа первоначально, как чис-
тое бессодержательное стремление к единству всего, может получить это
единство сперва лишь в самой общей и неопределенной форме (в законе
всеобщего тяготения)»3. Совместить это утверждение с пониманием
1 Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. С. 88.
2 там же. С. 133-142.
зт/аМ же. С. 138.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
241
Софии как всеединого человечества можно только в том случае, если
признать весь мир вторичным по отношению к Софии (Абсолюту-лич-
ности). Основа для такой интерпретации у Соловьева есть, поскольку
чуть раньше в той же работе он признал весь мир представлением, т. е.
феноменальным, вторичным бытием. Однако это признание относилось
только к зависимости мира от Абсолюта-сущего (первого Абсолюта).
Можно ли считать его в такой же степени вторичным по отношению
к Абсолюту-личности (второму Абсолюту, Софии), остается неясным1.
Все десятое чтение «Чтений о Богочеловечестве», посвященное эволю-
ции природы, пронизано духом наивного реализма, не предполагаю-
щего первичности или хотя бы равноправия человека (пусть даже в его
метафизическом измерении) по отношению к природе. Человек рас-
сматривается здесь только как результат природной эволюции. «Пос-
ле всего... космогонического процесса, — пишет Соловьев, — в кото-
ром божественное начало, соединяясь все теснее и теснее с мировой ду-
шою, все более и более осиливает хаотическую материю и наконец
вводит ее в совершенную форму человеческого организма, — когда та-
ким образом создана в природе внешняя оболочка для божественной
идеи, начинается новый процесс развития самой этой идеи как начала
внутреннего всеединства в форме сознания и свободной деятельности»2.
Человек, его сознание и его деятельность в мире оказываются только
последней и наиболее развитой формой воплощения души мира, это
означает, что нет полного тождества между человечеством и Софией;
такой вывод явно противоречит многочисленным определениям Софии
как всеединого человечества3.
Наконец, в определении третьего Абсолюта, Абсолюта как организ-
ма метафизических существ, также заметно сочетание двух упомяну-
тых выше тенденций философии Соловьева. Как уже говорилось, сами
метафизические существа являются некими обобщениями челове-
ческих личностей, и составленность Абсолюта из этих существ под-
черкивает фундаментальное значение человека. Однако и здесь эта
1 Против утвердительного ответа на этот вопрос свидетельствует, напри-
мер, различение Соловьевым «идеального» и «реального» пространства:
«Реальное пространство не состоит только в форме протяженности —
такую форму имеет всякое бытие для другого, всякое представление, про-
тяженным или пространственным в этом смысле, т. е. формально, являет-
ся все содержание даже внутреннего психического мира, когда мы его
конкретно представляем; но это пространство есть только идеальное, не
полагающее никакой постоянной и самостоятельной границы для наше-
го действия; реальное же пространство, или внешность, необходимо про-
исходит из распадения и взаимного отчуждения всего существующего...»
(там же. С. 133).
2 Там же. С. 139.
3 По этому поводу см. прим. 2 на с. 238.
242 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
тенденция не проведена во всей ее полноте, поскольку метафизические
существа оказываются абстрактными «конструкциями», не выража-
ющими всей конкретной полноты бытия личности. Но главный недо-
статок этого представления об Абсолюте заключается в том, что модель,
которую Соловьев использует для описания взаимосвязи существ —
единство клеток в живом организме, — вносит в это представление яв-
ный пространственный аспект (заставляющий мыслить существа как
бы рядоположенными в некотором метафизическом «пространстве»),
что вряд ли можно считать соответствующим идее органического един-
ства личностей в рамках Абсолюта-личности. (По отношению к послед-
нему более подходящей представляется аналогия, соотносящая отдель-
ные эмпирические личности с измерениями пространства.) Впрочем,
введение указанного пространственного аспекта не является случай-
ным, он позволяет Соловьеву естественным образом объяснить «отпа-
дение» материального мира от Абсолюта через эгоистическое само-
утверждение отдельных существ. При этом метафизическое «простран-
ство» их сосуществования превращается в реальное пространство
эмпирического мира.
В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев дает изложение всех важ-
нейших принципов своей системы, и одновременно здесь выявляются все
ее проблемы и противоречия. Поскольку главной целью философии Со-
ловьева является объяснение человека, все они сходятся в центральном
пункте — в метафизическом учении о человеке (т. е. в учении о Софии).
Прежде всего здесь приходится вспомнить уже не раз упоминав-
шееся выше противоречие. Полагая, что отдельный эмпирический
человек есть только «абстракция», немыслимая в отдельности от все-
единого человечества, т. е. в отдельности от божественной Софии, пред-
ставляющей собой материальное воплощение Абсолюта, Соловьев тем
самым утверждает, что каждый человек уже в его земном, эмпириче-
ском состоянии обладает некоторым измерением, в котором он причас-
тен абсолютному божественному совершенству. При последовательном
проведении этой точки зрения Соловьеву пришлось бы признать, что
человеку не нужна его земная жизнь, и он не должен стремиться к ее
преобразованию и усовершенствованию, поскольку уже обладает совер-
шенством, которое будет всецело выявлено после смерти. Соловьев не
делает такого вывода и тем самым показывает, насколько большое зна-
чение имеет для него тот этический принцип, который объединяет его с
Достоевским. Этот принцип — требование от человека непрерывной борь-
бы за совершенство и гармонию против зла и страданий, господствую-
щих в мире. Однако бороться можно только за то, что еще не есть реаль-
ность, что только должно стать реальностью; борьба имеет смысл толь-
ко против реальной силы, которая способна восторжествовать, если
борьба будет неудачной для человека. Если мир есть только видимость,
феноменальная иллюзия, это требование обосновать невозможно.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
243
В результате, Соловьев вынужден в понимании человека искусст-
венным образом соединять два противоположных подхода, что порож-
дает резкий дуализм в описании человеческой сущности. Место отверг-
нутого им дуализма материального и духовного занимает дуалисти-
ческое противопоставление божественного и земного содержания
человеческой личности, причем и божественная и земная составляю-
щие предстают как духовно-материальные целостности, отличающие-
ся только тем, что одна совершенна, а другая — нет. Соотвэтственно,
приобретает двойное значение и идея Богочеловечества.
С одной стороны, каждый из нас, будучи причастным единству Со-
фии, тем самым совместно со всеми причастен божественному совер-
шенству; в этом смысле идея Богочеловечества — это выражение на-
шего уже обретенного совершенства, уже реального божественного
состояния человека. Но, с другой стороны, признание самостоятель-
ности эмпирического, земного бытия человека ведет к пониманию Бого-
человечества как несовершенного земного объединения людей, осуще-
ствляемого ради борьбы за достижение совершенства в этой земной
жизни. Божественный характер Богочеловечества в этом случае свя-
зан только с тем, что человек и человечество в своем сознании несут
идеальный образ грядущего совершенства и имеют силы для его реа-
лизации. Очевидно, что второй смысл идеи Богочеловечества созвучен
мировоззрению Достоевского, в то время как первый ведет к буддий-
скому идеалу пассивного «изживания» мира.
Два смысла Богочеловечества отражаются в двух различных интер-
претациях образа Христа. С одной стороны, Христос — это онтологи-
чески реальное божественное единство всех метафизических существ,
всего мира, личностное выражение этого единства. Для земного чело-
века такой Христос оказывается сверхчеловеческим объектом покло-
нения, а не конкретной исторической личностью. В рамках второго
понимания Богочеловечества Христос — это конкретный человек, впер-
вые осуществивший в себе свою божественность — т.е. продемонстри-
ровавший тот идеал, к которому должно идти человечество. Соло-
вьев пытается соединить оба этих понимания, преодолеть их противо-
речие; но в конечном счете это ведет к тому, что исторический Христос
становится символом метафизического Христа, символом сверхчело-
веческой реальности Абсолюта-сущего, Абсолюта-всеединства. Такое
символическое отношение Христа исторического к Христу метафизи-
ческому задает ключевую «парадигму» философского мировоззрения
Соловьева. Все явления земной исторической действительности в све-
те указанного дуализма земного и божественного точно так же приоб-
ретают символический смысл, превращаются в условные свидетельства
высшей реальности, в которой и заключается главное для человека.
Этот мистический символизм является одной из характерных черт ми-
роощущения Соловьева, порождая своеобразную «настроенность» на ин-
туитивно-чувственное проникновение в запредельную, божественную
244 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX- XX веках
реальность и уверенность в близости этой реальности (что, однако, не
снимает дуального противостояния божественного и земного)1. Ка#
известно, эта составляющая мировоззрения Соловьева получила осо-
бенно яркое воплощения в его стихотворениях и затем была унаследо-
вана русскими поэтами-символистами.
§ 7. Оправдание добра и проблема бессмертия
Только в поздних сочинениях Соловьева мы находим очевидные
попытки преодолеть внутреннюю противоречивость прежнего подхо-
да к человеку. Как и в начале своих творческих поисков, он открывает
последний этап своего философского развития с изложения этики и пи-
шет самый фундаментальный из своих трудов — «Оправдание добра»
(первое издание — 1897 г.).
Здесь мы находим однозначное перемещение центра тяжести с по-
нимания Абсолюта как онтологической реальности на его понимание
как идеала для деятельности человека в мире. Это выражается прежде
всего в том, что Соловьев разрывает непосредственную зависимость эти-
ки от метафизики. В ранней работе «Критика отвлеченных начал» он
решительно утверждал такую зависимость. Задача этики состоит в том,
чтобы показать человеку положительную цель его деятельности и до-
казать осуществимость этой цели. «Но осуществимость этой цели, —
полагал Соловьев, — зависит, очевидно, не от ее внутреннего достоин-
ства или желательности, а от объективных законов сущего, которые
составляют предмет не этики, или практической философии, а фило-
софии теоретической, принадлежат к области чистого знания. В этой
области должен быть решен вопрос о подлинном бытии истинного аб-
солютного порядка, на котором единственно может основываться дей-
ствительная сила нравственного начала»2. Это означает, что только
установив в метафизике онтологическую реальность Абсолюта как осу-
ществленного совершенства, мы можем обосновать этические нормы,
задающие цель человеческой деятельности.
В «Оправдании добра» Соловьев отказывается от этой позиции и
утверждает, по сути, прямо противоположное: «Не имея претензии
на теоретическое познание каких бы то ни было метафизических сущно-
стей, этика остается сама по себе безучастной к спору между догмати-
ческою и критическою философией, из коих первая утверждает действи-
тельность и возможность такого познания, а вторая, напротив, отрицает
его возможность, а потому и действительность»3. Только два метафи-
зических вопроса Соловьев признает непосредственно относящимися
1 См.: Трубецкой Е. Я. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 15-44.
2 Соловьев Б. С. Критика отвлеченных начал. С. 596.
3 Он же. Оправдание добра // Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 1. С. 106;
ср.: там же. С. 100.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
245
к вопросам нравственности и требующими предварительного решения:
вопрос о бытии других существ и мира вокруг нас и вопрос о свободе
воли. Однако они не имеют никакого отношения к проблеме онтологи-
ческого предсуществования идеальной цели человеческой деятельно-
сти, а относятся только к условиям реализации этой деятельности.
Отвергая жесткую зависимость этики от метафизики, Соловьев в то
же время признает ее тесную взаимосвязь с религией, с верой в Бога.
При этом очень характерно, как Соловьев понимает здесь Бога. «Дей-
ствительность божества не есть вывод из религиозного ощущения, а
содержание этого ощущения — то самое, что ощущается. Отнимите
эту ощущаемую действительность высшего начала — ив религиозном
ощущении ничего не останется. Его самого не будет больше. Но оно
есть, и, значит, есть то, что в нем дано, то, что в нем ощущается. Есть
Бог в нас, — значит, Он есть.
Как бы полно ни было ощущение нашего внутреннего единства
с Богом, оно никогда не переходит в сознание простого, безразличного
тождества, или слияния... Когда нам приходится говорить кому-ни-
будь: Бога нет в тебе, то всякий понимает, что это не есть отрицание
божества, а только признание нравственной негодности того человека,
в котором не нашлось места для Бога, т. е. никакой внутренней вос-
приимчивости для действия Божия... В настоящем религиозном чув-
стве божество полагается как полнота всех условий нашей жизни, или
то, без чего жизнь была бы для нас бессмысленна и невозможна, как
первоначало, как истинная среда и как окончательная цель существо-
вания. Так как все уже есть в Боге, то от себя мы не можем привнести
ничего, никакого нового содержания: мы не можем сделать, чтобы аб-
солютное совершенство стало совершеннее. Но мы можем все более и бо-
лее усвоять его, все теснее и теснее с ним соединяться. Таким образом,
мы относимся к божеству как форма к содержанию»1.
Важно отметить в этом рассуждении два момента. Во-первых, хотя
Соловьев продолжает подчеркивать, что Бог реально существует и
«есть нечто отличное и независимое от нас... выше и больше, чем мы»2,
нетрудно видеть, что это — только формальное признание, не играю-
щее теперь принципиальной роли; для новой версии этики Соловьева
Бог важен не столько как сверхчеловеческая реальность, уже содер-
жащая все то, что предстоит совершить человеку, сколько как реаль-
ная сила в человеке, которая определяет его действия в направлении
совершенствования себя и мира3. Весь смысл человеческой деятель-
ности состоит в том, что через нее содержание, которое «задано»
1 Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 250.
2 Там же.
3 Е. Трубецкой в своем анализе книги Соловьева высказывает недоуме-
ние по поводу того, как Соловьев мог не заметить явного противоречия:
246 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Богом, становится действительностью нашего мира. Что изменится,
если мы вдруг узнаем, что Бог-совершенство есть не онтологическая
реальность вне нас, а только идеал, в который мы искренне верим? Если
мы с неизбежностью приходим к вере в идеал и вера наша по-настоя-
щему тверда, то это только придаст нашей борьбе больший трагический
оттенок, сделает менее определенным ее успешный результат, но не
изменит самой нацеленности на борьбу.
Во-вторых, Соловьев отказывается от идеи действительного и пол-
ного единства человека (эмпирического человека!) с Богом. На пер-
вый взгляд это выглядит как возврат к точке зрения ортодоксально-
го христианства, признающего бесконечное различие между реаль-
ным божественным совершенством и человеческим несовершенством.
Однако этой интерпретации однозначно противоречит утверждение о
том, что «мы относимся к божеству как форма к содержанию». Что
это за абсолютное совершенство, которое еще нуждается в форме? Оче-
видно, что это может быть только совершенство в идее, т. е. идеал, ко-
торому еще необходимо обрести реальную форму, которому еще пред-
стоит быть воплощенным в несовершенном мире. Отрицание единства
человека с Богом в данном случае означает, что человек не обладает
божественным, абсолютным совершенством, у него нет божественно-
го измерения (в противоположность тому, что утверждалось в «Чте-
ниях о Богочеловечестве»), и это измерение отсутствует просто по той
причине, что сам Бог есть только идеал, только «содержание», кото-
рое человек должен воплотить в материальной действительности. Это
не приводит к отказу от идеи Богочеловечества, однако в отличие от
прежнего понимания этой идеи, противоречиво сочетавшей два по-
лярных смысла, теперь Соловьев окончательно делает выбор в пользу
второго, т. е. определяет Богочеловечество как совокупное человече-
ство, пребывающее в его земном, несовершенном состоянии, но обла-
дающее идеалом совершенства и силами для реализации этого идеа-
ла в своей земной жизни (что и составляет истинную абсолютность
человека).
Сама необходимость «оправдания добра» возникает в связи с тем, что
идеал добра и совершенства, составляющий « содержание» Бога, еще не есть
«окончательное» добро, поскольку этот идеал еще не стал реальностью
утверждая независимость этики от метафизических вопросов, он посто-
янно использует метафизические постулаты, из которых главный —
утверждение об объективном предсуществовании божественного совершен-
ства (см.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т.2. С. 51-55).
Однако в данном случае Трубецкому не хватает чуткости в восприятии той
перемены, которая произошла с Соловьевым; он не видит, что указанный
метафизический постулат теряет свое прежнее значение и превращается
в формальное утверждение.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
247
в нашем мире. Только историческое осуществление идеала позволит
говорить, что добро является «оправданным» в его стремлении пере-
устроить мир по своим законам. И важнейшим условием его осуще-
ствления является деятельность человека, без которой «Царство Бо-
жие» останется только идеальной целью, а не полноценной действи-
тельностью нашего мира. «Человек дорог Богу не как страдательное
орудие Его воли, — пишет Соловьев, — таких орудий довольно и в мире
физическом, — а как добровольный союзник и соучастник Его все-
мирного дела. Это соучастие человеческое непременно входит в са-
мую цель Божьего действия в мире, ибо если бы эта цель мыслима
была без деятельности человека, то она была бы уже от века до-
стигнута, так как в самом Боге не может быть никакого процесса
совершенствования, а одна вечная и неизменная полнота всех благ...
Без сомнения, всякое положительное содержание жизни, а тем бо-
лее ее совершенство человек получает от Бога; но чтобы быть спо-
собным получить его, чтобы стать восприимчивою формой боже-
ственного содержания (а в этом только и состоит человеческое со-
вершенство), необходимо, чтобы человек действительным опытом
отделался и очистился от всего несовместимого с этим совершенным
состоянием, что и достигается для совокупности всех людей в исто-
рическом процессе, чрез который таким образом осуществляется
воля Божия в мире»1 (курсив мой. — И. Е.). Богочеловечество —
это историческая роль человечества по реализации божественного
совершенства в мире, причем божественное совершенство самого
человека достижимо только в конце этого процесса, хотя Бог как
реальная сила, реальная устремленность к совершенству действу-
ет в человеке постоянно, и именно в наличности этой силы смысл
Богочеловечества.
Выразительное подтверждение произошедших в мировоззрении
Соловьева перемен дает одно из самых известных его сочинений, ко-
торому суждено было подвести итог его творческой биографии —
«Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899).
Здесь Соловьев впервые высказывает явные сомнения в возможно-
сти окончательного воплощения Царства Божьего в мире и одно-
временно впервые признает, что зло обладает реальной силой, что
оно способно победить добро в мире, в связи с чем особое внимание
уделяется резкой критике учения Л. Толстого о «непротивлении злу
силой».
Часто это произведение Соловьева противопоставляют всем его пред-
шествующим трудам и рассматривают как признак его разочарования
в основах своего учения (наиболее радикальным сторонником этой точ-
ки зрения был Л. Шестов, о чем речь будет идти в следующей главе).
1 Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 258-259.
248 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Однако проведенный анализ этики Соловьева, изложенной в «Оправ-
дании добра», позволяет дать другую интерпретацию «Трем разгово-
рам» . Возможно, в этом сочинении Соловьев пришел к ясному осозна-
нию последствий всех тех изменений, которые произошли в основани-
ях его нравственной философии.
Непоколебимая уверенность в непременном осуществлении боже-
ственного совершенства в мире, пронизывавшая почти все его рабо-
ты, безусловно, основывалась на убеждении в онтологической реаль-
ности всеединого Абсолюта, «возвращение» к которому «отпавше-
го» мира и является единственной целью мирового развития. Даже
когда Соловьев отвергал непосредственную зависимость этики от
метафизики и, по существу, отказывался от представления об онто-
логически реальном Абсолюте-сущем, инерция эсхатологического
«оптимизма» все-таки заставляла его настаивать на гарантирован-
ном осуществлении конечной цели нравственной деятельности. Ведь
сама эта цель вполне доступна для рационального осмысления; кро-
ме того, ее универсальность имеет явное эмпирическое подтвержде-
ние в закономерностях естественного развития природы и истори-
ческого генезиса человечества. Даже если мы не можем доказать уже
наличную реальность всеединства, тот факт, что мы без малейшего
труда способны создать представление об этом абсолютном всеедин-
стве и осознать его превосходство над окружающей действительно-
стью, доказывает, что указанная цель не может быть просто нашей
субъективной фантазией, но отвечает чаяниям всего существующе-
го. Тем более что Абсолют-всеединство, лишаясь качества наличной,
«готовой» реальности, не превращается в чистый идеал, в бессиль-
ное идеальное представление, служащее только для «теоретической»
оценки совершенства или несовершенства земной жизни, у него
сохраняется реальность объективной силы, действующей в челове-
ке, беспрекословного требования к осуществлению совершенства
и устранению несовершенства. Этой «степени» реальности, припи-
сываемой Абсолюту-всеединству, оказывается достаточной для того,
чтобы Соловьев сохранил и в «Оправдании добра» тот же оптимис-
тический пафос, который пронизывал все его предшествующие
работы.
Но если вся реальность Абсолюта заключается в том «устремлении
к добру», которое человек находит в себе в качестве фундаментального
измерения своего бытия, возникает соблазн простого решения пробле-
мы зла и борьбы со злом. Зло в этом случае может показаться не пред-
ставляющим из себя ничего существенного, оно есть просто недостаточ-
ная выявленность, недостаточное развитие внутренней «силы к добру»
в человеке. Соответственно, борьба со злом должна заключаться просто
в создании условий для раскрепощения указанной «силы» в каж-
дом человеке. Нетрудно понять, что это ведет к известному учению
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
249
Л. Толстого о «непротивлении злу силой», основанному как раз на по-
стулате «Бог есть добро», т. е. Бог есть сила к добру в человеке, взятая
вместе с ее целью — самим добром.
Неявно отказавшись в «Оправдании добра» от прежней позиции,
привязывающей этику к метафизике и основанной на признании су-
ществования сверхчеловеческого Абсолюта, Соловьев в то же время
пытается избежать противоположной крайности, воплощением ко-
торой является учение Толстого (позже Л. Шестов будет утверждать,
что в «Оправдании добра» Соловьев полностью разделяет это учение).
Сведение Абсолюта к добру, или к «силе добра», действующей в че-
ловеке, оказывается недостаточным для «оправдания» добра, по-
скольку в этом случае невозможно обосновать даже уже существую-
щее, относительное совершенство человеческого общества и уже
существующие, относительные институты человеческой деятельнос-
ти в мире (реальное государство, реальную Церковь, реальный куль-
турный прогресс — все то, что столь яростно отвергает в своих позд-
них произведениях Толстой). Абсолют не может быть отождествлен
с «устремлением к добру», действующим в человеке, если сам эмпи-
рический человек как единственный носитель этой силы признается
смертым.
Чтобы «устремление к добру» могло быть понято как действи-
тельный Абсолют, а не как относительная склонность, целиком под-
чиненная интересам изолированной личности, необходимо признать
(хотя бы в какой-то «минимальной» степени) абсолютность самой
эмпирической личности. Именно в этом весь пафос критических воз-
ражений Соловьева в адрес Толстого: он доказывает, что постулат «Бог
есть добро» недостаточен для обоснования положительной этики, его
итогом может быть только субъективистская, «анархическая» этика
Толстого. Для получения положительной этики необходимо скоррек-
тировать указанный постулат, он должен выглядеть так: «Бог есть абсо-
лютный (бессмертный) человек, в котором действует сила к добру». Но
такой абсолютный человек — т. е. эмпирический человек, в своей жиз-
ни реализовавший свою абсолютность как преодоление смерти, — это
исторический Христос (про «метафизического» Христа Соловьев здесь
не вспоминает). В результате в своей последней крупной работе Соло-
вьев приходит к такому же точно пониманию главного символа хрис-
тианства, какое было характерно для Достоевского. Не случайно во-
прос о смерти и возможности воскресения является одним из централь-
ных в «Трех разговорах», причем рассуждения героев диалогов очень
похожи на те мысли, которые высказывал Достоевский.
Воспроизводя основные постулаты учения Толстого, Соловьев уста-
ми главного персонажа диалогов господина Z (который обращается
к князю — защитнику указанного учения) делает такой неутешитель-
ный вывод из этого учения: «Да ведь вы же не отрицаете, что Христос
250 И, И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело (дело
добра и нравственного героизма. — И. Е.) и отдали за него жизнь свою,
и если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чем же
для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только
и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно
одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губите-
лей, и для его восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умер-
ли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из пропо-
веди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит
и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществую-
щее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтоже-
ство»1. И затем формулирует свое окончательное мнение: «Действитель-
ная победа над злом в действительном воскресении. Только этим... от-
крывается и действительное Царство Божие, а без этого есть лишь
царство смерти и греха и творца их, диавола. Воскресение — только не
в переносном смысле, а в настоящем — вот документ истинного Бога...
Раз я верю в Добро и в его собственную силу и в самом понятии этой
доброй силы утверждаю ее существенное и безусловное превосходство,
то я логически признаю такую силу неограниченною, и ничего не пре-
пятствует мне верить в истину воскресения, засвидетельствованную
исторически»2.
В последней своей работе Соловьев еще раз возвращается к той про-
блеме, с которой началось его философское творчество, — к проблеме
преодоления «отвлеченных начал» — и, по сути, признает, что все его
предыдущие решения этой проблемы не могут считаться удовлетвори-
тельными. Это проявляется в новом понимании исторического Хрис-
та: «...Христос есть индивидуальное, единственное в своем роде и, сле-
довательно, ни на что другое не похожее воплощение своей сущности —
добра»3. Это означает, что единственным по-настоящему абсолютно
конкретным началом является индивидуальная человеческая лич-
ность, раскрывшая всю полноту своего бытия. Только реально действую-
щая в такой личности сила добра является Абсолютом, способным
обосновать этику. В этом случае зло представляет собой те «низшие
качества» (по выражению Соловьева)4, которые противодействуют рас-
крытию всей полноты конкретного, индивидуального бытия личности
и которые получают зримое и могущественное выражение в феномене
смерти (а также в любой форме ограниченности человека). Каждый
человек воплощает в своей земной жизни бесконечное содержание
1 Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной
истории // Соловьев В. С. Собр. соч. в 2-х т. М., 1988. Т. 2. С. 726.
2 Там же. С. 733.
3 Там же. С. 734.
4 Там же. С. 727.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
251
своего бытия, свою абсолютность, только в ограниченном виде, но Хрис-
тос, продемонстрировав, что возможно полное, окончательное воплоще-
ние абсолютности личности, стал гарантией этого для каждого из нас и
задал требование к такому воплощению уже в земной жизни. Выпол-
няя это требование, осуществляя усилия по раскрытию всей полноты
своего индивидуального бытия, каждый человек оказывается подоб-
ным Христу.
Совершенно естественно, что ясное осознание Соловьевым неудачи
своих прежних попыток построить метафизику, полностью преодоле-
вающую традицию «отвлеченных начал», требовало от него осуществ-
ления новой попытки, в которой были бы учтены ошибки предыдущих.
Ее замысел мы находим в трех статьях, объединенных позже под за-
главием «Теоретическая философия». Здесь Соловьев возвращается
к самой плодотворной идее своей работы «Кризис западной филосо-
фии» , оказавшейся в более поздних работах заслоненной более ярки-
ми, но менее глубокими в метафизическим плане принципами и идея-
ми, — к идее основополагающего значения «внутреннего опыта», в ко-
тором эмпирический человек открывает всю бесконечную полноту и
конкретность своей личности и осознает выявленное личностное начало
как Абсолют.
§ 8. Новый подход к Абсолюту
Как мы помним, в «Кризисе западной философии» Соловьев, рас-
сматривая проблему взаимосвязи Абсолюта, открываемого лично-
стью в своем «внутреннем опыте», и самой этой эмпирической лично-
сти, в конечном счете пришел к традиционной схеме, в основу которой
положено отношение всеобщей духовной субстанции (сущего всееди-
ного) к подчиненному ей частному «модусу», — т. е. неявно вернулся
к отвергнутой им модели классического идеализма. В дальнейшем
эта модель продолжала оказывать влияние на его философские по-
строения, причем в «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьев уже пря-
мо апеллирует к Платону и Лейбницу при описании Абсолюта как
организма метафизических существ. Та корректировка основопола-
гающих принципов, начало которой было положено книгой «Оправ-
дание добра», конечно же, не могла не затронуть важнейшей части
философской системы Соловьева — его метафизики, его концепции
Абсолюта. К сожалению, смерть помешала ему наметить контуры
новой концепции, однако те предварительные наброски, которые
мы находим в «Теоретической философии», позволяют сделать опре-
деленные выводы относительно главных направлений развития его
метафизических идей.
Прежде всего здесь происходит окончательный отказ от традици-
онной философской модели взаимоотношений Абсолюта и личности,
252 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в основу которой положено понятие субстанции (эту модель Соловьев
называет спиритуалистическим догматизмом). Правильное развитие
идеи «внутреннего опыта» заключается не в отделении интуитивного
акта (подразумеваемого в понятии «внутреннего опыта») от его пред-
полагаемого объекта и не в полагании этого объекта в качестве осо-
бой сверхчеловеческой реальности, а, наоборот, — в признании в ка-
честве Абсолюта самого процесса осуществления этого интуитив-
ного акта9 взятого во всей его полноте, как интуитивное схватывание
бесконечно богатого и всецелого «жизненного мира* (в единстве его
объективной и субъективной составляющих), по отношению к кото-
рому «жизненный мир» отдельной эмпирической личности выступа-
ет как его определенное ограничение, «редукция», «сужение». Опре-
деляя субъект философии (метафизики) как «становящийся разум
истины*1 у Соловьев, по всей видимости, имеет в виду именно такое
понимание Абсолюта, получаемое не в результате отвлечения от кон-
кретности «жизненного мира» личности, а, наоборот, с помощью его
углубления и «пополнения» до всеобщего, всеединого «жизненного
мира», в котором относительная истина, принадлежащая «жизнен-
ному миру» данной эмпирической личности в данный момент, «здесь
и теперь», дополняется содержанием всех возможных «жизненных
миров» и становится абсолютной истиной. «На... требование школь-
но-житейского воззрения, как на вопрос ослепленного циклопа По-
лифема, субъект философии должен, подобно хитроумному Одиссею,
ответить так: "Кто я? — Никто!" А если тот будет настаивать и оби-
жаться, можно дать этому ответу такое пояснение: вопрос эмпириче-
ского воззрения: кто ты? — может быть обращен лишь к эмпирическо-
му же субъекту, который не имеет надобности скрывать своего имени:
это каждый раз есть тот обыватель, что по тем или другим побуждени-
ям решается философствовать, сначала отрешившись от школьных
предрассудков...
Предположение спиритуалистического догматизма о безусловной
истинности отдельных реальных единиц сознания, которые, однако,
уже самою множественностью своею обличаются как условные, — это
предположение ясно показывает, что мысль еще не стала здесь на без-
условную, или истинно-философскую, точку зрения. А как только она
на нее становится, хотя бы сперва лишь в качестве философского тре-
бования или замысла, так сейчас же неизбежно философствующий
субъект перестает сосредоточиваться на своей мнимой субстанциально-
сти — умственный центр тяжести с внутреннею необходимостью пере-
станавливается из его ищущего я в искомое, т. е. в саму истину, а эм-
1 Соловьев В. С. Теоретическая философия // Соловьев В. С. Собр. соч.
в 2-х т. М., 1988. Т. 1.С. 820.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
253
пирическая отдельность и обособленность его я естественно отпадает
по принадлежности в область житейского, практического сознания,
переставшего ограничивать круг его истинного самосознания»1.
По отношению к указанному «становящемуся разуму истины» все
отдельные эмпирические «я» выступают как «условные логические
подставки», т. е. как ипостаси в точном значении этого термина
(hypostasis — подставка)2. Это новое понимание отдельной личности
вызвало резкие возражения Л. Лопатина3, отстаивавшего позицию,
близкую к прежним взглядам Соловьева, и полагавшего, что личности
представляют собой независимые динамические субстанции, подобные
монадам Лейбница, в своем взаимодействии образующие единую орга-
ническую систему (позже подобную концепцию развивал Н. Лосский).
Соловьев не ответил на критику публично, однако в одном из его част-
ных писем содержится весьма оригинальный ответ Лопатину — в виде
шуточного стихотворения. Самая важная идея, содержащаяся здесь, —
это образное представление жизни как Гераклитова потока, в котором
не существует ничего устойчивого, никаких субстанций; поскольку
человек целиком погружен в этот поток, то и его невозможно считать
субстанцией4. Очевидно, что используемый Соловьевым термин
«жизнь» в данном контексте необходимо понимать не в эмпирическом,
а в метафизическом смысле, как тот Абсолют, «сужением», «проявле-
нием», «ипостасью» которого выступает отдельная личность.
Идея фундаментального значения времени для бытия человека
также ясно прослеживается в «Теоретической философии». Крити-
куя идею субстанциальности души, идущую от Декарта, Соловьев
утверждает, что по-настоящему исходным, тем, что не подлежит сомне-
нию в нашем познании, является «самодостоверность наличного со-
знания», самодостоверность потока наличных фактов; причем по
отношению к этому потоку бессмыслен вопрос о том, чье это созна-
ние. Только над этим уровнем наличного конкретного сознания над-
страиваются структуры логического мышления и появляется возмож-
ность говорить об истине; на этом вторичном уровне, в свою очередь,
1 Соловьев В. С. Теоретическая философия. С. 821-822.
2 Там же. С. 821; ср.: «что мы обыкновенно называем нашим Я, или
нашей личностью, есть не замкнутый в себе полный круг жизни, облада-
ющий собственным содержанием, сущностью или смыслом своего бытия,
а только носитель или подставка (hypostasis) чего-то другого, высшего»
(Соловьев В. С. Понятие о Боге // Соловьев В. С. Собр. соч. в 10-ти т. СПб.,
1911-1914. Т. VIII. С. 18).
3 См.: Лопатин Л, М. Вопрос о реальном единстве сознания // Лопа-
тин Л. М. Аксиомы философии. М., 1996. С. 222-238.
4 См.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 2. 236-241.
254 Я. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
можно дать конструктивное определение субъекта познания, «я» (уже
в смысле абстрактного, «отвлеченного» начала). Соловьев не успел
подробно проанализировать характер тех структур, которые задают
указанный вторичный уровень (или уровни?) восприятия и познания
мира. Однако он указывает три главных элемента, ответственных за
формирование этих структур, т. е. задающих форму истины, — это
память как «реакция против времени со стороны чего-то сверхвре-
менного» , слово как «обобщение сохраненных памятью психических
фактов» и замысел как «намерение, предшествующее мысли и, сле-
довательно, стоящее за мыслью»1. К сожалению, этот весьма интерес-
ный подход остался неразработанным, и можно только догадывать-
ся, какую форму приобрела бы теоретическая философия Соловьева
в ее окончательном варианте.
Нарастание имперсоналистских мотивов в поздних работах Со-
ловьева, вызвавшее резкую критику Лопатина, действительно име-
ет место. Однако было бы ошибочным на основании этого радикаль-
но противопоставлять позднее творчество Соловьева его более ран-
ним взглядам (как это делает, например, Е. Трубецкой). Тенденция
к умалению значения отдельной личности всегда была присуща со-
ловьевской системе, и связана она была с главным принципом ранне-
го Соловьева — с признанием человека в одном из своих измерений
принадлежащим сверхчеловеческому Абсолюту-сущему. В поздней
концепции Соловьева происходит отказ от такого сверхчеловеческо-
го, «абстрактного» Абсолюта2; новое понимание Абсолюта, наобо-
рот, ставит акцент на его конкретном характере и его иррациональ-
ном тождестве с отдельной личностью (вспомним суждение о пре-
дельной, невыразимой индивидуальности абсолютного человека —
исторического Христа). Впечатление о господстве имперсоналист-
ской тенденции в поздних работах Соловьева возникает только по-
тому, что, обращая особое внимание на более точное определение
различий, существующих между Абсолютом (понимаемым по-ново-
му, как «становящийся разум истины») и эмпирической личностью
(как ипостасью, «измерением», «срезом» Абсолюта), он решительно
отказывается от традиционной модели человека-атома, в которой че-
ловек подчинен Абсолюту и миру точно так же, как часть подчинена
целому.
1 Соловьев В. С. Теоретическая философия. С. 808, 809, 813.
2 Возможно, именно это привело А. Введенского к выводу (конечно же,
неверному), что в «Теоретической философии» Соловьев полностью отка-
зался от своей прежней мистической системы и приблизился к кантов-
скому критицизму; см.: Введенский А. И. О мистицизме и критицизме в
теории познания В. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии.
1901. Кн. 56 (1). С. 26-30.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
255
Соловьев не успел завершить поиски новой понятийной системы для
описания структуры Абсолюта и форм единства и различия Абсолюта
и эмпирической личности, однако его размышления на эту тему оказа-
лись чрезвычайно плодотворными и отразились в последующем раз-
витии русской философии (в частности, в оригинальной концепции
Л. Карсавина; см. главу 7). Ясное развитие идей Соловьева содержит
интересная работа Г. Шпета «Сознание и его собственник», в которой
Шпет подчеркивает созвучность поздней метафизической концепции
Соловьева принципам новейших философских течений, — в первую
очередь идеям Э. Гуссерля (сам Шпет, как известно, был талантливым
и оригинальным последователем Гуссерля).
Завершая начатую Соловьевым критику «отвлеченных начал», Шпет
распространяет ее на само понятие единого сознания, или единства
сознания, причем основу для такого распространения он находит в позд-
них статьях Соловьева по теоретической философии. «Никакое "един-
ство сознания", — пишет Шпет, — никому не принадлежит, ибо не есть
вообще "принадлежность" или "свойство" или "собственность", оно есть
только единство сознания, т. е. само сознание. Чье же сознание? —
Свое собственное, свободное! А это и значит, другими словами, что —
ничье! Может быть, какой-нибудь Иван Иванович скажет: я есмь един-
ство сознания, — что же с ним делать? На мой взгляд, он будет прав, но
только и Иван Петрович есть также единство сознания... Отсюда и воз-
никает тенденция отождествить сознание с "душой" или "духом",
и такие выражения: я, имярек, сознаю свое тело, свое социальное мес-
то, свое бессмертие и под., лишите меня тела, социальных связей, а
я все-таки останется <...> В конце концов, так же нельзя сказать, чье
сознание, как нельзя сказать, чье пространство, чей воздух, хотя бы
всякий был убежден, что воздух, которым он дышит, есть его воздух и
пространство, которое он занимает, есть его пространство <...> Но при-
веденные примеры, кажется, раскрывают, в чем смысл вопроса: чье —
сознание? Чье — здесь само является социальной категорией, и Вл. Со-
ловьев был глубоко прав, сопоставляя этот вопрос с вопросами: чей
кафтан, чьи калоши? Если мы под сознанием и его единством понима-
ем идеальный предмет, т. е. рассматриваем его в его сущности, то ли-
шено смысла спрашивать, чье оно: к сущности я может относиться
сознание, но не видно, чтобы к сущности сознания относилось быть
сознанием я или иного "субъекта"»1.
Любая попытка «выделить» из целостной интуиции личности ка-
кие бы то ни было стороны, свойства, качества и т. д. — начиная от
понятий «дух», «субстанция», «мышление» и кончая понятиями «един-
ство сознания» или «чистое сознание» (во всей его конкретности) —
приводит к «отвлеченному началу». Подлинным и единственным
1 Шпет Г. Г. Философские этюды. М., 1994. С. 107-108.
256 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX—XX веках
конкретным началом, Абсолютом и основой всего реального — от эм-
пирического субъекта до отдельной вещи — является только само «я»,
сама личность (имярек, как говорит Шпет) во всей ее неизреченной пол-
ноте (что прямо противоположно всеобщему и абстрактному понятию
«я», субъекта). Абсолют — это не понятие, ^реальность, жизнь абсо-
лютно конкретного «я», абсолютно конкретного личностного начала,
в котором каждый из нас и есть «я», личность, но к которому мы не мо-
жем относиться как к понятию, как к чему-то представляемому, мыс-
лимому, абстрактному. «Если... мы... — пишет Шпет, — отрешимся от
мысли, от предрассудка, будто "индивид" есть минимальный вид, то-
гда ясно и то, что суждения с субъектом я не могут быть суждениями
общими, ибо само я обобщению не подлежит. Нельзя, строго говоря,
про "всякое" я даже сказать, что оно есть "единство сознания", потому
что здесь уже обобщение, и #, имярек, оттирается на задний план. Сле-
довательно, я, имярек, не есть, по крайней мере, — только единство
переживаний и сознания, а есть скорее то, что отличает единство со-
знания от другого единства. "Собирая" сознания, мы не обобщаем их,
а скорее множим, переходим от я к мы, и, нисколько не покушаясь на
единственность и незаменимость имярека, мы тем не менее ясно усмат-
риваем в "множестве" не единство сознания, а опять-таки единство,
Я, имярек, необходимо выступает в своей предназначенности, кото-
рая и есть установление и ограничение его пределов, его "определе-
ние": я не может не быть самим собою. Но его пределы суть также
пределы других имяреков, внутри же этих пределов каждый свобо-
ден: я — свободно, раз оно во всем остается самим собой, "Собрание"
есть то, что уничтожает эти пределы, т. е. пределы каждого имярека,
что уничтожает раздельность, дистрибутивность, — другими слова-
ми, что приводит к абсолютной свободе: здесь я освобождается от пред-
назначенности, оно может не быть самим собою»1.
Нетрудно видеть, что здесь Шпет «конструирует» Абсолют, кото-
рый, выступая «собранием» личностей, сам есть абсолютная лич-
ность, обладающая абсолютной свободой и единством. При этом каж-
дая отдельная личность является «отдельной» только по отношению
к другой отдельной личности, но не по отношению к Абсолюту-лич-
ности1, различие Абсолюта и эмпирической личности может быть опи-
сано только как различие всей полноты единства и свободы и их огра-
ниченного определения, которое само возможно только через эту пол-
ноту и в этой полноте2.
1 Шпет Г. Г. Философские этюды. С. 105-106.
2 Детальную разработку такого понимания Абсолюта и его взаимо-
отношений с эмпирической личностью можно найти у двух наиболее по-
следовательных продолжателей соловьевской философии всеединства —
у С. Франка и Л. Карсавина.
Глава 3. Абсолют как всеединство: Вл. Соловьев
257
Рассуждения Шпета в рассматриваемой работе часто выглядят
парадоксальными, а иногда и не вполне ясными, но это связано как
раз с тем, что он пытается выразить такое понимание Абсолюта, кото-
рое полностью расходится с классической философской традицией,
именно потому продолжавшей и продолжающей существовать, несмот-
ря на многочисленные и часто небезуспешные попытки ее преодоления,
что она, безусловно, хорошо согласуется с представлениями здравого
смысла и обыденного, нефилософского сознания. На том пути, начало
которому в русской философии положили работы Соловьева, мы под-
ходим к совершенно новому пониманию мышления и, в перспективе,
к новому пониманию философии, поскольку под вопрос ставится сама
основа классического стиля мышления, всей классической философии.
Пытаясь ответить на традиционные вопросы, и Соловьев, и Шпет на са-
мом деле ищут выхода из рамок, заданных традицией и, по сути, отве-
чают на вопрос, который должен ставиться уже в другой системе кате-
горий, не использующей понятия классической метафизики. Напри-
мер, таким образом: «Во-первых, всякий метафизический вопрос
всегда охватывает метафизическую проблематику в целом. Он всегда
и идет от этого самого целого. Во-вторых, всякий метафизический во-
прос может быть задан только так, что спрашивающий — в качестве
спрашивающего — тоже вовлекается в него, т. е. тоже попадает под
вопрос. Это послужит нам указанием: наш метафизический вопрос дол-
жен касаться целого и отправляться от сущностного местоположения
нашего вопрошающего присутствия»1. Разве не этот вопрос о «целом»
и его отношении к «нашему вопрошающему присутствию» ставит и
пытается решить Соловьев, начиная с его «Кризиса западной филосо-
фии» и кончая «Теоретической философией» и «Тремя разговорами»?
Быть может, если бы Соловьев более внимательно присмотрелся
к поискам и неудачам «философии откровения» Шеллинга и заметил,
что в конце концов Шеллинг вынужден был в понимании Абсолюта
перейти от принципа обусловленности бытия сущим к постановке под
вопрос самого сущего, к необходимости предпослать сущему бытие
(«непредмысленное бытие»), то, возможно, итогом его «философии
всеединства» стало бы такое «говорение» об Абсолюте, которое действи-
тельно обозначило бы новые горизонты метафизики. Но Соловьев про-
шел мимо этого принципиального «поворота». Поэтому окончательный
итог критики «отвлеченных начал» мы находим у других представите-
лей русской и западной философии. Очень ясно и лаконично главное тре-
бование к этой критике (и главный недостаток предшествующих попы-
ток ее проведения) высказал М. Хайдеггер. «Каким бы образом, —
пишет он, — ни брались истолковывать сущее, или как дух в смысле
1 Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бы-
тие. М., 1993. С. 16.
9 3ак. 3424
258 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
спиритуализма, или как материю и силу в смысле материализма, или
как становление и жизнь, или как представление, или как волю, или
как субстанцию, или как субъект, или как энергию, или как вечное
возвращение того же, всякий раз сущее как сущее является в свете
бытия. Повсюду, когда метафизика представляет сущее, бытие уже
высветилось. Бытие в некой непотаенности (Alhqeia) пришло. Прино-
сит ли бытие, как оно с собой приносит такую непотаенность, открыва-
ет ли, как оно открывает себя в метафизике и в качестве метафизики,
остается скрытым. Бытие в своем высвечивающемся существе, т. е.
в своей истине, не продумывается»1.
Увы, сформулированное обвинение, которое Хайдеггер предъявля-
ет всей традиционной метафизике, целиком применимо и к Соловье-
ву. Только в самых последних своих работах он намечает возможность
для нового пути; и неизвестно, смог ли бы он достаточно далеко пойти
по нему, если бы смерть не прервала его творчество в самом расцвете.
Лишь у последующих русских философов это направление получило
дальнейшее развитие, конечно же, под определяющим влиянием фи-
лософских поисков Соловьева.
1 Хайдеггер М. Введение к: «Что такое метафизика?» // Хайдеггер М.
Время и бытие. С. 27. Необходимо заметить, что «сущее» Хайдеггера от-
личается от «сущего» Соловьева, он понимает его в более привычном, ари-
стотелевском смысле.
Глава четвертая
АБСОЛЮТ КАК ЦАРСТВО АБСУРДА:
Л. ШЕСТОВ
§ 1. Критика «философии всеединства»
Вся русская философия начала XX века, породившая целую плея-
ду блестящих мыслителей европейского масштаба, в той или иной
степени основывалась на переработке наследия Вл. Соловьева. Мож-
но сказать, что почти все философские сочинения, написанные в
России после 1900 г., — это различные, более или менее свободные
версии и интерпретации тех проблем и концепций, которые возник-
ли в трудах Соловьева. И только несколько «одиноких мыслителей»
выделялись из общего течения религиозно-философской мысли это-
го периода тем, что не только не опирались в своих размышлениях на
идеи Соловьева, но и противопоставляли свою позицию позиции сво-
его великого предшественника. Л. Шестов по праву занимает среди
них первое место.
В ранних сочинениях Шестова мы практически не находим упоми-
наний имени Соловьева, хотя, вне всяких сомнений, он хорошо знал
его философию; недаром в поздней работе, посвященной Соловьеву, он
вскользь замечает, что всегда любил и уважал его. Но именно утвер-
дившееся признание определяющей роли Соловьева в развитии русской
религиозной философии, признание его подавляющего авторитета как
«первого русского религиозного философа»1 в конечном счете застав-
ляет Шестова специально обратиться к его творчеству, чтобы, как это
ни покажется странным, доказать его полную несостоятельность имен-
но как религиозного философа, т. е. как философа, претендующего на
то, чтобы выразить в своих сочинениях вечные истины религии. Впро-
чем, каждый, кто хоть чуть-чуть соприкоснулся с творчеством Шесто-
ва, не будет удивлен той невероятной резкостью оценок, которые Шес-
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева // Шестов Л. Умозрение и Откровение. Париж, 1964. С. 26.
260 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
тов применяет к Соловьеву. Для него в истории нет абсолютных авто-
ритетов и безоговорочных истин, он неустанно занят разоблачением
ложных кумиров и разъяснением единственной несомненной истины:
все, что основано на господстве разума и что поддерживает это господ-
ство в нашей жизни, — все это есть зло, есть отклонение от подлинной
сущности и подлинного предназначения человека. В этом смысле для
Шестова Соловьев оказывается в одной компании с Анаксагором, Пар-
менидом, Аристотелем, Фомой Аквинским, Декартом, Спинозой, Кан-
том, Шеллингом, Гегелем, т. е. со всеми теми, кого сам Соловьев счи-
тал представителями ложной рационалистической традиции, постро-
енной на «отвлеченных началах» и утратившей глубокие мистические
контакты с жизнью. По отношению к Соловьеву в этом есть горькая
ирония судьбы: более радикальный, чем он, критик традиции «отвле-
ченных начал» не нашел почти ничего нового в той «новой философии»,
которую Соловьев пытался создать на основе своей критики этой тра-
диции. Но, как известно, негативный опыт, опыт ошибок и неудач,
часто не менее важен и полезен, чем опыт позитивный, ведущий к успе-
ху, — особенно в тех случаях, когда поставленная задача предельно
сложна и вряд ли разрешима за одну-единственную попытку. Поэтому
шестовская критика (далеко не во всем справедливая), помогая точнее
понять причины неудачи, постигшей Соловьева в построении его «но-
вой философии», одновременно наглядно показывает подлинные за-
слуги Соловьева и в значительной степени объясняет, почему именно
на основе идей Соловьева его непосредственные философские наслед-
ники все-таки сумели выстроить хотя бы общий каркас этой «новой
философии».
Специальную работу, посвященную анализу философии Соловьева,
Шестов опубликовал в 1927-1928 гг. в издаваемом в Париже журнале
«Современные записки». К этому времени интеллектуальное брожение,
которое было вызвано трудами Соловьева, уже почти угасло; пожалуй,
последний его всплеск относился к 1925-1926 гг., когда в Берлине была
опубликована книга И. Ильина «О сопротивлении злу силою» (непо-
средственно взаимосвязанная с кругом идей «Трех разговоров» Соло-
вьева), и вся русская эмиграция — в последний раз с такой энергией
и размахом — приняла участие в ее обсуждении. Большинство актив-
но работавших философов к тому времени оказались на Западе, и их
мысли были заняты осмыслением всех тех исторических катаклизмов,
которые происходили с европейским человечеством в эти годы и еще
грозили произойти в ближайшем будущем. Хотя со времени смерти
Соловьева прошло всего 27 лет, его философия уже обрела авторитет
классики, быть может, даже несколько патриархальной1. Можно было
1 В одной из работ Г. Федотова, посвященной понятию Антихриста, ав-
тор констатирует радикальное отличие новой исторической эпохи (эпохи
20-30-х годов) от эпохи, в которой довелось жить Соловьеву. Те анти-
Глава 4, Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
261
обсуждать проблемы, поставленные Соловьевым, черпать из его тру-
дов плодотворные идеи и принципы, полемизировать по поводу отдель-
ных аспектов системы, но невозможно было отвергать ее целиком, по-
скольку почти для всех русских мыслителей она являлась одним из
главных источников их собственного творчества. И только для Шесто-
ва философия Соловьева не была ни неприкасаемой классикой, ни осно-
вой его собственного пути в философии; и боролся он с ней как с реаль-
ной опасностью, которая не становится прошлым, а продолжает суще-
ствовать в пространстве мысли одновременно и наравне с философией
Филона, Спинозы, Шеллинга и др.
«Многим покажется странным, — пишет Шестов, — многие даже воз-
негодуют, но я должен сразу сказать, что, задавшись целью создать
религиозную философию, Соловьев, не давая себе в том отчета, зама-
нил религию в ту же западню, в которую Кант когда-то заманил мета-
физику, и, таким образом, против своей воли стал на сторону того, кого
он считал злейшим и непримиримейшим врагом человечества — кого
многие люди до него и он сам называли Антихристом» *. Обнажая при-
чину, по которой он предъявляет Соловьеву столь странное по своей
резкости обвинение, Шестов утверждает, что любая попытка вызвать
религию «на суд разума» приводит к ее быстрой деградации, к полно-
му уничтожению в ней всего ее истинного содержания, несовместимо-
го с разумом. Здесь мы сталкиваемся с главной, почти навязчивой иде-
ей позднего Шестова (в его ранних работах она также присутствует, но
не в такой радикальной форме) — с его убеждением, что человеческий
разум, признающий себя главной составляющей человеческого созна-
ния, требующий подчинения себе всего человека и одновременно при-
знающий свою подчиненность мировому разуму, мировой закономер-
ности, воплощением которой является понятие необходимости, — что
человеческий разум есть единственный и могущественный источник
всего зла и несовершенства, господствующего в мире и в человеке. Хотя
эту мысль Шестов проводит практически во всех поздних работах,
используя многочисленных «свидетелей», подтверждающих его право-
ту, именно в работе о Соловьеве он дает наиболее ясное изложение своей
системы аргументов, наглядно обнажая идейные и исторические исто-
ки той мировоззренческой концепции, одним из ярких представителей
которой он считает Вл. Соловьева.
христы, которые реально вышли на сцену европейской истории, оказа-
лись совершенно непохожими, ужасающе непохожими на интеллигент-
ного и немного буржуазного Антихриста, описанного Соловьевым в его
фантастической повести, заключающей «Три разговора» (см.: Федотов Г. /7.
Об антихристовом добре // Путь. 1926. № 5. С. 55-66).
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева. С. 28.
262 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Главный вопрос человеческой жизни, облекаемый человеком в фор-
му религиозного и философского мировоззрения, — это вопрос о своей
судьбе в мире, о том, что ждет его в будущем, на что он может надеяться.
Стараясь найти ответ на него, мы вынуждены ставить и другие вопросы,
от решения которых зависит этот главный вопрос. И прежде всего при-
ходится ответить на вопросы о том, что есть мир, в котором мы живем,
и что есть источник бытия этого мира, и какое положение мы сами занима-
ет в мире и по отношению к источнику бытия. Только после этого можно
надеяться понять грядущую судьбу человека и человечества, пытаться най-
ти единственный путь, который ведет в «обетованную землю». В истории
европейского человечества Шестов обнаруживает два направления поиска
ответов на эти вопросы: греческую философию и откровения ветхозавет-
ных пророков («Афины и Иерусалим», как говорил Тертуллиан).
Центральная проблема, о которой размышляет человечество в каж-
дом из этих двух течений своей мысли, — это проблема начала всего
существующего, проблема Абсолюта, Бога. Обращаясь к греческой
философии, мы видим, что вся она занята неустанными поисками на-
чала бытия и «окончательным» определением характера его взаимо-
связей с человеком и с миром, в котором живет человек. Важнейшая
истина, установленная греческой философией, состоит в том, что на-
чало бытия проявляет себя в форме незыблемой мировой необходимо-
сти , в форме незыблемых законов, управляющих миром и человеком.
Эта идея прослеживается уже в мифологии греков, где и боги, и люди,
и все явления мира подчинены одной и той же силе — судьбе. В грече-
ской философии абсолютная власть судьбы была доказана самим че-
ловеческим разумом; он добровольно подчинился ей и своим главным
назначением признал выявление законов, с помощью которых судьба
управляет миром и человеком. Соответственно главной добродетелью
философа стало подчинение господству судьбы, ее законам, подчине-
ние незыблемой необходимости, по отношению к которой сама наша
свобода есть просто добровольное следование за велениями судьбы.
«Философ, даже когда чувствовал, что его насильно влечет чужая ему
и враждебная ему сила, считал себя обязанным делать вид, что идет по
своей охоте. В этом последняя тайна греческой мудрости, наивно раз-
глашенная доверчивыми римлянами (Цицероном и Сенекой. — И. Е.).
Человек "знает", что судьба непреодолима. Бороться, стало быть, бес-
смысленно. Остается одно: покориться судьбе, приспособиться к ней и
так перевоспитать себя, переделать свою волю, чтобы необходимое при-
нимать как должное, как желательное, как лучшее... Из этого, нако-
нец, делается вывод: высшее благо есть душевное спокойствие, которое
достигается только безусловным исполнением всех велений разума
и отречением от личной, собственной воли»1.
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева. С. 45.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 263
Совсем другое отношение к истокам бытия Шестов находит у биб-
лейских пророков; для них превыше всего — Бог, предстающий не в
том ложном образе, который ему придало позднейшее вмешательство
разума, превратившее его в «законодателя», создавшего законы и вы-
нужденного подчиниться им, — а в его подлинном, исконном смысле,
данном человеку в Откровении. Бог пророков прежде всего — творец
мира и источник жизни, источник подлинной свободы, которая выше
всякой необходимости, — для которой нет необходимости и всё возмож-
но, возможно даже «бывшее сделать никогда не бывшим»1, т. е. даже
изменить прошлое — то, что человек в соответствии с суждениями сво-
его разума считает неподвластным никому. Свобода Бога — это произ-
вол, и поэтому человек не может осмыслить ее с помощью представле-
ний своего разума, однако он и сам причастен к ней в той степени, в
какой он обладает жизнью, так как свобода является главным каче-
ством, главной характеристикой жизни в ее полной противопо-
ложности разуму и его законам. Живой человек един с живым Богом,
и именно поэтому человек обретает в Боге основу для реализации всех
своих целей и устремлений; вера в такого Бога отменяет законы и де-
лает иллюзорной необходимость, человек только в этой вере обретает
способность по-настоящему желать и требовать выполнения своих же-
ланий. «Пророки в противоположность философам, — пишет Шес-
тов, — никогда не знают покоя. Они — воплощенная тревога. Они не вы-
носят удовлетворенности, словно чуя в ней начало разложения и смер-
ти... Для грека мирозданием правят вечные, неизменные законы,
неизвестно когда и неизвестно откуда пришедшие. Их можно изу-
чать — с ними нельзя разговаривать, им должно повиноваться, но их
нельзя умолить. Еврейский пророк чует над собой живого Бога, кото-
рый своей волей создал живого человека... Для пророка — прежде все-
го всемогущий Бог, творец неба и земли, потом — истина. Для фило-
софа — прежде истина, потом Бог. Философ покоряется и аду и смер-
ти, и в этой "вольной" покорности находит свое высшее благо, пророк
вызывает на страшный и последний бой и ад, и самое смерть»2.
Греческая философия, подчинив человека мировой необходимости,
олицетворенной в Судьбе, лишила человека способности желать —
желать по-настоящему своего, того, что идет из самой глубины его
живой сущности. Но внутреннюю энергию желания нельзя уничтожить
1 Слова средневекового богослова, кардинала Петра Дамиани (ок. 1007-
1072); Шестов повторяет их во многих своих сочинениях, чтобы подчерк-
нуть несовместимую противоположность сущности божественной свобо-
ды и представлений нашего разума; см., например: Шестов Л. Potestas
clavium (Власть ключей) // Шестов Л. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1993. С. 71.
2 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева. С. 45-46.
264 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
пока человек жив, поэтому разуму необходимо было подчинить эту
энергию своему господству. И разум сконструировал идеал добра, кото-
рый должен был стать абсолютной и неизменной целью всех челове-
ческих устремлений.
В одной из своих работ Шестов дает парадоксальный анализ пла-
тоновского диалога «Горгий», в котором Сократ спорит с софистом
Калликлом о справедливости. Туповатый Калликл, казалось бы, не
способный вызвать у читателей ничего кроме явной насмешки, ста-
новится для Шестова выразителем глубокой истины, противостоящей
поверхностным «истинам» разума. Калликл отвергает все аргумен-
ты Сократа в пользу того, что в мире есть объективное добро, которое
мы должны открыть с помощью нашего разума и которому мы обяза-
ны подчиниться как высшему и незыблемому началу, он не может со-
гласиться желать только того, что «санкционировано» объективным
добром, не хочет приносить себя в жертву добру. «Сколько бы и как
искусно ни доказывал Сократ, Калликл не даст себя убедить. Задачу
человека на земле он видит в том, чтобы найти возможность осуще-
ствлять свою волю... Для него свобода несовместима с покорностью.
Он так же не хочет зависеть от общего закона, как и от власти другого
человека. Он хочет сам законодательствовать во всех областях, он
хочет, чтобы на скрижалях завета были выгравированы его слова и
повеления. Но как ни пылок и смел был Калликл, в истории победа
записана не за ним»1. Сократ победил потому, утверждает Шестов, что
уже до него греческая мысль отдала живого человека под власть аб-
страктного разума, подчинила жизнь необходимости. И чтобы довер-
шить разрушение всех подлинных человеческих ценностей, Сократ
сотворил добро, причем сотворил его из ничто — из «материала»,
предоставленного ему разумом вместо уничтоженной жизни. «Никто
никогда в прежней жизни добра не видел, потому что до Сократа доб-
ра вовсе и не было нигде во вселенной... Чтобы попасть в созданный
Сократом мир, нужно отречься от мира, созданного Богом»2. Сократ
оказался, по убеждению Шестова, один из «демонов», помогших ра-
зуму и необходимости закабалить человека, замкнуть его жизнь в же-
лезную клетку законов; и одним из главных инструментов этого за-
кабаления стало «добро» и все идеи и идеалы, связанные с понятия-
ми добра и истины.
Впервые библейское Откровение и греческая философия столкну-
лись между собой в учении Филона Александрийского, и Филон сде-
лал первый шаг в направлении подчинения откровенной истины про-
роков разуму: «Филон позвал Св. Писание на суд эллинской истины —
и от всего, что этот суд в Св. Писании отверг, как бессмысленное или
1 Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей). С. 41.
2 Там же. С. 44.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 265
безнравственное, отрекся»1. Роковой выбор между двумя противопо-
ложными мировоззрениями предстал и перед молодым христианством,
в истории которого ключевым эпизодом стало возникновение гности-
цизма. Именно гностиков Шестов считает родоначальниками тради-
ции, неуклонно одерживавшей победу за победой в истории европей-
ской культуры и нашедшей свое абсолютное завершение в идеализме
Канта, Шеллинга и Гегеля и в философии всеединства Соловьева. Вспо-
миная утверждение Соловьева о том, что в нашем духе существует са-
мостоятельная теоретическая способность, без которой ценность жиз-
ни сомнительна, Шестов непосредственно возводит этот постулат к гно-
стикам. «А что, если Адам был прав и то, что в Библии называется
грехопадением, было вовсе не грехопадением, а выражением естествен-
ного стремления свободного духа удовлетворить теоретическую потреб-
ность, т. е. найти то, что делает жизнь ценной? Соловьев не смеет так
спрашивать: он боится или не хочет открыто восстать против Св. Писа-
ния. Но были люди, которые смели так спрашивать... Это были гно-
стики»2. И здесь Шестов вспоминает миф о грехопадении первого
человека — библейскую историю, бесчисленное число раз приводимую
в его сочинениях в качестве иллюстрации противоположности разума
(теоретической способности) и жизни.
Два райских древа — древо жизни и древо познания добра и зла, —
согласно Шестову, символизируют два типа отношений человека к Бо-
гу, к источнику бытия и жизни. Безгрешный человек, сотворенный Бо-
гом, находился в полном единстве с Богом, с источником жизни, и по-
этому обладал абсолютной свободой, в его жизни не было ничего, что
можно было бы назвать необходимостью. Сорвав яблоки с древа по-
знания, человек отделил себя от источника жизни и передал в полную
власть разуму, тут же сковавшему его оковами необходимости и зако-
номерности. Разум человека — это и есть библейский «змей», который
соблазнил человека, пообещав ему, что он будет подобен Богу, если обре-
тет знание. В греческой философии этот «змей» обрел себе надежную
защиту и опору, а гностики попытались оправдать его и с точки зрения
христианства. «По Библии выходит, что Бог сказал правду, а змей —
солгал. Но "свободный исследователь" (термин Соловьева. — И. Е.)
спрашивает: а что, если было совсем другое, что если правду сказал змей,
а обманщиком был Бог. Для еврейских пророков такой вопрос не су-
ществовал, еврейские пророки именно потому и были пророками, что
их вдохновение возносило их в области, куда уже никакие вопроша-
ния не доходят. Но эллинские философы и те, кто на эллинской фило-
софии воспитался, думали иначе. Они были убеждены, что спрашивать
всегда уместно... И вот, когда гностики пришли к эллинскому судье
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева. С. 40.
2 Там же. С. 50.
266 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
спрашивать, кто был прав, Бог или змей, судья сказал им, что прав
был змей, что библейский Бог — дурной Бог, и что мир, который он
сотворил, — дурной мир»1.
Раннее христианство сумело перебороть ересь гностицизма и в пер-
вые века своего существования сохранило веру в подлинного Бога, од-
нако, по мнению Шестова, гностическое уклонение восторжествовало
в сфере философии: здесь разум окончательно подчинил себе Открове-
ние и уничтожил в нем все, что свидетельствовало о Боге как источни-
ке жизни и нескованной свободы. Под этим углом зрения Шестов рас-
сматривает в своих сочинениях все этапы развития европейской
философской традиции, от Анаксагора и Сократа до Шеллинга и Геге-
ля, и в итоге реализует свою версию критики «отвлеченных начал»:
почти все крупнейшие европейские мыслители в его изложении ока-
зываются приверженцами того самого направления, в начале которо-
го стоят Филон и гностики, — уничтожающего в человеке его подлин-
ную самобытную основу, его жизнь, с помощью абстрактных идей,
мировых законов, нравственных принципов, высших идеалов добра и
т. п., получивших от нашего разума права абсолютных хозяев миро-
здания и человеческой души.
Все это Шестов находит и в философии Соловьева. Цитируя слова
Соловьева о том, что «двумя путями — пророческим вдохновением
у евреев и философскою мыслию у греков — человеческий дух подо-
шел к идее Царства Божия»2, Шестов замечает, что библейские про-
роки на самом деле мало интересуют Соловьева и нужны только как
дополнительные свидетели в пользу тех истин, которые добывает сам
человеческий разум. «И точно, — восклицает иронически Шестов, —
"всеединая и всеединящая истина", "совершенный нравственный по-
рядок", "неразрывно соединенные безусловною внутреннею солидар-
ностью и взаимодействием духовно-физические органы собранной все-
ленной" — все это идеи, добытые обыкновенным человеческим умом.
В Св. Писании таких слов даже и в помине нет: язык пророков, псалмо-
певцев и апостолов совсем иной, и мысли у них совсем иные. Что де-
лать тут пророческому вдохновению и для какой надобности вспомнил
о нем Соловьев? Очевидно, от пророков требуется только одно: они
должны признать и освятить то, что без них и вместо них делали дру-
гие. То есть, говоря словами Соловьева, его "истина держится сама по
себе" и "сама по себе понятна, желательна и спасительна"»3 (в кавыч-
ках внутри цитаты — фразы из «Оправдания добра» Соловьева).
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева. С. 51-52.
2 Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 271.
3 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Со-
ловьева. С. 41.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
267
Шестов совершенно верно улавливает абстрактный и конструктив-
ный, вторичный характер ключевых понятий и принципов соловьев-
ской метафизики и этики, таких как идеал всеединства, понятие абсо-
лютной истины, концепция Абсолюта как сущего и всеединого и т. д.,
о чем подробно говорилось в предыдущей главе. Однако его критика
является слишком радикальной и прямолинейной, он упускает из виду
несомненные достижения Соловьева, главное из которых — это пра-
вильное определение самого направления движения в сторону постро-
ения новой философии. Шестов не замечает, что в некоторых своих со-
ставляющих мировоззрение Соловьева полностью созвучно его соб-
ственным поискам подлинного в человеке. Предельная полярность
шестовского восприятия истории философии не позволяет ему увидеть
«полутона», в которых часто и содержится главная ценность новых
философских идей. Для Шестова вся история — это монотонное повто-
рение двух противоположных подходов к Богу и человеку: либо при-
знание полного господства разума, необходимости и «непреклонной»
идеи добра, связанное с превращением самого Бога в систему абстракт-
ных принципов и законов, либо (что обнаруживается гораздо реже)
отказ от ценности разума и абстрактных принципов ради проникнове-
ния в иррациональную и непостижимую сущность Бога и человека, вы-
ражающуюся одним лаконичным тезисом «для Бога все возможно».
Непреходящее значение такой пристрастной оценки истории фило-
софии заключается в том, что Шестов в очень наглядной (хотя и пара-
доксальной в своем радикализме) форме задает единственный правиль-
ный метод построения «неотвлеченного», конкретного начала для но-
вой философии, а именно— необходимость «освоения» объекта, редко
попадавшего в поле зрения философии, — бытия отдельного эмпири-
ческого человека. Шестов полагает, что это «освоение» невозможно до
тех пор, пока мы не отвергнем разум как своего главного врага. Такой
подход в определенной степени помогает ему приблизиться к понима-
нию того, что есть подлинная основа всего существующего, однако вслед
за этим встает гораздо более сложная проблема — нахождение компро-
мисса между обретенным интуитивным постижением основы бытия и
самим разумом, требования и законы которого не настолько безоснова-
тельны, как это пытается изобразить Шестов. Хотя варианты такого ком-
промисса уже были разработаны в философии конца XIX века, сам Ше-
стов не смог сделать решающий шаг в этом направлении, и все его твор-
чество (особенно позднее) свелось к монотонным вариациям на одну и ту
же тему — на тему противоположности разума и жизни.
Однако вернемся к анализу философии Соловьева, осуществляемому
в работе Шестова. Наиболее интересная часть этой работы посвящена вы-
явлению тех влияний, которые оказал на Соловьева немецкий идеализм,
особенно философия Шеллинга, воспринимаемая Шестовым как итого-
вое выражение тенденции, заданной гностиками. В системе Шеллинга
268 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
Шестов находит неявное противостояния двух фундаментальных «сил»
бытия: силы жизни, подлинной свободы, выражаемой с помощью по-
нятия «самости» (человеческой или божественной), и силы абстракт-
ных начал, абстрактных принципов, которую Шеллинг в полном соот-
ветствии с традицией «отвлеченных начал» объявляет сущностью Бога.
«Для Шеллинга, — пишет Шестов, — как и для Соловьева, Бог есть
"связь сил". Больше всего он боится, как бы эта "связь" не распалась.
Оттого он ополчается на самость с ее своеволием. И как всегда в таких
случаях делается, клевещет на самость... Самость действительно свое-
вольна, своеволие ее родная, изначальная стихия. Но своеволие ничего
общего не имеет с жаждой неограниченного господства. Как раз наобо-
рот, своеволие, и именно то своеволие, которое мы наблюдаем в живом
человеке (т. е., по Шеллингу, в самости), тяготится господством. И если
иногда бывает иное, то это, так сказать, уже позднейшая формация, точ-
нее, деформация самости. К господству тянутся иные силы — прямо про-
тивоположные самости, то, что называется общими принципами и на-
чалами. Они сами воли не имеют и воли в других не допускают и не вы-
носят»1. Признавая господство принципов и начал, человек вынужден
отказываться от своей воли и от своей свободы. Эта позиция, по Шесто-
ву, с предельной наглядностью воплощена в странном утверждении Со-
ловьева о том, что подлинная свобода человека реализуется только то-
гда, когда он добровольно отказывается от своей индивидуальной свобо-
ды, свободы произвольного выбора, и добровольно подчиняется «закону
добра»2. В этой связи Шестов вспоминает греческую философию с ее иде-
ей судьбы, мировой необходимости, подчинение которой признавалось
греками высшей добродетелью. «Тот же смысл и в утверждении Соловь-
ева: "Человек может решить: я не хочу своей воли. Такое самоотречение
или обращение своей воли есть ее высшее торжество". Как в этике, так
и в теории познания у Соловьева впереди всего одна забота: отделаться
от живого человека, связать, нивелировать его... Истина и добро ведут у
него непрерывную и беспощадную борьбу с тем, что на школьном языке
называется "эмпирическим субъектом", но что по-русски значит с жи-
вым человеком. Все искусство, вся диалектика направлена к тому, что-
бы доказать, что право повелевать и распоряжаться дано истине и доб-
ру, а что благо человеческое и смысл человеческого существования в том,
чтобы слушаться и исполнять приказания»3.
Еще раз можно повторить: в общем и целом Шестов прав в своем
«осуждении» Соловьева, похожие слова в адрес Соловьева говорили
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Со-
ловьева. С. 68-69.
2 См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 111-119.
3 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Со-
ловьева. С. 72.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
269
даже его близкие друзья и соратники Л. Лопатин и Е. Трубецкой. Одна-
ко подход, который схватывает только крупные элементы философской
конструкции и не различает их дальнейшей разработки, не различает
всех деталей, часто ведет к превращению сложного и противоречивого
организма в грубую карикатуру. По сути, Шестов и превращает систе-
му Соловьева в такую карикатуру. На самом деле анализ главных не-
достатков соловьевского учения, проводимый Шестовым, дает возмож-
ность увидеть и его главные достоинства, точно так же как помогает
понять, в каких элементах произошло искажение исходного, верного
самого по себе замысла, и мысль философа свернула с пути, который
вел к успеху. Все бесконечно повторяющиеся рассуждения Шестова
сводятся в конце концов к доказательству того факта, что есть един-
ственный способ довести до конца критику «отвлеченных начал» и най-
ти не вторичный, не абстрактный, не сконструированный Абсолют, а
подлинный и реальный источник всего бытия, — это обратиться к кон-
кретному эмпирическому человеку, к цельности и полноте его жизни.
Только жизнь человека, взятая не в ее абстрактных и вторичных каче-
ствах и характеристиках, а в ее непосредственном и цельном реальном
осуществлении, в ее экзистенциальном определении, должна быть
признана по крайней мере за основу указанных поисков.
Если мы вспомним, с чего начинал и чем закончил свое творчество
Соловьев, мы поймем всю несправедливость резких оценок Шестова.
То, что он говорит, применимо к наиболее известной, внешней стороне
учения Соловьева, если же перейти на уровень исходных, скрытых
интенций и всех тех противоречивых поисков, из которых выросла из-
вестная нам «основная» система Соловьева, то нужно будет признать,
что он прекрасно видел направление, обозначенное Шестовым; только
чрезмерное стремление к рациональности изложения и доступности
провозглашаемых идей привело Соловьева к отказу от последователь-
ного продвижения именно в этом направлении. Более того, если мы
присмотримся к тому, как сам Шестов развивает найденный им исход-
ный принцип (принцип абсолютной первичности непосредственного
бытия эмпирической личности), мы обнаружим, что в конечном счете
он утрачивает многое из того, что было приобретено его предшествен-
никами, в том числе Соловьевым. С пафосом провозглашая эмпириче-
ского человека, «самость», подлинным источником бытия и свободы,
Шестов затем отбирает у человека все то, что он ему «даровал». И осуще-
ствляется это с помощью того самого Бога, на которого уповают и сам
Шестов, и все его самые известные герои во главе с Иовом и Авраамом.
Однако прежде чем говорить об этом ключевом противоречии фи-
лософских исканий Шестова, обратим более пристальное внимание на
самое ценное в его сочинениях — на его анализ жизни, непосредствен-
ного человеческого бытия, «самости». Для этого необходимо вернуть-
ся к его ранним работам, где речь идет именно о человеке, а не о Боге,
который в поздних сочинениях почти полностью заслонил человека.
270 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
§ 2. Абстрактные принципы против жизни
Уже в первой своей крупной работе «Шекспир и его критик Бран-
дес» (1898) Шестов формулирует ту основную дилемму, вокруг кото-
рой будут концентрироваться все его последующие размышления. Он
рассматривает трагический случай: человек шел по улице, и ему на
голову упал кирпич и сделал его калекой, разрушил всю его жизнь.
Каждый, кто узнает об этом событии, скажет: человека, конечно, жал-
ко, но ничего поделать нельзя, так уж устроен мир, камни всегда пада-
ют и будут падать, не считаясь с желаниями и надеждами людей, и нуж-
но с этим смириться. «Человек живет или не живет, радуется или стра-
дает, падает или возвышается — все это лишь поверхность, видимость
явлений: сущность же их — падение камня. Отсюда общий вывод:
жизнь, внутренняя жизнь человека есть, по существу своему, нечто
совершенно случайное. И это тем прочнее устанавливается, чем большие
завоевания делает наука»1. Правильно ли это воззрение? — задается
вопросом Шестов, — можно ли считать закон падения камня более су-
щественным и важным, чем жизнь человека?
Уже первое его сочинение посвящено доказательству того, что ука-
занная точка зрения, восторжествовавшая в нашем отношении к бы-
тию и использующая для своего обоснования всю мощь современной
науки, не является единственно возможной, что ей противостоит го-
раздо более глубокий подход к жизни, и только в рамках этого второго
подхода можно увидеть истинно главное в человеке, не превращая его
в механизм, подчиненный всеобщим законам природы. Этот подход
Шестов находит в творчестве Шекспира.
Отвергая все интерпретации творчества Шекспира, сводящие смысл
его трагедий к пропаганде определенных абстрактных идей или мораль-
ных принципов и рассматривающие судьбы его героев как художествен-
ные «доказательства» этих идей и принципов, Шестов убеждает нас, что
Шекспир вовсе не ставил себе целью что-то доказать своим читателям
и зрителям, в чем-то убедить их. Его цель в том, чтобы изобразить живых
людей, выразить тот загадочный смысл, который содержится в самой жиз-
ни, еще не «разъятой» на части абстрактным рассуждением и анализом.
Вспомним тот пример, с которого Шестов начинает свою работу. Если
для обыденного сознания, парализованного идеей закономерности мира,
первично и закономерно падение камня, а человек и его жизнь — слу-
чайность, не входящая в систему «истинного» объяснения реальности,
то для Шекспира, как пытается показать Шестов, первична именно
жизнь человека и ее внутренние смыслы, в то время как падение камня
и прочие трагические вмешательства судьбы — это только случайные
обстоятельства, через которые в жизнь входят новые оттенки смысла
1 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес // Шестов Л. Собр. соч.
в 6-ти т. СПб., 1911. Т. 1. С. 15.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 271
и значения, через которые она являет все новые и новые составляющие
своей бесконечной полноты. Поскольку эта бесконечная полнота жиз-
ни не поддается расчленению на абстрактные элементы, она может быть
адекватно выражена только в своей собственной целостности, в своей
предельной, обнаженной непосредственности, — помимо какого-либо
анализа и преломления в чем-то ином. «Человека можно понять, —
формулирует Шестов этот главный принцип, — лишь живя всей его
жизнью, сходя с ним во все бездны его страданий — вплоть до ужаса
отчаяния и восходя до высших восторгов художественного творчества
и любви»1.
Гениальность Шекспира в том и состоит, что он оказался способен
воплотить в своем творчестве этот принцип, т. е. изобразить своих ге-
роев как реальных и самостоятельных живых людей, не навязывая им
никакой «идеологии» и не превращая их в рупор авторского мировоз-
зрения. «У Шекспира каждое действующее лицо говорит за себя и от
своего имени. Нужно раз навсегда отказаться от нелепой идеи отожде-
ствления Шекспира с его героями. Все они лишь люди, которых ви-
дел, понимал и ценил поэт. И наша задача войти, вместе с Шекспиром,
в их внутреннюю жизнь, чтобы уяснить себе, чего они искали, почему
страдали, приходили к ужасу, преступлению, безумию: иными слова-
ми — нам нужно учиться у поэта, а не оправдывать его пред современ-
ной наукой»2 (последние слова Шестова обращены к Брандесу и дру-
гим «научным» исследователям творчества Шекспира). Эту же мысль
Шестов повторяет, рассматривая шекспировского Лира. «У Шекспи-
ра Лир говорит лишь за себя, лишь то, что зарождается в его душе в тот
страшный момент. И этой способности поэта подслушать недоступный
всем голос человеческой души его драма обязана самыми лучшими
достоинствами. Перед нами все время — сам Лир, которому Шекспир
не подсказывает ни одного слова — не только в целях проповедниче-
ских, но даже и чисто эстетических»3. Можно констатировать удиви-
тельное (почти текстуальное) совпадение процитированных слов Шес-
това с тем, что тремя десятилетиями позже будет говорить М. Бахтин
о Достоевском (что заставляет задуматься о прямом заимствовании).
Если использовать терминологию Бахтина, нужно признать, что из
рассуждений Шестова непосредственно следует «полифонический»
характер трагедий Шекспира, в прямом и буквальном смысле этого
понятия. В то же время, как мы увидим ниже, Достоевского Шестов
относил как раз к противоположному направлению в литературе, ар-
гументированно доказывая, что все его романы предельно монологич-
ны, а все герои говорят только то, что думает сам автор.
1 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. С. 68.
2 Там же. С. 168.
3 Там же. С. 239.
272 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Шекспир через образы своих главных героев демонстрирует абсо-
лютное противостояние «живой жизни» (слова Достоевского), в ее не-
посредственной и бесконечной полноте и внутренней осмысленности,
и абстрактных постулатов и идей, которые, извне внедряясь в челове-
ческое сознание и обретая господство над ним, убивают жизнь, сводят
индивидуальное существование человека к бессмысленной случайно-
сти, не имеющей значения на фоне всеобщих закономерностей. Особен-
но наглядно, по мнению Шестова, это противостояние Шекспир демон-
стрирует в историях Гамлета и Макбета. Трагедия Гамлета — это тра-
гедия человека, душа которого полностью попала во власть абстрактных
принципов и который в силу этого ведет к гибели и себя самого, и близ-
ких ему людей. «Актер оживил Гекубу, — пишет Шестов, — Гамлет
умертвляет живую красавицу (Офелию. — И. £.). Это искусство — его
достояние, его проклятие. Источник его — все та же приниженность
мышлением жизни»1.
Трагедию Макбета Шестов, используя слова одного из критиков,
называет «трагедией категорического императива». Макбет — это
странный тип злодея; совершив первое убийство почти случайно, он
после этого боится не людей, а своего осуждения, причем осуждения,
исходящего не от конкретного живого человека, а от абстрактного
принципа, от «категорического императива», от моральной запове-
ди. И все следующие кровавые злодеяния он совершает только пото-
му, что пытается отсрочить это осуждение, убрать свидетелей своего
отступничества от «категорического императива». Этот «категориче-
ский императив» полностью заслоняет от него живых людей, в кото-
рых он уже не способен разглядеть реальных страданий, подобных
страданиям, испытываемым им самим. Именно в различном отноше-
нии к Макбету, считает Шестов, проявляется противостояние двух
точек зрения на человека: той, которая видит прежде всего самого
живого человека и в каждом мгновении его жизни признает беско-
нечное богатство смыслов, невыразимых через абстрактные прин-
ципы и той, которая считает саму жизнь несущественной случайно-
стью на фоне абстрактных постулатов, подчиняющих себе человека.
Пытаясь дать более ясное выражение этим точкам зрения, Шестов
противопоставляет друг другу Шекспира и Канта. «Да, для Канта, —
подводит итог Шестов, — люди не были людьми, а понятиями, к ко-
торым он относился по известным правилам. Преступление для него
было лишь тем явлением, которому нужно отыскать предикаты, до-
статочно определенные и точные. При отыскании предикатов при-
шлось отвергнуть ближнего — но философ этого даже не заметил.
У Шекспира же речь идет не о преступлении, которое нужно определить,
а о преступнике, которого нужно понять, которому нужно вернуть
1 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. С. 82.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 273
образ и подобие Божие. Поэтому-то Кант против Макбета, а Шекспир
с Макбетом»1.
Следующие книги Шестова посвящены той же проблеме — проти-
востоянию иррациональной, непостижимой непосредственности жиз-
ни и абстрактных принципов, «умерщвляющих» жизнь. Если в пер-
вой его работе Шекспир и Кант рассматривались как выразители двух
полярных точек зрения в их однозначности и чистоте, то в следующих
своих трудах Шестов обращается к творчеству художников, у которых
эти точки зрения предстают в сложном развитии и взаимоотношении
друг с другом. Это любимые «персонажи» Шестова — Л. Толстой, Ниц-
ше и Достоевский.
К анализу творчества Л. Толстого Шестов обращался неоднократ-
но, но наиболее радикальные суждения (в «шестовском» духе) содер-
жатся в его второй крупной работе «Добро в учении гр. Толстого и
Ф. Ницше», опубликованной еще при жизни великого русского писа-
теля (в 1900 г.). Шестов выделяет два ясно различимых периода в твор-
честве Толстого: первый охватывает большую часть его жизни и свя-
зан с написанием двух самых известных романов — «Войны и мира»
и «Анны Карениной», второй отражен в поздней публицистике Толсто-
го и его моральном учении. В своих главных романах, утверждает Ше-
стов, Толстой демонстрирует нам правоту жизни по отношению ко всем
идеям и принципам, пытающимся ее «исправить», ввести в определен-
ное русло, — в первую очередь, правоту жизни по отношению к идее
добра: «...гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни
на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, при-
творным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже
самого лучшего человека»2. В этот период Толстой создает настоящую
философию жизни, причем эта философия такова, что может быть вы-
ражена только в художественной форме, наиболее близкой к самой
жизни (как это было и у Шекспира); все попытки придать этой филосо-
фии вид рациональной системы идей, как это пытается сделать сам
Толстой в эпилоге «Войны и мира», обречены на неудачу и уничтожа-
ют ее смысл. «Все живое, — так формулирует Шестов смысл этой фи-
лософии, — живет по-своему и имеет право на жизнь. Одни — лучше;
другие — хуже; одни — маленькие; другие — крупные люди; но клей-
мить, отлучать от Бога никого не нужно. Спорить нужно только с Напо-
леонами, желающими отнять у нас человеческое достоинство, да с Со-
нями, так неудачно втирающимися своими безрезультатными добро-
детелями в богатую и полную жизнь»3. Толстой видит все несчастья
1 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. С. 279-280.
2 Он же. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше // Вопросы филосо-
фии. 1990. № 7. С. 64.
3 Там же. С. 87.
274 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и ужасы, которые несет с собой жизнь, но он твердо верит в осмыслен-
ность каждого ее проявления, верит в жизненное значение даже ужа-
сов и несчастий, не способных нарушить гармонию и просветленность
жизни в ее цельности и полноте. «Он никого не хотел учить, полагая,
что все учатся у жизни и каждый получает свое» Ч
И вдруг в душе Толстого происходит переворот; он отвергает все
свое прежнее творчество и начинает проповедь добра, того самого доб-
ра, которое в качестве кантовского «категорического императива»
противостоит жизни. Это переворот Шестов связывает с впечатлени-
ем, вынесенным Толстым из посещения ночлежного дома, описанно-
го в статье «Мысли, вызванные переписью в Москве». Толстой вне-
запно ощутил, что всем ужасам и несчастьям жизни невозможно при-
дать смысл, что невозможно включить их в какую-то всеобъемлющую
гармонию, что столкновение с ними ставит такие страшные вопросы,
на которые нет разумного ответа и которые если и открывают исти-
ны, то страшные истины, приносящие с собой вечное беспокойство
и тревогу. И для того чтобы избавиться от этих мучающих истин,
Толстой переходит на сторону «добра», «категорического императи-
ва» и начинает проповедовать другим это абстрактное добро, застав-
ляя себя забыть все те ужасы, которые никакими проповедями и ни-
каким «добром» не искоренить из нашей жизни. Более того, Толстой
теперь и сам пытается безжалостно судить других от имени своего
«добра». «Таково уж свойство добра. Кто не за него, тот против него.
И всякий человек, признавший суверенность добра, принужден уже
делить своих ближних на хороших и дурных, т. е. на друзей и врагов
своих»2. И только иногда, утверждает Шестов, в наиболее талантли-
вых своих произведениях, подобных «Смерти Ивана Ильича», Тол-
стой показывает, что у него осталось умение видеть ужасы жизни,
видеть те трагедии, которые невозможно преодолеть, невозможно
даже заслонить от себя проповедями добра.
Позже в статье «На Страшном суде (Последние произведения
Л. Н. Толстого)», вошедшей в книгу «На весах Иова», Шестов несколько
изменил свое отношение к Толстому. Он отказался от жесткого проти-
вопоставления двух периодов в его творчестве и стал говорить о двух отно-
шениях к миру и к жизни, всегда сосуществовавших в Толстом и отра-
жающихся во всех его произведениях. Одно — это отношение к жизни в
рамках «обыденности», привычного и естественного состояния, не пред-
полагающего размышлений о смысле происходящего. Принимая обще-
принятую систему ценностей за основу, Толстой может спокойно изоб-
ражать ужасы войны или страдания людей, он увлечен подробным
изображением светских балов и приемов, он доволен своей собственной
1 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. С. 91.
2 Там же. С. 78.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 275
размеренной жизнью талантливого и популярного писателя. Но существу-
ет и другое — это отношение к жизни в ее обнаженной правде, открываю-
щейся человеку перед лицом смерти или в состоянии полной оторванно-
сти от всех и от всего, ставящем человека на грань безумия. Именно
в такой «пограничной ситуации» человек способен отбросить все обы-
денное и общепринятое, все, что закрывает от него истинный смысл
жизни; в свою очередь, понимание этого истинного смысла жизни пре-
вращает для человека все его обыденное существование, «общий мир»,
в призрачную и бессмысленную иллюзию. Ярким выражением такого
восприятия бытия Шестов считает незавершенный посмертный рассказ
Толстого «Записки сумасшедшего». «Если серьезно принять то, что рас-
сказано в "Записках сумасшедшего", — пишет Шестов, — то выхода
иного нет: нужно либо отречься от Толстого и отделить его от общества,
как в средние века отделяли больных проказою или иной страшной при-
липчивой болезнью, либо, если признать его переживания "закономер-
ными", ждать и трепетать ежеминутно, что и с другими произойдет то
же, что с ним, что "общий всем мир" распадется, что люди из бодр-
ствующих обратятся в сновидцев и у каждого человека не во сне, а наяву
будет свой собственный мир»1. Понятно, что здравый смысл и «общий
мир» защищают себя и не признают ту истину, которую несут открове-
ния Толстого, однако, подчиняясь «общему миру», мы теряем себя,
вынуждены вести «неистинное» существование; напротив, обращаясь
к этим откровениям мы не получаем ничего кроме абсолютного отреше-
ния от мира, но связанное с этим отрешением чувство ужаса и безумия
значимо само по себе, поскольку в нем и заключен весь смысл жизни.
Обращаясь к жизни и творчеству Ницше, Шестов и здесь прежде
всего обнаруживает радикальный переворот, разделивший два этапа
трагической личной судьбы Ницше. Смысл этого переворота также свя-
зан с противостоянием абстрактных принципов и жизни. Ницше на-
чинал свою творческую деятельность как преуспевающий писатель и
ученый, в тиши кабинета решающий кардинальные вопросы миро-
здания, полагающий, что на все вопросы и проблемы можно найти
ответ и каждому «частному» случаю можно придать ясное значение
с точки зрения объемлющего его «целого». «Он служил "добру", он вел
чистую и честную жизнь немецкого профессора, искал идеалов у гре-
ческих философов и новейших музыкантов, изучал Шопенгауэра, вел
дружбу с Вагнером и во имя всего этого — что почиталось им тогда са-
мым важным и нужным — отказывался от действительной жизни»2.
Тут и случилась с ним «катастрофа»; его настигла страшная болезнь,
принесшая нескончаемые страдания и заставившая обратиться от
1 Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Л.
Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1993. С.100.
2 Он же. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. С. 69.
276 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
абстрактных проблем науки и философии к «действительной жизни»
со всеми ее ужасами и трагедиями. Ницше не суждено было стать ака-
демическим профессором, судьба решила иначе. «Вместо того, чтобы
предоставить Ницше спокойно заниматься будущим всего человечества
и даже всей вселенной, она предложила ему... один маленький и про-
стой вопрос — о его собственном будущем. И проникновенный фило-
соф, без трепета глядевший на ужасы всего мира, смутился и потерял-
ся, как заблудившееся в лесу дитя, пред этой не сложной и почитаю-
щейся легкой задачей»1.
В отличие от Толстого, пишет Шестов, Ницше не имел возможно-
сти отгородиться от ужасов жизни абстрактными идеалами «добра»
и «справедливости», эти ужасы жили в нем самом, и ему не оставалось
ничего другого, как постоянно заглядывать в ту пропасть, которая раз-
верзлась в его душе. Ницше исступленно искал веру, искал то, в чем мож-
но было бы найти опору, можно было бы найти разрешение страшных
загадок жизни, оправдать все ее трагедии, — и не мог найти. Никакие
привычные идеалы, никакие вековечные ценности не смогли выдер-
жать проверку огнем его страданий: он отверг науку, он отверг добро,
в конце концов он отверг и Бога — того традиционного Бога, который
был «сконструирован» нашим разумом. «Нам, — пишет Шестов, — уже
не дано найти, не искавши. От нас требуют большего... Мы должны
понять весь ужас того положения, о котором говорит Ницше словами
безумного человека... В былые отдаленные времена об этих роковых
тайнах жизни знали очень немногие. Остальные получали веру даром.
Теперь время другое. И религиозное сознание добывается иным путем.
Там, где прежде достаточно было проповеди, угрозы, нравственного
авторитета, — теперь спрашивают больше»2.
Однако, как полагает Шестов, и Ницше не смог удержаться на той
высоте прозрения страшных тайн жизни, на которую его вознесли бо-
лезнь и страдания. «Невозможно существовать, всегда, неизменно гля-
дя в глаза страшным призракам»3. Поэтому и он пытается начать про-
поведь — проповедь «сверхчеловека» и «вечного возвращения», и эта
проповедь помогает ему бороться с мучительной, страшной непосред-
ственностью жизни.
Наконец, те же самые два периода творческой и жизненной биогра-
фии, которые он обнаружил у Ницше, Шестов находит и в жизни Досто-
евского. Радикальный перелом в мировоззрении писателя, «перерож-
дение убеждений», о котором говорит сам Достоевский, был связан со
смертным приговором, пребыванием на эшафоте и последующей затем
1 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии) // Шестов Л.
Собр. соч. в 6-ти т. Т. 3. С. 151.
2 Он же. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. С. 103.
3 Там же. С. 126.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 277
каторгой. Достоевский первого периода — это автор Макара Девушки-
на, страстный защитник «униженных и оскорбленных», человек, це-
ликом посвятивший себя пропаганде идеи добра и всеобщей братской
любви, борец за счастливое будущее для всех людей. Пребывание на
каторге поставило Достоевского перед совершенно иным ликом жиз-
ни, перед совершенно иным представлением о ее смысле, по отноше-
нию к которому все идеалы и мечты о светлом будущем потеряли свое
значение. На каторге он верил в силу идеалов и тешил себя надеждой,
что, оказавшись на свободе, сможет отдавать даже больше сил, чем
прежде, служению этим идеалам; и в этом служении будет заключать-
ся все его счастье и вся полнота жизни. Но каторга дала ему совершен-
но новый опыт, и, вернувшись в свою прежнюю жизнь, жизнь «с идеа-
лами», Достоевский осознал полную несовместимость этого опыта и
«идеалов», оказавшихся в своем существе кандалами, сковывающи-
ми жизнь; «те идеалы, которыми он умиротворял свою изнемогшую
душу в дни, когда, сопричисленный к злодеям, он жил среди послед-
них людей и делил с ними их участь, эти идеалы не возвышают, не
освобождают, а сковывают и принижают, как арестантские кандалы»1.
Внутренние противоречия и борения, вызванные в душе Достоев-
ского столкновением двух позиций, двух оценок того, что есть главное
в жизни и в человеке, отразились в «Записках из подполья», которые
Шестов признает самым искренним и глубоким произведением Досто-
евского. «Подпольный человек», утверждает Шестов, — это сам До-
стоевский в тот трагический период своей жизни, когда он осознал, что
уже не может, как прежде, принимать идеалы добра и справедливости
за самое главное, не может отдать себя борьбе за эти идеалы, за «доб-
ро» ; ибо он раз и навсегда понял, что они подавляют то, что для отдель-
ного человека, будь он великий писатель или самый невзрачный обы-
ватель, составляет подлинную основу существования. Эта подлинная
основа настолько заслонена «принципами» и «идеалами», что ее осво-
бождение и обнажение предстает как радикальный переворот всех
жизненных установок, кажется дерзким бунтом против общепринято-
го. «Человек, освобождающийся от кошмарной власти посторонних
идей, подходит к чему-то столь необычному и столь новому, что ему
должно казаться, что он вышел из области действительности и подо-
шел к вечному, изначальному небытию»2.
В центре повести Достоевского — непримиримое противостояние жи-
вого человека и «принципов». Принципы и идеалы непримиримы к непо-
корным, они требуют полного признания своей власти; поскольку «под-
польный человек» не желает служить им, они объявляют его существова-
ние не имеющим смысла, напрасным. Однако «подпольный человек»
борется за свои права, и поскольку принципам и идеалам невозможно
1 Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). С. 30.
2 Там же. С. 48.
278 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
предъявить рациональные доказательства своей правоты — все рацио-
нальные доказательства уже на их стороне, — он использует единствен-
ную оставшуюся возможность — бунт против разумности и закономер-
ности, против «дважды два четыре» и «каменной стены» — основ той
власти, которую имеют принципы и идеалы. Он отстаивает свое право
на абсолютное несогласие и абсолютный произвол — несогласие и про-
извол даже там, где все разумные доводы за согласие и подчинение.
«Стою я... за свой каприз, — цитирует Шестов "подпольного челове-
ка", — и чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страда-
ния, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном
дворце оно немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что
за хрустальный дворец, в котором можно усомниться? А между тем
я уверен, что человек от настоящего страдания, т. е. от разрушения и
хаоса никогда не откажется»1 (все курсивы в этой цитате из повести
Достоевского принадлежат Шестову).
В своих работах Шестов дает своеобразное «теоретическое» доказа-
тельство в пользу известного суждения Н. Страхова о том, что наибо-
лее близкие к самому Достоевскому лица — это герой «Записок из под-
полья», Свидригайлов и Ставрогин. Почти все исследователи и биогра-
фы с сомнением и даже негодованием относились к этому суждению,
ссылаясь в основном на резко негативную его оценку А. Г. Достоевской,
женой писателя2. Шестов же, напротив, практически отождествляет
мировоззрение Достоевского (после каторги) с мировоззрением «под-
польного человека», и, исходя из этого, объясняет все последующее
творчество писателя. Главные герои романов Достоевского — от Рас-
кольникова до Ивана Карамазова — это, по Шестову, воплощение все
той же самой борьбы принципов и жизни в человеке, или, точнее, их
борьбы за человека. Человек, вовлеченный в эту борьбу, обречен на
трагическое существование, ничем не отличающееся от того, которое
вел сам Достоевский («каторга Достоевского продолжалась не четыре
года, а всю жизнь» — пишет Шестов3). И вовсе не проступки и преступ-
ления героев являются причиной их несчастий и душевных мук, пре-
ступление — это только символ того вызова, который человек бросает
принципам и идеалам. Шестов высказывает парадоксальную мысль,
что, возможно, Раскольников и не совершал преступления, — он был
«оклеветан» Достоевским, точно так же как был «оклеветан» автором
Иван Карамазов. «Эти-то преступники без преступления, эти-то угры-
зения совести без вины и составляют содержание многочисленных ро-
манов Достоевского »4.
1 Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). С. 55.
2 См. например: Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965. С. 235-240.
3 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). С. 91.
4 Там же. С. 109.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
279
Этим главным героям Достоевского, вся жизнь которых есть беско-
нечное мучение и бесконечный поиск, Шестов противопоставляет «иде-
альных» героев, не жалея по отношению к ним иронии и откровенного
сарказма. Сколько ни обещает Достоевский дать образ «положитель-
ного» человека, это остается только обещанием, а реальные «положи-
тельные» образы (Мышкин, старец Зосима и Алеша Карамазов) беско-
нечно далеки от полнокровия и выразительности главных героев До-
стоевского. Особенно резкие суждения Шестов высказывает по поводу
князя Мышкина, которого он называет воплощенной «пустотой».
«Правда, — пишет Шестов, — от времени до времени Достоевский дает
ему хорошо поговорить. Но ведь это еще не заслуга: разговаривает-то
сам автор. Еще князь Мышкин, как и Алеша Карамазов, наделяется
необыкновенной способностью к предугадыванию, почти граничащей
с ясновидением. Но и это — небольшое достоинство в герое романа,
где мыслями и поступками всех действующих лиц управляет автор.
А сверх этих качеств князь Мышкин — чистейший нуль»1. Как мы ви-
дим, Шестов находит в основе художественного метода Достоевского
принцип абсолютной диктатуры автора, авторского слова, т. е. припи-
сывает Достоевскому крайний «монологизм», в полной противополож-
ности к тому, что позже утверждал Бахтин.
Наиболее ясное выражение сокровенных мыслей Достоевского Ше-
стов находит в «Братьях Карамазовых», в истории Ивана. «Достоев-
ский, — пишет он, — наконец, договорился до последнего слова... ника-
кая гармония, никакие идеи, никакая любовь или прощение, словом,
ничего из того, что от древнейших до новейших времен придумывали
мудрецы, не может оправдать бессмыслицу и нелепость в судьбе отдель-
ного человека. Он говорит о ребенке, но это лишь для "упрощения" и без
того сложного вопроса, вернее, затем, чтобы обезоружить противников,
так ловко играющих в споре словом "вина". И в самом деле, разве этот
бьющий себя кулачонком в грудь ребеночек ужаснее, чем Достоевский-
Раскольников, внезапно почувствовавший, что он себя "словно ножни-
цами отрезал от всего и всех"? ...Да, есть на земле ужасы, которые не
снились учености ученейших. Пред ними бледнеют рассказы Карамазо-
ва о зверстве турок, об истязании детей родителями и т. д. И "яблоко"
здесь, конечно, ничего не объясняет. Нужно либо "отмстить" за эти сле-
зы, либо — но разве может быть какое-нибудь еще "либо" для тех, кто,
подобно Достоевскому, сам проливал их? Какой здесь возможен ответ?
"Назад к Канту"? С Богом, никто не удерживает. Но Достоевский идет
вперед, что бы его не ждало впереди»2.
Шестов, несомненно, умеет выделить одну главную идею у близкого
ему мыслителя и добиться у нас согласия с тем, что эта идея на самом
1 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). С 111.
2 Там же. С. 120-121.
280 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX - XX веках
деле важна не только для самого Шестова, но и для того, на кого на-
правлено его внимание. Он безусловно прав, настаивая на том, что твор-
чество Достоевского открыло совершенно новое, непривычное для фи-
лософии и искусства той эпохи отношение к жизни и к отдельному
эмпирическому человеку. Достоевский действительно хочет добиться
«реабилитации прав подпольного человека»1. Изображая мятущихся,
противоречивых, трагически несовершенных людей, Достоевский
доказывает, что их непосредственное эмпирическое бытие, помимо его
вторичного «осмысления» и «оправдания» с помощью тех или иных
абстрактных принципов, имеет абсолютное значение, невыразимое
на языке привычных понятий. Жизнь человека в ее непосредственной
экзистенциальной полноте должна быть непременно учтена в наших
поисках абсолютного источника всего существующего и всех смыслов
существующего.
Однако когда Шестов пытается доказать, что эта идея является един-
ственной важной для Достоевского, мы должны признать, что он в зна-
чительной степени искажает и обедняет творчество великого писате-
ля, пытаясь превратить Достоевского в такого же «моноидейного» мыс-
лителя, каким был он сам. Вряд ли можно согласиться с тем, что все
романы Достоевского от «Преступления и наказания» до «Братьев Ка-
рамазовых» — это только вариации на ту тему, которую Достоевский
высказал впервые в «Записках из подполья». В отличие от Шестова
Достоевский не только противопоставляет экзистенциальную сущность
жизни идеалам и принципам — такое противопоставление полезно раз-
ве что в целях наглядности, для того, чтобы яснее продемонстрировать
абсолютное значение экзистенциального измерения человеческого
бытия, — но и пытается понять, как реальный человек может соеди-
нить в своей жизни оба измерения, как он может найти подлинный
источник своего бытия и возможно ли вообще сделать этот источник
доступным для всех и «прозрачным» в своей глубине.
Стремление Шестова приписать Достоевскому абсолютное противо-
поставление жизни и принципов, представить Достоевского этаким
«нигилистом», не способным себе самому признаться в своем отрица-
нии всех «ценностей» ради «произвола» и «каприза» жизни, позже при-
вело его к достаточно странному противопоставлению Достоевского и
Соловьева: «...из того, что Соловьев прославлял Достоевского заклю-
чали о том, что Соловьев и Достоевский были единомышленниками...
Прочтите три речи Соловьева о Достоевском — в них нет ни слова о том,
над чем бился всю свою жизнь Достоевский. Соловьева в Достоевском
занимают только те мысли, которые он сам ему внушил и которые
Достоевский более или менее удачно, но всегда по-ученически развивал,
главным образом в "Дневнике писателя"; а собственные же видения
1 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). С. 139.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 281
Достоевского так же пугали и отталкивали Соловьева, как и всех дру-
гих читателей»1. Такое противопоставление в равной степени искажа-
ет и творчество Соловьева, и творчество Достоевского, поскольку каж-
дый из них разными путями, с помощью разных выразительных
средств шел к одной и той же цели: пытался выразить совершенно но-
вое понимание человека, совмещающее в себе признание ценности сию-
минутной земной жизни с требованием преобразования существую-
щей действительности, дополнения эмпирического бытия некоторым
идеальным измерением, которое бы не уничтожало и не «снимало»
эмпирическую единичность, а придавало бы ей непреходящее, вечное
значение. В рамках этой общей цели Достоевский большее значение
придавал выражению экзистенциального смысла единичного суще-
ствования; однако сводить его творчество только к этому — значит не-
справедливо обеднять его мировоззрение. В свою очередь, Соловьев, ко-
нечно, в большей степени был нацелен на «оправдание» традиционных
ценностей добра, справедливости, любви и т. д., но только предельно
пристрастный читатель (каковым и был Шестов) может утверждать,
что у Соловьева само это «оправдание» построено на основе отрицания
непреходящего значения отдельного, индивидуального бытия каждой
личности. Тот факт, что Соловьев не смог достаточно последовательно
реализовать свой замысел, не умаляет его заслуги как одного из перво-
открывателей пути к новой философии.
Прямолинейность шестовского подхода к творчеству Достоевского
проявляется, в частности, в его интерпретации рассказа «Сон смешно-
го человека», содержащейся в более поздней работе о Достоевском, во-
шедшей в книгу «На весах Иова» (в книге «Достоевский и Ницше» этой
радикальной интерпретации еще нет)2. В рассказе Достоевского Ше-
стов обнаруживает точное повторение своего понимания библейской
истории о грехопадении. Идеальное общество, в которое попал герой
рассказа, Шестов принимает за состояние «невинности» первого чело-
века, состояние единства с Богом, а «смешной человек» оказывается
библейским «змеем», «развратившим» Адама и Еву. Эта аналогия на
первый взгляд кажется достаточно правдоподобной; возможно, Досто-
евский имел ее в виду при написании рассказа. Однако совершенно не-
возможно принять эту аналогию в том буквальном смысле, который
придает ей Шестов.
Прежде всего нужно напомнить (см. § 8 главы 2), что в рассказе До-
стоевского люди идеального общества столь же смертны, как и люди на-
шего «развращенного» общества, и им еще только предстоит окончатель-
ное слияние с Богом после смерти (об этом есть точное указание в тексте).
1 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия Вл. Со-
ловьева. С. 29.
2 См.: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). С. 77-82.
282 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Кроме того, в рассказе имеются некоторые намеки на то, что идеаль-
ные люди все-таки нуждаются в получении «знания» о мире, отличие
этого «знания» от нашего только в том, что оно более глубоко проника-
ет в сущность природы и не требует таких сложных опосредующих ме-
тодов, каких требует наша наука. Главное качество идеального обще-
ства, отличающее его от нашего общества, заключается в том, что в нем
в значительной степени (хотя и не окончательно) преодолена раздель-
ность бытия, определяющая характерные черты нашего общества, —
отделенность людей друг от друга и отделенность человека от приро-
ды. Если принять все это во внимание, то оказывается, что идеальное
общество из рассказа Достоевского в гораздо большей степени напоми-
нает идеал всеединства Соловьева, нежели представление Шестова
о безгрешном человеке, находящемся в абсолютном единении с Богом.
В связи с этим Шестов с полным правом мог адресовать и Достоев-
скому то же самое обвинение, которое он позже адресовал Соловьеву:
идеальное общество Достоевского носит такой же «конструктивный»
характер, как и идеал Соловьева, оно точно так же, как и идеал все-
единства, сконструировано человеческим разумом, пытающимся по-
нять сущность и причины несовершенства, присущего человеческому
обществу. И тот факт, что Достоевский описывает этот идеал не с помо-
щью абстрактных понятий метафизики, а с использованием нагляд-
ных художественных образов, нисколько не умаляет его полную тож-
дественность с идеалом метафизики Соловьева. В соответствии с глав-
ным смыслом той борьбы, которую Шестов ведет против разума, он
должен отвергнуть этот идеал как ложный — точно так же как и лю-
бую другую попытку представить себе состояние человека до грехо-
падения, ведь это есть состояние абсолютного единства с Богом, сто-
ящим выше всего, что может сказать наш разум.
Наконец, сама легкость, с которой «смешной человек» «развратил»
идеальное общество, также заставляет думать, что идеальное общество
Достоевского есть нечто весьма эфемерное, нечто только воображаемое,
«идеальное». Да и сам «смешной человек» является своего рода двой-
ником «подпольного человека», и его нежелание расстаться со своей
индивидуальностью «гнусного петербуржца» (даже ради идеального
общества!) очень похоже на «бунт» «подпольного человека». Трудно
согласиться с Шестовым, когда он говорит, что Достоевский целиком
на стороне людей идеального общества и против «смешного человека».
Это противоречит другому его утверждению — о том, что «подпольный
человек» (а значит, и «смешной человек») — это центральный персо-
наж творчества Достоевского и олицетворение главного принципа его
мировоззрения. Достоевский остается на стороне «смешного челове-
ка» , — но не потому, что ему не нравится созданное его воображением
идеальное общество, а потому, что он прекрасно понимает, что это толь-
ко идеал у который необходим человеку для борьбы за совершенство
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 283
в этом мире, но который невозможно считать уже реальным (в каком-
то «вечном», божественном измерении бытия) и даже, может быть,
реализуемым.
Особенно наглядно ошибочность шестовской интерпретации прояв-
ляется в его отрицании естественной связи между основной частью рас-
сказа и его финалом. В финале «смешной человек» возвращается в наш
мир, и воспоминания о виденном им обществе дают ему силы для про-
поведи «истины» и для борьбы с несовершенством мира; это и есть вы-
вод Достоевского, главный смысл его рассказа. Шестов же полагает,
что финал противоречит «настоящему» смыслу рассказа, поскольку
нацеленность «смешного человека» на борьбу в этом мире ничем не луч-
ше его действий в идеальном обществе, приведших к его «развраще-
нию». «Второй раз, — с пафосом провозглашает Шестов, — не во сне,
а уже наяву, с Достоевским случилось то "ужасное", о чем он нам толь-
ко что рассказал. Он предал открывшуюся ему вечную истину ее злей-
шему врагу. Во сне он "развратил", по его словам, безгрешных обита-
телей рая. Теперь он спешит к людям, чтобы наяву повторить то пре-
ступление, которому он так ужаснулся!»1 Но, конечно, возникающее
здесь противоречие — это целиком противоречие самой интерпретации
Шестова, который искажает подлинные намерения Достоевского и
упрощает его глубокое диалектическое мировоззрение до прямолиней-
ного противопоставления жизни и разума.
Нужно подчеркнуть, что Шестов не сразу пришел к той радикаль-
ной и достаточно неплодотворной концепции, которая выражена во всех
его поздних трудах, созданных в 1920-1930-е годы (перелом в его ми-
ровоззрении связан с изучением творчества М. Лютера в 1910-1914 гг.
и созданием книги «Sola Fide»). В ранних работах, посвященных ана-
лизу творчества Шекспира, Толстого, Достоевского и Ницше, абсо-
лютного противопоставления жизни и разума еще нет; здесь мы еще
можем найти определенные намеки на возможность построения «не-
традиционной» этики и «нетрадиционной» метафизики, способных
быть в согласии с жизнью и даже служить полноте жизни. Особенно
выразителен в этом смысле финал одной из наиболее популярных книг
Шестова «Достоевский и Ницше (философия трагедии)», опубликован-
ной впервые еще в 1902 г. Хотя уже здесь Шестов говорит о противо-
стоянии жизни, бытия отдельной личности и абстрактных принципов,
он выступает при этом не столько против самого разума, сколько про-
тив его неправомерной роли по отношению к жизни, против стремле-
ния абстрактных принципов и идеалов к абсолютному господству над
человеком, против их претензии на единственно верное выражение
смысла и цели жизни. Шестов предлагает раз и навсегда осознать и
принять ценность жизни в ее собственном иррациональном содержании,
1 См.: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам). С. 82.
284 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
не подлежащем окончательному выражению в тех или иных принци-
пах и целях. Ценность жизни — в ее непредсказуемости и способности
к подлинному творчеству, т. е. в способности рождать новое. В связи
с этим порочность идеалов и принципов заключается только в том, что
они, оформляя и выражая в общепонятной форме то новое, что творит
жизнь, пытаются заменить собою жизнь и препятствуют ее дальнейше-
му творчеству, уничтожают ее главное свойство — непредсказуемость.
В конечном счете, в книге о Достоевском и Ницше Шестов противо-
поставляет не столько жизнь и разум, сколько два типа морали, т. е.
две различные формы соединения жизни, разума и воли: мораль обы-
денности и мораль трагедии. Мораль обыденности основана на под-
чинении жизни во всей ее непредсказуемости и со всеми ее трагически-
ми перипетиями — абстрактным и всеобщим принципам, которые в
качестве главных ценностей утверждают постоянство, обеспечивае-
мое их собственной незыблемостью, и спокойствие, являющееся след-
ствием постоянства «обыденного» бытия. Человек, привыкший к по-
стоянству и страшащийся изменений, готов ради поддержания этого
постоянства пожертвовать своим неискоренимым правом на несогла-
сие с навязанным способом жизни, готов пожертвовать своими глубо-
кими желаниями и своей индивидуальной свободой. При этом он, по
сути, жертвует самим собой ради абстракций, убивающих жизнь.
Главными врагами морали обыденности, утверждает Шестов вслед
за Ницше, являются скептицизм и пессимизм, разоблачающие все
«абсолютные» принципы и идеалы, разбивающие любые абстрактные
«кумиры». Именно их использует в качестве своего оружия мораль тра-
гедии, главный и единственный принцип которой — это движение впе-
ред, в неизвестность. «Людей постоянно предостерегают против скеп-
тицизма и пессимизма, их непрерывно убеждают в необходимости во
что бы то ни стало сохранить веру в идеалы, но ни предостережения,
ни убеждения не оказывают никакого действия: нас всех влечет роко-
вая сила вперед, к неизвестности. Не вправе ли мы видеть в стихий-
ности этого влечения залог будущего успеха и не должно ли, в силу того,
уже теперь искать в пессимизме и скептицизме не врагов, а неузнан-
ных друзей?..»1 Очевидно, что скептицизм и пессимизм — это тоже ре-
зультат и форма действия разума, но здесь разум выступает не в каче-
стве производителя «абсолютных» принципов и идеалов, претендую-
щих на неизменность и вносящих эту неизменность в наше бытие, а
в качестве орудия разрушения всего устоявшегося ради новых прин-
ципов и идеалов, которые в такой же точно степени обречены на быст-
рую гибель ради новых перспектив. «...Ницше и Достоевский уже не
считаются с правами добрых и справедливых (Миллей и Кантов). Они
поняли, что человеческое будущее, если только у человечества есть бу-
1 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). С. 216.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
285
дущее, покоится не на тех, которые теперь торжествуют в убеждении,
что у них есть уже и добро и справедливость, а на тех, которые, не зная
ни сна, ни покоя, ни радостей, борются и ищут, и, покидая старые иде-
алы, идут навстречу новой действительности, как бы ужасна и отврати-
тельна она ни была»1. В процессе этого движения разум должен слу-
жить жизни, помогать ей быть осмысленной в ее бесконечном творче-
ском процессе.
В итоге, оценивая первый период творческого развития Шестова,
охватывающий его работы 1898-1910 гг. — от книги о Шекспире до
«Апофеоза беспочвенности» и последовавших затем двух сборников
статей, «Начала и концы» и «Великие кануны», — можно сказать, что
главная цель его исканий — это разрушение привычных представлений
о человеке и привычной системы ценностей, т. е. разрушение метафи-
зики и этики, построенных на «отвлеченных началах» и низводящих
отдельного эмпирического человека до вторичного элемента, подчинен-
ного принципам и идеалам. Однако, осуществляя это разрушение,
Шестов все-таки видит перспективы построения новой этики и новой
метафизики, не отвергая полностью возможности определения ценност-
ных ориентиров, задающих цели человеческой жизни, а также возмож-
ности построения системы метафизического познания, основанной
на нетрадиционном использовании разума. Как мы видели, в книге
«Достоевский и Ницше» Шестов достаточно ясно очерчивает контуры
новой этики («морали трагедии»), в которой главной ценностью ока-
зывается не следование за раз и навсегда данными и неизменными иде-
алами, а постоянное изменение системы идеалов и целей в соответствии
с запросами того, что и является подлинным источником всех идеалов
и целей, — в соответствии с запросами жизни в ее индивидуальной,
иррациональной, неповторимой сущности, открывающейся человеку
в его «внутреннем опыте», в «пограничных ситуациях» стояния лицом
к лицу с трагедиями бытия.
Разрушая традиционную метафизику, «обслуживающую» традици-
онную этику, Шестов пытается выработать подход к новой метафизи-
ке, основанной на нетрадиционном использовании разума, на «адог-
матическом мышлении». Эту цель реализует следующая работа Шес-
това — «Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления»
(1905). Задача этой книги, пишет Шестов, заключается в том, «чтобы
раз навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непо-
нятным упорством навязываемых нам всевозможными основателями
великих и не великих философских систем... Не является ли главной
задачей нашего времени научиться искусству обходить (а то и разру-
шать) все те многочисленные заставы, которые под разными предлога-
ми выстраивались в старину могущественными феодалами духа и лишь
1 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии). С. 226.
286 Я. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в силу вечного консерватизма трусливой и близорукой человеческой
природы и доныне продолжают еще считаться непреодолимыми, даже
"естественными" преградами для движения нашей мысли?» *
Шестов не утверждает необходимости полного отказа от разума, он
предлагает разуму новый путь, на котором главным методом мышле-
ния должна стать не логика и не система доказательств, а непредска-
зуемость, отсутствие заданности, ориентация на индивидуальный опыт
жизни. Мышление должно стать экзистенциальным (сам Шестов ис-
пользовал этот термин только в поздних своих работах), должно вырас-
тать из интуиции самого бытия, самой жизни. «Самые важные и зна-
чительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словес-
ной оболочки: найти для них слова — особое, очень трудное дело, целое
искусство»2. Такое мышление должно быть абсолютно свободным, как
свободен сам человек, и оно должно быть индивидуальным делом че-
ловека, поскольку здесь человек отрывает себя от «общего мира» и
в своем одиночестве обретает «опасный опыт» проникновения к абсо-
лютному началу жизни, обнаруживаемому «здесь и теперь», как экзи-
стенциальная данность: «...думать — ведь значит махнуть рукой на ло-
гику; думать — значит жить новой жизнью, изменяться, постоянно
жертвовать самыми дорогими и наиболее укоренившимися привычка-
ми, вкусами, привязанностями, притом не имея даже уверенности, что
все эти жертвы будут хоть чем-нибудь оплачены»3.
Ясно, что такое понимание мышления в корне отличается от тради-
ционного, подчиняющего мышление формальной логике и задающего
в качестве его главной цели порождение абстрактных принципов. Ме-
тафизика, которая явилась бы результатом нового способа примене-
ния мышления, вступила бы в противоречие с позитивной наукой и с
разумом как творцом науки. Но это значит, утверждает Шестов, толь-
ко одно — новая метафизика не должна бояться нелепостей (т. е. того,
что предстает как нелепость с точки зрения позитивной науки), наобо-
рот, она должна идти навстречу нелепостям — тем «нелепостям», ко-
торые и выражают жизнь, бытие в их противоположности «позитив-
ному» разуму. Только при этих условиях Шестов допускает возмож-
ность для метафизики и философии в целом выполнить их назначение —
дать человеку «откровение» о сущности и источнике его бытия и тем
самым помочь жизни в ее неустанном творении нового, в ее неостано-
вимом движении в непонятные дали. «Философия с логикой не должна
иметь ничего общего; философия есть искусство, стремящееся про-
рваться сквозь логическую цепь умозаключений и выносящее человека
1 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышле
ния. Л., 1991. С. 35-36.
2 Там же. С. 70.
3 Там же. С 114.
Глава 4, Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 287
в безбрежное море фантазии, фантастического, где все одинаково воз-
можно и невозможно. Разумеется, с привычками к домоседству трудно
быть хорошим философом, и то обстоятельство, что судьбы философии
всегда находились в руках профессоров, может быть объяснено исклю-
чительно нежеланием завистливых богов дать смертным всеведение.
Пока оседлые люди будут искать истины, яблоко с древа познания не
будет сорвано»1. Любопытно, в каком контексте и с каким смыслом по-
является здесь столь любимая Шестовым библейская история о ябло-
ках с древа познания. Во всех его поздних работах эти «яблоки» будут
символом того рокового пути, на который встал человек, доверивший-
ся разуму и тем самым потерявший связи с источником жизни, с Бо-
гом, — символом греховности разума как такового, в любом его при-
менении. Как мы видим, в более ранней книге, подводящей итог пер-
вому этапу его творчества, Шестов думал совсем по-иному, и яблоки с
древа познания вовсе не пугали его, еще не были абсолютно запретны-
ми и греховными. Он еще надеялся на то, что можно добиться «ис-
правления» разума, что возможен особый тип мышления, не подав-
ляющий жизнь, а раскрывающий ее смысл и помогающий творческому
движению жизни.
Если попытаться подвести итог творческим поискам Шестова в этот
период, то можно сказать, что в своей философии он пришел к полага-
нию в качестве абсолютного начала, в качестве источника всего реаль-
ного того содержания жизни, которое человек обнаруживает в своем
непосредственном экзистенциальном опыте, раскрывающемся в эм-
пирическом одиночестве, в полной оторванности от всего того, что состав-
ляет наше «внешнее» существование, в оторванности от «общего мира».
Дальнейшее развитие «адогматической», «беспочвенной» филосо-
фии, по-видимому, должно было заключаться в разработке совершен-
но новой системы категорий «экзистенциального» мышления и в по-
строении на ее основе «новой метафизики», которая не боялась бы «не-
лепостей» и противоречий с обыденным применением разума. Однако
мы не находим в творчестве Шестова попыток создания такой «новой
метафизики»; его ненависть к традиционной философии оказалась
слишком сильной, чтобы он мог допустить использование хотя бы ка-
ких-то ее элементов, без чего движение к «новой метафизике», конеч-
но, было невозможным. Более того, он категорически отверг все более
или менее плодотворные подходы к построению такой метафизики,
предпринятые его современниками, в том числе и наиболее известный
и разработанный ее вариант, представленный М. Хайдеггером в книге
«Бытие и время». Вместо того, чтобы идти дальше по тому пути, кото-
рый вел к новым высотам философского «откровения» о человеке, Ше-
стов двинулся, по сути, в обратном направлении, — от человека к Богу.
1 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышле-
ния. С. 59.
288 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
§ 3. Царство Абсурда и Бог
Отказавшись от «морали обыденности» и приняв «мораль траге-
дии», человек радикально изменяет свое бытие. С одной стороны, он
должен замкнуться в своем одиночестве и, отказавшись от спокойствия
и постоянства, войти в бесконечный «лабиринт жизни», где главное
поиск, а не обретение искомой цели. «Раз вышел в путь, хочешь быть
Тезеем и убить Минотавра, нужно перестать слишком дорожить
безопасностью и быть готовым никогда не выйти из лабиринта. Прав-
да, рискуешь потерять Ариадну — оттого-то в дальний путь следует
собираться лишь после того, когда семейные радости успели уже опо-
стылеть. Тогда нарочно порвешь нить, которая привязывает тебя к оча-
гу, чтоб иметь пред совестью законный предлог не возвращаться до-
мой»1. При этом человек обязан понимать, что безбрежный океан жиз-
ни (или, как говорит Шестов, «лабиринт») постоянно грозит ему
несчастьями и страданиями, и нужно быть готовым претерпеть их, не
уклоняясь от них и не пытаясь сгладить ужас столкновения с бытием с
помощью привычных для нашей «обыденности» понятий, — «истина»,
«добро», «высший смысл». Но, с другой стороны, чтобы эти постоян-
ные столкновения с ужасом бытия все-таки были осмыслены и изме-
нили человека, а не просто канули в тот хаос, из которого пришли, оди-
нокий «искатель» должен предпринять попытку выразить смысл сво-
их поисков, смысл своего экзистенциального опыта; тем самым он и
другим поможет «проснуться» от «обыденности» и через раскрывшие-
ся полноту и трагичность жизни наметить свое будущее. Вера в это не-
ведомое, сверхобыденное будущее составляет одну из сокровенных тайн
раннего творчества Шестова. Он даже сравнивает нашу «обыденность»
с тесным коконом, в котором сладко спит личинка, не подозревая, что
если она начнет шевелиться, сделает усилие пробуждения, то, порвав
кокон, превратится в прекрасную свободную бабочку2. Он верит в
близость человека к тому, что традиционная метафизика называет
«трансцендентным», «потусторонним», «абсолютным».Мы,несомнен-
но, соединены с этим «нечто», с этим началом бытия, и в жизни обяза-
тельно наступает момент, когда человек оказывается лицом к лицу с
ним, и ему открывается вся полнота откровенной истины3.
Но что за «нечто» и что за истина обнаруживаются в этом «опыте»?
Продолжая за Шестова его рассуждения, можно было бы сказать, что это
1 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления.
С. 59. Отметим, что метафорический образ лабиринта, в который должен вой-
ти человек, если он хочет обрести подлинный смысл жизни, и в котором его
поджидает ужас встречи с чудовищем Минотавром, заимствован Шестовым
(как и некоторые другие яркие образы его книг) из сочинений Ф. Ницше.
2 Там же. С. 75.
3 Там же. С. 116-120.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л, Шестов 289
и есть сама жизнь в ее непосредственности, раскрывающая себя в че-
ловеке и только в нем. Для того чтобы соединиться с ней, с этой осно-
вой нашего собственного существования, постоянно присутствующей
здесь, рядом, но всегда как бы «под ногами», вне пределов нашего зре-
ния, устремленного вперед, в простор идеального бытия, нужно просто
отвести взгляд от голубого неба и маячащих в нем иллюзий и осмот-
реться вокруг, нужно разрушить все те «постройки», которые высятся
на этой искомой нами «основе», очистить ее от «обыденности». Тогда
останется только одиночество, ужас, сомнение, страдание, трагедия и
т. д. — все те чувства-«экзистенциалы», о которых Шестов говорит в
своих работах, — ив них открывается «почва», «основа» бытия. И по-
скольку при этом отброшено все, что построено с помощью «позитив-
ного» использования разума, открывшаяся «основа», тот «Абсолют»,
дальше которого не должен и не может идти человек на путях «морали
трагедии», оказывается царством Абсурда, царством бесконечных воз-
можностей, — принадлежащим самому человеку, но не охваченным
никакой закономерной связью и не допускающим подчинения нашей
воле.
Что же дальше? Из тупика гносеологического и этического иррацио-
нализма, в который зашел Шестов, есть только два выхода: либо все-
таки признать возможность согласования обнаруженного царства Аб-
сурда, царства бесконечных возможностей с нашим разумом и волей —
и тогда открывается перспектива действительного превращения «ли-
чинки» в «бабочку» — обретения человеком нового, непредсказуемого
будущего, приход которого требует усилий по освоению «царства воз-
можностей» ; либо окончательно отказаться не только от разума, но и от
воли и, — подобно тому как это делают маленькие дети, когда они стал-
киваются с чем-то страшным и непреодолимым, — просто закрыть гла-
за и повторять про себя «все будет хорошо». Именно второй путь и выби-
рает Шестов, отказываясь от «морали трагедии», обнаруженной им у
Достоевского и Ницше, и обращается к Богу — к Богу, для которого
«все возможно». «Нужно принять грехопадение — и не такое, каким
его принято изображать, а то, о котором рассказано в Св. Писании,
нужно принять Абсурд, нужно вырвать веру из тисков разума; и от ве-
ры, Абсурда и Св. Писания ждать того освобождения, в котором ра-
зумное мышление отказало человеку. И все это проделать пред лицом
Необходимости и Этики и... непобедимого страха перед ними...»1
Итак, если раньше Шестов главное внимание обращал на само цар-
ство Абсурда, которое человек открывал в своем экзистенциальном
опыте и источником которого были экзистенциальные чувства отчая-
ния и ужаса, то теперь он над самим царством Абсурда помещает Бога.
Человек при этом оказывается как бы «между» царством Абсурда и
1 Шестов Л. Кьеркегор и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 59.
10 3ак. 3424
290 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Богом, в той промежуточной сфере, где человеческая жизнь, личная
история каждого из нас «выкристаллизовывается» из всех возможно-
стей Абсурда с помощью мертвящей способности разума. В экзистенци-
альном опыте отчаяние и ужас «расплавляют» на мгновение ледяную
клетку необходимости, и мы обнаруживаем подлинную подоснову на-
шей жизни и нашей судьбы — Абсурд. Но, как полагает Шестов, чело-
век сам не способен справиться с океаном возможностей, открывающих-
ся ему в Абсурде, ему необходимо «движение веры», упование на Бога,
на его способность выбрать ту возможность, о которой мечтает человек.
И Шестов обращается к истории Иова и истории Авраама, подтверж-
дающим его убеждение в том, что для подлинной веры все возможно.
У Иова судьба отняла всё — стада, богатство и сыновей, но он не сми-
ряется перед необходимостью и продолжает «упорствовать» в своем
страдании и в своем нежелании принять все выпавшее на его долю как
должное. И в своем упорстве он оказывается прав; Бог вернул ему всё —
стада, богатство, сыновей. Абсурдная возможность стала реальностью.
Еще большие парадоксы для нашего разума содержит история Авраа-
ма, «отца веры». Бог повелел Аврааму принести в жертву сына, и
Авраам безропотно принял это повеление и занес над сыном нож.
При этом он оказался выше того, что требует необходимость, выше все-
го этического. Но именно это и означает, что он сумел совершить «дви-
жение веры», сумел принять не только Абсурд, но и Бога как господи-
на всего царства Абсурда, как силу, способную реализовать все возмож-
ности. «Авраам верил, что если он даже убьет сына — он ему будет
возвращен: для Бога нет невозможного»1.
По поводу последних слов Шестова зададимся вопросом: как совмес-
тить веру Авраама в то, что сын будет ему возвращен, с «абсурдностью»
Бога, с невозможностью приписать ему наши разумные выводы и обо-
снования? Если Бог выше необходимости и выше этического, его ре-
шение «вознаградить» Авраама — отвести руку с ножом или вернуть
сына, если он будет принесен в жертву, — нельзя обосновать нашими
соображениями о «гуманности» и «целесообразности». Для Бога оба
решения — отнять жизнь и вернуть жизнь — равно допустимы и нахо-
дятся во власти божественного произвола. Тем не менее Шестов не-
устанно повторяет, что именно потому, что Авраам оказался способ-
ным совершить «движение веры» и войти в царство Абсурда, — имен-
но потому Бог остановил руку Авраама и даровал жизнь его сыну,
а если бы и допустил эту жертву, то непременно вернул бы затем сына
к жизни. Откуда эта уверенность? Нет ли здесь того же самого «при-
нуждения» Бога, о котором постоянно говорит Шестов, рассматривая
«традиционное» понимание Бога, подчиняющее его человеческим пред-
ставлениям о добре?
1 Шестов Л. Кьеркегор и экзистенциальная философия. С. 141.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
291
С другой стороны, конечно же, нельзя допустить, что Бог может
обмануть Авраама и не вернуть ему сына. Хотя Шестов постоянно
подчеркивает, что для Бога «все возможно», что Бог есть произвол, он
не может принять, что этот произвол никак не учитывает человека с
его желаниями и упованиями. Если бы это было так, то Бог ничем не
отличался бы от Мировой Воли Шопенгауэра. Хотя такой «безумный»
Бог и удовлетворяет «определениям», которые дает Шестов («Бог есть
произвол» и «для Бога все возможно»), он вряд ли бы был признан Ше-
стовым.
Но тогда есть только один удовлетворительный ответ на сформули-
рованные выше сомнения. Сохранить убеждение, что «Бог есть произ-
вол», и тем не менее быть уверенным, что Бог непременно возвратит
Аврааму сына, можно, только если принять, что в тот момент, когда
Авраам совершил «движение веры», он оказался в преображенном
состоянии; и уже нет отдельного Авраама и отдельного Бога, Бог и
Авраам стали одним, Авраам — это и есть Бог, Бог — это и есть Авра-
ам. И тогда для Авраама становится «все возможно», его воля тожде-
ственна произволу, он сам выбирает из океана возможностей, из цар-
ства Абсурда ту возможность, которая отвечает его упованиям. Это со-
гласуется с тем, что Шестов говорит нам о грехопадении: встав на путь
познания, человек отделился от Бога и попал в оковы необходимости;
соответственно, совершая «движение веры», он разрывает эти оковы
и снова соединяется с Богом. Обретая в этом соединении с Богом свобо-
ду, он реализует свои собственные, не навязанные извне и не диктуе-
мые «необходимостью» и «добром» желания, — он и есть Бог, понимае-
мый как воля, выбирающая из океана возможностей ту, которая ста-
нет реальной («свобода есть не возможность выбирать между добром
и злом... — повторяет вслед за Кьеркегором Шестов, — свобода — есть
возможность»*).
Подтверждением того, что именно так необходимо интерпретиро-
вать представления Шестова о Боге и о человеке, совершающем «дви-
жение веры», может служить любопытное рассуждение о «свойствах»
Бога из книги «Власть ключей». Сначала Шестов говорит о языческих
богах и их отличии от людей. «Еще с древнейших времен установилось
мнение, что главное преимущество богов пред людьми в том, что боги
ни в чем не знают недостатка. У них все есть, и, стало быть, им ничего
не нужно. Поэтому они не знают никаких перемен. Люди же — несчаст-
ные существа — терпят голод, холод, жару, жажду и т. д. Тут кроется,
очевидно, большая ошибка. Прежде всего, люди вовсе не потому не-
счастны, что им приходится испытывать голод, холод или усталость.
В усталости нет ничего плохого. Я даже думаю, что было бы очень жаль,
если бы людям не дано было знать, что такое усталость. И очень жалею
1 Шестов Л. Кьеркегор и экзистенциальная философия. С. 200.
292 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
богов, если правда, что они никогда не испытывали усталости, жары,
холода и т. п.... У людей плохо то, что часто усталому не дают отдох-
нуть, голодному — поесть, холодному — согреться. Я сам скорей скло-
нен думать даже о языческих богах, что они знали и усталость, и го-
лод, и холод, — их преимущество пред людьми было лишь в том, что
они вовремя могли отдохнуть, согреться и т. д., так что им не приходи-
лось гибнуть от недостатка. Скажу еще больше: я думаю, что вовсе не
в том трудность человеческой жизни, что нам приходится доходить
иной раз до отчаяния. Есть все основания думать, что человек, пере-
живший безнадежность, ни за что не согласился бы не иметь в прошлом
этого переживания... Почему люди так уверенно отнимали у богов то,
что сами так высоко ценили? Я думаю, без всяких оснований! Я ду-
маю, что представлять себе жизнь богов как жизнь спокойного созер-
цания — значит обижать богов»1.
Уже это суждение достаточно показательно, из него следует, что
между языческими богами, как их понимает Шестов, и людьми нет
никакого существенного различия. Ведь суть этого различия, конеч-
но же, не в том, что люди не всегда могут удовлетворить свой голод,
холод, жажду и т. п., — все это вторично, поскольку определяется внеш-
ними факторами. Суть в том, что человек не всегда оказывается спо-
собным пережить свое собственное отчаяние и безнадежность. Пере-
жить это состояние, выстоять в столкновении с необходимостью и про-
рваться к Абсурду человек должен сам, здесь все зависит только от него,
а не от внешних факторов (об этом и шла речь в его ранних работах, где
Шестов разъяснял смысл своей «морали трагедии»), И если человек
оказался способным вынести это состояние, пройти через него и дви-
гаться дальше, это состояние становится для него ценностью, которую
он уже не захочет отдать. Это и означает, что никакого существенного
различия между богами и людьми нет: человек способен быть в своей
жизни на той же высоте жизненного терпения и прозрения тайн жиз-
ни, что и «боги», о которых говорит Шестов.
Следом Шестов выстраивает аналогичное рассуждение, касающе-
еся уже «всесовершенного существа», т. е. христианского Бога. Шестов
пытается понять, насколько справедливо приписывать Богу такие ат-
рибуты, как всеведение и всемогущество, и приходит к выводу, что «все-
совершенное» существо не должно обладать этими атрибутами, что эти
атрибуты скорее говорят о его определенном несовершенстве. «Есть ли
в самом деле, — пишет Шестов, — всезнание признак совершеннейше-
го существа? По-моему, нет. Всезнание — это несчастие, настоящее
несчастие, и к тому же такое обидное и позорное. Вперед все предви-
деть, все всегда понимать — что может быть скучнее и постылее этого?
Для того, кто все знает, нет иного выхода, как пустить себе пулю в лоб...
1 Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей). С. 106.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 293
То же и со всемогуществом. Кто все может, тому ничего не нужно. И это
мы можем проследить на земле: миллиардеры пропадают, буквально
сходят с ума от тоски — их богатства им только в тягость»1. Нетрудно
заметить, что в основе этого рассуждения Шестова лежит убеждение
в абсолютности экзистенциального опыта человека. Если обычно
люди считают наше человеческое незнание и нашу слабость недостат-
ками и приписывают Богу всезнание и всемогущество через отрица-
ние этих недостатков, то Шестов меняет характер оценок и признает
всезнание и всемогущество недостатками с человеческой точки зрения.
Очевидно, что отрицание качеств всезнания и всемогущества делает
Бога подобным человеку —именно потому, что это отрицание основа-
но на нашем непосредственном экзистенциальном опыте; так как сами
эти качества не присущи человеку, их приписывание Богу, конечно же,
возвышает его над человеком.
Таким образом, единственная возможность непротиворечивого пони-
мания интерпретаций историй Иова и Авраама в поздних работах Ше-
стова (согласующаяся, кроме того, с идеями его ранних работ) заключа-
ется в полагании тождества Бога и человека. Человек, открывающий в
себе царство Абсурда и выдерживающий испытание отчаянием и безна-
дежностью, сам оказывается силой, выбирающей из океана возможно-
стей те, которые будут реализованы: для Бога все возможно, и это зна-
чит, что все возможно для человека, отбросившего искус знания и спо-
собного жить в непосредственности, в «непотаенности» царства Абсурда,
составляющего суть и основу нашей жизни. Человек своим разумом пре-
вратил Абсурд в Необходимость и Этику, — именно поэтому человек,
прорываясь к основам жизни, к океану возможностей, может выбрать
иной путь, может изменить все то, что было превращено в однозначное и
определенное Необходимостью и Этикой. Только в этом случае шестов-
ская вера может быть понята как воля, как способность сделать абсурд-
ную возможность действительностью; и тогда становится понятным,
почему вера Иова помогла ему вернуть стада и сыновей, а вера Авраама
спасла жизнь его сына.
Такое понимание взаимосвязи Бога и человека имеет явные подтверж-
дения в работах Шестова, однако было бы неправильно считать его един-
ственным и тем более главным. В поздних работах Шестова мы обнару-
живаем и совершенно другое отношение к Богу, которое в конечном счете
оказывается доминирующим. Бог понимается как сила, стоящая над
человеком и Абсурдом, помимо размышлений и упований человека «пе-
ребирающая» возможности, содержащиеся в царстве Абсурда. Это пред-
ставление приводит к радикальным противоречиям в размышлениях Ше-
стова, на которые он не обращает внимание только в силу совершенного
пренебрежения последовательностью и логичностью изложения. В пер-
вую очередь, здесь с новой силой встают уже упоминавшиеся вопросы.
1 Шестов Л. Potestas clavium (Власть ключей). С. 107.
294 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Если Бог бесконечно выше человека и царства Абсурда, охватывающего
человека, то становится непонятным, почему вера делает все возможно-
сти реальными для человека; в этом случае вера дает понимание того, что
все возможно для Бога, но какую возможность выберет Бог, человек не
может предопределить ни в малейшей степени. Бог в равной степени мо-
жет отвести руку Авраама и остаться безучастным к тому, что Авраам
убьет сына, а потом не вернет ему жизнь. Очевидно, что такая «вера»,
вера в такого Бога, способна принести человеку только отчаяние, и ведет
она не к обретению знания об Абсурде и упованию на новые возможности,
придающие жизни смысл, — а к полному безволию и отречению от жизни
в силу невозможности никаким образом осмыслить ее абсурдность.
Еще одно, пожалуй, самое разительное противоречие возникает в
этом случае в связи с невозможностью обосновать не только какие-то
надежды и упования человека, но и его самого как что-то существен-
ное и осмысленное. Вспомним: Шестов утверждает, что для Бога «все
возможно». Это «все возможно» он понимает в самом радикальном
смысле, лаконичное разъяснение которого дал Н. Бердяев: «...отрав-
ленный Сократ может быть воскрешен, в это верят христиане, Кьерке-
гору может быть возвращена невеста, Ницше может быть излечен от
ужасной болезни. Л. Шестов совсем не это хочет сказать. Бог может
сделать так, что Сократ не был отравлен, Кьеркегор не лишился невес-
ты, Ницше не заболел ужасной болезнью. Возможна абсолютная побе-
да над той необходимостью, которую разумное познание налагает на
прошлое»1. Бог не просто в настоящем исправляет то, что было разру-
шено в судьбе человека в прошлом, он изменяет само прошлое. Полу-
чается, что когда Шестов интерпретирует истории Иова и Авраама, он
идет дальше самой Библии. В Библии сказано, что Бог вернул Иову его
стада и сыновей, но Шестов в своем уповании на божественное всемо-
гущество утверждает, что Иову было «даровано» другое прошлое, в ко-
тором не было никаких утрат. Для того, чтобы подчеркнуть именно этот
аспект божественного всемогущества, Шестов постоянно вспоминает
Петра Дамиани с его утверждением о том, что для Бога возможно даже
«бывшее сделать никогда не бывшим».
Но придание такого смысла божественному всемогуществу полно-
стью устраняет хотя бы какую-то самостоятельность человека, более
того, оно делает абсолютно бессодержательным само представление о
человеческой личности2. Ведь содержание конкретной человеческой
1 Бердяев Н. Основная идея философии Льва Шестова // Шестов Л.
Умозрение и Откровение. С. 5.
2 Отметим, что в данном аспекте убеждения Шестова совпадают с пред-
ставлением о божественном всемогуществе у средневековых мусульман-
ских мистиков-мутакаллимов, которые утверждали, что Бог каждое мгно-
вение уничтожает мир и затем воссоздает его в совершенно новой форме и
с «новым» прошлым.
Глава 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов
295
личности определяется прежде всего индивидуальной памятью, инди-
видуальным прошлым, теряя которое, человек теряет себя. Что оста-
нется от человека, если принять, что все его прошлое непрерывно ме-
няет свои очертания по непонятному капризу Бога? Как мы помним,
сам Шестов настаивал на том, что ни один человек не откажется от пе-
режитых им состояний отчаяния и безнадежности, поскольку имен-
но в них личность обретает себя. Но под властью Бога, способного «быв-
шее сделать никогда не бывшим», все эти состояния могут и должны
исчезнуть, а значит, исчезнет и личность. Человек превращается при
этом в непонятный фантом, его жизнь лишается какого-либо смысла и
какой-либо цели, а все «ужасы» и «отчаяния», о которых Шестов го-
ворит как о пути обретения «откровения» (откровения Абсурда), пре-
вращаются в глупую и ненужную игру Бога с человеком. Жизнь чело-
века имеет смысл и требует оправдания только в том случае, если она
обладает самостоятельностью по отношению к стоящему над челове-
ком Богу, но это означает, что для Бога не все возможно — для него
невозможно уничтожить человека, лишить его памяти и ответствен-
ности за свое прошлое.
Все позднее творчество Шестова представляет собой чудовищное
сочетание двух обозначенных тенденций. В рамках первой из них Ше-
стов продолжает требовать, чтобы человек сознательно и ответственно
глядел в лицо Абсурду, чтобы он, не боясь отчаяния и безнадежности,
пошел навстречу судьбе, противопоставляя ей Абсурд как выход из
однозначности и необходимости. Это предполагает величайшую ответ-
ственность человека и величайшую отвагу — «метафизическую» отва-
гу, отвагу верить в невозможное и реализовать его. В этом случае мож-
но с полным правом говорить о вере как о втором (или третьем, Шес-
тов в этом вопросе не вполне точен) измерении мышления. Такой образ
не предполагает абсолютного разрыва между верой и разумом, здесь
предполагается, что вера, как путь к непосредственности Абсурда, как
«откровение» Абсурда, в ее единстве с волей человека может преобра-
зить его жизнь; и хотя это преображение должно произойти вопреки
убеждениям разума, оно все-таки совместимо с разумом, может быть
понято как «расширение» разума, а не как его полное отрицание. Че-
ловек во всей полноте своей веры в этом случае находится как бы меж-
ду Абсурдом и разумом. С одной стороны, он преодолевает необходи-
мость, которая навязывается разумом, и внедряет в необходимость но-
вые возможности; с другой стороны, прорываясь к непосредственности
Абсурда, он своей волей «укрощает» океан возможностей и вводит его
в русло желаемых и требуемых реализаций.
Но в рамках противоположной тенденции Шестов полностью отрыва-
ет веру и от разума и от воли и превращает человека в безвольного раба
своей фанатичной веры. Парадоксально, но Шестов совершенно не заме-
чает, что в своих поздних работах он сам впадает в тот проповеднический
296 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
пафос, который согласно его ранним трудам всегда используется людь-
ми для того, чтобы уйти от реальных проблем жизни, заслониться от
экзистенциального опыта, открывающего истину Абсурда. В резуль-
тате он попадает в ту же ситуацию, в которой находились «герои» его
ранних работ: Толстой, Ницше, Достоевский. Он проповедует фанатич-
ную веру, но за этой проповедью скрывается нежелание признать от-
ветственность человека за свою судьбу и за свой выбор, осуществляе-
мый в каждый момент жизни. Он начинает безжалостно судить людей,
делить их на правых и виноватых перед своей «истинной» верой. Очень
точную характеристику этой интонации, доминирующей во всех позд-
них сочинениях Шестова, дал Г. Федотов в рецензии на книгу «На ве-
сах Иова». «Если человеческое и божественное "Я" представляются
как абсолютный каприз, то нет никаких оснований для Завета между
ними. Одно капризное "Я", всего вероятнее, уничтожит другое. При
чудовищном неравенстве сил может ли быть сомнение в исходе поедин-
ка? Бог Шестова... весьма мало напоминает Бога Израилева: скорее
всего Вицлипуцли мексиканского пантеона... только страшный инди-
видуализм Шестова, его полная незаинтересованность в спасении лю-
дей мешает ему защищать костры. Чуточку побольше любви, и Шес-
тов превратится в инквизитора»1.
Противоречие двух указанных тенденций, по-видимому, следует
объяснять внутренними противоречиями личности Шестова. Первая
тенденция и связанные с ней ранние работы, провозглашающие необ-
ходимость ответственного поиска «откровений» Абсолюта, скорее все-
го, нужно понимать как форму «теоретического» осмысления и разви-
тия того реального опыта столкновения и борьбы с Абсурдом, который
довелось пережить самому Шестову в молодые годы — когда он пере-
жил тяжелое нервное заболевание, в решающей степени повлиявшее
на становление его личности. В то же время вторая тенденция, преоб-
ладающая в поздних трудах Шестова, отражает стремление уйти от
проблем современности, замкнуться в «гордом одиночестве» своей веры
и не допускать Абсурд и его чудищ в свою душу, — отражает то миро-
ощущение, которое, в конечном счете, стало определяющим для старею-
щего философа.
1 Цитируется по книге: Шестов Л, Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. С. 509.
Глава пятая
АБСОЛЮТ КАК СВОБОДА:
Н. БЕРДЯЕВ
§ 1. Христианский гнозис
Николай Бердяев еще при жизни стал наиболее популярным рус-
ским философом XX века, широко известным не только в России, но и
на Западе. Его творчество очень часто рассматривают как самое полное,
чуть ли не окончательное выражение всего идейного богатства русской
религиозной философии. В этом убеждении, в большей степени харак-
терном для западных читателей и исследователей, чем для российских,
есть значительная доля истины. Необходимо признать, что одной из
главных заслуг Бердяева стало ясное и весьма популярное изложение
принципов «новой философии», создание которой было целью сосре-
доточенных поисков его предшественников, в первую очередь Достоев-
ского и Соловьева.
Как мы видели, Достоевский осуществил радикальный сдвиг в по-
нимании человека, в его творчестве был намечен подход к построению
новой метафизики, отводившей человеку центральное место в бытии и
порывавшей с традициями классического философствования. Искания
Достоевского выразились в художественных образах его произведений;
Соловьев попытался те же самые новые принципы и новые подходы к
метафизике реализовать в форме строгой философской системы. В зна-
чительной степени ему это удалось, и его система стала одним из глав-
ных достижений русской философской мысли. Однако, как уже было
отмечено, Соловьев не смог окончательно преодолеть влияние класси-
ческой традиции, его философия в некоторых важнейших своих состав-
ляющих оказалась внутренне противоречивой, поскольку соединяла
новые идеи с отжившими свой век убеждениями и стереотипами. Имен-
но это сделало вполне справедливой резкую критику Шестова, обра-
щавшего все свое внимание как раз на элементы сохраняющихся клас-
сических предубеждений в философии Соловьева.
298 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Заслуга Бердяева, который всю свою жизнь был близким другом
Шестова, состояла в противоположном: он в своих философских рабо-
тах вывел на первый план новые идеи и принципы, составлявшие глав-
ное достоинство философских поисков Соловьева, и наглядно показал,
что именно они при их последовательном проведении должны стать
основой новой метафизики, окончательно порывающей с традицией
«отвлеченных начал». В одном из своих писем, написанных в послед-
ние годы жизни, Бердяев отрицал прямую зависимость своей фило-
софии от философии Соловьева: «Я... не могу себя признать учеником
Вл. Соловьева, хотя очень его ценю и имею с ним родство по идее Бого-
человечества... Биографически Достоевский и Хомяков имели для меня
больше значения»1. Однако на деле эта зависимость совершенно оче-
видна, как и зависимость от Достоевского и ранних славянофилов; Бер-
дяев пытался приуменьшить ее, по-видимому, для того, чтобы под-
черкнуть самостоятельность своих философских трудов, которые очень
многими его современниками рассматривались как не слишком ори-
гинальный синтез множества идей, почерпнутых из самых различных
источников: в первую очередь из русской религиозной философии, от
славянофилов до Соловьева, и из систем наиболее известных западных
философов (Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора, Ясперса, Хайдеггера
и др.). В этой связи полезно привести характерный фрагмент из воспо-
минаний А. Белого, который в 1908-1922 гг. был близко знаком с Бер-
дяевым и участвовал вместе с ним в различных, очень популярных в то
время, философских собраниях. Белый пишет: «...все вопросы, им под-
нимаемые, имели публицистическое оформленье при все-таки неснос-
нейшем догматизме; он казался не столько творцом, сколько лишь ре-
гулятором гаммы воззрений; мировоззренье Бердяева мне виделось
станцией, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с раз-
личных путей; собственно идей Бердяева среди "идей Бердяева", бы-
вало, нигде не отыщешь: это вот — Ницше; это вот — Шеллинг; то —
В. С. Соловьев; то — Штейнер, которого он всего-навсего перелистал;
мировоззренье — центральная станция; а Бердяев в ней исполняющий
функцию заведующего движеньем, — скорее всего чиновник и менее
всего творец; акцент его мысли — слепой, волевой, беспощадно наси-
лующий догматизм в отборе мыслей ряда философов; он как бы ордо-
нировал: "А подать сюда Соловьева! А подать сюда Ницше!"»2
Это мнение нельзя считать справедливым по отношению ко всему
творчеству Бердяева, в 20-30-е гг. он опубликовал ряд крупных работ,
безусловно несущих на себе печать оригинальности и выражающих
целостное мировоззрение, во многих своих элементах отличающееся
от философского мировоззрения его гениальных предшественников.
1 Цитируется по книге: Дмитриева Я. К., Моисеева А. П. Философ сво-
бодного духа (Николай Бердяев: жизнь и творчество). М., 1993. С. 112.
2 Белый А, Между двух революций. М., 1990. С. 413-414.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
299
Однако все-таки можно утверждать, что по степени глубины и разра-
ботанности своих философских концепций Бердяев далеко уступает не
только Вл. Соловьеву, но и наиболее талантливым своим современ-
никам и коллегам, среди которых выделяются С. Франк, И. Ильин и
Л. Карсавин. Даже наиболее фундаментальные работы Бердяева по
своему жанру близки к философской публицистике и имеют главной
целью популярное изложение отдельных ярких идей, без особого стрем-
ления к приведению их в строгую и ясную систему. Сам жанр философ-
ской публицистики был достаточно распространен в русской обществен-
ной мысли и часто помогал разработке новых подходов к старым фило-
софским проблемам. Сюда, безусловно, нужно отнести все творчество
Л. Шестова — блестящего стилиста, использовавшего своеобразную и
очень индивидуальную манеру философствования. По многим основопо-
лагающим принципам Бердяев был близок к Шестову, однако в целом он
ориентировался на совершенно другую традицию, поскольку претен-
довал на создание рациональной философской концепции, которая
могла бы встать в один ряд с концепциями других известных филосо-
фов XX века (К. Ясперса, М. Шелера, М. Хайдеггера и др.). В то же
время его стиль совершенно не соответствовал поставленной задаче; все
по-настоящему оригинальные и новые идеи, которые могли бы сло-
житься в целостную систему, в его работах тонут в бесконечных повто-
рах, в хаосе ненужных и второстепенных деталей, часто доводятся до
банальности, но так и не получают действительного развития. В резуль-
тате, нужно признать, что творчество Бердяева, обладая внешней при-
влекательностью, обусловленной публицистической простотой изло-
жения (иногда доходящей до косноязычия), почти лишено подлинной
философской глубины.
Рассматривая особенности философского стиля Бердяева, необходи-
мо выделить еще одну черту, характерную не только для него, но и для
многих других русских философов. Поскольку период оригинального
развития русской философии, начавшийся только во второй четверти
XIX века, парадоксально сочетался с продолжающимся «ученичеством»
у Запада, с постоянным (и плодотворным) интересом к западной фило-
софии, очень часто русские философы проявляли свою оригинальность
и самобытность именно в критическом усвоении и переработке заимство-
ванных идей и концепций. Эта черта достаточно ясно проявляется и у
ранних славянофилов, и у Соловьева, и у философов начала XX века,
о чем уже говорилось и будет говориться в соответствующих местах. Эта
черта весьма заметна и в работах Бердяева; самые интересные страницы
его творчества связаны с критической переработкой философских си-
стем его предшественников и современников. Не случайно две, воз-
можно, наиболее оригинальные работы Бердяева посвящены своеоб-
разной интерпретации чужих идей, идей мыслителей, которые в наи-
большей степени были близки Бердяеву и повлияли на его развитие —
это книга «Миросозерцание Достоевского» (1923), уже неоднократно
300 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
упоминавшаяся выше в связи с анализом метафизики Достоевского,
и небольшая работа «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества
и общения» (1934), целиком построенная на заимствовании и крити-
ке идей экзистенциальной философии К. Ясперса, М. Хайдеггера
М. Бубераи др.
Еще раз подчеркнем: значение Бердяева в истории русской филосо-
фии заключается главным образом в том, что он в очень ясной форме
выразил главные тенденции и главные итоги ее развития и тем самым
сделал очевидной ее оригинальность на фоне классической западной
философии, из которой она, в сущности, и выросла. В этой связи пред-
ставляет особый интерес анализ источников творчества Бердяева. Мож-
но сказать, что Бердяев как бы олицетворяет в этом аспекте всю рус-
скую философию, и, подробно разъясняя в своих трудах какие мысли-
тели и какие религиозно-философские традиции сыграли особенно
большую роль в становлении его идей, он тем самым показывает исто-
ки всей русской религиозной философии, показывает «родословную»
ее наиболее оригинальных концепций.
Не удивительно, что среди всех этих влияний особенно часто Бер-
дяев упоминает ту самую гностико-мистическую традицию, о влиянии
которой на русскую философию уже не раз говорилось выше. Пожа-
луй, никто из русских философов до такой степени прямо и непосред-
ственно не признавал свою зависимость от этой традиции. В первой сво-
ей большой работе «Философия свободы» (1911) Бердяев отрицатель-
но отзывается об античном гностицизме, однако нетрудно видеть, что
и здесь, и в аналогичных суждениях его более поздних работ он отрица-
ет только рационалистическую тенденцию в античном гностицизме1
(о чем писал и Шестов), в то время как в последующем развитии гнос-
тической традиции эта рационалистическая тенденция вовсе не стала
господствующей, а естественным образом сочеталась с утонченным
мистицизмом. Если понимать гностическую традицию в том смысле,
как это принято в современной литературе (см. § 1 главы 3), то необхо-
димо признать, что Бердяев воспроизводит практически все основные
идеи, характерные для этой традиции.
Прежде всего во всех своих работах Бердяев повторяет основную
мысль Соловьева: философия как отвлеченное, абстрактное знание изжи-
ла себя, она должна вернуться к своим истокам — должна соединиться
1 «Гностицизм в существе своем есть рационализм, какое бы мистиче-
ское одеяние он ни одевал, это рафинированный, с трудом распознавае-
мый рационализм. Для гностицизма религия есть знание, тайное и явное,
есть посвящение в учение. Гностицизм смешивает оккультное знание с ре-
лигией, подменяет им религию, в то время как оккультное знание должно
рассматриваться как форма знания, как расширенная наука, а не как ре-
лигия» (Бердяев Н. А. Философия свободы // Бердяев Н. А. Философия
свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 23).
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
301
с религией. «Религия может обойтись без философии, источники ее
абсолютны и самодовлеющи, но философия не может обойтись без ре-
лигии, религия нужна ей как пища, как источник живой воды. Рели-
гия есть жизненная основа философии, религия питает философию
реальным бытием»1. То новое философское знание, которое должно
возникнуть из такого синтеза, Бердяев называет христианским гно-
зисом (проводя тем самым различие между своим пониманием «со-
кровенного знания» и его пониманием у античных гностиков). Важ-
нейшей характеристикой гнозиса в отличие от знания (научного)
является его укорененность в жизни, его практически-жизненный ха-
рактер. Овладение им не просто дает новые знания человеку; это при-
водит к коренной перестройке всей его жизни, придает жизни настоя-
щий смысл, поскольку открывает человеку самую важную истину —
истину о его предназначении в мире.
Разъясняя смысл христианского гнозиса, Бердяев (как это делал
и Соловьев) постоянно противопоставляет его традиционному хрис-
тианству, всегда пытавшемуся приспособить безмерную глубину От-
кровения, — подлинного «гнозиса», в котором была открыта Истина
о Боге и человеке, — к уровню обыденного сознания; тем самым
христианство лишало человека возможности проникнуть в главные
тайны мира: «...церковное сознание было обращено, по преимуществу,
к среднему, массовому человеку, было занято великим делом его во-
дительства и его спасения, и, осудив гностицизм, оно утвердило и уза-
конило агностицизм. Самая тема, которая искренне и глубоко волно-
вала гностиков, была признана как бы не христианской, в христиан-
стве недопустимой и незаконной. Высшие запросы духа, жажда
углубленного познания божественных и космических тайн были
приспособлены к среднему человеческому уровню. И гнозис Ориге-
на, а не только Валентина был признан недопустимым и опасным,
как ныне признан опасным и недопустимым гнозис Вл. Соловьева.
Была создана система теологии, которая закрыла возможности выс-
шего гнозиса. И только великие христианские мистики прорывались
за укрепленные границы»2. Критически относясь к некоторым ас-
пектам учения античных гностиков, Бердяев считает, что подлин-
ный христианский гнозис был открыт более поздними представите-
лями этого направления — в первую очередь немецкими мистиками.
Якоб Бёме, Ангелус Силезиус, Мейстер Экхарт постоянно присутству-
ют на страницах сочинений Бердяева как непререкаемые авторите-
ты; их идеи и составляют фундамент, на котором Бердяев строит свою
философию.
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. С. 20.
2 Он же. Философия свободного духа. Проблематика и апология хрис-
тианства // Философия свободного духа. М., 1994. С. 19.
302 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Все главные темы гностико-мистической традиции становятся те-
мами философии Бердяева: это и убеждение в равноправии и взаим-
ной «обусловленности» Бога-творца и человека; и представление о «пле-
ненности» человеческого духа «злой» материальной необходимостью;
и убеждение в фундаментальном, первоначальном значении человече-
ской свободы и человеческого творчества в деле освобождения духов-
ного начала (не только человеческого, но и божественного!) из «плена»
мировой необходимости; и обостренный этический дуализм, признаю-
щий силу и притягательность зла, но также требующий напряженной
борьбы с мировым злом и злом в самом человеке. В лице Бердяева рус-
ская философия ясно сформулировала для себя самой значение ука-
занной традиции в становлении собственной самобытности, а также
сделала явным тот факт, что в XX веке именно она продолжила разви-
тие этой традиции после долгого периода господства рационализма, ка-
залось бы, навсегда похоронившего эту давнюю мировоззренческую па-
радигму.
Вспомним (см. § 1 главы 3), что один из известных немецких
исследователей гностицизма (Г. Ионас) считал важнейшей состав-
ляющей гностического мировоззрения парадоксальное сочетание
онтологического монизма и экзистенциального дуализма. Эта же са-
мая черта стала одной из самых ярких характеристик мировоззрения
Бердяева, на что он сам постоянно указывал, признавая невозмож-
ность рационального совмещения этих двух составляющих. «Я знаю, —
пишет Бердяев в одной из своих ранних работ, — что меня могут
обвинить в коренном противоречии, раздирающем все мое мирочув-
ствие и все мое миросозерцание. Меня обвинят в противоречивом со-
вмещении крайнего религиозного дуализма с крайним религиозным
монизмом. Предвосхищаю эти нападения. Я исповедую почти мани-
хейский дуализм. Пусть так. "Мир" есть зло, он безбожен и не Богом
сотворен. Из "мира" нужно уйти, преодолеть его до конца, "мир" дол-
жен сгореть, он аримановой природы... И я же исповедую почти пан-
теистический монизм. Мир божественен по своей природе. Мировой
процесс есть самооткровение Божества, он совершается внутри Боже-
ства. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны
Богу... Эта антиномия дуализма и монизма у меня до конца сознатель-
на, и я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в
религиозной жизни»1.
Всю историю европейской философии Бердяев интерпретирует как
постепенное выявление христианского гнозиса. В основных своих со-
ставляющих он был обозначен уже немецкой мистикой, затем вопло-
тился в классическом немецком идеализме Канта, Фихте, Шеллинга
и Гегеля и получил окончательное выражение в экзистенциальной
1 Бердяев Н. А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека // Бер-
дяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 257—258.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
303
философии, к которой, наряду с Ясперсом, Хайдеггером и Бубером,
Бердяев причисляет и себя самого. Это также совпадает с точкой зре-
ния Г. Ионаса, утверждавшего в своем исследовании, что именно
экзистенциализм стал последней и окончательной формой того ради-
кального мировоззрения, которое впервые было сформулировано ан-
тичными гностиками.
Очевидно, что первоначально формирование философских взглядов
Бердяева происходило под определяющим влиянием не столько всей
гностико-мистической традиции, сколько более естественного и до-
ступного источника — предшествующей русской философии, уже ис-
пытавшей на себе гностические, мистические и теософские влияния;
скорее всего, только после восприятия ее главных интенций Бердяев
пришел к необходимости более глубокой переработки западной мис-
тической традиции. Естественно предположить, что главную роль в фи-
лософском становлении Бердяева сыграли труды Вл. Соловьева, по от-
ношению к которому Бердяев оказался прямым «наследником», откры-
то высказавшим все то, к чему в мучительных исканиях и прозрениях
неуклонно двигалась мысль Соловьева.
§ 2. Личность как конкретное начало.
Персонализм Бердяева
Соловьев потребовал отказа от самого простого и наглядного спо-
соба построения философии, когда за основу принималось естествен-
ное начало — достоверность «чистого» разума или внешнего чувства.
В философии, в отличие от конкретных наук, далеко не всегда про-
стые принципы могут быть основополагающими и исходными в логи-
ческом и генетическом смысле. Если философия претендует на выяв-
ление той Истины о мире и человеке, из которой происходят все наши
частные истины и знания, она должна найти действительное Начало,
исток всего существующего, то, что существует в абсолютном, безу-
словном смысле и не может быть зависимым ни от чего другого, не мо-
жет быть следствием ничего другого. Это подлинное Начало должно
содержать все, поэтому оно должно быть абсолютно конкретным, т.е.
должно быть тем, по отношению к чему все остальное является част-
ным случаем, проявлением, ограничением, отвлечением, упрощени-
ем и т. д. Найти такое начало человек может, по убеждению Соловье-
ва, только радикально изменив направление своих поисков. Господ-
ство внешнего опыта в нашем познании должно смениться господством
внутреннего опыта.
Это не означает, что на место объективных восприятий и понятий,
описывающих «внешний» мир, нужно поставить субъективные обра-
зы, описывающие внутренние состояния человеческой души, такое
понимание идеи Соловьева было бы совершенно неправильным. Ведь
и субъективные восприятия могут быть и, по сути, всегда являются эле-
ментами внешнего опыта, например, когда мы рассматриваем чувства
304 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и аффекты в психологии — как выражения взаимодействий человека
с внешними объектами или как результаты спонтанной активности
физиологического механизма, лежащего в основе движений души.
В контексте рассуждений, проводимых Соловьевым, различие «внут-
реннего» опыта от «внешнего» означает не проведение границы между
двумя различными сферами восприятий и представлений (например,
между восприятием внешнего объекта, с одной стороны, и аффектом,
с другой), а изменение той «системы координат», по отношению к ко-
торой придается смысл всем восприятиям и представлениям. Точка зре-
ния «внешнего» опыта предполагает в качестве такой системы коорди-
нат всеобъемлющую реальность, в которой человек занимает вторич-
ное и подчиненное место, так что даже его внутренние состояния
и аффекты приобретают однозначный и строго объективный смысл
только в рамках соотнесения с этой реальностью. Напротив, точка зре-
ния «внутреннего» опыта — это принятие в качестве смысловой систе-
мы координат конкретного жизненного содержания личности, при-
нятие в качестве точки отсчета для всех смыслов первичного и исход-
ного смысла, обнаруживаемого каждым человеком в своем личностном
бытии. При этом и восприятие любого внешнего объекта становится
элементом внутреннего опыта, поскольку смысл этого восприятия за-
дается тем, что оно есть по отношению к личности, как одно из неотъем-
лемых определений личности. Именно в полноте внутреннего опыта
личности может быть обнаружен конкретный Абсолют как источник
всего существующего и основа для всех последующих абстрактных по-
лаганий, вводящих «отвлеченные начала».
Как мы помним, наметив это очень плодотворное направление раз-
вития, Соловьев затем вернулся в привычное русло и сам занялся кон-
струированием «отвлеченных начал», наподобие его Абсолюта-всеедин-
ства. Только в последних своих сочинениях и особенно в статьях
«Теоретической философии» он вернулся к исходному принципу и по-
пытался осуществить его дальнейшее развитие. К сожалению, эта по-
пытка так и не была завершена из-за его преждевременной кончины.
И вот в философии Бердяева мы обнаруживаем в качестве исходно-
го постулата именно эту важнейшую идею Соловьева; причем Бердяев
без всяких колебаний доводит ее до совершенно естественного завер-
шения — до отождествления Абсолюта, Бога с конкретной эмпири-
ческой личностью, взятой во всей потенциальной бесконечной полно-
те ее внутреннего опыта. Эксплицируя этот глубинный смысл идеи
Соловьева о «внутреннем опыте», Бердяев одновременно показывает,
что именно в этом метафизическом элементе (а не только в этике) фи-
лософия Соловьева непосредственно развивает и «формализует» глав-
ную интенцию творчества Достоевского. Можно признать совершенно
справедливым процитированное в предыдущем параграфе утвержде-
ние Бердяева о том, что его близость с Соловьевым особенно наглядно
проявляется в идее Богочеловечества; ведь проведенная достаточно
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
305
последовательно, без крена в сторону традиции «отвлеченных начал»,
эта идея означает единство Бога и эмпирической личности — в том
смысле, что Бог это и есть вся полнота бытия, открываемая в конкрет-
ной эмпирической личности. Неустанное подчеркивание и повторение
последнего принципа составляет один из наиболее существенных и за-
метных моментов всех сочинений Бердяева.
Как и Соловьев, Бердяев видит непосредственную взаимосвязь про-
блемы поиска конкретного начала с проблемой бытия, проблемой опи-
сания истинно существующего. Но поскольку Абсолют обнаруживает-
ся только на пути углубления во внутренний опыт личности, проблема
бытия становится тождественной проблеме личности. «Вся новейшая
философия — последний результат всей новой философии — ясно об-
наружила роковое свое бессилие познать бытие, соединить с бытием
познающего субъекта»1. Недостаток традиционного подхода к бытию,
характерного для классической философии и для научного познания
XIX века, заключается в том, что бытие фиксируется в познаватель-
ном отношении между субъектом и объектом, причем бытие приписы-
вается именно объекту, а субъект оказывается как бы вне бытия, вто-
ричным по отношению к бытию (особенно резко Бердяев критикует нео-
кантианцев, у которых бытие исчезает и из объекта). Важную заслугу
немецкого идеализма от Канта до Гегеля Бердяев видит в том, что в нем
впервые исток бытия был перенесен в субъект. Однако он считает, что
при этом все же не был найден правильный подход к бытию, посколь-
ку вместо раскрытия самого бытия было осуществлено объективиро-
вание понятия о бытии. «После дела, совершенного Кантом и немец-
кими идеалистами, нет уже возврата к старой метафизике субстанци-
ального типа, которая искала бытие в объекте. Отныне бытие можно
искать только в субъекте. Но это означает признание бытийственности
самого субъекта, т. е. внутреннего существования. Пришедшие после
Канта Фихте, Шеллинг, Гегель строили метафизику через субъект, а не
через извне данный объект. Но у них произошло объективирование
субъекта, в субъекте не оказалось внутреннего существования. Отсюда
их крайняя универсалистская тенденция, их непонимание проблемы
личности, проблемы человека. Их субъект совсем не человек, совсем
не личность»2. Неискоренимая склонность к рационализму, сводяще-
му иррациональное и бесконечно богатое содержание личности к ра-
ционалистическим понятиям субъекта и субстанции, не позволила не-
мецким философам правильно решить проблему бытия (впрочем, ино-
гда Бердяев признает, что Шеллинг, развивая гностическую традицию
немецкой философии, гораздо дальше продвинулся в правильном на-
правлении, чем его великие современники).
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. С. 18.
2 Он же. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения //
Философия свободного духа. С. 249.
306 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Для того чтобы завершить это движение, необходимо отказаться
от какой бы то ни было «рационализации» бытия (личности) и попы-
таться осмыслить его вне разделения на субъект и объект, вне разрабо-
танной классической философией системы понятий — в непосредствен-
ной, жизненной, экзистенциальной интуиции. Уже в самых ранних
своих работах Бердяев утверждает необходимость именно такого ир-
рационально-интуитивного схватывания бытия и невозможность его
адекватного постижения иным образом. «Сущее дано лишь в живом
опыте первичного сознания, до рационалистического распадения на
субъект и объект, до рассечения цельной жизни духа. Только этому пер-
вичному сознанию дана интуиция бытия, непосредственное к нему ка-
сание» х. Философию, которая ориентируется на эту интуицию, Бердя-
ев в соответствии с традицией Соловьева называет мистической, пола-
гая, что только через мистический опыт философ приходит к Истине.
Иррационально-мистическая интуиция бытия открывает бытие как
Абсолют, как абсолютно конкретное начало, в котором невозможно
выделить какие-либо элементы и составляющие; поэтому и сам этот
интуитивный акт не может быть реализован через действие только од-
ной «стороны» или «способности» личности. Он осуществляется всей
личностью как абсолютной цельностью и вовлекает в себя все ее кон-
кретные стороны и проявления. Здесь Бердяев подхватывает и развива-
ет центральную идею славянофилов. Однако, воспроизводя ее, он при-
ходит к важному и неожиданному следствию, на которое не обратили
внимания основоположники славянофильства. Ведь признание цель-
ности интуитивного восприятия бытия, т. е. Бога, во внутреннем опы-
те личности ведет к тому, что в этом восприятии необходимо признать
наличие не только разумной и волевой, но также и неустранимой чув-
ственно-аффективной стороны, означающей, что мы не только верим
в Бога, открываем его в познании и устремляемся к нему, но и чувству-
ем его, аффективно «сопереживаем» ему — как и он нам. Более того,
эта сторона интуитивного акта должна быть признана даже главной,
поскольку при определенной ориентации чувственно-аффективное вос-
приятие способно противостоять искажению интуитивного акта рацио-
нальным мышлением, противостоять разложению живого бытия на
абстрактные и мертвые элементы. В описании этой чувственно-аффек-
тивной стороны восприятия Бога Бердяев доходит до подлинно поэти-
ческого вдохновения. «Всякое существо, — пишет он, — сбрасывая с се-
бя пыль рационалистической рефлексии, касается бытия, непосред-
ственно стоит перед его глубиной, сознает его в той первичной стихии,
в которой мышление неотделимо от чувственного ощущения. Смот-
ришь ли на звездное небо или в глаза близкого существа, просыпаешь-
ся ли ночью, охваченный каким-то неизъяснимым космическим чув-
ством, припадаешь ли к земле, погружаешься ли в глубину своих
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. С. 71.
Глава 5, Абсолют как свобода: Н. Бердяев
307
неизреченных переживаний и испытываний, всегда знаешь, знаешь
вопреки всей новой схоластике и формалистике, что бытие в тебе и ты
в бытии, что дано каждому живому существу коснуться бытия безмер-
ного и таинственного. Не из мертвых категорий субъекта соткано бы-
тие, а из живой плоти и крови. Вопрос о Боге — вопрос почти физиоло-
гический, гораздо более материально-физиологический, чем формаль-
но-гносеологический, и все чувствуют это в иные минуты жизни,
неизъяснимые, озаренные блеснувшей молнией, почти неизреченные»1.
Здесь выясняется причина той неудачи, которая постигла Соловье-
ва в его борьбе с «отвлеченными началами» классической философии.
Правильно определив направление поиска источника бытия — «внут-
ренний опыт» личности, он в самом этом опыте прежде всего произвел
априорное разделение «значимых» и «незначимых» элементов, при-
чем во вторую категорию попало все то, что традиционно полагалось
несущественным даже для анализа субъективного мира личности —
эмоции и чувства, подобные чувствам тоски, страха, заботы и т. п.
В результате такого отбора и устранения «незначимых» элементов
«внутренний опыт» оказался полностью во власти тех составляющих
человеческого духа, которые и были ответственны за господство «от-
влеченных начал», — «чистого» мышления и «объективного» чувствен-
ного восприятия. Не удивительно, что в результате соловьевское «кон-
кретное» начало имело весьма мало отличий от всех «отвлеченных на-
чал» классической философии.
Именно на эту ключевую ошибку Соловьева ясно указал Шестов.
Но еще важнее, что Шестов провел детальный анализ указанных «не-
значимых» элементов внутреннего мира личности, обычно остававших-
ся за пределами философского рассмотрения. И оказалось, что эти эле-
менты играют главную роль в структуре личности, что именно в них,
а не в «чистом» мышлении и «объективном» чувственном восприятии,
скрыта вся полнота бытия личности, именно в них открывается непо-
вторимое, уникальное содержание личности как конкретного начала.
В этих элементах — в чувствах страха, ужаса, тоски, заботы и т. д. —
открывается конкретный Абсолют, который у Шестова предстал как
царство Абсурда.
Бердяев продолжил и развил эту тему, используя при этом как твор-
чество Шестова, так и творчество «героев» Шестова — Ницше, Кьерке-
гора, Достоевского, Толстого и др. Несомненно, большое влияние на
Бердяева оказал и Хайдеггер, который в своей метафизике выдвинул на
первый план (подобно тому, как это впервые сделал Кьеркегор) как раз
упомянутые выше «экзистенциалы». «Ошибочно думать, — утверж-
дает Бердяев, — что эмоция субъективна, а мышление объективно.
Ошибочно думать, что познающий лишь через интеллект соприкаса-
ется с бытием, через эмоцию же остается в своем субъективном мире...
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. С. 133-134.
308 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Через чувства мы познаем гораздо больше, чем через интеллект. Заме-
чательно, что познанию помогают не только любовь и симпатия, но
иногда также ненависть и вражда. Сердце есть центральный орган це-
лостного человеческого существа»1. Здесь Бердяев использует важное
понятие славянофилов — понятие сердца, которое было для них сим-
волом цельности человеческого духа, символом цельного познания,
резко отличающегося от абстрактного познания с помощью разума;
впрочем, в творчестве Бердяева это понятие не получило дальнейше-
го развития и не играло столь существенной роли, как в философии
славянофилов.
Бердяев постоянно настаивает на том, что интуитивное «схватыва-
ние» полноты бытия, т. е. выявление всей полноты содержания, скры-
того в глубине личности, возможно только в том случае, если человек
обладает богатым опытом жизни, и среди важнейших составляющих
этого опыта он называет все упомянутые выше трагические чувства
и переживания. При этом, как и все его предшественники, писавшие
на эту тему, — от Кьеркегора до Шестова и Хайдеггера, — он утверж-
дает, что в этом опыте личность даже не столько открывает, обнаружи-
вает полноту своего содержания, сколько созидает ее, поскольку в ин-
туитивном акте постижения себя (постижения подлинного бытия и
жизни) личность не может рассматриваться дуалистически — не мо-
жет описываться через противостояние экзистенциального «объекта»,
как самого обнаруживаемого бытия, и экзистенциального «субъекта»,
как органа «обнаружения» бытия. «Объективное понимание реально-
сти духа приводит к постановке вопроса: соответствуют ли мои духов-
ные состояния и переживания какой-то подлинной реальности или это
лишь состояния субъекта? Но это в корне ложная постановка вопроса,
заимствованная из понимания отношений между субъектом и объек-
том — субъект должен отражать какие-то объекты. В действительно-
сти духовные состояния ничему не соответствуют, они есть, они и есть
первореальность, они более экзистенциальны, чем все, что отражает
объективный мир»2. Личность — это и есть само бытие (первобытие,
первореальность), которое в себе «обнаруживает» себя и придает себе
(как бытию) смысл. «Личность есть прежде всего смысловая катего-
рия, она есть обнаружение смысла существования»3. При этом даже
каждый акт познания в его истинном смысле есть некоторое событие
в самом бытии, а не отношение бытия к чему-то для него внешнему.
«В акте познания с самим бытием, с самой реальной действительностью
1 Бердяев Н.А.Яи мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С. 235.
2 Он же. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности //
Философия свободного духа. С. 367.
3 Он же. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения.
С. 297.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
309
происходит нечто такое, в силу чего бытие творчески совершенствует-
ся, развивается, осуществляет ценность... само бытие просветляется
и оформляется в акте самопознания»1.
Но познание все-таки не является главной формой придания смыс-
ла бытию. Смысл своего собственного бытия, а значит, и бытия как
такового, личность обретает, в первую очередь, в опыте трагических
переживаний и страданий, именно этот опыт имеет первостепенное
значение, в том числе обладает приоритетом по отношению к опыту
рационального познания, на основе которого «реконструировалось»
внутреннее бытие личности в классической философии. «Результаты
познания, — пишет Бердяев в одной из последних своих работ, —
принимаются эмоционально, и сама первичная интуиция прежде все-
го эмоциональна... Страстность, эмоциональная напряженность опре-
деляются встречей с реальностью, с первожизнью»2. Тот же самый опыт
трагических переживаний, через который человек постигает себя, дает
личности основу для иррационального саморазвития и тем самым до-
казывает динамичность, способность к развитию самого бытия; имен-
но это позволяет назвать бытие жизнью, или первожизнью (конечно,
не в биологическом, а в метафизическом смысле).
В силу фундаментального значения указанного опыта его главные
составляющие позволяют открыть, сделать явной метафизическую
структуру бытия. Так опыт страдания открывает нам наличие проти-
воположности между полнотой истинного бытия личности (перво-
бытия) и неистинным, «искаженным» бытием мира, в котором лич-
ность оказывается во власти необходимости, подавляющей внутрен-
нюю свободу. «Источник страдания нужно видеть в несоответствии
природы человека и объектной мировой среды, в которую мы броше-
ны, в неустанном столкновении "я" с чуждым и безучастным к нему
"не-я", с сопротивлением объектности, т. е. в объективации человече-
ского существования... Мучительное, причиняющее страдание проти-
воречие человека заключается в том, что он есть существо в нераскры-
той глубине своей бесконечное и устремленное к бесконечности, суще-
ство, ищущее вечности и предназначенное к ней и вместе с тем, по
условиям своего существования, конечное и ограниченное, временное
и смертное»3.
Ужас, охватывающий человека перед всем существующим, Бердя-
ев в соответствии с традицией Кьеркегора—Хайдеггера трактует как
опыт стояния перед ничто; это «начало» занимает центральное место
в метафизике Бердяева и является источником как свободы, так и зла
1 Бердяев Н.А. Философия свободы. С. 80.
2 Он же. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объектива-
ция // Царство духа и царство кесаря. М., 1995. С. 199.
3 Он же. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческо-
го // О назначении человека. М., 1993. С. 291.
310 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
в мире. «Человек поставлен перед бездной ничто, испытывает страх
и ужас, потому что он отделен от Бога. Страх есть результат разорван-
ности, раздельности, отчужденности, покинутости. Психологически
страх есть всегда страх перед страданием. Человек испытывает страх-
ужас, когда от страдания наталкивается на непреодолимую стену,
за которой небытие, пустота, ничто... Парадоксальность положения
в том, что как раз то, что освобождает от страдания, т. е. небытие, пус-
тота, ничто, и вызывает наибольший ужас»1.
Наконец, страх смерти и страдания, связанные со смертью, явля-
ются тем необходимым элементом опыта личности, который, прони-
зывая каждое мгновение жизни, доказывает невозможность без конца
длить неистинное существование в эмпирическом времени, в мире;
через этот «опыт смерти» (приобретающий тем самым положительный
смысл для человека) открывается необходимость и возможность вы-
хода из времени в «измерение» вечности, где и обнаруживается истин-
ное бытие — бытие личности в его неискаженном и полном содержа-
нии. «Смерть, — пишет Бердяев, — есть не только ужас человека, но
и надежда человека, хотя он не всегда это сознает и не называет соот-
ветственным именем... Смысл смерти заключается в том, что во вре-
мени невозможна вечность, что отсутствие конца во времени есть
бессмыслица»2. Парадоксальным образом оказывается, что «опыт смер-
ти», т. е. тот ужас, который вызывает смерть, это и есть «опыт бессмер-
тия» человека (в его истинном, внутреннем бытии), есть своего рода
экзистенциальное «доказательство» бессмертия души (нетрудно заме-
тить, что здесь Бердяев подхватывает и развивает одну из самых стран-
ных идей Чаадаева; см. § 6 главы 1).
Итак, последовательное проведение «критики отвлеченных начал»
должно вести к полаганию в качестве истока всего существующего пол-
ноты «внутреннего» бытия личности, непосредственно выражающего-
ся в сугубо индивидуальных экзистенциальных состояниях, которые
нужно рассматривать как первичную форму представленности бытия
как такового себе самому. Личность в ее индивидуальных состояни-
ях — это и есть смысл и адекватное содержание бытия; отсюда с необ-
ходимостью следует, что бытие не допускает никакого обобщения, не
поддается «абстрагированию». «Царство существующего есть царство
индивидуального, в нем нет общего, нет абстрагирования. И это рас-
крывается в субъекте, в экзистенциальном субъекте, а не в объекте»3.
1 Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и чело-
веческого. С. 287.
2 Он же. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // О на-
значении человека. С. 217.
3 Он же. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения.
С. 256.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев 311
Указанное «царство существующего» (истинно существующего,
истинного бытия) соответствует «царству Абсурда» Шестова и пред-
ставляет собой тот самый конкретный Абсолют, поиски которого на-
чал Соловьев. Естественно, что по самому своему «построению» этот
Абсолют не допускает применения к нему ни одного из определений
классической метафизики. Он, конечно же, не есть субстанция, о чем
писал уже Соловьев, поскольку субстанция — это главное «отвлечен-
ное» понятие классической метафизики, объективирующее, Рациона-
лизирующее, «замораживающее» Абсолют, превращающее его в завер-
шенный и замкнутый мир данного — того, что представлено сознанию
субъекта. Строго говоря, Абсолют нельзя назвать и всеединством ибо
последнее также подразумевает в себе объективирование и абстракт-
ную фиксацию (с помощью рационального мышления субъекта) всех
тех возможностей и потенций, которые составляют непостижимую, ир-
рациональную полноту бытия. Наконец, Бердяев отвергает и соловь-
евское различие бытия и сущего, признавая, что оно проводится все-
таки в рамках системы рациональных категорий и, значит, не позво-
ляет осмыслить различие бытия как понятия о существующем и бытия
как существующего самого по себе («непредмыслимого» бытия в тер-
минологии Шеллинга; см. § 6 главы 3)1. «Вл. Соловьев, — пщцет Бер-
дяев, — делал интересное различие между бытием и сущим... Вл. Со-
ловьев как будто бы хотел прорваться к конкретному существованию
за абстрактным бытием. С этой точки зрения он критиковал немецкий
идеализм. Но его философия не есть философия существования он
остается в тисках рационалистической метафизики, он не обнару-
живает себя в своей философии, как существующего, он обнаружива-
ет себя существующим только в поэзии»2.
Отвергая всякую возможность не только рационалистического (в ду-
хе классического рационализма), но и вообще рационального анализа
Абсолюта как «царства существующего», как самого бытия, как пол-
ноты бытия личности, Бердяев подвергает критике и современные ему
попытки построить экзистенциальную онтологию, предпринятые
М. Хайдеггером и частично К. Ясперсом. Он предлагает понимать фи-
лософию как смысловое «оформление» жизни, в духе полного единства
жизненных актов и философских суждений (именно это имеется в виду
в приведенном выше высказывании о Соловьеве), и в этом смысле про-
тивопоставляет онтологическим построениям Хайдеггера и Ясперса под-
линную (по его убеждению) экзистенциальную философию Кьеркегора*
1 Впрочем в ранних своих работах Бердяев активно использовал все
ключевые понятия метафизики Соловьева; см., например: «Божество ест^
абсолютное, полное бытие, сущий субъект всякого бытия, положительное
всеединство...» (Бердяев Н. А. Философия свободы. С. 133).
2 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об'
щения. С. 252.
312 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
«Кьеркегор хочет, чтобы сама философия была существованием, а не
философией существования. Хайдеггер и Ясперс строят философию
о существовании. Они все-таки остаются в академических философ-
ских традициях, хотят выработать философские категории о существо-
вании, превратить заботу, страх смерти в философские категории, осо-
бенно Хайдеггер... Но понятиями и категориями можно познавать лишь
Dasein, лишь существование, выброшенное в мир, т. е. объективи-
рованное или совершенно отвлеченное и пустое бытие. Понятие всегда
бывает об объекте. Самое же существование в себе, т. е. первичное бы-
тие, можно познавать лишь фантазией, символом, мифом»1.
Однако здесь Бердяев явно теряет чувство меры в своей критике
философской традиции и своих выдающихся современников-экзистен-
циалистов, идеи которых он активно использует во всех своих поздних
работах. Отвергая возможность создания каких бы то ни было рацио-
нальных концепций, направленных на метафизический анализ «цар-
ства существующего», Бердяев делает весьма двусмысленными свои
собственные построения. Ведь все его работы представляют собой не
что иное, как попытки рационального подхода к проблемам метафизи-
ки, в отличие, например, от образно-художественного подхода Ницше
или Достоевского. В своем радикальном, почти «нигилистическом»
отрицании какой бы то ни было возможности совместить иррациональ-
ную интуицию бытия с рациональным мышлением Бердяев почти до-
словно повторяет Шестова, однако в отличие от последнего он в гораз-
до меньшей степени способен к художественному, образному, метафо-
рическому философствованию (в духе Ницше), которое могло бы
скомпенсировать отказ от точного, рационального мышления. В ре-
зультате создается впечатление, что абсолютное отрицание последне-
го необходимо Бердяеву главным образом для того, чтобы оправдать
многочисленные противоречия, пробелы и недоговоренности в своих
рассуждениях.
Вернемся к проблеме описания Абсолюта, царства существующего;
Бердяев в своих сочинениях дает три главных определения сущности
Абсолюта — дух. Бог и свобода (помимо первичного определения Абсо-
люта как человеческой личности и бытия). Первые два из них имеют
столь долгую историю в рамках традиции «отвлеченных начал», что
нужно признать их значительно менее удачными и уместными, чем
более глубокое и точное определение Абсолюта как бытия (в смысле
«непредмыслимого» бытия Шеллинга). Тем не менее Бердяев не жела-
ет полностью порывать с основной линией развития русской религиоз-
ной философии, всегда выдвигавшей указанные понятия на первый
план. В результате ему приходится особое внимание уделять разъяс-
нению того нового смысла, который он вкладывает в них в сравнении с
их традиционным использованием.
1 Бердяев Н, А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С.251-252.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
313
«Дух, — пишет Бердяев, — не только не есть объективная реаль-
ность, но не есть бытие как рациональная категория. Духа нигде нет,
как реального предмета, и никогда нет. Философия духа должна быть
не философией бытия, не онтологией, а философией существования...
Дух раскрывается в субъекте, а не в объекте. В объекте можно найти
только лишь объективацию духа... Но чистая духовность находится вне
мысленного противоположения субъекта и объекта. Поэтому хотя дух
лишь в субъекте, а не в объекте, но он совсем не субъективен. В проти-
воположность объективности, он совсем не субъективен в психологи-
ческом смысле. Реальность духа не объективная, не вещная, а реаль-
ность иная, и несоизмеримо большая реальность, более первичная ре-
альность»1 . Все эти определения не дают ничего нового по сравнению с
воспроизведенным выше описанием «истинного» бытия, открывающе-
гося в личности (и, собственно, тождественного духу). Однако после
этих общих формулировок Бердяев пытается выделить более содержа-
тельные «признаки» духа. «Рациональное определение духа невозмож-
но, это безнадежное предприятие для разума... Но можно уловить при-
знаки духа. Можно сказать, что такими признаками духа являются —
свобода, смысл, творческая активность, целостность, любовь, ценность,
обращение к высшему божественному миру и единение с ним»2.
Одновременно с указанием этих признаков Бердяев противопостав-
ляет свое понимание духа его интерпретации в философии М. Шелера,
полагавшего, что дух пассивен и противоположен жизни, выступаю-
щей единственным носителем творческой активности в мире. Здесь ста-
новятся понятными причины, по которым Бердяев предпочитает термин
«дух» по сравнению с более распространенными в философии XX века
терминами «бытие» и «жизнь». Использование последних понятий
обычно ведет к утверждению, что человек, человеческое бытие не яв-
ляется абсолютным центром реальности, поскольку бытием и жизнью
(при определенном способе их понимания) обладает не только конкрет-
ный, эмпирический человек, но и другие существа и объекты приро-
ды. Не говоря уже о Шелере, в философии которого человек (как ду-
ховное существо) прямо противопоставляется растениям и животным
(как живым существам)3, даже у Хайдеггера, признающего человека «хра-
нителем бытия» и тем самым, казалось бы, помещающего его в центр сво-
ей онтологии, — все-таки явно присутствует имперсоналистская тен-
денция, связанная как раз с использованием в качестве центрального
1 Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовно-
сти. С. 366.
2 Там же. С. 379.
3 Ср.: «Опасность философии жизни в том, что она может признать по-
ток жизни первичной реальностью, т. е. родовое и общее признать пер-
вичным, индивидуальное же признать вторичным и производным» (Бер-
дяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объектива-
ция. С. 226).
314 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
понятия онтологии бытия, по отношению к которому определяется
человеческое бытие, экзистенция (предельно ясно эта тенденция про-
явилась через выдвижение на первый план понятий «почвы» и «кро-
ви», заслоняющих в хайдеггеровской метафизике понятие индивиду-
альности). Как утверждает Хайдеггер, «само бытие в своем существе
конечно и обнаруживается только в трансценденции выдвинутого в
Ничто человеческого бытия»1. Это означает, что бытие, как и ничто, в
метафизическом смысле более фундаментально, чем человеческое бы-
тие, хотя именно через последнее, через экзистирование, бытие обна-
руживает себя, т. е. становится миром. У Бердяева все по-иному: «внут-
ренняя» духовная сущность человека ни из чего не выводится, и толь-
ко ей присущи творчество и свобода (впрочем, дальше мы увидим, что
здесь Бердяев непоследователен, поскольку источником свободы у него
в конечном счете оказывается ничто). Иногда он даже утверждает пре-
восходство духа над бытием, несмотря на то, что истинное, первичное
бытие должно быть тождественным духу: «Духу принадлежит примат
над бытием, ибо примат принадлежит свободе»2.
Главной целью философских построений Бердяева оказывается
утверждение абсолютной, непререкаемой ценности конкретной, непо-
вторимой личности, поэтому его позицию с полным правом можно на-
звать радикальным персонализмом. Именно радикализм в исповеды-
вании персоналистских принципов выделяет философию Бердяева на
фоне всех современных ему версий экзистенциализма и философской
антропологии. Личность у Бердяева не только абсолютно ценна и неза-
висима в метафизическом смысле, она еще и метафизически первична.
Это означает, что все формы бытия и познания должны быть осмыслены
только как моменты человеческого духа, как моменты индивидуальной
духовной «истории» личности. «Весь природный и исторический мир, —
пишет Бердяев, — вбирается внутрь, в глубину духа и там получает иной
смысл и иное значение. Все внешнее есть лишь знак внутреннего. Весь
мировой и исторический процесс есть лишь символическое отображение
вовне внутреннего события моего духа... Весь природный мир есть лишь
во мне отображенный внутренний момент совершающейся мистерии
духа, мистерии первожизни. Природный мир перестает быть чужерод-
ной, извне давящей дух реальностью. Мистико-символическое миросо-
зерцание не отрицает мира, а вбирает его внутрь. Память и есть таин-
ственно раскрывающаяся внутренняя связь истории моего духа с исто-
рией мира... Чуждость, инородность, наружность есть лишь символика
раздвоения духа, внутренних процессов распадения в духовной жизни»3.
1 Хайдеггер М. Что такое метафизика?//Время и бытие. М., 1993. С. 25.
2 Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовно-
сти. С. 378.
3 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология
христианства. С. 67-68.
Глава 5. Абсолют как свобода: Я. Бердяев
315
В результате в своей философии Бердяев обосновывает не только ради-
кальный персонализм, но и радикальный антропоцентризму полага-
ющий конкретную личность в ее внутреннем духовном творчестве и
свободе «абсолютным центром не данной замкнутой планетной систе-
мы, а всего бытия, всех планов бытия, всех миров»1.
Последовательное развитие этого важнейшего принципа требует
решения ряда достаточно очевидных проблем. Одна из них связана с не-
обходимостью пояснить причины радикального различия истинного
индивидуального духовного бытия, обнаруживающего себя в челове-
ке и тождественного абсолютной свободе, и неистинного, вторичного
бытия, бытия материального мира, в котором господствует необходи-
мость и которое подвержено злу; другая — с более точным описанием
самого духа в аспекте его единства, преодолевающего эмпирическую
раздробленность отдельных людей. Последняя проблема непосред-
ственно ведет к еще одной, быть может, самой важной проблеме фило-
софии Бердяева. Дело в том, что дух, истинное духовное бытие в аспек-
те его единства и полноты это и есть Бог, о взаимосвязи которого с от-
дельной личностью Бердяев постоянно говорит в своих сочинениях (это,
несомненно, главная тема его работ). Парадоксальность и внутренняя
противоречивость взглядов Бердяева состоит в том, что он, утверждая
абсолютное единство Бога и конкретной, эмпирической личности (о чем
уже говорилось выше), одновременно пытается сохранить традицион-
ные христианские аспекты в понимании Бога, т. е. пытается доказать,
что Бог по онтологическому статусу стоит выше человека2.
Последние две проблемы, тесно взаимосвязанные друг с другом, бу-
дут рассмотрены ниже. А сейчас обратимся к первой проблеме, в реше-
нии которой Бердяев активно использует ветхозаветную мифологию,
а точнее, миф о грехопадении (как это делал и Шестов).
§ 3. «Грехопадение» и творческое «преодоление» мира
В понимании мира, которому причастна человеческая личность и ко-
торый противостоит, как мир необходимости и зла, миру духовной сво-
боды и истинного бытия, Бердяев в ранних своих работах непосредствен-
но следует за Соловьевым и использует его концепцию, описывающую
«отпадение» мира от Абсолюта-сущего в результате свободного акта
души мира, Софии (т. е. совокупного человечества). Как мы помним,
Соловьев утверждал, что весь природный мир вместе с его раздробленно-
стью, противостоянием отдельных элементов и господством необходи-
мости есть всего лишь «недолжноевзаимоотношение» метафизических
1 Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. С. 310.
2 Указанное противоречие детально проанализировано в книге (первая
глава которой целиком посвящена Бердяеву): Гальцева Р. А. Очерки рус-
ской утопической мысли XX века. М., 1992. С. 22-23.
316 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
существ, составляющих всеединство, неправильная реализация их сво-
боды (см. § 3 главы 3). То же самое утверждает и Бердяев. «Актом на-
шей умопостигаемой воли, в таинственной глубине бытия, до време-
ни, предмирно совершили мы избрание этого мира, поверили в него,
определили себя к бытию в данной действительности, связались с этим
миром тысячами нитей. Воля наша избрала данный нам в опыте мир,
"этот" мир, объектом своей любви, и он стал для нас принудителен,
стал навязчив. "Поверив" в этот мир, мы стали "знать" его; от силы
веры нашей в этот мир знание наше этого мира стало обязательным и
твердым»1. Можно встретить в его ранних работах и буквальное вос-
произведение соловьевской мифологии Софии: «Отпала от Бога миро-
вая душа, носительница соборного единства творения, и потому все и
всё в мире участвовали в преступлении богоотступничества и ответ-
ственны за первородный грех, в нем свободно участвовало каждое су-
щество и каждая былинка»2.
Как и Соловьев, Бердяев утверждает, что мировая необходимость
есть следствие неправильной «ориентации» нашей фундаментальной
свободы, есть своего рода «злоупотребление» свободой. Однако между
концепцией Соловьева, описывающей «отпадение» мира от Абсолюта,
и соответствующей идеей философии Бердяева имеется одно существен-
ное различие. У Соловьева мир отпадает от всеединства, предстающе-
го как организм метафизических существ, каждое из которых являет-
ся относительно самостоятельной, свободной «субстанцией». В этом
случае кажется достаточно естественным, что неправильная ориента-
ция свободы метафизических существ имеет результатом их изоляцию
друг от друга, что и приводит к появлению несовершенного мира, в
котором господствует раздробленность и противостояние отдельных
элементов.
У Бердяев столь же ясная рациональная конструкция отсутствует.
Его понимание истинного бытия, духа, Бога не предполагает в них ка-
кой-либо структуры, наличия каких-либо самостоятельных ирядопо-
ложенных «элементов», действием которых можно было бы объяснить
возникновение мира: он категорически отвергает такую модель для
объяснения соотношения личностей (подробнее об этом пойдет речь
в последнем параграфе данной главы). В результате акт «отпадения»
мира, или, точнее, метафизическое (вневременное) возникновение мира
из истинного бытия и абсолютной свободы, превращается в чистый
символ, в миф, не поддающийся никакой рационализации. Впрочем,
это согласуется с утверждением Бердяева, что рациональное познание
действует только в «падшем» мире и абсолютно неприменимо к миру
духа и свободы, по отношению к которому возможно лишь символи-
ческое и мифологическое познание.
1 Бердяев Я. А. Философия свободы. С. 50-51.
2 Там же. С. 132.
Глава 5. Абсолют как свобода: Я. Бердяев 317
Подобно Шестову, Бердяев для описания акта «отпадения» мир^ис.
пользует миф о грехопадении первого человека. Состояние единс^ваС
Богом, райское, невинное состояние — это символ первичного бы^щд
(первобытия, первожизни), тождественного духу, той необъектив^ру-
емой реальности, о которой как об Истине и Абсолюте пишет Берд яев.
Важнейшим «признаком» духа является свобода, именно ее действие
приводит к тому, что «райское» состояние преобразуется в состояние,
где уже господствует противоположность между «падшим», неистин-
ным бытием «внешнего» мира и истинным бытием человеческой лич-
ности, сохраняющей в своих глубинах дух и его свободу.
Бердяевская интерпретация мифа о грехопадении существенно от-
личается от интерпретации Шестова. У Шестова причиной «отпаде^ия»
является «грех» первого человека, вкусившего яблоки с дерева позна-
ния и тем самым отстранившего от себя свободу, которой он обладал
пока был в единстве с Богом, с царством Абсурда, где все возможно.
Суть «греха» в желании знать; но это желание «замораживает» МИр
свободы, набрасывает на царство Абсурда сеть закономерности и Необ-
ходимости. Человеческий разум, человеческое знание, по Шестову, —
это главное зло нашей жизни; отказавшись от него в абсурдном движе-
нии веры, человек вернется к Богу и вернет себе свободу. Чело^ек в
своем конкретном, эмпирическом состоянии оказывается полностью
лишенным свободы и способности к творческому деянию; свободен
только Бог, и его свобода для нас и нашего разума предстает непости-
жимым абсурдом.
Бердяев придает мифу о грехопадении совершенно иной сд$ысл.
«Совсем не само познание есть грех и отпадение от Бога. Само Позна-
ние есть положительное благо, обнаружение смысла. Но срывание с
древа познания добра и зла означает жизненный опыт злой и безбож-
ный, опыт возврата человека к теме небытия, отказ творчески отве-
тить на Божий зов, противление самому миротворению. Познание же,
с этим связанное, есть раскрытие премудрого начала в человеке, пере-
ход к высшему сознанию и высшей стадии бытия... Хорошо ли, чт0 воз-
никло различие между добром и злом? Есть ли добро — добро и эло —
зло? Мы принуждены ответить на это парадоксально: плохо, что воз-
никло различение между добром и злом, но хорошо делать это разли-
чение, когда оно возникло, плохо, что пережит опыт зла, но хорошо>
что мы познаем добро и зло, когда опыт зла пережит»1. Бердяев ясно раз-
личает два слагаемых акта «грехопадения». Один — это само разделе-
ние добра и зла, т. е. возникновение из первобытия нашего «падц^го»
мира с характерным для него противоборством добра и зла. Второи —
это возникновение из того же исходного до-мирного («райского»)
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики
С. 48.
318 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
состояния (первобытия) человеческого сознания, человеческого разу-
ма, необходимого для ориентации в «падшем» мире, для различения
добра и зла.
Оба этих слагаемых, утверждает Бердяев, являются необходимым ре-
зультатом реализацииу раскрытия свободы как главного «качества» пер-
вобытия и первожизни. Это означает, что «падение» мира и человека долж-
но было произойти в целях, необходимых самой свободе; если бы оно не
произошло, свобода не раскрыла бы себя и тем самым не могло бы быть
реализовано творческое предназначение человека в мире и перед Богом.
Чтобы подчеркнуть различие указанных двух слагаемых акта « грехо-
падения», Бердяев вводит представление о двух составляющих самой
свободы, присущей первобытию, т. е. человеку; он фиксирует их в по-
нятиях первой и второй свободы. Первая свобода — это самое глубо-
кое определение первобытия, это та самая свобода-произвол, о кото-
рой говорил Шестов. «Свобода связана не с формой жизни, — пишет
о ней Бердяев, — ас содержанием жизни, с иррациональным содержа-
нием жизни... Свобода связана с бесконечными потенциями духа»1.
С произвольной, противодуховной реализацией этой свободы и связа-
но «отпадение» мира, переход первобытия (духа) в состояние дуально-
го противостояния мира и духовной сущности человека. «Миф о грехо-
падении связан с первой свободой, и без нее невозможно осмыслить этот
миф. Первая свобода и порожденное ею отпадение от божественного
центра жизни есть одна из первичных стадий динамики духа, один из
моментов мистерии духа, мистерии первожизни. Этот процесс совер-
шается в самых сокровенных глубинах духовного мира, и он лишь ото-
бражается в нашем вторичном природном мире. Природный мир, под-
чиненный законам необходимости, мир раздора и распада и вместе с тем
механического сцепления и сковывания, есть уже вторичное порожде-
ние внутренней диалектики свободы в мире духовном»2.
Возникновение природного мира приводит к появлению радикаль-
ного противоречия между этим миром и заключенным, «заброшенным»
в него человеческим духом, и это противоречие в свою очередь обу-
словливает необходимость появления сознания (разума, души) как про-
межуточного звена между абсолютной реальностью духа и чисто отно-
сительной, наполненной злом реальностью природного мира. «Чело-
век отверг мгновение райской гармонии и целостности, возжелал
страдания и трагедии мировой жизни, чтобы испытать свою судьбу
до конца, до глубины. Это и есть возникновение сознания с его мучи-
тельной раздвоенностью... Производимые сознанием различения и
оценки всегда причиняют боль и страдание. После грехопадения была
1 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология
христианства. С. 94.
2 Там же. С. 96.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
319
раскована добытийственная стихия, меонический хаос, и для охранения
образа человека неизбежно было образование сознания, затвердение со-
знания»1. И только возникшему, «затвердевшему» сознанию, которое
пытается ориентироваться в мире, наполненном противоречиями и столк-
новениями, присуща вторая свобода — свобода выбора добра, свобода
стремления к добру и совершенству в мире (августиновская свобода).
Таким образом, согласно Бердяеву, неправильно полагать, что миф
о грехопадении в его главном аспекте (в аспекте первой свободы) выра-
жает «отпадение» человека от божественной свободы и от источника
свободы (как это было у Шестова), наоборот, смысл этого мифа в опи-
сании метафизического процесса раскрытия всей полноты свободы,
присущей первобытию. При этом из рассуждений Бердяева остается
непонятным, до какой степени первая свобода является принадлежно-
стью человека. Может создаться впечатление, что по крайней мере
в исходном акте «отпадения» мира свобода сама раскрывает свой
смысл, как бы помимо человека, «до» его появления (в метафизиче-
ском смысле этого «до»). Ведь Бердяев уточняет, что свобода, строго го-
воря, рождается не из первобытия, Бога, а из другого онтологического
начала — из ничто, стоящего как бы рядом с первобытием, Богом. Это
явно противоречит другому утверждению Бердяева о том, что свобода —
это важнейший «признак» духа (который Бердяев отождествляет одно-
временно и с Богом, и с первобытием, и с человеческой личностью во
всей ее внутренней полноте). Как мы помним, Бердяев сам признавал
противоречивость своих взглядов и относил это на счет «символично-
сти» и «мифологичности» применяемой им формы познания Истины.
Поэтому приходится принимать как данность это ключевое противо-
речие его мировоззрения (противоречие между пониманием свободы
как главного «признака» личности, первобытия и представлением о ее
происхождении из ничто), не предполагая возможности его естествен-
ного разрешения. Чуть ниже мы вернемся к нему в связи с рассмотре-
нием взаимосвязей между Богом, человеком и свободой.
Итак, метафизический акт реализации первой свободы, коренящей-
ся в первобытии (или рядом с ним?), приводит к тому, что из первобы-
тия выделяется мир как «неистинное бытие». Такая реализация сво-
боды является ее «искажением», ее «самоуничтожением», поскольку
в появившемся мире эта свобода замещается закономерностью и необ-
ходимостью. Здесь естественно задать вопрос: насколько неотвратимой
была именно неправильная реализация первой свободы? и как выгля-
дел бы мир, если бы первая свобода избежала своего собственного «са-
моуничтожения»? Понятно, что этот вопрос равнозначен другому: а мог
ли первый человек не согрешить, и как бы выглядело наше бытие в та-
ком случае?
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.
С.48-49.
320 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
Миф и «мифологическое познание» не предполагают ответа на во-
просы такого типа, даже их постановка невозможна для мифологиче-
ского сознания. Но Бердяев, конечно же, не выдерживает своего соб-
ственного требования к осуществлению именно «мифологического» и
«символического» познания. В своих философских размышлениях он
дает рациональную интерпретацию мифа, он постоянно использует ра-
зум и рациональность в положительном смысле — в деле познания выс-
шей Истины. Именно поэтому поставленный вопрос для его филосо-
фии не является риторическим и требует ответа; отказ от ответа в дан-
ном случае означает отказ от последовательности.
Видимо, понимая, что одного только «мифологического» описания
происхождения природного мира недостаточно, Бердяев в своих позд-
них работах стал использовать значительно более ясную и рациональную
концепцию, сформулированную под очевидным влиянием западных
экзистенциалистов (в особенности Хайдеггера). Вместо того, чтобы
представлять «отпадение» мира как «одномоментный» метафизиче-
ский акт, произошедший в метафизическом «прошлом», Бердяев теперь
говорит о постоянно длящемся акте (или, лучше сказать, процессе)
объективации духа. Особенно важную роль это понятие играет в двух
книгах Бердяева, посвященных его метафизике: «Я и мир объектов.
Опыт философии одиночества и общения» (1934) и «Опыт эсхатологи-
ческой метафизики. Творчество и объективация» (французское изда-
ние — 1946, русское — 1947).
К сожалению, как и во многих других принципиальных моментах,
в изложении понятия объективации Бердяев ограничивается крити-
кой аналогичных теорий, встречавшихся в истории философии, и пре-
дельно общими рассуждениями по поводу отличий его собственных
представлений от всего, что было высказано до него. В связи с этим труд-
но признать его концепцию достаточно проработанной, скорее это не-
которая заявка на возможное объяснение соотношения духа и природ-
ного мира, не пошедшая дальше общих постулатов и первичных на-
бросков. Все, что Бердяев говорит об объективации, есть наделе только
популярное обобщение соответствующих элементов учений Канта, Ге-
геля, Шопенгауэра, Бергсона и др., касающихся взаимосвязи «истин-
ной» реальности (вещи в себе, понятия, воли, жизни), с одной сторо-
ны, и «вторичной», «неистинной» реальности (явления инобытия, по-
нятия, представления мертвой природы) — с другой.
Объективация, по Бердяеву, это «символическое воплощение» духа,
т. е. воплощение, не выражающее его полноту и богатство, не реализую-
щее его творческую свободу. «Объективация не есть настоящая ре-
ализация, а лишь символизация, она дает знаки, а не реальности»1.
1 Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация. С. 197.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
321
Объективация порождает символы и иллюзии, которые заслоняют под-
линную реальность духа и тем самым подавляют его творческую дина-
мику. Но объективацию осуществляет само сознание человека, а ее
исток находится во внутренней диалектике свободы, присущей духу.
«Сознание объективирует мир, оно первоначально активно в этой
объективации, а потом пассивно в своей зависимости от объективиро-
ванного мира»1.
Сам термин «объективация» показывает, что главным в этом акте
является превращение первореальности, первожизни, духа в дуали-
стическое противостояние статичных, лишенных всякой внутренней
динамики составляющих, отражаемых в рациональных понятиях
субъекта и объекта. После такого разделения объект оказывается пол-
ностью вне подлинного бытия, превращается в своего рода иллюзию,
символ, познание которого необходимо только для того, чтобы вырабо-
тать способность ориентироваться в этом «мире иллюзий». Как утверж-
дает Бердяев, именно такой характер носит вся наша наука, не имею-
щая самостоятельной ценности и целиком ориентированная на полное
подчинение человека, его внутренней творческой силы миру объекти-
вации, «падшему» миру. Но и сам человек, превращенный в субъект,
уже не тождествен духу, первобытию. Он становится дуальным су-
ществом, в котором есть и сторона, принадлежащая объективирован-
ному миру, лишенная связей с первобытием, и сторона, сохранившая
эту связь, тождественная духу и первобытию, по-прежнему причаст-
ная свободе и творчеству. «Всегда и везде объективация, которая произ-
водится в серединном пути сознания и которая подчиняет себе созна-
ние, есть нечто вторичное, первичная же действительность и первичное
познание лежит до этой объективации или после этой объективации.
Человек был превращен в субъект гносеологический лишь по отноше-
нию к объекту, к объективированному миру и для этой объективации.
Вне же этой объективации, вне стояния перед бытием, превратившим-
ся в объект, субъект есть человек, личность, живое существо, само на-
ходящееся в недрах бытия»2.
Поскольку объективация есть процесс, постоянно осуществляю-
щийся в духе, неразрывно связанный с реализацией свободы, философ-
ское познание, пытающееся осмыслить бытие, претендующее на то,
чтобы быть экзистенциальным, должно вскрыть закономерности это-
го процесса и показать человеку иллюзорность объективированного
мира, показать возможность преодоления нашей зависимости от мира.
Осуществляя эту задачу, Бердяев одновременно критикует своих за-
падных современников, стремившихся построить экзистенциальную
1 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С. 245.
2 Там же. С. 247.
11 Зак. 3424
322 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
философию, за то, что они ограничили свои задачи только анализом
объективированного мира и не пытались «прорваться» из этого мира
к первобытию, в котором нет никакого разделения на субъект и объект.
В первую очередь эту критику Бердяев адресует Хайдеггеру, и это ка-
жется достаточно странным, поскольку последний, точно так же как
Бердяев, отказывается от понятий субъекта и объекта как совершенно
не пригодных для построения новой онтологии и ведет речь только о са-
мом бытии — как существующем, а не как данном в понятии.
Бердяев настаивает на том, что то различие, которое Хайдеггер про-
водит между бытием как таковым и человеческим бытием как экзис-
тенцией, как своего рода «границей» между бытием и ничто, — не от-
личается от различия субъекта и объекта в классической метафизике.
Хайдеггер, утверждает Бердяев, «в сущности, не дает ни философии
бытия, ни философии Existenz, он дает лишь философию Dasein.
Он целиком остается в выброшенности человеческого существования
в мир. Но выброшенность в мир, в das Man, есть падшесть. Для Хай-
деггера падшесть принадлежит структуре бытия, бытие внедрено в обы-
денность. Он учит, что забота есть структура бытия. Забота овременя-
ет бытие. Но с какого возвышения можно это увидеть, как осмыслить
это? Непонятно, откуда у Хайдеггера берется сила познания. Он видит
человека и мир исключительно снизу и видит только низ. Он — чело-
век, потрясенный этим миром заботы, страха, смерти, обыденности.
Его философия, в которой ему удалось увидеть какую-то горькую исти-
ну, хотя и не последнюю, не есть экзистенциальная философия, в ней
не чувствуется глубины существования. Эта философия остается во
власти объективации »г.
Здесь Бердяев достаточно ясно формулирует принципиальное отли-
чие исходного принципа своей философии от исходного принципа фи-
лософии Хайдеггера (о чем уже говорилось выше). Коротко говоря, это
различие заключается в том, что бытие (первобытие, основа) ищется
на разных направлениях: Хайдеггер ищет его в предстоящем нам и
неразрывно связанном с нами мире, в его «непотаенности», в его
«открытости» нам (поэтому ключевое понятие его метафизики — «бы-
тие-в-мире»); Бердяев, наоборот, видит в мире только иллюзорное и вто-
ричное бытие (сущее, в терминологии Хайдеггера), а подлинное бытие
полагает возможным найти внутри человеческой личности, отвергаю-
щей мир в его самоуверенности, самодостаточности и претензии на гос-
подство над человеком. Однако вся критика Бердяева, все его обвине-
ния в адрес немецкого мыслителя, создавшего по-настоящему целост-
ную, последовательную и глубокую метафизическую концепцию,
действительно преодолевающую традиции классической метафизики,
1 Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация. С. 222.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
323
были бы обоснованы только в том случае, если бы Бердяев в своих со-
чинениях предложил какую-нибудь связную альтернативу «фунда-
ментальной онтологии» Хайдеггера. Но мы находим в них в основ-
ном только утомительные повторения одних и тех же тезисов о том,
что необходимо преодолеть объективацию и от «неистинного» позна-
ния, использующего разум, перейти к «мифологическому» и «символи-
ческому» познанию первореальности, духа. Сам Бердяев почему-то так
и не решается осуществить этот переход, не решается стать творцом но-
вой «мифологии» и по-прежнему (как и обвиняемый им Хайдеггер)
остается в плену понятийного мышления, причем в наиболее ясных фраг-
ментах своих сочинений он дает примеры именно понятийного, рацио-
нального анализа структуры объективированного мира и его отношений
с духом и свободой — доказывая тем самым необоснованность своих кри-
тических высказываний против Хайдеггера и других представителей
западного экзистенциализма.
Необходимо отметить, что в русской философии начала XX века мы
находим талантливые и тщательно проработанные версии новой онто-
логии, отличающиеся от версии Хайдеггера, хотя и близкие к ней по
своим исходным понятиям. Принадлежат они современникам Бердяе-
ва — С. Франку и Л. Карсавину, которые по силе философской интуи-
ции и способности к детальной разработке философских принципов не-
сравнимо превосходили Бердяева.
В заключение обратим внимание на один достаточно важный момент
в концепции объективации Бердяева, на его анализ проблемы времени
и соотношения времени и вечности. Бердяев пытается совместить два
противоположных понимания времени, развитых соответственно Берг-
соном и Хайдеггером. Бергсон в своих трудах определял время — взя-
тое в его истинной и «чистой» сущности (как «длительность») — в ка-
честве главной позитивной характеристики человеческого бытия, за-
дающей цельность и внутреннюю творческую энергию личности, ее
духовную бесконечность; одновременно в философии Хайдеггера вре-
мя оказывается в определенной степени негативной характеристикой,
поскольку оно выражает фундаментальную и неустранимую конеч-
ность человеческого бытия и связано со структурой «заботы», особого
бытийного «устройства» личности, существующей только за счет свое-
го рода «убегания» от себя, «проецирования» себя вовне — в бытие как
таковое (по сути, это и есть конституирование будущего).
Бердяев считает, что эти два подхода к пониманию времени долж-
ны дополнять друг друга, поскольку они относятся к разным планам
реальности: первый описывает позитивное творческое развитие истин-
ного бытия, духовного бытия личности, а второй — негативную раз-
дробленность, внеположность и косность объективированного бытия.
«Двойственность времени, его двойственный смысл для человеческого
существования, — пишет Бердяев, — связан с тем, что время есть
324 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
результат творчества нового, небывшего, и вместе с тем оно есть про-
дукт разрыва, утери цельности, забота и страх»1. Очевидно, однако,
что недостаточно просто постулировать «двусоставность» времени, не-
обходимо (особенно в связи с радикальным различием двух его изме-
рений) указать и основу его единства. Здесь Бердяев воспроизводит
одну из самых давних и известных идей русской философии, он
утверждает, что такой основой — основой цельного времени — являет-
ся вечность, понимаемая как определение единства и бесконечности
подлинного бытия, т. е. как определение его абсолютности. Необхо-
димость и позитивность применения характеристики времени (наря-
ду с характеристикой вечности) по отношению к первобытию связа-
ны с отмеченным выше стремлением Бердяева понять последнее не
только как уже данную основу всего существующего, но и как непре-
кращающийся творческий акт. Лишь из-за радикальной «порчи» бы-
тия, происходящей в силу объективации духа, время обретает свои
негативные качества, более того, становится главным признаком
«падшести» мира, его негативной, злой природы. Но именно поэтому
и борьба с объективацией, устремление человека к восстановлению сво-
ей бесконечной творческой способности и, как следствие, своей бытий-
ной полноты — вечности и бесконечности своего существования, —
оказываются возможными только через преобразование своих отно-
шений со временем, через преодоление его негативной стороны и пол-
ное выявление его позитивности как формы абсолютной творческой
мощи бытия.
В этом, единственном, элементе своей философской концепции Бер-
дяев дает хотя и очень лаконичный, но все-таки достаточно ясный
и конструктивный набросок того, как надо понимать путь к преодоле-
нию объективации и к возвращению человека и мира к первозданному
состоянию «до грехопадения» (во всех остальных случаях он ограни-
чивается малосодержательными символическими описаниями этого
процесса). Поскольку наиболее характерным знаком «несовершенно-
го» времени, присущего «падшему» миру (по сравнению с «совершен-
ным» и цельным временем первобытия), является его распадение на
прошлое, настоящее и будущее, обладающие совершенно различным
онтологическим статусом, указанное преодоление объективации преж-
де всего требует радикального изменения нашего отношения к прошло-
му и будущему, которые в рамках традиционного мировоззрения, на-
вязанного миром, понимаются как «уже не существующее» и «еще не
существующее». Эти «уже не» и «еще не» не только не умаляют гроз-
ного значения прошлого и будущего, их власти над настоящим и над
личностью, творящей себя в настоящем, но, наоборот, подчеркивают
1 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С. 238.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
325
и усиливают это значение и эту власть; отделяя прошлое и будущее от
«настоящего» бытия, от бытия настоящего, эти определения делают
их неподвластными творческой энергии духа. Вернуть себе правиль-
ное положение в бытии, вернуть себе значение центра и источника бы-
тия личность может только через устранение, «снятие» неизменности
и непреклонности прошлого и будущего. Это требует такого «преобра-
зования» прошлого и будущего, которое привело бы к уравниванию их
с настоящим — и в смысле их подчиненности творческим усилиям лич-
ности, и в смысле их принадлежности к вечности, к бытию.
«Прошлое и будущее, — пишет Бердяев, — представляются нам
фатальными лишь потому, что мы объективируем время, что прошлое
и будущее представляются нам объектами, которым мы соподчинены.
Но онтологически не существует такого объективированного прошло-
го и будущего, оно "субъективно" и есть лишь составная часть внут-
реннего существования»1. Описывая основной парадокс времени, Бер-
дяев замечает, что, «в сущности, прошлого в прошлом никогда не было,
в прошлом существовало лишь настоящее, иное настоящее, прошлое
же существует лишь в настоящем»2. И поэтому к прошлому, понимае-
мому как естественная составляющая настоящего, возможно двоякое
отношение: либо мы объективируем его и тем самым подчиняем себя
ему, либо творим его, пытаясь реализовывать в нем все свое бесконеч-
ное содержание, подобно тому как мы это делаем в настоящем и по от-
ношению к настоящему. «К прошлому, к умершему и к умершим воз-
можно двоякое отношение — или отношение консервативное, охраняю-
щее прошлое и возвращающееся к нему, верное традиции, или активное
и преображающее отношение к прошлому, вводящее прошлое в буду-
щее и вечность, воскрешающее умершее и умерших»3.
Возможность второй формы отношения к прошлому связана с тем,
что человек в своей подлинной сущности принадлежит не только вре-
мени, но и вечности, охватывает все время (о чем говорил уже Чаада-
ев). Обыденное сознание — сознание «обыденного» человека в каждом
из нас — не знает этой принадлежности вечности, поэтому нужны ра-
дикальные усилия по преображению своего сознания, всей своей «пад-
шей» личности, чтобы вновь достичь целостности и полноты своего
бытия. Это удается лишь немногим (хотя доступно всем и должно быть
реализовано всеми), и такие люди становятся пророками, «людьми веч-
ности» , по выражению Бердяева. «Есть люди прошлого, люди будуще-
го, люди вечного. Большинство людей живет в тех или иных разорван-
ных частях времени, и лишь немногие прорываются к вечности, т. е.
1 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С. 293.
2 Там же. С. 285.
3 Там же.
326 Я. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
преодолевают болезнь времени. Пророки обращены к будущему, но они
прозревают его только потому, что они в духе преодолевают время, су-
дят о времени из вечности. В духе меняется измерение времени, время
угасает и наступает вечность»1.
Феномен пророчества, взятый в его наиболее принципиальном, ме-
тафизическом смысле, оказывается наиболее значимым выражением
истинной сущности человека и его истинных отношений со временем
и с вечностью. Подобно тому как «человек вечности», открывающий
в себе сверхвременное измерение бытия, обретает творческую способ-
ность по отношению к прошлому, точно так же он из своего вечного
бытия оказывается полновластным творцом всего потенциально бес-
конечного будущего. Будущего, как и прошлого, нет в качестве раз
и навсегда данного, подобного неизменной объективной реальности,
поэтому пророчество нельзя понимать как своего рода «подсматрива-
ние» вечно существующих в какой-то сфере бытия событий и явлений.
Такое представление о будущем (и прошлом) навязывается давней пла-
тонической традицией, отрицающей творчество и творение в качестве
главных характеристик бытия. Правильное понимание прошлого и
будущего — это понимание того, что любой акт «познания» прошлого,
точно так же как любой акт «предсказания» будущего, есть акт твор-
ческий, есть творение чего-то нового в бытии, обогащение бытия.
«Познание есть приобщение к Логосу. Но таков лишь один из аспектов
познания — платонический. Есть другой аспект познания. Познание
есть не только припоминание, познание есть творчество. И это опять
связано с проблемой времени. Познание есть также изменение бытия,
событие внутри бытия, его просветление... Если возможно познание не-
существующего прошлого через внутреннее припоминание, то возмож-
но познание несуществующего будущего через пророчество. Тайна вся-
кого пророчества, взятого в более широком смысле, чем смысл собствен-
но религиозный, есть тайна преодоления времени, прорыв к вечному
настоящему»2.
Пророчества настоящего пророка сбываются не потому, что он хоро-
шо «видит» уже существующее в каком-то плане бытия будущее, а пото-
му, что он обладает развитой способностью раскрыть главное измерение
своего бытия — измерение вечности — и осуществить акт сотворения
будущего. Поэтому правильнее будет сказать, что настоящий пророк
творит будущее, а не просто «видит» его; в связи с этим наиболее точно
смысл понятий «пророк» и «пророчество» выявляется в суждениях, ко-
торые мы обычно считаем метафорическими и которые прямо обознача-
ют роль личности в создании новой эпохи и нового (духовного) бытия —
например, в суждении «Пушкин — пророк русской культуры».
1 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С. 286.
2 Там же. С. 289.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
327
Трагедия нашего существования, по Бердяеву, целиком определя-
ется нашей двойственной причастностью и истинному бытию, перво-
бытию, и миру объективации. Утрата своей духовной абсолютности,
своей бесконечной творческой мощи приводит личность к полному под-
чинению миру объективации; человек становится пленником неизмен-
ного, объективированного прошлого и заложником непредсказуемого
и грозного будущего, столь же неподвластного ему, как и прошлое.
Разрешение этой трагедии человек, как правило, ищет на пути забве-
ния; но стараясь полностью устранить из своего сознания эти страш-
ные призраки, он только усиливает их власть над собой. Подлинное
преодоление трагедии возможно лишь через восстановление правиль-
ной иерархии уровней нашего бытия: раскрытие измерения вечности
и подчинение неустранимого пока среза временной объективации это-
му вечному измерению. Это означает не забвение себя в одном мгнове-
нии, в мгновении, не имеющем никакой собственной ценности и сме-
няемом таким же не имеющим смысла мгновением, а прямо противо-
положное — придание абсолютной ценности каждому мгновению и
введение его в вечность. «Время нужно для вечности, — пишет Бердя-
ев, — не в перспективе объективации, которая знает лишь бесконеч-
ное время и не знает вневременной вечности, а в перспективе углубле-
ния времени внутрь вечности. Это углубление и происходит в мгнове-
нии, которое не есть уже отрезок времени и не может быть заменено
следующим мгновением, т. е. качественно своеобразно и неразложи-
мо... Это не есть мгновение, в котором человек забывается, — наобо-
рот, это есть мгновение, в котором переживается особенная полнота, в
котором не забвение изолирует часть целого жизни, а память освещает
целое жизни, которое обладает полноценностью»1.
По сути, именно такое отношение к мгновению, такое переживание пол-
ноты жизни в каждом ее миге и является окончательной «формулой» пре-
одоления объективации или, по крайней мере, ослабления ее господства
над человеком. В частности, на этом пути преодолевается абсолютность
смерти и безраздельное господство над человеком страха смерти — самого
наглядного свидетельства власти объективации. Нетрудно видеть, что все
рассуждения Бердяева о соотношении времени и вечности в жизни лично-
сти и особенно последний вывод о преодолении объективации через пере-
живание полноты жизни представляют собой естественное развитие одно-
го из центральных пунктов философского мировоззрения Достоевского, вы-
раженного им в истории Кириллова (см. § 7 главы 2). Впрочем, нужно
отметить, что гораздо раньше Бердяева очень похожее развитие тех же са-
мых идей Достоевского осуществили С. Франк — в двух своих книгах,
опубликованных в 1915 и 1917 гг. — и Л. Карсавин — в известной
1 Бердяев Я. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-
щения. С.292-293.
328 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
работе, посвященной метафизике любви, «Noctes Petropolitanae»
(1922). Особенно заметна близость взглядов Бердяева в данном вопро-
се к взглядам Карсавина; у последнего мы находим и представление о
существовании личности одновременно во времени и в вечности, и
мысль о творческой свободе личности по отношению к прошлому и бу-
дущему, и вывод о том, что преодоление несовершенства «падшего»
мира возможно только через раскрытие всей полноты жизни в каж-
дом ее мгновении (здесь Карсавин прямо ссылается на «пять секунд»
Кириллова из «Бесов»; см. § 5 главы 7). При этом в трудах Карсавина
и Франка эти и другие аналогичные выводы имеют гораздо более глу-
бокое философское обоснование и более ясную разработку, чем в книге
Бердяева; это лишний раз подтверждает определенную вторичность
мыслей Бердяева, отсутствие подлинно оригинальных элементов в его
философских взглядах.
§ 4. Бог, человек и Ничто
Конкретный Абсолют, открываемый человеком в глубинах своей
личности, есть не только первобытие, первожизнь и дух, но также есть
Бог. Этот аспект в понимании Абсолюта задает смысл идеи Богочело-
вечества, подразумевающей единство эмпирического человека и Бога.
В концепции Бердяева это единство имеет тенденцию к превращению
в полное тождество, в связи с чем становится непонятным различие
между человеком и Богом. Бог есть дух и первобытие, но точно так же
Бердяев определяет и человека в его человеческой сущности. Первобы-
тие есть «царство индивидуальности», есть динамическое взаимодей-
ствие личностных центров, получающих полное и адекватное выраже-
ние в человеческих личностях. В результате развитие принципиаль-
ных положений философии Бердяева с неизбежностью приводит
к отождествлению Бога с внутренней сущностью человеческой лично-
сти. Однако при исчезновении различия между Богом и человеком ста-
новится непонятной идея движения человека к Богу, трансцендиро-
вания к высшей реальности. Бердяев не желает совсем порывать с хри-
стианской традицией и поэтому, доказывая неразрывное единство Бога
и человека, одновременно подчеркивает необходимость проводить раз-
личие между ними. Это нужно ему еще и потому, что без понятия транс-
цендирования невозможно обосновать идею мистического акта, соеди-
няющего личность с Абсолютом как имманентно-трансцендентной
реальностью.
Непротиворечивое описание этой реальности и является самой глав-
ной задачей. Способность к трансцендированию присуща человеку в той
степени, в какой он есть дух, но, как мы видели раньше, дух и есть перво-
реальность, т. е. он одновременно представляет собой цель трансцендиро-
вания. Поясняя смысл трансцендирования, Бердяев, по сути, уточняет
определение самого духа. В сущности духа заложено трансцендирование,
Глава 5. Абсолют как свобода: II. Бердяев
329
однако та реальность, к которой осуществляется трансцендирование
есть тот же самый дух. Именно поэтому Бердяев постоянно подчерки-
вает, что дух не есть бытие (в привычном смысле этого слова), а есть
свобода и творческая активность. Он не может быть окончательно, од-
нозначно «зафиксирован» в своих границах, лишь в минимальной сте-
пени может быть определен как устойчивый и самодостаточный; вся
его суть — в прехождении себя, в стремлении к иному. Но поскольку
ничего иного кроме него самого нет, это оказывается стремлением к
себе как иному, т. е. делание себя иным, небывалым.
Указанное понимание духа не является совсем новым. Оно харак-
терно для всей мистической традиции европейской философии, начи-
ная с неоплатоников и заканчивая представителями классического
немецкого идеализма. Однако ранее почти всегда трансцендирование
понималось как акт, осуществляемый человеческим духом (сознани-
ем) и имеющий в качестве цели какую-то высшую реальность или хотя
бы идеальное представление о состоянии, которое должно быть достиг-
нуто в этом акте (второй вариант особенно ясно представлен в филосо-
фии Гегеля, где реальная цель развития Абсолюта предвосхищается
на самом первом этапе развития, в Логике). Бердяев доводит эту ли-
нию развития европейского мистицизма до логического завершения:
дух не может трансцендировать ни к чему иному, кроме себя самого
как непредсказуемо иного по отношению к себе самому. Дух есть в этом
смысле бесконечная потенция к порождению нового. Отметим, что ана-
логичную концепцию первобытия, Абсолюта разрабатывал параллель-
но с Бердяевым С. Франк (см. главу 6), который для определения каче-
ства бесконечного перехода в иное, порождения нового, применял тер-
мин «мочь», или «мощь» (Абсолюта).
Вернемся к проблеме соотношения человека и Бога. Наиболее есте-
ственным выглядит предположение, что для Бердяева Бог и человек —
это только различные аспекты, или, лучше сказать, различные «точ-
ки зрения» на первобытие, дух во всей его динамичности. Человек —
это самооткровение первобытия, как бы фиксация его относительной
определенности; Бог — это то же первобытие, но взятое не в аспекте
его самооткровения и определенности, а в аспекте его трансцендирова-
ния вовне — к себе самому в своей новизне. Бог — это бесконечная пол-
нота духа, его «чистая» способность к бесконечному трансцендированию.
Единство Бога и человека в этом контексте означает единство духа,
первобытия, единство всех его «уровней» — от неистинного, объективи-
рованного бытия до самого акта трансцендирования. Бог при этом пред-
стает как чистый акт творения. Творение, творчество — это единствен-
ное определение Бога; при этом парадоксальность понимания идеи тво-
рения у Бердяева заключается в том, что у божественного акта творения
не может быть результата — любой результат есть определенное
бытие, которое отрицает сам чистый, иррациональный акт творения;
330 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Бог может творить только свое собственное, творческое же содержа-
ние. Лишь в области объективированного бытия символом этого тво-
рения становится новое бытие, выпадающее из закономерности суще-
ствующего. В связи с этим само возникновение мира невозможно счи-
тать результатом творения! Ведь «падший» мир, мир объективации
Бердяев признает искажением, неистинным символом духа (Бога), по-
этому его возникновение нельзя назвать ни творчеством, ни тем более
Творением, это скорее деградация духа. Кроме того, можно вспомнить,
что источником возникновения («падения») мира является первая сво-
бода, происходящая из Ничто и, вообще говоря, не присущая Богу.
Более правильно было бы утверждать, что мир объективации «порож-
дается» человеком, поскольку как раз человек и является носителем
первой свободы (здесь мы отвлекаемся от двусмысленности понятия
первой свободы, о чем говорилось выше).
Бердяеву удается сгладить накапливающиеся здесь противоречия за
счет признания взаимной обусловленности Бога и человека, их своеобраз-
ной «нераздельности». Человек немыслим без Бога, поскольку Бог есть
его сущность. Главное определение первобытия состоит в том, что оно есть
трансцендирование к себе самому, т. е. есть чистый акт творчества. Фик-
сируя себя в себе самом в форме человеческой личности, первобытие не
может потерять это определение. Человек есть творец, есть процесс твор-
чества; само это творчество во всем его богатстве и «мощи» — это и есть
Бог. Различие между человеком и Богом можно описать только как раз-
личие между ограниченной формой творчества, в которой творческая сво-
бода приобрела «искаженное» направление и ограничила себя (ибо толь-
ко она сама и может ограничить себя), и той же самой творческой способ-
ностью, взятой во всей ее бесконечной полноте. Недаром Бердяев
постоянно подчеркивает, что Бог есть активность и творчество, и совер-
шенно неверно понимание Бога как полной актуальности, как того, что уже
актуально есть во всех своих возможностях. Наоборот, сущность Бога —
это потенциальность и возможность, это «страсть», которая «застывает»
в творении. «Учение о Боге как о чистом акте, в котором нет потенции, —
критикует Бердяев традиционные взгляды, — в сущности, делает бессмыс-
ленным, нелепым миротворение. Творение мира и человека ни для чего
Богу не нужно... Последовательный онтологизм должен отрицать возмож-
ность новизны, творчества, свободы, которые означают прорыв в замкну-
той системе бытия»1 (впрочем, как только что было сказано, в бердяев-
ской концепции творение мира также оказывается «не нужным» Богу,
хотя и по другой причине, чем в традиционной христианской концепции).
Такое представление о Боге приводит Бердяева к заключению, что все
важнейшие экзистенциальные состояния (страх, ужас, тоска, забота
1 Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация. С. 241-242.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
331
и т. п.), которые характерны для человека и через которые выявляется
полнота его духовного бытия, должны быть присущи и Богу как самой
этой полноте. «Можно ли сказать, что Богу не присуща никакая ду-
шевная жизнь, никакие аффективные и эмоциональные состояния?
Статическое понимание Бога как чистого акта, не имеющего в себе
потенций, самодовольного, ни в чем не нуждающегося, есть философ-
ское, аристотелевское, а не библейское понимание Бога. Бог Библии,
Бог Откровения совсем не есть чистый акт, в нем раскрывается аффек-
тивная и эмоциональная жизнь, драматизм всякой жизни, внутрен-
нее движение, но раскрывается экзотерически... Богу боятся припи-
сать внутренний трагизм, свойственный всякой жизни, динамику, тос-
ку по своему другому, по рождению человека, но нисколько не боятся
приписать гнев, ревность, месть и пр. аффективные состояния, кото-
рые считаются предосудительными для человека... Более достойно
приписать Богу тоску по любимому, потребность в жертвенной самоот-
даче... Трагизм в жизни Божества есть показатель не несовершенства,
а совершенства божественной жизни, божественной мистерии»1. Отме-
тим почти буквальное совпадение этого рассуждения Бердяева с соот-
ветствующей мыслью Шестова о невозможности приписать Богу каче-
ства всемогущества, всеведения и т. п. (см. § 3 главы 4). Однако у Бер-
дяева выраженная здесь идея имеет гораздо более естественное и
логичное обоснование — принцип абсолютного единства (фактически
тождества) Бога и человека.
Бердяев, как и Шестов, приходит к выводу, что Бог есть царство
потенциальности, царство безграничных возможностей; не существу-
ет никаких ограничений, сковывающих богатство возможностей, ко-
ренящихся в Боге, в его творчестве. В этом смысле и Бердяев вполне
мог бы назвать Бога «царством Абсурда», поскольку Абсурд это и есть
вся полнота возможностей — даже тех, которые вступают в абсолют-
ное противоречие с незыблемыми законами нашего мира.
Идея Бога как «царства возможностей» (или «царства Абсурда»)
естественным образом сочетается у Бердяева с его понятием объекти-
вации. Отличие человека от Бога проявляется именно в том, что чело-
век одновременно принадлежит и первобытию, и миру объективации.
Человек есть как бы промежуточное звено между миром объектива-
ции и первобытием, Богом. Это обусловливает сложную структуру
человеческого бытия, что выражается в первую очередь в существо-
вании различных «ступеней» сознания (впрочем, Бердяев не уточ-
няет сколько их и как их можно различить). «Динамическое поня-
тие сознания допускает существование ступеней сознания... Сознание
не пассивно определяется действительностью и отражает действи-
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.
С. 41.
332 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
тельность, а активно направлено на ту или иную действительность.
Для разных направлений сознания существуют разные действитель-
ности... Мы вращаемся в разных мирах, в зависимости от того, на что
направлена наша избирающая духовная воля. И обыденный мир, мир
повседневного житейского опыта, создан активным направлением на-
шего сознания, фиксированием одного и отметанием другого, он не мо-
жет претендовать на большую реальность, чем другие миры... Мы все-
гда окружены бесконечным миром, для которого мы закрыты. Мы не
готовы для его восприятия, боимся его и защищаемся от страшащей нас
бесконечности глухотой и слепотой. Боимся быть ослепленными и оглу-
шенными и защищаемся ограниченностью сознания, затверделостью его
и неподвижностью. И нужно, чтобы огонь сошел с неба, чтобы распла-
вить затверделость нашего обыденного сознания»1.
Человек оказывается тем измерением божественного первобытия, в
котором творческая свобода, неотъемлемо присущая Богу, «искажается»,
уничтожает себя, порождая «затвердевший» мир объективации. В этом
смысле противоречие между творческой свободой и совершенством Бога
(отметим, что понятие совершенства в философии Бердяева теряет свое
привычное содержание), с одной стороны, и фатальной необходимостью
и внутренней бессмысленностью мира, с другой, становится внутренним
противоречием самого человека, противоречием его сущности; причем
если это противоречие исчезнет, то исчезнет и человек, исчезнет его отли-
чие (хотя бы относительное) от Бога. Или, иначе говоря, человек есть не
что иное, как актуализация ключевого противоречия, содержащегося в
иррациональной глубине Бога, в иррациональной глубине свободы, и за-
ключающегося в том, что свобода-произвол (первая свобода) в своей реали-
зации неизбежно склоняется к собственному «самоуничтожению», сим-
волом и итогом которого выступает «падший» мир объективации.
Будучи одной своей стороной погруженным в «падший» мир, под-
чиненный этому миру и подчинившийся ему («орудием» такого под-
чинения выступает разум), человек одновременно сохраняет в своей
сущности тождество с первобытием, т. е. со свободой. Поэтому только
он может «спасти» Бога и свободу, «расколдовав», «расплавив» мири
тем самым избавив свободу от искажения и «омертвления», в кото-
рые она сама себя ввергла. В связи с этим Бердяев неустанно повторя-
ет в своих сочинениях слова немецкого мистика Ангела Силезиуса:
«Я знаю, что без меня Бог не может просуществовать ни одного мгно-
вения. Если я превращусь в ничто, то Он от нужды испустит дух»2.
1 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология
христианства. С. 77-78
2 Там же. С. 132; ср.: Бердяев Н.А. Дух и реальность. Основы богочело-
веческой духовности. С. 430; Экзистенциальная диалектика божествен-
ного и человеческого. С. 276; Царство духа и царство кесаря. С. 298.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
333
Бог нуждается в человеке, поскольку человек — это и есть Бог в той
своей составляющей, где действует его главное внутреннее противоре-
чие, — противоречие, из-за которого произошло искажение изначаль-
ной свободы и в котором в свою очередь можно найти основу для воз-
вращения свободе ее творческой полноты.
Но Бердяев не только постулирует наличие внутреннего противоре-
чия, содержащегося в первой свободе и воплощающегося в человеке,
он пытается идти еще глубже, чтобы найти источник этого противоре-
чия. В этих поисках он использует учение немецких мистиков (М. Эк-
харта, А. Силезиуса, Я. Бёме) об Абсолюте.
Особенно большое значение Бердяев придает позаимствованному
у мистиков понятию «темной основы» в Боге, Ungrund'a. Как мы по-
мним, главное определение духа (его «признак») — это творческая
активность, бесконечная потенциальность, свобода. В этом своем ка-
честве «дух» не только не совпадает с «бытием», понимаемым в тра-
диционном смысле, но противостоит бытию как актуальности и за-
вершенности. Но то, что противостоит бытию, есть ничто; поэтому для
объяснения свободы и творческой активности духа Бердяев прибега-
ет к Ничто как фундаментальному онтологическому началу, кото-
рое столь же первично, как и первобытие, точнее, даже тождественно
первобытию и выступает источником свободы в нем. Впрочем, при-
знавая невозможность рационально осмыслить отношение первобы-
тия (Бога), Ничто и свободы, Бердяев в разных своих трудах весьма
по-разному трактует это отношение, что порождает явные противоре-
чия в его концепции.
Прежде всего, оказывается, что теперь Бердяев говорит о Боге в двух
принципиально различных смыслах (которые часто смешиваются в его
философских суждениях). Есть Бог как первобытие, как Абсолют, как
вся полнота свободы и творческой активности; и есть Бог как нечто
порожденное, возникшее из Абсолюта совместно с человеком. Именно
Бог в первом смысле (Божество, по терминологии немецких мистиков)
находится в диалектических отношениях с Ничто. Иногда Бердяев
говорит (буквально повторяя Бёме), что Ungrund, Ничто «содержит-
ся» в первобытии, в Абсолюте; но иногда утверждает, что Ничто суще-
ствует как бы «рядом» с первобытием, и тогда первобытие (дух) и Ничто
(свобода) оказываются равноправными сторонами дуальной метафи-
зической конструкции. Но в любом случае как человек, так и Бог, по-
нимаемый во втором смысле (это и есть Бог Откровения, христианский
Бог-Творец), — вторичны по отношению к указанной метафизической
конструкции Абсолюта и Ничто. «Германская мистика, — пишет Бер-
дяев, — делает тот вывод из апофатической теологии, что Божествен-
ное Ничто или Абсолютное не может быть Творцом мира. Gottheit
(Божество. — И.Е.) не творит, к Нему не применимо никакое движение,
334 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
ничто похожее на наш мир, невозможны никакие аналогии. Творец и
творение коррелятивны, и это уже вторичные категории катафатиче-
ской теологии. Бог-Творец появляется вместе с творением, и Он исче-
зает вместе с творением... Бог конкретный, Бог проявленный соотно-
сителен с человеком и миром. Это есть библейский Бог, Бог Открове-
ния. Абсолютное есть предельная тайна. Это ведет к утверждению двух
актов: 1) из Божественного Ничто, из Gottheit, из Ungrund'a в вечно-
сти реализуется Бог, Бог Троичный и 2) Бог, Бог Троичный творит мир.
Это значит, что в вечности существует теогонический процесс, богорож-
дение. Это — внутренняя, эзотерическая жизнь Божества. Миротворе-
ние, отношение между Богом и человеком есть раскрытие Божествен-
ной драмы»1.
Заложенный в этой конструкции дуализм помогает объяснить как
факт искажения, «самоуничтожения» первой свободы, т. е. появление
мира объективации, так и факт противостояния в этом мире добра и
зла. Добро в своей сущности, проявляемой в мире, есть сам Бог. Но Бог
христианского Откровения, Бог-творец, не является в полном смысле
слова Абсолютом, поскольку он сам творит мир из Ничто, которое су-
ществует наряду с Богом и, значит, независимо от него2. Независимость
Ничто от Бога и объясняет зло, которое оказывается столь же непод-
властным Богу, как и свобода, которой обладает человек. Зло и свобода
предстают неразрывно связанными друг с другом в мире объективации,
и эта взаимосвязь есть выражение глубокой метафизической взаимо-
связи и взаимоопределяемости Абсолюта и Ничто. «Из Божественого
Ничто, из Gottheit, из Ungrund'a рождается Св. Троица, рождается Бог-
Творец. Творение мира Богом-Творцом есть уже вторичный акт. С этой
точки зрения можно признать, что свобода не сотворена Богом-Твор-
цом, она вкоренена в Ничто, в Ungrund'e, первична и безначальна...
Различие между Богом-Творцом и свободой Ничто уже вторично — в из-
начальной тайне, в Божественном Ничто это различие снимается, ибо
из Ungrund'a раскрывается Бог, из него же раскрывается и свобода.
Но с Бога-Творца снимается ответственность за свободу, породившую
зло. Человек есть дитя Божье и дитя свободы — Ничто, небытия, ме-
она. Свобода Ничто согласилась на Божье творение, небытие свободно
согласилось на бытие. Оттуда же произошло отпадение от дела Божьего,
1 Бердяев Я. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовно-
сти. С. 433.
2 Отметим, что похожее рассуждение приводит М. Хайдеггер для дока-
зательства того, что дуалистическая конструкция Бытия и Ничто имеет
более глубокий метафизический смысл, чем идея Бога: «Если Бог творит
из ничего, то как раз он должен находиться в определенном отношении к
Ничто. Вместе с тем если Бог есть Бог, то знать Ничто он не может — по-
стольку, поскольку "абсолют" исключает из себя всякое "ничтожество"»
(Хайдеггер М. Что такое метафизика? С. 25).
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
335
возникли зло и мука, и бытие смешалось с небытием. Это есть подлин-
ная трагедия, трагедия не только мира, но и Бога»1.
В концепции зла и свободы еще яснее обозначается «равноправие»
Бога и человека, здесь даже можно говорить об определенном « преиму-
ществе» человека перед Богом. Ведь именно человек является носите-
лем «меонической свободы», т. е. первой свободы, происходящей из
Ничто, в то время как Бог, поскольку он противостоит Ничто, каза-
лось бы, не обладает этой свободой. В результате Бердяев вплотную
подходит к выводу, что христианский Бог в сравнении с человеком есть
только некое идеальное представление о полноте творческой мощи
самого человека. Даже его функция творца мира становится простой
аллегорией, поскольку мир есть объективация, искажение свободы,
и осуществляется она самой свободой через человека; участие Бога в
этом процессе привело бы к умалению его идеального совершенства.
Творческая способность Бога не должна включать в себя «меониче-
скую» составляющую свободы.
Но если Бог не является ни творцом мира, ни носителем свободы,
через которую человек должен преобразить мир, «расплавить» его не-
обходимость, преодолеть коренящееся в нем зло, то он не может быть
ничем иным, как просто внутренней полнотой сущности самого чело-
века, осознаваемой человеком в качестве основы и источника своей
творческой деятельности. Бог есть идеал и последняя основа челове-
ческого творчества. Причем этот идеал — не просто выдумка, фанта-
зия, иллюзия; составляя сущность человека, он по-своему «реален» —
реален как богатство потенциальных путей развития, как «царство воз-
можностей». Наиболее парадоксальное свойство этого «идеала» за-
ключается в том, что его реализация вовсе не предполагает достижения
конкретной и однозначной цели, что означало бы остановку в процес-
се творческого движения вперед, наоборот, она должна вести к осво-
бождению этого процесса от всех препятствующих ему ограничений.
Можно сформулировать эту мысль следующим образом: Бог — это
осознание человеком своей собственной абсолютности. В такой форму-
лировке учение Бердяева о Богочеловечестве оказывается точным повто-
рением одного из главных принципов метафизики Достоевского (см. § 10
главы 2). Не случайно, как и у Достоевского, у Бердяева понятие Бога-
творца заслоняется и вытесняется образом Бога-сына, Бога-жертвы —
образом Христа. Как уже было сказано, Бог-творец в философских рас-
суждениях Бердяева лишается значительной «части» своей свободы,
а само творение мира и человека превращается в аллегорию. Творче-
ская сущность Бога выявляется только после того, как он обретает всю
полноту свободы, т. е. соединяется с Ничто и становится человеком.
1 Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики.
С. 39.
336 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Иисус Христос — это человек, в котором достигается наиболее полное
осуществление творческой мощи свободы, но в котором одновременно
проявляется и ее «меонический» характер, что приводит к величай-
шей трагедии, величайшему страданию и величайшей жертве — к при-
несению в жертву самого Бога.
Получается, что Христос — это доказательство превосходства че-
ловека над Богом, поскольку Бог сам по себе (Бог-отец) — это как бы
«ущербный» человек, не обладающий всей полнотой свободы (вплоть
до способности творить зло). Христос, соединяя в себе творчество и
свободу, являет в историческом бытии всю глубину человеческой аб-
солютности, он есть человек par excellence, и каждый человек обязан
стать таким, как он, претерпеть муку от «неистинного» мира объек-
тивации, умереть в нем, чтобы прервать «неистинное» существование,
и воскреснуть в истине, в преображенном мире, где объективация и
необходимость будут полностью побеждены творческой свободой. Это
означает, что история Христа — не просто его личная история, а вы-
ражение личной истории каждого человека и «задание» для каждого
человека; более того, это есть выражение внутренней иррациональ-
ной диалектики первобытия — диалектики свободы и творчества.
«Тайна Искупления, — пишет Бердяев, — тайна Голгофы есть внут-
ренняя мистерия духа, она совершается в сокровенной глубине бы-
тия. Голгофа есть внутренний момент духовной жизни, духовного
пути, — прохождение всякой жизни через распятие, через жертву.
В глубине духа рождается Христос, проходит свой жизненный путь,
умирает на кресте за грехи мира и воскресает. Это и есть внутренняя
мистерия духа... Без внутреннего принятия Христа в духе, истины, ко-
торые раскрываются в Евангелии, остаются непонятными фактами
внешнего эмпирического мира. Но христианская мистерия духа объек-
тивируется, выбрасывается вовне, в природный мир, символизируется
в истории»1.
В итоге, в философии Бердяева Абсолютом является сам человек
в полноте своей внутренней творческой энергии и неограниченной сво-
боды. Нужно признать, что постоянные апелляции Бердяева к христи-
анскому Откровению выглядят малообоснованными: все, что он говорит
о Боге, имеет очень мало общего с канонической христианской тради-
цией. Стремление Бердяева к сохранению элементов этой традиции в сво-
их философских построениях приводит только к дополнительным внут-
ренним противоречиям. Бердяев просто игнорирует эти противоречия,
что для него не столь уж и трудно в силу отсутствия продуманной и одно-
значной логики изложения своих идей, а также в силу определенной
поверхностности и хаотичности философского мышления.
1 Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Проблематика и апология
христианства. С. 40.
Глава 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
337
В заключение можно повторить то, что было сказано в самом нача-
ле данной главы. Значение Бердяева в русской философии состоит в
основном в том, что он дал очень наглядное, «популярное» изложение
ее главных принципов, довел основные ее интенции до логического за-
вершения, не боясь крайних выводов. Однако Бердяев не смог создать
достаточно ясной и глубокой системы идей, многие из его построений
не выдерживают строгой философской критики. Из современников
Бердяева наиболее близким к нему по своим исходным принципам ока-
зался С. Франк; именно он сумел создать на основе указанных принци-
пов достаточно связную и цельную философскую систему.
Глава шестая
АБСОЛЮТ КАК АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ:
С. ФРАНК
§ 1. Личность и ее творчество: этика
Место и значение творчества Семена Людвиговича Франка в русской
философии точно и лаконично определил В. Зеньковский. «По силе
философского зрения, — писал Зеньковский в главном своем истори-
ческом труде, — Франка без колебания можно назвать самым выдаю-
щимся русским философом вообще, — не только среди близких ему по
идеям... Я без колебания должен сказать, что считаю систему Франка
самым значительным и глубоким, что мы находим в развитии русской
философии»1.
Эти слова писались еще при жизни Франка (второй том труда Зень-
ковского появился из печати в 1950 г., в год смерти философа). Однако
не вызывает никаких сомнений, что дистанция исторического времени,
отделяющая нас от той эпохи, не делает их менее значимыми. Наобо-
рот, только сейчас, когда произошло «воскрешение» наследия русских
философов религиозного направления, появилась, наконец, возмож-
ность для точного обоснования этого проницательного суждения, для
объективной оценки творчества мыслителя, который, безусловно,
является звездой первой величины на небосводе не только русской,
но и мировой философии XX века.
Первая крупная работа Франка, обозначившая окончательное
оформление его философской системы, книга «Предмет знания», по-
явилась только в 1915 г., и до этого момента его вряд ли можно было
причислить к когорте наиболее известных мыслителей России (сре-
ди которых выделялись Н. Бердяев, В. Розанов, Д. Мережковский,
Л. Шестов). Среди большого количества опубликованных к тому
1 Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. П. Ч. 2.
С. 158, 177.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 339
времени статей Франка мы находим очень мало таких, которые
претендовали бы на «новое слово» в философии. По большей части,
его работы этого периода посвящены не «чистой» философии, а про-
блемам конкретного культурного и общественно-политического разви-
тия России и Европы. В ранней юности Франк испытал увлечение марк-
сизмом, и это, несомненно, было связанно с его желанием участвовать
в практической «работе», направленной на усовершенствование чело-
веческого общества. Очень быстро Франк разочаровался в марксизме,
поняв, что его внешняя революционность скрывает глубокое равноду-
шие к тому, что составляет самое главное в человеке и в обществе, —
к внутренней, духовной структуре личности и ценностям ее жиз-
ни, без развития которых невозможен внешний, материальный про-
гресс цивилизации (окончательные счеты с марксизмом Франк свел
в своей работе «Теория ценности Маркса и ее значение», опублико-
ванной в 1900 г.). Однако и после этого Франк не оставил сферу обще-
ственно-политической деятельности, продолжал активно участвовать
в дискуссиях, посвященных актуальным проблемам жизни России. Не-
сомненно, свою роль в этом сыграла его близость с Петром Струве, ко-
торый был одной из самых ярких фигур в общественной мысли России
начала века. Вместе со Струве Франк участвовал в 1905 г. в первом съез-
де конституционно-демократической партии; с декабря 1905 г. вместе
с ним же стал редактором политического еженедельника «Полярная
звезда» (превратившегося после запрета его цензурой в журнал «Сво-
бода и культура»); в 1906 г. Струве пригласил Франка для работы в ка-
честве руководителя отдела философии в журнале «Русская мысль»;
наконец, в 1909 г. Франк, как и Струве, стал одним из авторов нашу-
мевшего сборника «Вехи».
По-видимому, столь активная вовлеченность в «текучку» обще-
ственно-политической жизни не оставляла достаточного времени для
работы над чисто философскими трудами. Только в 1913-1914 гг., во
время командировки в Германию, Франк полностью отдался этой сфе-
ре деятельности, и подспудно накапливавшийся творческий потенци-
ал реализовал себя в двух крупных трудах (книги «Предмет знания»
и «Душа человека»), которые сразу вывели его в лидеры философско-
го движения.
Хотя ни одна из работ Франка, опубликованных до 1915 г., не мо-
жет сравниться по глубине и оригинальности с книгой «Предмет зна-
ния» , его ранние статьи интересны тем, что помогают ясно увидеть ис-
ходные пункты философской концепции, ушедшие в тень в крупных
сочинениях. Это в свою очередь важно для понимания взаимосвязи
идей Франка с идеями его предшественников (Вл. Соловьева и Ф. Досто-
евского) и современников. Среди множества небольших работ, напи-
санных Франком в 1908-1914 гг., особенно выделяются статьи, посвя-
щенные анализу философских воззрений известных западных мысли-
телей: Ф. Ницше, В. Штерна, Ф. Шлейермахера, И. Гёте, Б. Спинозы.
340 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Именно в них Франк формулирует основополагающие принципы сво-
ей будущей философской системы, и именно на них мы обратим основ-
ное внимание, прежде чем перейдем к анализу его главных трудов.
Центральным понятием раннего творчества Франка, безусловно,
является понятие личности, а ведущей темой — интерпретация обще-
ства, культуры и даже всей структуры мироздания через понятие лич-
ности, приобретающее при этом фундаментальный онтологический
статус. В первой своей крупной философской статье «Фр. Ницше и эти-
ка "любви к дальнему"» (1903) Франк, продолжая и обобщая свою кри-
тику марксизма, фиксирует принципиальное противостояние двух
радикально различающихся подходов к философскому пониманию
личности, к пониманию ценностей, определяющих ее жизнь и деятель-
ность. Первый (наиболее распространенный) подход приводит к док-
трине утилитаризма, его наиболее прямолинейной формой является
марксизм; яркое воплощение второго Франк находит в философии
Ницше, раскрывающей подлинную сущность человека как абсолютно
свободного, творческого существа. При этом в своем изложении пред-
ставлений Ницше о человеке Франк очень близок к Шестову, который
в книге «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» попытался вы-
явить позитивный смысл ницшевской «морали трагедии».
Проводимое Ницше противопоставление «любви к ближнему» и
«любви к дальнему» Франк интерпретирует как противопоставление
традиционной этики утилитаризма, основанной на понятиях счастья
и благополучия и «усматривающей свой идеал в "наибольшем счастье
наибольшего числа людей"»1, и новой этики «активного героизма»
и «трагической красоты», апостолом которой выступает Ницше2. Вместе
с Ницше Франк указывает два главных недостатка доктрины утилита-
ризма. Прежде всего, эта этическая система требует от человека тако-
го отношения ко всем окружающим людям, которое труднодостижи-
мо и не отвечает условиям нашего общественного бытия. В условиях
резких противоречий и антагонизмов, существующих между отдель-
ными людьми, социальными группами, классами, нациями, государ-
ствами, требование любить всех своих ближних выглядит малообос-
нованным, недостаточно укорененным в душе человека и поэтому не-
эффективным по своим последствиям. Но самое главное даже не в этом,
а в том, что этика утилитаризма (альтруизма) понимает счастье исклю-
чительно как спокойствие и неизменность бытия людей; она, по сути,
отрицает общественный и культурный прогресс в наиболее принципи-
альном, качественном смысле и сводит развитие личности и общества
к чисто количественному улучшению условий их внешнего, матери-
ального существования.
1 Франк С. Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» // Франк С. Л.
Сочинения. М., 1990. С. 33.
2 Там же. С. 25.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 341
Противоположная этическая система, основанная на принципе
«любви к дальнему», или «любви к призракам» (по терминологии
Ницше), в качестве основного принципа деятельности человека рас-
сматривает устремление к сверхчеловеческим ценностям истины,
справедливости, красоты и т. п., в гораздо большей степени укоре-
ненным в глубинах каждой личности в связи с тем, что именно они
составляют подлинную суть бытия личности. «Эмпирически, — пи-
шет Франк, — можно, думается нам, считать установленным, что че-
ловек, способный непроизвольно — не в силу повиновения морально-
му предписанию, а в силу своей инстинктивной потребности — лю-
бить всех людей без изъятия, болеть всеми страданиями совершенно
чуждых ему людей и радоваться всем их радостям, есть явление со-
вершенно исключительное и, во всяком случае, встречается гораздо
реже, чем человек, способный отзываться на абстрактные "призра-
ки" — умеющий негодовать на несправедливость, ложь, унижение,
насилие и добиваться удовлетворения инстинкта справедливости,
истины, человеческого достоинства, свободы, нисколько не считаясь
с вопросом "cui prodest?", не задумываясь о том, чью судьбу облегчат
его нравственные запросы» *. Помимо всего прочего, этическая доктри-
на, выдвигающая на первый план «любовь к призракам», преодолева-
ет противоречие эгоизма и альтруизма, неразрешимое для этики ути-
литарного типа. Здесь эгоизм получает оправдание и сливается с аль-
труизмом в том случае, если он направлен на охрану священных и
неотчуждаемых моральных прав человека, в равной степени отражаю-
щих абсолютное значение как данной конкретной личности, так и всех
других людей.
Но еще важнее, что в этой этической системе личность предстает как
бесконечно развивающаяся в самой своей сущности, и именно это раз-
витие становится единственной абсолютной ценностью, по отношению
к которой все конкретные, частные ценности и цели, обусловливаю-
щие человеческую деятельность, приобретают чисто относительный
характер, как условные, временные ориентиры движения вперед
(нетрудно увидеть совпадение этого вывода Франка с тем, что Шестов
говорит в своей книге «Достоевский и Ницше» о «морали трагедии»;
см. § 2 главы 4). Выражением этой стороны учения Ницше Франк счи-
тает его идею сверхчеловека (в ее оценке точки зрения Франка и Ше-
стова уже полностью расходятся); «в ней постулировано верховное и
автономное значение культурного прогресса, морально-интеллектуаль-
ного совершенствования человека и общества, вне всякого отношения
к количеству счастья, обеспечиваемому этим прогрессом. Воцарение
сверхчеловека не есть торжество человеческого счастья, удовлетворе-
ние всех личных субъективных влечений и вожделений людей; это есть
1 Франк С. Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». С. 49.
342 Я. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
торжество духовной природы человека, осуществление всех объектив-
но-ценных его притязаний»1.
В результате Франк приходит к своеобразному оправданию «амо-
рализма» Ницше, его позитивный смысл он видит в отрицании возмож-
ности однозначно и окончательно выразить те высшие ценности, кото-
рые должны служить вечными ориентирами творческой деятельности
человека. В качестве системы таких высших ценностей невозможно
указать ничего определенного, ничего такого, что опиралось бы в своей
сущности на наличные условия нашего бытия (духовного и материаль-
ного), ибо всё определенное и зависимое от наличных условий неизбеж-
но является односторонним и именно поэтому рано или поздно пере-
станет удовлетворять целям творческого развития человека. Здесь
выявляется смысл определения «любви к дальнему» как любви к при-
зракам, «Призраки» — это относительные ценности, имеющие всеоб-
щее значение лишь до тех пор, пока они гарантируют раскрепощение
творческого начала в человеке, и неизбежно требующие замены после
того, как перестают выполнять эту функцию. Абсолютны только само
творческое начало личности и в определенной степени те условия,' ко-
торые гарантируют реализацию этого творческого начала. «Борьба и
творчество — по мысли этой этической системы — должны быть по-
священы созиданию условий для свободного развития всех духовных
способностей человека и для свободного удовлетворения его духовных
притязаний»2.
Последовательное развитие этой точки зрения неизбежно приводит
к тому, что должны быть признаны только относительно значимыми и
такие «призраки», как истина, справедливость, красота, которые, как
мы помним, Франк вместе с Ницше ранее принял за выражение самой
сути человеческой личности. В последующих работах он действительно
приходит к этому, утверждая, что стремление к соответствующим идеа-
лам ничем не отличается от прочих «догматических» заблуждений че-
ловечества, подавляющих импульсы к творческому развитию3. Этот
вывод, естественно, вновь заставляет поставить вопрос о том, что же яв-
ляется выражением подлинной сущности личности и как ее можно по-
стичь. В статье о Ницше эта проблема еще не прояснена до конца в силу
апологетического характера изложения, не предполагающего критики
воззрений немецкого мыслителя. Однако написанные в эти же годы ра-
боты позволяют без труда увидеть, в чем Франк расходится с Ницше.
Пафос главных трудов Ницше направлен на опровержение абсолют-
ных ценностей; именно это имеется в виду в его тезисе о «смерти Бога»:
место абсолютных ценностей оказывается пустым, и человеку
1 Франк С. Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему». С. 56.
2 Там же. С. 59.
3 См.: Франк С. Л. Крушение кумиров // Франк С. Л. Соч. С. 144-161.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 343
предоставляется возвышенное, но и опасное право самому заполнить
его, исходя из своего собственного представления о смысле и значении
творчества и жизни. Соглашаясь с Ницше в его стремлении раскрепос-
тить свободу человека, вывести его из под гнета навязанных извне догм
и принципов, Франк, однако, не может признать, что в своем беско-
нечном творческом развитии человек может опираться только на са-
мого себя, на свои «внутренние» силы. Он все-таки сохраняет убежде-
ние в существовании абсолютных ценностей, укорененных в вечной
жизни Бога. «Настоящая культурная производительность, — пишет
он в статье, связанной с полемикой вокруг сборника "Вехи", — произ-
водительность научной, художественной, моральной, общественной
работы — невозможна без объединяющей идеи, без веры в оправдываю-
щие и обосновывающие это делание абсолютные ценности*1.
Это, конечно же, не означает возврата к «догматизму», борьбу с ко-
торым Франк считал главной заслугой Ницше. Вся сложность и глуби-
на будущей философской системы Франка происходит из этого пункта:
настаивая на безусловном существовании абсолютных ценностей, он по-
прежнему полагает, что любое отвлеченное, абстрактное и односторон-
нее их выражение сразу же превращает их в относительные ориентиры
нашего творческого развития. В этом Франк находит основание и опре-
деленное оправдание для нигилизма и радикального скептицизма: наше
постоянное стремление к тому, чтобы выразить абсолютные ценности в
попятной рациональной форме, приводит к искажению их смысла и ве-
дет к той или иной форме догматизма, против которого справедливо вос-
стает скептицизм. Однако проблема заключается не столько в том, что-
бы отбросить догматически навязываемые личности ценности, — это
достаточно просто, но не ведет ни к чему позитивному, — сколько в том,
чтобы увидеть за любой системой отвлеченных и частных ценностей их
исток и прочную основу, коренящуюся в глубине самой личности. Осо-
знание диалектики абсолютного и относительного в понимании лично-
сти Франк считает самым главным для правильной оценки развития
культуры и тем более для правильного осмысления взаимосвязи куль-
туры и религии, поскольку религия — это и есть попытка адекватного
выражения абсолютных ценностей. Последовательность Франка в этом
вопросе с особенной наглядностью проявляется в том, что он и в много-
вековой религиозной традиции обнаруживает почти полное господство
догматизма, искажающего истинную суть религии. Это приводит к тому,
что он занимает весьма критическую позицию по отношению к догматиче-
скому христианству и к Церкви.
« Сущность нашей позиции в религиозном вопросе, — пишет Франк, —
сводится именно к внутреннему сочетанию веры со скептическим
1 Франк С. Л. Культура и религия (По поводу статьи о «Вехах» С. В. Лу-
рье) // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 564.
344 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
релятивизмом. Религиозное умонастроение есть сознание абсолютной
основы бытия, или вера в то, что конечные цели и высшие ценности
человеческой жизни имеют сверхчеловеческое и универсально-косми-
ческое значение, т. е. вытекают из природы абсолютного... однако, важ-
но понять, что все наши отвлеченные понятия, будучи по природе от-
носительными фиксациями отдельных моментов и начал бытия, не в
силах адекватно уловить и запечатлеть абсолютное, и что, следователь-
но, притязание религиозных догматов в своих неполных и односторон-
них схемах отобразить в исчерпывающей и неискаженной форме абсо-
лютное противоречит самой сущности религиозного сознания. Этим
устанавливается верховное значение интуиции и чувства в религиоз-
ной сфере и устраняется теоретически неудовлетворительный и вред-
ный религиозный догматизм»1. В других своих работах Франк реши-
тельно отвергает значение Церкви в делах веры: «...в настоящее время
подлинное, искреннее и интенсивное религиозное чувство фактически
невозможно иначе, как в форме интимного индивидуального пережи-
вания, богатого плодами для всей культурной жизни, но непосред-
ственно не определяющего строя общения между людьми; всякая же
организованная, т.е. церковная религиозность в наше время неизбеж-
но будет или поверхностной, или лицемерной, т. е. в обоих случаях
культурно бесплодной, хотя политически в иных случаях и сильной
(как, например, католицизм)»2.
Выбрав в качестве исходного пункта своей философии анализ сис-
темы этических ценностей, определяющих деятельность личности,
Франк проходит тот же самый путь и приходит к тому же самому конеч-
ному пункту, что и рассмотренные ранее русские философы — Соловь-
ев, Шестов, Бердяев. Он утверждает, что для обоснования бытия лич-
ности, для понимация основополагающих закономерностей ее жизни,
необходимо признать наличие глубокого единства каждой личности с '
Абсолютом, со сферой абсолютных ценностей. Это единство, которое
пытается освоить религия, достижимо для человека исключительно на
путях углубления в свой внутренний мир, любые попытки зафиксиро-
вать его смысл с помощью «внешних» форм эмпирического опыта и
мышления (сюда Франк включает и всю традиционную религиозную
догматику) искажают его и, по сути, обрывают наши связи с абсолют-
ным началом. Только индивидуальная иррационально-мистическая
интуиция и непосредственное чувство дают личности свидетельства
ее причастности Абсолюту.
Хотя мистическая интуиция выступает как самая глубокая и мета-
физически нагруженная функция личности, именно поэтому она
1 Франк С. Л. Культура и религия (По поводу статьи о «Вехах» С. В. Лу-
рье). С. 567.
2 Он же. Религия и культура (По поводу новой книги Д. С. Мережков-
ского) // Русское мировоззрение. С. 531.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 345
достаточно сложна для описания и ясного осознания. В результате са-
мым доступным и «естественным» способом раскрытия сферы подлин-
ной религиозности и соединения с Абсолютом Франк, точно так же
как и Бердяев (см. § 2 главы 5), признает чувство, непосредственное
переживание. По всей видимости, он позаимствовал это представле-
ние у Ф. Шлейермахера — одного из западных мыслителей, в наиболь-
шей степени повлиявших на его мировоззрение. Франк стал первым
переводчиком главных сочинений Шлейермахера; во вступительной
статье, предварявшей их издание на русском языке (в 1911 г.), он вы-
деляет две идеи немецкого философа и богослова, имеющих, по его
мнению, особенно большое значение для философии XX века. Преж-
де всего это определение сущности религии как интуитивного проник-
новения в сферу бесконечного, реализуемого прежде всего и по боль-
шей части через чувственную способность личности. Согласно Фран-
ку, именно Шлейермахер впервые попытался осознать чувство не как
отдельную и предельно субъективную сферу человеческого сознания,
а как универсальный и основополагающий срез жизни, в котором
еще нет обособления личности от окружающего бытия. «Термин
"чувство", — пишет Франк, — не вполне адекватен мысли Шлейер-
махера. Под ним он разумеет не обособленную, отдельную область
душевной жизни, а глубочайший корень всего сознания вообще...
"чувство", хотя и не будучи тождественно теоретическому знанию,
не есть, однако, только субъективный процесс в как бы замкнутой
человеческой душе; "чувство" есть, наоборот, процесс раскрытия
души и уловления ее тайной связи со вселенной...»1 В той же статье
со ссылкой на Шлейермахера Франк еще раз повторяет свою мысль
о том, что любые формы рассудочного, абстрактного, догматического
выражения «истины», открывающейся человеку в религиозном чув-
стве, в интуитивном постижении бесконечного бытия, только искажа-
ют эту «истину» и ни в малейшей мере не могут служить ее заменой.
«Религиозная правда не есть, подобно научной, интеллектуальное вос-
произведение объекта; она^сть жизнь в объекте, живое слияние с ним...
отождествление религии с нравственностью, морализация религии,
с этой точки зрения столь же непозволительно — это ясно само собой;
ибо религиозная правда настолько же превозмогает противополож-
ность между сущим и должным, фактом и идеалом, как и противопо-
ложность между субъектом и объектом; она не есть ни знание о добре
и зле, ни жизнь, повинующаяся отвлеченному нравственному идеалу; она
есть жизнь в самом добре, жизнь в той первооснове, из позднейшего раз-
дробления которой происходит противоположность между бытием
и идеалом»2.
1 Франк С. Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлей-
ермахер Ф. Речи о религии. Монологи. СПб., 1994. С. 21, 23.
2 Там же. С. 26.
346 И, И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Очевидно, что так понимаемая религия не совпадает ни с какой ре-
ально существующей догматической религиозной системой и представ-
ляет собой глубоко личное отношение каждого человека к Абсолюту.
Признание особого метафизического значения индивидуальности, не-
повторимости личности составляет, по мнению Франка, второй важ-
нейший аспект воззрений Шлейермахера. «К числу основных убежде-
ний Шлейермахера принадлежит мысль, что индивидуальность, лич-
ное своеобразие каждого человека, есть та точка в нем, через которую
он глубже всего связан с истинным и бесконечным бытием и точнее все-
го отражает его»х. Здесь помимо прочего становится ясным, в чем нуж-
но искать подлинную сущность человеческой личности. Отказывая
в способности представлять эту * подлинную» сущность всем традици-
онным «догматическим» и рациональным формам и понятиям (напо-
добие понятий субстанции, мышления, разума, субъекта и т. д.), Франк
постепенно продвигается к концепции, в которой главным определе-
нием личности становится ее эмоционально-чувственная характери-
стика, простое указание на ее конкретное чувственное « расположение».
Поскольку в этой сфере человек непосредственно отнесен к Абсолюту,
к бесконечному бытию, только она может быть основой всех других его
способностей и проявлений, «надстраивающихся» над этим исходным
уровнем. Эта концепция личности будет подробно разработана Фран-
ком в книге «Душа человека» и затем в качестве важнейшей составной
части войдет в его окончательную философскую систему, изложенную
в книге «Непостижимое».
Возвращаясь к анализу провозглашаемого Франком религиозного
релятивизма, отвергающего все формы догматической веры и отрица-
ющего значение Церкви, нужно отметить, что в этом аспекте своего
мировоззрения Франк оказывается прямым наследником Чаадаева,
почти за столетие до этого утверждавшего, что в религии главное —
внутреннее переживание причастности человека к божественной силе,
действующей в мире, а не формальная принадлежность к Церкви и ее
материальным формам. С течением времени взгляды Франка в этом
вопросе испытали определенный генезис (подобный тому, какой про-
делал Чаадаев); в поздних его сочинениях мы уже не находим прежне-
го радикального противопоставления «подлинной» (индивидуально-
мистической) веры и Церкви. Тем не менее Франк оказался более
последовательным мыслителем, чем некоторые его современники
(например, П. Струве и И. Ильин), которые от точно такого же резкого
противопоставления глубоко личной религиозности и исторической
Церкви позже перешли к провозглашению традиционного православия
единственным и незаменимым носителем истинной веры. Он до конца
жизни доказывал, что не только в науке и философии, но и в делах веры
1 Франк С. Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера. С. 27.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк
347
личное убеждение и свободная мысль обладают приоритетом по отно-
шению к авторитету догматов и церковной традиции. Выразительным
свидетельством этого служит письмо Франка к неизвестному коррес-
понденту, датированное 1944 г. «Я, — пишет он здесь, — сознательно
проповедую то, что иронически было названо "двойной бухгалтери-
ей" — проповедую не из цинизма, а, смею думать, из высшей мудро-
сти. Надо сочетать совершенную независимость религиозной и фило-
софской мысли с детски-смиренным молитвенным соучастием в тра-
диционно-церковной религиозной жизни. С одной стороны, мы не
только вправе — мы обязаны с полной свободой, не оглядываясь на
текст Писания, пап и соборы, откликаться мыслью и сердцем на зов
Бога, обращенный непосредственно к каждому из нас. Откровение
не было когда-то, оно беспрерывно продолжается, и мы обязаны слу-
шаться Бога больше, чем человеческого предания... А с другой сторо-
ны, мы не должны забывать, что все, даже лучшие и мудрейшие наши
мысли все же остаются субъективными и односторонними и что в тра-
диционной церковной вере — плод коллективного восприятия Откро-
вения множеством верующих душ, в том числе гениальных, — несмот-
ря на все противоречия, больше мудрости и истины, чем в наших отры-
вочных и слабых мыслях»1.
Несомненно, упорное противостояние Франка церковному догматиз-
му было связано не столько с обстоятельствами его личной жизни (про-
исхождением из правоверной иудейской семьи и юношескими марк-
систскими и атеистическими убеждениями), сколько с осознанием
своей принадлежности к традиции, составлявшей глубокую основу
оригинальности русской культуры — к гностико-мистической линии
развития европейского мировоззрения. Подобно Бердяеву, Франк ясно
понимал значение этой мировоззренческой основы как для своего соб-
ственного духовного развития, так и для становления всей русской фи-
лософии2. Правда, в этом контексте он чаще всего говорил только о ми-
стической традиции, идущей от неоплатонизма к Николаю Кузанско-
му, немецкой мистике и Шеллингу, умалчивая о гностицизме и его
влиянии на русское мировоззрение. Однако, по-видимому, это нужно
отнести исключительно на счет предубеждений, укорененных во всей
новоевропейской культуре, которая оценивала гностицизм как чисто
отрицательное духовное явление и не видела в нем никакого позитив-
ного значения для современности.
Присутствие гностической составляющей в мировоззрении Франка
совершенно очевидно, предельно ясное подтверждение этому мы нахо-
дим, например, в том же самом письме 1944 г. Конспективно излагая
основы своего миропонимания, Франк выделяет в нем как раз те черты,
1 Франк С. Л. О невозможности философии (Письмо к другу) //
Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 94-95.
2 См., например: Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 195.
348 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
которые свидетельствуют о его «гностическом» характере (см. § 2
главы 3): сочетание онтологического монизма с экзистенциальным ду-
ализмом, представление о неразрешимом противоречии между Богом-
творцом и сотворенным им миром, убеждение в неустранимости и су-
щественности зла, понимание человека как центрального персонажа
мировой «драмы» *. В ранних работах Франка гностическая составляю-
щая не столь заметна только потому, что он еще не касается таких про-
блем, как смысл отношений Бога и мира, происхождение и сущность
зла и т. п. Влияние гностико-мистической традиции проявляется здесь
в первую очередь в связи с использованием понятия мистической ин-
туиции, которая рассматривается как универсальная форма соедине-
ния с Абсолютом, обосновывающая жизнь и деятельность личности.
Именно на более детальный анализ содержания акта мистической
интуиции и направляет Франк свое внимание в последующих работах.
Это заставляет его переместить внимание со сферы этики на сферу он-
тологии; он пытается вчерне наметить онтологическую конструкцию,
которая позволила бы дать более ясное доказательство и более подро-
бную экспликацию уже известного нам тезиса «личность есть Абсо-
лют», объединявшего всех русских философов, признававших себя на-
следниками Достоевского.
§ 2. Личность и ее творчество: онтология
Пытаясь обосновать абсолютное значение отдельной личности,
Франк сталкивается с рядом проблем и прежде всего с двумя самыми
главными: с необходимостью пояснить смысл общественного бытия
людей, т. е. описать способы взаимосвязи отдельных независимых лич-
ностей, их объединения в духовную целостность общества, а также с
необходимостью раскрыть содержание не-личностного бытия, бытия
неживой природы и объяснить причины разделения (или видимости
разделения) всего существующего на личности и не-личности. Как мы
помним, обе эти проблемы стояли и перед Вл. Соловьевым (что неудиви-
тельно, поскольку оба философа исходят из принципа абсолютности
личности), однако Франк выбирает несколько иные подходы к их ре-
шению, учитывающие явные недостатки соловьевской системы. Наи-
более заметным дефектом философских построений Соловьева была так
и не преодоленная до конца склонность к рациональным, «отвлечен-
ным» конструкциям, которые появлялись у него даже там, где они
выглядели неуместными и невозможными. Франк оказывается гораз-
до более последовательным в преодолении «отвлеченных» начал; это
ясно проявляется прежде всего в том способе, с помощью которого он
объясняет взаимодействие личностей. Этой теме посвящена статья
«Проблема власти», впервые опубликованная в 1905 г.
1 Франк С. Л, О невозможности философии (Письмо к другу). С. 90-94.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 349
Если мы признали Абсолют недоступным рациональному, «отвле-
ченному» описанию, а в основу бытия личности положили акт иррацио-
нальной, мистической интуиции, то и фундаментальный «акт» взаи-
мосвязи личностей (выражающийся, в частности, в феномене власти)
в своей метафизической сущности не может быть абсолютно рацио-
нальным и определимым с помощью отвлеченных понятий. Выделяя в
структуре властных отношений два момента — физическое насилие и
психическое принуждение, — Франк считает, что именно второй мо-
мент составляет суть власти. При этом он утверждает, что в основе пси-
хического принуждения лежит исходное, неразложимое на какие-либо
элементы отношение подчинения одного человека воле другого, и это
отношение носит всецело иррациональный характер; «между-психи-
ческое отношение власти и подчинения — как и отношение любви —
принадлежит к первичным данным сознания и именно потому с точки
зрения самого субъекта сознания остается необъяснимым, иррацио-
нальным, как иррациональны все ощущения и чувства, как иррацио-
нальна вся психическая жизнь в ее целом. Логическое сознание — тео-
ретическое и практическое — есть лишь небольшая и производная
часть сознания алогичного, светлый клочок, выделяющийся на не-
объятном фоне безотчетной, непосредственной, инстинктивной душев-
ной жизни»1.
Таким образом, основой всей системы общественного бытия явля-
ется совокупность неопосредованных иррациональных переживаний
(любовь, господство, подчинение), выражающих отношения человека
с окружающими. Причем в связи с тем, что эти переживания неустра-
нимы и независимы от воли человека, можно сказать, что они субъек-
тивны только по «форме», но несут в себе столь же незыблемое объек-
тивное содержание, как и любое предметное восприятие. Феномен
сверхиндивидуальной и отчужденной от отдельных людей власти по-
рождается в результате объективации присущих каждой личности
переживаний господства и подчинения. Хотя в концепции Франка мож-
но уловить определенное влияние гегелевской и марксистской теории
(особенно в интерпретации процесса отчуждения власти от личности),
она именно потому резко отличается и от них, и от позитивистской
модели объяснения феноменов права и государства, что в ней все эмпи-
рически реальные феномены общественной жизни людей признаются
за вторичные, «несобственные» объективации исходных иррациональ-
ных переживаний, которые в своей собственной непосредственности
есть (а не выражают или отражают) формы зависимости, взаимо-
действия и слияния личностей.
1 Франк С. Л. Проблема власти (Социально-психологический этюд) //
Франк С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии куль-
туры. СПб., 1910. С. 87.
350 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Феномен власти, по Франку, обладает двойной иррациональностью.
Более заметная, так сказать, «негативная» иррациональность власти
связана с процессом объективации исходных переживаний, присущих
каждой личности. Объективация искажает их смысл и превращает
власть в абсолютно чуждый личности «объект», недоступный понима-
нию. Эта (вторичная) иррациональность может и должна быть устране-
на в процессе развития общества, поскольку она выступает источником
неразрешимых конфликтов между личностью и властью. Рационализа-
ция власти в этом отношении должна привести к пониманию каждым
человеком того факта, что власть, по сути, «реальна» только в его соб-
ственной личности, точно так же как и в личностях других людей, и
вне личностей не имеет никакого «объективного» бытия. Однако даже
устранение этой формы иррациональности, даже планомерное и разум-
ное «выстраивание» власти не уничтожит более глубокий срез ее ир-
рациональности, связанный с тем, что она происходит из таких форм
проявления личности (переживаний), которые недоступны никакому
рациональному «оформлению» и тем более «упорядочению».
Анализ феномена власти, проведенный Франком, добавляет еще
один важный штрих в разрабатываемую им концепцию личности. Если
раньше он, используя одну из ключевых идей Шлейермахера, пришел
к выводу, что самый глубокий и фундаментальный уровень личност-
ного бытия, на котором происходит слияние человека с Абсолютом, есть
уровень непосредственного переживания, не признающего разделения
на субъект и объект, факт и идеал, то теперь на том же уровне непо-
средственных, иррациональных переживаний открывается путь к объяс-
нению связи личностей. Очевидно, что при этом Франк все дальше и
дальше уходит от традиционной, «атомистической» концепции чело-
века, конституирующей личность с помощью оппозиций «часть—це-
лое» и «внутреннее—внешнее» (личность в этой концепции противо-
стоит миру как часть противостоит целому и внутреннее — внешнему).
Признавая переживание — то, что традиционно считается «субъектив-
ным» и «внутренним», — формой непосредственного, исходного бытия
человека в аспекте его единства с Абсолютом и в аспекте единства
со всеми другими людьми, Франк устраняет указанные оппозиции как
ложные, иллюзорные, не пригодные для описания личности в ее мета-
физической сути. (Тем не менее нужно отметить, что в рассмотренной
статье о феномене власти Франк еще не преодолевает до конца стереоти-
пы традиционной концепции; некоторые его высказывания заставля-
ют предположить, что он — в явном противоречии с главной идеей
этой работы — понимает психическое переживание принуждения все-
таки не как суть власти, а только как отражение некоторой «реаль-
ной» властной силы, связывающей личности. Проведенная нами
интерпретация становится очевидной только в перспективе последую-
щих его работ.)
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 351
Несомненно, что традиционные представления о соотношении час-
ти и целого, внутреннего и внешнего в наибольшей степени происхо-
дят из оценок форм нашей взаимосвязи с природным миром и из на-
блюдаемых нами закономерностей существования самого этого мира.
Поэтому последовательное проведение новой концепции личности, свя-
занное с ниспровержением этих традиционных представлений, требо-
вало их пересмотра и в этой области, непосредственно взаимосвязан-
ной со сферой научного познания. Эту тему Франк затронул в статье
«Личность и вещь» (1908), которая была посвящена анализу взглядов
немецкого философа Вильяма Штерна, изложенным в книге с тем же
названием (изданной в 1906 г.). Здесь Франк делает еще один важный
шаг на пути к своей собственной философской системе.
Прежде всего он высказывает решительное убеждение в необходи-
мости построения новой метафизики, радикально преодолевающей
господствующие в мировоззрении его эпохи позитивистские и механи-
стические тенденции и возвращающейся к античному, виталистиче-
скому миропониманию. Значение философского труда В. Штерна
Франк видит в том, что он вслед за Бергсоном пытается дать закончен-
ный очерк новой виталистической онтологии. Впрочем, как можно
понять из рассуждений Франка, он сам не считает определение новой
онтологии как «виталистической» достаточно точным — понятие жиз-
ни не является в ней абсолютно первичным, оно необходимо только для
того, чтобы выразить способ существования подлинно первичного эле-
мента онтологической структуры — личности. Именно поэтому Франк
предпочитает называть разбираемую им метафизическую концепцию
персонализмом и противопоставляет ей имперсонализм, как господствую-
щую форму новоевропейского мировоззрения.
Отвергая традиционное противопоставление материального и духов-
ного, на основании которого чаще всего строились метафизические
системы в истории европейской философии, Франк вслед за Штерном
полагает в качестве исходного пункта противоположность личности и
вещи. Различие персонализма и имперсонализма связано с тем, какая
из сторон этой противоположности выбирается в качестве универсаль-
ной основы всего сущего. Господствующее имперсоналистское миро-
воззрение, заимствующее свою силу у механистического естествозна-
ния XVIII-XIX веков, сводит весь мир к безликим «точкам», связан-
ным между собой внешними отношениями. В результате, утверждает
Франк, стремясь в своей «позитивности» уйти от какого-либо отвле-
ченного «гипостазирования», оно гипостазирует самое отвлеченное и
нереальное в мире — отношения и законы. Понятие закона вообще не
обладает необходимой основой для своего универсального применения,
поскольку механистическое естествознание и позитивизм ни в малей-
шей степени не могут объяснить, почему законы имеют «силу», почему
элементарные объекты, не обладающие внутренним бытием, подчиня-
ются законам. «Легко мыслить, что сущее обнаруживает силу, но как
352 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
может рождаться сила и власть из одного только отношения между
двумя явлениями, которые пассивны каждое в отдельности?.. Движе-
ние и связь реальностей должно быть признано выражением их внут-
ренней силы и жизненности. А это требует дальнейшего признания,
что реальности, образующие мир, суть не абсолютно простые частицы,
а сложные единства, индивиды, полные многообразия и вместе с тем
обладающие неразложимостью» *. Полагание в основу всего сущего та-
ких «сложных единств» и составляет исходный онтологический прин-
цип персоналистского мировоззрения, эти единства — личности, по-
нимаемые в самом общем, метафизическом смысле (т. е. не только как
человеческие личности).
Очевидно, что в исходном пункте эта персоналистская онтология
совпадает с концепцией метафизических существ Вл. Соловьева (см. § 6
главы 3), в соответствии с которой реальность в ее подлинной, метафи-
зической (а не эмпирической) сути есть совокупность духовных «ато-
мов», обладающих внутренней силой и представлением (сознанием)
и взаимодействующих друг с другом в рамках духовного «организма»
(Софии). Эмпирическая реальность, по Соловьеву, появляется в резуль-
тате «недолжной» ориентации свободы указанных метафизических
существ, что приводит к распадению их единства, обособлению отдель-
ных составляющих этого единства, которые в своем обособленном,
«частном» бытии выступают уже не как существа, а как вещи. То же
самое утверждает Франк, опираясь на концепцию Штерна; вещь (и вся
материальная сторона мира) — это только абстрактно выделенная
характеристика, сторона личности, или ее «часть», взятая отдельно от
нее (т. е. неистинная в своем бытии). Явные совпадения с идеями Соло-
вьева можно найти и в представлениях Франка об иерархии личнос-
тей, в утверждении о существовании иерархической структуры их
единства в рамках объемлющего их целого (абсолютной личности, или
Бога). «Противоположный взгляд, — пишет Франк, — немыслим в
силу невозможности внешнего, транзитивного действия; если бы груп-
па личностей не сопринадлежала к высшей личности, то между ними
также невозможно было бы взаимодействие, и мир распался бы на мно-
жество независимых миров»2.
Однако здесь же мы обнаруживаем и принципиально новые момен-
ты в объяснении сущности элементарных существ (личностей) и их
взаимосвязей, что помогает Франку избежать тех трудностей, которые
возникали в концепции Соловьева. Они были связаны с уже не раз
упоминавшимся общим недостатком философии Соловьева — с его
\ 1 Франк С. Л. Личность и вещь (Философское обоснование витализма) //
Франк С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии куль-
туры. С. 185.
2 Там же. С. 196.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 353
неспособностью окончательно преодолеть стереотипы рационалис-
тического философствования. В частности, описывая свои метафизи-
ческие существа, Соловьев называет их «атомами» и «субстанциями»,
приписывает им внутреннее представление и способность к внешнему
воздействию друг на друга, рассматривает их единство по аналогии
с единством клеток в организме, т. е. вносит пространственный элемент
в эту модель и т. д. Неявное (а иногда и явное) использование оппози-
ций «часть—целое», «внутреннее—внешнее» в их традиционном смыс-
ле приводит к тому, что новое метафизическое содержание Соловьев
пытается выразить в старой форме, связанной с рационалистической
традицией «отвлеченных начал». Это ведет к неразрешимым проти-
воречиям и препятствует построению по-настоящему последовательной
системы. На новом этапе развития философии, используя достиже-
ния западных мыслителей (помимо Штерна, это, конечно же, Берг-
сон), Франк преодолевает все эти недостатки и дает набросок концеп-
ции, которую можно считать логическим завершением соловьевской
метафизики.
Прежде всего он совершенно по-другому определяет смысл харак-
теристики единства, цельности каждого метафизического существа
(личности). Кажущаяся очевидность этого смысла препятствовала
ясному пониманию того факта, что за традиционной интерпретацией
единства стоит модель «часть—целое», вносящая в него простран-
ственный, механистический аспект. Вместо такой, «статической»,
интерпретации единства Франк предлагает использовать (вслед за
Штерном) новое, «динамическое», функциональное его понимание,
замещающее неявно используемую модель единства частей простран-
ственного целого моделью временного самосохранения (вспомним, что
пафос главных работ Бергсона связан с необходимостью отказаться от
пронизывающих наше познание пространственных аналогий и перей-
ти к адекватному постижению личности через время). «Где есть само-
сохрапя!о1ддя^я^щн6сть7там есть подлинная субстанциальность, т.е.
постоянство реальности при изменении состояний, там есть подлинное
единство — реальная отграниченность извне и связанность изнутри —
и подлинная причинность, т. е. самодеятельность, выражающаяся
именно в самосохранении; словом, там и только там мы находим три-
единство субстанции, причины и индивидуальности, т. е. искомую ре-
альную действенную единицу»1 (это и есть личность).
Наиболее ясно новизна такой интерпретации единства обнаружи-
вает себя при переходе от описания единства отдельной личности к опи-
санию единства личностей в рамках мирового целого (чтобы подчерк-
нуть отличие нового понимания единства от старого, Франк использует
1 Франк С. Л. Личность и вещь (Философское обоснование витализма).
С. 186.
12 Зак. 3424
354 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
термин «синтетическое»): «...признак синтетического единства лично-
сти разрушает старое учение об абсолютном характере целого и частей,
согласно которому метафизически единое не может быть множествен-
ным, часть не может быть в ином отношении целым, и целое — частью.
Так как единство личности содержится не в ее составе, а в ее функцио-
нировании, то личность может (в ином отношении) быть также частью
высшей личности и в свою очередь содержать в своем составе множе-
ство низших личностей» Ч В рамках традиционного понимания единства
мы мыслим целое как нечто пространственно большее, чем его состав-
ляющие, как нечто объемлющее их, а элементы целого (существа, лич-
ности) интерпретируем как «части», отношение которых к целому ана-
логично отношению предметов нашего эмпирического мира к целому
миру. Именно эта аналогия имела роковое значение для философии
Соловьева. Перенося на божественное всеединство закономерности
пространственного эмпирического бытия, Соловьев утверждает, что за
каждой вещью стоит отдельное существо, «неправильно» сориентиро-
вавшее свою свободу; эмпирический мир оказывается своего рода нега-
тивным «повторением» духовного организма существ, а Бог — «сохра-
нившимся» , «отделенным» от мира и каждого существа целым. В изла-
гаемой Франком концепции рудименты традиционных философских
воззрений, восходящие к средневековой христианской метафизике,
почти полностью исчезают. Здесь невозможно говорить ни об отдельно
существующем целом (Боге, Абсолюте), ни о самостоятельно существую-
щем раздробленном эмпирическом мире: целое — это только своеоб-
разный способ «функционирования» каждой отдельной личности, оно
не может мыслиться существующим «вне» личности; соответственно
вещь — это только особая «точка зрения» на личность, и она также
нё^существует как нечто самостоятельное. «Та и другая граница имеют
чисто идеальное значение логически завершающих понятий ("транс-
цендентальных идей" в смысле Канта); их можно только наметить,
но до них нельзя дойти эмпирически»2.
Очевидно, что дальнейшее развитие этой системы идей требует ре-
шения ряда достаточно сложных проблем, в частности, уточнения
смысла понятий Абсолюта, эмпирического мира, отдельной личности
и объяснения причин их видимой независимости друг от друга; все
это мы найдем в последующих крупных философских трудах Франка.
Однако уже теперь можно сделать важный вывод: в своем творчестве
Франк, наконец-то, довел до логического завершения ту работу, кото-
рая продолжалась в русской философии более полувека и смысл кото-
рой ясно сформулировал Соловьев, — борьбу с «отвлеченными начала-
ми». Ирония судьбы заключается в том, что в этом конечном пункте,
1 Франк С. Л. Личность и вещь (Философское обоснование витализма).
С. 196.
2 Там же. С. 197.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 355
как и в начале всего пути, русские философы добивались своей глав-
ной цели за счет заимствования отдельных идей и целых концепций
у своих западных коллег (вспомним, что, начиная борьбу с западным
рационализмом, славянофилы обращались к философии Шеллинга).
Используя философские идеи Шлейермахера, Бергсона и Штерна,
Франк приходит к тому, чтобы принять в качестве абсолютного нача-
ла личность, которая в своем непосредственном, конкретном бытии
«охватывает» (применяя этот термин, пришедший из традиции «отвле-
ченных начал», сугубо условно) все реальное — от сферы бесконечного
(Бога) до хаотического многообразия эмпирического мира.
Некоторая неясность здесь остается только в том, надо ли понимать
все^гичности как полностью аналогичные человеческим или необходи-
мо признаТь Вол ее принципиальное их разнообразие. Однако очевид-
но, что и в последнем случае допускаемое многообразие не может быть
«чрезмерным», в человеческой личности должны обнаруживаться не
только ее «собственные», но и все те способы «функционирования», ко-
торые определяют сущность всех иных личностей. Сама разница меж-
ду человеческими и иными личностями не может иметь принципиаль-
ного характера, принципиальное значение имеет различие характе-
ристик (или способов функционирования) личности. Каждая личность
должна обладать всеми характеристиками, только степень их «разви-
тости» обусловливает отличие данной личности от других.
В частности, одной из таких характеристик Франк признает созна-
ние; это означает, что наличие сознания (точнее, его абсолютное пре-
обладание среди других характеристик) не является необходимым при-
знаком личности, поскольку могут существовать личности, не дости-
гающие развитого сознания. Для того чтобы объяснить смысл этой
характеристики и выявить критерий, задающий грань между «разви-
тым» и «неразвитым» сознанием, Франк вспоминает еще одну черту
личности, принимаемую им за неотъемлемый момент ее метафизиче-
ского определения. Личность — это не только сохраняющаяся целост-
ность, это развивающееся целое, это центр творческой активности, на-
правленной на собственное совершенствование. Поскольку мы приня-
ли личность за онтологическую основу всей реальности, из сказанного
следует, что творчество и творческое развитие необходимо признать им-
манентными свойствами всего существующего. Однако степень вы-
раженности этих свойств у разных личностей может быть различной,
это и обусловливает иерархическое строение мира. «С этой точки зре-
ния, — продолжает Франк, — можно также разрешить вопрос о кос-
мическом значении сознания. Сознание не есть абсолютное или не-
обходимое условие бытия: личность метапсихична, ибо признаком
ее является только самосохраняющаяся активность, обеспечиваю-
щая за ней единство, причинность и субстанциальность, т. е. под-
линное бытие. Но сознание есть признак, что личность находится во
второй фазе бытия, в состоянии саморазвития; ибо сознание есть
356 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
условие произвольной творческой активности. Сознание опирается
на бессознательные процессы самосохранения, и, в свою очередь, все
добытое им закрепляется опять-таки в бессознательной сфере. В психи-
ческой жизни сознательно все, что ново, неустойчиво, что только на-
ходится в процессе осуществления и созидания, бессознательно же все,
что достигло совершенной прочности и устойчивости»1. Итак, созна-
ние обозначает высшую ступень творческой активности, хотя в какой-
то минимальной степени соответствующую способность нужно при-
знать присущей каждой личности, иначе непонятно, каким образом
и откуда она появилась у «избранных» личностей.
Отметим, что эти рассуждения Франка перекликаются с теорией
памяти Бергсона, точнее, с идеей двух ее форм: бессознательной па-
мяти, связанной с механизмом инстинктивных реакций и закреплен-
ной в биологической структуре организма, и сознательной памяти,
обладающей свободой и способной фиксировать индивидуальное и не-
повторимое2. Явное влияние Бергсона прослеживается и в последую-
щих рассуждениях Франка. Он приходит к выводу об относительно-
сти всех конкретных законов, действующих в мире, поскольку они
«есть только отвлеченная формулировка постоянных взаимоотноше-
ний, вытекающих из самодеятельности субстанций, т. е. личностей»3.
Абсолютное значение имеет только принцип развития в применении
к описанию всех явлений мира и мира в целом (как в метафизиче-
ском, так и в эмпирическом измерении). «С этой точки зрения само
понятие исторического приобретает широкое космическое значение:
не только общество, язык, культура — но и весь мир и вся жизнь име-
ет свою "историю", и мировое бытие состоит именно в действенном
движении вперед... эволюция мира есть не простое перераспределе-
ние между постоянными элементами, не одно лишь изменение внеш-
них комбинаций между ними, а действительное творчество, внут-
реннее имманентное развитие самих субстанциальных элементов бы- j
тия. Всякая история — космическая, как и общественная — есть не *
слепая смена механических комбинаций, а живой процесс развития
личности»4.
Возникающая в статье «Личность и вещь» онтологическая кон-
струкция дает обоснование рассмотренной ранее этической концепции
Франка. Поскольку неповторимая личность и процесс ее творческого
развития являются единственными безусловными и универсальными ;
1 Франк С. Л. Личность и вещь (Философское обоснование витализма).
С. 203.
2 См.: Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч. в 4-х т.
Т. 1.М., 1992. С. 205-214.
3 Франк С. Л. Личность и вещь (Философское обоснование витализма).
С. 210.
4 Там же. С. 214.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 357
определениями бытия, все остальное, в том числе моральные принци-
пы и догмы, нужно рассматривать только как относительные, абстракт-
ные формы описания и регулирования процесса саморазвития лично-
сти, они не могут претендовать (точно так же, как и любой закон при-
роды) на неизменность и абсолютное господство над человеком. Мораль
может быть * истинной» — т. е. позитивной в своем применении — толь-
ко тогда, когда она адекватно отражает уровень развития личности,
«подстраивается» под него, чтобы более точно учесть уже достигнутое
и правильно показать путь дальнейшего развития. Именно поэтому
мораль должна не полагать абсолютное равенство людей (это прерога-
тива права), а стремиться к оценке каждого конкретного человека как
абсолютно неповторимой индивидуальности1.
Формулируя вслед за В. Штерном исходные принципы новой фи-
лософии, основывающейся на понятиях личности и творчества, Франк
не может не видеть и серьезных недостатков концепции витализма.
Прежде всего это явный оттенок биологизма, вносимый Штерном
в понятия самосохранения, саморазвития, жизни и т. д. По сути, лич-
ность здесь понимается в духе биологического организма, включен-
ного в борьбу за существование. Кроме того, изображая мир как иерар-
хию творчески активных личностей, абсолютно цельных, неразложи-
мых на отдельные элементы, Штерн не дает ответа на ряд совершенно
естественных вопросов. Почему мир предстает для каждого из нас со-
всем не похожим на указанную целостную иерархическую структу-
ру? Почему мы находим в нем не бесконечное многообразие твор-
ческих личностей, а безжизненную материю и совокупность пассив-
ных, связанных внешним образом вещей? Откуда берется то чувство
одиночества, которое укоренено в душе каждого человека, чувст-
вующего себя мельчайшей, незначительной частью безжизненного
космоса?
Но самый принципиальный вопрос связан с необходимостью бо-
лее детального объяснения сущности Абсолюта. Здесь возникают две
очевидные проблемы. С одной стороны, утверждая абсолютное зна-
чение принципа развития, Франк ничего не говорит о возможности
существования (и формах существования) абсолютных элементов ре-
альности на фоне всеобщей изменчивости бытия. С другой стороны,
настойчиво повторяя, что единство личности с Абсолютом (доходя-
щее до их фактического тождества) осуществляется только в форме
иррационального акта мистической интуиции и непосредственного
переживания, искажаемого до неузнаваемости при любой попытке его
1 См.: Франк С. Л. К вопросу о сущности морали // Франк С. Л. Филосо-
фия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. С. 125-135; пра-
вильное понимание этого смысла морали составляет, по Франку, заслугу
Ницше, см.: Франк С.Л. Штирнер и Ницше в русской жизни // Франк С. Л.
Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. С. 372.
358 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
рационального, «догматического» выражения, Франк подрывает ос-
новы для самой возможности построения рациональных конструкций
такого типа, который он наметил в статье «Личность и вещь».
Первая проблема не кажется такой уж принципиальной, посколь-
ку метафизика становящегося, развивающегося Абсолюта имеет дав-
нюю историю в рамках гностико-мистической традиции европейской
философии (самые яркие представители здесь — Николай Кузанский
и Гегель). Однако для Франка был неприемлем традиционный вари-
ант ее решения, явно тяготеющий к пантеизму и приводящий к неиз-
бежному умалению значения эмпирического человека на фоне стано-
вящегося мирового Абсолюта. В рамках той же пантеистической пара-
дигмы ему предстояло найти такую метафизическую систему, которая
уравнивала бы в правах отдельную личность и «всеобщий» Абсолют,
признавала бы развитие личности в определенном смысле тождествен-
ным «развитию» Абсолюта. Основы для такой системы, обеспечиваю-
щей синтез «универсализма» и «индивидуализма», Франк в конечном
счете нашел в философии Николая Кузанского (в его идее Абсолюта
как точки совпадения всех противоположностей), но само непоколеби-
мое убеждение в необходимости и возможности такого синтеза он по-
заимствовал у Гёте — мыслителя, оказавшего на него воздействие не
столько глубиной философских идей, сколько страстным желанием
разрушить жесткие барьеры, выстроенные традиционной философией
между человеком и космосом, культурой и природой, личностью и Бо-
гом. Воспринимая мировоззрение Гёте как своеобразный синтез фило-
софии Спинозы и философии Лейбница, Франк так формулирует его
главное убеждение: «Для него мир есть спинозистское всеединое боже-
ство, которое, однако, проявляется лишь в множественности "монад"
или "энтелехий" — живых и самобытных личностей. Каждая личность
не должна быть оторвана от целого и враждебна ему, но служить по-
следнему; участвовать в осуществлении воли целого она может не пу-
тем потери или пожертвования своей самобытности, а, напротив, пу-
тем ее обнаружения, утверждения и развития. Целое может быть лишь
гармоническим сотрудничеством самостоятельных и самоценных час-
тей — индивидов»1.
Гораздо более принципиальной оказывается вторая из упомянутых
выше проблем. Будучи последовательным противником традиции «от- |
влеченных начал » и постоянно апеллируя к другим представителям па-
радигмы «конкретной» философии в русской и западной мысли (сюда
он относит, в частности, и Гёте), Франк тем не менее не доходит в своей
критике рационализма и рационального мышления как такового до той j
грани, за которой происходит разрушение основ точной философии ,,
1 Франк С. Л. К характеристике Гёте // Франк С. Л. Философия и
жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. С. 365.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 359
(как это происходило у Шестова и Бердяева). Не сомневаясь в практи-
ческом значении философии, в ее способности оказывать определяю-
щее воздействие на личную и общественную жизнь человека, он не мог
не признавать за ней способности убеждать людей, т.е. обращаться не
только к интуиции или чувствам, но и к разуму. Философия обязана
иметь рациональную, логически ясную форму, иначе она не имеет пра-
ва претендовать на обладание высшей истиной и на то, чтобы быть важ-
нейшим фактором развития человечества. Кроме того, в своем стрем-
лении к обоснованию цельности человеческой жизни и культуры Франк
вслед за Гёте считал необходимым не отрицать сферу точного, науч-
ного познания в пользу «смутных», мистических форм овладения
высшей «истиной» (чем грешили многие представители мистиче-
ской традиции), а согласовывать науку и ее методы с мистическим,
интуитивным, чувственно-эмоциональным, эстетическим постиже-
нием реальности. Значение философии заключается как раз в том, что,
находясь в центре единого круга всех этих способов постижения, она
должна взять из каждого самое ценное и выразить в форме, доступной
каждому человеку, т. е. в форме рациональной системы. Именно эту^
задачу — задачу согласования рационального мышления и рацио-
нального познания мира с другими (главными!) способами постиже-
ния «истины» о мире и Абсолюте, Франк ставит перед новой филосо-
фией в завершение своей статьи «Личность и вещь». По сути, эту зада-
чу он ставил перед самим собой, и следующий этап его философского
развития был целиком посвящен ее решению. Его итогом стала книга
«Предмет знания».
§ 3. Концепция абсолютного реализма
По своему замыслу и по той роли, которую она должна была играть
в русской философии, эта книга по праву может считаться русской
«Критикой чистого разума». Как и Кант, главную цель своего иссле-
дования Франк видит в ограничении претензий разума на абсолютное
господство в человеке; именно на установление «границ» разума на-
правлен тот анализ отвлеченного познания, который проводится в кни-
ге. Однако в отличие от Канта это вовсе не ведет Франка к агностициз-
му и признанию недоступности для человека подлинной реальности.
Наоборот, ограничение разума — это выявление его естественного мес-
та в более широкой, всеохватывающей системе взаимосвязей человека
с реальностью, это понимание разума как частного момента в фунда-
ментальном акте интуитивного отождествления сознания с бытием,
в фундаментальном акте жизни.
Как и Кант, Франк пытается подойти к «границам» применимости
разума изнутри сферы его действия. Проводя анализ основного позна-
вательного отношения — отношения между объектом и субъектом по-
знания (между «предметом» и «сознанием») — он в самой его структуре
360 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
обнаруживает элементы или аспекты, требующие выхода за пределы
того, что доступно разуму и рациональности. Формально главная идея
Франка совпадает с главной идеей гносеологии Соловьева. Оба фило-
софа полагают, что в основе любого, даже самого элементарного акта
познания (например, восприятия отдельного объекта или мысли о нем)
лежит некоторый мистический, иррационально-интуитивный акт слия-
ния сознания с Абсолютом. Однако у Соловьева эта идея имеет чисто
метафизическое обоснование, является следствием априорно принятой
концепции Абсолюта, т. е. фактически извне «навязывается» теории
познания. Франк выбирает другой способ соединения гносеологии и
онтологии, справедливо полагая, что разум способен признать превос-
ходство над собой какой-то иной инстанции только в том случае, если
ее основополагающее значение будет прояснено его же собственными
средствами и через анализ той сферы, где он является всевластным
хозяином. Только доказав изнутри познавательной сферы и методами
самого разума его зависимость от акта мистической интуиции, можно
затем уже пытаться с помощью разума, понявшего свое ограниченное
значение и свою связь со сферой сверхразумного, выстраивать метафи-
зические конструкции, описывающие Абсолют и его отношения с че-
ловеком и миром.
В «Предмете знания» Франк занят реализацией первой части этой
программы, вторая, самая важная, будет во всей полноте осуществле-
на им в его главном труде — книге «Непостижимое». Впрочем, оче-
видно, что эти две задачи не являются абсолютно независимыми друг
от друга, поэтому уже в «Предмете знания» мы находим помимо глав-
ной, «критической» части, также и «догматическую» часть, в которой
Франк дает предварительный набросок своей концепции Абсолюта, вы-
текающей из анализа основного познавательного отношения. И все-
таки центральное место в книге занимает рассмотрение структуры акта
познания, а затем и основных особенностей акта мистической интуи-
ции, который Франк в соответствии с давней традицией русской фило-
софии называет актом знания-жизни.
Приступая к анализу сферы познания, Франк берет в качестве ис-
ходного пункта самую элементарную форму рационального позна-
ния — суждение «А есть В». Почти все наши знания складываются из
суждений такого типа (чуть ниже мы увидим, что Франк таким обра-
зом обобщает эту форму, что она становится абсолютно универсальной
и охватывает все возможные разновидности знания). Поэтому в струк-
туре этого логического отношения заключены все тайны и загадки по-
знания, нужно только правильно «развернуть» эту структуру. С этого
и начинает Франк.
Суждение «А есть В» подразумевает, что, уже обладая знанием
о предмете А (или о свойстве предмета), мы усматриваем в нем какое-
то новое свойство В и тем самым получаем прирост знания об А. Но что
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк
361
это означает? Если понимать знание строго логически, то обладание
знанием о предмете А — это обладанием им во всех его свойствах;
присоединение к этому знанию нового свойства В невозможно, если
оно уже не содержится в исходном знании об А. В этом смысле ка-
жется, что суждение «А есть В» на деле должно писаться в виде «АВ
есть В» — как строго аналитическое утверждение. Но очевидно, что
такое преобразование лишает процесс познания всякого смысла, по-
скольку любое суждение (элементарный акт познания) превращает-
ся в тавтологическое повторение того, что мы уже знаем. Кроме того,
как отмечает Франк, такое преобразование исходного суждения не
решает поставленной проблемы, поскольку в самом понятии АВ уже
заключено то же самое суждение «А есть Б» («предмет А обладает свой-
ством Б»).
«В чем же тогда состоит предмет суждения? — заключает Франк. —
Решение очевидно: это есть не чистое А и не А, связанное с Б, а именно
А в его связи с чем-то иным вообще. Содержание А, о котором до на-
шего суждения мы не знали, с чем именно оно связано, но которое
мы с самого начала мыслили связанным с чем-либо вообще, определя-
ется теперь как связанное именно с Б. Схематически это может быть
выражено так: "А есть Б" = "Ах есть Б"»1. При этом х здесь нельзя по-
нимать как такое же логически ясное содержание, какое мы мыслим
в А и Б, в этом случае мы вернулись бы к исходной проблеме. В данном
случае х — это условный знак, символ того, что наше знание предмета
А не является окончательным, что А дано нам как бы на фоне некото-
рого неопределенного и неданного содержания, из которого в процессе
познания мы и извлекаем все новое и новое логически точное, рацио-
нально определенное знание «Ах есть Б», «Ах есть С» и т. д.
Здесь можно сделать еще один шаг вперед и придать исходному суж-
дению более общую форму. Ведь сам предмет А мы когда-то узнали та-
ким же точно образом, каким теперь приписываем ему дополнительное
свойство Б, — через определение некоторого исходного неопределенного
содержания именно как А. Поэтому абсолютно универсальную форму
суждения можно выразить так: «х есть А». Она охватывает даже те суж-
дения, которые традиционно составляли трудноразрешимую пробле-
му для логики, — экзистенциальные (типа «антиподы существуют»)
и безличные (типа « гремит », в смысле « это был гром »). « Все они озна-
чают выделение первой определенности из неопределенного нечто, все
имеют схему "х есть А"»2.
Однако полученный результат не столько решает проблему знания,
сколько еще более ясно и резко оттеняет ее глубину и загадочность.
«Схема "jc есть А", — пишет Франк, — в которой выражена природа
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 52.
2 Там же. С. 56.
362 И.И.Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
всякого знания, предполагает, во-первых, что мы знаем то, чего не
знаем. Ибо х, с одной стороны, есть неизвестное, то, чего мы еще
не знаем и что мы лишь должны определить. Но так как мы гово-
рим о нем, то, значит, оно все же присутствует в нашем знании, мы
знакомы с ним — иначе как пришла бы нам в голову мысль о нем?..
Во-вторых, схема "х есть А" означает, что то, чего мы не знаем, есть
для нас основа и носитель того, что мы знаем... Смысл знания со-
стоит в проникновении в неизвестное; те содержания, которые мы
высказываем, не выдуманы и не свободно созданы нами: мы убеж-
дены, что они действительно лежат в самом предмете, и только это
сознание превращает мысль в знание»1. Таким образом, мы должны
констатировать, что сама возможность какого-либо знания уже пред-
полагает наличие в нашем сознании неведомого, неопределенного со-
держания, из которого и извлекается содержание определенное, ло-
гически точное. Не вызывает сомнения, что это неопределенное со-
держание, символически обозначенное через х, связано с самим
реальным предметом, составляющим цель познания: утверждение
о наличии в сознании содержания х эквивалентно утверждению о том,
что в основе каждого акта познания лежит трансцендирование к са-
мому познаваемому предмету; присутствие в сознании трансцендент-
ного (реального) предмета является необходимым условием любо-
го акта познания. «Смысл трансцендентности предмета, — поясня-
ет Франк, — заключается... в том, что он никогда не дан в своей
определенности совершенно непосредственно, а, наоборот, имеется
всегда лишь в форме х, т. е. требует от знания особого проникновения
в себя»2.
Обоснованию утверждения о присутствии момента трансцендент-
ности в нашем познании Франк уделяет особенно много внимания, и это
связано с тем, что убеждение в полной имманентности всех элементов,
составляющих познание, было чрезвычайно распространено в филосо-
фии и науке XIX века из-за все возрастающего влияния позитивизма.
Критикуя это убеждение, Франк указывает, что даже акт чувственно-
го восприятия был бы невозможен, если бы не содержал в своей струк-
туре в качестве неотъемлемого момента нечто трансцендентное, выхо-
дящее за пределы непосредственного имманентного чувственного ма-
териала. Этот факт почти очевиден в случае восприятия целостных
предметов: имманентный материал дает очень небольшой «срез» всего
богатства содержания объекта, причем этот материал постоянно изме-
няется, тем не менее мы не испытываем никаких трудностей в соедине-
нии многообразных элементов чувственного опыта в целостное восприя-
тие, это связано как раз с тем, что весь имманентный материал сознание
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 59.
2 Там же. С. 62.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 363
постоянно соотносит с трансцендентным предметом, наличным в со-
знании в качестве неопределенного поля возможных содержаний.
(Отметим, что это рассуждение очень похоже на соответствующее
рассуждение Соловьева из «Критики отвлеченных начал» о том, что
в основе любого элементарного восприятия лежит акт соединения
субъекта с объектом в Абсолюте; см. § 6 главы 3.) Но и в самых элемен-
тарных восприятиях, которые на первый взгляд просто тождественны
чисто имманентному материалу, — например, в восприятии, выража-
емом суждением «я вижу что-то красное», — мы вынуждены все-таки
признать присутствие трансцендентного момента, отношения к недан-
ному, но наличному х. «Если бы смысл суждения был тождествен с са-
мим ощущением, он исчезал бы вместе с последним; но даже самое
мимолетное ощущение навеки закрепляется в суждении. Точно так же,
если бы содержание суждения само совпадало с непосредственно-дан-
ным, суждение такого рода было бы всегда безошибочным; между тем
несомненно, что при простом распознании или "констатировании"
"данного" тоже возможны ошибки. Что же это означает? Это значит,
что основой суждения является здесь не одно данное, как таковое, а
данное в его связи с неданным... Чтобы иметь право сказать: "это пятно
красно", я должен, так сказать, к данному материалу привлечь все
бытие в его целом; ибо краснота (и любое вообще содержание) не есть
что-либо целиком вмещающееся в данную пространственно-временную
часть бытия; по самому своему смыслу она выходит за пределы всякого
"здесь" и "теперь"»1.
Из этого рассуждения вытекает важное следствие. Неопределен-
ное содержание х недостаточно представлять себе как некий нейтраль-
ный «фон», необходимый для формирования нового знания, но отде-
ленный от ясно различимых его элементов и не играющий активной
роли в жизни сознания. Наоборот, приходится признать, что это х пре-
дельно активно и пронизывает каждый элемент сознания каждое
мгновение его жизни. Это есть та среда, та «атмосфера», вне которой
жизнь сознания просто невозможна; если бы можно было количе-
ственно оценить вклад в многообразные формы сознания имманент-
ного материала познания — того, что обозначено у Франка как дан-
ное, — и трансцендентного содержания х — того, что он называет имею-
щимся, — нам пришлось бы признать подавляющее преимущество
«объема» трансцендентной составляющей над имманентной. Богат-
ство, сложность и «глубина» (понимание того, что за поверхностью
вещей кроется еще какое-то содержание) нашего представления о мире
всецело основываются на этой трансцендентной составляющей. «Всю-
ду, во всех проявлениях живого сознания мы имеем этот факт избыточ-
ных содержаний, не вмещающихся в непосредственно предстоящую,
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 68-69.
364 И. И, Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
имманентно данную картину, и только в силу связи с этими новыми,
не-данными содержаниями само непосредственно данное приобретает
для нас смысл; этот факт настолько универсален и постоянен, что нам
даже трудно отдать себе отчет в нем, и нужен особый, трудный процесс
абстракции, чтобы из совокупных содержаний, которыми в каждый
момент занято сознание, выделить, обособить то, что действительно
"непосредственно дано"» *.
Эта же трансцендентная составляющая обеспечивает * присутствие*
сознания не только в одном-единственном моменте времени, в «теперь»,
но и в только что протекших и наступающих моментах — без чего не-
возможны были бы ни связность нашего опыта, ни существование са-
мого сознания как целостности и единства. Как пишет Франк, « как бы
трудно ни было восстановить прошлое и предвосхитить будущее бытие
в их определенности, т. е. знать в точности, что именно было и будет,
само знание, что что-то вообще было и будет, что настоящим мигом
не исчерпывается вся совокупность бытия, есть абсолютно самоочевид-
ное знание... Содержание "данного" мига мне "дано"; но оно немысли-
мо иначе, чем как часть, момент бесконечного неведомого содержания,
простирающегося от него в сторону прошлого и будущего, и, следова-
тельно, вместе с "данным" мигом я имею, как его самоочевидное усло-
вие и основу, не данную мне вечность*2.
Таким образом, достаточно простой рациональный анализ структу-
ры познания приводит нас к выводу о том, что познание, по сути, есть
процесс превращения в нашем сознании содержания сферы «имеюще-
гося» — бесконечной и вневременной, т. е. охватывающей все возмож-
ное время, — в рационально определенное и оформленное содержание
сферы «данного», которая уже подчинена условиям пространства и
времени и ограничена в пространственном и временном смысле. Этот
процесс можно условно представить как «освещение» сознанием бес-
конечной сферы «имеющегося», приводящее к «высвечиванию» огра-
ниченного круга ясно различимого «данного» — непосредственного,
имманентного содержания сознания в точке «здесь и теперь».
Естественно, что такое представление о процессе познания требует
более точного определения сущности самого сознания и более ясного
описания статуса загадочной сферы «имеющегося» (трансцендентно-
го) и ее происхождения в сознании. Это означает переход от гносеоло-
гической проблематики к онтологической, т. е. выбор определенной ме-
тафизической конструкции, которая бы обосновывала полученное
представление.
На пути к решению этой задачи Франк критически рассматрива-
ет основные существовавшие в истории философии метафизические
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 119.
2 Там же. С. 129-130.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 365
концепции и показывает, что ни одна из них так и не смогла дать ес-
тественного обоснования процессу познания. Классические модели
идеализма и реализма допускают ошибку уже в своих исходных прин-
ципах, поскольку либо отождествляют предмет знания с содержани-
ем знания о нем (в предельной форме это выражено в субъективном
идеализме Беркли), либо полностью разделяют предмет и знание, что
ведет или к агностицизму (Кант), или к «удвоению» реальности (тео-
рия отражения материализма). Во всех этих случаях из процесса по-
знания устраняется самое главное звено — акт трансцендирования,
соединения сознания с отличной от него реальностью; вне этого акта
познание теряет тот очевидный смысл, который признает в нем обы-
денное мышление, — ведь каждый из нас уверен, что мы познаем
неизвестную нам и существующую независимо от нас реальность,
причем познаем именно в ее собственном бытии, а не в каком-то
«отражении».
Гораздо ближе, с точки зрения Франка, к разрешению проблемы
познания подходят два новейших направления: «интенционализм»
Э. Гуссерля и интуитивизм Н. Лосского. В обоих направлениях на пер-
вый план выходит именно проблема трансценденции, присутствия
в сознании самого реального предмета, независимого от сознания.
Однако признание доступности сознанию трансцендентного предме-
та составляет только необходимое, но далеко не достаточное условие
для построения новой теории познания. Недостаток и интенционализ-
ма (феноменологии), и интуитивизма Франк видит в том, что они не
идут дальше этого признания и при более конкретной разработке сво-
его исходного принципа возвращаются к, казалось бы, преодоленным
формам гносеологии. Пафос обеих теорий связан с детальным разъяс-
нением различия между «познавательным процессом» и его «содер-
жанием» (в интуитивизме) или «актом направленности» и его «смыс-
лом» (в интенционализме). Однако при этом исходная идея о транс-
цендентности предмета, которым овладевает сознание, теряет свой
радикализм, поскольку указанное различие в обоих случаях оказы-
вается различием в пределах состава сознания, оказывается разли-
чием двух сторон самого сознания. «Здесь, — пишет Франк, — неиз-
бежна следующая дилемма: или понятие сознания (как целого, состо-
ящая из указанных двух сторон) берется в обычном, старом смысле,
как того, что противостоит бытию в себе предметов и имеет послед-
нее вне себя, — и тогда анализ состава сознания (в том числе откры-
тие в нем объективного "смысла" или "содержания") есть все же ана-
лиз только одного члена целостного гносеологического комплекса,
и оставляет совсем в стороне другой его член — предмет, как бытие
в себе независимо от его сознавания; или же понятие сознания рас-
ширяется, так что охватывает оба члена комплекса, т. е. в том числе
и "сам предмет", — и тогда теряется понятие предмета, как в себе
366 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
сущего, трансцендентного бытия, и мы возвращаемся снова к точке
зрения имманентного объективизма. Первая часть дилеммы является
трудностью интенционализма, вторая — соответствующей трудностью
интуитивизма»1.
Как считает Франк, феноменология Гуссерля несет на себе явную
печать своего происхождения из психологии познания. Делая ради-
кальный сдвиг в понимании сознания, признавая, что сущность со-
знания — в его отнесенности к противостоящему ему предмету, в его
интенциональной направленности на предмет, Гуссерль ограничива-
ется анализом только самой направленности, исключая из рассмот-
рения предмет и тем самым закрывая себе путь к построению после-
довательной метафизической концепции, обосновывающей процесс
познания.
В интуитивизме Лосского предмет, наоборот, полностью «поглоща-
ется» сознанием (за счет расширения сознания до размеров всего бы-
тия), и тогда главной проблемой оказывается объяснение причин раз-
личия форм присутствия предмета в сознании до акта знания и после
осуществления этого акта. Вспомним, как сам Лосский описывает это
различие: «...объект знания имманентен процессу познания: он есть
сама жизнь, сама действительность, присутствующая в акте знания,
переживаемая в нем. Но этого мало: сама по себе жизнь еще не есть
знание, она становится знанием благодаря некоторому дополнитель-
ному процессу, именно процессу сравнения... Следовательно, знание
есть процесс дифференцирования действительности путем сравне-
ния»2. Смысл указанного дифференцирования остается совершенно
непонятным в главной работе Лосского. Из его определений следует,
что в процессе познания («дифференцирования» действительности)
происходит только выявление тех различий, которые уже были налич-
ными в самой реальности. Но зачем и почему необходимо дополнитель-
но «выявлять» то, чем сознание уже обладает? Поскольку интуитивизм
признает непосредственное и полное присутствие бытия в сознании,
очень трудно понять, чем отличается обладание бытием (предметом)
до его познания от обладания им же после осуществления процесса
«дифференцирования». В связи с этим выглядит совершенно естествен-
ным вывод Франка о том, что интуитив истекая концепция может быть
понята непротиворечивым образом только в том случае, если признать,
что в акте познания не дифференцируется уже данное содержание,
а формируется, возникает новое содержание, которого не было в бы-
тии. «Из рассматриваемой теории, собственно, должно было бы следо-
вать, что предмет до своего опознания мыслится именно так, как он
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 102.
2 Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н. О. Избран-
ное. М., 1991. С. 194-195.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 367
"дан", т. е. как неопределенность, т. е. что мы процессом познания
не раскрываем сущую в себе определенность, а творим ее из хаоса
(как это и полагает объективный идеализм "марбургской школы").
Таким образом, понятие предмета, как в себе сущей полноты опреде-
ленности, т. е. предмета в том отношении, в каком он трансцендентен
не только отдельному акту познавания, но и знанию вообще (не в смыс-
ле его недоступности знанию, а в смысле независимости от него), оста-
ется по-прежнему непонятным »1.
Проводимая Франком критика теории Лосского наглядно показы-
вает, что и для него самого важнейшей задачей является более точное
описание различия сфер «имеющегося» и «данного». Именно этот мо-
мент является кульминационным в книге.
Прежде всего Франк пытается объяснить различие этих сфер, по-
нимаемых соответственно как трансцендентное и имманентное «при-
сутствие» предмета в сознании, за счет различения двух смыслов са-
мого понятия сознания. Сознание в первом смысле охватывает только
сферу «данного» и ограничивается исключительно потоком имманент-
ных элементов опыта, при этом все, что находится за пределами этого
потока, должно быть признано находящимся вне сознания. Сознание
во втором смысле включает в себя не только все «данное», но и все «имею-
щееся», предстающее как «фон», как та среда, из которой выступает
и с которой неразрывно связан имманентный материал знания. Так по-
нятое сознание должно включать в себя абсолютно все содержание, по-
тенциально доступное ему. «В этом смысле сознание объемлет все бы-
тие без изъятия, и границы его намечены быть не могут, ибо за преде-
лами мыслимого, очевидно, невозможно допустить, т. е. мыслить еще
что-либо. Вообразить себе бытие, которое находилось бы "вне" созна-
ния в этом последнем смысле, очевидно, невозможно — не потому, что
вне его мы уже ничего больше не можем познать (в этом случае еще
было бы все же мыслимо за его пределами какое-то неведомое бытие) —
а потому, что в применении к этому сознанию слово "вне" вообще
лишено всякого смысла»2.
Однако попытка решить проблему познания через описание взаи-
модействия «большого» и «малого» сознания (в чем-то напоминающих
абсолютное и относительное «Я» Фихте) также оказывается неудовлет-
ворительной. С одной стороны, все предшествующие рассуждения на-
глядно показали, что «малое» сознание невозможно мыслить даже в от-
носительной степени независимым от «большого», поскольку каждый
элемент имманентного материала опыта пропитан трансцендентным и
невозможен вне отношения к нему. «Поэтому, — заключает Франк, —
мы не имеем никакого основания удвоять сознание и в качестве
единственного "сознания" должны брать именно поток актуальных
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 106.
2 Там же. С. 149.
j
368 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
переживаний, отнесенный к сверхвременному единству и направлен-
ный на него» *. Но с другой стороны, и такое единое понятие сознания
не может считаться окончательным, поскольку направленность на
трансцендентную реальность (на «сверхвременное единство») не озна-
чает обладания ею, как это уже разъяснялось Франком на примере фи-
лософских идей Гуссерля; в противном случае мы вновь попадем в тот
же самый замкнутый круг, из которого никак не могла выйти ново-
европейская гносеология: признав, что сознание все-таки «обладает»
трансцендентной реальностью, мы уничтожим ее независимость от со-
знания и лишим смысла исходную проблему познания.
Разомкнуть этот круг можно только через критический пересмотр
того смысла, который вкладывается в употребляемое здесь понятие
«обладания». Этот смысл жестко и однозначно навязывается господ-
ствующим в европейской философской традиции представлением о со-
знании как субстанции, охватывающей все, что доступно нам, что при-
надлежит нашей жизни. Сознание предстает в этой модели как свое-
образный замкнутый «резервуар», включающий в себя полностью
и всецело все, что хотя бы в малейшей степени можно отнести к нему.
Эта модель, как нетрудно увидеть, связана и с традиционным, механи-
стическим пониманием отношений части и целого: то, что признано
частью целого (сознания), должно быть полностью подчинено целому
и уже не может ни в каком смысле быть «больше» его.
«Загадка кажется неразрешимой, — подводит итог Франк, — а меж-
ду тем вся загадочность отношения вытекает только из одного глубоко
укоренившегося предвзятого мнения — из допущения, что наша жизнь,
наше бытие, все имманентное нам есть сознание и входит в состав со-
знания. Именно это допущение потребовало незаконных расширений
понятия сознания, которые все же не привели к цели, ибо, как бы ни
расширять сознание, за его пределами всегда стоит то "иное", к кото-
рому оно относится и которое, следовательно, должно быть нам до-
ступно само по себе, т. е. вне сознания. В силу этого же укоренившего-
ся предвзятого мнения, быть может, покажется парадоксальным то
единственное решение, которое навязывается здесь с принудительной
силой и есть не гипотеза, а простое констатирование самоочевидного
соотношения. А именно, то сверхвременное единство, в котором мы
усмотрели основу отношения сознания к "предмету", как таковое, дано
нам не в форме сознания, а в форме бытия. Мы сознаем это единство,
т. е. наше сознание может направляться на него только потому, что
независимо от потока актуальных переживаний, образующего жизнь
нашего сознания, мы есмы сверхвременное единство, мы пребываем
в нем и оное нас. Первое, что есть, и что, следовательно, непосредствен-
но очевидно, есть не сознание, а само сверхвременное бытие»2.
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 153.
2 Там же. С. 155-156.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 369
Таким образом, гносеологическая проблема разрешается за счет
отказа от подразумеваемой универсальности и самодостаточности по-
нятия сознания. Анализ сознания и тех отношений, в которое созна-
ние вступает в процессе познания, не может быть адекватным и пол-
ным, если он опирается только на само сознание, на его предполагаю-
щуюся субстанциальность. Гносеология не может существовать как
самостоятельная дисциплина, она должна быть подчинена онтологии,
точно так же как понятие сознания должно быть подчинено понятию
бытия.
Несомненно, вся оригинальность выстраиваемой Франком метафи-
зической конструкции связана с особым пониманием бытия, резко
отличающимся от принятого в рационалистической традиции. Особен-
но наглядно последнее выразил Кант, который низвел бытие до уровня
отдельного предиката, равноправного с другими предикатами, припи-
сываемыми нашим сознанием объекту. Как известно, Гегель резко кри-
тиковал этот тезис Канта, однако и в его философии бытие оказывает-
ся подчиненным абсолютному «сознанию» (мышлению) и вторичным
по отношению к нему. Ту же роковую ошибку, как мы видели выше,
совершил и Вл. Соловьев, который признал бытие вторичным метафи-
зическим феноменом, возникающим в результате деятельности суще-
го, в результате его «внутреннего» «самоограничения», — сущее же
было понято им по аналогии с сознанием. В истории русской мысли
только у Достоевского можно найти движение в сторону нового пони-
мания бытия, порывающее с рационалистической традицией; в запад-
ной же философии начало этой линии развития, завершающейся уже
в XX веке в метафизике Хайдеггера, явно обнаруживается в филосо-
фии позднего Шеллинга (см. § 6 главы 3).
Франк дает свою, совершенно оригинальную версию этого нового
подхода к бытию, и здесь можно найти одновременно и влияние Досто-
евского (которое станет еще более заметным в последующих работах),
и влияние западной мистической традиции вплоть до Шеллинга.
В основе этого нового подхода — различение абсолютного и предмет-
ного бытия. Предметное бытие — это как раз то определенное бытие, о
котором рассуждал Соловьев во всех своих главных работах, это бытие
конкретного предмета, вступившего в отношение с воспринимающим
его сознанием; «предметное бытие есть именно бытие, которое как бы
ждет своего уяснения извне, от кого-то другого, чем оно само, т. е. ко-
торое предполагает вне себя взор, направленный на себя» *. В противо-
положность этому абсолютное бытие есть непосредственно; и все, что
существует, существует только через причастность этому бытию.
«Абсолютное бытие есть, следовательно, не бытие для другого, а чис-
тое бытие-для-себя, но такое бытие для себя, которое предшествует
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 157.
370 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
раздвоению на субъект и объект и есть абсолютно единое в себе и для-
себя-бытие, жизнь, непосредственно сама себя переживающая. Поэто-
му оно необходимо имманентно себе самому, а тем самым и нам — так
как мы непосредственно в нем соучаствуем»1.
Абсолютное бытие не определяется сознанием и не зависит от него,
как предметное, а, наоборот, является носителем и «внутренним кор-
нем» сознания. Неудача всех попыток правильно определить созна-
ние и описать первичное познавательное отношение сознания к реаль-
ности связана с представлением о самодостаточности сознания; на
самом деле, как утверждает Франк, «понятие "сознания" — в том
единственном смысле, в котором оно не заключает противоречия, —
есть необходимо понятие члена отношения*2. «Выступая» из абсо-
лютного бытия, сознание по самой своей сущности предполагает от-
ношение к противостоящему ему предметному бытию. Когда идеа-
лизм пытается превратить последнее в содержание сознания, он уни-
чтожает необходимый для наличности сознания «протйвочлен» и тем
самым уничтожает смысл самого сознания. Впрочем, как признает
Франк, анализ познания, осуществляемый в идеализме, является
очень важным условием для правильного понимания структуры по-
знания. Гносеология, при достаточно последовательном ее разверты-
вании, на определенном этапе развития обязательно приобретает фор-
му идеализма, т. е. сводит всю реальность к чувственному материалу
сознания (субъективный идеализм Беркли, позитивизм) или к ра-
циональным конструкциям, производимым сознанием (идеализм Ге-
геля, неокантианство). Однако правильное осмысление внутренних
противоречий и внутренней неудовлетворительности этой формы с не-
избежностью ведет к окончательной и уже по-настоящему непроти-
воречивой гносеологической концепции — к абсолютному реализму,
полагающему само сознание зависимым от абсолютного бытия и воз-
никающим из него.
В свою очередь ошибка наивного реализма (и в особенности его наи-
более радикальной философской разновидности — материализма) за-
ключается в том, что в нем правильное, в принципе, утверждение о про-
исхождении и зависимости сознания от бытия (материи) совмещается
с «наивным» представлением о последнем как предметном бытии,
определенность которого задана через формы, имманентные сознанию.
В этом смысле наивный реализм — это естественный итог начальной,
«докритической» стадии развития гносеологии, а абсолютный реа-
лизм — это ее конечная, «посткритическая» форма, в ней гносеология
осознает свою несамодостаточность (происходящую из несамодостаточ-
ности сознания) и свою зависимость от онтологии.
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 157.
2 Там же. С. 153.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 371
Однако после критического «очищения» понятия бытия мы стал-
киваемся с новой трудностью. Если бытие, являясь основой сознания,
может предстать перед сознанием только в форме предметного бытия,
в форме, неадекватной самому абсолютному бытию, то как вообще мы
можем что-либо «знать» о нем, как можем говорить о нем? Поскольку
Франк все время подчеркивает, что абсолютное бытие «постигается»
личностью с помощью мистической интуиции, ответить на этот вопрос
можно только после уточнения понятия интуиции.
Оно имеет очень давнюю историю и достаточно часто использова-
лось в философии, однако рационалистическая традиция, традиция
«отвлеченных начал» сумела подчинить себе и это наиболее «неудоб-
ное» для нее понятие: интуиция стала восприниматься как особое свой-
ство сознания, как форма отношения сознания к бытию (предметно-
му). Лишь в противостоящем рационалистической традиции философ-
ском мистицизме интуиции приписывались черты, выводящие ее за
пределы сферы сознания и определяющие как форму бытийного отно-
шения личности к Богу (абсолютному бытию). Именно на такую ин-
терпретацию интуиции опирается Франк, и здесь особенно ясно вы-
ступают истоки его философской концепции — ее прямая зависимость
от мистической линии в развитии европейской философии (что, впро-
чем, он прямо признает в предисловии к своей книге). В этой связи по-
лезно вспомнить еще одну работу, предшествующую «Предмету зна-
ния» и принципиально важную для понимания отношений Франка с
философской традицией, — статью «Учение Спинозы об атрибутах».
Обращаясь к философу, который в «школьных» изложениях исто-
рии философии всегда обозначался как один из самых ярких предста-
вителей рационализма, Франк в своей статье показывает, что за рацио-
нальной, «математической» формой системы Спинозы скрывается
полностью противоположное ей мистическое содержание. Спиноза
оказывается в одном ряду с величайшими мистиками европейской
философии: Плотином, Николаем Кузанским, Дж. Бруно, Я. Бёме. Фи-
лософское развитие Спинозы предстает как последовательное движе-
ние к новому типу гносеологии, совпадающей в своих исходных прин-
ципах с тем самым «абсолютным реализмом», который разрабатыва-
ет сам Франк. За понятием субстанции у Спинозы Франк угадывает
очень далекое от рационализма представление об абсолютном бытии,
а в идее особого интуитивного знания обнаруживает наиболее ради-
кальное отличие мистической философии Спинозы от рационализма
Декарта: «...у Декарта непосредственное усмотрение касается лишь
немногих аксиом, из которых остальное знание должно быть мето-
дически выведено: дело идет об открытии последних самоочевидных
основ знания. У Спинозы, наоборот, всякая истина — принципиаль-
но даже наиболее сложная и производная — может быть открыта и
рационально, через посредство доказательства из общих положений,
372 И. Я. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и интуитивно, через непосредственное созерцание»1. Сам Спиноза выра-
зительно характеризует свой идеал мистического знания, когда говорит,
что это есть «переживание самих вещей и наслаждение ими»; уже в са-
мых ранних своих сочинениях, как пишет Франк, «Спиноза искал зна-
ния, которое не было бы оторвано от вещей, а как бы обнимало сами вещи
и сводилось к погружению личности в само бытие; и по сравнению с этим
знанием всякое познание на основе рассуждений и отвлеченных поня-
тий есть только вера, ибо оно не владеет самими вещами и лишь отда-
ленно указует на них... Идеал знания есть переживание конкретной пол-
ноты реальности, а не фиксирование отдельных отвлеченных черт в ее
содержании»2. Вся его философия — это попытка обосновать возмож-
ность такого «знания», возможность интуиции, открывающей нам ос-
нову всего сущего. «В этом смысле, — подводит итог своего анализа
Франк, — основой мировоззрения Спинозы остается сознание абсолют-
ного бытия как мистически постигаемой цельности, объединяющей
в себе те два относительных момента мышления и объекта, на которые
она распадается для отвлеченного гносеологического анализа»3.
Интересно, что первой формой «абсолютного реализма» в своей ста-
тье о Спинозе Франк считает философию Парменида, основанную на
тезисе о тождестве бытия и мышления; он полагает, что для античной
философии в целом идея абсолютного бытия и мистического слияния
с ним человека была гораздо более близкой и естественной, чем для фи-
лософии Нового времени. В той или иной степени она может быть най-
дена почти у всех известных мыслителей: например, у Платона, в его
высшей «идее добра», и у Аристотеля, в его представлении о том, что
«душа есть некоторым образом все сущее».
Все это подтверждает наличие глубокой преемственности идей Фран-
ка по отношению к идеям его предшественников по мистической тра-
диции, однако ничуть не умаляет оригинальности его философской
концепции. Он не просто повторяет на новом этапе развития филосо-
фии уже известные принципы «абсолютного реализма», но дает гораз-
до более детальную их разработку, в результате чего возникает систе-
ма принципиально иного типа по отношению ко всем предшествующим.
Ее новизна и оригинальность связаны с двумя основными моментами.
Во-первых, сформулировав постулат о принципиальной разнородности
акта мистической интуиции и всех форм познания, Франк разрабаты-
вает такой способ осмысления этой мистической интуиции, который
помогает осуществить на первый взгляд невозможное — дать рациональ-
ное философское описание ее самой и ее объекта, абсолютного бытия.
Во-вторых, Франк обращает особое внимание на отношения личности
1 Франк С. Л. Учение Спинозы об атрибутах // Вопросы философии и
психологии. 1912. Кн. 114 (4). С. 548.
2 Там же. С. 551.
3 Там же. С. 555.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 373
с абсолютным бытием, т. е. на ту же самую мистическую интуицию,
но взятую, условно говоря, не в ее «объективном», а в «субъективном»
измерении, в ее значении как основы индивидуального бытия лично-
сти. Ведь, как мы помним, именно с абсолютизации понятия личности
Франк начал построение своей философской системы, поэтому важней-
шей задачей для него должно было стать соединение концепции абсо-
лютного реализма с принципом абсолютности личности. Необходимо
отметить, что это было слабым местом в большинстве версий мисти-
ческой философии; как правило, идея абсолютного бытия вела в них
к умалению значения человеческой личности (это происходит, напри-
мер, в философии Спинозы). В этом моменте новизна метафизической
конструкции, выстраиваемой Франком, проявляется наиболее зримо.
Тем не менее в период работы над «Предметом знания» увлеченность
Франка заново открытой идеей абсолютного бытия и связанным с ней
новым подходом к гносеологии, ставящим ее в зависимость от онтоло-
гии («первой философии»), привела к тому, что второй момент был по-
чти полностью заслонен первым — описанием сущности мистической
интуиции. Этот второй момент стал главным в книге «Душа человека»,
а синтез обоих моментов был осуществлен в книге «Непостижимое».
Прежде чем говорить об этой самой важной и оригинальной части фило-
софии Франка, посмотрим, как в «Предмете знания» он понимает мис-
тическую интуицию и ее связь с отвлеченным знанием, а также к каким
выводам приходит в отношении «структуры» абсолютного бытия.
§ 4. Абсолютное бытие как всеединство
Для того чтобы яснее оттенить новизну гносеологической концеп-
ции «абсолютного реализма», еще раз сравним ее с соответствующей
концепцией Соловьева, которая, безусловно, оказала большое влияние
на Франка.
В своем анализе структуры познания Франк во многом повторяет
логику Соловьева (см. § 5 главы З)1. Вспомним, что, по Соловьеву, тра-
диционные концепции познания — натурализм и идеализм, абсолю-
тизирующие ощущения и идеи,— неудовлетворительны потому, что
в основу познания полагают то, что само требует основы в чем-то дру-
гом: и ощущения, и понятия существуют только в отношении к тому,
что (кто) имеет ощущения и понятия. Единственный правильный путь
в объяснении познания — признание того факта, что в его основе ле-
жит трансцендентный акт непосредственного соединения сознания
с Абсолютом, стоящим не только выше ощущений и понятий, но и выше
самого бытия. Эта точка зрения обозначалась Соловьевым как мисти-
цизм и оценивалась как третий (наряду с натурализмом и идеализмом),
1 Этот аспект философии Соловьева Франк считал принципиально важ-
ным для развития русской философии, см.: Франк С. Л. Русское мировоз-
зрение. С. 168.
374 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
единственно верный тип философствования. Мистическое единение
с конкретным Абсолютом, с «всеединством», составляет основу позна-
ния и творчества человека; это и есть акт подлинной жизни.
Наиболее существенным для Соловьева представлялось то, что в
этом акте стирается различие идеального и материального, — всеедин-
ство выше этого различия. Однако, устраняя традиционное для евро-
пейской метафизики противопоставление двух сфер бытия, Соловьев
не избегает другой, не менее существенной формы дуализма. Возникаю-
щее в его философии противопоставление Абсолюта (сущего, всеедин-
ства) и идеально-материального бытия, раздробленного и «отпавшего»
от всеединства, оказывается не менее радикальным, чем традицион-
ное противопоставление «мира вещей» и «мира идей». Мистицизм
Соловьева в сущности является не столь уж далеким от мистицизма
Платона; но тогда и все те трудности, с которыми сталкивалась дуали-
стическая философия Платона, на новом уровне обнаруживаются в фи-
лософии Соловьева (может быть, как раз это помешало Соловьеву за-
вершить свой главный труд «Философские начала цельного знания»).
На преодоление этих трудностей и направлен анализ отвлеченного
знания у Франка. В этом смысле его позицию по отношению к системе
Соловьева можно сравнить с позицией Аристотеля по отношению к си-
стеме Платона. Интересно, что, по воспоминаниям Людвига Бинсван-
гера, платонизм не удовлетворял Франка из-за его соблазна «духовной
гордыни, ложного духовного аристократизма»1. Явно не полемизируя
с Соловьевым, Франк в «Предмете знания» и в последующих работах,
по сути, перерабатывает соловьевскую концепцию познания с тем, что-
бы устранить из нее скрытые противоречия. Сохраняя главную идею
о том, что подлинная философия может быть только мистической,
Франк тем не менее делает объектом мистического опыта не запредель-
ную реальность, но единственную «посюстороннюю» реальность,реаль-
ность нашего мира, само бытие. Самым главным здесь оказывается
мистическое восприятие окружающей нас реальности во всех ее част-
ных и ограниченных проявлениях, а не отрицание этой реальности ради
чего-то выходящего за ее пределы.
Убеждение Франка в том, что сфера абсолютного бытия, открывае-
мая мистической интуицией, превосходит по богатству своего содержа-
ния содержание непосредственно данного предметного бытия, лишь на
первый взгляд противоречит высказанному убеждению. Указанное «бо-
гатство содержания» нельзя понимать как некое законченное целое,
«предвосхищающее» то конкретное и ограниченное бытие, которое да-
ется человеку в его опыте. Именно в последнем смысле понимал сущее
и его отношение к бытию Соловьев. Несмотря на то, что он резко вы-
ступал против «средневековогомиросозерцания», противопоставляв-
шего земное бытие и бытие божественное, человека и Бога, сам он
1 Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. Мюнхен, 1954. С. 31.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 375
не до конца преодолел это противопоставление. Хотя бытие существу-
ет в сущем, благодаря сущему и в единстве с ним, акт мистического
единения с сущим осуществляется независимо от акта восприятия бы-
тия. Соловьев принципиально различает эти два акта и полагает пер-
вый из них реальной основой и источником второго.
У Франка никаких двух независимых актов нет; есть единый акт
интуиции, акт соединения личности с бытием (точнее, акт «опознания»
своей причастности абсолютному бытию), в котором лишь условно мож-
но выделить два относительно независимых момента: отвлеченное
знание и мистическое восприятие бесконечно богатого содержания аб-
солютного бытия. Для Соловьева бытие, реальность вокруг нас — это
как бы прозрачная пелена, за которой мы угадываем Абсолют, сущее.
Для Франка каждый элемент предметного бытия, каждая вещь — это
распахнутое «окно», через которое мы видим свет, идущий от Абсолю-
та. Или, еще точнее, каждый элемент бытия — это источник света,
Абсолют же — сам свет, истекающий из этих частных и ограниченных
источников и связующий их. Акт интуиции заключается при этом
в умении не только видеть «источники» света, но почувствовать всеце-
лую пронизанность мира вещей этим светом.
Мистицизм Соловьева в некотором смысле возрождает призрак идеа-
лизма. Вместо оппозиции «материальное—идеальное» в нем возника-
ет оппозиция «реальное (материальное и идеальное)—сверхреальное».
Как уже говорилось в главе 3, этот мистицизм воспринимает окружаю-
щее человека бытие только как символ сверхреального начала; в этом
смысле мы назвали мироощущение Соловьева мистическим символиз-
мом, приемлющим мир только относительно, только в меру его принад-
лежности к высшей, мистической реальности. В нем кроется своеоб-
разная «боязнь» реального бытия, страх перед реальной жизнью, перед
тягостным и долгим процессом ее «перестройки» и «возвышения»1.
В противоположность этому мистическую концепцию Франка мож-
но с полным правом назвать мистическим реализмом (используя выра-
жение В. Зеньковского)2, он приемлет весь мир и все в мире, но не огра-
ничивается простым принятием данного, а требует углубления в каж-
дый элемент ради усмотрения в нем Абсолюта, всей полноты бытия
(в трансцендентно-имманентном акте живого знания).
Понимание мистической интуиции и отвлеченного, понятийного зна-
ния как двух неразрывно взаимосвязанных и взаимодействующих сторон
единой жизни личности позволяет Франку утверждать, что возможно
1 Возможно, именно проявлением этого страха явился тот известный
факт, что в своей жизни Соловьев пренебрег реальной, земной любовью
ради любви мистической, любви к Софии, душе мира.
2 Отметим, что сам Франк использовал этот термин для характеристи-
ки мировоззрения Тютчева, см.: Франк С. Л. Космическое чувство в по-
эзии Тютчева // Франк С. Л. Русское мировоззрение. С. 321.
376 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
рациональное описание смысла мистической интуиции. Прямо невы-
разимая в формах отвлеченного знания, мистическая интуиция вмес-
те со своим содержанием все-таки допускает опосредованное рацио-
нальное выражение через ее «отражение» в самой структуре связанно-
го с ней и невозможного без нее отвлеченного знания. Признавая
наличие некоторой абсолютной и бесконечной основы всего ограничен-
ного, конечного и рационального, философская мысль в прошлом с ро-
ковой неизбежностью впадала в одну из двух крайностей: либо полага-
ла эту абсолютную основу совершенно недоступной нашему рацио-
нальному постижению (крайний мистицизм и иррационализм), либо
считала возможным адекватно описать эту основу через свои собствен-
ные конечные, рациональные формы. Вместо этого Франк предлагает
новый способ раскрытия содержания мистической интуиции (т. е. спо-
соб постижения Абсолюта), который можно назвать познанием через
«самоотрицание», «самоограничение» разума. В более поздней статье
«Философия и религия» (1923) он таким образом намечает возможность
выхода из сформулированной дилеммы: «Общий смысл ее преодоле-
ния заключен в усмотрении сверхлогической, интуитивной основы
логической мысли. Философия постигает — и тем самым отчетливо
логически выражает — абсолютное через непосредственное усмотре-
ние и логическую фиксацию его эминентной, превышающей логиче-
ское понятие, формы »1.
Предполагая возможным в своей мистической философии «отчет-
ливо логически» выразить абсолютное, Франк, на первый взгляд, на-
рушает главную заповедь мистицизма — убеждение в том, что абсо-
лютное невыразимо ни в каких конечных формах нашего земного мира
и земного, человеческого познания. Однако в формуле Франка содер-
жится не «низведение» абсолютного и бесконечного, а, наоборот, «воз-
вышение» относительного и конечного, признание «пропитанности»
каждого элемента и каждого мгновения земной реальности боже-
ственным и вечным. Это оказывается главной поправкой, вносимой
Франком в соловьевскую философию всеединства, быть может, не столь
заметной и принципиальной в гносеологии, но приводящей в дальней-
шем к радикально иной, чем у Соловьева, концепции человека (позже
по тому же самому пути пошел Л. Карсавин; см. главу 7).
Возможность логического описания Абсолюта основана исклю-
чительно на том, что в самом «логическом» неотъемлемо присутству-
ет также и сверхлогическое содержание, отношение к чему-то выхо-
дящему за пределы доступного рациональному знанию. Мы можем
выразить это содержание с помощью средств самого логического,
через отрицание в его формах их чисто логического содержания.
«Усмотрение абсолютной, всеобъемлющей природы бытия, выходящей
1 Франк С. Л. Философия и религия // На переломе. Философские дис-
куссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. М., 1990. С. 327.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 377
за пределы ограниченности и относительности всего логически фик-
сированного, — пишет Франк, — есть именно логически адекватное
ее усмотрение. Или, иными словами: именно логически зрелая мысль,
достигшая последней ясности, усматривая неисчерпаемость и беско-
нечность абсолютного, его основополагающее отличие от всего рацио-
нально выразимого, смиренно признавая поэтому ограниченность до-
стижений разума перед лицом истинного бытия, именно в открытом
и ясном осознании этого соотношения, и только в нем одном, пре-
одолевает ограниченность разума и овладевает превосходящим его силы
объектом. Как это лапидарно выражает Николай Кузанский, "недости-
жимое достигается через посредство его недостижения"»1.
Хотя здесь Франк говорит о «смирении» перед истинным бытием,
наделе оно оборачивается предельной «дерзновенностью» разума, по-
скольку именно через свое смирение разум оказывается способным на
то, в чем ему отказывает «традиционный» мистицизм — на сверхлоги-
ческое постижение мистического Абсолюта (в этом контексте Франк
очень высоко оценивает замысел диалектической онтологии Гегеля).
Это приводит, в частности, к достаточно неожиданному выводу по по-
воду отношения религии и философии; как утверждает Франк, «фи-
лософскому знанию не поставлено здесь (в области осмысления рели-
гиозного Откровения. — И. Е.) никаких принципиальных преград и
открыта возможность бесконечных достижений»2. Религия только по-
тому не может быть окончательно замещена философией, что требова-
ние логического выражения своего содержания делает для последней
невозможным воплощение в одной ограниченной системе всей религи-
озной истины. «Лишь полнота и многообразие всех философских до-
стижений человеческой мысли в принципе может стать на уровне его
религиозных достижений; но эта полнота может быть дана только ду-
ховно-исторической интуиции, но не выражена адекватно в какой-либо
единой системе»3.
В этом высказывании неявно содержится очень важная мысль; из
него можно заключить, что Франк признает не только различие двух
моментов (но не отдельных актов) в структуре отношения личности
к бытию: мистической интуиции и отвлеченного познания, — но и раз-
личие двух моментов в структуре самой мистической интуиции: того,
который может быть выражен (вместе со своим содержанием) с помо-
щью «самоотрицающего» использования разума, с помощью «умудрен-
ного неведения» (по терминологии Николая Кузанского), и того, в кото-
ром то же самое содержание схватывается в форме, никаким образом
1 Франк С. Л. Философия и религия. С. 327. Франк использует извест-
ное высказывание Николая Кузанского из его работы «Простец о мудро-
сти» ; позже оно станет эпиграфом к его главной книге «Непостижимое».
2 Там же. С. 332.
3 Там же.
378 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
не совместимой с логическими формами (это и есть «чистое» живое
знание, наиболее полно реализуемое в религиозном переживании).
В книге «Предмет знания» Франк обращается почти исключительно
к первому из этих моментов, поскольку главная задача книги — логи-
ческое выражение содержания Абсолюта, абсолютного бытия с помо-
щью описанного выше метода.
При этом нужно заметить, что выявление содержания Абсолюта
и описание структуры акта мистической интуиции для Франка есть
одно и то же, поскольку по самому своему смыслу указанный акт есть
бытийное отношение к Абсолюту, «опознание» своей причастности
абсолютному бытию, выводящее на уровень, где нет ни различия
субъекта и объекта, ни различия бытия и сознания, ни, наконец, раз-
личия формы и содержания акта. «Акт» интуиции это и есть бытие
личности в самом абсолютном бытии, потому эксплицируя доступны-
ми логическими средствами «структуру» акта, мы эксплицируем
«структуру» самого абсолютного бытия. Только после осуществления
этой двуединой задачи мы можем говорить отдельно об акте интуи-
ции и его содержании. Причем возникновение различия акта и его
содержания в свою очередь связано с наличием в интуиции (в живом
знании, тождественном бытию) двух указанных выше моментов —
момента, выразимого через «самоотрицание» логического, и момен-
та, превышающего эту возможность, — в связи с чем их различие ста-
новится принципиально важным для философской системы Франка
(мы вернемся к этому позже).
В соответствии со сформулированным Франком принципом «отри-
цательного» использования разума для того, чтобы выразить структу-
ру Абсолюта, необходимо в самом процессе рационального, логического
познания выявить неотъемлемый сверхлогический компонент. Поэто-
му в начале второй части своей книги, посвященной (как и заключи-
тельная, третья) этой проблеме, Франк возвращается к тому же само-
му анализу элементарных форм познания, с которого началась вся его
работа. Теперь он берет не суждение, а умозаключение — ту форму зна-
ния, в которой наиболее заметно его движение, переход от старого зна-
ния к новому.
Рассматривая умозаключение наиболее простого вида: «А есть, из
А вытекает Б; следовательно, есть Б», Франк в этом случае, точно так
же как в случае простейшего суждения «А есть Б», приходит к выводу,
что в нем заключено большее и принципиально иное содержание, чем
ему обычно приписывают. Если мы примем это умозаключение за то,
чем оно предстает в учебниках — за точную логическую форму, полно-
стью выражающую содержание акта знания, то мы должны будем при-
знать, что знание вообще невозможно. Во-первых, как замечает Франк,
ни из суждения «А есть», ни из суждения «из А вытекает Б», ни из их
суммы непосредственно не следует категорическое суждение о существо-
вании Б; в суждении «Б есть» содержится новое знание, которое не со-
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 379
держится аналитически в сумме посылок, поэтому вывод может быть
получен только в том случае, если мы добавим к ним дополнительный
закон, связывающий их с выводом. Этот закон, очевидно, выглядит так:
«если А есть, и если из А вытекает Б, то и Б есть».
В результате, общая формула умозаключения примет вид:
Если А есть, и если из А вытекает Б, то и В есть.
А есть, и из А вытекает Б.
Следовательно, В есть1.
Но, осуществив такой переход от исходной, «неполной» формы
к «расширенной», мы с неизбежностью обречены на регресс в беско-
нечность, поскольку проблема промежуточных «законов», связываю-
щих посылки с выводом, встает снова и заставляет нас прибавлять все
новые и новые опосредующие предпосылки в формулу умозаключения.
Одновременно Франк подмечает и еще одну трудность в понимании
структуры умозаключения, противоположную только что сформули-
рованной. Суждение, содержащееся во второй посылке «из А вытека-
ет Б», уже оперирует с содержанием Б, т. е. уже полагает его существу-
ющим и тем самым делает ненужным сам вывод. Правда, здесь при-
ходится различать суждения о конкретных, временных фактах и
суждения об отвлеченно-всеобщем, однако для осознания указанной
трудности достаточно иметь в виду только второй из этих двух типов
суждений. Например, в случае математического знания посылка
«из А вытекает Б» уже явно предполагает существование — в матема-
тическом смысле — объекта Б.
«Таким образом, — заключает Франк, — опосредованное знание
(знание "Б есть") либо невозможно, если оно действительно требует
независимого от него промежуточного звена ("если А есть, есть и Б"),
либо ненужно, если оно совпадает с этим — по условию, непосредствен-
но известным, — промежуточным звеном»2. Можно заметить, что воз-
никшая трудность полностью аналогична той, с которой мы сталкива-
емся в парадоксах Зенона и которая обусловлена желанием предста-
вить целостное движение в виде суммы изолированных положений
движущегося тела. Оценивая причины возникновения двух описанных
выше проблем в понимании умозаключения, Франк пишет: «Обе эти
трудности проистекают, очевидно, из одного источника: из допущения,
что движение опосредованного знания слагается из обособленных, замк-
нутых в себе отдельных частей, именно при этом допущении оказы-
вается, что, с одной стороны, для возможности перехода между отдель-
ными частями необходимо бесконечное число промежуточных звеньев
и, с другой стороны, отдельные части, из сложения которых составлял-
ся, по допущению, ход опосредованного знания, немыслимы, ибо одна
из них предполагает другие. Если отказаться от этого допущения, то
1 См.: Франк С. Л. Предмет знания. С. 179.
2 Там же. С. 181.
380 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
обе апории сразу отпадают» *. Разрешение загадки опосредованного зна-
ния, понимание того, как возможно его развитие, может быть достиг-
нуто на том же пути, на котором в современной философии было до-
стигнуто разрешение апорий Зенона. В данном случае Франк целиком
ориентируется на философские идеи Бергсона.
Более полно о влиянии идей французского мыслителя на филосо-
фию Франка мы будем говорить позже. Пока же достаточно вспомнить
известную идею Бергсона о двух формах представления движения,
свойственных нашему сознанию. В первой из них движение берется
в его подлинной метафизической сущности, как абсолютно целостный
акт, не допускающий разложения на отдельные, изолированные эле-
менты; в этом случае лучше говорить не о движении, а о развитии, по-
скольку здесь изменения мыслятся как качественные, невыразимые
количественным образом. Однако Бергсон признает, что существует
и вторая форма представления движения, которая навязывается созна-
нию законами «внешнего», пространственного мира, — это изображе-
ние движения в виде совокупности рядоположенных (внешних по от-
ношению друг к другу) точек, обозначающих отдельные положения
движущегося объекта. Хотя такой способ выражения движения согла-
суется с пространственной формой нашего существования, Бергсон
настаивает, что в нем сущность движения (развития) полностью раз-
рушается. Логические парадоксы, подобные апориям Зенона, возни-
кают в познании как раз из-за того, что мы используем исключитель-
но эту неадекватную форму представления движения и не сомневаем-
ся в ее истинности. Разрешение же их заключается в отказе от этой
формы; необходимо признать, что единственный способ постижения
движения — это интуиция, непосредственное переживание развития
в его собственной реализации, в его акте. Это, в конечном счете, озна-
чает, что движение-развитие, точно так же как соответствующая ему
форма целостного представления времени — длительность, присущи
только душе человека, а всем остальным элементам бытия — лишь по-
стольку, поскольку они тождественны душе человека (подробнее
о том, как нужно понимать это тождество, мы будем говорить в § 6-8).
Используя модель Бергсона, Франк утверждает, что развитие зна-
ния, в его истине, абсолютно целостно, и его представление в виде на-
бора обособленных и замкнутых в себе атомов-суждений неадекватно
его сущности, является вторичным, условным его выражением. «Мы
должны, следовательно, — пишет Франк, — признать, что движение
опосредствованного знания не может быть сложено из отдельных обо-
собимых частей, т. е. из ряда готовых, законченных в себе содержа-
ний... Не в силу суждения "если есть А, есть и Б" мы приобретаем право
переходить от А к Б, а, напротив, в силу логической неизбежности пе-
рехода от А к Б мы имеем право формулировать этот закон, т. е. найти
1 См.: Франк С. Л. Предмет знания. С. 182.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 381
в переходе эту сторону, абстрактно выделимую от посылки и вывода, но
логически не предшествующую выводу. Умозаключение может бытъраз-
ложено на его отдельные моменты, но не может быть сложено из них»1.
Однако в отличие от Бергсона Франк не противопоставляет друг дру-
гу исходную, интуитивно постижимую целостность и ее вторичное вы-
ражение в виде отдельных обособленных элементов, составляющих
содержание отвлеченного знания. Он считает такое преображение и
выражение неизбежным и необходимым, раскрывающим и в чем-то
даже обогащающим исходную целостность. Именно в силу отсутствия
радикального противоречия между интуитивным постижением абсо-
лютного бытия и отвлеченным знанием появляется возможность от вто-
рого и через второе перейти к первому — к условному описанию самой
интуиции и ее содержания — абсолютного бытия. Первый шаг к тако-
му описанию Франк делает в последующем анализе умозаключения.
Установив, что известная нам логическая форма умозаключения есть
вторичное выражение целостного и неразложимого движения знания
от А к Б, он затем оборачивает это соотношение и, несмотря на призна-
ние вторичности логической формы, пытается, отталкиваясь от нее,
найти описание того целого, из которого происходит знание «естьЛ,
следовательно, есть В». Не вдаваясь в детали, сразу сформулируем по-
лучающийся итог.
Отвлеченное знание по своей структуре есть набор готовых и опре-
деленных содержаний Л, В, С..., внешним образом связанных друг
с другом. Именно эта связь необъяснима из самих определенностей
и требует некоторого основания за пределами строгой логической фор-
мы; применяя метод «самоотрицания» разума, мы приходим к необ-
ходимости понять ту «глубину», из которой происходит отвлеченное
знание, как сверхлогического, или металогического (как предпочита-
ет говорить Франк), единства, абсолютно первичного по отношению
к любой определенности и не предполагающего никаких «элементов»
или «частей», объединяемых в целое вторичным образом (как это мыс-
лится в понятии «единство» нашим обыденным мышлением). Однако
это только первый шаг в процессе «отрицательного» определения аб-
солютного бытия. Отвлеченное знание, построенное на связи обособ-
ленных определенностей, подчинено ряду скрытых, но очень важных
формообразующих принципов, которые носят рационально-логиче-
ский характер и своим действием определяют структуру знания. По-
скольку действие этих принципов обусловлено их сверхлогическим
«происхождением» из интуиции абсолютного бытия, их правильная
интерпретация может дополнить рациональное описание Абсолюта.
Франк рассматривает два из них: принцип, задающий смысл понятий
«тождество» и «различие» в их обычном логическом применении,
и принцип, определяющий отношение «часть—целое» (к ним можно
1 См.: Франк С. Л. Предмет знания. С. 185.
382 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
было бы добавить и ряд других, например, принцип жесткого проти-
вопоставления в нашем рационально-логическом познании «внутрен-
него» и «внешнего»).
Действие категорий тождества и различия в системе нашего знания
выражается прежде всего в трех логических законах: законе тождества,
законе противоречия и законе исключенного третьего. В их анализе
Франк применяет тот же самый прием, что и в предшествующем ана-
лизе суждения и умозаключения: он показывает, что понять их логи-
ческую форму без противоречий можно только в том случае, если усмот-
реть за ней скрытое трансцендентное содержание, обусловливающее
и «питающее» эти законы. Традиционно (в учебниках логики) они пред-
стают в качестве способов описания логически определенных, фикси-
рованных и независимых содержаний: «А есть А» (закон тождества),
«А не есть non-А» (закон противоречия), «все мыслимое есть либо А,
либопоп-А» (закон исключенного третьего). В противоположность это-
му Франк утверждает, что эти законы необходимо рассматривать как
неразрывно связанные и взаимодействующие моменты единого «зако-
на определенности», который управляет процессом образования в со-
знании логически фиксированных содержаний А, Б, С... Так как все
они проистекают из абсолютного бытия, распадающегося в процессе
«определения» на субъект и объект, сознание и предметное бытие, мож-
но сказать, что этот «закон» выражает действие Абсолюта, «порождаю-
щего» разделенное предметное бытие. В этом контексте возможное
рациональное описание Абсолюта заключается в отрицании у источ-
ника определенного бытия тех характеристик, которые появляются
только в результате действия закона определенности, и в первую оче-
редь — самой разделенности на логически несовместимые содержания А
и non-А: «...сфера разделенных определенностеи, подчиненная закону
определенности, возможна лишь на почве иной сферы, которая уже не
подчинена этому закону и природа которой может быть отрицательно
охарактеризована как область единства или совпадения противопо-
ложного (coincidentia oppositorum)»1.
Еще одно уточнение «отрицательно-логического» определения Аб-
солюта можно сделать через анализ отношения «часть—целое» и вос-
хождения от этого отношения, задающего форму предметного (опреде-
ленного) бытия, к его источнику в Абсолюте. Вновь, как и во всех пред-
шествующих случаях, скрупулезный анализ, проводимый Франком,
показывает, что попытка чисто логического понимания отношения
«часть—целое», казалось бы, ясного в силу эмпирической привычно-
сти его применения, наталкивается на неразрешимые трудности, ко-
торые можно обойти, только признав, что действие соответствующего
формообразующего принципа обусловлено его происхождением из
трансцендентной глубины Абсолюта.
1 См.: Франк С. Л. Предмет знания. С. 204.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 383
Главное их тех противоречий, которые возникают при чисто логи-
ческом подходе к смыслу отношения «часть—целое», связано с невоз-
можностью выразить его с помощью противоположных друг другу по-
нятий тождества и различия. С одной стороны, очевидно, что наличие
целого АВ влечет за собой наличие его частей А и В, целое вмещает в
себя свои части. Поэтому необходимо говорить о («частичном») тожде-
стве между целым и его частями. Но, с другой стороны, столь же оче-
видно, что целое «превышает» по своему содержанию и отдельные час-
ти А и Б, и их сумму А+В, поэтому отношение целого и частей с той же
степенью необходимости приходится описывать в терминах логиче-
ского различия; в этом случае уже невозможно говорить о том, что це-
лое вмещает свои части и тождественно им, отношение между ними
«должно быть рассматриваемо по аналогии с отношением необходимой
синтетической связи»1. Логические смыслы отношений тождества и
необходимой синтетической связи (последняя предполагает различие
тех определенностей, которые вступают в связь) несовместимы друг с
другом, поэтому можно сделать вывод о том, что чисто логическое (са-
модостаточное) определение понятий части и целого невозможно2. Как
пишет Франк, главная трудность в логической интерпретации отноше-
ния между частью и целым заключается в том, что «целое АВ включа-
ет в себя А и будучи в этом смысле связано с ним отношением тожде-
ства, вместе с тем, именно в качестве особой определенности, долж-
но... рассматриваться как нечто отличное от А, т. е. как non-А, и вся
парадоксальность этого отношения сводится, в конечном итоге, к тому,
что non-А в себе самом содержит А (или, что non-A=A+non-A)»3.
Целое и его части, как логические определенности, происходят из
сверхлогического единства абсолютного бытия, поэтому их отноше-
ние между собой не может быть чисто логическим и обусловлено их
взаимосвязями с их единым источником. Противоречие между дву-
мя несовместимыми, но в равной степени необходимыми способами
описания разрешается, если мы признаем их двумя опосредованны-
ми формами выражения, или двумя моментами, некоторого сверх-
логического отношения, которое в силу его неразрывной «слитности»
со своими моментами может быть описано рационально с помощью
все того же «отрицательного» метода. «Если отношение между целым
1 См.: Франк С. Л. Предмет знания. С. 212.
2 Введение «промежуточного» понятия «сходства» не спасает поло-
жения, поскольку при логическом подходе оно имеет только одно есте-
ственное определение: сходство есть тождество частей двух целых (АВ
и АС сходны, так как имеют тождественные части А); и, значит, примене-
ние этого понятия к отношению «часть—целое» ведет нас к логическому
кругу: для объяснения этого отношения мы используем понятие, которое
само основано на нем.
3 Франк С. Л. Предмет знания. С. 216-217.
384 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и частью, будучи отношением между разными определенностями, с по-
ложительной своей стороны есть отношение вмещения, т. е. такое от-
ношение, в силу которого целое, будучи non-А, вместе с тем внутри себя
самого содержит А или необходимо ведет к нему, то отношение между
"исконным единством" и отдельной определенностью есть отношение,
в силу которого целое, не будучи ни А, ни non-А, а находясь в иной сфе-
ре, с необходимостью ведет к А или содержит в себе А. Это отношение
мы называем отношением металогического единства. Оно по своей
природе близко к отношению сходства и в особенности к отношению
"вмещения": ибо исконное единство, не совпадая с отдельными опре-
деленностями, ведет к ним внутри самого себя; т. е. отношение это
есть нечто третье по сравнению как с отношением тождества, так и
с отношением внешней синтетической связи между разными опре-
деленностями »*.
Таким образом, анализ того формообразующего принципа, который
лежит в основе понятий часть и целое, приводит нас к выводу, конкре-
тизирующему и обогащающему результат, полученный при анализе
метафизической сущности законов тождества, непротиворечивости и
исключенного третьего. И здесь метафизической, трансцендентной ос-
новой чисто логического содержания оказывается сверхлогическая
связь между абсолютным бытием и отдельными определенностями
(элементами предметного бытия, мыслимого нашим сознанием), при-
чем она, условно говоря, является связью порождения. Смысл этого
«порождения» принципиально отличается от того, который обычно
вкладывается в это понятие; при обычном понимании акта рождения
предполагается, что в нем появляется нечто отделенное от рождающе-
го, в то время как отношение металогического единства, реализуя себя
через «порождение», отдельных определенностей, не «отпускает» их
из исходного единства, а тем же самым «актом» делает их тождествен-
ными металогическому «целому». Быть может, здесь более подходя-
щим был бы термин «самопорождение», поскольку логически опреде-
ленные элементы, выступая из лона абсолютного бытия, в то же время
остаются «внутри» него и в неразрывном единстве с ним; «"металоги-
ческое единство" есть не какое-либо производное отношение, в которое
вступали бы независимо друг от друга сущие его члены — части и це-
лое, — а именно первичное и неразложимое единство, из себя самого
порождающее различие между своими частями — отдельными опре-
деленностями — с одной стороны, и целым — исконным единством, —
с другой»2.
Завершая всю систему «отрицательных» определений абсолют-
ного бытия, Франк высказывает еще одно утверждение, к которому
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 217.
2 Там же. С. 219.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 385
естественно приводят все его предшествующие рассуждения и кото-
рое окончательно констатирует преемственность его представлений
об Абсолюте по отношению к соловьевской философии всеединства.
«Наконец, — пишет он, имея в виду металогическое единство, — мы
должны отметить еще одну особенность рассматриваемого отношения,
именно своеобразную природу "целого" в нем, не в его отношении к
его частям, а в его собственном существе. Именно "исконное един-
ство", не будучи особой определенностью, тем самым не имеет ничего
вне себя, т. е. есть абсолютное единство, или всеединство,.. Оно есть
"единство" не в том смысле, в каком единство значит замкнутость и
обособление от иного, т. е. в каком оно соотносительно множеству, а в
том смысле, в котором оно есть условие самого множества и потому
содержит множество лишь внутри себя самого, а не предполагает его
вне себя»1.
Различие определений Абсолюта как всеединства у Франка и у Со-
ловьева достаточно очевидно; они соотносятся между собой примерно
так же, как соотносятся определения Бога в апофатическом и катафа-
тическом богословии. Несмотря на то, что Соловьев в основу постиже-
ния Абсолюта полагает акт мистической интуиции, его определение
Абсолюта через предикаты «сущее, всё, единство» (см. § 5 главы 3), т. е.
как «сущее всеединое», берет указанные предикаты в их обычном, ра-
ционально-логическом смысле, лишь обобщенном до уровня бес-
конечного сущего. У Франка же использование соответствующих
понятий, и в том числе ключевого понятия «всеединство», является
условным, или, точнее, символическим, поскольку их необходимо
применять к абсолютному бытию в «отрицательном» смысле, в смыс-
ле символического обозначения той интуитивно ясной основы, без
которой невозможна логическая интерпретация этих же самых понятий
(в их обычном применении).
Более тонкий подход к исходному определению Абсолюта помога-
ет Франку избежать самой существенной по своим последствиям
ошибки Соловьева — его неявного убеждения в том, что различие
Абсолюта и земной реальности (абсолютного и предметного бытия
в системе Франка) аналогично различию обособленных определенно-
стей и что возможно его адекватное описание в рамках этой анало-
гии. Сколько бы Соловьев ни настаивал на неразрывной мистической
связи эмпирического мира и эмпирического человека с Абсолютом,
сама эта связь очень часто мыслилась им как способ преодоления уже
возникшей (непонятно каким образом) обособленности мира от Абсо-
люта, понимаемой к тому же как противостояние двух предметных
сфер. Для Франка же неразрывное единство-тождество мира и Абсолюта
является незыблемым постулатом, на основе которого он пытается
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 219
13 Зак. 3424
386 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
одновременно и объяснить существование мира (предметного бытия
и сознания), и дать условное логическое описание «свойств» Абсолю-
та (абсолютного бытия).
Это единство симметрично отражено в единстве двух способностей
личности — интуиции и разума (способности к отвлеченному позна-
нию). За каждым актом отвлеченного знания, в качестве его неотъем-
лемой основы, стоит акт мистической интуиции, в которой открывает-
ся целостное абсолютное бытие, всеединство; и наоборот, акт интуи-
ции не может существовать, не порождая систему определенностей,
составляющих содержание отвлеченного, рационального знания.
Ни одна из ключевых форм отвлеченного познания не может рассмат-
риваться в качестве самодостаточной, происходящей исключительно
из внутренних отношений сферы знания; каждая из них в своей под-
линной, метафизической сущности в той или иной степени обусловле-
на интуицией абсолютного бытия и выражает взаимодействие этой ин-
туиции со сферой знания, а в более широком плане — взаимосвязь са-
мого абсолютного бытия с предметным бытием, предстающим как цель
отвлеченного познания. Поскольку самой фундаментальной из форм
познания (наряду с суждением и умозаключением) является понятие.
Франк считает особенно важным дать его метафизическую интерпре-
тацию как центрального элемента, выражающего взаимодействие
интуиции и разума, единство Абсолюта и сферы определенного, конеч-
ного бытия.
Акт рационального, понятийного определения какого-либо чув-
ственного содержания (в его метафизическом, а не чисто логическом
смысле) заключается в том, что имманентный материал сознания, дан-
ный на фоне бесконечной сферы «имеющегося», ставится во внутрен-
нюю связь с содержанием этой трансцендентной сферы и за счет этого
обретает статус реального «объекта», обладающего вневременным,
трансцендентным измерением («ядром»). Этот акт, который только
условно можно разложить на две составляющие — осознание имманент-
ного материала и соотнесение его с содержанием трансцендентной сфе-
ры, — Франк полагает основой всей деятельности сознания; эмпириче-
ски он тождествен акту внимания, концентрации сознания в отдельной
«точке», или в отдельном «срезе», всего его имманентного и трансцен-
дентного содержания. «Акт внимания носит, таким образом, творче-
ский или, точнее, актуализующий характер: в нем, именно через по-
средство переживания... единства имманентного с трансцендентным,
одновременно преобразуется и то и другое: имманентное переживание
становится моментом абсолютного бытия, выходящего за пределы по-
тока актуальных переживаний, запредельный же фон абсолютного
бытия раскрывается перед нами с той своей стороны, с которой ему при-
суще данное содержание»1. Его результатом является формирование
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 237.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 387
содержания, которое уже можно назвать «частным», «особым» (по-
скольку оно актуализировало бесконечное трансцендентное содержа-
ние в такой степени, что уже «привязано» к имманентному материалу
сознания, т. е. к конкретной точке «здесь и теперь»), но которое еще не
определено в этой своей «частности», поскольку, как детально разъяс-
няет Франк, окончательное рационально-логическое определение за-
ключается в установлении отношений искомого содержания ко всем
другим возможным содержаниям, входящим во всеединство. Это окон-
чательное определение осуществляется на заключительном этапе акта
познания и реализуется через конкретный анализ положения искомо-
го содержания А среди прочих содержаний В, С... Например, при кон-
статировании красного цвета какого-то объекта мы первоначально
опознаем искомое содержание как цвет вообще (это и есть результат
первого этапа познания, акта внимания), а затем через соотнесение это-
го неопределенного пока цвета с иными цветами (синим, зеленым, жел-
тым и т. д.), т. е. через фиксацию его места в цветовом спектре, опреде-
ляем его как «красный».
Поскольку на втором этапе сознание оперирует почти исключитель-
но частными и определенными содержаниями (на самом деле эта опре-
деленность только появляется здесь), трансцендентная основа акта
определения ускользает от самого сознания, происходит отрыв рацио-
нально-логической структуры знания от его интуитивной основы.
Именно здесь находится исток всех ошибок и противоречий традици-
онных теорий знания. Если же мы постоянно помним о трансцендент-
ной основе знания, то акт определения предстает перед нами как уста-
новление «места» искомого содержания во всеединстве, в отношении
ко всему бесконечному многообразию иных возможных «мест».
Чтобы пояснить это утверждение, Франк использует пространствен-
ную аналогию. Для того чтобы «определить», т. е. выделить какую-либо
конкретную точку в трехмерном пространстве, мы должны прежде все-
го сконцентрировать на ней свое внимание и тем самым обособить ее от
«фона», от бесконечного пространства. Однако этот первый этап не дает
ясного и окончательного результата, поскольку обособленная таким
образом точка ничем не отличается от всех других возможных точек и
ничем не определена в отделенности от пространственного фона. Ее ис-
тинное определение (определение ее места) состоит в том, что на следу-
ющем этапе мы соотносим ее со всеми другими точками (например,
в рамках заданной системы координат), т. е. устанавливаем ее поло-
жение в системе мест в целом.
После такого описания структуры акта познания (акта определения
частного содержания А) уже не составляет труда дать описание мета-
физического смысла понятия. «Содержанием понятия, — пишет
Франк, — мы называем совокупность тех областей, через отношения
к которым определяется место данного предмета, как бы измерение его
по системе координат бытия. Точнее говоря, в каждом понятии мы мо-
388 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
жем отличать три стороны: 1) предмет понятия — интуитивно наме-
ченная часть бытия в ее отношении к целому...; 2) определенность как
таковая, т. е. часть бытия в ее отличии от всего остального, т. е. вне
отношения к целому — А как таковое; эта определенность, как мы ви-
дели, по существу немыслима изолированно, так как природа части и
заключается в ее отношении к целому, т. е. часть есть некоторое место
в составе целого; но в пределах этого отношения мы вправе отвлеченно
различать член отношения от единства самого отношения как целого;
3) содержание понятия или совокупность признаков, т. е. те части все-
единства, через отношение к которым однозначно определяется место
в целом искомой части»1.
Отсюда, помимо прочего, вытекает еще одно «отрицательное» опре-
деление Абсолюта. Поскольку понятие оказывается формой «опозна-
ния» частного содержания в структуре всеединства, оно по своей ме-
тафизической сущности неприложимо к самому всеединству. Понятие
всеединства оказывается двусмысленным и противоречивым мысли-
тельным образованием, с которым нельзя обращаться так же, как
с обычными понятиями. «Понятие как таковое есть определенность;
определенность же мыслима лишь как член отношения. Всякая опре-
деленность, в качестве определенности, означает часть и дает часть,
даже если она охватывает целое; ибо частный характер ее лежит не
в ее содержании, а в самой ее форме...»2 В этом смысле все попытки
найти какое-либо новое понятие, адекватно выражающее сущность
Абсолюта, Франк считает совершенно бесперспективными. Причем ес-
тественного выхода из этой антиномии нет, мы должны лишь конста-
тировать ее и в этом констатировании раскрыть ее смысл, заключаю-
щийся в осознании того, что Абсолют выходит за пределы любой
определенности, противостоит самой форме определенности, закончен-
ности, исчерпанности. Это означает, что Абсолют представляет собой
подлинную неисчерпаемость, абсолютную бесконечность, которая не
вмещается в традиционные и давно используемые философией и нау-
кой понятия потенциальной и актуальной бесконечности.
Эти две формы бесконечности можно рассматривать в качестве « част-
ных» моментов, или «отражений» в сфере конечного бытия, всеедин-
ства как абсолютной бесконечности, причем сравнение и противопо-
ставление их смыслов вновь помогает нам обогатить наше представле-
ние об Абсолюте. Понятие потенциальной бесконечности содержит
в себе характеристику непрекращающегося становления, перехода
к иному; а актуальная бесконечность выступает как завершенное един-
ство всего реального, как «полное» всеединство. Но завершенность,
которая противостоит становлению и исключает его из себя, сама
оказывается ограниченной и не может претендовать на статус Абсолюта,
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 243-244.
2 Там же. С. 315.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 389
абсолютного всеединства. Поэтому Франк с полным основанием утверж-
дает (в противоположность точке зрения, весьма распространенной
в истории философии), что актуальная бесконечность не может рас-
сматриваться в качестве истинного начала всего реального; в качестве
такого начала может выступать только абсолютная бесконечность, пре-
вышающая противоположности актуальности и потенциальности, за-
вершенности и становления и объединяющая их (в металогическом
смысле, разъясненном выше). ♦Всеединство, — пишет Франк, — есть
не только единство всех мысленных определенностей, Как мы его по-
нимали доселе. Напротив, это понятие было не самим всеединством,
а лишь выражением одной его стороны, именно вневременности. Само
всеединство есть вместе с тем единство самой вневременности (или пол-
ноты всего вневременного содержания) с становлением; ибо оно есть не
только единство множественного, но и единство самих начал единства
и множественности, и тем самым единство вневременности и станов-
ления (неисчерпаемости, творчества)»1.
Этот новый аспект, выявленный нами в содержании Абсолюта, пред-
ставляет собой очень важное дополнение к его пониманию. В этом пунк-
те вновь обнаруживается преимущество философской концепции
Франка над концепцией Соловьева, из которой она, по сути, и вырос-
ла. Соловьев также не мог обойти момент становления, внутренней ди-
намики в Абсолюте, однако, для того чтобы учесть его, он был вынуж-
ден искусственно ввести наряду с «первым» Абсолютом, понимаемым
как завершенное всеединство, также и подчиненный ему «второй» Аб-
солют, которому и приписывалась характеристика сверхэмпирическо-
го становления. Франк решительно отвергает такое гипостазирование
двух взаимосвязанных моментов, свойственных абсолютному бытию,
и рассматривает их в рамках той же самой модели металогического
единства, которая составляет основу и главный элемент «отрицатель-
ного» применения разума.
Определение Абсолюта через металогическое единство характери-
стик неисчерпаемости и завершенности, становления и вневременности
подводит итог всей процедуре его рационального описания. И теперь
наиболее принципиальным вопросом для концепции абсолютного реа-
лизма, требующим дополнительного прояснения, остается проблема
взаимосвязи Абсолюта и мира, т. е. абсолютного бытия, с одной сторо-
ны, и предметного бытия и сознания, с другой.
§ 5. Взаимосвязь Абсолюта и мира: проблема времени
В гносеологии Франка любой, самый элементарный акт познания
предполагает осуществление мистической интуиции, в которой челове-
ку открывается вся (потенциальная) полнота всеединства, абсолютного
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 315.
390 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
бытия; знание о каждом частном объекте — это определение его места
в системе всеединства, т. е. оно предполагает предварительное интуи-
тивное «освоение» Абсолюта. Однако полагая, что любой акт познания
сопровождается и обусловливается интуицией всеединства, в которой
мы в каком-то смысле «познаем» всю полноту Абсолюта, Франк стал-
кивается с вопросом о том, зачем вообще нам нужно частное, непол-
ное, конечное знание отдельной определенности (например, отдельно-
го предмета), если мы уже как бы «знаем» «весь» Абсолют. Единствен-
ный выход из этой проблемы состоит в признании того, что выражение
интуиции всеединства в форме конечного отвлеченного знания явля-
ется в некотором роде обогащением этой интуиции. В этом элементе
своих воззрений Франк почти буквально повторяет логику Николая
Кузанского, который утверждал, что Абсолют (Бог) есть «бытие-воз-
можность», т. е. содержит в себе все реальное и все возможное бытие,
причем в металогическом единстве его актуальности и потенциально-
сти. При этом к сущности бытия-возможности принадлежит необходи-
мость «развертывания», своего содержания в форме множественности
обособленных, конечных определений (в том числе через обособление
актуального и потенциального, реального и возможного и т. п.). Это
«развертывание» представлено нашим земным миром, который тем са-
мым «дополняет» бытие Абсолюта.
То же самое утверждает Франк по поводу взаимосвязи и взаимной
обусловленности интуиции всеединства и отвлеченного знания. Мис-
тическая интуиция, сопровождающая каждый акт знания, действи-
тельно открывает нам « весь» Абсолют, но открывает только как потен-
циальное содержание и как слитное единство потенциально обособлен-
ных содержаний. Поскольку эти содержания могут быть обособлены
друг от друга, и эта возможность заложена в самой природе Абсолю-
та, мы должны не только интуитивно схватывать их в их полной слит-
ности, но и познать как обособленные и конечные. Одной интуиции
оказывается недостаточно для «полного» постижения Абсолюта.
Это уточнение в свою очередь ведет к выводу о том, что предметное
бытие, познаваемое в форме отвлеченного знания, есть не только и не
столько «противочлен» нашего сознания, сколько реальный «срез» са-
мого абсолютного бытия. Гносеологическая фундаментальность конеч-
ного отвлеченного знания может быть обоснована только через полага-
ние оптической фундаментальности его объекта — конечного предмет-
ного бытия. Как пишет Франк, «мы должны различать слои бытия
разного гносеологического и тем самым онтологического достоинства,
и в силу этого можем признать, что то, что соответствует низшему, ме-
нее истинному бытию, вместе с тем не соответствует абсолютному или
высшему бытию... Система отвлеченных или замкнутых определенно-
стей, в которой отвлеченное знание выражает свой предмет, есть не вы-
мысел, а адекватное изображение самого бытия, поскольку оно есть
такая система. Но оно есть такая система только производным образом
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 391
и притом так, что это производное бытие немыслимо как подлинная и са-
модовлеющая реальность, а мыслимо именно лишь как производное и не-
адекватное своему основанию состояние бытия как целостного единства»1.
Признавая лишь относительную онтическую самостоятельность
предметного бытия, Франк по-прежнему считает интуицию всеедин-
ства главной составляющей любого акта знания, поэтому, размышляя
о причинах различия у разных людей способности к познанию мира
и себя самих, он практически отождествляет гениальность с развитой
способностью к осуществлению акта интуиции и к сохранению его со-
держания в каждом элементе отвлеченного знания. Кроме того, он по-
лагает, что акт интуиции, лежащий в основе познания каждого кон-
кретного предмета и явления, допускает и более адекватное выраже-
ние, чем это возможно в системе дискурсивного отвлеченного знания;
«воссоздание» этого интуитивного акта в его собственной форме состав-
ляет задачу искусства2. Это утверждение в контексте книги «Предмет
знания» не слишком понятно, однако оно составляет важный элемент
воззрений Франка и получает уточнение в его последующих работах.
Еще один сложный вопрос, возникающей перед гносеологической
концепцией Франка и непосредственно затрагивающий проблему от-
ношения Абсолюта и мира, связан с необходимостью объяснения кон-
кретной структуры отвлеченного знания. Ведь наше знание включает
огромное число достаточно обособленных областей (наук), каждая из
которых в свою очередь имеет весьма сложную и неоднородную струк-
туру, весьма различный «вес» и очень разные взаимосвязи с другими
областями. Если содержание любого элемента отвлеченного знания
определяется главным образом интуицией всеединства, откуда проис-
ходит столь радикальное разделение и разнообразие его сфер?
Франк прекрасно понимает необходимость решения этой проблемы
и посвящает ей достаточно много внимания в своей книге. Тот факт,
что в процессе развития научного познания во все большей степени
проявляется тенденция к интеграции знания, к установлению все бо-
лее и более тесных взаимосвязей между отдельными науками, а также
к появлению промежуточных наук, синтезирующих данные различ-
ных областей, свидетельствует в пользу гносеологической концепции
абсолютного реализма, поскольку одним из ее основных выводов яв-
ляется утверждение о внутреннем единстве всей системы знания, отра-
жающей и выражающей в дискурсивной форме абсолютную целост-
ность всеединства. Однако причины разделенности, обособленности
наук и их разного положения в системе знания объяснить в концепции
Франка оказывается очень трудно.
Было бы в какой-то степени естественным искать эти причины в струк-
туре предметного бытия, поскольку именно оно является объектом
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 278-279.
2 Там же. С. 277.
392 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
нашего познания. Однако явно присутствующая в книге и являющая-
ся принципиальной для ее концепции тенденция к отрицанию доста-
точной онтической независимости предметного бытия вынуждает
Франка предположить, что корень раздельности наук (т. е. раздельно-
сти соответствующих предметных сфер) лежит в самом всеединстве.
«Лишь из природы общей структуры всеединства в целом, — утверж-
дает он, — вытекает его расслоение на относительно самостоятельные
частные сферы»1. Но это утверждение ничего не проясняет, а только
лишь усугубляет загадочность феномена многообразной и неоднород-
ной разделенности нашего знания. Ведь все демонстрируемые Фран-
ком подходы к «отрицательному» описанию абсолютного бытия дают
лишь различные выражения его единства, целостности и ничего не
говорят о возможности его разделения на области, имеющие различ-
ный онтологический статус. «Структура» Абсолюта, если и имеет ка-
кую-то запредельную для нашего мира реальность, совершенно недо-
ступна (в своей собственной сущности) нашему постижению. Поэтому
попытка объяснить разнообразие областей предметного бытия за счет
указания на «структуру» Абсолюта как такового является незаконной.
Видимо, понимая это, Франк при конкретном анализе наиболее важ-
ных и фундаментальных характеристик предметного бытия — време-
ни и числа, материального и идеального — находит иной, достаточно
оригинальный и плодотворный подход к их объяснению: он возводит
их не к собственной структуре предметного бытия и не к «структуре»
Абсолюта как такового, а к структуре отношения между Абсолютом
и предметным бытием. Если конечная причина разнообразия областей
и свойств предметного бытия лежит в темной и недоступной нам без-
дне Абсолюта, то процесс «осуществления» этой причины, ее «дей-
ствие», реализуется, условно говоря, в «промежуточной» сфере, свя-
зывающей Абсолют с предметным бытием, и только эта «сфера» и мо-
жет стать предметом нашего внимания и анализа.
Как мы увидим в дальнейшем, это смещение центра внимания с Аб-
солюта как такового на эфемерную, неуловимую сферу « между» Абсо-
лютом и предметным бытием является принципиальным и ведет к да-
леко идущим последствиям, поскольку открывает совершенно новый
подход к человеку, к человеческому бытию (которое и оказывается тож-
дественным этой «сфере»). Однако в книге «Предмет знания» Франк
еще не вполне осознает те радикальные последствия, к которым ве-
дет это смещение акцентов, поэтому он не останавливается на нем спе-
циально. Следы нового подхода можно найти только в том, как он опи-
сывает метафизический смысл числа и времени, а также смысл разли-
чия материальной и идеальной сфер бытия. Тогда как при анализе
логических форм отвлеченного познания (суждение, умозаключение,
принцип «часть—целое» и т. д.) он пытался лишь дополнять их чисто
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 257.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 393
логическое, т. е. конечное, определение «отрицательным» («трансцен-
дентным») определением через отнесение к Абсолюту, анализ указан-
ных метафизических характеристик предметного бытия оказывается
вообще невозможным вне рассмотрения отношения Абсолюта и мира.
Можно сказать, что в своей подлинной сущности они являются не
столько характеристиками мира, предметного бытия, сколько форма-
ми, в которых реализуется «связь» мира и Абсолюта, или формами
«осуществления» Абсолюта в мире. Именно в них получают непосред-
ственное конечное выражение — выражение в формах самого предмет-
ного мира — те определения Абсолюта, которые ранее были получены
с помощью «отрицательного» применения разума.
Рассматривая существующие подходы к пониманию числа, Франк
доказывает, что все они вращаются в порочном логическом круге, по-
скольку с самого начала уже используют неявно (интуитивно) поло-
женное представление о числе, о счете отдельных единиц. Сущность
числа нельзя ни понять, ни логически точно определить, исходя из его
функционирования в качестве формы отношения элементов нашего
земного мира, здесь речь должна идти об отношении мира и Абсолюта.
То же самое можно сказать о времени: его правильное объяснение
(решающий шаг к которому сделал Бергсон) связано с осознанием его
как «отблеска» абсолютного бытия в предметном бытии, как одной из
ключевых форм определения (или «порождения») структуры предмет-
ного бытия бытием абсолютным.
Основополагающая роль, которую число и время играют в структу-
рировании предметного бытия, обусловлена тем, что в них проступает
двуединая сущность самого Абсолюта — его бесконечная полнота-за-
вершенность и бесконечное становление. Неразрывность, слитность
этих характеристик в Абсолюте обусловливает взаимодополнение
и взаимное отражение друг в друге числа и времени, наглядным сви-
детельством чего служат многочисленные теории, в которых время
объясняется через число или, наоборот, число — через время. На са-
мом деле число и время — это два различных момента процесса «опре-
деления» предметного мира Абсолютом, или, иначе говоря, два мо-
мента акта «явления» Абсолюта под формой определенности (в форме
предметного мира).
Исходный логический элемент в конструкции числа — определен-
ность некоторого «этого» («единицы»), от которого мы переходим к
«иному», другому «этому», сохраняя первое «это» как отличное от вто-
рого. Но любое «это» (как определенное целостное содержание) есть
результат «отражения» целостности абсолютного бытия, как всеедин-
ства, в предметном мире. Если бы Абсолют был только целостностью
и единством, только абсолютной завершенностью, его «отражение»
в сфере предметного бытия давало бы совокупность определенностей,
определенных «этих», между которыми невозможен был бы переход;
в этом случае при перемещении внимания от одного «этого» к другому
394 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
первое полностью терялось бы (не сохранялось в сознании), и мы по-
стоянно имели бы только одно единственное « это ». Только в силу того,
что полнота Абсолюта предполагает момент сверхэмпирического ста-
новления, «движения», та форма, которая наиболее непосредственно
отражает «явление» Абсолюта в предметном мире, также содержит та-
кой момент; «он выражен в том, — пишет Франк, — что определен-
ность, как "это" в отличие от "иного", как "ограниченное" на форме
безграничного, как "часть" целого, которое она не исчерпывает собою,
уже подразумевает в себе момент "продолжения", то первичное "и", ко-
торое ведет к образованию числа и множественности»1. Таким образом,
структура числа, выступающего как «отражение» или «явление» Аб-
солюта в предметном мире, задается, с одной стороны, формой опреде-
ленности, являющейся основой всей «статической» структуры пред-
метного мира, и, с другой стороны, моментом становления, благодаря
которому единство Абсолюта в сфере предметного бытия раздробляется
на ряд последовательно проходимых членов-единиц.
Точно так же Франк пытается объяснить сущность времени, кото-
рое он рассматривает как характеристику, независимую от числа и со-
отнесенную с ним в пределах предметного мира. При этом адекватным
выражением смысла времени он считает понятие временной смены,
смены множественности последовательных моментов. Время для Фран-
ка выступает формой абстрактного, отвлеченно-рационального отра-
жения характеристики метаэмпирического становления, присущей
Абсолюту. «Поскольку... всеединство рассматривается под формой опре-
деленности — или поскольку производным выражением его являет-
ся оно как подчиненное началу чистого (абстрактного) единства, — оно
необходимо раздробляется на ряд отдельных членов, ряд, который
вместе с тем предполагает момент продолжения или движения. Вместе
с тем этот момент движения или становления, рассматриваемый
(т. е. мыслимый) обособленно, становится временем, т. е. переходом
от одного к другому или процессом смены. Поэтому сфера бытия, соот-
ветствующая отвлеченному знанию и подчиненная закону определен-
ности, необходимо имеет две соотносительные формы — вневременной
множественности и временной смены»2.
Внимательно проследив подробные, но не всегда ясные рассужде-
ния Франка о времени, мы без труда обнаруживаем в них явное проти-
воречие. С одной стороны, Франк постоянно подчеркивает равный
онтологический статус числа и времени как характеристик предметного
бытия, отражающих его взаимосвязь с абсолютным бытием. Но, с дру-
гой стороны, совершенно очевидно (это следует, например, из приве-
денной цитаты), что понятие времени оказывается у Франка следстви-
ем понятия числа. Ведь уже в форме числа, в форме проходимой
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 297.
2 Там же. С. 309.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 395
множественности членов-единиц заключено отражение характеристи-
ки становления, присущей Абсолюту, причем это отражение несет в себе
в точности то же самое содержание, которое Франк вкладывает в поня-
тие времени. Как уже говорилось, число немыслимо без того, чтобы
в нем уже не предполагался момент перехода от определенного «этого»
к другому «этому», но отвлеченное представление об этом переходе
и есть в концепции Франка то, что мы называем временем в пределах
предметного мира.
Причина возникновения этого противоречия достаточно очевидна.
Она связана со стремлением Франка к предельной рациональности сво-
их построений, в результате чего его концепция оказывается неспособ-
ной охватить всю иррациональную глубину рассматриваемых метафи-
зических «феноменов». Именно поэтому анализ времени своей двусмыс-
ленностью и путан остью разительно отличается от логически точного и
убедительного анализа числа; ведь число и есть та форма «явления» Аб-
солюта в предметном мире, которая одновременно и полностью подчи-
нена принципам рационального мышления (в первую очередь, принци-
пу определенности), и обусловливает универсальную применимость этих
принципов по отношению к предметному бытию. Если бы Франк был
более последовательным в развертывании своей концепции, он должен
был бы признать, что число есть единственная универсальная форма
«проявления» Абсолюта «под знаком конечности», а время (какотвле-
ченное представление смены моментов) есть только момент числа.
Однако философская проницательность все-таки не изменяет Фран-
ку, и он отказывается полностью принять эту логику. Он признает, что
наше представление о времени имеет более сложную структуру и вклю-
чает не только отвлеченную идею смены последовательных моментов,
но и некую иррациональную составляющую, которую невозможно вы-
разить не только в отвлеченном знании, но и в отрицательно-рациональ-
ном описании акта интуиции. Этим он нарушает «симметрию» в пони-
мании числа и времени, поскольку в отношении числа справедливо пря-
мо противоположное: содержание идеи числа полностью исчерпывается
его рациональным описанием (в рамках «положительного» и «отрица-
тельного» применения разума) как формы, в которой реализуется
«связь» Абсолюта и предметного мира.
В конечном счете Франк выделяет три смысловых уровня в понима-
нии времени. «Высший» из них связан с интерпретацией времени как
характеристики самого абсолютного бытия. Франк называет его « истин-
ным» временем, мыслимым в единстве с вечностью и неотделимым от по-
следней. Основную заслугу в экспликации этого смысла времени он при-
писывает Бергсону, хотя одновременно указывает на то, что точно так
же понимали истинный смысл времени многие представители мистиче-
ской традиции в философии (Плотин, Августин, Якоби). Бергсоновская
интуиция «длительности» как раз и соответствует интуитивному по-
стижению Абсолюта как единства вечности (полноты-завершенности)
396 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
и времени (сверхэмпирического становления). «Истина учения Берг-
сона, — пишет Франк, — не в том, что "чистая длительность" есть аб-
солютное; она лишь в том, что абсолютное не есть чистая неподвиж-
ность, что ему присущ исконный момент динамичности или творчества.
Абсолютное есть живое единство или единая жизнь, назовем ли мы его
единым (т. е. покоящимся в себе и объемлющим себя) творчеством или
живой (творческой, заключающей в себе динамический момент) веч-
ностью, — мы лишь с разных сторон определим одно и то же, подойдем
к невыразимому в своей подлинной, внутренней простоте единству ста-
новления и покоя, творчества и неизменности в абсолютном»1. Этот
уровень осмысления времени может быть выражен рационально с по-
мощью «отрицательного» применения разума (такое выражение и дано
в приведенной цитате), однако он относится к абсолютному бытию как
таковому и, значит, не может быть непосредственно соотнесен с тем,
что мы называем временем в нашей обыденной жизни.
♦ Низший» смысловой уровень в понимании времени задается уже
упомянутым абстрактным определением времени как смены по-
следовательных моментов. Хотя Бергсон абсолютно противопоставля-
ет это представление истинному смыслу времени, Франк считает его
естественным отражением * истинного» времени в сфере предметного
бытия. Однако и в этом представлении то значение, которое время имеет
в нашем конечном мире, не схвачено во всей полноте, это, скорее, мерт-
вая схема «живого» времени, пронизывающего наше бытие (именно
поэтому Бергсон вообще отказывается называть эту схему временем).
Наиболее важное и загадочное содержание связано с промежуточ-
ным смысловым уровнем, на котором время, с одной стороны, предста-
ет в отрыве от вечности, и значит, в своей собственной, независимой
сущности, и, с другой стороны, оказывается недоступным для отвлечен-
ного познания. «Если время "истинное", как чистая длительность, есть
время, пропитанное вечностью, как бы еще не вышедшее из утробы
вечности, то чистое время, время в его отличии от вечности, есть...
поток становления и уничтожения...»2 Самая главная проблема здесь
заключается в том, каким образом мы можем уловить это время. Как
это ни странно, но Франк вообще отрицает возможность постижения
времени в его независимости от вечности, т.е. возможность постижения
указанного «чистого» времени. Парадоксальность этого отрицания оче-
видна, ведь если мы можем мыслить существование такого самостоя-
тельного момента времени и говорить о нем, то это, безусловно, означа-
ет, что мы уже каким-то образом схватили его суть. У Франка же полу-
чается, что интуитивное постижение времени дает нам «истинное»
(бергсоновское) время как характеристику Абсолюта, а отвлеченное по-
знание определяет только абстрактную схему смены моментов, которую
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 305.
2 Там же. С. 307.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 397
необходимо понимать как «чистое» время, взятое под формой вневре-
менности, т. е. не в своей собственной сущности (ибо мыслимость, аб-
страктное представление это и есть рассмотрение чего бы то ни было
под формой вневременности — как бы на «фоне» вечности). «Чистое»
время само по себе ускользает от нашего понимания и постижения.
Здесь мы сталкиваемся с одним из немногих случаев, когда Франк
оказывается в плену традиции «отвлеченных начал», с которой он, ка-
залось бы, так успешно разделался уже в своих ранних статьях. «Гип-
ноз» классического рационализма оказал все-таки свое воздействие
и на него, в результате он проходит мимо одного из принципиальных
моментов новой онтологии, непосредственно связанной с новой концеп-
цией человека — мимо нового («неклассического») понимания време-
ни как главного момента в структуре человеческого бытия. Усматри-
вая наличие некоторого промежуточного уровня между пониманием
времени как характеристики Абсолюта и его же пониманием как от-
влеченного представления о смене моментов, Франк полагает, что этот
промежуточный уровень доступен только чистому переживанию, кото-
рое необходимо отличать как от мистической интуиции Абсолюта, так
и от отвлеченного познания. «Иметь интуитивно, — утверждает он, —
именно и значит иметь на почве сверхвременного единства, т. е. иметь
время в указанном его единстве с вечностью. Чистое становление мож-
но только либо просто переживать — и тогда оно вообще не есть содер-
жание знания, а есть лишь бесформенный материал для него, — либо
же его можно отвлеченно мыслить, как абстрактный момент станов-
ления в его отрешенности от всего иного...»1 Поскольку « переживание»
времени оказывается в своей собственной сути невыразимым с помо-
щью привычных рациональных форм, Франк вообще игнорирует его,
упуская из виду, что именно оно конституирует человеческое бы-
тие— как «промежуточное» бытие, находящееся «между» Абсолю-
том и предметным миром (термины «промежуточное» и «между» здесь,
конечно же, необходимо понимать чисто условно). Иррациональное пе-
реживание времени для каждого человека является важнейшей состав-
ляющей его личностного бытия, причем жизненная конкретность и са-
мостоятельное значение этого переживания ничуть не умаляются тем,
что мы можем «подняться» от него к интуиции «истинного» времени
(бергсоновской « длительности ») как единства становления и покоя или
«опуститься» к отвлеченному представлению о смене последовательных
моментов (математической схеме времени). Игнорируя этот момент в
качестве значимого, Франк существенно ограничивает способность сво-
ей онто-гносеологической концепции адекватно и глубоко описать бы-
тие человека.
Это упущение выглядит достаточно странным, если мы учтем, что
проблема времени в философии начала XX века была одной из наиболее
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 307.
398 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
актуальных и интригующих; Франк, с его пристальным вниманием
к развитию современной ему французской и немецкой философии, не
мог не знать выдающихся трудов, посвященных этой теме, — особенно
трудов Гуссерля. Именно через своеобразную радикализацию содержа-
щегося в работах Гуссерля представления о времени как главной ха-
рактеристики человеческого бытия пришел к своей онтологической
концепции М. Хайдеггер. Упоминание Хайдеггера в данном контексте
выглядит вполне уместным, поскольку трудно найти в европейской фи-
лософии той эпохи мыслителя, который был бы ближе по своим взгля-
дам к Хайдеггеру, чем Франк. Особенно наглядным совпадение основ-
ных принципов онтологии Франка с принципами «фундаментальной
онтологии» Хайдеггера становится при рассмотрении книг «Душа че-
ловека» и «Непостижимое», однако и книга «Предмет знания» доста-
точно показательна в этом смысле. Оставляя для дальнейшего более
подробный разговор на эту тему, отметим только, что это совпадение
просматривается уже в стремлении Франка выдвинуть в центр фило-
софии проблему бытия и в его попытке обосновать познание не через
гносеологическое отношение субъекта и объекта, а через онтологиче-
ское (точнее, онтическое) единство самого бытия, через причастность
человека к абсолютному бытию.
Однако в подходе к проблеме времени обнаруживается существен-
ное расхождение между взглядами двух философов. Являясь форма-
ми взаимосвязи Абсолюта и конечного мира, время и число в концеп-
ции Франка выступают как характеристики, выражающие структуру
акта трансцендирования (отметим, что у этого акта нет «субъекта»,
его «осуществляет» само абсолютное бытие), поэтому они требуют для
своего описания особого языка, который должен отличаться от языка
классического рационализма. Быть может, более правильным и соот-
ветствующим логике мыслей Франка было бы использовать термины
«экзистенция» и «экзистирование» по отношению к рассматриваемой
им «связи» Абсолюта и предметного мира; однако очевидно, что в рам-
ках концепции абсолютного реализма, развиваемой в «Предмете зна-
ния», эти термины еще не могут быть использованы в том смысле,
как их стал употреблять Хайдеггер, а вслед за ним и вся философия
XX века. И связано это как раз с тем, что Франк в своем стремлении
к предельной рациональности описания акта трансцендирования в
конечном счете примыкает к традиции неоплатонизма (происходя-
щей из философии позднего Платона) и поэтому в своем анализе чис-
ла и времени впадает в явный методологический «архаизм ». Очевид-
ная рациональность числа и столь же очевидная иррациональность
переживания «чистого» времени делает невозможным их «равнопра-
вие» в рамках концепции абсолютного реализма. Здесь необходимо
было сделать решительный выбор: либо принять иррациональное пере-
живание времени за центральный элемент структуры акта трансценди-
рования, и тогда приходится расстаться с надеждой на возможность
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 399
описания этого акта с использованием традиционной системы по-
нятий классического рационализма; либо сохранить эту систему
понятий и опору на рациональный метод анализа, и тогда число ес-
тественным образом выходит на первый план в качестве основопо-
лагающего элемента структуры отношений Абсолюта с миром (как
это было уже у Платона). В «Предмете знания» Франк без колебаний
выбирает второй путь, в то время как именно первый, выбранный
Хайдеггером, привел в XX веке к наиболее радикальному преобра-
зованию философии.
Как мы увидим ниже, в своих последующих трудах Франк все-таки
преодолеет сохранявшееся ранее тяготение к классической онтологии;
уже в книге «Душа человека» иррациональные переживания, опреде-
ляющие внутреннее бытие личности, будут рассматриваться им как
основополагающие формы «самораскрытия» абсолютного бытия. Од-
нако проблема времени и связанное с новым подходом к этой проблеме
преобразование философского языка — что стало главным для Хай-
деггера — больше не будут интересовать Франка. Этот пробел так и
останется одним из самых значительных в его философских построе-
ниях и обусловит очевидные слабости его представлений о человеке и
о конкретной структуре его бытия.
В конечном счете почти все трудности философской концепции, раз-
виваемой в «Предмете знания», связаны с тем, что Франк не придает
самому «отношению» Абсолюта с предметным миром какого-то особо-
го онтического статуса и не рассматривает его как нечто, способное об-
ладать своей собственной «целостностью» и «определенностью», — ка-
чествами, которые можно и нужно подвергнуть специальному анали-
зу. Это упущение становится особенно заметным, когда он пытается
в рамках своей концепции объяснить смысл различия идеального и ре-
ального бытия. Фактически эта проблема оказывается вторичной по
отношению к проблеме онтологического статуса времени. Различие
идеального и реального бытия сводится Франком к различию сфер вре-
мени — прошлого, настоящего и будущего, — которое вновь описыва-
ется им как следствие взаимодействия характеристик времени (станов-
ления) и вечности (завершенности) в самом Абсолюте.
При таком подходе, исключающем из рассмотрения специфику
«промежуточной» сферы — человеческого бытия, Франк приходит
к достаточно естественному выводу (вытекающему из уже приведенных
им ранее рассуждений о соотношении «данного» и «имеющегося» в со-
знании) о том, что наше представление о радикальной разнородности и
разделенности сфер идеального и реального бытия ложно. Реальное бы-
тие мы должны, очевидно, связать с мигом настоящего, поскольку все
прошедшее или грядущее существует для нас в том же самом смысле,
в каком существуют все наши фантазии и идеи. Однако «настоящее»
не может рассматриваться только как имманентное, данное «здесь и те-
перь» состояние бытия. Ни один миг времени не дан нашему сознанию
400 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
именно как «миг», как идеальная математическая точка, отделенная
от предшествующих и последующих. В нашем сознании миг настоя-
щего неразрывно слит с истекшим прошлым и наступающим будущим
и может быть мыслим только как определенный «интервал», незамет-
но переходящий в те сферы бытия, которые мы именуем прошлым и
будущим. Это означает, что «идеальность» прошлого и будущего отча-
сти присуща и настоящему, всему реально-фактическому бытию, ко-
торое имеет неустранимое измерение, связывающее каждый «факт»
с открытой перспективой вневременного бытия. «Но с тем же правом
(и, быть может, еще большим), — продолжает Франк, — мы могли бы
ведь рассуждать обратным порядком: так как настоящее есть подлин-
ная реальность переживания, а не чистая мыслимость, и так как на-
стоящее непрерывно слито с прошлым и будущим, то оно должно необ-
ходимо распространять свою реальность и на последние. Прошлое и
будущее, конечно, существуют иначе, чем настоящее; иначе они не от-
личались бы от него, т. е. не были бы прошлым и будущим. Но если
прошлое в смысле настоящего не есть, то оно все же было; и точно так
же будущее, хотя и не есть, но будет. Это "было" и "будет" суть нечто
третье между чистым фактическим бытием настоящего и чистой иде-
альностью, лишенной самостоятельного бытия. Прошлое и будущее
носят на себе печать фактического бытия — но именно прошлого и бу-
дущего бытия; они как бы издалека озарены бытием настоящего, све-
тят его отраженным светом »1.
Признавая временное (реальное) и вневременное (идеальное) бытие
лишь зависимыми моментами единого конкретно-сверхвременного бы-
тия, Франк преодолевает давнее противостояние эмпиризма и онтоло-
гического идеализма и, казалось бы, снимает дуалистическое проти-
вопоставление двух весьма разнородных, как кажется обыденному со-
знанию, сфер бытия. Однако столь простое решение поставленной
проблемы на деле является мнимым, и Франк оказывается достаточно
проницательным мыслителем, чтобы признать это.
«Доказать» несущественность различия между прошлым, настоя-
щим и будущим совсем нетрудно, если исходить из тех двух полярных
смыслов времени, о которых в основном и рассуждает Франк. Время
в смысле «истинного» времени, как характеристика Абсолюта, нераз-
рывно слито с вечностью, и это означает, что все его «элементы» или
«фазы» обладают одним и тем же онтическим статусом, соприсутству-
ют в вечности. В сущности, здесь вообще невозможно говорить о ка-
ком-то «настоящем» и о противостоящих ему «прошлом» и «будущем».
То же самое справедливо и по отношению к времени как математиче-
ской схеме смены мгновений. В этом случае отличие того момента,
который мы называем «настоящим», от предшествующих и последую-
щих точек-моментов определяется нашим субъективным выбором
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 325-326.
Глава б. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 401
и не заддно в самой структуре рассматриваемой схемы времени (этот
факт становится особенно очевидным в современном варианте указан-
ного представления — в математической структуре пространства-вре-
мени Минковского).
Нетрудно понять, что подлинный смысл отличия настоящего от
прошлого и будущего, смысл неповторимой уникальности настояще-
го, задан только для человеческого сознания, в системе его отноше-
ний с предметным и абсолютным бытием. Только для нас настоящее
радикально отличается от прошлого и будущего, и это отличие не вто-
рично и производно, а является конституирующей основой самого че-
ловеческого бытия. Но те два полярных смысла времени, которые
использует Франк, — «истинное» время и абстрактное представление
о смене моментов — исключают отнесение к человеческому сознанию,
поскольку берут характеристику времени только в Абсолюте вне его
отношения к миру (в первом случае) и только в предметном мире вне
его отношения к Абсолюту (во втором случае), тогда как сознание
(человеческое бытие как таковое) и есть то, что задает отношение пред-
метного бытия к бытию абсолютному (мира к Абсолюту). Отказываясь
рассматривать время в смысле иррационального переживания челове-
ческой личности, не сводимом к указанным двум полярным представ-
лениям, Франк лишает себя возможности дать адекватное описание
различия идеального и реального бытия. Тем не менее он не рискует
утверждать, что его выводов иллюзорности этого различия полностью
исчерпывает проблему. В явном противоречии с полученным абстракт-
но-философским выводом он признает, что здесь еще не достигнуто
адекватное понимание сути различия указанных сфер бытия. Убежде-
ние обыденного сознания в абсолютном приоритете реального, факти-
ческого бытия над бытием идеальным не может быть объявлено толь-
ко иллюзией, в нем есть какая-то очень глубокая истина, которая не
должна быть потеряна в абстрактных философских построениях. « Ни-
какими рассуждениями нельзя уничтожить живого, ясно чувствуемо-
го (и определяющего всю нашу практическую жизнь) различия меж-
ду чувственно наглядным, осязательным бытием воспринимаемого
и бледным, бесплотным бытием только представляемого и мыслимого»1.
Поскольку только по отношению к нашему сознанию две сферы бы-
тия — реальное и идеальное бытие — становятся принципиально различ-
ными по статусу и значению, суть этого различия Франк пытается объяс-
нить с помощью терминов «присутствие» и «отсутствие», отношение ко-
торых не совпадает ни с противоположностью бытия и небытия как
таковых, ни с двуединством реального и идеального, взятых в их «объек-
тивном» смысле (разъясненном выше), и которые описывают совершен-
но необычный (и нелепый с точки зрения классического рационализма)
«уровень» бытия — «бытие-при-человеке», «бытие-при-сознании».
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 330-331.
402 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX XX веках
Реальный мир присутствует перед нами, перед нашим сознанием,
длясь во времени, тогда как идеальное бытие прошедшего, будущего и
воображаемого, хотя оно и является неразрывно взаимосвязанным с
длящимся настоящим, все-таки лишено статуса «присутствия» — пока
или уже отсутствует (перед нами и в единстве-тождестве с нашим
бытием). Строго соотносительный характер понятий присутствия и
отсутствия, их определимость только в отношении к человеческому
бытию (сознанию) делает невозможным дальнейшее развитие этой
идеи без специального анализа человеческого бытия. Однако в «Пред-
мете знания» Франк не затрагивает последней темы, оставляя ее для
следующих работ, и это оказывается самым заметным недостатком его
книги, на который указывали практически все критики его концеп-
ции. Уже в первых развернутых рецензиях на книгу Франка указыва-
лось, что в ней не только обойден вопрос об онтологическом статусе че-
ловеческого бытия, но даже не предполагается самой возможности обо-
сновать конкретное и глубоко индивидуальное бытие отдельного
человека. С афористическим лаконизмом об этом писал Н. Бердяев:
«Единое съедает множественное, Божество съедает человека. Его
(Франка. — И.Е.) философия — все же родовая философия, филосо-
фия единого-общего, в ней нет выхода в индивидуальное бытие»1.
Этот недостаток особенно существен в связи с тем, что, как мы виде-
ли, в своих более ранних работах (особенно в статье «Личность и вещь»)
Франк рассматривал личность человека как единственное возможное
основание для новой (персоналистской!) метафизики. Зияющий раз-
рыв, возникающий между идеями, выраженными в ранних статьях
Франка, с одной стороны, и в книге «Предмет знания», с другой, ко-
нечно же, не мог не быть очевидным для него самого. Поэтому для при-
дания своей системе завершенности он был обязан каким-то образом
совместить принципы, провозглашенные в его первых работах, с онто-
гносеологической концепцией «Предмета знания». Это было осуществ-
лено им в книге «Душа человека», причем в результате многие поло-
жения, высказанные в предшествующем труде, были в существенной
степени скорректированы.
Однако уже в « Предмете знания» Франк намечает переход к новому
кругу проблем, в центре которого находится проблема индивидуаль-
ности. В последней главе книги он прямо ставит вопрос о сущности
индивидуального, единичного бытия, а также о формах его познания.
Решение первой части этого вопроса у Франка вполне соответствует
общей логике концепции абсолютного реализма и направлено на
«реабилитацию» индивидуального и конкретного, которое по своему
онтологическому статусу оказывается более значимым, чем общее
1 Бердяев Н.А. Два типа миросозерцания (По поводу книги С. Л. Фран-
ка «Предмет знания»)// Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 134.
С. 313.
Глава б. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк
403
и отвлеченное. Это достигается за счет своего рода «приравнивания»
индивидуального бытия к целому всеединству, за счет описания его как
«отражения» всей полноты и конкретности Абсолюта, в то время как
общее оказывается в этом же контексте «отражением» и «выражением»
только одной стороны Абсолюта — его вневременности, абсолютной
завершенности (характеристики, противоположной бесконечному ста-
новлению). «Индивидуальное или единственное есть всецело или совер-
шенно определенное именно в том смысле, что оно определено (в проти-
воположность логической, т. е. общей, определенности) не одной лишь
вневременной стороной всеединства, а конкретным всеединством во всей
его целостности. Подобно логической единственности, единственность,
конституирующая индивидуальное, есть не отрешенность от всего ино-
го, а, наоборот, непосредственная укорененность во всеединстве. Выра-
жаясь терминами Лейбница: каждая монада есть индивидуальность
именно потому, что она "выражает" вселенную»1.
Но наиболее важное содержание связано со второй частью упомя-
нутого вопроса — с проблемой постижения индивидуального бытия.
Онтологическое определение индивидуального бытия как такового
Франк осуществляет в полном соответствии с тем, как эта проблема
решалась у наиболее глубоких мыслителей прошлого (от Платона и
Аристотеля до Лейбница и Гегеля), однако, размышляя о формах по-
знания индивидуального, он выходит за рамки традиции и вновь вы-
нужден говорить об особом отношении человека к абсолютному и пред-
метному бытию, т. е. выдвигать на первый план вопрос об онтологи-
ческом статусе человеческого бытия. Поскольку индивидуальное есть
наиболее адекватное выражение в предметном бытии конкретности и
цельности Абсолюта, нетрудно понять, что в его познании основную
роль играет интуиция; именно по отношению к сфере индивидуально-
го отвлеченное познание оказывается совершенно бессильным. Очевид-
но, что к конечному, предметному бытию неприменим и метод «отри-
цательного» использования разума, с помощью которого удавалось
дать рациональное описание мистической интуиции Абсолюта. В этом
случае остается только один путь — «чистое» интуитивное постиже-
ние. Именно здесь во всей полноте выявляется значение проведенного
ранее различения двух моментов в структуре интуиции — того, кото-
рый может быть выражен в рациональной форме, и того, который не
допускает никакого рационального выражения и сводится к чистому
переживанию. Интуиция, в смысле второго из этих моментов, оказы-
вается единственным способом адекватного постижения индивидуаль-
ного бытия, и в силу ее невыразимости в каких бы то ни было рацио-
нальных формах каждый из нас способен сделать ее очевидной для себя
только на примере постижения своей собственной личности, как
индивидуального бытия par exellence.
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 349.
404 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Только по отношению к этому способу «познания» Франк применя-
ет в полном и однозначном смысле понятие живого знания, или зна-
ния-жизни. «Таково, например, — пишет он, — сознание необходимо-
сти, с которым мы переживаем нашу собственную, личную жизнь,
наши поступки. Кто знает свой "характер", свои общие склонности,
симпатии, господствующие мотивы своего "я", тот сознает закономер-
ность, управляющую его жизнью, но не как вневременную связь, не
как призрачную отвлеченную формулу: "если А есть, есть и В", а как
реальную силу, действующую в нем; и точно так же индивидуальный
факт не слепо констатируется им, а именно переживается, как реаль-
ность, истекающая из действия этой общей силы... Отдельные факты
моей жизни, поскольку я сознаю их укорененными во времяобъемлю-
щем единстве моей личности, суть не внешне-констатируемые обособ-
ленные события, не мыслимые временные содержания, которые толь-
ко слепо предстоят мне в определенном порядке и которые поэтому я
мысленно могу заменить иными, а содержания, непосредственно исте-
кающие из реальности моего "я", как целого, и разделяющие его необ-
ходимость»1. Отметим, что в этом контексте выглядит особенно стран-
ным отношение Франка ко времени как только внешней форме челове-
ческого бытия; признавая наличие в структуре интуиции особого
момента, хотя и невыразимого в рациональной форме, но способного
дать постижение собственного индивидуального бытия человека, он по
непонятной причине отрицает возможность аналогичного постижения
времени — постижения на уровне чистого переживания.
Интуиция как чистое живое знание, как индивидуальное пережи-
вание ранее было понято Франком в качестве универсальной формы
связи личности с Абсолютом, т. е. со всем бытием (см. § 2). Поэтому
в применении к предметному миру она оказывается универсальной
формой познания любого индивидуального бытия, которое в самом этом
акте становится тождественным бытию личности, ее «я». «Своеобра-
зие такого живого знания в том и состоит, что в нем уничтожается про-
тивоположность между предметом и знанием о нем: знать что-либо
в этом смысле и значит не что иное, как быть тем, что знаешь, или жить
его собственной жизнью»2.
Такое представление о знании-жизни наиболее наглядно свидетель-
ствует против традиционной концепции человека, описывающей личность
как изолированную часть бытия, внешним образом связанную со своим
окружением. На самом деле личность — любая и каждая личность —
слита со всем предметным бытием; сама суть бытия личности заклю-
чается в том, что через него происходит выявление смысла каждого
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 353-354.
2 Там же. С. 362. Отметим, что это утверждение Франка буквально со-
впадает с одним из ключевых положений философии X. Ортеги-и-Гас-
сета; см. цитату, приведенную в прим. 1 на с. 118.
Глава 6, Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 405
элемента предметного мира как индивидуального, неповторимо кон-
кретного, отражающего бесконечную полноту и конкретность Абсолю-
та. Пытаясь более подробно описать, каким образом можно интерпре-
тировать тождество личности со всем бытием, Франк выделяет две со-
ставляющие, или два измерения, личности, «я», сознания. С одной
стороны, под сознанием необходимо понимать индивидуальный поток
переживаний, определяющий бытие конкретного человека, «это есть
сознание человека, родившегося в определенный момент, живущего в
настоящее время, сознание, приуроченное некоторым образом к дан-
ному телу, — словом, поток переживаний, который не только пережи-
вается, но и усматривается как единичная объективная реальность в со-
ставе реального мира»; однако, с другой стороны, как пишет Франк, «под
"моим я" или "моей душевной жизнью" я могу разуметь вообще всю
сферу бытия, поскольку она не предстоит мне в качестве постороннего
мне объекта, на который направлено мое познавание, а непосредственно
переживается мною, непосредственно сознается мною как чистая рас-
крытая себе жизнь, как само себя переживающее бытие»1. Именно вто-
рая составляющая имеет наиболее принципиальное значение, посколь-
ку здесь личность опознается как самообнаружение Абсолюта, абсолют-
ного бытия, в форме мира, предметного бытия, т. е. оказывается
центральным элементом онтологической структуры реальности.
Этот вывод означает, что вся философская концепция, построен-
ная в «Предмете знания», не может претендовать на законченность
и последовательность до тех пор, пока в ней не будет четко обозначе-
но место человеческого бытия, более того, ее вообще приходится счи-
тать только предварительным наброском окончательной онтологи-
ческой системы, поскольку, как выяснилось, все рассуждения об
Абсолюте и его взаимосвязях с предметным миром можно вести
лишь аз «расположения», «места» человека, как бы «изнутри» чело-
веческого бытия — из области, где только и происходит раскрытие
Абсолюта.
§ б. Основания теории души: Франк и Бергсон
Формально книга «Душа человека» посвящена совершенно другой
теме по сравнению с книгой «Предмет знания», в новом сочинении
Франк пытается заложить основы философской психологии, описы-
вающей внутренний мир человеческой личности. Однако, как мы уви-
дим ниже, эта явно формулируемая цель не отражает его подлинных
намерений. Совершенно очевидно, что исследование душевной жизни
выступает здесь в качестве основы для нового подхода к онтологии,
к построению целостной философской системы, в которой речь идет
о смысле и структуре самого бытия (что станет в дальнейшем также
целью главного труда Франка, книги «Непостижимое»).
1 Франк С. Л. Предмет знания. С. 357-358.
406 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Франк начинает с того, что ясно обозначает противостояние осново-
полагающих принципов своей теории душевной жизни существовав-
шей традиции, причем и в критической части, и при позитивном изло-
жении своих идей он во многом повторяет основные положения кон-
цепции Бергсона. В связи с этим здесь уместно вспомнить смысл этой
концепции, чтобы лучше понять, в чем Франк просто следует за Берг-
соном, а в чем дает оригинальное развитие его принципов.
Относящиеся к рассматриваемому вопросу идеи содержатся глав-
ным образом в двух работах Бергсона — в книге «Опыт о непосредствен-
ных данных сознания», где речь идет о характерных чертах душевной
жизни как таковой, в ее собственной структуре, и в книге «Материя
и память», посвященной описанию взаимосвязей внутреннего мира
личности с окружающей человека реальностью.
В понимании личности Бергсон произвел резкий сдвиг от господ-
ствовавшей в психологии XIX века «атомистики» к концепции цель-
ности душевной жизни. Значительная часть работы « Опыт о непосред-
ственных данных сознания» посвящен критике общераспространенных
методов исследования психической жизни, основанных на двух незыб-
лемых и кажущихся очевидными предпосылках: во-первых, на пред-
ставлении о составленности каждого отдельного состояния души из
разнородных и ясно отличимых друг от друга элементов (ощущений,
мыслей, эмоций, желаний и т. д.) и, во-вторых, на убеждении в воз-
можности независимого рассмотрения каждого из этих элементов и ко-
личественной оценки его характеристик (например, количественной
оценки различия двух аналогичных ощущений — зрительных, слухо-
вых, осязательных). Согласно Бергсону, мы сможем приблизиться
к адекватному пониманию внутреннего мира человека только если при-
знаем обе эти исходные предпосылки ложными. Душевная жизнь об-
ладает такой формой единства, цельности, по отношению к которой
теряют силу все известные нам методы анализа, разлагающего целое
на части; каждое состояние души обладает уникальной качественной
определенностью, причем эта качественная определенность не может
быть выражена через какой бы то ни было набор количественных ха-
рактеристик. Постоянно присущее нам стремление к преобразованию
целостной душевной жизни в набор изолированных и количественно
измеримых элементов обусловлено только тем, что человек одной из
«сторон» своего бытия «соприкасается» с пространственным миром
мертвой природы, с миром, где все распределено и отделено друг от
друга; именно этот мир навязывает нам свои формы, совершенно чуж-
дые собственной сущности нашей души.
Возникающее при таком объяснении резкое противостояние внут-
реннего мира человека и пространственного мира вне человека состав-
ляет наиболее непонятной элемент философской концепции Бергсона
и, пожалуй, самый большой ее недостаток, поскольку мы не находим
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 407
в ней достаточно естественного объяснения причин указанного ради-
кального разделения двух сфер бытия. Именно этот аспект воззрений
Бергсона особенно часто критиковали его русские почитатели и после-
дователи. Однако сейчас более важно сказать не о различии, а о сход-
стве позиций: очевидно, что представление Бергсона о цельности души
потому оказалось очень близким для русских мыслителей, что оно по
своему содержанию (в применении к внутреннему миру человека) на-
поминало самый главный принцип русской философии — принцип все-
единства. В следующей главе мы увидим, как Лев Карсавин виртуозно
модифицировал идеи Бергсона и вывел из них своеобразную форму
философии всеединства; в конечном счете именно у Карсавина бергсо-
новская концепция душевной жизни получила наиболее последова-
тельное и тонкое развитие. Франк также был очень многим обязан
французскому философу и во многом опирался на его идеи. Содержа-
щаяся в его ранних работах критика традиционного истолкования со-
отношения части и целого, безусловно, учитывала проделанную Берг-
соном работу. Явное влияние Бергсона чувствуется и в понимании
Франком в «Предмете знания» абсолютного бытия как всеединства,
лишь вторичным образом предстающего в виде предметного (разделен-
ного и количественно измеримого) мира, а также в интерпретации ха-
рактеристики становления в Абсолюте: бергсоновская «длительность»
как форма интуитивного постижения душой своего собственного каче-
ственного развития преобразуется у Франка в интуицию «истинного»
времени, с помощью которого человек схватывает целостное, неразло-
жимое на какие-либо элементы становление абсолютного бытия.
Но наиболее полно и непосредственно представления Бергсона о лич-
ности Франк использовал в своей книге «Душа человека». Исходный
принцип теории душевной жизни у Франка в точности совпадает с ис-
ходным принципом концепции Бергсона — это убеждение в абсолют-
ном единстве души, не допускающем адекватного ее представления
в виде совокупности, агрегата частей. «Это единство — не такого рода
как механическое целое, слагающееся из суммы своих частей и пото-
му, очевидно, не могущее присутствовать в каждой отдельной своей
части. Напротив, это есть некоторое первичное единство, данное сразу
в своей целостности и потому не требующее для своего обнаружения
обзора всей совокупности своих временных проявлений. В каждый дан-
ный миг и во всяком единичном душевном явлении присутствует (прав-
да, с большей или меньшей актуальностью и явственностью) душев-
ная жизнь как единство целого; ведь для того, чтобы, например, опре-
делить "характер" какого-нибудь человека, т. е. своеобразие его
душевного строя как целого, нет надобности знать жизнь этого челове-
ка от колыбели до могилы»1.
1 Франк С. Л. Душа человека // Франк С. Л. Предмет знания. Душа
человека. С. 433.
408 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Та небольшая, но достаточно принципиальная поправка, которую
Франк вносит в исходное положение концепции Бергсона, касается
проблемы времени и повторяет то, что он говорил о недостатках берг-
соновского понимания времени в «Предмете знания» (см. § 5). Если Берг-
сон главным качеством души считает именно ее временной характер,
который постигается в форме цельной «длительности», — то Франк
отождествляет бергсоновскую длительность в ее подлинной сути
со сверхвременностью души, с ее способностью господствовать над те-
чением времени, охватывать все возможное время и все свои возмож-
ные состояния. Впрочем, он оставляет за этим понятием и второе смыс-
ловое содержание, более близкое к тому, которое использовал Бергсон.
Сверхвременность души не отрицает наличия временного процесса,
в котором происходит ее «развитие», — точнее, которым она является
(в данном случае различие «процесса» и его «субъекта» некорректно).
Поэтому «глобальная» цельность душевной жизни, на что в первую
очередь обращает внимание Франк, не отрицает, а скорее предполага-
ет наличие у души «локальных» качеств связности и цельности, кото-
рые уже носят все черты бергсоновской длительности. « Конкретное "на-
стоящее" душевной жизни, — пишет Франк, — имеет всегда некото-
рую, правда, точно неопределимую, длительность, которая дана сразу,
т. е. как единство, и опять-таки отдельные состояния, из смены кото-
рых состоит этот процесс, даны и мыслимы лишь на почве самого про-
цесса как целого. Правда, эта длительность, по общему правилу, много
короче всей душевной жизни человека, но в ней нет никаких точных
граней; актуально переживаемое непрерывно и незаметно сливается с
тем, что находится за его пределами...»1 При этом необходимо помнить
(и в этом Франк, безусловно, прав, поправляя Бергсона), что сама ука-
занная «локальная» временная длительность души возможна только
в неразрывной связи с «глобальной» длительностью, или сверхвремен-
ностью, которая в этом смысле является истинно первичным, исход-
ным качеством души и обусловливает ее временность.
Обращаясь ко второй главной составляющей философии Бергсона,
к его представлениям о взаимосвязи личности и мира, мы находим
здесь еще более радикальные изменения по отношению к существо-
вавшей традиции. В книге «Материя и память» Бергсон смягчает
1 Франк С. Л. Душа человека. С. 433. Ср.: «Без сомнения, существует
идеальное настоящее, чисто умозрительное, — неделимая граница, отде-
ляющая прошлое от будущего. Но реальное, конкретное, переживаемое
настоящее, то, которое я имею в виду, когда говорю о наличном восприя-
тии, необходимо обладает длительностью... Надо признать, таким обра-
зом, что то психологическое состояние, которое я называю "моим настоя-
щим" — это вместе с тем сразу и восприятие непосредственного прошлого,
и своего рода детерминация непосредственного будущего» (Бергсон А.
Материя и память. С. 246).
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 409
характерное для его предшествующих работ резкое противопоставле-
ние пространственного мира мертвых вещей и динамичной, цельной
и длящейся внутренней жизни человека. Теперь пространственный мир
и душа (в первую очередь в измерении памяти) выступают как взаимо-
дополнительные и взаимообусловленные «измерения» целостной
реальности. Каждая эмпирическая личность при этом предстает не
малой частью бытия, а как бы частной внутренней «структурой» всего
бесконечного мира, причем главная составляющая этой «структу-
ры» — память — оказывается важнейшей составляющей бытия, бла-
годаря которой оно обладает качествами связности и цельности. Чело-
веческое тело, материальный облик человека, выступает в этом случае
просто как «центр» того «среза» бытия, который каждое мгновение осу-
ществляет в целостном бытии наше сознание. « В более общем виде мож-
но сказать, — пишет Бергсон, — что в той непосредственности станов-
ления, которая есть сама реальность, настоящий момент конституи-
руется посредством почти мгновенного среза, который наше восприятие
делает в протекающей массе, и этот срез, собственно, и есть то, что мы
называем материальным миром. Наше тело занимает в нем централь-
ное место, именно тело мы непосредственно воспринимаем как проте-
кающее, и в его актуальном состоянии сосредоточена актуальность
настоящего»1. Человек только потому полагает свой материальный мир
{различный для каждой личности) за единственную подлинную реаль-
ность, что его индивидуальное, независимое бытие «привязано» через
тело именно к этому «срезу» и опознается главным образом с его помо-
щью, хотя в своей сущности каждая личность совпадает с бесконеч-
ным миром через свою столь же бесконечную память.
При таком подходе к человеку стирается противоречие между ду-
хом и материей: материя (материальный мир) есть моментальный
«срез» целостного (духовного) бытия, а само это бытие есть как бы по-
тенциальное сознание, потенциальное восприятие, которое преобразу-
ется в актуальное восприятие в каждом отдельном эмпирическом со-
знании (в конкретном «срезе»); «природу, — утверждает Бергсон, —
можно рассматривать как нейтрализованное и, следовательно, латент-
ное сознание, случайные проявления которого гасят друг друга и сво-
дятся на нет в тот самый момент, когда хотят обнаружиться. Таким
образом, те проблески света, которые появляются в природе с возник-
новением индивидуального сознания, не освещают ее неожиданными
лучами: индивидуальное сознание лишь устраняет препятствие, лишь
извлекает из реального целого его виртуальную часть, лишь отбирает
и выделяет то, что представляет для него интерес, и если уже одной
этой разумной селекции достаточно, чтобы говорить о его духовной
форме, то свою материю оно, несомненно, заимствует у природы»2.
1 Бергсон А. Материя и память. С. 247.
2 Там же. С. 316
410 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX-XX веках
Идею Бергсона о бесконечности внутреннего мира личности, совпа-
дающего в определенном смысле со всей реальностью, Франк прини-
мает в качестве второго исходного постулата своей концепции душев-
ной жизни. Внутренний мир человека мы должны рассматривать не
с гипотетической «внешней» точки зрения, а изнутри, в его собствен-
ной сущности. «Тогда, — утверждает Франк, — не может быть и речи
о том, что душевная жизнь есть совокупность процессов, объективно
совершающихся во времени, локализованных в теле и через эту двой-
ную определенность приуроченных к определенным маленьким местам
объективно-предметного мира; напротив, душевная жизнь предстанет
нам тогда как великая неизмеримая бездна, как особая, в своем роде
бесконечная вселенная, находящаяся в каком-то совсем ином измере-
нии бытия, чем весь объективный пространственно-временной мир»1.
Хотя оба указанных принципа — принцип цельности внутреннего
бытия личности и принцип единства и взаимодополнительности ду-
шевной жизни и всей бесконечной реальности вне человека — Франк
заимствует у Бергсона, в их развитии он уже вполне самостоятелен,
и его анализ направлен на гораздо более последовательное и, главное,
метафизически обоснованное построение новой философской концеп-
ции человека. Бергсон важнейшей целью своей книги считал под-
тверждение основ этой концепции с помощью данных естествозна-
ния — с помощью новых открытий в области физиологии и психологии
восприятия и мыслительной деятельности, при этом он гораздо мень-
шее значение придавал строгости и ясности своих окончательных
метафизических выводов; поэтому именно здесь необходимо было
провести дополнительную работу.
Некоторая двусмысленность представлений Бергсона о соотноше-
нии духа и материи, личности и мира проявилась уже в определении
исходных понятий его концепции — понятий «образ» и «восприятие».
«Образами» Бергсон называл элементы реальности, существующие не-
зависимо от процессов их восприятия и познания; с помощью этого
понятия он надеялся преодолеть противоположность реалистического
и идеалистического метода описания взаимосвязи сознания и мира.
«Под "образом", — пишет он, — мы понимаем определенный вид су-
щего, который есть нечто большее, чем то, что идеалист называет пред-
ставлением, но меньшее, чем то, что реалист называет вещью, — вид су-
щего, расположенный на полпути между "вещью" и "представлением"»2.
По сути, у Бергсона понятие «образ» является не слишком удачной за-
меной понятия «бытие» (позитивный смысл такого преобразования мож-
но уловить, сравнивая его с попыткой Хайдеггера построить онтологию
как феноменологию человеческого бытия; об этом речь пойдет ниже).
Осуществляя эту замену, он пытался более доходчиво и в большем
1 Франк С. Л. Душа человека. С. 465-466.
2 Бергсон А. Материя и память. С. 160.
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 411
согласии с позицией здравого смысла пояснить самый главный элемент
своей теории восприятия, который, безусловно, весьма необычен и
с трудом может быть принят человеком, воспитанным на понятиях
классической философии.
Как утверждает Бергсон, «образ» в его собственной наличности и
его «восприятие» в сознании отличаются не как два различных эле-
мента, присутствующих в разных сферах реальности («бытие» и «со-
знание»), а просто как две «точки зрения» на один и тот же фрагмент
бытия. Вся совокупность образов (т. е. бытие в целом) пронизана се-
тью отношений, связывающих каждый образ со всеми другими. Каж-
дый образ испытывает воздействия на него других образов и на каждое
такое воздействие отвечает «реакцией», определенным изменением сво-
ей структуры. Однако среди образов есть такие, которые в силу своего
внутреннего устройства действуют иначе, чем все остальные; вместо
того, чтобы «пропускать» через себя все воздействия, отвечая на каж-
дое определенной реакцией, они «отражают» некоторые из них, оста-
ваясь индифферентными, «отказываясь» реагировать на эти воздей-
ствия. Таким особым образом, представляющим собой, по выражению
Бергсона, « центр индетерминации», является человеческое тело вмес-
те с его предельно развитой нервной системой (которая и есть в своей
сущности механизм, задерживающий реакцию на внешние воздей-
ствия); соответственно образ, чье воздействие не было «пропущено»
телом сквозь себя, было «отброшено» обратно, становится «восприя-
тием». «Чтобы достигнуть этого превращения, — пишет о преобразо-
вании образа в восприятие Бергсон, — вовсе нет нужды бросать на пред-
мет дополнительный свет, нужно, наоборот, затемнить некоторые его
стороны, отнять у него значительную долю его содержания, так, чтобы
остаток уже не был включен в окружающую среду, как включена вещь,
но отделялся от нее подобно картине... Те внешние воздействия, кото-
рые безразличны для живых существ, проходят сквозь них, как бы не
задерживаясь; остальные, обособляясь от первых, становятся "воспри-
ятиями" в силу самого факта этого обособления... Другими словами,
образы оказывают друг на друга действие и противодействие всеми сво-
ими элементарными частями, а следовательно, ни один из них не вос-
принимает и не воспринимается сознательно. Стоит, однако же, им
столкнуться в той или иной степени со спонтанностью реакции, их дей-
ствие пропорционально уменьшается, и это уменьшение их действия и
есть по существу то представление, которое мы о них имеем»1. Созна-
ние здесь оказывается по сути тождественным с самой реальностью,
выступает как частная сеть отношений между образами, выделяющая-
ся на фоне реальности как таковой за счет того, что последняя может
быть понята как вся полнота таких отношений.
1 Бергсон А. Материя и память. С. 179.
412 И. И. Евлампиев. История русской метафизики в XIX -XX веках
Вся эта схематично изложенная концепция, несмотря на свою
безусловную оригинальность, обладает существенным недостатком.
В своем стремлении к ее обоснованию с помощью данных точного есте-
ствознания (психологии и физиологии мыслительной деятельности)
Бергсон делает слишком большие уступки здравому смыслу и тем са-
мым вносит в свои рассуждения явные противоречия. Ведь, по сути,
речь здесь идет о новой онтологии, требующей радикального пересмот-
ра исходных принципов и понятий философского, а значит, и научно-
го постижения мира и человека. Бергсон же постоянно использует в
своих рассуждениях некоторую редуцированную форму онтологии наив-
ного реализма, так как полагает в качестве исходного постулата пред-
существование «объективной» реальности, которая содержит беско-
нечное количество элементов-образов, связанных некими «объек-
тивными» взаимодействиями, и которая только вторичным образом
выражает свое содержание в форме человеческого сознания. Для того
чтобы понять внутреннюю противоречивость такой позиции, достаточ-
но задаться вопросом: в каком, собственно, месте возникает и суще-
ствует это представление о предсуществующей реальности, как исти-
на о самом бытии, о самой реальности?1 Ведь оно построено на основе
традиционных понятий, составляющих базис нашего научного позна-
ния («совокупность образов» , «взаимодействиеобразов», «реакцияоб-
раза на внешнее воздействие» и т. п.), т. е. предполагающих некую не-
зависимую внешнюю точку зрения на познаваемую реальность — будь
то сознание человека или абсолютное божественное сознание, возвы-
шающееся над познаваемым миром. Если же сознание признается толь-
ко частным «аспектом» бытия и полностью утрачивает статус особой,
«внешней» по отношению к бытию точки зрения, все традиционные
формы познания (понятия) лишаются своей претензии на фундамен-
тальность и сами требуют обоснования через некие основополагающие
«манифестации» бытия, вторичными и усложненными формами ко-
торых они являются.
Для того чтобы придать последовательность той новой онтологии,
которая обозначилась в теории Бергсона, необходимо было оставить
1 Именно ясное осознание этого вопроса определило всю содержатель-
ность революции, произведенной в онтологии Хайдеггером: «Конечно,
лишь пока присутствие (Dasein), т. е. онтическая возможность бытийной
понятности, есть, бытие "имеет место". Если присутствие не экзистиру-
ет, то "нет" также "независимости" и "нет" также "по-себе". Подобное тог-
да ни понимаемо ни непонимаемо. Тогда внутримирное сущее тоже и не
может быть раскрыто и не способно лежать в потаенности. Тогда нельзя
сказать ни что сущее есть ни что оно не существует. Это теперь, пока есть
бытийная понятность и тем самым понимание наличности, можно конеч-
но сказать, что тогда сущее будет еще и дальше быть» (Хайдеггер М. Бы-
тие и время. М., 1997. С. 212).
Глава 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 413
в стороне все его рассуждения, построенные на данных психологии
и физиологии, и попытаться выстроить ее на собственных самоочевид-
ных основаниях, на принятии в качестве исходного того, что является
исходным в себе самом, в своем собственном бытии — а значит, и в сво-
ем явлении в сознании, так как в новой онтологии «явление в созна-
нии» есть просто аспект «бытия». В этом направлении и модифициру-
ет Франк концепцию Бергсона. Поскольку проблема самоочевидных
предпосылок познания (в первую очередь, метафизического позна-
ния) — это главная проблема феноменологии, движение к новой онто-
логии оказывается невозможным без использования принципов этой
«науки», впервые сформулированных Э. Гуссерлем. В книге «Душа че-
ловека» Франк, безусловно, учитывает философские идеи Гуссерля,
однако в конечном счете он не сохраняет «критической» чистоты его
методологии; используемый им подход к анализу души (сознания) ока-
зывается полностью аналогичным тому варианту феноменологии, ко-
торый предложил Хайдеггер в своей книге «Бытие и время».
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ. Проблема Абсолюта в истории философии 9
ГЛАВА 1. Поиски самобытности 32
§1. Проблема начала русской философии 32
§2. «Диссонансность» русской культуры 33
§3. Символизм русской иконописи 40
§4. Петровская эпоха — подлинное начало 43
§5. Пушкин — пророк русской культуры 46
§6. Начало русской философии. П. Чаадаев 49
§7. Духовное наследие Чаадаева 63
§8. Мистический утопизм В. Одоевского 66
§9. Славянофильство.
А. Хомяков и И. Киреевский 73
§10. Персонализм А. Герцена 83
ГЛАВА 2. Личность как Абсолют:
метафизика Ф. Достоевского 93
§1. Проблема Достоевского 93
§ 2. Был ли Достоевский
религиозным писателем? 96
§3. Персонализм Достоевского.
Концепция М. Бахтина 101
§4. Личность как Абсолют.
Метафизический Герой Достоевского 114
§5. Метафизические «эксперименты»
Достоевского 123
§6. Личность и Бог. Проблема бессмертия 128
§ 7. Личность и Бог. Случай Кириллова 136
§8. «Новый Христос» и идеал всеединства 154
§9. Диалектика любви и свободы 160
§10. Теодицея Достоевского 169
ГЛАВА 3. Абсолют как всеединство: Вл, Соловьев 179
§ 1. Задачи «истинной философии»: Вл. Соловьев
и гностико-мистическая традиция 179
§2. «Истинная философия» и христианство 188
§3. Всеединство как идеал
и причины несовершенства мира 195
§4. Путь к идеальному обществу 201
§5. Всеединство как Абсолют 209
§6. Абсолют и личность.
Мистический символизм Соловьева 229
§ 7. Оправдание добра и проблема бессмертия 244
§8. Новый подход к Абсолюту 251
ГЛАВА 4. Абсолют как царство Абсурда: Л. Шестов 259
§1. Критика «философии всеединства» 259
§2. Абстрактные принципы против жизни 270
§3. Царство Абсурда и Бог 288
ГЛАВА 5. Абсолют как свобода: Н. Бердяев 297
§1. Христианский гнозис 297
§2. Личность как конкретное начало.
Персонализм Бердяева 303
§3. «Грехопадение» и творческое
«преодоление» мира 315
§4. Бог, человек и Ничто 328
ГЛАВА 6. Абсолют как абсолютное бытие: С. Франк 338
§1. Личность и ее творчество: этика 338
§2. Личность и ее творчество: онтология 348
§3. Концепция абсолютного реализма 359
§4. Абсолютное бытие как всеединство 373
§ 5. Взаимосвязь Абсолюта и мира:
проблема времени 389
§6. Основания теории души: Франки Бергсон 405