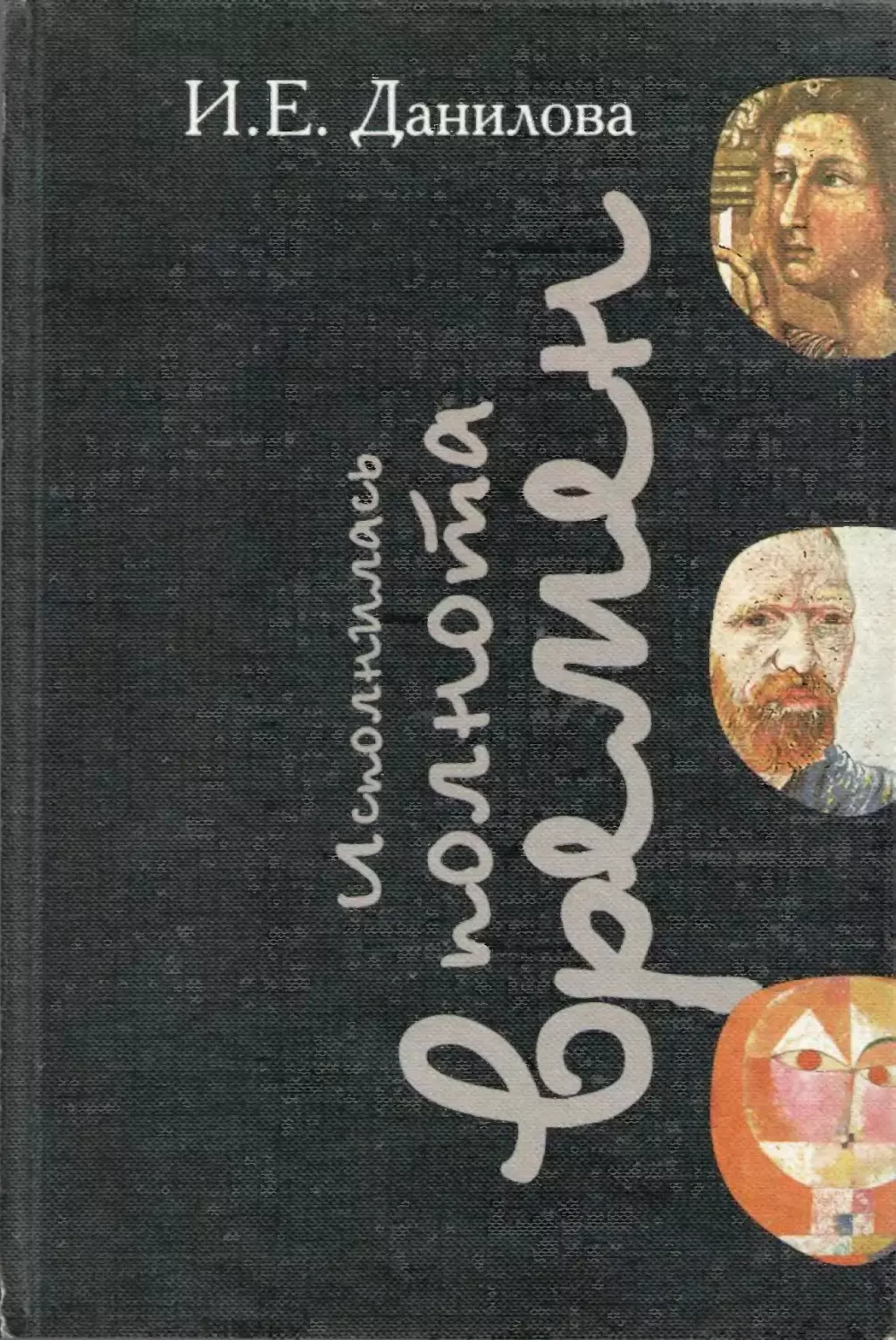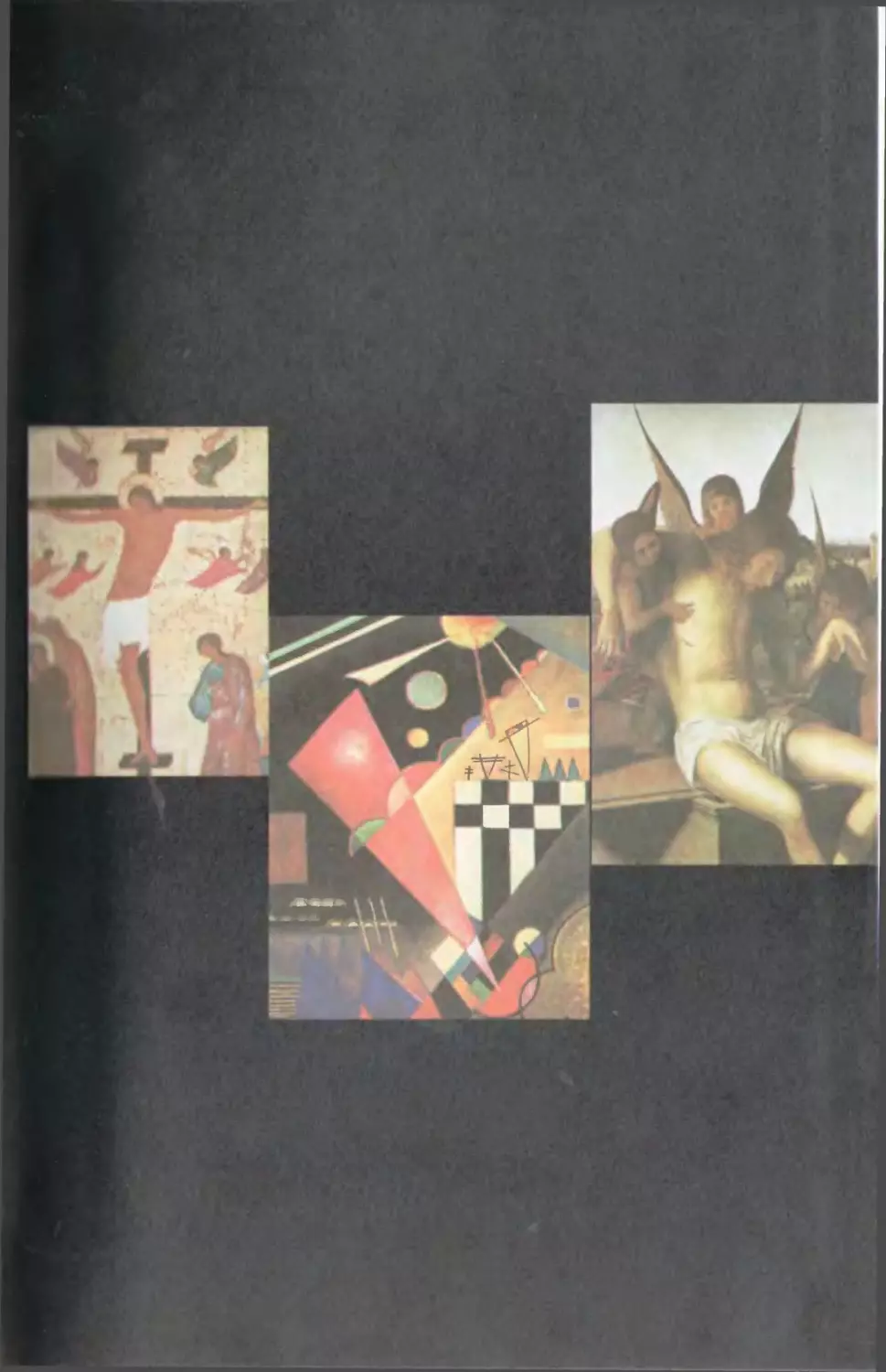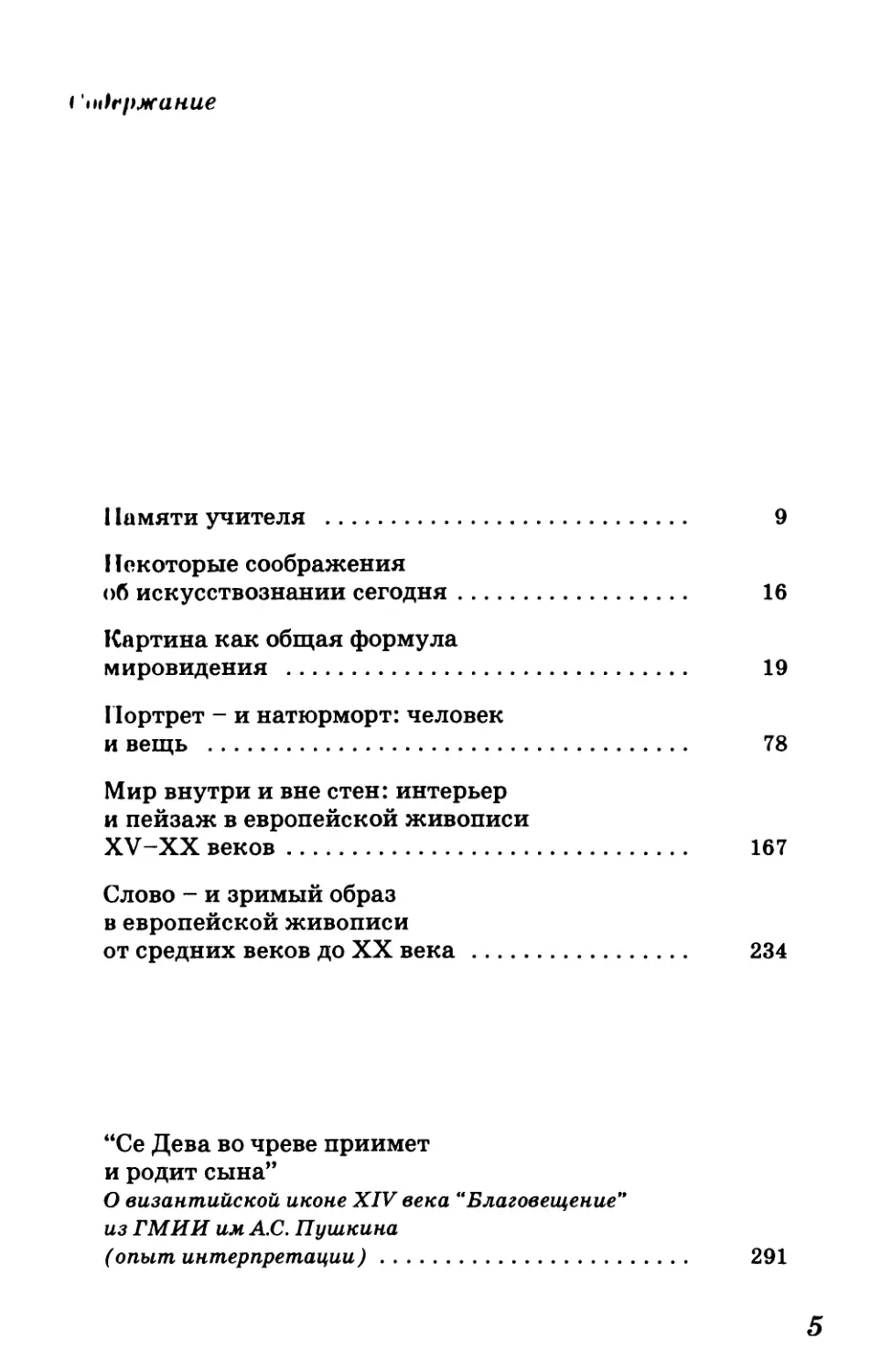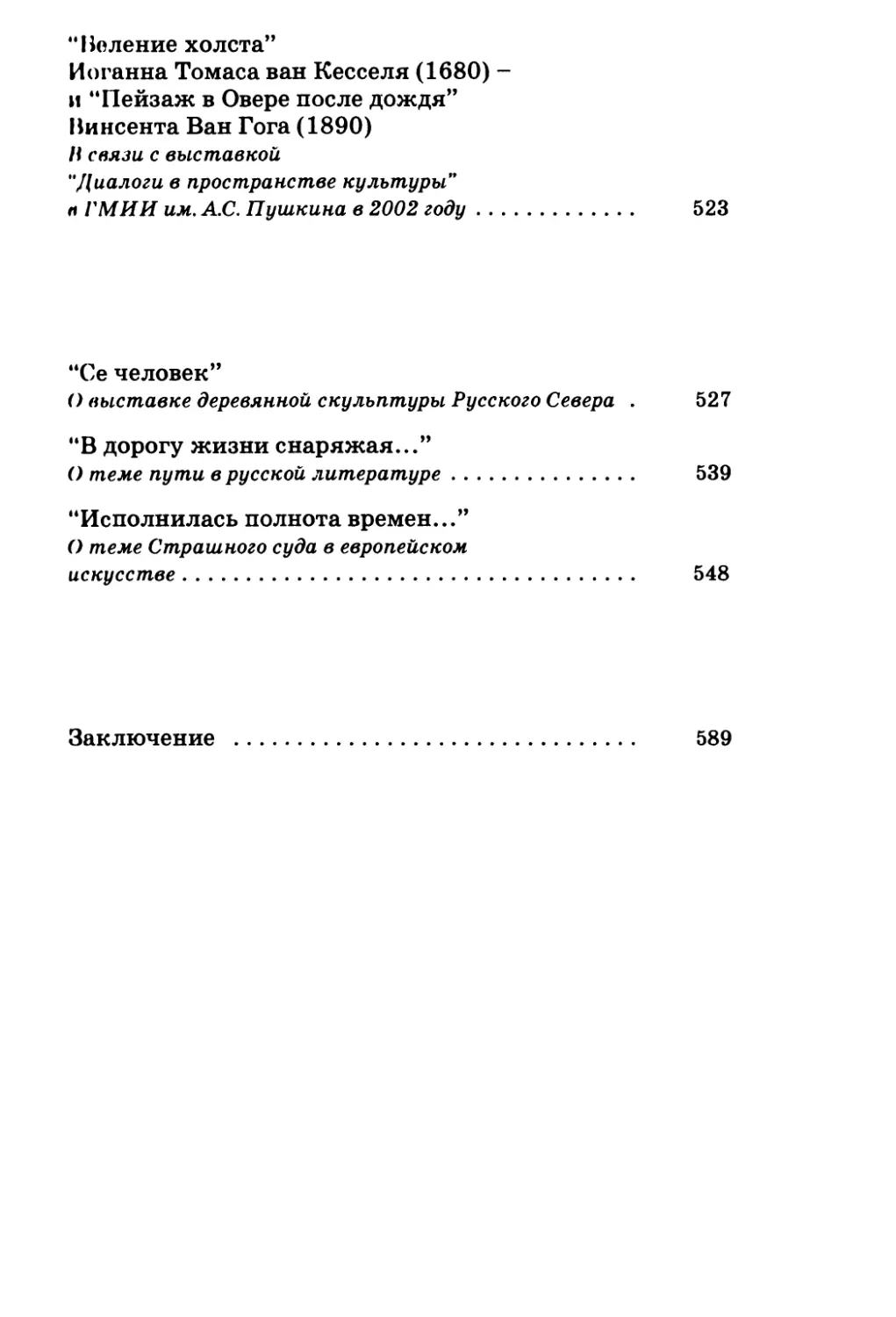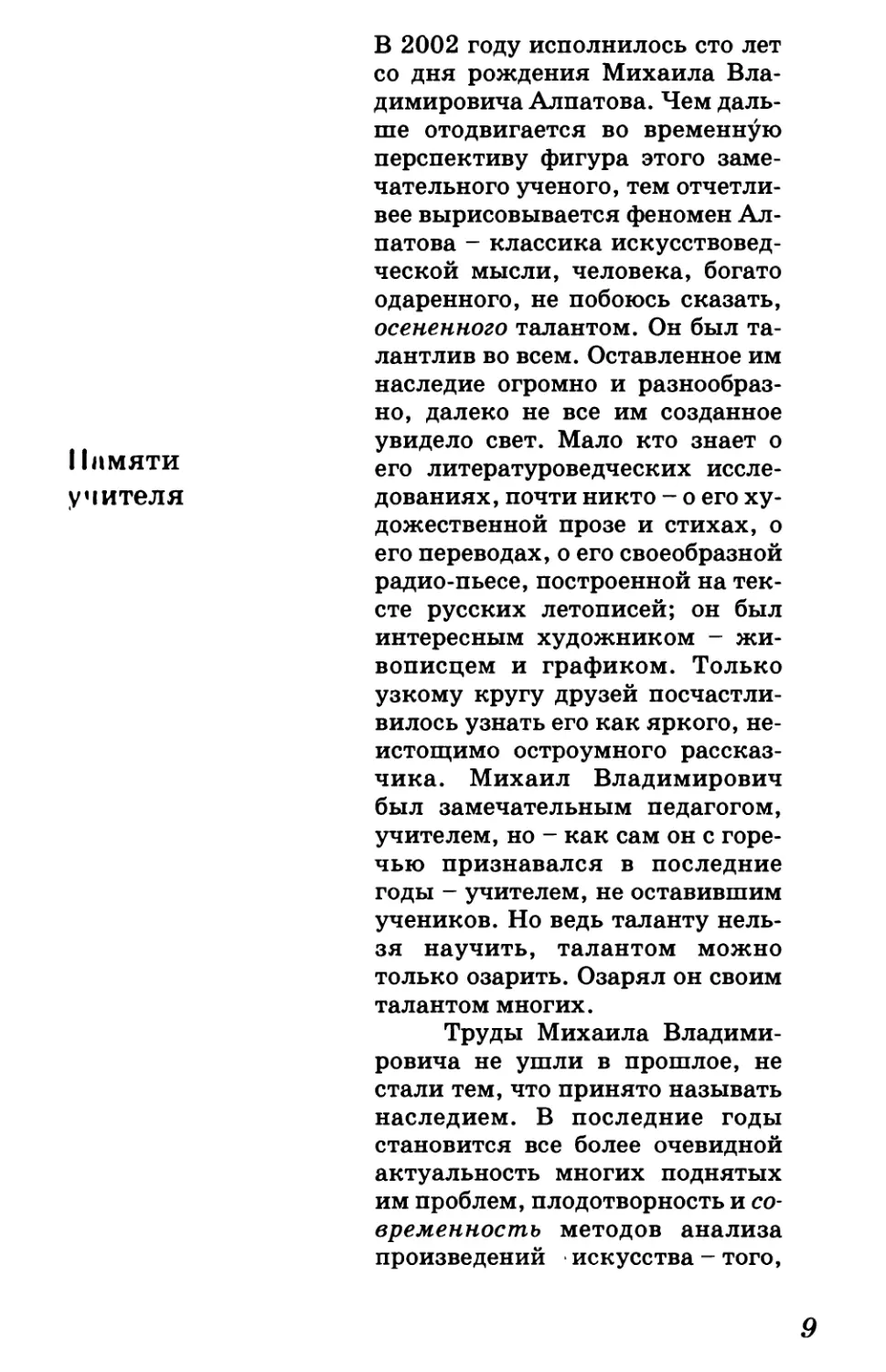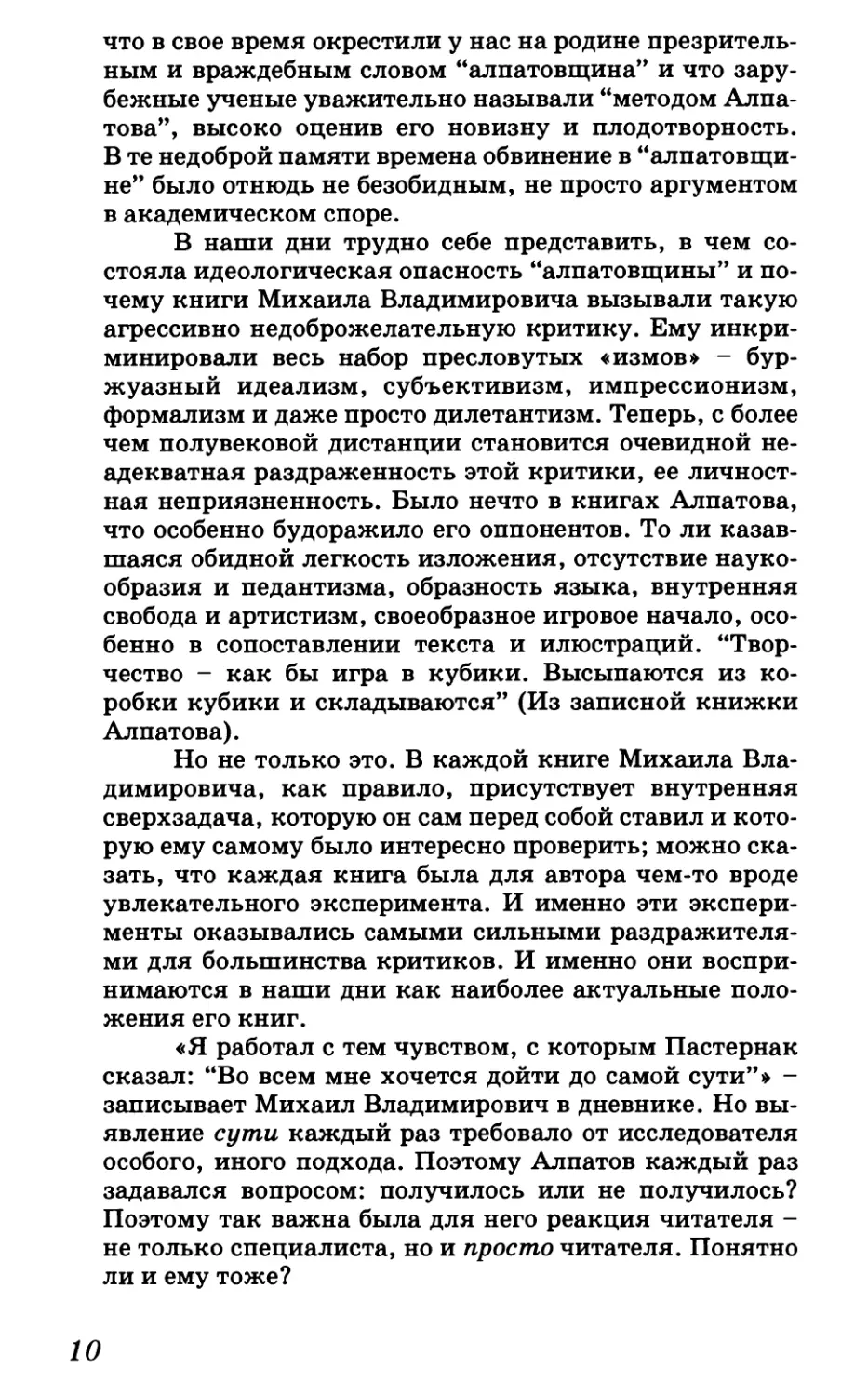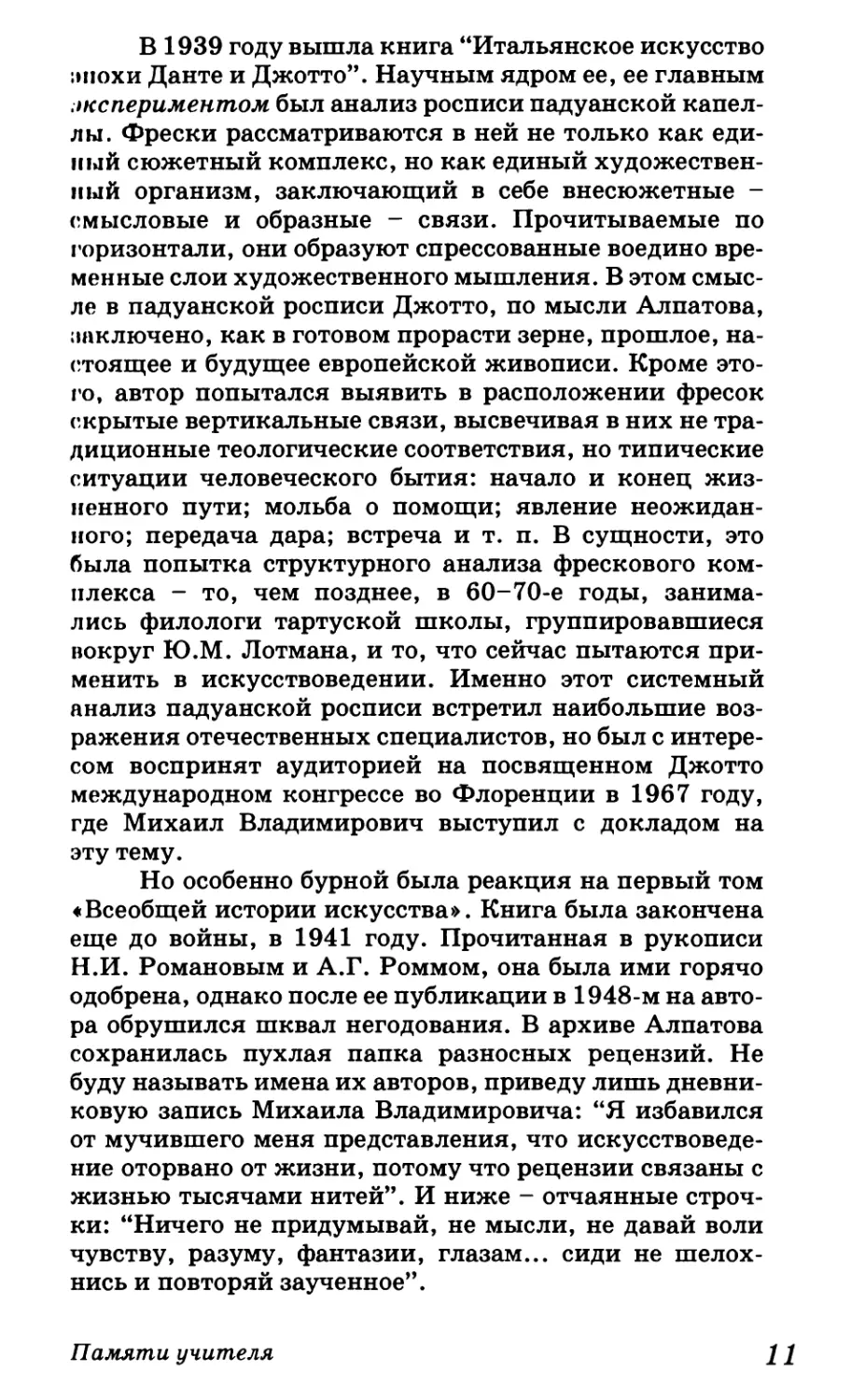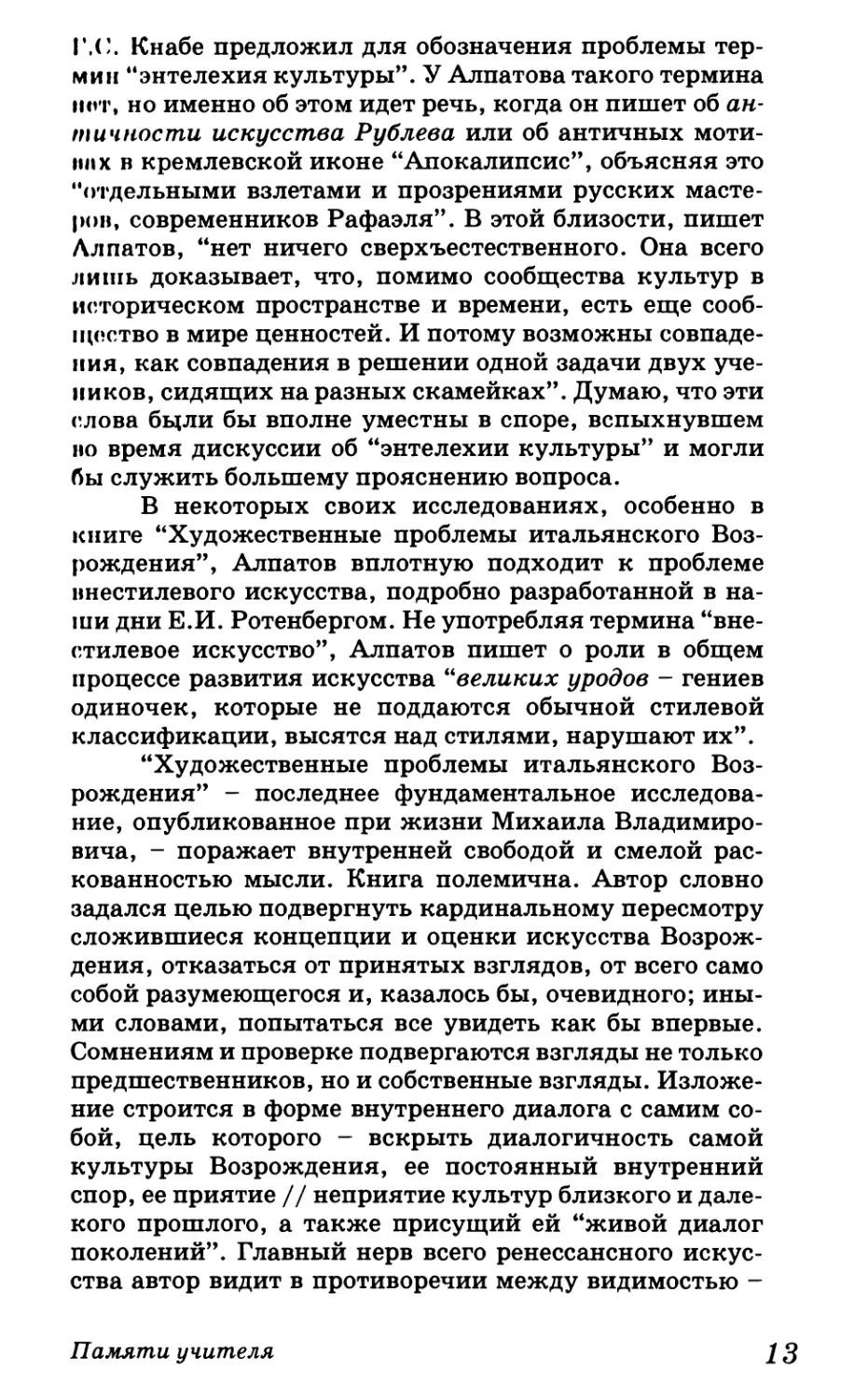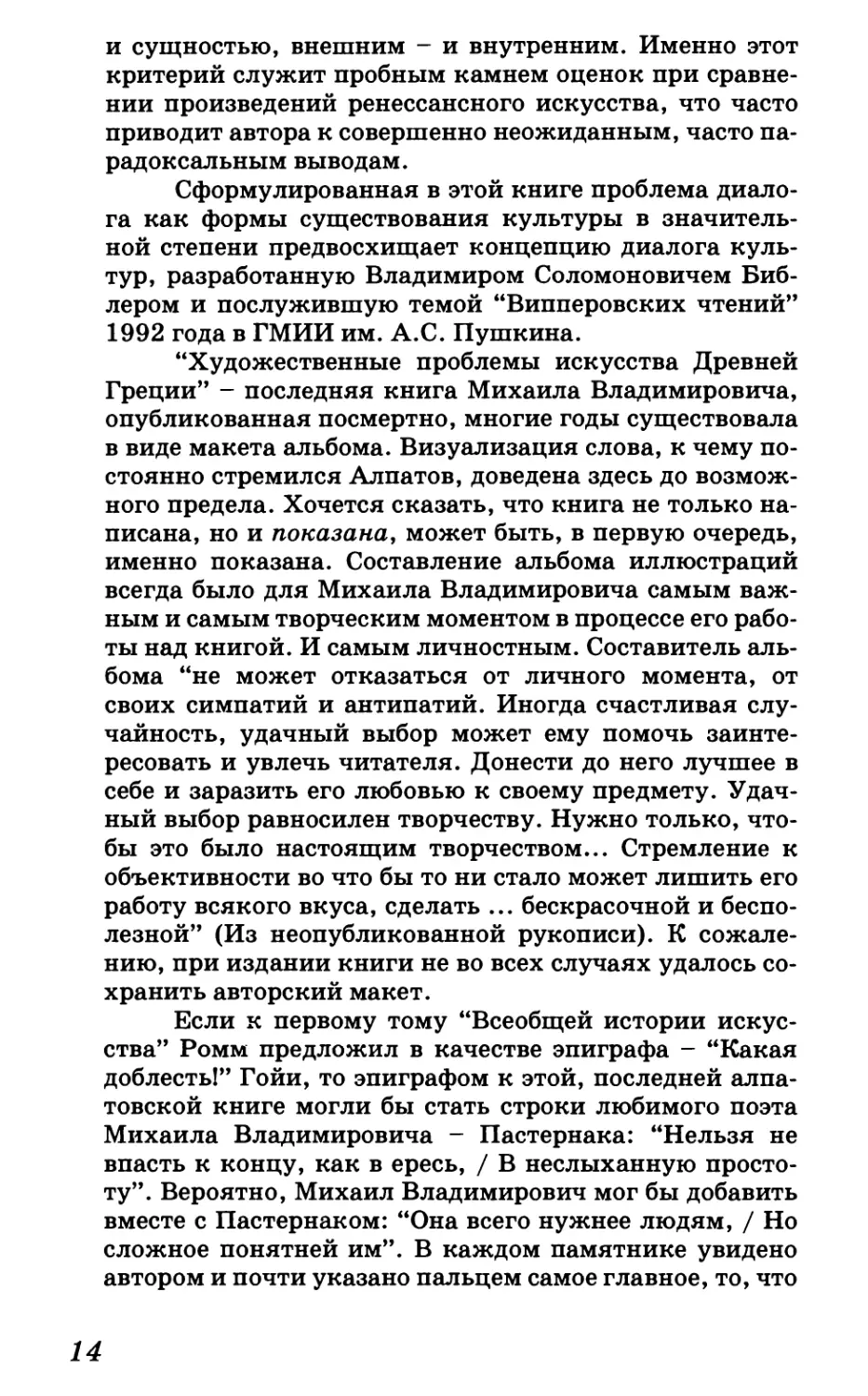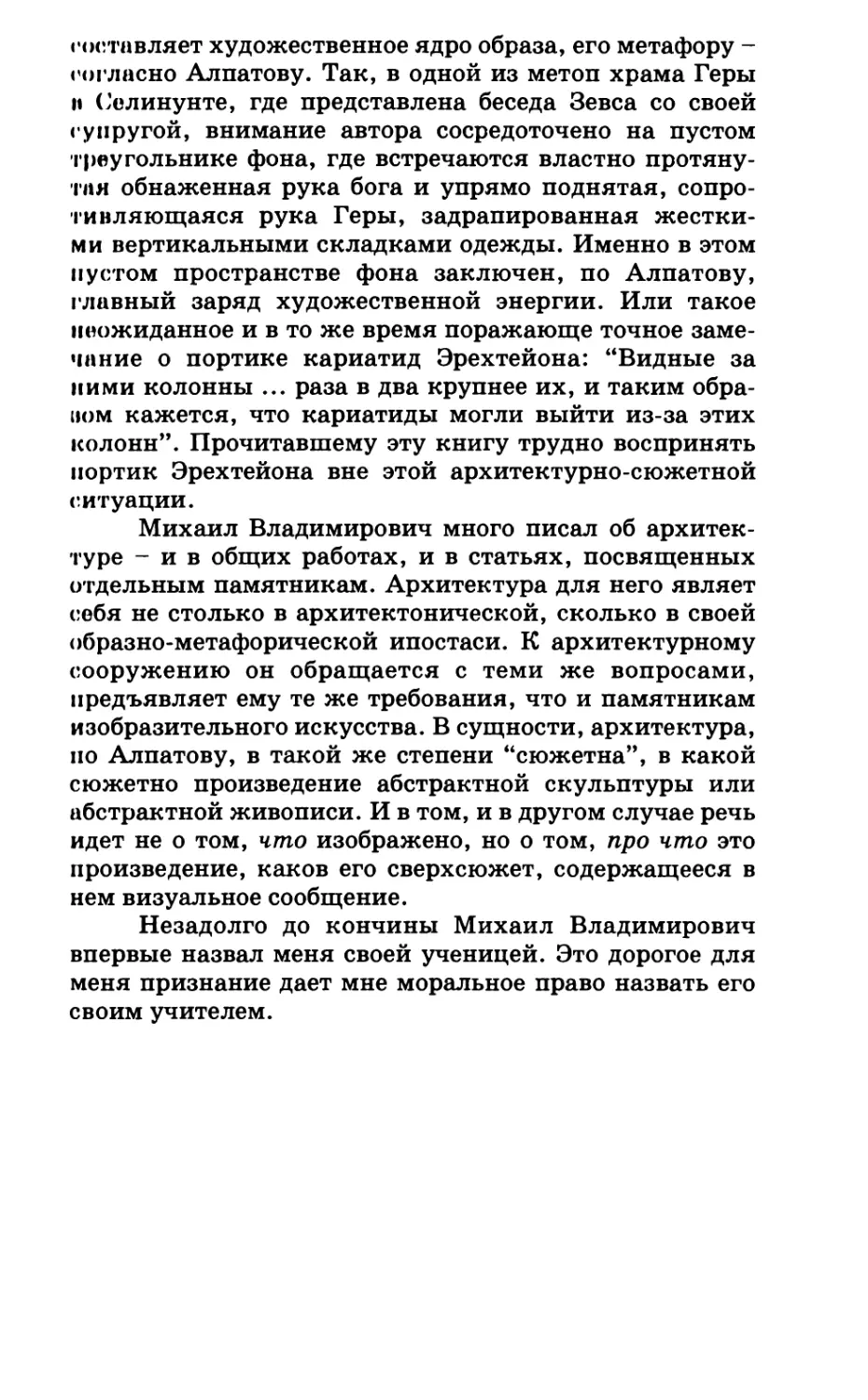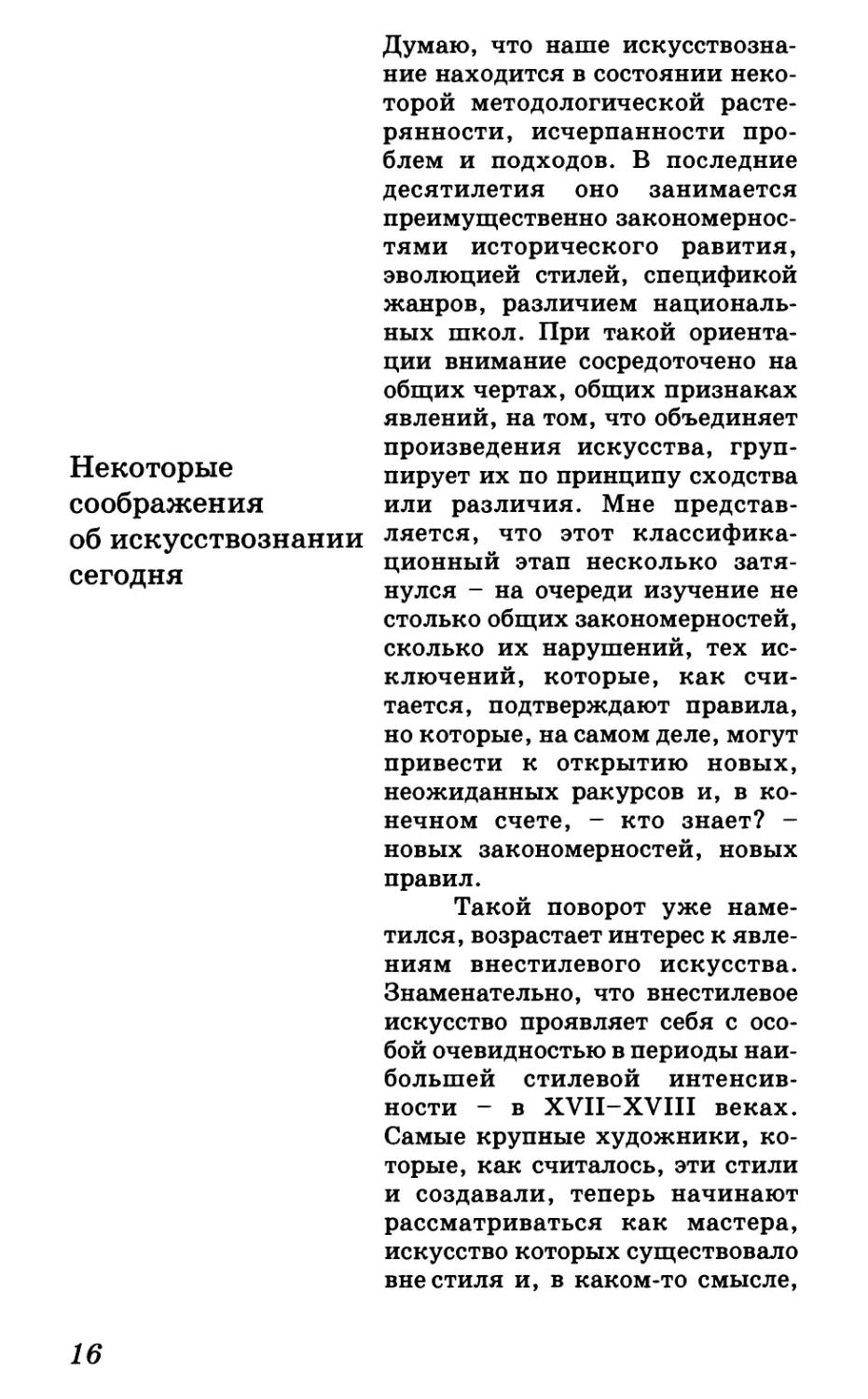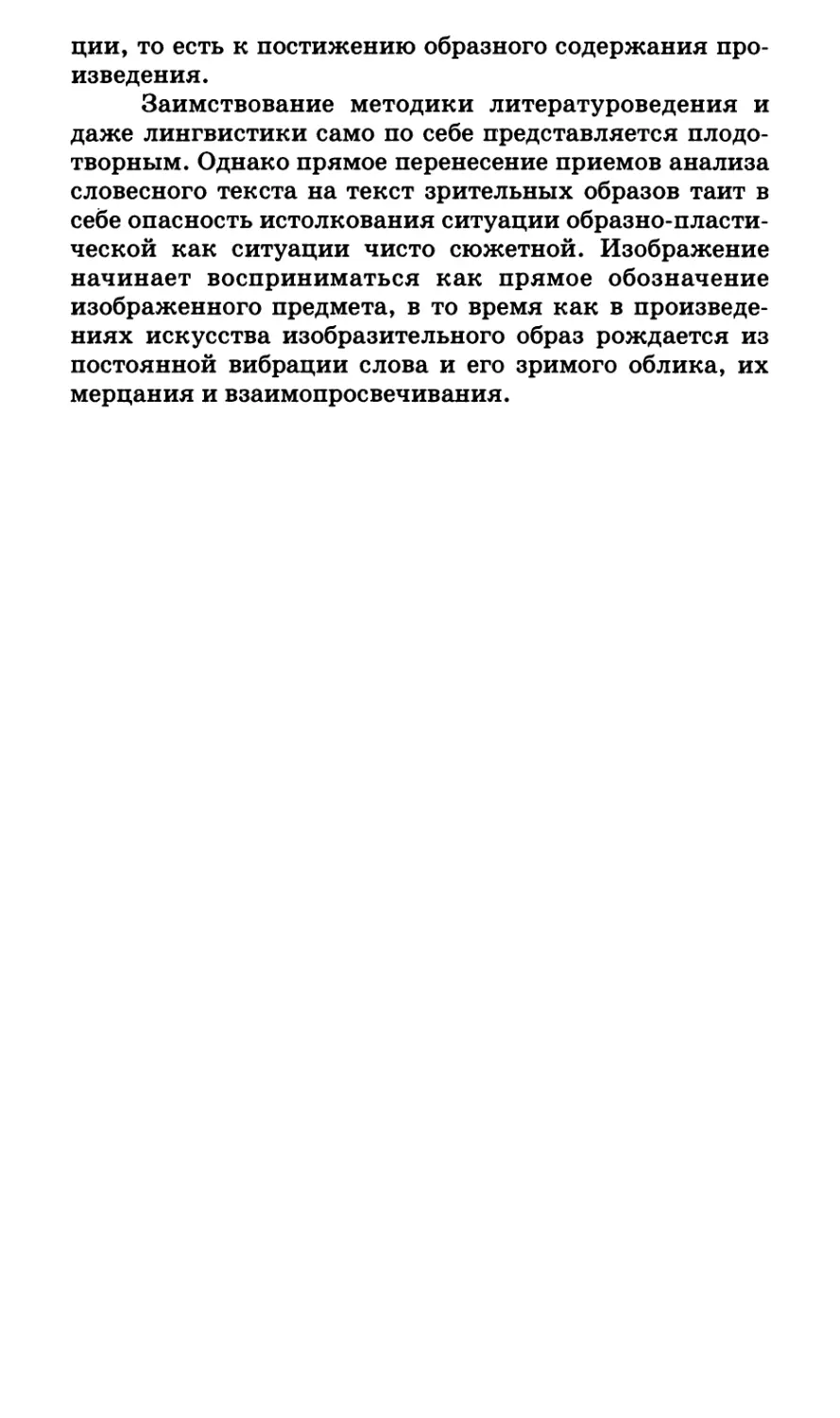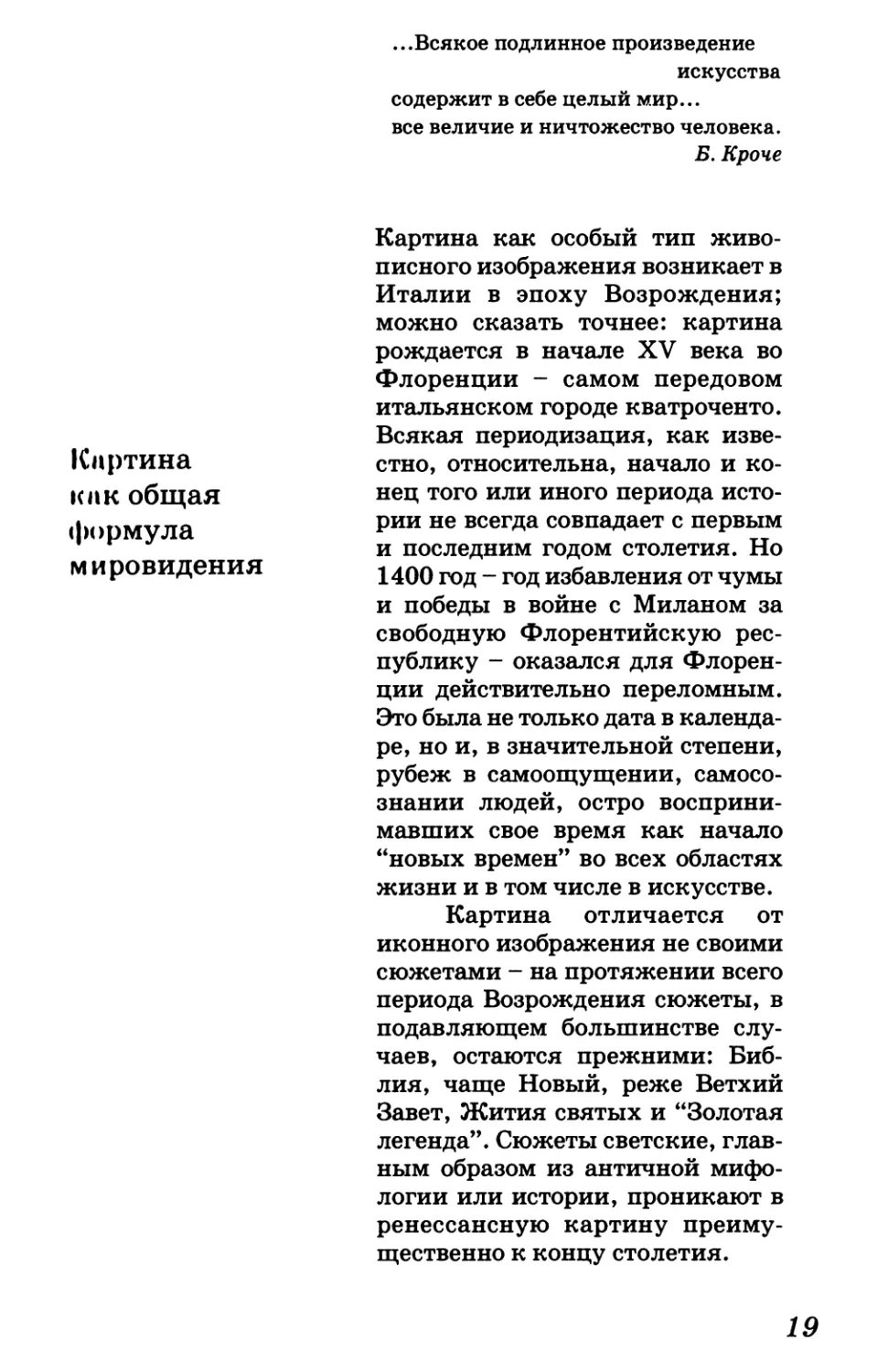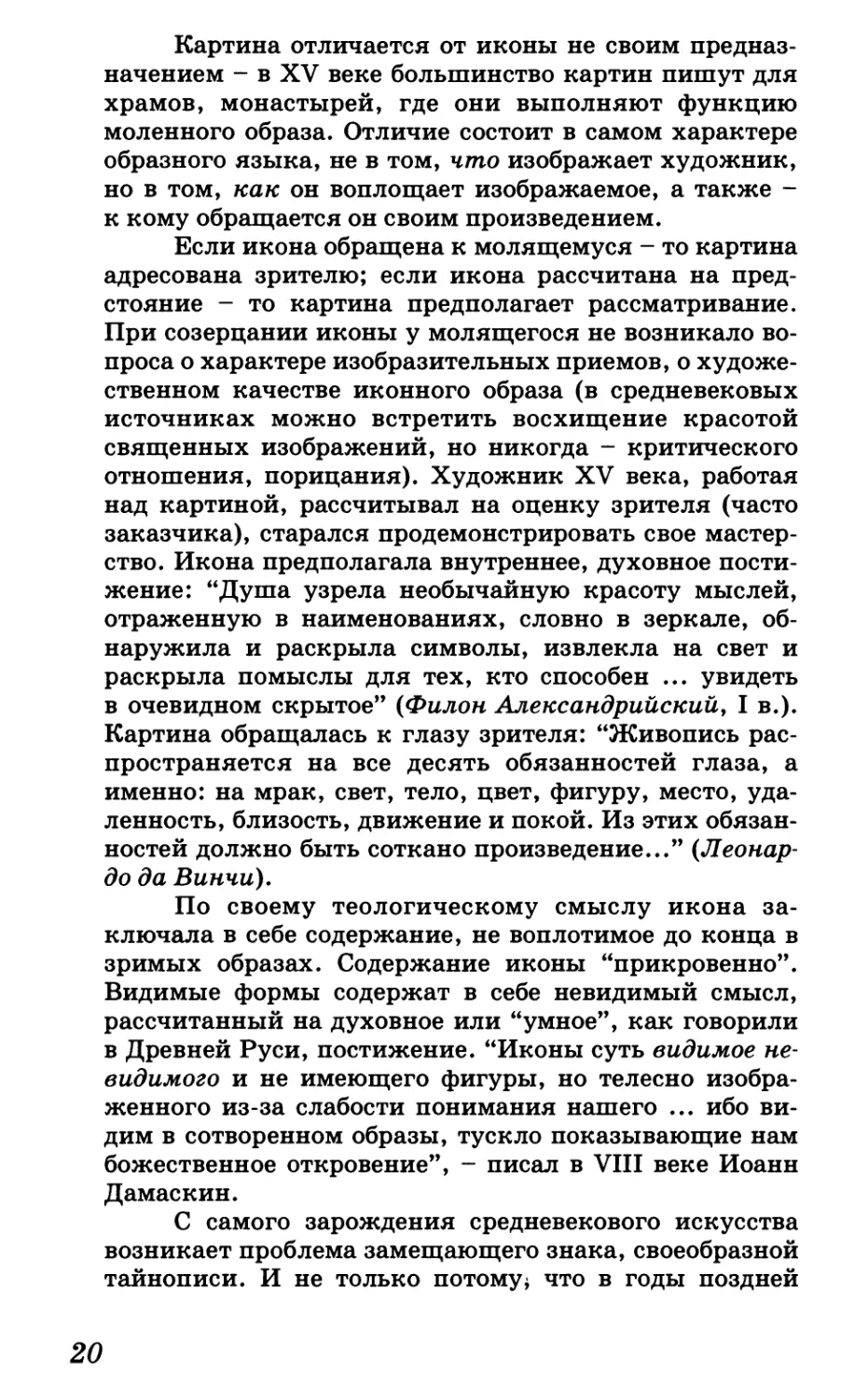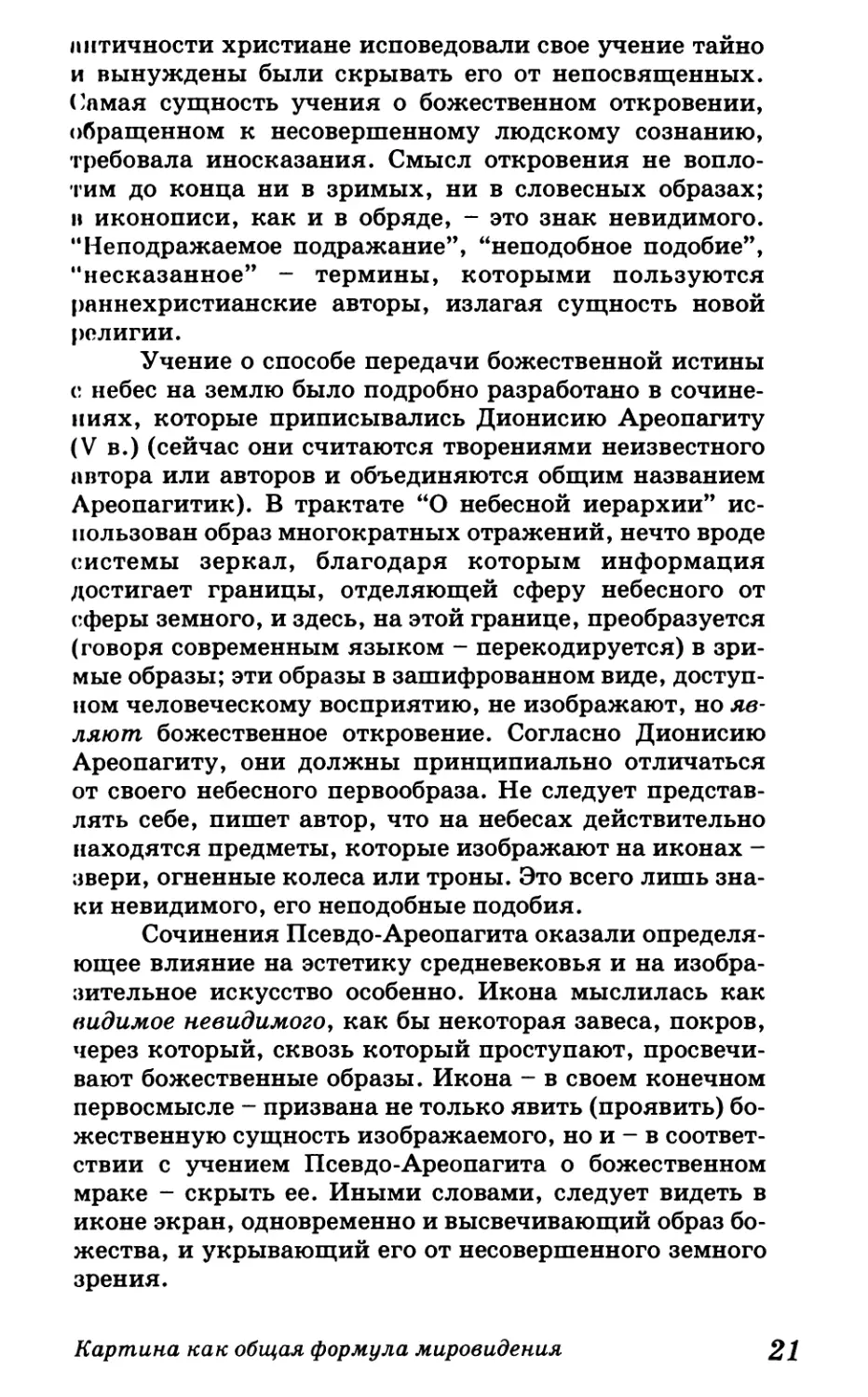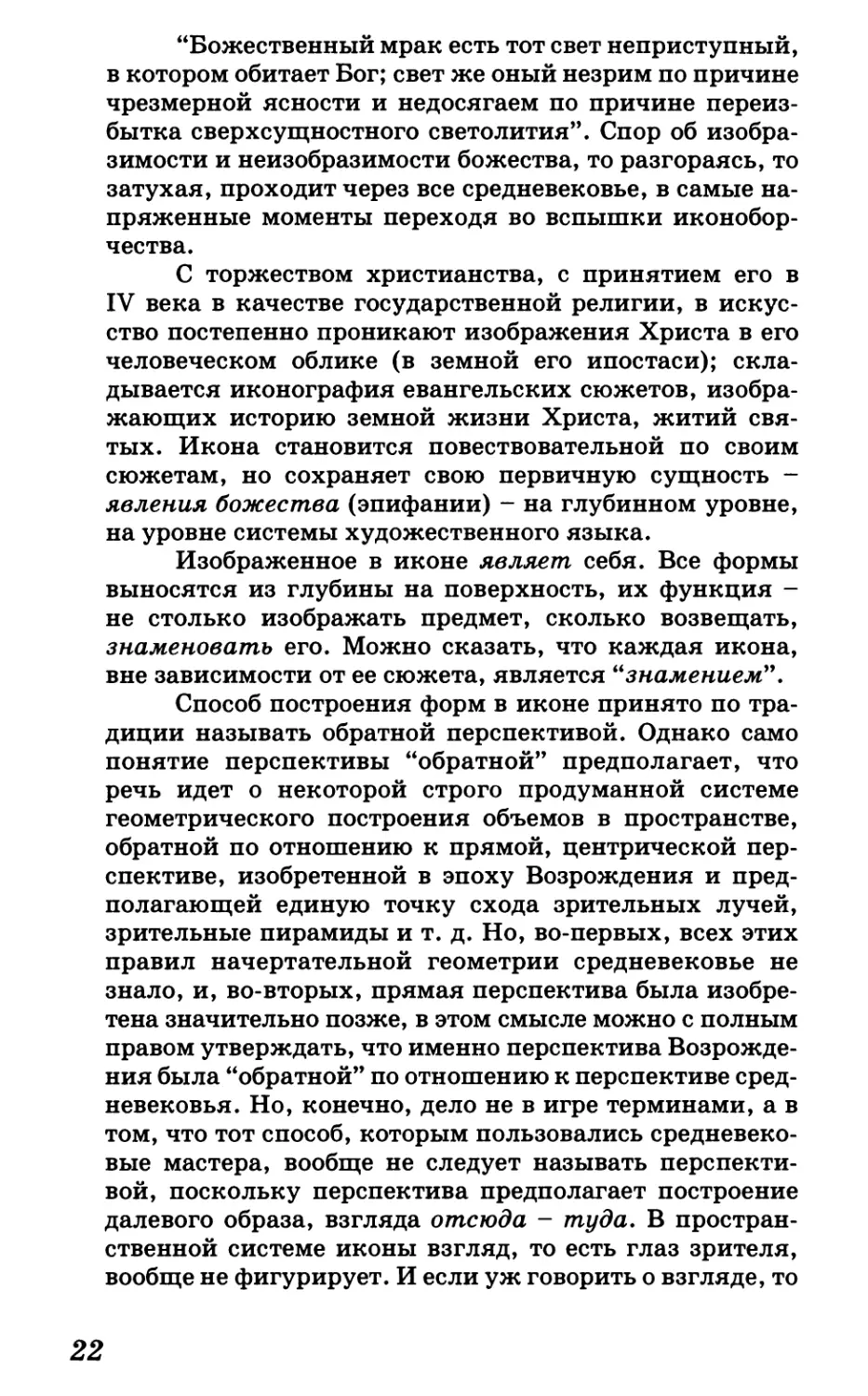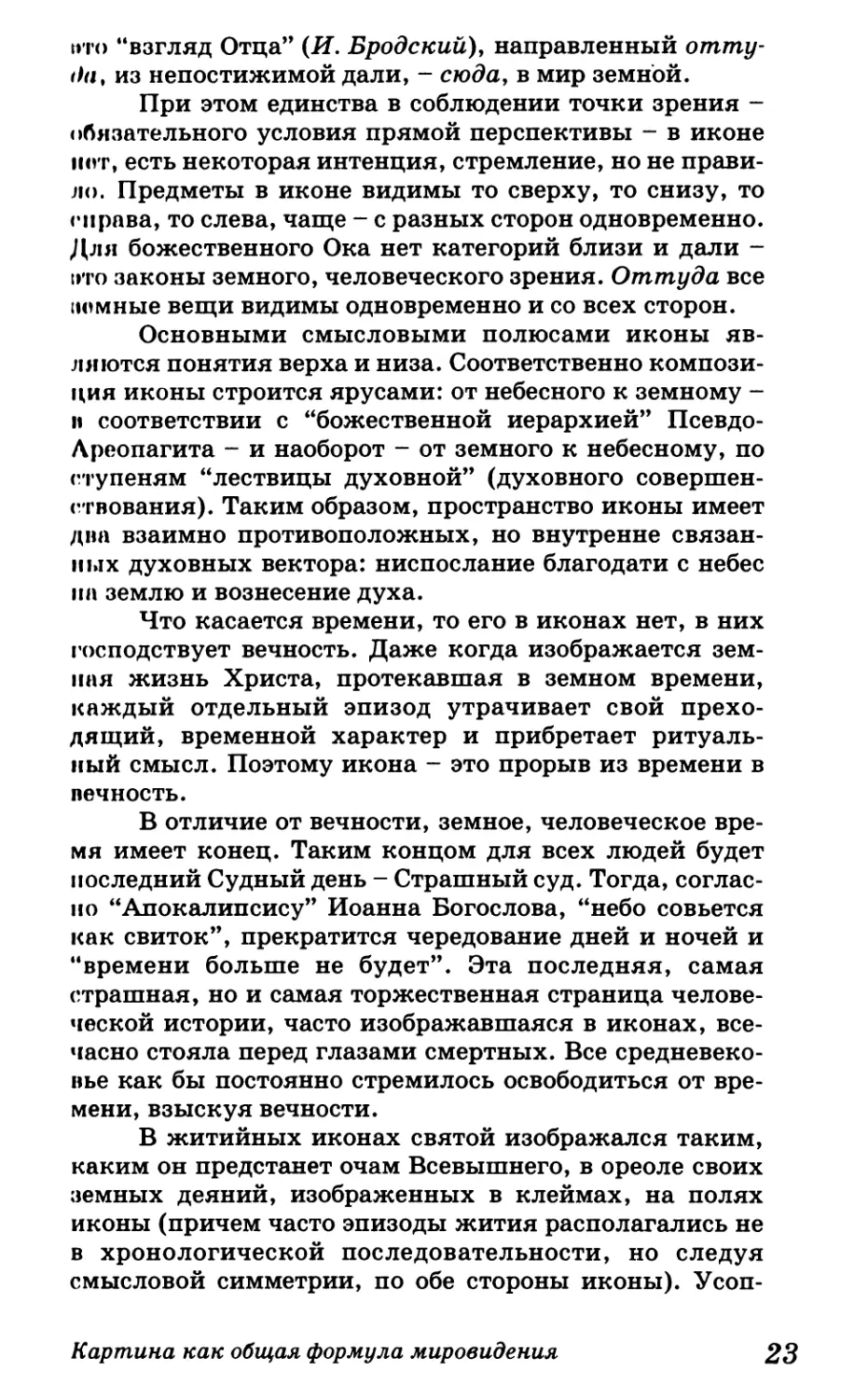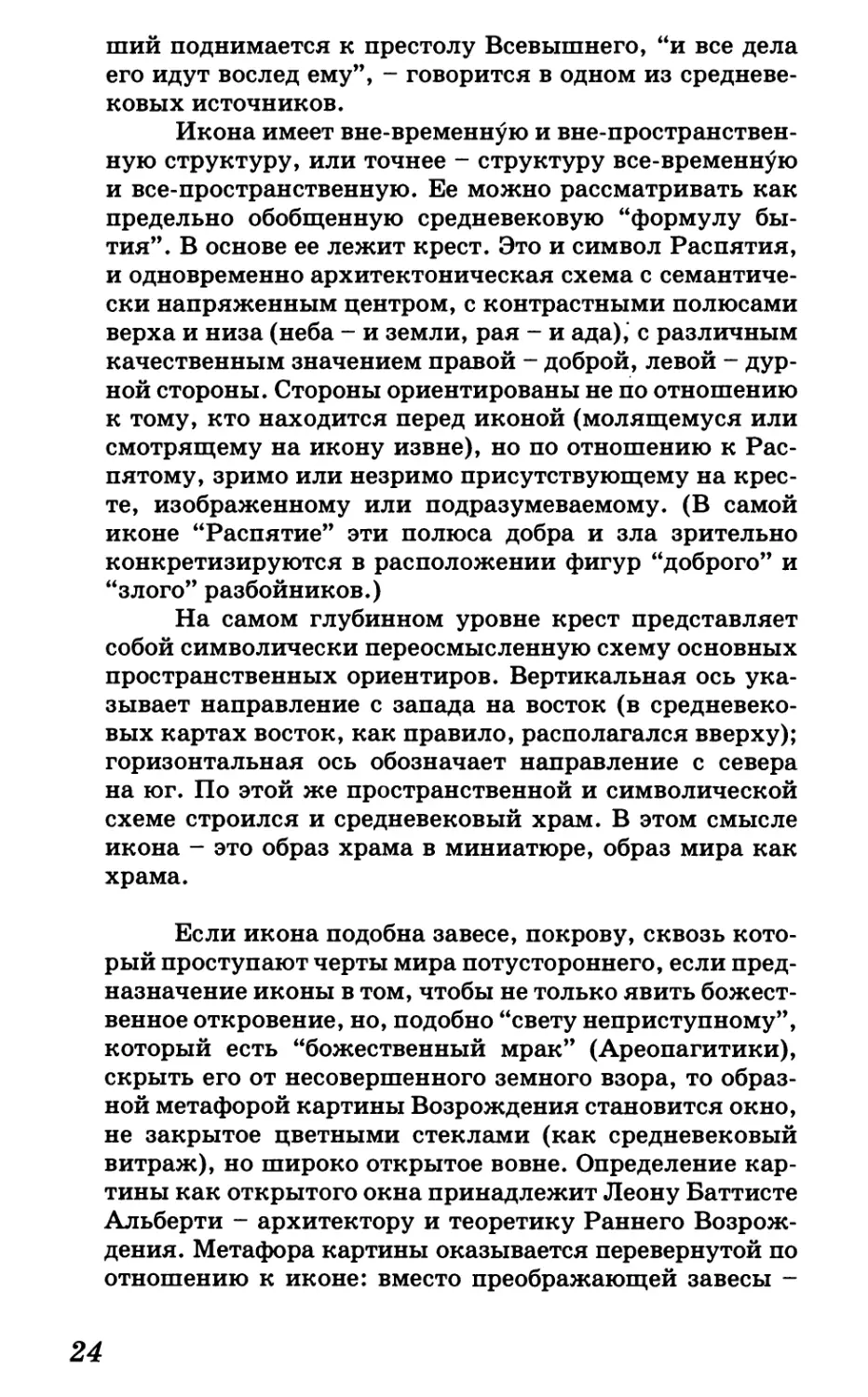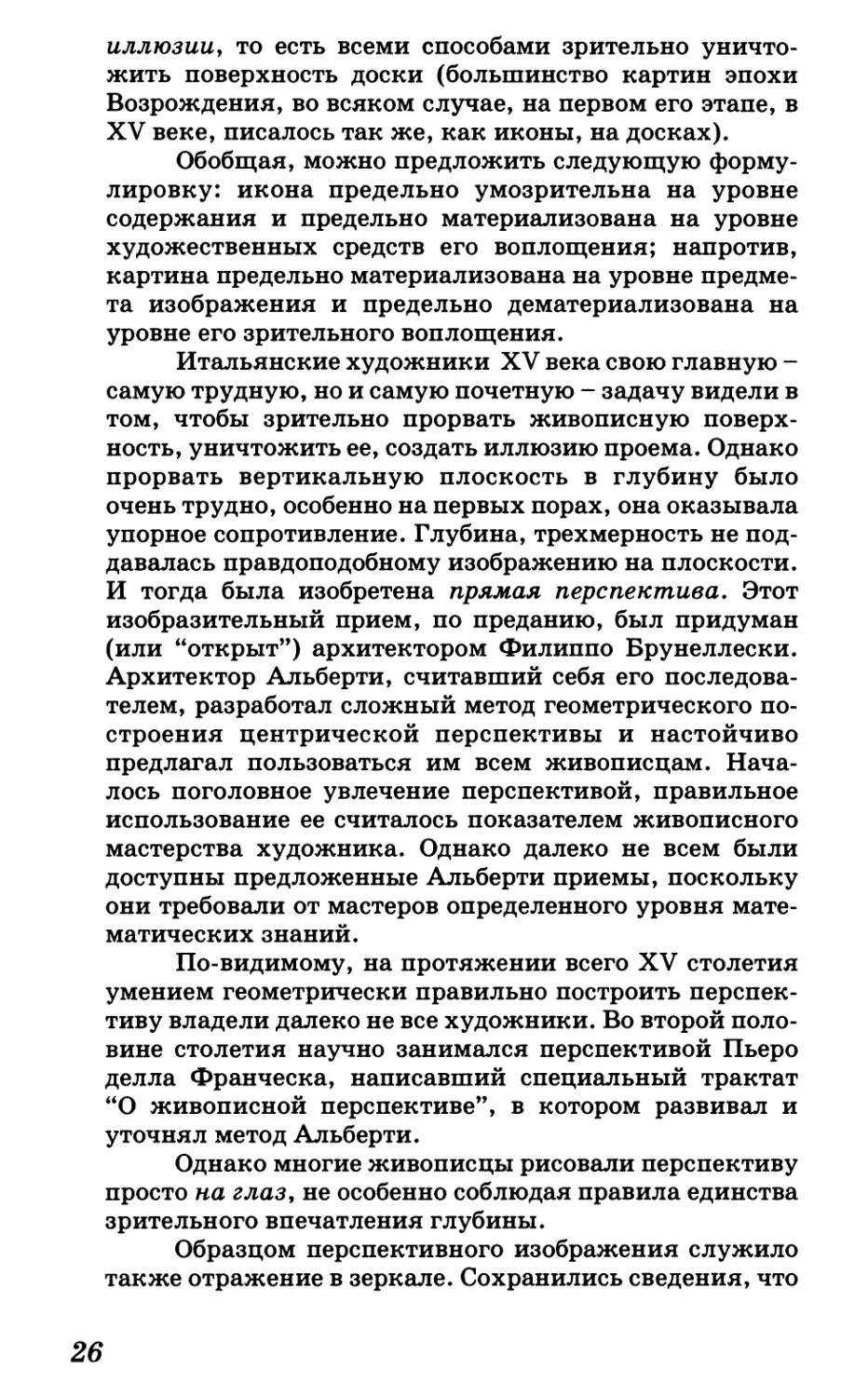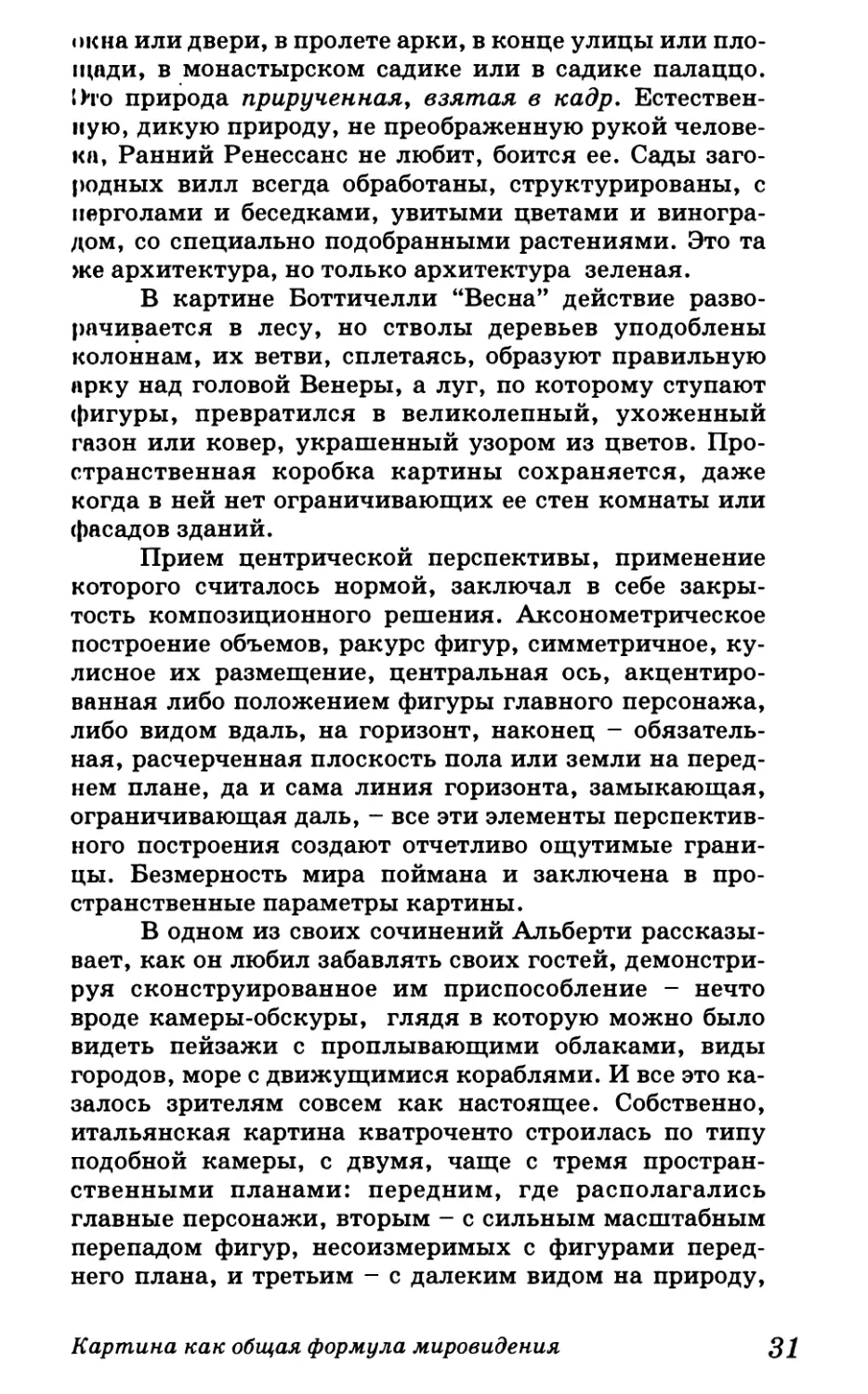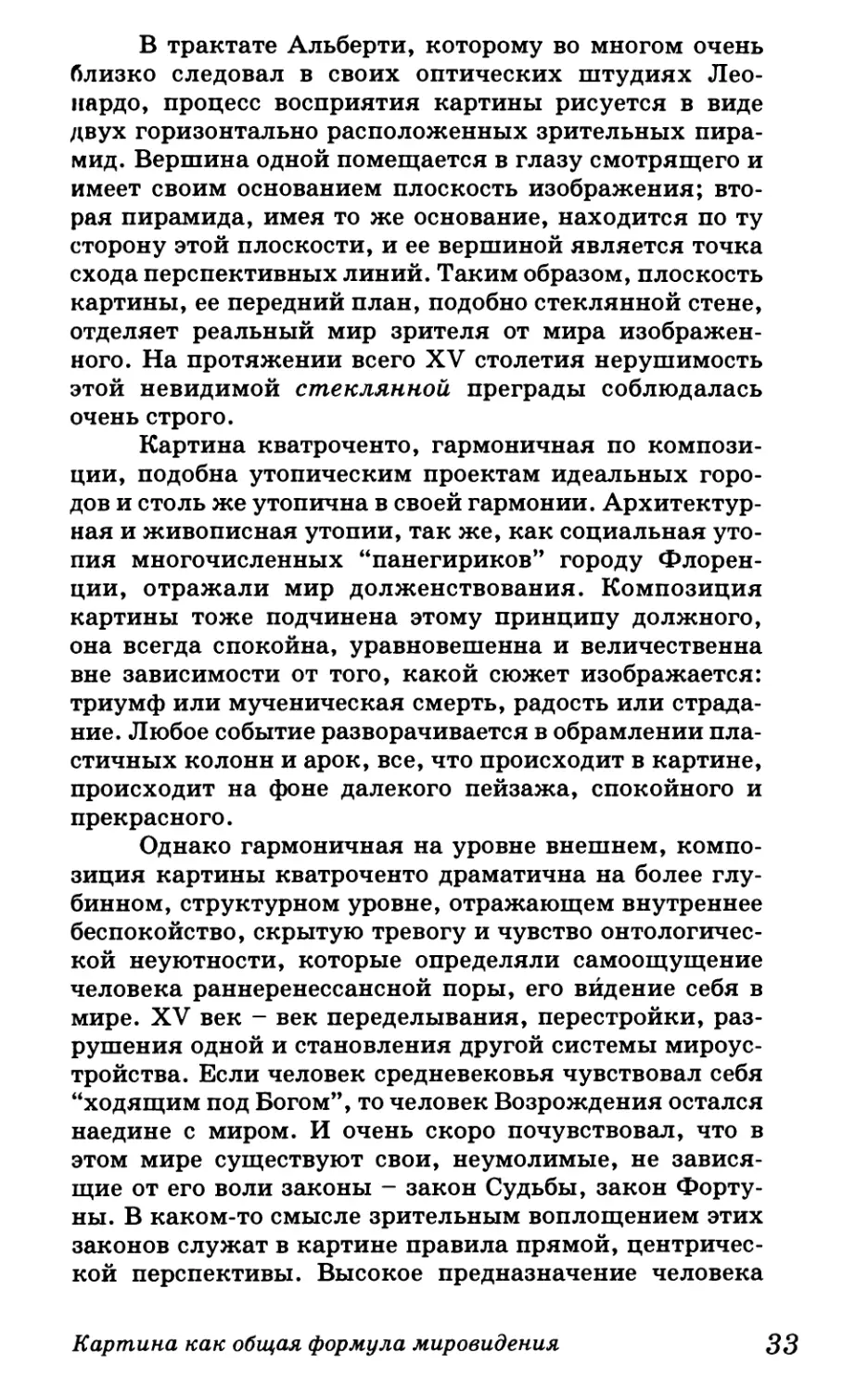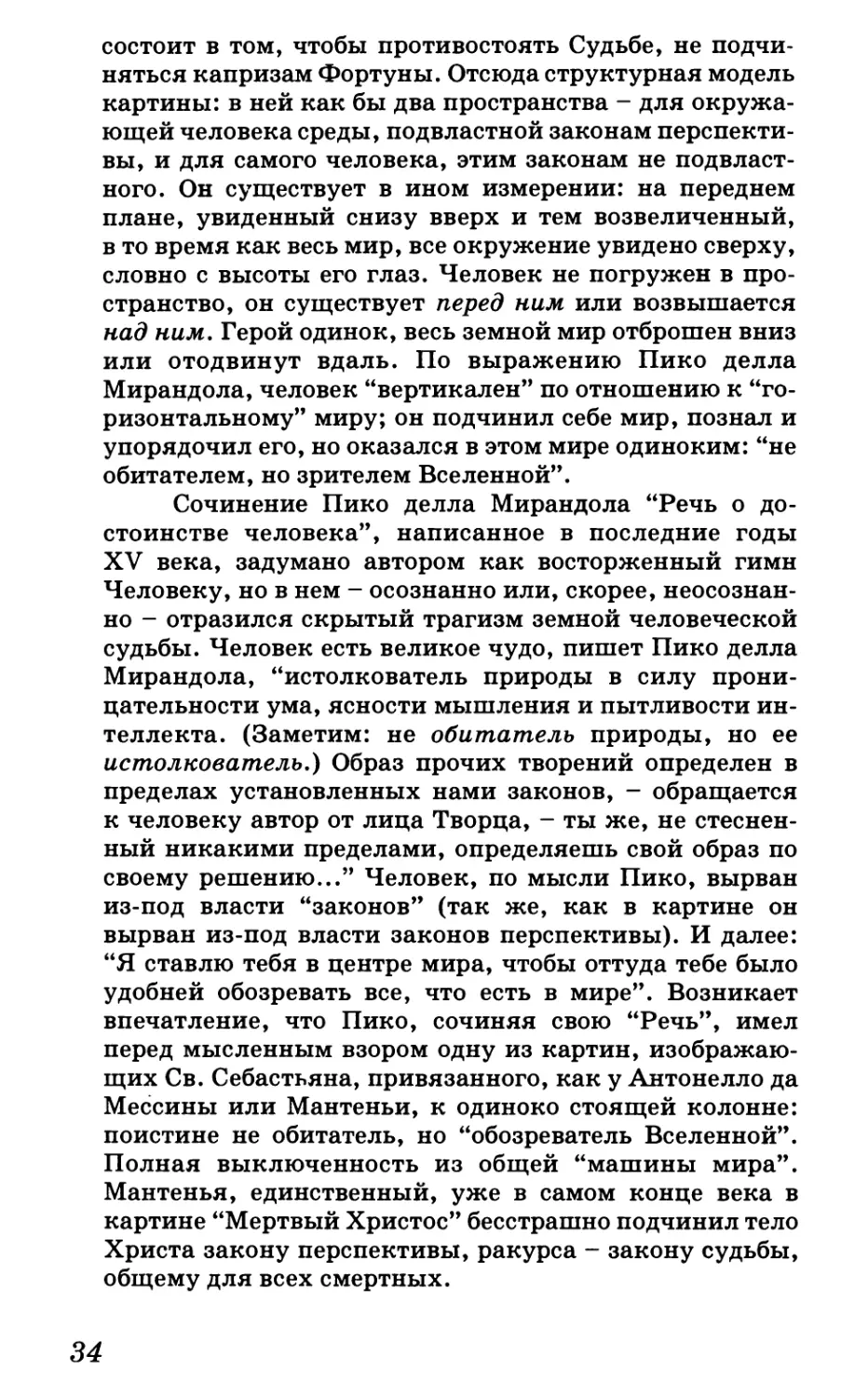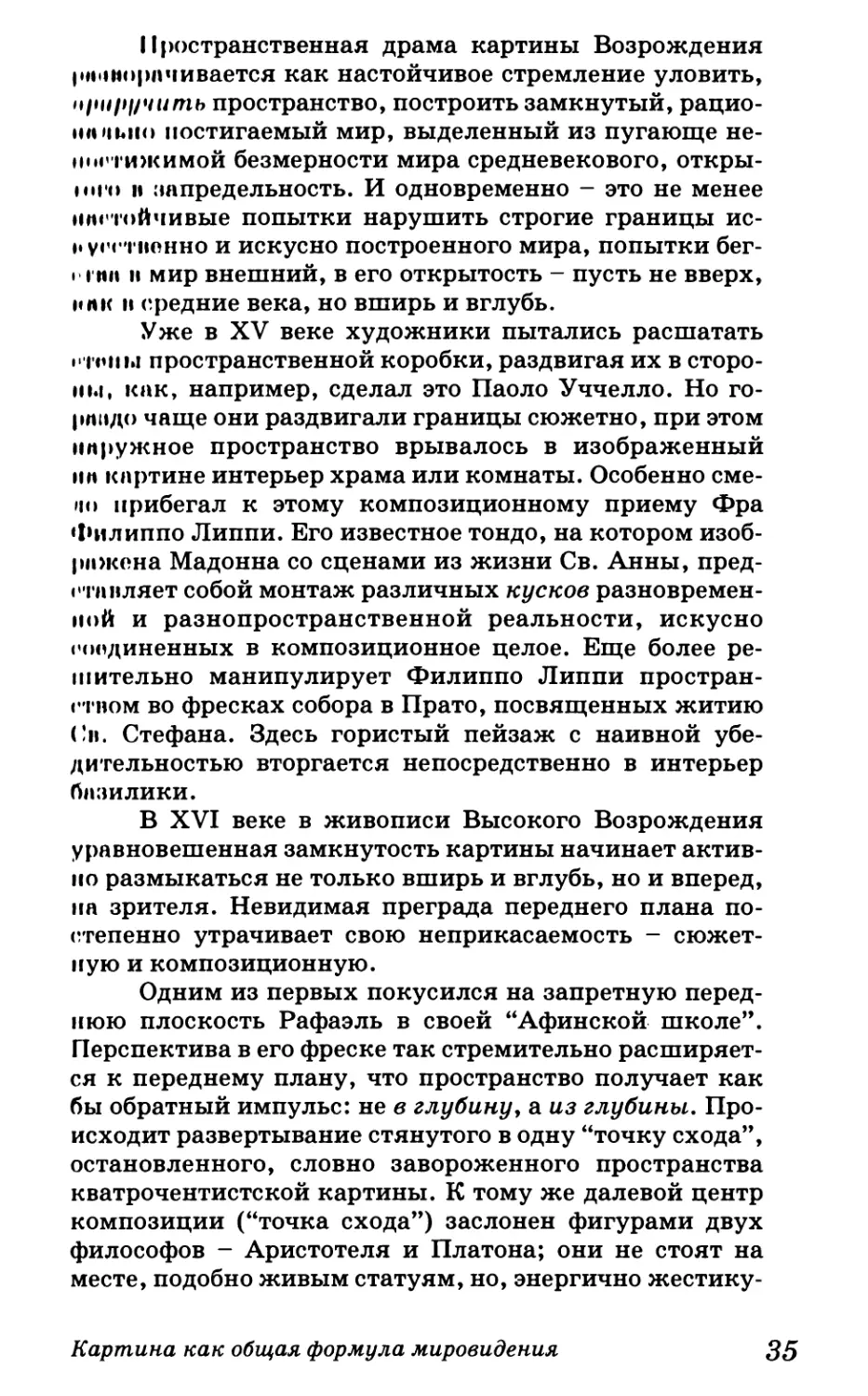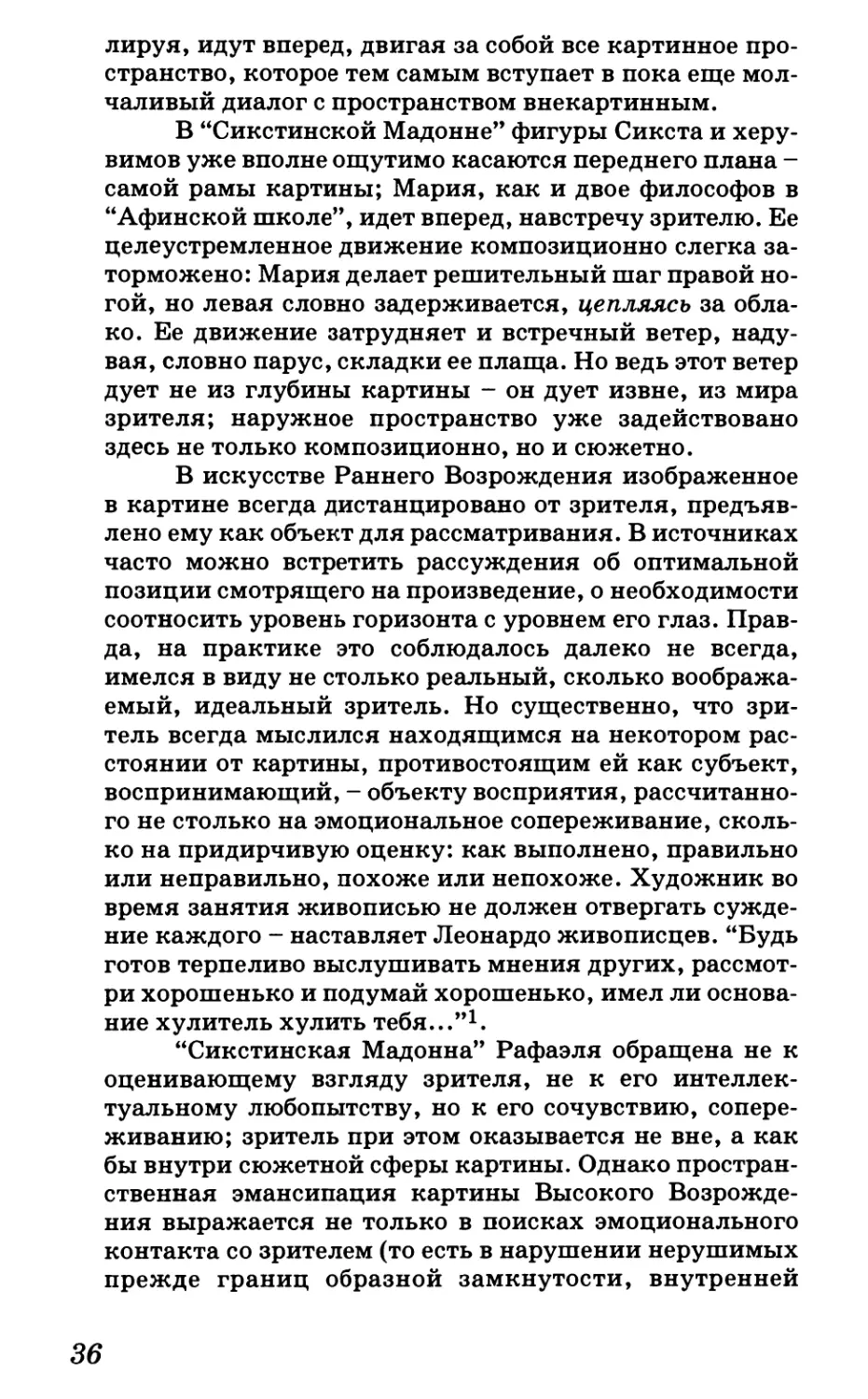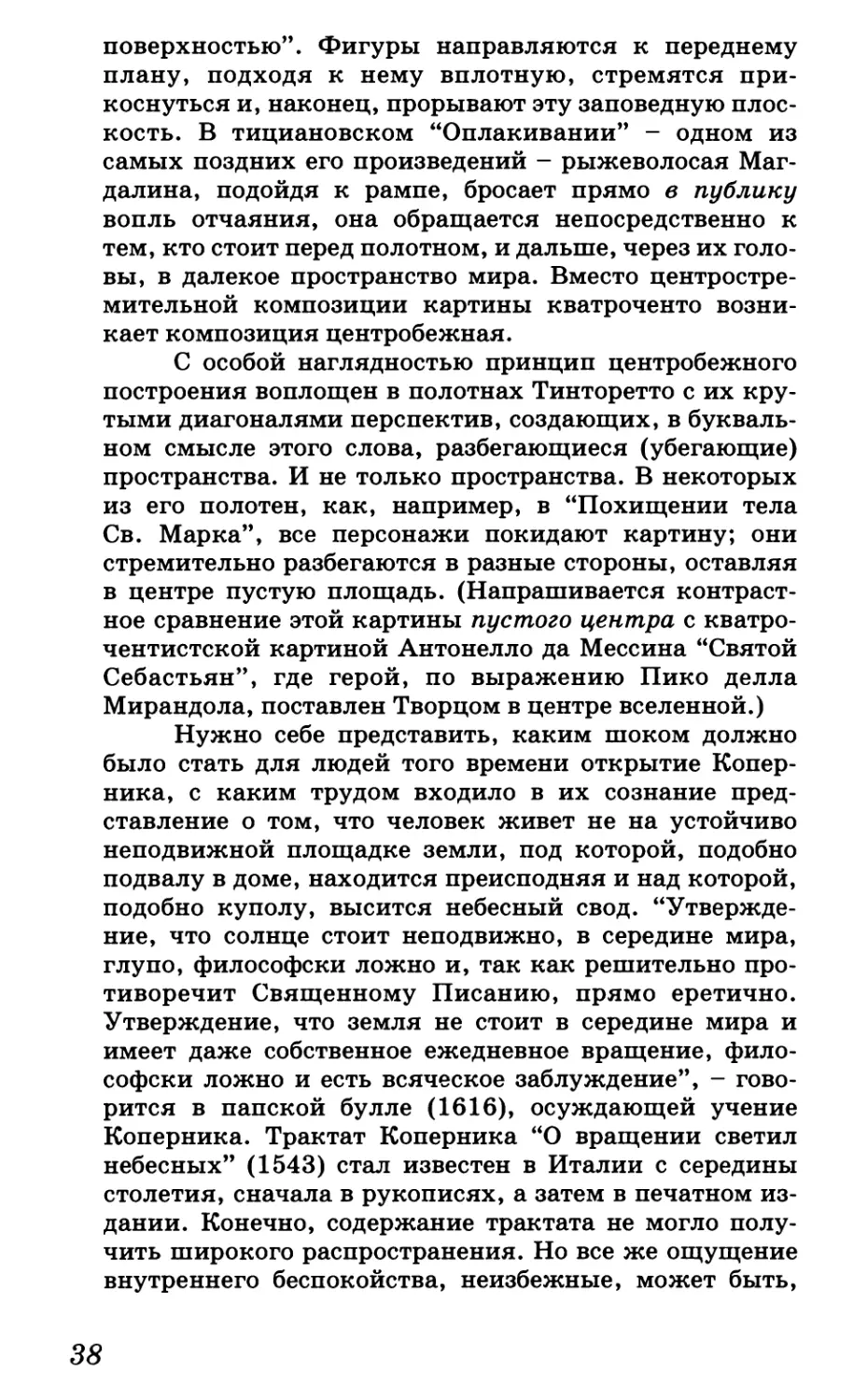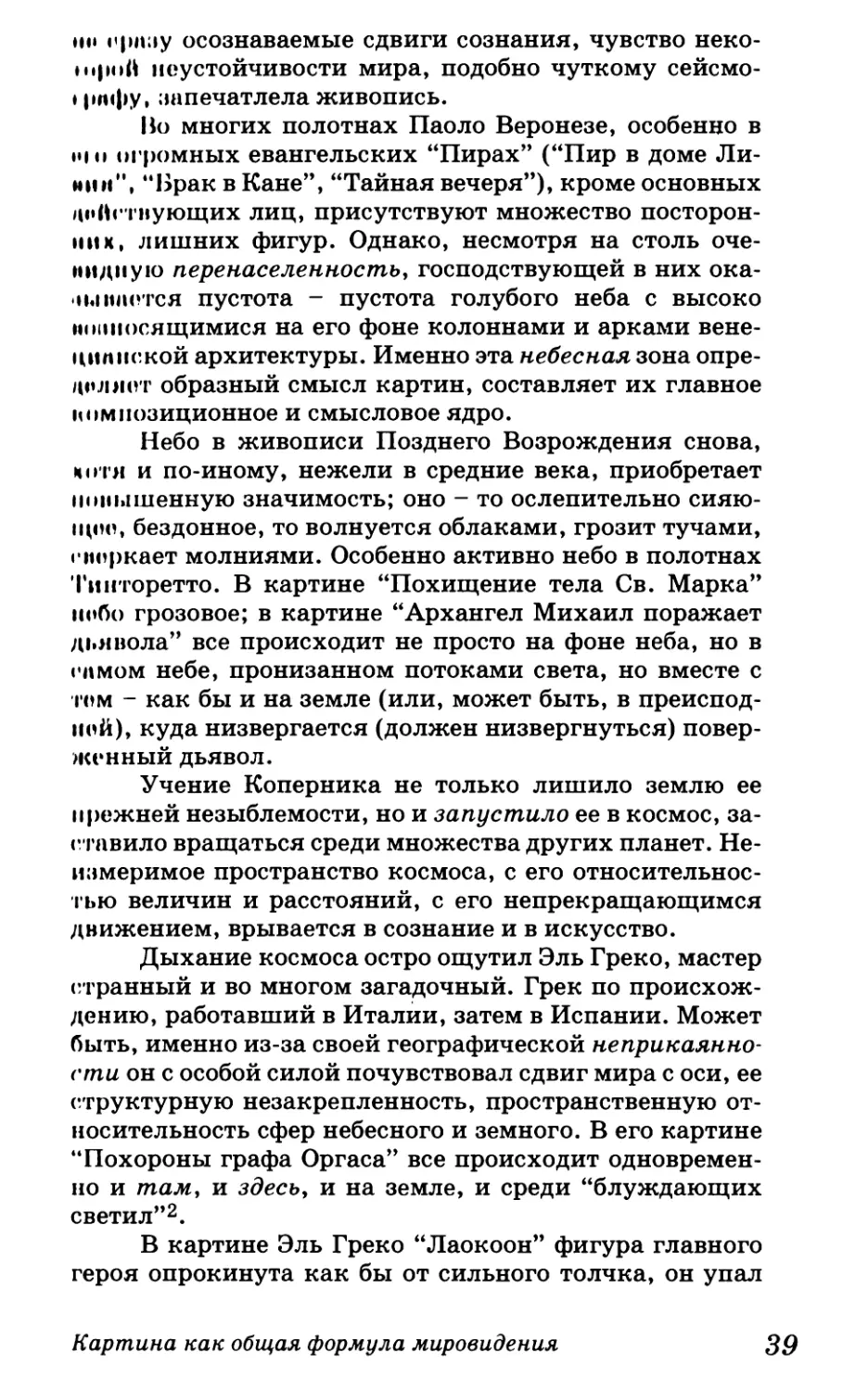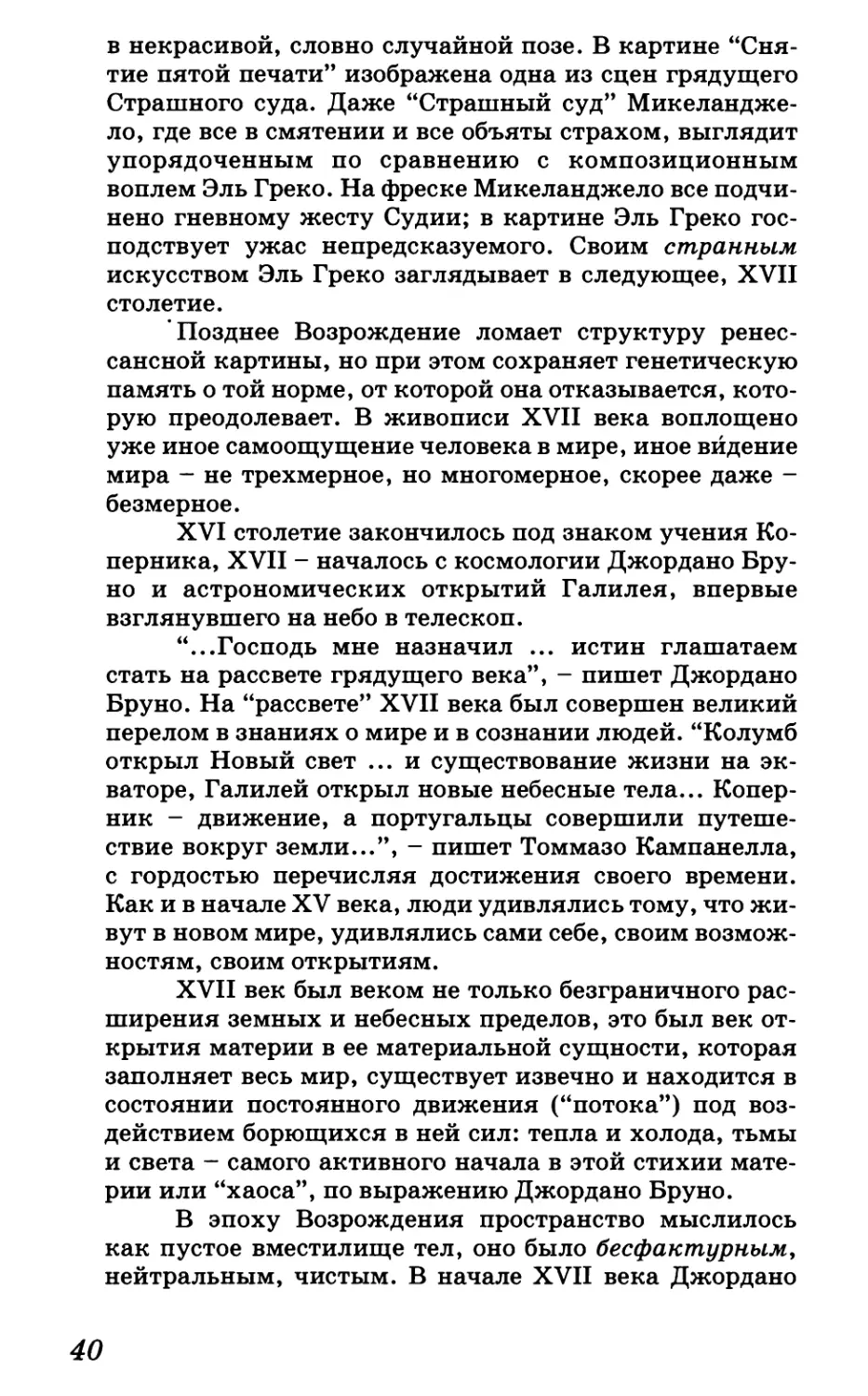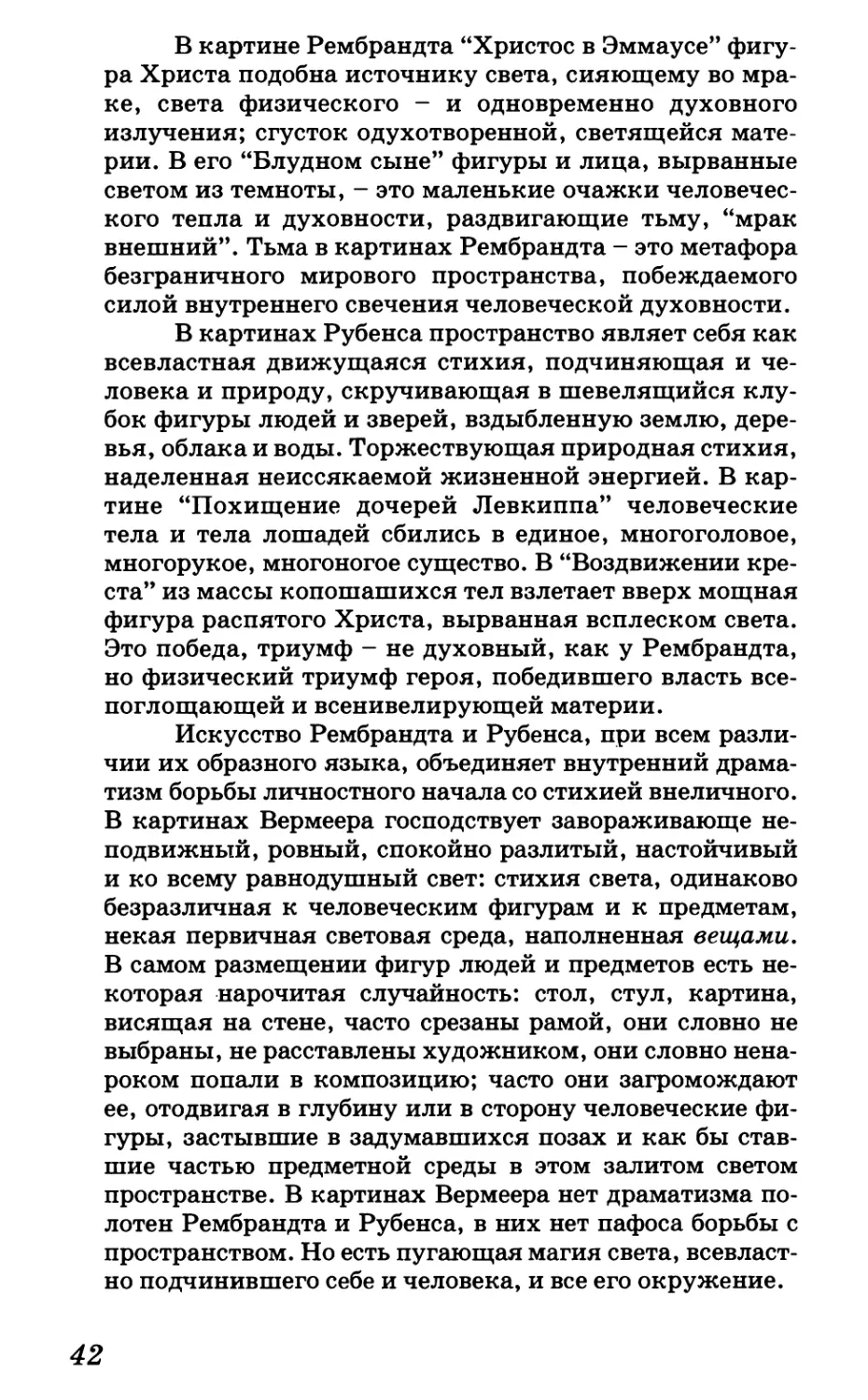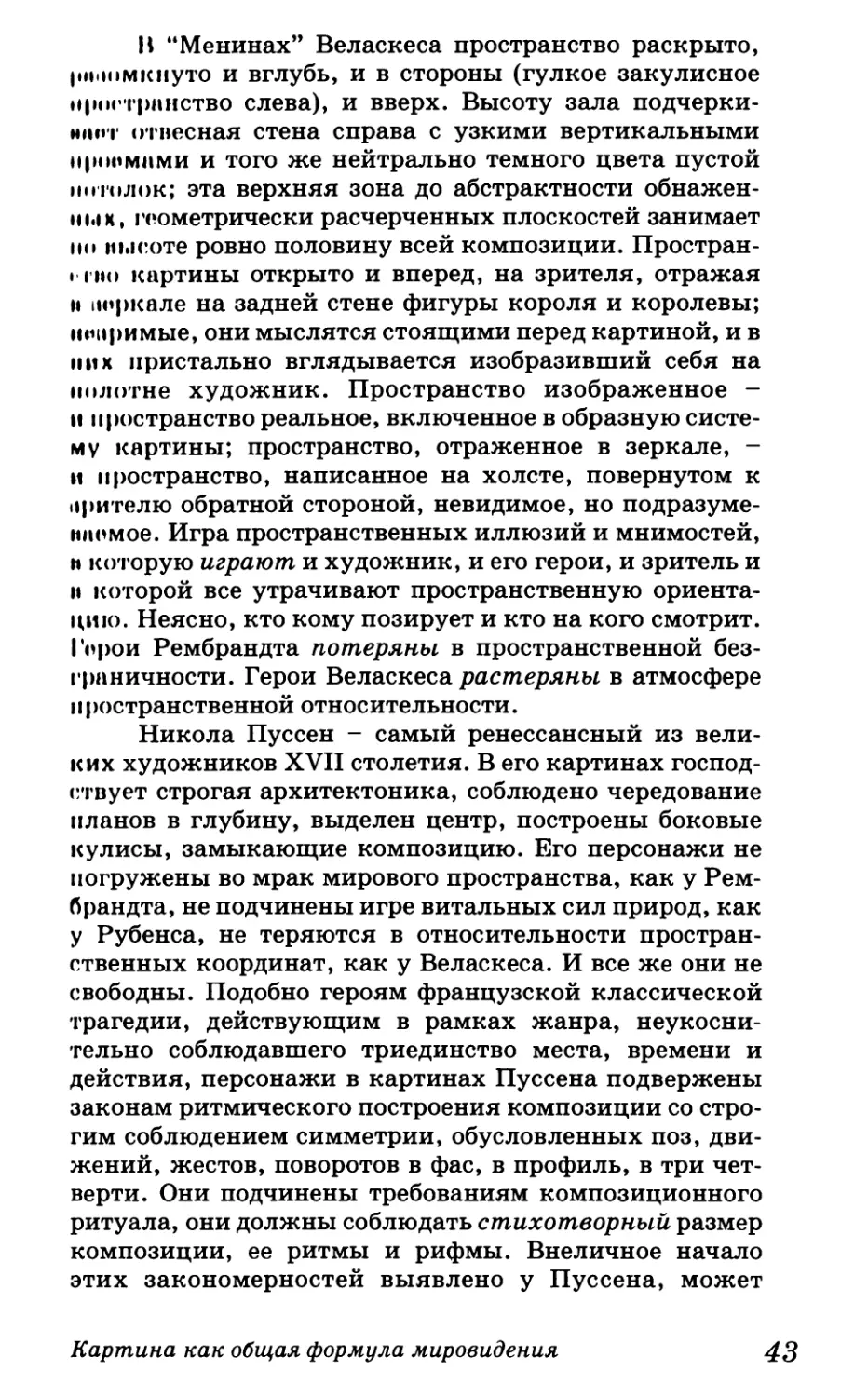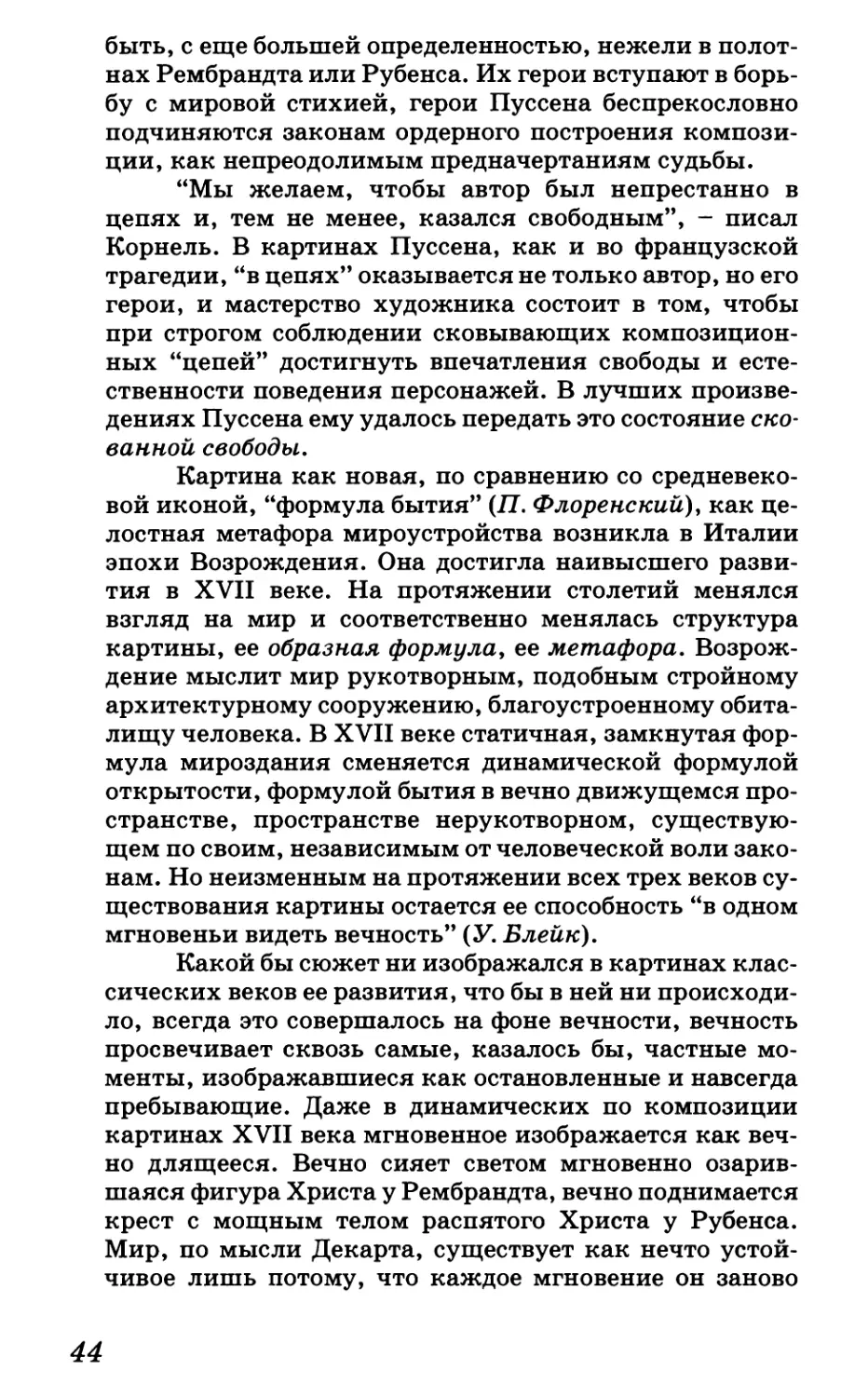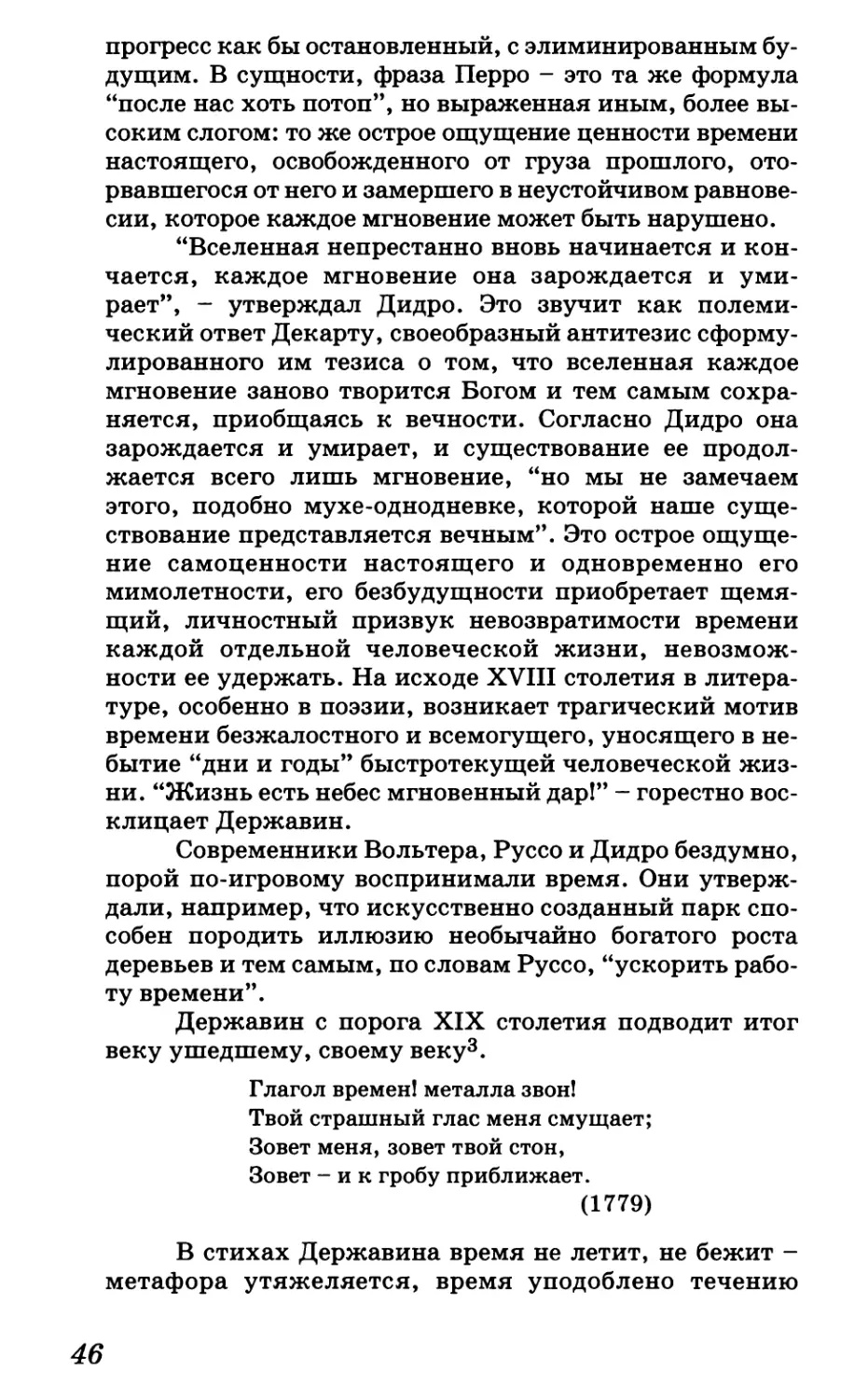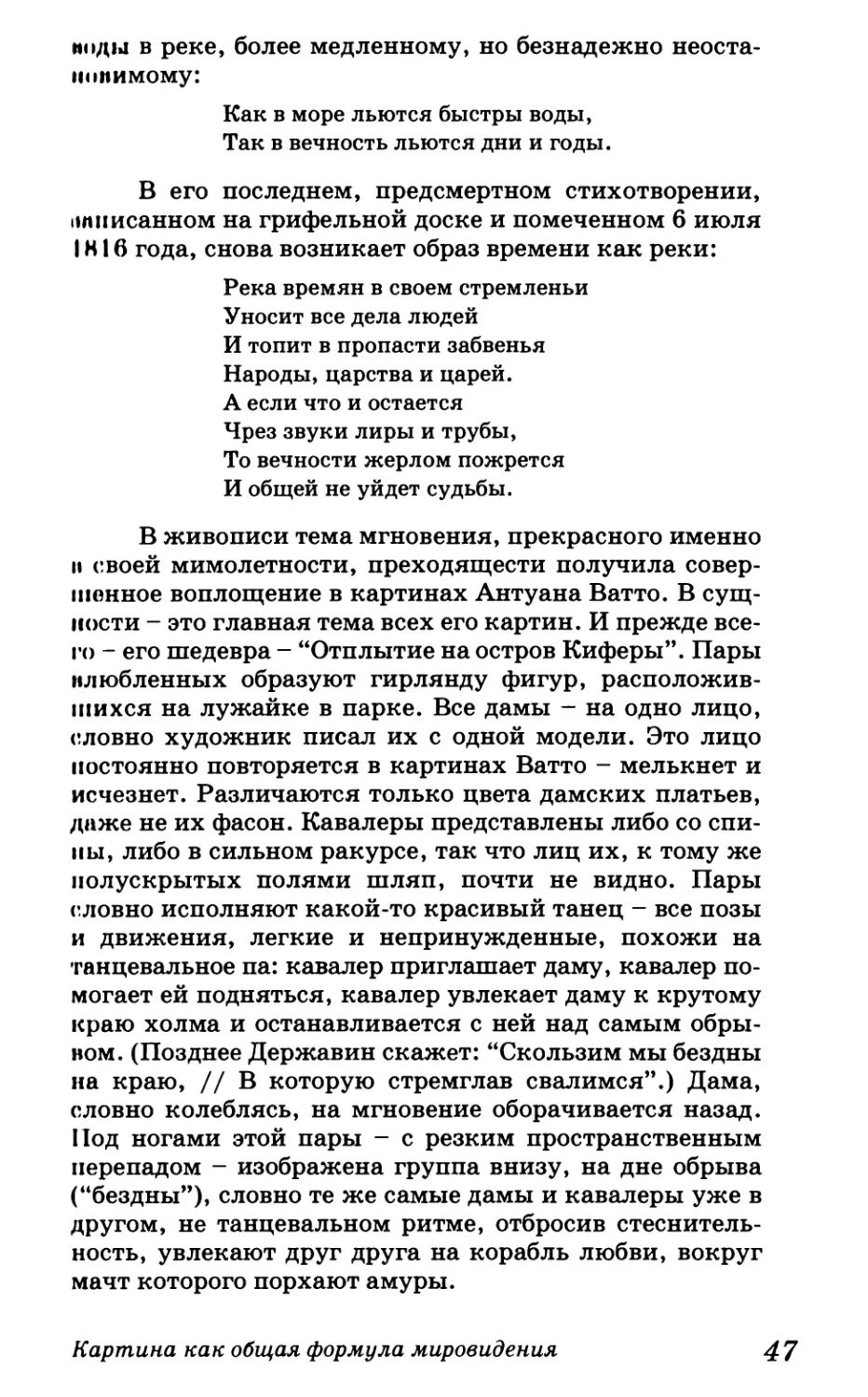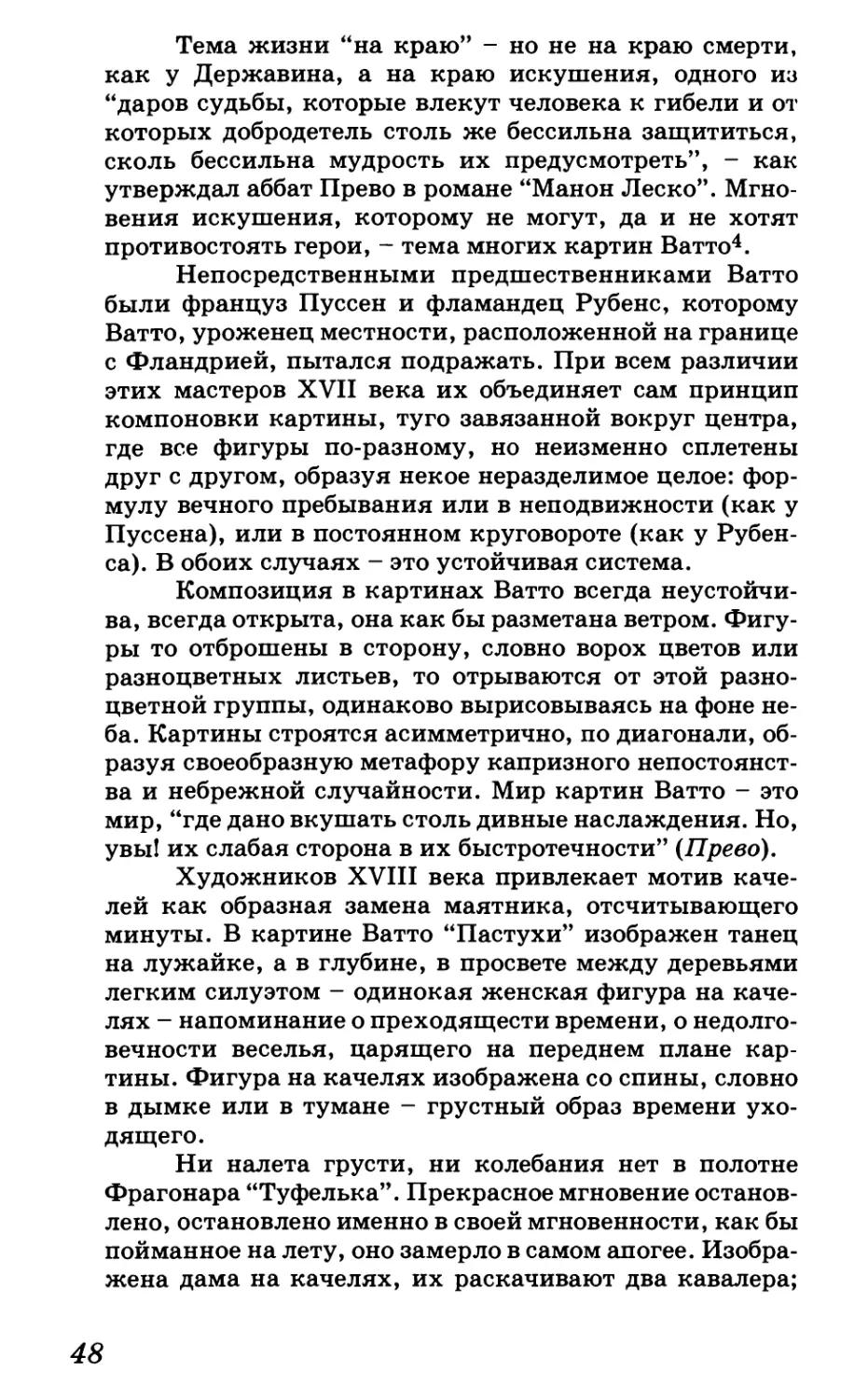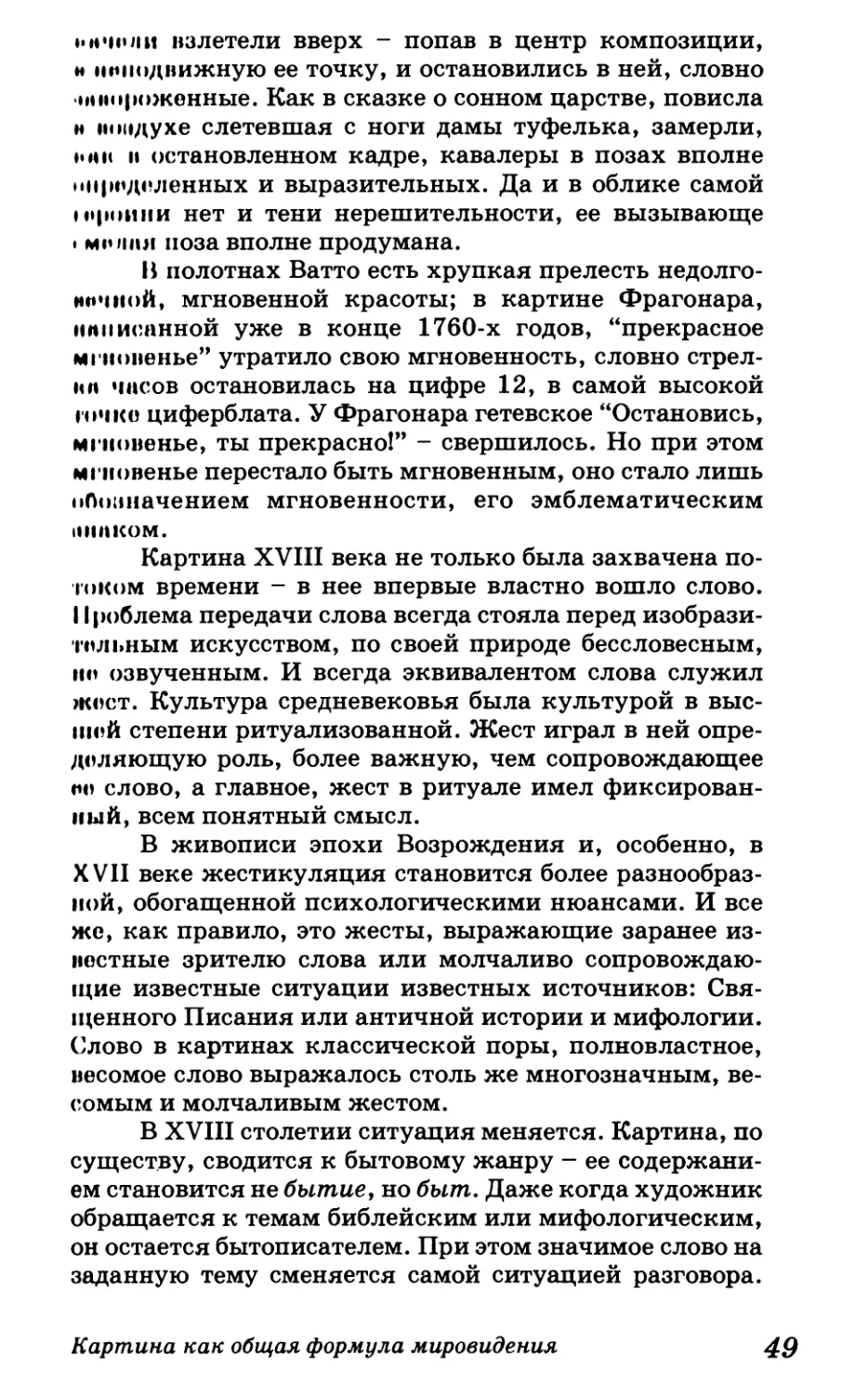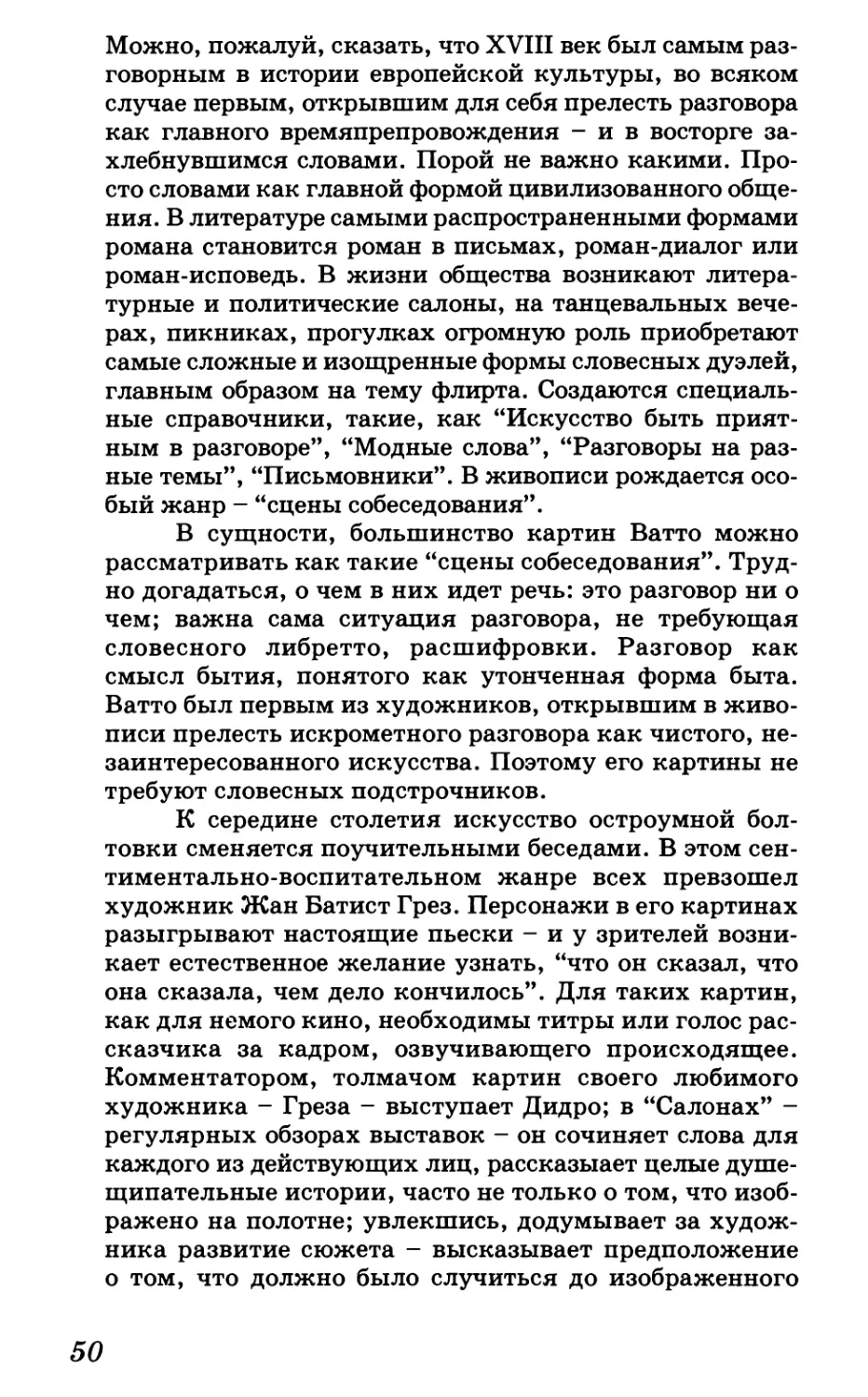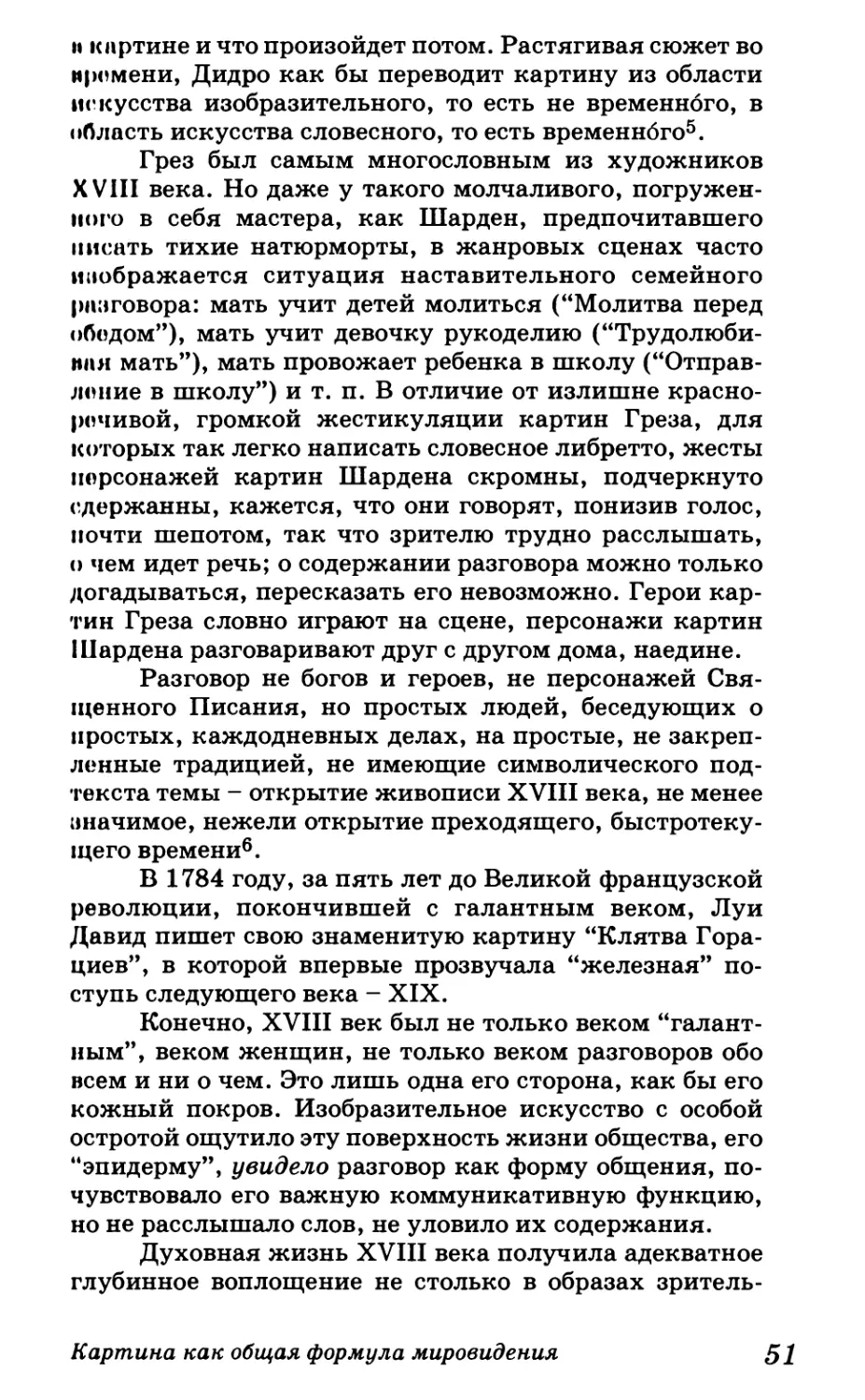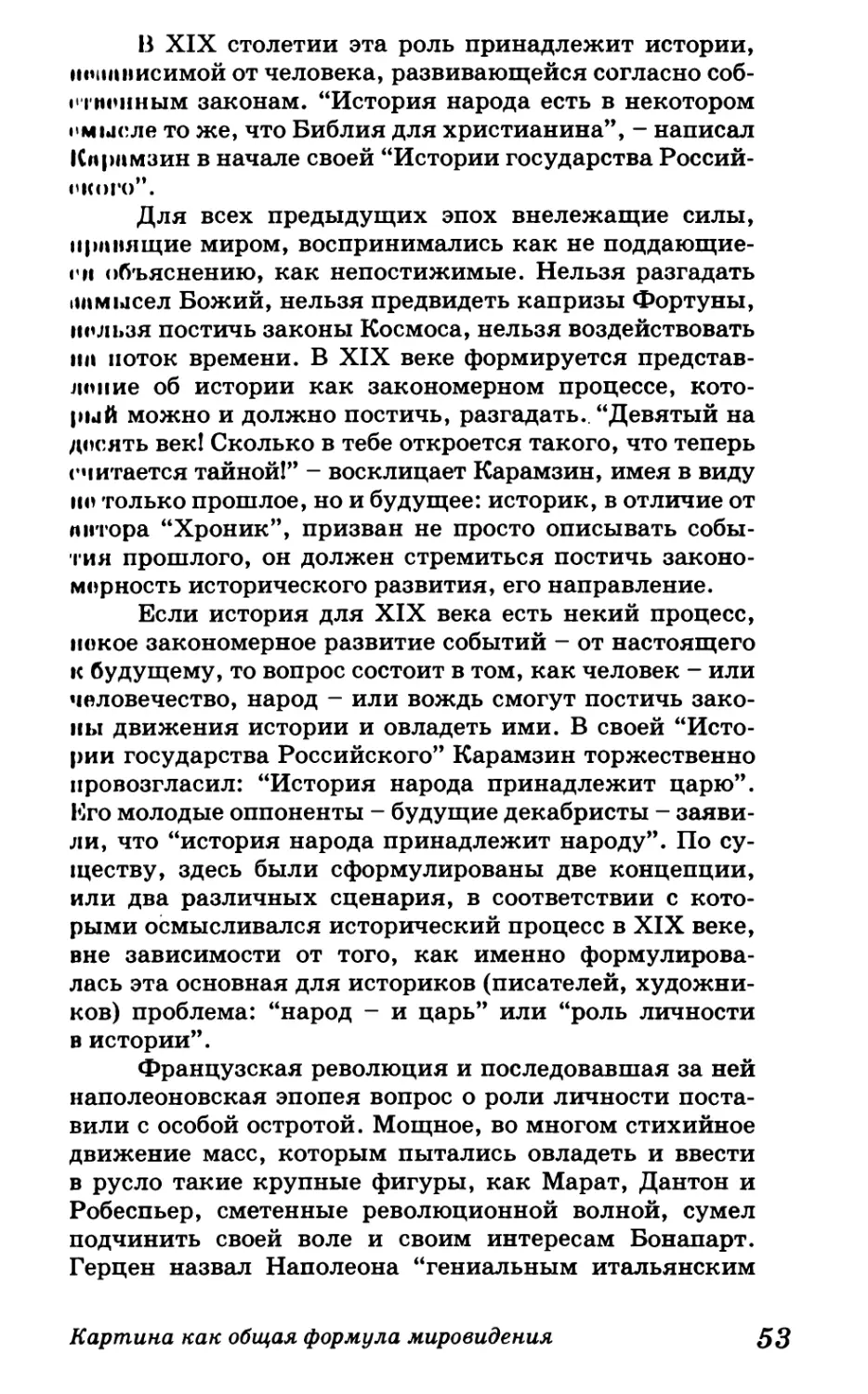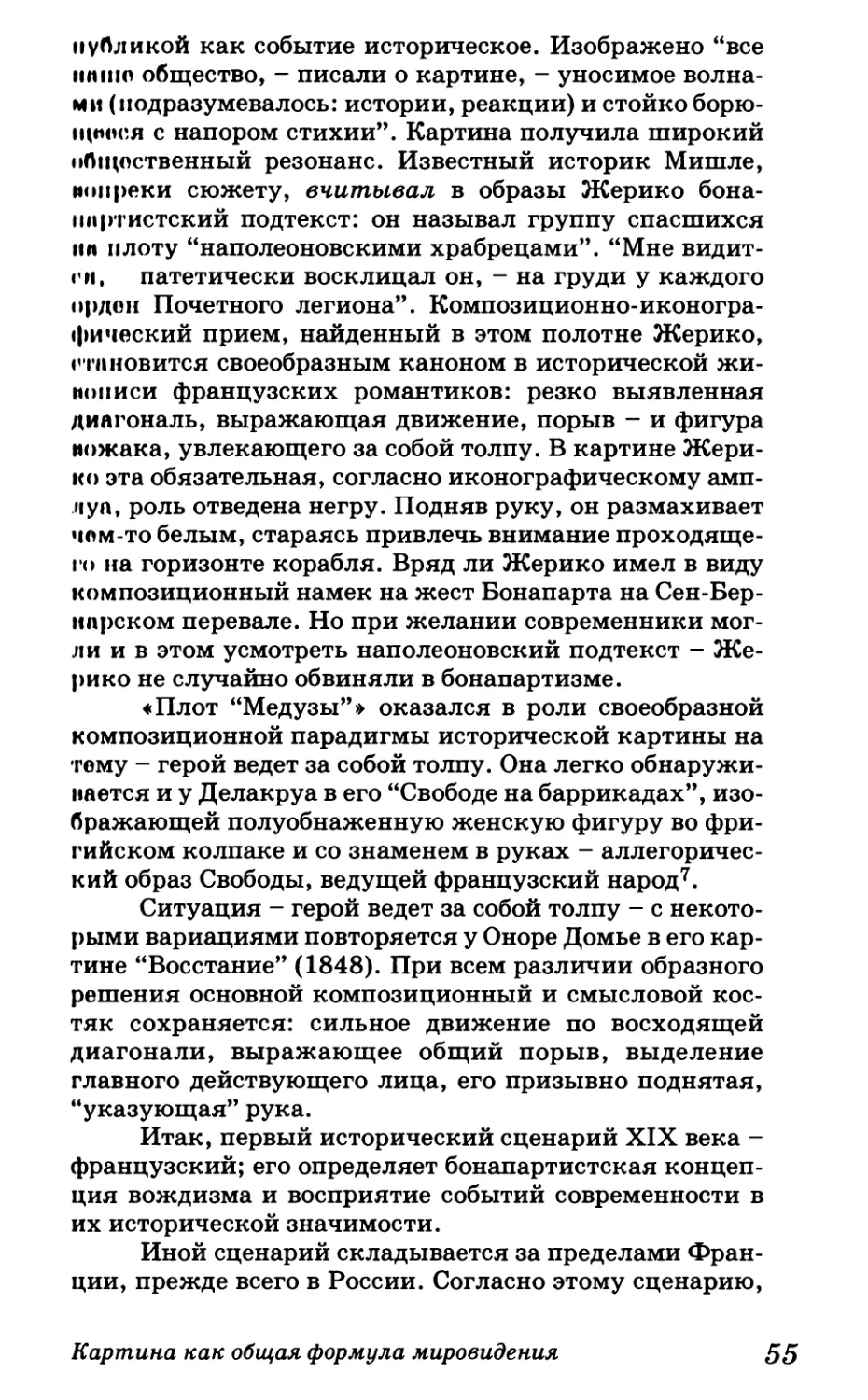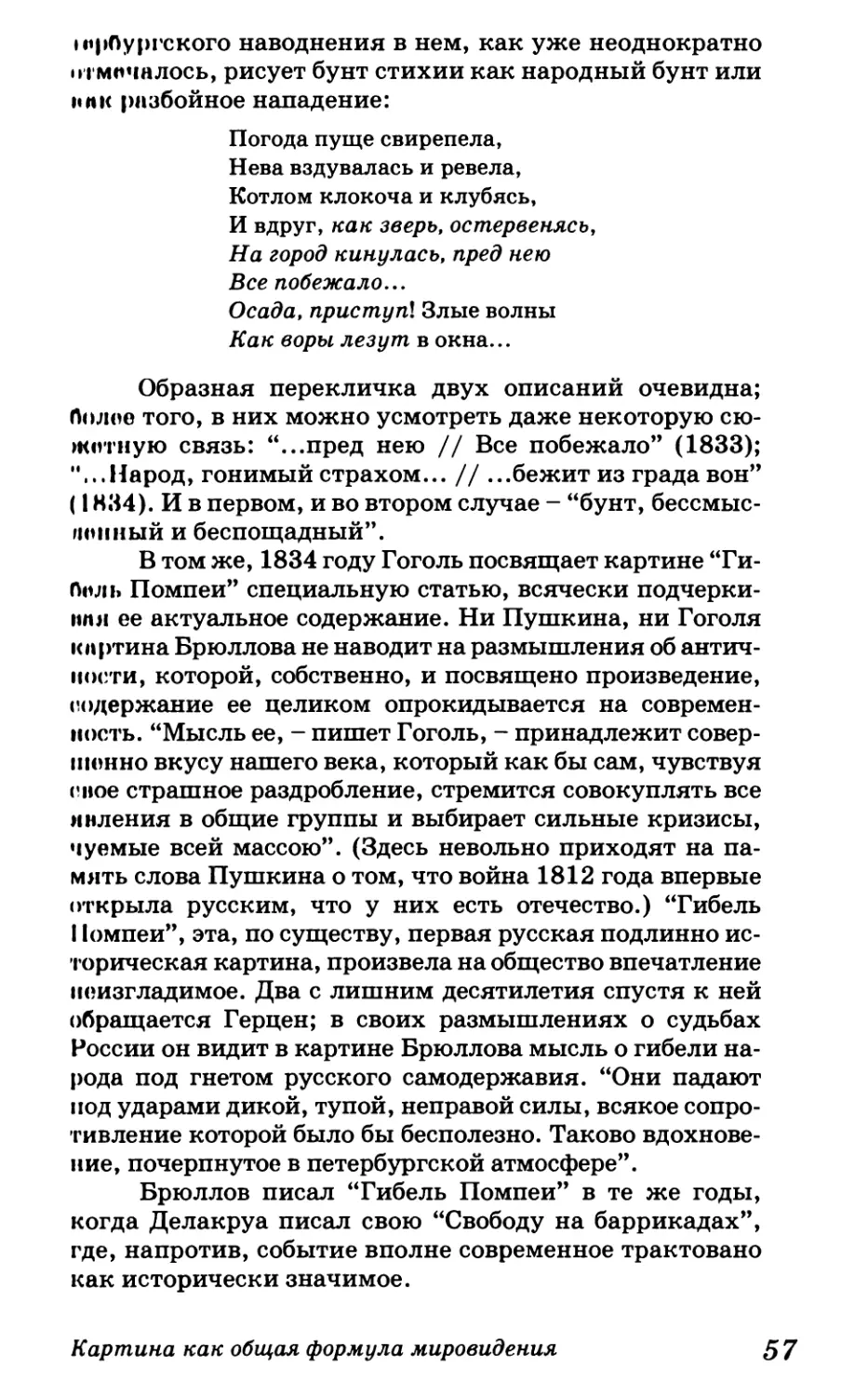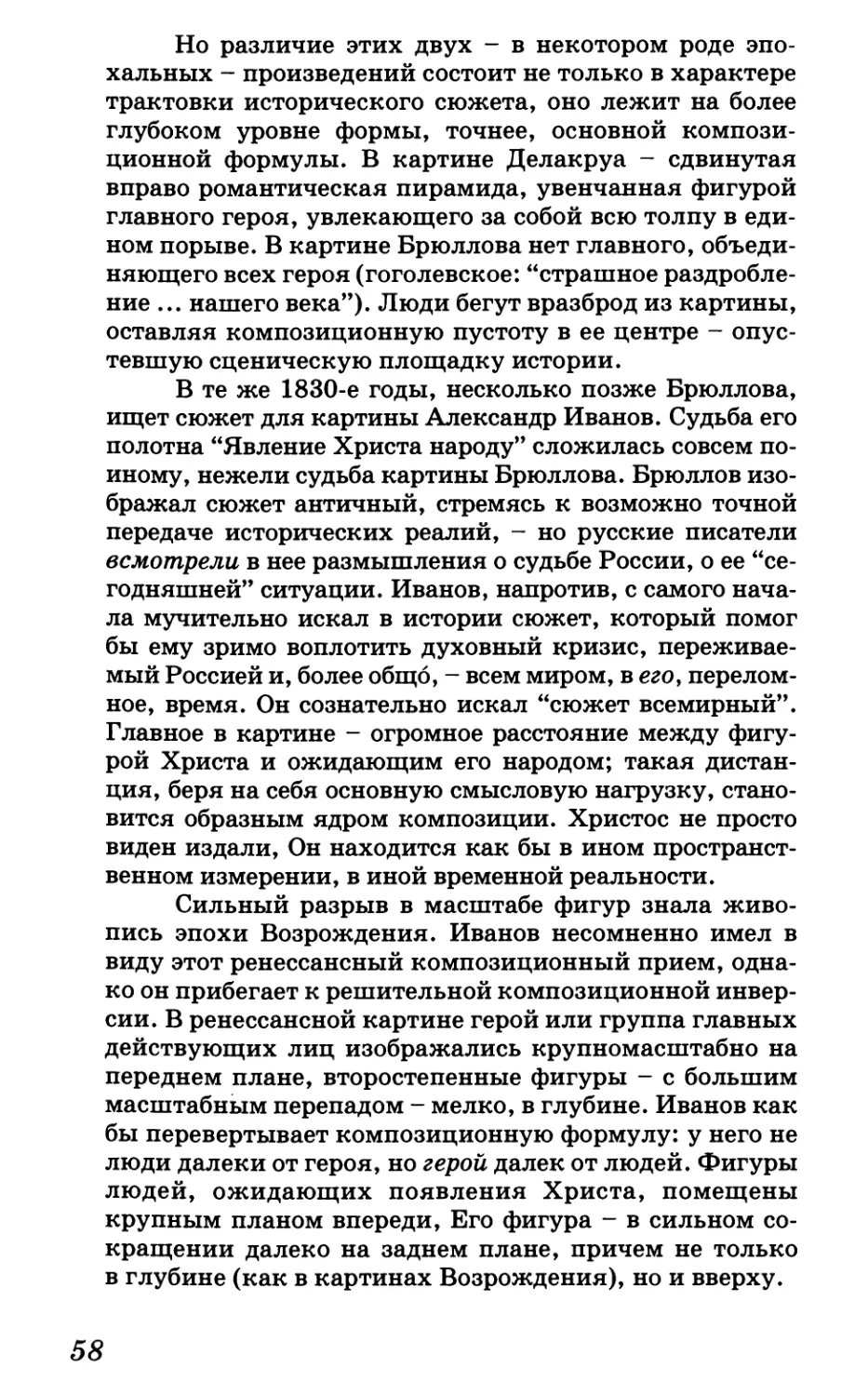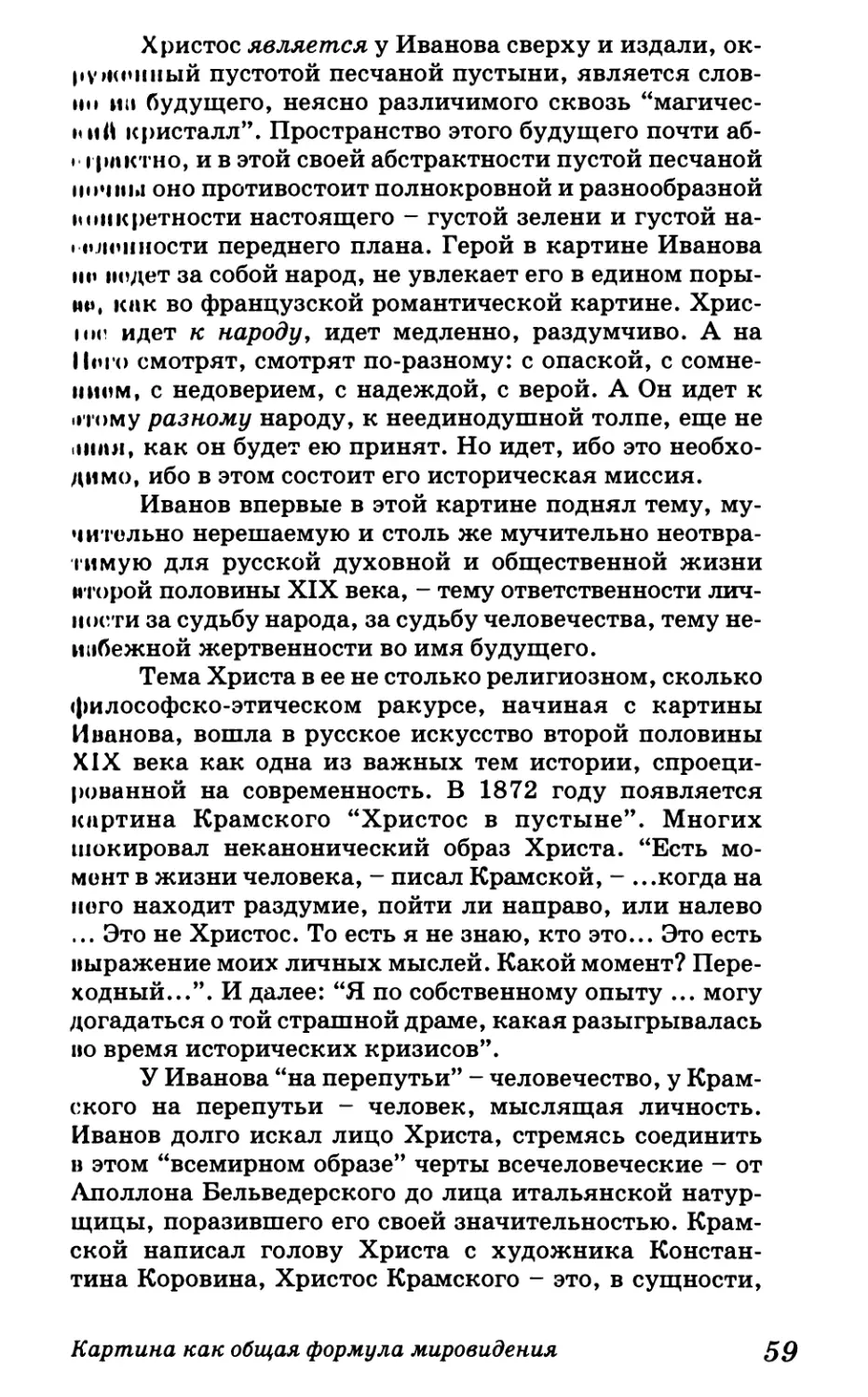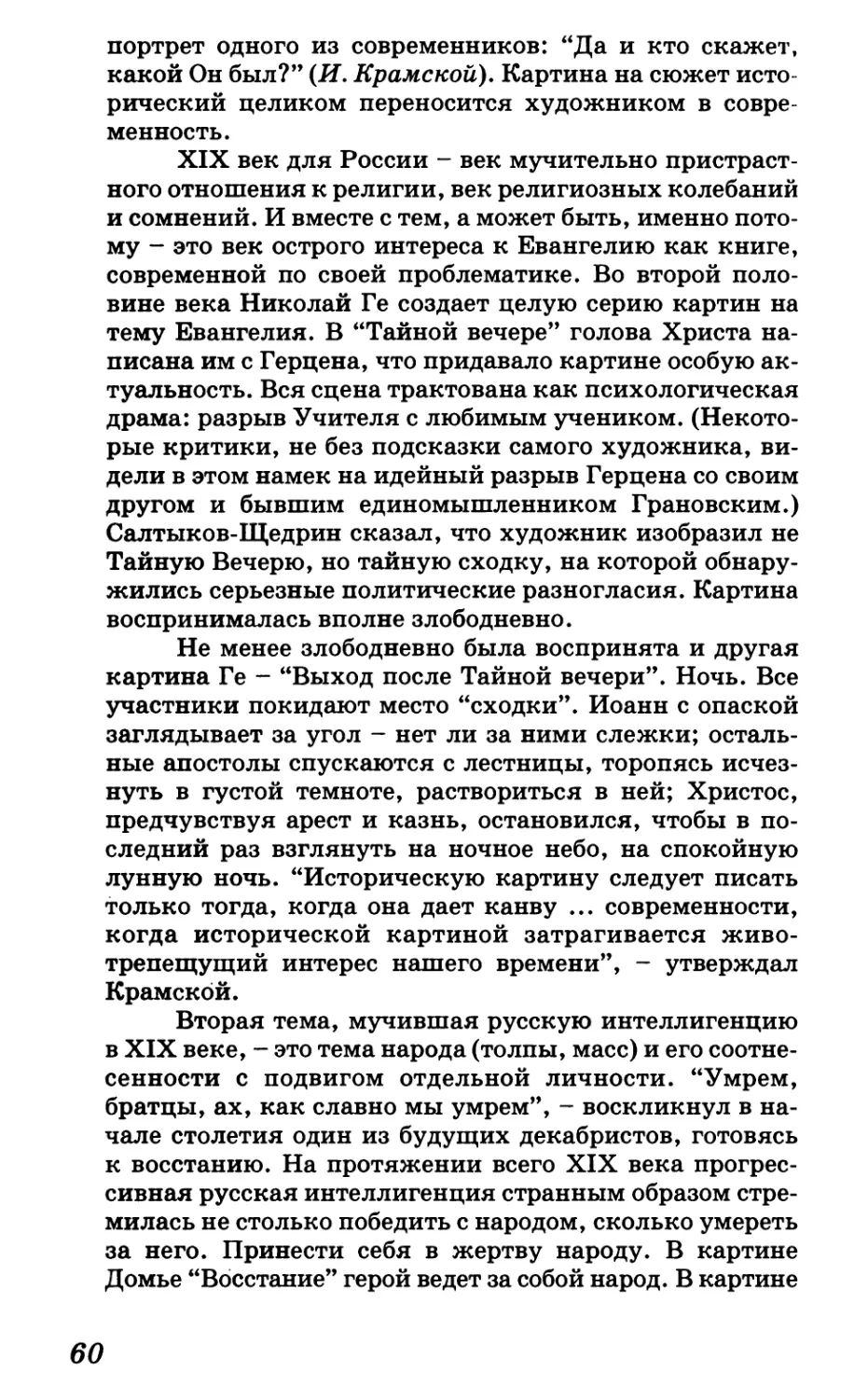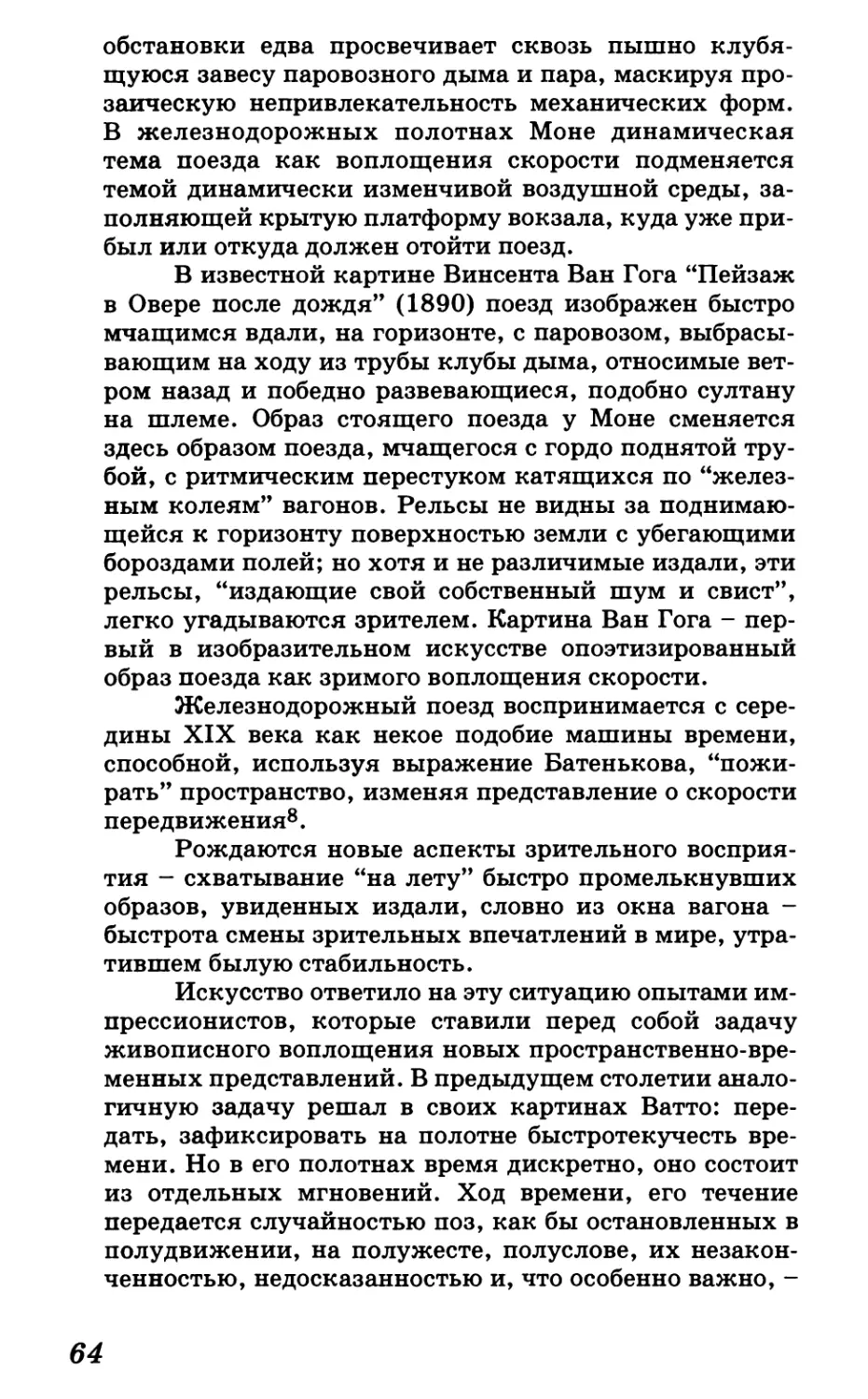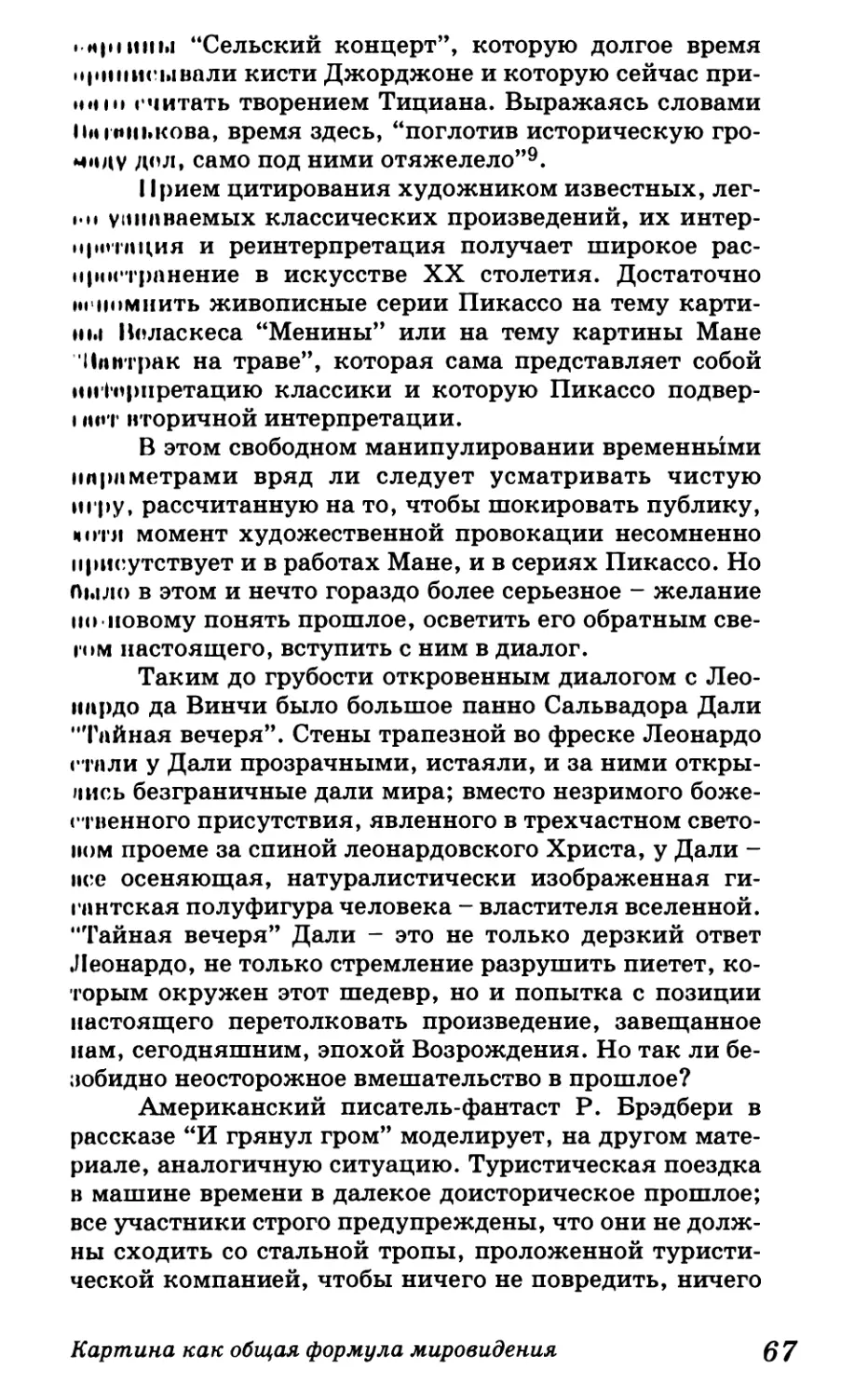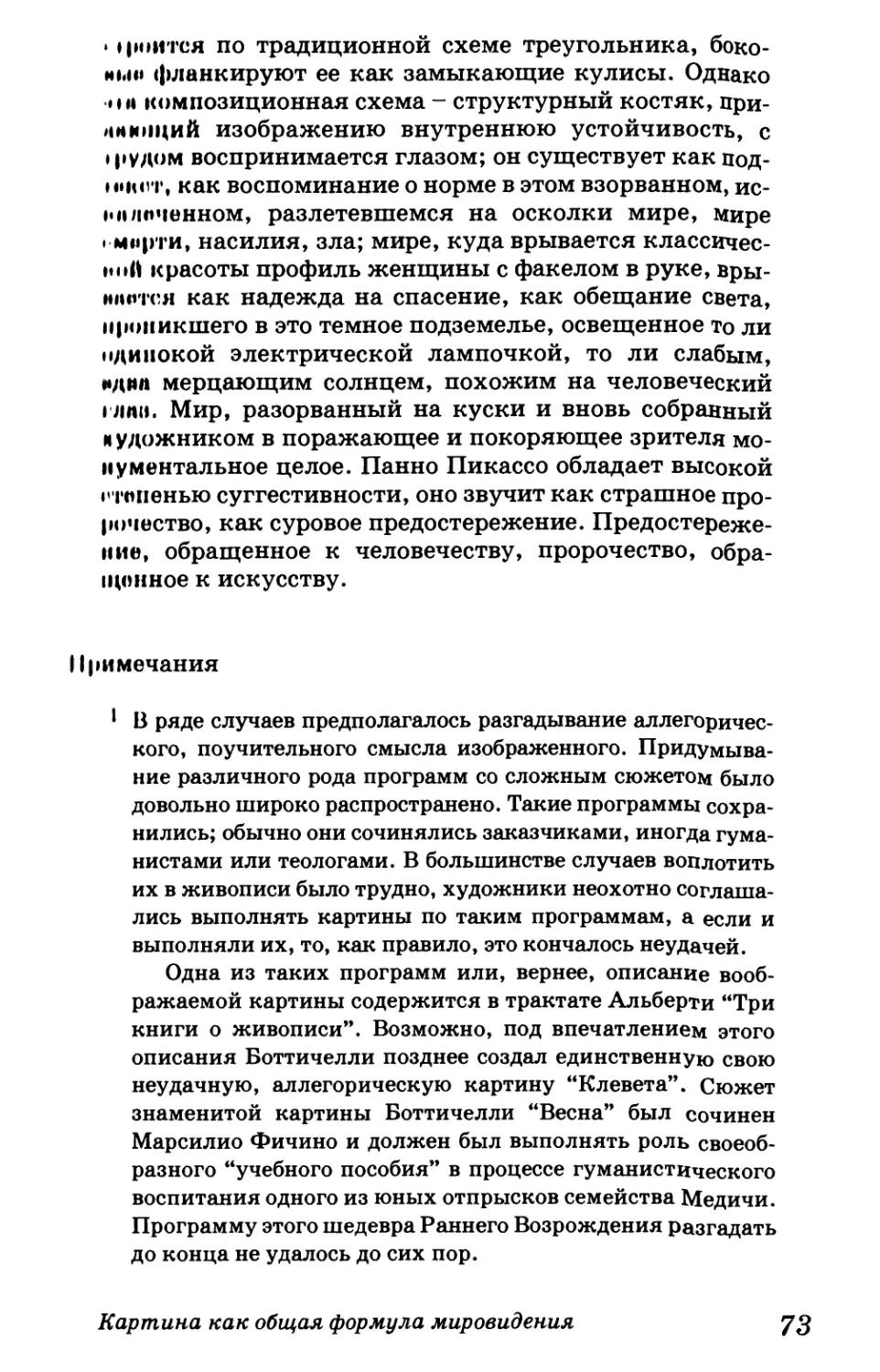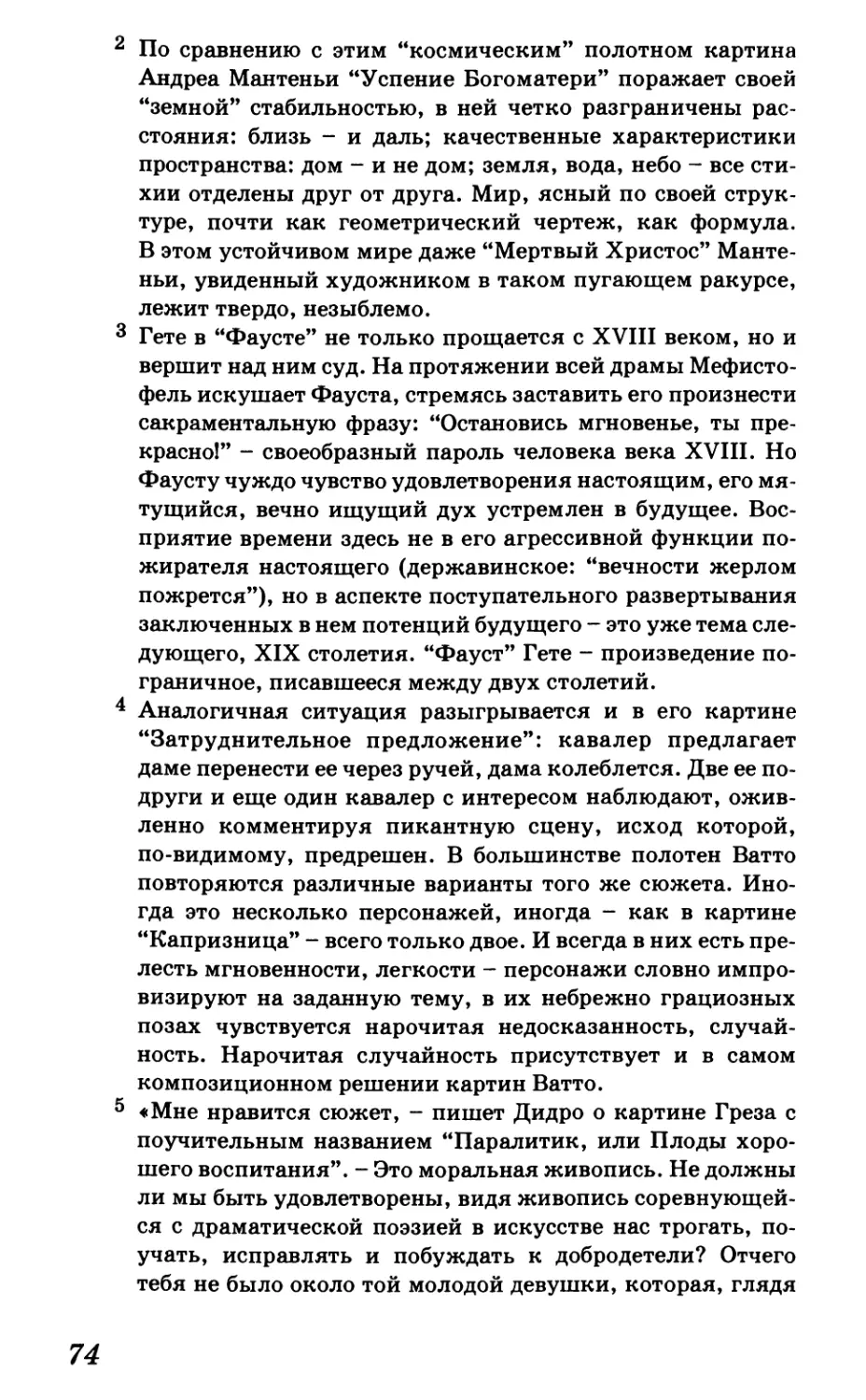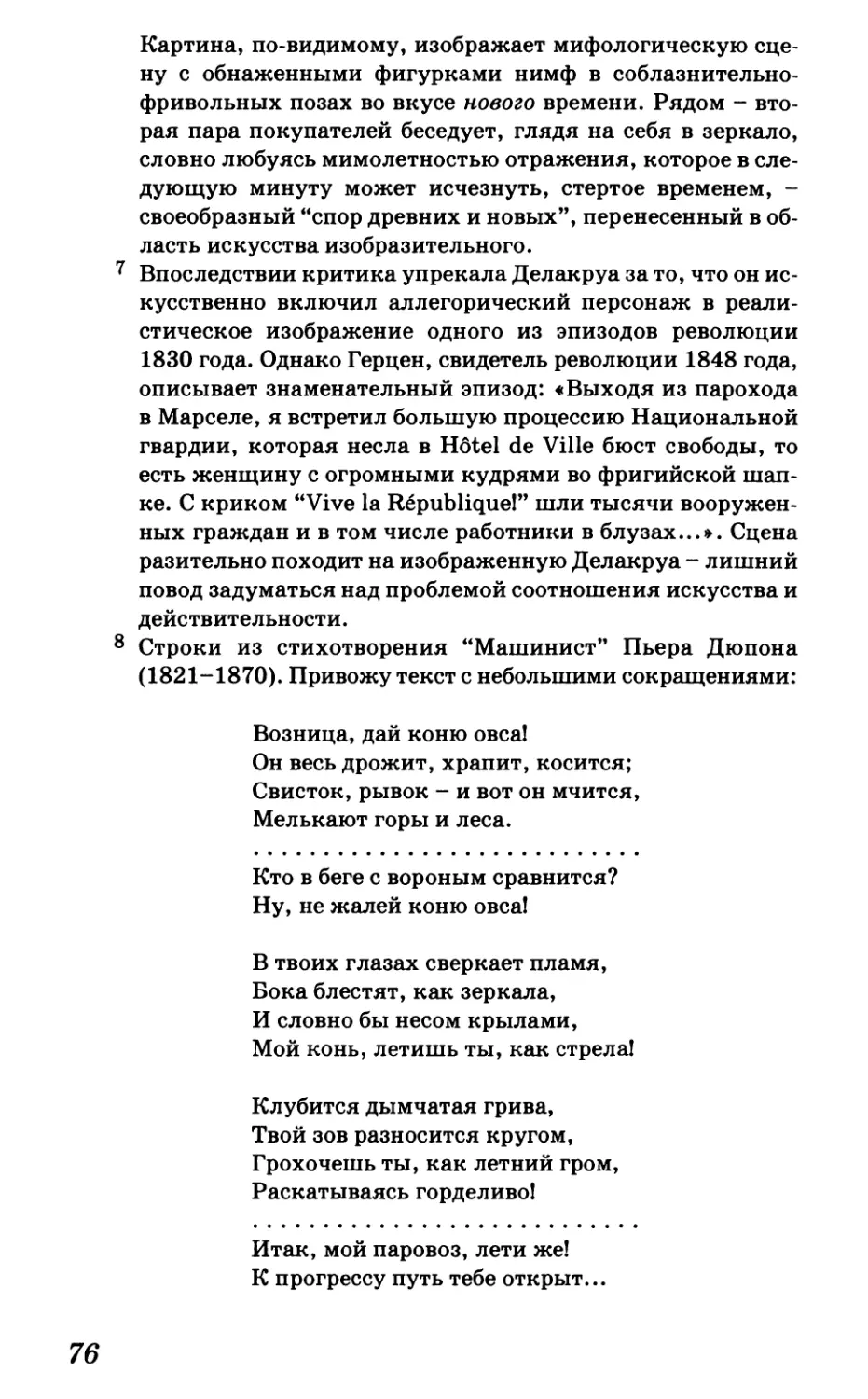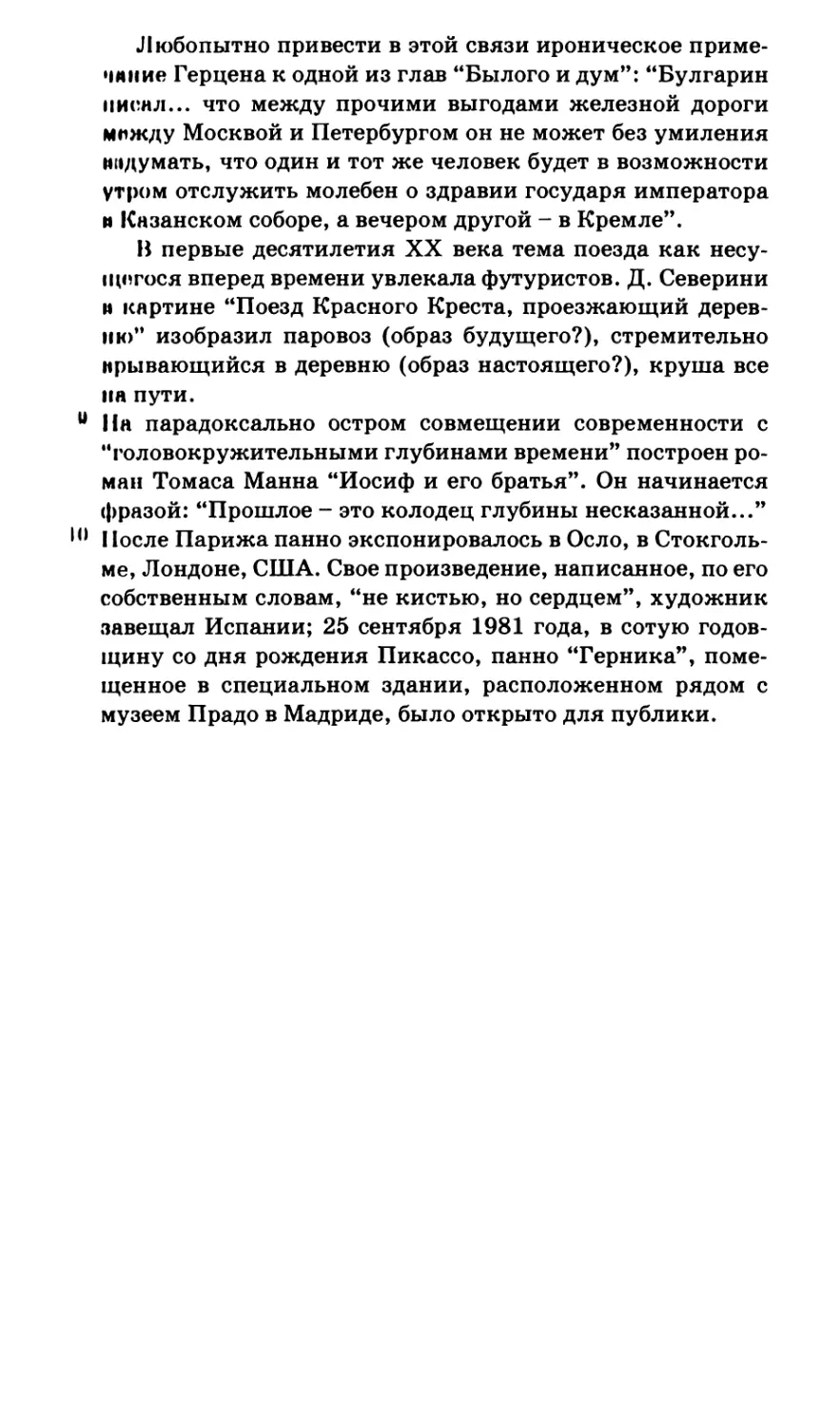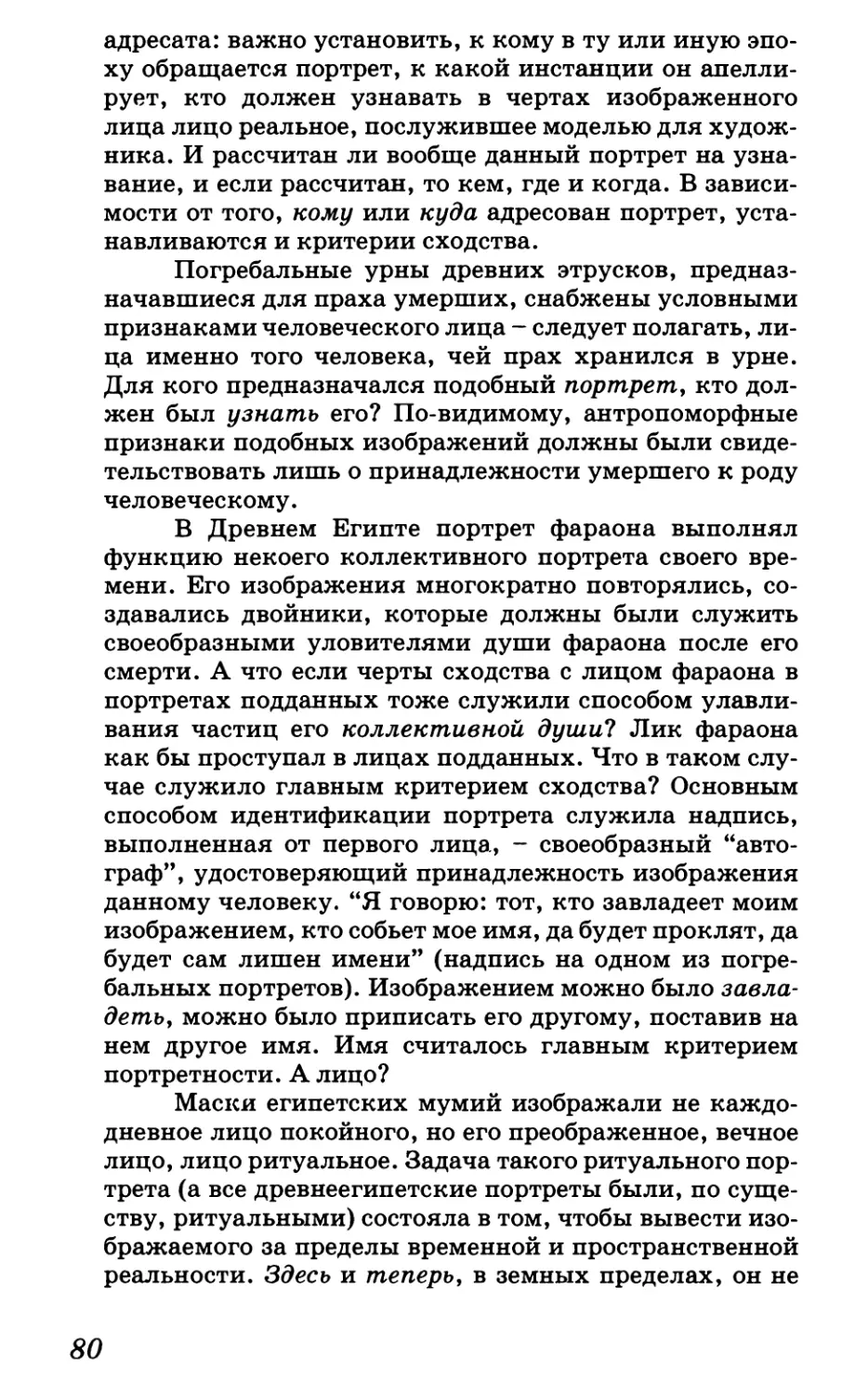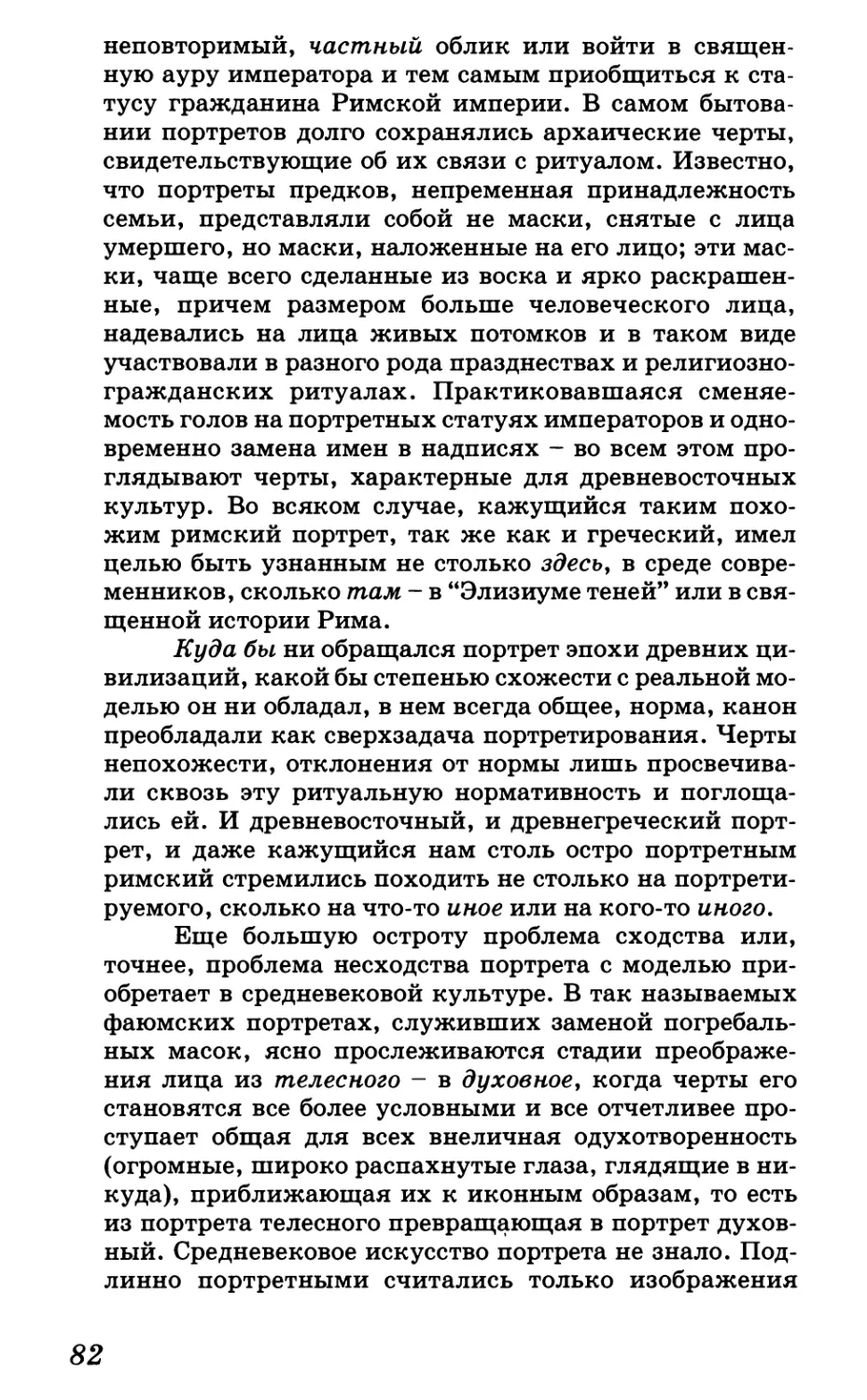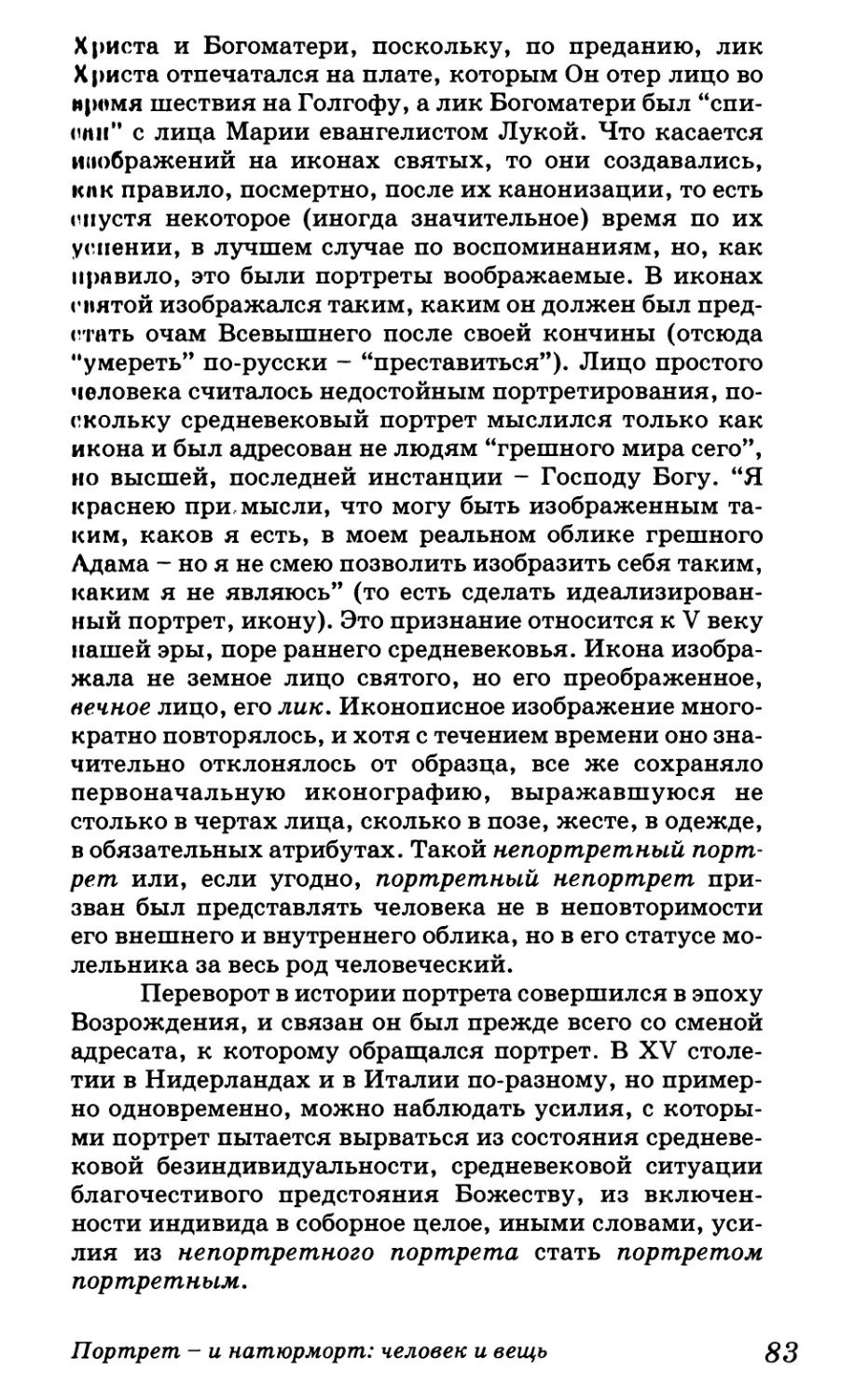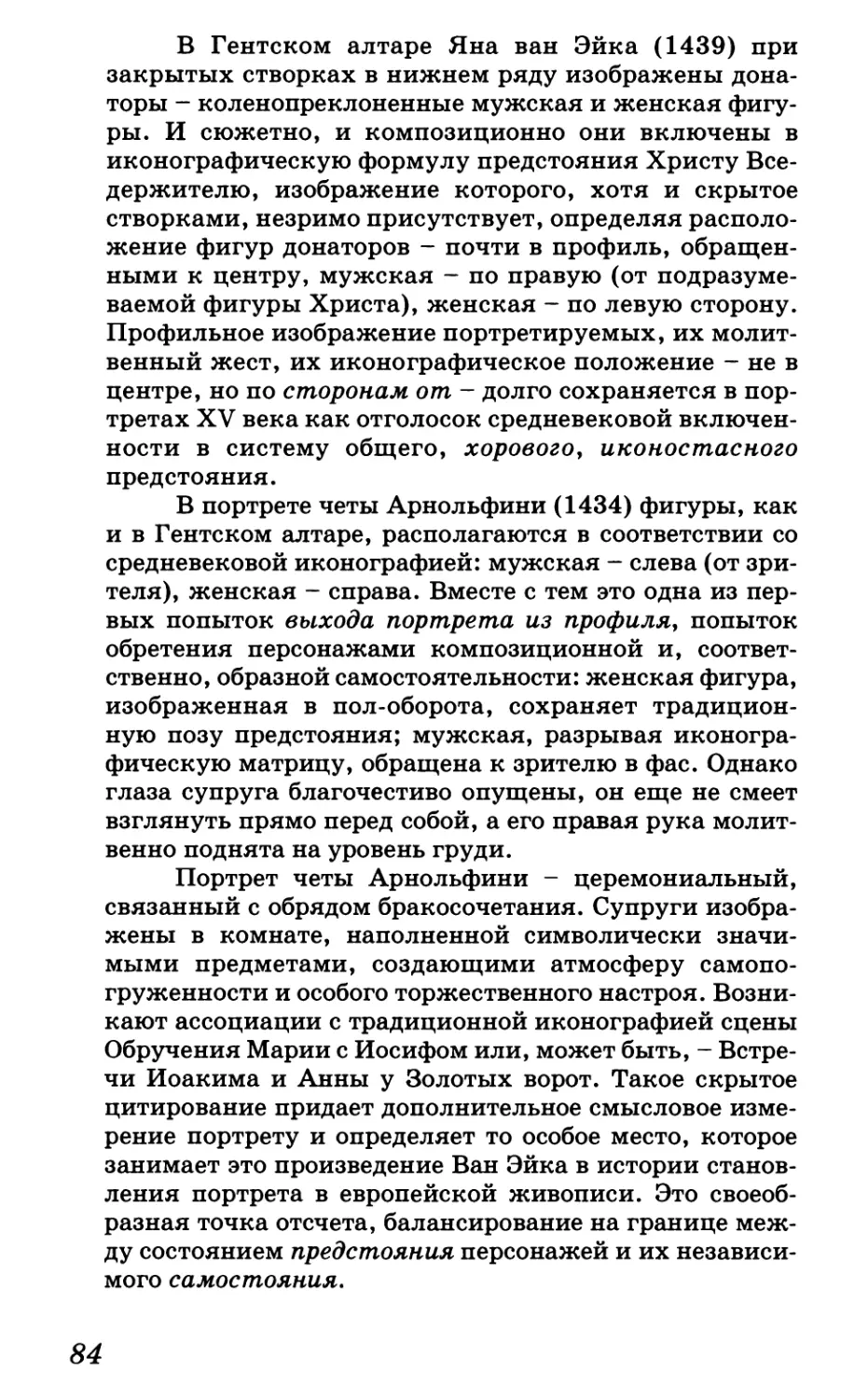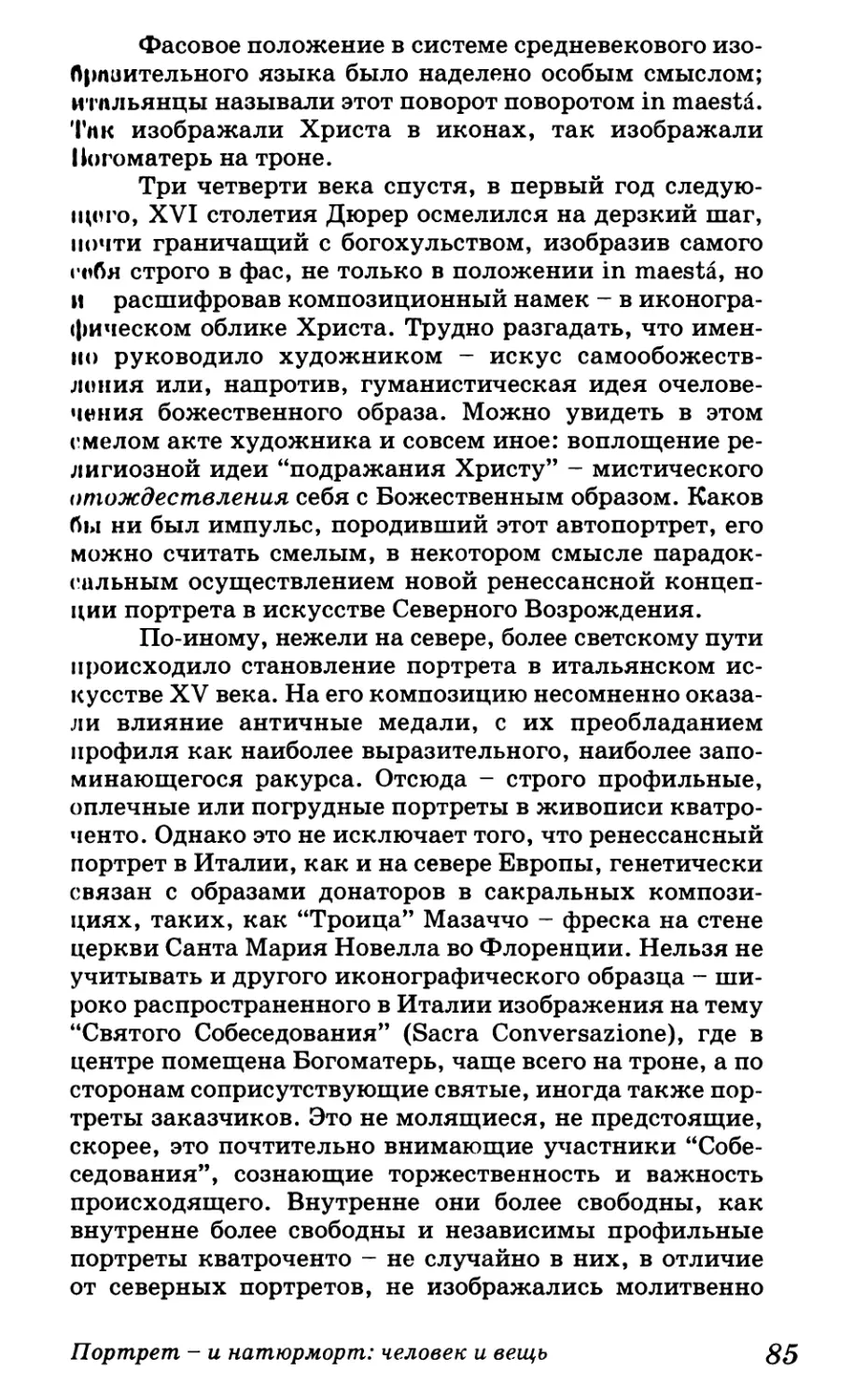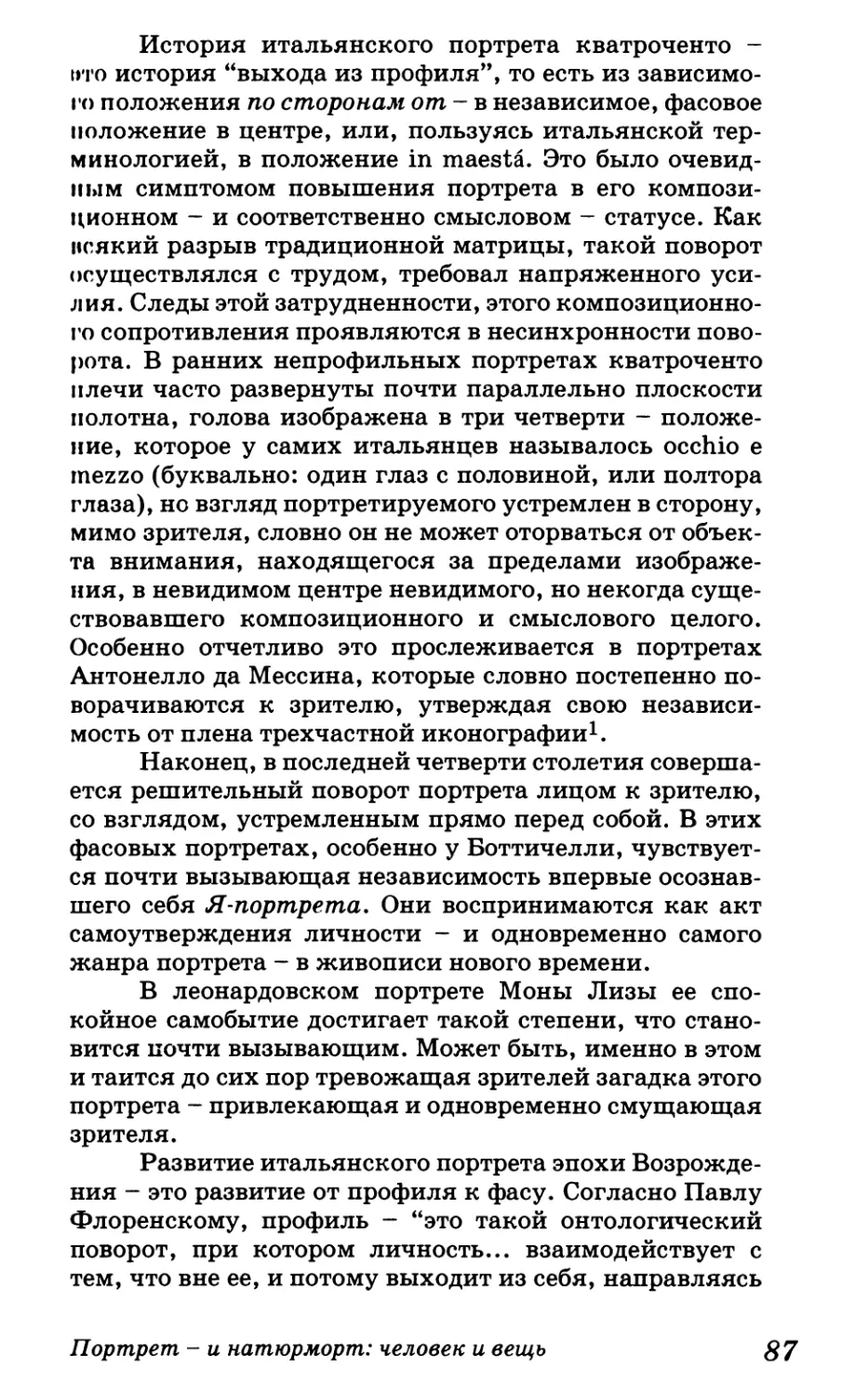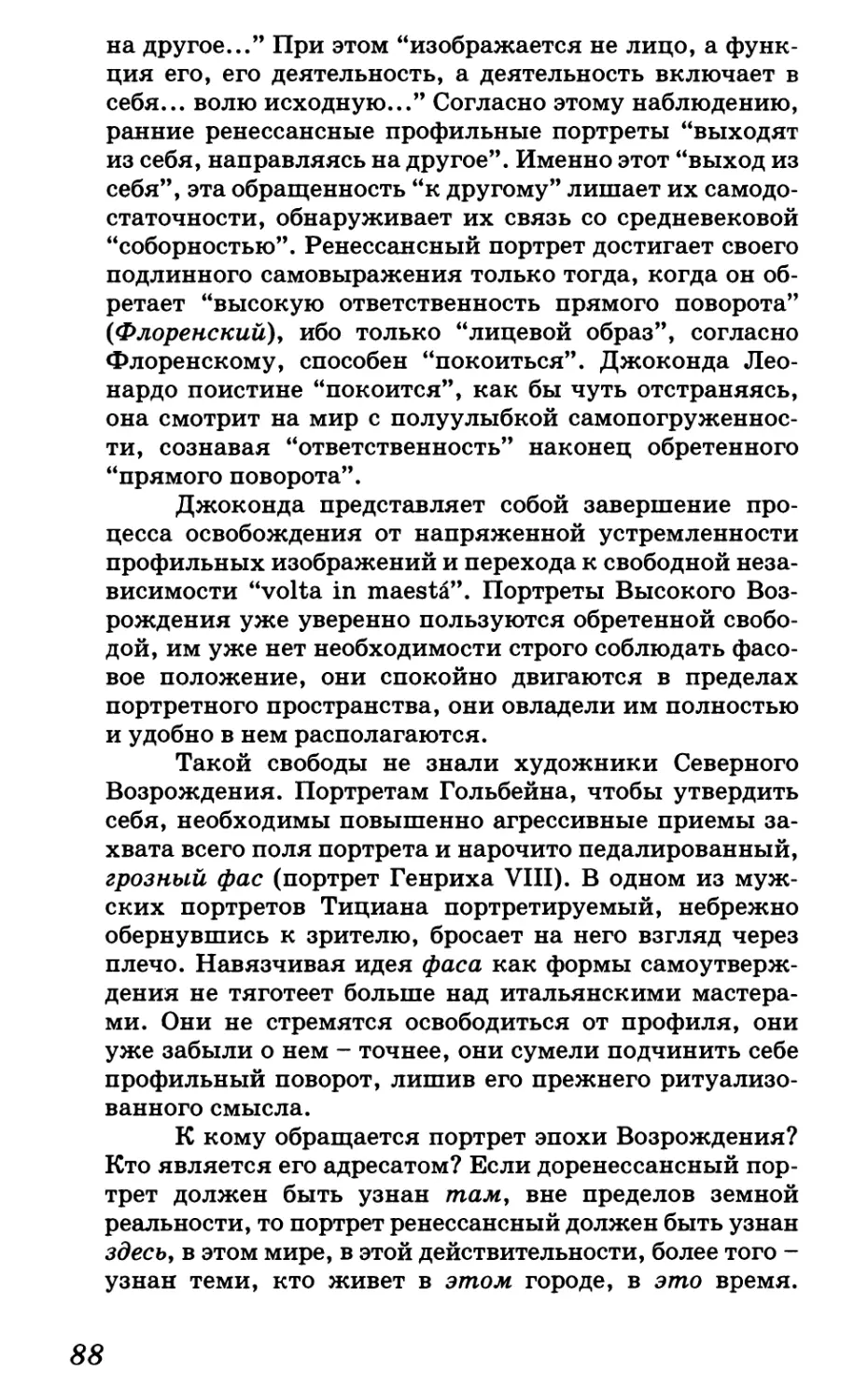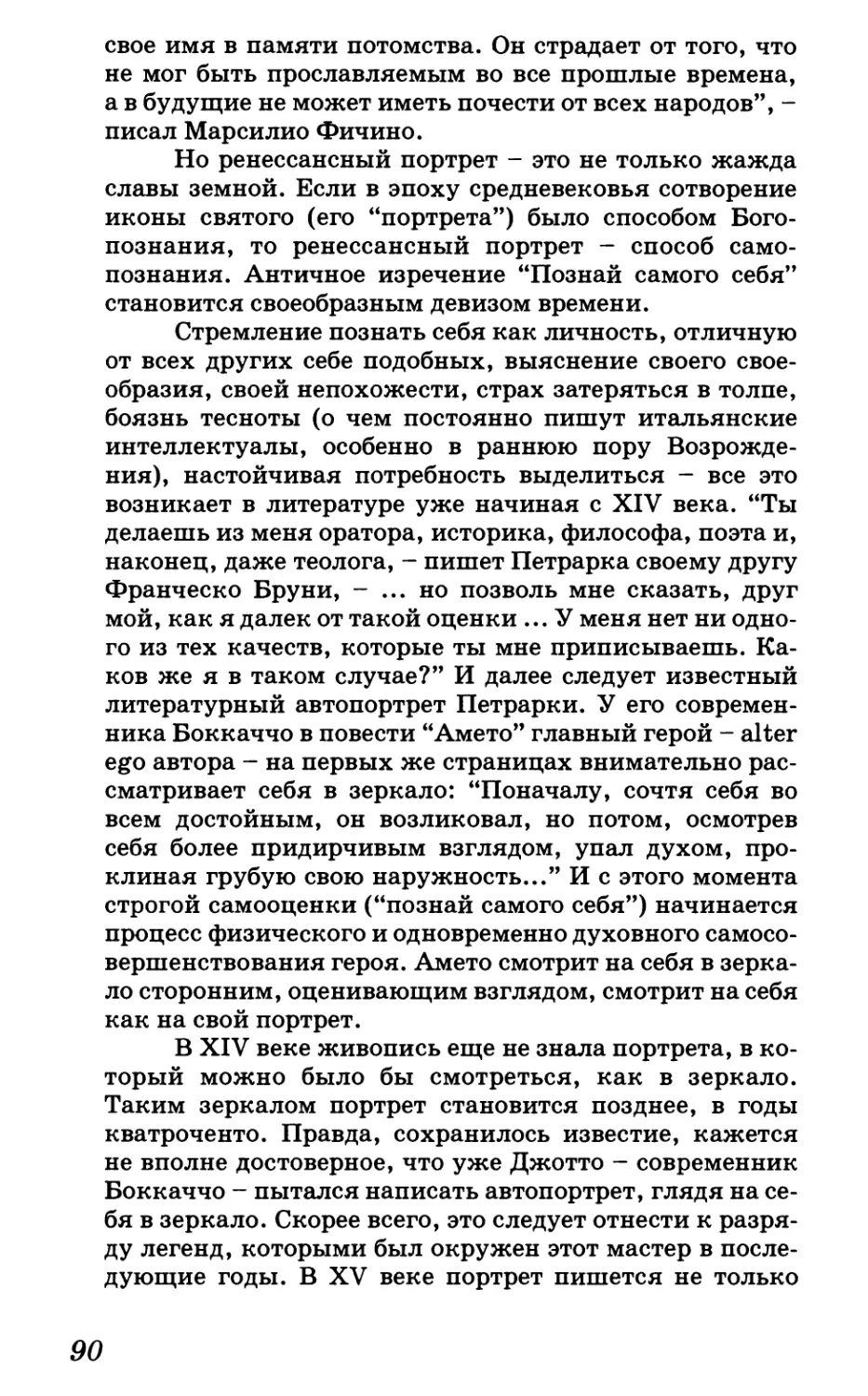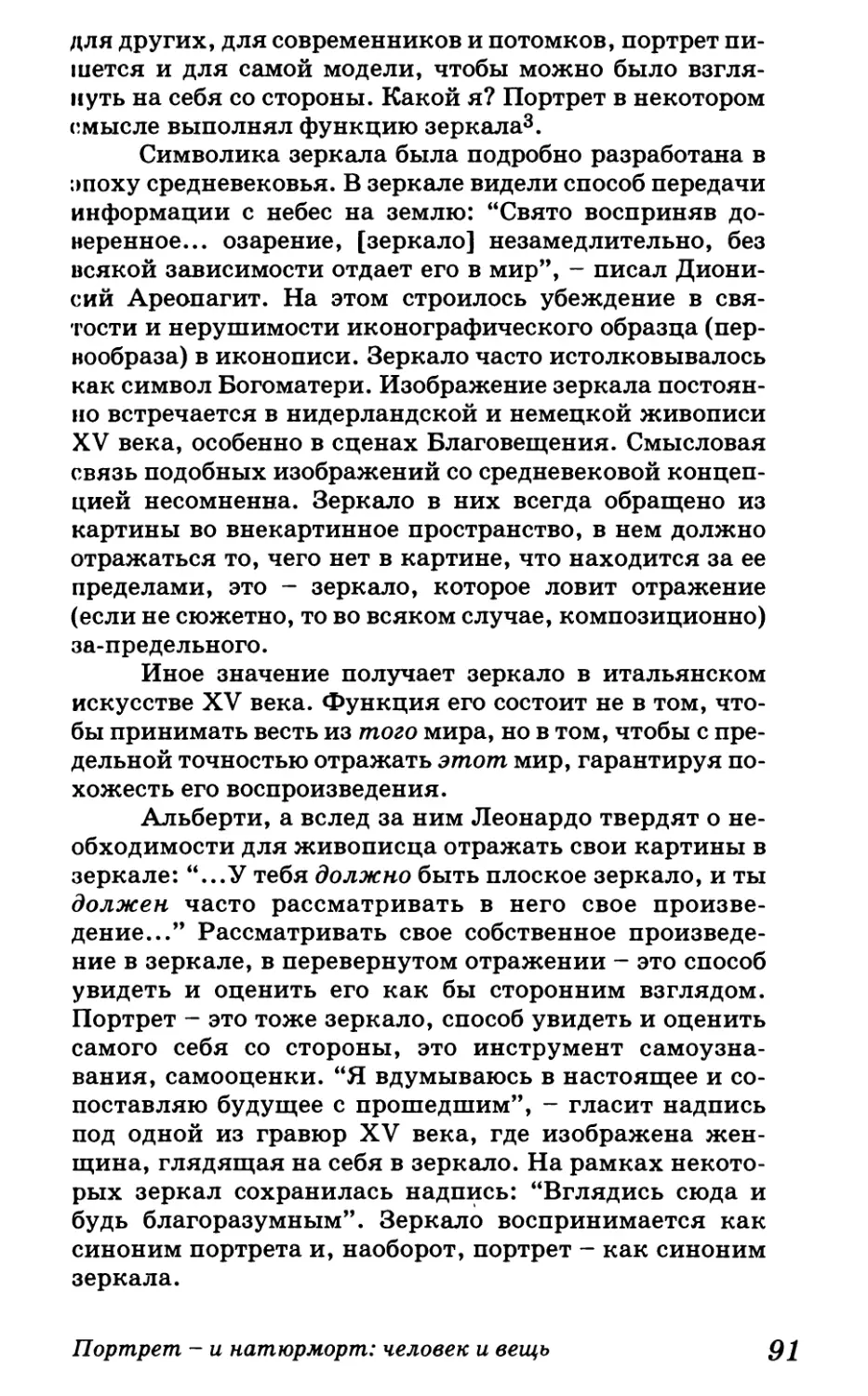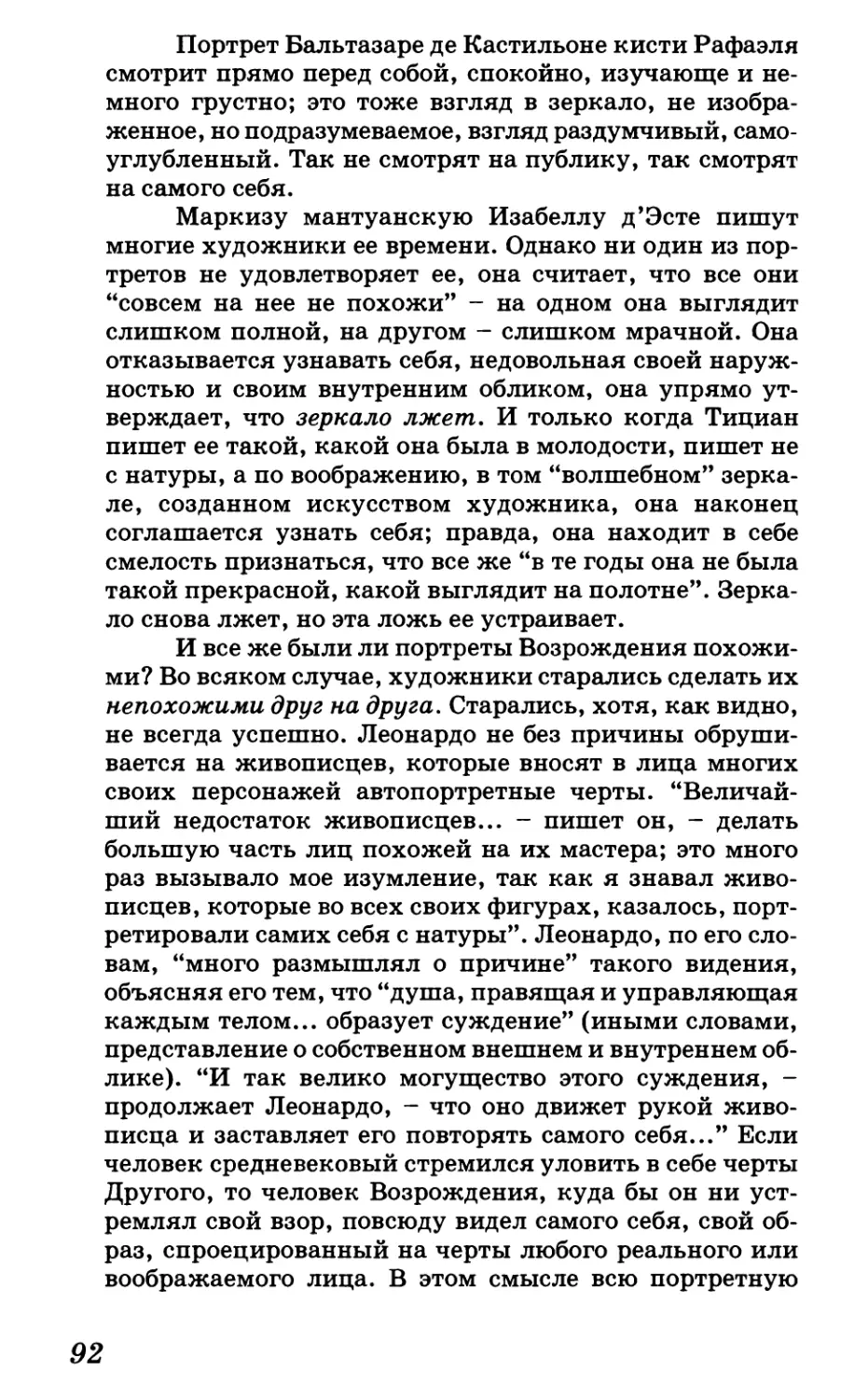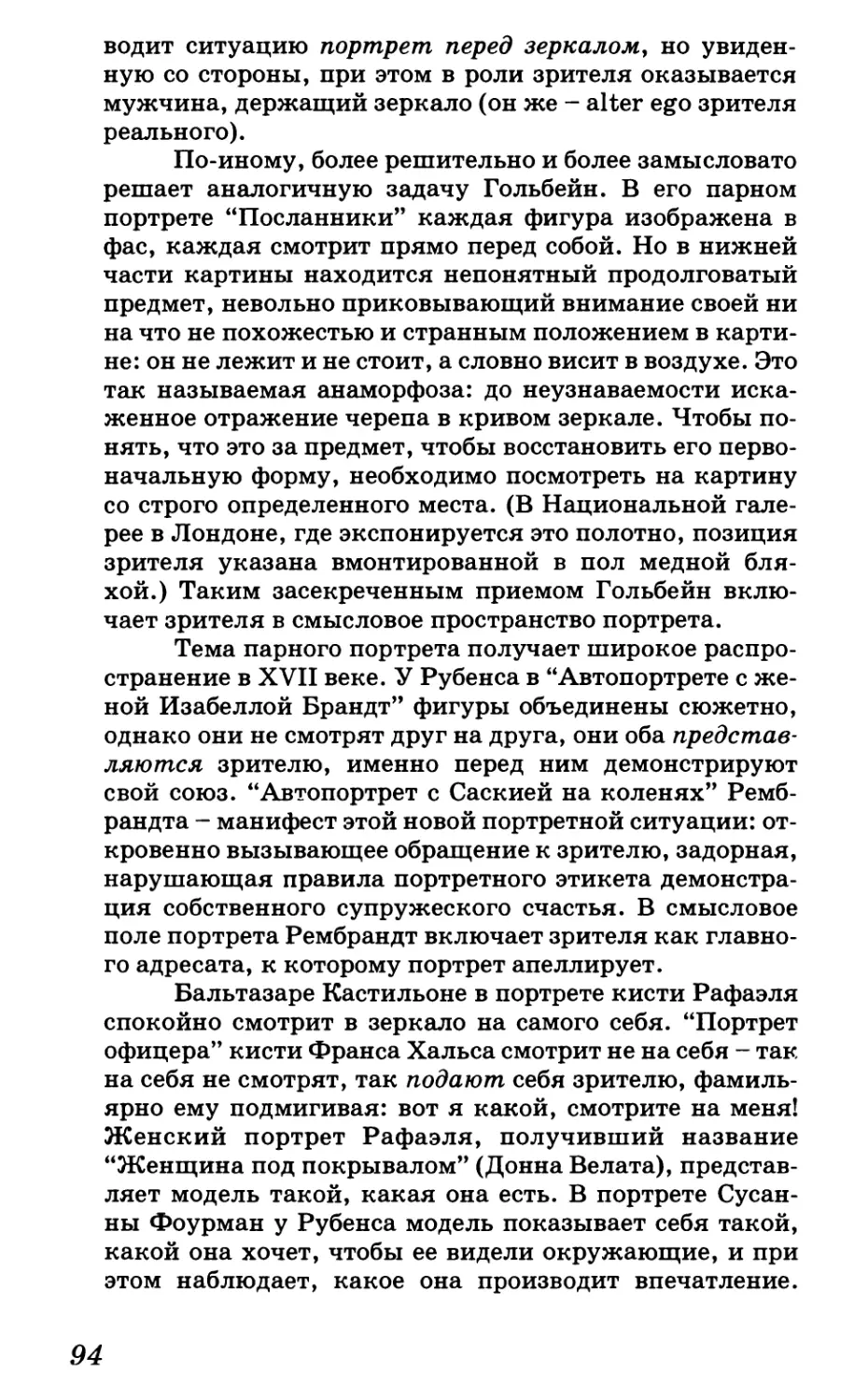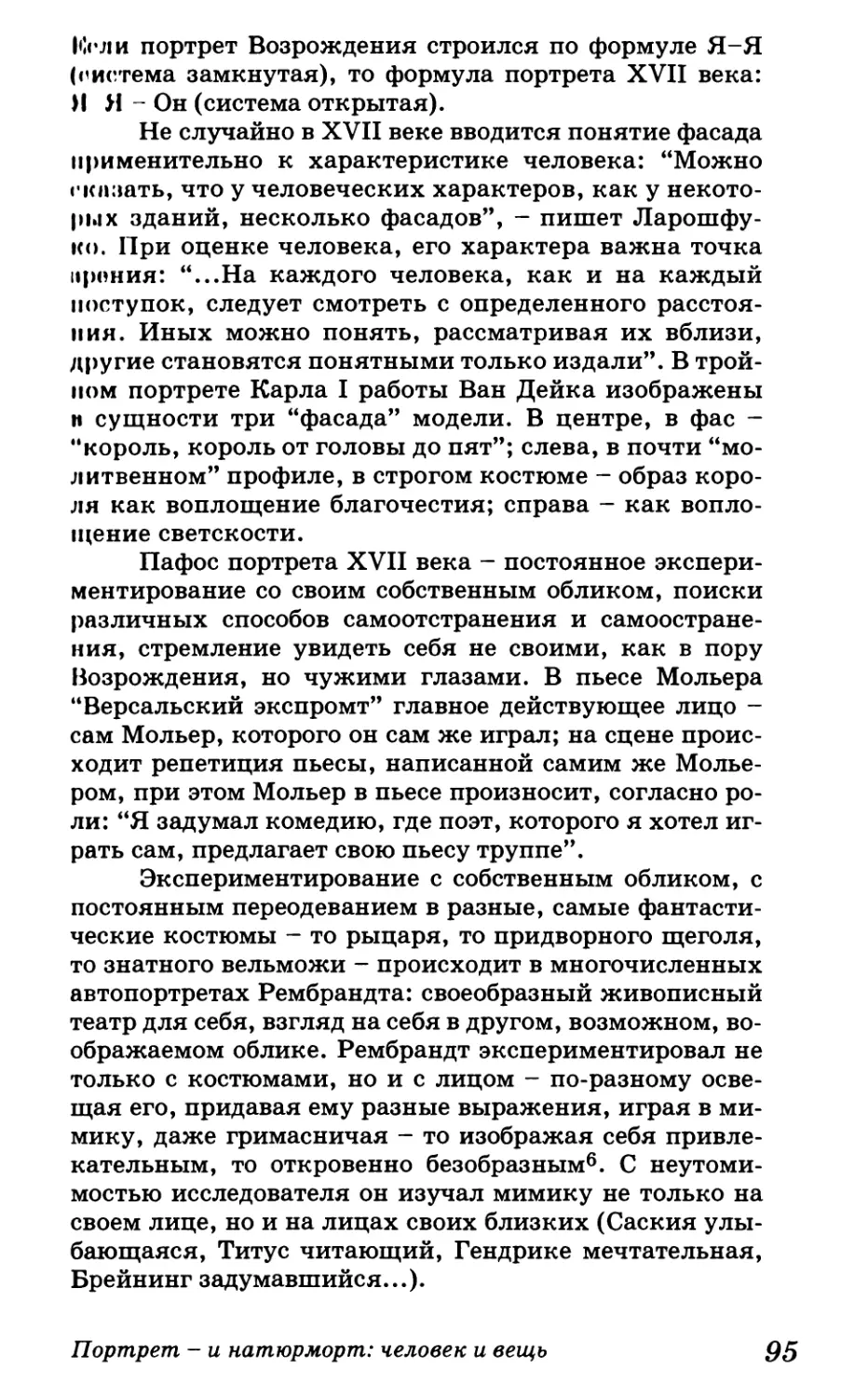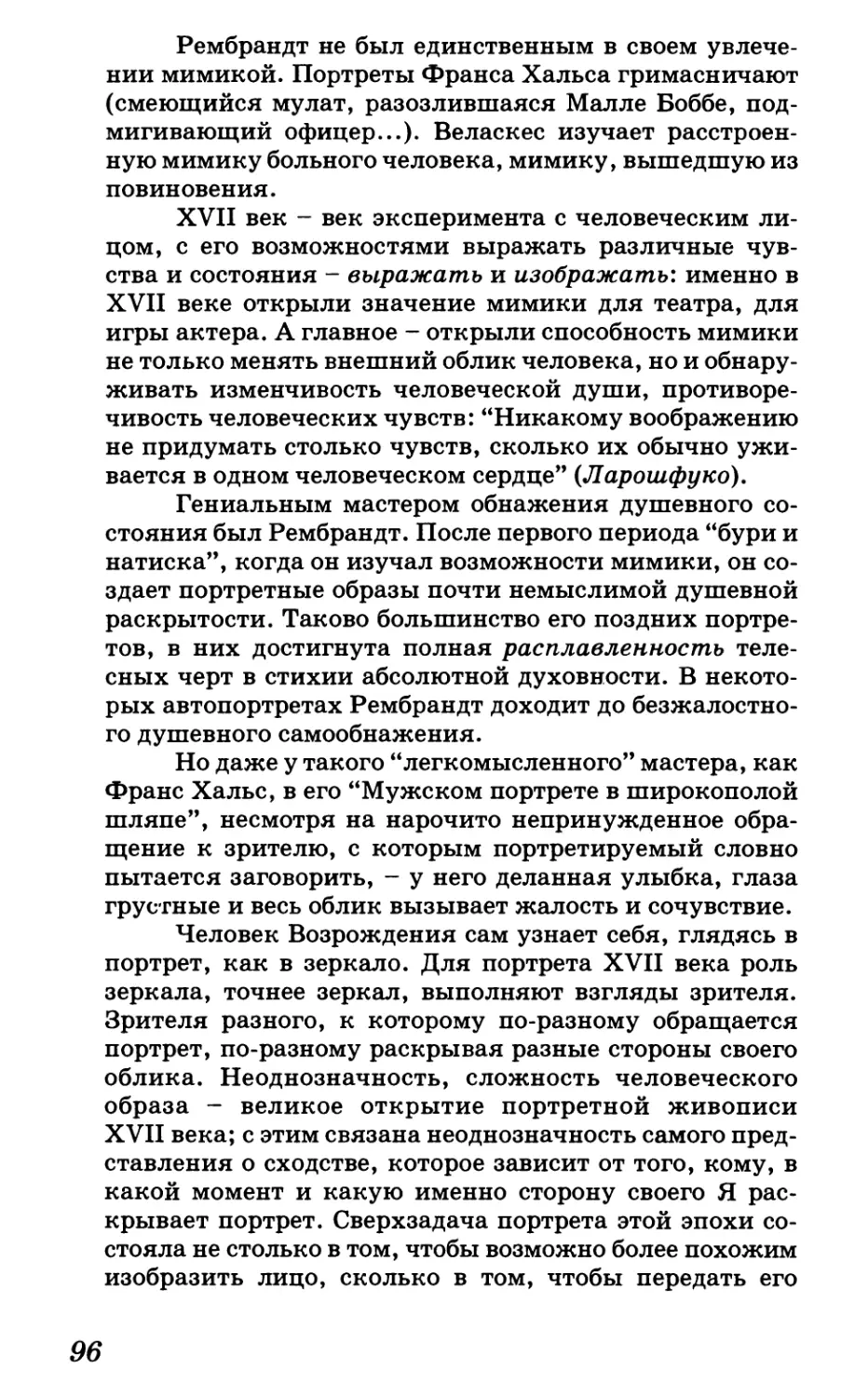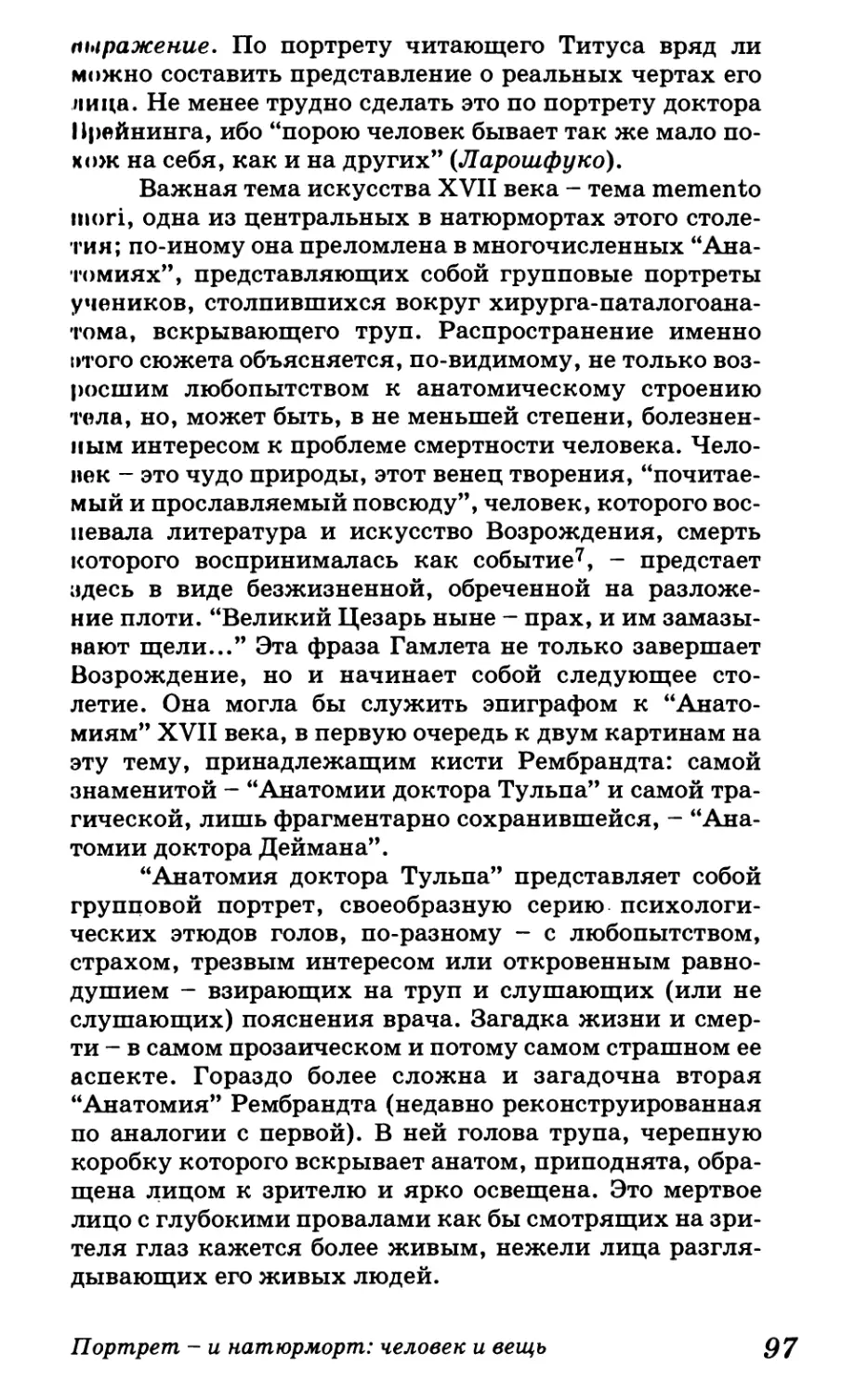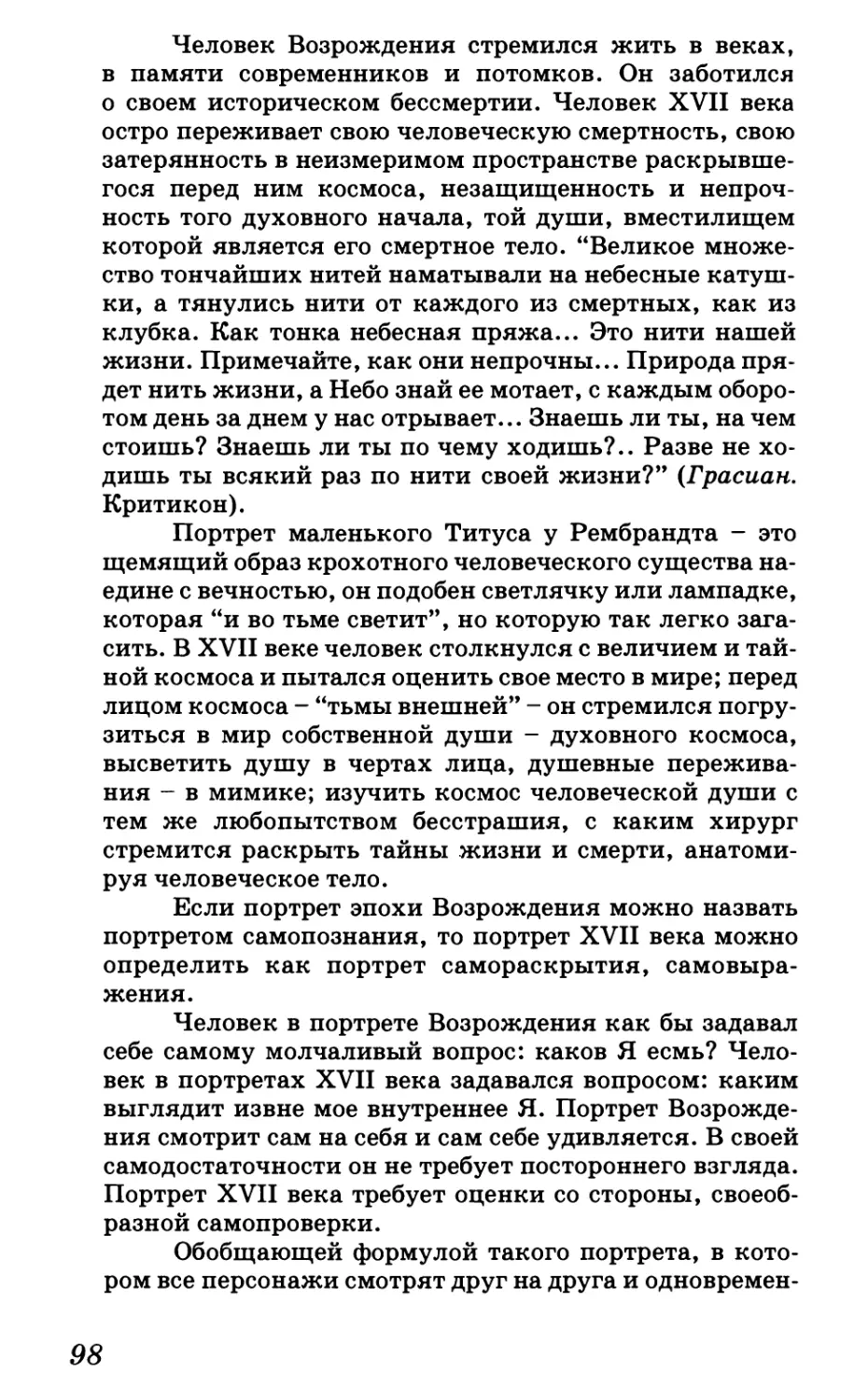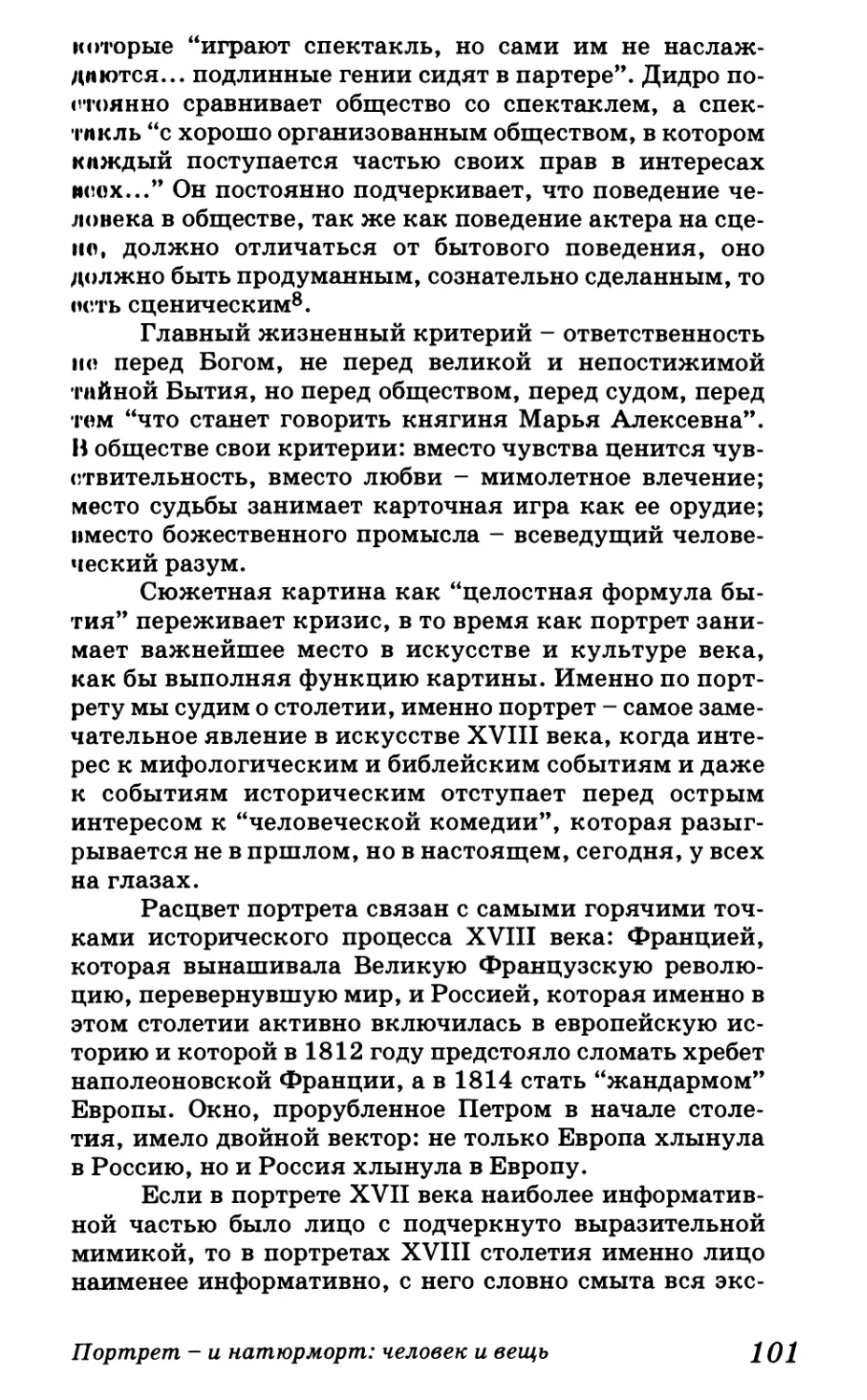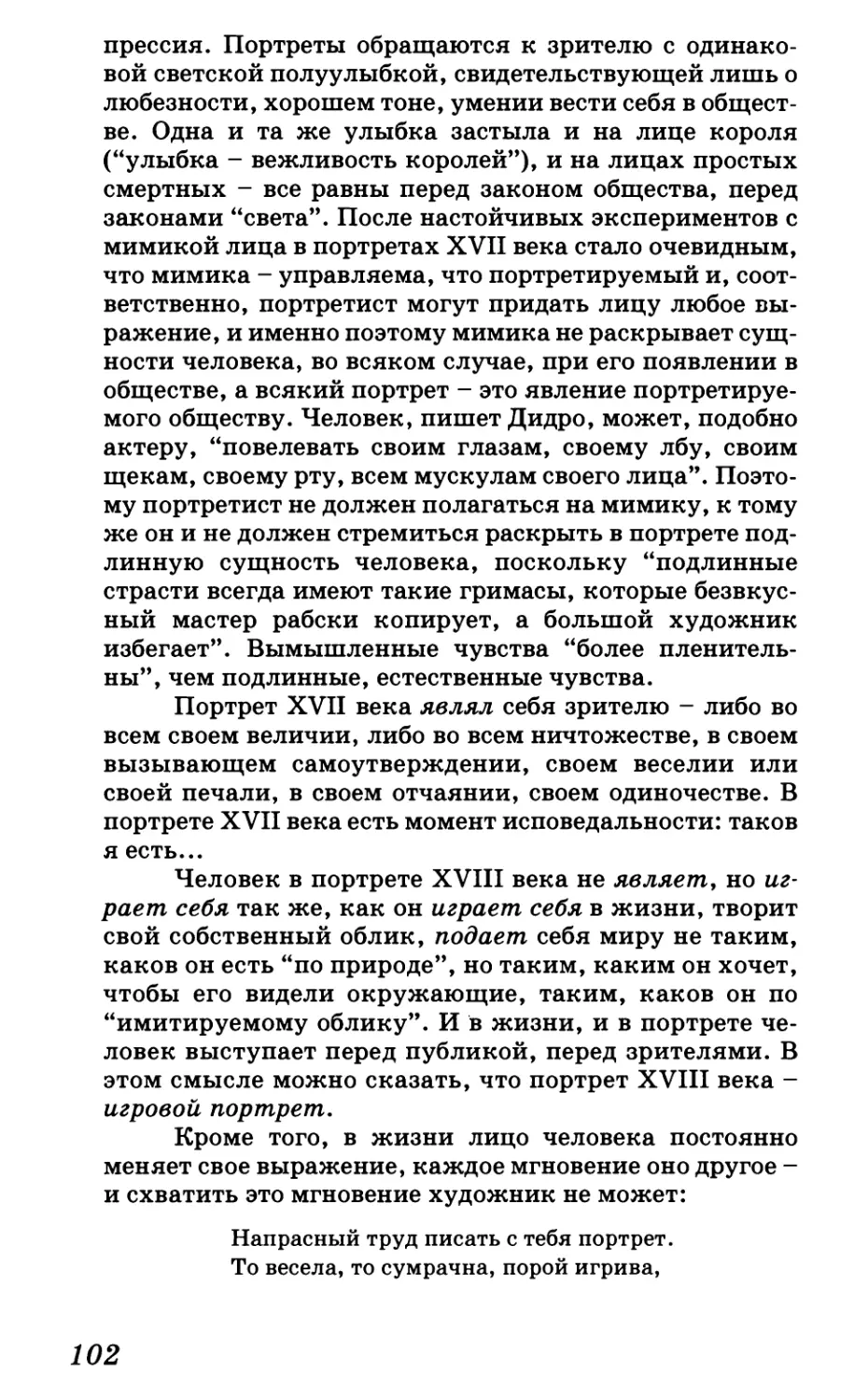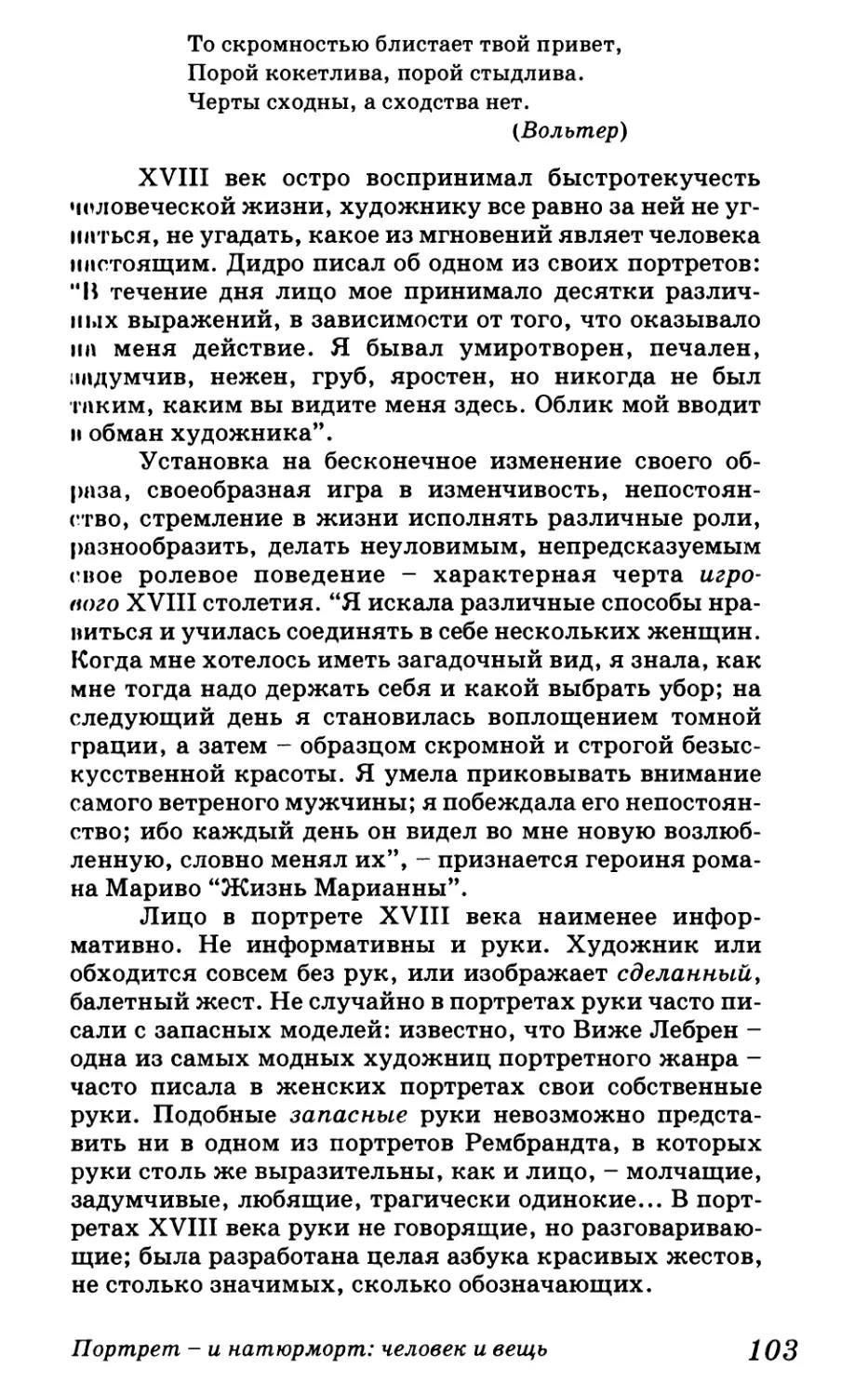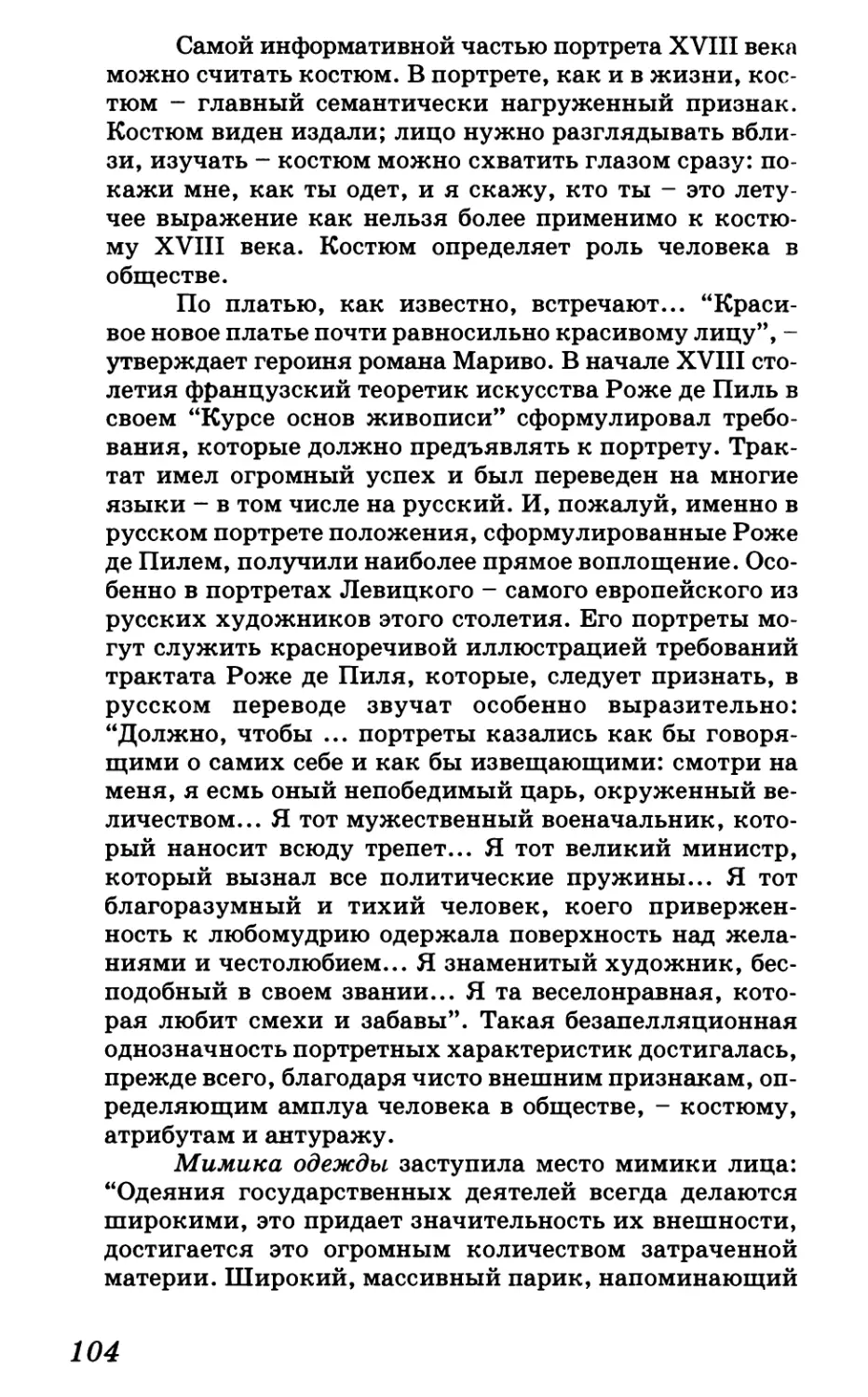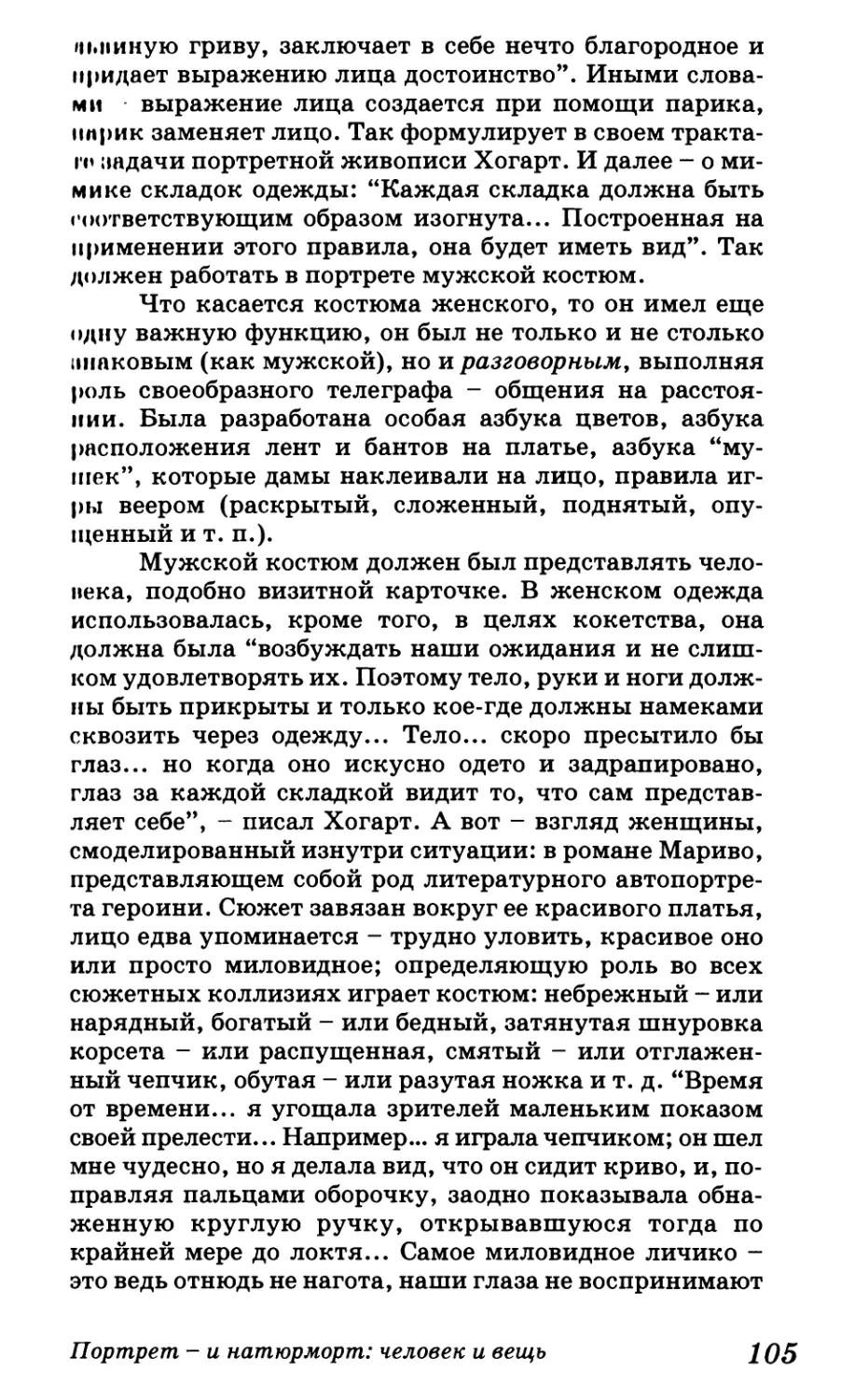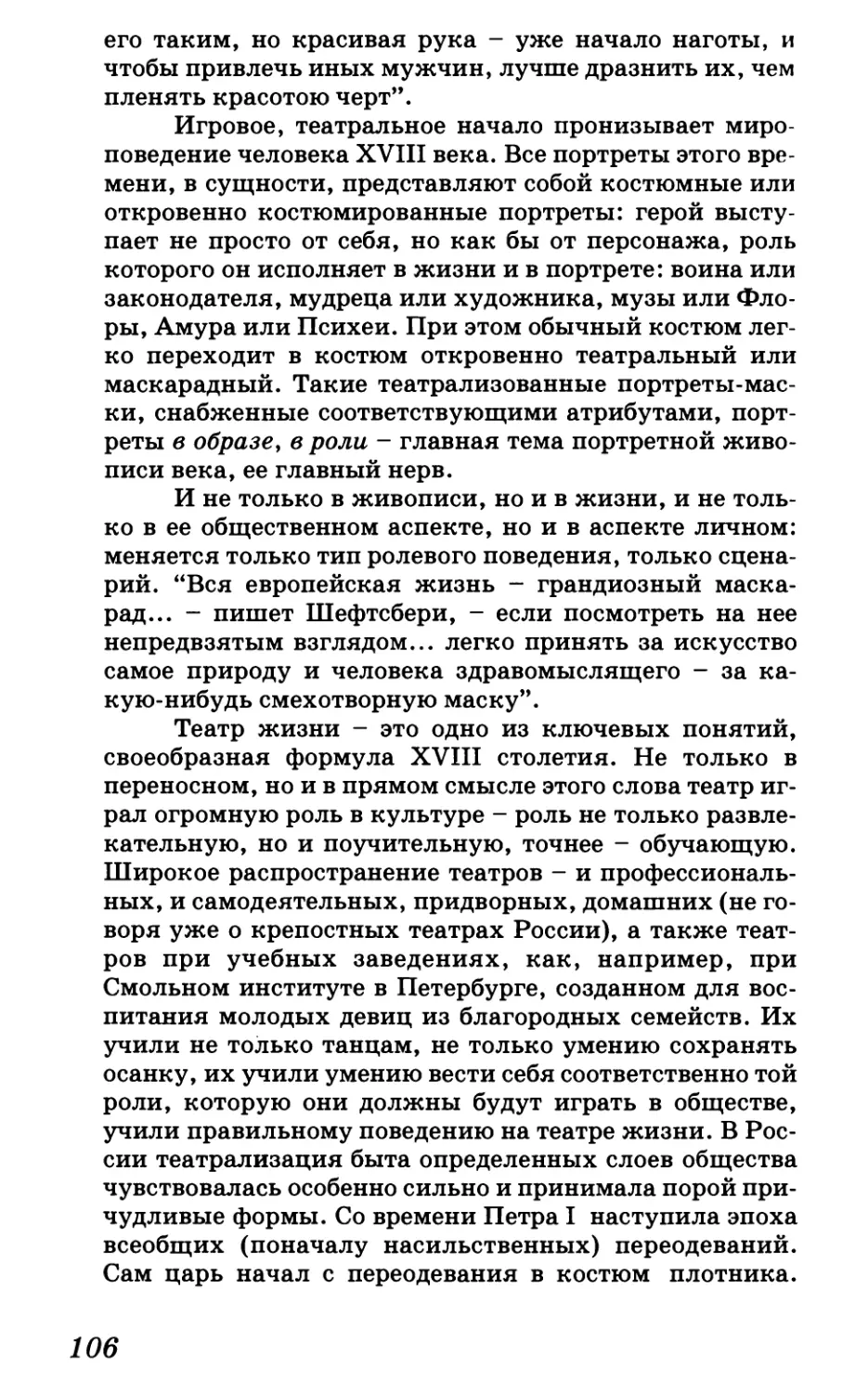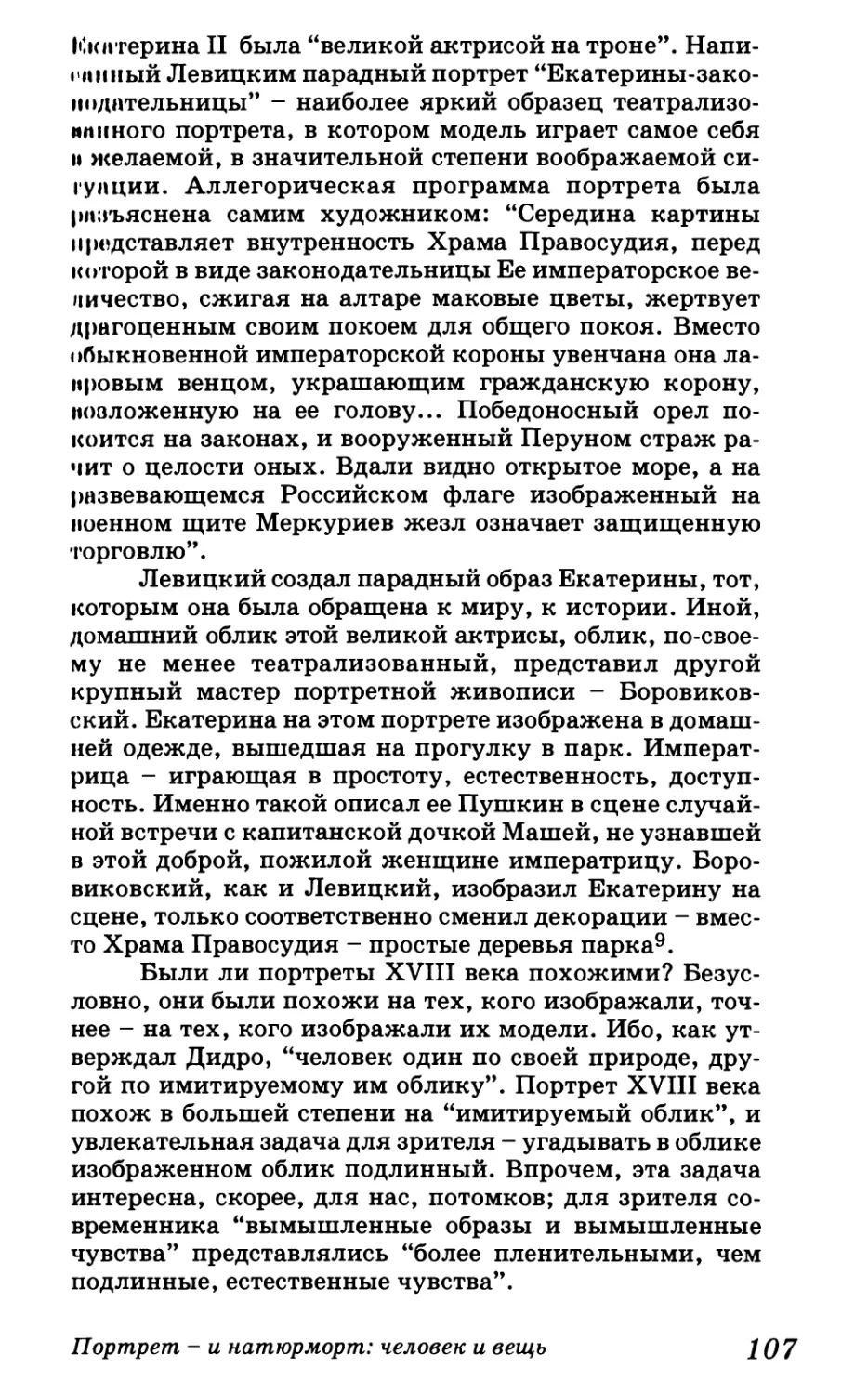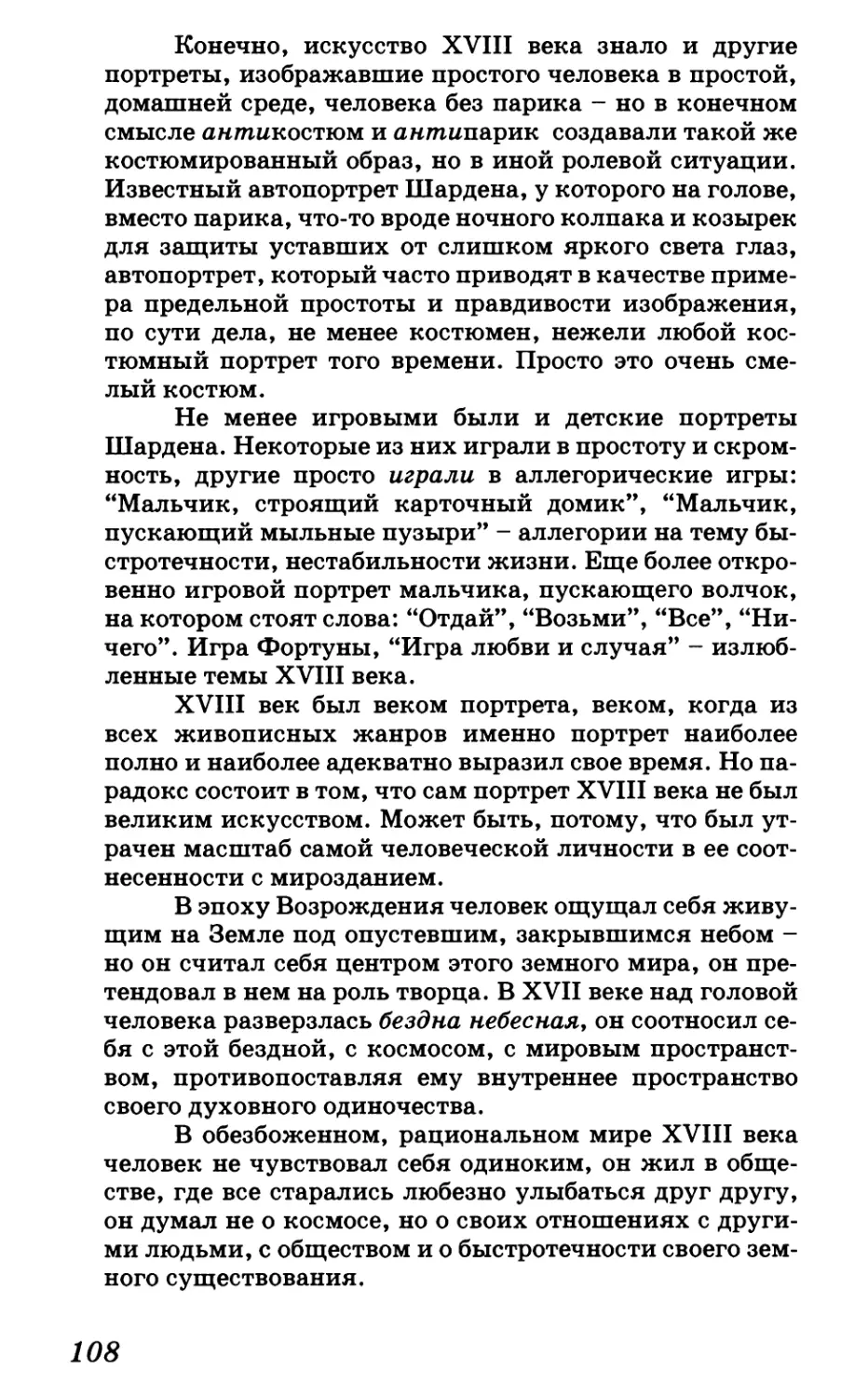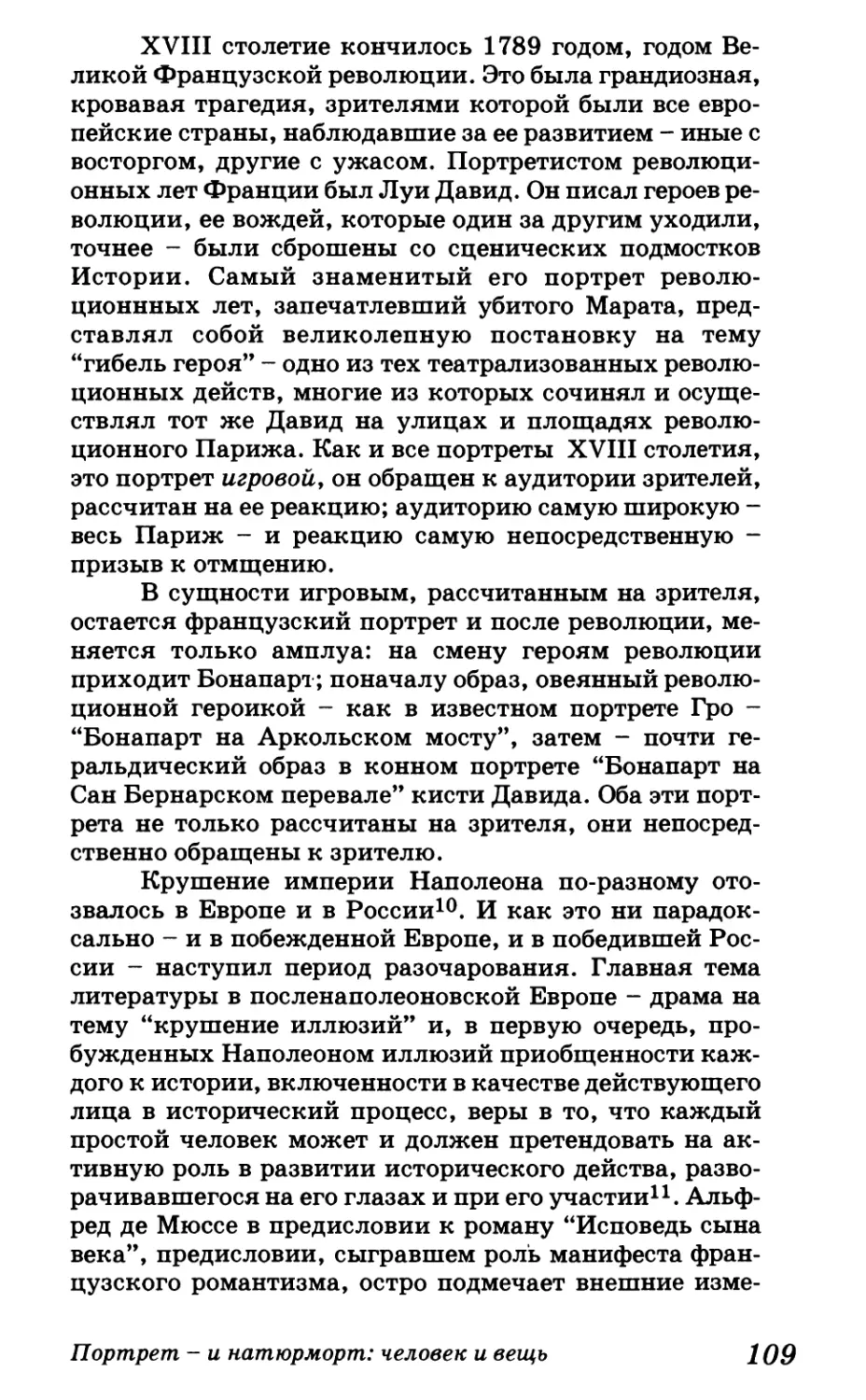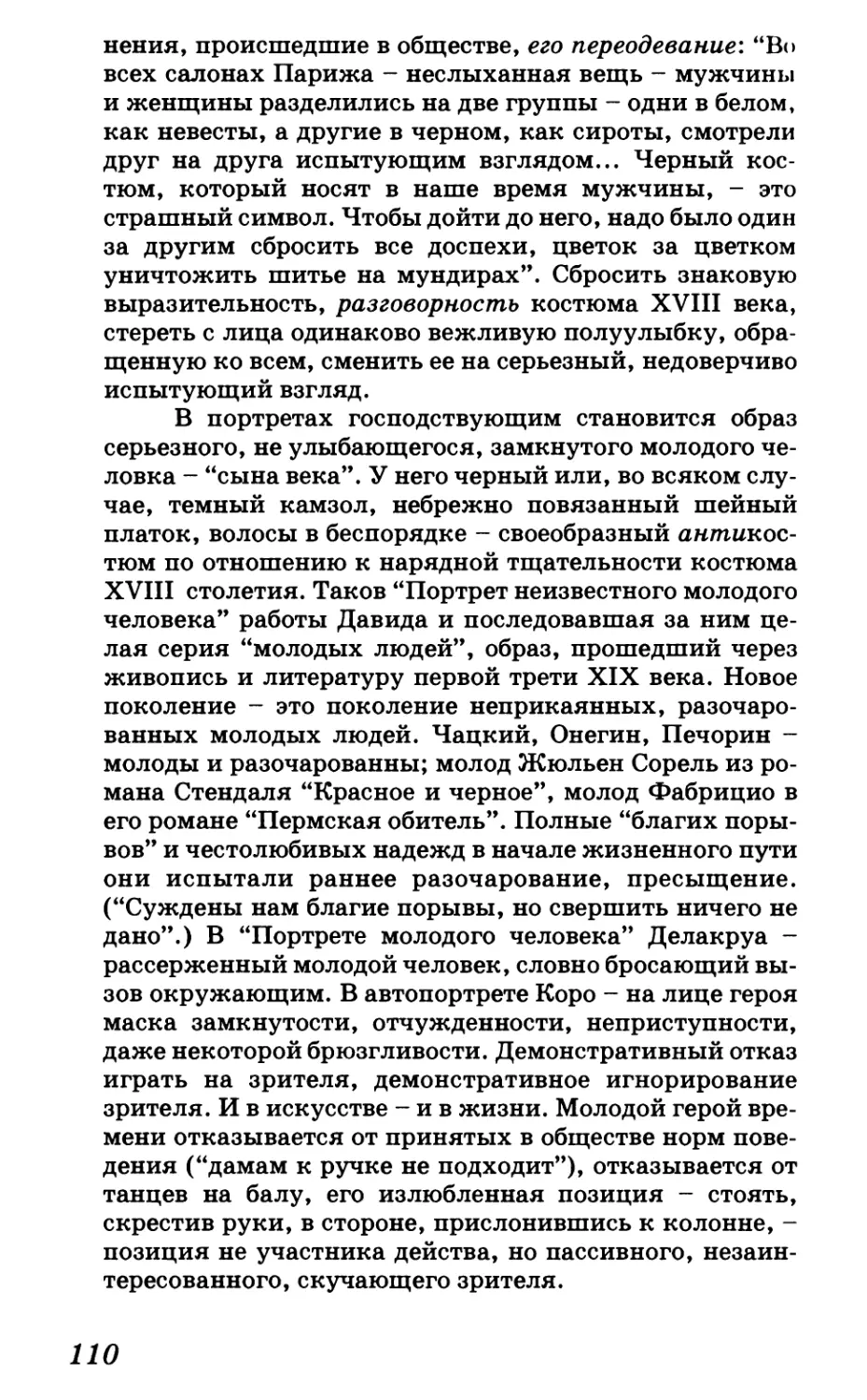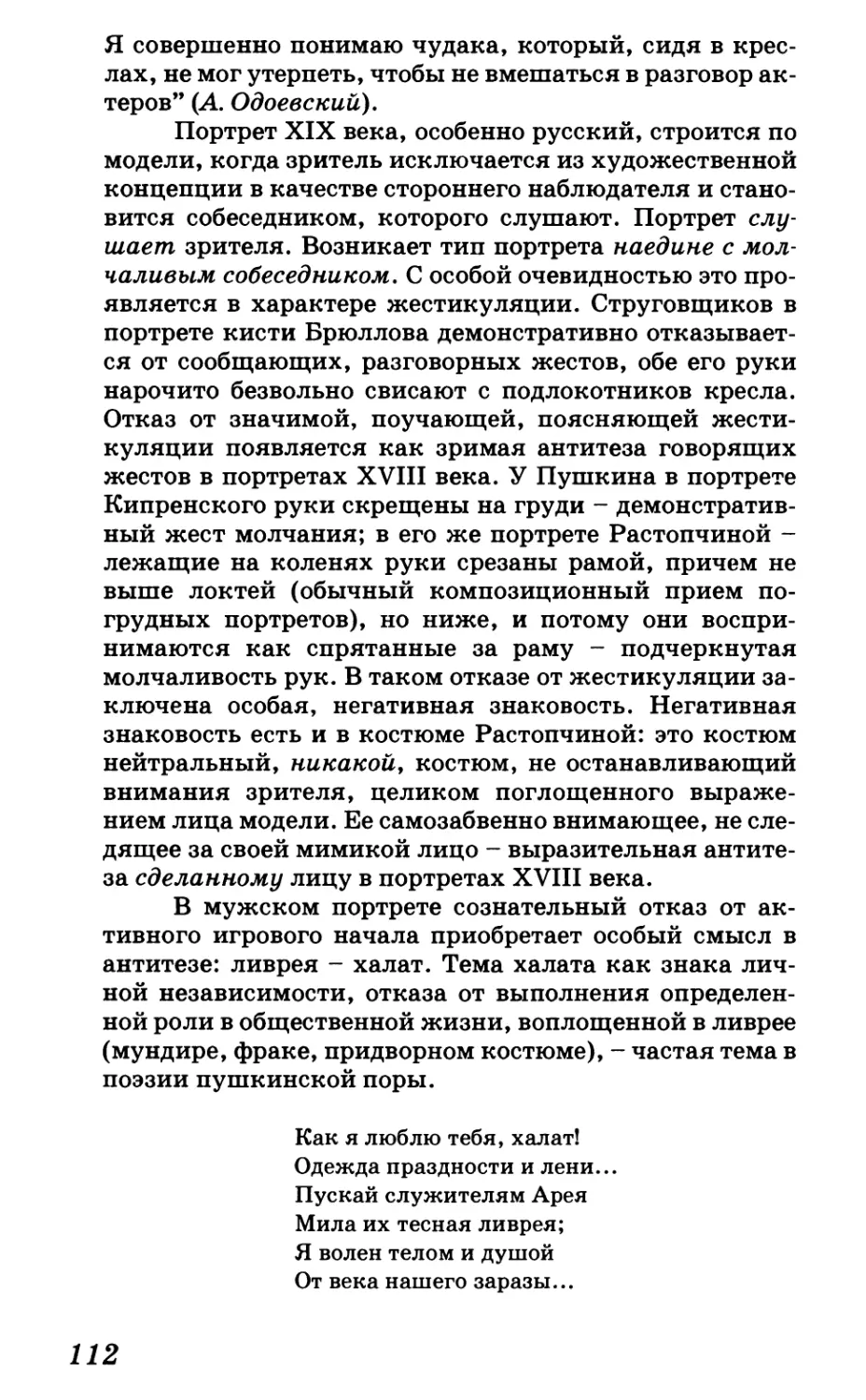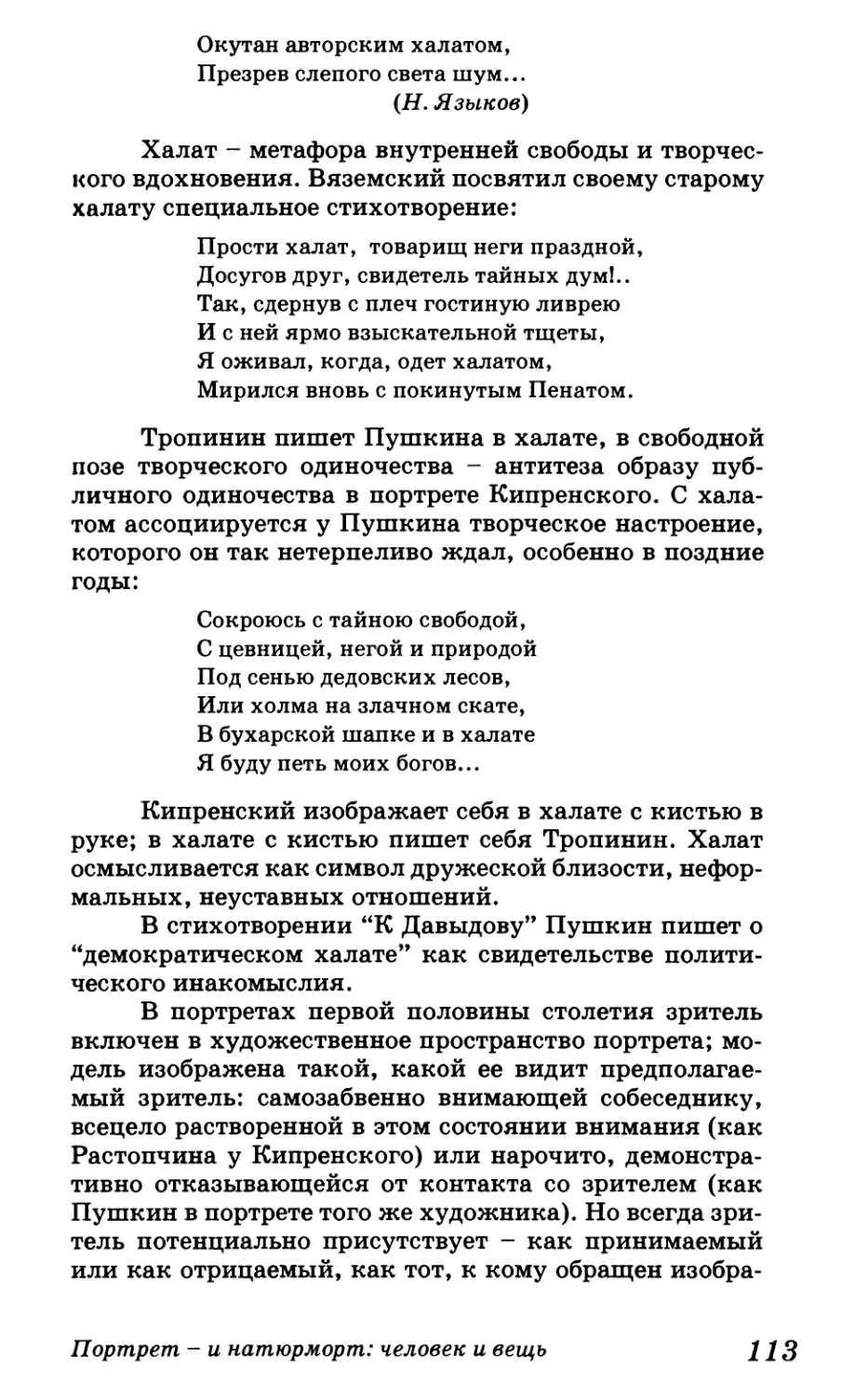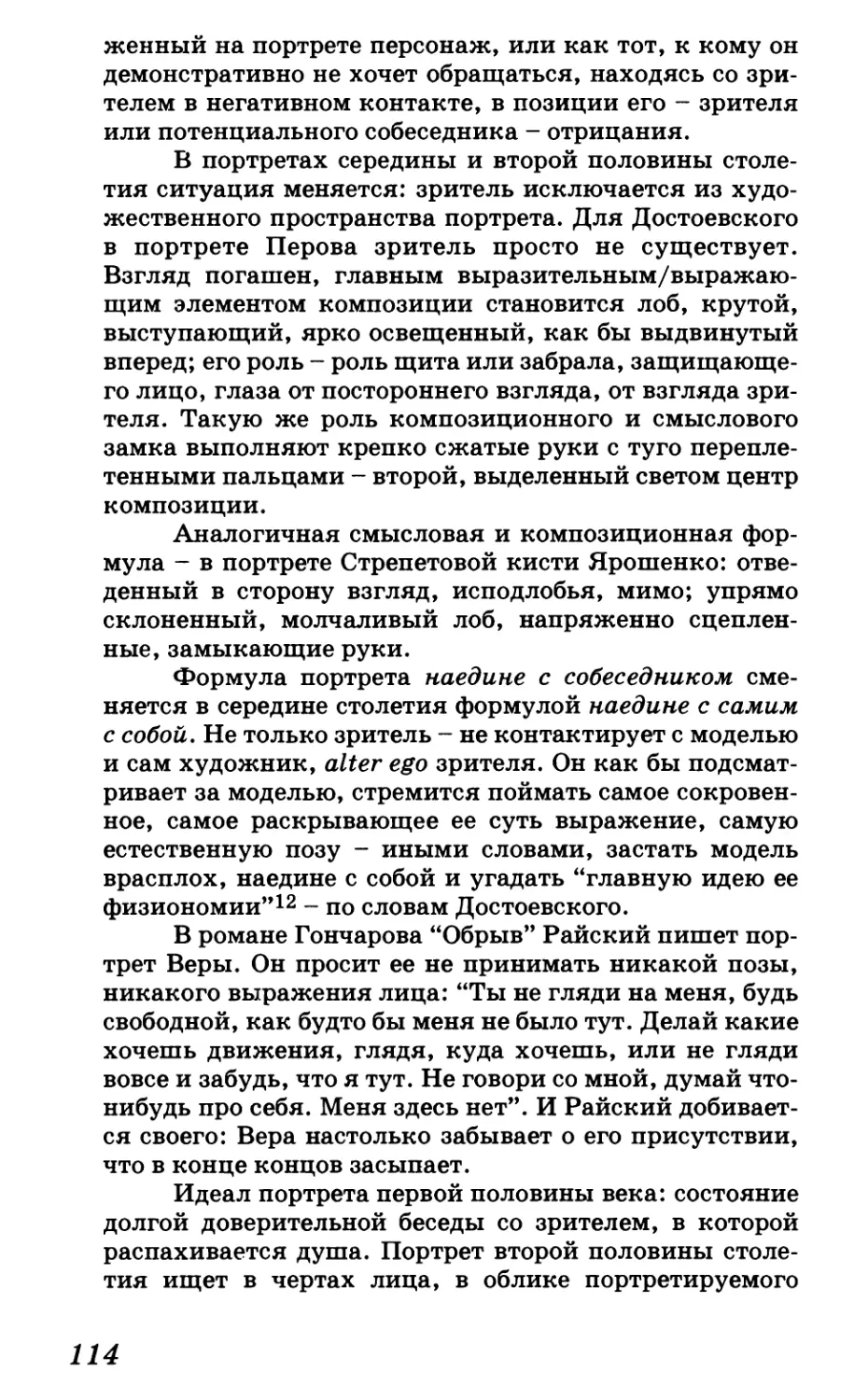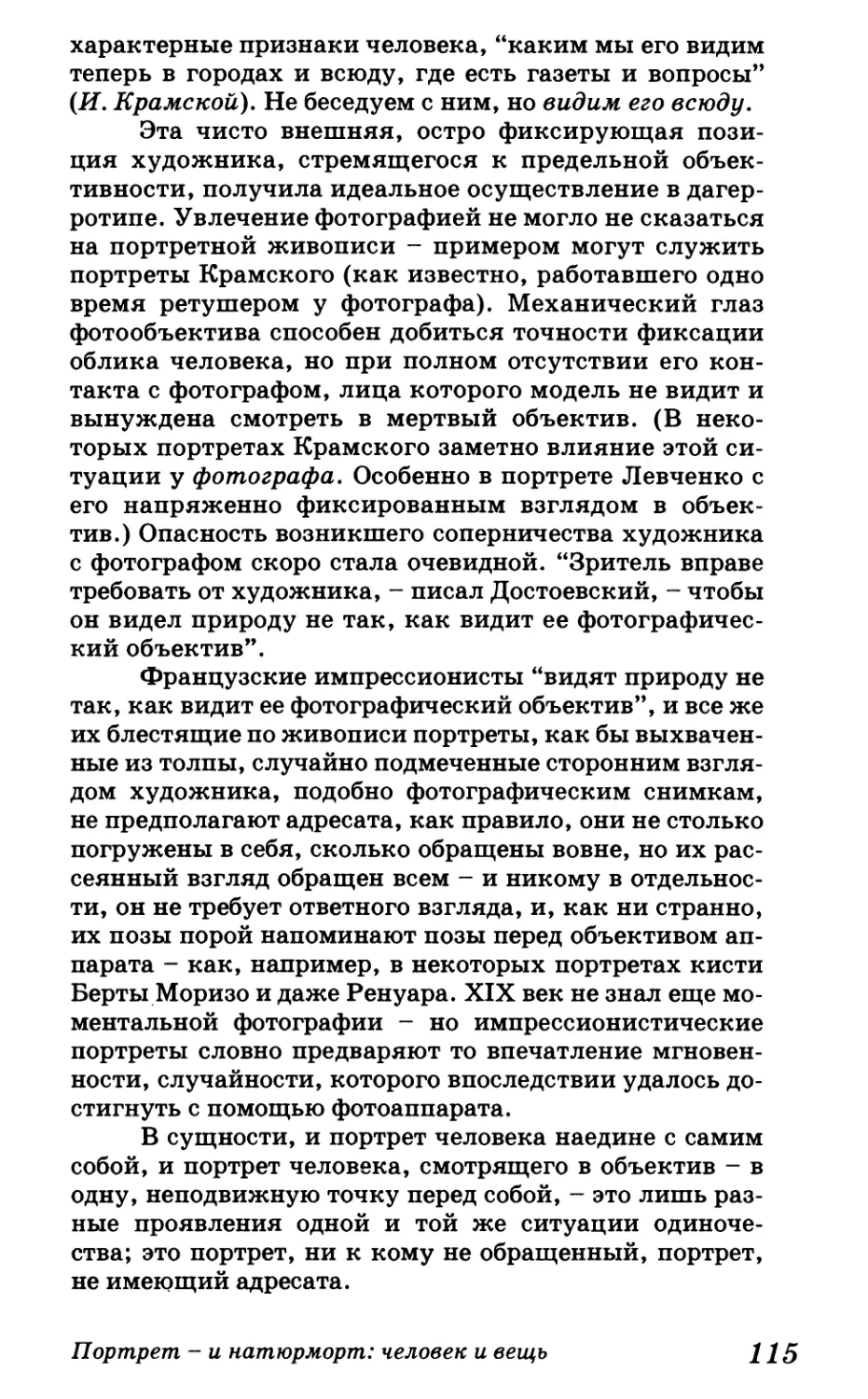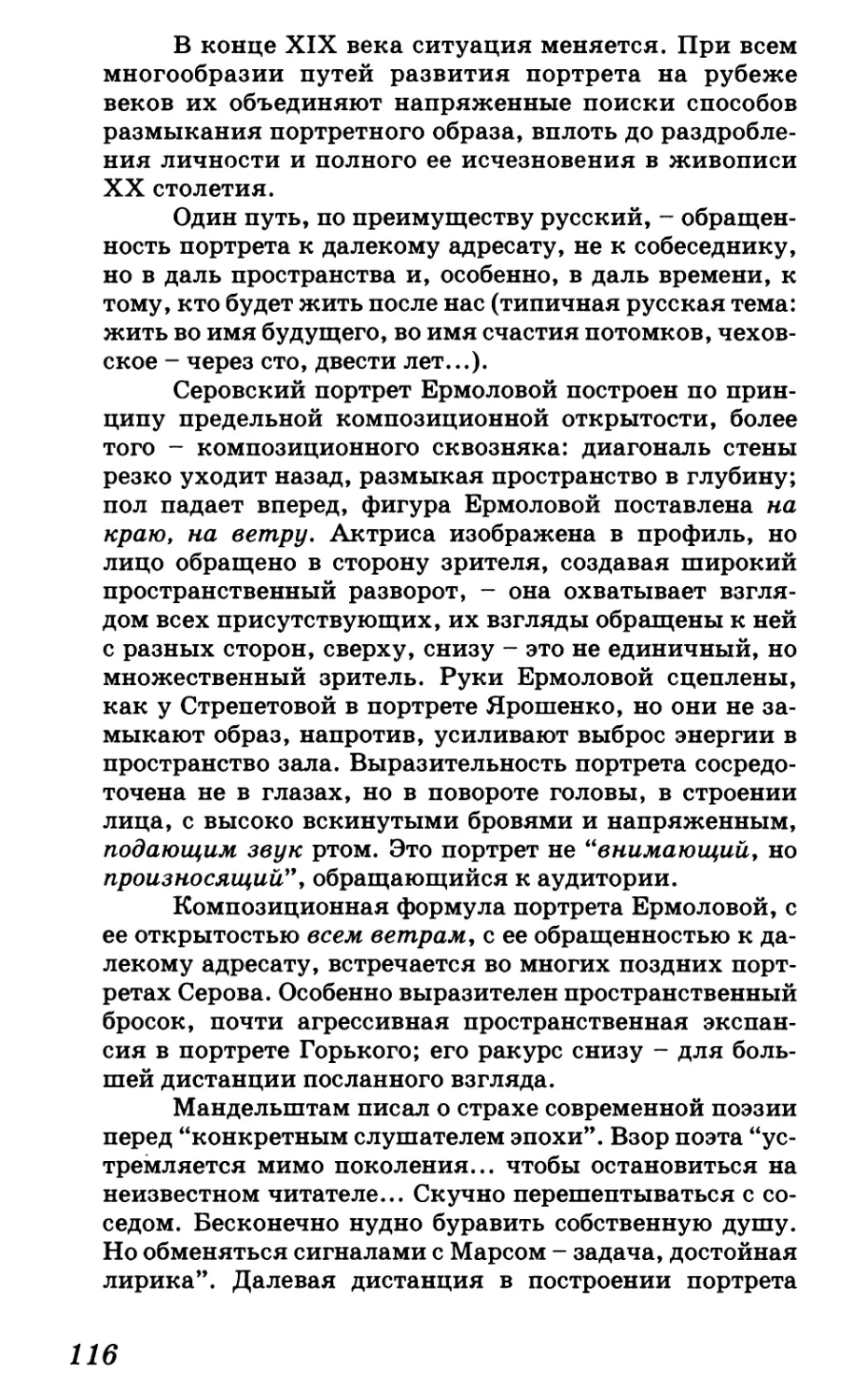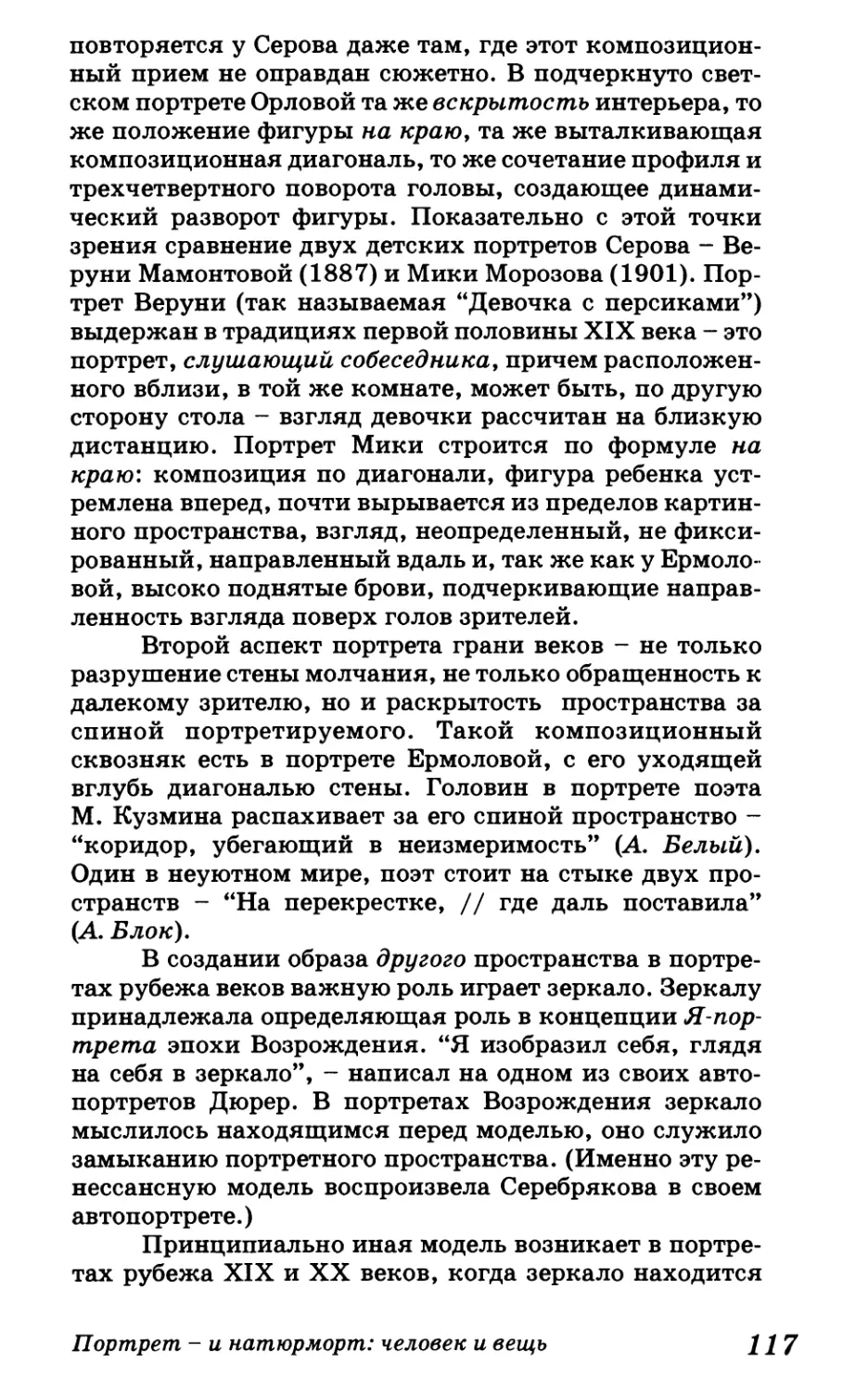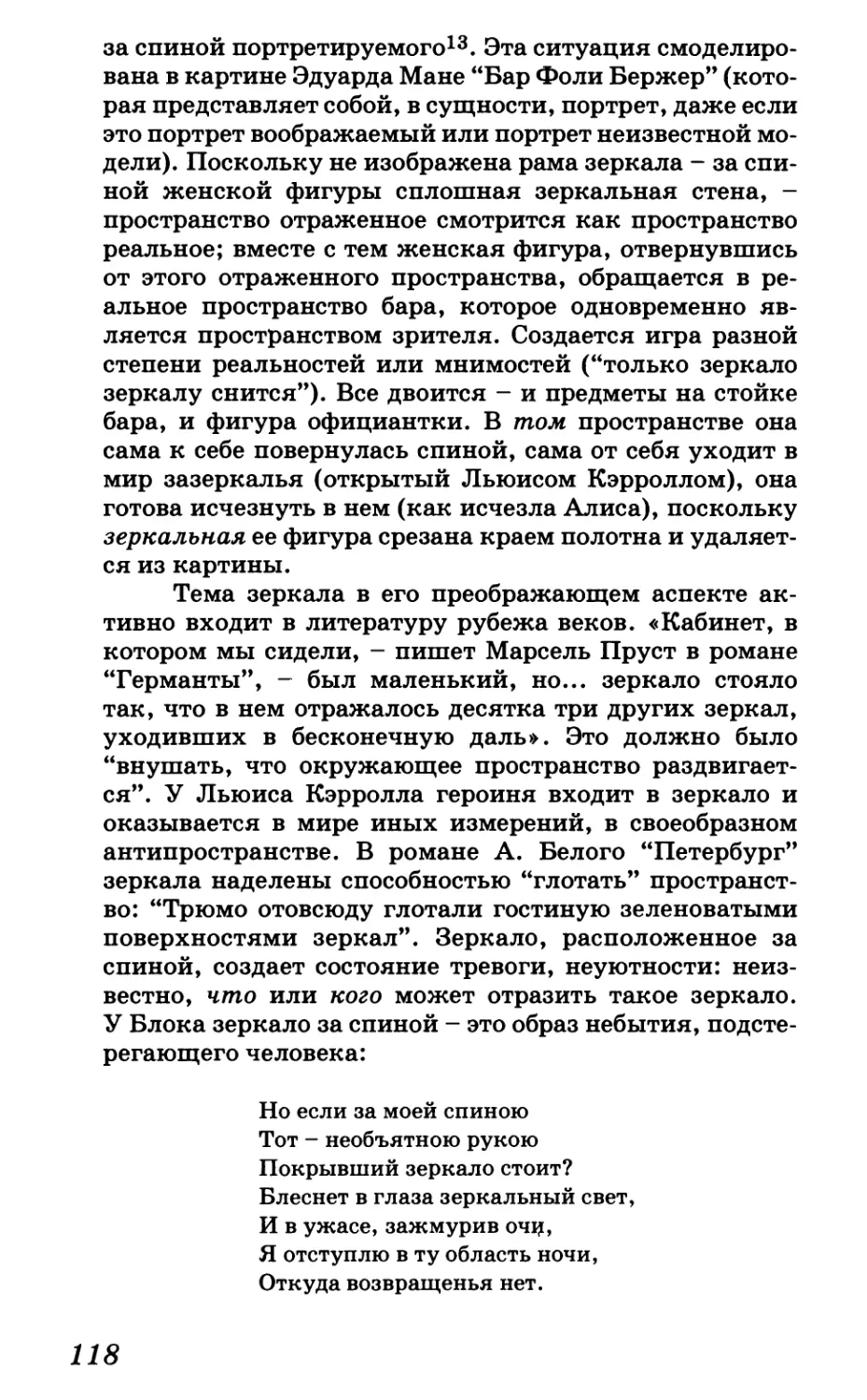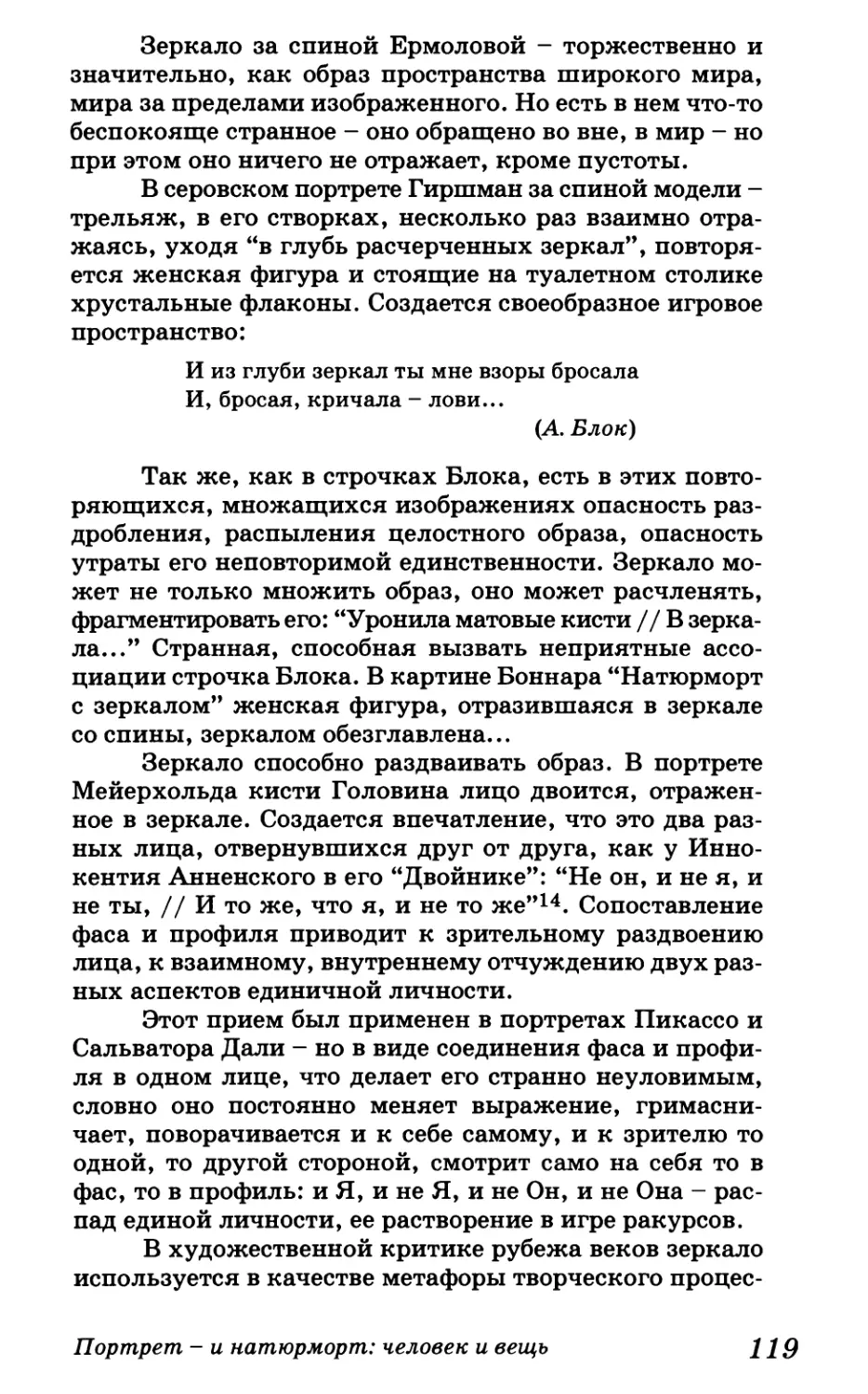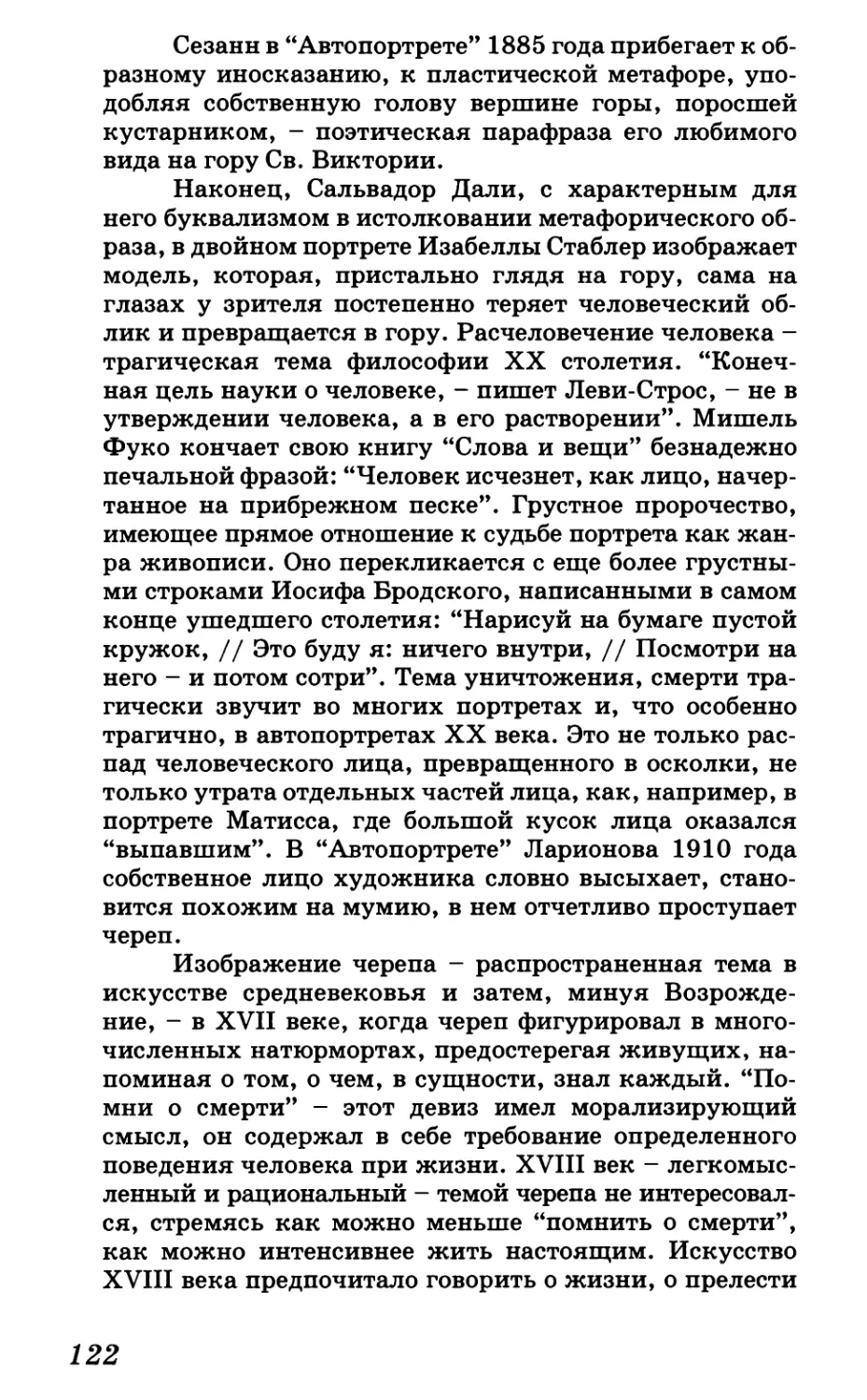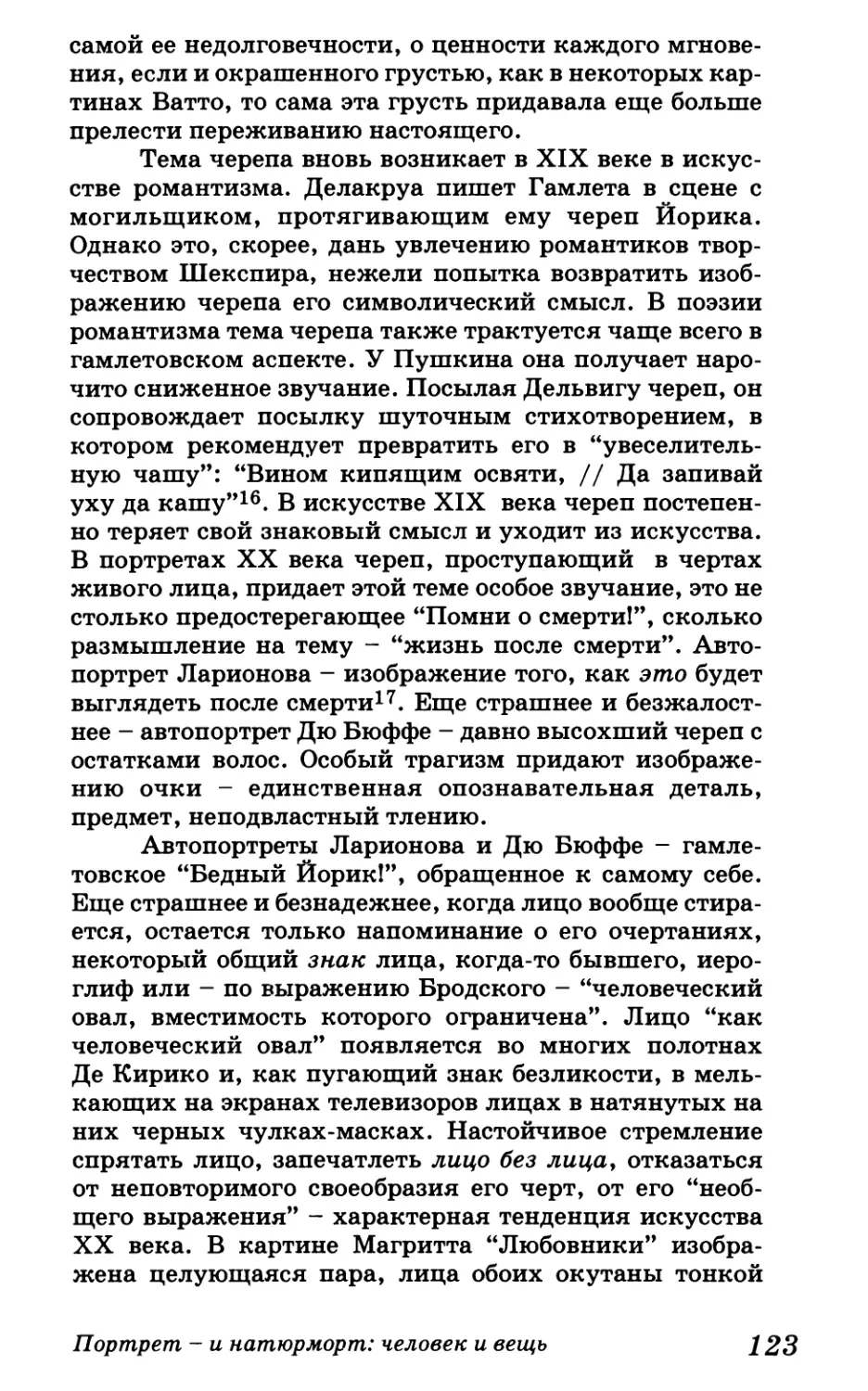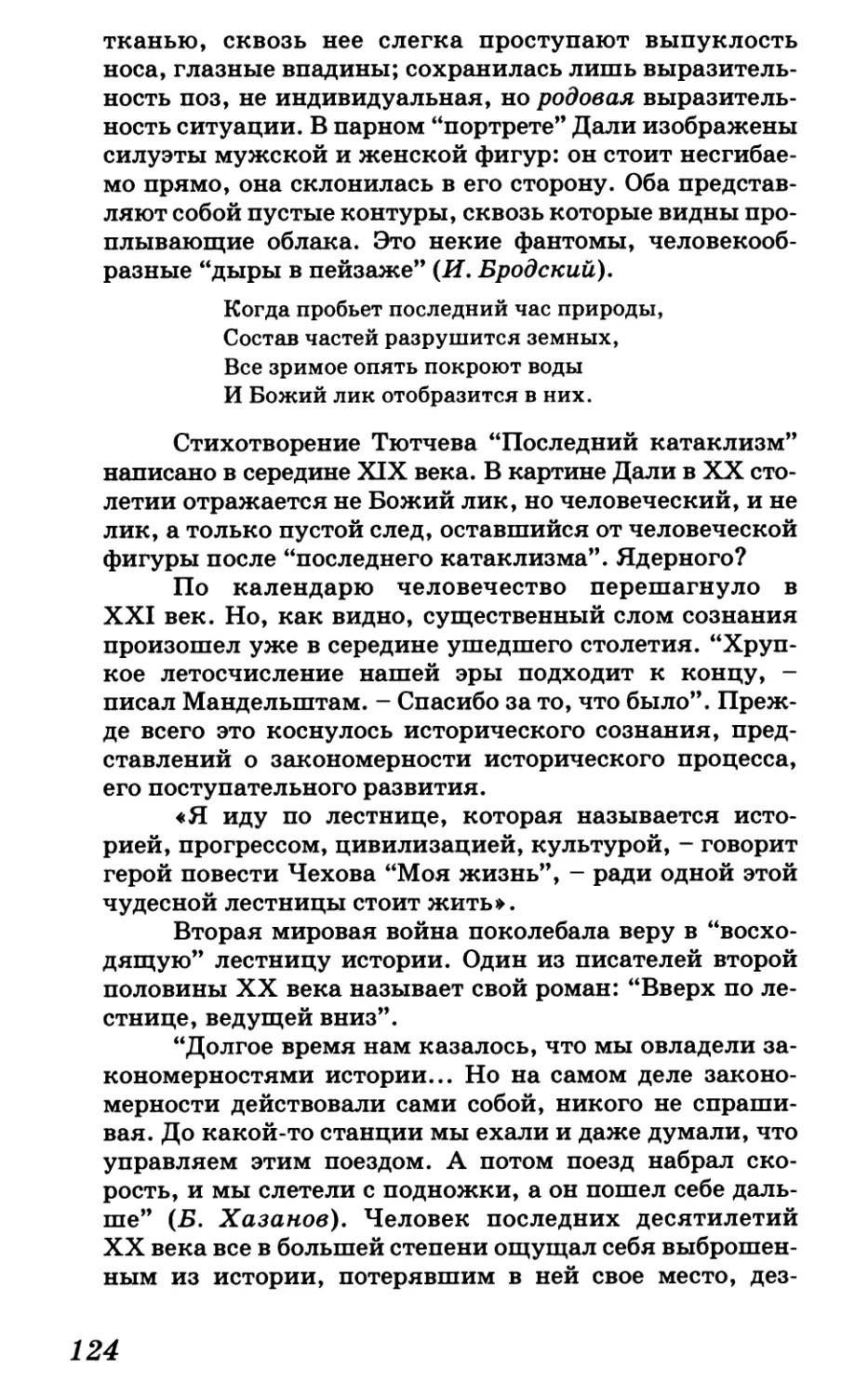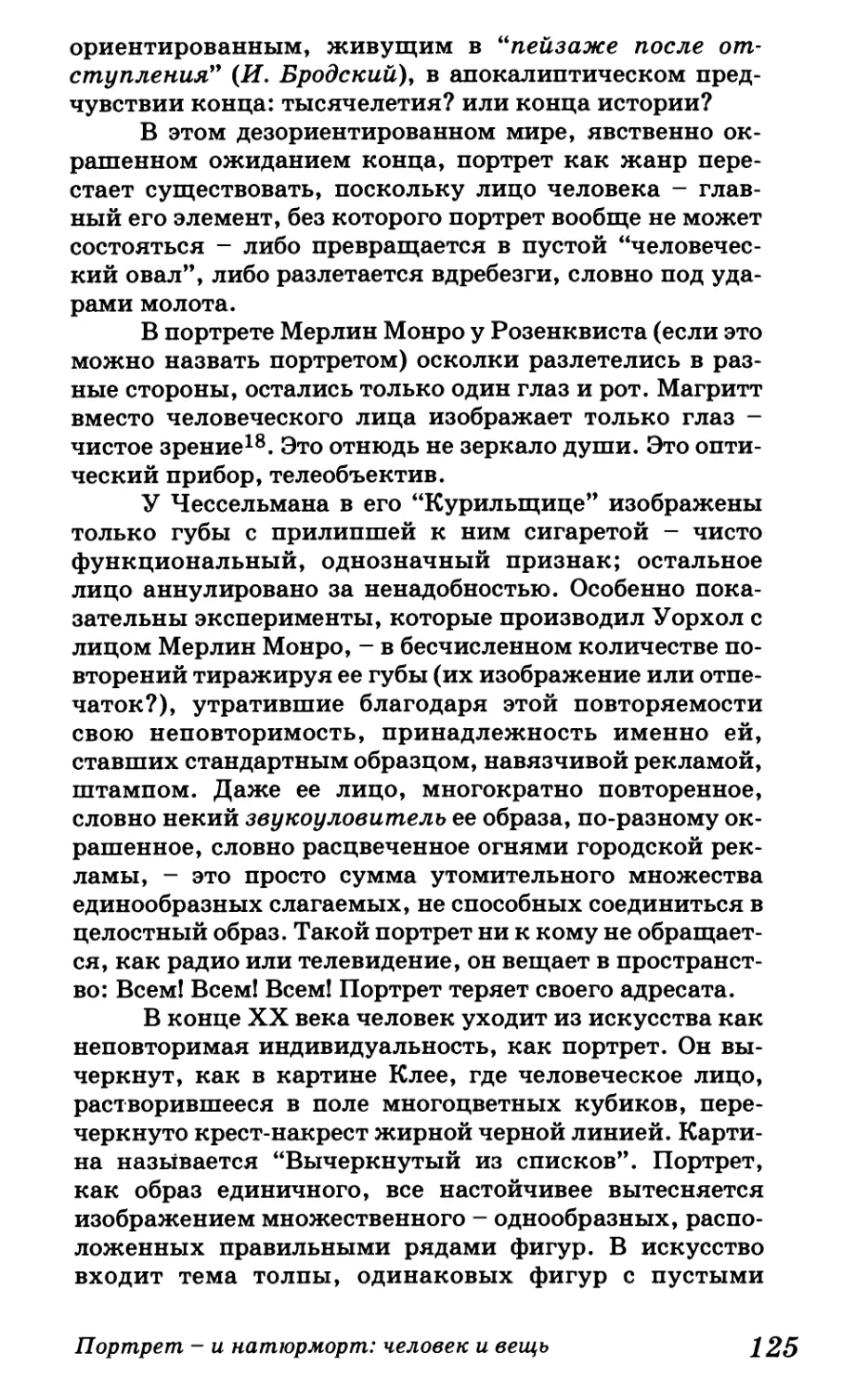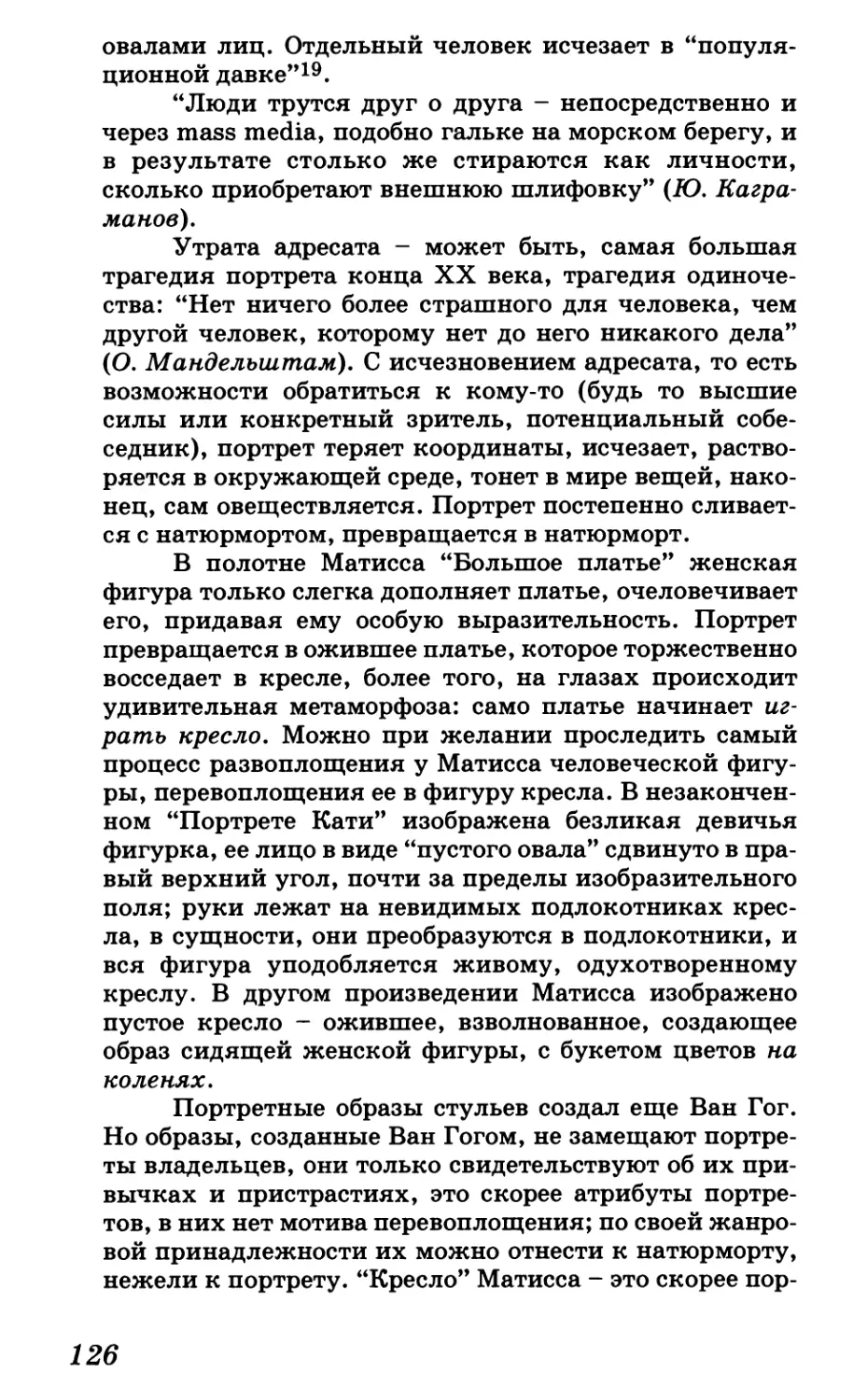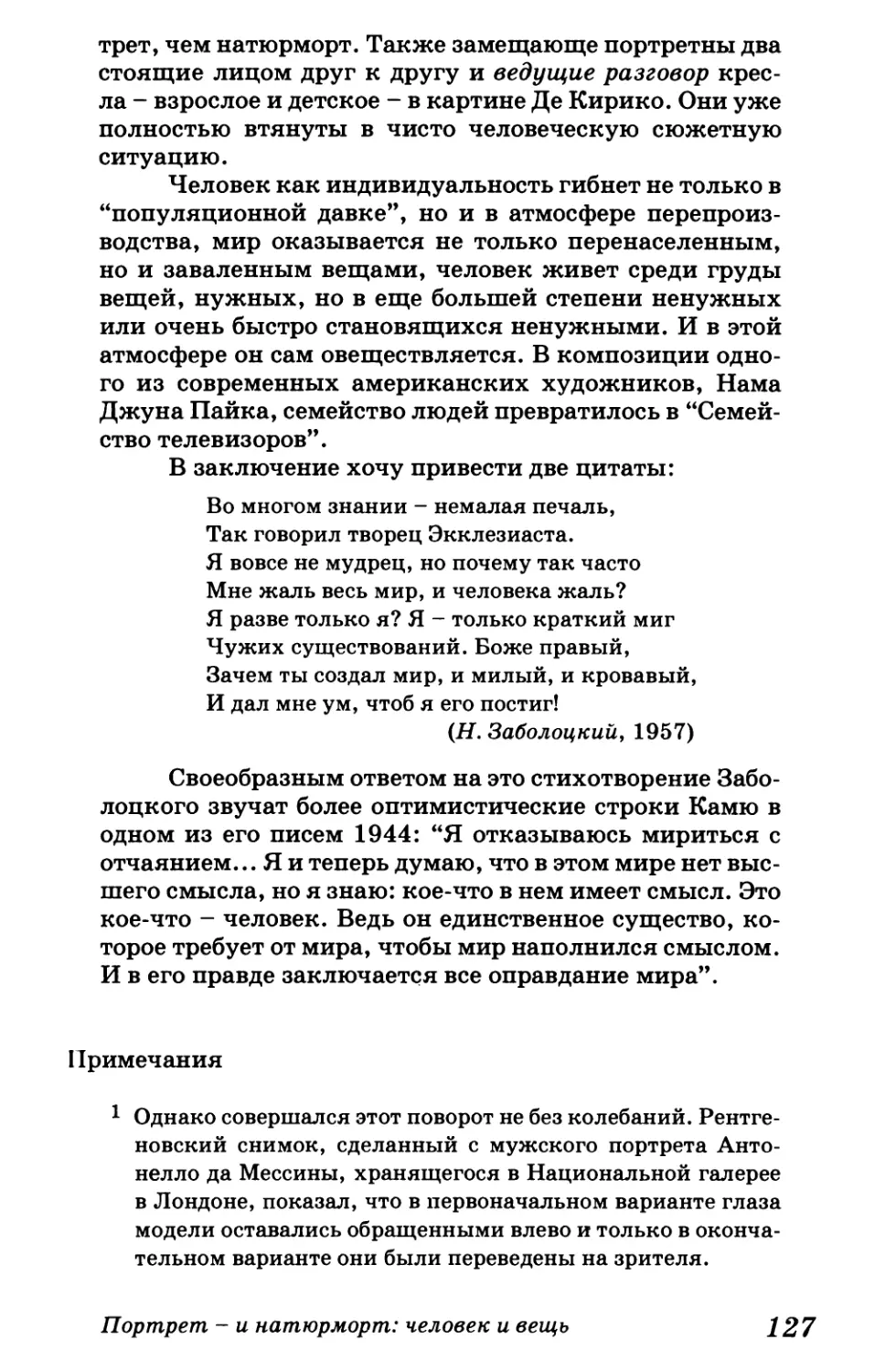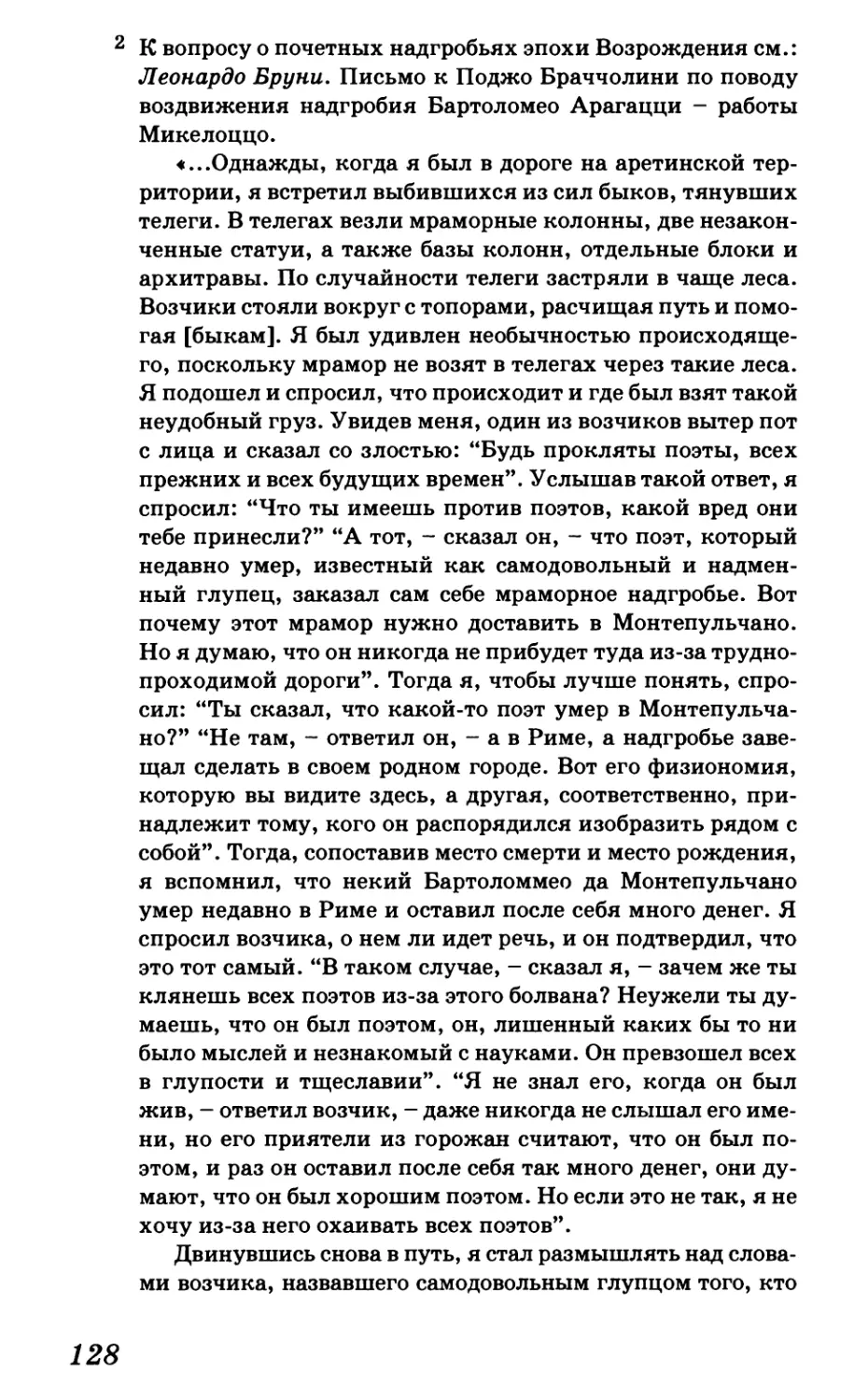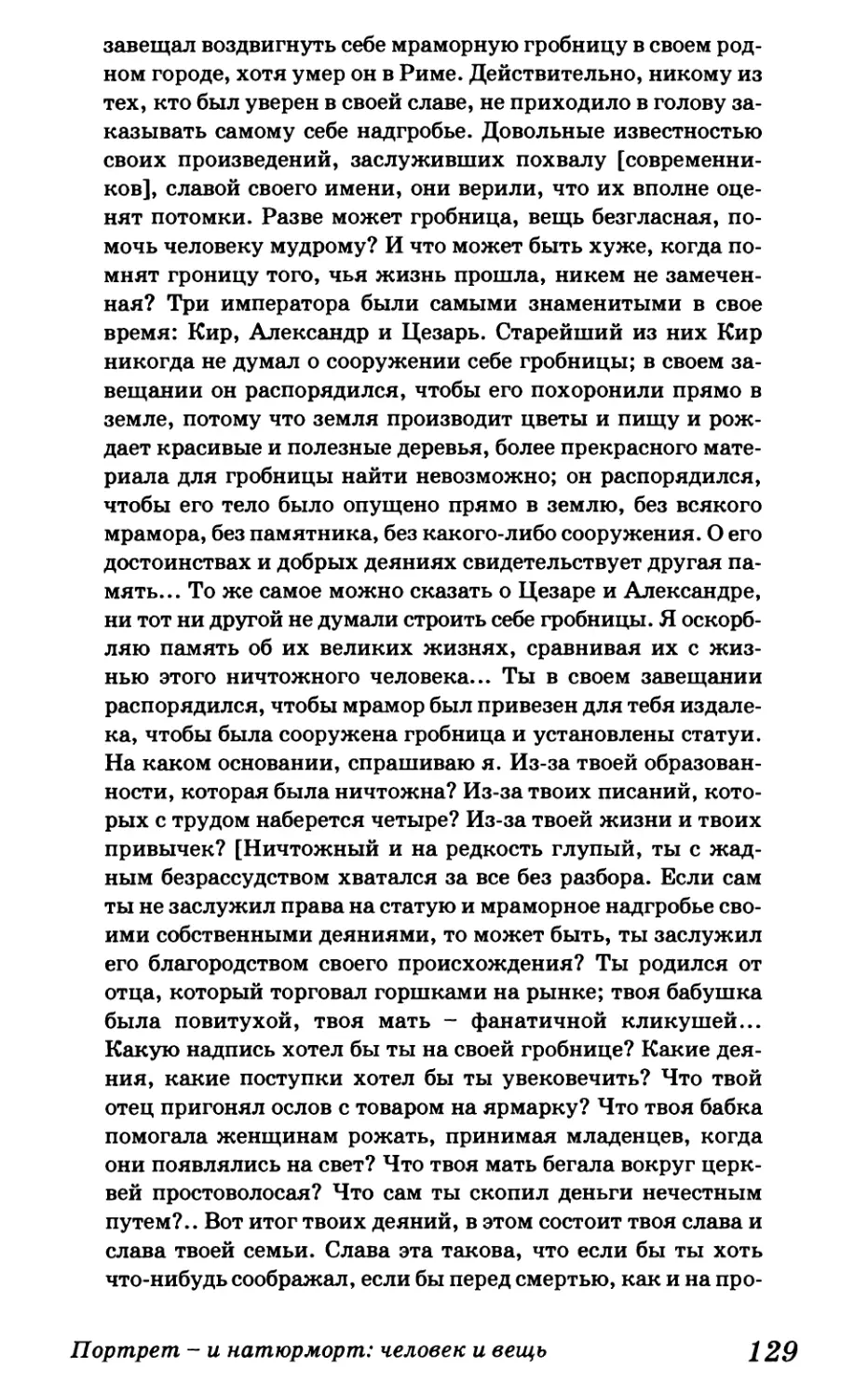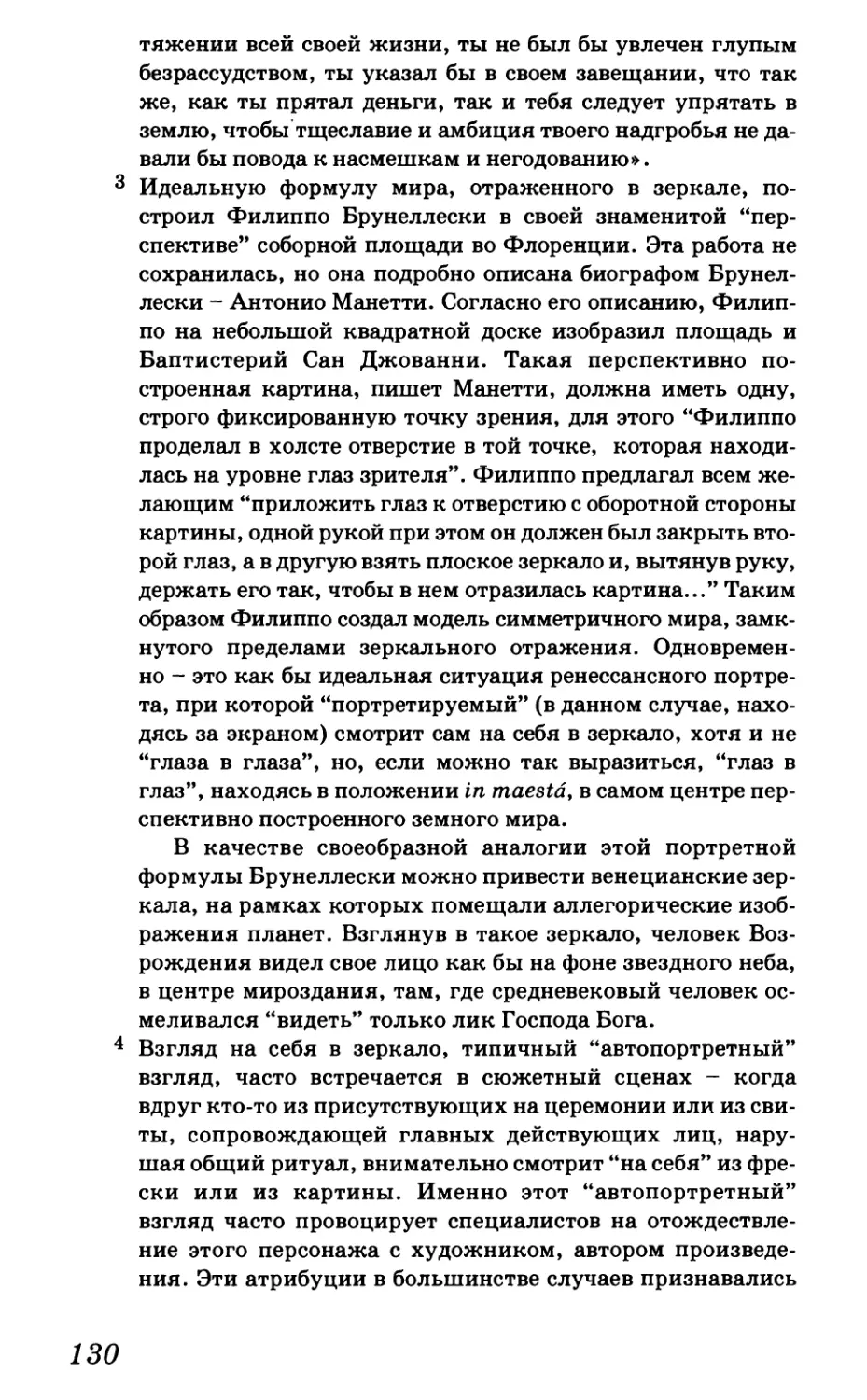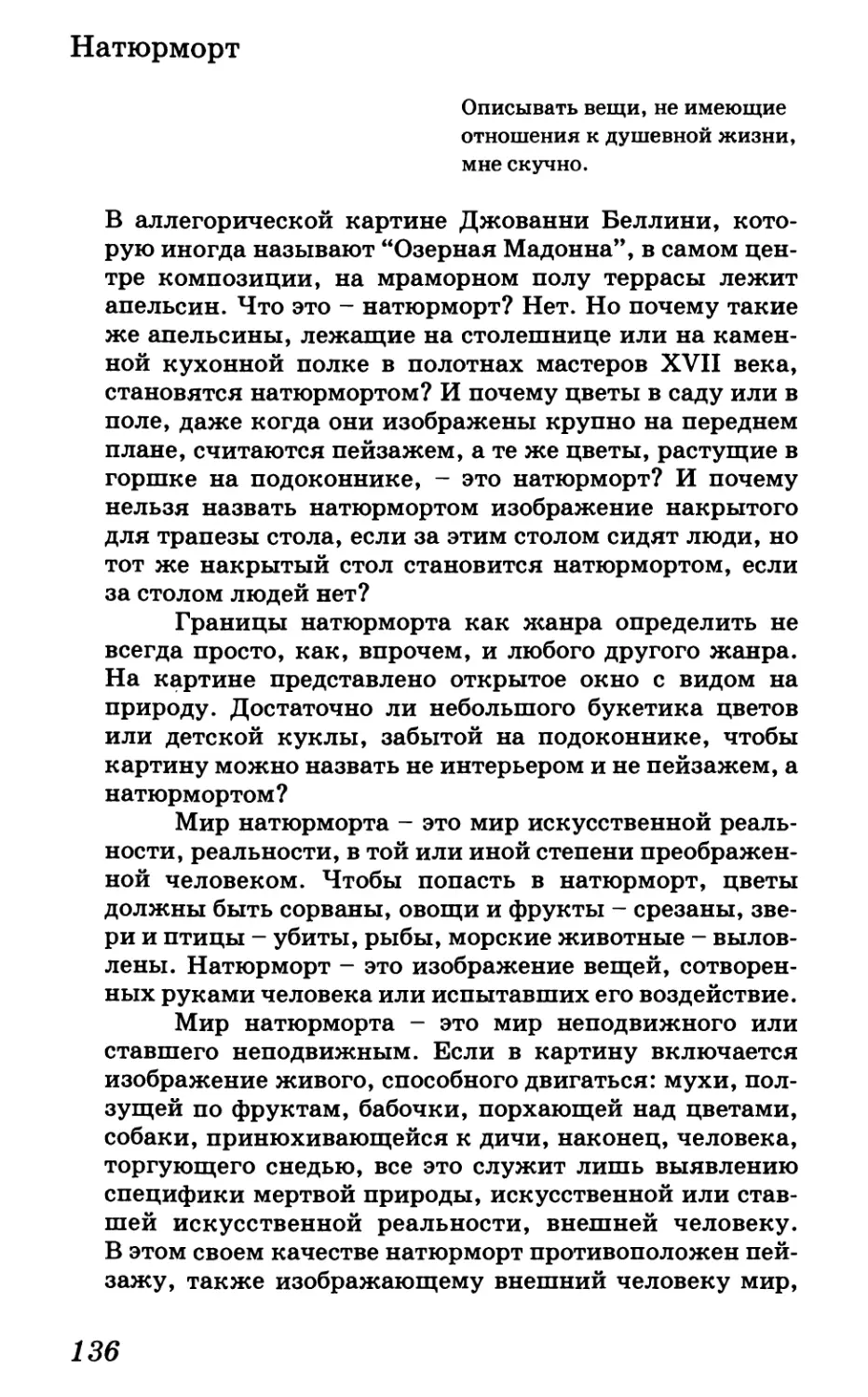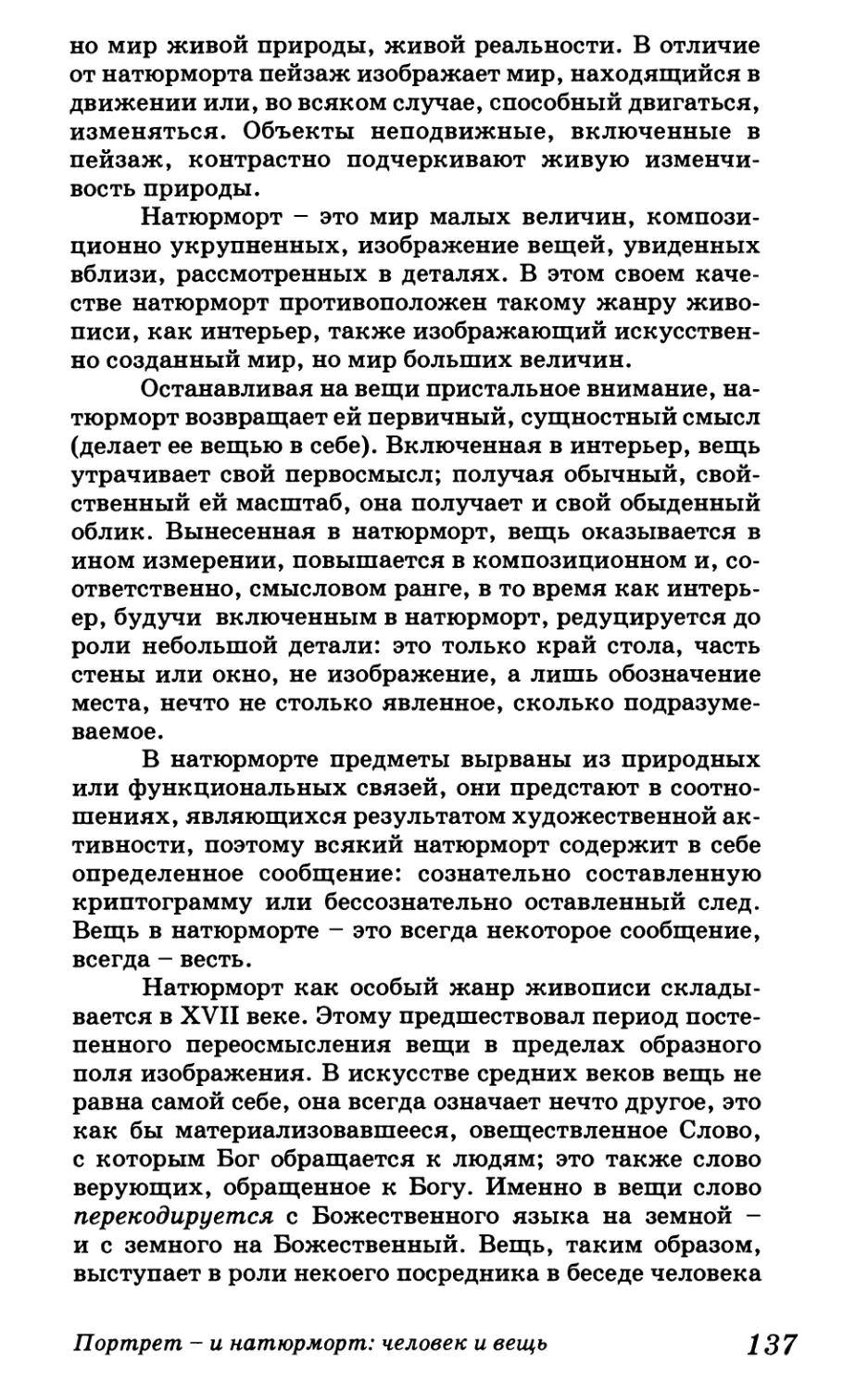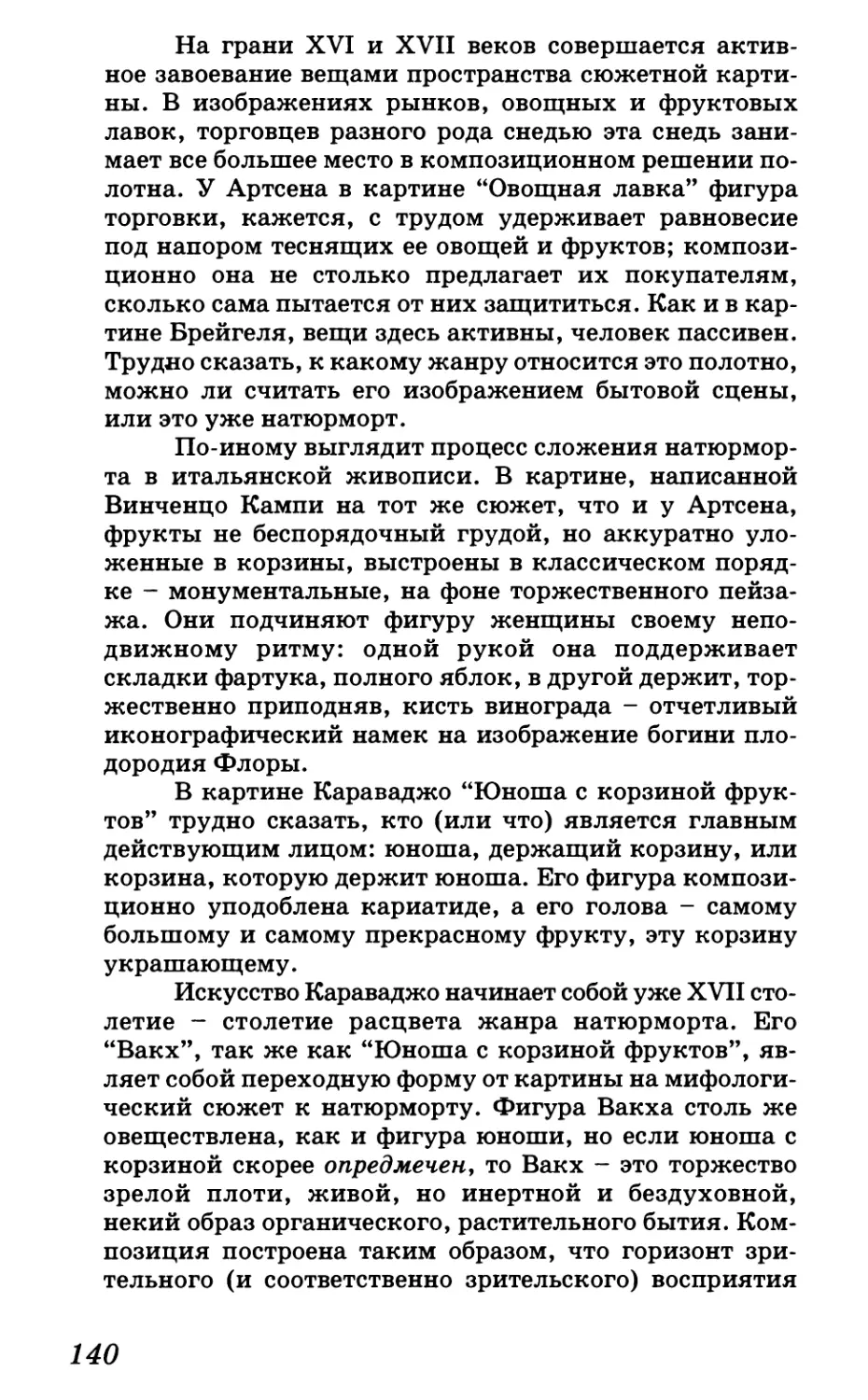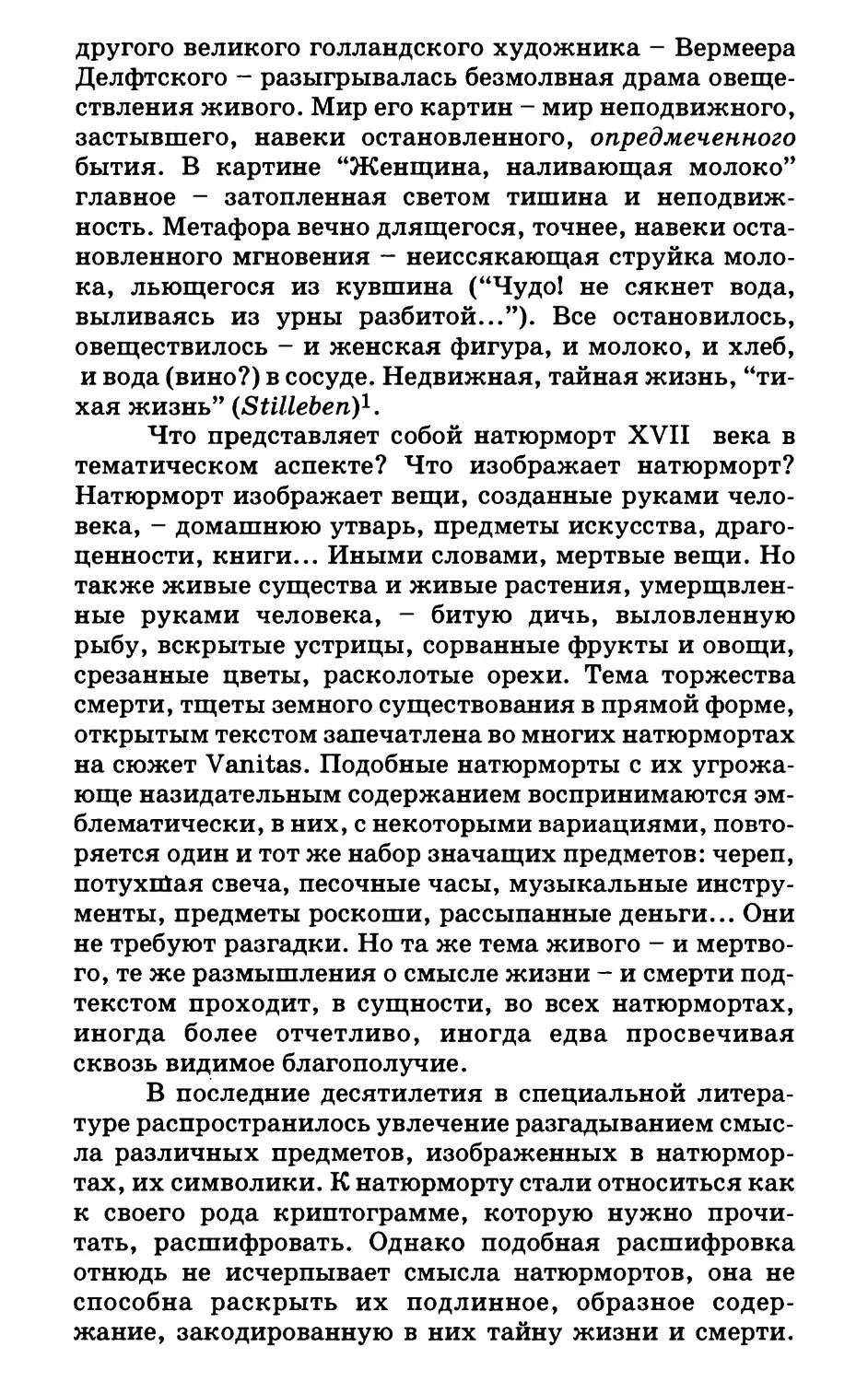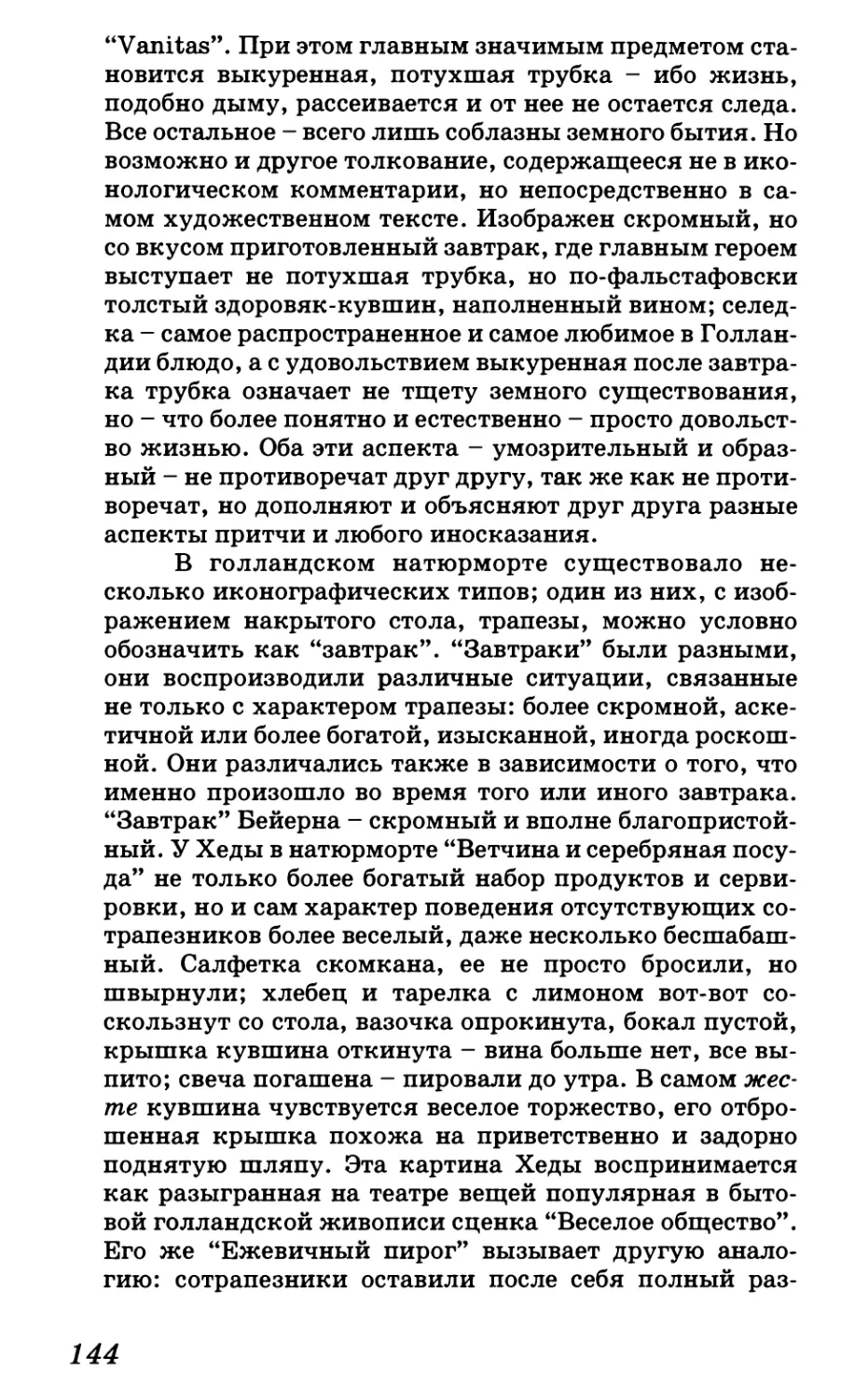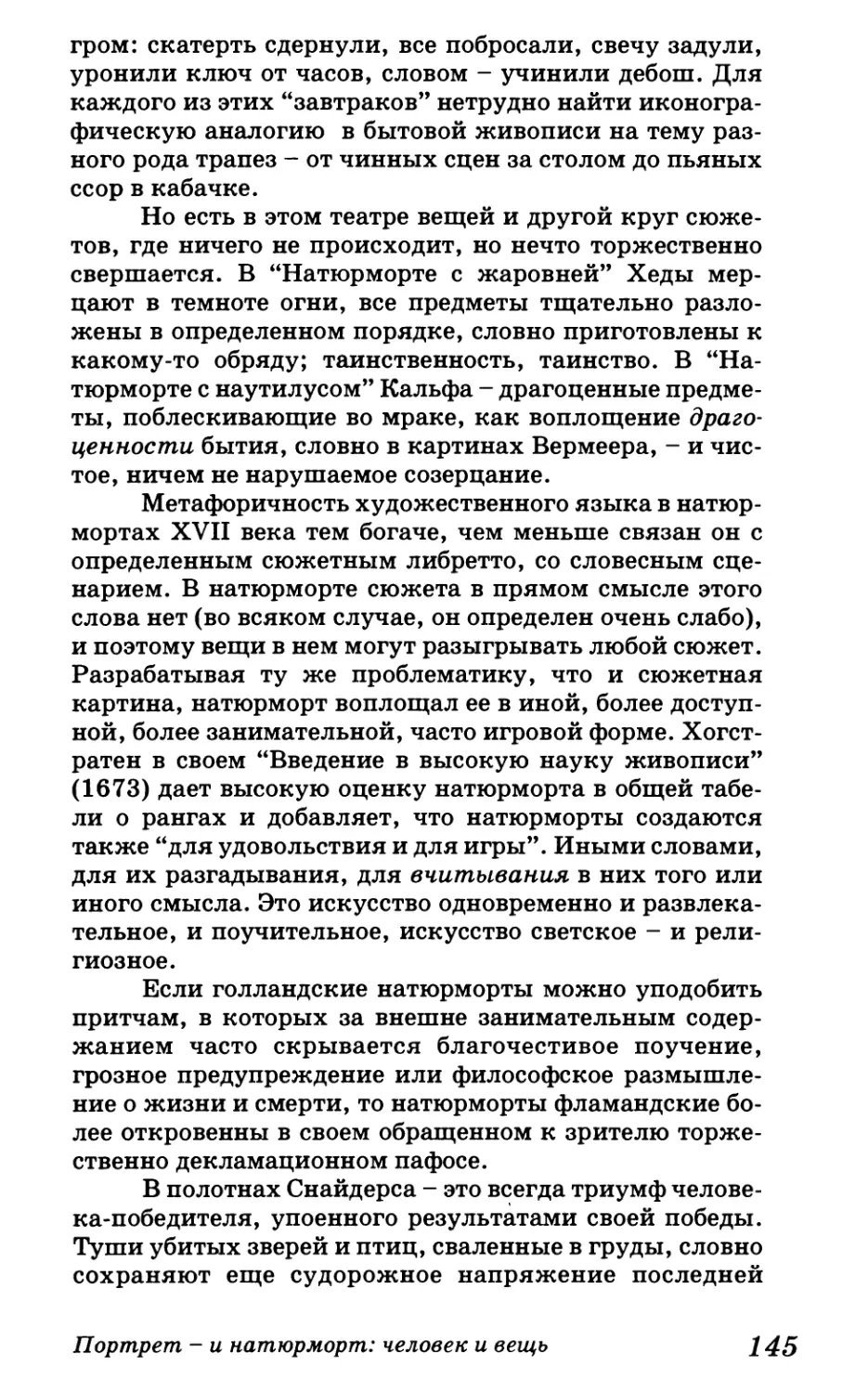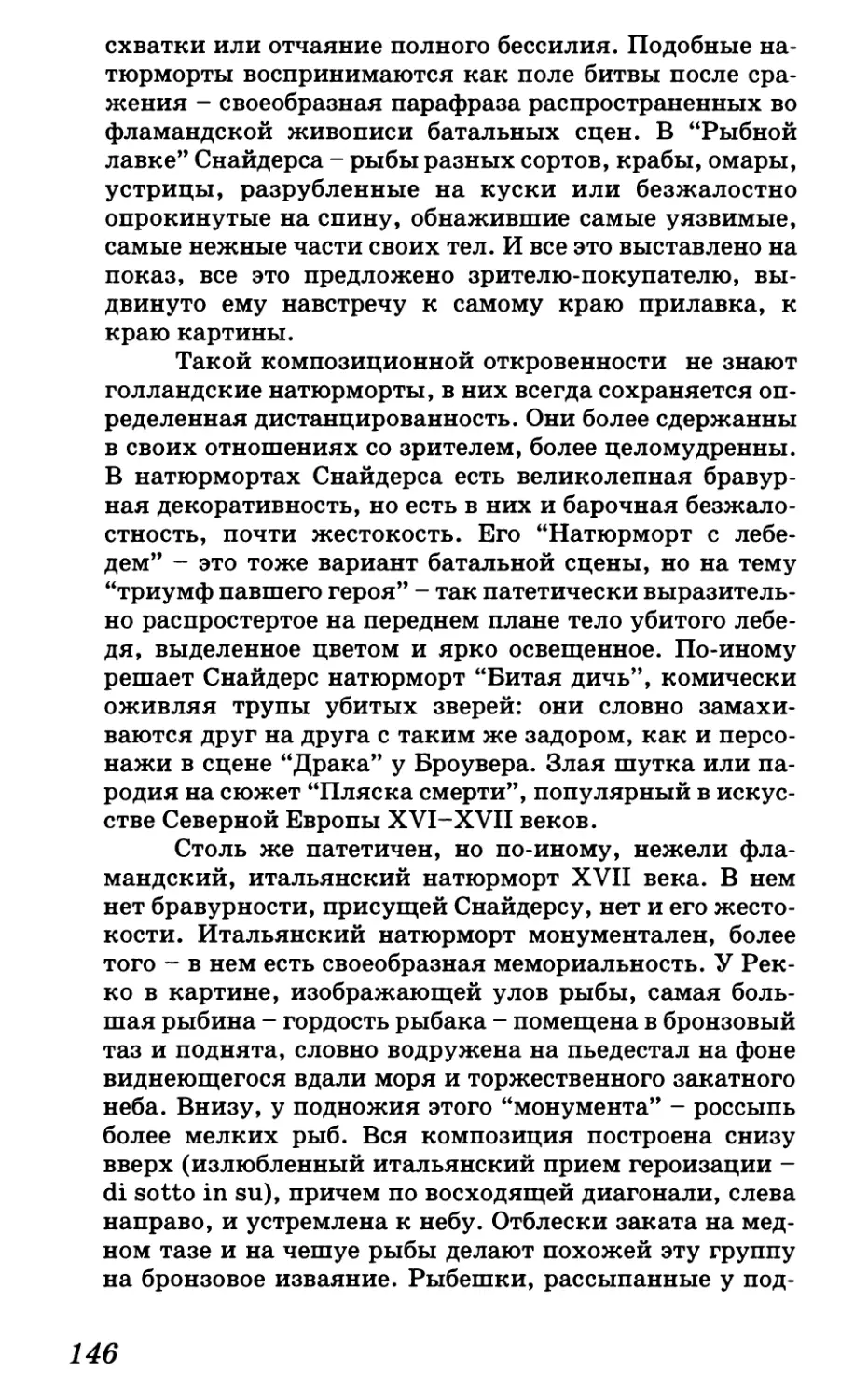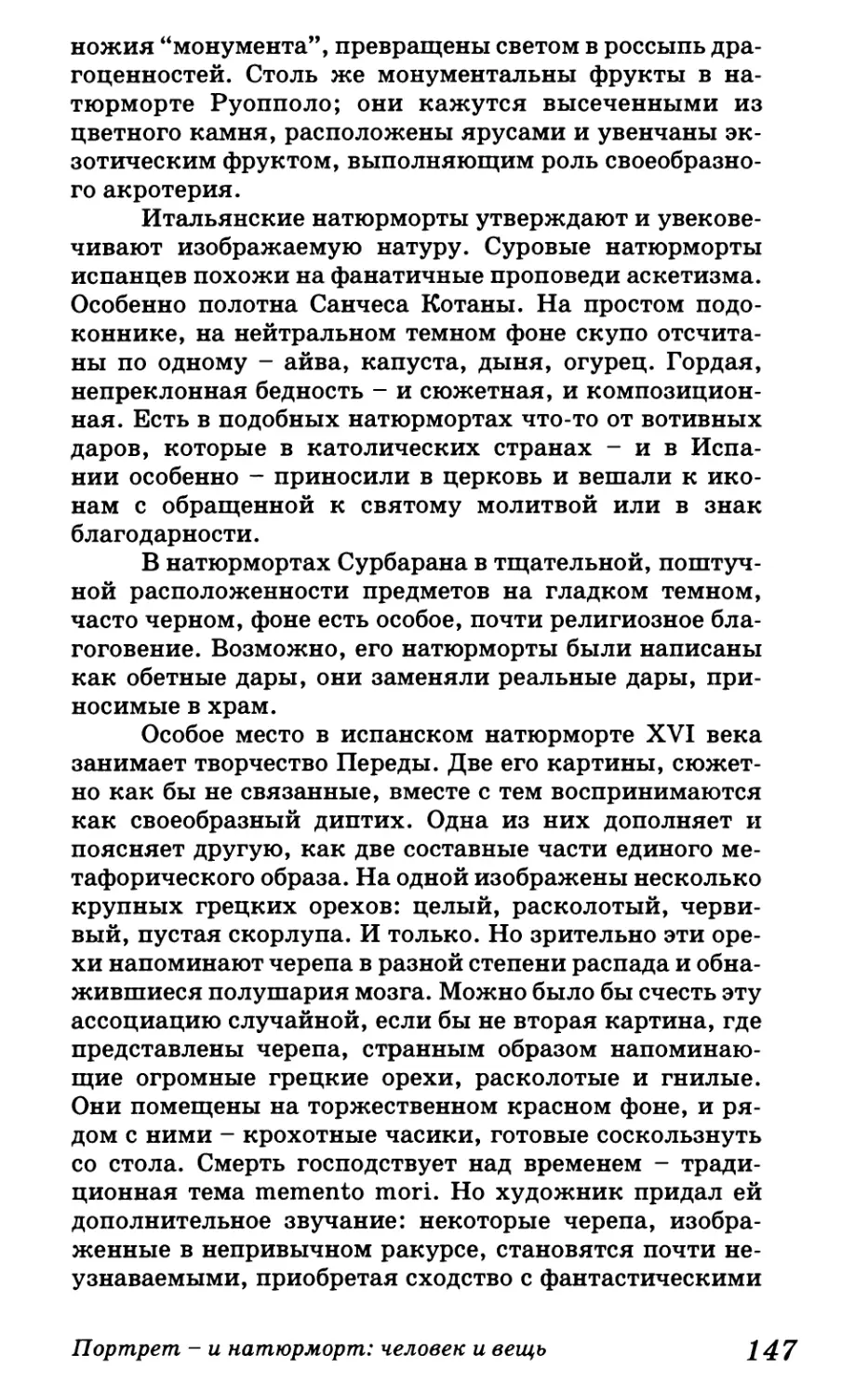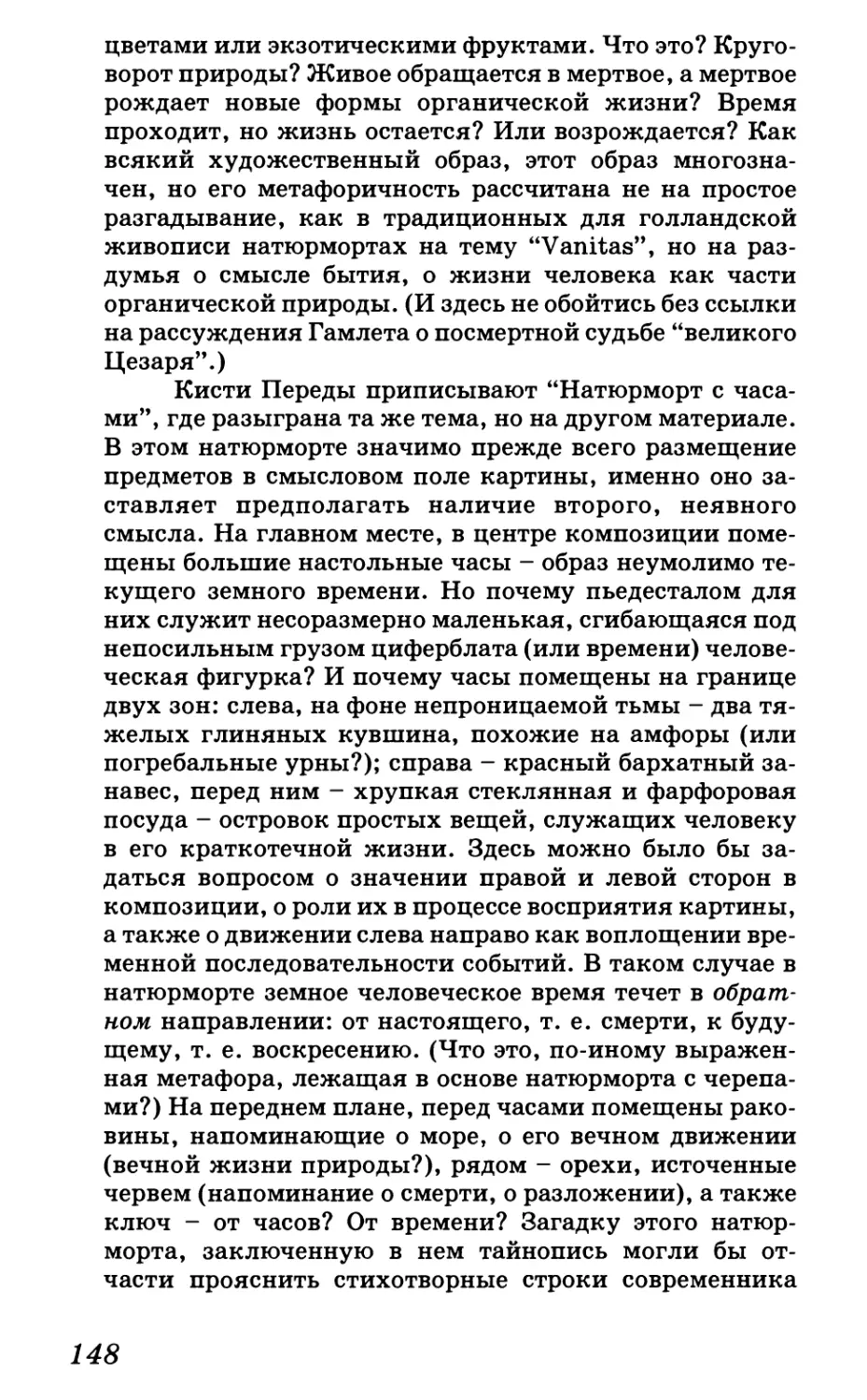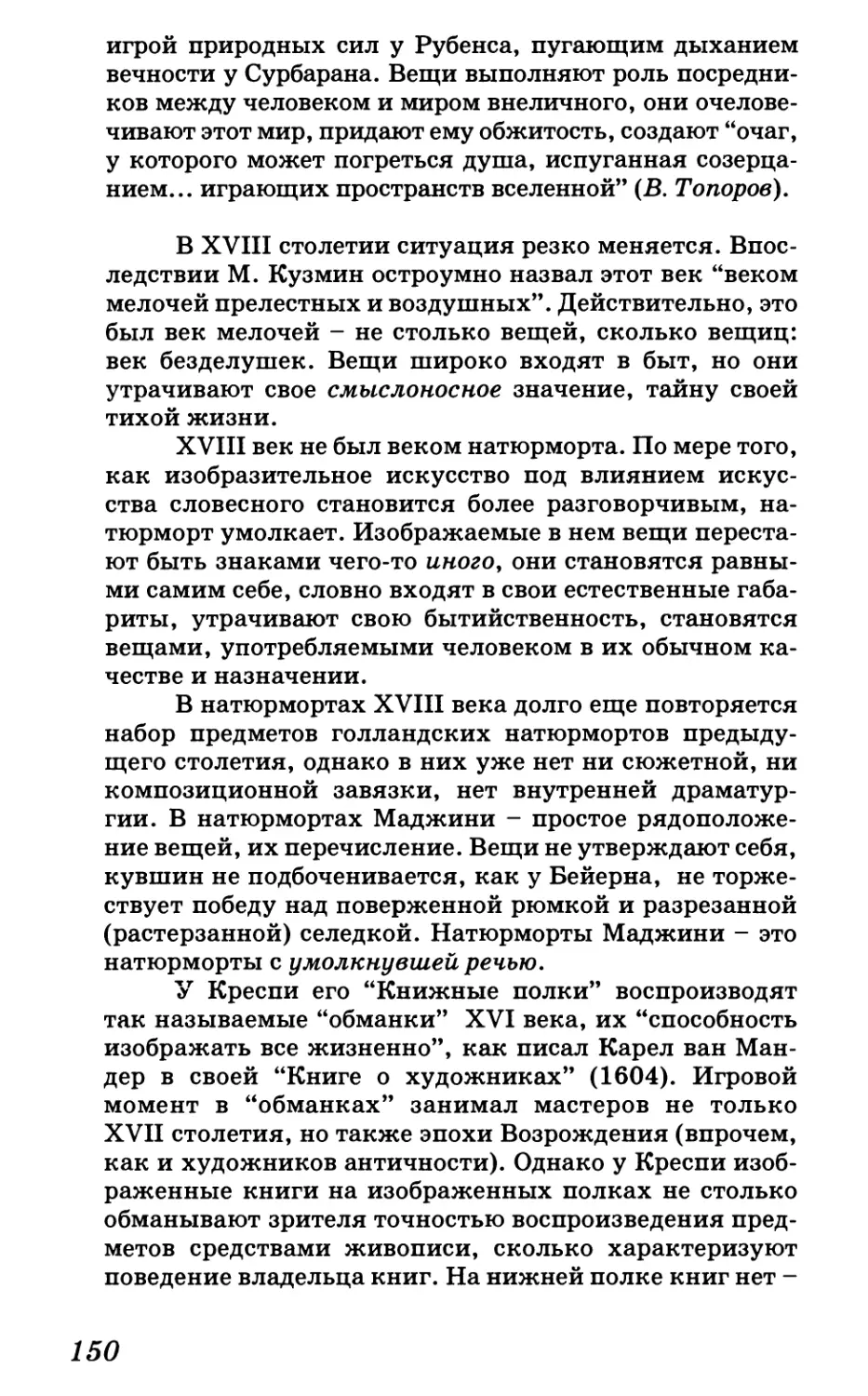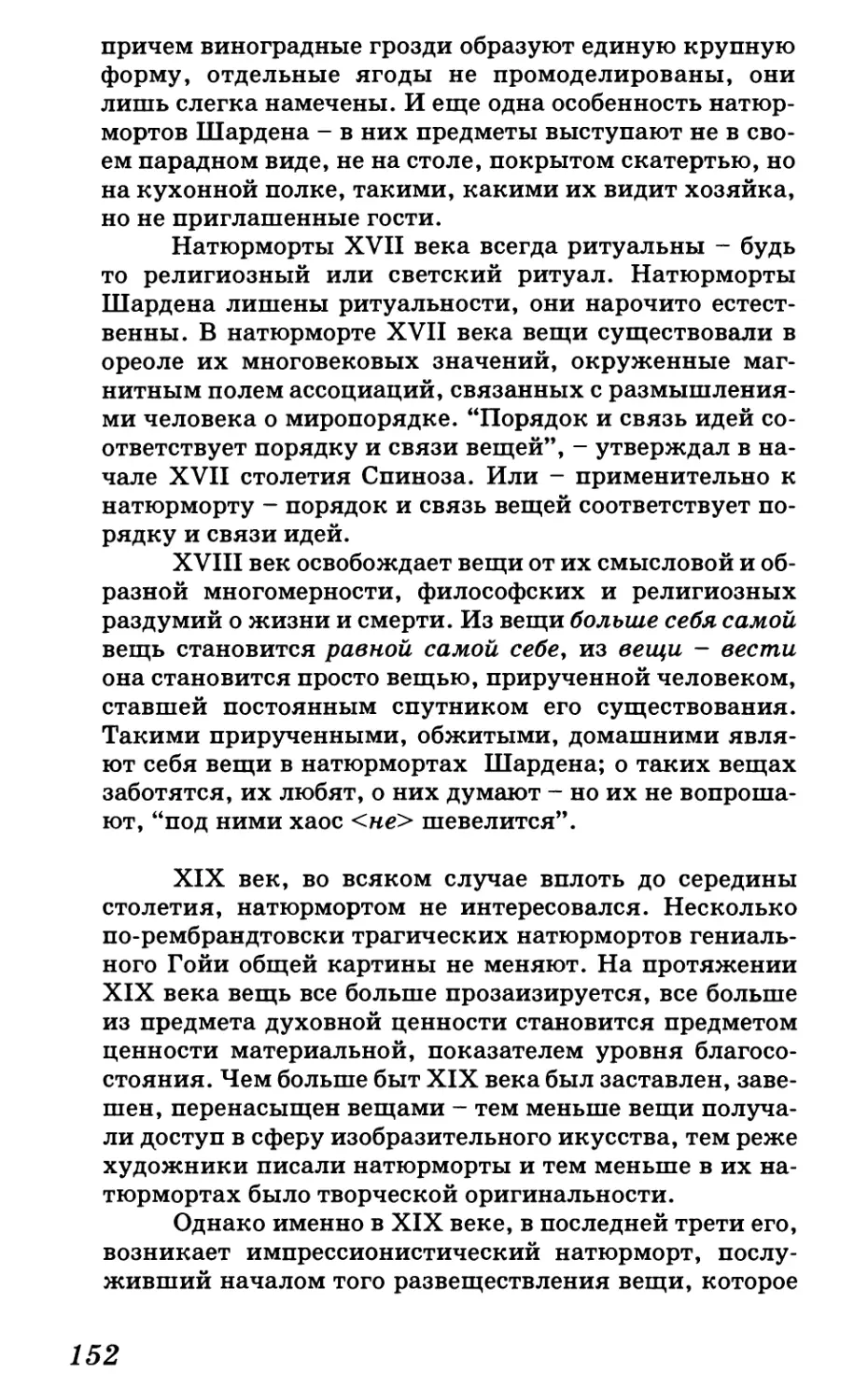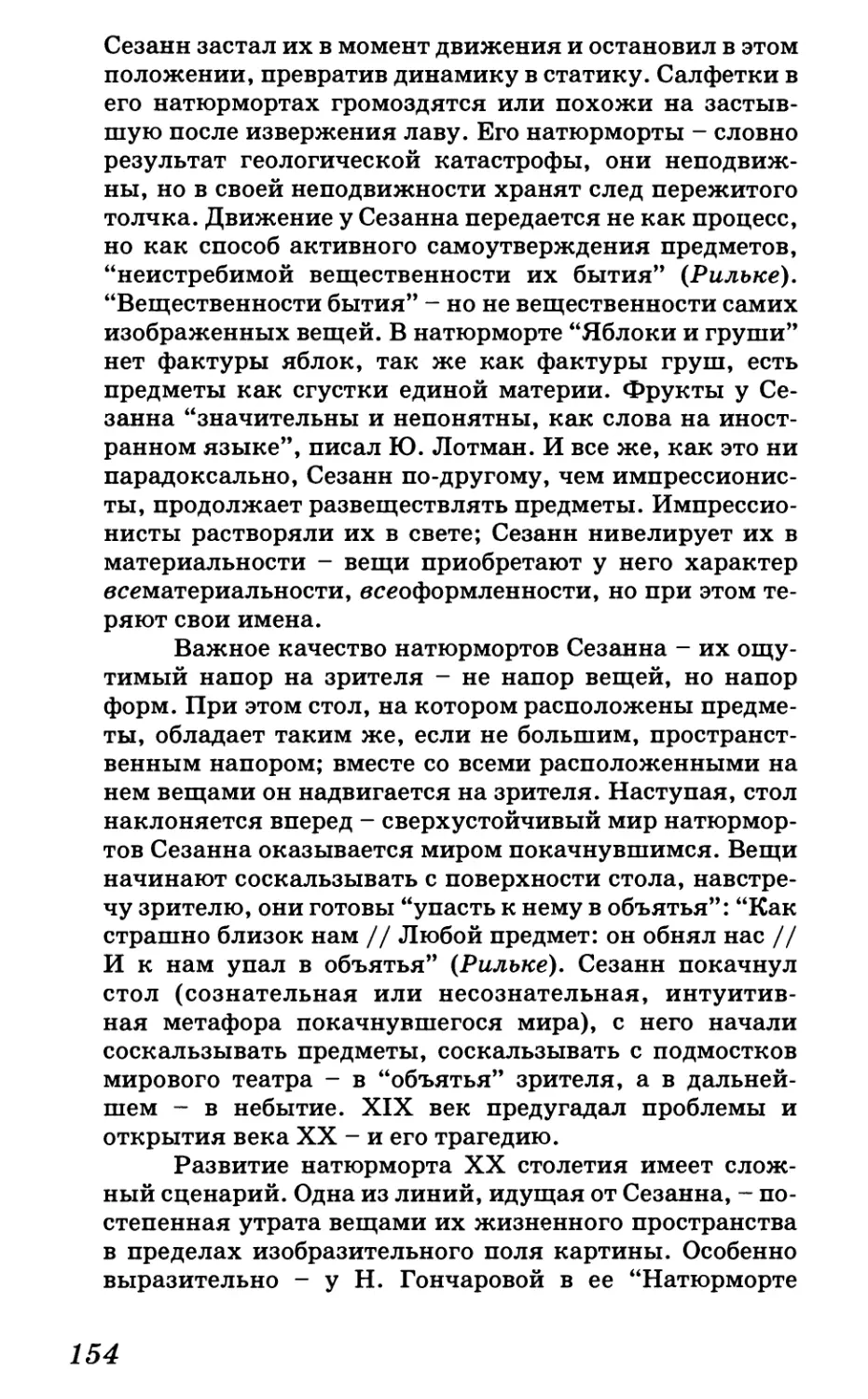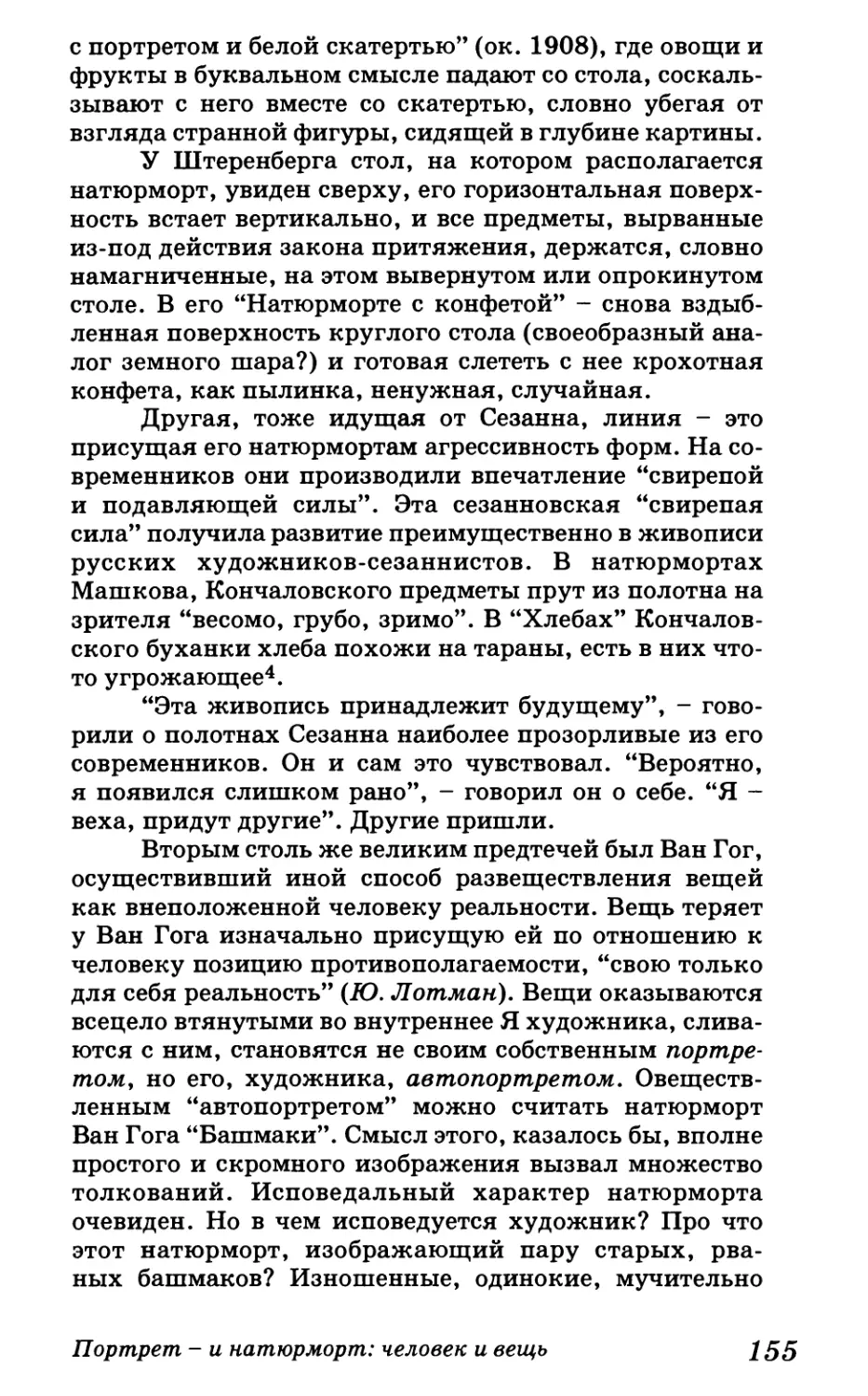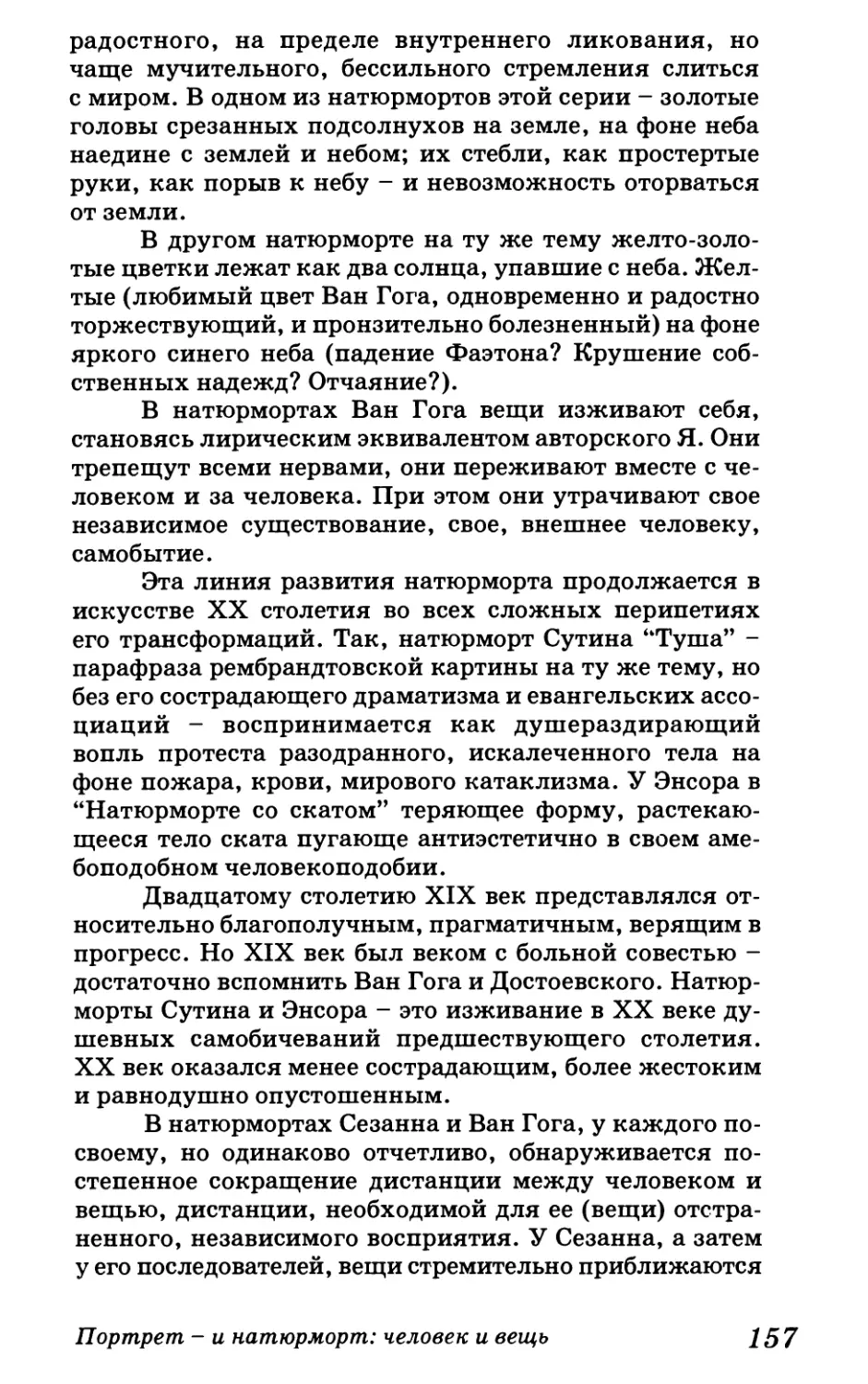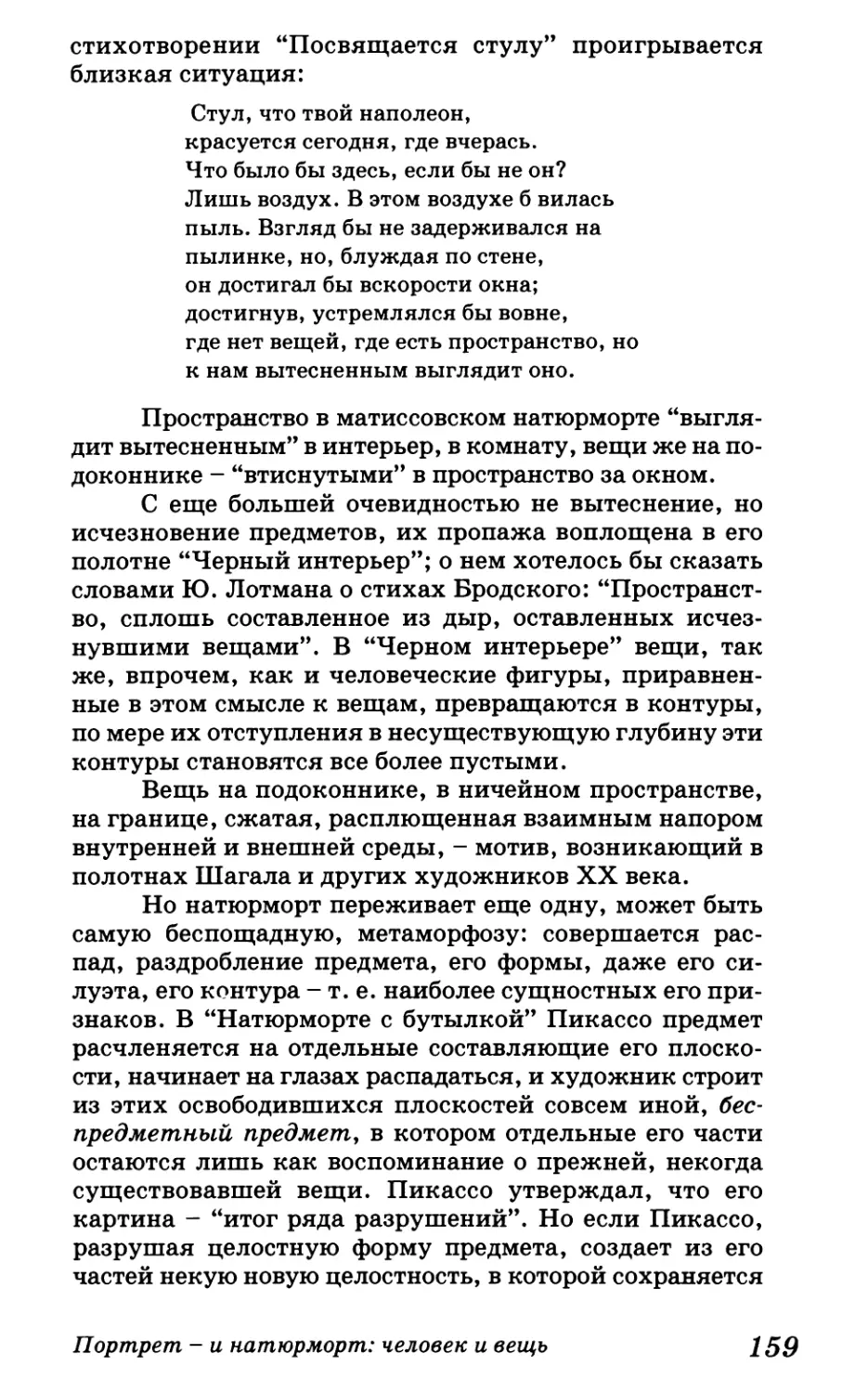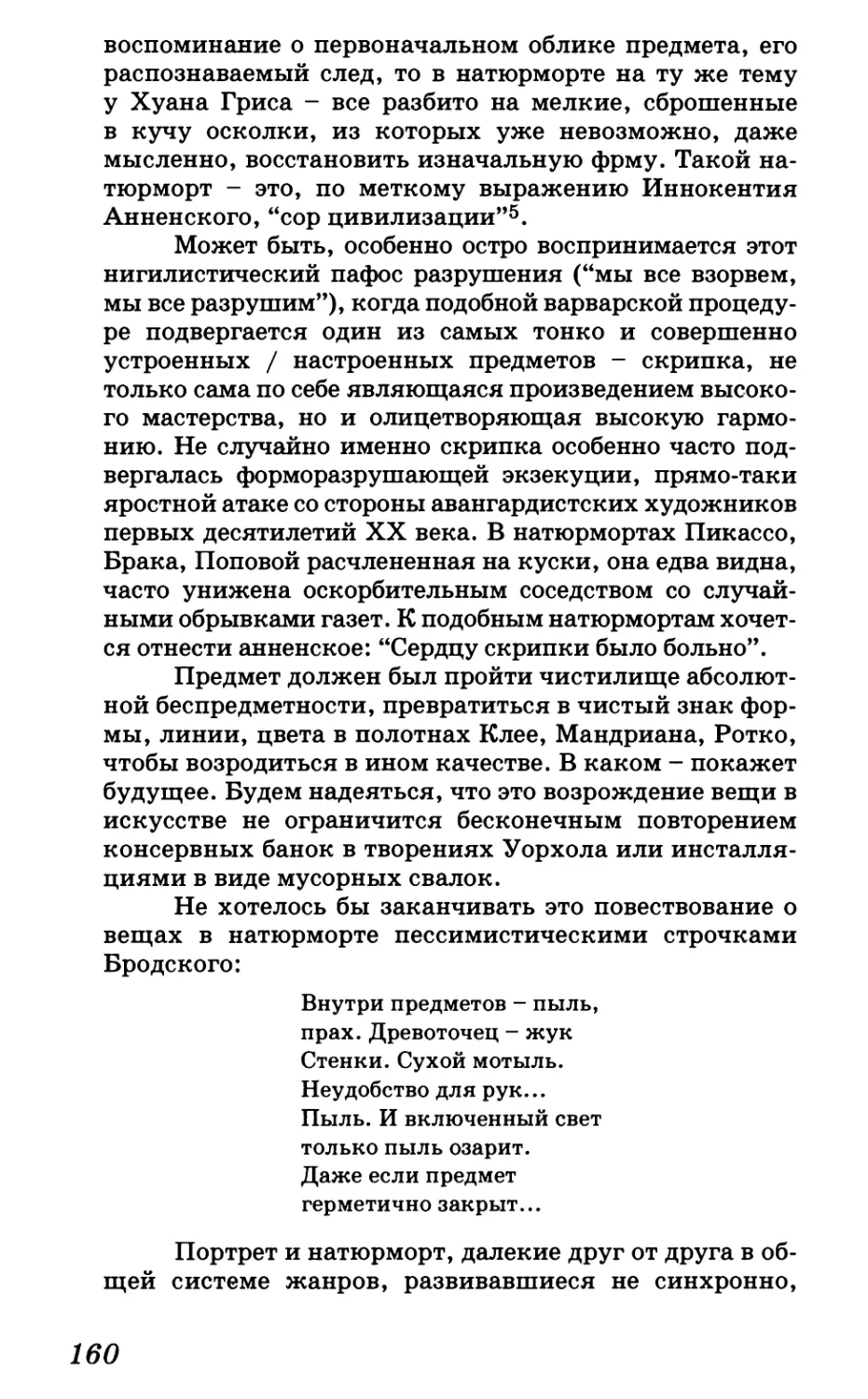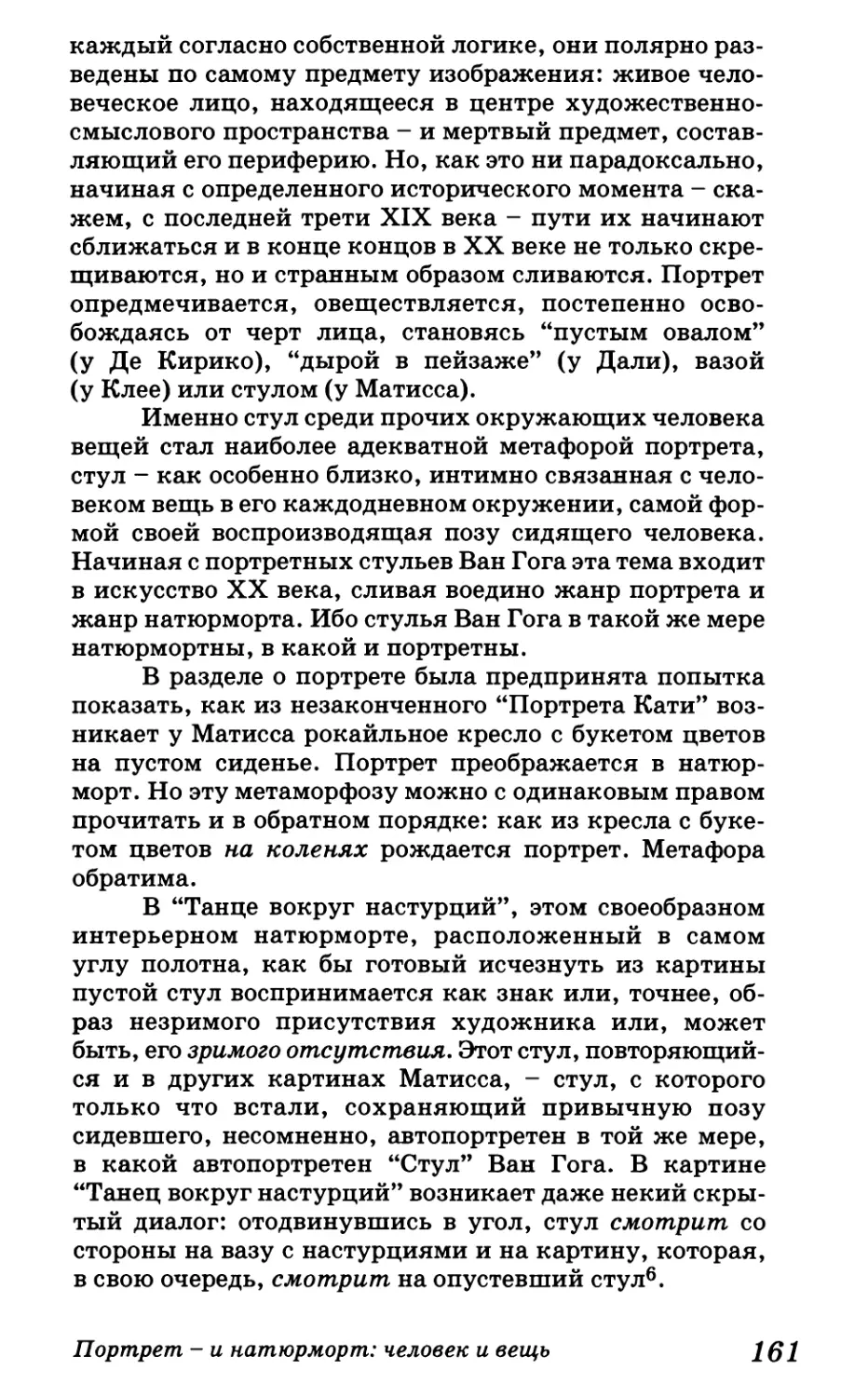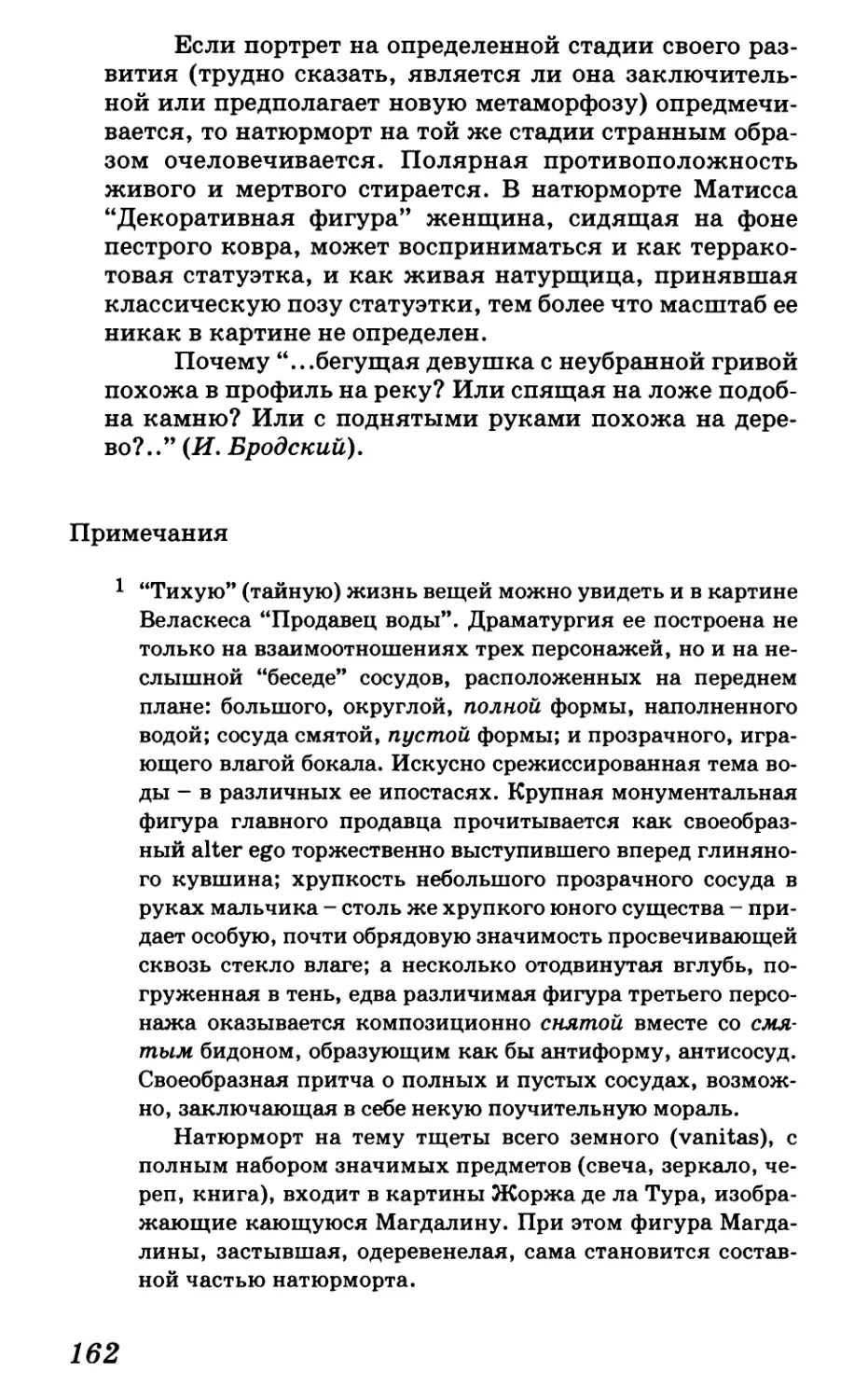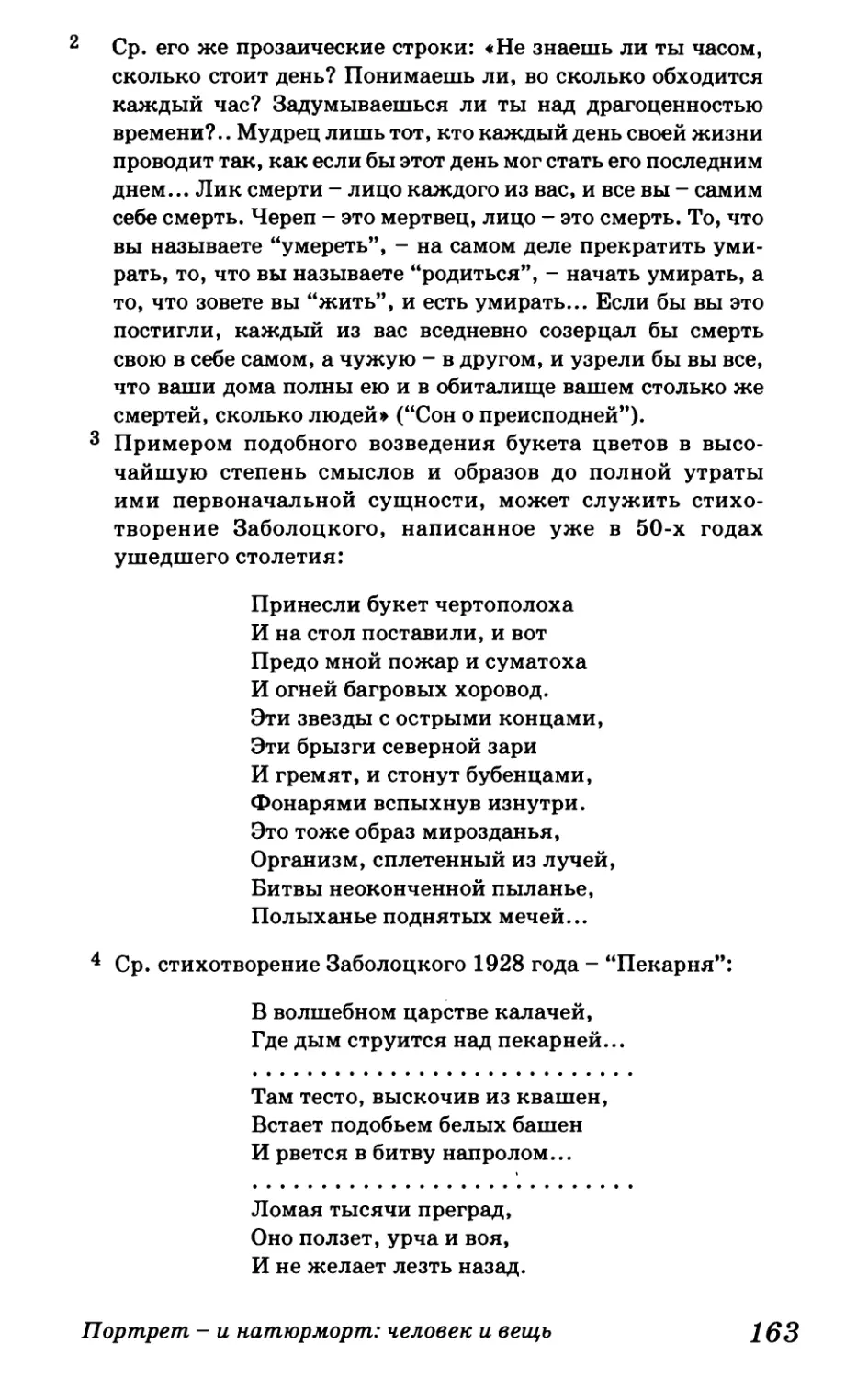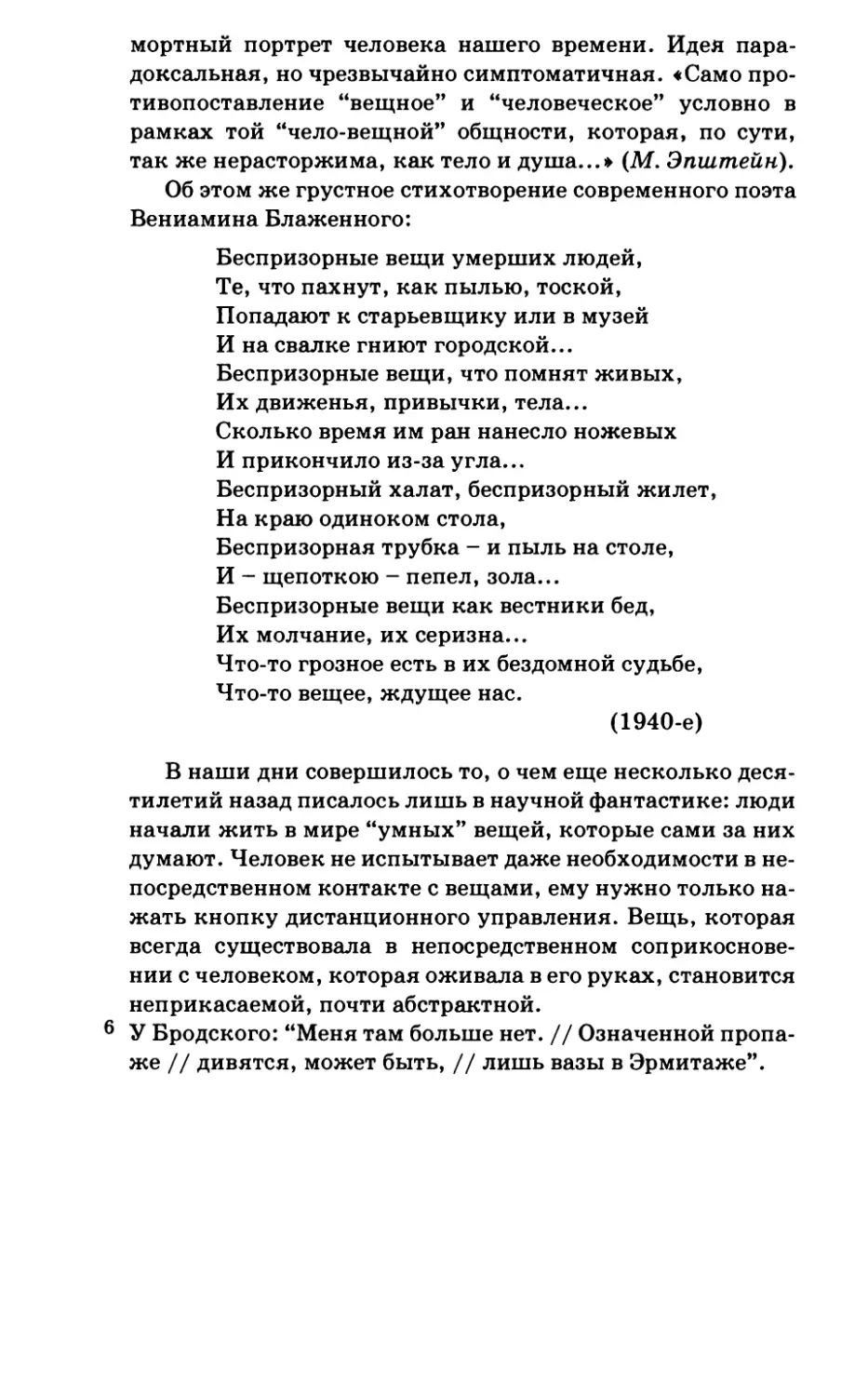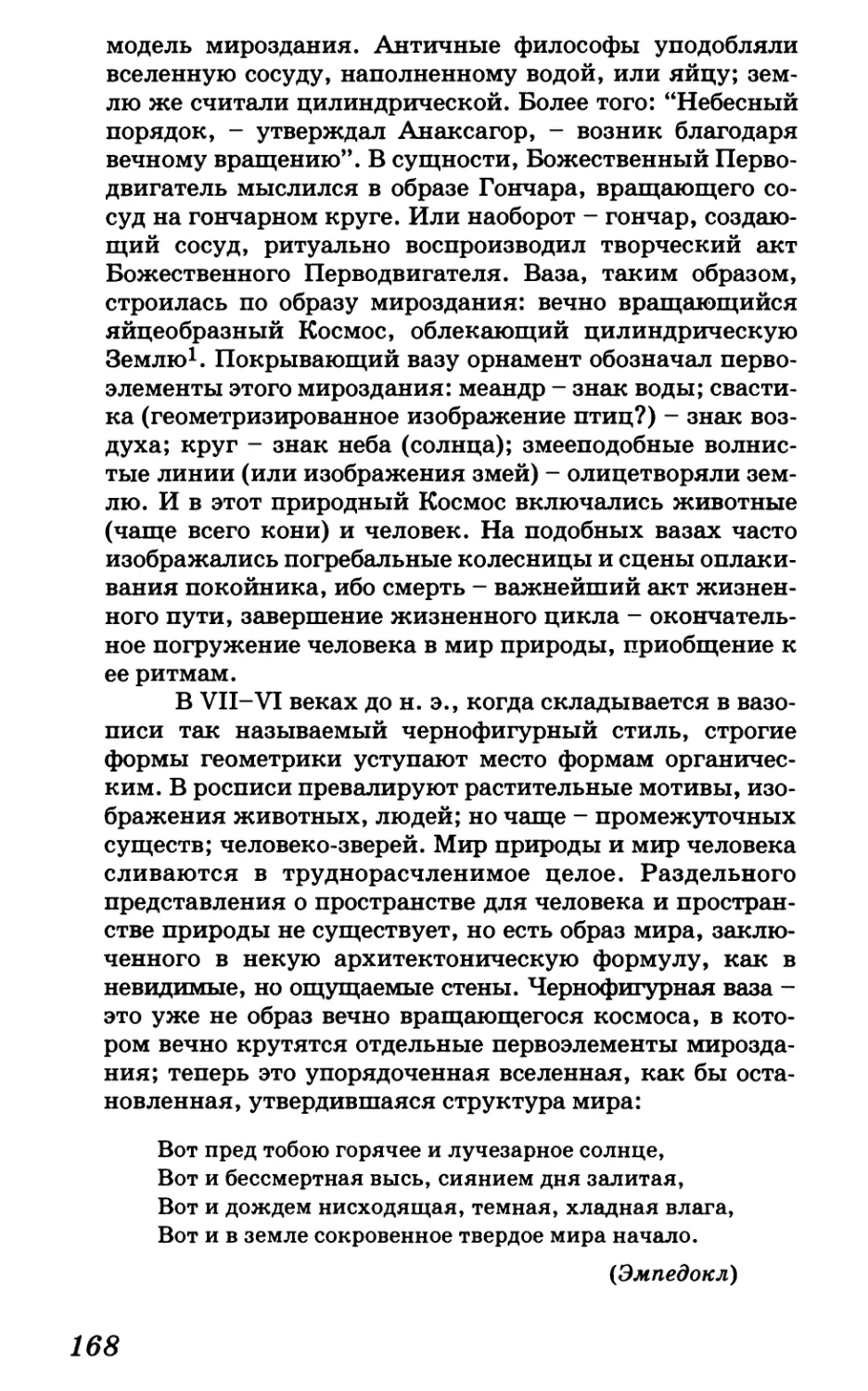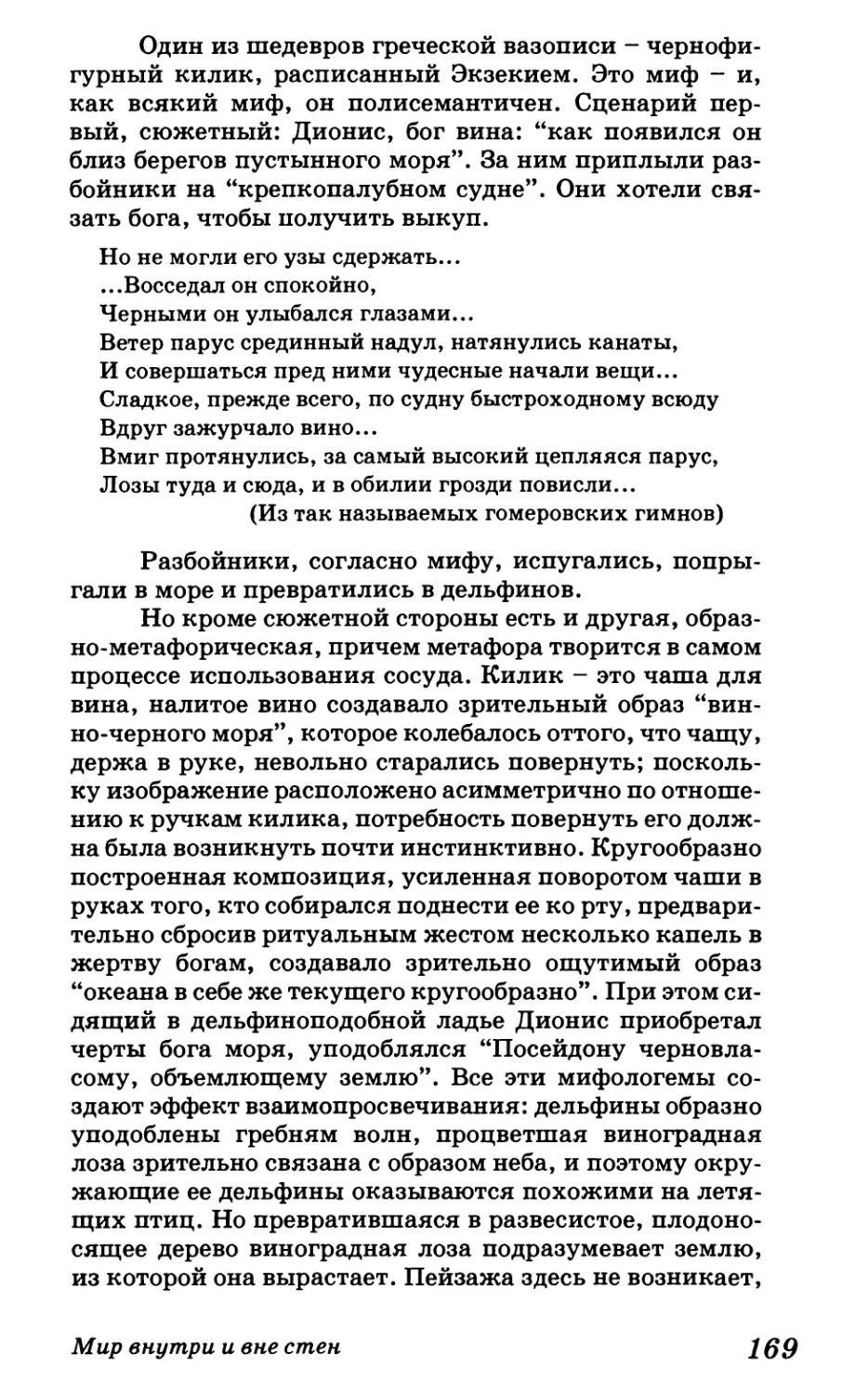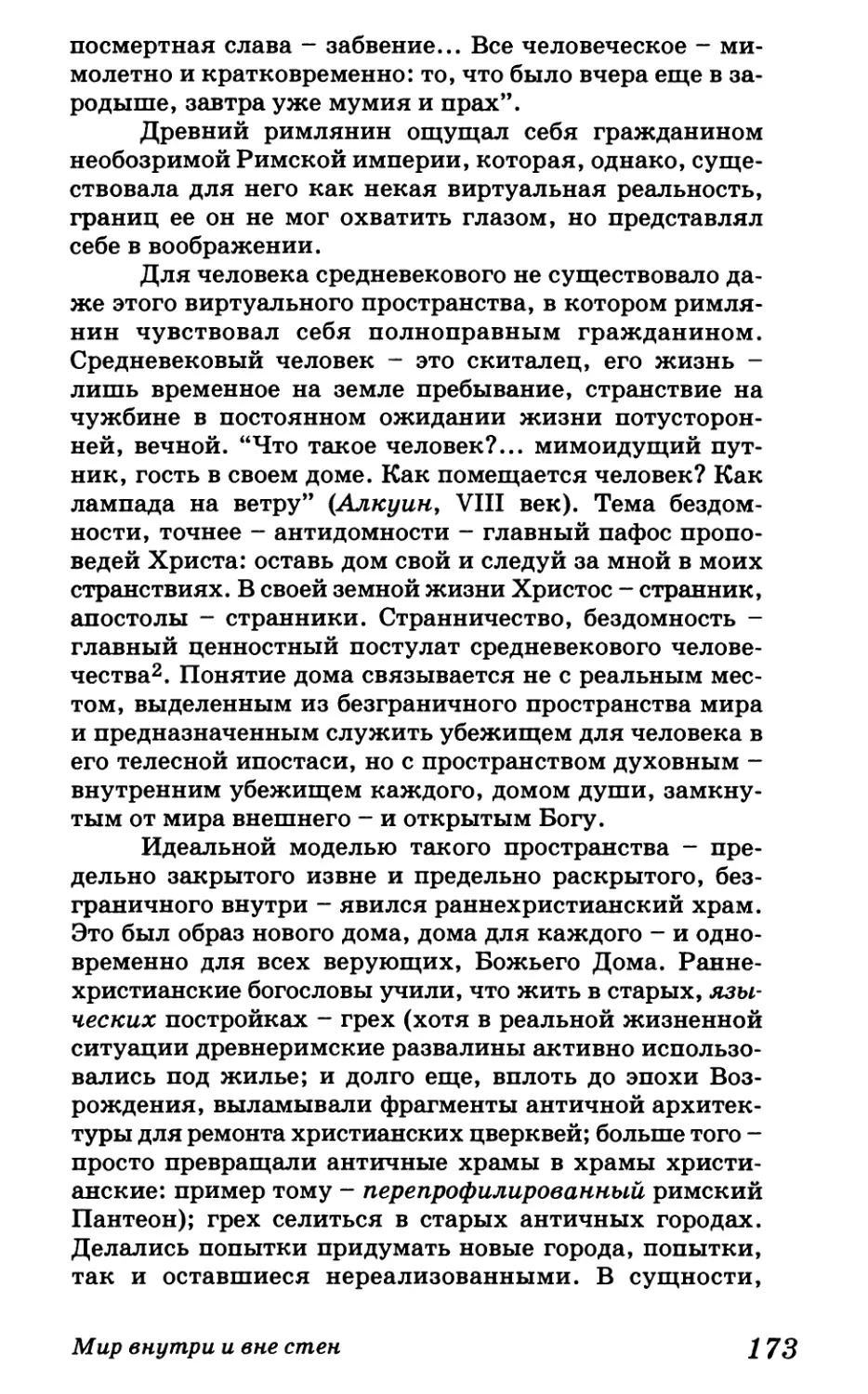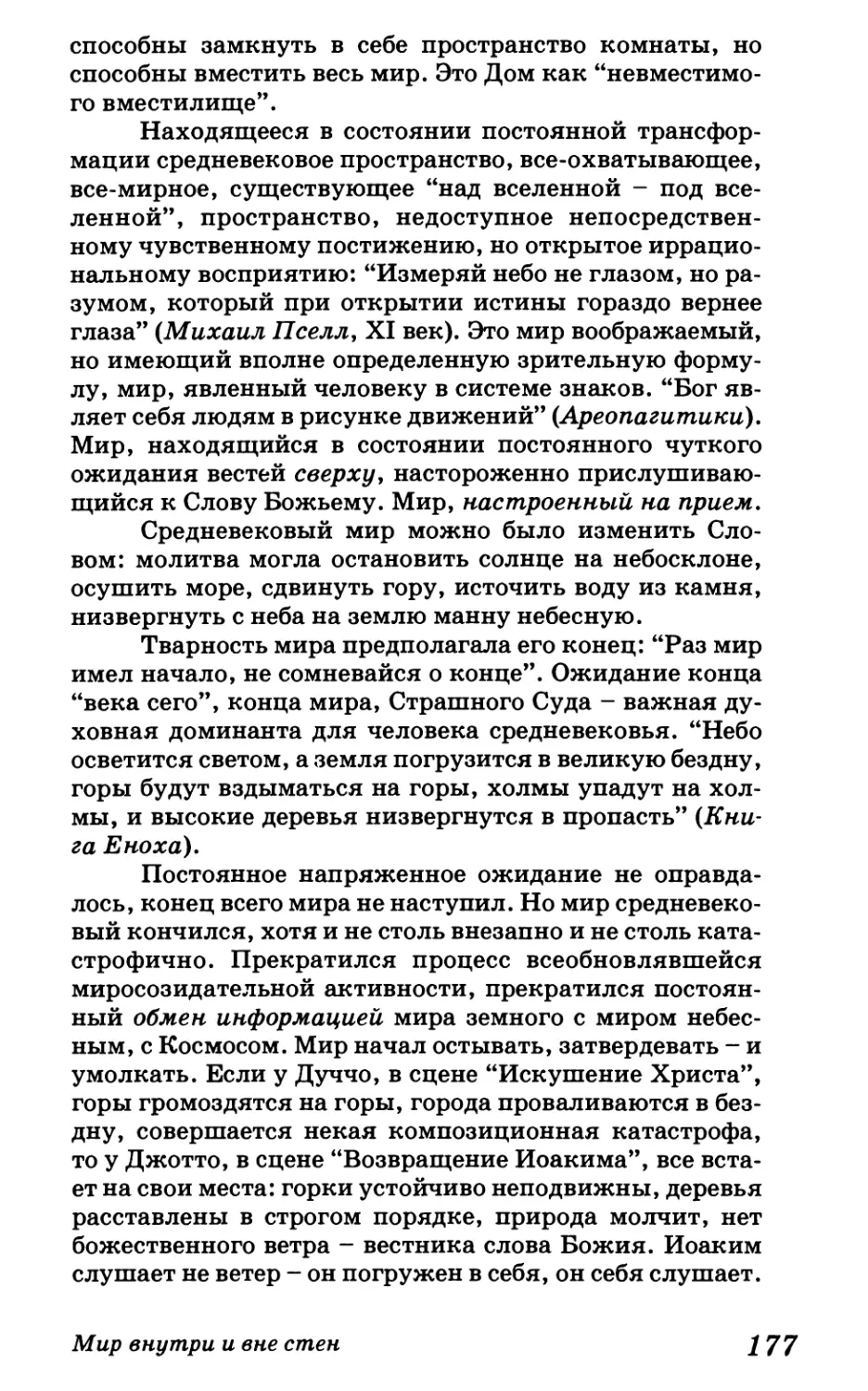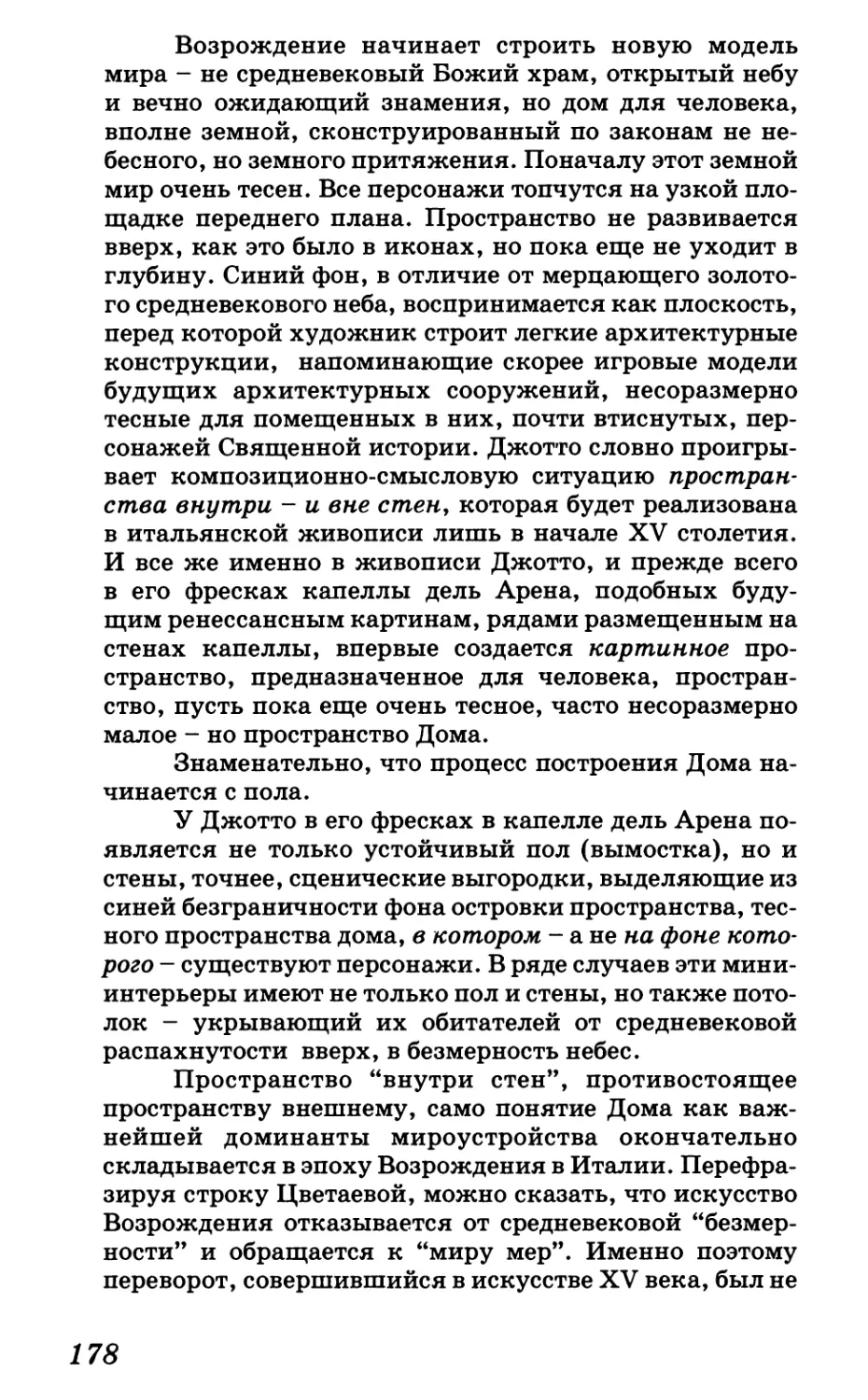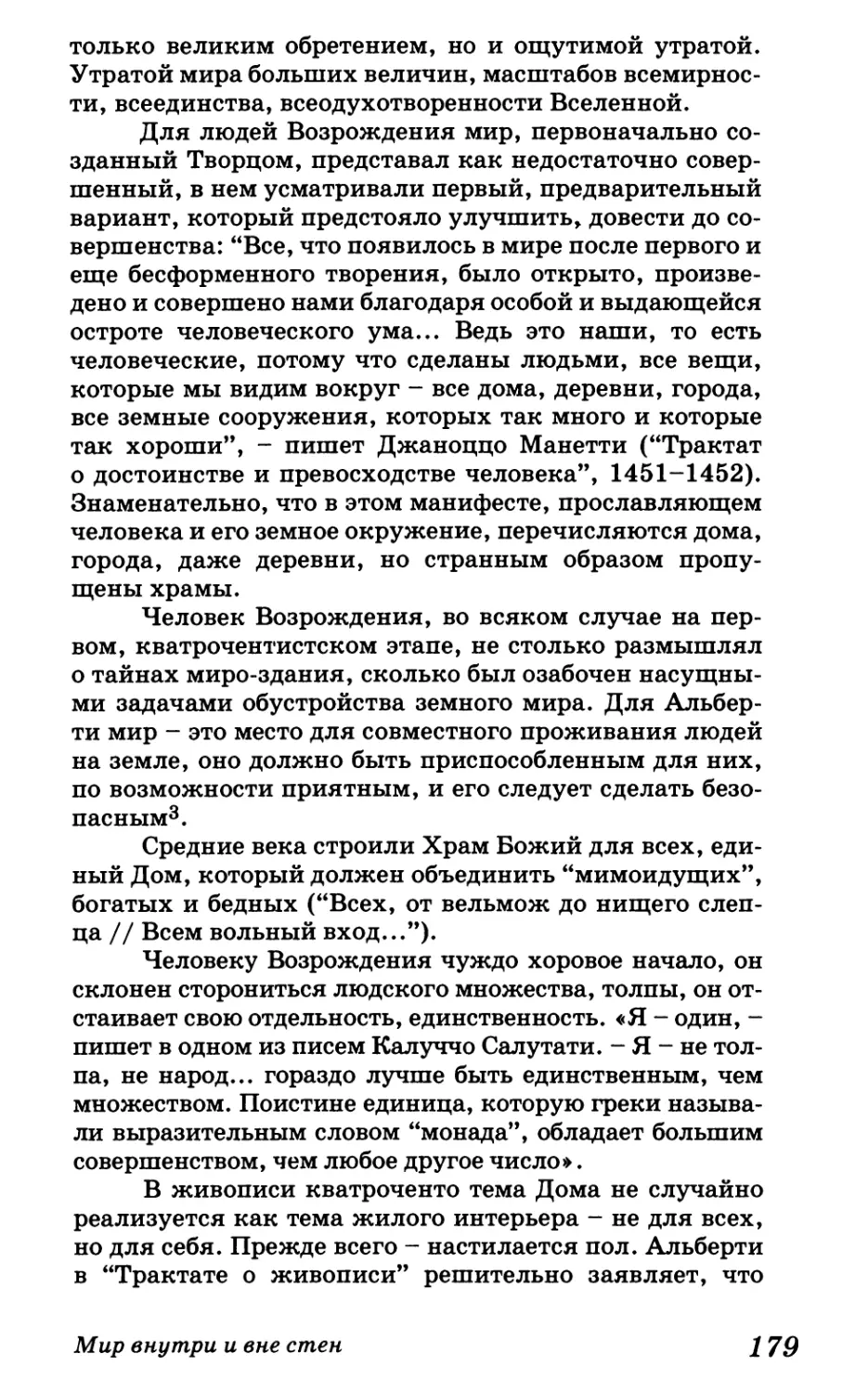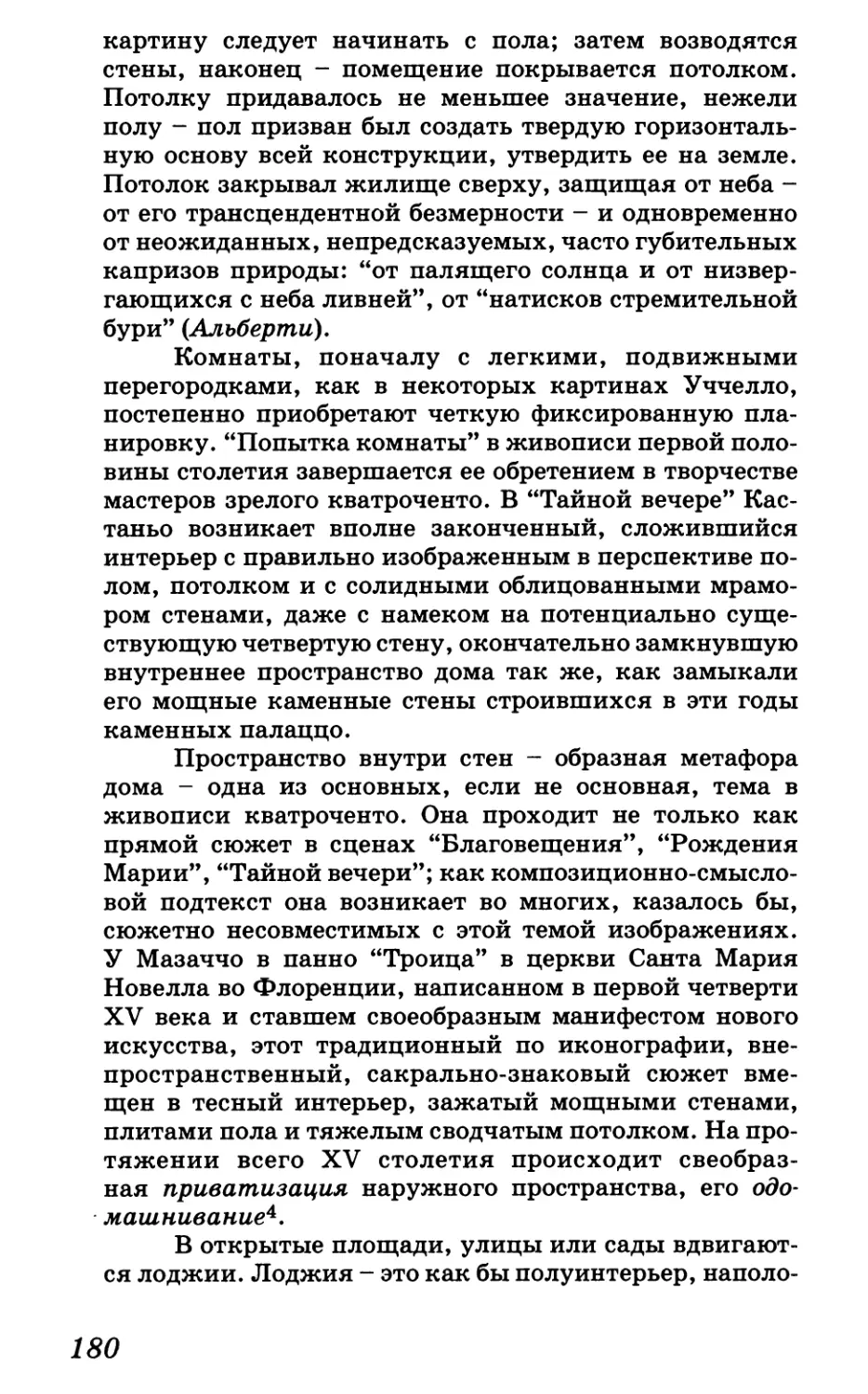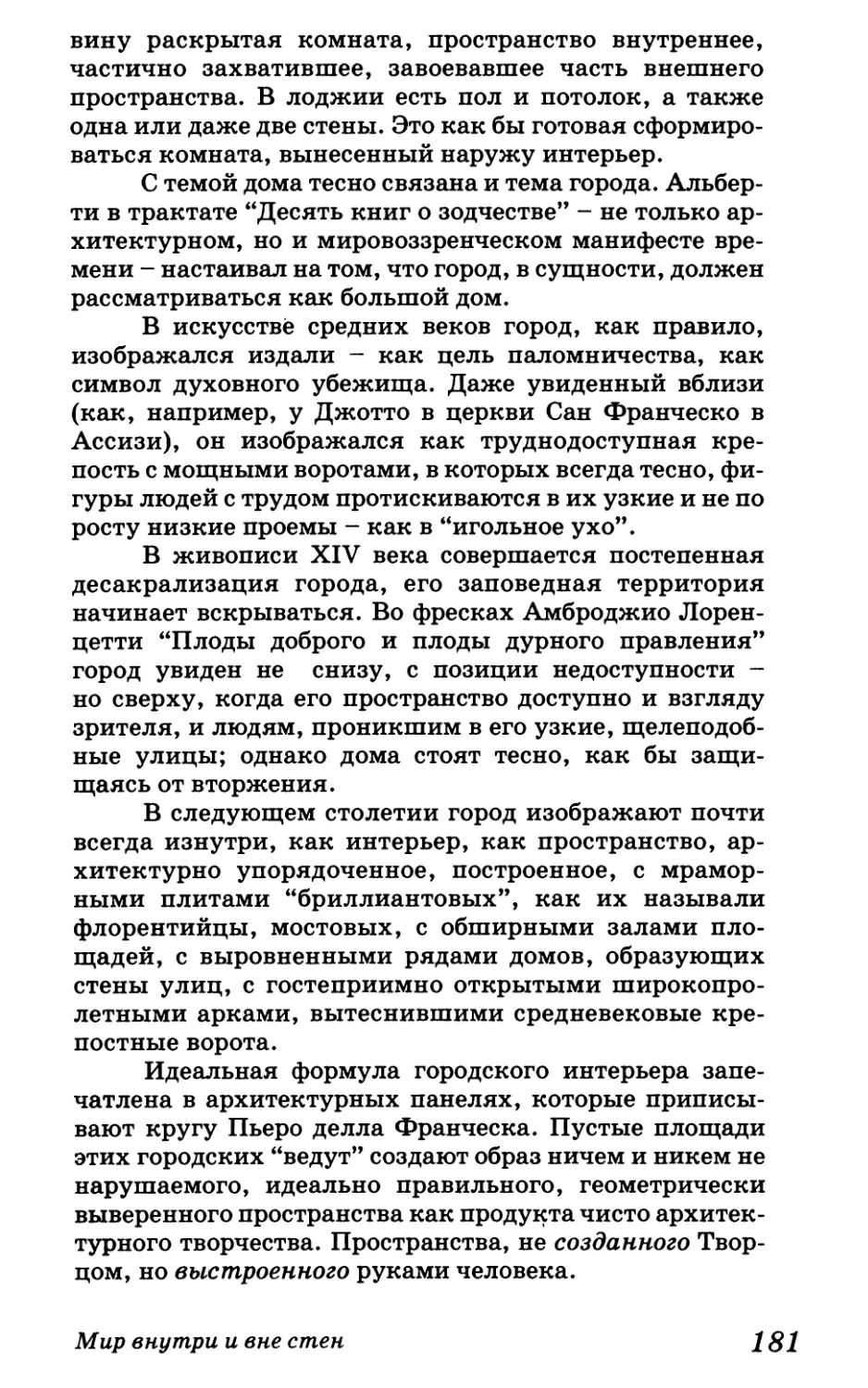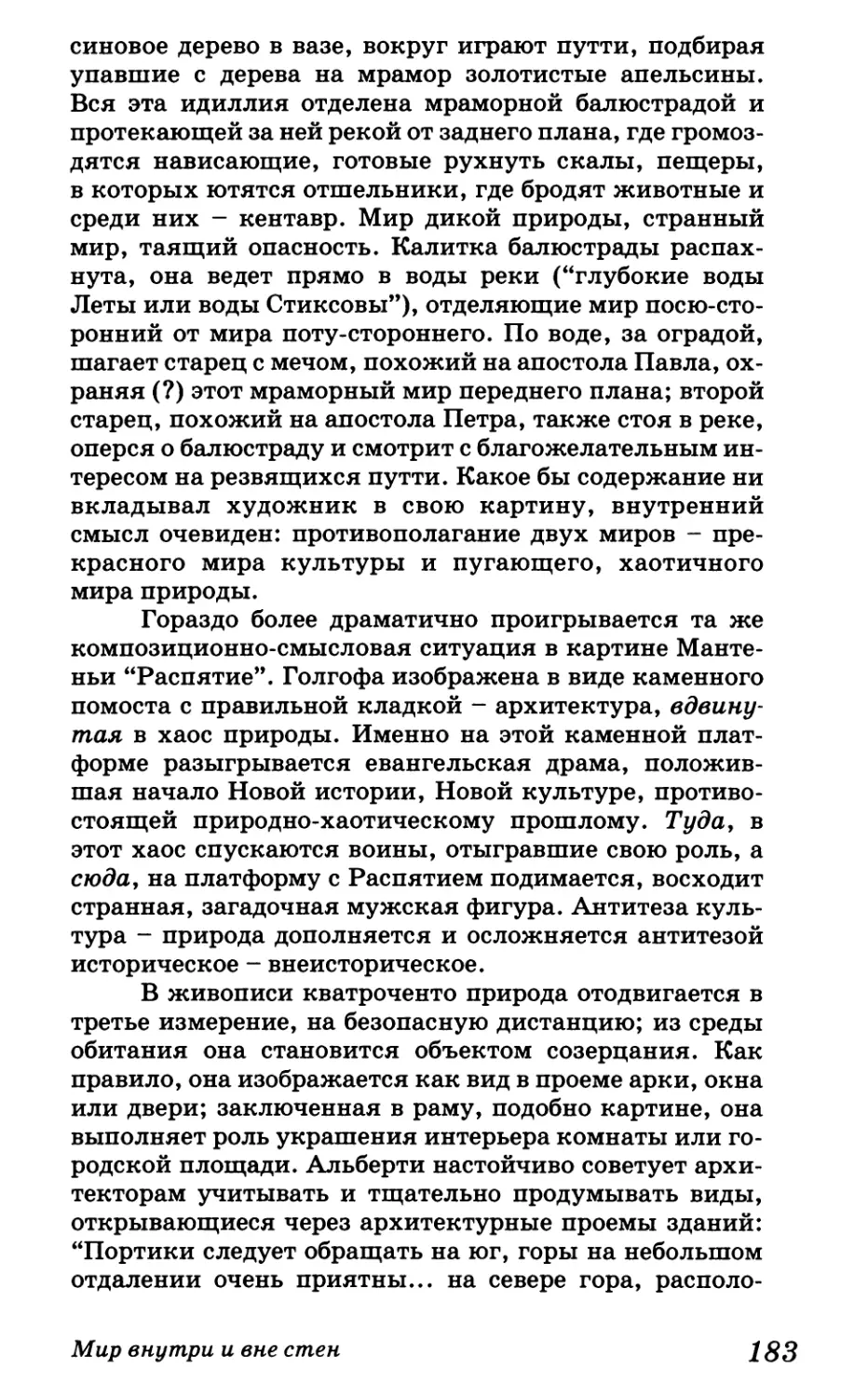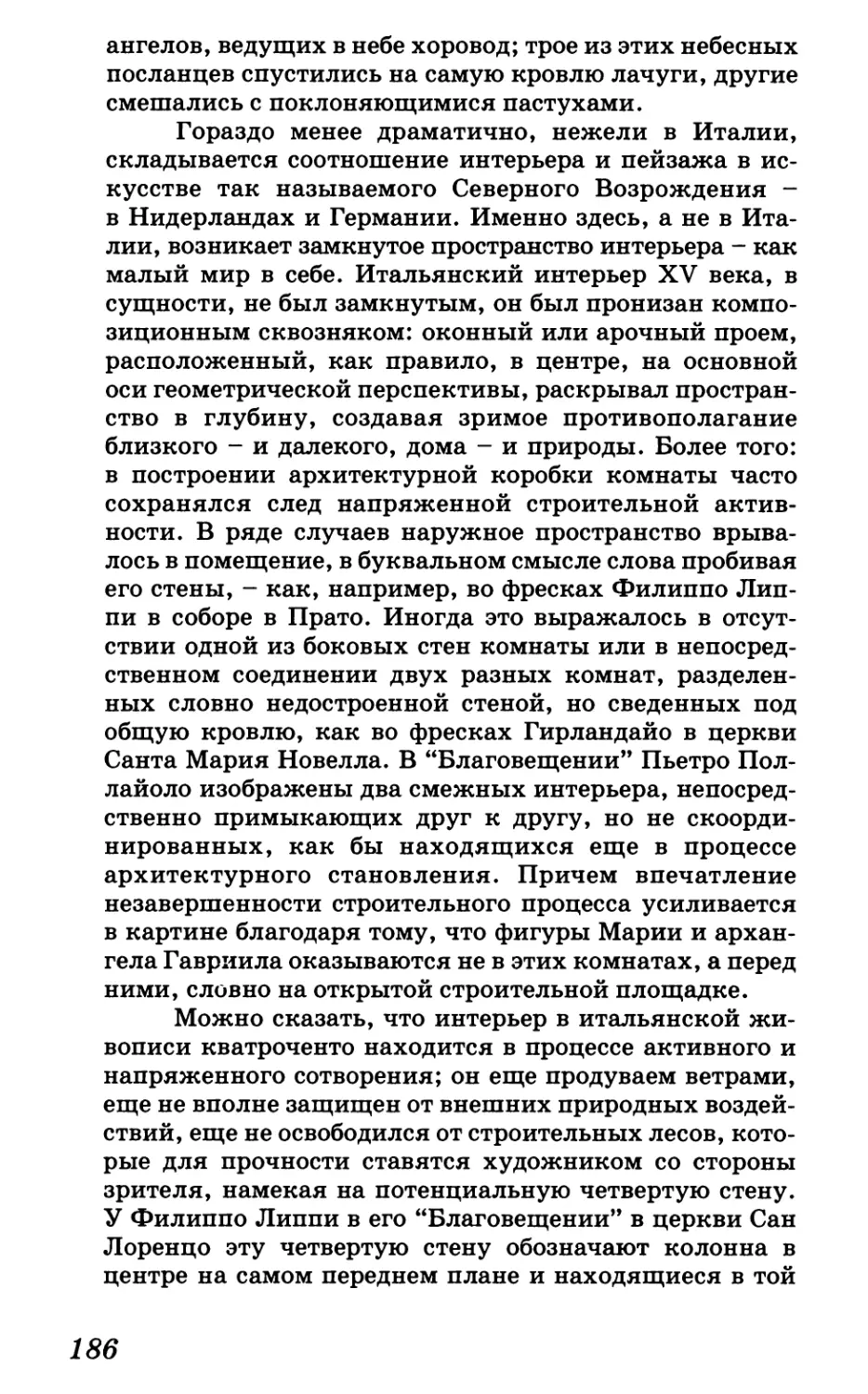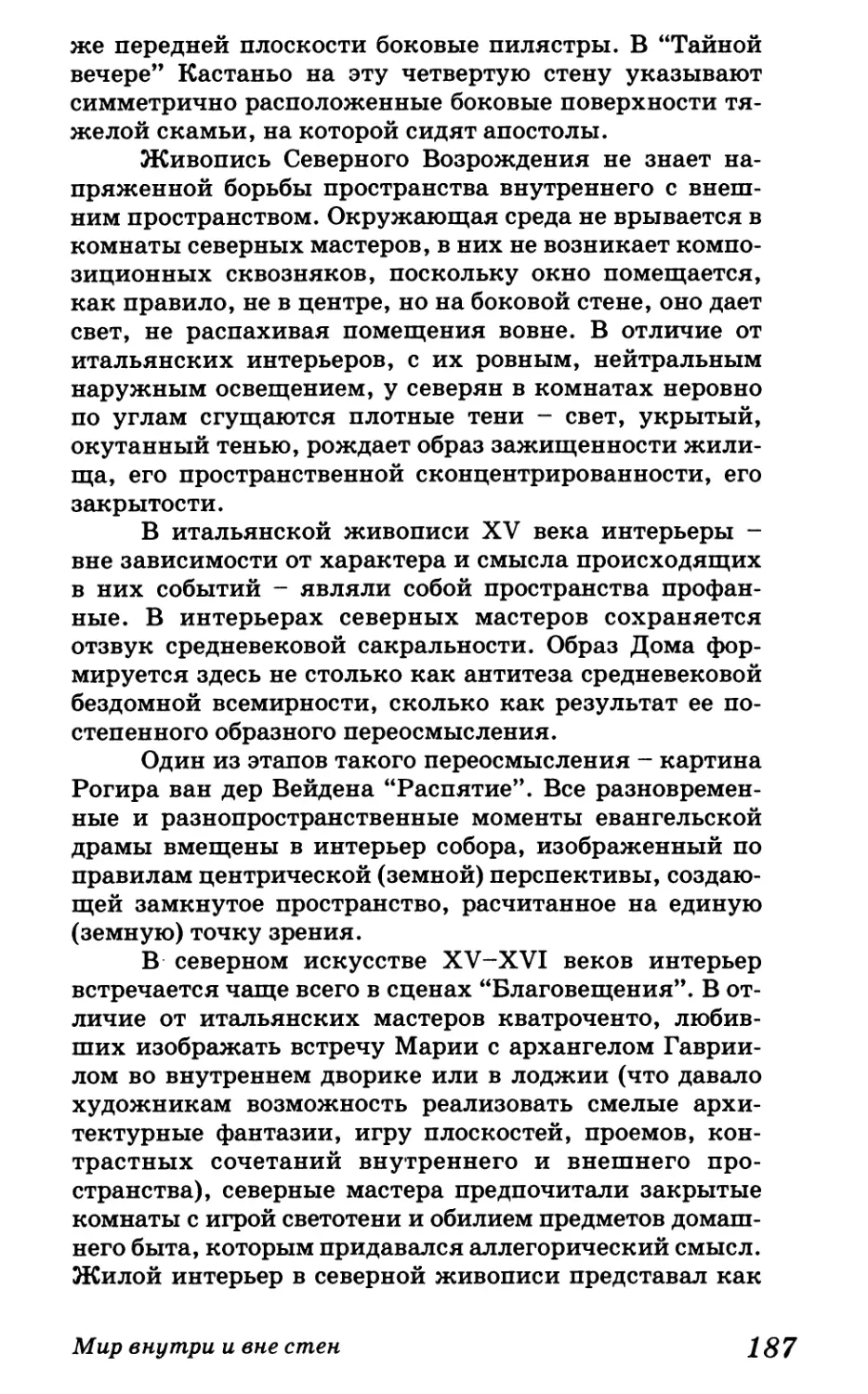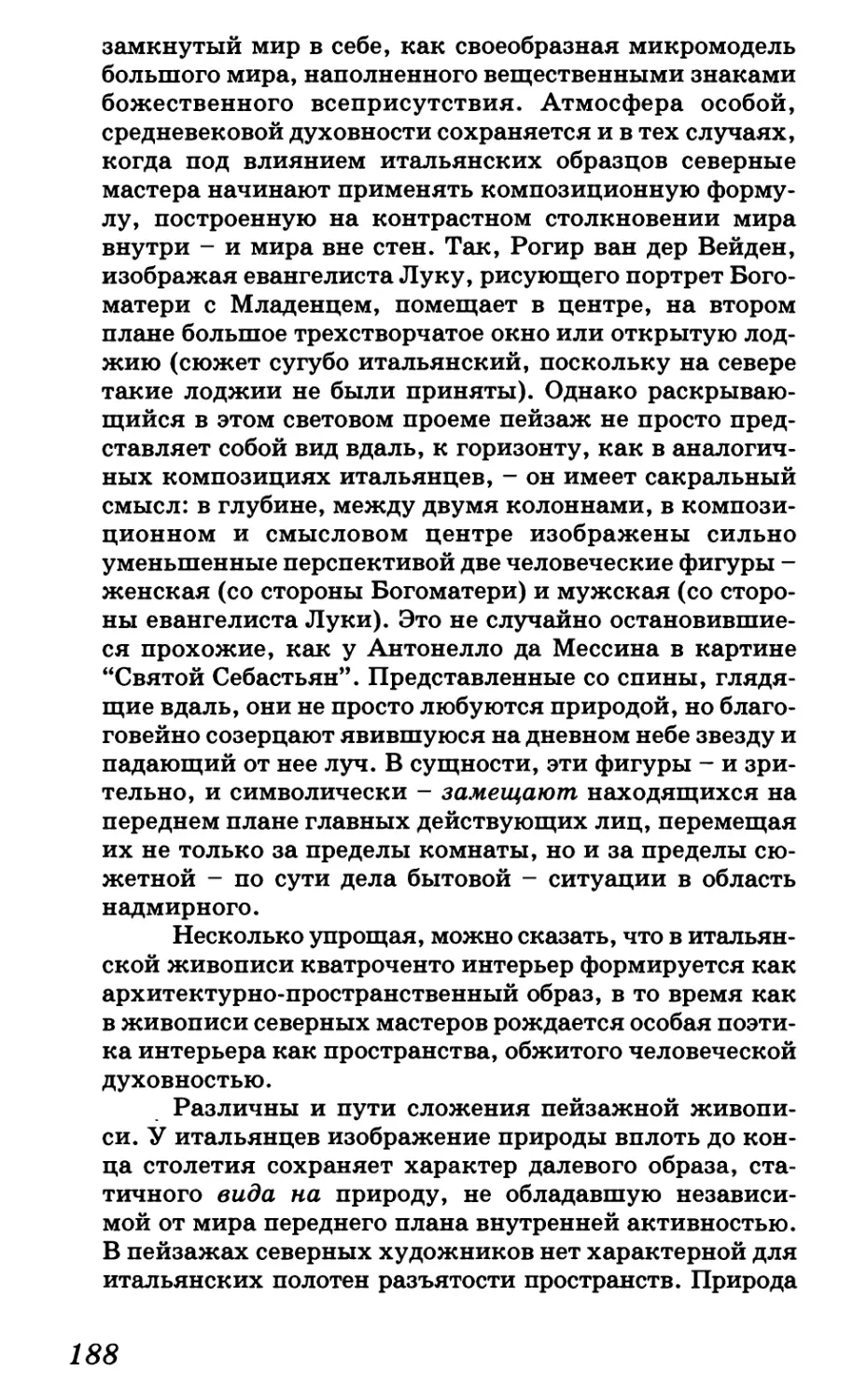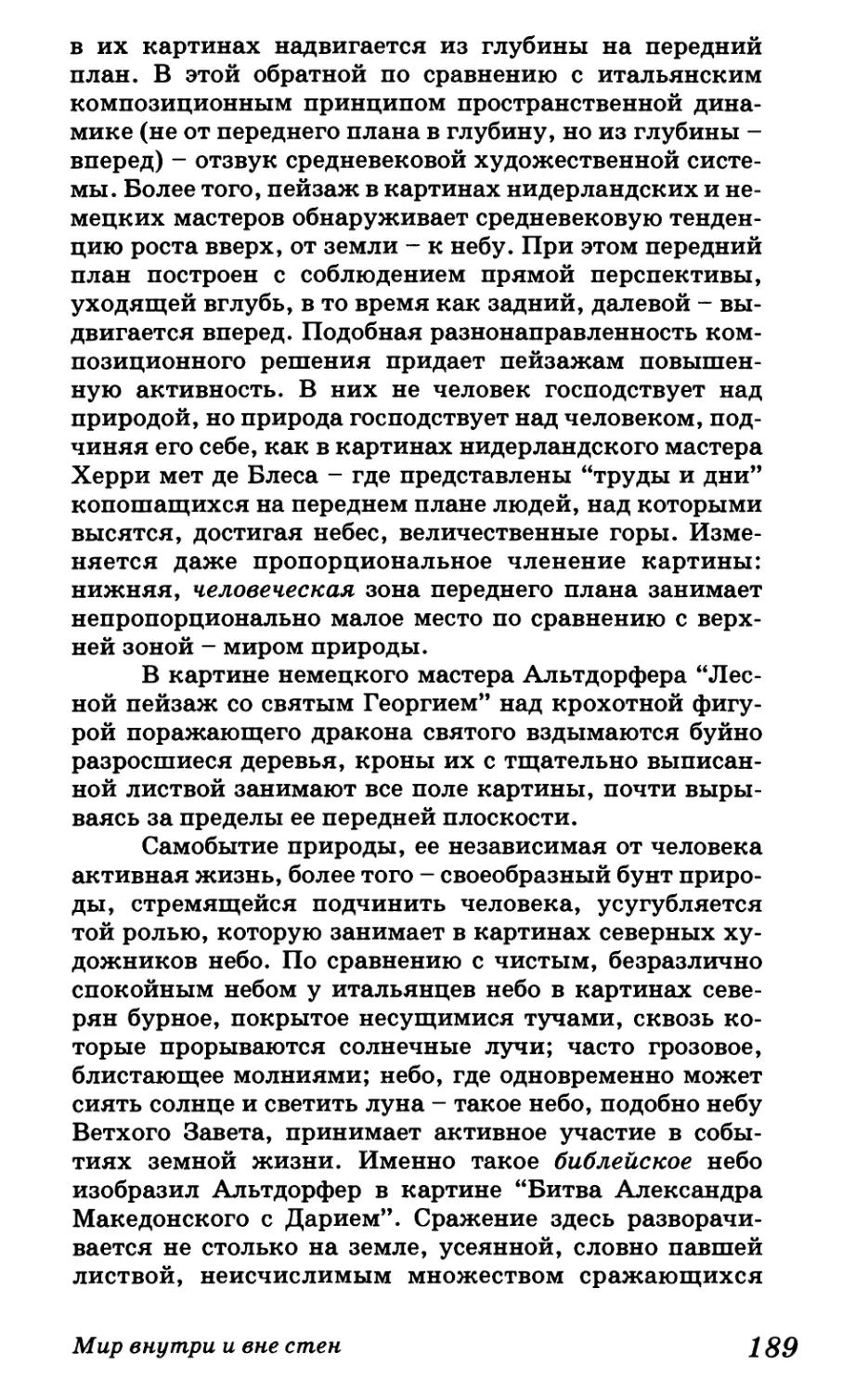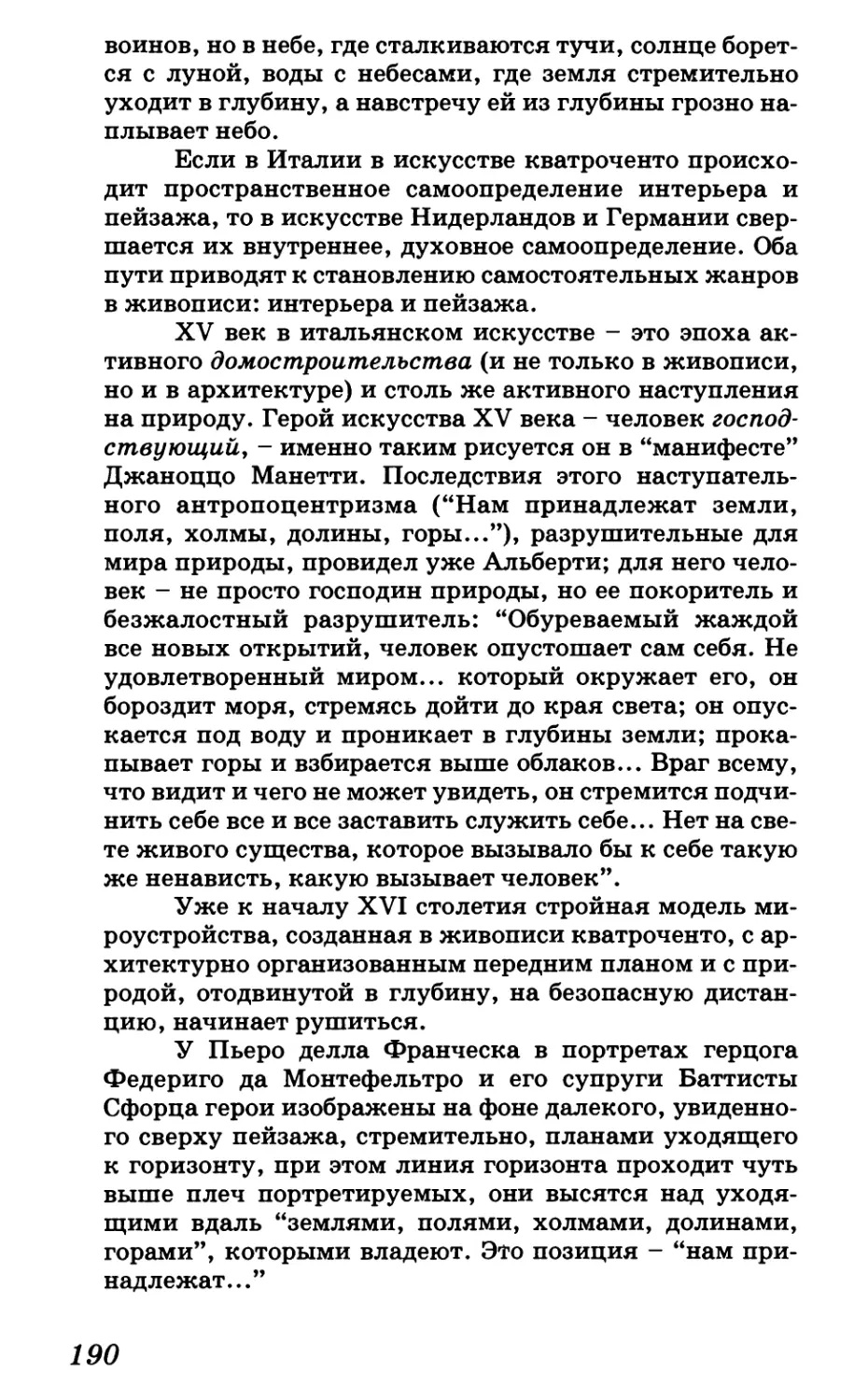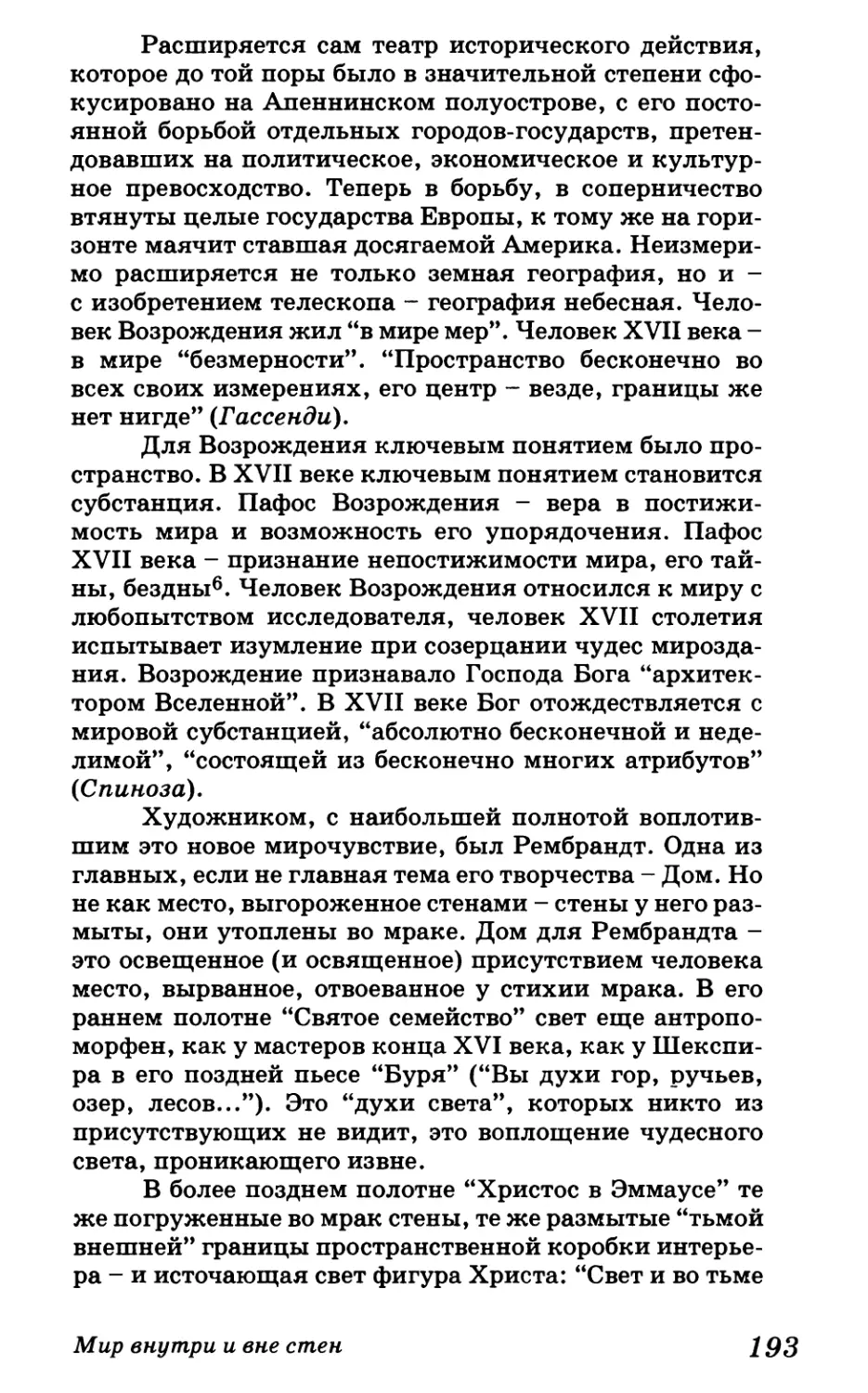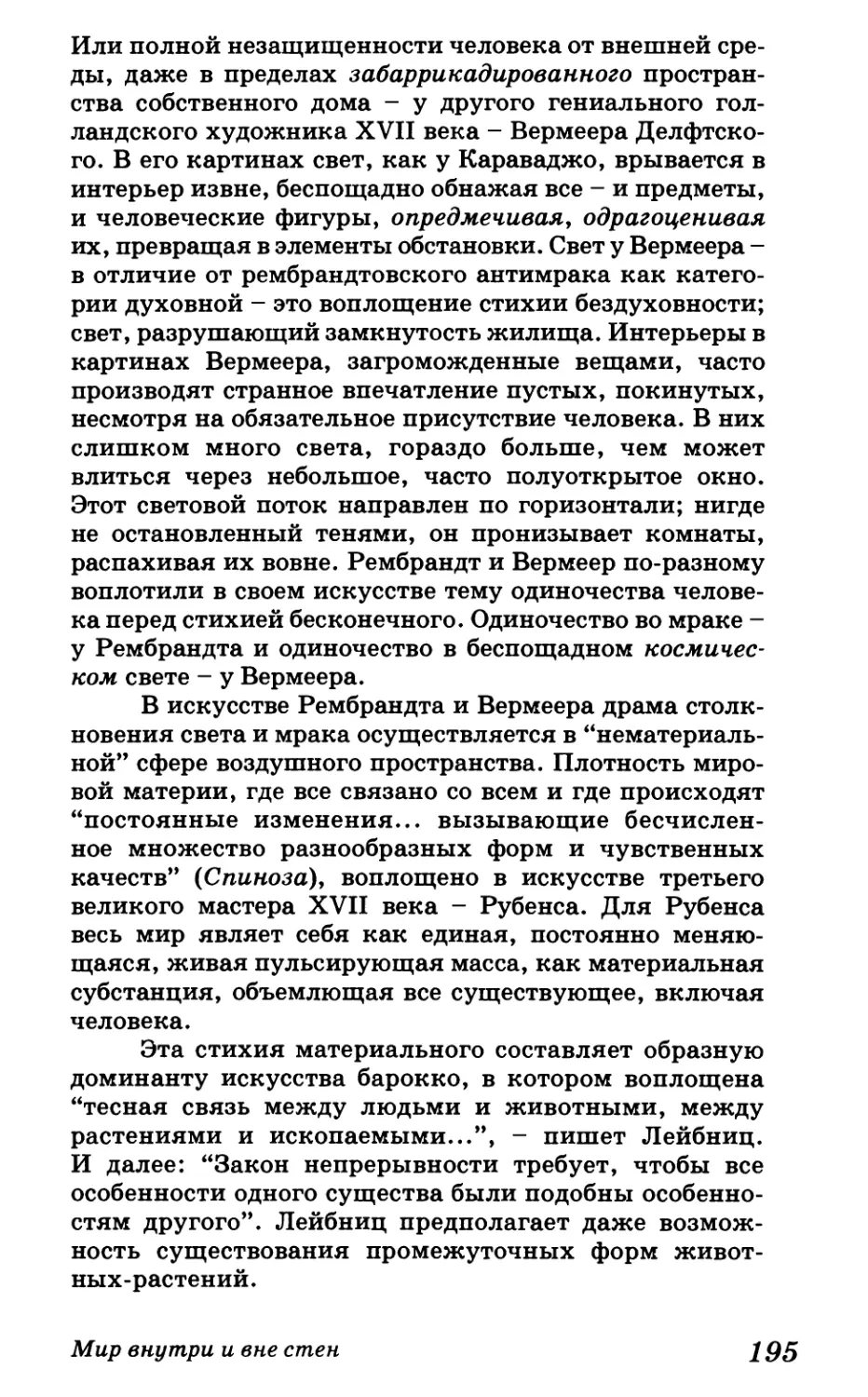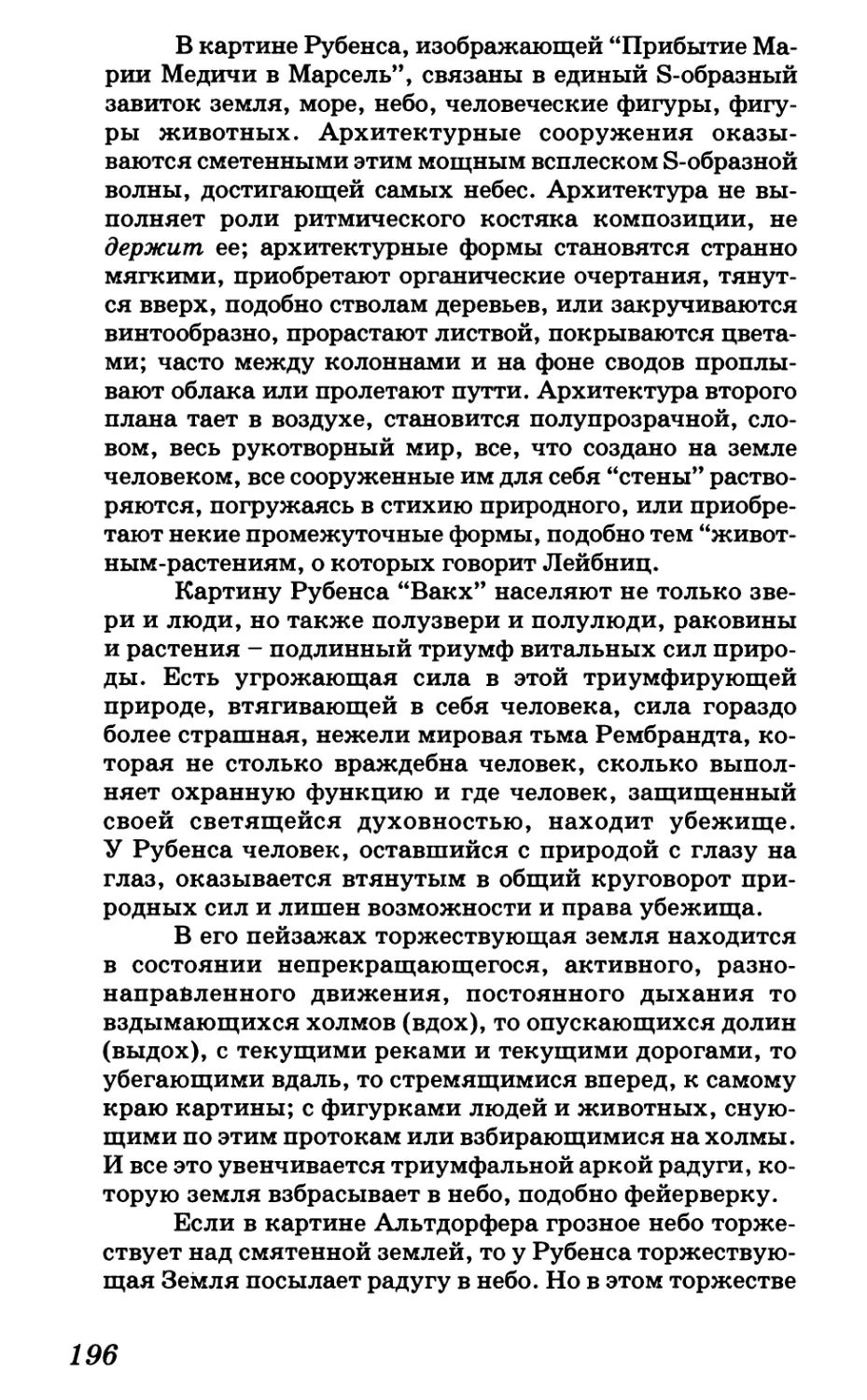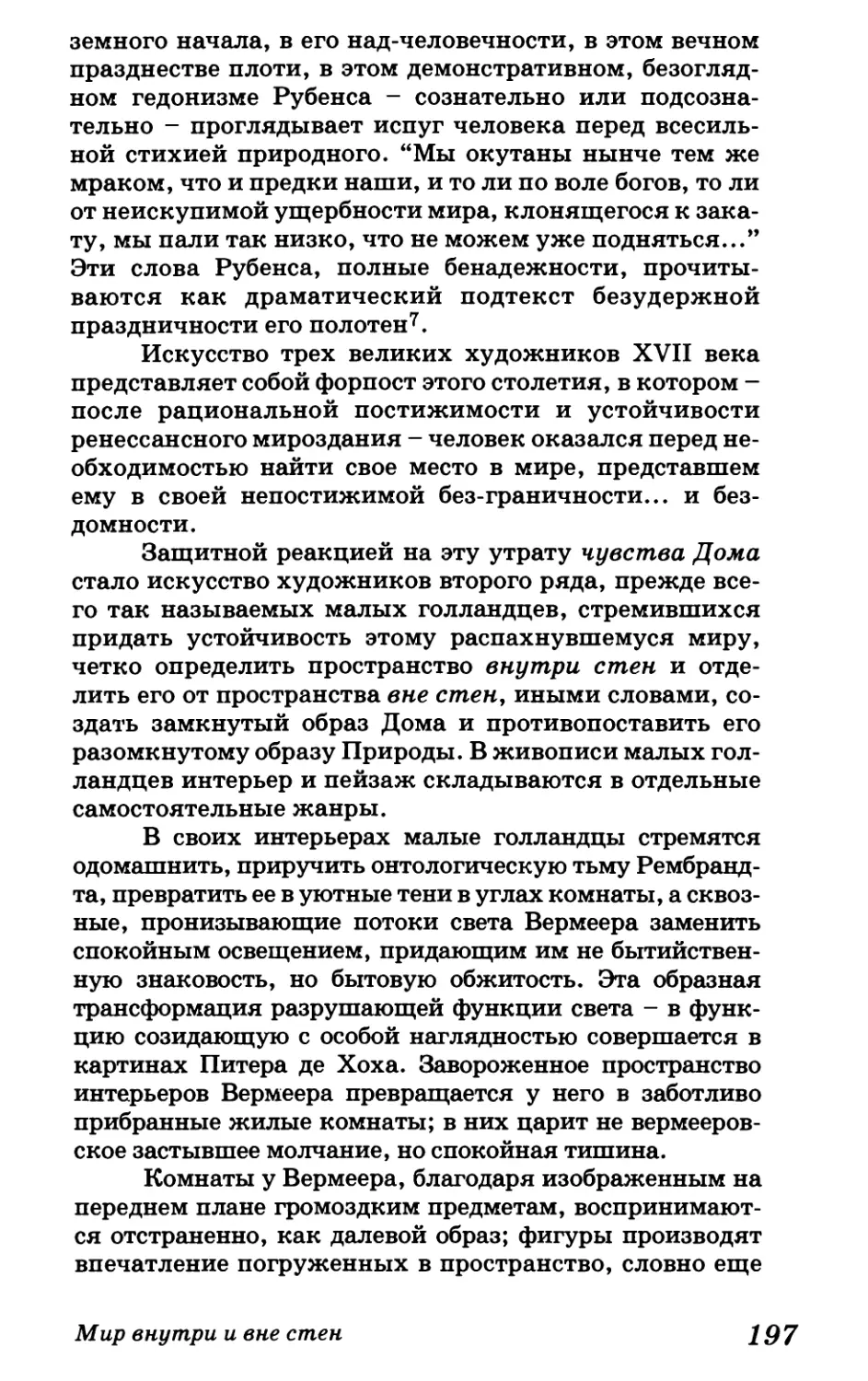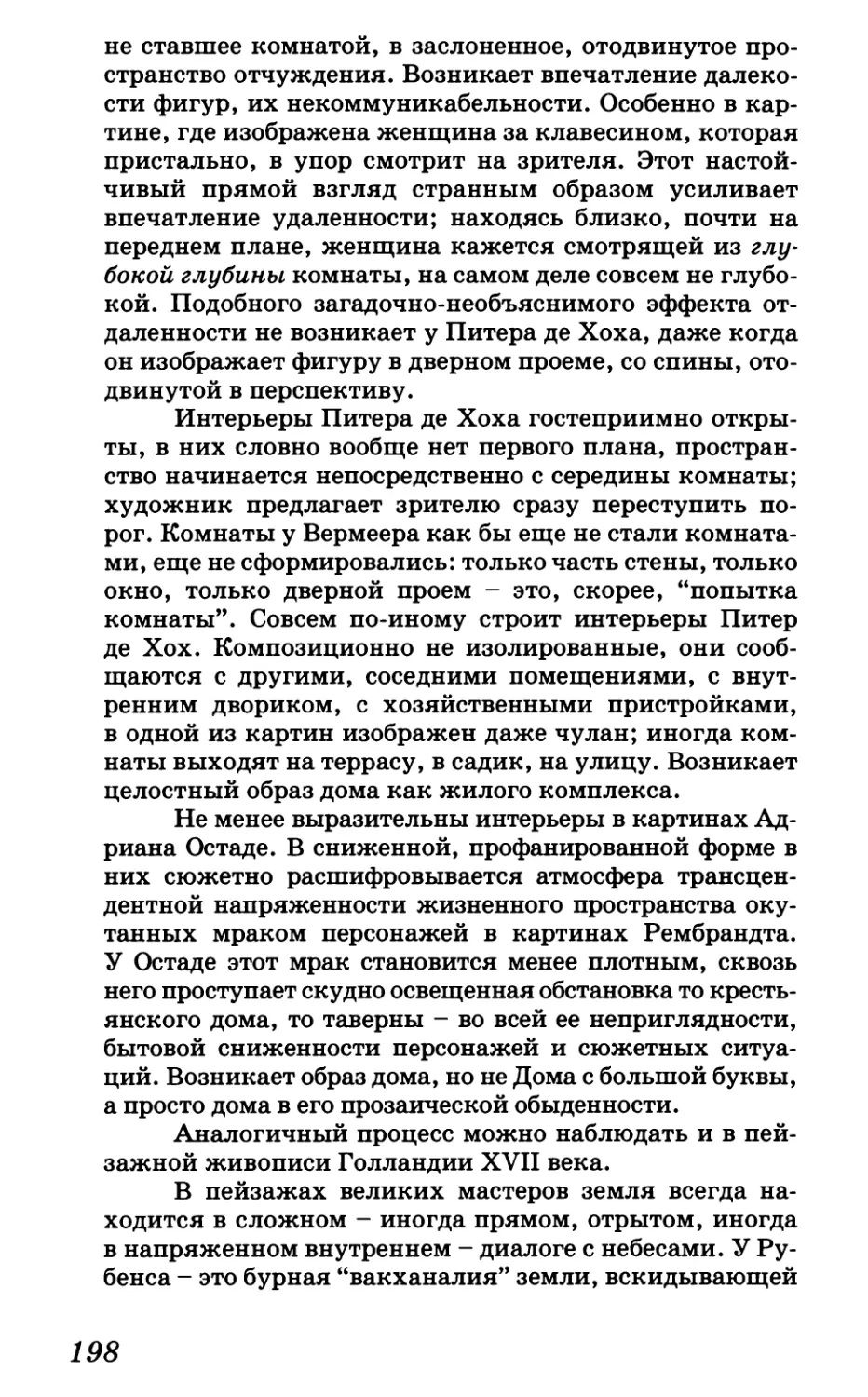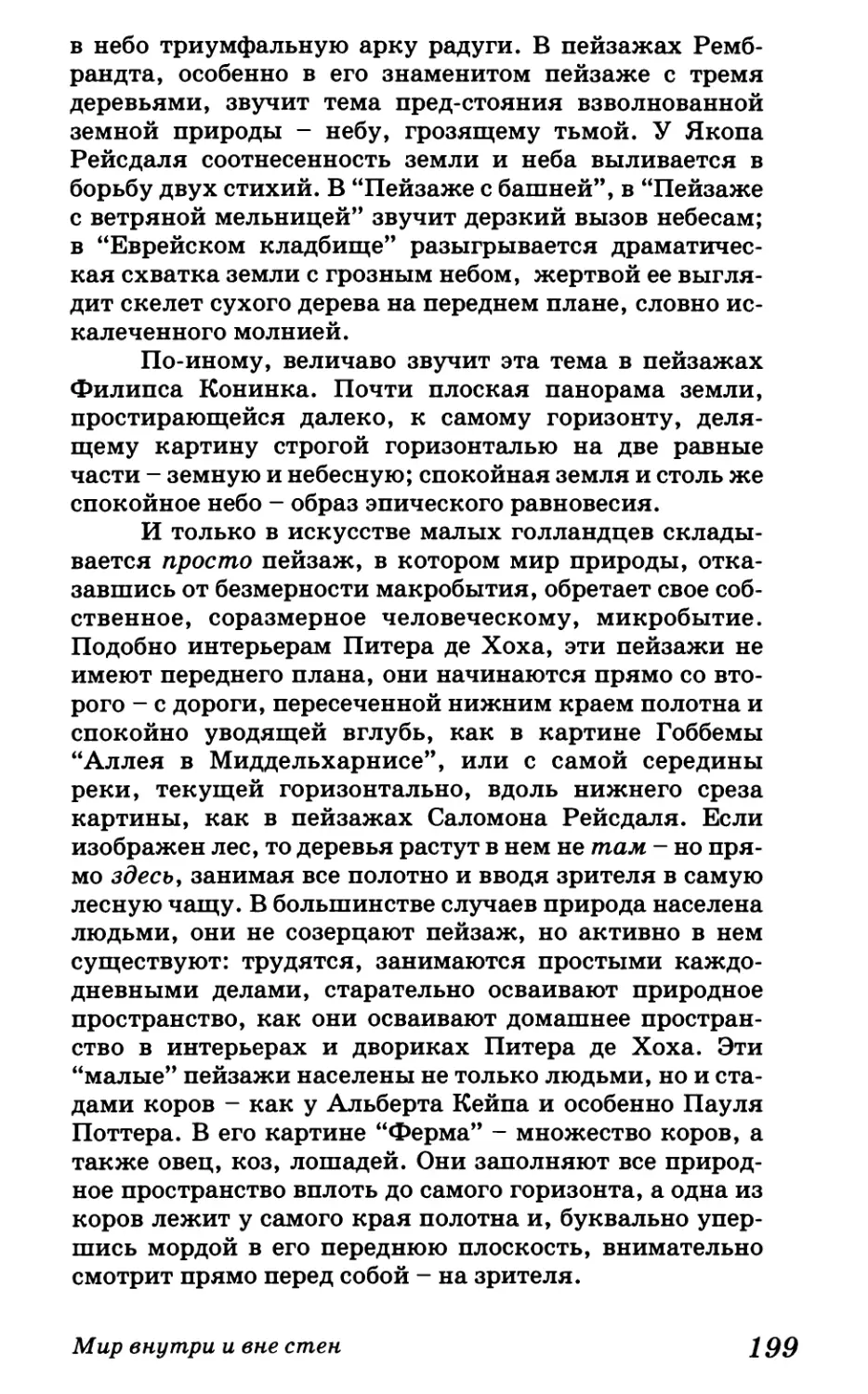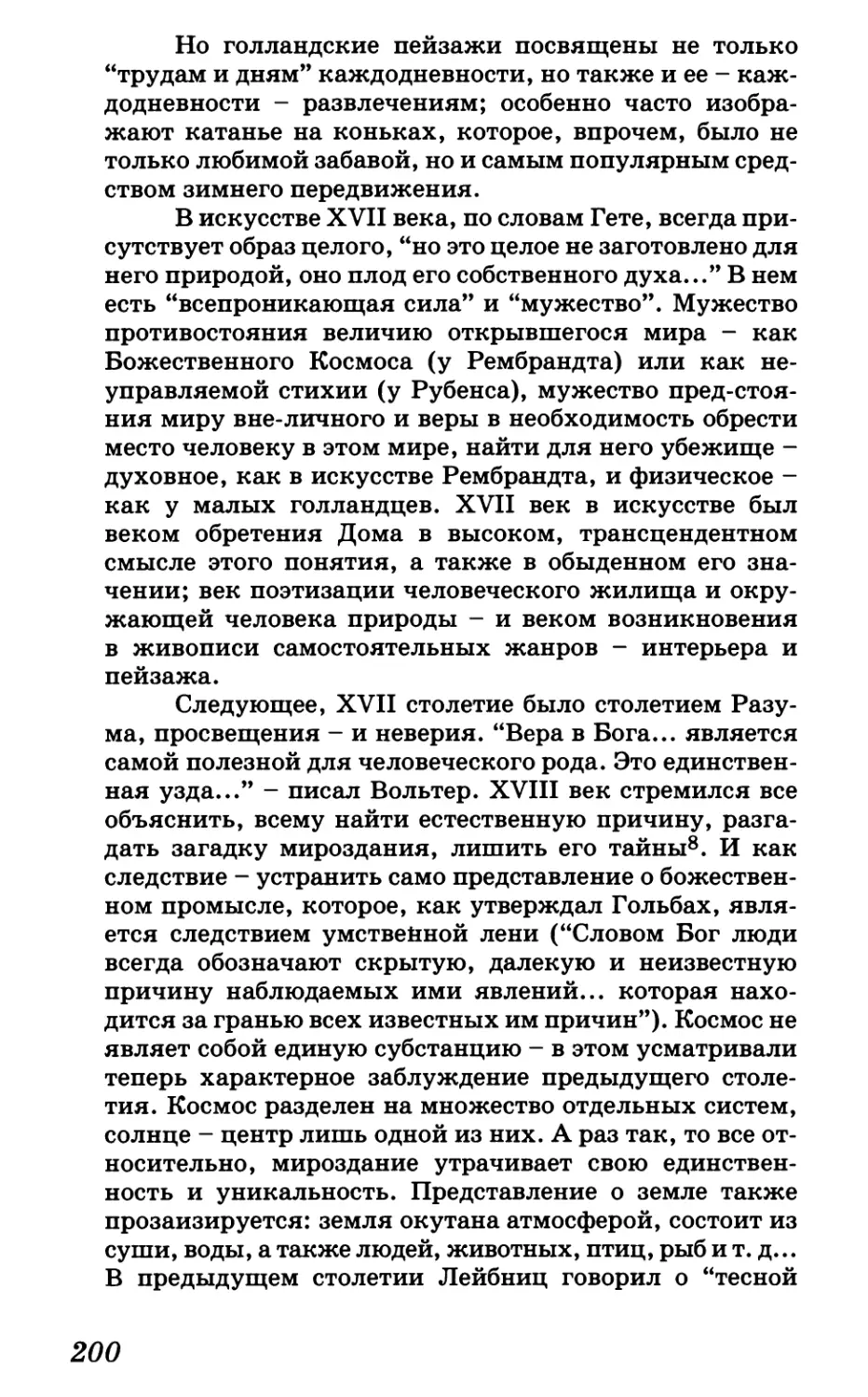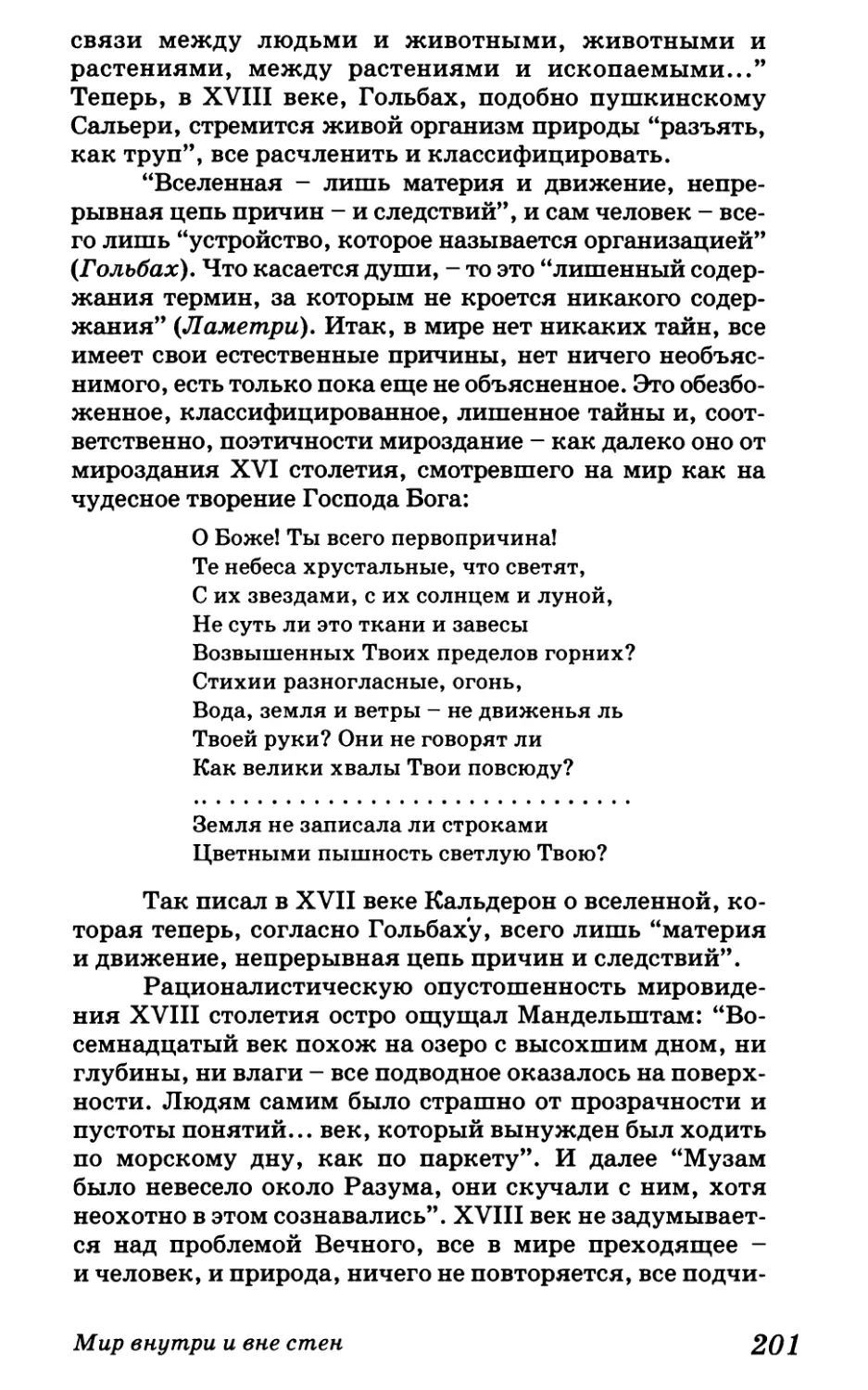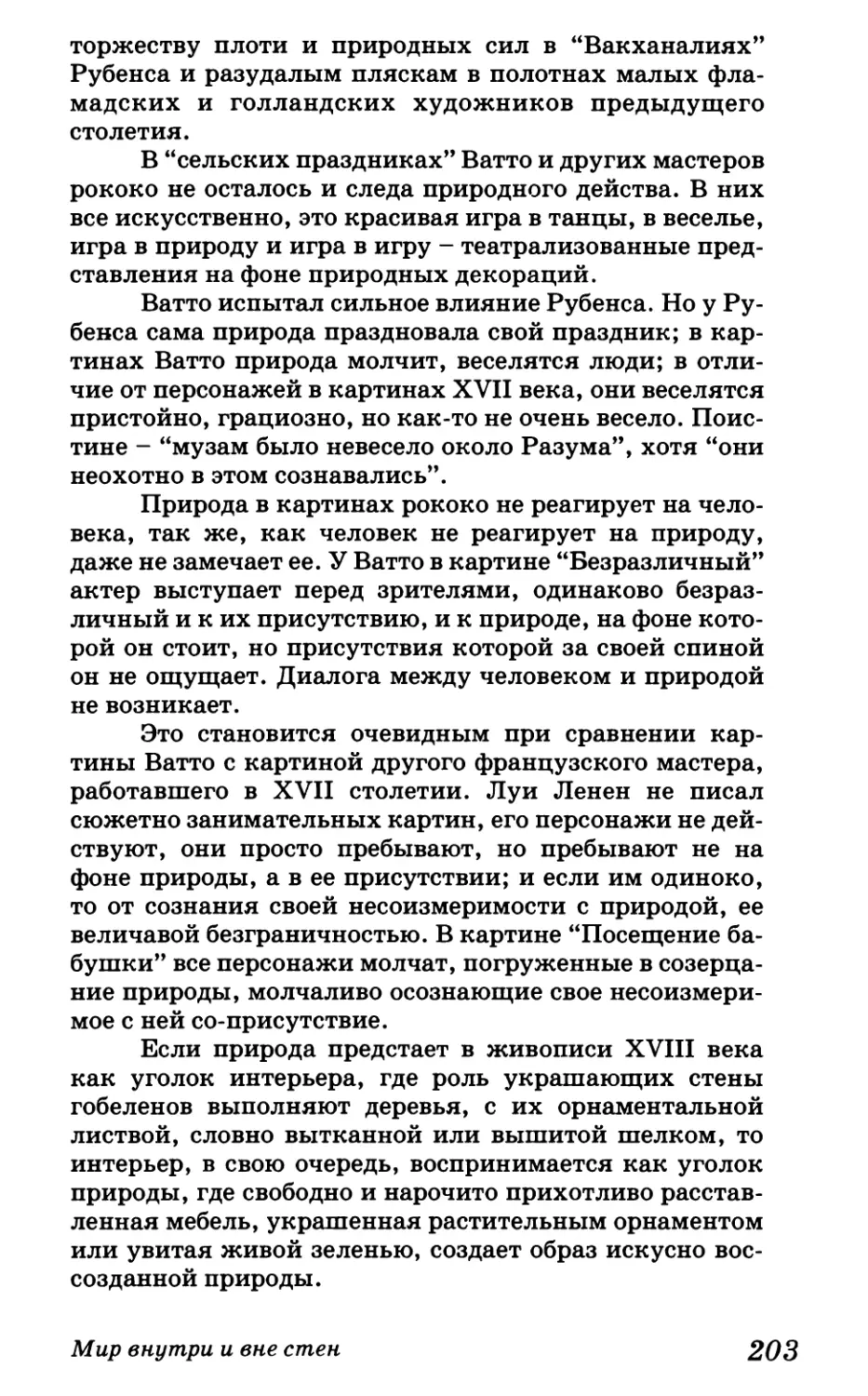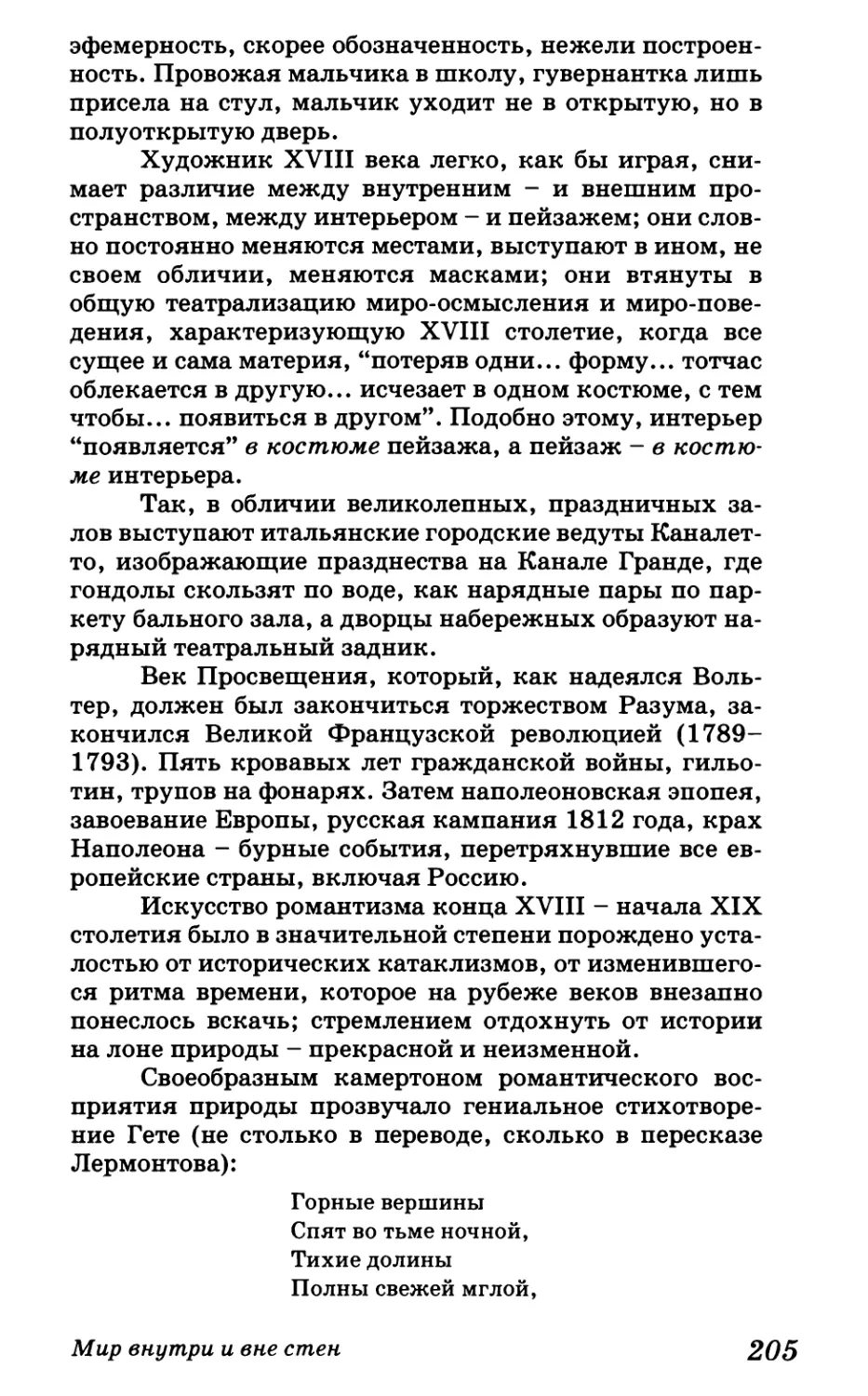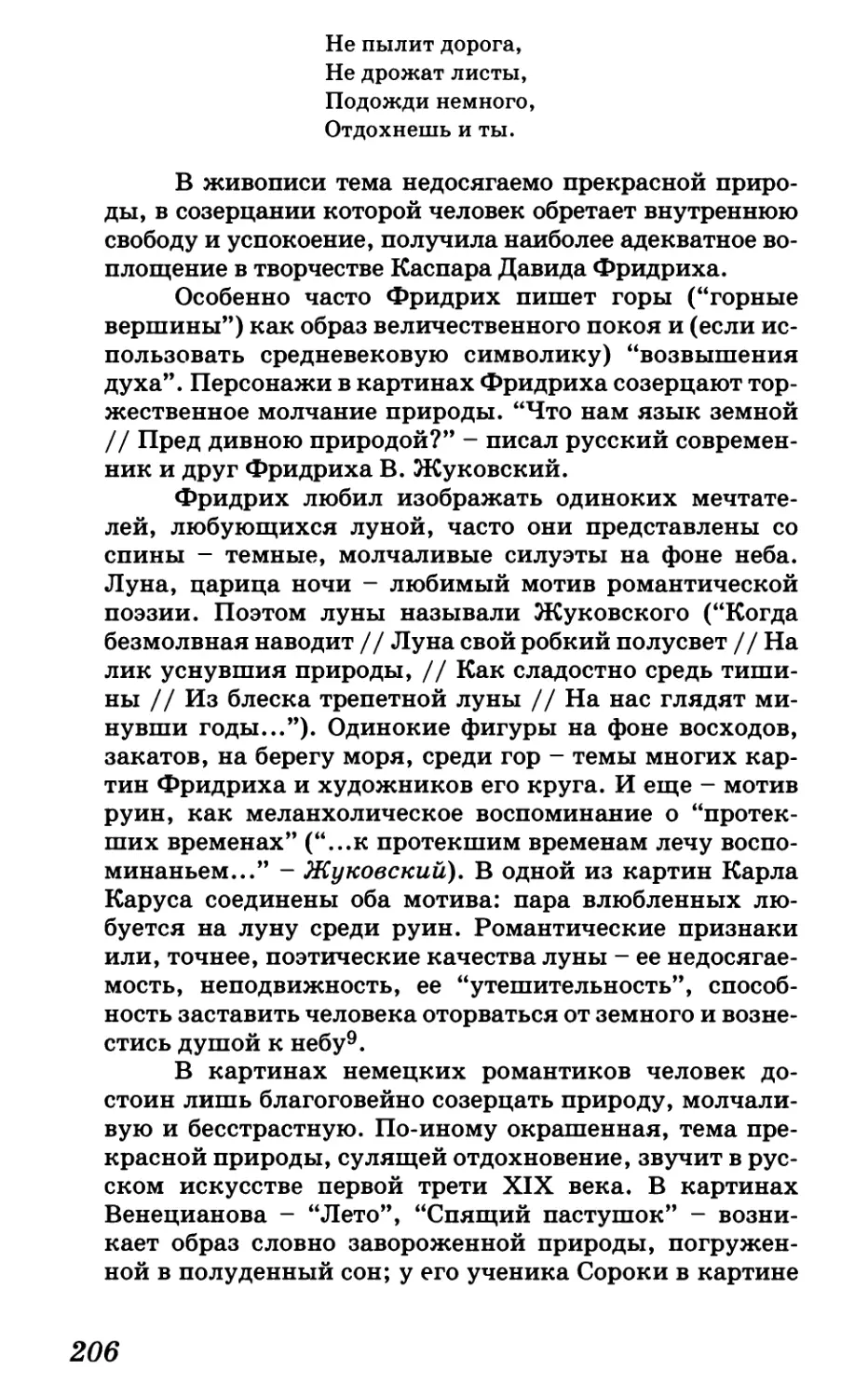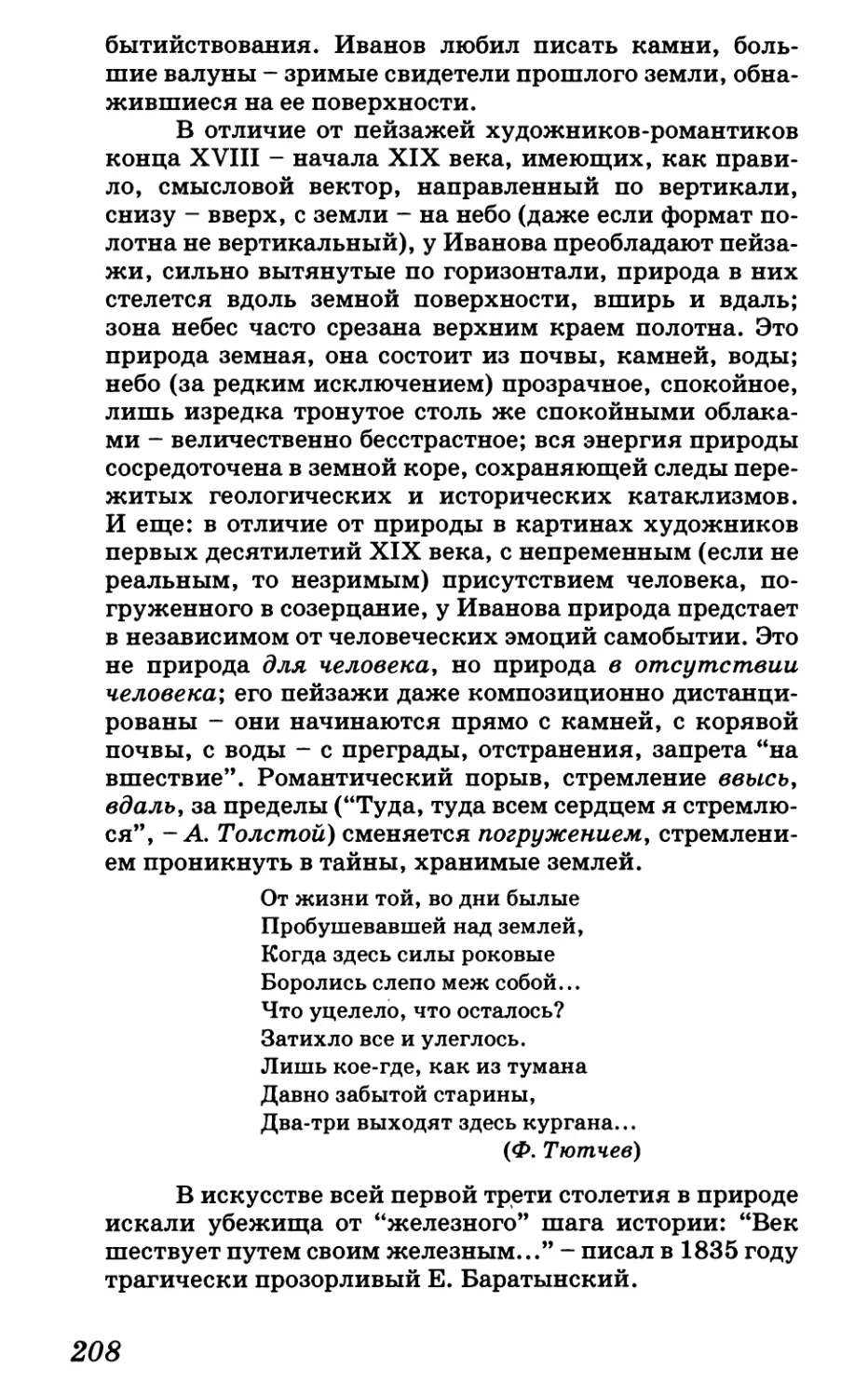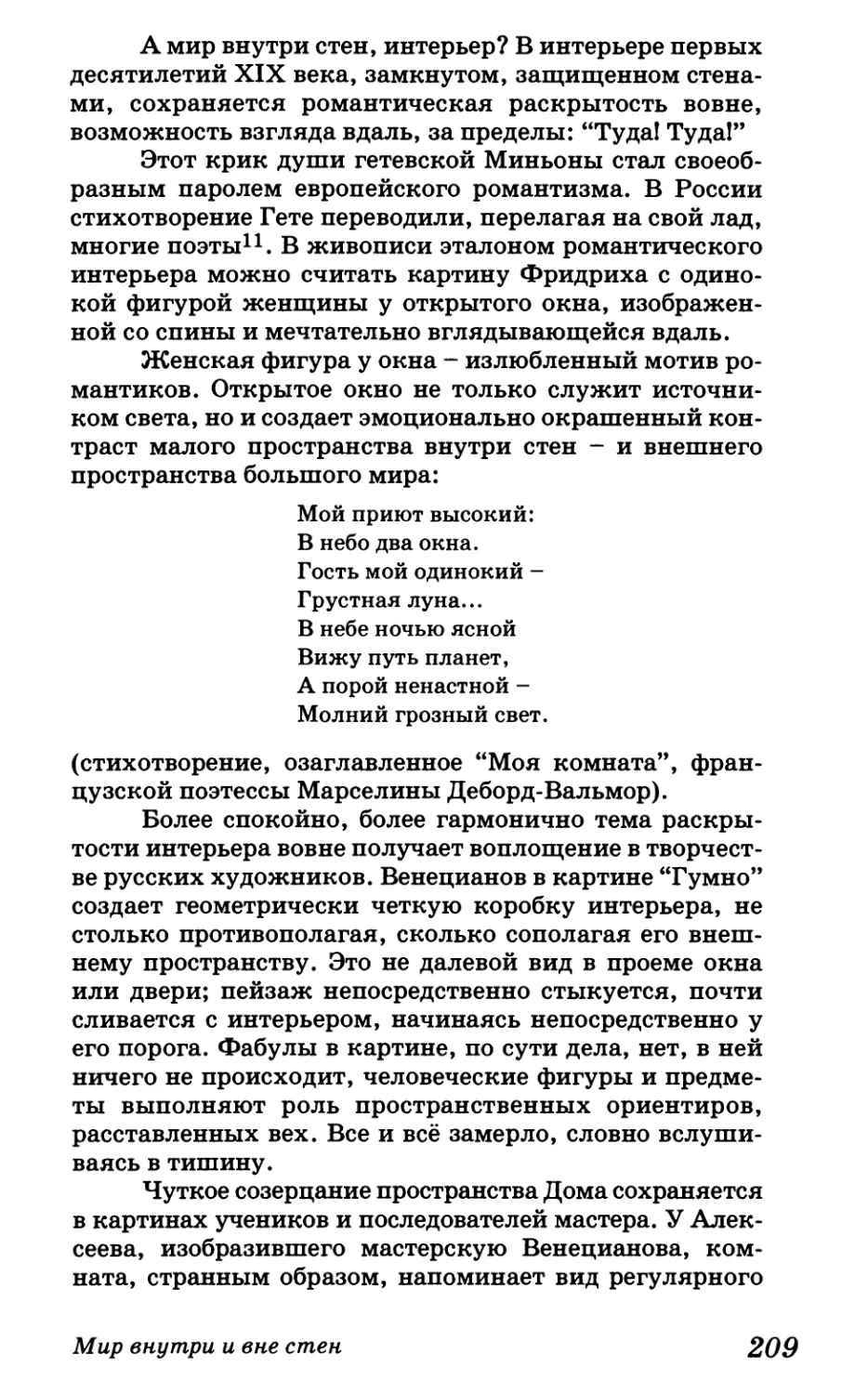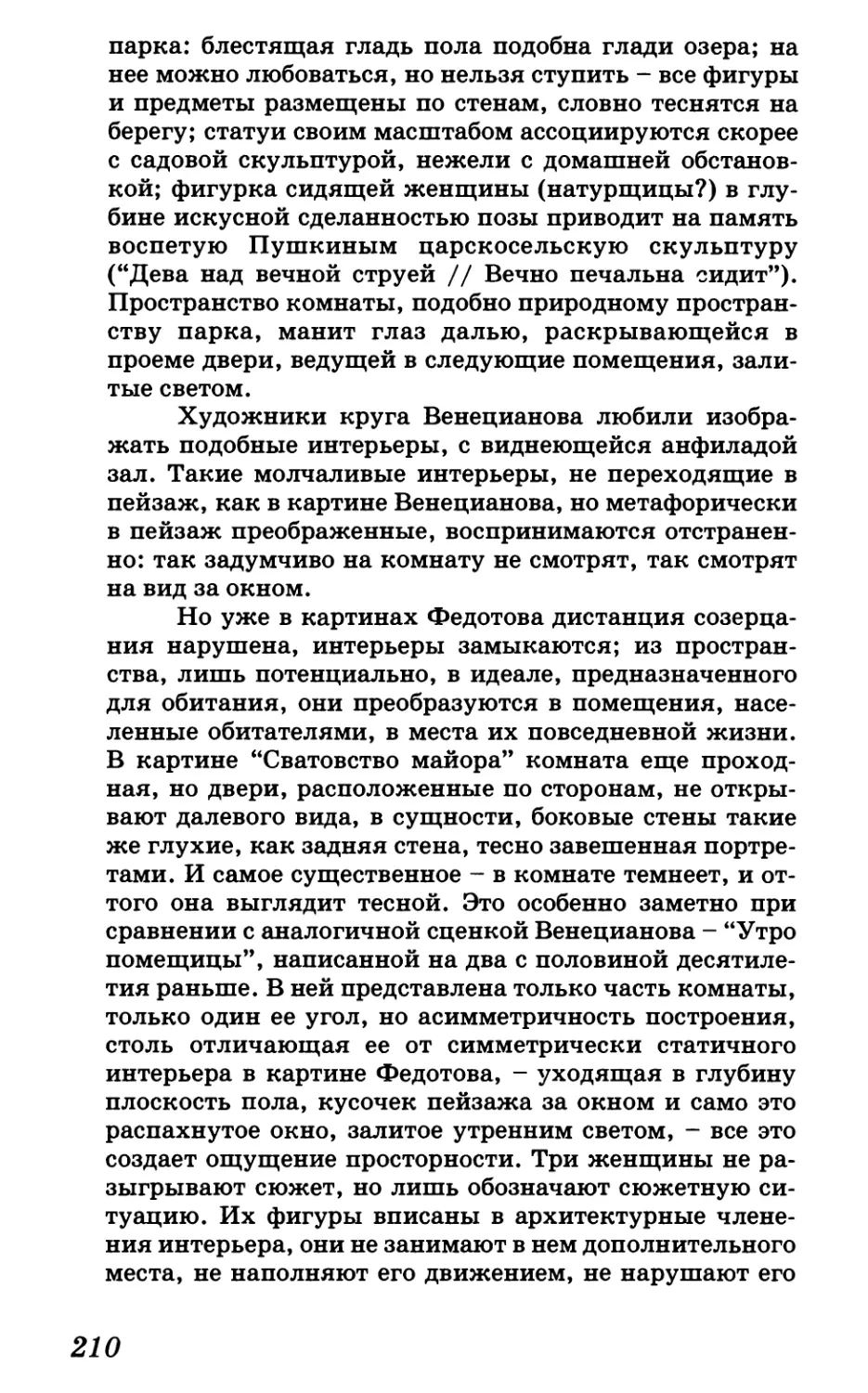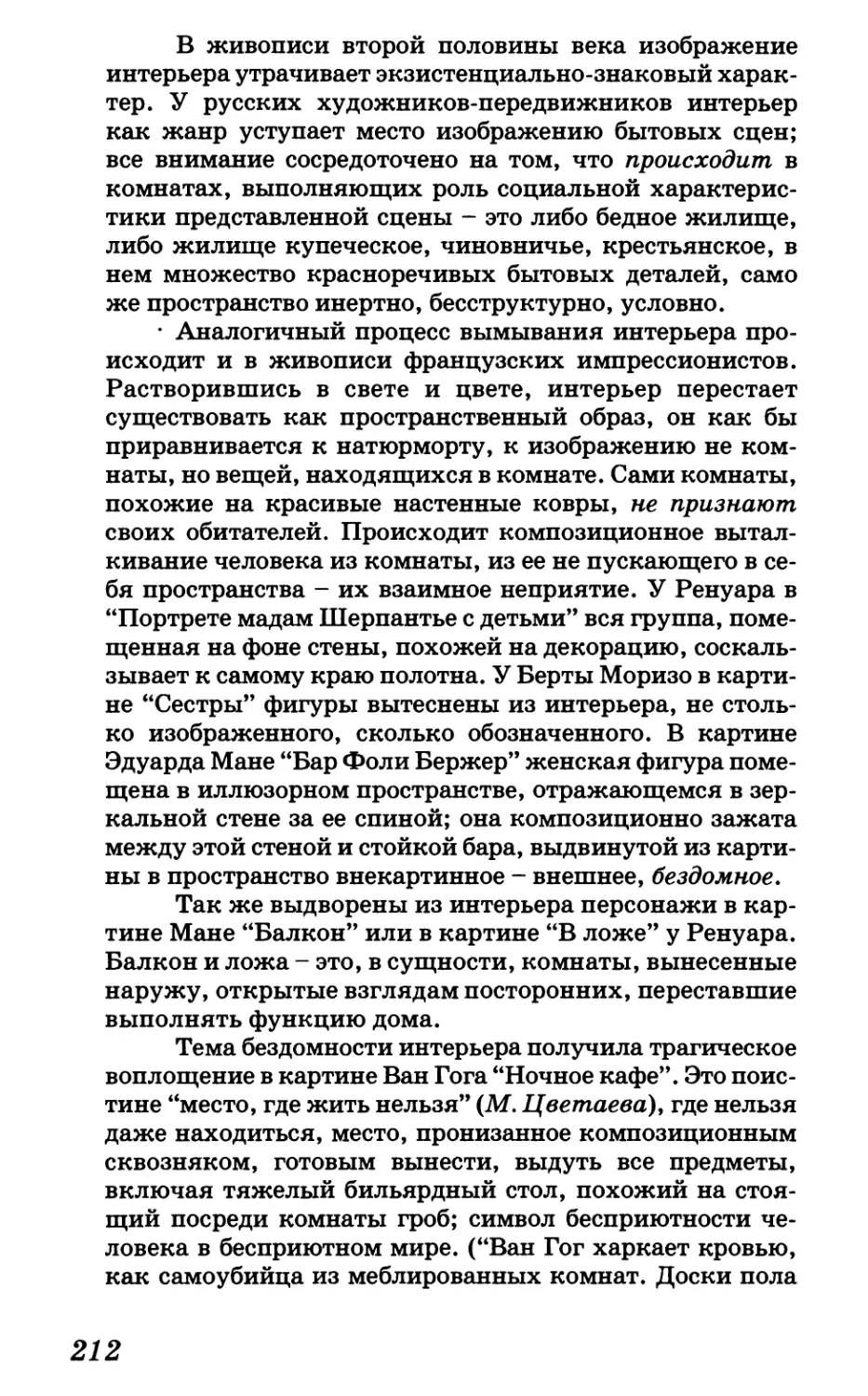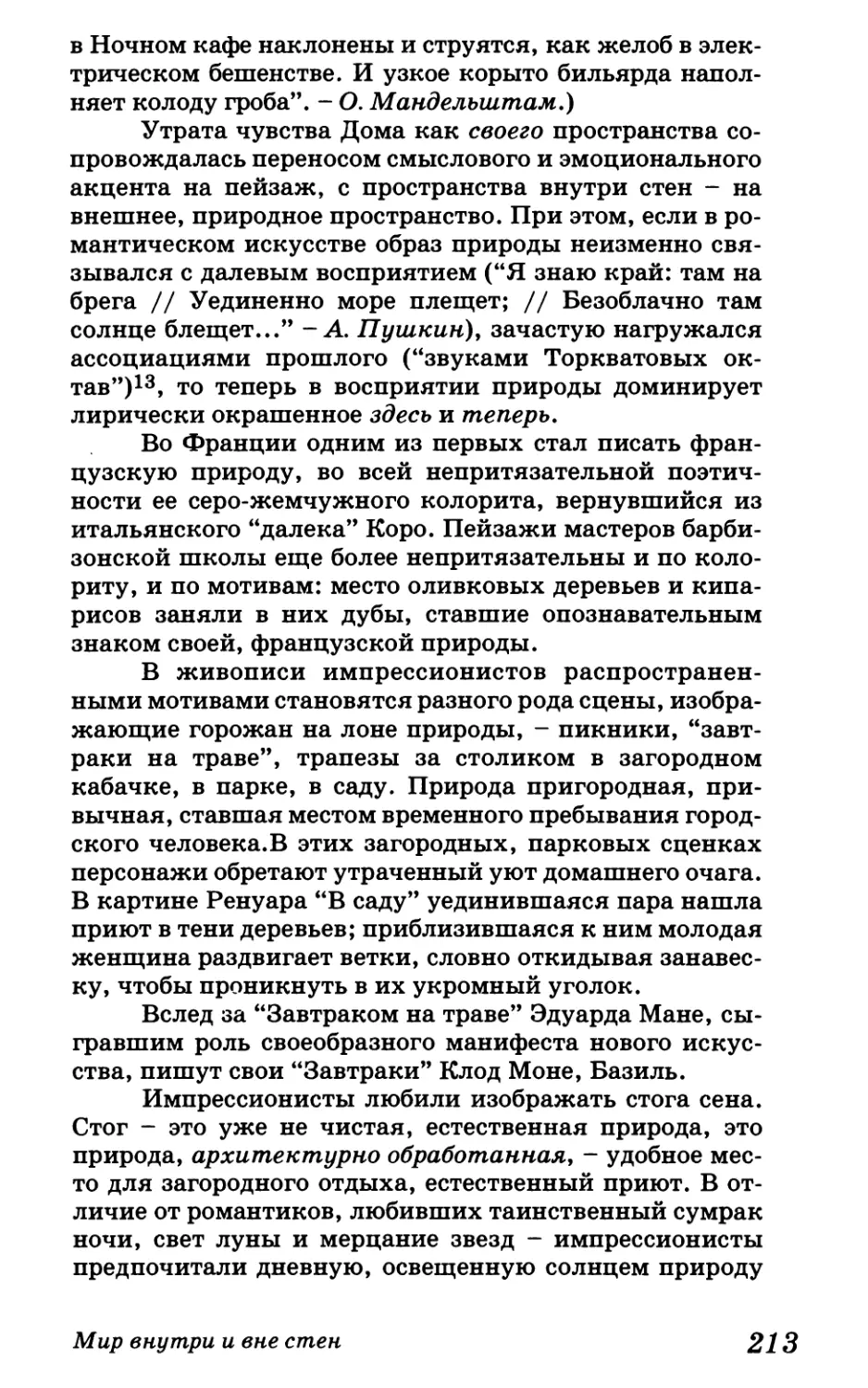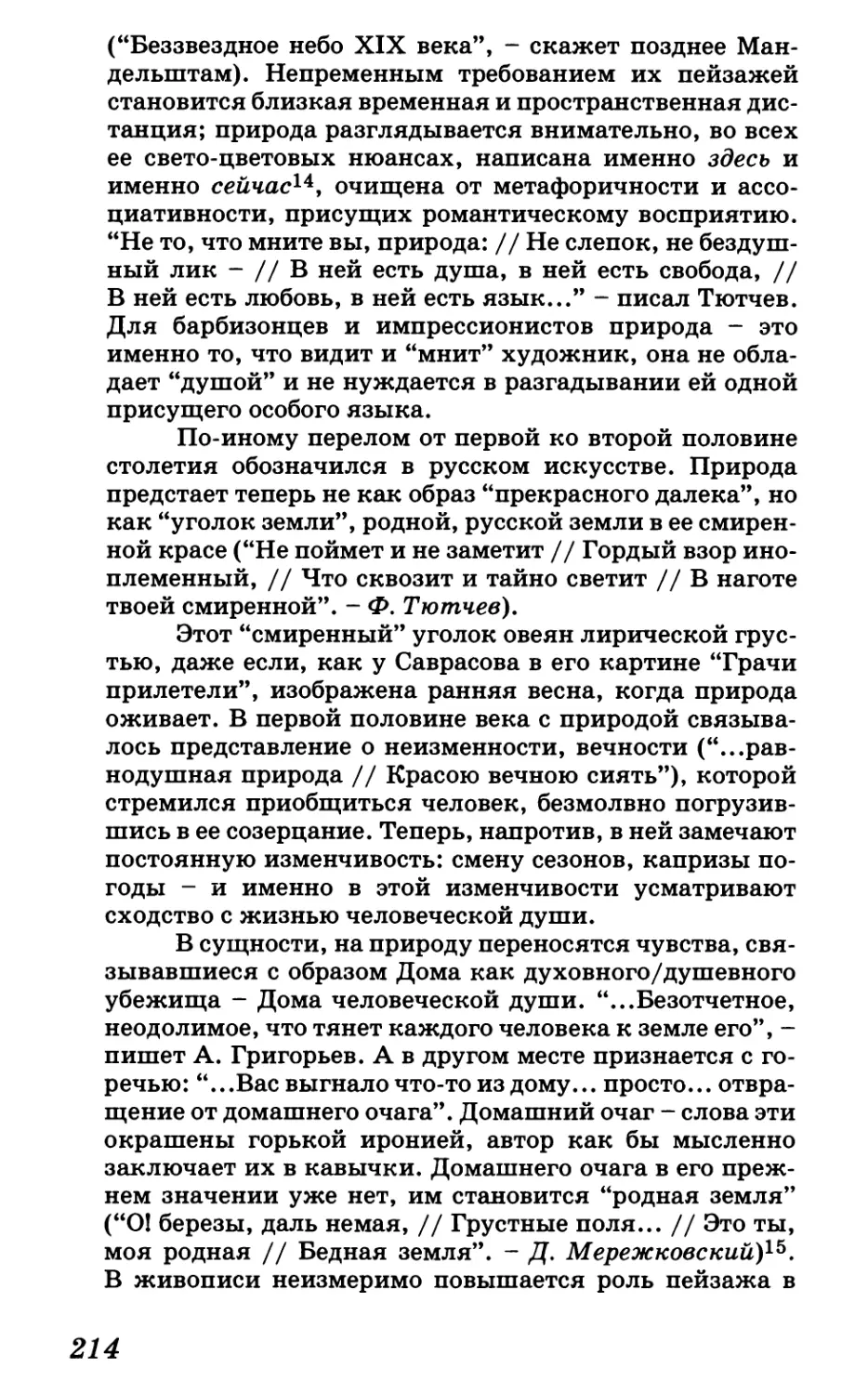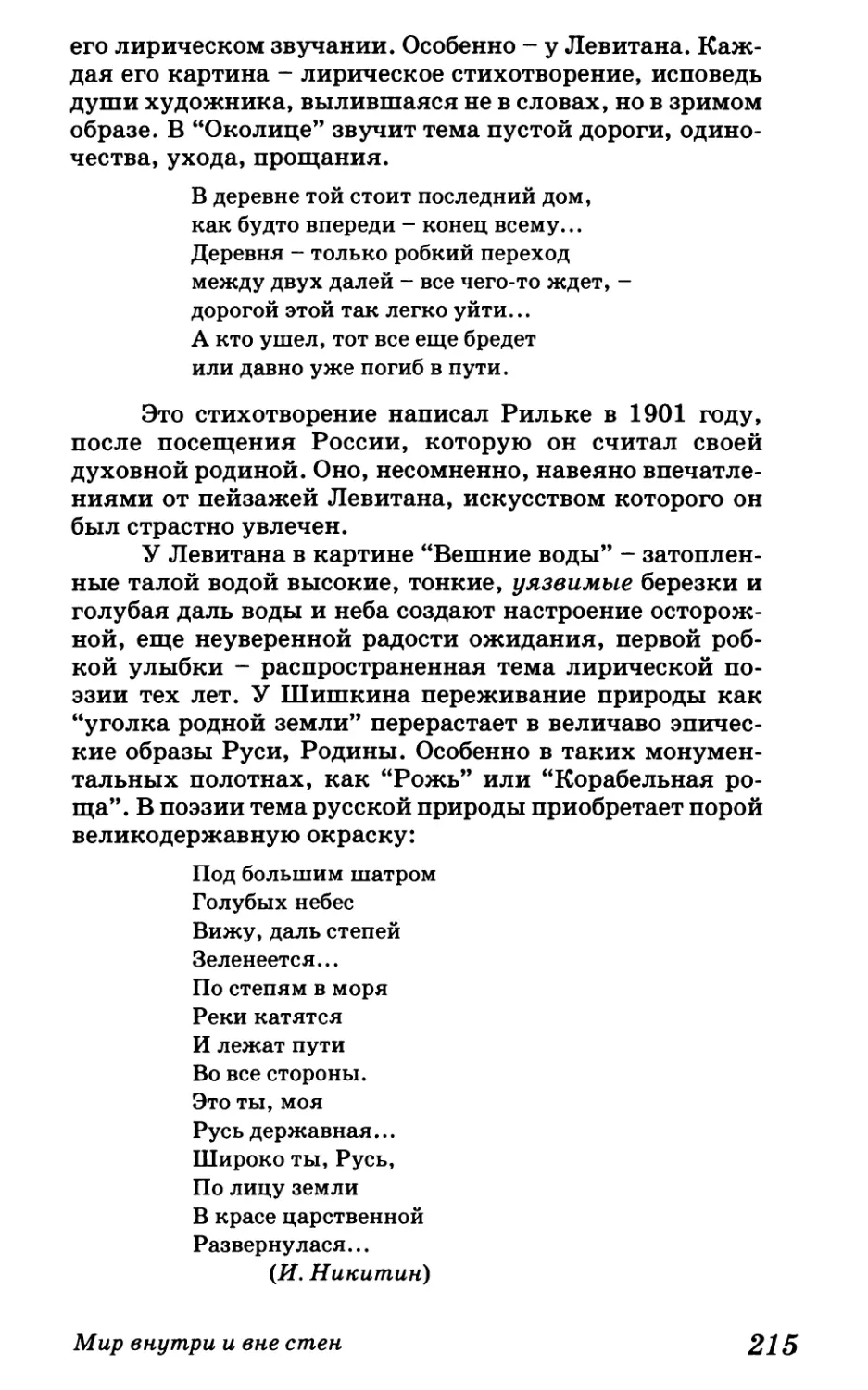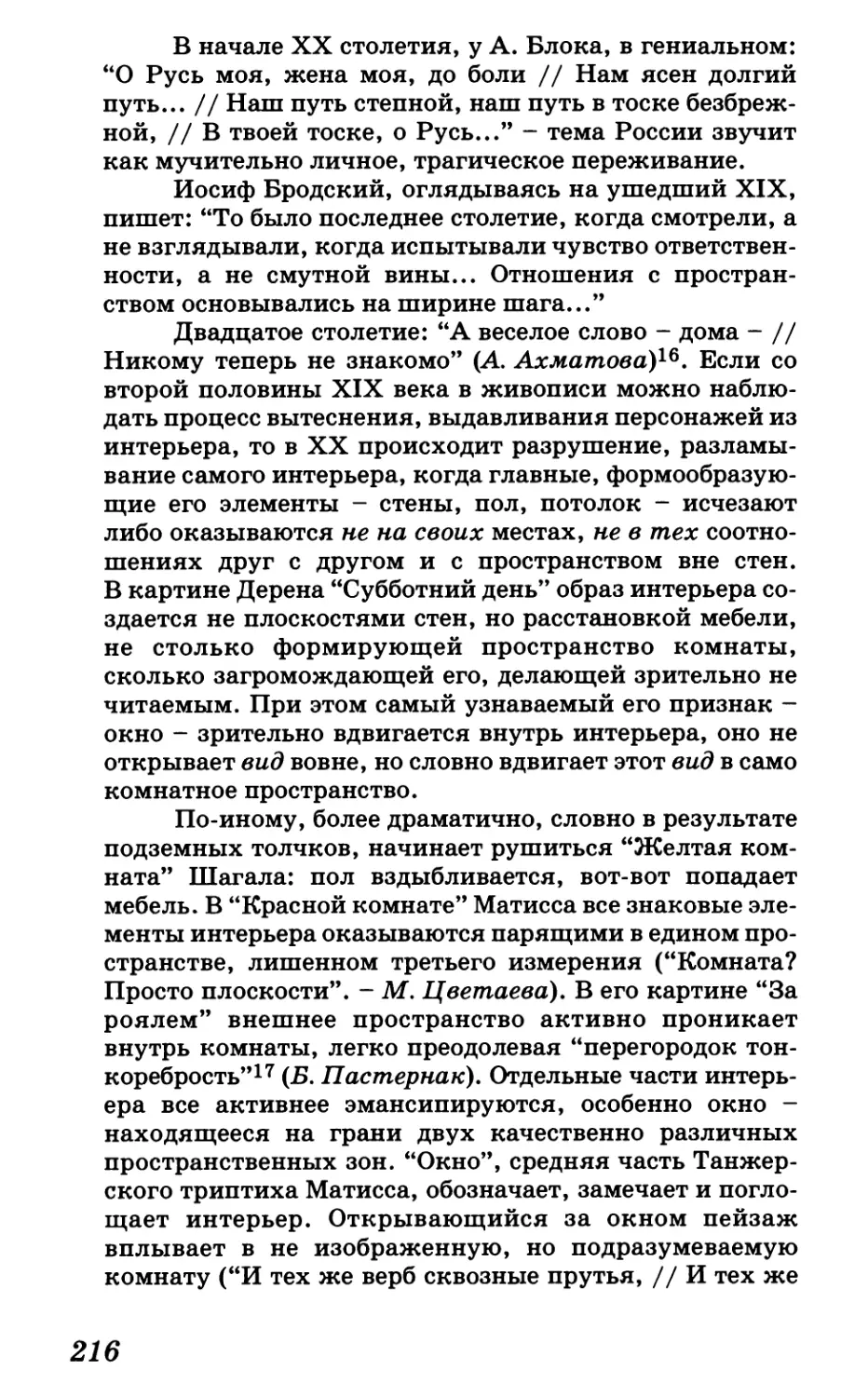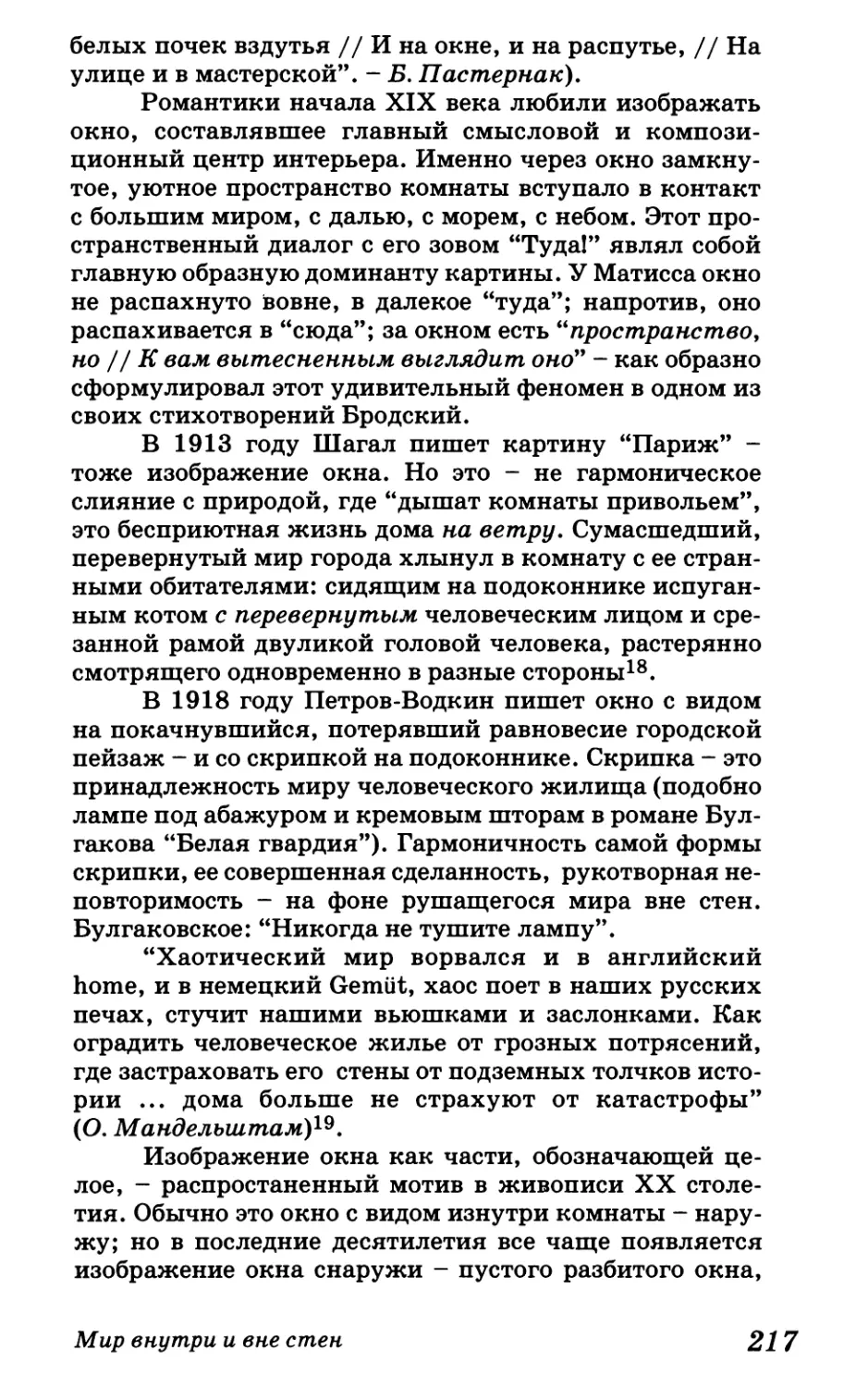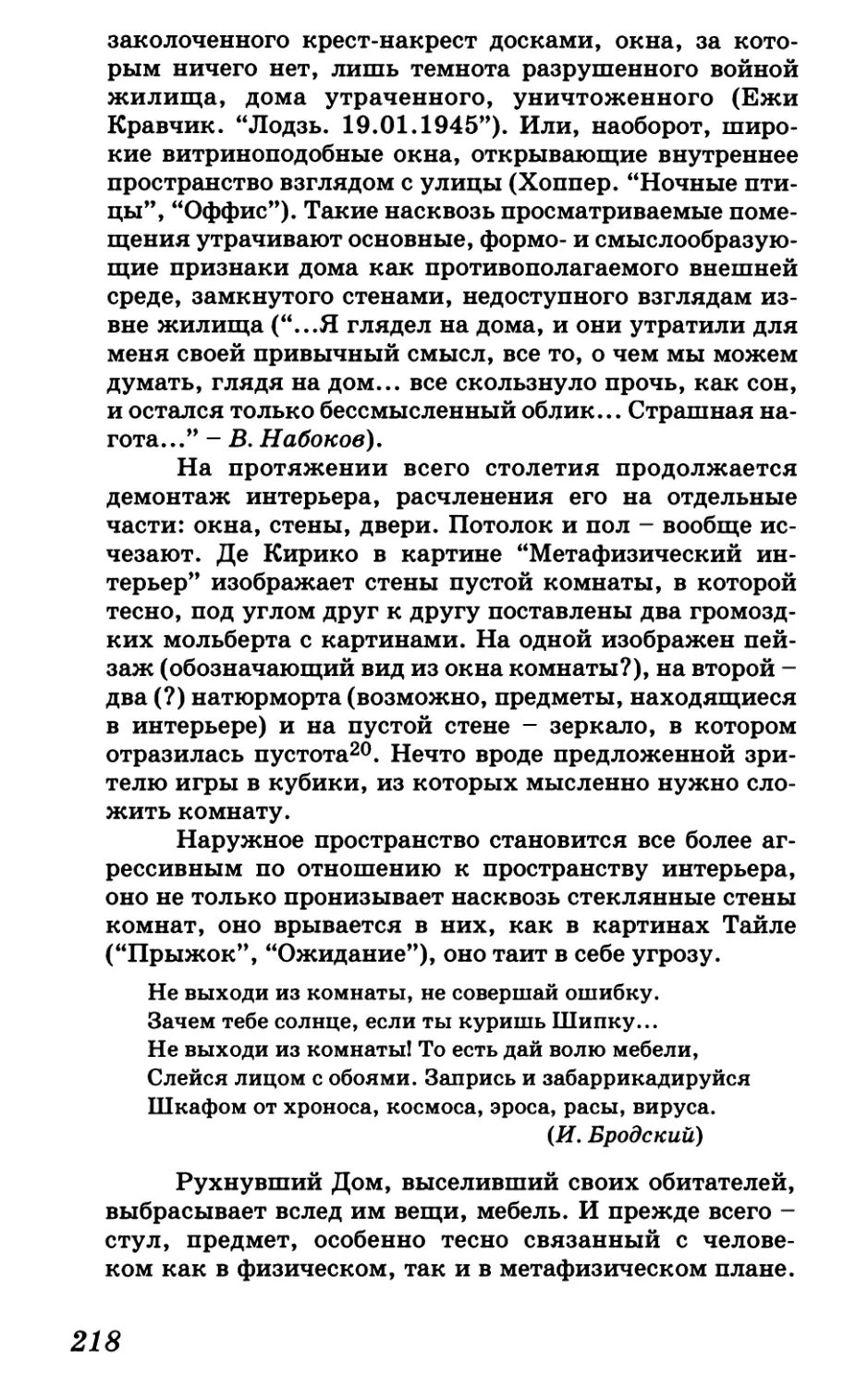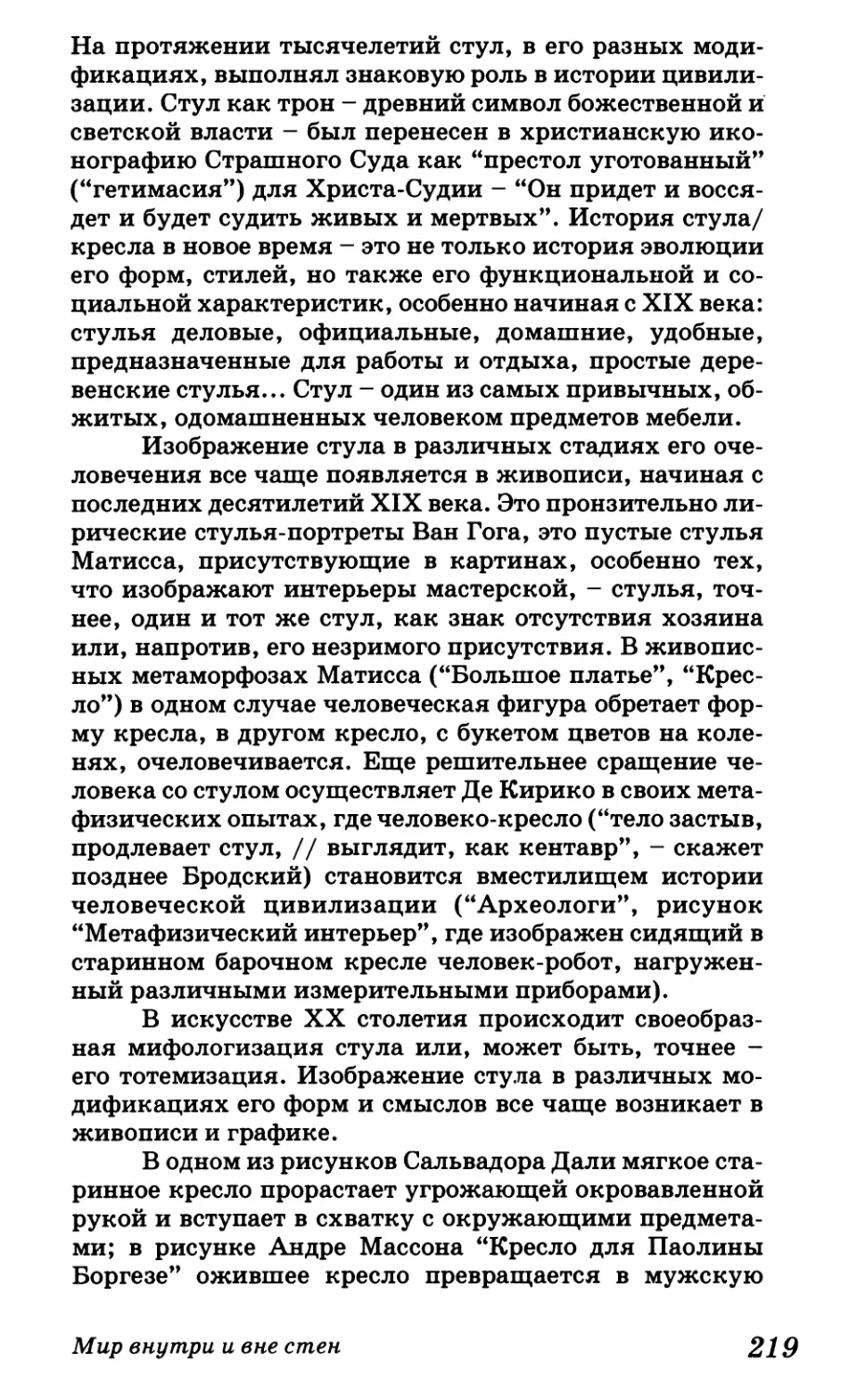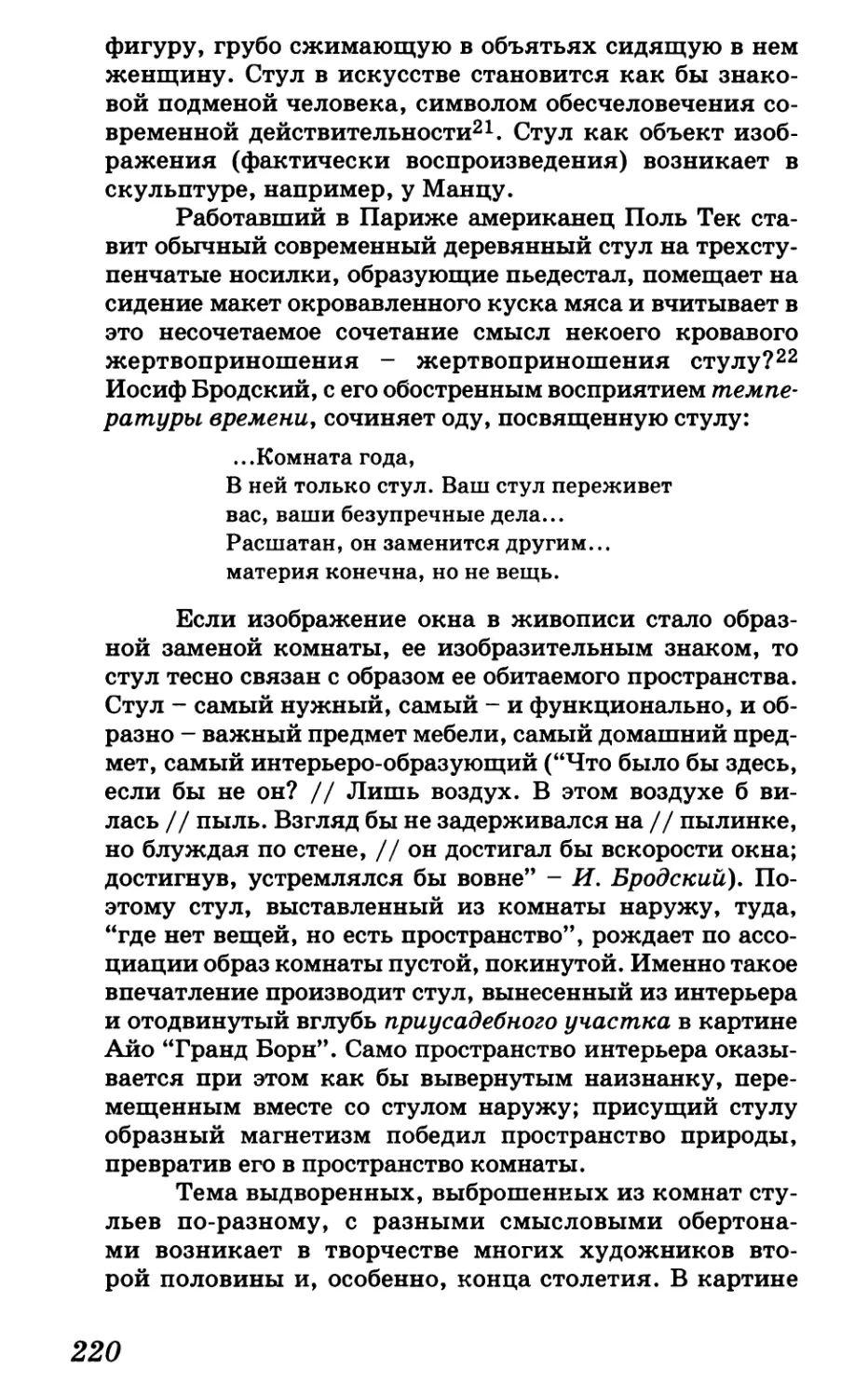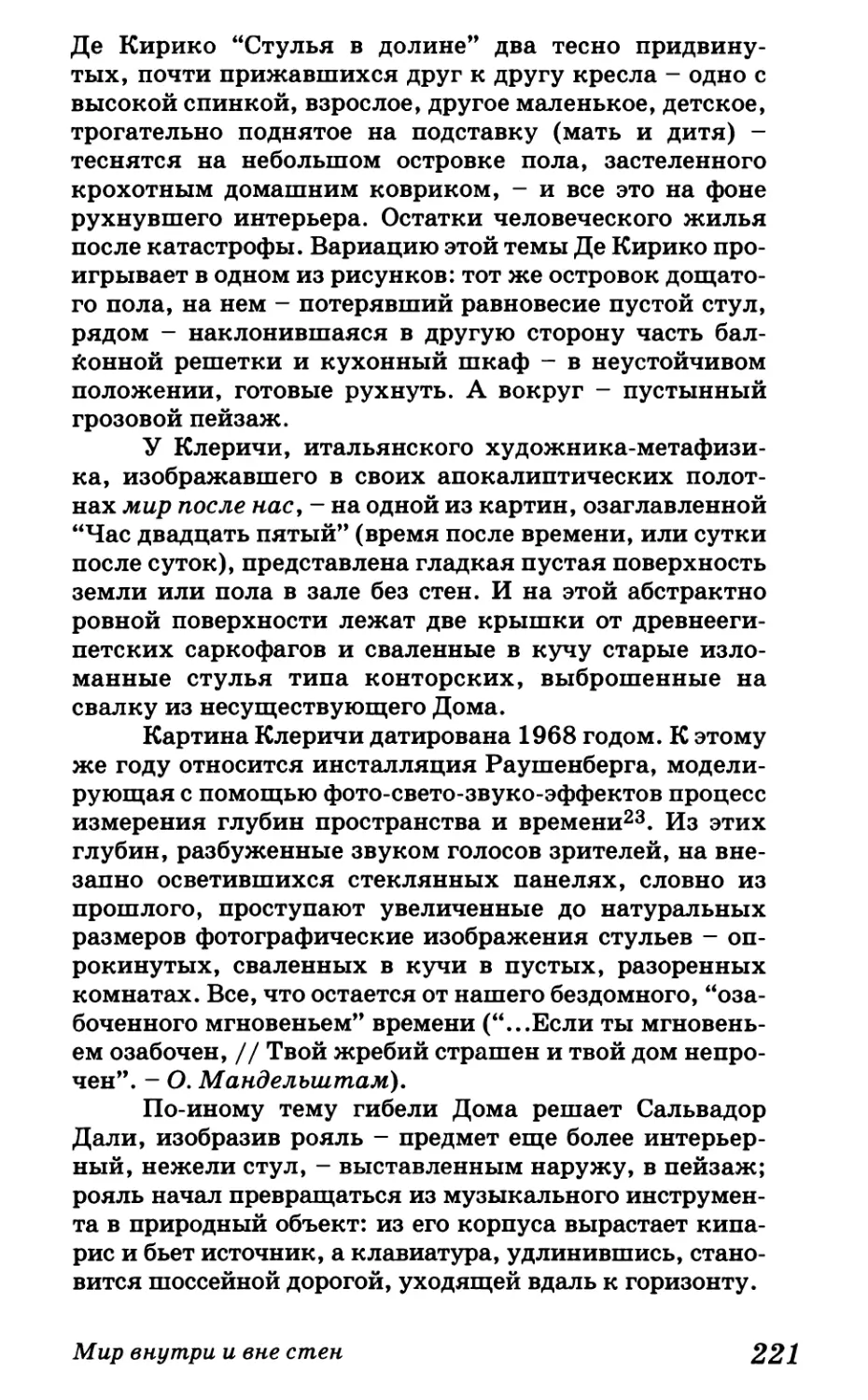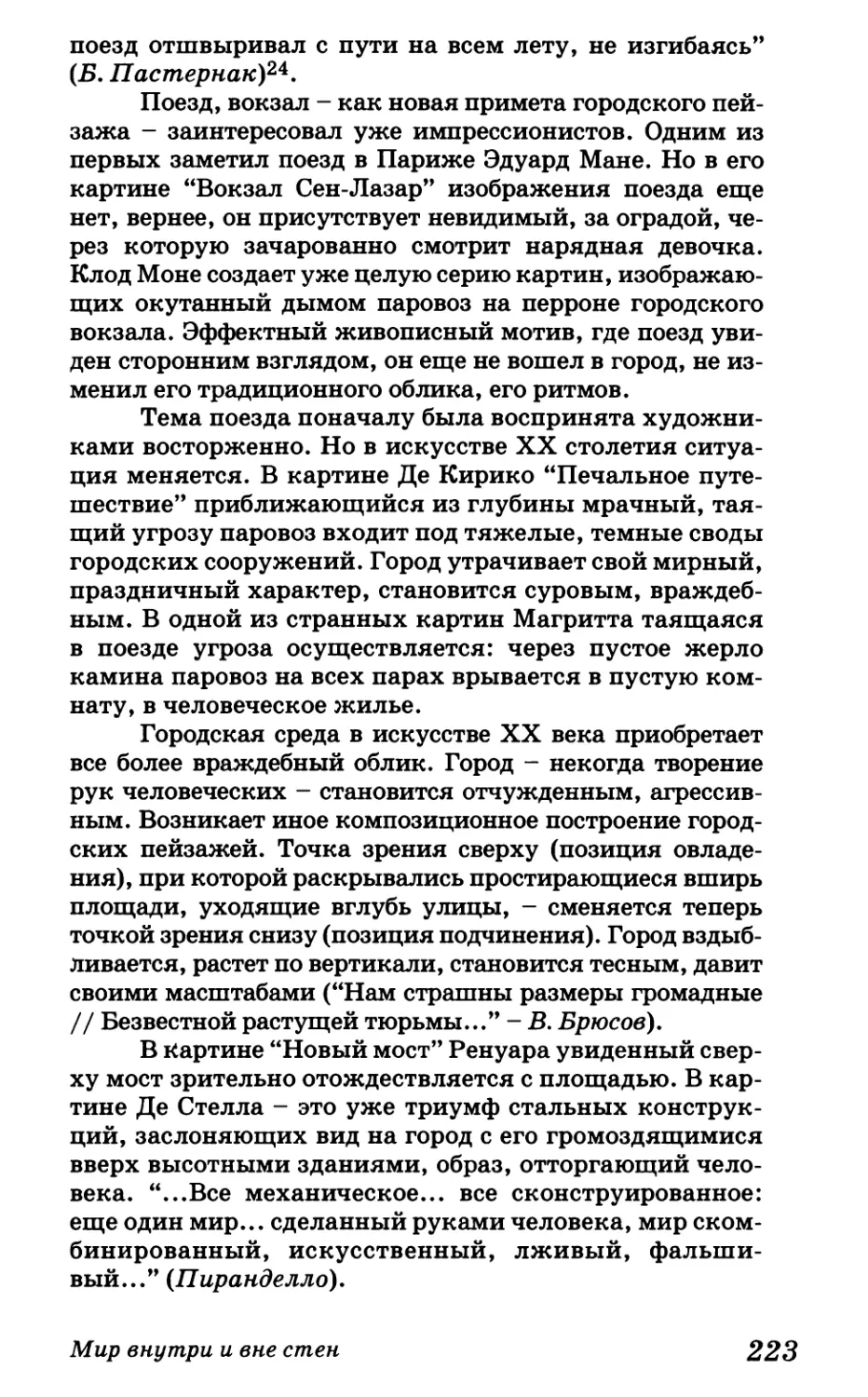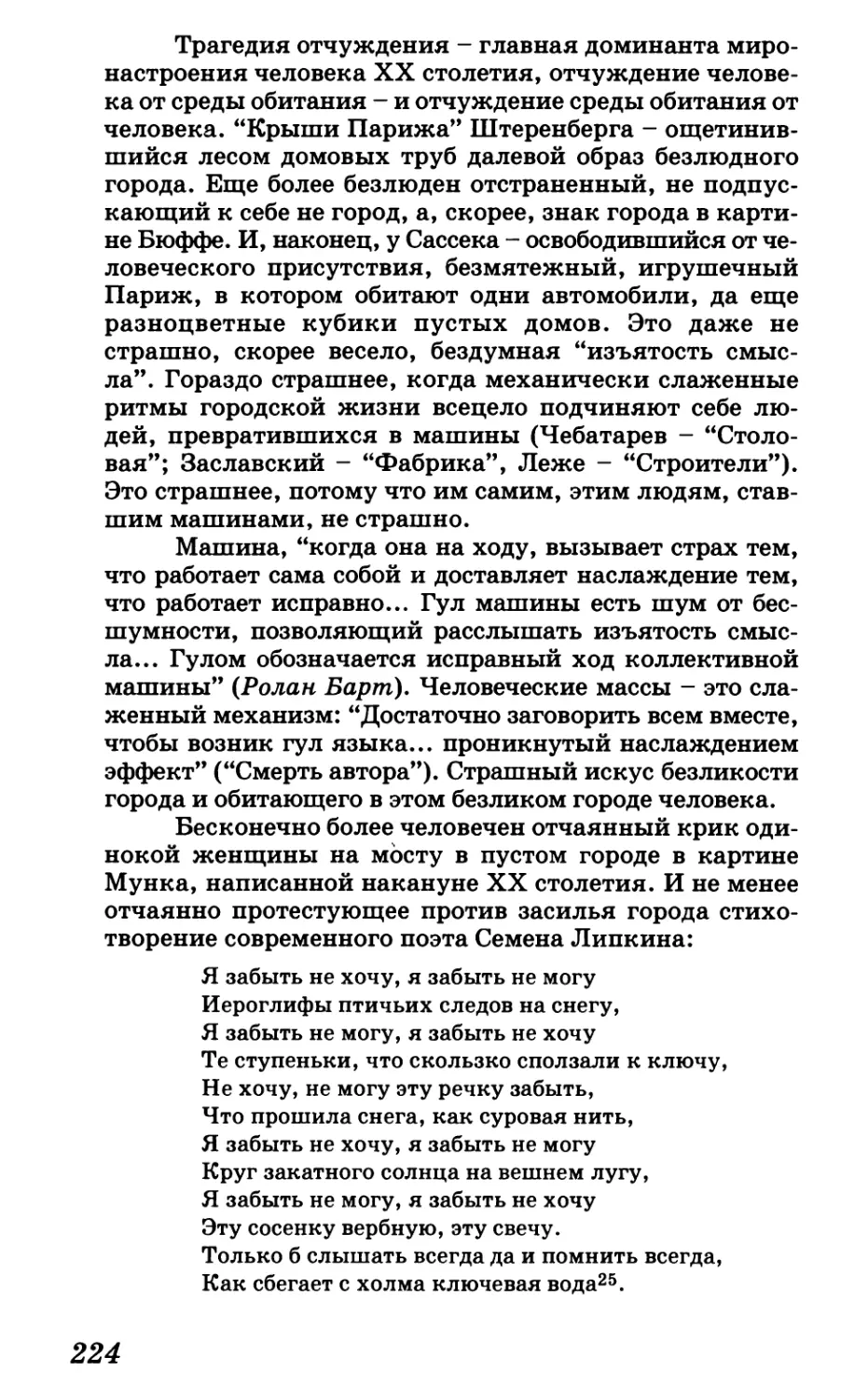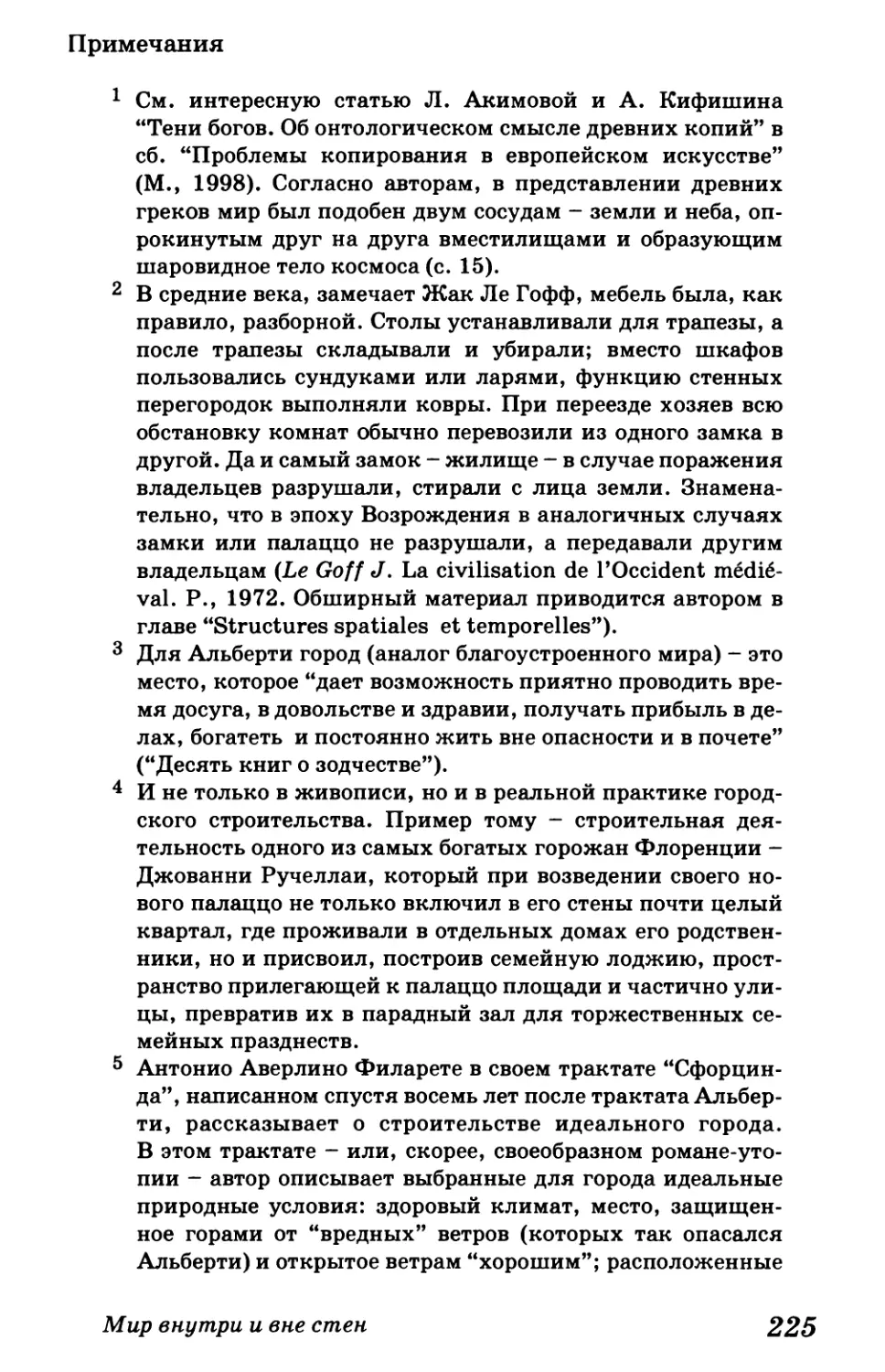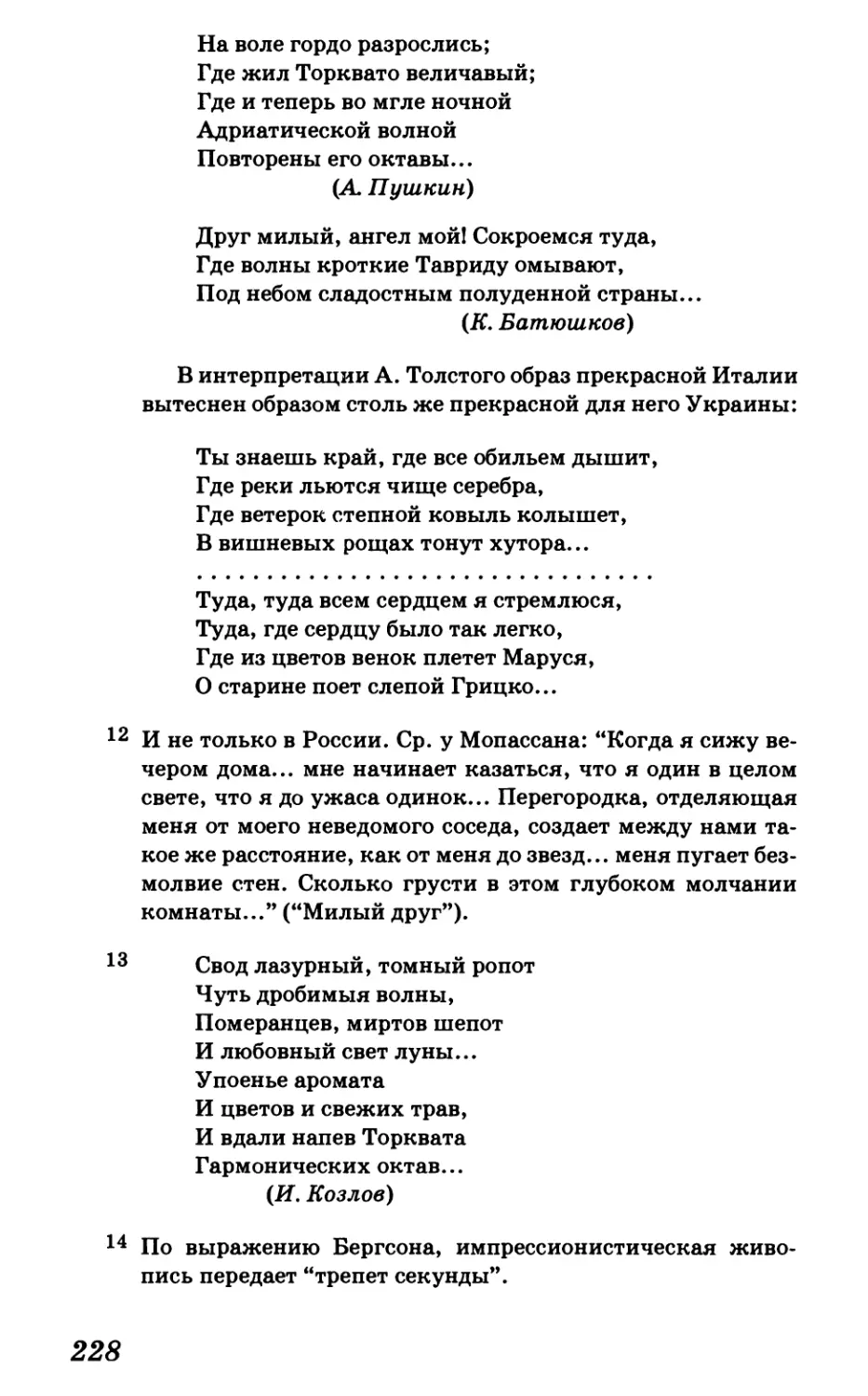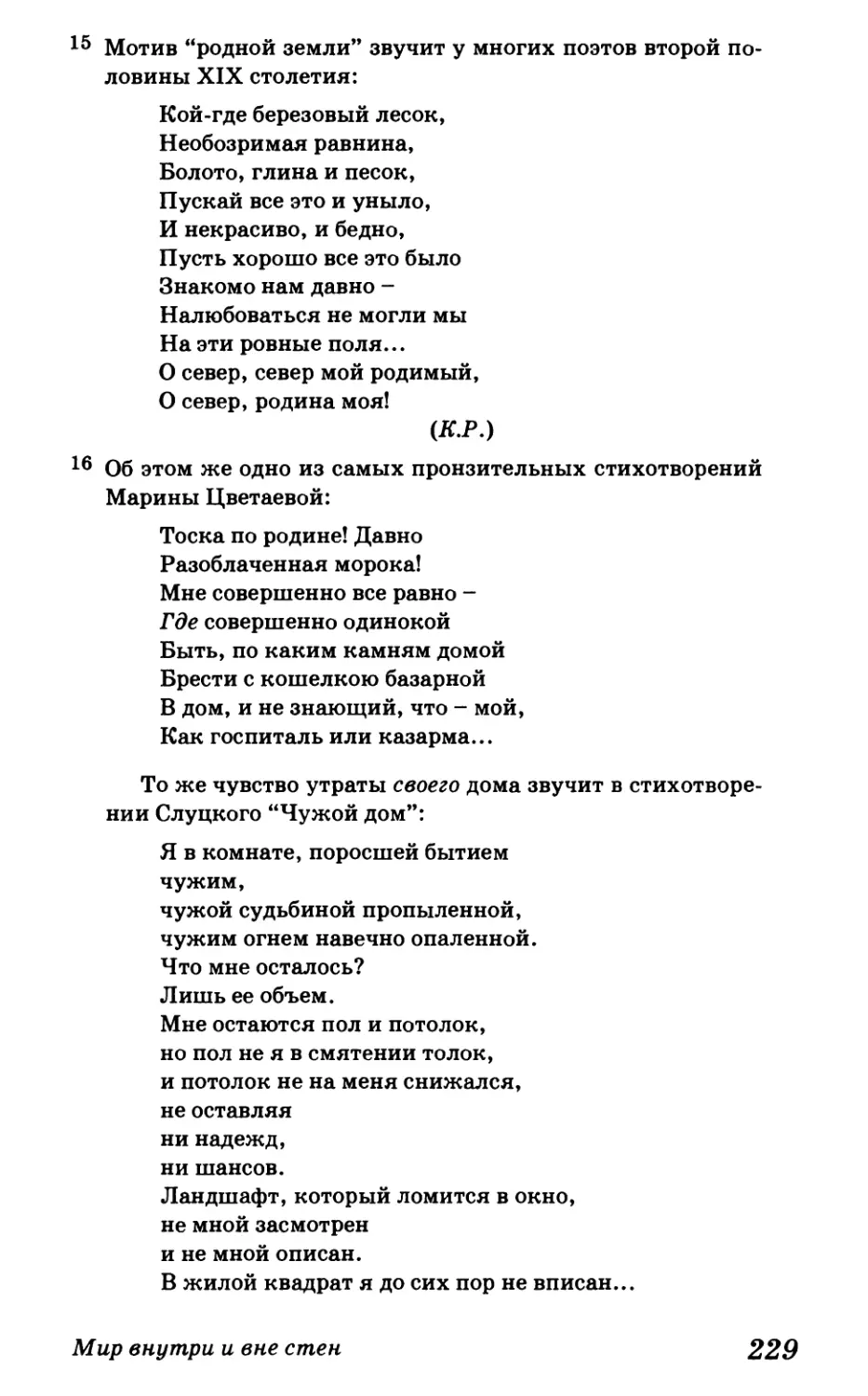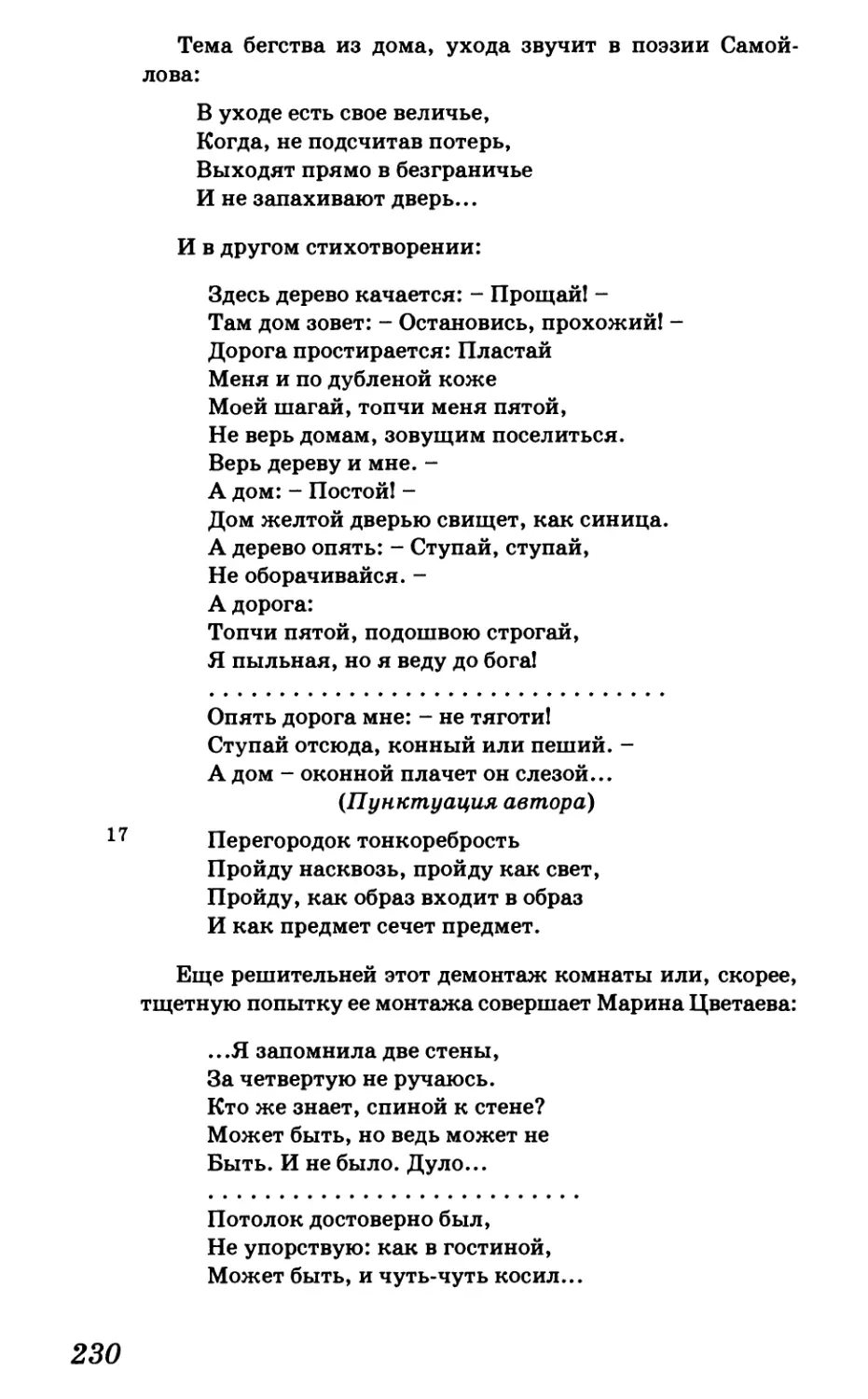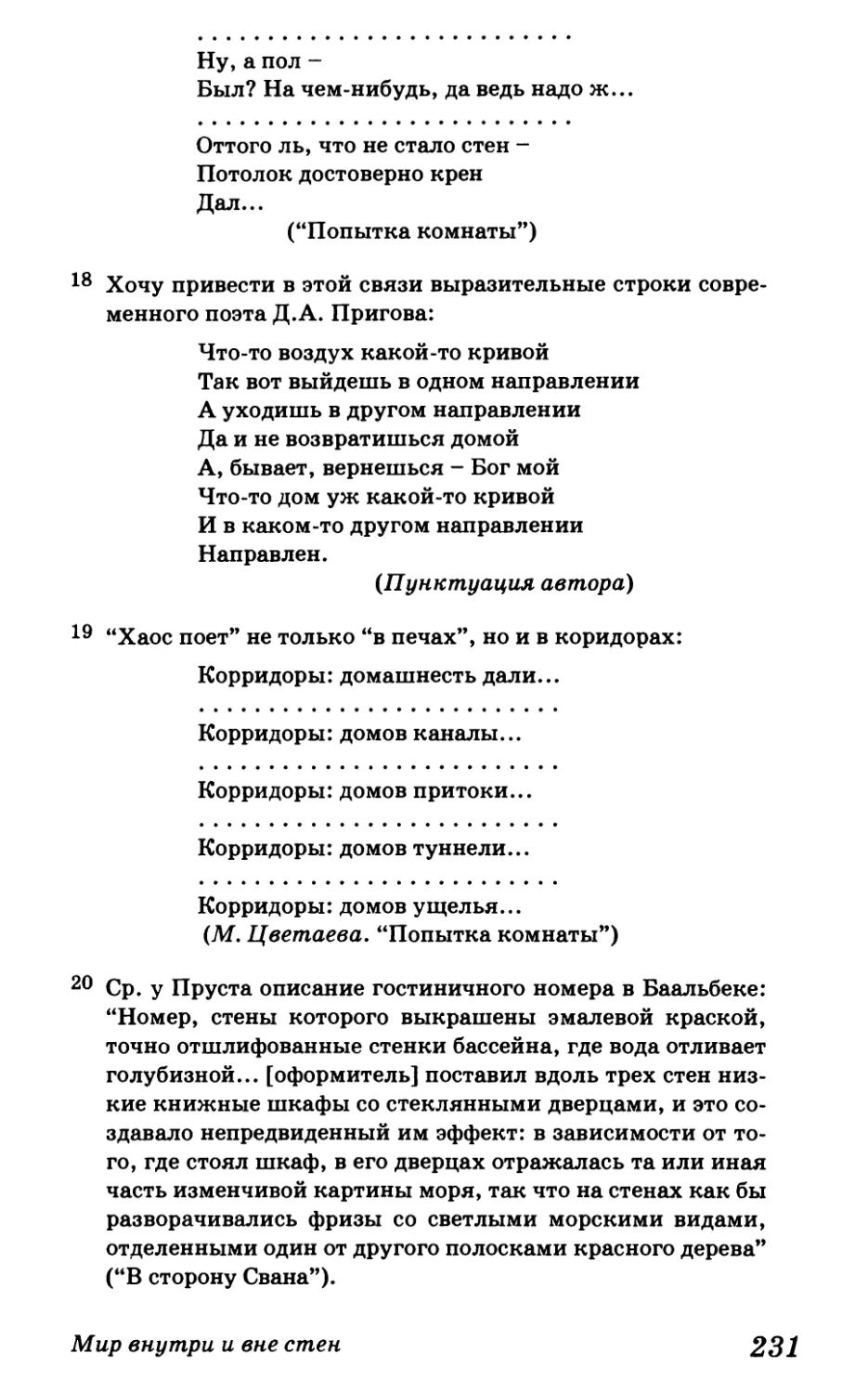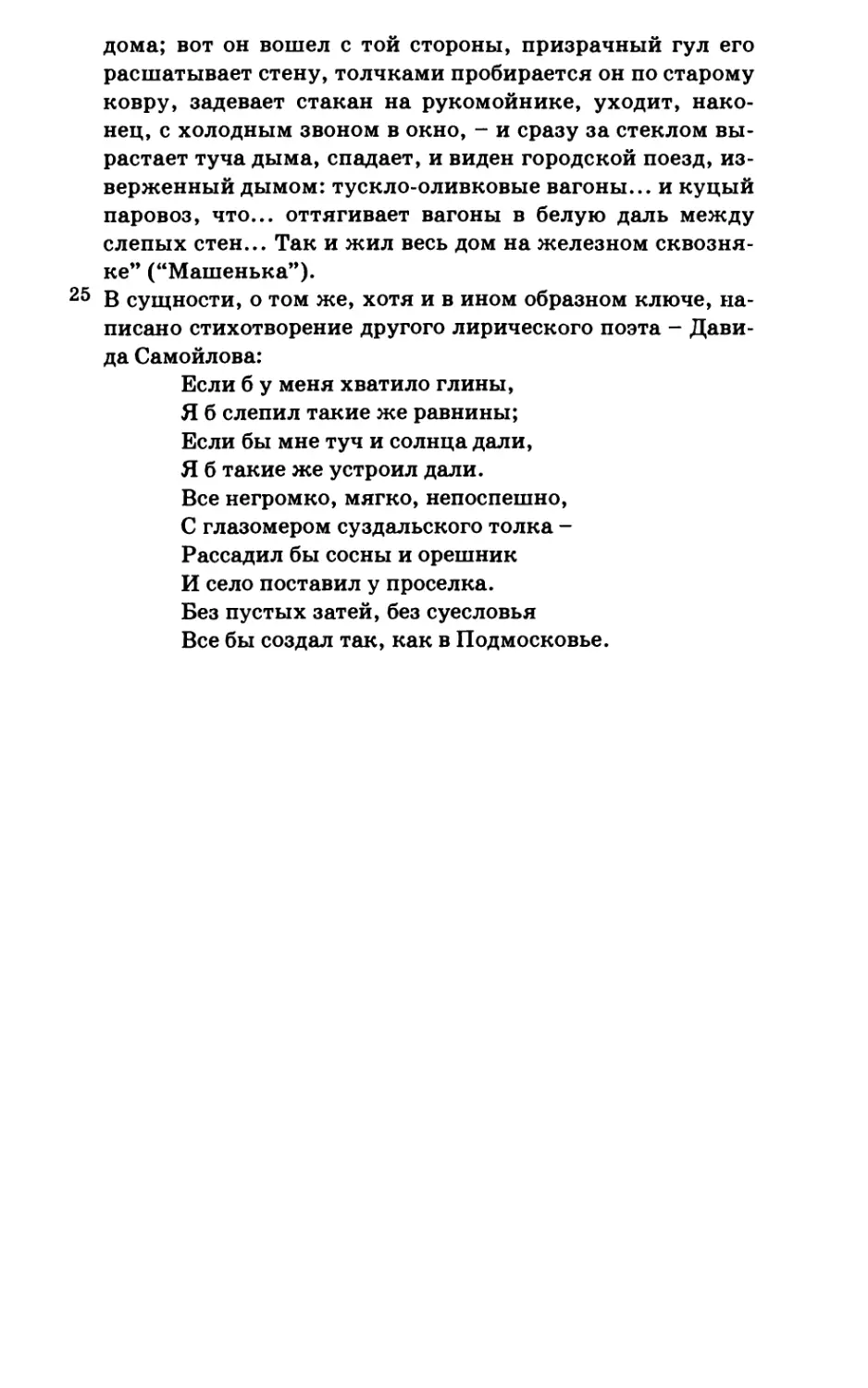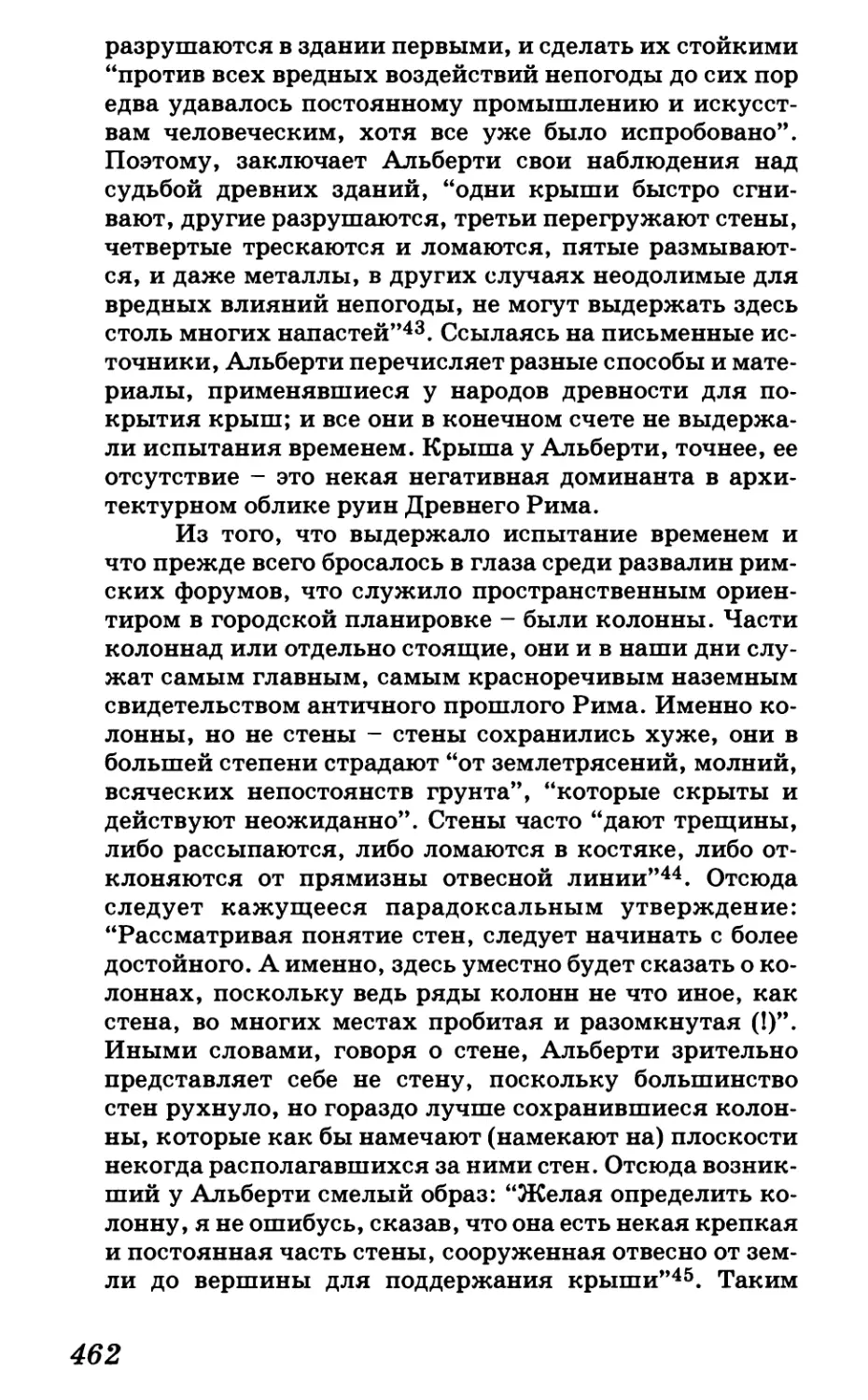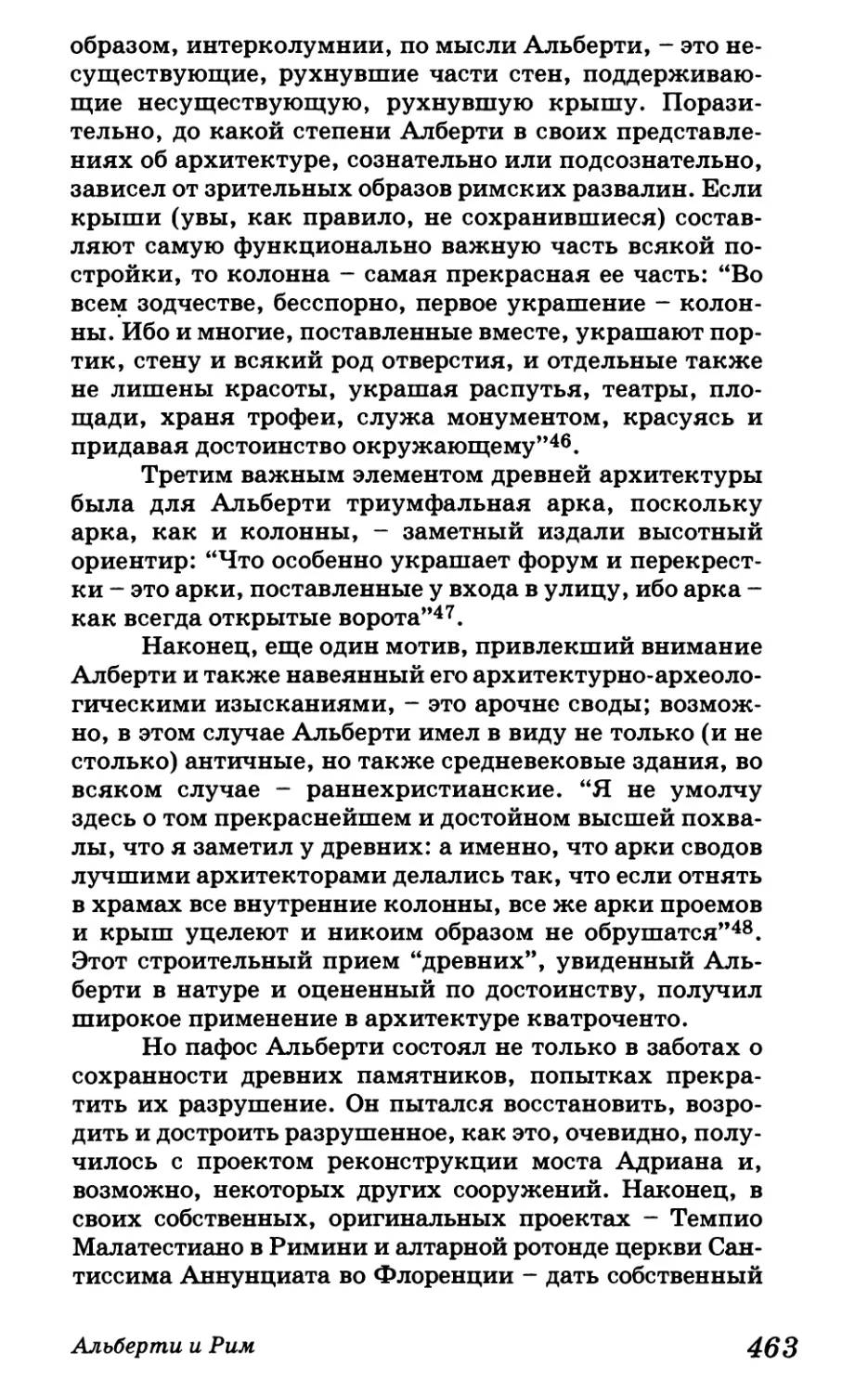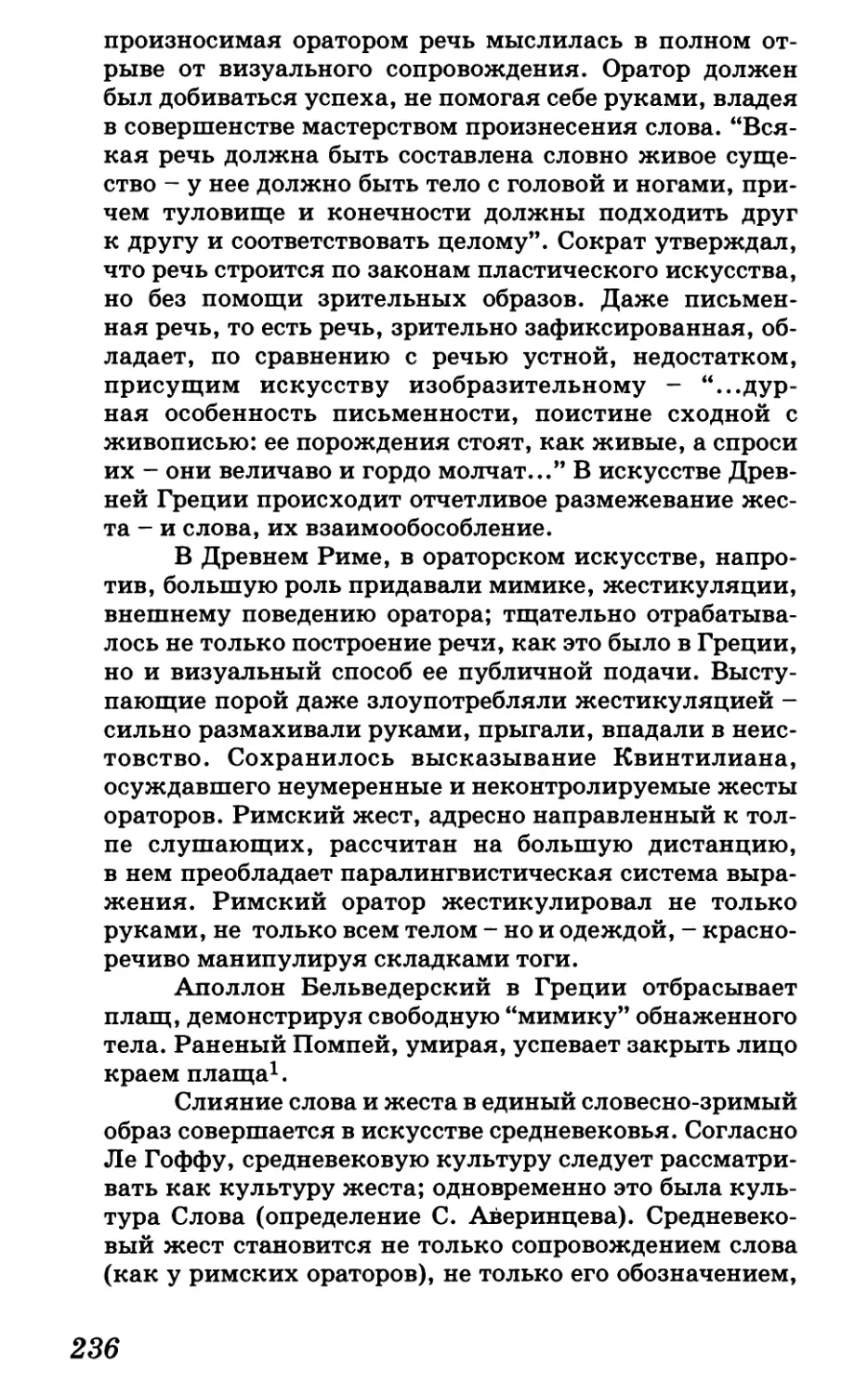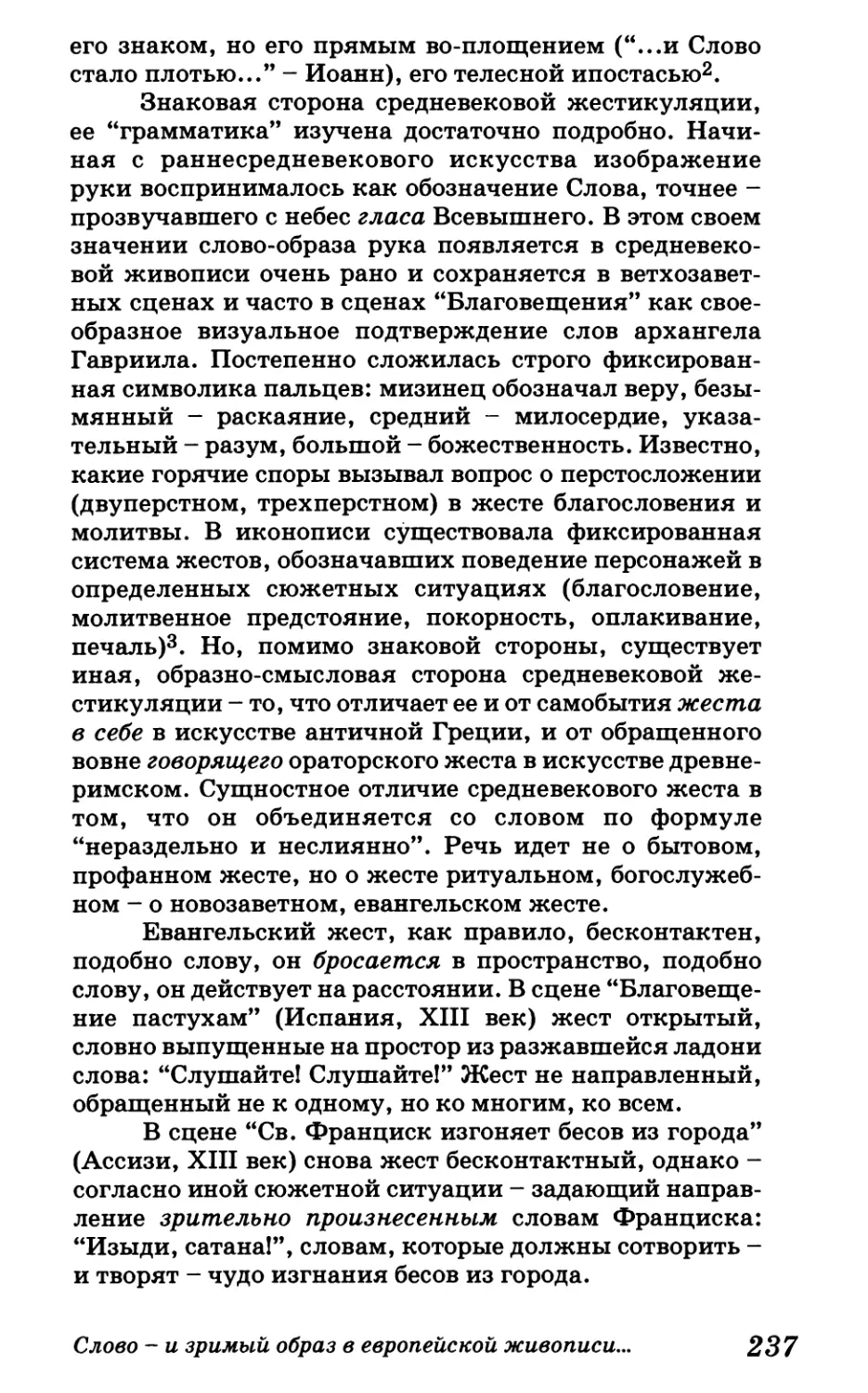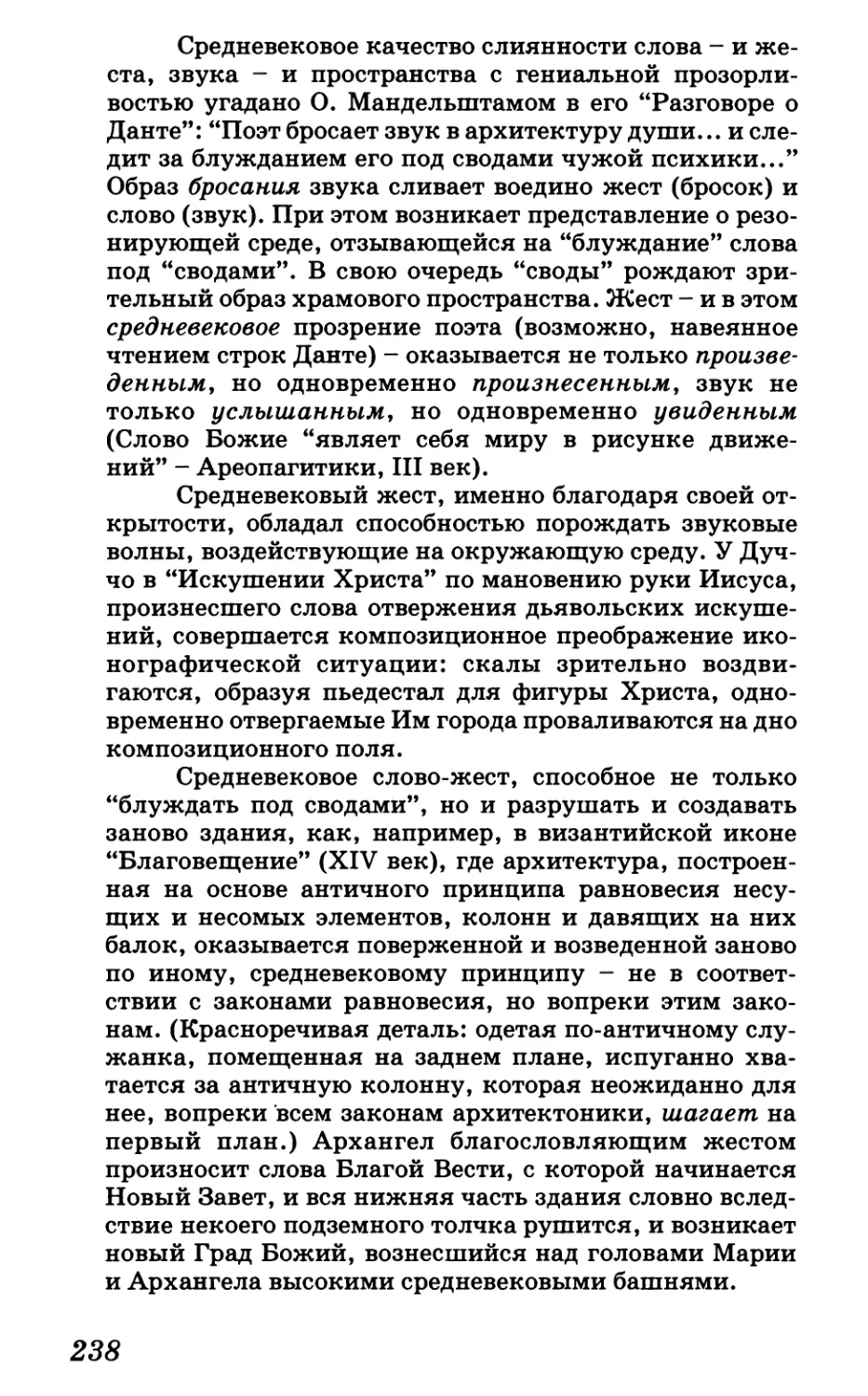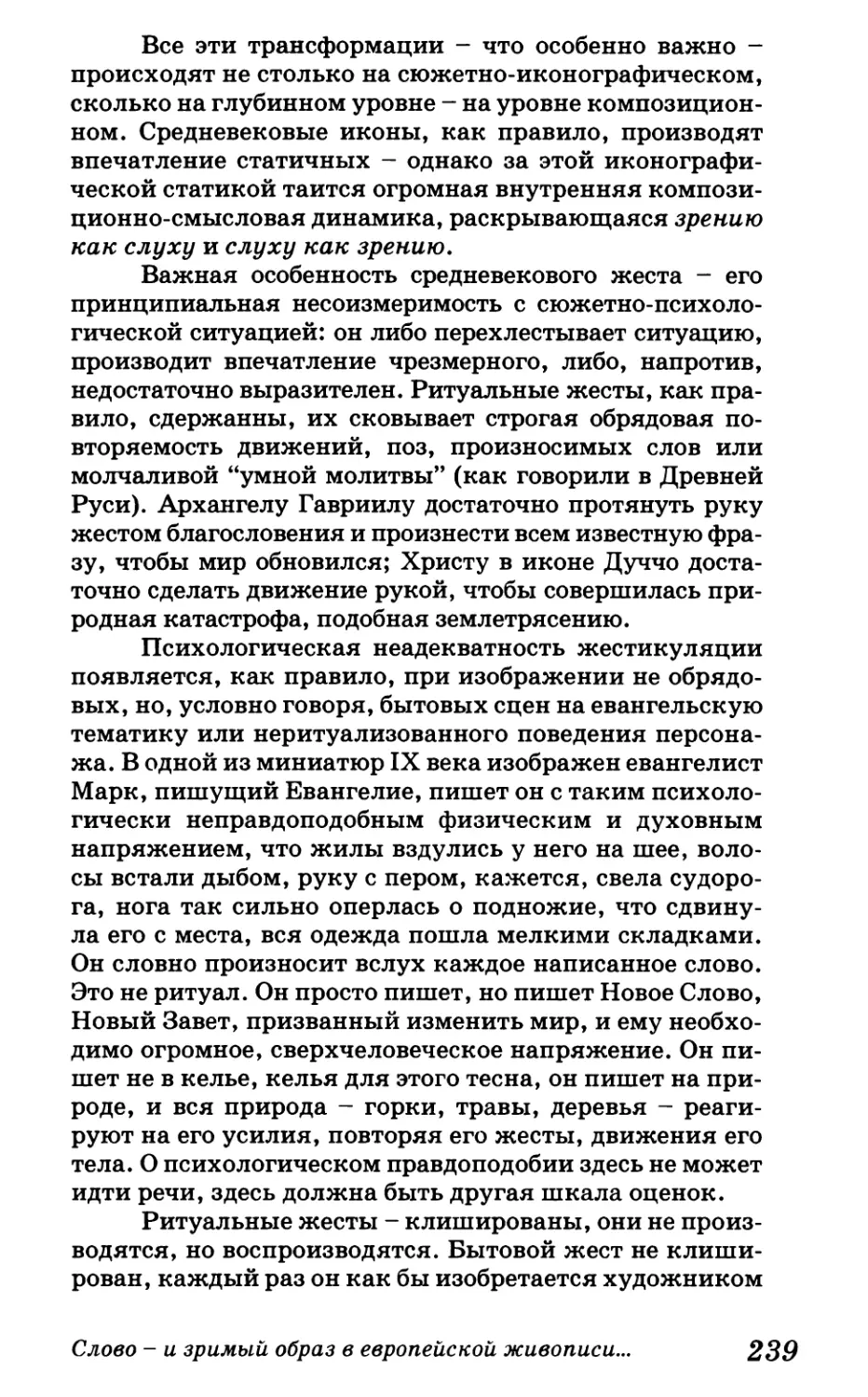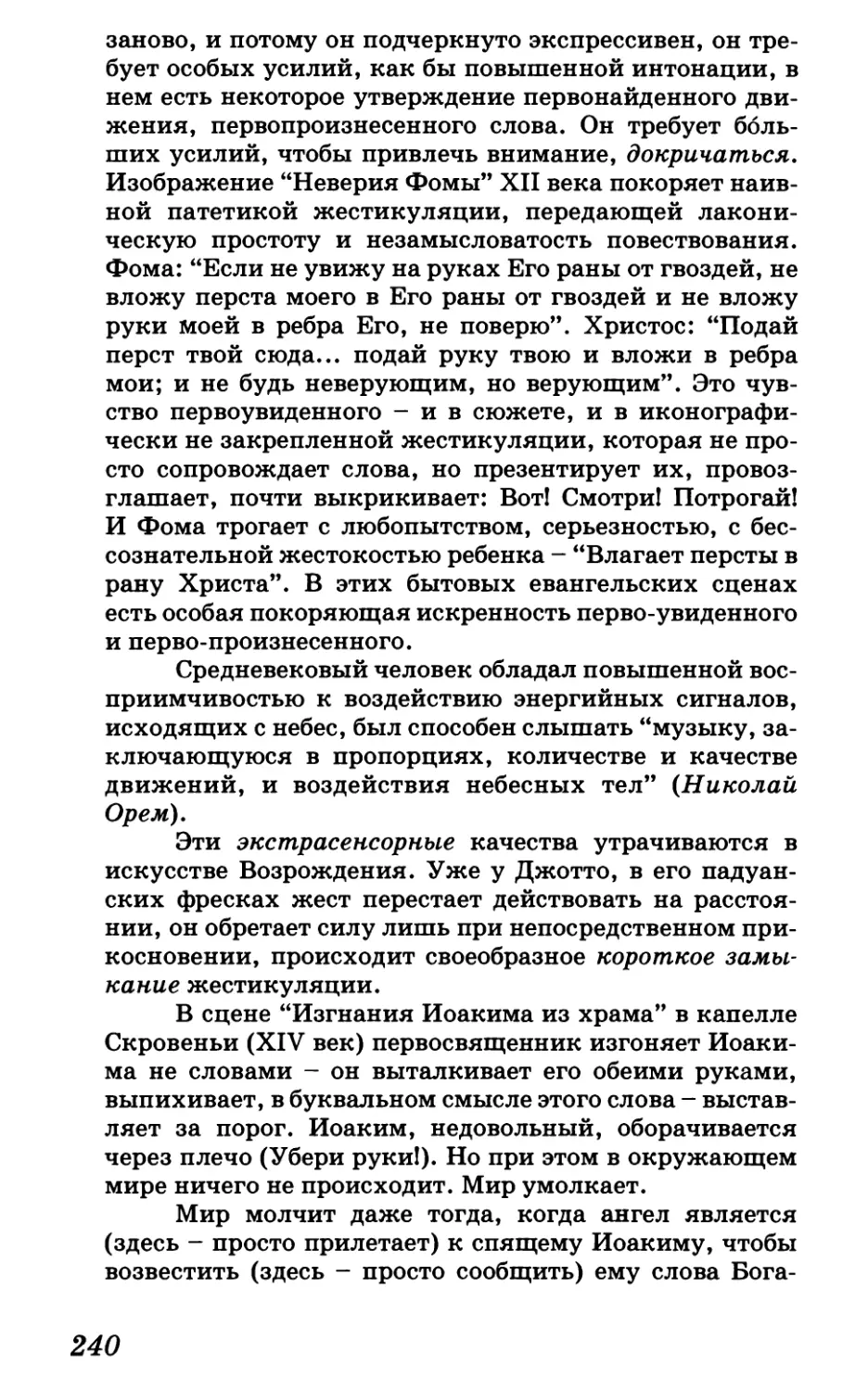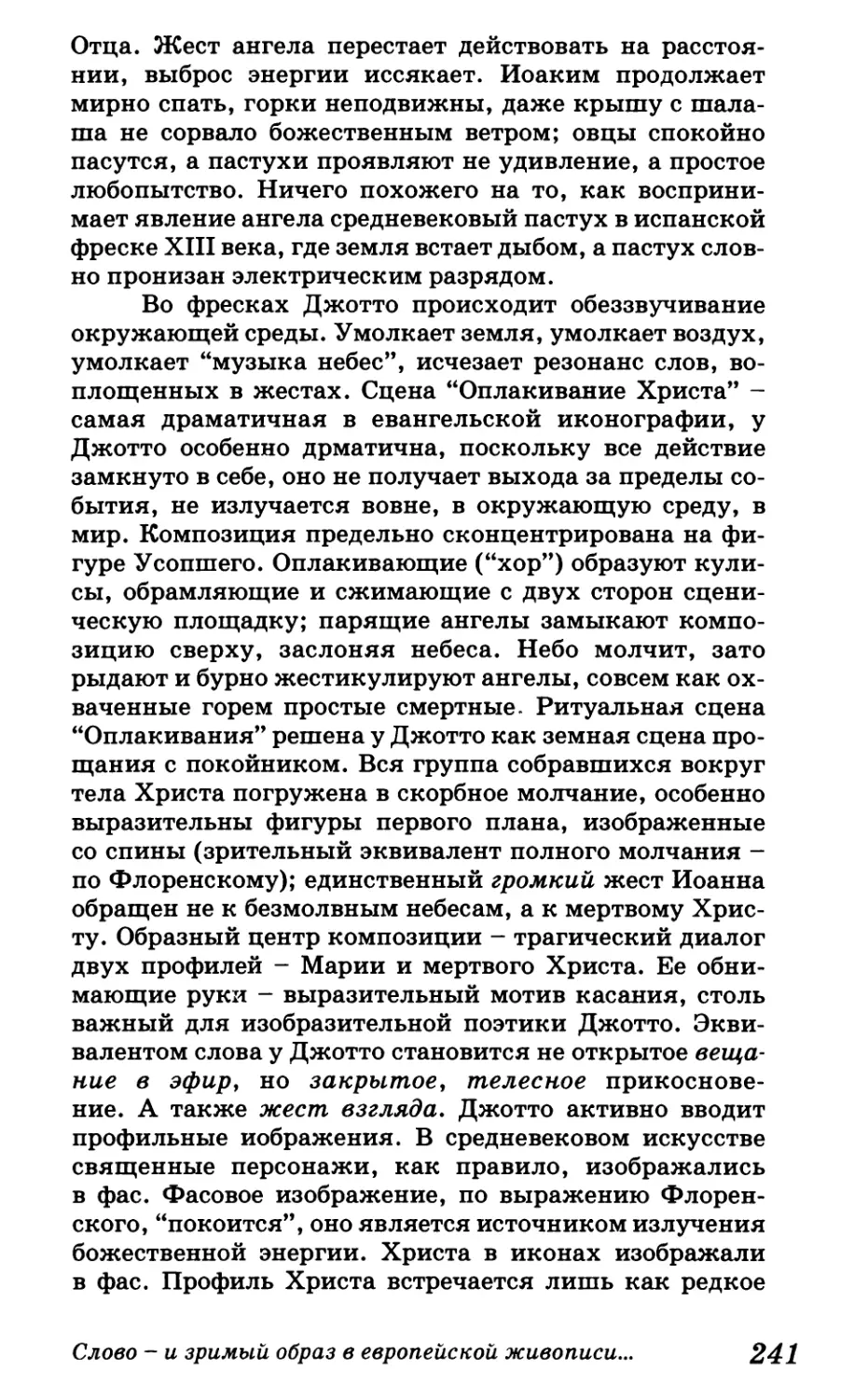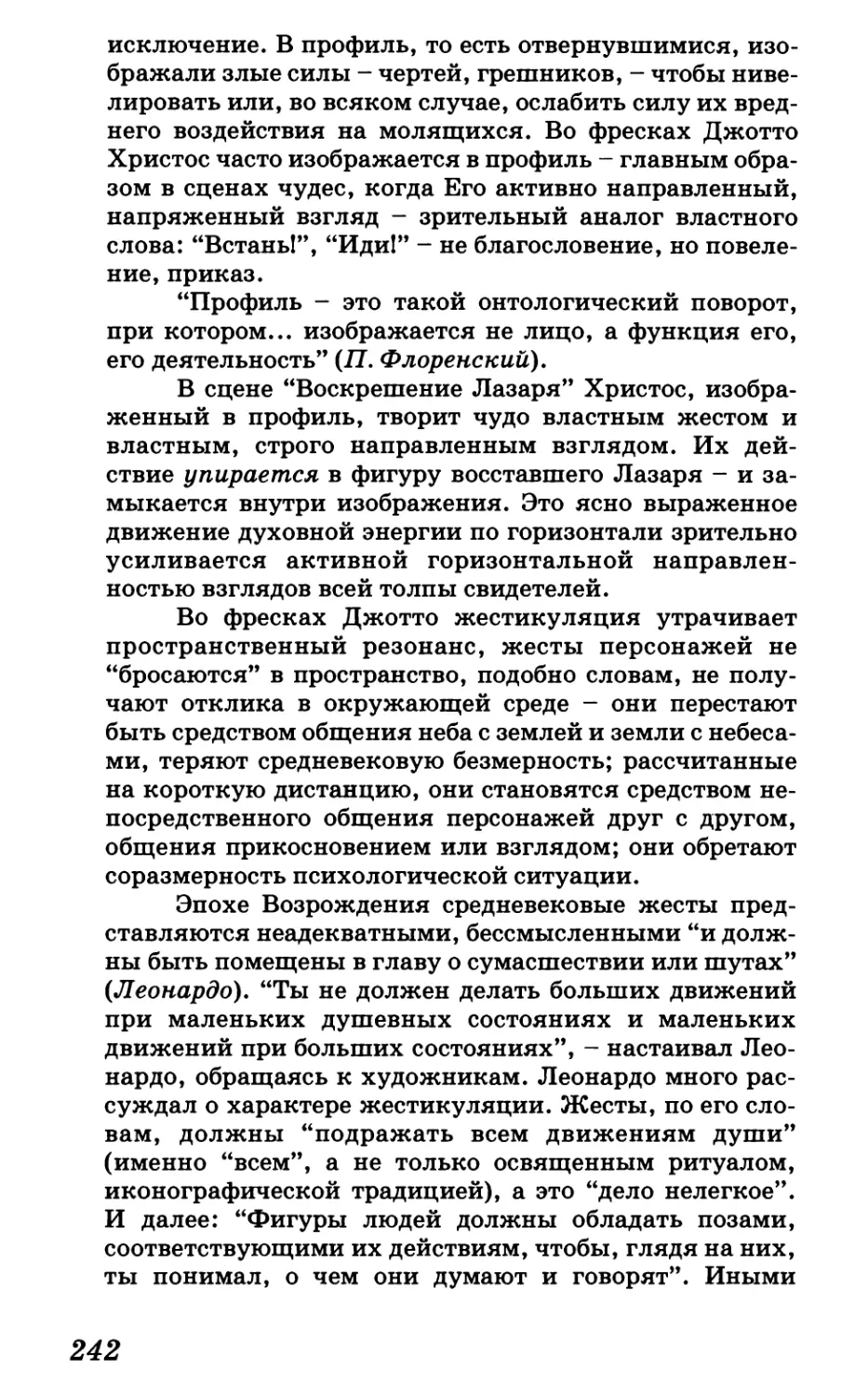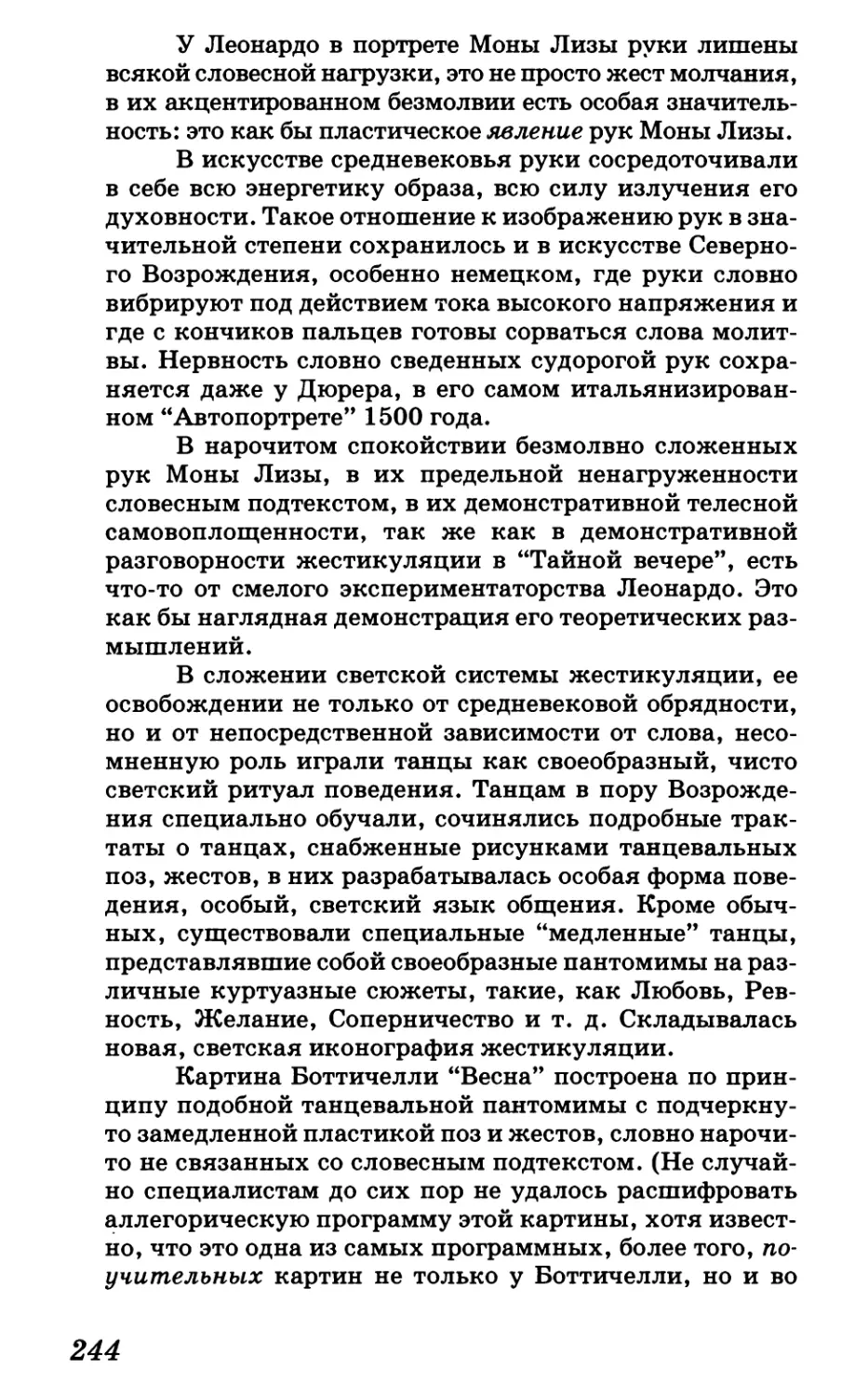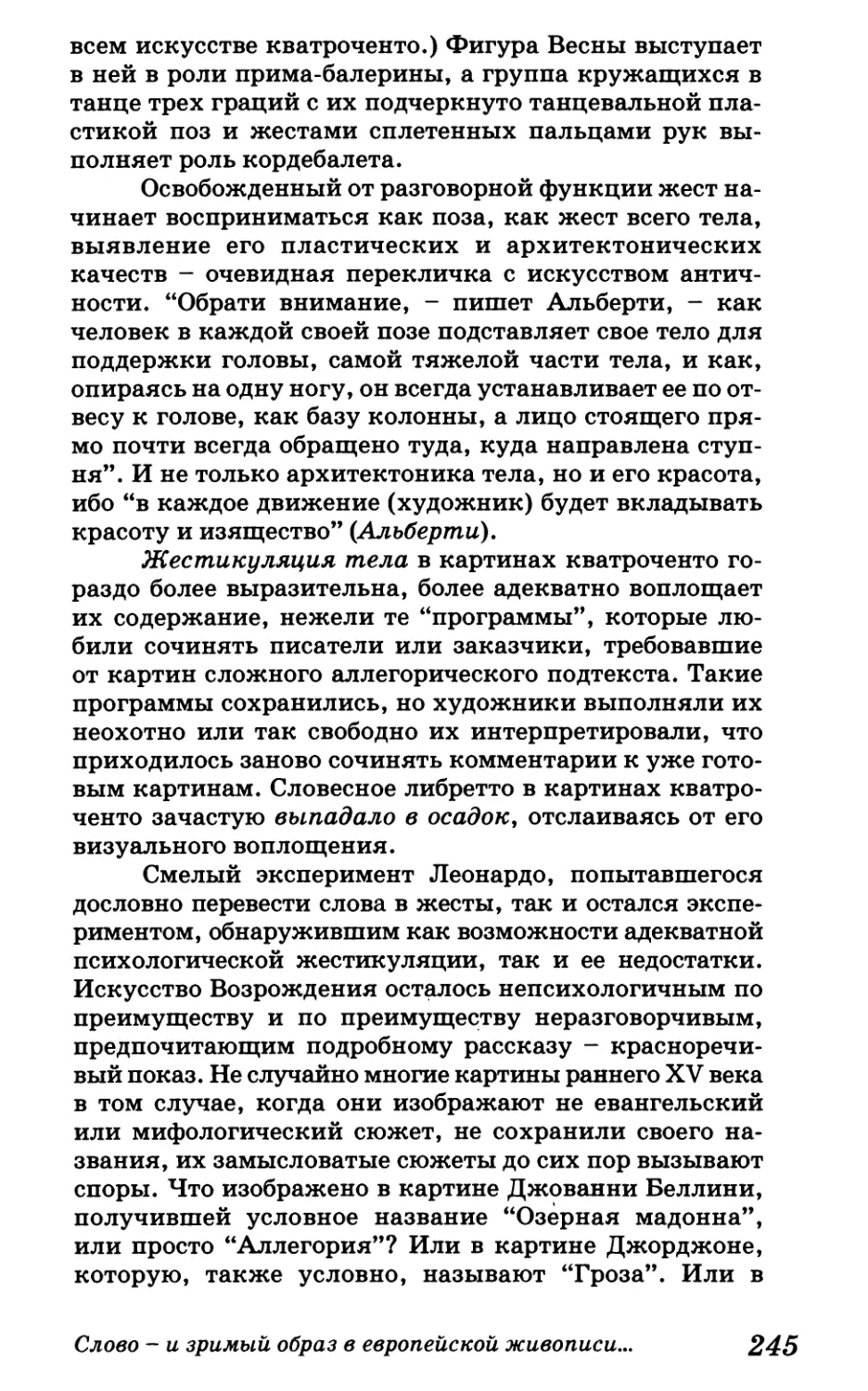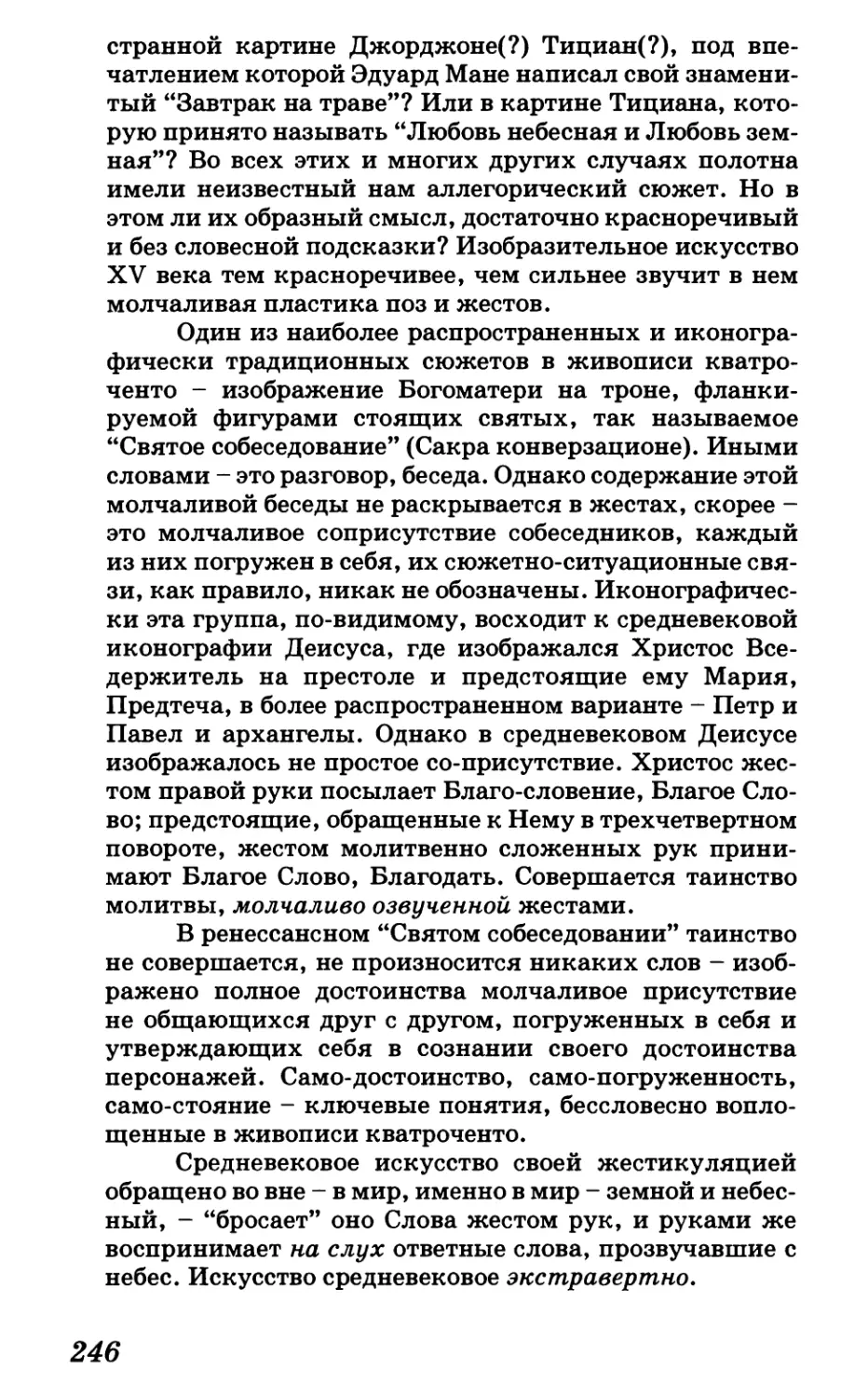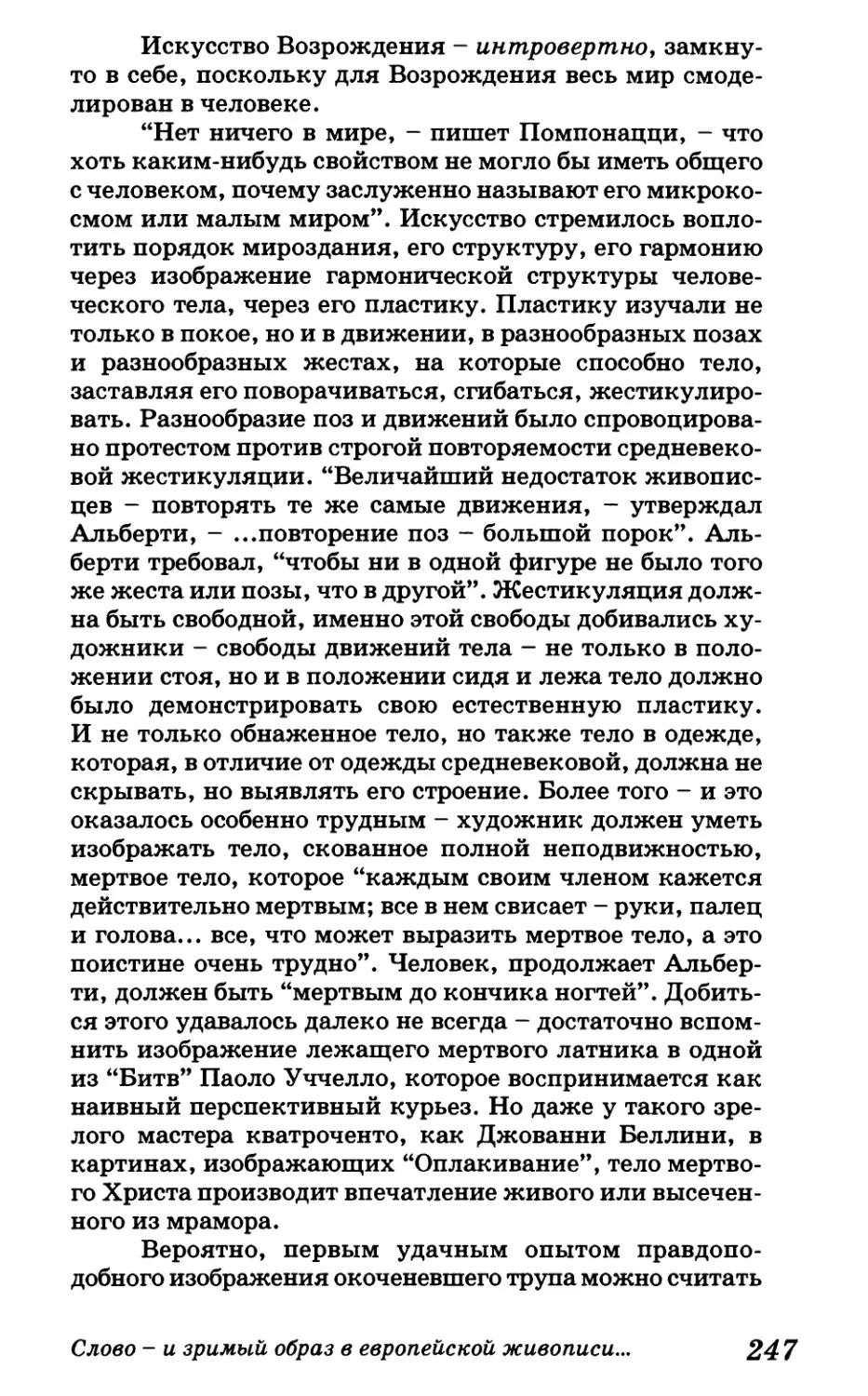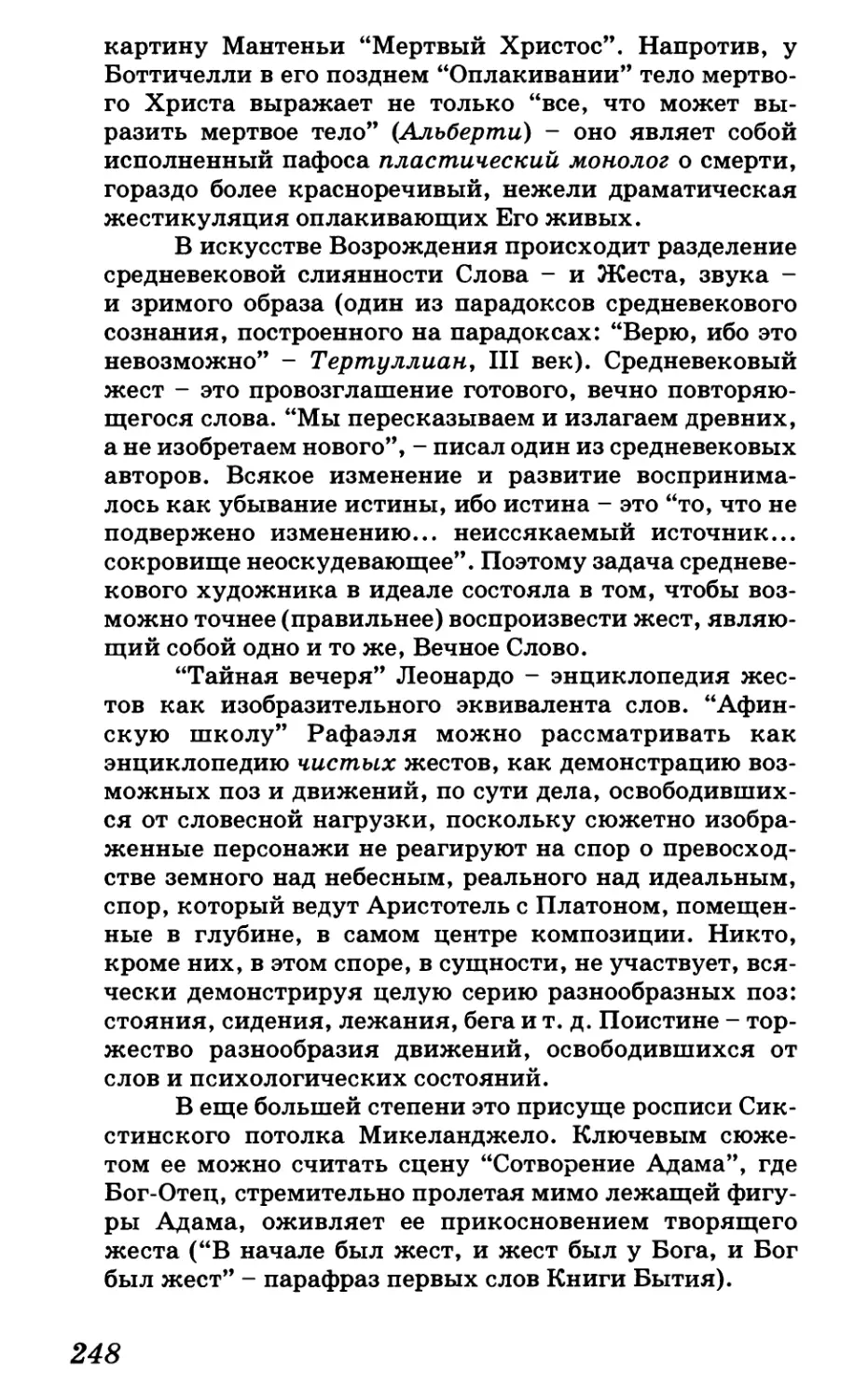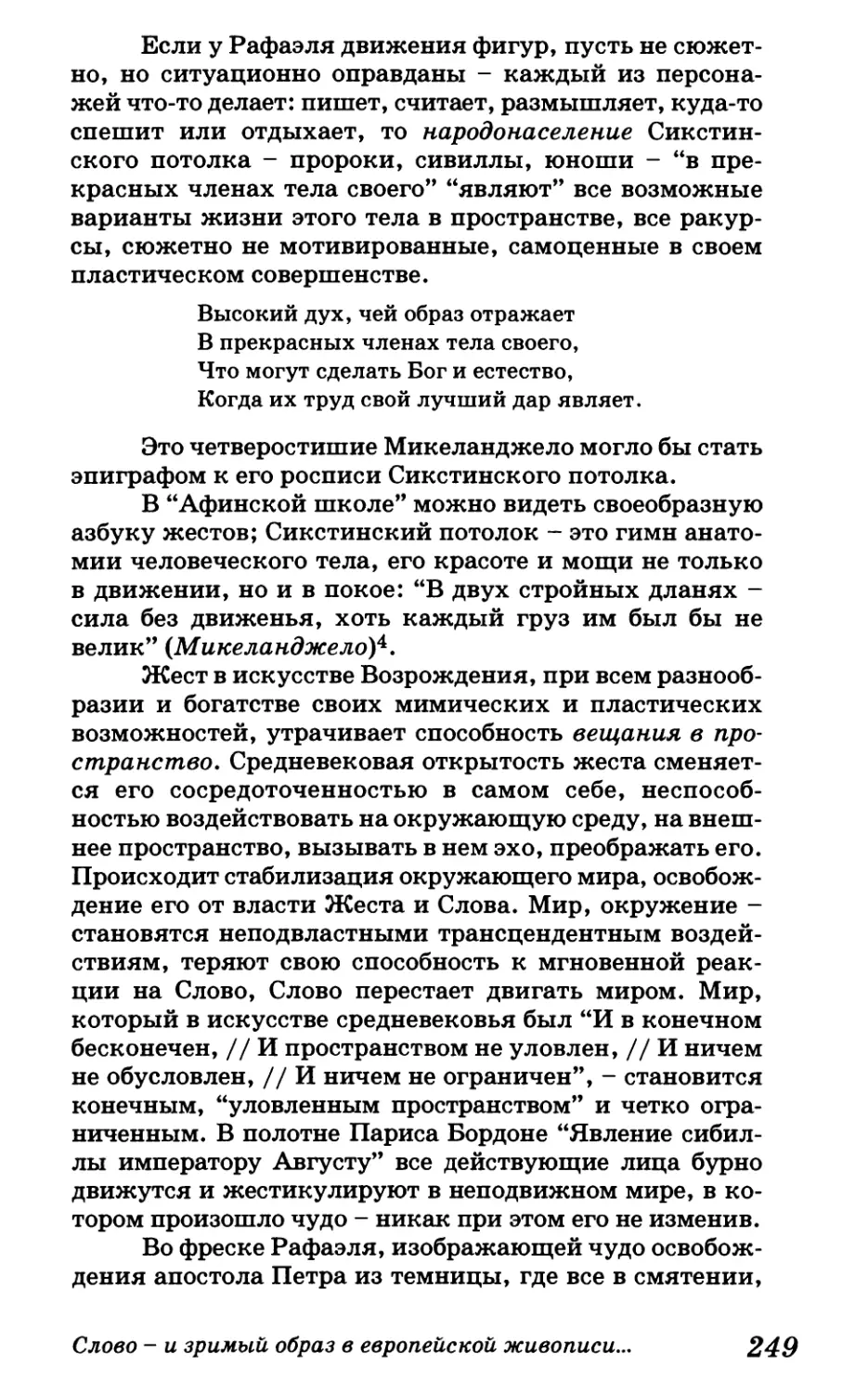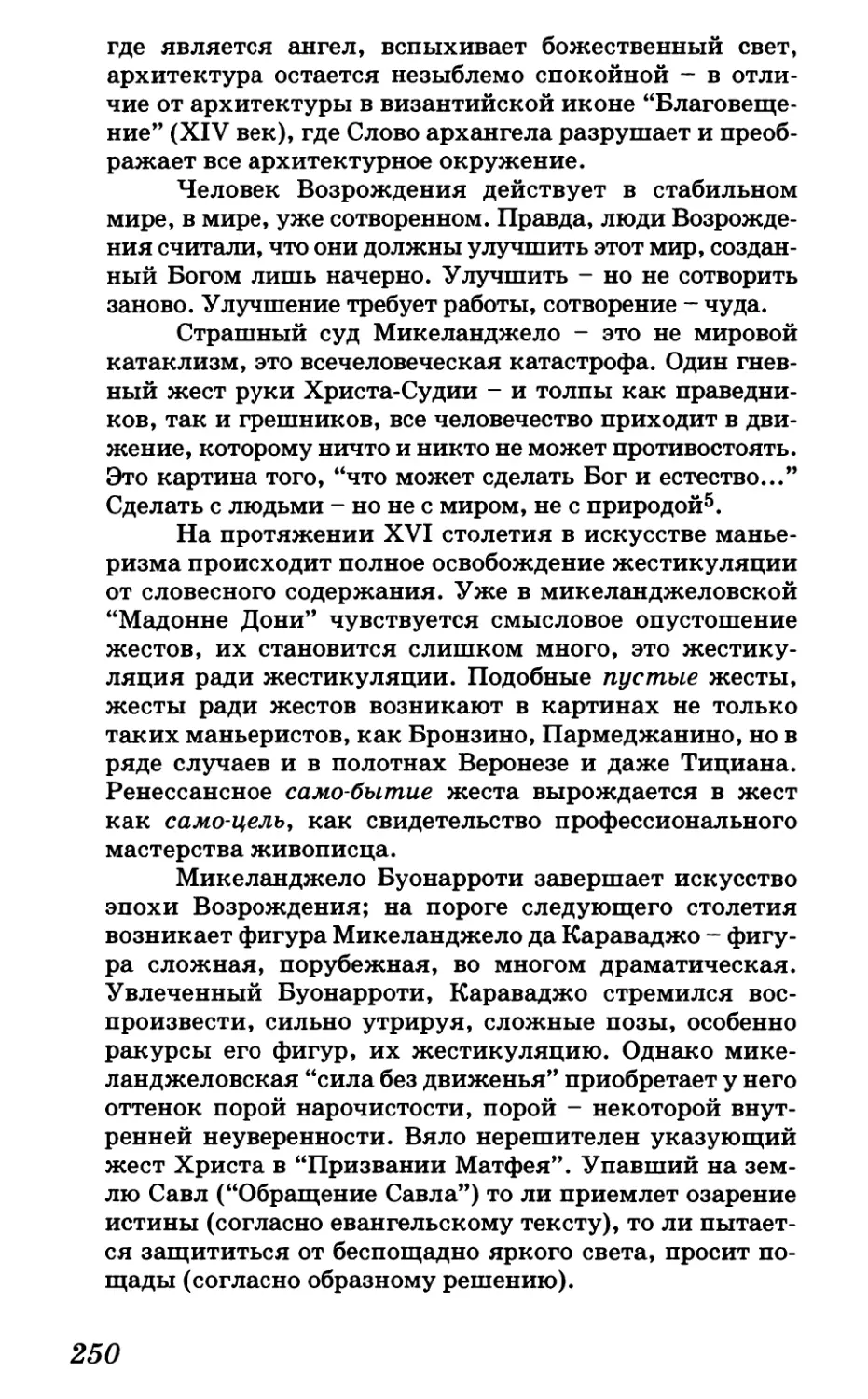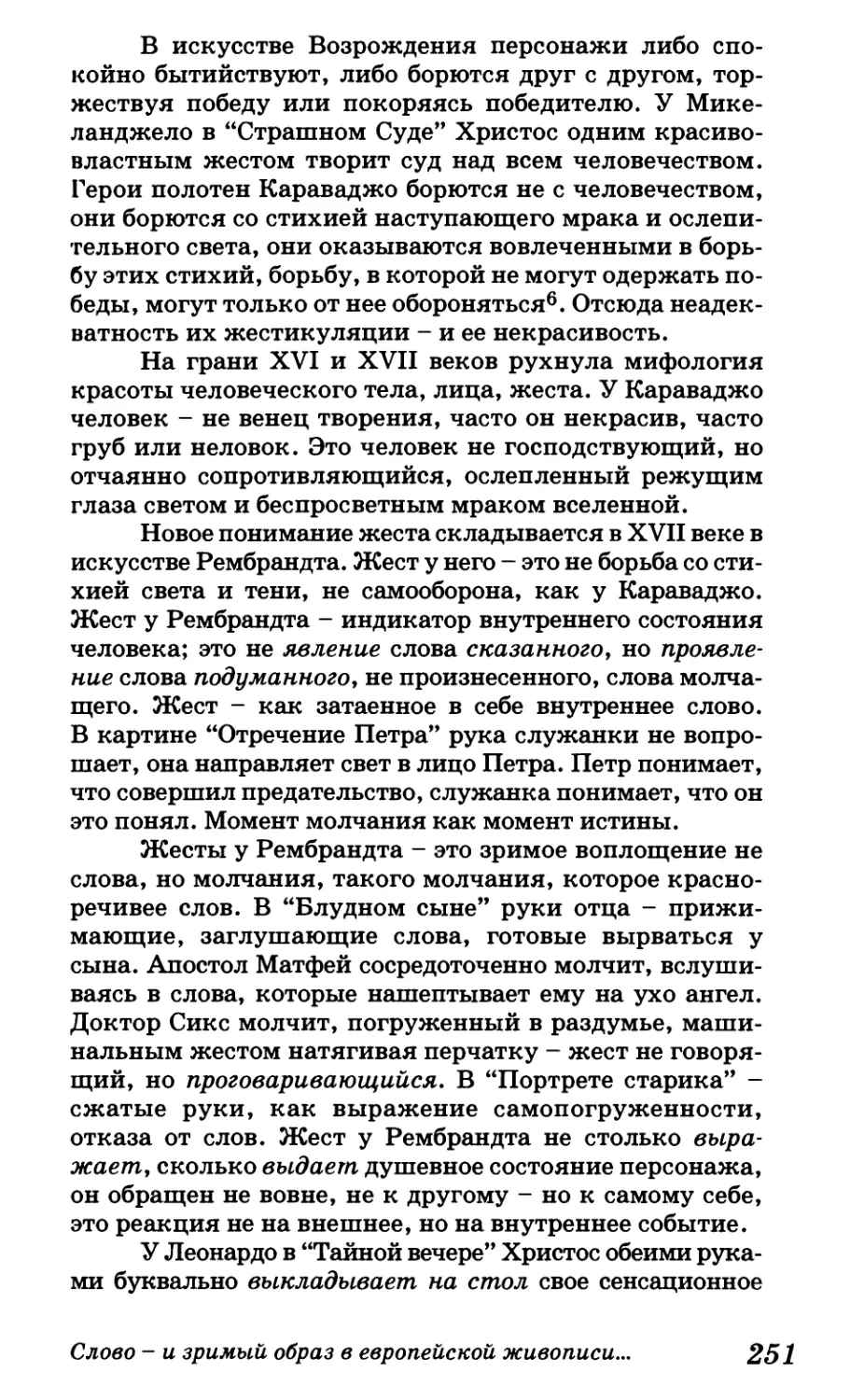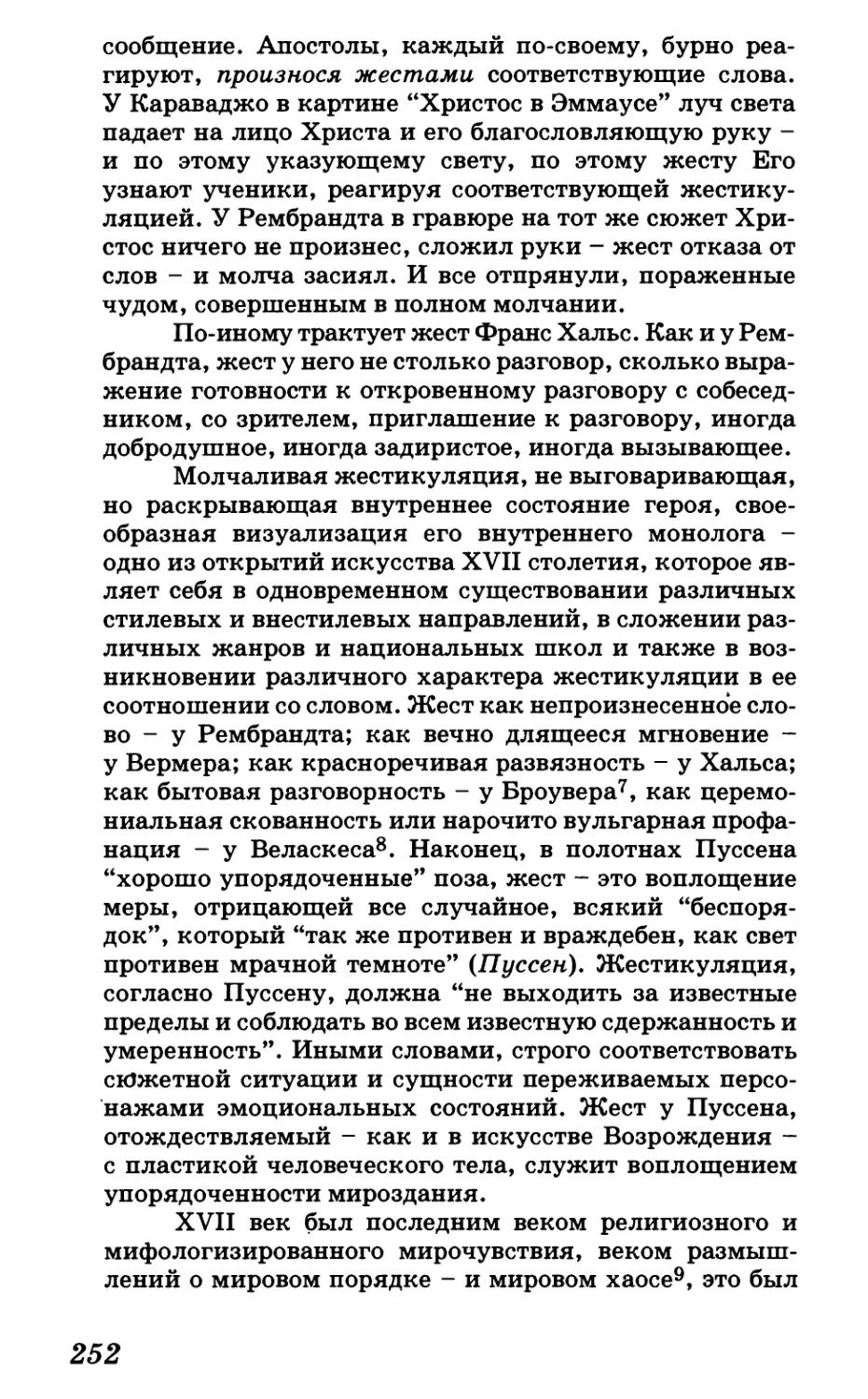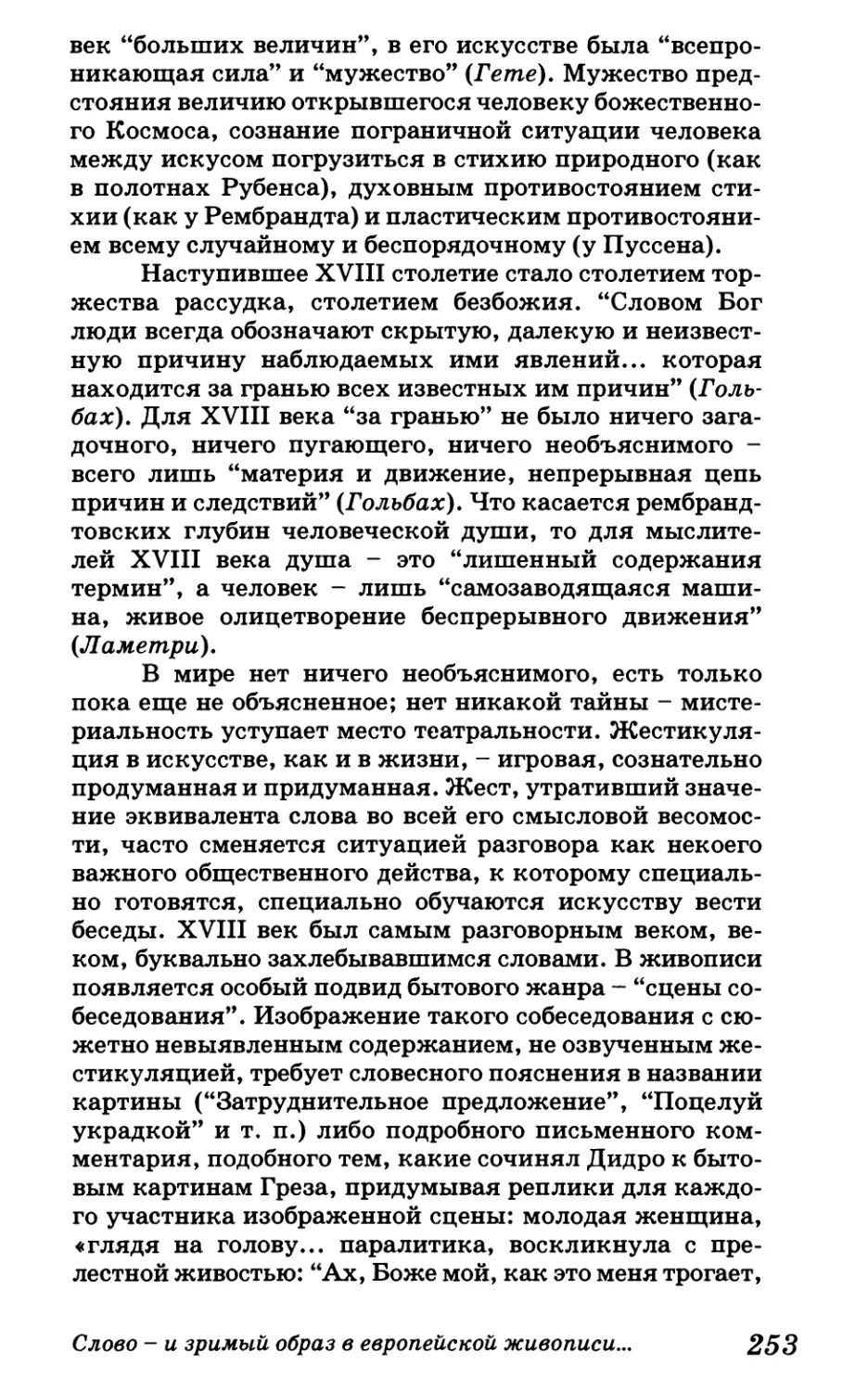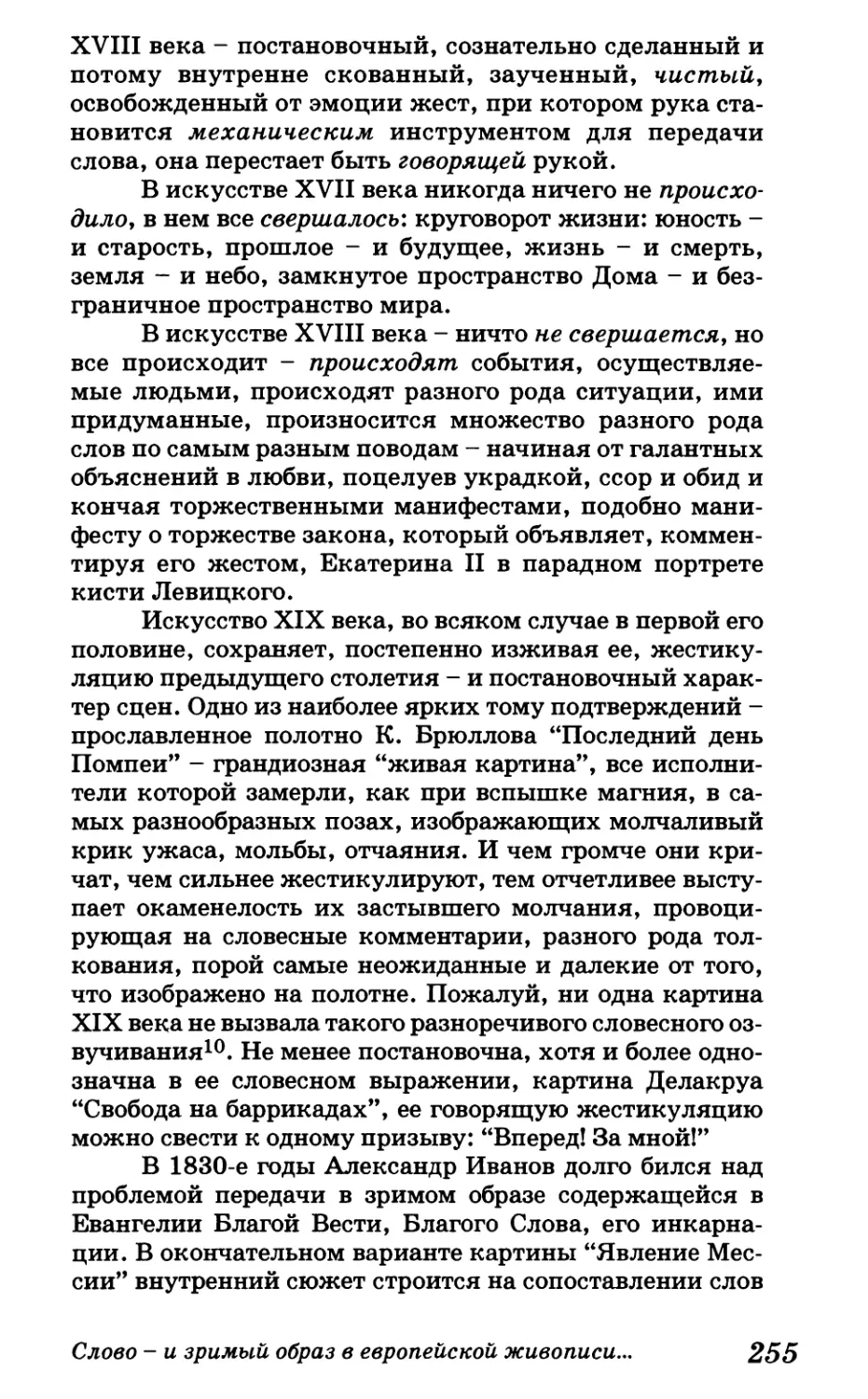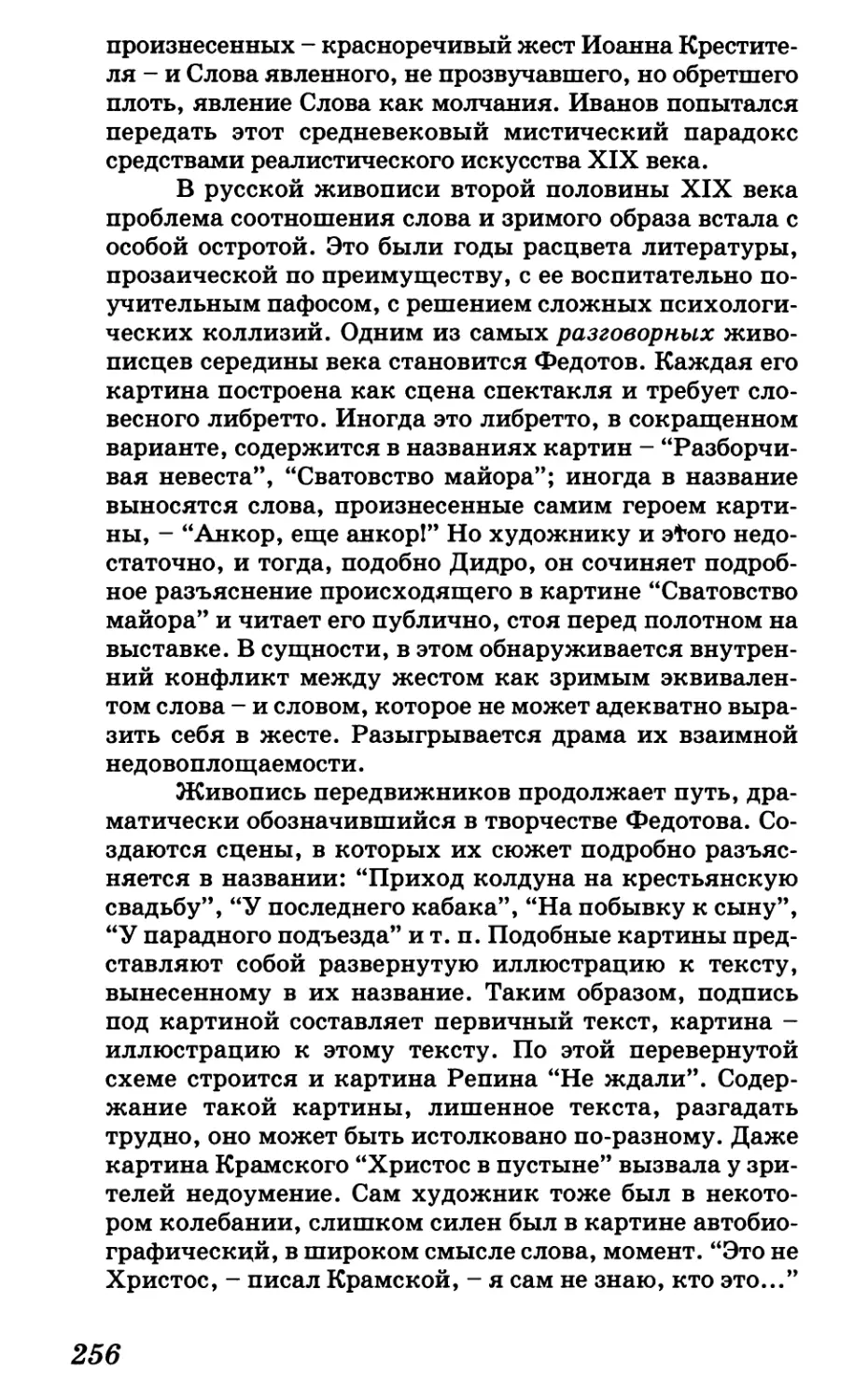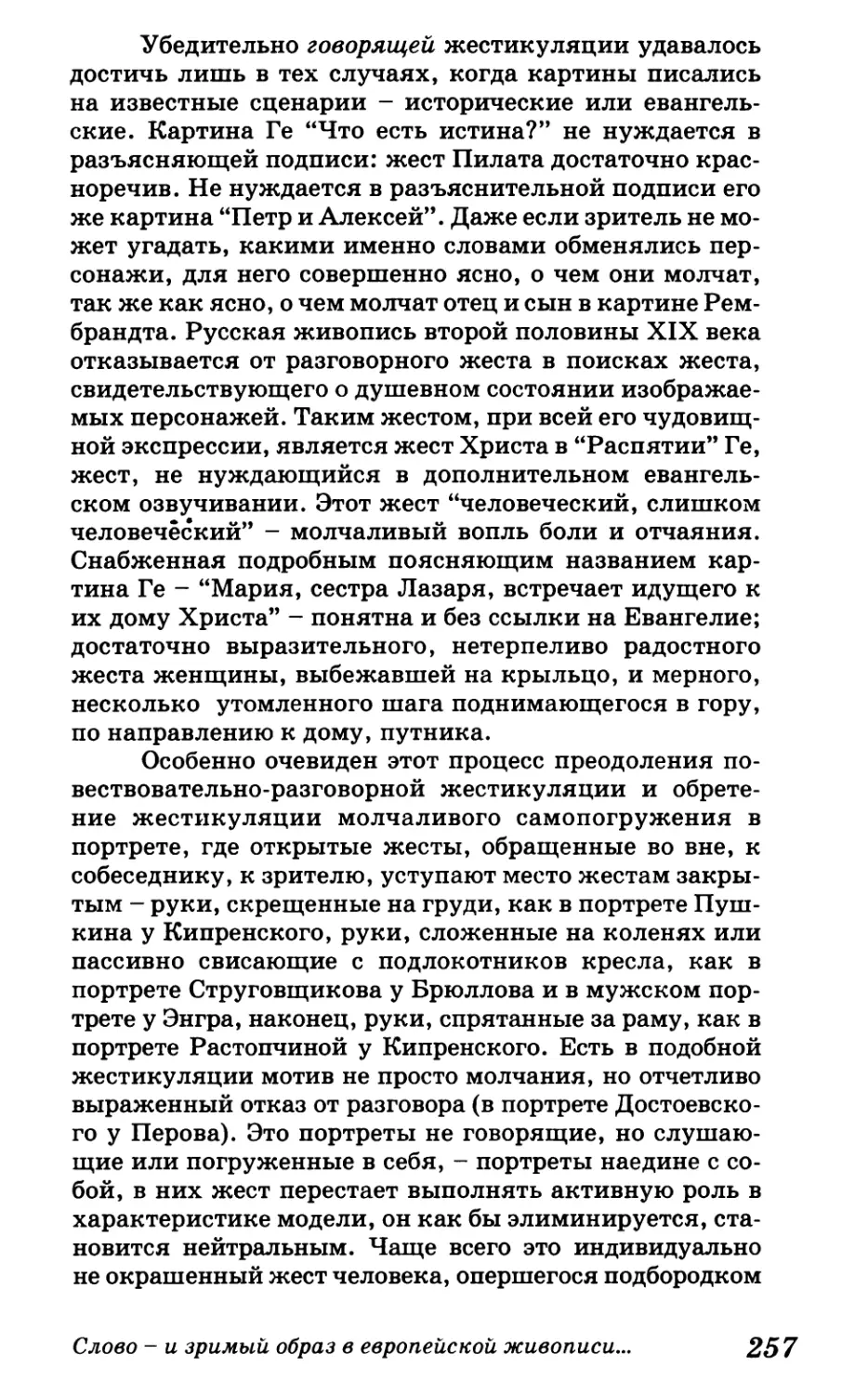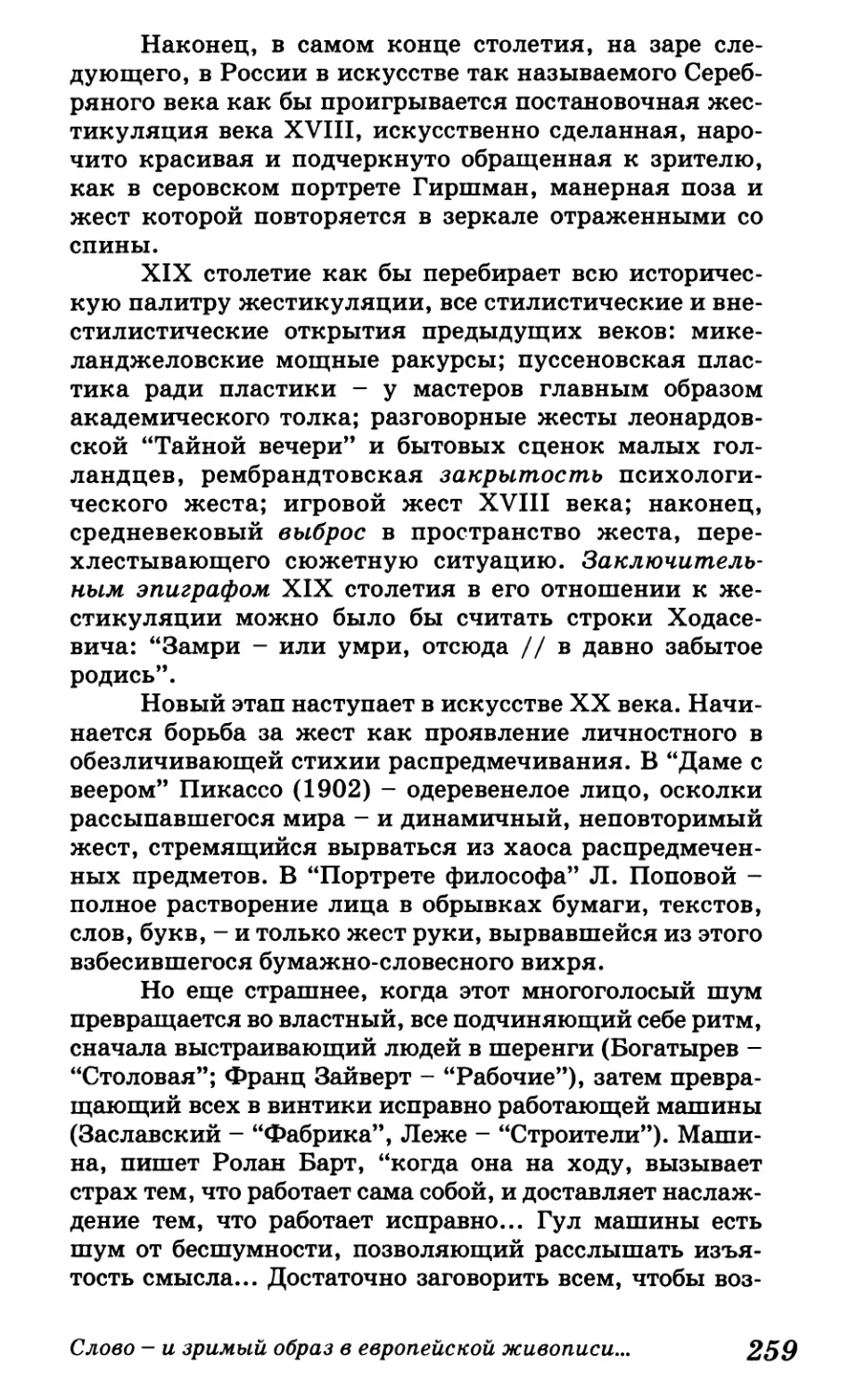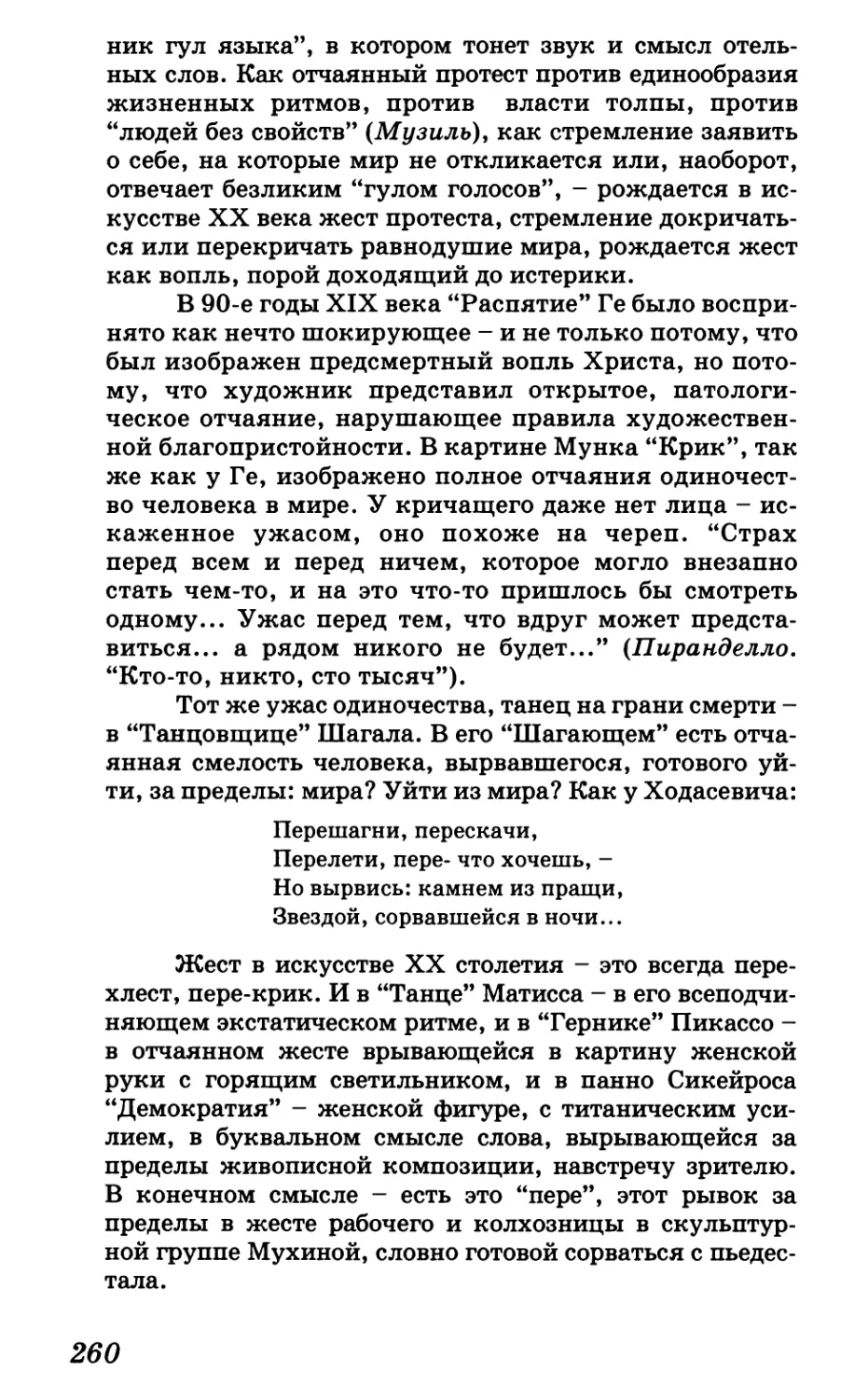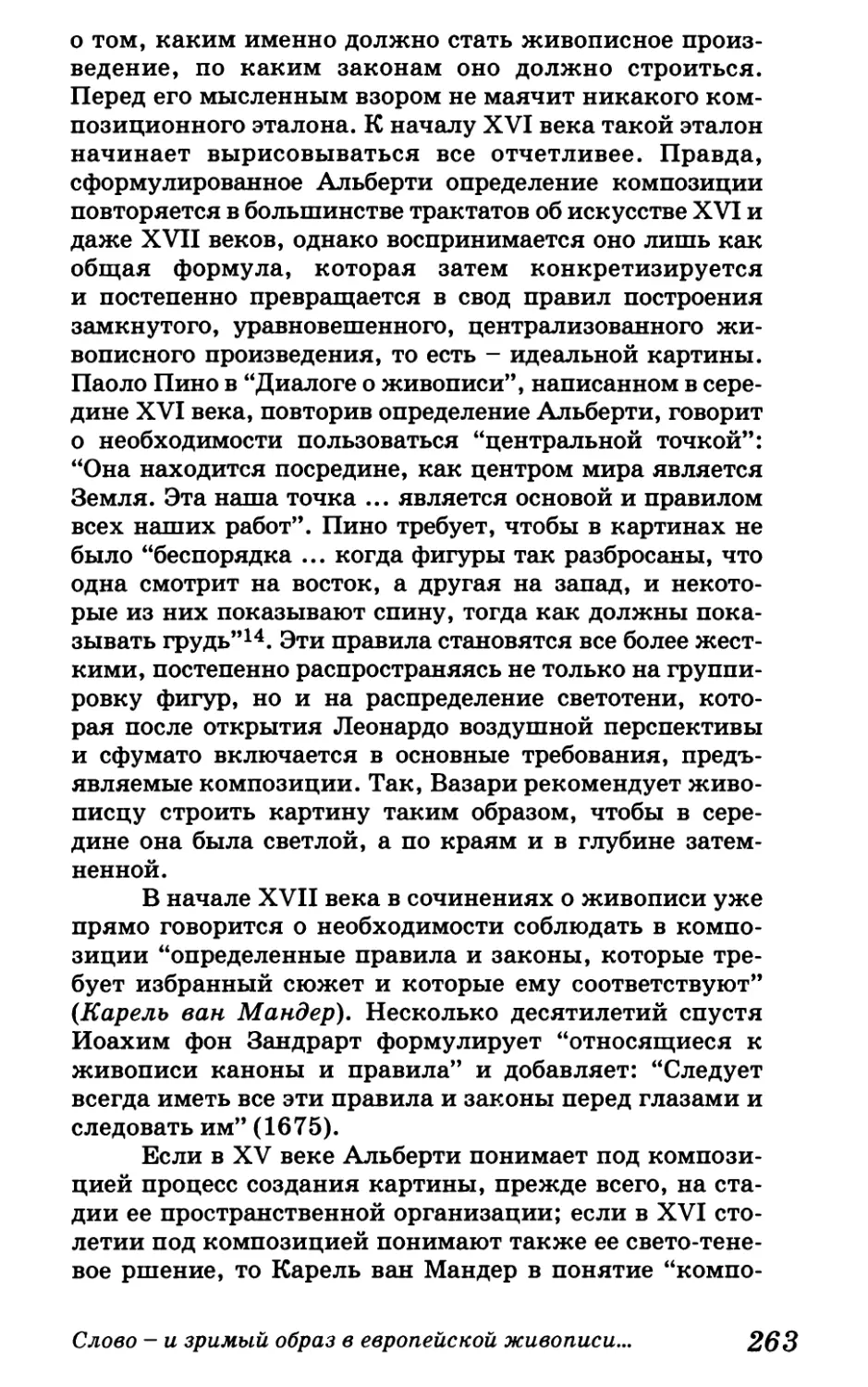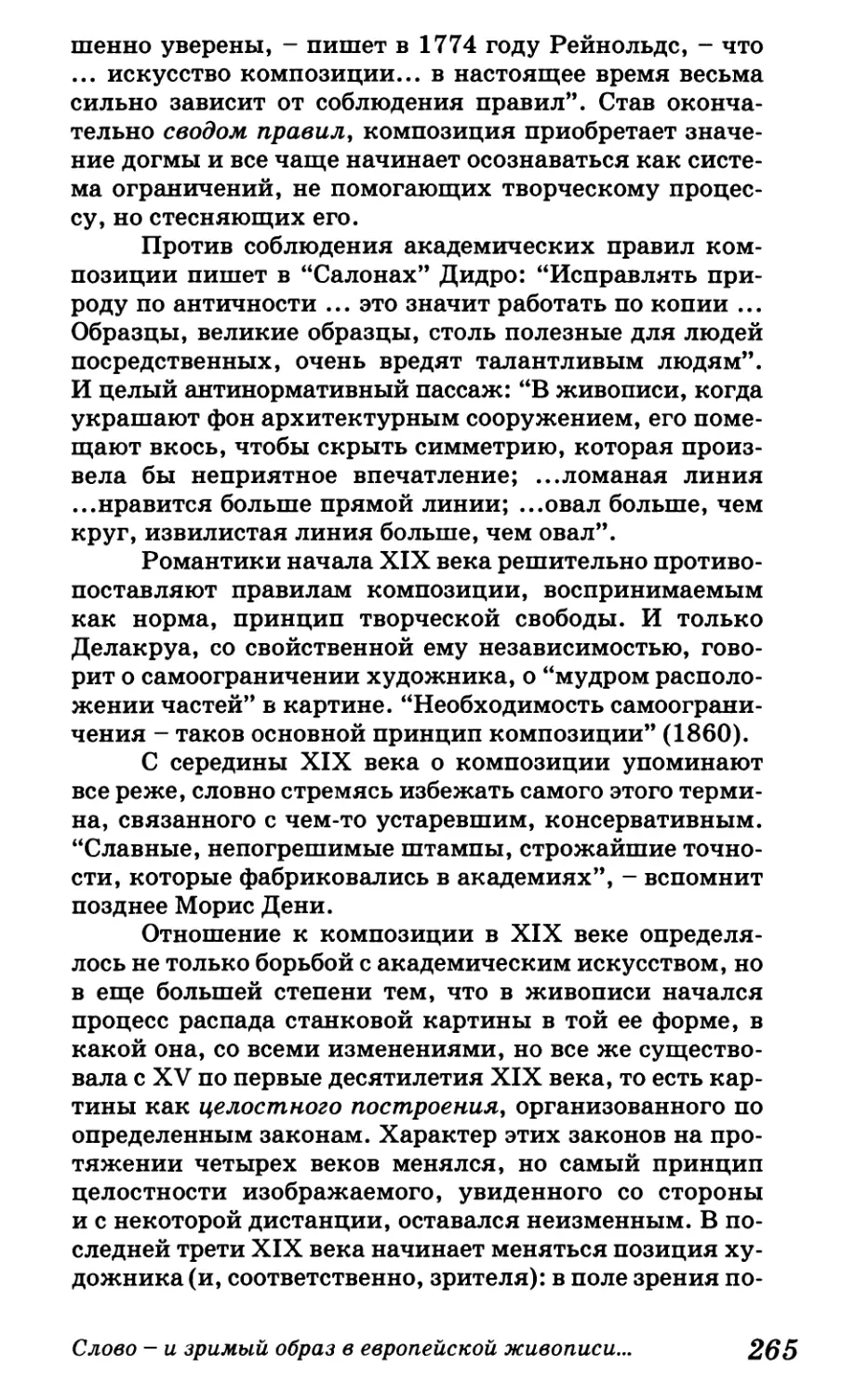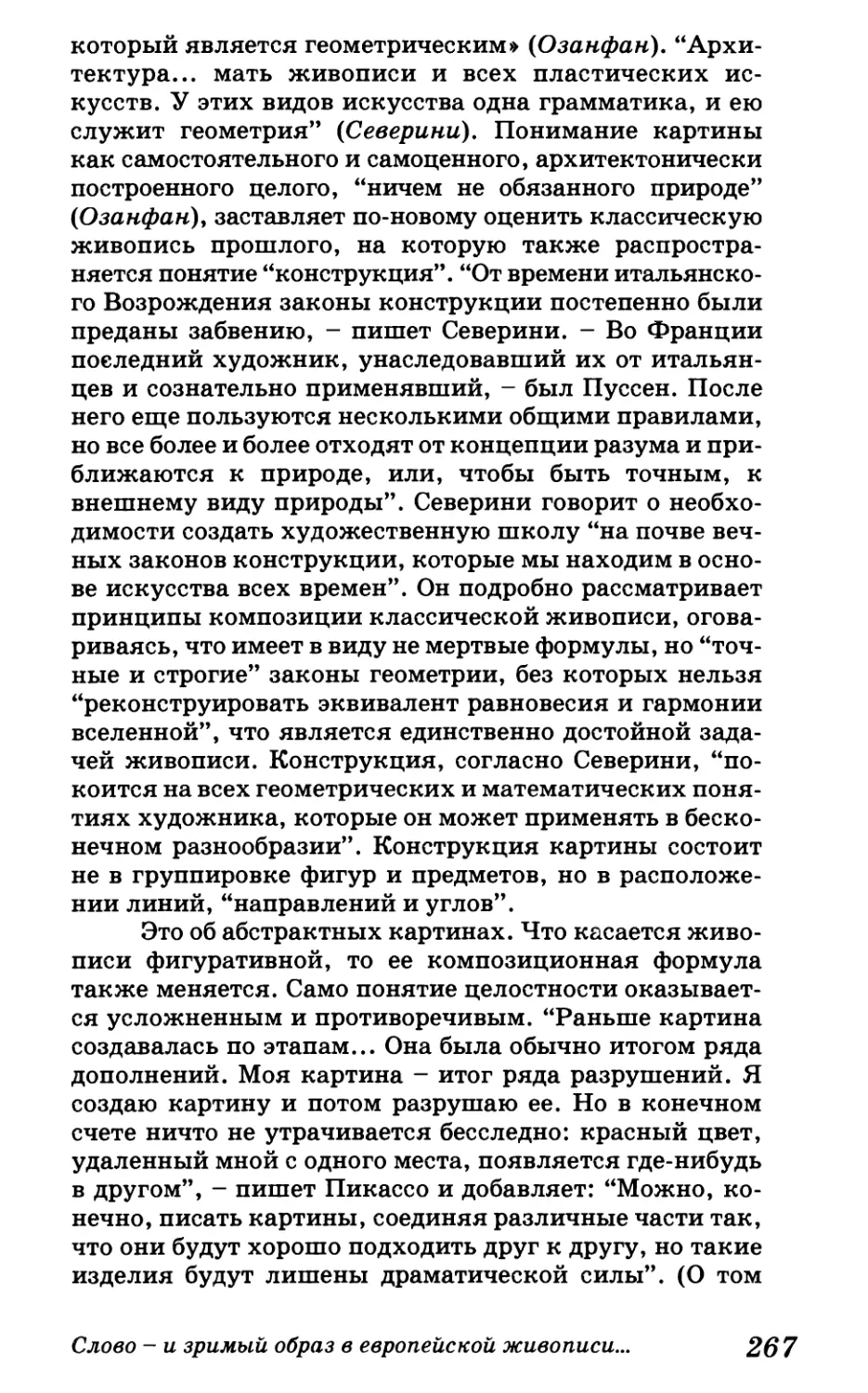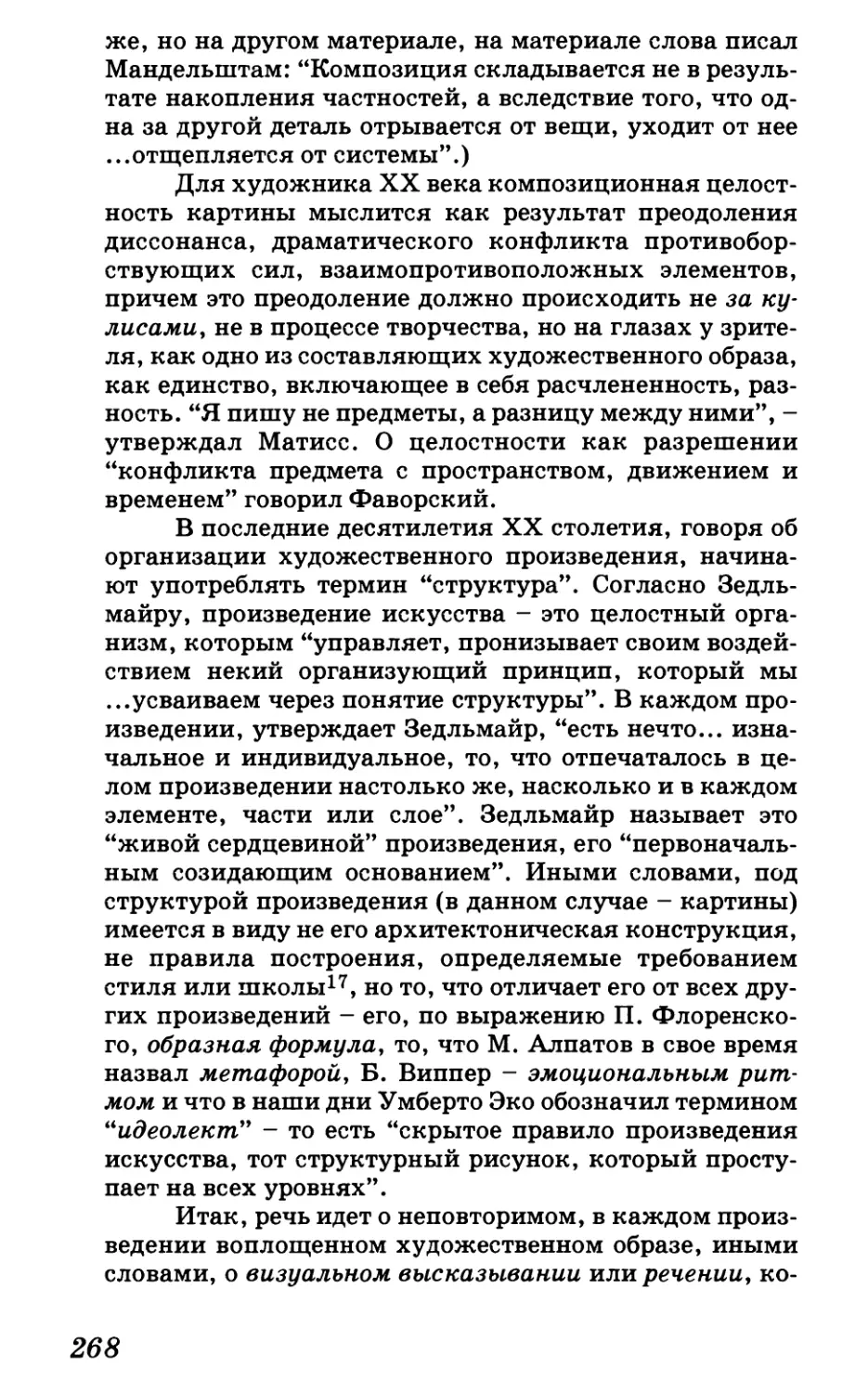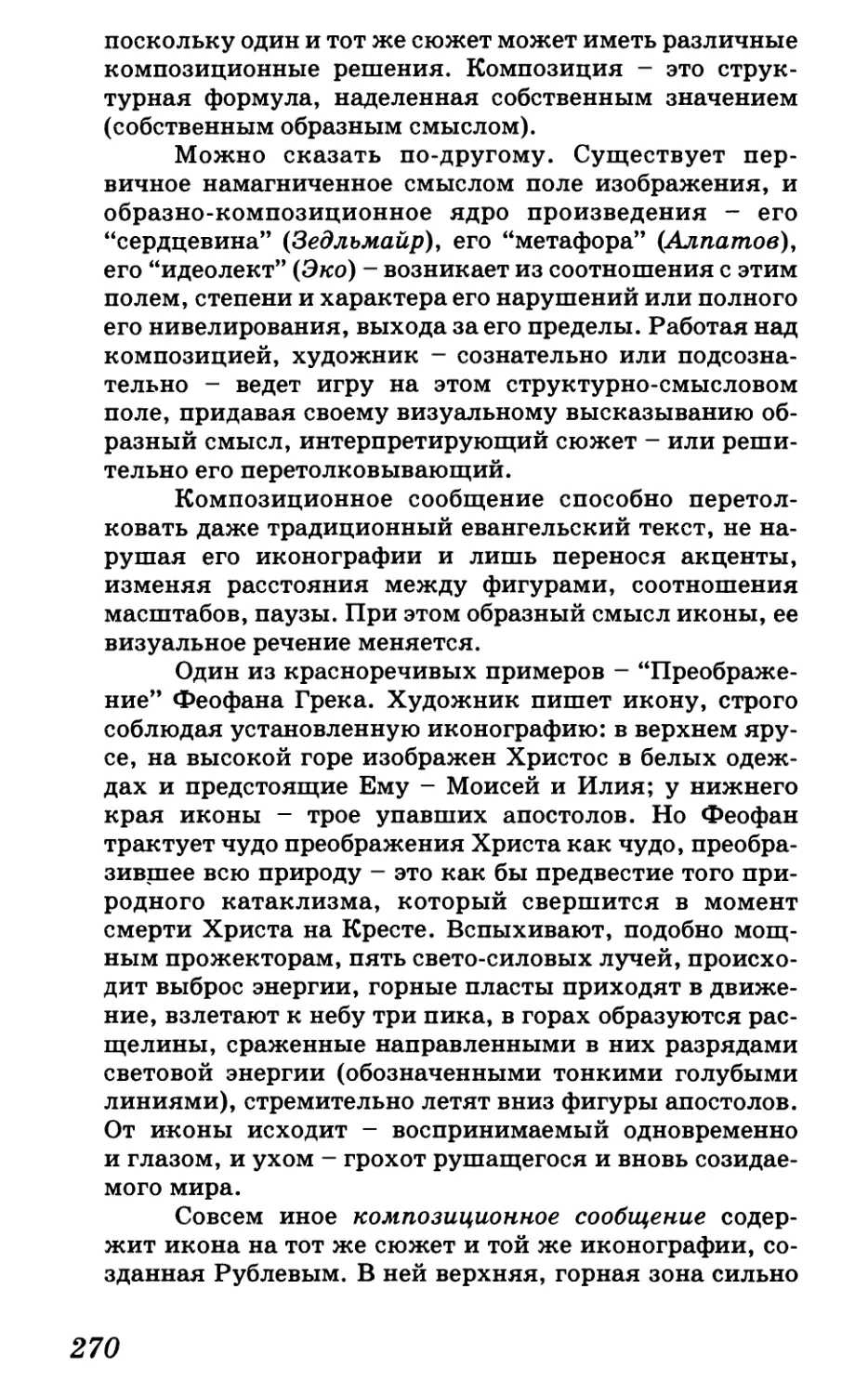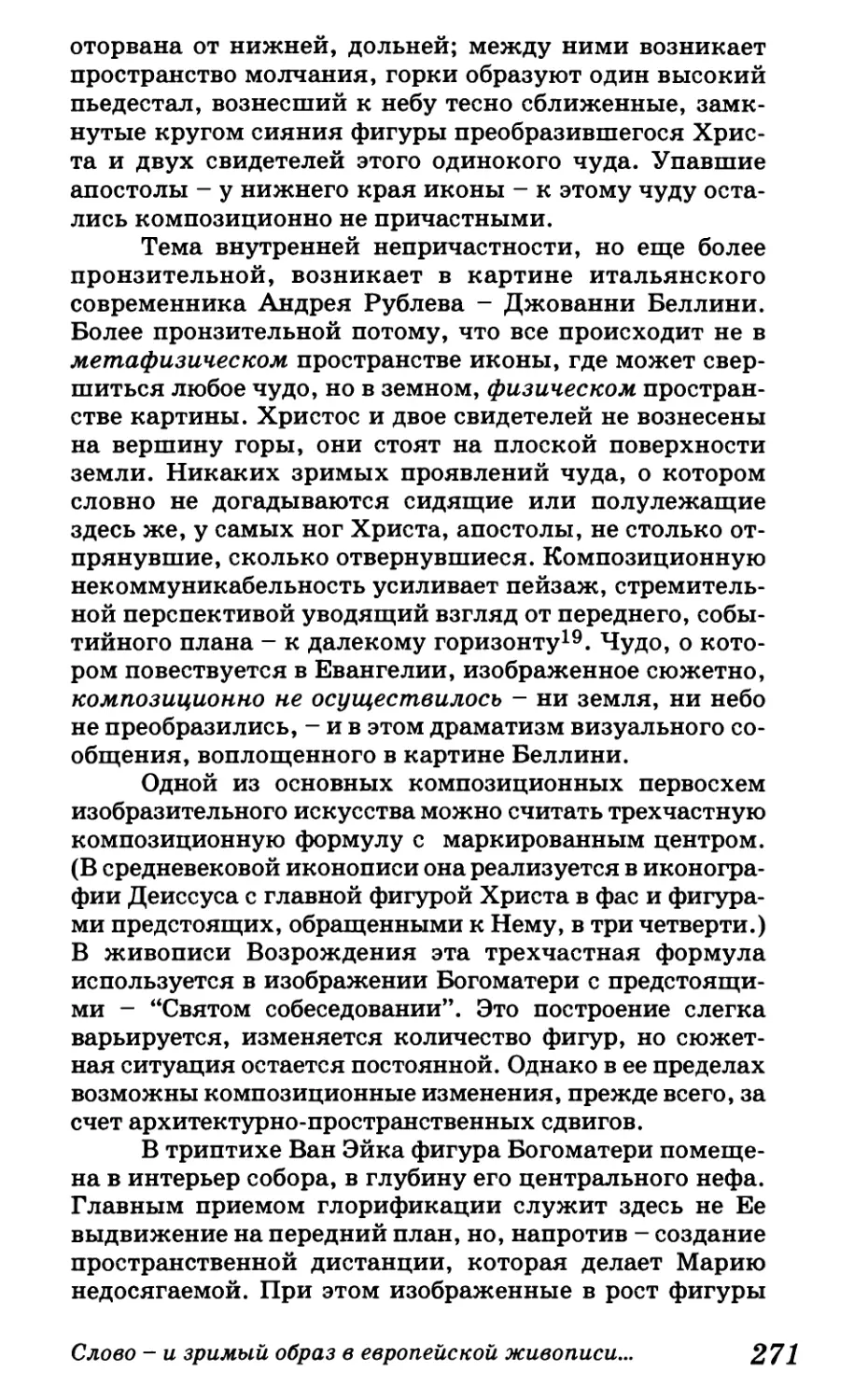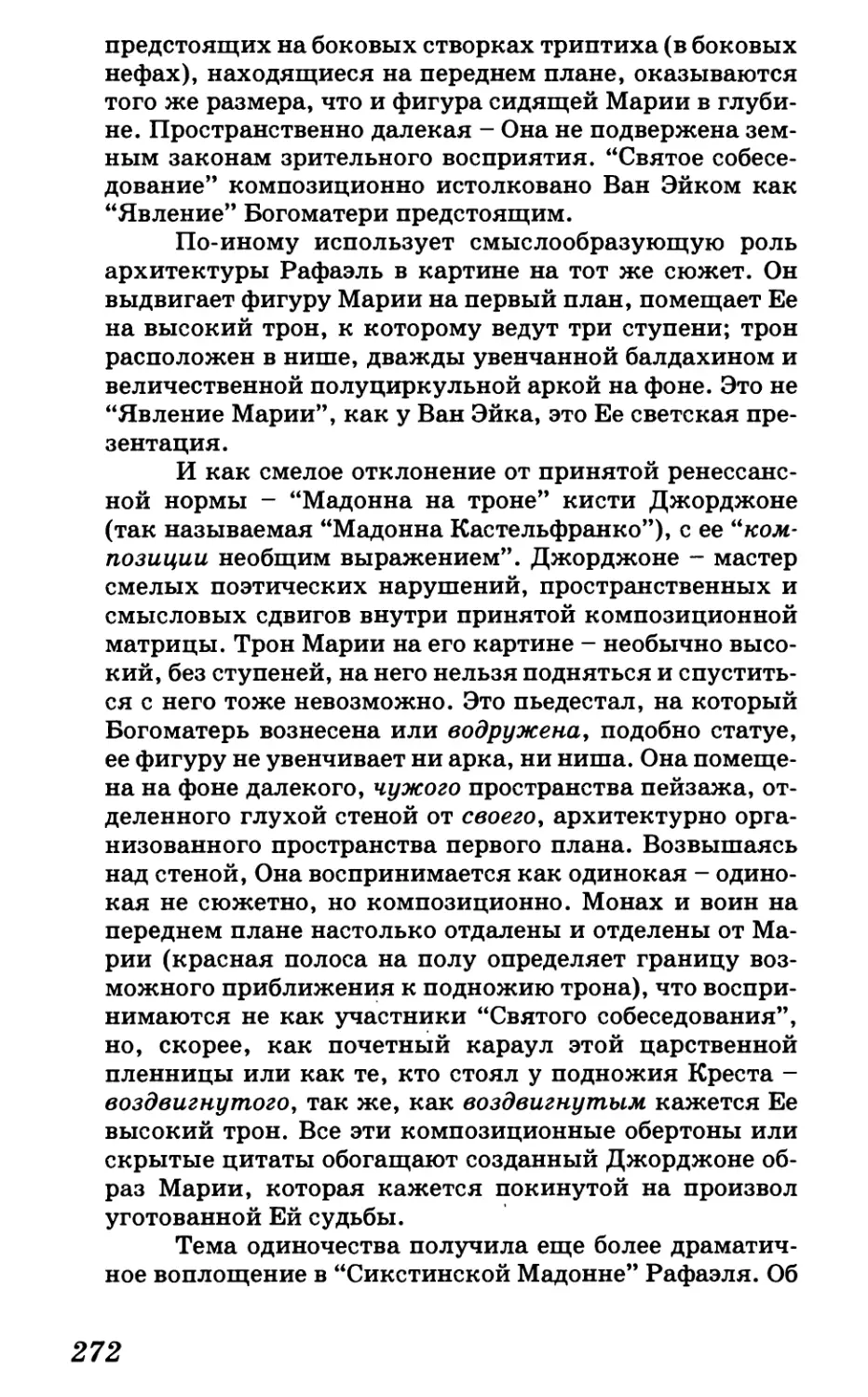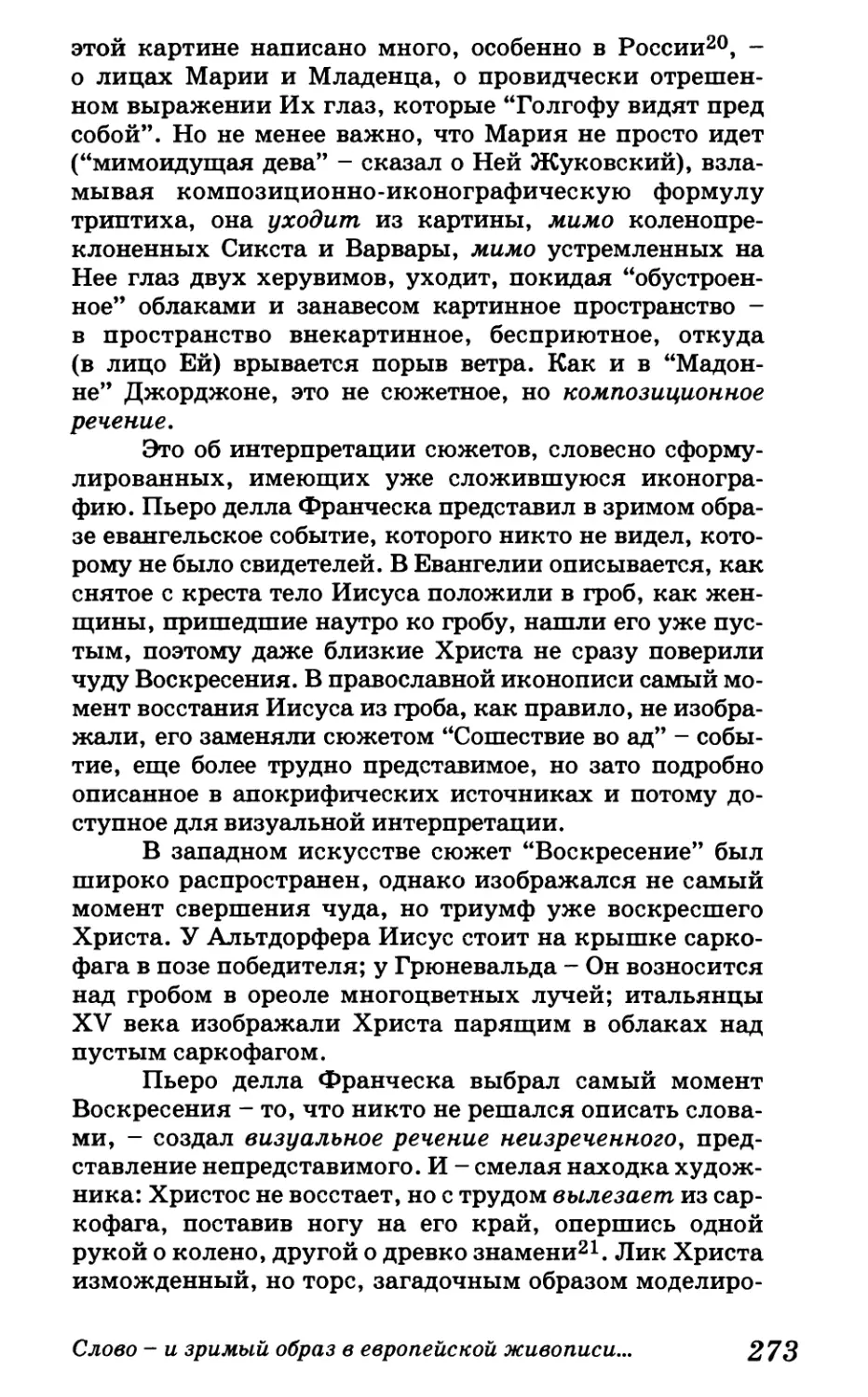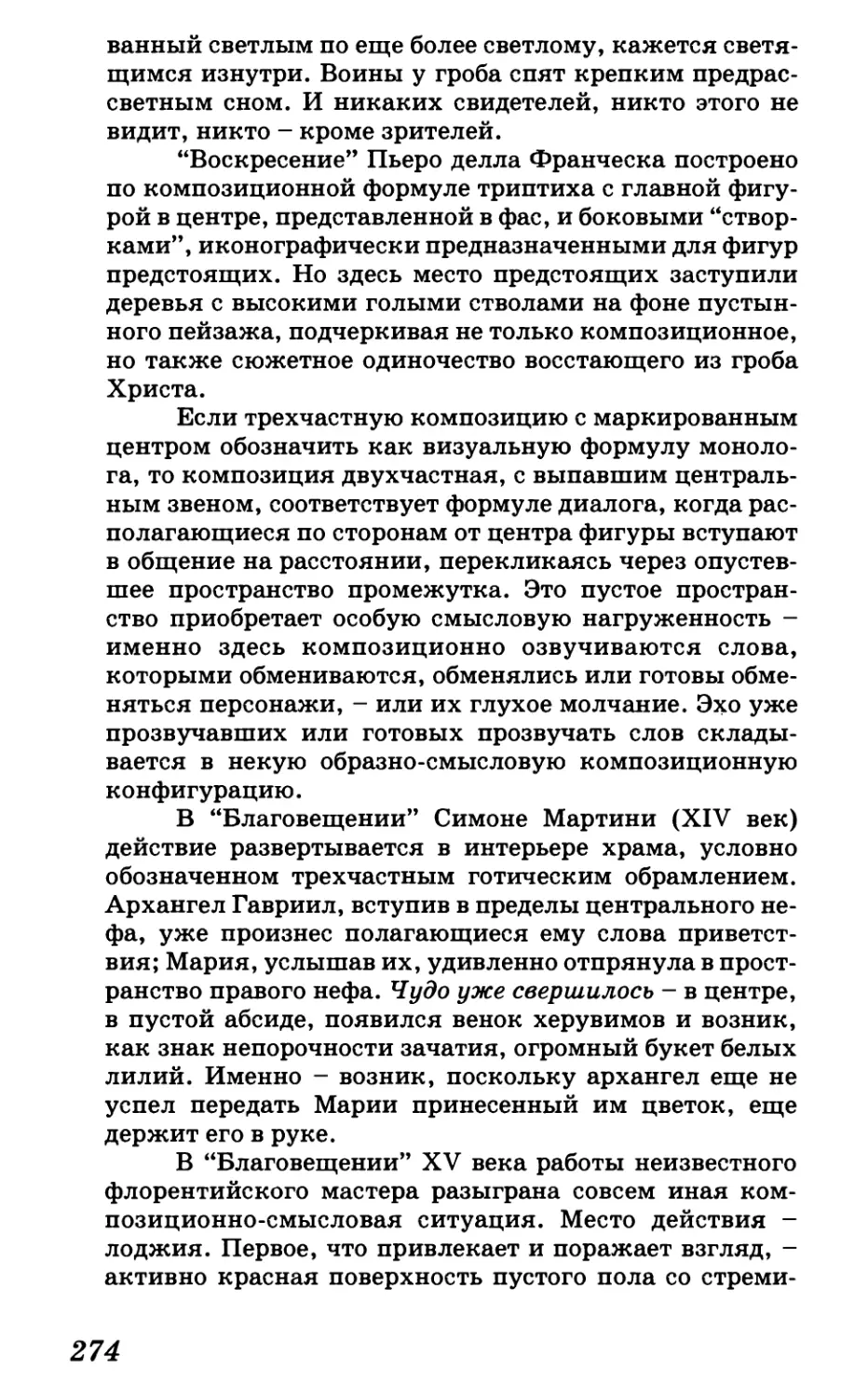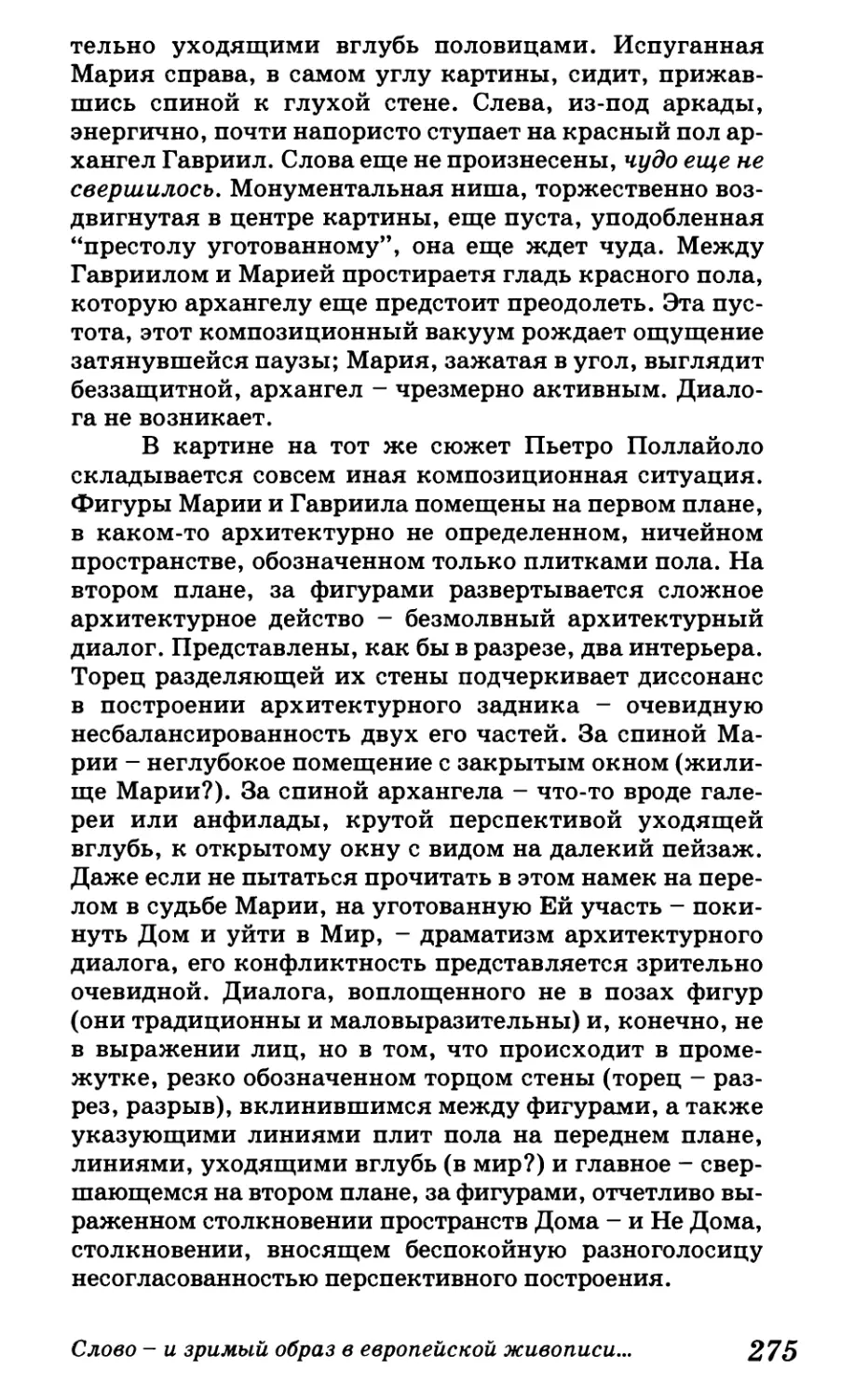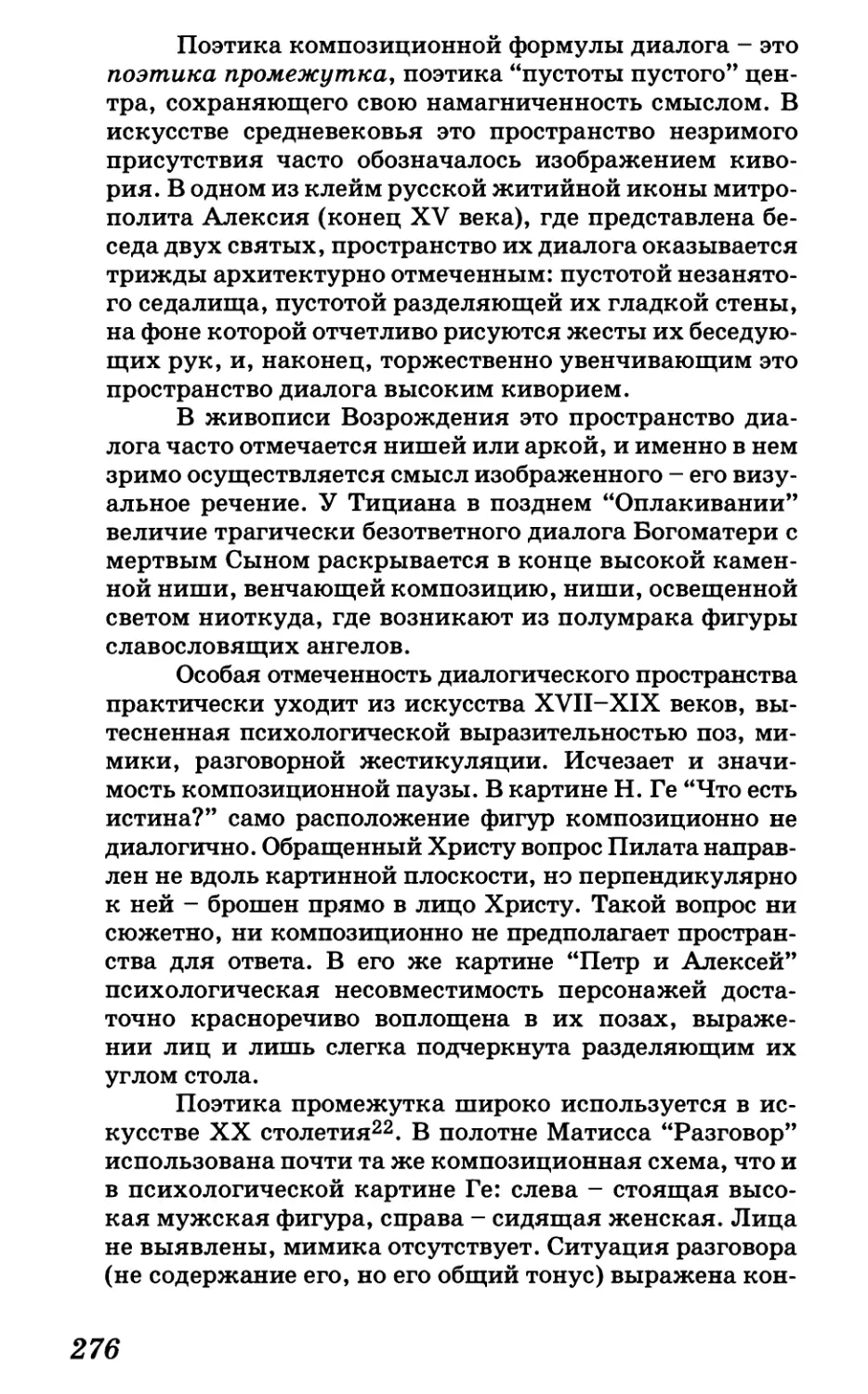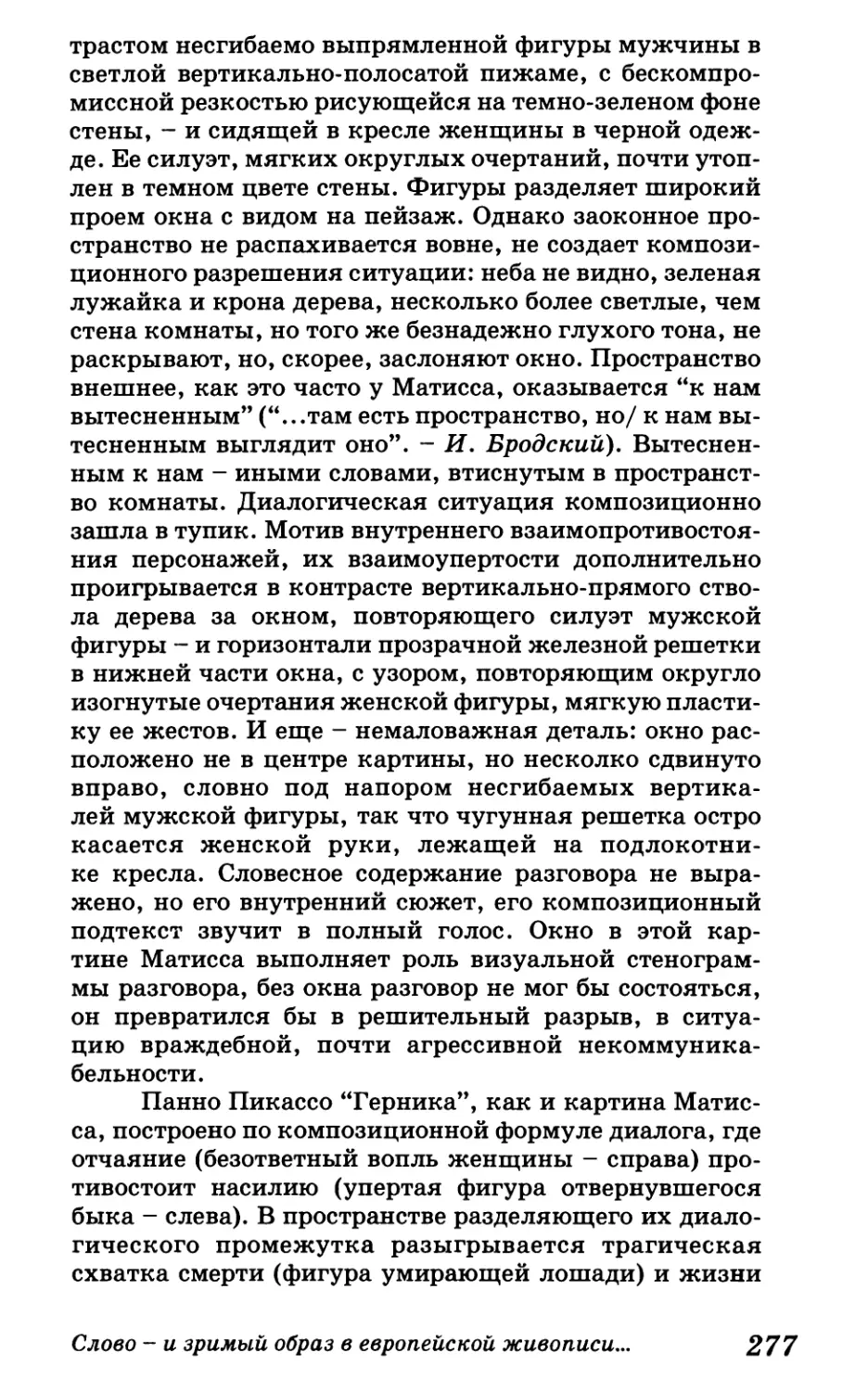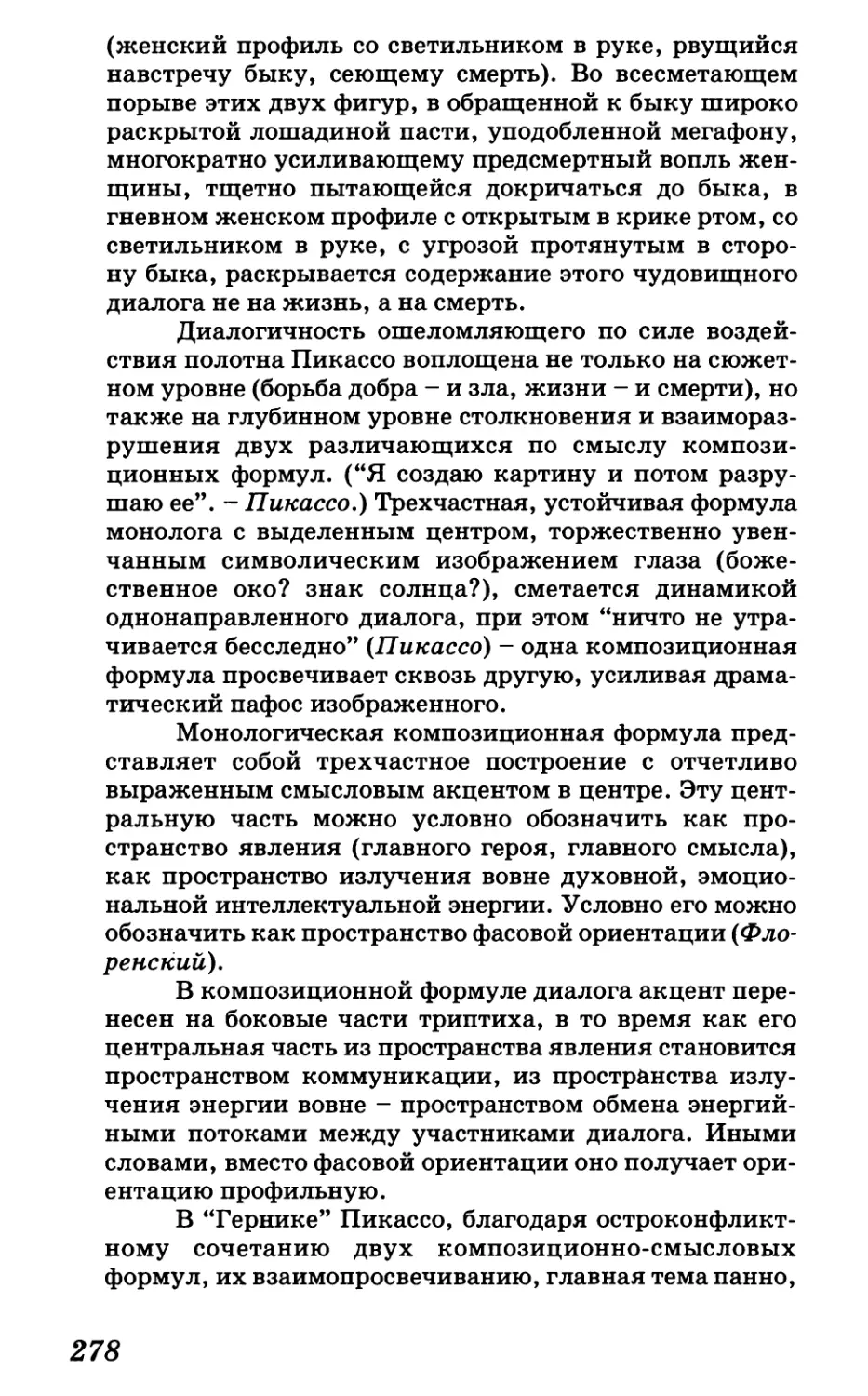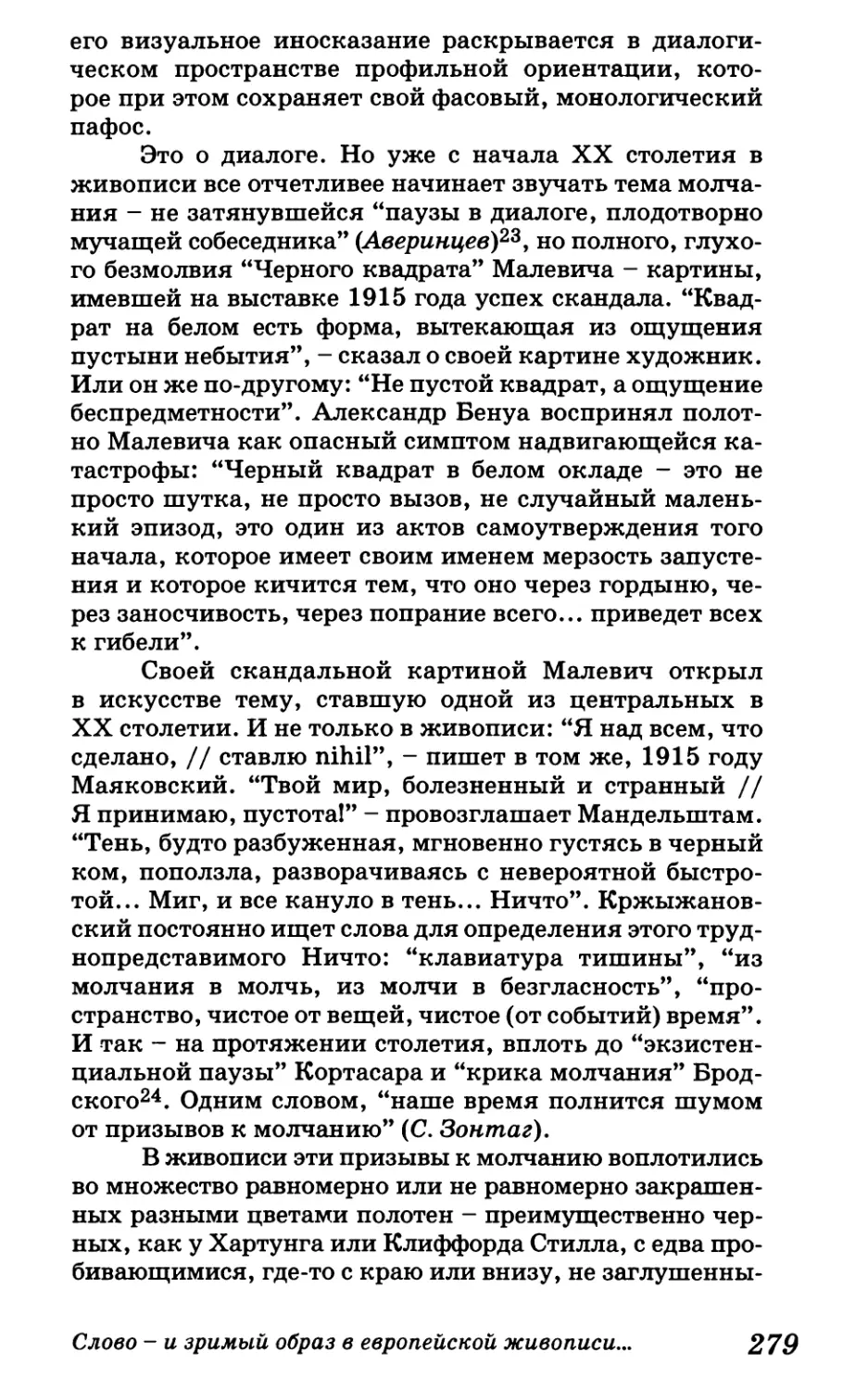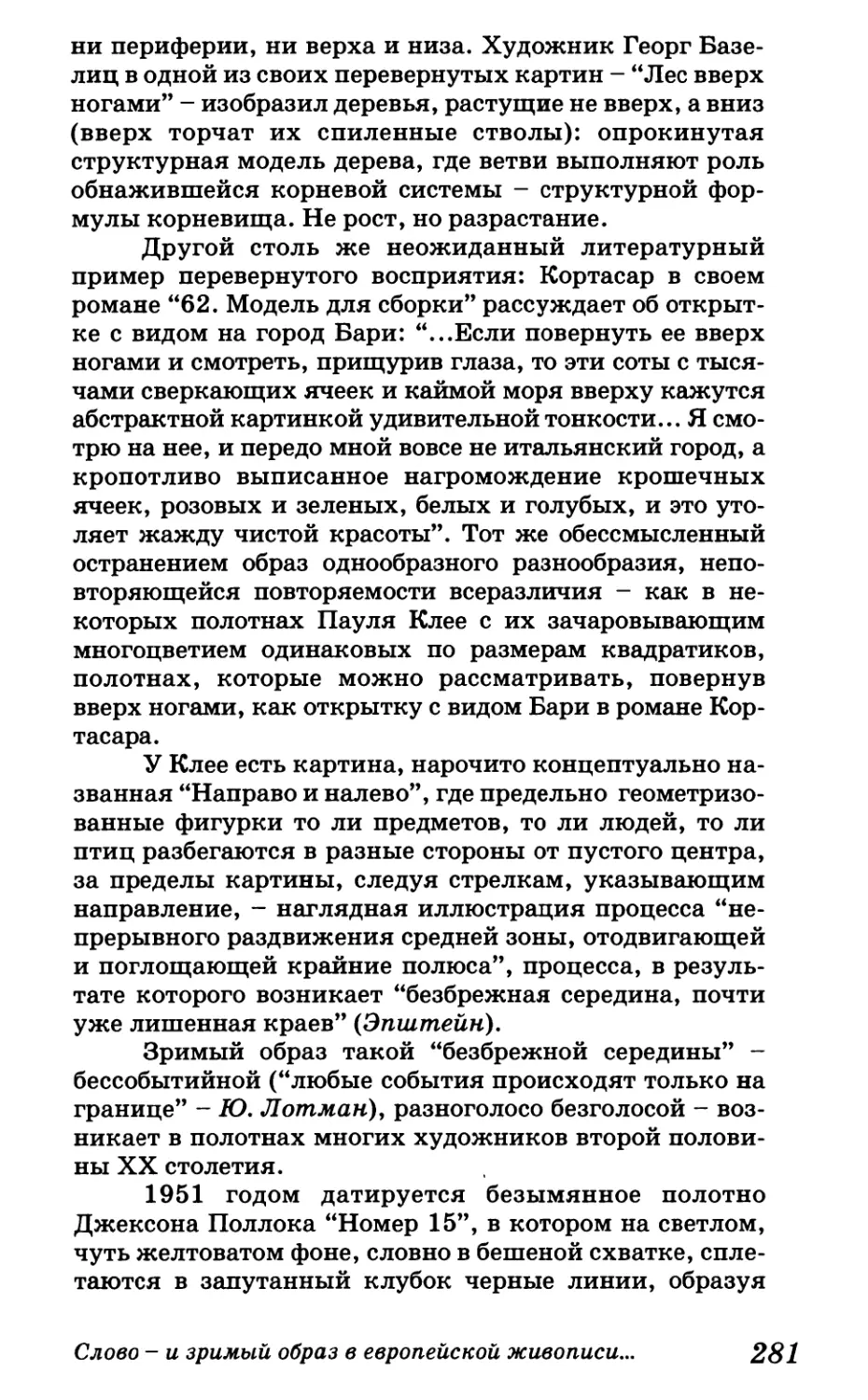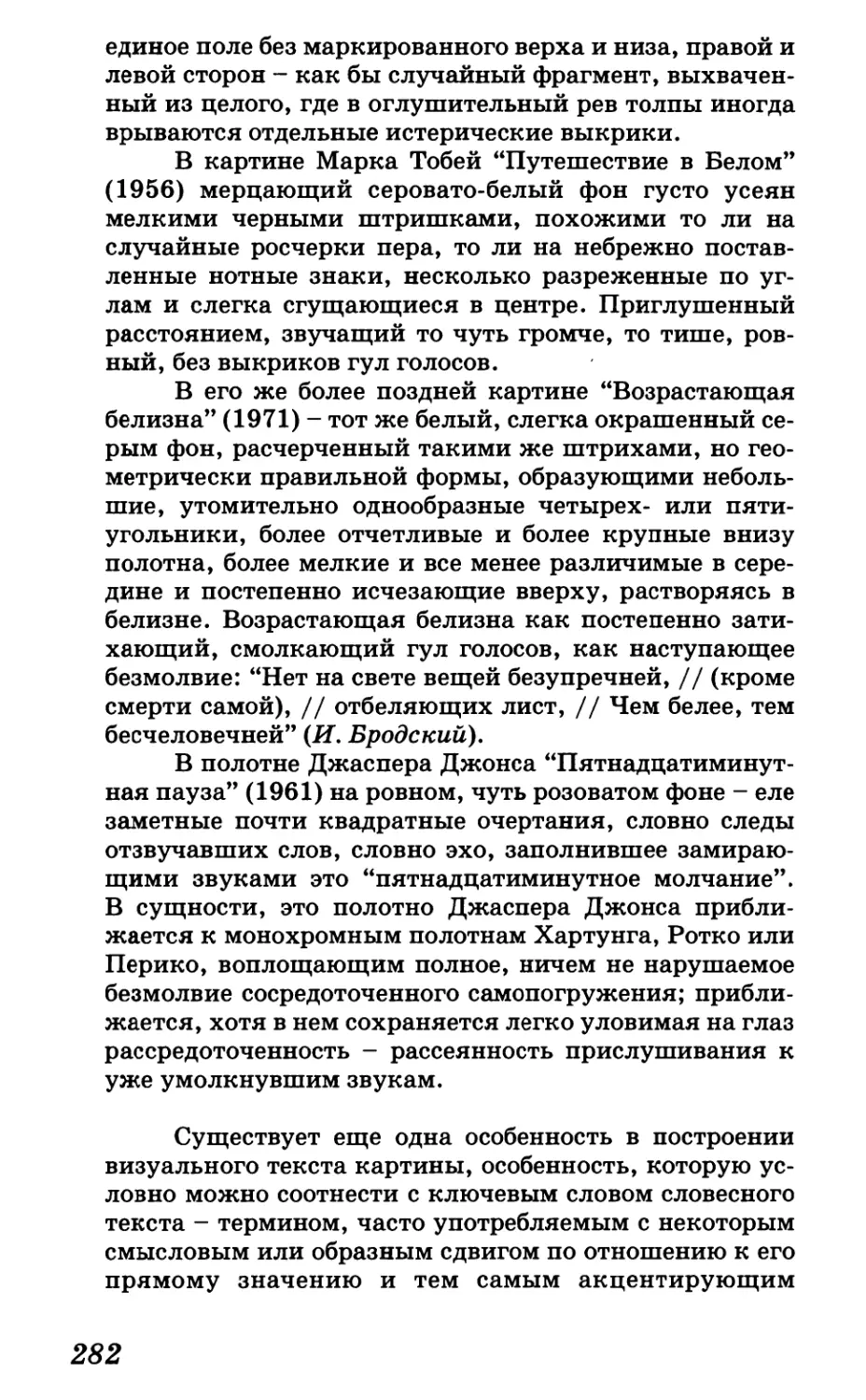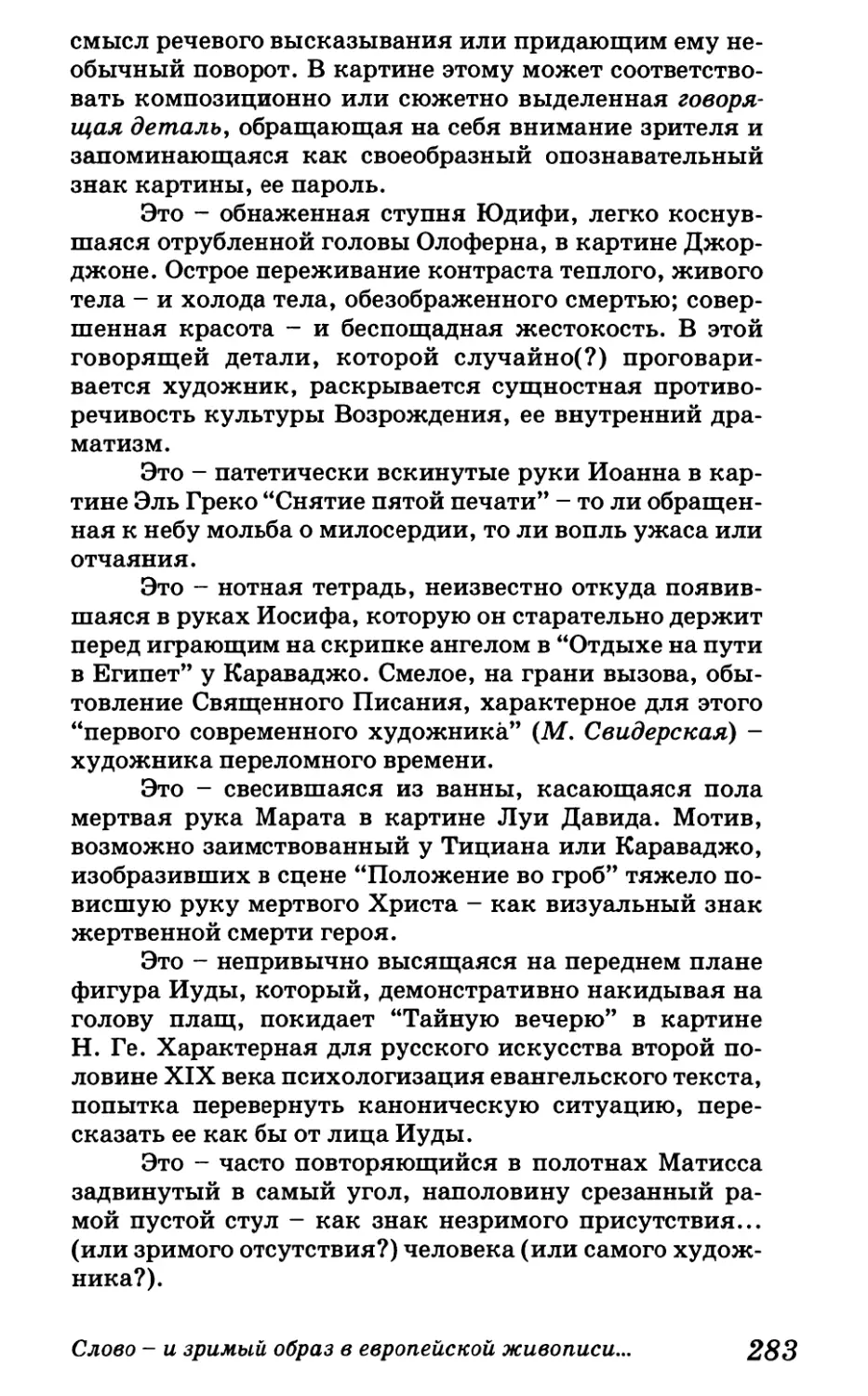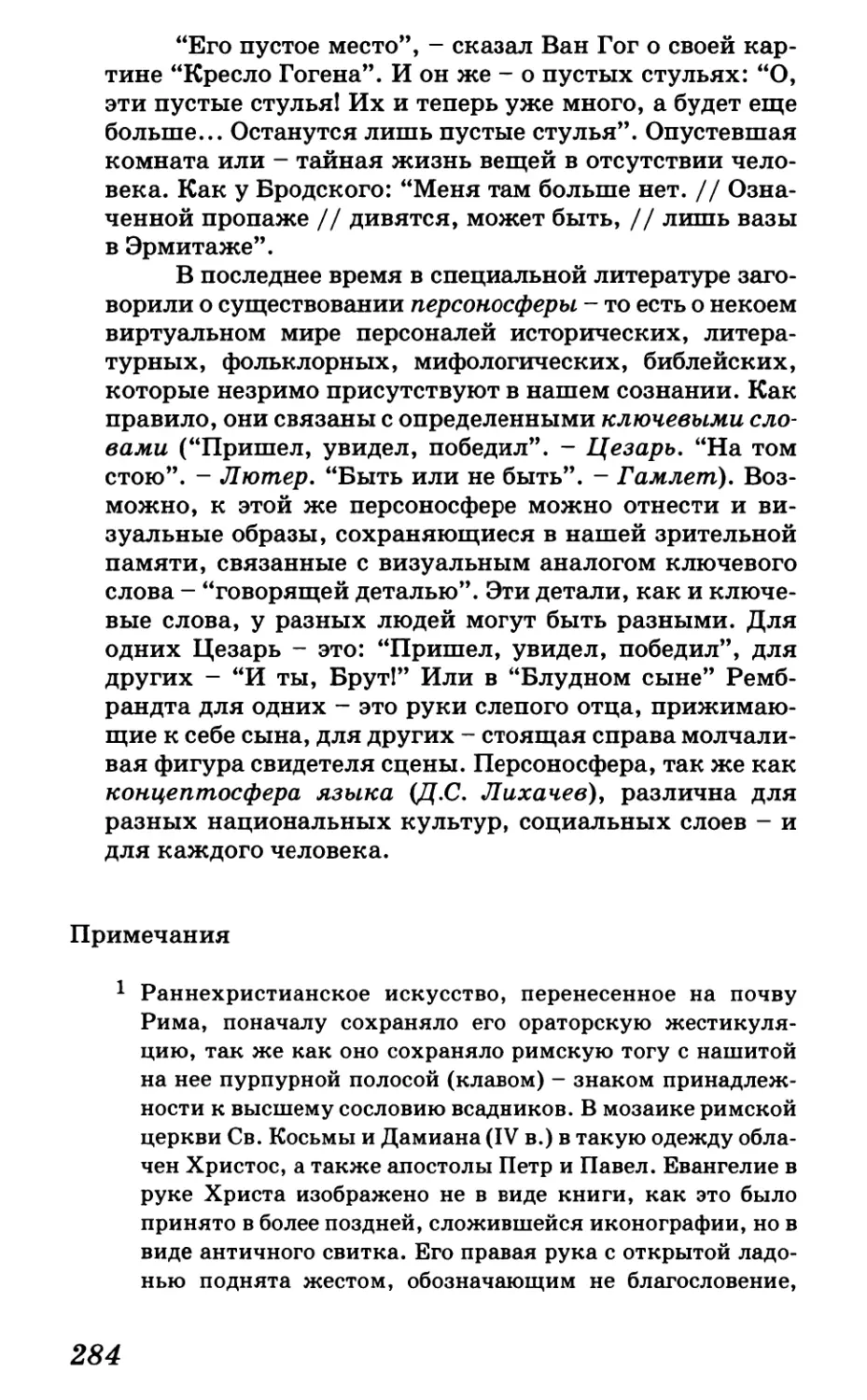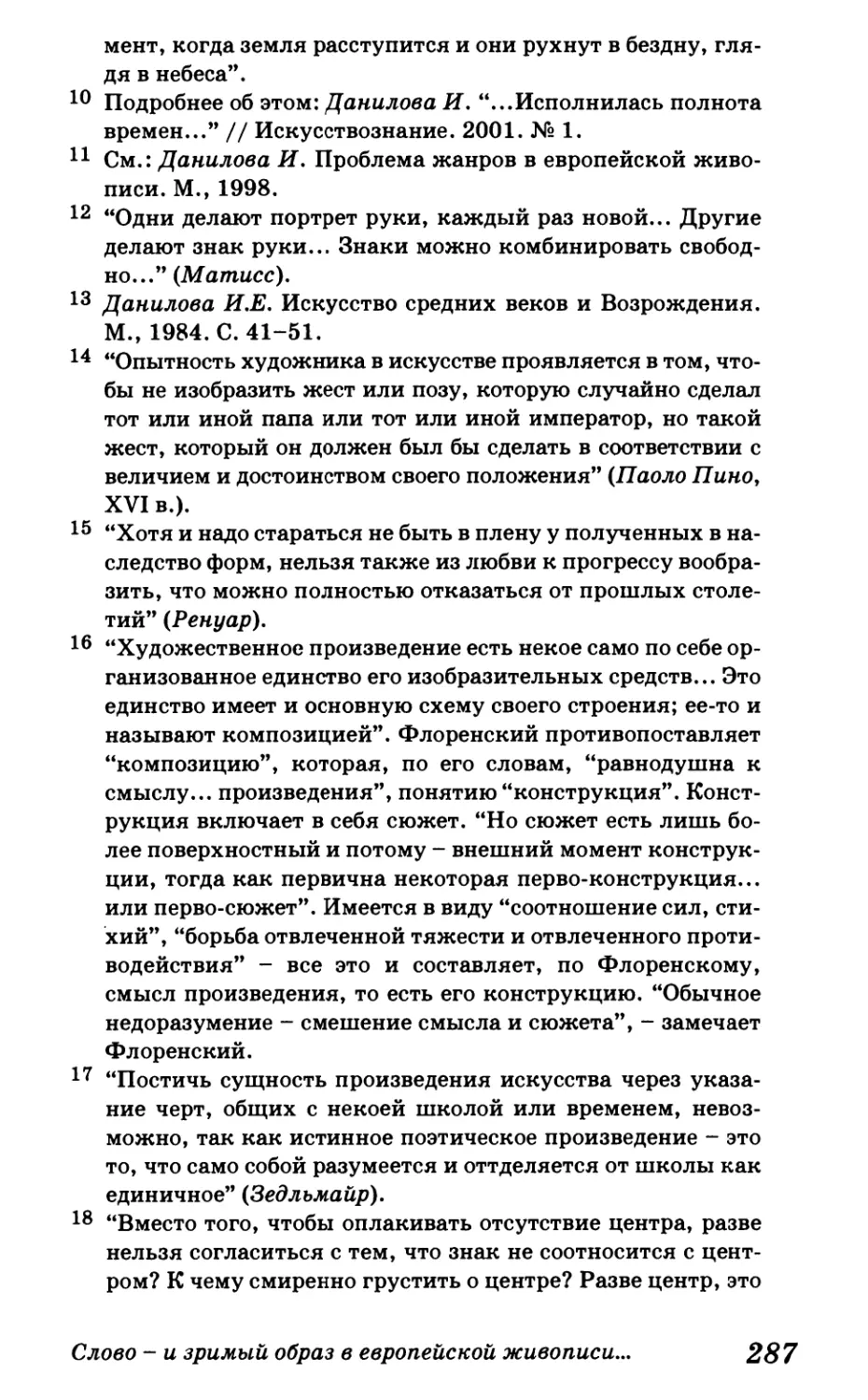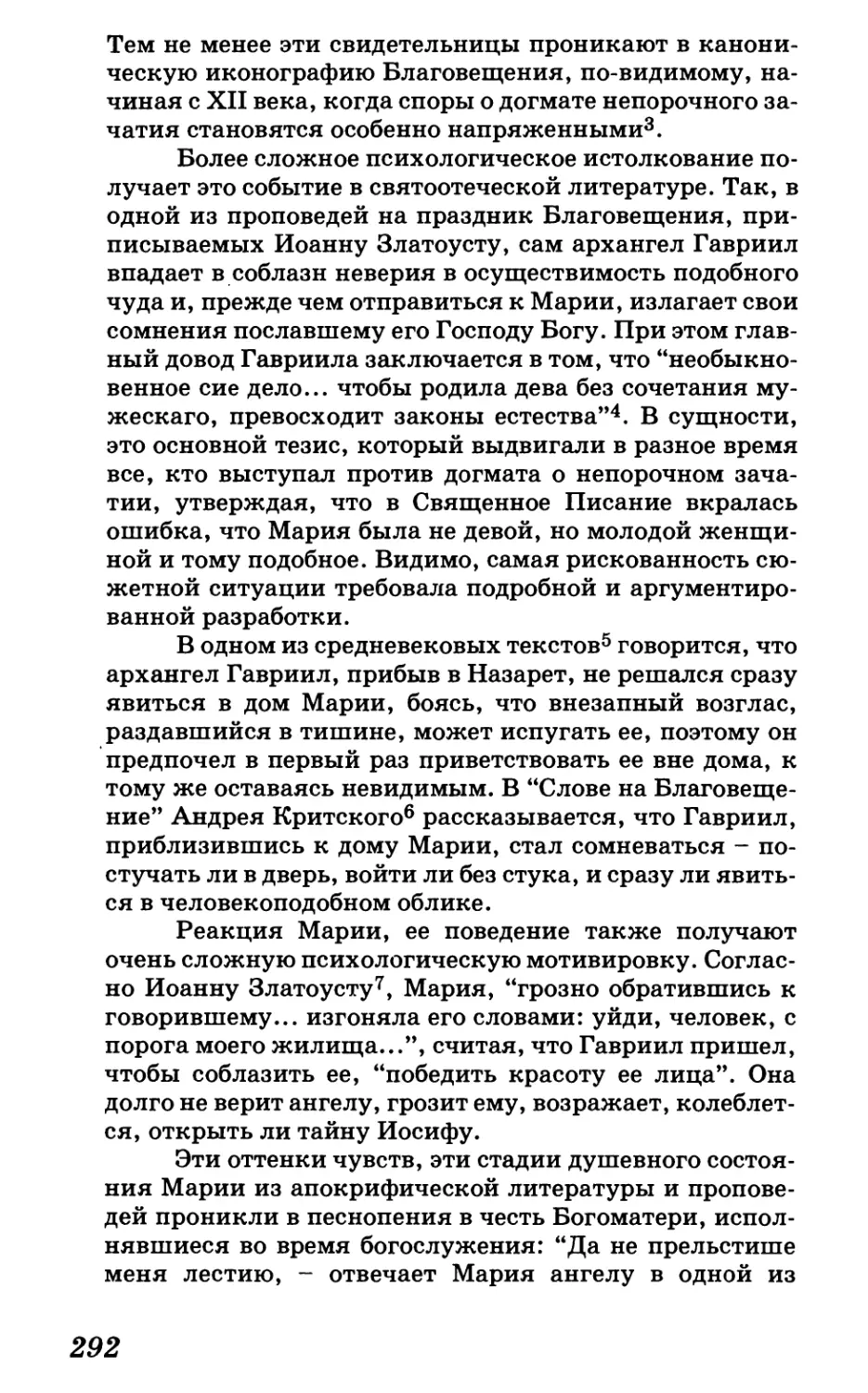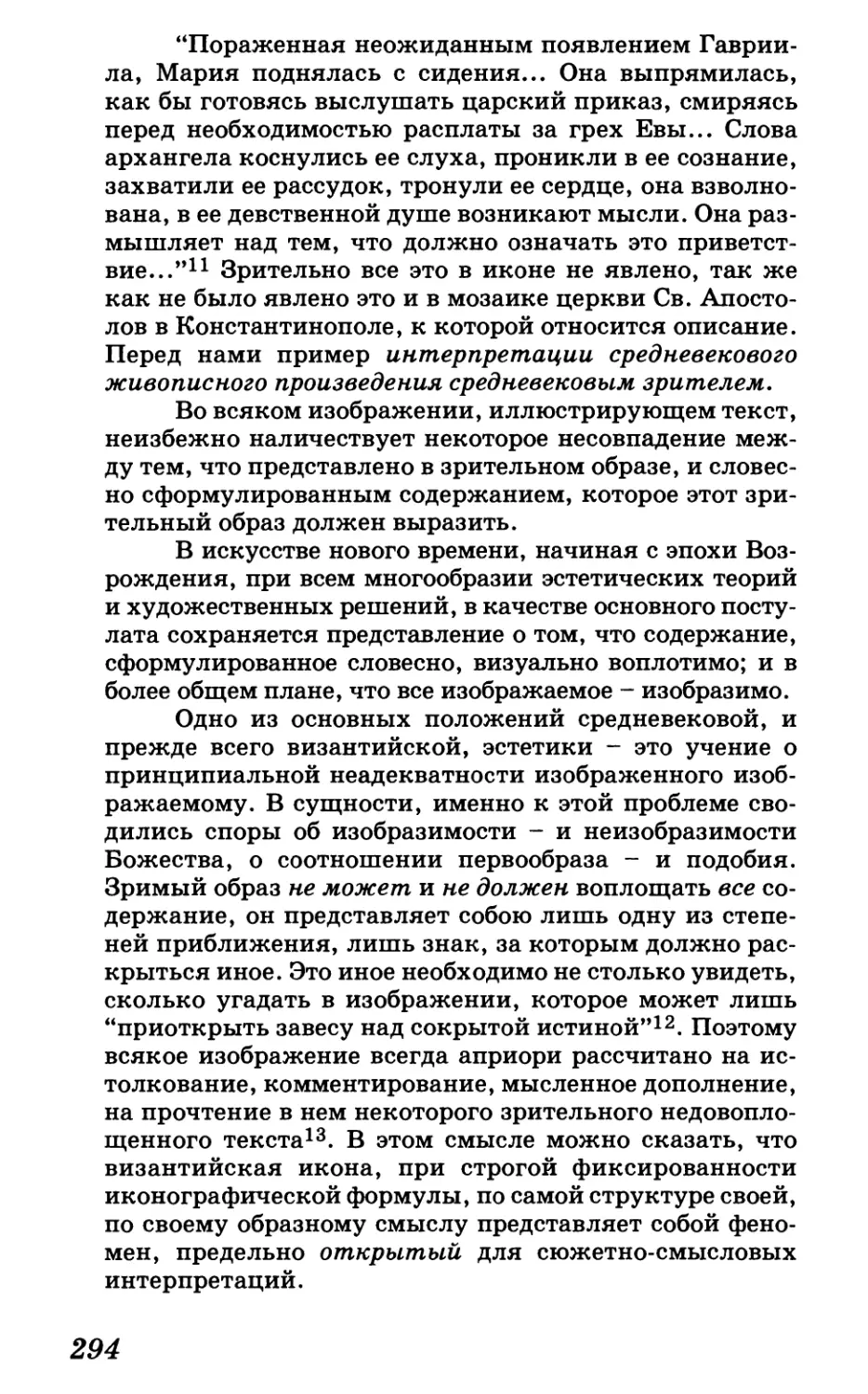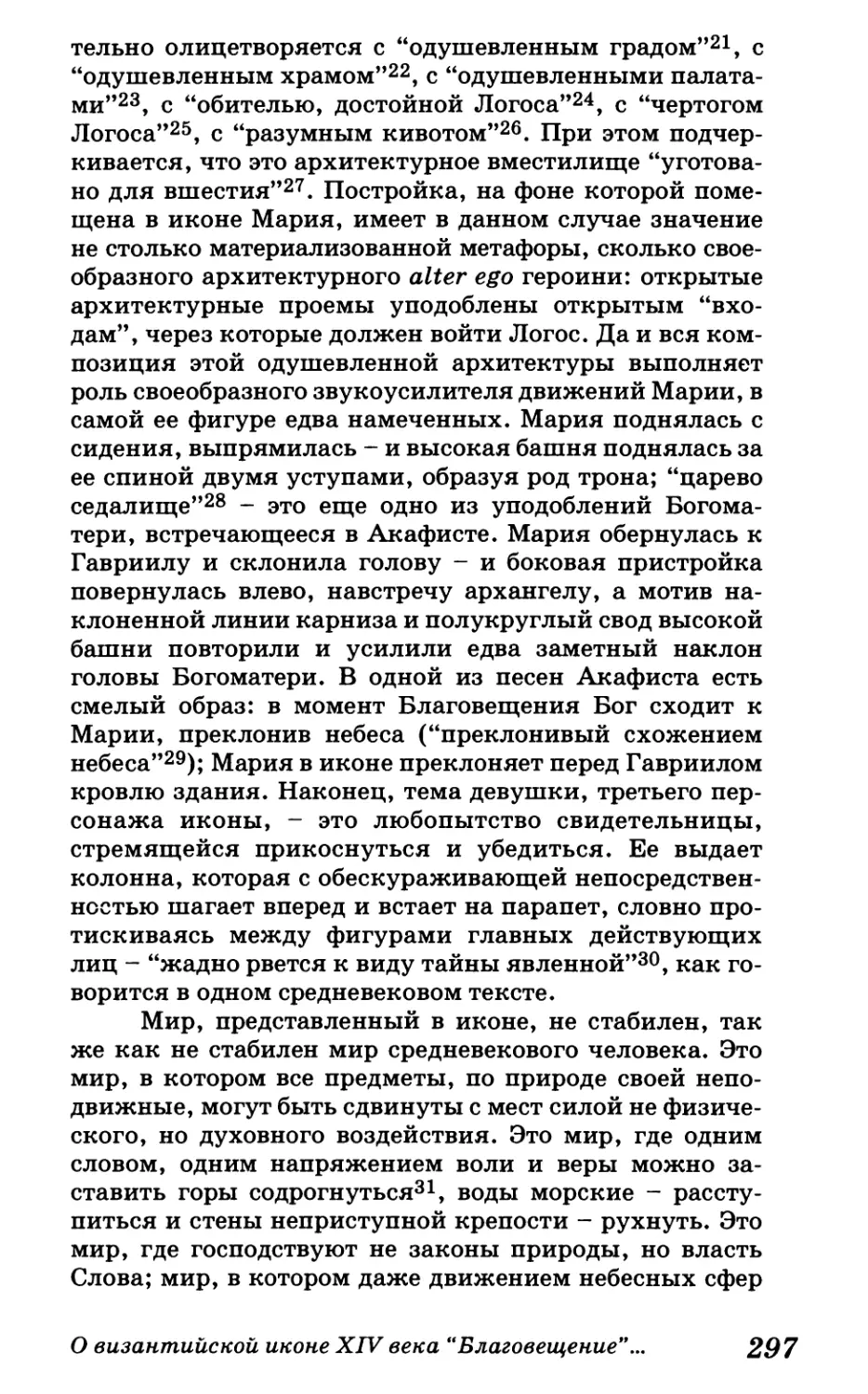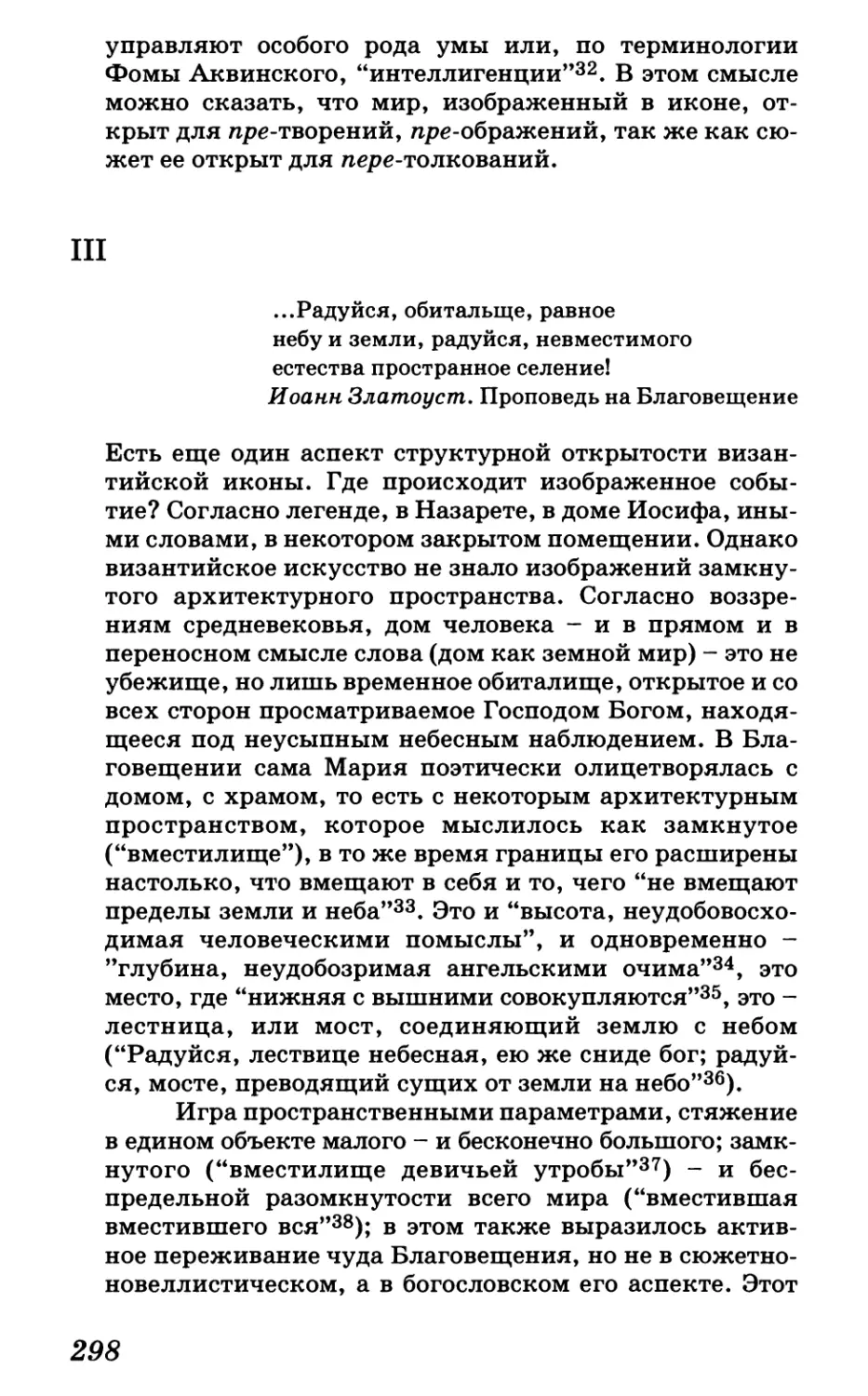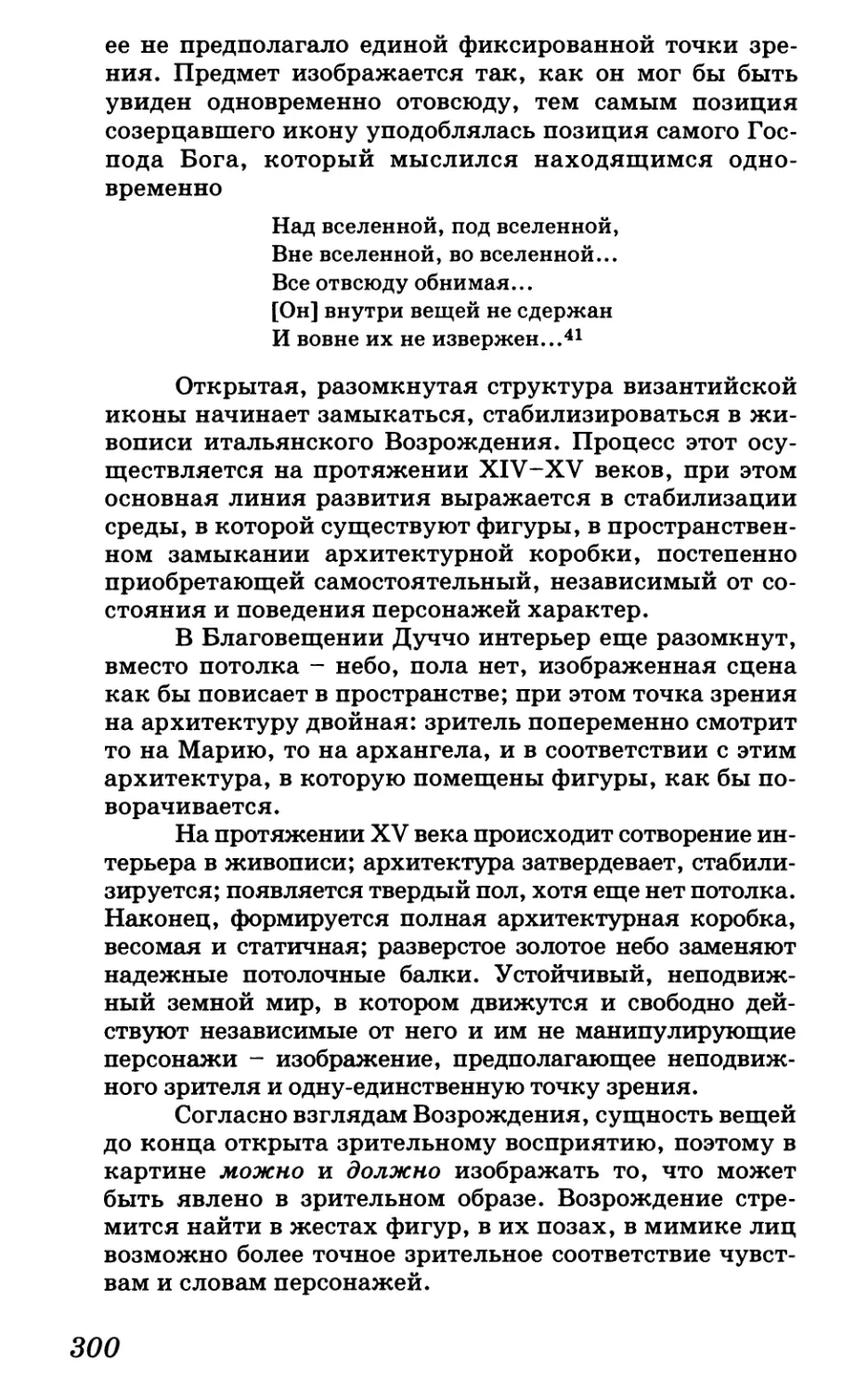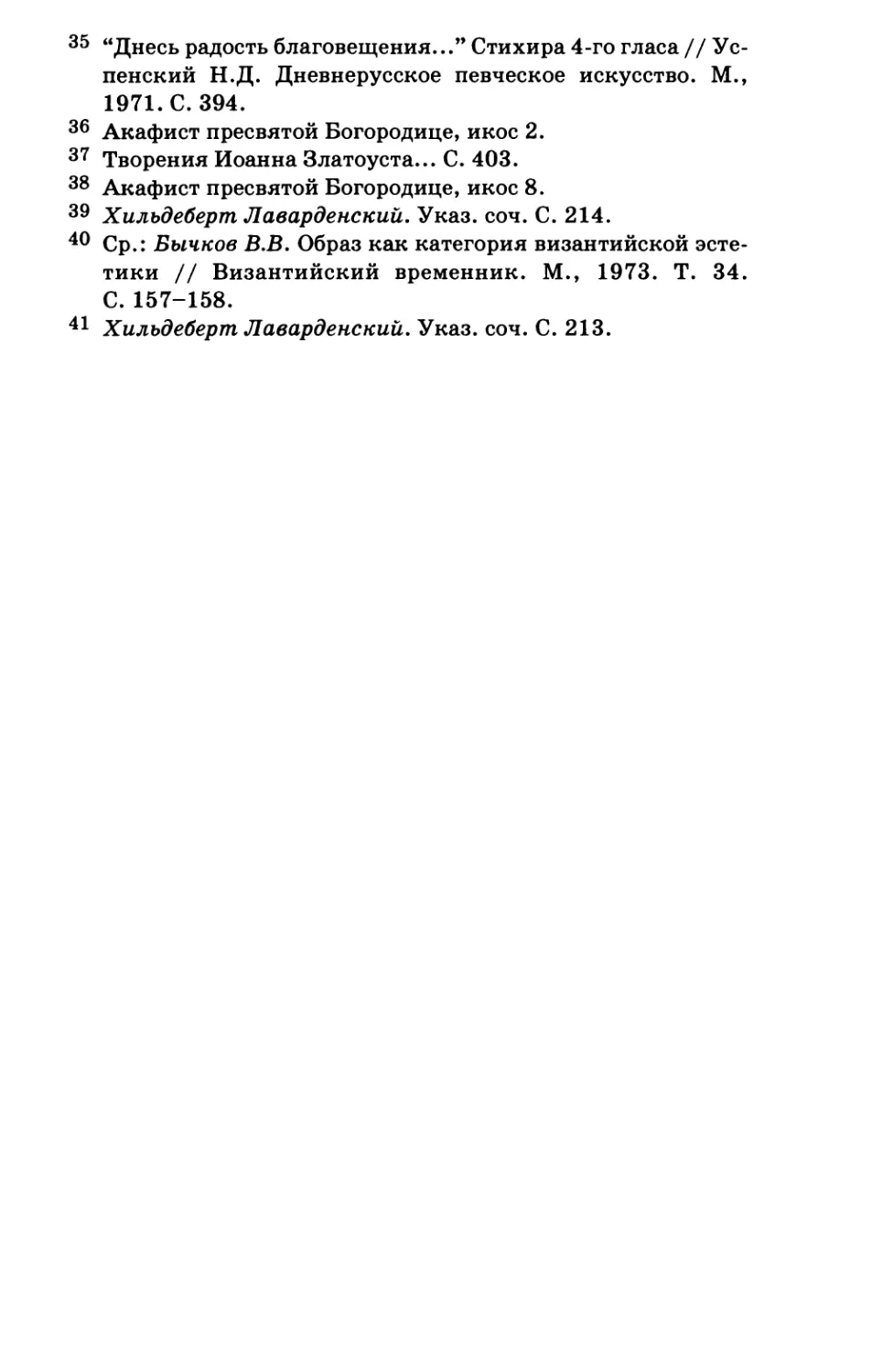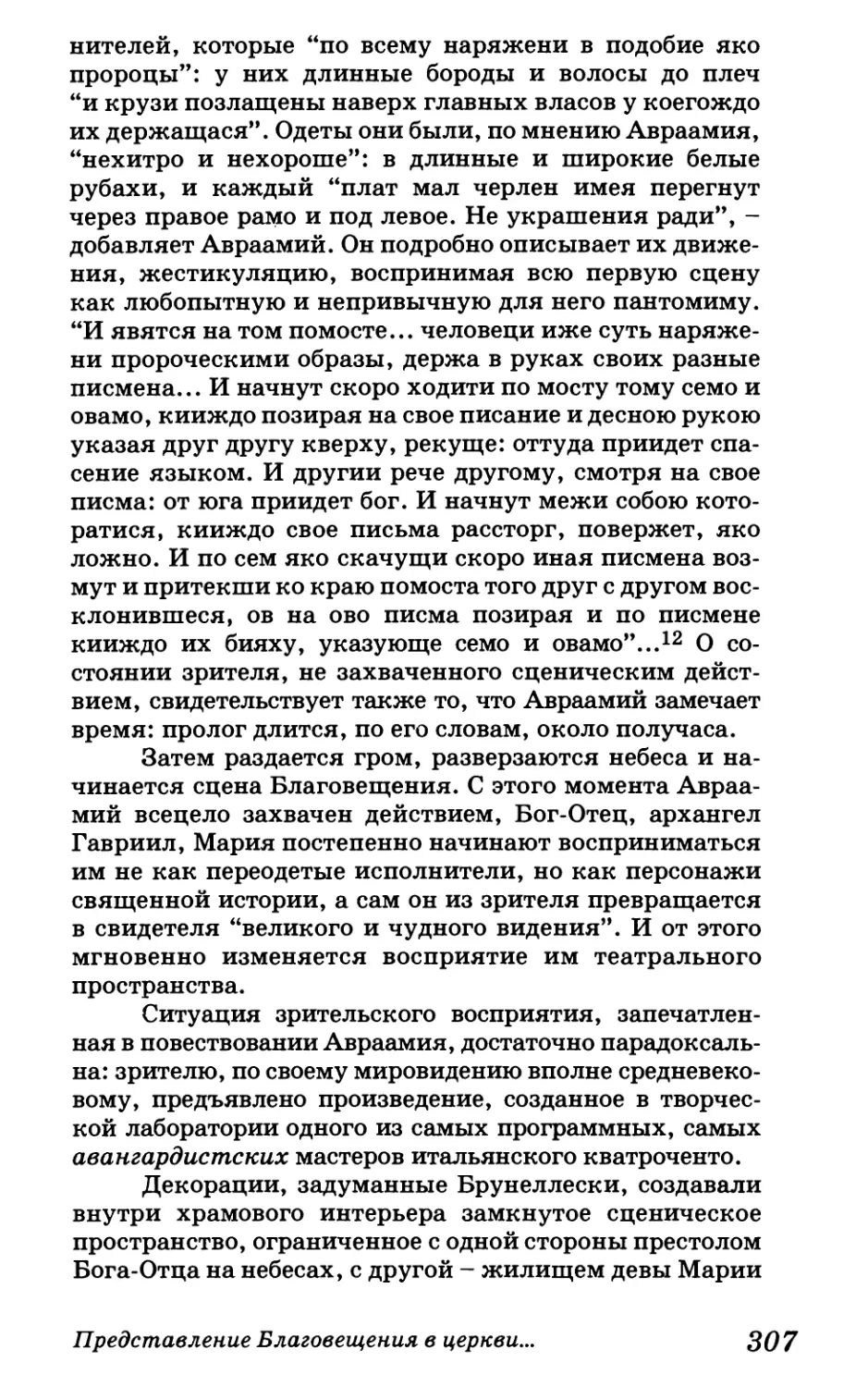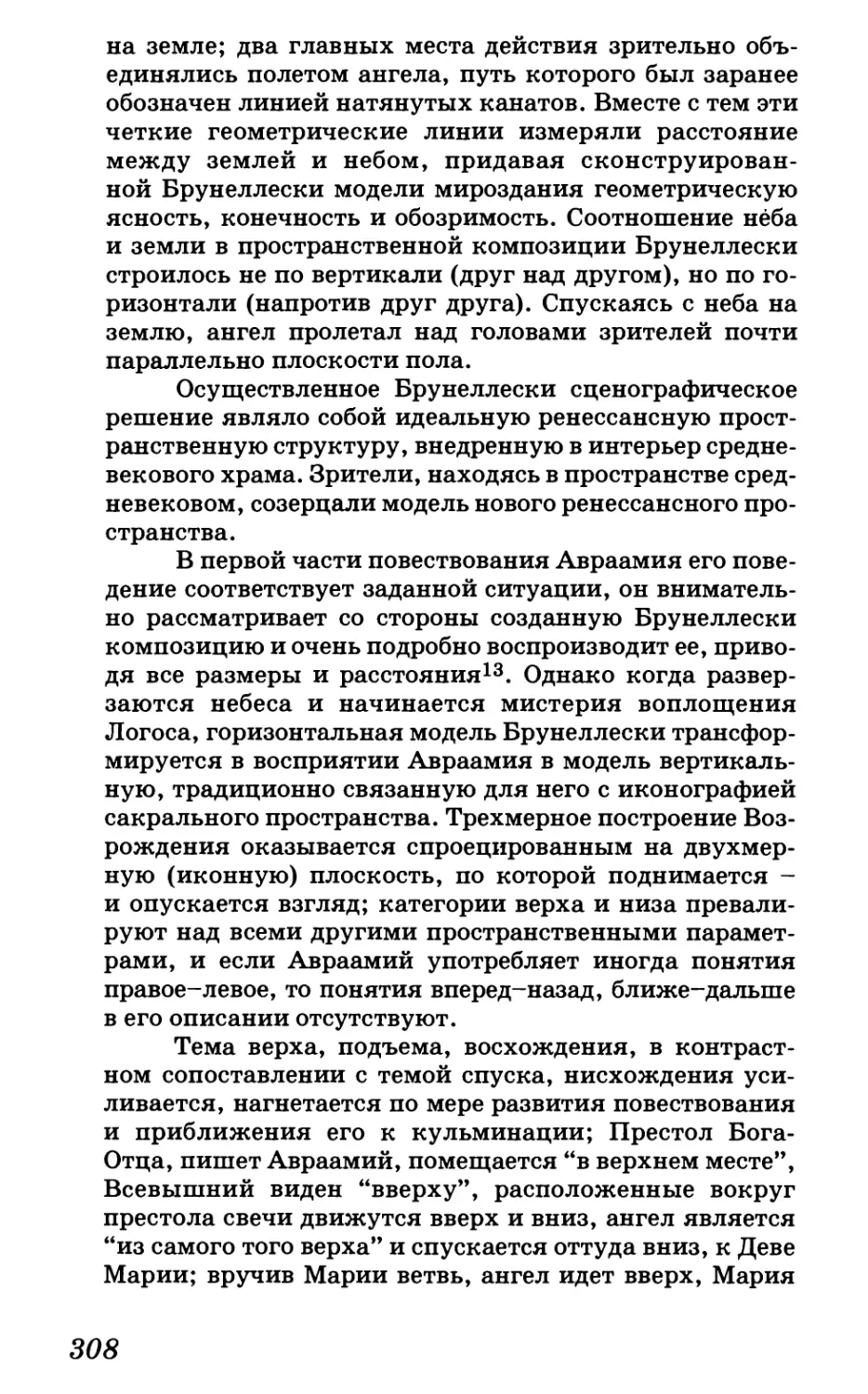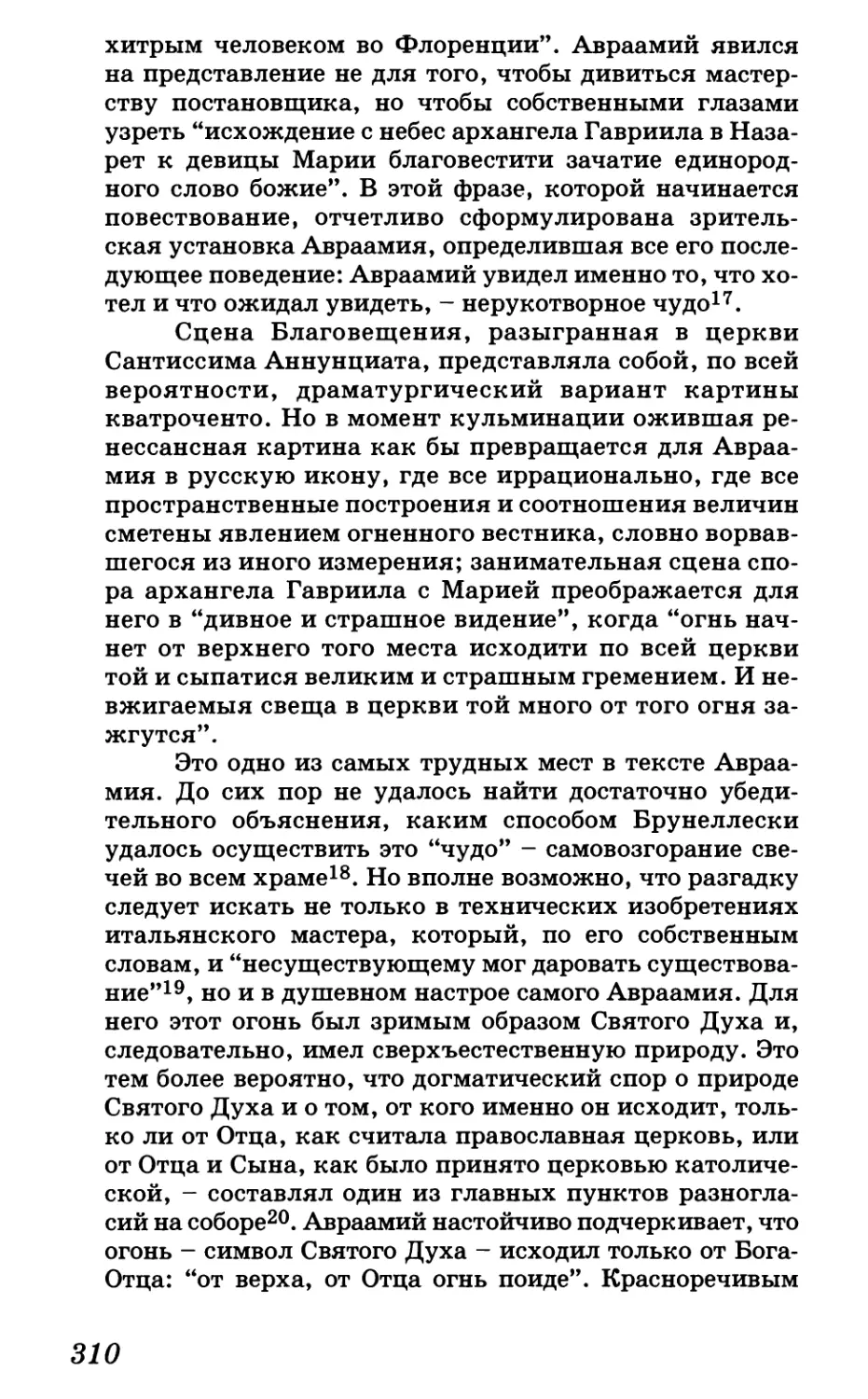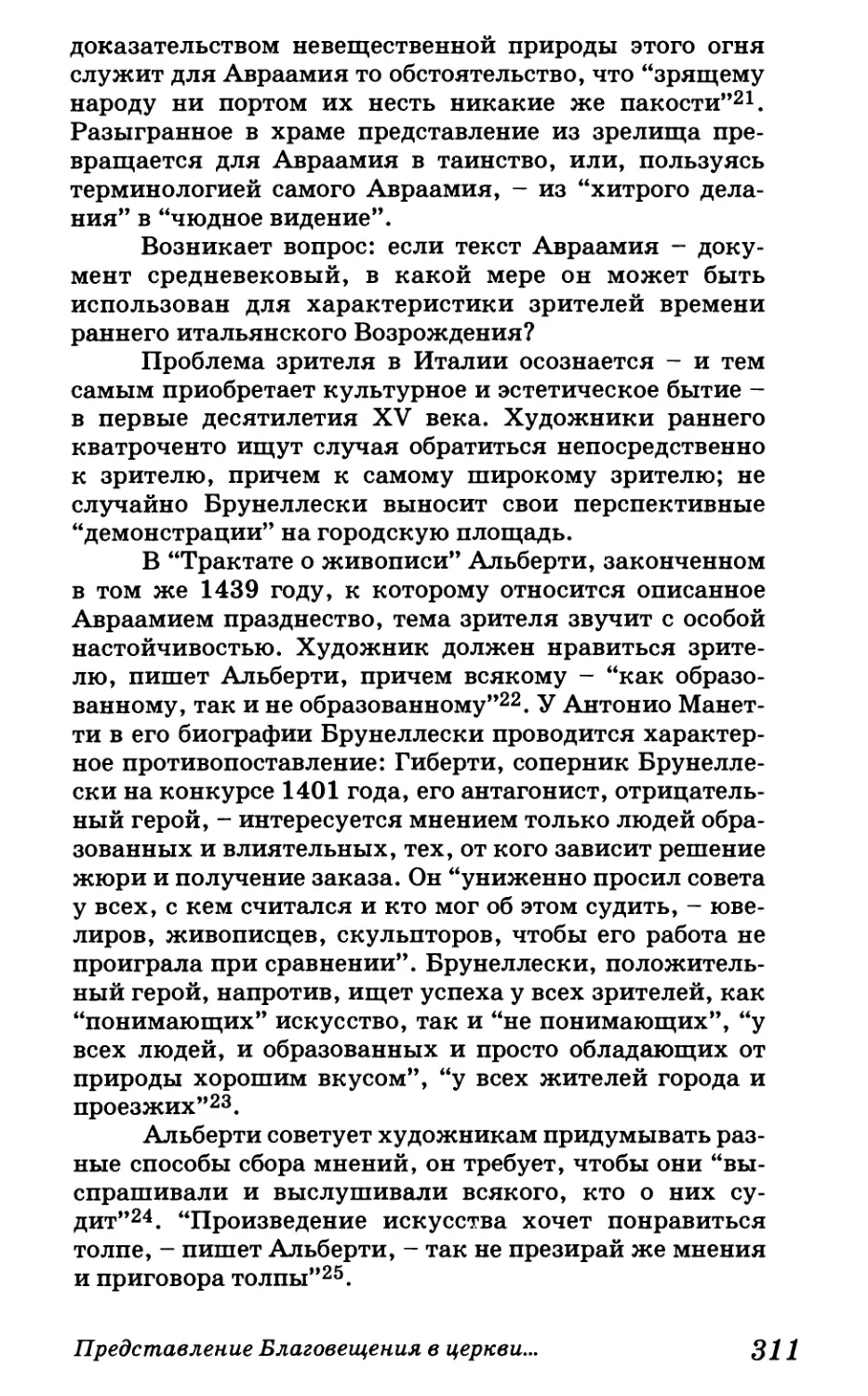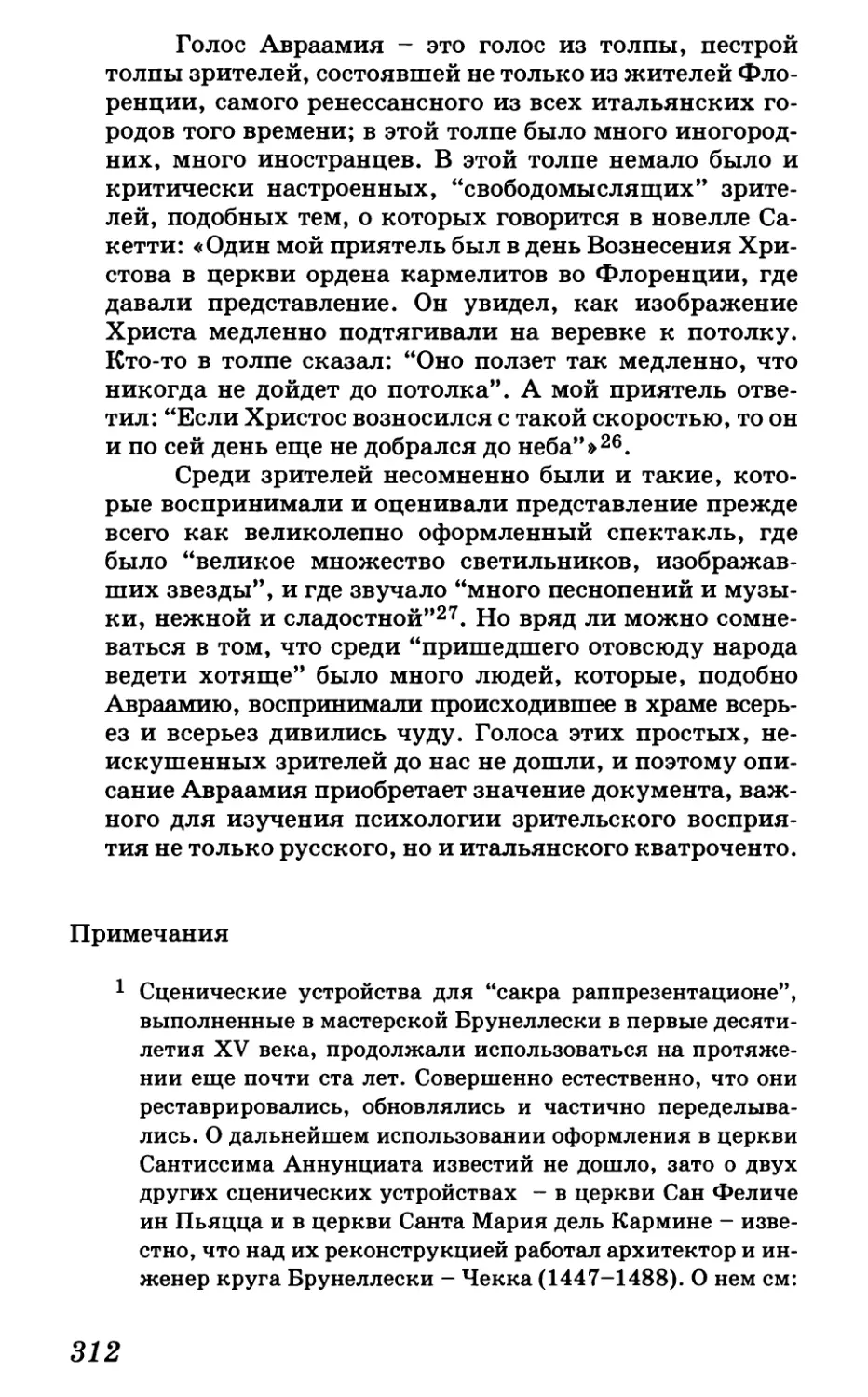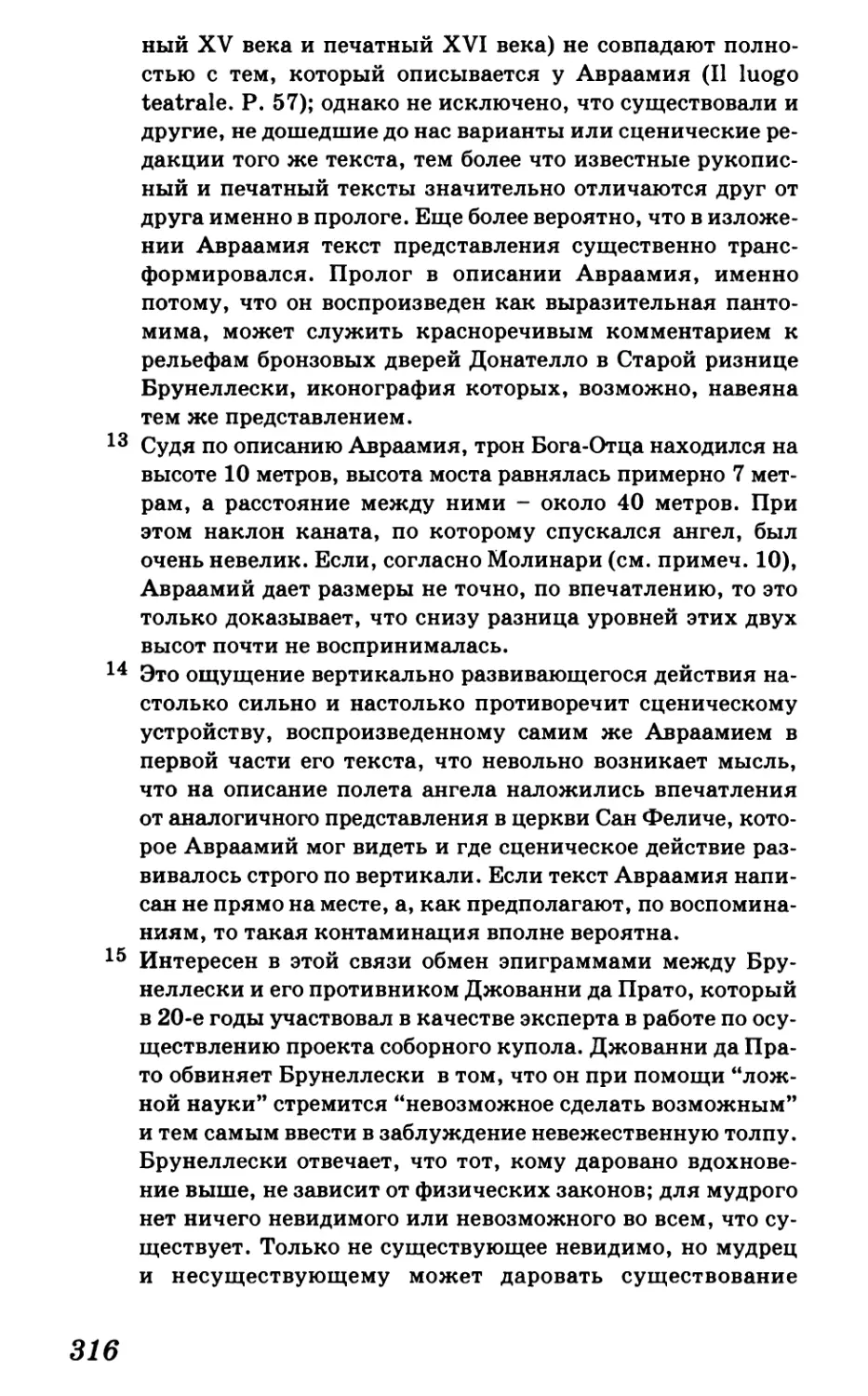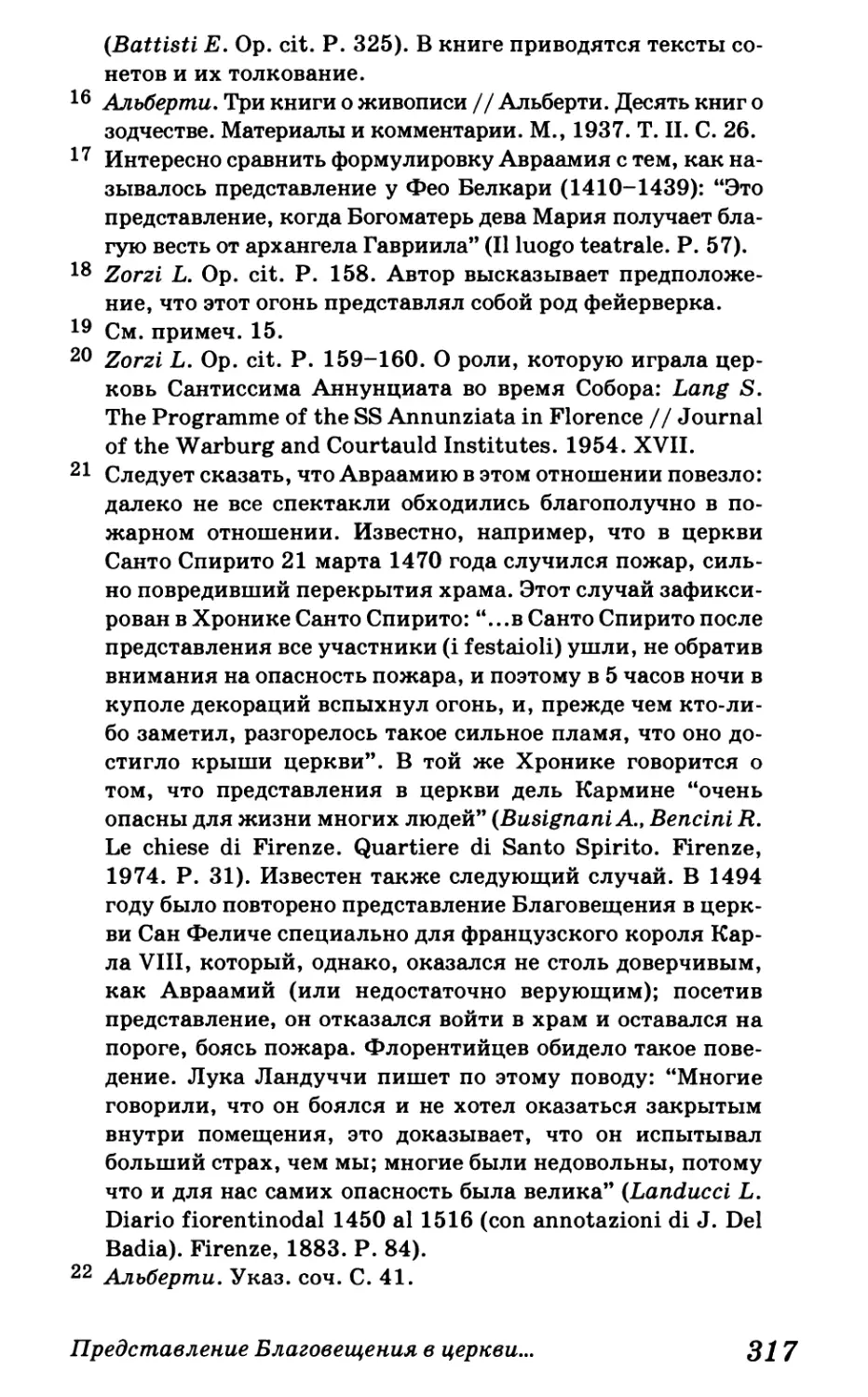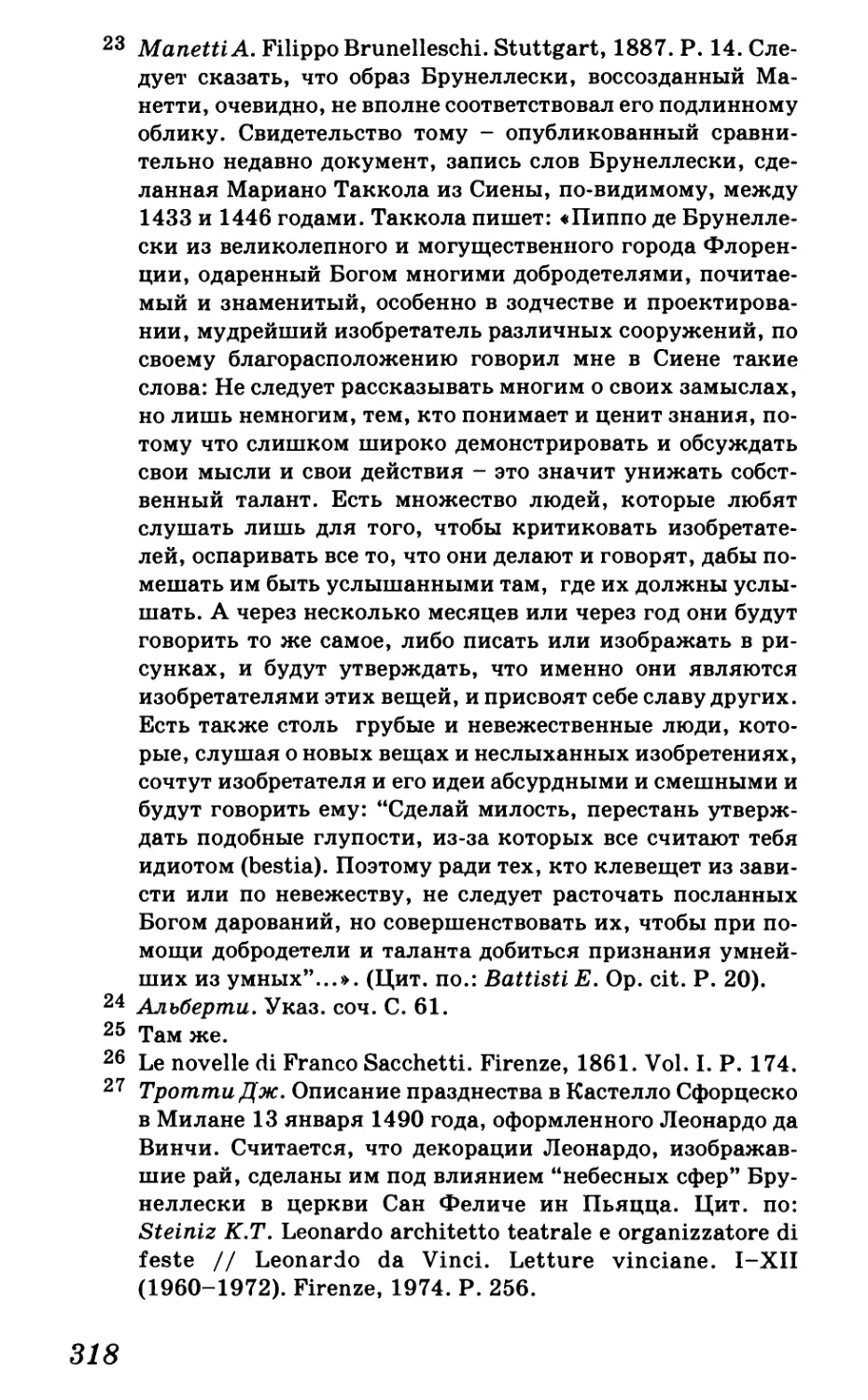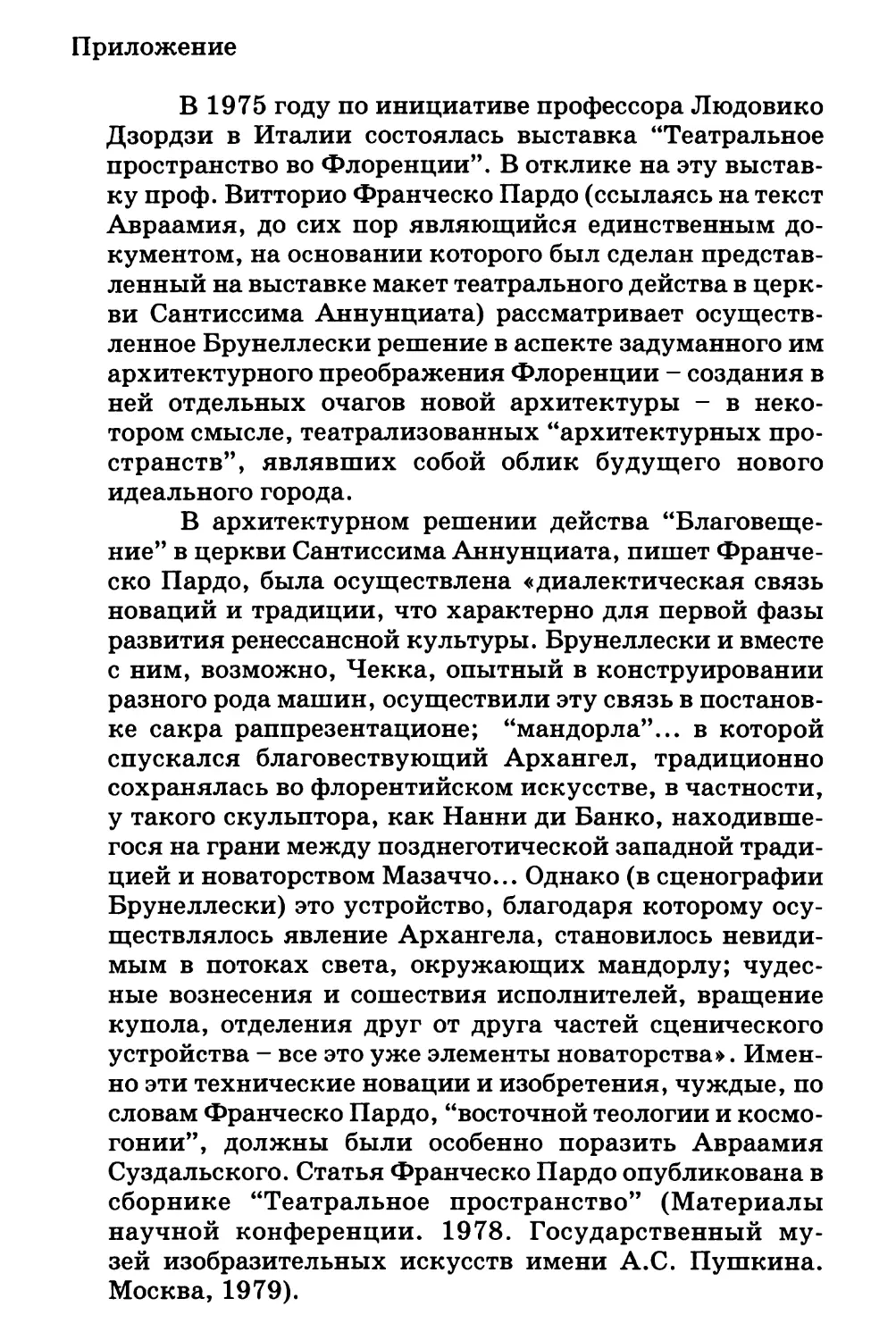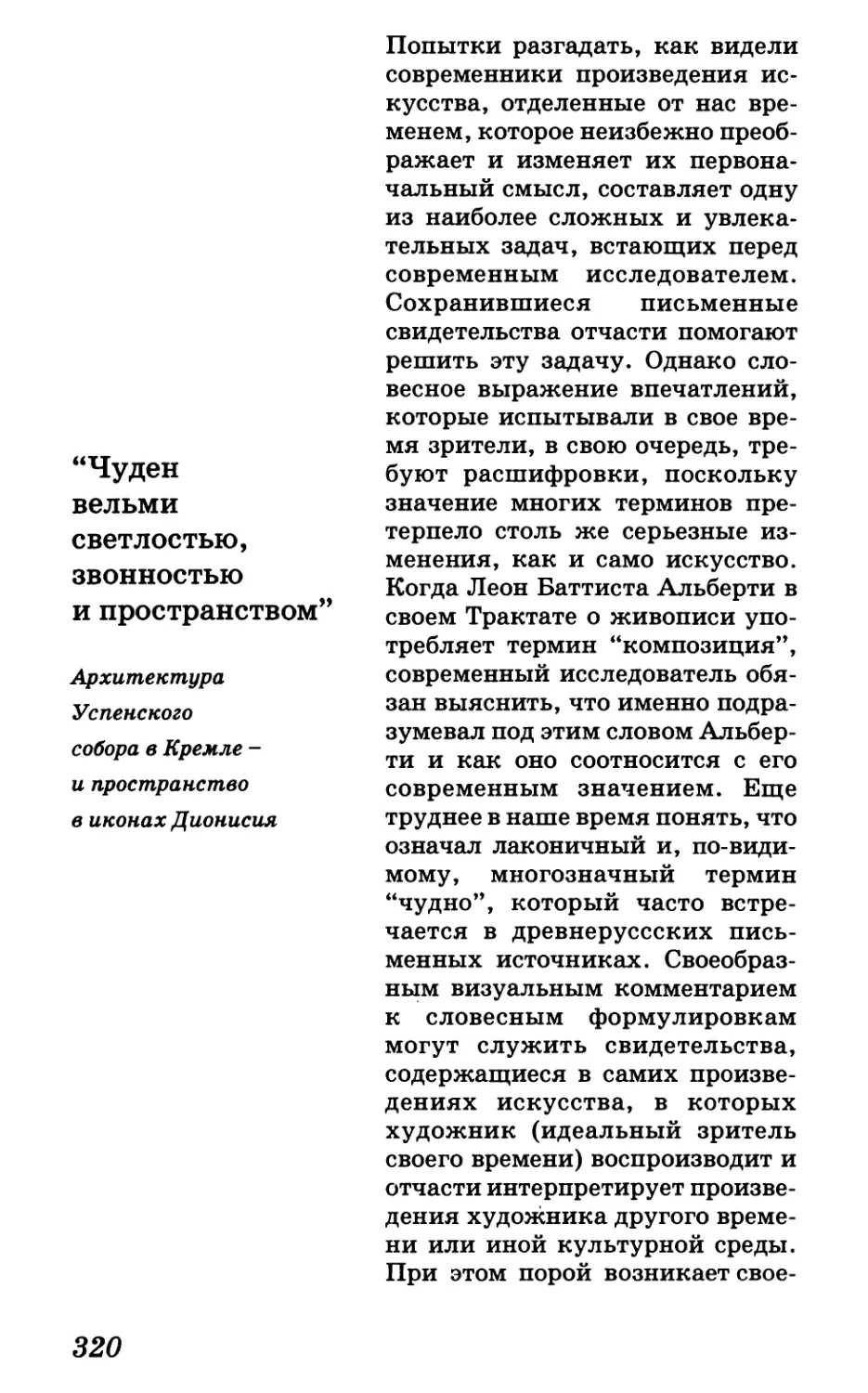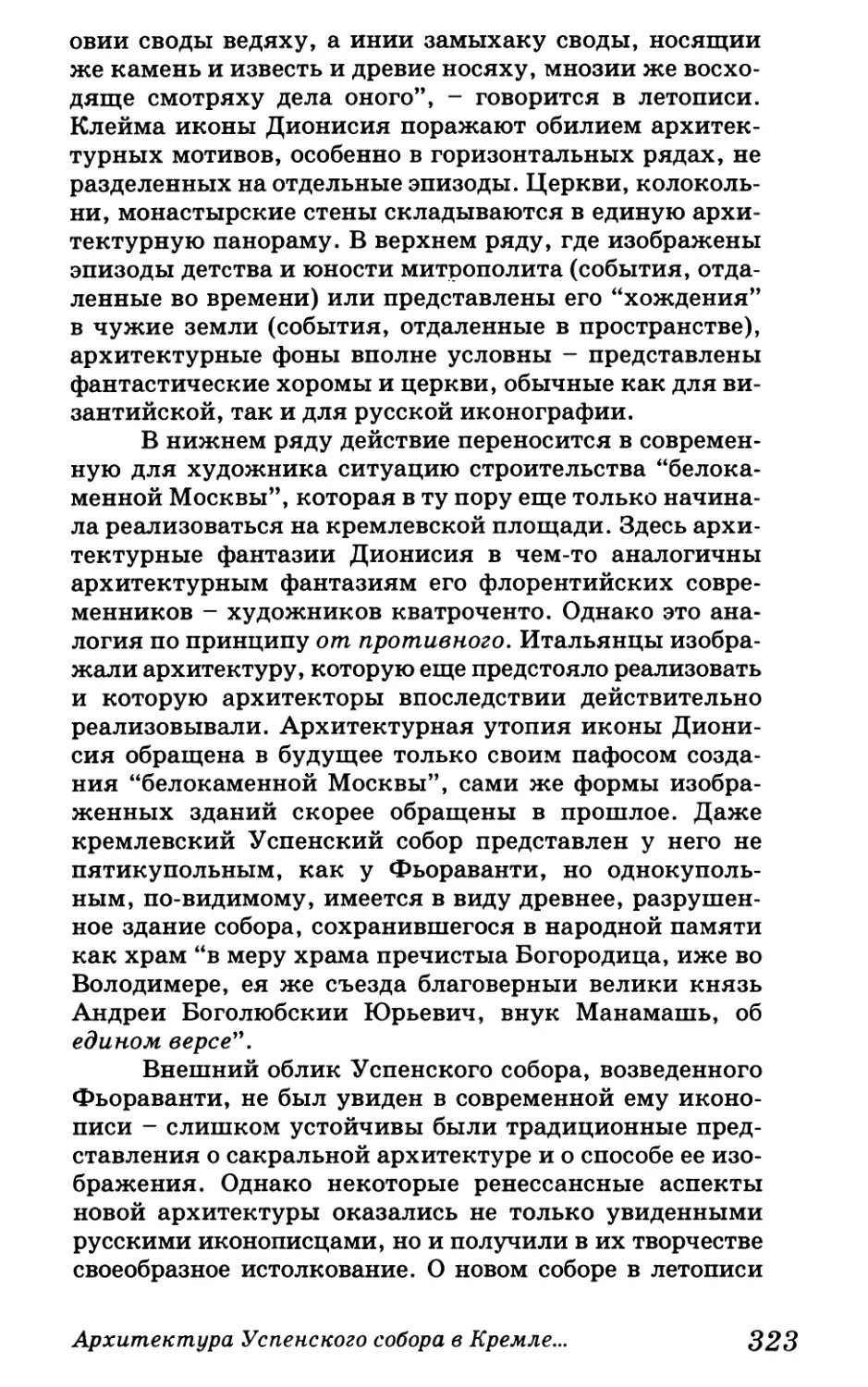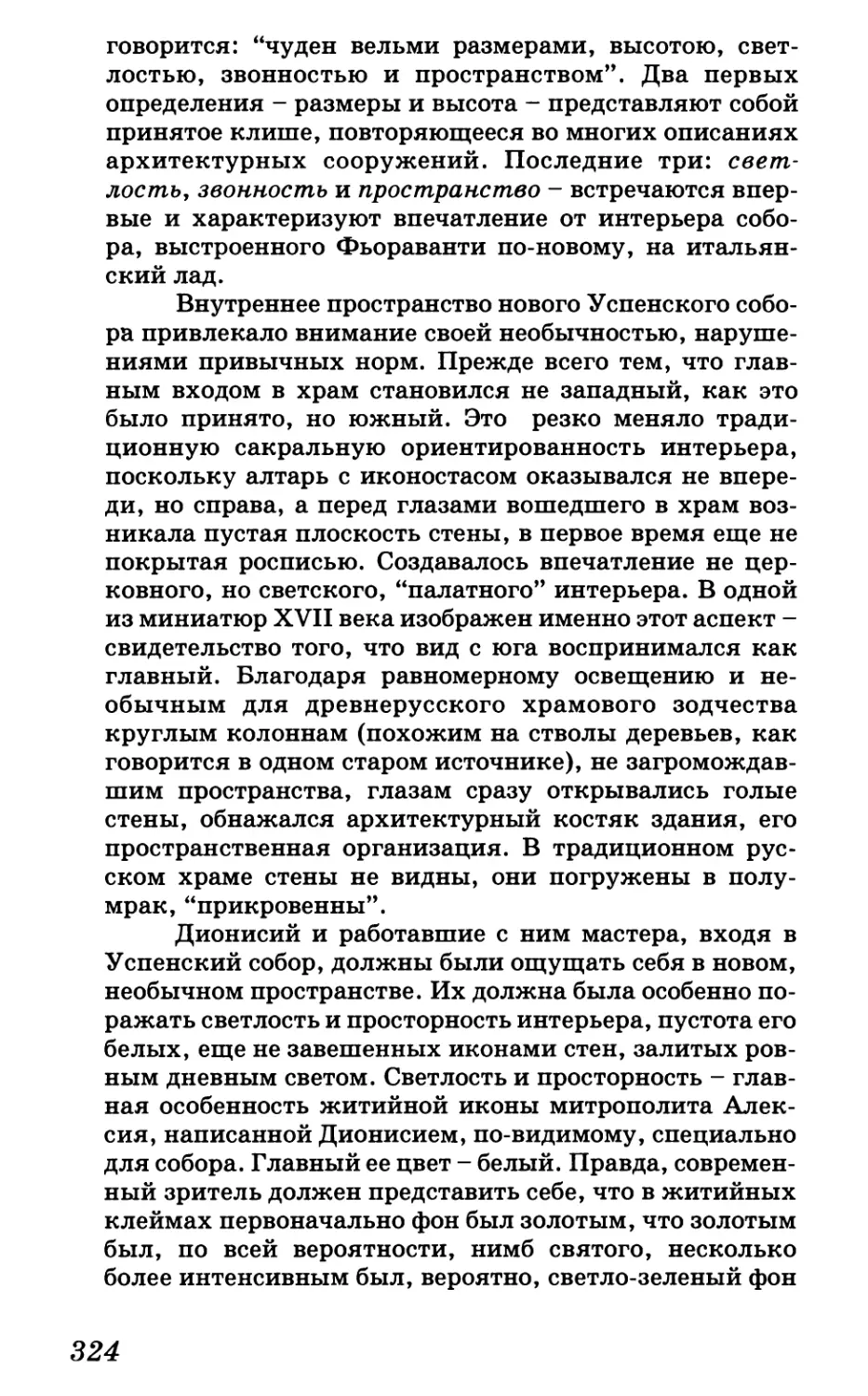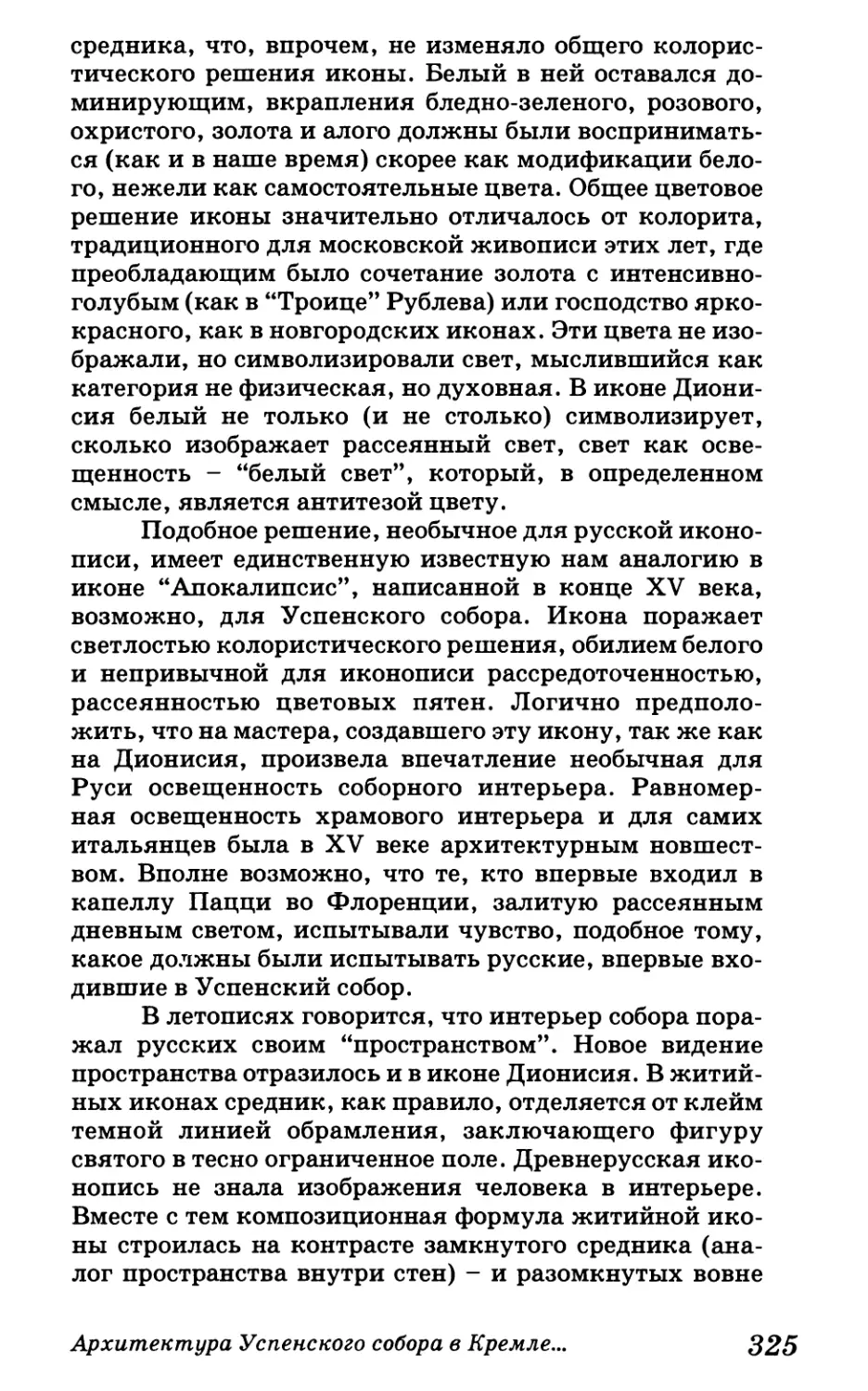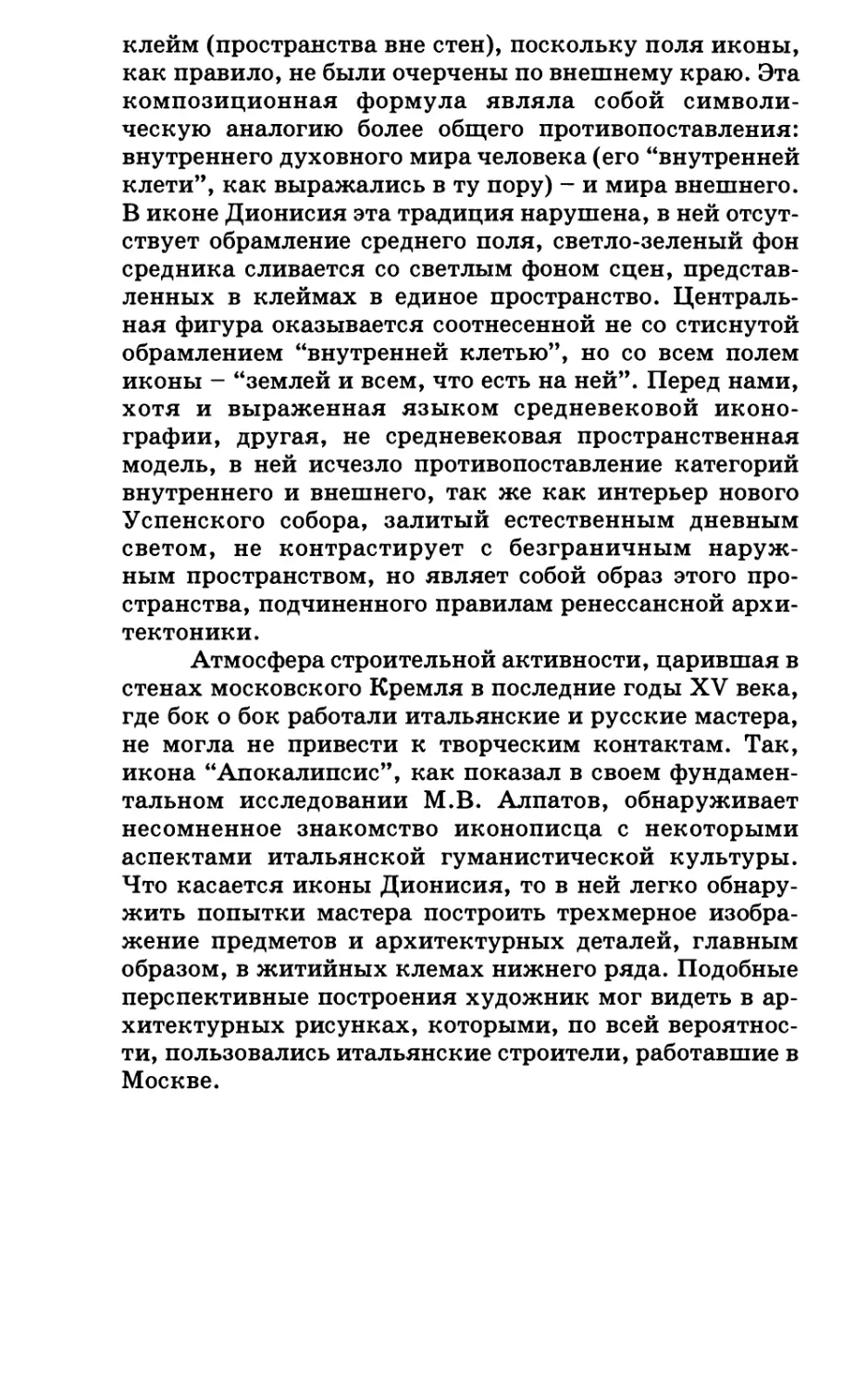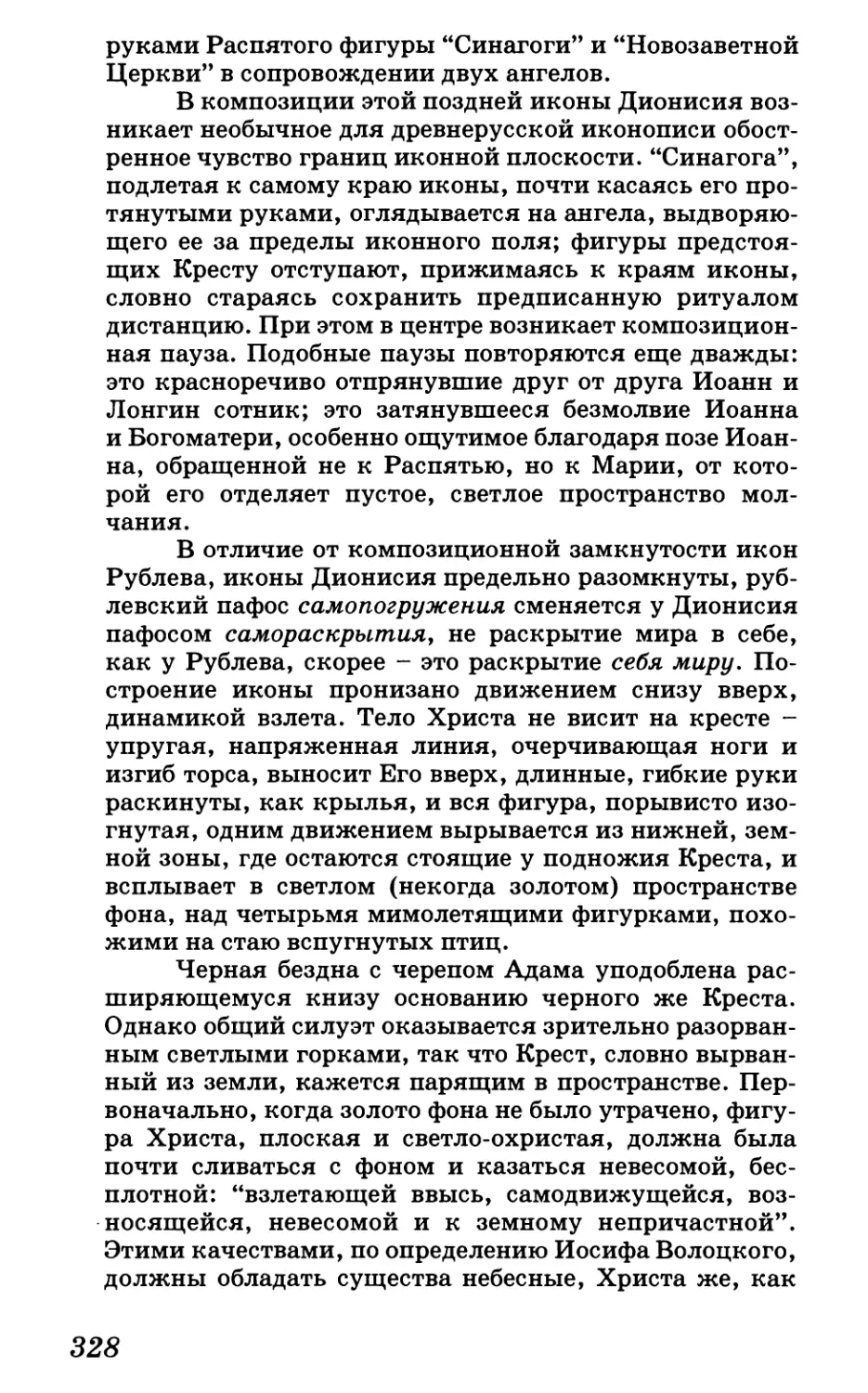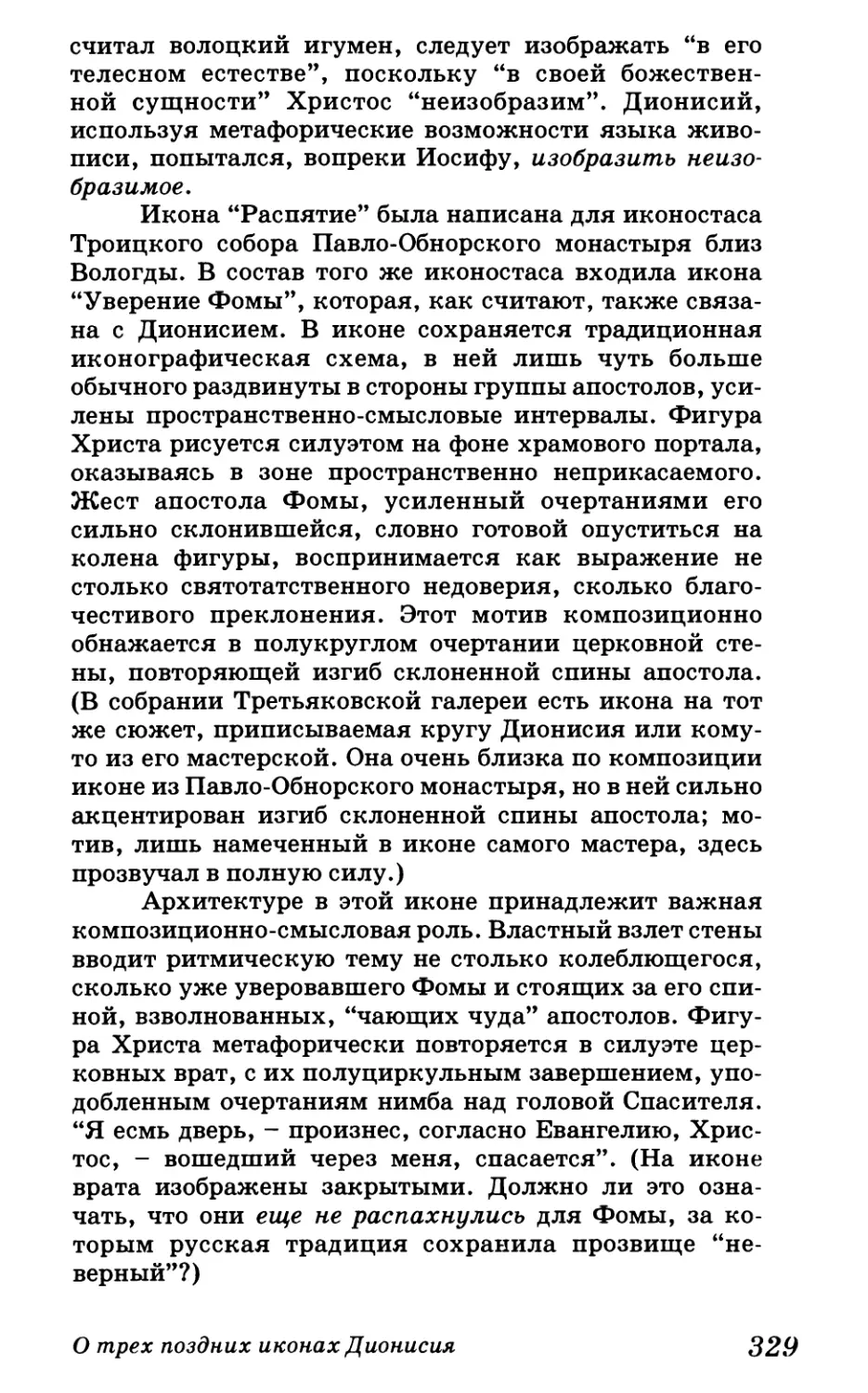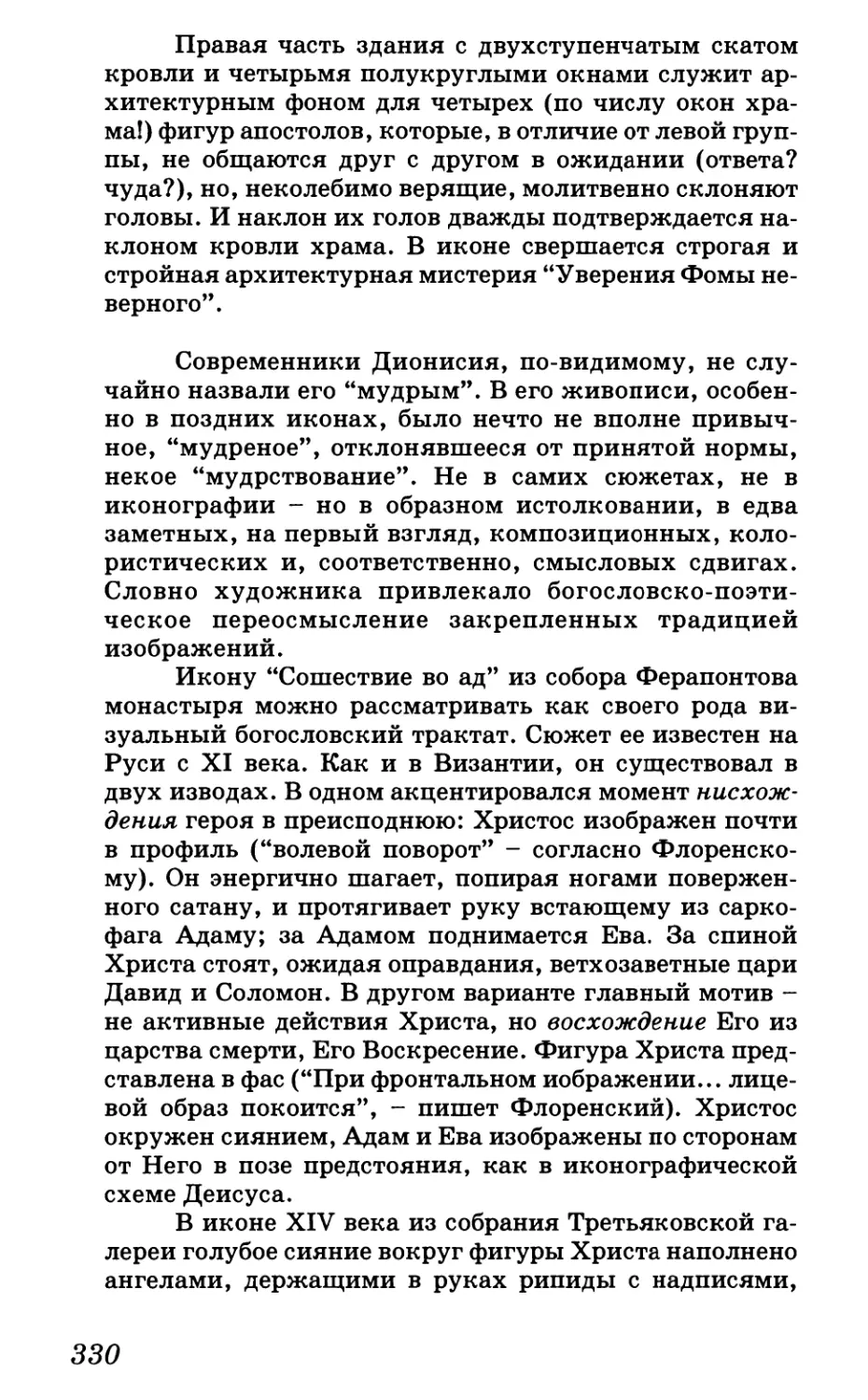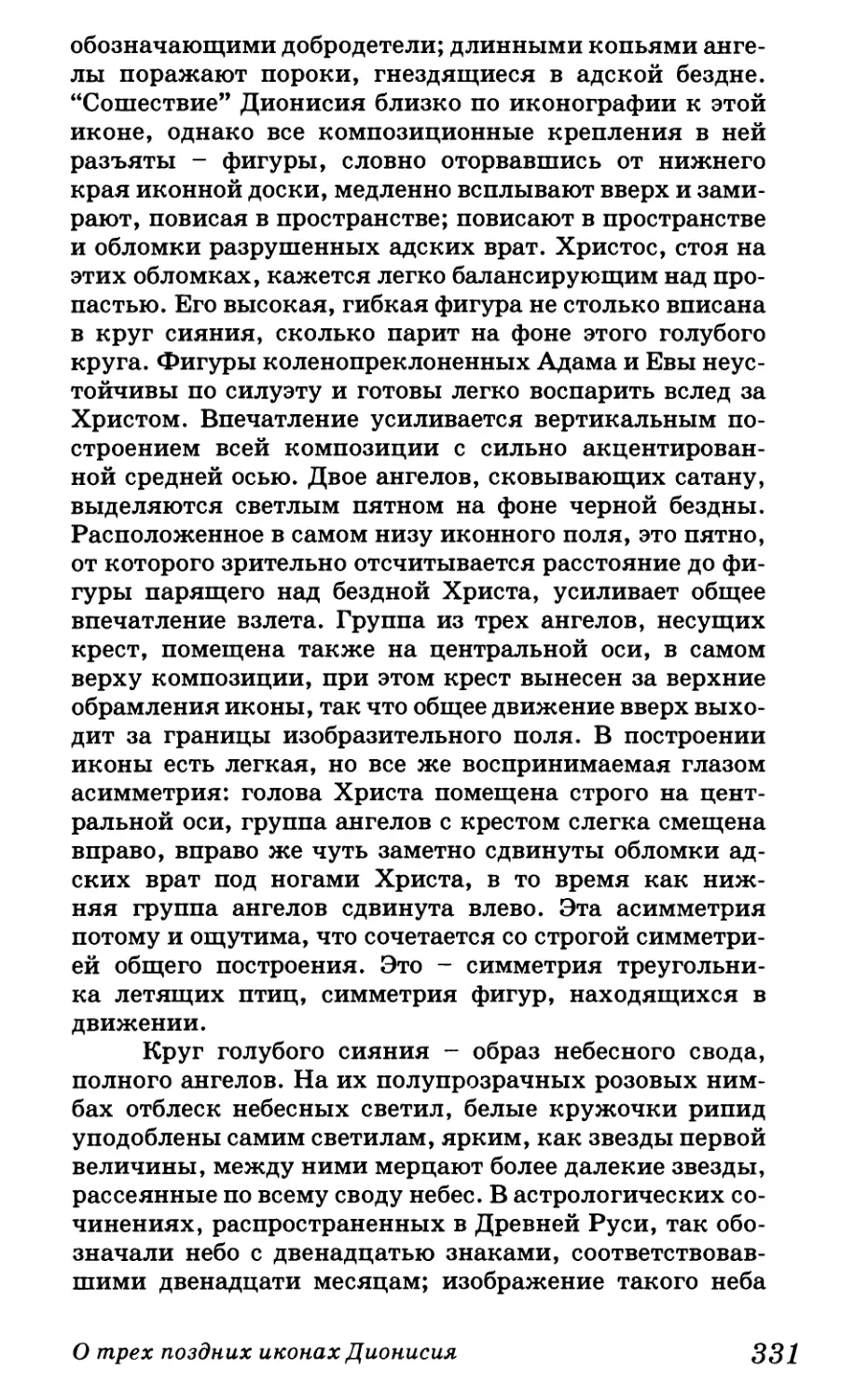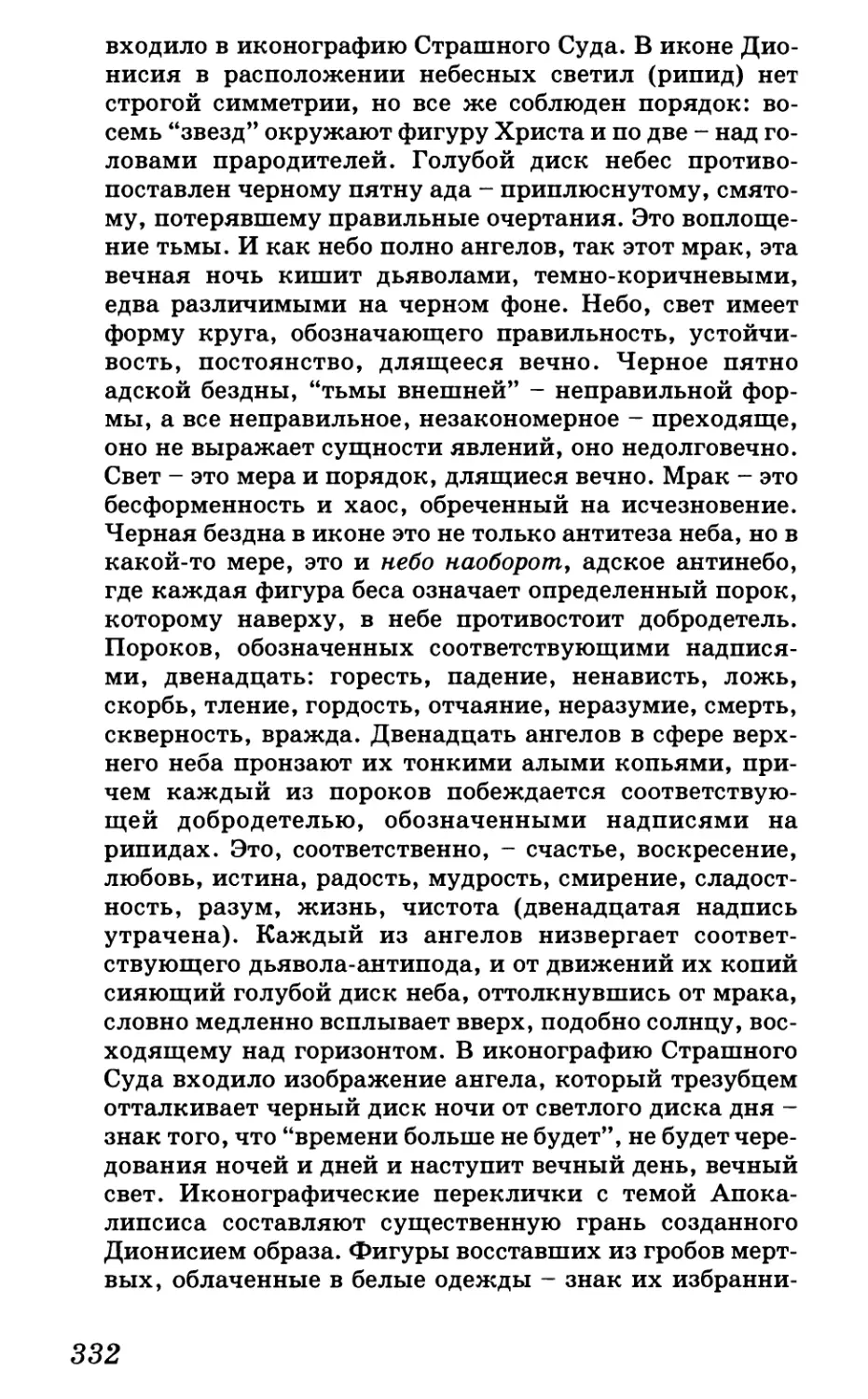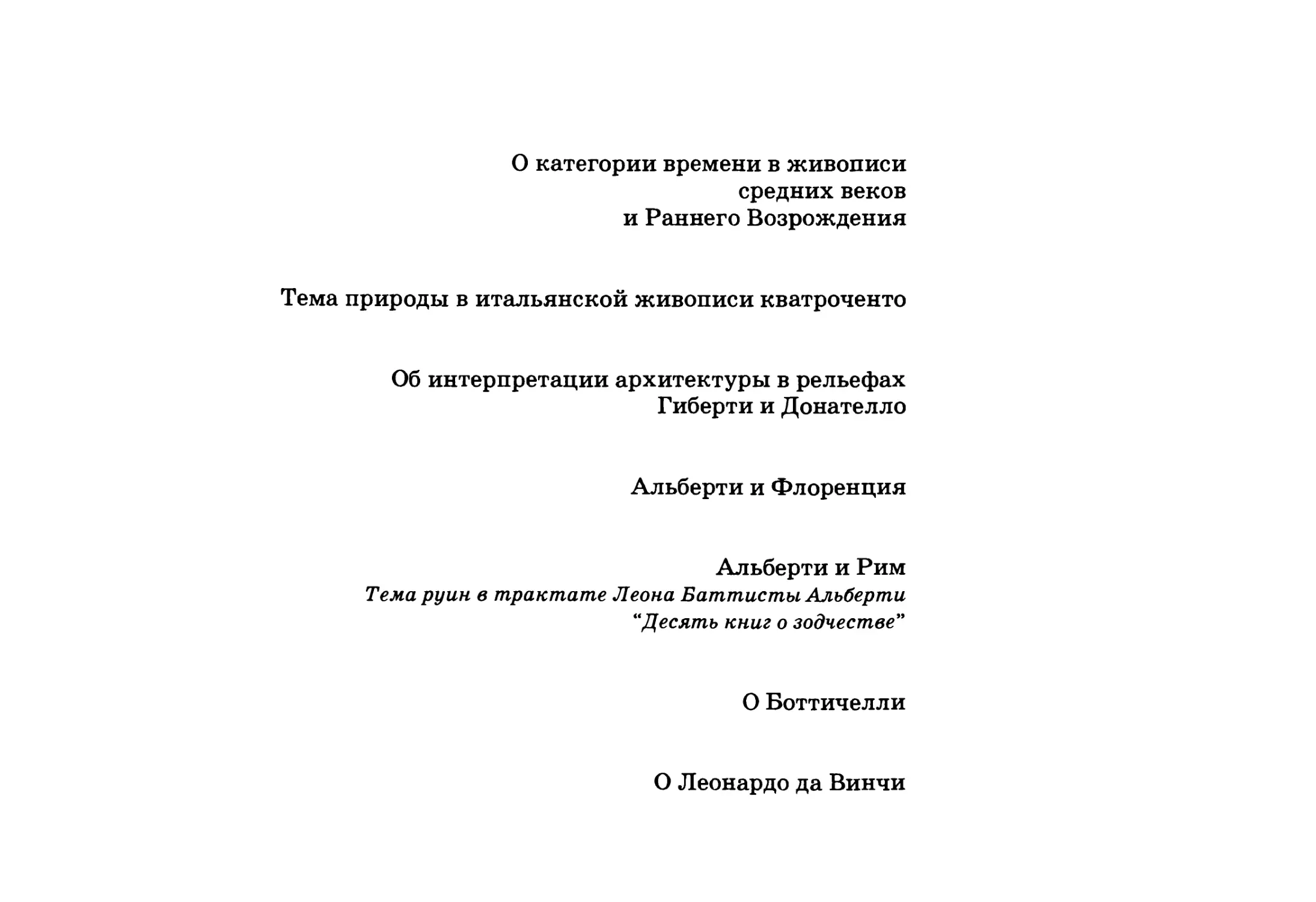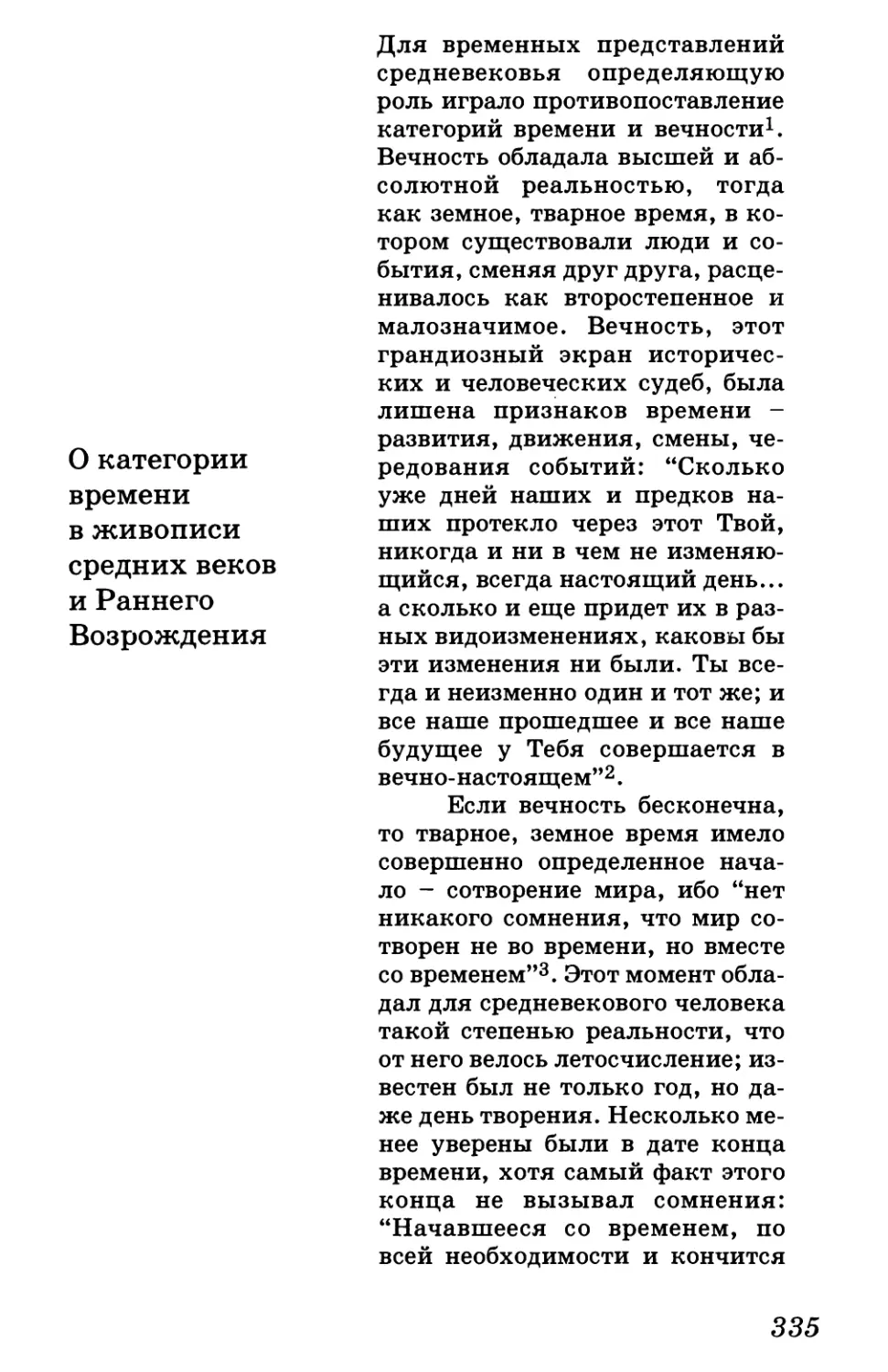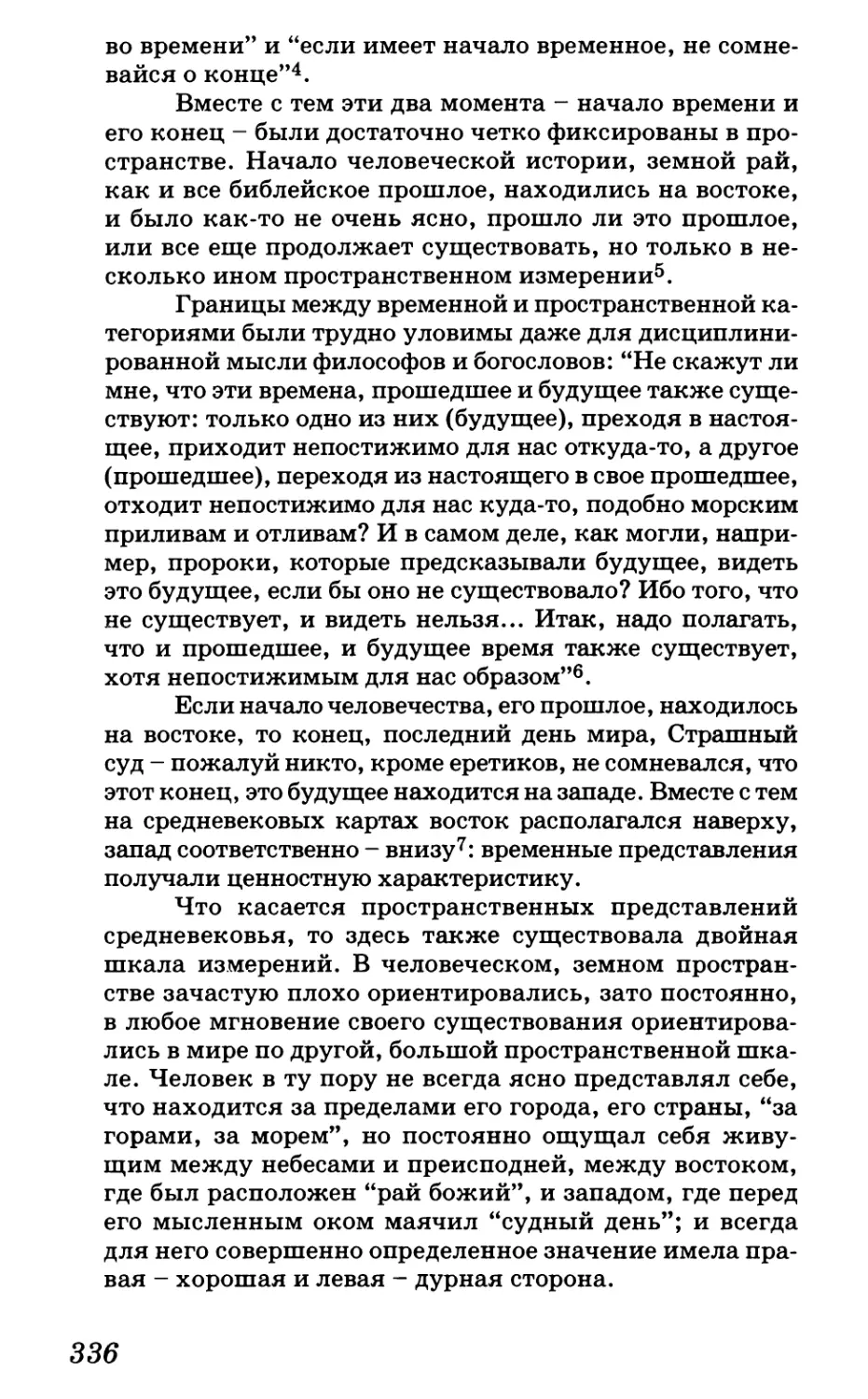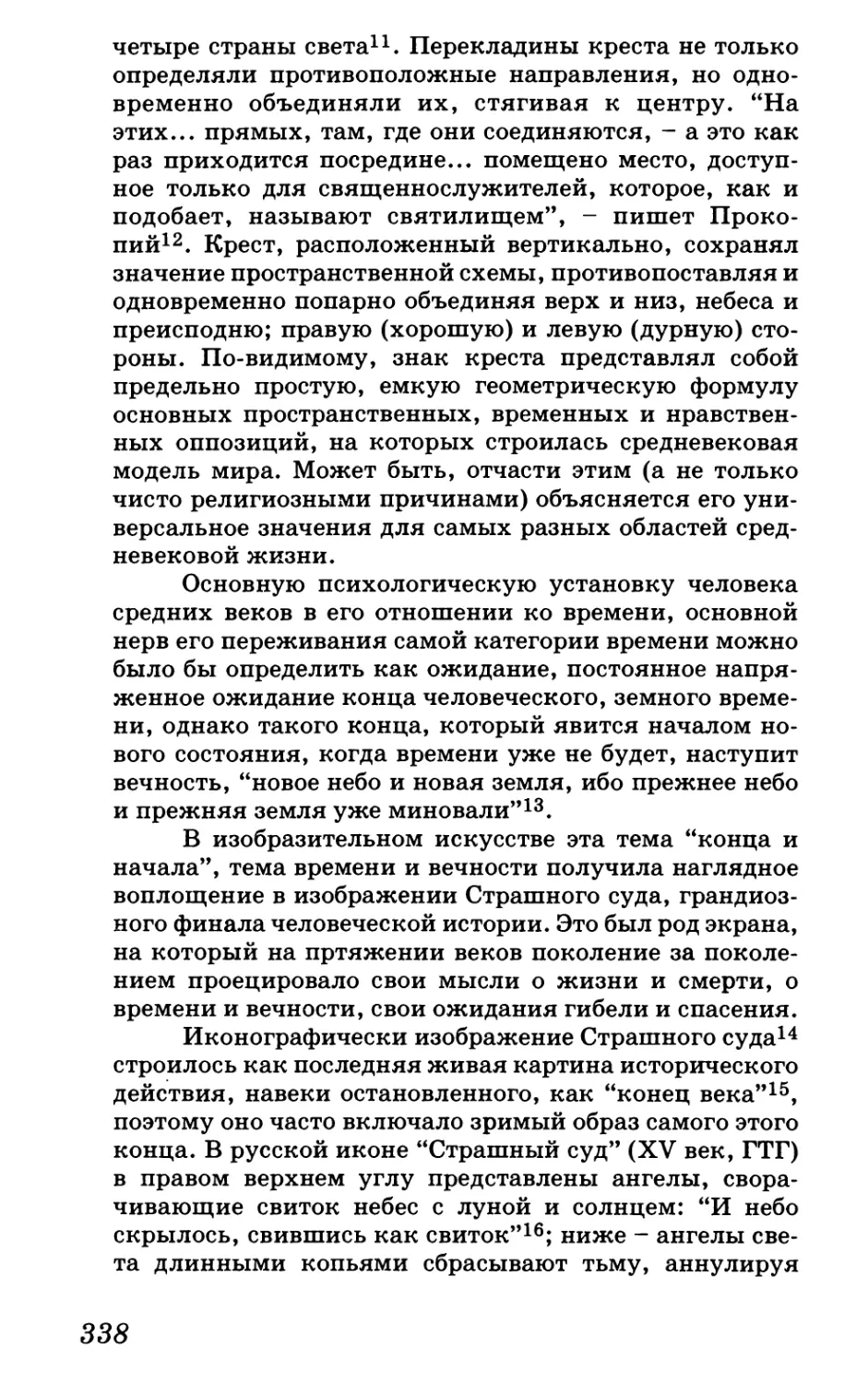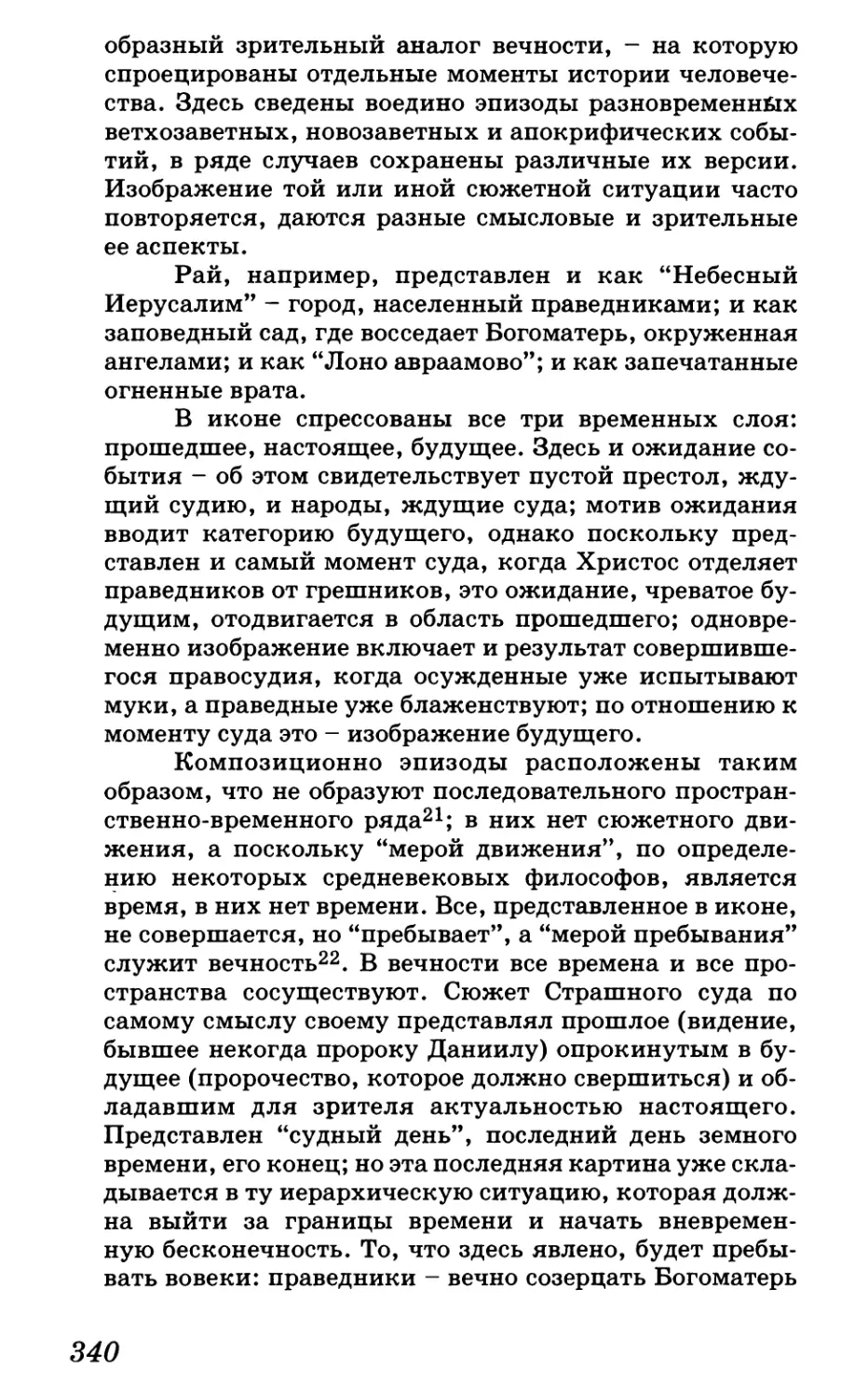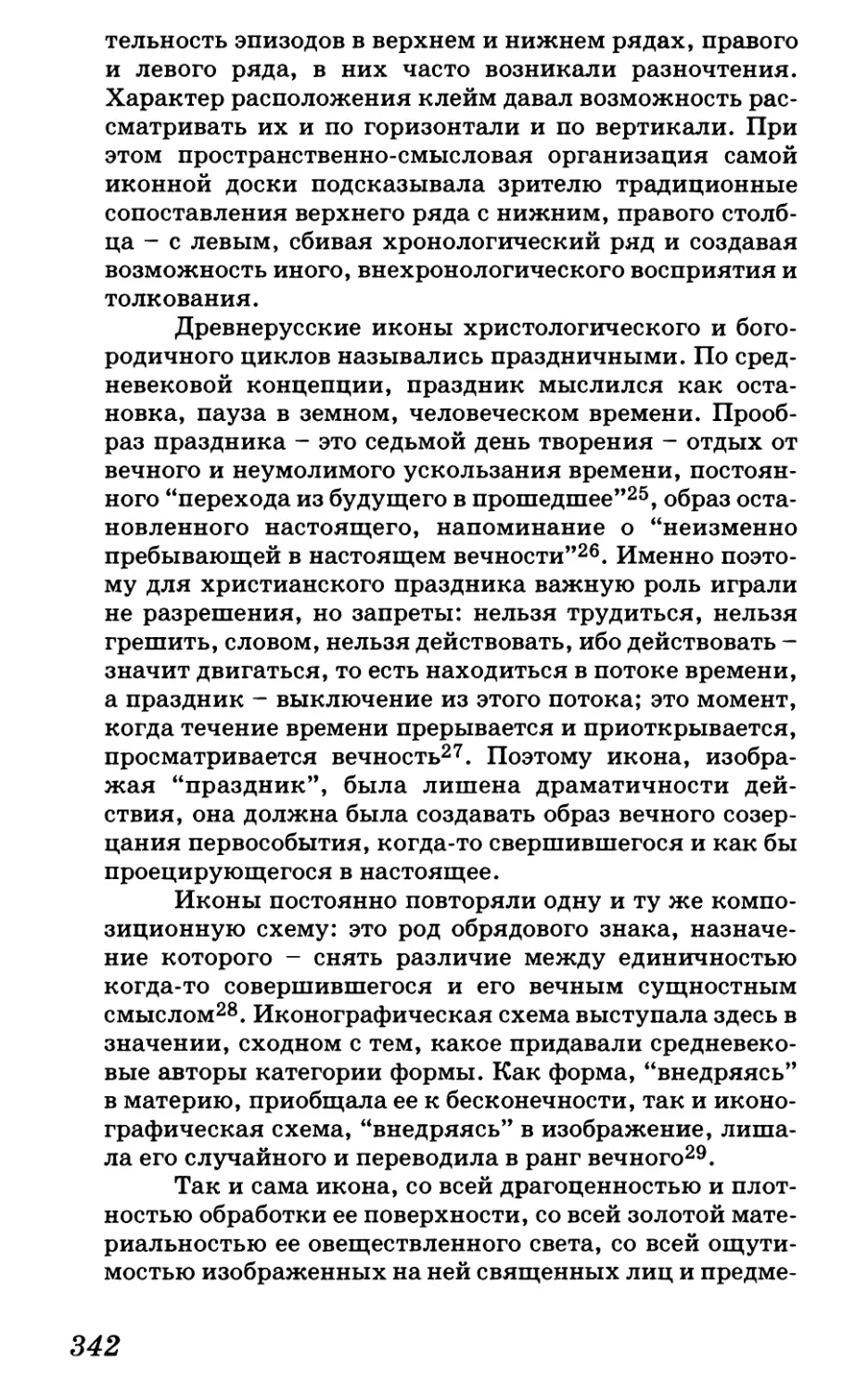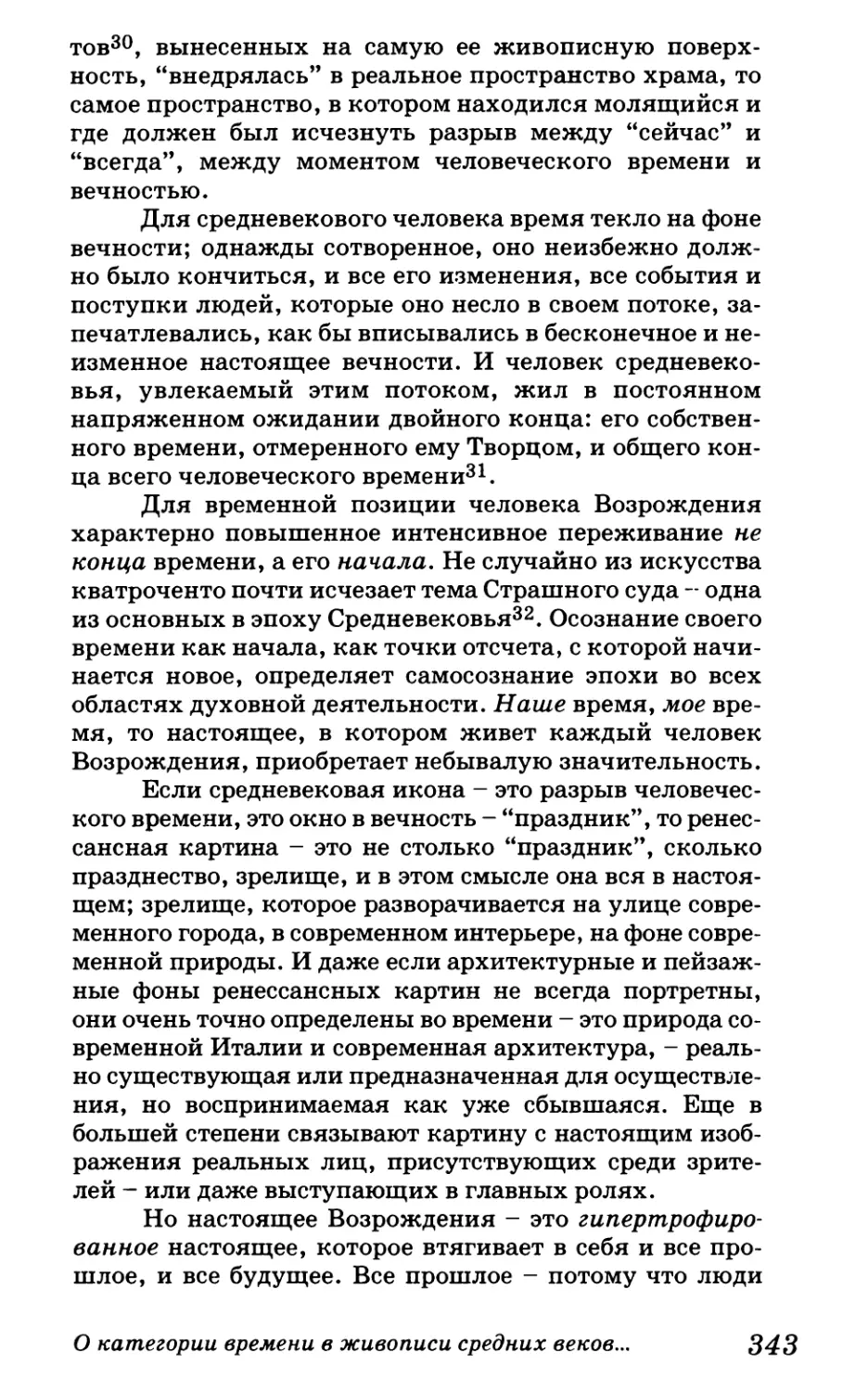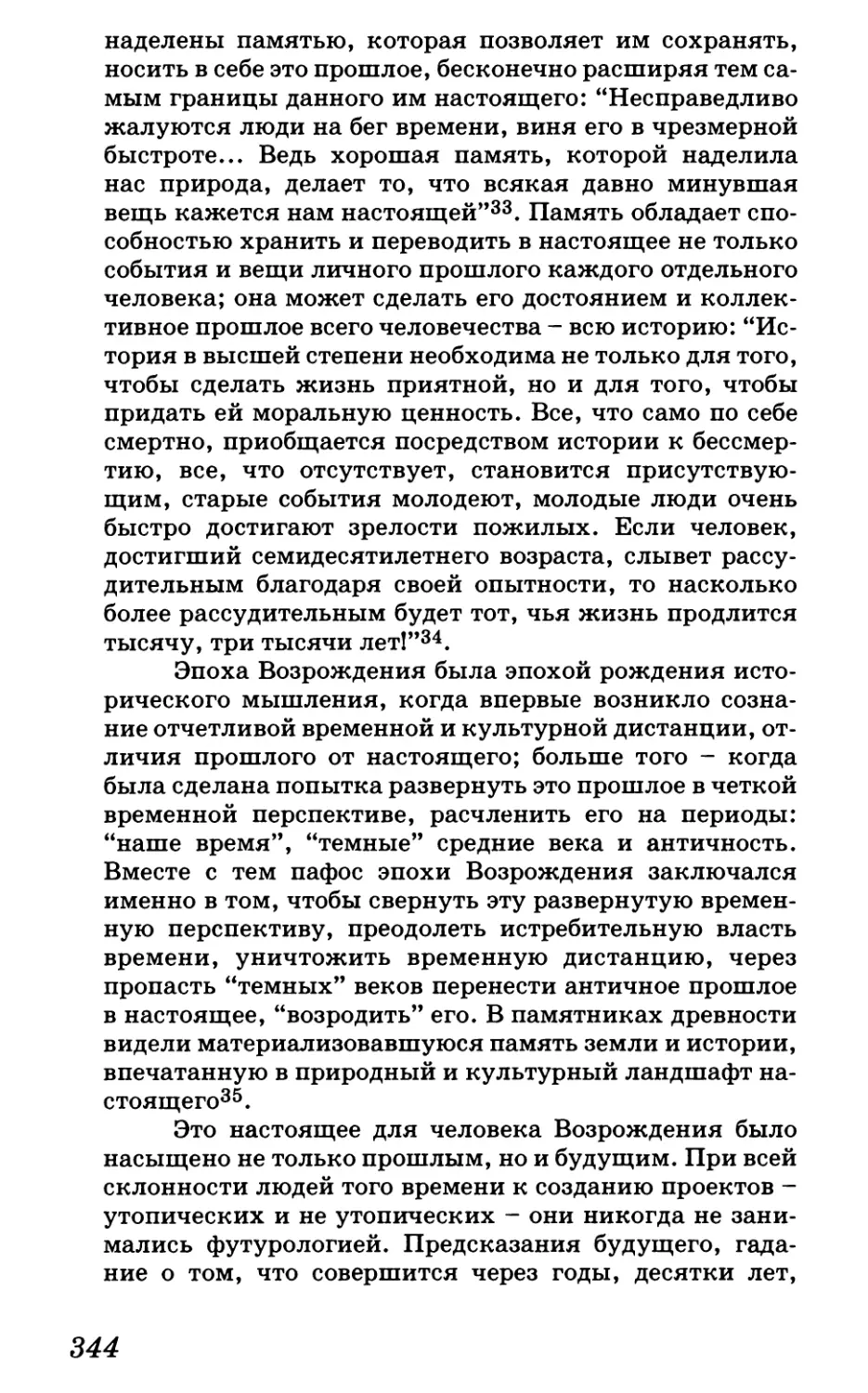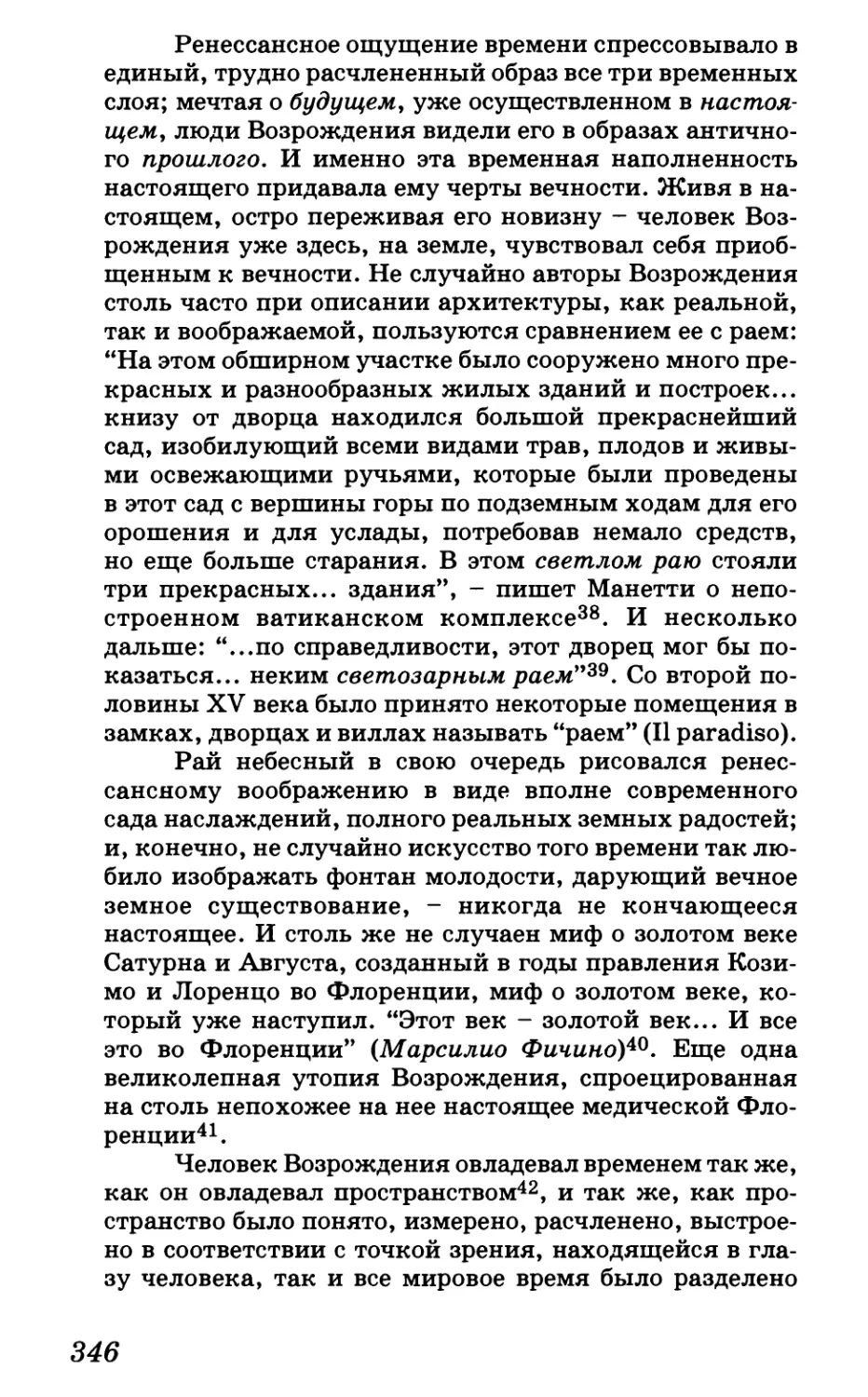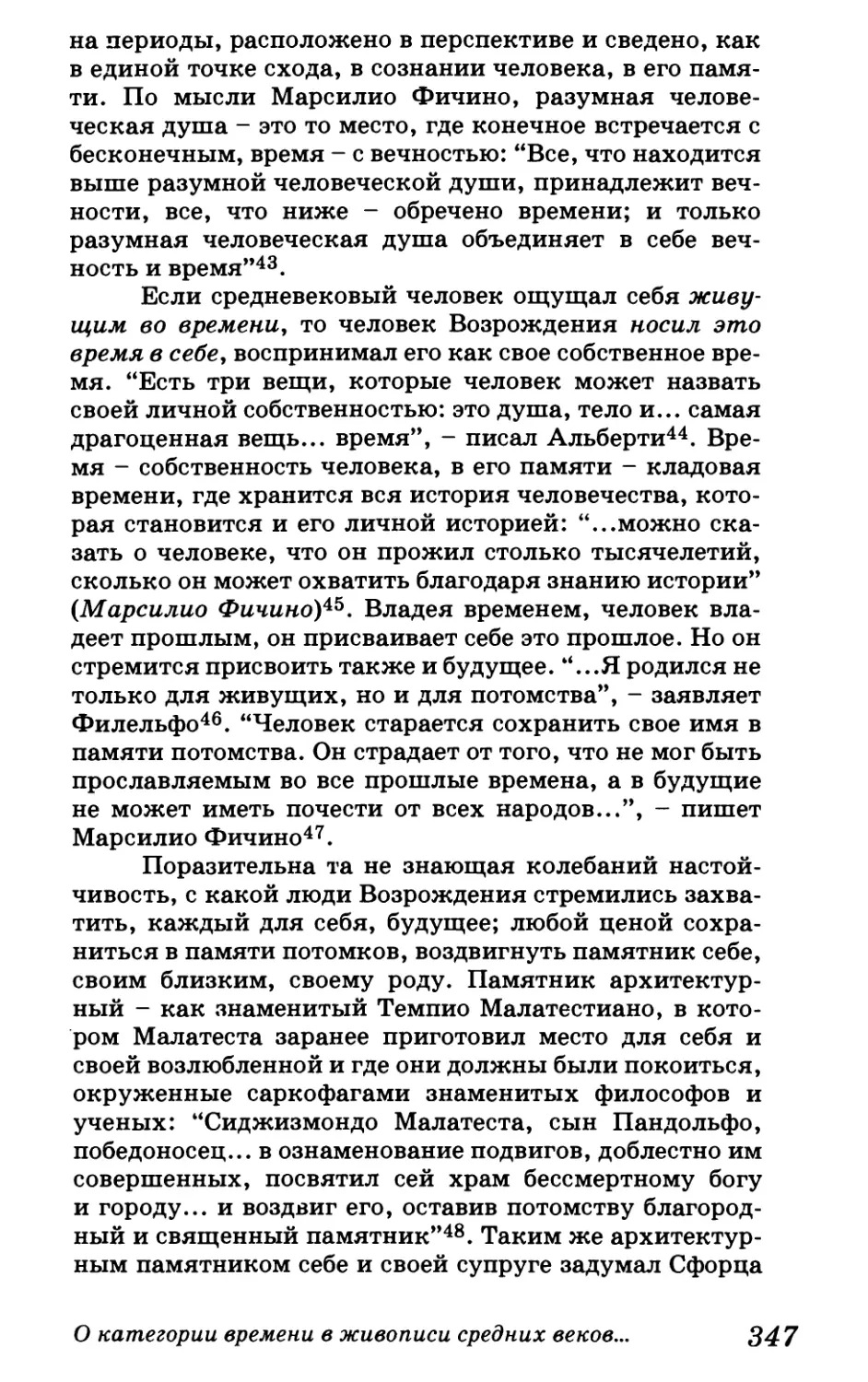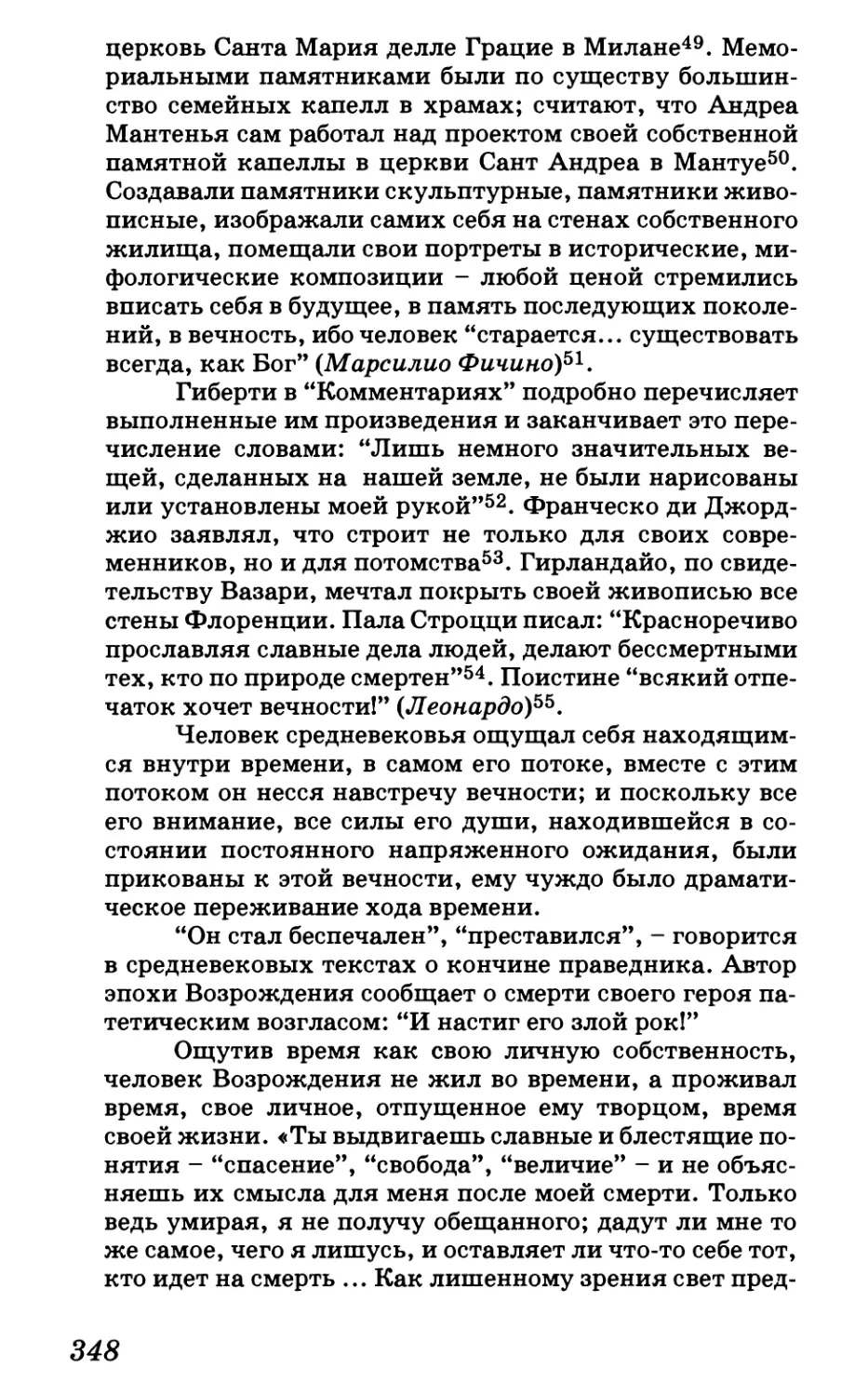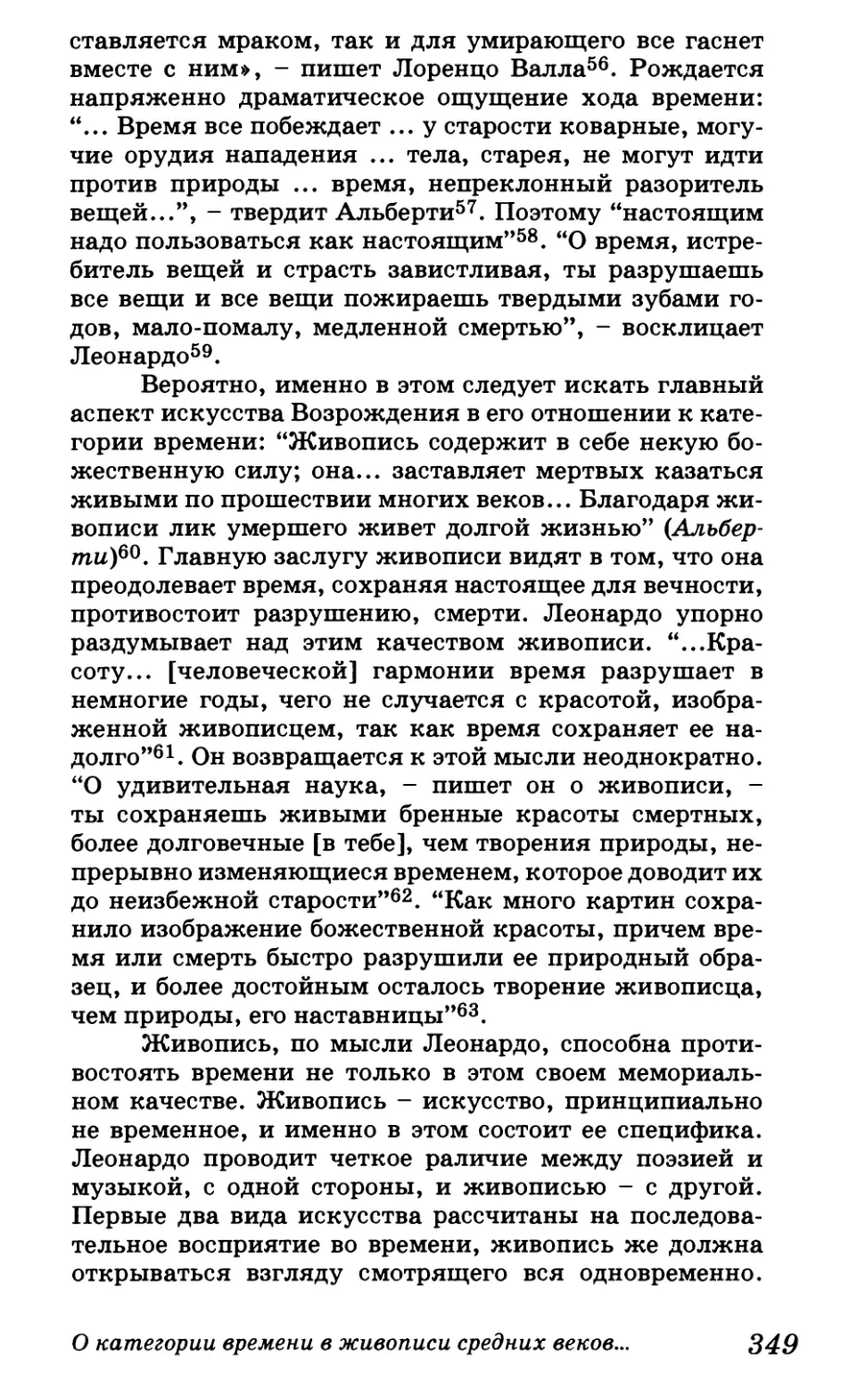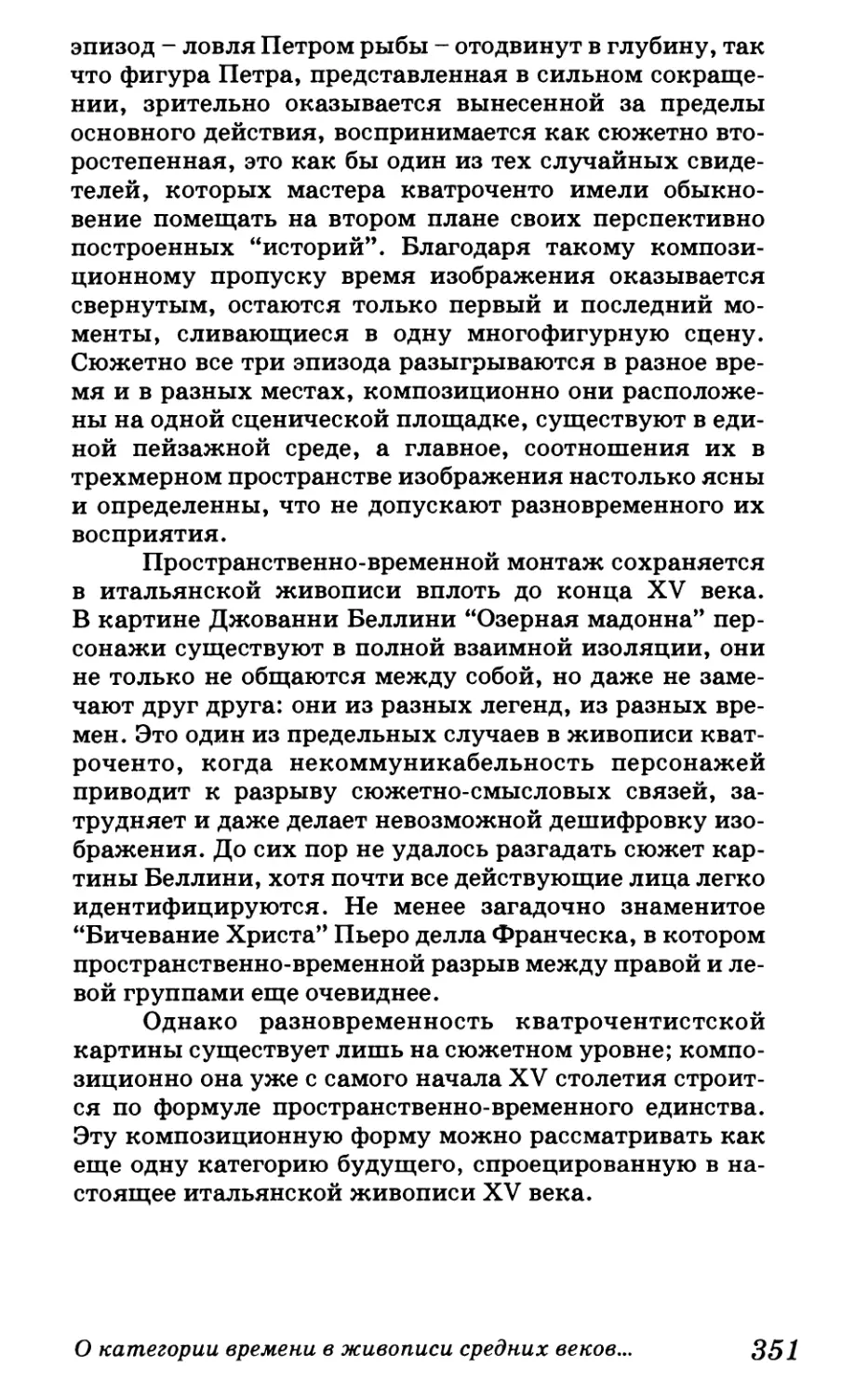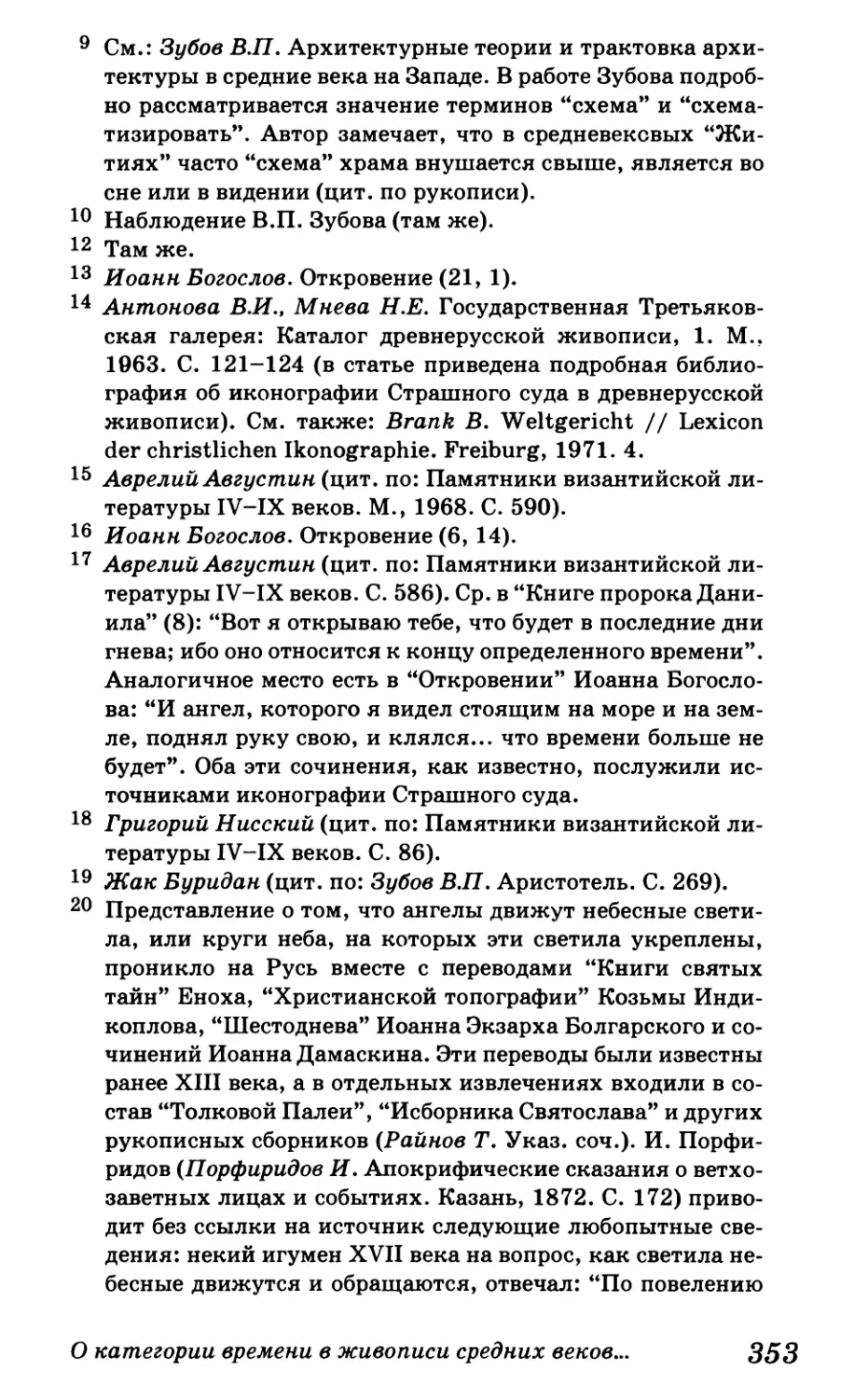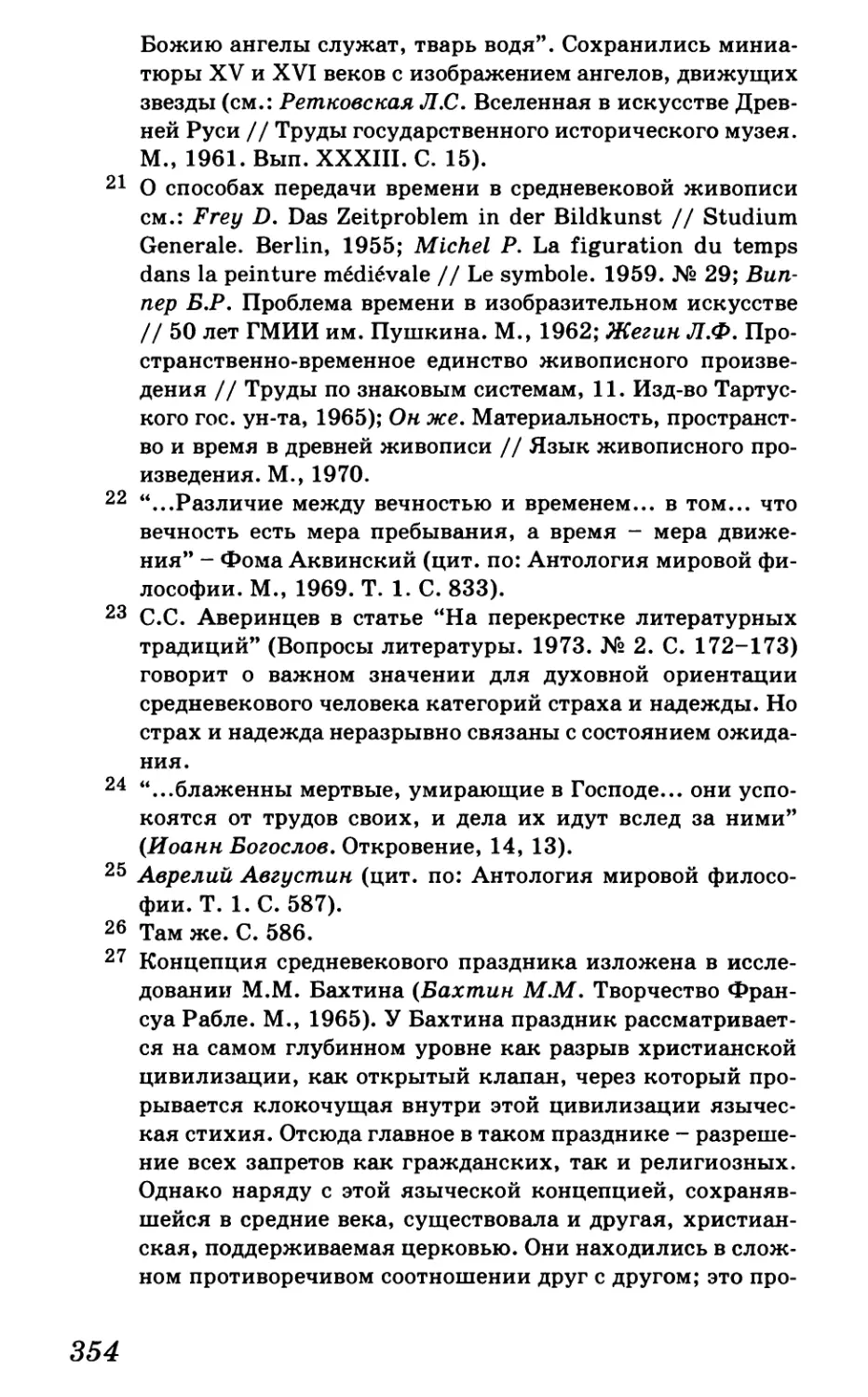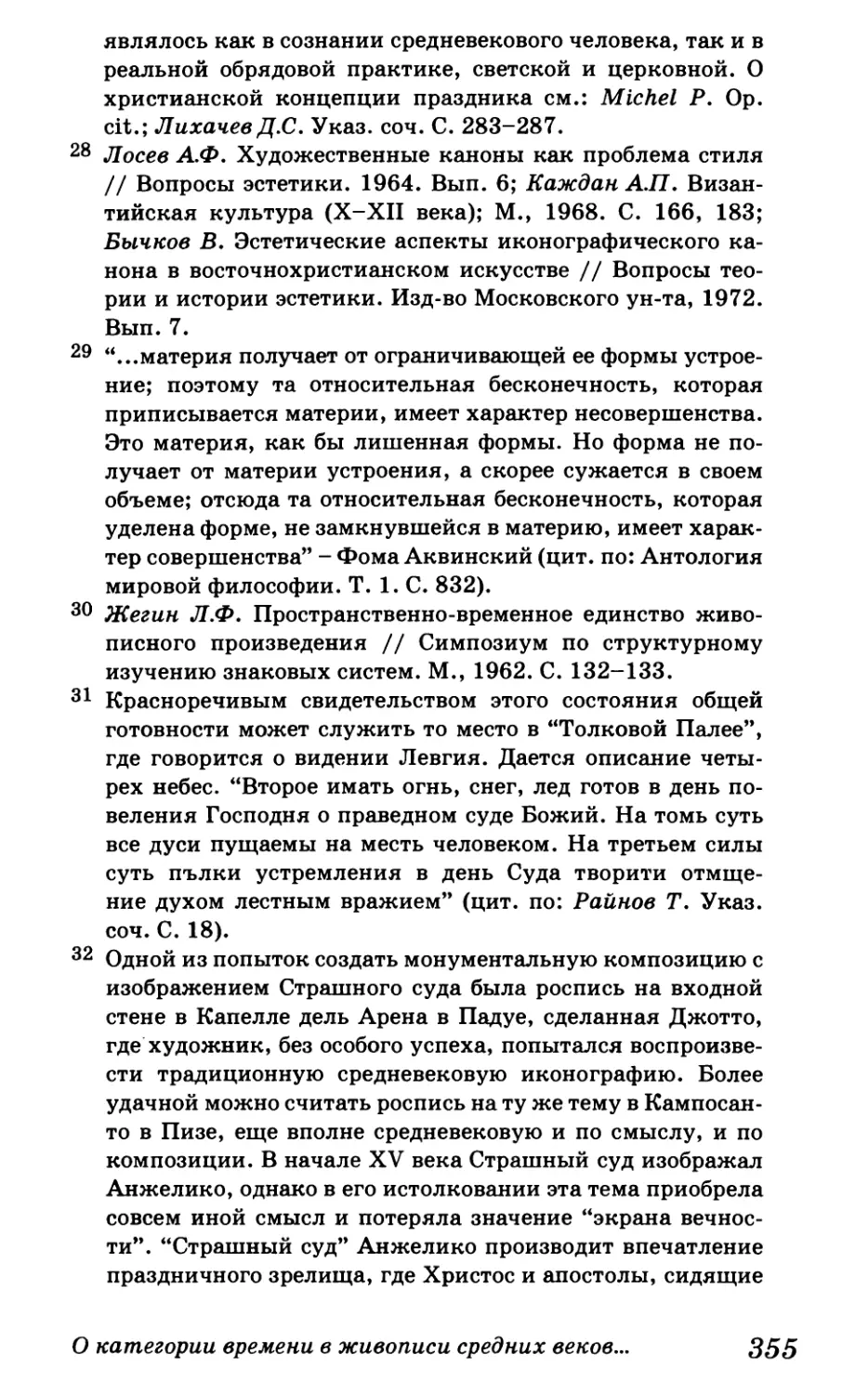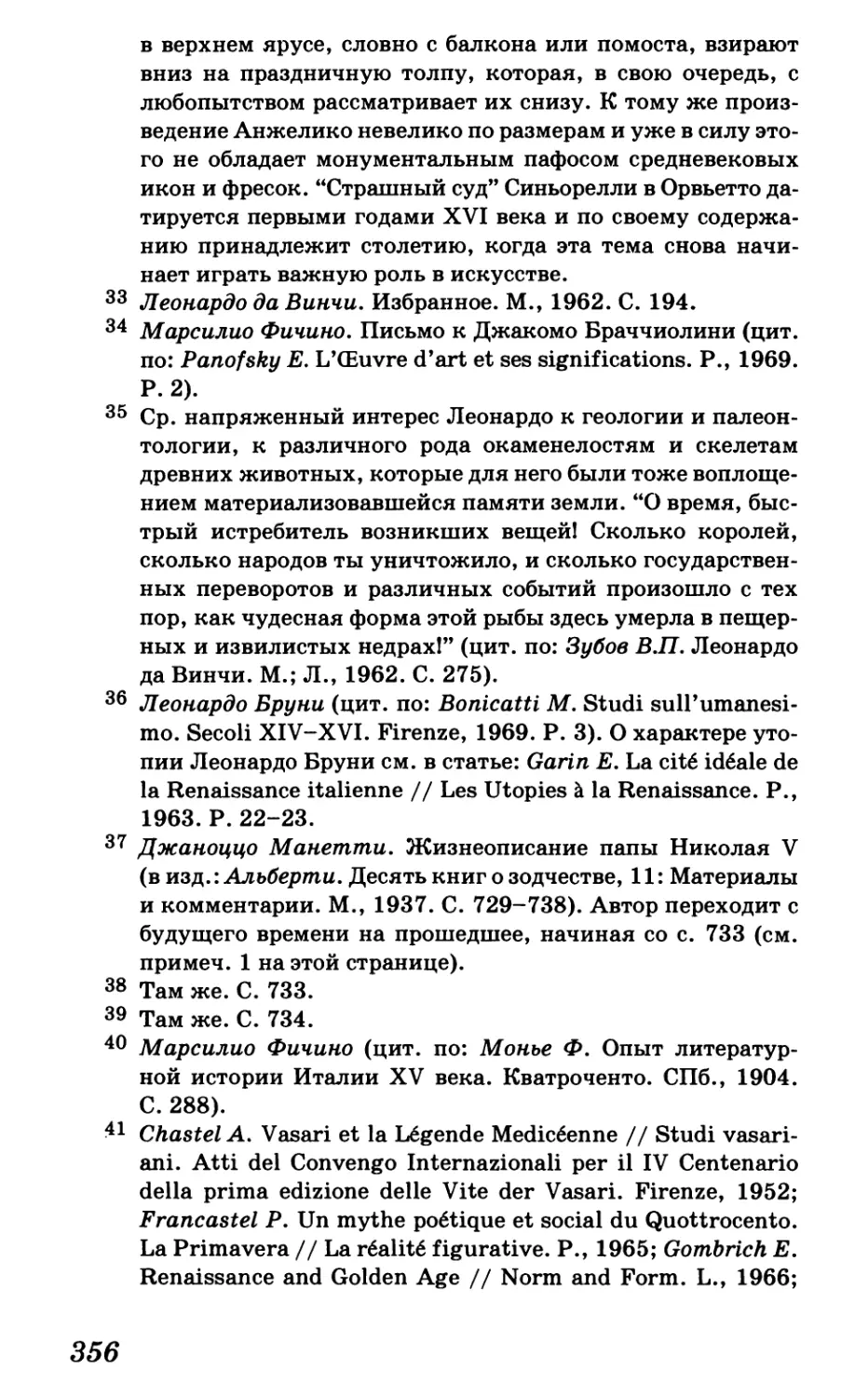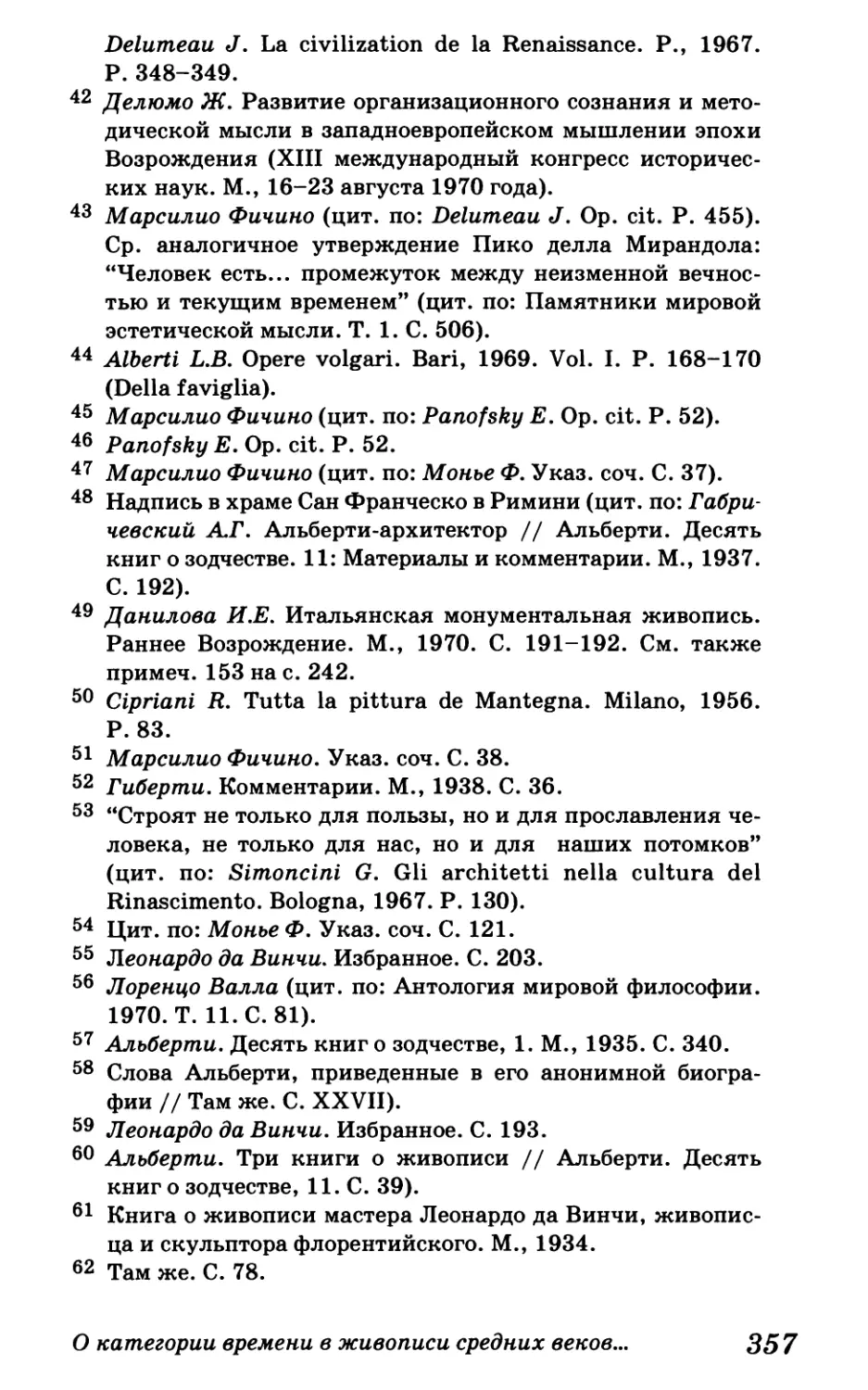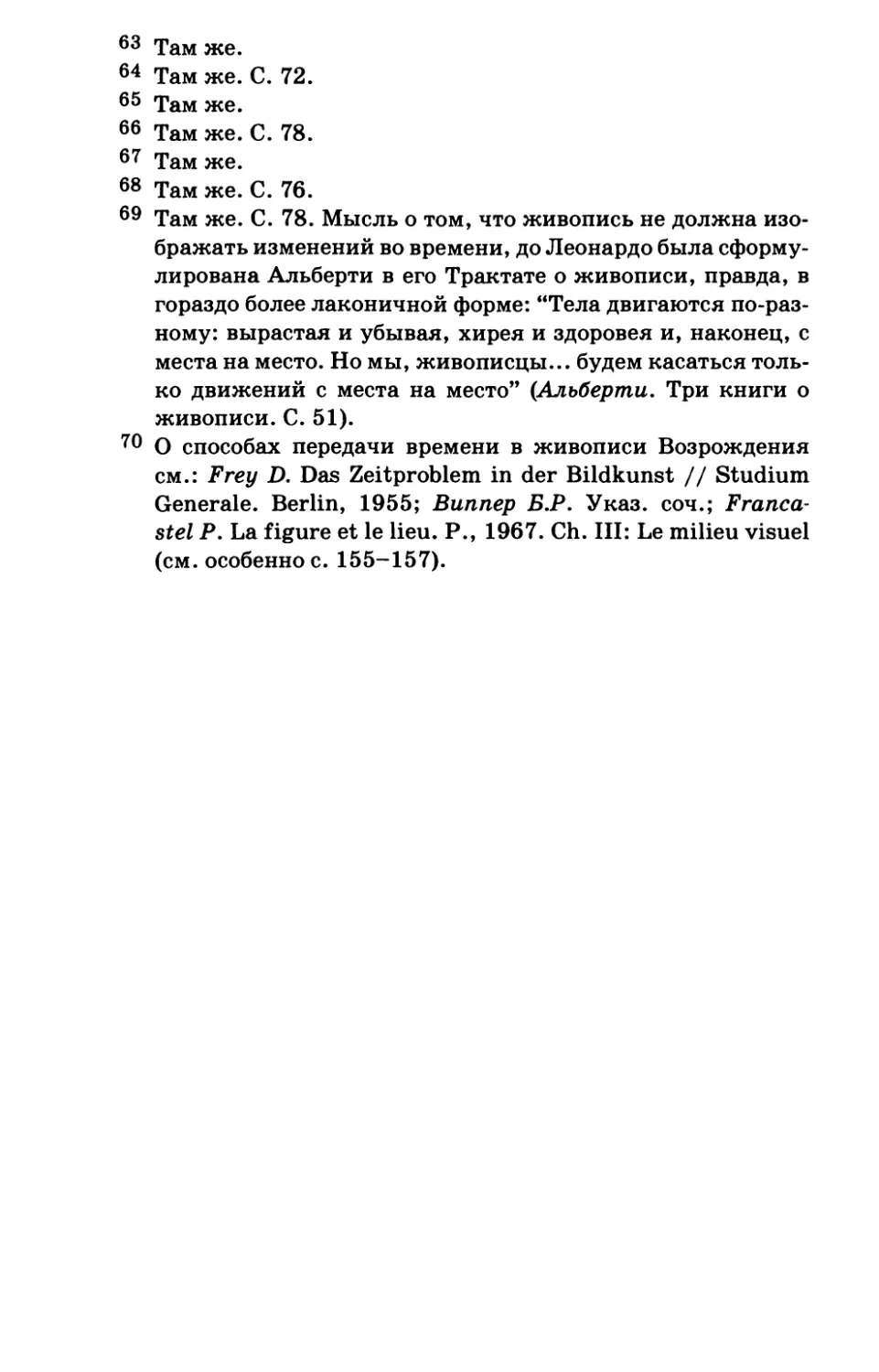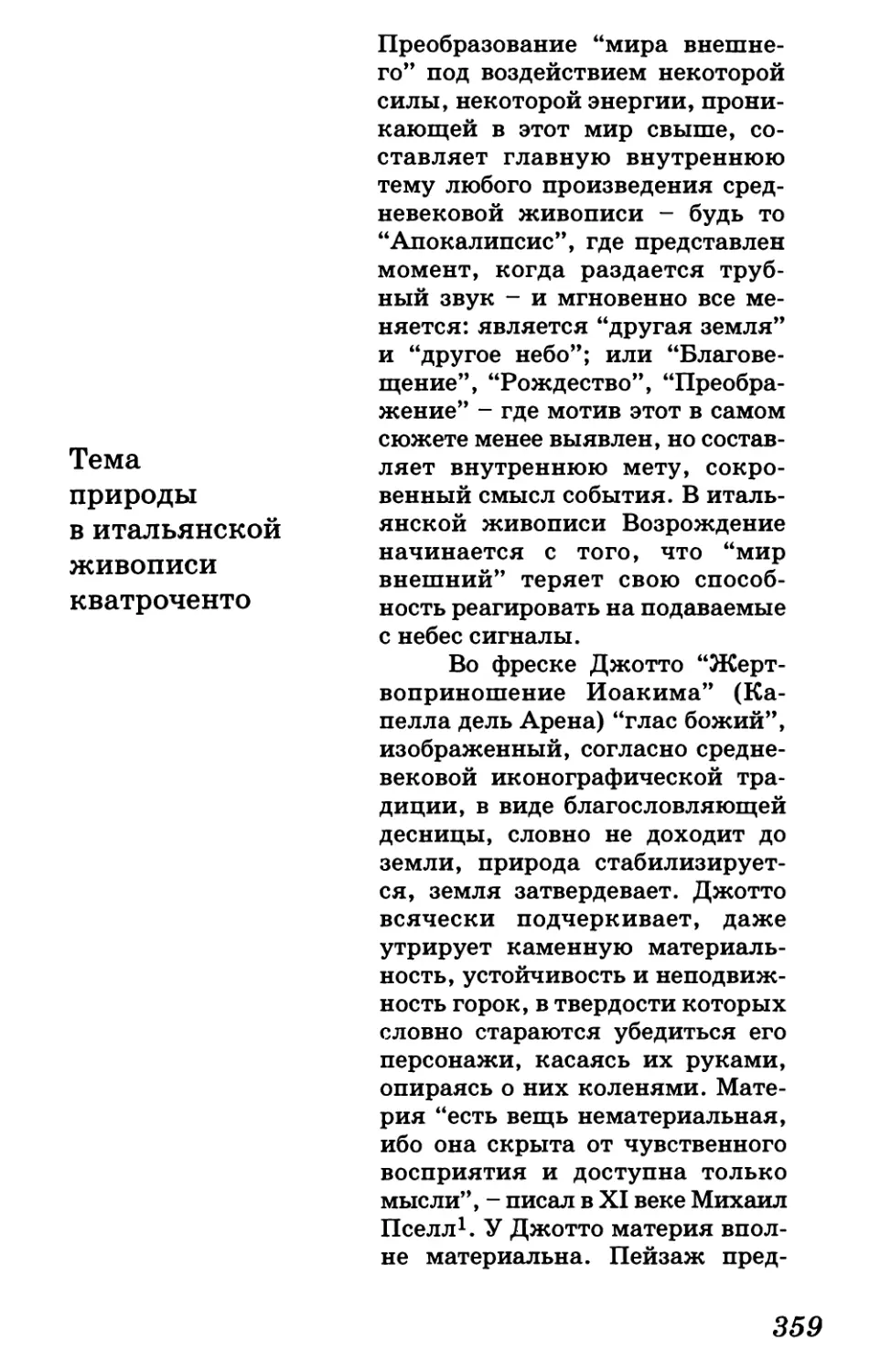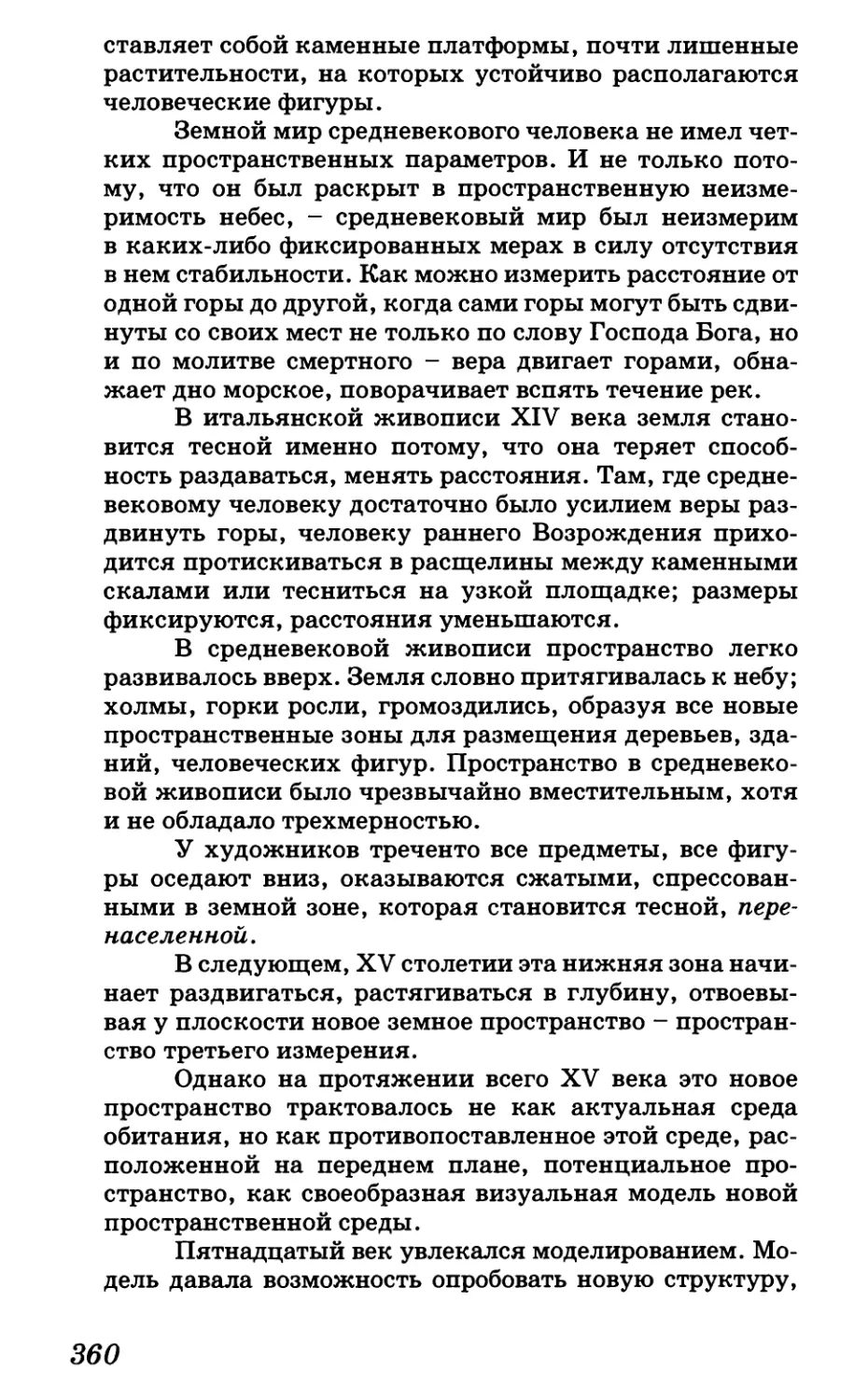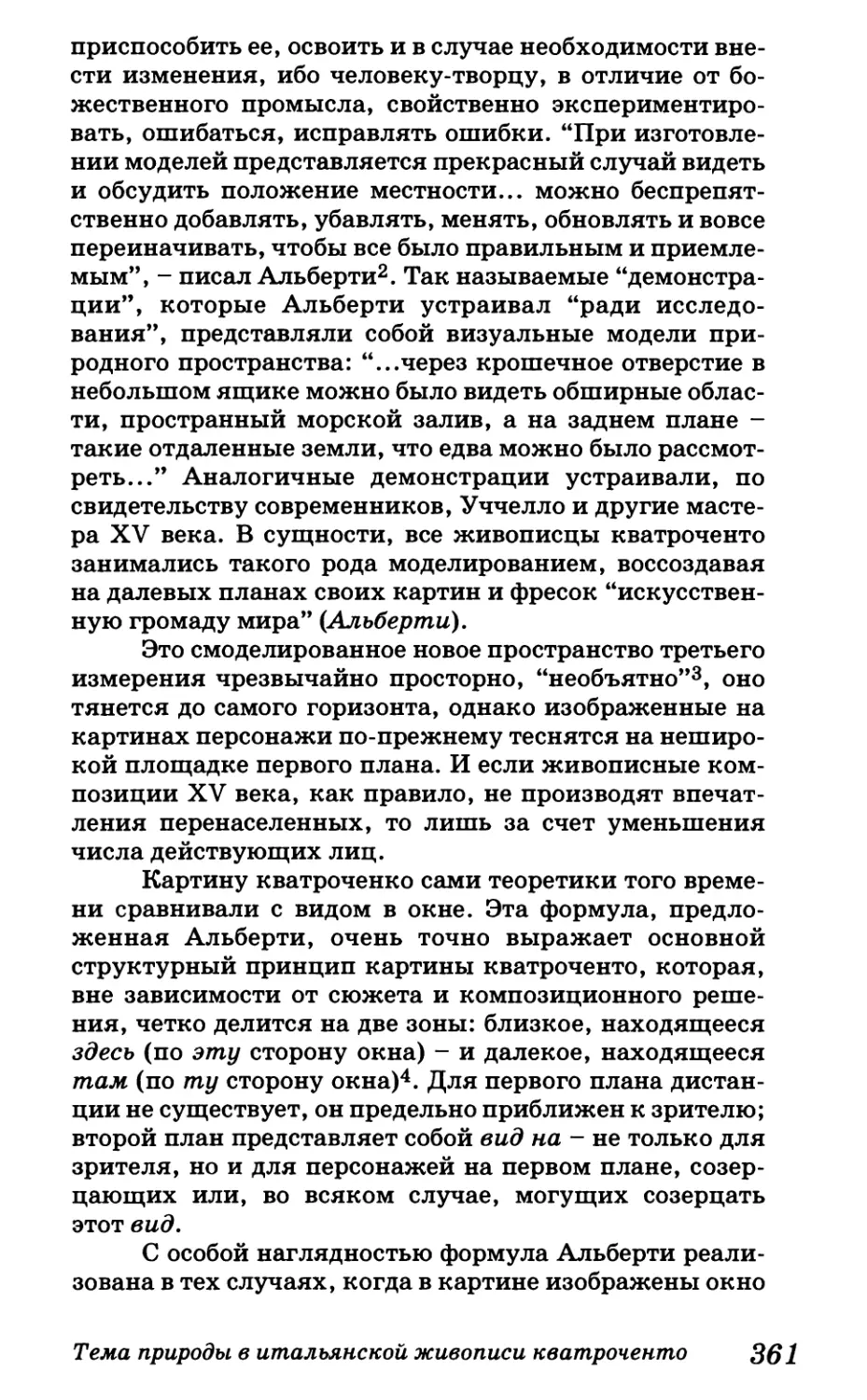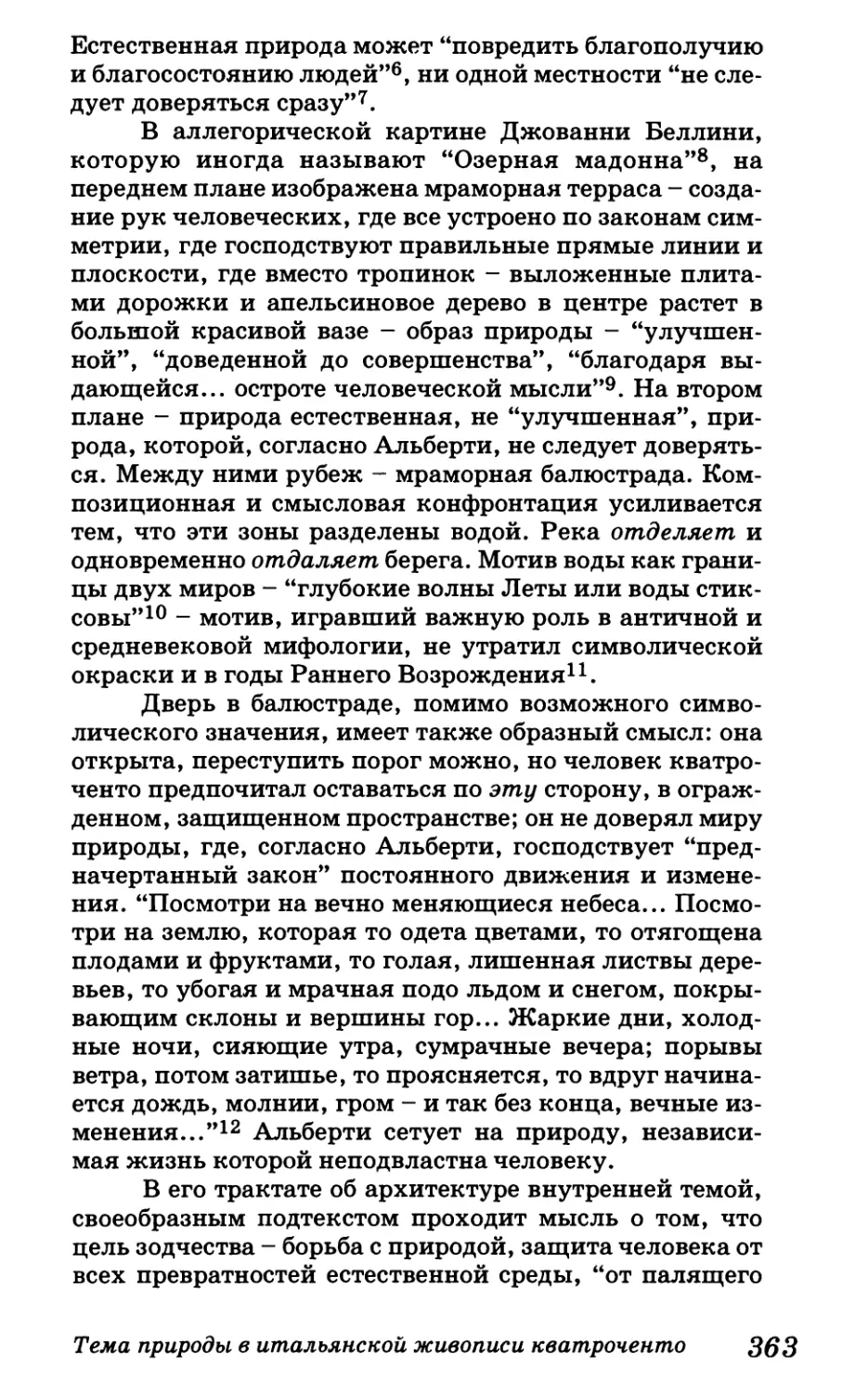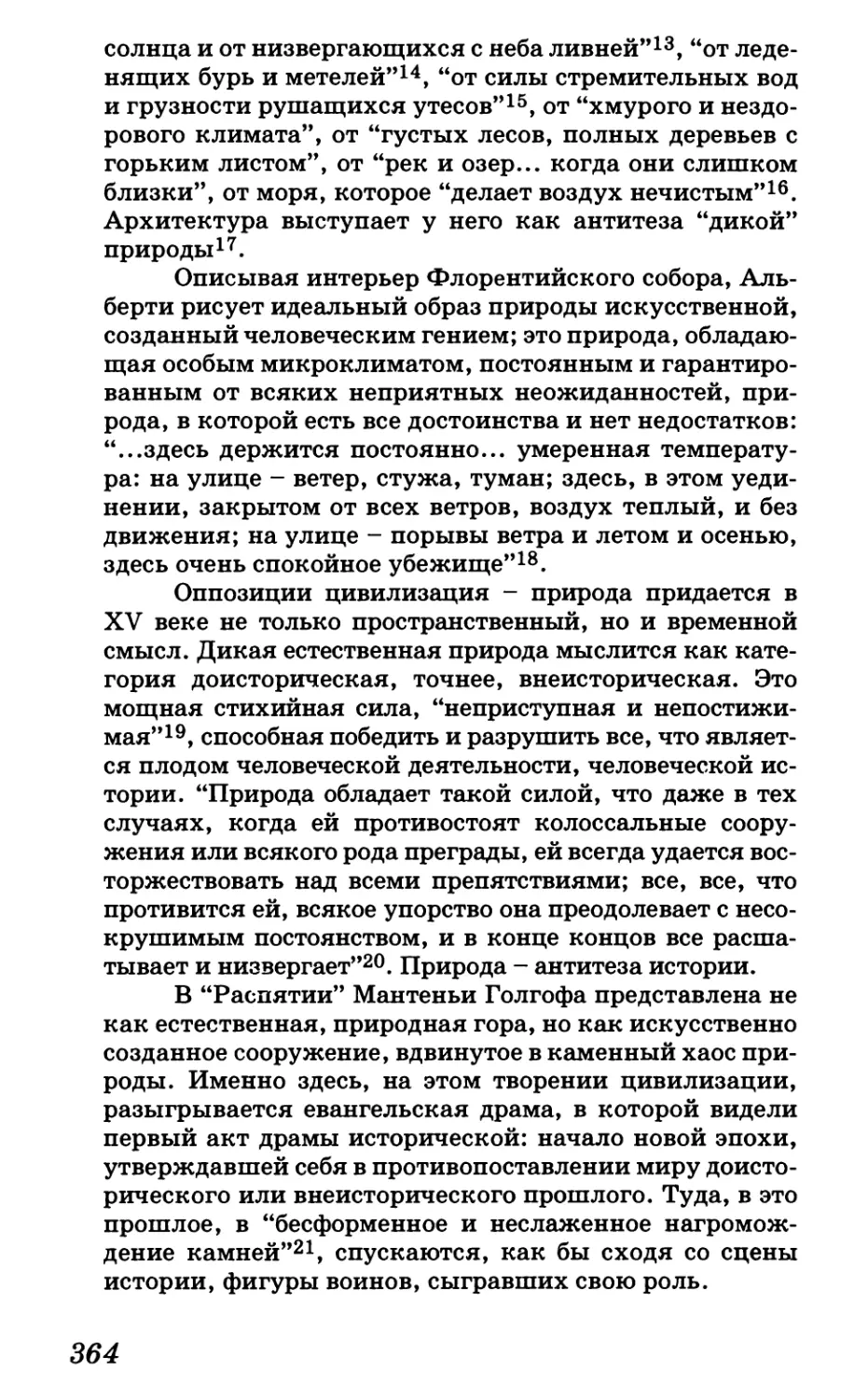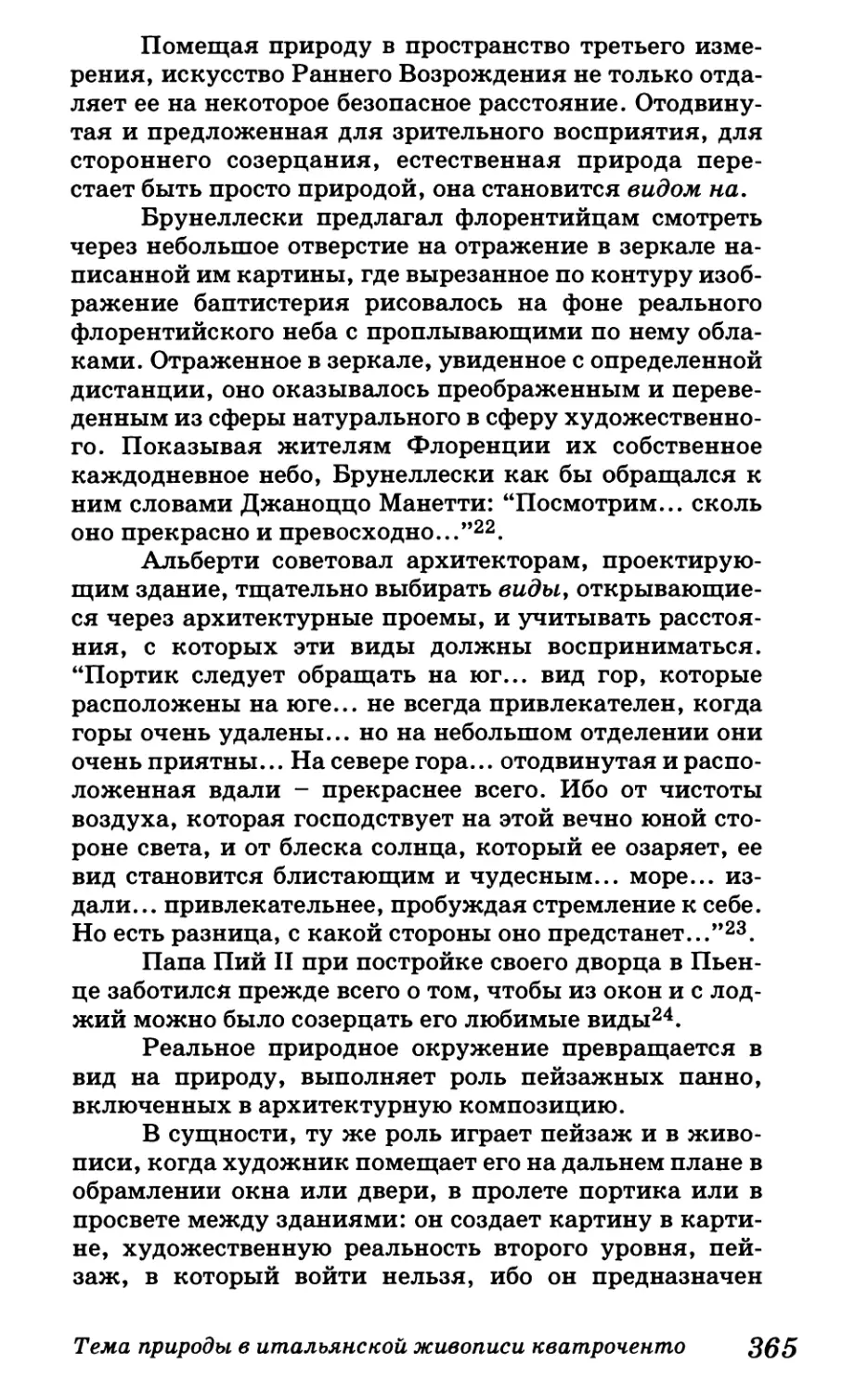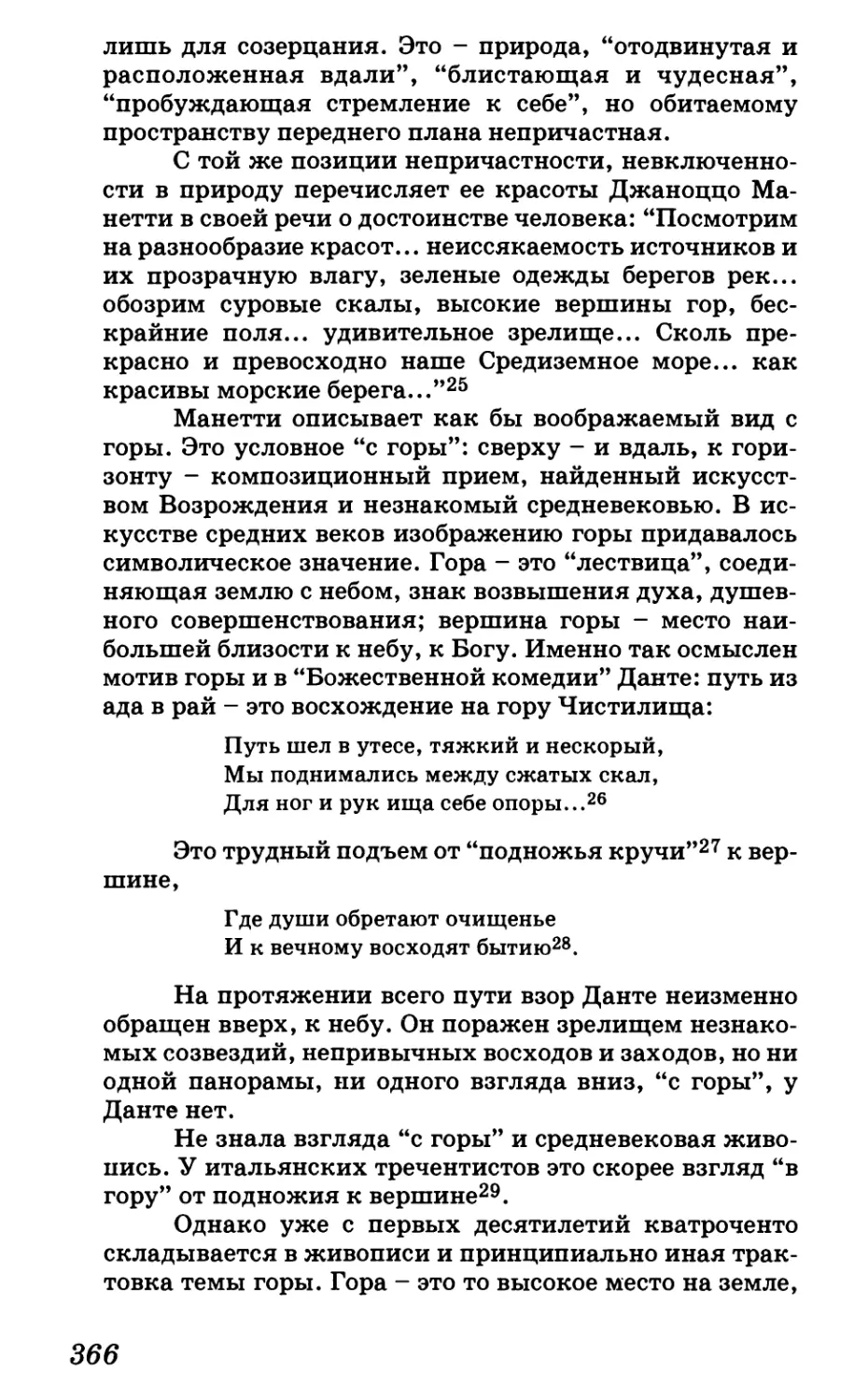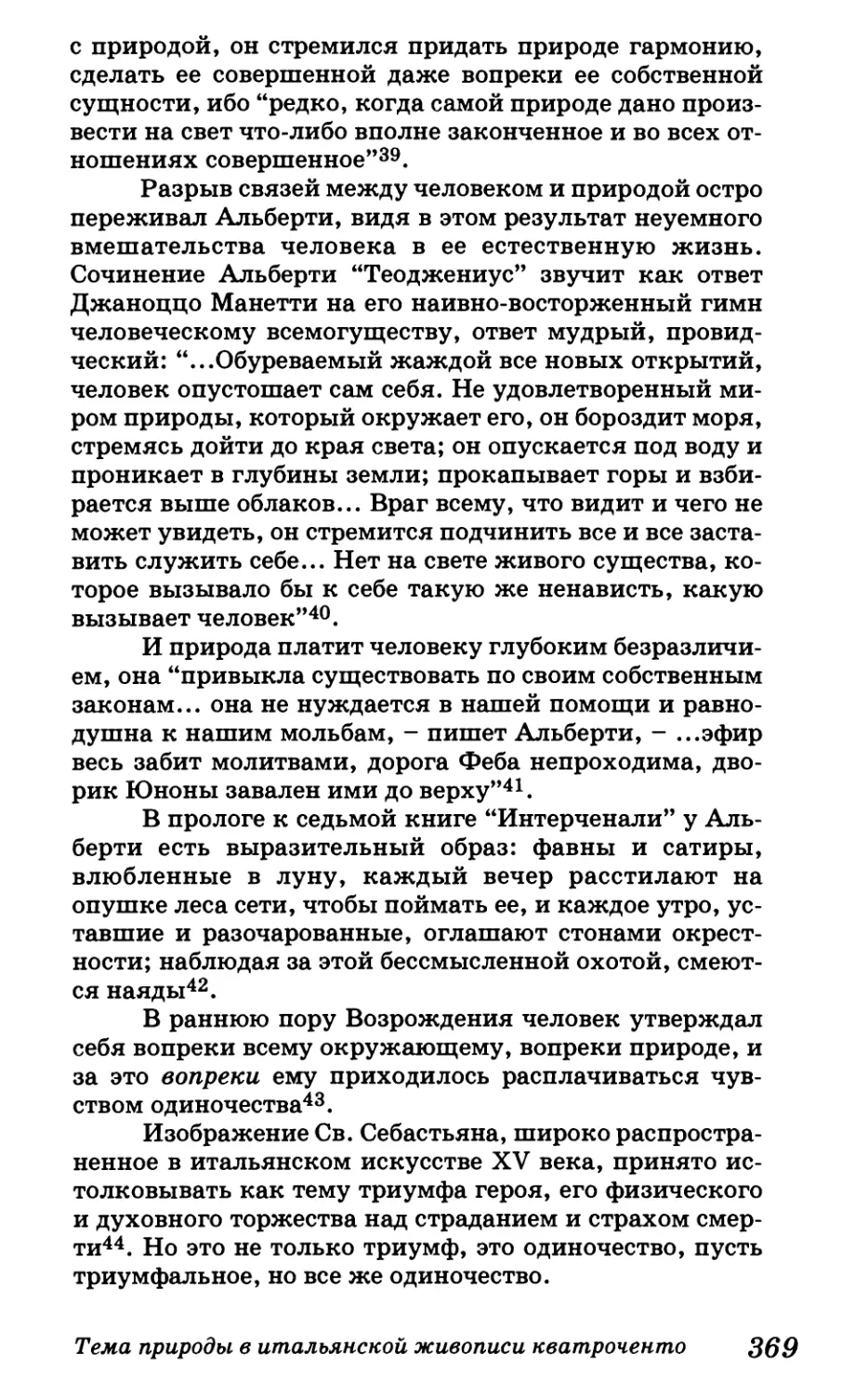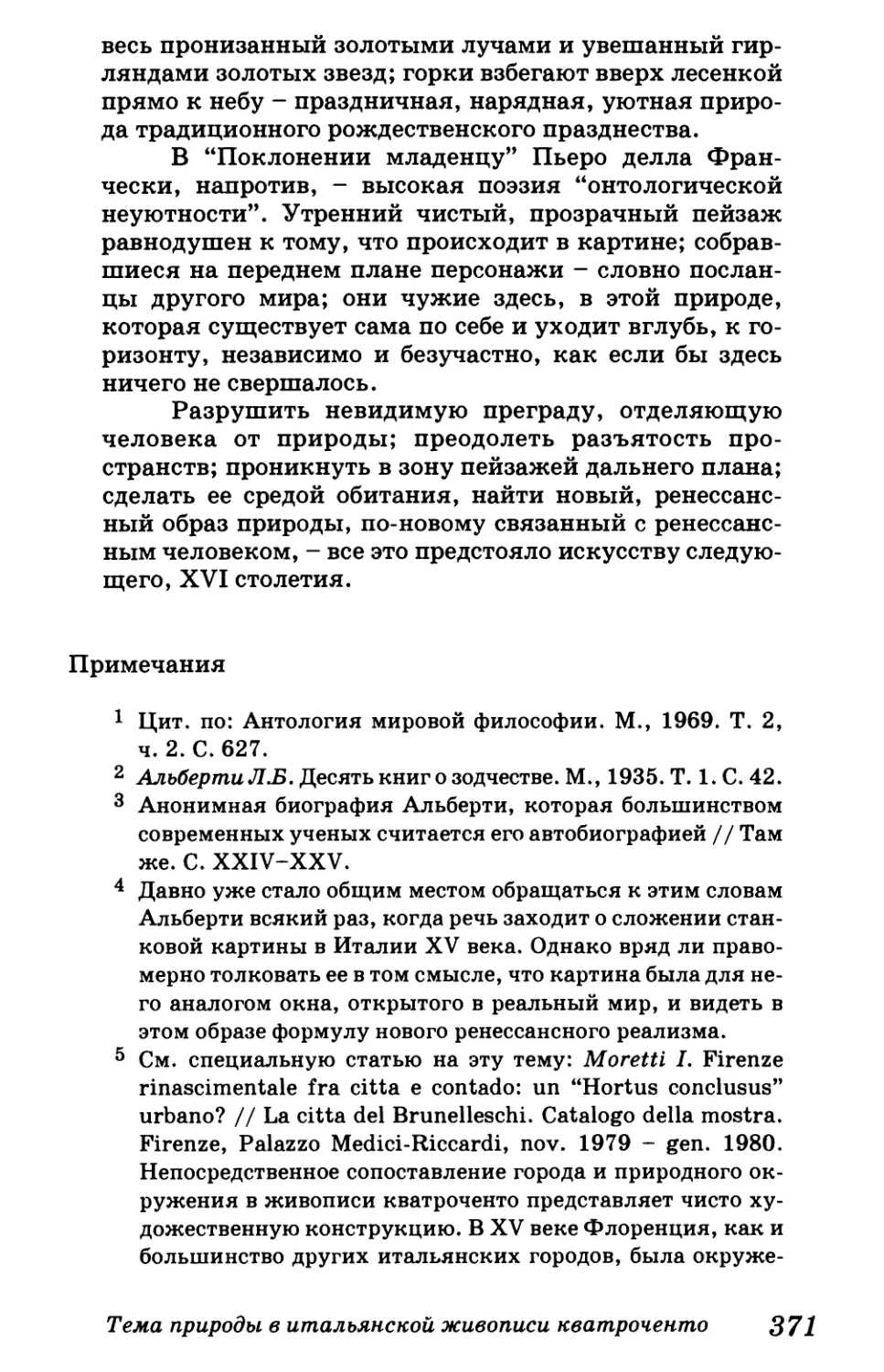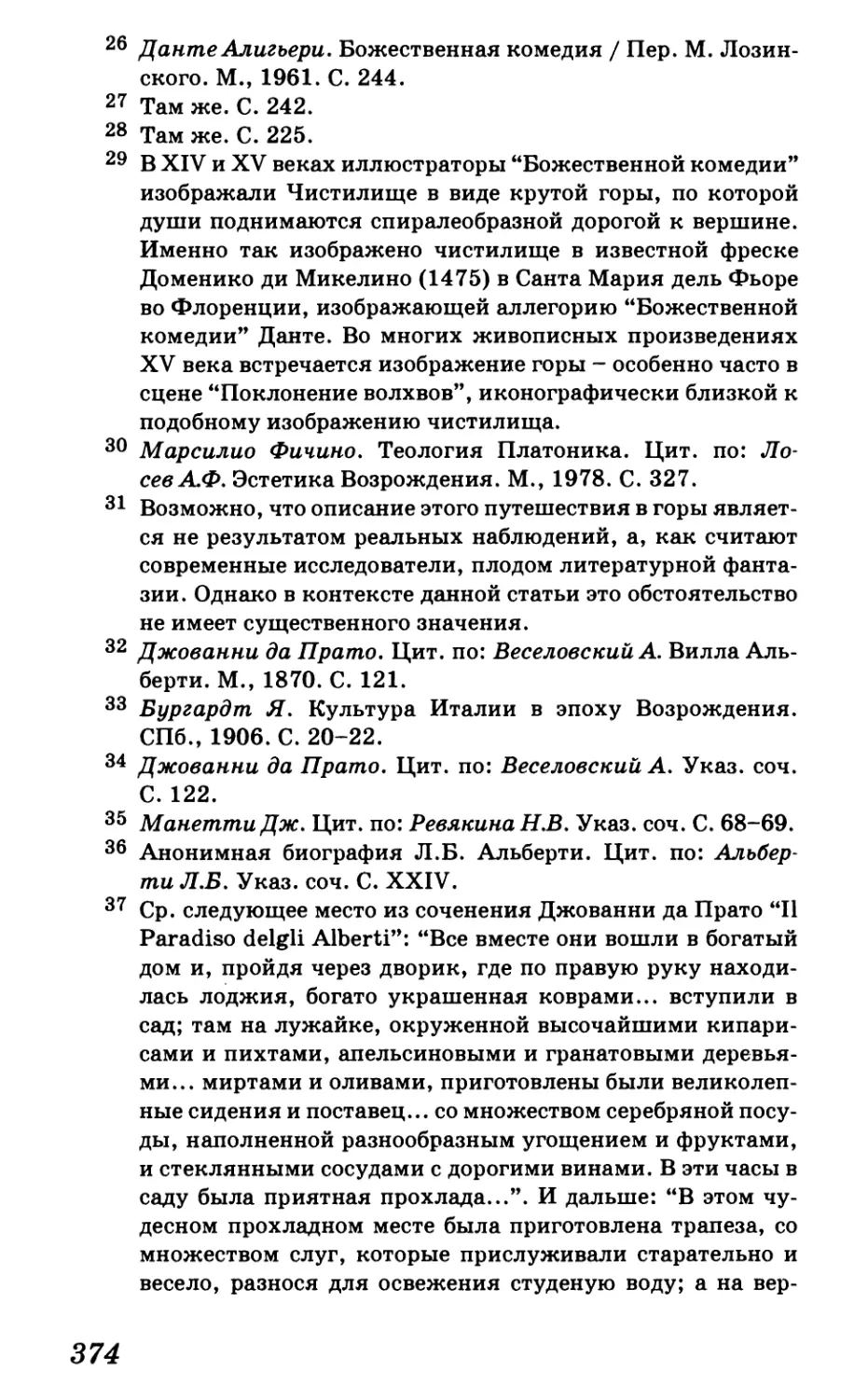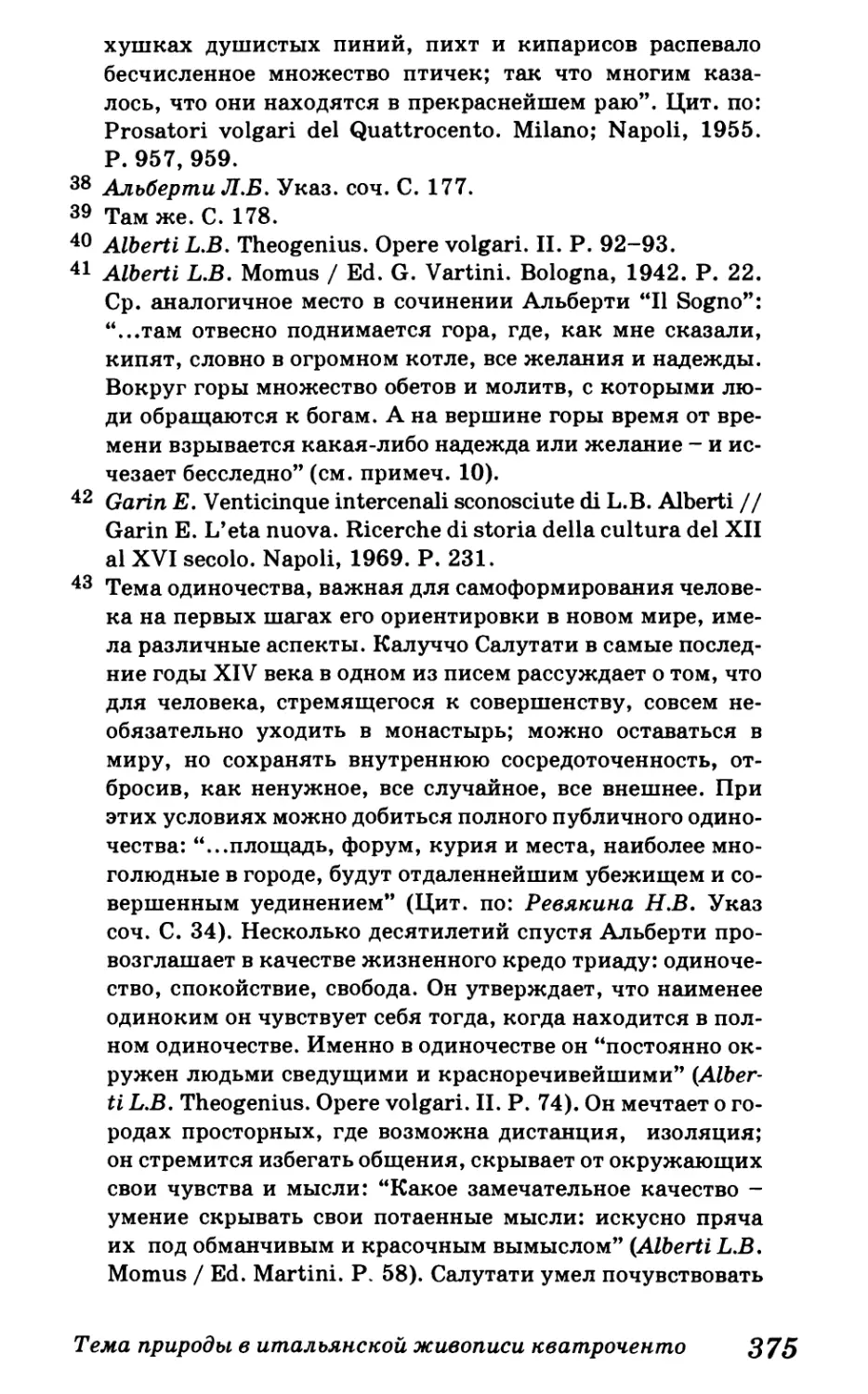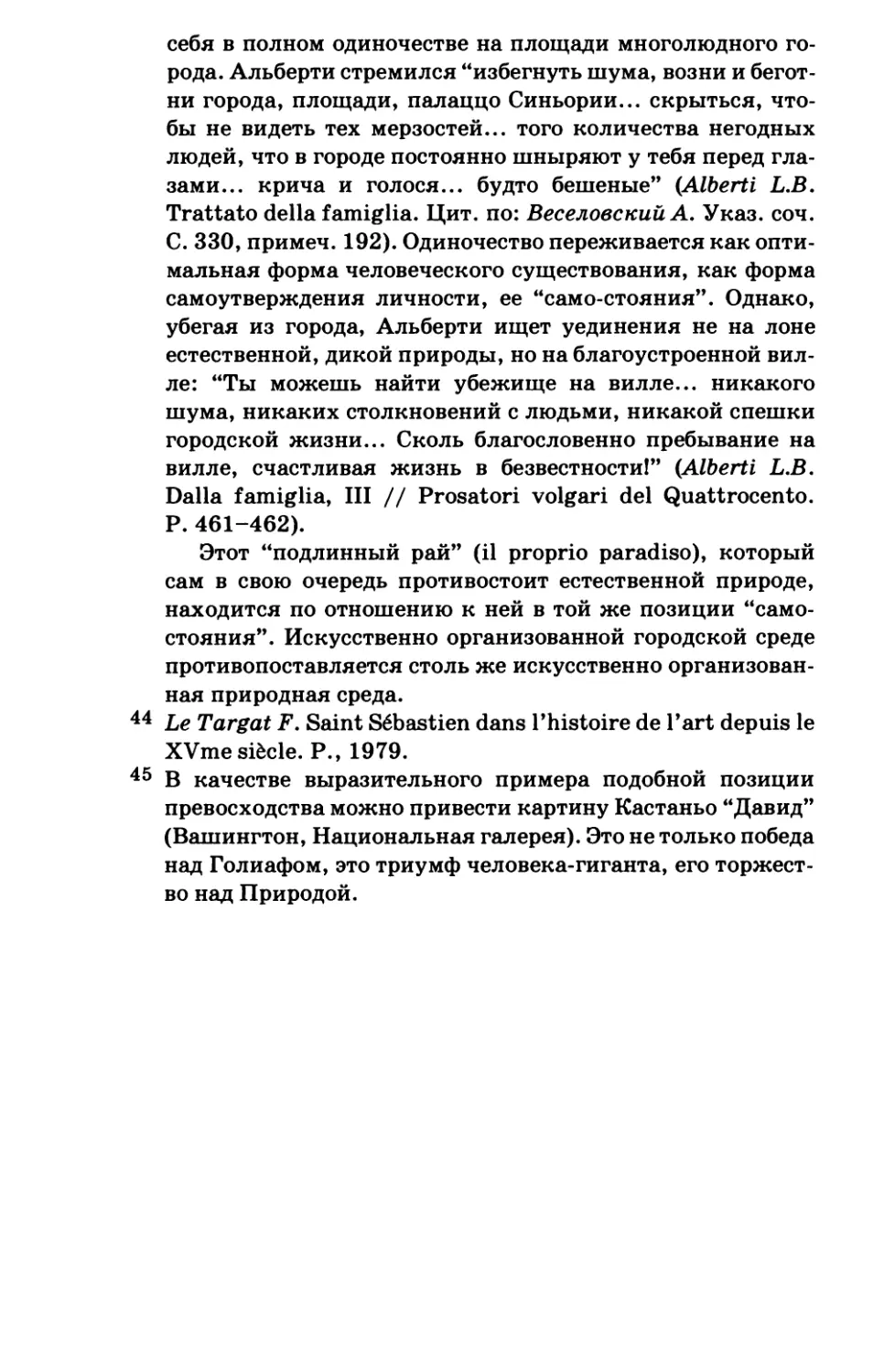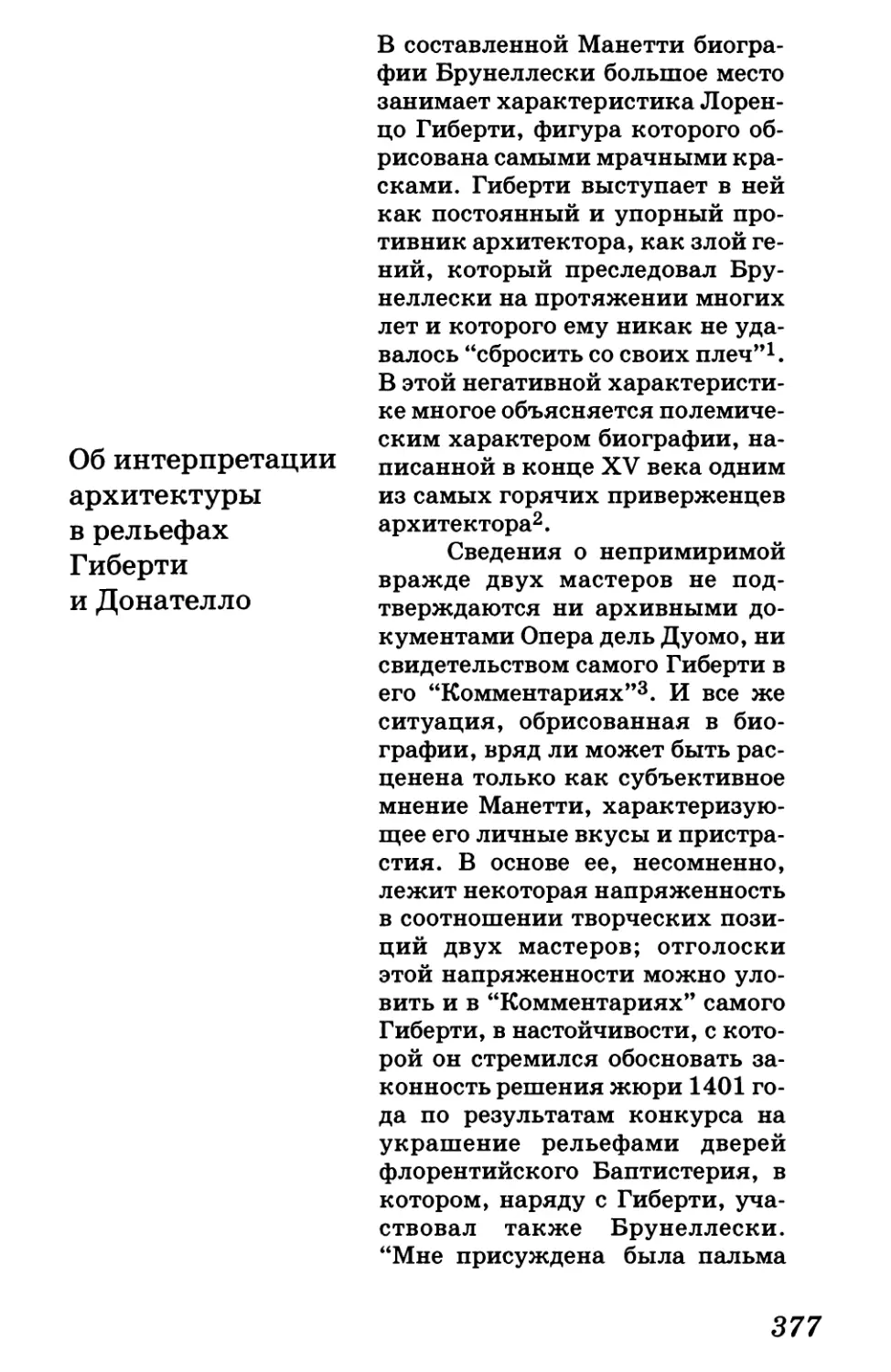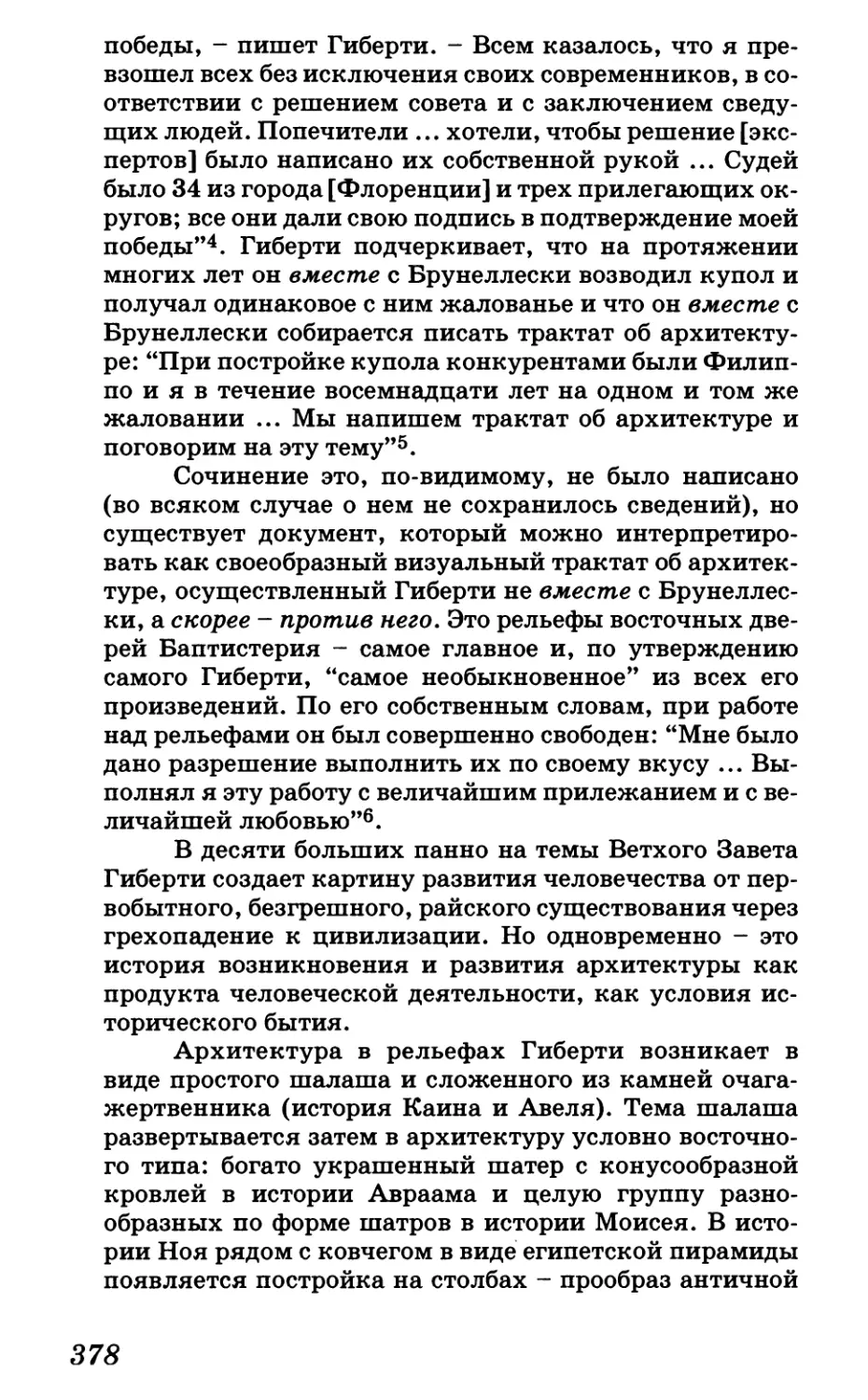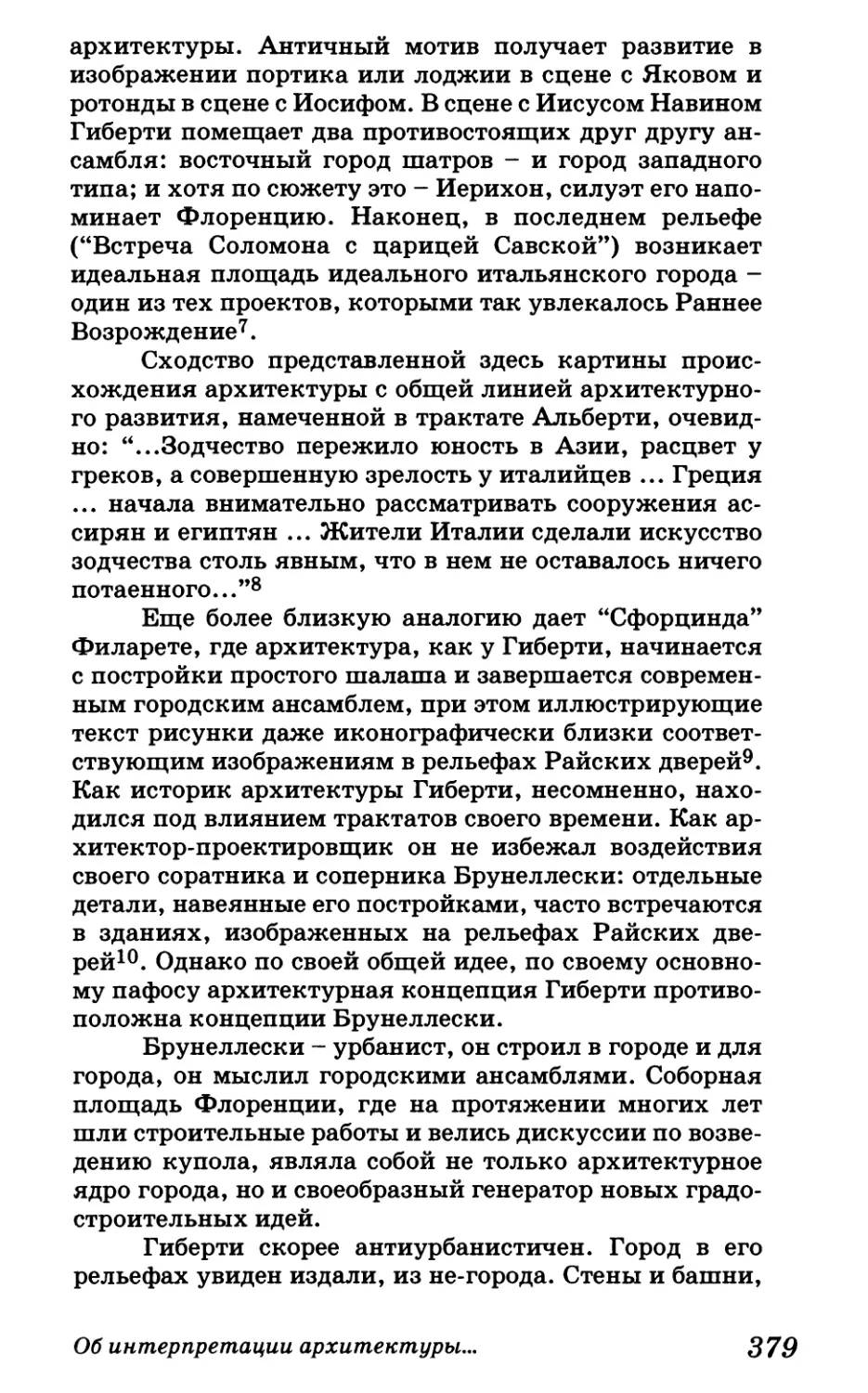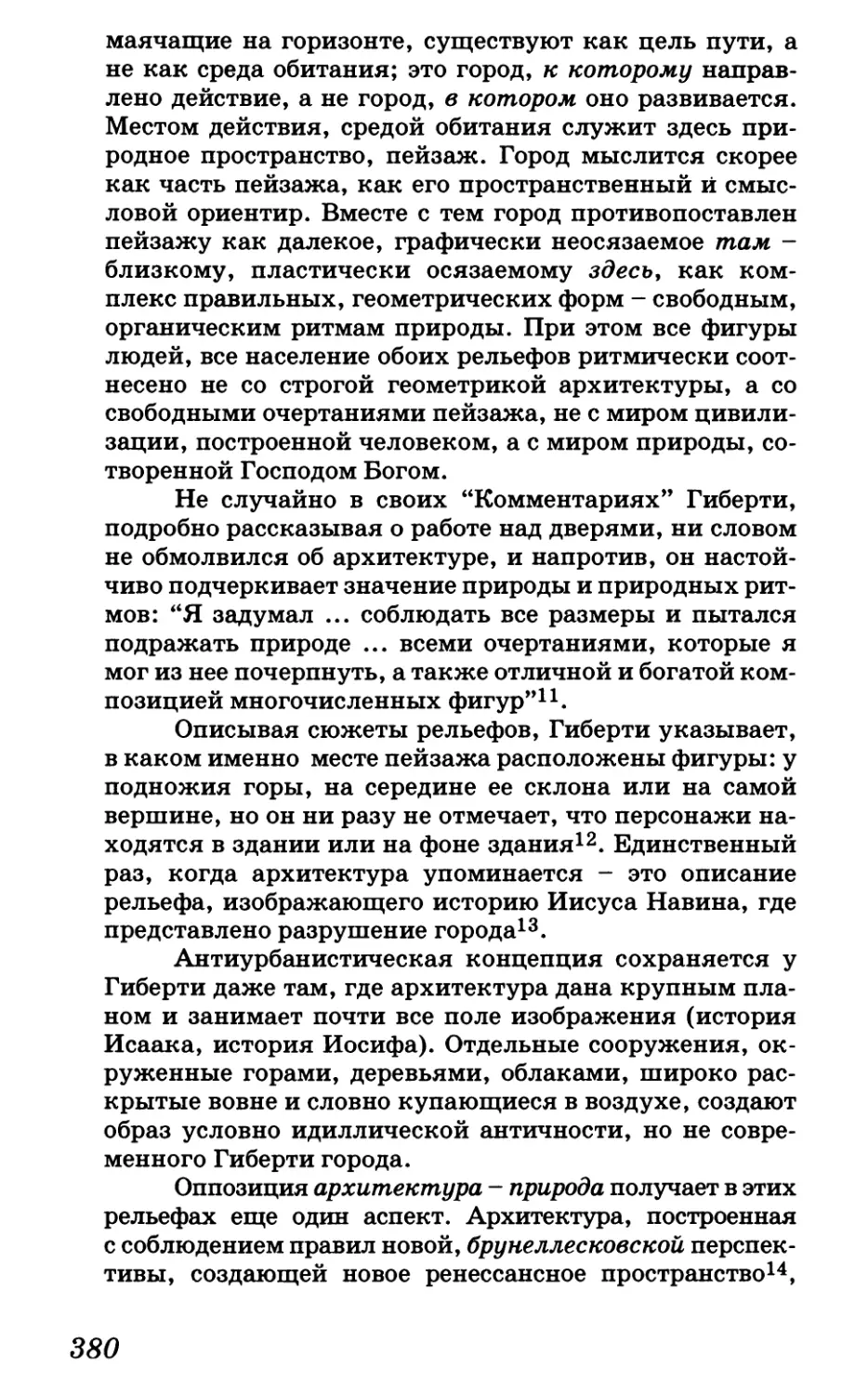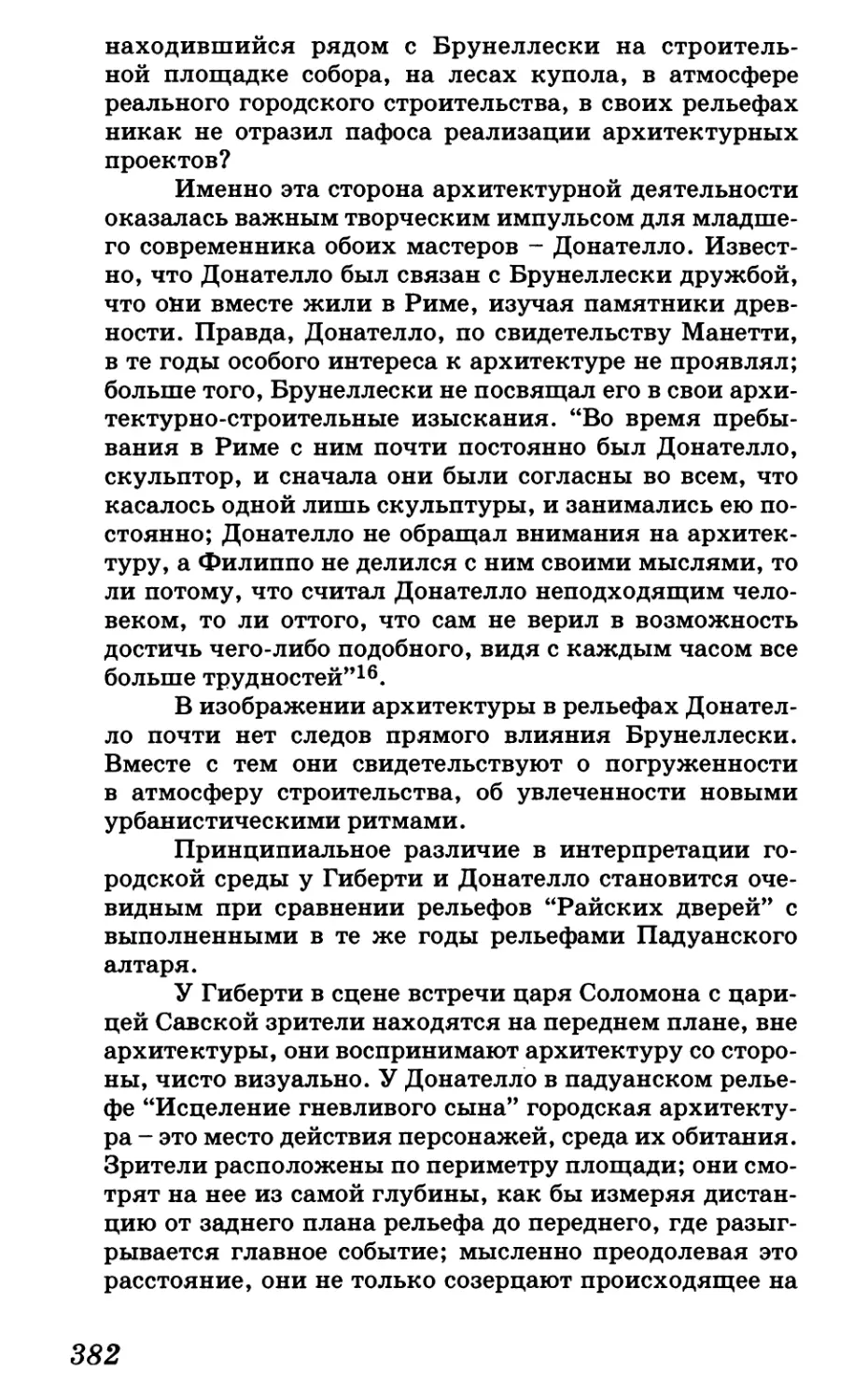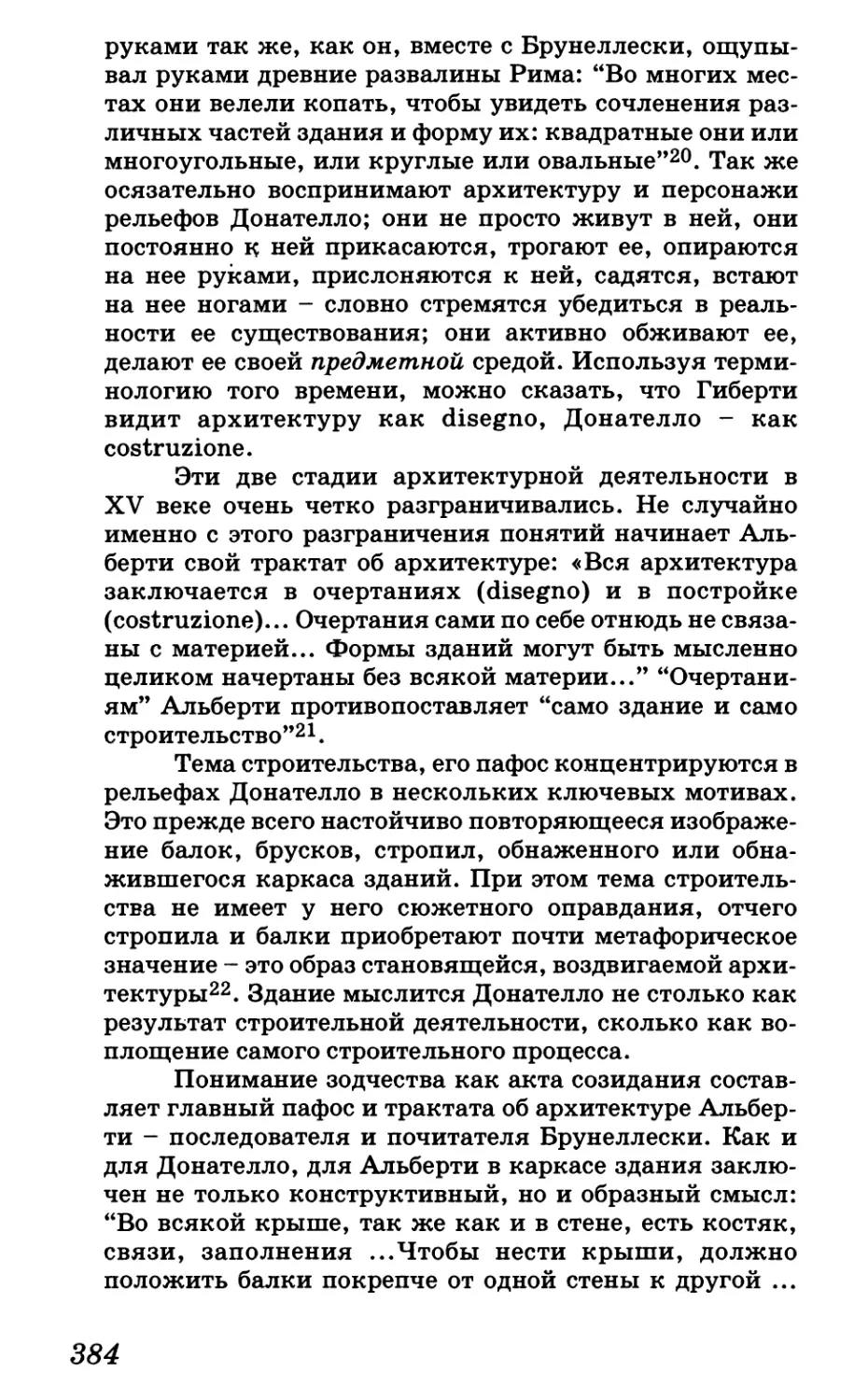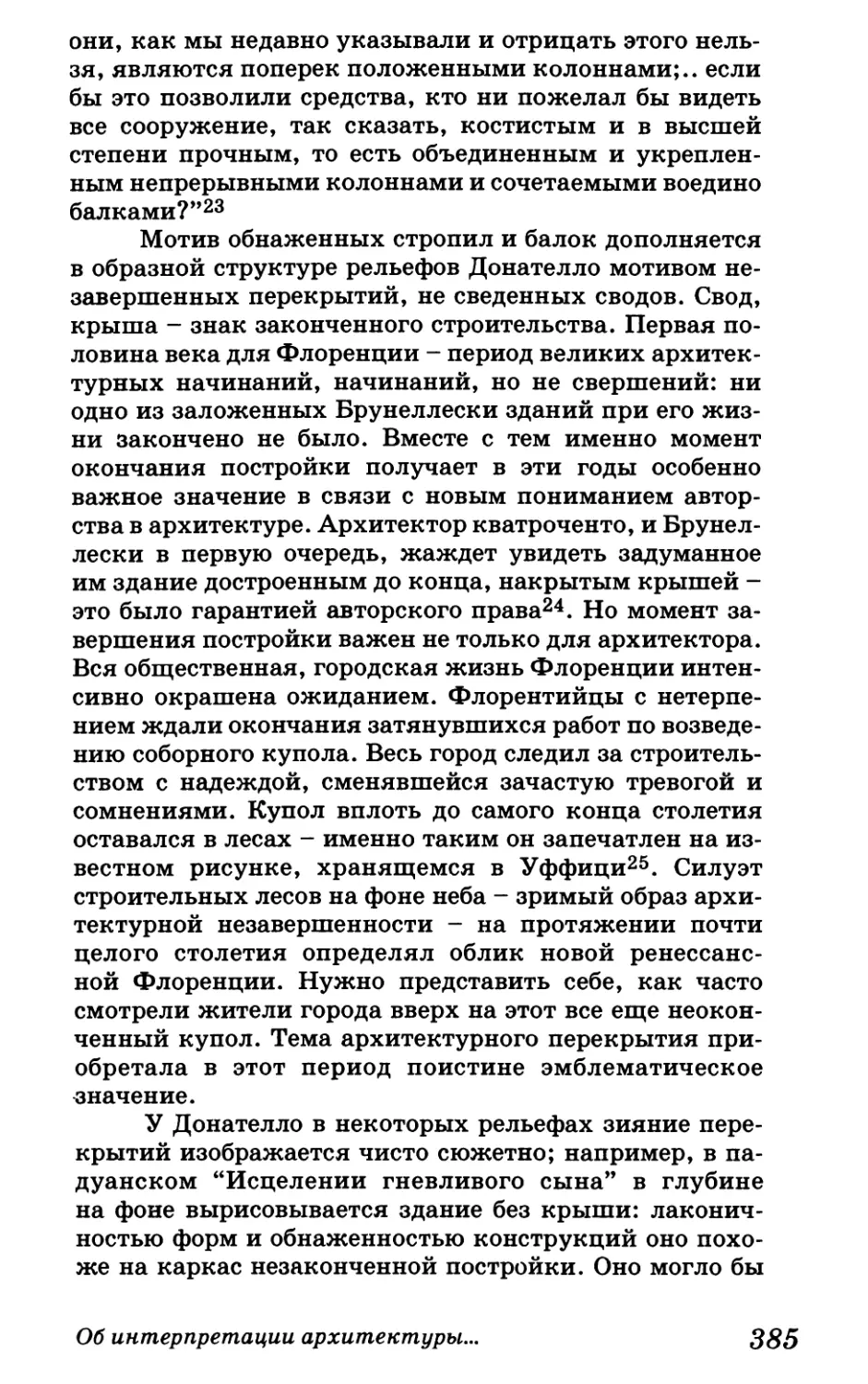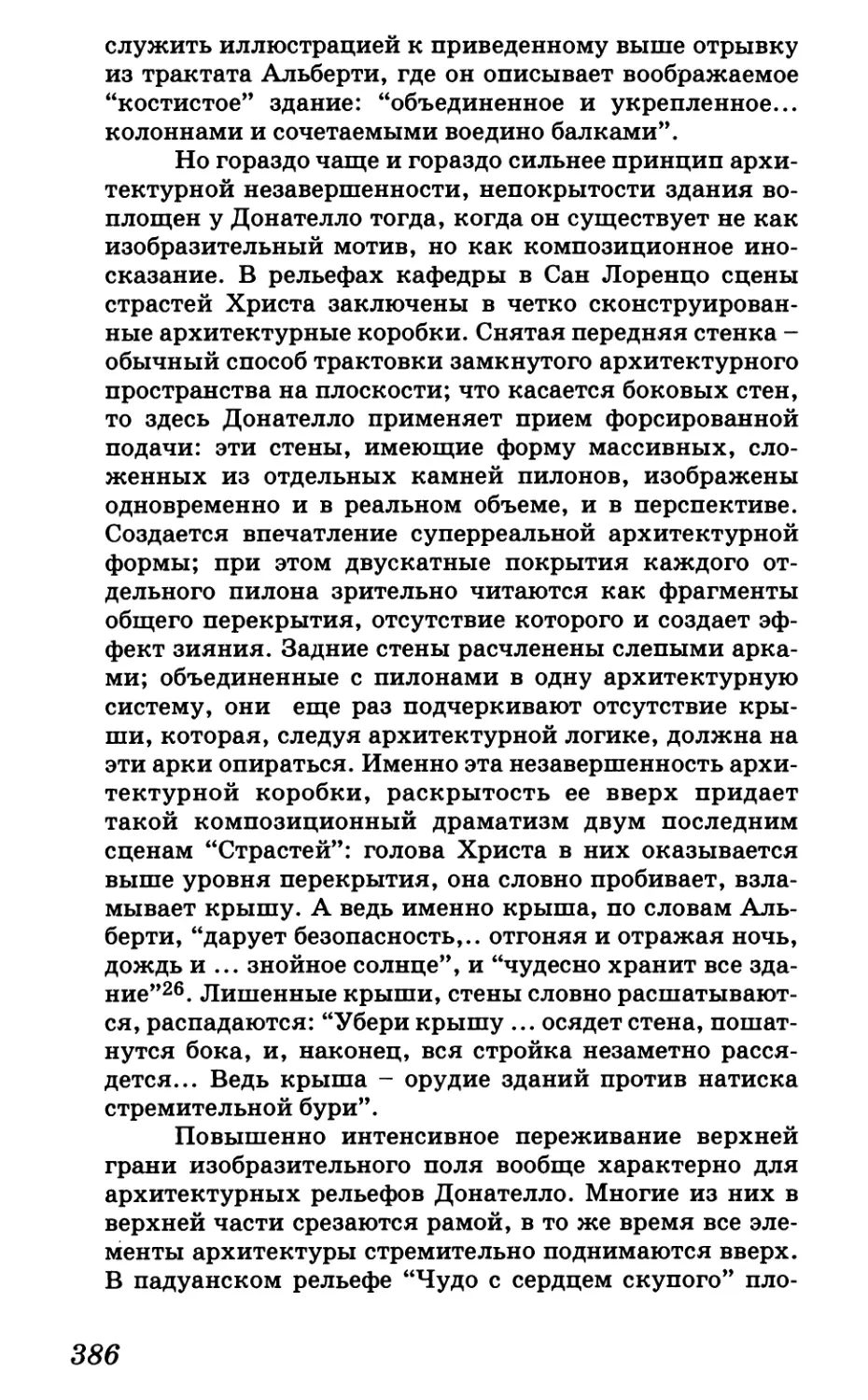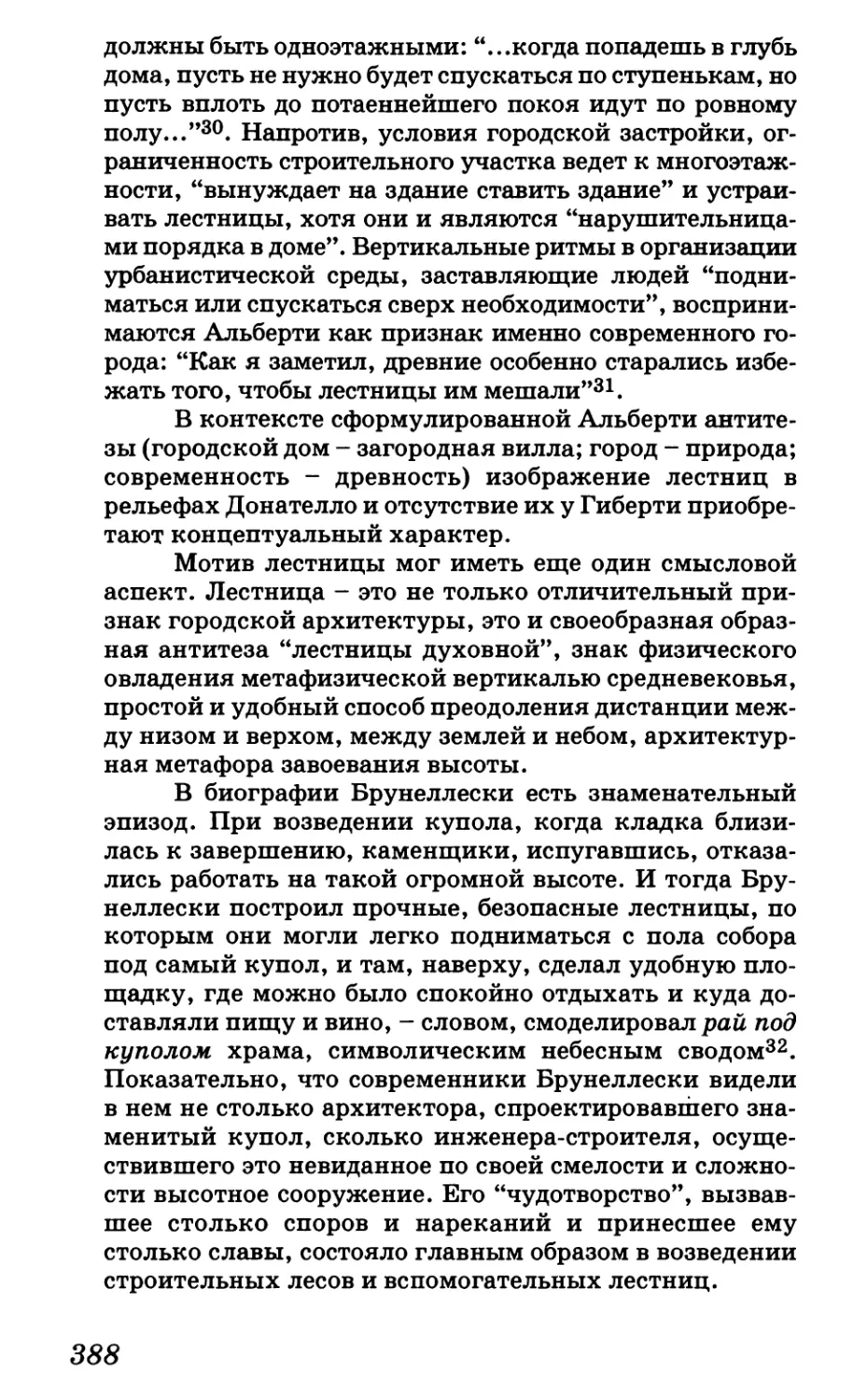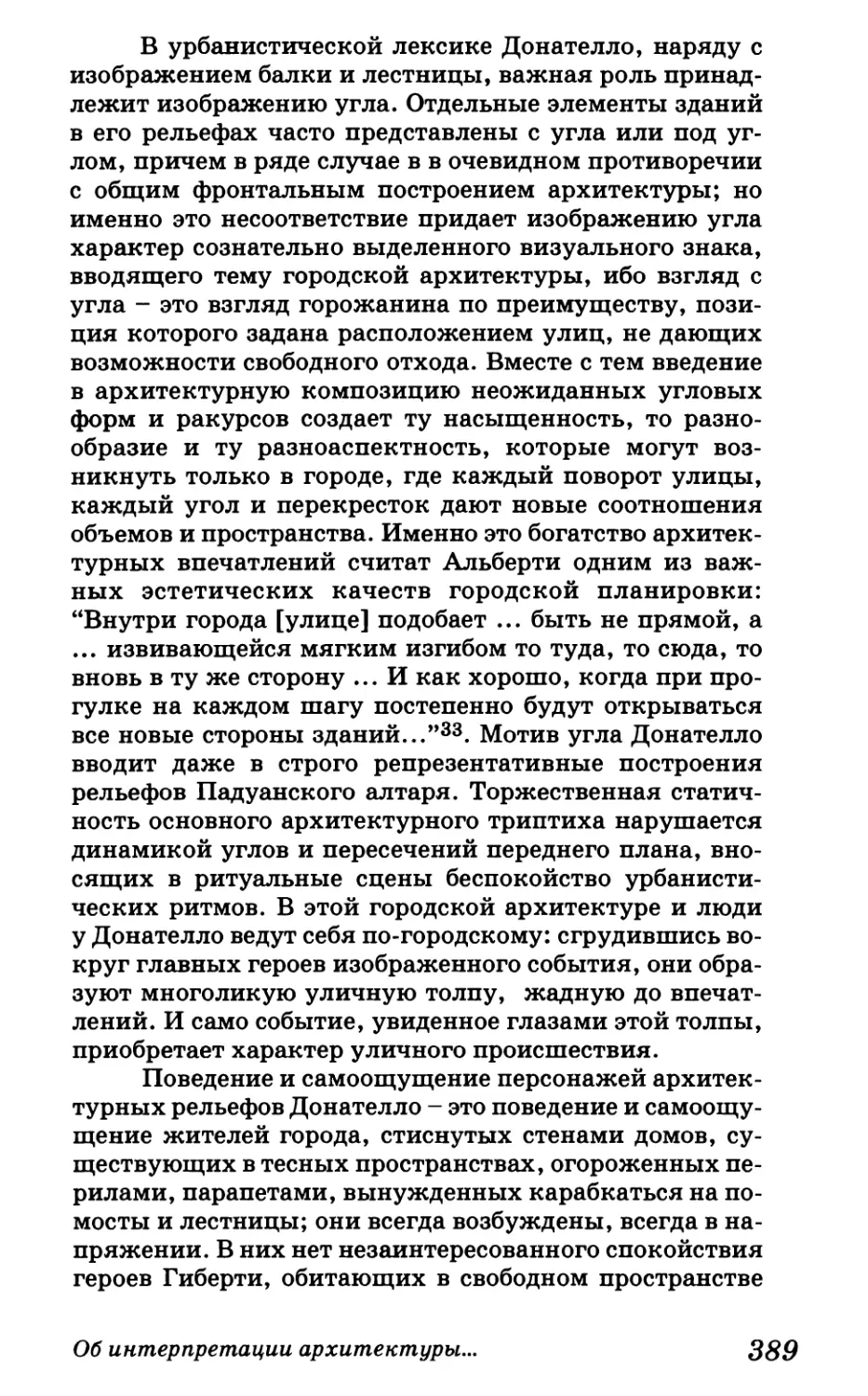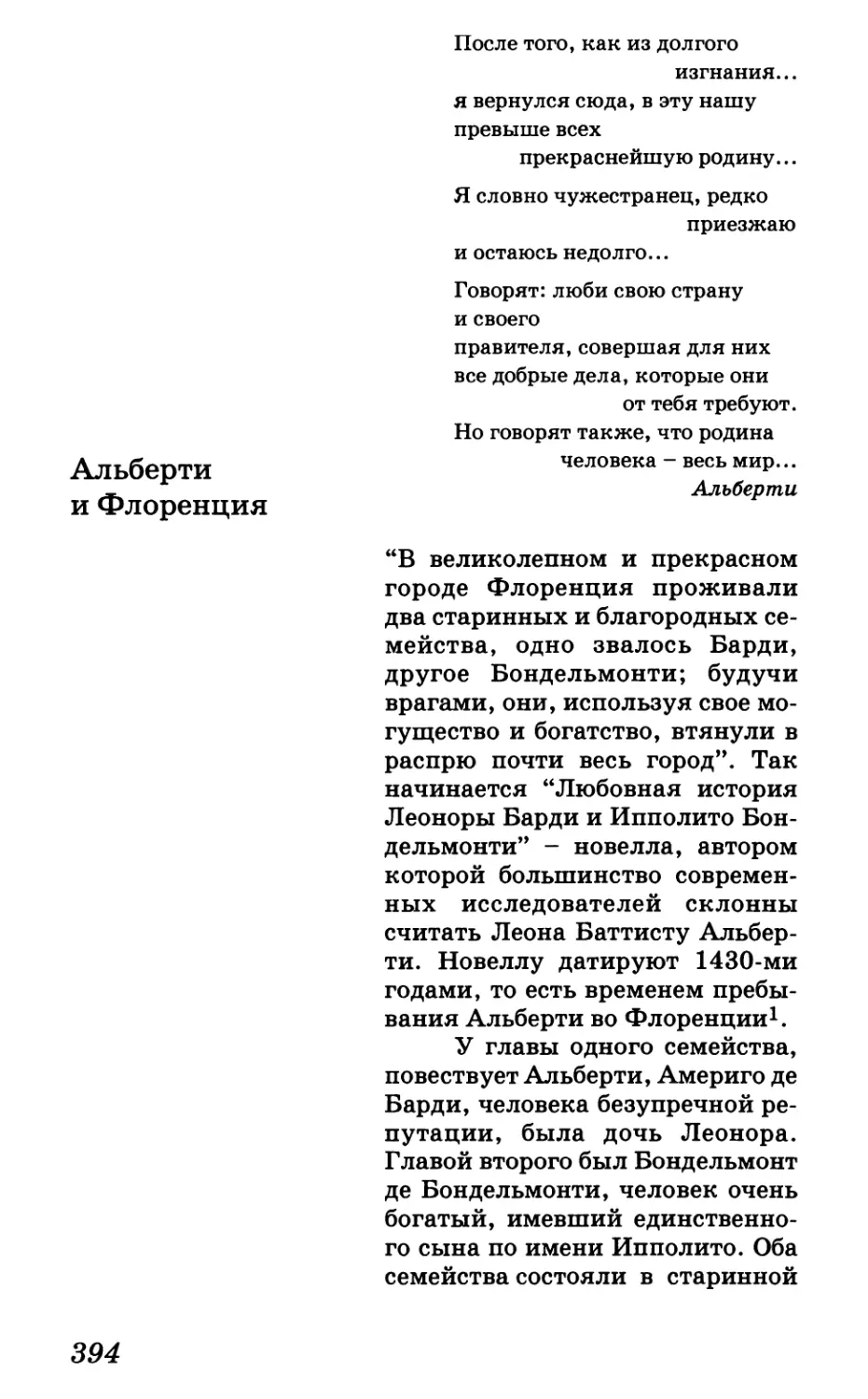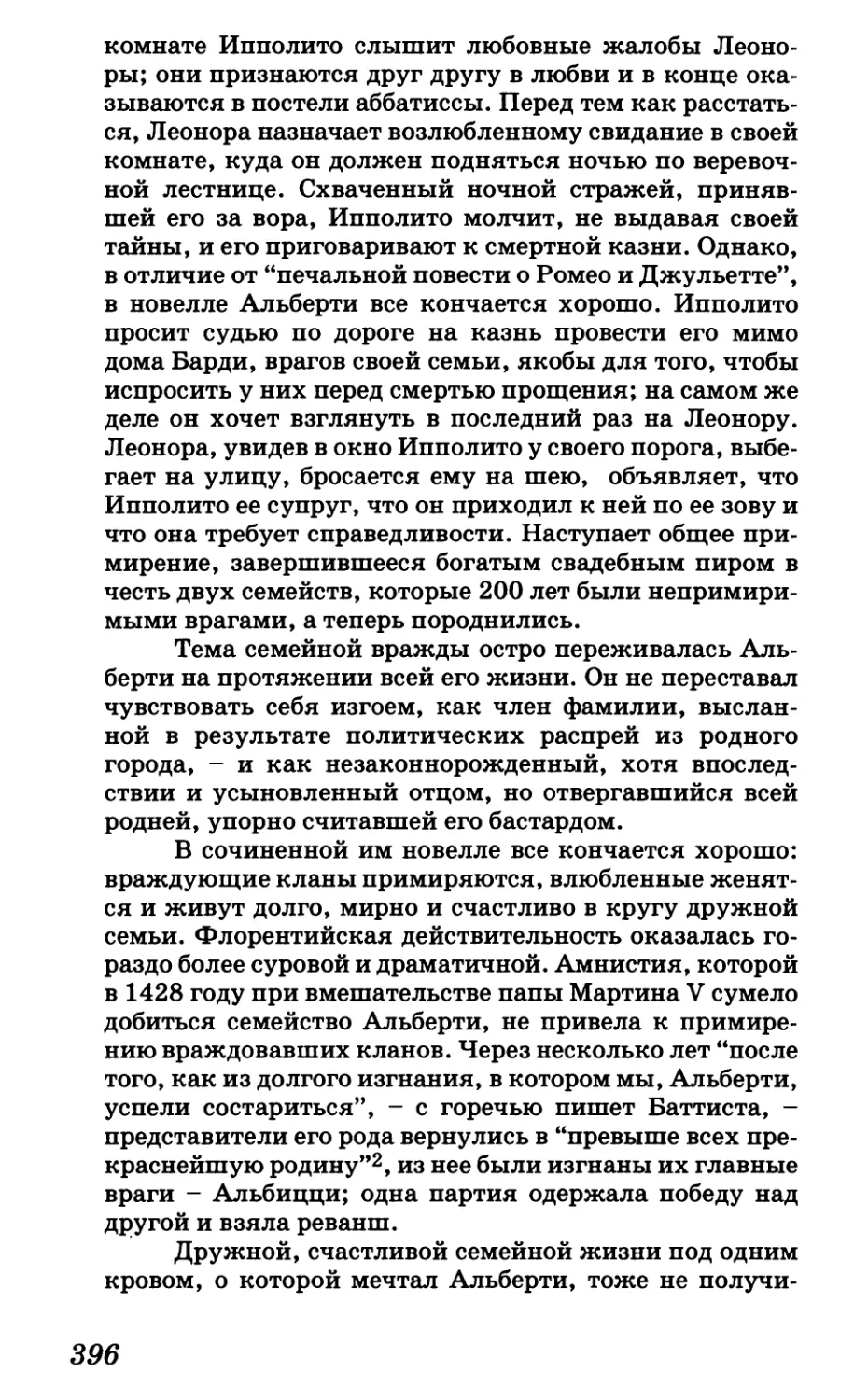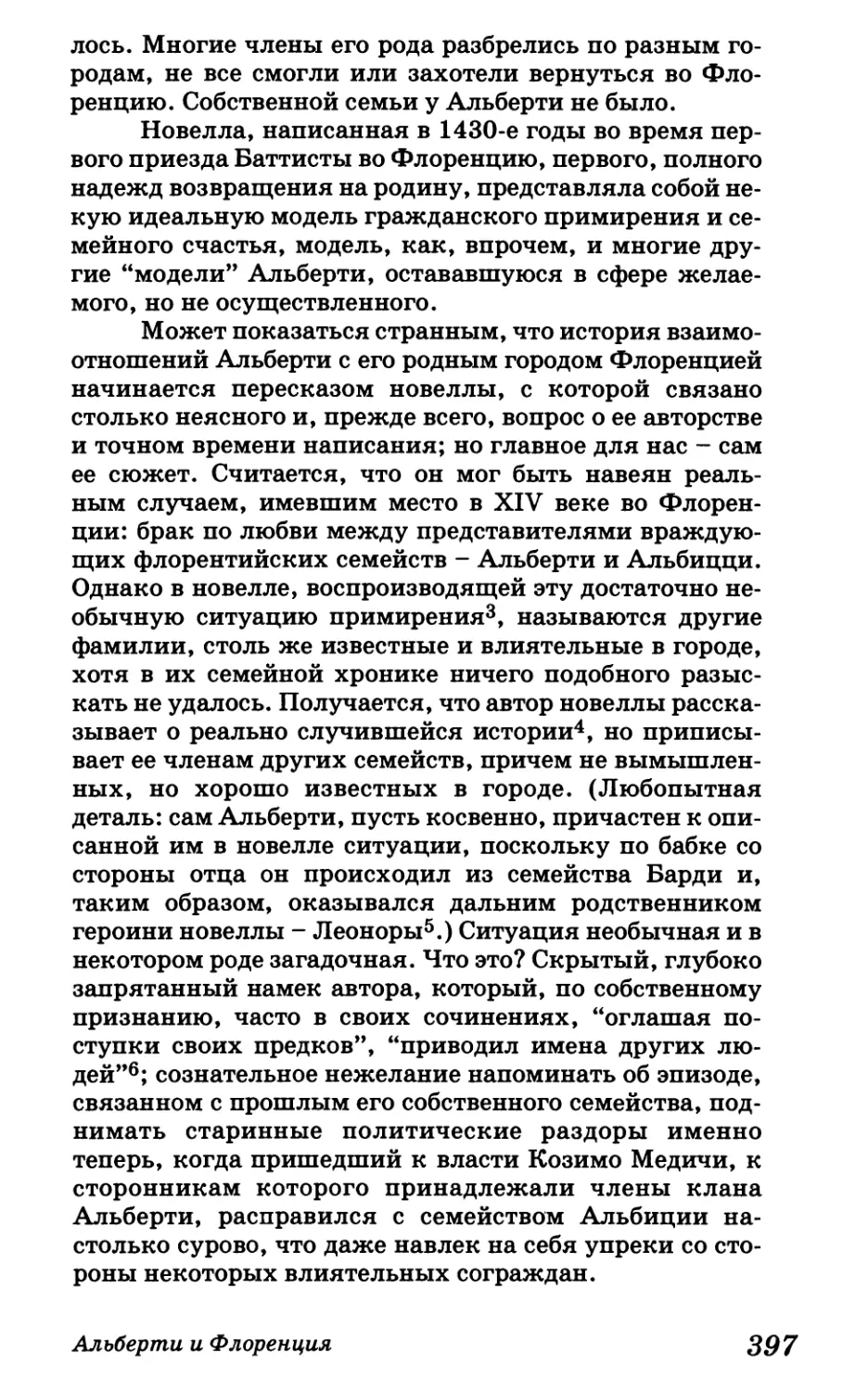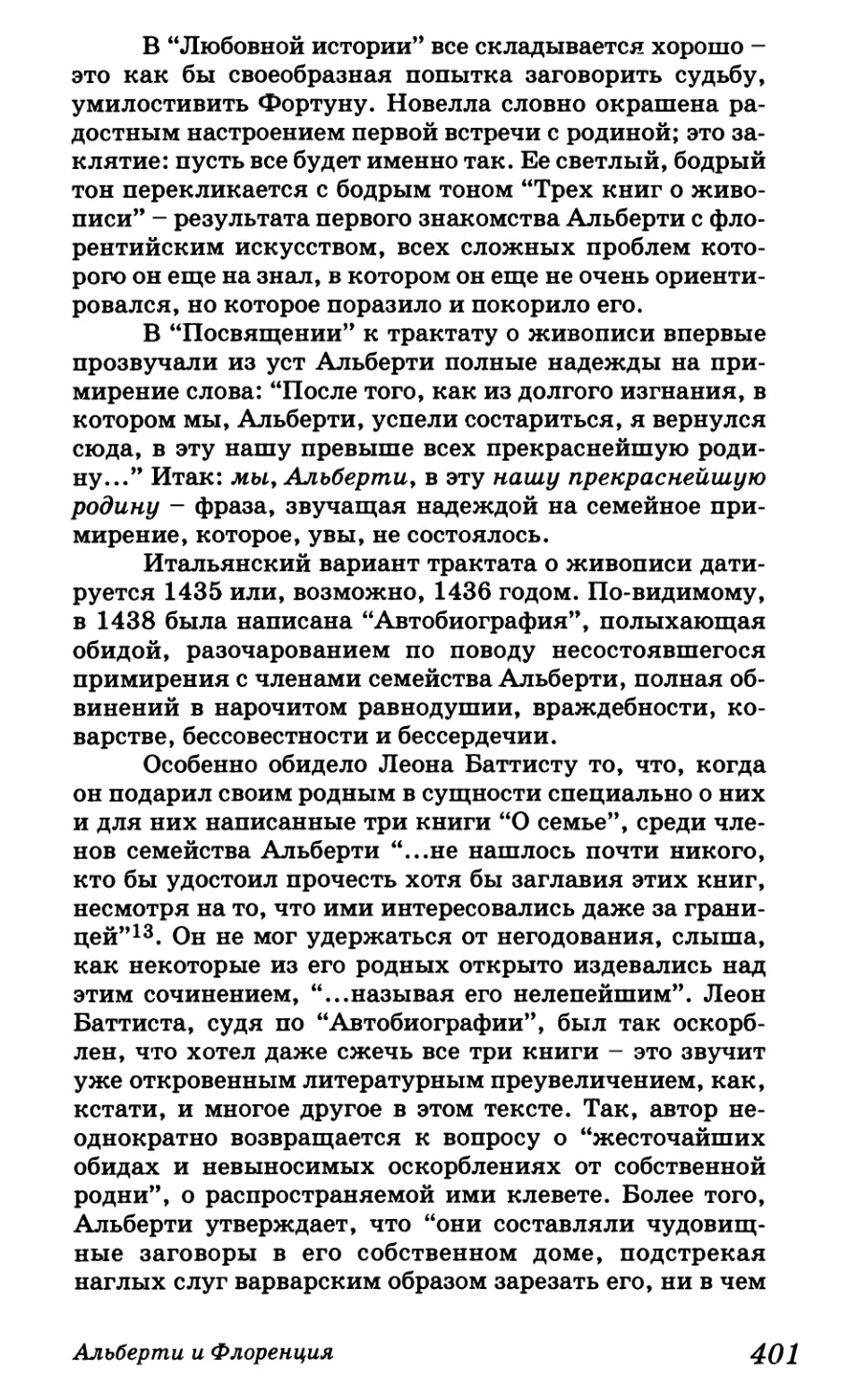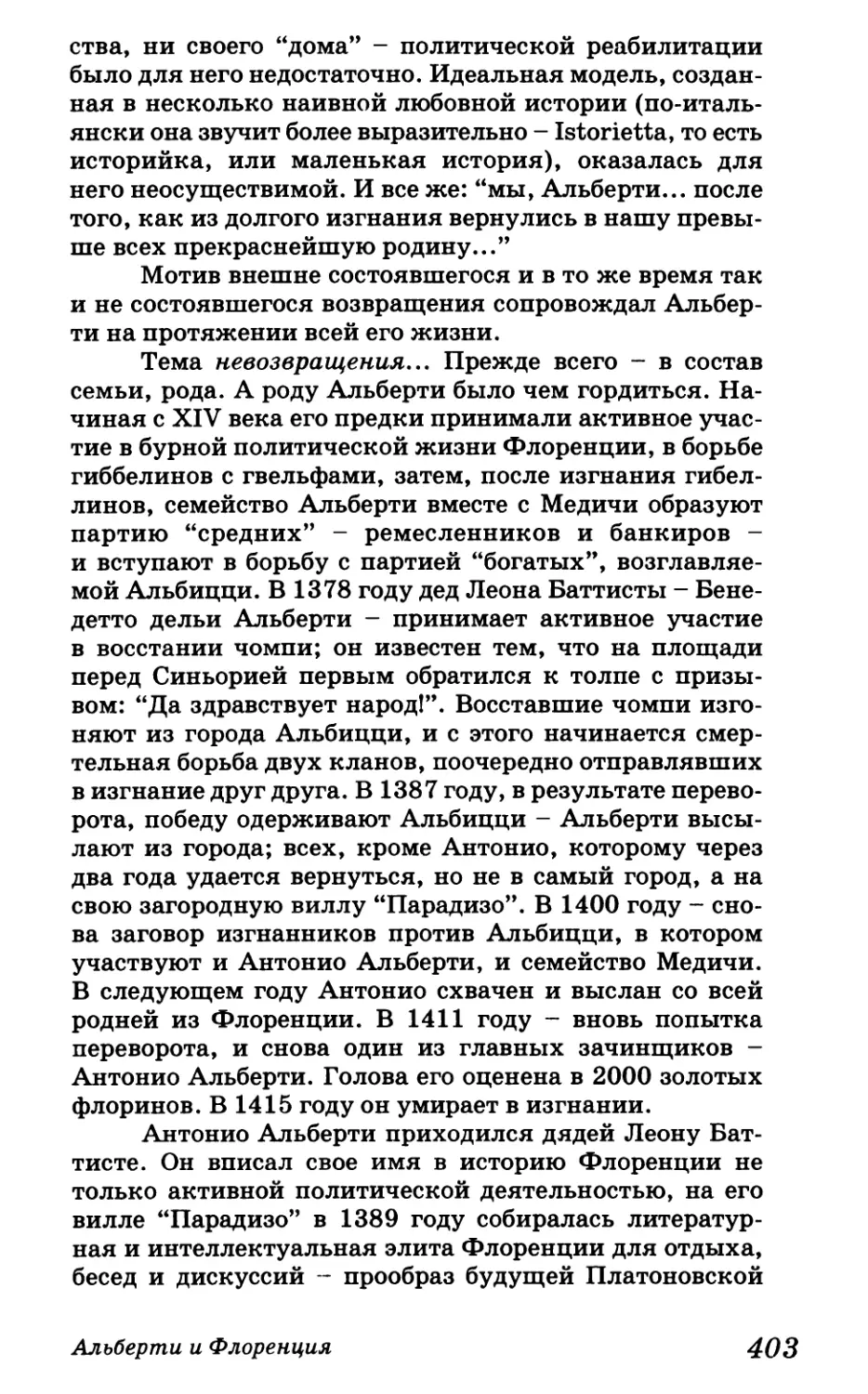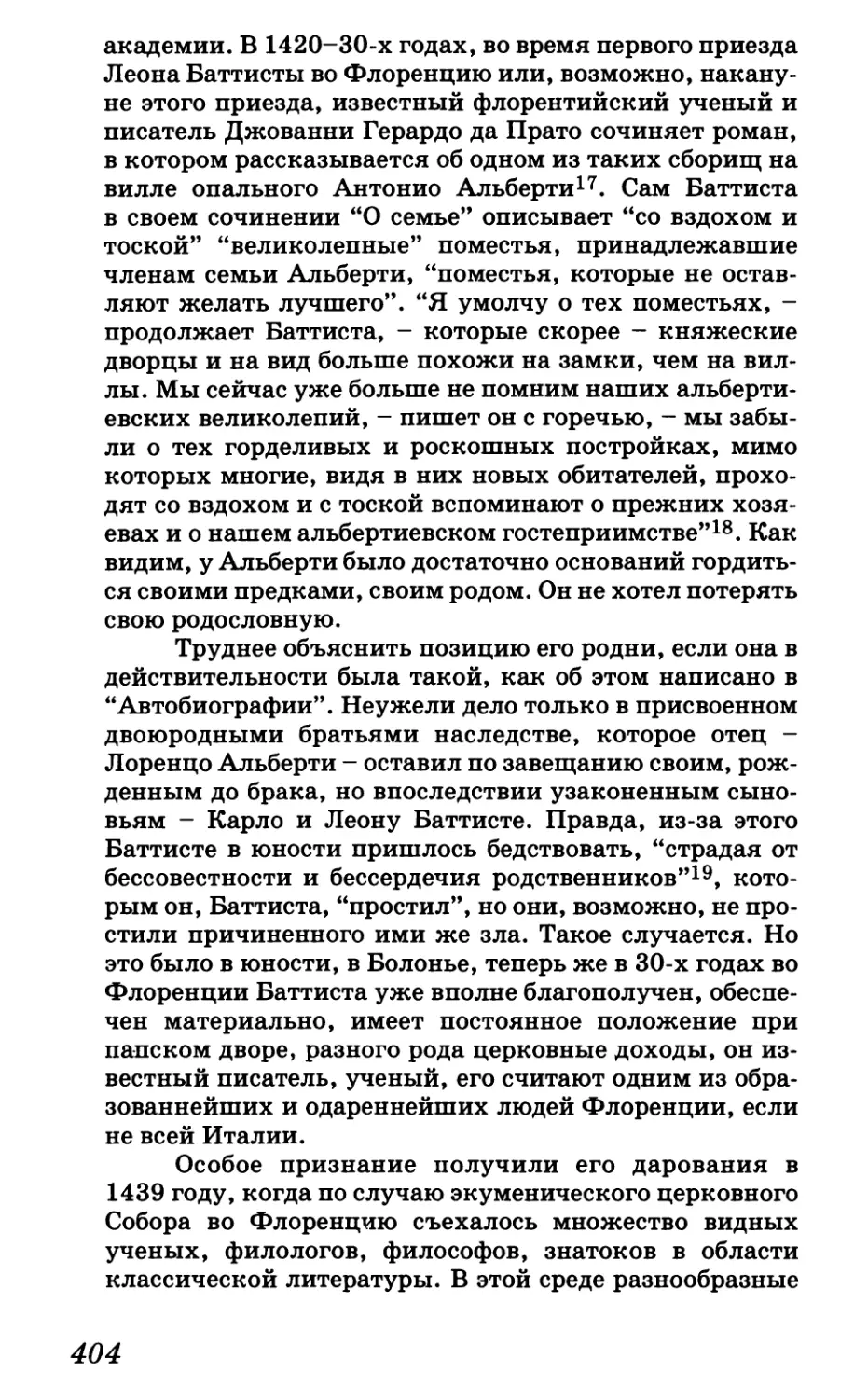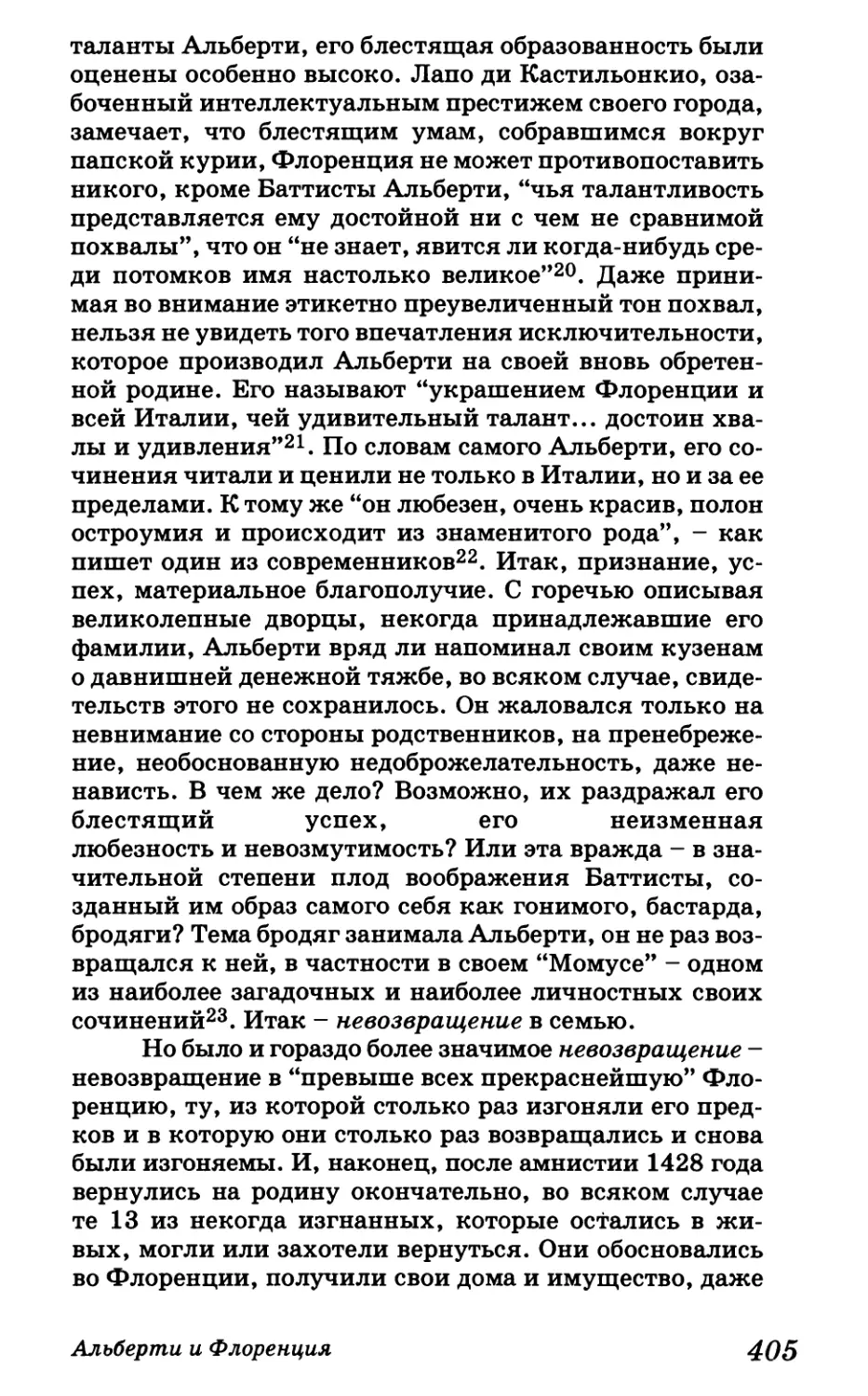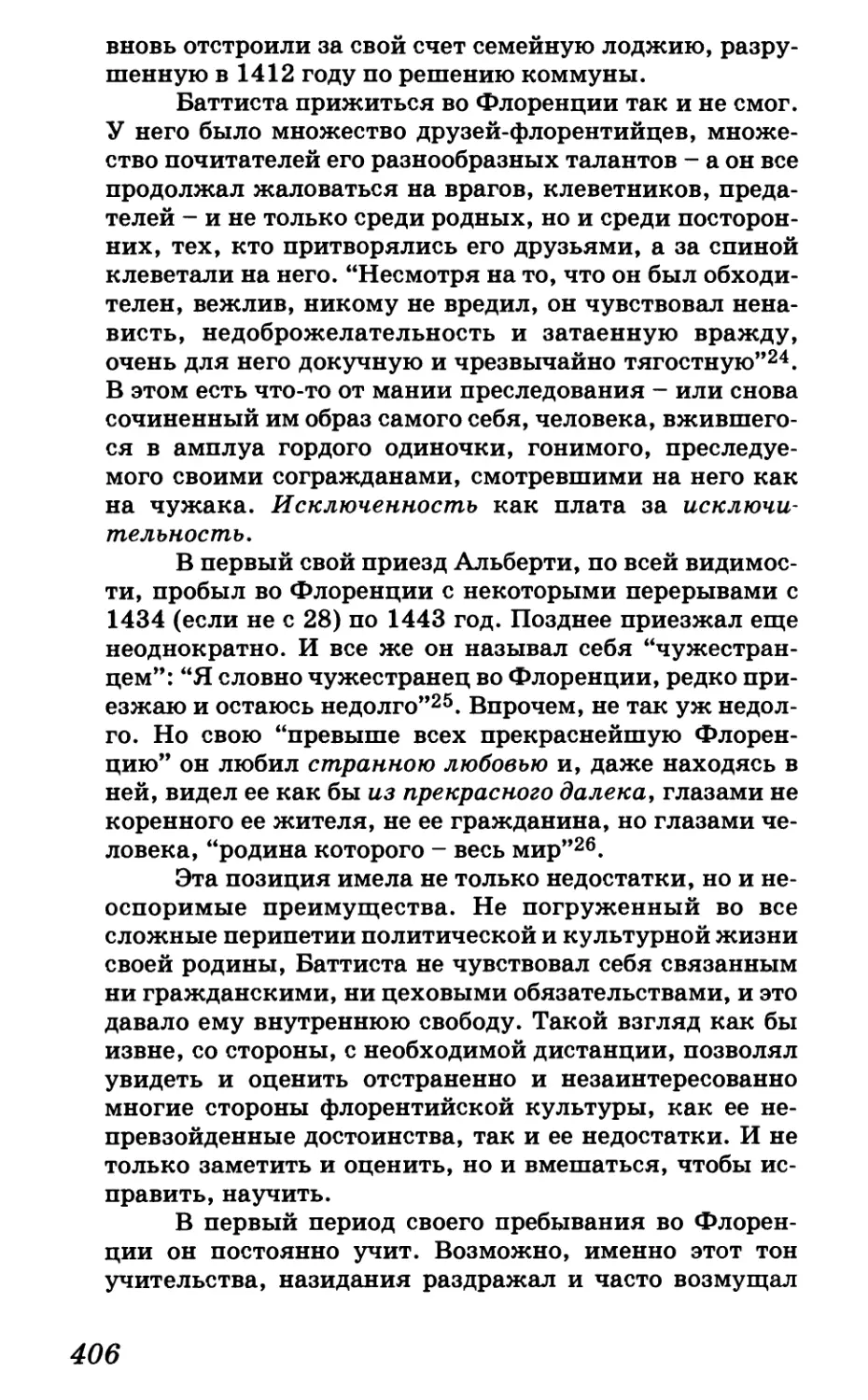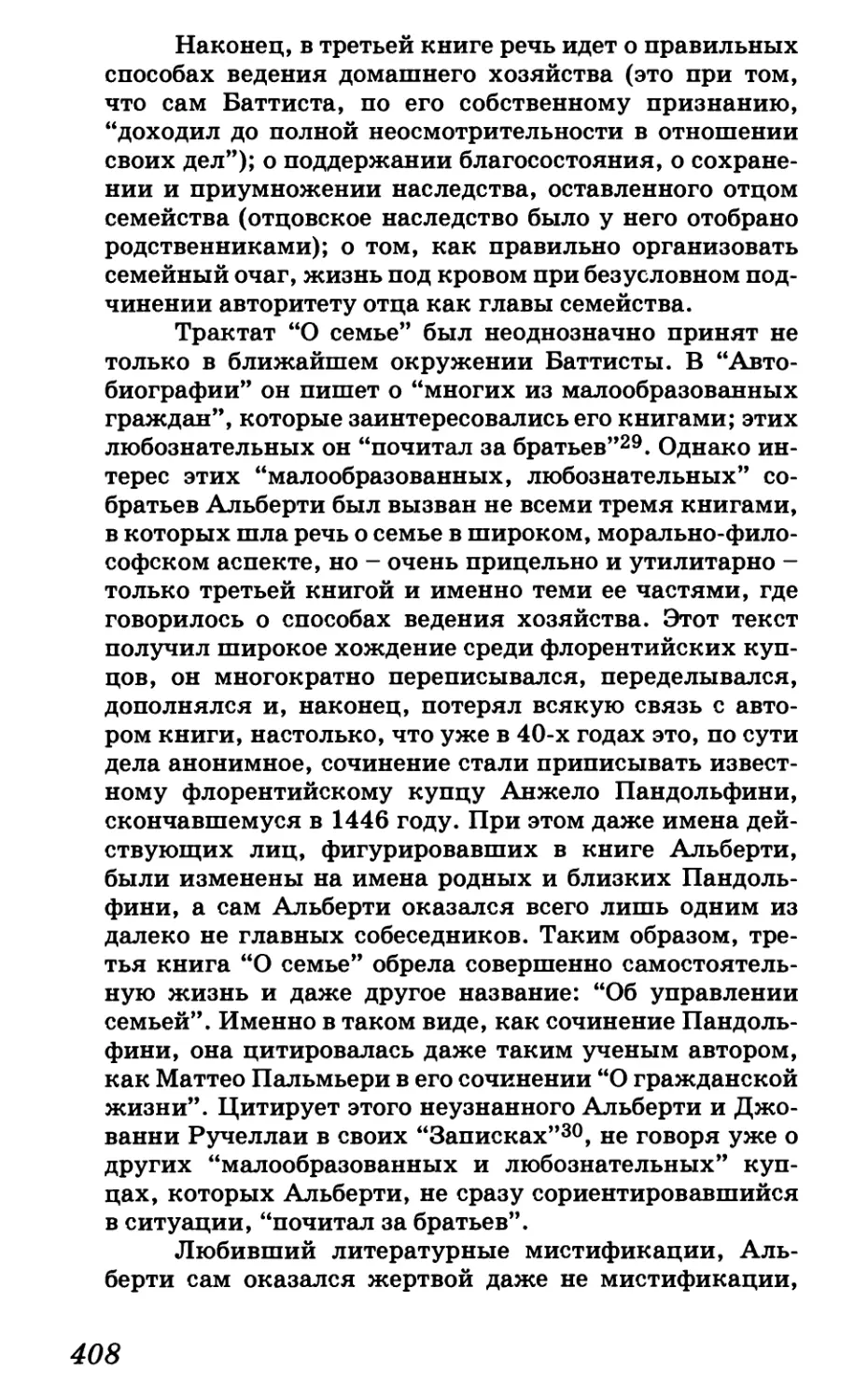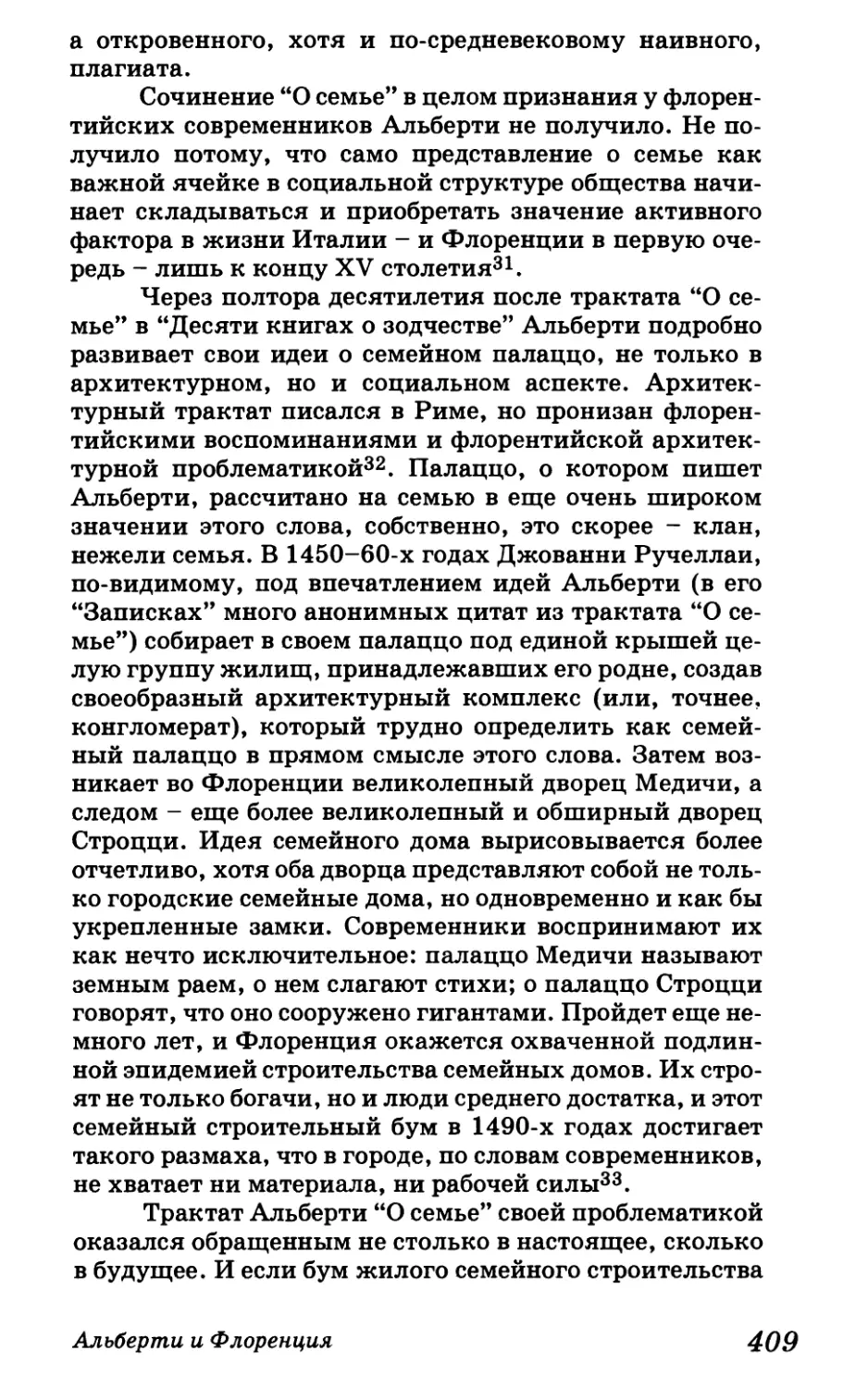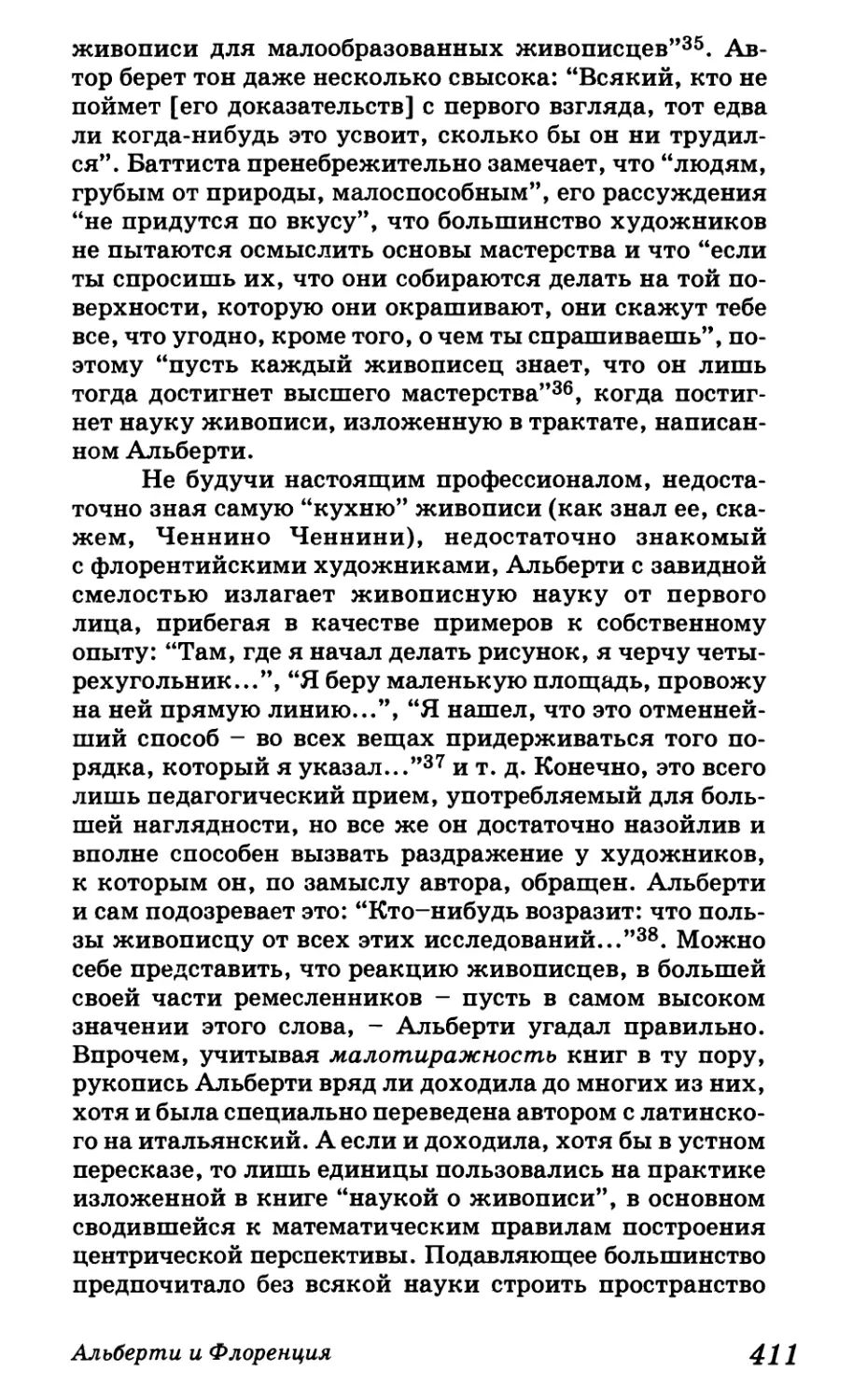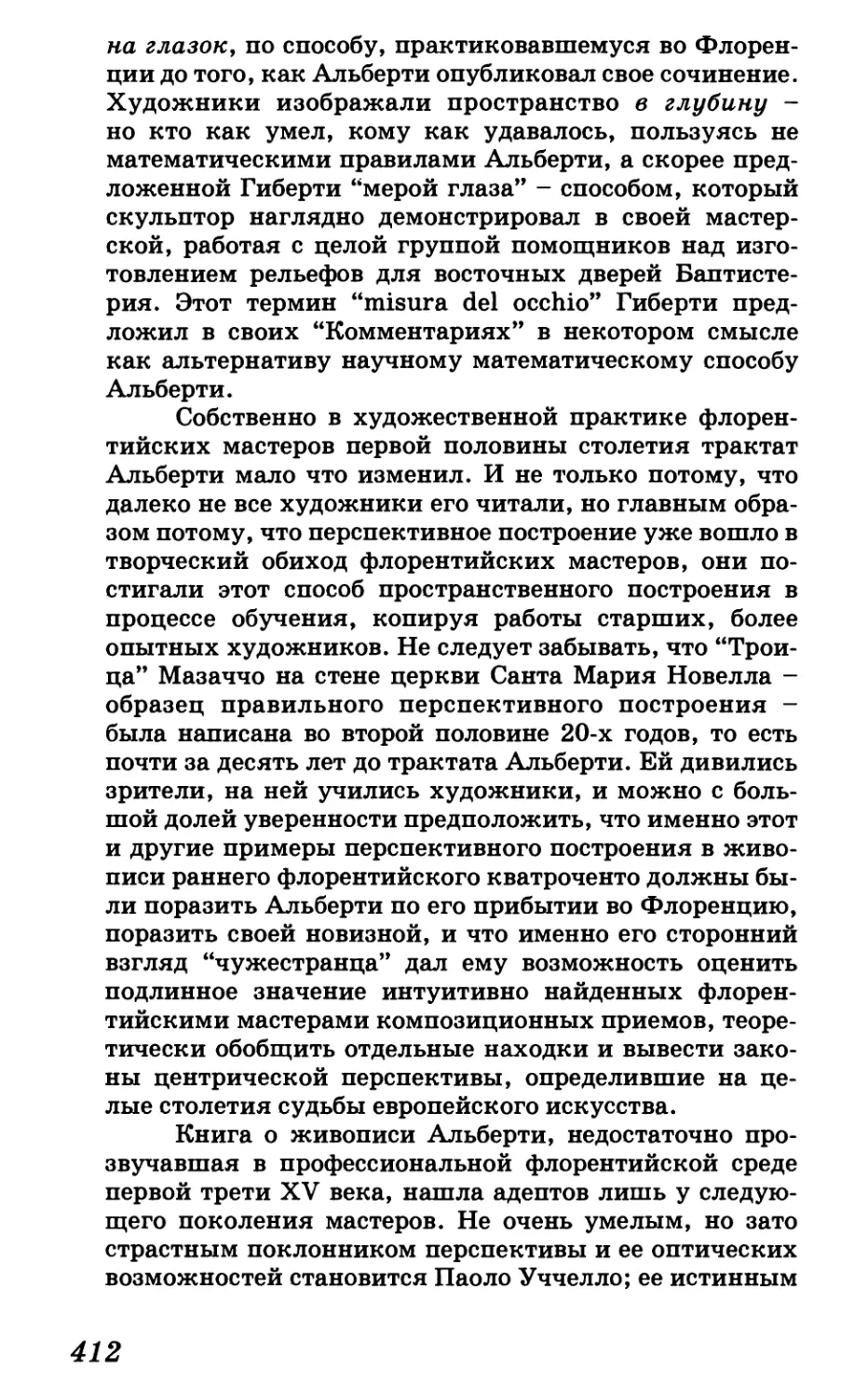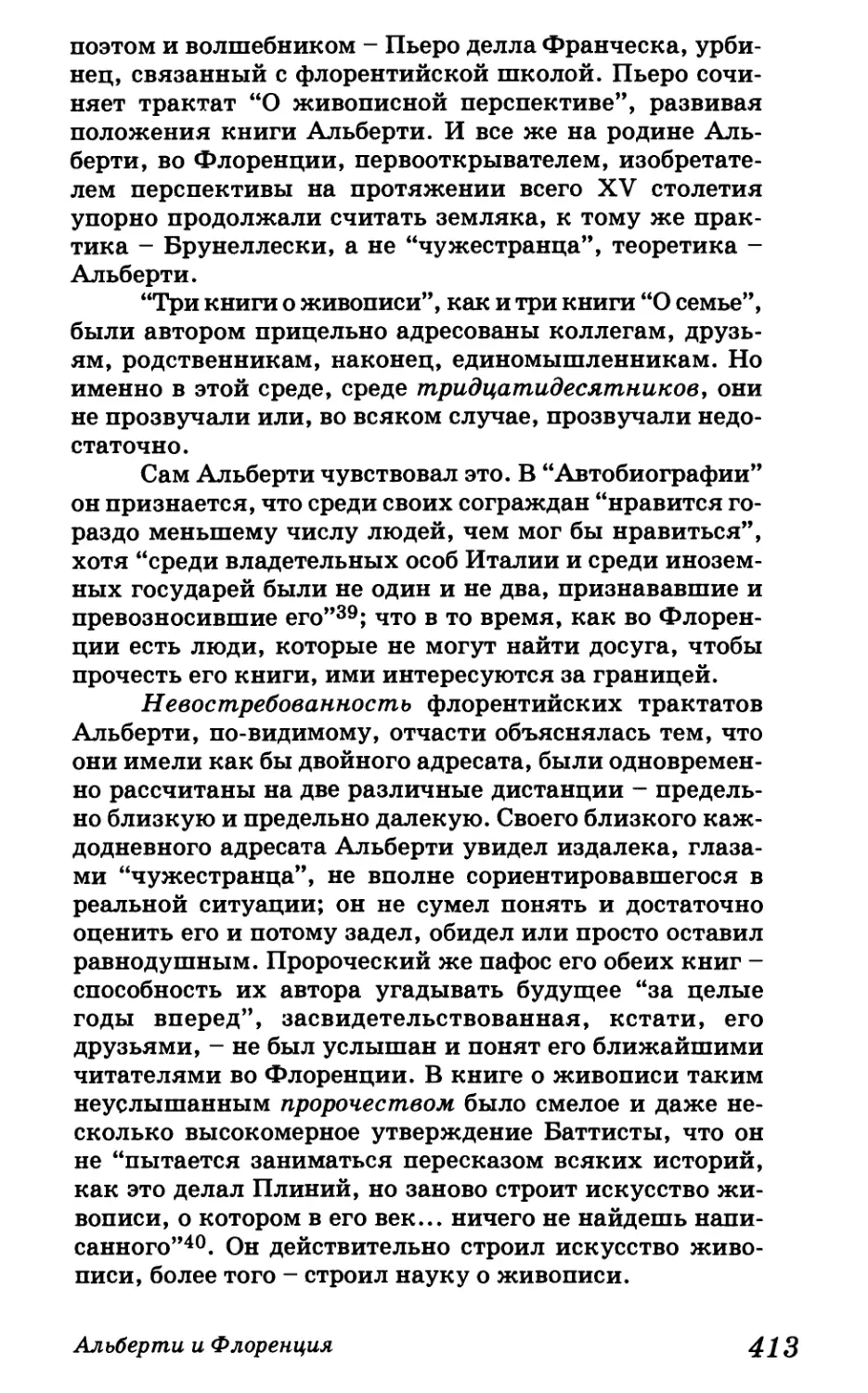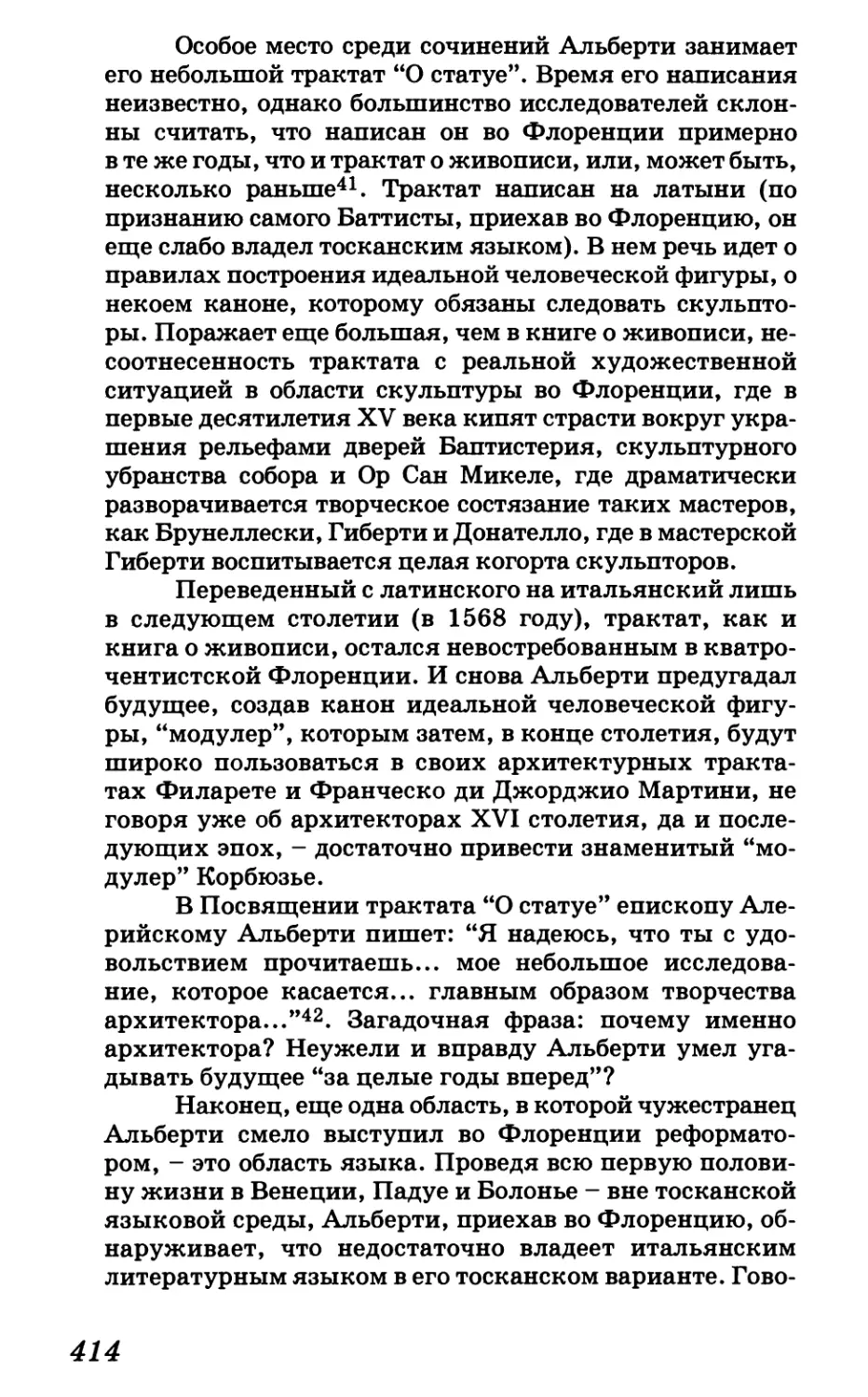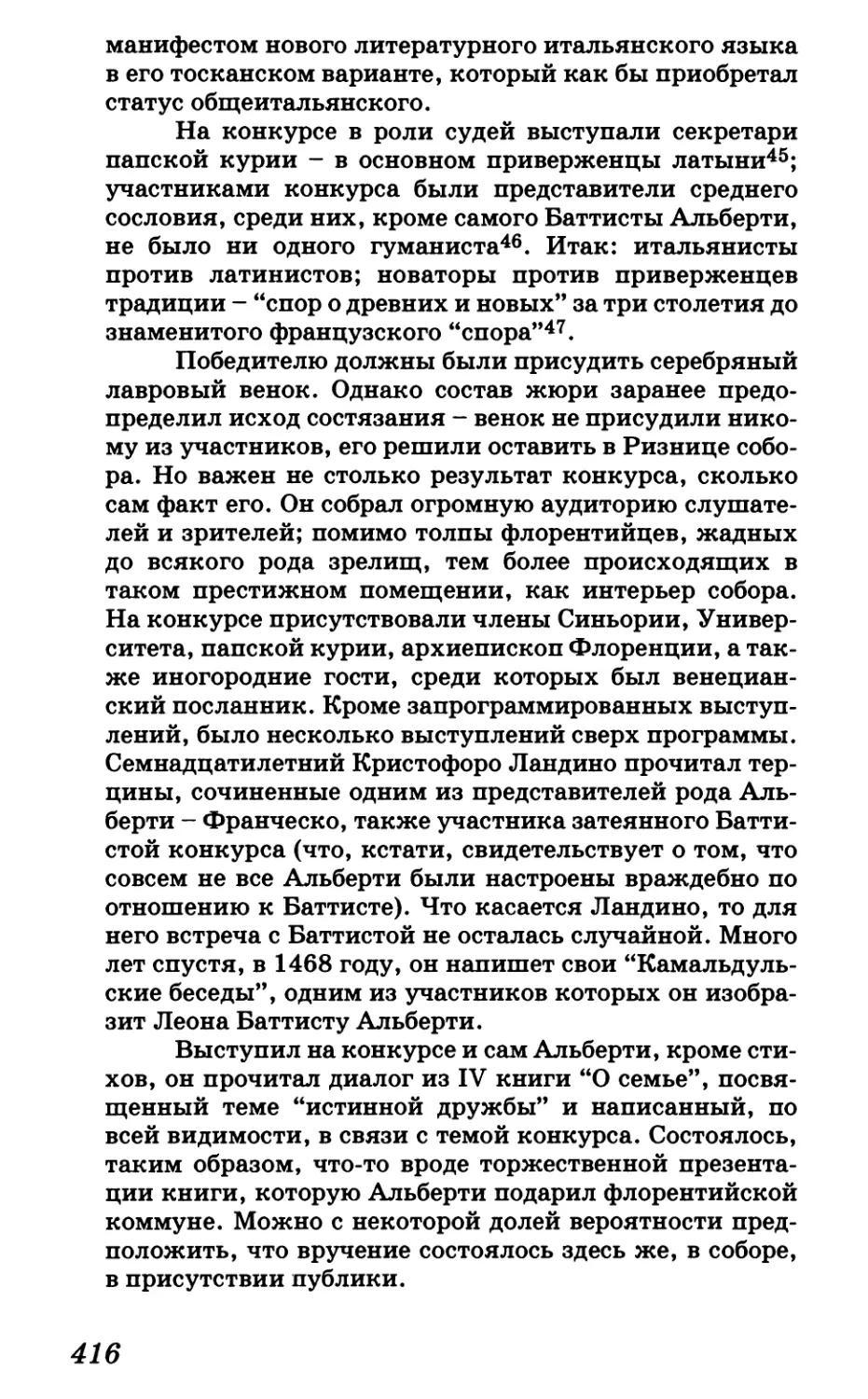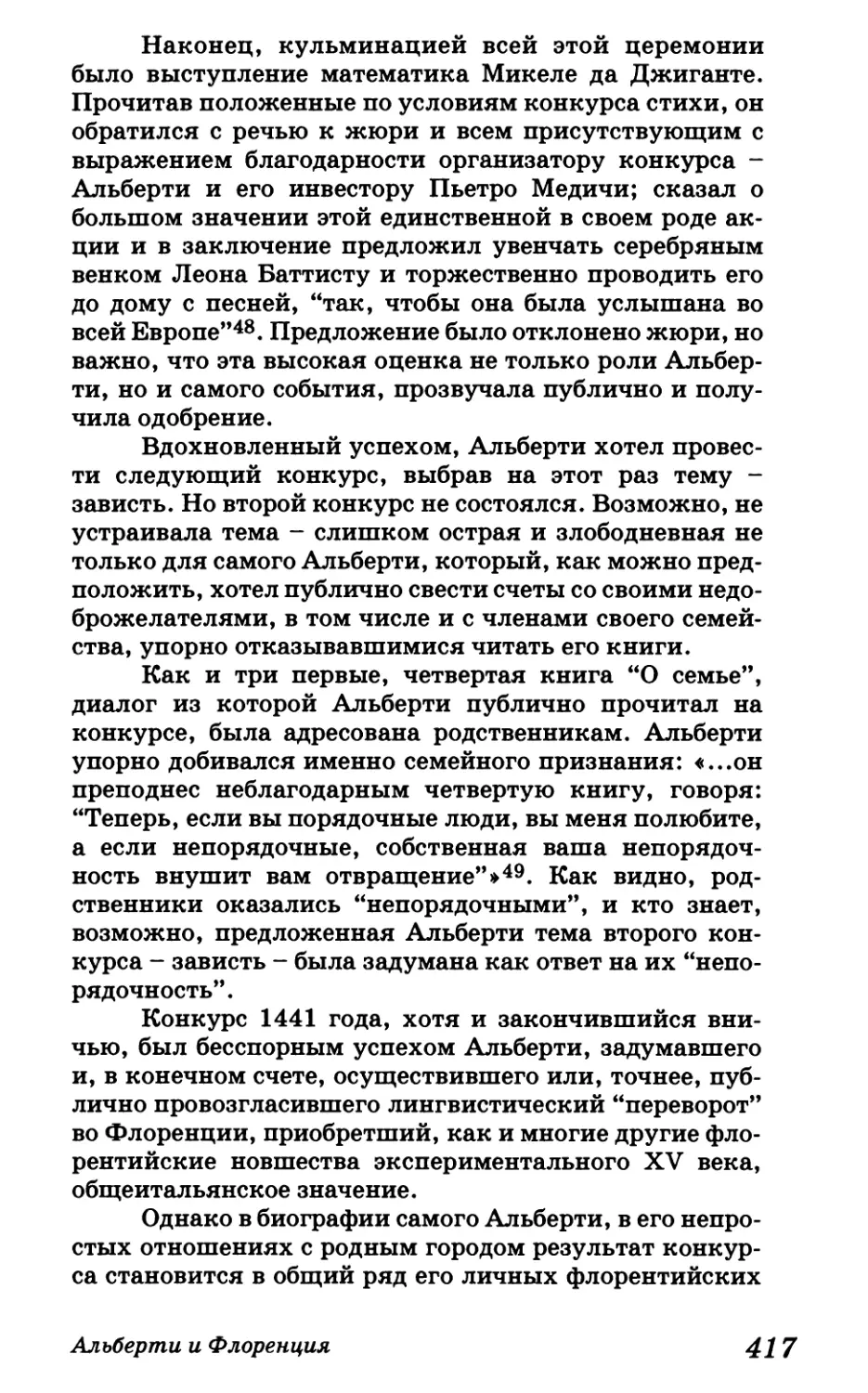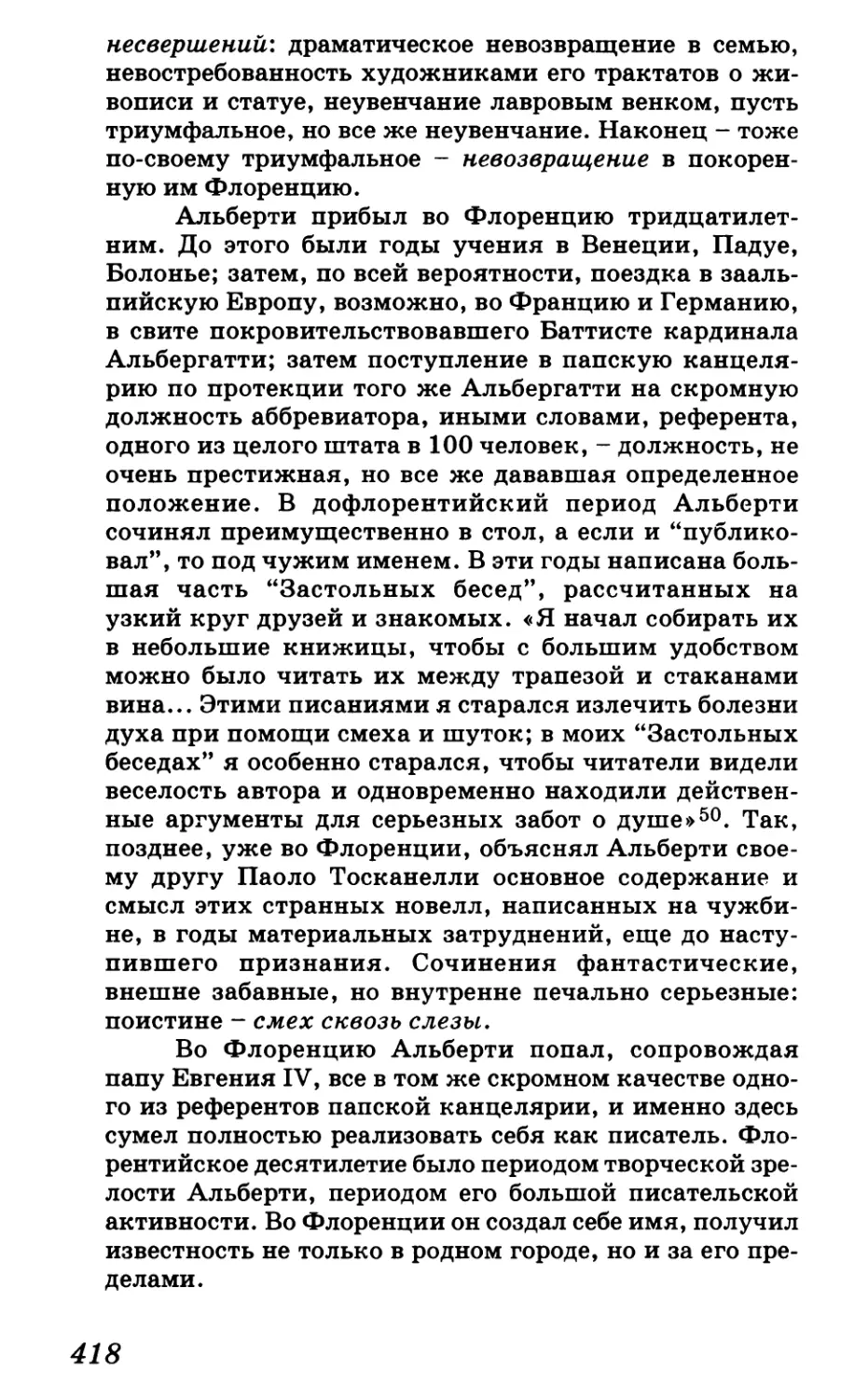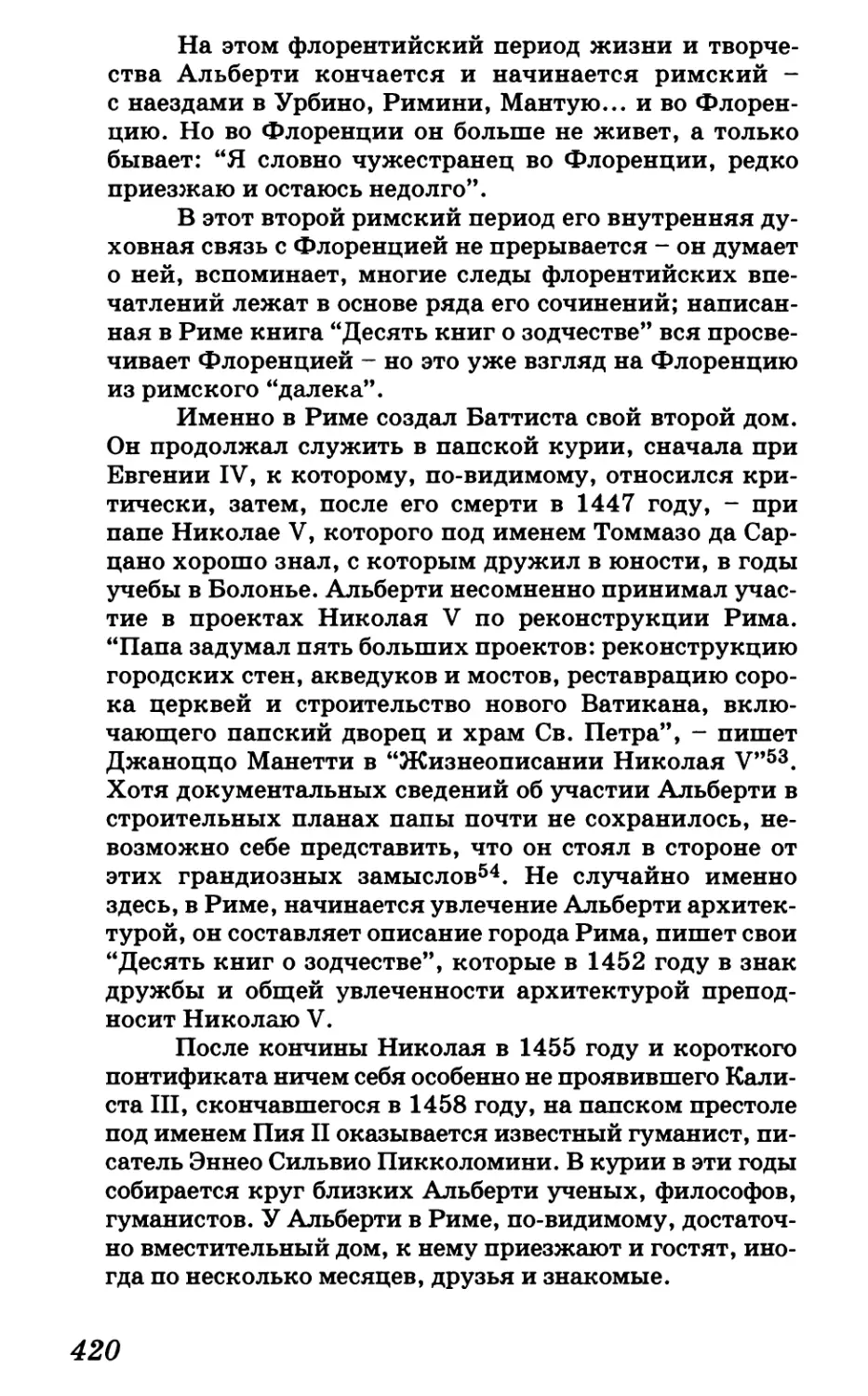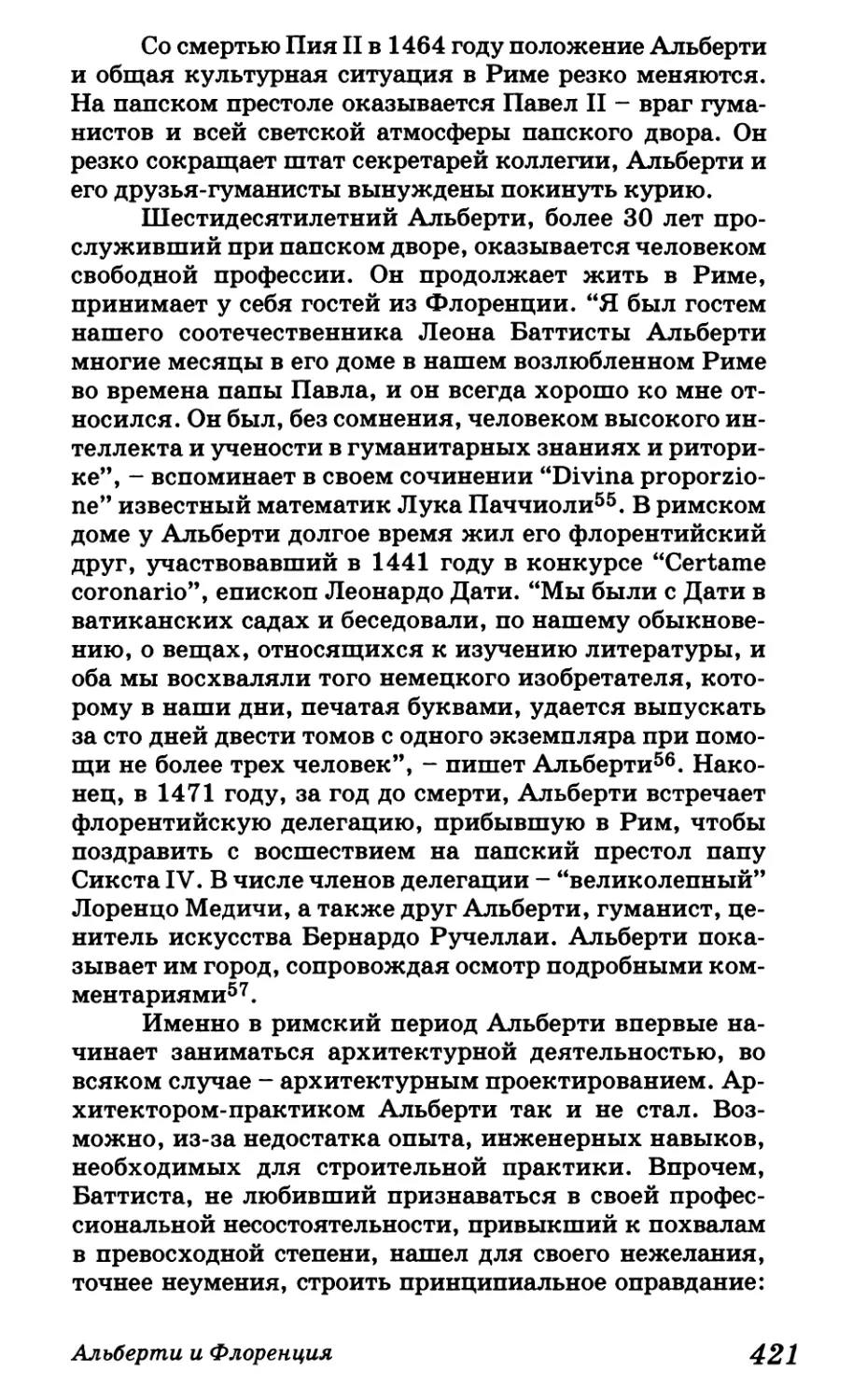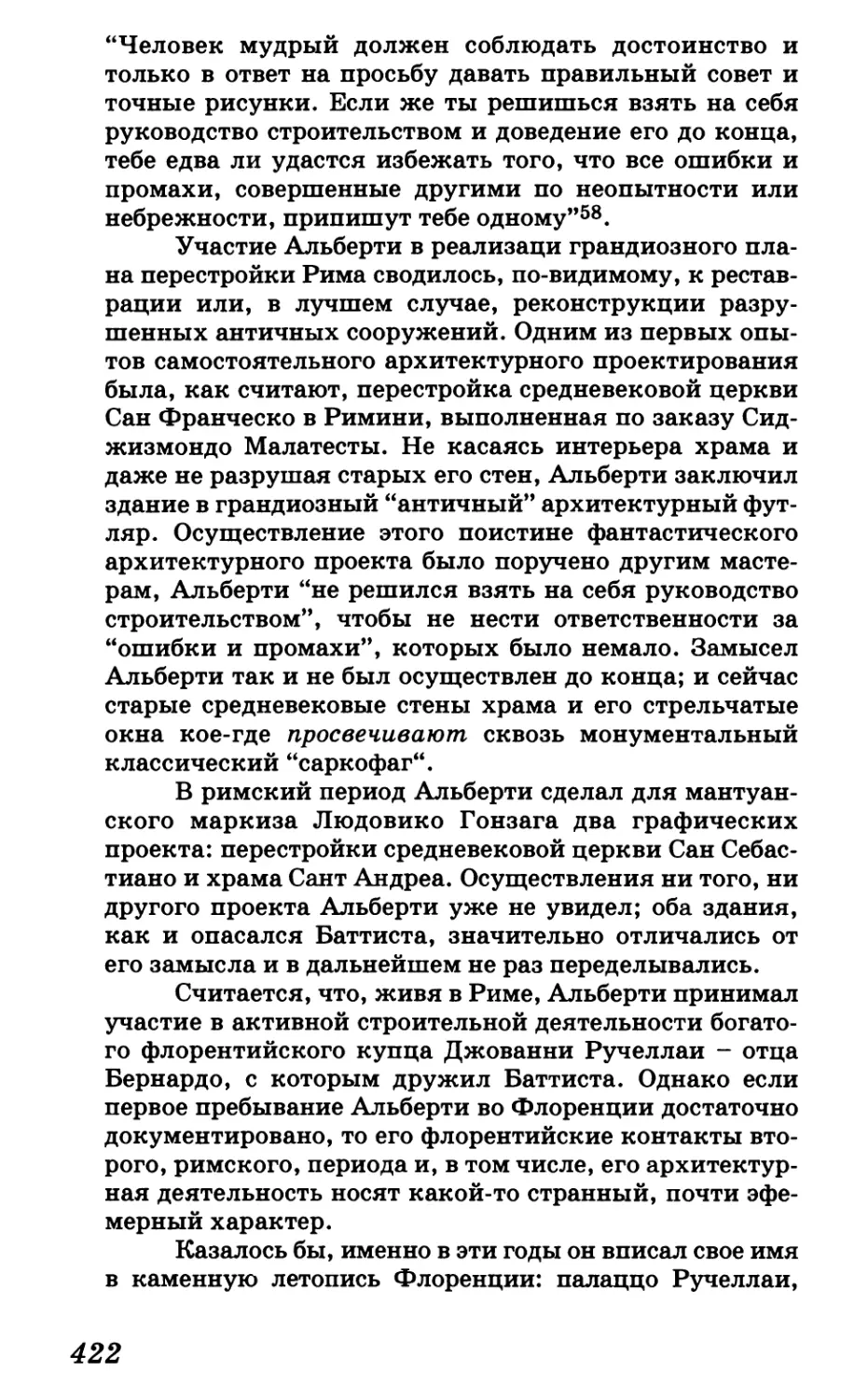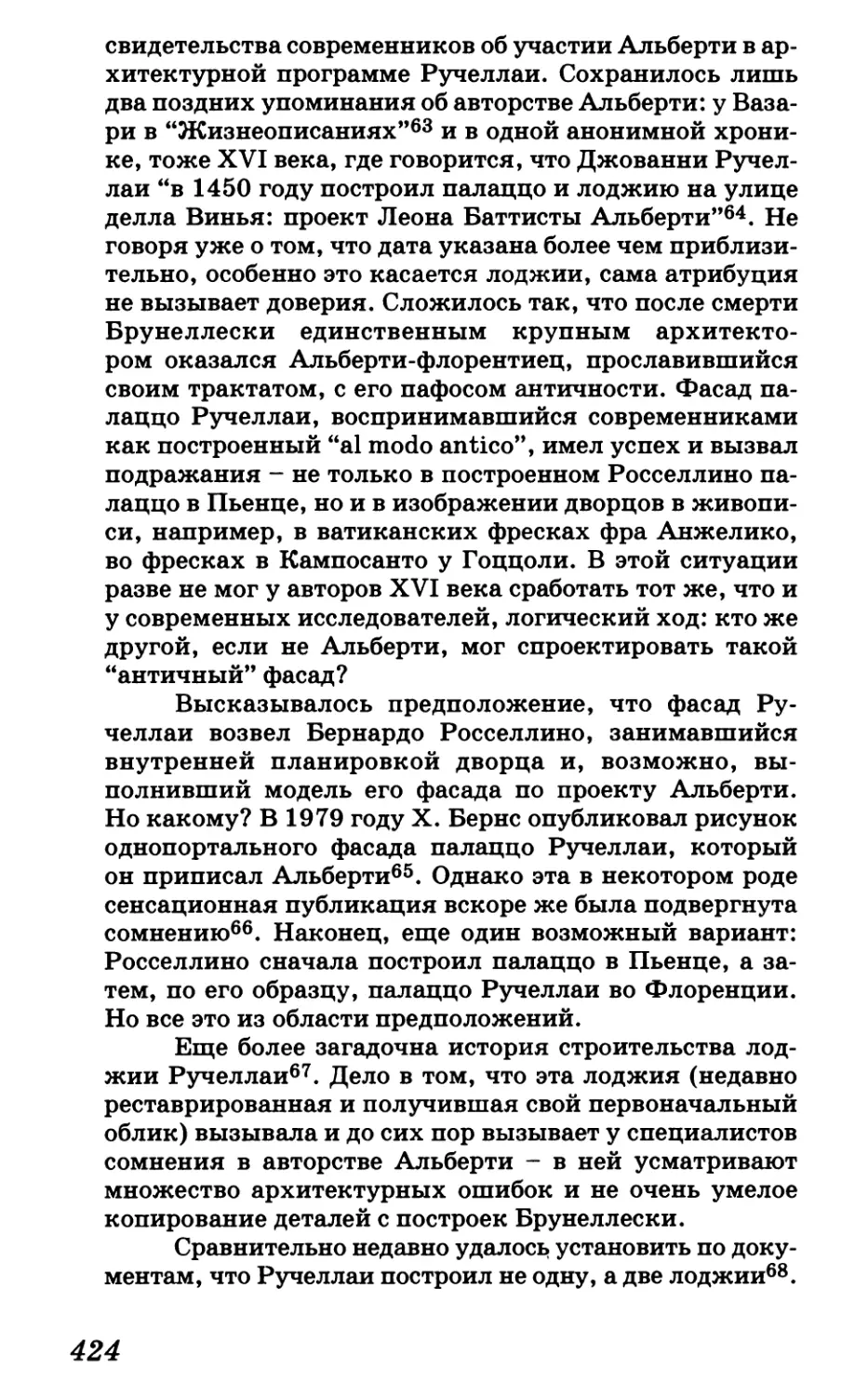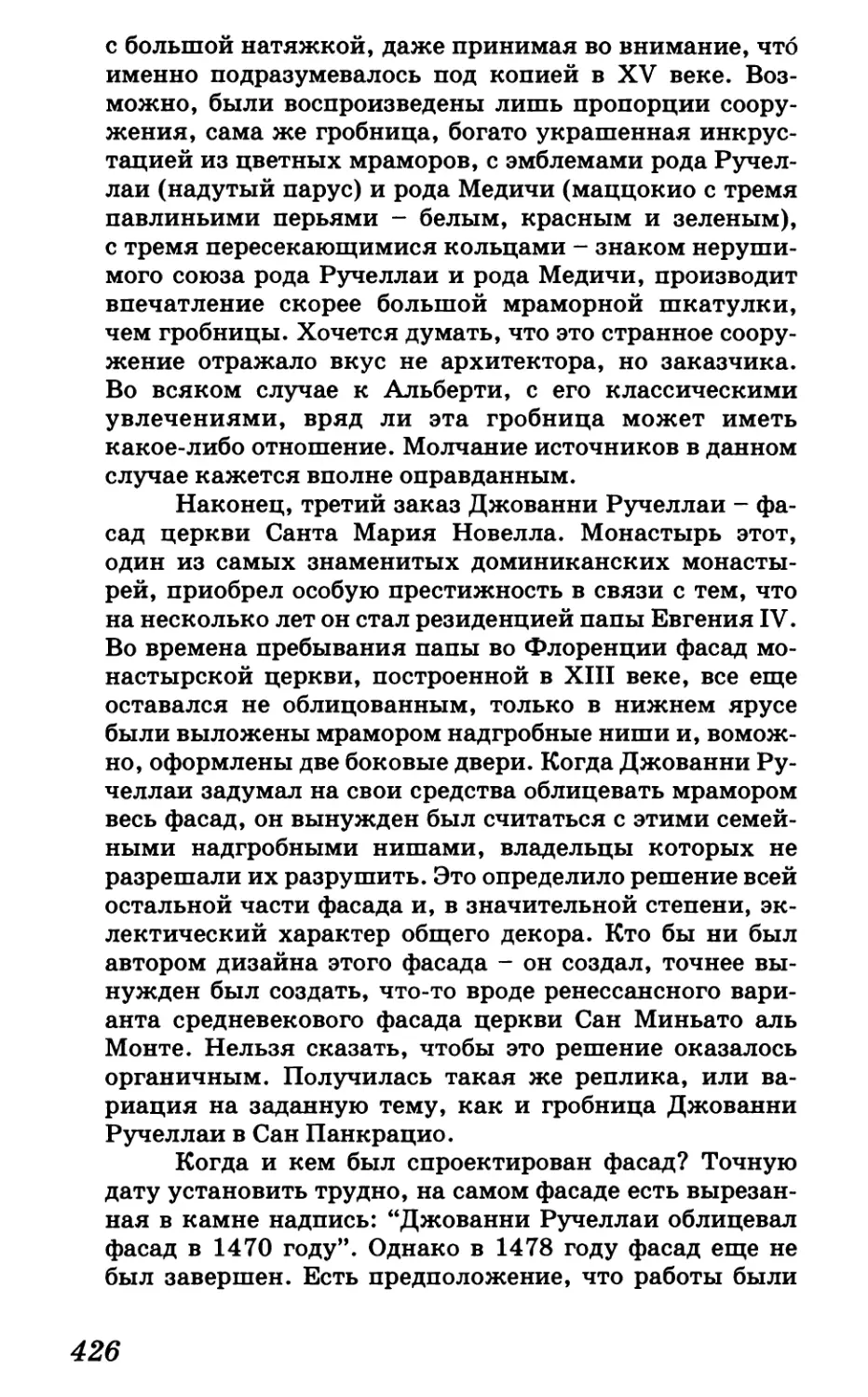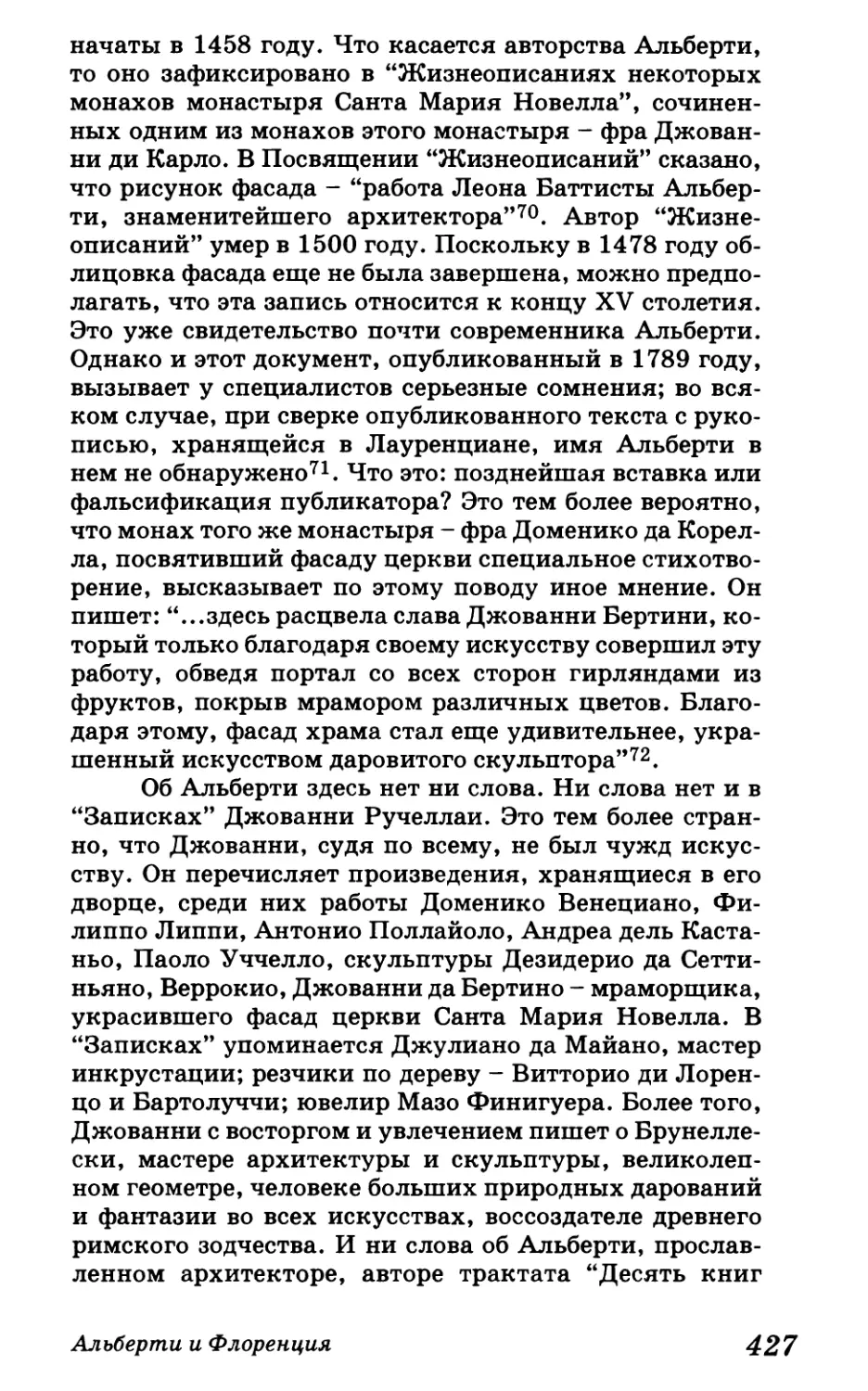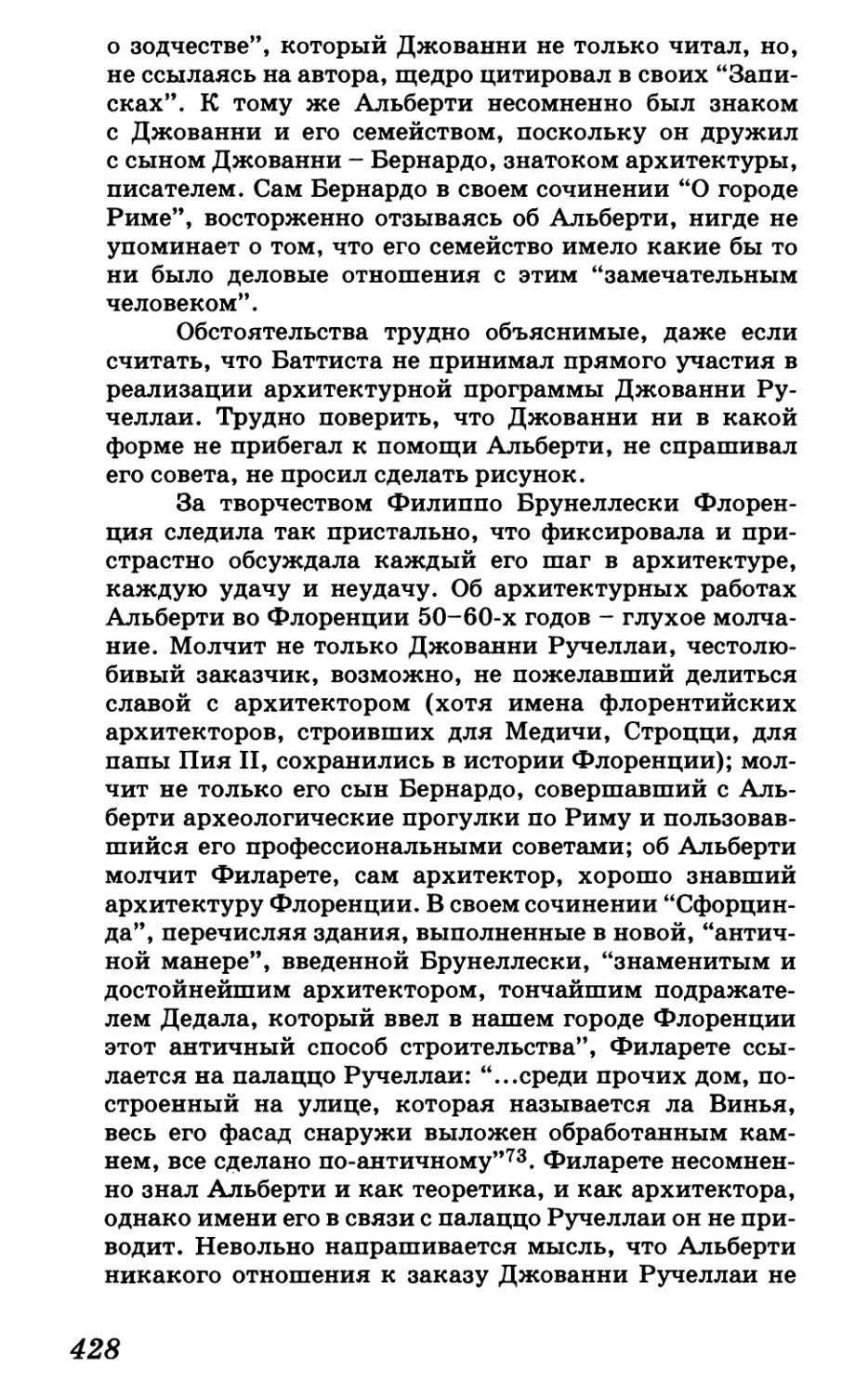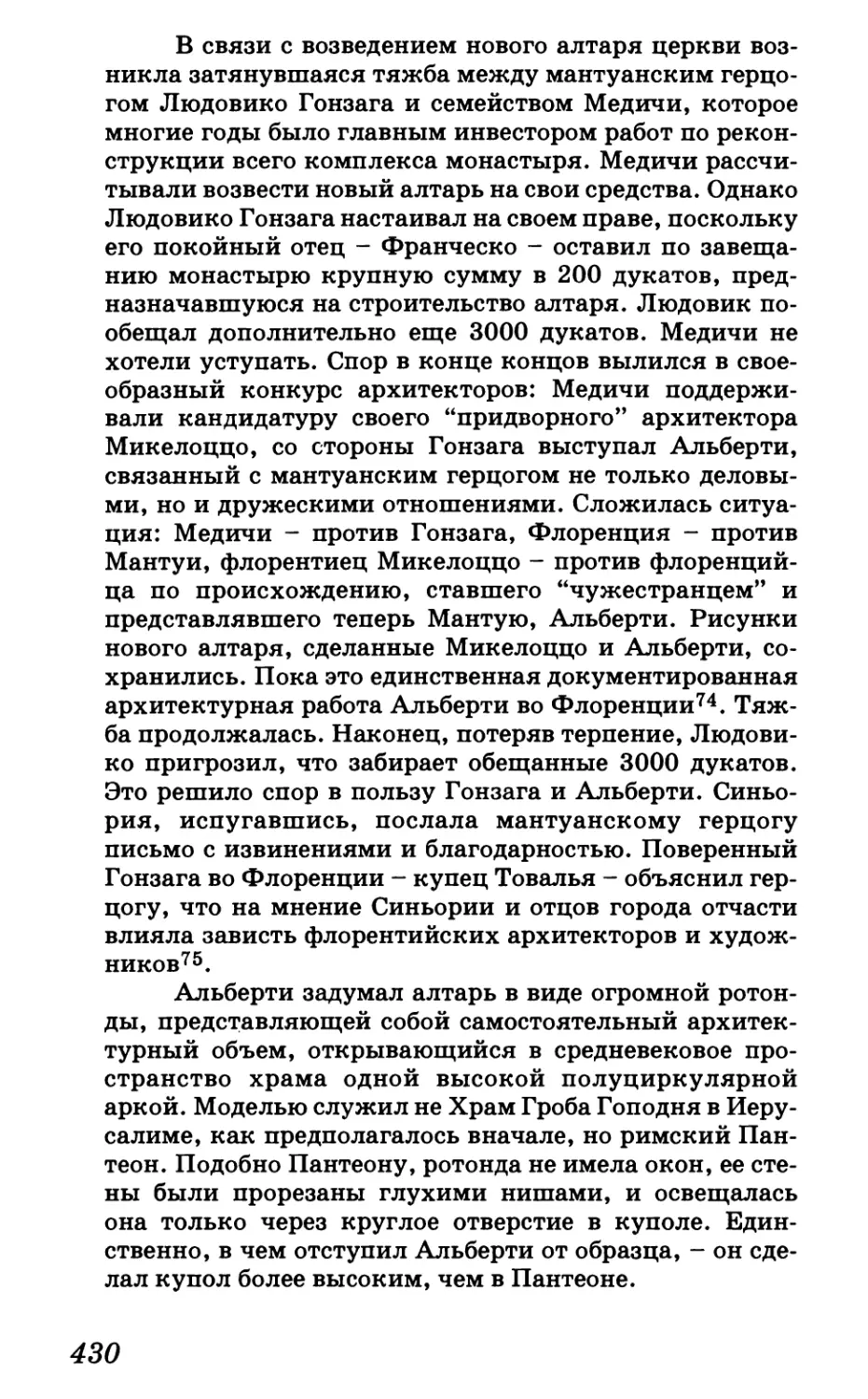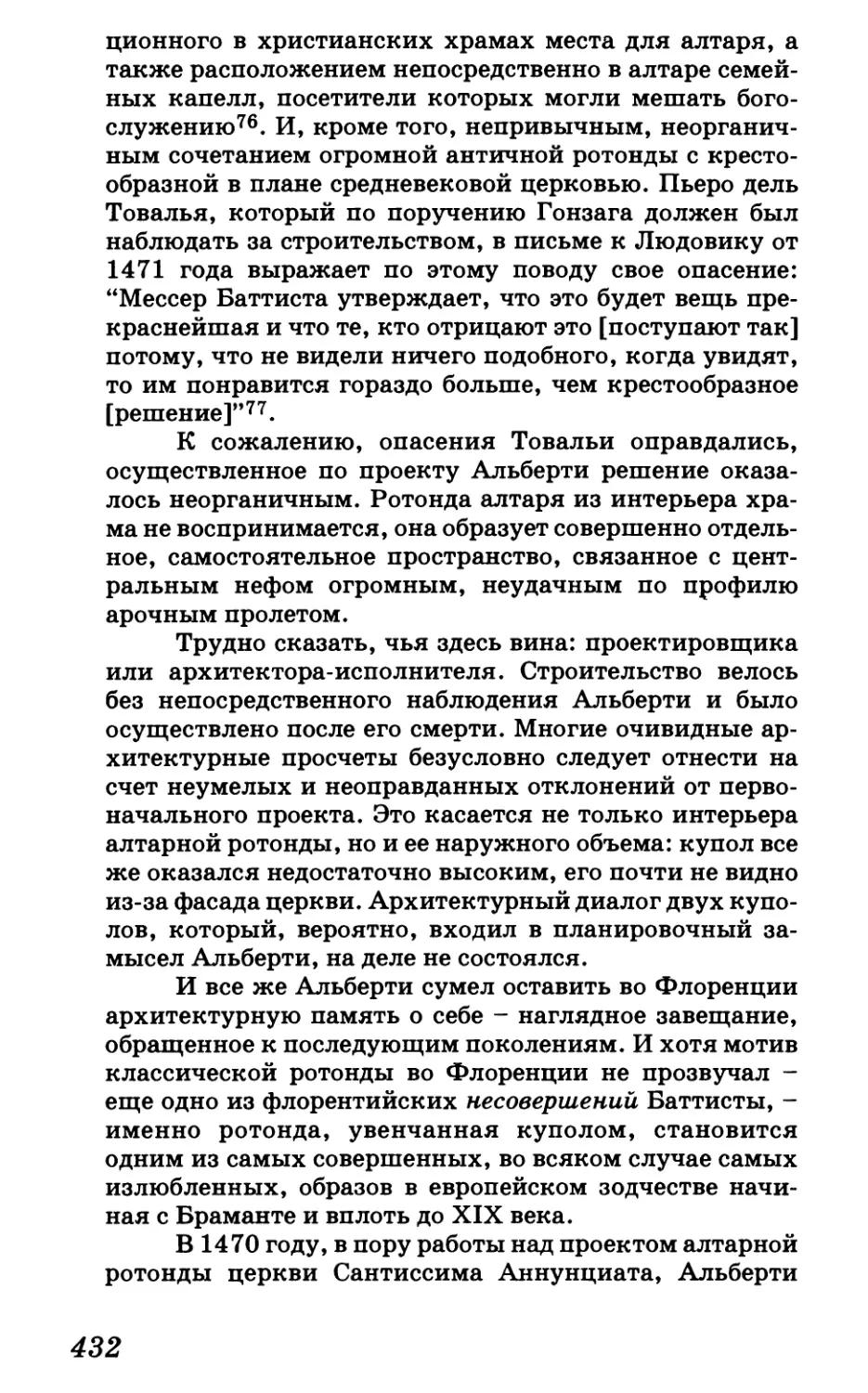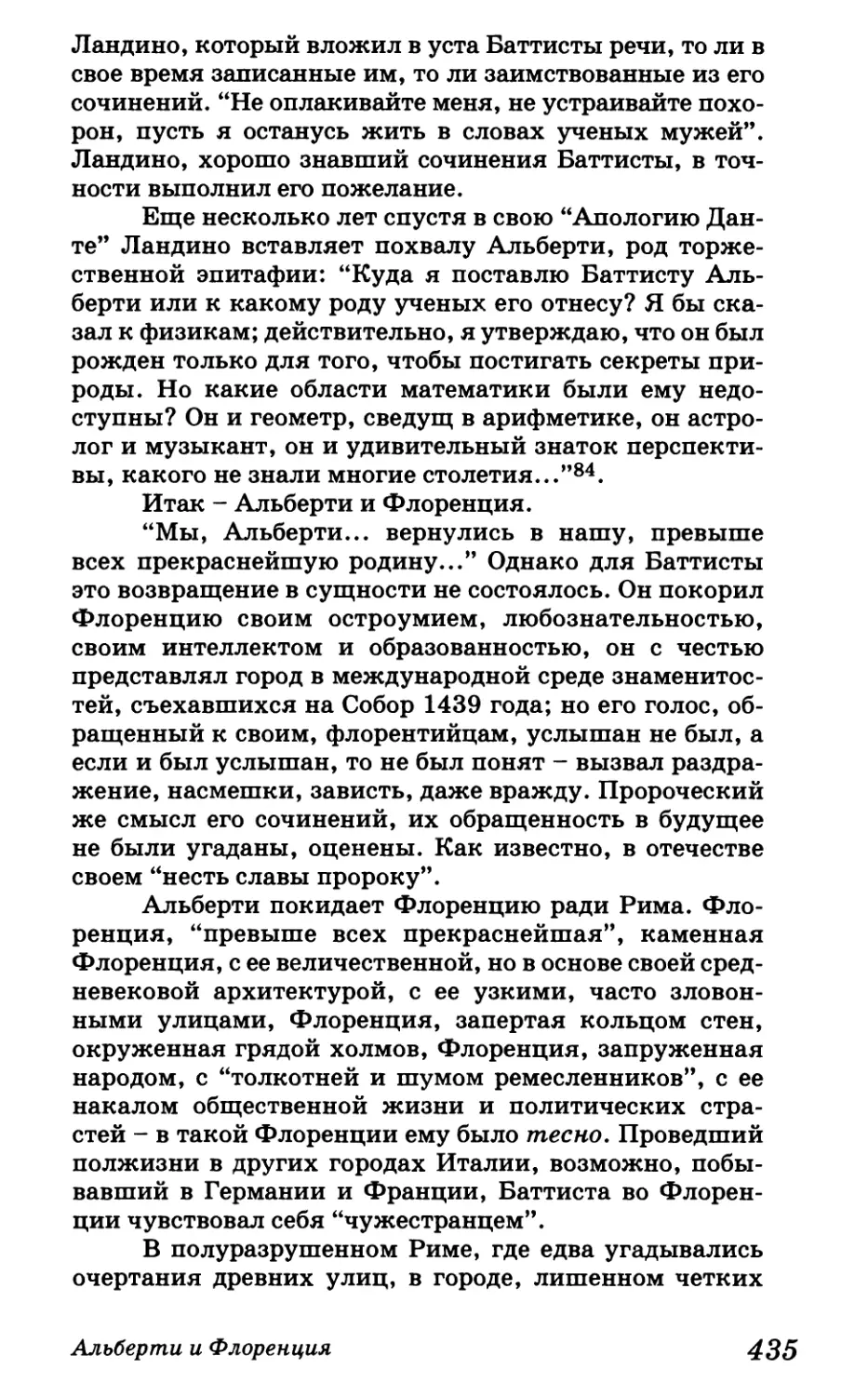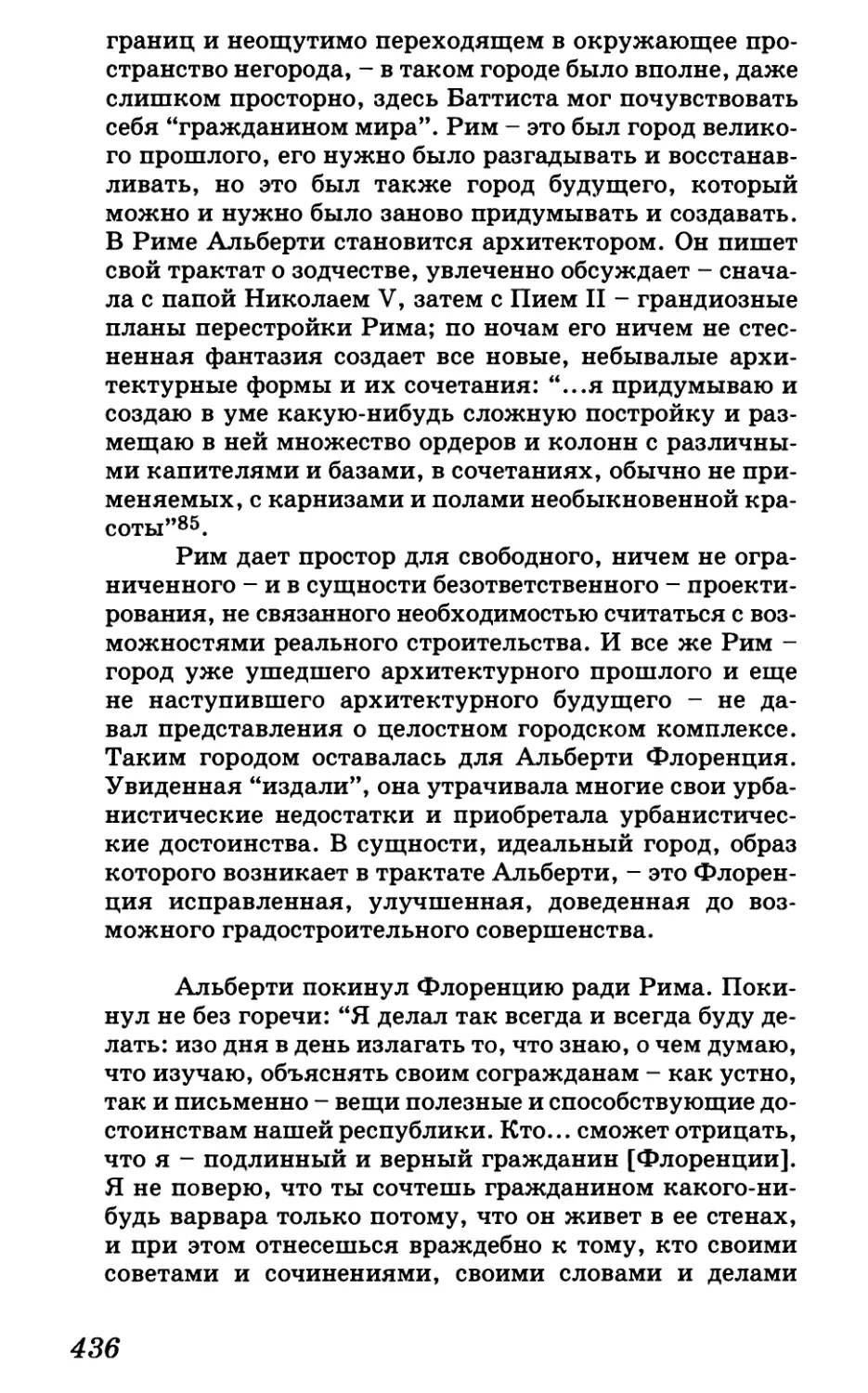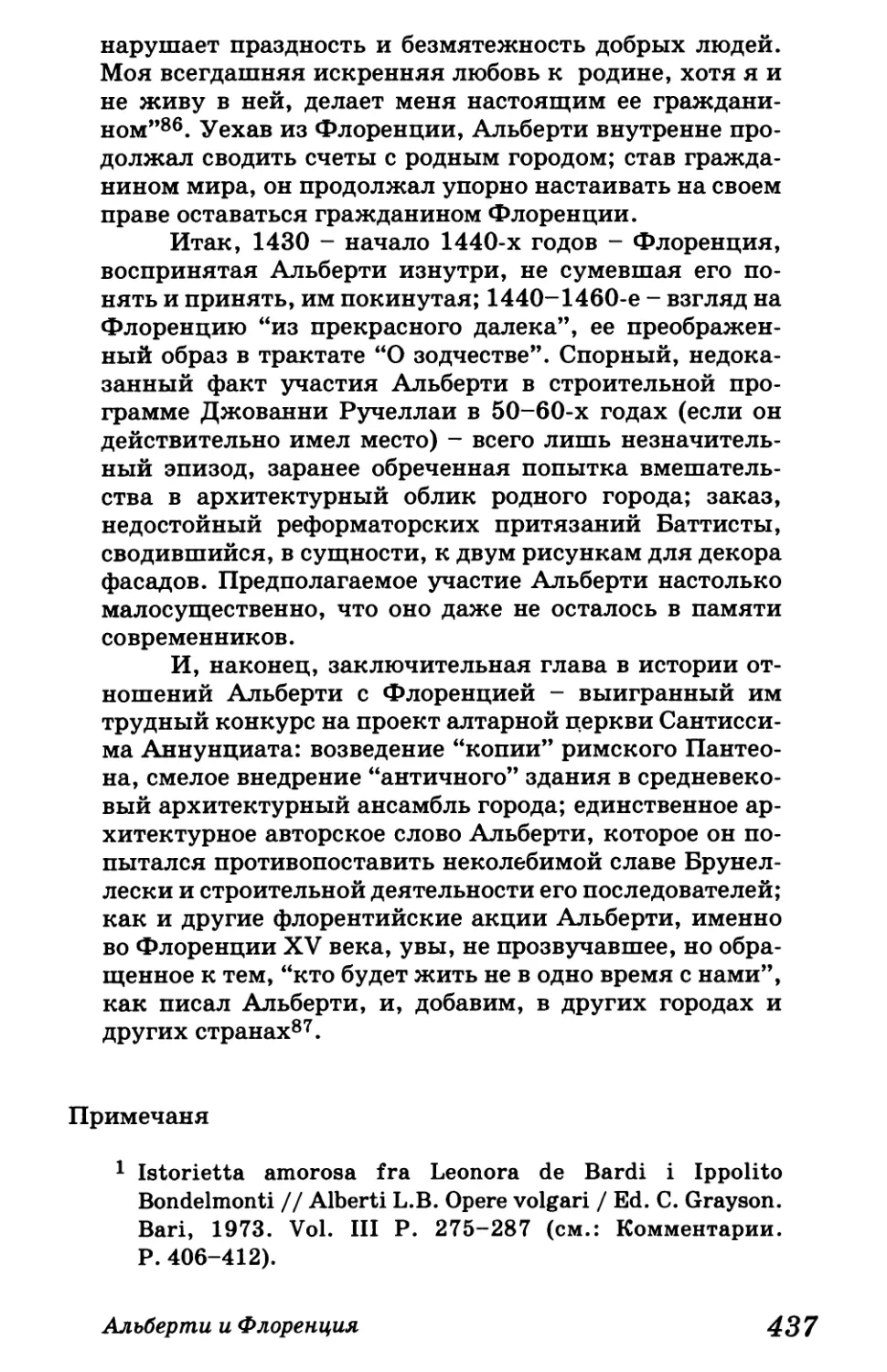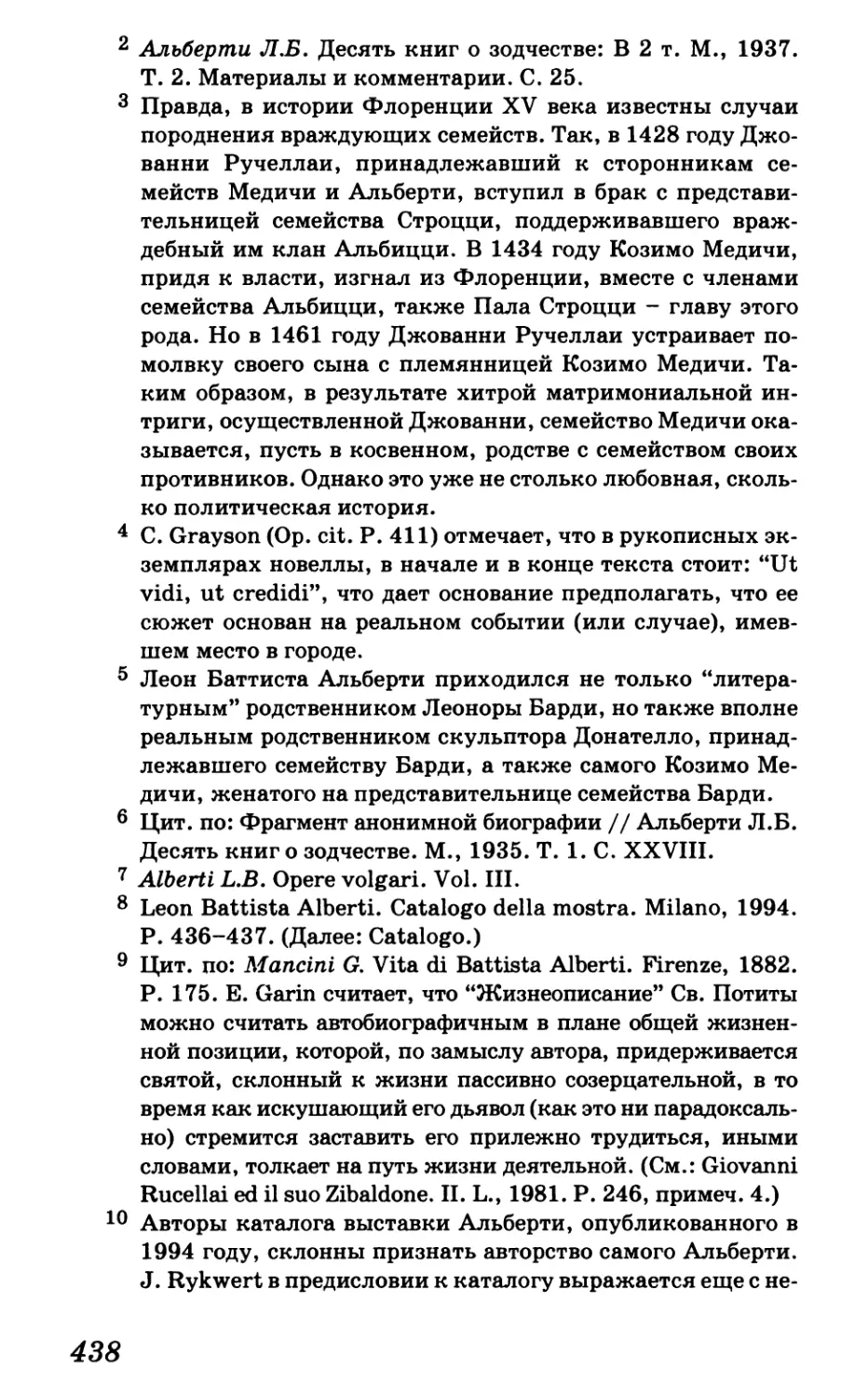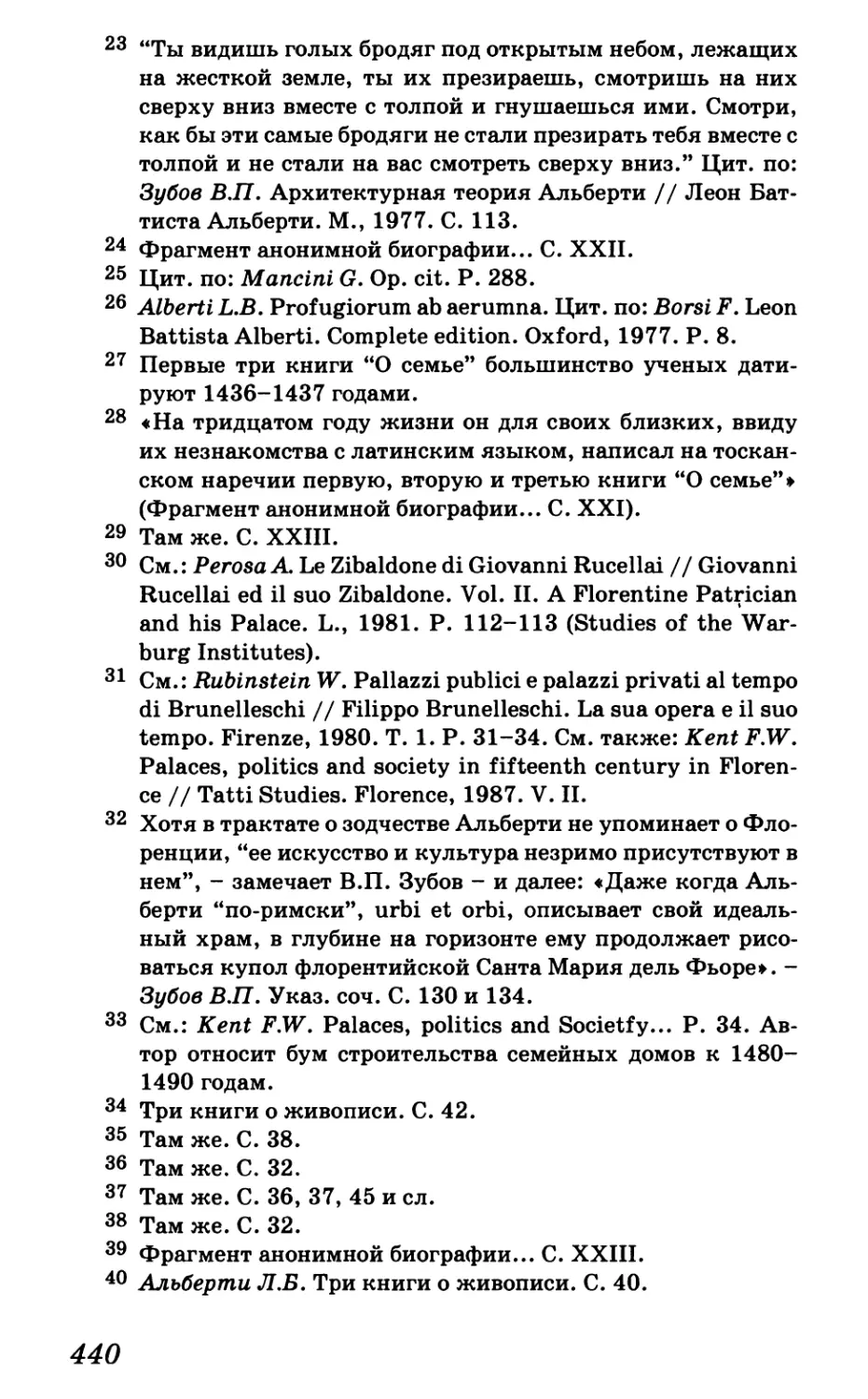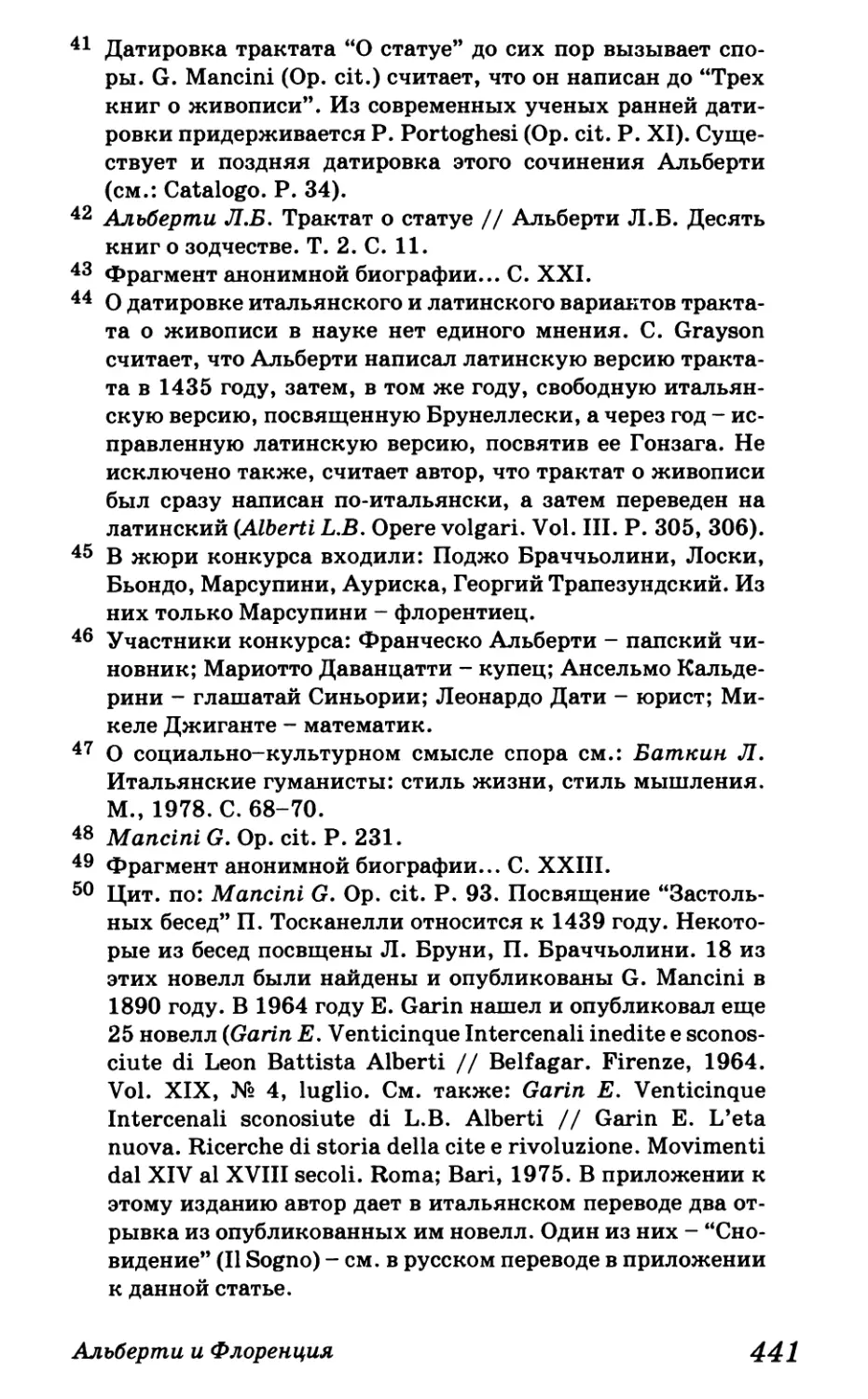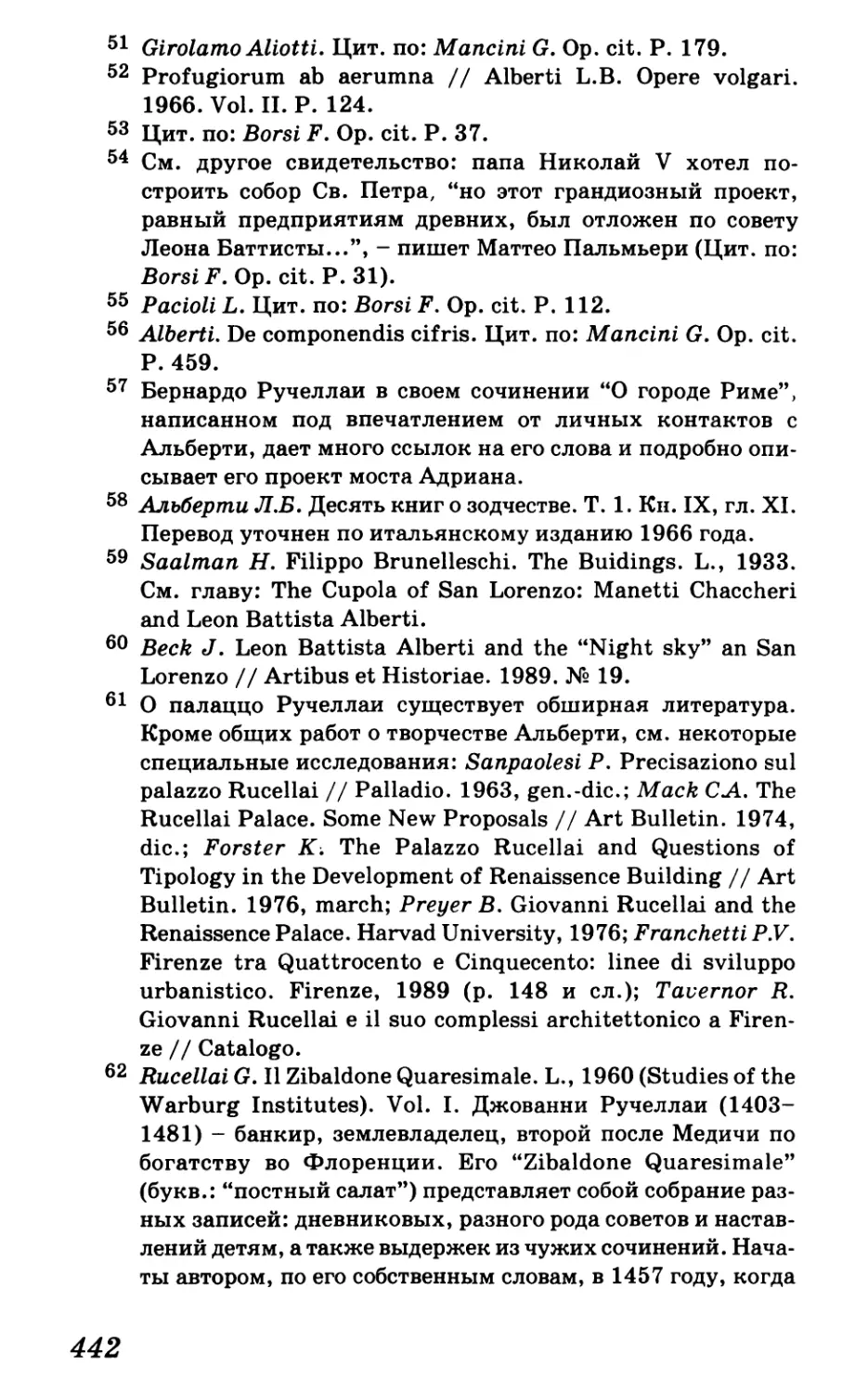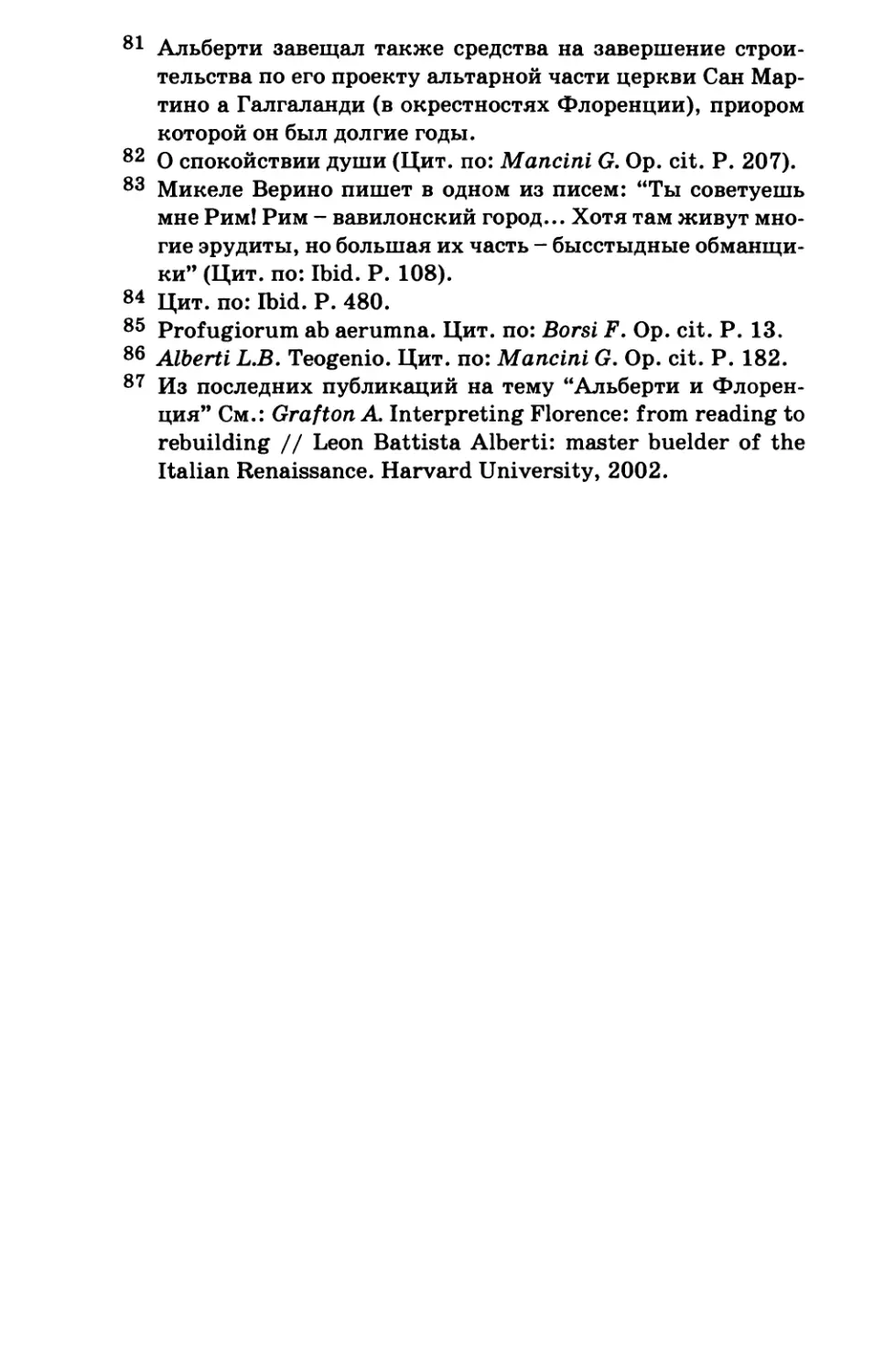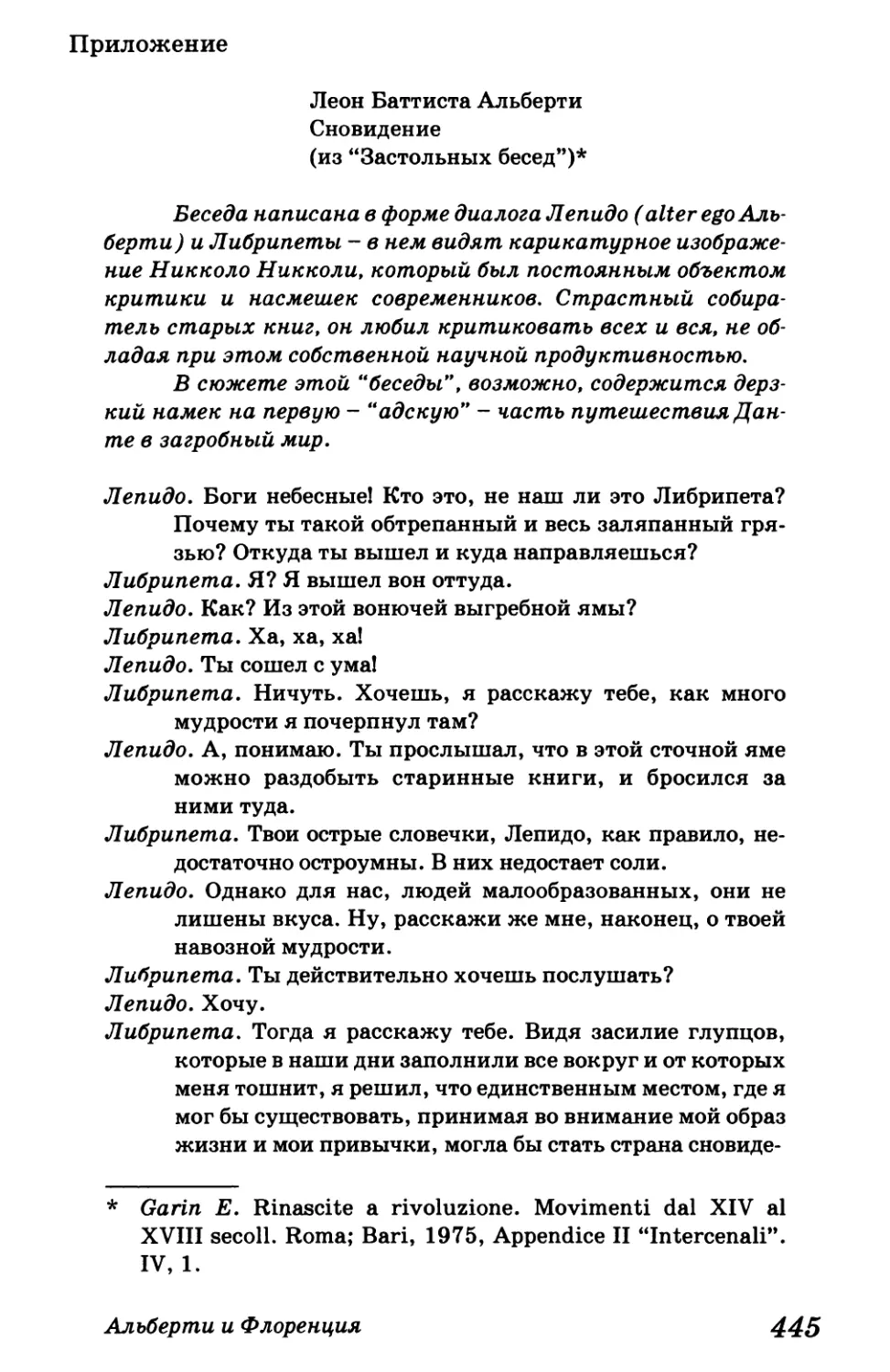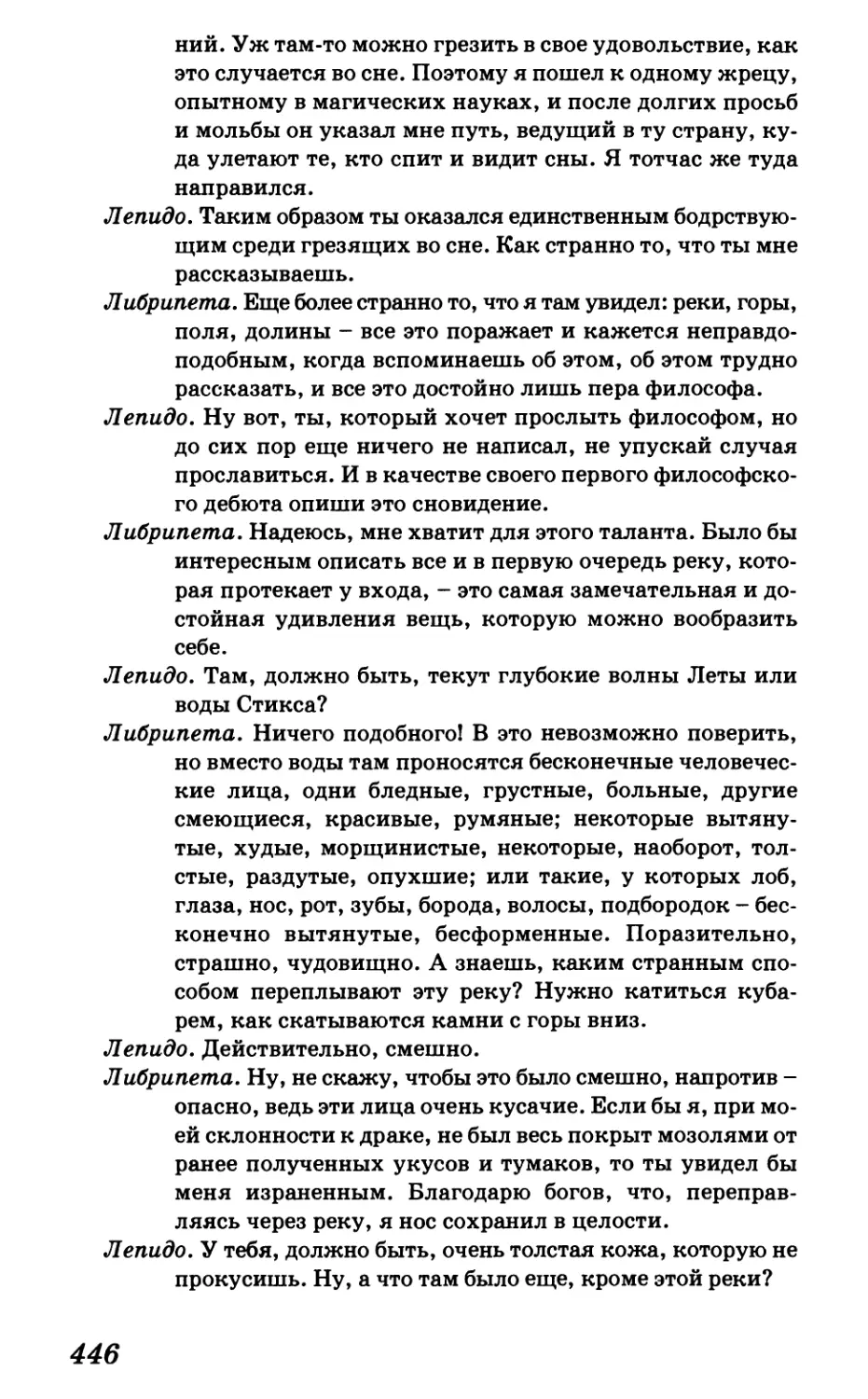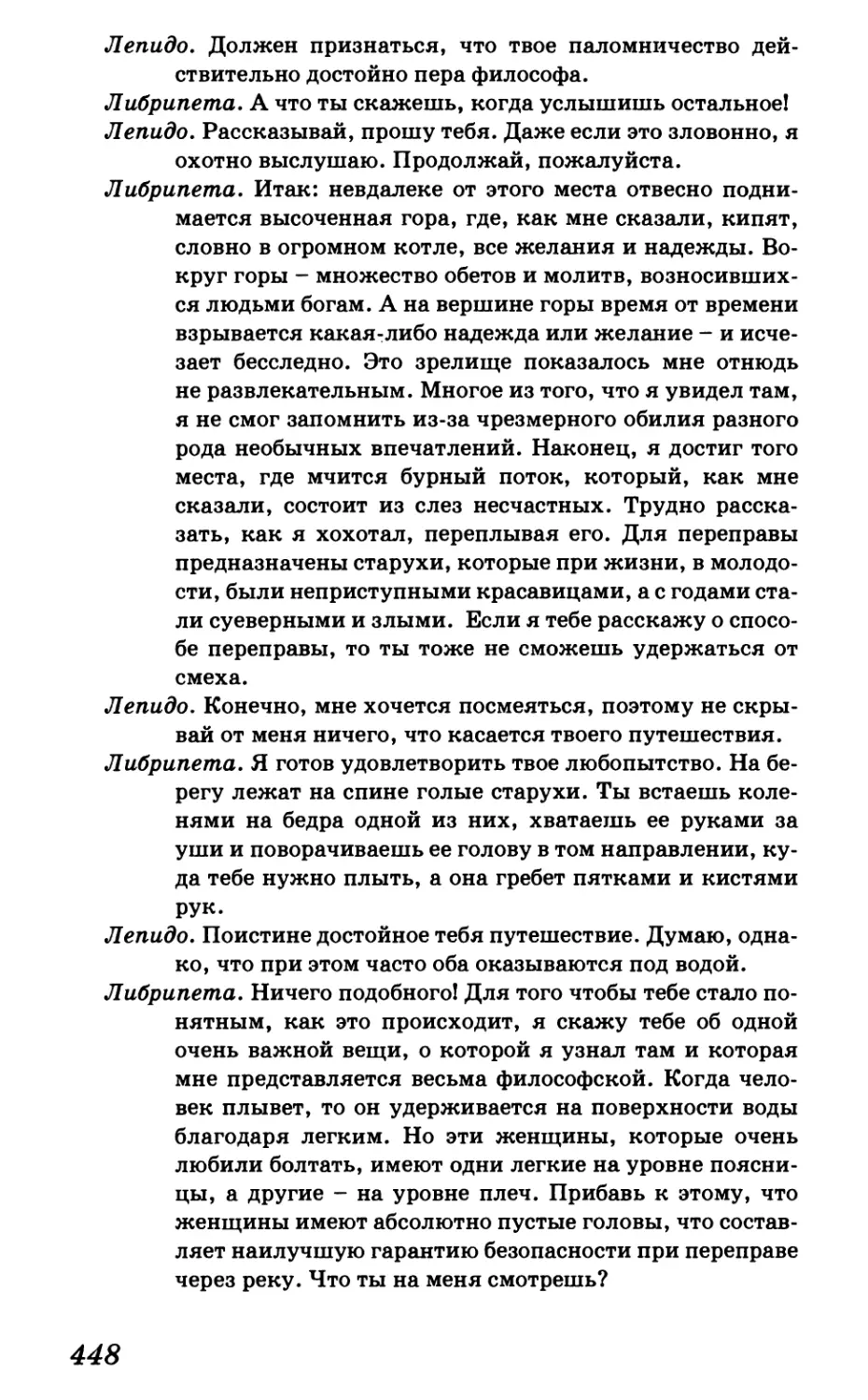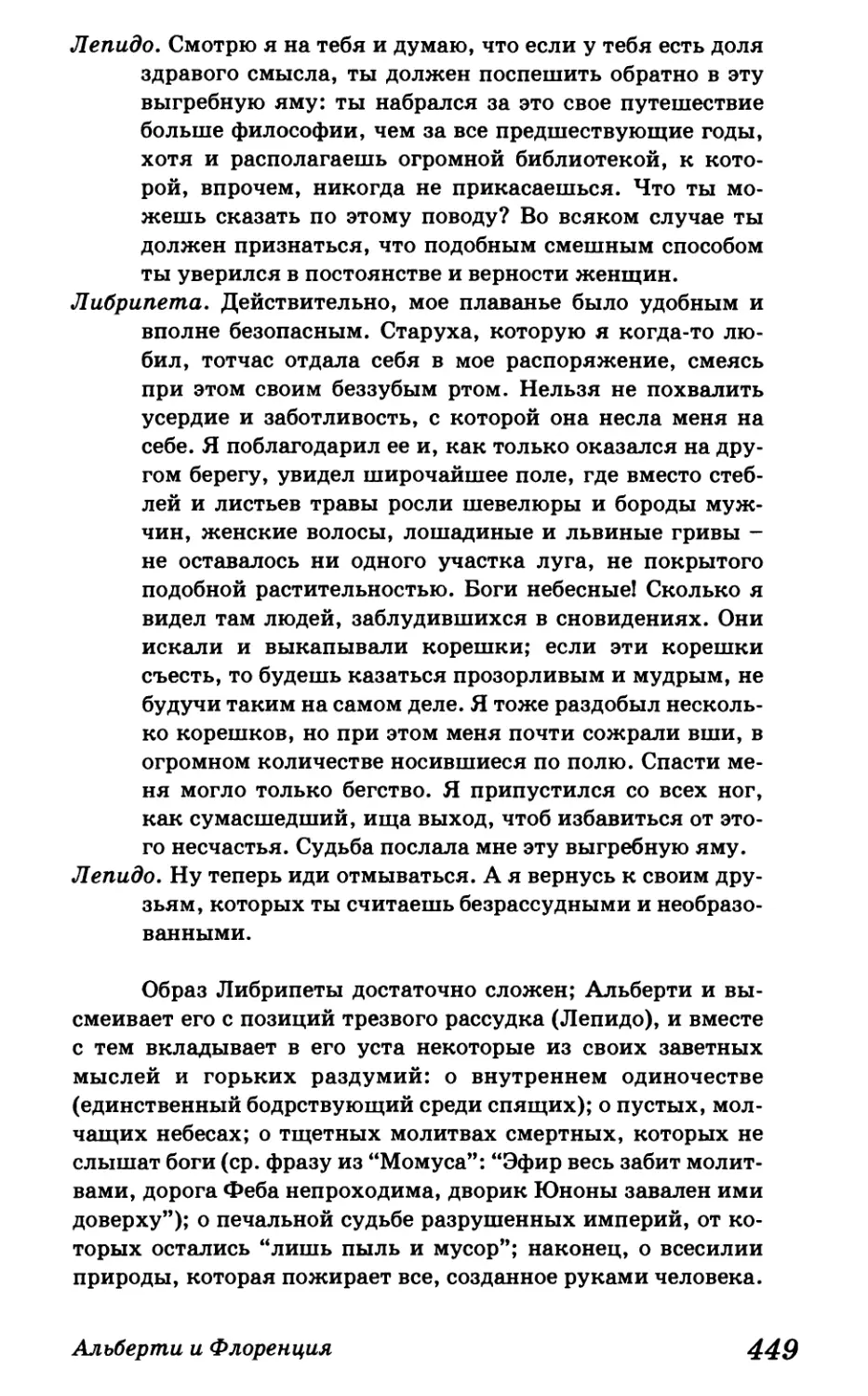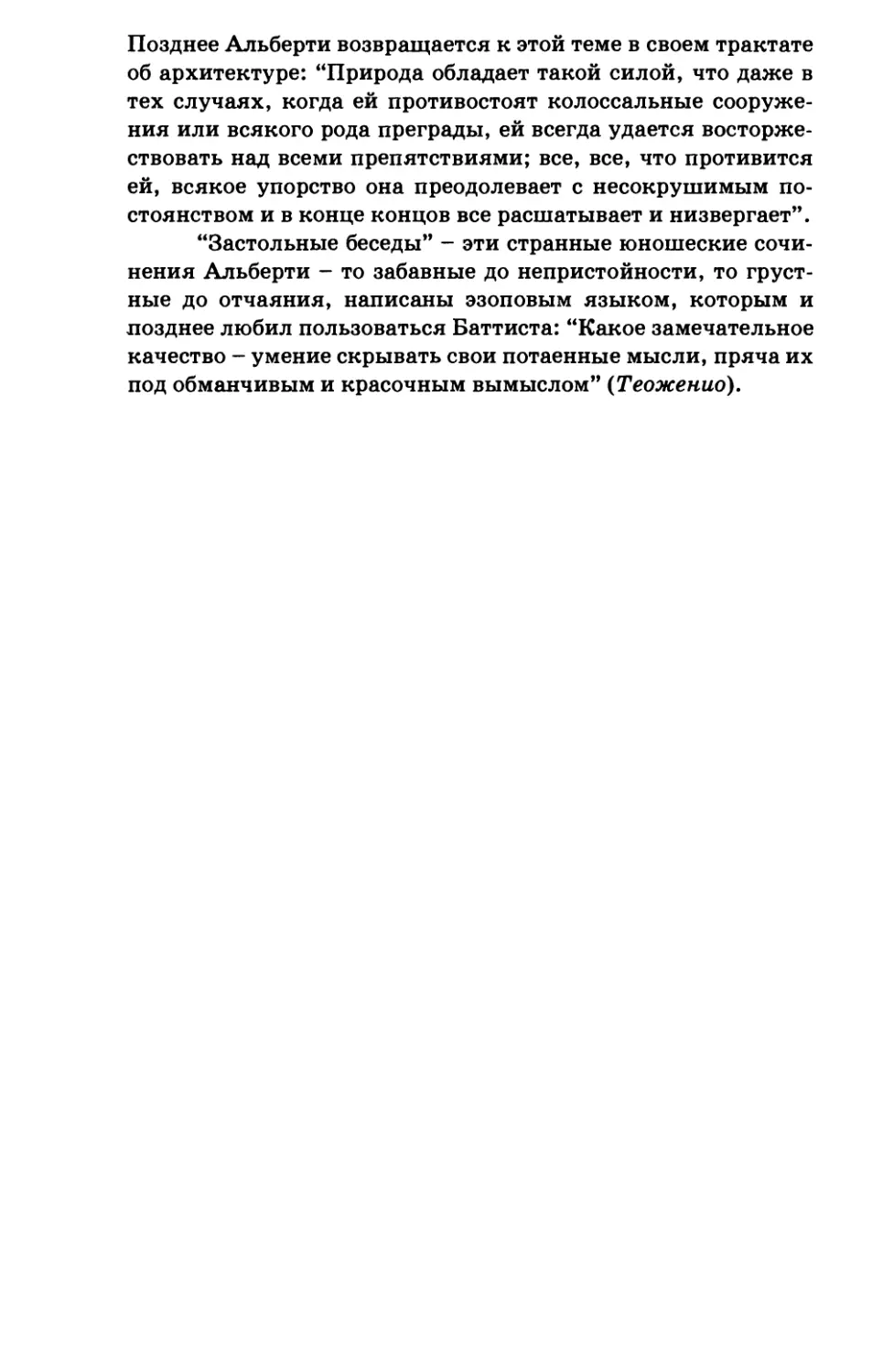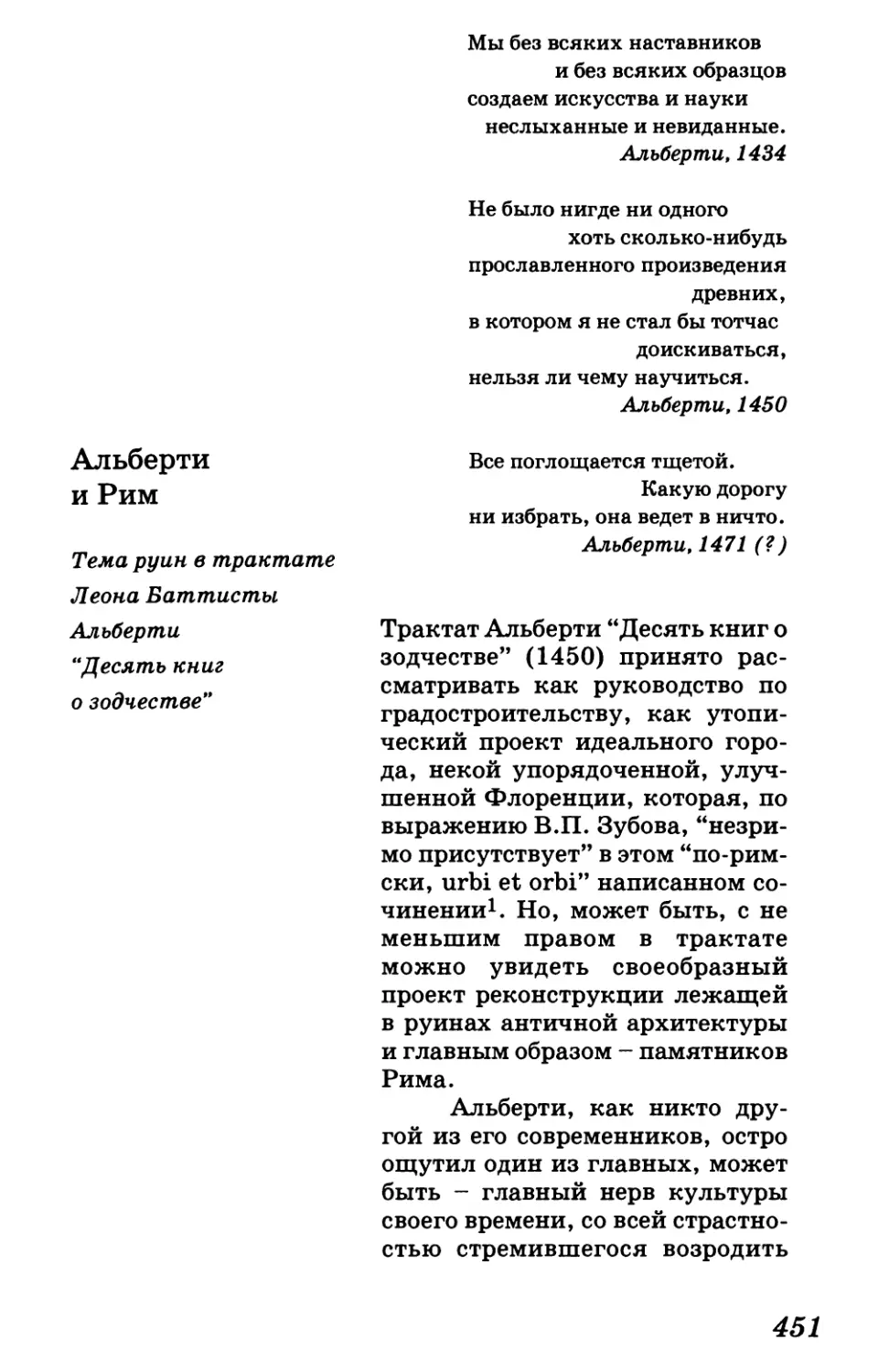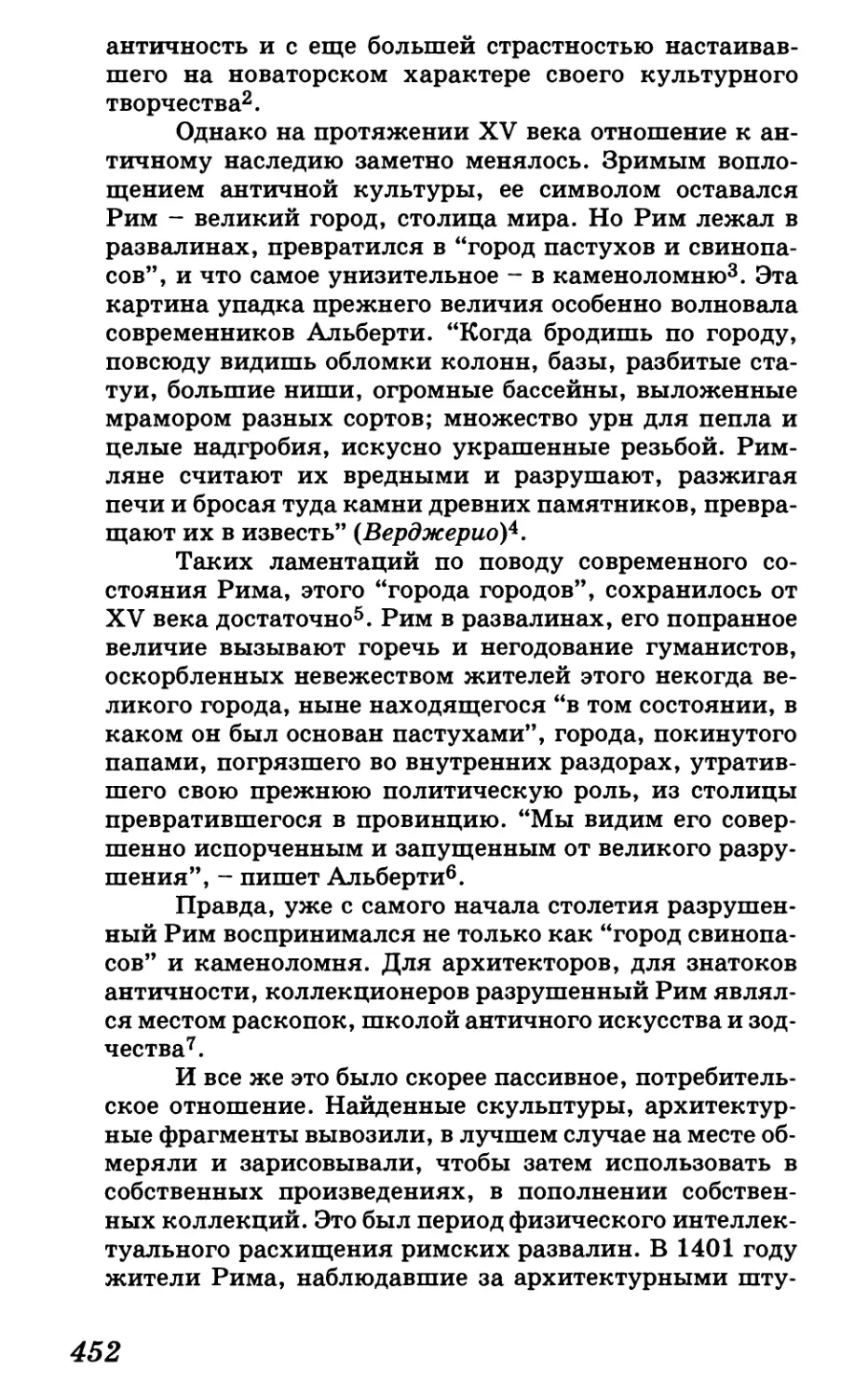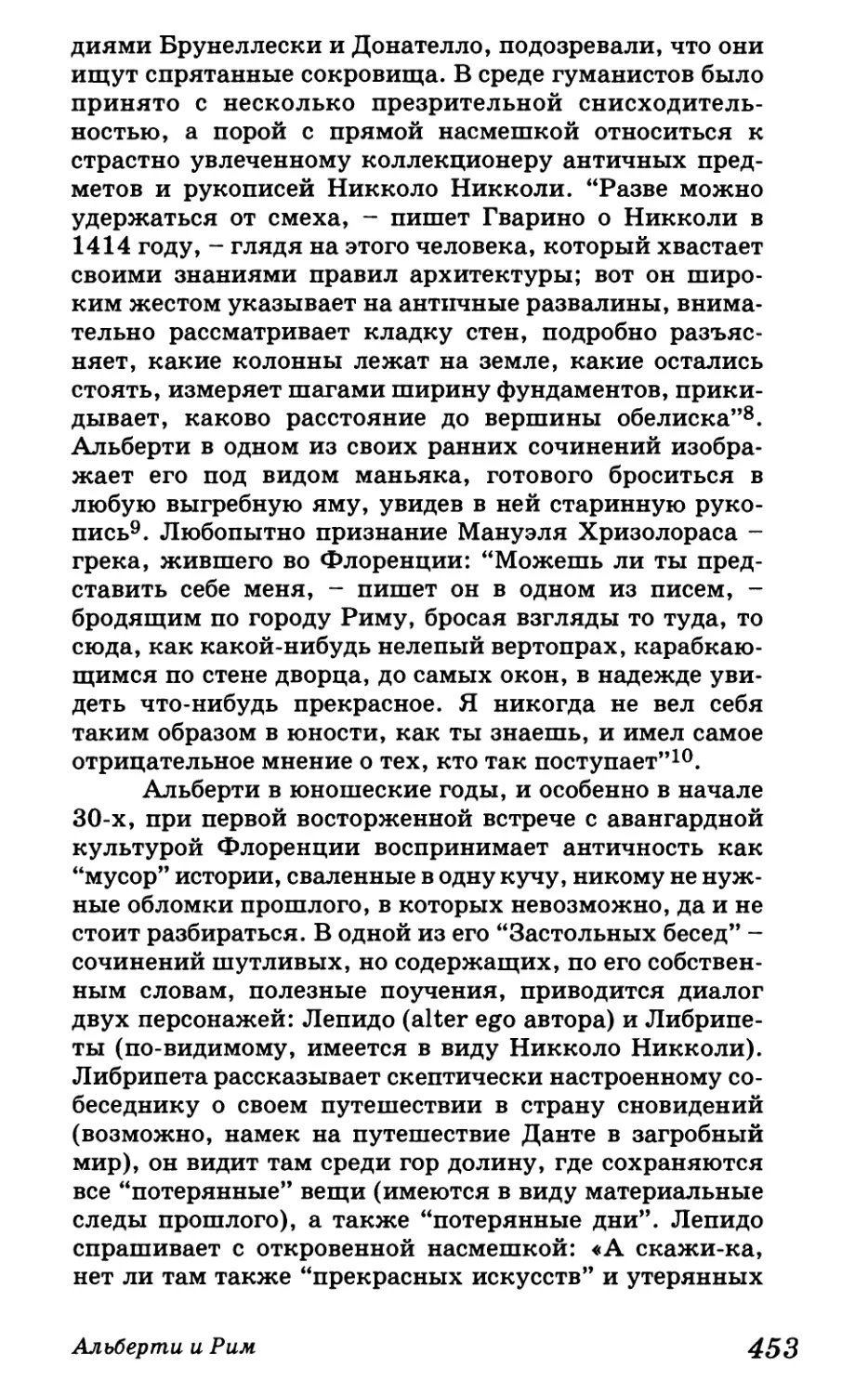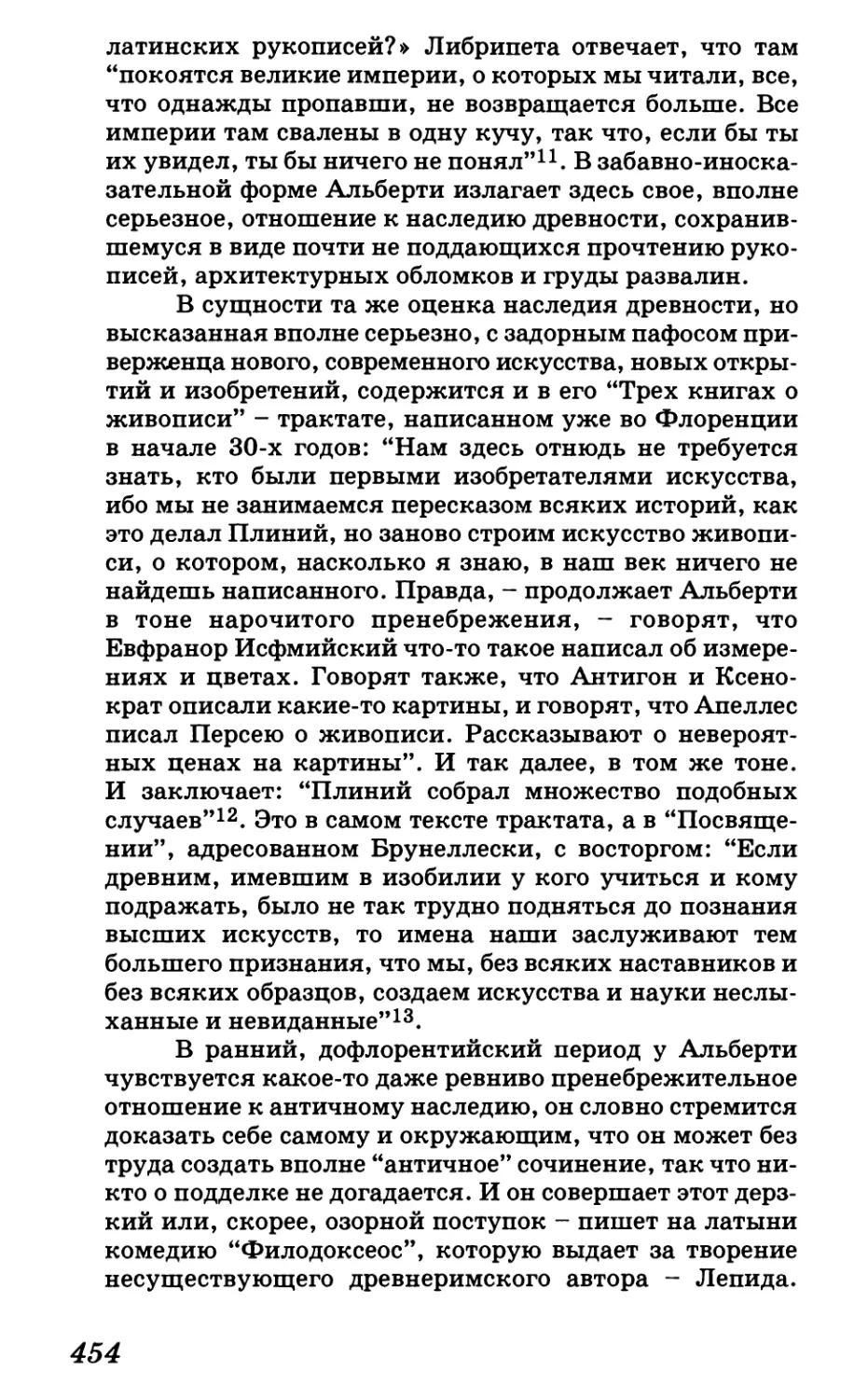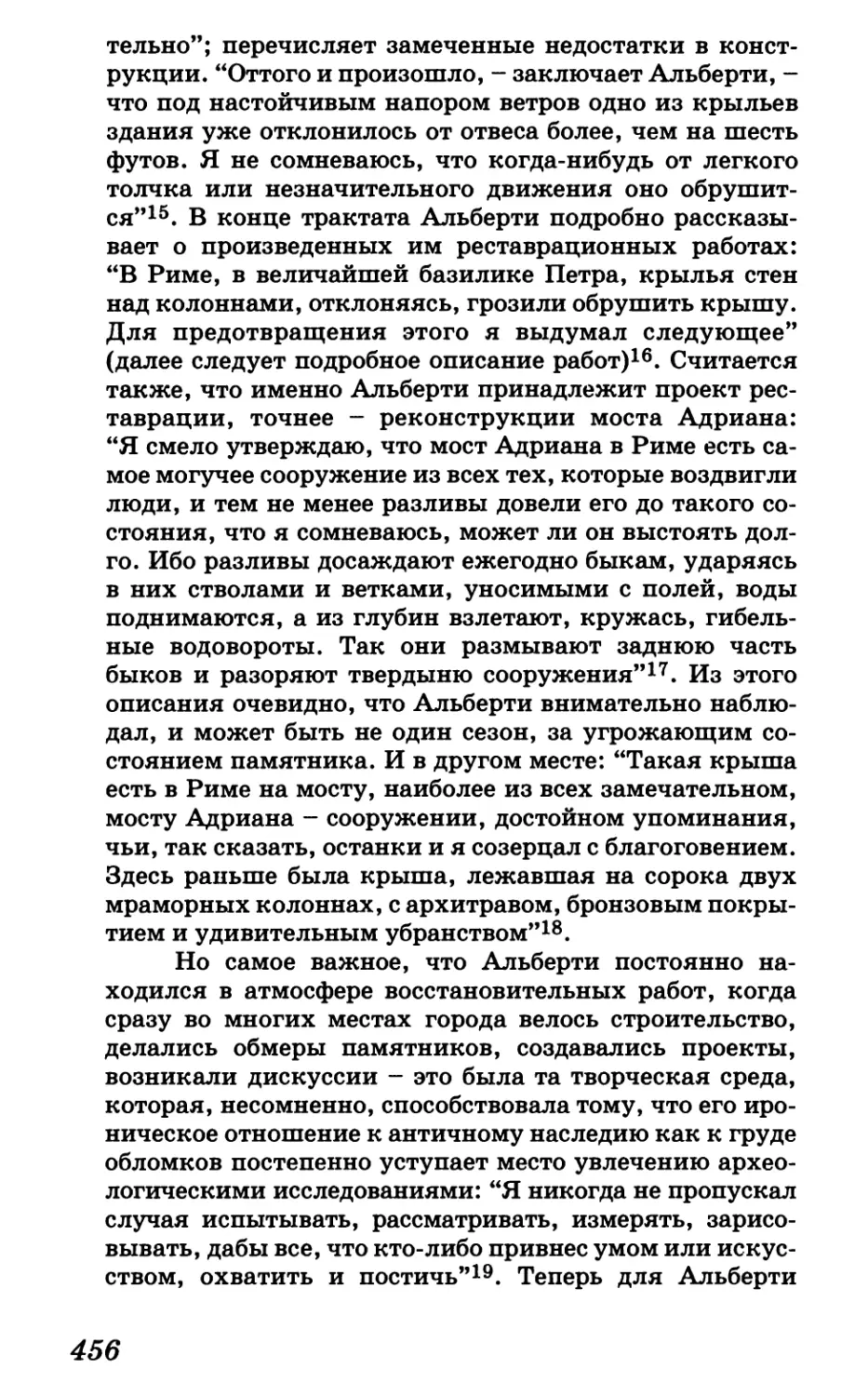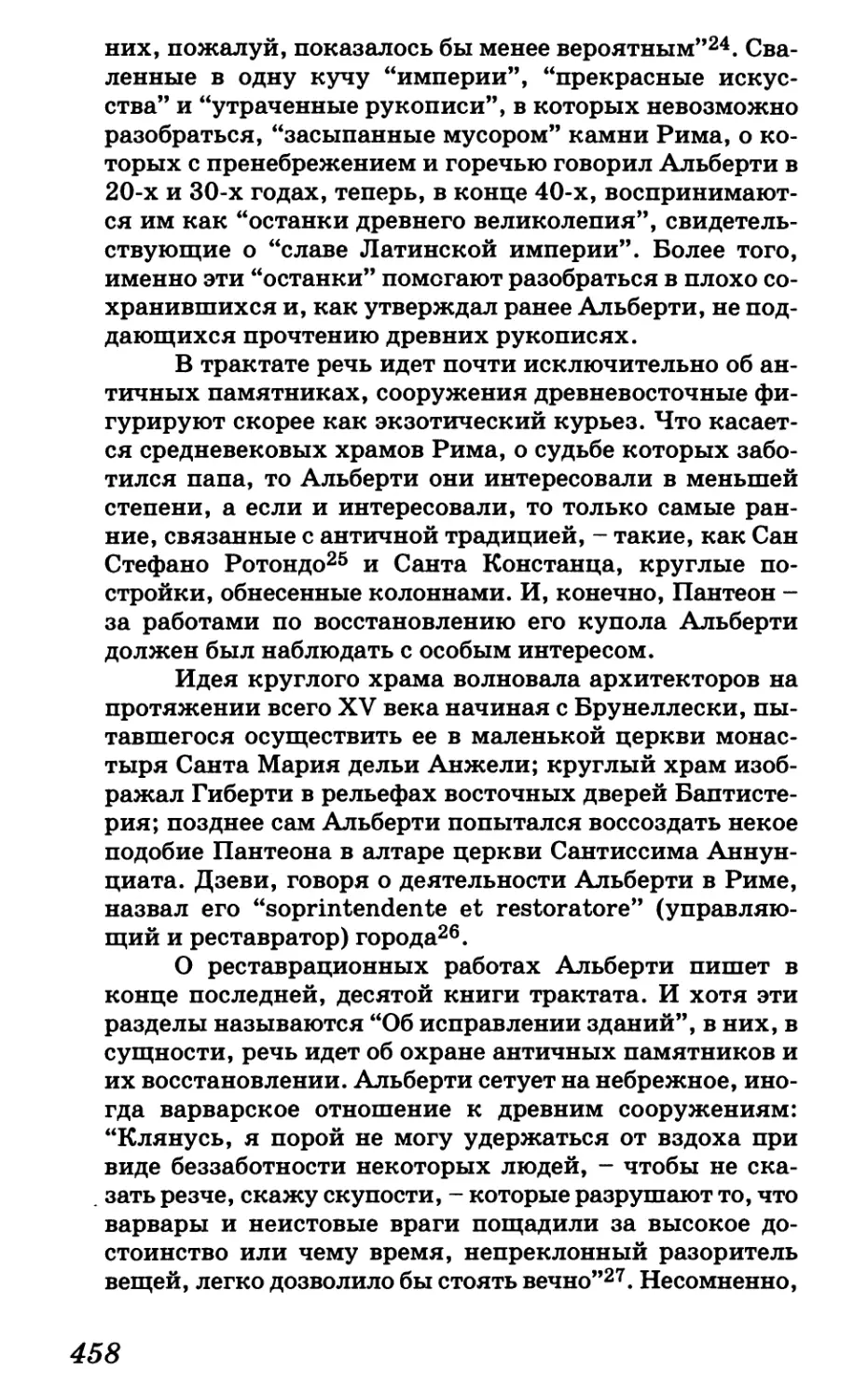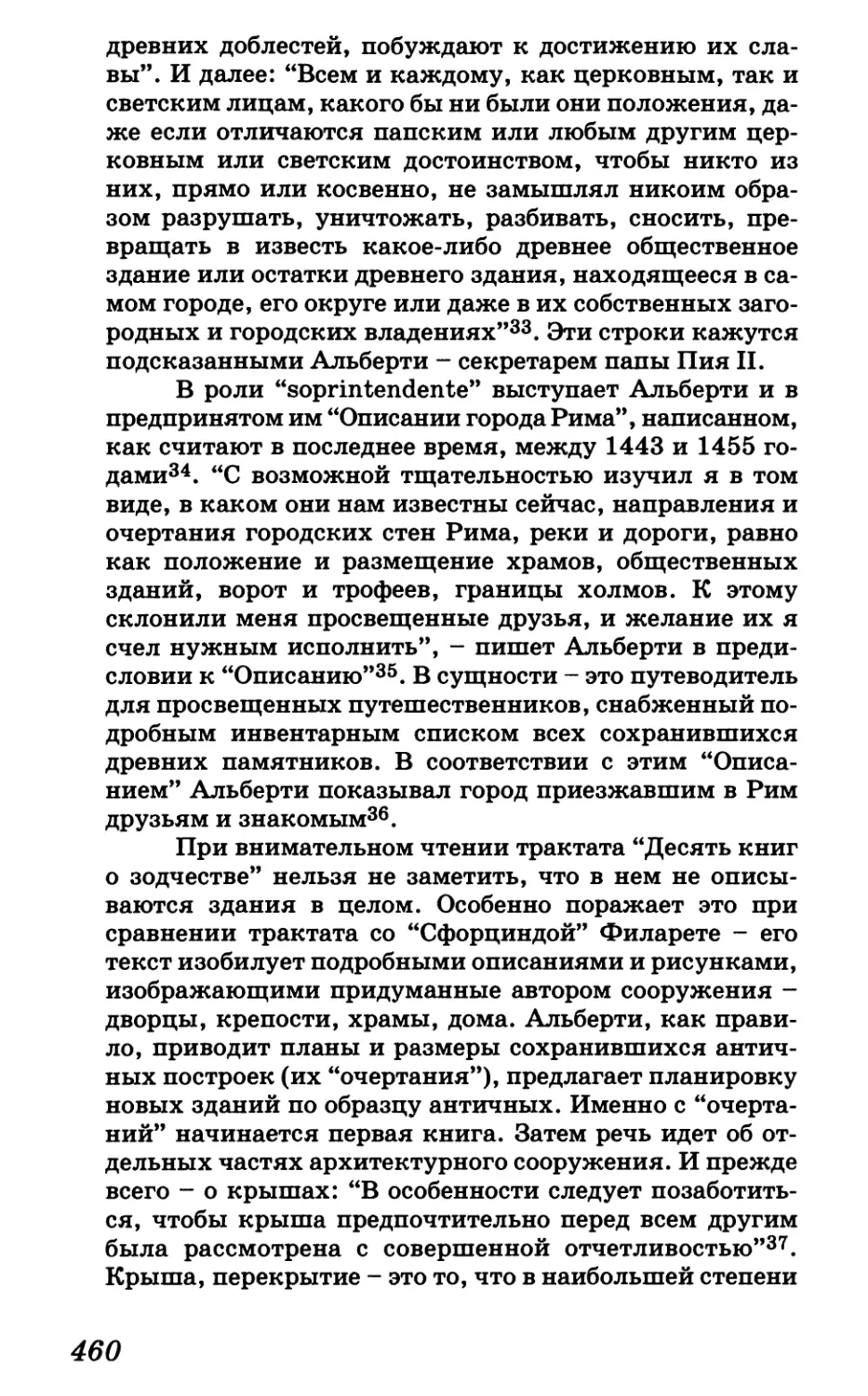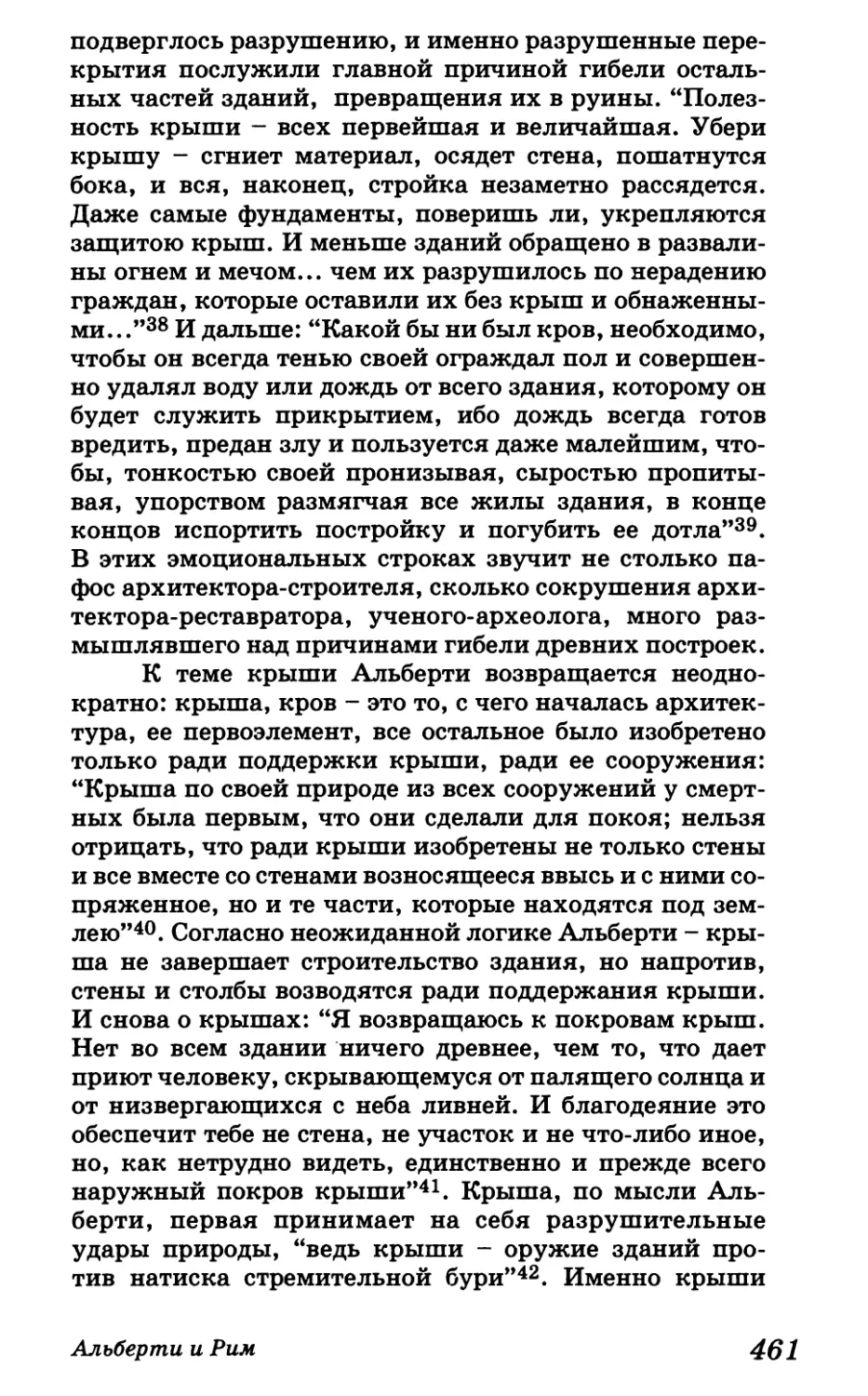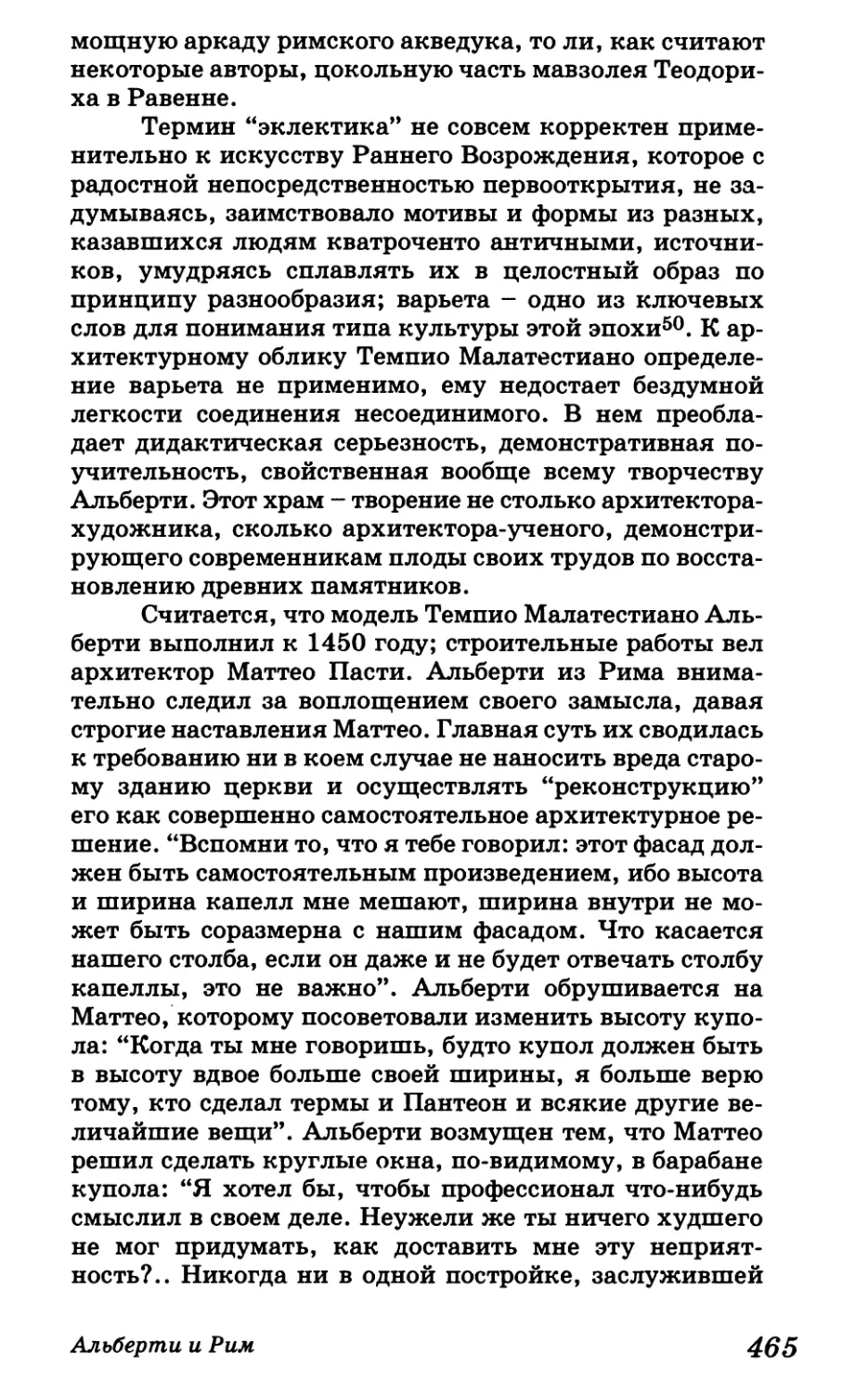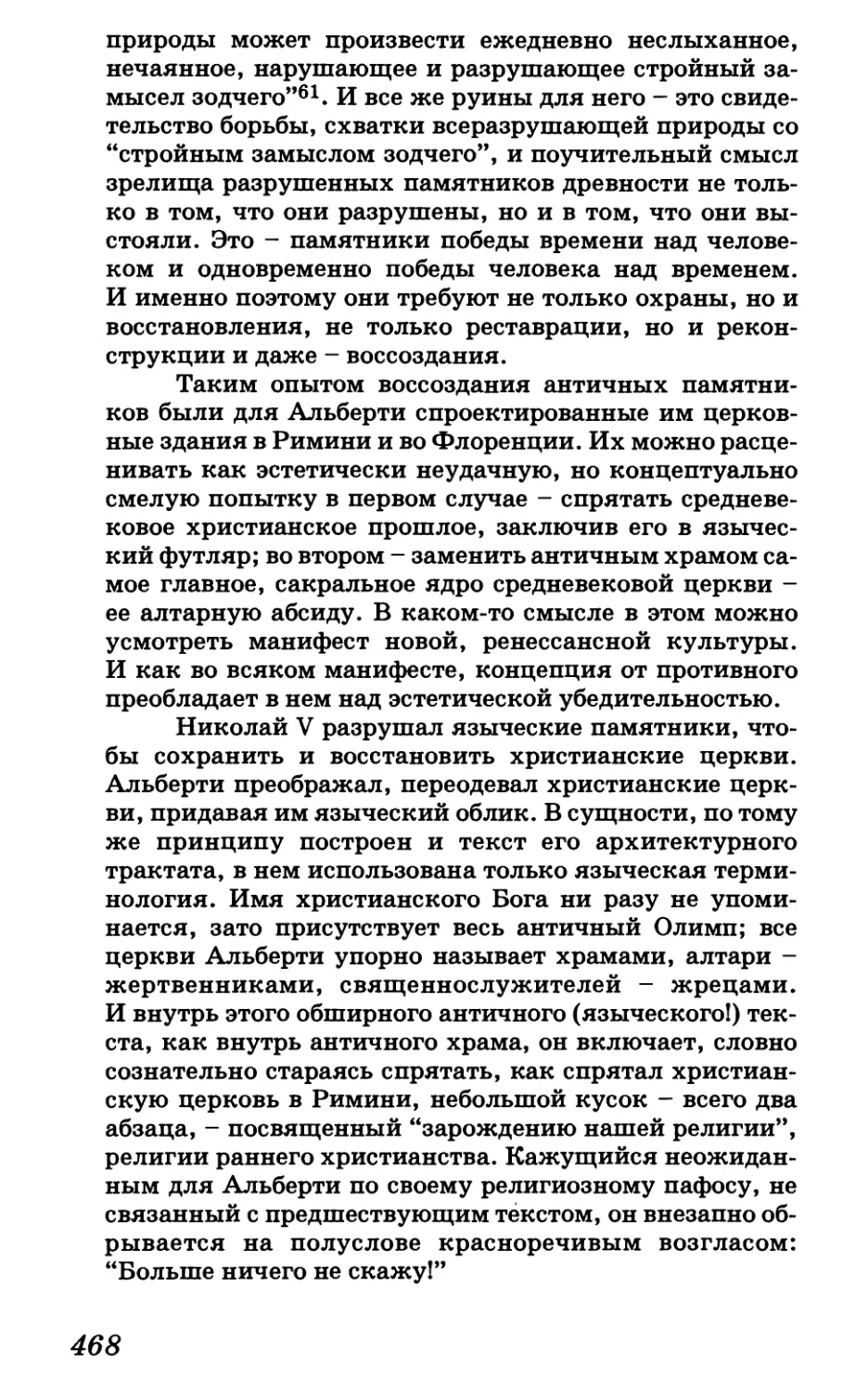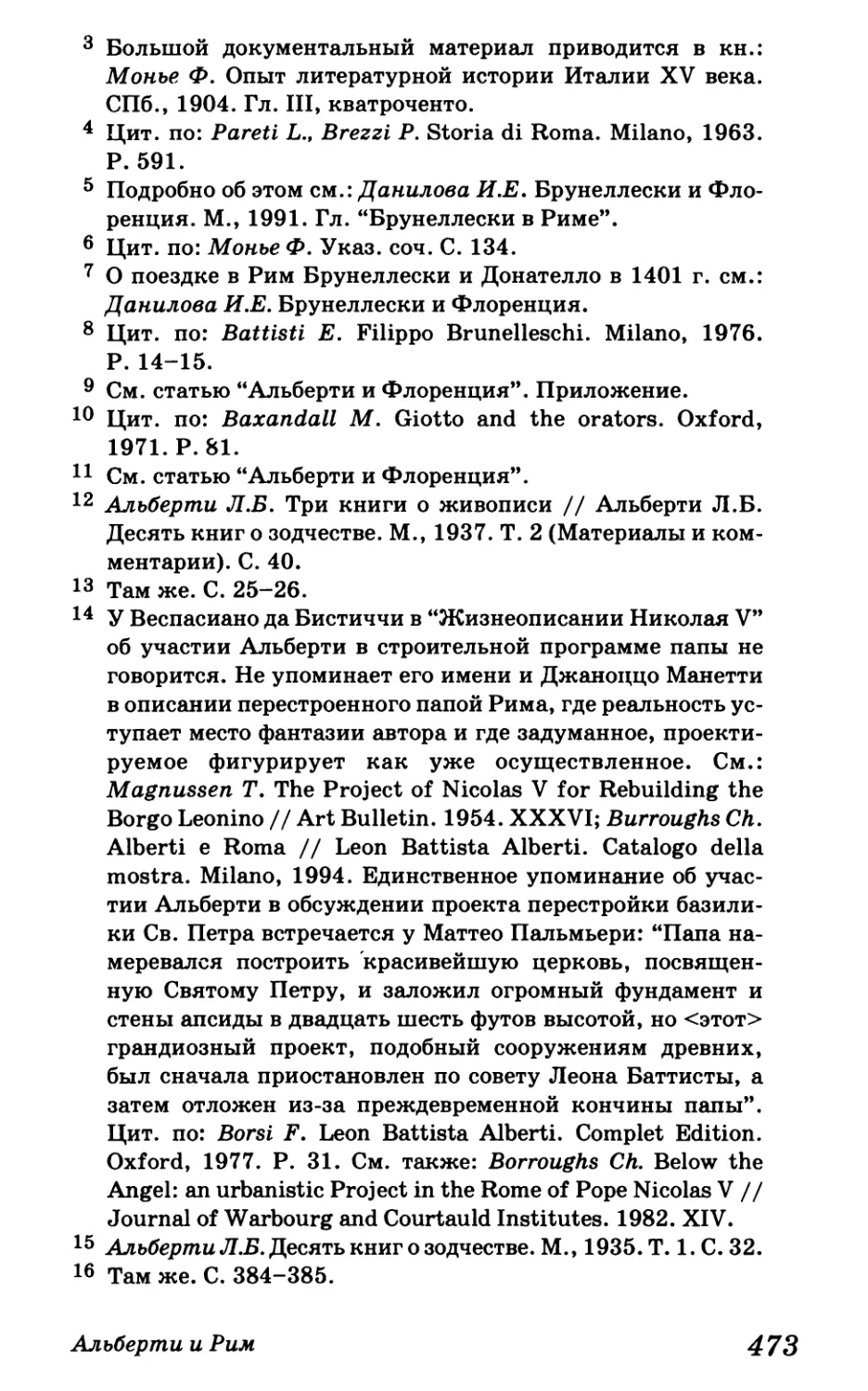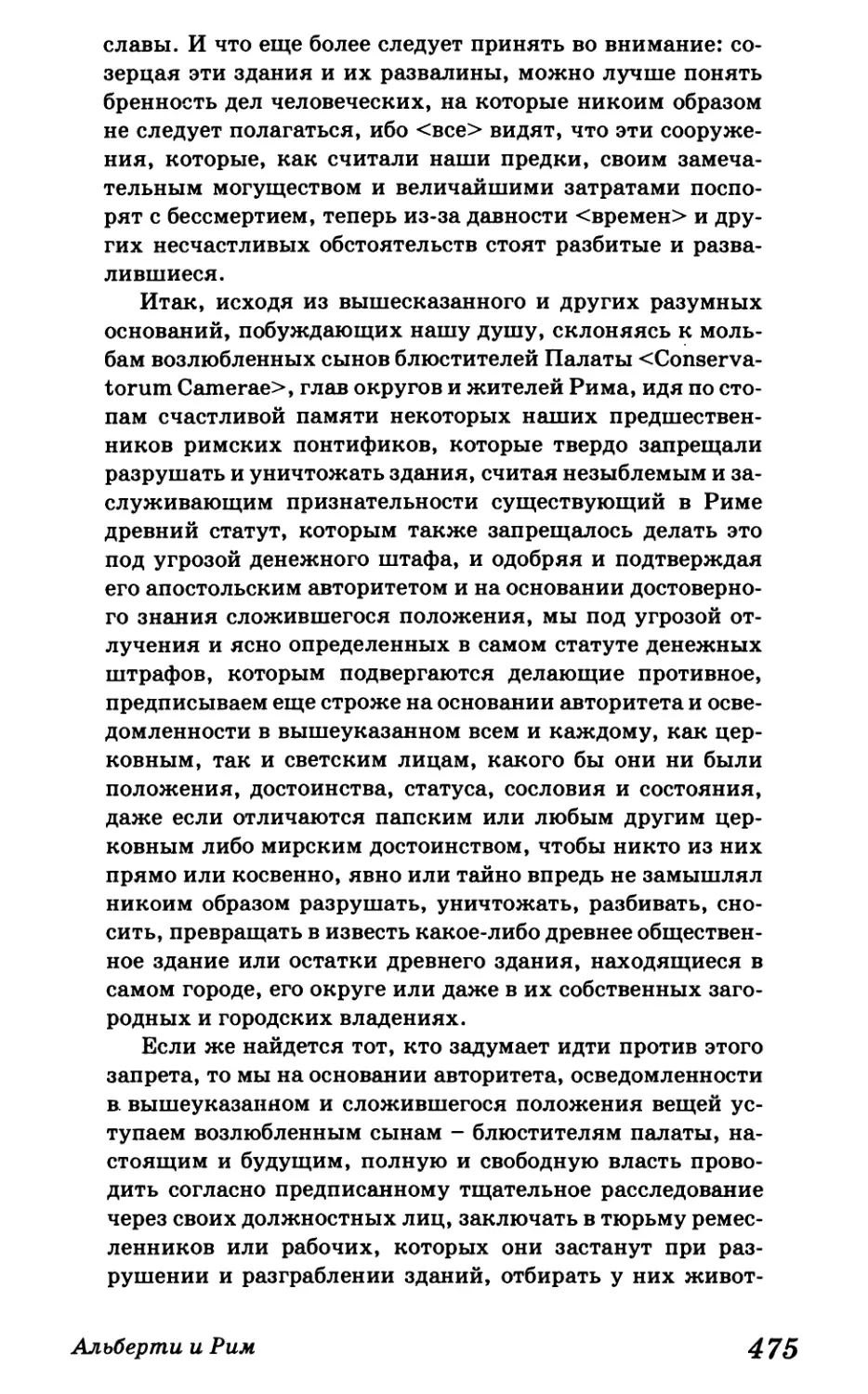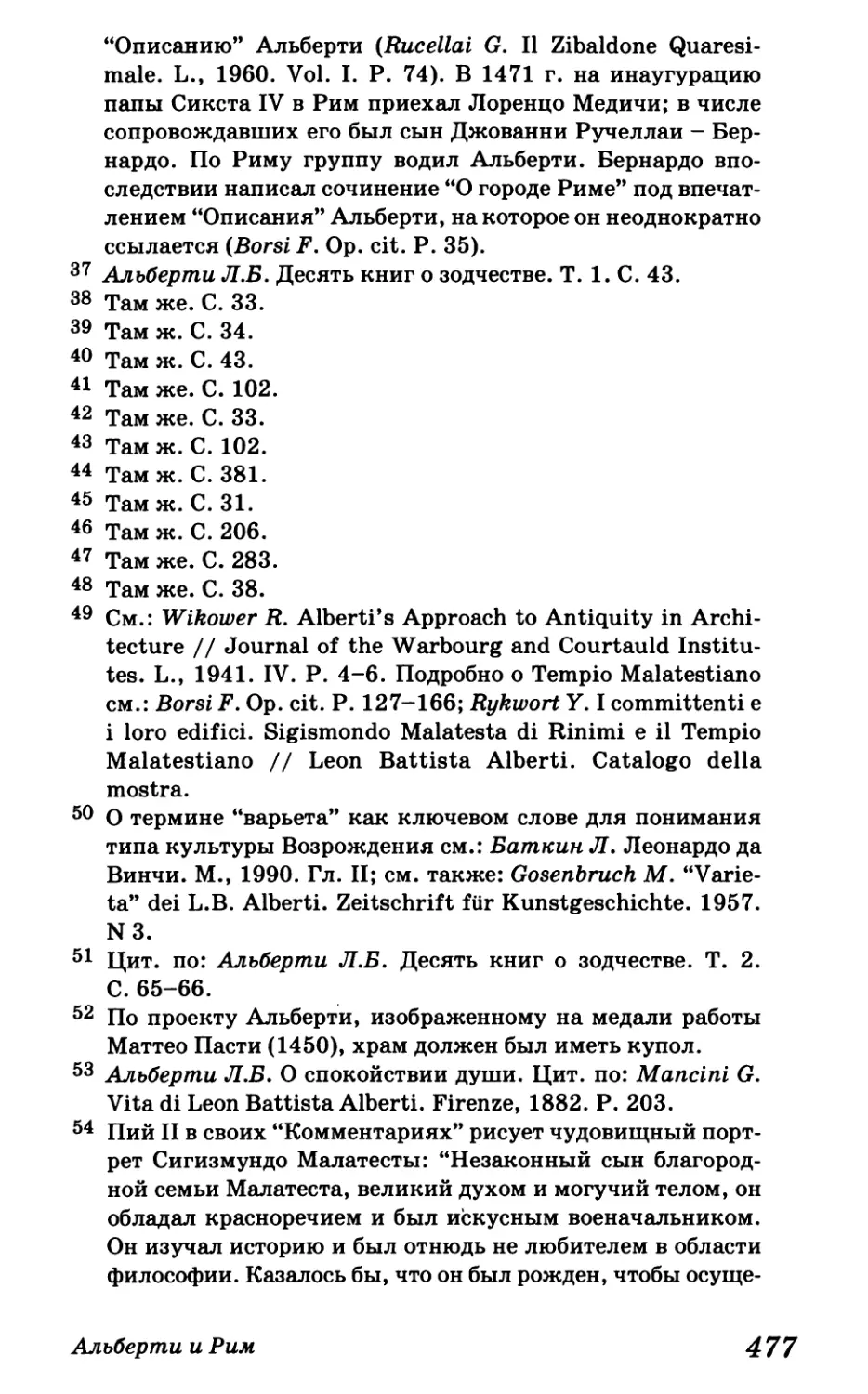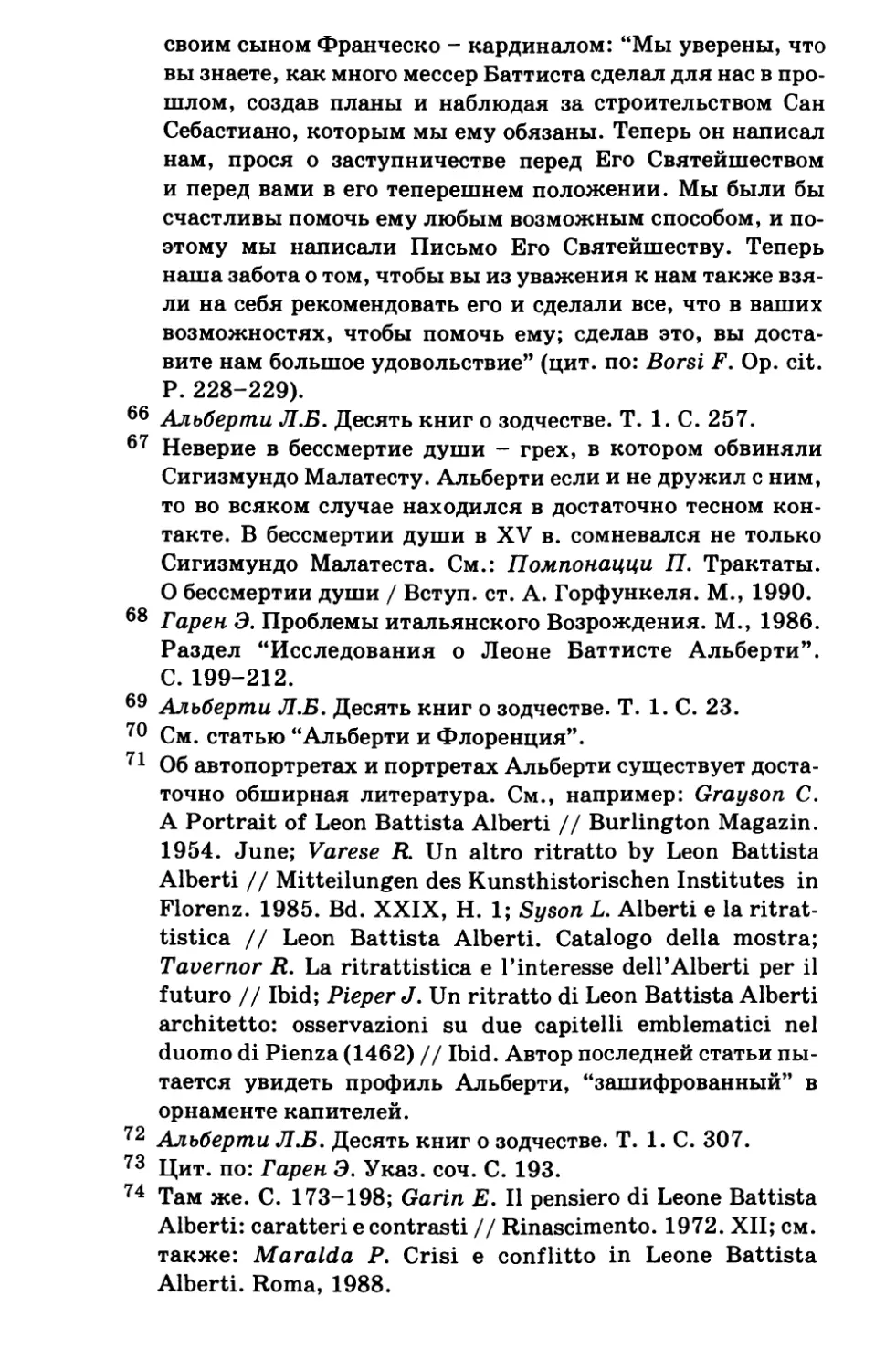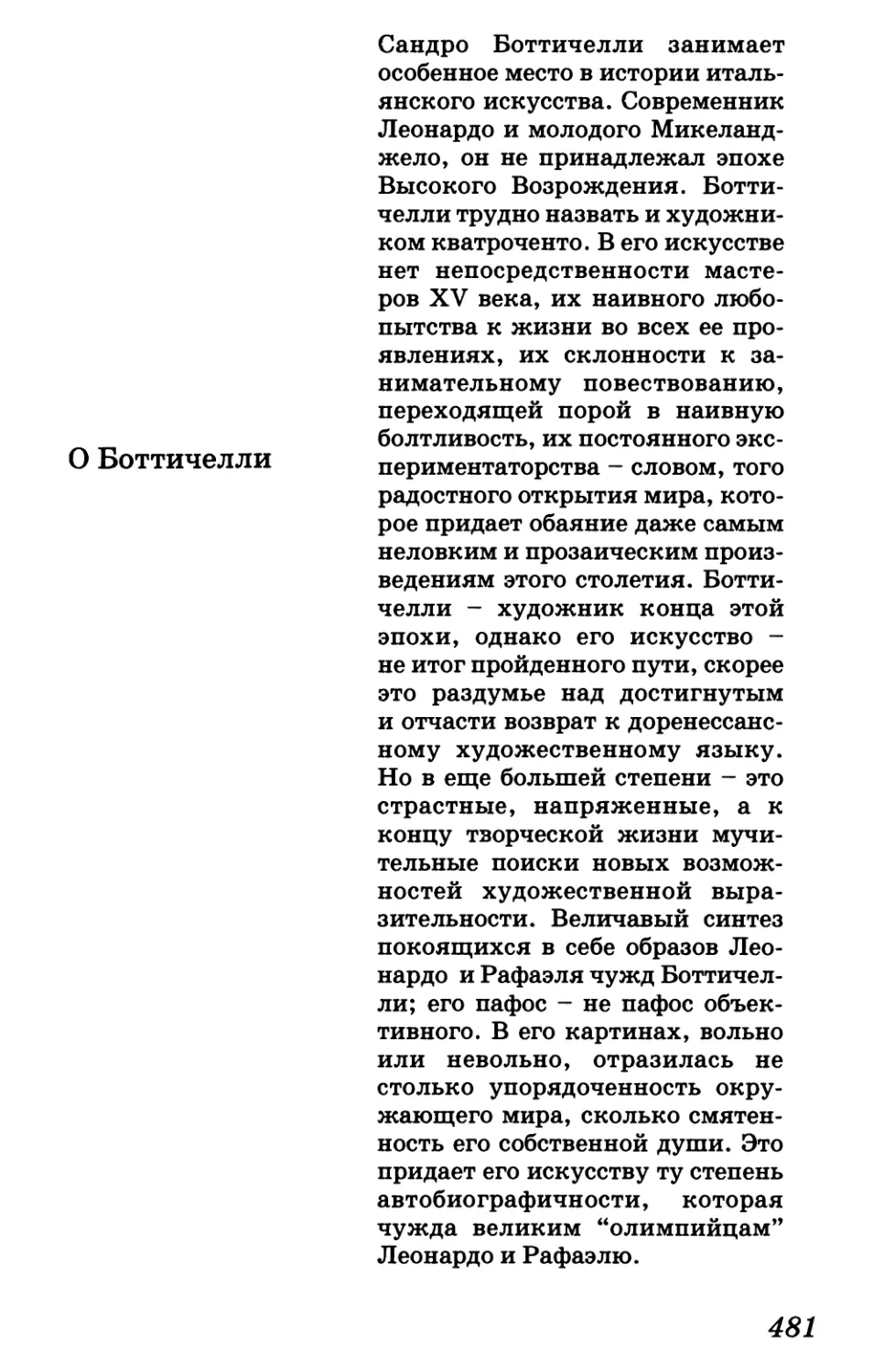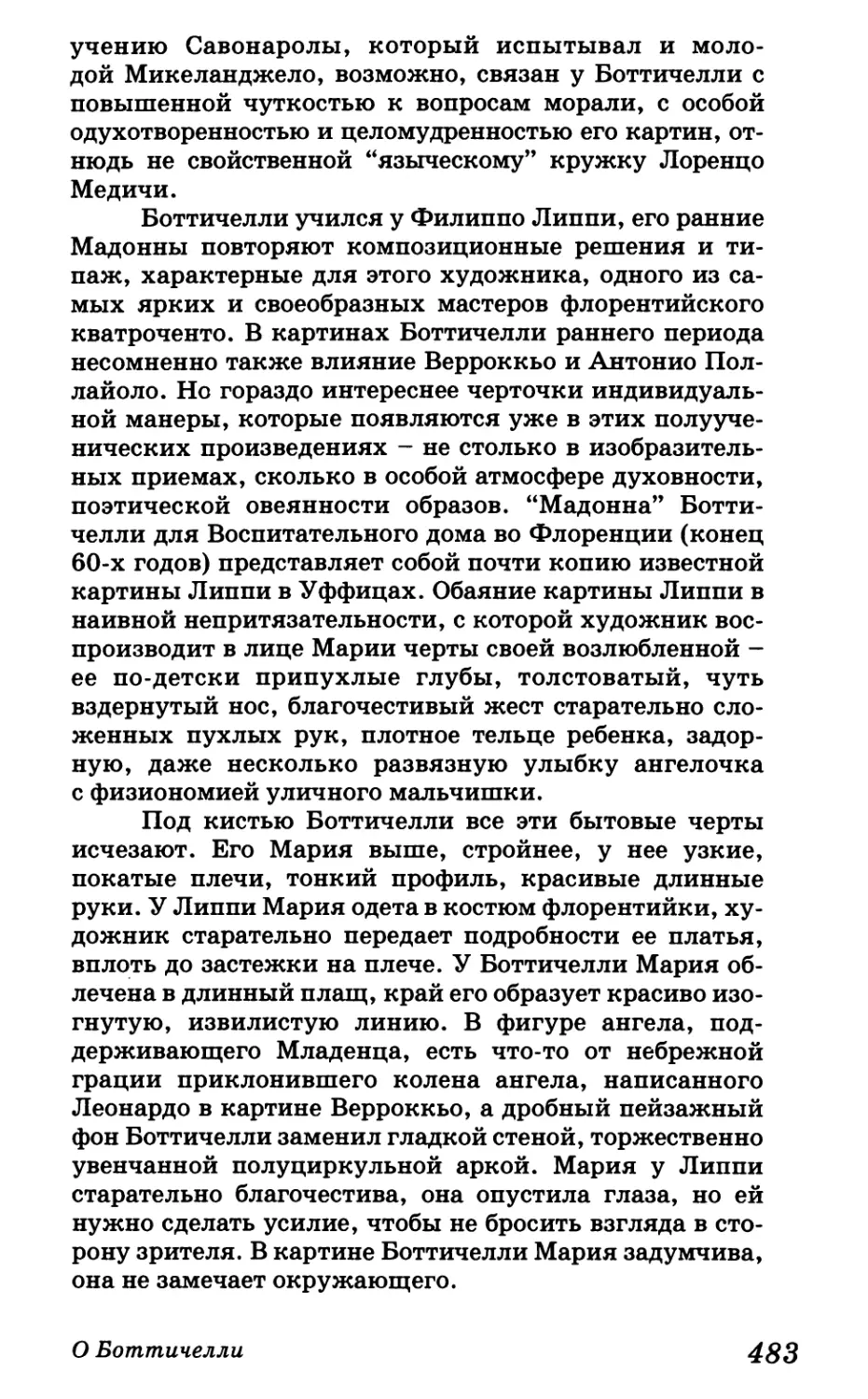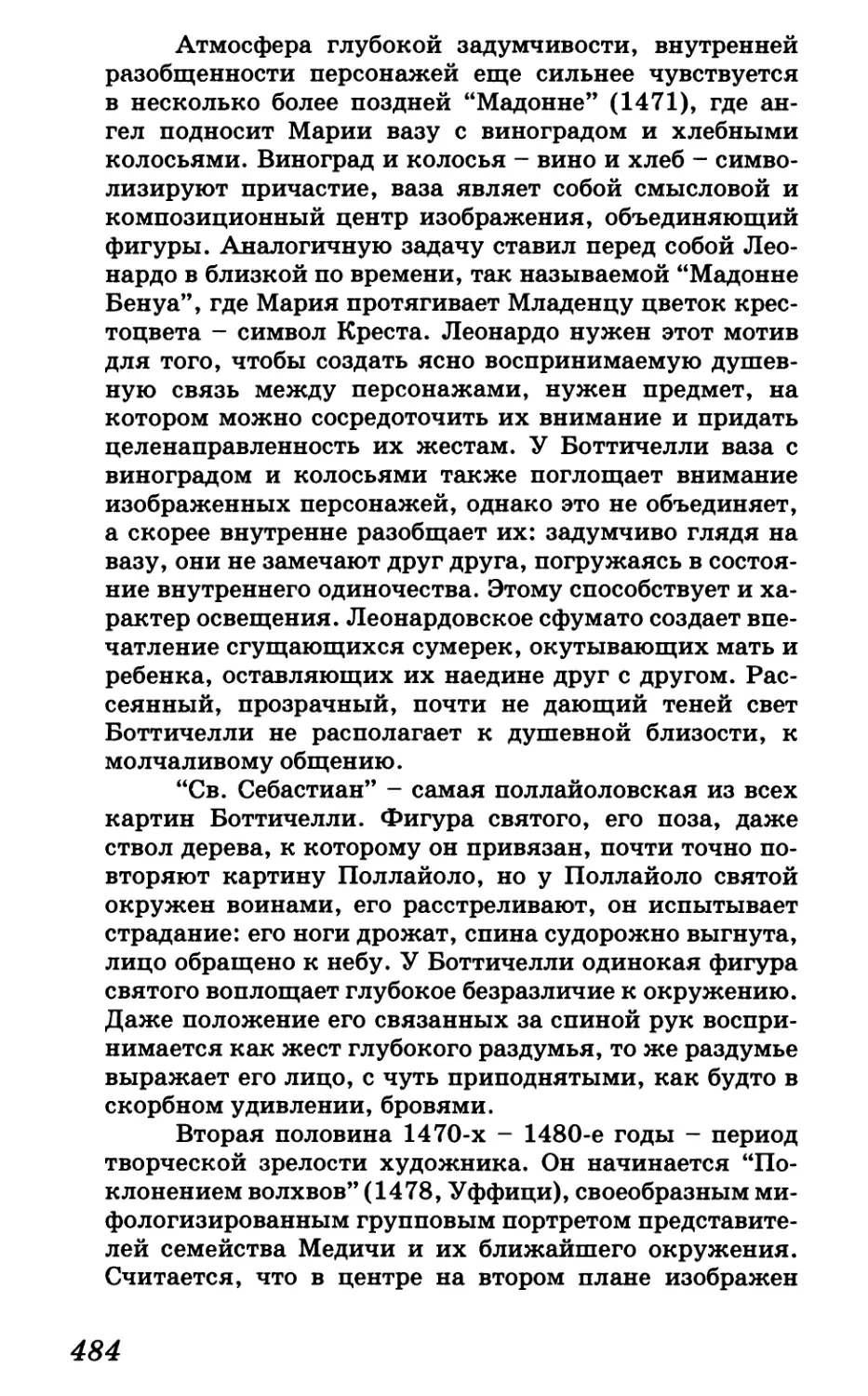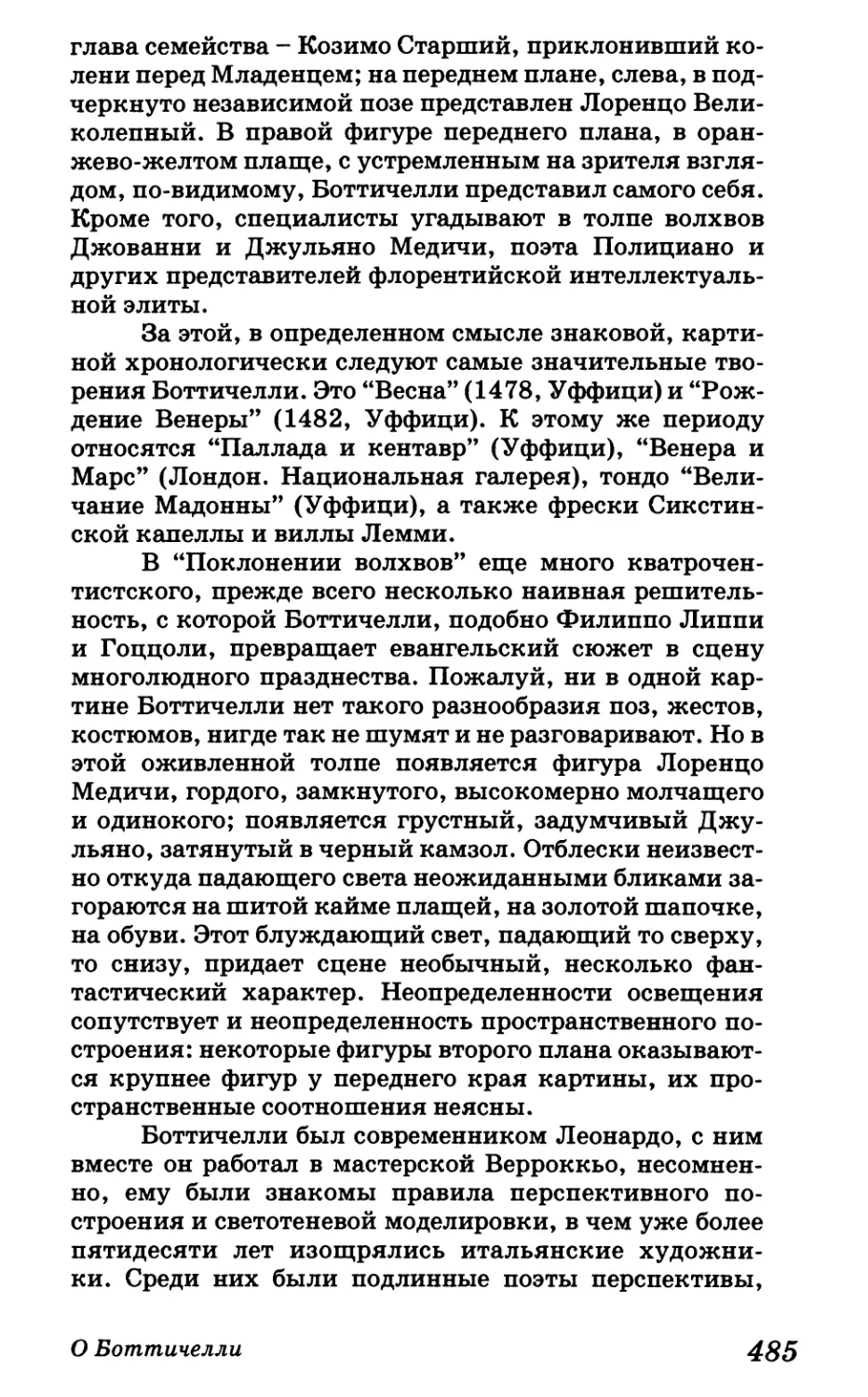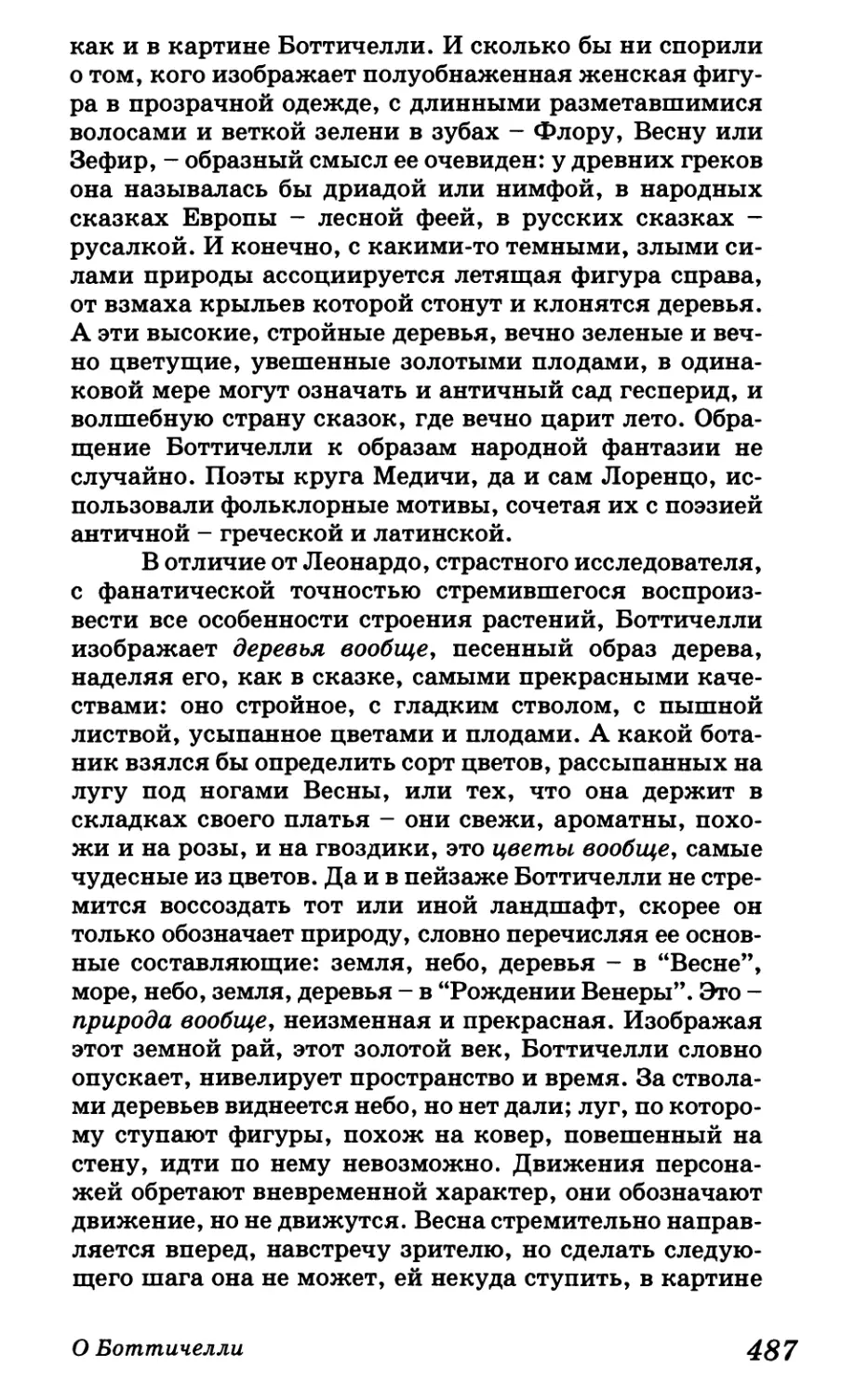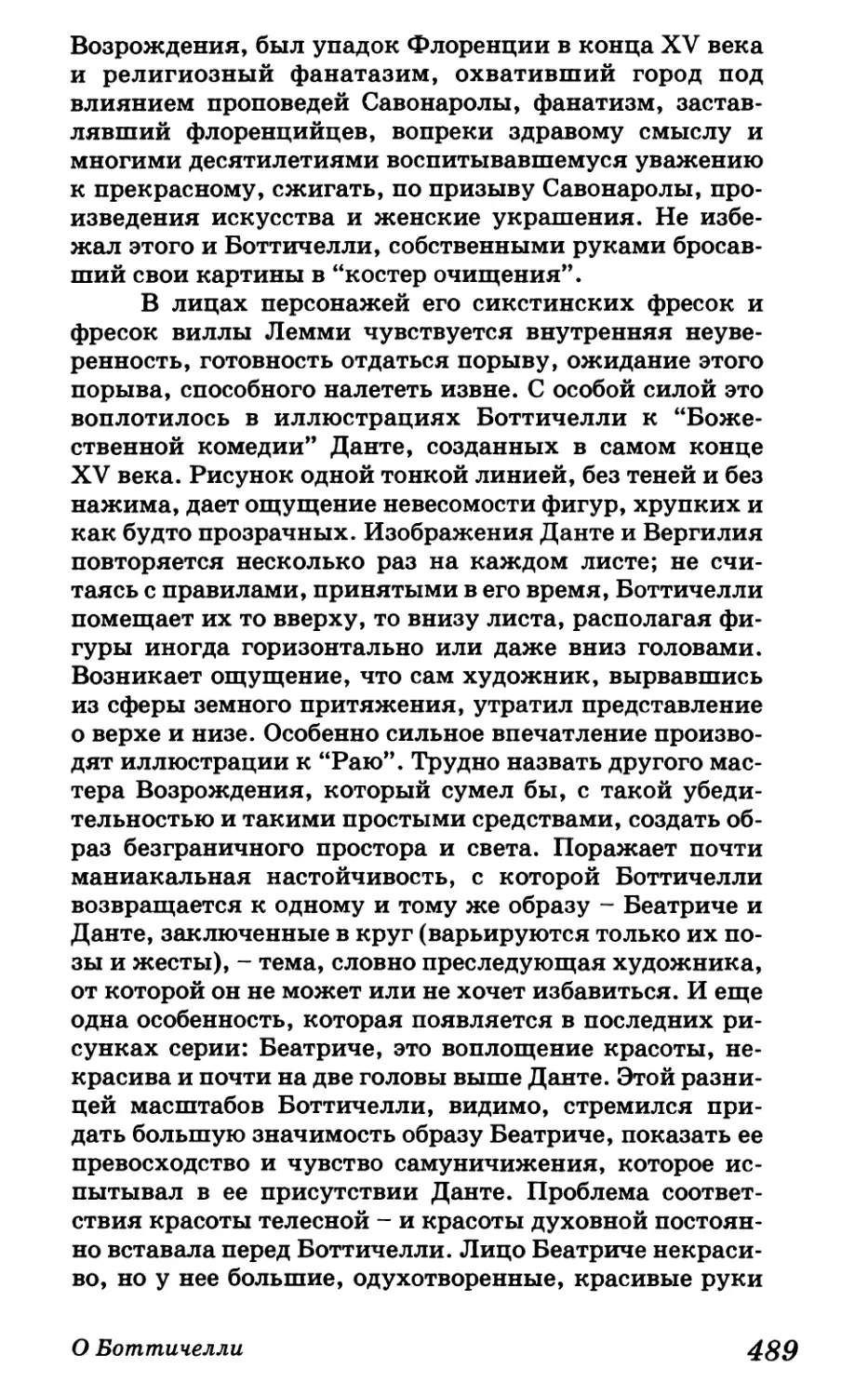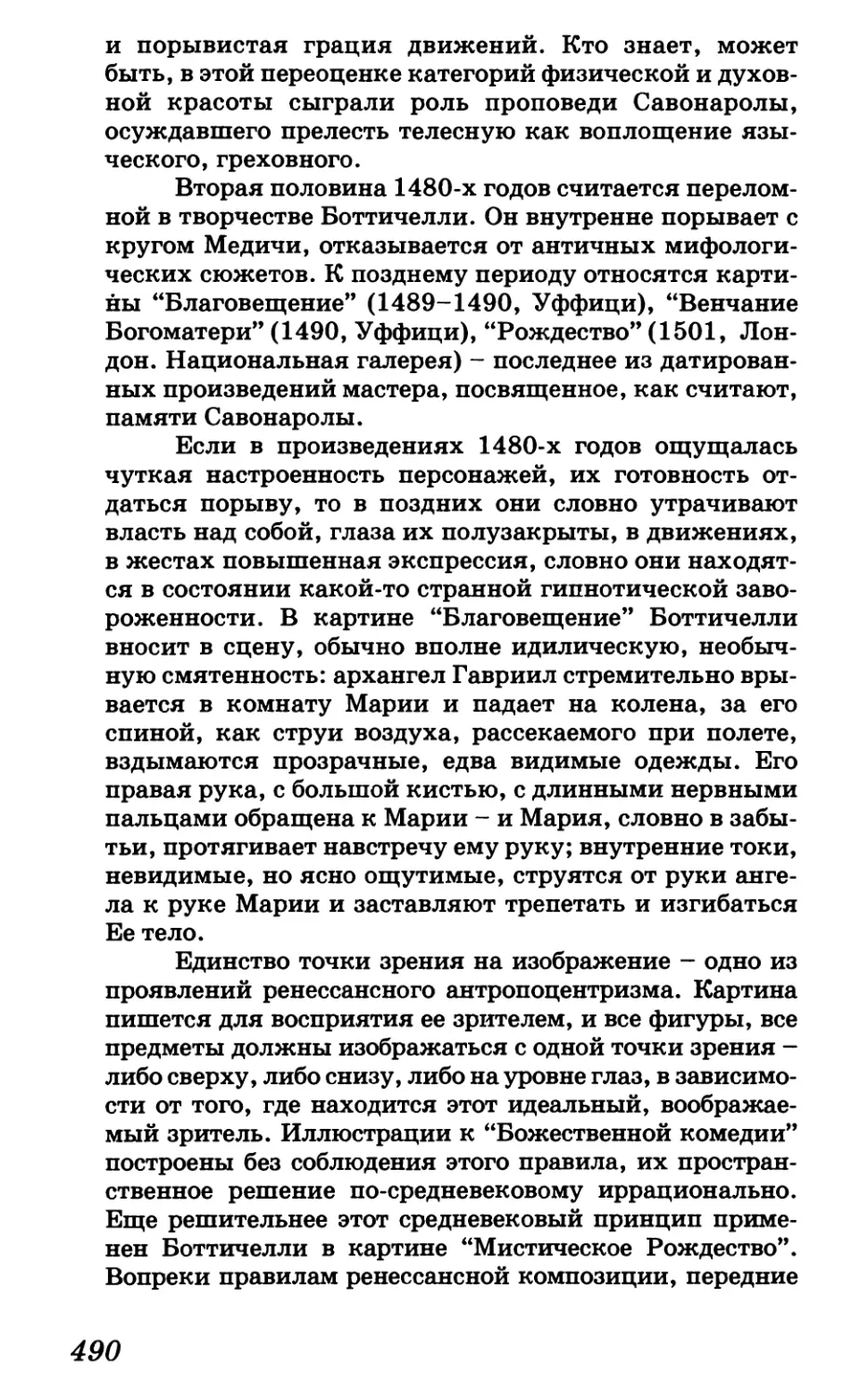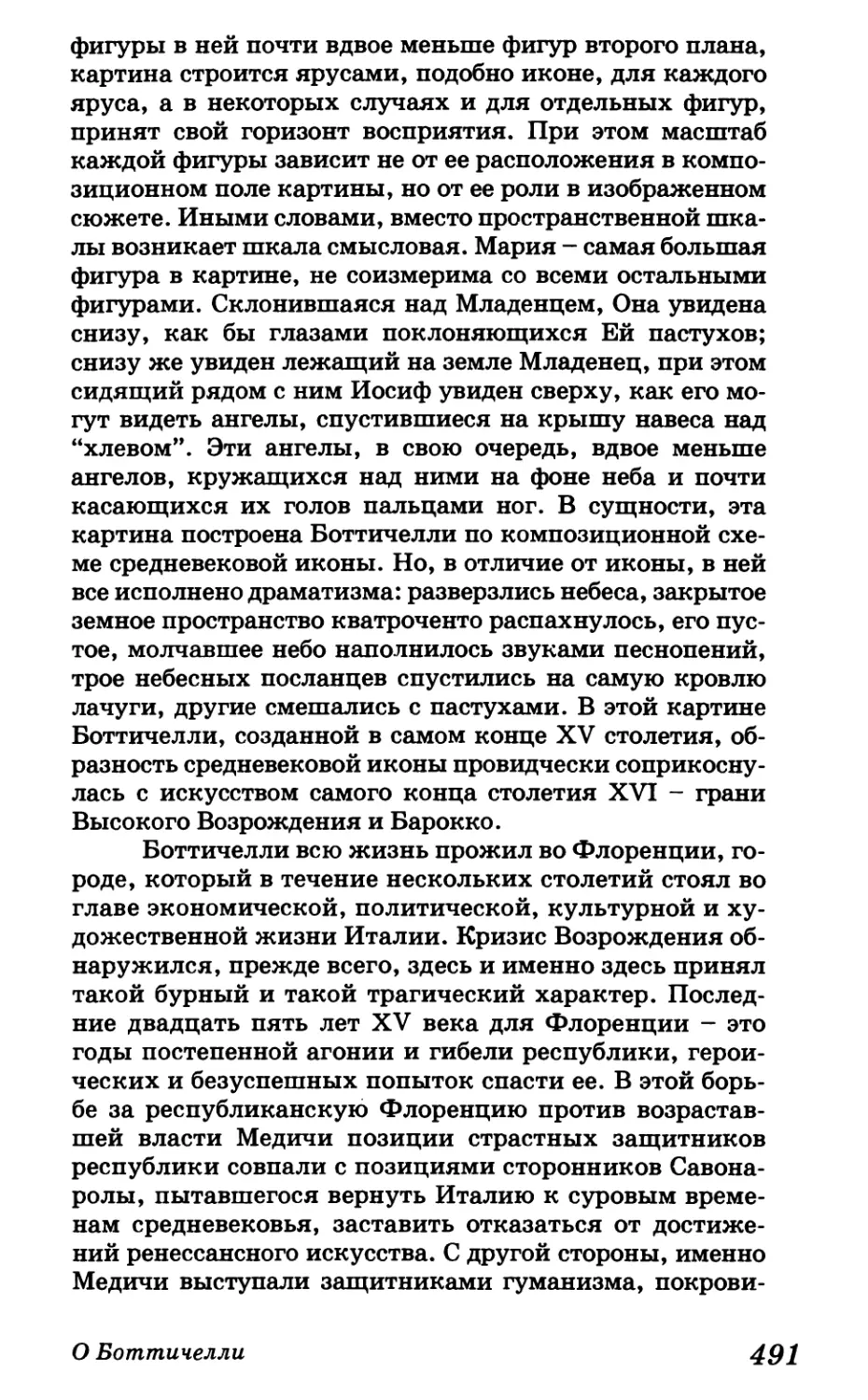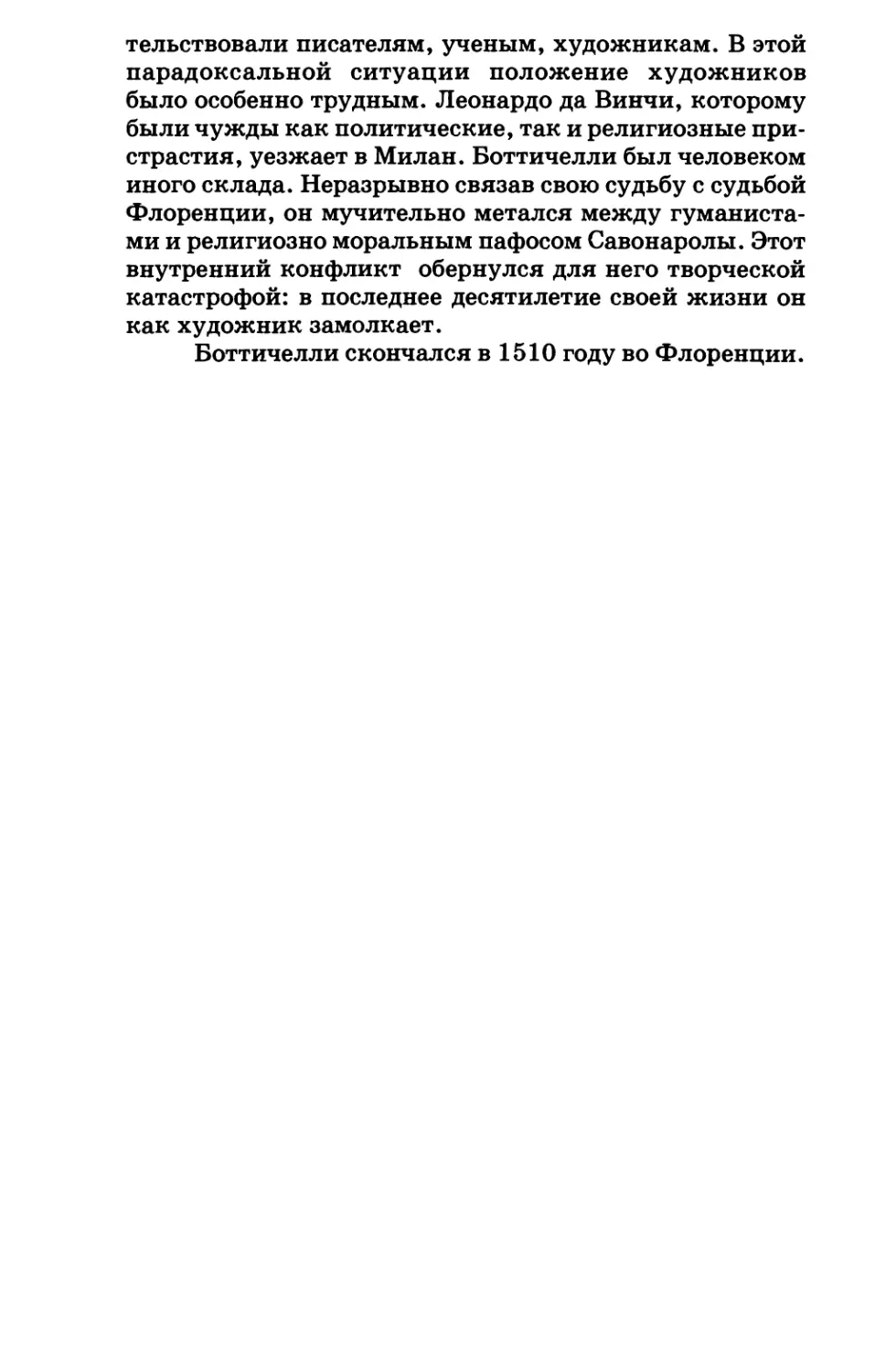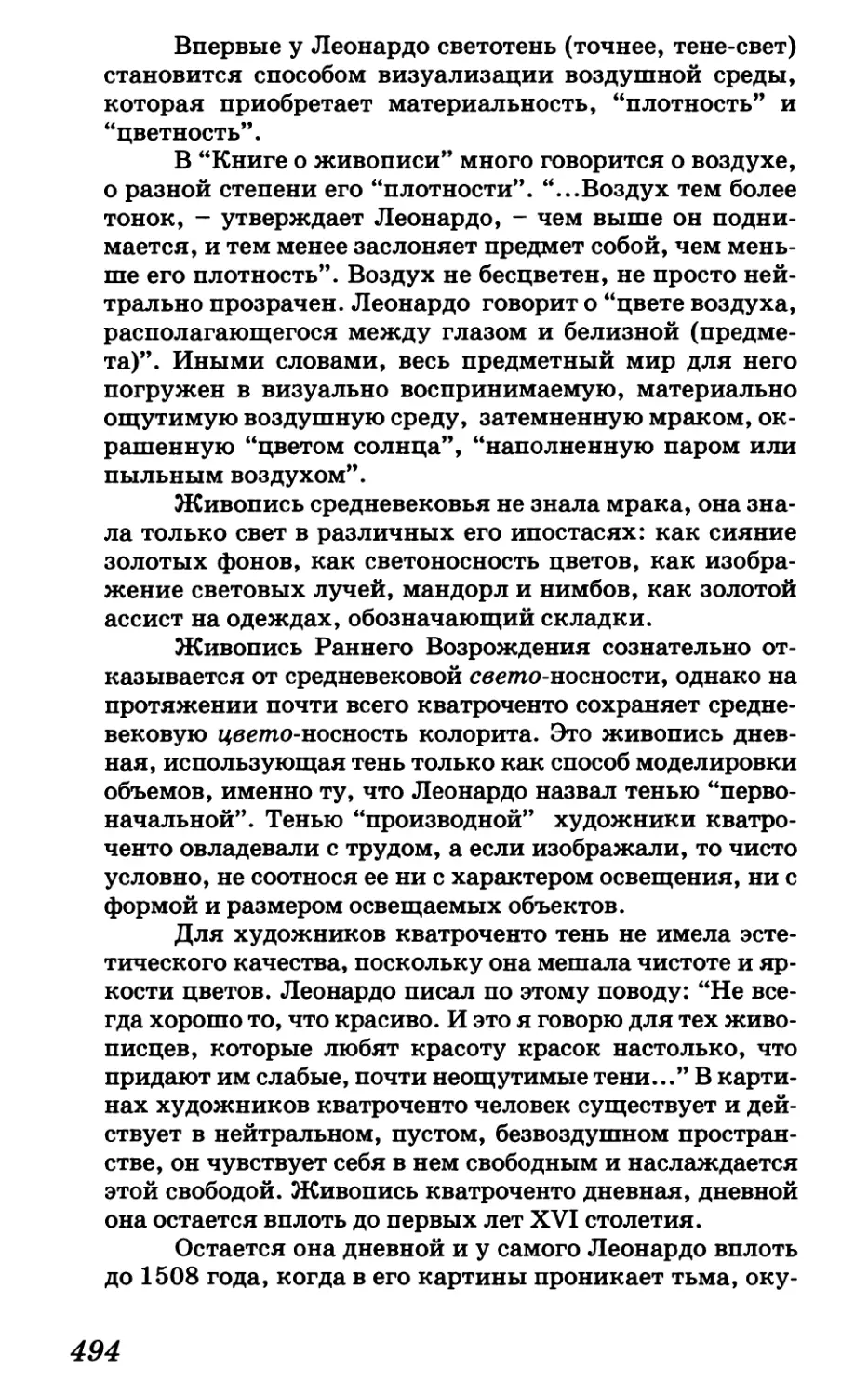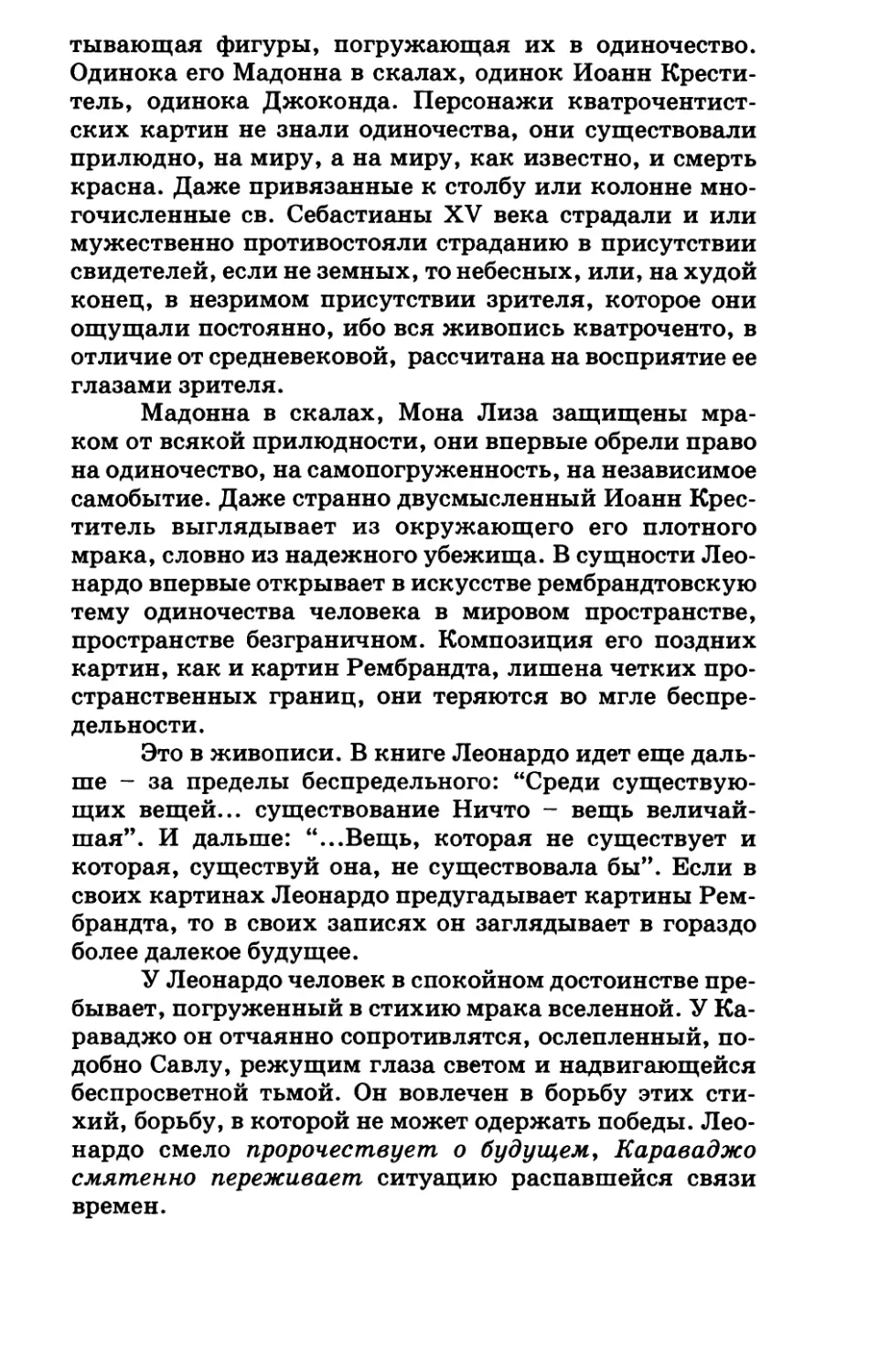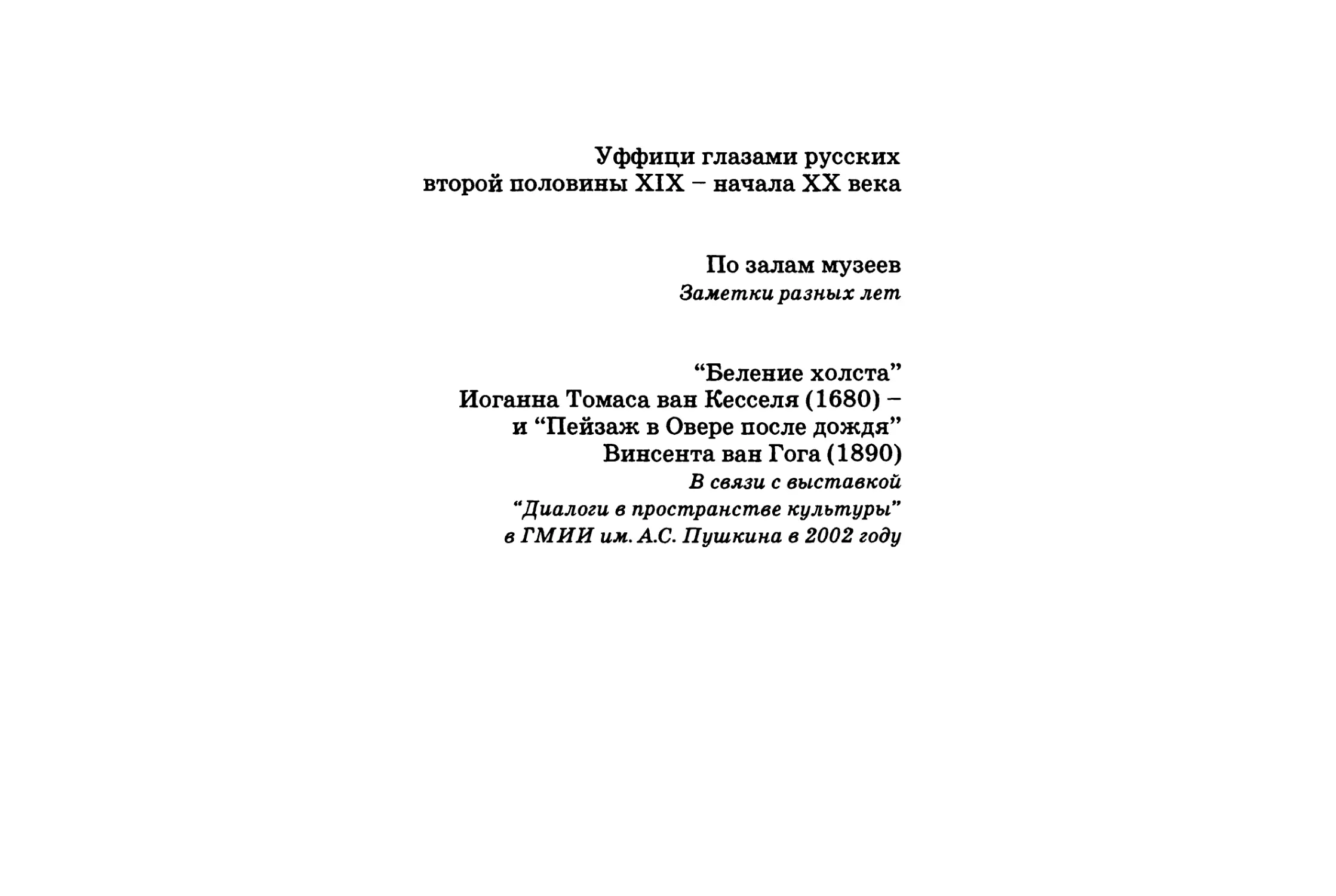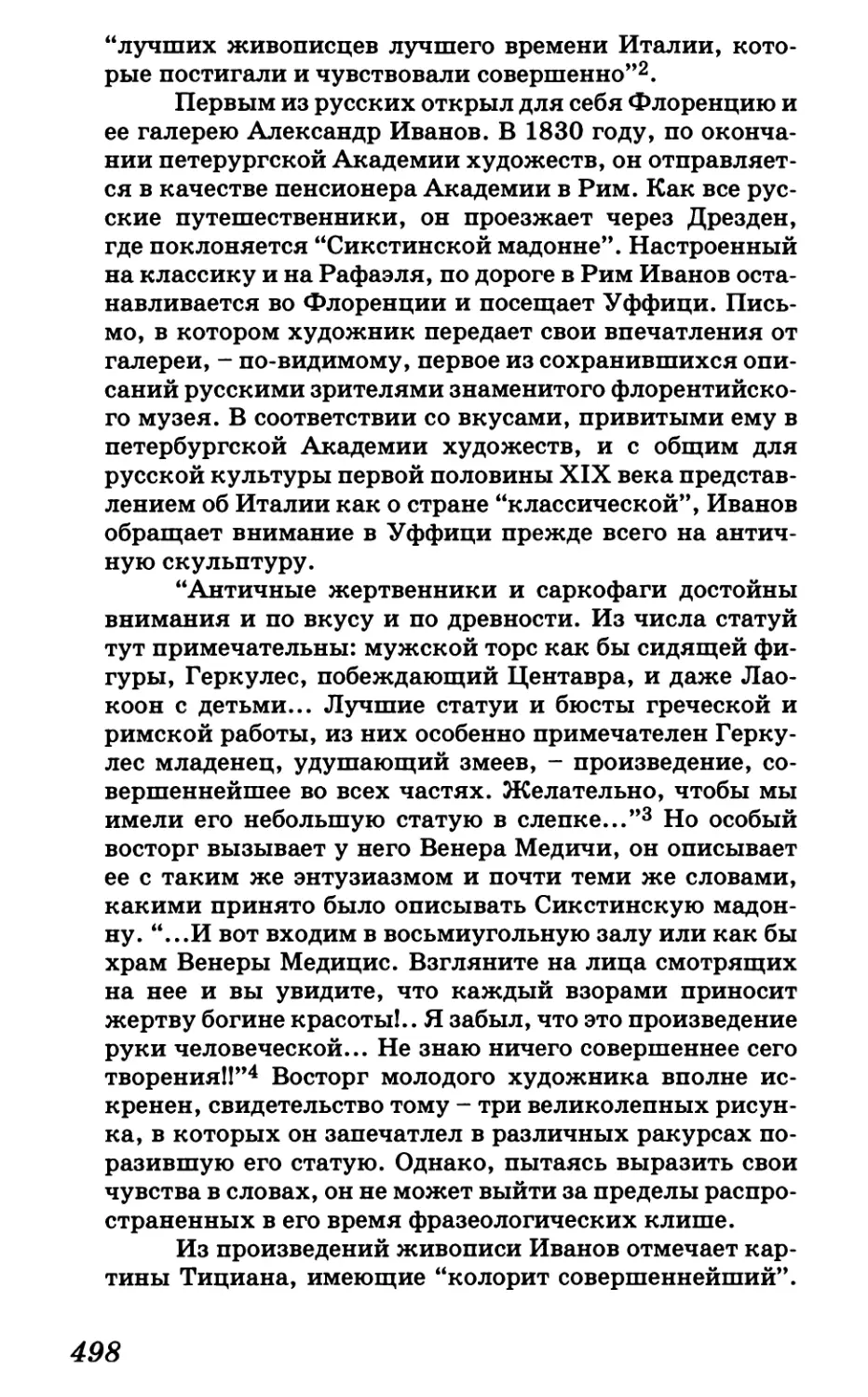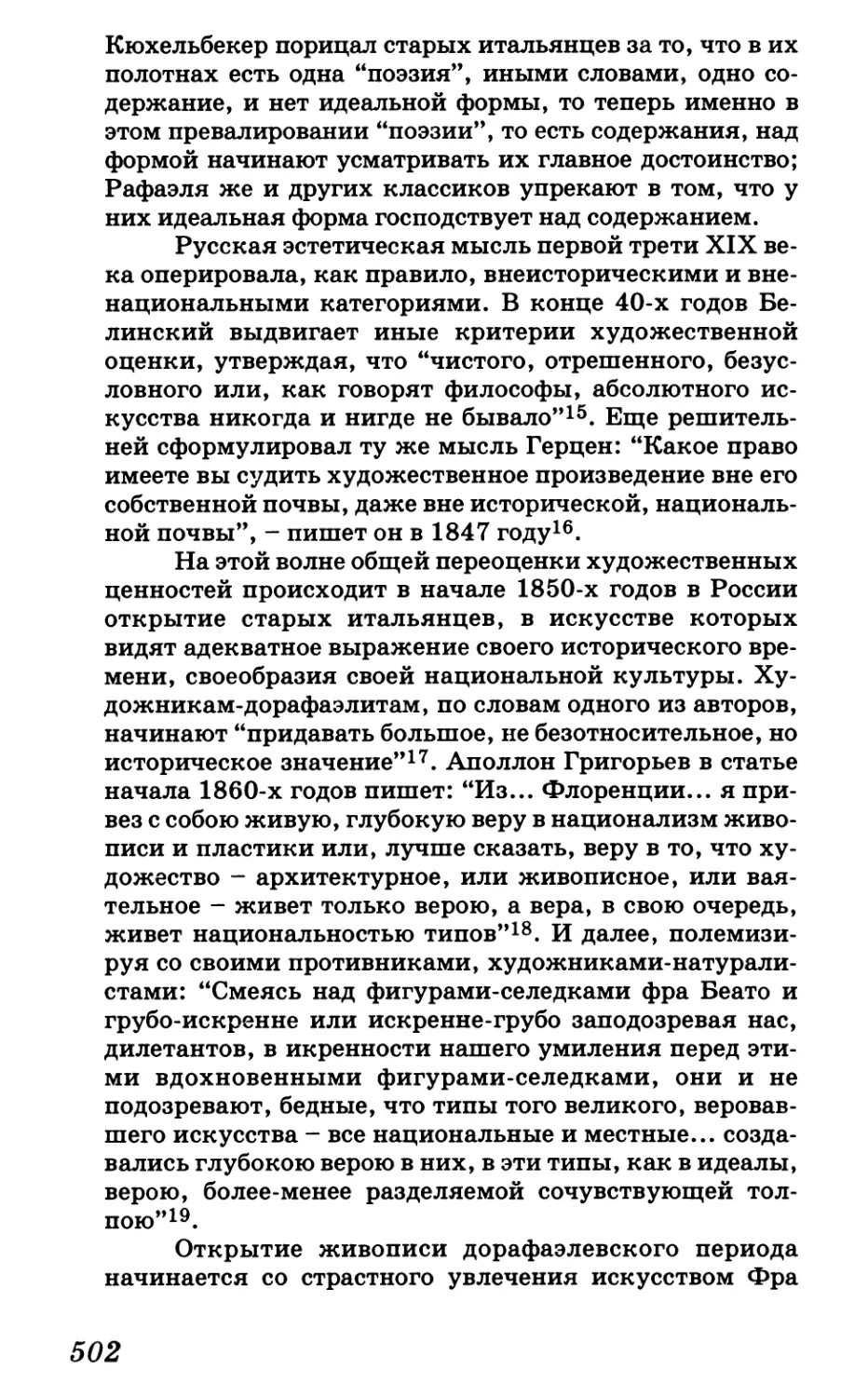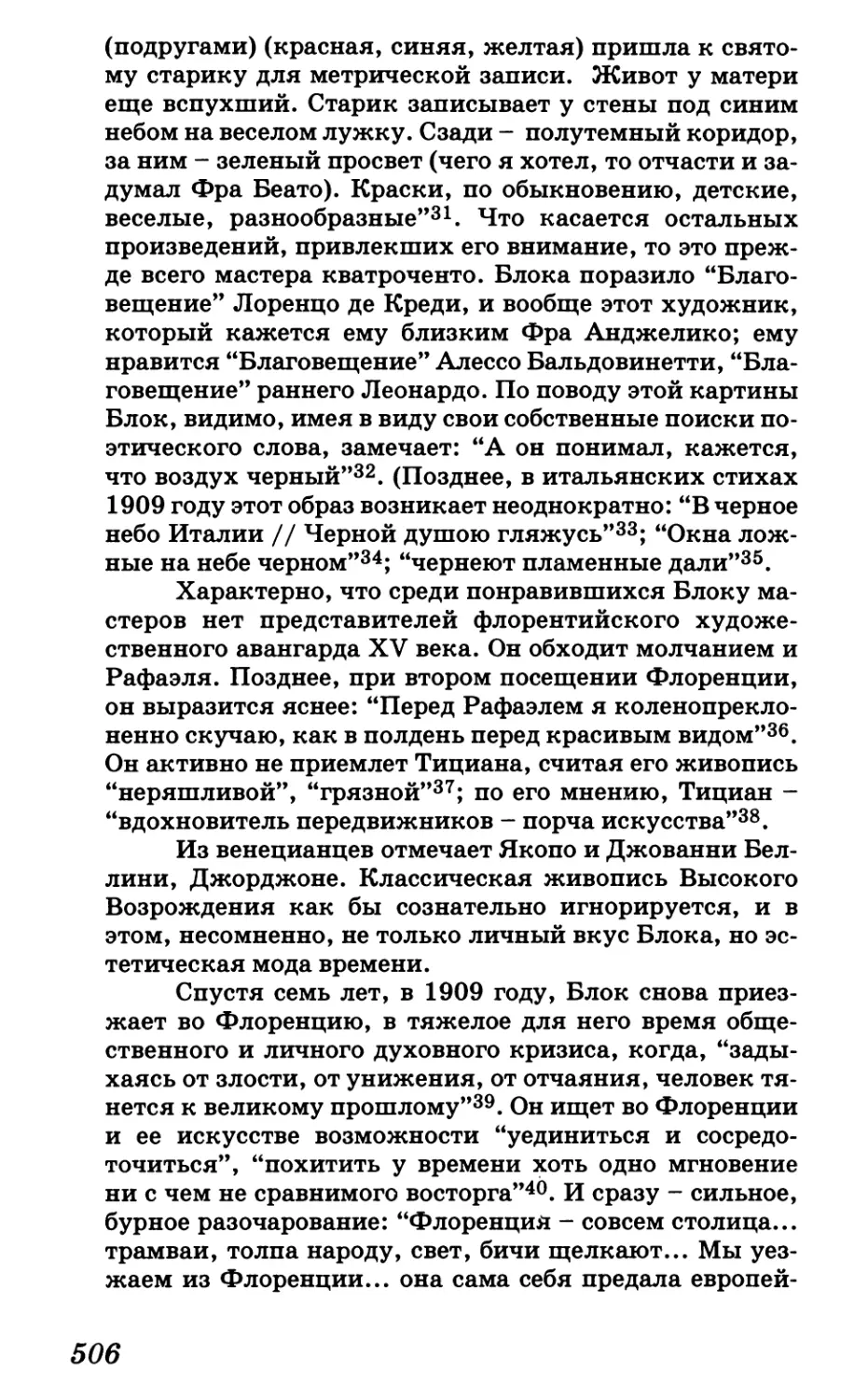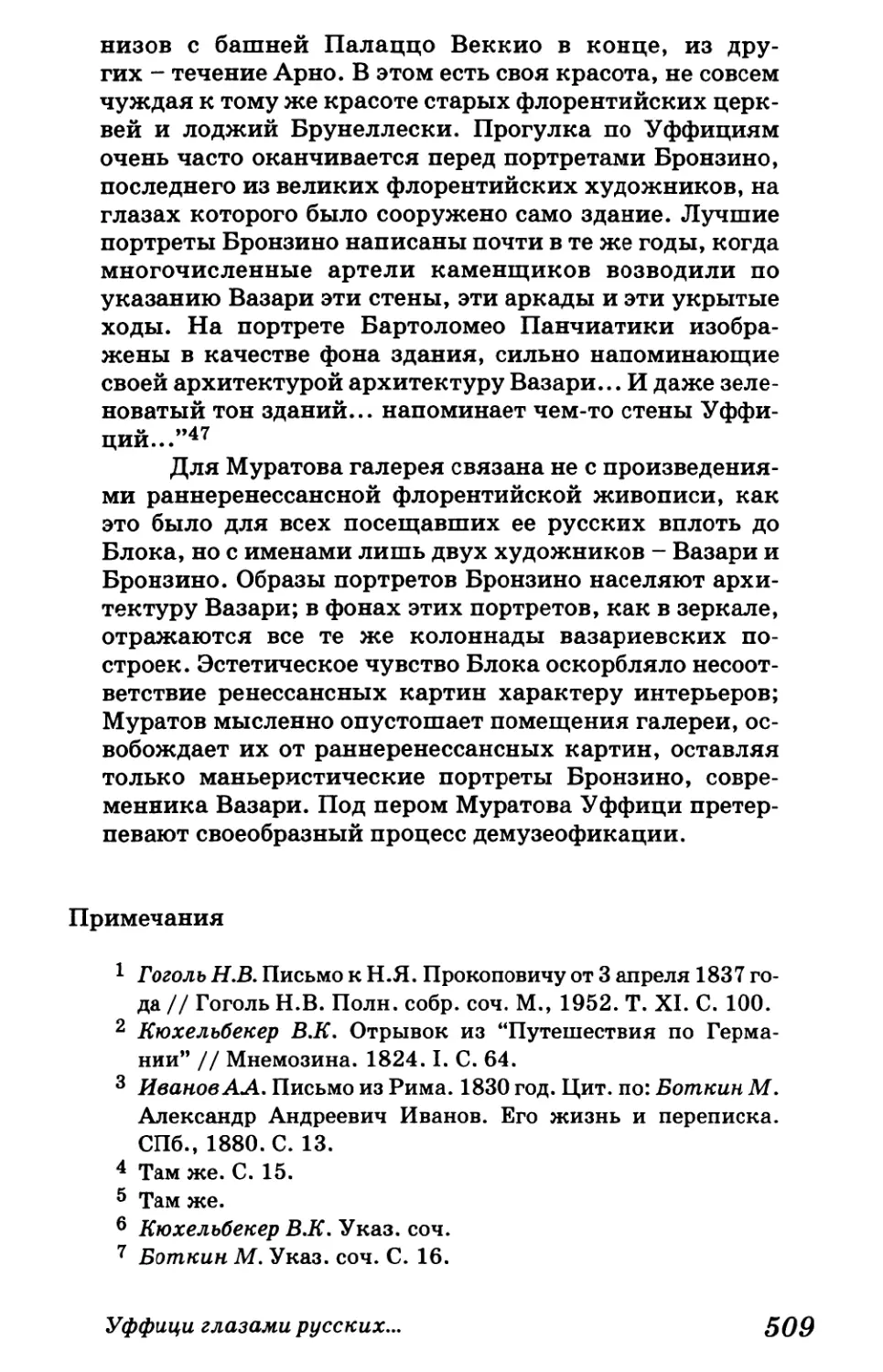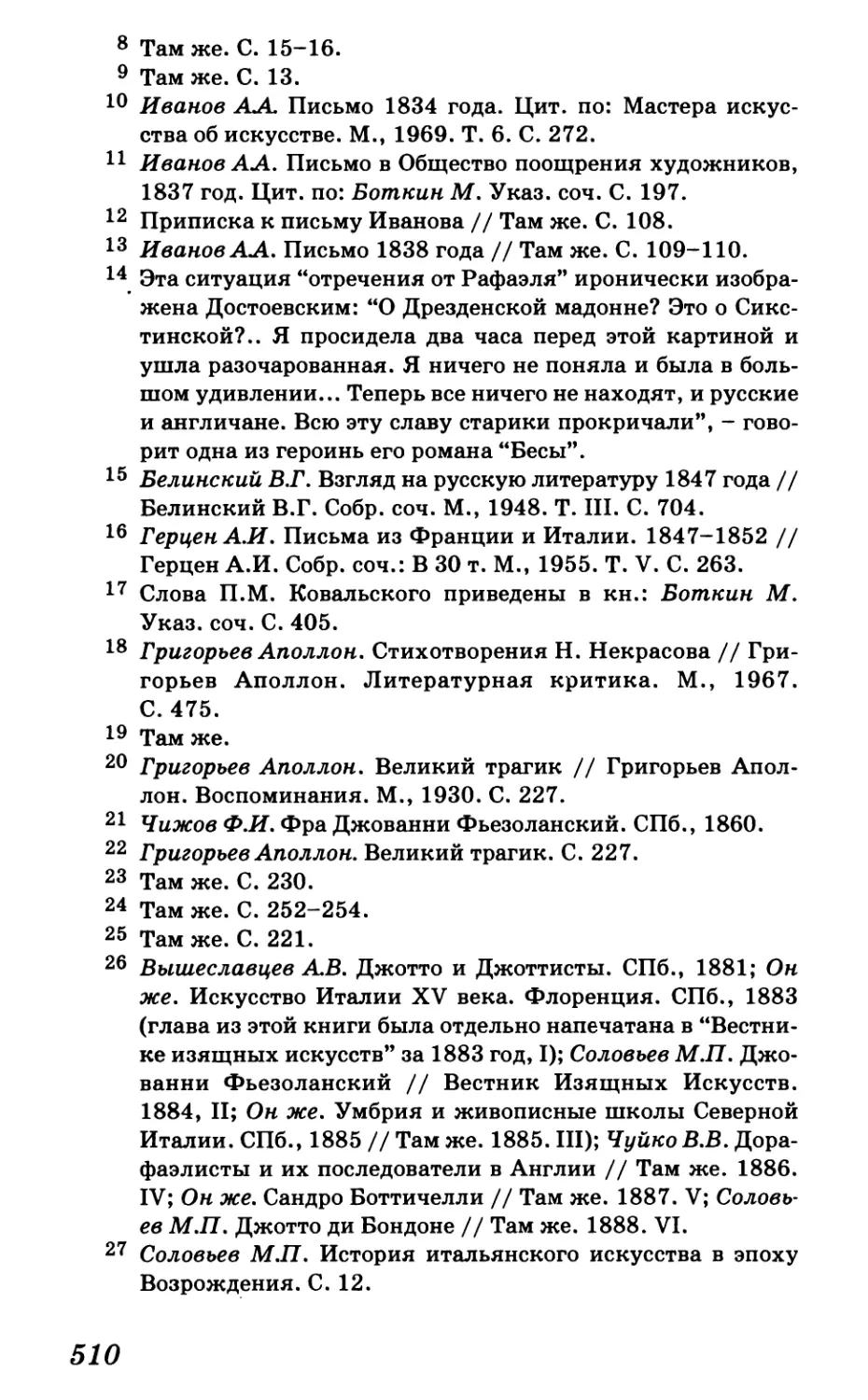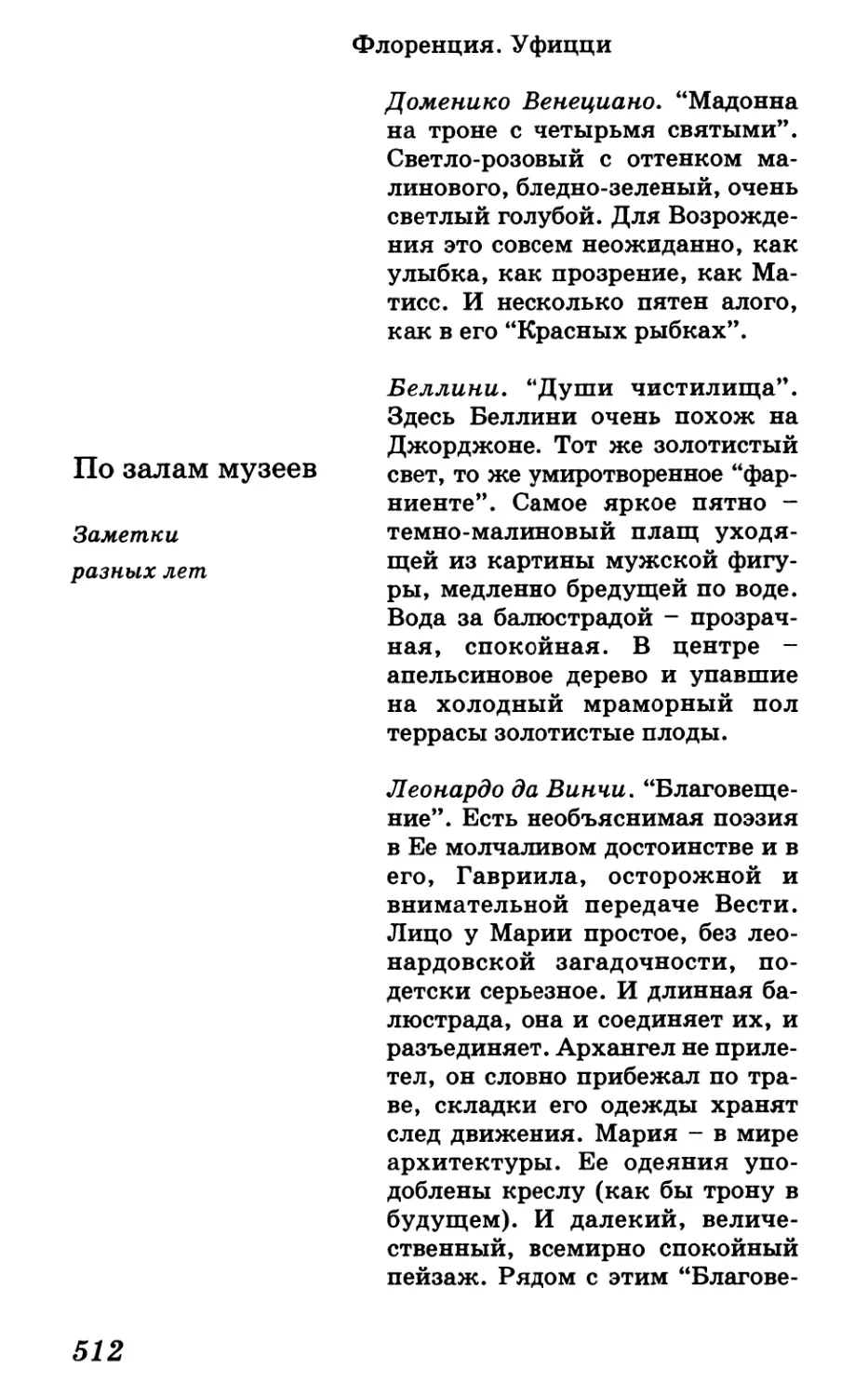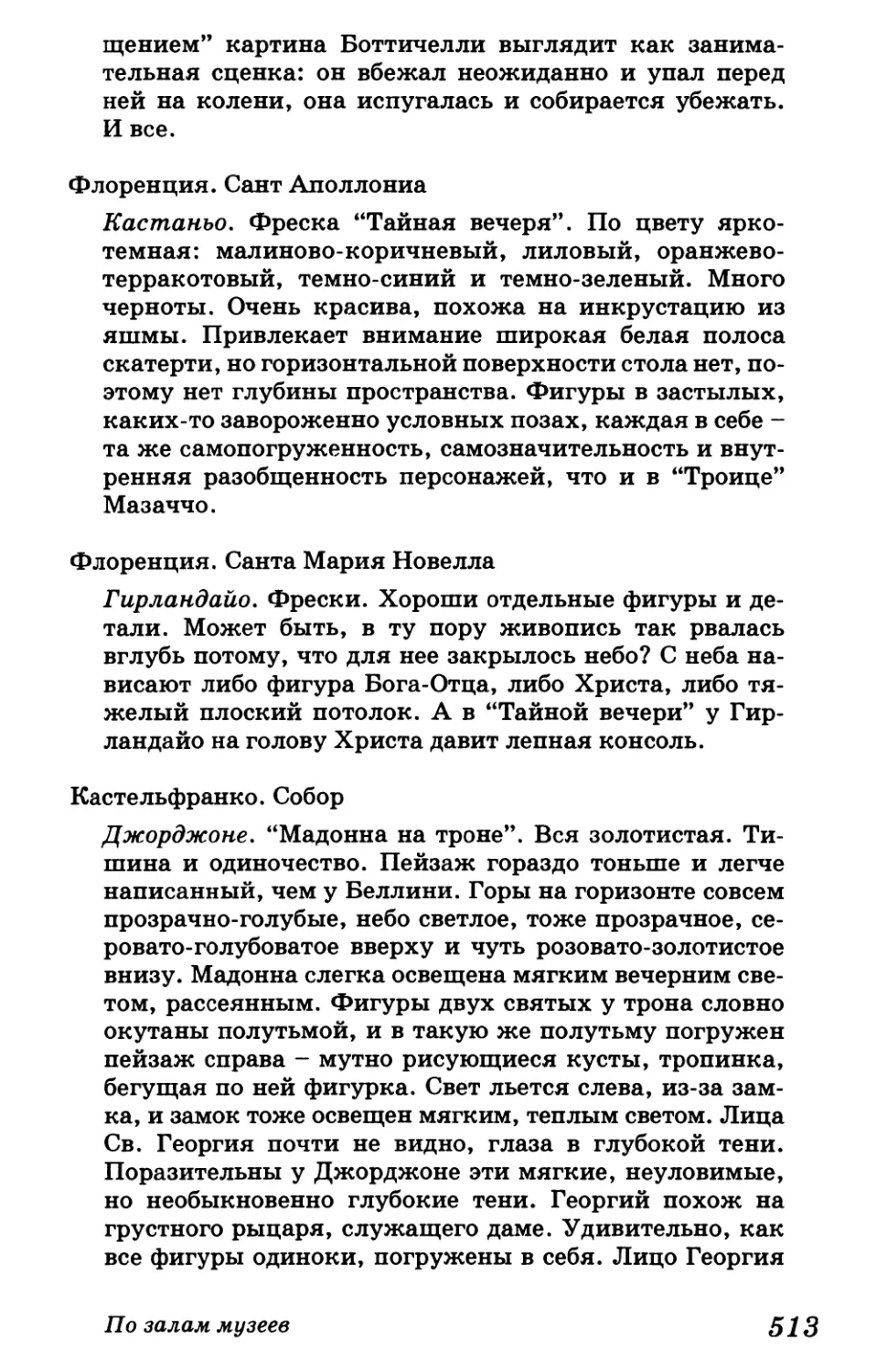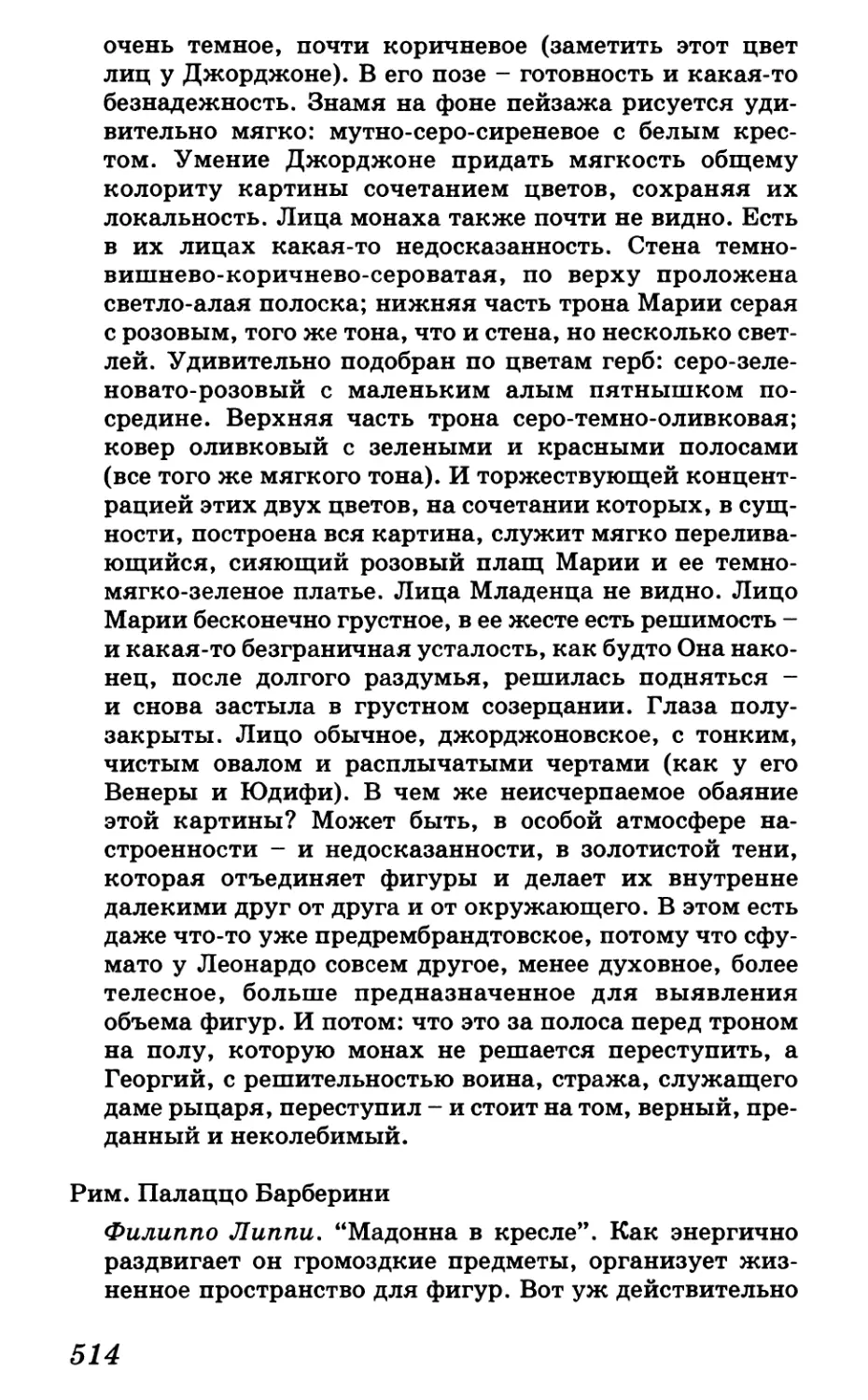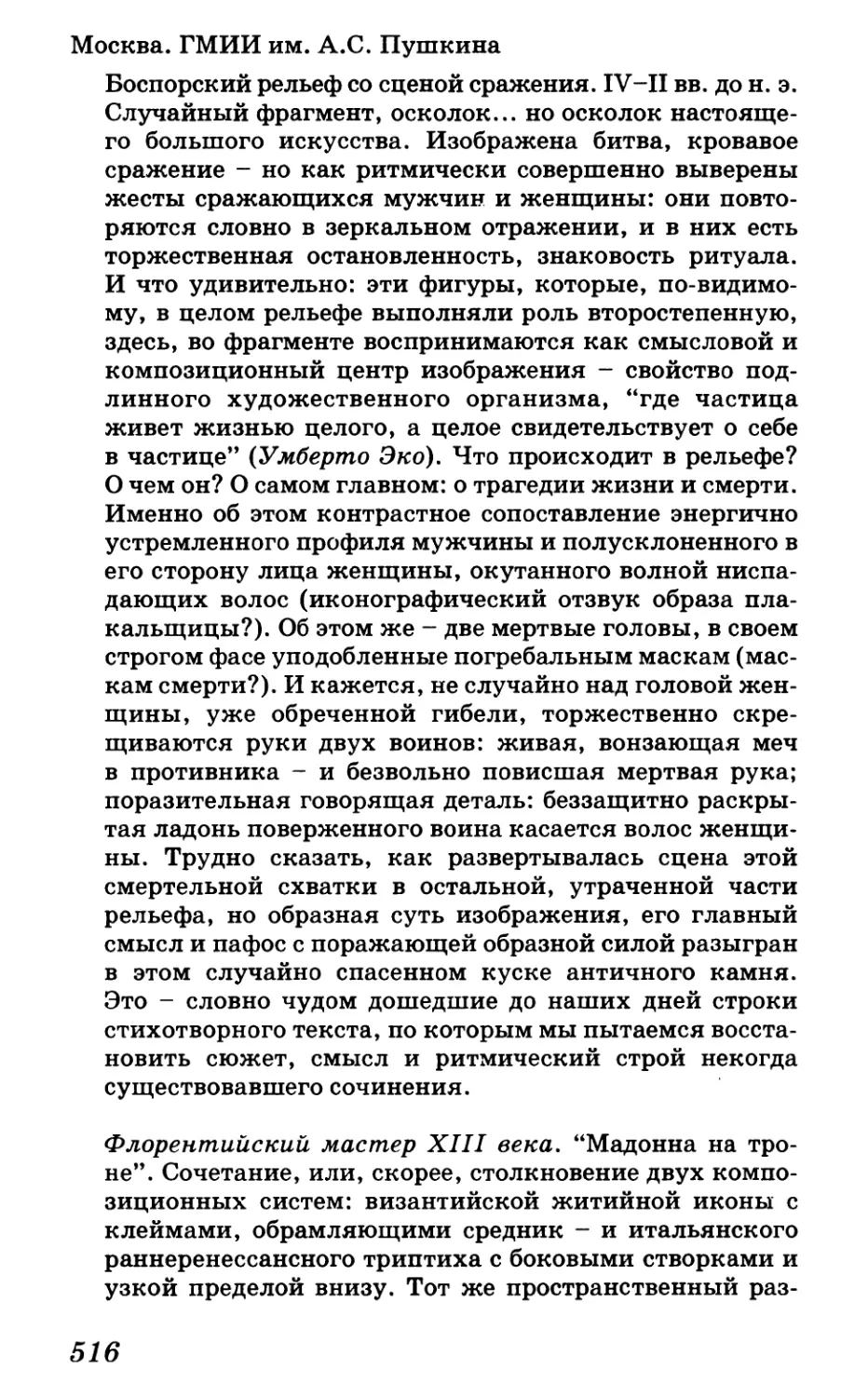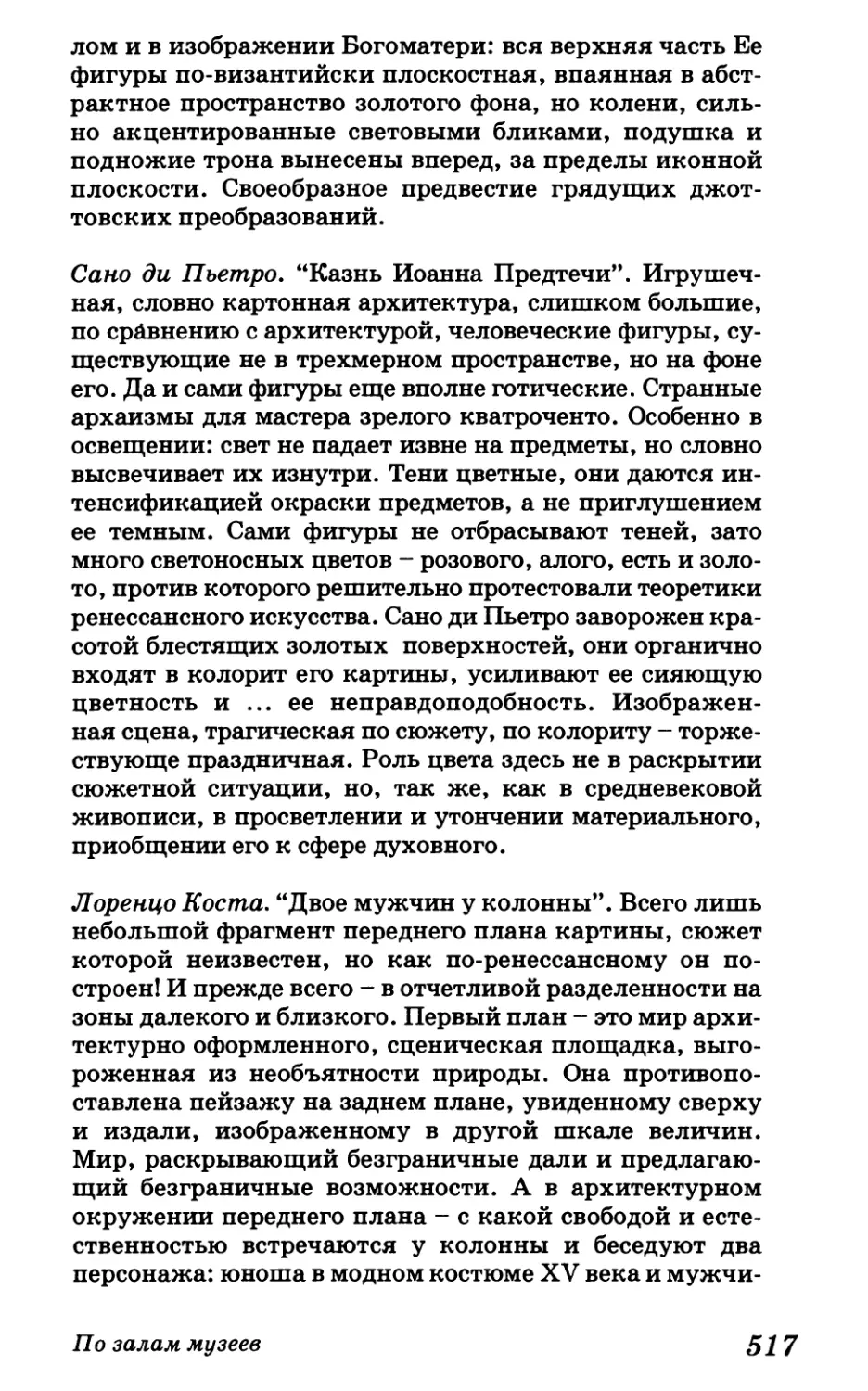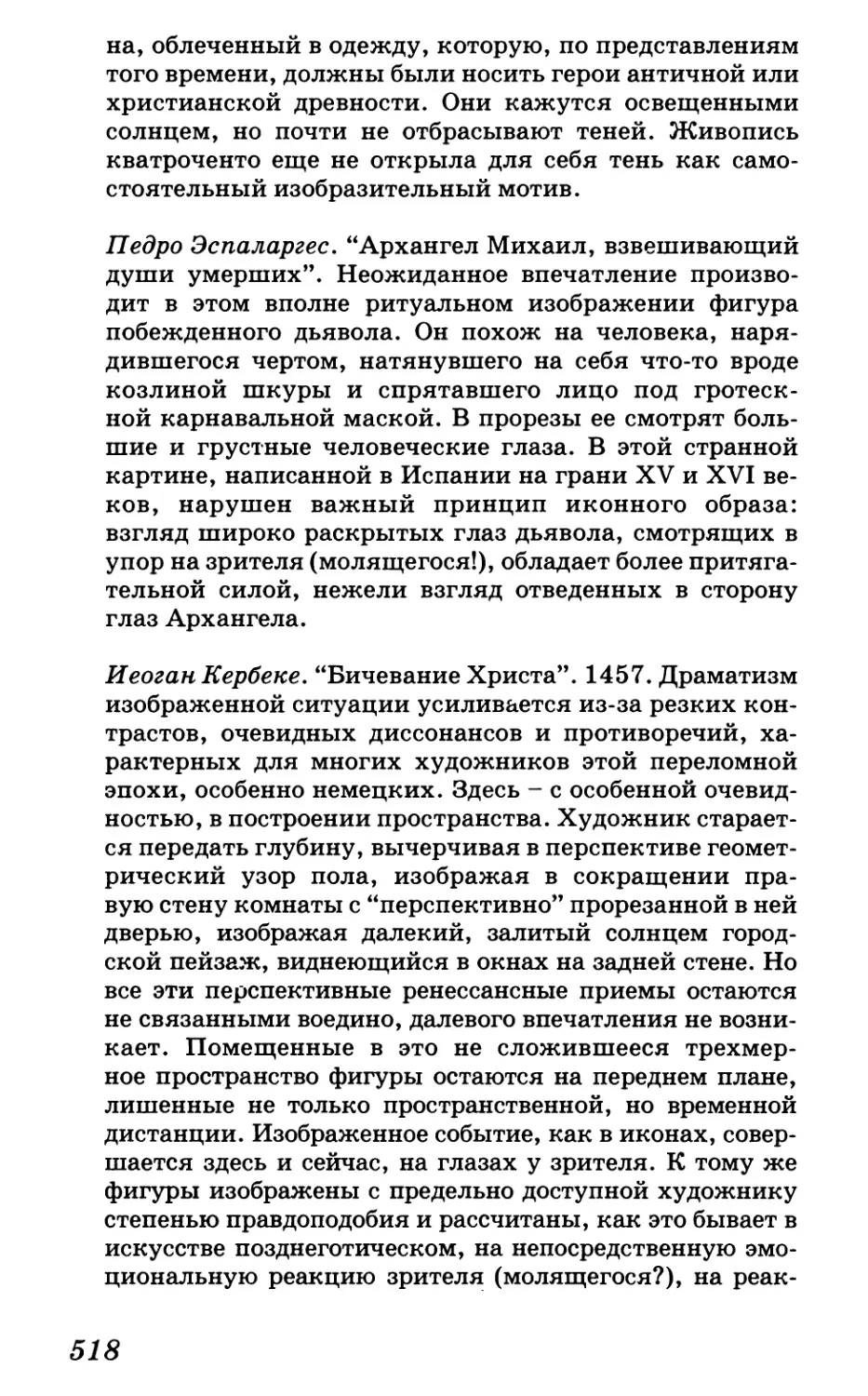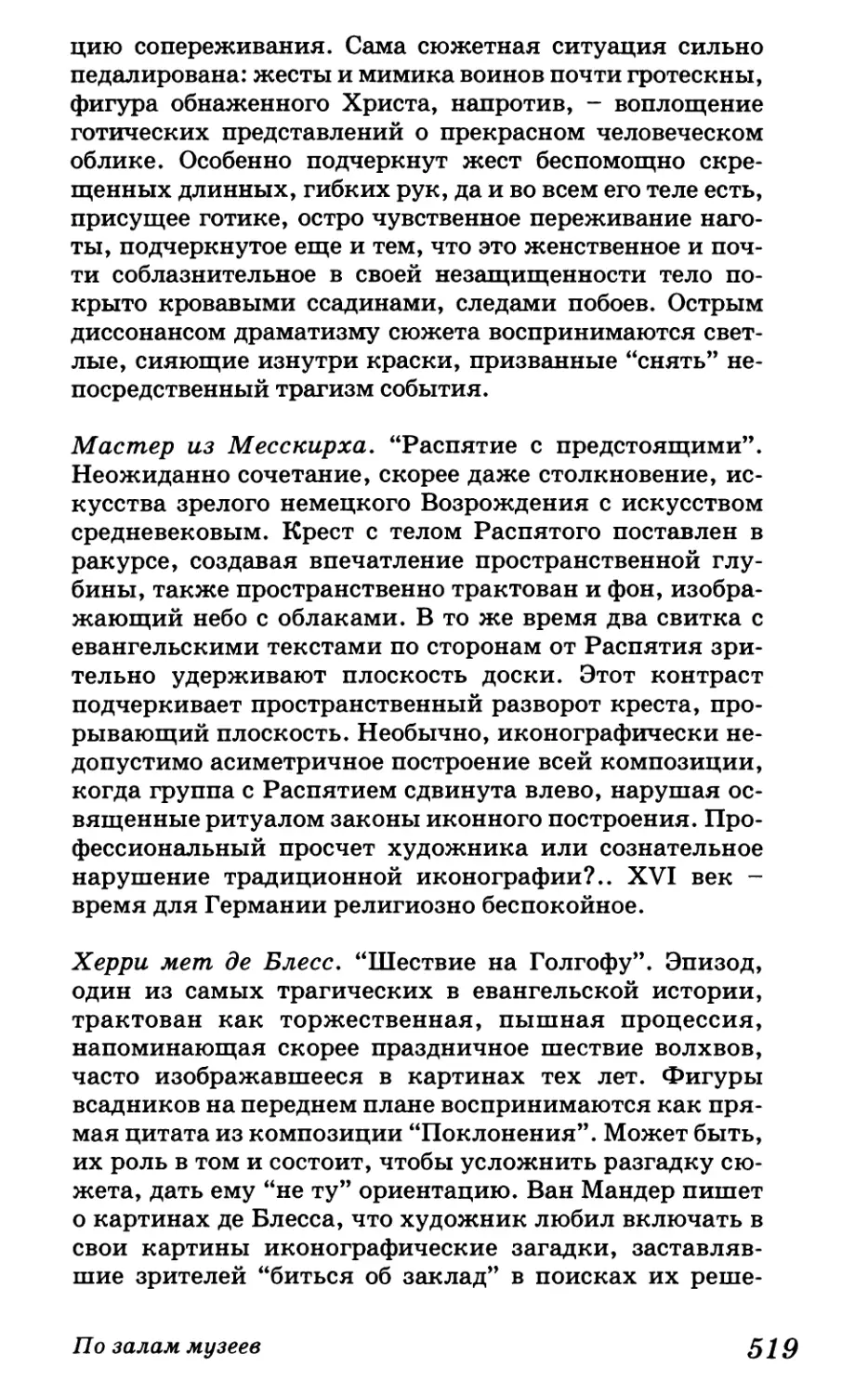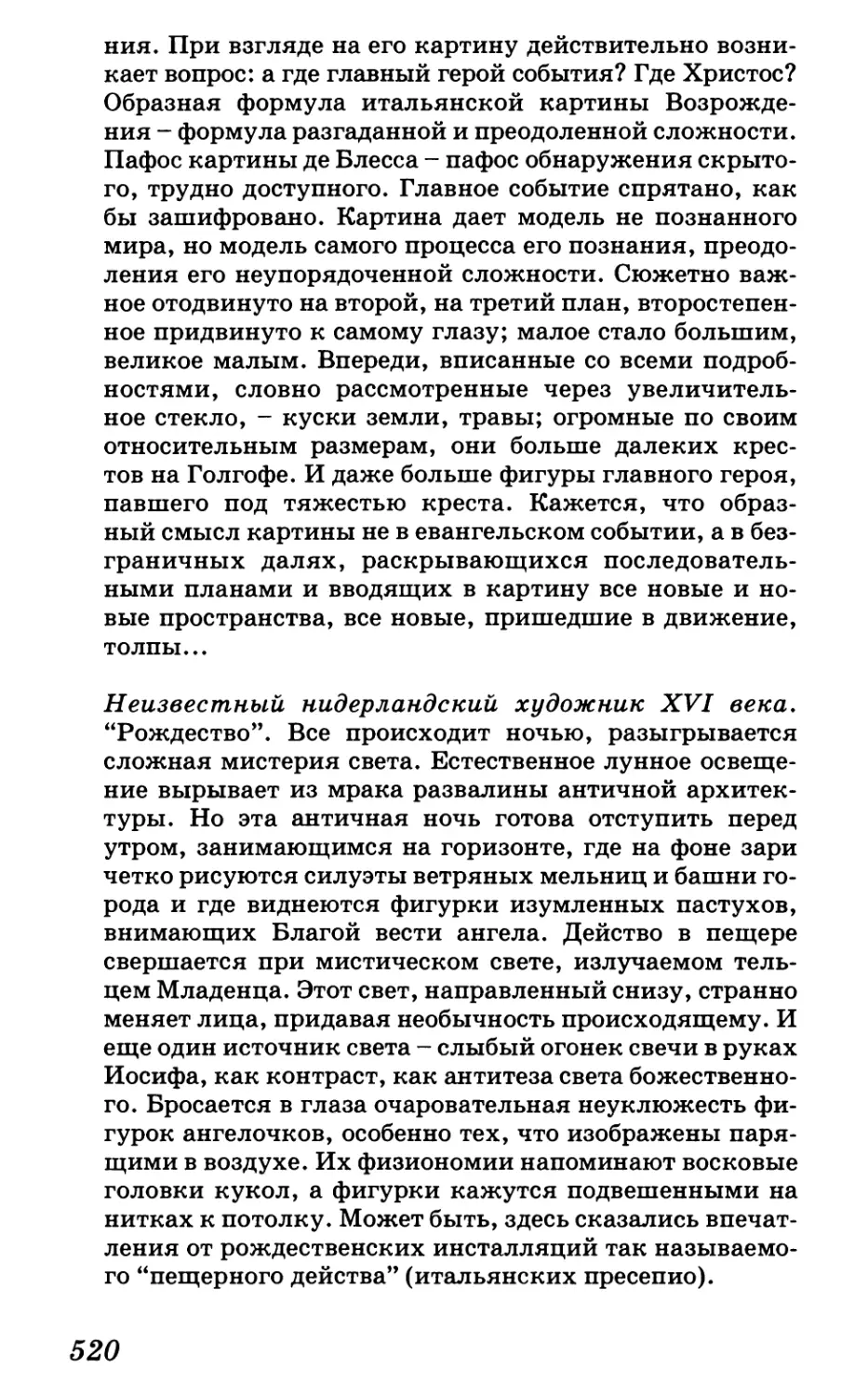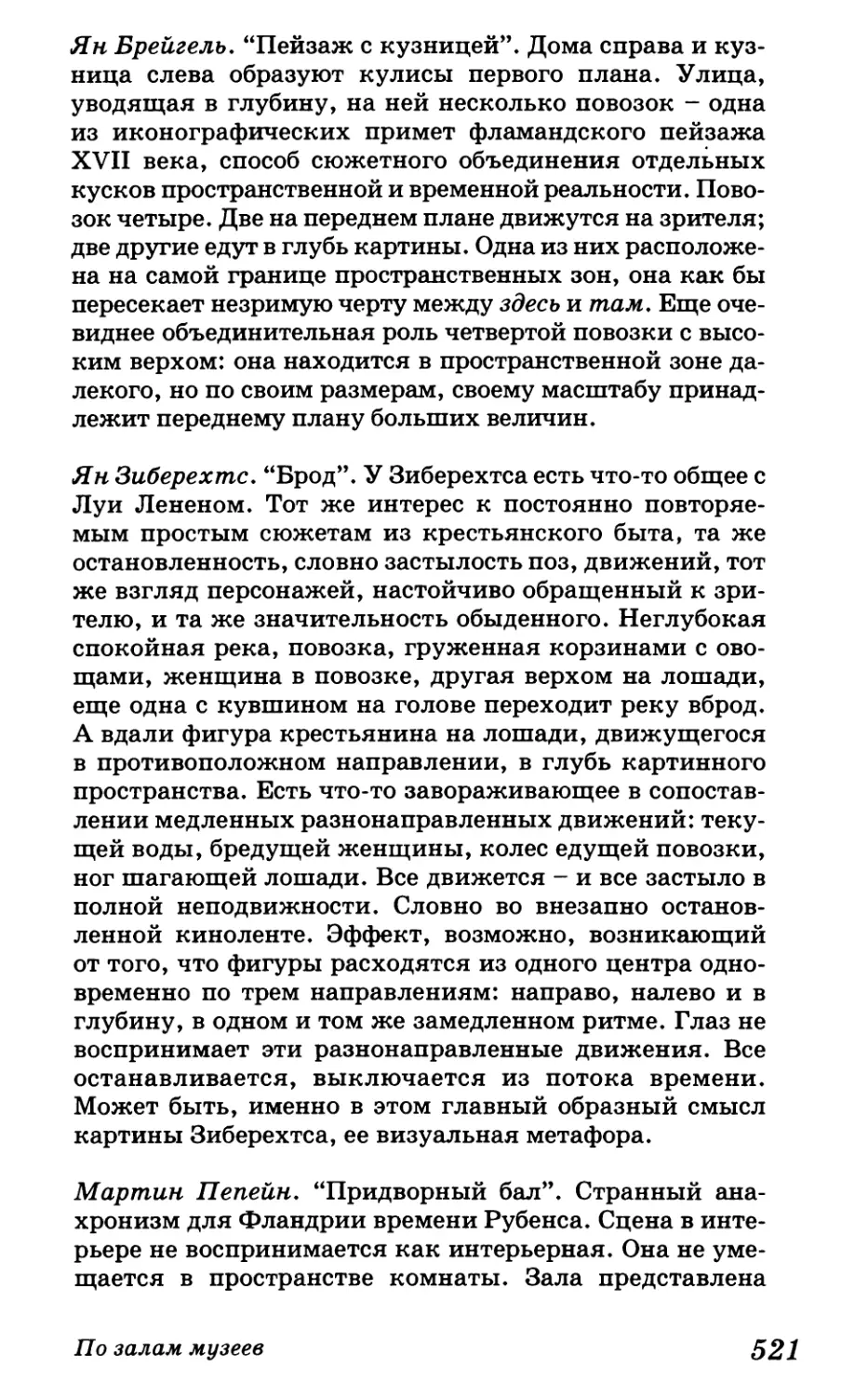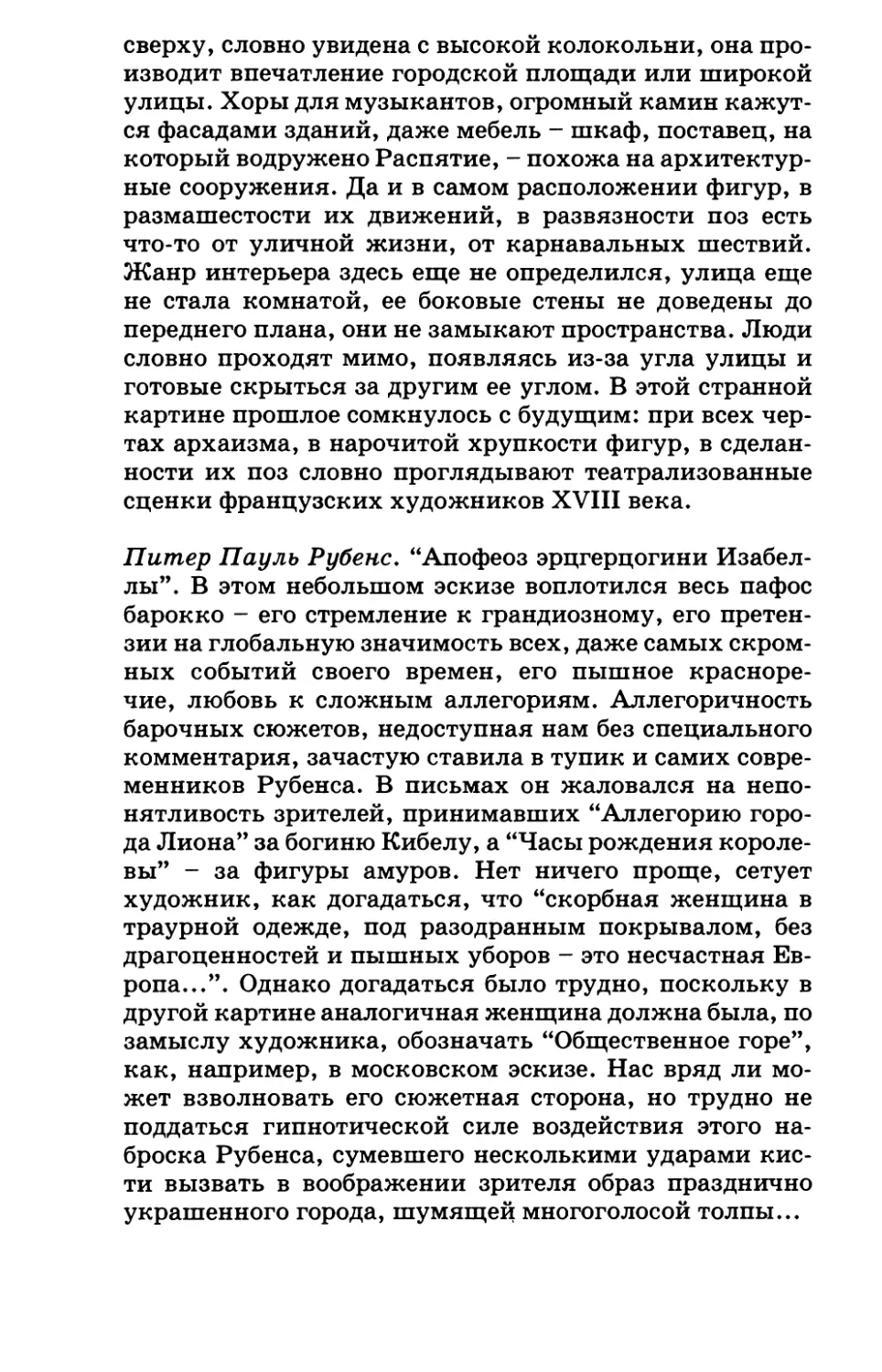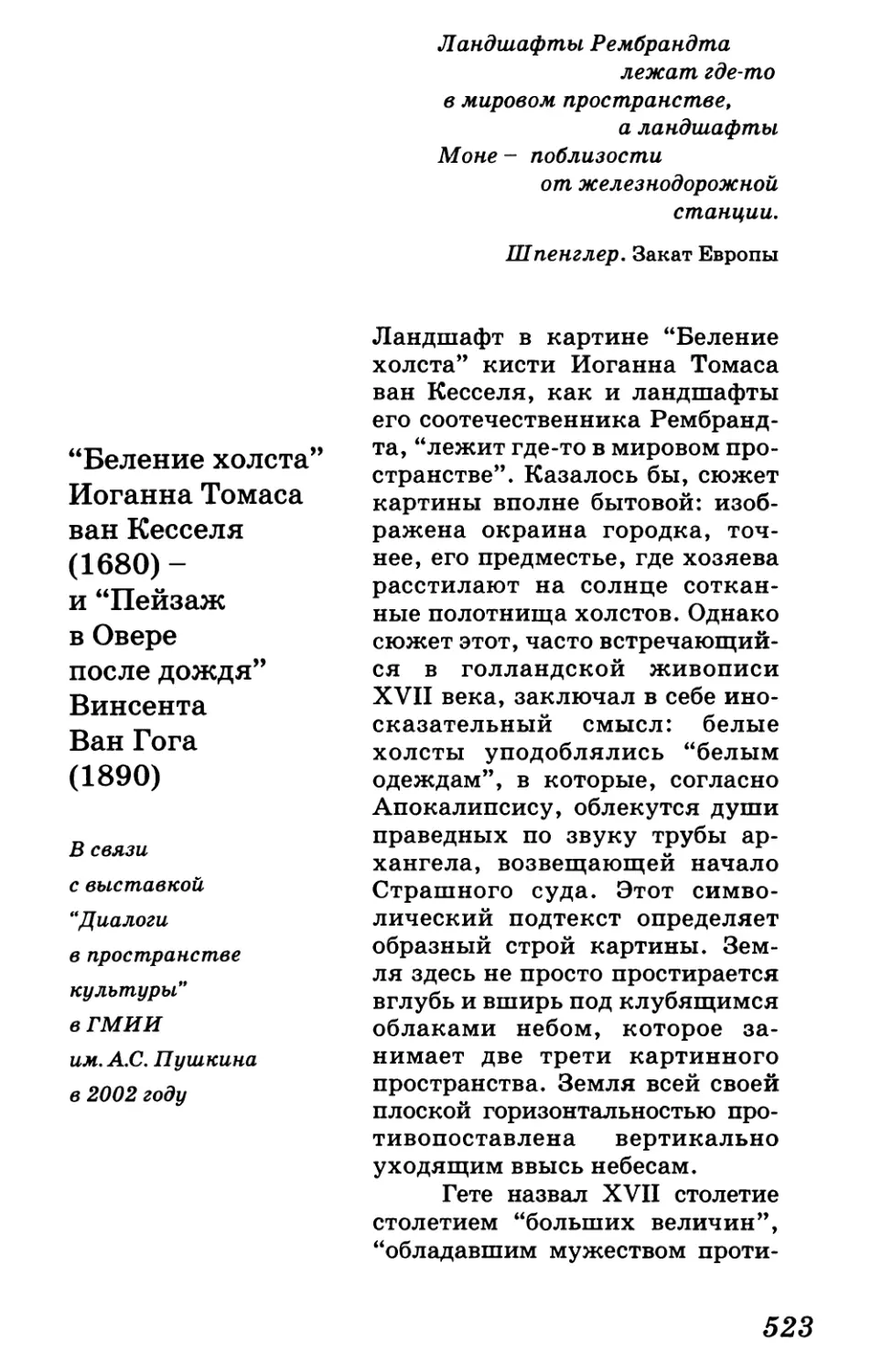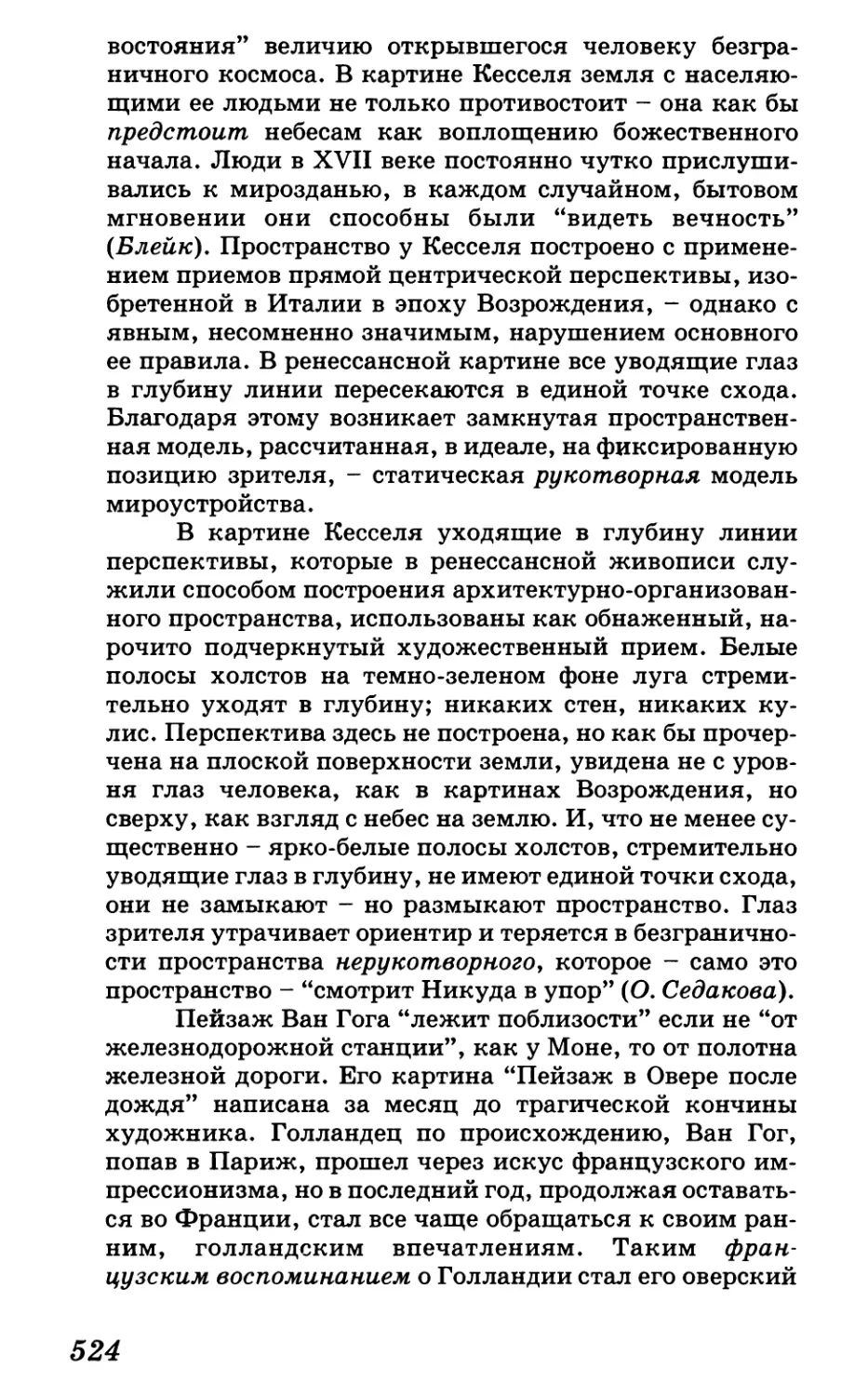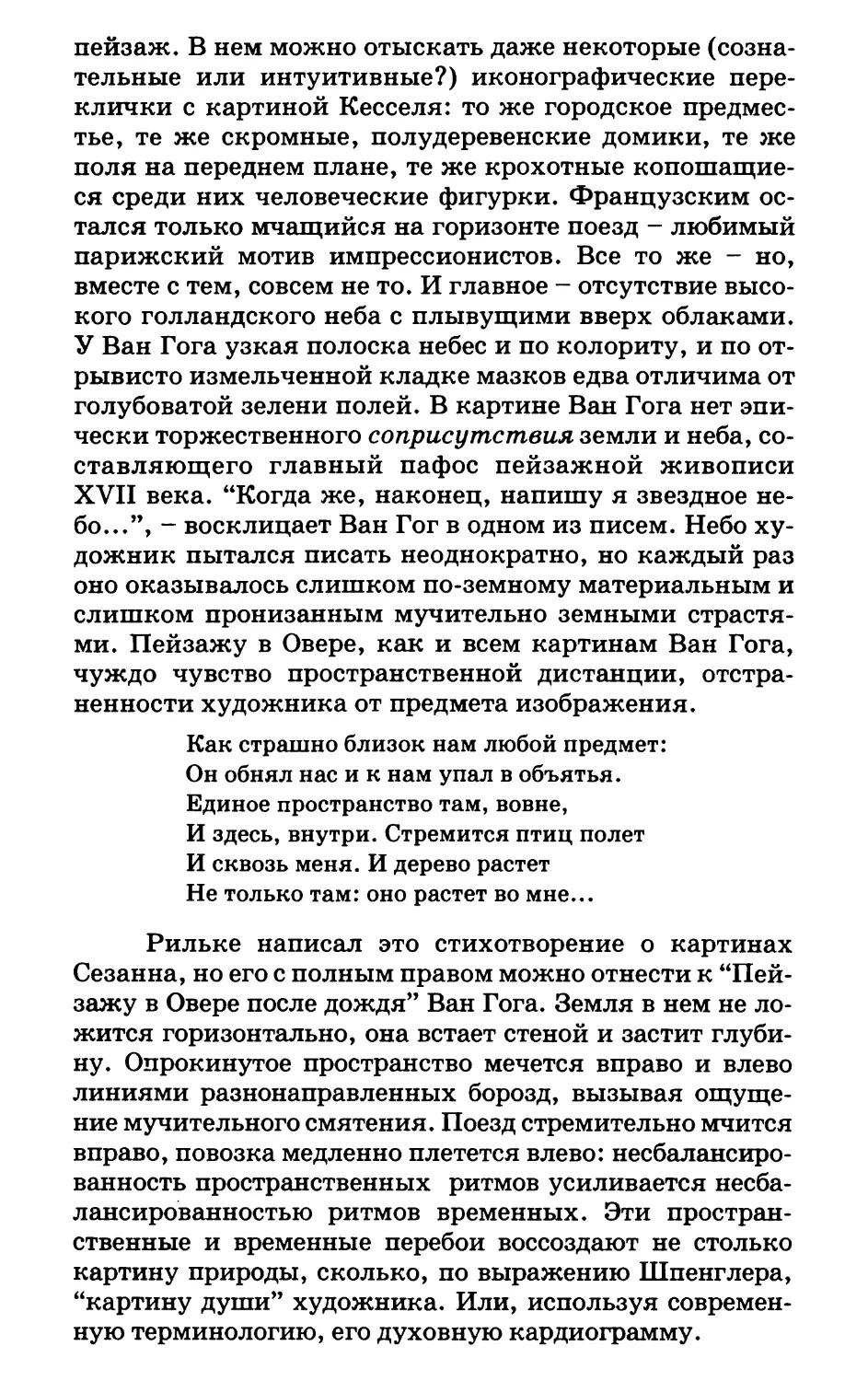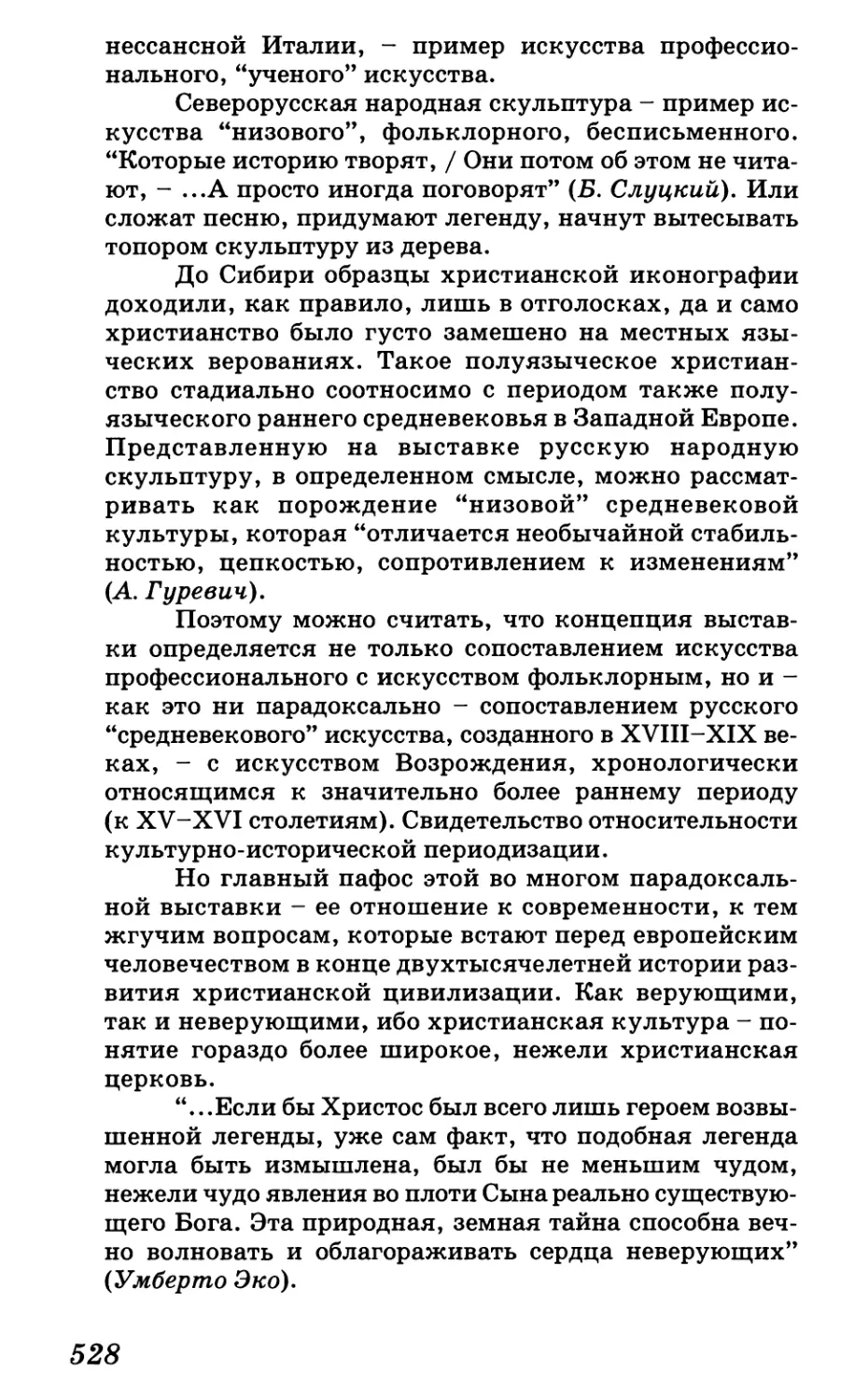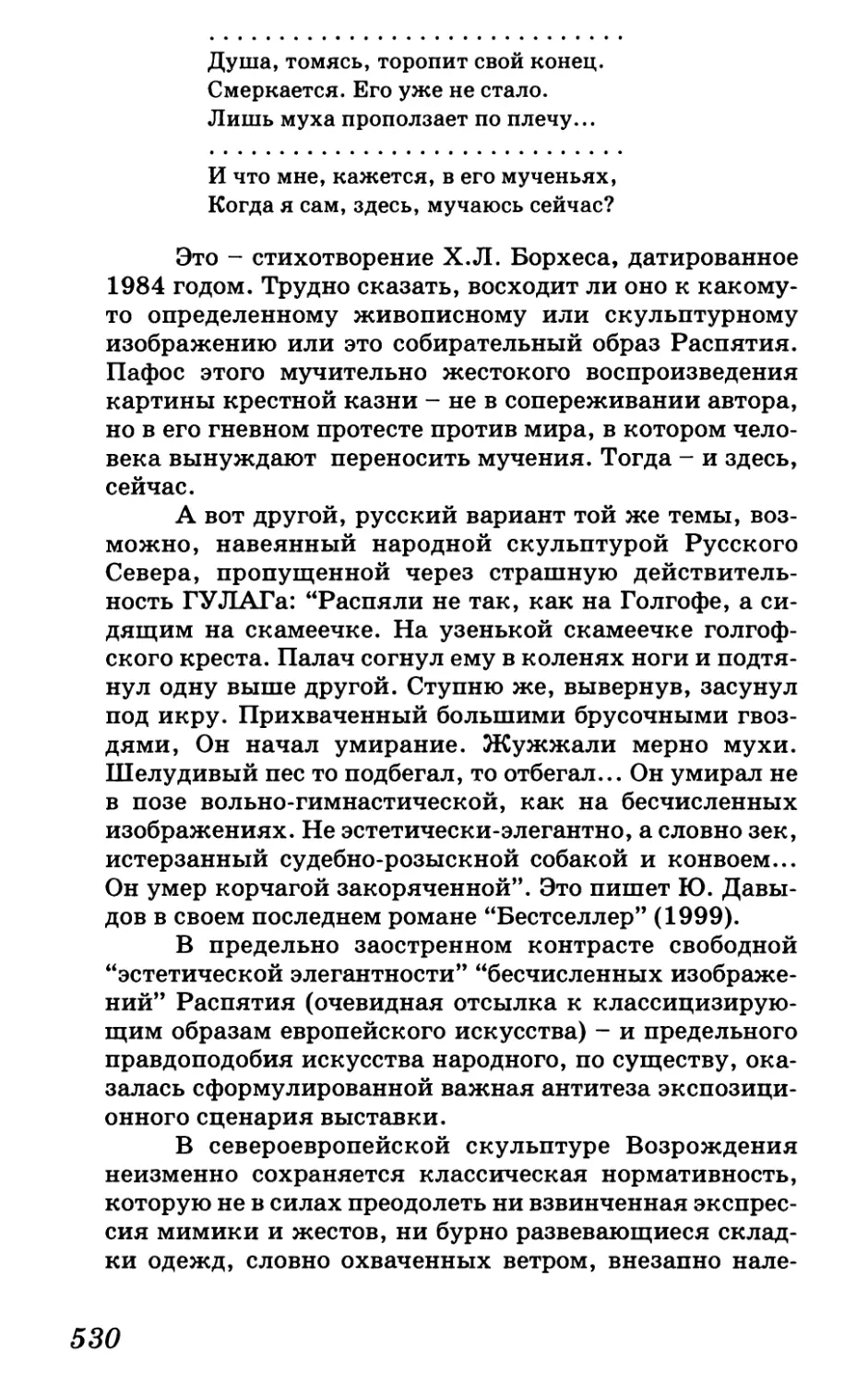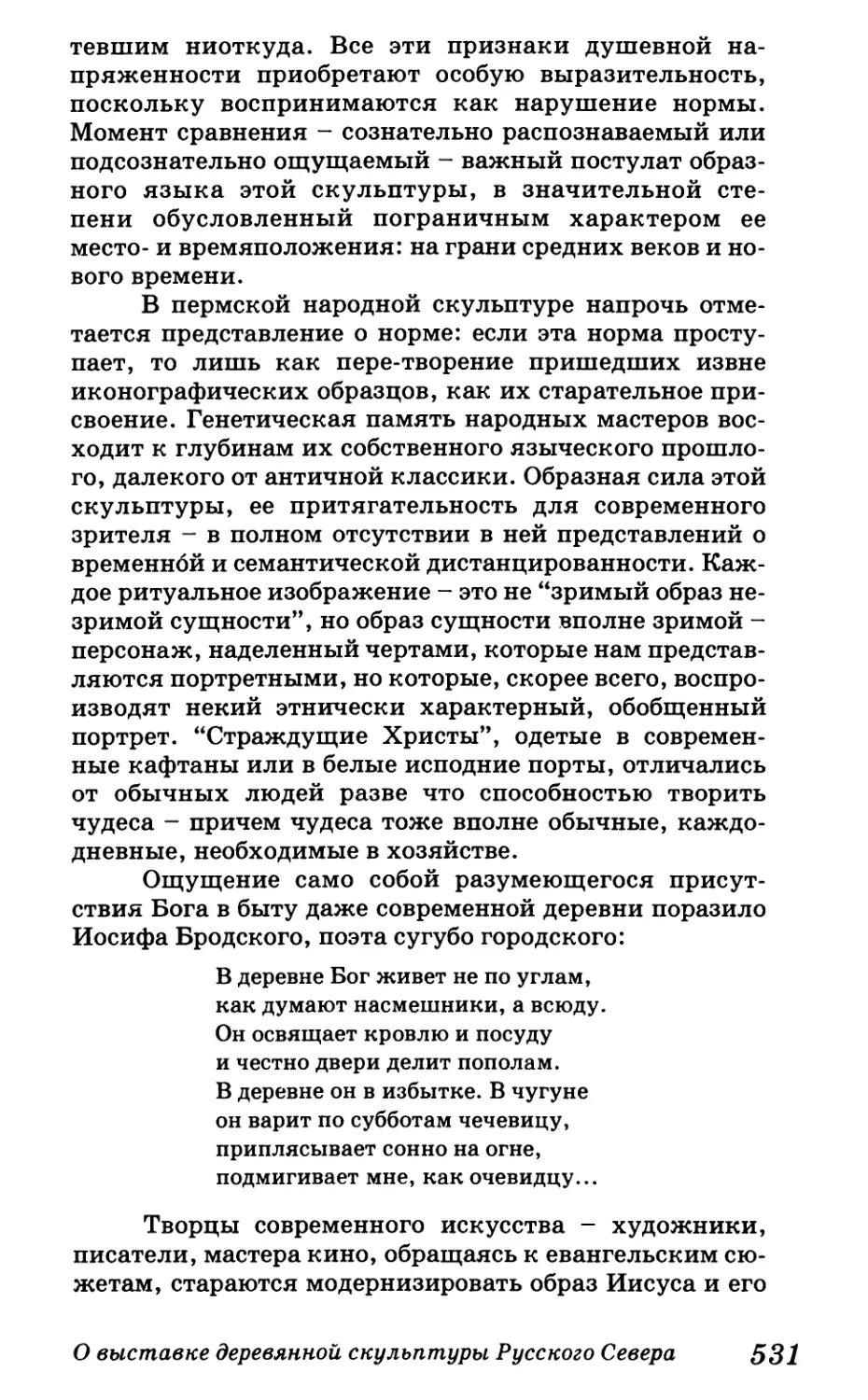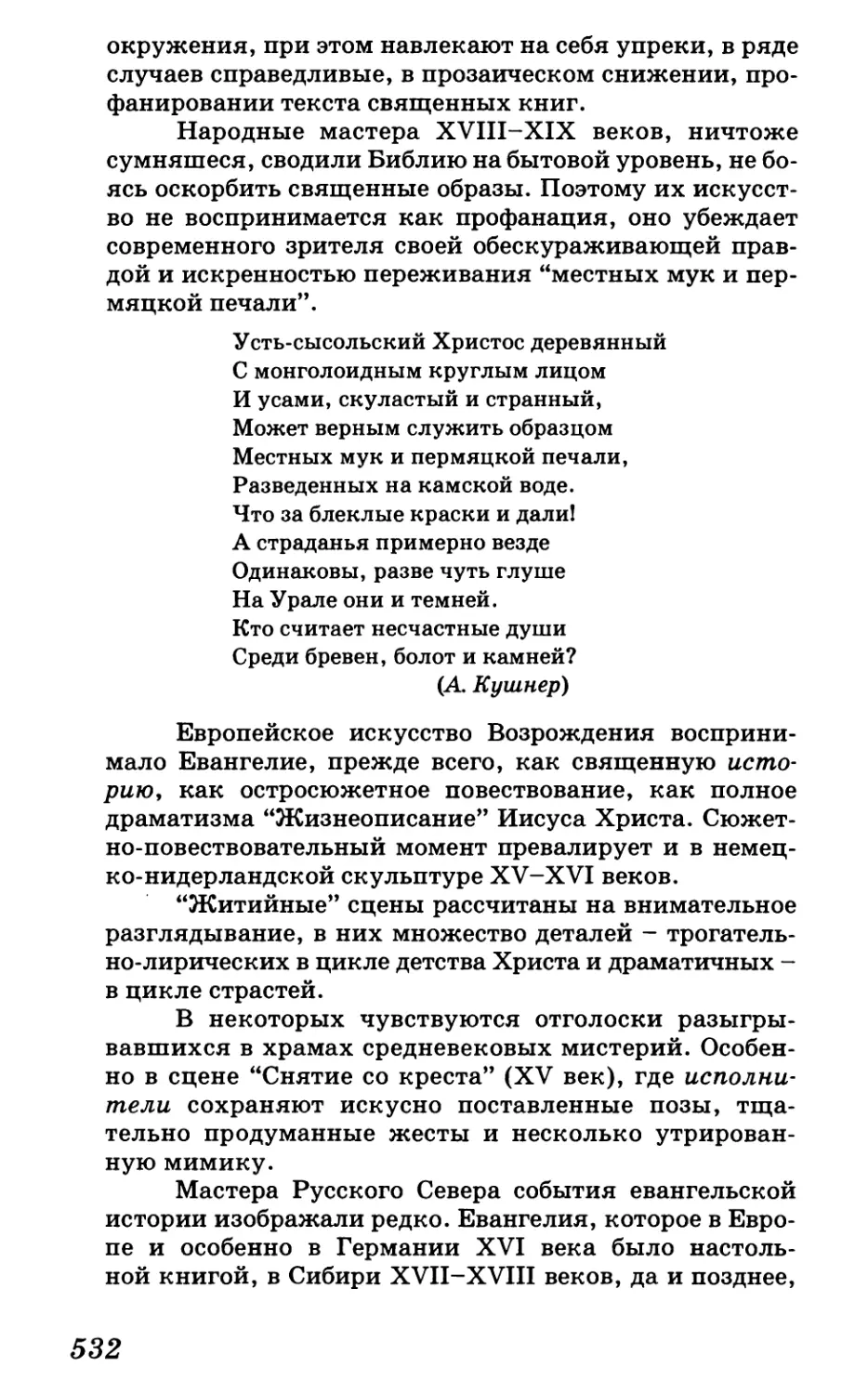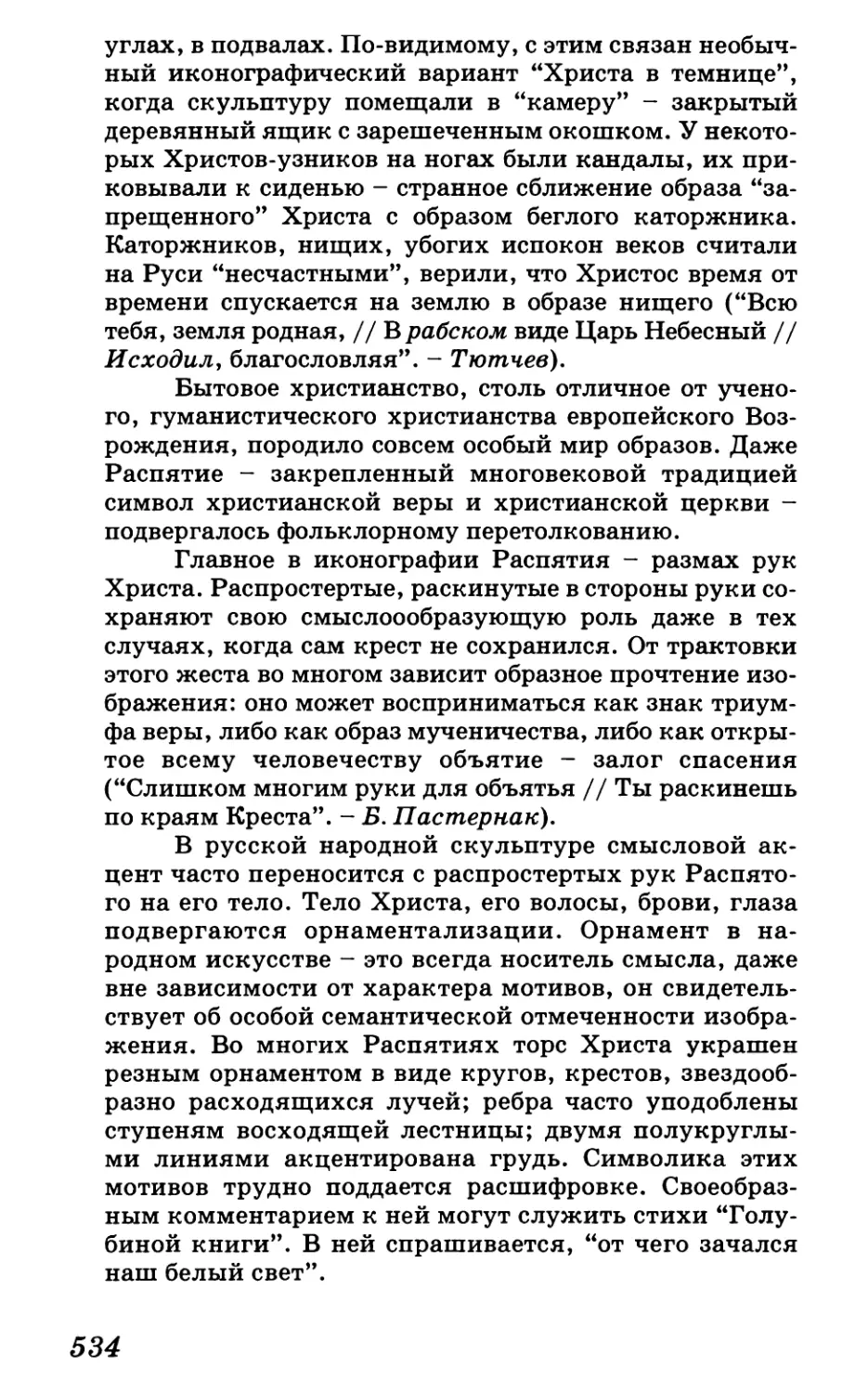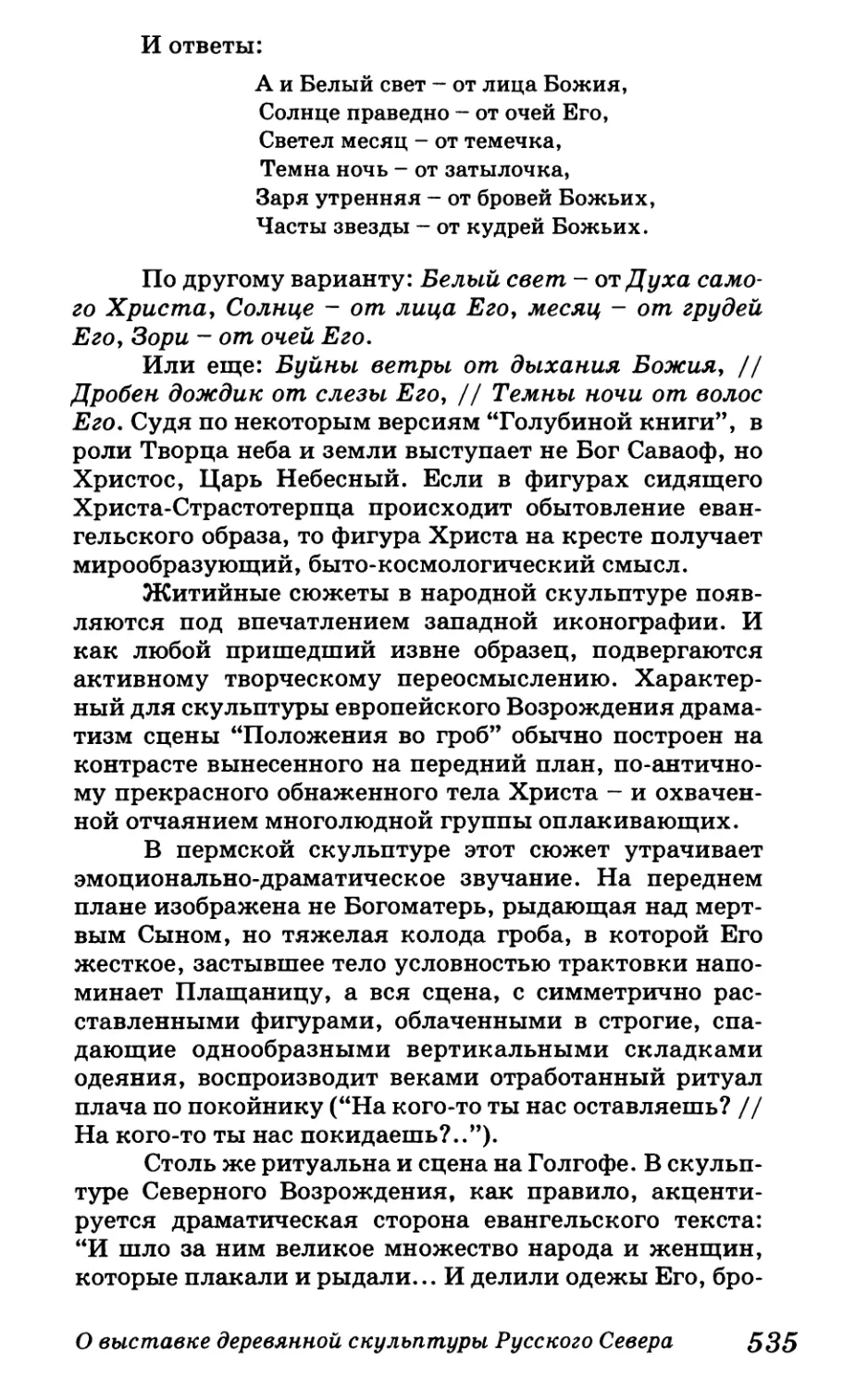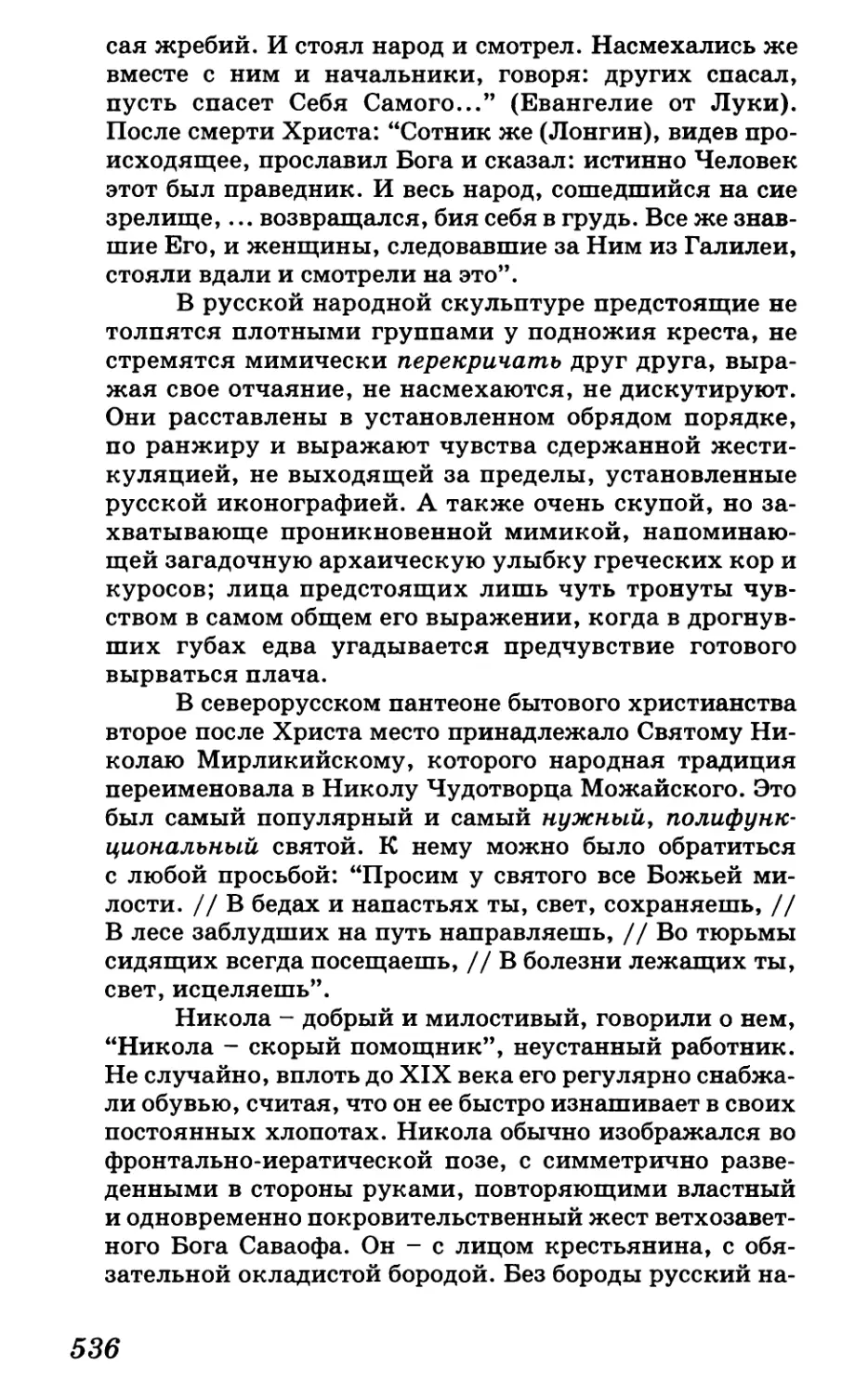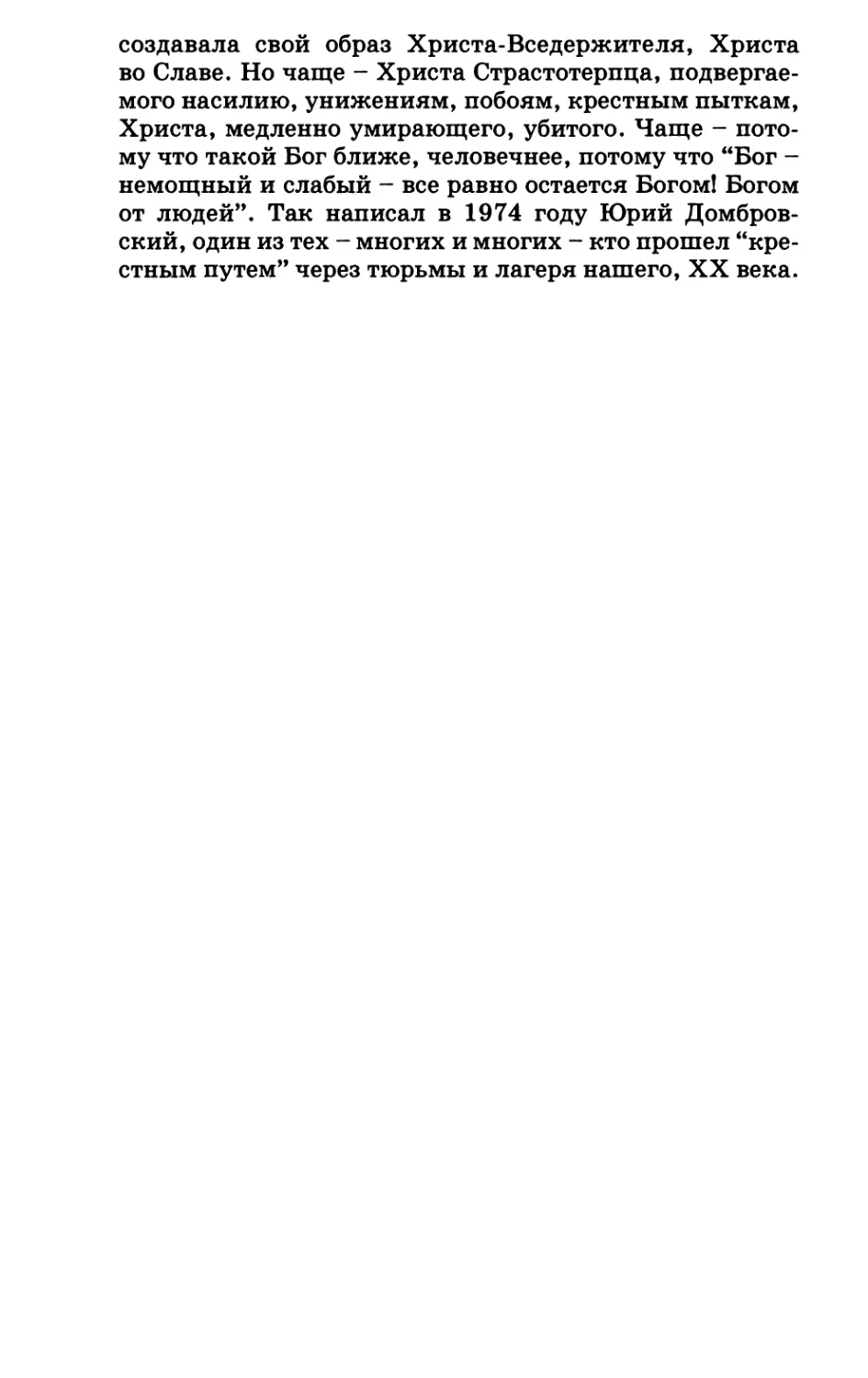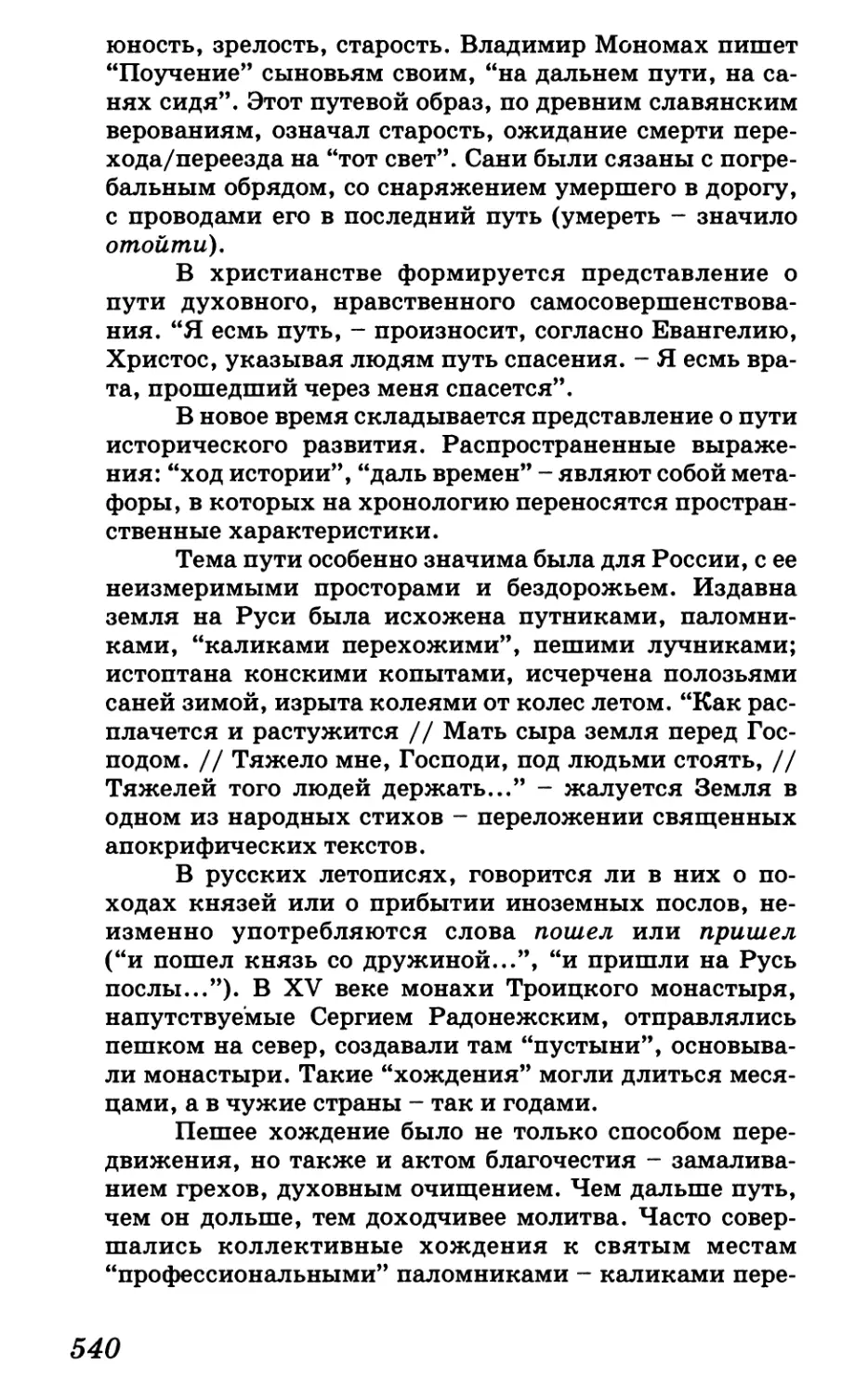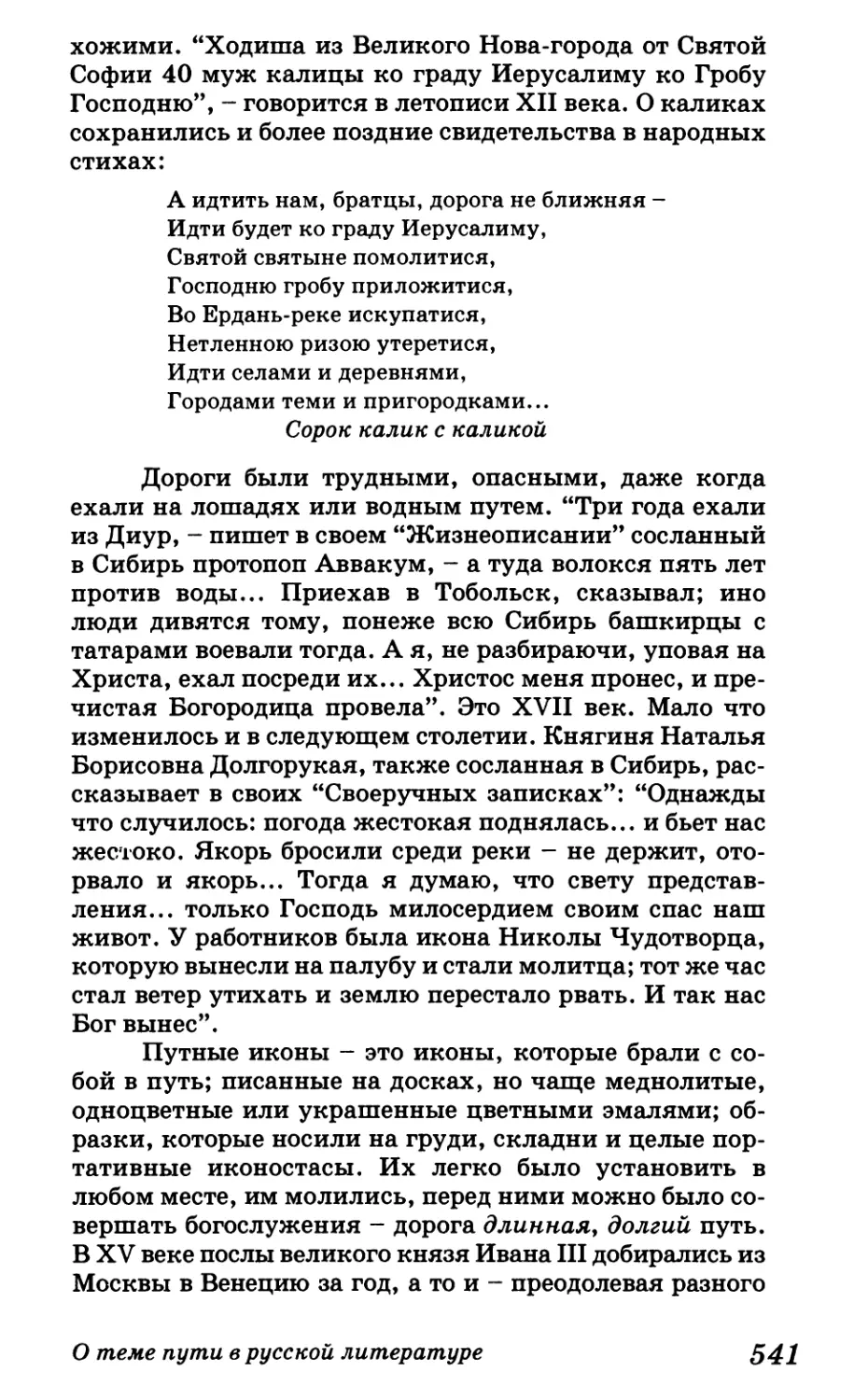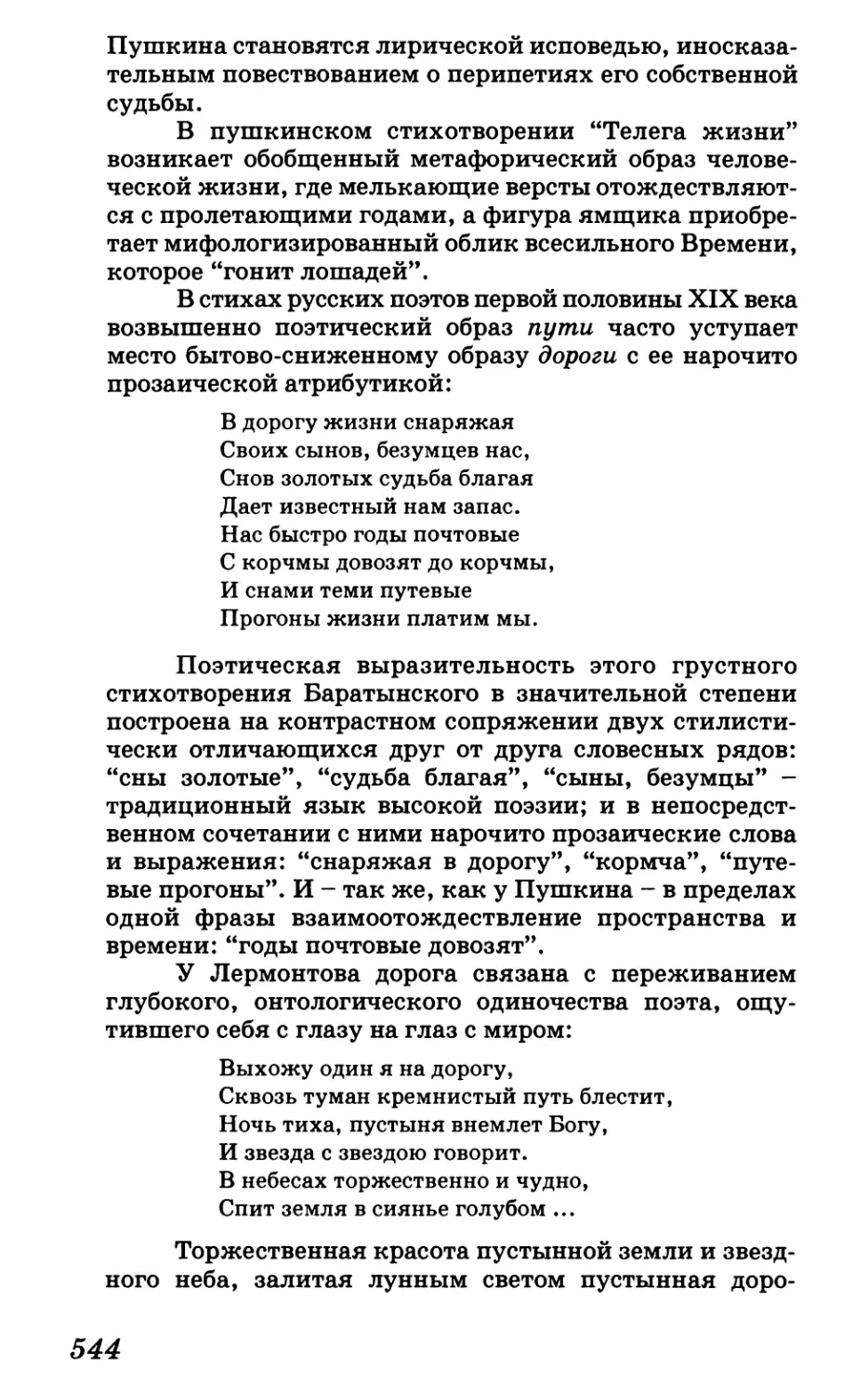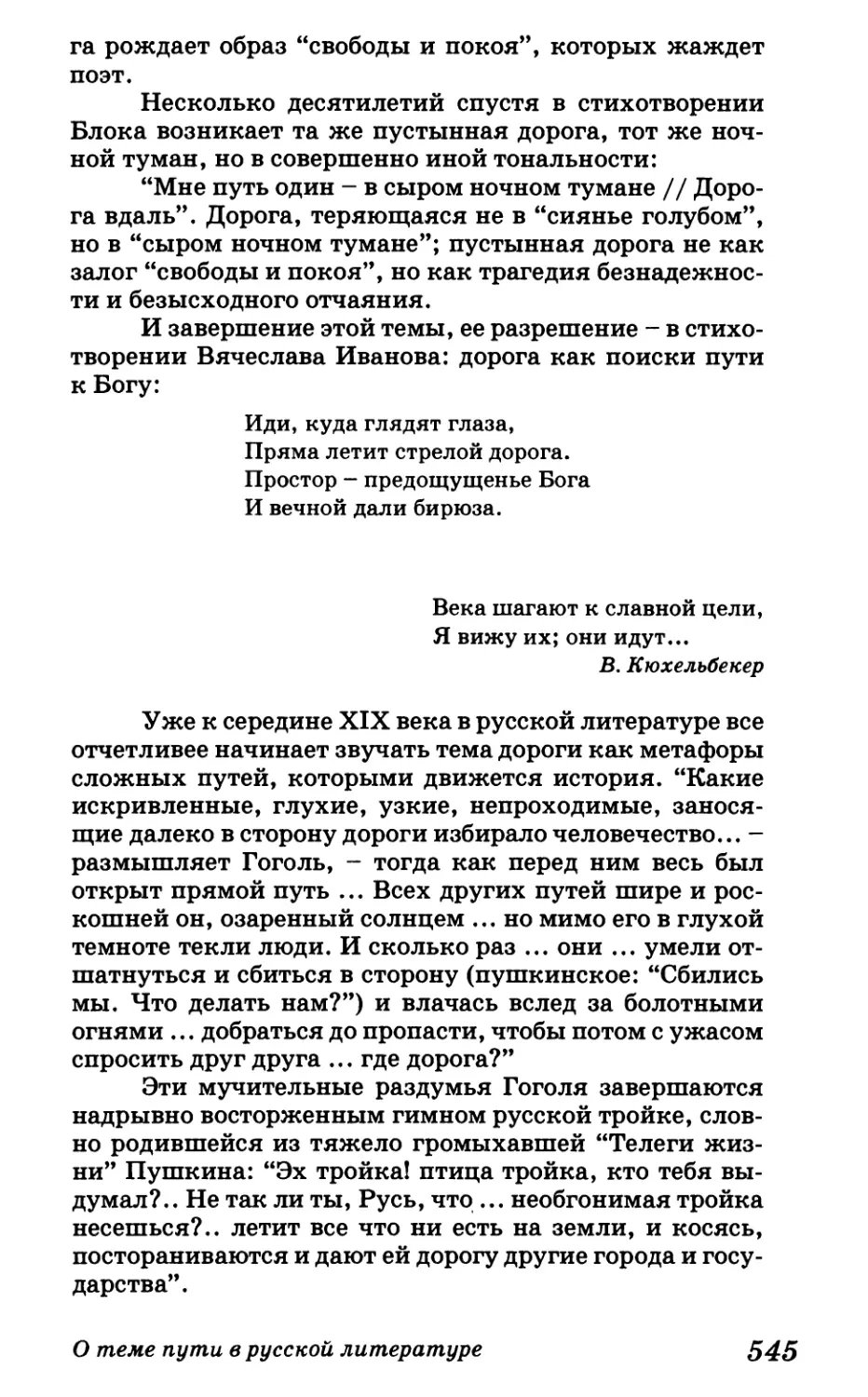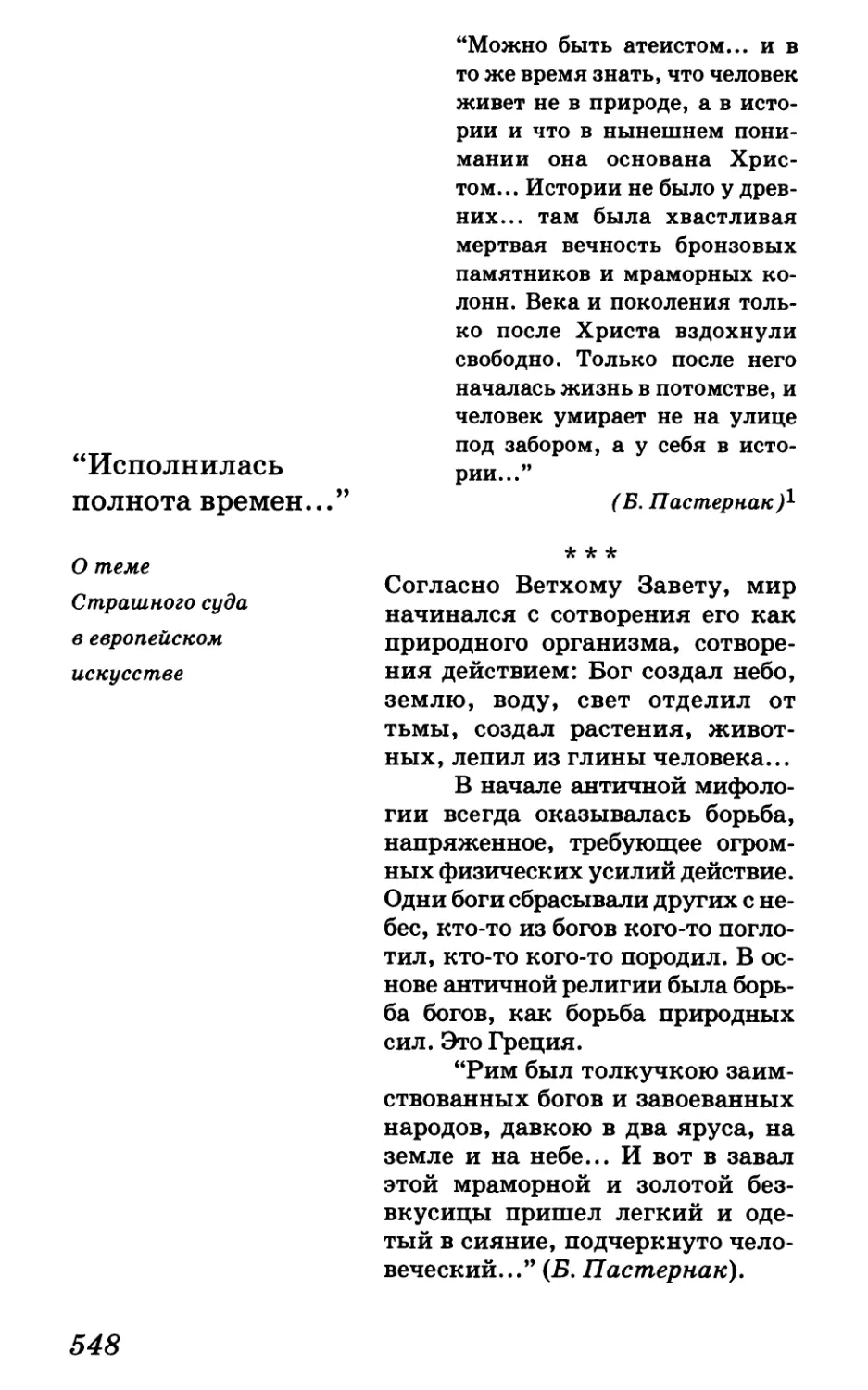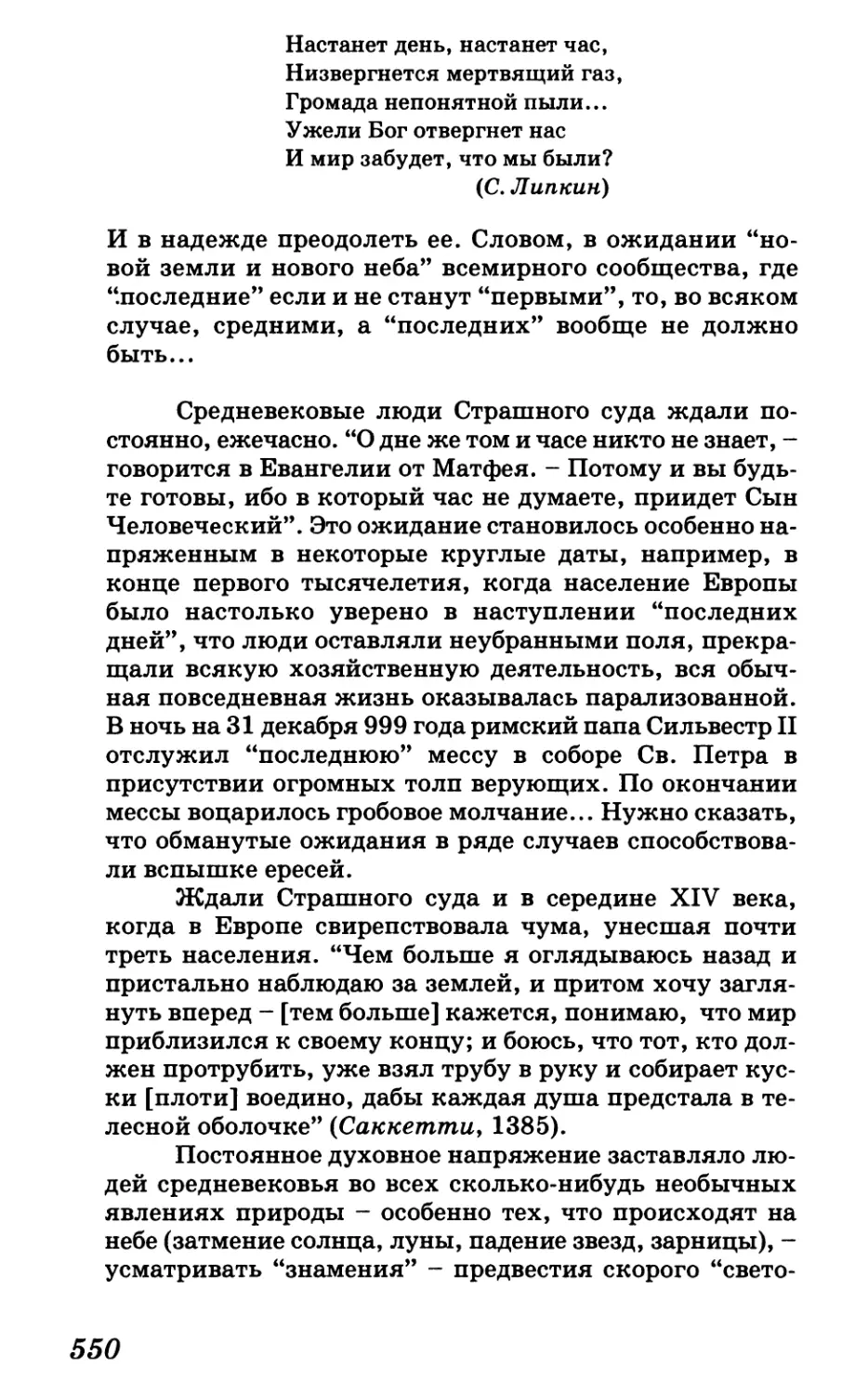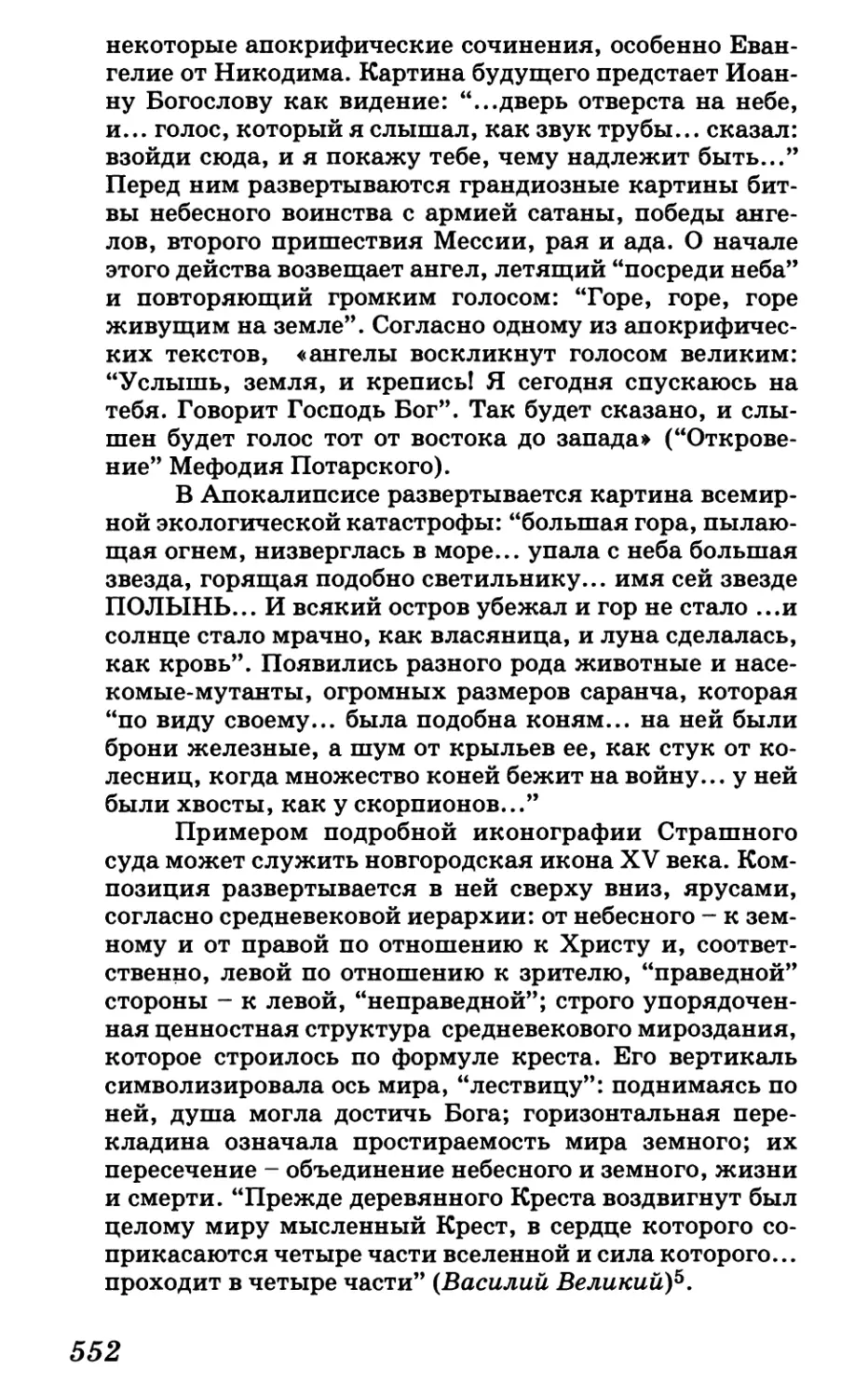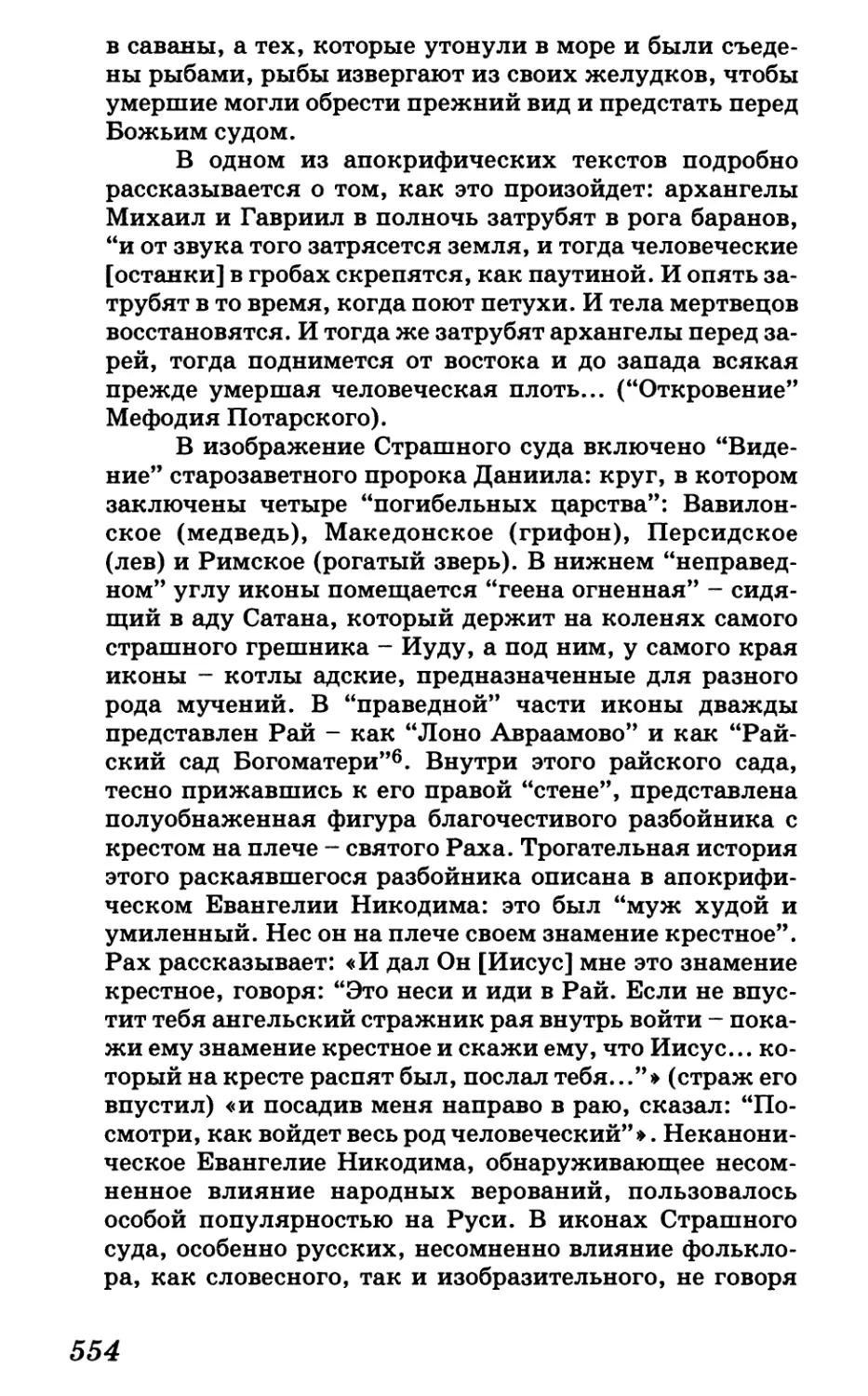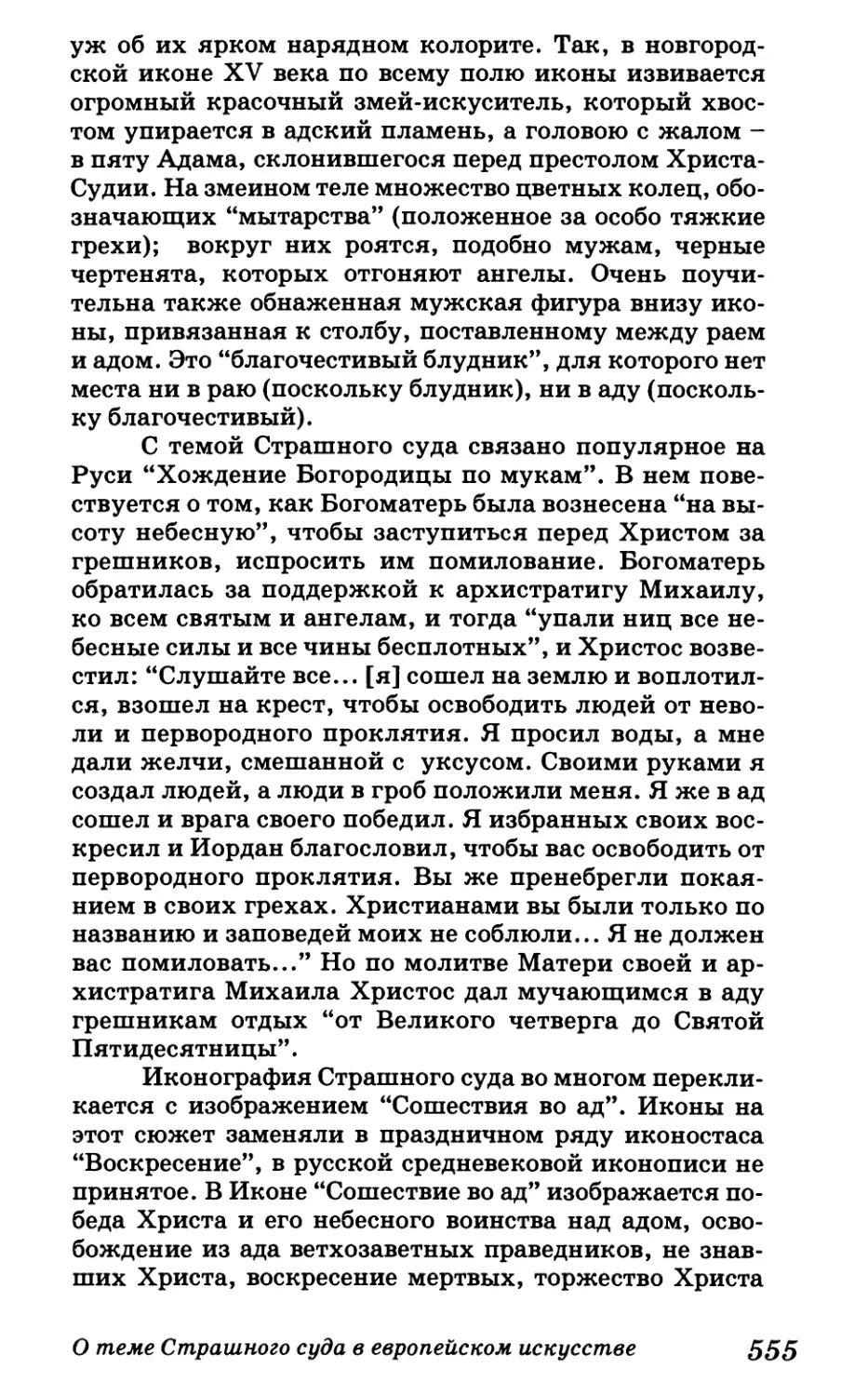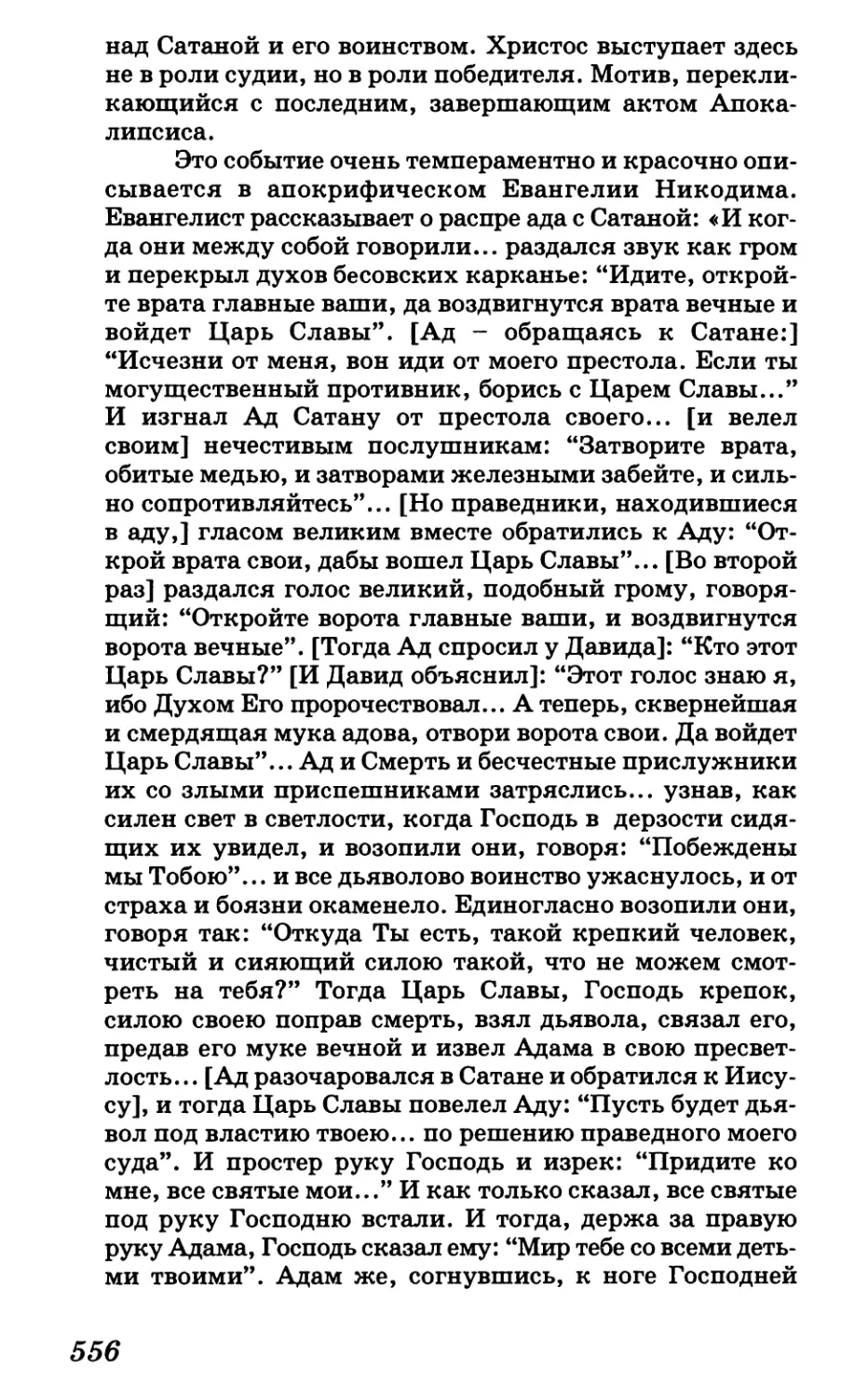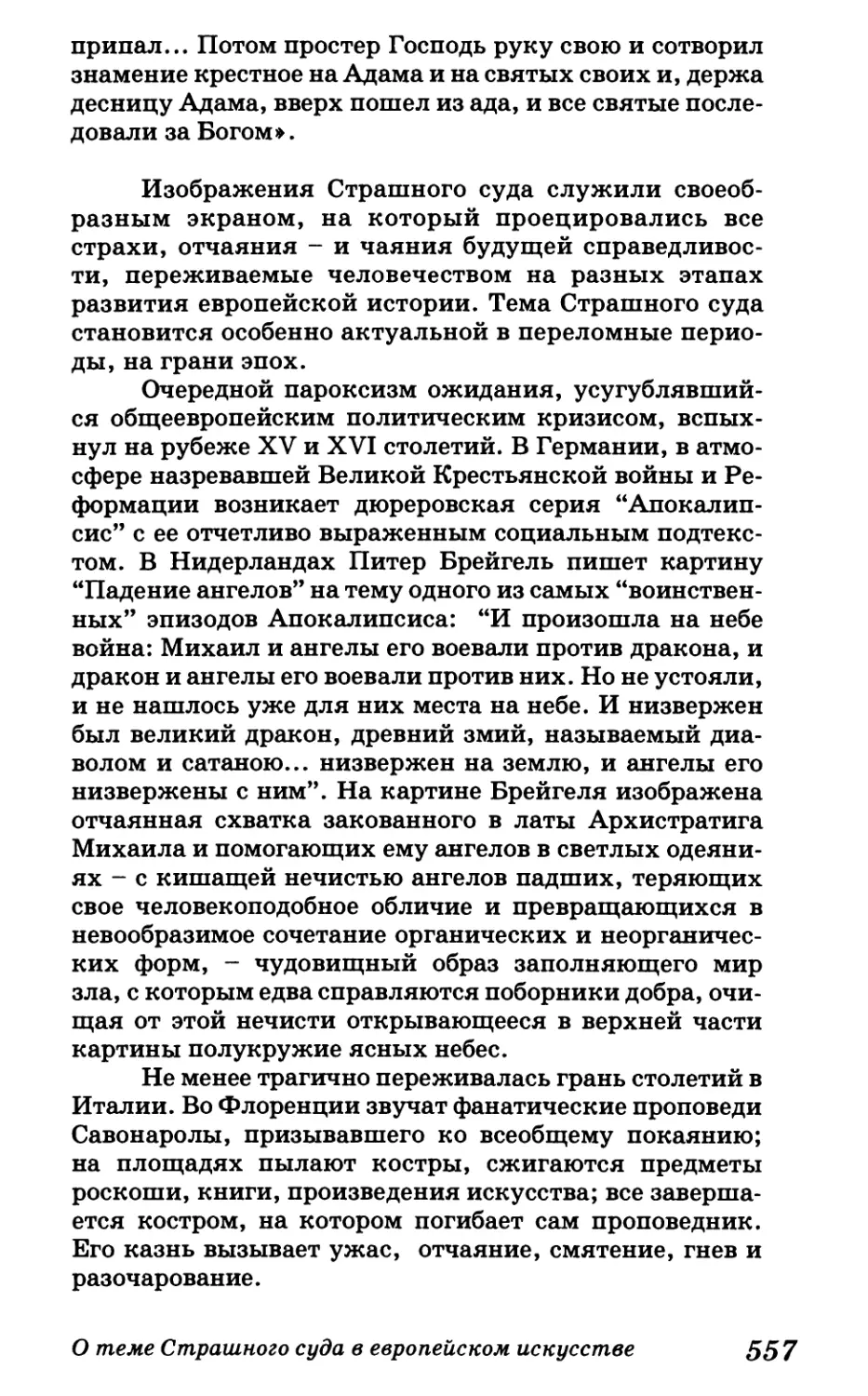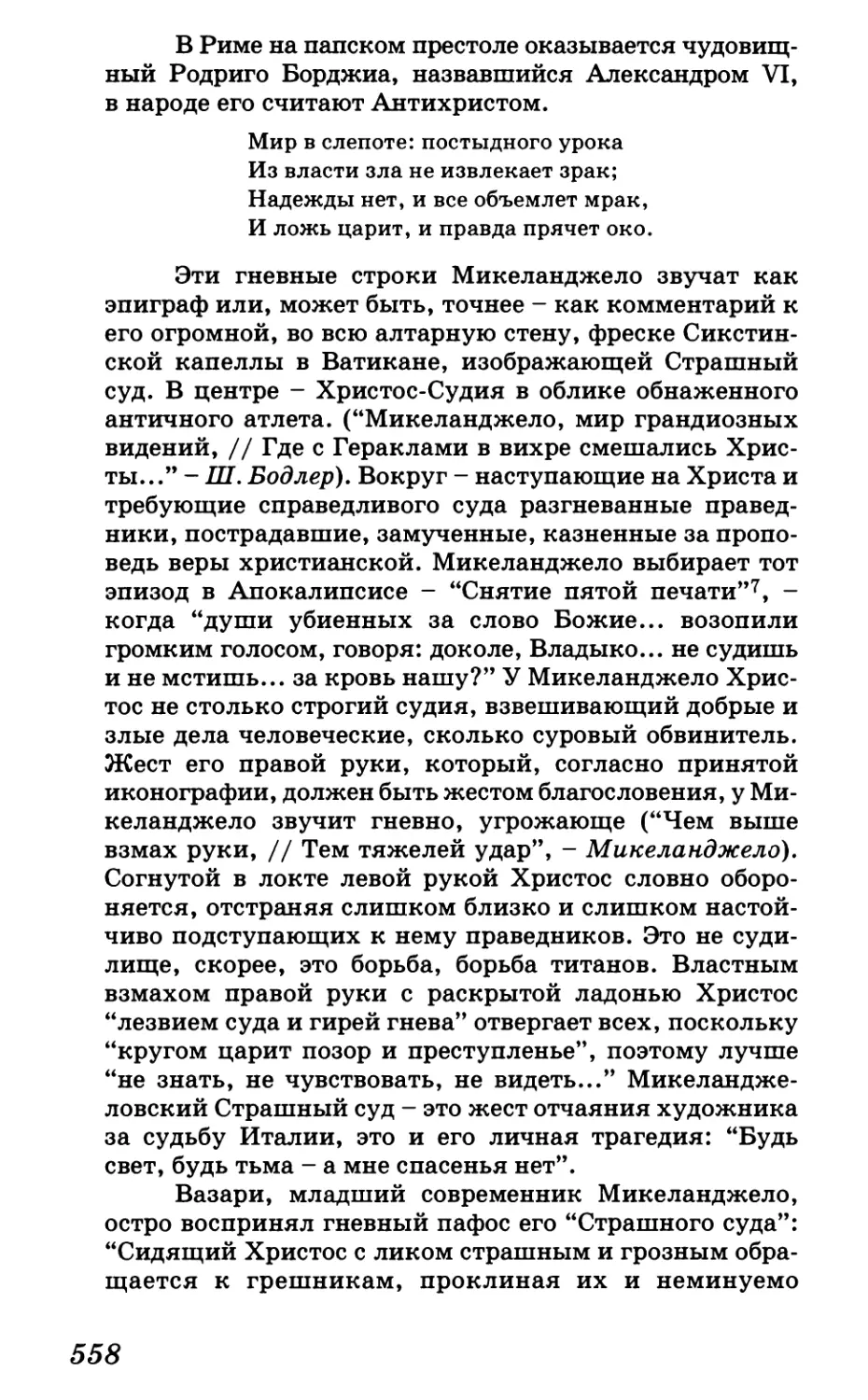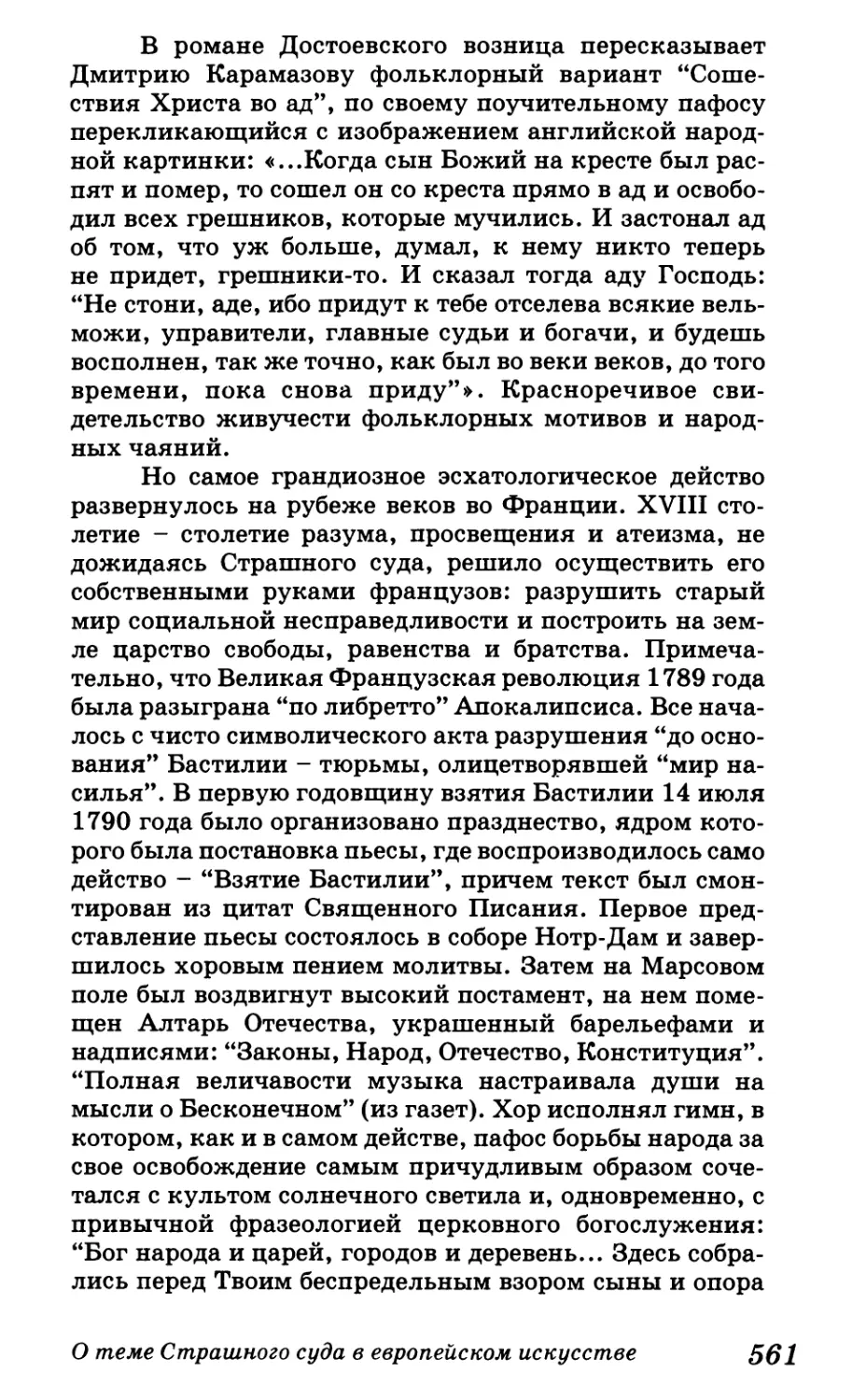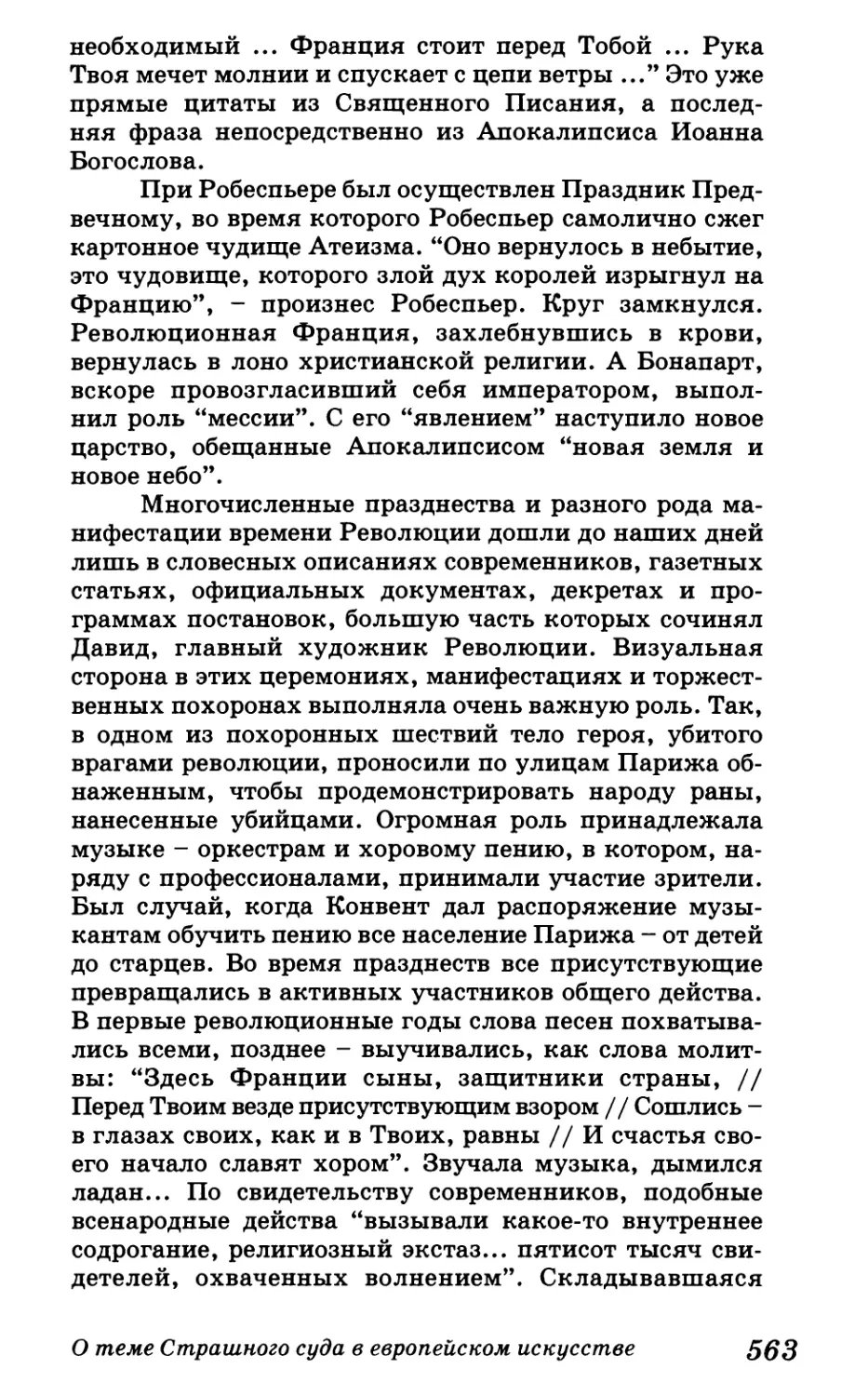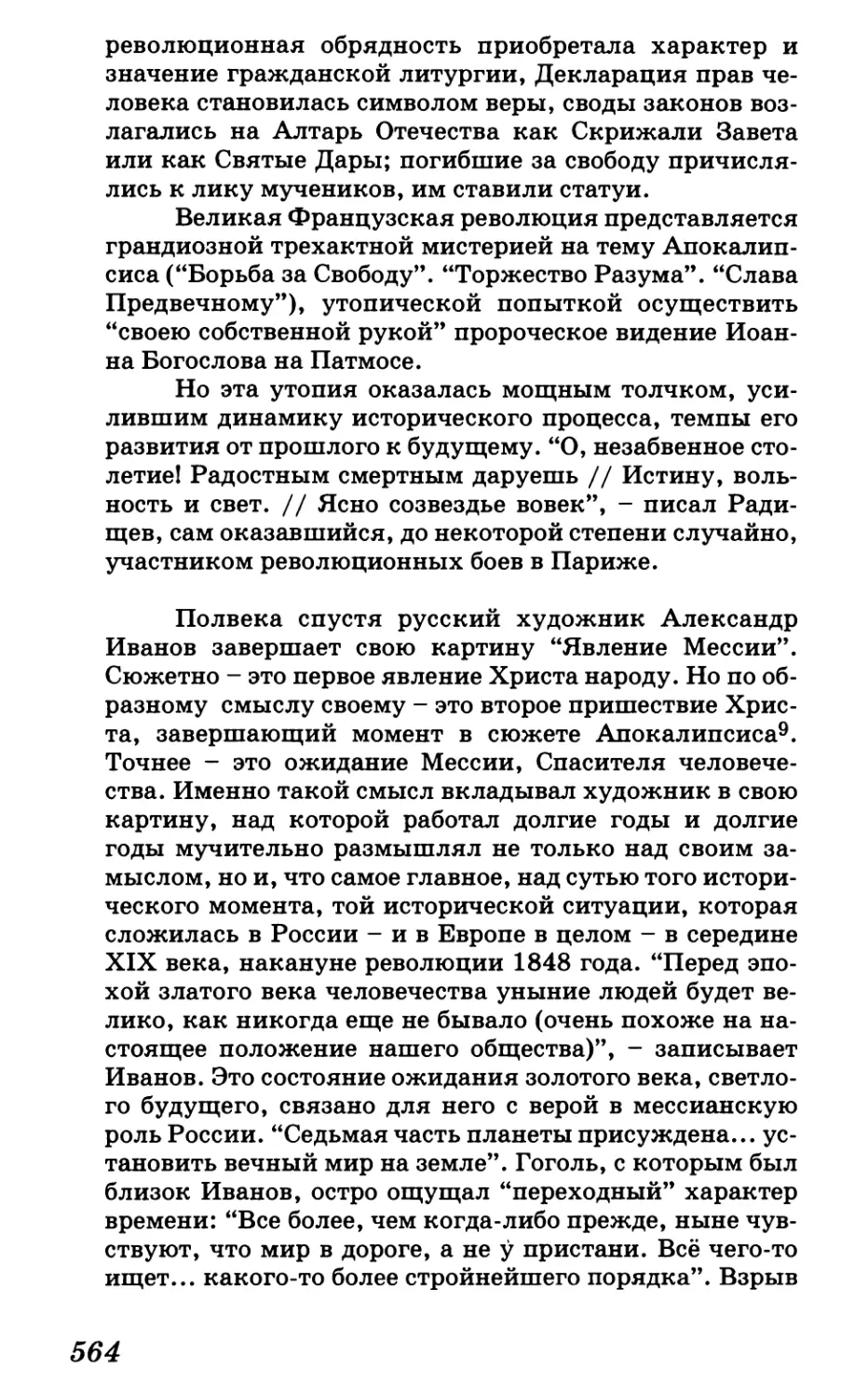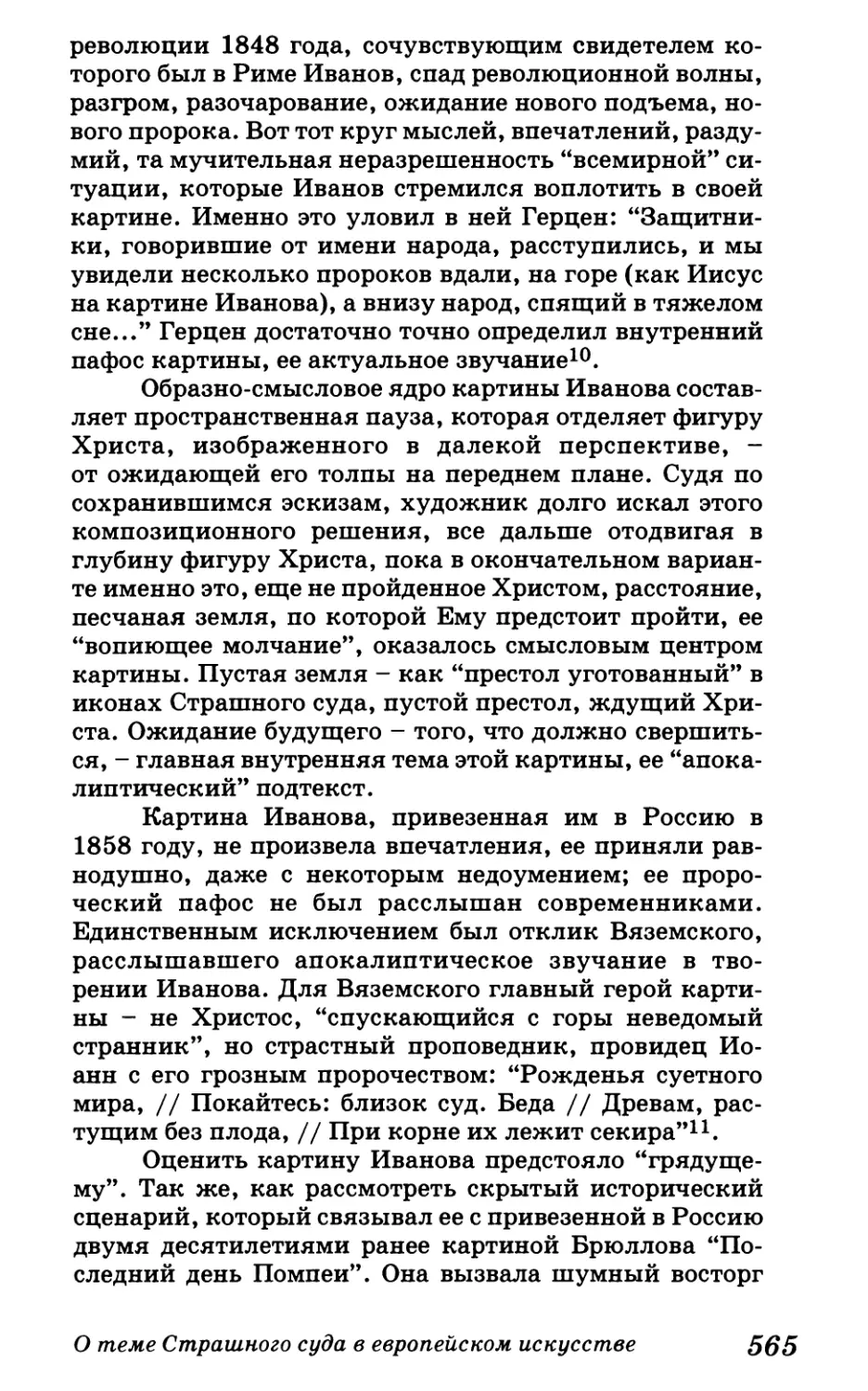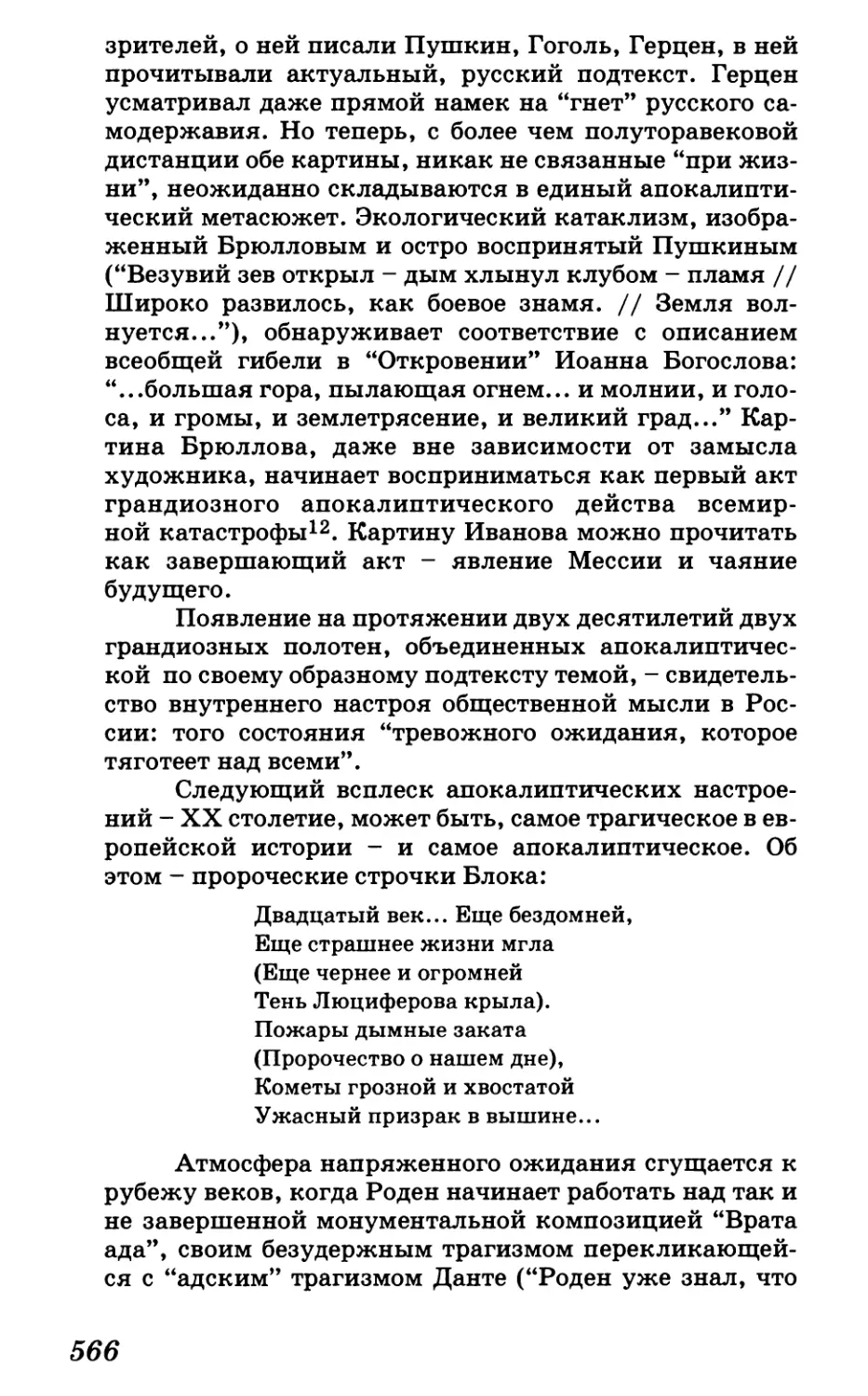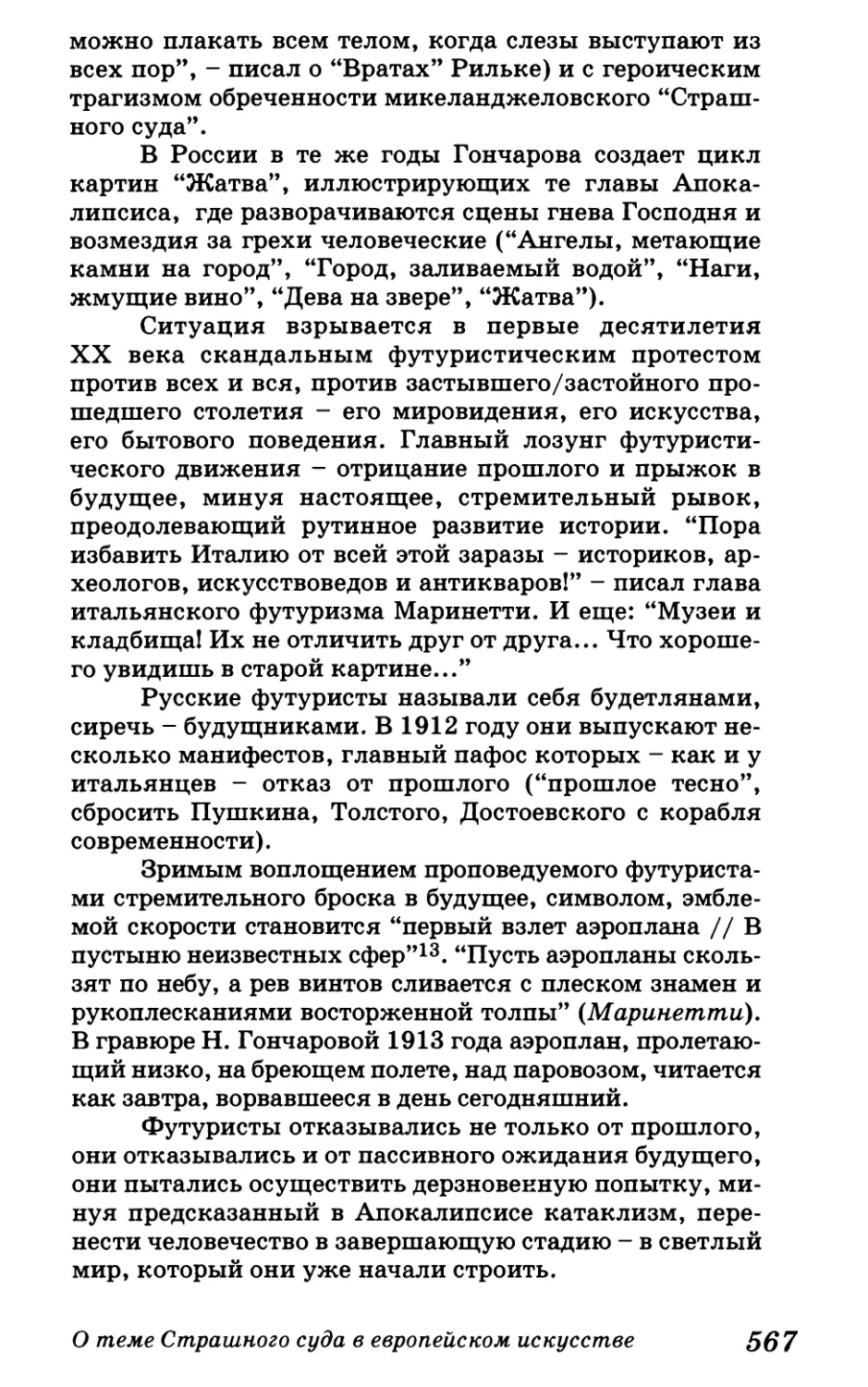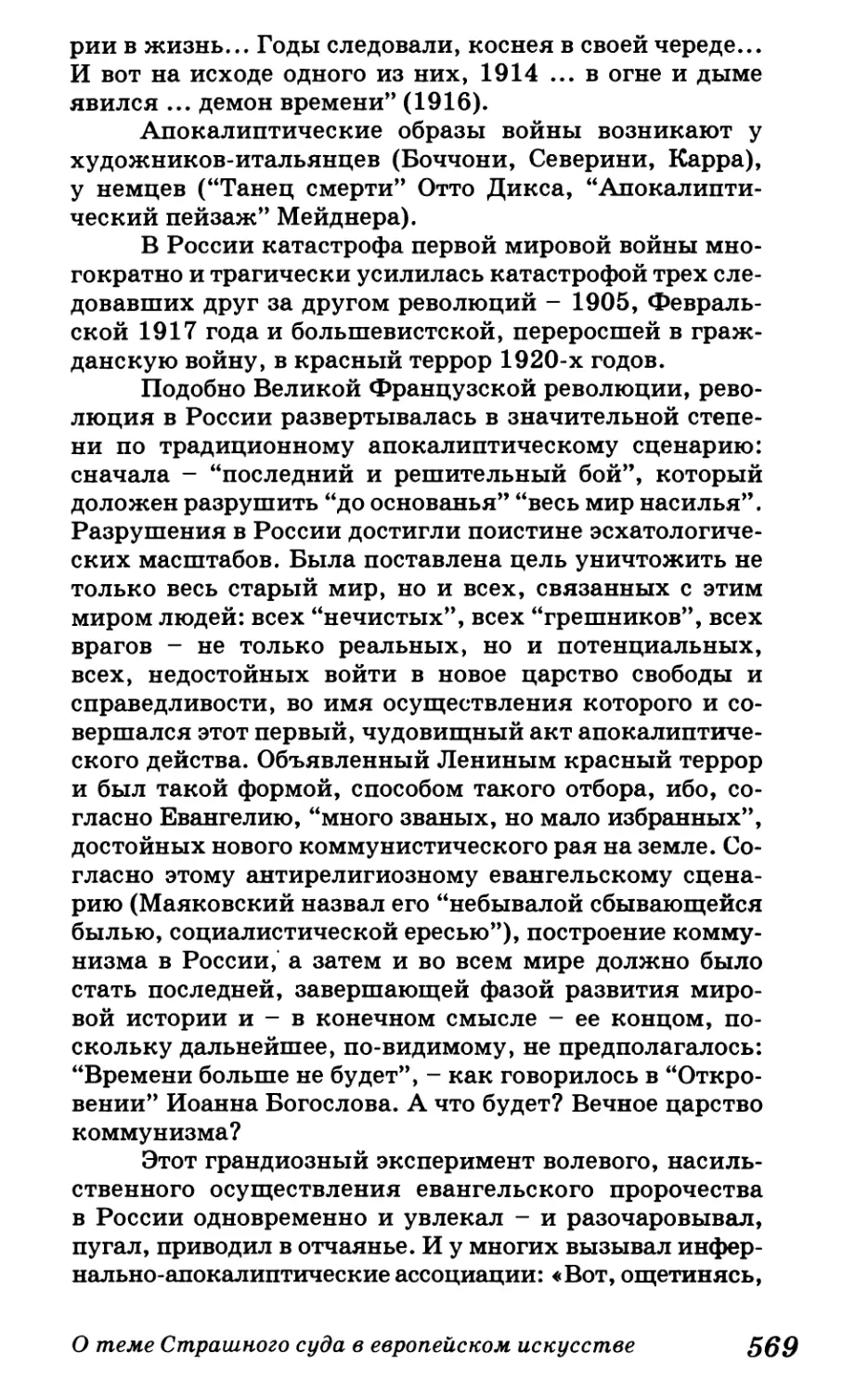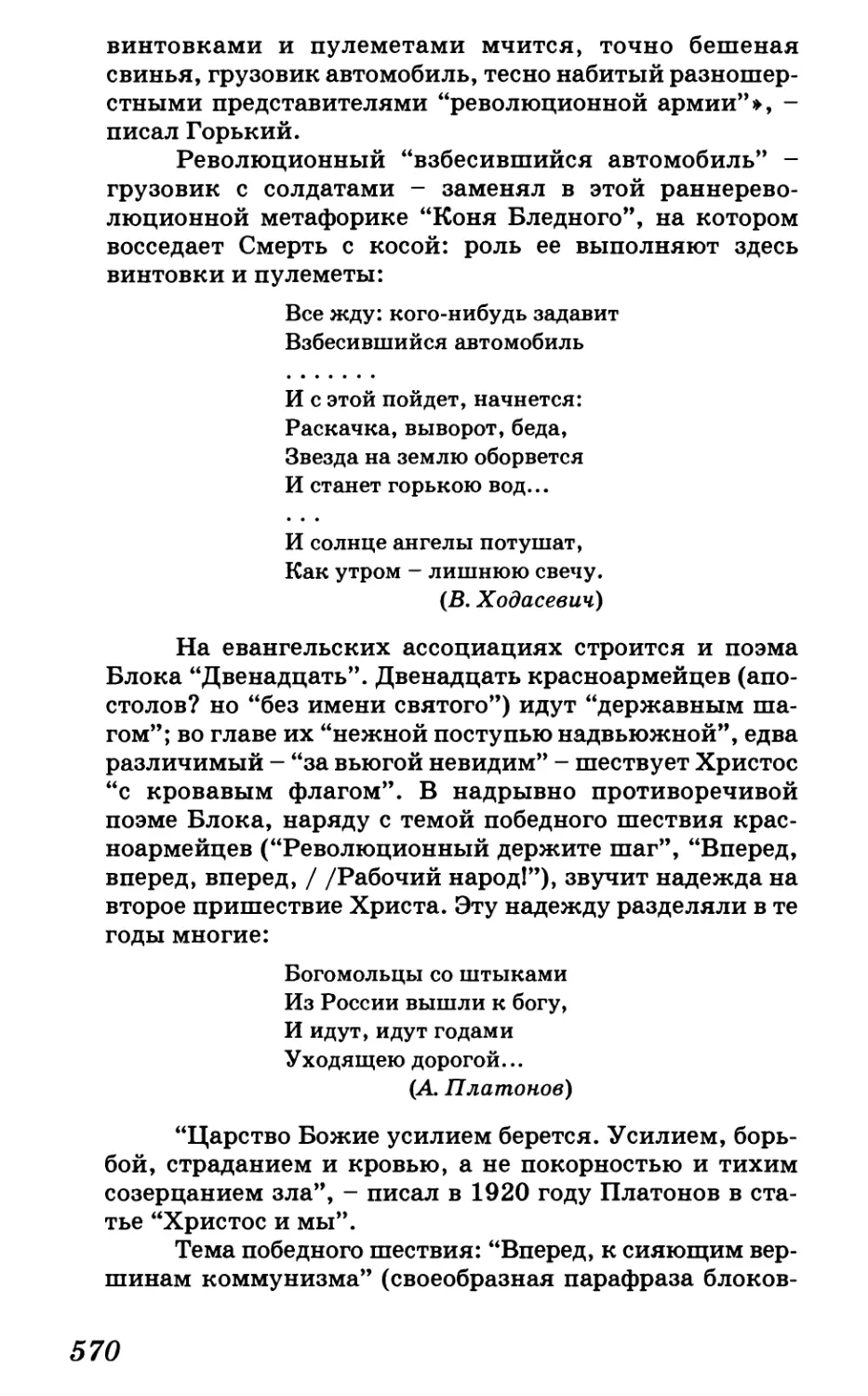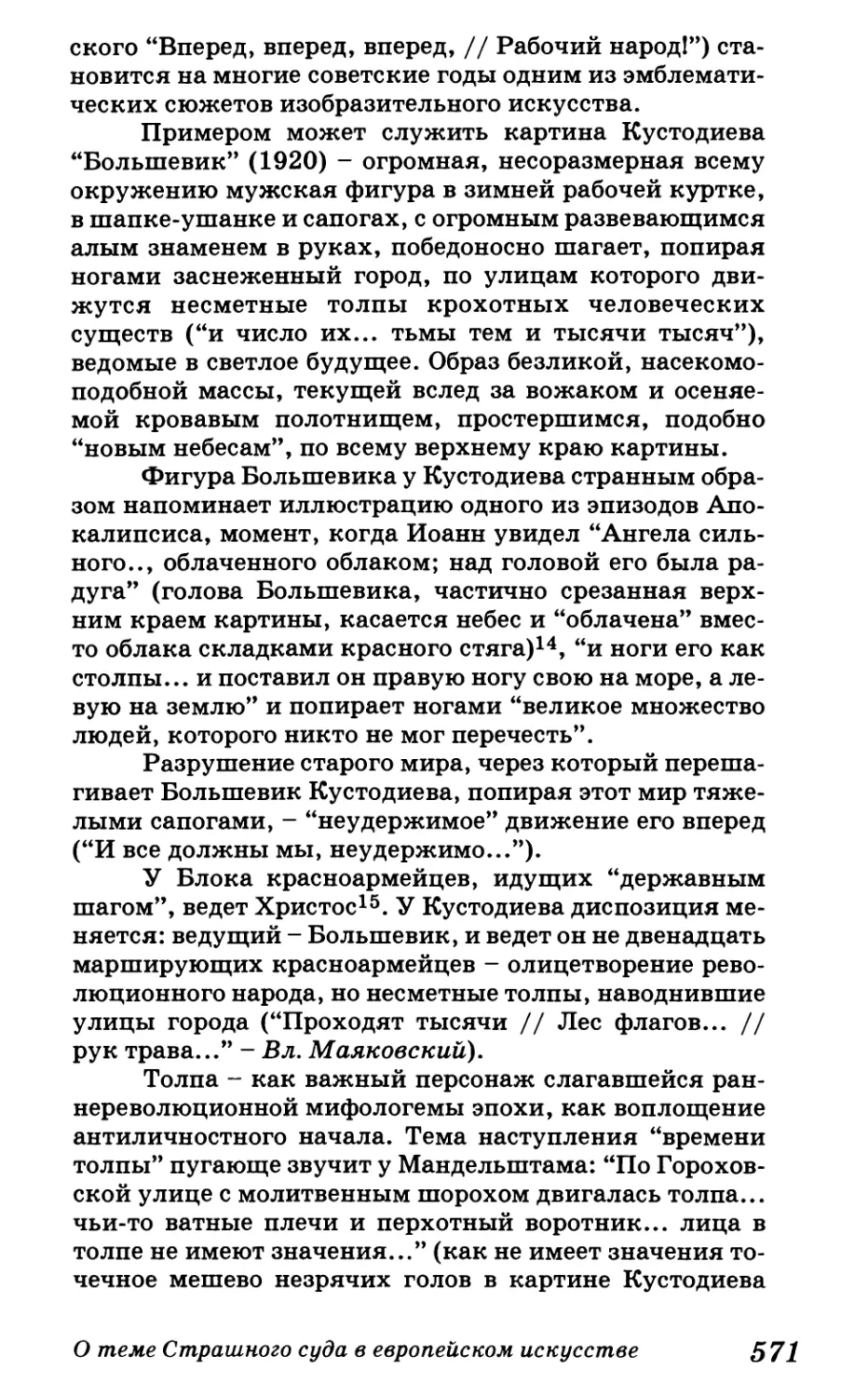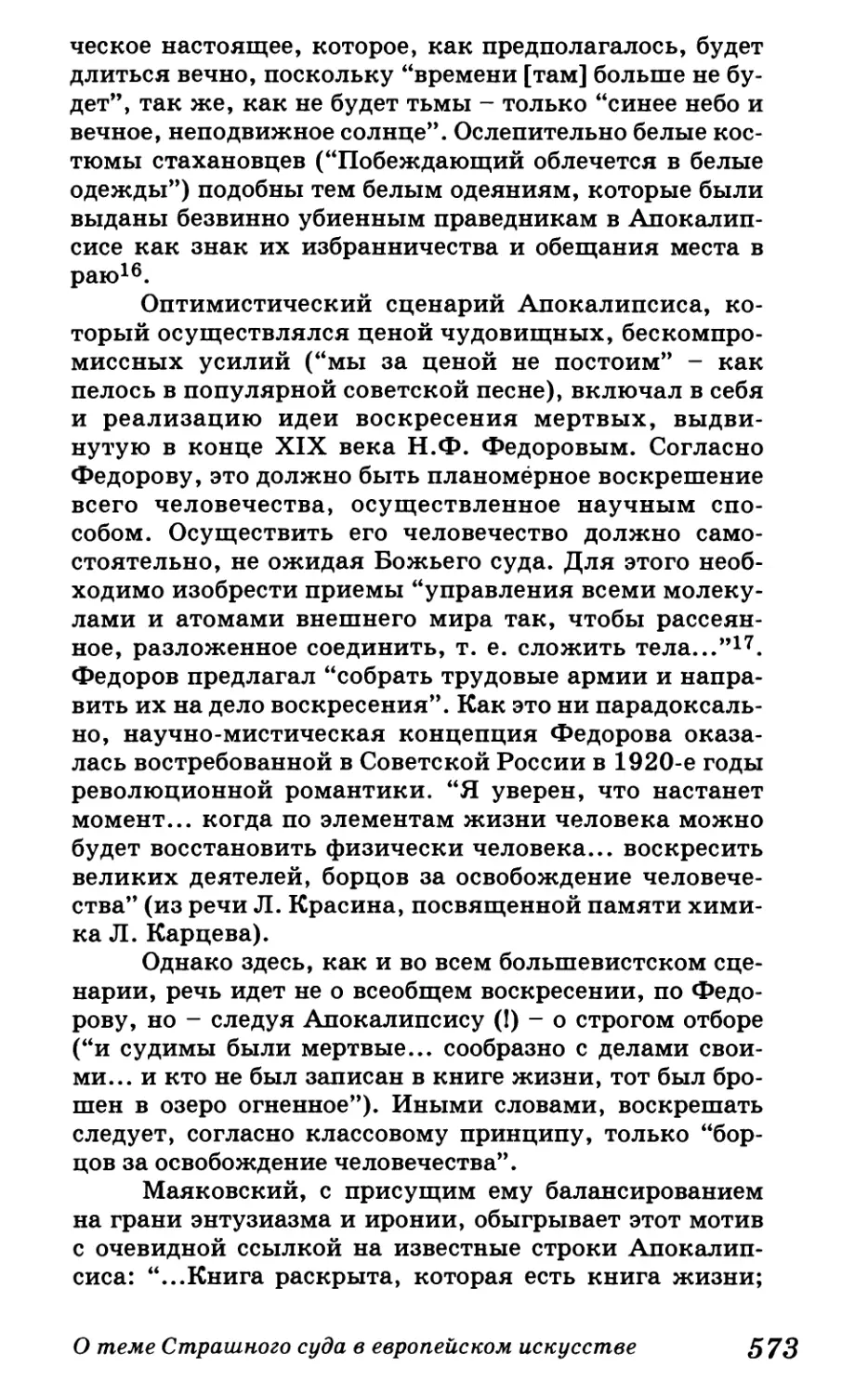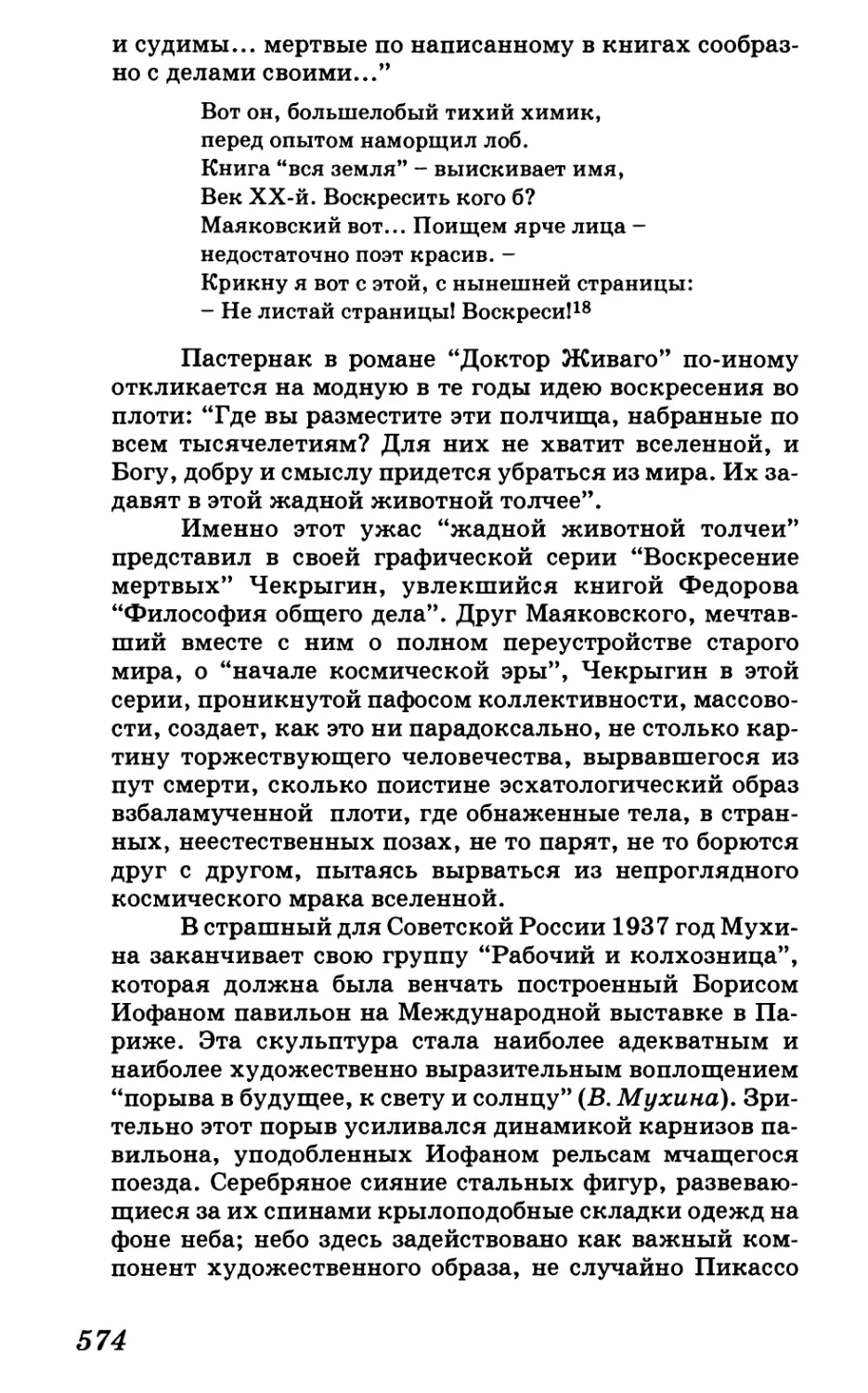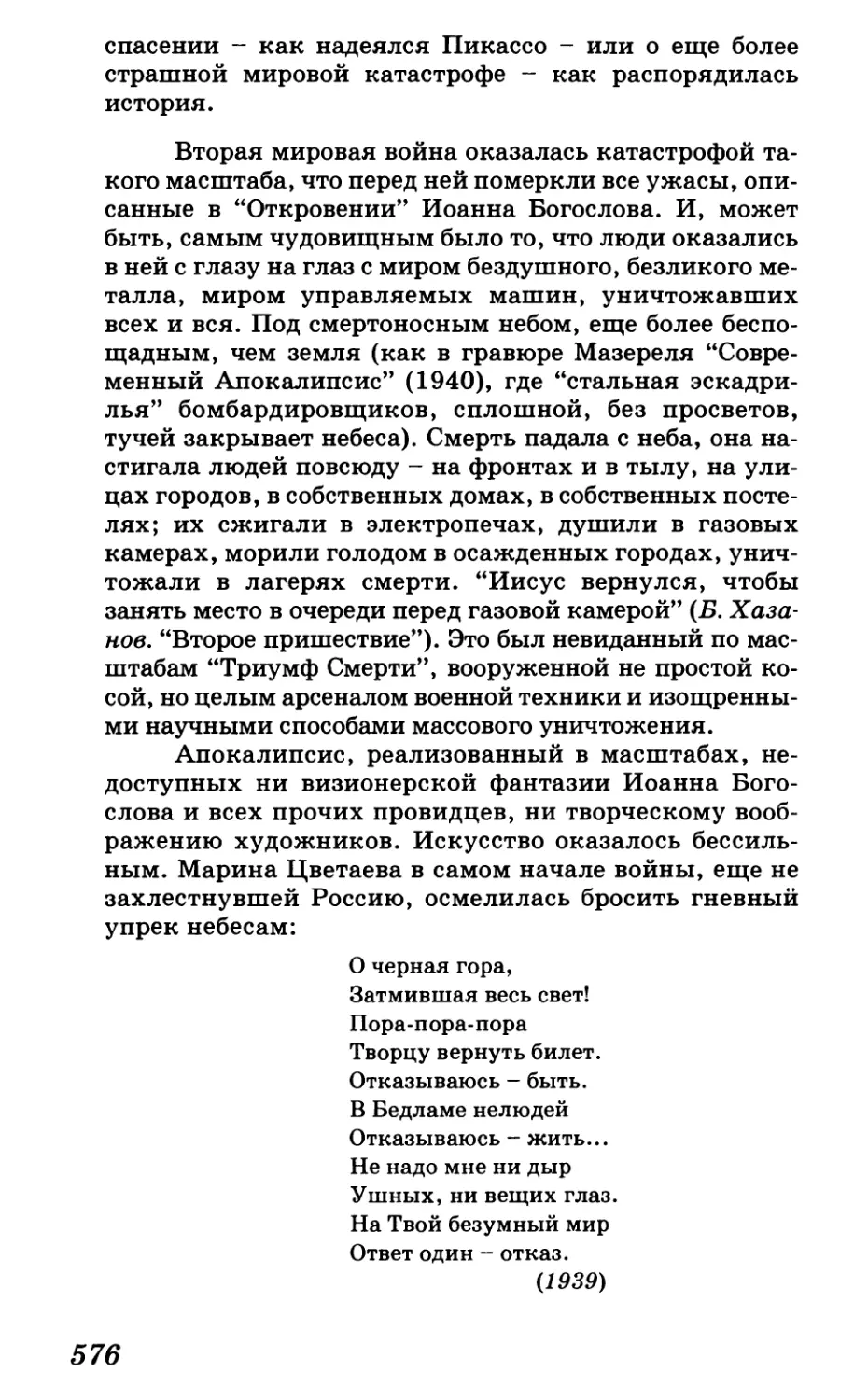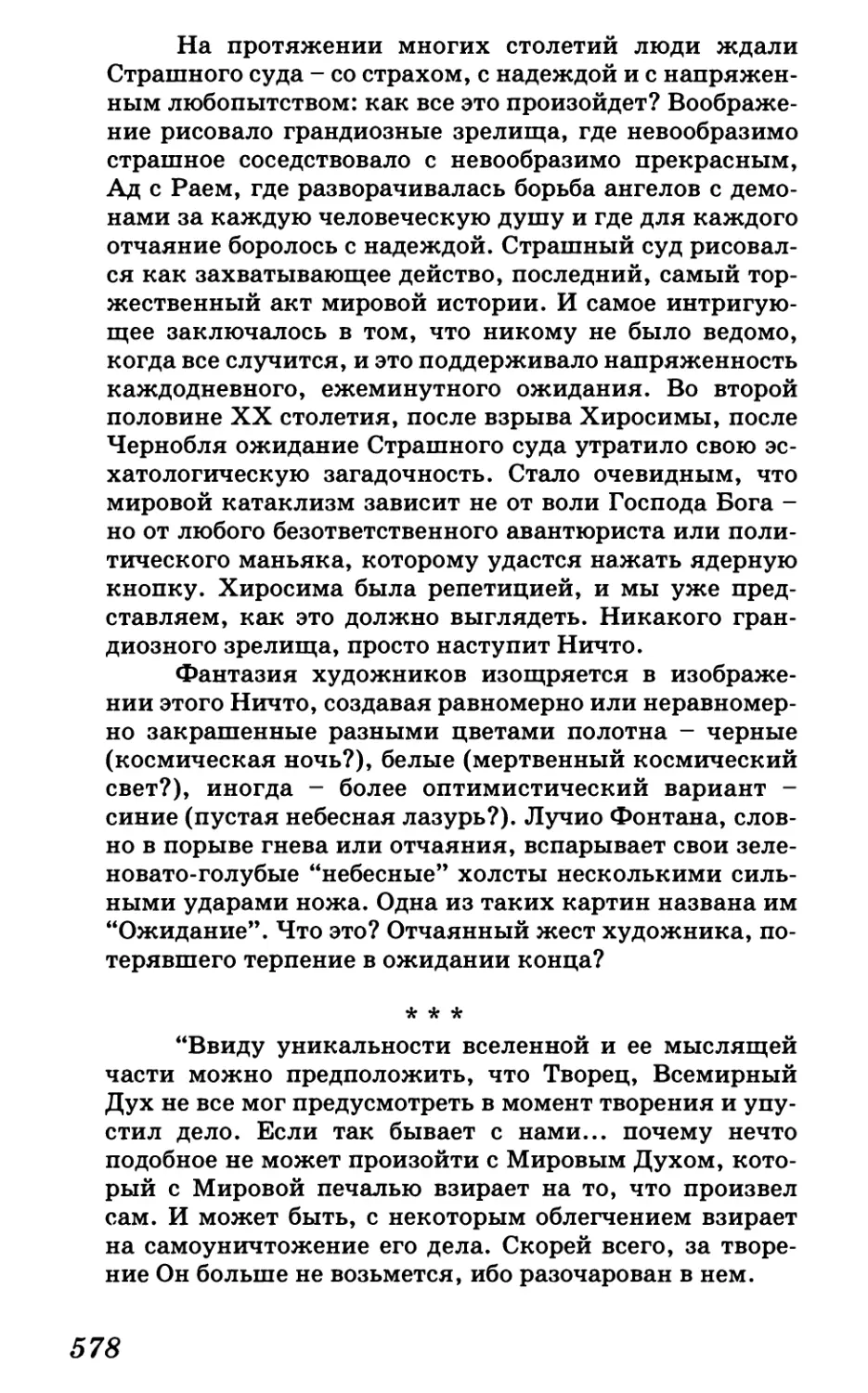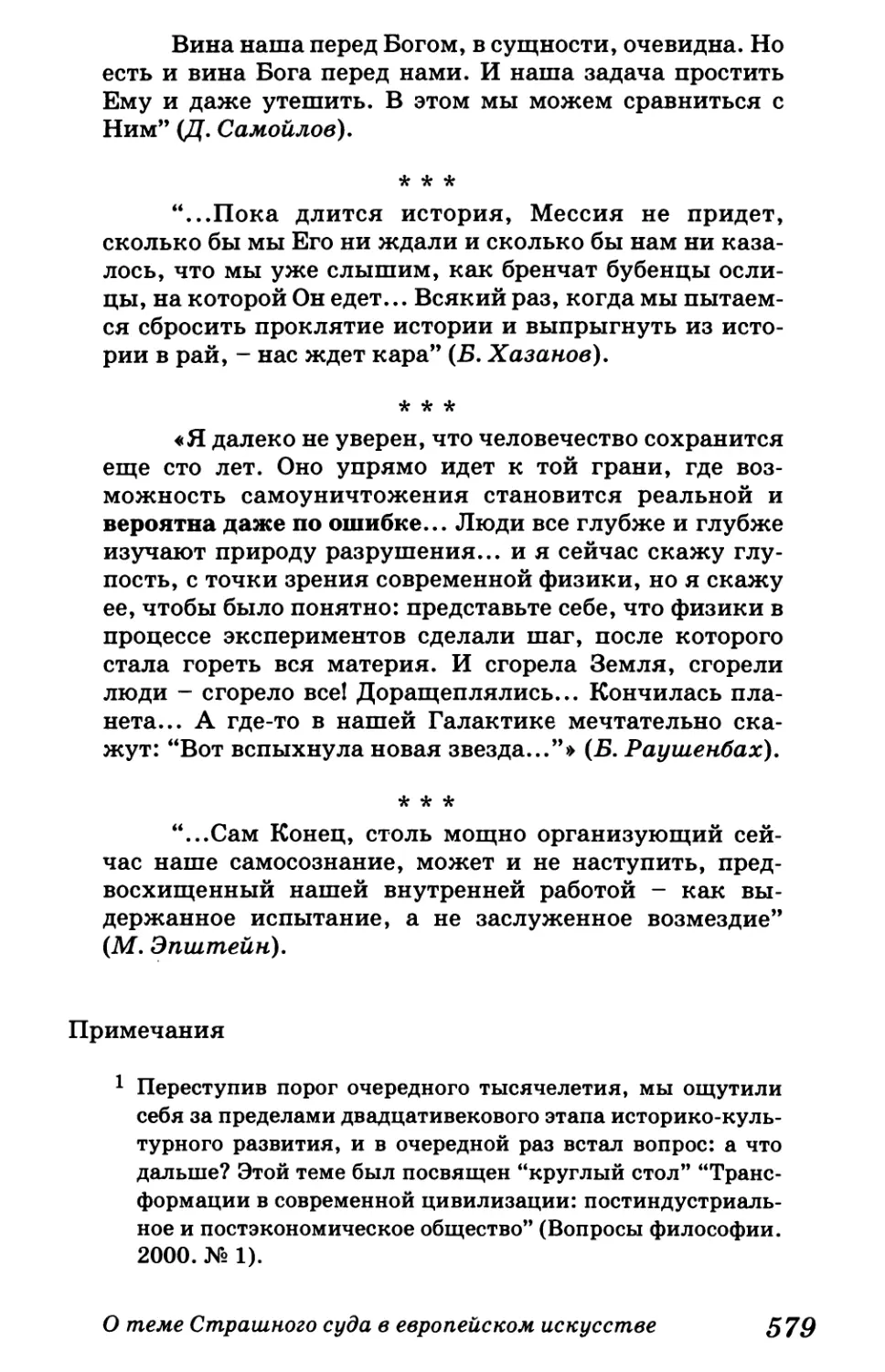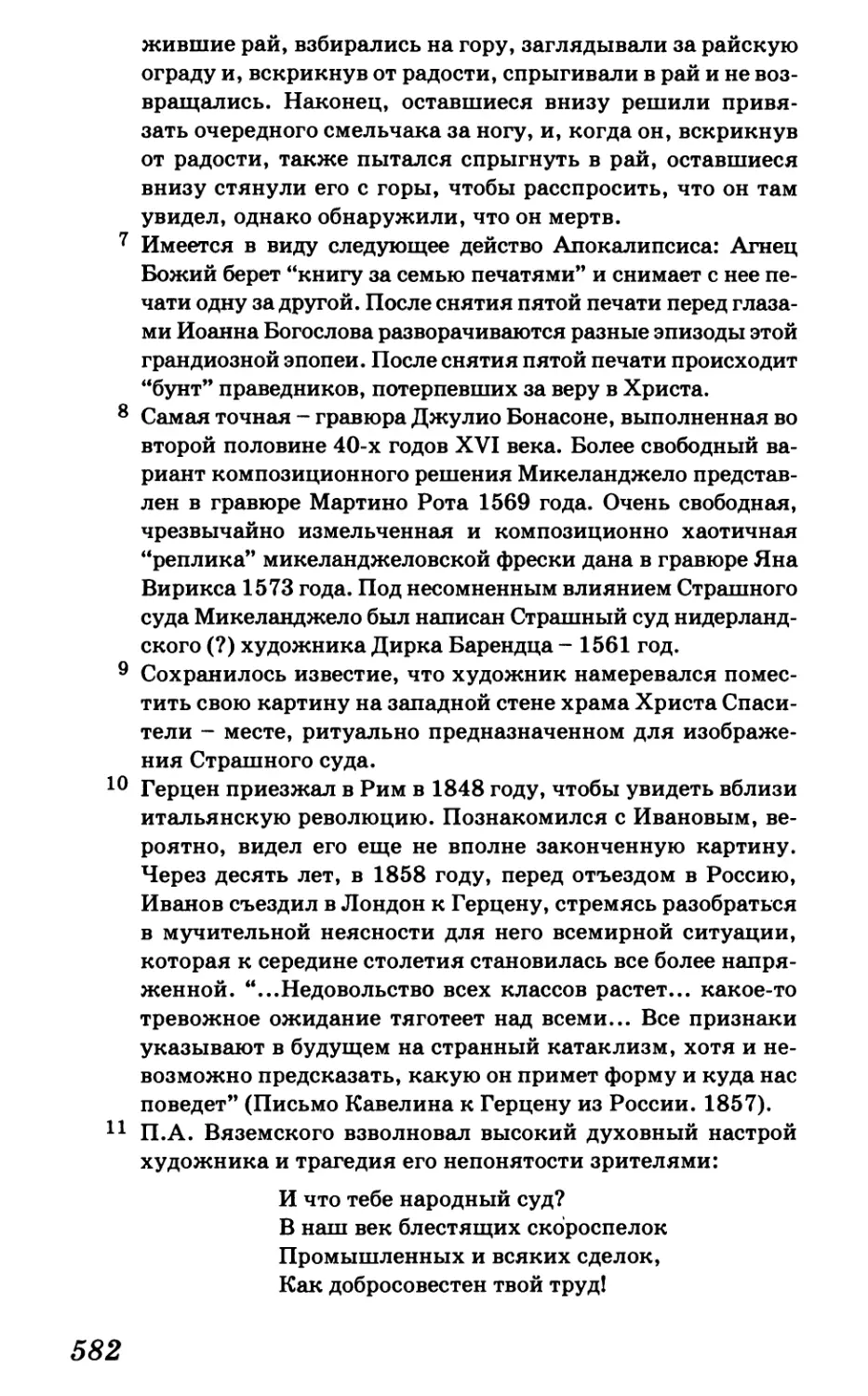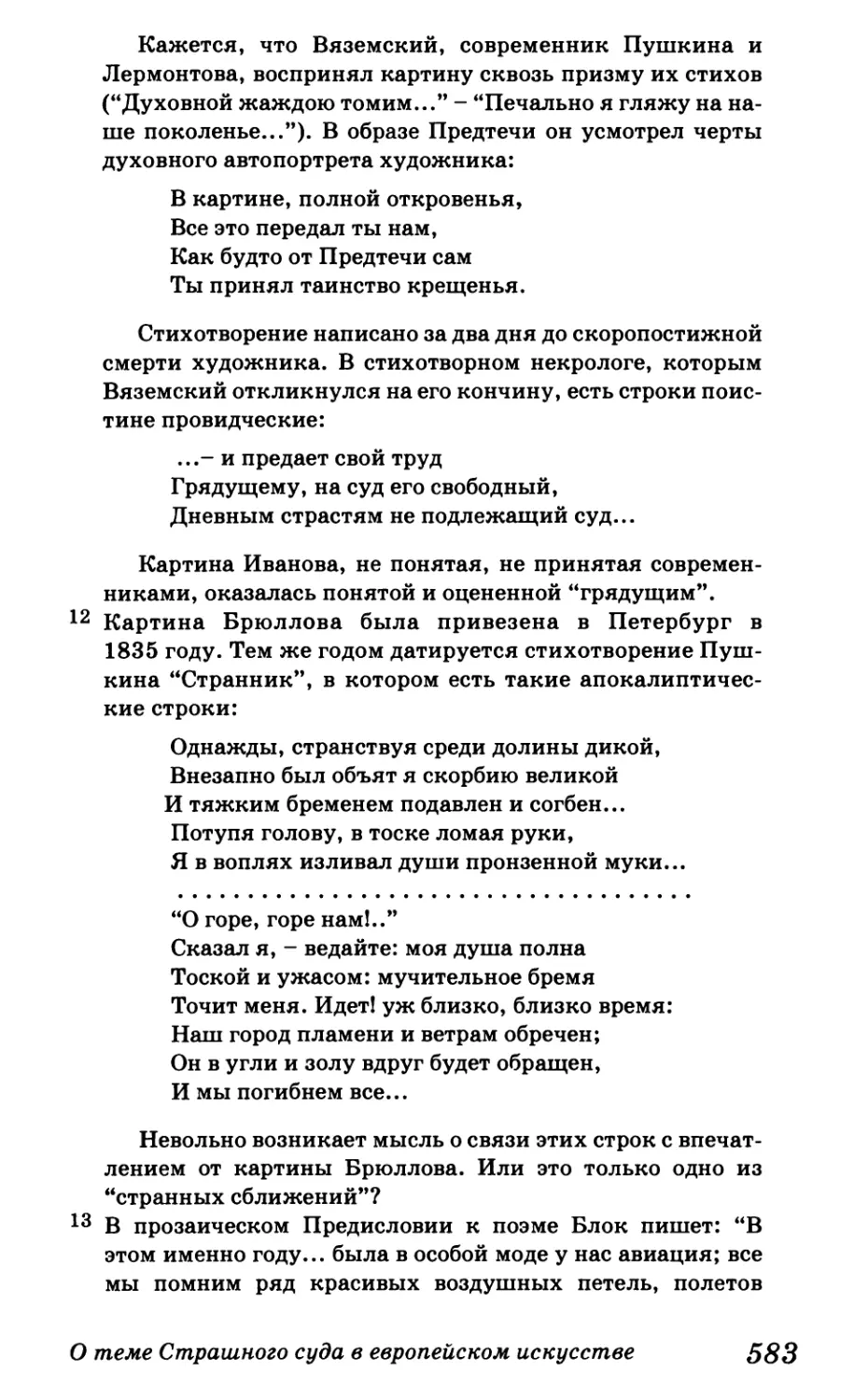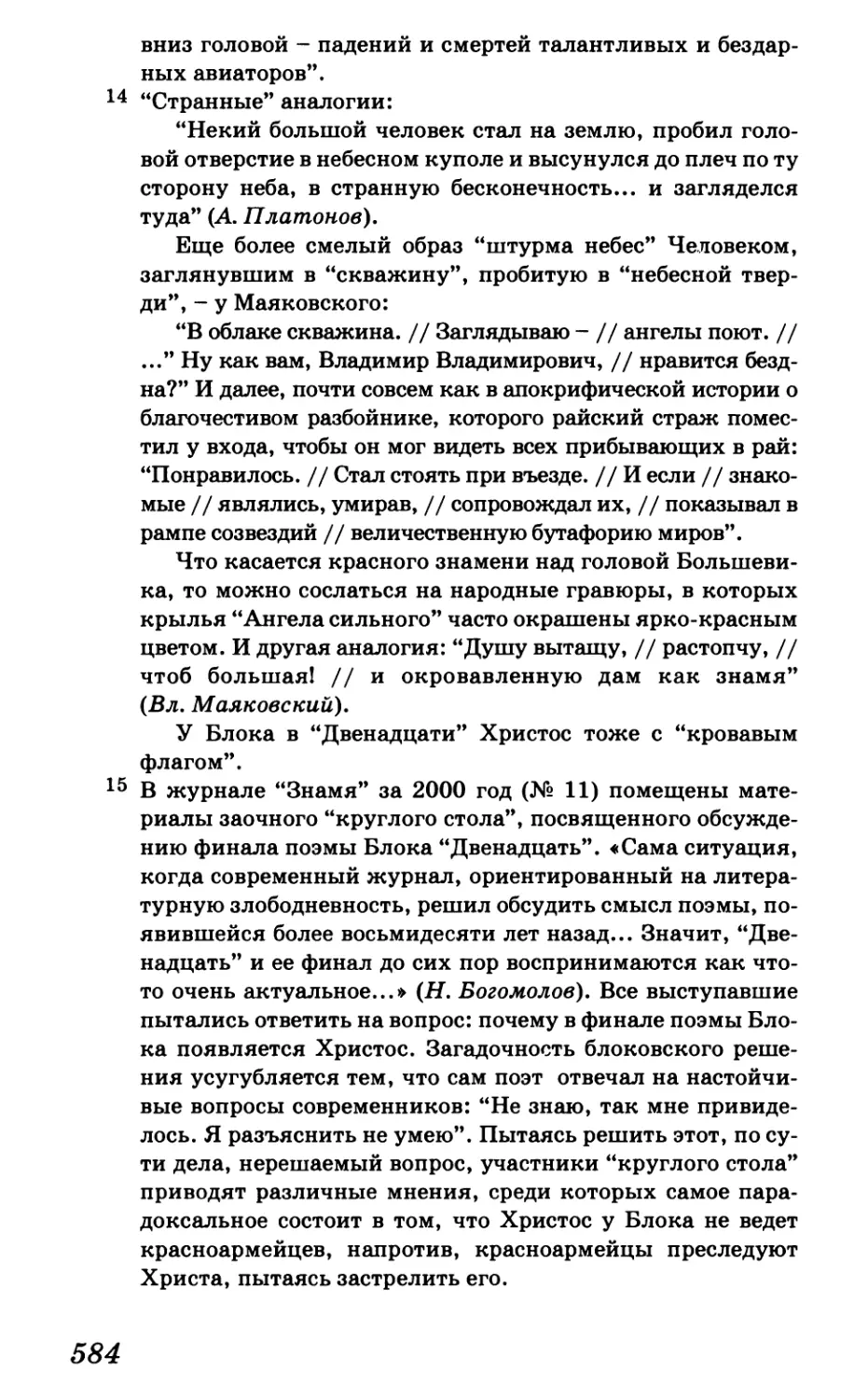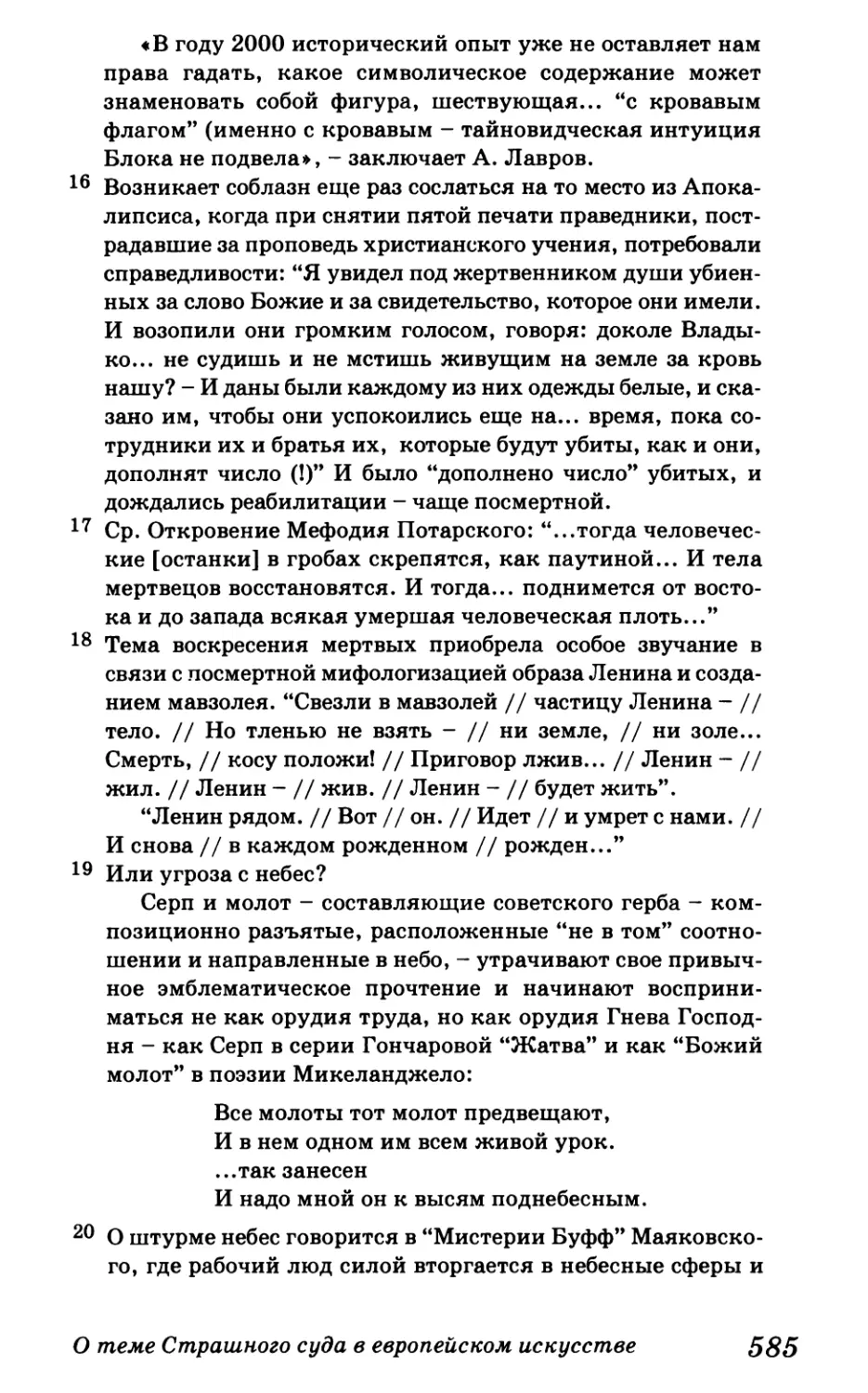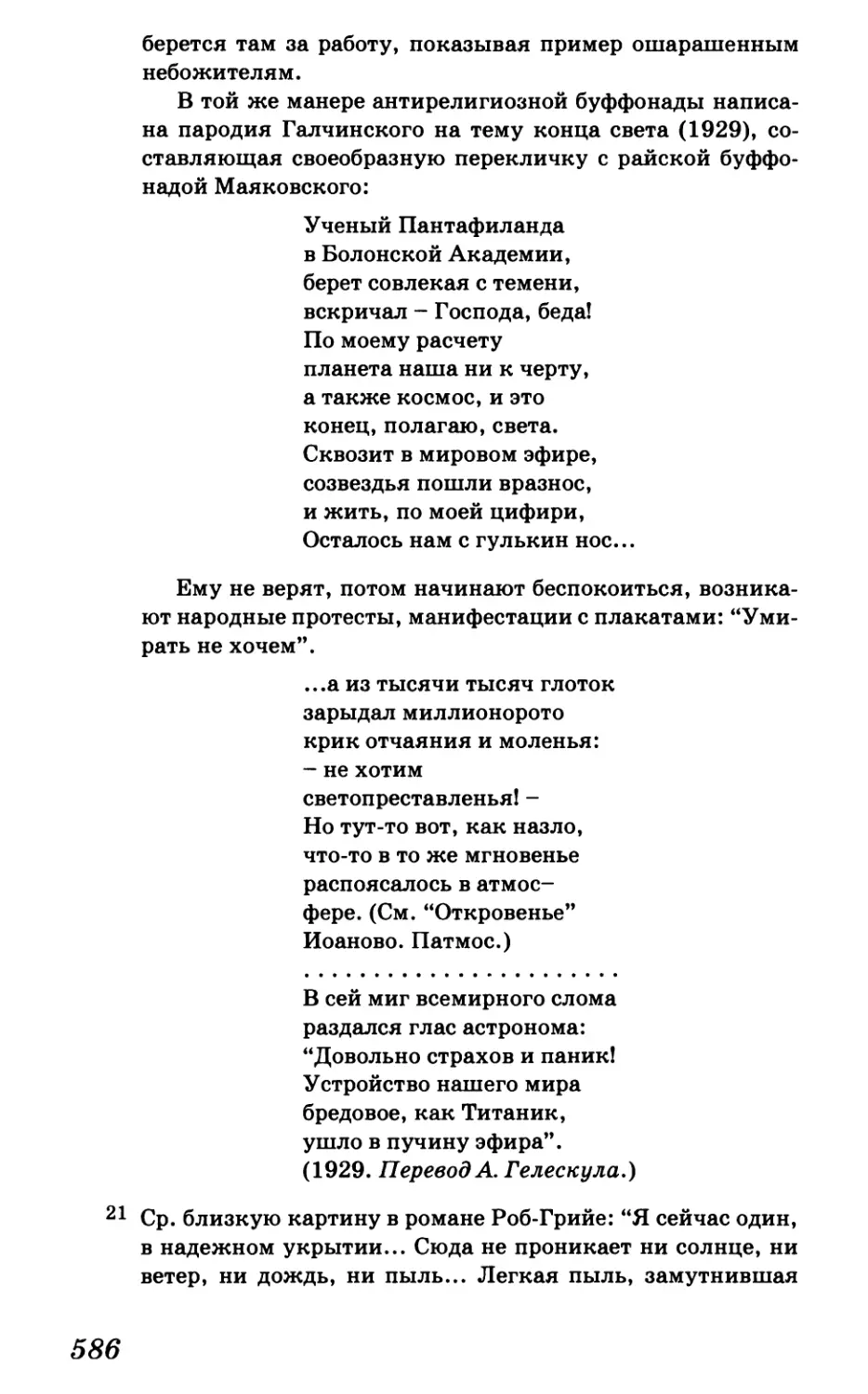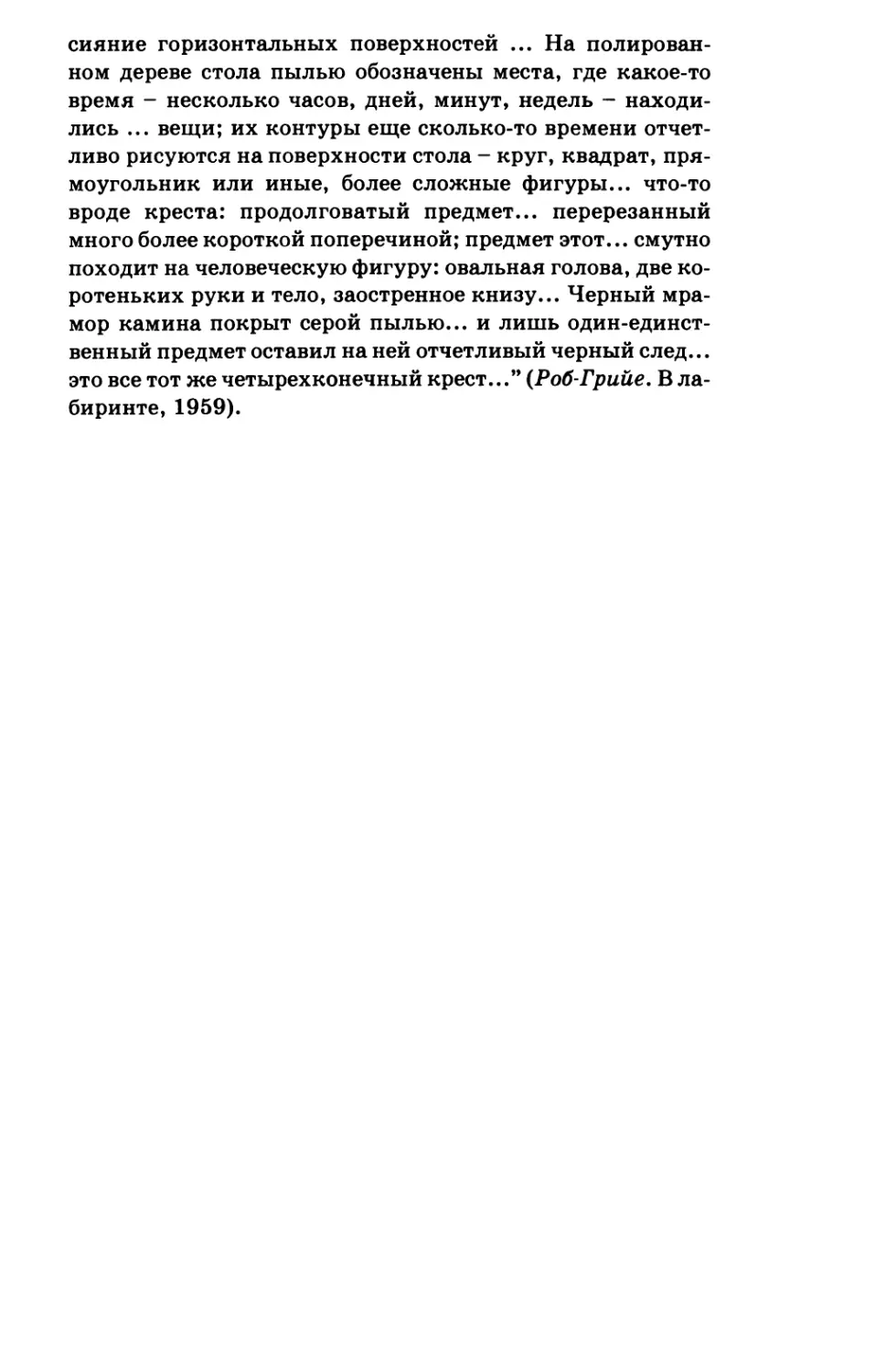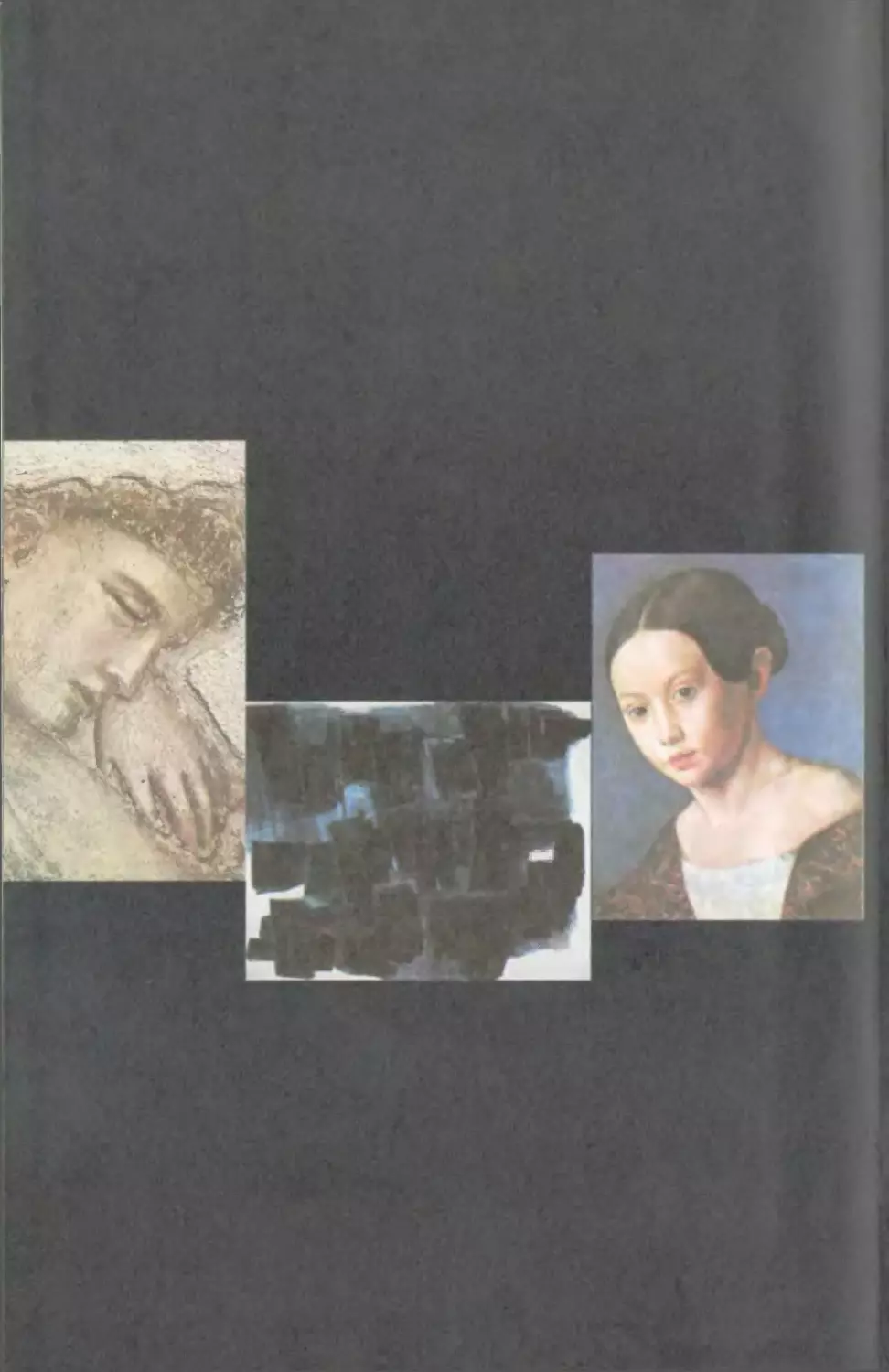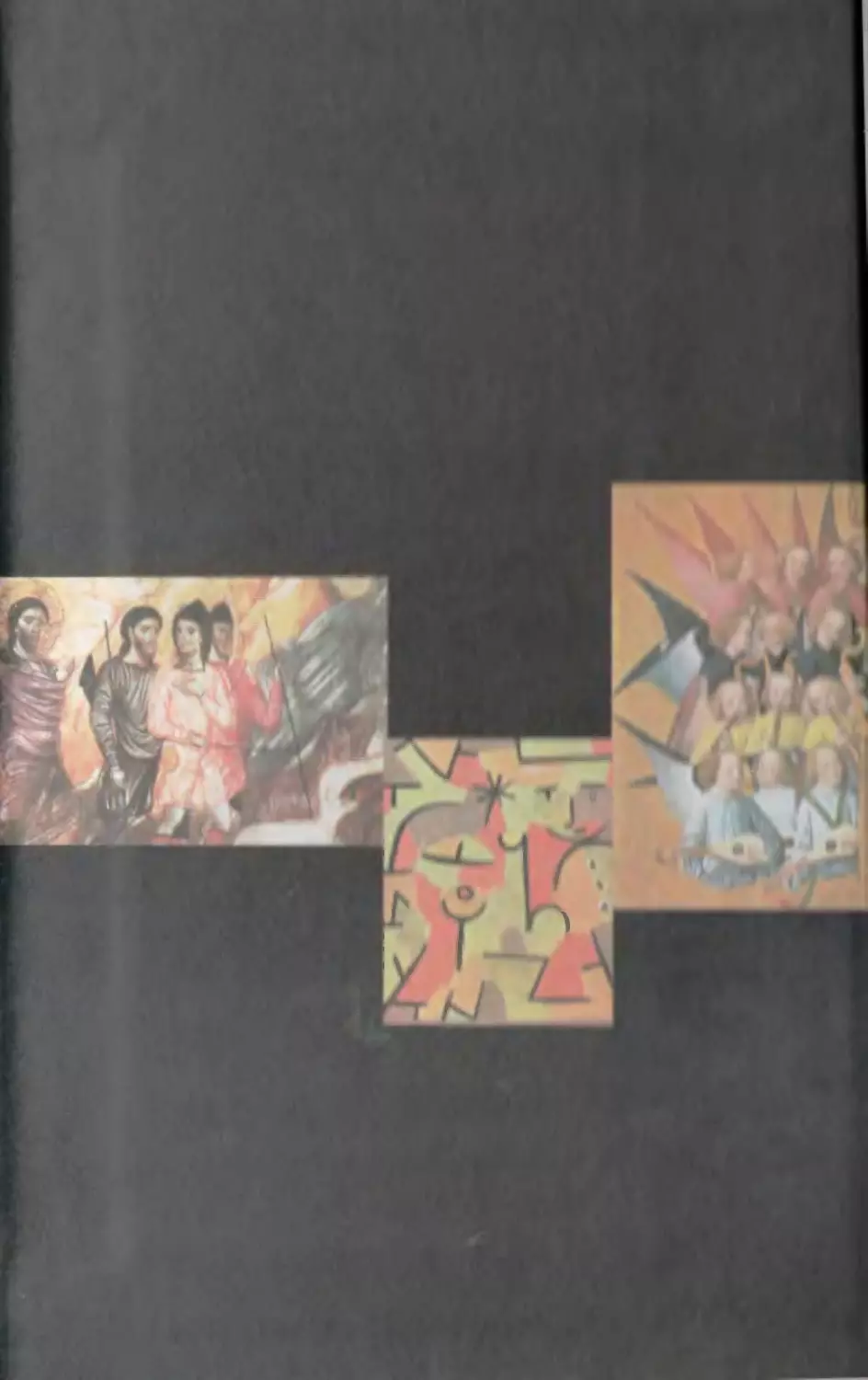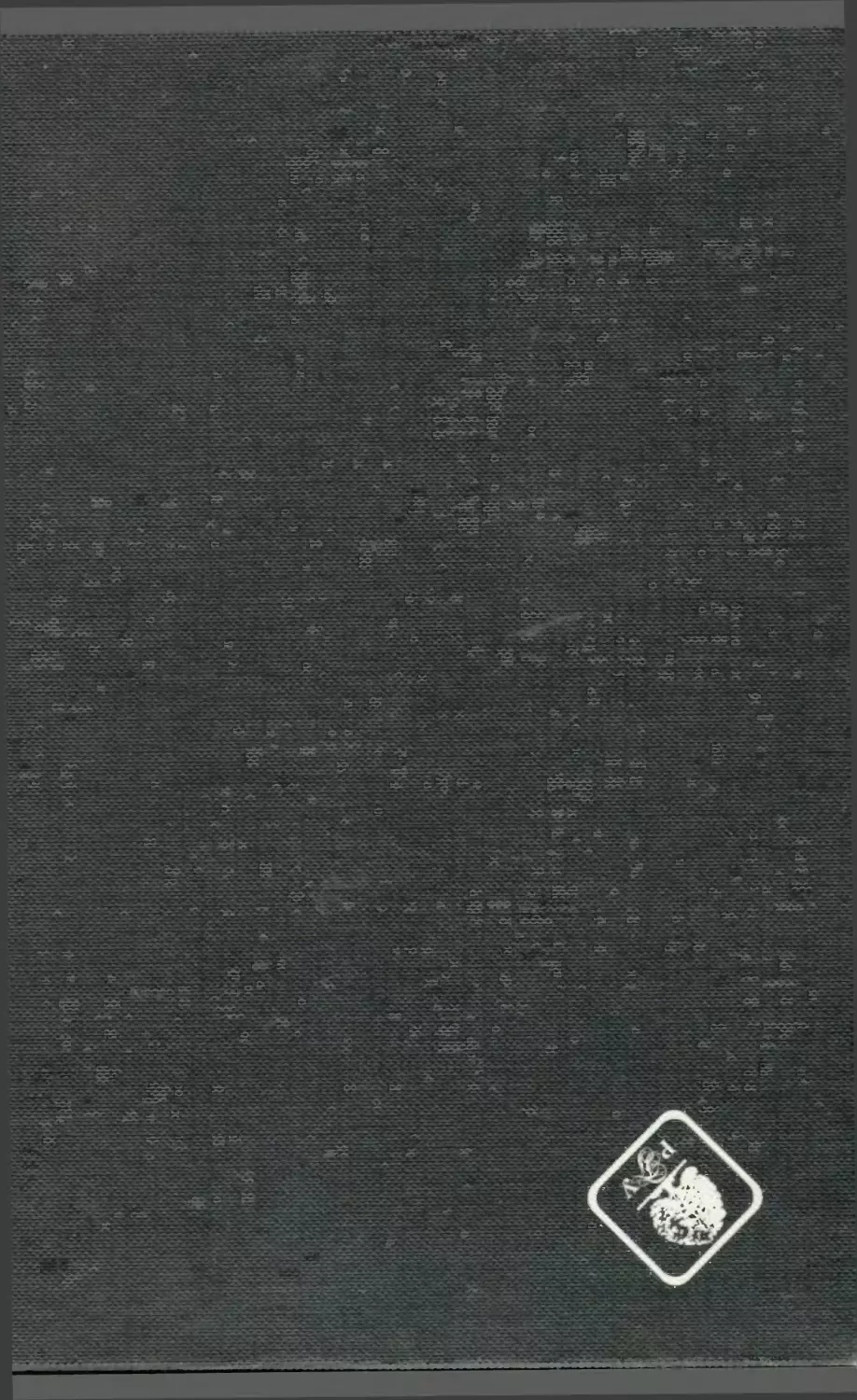Автор: Данилова И.Е.
Теги: история исторические науки искусство живопись пейзаж портреты картины интерьер искусствознание мировидение
ISBN: 5-7281-0701-Х
Год: 2004
Российский
государственный
гуманитарный
университет
И. Е. Данилова
Исполнилась полнота времен.
Размышления об искусстве
Статьи, этюды, заметки
Москва
2004
ББК 63. 3(0)
Д18
Художник
Михаил Гуров
© Данилова И.Е., 2004
© Российский государственный
ISBN 5-7281-0701-Х гуманитарный университет, 2004
i IиЬржание
Памяти учителя 9
Некоторые соображения
об искусствознании сегодня 16
Картина как общая формула
мировидения 19
Портрет - и натюрморт: человек
и вещь 78
Мир внутри и вне стен: интерьер
и пейзаж в европейской живописи
XV-XX веков 167
Слово - и зримый образ
в европейской живописи
от средних веков до XX века 234
“Се Дева во чреве приимет
и родит сына”
О византийской иконе XIV века “Благовещение”
из ГМИИ им АС. Пушкина
(опыт интерпретации) 291
5
“Видение... пречудное
и отнюдь несказанное”
Представление Благовещения в церкви
Сантиссима Аннунциата во Флоренции (1439)
глазами Авраамия Суздальского 304
“Чуден вельми светлостью, звонностью
и пространством”
Архитектура Успенского собора в Кремле -
и пространство в иконах Дионисия 320
“Взлетающий ввысь... невесомый
и к земному непричастный”
О трех поздних иконах Дионисия 327
О категории времени в живописи
средних веков и Раннего Возрождения 335
Тема природы в итальянской живописи
кватроченто 359
Об интерпретации архитектуры в рельефах
Гиберти и Донателло 377
Альберти и Флоренция 394
Альберти и Рим
Тема руин в трактате Леона Баттисты Альберти
“Десять книг о зодчестве” 451
О Боттичелли 481
О Леонардо да Винчи 493
Уффици глазами русских второй половины
XIX - начала XX века 497
По залам музеев
Заметки разных лет 512
6
“Веление холста”
Иоганна Томаса ван Кесселя (1680) -
и “Пейзаж в Овере после дождя”
Винсента Ван Гога (1890)
Н связи с выставкой
"Диалоги в пространстве культуры”
в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2002 году 523
“Се человек”
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера . 527
“В дорогу жизни снаряжая...”
О теме пути в русской литературе 539
“Исполнилась полнота времен...”
О теме Страшного суда в европейском
искусстве 548
Заключение
589
Памяти учителя
Некоторые соображения
об искусствознании сегодня
Картина как общая формула мировидения
Портрет - и натюрморт:
человек и вещь
Мир внутри и вне стен: интерьер и пейзаж
в европейской живописи XV-XX веков
Слово - и зримый образ в европейской
живописи от средних веков до XX века
Памяти
учителя
В 2002 году исполнилось сто лет
со дня рождения Михаила Вла¬
димировича Алпатова. Чем даль¬
ше отодвигается во временную
перспективу фигура этого заме¬
чательного ученого, тем отчетли¬
вее вырисовывается феномен Ал¬
патова - классика искусствовед¬
ческой мысли, человека, богато
одаренного, не побоюсь сказать,
осененного талантом. Он был та¬
лантлив во всем. Оставленное им
наследие огромно и разнообраз¬
но, далеко не все им созданное
увидело свет. Мало кто знает о
его литературоведческих иссле¬
дованиях, почти никто - о его ху¬
дожественной прозе и стихах, о
его переводах, о его своеобразной
радио-пьесе, построенной на тек¬
сте русских летописей; он был
интересным художником - жи¬
вописцем и графиком. Только
узкому кругу друзей посчастли¬
вилось узнать его как яркого, не¬
истощимо остроумного рассказ¬
чика. Михаил Владимирович
был замечательным педагогом,
учителем, но - как сам он с горе¬
чью признавался в последние
годы - учителем, не оставившим
учеников. Но ведь таланту нель¬
зя научить, талантом можно
только озарить. Озарял он своим
талантом многих.
Труды Михаила Владими¬
ровича не ушли в прошлое, не
стали тем, что принято называть
наследием. В последние годы
становится все более очевидной
актуальность многих поднятых
им проблем, плодотворность и со¬
временность методов анализа
произведений искусства - того,
9
что в свое время окрестили у нас на родине презритель¬
ным и враждебным словом “алпатовщина” и что зару¬
бежные ученые уважительно называли “методом Алпа¬
това”, высоко оценив его новизну и плодотворность.
В те недоброй памяти времена обвинение в “алпатовщи-
не” было отнюдь не безобидным, не просто аргументом
в академическом споре.
В наши дни трудно себе представить, в чем со¬
стояла идеологическая опасность “алпатовщины” и по¬
чему книги Михаила Владимировича вызывали такую
агрессивно недоброжелательную критику. Ему инкри¬
минировали весь набор пресловутых «измов» - бур¬
жуазный идеализм, субъективизм, импрессионизм,
формализм и даже просто дилетантизм. Теперь, с более
чем полувековой дистанции становится очевидной не¬
адекватная раздраженность этой критики, ее личност¬
ная неприязненность. Было нечто в книгах Алпатова,
что особенно будоражило его оппонентов. То ли казав¬
шаяся обидной легкость изложения, отсутствие науко¬
образия и педантизма, образность языка, внутренняя
свобода и артистизм, своеобразное игровое начало, осо¬
бенно в сопоставлении текста и илюстраций. “Твор¬
чество - как бы игра в кубики. Высыпаются из ко¬
робки кубики и складываются” (Из записной книжки
Алпатова).
Но не только это. В каждой книге Михаила Вла¬
димировича, как правило, присутствует внутренняя
сверхзадача, которую он сам перед собой ставил и кото¬
рую ему самому было интересно проверить; можно ска¬
зать, что каждая книга была для автора чем-то вроде
увлекательного эксперимента. И именно эти экспери¬
менты оказывались самыми сильными раздражителя¬
ми для большинства критиков. И именно они воспри¬
нимаются в наши дни как наиболее актуальные поло¬
жения его книг.
«Я работал с тем чувством, с которым Пастернак
сказал: “Во всем мне хочется дойти до самой сути”» -
записывает Михаил Владимирович в дневнике. Но вы¬
явление сути каждый раз требовало от исследователя
особого, иного подхода. Поэтому Алпатов каждый раз
задавался вопросом: получилось или не получилось?
Поэтому так важна была для него реакция читателя -
не только специалиста, но и просто читателя. Понятно
ли и ему тоже?
10
В 1939 году вышла книга “Итальянское искусство
;мюхи Данте и Джотто”. Научным ядром ее, ее главным
экспериментом был анализ росписи падуанской капел¬
лы. Фрески рассматриваются в ней не только как еди¬
ный сюжетный комплекс, но как единый художествен¬
ный организм, заключающий в себе внесюжетные -
смысловые и образные - связи. Прочитываемые по
горизонтали, они образуют спрессованные воедино вре¬
менные слои художественного мышления. В этом смыс¬
ле в падуанской росписи Джотто, по мысли Алпатова,
заключено, как в готовом прорасти зерне, прошлое, на¬
стоящее и будущее европейской живописи. Кроме это¬
го, автор попытался выявить в расположении фресок
скрытые вертикальные связи, высвечивая в них не тра¬
диционные теологические соответствия, но типические
ситуации человеческого бытия: начало и конец жиз¬
ненного пути; мольба о помощи; явление неожидан¬
ного; передача дара; встреча и т. п. В сущности, это
была попытка структурного анализа фрескового ком¬
плекса - то, чем позднее, в 60-70-е годы, занима¬
лись филологи тартуской школы, группировавшиеся
вокруг Ю.М. Лотмана, и то, что сейчас пытаются при¬
менить в искусствоведении. Именно этот системный
анализ падуанской росписи встретил наибольшие воз¬
ражения отечественных специалистов, но был с интере¬
сом воспринят аудиторией на посвященном Джотто
международном конгрессе во Флоренции в 1967 году,
где Михаил Владимирович выступил с докладом на
эту тему.
Но особенно бурной была реакция на первый том
♦ Всеобщей истории искусства». Книга была закончена
еще до войны, в 1941 году. Прочитанная в рукописи
Н.И. Романовым и А.Г. Роммом, она была ими горячо
одобрена, однако после ее публикации в 1948-м на авто¬
ра обрушился шквал негодования. В архиве Алпатова
сохранилась пухлая папка разносных рецензий. Не
буду называть имена их авторов, приведу лишь дневни¬
ковую запись Михаила Владимировича: “Я избавился
от мучившего меня представления, что искусствоведе¬
ние оторвано от жизни, потому что рецензии связаны с
жизнью тысячами нитей”. И ниже - отчаянные строч¬
ки: “Ничего не придумывай, не мысли, не давай воли
чувству, разуму, фантазии, глазам... сиди не шелох¬
нись и повторяй заученное”.
Памяти учителя
11
Но если в печати и публичных выступлениях шла
разносная критика, то в письмах друзей, некоторых
коллег и просто читателей - не только москвичей, пись¬
ма приходили из разных городов страны - выражалась
благодарность, и это поддерживало. Особенно горячо
откликнулся в одном из писем А.Г. Ромм: «Вы первый
взяли на себя труд. Вы написали правдивую книгу, где
высказались с достаточной ясностью... Если бы надо
было поставить эпиграф к Вашей книге, то я сказал бы
словами известной надписи к офорту известного худож¬
ника: “Какая доблесть!”».
Однако большинство рецензентов увидели в этом
не столько доблесть, сколько наглость. Особенно раз¬
дражала построенная автором и последовательно про¬
веденная по всем разделам книги концепция метафо¬
ричности языка изобразительного искусства и связан¬
ной с этим ассоциативности художественного образа.
Именно в этом видел Алпатов главное смысловое ядро
книги: “Нужно настаивать на познавательном значе¬
нии метафоры... Нужно доказать, что это есть средство
углубить, обогатить познавательное значение его”, -
записывает он в эти годы в одной из заметок на память.
“Не забыть мою формулу: нечто одно, выраженное
через другое, схожее, но при том так, что одно и дру¬
гое имеют свой собственный смысл. Искусство - мета¬
фора жизни. Это кратчайшая формула, схематичная и
условная”.
Проблема метафоричности языка искусства ста¬
новится особенно актуальной в нашей науке в послед¬
ние десятилетия XX века. Осенью 1992-го в Москве, в Ин¬
ституте высших гуманитарных исследований состоял¬
ся доклад Б.А. Успенского о пластичности метафоры в
поэзии Мандельштама. Доклад вызвал бурную дискус¬
сию, касающуюся самого определения метафоры, где,
кстати, фигурировали те же пушкинские строки, кото¬
рые приведены Алпатовым в первом томе его “Всеоб¬
щей истории искусства”: “Пчела за данью полевой / Ле¬
тит из кельи восковой”. Строки, за интерпретацию ко¬
торых так нападала на него в свое время критика.
Михаилом Владимировичем впервые в нашем ис¬
кусствоведении была заявлена тема, которая стала
предметом активного, заинтересованного обсуждения на
“круглом столе”, проводившемся в ГМИИ им. А.С. Пуш¬
кина в том же, 1992 году. Автор основного доклада -
12
Г. С. Кнабе предложил для обозначения проблемы тер¬
мин “энтелехия культуры”. У Алпатова такого термина
мит, но именно об этом идет речь, когда он пишет об ан¬
тичности искусства Рублева или об античных моти-
мпх в кремлевской иконе “Апокалипсис”, объясняя это
“отдельными взлетами и прозрениями русских масте¬
ров, современников Рафаэля”. В этой близости, пишет
Алпатов, “нет ничего сверхъестественного. Она всего
лишь доказывает, что, помимо сообщества культур в
историческом пространстве и времени, есть еще сооб¬
щество в мире ценностей. И потому возможны совпаде¬
ния, как совпадения в решении одной задачи двух уче¬
ников, сидящих на разных скамейках”. Думаю, что эти
слова бщли бы вполне уместны в споре, вспыхнувшем
по время дискуссии об “энтелехии культуры” и могли
бы служить большему прояснению вопроса.
В некоторых своих исследованиях, особенно в
книге “Художественные проблемы итальянского Воз¬
рождения”, Алпатов вплотную подходит к проблеме
внестилевого искусства, подробно разработанной в на¬
ши дни Е.И. Ротенбергом. Не употребляя термина “вне-
стилевое искусство”, Алпатов пишет о роли в общем
процессе развития искусства “великих уродов - гениев
одиночек, которые не поддаются обычной стилевой
классификации, высятся над стилями, нарушают их”.
“Художественные проблемы итальянского Воз¬
рождения” - последнее фундаментальное исследова¬
ние, опубликованное при жизни Михаила Владимиро¬
вича, - поражает внутренней свободой и смелой рас¬
кованностью мысли. Книга полемична. Автор словно
задался целью подвергнуть кардинальному пересмотру
сложившиеся концепции и оценки искусства Возрож¬
дения, отказаться от принятых взглядов, от всего само
собой разумеющегося и, казалось бы, очевидного; ины¬
ми словами, попытаться все увидеть как бы впервые.
Сомнениям и проверке подвергаются взгляды не только
предшественников, но и собственные взгляды. Изложе¬
ние строится в форме внутреннего диалога с самим со¬
бой, цель которого - вскрыть диалогичность самой
культуры Возрождения, ее постоянный внутренний
спор, ее приятие // неприятие культур близкого и дале¬
кого прошлого, а также присущий ей “живой диалог
поколений”. Главный нерв всего ренессансного искус¬
ства автор видит в противоречии между видимостью -
Памяти учителя
13
и сущностью, внешним - и внутренним. Именно этот
критерий служит пробным камнем оценок при сравне¬
нии произведений ренессансного искусства, что часто
приводит автора к совершенно неожиданным, часто па¬
радоксальным выводам.
Сформулированная в этой книге проблема диало¬
га как формы существования культуры в значитель¬
ной степени предвосхищает концепцию диалога куль¬
тур, разработанную Владимиром Соломоновичем Биб-
лером и послужившую темой “Випперовских чтений”
1992 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина.
“Художественные проблемы искусства Древней
Греции” - последняя книга Михаила Владимировича,
опубликованная посмертно, многие годы существовала
в виде макета альбома. Визуализация слова, к чему по¬
стоянно стремился Алпатов, доведена здесь до возмож¬
ного предела. Хочется сказать, что книга не только на¬
писана, но и показана, может быть, в первую очередь,
именно показана. Составление альбома иллюстраций
всегда было для Михаила Владимировича самым важ¬
ным и самым творческим моментом в процессе его рабо¬
ты над книгой. И самым личностным. Составитель аль¬
бома “не может отказаться от личного момента, от
своих симпатий и антипатий. Иногда счастливая слу¬
чайность, удачный выбор может ему помочь заинте¬
ресовать и увлечь читателя. Донести до него лучшее в
себе и заразить его любовью к своему предмету. Удач¬
ный выбор равносилен творчеству. Нужно только, что¬
бы это было настоящим творчеством... Стремление к
объективности во что бы то ни стало может лишить его
работу всякого вкуса, сделать ... бескрасочной и беспо¬
лезной” (Из неопубликованной рукописи). К сожале¬
нию, при издании книги не во всех случаях удалось со¬
хранить авторский макет.
Если к первому тому “Всеобщей истории искус¬
ства” Ромм предложил в качестве эпиграфа - “Какая
доблесть!” Гойи, то эпиграфом к этой, последней алпа-
товской книге могли бы стать строки любимого поэта
Михаила Владимировича - Пастернака: “Нельзя не
впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную просто¬
ту”. Вероятно, Михаил Владимирович мог бы добавить
вместе с Пастернаком: “Она всего нужнее людям, / Но
сложное понятней им”. В каждом памятнике увидено
автором и почти указано пальцем самое главное, то, что
14
госгтавляет художественное ядро образа, его метафору -
согласно Алпатову. Так, в одной из метоп храма Геры
и Селинунте, где представлена беседа Зевса со своей
супругой, внимание автора сосредоточено на пустом
треугольнике фона, где встречаются властно протяну¬
тая обнаженная рука бога и упрямо поднятая, сопро¬
тивляющаяся рука Геры, задрапированная жестки¬
ми вертикальными складками одежды. Именно в этом
пустом пространстве фона заключен, по Алпатову,
главный заряд художественной энергии. Или такое
неожиданное и в то же время поражающе точное заме¬
чание о портике кариатид Эрехтейона: “Видные за
ними колонны ... раза в два крупнее их, и таким обра¬
зом кажется, что кариатиды могли выйти из-за этих
колонн”. Прочитавшему эту книгу трудно воспринять
портик Эрехтейона вне этой архитектурно-сюжетной
ситуации.
Михаил Владимирович много писал об архитек¬
туре - и в общих работах, и в статьях, посвященных
отдельным памятникам. Архитектура для него являет
себя не столько в архитектонической, сколько в своей
образно-метафорической ипостаси. К архитектурному
сооружению он обращается с теми же вопросами,
предъявляет ему те же требования, что и памятникам
изобразительного искусства. В сущности, архитектура,
по Алпатову, в такой же степени “сюжетна”, в какой
сюжетно произведение абстрактной скульптуры или
абстрактной живописи. И в том, и в другом случае речь
идет не о том, что изображено, но о том, про что это
произведение, каков его сверхсюжет, содержащееся в
нем визуальное сообщение.
Незадолго до кончины Михаил Владимирович
впервые назвал меня своей ученицей. Это дорогое для
меня признание дает мне моральное право назвать его
своим учителем.
Некоторые
соображения
об искусствознании
сегодня
Думаю, что наше искусствозна¬
ние находится в состоянии неко¬
торой методологической расте¬
рянности, исчерпанности про¬
блем и подходов. В последние
десятилетия оно занимается
преимущественно закономернос¬
тями исторического равития,
эволюцией стилей, спецификой
жанров, различием националь¬
ных школ. При такой ориента¬
ции внимание сосредоточено на
общих чертах, общих признаках
явлений, на том, что объединяет
произведения искусства, груп¬
пирует их по принципу сходства
или различия. Мне представ¬
ляется, что этот классифика¬
ционный этап несколько затя¬
нулся - на очереди изучение не
столько общих закономерностей,
сколько их нарушений, тех ис¬
ключений, которые, как счи¬
тается, подтверждают правила,
но которые, на самом деле, могут
привести к открытию новых,
неожиданных ракурсов и, в ко¬
нечном счете, - кто знает? -
новых закономерностей, новых
правил.
Такой поворот уже наме¬
тился, возрастает интерес к явле¬
ниям внестилевого искусства.
Знаменательно, что внести левое
искусство проявляет себя с осо¬
бой очевидностью в периоды наи¬
большей стилевой интенсив¬
ности - в XVII-XVIII веках.
Самые крупные художники, ко¬
торые, как считалось, эти стили
и создавали, теперь начинают
рассматриваться как мастера,
искусство которых существовало
вне стиля и, в каком-то смысле,
16
попреки стилю. Возникает новый ракурс на проблему
стиля как эстетическую и историко-культурную кате¬
горию.
Область, в которой, возможно, искусствовед¬
ческую науку ждут открытия, это углубленное, “прони¬
кающее” вглядывание в отдельные произведения, то,
чем искусствоведение сейчас почти не занимается.
Принято считать, что произведение искусства - это
капля, в которой отразился мир. Может быть, следова¬
ло бы сказать - не отразился, но воплотился. Чтобы
увидеть и раскрыть этот мир, неоходимо все глубже, все
настойчивее всматриваться в само произведение искус¬
ства, не ограничиваясь (не отвлекаясь) ссылками на
вне его лежащие факты истории, культуры, творче¬
ской биографии художника. Необходимо всматри¬
ваться в само это воплощение, а не в то, что воплоти¬
лось. Искусство, как известно, не простой оптический
аппарат. Это - как принято считать - волшебное зерка¬
ло, оно способно не только преображать отражаемое, но
даже обнаруживать в нем то, что часто недоступно зре¬
нию историка, культуролога, биографа.
К сожалению, во многих современных исследова¬
ниях можно встретиться с истолкованием произведе¬
ний искусства главным образом через обстоятельства
его исторического бытования. Более плодотворным
представляется обратный путь - истолкование истори¬
ческой ситуации через анализ произведений искусства,
которые являются ее конденсированным воплощением.
В противном случае искусствоведческий анализ может
легко превратиться - и превращается - в простой ком¬
ментарий, в иллюстрацию к той или иной исторической
или культурологической концепции.
Хотелось бы выстудить в защиту такого “устарев¬
шего” метода, как описание произведений - не такого,
которое пересказывает, фиксирует то, что изображено,
но описания, рождающегося в результате проникающе¬
го разглядывания изображенного. В литературоведе¬
нии это называют приемом “медленного чтения” -
вслушивания в каждое слово, в его смысловые и образ¬
ные обертоны, в конструкцию фразы, в ее синтаксис, в
пунктуацию, наконец, в строфику. Такое медленное
чтение является, по существу, интерпретацией. В ис¬
кусствознании аналогичный прием “медленного разгля¬
дывания” должен приводить к описанию-интерпрета¬
Некоторые соображения об искусствознании сегодня
17
ции, то есть к постижению образного содержания про¬
изведения.
Заимствование методики литературоведения и
даже лингвистики само по себе представляется плодо¬
творным. Однако прямое перенесение приемов анализа
словесного текста на текст зрительных образов таит в
себе опасность истолкования ситуации образно-пласти¬
ческой как ситуации чисто сюжетной. Изображение
начинает восприниматься как прямое обозначение
изображенного предмета, в то время как в произведе¬
ниях искусства изобразительного образ рождается из
постоянной вибрации слова и его зримого облика, их
мерцания и взаимопросвечивания.
...Всякое подлинное произведение
искусства
содержит в себе целый мир...
все величие и ничтожество человека.
Б. Кроче
Картина
как общая
формула
м провидения
Картина как особый тип живо¬
писного изображения возникает в
Италии в эпоху Возрождения;
можно сказать точнее: картина
рождается в начале XV века во
Флоренции - самом передовом
итальянском городе кватроченто.
Всякая периодизация, как изве¬
стно, относительна, начало и ко¬
нец того или иного периода исто¬
рии не всегда совпадает с первым
и последним годом столетия. Но
1400 год - год избавления от чумы
и победы в войне с Миланом за
свободную Флорентийскую рес¬
публику - оказался для Флорен¬
ции действительно переломным.
Это была не только дата в календа¬
ре, но и, в значительной степени,
рубеж в самоощущении, самосо¬
знании людей, остро восприни¬
мавших свое время как начало
“новых времен” во всех областях
жизни и в том числе в искусстве.
Картина отличается от
иконного изображения не своими
сюжетами - на протяжении всего
периода Возрождения сюжеты, в
подавляющем большинстве слу¬
чаев, остаются прежними: Биб¬
лия, чаще Новый, реже Ветхий
Завет, Жития святых и “Золотая
легенда”. Сюжеты светские, глав¬
ным образом из античной мифо¬
логии или истории, проникают в
ренессансную картину преиму¬
щественно к концу столетия.
19
Картина отличается от иконы не своим предназ¬
начением - в XV веке большинство картин пишут для
храмов, монастырей, где они выполняют функцию
моленного образа. Отличие состоит в самом характере
образного языка, не в том, что изображает художник,
но в том, как он воплощает изображаемое, а также -
к кому обращается он своим произведением.
Если икона обращена к молящемуся - то картина
адресована зрителю; если икона рассчитана на пред-
стояние - то картина предполагает рассматривание.
При созерцании иконы у молящегося не возникало во¬
проса о характере изобразительных приемов, о художе¬
ственном качестве иконного образа (в средневековых
источниках можно встретить восхищение красотой
священных изображений, но никогда - критического
отношения, порицания). Художник XV века, работая
над картиной, рассчитывал на оценку зрителя (часто
заказчика), старался продемонстрировать свое мастер¬
ство. Икона предполагала внутреннее, духовное пости¬
жение: “Душа узрела необычайную красоту мыслей,
отраженную в наименованиях, словно в зеркале, об¬
наружила и раскрыла символы, извлекла на свет и
раскрыла помыслы для тех, кто способен ... увидеть
в очевидном скрытое” (Филон Александрийский, I в.).
Картина обращалась к глазу зрителя: “Живопись рас¬
пространяется на все десять обязанностей глаза, а
именно: на мрак, свет, тело, цвет, фигуру, место, уда¬
ленность, близость, движение и покой. Из этих обязан¬
ностей должно быть соткано произведение...” (Леонар¬
до да Винчи).
По своему теологическому смыслу икона за¬
ключала в себе содержание, не воплотимое до конца в
зримых образах. Содержание иконы “прикровенно”.
Видимые формы содержат в себе невидимый смысл,
рассчитанный на духовное или “умное”, как говорили
в Древней Руси, постижение. “Иконы суть видимое не¬
видимого и не имеющего фигуры, но телесно изобра¬
женного из-за слабости понимания нашего ... ибо ви¬
дим в сотворенном образы, тускло показывающие нам
божественное откровение”, - писал в VIII веке Иоанн
Дамаскин.
С самого зарождения средневекового искусства
возникает проблема замещающего знака, своеобразной
тайнописи. И не только потому* что в годы поздней
20
пнтичности христиане исповедовали свое учение тайно
и вынуждены были скрывать его от непосвященных.
Самая сущность учения о божественном откровении,
обращенном к несовершенному людскому сознанию,
требовала иносказания. Смысл откровения не вопло¬
тим до конца ни в зримых, ни в словесных образах;
а иконописи, как и в обряде, - это знак невидимого.
“Неподражаемое подражание”, “неподобное подобие”,
“несказанное” - термины, которыми пользуются
раннехристианские авторы, излагая сущность новой
религии.
Учение о способе передачи божественной истины
с небес на землю было подробно разработано в сочине¬
ниях, которые приписывались Дионисию Ареопагиту
(V в.) (сейчас они считаются творениями неизвестного
автора или авторов и объединяются общим названием
Ареопагитик). В трактате “О небесной иерархии” ис¬
пользован образ многократных отражений, нечто вроде
системы зеркал, благодаря которым информация
достигает границы, отделяющей сферу небесного от
сферы земного, и здесь, на этой границе, преобразуется
(говоря современным языком - перекодируется) в зри¬
мые образы; эти образы в зашифрованном виде, доступ¬
ном человеческому восприятию, не изображают, но яв¬
ляют божественное откровение. Согласно Дионисию
Ареопагиту, они должны принципиально отличаться
от своего небесного первообраза. Не следует представ¬
лять себе, пишет автор, что на небесах действительно
находятся предметы, которые изображают на иконах -
звери, огненные колеса или троны. Это всего лишь зна¬
ки невидимого, его неподобные подобия.
Сочинения Псевдо-Ареопагита оказали определя¬
ющее влияние на эстетику средневековья и на изобра¬
зительное искусство особенно. Икона мыслилась как
видимое невидимого, как бы некоторая завеса, покров,
через который, сквозь который проступают, просвечи¬
вают божественные образы. Икона - в своем конечном
первосмысле - призвана не только явить (проявить) бо¬
жественную сущность изображаемого, но и - в соответ¬
ствии с учением Псевдо-Ареопагита о божественном
мраке - скрыть ее. Иными словами, следует видеть в
иконе экран, одновременно и высвечивающий образ бо¬
жества, и укрывающий его от несовершенного земного
зрения.
Картина как общая формула мировидения
21
“Божественный мрак есть тот свет неприступный,
в котором обитает Бог; свет же оный незрим по причине
чрезмерной ясности и недосягаем по причине переиз¬
бытка сверхсущностного светолития”. Спор об изобра¬
зимости и неизобразимости божества, то разгораясь, то
затухая, проходит через все средневековье, в самые на¬
пряженные моменты переходя во вспышки иконобор¬
чества.
С торжеством христианства, с принятием его в
IV века в качестве государственной религии, в искус¬
ство постепенно проникают изображения Христа в его
человеческом облике (в земной его ипостаси); скла¬
дывается иконография евангельских сюжетов, изобра¬
жающих историю земной жизни Христа, житий свя¬
тых. Икона становится повествовательной по своим
сюжетам, но сохраняет свою первичную сущность -
явления божества (эпифании) - на глубинном уровне,
на уровне системы художественного языка.
Изображенное в иконе являет себя. Все формы
выносятся из глубины на поверхность, их функция -
не столько изображать предмет, сколько возвещать,
знаменовать его. Можно сказать, что каждая икона,
вне зависимости от ее сюжета, является “знамением”.
Способ построения форм в иконе принято по тра¬
диции называть обратной перспективой. Однако само
понятие перспективы “обратной” предполагает, что
речь идет о некоторой строго продуманной системе
геометрического построения объемов в пространстве,
обратной по отношению к прямой, центрической пер¬
спективе, изобретенной в эпоху Возрождения и пред¬
полагающей единую точку схода зрительных лучей,
зрительные пирамиды и т. д. Но, во-первых, всех этих
правил начертательной геометрии средневековье не
знало, и, во-вторых, прямая перспектива была изобре¬
тена значительно позже, в этом смысле можно с полным
правом утверждать, что именно перспектива Возрожде¬
ния была “обратной” по отношению к перспективе сред¬
невековья. Но, конечно, дело не в игре терминами, а в
том, что тот способ, которым пользовались средневеко¬
вые мастера, вообще не следует называть перспекти¬
вой, поскольку перспектива предполагает построение
далевого образа, взгляда отсюда - туда. В простран¬
ственной системе иконы взгляд, то есть глаз зрителя,
вообще не фигурирует. И если уж говорить о взгляде, то
22
ит» “взгляд Отца” (И. Бродский), направленный отту¬
да, из непостижимой дали, - сюда, в мир земной.
При этом единства в соблюдении точки зрения -
обязательного условия прямой перспективы - в иконе
нот, есть некоторая интенция, стремление, но не прави¬
ло. Предметы в иконе видимы то сверху, то снизу, то
(*права, то слева, чаще - с разных сторон одновременно.
Для божественного Ока нет категорий близи и дали -
лто законы земного, человеческого зрения. Оттуда все
земные вещи видимы одновременно и со всех сторон.
Основными смысловыми полюсами иконы яв¬
ляются понятия верха и низа. Соответственно компози¬
ция иконы строится ярусами: от небесного к земному -
и соответствии с “божественной иерархией” Псевдо-
Лреопагита - и наоборот - от земного к небесному, по
ступеням “лествицы духовной” (духовного совершен¬
ствования). Таким образом, пространство иконы имеет
дна взаимно противоположных, но внутренне связан¬
ных духовных вектора: ниспослание благодати с небес
па землю и вознесение духа.
Что касается времени, то его в иконах нет, в них
господствует вечность. Даже когда изображается зем¬
ная жизнь Христа, протекавшая в земном времени,
каждый отдельный эпизод утрачивает свой прехо¬
дящий, временной характер и прибретает ритуаль¬
ный смысл. Поэтому икона - это прорыв из времени в
вечность.
В отличие от вечности, земное, человеческое вре¬
мя имеет конец. Таким концом для всех людей будет
последний Судный день - Страшный суд. Тогда, соглас¬
но “Апокалипсису” Иоанна Богослова, “небо совьется
как свиток”, прекратится чередование дней и ночей и
“времени больше не будет”. Эта последняя, самая
страшная, но и самая торжественная страница челове¬
ческой истории, часто изображавшаяся в иконах, все¬
часно стояла перед глазами смертных. Все средневеко¬
вье как бы постоянно стремилось освободиться от вре¬
мени, взыскуя вечности.
В житийных иконах святой изображался таким,
каким он предстанет очам Всевышнего, в ореоле своих
земных деяний, изображенных в клеймах, на полях
иконы (причем часто эпизоды жития располагались не
в хронологической последовательности, но следуя
смысловой симметрии, по обе стороны иконы). Усоп¬
Картина как общая формула мировидения
23
ший поднимается к престолу Всевышнего, “и все дела
его идут вослед ему”, - говорится в одном из средневе¬
ковых источников.
Икона имеет вне-временную и вне-пространствен-
ную структуру, или точнее - структуру все-временную
и все-пространственную. Ее можно рассматривать как
предельно обобщенную средневековую “формулу бы¬
тия”. В основе ее лежит крест. Это и символ Распятия,
и одновременно архитектоническая схема с семантиче¬
ски напряженным центром, с контрастными полюсами
верха и низа (неба - и земли, рая - и ада), с различным
качественным значением правой - доброй, левой - дур¬
ной стороны. Стороны ориентированы не по отношению
к тому, кто находится перед иконой (молящемуся или
смотрящему на икону извне), но по отношению к Рас¬
пятому, зримо или незримо присутствующему на крес¬
те, изображенному или подразумеваемому. (В самой
иконе “Распятие” эти полюса добра и зла зрительно
конкретизируются в расположении фигур “доброго” и
“злого” разбойников.)
На самом глубинном уровне крест представляет
собой символически переосмысленную схему основных
пространственных ориентиров. Вертикальная ось ука¬
зывает направление с запада на восток (в средневеко¬
вых картах восток, как правило, располагался вверху);
горизонтальная ось обозначает направление с севера
на юг. По этой же пространственной и символической
схеме строился и средневековый храм. В этом смысле
икона - это образ храма в миниатюре, образ мира как
храма.
Если икона подобна завесе, покрову, сквозь кото¬
рый проступают черты мира потустороннего, если пред¬
назначение иконы в том, чтобы не только явить божест¬
венное откровение, но, подобно “свету неприступному”,
который есть “божественный мрак” (Ареопагитики),
скрыть его от несовершенного земного взора, то образ¬
ной метафорой картины Возрождения становится окно,
не закрытое цветными стеклами (как средневековый
витраж), но широко открытое вовне. Определение кар¬
тины как открытого окна принадлежит Леону Баттисте
Альберти - архитектору и теоретику Раннего Возрож¬
дения. Метафора картины оказывается перевернутой по
отношению к иконе: вместо преображающей завесы -
24
распахнутое окно. Никакой преграды, никакой тайны,
ничего закрытого, просвечивающего, все до конца обна¬
ружено.
Тема окна в картинах XV века подчеркивается
уже самой рамой, повторяющей формы раннеренес¬
сансного окна и тем самым материализующей метафо¬
ру Альберти. Кроме того, мотив окна и его модифика¬
ции - дверной проем или лоджия - возникает во многих
картинах кватроченто, создавая двойную структурную
модель: окно в окне (картина в картине).
Картина - это вид в окне, иными словами, она
изображает не мир в целом (как икона), но только то,
что видно. Окно выполняет роль своеобразного видоис¬
кателя: художник, образно говоря, изображает только
то, что попадает в поле его зрения при взгляде в окно.
(В данном случае мы прибегаем к искусственной рекон¬
струкции творческого процесса: вид в окне - это услов¬
ная формула, не имеющая отношения к реальной прак¬
тике художника, - такая же метафора, как образ заве¬
сы применительно к иконе.)
Возникает ситуация в некотором смысле парадок¬
сальная. Метафорически (или, точнее, теологически)
икона уподоблялась завесе, сквозь которую проступа¬
ли, проявлялись черты (или знаки) мира надземного;
физически икона писалась на доске, и все изображае¬
мое, все формы, вынесенные на ее поверхность, как бы
материализовали, подчеркивали вещественность самой
доски. Характерное для средневекового сознания не-
снимаемое противоречие духовного - и телесного, пре¬
дельно абстрактного - и предельно конкретного вы¬
ступало в иконе с особой наглядностью. (С этим было
связано почитание иконы не только как священного
образа, но и как священного предмета, сакрализация
самой доски, на которой она написана.) Изображая мир
неизобразимый, умопостигаемый, икона самой живо¬
писью своей подчеркивала, утверждала не иллюзор¬
ную, но вполне конкретную поверхность доски.
По-иному, но не менее парадоксальна концепция
возникшей в XV веке картины. Стремясь изобразить
мир не умопостигаемый, но видимый (теоретики Воз¬
рождения настаивали на том, что художник должен
изображать лишь то, что видит глаз), то есть нечто
материальное, конкретное на уровне предмета изобра¬
жения, художники стремились добиться зрительной
Картина как общая формула мировидения
25
иллюзии, то есть всеми способами зрительно уничто¬
жить поверхность доски (большинство картин эпохи
Возрождения, во всяком случае, на первом его этапе, в
XV веке, писалось так же, как иконы, на досках).
Обобщая, можно предложить следующую форму¬
лировку: икона предельно умозрительна на уровне
содержания и предельно материализована на уровне
художественных средств его воплощения; напротив,
картина предельно материализована на уровне предме¬
та изображения и предельно дематериализована на
уровне его зрительного воплощения.
Итальянские художники XV века свою главную -
самую трудную, но и самую почетную - задачу видели в
том, чтобы зрительно прорвать живописную поверх¬
ность, уничтожить ее, создать иллюзию проема. Однако
прорвать вертикальную плоскость в глубину было
очень трудно, особенно на первых порах, она оказывала
упорное сопротивление. Глубина, трехмерность не под¬
давалась правдоподобному изображению на плоскости.
И тогда была изобретена прямая перспектива. Этот
изобразительный прием, по преданию, был придуман
(или “открыт”) архитектором Филиппо Брунеллески.
Архитектор Альберти, считавший себя его последова¬
телем, разработал сложный метод геометрического по¬
строения центрической перспективы и настойчиво
предлагал пользоваться им всем живописцам. Нача¬
лось поголовное увлечение перспективой, правильное
использование ее считалось показателем живописного
мастерства художника. Однако далеко не всем были
доступны предложенные Альберти приемы, поскольку
они требовали от мастеров определенного уровня мате¬
матических знаний.
По-видимому, на протяжении всего XV столетия
умением геометрически правильно построить перспек¬
тиву владели далеко не все художники. Во второй поло¬
вине столетия научно занимался перспективой Пьеро
делла Франческа, написавший специальный трактат
“О живописной перспективе”, в котором развивал и
уточнял метод Альберти.
Однако многие живописцы рисовали перспективу
просто на глаз, не особенно соблюдая правила единства
зрительного впечатления глубины.
Образцом перспективного изображения служило
также отражение в зеркале. Сохранились сведения, что
26
иногда, особенно в ранний период увлечения перспек¬
тивой, художники не только переводили на бумагу
отражение в зеркале, но рисовали его прямо на поверх¬
ности стекла. Зеркало может считаться второй, наряду
с окном, мифологемой раннеренессансной картины.
В средние века в зеркале видели символ отра¬
жения пришедшего Оттуда. Согласно Псевдо-Ареопа-
гиту, это отражение было замутненным, искаженным
образом божественного архетипа (что, кстати, соответ¬
ствовало отражающей способности средневековых зер¬
кал, изготовлявшихся, чаще всего, из полированного
металла). Сохранился трактат Витело (1268), посвя¬
щенный зеркалам, их свойствам и их символике.
Под несомненным влиянием этого средневекового
трактата пишет о зеркалах математик Паоло Тосканел-
ли. Для него зеркало не символ, но своеобразный инст¬
румент, дающий точное отражение находящихся перед
ним реальных предметов. Отражение в зеркале фигури¬
рует у него как идеальный способ изображения мира
реального, как образец для художника. В зеркаль¬
ном отражении видели нечто вроде “обманки”. Тоска¬
не л ли перечисляет различные фокусы, которые можно
устроить с применением одного или нескольких зер¬
кал. Так, в зеркале, укрепленном где-нибудь высоко на
дереве, отразить помещенное на земле изображение
летящего дракона, а также разные другие “чудеса”.
Средневековая символика зеркала святотатственно вы¬
вернута здесь наизнанку: передача с помощью зеркала
информации не с неба на землю, но с земли на небо
(характерная для Возрождения интеллектуальная игра
с догматами богословия).
Пытаясь разгадать загадку отражения предметов
в зеркале, отражения точного, но перевернутого слева
направо, Тоскане л ли, подобно Альберти, использует
закон падения и отражения, открытый в античности,
пользуясь для наглядности примером с брошенным в
стену мячиком. Согласно Тоскане л ли, на зеркало от на¬
ходящегося перед ним предмета падает луч и, отра¬
жаясь (отскакивая) от твердой поверхности стекла,
попадает в глаз смотрящего. Однако многое в “чуде”
зеркального отражения оставалось неразгаданным. На¬
пример, каким образом небольшой кусочек стекла (в ту
пору большие зеркала делать еще не научились) может
вместить большие предметы и глубокое пространство.
Картина как общая формула мировидения
27
Тайна зеркала оставалась, но это уже была тайна не
поту-сторонняя, но посю-сторонняя, а значит, предмет
для исследования не умозрительным, как в средние ве¬
ка, но опытным путем. В отличие от иконы, создание
которой почиталось актом благочестия, в картине, как
и во всяком мастерстве, ценили плод приобретенного
художником опыта.
Икона - это образ мироздания (мира, созданного
Богом); картина - образ мироустройства (устроения
земной реальности). Что касается сферы небесного, то
это, по представлениям человека Возрождения, должно
рассматривать как прерогативу Бога; что же касается
устройства мира земного, то он, по мысли гуманистов,
вышел из рук Творца далеко не совершенным, и чело¬
веку следует его “исправить”, “улучшить”, “пере¬
строить” (Джаноццо Манетти. Трактат о достоинстве
и благородстве человека. 1451).
Задача человека - обустроить мир земной. Отсюда -
возникновение ренессансных архитектурно-социаль¬
ных утопий, предлагающих новые модели идеальных
городов. XV столетие в Италии - столетие эксперимен¬
тальное по преимуществу. Одно из ключевых слов вре¬
мени - слово “изобретение” (invenzione). Век начинает
Брунеллески, прославившийся среди современников
своими изобретениями в самых разных областях искус¬
ства и техники; закончил столетие изобретатель - Лео¬
нардо да Винчи. Раннее Возрождение - это время созда¬
ния проектов и разного рода моделей. О значении моде¬
лей в любом творческом процессе подробно говорится в
сочинениях Альберти. Картину кватроченто можно, в
конечном счете, рассматривать как идеальную струк¬
турную модель мира земного.
В картинах кватроченто земля - или ее архитек¬
турный аналог - пол, вымощенный плитами, расчер¬
ченный и измеренный, составляет важнейший элемент
изображения. Это такой же опознавательный знак
ренессансной картины в период ее становления (то есть
в XV веке), как и оконный или дверной проем в глуби¬
не. Картина кватроченто - это вид на земной, горизон¬
тальный мир, взгляд вдальу вдоль земной поверхности,
в глубь композиции. Намагниченный смыслом центр
картины расположен теперь не в верхней части изобра¬
жения, не там, где располагалась в иконе сфера небес¬
ного, но там, где небо сходит на землю - на линии гори-
28
понта. Именно там, где при правильном геометричес¬
ком построении располагалась точка схода перспектив¬
ных линий, - не умозрительный, но зрительный центр
композиционного притяжения.
Завоевание земной дали, пространственная экс¬
пансия - важнейшая доминанта ренессансной куль¬
туры, приведшая в конце столетия и к изобретению
пушечного ядра, сделавшего физически досягаемыми
расстояния, доступные прежде только взгляду, и к ве¬
ликим географическим открытиям, расширившим зем¬
ное пространство, сделавшим его измеримым благо¬
даря первым не фантастическим, но относительно “пра-
иильным” географическим картам.
В иконе земля изображалась (если вообще изобра¬
жалась) в виде плоской, как правило, зеленой полосы
но нижнему краю композиции. Этот “позем” (как назы-
нали его русские иконописцы) располагался в той же
плоскости, что и остальные ярусы иконы, поднимав¬
шиеся вверх, к небу. Перед итальянскими художника-
ми-кватрочентистами стояла нелегкая задача оторвать
этот позем, эту полосу земли от общей вертикальной си¬
стемы построения, положить ее горизонтально.
В картине Фра Беато Анжелико, которого Альбер¬
ти не случайно причисляет к первому поколению фло¬
рентийских художников-новаторов, изображен Страш¬
ный суд. Земля словно силой оторвана от неба и опроки¬
нута в глубину картинного пространства. Все земные
персонажи столпились на переднм плане, у самого края
картины, а в центре земная поверхность, как тяжелая
доска, упала, упершись концом в горизонт. Небо, на ко¬
тором разместились Бог-Судия и святые, окутано гус¬
тыми и плотными облаками, оно материально тяжело
повисло совсем низко над землей. Умозрительное про¬
странство иконы, превращенное в пространство зри¬
тельное, теряет свою безмерность и становится измери¬
мым, небо опускается к самой земле, становится дося¬
гаемым.
Альберти в своем сочинении “Момус” изобразил
богов Олимпа, обитающих почти “на крышах домов” -
прием фарсовый, но, несомненно, отражающий иной,
нежели в средние века, оземленный образ мироздания.
Такое приближенное, вполне материальное “небо” Ан¬
желико, как и другие мастера Раннего Возрождения,
видели в декорациях для церковных представлений,
Картина как общая формула мировидения
29
где изображались окутанные ватными облаками “небе¬
са”. Многие из живописцев сами участвовали в созда¬
нии таких декораций. Эти представления получили
широкое распространение во Флоренции, а затем и в
других городах Италии. Вообще “небеса” приобретают
в эту пору какую-то особую конкретность и досягае¬
мость, может быть, по контрасту с недосягаемостью не¬
бес средневековых. Во время праздничных шествий над
улицей натягивали полотняное “небо”, голубое, усеян¬
ное звездами; участники процессии проносили по горо¬
ду рисованные “облака”. В картинах небо на линии го¬
ризонта касается земли, если оно пустое, или повисает
густыми облаками над самой землей - как в картине
Анжелико.
В панно “Троица” работы Мазаччо, которое мож¬
но рассматривать как первый живописный манифест
нового искусства, сфера небесного предельно конкрети¬
зирована и приближена к сфере земного. Изображена
капелла, перекрытая коробовым сводом, на ведущих к
ней ступенях представлены коленопреклоненными
женская и мужская фигуры, по-видимому, донаторы;
чуть выше - непосредственно перед капеллой - Мария
и Иоанн, а в самой капелле Бог-Отец крепко стоит босы¬
ми ступнями прямо на невысоком алтаре, касаясь голо¬
вой тяжелого, кессонированного свода капеллы (ана¬
лога небесного свода), зрительно подпирая его (подобно
античному Атланту, державшему на себе небесный
свод - ассоциация вполне в духе времени, пытавшегося
возродить античность), Бог-Отец крепко держит обеи¬
ми руками Распятие, словно опираясь на поперечную
перекладину креста, которая, в свою очередь, подобно
распорной балке, укрепляет основание свода капеллы.
Мистический образ “Новозаветной Троицы” (над голо¬
вой Бога-Отца на фоне свода парит едва заметная фи¬
гурка голубя - символ третьего члена Троицы - Святого
Духа) приобретает характер метафоры - истолкования
в духе ренессансной архитектоники средневекового
тезиса, согласно которому планировка храма символи¬
зировала или воспроизводила Распятие (иногда на¬
столько буквально, что главная капелла несколько
сдвигалась в сторону от оси симметрии, обозначая скло¬
ненную голову Христа).
Когда художник кватроченто изображает приро¬
ду, он предпочитает показывать ее издали, в проеме
30
окна или двери, в пролете арки, в конце улицы или пло¬
щади, в монастырском садике или в садике палаццо.
Это природа прирученная, взятая в кадр. Естествен¬
ную, дикую природу, не преображенную рукой челове¬
ка, Ранний Ренессанс не любит, боится ее. Сады заго¬
родных вилл всегда обработаны, структурированы, с
перголами и беседками, увитыми цветами и виногра¬
дом, со специально подобранными растениями. Это та
же архитектура, но только архитектура зеленая.
В картине Боттичелли “Весна” действие разво¬
рачивается в лесу, но стволы деревьев уподоблены
колоннам, их ветви, сплетаясь, образуют правильную
арку над головой Венеры, а луг, по которому ступают
фигуры, превратился в великолепный, ухоженный
газон или ковер, украшенный узором из цветов. Про¬
странственная коробка картины сохраняется, даже
когда в ней нет ограничивающих ее стен комнаты или
фасадов зданий.
Прием центрической перспективы, применение
которого считалось нормой, заключал в себе закры¬
тость композиционного решения. Аксонометрическое
построение объемов, ракурс фигур, симметричное, ку¬
лисное их размещение, центральная ось, акцентиро¬
ванная либо положением фигуры главного персонажа,
либо видом вдаль, на горизонт, наконец - обязатель¬
ная, расчерченная плоскость пола или земли на перед¬
нем плане, да и сама линия горизонта, замыкающая,
ограничивающая даль, - все эти элементы перспектив¬
ного построения создают отчетливо ощутимые грани¬
цы. Безмерность мира поймана и заключена в про¬
странственные параметры картины.
В одном из своих сочинений Альберти рассказы¬
вает, как он любил забавлять своих гостей, демонстри¬
руя сконструированное им приспособление - нечто
вроде камеры-обскуры, глядя в которую можно было
видеть пейзажи с проплывающими облаками, виды
городов, море с движущимися кораблями. И все это ка¬
залось зрителям совсем как настоящее. Собственно,
итальянская картина кватроченто строилась по типу
подобной камеры, с двумя, чаще с тремя простран¬
ственными планами: передним, где располагались
главные персонажи, вторым - с сильным масштабным
перепадом фигур, несоизмеримых с фигурами перед¬
него плана, и третьим - с далеким видом на природу,
Картина как общая формула мировидения
31
замыкающимся линией горизонта; искусно устроен¬
ный мир, “улучшенный” руками человека-творца.
Наиболее чистым воплощением этого идеального мира
можно считать городские ведуты, застывшие в рас¬
считанном, измеренном, постигнутом и подчиненном
человеческому разуму совершенстве. В этих бессюжет¬
ных ведутах изображено то, что так часто составляет
вторые планы сюжетных картин, с их пустынными
площадями, увенчанными триумфальной аркой или
храмом, как у Перуджино в его “Обручении Марии
с Иосифом”.
Но иногда в этих неподвижных пространствах
площадей мечутся маленькие фигуры людей, разыгры¬
ваются трудно угадываемые по сюжету драмы. Мир, со¬
зданный человеком, неподвижен в своем совершенстве,
но человеку кватроченто порой становится тесно в этом
рассчитанном “мире мер”. Тесноту остро чувствует уже
Паоло Уччелло - один из самых страстных адептов при¬
менения в живописи центрической перспективы. В сце¬
нах на тему “Осквернение остин” стены комнат начи¬
нают сдвигаться с мест, словно под напором атакующих
дверь человеческих фигур, или странным образом разъ¬
езжаются в стороны, образуя нечто вроде средневеко¬
вой обратной перспективы.
Итогом пространственной коллизии в живописи
кватроченто можно считать “Тайную вечерю” Леонардо
да Винчи. Идеально правильно построенное простран¬
ство трапезной - и смятенность апостолов, вскочивших
со своих мест, столпившихся вокруг Христа, единст¬
венная спокойная фигура которого удерживает цент¬
ральную ось композиции и являет собой точку схода
перспективных линий. Апостолам, теснящимся и бур¬
но жестикулирующим, тесно в этом крепко построен¬
ном, до иллюзорности правдоподобном пространстве
комнаты, покрытой низким, тяжелым потолком. Фи¬
гур слишком много для такого помещения, они с тру¬
дом в нем умещаются и вряд ли могли бы встать во весь
рост. Композиционная драма “Тайной вечери” Леонар¬
до - это драма пространственная. Теснота изображен¬
ной трапезной выталкивает фигуры вперед, в прост¬
ранство трапезной реальной; они словно боятся пробить
невидимую стену переднего плана, запретную, по¬
скольку именно здесь проходит невидимая грань, отде¬
ляющая зону изображения от зоны зрителей.
32
В трактате Альберти, которому во многом очень
близко следовал в своих оптических штудиях Лео¬
нардо, процесс восприятия картины рисуется в виде
двух горизонтально расположенных зрительных пира¬
мид. Вершина одной помещается в глазу смотрящего и
имеет своим основанием плоскость изображения; вто¬
рая пирамида, имея то же основание, находится по ту
сторону этой плоскости, и ее вершиной является точка
схода перспективных линий. Таким образом, плоскость
картины, ее передний план, подобно стеклянной стене,
отделяет реальный мир зрителя от мира изображен¬
ного. На протяжении всего XV столетия нерушимость
этой невидимой стеклянной преграды соблюдалась
очень строго.
Картина кватроченто, гармоничная по компози¬
ции, подобна утопическим проектам идеальных горо¬
дов и столь же утопична в своей гармонии. Архитектур¬
ная и живописная утопии, так же, как социальная уто¬
пия многочисленных “пaнeгиpикoв,, городу Флорен¬
ции, отражали мир долженствования. Композиция
картины тоже подчинена этому принципу должного,
она всегда спокойна, уравновешенна и величественна
вне зависимости от того, какой сюжет изображается:
триумф или мученическая смерть, радость или страда¬
ние. Любое событие разворачивается в обрамлении пла¬
стичных колонн и арок, все, что происходит в картине,
происходит на фоне далекого пейзажа, спокойного и
прекрасного.
Однако гармоничная на уровне внешнем, компо¬
зиция картины кватроченто драматична на более глу¬
бинном, структурном уровне, отражающем внутреннее
беспокойство, скрытую тревогу и чувство онтологичес¬
кой неуютности, которые определяли самоощущение
человека раннеренессансной поры, его вйдение себя в
мире. XV век - век переделывания, перестройки, раз¬
рушения одной и становления другой системы мироус¬
тройства. Если человек средневековья чувствовал себя
“ходящим под Богом”, то человек Возрождения остался
наедине с миром. И очень скоро почувствовал, что в
этом мире существуют свои, неумолимые, не завися¬
щие от его воли законы - закон Судьбы, закон Форту¬
ны. В каком-то смысле зрительным воплощением этих
законов служат в картине правила прямой, центричес¬
кой перспективы. Высокое предназначение человека
Картина как общая формула мировидения
33
состоит в том, чтобы противостоять Судьбе, не подчи¬
няться капризам Фортуны. Отсюда структурная модель
картины: в ней как бы два пространства - для окружа¬
ющей человека среды, подвластной законам перспекти¬
вы, и для самого человека, этим законам не подвласт¬
ного. Он существует в ином измерении: на переднем
плане, увиденный снизу вверх и тем возвеличенный,
в то время как весь мир, все окружение увидено сверху,
словно с высоты его глаз. Человек не погружен в про¬
странство, он существует перед ним или возвышается
над ним. Герой одинок, весь земной мир отброшен вниз
или отодвинут вдаль. По выражению Пико делла
Мирандола, человек “вертикален” по отношению к “го¬
ризонтальному” миру; он подчинил себе мир, познал и
упорядочил его, но оказался в этом мире одиноким: “не
обитателем, но зрителем Вселенной”.
Сочинение Пико делла Мирандола “Речь о до¬
стоинстве человека”, написанное в последние годы
XV века, задумано автором как восторженный гимн
Человеку, но в нем - осознанно или, скорее, неосознан¬
но - отразился скрытый трагизм земной человеческой
судьбы. Человек есть великое чудо, пишет Пико делла
Мирандола, “истолкователь природы в силу прони¬
цательности ума, ясности мышления и пытливости ин¬
теллекта. (Заметим: не обитатель природы, но ее
истолкователь.) Образ прочих творений определен в
пределах установленных нами законов, - обращается
к человеку автор от лица Творца, - ты же, не стеснен¬
ный никакими пределами, определяешь свой образ по
своему решению...” Человек, по мысли Пико, вырван
из-под власти “законов” (так же, как в картине он
вырван из-под власти законов перспективы). И далее:
“Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было
удобней обозревать все, что есть в мире”. Возникает
впечатление, что Пико, сочиняя свою “Речь”, имел
перед мысленным взором одну из картин, изображаю¬
щих Св. Себастьяна, привязанного, как у Антонелло да
Мессины или Мантеньи, к одиноко стоящей колонне:
поистине не обитатель, но “обозреватель Вселенной”.
Полная выключенность из общей “машины мира”.
Мантенья, единственный, уже в самом конце века в
картине “Мертвый Христос” бесстрашно подчинил тело
Христа закону перспективы, ракурса - закону судьбы,
общему для всех смертных.
34
Пространственная драма картины Возрождения
рмиморпчивается как настойчивое стремление уловить,
приручить пространство, построить замкнутый, рацио-
ми ниш постигаемый мир, выделенный из пугающе не-
ммитижимой безмерности мира средневекового, откры-
ммч» и запредельность. И одновременно - это не менее
мигтойчивые попытки нарушить строгие границы ис-
м уггтмонно и искусно построенного мира, попытки бег-
• ши и мир внешний, в его открытость - пусть не вверх,
мик и средние века, но вширь и вглубь.
Уже в XV веке художники пытались расшатать
• г«Ч1Ы пространственной коробки, раздвигая их в сторо¬
ны, как, например, сделал это Паоло Уччелло. Но го¬
раздо чаще они раздвигали границы сюжетно, при этом
наружное пространство врывалось в изображенный
ни картине интерьер храма или комнаты. Особенно сме¬
чи прибегал к этому композиционному приему Фра
Филиппо Липпи. Его известное тондо, на котором изоб¬
ражена Мадонна со сценами из жизни Св. Анны, пред¬
стал л яет собой монтаж различных кусков разновремен¬
ной и разнопространственной реальности, искусно
соединенных в композиционное целое. Еще более ре¬
шительно манипулирует Филиппо Липпи простран¬
ством во фресках собора в Прато, посвященных житию
Га. Стефана. Здесь гористый пейзаж с наивной убе¬
дительностью вторгается непосредственно в интерьер
базилики.
В XVI веке в живописи Высокого Возрождения
уравновешенная замкнутость картины начинает актив¬
но размыкаться не только вширь и вглубь, но и вперед,
на зрителя. Невидимая преграда переднего плана по¬
степенно утрачивает свою неприкасаемость - сюжет¬
ную и композиционную.
Одним из первых покусился на запретную перед¬
нюю плоскость Рафаэль в своей “Афинской школе”.
Перспектива в его фреске так стремительно расширяет¬
ся к переднему плану, что пространство получает как
бы обратный импульс: не в глубину, а из глубины. Про¬
исходит развертывание стянутого в одну “точку схода”,
остановленного, словно завороженного пространства
кватрочентистской картины. К тому же далевой центр
композиции (“точка схода”) заслонен фигурами двух
философов - Аристотеля и Платона; они не стоят на
месте, подобно живым статуям, но, энергично жестику¬
Картпина как общая формула мировидения
35
лируя, идут вперед, двигая за собой все картинное про¬
странство, которое тем самым вступает в пока еще мол¬
чаливый диалог с пространством внекартинным.
В “Сикстинской Мадонне” фигуры Сикста и херу¬
вимов уже вполне ощутимо касаются переднего плана -
самой рамы картины; Мария, как и двое философов в
“Афинской школе”, идет вперед, навстречу зрителю. Ее
целеустремленное движение композиционно слегка за¬
торможено: Мария делает решительный шаг правой но¬
гой, но левая словно задерживается, цепляясь за обла¬
ко. Ее движение затрудняет и встречный ветер, наду¬
вая, словно парус, складки ее плаща. Но ведь этот ветер
дует не из глубины картины - он дует извне, из мира
зрителя; наружное пространство уже задействовано
здесь не только композиционно, но и сюжетно.
В искусстве Раннего Возрождения изображенное
в картине всегда дистанцировано от зрителя, предъяв¬
лено ему как объект для рассматривания. В источниках
часто можно встретить рассуждения об оптимальной
позиции смотрящего на произведение, о необходимости
соотносить уровень горизонта с уровнем его глаз. Прав¬
да, на практике это соблюдалось далеко не всегда,
имелся в виду не столько реальный, сколько вообража¬
емый, идеальный зритель. Но существенно, что зри¬
тель всегда мыслился находящимся на некотором рас¬
стоянии от картины, противостоящим ей как субъект,
воспринимающий, - объекту восприятия, рассчитанно¬
го не столько на эмоциональное сопереживание, сколь¬
ко на придирчивую оценку: как выполнено, правильно
или неправильно, похоже или непохоже. Художник во
время занятия живописью не должен отвергать сужде¬
ние каждого - наставляет Леонардо живописцев. “Будь
готов терпеливо выслушивать мнения других, рассмот¬
ри хорошенько и подумай хорошенько, имел ли основа¬
ние хулитель хулить тебя...”1.
“Сикстинская Мадонна” Рафаэля обращена не к
оценивающему взгляду зрителя, не к его интеллек¬
туальному любопытству, но к его сочувствию, сопере¬
живанию; зритель при этом оказывается не вне, а как
бы внутри сюжетной сферы картины. Однако простран¬
ственная эмансипация картины Высокого Возрожде¬
ния выражается не только в поисках эмоционального
контакта со зрителем (то есть в нарушении нерушимых
прежде границ образной замкнутости, внутренней
36
| лмодостаточности, самопогруженности изображения).
Ийртина начинает высвобождаться, выламываться из
•< I рогого структурного каркаса кватрочентистской ком-
Н1М1ИЦИИ.
В полотне Тициана “Мадонна семейства Пeзapo,,
(Мпмпция, церковь Фрари) от традиционной компози¬
ционной схемы остались лишь профильные фигуры
донаторов на переднем плане, только они держат плос¬
кость. Вся изображенная архитектура, вместе с троном
Могоматери, тяжело, с почти ощутимым грохотом,
гдпинулась с места и повернулась; огромные колонны,
подобные мощным устоям, на которых держался мир
I'пинего Возрождения, дрогнули.
Процесс активного расшатывания, разбалансиро-
иания архитектонического костяка картины с особой
наглядностью проявляется при сравнении двух анало¬
гичных по композиции полотен Тициана. В раннем, на¬
писанном в 1510-х годах и получившем условное назва¬
ние “Любовь небесная и Любовь земная” (сюжет карти¬
ны до сих пор убедительно истолковать не удалось),
а центре, параллельно передней плоскости стоит тяже¬
лый античный саркофаг, по сторонам от него две жен¬
ские фигуры; левая, в пышном одеянии, расположена
ниже, правая, обнаженная - значительно выше; однако
равновесие композиции не нарушено, саркофаг твердо
удерживает его своей мраморной устойчивостью. В бо¬
лее позднем произведении Тициана, в его “Положении
по гроб” изображен такой же саркофаг, но словно с тру¬
дом сдвинутый с места, развернутый в пространстве
картины под углом к ее передней плоскости. В соответ¬
ствии с принятой иконографией, над саркофагом скло¬
нились три фигуры: Мария, Никодим и Иосиф Ари-
мафейский. Вся эта группа из центра передвинута в
сторону, резко нарушая равновесие, к тому же, как и
саркофаг, она развернута по отношению к плоскости
так решительно, что одна из фигур оказалась у самого
края полотна, спиной к зрителю. В картинах Раннего
Возрождения невидимая преграда переднего плана от¬
деляла - и отдаляла персонажи, они смотрели сквозь
эту преграду и не замечали ее. В картинах Позднего
Возрождения эта невидимая преграда обладает каким-
то особым магнетизмом; сам художник и те, кто изобра¬
жен на полотне, постоянно ощущают ее притяга¬
тельность, испытывают непреодолимое “искушение
Картина как общая формула мировидения
37
поверхностью”. Фигуры направляются к переднему
плану, подходя к нему вплотную, стремятся при¬
коснуться и, наконец, прорывают эту заповедную плос¬
кость. В тициановском “Оплакивании” - одном из
самых поздних его произведений - рыжеволосая Маг¬
далина, подойдя к рампе, бросает прямо в публику
вопль отчаяния, она обращается непосредственно к
тем, кто стоит перед полотном, и дальше, через их голо¬
вы, в далекое пространство мира. Вместо центростре¬
мительной композиции картины кватроченто возни¬
кает композиция центробежная.
С особой наглядностью принцип центробежного
построения воплощен в полотнах Тинторетто с их кру¬
тыми диагоналями перспектив, создающих, в букваль¬
ном смысле этого слова, разбегающиеся (убегающие)
пространства. И не только пространства. В некоторых
из его полотен, как, например, в “Похищении тела
Св. Марка”, все персонажи покидают картину; они
стремительно разбегаются в разные стороны, оставляя
в центре пустую площадь. (Напрашивается контраст¬
ное сравнение этой картины пустого центра с кватро-
чентистской картиной Антонелло да Мессина “Святой
Себастьян”, где герой, по выражению Пико делла
Мирандола, поставлен Творцом в центре вселенной.)
Нужно себе представить, каким шоком должно
было стать для людей того времени открытие Копер¬
ника, с каким трудом входило в их сознание пред¬
ставление о том, что человек живет не на устойчиво
неподвижной площадке земли, под которой, подобно
подвалу в доме, находится преисподняя и над которой,
подобно куполу, высится небесный свод. “Утвержде¬
ние, что солнце стоит неподвижно, в середине мира,
глупо, философски ложно и, так как решительно про¬
тиворечит Священному Писанию, прямо еретично.
Утверждение, что земля не стоит в середине мира и
имеет даже собственное ежедневное вращение, фило¬
софски ложно и есть всяческое заблуждение”, - гово¬
рится в папской булле (1616), осуждающей учение
Коперника. Трактат Коперника “О вращении светил
небесных” (1543) стал известен в Италии с середины
столетия, сначала в рукописях, а затем в печатном из¬
дании. Конечно, содержание трактата не могло полу¬
чить широкого распространения. Но все же ощущение
внутреннего беспокойства, неизбежные, может быть,
38
нм сразу осознаваемые сдвиги сознания, чувство неко-
Н'|Н1Й неустойчивости мира, подобно чуткому сейсмо-
♦ рпфу, запечатлела живопись.
Но многих полотнах Паоло Веронезе, особенно в
нм» огромных евангельских “Пирах” (“Пир в доме Ли¬
мин”, “Брак в Кане”, “Тайная вечеря”), кроме основных
действующих лиц, присутствуют множество посторон¬
них, лишних фигур. Однако, несмотря на столь оче-
мидную перенаселенность, господствующей в них ока-
•н«1 мнется пустота - пустота голубого неба с высоко
ионносящимися на его фоне колоннами и арками Вене¬
ции иг кой архитектуры. Именно эта небесная зона опре¬
деляет образный смысл картин, составляет их главное
композиционное и смысловое ядро.
Небо в живописи Позднего Возрождения снова,
хотя и по-иному, нежели в средние века, приобретает
моиышенную значимость; оно - то ослепительно сияю¬
щее, бездонное, то волнуется облаками, грозит тучами,
смеркает молниями. Особенно активно небо в полотнах
Тинторетто. В картине “Похищение тела Св. Марка”
небо грозовое; в картине “Архангел Михаил поражает
дьявола” все происходит не просто на фоне неба, но в
гамом небе, пронизанном потоками света, но вместе с
гем - как бы и на земле (или, может быть, в преиспод¬
ней), куда низвергается (должен низвергнуться) повер¬
женный дьявол.
Учение Коперника не только лишило землю ее
прежней незыблемости, но и запустило ее в космос, за¬
ставило вращаться среди множества других планет. Не¬
измеримое пространство космоса, с его относительнос¬
тью величин и расстояний, с его непрекращающимся
движением, врывается в сознание и в искусство.
Дыхание космоса остро ощутил Эль Греко, мастер
странный и во многом загадочный. Грек по происхож¬
дению, работавший в Италии, затем в Испании. Может
быть, именно из-за своей географической неприкаянно¬
сти он с особой силой почувствовал сдвиг мира с оси, ее
структурную незакрепленность, пространственную от¬
носительность сфер небесного и земного. В его картине
“Похороны графа Оргаса” все происходит одновремен¬
но и там у и здесь у и на земле, и среди “блуждающих
светил”2.
В картине Эль Греко “Лаокоон” фигура главного
героя опрокинута как бы от сильного толчка, он упал
Картина как общая формула мировидения
39
в некрасивой, словно случайной позе. В картине “Сня¬
тие пятой печати” изображена одна из сцен грядущего
Страшного суда. Даже “Страшный суд” Микеландже¬
ло, где все в смятении и все объяты страхом, выглядит
упорядоченным по сравнению с композиционным
воплем Эль Греко. На фреске Микеланджело все подчи¬
нено гневному жесту Судии; в картине Эль Греко гос¬
подствует ужас непредсказуемого. Своим странным
искусством Эль Греко заглядывает в следующее, XVII
столетие.
’Позднее Возрождение ломает структуру ренес¬
сансной картины, но при этом сохраняет генетическую
память о той норме, от которой она отказывается, кото¬
рую преодолевает. В живописи XVII века воплощено
уже иное самоощущение человека в мире, иное вйдение
мира - не трехмерное, но многомерное, скорее даже -
безмерное.
XVI столетие закончилось под знаком учения Ко¬
перника, XVII - началось с космологии Джордано Бру¬
но и астрономических открытий Галилея, впервые
взглянувшего на небо в телескоп.
“...Господь мне назначил ... истин глашатаем
стать на рассвете грядущего века”, - пишет Джордано
Бруно. На “рассвете” XVII века был совершен великий
перелом в знаниях о мире и в сознании людей. “Колумб
открыл Новый свет ... и существование жизни на эк¬
ваторе, Галилей открыл новые небесные тела... Копер¬
ник - движение, а португальцы совершили путеше¬
ствие вокруг земли...”, - пишет Томмазо Кампанелла,
с гордостью перечисляя достижения своего времени.
Как и в начале XV века, люди удивлялись тому, что жи¬
вут в новом мире, удивлялись сами себе, своим возмож¬
ностям, своим открытиям.
XVII век был веком не только безграничного рас¬
ширения земных и небесных пределов, это был век от¬
крытия материи в ее материальной сущности, которая
заполняет весь мир, существует извечно и находится в
состоянии постоянного движения (“потока”) под воз¬
действием борющихся в ней сил: тепла и холода, тьмы
и света - самого активного начала в этой стихии мате¬
рии или “хаоса”, по выражению Джордано Бруно.
В эпоху Возрождения пространство мыслилось
как пустое вместилище тел, оно было бесфактурным,
нейтральным, чистым. В начале XVII века Джордано
40
Мрумо категорически утверждает, что материя не тер¬
пит пустоты. “В пространстве, в котором, как кажется,
ничего нет, определенно имеется воздух”. По ту сторо¬
ну Альп Декарт разрабатывает свою корпускулярную
1еприю, согласно которой все в мире состоит из мель¬
чайших частиц; это окончательно нивелирует казав¬
шееся неоспоримым различие между телами и пусто¬
той, формой и материей. Все в мире - материя и вся
материя состоит из корпускул.
Живопись Возрождения манипулировала форма¬
ми, располагая их в пустом пространстве, при этом
само пространство, приобретая четкие грани, оформля¬
лось, становилось чем-то вроде полой формы. Структу¬
ру ренессансной картины можно (условно) рассматри-
иать как систему расположения объемных форм внутри
и устой пространствнной формы. Светотень использова-
нась как средство выявления объемов, свет проходил
екпозь прозрачную среду, не окрашивая ее, не прелом¬
ились в ней, а лишь образуя блики на поверхности
предметов. В живописи Высокого Возрождения свето¬
тень постепенно начинает сгущаться. Леонардо да Вин¬
чи рекомендует художникам работать во внутреннем
днорике, затянутом белым тентом, чтобы добиться мяг¬
кого освещения (сфумато), легких, полупрозрачных
теней, не только обволакивающих форму, но и затем¬
няющих окружающую среду.
У мастеров Позднего Возрождения светотень пере¬
стала быть средством моделирования объемов, она при¬
обретает все более самостоятельное значение, не только
и не столько выявляя объемы, сколько нивелируя их,
подчиняя своей собственной, независимой жизни.
В картины Караваджо, художника, работавшего
“на заре” XVII века, свет и мрак врываются с невидан¬
ной силой, искажая, ломая формы, произвольно выхва¬
тывая их из тьмы и снова во тьму погружая. Борьба
света и мрака становится образным воплощением пуль¬
сации материализовавшегося пространства, которое
то безгранично расширяется, то тесно сжимается, то
уплотняется, то разрежается. Это активное, самодви-
жущееся пространство сменяет или, точнее сказать, от¬
меняет законы центрической перспективы Возрожде¬
ния, согласно которым предметы располагались и дви¬
гались в прозрачном пространстве, мыслившемся непо¬
движным.
Картина как общая формула мировидения
41
В картине Рембрандта “Христос в Эммаусе” фигу¬
ра Христа подобна источнику света, сияющему во мра¬
ке, света физического - и одновременно духовного
излучения; сгусток одухотворенной, светящейся мате¬
рии. В его “Блудном сыне” фигуры и лица, вырванные
светом из темноты, - это маленькие очажки человечес¬
кого тепла и духовности, раздвигающие тьму, “мрак
внешний”. Тьма в картинах Рембрандта - это метафора
безграничного мирового пространства, побеждаемого
силой внутреннего свечения человеческой духовности.
В картинах Рубенса пространство являет себя как
всевластная движущаяся стихия, подчиняющая и че¬
ловека и природу, скручивающая в шевелящийся клу¬
бок фигуры людей и зверей, вздыбленную землю, дере¬
вья, облака и воды. Торжествующая природная стихия,
наделенная неиссякаемой жизненной энергией. В кар¬
тине “Похищение дочерей Левкиппа” человеческие
тела и тела лошадей сбились в единое, многоголовое,
многорукое, многоногое существо. В “Воздвижении кре¬
ста” из массы копошашихся тел взлетает вверх мощная
фигура распятого Христа, вырванная всплеском света.
Это победа, триумф - не духовный, как у Рембрандта,
но физический триумф героя, победившего власть все¬
поглощающей и всенивелирующей материи.
Искусство Рембрандта и Рубенса, при всем разли¬
чии их образного языка, объединяет внутренний драма¬
тизм борьбы личностного начала со стихией вне личного.
В картинах Вермеера господствует завораживающе не¬
подвижный, ровный, спокойно разлитый, настойчивый
и ко всему равнодушный свет: стихия света, одинаково
безразличная к человеческим фигурам и к предметам,
некая первичная световая среда, наполненная вещами.
В самом размещении фигур людей и предметов есть не¬
которая нарочитая случайность: стол, стул, картина,
висящая на стене, часто срезаны рамой, они словно не
выбраны, не расставлены художником, они словно нена¬
роком попали в композицию; часто они загромождают
ее, отодвигая в глубину или в сторону человеческие фи¬
гуры, застывшие в задумавшихся позах и как бы став¬
шие частью предметной среды в этом залитом светом
пространстве. В картинах Вермеера нет драматизма по¬
лотен Рембрандта и Рубенса, в них нет пафоса борьбы с
пространством. Но есть пугающая магия света, всевласт¬
но подчинившего себе и человека, и все его окружение.
42
И “Менинах” Веласкеса пространство раскрыто,
|м|!|пмкпуто и вглубь, и в стороны (гулкое закулисное
н|1пгтранство слева), и вверх. Высоту зала подчерки-
ммит отвесная стена справа с узкими вертикальными
мропмами и того же нейтрально темного цвета пустой
потолок; эта верхняя зона до абстрактности обнажен¬
ных, геометрически расчерченных плоскостей занимает
ни высоте ровно половину всей композиции. Простран-
tгио картины открыто и вперед, на зрителя, отражая
в перкале на задней стене фигуры короля и королевы;
пиаримые, они мыслятся стоящими перед картиной, и в
них пристально вглядывается изобразивший себя на
полотне художник. Пространство изображенное -
и пространство реальное, включенное в образную систе¬
му картины; пространство, отраженное в зеркале, -
и пространство, написанное на холсте, повернутом к
арителю обратной стороной, невидимое, но подразуме¬
ваемое. Игра пространственных иллюзий и мнимостей,
в которую играют и художник, и его герои, и зритель и
в которой все утрачивают пространственную ориента¬
цию. Неясно, кто кому позирует и кто на кого смотрит.
Герои Рембрандта потеряны в пространственной без¬
граничности. Герои Веласкеса растеряны в атмосфере
11 ространственной относительности.
Никола Пуссен - самый ренессансный из вели¬
ких художников XVII столетия. В его картинах господ¬
ствует строгая архитектоника, соблюдено чередование
планов в глубину, выделен центр, построены боковые
кулисы, замыкающие композицию. Его персонажи не
погружены во мрак мирового пространства, как у Рем¬
брандта, не подчинены игре витальных сил природ, как
у Рубенса, не теряются в относительности простран¬
ственных координат, как у Веласкеса. И все же они не
свободны. Подобно героям французской классической
трагедии, действующим в рамках жанра, неукосни¬
тельно соблюдавшего триединство места, времени и
действия, персонажи в картинах Пуссена подвержены
законам ритмического построения композиции со стро¬
гим соблюдением симметрии, обусловленных поз, дви¬
жений, жестов, поворотов в фас, в профиль, в три чет¬
верти. Они подчинены требованиям композиционного
ритуала, они должны соблюдать стихотворный размер
композиции, ее ритмы и рифмы. Внеличное начало
этих закономерностей выявлено у Пуссена, может
Картина как общая формула мировидения
43
быть, с еще большей определенностью, нежели в полот¬
нах Рембрандта или Рубенса. Их герои вступают в борь¬
бу с мировой стихией, герои Пуссена беспрекословно
подчиняются законам ордерного построения компози¬
ции, как непреодолимым предначертаниям судьбы.
“Мы желаем, чтобы автор был непрестанно в
цепях и, тем не менее, казался свободным”, - писал
Корнель. В картинах Пуссена, как и во французской
трагедии, “в цепях” оказывается не только автор, но его
герои, и мастерство художника состоит в том, чтобы
при строгом соблюдении сковывающих композицион¬
ных “цепей” достигнуть впечатления свободы и есте¬
ственности поведения персонажей. В лучших произве¬
дениях Пуссена ему удалось передать это состояние ско¬
ванной свободы.
Картина как новая, по сравнению со средневеко¬
вой иконой, “формула бытия” (77. Флоренский), как це¬
лостная метафора мироустройства возникла в Италии
эпохи Возрождения. Она достигла наивысшего разви¬
тия в XVII веке. На протяжении столетий менялся
взгляд на мир и соответственно менялась структура
картины, ее образная формула, ее метафора. Возрож¬
дение мыслит мир рукотворным, подобным стройному
архитектурному сооружению, благоустроенному обита¬
лищу человека. В XVII веке статичная, замкнутая фор¬
мула мироздания сменяется динамической формулой
открытости, формулой бытия в вечно движущемся про¬
странстве, пространстве нерукотворном, существую¬
щем по своим, независимым от человеческой воли зако¬
нам. Но неизменным на протяжении всех трех веков су¬
ществования картины остается ее способность “в одном
мгновеньи видеть вечность” (У. Блейк).
Какой бы сюжет ни изображался в картинах клас¬
сических веков ее развития, что бы в ней ни происходи¬
ло, всегда это совершалось на фоне вечности, вечность
просвечивает сквозь самые, казалось бы, частные мо¬
менты, изображавшиеся как остановленные и навсегда
пребывающие. Даже в динамических по композиции
картинах XVII века мгновенное изображается как веч¬
но длящееся. Вечно сияет светом мгновенно озарив¬
шаяся фигура Христа у Рембрандта, вечно поднимается
крест с мощным телом распятого Христа у Рубенса.
Мир, по мысли Декарта, существует как нечто устой¬
чивое лишь потому, что каждое мгновение он заново
44
I мирится Богом; мир не развивается, не эволюциони-
румт но времени - но постоянно поддерживается в своей
ннрпоидАнности. В динамическое ощущение бытия,
«игтомщего из отдельных мгновений, постоянно проры-
мммтел вечность.
XVII век был веком наивысшего развития карти¬
ны кик всеобъемлющей “формулы бытия”, и именно на
•п ой стадии картина начинается члениться, выделяя из
нмОи отдельные живописные жанры, до той поры суще-
» гиоиавшие внутри ее сложной целокупности.
О развитии отдельных живописных жанров, об их
исторических судьбах речь должна идти особо. Сейчас
ммжно отметить, что деление на жанры сыграло суще-
стмснную роль в дальнейшей судьбе самой картины.
Начиная с XVIII века мы словно попадаем в иную,
разреженную атмосферу. Картина теряет свою непрехо-
дищесть, свою нагруженность бытийным смыслом; он,
итот смысл, словно растекается по разным живописным
жанрам, сама же картина, картина “сюжетная”, в сущ¬
ности, становится одним из жанров - бытовым (даже
а тех случаях, когда в ней изображается исторический
или мифологический сюжет).
С самого начала XVIII столетия в картину входит
иромя, расчлененное на отдельные мгновения, и задачу
картины видят в том, чтобы запечатлеть не вечно для¬
щееся, но краткое теперь, воплотить его сегодня,
потому что завтра оно исчезнет. XVIII век начинается с
головокружительного увлечения самой преходящестью
иремени.
Так называемый “спор о древних и новых”, разго¬
ревшийся на рубеже XVII и XVIII веков в литературных
кругах Франции, был спором между теми, кто, как изве¬
стный теоретик искусства Буало, утверждал определяю¬
щую роль традиции, то есть прошлого, утяжеляющего,
как бы уплотняющего настоящее, придающего ему глу¬
бинное измерение, останавливающего бег времени, -
и теми, кто, подобно Шарлю Перро и Фонтенелю,
отстаивал преимущество времени сегодняшнего, не отя¬
гощенного прошлым и не задумывающегося о будущем.
“Наш век в некотором роде достиг вершины совер¬
шенства, - писал Перро, - немногое может внушить
нам зависть к тем, кто придет после нас”. Считается,
что в XVIII веке родилась идея прогресса, но это был
Картина как общая формула мировидения
45
прогресс как бы остановленный, с элиминированным бу¬
дущим. В сущности, фраза Перро - это та же формула
“после нас хоть потоп”, но выраженная иным, более вы¬
соким слогом: то же острое ощущение ценности времени
настоящего, освобожденного от груза прошлого, ото¬
рвавшегося от него и замершего в неустойчивом равнове¬
сии, которое каждое мгновение может быть нарушено.
“Вселенная непрестанно вновь начинается и кон¬
чается, каждое мгновение она зарождается и уми¬
рает”, - утверждал Дидро. Это звучит как полеми¬
ческий ответ Декарту, своеобразный антитезис сформу¬
лированного им тезиса о том, что вселенная каждое
мгновение заново творится Богом и тем самым сохра¬
няется, приобщаясь к вечности. Согласно Дидро она
зарождается и умирает, и существование ее продол¬
жается всего лишь мгновение, “но мы не замечаем
этого, подобно мухе-однодневке, которой наше суще¬
ствование представляется вечным”. Это острое ощуще¬
ние самоценности настоящего и одновременно его
мимолетности, его безбудущности приобретает щемя¬
щий, личностный призвук невозвратимости времени
каждой отдельной человеческой жизни, невозмож¬
ности ее удержать. На исходе XVIII столетия в литера¬
туре, особенно в поэзии, возникает трагический мотив
времени безжалостного и всемогущего, уносящего в не¬
бытие “дни и годы” быстротекущей человеческой жиз¬
ни. “Жизнь есть небес мгновенный дар!” - горестно вос¬
клицает Державин.
Современники Вольтера, Руссо и Дидро бездумно,
порой по-игровому воспринимали время. Они утверж¬
дали, например, что искусственно созданный парк спо¬
собен породить иллюзию необычайно богатого роста
деревьев и тем самым, по словам Руссо, “ускорить рабо¬
ту времени”.
Державин с порога XIX столетия подводит итог
веку ушедшему, своему веку3.
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет - и к гробу приближает.
(1779)
В стихах Державина время не летит, не бежит -
метафора утяжеляется, время уподоблено течению
46
йоды в реке, более медленному, но безнадежно неоста¬
новимому:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы.
В его последнем, предсмертном стихотворении,
ипписанном на грифельной доске и помеченном 6 июля
IИ1 б года, снова возникает образ времени как реки:
Река времян в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.
В живописи тема мгновения, прекрасного именно
и своей мимолетности, преходящести получила совер¬
шенное воплощение в картинах Антуана Ватто. В сущ¬
ности - это главная тема всех его картин. И прежде все¬
го - его шедевра - “Отплытие на остров Киферы”. Пары
нлюбленных образуют гирлянду фигур, расположив¬
шихся на лужайке в парке. Все дамы - на одно лицо,
словно художник писал их с одной модели. Это лицо
постоянно повторяется в картинах Ватто - мелькнет и
исчезнет. Различаются только цвета дамских платьев,
даже не их фасон. Кавалеры представлены либо со спи¬
ны, либо в сильном ракурсе, так что лиц их, к тому же
полускрытых полями шляп, почти не видно. Пары
словно исполняют какой-то красивый танец - все позы
и движения, легкие и непринужденные, похожи на
танцевальное па: кавалер приглашает даму, кавалер по¬
могает ей подняться, кавалер увлекает даму к крутому
краю холма и останавливается с ней над самым обры¬
вом. (Позднее Державин скажет: “Скользим мы бездны
на краю, // В которую стремглав свалимся”.) Дама,
словно колеблясь, на мгновение оборачивается назад.
Под ногами этой пары - с резким пространственным
перепадом - изображена группа внизу, на дне обрыва
(“бездны”), словно те же самые дамы и кавалеры уже в
другом, не танцевальном ритме, отбросив стеснитель¬
ность, увлекают друг друга на корабль любви, вокруг
мачт которого порхают амуры.
Картина как общая формула мировидения
47
Тема жизни “на краю” - но не на краю смерти,
как у Державина, а на краю искушения, одного из
“даров судьбы, которые влекут человека к гибели и от
которых добродетель столь же бессильна защититься,
сколь бессильна мудрость их предусмотреть”, - как
утверждал аббат Прево в романе “Манон Леско”. Мгно¬
вения искушения, которому не могут, да и не хотят
противостоять герои, - тема многих картин Ватто4.
Непосредственными предшественниками Ватто
были француз Пуссен и фламандец Рубенс, которому
Ватто, уроженец местности, расположенной на границе
с Фландрией, пытался подражать. При всем различии
этих мастеров XVII века их объединяет сам принцип
компоновки картины, туго завязанной вокруг центра,
где все фигуры по-разному, но неизменно сплетены
друг с другом, образуя некое неразделимое целое: фор¬
мулу вечного пребывания или в неподвижности (как у
Пуссена), или в постоянном круговороте (как у Рубен¬
са). В обоих случаях - это устойчивая система.
Композиция в картинах Ватто всегда неустойчи¬
ва, всегда открыта, она как бы разметана ветром. Фигу¬
ры то отброшены в сторону, словно ворох цветов или
разноцветных листьев, то отрываются от этой разно¬
цветной группы, одинаково вырисовываясь на фоне не¬
ба. Картины строятся асимметрично, по диагонали, об¬
разуя своеобразную метафору капризного непостоянст¬
ва и небрежной случайности. Мир картин Ватто - это
мир, “где дано вкушать столь дивные наслаждения. Но,
увы! их слабая сторона в их быстротечности” (Прево).
Художников XVIII века привлекает мотив каче¬
лей как образная замена маятника, отсчитывающего
минуты. В картине Ватто “Пастухи” изображен танец
на лужайке, а в глубине, в просвете между деревьями
легким силуэтом - одинокая женская фигура на каче¬
лях - напоминание о преходящести времени, о недолго¬
вечности веселья, царящего на переднем плане кар¬
тины. Фигура на качелях изображена со спины, словно
в дымке или в тумане - грустный образ времени ухо¬
дящего.
Ни налета грусти, ни колебания нет в полотне
Фрагонара “Туфелька”. Прекрасное мгновение останов¬
лено, остановлено именно в своей мгновенности, как бы
пойманное на лету, оно замерло в самом апогее. Изобра¬
жена дама на качелях, их раскачивают два кавалера;
48
•» и «ниш излетели вверх - попав в центр композиции,
и мимидвижную ее точку, и остановились в ней, словно
•мишроженные. Как в сказке о сонном царстве, повисла
и воздухе слетевшая с ноги дамы туфелька, замерли,
в ми и остановленном кадре, кавалеры в позах вполне
ммрнднленных и выразительных. Да и в облике самой
I промни нет и тени нерешительности, ее вызывающе
| ми/nul поза вполне продумана.
В полотнах Ватто есть хрупкая прелесть недолго-
иичмой, мгновенной красоты; в картине Фрагонара,
•««писанной уже в конце 1760-х годов, “прекрасное
мгновенье” утратило свою мгновенность, словно стрел-
ив часов остановилась на цифре 12, в самой высокой
• очко циферблата. У Фрагонара гетевское “Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!” - свершилось. Но при этом
мгновенье перестало быть мгновенным, оно стало лишь
обозначением мгновенности, его эмблематическим
знаком.
Картина XVIII века не только была захвачена по¬
гоном времени - в нее впервые властно вошло слово.
Проблема передачи слова всегда стояла перед изобрази¬
те! иным искусством, по своей природе бессловесным,
ип озвученным. И всегда эквивалентом слова служил
жест. Культура средневековья была культурой в выс¬
ший степени ритуализованной. Жест играл в ней опре¬
деляющую роль, более важную, чем сопровождающее
ии слово, а главное, жест в ритуале имел фиксирован¬
ный, всем понятный смысл.
В живописи эпохи Возрождения и, особенно, в
XVII веке жестикуляция становится более разнообраз¬
ной, обогащенной психологическими нюансами. И все
же, как правило, это жесты, выражающие заранее из-
пестные зрителю слова или молчаливо сопровождаю¬
щие известные ситуации известных источников: Свя¬
щенного Писания или античной истории и мифологии.
Слово в картинах классической поры, полновластное,
весомое слово выражалось столь же многозначным, ве¬
сомым и молчаливым жестом.
В XVIII столетии ситуация меняется. Картина, по
существу, сводится к бытовому жанру - ее содержани¬
ем становится не бытие, но быт. Даже когда художник
обращается к темам библейским или мифологическим,
он остается бытописателем. При этом значимое слово на
заданную тему сменяется самой ситуацией разговора.
Картина как общая формула мировидения
49
Можно, пожалуй, сказать, что XVIII век был самым раз¬
говорным в истории европейской культуры, во всяком
случае первым, открывшим для себя прелесть разговора
как главного времяпрепровождения - и в восторге за¬
хлебнувшимся словами. Порой не важно какими. Про¬
сто словами как главной формой цивилизованного обще¬
ния. В литературе самыми распространенными формами
романа становится роман в письмах, роман-диалог или
роман-исповедь. В жизни общества возникают литера¬
турные и политические салоны, на танцевальных вече¬
рах, пикниках, прогулках огромную роль приобретают
самые сложные и изощренные формы словесных дуэлей,
главным образом на тему флирта. Создаются специаль¬
ные справочники, такие, как “Искусство быть прият¬
ным в разговоре”, “Модные слова”, “Разговоры на раз¬
ные темы”, “Письмовники”. В живописи рождается осо¬
бый жанр - “сцены собеседования”.
В сущности, большинство картин Ватто можно
рассматривать как такие “сцены собеседования”. Труд¬
но догадаться, о чем в них идет речь: это разговор ни о
чем; важна сама ситуация разговора, не требующая
словесного либретто, расшифровки. Разговор как
смысл бытия, понятого как утонченная форма быта.
Ватто был первым из художников, открывшим в живо¬
писи прелесть искрометного разговора как чистого, не¬
заинтересованного искусства. Поэтому его картины не
требуют словесных подстрочников.
К середине столетия искусство остроумной бол¬
товни сменяется поучительными беседами. В этом сен¬
тиментально-воспитательном жанре всех превзошел
художник Жан Батист Грез. Персонажи в его картинах
разыгрывают настоящие пьески - и у зрителей возни¬
кает естественное желание узнать, “что он сказал, что
она сказала, чем дело кончилось”. Для таких картин,
как для немого кино, необходимы титры или голос рас¬
сказчика за кадром, озвучивающего происходящее.
Комментатором, толмачом картин своего любимого
художника - Греза - выступает Дидро; в “Салонах” -
регулярных обзорах выставок - он сочиняет слова для
каждого из действующих лиц, рассказыает целые душе¬
щипательные истории, часто не только о том, что изоб¬
ражено на полотне; увлекшись, додумывает за худож¬
ника развитие сюжета - высказывает предположение
о том, что должно было случиться до изображенного
50
м картине и что произойдет потом. Растягивая сюжет во
примени, Дидро как бы переводит картину из области
искусства изобразительного, то есть не временного, в
область искусства словесного, то есть временнбго5.
Грез был самым многословным из художников
XVIII века. Но даже у такого молчаливого, погружен¬
ного в себя мастера, как Шарден, предпочитавшего
писать тихие натюрморты, в жанровых сценах часто
изображается ситуация наставительного семейного
разговора: мать учит детей молиться (“Молитва перед
ободом”), мать учит девочку рукоделию (“Трудолюби¬
вая мать”), мать провожает ребенка в школу (“Отправ¬
ление в школу”) и т. п. В отличие от излишне красно¬
речивой, громкой жестикуляции картин Греза, для
которых так легко написать словесное либретто, жесты
персонажей картин Шардена скромны, подчеркнуто
сдержанны, кажется, что они говорят, понизив голос,
почти шепотом, так что зрителю трудно расслышать,
о чем идет речь; о содержании разговора можно только
догадываться, пересказать его невозможно. Герои кар¬
тин Греза словно играют на сцене, персонажи картин
Шардена разговаривают друг с другом дома, наедине.
Разговор не богов и героев, не персонажей Свя¬
щенного Писания, но простых людей, беседующих о
простых, каждодневных делах, на простые, не закреп¬
ленные традицией, не имеющие символического под¬
текста темы - открытие живописи XVIII века, не менее
значимое, нежели открытие преходящего, быстротеку¬
щего времени6.
В 1784 году, за пять лет до Великой французской
революции, покончившей с галантным веком, Луи
Давид пишет свою знаменитую картину “Клятва Гора¬
циев”, в которой впервые прозвучала “железная” по¬
ступь следующего века - XIX.
Конечно, XVIII век был не только веком “галант¬
ным”, веком женщин, не только веком разговоров обо
всем и ни о чем. Это лишь одна его сторона, как бы его
кожный покров. Изобразительное искусство с особой
остротой ощутило эту поверхность жизни общества, его
“эпидерму”, увидело разговор как форму общения, по¬
чувствовало его важную коммуникативную функцию,
но не расслышало слов, не уловило их содержания.
Духовная жизнь XVIII века получила адекватное
глубинное воплощение не столько в образах зритель¬
Картпина как общая формула мировидения
51
ных, сколько в образах словесных, не столько в изобра¬
зительном искусстве, сколько в литературе - художе¬
ственной, научной, публицистической. Это был век не
столько художников, сколько писателей, поэтов, фило¬
софов, просветителей, энциклопедистов, век Вольтера,
Дидро и Руссо, век свободомыслия, атеизма, наконец,
век, поготовивший Великую французскую революцию
с ее лозунгом “Свобода, равенство, братство”.
“Гостиные XVIII столетия ... эти удивительные
гостиные, где под пудрой и кружевами, аристократи¬
ческими ручками взлелеяли и откормили аристократи¬
ческим молоком львенка, из которого выросла испо¬
линская революция” (А. Герцен). Это было столетие, не
только подготовившее, но и совершившее революцию,
прокатившуюся эхом по всем странам.
“Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно
и мудро...”, - писал в России Радищев. Поистине не
только мудро, но и безумно. Революция, с ее пафосом
свободы, очень скоро вылилась в кровавый террор.
В 1789 году Луи Давид по горячим следам спешит запе¬
чатлеть начало революции в большом полотне “Клятва
в зале для игры в мяч”, так и оставшемся незавершен¬
ным - не успел, время менялось слишком стремитель¬
но. Через четыре года, в 1793-м, Давид, активный член
Конвента, все еще на волне революционной героики пи¬
шет “Смерть Марата”, убитого Шарлоттой Корде. Убий¬
ство Марата, получившего почетное звание “Друг на¬
рода”, было, по существу, началом конца революции.
«Прошлое столетие произвело удивительные кря¬
жи людей на Западе, особенно во Франции, - писал Гер¬
цен, - они отворили настежь двери революции и первые
ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтобы
выйти в “окно” гильотины». В 1794 году совершился
контрреволюционный переворот. И все же:
О, незабвенно столетие! радостным смертным даруешь
Истину, вольность и свет, ясно созвездье навек.
(А. Радищев)
Таким осталось XVIII столетие в памяти совре¬
менников и ближайших потомков.
В разные эпохи по-разному складывались отно¬
шения людей к силам или закономерностям, которые
правят миром и которым человек вынужден подчи¬
няться.
52
В XIX столетии эта роль принадлежит истории,
мпиинисимой от человека, развивающейся согласно соб-
1'тпгнным законам. “История народа есть в некотором
смысле то же, что Библия для христианина”, - написал
Кпрцмзин в начале своей “Истории государства Россий¬
ского”.
Для всех предыдущих эпох вне лежащие силы,
нрннящие миром, воспринимались как не поддающие¬
ся объяснению, как непостижимые. Нельзя разгадать
ммысел Божий, нельзя предвидеть капризы Фортуны,
нельзя постичь законы Космоса, нельзя воздействовать
ни поток времени. В XIX веке формируется представ¬
ление об истории как закономерном процессе, кото¬
рый можно и должно постичь, разгадать. “Девятый на
десять век! Сколько в тебе откроется такого, что теперь
(’читается тайной!” - восклицает Карамзин, имея в виду
не только прошлое, но и будущее: историк, в отличие от
ннтора “Хроник”, призван не просто описывать собы¬
тия прошлого, он должен стремиться постичь законо¬
мерность исторического развития, его направление.
Если история для XIX века есть некий процесс,
некое закономерное развитие событий - от настоящего
к будущему, то вопрос состоит в том, как человек - или
человечество, народ - или вождь смогут постичь зако¬
ны движения истории и овладеть ими. В своей “Исто¬
рии государства Российского” Карамзин торжественно
провозгласил: “История народа принадлежит царю”.
Его молодые оппоненты - будущие декабристы - заяви¬
ли, что “история народа принадлежит народу”. По су¬
ществу, здесь были сформулированы две концепции,
или два различных сценария, в соответствии с кото¬
рыми осмысливался исторический процесс в XIX веке,
вне зависимости от того, как именно формулирова¬
лась эта основная для историков (писателей, художни¬
ков) проблема: “народ - и царь” или “роль личности
в истории”.
Французская революция и последовавшая за ней
наполеоновская эпопея вопрос о роли личности поста¬
вили с особой остротой. Мощное, во многом стихийное
движение масс, которым пытались овладеть и ввести
в русло такие крупные фигуры, как Марат, Дантон и
Робеспьер, сметенные революционной волной, сумел
подчинить своей воле и своим интересам Бонапарт.
Герцен назвал Наполеона “гениальным итальянским
Картина как общая формула мировидения
53
разбойником”, поставив в один ряд с такими крупными
и по-ренессансному авантюрными фигурами Возрож¬
дения, как Козимо Медичи и Христофор Колумб. “Ма¬
ленький капрал” с острова Корсика, ставший импера¬
тором Наполеоном I, - личность поистине харизмати¬
ческая - непоколебимо верил в свое предназначение
и внушил эту веру не только каждому солдату, прошед¬
шему с ним “полмира”. Его знаменитая фраза: “Каж¬
дый солдат носит в своем ранце жезл маршала”; его
обращение к войску во время египетского похода: “Сол¬
даты! Тысячелетия смотрят на нас с этих пирамид!” -
стали своеобразным паролем нового столетия. Каждый,
на каком бы поприще он ни подвизался, мог ощутить
себя солдатом истории, участником исторического про¬
цесса, живущим в потоке исторического времени.
Культ Наполеона как сверхличности сохранял власть
над умами на протяжении, во всяком случае, всей пер¬
вой половины столетия, и не только во Франции, но и в
России.
Тема Наполеона - как прямой сюжет или как
скрытый намек - проходит через французскую живо¬
пись романтической поры. Не говоря уже о наполеонов¬
ском цикле Антуана Гро, ставшего придворным живо¬
писцем императора, к образу Наполеона обращается
“художник Революции” Давид. В картине “Бонапарт на
Сен-Бернарском перевале” он создает конный памят¬
ник Наполеону - эмблематическая статичность фигуры
всадника на вздыбленном коне, его развевающийся, по¬
добно знамени, красный плащ на фоне бурного неба с
проносящимися облаками; на скале, выполняющей
роль постамента, начертаны имена двух великих пол¬
ководцев древности: Карла Великого и Ганнибала; тре¬
тье имя - Бонапарт. Призывный жест протянутой впе¬
ред руки стал каноническим для французской истори¬
ческой картины эпохи романтизма.
Отзвуки наполеоновской темы отчетливо чита¬
лись современниками в большом полотне «Плот “Меду¬
зы”», написанном Теодором Жерико в 1819 году на сю¬
жет вполне злободневный, не связанный впрямую ни с
Наполеоном, ни с революцией. Изображена группа лю¬
дей, спасшихся на плоту с корабля “Медуза”, потерпев¬
шего крушение, как считали, по вине правительства.
Представленный Жерико драматический эпизод был
воспринят французской критикой и, соответственно,
54
публикой как событие историческое. Изображено “все
мгипо общество, - писали о картине, - уносимое волна¬
ми (подразумевалось: истории, реакции) и стойко борю¬
щиеся с напором стихии”. Картина получила широкий
общественный резонанс. Известный историк Мишле,
•мшреки сюжету, впитывал в образы Жерико бона-
ииртистский подтекст: он называл группу спасшихся
ми плоту “наполеоновскими храбрецами”. “Мне видит-
ги, патетически восклицал он, - на груди у каждого
ордон Почетного легиона”. Композиционно-иконогра¬
фический прием, найденный в этом полотне Жерико,
отнновится своеобразным каноном в исторической жи-
иописи французских романтиков: резко выявленная
диагональ, выражающая движение, порыв - и фигура
иожака, увлекающего за собой толпу. В картине Жери¬
ко эта обязательная, согласно иконографическому амп¬
луа, роль отведена негру. Подняв руку, он размахивает
чем-то белым, стараясь привлечь внимание проходяще¬
го на горизонте корабля. Вряд ли Жерико имел в виду
композиционный намек на жест Бонапарта на Сен-Бер-
марском перевале. Но при желании современники мог¬
ли и в этом усмотреть наполеоновский подтекст - Же¬
рико не случайно обвиняли в бонапартизме.
♦Плот “Медузы”» оказался в роли своеобразной
композиционной парадигмы исторической картины на
тему - герой ведет за собой толпу. Она легко обнаружи-
нается и у Делакруа в его “Свободе на баррикадах”, изо¬
бражающей полуобнаженную женскую фигуру во фри¬
гийском колпаке и со знаменем в руках - аллегоричес¬
кий образ Свободы, ведущей французский народ7.
Ситуация - герой ведет за собой толпу - с некото¬
рыми вариациями повторяется у Оноре Домье в его кар¬
тине “Восстание” (1848). При всем различии образного
решения основной композиционный и смысловой кос¬
тяк сохраняется: сильное движение по восходящей
диагонали, выражающее общий порыв, выделение
главного действующего лица, его призывно поднятая,
“указующая” рука.
Итак, первый исторический сценарий XIX века -
французский; его определяет бонапартистская концеп¬
ция вождизма и восприятие событий современности в
их исторической значимости.
Иной сценарий складывается за пределами Фран¬
ции, прежде всего в России. Согласно этому сценарию,
Картина как общая формула мировидения
55
не столько современность осмысливается как история,
сколько история оживляется и осмысливается как со¬
временность.
XIX век был веком развития исторической науки
(Тьери, Мишле, Гизо). В России появляется “История
государства Российского” Карамзина, “последнего ле¬
тописца и первого историка” (А. Пушкин).
Если Франции XIX века жила под знаком Напо¬
леона, ставшего символом ее былой славы, то для Рос¬
сии XIX век начался под страхом Французской рево¬
люции, особенно на втором ее этапе якобинской дикта¬
туры. “Век Просвещенья! Я не узнаю тебя, в крови и
пламени не узнаю тебя!” - восклицал Карамзин.
Карамзин писал о Французской революции. Зна¬
менитая фраза Пушкина: “Не приведи Бог видеть рус¬
ский бунт, бессмысленный и беспощадный” - это о рус¬
ской действительности, о ситуации: народ и царь, над ко¬
торой постоянно размышлял поэт, которой он посвятил
и поэму “Медный всадник”, и драму “Борис Годунов”.
В 1833 году Карл Брюллов заканчивает в Италии
и присылает в Петербург свою картину “Гибель Пом¬
пеи”, получившую широкий резонанс в обществе, резо¬
нанс, необычный для России, где живопись до той поры
не вызывала серьезного интереса за пределами кругов
профессиональных. Картина Брюллова стала не только
явлением искусства, но, в еще большей степени, явле¬
нием общественной жизни. Это была первая картина
об историческом прошлом, воспринятая как метафори¬
ческий образ настоящего, может быть, даже вопреки
замыслу художника. Картина попала в Россию в благо¬
приятный для ее восприятия момент и в подготовлен¬
ную для нее духовно возбужденную ситуацию.
Пушкин откликается стихотворением, где дается
описание картины, которое не только допускает, но и
провоцирует иносказательное ее толкование:
Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя
Широко развилосъу как боевое знамя.
Земля волнуется - с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами стар и млад бежит из града вон.
Стихотворение датируется 1834 годом. Годом
раньше был написан “Медный всадник”. Описание пе-
56
■мрОургского наводнения в нем, как уже неоднократно
итммчнлось, рисует бунт стихии как народный бунт или
мпк разбойное нападение:
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь, остервенясьу
На город кинулась, пред нею
Все побежало...
Осада, приступ! Злые волны
Как воры лезут в окна...
Образная перекличка двух описаний очевидна;
Полое того, в них можно усмотреть даже некоторую сю¬
жетную связь: “...пред нею // Все побежало” (1833);
“...Народ, гонимый страхом... // ...бежит из града вон”
(1834). И в первом, и во втором случае - “бунт, бессмыс-
монный и беспощадный”.
В том же, 1834 году Гоголь посвящает картине “Ги-
Поль Помпеи” специальную статью, всячески подчерки-
ми л ее актуальное содержание. Ни Пушкина, ни Гоголя
картина Брюллова не наводит на размышления об антич¬
ности, которой, собственно, и посвящено произведение,
содержание ее целиком опрокидывается на современ¬
ность. “Мысль ее, - пишет Гоголь, - принадлежит совер¬
шенно вкусу нашего века, который как бы сам, чувствуя
с мое страшное раздробление, стремится совокуплять все
пиления в общие группы и выбирает сильные кризисы,
чуемые всей массою”. (Здесь невольно приходят на па¬
мять слова Пушкина о том, что война 1812 года впервые
открыла русским, что у них есть отечество.) “Гибель
11омпеи”, эта, по существу, первая русская подлинно ис¬
торическая картина, произвела на общество впечатление
неизгладимое. Два с лишним десятилетия спустя к ней
обращается Герцен; в своих размышлениях о судьбах
России он видит в картине Брюллова мысль о гибели на¬
рода под гнетом русского самодержавия. “Они падают
под ударами дикой, тупой, неправой силы, всякое сопро¬
тивление которой было бы бесполезно. Таково вдохнове¬
ние, почерпнутое в петербургской атмосфере”.
Брюллов писал “Гибель Помпеи” в те же годы,
когда Делакруа писал свою “Свободу на баррикадах”,
где, напротив, событие вполне современное трактовано
как исторически значимое.
Картина как общая формула мировидения
57
Но различие этих двух - в некотором роде эпо¬
хальных - произведений состоит не только в характере
трактовки исторического сюжета, оно лежит на более
глубоком уровне формы, точнее, основной компози¬
ционной формулы. В картине Делакруа - сдвинутая
вправо романтическая пирамида, увенчанная фигурой
главного героя, увлекающего за собой всю толпу в еди¬
ном порыве. В картине Брюллова нет главного, объеди¬
няющего всех героя (гоголевское: “страшное раздробле¬
ние ... нашего века”). Люди бегут вразброд из картины,
оставляя композиционную пустоту в ее центре - опус¬
тевшую сценическую площадку истории.
В те же 1830-е годы, несколько позже Брюллова,
ищет сюжет для картины Александр Иванов. Судьба его
полотна “Явление Христа народу” сложилась совсем по-
иному, нежели судьба картины Брюллова. Брюллов изо¬
бражал сюжет античный, стремясь к возможно точной
передаче исторических реалий, - но русские писатели
всмотрели в нее размышления о судьбе России, о ее “се¬
годняшней” ситуации. Иванов, напротив, с самого нача¬
ла мучительно искал в истории сюжет, который помог
бы ему зримо воплотить духовный кризис, переживае¬
мый Россией и, более общо, - всем миром, в его, перелом¬
ное, время. Он сознательно искал “сюжет всемирный”.
Главное в картине - огромное расстояние между фигу¬
рой Христа и ожидающим его народом; такая дистан¬
ция, беря на себя основную смысловую нагрузку, стано¬
вится образным ядром композиции. Христос не просто
виден издали, Он находится как бы в ином пространст¬
венном измерении, в иной временной реальности.
Сильный разрыв в масштабе фигур знала живо¬
пись эпохи Возрождения. Иванов несомненно имел в
виду этот ренессансный композиционный прием, одна¬
ко он прибегает к решительной композиционной инвер¬
сии. В ренессансной картине герой или группа главных
действующих лиц изображались крупномасштабно на
переднем плане, второстепенные фигуры - с большим
масштабным перепадом - мелко, в глубине. Иванов как
бы перевертывает композиционную формулу: у него не
люди далеки от героя, но герой далек от людей. Фигуры
людей, ожидающих появления Христа, помещены
крупным планом впереди, Его фигура - в сильном со¬
кращении далеко на заднем плане, причем не только
в глубине (как в картинах Возрождения), но и вверху.
58
Христос является у Иванова сверху и издали, ок¬
ру мшиный пустотой песчаной пустыни, является слов¬
им ии будущего, неясно различимого сквозь “магичес¬
кий кристалл”. Пространство этого будущего почти аб-
♦ грпктно, и в этой своей абстрактности пустой песчаной
ими мы оно противостоит полнокровной и разнообразной
конкретности настоящего - густой зелени и густой на¬
пиши пости переднего плана. Герой в картине Иванова
нм индет за собой народ, не увлекает его в едином поры-
ив, как во французской романтической картине. Хрис¬
те идет к народу у идет медленно, раздумчиво. А на
Наго смотрят, смотрят по-разному: с опаской, с сомне¬
нием, с недоверием, с надеждой, с верой. А Он идет к
«•тому разному народу, к неединодушной толпе, еще не
iiiiaii, как он будет ею принят. Но идет, ибо это необхо¬
димо, ибо в этом состоит его историческая миссия.
Иванов впервые в этой картине поднял тему, му¬
чительно нерешаемую и столь же мучительно неотвра¬
тимую для русской духовной и общественной жизни
второй половины XIX века, - тему ответственности лич¬
ности за судьбу народа, за судьбу человечества, тему не¬
избежной жертвенности во имя будущего.
Тема Христа в ее не столько религиозном, сколько
философско-этическом ракурсе, начиная с картины
Иванова, вошла в русское искусство второй половины
XIX века как одна из важных тем истории, спроеци¬
рованной на современность. В 1872 году появляется
картина Крамского “Христос в пустыне”. Многих
шокировал неканонический образ Христа. “Есть мо¬
мент в жизни человека, - писал Крамской, - ...когда на
него находит раздумие, пойти ли направо, или налево
... Это не Христос. То есть я не знаю, кто это... Это есть
выражение моих личных мыслей. Какой момент? Пере¬
ходный...”. И далее: “Я по собственному опыту ... могу
догадаться о той страшной драме, какая разыгрывалась
во время исторических кризисов”.
У Иванова “на перепутьи” - человечество, у Крам¬
ского на перепутьи - человек, мыслящая личность.
Иванов долго искал лицо Христа, стремясь соединить
в этом “всемирном образе” черты всечеловеческие - от
Аполлона Бельведерского до лица итальянской натур¬
щицы, поразившего его своей значительностью. Крам¬
ской написал голову Христа с художника Констан¬
тина Коровина, Христос Крамского - это, в сущности,
Картина как общая формула мировидения
59
портрет одного из современников: “Да и кто скажет,
какой Он был?” (И. Крамской). Картина на сюжет исто¬
рический целиком переносится художником в совре¬
менность.
XIX век для России - век мучительно пристраст¬
ного отношения к религии, век религиозных колебаний
и сомнений. И вместе с тем, а может быть, именно пото¬
му - это век острого интереса к Евангелию как книге,
современной по своей проблематике. Во второй поло¬
вине века Николай Ге создает целую серию картин на
тему Евангелия. В “Тайной вечере” голова Христа на¬
писана им с Герцена, что придавало картине особую ак¬
туальность. Вся сцена трактована как психологическая
драма: разрыв Учителя с любимым учеником. (Некото¬
рые критики, не без подсказки самого художника, ви¬
дели в этом намек на идейный разрыв Герцена со своим
другом и бывшим единомышленником Грановским.)
Салтыков-Щедрин сказал, что художник изобразил не
Тайную Вечерю, но тайную сходку, на которой обнару¬
жились серьезные политические разногласия. Картина
воспринималась вполне злободневно.
Не менее злободневно была воспринята и другая
картина Ге - “Выход после Тайной вечери”. Ночь. Все
участники покидают место “сходки”. Иоанн с опаской
заглядывает за угол - нет ли за ними слежки; осталь¬
ные апостолы спускаются с лестницы, торопясь исчез¬
нуть в густой темноте, раствориться в ней; Христос,
предчувствуя арест и казнь, остановился, чтобы в по¬
следний раз взглянуть на ночное небо, на спокойную
лунную ночь. “Историческую картину следует писать
только тогда, когда она дает канву ... современности,
когда исторической картиной затрагивается живо¬
трепещущий интерес нашего времени”, - утверждал
Крамской.
Вторая тема, мучившая русскую интеллигенцию
в XIX веке, - это тема народа (толпы, масс) и его соотне¬
сенности с подвигом отдельной личности. “Умрем,
братцы, ах, как славно мы умрем”, - воскликнул в на¬
чале столетия один из будущих декабристов, готовясь
к восстанию. На протяжении всего XIX века прогрес¬
сивная русская интеллигенция странным образом стре¬
милась не столько победить с народом, сколько умереть
за него. Принести себя в жертву народу. В картине
Домье “Восстание” герой ведет за собой народ. В картине
60
Мппнона “Явление Христа народу” Христос идет к наро¬
ду; одинокий навстречу толпе. В страшном неокон-
чимном полотне Крамского “Хохот” Христос окружен,
(«тиснен со всех сторон осмеивающей его, хохочущей,
угрожающей толпой.
Своеобразный вариант решения темы - герой и
пиша - создан в картине Сурикова “Боярыня Морозова”.
•Огли у Иванова толпа ждет проповедника насторожен¬
но, с надеждой, сомнением и неприятием, то у Сурико-
ип проповедница, страстная, фанатичная, которую
выволакивают из толпы, в кандалах, но непобежден¬
ную, одновременно и проклинающую и благословляю¬
щую народ. А народ тоже разный - и безмолствующий,
и хохочущий, и улюлюкающий, и сочувствующий, и
«склоняющий голову. У Иванова композиционное дви¬
жение из глубины и сверху - вперед и вниз (по нисходя¬
щей); у Сурикова - от переднего плана в глубину и не-
еколько вверх (по восходящей). Сани увозят героиню,
но в то же время и как бы возносят ее - существенный
композиционный нюанс, усложняющий и обогащаю¬
щий образ.
В русской исторической картине второй полови¬
ны XIX века слышится тяжелая поступь истории, ее че¬
ловеческий трагизм. Герой в ней не триумфатор (как у
французского живописца Эрнеста Мейсонье, который
даже бегство Наполеона из Москвы представил как тор¬
жественное шествие во главе с императором на коне),
скорее, герой выступает как жертва (Морозова, Менши-
ков - у Сурикова) или как палач (Петр в картинах Су¬
рикова и Ге).
Тема движущейся толпы, народного шествия про¬
ходит в картинах Репина. Его “Бурлаки на Волге” -
это, в сущности, секуляризованный вариант “крестного
пути”. В картине “Крестный ход в Курской губернии”,
с ее толпой, стремительно надвигающейся на зрителя,
есть уже что-то угрожающее - слишком стремительно
и слишком истово это становящееся неуправляемым
движение, которое так естественно переходит в стихий¬
ную демонстрацию у Серова в его большом картоне
“Похороны Баумана”, написанном в 1905, революцион¬
ном, году.
Для XVIII века характерно острое ощущение не-
возвратимости времени, уходящего, ускользающего,
Картина как общая формула мировидения
61
“уносящего все дела людей”. Распространенная поэти¬
ческая метафора времени - текущая вода, поток или ре¬
ка, впадающая в море вечности:
Урна времян часы изливает, каплям подобно,
Капли в ручьи собрались, в реки ручьи возросли
И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни брегов...
Веки в него протекли, в нем исчезает их след.
(А Радищев)
При этом вечность маячит где-то далеко позади,
время развивается как бы назад, от настоящего к про¬
шлому. Подобно персонажам картин Ватто, человек по¬
является на сценической площадке жизни, чтобы, про¬
мелькнув, уйти с нее, исчезнуть, соскользнув в бездну
прошлого.
Для XIX века время обращено не назад, но впе¬
ред, вечность из прошлого переносится в будущее, жить
в вечности - значит жить в памяти грядущих поколе¬
ний. (Пушкинское: “Пусть мой внук ... обо мне вспомя¬
нет”.) Время не утекает пассивно вспять, но активно
движется вперед. У Пушкина державинский образ вод¬
ного потока вытесняется образом “Телеги жизни”:
“Хоть тяжело подчас в ней бремя, // Телега на ходу лег¬
ка; // Ямщик лихой, седое время // Везет, не слезет с
облучка”. Рождаясь, человек впрыгивает в “телегу
жизни” (“С утра садимся мы в телегу”), телега катит, не
останавливаясь, “а время гонит лошадей”. Метафора
времени как неуправляемой стихии уступает место ме¬
тафоре времени как независящего от человека, прину¬
дительного для него средства передвижения. (“Сколь¬
зим мы” - Державин; нас “везет... телега” - Пушкин.)
При этом скорость все увеличивается. “Почтовая скач¬
ка нашего бытия”, - пишет Карамзин. “Тройка! птица
тройка ... Дымом дымится под тобой дорога ... все от¬
стает и остается позади ... куда же несешься ты?” - вос¬
клицает Гоголь. Образ России как мчащейся тройки -
с иным эмоциональным акцентом - возникает позднее
у Герцена, он пишет о “фельдъегерской тройке, послан¬
ной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика,
чтобы тот скакал по нивам и давил людей”. “Железные
колеи, по которым катится общество, издают свой соб¬
ственный шум и свист”, - сурово и прозаически кон¬
статирует в середине столетия Батеньков, имея в виду
62
v*«w no телегу и не коляску, которой правит ямщик,
ми титл, путь которого строго определен железными
1НН1011МИ.
Ксли время в XVIII веке у-текало, у-далялось, про-
н»ммло, растворяясь в океане вечности, как бы теряя,
ми море движения, свою скорость, затухая, то время
КIX пека несется вперед со все большим ускорением,
m пк и рая не только “все дела людей”, но и само прост-
|шмгтио. “Настоящее поколение оглушено временем и
пространством” (Г. Батенъков). Время все более напол-
миптся не отдельными человеческими жизнями, но со-
Пмтиями, становится все более историческим, из мета-
||м)рм человеческого бытия оно все отчетливее становит-
гм метафорой исторического процесса (не отдельный че-
моиек, скачущий в телеге жизни, но все человечество,
мчащееся в поезде). “...Целую громаду жизни время
гдминуло с прежней черты и далеко, далеко унесло...
Время сообщило свою скорость делам ... Действуя не¬
когда на бытия отдельные, оно пожирало их разрушен¬
ными, теперь стремится быстро пожрать собственные
гнои тысячелетние звенья...”, - писал Батеньков.
Изобретение в XIX веке железной дороги сыграло
мнжную роль в восприятии пространства и времени.
’Гема поезда входит в литературу и в изобразительное
искусство как новая мифологема. Картина Эдуарда
Мане “Железная дорога” (1873) - одно из ранних изоб¬
ражений этого сюжета в живописи. Образ строится на
контрастном сопоставлении фигур девочки и молодой
женщины, как бы олицетворяющих два возраста (мета-
<|юра живого, растущего, органического), - и рядом
механический ритм прутьев железной решетки, к ко¬
торой с любопытством прильнула хрупкая, похожая на
нарядную бабочку фигурка девочки. Однообразный
повтор железных прутьев решетки - как однооб¬
разный, механический перестук колес проходящего
мимо поезда, которого не видит, но который слышит
зритель.
В картине Мане мотив поезда еще не нашел своего
эстетического эквивалента - поезд еще спрятан за ку¬
лисы. В более поздней серии Клода Моне - “Вокзал Сен
Лазар” (1877) - этот вне-эстетический мотив получает
эстетическую интерпретацию. Правда, изображение
поезда, “железных” рельс и других специфических
признаков вокзального интерьера и самой вокзальной
Картина как общая формула мировидения
63
обстановки едва просвечивает сквозь пышно клубя¬
щуюся завесу паровозного дыма и пара, маскируя про¬
заическую непривлекательность механических форм.
В железнодорожных полотнах Моне динамическая
тема поезда как воплощения скорости подменяется
темой динамически изменчивой воздушной среды, за¬
полняющей крытую платформу вокзала, куда уже при¬
был или откуда должен отойти поезд.
В известной картине Винсента Ван Гога “Пейзаж
в Овере после дождя” (1890) поезд изображен быстро
мчащимся вдали, на горизонте, с паровозом, выбрасы¬
вающим на ходу из трубы клубы дыма, относимые вет¬
ром назад и победно развевающиеся, подобно султану
на шлеме. Образ стоящего поезда у Моне сменяется
здесь образом поезда, мчащегося с гордо поднятой тру¬
бой, с ритмическим перестуком катящихся по “желез¬
ным колеям” вагонов. Рельсы не видны за поднимаю¬
щейся к горизонту поверхностью земли с убегающими
бороздами полей; но хотя и не различимые издали, эти
рельсы, “издающие свой собственный шум и свист”,
легко угадываются зрителем. Картина Ван Гога - пер¬
вый в изобразительном искусстве опоэтизированный
образ поезда как зримого воплощения скорости.
Железнодорожный поезд воспринимается с сере¬
дины XIX века как некое подобие машины времени,
способной, используя выражение Батенькова, “пожи¬
рать” пространство, изменяя представление о скорости
передвижения8.
Рождаются новые аспекты зрительного восприя¬
тия - схватывание “на лету” быстро промелькнувших
образов, увиденных издали, словно из окна вагона -
быстрота смены зрительных впечатлений в мире, утра¬
тившем былую стабильность.
Искусство ответило на эту ситуацию опытами им¬
прессионистов, которые ставили перед собой задачу
живописного воплощения новых пространственно-вре¬
менных представлений. В предыдущем столетии анало¬
гичную задачу решал в своих картинах Ватто: пере¬
дать, зафиксировать на полотне быстротекучесть вре¬
мени. Но в его полотнах время дискретно, оно состоит
из отдельных мгновений. Ход времени, его течение
передается случайностью поз, как бы остановленных в
полудвижении, на полужесте, полуслове, их незакон¬
ченностью, недосказанностью и, что особенно важно, -
64
и «тризной неправильностью, асимметричной сдвину-
шгтью композиционного построения. В полотне Ренуа-
Iш мВал в Мулен де ла Галетт” композиция, напротив,
предельно статична, даже аморфна - случайная сцен¬
ки, вся целиком мелькнувшая издали, мимоездом, как
ми окна поезда. Соотношение художник - натура здесь
иное, нежели у Ватто, который, оставаясь неподвиж¬
ным, наблюдает за движениями модели; Ренуар как бы
тм движется мимо натуры - отсюда нечеткость фигур,
рпамытость контуров, движение передается не через
композицию, но игрой цветовых пятен и световых бли¬
ков. Ватто наблюдает за потоком времени, Ренуар сам
находится во временном потоке.
По-иному пытается уловить ход времени Клод
Моне. Вглядываясь в изменения света на изображае¬
мом предмете (будь то человеческое лицо, фасад Руан¬
ского собора или стог сена), он словно следит на этом эк¬
ране за ходом солнечных часов. В светоцветовых экспе¬
риментах Моне и близких ему живописцев есть что-то
от настойчивой, почти маниакальной погони за природ¬
ным временем, временем, существующим независимо
от человека, безразличным к его делам и поступкам,
временем в себе.
Европейское искусство второй половины XIX века
и, особенно, последних его десятилетий исполнено
предчувствия грядущего обвала времен, того катастро¬
фического разрыва веков, которым взорвалась Первая
мировая война, переросшая в России в революцию. Эту
катастрофу никто, казалось, не предвидел, ничто, каза¬
лось, ее не предвещало (ситуация, воссозданная Тома¬
сом Манном в романе “Волшебная гора”), ничто, кроме
искусства, задолго ощутившего ее подземные толчки и
отозвавшегося на них внутренним беспокойством, твор¬
ческими метаниями, скрытыми под покровом безмя¬
тежности и сияющей красоты.
Уже в середине XIX века человек, человечество
(говоря словами А. Иванова) почувствовало себя “на
иерепутьи”. Русская литература и русское искусство
реагировали на это мучительными раздумьями “мыс¬
лящей личности”. В искусстве Западной Европы это со¬
стояние “перепутья” воплотилось не столько в сюже¬
тах, сколько в самом художественном языке. И в пер¬
вую очередь в своеобразной игре с категорией времени.
У импрессионистов - в пристальном слежении за его
Картина как общая формула мировидения
65
световыми изменениями, совершающимися на каждом
коротком промежутке настоящего, смене сезонов, су¬
ток, часов, иногда минут.
Другой аспект и другой этап игры со временем яв¬
ляет собой искусство Поля Гогена. Уехав из Европы в
Полинезию, он начинает изображать природу и жизнь
аборигенов этого застрявшего в современности анклава
прошлого. Его искусство было попыткой открытия для
Европы иной цивилизации (предцивилизации), попыт¬
кой внедрить ее в европейскую современность.
Такую же попытку сделал Пабло Пикассо, увле¬
ченный негритянской скульптурой. Полотно “Авинь¬
онские девицы”, имевшее успех скандала, изображало
современный публичный дом в Авиньоне в формах тра¬
диционной негритянской скульптуры. В этом же русле
следует рассматривать и японские увлечения Ван Гога.
Опыты художественной трансплантации, осуще¬
ствленные Гогеном, Ван Гогом, Пикассо и вслед за ними
рядом других мастеров, сыграли существенную роль в
сложении духовной атмосферы XX столетия, его увле¬
чения культурами, далекими в пространстве или во
времени, находящимися на иной стадии развития.
Если для импрессионистов время - это настоя¬
щее, освобожденное от груза прошлого, утратившее
свое глубинное измерение, то Гоген, Ван Гог и Пикассо
стремились отяжелить настоящее, нагрузив его про¬
шлым, придав одномерному времени импрессионистов
глубинность, многомерность.
Еще одной формой игры со временем был прием
художественного цитирования. Одним из первых, если
не первым, применил его Эдуар Мане в картине “Олим¬
пия” (1863). Изображена лежащая на постели обнажен¬
ная модель, вполне современная по своему облику, не¬
сколько вульгарному, и одновременно напоминающая
зрителю “Венеру Урбинскую” Тициана, которую Мане
в 1856 году тщательно скопировал в галерее Уффици во
Флоренции. Парадоксальное сочетание, сцепление в
одной картине остро современного образа и его класси¬
ческого прототипа призвано свидетельствовать о непре-
ходящести извечных сюжетов, об их повторяемости, их
всевременности. Такое же свободное цитирование с от¬
крытым сведением воедино двух различных, разведен¬
ных во времени эпох и художественных систем можно
видеть в полотне Мане “Завтрак на траве” - парафразе
66
• H|HMtti»i “Сельский концерт”, которую долгое время
и|1ммисывали кисти Джорджоне и которую сейчас при¬
мни» считать творением Тициана. Выражаясь словами
Пн|имы<ова, время здесь, “поглотив историческую гро-
мнду дел, само под ними отяжелело”9.
Прием цитирования художником известных, лег-
HI утишаемых классических произведений, их интер-
мрмтция и реинтерпретация получает широкое рас¬
пространение в искусстве XX столетия. Достаточно
вспомнить живописные серии Пикассо на тему карти¬
ны Веласкеса “Менины” или на тему картины Мане
Иввтрак на траве”, которая сама представляет собой
мн'Вфпретацик) классики и которую Пикассо подвер-
I ипт вторичной интерпретации.
В этом свободном манипулировании временными
инраметрами вряд ли следует усматривать чистую
меру, рассчитанную на то, чтобы шокировать публику,
и от л момент художественной провокации несомненно
присутствует и в работах Мане, и в сериях Пикассо. Но
Ныло в этом и нечто гораздо более серьезное - желание
оо новому понять прошлое, осветить его обратным све¬
том настоящего, вступить с ним в диалог.
Таким до грубости откровенным диалогом с Лео¬
нардо да Винчи было большое панно Сальвадора Дали
"Тайная вечеря”. Стены трапезной во фреске Леонардо
стали у Дали прозрачными, истаяли, и за ними откры¬
лись безграничные дали мира; вместо незримого боже¬
ственного присутствия, явленного в трехчастном свето¬
вом проеме за спиной леонардовского Христа, у Дали -
все осеняющая, натуралистически изображенная ги¬
гантская полуфигура человека - властителя вселенной.
“Тайная вечеря” Дали - это не только дерзкий ответ
Леонардо, не только стремление разрушить пиетет, ко¬
торым окружен этот шедевр, но и попытка с позиции
настоящего перетолковать произведение, завещанное
нам, сегодняшним, эпохой Возрождения. Но так ли бе¬
зобидно неосторожное вмешательство в прошлое?
Американский писатель-фантаст Р. Брэдбери в
рассказе “И грянул гром” моделирует, на другом мате¬
риале, аналогичную ситуацию. Туристическая поездка
в машине времени в далекое доисторическое прошлое;
все участники строго предупреждены, что они не долж¬
ны сходить со стальной тропы, проложенной туристи¬
ческой компанией, чтобы ничего не повредить, ничего
Картина как общая формула мировидения
67
не изменить в прошлом. Один из туристов, случайно ос
тупившись, раздавил бабочку; потревожив прошлое, он
тем самым нарушил процесс эволюции. Вернувшись и
настоящее, участники экскурсии обнаружили, что ока¬
зались в том же помещении, но в другой исторической
реальности. В конечном счете, изменение взглядов на
прошлое, оценок прошлого способно по-новому осве¬
тить и в этом смысле изменить настоящее.
XIX век был веком хронологически ориентиро¬
ванного сознания, выстраивания истории в длинный “ко¬
ридор” дат и событий. Это был также век музеев, с их
анфиладами следующих друг за другом залов, коридо¬
рообразными галереями, где взгляду зрителя предста¬
вала собранная воедино, классифицированная история
культуры человечества. В сущности, такие классичес¬
кие музеи (оставленные нам в наследство XIX веком)
представляли собой модель мировидения этого сто¬
летия, ощущавшего себя двигающимся строго по “же¬
лезным колеям” истории. Но уже со второй половины
столетия нарастает волна протеста против музейного
отношения к прошлому. В музеях видят “гробницы,
мавзолеи истории”, в которых экспонаты выстроены в
длинные, нагоняющие скуку хронологические ряды.
Искусство также пытается разрушить исторические
колеи, расшатать время, сместить временные слои, рас¬
ширить временные и пространственные параметры
европейской культуры. Следующее, XX столетие захва¬
чено пафосом настоящей борьбы с историей, но и долго¬
го, во многом мучительного расставания с ней.
В картине Де Кирико “Археологи” (1927) изобра¬
жены сидящие в современных креслах, в условно со¬
временном интерьере фигуры-манекены (очевидно,
женская и мужская), с яйцеобразными головами без
глаз, почтительно грустно склоненные над грудой об¬
ломков античной архитектуры, громоздящихся на их
коленях, скрытых античными мраморными складка¬
ми. Это надгробие музейно-историческому прошлому,
образная эпитафия ему. Отголоски иногда дерзко-пре¬
небрежительного, буффонного расставания, но часто
расставания “со слезой”, слышатся в искусстве вплоть
до наших дней.
Исторические катаклизмы начала XX века окон¬
чательно разрушили прежнее представление об устой¬
чивости мира, о стабильности пространственно-времен-
68
ими нмраметров, о поддающейся постижению законо-
ммрмости исторического процесса, его темпах.
Одна из существенных для искусства категорий,
мпжит быть, наиболее существенная - категория все
н»ш(ж(!тающей скорости. Для XX века мерилом скоро-
»1И, и н каком-то смысле ее зримым образом, становит-
* и иммолет. Возможность быстрого перемещения из
• »ммоп> часового пояса в другой, когда время толчками
Iо двигается вперед, то, наоборот, так же толчкообразно
1м*|жскакивает назад; возможность взглянуть на землю
I'NDpxy, увидеть, как она уходит из-под ног и исчезает
мри подъеме самолета, как она быстро несется навстре¬
чу аму при посадке, как встает вертикально при пово¬
ротах и наклонах - все эти впечатления, ставшие для
нас привычными, кардинально изменили для человека
X X столетия его представления о пространственно-вре¬
менной координации. Не говоря уже о завоевании кос¬
моса и ставшем доступным состоянии парения в невесо¬
мости, о радио, телевидении и прочих аудиовизуальных
чудосах преодоления пространственных и временных
дистанций. Мир перетряхнуло, и это не могло не ока¬
паться на судьбе картины как “формулы бытия”.
В 1910 году Анри Матисс пишет панно “Танец”.
I ’до и когда совершается изображенное в картине? Везде
и нсегда. Между землей и небом. Точнее - на земном ша¬
ре, в бешеном темпе, на фоне неба. Вечное, безостано¬
вочное вращение зеленой земли в синем пространстве
неба. В наши дни картина воспринимается как провид¬
ческое предвосхищение космической образности. Голые
люди на голой земле, человечество, сбросившее с себя
псе признаки, все атрибуты цивилизации... Это, может
быть, одна из самых трагических картин XX века. Век
XIX начинался с кованого шага в “Клятве Горациев”
Давида (в едином ритме, в ногу, вперед); век XX - с веч¬
ного экстатического кружения между землей и небом в
“Танце” Матисса.
Матисса принято называть самым гармоничным,
самым радостным художником нашего столетия. Он и
сам так говорил о собственном творчестве. Однако
именно он, на глубинном, структурном уровне своих
радостных многоцветных полотен, может быть, наибо¬
лее полно и совершенно выразил трагическое в своей
основе мирочувствие человека XX века. Тем более тра¬
гическое, что оно скрыто под цветовой гармонией и
красотой орнаментальных линий его полотен.
Картина как общая формула мировидения
69
В его “Натюрморте с баклажанами” смещены все
пространственные параметры: горизонтальное и вер¬
тикальное, близкое и далекое, реальное пространство
изображаемого и иллюзорное пространство изображен¬
ного; нарушены масштабные соотношения. Это мир,
в котором невозможно ориентироваться. От подобных по¬
лотен Матисса прямой путь к метафизическим интерь¬
ерам Де Кирико, где внутреннее пространство и про¬
странство внешнее странным образом меняются места¬
ми и где стоящий на мольберте пейзаж переходит в пей¬
заж реальный, вторгающийся в пределы интерьера,
при этом обрамление картины на мольберте начинает
восприниматься как пустая оконная рама, с видом
вдаль (“Метафизический интерьер”, “Двойной весен¬
ний сон”). Художник вступает в активную борьбу с про¬
странством и временем, стремясь вырваться из его
определенности.
Картины XX века становятся все более безлюд¬
ными, все более бессюжетными. В них, взамен челове¬
ческих персонажей, господствуют либо вещи, ожив¬
шие, разыгрывающие драматические композиционные
ситуации, либо - все вытесняющая, все заполняющая
пустота.
С распадом сюжетной картины в XX веке ее функ¬
ции в значительной степени берет на себя натюрморт.
Возникший как самостоятельный жанр в XVII веке,
натюрморт на протяжении почти трех последующих
столетий сохранял второстепенную роль в системе
живописных жанров, располагаясь на обочине художе¬
ственного процесса; с начала XX столетия натюрморт,
напротив, постепенно оттесняет другие живописные
жанры, приобретая все более сущностное значение.
В “Натюрморте с торсом” Матисса тяжелый гипсовый
торс с отколотыми, словно отрубленными руками,
неустойчиво сдвинутый на самый край стола, тщетно
пытается вырваться из сковывающих его пут непомер¬
но крупного орнамента на обоях (своеобразная пара¬
фраза “Скованного раба” Микеланджело). Его “Натюр¬
морт с раковиной” (1946) производит впечатление поис¬
тине трагическое. Черная доска стола - как черная
земля, желтый цвет стены - как закатное золото неба.
Обе эти зоны располагаются строго параллельно плос¬
кости картины. Невольно возникает ассоциация с цве¬
товой и структурной символикой русской иконописи,
70
* мнмоницией мира небесного миру земному. На этой
н рмпй земле, словно висящей в пространстве на фоне
и•.п«, желтая полоса вверху и такая же желтая, но бо-
•*«•* узкий, как просвет, внизу - разворачивается страш-
.♦.♦•• действо натюрморта. Хрупкий, белый с голубым
•|'н|н|н>|ювый кувшин - и агрессивно наступающий на
мм| и кофейник с почти прямой черной ручкой, похожей
ни стмол нацеленного автомата; а справа, подобная
ммнниическому чудовищу, надвигается, подползает
н||м1мппя раковина. В этом натюрморте Матисса нет
примой аллегории, но воспринимается он как угроза
иездушной, безжалостной, слепой силы. Кажется, что в
нем слышатся отзвуки только что окончившейся Вто¬
рой мировой войны.
Человек постепенно вытесняется из картины.
Дм Кирико изображает “Меланхолию и мистерию ули¬
цы" пустынной улицы города, в котором затерялась
идииокая фигурка девочки, бегущей за обручем, да вид¬
на топь уходящего человека. В другой его картине (“За-
I пдка дня”) - та же пустая улица, и на ней - статуя или,
может быть, человек, взгромоздившийся на пьедестал
и притворившийся или превратившийся в статую.
Есть такая новелла у Брэдбери. Отец, мать и ребе¬
нок, сын. Как-то вечером отец, утомленный повседнев¬
ной суетой, мечтательно произносит: “А замечательно
было бы... Проснуться завтра, и во всем мире ни души.
Просто все исчезнет с лица земли. Оставить земю, и мо-
ро, и все... Все оставить, кроме человека”. Утром семья
просыпается - и никого нет. Мир пуст. Они поражены,
сначала обрадованы, потом обеспокоены. Звонят по те¬
лефонам в разные города - телефоны не отвечают. Се¬
мья наслаждается покоем и одиночеством, потом начи¬
нает тосковать. Особенно мальчик. Он срашивает отца:
"Папа, тебе тоже не с кем играть?”
В картинах американца Ральстона Крауфорда изо¬
бражена пустая автострада: все уехали. В картине скан¬
динава Зорга Кристиана - открытые ворота: все ушли,
порота открыты в пустоту. Дали с присущей ему натура¬
листической прямолинейностью изобразил метафориче¬
ский образ пустого мира, в котором осталось только те¬
кущее время (в прямом значении этого слова - распла¬
вившиеся, растекающиеся циферблаты часов). Картина
названа “Постоянство памяти”. Время как память, толь¬
ко память о мире, в котором все исчезло (или умерло?).
Картина как общая формула мировидения
71
В серии его картин “Облака” представлены кон
туры фигур, сквозь которые просвечивает небо с обла
ками. Память о некогда существовавшем человеке - его
след, его оттиск, гигантская полая форма, напоминаю¬
щая о его прежнем существовании. В еще более опусто¬
шенной картине Рене Магритта изображен один огром¬
ный глаз, и в нем отражается небо. (“Я уже был не чело¬
век, а голое зрение, бесцельный взгляд, движущийся
в бессмысленном мире”, - пишет в 1930 году В. Набо¬
ков в рассказе “Ужас”.)
Картина как целостный организм умирает, посте¬
пенно распадаясь на отдельные составные элементы
художественного образа. В огромных однотонно закра¬
шенных панно Марка Ротко остается только цвет, кото¬
рый берет на себя всю выразительность, всю эмоцио¬
нальную напряженность картины; у Пита Мондриана
остается только ритм. В серии панно у Жана Пьера
Перико - только белая поверхность, которую худож¬
ник начал, но не успел докрасить, оставив ее как поле
для художественных экспериментов, как приглашение
зрителя к сотворчеству: зритель может вообразить на
этой пустой поверхности все, что ему угодно, или про¬
сто увидеть ничто. В картинах Ханса Хартунга от твор¬
ческой энергии художника остается только след его
жеста, прочерченный на абстрактно белой поверхности;
у Лючио Фонтаны - только движения руки, нескольки¬
ми взмахами ножа взрезавшей пустое полотно.
В этом умирании картины есть что-то апокалип¬
тическое: осталась чистая страница, с которой все смы¬
то. “Небо свернется, как свиток, и времени больше не
будет”, - говорится в Апокалипсисе, - но “будет новое
небо и новое солнце”. Искусство призвано начинать все
сначала, как бы на пустом месте.
Последняя, поистине грандиозная картина XX ве¬
ка - гигантское панно (3,5 м х 8 м), созданное Пикассо
в 1937 году и посвященное чудовищному уничтожению
фашистской авиацией небольшого города басков - Гер¬
ники. Этот варварский, потрясший весь мир акт был со¬
вершен 26 апреля 1937 года. Пикассо назвал свое панно
“Герника” и показал его в том же году на Всемирной
выставке в Париже, в павильоне Испании10.
Художник как бы собирает из обломков рухнув¬
шего мира классическую трехчастную композицию,
род торжественного триптиха; средняя часть его
72
» фоится по традиционной схеме треугольника, боко-
ныи фланкируют ее как замыкающие кулисы. Однако
ми композиционная схема - структурный костяк, при¬
дающий изображению внутреннюю устойчивость, с
I рудом воспринимается глазом; он существует как нод-
ммшт, как воспоминание о норме в этом взорванном, ис¬
ки лпченном, разлетевшемся на осколки мире, мире
• мирти, насилия, зла; мире, куда врывается классичес-
иой красоты профиль женщины с факелом в руке, вры-
ниитси как надежда на спасение, как обещание света,
проникшего в это темное подземелье, освещенное то ли
одинокой электрической лампочкой, то ли слабым,
идил мерцающим солнцем, похожим на человеческий
i JiAii. Мир, разорванный на куски и вновь собранный
художником в поражающее и покоряющее зрителя мо¬
нументальное целое. Панно Пикассо обладает высокой
г гипенью суггестивности, оно звучит как страшное про¬
рочество, как суровое предостережение. Предостереже¬
ние, обращенное к человечеству, пророчество, обра¬
щенное к искусству.
Примечания
* В ряде случаев предполагалось разгадывание аллегоричес¬
кого, поучительного смысла изображенного. Придумыва¬
ние различного рода программ со сложным сюжетом было
довольно широко распространено. Такие программы сохра¬
нились; обычно они сочинялись заказчиками, иногда гума¬
нистами или теологами. В большинстве случаев воплотить
их в живописи было трудно, художники неохотно соглаша¬
лись выполнять картины по таким программам, а если и
выполняли их, то, как правило, это кончалось неудачей.
Одна из таких программ или, вернее, описание вооб¬
ражаемой картины содержится в трактате Альберти “Три
книги о живописи”. Возможно, под впечатлением этого
описания Боттичелли позднее создал единственную свою
неудачную, аллегорическую картину “Клевета”. Сюжет
знаменитой картины Боттичелли “Весна” был сочинен
Марсилио Фичино и должен был выполнять роль своеоб¬
разного “учебного пособия” в процессе гуманистического
воспитания одного из юных отпрысков семейства Медичи.
Программу этого шедевра Раннего Возрождения разгадать
до конца не удалось до сих пор.
Картина как общая формула мировидения
73
2 По сравнению с этим “космическим” полотном картина
Андреа Мантеньи “Успение Богоматери” поражает своей
“земной” стабильностью, в ней четко разграничены рас¬
стояния: близь - и даль; качественные характеристики
пространства: дом - и не дом; земля, вода, небо - все сти¬
хии отделены друг от друга. Мир, ясный по своей струк¬
туре, почти как геометрический чертеж, как формула.
В этом устойчивом мире даже “Мертвый Христос” Манте¬
ньи, увиденный художником в таком пугающем ракурсе,
лежит твердо, незыблемо.
3 Гете в “Фаусте” не только прощается с XVIII веком, но и
вершит над ним суд. На протяжении всей драмы Мефисто¬
фель искушает Фауста, стремясь заставить его произнести
сакраментальную фразу: “Остановись мгновенье, ты пре¬
красно!” - своеобразный пароль человека века XVIII. Но
Фаусту чуждо чувство удовлетворения настоящим, его мя¬
тущийся, вечно ищущий дух устремлен в будущее. Вос¬
приятие времени здесь не в его агрессивной функции по¬
жирателя настоящего (державинское: “вечности жерлом
пожрется”), но в аспекте поступательного развертывания
заключенных в нем потенций будущего - это уже тема сле¬
дующего, XIX столетия. “Фауст” Гете - произведение по¬
граничное, писавшееся между двух столетий.
4 Аналогичная ситуация разыгрывается и в его картине
“Затруднительное предложение”: кавалер предлагает
даме перенести ее через ручей, дама колеблется. Две ее по¬
други и еще один кавалер с интересом наблюдают, ожив¬
ленно комментируя пикантную сцену, исход которой,
по-видимому, предрешен. В большинстве полотен Ватто
повторяются различные варианты того же сюжета. Ино¬
гда это несколько персонажей, иногда - как в картине
“Капризница” - всего только двое. И всегда в них есть пре¬
лесть мгновенности, легкости - персонажи словно импро¬
визируют на заданную тему, в их небрежно грациозных
позах чувствуется нарочитая недосказанность, случай¬
ность. Нарочитая случайность присутствует и в самом
композиционном решении картин Ватто.
5 «Мне нравится сюжет, - пишет Дидро о картине Греза с
поучительным названием “Паралитик, или Плоды хоро¬
шего воспитания”. - Это моральная живопись. Не должны
ли мы быть удовлетворены, видя живопись соревнующей¬
ся с драматической поэзией в искусстве нас трогать, по¬
учать, исправлять и побуждать к добродетели? Отчего
тебя не было около той молодой девушки, которая, глядя
74
мп голову твоего “паралитика”, воскликнула с прелестной
живостью: “Ах, Боже мой, как он меня трогает! Если я
Пуду на него дальше смотреть, я кажется заплачу”. Как
тпль, что эта молодая девушка не моя дочь!.. Паралитик
шпорит, и ему собираются приподнять голову. Дело доче¬
ри подавать ему еду, а зятя - поднимать голову, потому
что одно требует ловкости, а другое силы. Он оправдывает
хороший выбор, который он сделал для своей дочери...
Глучайно в этот день зять старика принес ему еду, и ста¬
рик, растроганный этим, выразил ему особую благодар¬
ность...» и т. д. Много страниц.
0 Среди произведений Ватто есть одно, для него необычное.
Необычное как по своему формату, так и по своему пред¬
назначению. Это большая вывеска для антикварного мага¬
зина друга Ватто - господина Жерсена (“Лавка Жерсе-
на”). Необычно оно особой смысловой нагруженностью,
чуждой легким полотнам Ватто. В изображенной на вы¬
носке случайной светской сценке, где посетители лавки -
одни мимоходом, другие более внимательно - осматри¬
вают выставленные предметы, художник словно прощает¬
ся с искусством века ушедшего (левая часть композиции)
и утверждает художественное кредо своего времени (пра¬
вая часть композиции). Во всяком случае, такое аллегори¬
ческое толкование этой вывески предлагают некоторые
современные исследователи творчества Ватто. На подоб¬
ное прочтение наталкивает и то обстоятельство, что речь
идет не о камерном полотне, но о монументальном панно с
фигурами почти в натуральный рост. Это панно - рекла¬
ма, обращенная к публике, как свидетельство вкуса вла¬
дельца лавки; но также - это своеобразный художествен¬
ный манифест самого живописца.
В левой части композиции двое работников опускают в
деревянный ящик портрет короля Людовика XIV - про¬
славленного монарха XVII века; это портрет кисти Гиа¬
цинта Риго, знаменитого портретиста, определявшего
стиль ушедшего столетия. Ящик готовятся накрыть дос¬
кой, словно крышкой гроба. Молодая дама в костюме вре¬
мени Ватто - воплощение юности и современной грации,
небрежно отвернулась от портрета и оперлась на руку сво¬
его, столь же современного и столь же молодого, кавалера;
оба собираются покинуть лавку. В правой части компози¬
ции двое покупателей-знатоков с подчеркнуто присталь¬
ным вниманием рассматривают стоящую на мольберте
картину в овальной раме (излюбленная форма XVIII века).
Картина как общая формула мировидения
75
Картина, по-видимому, изображает мифологическую сце¬
ну с обнаженными фигурками нимф в соблазнительно¬
фривольных позах во вкусе нового времени. Рядом - вто¬
рая пара покупателей беседует, глядя на себя в зеркало,
словно любуясь мимолетностью отражения, которое в сле¬
дующую минуту может исчезнуть, стертое временем, -
своеобразный “спор древних и новых”, перенесенный в об¬
ласть искусства изобразительного.
7 Впоследствии критика упрекала Делакруа за то, что он ис¬
кусственно включил аллегорический персонаж в реали¬
стическое изображение одного из эпизодов революции
1830 года. Однако Герцен, свидетель революции 1848 года,
описывает знаменательный эпизод: «Выходя из парохода
в Марселе, я встретил большую процессию Национальной
гвардии, которая несла в Hotel de Ville бюст свободы, то
есть женщину с огромными кудрями во фригийской шап¬
ке. С криком “Vive la R6publique!” шли тысячи вооружен¬
ных граждан и в том числе работники в блузах...». Сцена
разительно походит на изображенную Делакруа - лишний
повод задуматься над проблемой соотношения искусства и
действительности.
8 Строки из стихотворения “Машинист” Пьера Дюпона
(1821-1870). Привожу текст с небольшими сокращениями:
Возница, дай коню овса!
Он весь дрожит, храпит, косится;
Свисток, рывок - и вот он мчится,
Мелькают горы и леса.
Кто в беге с вороным сравнится?
Ну, не жалей коню овса!
В твоих глазах сверкает пламя,
Бока блестят, как зеркала,
И словно бы несом крылами,
Мой конь, летишь ты, как стрела!
Клубится дымчатая грива,
Твой зов разносится кругом,
Грохочешь ты, как летний гром,
Раскатываясь горделиво!
Итак, мой паровоз, лети же!
К прогрессу путь тебе открыт...
76
Любопытно привести в этой связи ироническое приме¬
чание Герцена к одной из глав “Былого и дум”: “Булгарин
и йен л... что между прочими выгодами железной дороги
между Москвой и Петербургом он не может без умиления
надумать, что один и тот же человек будет в возможности
утром отслужить молебен о здравии государя императора
н Казанском соборе, а вечером другой - в Кремле”.
В первые десятилетия XX века тема поезда как несу¬
щегося вперед времени увлекала футуристов. Д. Северини
м картине “Поезд Красного Креста, проезжающий дерев¬
ню” изобразил паровоз (образ будущего?), стремительно
нрывающийся в деревню (образ настоящего?), круша все
на пути.
w На парадоксально остром совмещении современности с
“головокружительными глубинами времени” построен ро¬
ман Томаса Манна “Иосиф и его братья”. Он начинается
фразой: “Прошлое - это колодец глубины несказанной...”
,n 11осле Парижа панно экспонировалось в Осло, в Стокголь¬
ме, Лондоне, США. Свое произведение, написанное, по его
собственным словам, “не кистью, но сердцем”, художник
завещал Испании; 25 сентября 1981 года, в сотую годов¬
щину со дня рождения Пикассо, панно “Герника”, поме¬
щенное в специальном здании, расположенном рядом с
музеем Прадо в Мадриде, было открыто для публики.
Жанр - это форма, которая
уже “опредметила” в своей
архитектонике... более или
менее конкретный
художественный смысл
Энциклопедический словарь
Портрет -
и натюрморт:
человек и вещь
До XVII века картина существо¬
вала как некая целостность,
включая в себя все разнобразие,
всю разноликость мира: небо -
и землю, природу - и человека,
а также вещи - как знаки боже¬
ственного присутствия в мире и
как атрибуты человеческого при¬
сутствия в нем.
В XVII веке из картины как
целого, сосредоточивая на себе
сугубое внимание, выделяется
образ человека; его непосредст¬
венное окружение - вещь; его
ближайшая среда обитания - ар¬
хитектурное пространство; его
более отдаленное окружение -
природа. Складываются живо¬
писные жанры: портрет, натюр¬
морт, интерьер, пейзаж.
Эта достаточно строгая спе¬
цификация в дальнейшем посте-
пеннно нарушается, стираются
грани не только внутри жанров,
но и между отдельными жан¬
рами. И наконец, в искусстве
XX столетия, особенно во второй
его половине, жанры начинают
снова смешиваться в единое
художественное образование, где
все не только взаимосвязано
(как в классической картине), но
взаимозаменяемо, где всё может
означать всё, где исчезают вре¬
менные, пространственные, каче¬
ственные параметры, стираются
78
Iмшлиния между миром живого и миром мертвого, где
человек может превратиться в натюрморт или в пей-
imok, где человеческое лицо может уподобиться вазе,
и виза - обрести лицо.
Однако эти странные метаморфозы, эти порой
блестяще остроумные, порой мучительно напряжен¬
ные попытки, рожденные стремлением вновь обрести
утраченную синкретичность художественного образа,
кик правило, лишены органичности.
Античная ваза эпохи архаики являла собой мета¬
фору архитектуры, созданной по законам строения
человеческого тела; одновременно это был сосуд, пред-
мизначенный для вина и зерна - вместилище пищи,
олицетворявшей жизнь; но ваза могла служить надгро¬
бием, вместилищем пепла - олицетворением смерти.
!)то был единый образ, воплощавший представления
древнего человека о мире.
В картине Дали изображена женская голова,
увенчанная куполом (Пантеона? Собора Св. Петра?), ее
локоны представляют собой растения, ее шея уподобле¬
на струям воды, однако слиянности разнозначимого в
единый образ не возникает. Из остроумного соединения
отдельных элементов рождается не метафора, но что-то
вроде шарады. Античную вазу нельзя пересказать, в
нее “можно только верить”. Картину Дали нужно пере¬
сказывать и объяснять, разгадывать, как заниматель¬
ную головоломку, “верить” в нее невозможно.
Портрет
...человеческий овал,
вместимость которого ограничена.
И. Бродский
Всякий портрет, вне зависимости от степени и характе¬
ра его сходства с моделью, представляет собой задачу на
узнавание, на идентификацию: кто изображен на порт¬
рете? В каком отношении находится изображенный к
изображаемому. В сущности любой портрет - реально
или потенциально - адресован кому-то, кто должен ре¬
шить, в какой мере портрет представляет то или иное
лицо, иными словами, в какой мере он выполняет свою
главную функцию. В связи с этим возникает проблема
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
79
адресата: важно установить, к кому в ту или иную эпо¬
ху обращается портрет, к какой инстанции он апелли¬
рует, кто должен узнавать в чертах изображенного
лица лицо реальное, послужившее моделью для худож¬
ника. И рассчитан ли вообще данный портрет на узна¬
вание, и если рассчитан, то кем, где и когда. В зависи¬
мости от того, кому или куда адресован портрет, уста¬
навливаются и критерии сходства.
Погребальные урны древних этрусков, предназ¬
начавшиеся для праха умерших, снабжены условными
признаками человеческого лица - следует полагать, ли¬
ца именно того человека, чей прах хранился в урне.
Для кого предназначался подобный портрет, кто дол¬
жен был узнать его? По-видимому, антропоморфные
признаки подобных изображений должны были свиде¬
тельствовать лишь о принадлежности умершего к роду
человеческому.
В Древнем Египте портрет фараона выполнял
функцию некоего коллективного портрета своего вре¬
мени. Его изображения многократно повторялись, со¬
здавались двойники, которые должны были служить
своеобразными уловителями души фараона после его
смерти. А что если черты сходства с лицом фараона в
портретах подданных тоже служили способом улавли¬
вания частиц его коллективной души? Лик фараона
как бы проступал в лицах подданных. Что в таком слу¬
чае служило главным критерием сходства? Основным
способом идентификации портрета служила надпись,
выполненная от первого лица, - своеобразный “авто¬
граф”, удостоверяющий принадлежность изображения
данному человеку. “Я говорю: тот, кто завладеет моим
изображением, кто собьет мое имя, да будет проклят, да
будет сам лишен имени” (надпись на одном из погре¬
бальных портретов). Изображением можно было завла¬
деть, можно было приписать его другому, поставив на
нем другое имя. Имя считалось главным критерием
портретности. А лицо?
Маски египетских мумий изображали не каждо¬
дневное лицо покойного, но его преображенное, вечное
лицо, лицо ритуальное. Задача такого ритуального пор¬
трета (а все древнеегипетские портреты были, по суще¬
ству, ритуальными) состояла в том, чтобы вывести изо¬
бражаемого за пределы временной и пространственной
реальности. Здесь и теперь, в земных пределах, он не
80
должен быть узнан. Его должны узнавать таму не толь¬
ко теперь, но всегда.
Изображение человеческого лица в искусстве,
вплоть до начала нового времени, не было портретным
и современном понимании. В архаической Греции ста¬
туи на могилах не были похожими (более того, на муж¬
ских погребениях иногда ставили женские статуи).
Выло принято также ставить при жизни статуи победи¬
телям (в войне, в состязаниях). “...Всем победителям
было принято посвящать статуи, - пишет Плиний, -
а статуям тех, кто одержал победу трижды, придавали
сходство в телосложении: такие статуи они называли
иконическими” (похожими телом, но не лицом?). На
древнегреческих надгробиях классической поры инди¬
видуальные портретные черты едва просвечивали
сквозь идеальную норму человеческого лица. Да и были
ли эти признаки связаны с чертами лица портретируе¬
мого - скорее, они обозначали его принадлежность к
определенной возрастной группе - нежный юноша,
мужественный воин, умудренный годами старец, юная
девушка, зрелая матрона. Начертанные на надгроб¬
ных стелах и посвятительных статуях имена были
более значимыми, более портретными, чем само изоб¬
ражение.
Древнеримские скульптурные портреты поража¬
ют своей характерностью, часто натуралистичностью.
Однако можно ли утверждать, что эта характерность
непохожих друг на друга лиц, в подавляющем боль¬
шинстве своем некрасивых, часто просто безобразных, -
свидетельство их сходства с лицом портретируемого?
Почему портреты времени правления того или иного
императора так похожи друг на друга, что служат для
историка главным критерием при их датировке? И речь
идет не только о господствовавшей моде - например,
прическе под императора. Скорее, это повторение
определенной портретной матрицы, не только эстетиче¬
ской, но и ритуальной, связанной с культом императо¬
ра. Невольно встает вопрос: на кого больше похож тот
или иной портрет времени, например, Траяна, на само¬
го портретируемого или все-таки на Траяна. Главная
цель римского портрета - войти в историю Рима, и мы
не знаем, что было важнее для портретируемого (или
чаще для его потомков, создававших семейные гале¬
реи портретов предков) - сохранить для истории свой
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
81
неповторимый, частный облик или войти в священ¬
ную ауру императора и тем самым приобщиться к ста¬
тусу гражданина Римской империи. В самом бытова¬
нии портретов долго сохранялись архаические черты,
свидетельствующие об их связи с ритуалом. Известно,
что портреты предков, непременная принадлежность
семьи, представляли собой не маски, снятые с лица
умершего, но маски, наложенные на его лицо; эти мас¬
ки, чаще всего сделанные из воска и ярко раскрашен¬
ные, причем размером больше человеческого лица,
надевались на лица живых потомков и в таком виде
участвовали в разного рода празднествах и религиозно¬
гражданских ритуалах. Практиковавшаяся сменяе¬
мость голов на портретных статуях императоров и одно¬
временно замена имен в надписях - во всем этом про¬
глядывают черты, характерные для древневосточных
культур. Во всяком случае, кажущийся таким похо¬
жим римский портрет, так же как и греческий, имел
целью быть узнанным не столько здесь, в среде совре¬
менников, сколько там - в “Элизиуме теней” или в свя¬
щенной истории Рима.
Куда бы ни обращался портрет эпохи древних ци¬
вилизаций, какой бы степенью схожести с реальной мо¬
делью он ни обладал, в нем всегда общее, норма, канон
преобладали как сверхзадача портретирования. Черты
непохожести, отклонения от нормы лишь просвечива¬
ли сквозь эту ритуальную нормативность и поглоща¬
лись ей. И древневосточный, и древнегреческий порт¬
рет, и даже кажущийся нам столь остро портретным
римский стремились походить не столько на портрети¬
руемого, сколько на что-то иное или на кого-то иного.
Еще большую остроту проблема сходства или,
точнее, проблема несходства портрета с моделью при¬
обретает в средневековой культуре. В так называемых
фаюмских портретах, служивших заменой погребаль¬
ных масок, ясно прослеживаются стадии преображе¬
ния лица из телесного - в духовное, когда черты его
становятся все более условными и все отчетливее про¬
ступает общая для всех внеличная одухотворенность
(огромные, широко распахнутые глаза, глядящие в ни¬
куда), приближающая их к иконным образам, то есть
из портрета телесного превращающая в портрет духов¬
ный. Средневековое искусство портрета не знало. Под¬
линно портретными считались только изображения
82
Христа и Богоматери, поскольку, по преданию, лик
Христа отпечатался на плате, которым Он отер лицо во
мромя шествия на Голгофу, а лик Богоматери был “спи¬
сан” с лица Марии евангелистом Лукой. Что касается
изображений на иконах святых, то они создавались,
кпк правило, посмертно, после их канонизации, то есть
спустя некоторое (иногда значительное) время по их
успении, в лучшем случае по воспоминаниям, но, как
правило, это были портреты воображаемые. В иконах
снятой изображался таким, каким он должен был пред¬
стать очам Всевышнего после своей кончины (отсюда
"умереть” по-русски - “преставиться”). Лицо простого
человека считалось недостойным портретирования, по¬
скольку средневековый портрет мыслился только как
икона и был адресован не людям “грешного мира сего”,
но высшей, последней инстанции - Господу Богу. “Я
краснею при, мысли, что могу быть изображенным та¬
ким, каков я есть, в моем реальном облике грешного
Адама - но я не смею позволить изобразить себя таким,
каким я не являюсь” (то есть сделать идеализирован¬
ный портрет, икону). Это признание относится к V веку
нашей эры, поре раннего средневековья. Икона изобра¬
жала не земное лицо святого, но его преображенное,
вечное лицо, его лик. Иконописное изображение много¬
кратно повторялось, и хотя с течением времени оно зна¬
чительно отклонялось от образца, все же сохраняло
первоначальную иконографию, выражавшуюся не
столько в чертах лица, сколько в позе, жесте, в одежде,
в обязательных атрибутах. Такой непортпретный порт¬
рет или, если угодно, портретный непортрет при¬
зван был представлять человека не в неповторимости
его внешнего и внутреннего облика, но в его статусе мо-
лельника за весь род человеческий.
Переворот в истории портрета совершился в эпоху
Возрождения, и связан он был прежде всего со сменой
адресата, к которому обращался портрет. В XV столе¬
тии в Нидерландах и в Италии по-разному, но пример¬
но одновременно, можно наблюдать усилия, с которы¬
ми портрет пытается вырваться из состояния средневе¬
ковой безиндивидуальности, средневековой ситуации
благочестивого предстояния Божеству, из включен¬
ности индивида в соборное целое, иными словами, уси¬
лия из непортретного портрета стать портретом
портретным.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
83
В Гентском алтаре Яна ван Эйка (1439) при
закрытых створках в нижнем ряду изображены дона¬
торы - коленопреклоненные мужская и женская фигу¬
ры. И сюжетно, и композиционно они включены в
иконографическую формулу предстояния Христу Все¬
держителю, изображение которого, хотя и скрытое
створками, незримо присутствует, определяя располо¬
жение фигур донаторов - почти в профиль, обращен¬
ными к центру, мужская - по правую (от подразуме¬
ваемой фигуры Христа), женская - по левую сторону.
Профильное изображение портретируемых, их молит¬
венный жест, их иконографическое положение - не в
центре, но по сторонам от - долго сохраняется в пор¬
третах XV века как отголосок средневековой включен¬
ности в систему общего, хорового, иконостасного
предстояния.
В портрете четы Арнольфини (1434) фигуры, как
и в Гентском алтаре, располагаются в соответствии со
средневековой иконографией: мужская - слева (от зри¬
теля), женская - справа. Вместе с тем это одна из пер¬
вых попыток выхода портрета из профиля, попыток
обретения персонажами композиционной и, соответ¬
ственно, образной самостоятельности: женская фигура,
изображенная в пол-оборота, сохраняет традицион¬
ную позу предстояния; мужская, разрывая иконогра¬
фическую матрицу, обращена к зрителю в фас. Однако
глаза супруга благочестиво опущены, он еще не смеет
взглянуть прямо перед собой, а его правая рука молит¬
венно поднята на уровень груди.
Портрет четы Арнольфини - церемониальный,
связанный с обрядом бракосочетания. Супруги изобра¬
жены в комнате, наполненной символически значи¬
мыми предметами, создающими атмосферу самопо-
груженности и особого торжественного настроя. Возни¬
кают ассоциации с традиционной иконографией сцены
Обручения Марии с Иосифом или, может быть, - Встре¬
чи Иоакима и Анны у Золотых ворот. Такое скрытое
цитирование придает дополнительное смысловое изме¬
рение портрету и определяет то особое место, которое
занимает это произведение Ван Эйка в истории станов¬
ления портрета в европейской живописи. Это своеоб¬
разная точка отсчета, балансирование на границе меж¬
ду состоянием предстояния персонажей и их независи¬
мого самостояния.
84
Фасовое положение в системе средневекового изо¬
бразительного языка было наделено особым смыслом;
итальянцы называли этот поворот поворотом in maesta.
'Гак изображали Христа в иконах, так изображали
Богоматерь на троне.
Три четверти века спустя, в первый год следую¬
щего, XVI столетия Дюрер осмелился на дерзкий шаг,
почти граничащий с богохульством, изобразив самого
себя строго в фас, не только в положении in maesta, но
и расшифровав композиционный намек - в иконогра¬
фическом облике Христа. Трудно разгадать, что имен¬
но руководило художником - искус самообожеств-
лония или, напротив, гуманистическая идея очелове¬
чения божественного образа. Можно увидеть в этом
(*мелом акте художника и совсем иное: воплощение ре¬
лигиозной идеи “подражания Христу” - мистического
отождествления себя с Божественным образом. Каков
бы ни был импульс, породивший этот автопортрет, его
можно считать смелым, в некотором смысле парадок¬
сальным осуществлением новой ренессансной концеп¬
ции портрета в искусстве Северного Возрождения.
По-иному, нежели на севере, более светскому пути
происходило становление портрета в итальянском ис¬
кусстве XV века. На его композицию несомненно оказа¬
ли влияние античные медали, с их преобладанием
профиля как наиболее выразительного, наиболее запо¬
минающегося ракурса. Отсюда - строго профильные,
оплечные или погрудные портреты в живописи кватро¬
ченто. Однако это не исключает того, что ренессансный
портрет в Италии, как и на севере Европы, генетически
связан с образами донаторов в сакральных компози¬
циях, таких, как “Троица” Мазаччо - фреска на стене
церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Нельзя не
учитывать и другого иконографического образца - ши¬
роко распространенного в Италии изображения на тему
“Святого Собеседования” (Sacra Conversazione), где в
центре помещена Богоматерь, чаще всего на троне, а по
сторонам соприсутствующие святые, иногда также пор¬
треты заказчиков. Это не молящиеся, не предстоящие,
скорее, это почтительно внимающие участники “Собе¬
седования”, сознающие торжественность и важность
происходящего. Внутренне они более свободны, как
внутренне более свободны и независимы профильные
портреты кватроченто - не случайно в них, в отличие
от северных портретов, не изображались молитвенно
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
85
сложенные руки. Однако при всей внутренней самодо¬
статочности эти портреты скованы своей генетической
принадлежностью к композиционному целому карти¬
ны, они воспринимаются как фрагменты некогда еди¬
ного композиционного организма, от которого они уже
откололись, но от власти которого еще не вполне осво¬
бодились.
Само профильное положение фигур в компози¬
ционном поле портрета создает впечатление сдвинутос-
ти их по отношению к подразумеваемой центральной
оси. В пору Раннего Возрождения такое асимметричное
построение воспринималось как значимое, поскольку в
живописи вплоть до конца кватроченто центричное ре¬
шение композиции продолжало сохраняться как нор¬
ма. Каждый профильный портрет мыслился как бы
располагавшимся слева (если это мужская) или справа
(если женская) от подразумеваемого центра (то есть
зеркально по отношению к иконному изображению).
Отчасти властью этой композиционной парадигмы
можно, по-видимому, объяснить широкое распростра¬
нение парных портретов. В дошедших до наших дней
портретах Федериго да Монтефельтро и его супруги
Баттисты Сфорца кисти Пьеро делла Франческа, со¬
ставляющих диптих, становится очевидным компози¬
ционное зияние отсутствующего центрального звена.
Портреты требуют пространственной паузы тем более,
что изображены они на фоне далекого пейзажа, обра¬
зующего единую панораму, в центре которой компози¬
ционно не хватает дали (невольно у зрителя возникает
потребность раздвинуть их на большее расстояние, воз¬
местив ненаписанную даль - реальной, где должна
находиться обязательная для живописи кватроченто
точка схода перспективных линий). К тому же само
профильное изображение обладает повышенной про¬
странственной активностью, поэтому два близко сопо¬
ставленных профиля и зрительно, и сюжетно наталки¬
ваются друг на друга, словно две боковые створки трип¬
тиха, лишенного главной центральной части. Именно
эту ситуацию можно наблюдать в наивно скомпонован¬
ном Филиппо Липпи двойном портрете, производящем
впечатление двух профильных портретов, один из кото¬
рых (мужской), словно выйдя за пределы своей рамы,
вторгся в картинное поле другого (женского), нарушив
необходимую пространственную цезуру.
86
История итальянского портрета кватроченто -
и го история “выхода из профиля”, то есть из зависимо¬
го положения по сторонам от - в независимое, фасовое
положение в центре, или, пользуясь итальянской тер¬
минологией, в положение in maesta. Это было очевид¬
ным симптомом повышения портрета в его компози¬
ционном - и соответственно смысловом - статусе. Как
мелкий разрыв традиционной матрицы, такой поворот
осуществлялся с трудом, требовал напряженного уси¬
лия. Следы этой затрудненности, этого композиционно¬
го сопротивления проявляются в несинхронности пово¬
рота. В ранних непрофильных портретах кватроченто
плечи часто развернуты почти параллельно плоскости
полотна, голова изображена в три четверти - положе¬
ние, которое у самих итальянцев называлось occhio е
mezzo (буквально: один глаз с половиной, или полтора
глаза), но взгляд портретируемого устремлен в сторону,
мимо зрителя, словно он не может оторваться от объек¬
та внимания, находящегося за пределами изображе¬
ния, в невидимом центре невидимого, но некогда суще¬
ствовавшего композиционного и смыслового целого.
Особенно отчетливо это прослеживается в портретах
Антонелло да Мессина, которые словно постепенно по¬
ворачиваются к зрителю, утверждая свою независи¬
мость от плена трехчастной иконографии1.
Наконец, в последней четверти столетия соверша¬
ется решительный поворот портрета лицом к зрителю,
со взглядом, устремленным прямо перед собой. В этих
фасовых портретах, особенно у Боттичелли, чувствует¬
ся почти вызывающая независимость впервые осознав¬
шего себя Я-портрета. Они воспринимаются как акт
самоутверждения личности - и одновременно самого
жанра портрета - в живописи нового времени.
В леонардовском портрете Моны Лизы ее спо¬
койное самобытие достигает такой степени, что стано¬
вится почти вызывающим. Может быть, именно в этом
и таится до сих пор тревожащая зрителей загадка этого
портрета - привлекающая и одновременно смущающая
зрителя.
Развитие итальянского портрета эпохи Возрожде¬
ния - это развитие от профиля к фасу. Согласно Павлу
Флоренскому, профиль - “это такой онтологический
поворот, при котором личность... взаимодействует с
тем, что вне ее, и потому выходит из себя, направляясь
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
87
на другое...” При этом “изображается не лицо, а функ¬
ция его, его деятельность, а деятельность включает в
себя... волю исходную...” Согласно этому наблюдению,
ранние ренессансные профильные портреты “выходят
из себя, направляясь на другое”. Именно этот “выход из
себя”, эта обращенность “к другому” лишает их самодо¬
статочности, обнаруживает их связь со средневековой
“соборностью”. Ренессансный портрет достигает своего
подлинного самовыражения только тогда, когда он об¬
ретает “высокую ответственность прямого поворота”
(Флоренский), ибо только “лицевой образ”, согласно
Флоренскому, способен “покоиться”. Джоконда Лео¬
нардо поистине “покоится”, как бы чуть отстраняясь,
она смотрит на мир с полуулыбкой самопогруженнос-
ти, сознавая “ответственность” наконец обретенного
“прямого поворота”.
Джоконда представляет собой завершение про¬
цесса освобождения от напряженной устремленности
профильных изображений и перехода к свободной неза¬
висимости “volta in maesta”. Портреты Высокого Воз¬
рождения уже уверенно пользуются обретенной свобо¬
дой, им уже нет необходимости строго соблюдать фасо-
вое положение, они спокойно двигаются в пределах
портретного пространства, они овладели им полностью
и удобно в нем располагаются.
Такой свободы не знали художники Северного
Возрождения. Портретам Гольбейна, чтобы утвердить
себя, необходимы повышенно агрессивные приемы за¬
хвата всего поля портрета и нарочито педалированный,
грозный фас (портрет Генриха VIII). В одном из муж¬
ских портретов Тициана портретируемый, небрежно
обернувшись к зрителю, бросает на него взгляд через
плечо. Навязчивая идея фаса как формы самоутверж¬
дения не тяготеет больше над итальянскими мастера¬
ми. Они не стремятся освободиться от профиля, они
уже забыли о нем - точнее, они сумели подчинить себе
профильный поворот, лишив его прежнего ритуализо-
ванного смысла.
К кому обращается портрет эпохи Возрождения?
Кто является его адресатом? Если доренессансный пор¬
трет должен быть узнан там, вне пределов земной
реальности, то портрет ренессансный должен быть узнан
здесь, в этом мире, в этой действительности, более того -
узнан теми, кто живет в этом городе, в это время.
88
Он адресован современникам и потомкам - тем, кто
придет в этот мир, в этот город “после нас”. Именно по¬
этому он должен быть достоверным, во всяком случае -
и интенции; должен быть как можно более близким
к оригиналу. «Он жил в мое время, - пишет Антонио
Манетти в своем “Жизнеописании Филиппо Брунеллес¬
ки”, - я знал его, я говорил с ним». Иными словами -
птому “Жизнеописанию” можно и даже должно верить.
Так же, как должно верить портрету. Поэтому задачу
портретирования видели в том, чтобы выделить данное
лицо, сделать его отличным от всех прочих, неповтори¬
мым. Герцог Федериго да Монтефельтро не случайно
всегда изображался в профиль, у него был проломлен
нос, и эта отличительная черта делала его профиль за¬
поминающимся, обезображенный нос - как знак бое¬
вых подвигов, почти как герб.
Художник Возрождения стремился изобразить
модель как можно более похожей; зритель восприни¬
мал портретное изображение “как живое”. Такова была
общая установка времени - установка на узнавание. Со¬
хранилось стихотворение, посвященное портрету гер¬
цога Федериго да Монтефельтро кисти Пьеро делла
Франческа:
Пьеро дал мне плоть и нервы,
А ты, герцог, даровал мне божественную душу,
Поэтому я могу жить, говорить и двигаться.
Такие эпиграммы, написанные от лица самого
портрета, навеянные античными образцами, свидетель¬
ствуют о настоятельной потребности восприятия порт¬
рета как точной копии живой модели, как доказатель¬
ства существования этого человека в это время, в этом
месте. Даже в портретах, не очень похожих, хотели ви¬
деть и видели очень похожие портреты.
Люди Возрождения не отличались средневеко¬
вым смирением, они не соглашались ждать бессмертия
на небесах, они хотели земного бессмертия, известнос¬
ти здесь и сейчас, в среде своих сограждан, своих совре¬
менников, а также бессмертия в памяти потомков - бес¬
смертия исторического. Они стремились запечатлеть
себя рядом со святыми в росписях семейных капелл,
даже лицам святых они зачастую придавали сходство с
собственными лицами, они добивались права на почет¬
ное надгробье в храмах2. “Человек старается сохранить
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
89
свое имя в памяти потомства. Он страдает от того, что
не мог быть прославляемым во все прошлые времена,
а в будущие не может иметь почести от всех народов”, -
писал Марсилио Фичино.
Но ренессансный портрет - это не только жажда
славы земной. Если в эпоху средневековья сотворение
иконы святого (его “портрета”) было способом Бого-
познания, то ренессансный портрет - способ само¬
познания. Античное изречение “Познай самого себя”
становится своеобразным девизом времени.
Стремление познать себя как личность, отличную
от всех других себе подобных, выяснение своего свое¬
образия, своей непохожести, страх затеряться в толпе,
боязнь тесноты (о чем постоянно пишут итальянские
интеллектуалы, особенно в раннюю пору Возрожде¬
ния), настойчивая потребность выделиться - все это
возникает в литературе уже начиная с XIV века. “Ты
делаешь из меня оратора, историка, философа, поэта и,
наконец, даже теолога, - пишет Петрарка своему другу
Франческо Бруни, - ... но позволь мне сказать, друг
мой, как я далек от такой оценки ... У меня нет ни одно¬
го из тех качеств, которые ты мне приписываешь. Ка¬
ков же я в таком случае?” И далее следует известный
литературный автопортрет Петрарки. У его современ¬
ника Боккаччо в повести “Амето” главный герой - alter
ego автора - на первых же страницах внимательно рас¬
сматривает себя в зеркало: “Поначалу, сочтя себя во
всем достойным, он возликовал, но потом, осмотрев
себя более придирчивым взглядом, упал духом, про¬
клиная грубую свою наружность...” И с этого момента
строгой самооценки (“познай самого себя”) начинается
процесс физического и одновременно духовного самосо¬
вершенствования героя. Амето смотрит на себя в зерка¬
ло сторонним, оценивающим взглядом, смотрит на себя
как на свой портрет.
В XIV веке живопись еще не знала портрета, в ко¬
торый можно было бы смотреться, как в зеркало.
Таким зеркалом портрет становится позднее, в годы
кватроченто. Правда, сохранилось известие, кажется
не вполне достоверное, что уже Джотто - современник
Боккаччо - пытался написать автопортрет, глядя на се¬
бя в зеркало. Скорее всего, это следует отнести к разря¬
ду легенд, которыми был окружен этот мастер в после¬
дующие годы. В XV веке портрет пишется не только
90
для других, для современников и потомков, портрет пи¬
шется и для самой модели, чтобы можно было взгля¬
нуть на себя со стороны. Какой я? Портрет в некотором
смысле выполнял функцию зеркала3.
Символика зеркала была подробно разработана в
эпоху средневековья. В зеркале видели способ передачи
информации с небес на землю: “Свято восприняв до¬
веренное... озарение, [зеркало] незамедлительно, без
всякой зависимости отдает его в мир”, - писал Диони¬
сий Ареопагит. На этом строилось убеждение в свя¬
тости и нерушимости иконографического образца (пер¬
вообраза) в иконописи. Зеркало часто истолковывалось
как символ Богоматери. Изображение зеркала постоян¬
но встречается в нидерландской и немецкой живописи
XV века, особенно в сценах Благовещения. Смысловая
связь подобных изображений со средневековой концеп¬
цией несомненна. Зеркало в них всегда обращено из
картины во внекартинное пространство, в нем должно
отражаться то, чего нет в картине, что находится за ее
пределами, это - зеркало, которое ловит отражение
(если не сюжетно, то во всяком случае, композиционно)
за-предельного.
Иное значение получает зеркало в итальянском
искусстве XV века. Функция его состоит не в том, что¬
бы принимать весть из того мира, но в том, чтобы с пре¬
дельной точностью отражать этот мир, гарантируя по¬
хожесть его воспроизведения.
Альберти, а вслед за ним Леонардо твердят о не¬
обходимости для живописца отражать свои картины в
зеркале: “...У тебя должно быть плоское зеркало, и ты
должен часто рассматривать в него свое произве¬
дение...” Рассматривать свое собственное произведе¬
ние в зеркале, в перевернутом отражении - это способ
увидеть и оценить его как бы сторонним взглядом.
Портрет - это тоже зеркало, способ увидеть и оценить
самого себя со стороны, это инструмент самоузна-
вания, самооценки. “Я вдумываюсь в настоящее и со¬
поставляю будущее с прошедшим”, - гласит надпись
под одной из гравюр XV века, где изображена жен¬
щина, глядящая на себя в зеркало. На рамках некото¬
рых зеркал сохранилась надпись: “Вглядись сюда и
будь благоразумным”. Зеркало воспринимается как
синоним портрета и, наоборот, портрет - как синоним
зеркала.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
91
Портрет Бальтазаре де Кастильоне кисти Рафаэля
смотрит прямо перед собой, спокойно, изучающе и не¬
много грустно; это тоже взгляд в зеркало, не изобра¬
женное, но подразумеваемое, взгляд раздумчивый, само¬
углубленный. Так не смотрят на публику, так смотрят
на самого себя.
Маркизу мантуанскую Изабеллу д’Эсте пишут
многие художники ее времени. Однако ни один из пор¬
третов не удовлетворяет ее, она считает, что все они
“совсем на нее не похожи” - на одном она выглядит
слишком полной, на другом - слишком мрачной. Она
отказывается узнавать себя, недовольная своей наруж¬
ностью и своим внутренним обликом, она упрямо ут¬
верждает, что зеркало лжет. И только когда Тициан
пишет ее такой, какой она была в молодости, пишет не
с натуры, а по воображению, в том “волшебном” зерка¬
ле, созданном искусством художника, она наконец
соглашается узнать себя; правда, она находит в себе
смелость признаться, что все же “в те годы она не была
такой прекрасной, какой выглядит на полотне”. Зерка¬
ло снова лжет, но эта ложь ее устраивает.
И все же были ли портреты Возрождения похожи¬
ми? Во всяком случае, художники старались сделать их
непохожими друг на друга. Старались, хотя, как видно,
не всегда успешно. Леонардо не без причины обруши¬
вается на живописцев, которые вносят в лица многих
своих персонажей автопортретные черты. “Величай¬
ший недостаток живописцев... - пишет он, - делать
большую часть лиц похожей на их мастера; это много
раз вызывало мое изумление, так как я знавал живо¬
писцев, которые во всех своих фигурах, казалось, порт¬
ретировали самих себя с натуры”. Леонардо, по его сло¬
вам, “много размышлял о причине” такого видения,
объясняя его тем, что “душа, правящая и управляющая
каждым телом... образует суждение” (иными словами,
представление о собственном внешнем и внутреннем об¬
лике). “И так велико могущество этого суждения, -
продолжает Леонардо, - что оно движет рукой живо¬
писца и заставляет его повторять самого себя...” Если
человек средневековый стремился уловить в себе черты
Другого, то человек Возрождения, куда бы он ни уст¬
ремлял свой взор, повсюду видел самого себя, свой об¬
раз, спроецированный на черты любого реального или
воображаемого лица. В этом смысле всю портретную
92
живопись, во всяком случае периода кватроченто, мож¬
но было бы назвать, в широком смысле этого слова, ав¬
топортретной4.
Портрет Возрождения создал замкнутую струк¬
турную модель: портретируемый смотрит сам на себя
в зеркало, а зритель как бы образно отождествляется
с самой моделью, точнее, с ее отражением в зеркале5.
Однако в портретах Позднего Возрождения эта система
начинает нарушаться: изобразительное поле портре¬
та вмещает все большую часть фигуры, переходя от
портрета оплечного к поясному, затем, как, например,
в портретах Понтормо, - к поколенному и, наконец, к
портрету в рост. Но для того, чтобы охватить всего себя
взглядом, чтобы вся фигура попала в поле зрения, ну¬
жен отход, пространственная дистанция. В свою оче¬
редь пространственная дистанция создает иные усло¬
вия восприятия: не глаза в г лаза, но как бы окидывая
себя взглядом с головы до ног - и в этом уже заключен
момент некоторого отстранения (не каков я есть, но как
я выгляжу со стороны). В “Портрете короля Филип¬
па II” кисти Тициана взята точка зрения несколько
сверху, что создает очевидный сдвиг восприятия: смот¬
рит кто-то другой - или в “зеркале” портретируе¬
мый отражается не совсем так, как он сам себя может
увидеть.
Вторым существенным моментом в формирова¬
нии новой структурной формулы портрета можно счи¬
тать распространение портрета группового. Возрожде¬
ние знало парные супружеские портреты, восходящие
к портретам донаторов, написанные на отдельных дос¬
ках, они представляли собой самостоятельные изобра¬
жения (каждый отражался в своем зеркале). Новая си¬
туация намечается в несколько необычном парном пор¬
трете работы Якопо ди Барбари. Художник изобразил
самого себя рядом с известным математиком Лукой
Пачиоли. Здесь оба персонажа смотрятся в одно зерка¬
ло и не могут не видеть друг друга, при этом каждый
оказывается в роли зрителя по отношению к другому.
В замкнутую художественную структуру ренессансного
портрета, строившуюся по формуле Я-Я, начинает
вторгаться сторонний зритель. В известном парном
портрете Тициана, где изображена молодая женщина,
любующаяся на себя в зеркало, которое держит перед
ней ее возлюбленный, художник, в сущности, воспроиз-
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
93
водит ситуацию портрет перед зеркалом, но увиден¬
ную со стороны, при этом в роли зрителя оказывается
мужчина, держащий зеркало (он же - alter ego зрителя
реального).
По-иному, более решительно и более замысловато
решает аналогичную задачу Гольбейн. В его парном
портрете “Посланники” каждая фигура изображена в
фас, каждая смотрит прямо перед собой. Но в нижней
части картины находится непонятный продолговатый
предмет, невольно приковывающий внимание своей ни
на что не похожестью и странным положением в карти¬
не: он не лежит и не стоит, а словно висит в воздухе. Это
так называемая анаморфоза: до неузнаваемости иска¬
женное отражение черепа в кривом зеркале. Чтобы по¬
нять, что это за предмет, чтобы восстановить его перво¬
начальную форму, необходимо посмотреть на картину
со строго определенного места. (В Национальной гале¬
рее в Лондоне, где экспонируется это полотно, позиция
зрителя указана вмонтированной в пол медной бля¬
хой.) Таким засекреченным приемом Гольбейн вклю¬
чает зрителя в смысловое пространство портрета.
Тема парного портрета получает широкое распро¬
странение в XVII веке. У Рубенса в “Автопортрете с же¬
ной Изабеллой Брандт” фигуры объединены сюжетно,
однако они не смотрят друг на друга, они оба представ¬
ляются зрителю, именно перед ним демонстрируют
свой союз. “Автопортрет с Саскией на коленях” Ремб¬
рандта - манифест этой новой портретной ситуации: от¬
кровенно вызывающее обращение к зрителю, задорная,
нарушающая правила портретного этикета демонстра¬
ция собственного супружеского счастья. В смысловое
поле портрета Рембрандт включает зрителя как главно¬
го адресата, к которому портрет апеллирует.
Бальтазаре Кастильоне в портрете кисти Рафаэля
спокойно смотрит в зеркало на самого себя. “Портрет
офицера” кисти Франса Хальса смотрит не на себя - так
на себя не смотрят, так подают себя зрителю, фамиль¬
ярно ему подмигивая: вот я какой, смотрите на меня!
Женский портрет Рафаэля, получивший название
“Женщина под покрывалом” (Донна Be лата), представ¬
ляет модель такой, какая она есть. В портрете Сусан¬
ны Фоурман у Рубенса модель показывает себя такой,
какой она хочет, чтобы ее видели окружающие, и при
этом наблюдает, какое она производит впечатление.
94
Кгли портрет Возрождения строился по формуле Я-Я
(система замкнутая), то формула портрета XVII века:
)1 Я - Он (система открытая).
Не случайно в XVII веке вводится понятие фасада
применительно к характеристике человека: “Можно
сказать, что у человеческих характеров, как у некото¬
рых зданий, несколько фасадов”, - пишет Ларошфу¬
ко. При оценке человека, его характера важна точка
ирония: “...На каждого человека, как и на каждый
поступок, следует смотреть с определенного расстоя¬
ния. Иных можно понять, рассматривая их вблизи,
другие становятся понятными только издали”. В трой¬
ном портрете Карла I работы Ван Дейка изображены
и сущности три “фасада” модели. В центре, в фас -
“король, король от головы до пят”; слева, в почти “мо¬
литвенном” профиле, в строгом костюме - образ коро¬
ля как воплощение благочестия; справа - как вопло¬
щение светскости.
Пафос портрета XVII века - постоянное экспери¬
ментирование со своим собственным обликом, поиски
различных способов самоотстранения и самоостране-
ния, стремление увидеть себя не своими, как в пору
Возрождения, но чужими глазами. В пьесе Мольера
“Версальский экспромт” главное действующее лицо -
сам Мольер, которого он сам же играл; на сцене проис¬
ходит репетиция пьесы, написанной самим же Молье¬
ром, при этом Мольер в пьесе произносит, согласно ро¬
ли: “Я задумал комедию, где поэт, которого я хотел иг¬
рать сам, предлагает свою пьесу труппе”.
Экспериментирование с собственным обликом, с
постоянным переодеванием в разные, самые фантасти¬
ческие костюмы - то рыцаря, то придворного щеголя,
то знатного вельможи - происходит в многочисленных
автопортретах Рембрандта: своеобразный живописный
театр для себя, взгляд на себя в другом, возможном, во¬
ображаемом облике. Рембрандт экспериментировал не
только с костюмами, но и с лицом - по-разному осве¬
щая его, придавая ему разные выражения, играя в ми¬
мику, даже гримасничая - то изображая себя привле¬
кательным, то откровенно безобразным6. С неутоми¬
мостью исследователя он изучал мимику не только на
своем лице, но и на лицах своих близких (Саския улы¬
бающаяся, Титус читающий, Гендрике мечтательная,
Брейнинг задумавшийся...).
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
95
Рембрандт не был единственным в своем увлече¬
нии мимикой. Портреты Франса Хальса гримасничают
(смеющийся мулат, разозлившаяся Малле Боббе, под¬
мигивающий офицер...). Веласкес изучает расстроен¬
ную мимику больного человека, мимику, вышедшую из
повиновения.
XVII век - век эксперимента с человеческим ли¬
цом, с его возможностями выражать различные чув¬
ства и состояния - выражать и изображать: именно в
XVII веке открыли значение мимики для театра, для
игры актера. А главное - открыли способность мимики
не только менять внешний облик человека, но и обнару¬
живать изменчивость человеческой души, противоре¬
чивость человеческих чувств: “Никакому воображению
не придумать столько чувств, сколько их обычно ужи¬
вается в одном человеческом сердце” (Ларошфуко).
Гениальным мастером обнажения душевного со¬
стояния был Рембрандт. После первого периода “бури и
натиска”, когда он изучал возможности мимики, он со¬
здает портретные образы почти немыслимой душевной
раскрытости. Таково большинство его поздних портре¬
тов, в них достигнута полная расплавленность теле¬
сных черт в стихии абсолютной духовности. В некото¬
рых автопортретах Рембрандт доходит до безжалостно¬
го душевного самообнажения.
Но даже у такого “легкомысленного” мастера, как
Франс Хальс, в его “Мужском портрете в широкополой
шляпе”, несмотря на нарочито непринужденное обра¬
щение к зрителю, с которым портретируемый словно
пытается заговорить, - у него деланная улыбка, глаза
грустные и весь облик вызывает жалость и сочувствие.
Человек Возрождения сам узнает себя, глядясь в
портрет, как в зеркало. Для портрета XVII века роль
зеркала, точнее зеркал, выполняют взгляды зрителя.
Зрителя разного, к которому по-разному обращается
портрет, по-разному раскрывая разные стороны своего
облика. Неоднозначность, сложность человеческого
образа - великое открытие портретной живописи
XVII века; с этим связана неоднозначность самого пред¬
ставления о сходстве, которое зависит от того, кому, в
какой момент и какую именно сторону своего Я рас¬
крывает портрет. Сверхзадача портрета этой эпохи со¬
стояла не столько в том, чтобы возможно более похожим
изобразить лицо, сколько в том, чтобы передать его
96
выражение. По портрету читающего Титуса вряд ли
можно составить представление о реальных чертах его
лица. Не менее трудно сделать это по портрету доктора
Ирейнинга, ибо “порою человек бывает так же мало по¬
хож на себя, как и на других” (Ларошфуко).
Важная тема искусства XVII века - тема memento
mori, одна из центральных в натюрмортах этого столе¬
тия; по-иному она преломлена в многочисленных “Ана¬
томиях”, представляющих собой групповые портреты
учеников, столпившихся вокруг хирурга-паталогоана-
тома, вскрывающего труп. Распространение именно
этого сюжета объясняется, по-видимому, не только воз¬
росшим любопытством к анатомическому строению
тела, но, может быть, в не меньшей степени, болезнен¬
ным интересом к проблеме смертности человека. Чело¬
век - это чудо природы, этот венец творения, “почитае¬
мый и прославляемый повсюду”, человек, которого вос¬
певала литература и искусство Возрождения, смерть
которого воспринималась как событие7, - предстает
здесь в виде безжизненной, обреченной на разложе¬
ние плоти. “Великий Цезарь ныне - прах, и им замазы¬
вают щели...” Эта фраза Гамлета не только завершает
Возрождение, но и начинает собой следующее сто¬
летие. Она могла бы служить эпиграфом к “Анато¬
миям” XVII века, в первую очередь к двум картинам на
эту тему, принадлежащим кисти Рембрандта: самой
знаменитой - “Анатомии доктора Тульпа” и самой тра¬
гической, лишь фрагментарно сохранившейся, - “Ана¬
томии доктора Деймана”.
“Анатомия доктора Тульпа” представляет собой
групцовой портрет, своеобразную серию психологи¬
ческих этюдов голов, по-разному - с любопытством,
страхом, трезвым интересом или откровенным равно¬
душием - взирающих на труп и слушающих (или не
слушающих) пояснения врача. Загадка жизни и смер¬
ти - в самом прозаическом и потому самом страшном ее
аспекте. Гораздо более сложна и загадочна вторая
“Анатомия” Рембрандта (недавно реконструированная
по аналогии с первой). В ней голова трупа, черепную
коробку которого вскрывает анатом, приподнята, обра¬
щена лицом к зрителю и ярко освещена. Это мертвое
лицо с глубокими провалами как бы смотрящих на зри¬
теля глаз кажется более живым, нежели лица разгля¬
дывающих его живых людей.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
97
Человек Возрождения стремился жить в веках,
в памяти современников и потомков. Он заботился
о своем историческом бессмертии. Человек XVII века
остро переживает свою человеческую смертность, свою
затерянность в неизмеримом пространстве раскрывше¬
гося перед ним космоса, незащищенность и непроч¬
ность того духовного начала, той души, вместилищем
которой является его смертное тело. “Великое множе¬
ство тончайших нитей наматывали на небесные катуш¬
ки, а тянулись нити от каждого из смертных, как из
клубка. Как тонка небесная пряжа... Это нити нашей
жизни. Примечайте, как они непрочны... Природа пря¬
дет нить жизни, а Небо знай ее мотает, с каждым оборо¬
том день за днем у нас отрывает... Знаешь ли ты, на чем
стоишь? Знаешь ли ты по чему ходишь?.. Разве не хо¬
дишь ты всякий раз по нити своей жизни?” (Грасиан.
Критикой).
Портрет маленького Титуса у Рембрандта - это
щемящий образ крохотного человеческого существа на¬
едине с вечностью, он подобен светлячку или лампадке,
которая “и во тьме светит”, но которую так легко зага¬
сить. В XVII веке человек столкнулся с величием и тай¬
ной космоса и пытался оценить свое место в мире; перед
лицом космоса - “тьмы внешней” - он стремился погру¬
зиться в мир собственной души - духовного космоса,
высветить душу в чертах лица, душевные пережива¬
ния - в мимике; изучить космос человеческой души с
тем же любопытством бесстрашия, с каким хирург
стремится раскрыть тайны жизни и смерти, анатоми¬
руя человеческое тело.
Если портрет эпохи Возрождения можно назвать
портретом самопознания, то портрет XVII века можно
определить как портрет самораскрытия, самовыра¬
жения.
Человек в портрете Возрождения как бы задавал
себе самому молчаливый вопрос: каков Я есмь? Чело¬
век в портретах XVII века задавался вопросом: каким
выглядит извне мое внутреннее Я. Портрет Возрожде¬
ния смотрит сам на себя и сам себе удивляется. В своей
самодостаточности он не требует постороннего взгляда.
Портрет XVII века требует оценки со стороны, своеоб¬
разной самопроверки.
Обобщающей формулой такого портрета, в кото¬
ром все персонажи смотрят друг на друга и одновремен-
98
ми сими являются объектом смотрения, можно считать
полотно Веласкеса “Менины”. Содержание этой карти¬
ны, ее сюжет до сих пор остается загадкой. Что, соб-
« тионно, происходит? Ничего. Просто все смотрят друг
мн друга. Прежде всего сам художник. Он внимательно
рпнглядывает короля и королеву, которые (пусть неви¬
димые, не изображенные) находятся перед ним - вне
ипртины.
Художник смотрит не только на короля и короле-
му, он упорно смотрит и на зрителя, который, вольно
или невольно, оказывается на их месте и сам, в свою
очередь, смотрит на художника. Художник оценивает
зрителя, но и зритель оценивает художника, который,
Они ложной скромности, ему себя демонстрирует. На
переднем плане картины группа инфанты Маргариты и
прислуживающие ей две придворные дамы показывают
себя родителям Маргариты, и сами, чувствуя на себе их
имгляд, сознают, что на них смотрят. А в глубине ком¬
наты, на фоне ярко освещенного и поэтому не могущего
не привлекать внимания дверного проема, изображена
фигура придворного, черным силуэтом рисующегося на
с! нет л ом фоне. Он остановился, словно позируя, и вни¬
мательно смотрит на королевскую чету, причем объект
ого внимания отражен в зеркале, висящем на стене ря¬
дом с дверным проемом. Поистине - сплошные пере¬
крещивающиеся взгляды, игра взаимосмотрения, в
которую включен и зритель, а также тот скрытый от
зрителя портрет, котрый пишет художник на поверну¬
том к зрителю обратной стороной холсте и который,
возможно, отражен (?) в зеркале - или, во всяком слу¬
чае, зеркало воспроизводит то, что видит художник и
что он изображает на лицевой стороне своего холста.
И вся эта странная игра взглядов разыгрывается в
огромном полутемном зале с высокими, погруженными
во мрак сводами, пустым гулким пространством, за¬
нимающим большую часть холста, пространством, на
фоне которого (как и во многих полотнах Рембрандта)
все действующие лица кажутся странно одинокими, по¬
терянными, особенно из-за того, что пространство, изо¬
браженное образно, сливается с пространством вне кар¬
тины, куда художник поместил модели портрета, над
которым он работает.
XVII век был веком, пораженным величием миро¬
здания, его неизмеримостью, веком, когда человек
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
99
почувствовал себя наедине с непостижимым оно.
Может быть, именно поэтому портрет XVII века ощу¬
тил непреодолимую потребность в присутствии зрите¬
ля, человеческом контакте с ним - своеобразное бегство
от онтологического одиночества.
Следующее, XVIII столетие было иным. Это было
столетие трезво-рассудочное, переставшее изумляться,
столетие просвещения, классификации, создания эн¬
циклопедии человеческих знаний о мире. Если XVII век
был религиозным по преимуществу, то XVIII - по пре¬
имуществу не религиозным, это был век внутреннего
бесстрашия, вседозволенности. Если Бога нет, а есть
только пустое небо, которого не нужно бояться и можно
изучать, то утрачивают значение и многие нравствен¬
ные критерии и запреты. Живем только раз, за гробом
нас ничего не ожидает, поэтому будем наслаждаться
каждым мгновением, а “после нас - хоть потоп”! Это
был век, предчувствовавший катастрофу, подготовив¬
ший ее - кровавую катастрофу Великой французской
революции, которая обрушилась на этот гедонистичес¬
ки настроенный мир и уничтожила его.
Каждое время трагично по-своему или, во всяком
случае, драматично. Великий карнавал XVIII века был
долгим, тянувшимся многие десятилетия “пиром во
время чумы”. Жизнь не столько проживалась, сколь¬
ко проигрывалась на сцене, которую, умирая, чело¬
век покидал, как актер покидает подмостки. Человек
XVIII века - человек, играющий на театре жизни.
Для Дидро театр - это образец поведения в обще¬
стве. В его знаменитом “Парадоксе об актере”, значение
которого далеко выходит за пределы чисто профессио¬
нального руководства, речь идет не только о том, как
следует играть в профессиональном театре, но также о
том, как следует играть в театре жизни. Хороший ак¬
тер, утверждает Дидро, это тот, кто умеет не чувство¬
вать на сцене, но имитировать чувство. “Весь его талант
состоит не в том, чтобы... переживать чувство, а в том,
чтобы тончайшим образом передать внешние знаки
чувств и тем обмануть вас”. Аналогичная ситуация, по
мысли Дидро, и в “великой комедии, в комедии жиз¬
ни”. Люди, которые целиком отдаются чувству, кото¬
рые не умеют постоянно “слышать себя, видеть себя,
судить себя, угадывать, какое они будут производить
впечатление”, такие люди подобны плохим актерам,
100
которые “играют спектакль, но сами им не наслаж-
диются... подлинные гении сидят в партере”. Дидро по¬
стоянно сравнивает общество со спектаклем, а спек¬
такль “с хорошо организованным обществом, в котором
каждый поступается частью своих прав в интересах
жшх...” Он постоянно подчеркивает, что поведение че¬
ловека в обществе, так же как поведение актера на сце¬
не, должно отличаться от бытового поведения, оно
должно быть продуманным, сознательно сделанным, то
есть сценическим8.
Главный жизненный критерий - ответственность
не перед Богом, не перед великой и непостижимой
тайной Бытия, но перед обществом, перед судом, перед
тем “что станет говорить княгиня Марья Алексевна”.
В обществе свои критерии: вместо чувства ценится чув¬
ствительность, вместо любви - мимолетное влечение;
место судьбы занимает карточная игра как ее орудие;
вместо божественного промысла - всеведущий челове¬
ческий разум.
Сюжетная картина как “целостная формула бы¬
тия” переживает кризис, в то время как портрет зани¬
мает важнейшее место в искусстве и культуре века,
как бы выполняя функцию картины. Именно по порт¬
рету мы судим о столетии, именно портрет - самое заме¬
чательное явление в искусстве XVIII века, когда инте¬
рес к мифологическим и библейским событиям и даже
к событиям историческим отступает перед острым
интересом к “человеческой комедии”, которая разыг¬
рывается не в пршлом, но в настоящем, сегодня, у всех
на глазах.
Расцвет портрета связан с самыми горячими точ¬
ками исторического процесса XVIII века: Францией,
которая вынашивала Великую Французскую револю¬
цию, перевернувшую мир, и Россией, которая именно в
этом столетии активно включилась в европейскую ис¬
торию и которой в 1812 году предстояло сломать хребет
наполеоновской Франции, а в 1814 стать “жандармом”
Европы. Окно, прорубленное Петром в начале столе¬
тия, имело двойной вектор: не только Европа хлынула
в Россию, но и Россия хлынула в Европу.
Если в портрете XVII века наиболее информатив¬
ной частью было лицо с подчеркнуто выразительной
мимикой, то в портретах XVIII столетия именно лицо
наименее информативно, с него словно смыта вся экс¬
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
101
прессия. Портреты обращаются к зрителю с одинако¬
вой светской полуулыбкой, свидетельствующей лишь о
любезности, хорошем тоне, умении вести себя в общест¬
ве. Одна и та же улыбка застыла и на лице короля
(“улыбка - вежливость королей”), и на лицах простых
смертных - все равны перед законом общества, перед
законами “света”. После настойчивых экспериментов с
мимикой лица в портретах XVII века стало очевидным,
что мимика - управляема, что портретируемый и, соот¬
ветственно, портретист могут придать лицу любое вы¬
ражение, и именно поэтому мимика не раскрывает сущ¬
ности человека, во всяком случае, при его появлении в
обществе, а всякий портрет - это явление портретируе¬
мого обществу. Человек, пишет Дидро, может, подобно
актеру, “повелевать своим глазам, своему лбу, своим
щекам, своему рту, всем мускулам своего лица”. Поэто¬
му портретист не должен полагаться на мимику, к тому
же он и не должен стремиться раскрыть в портрете под¬
линную сущность человека, поскольку “подлинные
страсти всегда имеют такие гримасы, которые безвкус¬
ный мастер рабски копирует, а большой художник
избегает”. Вымышленные чувства “более пленитель¬
ны”, чем подлинные, естественные чувства.
Портрет XVII века являл себя зрителю - либо во
всем своем величии, либо во всем ничтожестве, в своем
вызывающем самоутверждении, своем веселии или
своей печали, в своем отчаянии, своем одиночестве. В
портрете XVII века есть момент исповедальности: таков
я есть...
Человек в портрете XVIII века не являет, но иг¬
рает себя так же, как он играет себя в жизни, творит
свой собственный облик, подает себя миру не таким,
каков он есть “по природе”, но таким, каким он хочет,
чтобы его видели окружающие, таким, каков он по
“имитируемому облику”. И в жизни, и в портрете че¬
ловек выступает перед публикой, перед зрителями. В
этом смысле можно сказать, что портрет XVIII века -
игровой портрет.
Кроме того, в жизни лицо человека постоянно
меняет свое выражение, каждое мгновение оно другое -
и схватить это мгновение художник не может:
Напрасный труд писать с тебя портрет.
То весела, то сумрачна, порой игрива,
102
То скромностью блистает твой привет,
Порой кокетлива, порой стыдлива.
Черты сходны, а сходства нет.
(Вольтер)
XVIII век остро воспринимал быстротекучесть
человеческой жизни, художнику все равно за ней не уг¬
наться, не угадать, какое из мгновений являет человека
настоящим. Дидро писал об одном из своих портретов:
"В течение дня лицо мое принимало десятки различ¬
ных выражений, в зависимости от того, что оказывало
на меня действие. Я бывал умиротворен, печален,
задумчив, нежен, груб, яростен, но никогда не был
таким, каким вы видите меня здесь. Облик мой вводит
и обман художника”.
Установка на бесконечное изменение своего об¬
раза, своеобразная игра в изменчивость, непостоян¬
ство, стремление в жизни исполнять различные роли,
разнообразить, делать неуловимым, непредсказуемым
свое ролевое поведение - характерная черта игро¬
вого XVIII столетия. “Я искала различные способы нра¬
виться и училась соединять в себе нескольких женщин.
Когда мне хотелось иметь загадочный вид, я знала, как
мне тогда надо держать себя и какой выбрать убор; на
следующий день я становилась воплощением томной
грации, а затем - образцом скромной и строгой безыс¬
кусственной красоты. Я умела приковывать внимание
самого ветреного мужчины; я побеждала его непостоян¬
ство; ибо каждый день он видел во мне новую возлюб¬
ленную, словно менял их”, - признается героиня рома¬
на Мариво “Жизнь Марианны”.
Лицо в портрете XVIII века наименее инфор¬
мативно. Не информативны и руки. Художник или
обходится совсем без рук, или изображает сделанный,
балетный жест. Не случайно в портретах руки часто пи¬
сали с запасных моделей: известно, что Виже Лебрен -
одна из самых модных художниц портретного жанра -
часто писала в женских портретах свои собственные
руки. Подобные запасные руки невозможно предста¬
вить ни в одном из портретов Рембрандта, в которых
руки столь же выразительны, как и лицо, - молчащие,
задумчивые, любящие, трагически одинокие... В порт¬
ретах XVIII века руки не говорящие, но разговариваю¬
щие; была разработана целая азбука красивых жестов,
не столько значимых, сколько обозначающих.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
103
Самой информативной частью портрета XVIII века
можно считать костюм. В портрете, как и в жизни, кос¬
тюм - главный семантически нагруженный признак.
Костюм виден издали; лицо нужно разглядывать вбли¬
зи, изучать - костюм можно схватить глазом сразу: по¬
кажи мне, как ты одет, и я скажу, кто ты - это лету¬
чее выражение как нельзя более применимо к костю¬
му XVIII века. Костюм определяет роль человека в
обществе.
По платью, как известно, встречают... “Краси¬
вое новое платье почти равносильно красивому лицу”, -
утверждает героиня романа Мариво. В начале XVIII сто¬
летия французский теоретик искусства Роже де Пиль в
своем “Курсе основ живописи” сформулировал требо¬
вания, которые должно предъявлять к портрету. Трак¬
тат имел огромный успех и был переведен на многие
языки - в том числе на русский. И, пожалуй, именно в
русском портрете положения, сформулированные Роже
де Пилем, получили наиболее прямое воплощение. Осо¬
бенно в портретах Левицкого - самого европейского из
русских художников этого столетия. Его портреты мо¬
гут служить красноречивой иллюстрацией требований
трактата Роже де Пиля, которые, следует признать, в
русском переводе звучат особенно выразительно:
“Должно, чтобы ... портреты казались как бы говоря¬
щими о самих себе и как бы извещающими: смотри на
меня, я есмь оный непобедимый царь, окруженный ве¬
личеством... Я тот мужественный военачальник, кото¬
рый наносит всюду трепет... Я тот великий министр,
который вызнал все политические пружины... Я тот
благоразумный и тихий человек, коего привержен¬
ность к любомудрию одержала поверхность над жела¬
ниями и честолюбием... Я знаменитый художник, бес¬
подобный в своем звании... Я та веселонравная, кото¬
рая любит смехи и забавы”. Такая безапелляционная
однозначность портретных характеристик достигалась,
прежде всего, благодаря чисто внешним признакам, оп¬
ределяющим амплуа человека в обществе, - костюму,
атрибутам и антуражу.
Мимика одежды заступила место мимики лица:
“Одеяния государственных деятелей всегда делаются
широкими, это придает значительность их внешности,
достигается это огромным количеством затраченной
материи. Широкий, массивный парик, напоминающий
104
»и.11иную гриву, заключает в себе нечто благородное и
придает выражению лица достоинство”. Иными слова¬
ми выражение лица создается при помощи парика,
мирик заменяет лицо. Так формулирует в своем тракта¬
та задачи портретной живописи Хогарт. И далее - о ми¬
мике складок одежды: “Каждая складка должна быть
соответствующим образом изогнута... Построенная на
применении этого правила, она будет иметь вид”. Так
должен работать в портрете мужской костюм.
Что касается костюма женского, то он имел еще
одну важную функцию, он был не только и не столько
знаковым (как мужской), но и разговорным, выполняя
роль своеобразного телеграфа - общения на расстоя¬
нии. Была разработана особая азбука цветов, азбука
расположения лент и бантов на платье, азбука “му¬
шек”, которые дамы наклеивали на лицо, правила иг¬
ры веером (раскрытый, сложенный, поднятый, опу¬
щенный и т. п.).
Мужской костюм должен был представлять чело-
иека, подобно визитной карточке. В женском одежда
использовалась, кроме того, в целях кокетства, она
должна была “возбуждать наши ожидания и не слиш¬
ком удовлетворять их. Поэтому тело, руки и ноги долж¬
ны быть прикрыты и только кое-где должны намеками
сквозить через одежду... Тело... скоро пресытило бы
глаз... но когда оно искусно одето и задрапировано,
глаз за каждой складкой видит то, что сам представ¬
ляет себе”, - писал Хогарт. А вот - взгляд женщины,
смоделированный изнутри ситуации: в романе Мариво,
представляющем собой род литературного автопортре¬
та героини. Сюжет завязан вокруг ее красивого платья,
лицо едва упоминается - трудно уловить, красивое оно
или просто миловидное; определяющую роль во всех
сюжетных коллизиях играет костюм: небрежный - или
нарядный, богатый - или бедный, затянутая шнуровка
корсета - или распущенная, смятый - или отглажен¬
ный чепчик, обутая - или разутая ножка и т. д. “Время
от времени... я угощала зрителей маленьким показом
своей прелести... Например... я играла чепчиком; он шел
мне чудесно, но я делала вид, что он сидит криво, и, по¬
правляя пальцами оборочку, заодно показывала обна¬
женную круглую ручку, открывавшуюся тогда по
крайней мере до локтя... Самое миловидное личико -
это ведь отнюдь не нагота, наши глаза не воспринимают
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
105
его таким, но красивая рука - уже начало наготы, и
чтобы привлечь иных мужчин, лучше дразнить их, чем
пленять красотою черт”.
Игровое, театральное начало пронизывает миро-
поведение человека XVIII века. Все портреты этого вре¬
мени, в сущности, представляют собой костюмные или
откровенно костюмированные портреты: герой высту¬
пает не просто от себя, но как бы от персонажа, роль
которого он исполняет в жизни и в портрете: воина или
законодателя, мудреца или художника, музы или Фло¬
ры, Амура или Психеи. При этом обычный костюм лег¬
ко переходит в костюм откровенно театральный или
маскарадный. Такие театрализованные портреты-мас¬
ки, снабженные соответствующими атрибутами, порт¬
реты в образе, в роли - главная тема портретной живо¬
писи века, ее главный нерв.
И не только в живописи, но и в жизни, и не толь¬
ко в ее общественном аспекте, но и в аспекте личном:
меняется только тип ролевого поведения, только сцена¬
рий. “Вся европейская жизнь - грандиозный маска¬
рад... - пишет Шефтсбери, - если посмотреть на нее
непредвзятым взглядом... легко принять за искусство
самое природу и человека здравомыслящего - за ка¬
кую-нибудь смехотворную маску”.
Театр жизни - это одно из ключевых понятий,
своеобразная формула XVIII столетия. Не только в
переносном, но и в прямом смысле этого слова театр иг¬
рал огромную роль в культуре - роль не только развле¬
кательную, но и поучительную, точнее - обучающую.
Широкое распространение театров - и профессиональ¬
ных, и самодеятельных, придворных, домашних (не го¬
воря уже о крепостных театрах России), а также теат¬
ров при учебных заведениях, как, например, при
Смольном институте в Петербурге, созданном для вос¬
питания молодых девиц из благородных семейств. Их
учили не только танцам, не только умению сохранять
осанку, их учили умению вести себя соответственно той
роли, которую они должны будут играть в обществе,
учили правильному поведению на театре жизни. В Рос¬
сии театрализация быта определенных слоев общества
чувствовалась особенно сильно и принимала порой при¬
чудливые формы. Со времени Петра I наступила эпоха
всеобщих (поначалу насильственных) переодеваний.
Сам царь начал с переодевания в костюм плотника.
106
Екатерина II была “великой актрисой на троне”. Напи¬
танный Левицким парадный портрет “Екатерины-зако-
нпдптельницы” - наиболее яркий образец театрализо-
иаиного портрета, в котором модель играет самое себя
н желаемой, в значительной степени воображаемой си¬
туации. Аллегорическая программа портрета была
разъяснена самим художником: “Середина картины
представляет внутренность Храма Правосудия, перед
которой в виде законодательницы Ее императорское ве¬
личество, сжигая на алтаре маковые цветы, жертвует
драгоценным своим покоем для общего покоя. Вместо
обыкновенной императорской короны увенчана она ла-
ировым венцом, украшающим гражданскую корону,
иозложенную на ее голову... Победоносный орел по¬
коится на законах, и вооруженный Перуном страж ра-
чит о целости оных. Вдали видно открытое море, а на
развевающемся Российском флаге изображенный на
поенном щите Меркуриев жезл означает защищенную
торговлю”.
Левицкий создал парадный образ Екатерины, тот,
которым она была обращена к миру, к истории. Иной,
домашний облик этой великой актрисы, облик, по-свое¬
му не менее театрализованный, представил другой
крупный мастер портретной живописи - Боровиков¬
ский. Екатерина на этом портрете изображена в домаш¬
ней одежде, вышедшая на прогулку в парк. Императ¬
рица - играющая в простоту, естественность, доступ¬
ность. Именно такой описал ее Пушкин в сцене случай¬
ной встречи с капитанской дочкой Машей, не узнавшей
в этой доброй, пожилой женщине императрицу. Боро¬
виковский, как и Левицкий, изобразил Екатерину на
сцене, только соответственно сменил декорации - вмес¬
то Храма Правосудия - простые деревья парка9.
Были ли портреты XVIII века похожими? Безус¬
ловно, они были похожи на тех, кого изображали, точ¬
нее - на тех, кого изображали их модели. Ибо, как ут¬
верждал Дидро, “человек один по своей природе, дру¬
гой по имитируемому им облику”. Портрет XVIII века
похож в большей степени на “имитируемый облик”, и
увлекательная задача для зрителя - угадывать в облике
изображенном облик подлинный. Впрочем, эта задача
интересна, скорее, для нас, потомков; для зрителя со¬
временника “вымышленные образы и вымышленные
чувства” представлялись “более пленительными, чем
подлинные, естественные чувства”.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
107
Конечно, искусство XVIII века знало и другие
портреты, изображавшие простого человека в простой,
домашней среде, человека без парика - но в конечном
смысле антикостюм и антииарик создавали такой же
костюмированный образ, но в иной ролевой ситуации.
Известный автопортрет Шардена, у которого на голове,
вместо парика, что-то вроде ночного колпака и козырек
для защиты уставших от слишком яркого света глаз,
автопортрет, который часто приводят в качестве приме¬
ра предельной простоты и правдивости изображения,
по сути дела, не менее костюмен, нежели любой кос¬
тюмный портрет того времени. Просто это очень сме¬
лый костюм.
Не менее игровыми были и детские портреты
Шардена. Некоторые из них играли в простоту и скром¬
ность, другие просто играли в аллегорические игры:
“Мальчик, строящий карточный домик”, “Мальчик,
пускающий мыльные пузыри” - аллегории на тему бы¬
стротечности, нестабильности жизни. Еще более откро¬
венно игровой портрет мальчика, пускающего волчок,
на котором стоят слова: “Отдай”, “Возьми”, “Все”, “Ни¬
чего”. Игра Фортуны, “Игра любви и случая” - излюб¬
ленные темы XVIII века.
XVIII век был веком портрета, веком, когда из
всех живописных жанров именно портрет наиболее
полно и наиболее адекватно выразил свое время. Но па¬
радокс состоит в том, что сам портрет XVIII века не был
великим искусством. Может быть, потому, что был ут¬
рачен масштаб самой человеческой личности в ее соот¬
несенности с мирозданием.
В эпоху Возрождения человек ощущал себя живу¬
щим на Земле под опустевшим, закрывшимся небом -
но он считал себя центром этого земного мира, он пре¬
тендовал в нем на роль творца. В XVII веке над головой
человека разверзлась бездна небесная, он соотносил се¬
бя с этой бездной, с космосом, с мировым пространст¬
вом, противопоставляя ему внутреннее пространство
своего духовного одиночества.
В обезбоженном, рациональном мире XVIII века
человек не чувствовал себя одиноким, он жил в обще¬
стве, где все старались любезно улыбаться друг другу,
он думал не о космосе, но о своих отношениях с други¬
ми людьми, с обществом и о быстротечности своего зем¬
ного существования.
108
XVIII столетие кончилось 1789 годом, годом Ве¬
ликой Французской революции. Это была грандиозная,
кровавая трагедия, зрителями которой были все евро¬
пейские страны, наблюдавшие за ее развитием - иные с
восторгом, другие с ужасом. Портретистом революци¬
онных лет Франции был Луи Давид. Он писал героев ре¬
волюции, ее вождей, которые один за другим уходили,
точнее - были сброшены со сценических подмостков
Истории. Самый знаменитый его портрет револю-
ционнных лет, запечатлевший убитого Марата, пред¬
ставлял собой великолепную постановку на тему
“гибель героя” - одно из тех театрализованных револю¬
ционных действ, многие из которых сочинял и осуще¬
ствлял тот же Давид на улицах и площадях револю¬
ционного Парижа. Как и все портреты XVIII столетия,
это портрет игровой, он обращен к аудитории зрителей,
рассчитан на ее реакцию; аудиторию самую широкую -
весь Париж - и реакцию самую непосредственную -
призыв к отмщению.
В сущности игровым, рассчитанным на зрителя,
остается французский портрет и после революции, ме¬
няется только амплуа: на смену героям революции
приходит Бонапарт; поначалу образ, овеянный револю¬
ционной героикой - как в известном портрете Гро -
“Бонапарт на Аркольском мосту”, затем - почти ге¬
ральдический образ в конном портрете “Бонапарт на
Сан Бернарском перевале” кисти Давида. Оба эти порт¬
рета не только рассчитаны на зрителя, они непосред¬
ственно обращены к зрителю.
Крушение империи Наполеона по-разному ото¬
звалось в Европе и в России10. И как это ни парадок¬
сально - и в побежденной Европе, и в победившей Рос¬
сии - наступил период разочарования. Главная тема
литературы в посленаполеоновской Европе - драма на
тему “крушение иллюзий” и, в первую очередь, про¬
бужденных Наполеоном иллюзий приобщенности каж¬
дого к истории, включенности в качестве действующего
лица в исторический процесс, веры в то, что каждый
простой человек может и должен претендовать на ак¬
тивную роль в развитии исторического действа, разво¬
рачивавшегося на его глазах и при его участии11. Альф¬
ред де Мюссе в предисловии к роману “Исповедь сына
века”, предисловии, сыгравшем роль манифеста фран¬
цузского романтизма, остро подмечает внешние изме¬
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
109
нения, происшедшие в обществе, его переодевание: “Во
всех салонах Парижа - неслыханная вещь - мужчины
и женщины разделились на две группы - одни в белом,
как невесты, а другие в черном, как сироты, смотрели
друг на друга испытующим взглядом... Черный кос¬
тюм, который носят в наше время мужчины, - это
страшный символ. Чтобы дойти до него, надо было один
за другим сбросить все доспехи, цветок за цветком
уничтожить шитье на мундирах”. Сбросить знаковую
выразительность, разговорность костюма XVIII века,
стереть с лица одинаково вежливую полуулыбку, обра¬
щенную ко всем, сменить ее на серьезный, недоверчиво
испытующий взгляд.
В портретах господствующим становится образ
серьезного, не улыбающегося, замкнутого молодого не¬
ловка - “сына века”. У него черный или, во всяком слу¬
чае, темный камзол, небрежно повязанный шейный
платок, волосы в беспорядке - своеобразный антикос-
тюм по отношению к нарядной тщательности костюма
XVIII столетия. Таков “Портрет неизвестного молодого
человека” работы Давида и последовавшая за ним це¬
лая серия “молодых людей”, образ, прошедший через
живопись и литературу первой трети XIX века. Новое
поколение - это поколение неприкаянных, разочаро¬
ванных молодых людей. Чацкий, Онегин, Печорин -
молоды и разочарованны; молод Жюльен Соре ль из ро¬
мана Стендаля “Красное и черное”, молод Фабрицио в
его романе “Пермская обитель”. Полные “благих поры¬
вов” и честолюбивых надежд в начале жизненного пути
они испытали раннее разочарование, пресыщение.
(“Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не
дано”.) В “Портрете молодого человека” Делакруа -
рассерженный молодой человек, словно бросающий вы¬
зов окружающим. В автопортрете Коро - на лице героя
маска замкнутости, отчужденности, неприступности,
даже некоторой брюзгливости. Демонстративный отказ
играть на зрителя, демонстративное игнорирование
зрителя. И в искусстве - и в жизни. Молодой герой вре¬
мени отказывается от принятых в обществе норм пове¬
дения (“дамам к ручке не подходит”), отказывается от
танцев на балу, его излюбленная позиция - стоять,
скрестив руки, в стороне, прислонившись к колонне, -
позиция не участника действа, но пассивного, незаин¬
тересованного, скучающего зрителя.
110
В портрете Пушкина работы Кипренского изобра¬
жен не столько сам Пушкин, сколько Пушкин в облике
Онегина или, может быть, наоборот - Онегин в образе
Пушкина. Герой времени - молодой человек, вышед¬
ший из игры. Но в этом - тоже своя роль, своя маска.
I Iona зрителя, одиноко стоящего у колонны, в свою оче¬
редь рассчитана на зрителей, проносящихся мимо него
и “вихре танца” или с интересом лорнирующих его из-
дили и обсуждающих его поведение, его внешность, его
позу, словом - выбранную им маску, потому что это
гоже маска, и часто она мстит за себя. Онегин уверяет
Татьяну в своей неспособности любить - и влюбляется в
нее всерьез, отчаянно и безнадежно; Печорин разыгры¬
вает роль холодного и циничного соблазнителя княжны
Мэри - и чувствует, что любит ее по-настоящему. Мас¬
ка прирастает к лицу - ситуация стихотворения Гейне,
известного в России в переводе А. Толстого:
Довольно, пора мне забыть этот вздор,
Пора обратиться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку...
Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму.
И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая...
Нельзя безнаказанно играть роль в “театре жиз¬
ни”, роль мстит за себя, становясь сущностью. Так в
первой трети XIX столетия болезненно изживается си¬
туация века XVIII.
Портрет XIX века складывается не на рубеже сто¬
летий, он рождается тогда, когда театральная маска на¬
чинает мстить за себя - и в жизни, и в театре. “Зритель
должен верить в то, что происходит на сцене”, - пишет
Стендаль и рассказыает о солдате, который, присутст¬
вуя на представлении, выстрелил в Отелло, когда тот
начал душить Дездемону. Зритель должен забыть, что
он находится в театре, он должен перестать быть просто
зрителем, сторонним наблюдателем - зритель должен
стать собеседником. “Странно сидеть перед сценой
несколько часов, видеть людей говорящих, действую¬
щих и не иметь права вымолвить своего слова...
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
111
Я совершенно понимаю чудака, который, сидя в крес¬
лах, не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в разговор ак¬
теров” (А Одоевский).
Портрет XIX века, особенно русский, строится по
модели, когда зритель исключается из художественной
концепции в качестве стороннего наблюдателя и стано¬
вится собеседником, которого слушают. Портрет слу¬
шает зрителя. Возникает тип портрета наедине с мол¬
чаливым собеседником. С особой очевидностью это про¬
является в характере жестикуляции. Струговщиков в
портрете кисти Брюллова демонстративно отказывает¬
ся от сообщающих, разговорных жестов, обе его руки
нарочито безвольно свисают с подлокотников кресла.
Отказ от значимой, поучающей, поясняющей жести¬
куляции появляется как зримая антитеза говорящих
жестов в портретах XVIII века. У Пушкина в портрете
Кипренского руки скрещены на груди - демонстратив¬
ный жест молчания; в его же портрете Растопчиной -
лежащие на коленях руки срезаны рамой, причем не
выше локтей (обычный композиционный прием по¬
тру дных портретов), но ниже, и потому они воспри¬
нимаются как спрятанные за раму - подчеркнутая
молчаливость рук. В таком отказе от жестикуляции за¬
ключена особая, негативная знаковость. Негативная
знаковость есть и в костюме Растопчиной: это костюм
нейтральный, никакой, костюм, не останавливающий
внимания зрителя, целиком поглощенного выраже¬
нием лица модели. Ее самозабвенно внимающее, не сле¬
дящее за своей мимикой лицо - выразительная антите¬
за сделанному лицу в портретах XVIII века.
В мужском портрете сознательный отказ от ак¬
тивного игрового начала приобретает особый смысл в
антитезе: ливрея - халат. Тема халата как знака лич¬
ной независимости, отказа от выполнения определен¬
ной роли в общественной жизни, воплощенной в ливрее
(мундире, фраке, придворном костюме), - частая тема в
поэзии пушкинской поры.
Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени...
Пускай служителям Арея
Мила их тесная ливрея;
Я волен телом и душой
От века нашего заразы...
112
Окутан авторским халатом,
Презрев слепого света шум...
(Н. Языков)
Халат - метафора внутренней свободы и творчес¬
кого вдохновения. Вяземский посвятил своему старому
халату специальное стихотворение:
Прости халат, товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!..
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом.
Тропинин пишет Пушкина в халате, в свободной
позе творческого одиночества - антитеза образу пуб¬
личного одиночества в портрете Кипренского. С хала¬
том ассоциируется у Пушкина творческое настроение,
которого он так нетерпеливо ждал, особенно в поздние
годы:
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов...
Кипренский изображает себя в халате с кистью в
руке; в халате с кистью пишет себя Тропинин. Халат
осмысливается как символ дружеской близости, нефор¬
мальных, неуставных отношений.
В стихотворении “К Давыдову” Пушкин пишет о
“демократическом халате” как свидетельстве полити¬
ческого инакомыслия.
В портретах первой половины столетия зритель
включен в художественное пространство портрета; мо¬
дель изображена такой, какой ее видит предполагае¬
мый зритель: самозабвенно внимающей собеседнику,
всецело растворенной в этом состоянии внимания (как
Растопчина у Кипренского) или нарочито, демонстра¬
тивно отказывающейся от контакта со зрителем (как
Пушкин в портрете того же художника). Но всегда зри¬
тель потенциально присутствует - как принимаемый
или как отрицаемый, как тот, к кому обращен изобра¬
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
113
женный на портрете персонаж, или как тот, к кому он
демонстративно не хочет обращаться, находясь со зри¬
телем в негативном контакте, в позиции его - зрителя
или потенциального собеседника - отрицания.
В портретах середины и второй половины столе¬
тия ситуация меняется: зритель исключается из худо¬
жественного пространства портрета. Для Достоевского
в портрете Перова зритель просто не существует.
Взгляд погашен, главным выразительным/выражаю-
щим элементом композиции становится лоб, крутой,
выступающий, ярко освещенный, как бы выдвинутый
вперед; его роль - роль щита или забрала, защищающе¬
го лицо, глаза от постороннего взгляда, от взгляда зри¬
теля. Такую же роль композиционного и смыслового
замка выполняют крепко сжатые руки с туго перепле¬
тенными пальцами - второй, выделенный светом центр
композиции.
Аналогичная смысловая и композиционная фор¬
мула - в портрете Стрепетовой кисти Ярошенко: отве¬
денный в сторону взгляд, исподлобья, мимо; упрямо
склоненный, молчаливый лоб, напряженно сцеплен¬
ные, замыкающие руки.
Формула портрета наедине с собеседником сме¬
няется в середине столетия формулой наедине с самим
с собой. Не только зритель - не контактирует с моделью
и сам художник, alter ego зрителя. Он как бы подсмат¬
ривает за моделью, стремится поймать самое сокровен¬
ное, самое раскрывающее ее суть выражение, самую
естественную позу - иными словами, застать модель
врасплох, наедине с собой и угадать “главную идею ее
физиономии”12 - по словам Достоевского.
В романе Гончарова “Обрыв” Райский пишет пор¬
трет Веры. Он просит ее не принимать никакой позы,
никакого выражения лица: “Ты не гляди на меня, будь
свободной, как будто бы меня не было тут. Делай какие
хочешь движения, глядя, куда хочешь, или не гляди
вовсе и забудь, что я тут. Не говори со мной, думай что-
нибудь про себя. Меня здесь нет”. И Райский добивает¬
ся своего: Вера настолько забывает о его присутствии,
что в конце концов засыпает.
Идеал портрета первой половины века: состояние
долгой доверительной беседы со зрителем, в которой
распахивается душа. Портрет второй половины столе¬
тия ищет в чертах лица, в облике портретируемого
114
характерные признаки человека, “каким мы его видим
теперь в городах и всюду, где есть газеты и вопросы”
(И. Крамской). Не беседуем с ним, но видим его всюду.
Эта чисто внешняя, остро фиксирующая пози¬
ция художника, стремящегося к предельной объек¬
тивности, получила идеальное осуществление в дагер¬
ротипе. Увлечение фотографией не могло не сказаться
на портретной живописи - примером могут служить
портреты Крамского (как известно, работавшего одно
время ретушером у фотографа). Механический глаз
фотообъектива способен добиться точности фиксации
облика человека, но при полном отсутствии его кон¬
такта с фотографом, лица которого модель не видит и
вынуждена смотреть в мертвый объектив. (В неко¬
торых портретах Крамского заметно влияние этой си¬
туации у фотографа. Особенно в портрете Левченко с
его напряженно фиксированным взглядом в объек¬
тив.) Опасность возникшего соперничества художника
с фотографом скоро стала очевидной. “Зритель вправе
требовать от художника, - писал Достоевский, - чтобы
он видел природу не так, как видит ее фотографичес¬
кий объектив”.
Французские импрессионисты “видят природу не
так, как видит ее фотографический объектив”, и все же
их блестящие по живописи портреты, как бы выхвачен¬
ные из толпы, случайно подмеченные сторонним взгля¬
дом художника, подобно фотографическим снимкам,
не предполагают адресата, как правило, они не столько
погружены в себя, сколько обращены вовне, но их рас¬
сеянный взгляд обращен всем - и никому в отдельнос¬
ти, он не требует ответного взгляда, и, как ни странно,
их позы порой напоминают позы перед объективом ап¬
парата - как, например, в некоторых портретах кисти
Берты Моризо и даже Ренуара. XIX век не знал еще мо¬
ментальной фотографии - но импрессионистические
портреты словно предваряют то впечатление мгновен¬
ности, случайности, которого впоследствии удалось до¬
стигнуть с помощью фотоаппарата.
В сущности, и портрет человека наедине с самим
собой, и портрет человека, смотрящего в объектив - в
одну, неподвижную точку перед собой, - это лишь раз¬
ные проявления одной и той же ситуации одиноче¬
ства; это портрет, ни к кому не обращенный, портрет,
не имеющий адресата.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
115
В конце XIX века ситуация меняется. При всем
многообразии путей развития портрета на рубеже
веков их объединяют напряженные поиски способов
размыкания портретного образа, вплоть до раздробле¬
ния личности и полного ее исчезновения в живописи
XX столетия.
Один путь, по преимуществу русский, - обращен¬
ность портрета к далекому адресату, не к собеседнику,
но в даль пространства и, особенно, в даль времени, к
тому, кто будет жить после нас (типичная русская тема:
жить во имя будущего, во имя счастия потомков, чехов¬
ское - через сто, двести лет...).
Серовский портрет Ермоловой построен по прин¬
ципу предельной композиционной открытости, более
того - композиционного сквозняка: диагональ стены
резко уходит назад, размыкая пространство в глубину;
пол падает вперед, фигура Ермоловой поставлена на
краю, на ветру. Актриса изображена в профиль, но
лицо обращено в сторону зрителя, создавая широкий
пространственный разворот, - она охватывает взгля¬
дом всех присутствующих, их взгляды обращены к ней
с разных сторон, сверху, снизу - это не единичный, но
множественный зритель. Руки Ермоловой сцеплены,
как у Стрепетовой в портрете Ярошенко, но они не за¬
мыкают образ, напротив, усиливают выброс энергии в
пространство зала. Выразительность портрета сосредо¬
точена не в глазах, но в повороте головы, в строении
лица, с высоко вскинутыми бровями и напряженным,
подающим звук ртом. Это портрет не “внимающий, но
произносящий”у обращающийся к аудитории.
Композиционная формула портрета Ермоловой, с
ее открытостью всем ветрам, с ее обращенностью к да¬
лекому адресату, встречается во многих поздних порт¬
ретах Серова. Особенно выразителен пространственный
бросок, почти агрессивная пространственная экспан¬
сия в портрете Горького; его ракурс снизу - для боль¬
шей дистанции посланного взгляда.
Мандельштам писал о страхе современной поэзии
перед “конкретным слушателем эпохи”. Взор поэта “ус¬
тремляется мимо поколения... чтобы остановиться на
неизвестном читателе... Скучно перешептываться с со¬
седом. Бесконечно нудно буравить собственную душу.
Но обменяться сигналами с Марсом - задача, достойная
лирика”. Далевая дистанция в построении портрета
116
повторяется у Серова даже там, где этот композицион¬
ный прием не оправдан сюжетно. В подчеркнуто свет¬
ском портрете Орловой та же вскрытость интерьера, то
же положение фигуры на краю, та же выталкивающая
композиционная диагональ, то же сочетание профиля и
трехчетвертного поворота головы, создающее динами¬
ческий разворот фигуры. Показательно с этой точки
зрения сравнение двух детских портретов Серова - Ве-
руни Мамонтовой (1887) и Мики Морозова (1901). Пор¬
трет Веруни (так называемая “Девочка с персиками”)
выдержан в традициях первой половины XIX века - это
портрет, слушающий собеседника, причем расположен¬
ного вблизи, в той же комнате, может быть, по другую
сторону стола - взгляд девочки рассчитан на близкую
дистанцию. Портрет Мики строится по формуле на
краю: композиция по диагонали, фигура ребенка уст¬
ремлена вперед, почти вырывается из пределов картин¬
ного пространства, взгляд, неопределенный, не фикси¬
рованный, направленный вдаль и, так же как у Ермоло¬
вой, высоко поднятые брови, подчеркивающие направ¬
ленность взгляда поверх голов зрителей.
Второй аспект портрета грани веков - не только
разрушение стены молчания, не только обращенность к
далекому зрителю, но и раскрытость пространства за
спиной портретируемого. Такой композиционный
сквозняк есть в портрете Ермоловой, с его уходящей
вглубь диагональю стены. Головин в портрете поэта
М. Кузмина распахивает за его спиной пространство -
“коридор, убегающий в неизмеримость” (А. Белый).
Один в неуютном мире, поэт стоит на стыке двух про¬
странств - “На перекрестке, // где даль поставила”
(А. Блок).
В создании образа другого пространства в портре¬
тах рубежа веков важную роль играет зеркало. Зеркалу
принадлежала определяющая роль в концепции Я-пор-
трета эпохи Возрождения. “Я изобразил себя, глядя
на себя в зеркало”, - написал на одном из своих авто¬
портретов Дюрер. В портретах Возрождения зеркало
мыслилось находящимся перед моделью, оно служило
замыканию портретного пространства. (Именно эту ре¬
нессансную модель воспроизвела Серебрякова в своем
автопортрете.)
Принципиально иная модель возникает в портре¬
тах рубежа XIX и XX веков, когда зеркало находится
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
117
за спиной портретируемого13. Эта ситуация смоделиро¬
вана в картине Эдуарда Мане “Бар Фоли Бержер” (кото¬
рая представляет собой, в сущности, портрет, даже если
это портрет воображаемый или портрет неизвестной мо¬
дели). Поскольку не изображена рама зеркала - за спи¬
ной женской фигуры сплошная зеркальная стена, -
пространство отраженное смотрится как пространство
реальное; вместе с тем женская фигура, отвернувшись
от этого отраженного пространства, обращается в ре¬
альное пространство бара, которое одновременно яв¬
ляется пространством зрителя. Создается игра разной
степени реальностей или мнимостей (“только зеркало
зеркалу снится”). Все двоится - и предметы на стойке
бара, и фигура официантки. В том пространстве она
сама к себе повернулась спиной, сама от себя уходит в
мир Зазеркалья (открытый Льюисом Кэрроллом), она
готова исчезнуть в нем (как исчезла Алиса), поскольку
зеркальная ее фигура срезана краем полотна и удаляет¬
ся из картины.
Тема зеркала в его преображающем аспекте ак¬
тивно входит в литературу рубежа веков. «Кабинет, в
котором мы сидели, - пишет Марсель Пруст в романе
“Германты”, - был маленький, но... зеркало стояло
так, что в нем отражалось десятка три других зеркал,
уходивших в бесконечную даль». Это должно было
“внушать, что окружающее пространство раздвигает¬
ся”. У Льюиса Кэрролла героиня входит в зеркало и
оказывается в мире иных измерений, в своеобразном
антипространстве. В романе А. Белого “Петербург”
зеркала наделены способностью “глотать” пространст¬
во: “Трюмо отовсюду глотали гостиную зеленоватыми
поверхностями зеркал”. Зеркало, расположенное за
спиной, создает состояние тревоги, неуютности: неиз¬
вестно, что или кого может отразить такое зеркало.
У Блока зеркало за спиной - это образ небытия, подсте¬
регающего человека:
Но если за моей спиною
Тот - необъятною рукою
Покрывший зеркало стоит?
Блеснет в глаза зеркальный свет,
И в ужасе, зажмурив очц,
Я отступлю в ту область ночи,
Откуда возвращенья нет.
118
Зеркало за спиной Ермоловой - торжественно и
значительно, как образ пространства широкого мира,
мира за пределами изображенного. Но есть в нем что-то
беспокояще странное - оно обращено во вне, в мир - но
при этом оно ничего не отражает, кроме пустоты.
В серовском портрете Гиршман за спиной модели -
трельяж, в его створках, несколько раз взаимно отра¬
жаясь, уходя “в глубь расчерченных зеркал”, повторя¬
ется женская фигура и стоящие на туалетном столике
хрустальные флаконы. Создается своеобразное игровое
пространство:
И из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала - лови...
(А. Блок)
Так же, как в строчках Блока, есть в этих повто¬
ряющихся, множащихся изображениях опасность раз¬
дробления, распыления целостного образа, опасность
утраты его неповторимой единственности. Зеркало мо¬
жет не только множить образ, оно может расчленять,
фрагментировать его: “Уронила матовые кисти // В зерка¬
ла...” Странная, способная вызвать неприятные ассо¬
циации строчка Блока. В картине Боннара “Натюрморт
с зеркалом” женская фигура, отразившаяся в зеркале
со спины, зеркалом обезглавлена...
Зеркало способно раздваивать образ. В портрете
Мейерхольда кисти Головина лицо двоится, отражен¬
ное в зеркале. Создается впечатление, что это два раз¬
ных лица, отвернувшихся друг от друга, как у Инно¬
кентия Анненского в его “Двойнике”: “Не он, и не я, и
не ты, // И то же, что я, и не то же”14. Сопоставление
фаса и профиля приводит к зрительному раздвоению
лица, к взаимному, внутреннему отчуждению двух раз¬
ных аспектов единичной личности.
Этот прием был применен в портретах Пикассо и
Сальватора Дали - но в виде соединения фаса и профи¬
ля в одном лице, что делает его странно неуловимым,
словно оно постоянно меняет выражение, гримасни¬
чает, поворачивается и к себе самому, и к зрителю то
одной, то другой стороной, смотрит само на себя то в
фас, то в профиль: и Я, и не Я, и не Он, и не Она - рас¬
пад единой личности, ее растворение в игре ракурсов.
В художественной критике рубежа веков зеркало
используется в качестве метафоры творческого процес¬
Портпрет - и натюрморт: человек и вещь
119
са, причем, что характерно - не в его отражающей, но в
его преображающей функции. “Художник - зеркало,
но зеркало живое... в глубине его воображения воспри¬
нятые впечатления вступают во взаимодействие, соче¬
таются в новые комбинации в соответствии с лежащей
в душе художника общей концепцией мира. И вот в
конце процесса зеркало дает свое отражение... где мы
получаем знакомые элементы действительности в но¬
вых, доселе незнакомых сочетаниях” (Вл. Короленко).
Итак, художник - живое зеркало, зеркало преоб¬
ражающее. Характерный пример такого “зеркального”
преображения - портрет Мамонтова, заказанный им
Врубелю. Художник настолько преобразил облик за¬
казчика, что тот решительно не хотел узнавать себя в
этом живописном “зеркале”. Зеркало может не только
преображать, но и искажать отраженное в нем лицо че¬
ловека. “Одно и то же лицо может быть отражено в зер¬
кале плоском и вогнутом или выпуклом. Ни одно из
этих зеркал не солжет... Отражение лица на поверхнос¬
ти самовара, конечно, не ложь... А ведь порой на этой
поверхности есть еще ржавчина или плесень, или она
изъедена кавернами, или окрашена случайными реак¬
тивами, изменяющими живую окраску...” Примеров
такого искажающего отражения достаточно. Это и
сильно вытянутые, с неправдоподобно высокой шеей
портреты Модильяни, словно отраженные “на поверх¬
ности самовара”, это и изъеденные кавернами и окра¬
шенные случайными реактивами автопортреты Дере¬
на, Шагала и многих других мастеров этого времени.
“...И тогда, - продолжает Короленко, - вглядыва¬
ясь в чуть мерцающее отражение живого лица, мы едва
узнаем знакомые нам черты: они искажены, на месте
глаз ржавые пятна”. Развивая эту метафору, следует
сказать, что зеркало может быть разбито15, пример
тому - портрет Воллара у Пикассо, который сам срав¬
нивал свои картины с разбитыми зеркалами; или его
же портрет Конвейлера, о котором можно сказать сло¬
вами Пруста: “Одно из тех лиц, которые издали рису¬
ются рельефно, а на близком расстоянии рассыпаются
в прах”.
Процесс расщепления, раздробления лица (лич¬
ности!) в портрете XX века аналогичен процессу распа¬
да классической формы романа. Мандельштам в статье
“Конец романа” пишет о “распылении биографии как
120
формы личного существования, даже больше, чем
распылении - катастрофической гибели биографии ...
[герои] выброшены из биографий, как шары из биль¬
ярдных луз...”
Но параллельно с распадом портрета как целост¬
ного образа, с размыванием его “как формы личного су-
ществовани я” можно наблюдать попытки собирания
образа, однако не на основе “личных биографий”, но пу¬
тем впаивания в большой мир, в синтезированное вре¬
мя и синтезированное пространство, путем обращения
“к иным горизонтам, к иным временам”. Может быть,
отчетливее всего это получило воплощение в автопорт¬
рете, когда художник проецирует самого себя на экра¬
ны искусства прошлого, как правило, искусства доре-
нессансного, то есть до личностного.
Гоген изображает себя в образе то ли средневеко¬
вого монаха, то ли буддийского проповедника; Пикассо
надевает на себя негритянскую маску; Лентулов пишет
себя в образе героя русского фольклора. Тема повторе¬
ния прошлого в настоящем, перенесении настоящего в
прошлое часто звучит у Брюсова: “Наше счастье преж¬
де было, // наша страсть - воспоминание, // наша
жизнь - не в первый раз”. И по-другому у Мандельшта¬
ма: “Ныне... поэты говорят на языках всех времен, всех
культур... дверь старого мира настежь распахнута...
время вспахано плугом... Пласты времени легли друг
на друга... В жилах нашего столетия течет тяже¬
лая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных
культур...”
С другой стороны, портрет пытается выйти за пре¬
делы своей пространственно ограниченной телесной
оболочки, приобщиться к общей органической жизни
мира. Брюсов формулирует эту мысль со свойственной
ему порой несколько безвкусной претенциозностью:
Я желал бы рекой извиваться
По широким и сочным лугам,
В камышах незаметно теряться,
Улыбаться небесным огням!
Врубель в “Портрете жены” создает некое слож¬
ное кристаллическое образование с сияющими на солн¬
це гранями, среди которых погруженное в тень лицо
подобно случайной конфигурации материи, образовав¬
шей сходство с чертами лица модели.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
121
Сезанн в “Автопортрете” 1885 года прибегает к об¬
разному иносказанию, к пластической метафоре, упо¬
добляя собственную голову вершине горы, поросшей
кустарником, - поэтическая парафраза его любимого
вида на гору Св. Виктории.
Наконец, Сальвадор Дали, с характерным для
него буквализмом в истолковании метафорического об¬
раза, в двойном портрете Изабеллы Стаблер изображает
модель, которая, пристально глядя на гору, сама на
глазах у зрителя постепенно теряет человеческий об¬
лик и превращается в гору. Расчеловечение человека -
трагическая тема философии XX столетия. “Конеч¬
ная цель науки о человеке, - пишет Леви-Строс, - не в
утверждении человека, а в его растворении”. Мишель
Фуко кончает свою книгу “Слова и вещи” безнадежно
печальной фразой: “Человек исчезнет, как лицо, начер¬
танное на прибрежном песке”. Грустное пророчество,
имеющее прямое отношение к судьбе портрета как жан¬
ра живописи. Оно перекликается с еще более грустны¬
ми строками Иосифа Бродского, написанными в самом
конце ушедшего столетия: “Нарисуй на бумаге пустой
кружок, // Это буду я: ничего внутри, // Посмотри на
него - и потом сотри”. Тема уничтожения, смерти тра¬
гически звучит во многих портретах и, что особенно
трагично, в автопортретах XX века. Это не только рас¬
пад человеческого лица, превращенного в осколки, не
только утрата отдельных частей лица, как, например, в
портрете Матисса, где большой кусок лица оказался
“выпавшим”. В “Автопортрете” Ларионова 1910 года
собственное лицо художника словно высыхает, стано¬
вится похожим на мумию, в нем отчетливо проступает
череп.
Изображение черепа - распространенная тема в
искусстве средневековья и затем, минуя Возрожде¬
ние, - в XVII веке, когда череп фигурировал в много¬
численных натюрмортах, предостерегая живущих, на¬
поминая о том, о чем, в сущности, знал каждый. “По¬
мни о смерти” - этот девиз имел морализирующий
смысл, он содержал в себе требование определенного
поведения человека при жизни. XVIII век - легкомыс¬
ленный и рациональный - темой черепа не интересовал¬
ся, стремясь как можно меньше “помнить о смерти”,
как можно интенсивнее жить настоящим. Искусство
XVIII века предпочитало говорить о жизни, о прелести
122
самой ее недолговечности, о ценности каждого мгнове¬
ния, если и окрашенного грустью, как в некоторых кар¬
тинах Ватто, то сама эта грусть придавала еще больше
прелести переживанию настоящего.
Тема черепа вновь возникает в XIX веке в искус¬
стве романтизма. Делакруа пишет Гамлета в сцене с
могильщиком, протягивающим ему череп Йорика.
Однако это, скорее, дань увлечению романтиков твор¬
чеством Шекспира, нежели попытка возвратить изоб¬
ражению черепа его символический смысл. В поэзии
романтизма тема черепа также трактуется чаще всего в
гамлетовском аспекте. У Пушкина она получает наро¬
чито сниженное звучание. Посылая Дельвигу череп, он
сопровождает посылку шуточным стихотворением, в
котором рекомендует превратить его в “увеселитель¬
ную чашу”: “Вином кипящим освяти, // Да запивай
уху да кашу”16. В искусстве XIX века череп постепен¬
но теряет свой знаковый смысл и уходит из искусства.
В портретах XX века череп, проступающий в чертах
живого лица, придает этой теме особое звучание, это не
столько предостерегающее “Помни о смерти!”, сколько
размышление на тему - “жизнь после смерти”. Авто¬
портрет Ларионова - изображение того, как это будет
выглядеть после смерти17. Еще страшнее и безжалост¬
нее - автопортрет Дю Бюффе - давно высохший череп с
остатками волос. Особый трагизм придают изображе¬
нию очки - единственная опознавательная деталь,
предмет, неподвластный тлению.
Автопортреты Ларионова и Дю Бюффе - гамле¬
товское “Бедный Йорик!”, обращенное к самому себе.
Еще страшнее и безнадежнее, когда лицо вообще стира¬
ется, остается только напоминание о его очертаниях,
некоторый общий знак лица, когда-то бывшего, иеро¬
глиф или - по выражению Бродского - “человеческий
овал, вместимость которого ограничена”. Лицо “как
человеческий овал” появляется во многих полотнах
Де Кирико и, как пугающий знак безликости, в мель¬
кающих на экранах телевизоров лицах в натянутых на
них черных чулках-масках. Настойчивое стремление
спрятать лицо, запечатлеть лицо без лица, отказаться
от неповторимого своеобразия его черт, от его “необ¬
щего выражения” - характерная тенденция искусства
XX века. В картине Магритта “Любовники” изобра¬
жена целующаяся пара, лица обоих окутаны тонкой
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
123
тканью, сквозь нее слегка проступают выпуклость
носа, глазные впадины; сохранилась лишь выразитель¬
ность поз, не индивидуальная, но родовая выразитель¬
ность ситуации. В парном “портрете” Дали изображены
силуэты мужской и женской фигур: он стоит несгибае¬
мо прямо, она склонилась в его сторону. Оба представ¬
ляют собой пустые контуры, сквозь которые видны про¬
плывающие облака. Это некие фантомы, человекооб¬
разные “дыры в пейзаже” (И. Бродский).
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды
И Божий лик отобразится в них.
Стихотворение Тютчева “Последний катаклизм”
написано в середине XIX века. В картине Дали в XX сто¬
летии отражается не Божий лик, но человеческий, и не
лик, а только пустой след, оставшийся от человеческой
фигуры после “последнего катаклизма”. Ядерного?
По календарю человечество перешагнуло в
XXI век. Но, как видно, существенный слом сознания
произошел уже в середине ушедшего столетия. “Хруп¬
кое летосчисление нашей эры подходит к концу, -
писал Мандельштам. - Спасибо за то, что было”. Преж¬
де всего это коснулось исторического сознания, пред¬
ставлений о закономерности исторического процесса,
его поступательного развития.
«Я иду по лестнице, которая называется исто¬
рией, прогрессом, цивилизацией, культурой, - говорит
герой повести Чехова “Моя жизнь”, - ради одной этой
чудесной лестницы стоит жить».
Вторая мировая война поколебала веру в “восхо¬
дящую” лестницу истории. Один из писателей второй
половины XX века называет свой роман: “Вверх по ле¬
стнице, ведущей вниз”.
“Долгое время нам казалось, что мы овладели за¬
кономерностями истории... Но на самом деле законо¬
мерности действовали сами собой, никого не спраши¬
вая. До какой-то станции мы ехали и даже думали, что
управляем этим поездом. А потом поезд набрал ско¬
рость, и мы слетели с подножки, а он пошел себе даль¬
ше” (Б. Хазанов). Человек последних десятилетий
XX века все в большей степени ощущал себя выброшен¬
ным из истории, потерявшим в ней свое место, дез¬
124
ориентированным, живущим в “пейзаже после от¬
ступления” (И. Бродский), в апокалиптическом пред¬
чувствии конца: тысячелетия? или конца истории?
В этом дезориентированном мире, явственно ок¬
рашенном ожиданием конца, портрет как жанр пере¬
стает существовать, поскольку лицо человека - глав¬
ный его элемент, без которого портрет вообще не может
состояться - либо превращается в пустой “человечес¬
кий овал”, либо разлетается вдребезги, словно под уда¬
рами молота.
В портрете Мерлин Монро у Розенквиста (если это
можно назвать портретом) осколки разлетелись в раз¬
ные стороны, остались только один глаз и рот. Магритт
вместо человеческого лица изображает только глаз -
чистое зрение18. Это отнюдь не зеркало души. Это опти¬
ческий прибор, телеобъектив.
У Чессельмана в его “Курильщице” изображены
только губы с прилипшей к ним сигаретой - чисто
функциональный, однозначный признак; остальное
лицо аннулировано за ненадобностью. Особенно пока¬
зательны эксперименты, которые производил Уорхол с
лицом Мерлин Монро, - в бесчисленном количестве по¬
вторений тиражируя ее губы (их изображение или отпе¬
чаток?), утратившие благодаря этой повторяемости
свою неповторимость, принадлежность именно ей,
ставших стандартным образцом, навязчивой рекламой,
штампом. Даже ее лицо, многократно повторенное,
словно некий звукоуловитель ее образа, по-разному ок¬
рашенное, словно расцвеченное огнями городской рек¬
ламы, - это просто сумма утомительного множества
единообразных слагаемых, не способных соединиться в
целостный образ. Такой портрет ни к кому не обращает¬
ся, как радио или телевидение, он вещает в пространст¬
во: Всем! Всем! Всем! Портрет теряет своего адресата.
В конце XX века человек уходит из искусства как
неповторимая индивидуальность, как портрет. Он вы¬
черкнут, как в картине Клее, где человеческое лицо,
растворившееся в поле многоцветных кубиков, пере¬
черкнуто крест-накрест жирной черной линией. Карти¬
на называется “Вычеркнутый из списков”. Портрет,
как образ единичного, все настойчивее вытесняется
изображением множественного - однообразных, распо¬
ложенных правильными рядами фигур. В искусство
входит тема толпы, одинаковых фигур с пустыми
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
125
овалами лиц. Отдельный человек исчезает в “популя¬
ционной давке”19.
“Люди трутся друг о друга - непосредственно и
через mass media, подобно гальке на морском берегу, и
в результате столько же стираются как личности,
сколько приобретают внешнюю шлифовку” (Ю. Кагра-
манов).
Утрата адресата - может быть, самая большая
трагедия портрета конца XX века, трагедия одиноче¬
ства: “Нет ничего более страшного для человека, чем
другой человек, которому нет до него никакого дела”
(О. Мандельштам). С исчезновением адресата, то есть
возможности обратиться к кому-то (будь то высшие
силы или конкретный зритель, потенциальный собе¬
седник), портрет теряет координаты, исчезает, раство¬
ряется в окружающей среде, тонет в мире вещей, нако¬
нец, сам овеществляется. Портрет постепенно сливает¬
ся с натюрмортом, превращается в натюрморт.
В полотне Матисса “Большое платье” женская
фигура только слегка дополняет платье, очеловечивает
его, придавая ему особую выразительность. Портрет
превращается в ожившее платье, которое торжественно
восседает в кресле, более того, на глазах происходит
удивительная метаморфоза: само платье начинает иг¬
рать кресло. Можно при желании проследить самый
процесс развоплощения у Матисса человеческой фигу¬
ры, перевоплощения ее в фигуру кресла. В незакончен¬
ном “Портрете Кати” изображена безликая девичья
фигурка, ее лицо в виде “пустого овала” сдвинуто в пра¬
вый верхний угол, почти за пределы изобразительного
поля; руки лежат на невидимых подлокотниках крес¬
ла, в сущности, они преобразуются в подлокотники, и
вся фигура уподобляется живому, одухотворенному
креслу. В другом произведении Матисса изображено
пустое кресло - ожившее, взволнованное, создающее
образ сидящей женской фигуры, с букетом цветов на
коленях.
Портретные образы стульев создал еще Ван Гог.
Но образы, созданные Ван Гогом, не замещают портре¬
ты владельцев, они только свидетельствуют об их при¬
вычках и пристрастиях, это скорее атрибуты портре¬
тов, в них нет мотива перевоплощения; по своей жанро¬
вой принадлежности их можно отнести к натюрморту,
нежели к портрету. “Кресло” Матисса - это скорее пор-
126
трет, чем натюрморт. Также замещающе портретны два
стоящие лицом друг к другу и ведущие разговор крес¬
ла - взрослое и детское - в картине Де Кирико. Они уже
полностью втянуты в чисто человеческую сюжетную
ситуацию.
Человек как индивидуальность гибнет не только в
“популяционной давке”, но и в атмосфере перепроиз¬
водства, мир оказывается не только перенаселенным,
но и заваленным вещами, человек живет среди груды
вещей, нужных, но в еще большей степени ненужных
или очень быстро становящихся ненужными. И в этой
атмосфере он сам овеществляется. В композиции одно¬
го из современных американских художников, Нама
Джуна Пайка, семейство людей превратилось в “Семей¬
ство телевизоров”.
В заключение хочу привести две цитаты:
Во многом знании - немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир, и человека жаль?
Я разве только я? Я - только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый, и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!
(Н. Заболоцкий, 1957)
Своеобразным ответом на это стихотворение Забо¬
лоцкого звучат более оптимистические строки Камю в
одном из его писем 1944: “Я отказываюсь мириться с
отчаянием... Я и теперь думаю, что в этом мире нет выс¬
шего смысла, но я знаю: кое-что в нем имеет смысл. Это
кое-что - человек. Ведь он единственное существо, ко¬
торое требует от мира, чтобы мир наполнился смыслом.
И в его правде заключается все оправдание мира”.
Примечания
1 Однако совершался этот поворот не без колебаний. Рентге¬
новский снимок, сделанный с мужского портрета Анто-
нелло да Мессины, хранящегося в Национальной галерее
в Лондоне, показал, что в первоначальном варианте глаза
модели оставались обращенными влево и только в оконча¬
тельном варианте они были переведены на зрителя.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
127
2 К вопросу о почетных надгробьях эпохи Возрождения см.:
Леонардо Бруни. Письмо к Поджо Браччолини по поводу
воздвижения надгробия Бартоломео Арагацци - работы
Микелоццо.
«...Однажды, когда я был в дороге на аретинской тер¬
ритории, я встретил выбившихся из сил быков, тянувших
телеги. В телегах везли мраморные колонны, две незакон¬
ченные статуи, а также базы колонн, отдельные блоки и
архитравы. По случайности телеги застряли в чаще леса.
Возчики стояли вокруг с топорами, расчищая путь и помо¬
гая [быкам]. Я был удивлен необычностью происходяще¬
го, поскольку мрамор не возят в телегах через такие леса.
Я подошел и спросил, что происходит и где был взят такой
неудобный груз. Увидев меня, один из возчиков вытер пот
с лица и сказал со злостью: “Будь прокляты поэты, всех
прежних и всех будущих времен”. Услышав такой ответ, я
спросил: “Что ты имеешь против поэтов, какой вред они
тебе принесли?” “А тот, - сказал он, - что поэт, который
недавно умер, известный как самодовольный и надмен¬
ный глупец, заказал сам себе мраморное надгробье. Вот
почему этот мрамор нужно доставить в Монтепульчано.
Но я думаю, что он никогда не прибудет туда из-за трудно¬
проходимой дороги”. Тогда я, чтобы лучше понять, спро¬
сил: “Ты сказал, что какой-то поэт умер в Монтепульча¬
но?” “Не там, - ответил он, - а в Риме, а надгробье заве¬
щал сделать в своем родном городе. Вот его физиономия,
которую вы видите здесь, а другая, соответственно, при¬
надлежит тому, кого он распорядился изобразить рядом с
собой”. Тогда, сопоставив место смерти и место рождения,
я вспомнил, что некий Бартоломмео да Монтепульчано
умер недавно в Риме и оставил после себя много денег. Я
спросил возчика, о нем ли идет речь, и он подтвердил, что
это тот самый. “В таком случае, - сказал я, - зачем же ты
клянешь всех поэтов из-за этого болвана? Неужели ты ду¬
маешь, что он был поэтом, он, лишенный каких бы то ни
было мыслей и незнакомый с науками. Он превзошел всех
в глупости и тщеславии”. “Я не знал его, когда он был
жив, - ответил возчик, - даже никогда не слышал его име¬
ни, но его приятели из горожан считают, что он был по¬
этом, и раз он оставил после себя так много денег, они ду¬
мают, что он был хорошим поэтом. Но если это не так, я не
хочу из-за него охаивать всех поэтов”.
Двинувшись снова в путь, я стал размышлять над слова¬
ми возчика, назвавшего самодовольным глупцом того, кто
128
завещал воздвигнуть себе мраморную гробницу в своем род¬
ном городе, хотя умер он в Риме. Действительно, никому из
тех, кто был уверен в своей славе, не приходило в голову за¬
казывать самому себе надгробье. Довольные известностью
своих произведений, заслуживших похвалу [современни¬
ков], славой своего имени, они верили, что их вполне оце¬
нят потомки. Разве может гробница, вещь безгласная, по¬
мочь человеку мудрому? И что может быть хуже, когда по¬
мнят гроницу того, чья жизнь прошла, никем не замечен¬
ная? Три императора были самыми знаменитыми в свое
время: Кир, Александр и Цезарь. Старейший из них Кир
никогда не думал о сооружении себе гробницы; в своем за¬
вещании он распорядился, чтобы его похоронили прямо в
земле, потому что земля производит цветы и пищу и рож¬
дает красивые и полезные деревья, более прекрасного мате¬
риала для гробницы найти невозможно; он распорядился,
чтобы его тело было опущено прямо в землю, без всякого
мрамора, без памятника, без какого-либо сооружения. О его
достоинствах и добрых деяниях свидетельствует другая па¬
мять... То же самое можно сказать о Цезаре и Александре,
ни тот ни другой не думали строить себе гробницы. Я оскорб¬
ляю память об их великих жизнях, сравнивая их с жиз¬
нью этого ничтожного человека... Ты в своем завещании
распорядился, чтобы мрамор был привезен для тебя издале¬
ка, чтобы была сооружена гробница и установлены статуи.
На каком основании, спрашиваю я. Из-за твоей образован¬
ности, которая была ничтожна? Из-за твоих писаний, кото¬
рых с трудом наберется четыре? Из-за твоей жизни и твоих
привычек? [Ничтожный и на редкость глупый, ты с жад¬
ным безрассудством хватался за все без разбора. Если сам
ты не заслужил права на статую и мраморное надгробье сво¬
ими собственными деяниями, то может быть, ты заслужил
его благородством своего происхождения? Ты родился от
отца, который торговал горшками на рынке; твоя бабушка
была повитухой, твоя мать - фанатичной кликушей...
Какую надпись хотел бы ты на своей гробнице? Какие дея¬
ния, какие поступки хотел бы ты увековечить? Что твой
отец пригонял ослов с товаром на ярмарку? Что твоя бабка
помогала женщинам рожать, принимая младенцев, когда
они появлялись на свет? Что твоя мать бегала вокруг церк¬
вей простоволосая? Что сам ты скопил деньги нечестным
путем?.. Вот итог твоих деяний, в этом состоит твоя слава и
слава твоей семьи. Слава эта такова, что если бы ты хоть
что-нибудь соображал, если бы перед смертью, как и на про-
Портпрет - и натюрморт: человек и вещь
129
тяжении всей своей жизни, ты не был бы увлечен глупым
безрассудством, ты указал бы в своем завещании, что так
же, как ты прятал деньги, так и тебя следует упрятать в
землю, чтобы тщеславие и амбиция твоего надгробья не да¬
вали бы повода к насмешкам и негодованию».
3 Идеальную формулу мира, отраженного в зеркале, по¬
строил Филиппо Брунеллески в своей знаменитой “пер¬
спективе” соборной площади во Флоренции. Эта работа не
сохранилась, но она подробно описана биографом Брунел¬
лески - Антонио Манетти. Согласно его описанию, Филип¬
по на небольшой квадратной доске изобразил площадь и
Баптистерий Сан Джованни. Такая перспективно по¬
строенная картина, пишет Манетти, должна иметь одну,
строго фиксированную точку зрения, для этого “Филиппо
проделал в холсте отверстие в той точке, которая находи¬
лась на уровне глаз зрителя”. Филиппо предлагал всем же¬
лающим “приложить глаз к отверстию с оборотной стороны
картины, одной рукой при этом он должен был закрыть вто¬
рой глаз, а в другую взять плоское зеркало и, вытянув руку,
держать его так, чтобы в нем отразилась картина...” Таким
образом Филиппо создал модель симметричного мира, замк¬
нутого пределами зеркального отражения. Одновремен¬
но - это как бы идеальная ситуация ренессансного портре¬
та, при которой “портретируемый” (в данном случае, нахо¬
дясь за экраном) смотрит сам на себя в зеркало, хотя и не
“глаза в глаза”, но, если можно так выразиться, “глаз в
глаз”, находясь в положении in maesta, в самом центре пер¬
спективно построенного земного мира.
В качестве своеобразной аналогии этой портретной
формулы Брунеллески можно привести венецианские зер¬
кала, на рамках которых помещали аллегорические изоб¬
ражения планет. Взглянув в такое зеркало, человек Воз¬
рождения видел свое лицо как бы на фоне звездного неба,
в центре мироздания, там, где средневековый человек ос¬
меливался “видеть” только лик Господа Бога.
4 Взгляд на себя в зеркало, типичный “автопортретный”
взгляд, часто встречается в сюжетный сценах - когда
вдруг кто-то из присутствующих на церемонии или из сви¬
ты, сопровождающей главных действующих лиц, нару¬
шая общий ритуал, внимательно смотрит “на себя” из фре¬
ски или из картины. Именно этот “автопортретный”
взгляд часто провоцирует специалистов на отождествле¬
ние этого персонажа с художником, автором произведе¬
ния. Эти атрибуции в большинстве случаев признавались
130
ошибочными. Скорее, в этом взгляде “на себя”, как прави¬
ло пытливом, иногда любопытствующим, иногда вызы¬
вающим, с наибольшей очевидностью выразился познава¬
тельный, вернее, салсопознавательный пафос культуры
Возрождения.
5 Литературной параллелью к живописному портрету перед
зеркалом может служить неоднократно встречающаяся у
Шекспира тема близнецов как живого зеркала, создан¬
ного самой природой:
Одно лицо, походка, голос тот же
У двух людей, как в зеркале волшебном.
(“Двенадцатая ночь”)
Да, ты не брат, а зеркало мое,
В нем вижу я, что недурен собою.
(“Комедия ошибок”)
6 Ср. у Кальдерона:
Так при известном освещеньи
Картина может чаровать,
А при ином в нас вызвать
Способна даже отвращенье -
Так грубо будет превращенье...
Меня в одном увидев свете,
Найдете радостью для глаз,
В другом же - оскорблю я вас.
(“Дама-невидимка”)
7 Невольно напрашивается сравнение этих двух “Анато¬
мий” - особенно второй - с картиной “Мертвый Христос”
Мантеньи. Поза и ракурс фигур почти идентичны, но ху¬
дожник Возрождения создает героизированный образ
Христа, его тело подобно мраморной статуе. У Мантеньи
нет пугающего уподобления мертвого живому, нет гамле¬
товских размышлений о смысле жизни и смерти. Его кар¬
тина - это торжественное надгробье, памятник.
8 Ср.: Кребийон-сын (1707-1777), “Заблуждения ума и
сердца”: “Для успеха в свете надо все время дурачиться и
носить маску... Вы должны постоянно стараться разгля¬
деть за тем, что вам хотят показать, то, что есть на самом
деле”. “Быть страстным, ничего не чувствуя, плакать, не
страдая, бесноваться, не ревнуя, вот роли, которые надо
играть, вот чем надо быть”.
Шамфор (1740-1794), “Максимы и мысли. Характеры
и анекдоты”: “...Живя в свете, каждый из нас вынужден
время от времени притворяться”. “Богатство со всеми его
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
131
пышными декорациями превращает жизнь в некий спек¬
такль, и как бы ни был порядочен человек, живущий сре¬
ди этих декораций, он, в конце концов, невольно стано¬
вится комедиантом”.
9 Не менее театрален, но иной, трагической театральностью,
портрет Параши Жемчуговой, бывшей крепостной актрисы
театра графа Шереметева, ставшей его женой и вскоре
умершей. Портрет написан крепостным художником гра¬
фа - Николаем Аргуновым. Он построен как “живая карти¬
на” аллегорического содержания: улыбающееся лицо
ожившего мраморного бюста Шереметева - и обрамленное
рюшем, словно обреченное гробу, бледное, строгое лицо жи¬
вой женщины, готовящейся стать матерью.
10 Разгром Наполеона, 1814 год, собственно, и стали по-на¬
стоящему началом нового, XIX столетия. Однако и побеж¬
денный, Наполеон остается легендой, и как это ни пара¬
доксально, в России эта легенда сохранялась еще дольше,
чем в самой Франции. Во Франции она кончается знаме¬
нитыми “100 днями”. В России тень Наполеона поражала
воображение на протяжении почти всего столетия. Если
до 1821 года, года его смерти на острове Св. Елены, в нем
видели по преимуществу врага, “антихриста”, то после его
одинокой кончины он превратился в героя и мученика.
Мадзони в оде, посвященной Наполеону, назвал остров
Св. Елены Голгофой. В 1824 году Тютчев перевел из этой
оды некоторые строфы на русский язык:
Все испытал он! счастие,
Победу, заточенье,
И все судьбы пристрастия,
И все ожесточенье! -
Два раза брошен был во прах
И два раза на трон!..
Явился: два столетия
В борении жестоком,
Его узрев, смирились вдруг,
Как пред всесильным роком,
Он повелел умолкнуть им
И сел меж них судьей!
Исчез - и в ссылке довершил
Свой век неимоверный -
Предмет безмерной зависти
И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой,
Преданности слепой!..
132
Для Пушкина образ Наполеона стал символом величия
и славы:
Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Пушкин остро ощущал, что с Наполеоном по-настоя¬
щему кончилось XVIII столетие и началось столетие XIX.
Наполеон связан для него с революцией: “Мятежной воль¬
ности наследник”, с борьбой за свободу:
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.
Наполеон для Пушкина - современник. Для Лермон¬
това Наполеон - уже легенда: романтический герой, вос¬
стающий из гроба призрак:
...Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг,
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук...
Статуэтка Наполеона - “Столбик с куклою чугунной //
Под шляпой с пасмурным челом, // С руками, сжатыми
крестом” - начиная с кабинета Онегина, хранилась во
многих русских интеллигентных семьях вплоть до конца
прошлого столетия. Такая статуэтка была и у Марины
Цветаевой, в юности страстно увлекавшейся Наполеоном.
Известно, что современники Пушкина усматривали
сходство с Наполеоном в лице Пестеля, наполеоновский
профиль и его позу Пушкин придает Герману из “Пиковой
дамы”; Гоголь, со свойственным ему гротескным юмором,
заставляет героев “Мертвых душ” подозревать в Чичикове
бежавшего из ссылки Наполеона; Раскольников у Досто¬
евского увлечен примером Наполеона; наконец, образ На-
полеона-антигероя проходит через всю эпопею “Войны и
мира” Толстого.
11 « Наполеон разыгрывает перед глазами солдат изумленной
Европы и потомства пьесу: ...“Торжество героя над Ро¬
ком” ... Своим поведением и судьбой... Наполеон предвос¬
хитил проблематику и сюжетологию целой отрасли ро¬
мантической литературы» (Ю. Лотман).
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
133
12 «Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять
с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он
это делает? А потому, что он знает на практике, что чело¬
век не всегда на себя похож, а потому отыскивет “главную
идею его физиономии”, тот момент, когда субъект наибо¬
лее на себя похож. В умении приискать и захватить этот
момент и состоит дар портретиста» (Ф. Достоевский.
Дневники писателя, 1873).
13 Этот прием использовал в XV веке Ван Эйк в портрете че¬
ты Арнольфини: небольшое зеркало, висящее на стене за
спиной портретируемых, отражает того, кто находится пе¬
ред полотном - то есть самого художника. Однако в этом
случае сохраняется замкнутая структура. Отличие ее от
итальянской ренессансной модели лишь в том, что портре¬
тируемые не смотрят сами на себя - на это они еще не ос¬
меливаются, - замыкающую функцию выполняет сам ху¬
дожник, который видит себя в зеркале. Таким образом,
ренессансная формула Я-Я сохраняется, но как бы в пе¬
ревернутом виде. Ту же, не вскрывающую, но замыкаю¬
щую пространство, роль выполняет висящее на стене зер¬
кало в “Менинах” Веласкеса. Как и у Ван Эйка, зеркало
отражает тех, кто находится перед картиной, кого видят
изображенные персонажи; пространство не распахивается
у них за спиной: небольшие размеры зеркала лишают его
пространственно-преобразующих возможностей.
14 Ср. также: “Мозговая игра... отличалась странными, чрез¬
вычайно странными свойствами... каждая мысль развива¬
лась упорно в пространственно-временной образ и продол¬
жала свои бесконтрольные действия вне... головы. Раз
мозг разыгрался таинствнным незнакомцем, незнакомец
этот есть, действительно есть...” (А. Белый. Петербург).
15 Современные Чехову критики упрекали его в том, что в
его произведениях действительность отражается не в
большом, целом зеркале, но в отдельных разбросанных ос¬
колках его. Разбитое зеркало, или множество зеркал - ха¬
рактерная для рубежа столетий метафора искусства.
Позднее Набоков напишет о человеконенавистничес¬
кой агрессивности кривых зеркал: “А есть и кривые зерка¬
ла, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи
вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается
другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая наго¬
та, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека
или начинает уплотнять его, и получается человек-бык,
человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных
атмосфер, - а не то тянешься, как тесто, и рвешься попо¬
лам” (“Отчаяние”, 1930).
134
16
Прими ж сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Отделай ты его, барон,
В благопристойную оправу,
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти,
Да запивай уху да кашу...
(“Послание Дельвигу”)
Считается, что стихотворение было написано как шут¬
ливое подражание Байрону (“Надпись на кубке из чере¬
па”) и Баратынскому (“Череп”).
17 Ср. стихотворение современной поэтессы Блены Шварц
“Элегия на рентгеновский снимок моего черепа” (1972).
Привожу отдельные строфы.
И мой Бог, помрачась,
Мне подсунул тот снимок,
Где мой череп, светясь,
Выбыв из невидимок,
Плыл, затмив вечер ранний...
И моя задрожала рука.
Этот череп был мой,
Но меня он не знал...
Он хорошей работы, чист он и тверд,
Но оскаленный этот
Живой еще рот...
Вот стою перед Богом в тоске
И свой череп держу я в дрожащей руке, -
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?..
(Цит. по: Полухина В. Бродский глазами современни¬
ков. СПб., 1997).
18 Ср. у Набокова: “Я был не человек, а голое зрение, бес¬
цельный взгляд, двигающийся в бессмысленном мире”
(“Ужас”).
19 И. Бродский. См. у него же: «Мир переполненный стано¬
вится местом, где жить нельзя. Власть количеств уничто¬
жает качество. Качество на философском языке - опреде¬
ленность... отличность, “лица необщее выражение”. Та¬
кие лица исчезают в толпе, которой становится ныне чело¬
вечество».
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
135
Натюрморт
Описывать вещи, не имеющие
отношения к душевной жизни,
мне скучно.
В аллегорической картине Джованни Беллини, кото¬
рую иногда называют “Озерная Мадонна”, в самом цен¬
тре композиции, на мраморном полу террасы лежит
апельсин. Что это - натюрморт? Нет. Но почему такие
же апельсины, лежащие на столешнице или на камен¬
ной кухонной полке в полотнах мастеров XVII века,
становятся натюрмортом? И почему цветы в саду или в
поле, даже когда они изображены крупно на переднем
плане, считаются пейзажем, а те же цветы, растущие в
горшке на подоконнике, - это натюрморт? И почему
нельзя назвать натюрмортом изображение накрытого
для трапезы стола, если за этим столом сидят люди, но
тот же накрытый стол становится натюрмортом, если
за столом людей нет?
Границы натюрморта как жанра определить не
всегда просто, как, впрочем, и любого другого жанра.
На картине представлено открытое окно с видом на
природу. Достаточно ли небольшого букетика цветов
или детской куклы, забытой на подоконнике, чтобы
картину можно назвать не интерьером и не пейзажем, а
натюрмортом?
Мир натюрморта - это мир искусственной реаль¬
ности, реальности, в той или иной степени преображен¬
ной человеком. Чтобы попасть в натюрморт, цветы
должны быть сорваны, овощи и фрукты - срезаны, зве¬
ри и птицы - убиты, рыбы, морские животные - вылов¬
лены. Натюрморт - это изображение вещей, сотворен¬
ных руками человека или испытавших его воздействие.
Мир натюрморта - это мир неподвижного или
ставшего неподвижным. Если в картину включается
изображение живого, способного двигаться: мухи, пол¬
зущей по фруктам, бабочки, порхающей над цветами,
собаки, принюхивающейся к дичи, наконец, человека,
торгующего снедью, все это служит лишь выявлению
специфики мертвой природы, искусственной или став¬
шей искусственной реальности, внешней человеку.
В этом своем качестве натюрморт противоположен пей¬
зажу, также изображающему внешний человеку мир,
136
но мир живой природы, живой реальности. В отличие
от натюрморта пейзаж изображает мир, находящийся в
движении или, во всяком случае, способный двигаться,
изменяться. Объекты неподвижные, включенные в
пейзаж, контрастно подчеркивают живую изменчи¬
вость природы.
Натюрморт - это мир малых величин, компози¬
ционно укрупненных, изображение вещей, увиденных
вблизи, рассмотренных в деталях. В этом своем каче¬
стве натюрморт противоположен такому жанру живо¬
писи, как интерьер, также изображающий искусствен¬
но созданный мир, но мир больших величин.
Останавливая на вещи пристальное внимание, на¬
тюрморт возвращает ей первичный, сущностный смысл
(делает ее вещью в себе). Включенная в интерьер, вещь
утрачивает свой первосмысл; получая обычный, свой¬
ственный ей масштаб, она получает и свой обыденный
облик. Вынесенная в натюрморт, вещь оказывается в
ином измерении, повышается в композиционном и, со¬
ответственно, смысловом ранге, в то время как интерь¬
ер, будучи включенным в натюрморт, редуцируется до
роли небольшой детали: это только край стола, часть
стены или окно, не изображение, а лишь обозначение
места, нечто не столько явленное, сколько подразуме¬
ваемое.
В натюрморте предметы вырваны из природных
или функциональных связей, они предстают в соотно¬
шениях, являющихся результатом художественной ак¬
тивности, поэтому всякий натюрморт содержит в себе
определенное сообщение: сознательно составленную
криптограмму или бессознательно оставленный след.
Вещь в натюрморте - это всегда некоторое сообщение,
всегда - весть.
Натюрморт как особый жанр живописи склады¬
вается в XVII веке. Этому предшествовал период посте¬
пенного переосмысления вещи в пределах образного
поля изображения. В искусстве средних веков вещь не
равна самой себе, она всегда означает нечто другое, это
как бы материализовавшееся, овеществленное Слово,
с которым Бог обращается к людям; это также слово
верующих, обращенное к Богу. Именно в вещи слово
перекодируется с Божественного языка на земной -
и с земного на Божественный. Вещь, таким образом,
выступает в роли некоего посредника в беседе человека
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
137
с Богом. В искусстве, так же как в обряде, вещь являет¬
ся не самой-для-себя-вещъю, но зримым образом незри¬
мого. Ее временная земная форма воспринимается
Божественным Оком в иных, недоступных людскому
зрению вечных формах (или значениях). “Мы видим
вещи таковыми, каковы они суть, - вещи же таковые,
какими их видит Бог”, - пишет Блаженный Августин.
В средневековой живописи изображается определен¬
ный набор значимых предметов с определенным, за¬
крепленным за ними иносказательным смыслом. Этот
набор ограничен, он связан, как правило, с изображе¬
нием священной трапезы - обрядовым воспроизведе¬
нием таинства Евхаристии: чаша, хлеб, виноград
(вино); в некоторых ранних христианских фресках и
мозаиках изображалась рыба (символ Христа), позднее -
ягненок (агнец, символизировавший жертвенность
Христа). Затем появляются Книга (Библия) как зри¬
мый образ Слова. Постепенно репертуар значимых
предметов расширяется, но свой иносказательный
характер, свое значение “зримого подобия незримого”
эти предметы сохраняют. В средневековом искусстве
форма вещи, ее материальное воплощение мысленно
как бы опускается, при восприятии с предмета счи¬
тывается не обозначающее (форма), но обозначаемое
(содержание).
В период Раннего Возрождения, в XV веке, на Се¬
вере Европы, как и в Италии, вещи в значительной сте¬
пени сохраняют свою символическую ауру, хотя сю-
жетно они включаются в систему картины, приобретая
двойное значение. Так, в сценах Благовещения изобра¬
жение зеркала и рукомойника - это символы чистоты,
непорочности Богоматери, но одновременно - это и бы¬
товой предмет, часть обстановки интерьера. Такую же
роль в ранних ренессансных картинах выполняет ваза с
цветами: ирисами (символ Богоматери) или гвоздика¬
ми (символ Страстей Христовых). Двойным значением
были наделены и другие предметы, однако постепенно
их символика выветривается, отступает в область наме¬
ков, воспоминаний, традиций. Роль вещей в картинах
сводится к тому, что они делают все более предметной,
все более конкретизированной среду обитания персона¬
жей, уточняют пространственные границы интерьера,
делают его все более освоенным, более приспособлен¬
ным для посюстороннего, земного существования.
138
В келье ученого непременным атрибутом стано¬
вится полка с книгами (“Святой Иероним” у Карпаччо);
в комнате “Менялы” (у Масейса) - весы и монеты;
в комнате аптекаря (у Г. Гольбейна) - пузырьки с ле¬
карствами и рецепты. Вещи в этих картинах не имеют
самостоятельного значения, они воссоздают предмет¬
ный мир человека, его среду, характеризуют род его за¬
нятий, его место в обществе.
В XVI веке ситуация меняется. В картинах нидер¬
ландских и немецких художников вещи словно выхо¬
дят из повиновения. У Босха они неоправданно увели¬
чиваются в масштабе, становятся огромными, как бы
меняясь местами с человеком: не вещи теперь являют¬
ся атрибутами персонажей, но сами персонажи стано¬
вятся атрибутами вещей. Возникает неожиданный
бунт вещей, словно предваряющий высвобождение их
из целого сюжетной картины и обретения нового само¬
стоятельного статуса. У Брейгеля в “Стране лентяев”
вещи оживают, начинают двигаться, в то время как
люди лишены всякой активности, они словно впадают
в спячку. У Гольбейна в парном портрете Жана де Ден-
тивиля и Жоржа де Сельв (1533) вещи не только полу¬
чают большой масштаб, не только занимают всю сред¬
нюю, главную часть картины, они оттесняют к краям
фигуры портретируемых, образуя в центре торжествен¬
ную монументальную группу - в сущности уже само¬
стоятельный натюрморт. Более того, одна из вещей -
искаженный до неузнаваемости, непропорционально
увеличенный череп внизу картины - начинает чудо¬
вищно гримасничать. Это смелый оптический экспери¬
мент, одна из тех аноморфоз, которыми начала увле¬
каться живопись на гране XVI и XVII веков. Такое изо¬
бражение в кривом зеркале - тоже вещь, вышедшая из
повиновения. Гримасничая, череп смеется над челове¬
ком, со всеми атрибутами его земной жизни - музыкой,
книгами, наукой, освоением мира (глобус). Все смерт¬
но: memento mori! В этом портрете Гольбейна заяв¬
лена одна из главных тем натюрмортов следующего -
XVII столетия. Как своеобразные гримасы вещей в их
сложных взаимоотношениях с человеком можно рас¬
сматривать и портреты работы Арчимбольдо, остроум¬
но составленные из овощей, фруктов, злаков - то ли
натюрморт в человеческом образе, то ли человеческое
лицо, превратившееся в натюрморт.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
139
На грани XVI и XVII веков совершается актив¬
ное завоевание вещами пространства сюжетной карти¬
ны. В изображениях рынков, овощных и фруктовых
лавок, торговцев разного рода снедью эта снедь зани¬
мает все большее место в композиционном решении по¬
лотна. У Артсена в картине “Овощная лавка” фигура
торговки, кажется, с трудом удерживает равновесие
под напором теснящих ее овощей и фруктов; компози¬
ционно она не столько предлагает их покупателям,
сколько сама пытается от них защититься. Как и в кар¬
тине Брейгеля, вещи здесь активны, человек пассивен.
Трудно сказать, к какому жанру относится это полотно,
можно ли считать его изображением бытовой сцены,
или это уже натюрморт.
По-иному выглядит процесс сложения натюрмор¬
та в итальянской живописи. В картине, написанной
Винченцо Кампи на тот же сюжет, что и у Артсена,
фрукты не беспорядочный грудой, но аккуратно уло¬
женные в корзины, выстроены в классическом поряд¬
ке - монументальные, на фоне торжественного пейза¬
жа. Они подчиняют фигуру женщины своему непо¬
движному ритму: одной рукой она поддерживает
складки фартука, полного яблок, в другой держит, тор¬
жественно приподняв, кисть винограда - отчетливый
иконографический намек на изображение богини пло¬
дородия Флоры.
В картине Караваджо “Юноша с корзиной фрук¬
тов” трудно сказать, кто (или что) является главным
действующим лицом: юноша, держащий корзину, или
корзина, которую держит юноша. Его фигура компози¬
ционно уподоблена кариатиде, а его голова - самому
большому и самому прекрасному фрукту, эту корзину
украшающему.
Искусство Караваджо начинает собой уже XVII сто¬
летие - столетие расцвета жанра натюрморта. Его
“Вакх”, так же как “Юноша с корзиной фруктов”, яв¬
ляет собой переходную форму от картины на мифологи¬
ческий сюжет к натюрморту. Фигура Вакха столь же
овеществлена, как и фигура юноши, но если юноша с
корзиной скорее опредмечен, то Вакх - это торжество
зрелой плоти, живой, но инертной и бездуховной,
некий образ органического, растительного бытия. Ком¬
позиция построена таким образом, что горизонт зри¬
тельного (и соответственно зрительского) восприятия
140
расположен на уровне чрева Вакха - есть в этом что-то
от чревоподобности шекспировского Фальстафа.
К жанру собственно натюрморта можно отнести
другое полотно Караваджо, где изображена корзина с
фруктами, словно перенесенная из картины с Вакхом,
но ставшая здесь главным и единственным сюжетом.
Корзина изображена в ракурсе - снизу вверх, она под¬
нята, преподнесена, вознесена; фрукты сложены в виде
классической пирамиды, увенчанной, словно знаме¬
нем, виноградным листом (образная отсылка к вино¬
градному венку Вакха?). Тема этого полотна та же -
торжество Вакха, но выражена она молчаливым язы¬
ком вещи.
XVII век был веком расцвета натюрморта, кото¬
рый складывается как самостоятельный жанр и полу¬
чает особенно широкое распространение в Голландии.
Именно в Голландии натюрморт приобретает полноцен¬
ный художественный статус, в какой-то мере потеснив
картины на мифологические темы и темы Священного
Писания. В XVII веке вещь в искусстве становится важ¬
ным носителем смысла не только в натюрморте, но и в
других живописных жанрах.
В картине Рембрандта “Выпь”, где изображен
охотник, демонстрирующий зрителю убитую птицу, дер¬
жа ее высоко в поднятой руке, решается, по существу, та
же тема, что и в групповом портрете “Анатомия доктора
Деймана”. То же сопоставление мертвого - и живого.
Выпь - это охотничий трофей, знак торжества живого
охотника над мертвой птицей; вместе с тем эта мертвая
птица, с ее широко раскинутыми крыльями, которые
делают ее похожей на герб, к тому же ярко освещенная и
выдвинутая на передний план, заслоняет от света, погру¬
жает во мрак лицо живого человека. Как и в “Анатомии
доктора Деймана” - что это: победа живого над мертвым
или мертвого над живым? И к какому жанру следует от¬
нести эту картину? К портрету или к натюрморту на
тему memento mori? Та же тема, но в ее трагическом зву¬
чании, воплощена Рембрандтом в натюрморте “Туша”.
Внутренняя перекличка этого произведения с изображе¬
нием мученической смерти на Кресте не вызывает сомне¬
ния. Не вызывает сомнения и присущее Рембрандту
оживотворение мертвого, одухотворение страдания.
Если в картинах Рембрандта раскрывалась траги¬
ческая диалектика жизни и смерти, то в творчестве
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
141
другого великого голландского художника - Вермеера
Делфтского - разыгрывалась безмолвная драма овеще¬
ствления живого. Мир его картин - мир неподвижного,
застывшего, навеки остановленного, опредмеченного
бытия. В картине “Женщина, наливающая молоко”
главное - затопленная светом тишина и неподвиж¬
ность. Метафора вечно длящегося, точнее, навеки оста¬
новленного мгновения - неиссякающая струйка моло¬
ка, льющегося из кувшина (“Чудо! не сякнет вода,
выливаясь из урны разбитой...”). Все остановилось,
овеществилось - и женская фигура, и молоко, и хлеб,
и вода (вино?) в сосуде. Недвижная, тайная жизнь, “ти¬
хая жизнь” (Stilleben)1.
Что представляет собой натюрморт XVII века в
тематическом аспекте? Что изображает натюрморт?
Натюрморт изображает вещи, созданные руками чело¬
века, - домашнюю утварь, предметы искусства, драго¬
ценности, книги... Иными словами, мертвые вещи. Но
также живые существа и живые растения, умерщвлен¬
ные руками человека, - битую дичь, выловленную
рыбу, вскрытые устрицы, сорванные фрукты и овощи,
срезанные цветы, расколотые орехи. Тема торжества
смерти, тщеты земного существования в прямой форме,
открытым текстом запечатлена во многих натюрмортах
на сюжет Vanitas. Подобные натюрморты с их угрожа¬
юще назидательным содержанием воспринимаются эм¬
блематически, в них, с некоторыми вариациями, повто¬
ряется один и тот же набор значащих предметов: череп,
потухгйая свеча, песочные часы, музыкальные инстру¬
менты, предметы роскоши, рассыпанные деньги... Они
не требуют разгадки. Но та же тема живого - и мертво¬
го, те же размышления о смысле жизни - и смерти под¬
текстом проходит, в сущности, во всех натюрмортах,
иногда более отчетливо, иногда едва просвечивая
сквозь видимое благополучие.
В последние десятилетия в специальной литера¬
туре распространилось увлечение разгадыванием смыс¬
ла различных предметов, изображенных в натюрмор¬
тах, их символики. К натюрморту стали относиться как
к своего рода криптограмме, которую нужно прочи¬
тать, расшифровать. Однако подобная расшифровка
отнюдь не исчерпывает смысла натюрмортов, она не
способна раскрыть их подлинное, образное содер¬
жание, закодированную в них тайну жизни и смерти.
Чтобы постичь ее, совсем не обязательно в нарезанной
селедке усматривать символическое изображение стра¬
стей Христовых, в хлебе и кувшине с вином - символ
Евхаристии. Если пойти по этому пути, то и в скомкан¬
ной салфетке легко увидеть намек на погребальные
пелены Христа, а в тарелке с рыбой - сокращенный
иконографический вариант Тайной Вечери. Стрем¬
ление в каждом изображенном предмете непременно
увидеть знак другого и свести все натюрморты к зашиф¬
рованному изображению Священного Писания пред¬
ставляется слишком натянутым. Такой подход, законо¬
мерный при анализе искусства средневекового, вряд ли
оправдан применительно к произведениям XVII века.
Тайна жизни и смерти, их диалектика закодирована в
них не столько в знаковом, сколько в образном языке.
Внимательно вглядываясь во все эти изысканные или
просто аппетитные “завтраки”, нельзя не заметить, как
много в них разрезанного, расчлененного, как много
фруктов, с которых наполовину срезана кожура, как
любили в этих завтраках изображать окорок, с подре¬
занной и отвернутой кожей, как много в них вспорото¬
го, препарированного - словно на операционном столе
под скальпелем патологоанатома. Не случайно прихо¬
дят на память многочисленные “анатомии”, которые
часто писали голландские художники XVII века.
Это о теме смерти. Но есть в этих натюрмортах и
вторая, не менее важная тема - тема жизни, тихой жиз¬
ни оживших вещей. Натюрморт - это особый театр ве¬
щей, размещавшийся на небольшой сценической пло¬
щадке стола, полки, стенной ниши или прилавка.
В этом театре разыгрывались порой те же ситуации, что
и в “большом” искусстве сюжетной картины. Сущест¬
венно при этом, что натюрморт, этот новый для живо¬
писи жанр, унаследовал художественное пространство,
к тому времени уже освоенное и разработанное карти¬
ной. Он располагался в том же смысловом поле, с теми
же композиционно намагниченными полюсами (центр,
правая и левая сторона; верх, низ, восходящие и нисхо¬
дящие диагонали). Только протагонистами этих мини¬
пьес вместо богов, героев и просто людей выступали
вещи. Эти вещи не только значимы, они многозначны,
и потому изображенная на картине сцена позволяет
различные, иногда противоположные прочтения.
В картине Бейерна “Завтрак” можно усмотреть тему
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
143
“Vanitas”. При этом главным значимым предметом ста¬
новится выкуренная, потухшая трубка - ибо жизнь,
подобно дыму, рассеивается и от нее не остается следа.
Все остальное - всего лишь соблазны земного бытия. Но
возможно и другое толкование, содержащееся не в ико¬
нологическом комментарии, но непосредственно в са¬
мом художественном тексте. Изображен скромный, но
со вкусом приготовленный завтрак, где главным героем
выступает не потухшая трубка, но по-фальстафовски
толстый здоровяк-кувшин, наполненный вином; селед¬
ка - самое распространенное и самое любимое в Голлан¬
дии блюдо, а с удовольствием выкуренная после завтра¬
ка трубка означает не тщету земного существования,
но - что более понятно и естественно - просто довольст¬
во жизнью. Оба эти аспекта - умозрительный и образ¬
ный - не противоречат друг другу, так же как не проти¬
воречат, но дополняют и объясняют друг друга разные
аспекты притчи и любого иносказания.
В голландском натюрморте существовало не¬
сколько иконографических типов; один из них, с изоб¬
ражением накрытого стола, трапезы, можно условно
обозначить как “завтрак”. “Завтраки” были разными,
они воспроизводили различные ситуации, связанные
не только с характером трапезы: более скромной, аске¬
тичной или более богатой, изысканной, иногда роскош¬
ной. Они различались также в зависимости о того, что
именно произошло во время того или иного завтрака.
“Завтрак” Бейерна - скромный и вполне благопристой¬
ный. У Хеды в натюрморте “Ветчина и серебряная посу¬
да” не только более богатый набор продуктов и серви¬
ровки, но и сам характер поведения отсутствующих со¬
трапезников более веселый, даже несколько бесшабаш¬
ный. Салфетка скомкана, ее не просто бросили, но
швырнули; хлебец и тарелка с лимоном вот-вот со¬
скользнут со стола, вазочка опрокинута, бокал пустой,
крышка кувшина откинута - вина больше нет, все вы¬
пито; свеча погашена - пировали до утра. В самом жес¬
те кувшина чувствуется веселое торжество, его отбро¬
шенная крышка похожа на приветственно и задорно
поднятую шляпу. Эта картина Хеды воспринимается
как разыгранная на театре вещей популярная в быто¬
вой голландской живописи сценка “Веселое общество”.
Его же “Ежевичный пирог” вызывает другую анало¬
гию: сотрапезники оставили после себя полный раз-
144
гром: скатерть сдернули, все побросали, свечу задули,
уронили ключ от часов, словом - учинили дебош. Для
каждого из этих “завтраков” нетрудно найти иконогра¬
фическую аналогию в бытовой живописи на тему раз¬
ного рода трапез - от чинных сцен за столом до пьяных
ссор в кабачке.
Но есть в этом театре вещей и другой круг сюже¬
тов, где ничего не происходит, но нечто торжественно
свершается. В “Натюрморте с жаровней” Хеды мер¬
цают в темноте огни, все предметы тщательно разло¬
жены в определенном порядке, словно приготовлены к
какому-то обряду; таинственность, таинство. В “На¬
тюрморте с наутилусом” Кальфа - драгоценные предме¬
ты, поблескивающие во мраке, как воплощение драго¬
ценности бытия, словно в картинах Вермеера, - и чис¬
тое, ничем не нарушаемое созерцание.
Метафоричность художественного языка в натюр¬
мортах XVII века тем богаче, чем меньше связан он с
определенным сюжетным либретто, со словесным сце¬
нарием. В натюрморте сюжета в прямом смысле этого
слова нет (во всяком случае, он определен очень слабо),
и поэтому вещи в нем могут разыгрывать любой сюжет.
Разрабатывая ту же проблематику, что и сюжетная
картина, натюрморт воплощал ее в иной, более доступ¬
ной, более занимательной, часто игровой форме. Хогст-
ратен в своем “Введение в высокую науку живописи”
(1673) дает высокую оценку натюрморта в общей табе¬
ли о рангах и добавляет, что натюрморты создаются
также “для удовольствия и для игры”. Иными словами,
для их разгадывания, для вчитывания в них того или
иного смысла. Это искусство одновременно и развлека¬
тельное, и поучительное, искусство светское - и рели¬
гиозное.
Если голландские натюрморты можно уподобить
притчам, в которых за внешне занимательным содер¬
жанием часто скрывается благочестивое поучение,
грозное предупреждение или философское размышле¬
ние о жизни и смерти, то натюрморты фламандские бо¬
лее откровенны в своем обращенном к зрителю торже¬
ственно декламационном пафосе.
В полотнах Снайдерса - это всегда триумф челове-
ка-победителя, упоенного результатами своей победы.
Туши убитых зверей и птиц, сваленные в груды, словно
сохраняют еще судорожное напряжение последней
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
145
схватки или отчаяние полного бессилия. Подобные на¬
тюрморты воспринимаются как поле битвы после сра¬
жения - своеобразная парафраза распространенных во
фламандской живописи батальных сцен. В “Рыбной
лавке” Снайдерса - рыбы разных сортов, крабы, омары,
устрицы, разрубленные на куски или безжалостно
опрокинутые на спину, обнажившие самые уязвимые,
самые нежные части своих тел. И все это выставлено на
показ, все это предложено зрителю-покупателю, вы¬
двинуто ему навстречу к самому краю прилавка, к
краю картины.
Такой композиционной откровенности не знают
голландские натюрморты, в них всегда сохраняется оп¬
ределенная дистанцированность. Они более сдержанны
в своих отношениях со зрителем, более целомудренны.
В натюрмортах Снайдерса есть великолепная бравур¬
ная декоративность, но есть в них и барочная безжало¬
стность, почти жестокость. Его “Натюрморт с лебе¬
дем” - это тоже вариант батальной сцены, но на тему
“триумф павшего героя” - так патетически выразитель¬
но распростертое на переднем плане тело убитого лебе¬
дя, выделенное цветом и ярко освещенное. По-иному
решает Снайдере натюрморт “Битая дичь”, комически
оживляя трупы убитых зверей: они словно замахи¬
ваются друг на друга с таким же задором, как и персо¬
нажи в сцене “Драка” у Броувера. Злая шутка или па¬
родия на сюжет “Пляска смерти”, популярный в искус¬
стве Северной Европы XVI-XVII веков.
Столь же патетичен, но по-иному, нежели фла¬
мандский, итальянский натюрморт XVII века. В нем
нет бравурности, присущей Снайдерсу, нет и его жесто¬
кости. Итальянский натюрморт монументален, более
того - в нем есть своеобразная мемориальность. У Рек-
ко в картине, изображающей улов рыбы, самая боль¬
шая рыбина - гордость рыбака - помещена в бронзовый
таз и поднята, словно водружена на пьедестал на фоне
виднеющегося вдали моря и торжественного закатного
неба. Внизу, у подножия этого “монумента” - россыпь
более мелких рыб. Вся композиция построена снизу
вверх (излюбленный итальянский прием героизации -
di sotto in su), причем по восходящей диагонали, слева
направо, и устремлена к небу. Отблески заката на мед¬
ном тазе и на чешуе рыбы делают похожей эту группу
на бронзовое изваяние. Рыбешки, рассыпанные у под-
146
ножия “монумента”, превращены светом в россыпь дра¬
гоценностей. Столь же монументальны фрукты в на¬
тюрморте Руопполо; они кажутся высеченными из
цветного камня, расположены ярусами и увенчаны эк¬
зотическим фруктом, выполняющим роль своеобразно¬
го акротерия.
Итальянские натюрморты утверждают и увекове¬
чивают изображаемую натуру. Суровые натюрморты
испанцев похожи на фанатичные проповеди аскетизма.
Особенно полотна Санчеса Котаны. На простом подо¬
коннике, на нейтральном темном фоне скупо отсчита¬
ны по одному - айва, капуста, дыня, огурец. Гордая,
непреклонная бедность - и сюжетная, и композицион¬
ная. Есть в подобных натюрмортах что-то от вотивных
даров, которые в католических странах - и в Испа¬
нии особенно - приносили в церковь и вешали к ико¬
нам с обращенной к святому молитвой или в знак
благодарности.
В натюрмортах Сурбарана в тщательной, поштуч¬
ной расположенности предметов на гладком темном,
часто черном, фоне есть особое, почти религиозное бла¬
гоговение. Возможно, его натюрморты были написаны
как обетные дары, они заменяли реальные дары, при¬
носимые в храм.
Особое место в испанском натюрморте XVI века
занимает творчество Переды. Две его картины, сюжет-
но как бы не связанные, вместе с тем воспринимаются
как своеобразный диптих. Одна из них дополняет и
поясняет другую, как две составные части единого ме¬
тафорического образа. На одной изображены несколько
крупных грецких орехов: целый, расколотый, черви¬
вый, пустая скорлупа. И только. Но зрительно эти оре¬
хи напоминают черепа в разной степени распада и обна¬
жившиеся полушария мозга. Можно было бы счесть эту
ассоциацию случайной, если бы не вторая картина, где
представлены черепа, странным образом напоминаю¬
щие огромные грецкие орехи, расколотые и гнилые.
Они помещены на торжественном красном фоне, и ря¬
дом с ними - крохотные часики, готовые соскользнуть
со стола. Смерть господствует над временем - тради¬
ционная тема memento mori. Но художник придал ей
дополнительное звучание: некоторые черепа, изобра¬
женные в непривычном ракурсе, становятся почти не¬
узнаваемыми, приобретая сходство с фантастическими
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
147
цветами или экзотическими фруктами. Что это? Круго¬
ворот природы? Живое обращается в мертвое, а мертвое
рождает новые формы органической жизни? Время
проходит, но жизнь остается? Или возрождается? Как
всякий художественный образ, этот образ многозна¬
чен, но его метафоричность рассчитана не на простое
разгадывание, как в традиционных для голландской
живописи натюрмортах на тему “Vanitas”, но на раз¬
думья о смысле бытия, о жизни человека как части
органической природы. (И здесь не обойтись без ссылки
на рассуждения Гамлета о посмертной судьбе “великого
Цезаря”.)
Кисти Переды приписывают “Натюрморт с часа¬
ми”, где разыграна та же тема, но на другом материале.
В этом натюрморте значимо прежде всего размещение
предметов в смысловом поле картины, именно оно за¬
ставляет предполагать наличие второго, неявного
смысла. На главном месте, в центре композиции поме¬
щены большие настольные часы - образ неумолимо те¬
кущего земного времени. Но почему пьедесталом для
них служит несоразмерно маленькая, сгибающаяся под
непосильным грузом циферблата (или времени) челове¬
ческая фигурка? И почему часы помещены на границе
двух зон: слева, на фоне непроницаемой тьмы - два тя¬
желых глиняных кувшина, похожие на амфоры (или
погребальные урны?); справа - красный бархатный за¬
навес, перед ним - хрупкая стеклянная и фарфоровая
посуда - островок простых вещей, служащих человеку
в его краткотечной жизни. Здесь можно было бы за¬
даться вопросом о значении правой и левой сторон в
композиции, о роли их в процессе восприятия картины,
а также о движении слева направо как воплощении вре¬
менной последовательности событий. В таком случае в
натюрморте земное человеческое время течет в обрат¬
ном направлении: от настоящего, т. е. смерти, к буду¬
щему, т. е. воскресению. (Что это, по-иному выражен¬
ная метафора, лежащая в основе натюрморта с черепа¬
ми?) На переднем плане, перед часами помещены рако¬
вины, напоминающие о море, о его вечном движении
(вечной жизни природы?), рядом - орехи, источенные
червем (напоминание о смерти, о разложении), а также
ключ - от часов? От времени? Загадку этого натюр¬
морта, заключенную в нем тайнопись могли бы от¬
части прояснить стихотворные строки современника
148
художника - Франциско Кеведы:
Когда умру - я стану горсткой праха,
Пока живу - я хрупкое стекло.
(“Песочные часы”)
Час прожитый оплачь - не наверстаешь
Минут его, и невелик запас;
Пойми, что ты в один и тот же час
Растешь и в смерть врастаешь.
И все ж не сторонись
Тревожных откровений циферблата -
В них тайну каждодневного заката
Нам поверяет жизнь:
Всю вереницу суток, солнц, орбит
Считает смерть, а время лишь растит.
(“Часы с боем”)2
При всем своеобразии образного языка натюрмор¬
тов различных национальных школ XVII века в них
есть общие черты, характерные для эпохи в целом.
Прежде всего это особый внутренний напор, актив¬
ность самого жанра, впервые открывшего смысл, зна¬
чение, роль вещи в жизни - и соответственно в искусст¬
ве, способность вещи не только говорить с человеком,
но и говорить за человека, говорить о самом главном: об
отношении человека к миру. Говорить об этом по-разно¬
му. В Голландии - о том, что жизнь ценна своими
малыми, человеческими радостями, что человеку есть,
что терять со смертью, и именно поэтому нужно по¬
стоянно о ней помнить. Во Фландрии - о том, что
жизнь - это постоянное буйство плоти, постоянное на¬
пряжение борьбы с этим буйством - и торжество побе¬
ды. В Испании - что жизнь - это суровый героизм оди¬
нокого, аскетического противостояния небытию. Об¬
щее - это особая художественная миссия жанра, беру¬
щего на себя решение мировых проблем.
И еще одно. Вещь в искусстве XVII века приобре¬
тает значимость не только благодаря своей способности
говорить языком метафор, иносказаний. Вещи прида¬
ют материальную плотность среде, в которой существу¬
ет человек, конкретную ощутимость и качественное
разнообразие пространству, наполненному таинствен¬
ным мраком трансцендентного у Рембрандта, непо¬
движным, негреющим светом у Вермеера, стихийной
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
149
игрой природных сил у Рубенса, пугающим дыханием
вечности у Сурбарана. Вещи выполняют роль посредни¬
ков между человеком и миром вне личного, они очелове¬
чивают этот мир, придают ему обжитость, создают “очаг,
у которого может погреться душа, испуганная созерца¬
нием... играющих пространств вселенной” (В. Топоров).
В XVIII столетии ситуация резко меняется. Впос¬
ледствии М. Кузмин остроумно назвал этот век “веком
мелочей прелестных и воздушных”. Действительно, это
был век мелочей - не столько вещей, сколько вещиц:
век безделушек. Вещи широко входят в быт, но они
утрачивают свое смыслоносное значение, тайну своей
тихой жизни.
XVIII век не был веком натюрморта. По мере того,
как изобразительное искусство под влиянием искус¬
ства словесного становится более разговорчивым, на¬
тюрморт умолкает. Изображаемые в нем вещи переста¬
ют быть знаками чего-то иного, они становятся равны¬
ми самим себе, словно входят в свои естественные габа¬
риты, утрачивают свою бытийственность, становятся
вещами, употребляемыми человеком в их обычном ка¬
честве и назначении.
В натюрмортах XVIII века долго еще повторяется
набор предметов голландских натюрмортов предыду¬
щего столетия, однако в них уже нет ни сюжетной, ни
композиционной завязки, нет внутренней драматур¬
гии. В натюрмортах Маджини - простое рядоположе-
ние вещей, их перечисление. Вещи не утверждают себя,
кувшин не подбоченивается, как у Бейерна, не торже¬
ствует победу над поверженной рюмкой и разрезанной
(растерзанной) селедкой. Натюрморты Маджини - это
натюрморты с умолкнувшей речью.
У Креспи его “Книжные полки” воспроизводят
так называемые “обманки” XVI века, их “способность
изображать все жизненно”, как писал Карел ван Ман-
дер в своей “Книге о художниках” (1604). Игровой
момент в “обманках” занимал мастеров не только
XVII столетия, но также эпохи Возрождения (впрочем,
как и художников античности). Однако у Креспи изоб¬
раженные книги на изображенных полках не столько
обманывают зрителя точностью воспроизведения пред¬
метов средствами живописи, сколько характеризуют
поведение владельца книг. На нижней полке книг нет -
150
это род секретера, на котором работал хозяин, со сле¬
дующих полок он брал книги, поэтому полки не пол¬
ные; до верхних он не дотягивался либо просто поме¬
щал туда уже прочитанные или ненужные книги. В
сущности, в этом натюрморте книги выступают в их чи¬
сто функциональной роли. Символический аспект кни¬
ги как воплощения мудрости, как единственной Книги
с большой буквы здесь отсутствует. К тому же книг
много, и поэтому они не могут быть единственными,
как, например, в одном из испанских натюрмортов
XVII века, где изображены два фолианта: древние -
значит мудрые, ветхие - значит воплощающие время,
ход которого обозначен помещенными рядом часами.
Из всех художников XVIII века только для Шар¬
дена натюрморт был доминантой всего его творчества.
Этим, по-видимому, можно объяснить и некоторую не¬
подвижность, остановленность его бытовых сцен, их
молчаливость, их своеобразную натюрмортность. В на¬
тюрмортах Шардена господствует строгая композици¬
онная поставленность, построенная на соотношении
объемов и пространственных интервалов; в них есть яр¬
ко выраженная художественная воля мастера, но в них
нет сюжетной драматургии: вещи не вступают друг с
другом в молчаливый разговор, между ними не завязы¬
ваются сложные, порой драматичные отношения, они
не поучают, не предупреждают, не угрожают, они не
требуют разгадки. Вещи у Шардена стоят или лежат
так, как разместил их художник, разместил по законам
классической композиции: с соблюдением центра, со¬
отношения больших и малых форм. В натюрморте
“Медная посуда”, одном из лучших, все построено на
контрастном сопоставлении наружной выпуклой - и
внутренней, вогнутой форм; формы округлой - и вытя¬
нутой, высокой - и приземистой. Все предметы словно
из одного материала, и даже луковицы, положенные
рядом с медной посудой, выглядят сделанными из ме¬
ди. Это единство материала, отстствие разнообразия
фактур, поражающее в полотнах XVII века, - отличи¬
тельная черта натюрмортов Шардена. Мир у него не
многолик в своей лервоматериальности. Это мир не
столько созданный Творцом, сколько сделанный рукой
человека, рукотворный мир. В “Натюрморте с кув¬
шином” и сам кувшин, и лежащие рядом тяжелые гроз¬
ди винограда вылеплены как бы из одного материала,
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
151
причем виноградные грозди образуют единую крупную
форму, отдельные ягоды не промоделированы, они
лишь слегка намечены. И еще одна особенность натюр¬
мортов Шардена - в них предметы выступают не в сво¬
ем парадном виде, не на столе, покрытом скатертью, но
на кухонной полке, такими, какими их видит хозяйка,
но не приглашенные гости.
Натюрморты XVII века всегда ритуальны - будь
то религиозный или светский ритуал. Натюрморты
Шардена лишены ритуальности, они нарочито естест¬
венны. В натюрморте XVII века вещи существовали в
ореоле их многовековых значений, окруженные маг¬
нитным полем ассоциаций, связанных с размышления¬
ми человека о миропорядке. “Порядок и связь идей со¬
ответствует порядку и связи вещей”, - утверждал в на¬
чале XVII столетия Спиноза. Или - применительно к
натюрморту - порядок и связь вещей соответствует по¬
рядку и связи идей.
XVIII век освобождает вещи от их смысловой и об¬
разной многомерности, философских и религиозных
раздумий о жизни и смерти. Из вещи больше себя самой
вещь становится равной самой себе, из вещи - вести
она становится просто вещью, прирученной человеком,
ставшей постоянным спутником его существования.
Такими прирученными, обжитыми, домашними явля¬
ют себя вещи в натюрмортах Шардена; о таких вещах
заботятся, их любят, о них думают - но их не вопроша¬
ют, “под ними хаос <не> шевелится”.
XIX век, во всяком случае вплоть до середины
столетия, натюрмортом не интересовался. Несколько
по-рембрандтовски трагических натюрмортов гениаль¬
ного Гойи общей картины не меняют. На протяжении
XIX века вещь все больше прозаизируется, все больше
из предмета духовной ценности становится предметом
ценности материальной, показателем уровня благосо¬
стояния. Чем больше быт XIX века был заставлен, заве¬
шен, перенасыщен вещами - тем меньше вещи получа¬
ли доступ в сферу изобразительного икусства, тем реже
художники писали натюрморты и тем меньше в их на¬
тюрмортах было творческой оригинальности.
Однако именно в XIX веке, в последней трети его,
возникает импрессионистический натюрморт, послу¬
живший началом того развеществления вещи, которое
152
определит судьбы этого жанра в икусстве XX столетия.
Импрессионисты смотрят на вещи пейзажным взгля¬
дом, как бы прищурившись, растворяя предметы в воз¬
душной среде, дематериализуя их светом. В “Натюр¬
морте с дыней” Э. Мане фрукты почти неузнаваемы:
дыня похожа на развесистый куст, виноград - на кур¬
тину травы. Вещь утратила способность сосредоточи¬
вать на себе пристальное внимание художника, притя¬
гивать его взгляд в упор. В “Персиках” у Ренуара сал¬
фетка - сияющая, излучающая свет; стена на фоне -
как ослепительно голубое небо. В этом свете раствори¬
лась белая ваза, а персики отодвинулись к самому “го¬
ризонту. В “Цветах” Клода Моне - снова белая ска¬
терть, как светоотражающий экран, на ее фоне - снова
растворилась белая ваза, а букет цветов словно парит в
пространстве. В цветочных натюрмортах импрессиони¬
стов сорт цветов с трудом узнаваем, увиденные издали
они превратились в сияющие цветовые пятна, источаю¬
щие свежесть. Это не сами цветы, скорее, это некая
квинтэссенция цветения, лишенная материальной суб¬
станции. Можно сказать, что в натюрмортах импресси¬
онистов вещь возведена в более высокую степень, но
при этом она утратила свою вещность3.
Найденный импрессионистами прием растворе¬
ния предмета в свете и воздухе сохраняется в искусстве
и в XX веке. Импрессионистический путь дематериали¬
зации предмета - это размывание, растворение его фор¬
мы, единственной возможности существования его в
качестве предмета в предметном, материальном мире.
Реакцией на этот процесс развеществления вещи
было искусство Сезанна, его упорное стремление вновь
собрать вещь, вернуть ей первоначальную форму. В его
“Натюрморте с вазой”, в отличие от да левого взгляда
импрессионистов, вещь увидена вблизи, не прищурен¬
ным глазом, но прямой наводкой. Вновь обретенная
форма словно ощупывается со всех сторон, художник
показывает ее и снизу, и сверху, стремясь убедиться в
реальности и незыблемости ее предметности. Упрямые
натюрморты Сезанна врывались в живопись, вызывая
сопротивление публики. “Шерстяные яблоки на гряз¬
ной тарелке, которая к тому же вертится” - один из воз¬
мущенных отзывов современников, в котором, кстати,
отмечены существенные особенности живописных иска¬
ний художника. Его тарелки действительно “вертятся”,
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
153
Сезанн застал их в момент движения и остановил в этом
положении, превратив динамику в статику. Салфетки в
его натюрмортах громоздятся или похожи на застыв¬
шую после извержения лаву. Его натюрморты - словно
результат геологической катастрофы, они неподвиж¬
ны, но в своей неподвижности хранят след пережитого
толчка. Движение у Сезанна передается не как процесс,
но как способ активного самоутверждения предметов,
“неистребимой вещественности их бытия” (Рильке).
“Вещественности бытия” - но не вещественности самих
изображенных вещей. В натюрморте “Яблоки и груши”
нет фактуры яблок, так же как фактуры груш, есть
предметы как сгустки единой материи. Фрукты у Се¬
занна “значительны и непонятны, как слова на иност¬
ранном языке”, писал Ю. Лотман. И все же, как это ни
парадоксально, Сезанн по-другому, чем импрессионис¬
ты, продолжает развеществлять предметы. Импрессио¬
нисты растворяли их в свете; Сезанн нивелирует их в
материальности - вещи приобретают у него характер
все материальности, всеоформленности, но при этом те¬
ряют свои имена.
Важное качество натюрмортов Сезанна - их ощу¬
тимый напор на зрителя - не напор вещей, но напор
форм. При этом стол, на котором расположены предме¬
ты, обладает таким же, если не большим, пространст¬
венным напором; вместе со всеми расположенными на
нем вещами он надвигается на зрителя. Наступая, стол
наклоняется вперед - сверхустойчивый мир натюрмор¬
тов Сезанна оказывается миром покачнувшимся. Вещи
начинают соскальзывать с поверхности стола, навстре¬
чу зрителю, они готовы “упасть к нему в объятья”: “Как
страшно близок нам // Любой предмет: он обнял нас //
И к нам упал в объятья” (Рильке). Сезанн покачнул
стол (сознательная или несознательная, интуитив¬
ная метафора покачнувшегося мира), с него начали
соскальзывать предметы, соскальзывать с подмостков
мирового театра - в “объятья” зрителя, а в дальней¬
шем - в небытие. XIX век предугадал проблемы и
открытия века XX - и его трагедию.
Развитие натюрморта XX столетия имеет слож¬
ный сценарий. Одна из линий, идущая от Сезанна, - по¬
степенная утрата вещами их жизненного пространства
в пределах изобразительного поля картины. Особенно
выразительно - у Н. Гончаровой в ее “Натюрморте
154
с портретом и белой скатертью” (ок. 1908), где овощи и
фрукты в буквальном смысле падают со стола, соскаль¬
зывают с него вместе со скатертью, словно убегая от
взгляда странной фигуры, сидящей в глубине картины.
У Штеренберга стол, на котором располагается
натюрморт, увиден сверху, его горизонтальная поверх¬
ность встает вертикально, и все предметы, вырванные
из-под действия закона притяжения, держатся, словно
намагниченные, на этом вывернутом или опрокинутом
столе. В его “Натюрморте с конфетой” - снова вздыб¬
ленная поверхность круглого стола (своеобразный ана¬
лог земного шара?) и готовая слететь с нее крохотная
конфета, как пылинка, ненужная, случайная.
Другая, тоже идущая от Сезанна, линия - это
присущая его натюрмортам агрессивность форм. На со¬
временников они производили впечатление “свирепой
и подавляющей силы”. Эта сезанновская “свирепая
сила” получила развитие преимущественно в живописи
русских художников-сезаннистов. В натюрмортах
Машкова, Кончаловского предметы прут из полотна на
зрителя “весомо, грубо, зримо”. В “Хлебах” Кончалов¬
ского буханки хлеба похожи на тараны, есть в них что-
то угрожающее4.
“Эта живопись принадлежит будущему”, - гово¬
рили о полотнах Сезанна наиболее прозорливые из его
современников. Он и сам это чувствовал. “Вероятно,
я появился слишком рано”, - говорил он о себе. “Я -
веха, придут другие”. Другие пришли.
Вторым столь же великим предтечей был Ван Гог,
осуществивший иной способ развеществления вещей
как внеположенной человеку реальности. Вещь теряет
у Ван Гога изначально присущую ей по отношению к
человеку позицию противополагаемости, “свою только
для себя реальность” (Ю. Лотман). Вещи оказываются
всецело втянутыми во внутреннее Я художника, слива¬
ются с ним, становятся не своим собственным портре¬
том, но его, художника, автопортретом. Овеществ¬
ленным “автопортретом” можно считать натюрморт
Ван Гога “Башмаки”. Смысл этого, казалось бы, вполне
простого и скромного изображения вызвал множество
толкований. Исповедальный характер натюрморта
очевиден. Но в чем исповедуется художник? Про что
этот натюрморт, изображающий пару старых, рва¬
ных башмаков? Изношенные, одинокие, мучительно
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
155
неприкаянные, сброшенные с усталых ног или просто
выброшенные за ненадобностью - что это: одиночество?
Жизненная неустроенность? Постоянное скитальче¬
ство Ван Гога?
Еще более автобиографична в творчестве Ван Гога
тема стула, связанная с историей его отношений с Гоге¬
ном, кончившихся, как известно, разрывом и для Ван
Гога - психиатрической лечебницей.
В натюрморте “Стул Ван Гога” изображен грубо
сколоченный, неудобный, неуклюжий стул; на самом
краю сиденья - небрежно брошенная трубка и сверток с
готовым рассыпаться табаком. Одинокий стул в пустой
проходной комнате с облупленной штукатуркой стен, к
тому же выталкиваемый из этой комнаты покатым, па¬
дающим вперед на зрителя полом с грубыми, покороб¬
ленными половицами. (Аналогией к этому натюрморту
могут служить автопортреты Ван Гога арльского перио¬
да - недоверчивые, затравленные, неприютные, напи¬
санные нервным, вибрирующим от внутреннего напря¬
жения мазком.)
Натюрморт “Кресло Гогена” изображает удобное,
красивое, любовно раскрашенное в разные цвета крес¬
ло, вальяжно расположившееся на ковре в просторной
комнате; на его сиденье - свеча и раскрытая книга.
Пятно света на стене подобно солнечному диску или
сиянию звезды - любимый образ Ван Гога. Возможно,
это намек на светоносность искусства Гогена, на его,
для Ван Гога недосягаемость, царственность. Пышно
раскрашенное кресло на ковре как наивный в своей не¬
посредственности намек на трон. Два эти натюрморта
поры несложившейся дружбы и неосуществившегося
сотрудничества столь непохожих друг на друга лич¬
ностей - арльская страница автобиографии Ван Гога.
Ван Гог сам говорил о необходимости предельной
откровенности самораскрытия в искусстве. Он добивал¬
ся “не сходства, но страстного выражения” (из письма),
до конца переливая свое внутреннее Я в изображаемые
вещи и через вещи общаясь с миром. Изображение под¬
солнухов играет в творчестве Ван Гога ту же роль, что
изображение яблок для Сезанна. Сезанновское яблоко -
некая совершенная замкнутая первоформа - метафора
независимого бытия в себе. Подсолнух у Ван Гога -
воплощение самоизлучения (“страстного выражения”),
направленного вовне стремления - иногда восторженно¬
156
радостного, на пределе внутреннего ликования, но
чаще мучительного, бессильного стремления слиться
с миром. В одном из натюрмортов этой серии - золотые
головы срезанных подсолнухов на земле, на фоне неба
наедине с землей и небом; их стебли, как простертые
руки, как порыв к небу - и невозможность оторваться
от земли.
В другом натюрморте на ту же тему желто-золо¬
тые цветки лежат как два солнца, упавшие с неба. Жел¬
тые (любимый цвет Ван Гога, одновременно и радостно
торжествующий, и пронзительно болезненный) на фоне
яркого синего неба (падение Фаэтона? Крушение соб¬
ственных надежд? Отчаяние?).
В натюрмортах Ван Гога вещи изживают себя,
становясь лирическим эквивалентом авторского Я. Они
трепещут всеми нервами, они переживают вместе с че¬
ловеком и за человека. При этом они утрачивают свое
независимое существование, свое, внешнее человеку,
самобытие.
Эта линия развития натюрморта продолжается в
искусстве XX столетия во всех сложных перипетиях
его трансформаций. Так, натюрморт Сутина “Туша” -
парафраза рембрандтовской картины на ту же тему, но
без его сострадающего драматизма и евангельских ассо¬
циаций - воспринимается как душераздирающий
вопль протеста разодранного, искалеченного тела на
фоне пожара, крови, мирового катаклизма. У Энсора в
“Натюрморте со скатом” теряющее форму, растекаю¬
щееся тело ската пугающе антиэстетично в своем аме¬
боподобном человекоподобии.
Двадцатому столетию XIX век представлялся от¬
носительно благополучным, прагматичным, верящим в
прогресс. Но XIX век был веком с больной совестью -
достаточно вспомнить Ван Гога и Достоевского. Натюр¬
морты Сутина и Энсора - это изживание в XX веке ду¬
шевных самобичеваний предшествующего столетия.
XX век оказался менее сострадающим, более жестоким
и равнодушно опустошенным.
В натюрмортах Сезанна и Ван Гога, у каждого по-
своему, но одинаково отчетливо, обнаруживается по¬
степенное сокращение дистанции между человеком и
вещью, дистанции, необходимой для ее (вещи) отстра¬
ненного, независимого восприятия. У Сезанна, а затем
у его последователей, вещи стремительно приближаются
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
157
к краю полотна и затем - как у Де Сталя, - словно прой¬
дя “сквозь” художника (“Стремится птиц полет // И
сквозь меня”, - Рильке), зависают плоскими, лишен¬
ными материальной субстанции силуэтами на стене за
его спиной. У Ван Гога вещи сливаются с художником,
с его внутренним Я вплоть до полной с ним нераздель¬
ности: “И древо растет // Не только там, // Оно растет
во мне...” {Рильке).
По-иному процесс развеществления вещей совер¬
шается в полотнах Матисса. Что такое его “Натюр¬
морт с баклажанами”? В сущности, это сплющенный,
лишенный третьего измерения интерьер, превратив¬
шийся в плоский экран, завешенный разного цвета и
по-разному разрисованными драпировками, на фоне
которых, зрительно с ними до неразличимости сли¬
ваясь, - непропорционально низкий столик с едва замет¬
ными в этом общем узорочье баклажанами, втянутыми
в общий узорчатый фон. Натюрморт, ставший интерье¬
ром, или, наоборот, интерьер, превратившийся в на¬
тюрморт? Таких промежуточных решений, такой игры
с вещами и пространством у Матисса множество.
В его полотне “Танец вокруг настурций” на фоне
изображена его собственная картина с хороводом обна¬
женных фигур; перед ней стоит ваза с настурциями,
однако композиция построена таким образом, что фи¬
гуры изображенные (картина в картине) выглядят
танцующими вокруг “реальной” вазы с цветами. В этой
сознательно сотворенной пространственной двусмыс¬
ленности разные слои изображенной реальности как бы
постоянно меняются местами: ваза оказывается втяну¬
той в иллюзорное пространство картины с танцующими
фигурами и, наоборот, “виртуальные” фигуры начина¬
ют кружиться вокруг “реальной” вазы.
В матиссовском полотне “Танжер. Вид из окна”
оконный проем почти совпадает с картинной плоско¬
стью, внутреннее и внешнее пространство слились во¬
едино, а вещи на подоконнике существуют на грани
этих пространств, не принадлежа ни одному, ни дру¬
гому - в ничейном пространстве; в сущности, их как
бы и нет, они не воспринимаются как предметы, ско¬
рее, это просто обозначение предметов, намек, след их
пребывания.
Игра в пространственное бытие/небытие пред¬
метов - одна из важных тем в поэзии Бродского. В его
158
стихотворении “Посвящается стулу” проигрывается
близкая ситуация:
Стул, что твой наполеон,
красуется сегодня, где вчерась.
Что было бы здесь, если бы не он?
Лишь воздух. В этом воздухе б вилась
пыль. Взгляд бы не задерживался на
пылинке, но, блуждая по стене,
он достигал бы вскорости окна;
достигнув, устремлялся бы вовне,
где нет вещей, где есть пространство, но
к нам вытесненным выглядит оно.
Пространство в матиссовском натюрморте “выгля¬
дит вытесненным” в интерьер, в комнату, вещи же на по¬
доконнике - “втиснутыми” в пространство за окном.
С еще большей очевидностью не вытеснение, но
исчезновение предметов, их пропажа воплощена в его
полотне “Черный интерьер”; о нем хотелось бы сказать
словами Ю. Лотмана о стихах Бродского: “Пространст¬
во, сплошь составленное из дыр, оставленных исчез¬
нувшими вещами”. В “Черном интерьере” вещи, так
же, впрочем, как и человеческие фигуры, приравнен¬
ные в этом смысле к вещам, превращаются в контуры,
по мере их отступления в несуществующую глубину эти
контуры становятся все более пустыми.
Вещь на подоконнике, в ничейном пространстве,
на границе, сжатая, расплющенная взаимным напором
внутренней и внешней среды, - мотив, возникающий в
полотнах Шагала и других художников XX века.
Но натюрморт переживает еще одну, может быть
самую беспощадную, метаморфозу: совершается рас¬
пад, раздробление предмета, его формы, даже его си¬
луэта, его контура - т. е. наиболее сущностных его при¬
знаков. В “Натюрморте с бутылкой” Пикассо предмет
расчленяется на отдельные составляющие его плоско¬
сти, начинает на глазах распадаться, и художник строит
из этих освободившихся плоскостей совсем иной, бес¬
предметный предмет, в котором отдельные его части
остаются лишь как воспоминание о прежней, некогда
существовавшей вещи. Пикассо утверждал, что его
картина - “итог ряда разрушений”. Но если Пикассо,
разрушая целостную форму предмета, создает из его
частей некую новую целостность, в которой сохраняется
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
159
воспоминание о первоначальном облике предмета, его
распознаваемый след, то в натюрморте на ту же тему
у Хуана Гриса - все разбито на мелкие, сброшенные
в кучу осколки, из которых уже невозможно, даже
мысленно, восстановить изначальную фрму. Такой на¬
тюрморт - это, по меткому выражению Иннокентия
Анненского, “сор цивилизации”5.
Может быть, особенно остро воспринимается этот
нигилистический пафос разрушения (“мы все взорвем,
мы все разрушим”), когда подобной варварской процеду¬
ре подвергается один из самых тонко и совершенно
устроенных / настроенных предметов - скрипка, не
только сама по себе являющаяся произведением высоко¬
го мастерства, но и олицетворяющая высокую гармо¬
нию. Не случайно именно скрипка особенно часто под¬
вергалась форморазрушающей экзекуции, прямо-таки
яростной атаке со стороны авангардистских художников
первых десятилетий XX века. В натюрмортах Пикассо,
Брака, Поповой расчлененная на куски, она едва видна,
часто унижена оскорбительным соседством со случай¬
ными обрывками газет. К подобным натюрмортам хочет¬
ся отнести анненское: “Сердцу скрипки было больно”.
Предмет должен был пройти чистилище абсолют¬
ной беспредметности, превратиться в чистый знак фор¬
мы, линии, цвета в полотнах Клее, Мандриана, Ротко,
чтобы возродиться в ином качестве. В каком - покажет
будущее. Будем надеяться, что это возрождение вещи в
искусстве не ограничится бесконечным повторением
консервных банок в творениях Уорхола или инсталля¬
циями в виде мусорных свалок.
Не хотелось бы заканчивать это повествование о
вещах в натюрморте пессимистическими строчками
Бродского:
Внутри предметов - пыль,
прах. Древоточец - жук
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобство для рук...
Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт...
Портрет и натюрморт, далекие друг от друга в об¬
щей системе жанров, развивавшиеся не синхронно,
160
каждый согласно собственной логике, они полярно раз¬
ведены по самому предмету изображения: живое чело¬
веческое лицо, находящееся в центре художественно¬
смыслового пространства - и мертвый предмет, состав¬
ляющий его периферию. Но, как это ни парадоксально,
начиная с определенного исторического момента - ска¬
жем, с последней трети XIX века - пути их начинают
сближаться и в конце концов в XX веке не только скре¬
щиваются, но и странным образом сливаются. Портрет
опредмечивается, овеществляется, постепенно осво¬
бождаясь от черт лица, становясь “пустым овалом”
(у Де Кирико), “дырой в пейзаже” (у Дали), вазой
(у Клее) или стулом (у Матисса).
Именно стул среди прочих окружающих человека
вещей стал наиболее адекватной метафорой портрета,
стул - как особенно близко, интимно связанная с чело¬
веком вещь в его каждодневном окружении, самой фор¬
мой своей воспроизводящая позу сидящего человека.
Начиная с портретных стульев Ван Гога эта тема входит
в искусство XX века, сливая воедино жанр портрета и
жанр натюрморта. Ибо стулья Ван Гога в такой же мере
натюрмортны, в какой и портретны.
В разделе о портрете была предпринята попытка
показать, как из незаконченного “Портрета Кати” воз¬
никает у Матисса рокайльное кресло с букетом цветов
на пустом сиденье. Портрет преображается в натюр¬
морт. Но эту метаморфозу можно с одинаковым правом
прочитать и в обратном порядке: как из кресла с буке¬
том цветов на коленях рождается портрет. Метафора
обратима.
В “Танце вокруг настурций”, этом своеобразном
интерьерном натюрморте, расположенный в самом
углу полотна, как бы готовый исчезнуть из картины
пустой стул воспринимается как знак или, точнее, об¬
раз незримого присутствия художника или, может
быть, его зримого отсутствия. Этот стул, повторяющий¬
ся и в других картинах Матисса, - стул, с которого
только что встали, сохраняющий привычную позу
сидевшего, несомненно, автопортретен в той же мере,
в какой автопортретен “Стул” Ван Гога. В картине
“Танец вокруг настурций” возникает даже некий скры¬
тый диалог: отодвинувшись в угол, стул смотрит со
стороны на вазу с настурциями и на картину, которая,
в свою очередь, смотрит на опустевший стул6.
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
161
Если портрет на определенной стадии своего раз¬
вития (трудно сказать, является ли она заключитель¬
ной или предполагает новую метаморфозу) опредмечи¬
вается, то натюрморт на той же стадии странным обра¬
зом очеловечивается. Полярная противоположность
живого и мертвого стирается. В натюрморте Матисса
“Декоративная фигура” женщина, сидящая на фоне
пестрого ковра, может восприниматься и как террако¬
товая статуэтка, и как живая натурщица, принявшая
классическую позу статуэтки, тем более что масштаб ее
никак в картине не определен.
Почему “...бегущая девушка с неубранной гривой
похожа в профиль на реку? Или спящая на ложе подоб¬
на камню? Или с поднятыми руками похожа на дере¬
во?..” (И. Бродский).
Примечания
1 “Тихую” (тайную) жизнь вещей можно увидеть и в картине
Веласкеса “Продавец воды”. Драматургия ее построена не
только на взаимоотношениях трех персонажей, но и на не¬
слышной “беседе” сосудов, расположенных на переднем
плане: большого, округлой, полной формы, наполненного
водой; сосуда смятой, пустой формы; и прозрачного, игра¬
ющего влагой бокала. Искусно срежиссированная тема во¬
ды - в различных ее ипостасях. Крупная монументальная
фигура главного продавца прочитывается как своеобраз¬
ный alter ego торжественно выступившего вперед глиняно¬
го кувшина; хрупкость небольшого прозрачного сосуда в
руках мальчика - столь же хрупкого юного существа - при¬
дает особую, почти обрядовую значимость просвечивающей
сквозь стекло влаге; а несколько отодвинутая вглубь, по¬
груженная в тень, едва различимая фигура третьего персо¬
нажа оказывается композиционно снятой вместе со смя¬
тым бидоном, образующим как бы антиформу, антисосуд.
Своеобразная притча о полных и пустых сосудах, возмож¬
но, заключающая в себе некую поучительную мораль.
Натюрморт на тему тщеты всего земного (vanitas), с
полным набором значимых предметов (свеча, зеркало, че¬
реп, книга), входит в картины Жоржа де ла Тура, изобра¬
жающие кающуюся Магдалину. При этом фигура Магда¬
лины, застывшая, одеревенелая, сама становится состав¬
ной частью натюрморта.
162
Ср. его же прозаические строки: «Не знаешь ли ты часом,
сколько стоит день? Понимаешь ли, во сколько обходится
каждый час? Задумываешься ли ты над драгоценностью
времени?.. Мудрец лишь тот, кто каждый день своей жизни
проводит так, как если бы этот день мог стать его последним
днем... Лик смерти - лицо каждого из вас, и все вы - самим
себе смерть. Череп - это мертвец, лицо - это смерть. То, что
вы называете “умереть”, - на самом деле прекратить уми¬
рать, то, что вы называете “родиться”, - начать умирать, а
то, что зовете вы “жить”, и есть умирать... Если бы вы это
постигли, каждый из вас вседневно созерцал бы смерть
свою в себе самом, а чужую - в другом, и узрели бы вы все,
что ваши дома полны ею и в обиталище вашем столько же
смертей, сколько людей» (“Сон о преисподней”).
3 Примером подобного возведения букета цветов в высо¬
чайшую степень смыслов и образов до полной утраты
ими первоначальной сущности, может служить стихо¬
творение Заболоцкого, написанное уже в 50-х годах
ушедшего столетия:
Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха
И огней багровых хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят, и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей...
4 Ср. стихотворение Заболоцкого 1928 года - “Пекарня”:
В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней...
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом...
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад,
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
163
5 О “соре цивилизации” писал Крыжановский: “Многое мно¬
жество ненужных и несродных друг другу вещей: камни -
гвозди - гробы - души - мысли - столы - книги свалены
кем-то в одно место: мир. Всякой вещи отпущено немножко
пространства и чуть-чуть времени: столько-то дюймов в
стольких-то мигах” (“Катастрофа”. 1919-1922). Интересно
привести для сравнения цитату из сочинения Альберти
“Intercenali” начала столетия XV. Речь идет о путешествии
“на тот свет” - комедийно сниженная ситуация паломниче¬
ства Данте в “Божественной комедии”. У Альберти один из
участников диалога - Либрипета - рассказыает о свалке, в
которую превращаются на том свете все “вещи” и все дела
человеческие: “...Все империи там свалены в одну кучу...
Все это похоже на огромный пузырь, наполненный лицен¬
зиями, всякого рода изобретениями и выдумками, звуками
рожков и труб. Ближе к краям разложены благодеяния в
виде рыболовных крючков, сделанных из золота и серебра;
немного подальше - свинцовые крылья. Мне сказали, что
это - человеческие достоинства. Затем - монеты и обгоре¬
лые пни, это любовь; наконец, бесчисленные имена граж¬
дан, начертанные на слое пыли, - это богатства... Невдале¬
ке от этого места поднимается высоченная гора, где, как
мне сказали, кипят, словно в огромном котле, все желания
и надежды. Вокруг горы - множество обетов и молитв, воз¬
носившихся людьми богам. А на вершине горы время от
времени взрывается какая-либо надежда или желание -
и исчезает бесследно”.
Свалка XV века - это мусор “потусторонний”, пред¬
ставляющий собой материализацию абстрактных поня¬
тий и моральных категорий - своеобразная развернутая
метафора средневековой темы - memento mori. Свалка, о
которой говорит Крыжановский, - свалка “ненужных ве¬
щей”, оставляемых на земле поколениями людей.
Ренессансная свалка наталкивает на философские раз¬
думья о смысле жизни и смерти; современная свалка,
свалка наших дней - о срочной необходимости чистки
земного, а также надземного пространства от захламлен¬
ности ненужными, вышедшими из употребления вещами,
отходами цивилизации. Вещи загромождают вселенную,
встает проблема не столько производства товаров, сколько
уничтожения, захоронения их. Мир становится мусорной
свалкой.
На протяжении столетий вещь была своеобразным кон¬
денсатором времени, человеческого времени. Передаваясь
164
от поколения в поколение, вещь свидетельствовала о не-
прерываемости семьи, рода, в конечном счете, человечес¬
кой истории. Вещь служила временной эстафетой, кото¬
рую одно поколение передавало следующему. Фамильная
кровать, в которой рождались, любили, рожали, умирали,
снова рождались многие поколения; драгоценности, пла¬
тья, кружева, белье, посуда, наконец - дома не просто пе¬
реходили от одного владельца к другому, но бережно
и торжественно передавались от отца к сыну, от сына -
к внуку, от внука - к правнуку... “Вещи жили дольше сво¬
их владельцев, человек существовал под взглядом вещей”
(В. Топоров). Вещь была свидетелем, соглядатаем челове¬
ческой жизни.
Постепенно ситуация меняется. Уже в XIX веке вещь
как свидетельство непрерывности существования семьи,
рода превращается в просто “старинную вещь” - то есть в
старую, странную, любопытную, в исторический доку¬
мент, в предмет коллекционирования, изучения. Из своих
рук семьи вещь переходит в чужие руки собирателя, по¬
степенно обезличивается, сиротеет, превращается в то¬
вар, не аккумулирует в себе память семьи, рода. Вещь вну¬
тренне опустошается под равнодушным взглядом владель¬
ца, быстро устаревает, надоедает, выходит из моды, к то¬
му же делается из все более дешевых, все менее долговеч¬
ных материалов, быстро приходит в негодность, выбрасы¬
вается. Но парадокс состоит в том, что вещи, утратившие
свою долговечность, свою способность конденсировать
время, свою внутреннюю весомость, вещи, выбрасывае¬
мые на свалку и постоянно заменяемые другими, приобре¬
тают над человеком особую, метафизическую власть. Ве¬
щи начинают настойчиво “окликать” (Анненский) челове¬
ка, требовать к себе внимания, все новых и новых усынов¬
лений, приобретений, замен. Они словно дерутся друг с
другом, выталкивают прежние, еще не успевшие соста¬
риться, чтобы стать на их место, а затем, еще скорее, усту¬
пить это место другим, нового поколения, новой серии, но¬
вой даты выпуска. Возникает чехарда вещей, подавивших
человека. Прежняя гуманистическая формула: “человек -
мера всех вещей” сменяется формулой: “вещь - мера всех
людей” (Хайдеггер).
М. Эпштейн выдвинул идею создания музея вещей,
простых, каждодневных вещей, “бывших в употребле¬
нии”, музея, в котором человек был бы представлен свои¬
ми вещами. В сущности, это был бы своеобразный натюр-
Портрет - и натюрморт: человек и вещь
165
мортный портрет человека нашего времени. Идея пара¬
доксальная, но чрезвычайно симптоматичная. «Само про¬
тивопоставление “вещное” и “человеческое” условно в
рамках той “чело-вещной” общности, которая, по сути,
так же нерасторжима, как тело и душа...» (М. Эпштейн).
Об этом же грустное стихотворение современного поэта
Вениамина Блаженного:
Беспризорные вещи умерших людей,
Те, что пахнут, как пылью, тоской,
Попадают к старьевщику или в музей
И на свалке гниют городской...
Беспризорные вещи, что помнят живых,
Их движенья, привычки, тела...
Сколько время им ран нанесло ножевых
И прикончило из-за угла...
Беспризорный халат, беспризорный жилет,
На краю одиноком стола,
Беспризорная трубка - и пыль на столе,
И - щепоткою - пепел, зола...
Беспризорные вещи как вестники бед,
Их молчание, их серизна...
Что-то грозное есть в их бездомной судьбе,
Что-то вещее, ждущее нас.
(1940-е)
В наши дни совершилось то, о чем еще несколько деся¬
тилетий назад писалось лишь в научной фантастике: люди
начали жить в мире “умных” вещей, которые сами за них
думают. Человек не испытывает даже необходимости в не¬
посредственном контакте с вещами, ему нужно только на¬
жать кнопку дистанционного управления. Вещь, которая
всегда существовала в непосредственном соприкоснове¬
нии с человеком, которая оживала в его руках, становится
неприкасаемой, почти абстрактной.
У Бродского: “Меня там больше нет. // Означенной пропа¬
же // дивятся, может быть, // лишь вазы в Эрмитаже”.
Мир внутри
и вне стен:
интерьер
и пейзаж
в европейской
живописи
XV-XX веков
Как оградить человеческое жилье
от грозных потрясений,
где застраховать его стены
от подземных толчков истории.
О. Мандельштам
Мир внутри - и вне стен; Дом -
и не Дом; сами эти понятия скла¬
дываются постепенно и полу¬
чают воплощение в живописи не
ранее эпохи Возрождения, то
есть в XV веке.
Человек античный жил в
природе, как в доме, более того -
жил вместе с природой, ее ритма¬
ми, ее дыханием, жил как при¬
рода и как природа рождался и
умирал.
Листья - одни на земле
рассеваются ветром, другие
Зеленью снова леса одевают
с пришедшей весною.
Так же и люди: одни
нарождаются, гибнут другие.
(Гомер)
Не было Дома - и Природы,
был единый Космос. Моделью та¬
кого Космоса могут служить так
называемые дипилонские вазы
VII века до н. э. В архаических
культурах сосуд был связан с ри¬
туалом. В такой вазе могли хра¬
нить зерно - символ жизни; но
такой сосуд мог служить и над¬
гробьем, и урной для праха умер¬
шего. Жизнь и смерть ритуально
совмещались в едином объекте, по¬
вторяя природные ритмы: “одни
нарождаются, гибнут другие”.
Сосуд как бы воплощал в себе тай¬
ну бытия - человеческого и при¬
родного. Сама форма его являла
167
модель мироздания. Античные философы уподобляли
вселенную сосуду, наполненному водой, или яйцу; зем¬
лю же считали цилиндрической. Более того: “Небесный
порядок, - утверждал Анаксагор, - возник благодаря
вечному вращению”. В сущности, Божественный Перво-
двигатель мыслился в образе Гончара, вращающего со¬
суд на гончарном круге. Или наоборот - гончар, создаю¬
щий сосуд, ритуально воспроизводил творческий акт
Божественного Перво двигателя. Ваза, таким образом,
строилась по образу мироздания: вечно вращающийся
яйцеобразный Космос, облекающий цилиндрическую
Землю1. Покрывающий вазу орнамент обозначал перво¬
элементы этого мироздания: меандр - знак воды; свасти¬
ка (геометризированное изображение птиц?) - знак воз¬
духа; круг - знак неба (солнца); змееподобные волнис¬
тые линии (или изображения змей) - олицетворяли зем¬
лю. И в этот природный Космос включались животные
(чаще всего кони) и человек. На подобных вазах часто
изображались погребальные колесницы и сцены оплаки¬
вания покойника, ибо смерть - важнейший акт жизнен¬
ного пути, завершение жизненного цикла - окончатель¬
ное погружение человека в мир природы, приобщение к
ее ритмам.
В VII-VI веках до н. э., когда складывается в вазо¬
писи так называемый чернофигурный стиль, строгие
формы геометрики уступают место формам органичес¬
ким. В росписи превалируют растительные мотивы, изо¬
бражения животных, людей; но чаще - промежуточных
существ; человеко-зверей. Мир природы и мир человека
сливаются в труднорасчленимое целое. Раздельного
представления о пространстве для человека и простран¬
стве природы не существует, но есть образ мира, заклю¬
ченного в некую архитектоническую формулу, как в
невидимые, но ощущаемые стены. Чернофигурная ваза -
это уже не образ вечно вращающегося космоса, в кото¬
ром вечно крутятся отдельные первоэлементы мирозда¬
ния; теперь это упорядоченная вселенная, как бы оста¬
новленная, утвердившаяся структура мира:
Вот пред тобою горячее и лучезарное солнце,
Вот и бессмертная высь, сиянием дня залитая,
Вот и дождем нисходящая, темная, хладная влага,
Вот и в земле сокровенное твердое мира начало.
(Эмпедокл)
168
Один из шедевров греческой вазописи - чернофи¬
гурный килик, расписанный Экзекием. Это миф - и,
как всякий миф, он полисемантичен. Сценарий пер¬
вый, сюжетный: Дионис, бог вина: “как появился он
близ берегов пустынного моря”. За ним приплыли раз¬
бойники на “крепкопалубном судне”. Они хотели свя¬
зать бога, чтобы получить выкуп.
Но не могли его узы сдержать...
...Восседал он спокойно,
Черными он улыбался глазами...
Ветер парус срединный надул, натянулись канаты,
И совершаться пред ними чудесные начали вещи...
Сладкое, прежде всего, по судну быстроходному всюду
Вдруг зажурчало вино...
Вмиг протянулись, за самый высокий цепляяся парус,
Лозы туда и сюда, и в обилии грозди повисли...
(Из так называемых гомеровских гимнов)
Разбойники, согласно мифу, испугались, попры¬
гали в море и превратились в дельфинов.
Но кроме сюжетной стороны есть и другая, образ¬
но-метафорическая, причем метафора творится в самом
процессе использования сосуда. Килик - это чаша для
вина, налитое вино создавало зрительный образ “вин¬
но-черного моря”, которое колебалось оттого, что чащу,
держа в руке, невольно старались повернуть; посколь¬
ку изображение расположено асимметрично по отноше¬
нию к ручкам килика, потребность повернуть его долж¬
на была возникнуть почти инстинктивно. Кругообразно
построенная композиция, усиленная поворотом чаши в
руках того, кто собирался поднести ее ко рту, предвари¬
тельно сбросив ритуальным жестом несколько капель в
жертву богам, создавало зрительно ощутимый образ
“океана в себе же текущего кругообразно”. При этом си¬
дящий в дельфиноподобной ладье Дионис приобретал
черты бога моря, уподоблялся “Посейдону черновла¬
сому, объемлющему землю”. Все эти мифологемы со¬
здают эффект взаимопросвечивания: дельфины образно
уподоблены гребням волн, процветшая виноградная
лоза зрительно связана с образом неба, и поэтому окру¬
жающие ее дельфины оказываются похожими на летя¬
щих птиц. Но превратившаяся в развесистое, плодоно¬
сящее дерево виноградная лоза подразумевает землю,
из которой она вырастает. Пейзажа здесь не возникает,
Мир внутри и вне стен
169
но здесь поименованы, окликаются, скликаются все
природные стихии: вода, земля, воздух:
Святой эфир и ветры быстрокрылые,
Истоки рек текучих, смех сверкающий
Неисчислимых волн морских и мать сыра земля,
И солнца круг всезрящий...
(Софокл)
В сущности, Экзекий изображает то особое место,
где, как в незабываемой сказке Ершова, “небо сходится
с землею (Где крестьянки лен прядут, // Прялки на не¬
бо кладут)”.
Это особое место - горизонт, “где происходит дей¬
ствие всякого первобытного мифа” (О. Фрейденберг).
Если дипилонскую вазу можно рассматривать как
модель Космоса, то чернофигурный килик Экзекия -
это метафора природного мира, мира земного. Но в обо¬
их случаях ваза - это образ миро-здания, в котором
античный человек обитает как в доме. Дом для него -
весь мир, и весь мир - его Дом.
Такое отношение к сосуду, к вазе сохраняется и в
краснофигурной вазописи V века до н. э. Самая совер¬
шенная, идеальная форма вазы классической поры -
амфора. Построение ее антропоморфно так же, как
антропоморфно строение каждой античной колонны;
и одновременно форма амфоры обладает строгой архи¬
тектоникой, она как бы уподоблена храму - храму при¬
роды. Декор четко делит ее на три пояса: зона земли,
с ее венчиком тянущихся вверх, словно из почвы,
острых ростков, увенчанных узким фризом розеток
и листьев - орнаментальным аналогом растительного
покрова; средняя зона населена живыми существами -
людьми, животными, а также кустами и деревьями;
завершает это природное целое, этот созданный богами
Дом природы венчик вазы - одновременно и архитек¬
турный карниз, и небесный свод. Согласно античным
мифам, он подобен столу или тяжелой балке, которую с
трудом подпирал, не давая ей упасть, Атлант и кото¬
рую, как известно, пришлось некоторое время держать
на плечах Гераклу. В древнегреческой мифологии ант¬
ропоморфные представления о мироздании органичес¬
ки переплетались с образами архитектурными. Богиня
Земли Гея родила себе небо точно по размеру, чтобы оно
защищало ее (подобно кровле?) и чтобы одновременно
170
оно могло служить “прочным жилищем” для богов.
И, соответственно, - крышей для людей. Итак, мир
земной, мир природы - это жилище для человека, его
обиталище, его Дом.
На одной из ранних краснофигурных ваз изобра¬
жена женщина (или нимфа), завязывающая сандалию.
Она помещена на горлышке сосуда, между двумя руч¬
ками, словно укрывшись в гроте; внизу полоска расти¬
тельного орнамента - трава, на которой она сидит; свер¬
ху, над ее головой, венчик вазы, украшенный расти¬
тельным орнаментом - то ли плющ, то ли древесная ли¬
ства. Она находится в гроте или под сенью дерева. По
обе стороны, на внешней поверхности широких ручек
ее стерегут - или подстерегают - двое юношей или два
сатира. У Феокрита в одном стихотворении есть описа¬
ние вазы:
Только что сделана... резцом еще пахнет.
По ободку ее плющ с золотосткою смешанный вьется
Сверху, а ниже...
Вьется другая гирлянда.
А в середине их женщина - труд превосходный бессмертных.
Между землей и небом, в срединном пространстве
мира - прекрасная женщина, созданная богами. Это
звучит как сокращенная формула античного мифа о
сотворении мира. Такой же - не словесной, но зритель¬
ной - формулой воспринимается и эта роспись вазы с
нимфой, завязывающей сандалию.
Античную вазу населяют люди, животные и рас¬
тения. Они живут вместе, единой природной жизнью, в
едином пространстве. В этом мире без стен нет четких
границ между людьми, животными и растениями. Леса
населены получеловеческими существами - дриадами,
сатирами, кентаврами; реки - наядами.
Преследуемая Аполлоном Дафна легко превраща¬
ется в дерево, Нарцисс - в цветок. На росписи одной из
ваз женская фигура танцует не на фоне природы, не в
природе - но вместе с природой, - она словно пригла¬
шает к танцу гибкие ветки с листьями и бутонами. В
другой росписи - нимфа на качелях, которые раскачи¬
вает выскочивший из орнаментальных зарослей фавн;
качели стремительно несутся вперед, и нимфа кончи¬
ком ноги пытается коснуться тянущихся ей навстречу
орнаментальных веток с островерхими бутонами на
Мир внутри и вне стен
171
концах. Нимфа играет с одушевленной природой, и
природа играет с ней.
Это органическое единство природы и человека
к рубежу V и IV веков до н. э. начинает распадаться.
Изображение природы отслаивается от фигурных ком¬
позиций, составляя их фон. На вазовом рисунке конца
V века изображено похищение Гипподамии. Колесница
стремительно несется вдоль корпуса вазы, но не вместе
с деревьями, а мимо деревьев, которые остаются безу¬
частными к ее стремительному движению. Возникают
два разных пространства, по-разному разомкнутых; но
образа пространства, выделенного для человека, для
него предназначенного, образа Дома для человека антич¬
ное искусство не знало. Дом для античности - это дом
для богов, храм. Или это надгробная плита, которая ча¬
сто оформлялась в виде портала, входа в мир потусто¬
ронний, в Элизиум. Но такой портал, лишенный стен, -
лишь знак порога, границы между двумя пространст¬
венными зонами: миром живых и миром теней.
Наследница греков, римская культура также не
знала изображений в искусстве замкнутого простран¬
ства - образного аналога дома. Но если мир античного
грека был разомкнут и включал в себя всю природу и, в
пределе, весь космос, то для человека Древнего Рима
мир в идеале ассоциировался с государством, с Римской
империей, стремившейся покорить себе все народы.
Греческая модель центростремительна, это мир, тяготе¬
ющий себе. Мир древнего римлянина скорее агрессивно
центробежный, беспредельно расширяющийся. Мир
грека - архитектоничен; мир римлянина - лишен архи¬
тектоники. Древнегреческий космос подчинен закону
вечного вращения вокруг собственной оси; Рим разомк¬
нул это вечное круговое движение и прорвался в безгра¬
ничность. И тогда наступила новая эпоха мировой
культуры, сложилась новая религия, новое искусство -
новое представление о мире и о месте в нем человека.
Марк Аврелий, император-философ, живший во
II веке н. э., произнес отходную античной культуре:
“Время человеческой жизни - миг; ее сущность - веч¬
ное течение; ощущение смутно; строение всего тела -
бренно; душа неустойчива; судьба загадочна; слава
недостоверна. Одним словом, все, относящееся к телу,
подобно потоку, относящееся к душе - сновидению
и дыму. Жизнь - борьба и странствие на чужбине;
172
посмертная слава - забвение... Все человеческое - ми¬
молетно и кратковременно: то, что было вчера еще в за¬
родыше, завтра уже мумия и прах”.
Древний римлянин ощущал себя гражданином
необозримой Римской империи, которая, однако, суще¬
ствовала для него как некая виртуальная реальность,
границ ее он не мог охватить глазом, но представлял
себе в воображении.
Для человека средневекового не существовало да¬
же этого виртуального пространства, в котором римля¬
нин чувствовал себя полноправным гражданином.
Средневековый человек - это скиталец, его жизнь -
лишь временное на земле пребывание, странствие на
чужбине в постоянном ожидании жизни потусторон¬
ней, вечной. “Что такое человек?... мимоидущий пут¬
ник, гость в своем доме. Как помещается человек? Как
лампада на ветру” (.Алкуин, VIII век). Тема бездом¬
ности, точнее - антидомности - главный пафос пропо¬
ведей Христа: оставь дом свой и следуй за мной в моих
странствиях. В своей земной жизни Христос - странник,
апостолы - странники. Странничество, бездомность -
главный ценностный постулат средневекового челове¬
чества2. Понятие дома связывается не с реальным мес¬
том, выделенным из безграничного пространства мира
и предназначенным служить убежищем для человека в
его телесной ипостаси, но с пространством духовным -
внутренним убежищем каждого, домом души, замкну¬
тым от мира внешнего - и открытым Богу.
Идеальной моделью такого пространства - пре¬
дельно закрытого извне и предельно раскрытого, без¬
граничного внутри - явился раннехристианский храм.
Это был образ нового дома, дома для каждого - и одно¬
временно для всех верующих, Божьего Дома. Ранне¬
христианские богословы учили, что жить в старых, язы¬
ческих постройках - грех (хотя в реальной жизненной
ситуации древнеримские развалины активно использо¬
вались под жилье; и долго еще, вплоть до эпохи Воз¬
рождения, выламывали фрагменты античной архитек¬
туры для ремонта христианских цверквей; больше того -
просто превращали античные храмы в храмы христи¬
анские: пример тому - перепрофилированный римский
Пантеон); грех селиться в старых античных городах.
Делались попытки придумать новые города, попытки,
так и оставшиеся нереализованными. В сущности,
Мир внутри и вне стен
173
функцию нового, средневекового города выполнял
храм, служивший убежищем, сначала для приобщен¬
ных новой вере, позднее, в пору зрелого средневеко¬
вья - для всех горожан. Убежищем физическим - в мо¬
менты опасности - и, что не менее важно, - убежищем
духовным. Его важнейшая задача состояла в том, чтобы
собрать народ в единую симфонию хора. “Разве станет
человек врагом тому, с кем он вместе пел Богу?” -
писал Василий Кесарийский (IV век). Именно с хра¬
мом - но не с жилищем - связано средневековое пред¬
ставление о Доме. Но средневековый храм - это не толь¬
ко уменьшенная архитектурная модель средневекового
города; это модель средневекового миро-здания, в пря¬
мом значении этого слова: здания мира, мира, создан¬
ного Господом Богом, - в той же мере, как древнегрече¬
ская ваза являла собой модель мира античного. Но гре¬
ческая ваза - это предмет, на него можно посмотреть
извне, его можно потрогать, воспринять на ощупь, что
очень важно, поскольку, согласно Эмпедоклу (V век
до н. э.), именно осязание - “главнейший путь для вне¬
дрения веры в сердца недоверчивых смертных”.
Килик Экзекия можно взять в руки, повернуть,
даже пригубить, попробовать на вкус, выпить глоток
“океана, текущего кругообразно”. Античная модель
наглядна, доступна, и этой своей доступностью она спо¬
собна убедить “сердца недоверчивых смертных”. Сред¬
невековая модель закрыта извне, в храм должно про¬
никнуть, чтобы приобщиться заключенной в нем тай¬
ны - тайны его сакрального пространства. Значимой,
знаковой моделирующей является здесь не обращенная
вовне форма, но заключенное внутри этой тяжеловес¬
ной в пору раннего средневековья, огрубленной формы
внутреннее пространство, поражающее, по контрасту,
своим цветовым и световым сиянием, неожиданное,
как откровение, кажущееся необъятным пространство
интерьера. Рассчитанное не на осязание - но на восхи¬
щенное созерцание. Именно таковы интерьеры храмов
в Равенне, особенно крохотный, внешне непригляд¬
ный мавзолей Галлы Плацидии, снаружи производя¬
щий впечатление небольшой кирпичной постройки,
ассоциирующейся отнюдь не с церковным, но с каким-то
хозяйственным сооружением. Тесный, низкий интерьер
мавзолея Галлы Плацидии раскрывается вошедшему
как сияющий цветом синий небесный свод, украшен¬
174
ный многоцветными узорами и вспыхивающий блес¬
ком крупных камушков мозаики. Образ неба, явлен¬
ного взорам и поражающего своей непредсказан-
ностью, как внезапное озарение.
Для человека античности мир предельно овеще¬
ствлен, небо в нем столь же материально и столь же до¬
ступно осязанию, как и земная природа: “Все небо со¬
стоит из камней. Вследствие сильного круговращения
оно прочно держится, и если это движение прекратится,
оно упадет вниз” (Анаксагор). Позднее средневековые
мыслители высмеивали античные представления о небе
как о крыше, досягаемой не только зрению, но и осяза¬
нию смертных. Один из авторов XIV века, повествуя о
том, что было в давнюю пору, осуждает “негодные за¬
мыслы жалких людей, которые ...подставляют к Кав¬
казу Олимп, да еще громоздят на него Парнас, чтобы
оттуда достать небо”. Средневековое небо нельзя “до¬
стать”, оно доступно лишь созерцанию, как образ пре-
красносущного, зримый образ, сквозь который про¬
свечивает, являет себя человеческому восприятию
недоступное ему, незримое, трансцендентное небо.
“Когда-нибудь среди ясной ночи посмотри на несказан¬
ную красоту звезд... И если видимое так прекрасно, то
каково невидимое? Если величие неба превосходит
меру человеческого разумения, то какой ум сможет ис¬
следовать красоту прекрасносущного?” (Василий Вели¬
кий, IV век). Чтобы увидеть ее, нужно “смотреть на ма¬
териальный мир нематериальным взором” (Григорий
Нисский, IV век). Античный человек жил слитно с при¬
родой, воспринимая ее изнутри. В средние века впер¬
вые складывается ситуация не жизни в мире зем¬
ном, как в доме, но взгляд на красоту и величие мира
Божьего из земной бездомности. Для человека антич¬
ного понятие Дома распространялось на весь мир, поня¬
тия Не-Дома для него не существовало. Для средневе¬
кового человека He-Домом был весь земной, зримый
мир, Дом же приобретал характер незримого, вне-мир-
ного или, точнее, над-мирного, вне-пространствен-
ного и вне-временного существования.
Средневековое пространство в гораздо большей
степени, нежели античное, и гораздо более сложно
структурировано. В нем определяющую роль приобре¬
тает понятие дистанции и, соответственно, - простран¬
ственной и смысловой (ценностной) иерархии. И, что
Мир внутри и вне стен
175
особенно важно, средневековое пространство разомкну¬
то по вертикали, оно направлено снизу вверх - качест¬
во, незнакомое пространству античности, тяготевшему
к кругообразной замкнутости. Купол средневекового
храма и визуально, и символически воспринимается
как небесный свод, источник божественного света.
Пространственная модель интерьера средневеко¬
вого храма получила воплощение и в средневековой
живописи. В иконах очень часто изображается архи¬
тектура, но она никогда не связана с образом дома. Пер¬
сонажи не населяют зданий, они находятся на фоне их.
Средневековая живопись не знает пространства внутри
стену но лишь пространство перед стенамиу как, на¬
пример, в мозаике из церкви Св. Апполинария Нового в
Равенне (VI век) в сцене, изображающей “Отречение
апостола Петра”. Архитектура не впускает фигуры, она
выталкивает их наружу, где они существуют “как све¬
тильник на ветру”. Этот принцип сохраняется в живо¬
писи вплоть до эпохи Возрождения. В византийской
иконе XIV века, в сцене Благовещения, архангел Гав¬
риил, согласно Священному Писанию, явился Марии,
когда Она находилась в закрытом помещении. Однако в
иконе встреча происходит то ли перед зданием, то ли
среди отдельных фрагментов полуразрушенной или го¬
товой рухнуть, открытой лоджии. При этом здание, на
фоне которого помещена Мария, не складывается в
целостный объем. Отдельные его части - одновременно
и замкнутые, и разомкнутые, зияющие проемами, уви¬
денные то снизу, то сверху, то справа, то слева, - созда¬
ют образ предельной раскрытости: это дом, который
“И пространством не уловлен, // И ничем не обуслов¬
лен, // И ничем не ограничен”, - как говорится в сред¬
невековом песнопении. Бездомный Дом.
В иконе “Успение Марии” (Византия, XIV век)
пространство комнаты, где скончалась Богоматерь (тес¬
ная комнатка в жилище родных апостола Иоанна, при¬
ютивших Ее после распятия Христа), неизмеримо рас¬
ширяется, вмещает в себя и явившегося у Ее смертного
ложа Христа, и слетевшихся отовсюду апостолов, и
сонмы ангелов. Это интерьер, который “и в конечном
бесконечен”, интерьер, находящийся “Вне вселенной,
во вселенной... // Все отовсюду обнимая... // Он внут¬
ри вещей несдержан // И во вне их не извержен...”
(Хильдеберт Лаварденскийу XI-XII века). Его стены не
176
способны замкнуть в себе пространство комнаты, но
способны вместить весь мир. Это Дом как “невместимо-
го вместилшце”.
Находящееся в состоянии постоянной трансфор¬
мации средневековое пространство, все-охватываюгцее,
все-мирное, существующее “над вселенной - под все¬
ленной”, пространство, недоступное непосредствен¬
ному чувственному постижению, но открытое иррацио¬
нальному восприятию: “Измеряй небо не глазом, но ра¬
зумом, который при открытии истины гораздо вернее
глаза” (Михаил Пселл, XI век). Это мир воображаемый,
но имеющий вполне определенную зрительную форму¬
лу, мир, явленный человеку в системе знаков. “Бог яв¬
ляет себя людям в рисунке движений” (Ареопагитпики).
Мир, находящийся в состоянии постоянного чуткого
ожидания вестей сверху, настороженно прислушиваю¬
щийся к Слову Божьему. Мир, настроенный на прием.
Средневековый мир можно было изменить Сло¬
вом: молитва могла остановить солнце на небосклоне,
осушить море, сдвинуть гору, источить воду из камня,
низвергнуть с неба на землю манну небесную.
Тварность мира предполагала его конец: “Раз мир
имел начало, не сомневайся о конце”. Ожидание конца
“века сего”, конца мира, Страшного Суда - важная ду¬
ховная доминанта для человека средневековья. “Небо
осветится светом, а земля погрузится в великую бездну,
горы будут вздыматься на горы, холмы упадут на хол¬
мы, и высокие деревья низвергнутся в пропасть” (.Кни¬
га Еноха).
Постоянное напряженное ожидание не оправда¬
лось, конец всего мира не наступил. Но мир средневеко¬
вый кончился, хотя и не столь внезапно и не столь ката¬
строфично. Прекратился процесс всеобновлявшейся
миросозидательной активности, прекратился постоян¬
ный обмен информацией мира земного с миром небес¬
ным, с Космосом. Мир начал остывать, затвердевать - и
умолкать. Если у Дуччо, в сцене “Искушение Христа”,
горы громоздятся на горы, города проваливаются в без¬
дну, совершается некая композиционная катастрофа,
то у Джотто, в сцене “Возвращение Иоакима”, все вста¬
ет на свои места: горки устойчиво неподвижны, деревья
расставлены в строгом порядке, природа молчит, нет
божественного ветра - вестника слова Божия. Иоаким
слушает не ветер - он погружен в себя, он себя слушает.
Мир внутри и вне стен
177
Возрождение начинает строить новую модель
мира - не средневековый Божий храм, открытый небу
и вечно ожидающий знамения, но дом для человека,
вполне земной, сконструированный по законам не не¬
бесного, но земного притяжения. Поначалу этот земной
мир очень тесен. Все персонажи топчутся на узкой пло¬
щадке переднего плана. Пространство не развивается
вверх, как это было в иконах, но пока еще не уходит в
глубину. Синий фон, в отличие от мерцающего золото¬
го средневекового неба, воспринимается как плоскость,
перед которой художник строит легкие архитектурные
конструкции, напоминающие скорее игровые модели
будущих архитектурных сооружений, несоразмерно
тесные для помещенных в них, почти втиснутых, пер¬
сонажей Священной истории. Джотто словно проигры¬
вает композиционно-смысловую ситуацию простран¬
ства внутри - и вне стен, которая будет реализована
в итальянской живописи лишь в начале XV столетия.
И все же именно в живописи Джотто, и прежде всего
в его фресках капеллы дель Арена, подобных буду¬
щим ренессансным картинам, рядами размещенным на
стенах капеллы, впервые создается картинное про¬
странство, предназначенное для человека, простран¬
ство, пусть пока еще очень тесное, часто несоразмерно
малое - но пространство Дома.
Знаменательно, что процесс построения Дома на¬
чинается с пола.
У Джотто в его фресках в капелле дель Арена по¬
является не только устойчивый пол (вымостка), но и
стены, точнее, сценические выгородки, выделяющие из
синей безграничности фона островки пространства, тес¬
ного пространства дома, в котором - а не на фоне кото¬
рого - существуют персонажи. В ряде случаев эти мини¬
интерьеры имеют не только пол и стены, но также пото¬
лок - укрывающий их обитателей от средневековой
распахнутости вверх, в безмерность небес.
Пространство “внутри стен”, противостоящее
пространству внешнему, само понятие Дома как важ¬
нейшей доминанты мироустройства окончательно
складывается в эпоху Возрождения в Италии. Перефра¬
зируя строку Цветаевой, можно сказать, что искусство
Возрождения отказывается от средневековой “безмер¬
ности” и обращается к “миру мер”. Именно поэтому
переворот, совершившийся в искусстве XV века, был не
178
только великим обретением, но и ощутимой утратой.
Утратой мира больших величин, масштабов всемирнос-
ти, всеединства, всеодухотворенности Вселенной.
Для людей Возрождения мир, первоначально со¬
зданный Творцом, представал как недостаточно совер¬
шенный, в нем усматривали первый, предварительный
вариант, который предстояло улучшить* довести до со¬
вершенства: “Все, что появилось в мире после первого и
еще бесформенного творения, было открыто, произве¬
дено и совершено нами благодаря особой и выдающейся
остроте человеческого ума... Ведь это наши, то есть
человеческие, потому что сделаны людьми, все вещи,
которые мы видим вокруг - все дома, деревни, города,
все земные сооружения, которых так много и которые
так хороши”, - пишет Джаноццо Манетти (“Трактат
о достоинстве и превосходстве человека”, 1451-1452).
Знаменательно, что в этом манифесте, прославляющем
человека и его земное окружение, перечисляются дома,
города, даже деревни, но странным образом пропу¬
щены храмы.
Человек Возрождения, во всяком случае на пер¬
вом, кватрочентистском этапе, не столько размышлял
о тайнах миро-здания, сколько был озабочен насущны¬
ми задачами обустройства земного мира. Для Альбер¬
ти мир - это место для совместного проживания людей
на земле, оно должно быть приспособленным для них,
по возможности приятным, и его следует сделать безо¬
пасным3.
Средние века строили Храм Божий для всех, еди¬
ный Дом, который должен объединить “мимоидущих”,
богатых и бедных (“Всех, от вельмож до нищего слеп¬
ца // Всем вольный вход...”).
Человеку Возрождения чуждо хоровое начало, он
склонен сторониться людского множества, толпы, он от¬
стаивает свою отдельность, единственность. «Я - один, -
пишет в одном из писем Калуччо Салутати. - Я - не тол¬
па, не народ... гораздо лучше быть единственным, чем
множеством. Поистине единица, которую греки называ¬
ли выразительным словом “монада”, обладает большим
совершенством, чем любое другое число».
В живописи кватроченто тема Дома не случайно
реализуется как тема жилого интерьера - не для всех,
но для себя. Прежде всего - настилается пол. Альберти
в “Трактате о живописи” решительно заявляет, что
Мир внутри и вне стен
179
картину следует начинать с пола; затем возводятся
стены, наконец - помещение покрывается потолком.
Потолку придавалось не меньшее значение, нежели
полу - пол призван был создать твердую горизонталь¬
ную основу всей конструкции, утвердить ее на земле.
Потолок закрывал жилище сверху, защищая от неба -
от его трансцендентной безмерности - и одновременно
от неожиданных, непредсказуемых, часто губительных
капризов природы: “от палящего солнца и от низвер¬
гающихся с неба ливней”, от “натисков стремительной
бури” (Альберти).
Комнаты, поначалу с легкими, подвижными
перегородками, как в некоторых картинах Уччелло,
постепенно приобретают четкую фиксированную пла¬
нировку. “Попытка комнаты” в живописи первой поло¬
вины столетия завершается ее обретением в творчестве
мастеров зрелого кватроченто. В “Тайной вечере” Кас-
таньо возникает вполне законченный, сложившийся
интерьер с правильно изображенным в перспективе по¬
лом, потолком и с солидными облицованными мрамо¬
ром стенами, даже с намеком на потенциально суще¬
ствующую четвертую стену, окончательно замкнувшую
внутреннее пространство дома так же, как замыкали
его мощные каменные стены строившихся в эти годы
каменных палаццо.
Пространство внутри стен - образная метафора
дома - одна из основных, если не основная, тема в
живописи кватроченто. Она проходит не только как
прямой сюжет в сценах “Благовещения”, “Рождения
Марии”, “Тайной вечери”; как композиционно-смысло¬
вой подтекст она возникает во многих, казалось бы,
сюжетно несовместимых с этой темой изображениях.
У Мазаччо в панно “Троица” в церкви Санта Мария
Новелла во Флоренции, написанном в первой четверти
XV века и ставшем своеобразным манифестом нового
искусства, этот традиционный по иконографии, вне-
пространственный, сакрально-знаковый сюжет вме¬
щен в тесный интерьер, зажатый мощными стенами,
плитами пола и тяжелым сводчатым потолком. На про¬
тяжении всего XV столетия происходит свеобраз-
ная приватизация наружного пространства, его одо¬
машнивание4.
В открытые площади, улицы или сады вдвигают¬
ся лоджии. Лоджия - это как бы полу интерьер, наполо-
180
вину раскрытая комната, пространство внутреннее,
частично захватившее, завоевавшее часть внешнего
пространства. В лоджии есть пол и потолок, а также
одна или даже две стены. Это как бы готовая сформиро¬
ваться комната, вынесенный наружу интерьер.
С темой дома тесно связана и тема города. Альбер¬
ти в трактате “Десять книг о зoдчecтвe,, - не только ар¬
хитектурном, но и мировоззренческом манифесте вре¬
мени - настаивал на том, что город, в сущности, должен
рассматриваться как большой дом.
В искусстве средних веков город, как правило,
изображался издали - как цель паломничества, как
символ духовного убежища. Даже увиденный вблизи
(как, например, у Джотто в церкви Сан Франческо в
Ассизи), он изображался как труднодоступная кре¬
пость с мощными воротами, в которых всегда тесно, фи¬
гуры людей с трудом протискиваются в их узкие и не по
росту низкие проемы - как в “игольное ухо”.
В живописи XIV века совершается постепенная
десакрализация города, его заповедная территория
начинает вскрываться. Во фресках Амброджио Лорен-
цетти “Плоды доброго и плоды дурного правления”
город увиден не снизу, с позиции недоступности -
но сверху, когда его пространство доступно и взгляду
зрителя, и людям, проникшим в его узкие, щелеподоб¬
ные улицы; однако дома стоят тесно, как бы защи¬
щаясь от вторжения.
В следующем столетии город изображают почти
всегда изнутри, как интерьер, как пространство, ар¬
хитектурно упорядоченное, построенное, с мрамор¬
ными плитами “бриллиантовых”, как их называли
флорентийцы, мостовых, с обширными залами пло¬
щадей, с выровненными рядами домов, образующих
стены улиц, с гостеприимно открытыми широкопро¬
летными арками, вытеснившими средневековые кре¬
постные ворота.
Идеальная формула городского интерьера запе¬
чатлена в архитектурных панелях, которые приписы¬
вают кругу Пьеро делла Франческа. Пустые площади
этих городских “ведут” создают образ ничем и никем не
нарушаемого, идеально правильного, геометрически
выверенного пространства как продукта чисто архитек¬
турного творчества. Пространства, не созданного Твор¬
цом, но выстроенного руками человека.
Мир внутри и вне стен
181
Это - мир внутри стен. А мир вне стен? Природа?
Человек Возрождения боялся естественной, дикой
природы, видел в ней угрозу своему обустроенному
миру. Во-первых, потому, что природа непредсказуема
и неподвластна человеку, неподконтрольна ему. “По¬
смотри на вечно меняющиеся небеса... Посмотри на
землю, которая то одета цветами, то отягощена плода¬
ми... то голая, лишенная листвы деревьев, то убогая и
мрачная подо льдом и снегом, покрывающим склоны и
вершины гор... Жаркие дни, холодные ночи... сумрач¬
ные вечера; порывы ветра, потом затишье, то прояс¬
няется, то вдруг начинается дождь, молния, гром -
и так без конца, вечные изменения” (Альберти). Цель
зодчества для Альберти, его главная задача - защита
“от палящего солнца, от низвергающихся с неба лив¬
ней”, “от леденящих бурь и метелей”, “от стремитель¬
ных вод”, “от хмурого и нездорового климата”, “от
густых лесов”, “от рек и озер”, от моря, “которое делает
воздух нечистым”. Главная задача архитектора - поис¬
ки здоровой, благоприятной местности. Альберти с
восторгом пишет об идеальном микроклимате, царя¬
щем в интерьере флорентийского собора: “...Здесь дер¬
жится постоянно... умеренная температура; на улице -
ветер, стужа, туман, здесь, в этом уединении, укрытом
от всех ветров, воздух теплый, без движения; на улице
порывы ветра и летом и осенью, здесь очень спокойное
убежище”. Укрощенная, прирученная природа, не су¬
лящая никаких неожиданностей, никаких опасностей.
В ней нет ничего, что может “нарушить стройный за¬
мысел зодчего”5.
Человек Возрождения борется с природой, стре¬
мится покорить, окультурить ее - или от нее отгоро¬
диться. В живописи это противостояние получило во¬
площение в композиционной разъятости пространств:
переднего плана, архитектурно организованного, - и
пространства естественного, природного, отодвинутого
в глубину.
В загадочной картине Джованни Беллини, назва¬
ние которой не сохранилось и сюжет не удалось расши¬
фровать, поэтому ее обычно называют просто “Аллего¬
рия”, эта разъятость пространств получила вполне на¬
глядное воплощение. Передний план представляет со¬
бой “стройный замысел зодчего” - терраса с полом, вы¬
ложенным мраморными плитами, в центре ее - апель¬
182
синовое дерево в вазе, вокруг играют путти, подбирая
упавшие с дерева на мрамор золотистые апельсины.
Вся эта идиллия отделена мраморной балюстрадой и
протекающей за ней рекой от заднего плана, где громоз¬
дятся нависающие, готовые рухнуть скалы, пещеры,
в которых ютятся отшельники, где бродят животные и
среди них - кентавр. Мир дикой природы, странный
мир, таящий опасность. Калитка балюстрады распах¬
нута, она ведет прямо в воды реки (“глубокие воды
Леты или воды Стиксовы”), отделяющие мир посю-сто-
ронний от мира поту-стороннего. По воде, за оградой,
шагает старец с мечом, похожий на апостола Павла, ох¬
раняя (?) этот мраморный мир переднего плана; второй
старец, похожий на апостола Петра, также стоя в реке,
оперся о балюстраду и смотрит с благожелательным ин¬
тересом на резвящихся путти. Какое бы содержание ни
вкладывал художник в свою картину, внутренний
смысл очевиден: противополагание двух миров - пре¬
красного мира культуры и пугающего, хаотичного
мира природы.
Гораздо более драматично проигрывается та же
композиционно-смысловая ситуация в картине Манте¬
ньи “Распятие”. Голгофа изображена в виде каменного
помоста с правильной кладкой - архитектура, вдвину¬
тая в хаос природы. Именно на этой каменной плат¬
форме разыгрывается евангельская драма, положив¬
шая начало Новой истории, Новой культуре, противо¬
стоящей природно-хаотическому прошлому. Туда, в
этот хаос спускаются воины, отыгравшие свою роль, а
сюда, на платформу с Распятием подимается, восходит
странная, загадочная мужская фигура. Антитеза куль¬
тура - природа дополняется и осложняется антитезой
историческое - внеисторическое.
В живописи кватроченто природа отодвигается в
третье измерение, на безопасную дистанцию; из среды
обитания она становится объектом созерцания. Как
правило, она изображается как вид в проеме арки, окна
или двери; заключенная в раму, подобно картине, она
выполняет роль украшения интерьера комнаты или го¬
родской площади. Альберти настойчиво советует архи¬
текторам учитывать и тщательно продумывать виды,
открывающиеся через архитектурные проемы зданий:
“Портики следует обращать на юг, горы на небольшом
отдалении очень приятны... на севере гора, располо¬
Мир внутри и вне стен
183
женная вдали, прекраснее всего, ее вид становится
блистающим и чудесным”, “море издали привлека¬
тельнее...”
В средние века гор опасались, предпочитая лю¬
боваться ими издали. И не только из-за трудностей
подъема. В горах, покрытых густыми лесами, водились
дикие звери, там прятались разбойники. В эпоху Воз¬
рождения на горы стали подниматься, чтобы полюбо¬
ваться открывающимися оттуда широкими панора¬
мами. Одним из первых, в самом конце XIV века, под¬
нялся на гору Джованни да Прато. Он описывает, как
“на высотах Апеннин... этом хребте Италии... продол¬
жал любоваться и не мог насытить жадного взора”, со¬
зерцая панораму, расстилавшуюся у его ног. Вслед за
ним на протяжении всего XV столетия подъем на горы,
“чтобы любоваться и насытить жадные взоры”, стали
совершать многие - даже папа-гуманист Пий II, кото¬
рый, страдая ногами, распорядился отнести себя на
гору в кресле.
В живописи точка зрения “с горы” - это не только
вид вдаль, но вид сверху, не только позиция отстране¬
ния, дистанцирования от природы, но и позиция господ¬
ства над ней. “Нам принадлежат земли, поля, холмы
долины, горы... Нам принадлежат реки и воды, потоки,
озера, болота, источники, ручьи, моря”, - заявляет в
своем программном сочинении Джаноццо Манетти.
Человек Возрождения находится по отношению к
природе, к миру вне стен, в позиции противостояния.
Он либо отстраняет природу, отодвигая ее в далевое из¬
мерение, либо стремится укротить ее, заключив в раму
и превратив в объект эстетического созерцания, в кар¬
тину; либо смотрит на нее сверху вниз, взглядом поко¬
рителя, собственника, господина; наконец - взглядом
преобразователя, создавая искусно организованную,
“улучшенную” по законам собственной, архитектурной
эстетики природу сада.
Этот идеальный земной мир, в котором природа
должна служить приятным украшением человеческой
жизни и не мешать человеку, не угрожать ему, - этот
мир Возрождения был миром без неба. В итальянских
картинах XV века поражает странная, почти стериль¬
ная пустота и бездейственное спокойствие небес. В не¬
бесах ничего не происходит, ничего не свершается. И
если появляются в нем облака, то благополучно-искус¬
184
ственной, условной, орнаментально правильной фор¬
мы. Особенно у Кастаньо и у Пьеро делла Франческа.
“Вы, отяжелевшие, удрученные, клонящиеся к
земле, не дерзаете взглянуть на небо, забыв о Художни¬
ке, создавшем Солнце и Луну, - взывал к современникам
на заре Возрождения Петрарка. - ...Подними взор к
Тому, кто украсил небо звездами, землю цветами...”
Спустя столетие Альберти в своем странном фило-
софски-сатирическом сочинении “Мом” изображает
небо, населенное античными богами, обитающими в об¬
ветшавших, полуразрушенных жилищах. Это небо рас¬
положено совсем низко, почти на уровне городских
крыш смертных и вполне доступно их нескромным
взглядам. Поэтому один из богов советует Юпитеру
пере-создать человека, повернув его вниз головой и
вверх ногами, чтобы он не мог глядеть на небеса, при¬
шедшие в полный упадок. Доведенная до абсурда кар¬
тина ренессансного мира с небом, которое заменяют
“крыши домов”.
Однако устроившийся с удобствами на земле, че¬
ловек Возрождения все острее ощущает тесноту создан¬
ного им рукотворного пространства. Святой Себастьян
в картине Антонелло да Мессина привязан к стволу за¬
сохшего дерева, выросшего (или установленного) среди
мраморных плит мостовой, в тесном окружении камен¬
ных зданий. Художник не изобразил веревок, стяги¬
вающих его тело, оно кажется скованным невидимыми
путами. Несоразмерно большая фигура святого выры¬
вается из тесного пространства застроенной площади и,
словно пробивая невидимую кровлю, высится над архи¬
тектурным окружением.
Алессо Бальдовинетти во фреске “Поклонение
волхвов” (во внутреннем дворике церкви Сантиссима
Аннунциата во Флоренции) изображает одинокого пас¬
туха, который, отойдя от группы поклоняющихся
Богоматери, отвернувшись ото всех (и от зрителя, к ко¬
торому обратился спиной), пристально вглядывается в
далекий горизонт.
Наконец, Боттичелли в картине “Мистическое
Рождество”, созданной в 1501 году, уже на грани XVI сто¬
летия, изображает разверзшиеся небеса и хлынувшие
на землю сонмы ангелов. Закрытое земное простран¬
ство кватроченто раскрылось вверх, пустое, молчав¬
шее небо наполнилось звуками радостных песнопений
Мир внутри и вне стен
185
ангелов, ведущих в небе хоровод; трое из этих небесных
посланцев спустились на самую кровлю лачуги, другие
смешались с поклоняющимися пастухами.
Гораздо менее драматично, нежели в Италии,
складывается соотношение интерьера и пейзажа в ис¬
кусстве так называемого Северного Возрождения -
в Нидерландах и Германии. Именно здесь, а не в Ита¬
лии, возникает замкнутое пространство интерьера - как
малый мир в себе. Итальянский интерьер XV века, в
сущности, не был замкнутым, он был пронизан компо¬
зиционным сквозняком: оконный или арочный проем,
расположенный, как правило, в центре, на основной
оси геометрической перспективы, раскрывал простран¬
ство в глубину, создавая зримое противополагание
близкого - и далекого, дома - и природы. Более того:
в построении архитектурной коробки комнаты часто
сохранялся след напряженной строительной актив¬
ности. В ряде случаев наружное пространство врыва¬
лось в помещение, в буквальном смысле слова пробивая
его стены, - как, например, во фресках Филиппо Лип¬
пи в соборе в Прато. Иногда это выражалось в отсут¬
ствии одной из боковых стен комнаты или в непосред¬
ственном соединении двух разных комнат, разделен¬
ных словно недостроенной стеной, но сведенных под
общую кровлю, как во фресках Гирландайо в церкви
Санта Мария Новелла. В “Благовещении” Пьетро Пол¬
лайоло изображены два смежных интерьера, непосред¬
ственно примыкающих друг к другу, но не скоорди¬
нированных, как бы находящихся еще в процессе
архитектурного становления. Причем впечатление
незавершенности строительного процесса усиливается
в картине благодаря тому, что фигуры Марии и архан¬
гела Гавриила оказываются не в этих комнатах, а перед
ними, словно на открытой строительной площадке.
Можно сказать, что интерьер в итальянской жи¬
вописи кватроченто находится в процессе активного и
напряженного сотворения; он еще продуваем ветрами,
еще не вполне защищен от внешних природных воздей¬
ствий, еще не освободился от строительных лесов, кото¬
рые для прочности ставятся художником со стороны
зрителя, намекая на потенциальную четвертую стену.
У Филиппо Липпи в его “Благовещении” в церкви Сан
Лоренцо эту четвертую стену обозначают колонна в
центре на самом переднем плане и находящиеся в той
186
же передней плоскости боковые пилястры. В “Тайной
вечере” Кастаньо на эту четвертую стену указывают
симметрично расположенные боковые поверхности тя¬
желой скамьи, на которой сидят апостолы.
Живопись Северного Возрождения не знает на¬
пряженной борьбы пространства внутреннего с внеш¬
ним пространством. Окружающая среда не врывается в
комнаты северных мастеров, в них не возникает компо¬
зиционных сквозняков, поскольку окно помещается,
как правило, не в центре, но на боковой стене, оно дает
свет, не распахивая помещения вовне. В отличие от
итальянских интерьеров, с их ровным, нейтральным
наружным освещением, у северян в комнатах неровно
по углам сгущаются плотные тени - свет, укрытый,
окутанный тенью, рождает образ зажищенности жили¬
ща, его пространственной сконцентрированности, его
закрытости.
В итальянской живописи XV века интерьеры -
вне зависимости от характера и смысла происходящих
в них событий - являли собой пространства профан¬
ные. В интерьерах северных мастеров сохраняется
отзвук средневековой сакральности. Образ Дома фор¬
мируется здесь не столько как антитеза средневековой
бездомной всемирности, сколько как результат ее по¬
степенного образного переосмысления.
Один из этапов такого переосмысления - картина
Рогира ван дер Вейдена “Распятие”. Все разновремен¬
ные и разнопространственные моменты евангельской
драмы вмещены в интерьер собора, изображенный по
правилам центрической (земной) перспективы, создаю¬
щей замкнутое пространство, расчитанное на единую
(земную) точку зрения.
В северном искусстве XV-XVI веков интерьер
встречается чаще всего в сценах “Благовещения”. В от¬
личие от итальянских мастеров кватроченто, любив¬
ших изображать встречу Марии с архангелом Гаврии¬
лом во внутреннем дворике или в лоджии (что давало
художникам возможность реализовать смелые архи¬
тектурные фантазии, игру плоскостей, проемов, кон¬
трастных сочетаний внутреннего и внешнего про¬
странства), северные мастера предпочитали закрытые
комнаты с игрой светотени и обилием предметов домаш¬
него быта, которым придавался аллегорический смысл.
Жилой интерьер в северной живописи представал как
Мир внутри и вне стен
187
замкнутый мир в себе, как своеобразная микромодель
большого мира, наполненного вещественными знаками
божественного всеприсутствия. Атмосфера особой,
средневековой духовности сохраняется и в тех случаях,
когда под влиянием итальянских образцов северные
мастера начинают применять композиционную форму¬
лу, построенную на контрастном столкновении мира
внутри - и мира вне стен. Так, Рогир ван дер Вейден,
изображая евангелиста Луку, рисующего портрет Бого¬
матери с Младенцем, помещает в центре, на втором
плане большое трехстворчатое окно или открытую лод¬
жию (сюжет сугубо итальянский, поскольку на севере
такие лоджии не были приняты). Однако раскрываю¬
щийся в этом световом проеме пейзаж не просто пред¬
ставляет собой вид вдаль, к горизонту, как в аналогич¬
ных композициях итальянцев, - он имеет сакральный
смысл: в глубине, между двумя колоннами, в компози¬
ционном и смысловом центре изображены сильно
уменьшенные перспективой две человеческие фигуры -
женская (со стороны Богоматери) и мужская (со сторо¬
ны евангелиста Луки). Это не случайно остановившие¬
ся прохожие, как у Антоне л ло да Мессина в картине
“Святой Себастьян”. Представленные со спины, глядя¬
щие вдаль, они не просто любуются природой, но благо¬
говейно созерцают явившуюся на дневном небе звезду и
падающий от нее луч. В сущности, эти фигуры - и зри¬
тельно, и символически - замещают находящихся на
переднем плане главных действующих лиц, перемещая
их не только за пределы комнаты, но и за пределы сю¬
жетной - по сути дела бытовой - ситуации в область
над мирного.
Несколько упрощая, можно сказать, что в итальян¬
ской живописи кватроченто интерьер формируется как
архитектурно-пространственный образ, в то время как
в живописи северных мастеров рождается особая поэти¬
ка интерьера как пространства, обжитого человеческой
духовностью.
Различны и пути сложения пейзажной живопи¬
си. У итальянцев изображение природы вплоть до кон¬
ца столетия сохраняет характер далевого образа, ста¬
тичного вида на природу, не обладавшую независи¬
мой от мира переднего плана внутренней активностью.
В пейзажах северных художников нет характерной для
итальянских полотен разъятости пространств. Природа
188
в их картинах надвигается из глубины на передний
план. В этой обратной по сравнению с итальянским
композиционным принципом пространственной дина¬
мике (не от переднего плана в глубину, но из глубины -
вперед) - отзвук средневековой художественной систе¬
мы. Более того, пейзаж в картинах нидерландских и не¬
мецких мастеров обнаруживает средневековую тенден¬
цию роста вверх, от земли - к небу. При этом передний
план построен с соблюдением прямой перспективы,
уходящей вглубь, в то время как задний, далевой - вы¬
двигается вперед. Подобная разнонаправленность ком¬
позиционного решения придает пейзажам повышен¬
ную активность. В них не человек господствует над
природой, но природа господствует над человеком, под¬
чиняя его себе, как в картинах нидерландского мастера
Херри мет де Блеса - где представлены “труды и дни”
копошащихся на переднем плане людей, над которыми
высятся, достигая небес, величественные горы. Изме¬
няется даже пропорциональное членение картины:
нижняя, человеческая зона переднего плана занимает
непропорционально малое место по сравнению с верх¬
ней зоной - миром природы.
В картине немецкого мастера Альтдорфера “Лес¬
ной пейзаж со святым Георгием” над крохотной фигу¬
рой поражающего дракона святого вздымаются буйно
разросшиеся деревья, кроны их с тщательно выписан¬
ной листвой занимают все поле картины, почти выры¬
ваясь за пределы ее передней плоскости.
Самобытие природы, ее независимая от человека
активная жизнь, более того - своеобразный бунт приро¬
ды, стремящейся подчинить человека, усугубляется
той ролью, которую занимает в картинах северных ху¬
дожников небо. По сравнению с чистым, безразлично
спокойным небом у итальянцев небо в картинах севе¬
рян бурное, покрытое несущимися тучами, сквозь ко¬
торые прорываются солнечные лучи; часто грозовое,
блистающее молниями; небо, где одновременно может
сиять солнце и светить луна - такое небо, подобно небу
Ветхого Завета, принимает активное участие в собы¬
тиях земной жизни. Именно такое библейское небо
изобразил Альтдорфер в картине “Битва Александра
Македонского с Дарием”. Сражение здесь разворачи¬
вается не столько на земле, усеянной, словно павшей
листвой, неисчислимым множеством сражающихся
Мир внутри и вне стен
189
воинов, но в небе, где сталкиваются тучи, солнце борет¬
ся с луной, воды с небесами, где земля стремительно
уходит в глубину, а навстречу ей из глубины грозно на¬
плывает небо.
Если в Италии в искусстве кватроченто происхо¬
дит пространственное самоопределение интерьера и
пейзажа, то в искусстве Нидерландов и Германии свер¬
шается их внутреннее, духовное самоопределение. Оба
пути приводят к становлению самостоятельных жанров
в живописи: интерьера и пейзажа.
XV век в итальянском искусстве - это эпоха ак¬
тивного домостроительства (и не только в живописи,
но и в архитектуре) и столь же активного наступления
на природу. Герой искусства XV века - человек господ¬
ствующий, - именно таким рисуется он в “манифесте”
Джаноццо Манетти. Последствия этого наступатель¬
ного антропоцентризма (“Нам принадлежат земли,
поля, холмы, долины, горы...”), разрушительные для
мира природы, провидел уже Альберти; для него чело¬
век - не просто господин природы, но ее покоритель и
безжалостный разрушитель: “Обуреваемый жаждой
все новых открытий, человек опустошает сам себя. Не
удовлетворенный миром... который окружает его, он
бороздит моря, стремясь дойти до края света; он опус¬
кается под воду и проникает в глубины земли; прока¬
пывает горы и взбирается выше облаков... Враг всему,
что видит и чего не может увидеть, он стремится подчи¬
нить себе все и все заставить служить себе... Нет на све¬
те живого существа, которое вызывало бы к себе такую
же ненависть, какую вызывает человек”.
Уже к началу XVI столетия стройная модель ми¬
роустройства, созданная в живописи кватроченто, с ар¬
хитектурно организованным передним планом и с при¬
родой, отодвинутой в глубину, на безопасную дистан¬
цию, начинает рушиться.
У Пьеро делла Франческа в портретах герцога
Федериго да Монтефельтро и его супруги Баттисты
Сфорца герои изображены на фоне далекого, увиденно¬
го сверху пейзажа, стремительно, планами уходящего
к горизонту, при этом линия горизонта проходит чуть
выше плеч портретируемых, они высятся над уходя¬
щими вдаль “землями, полями, холмами, долинами,
горами”, которыми владеют. Это позиция - “нам при¬
надлежат...”
190
У Леонардо в портрете Моны Лизы, знаменующем
наступление следующего столетия, линия горизонта
поднята на уровень глаз модели; это не позиция господ¬
ства, скорее, это ситуация погруженности в природу.
Глазами Джоконды словно сама природа смотрит на
зрителя - может быть, именно в этом секрет загадоч¬
ности ее взгляда, о которой так много писали и продол¬
жают писать до наших дней. Пейзаж не удален, не ото¬
двинут в перспективу, поверхность земли не ложится
горизонтально, но словно поднимается вверх (почти
как в иконных изображениях), поэтому дороги струят¬
ся у самых ее плеч, перекликаясь со струящимися
складками одежды. И что самое главное - Леонардо пи¬
шет не прозрачный, никакой воздух, но сгустившиеся
тени, в одинаковой мере окутывающие и женскую фи¬
гуру и пейзаж, создавая единую природную среду.
В позднем “Распятии” Боттичелли, также напи¬
санном на грани веков, драматически возбужденная
природная стихия движется из глубины, надвигаясь на
передний план; земля не уходит к горизонту, но встает
дыбом, воздух темнеет, густеет, надвигается тьма. Про¬
тивостояние ближнего - и дальнего плана сменяется
драматическим контрастом света и тьмы - тьма насту¬
пает на свет.
Мир итальянской живописи кватроченто - днев¬
ной мир. В живописи XVI столетия все чаще возникают
ночные сцены с искусственным освещением. У Рафаэля
в его ватиканской фреске сцена “Изведение апостола
Петра из темницы” разыгрывается ночью. Темница
превращается в хрупкую архитектурную конструкцию,
некую сокращенную формулу ренессансного интерь¬
ера, высвеченную изнутри “искусственным” светом,
излучаемым ангелом; а снаружи, с обеих сторон - ноч¬
ная тема и тревожный свет факелов.
В позднем “Оплакивании Христа” у Тициана -
трагедия свершается ночью и снова в неровном, тре¬
вожном свете факелов. Ночью совершается “Положе¬
ние во гроб” в картине Бассано - те же факелы, узкая
щель света на небе и надвигающаяся мгла.
У Шекспира самые важные и самые страшные, са¬
мые трагические события тоже совершаются ночью.
Черный цвет - цвет ночи, антицвет - постепенно
начинает гасить открытую, яркую, дневную много-
цветность раннеренессансной живописи. Черный цвет
Мир внутри и вне стен
191
возникает даже там, где это, казалось бы, не требуется
сюжетом - в сценах отнюдь не драматических и даже -
не ночных. Сгустившийся мрак становится своеобраз¬
ной метафорой или знаком взбунтовавшейся природы.
Эта взбунтовавшаяся природа, которую на протяжении
целого столетия решительно отодвигали на безопасное
расстояние, не только вторгается в мир людей, она бу¬
шует, гневается, предупреждает, сопереживает - она
вмешивается в отношения между людьми, в драму че¬
ловеческих жизней.
У Тинторетто в сцене “Похищения тела Святого
Марка” разражается гроза, сверкают молнии, катастро¬
фа на небе сопровождает события, происходящие на
земле.
Гляди, смутясь деяньями людскими,
Кровавый их театр затмило небо.
Часы показывают день, но тонет
Во мгле светило. Ночь ли всемогуща,
Иль стыдно дню, но лик земли скрывая,
Мрак не дает лучам лобзать его
(Шекспир. “Макбет”).
Гроза разражается над Толедо в сине-черной, пол¬
ной драматизма картине Эль Греко.
В живописи позднего XVI века оживотворение
природы приводит к тому, что она не только грозит или
сочувствует, но приобретает человеческое обличив. В
картине Гверчино, изображающей Св. Иеронима, пред¬
ставлен ангел трубящий, как бы материализовавшийся
из сгустившегося воздуха или облаков - то ли бурный
ветер, то ли глас, раздавшийся с небес. В “Оплакива¬
нии” Тициана из сгустков мрака материализуется ан¬
гел света.
Грань XVI и XVII веков - период “бури и натис¬
ка” природы на благоустроенный мир человека, на его
Дом. Новая система мирочувствия складывалась на
рубеже веков не менее напряженно и драматично, не¬
жели веком раньше, на рубеже средних веков и Воз¬
рождения.
В XVII веке центр художественной активности пе¬
ремещается из Италии в страны, расположенные на се¬
вер от Альп, - Голландию, Фландрию, Францию. Имен¬
но здесь формирутся новое соотношение мира внутри
стен - и мира вне стен, Дома - и Не-Дома.
192
Расширяется сам театр исторического действия,
которое до той поры было в значительной степени сфо¬
кусировано на Апеннинском полуострове, с его посто¬
янной борьбой отдельных городов-государств, претен¬
довавших на политическое, экономическое и культур¬
ное превосходство. Теперь в борьбу, в соперничество
втянуты целые государства Европы, к тому же на гори¬
зонте маячит ставшая досягаемой Америка. Неизмери¬
мо расширяется не только земная география, но и -
с изобретением телескопа - география небесная. Чело¬
век Возрождения жил “в мире мер”. Человек XVII века -
в мире “безмерности”. “Пространство бесконечно во
всех своих измерениях, его центр - везде, границы же
нет нигде” (Гассенди).
Для Возрождения ключевым понятием было про¬
странство. В XVII веке ключевым понятием становится
субстанция. Пафос Возрождения - вера в постижи-
мость мира и возможность его упорядочения. Пафос
XVII века - признание непостижимости мира, его тай¬
ны, бездны6. Человек Возрождения относился к миру с
любопытством исследователя, человек XVII столетия
испытывает изумление при созерцании чудес мирозда¬
ния. Возрождение признавало Господа Бога “архитек¬
тором Вселенной”. В XVII веке Бог отождествляется с
мировой субстанцией, “абсолютно бесконечной и неде¬
лимой”, “состоящей из бесконечно многих атрибутов”
(Спиноза).
Художником, с наибольшей полнотой воплотив¬
шим это новое мирочувствие, был Рембрандт. Одна из
главных, если не главная тема его творчества - Дом. Но
не как место, выгороженное стенами - стены у него раз¬
мыты, они утоплены во мраке. Дом для Рембрандта -
это освещенное (и освященное) присутствием человека
место, вырванное, отвоеванное у стихии мрака. В его
раннем полотне “Святое семейство” свет еще антропо¬
морфен, как у мастеров конца XVI века, как у Шекспи¬
ра в его поздней пьесе “Буря” (“Вы духи гор, ручьев,
озер, лесов...”). Это “духи света”, которых никто из
присутствующих не видит, это воплощение чудесного
света, проникающего извне.
В более позднем полотне “Христос в Эммаусе” те
же погруженные во мрак стены, те же размытые “тьмой
внешней” границы пространственной коробки интерье¬
ра - и источающая свет фигура Христа: “Свет и во тьме
Мир внутри и вне стен
193
светит, и тьма не поглотила его”. Пространство у Ремб¬
рандта - категория не физическая, но духовная, свет
истины, излучаемый главным персонажем и вырываю¬
щий его из мрака.
В картине “Возвращение блудного сына” изобра¬
жен не дом, а лишь ступени крыльца. Но это отчий
кров, ибо свершилось чудо возвращения сына в объя¬
тия отца. Мрак, царящий в картине, - не фон, но затем¬
ненная воздушная среда, образующая некую плот¬
ную субстанцию. Пустого воздуха у Рембрандта нет.
Отрицание пустоты - один из основных признаков
живописи и одно из основных положений философии
XVII века: “Словом пустота мы обозначаем не то место
или пространство, где совершенно ничего нет, но лишь
то место, в котором нет ничего из того, что, как мы
думаем, должно бы в нем находиться” (Декарт).
Рембрандт, как и большинство европейских жи¬
вописцев XVII века, испытал влияние Караваджо, ко¬
торый на грани веков первым ввел в живопись резкие
контрасты света и тени. В картинах Караваджо яркий
фокусированный свет вырывает из густой черной тени
фигуры и предметы. Это направленный свет, падаю¬
щий извне, как некая врывающаяся в пространство
картины внешняя сила, борющаяся с тьмой.
В картине Рембрандта возникает иная ситуация.
Свет в ней порожден не внешним источником, фигуры
не являются объектами освещения, но сами излучают
свечение; они не вырываются светом из мрака, как у
Караваджо, но, напротив, постепенно погружаются в
спасительный полусумрак дома, в окутывающую их не
враждебную, но защищающую тьму.
Главная тема Рембрандта - это мировая стихия и
место в ней человека, этого излучающего свет “мысля¬
щего тростника” (Паскаль). Это тема “Дома челове¬
ческого”, существующего между двумя безднами:
вспышка света в ночи небытия.
Доминанта экзистенциальной ситуации XVII ве¬
ка - предстояние человека безднам мира внешнего, не¬
подвластным ему, им не управляемым. На фоне этих
всевластных стихий рушится представление о Доме как
рукотворном пространстве, созданном человеком, для
него предназначенном, пространстве защищенном, про¬
тивополагаемом внешней среде. Возникает тема Дома
как убежища духовного - в искусстве Рембрандта.
194
Или полной незащищенности человека от внешней сре¬
ды, даже в пределах забаррикадированного простран¬
ства собственного дома - у другого гениального гол¬
ландского художника XVII века - Вермеера Делфтско-
го. В его картинах свет, как у Караваджо, врывается в
интерьер извне, беспощадно обнажая все - и предметы,
и человеческие фигуры, опредмечивая, одрагоценивая
их, превращая в элементы обстановки. Свет у Вермеера -
в отличие от рембрандтовского антимрака как катего¬
рии духовной - это воплощение стихии бездуховности;
свет, разрушающий замкнутость жилища. Интерьеры в
картинах Вермеера, загроможденные вещами, часто
производят странное впечатление пустых, покинутых,
несмотря на обязательное присутствие человека. В них
слишком много света, гораздо больше, чем может
влиться через небольшое, часто полуоткрытое окно.
Этот световой поток направлен по горизонтали; нигде
не остановленный тенями, он пронизывает комнаты,
распахивая их вовне. Рембрандт и Вермеер по-разному
воплотили в своем искусстве тему одиночества челове¬
ка перед стихией бесконечного. Одиночество во мраке -
у Рембрандта и одиночество в беспощадном космичес¬
ком свете - у Вермеера.
В искусстве Рембрандта и Вермеера драма столк¬
новения света и мрака осуществляется в “нематериаль¬
ной” сфере воздушного пространства. Плотность миро¬
вой материи, где все связано со всем и где происходят
“постоянные изменения... вызывающие бесчислен¬
ное множество разнообразных форм и чувственных
качеств” (Спиноза), воплощено в искусстве третьего
великого мастера XVII века - Рубенса. Для Рубенса
весь мир являет себя как единая, постоянно меняю¬
щаяся, живая пульсирующая масса, как материальная
субстанция, объемлющая все существующее, включая
человека.
Эта стихия материального составляет образную
доминанту искусства барокко, в котором воплощена
“тесная связь между людьми и животными, между
растениями и ископаемыми...”, - пишет Лейбниц.
И далее: “Закон непрерывности требует, чтобы все
особенности одного существа были подобны особенно¬
стям другого”. Лейбниц предполагает даже возмож¬
ность существования промежуточных форм живот-
ных-растений.
Мир внутри и вне стен
195
В картине Рубенса, изображающей “Прибытие Ма¬
рии Медичи в Марсель”, связаны в единый S-образный
завиток земля, море, небо, человеческие фигуры, фигу¬
ры животных. Архитектурные сооружения оказы¬
ваются сметенными этим мощным всплеском S-образной
волны, достигающей самых небес. Архитектура не вы¬
полняет роли ритмического костяка композиции, не
держит ее; архитектурные формы становятся странно
мягкими, приобретают органические очертания, тянут¬
ся вверх, подобно стволам деревьев, или закручиваются
винтообразно, прорастают листвой, покрываются цвета¬
ми; часто между колоннами и на фоне сводов проплы¬
вают облака или пролетают путти. Архитектура второго
плана тает в воздухе, становится полупрозрачной, сло¬
вом, весь рукотворный мир, все, что создано на земле
человеком, все сооруженные им для себя “стены” раство¬
ряются, погружаясь в стихию природного, или приобре¬
тают некие промежуточные формы, подобно тем “живот-
ным-растениям, о которых говорит Лейбниц.
Картину Рубенса “Вакх” населяют не только зве¬
ри и люди, но также полузвери и полулюди, раковины
и растения - подлинный триумф витальных сил приро¬
ды. Есть угрожающая сила в этой триумфирующей
природе, втягивающей в себя человека, сила гораздо
более страшная, нежели мировая тьма Рембрандта, ко¬
торая не столько враждебна человек, сколько выпол¬
няет охранную функцию и где человек, защищенный
своей светящейся духовностью, находит убежище.
У Рубенса человек, оставшийся с природой с глазу на
глаз, оказывается втянутым в общий круговорот при¬
родных сил и лишен возможности и права убежища.
В его пейзажах торжествующая земля находится
в состоянии непрекращающегося, активного, разно¬
направленного движения, постоянного дыхания то
вздымающихся холмов (вдох), то опускающихся долин
(выдох), с текущими реками и текущими дорогами, то
убегающими вдаль, то стремящимися вперед, к самому
краю картины; с фигурками людей и животных, сную¬
щими по этим протокам или взбирающимися на холмы.
И все это увенчивается триумфальной аркой радуги, ко¬
торую земля взбрасывает в небо, подобно фейерверку.
Если в картине Альтдорфера грозное небо торже¬
ствует над смятенной землей, то у Рубенса торжествую¬
щая Земля посылает радугу в небо. Но в этом торжестве
196
земного начала, в его над-человечности, в этом вечном
празднестве плоти, в этом демонстративном, безогляд¬
ном гедонизме Рубенса - сознательно или подсозна¬
тельно - проглядывает испуг человека перед всесиль¬
ной стихией природного. “Мы окутаны нынче тем же
мраком, что и предки наши, и то ли по воле богов, то ли
от неискупимой ущербности мира, клонящегося к зака¬
ту, мы пали так низко, что не можем уже подняться...”
Эти слова Рубенса, полные бенадежности, прочиты¬
ваются как драматический подтекст безудержной
праздничности его полотен7.
Искусство трех великих художников XVII века
представляет собой форпост этого столетия, в котором -
после рациональной постижимости и устойчивости
ренессансного мироздания - человек оказался перед не¬
обходимостью найти свое место в мире, представшем
ему в своей непостижимой без-граничности... и без¬
домности.
Защитной реакцией на эту утрату чувства Дома
стало искусство художников второго ряда, прежде все¬
го так называемых малых голландцев, стремившихся
придать устойчивость этому распахнувшемуся миру,
четко определить пространство внутри стен и отде¬
лить его от пространства вне стен> иными словами, со¬
здать замкнутый образ Дома и противопоставить его
разомкнутому образу Природы. В живописи малых гол¬
ландцев интерьер и пейзаж складываются в отдельные
самостоятельные жанры.
В своих интерьерах малые голландцы стремятся
одомашнить, приручить онтологическую тьму Рембранд¬
та, превратить ее в уютные тени в углах комнаты, а сквоз¬
ные, пронизывающие потоки света Вермеера заменить
спокойным освещением, придающим им не бытийствен-
ную знаковость, но бытовую обжитость. Эта образная
трансформация разрушающей функции света - в функ¬
цию созидающую с особой наглядностью совершается в
картинах Питера де Хоха. Завороженное пространство
интерьеров Вермеера превращается у него в заботливо
прибранные жилые комнаты; в них царит не вермееров-
ское застывшее молчание, но спокойная тишина.
Комнаты у Вермеера, благодаря изображенным на
переднем плане громоздким предметам, воспринимают¬
ся отстраненно, как далевой образ; фигуры производят
впечатление погруженных в пространство, словно еще
Мир внутри и вне стен
197
не ставшее комнатой, в заслоненное, отодвинутое про¬
странство отчуждения. Возникает впечатление далеко¬
сти фигур, их некоммуникабельности. Особенно в кар¬
тине, где изображена женщина за клавесином, которая
пристально, в упор смотрит на зрителя. Этот настой¬
чивый прямой взгляд странным образом усиливает
впечатление удаленности; находясь близко, почти на
переднем плане, женщина кажется смотрящей из глу¬
бокой глубины комнаты, на самом деле совсем не глубо¬
кой. Подобного загадочно-необъяснимого эффекта от¬
даленности не возникает у Питера де Хоха, даже когда
он изображает фигуру в дверном проеме, со спины, ото¬
двинутой в перспективу.
Интерьеры Питера де Хоха гостеприимно откры¬
ты, в них словно вообще нет первого плана, простран¬
ство начинается непосредственно с середины комнаты;
художник предлагает зрителю сразу переступить по¬
рог. Комнаты у Вермеера как бы еще не стали комната¬
ми, еще не сформировались: только часть стены, только
окно, только дверной проем - это, скорее, “попытка
комнаты”. Совсем по-иному строит интерьеры Питер
де Хох. Композиционно не изолированные, они сооб¬
щаются с другими, соседними помещениями, с внут¬
ренним двориком, с хозяйственными пристройками,
в одной из картин изображен даже чулан; иногда ком¬
наты выходят на террасу, в садик, на улицу. Возникает
целостный образ дома как жилого комплекса.
Не менее выразительны интерьеры в картинах Ад¬
риана Остаде. В сниженной, профанированной форме в
них сюжетно расшифровывается атмосфера трансцен¬
дентной напряженности жизненного пространства оку¬
танных мраком персонажей в картинах Рембрандта.
У Остаде этот мрак становится менее плотным, сквозь
него проступает скудно освещенная обстановка то кресть¬
янского дома, то таверны - во всей ее неприглядности,
бытовой сниженности персонажей и сюжетных ситуа¬
ций. Возникает образ дома, но не Дома с большой буквы,
а просто дома в его прозаической обыденности.
Аналогичный процесс можно наблюдать и в пей¬
зажной живописи Голландии XVII века.
В пейзажах великих мастеров земля всегда на¬
ходится в сложном - иногда прямом, отрытом, иногда
в напряженном внутреннем - диалоге с небесами. У Ру¬
бенса - это бурная “вакханалия” земли, вскидывающей
198
в небо триумфальную арку радуги. В пейзажах Ремб¬
рандта, особенно в его знаменитом пейзаже с тремя
деревьями, звучит тема пред-стояния взволнованной
земной природы - небу, грозящему тьмой. У Якопа
Рейсдаля соотнесенность земли и неба выливается в
борьбу двух стихий. В “Пейзаже с башней”, в “Пейзаже
с ветряной мельницей” звучит дерзкий вызов небесам;
в “Еврейском кладбище” разыгрывается драматичес¬
кая схватка земли с грозным небом, жертвой ее выгля¬
дит скелет сухого дерева на переднем плане, словно ис¬
калеченного молнией.
По-иному, величаво звучит эта тема в пейзажах
Филипса Конинка. Почти плоская панорама земли,
простирающейся далеко, к самому горизонту, деля¬
щему картину строгой горизонталью на две равные
части - земную и небесную; спокойная земля и столь же
спокойное небо - образ эпического равновесия.
И только в искусстве малых голландцев склады¬
вается просто пейзаж, в котором мир природы, отка¬
завшись от безмерности макробытия, обретает свое соб¬
ственное, соразмерное человеческому, микробытие.
Подобно интерьерам Питера де Хоха, эти пейзажи не
имеют переднего плана, они начинаются прямо со вто¬
рого - с дороги, пересеченной нижним краем полотна и
спокойно уводящей вглубь, как в картине Гоббемы
“Аллея в Миддельхарнисе”, или с самой середины
реки, текущей горизонтально, вдоль нижнего среза
картины, как в пейзажах Саломона Рейсдаля. Если
изображен лес, то деревья растут в нем не там - но пря¬
мо здесь, занимая все полотно и вводя зрителя в самую
лесную чащу. В большинстве случаев природа населена
людьми, они не созерцают пейзаж, но активно в нем
существуют: трудятся, занимаются простыми каждо¬
дневными делами, старательно осваивают природное
пространство, как они осваивают домашнее простран¬
ство в интерьерах и двориках Питера де Хоха. Эти
“малые” пейзажи населены не только людьми, но и ста¬
дами коров - как у Альберта Кейпа и особенно Пауля
Поттера. В его картине “Ферма” - множество коров, а
также овец, коз, лошадей. Они заполняют все природ¬
ное пространство вплоть до самого горизонта, а одна из
коров лежит у самого края полотна и, буквально упер¬
шись мордой в его переднюю плоскость, внимательно
смотрит прямо перед собой - на зрителя.
Мир внутри и вне стен
199
Но голландские пейзажи посвящены не только
“трудам и дням” каждодневности, но также и ее - каж¬
додневное™ - развлечениям; особенно часто изобра¬
жают катанье на коньках, которое, впрочем, было не
только любимой забавой, но и самым популярным сред¬
ством зимнего передвижения.
В искусстве XVII века, по словам Гете, всегда при¬
сутствует образ целого, “но это целое не заготовлено для
него природой, оно плод его собственного духа...” В нем
есть “всепроникающая сила” и “мужество”. Мужество
противостояния величию открывшегося мира - как
Божественного Космоса (у Рембрандта) или как не¬
управляемой стихии (у Рубенса), мужество пред-стоя-
ния миру вне-личного и веры в необходимость обрести
место человеку в этом мире, найти для него убежище -
духовное, как в искусстве Рембрандта, и физическое -
как у малых голландцев. XVII век в искусстве был
веком обретения Дома в высоком, трансцендентном
смысле этого понятия, а также в обыденном его зна¬
чении; век поэтизации человеческого жилища и окру¬
жающей человека природы - и веком возникновения
в живописи самостоятельных жанров - интерьера и
пейзажа.
Следующее, XVII столетие было столетием Разу¬
ма, просвещения - и неверия. “Вера в Бога... является
самой полезной для человеческого рода. Это единствен¬
ная узда...” - писал Вольтер. XVIII век стремился все
объяснить, всему найти естественную причину, разга¬
дать загадку мироздания, лишить его тайны8. И как
следствие - устранить само представление о божествен¬
ном промысле, которое, как утверждал Гольбах, явля¬
ется следствием умственной лени (“Словом Бог люди
всегда обозначают скрытую, далекую и неизвестную
причину наблюдаемых ими явлений... которая нахо¬
дится за гранью всех известных им причин”). Космос не
являет собой единую субстанцию - в этом усматривали
теперь характерное заблуждение предыдущего столе¬
тия. Космос разделен на множество отдельных систем,
солнце - центр лишь одной из них. А раз так, то все от¬
носительно, мироздание утрачивает свою единствен¬
ность и уникальность. Представление о земле также
прозаизируется: земля окутана атмосферой, состоит из
суши, воды, а также людей, животных, птиц, рыб и т. д...
В предыдущем столетии Лейбниц говорил о “тесной
200
связи между людьми и животными, животными и
растениями, между растениями и ископаемыми...”
Теперь, в XVIII веке, Гольбах, подобно пушкинскому
Сальери, стремится живой организм природы “разъять,
как труп”, все расчленить и классифицировать.
“Вселенная - лишь материя и движение, непре¬
рывная цепь причин - и следствий”, и сам человек - все¬
го лишь “устройство, которое называется организацией”
(Гольбах). Что касается души, - то это “лишенный содер¬
жания термин, за которым не кроется никакого содер¬
жания” (Ламетри). Итак, в мире нет никаких тайн, все
имеет свои естественные причины, нет ничего необъяс¬
нимого, есть только пока еще не объясненное. Это обезво¬
женное, классифицированное, лишенное тайны и, соот¬
ветственно, поэтичности мироздание - как далеко оно от
мироздания XVI столетия, смотревшего на мир как на
чудесное творение Господа Бога:
О Боже! Ты всего первопричина!
Те небеса хрустальные, что светят,
С их звездами, с их солнцем и луной,
Не суть ли это ткани и завесы
Возвышенных Твоих пределов горних?
Стихии разногласные, огонь,
Вода, земля и ветры - не движенья ль
Твоей руки? Они не говорят ли
Как велики хвалы Твои повсюду?
Земля не записала ли строками
Цветными пышность светлую Твою?
Так писал в XVII веке Кальдерон о вселенной, ко¬
торая теперь, согласно Гольбаху, всего лишь “материя
и движение, непрерывная цепь причин и следствий”.
Рационалистическую опустошенность мировиде-
ния XVIII столетия остро ощущал Мандельштам: “Во¬
семнадцатый век похож на озеро с высохшим дном, ни
глубины, ни влаги - все подводное оказалось на поверх¬
ности. Людям самим было страшно от прозрачности и
пустоты понятий... век, который вынужден был ходить
по морскому дну, как по паркету”. И далее “Музам
было невесело около Разума, они скучали с ним, хотя
неохотно в этом сознавались”. XVIII век не задумывает¬
ся над проблемой Вечного, все в мире преходящее -
и человек, и природа, ничего не повторяется, все подчи¬
Мир внутри и вне стен
201
нено закону линейного развития времени, все движет¬
ся, все постоянно меняется - и человек, и природа.
“Вчера” давно уже умчалось,
Быть может, “завтра” не придет,
И лишь в одном “сегодня” радость,
Бесспорно, человек найдет.
(Руссо)
Постоянным изменениям подчинена и природа:
“Весь облик земли в каждый момент являет нашим гла¬
зам постоянные изменения, ибо ничего не остается тож¬
дественным хотя бы в течение часа” (Гольбах). Более
того, в природе действуют те же законы, что и в челове¬
ческом обществе, где все играют роли в “театре жизни”:
“Потеряв одну какую-нибудь форму (имеется в виду
форма материи. - И. Д.), вещь тотчас же облекается в
другую, она как бы исчезает со сцены в одном костюме,
чтобы тотчас появиться на ней в другом” (Толанд). Весь
мир театр - и человеческая жизнь, и жизнь природы, и
жизнь материи.
Центр художественной активности в XVIII веке
переносится во Францию. Во французской живописи
этого времени вопроса о позиции человека с глазу на
глаз со вселенной, драматической коллизии противопо-
лагания категорий Дома - и Не-Дома не существовало;
соответственно не возникало и проблемы выявления
образного своеобразия жанров интерьера и пейзажа.
Более того - можно говорить о тенденции размывания
границ между пространством архитектурно замк¬
нутым, искусственно созданным человеком для челове¬
ка, - и пространством природным, разомкнутым, есте¬
ственно существующим, от человека не зависящим.
В картинах Ватто персонажи обживают природу,
как интерьер, они “играют гостиную” или будуар, удоб¬
но располагаясь, как в комнатах, среди деревьев и кус¬
тов, рассаживаясь на пригорках или на мягкой траве, с
такой же непринужденностью и так же кокетливо, как
в мягких креслах или на козетках; деревья заменяют
им ширмы, кусты создают укромные уголки; они зани¬
маются флиртом, беседуют, музицируют, танцуют.
Танцуют особенно часто. В живописи рококо возникает
особая разновидность пейзажного жанра - “сельский
праздник”, или “праздник на природе”. Эти легкие,
беззаботные празднества пришли на смену буйному
202
торжеству плоти и природных сил в “Вакханалиях”
Рубенса и разудалым пляскам в полотнах малых фла-
мадских и голландских художников предыдущего
столетия.
В “сельских праздниках” Ватто и других мастеров
рококо не осталось и следа природного действа. В них
все искусственно, это красивая игра в танцы, в веселье,
игра в природу и игра в игру - театрализованные пред¬
ставления на фоне природных декораций.
Ватто испытал сильное влияние Рубенса. Но у Ру¬
бенса сама природа праздновала свой праздник; в кар¬
тинах Ватто природа молчит, веселятся люди; в отли¬
чие от персонажей в картинах XVII века, они веселятся
пристойно, грациозно, но как-то не очень весело. Поис¬
тине - “музам было невесело около Разума”, хотя “они
неохотно в этом сознавались”.
Природа в картинах рококо не реагирует на чело¬
века, так же, как человек не реагирует на природу,
даже не замечает ее. У Ватто в картине “Безразличный”
актер выступает перед зрителями, одинаково безраз¬
личный и к их присутствию, и к природе, на фоне кото¬
рой он стоит, но присутствия которой за своей спиной
он не ощущает. Диалога между человеком и природой
не возникает.
Это становится очевидным при сравнении кар¬
тины Ватто с картиной другого французского мастера,
работавшего в XVII столетии. Луи Ленен не писал
сюжетно занимательных картин, его персонажи не дей¬
ствуют, они просто пребывают, но пребывают не на
фоне природы, а в ее присутствии; и если им одиноко,
то от сознания своей несоизмеримости с природой, ее
величавой безграничностью. В картине “Посещение ба¬
бушки” все персонажи молчат, погруженные в созерца¬
ние природы, молчаливо осознающие свое несоизмери¬
мое с ней со-присутствие.
Если природа предстает в живописи XVIII века
как уголок интерьера, где роль украшающих стены
гобеленов выполняют деревья, с их орнаментальной
листвой, словно вытканной или вышитой шелком, то
интерьер, в свою очередь, воспринимается как уголок
природы, где свободно и нарочито прихотливо расстав¬
ленная мебель, украшенная растительным орнаментом
или увитая живой зеленью, создает образ искусно вос¬
созданной природы.
Мир внутри и вне стен
203
Но эти уютные, рокайльные интерьеры, где за
каждой ширмой легко найти укромный уголок, не вос¬
принимаются как обжитое, отъединенное от окружаю¬
щего мира пространство внутри стен. В картине Буше
“Туалет” изображена интимная сценка - две дамы
натягивают чулки, надевают на себя другие предметы
туалета; казалось бы, сюжет предполагает помещение
закрытое, недоступное для нескромных взглядов, про¬
странство, замкнутое стенами. Однако у Буше этот
интерьер производит впечатление временной выгород¬
ки, где комната не изображена, но условно обозначена
отдельными характерными деталями - камин, дверь,
ширма, зеркало, стул. Стен нет, рама картины выпол¬
няет роль кулис. Это что-то вроде театральной уборной,
где персонажи второпях переодеваются перед выхо¬
дом - в гостиную, в залу, чтобы сыграть роль хозяев,
принимающих гостей, или чтобы самим отправиться в
гости. Они не пребывают в интерьере - в таком проход¬
ном помещении нельзя пребывать, в нем даже дверь не
закрыта; все, словно в спешке, сдвинуто с мест, один
предмет задвинут за другой. XVIII век не случайно
любил ширмы - с их помощью помещение легко транс¬
формировалось. Но ширмы не способны создать замк¬
нутое пространство, они только условно намечают, обо¬
значают его. Так же не случаен часто встречающийся
мотив полуоткрытой или полуприкрытой двери. В кар¬
тинах XVII столетия дверь, как правило, широко рас¬
пахнута - и это создает ситуацию контрастного со-пола-
гания внутреннего - и внешнего пространств, образно
обостряя их взаимо-различие. Приоткрытая дверь
этого контраста не создает, она нарушает замкнутость
интерьера, но не открывает его вовне, не создает компо¬
зиционно-смыслового конфликта.
Полуприкрытая дверь в интерьерах рококо вы¬
полняет не структурную, но чисто сюжетную функцию -
она позволяет проскользнуть в комнату незаметно и
также незаметно выскользнуть из нее (Фрагонар. “По¬
целуй украдкой”), за дверью можно спрятаться, можно
ловко набросить дверной крючок, как это делает кава¬
лер в картине Фрагонара “Крючок”. Персонажи словно
играют в прятки, пользуясь возможностями полуот¬
крытой двери. Полуоткрытая дверь фигурирует даже в
бытовых сценках Шардена - художника отнюдь не лег¬
комысленного. В его интерьерах тоже есть какая-то
204
эфемерность, скорее обозначенность, нежели построен-
ность. Провожая мальчика в школу, гувернантка лишь
присела на стул, мальчик уходит не в открытую, но в
полуоткрытую дверь.
Художник XVIII века легко, как бы играя, сни¬
мает различие между внутренним - и внешним про¬
странством, между интерьером - и пейзажем; они слов¬
но постоянно меняются местами, выступают в ином, не
своем обличии, меняются масками; они втянуты в
общую театрализацию миро-осмысления и миро-пове-
дения, характеризующую XVIII столетие, когда все
сущее и сама материя, “потеряв одни... форму... тотчас
облекается в другую... исчезает в одном костюме, с тем
чтобы... появиться в другом”. Подобно этому, интерьер
“появляется” в костюме пейзажа, а пейзаж - в костю¬
ме интерьера.
Так, в обличии великолепных, праздничных за¬
лов выступают итальянские городские ведуты Каналет¬
то, изображающие празднества на Канале Гранде, где
гондолы скользят по воде, как нарядные пары по пар¬
кету бального зала, а дворцы набережных образуют на¬
рядный театральный задник.
Век Просвещения, который, как надеялся Воль¬
тер, должен был закончиться торжеством Разума, за¬
кончился Великой Французской революцией (1789-
1793). Пять кровавых лет гражданской войны, гильо¬
тин, трупов на фонарях. Затем наполеоновская эпопея,
завоевание Европы, русская кампания 1812 года, крах
Наполеона - бурные события, перетряхнувшие все ев¬
ропейские страны, включая Россию.
Искусство романтизма конца XVIII - начала XIX
столетия было в значительной степени порождено уста¬
лостью от исторических катаклизмов, от изменившего¬
ся ритма времени, которое на рубеже веков внезапно
понеслось вскачь; стремлением отдохнуть от истории
на лоне природы - прекрасной и неизменной.
Своеобразным камертоном романтического вос¬
приятия природы прозвучало гениальное стихотворе¬
ние Гете (не столько в переводе, сколько в пересказе
Лермонтова):
Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой,
Мир внутри и вне стен
205
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
В живописи тема недосягаемо прекрасной приро¬
ды, в созерцании которой человек обретает внутреннюю
свободу и успокоение, получила наиболее адекватное во¬
площение в творчестве Каспара Давида Фридриха.
Особенно часто Фридрих пишет горы (“горные
вершины”) как образ величественного покоя и (если ис¬
пользовать средневековую символику) “возвышения
духа”. Персонажи в картинах Фридриха созерцают тор¬
жественное молчание природы. “Что нам язык земной
// Пред дивною природой?” - писал русский современ¬
ник и друг Фридриха В. Жуковский.
Фридрих любил изображать одиноких мечтате¬
лей, любующихся луной, часто они представлены со
спины - темные, молчаливые силуэты на фоне неба.
Луна, царица ночи - любимый мотив романтической
поэзии. Поэтом луны называли Жуковского (“Когда
безмолвная наводит // Луна свой робкий полусвет // На
лик уснувшия природы, // Как сладостно средь тиши¬
ны // Из блеска трепетной луны // На нас глядят ми¬
нувши годы...”). Одинокие фигуры на фоне восходов,
закатов, на берегу моря, среди гор - темы многих кар¬
тин Фридриха и художников его круга. И еще - мотив
руин, как меланхолическое воспоминание о “протек¬
ших временах” (“...к протекшим временам лечу воспо¬
минаньем...” - Жуковский). В одной из картин Карла
Каруса соединены оба мотива: пара влюбленных лю¬
буется на луну среди руин. Романтические признаки
или, точнее, поэтические качества луны - ее недосягае¬
мость, неподвижность, ее “утешительность”, способ¬
ность заставить человека оторваться от земного и возне¬
стись душой к небу9.
В картинах немецких романтиков человек до¬
стоин лишь благоговейно созерцать природу, молчали¬
вую и бесстрастную. По-иному окрашенная, тема пре¬
красной природы, сулящей отдохновение, звучит в рус¬
ском искусстве первой трети XIX века. В картинах
Венецианова - “Лето”, “Спящий пастушок” - возни¬
кает образ словно завороженной природы, погружен¬
ной в полуденный сон; у его ученика Сороки в картине
206
“Вид в имении Спасское” безмятежно спокойное небо
отражается в безмятежно спокойной водной глади
(“Лениво дышит полдень мглистый, // Лениво катится
река, //Ив тверди пламенной и чистой // Лениво тают
облака” - Ф. Тютчев).
По-иному состояние созерцательного отдохнове¬
ния воплощено в картинах Сильвестра Щедрина, рабо¬
тавшего в Италии. Увитая виноградом терраса с видом
на море и с фигурами людей - погруженных в сладост¬
ное “фарниенте” (ничегонеделанье), в полудрему вечно
длящегося итальянского лета.
В русском искусстве, как и в искусстве других
европейских стран, итальянские пейзажи восприни¬
мались как образ идеальной природы, дополнительно
окрашенной ностальгической темой “прекрасного дале¬
ка”10; для России - в контрастном сопоставлении с ее
суровым климатом и “скудной природой”:
Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провевает летний зной...
И резкий контраст:
Сновиденьем безобразным
Скрылся север роковой...
(Ф. Тютчев)
В творчестве А. Иванова тема сладостной “роско¬
шествующей” (О. Кипренский) природы Италии полу¬
чает эпическое звучание. В его “Аппиевой дороге” при¬
рода предстает голой, безлюдной землей, насыщенной
историческими ассоциациями. “Печальная Кампанья
связана с развалинами древнего Рима, - писал Герцен,
посетивший Италию в 1848 году, - они дополняют друг
друга. Что это, в самом деле, за невероятное величие
в этих камнях”. В картине Иванова, в сущности, нет ар¬
хитектурных развалин или надгробных памятников -
они превратились в обтесанные ветром каменные глы¬
бы, потерявшие четкость очертаний, слившиеся с зем¬
лей, ставшие ее органической частью, свидетельством
не столько истории человечества, сколько истории зем¬
ли, ее летописью. Природа у него впитывает в себя исто¬
рию, поглощает ее, переводя из состояния поступатель¬
ного развития во времени - в состояние вневременного
Мир внутри и вне стен
207
бытийствования. Иванов любил писать камни, боль¬
шие валуны - зримые свидетели прошлого земли, обна¬
жившиеся на ее поверхности.
В отличие от пейзажей художников-романтиков
конца XVIII - начала XIX века, имеющих, как прави¬
ло, смысловой вектор, направленный по вертикали,
снизу - вверх, с земли - на небо (даже если формат по¬
лотна не вертикальный), у Иванова преобладают пейза¬
жи, сильно вытянутые по горизонтали, природа в них
стелется вдоль земной поверхности, вширь и вдаль;
зона небес часто срезана верхним краем полотна. Это
природа земная, она состоит из почвы, камней, воды;
небо (за редким исключением) прозрачное, спокойное,
лишь изредка тронутое столь же спокойными облака¬
ми - величественно бесстрастное; вся энергия природы
сосредоточена в земной коре, сохраняющей следы пере¬
житых геологических и исторических катаклизмов.
И еще: в отличие от природы в картинах художников
первых десятилетий XIX века, с непременным (если не
реальным, то незримым) присутствием человека, по¬
груженного в созерцание, у Иванова природа предстает
в независимом от человеческих эмоций самобытии. Это
не природа для человека, но природа в отсутствии
человека; его пейзажи даже композиционно дистанци¬
рованы - они начинаются прямо с камней, с корявой
почвы, с воды - с преграды, отстранения, запрета “на
вшествие”. Романтический порыв, стремление ввысь,
вдаль, за пределы (“Туда, туда всем сердцем я стремлю-
ся”, - А. Толстой) сменяется погружением, стремлени¬
ем проникнуть в тайны, хранимые землей.
От жизни той, во дни былые
Пробушевавшей над землей,
Когда здесь силы роковые
Боролись слепо меж собой...
Что уцелело, что осталось?
Затихло все и улеглось.
Лишь кое-где, как из тумана
Давно забытой старины,
Два-три выходят здесь кургана...
(Ф. Тютчев)
В искусстве всей первой трети столетия в природе
искали убежища от “железного” шага истории: “Век
шествует путем своим железным...” - писал в 1835 году
трагически прозорливый Е. Баратынский.
208
А мир внутри стен, интерьер? В интерьере первых
десятилетий XIX века, замкнутом, защищенном стена¬
ми, сохраняется романтическая раскрытость вовне,
возможность взгляда вдаль, за пределы: “Туда! Туда!”
Этот крик души гетевской Миньоны стал своеоб¬
разным паролем европейского романтизма. В России
стихотворение Гете переводили, перелагая на свой лад,
многие поэты11. В живописи эталоном романтического
интерьера можно считать картину Фридриха с одино¬
кой фигурой женщины у открытого окна, изображен¬
ной со спины и мечтательно вглядывающейся вдаль.
Женская фигура у окна - излюбленный мотив ро¬
мантиков. Открытое окно не только служит источни¬
ком света, но и создает эмоционально окрашенный кон¬
траст малого пространства внутри стен - и внешнего
пространства большого мира:
Мой приют высокий:
В небо два окна.
Гость мой одинокий -
Грустная луна...
В небе ночью ясной
Вижу путь планет,
А порой ненастной -
Молний грозный свет.
(стихотворение, озаглавленное “Моя комната”, фран¬
цузской поэтессы Марселины Деборд-Вальмор).
Более спокойно, более гармонично тема раскры-
тости интерьера вовне получает воплощение в творчест¬
ве русских художников. Венецианов в картине “Гумно”
создает геометрически четкую коробку интерьера, не
столько противополагая, сколько сополагая его внеш¬
нему пространству. Это не далевой вид в проеме окна
или двери; пейзаж непосредственно стыкуется, почти
сливается с интерьером, начинаясь непосредственно у
его порога. Фабулы в картине, по сути дела, нет, в ней
ничего не происходит, человеческие фигуры и предме¬
ты выполняют роль пространственных ориентиров,
расставленных вех. Все и всё замерло, словно вслуши¬
ваясь в тишину.
Чуткое созерцание пространства Дома сохраняется
в картинах учеников и последователей мастера. У Алек¬
сеева, изобразившего мастерскую Венецианова, ком¬
ната, странным образом, напоминает вид регулярного
Мир внутри и вне стен
209
парка: блестящая гладь пола подобна глади озера; на
нее можно любоваться, но нельзя ступить - все фигуры
и предметы размещены по стенам, словно теснятся на
берегу; статуи своим масштабом ассоциируются скорее
с садовой скульптурой, нежели с домашней обстанов¬
кой; фигурка сидящей женщины (натурщицы?) в глу¬
бине искусной сделанностью позы приводит на память
воспетую Пушкиным царскосельскую скульптуру
(“Дева над вечной струей // Вечно печальна сидит”).
Пространство комнаты, подобно природному простран¬
ству парка, манит глаз далью, раскрывающейся в
проеме двери, ведущей в следующие помещения, зали¬
тые светом.
Художники круга Венецианова любили изобра¬
жать подобные интерьеры, с виднеющейся анфиладой
зал. Такие молчаливые интерьеры, не переходящие в
пейзаж, как в картине Венецианова, но метафорически
в пейзаж преображенные, воспринимаются отстранен¬
ие: так задумчиво на комнату не смотрят, так смотрят
на вид за окном.
Но уже в картинах Федотова дистанция созерца¬
ния нарушена, интерьеры замыкаются; из простран¬
ства, лишь потенциально, в идеале, предназначенного
для обитания, они преобразуются в помещения, насе¬
ленные обитателями, в места их повседневной жизни.
В картине “Сватовство майора” комната еще проход¬
ная, но двери, расположенные по сторонам, не откры¬
вают далевого вида, в сущности, боковые стены такие
же глухие, как задняя стена, тесно завешенная портре¬
тами. И самое существенное - в комнате темнеет, и от¬
того она выглядит тесной. Это особенно заметно при
сравнении с аналогичной сценкой Венецианова - “Утро
помещицы”, написанной на два с половиной десятиле¬
тия раньше. В ней представлена только часть комнаты,
только один ее угол, но асимметричность построения,
столь отличающая ее от симметрически статичного
интерьера в картине Федотова, - уходящая в глубину
плоскость пола, кусочек пейзажа за окном и само это
распахнутое окно, залитое утренним светом, - все это
создает ощущение просторности. Три женщины не ра¬
зыгрывают сюжет, но лишь обозначают сюжетную си¬
туацию. Их фигуры вписаны в архитектурные члене¬
ния интерьера, они не занимают в нем дополнительного
места, не наполняют его движением, не нарушают его
210
спокойного молчания. В картине Федотова персонажи
входят и выходят, создавая толчею. И хотя на уровне
сюжетном представленная сцена забавна, на более глу¬
боком, композиционно-метафорическом уровне она
драматична. Фигура невесты - единственное белое пят¬
но в картине - подобно вспугнутой птице, рвется из за¬
ставленной людьми и вещами комнаты. Но рвется она
не в далекое романтическое Туда, а в соседнюю комна¬
ту, может быть, еще более тесную, и не для того, чтобы
освободиться, но чтобы спрятаться.
Комнаты в картинах Федотова с годами становят¬
ся все более тесными и все более темными. В “Завтраке
аристократа” изображен лишь небольшой закоулок,
обозначенный расстеленным на полу ковром; узкая
дверь справа занавешена тяжелой портьерой. И снова
очевидное несоответствие анекдотичности сюжета -
и его драматического подтекста: человек, загнанный
(или сам себя загнавший) в угол своего переставшего
быть надежным домашнего убежища, в которое пыта¬
ется ворваться извне кто-то посторонний.
Романтическое переживание пространства как
внутреннего порыва из дома - вдаль сменяется стремле¬
нием защититься, забиться в угол. В картине “Анкор,
еще анкор!” комната сжимается до размеров одиночной
камеры, с крохотным, словно зарешеченным окном, в
которое видна лишь часть заснеженной деревенской
улицы и близко, почти заслоняя вид, - домик с тоскли¬
во светящимися крохотными окошками.
Федотов, обладавший повышенной, почти болез¬
ненной чуткостью, первым среди русских художников
предугадал тему катастрофической утраты Дома, кото¬
рая станет одной из главных в искусстве второй полови¬
ны столетия, - Дома как своего собственного жизненно¬
го пространства, своего места на земле.
С ностальгическим надрывом эта тема звучит в
русской литературе. Разоряющиеся, покидаемые име¬
ния, замоскворецкие купеческие дома-застенки, кале¬
чащие все живое, - у Островского; пронзительные пье¬
сы Чехова, прозвучавшие как отходная по родовому
гнезду. Герои Чехова не только оплакивают гибель
“родного угла”, они бегут из него - кто за границу, кто
“в Москву” - в наемные или “казенные” квартиры, в
меблированные комнаты. И в этих чужих комнатах они
испытывают мучительное чувство одиночества12.
Мир внутри и вне стен
211
В живописи второй половины века изображение
интерьера утрачивает экзистенциально-знаковый харак¬
тер. У русских художников-передвижников интерьер
как жанр уступает место изображению бытовых сцен;
все внимание сосредоточено на том, что происходит в
комнатах, выполняющих роль социальной характерис¬
тики представленной сцены - это либо бедное жилище,
либо жилище купеческое, чиновничье, крестьянское, в
нем множество красноречивых бытовых деталей, само
же пространство инертно, бесструктурно, условно.
• Аналогичный процесс вымывания интерьера про¬
исходит и в живописи французских импрессионистов.
Растворившись в свете и цвете, интерьер перестает
существовать как пространственный образ, он как бы
приравнивается к натюрморту, к изображению не ком¬
наты, но вещей, находящихся в комнате. Сами комнаты,
похожие на красивые настенные ковры, не признают
своих обитателей. Происходит композиционное вытал¬
кивание человека из комнаты, из ее не пускающего в се¬
бя пространства - их взаимное неприятие. У Ренуара в
“Портрете мадам Шерпантье с детьми” вся группа, поме¬
щенная на фоне стены, похожей на декорацию, соскаль¬
зывает к самому краю полотна. У Берты Моризо в карти¬
не “Сестры” фигуры вытеснены из интерьера, не столь¬
ко изображенного, сколько обозначенного. В картине
Эдуарда Мане “Бар Фоли Бержер” женская фигура поме¬
щена в иллюзорном пространстве, отражающемся в зер¬
кальной стене за ее спиной; она композиционно зажата
между этой стеной и стойкой бара, выдвинутой из карти¬
ны в пространство внекартинное - внешнее, бездомное.
Так же выдворены из интерьера персонажи в кар¬
тине Мане “Балкон” или в картине “В ложе” у Ренуара.
Балкон и ложа - это, в сущности, комнаты, вынесенные
наружу, открытые взглядам посторонних, переставшие
выполнять функцию дома.
Тема бездомности интерьера получила трагическое
воплощение в картине Ван Гога “Ночное кафе”. Это поис¬
тине “место, где жить нельзя” (М. Цветаева), где нельзя
даже находиться, место, пронизанное композиционным
сквозняком, готовым вынести, выдуть все предметы,
включая тяжелый бильярдный стол, похожий на стоя¬
щий посреди комнаты гроб; символ бесприютности че¬
ловека в бесприютном мире. (“Ван Гог харкает кровью,
как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола
212
в Ночном кафе наклонены и струятся, как желоб в элек¬
трическом бешенстве. И узкое корыто бильярда напол¬
няет колоду гроба”. - О. Мандельштам.)
Утрата чувства Дома как своего пространства со¬
провождалась переносом смыслового и эмоционального
акцента на пейзаж, с пространства внутри стен - на
внешнее, природное пространство. При этом, если в ро¬
мантическом искусстве образ природы неизменно свя¬
зывался с далевым восприятием (“Я знаю край: там на
брега // Уединенно море плещет; // Безоблачно там
солнце блещет...” -А. Пушкин), зачастую нагружался
ассоциациями прошлого (“звуками Торкватовых ок¬
тав”)13, то теперь в восприятии природы доминирует
лирически окрашенное здесь и теперь.
Во Франции одним из первых стал писать фран¬
цузскую природу, во всей непритязательной поэтич¬
ности ее серо-жемчужного колорита, вернувшийся из
итальянского “далека” Коро. Пейзажи мастеров барби-
зонской школы еще более непритязательны и по коло¬
риту, и по мотивам: место оливковых деревьев и кипа¬
рисов заняли в них дубы, ставшие опознавательным
знаком своей, французской природы.
В живописи импрессионистов распространен¬
ными мотивами становятся разного рода сцены, изобра¬
жающие горожан на лоне природы, - пикники, “завт¬
раки на траве”, трапезы за столиком в загородном
кабачке, в парке, в саду. Природа пригородная, при¬
вычная, ставшая местом временного пребывания город¬
ского человека.В этих загородных, парковых сценках
персонажи обретают утраченный уют домашнего очага.
В картине Ренуара “В саду” уединившаяся пара нашла
приют в тени деревьев; приблизившаяся к ним молодая
женщина раздвигает ветки, словно откидывая занавес¬
ку, чтобы проникнуть в их укромный уголок.
Вслед за “Завтраком на траве” Эдуарда Мане, сы¬
гравшим роль своеобразного манифеста нового искус¬
ства, пишут свои “Завтраки” Клод Моне, Базиль.
Импрессионисты любили изображать стога сена.
Стог - это уже не чистая, естественная природа, это
природа, архитектурно обработаннаяу - удобное мес¬
то для загородного отдыха, естественный приют. В от¬
личие от романтиков, любивших таинственный сумрак
ночи, свет луны и мерцание звезд - импрессионисты
предпочитали дневную, освещенную солнцем природу
Мир внутри и вне стен
213
(“Беззвездное небо XIX века”, - скажет позднее Ман¬
дельштам). Непременным требованием их пейзажей
становится близкая временная и пространственная дис¬
танция; природа разглядывается внимательно, во всех
ее свето-цветовых нюансах, написана именно здесь и
именно сейчас14, очищена от метафоричности и ассо¬
циативности, присущих романтическому восприятию.
“Не то, что мните вы, природа: //Не слепок, не бездуш¬
ный лик - // В ней есть душа, в ней есть свобода, //
В ней есть любовь, в ней есть язык...” - писал Тютчев.
Для барбизонцев и импрессионистов природа - это
именно то, что видит и “мнит” художник, она не обла¬
дает “душой” и не нуждается в разгадывании ей одной
присущего особого языка.
По-иному перелом от первой ко второй половине
столетия обозначился в русском искусстве. Природа
предстает теперь не как образ “прекрасного далека”, но
как “уголок земли”, родной, русской земли в ее смирен¬
ной красе (“Не поймет и не заметит // Гордый взор ино¬
племенный, // Что сквозит и тайно светит //В наготе
твоей смиренной”. - Ф. Тютчев).
Этот “смиренный” уголок овеян лирической грус¬
тью, даже если, как у Саврасова в его картине “Грачи
прилетели”, изображена ранняя весна, когда природа
оживает. В первой половине века с природой связыва¬
лось представление о неизменности, вечности (“...рав¬
нодушная природа // Красою вечною сиять”), которой
стремился приобщиться человек, безмолвно погрузив¬
шись в ее созерцание. Теперь, напротив, в ней замечают
постоянную изменчивость: смену сезонов, капризы по¬
годы - и именно в этой изменчивости усматривают
сходство с жизнью человеческой души.
В сущности, на природу переносятся чувства, свя¬
зывавшиеся с образом Дома как духовного/душевного
убежища - Дома человеческой души. “...Безотчетное,
неодолимое, что тянет каждого человека к земле его”, -
пишет А. Григорьев. А в другом месте признается с го¬
речью: “...Вас выгнало что-то из дому... просто... отвра¬
щение от домашнего очага”. Домашний очаг - слова эти
окрашены горькой иронией, автор как бы мысленно
заключает их в кавычки. Домашнего очага в его преж¬
нем значении уже нет, им становится “родная земля”
(“О! березы, даль немая, // Грустные поля... // Это ты,
моя родная // Бедная земля”. - Д. Мережковский)15.
В живописи неизмеримо повышается роль пейзажа в
214
его лирическом звучании. Особенно - у Левитана. Каж¬
дая его картина - лирическое стихотворение, исповедь
души художника, вылившаяся не в словах, но в зримом
образе. В “Околице” звучит тема пустой дороги, одино¬
чества, ухода, прощания.
В деревне той стоит последний дом,
как будто впереди - конец всему...
Деревня - только робкий переход
между двух далей - все чего-то ждет, -
дорогой этой так легко уйти...
А кто ушел, тот все еще бредет
или давно уже погиб в пути.
Это стихотворение написал Рильке в 1901 году,
после посещения России, которую он считал своей
духовной родиной. Оно, несомненно, навеяно впечатле¬
ниями от пейзажей Левитана, искусством которого он
был страстно увлечен.
У Левитана в картине “Вешние воды” - затоплен¬
ные талой водой высокие, тонкие, уязвимые березки и
голубая даль воды и неба создают настроение осторож¬
ной, еще неуверенной радости ожидания, первой роб¬
кой улыбки - распространенная тема лирической по¬
эзии тех лет. У Шишкина переживание природы как
“уголка родной земли” перерастает в величаво эпичес¬
кие образы Руси, Родины. Особенно в таких монумен¬
тальных полотнах, как “Рожь” или “Корабельная ро¬
ща”. В поэзии тема русской природы приобретает порой
великодержавную окраску:
Под большим шатром
Голубых небес
Вижу, даль степей
Зеленеется...
По степям в моря
Реки катятся
И лежат пути
Во все стороны.
Это ты, моя
Русь державная...
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася...
(И. Никитин)
Мир внутри и вне стен
215
В начале XX столетия, у А. Блока, в гениальном:
“О Русь моя, жена моя, до боли // Нам ясен долгий
путь... // Наш путь степной, наш путь в тоске безбреж¬
ной, //В твоей тоске, о Русь...” - тема России звучит
как мучительно личное, трагическое переживание.
Иосиф Бродский, оглядываясь на ушедший XIX,
пишет: “То было последнее столетие, когда смотрели, а
не взглядывали, когда испытывали чувство ответствен¬
ности, а не смутной вины... Отношения с простран¬
ством основывались на ширине шага...”
Двадцатое столетие: “А веселое слово - дома - //
Никому теперь не знакомо” (А Ахматова)16. Если со
второй половины XIX века в живописи можно наблю¬
дать процесс вытеснения, выдавливания персонажей из
интерьера, то в XX происходит разрушение, разламы¬
вание самого интерьера, когда главные, формообразую¬
щие его элементы - стены, пол, потолок - исчезают
либо оказываются не на своих местах, не в тех соотно¬
шениях друг с другом и с пространством вне стен.
В картине Дерена “Субботний день” образ интерьера со¬
здается не плоскостями стен, но расстановкой мебели,
не столько формирующей пространство комнаты,
сколько загромождающей его, делающей зрительно не
читаемым. При этом самый узнаваемый его признак -
окно - зрительно вдвигается внутрь интерьера, оно не
открывает вид вовне, но словно вдвигает этот вид в само
комнатное пространство.
По-иному, более драматично, словно в результате
подземных толчков, начинает рушиться “Желтая ком¬
ната” Шагала: пол вздыбливается, вот-вот попадает
мебель. В “Красной комнате” Матисса все знаковые эле¬
менты интерьера оказываются парящими в едином про¬
странстве, лишенном третьего измерения (“Комната?
Просто плоскости”. - М. Цветаева). В его картине “За
роялем” внешнее пространство активно проникает
внутрь комнаты, легко преодолевая “перегородок тон-
коребрость”17 (Б. Пастернак). Отдельные части интерь¬
ера все активнее эмансипируются, особенно окно -
находящееся на грани двух качественно различных
пространственных зон. “Окно”, средняя часть Танжер¬
ского триптиха Матисса, обозначает, замечает и погло¬
щает интерьер. Открывающийся за окном пейзаж
вплывает в не изображенную, но подразумеваемую
комнату (“И тех же верб сквозные прутья, //И тех же
216
белых почек вздутья // И на окне, и на распутье, // На
улице и в мастерской”. - Б. Пастернак).
Романтики начала XIX века любили изображать
окно, составлявшее главный смысловой и компози¬
ционный центр интерьера. Именно через окно замкну¬
тое, уютное пространство комнаты вступало в контакт
с большим миром, с далью, с морем, с небом. Этот про¬
странственный диалог с его зовом “Туда!” являл собой
главную образную доминанту картины. У Матисса окно
не распахнуто вовне, в далекое “туда”; напротив, оно
распахивается в “сюда”; за окном есть “пространство,
но // К вам вытесненным выглядит оно” - как образно
сформулировал этот удивительный феномен в одном из
своих стихотворений Бродский.
В 1913 году Шагал пишет картину “Париж” -
тоже изображение окна. Но это - не гармоническое
слияние с природой, где “дышат комнаты привольем”,
это бесприютная жизнь дома на ветру. Сумасшедший,
перевернутый мир города хлынул в комнату с ее стран¬
ными обитателями: сидящим на подоконнике испуган¬
ным котом с перевернутым человеческим лицом и сре¬
занной рамой двуликой головой человека, растерянно
смотрящего одновременно в разные стороны18.
В 1918 году Петров-Водкин пишет окно с видом
на покачнувшийся, потерявший равновесие городской
пейзаж - и со скрипкой на подоконнике. Скрипка - это
принадлежность миру человеческого жилища (подобно
лампе под абажуром и кремовым шторам в романе Бул¬
гакова “Белая гвардия”). Гармоничность самой формы
скрипки, ее совершенная сделанность, рукотворная не¬
повторимость - на фоне рушащегося мира вне стен.
Булгаковское: “Никогда не тушите лампу”.
“Хаотический мир ворвался и в английский
home, и в немецкий Gemiit, хаос поет в наших русских
печах, стучит нашими вьюшками и заслонками. Как
оградить человеческое жилье от грозных потрясений,
где застраховать его стены от подземных толчков исто¬
рии ... дома больше не страхуют от катастрофы”
(О. Мандельштам)19.
Изображение окна как части, обозначающей це¬
лое, - распростаненный мотив в живописи XX столе¬
тия. Обычно это окно с видом изнутри комнаты - нару¬
жу; но в последние десятилетия все чаще появляется
изображение окна снаружи - пустого разбитого окна,
Мир внутри и вне стен
217
заколоченного крест-накрест досками, окна, за кото¬
рым ничего нет, лишь темнота разрушенного войной
жилища, дома утраченного, уничтоженного (Ежи
Кравчик. “Лодзь. 19.01.1945”). Или, наоборот, широ¬
кие витриноподобные окна, открывающие внутреннее
пространство взглядом с улицы (Хоппер. “Ночные пти¬
цы”, “Оффис”). Такие насквозь просматриваемые поме¬
щения утрачивают основные, формо- и смыслообразую¬
щие признаки дома как противополагаемого внешней
среде, замкнутого стенами, недоступного взглядам из¬
вне жилища (“...Я глядел на дома, и они утратили для
меня своей привычный смысл, все то, о чем мы можем
думать, глядя на дом... все скользнуло прочь, как сон,
и остался только бессмысленный облик... Страшная на¬
гота...” - В. Набоков).
На протяжении всего столетия продолжается
демонтаж интерьера, расчленения его на отдельные
части: окна, стены, двери. Потолок и пол - вообще ис¬
чезают. Де Кирико в картине “Метафизический ин¬
терьер” изображает стены пустой комнаты, в которой
тесно, под углом друг к другу поставлены два громозд¬
ких мольберта с картинами. На одной изображен пей¬
заж (обозначающий вид из окна комнаты?), на второй -
два (?) натюрморта (возможно, предметы, находящиеся
в интерьере) и на пустой стене - зеркало, в котором
отразилась пустота20. Нечто вроде предложенной зри¬
телю игры в кубики, из которых мысленно нужно сло¬
жить комнату.
Наружное пространство становится все более аг¬
рессивным по отношению к пространству интерьера,
оно не только пронизывает насквозь стеклянные стены
комнат, оно врывается в них, как в картинах Тайле
(“Прыжок”, “Ожидание”), оно таит в себе угрозу.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе солнце, если ты куришь Шипку...
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
Слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
Шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
(И. Бродский)
Рухнувший Дом, выселивший своих обитателей,
выбрасывает вслед им вещи, мебель. И прежде всего -
стул, предмет, особенно тесно связанный с челове¬
ком как в физическом, так и в метафизическом плане.
218
На протяжении тысячелетий стул, в его разных моди¬
фикациях, выполнял знаковую роль в истории цивили¬
зации. Стул как трон - древний символ божественной и
светской власти - был перенесен в христианскую ико¬
нографию Страшного Суда как “престол уготованный”
(“гетимасия”) для Христа-Судии - “Он придет и восся¬
дет и будет судить живых и мертвых”. История стула/
кресла в новое время - это не только история эволюции
его форм, стилей, но также его функциональной и со¬
циальной характеристик, особенно начиная с XIX века:
стулья деловые, официальные, домашние, удобные,
предназначенные для работы и отдыха, простые дере¬
венские стулья... Стул - один из самых привычных, об¬
житых, одомашненных человеком предметов мебели.
Изображение стула в различных стадиях его оче¬
ловечения все чаще появляется в живописи, начиная с
последних десятилетий XIX века. Это пронзительно ли¬
рические стулья-портреты Ван Гога, это пустые стулья
Матисса, присутствующие в картинах, особенно тех,
что изображают интерьеры мастерской, - стулья, точ¬
нее, один и тот же стул, как знак отсутствия хозяина
или, напротив, его незримого присутствия. В живопис¬
ных метаморфозах Матисса (“Большое платье”, “Крес¬
ло”) в одном случае человеческая фигура обретает фор¬
му кресла, в другом кресло, с букетом цветов на коле¬
нях, очеловечивается. Еще решительнее сращение че¬
ловека со стулом осуществляет Де Кирико в своих мета¬
физических опытах, где человеко-кресло (“тело застыв,
продлевает стул, // выглядит, как кентавр”, - скажет
позднее Бродский) становится вместилищем истории
человеческой цивилизации (“Археологи”, рисунок
“Метафизический интерьер”, где изображен сидящий в
старинном барочном кресле человек-робот, нагружен¬
ный различными измерительными приборами).
В искусстве XX столетия происходит своеобраз¬
ная мифологизация стула или, может быть, точнее -
его тотемизация. Изображение стула в различных мо¬
дификациях его форм и смыслов все чаще возникает в
живописи и графике.
В одном из рисунков Сальвадора Дали мягкое ста¬
ринное кресло прорастает угрожающей окровавленной
рукой и вступает в схватку с окружающими предмета¬
ми; в рисунке Андре Массона “Кресло для Паолины
Боргезе” ожившее кресло превращается в мужскую
Мир внутри и вне стен
219
фигуру, грубо сжимающую в объятьях сидящую в нем
женщину. Стул в искусстве становится как бы знако¬
вой подменой человека, символом обесчеловечения со¬
временной действительности21. Стул как объект изоб¬
ражения (фактически воспроизведения) возникает в
скульптуре, например, у Манцу.
Работавший в Париже американец Поль Тек ста¬
вит обычный современный деревянный стул на трехсту¬
пенчатые носилки, образующие пьедестал, помещает на
сидение макет окровавленного куска мяса и вчитывает в
это несочетаемое сочетание смысл некоего кровавого
жертвоприношения - жертвоприношения стулу?22
Иосиф Бродский, с его обостренным восприятием темпе¬
ратуры времени, сочиняет оду, посвященную стулу:
...Комната года,
В ней только стул. Ваш стул переживет
вас, ваши безупречные дела...
Расшатан, он заменится другим...
материя конечна, но не вещь.
Если изображение окна в живописи стало образ¬
ной заменой комнаты, ее изобразительным знаком, то
стул тесно связан с образом ее обитаемого пространства.
Стул - самый нужный, самый - и функционально, и об¬
разно - важный предмет мебели, самый домашний пред¬
мет, самый интерьеро-образующий (“Что было бы здесь,
если бы не он? // Лишь воздух. В этом воздухе б ви¬
лась // пыль. Взгляд бы не задерживался на // пылинке,
но блуждая по стене, // он достигал бы вскорости окна;
достигнув, устремлялся бы вовне” - И. Бродский). По¬
этому стул, выставленный из комнаты наружу, туда,
“где нет вещей, но есть пространство”, рождает по ассо¬
циации образ комнаты пустой, покинутой. Именно такое
впечатление производит стул, вынесенный из интерьера
и отодвинутый вглубь приусадебного участка в картине
Айо “Гранд Борн”. Само пространство интерьера оказы¬
вается при этом как бы вывернутым наизнанку, пере¬
мещенным вместе со стулом наружу; присущий стулу
образный магнетизм победил пространство природы,
превратив его в пространство комнаты.
Тема выдворенных, выброшенных из комнат сту¬
льев по-разному, с разными смысловыми обертона¬
ми возникает в творчестве многих художников вто¬
рой половины и, особенно, конца столетия. В картине
220
Де Кирико “Стулья в долине” два тесно придвину¬
тых, почти прижавшихся друг к другу кресла - одно с
высокой спинкой, взрослое, другое маленькое, детское,
трогательно поднятое на подставку (мать и дитя) -
теснятся на небольшом островке пола, застеленного
крохотным домашним ковриком, - и все это на фоне
рухнувшего интерьера. Остатки человеческого жилья
после катастрофы. Вариацию этой темы Де Кирико про¬
игрывает в одном из рисунков: тот же островок дощато¬
го пола, на нем - потерявший равновесие пустой стул,
рядом - наклонившаяся в другую сторону часть бал¬
конной решетки и кухонный шкаф - в неустойчивом
положении, готовые рухнуть. А вокруг - пустынный
грозовой пейзаж.
У Клеричи, итальянского художника-метафизи-
ка, изображавшего в своих апокалиптических полот¬
нах мир после нас, - на одной из картин, озаглавленной
“Час двадцать пятый” (время после времени, или сутки
после суток), представлена гладкая пустая поверхность
земли или пола в зале без стен. И на этой абстрактно
ровной поверхности лежат две крышки от древнееги¬
петских саркофагов и сваленные в кучу старые изло¬
манные стулья типа конторских, выброшенные на
свалку из несуществующего Дома.
Картина Клеричи датирована 1968 годом. К этому
же году относится инсталляция Раушенберга, модели¬
рующая с помощью фото-свето-звуко-эффектов процесс
измерения глубин пространства и времени23. Из этих
глубин, разбуженные звуком голосов зрителей, на вне¬
запно осветившихся стеклянных панелях, словно из
прошлого, проступают увеличенные до натуральных
размеров фотографические изображения стульев - оп¬
рокинутых, сваленных в кучи в пустых, разоренных
комнатах. Все, что остается от нашего бездомного, “оза¬
боченного мгновеньем” времени (“...Если ты мгновень¬
ем озабочен, // Твой жребий страшен и твой дом непро¬
чен”. - О. Мандельштам).
По-иному тему гибели Дома решает Сальвадор
Дали, изобразив рояль - предмет еще более интерьер-
ный, нежели стул, - выставленным наружу, в пейзаж;
рояль начал превращаться из музыкального инструмен¬
та в природный объект: из его корпуса вырастает кипа¬
рис и бьет источник, а клавиатура, удлинившись, стано¬
вится шоссейной дорогой, уходящей вдаль к горизонту.
Мир внутри и вне стен
221
Это о мире внутри стен, об интерьере. А простран¬
ство вне стен, пейзаж? Для живописи XX века внешний
мир - это не столько природа, сколько город. Городской
пейзаж охотно писали уже импрессионисты, но это
были городские виды, которыми любуются, - поэтиза¬
ция города, в его новом облике, с новыми ритмами, но¬
вым, преображенным руками человека пространством.
Импрессионисты любили писать город сверху, это как
бы взгляд из театральной ложи на сцену (“Бульвар
капуцинок” Клода Моне), где фигуры случайных пеше¬
ходов составляли балетные мизансцены в красивых
городских декорациях (“На залитой луной площади
стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было
немного, и они точно ее драпировали движущимися,
малоподвижными и неподвижными телами” (Б. Пас¬
тернак о Венеции).
Поэты-урбанисты - Верхарн и много переводив¬
ший его Брюсов - остро чувствовали, особенно в первые
годы XX столетия, поэзию города, магию преображаю¬
щего его электрического света.
Горят электричеством луны
На выгнутых длинных стеблях,
Звенят телеграфные струны
В незримых и нежных руках,
Круги циферблатов янтарных
Волшебно зажглись над толпой...
(Б. Брюсов, 1906)
И его же - из Верхарна:
Кричат афиши пышно-пестрые
И стонут вывесок слова,
И магазинов светы острые
Язвят, как вопли торжества...
Импрессионисты предпочитали писать пейзажи
при дневном свете. Но с начала XX столетия в живо¬
пись все активнее входил искусственный свет город¬
ских фонарей, анилиновые цвета святящихся витрин.
Менялись городские мотивы, менялись городские рит¬
мы. Вместо спокойно раскинувшихся площадей все
чаще появлялись ломавшие пространства мосты, лест¬
ницы, вокзальные платформы; вместо благопристойно
разъезжавших по улицам карет “под крыши перро¬
нов вкатывались спящие города... Большинство из них
222
поезд отшвыривал с пути на всем лету, не изгибаясь”
(Б. Пастернак)24.
Поезд, вокзал - как новая примета городского пей¬
зажа - заинтересовал уже импрессионистов. Одним из
первых заметил поезд в Париже Эдуард Мане. Но в его
картине “Вокзал Сен-Лазар” изображения поезда еще
нет, вернее, он присутствует невидимый, за оградой, че¬
рез которую зачарованно смотрит нарядная девочка.
Клод Моне создает уже целую серию картин, изображаю¬
щих окутанный дымом паровоз на перроне городского
вокзала. Эффектный живописный мотив, где поезд уви¬
ден сторонним взглядом, он еще не вошел в город, не из¬
менил его традиционного облика, его ритмов.
Тема поезда поначалу была воспринята художни¬
ками восторженно. Но в искусстве XX столетия ситуа¬
ция меняется. В картине Де Кирико “Печальное путе¬
шествие” приближающийся из глубины мрачный, тая¬
щий угрозу паровоз входит под тяжелые, темные своды
городских сооружений. Город утрачивает свой мирный,
праздничный характер, становится суровым, враждеб¬
ным. В одной из странных картин Магритта таящаяся
в поезде угроза осуществляется: через пустое жерло
камина паровоз на всех парах врывается в пустую ком¬
нату, в человеческое жилье.
Городская среда в искусстве XX века приобретает
все более враждебный облик. Город - некогда творение
рук человеческих - становится отчужденным, агрессив¬
ным. Возникает иное композиционное построение город¬
ских пейзажей. Точка зрения сверху (позиция овладе¬
ния), при которой раскрывались простирающиеся вширь
площади, уходящие вглубь улицы, - сменяется теперь
точкой зрения снизу (позиция подчинения). Город вздыб¬
ливается, растет по вертикали, становится тесным, давит
своими масштабами (“Нам страшны размеры громадные
// Безвестной растущей тюрьмы...” - Б. Брюсов).
В Картине “Новый мост” Ренуара увиденный свер¬
ху мост зрительно отождествляется с площадью. В кар¬
тине Де Стелла - это уже триумф стальных конструк¬
ций, заслоняющих вид на город с его громоздящимися
вверх высотными зданиями, образ, отторгающий чело¬
века. “...Все механическое... все сконструированное:
еще один мир... сделанный руками человека, мир ском¬
бинированный, искусственный, лживый, фальши¬
вый...” (Пиранделло).
Мир внутри и вне стен
223
Трагедия отчуждения - главная доминанта миро-
настроения человека XX столетия, отчуждение челове¬
ка от среды обитания - и отчуждение среды обитания от
человека. “Крыши Парижа” Штеренберга - ощетинив¬
шийся лесом домовых труб далевой образ безлюдного
города. Еще более безлюден отстраненный, не подпус¬
кающий к себе не город, а, скорее, знак города в карти¬
не Бюффе. И, наконец, у Сассека - освободившийся от че¬
ловеческого присутствия, безмятежный, игрушечный
Париж, в котором обитают одни автомобили, да еще
разноцветные кубики пустых домов. Это даже не
страшно, скорее весело, бездумная “изъятость смыс¬
ла”. Гораздо страшнее, когда механически слаженные
ритмы городской жизни всецело подчиняют себе лю¬
дей, превратившихся в машины (Чебатарев - “Столо¬
вая”; Заславский - “Фабрика”, Леже - “Строители”).
Это страшнее, потому что им самим, этим людям, став¬
шим машинами, не страшно.
Машина, “когда она на ходу, вызывает страх тем,
что работает сама собой и доставляет наслаждение тем,
что работает исправно... Гул машины есть шум от бес¬
шумности, позволяющий расслышать изъятость смыс¬
ла... Гулом обозначается исправный ход коллективной
машины” (Ролан Барт). Человеческие массы - это сла¬
женный механизм: “Достаточно заговорить всем вместе,
чтобы возник гул языка... проникнутый наслаждением
эффект” (“Смерть автора”). Страшный искус безликости
города и обитающего в этом безликом городе человека.
Бесконечно более человечен отчаянный крик оди¬
нокой женщины на мосту в пустом городе в картине
Мунка, написанной накануне XX столетия. И не менее
отчаянно протестующее против засилья города стихо¬
творение современного поэта Семена Липкина:
Я забыть не хочу, я забыть не могу
Иероглифы птичьих следов на снегу,
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Те ступеньки, что скользко сползали к ключу,
Не хочу, не могу эту речку забыть,
Что прошила снега, как суровая нить,
Я забыть не хочу, я забыть не могу
Круг закатного солнца на вешнем лугу,
Я забыть не могу, я забыть не хочу
Эту сосенку вербную, эту свечу.
Только б слышать всегда да и помнить всегда,
Как сбегает с холма ключевая вода25.
224
Примечания
1 См. интересную статью Л. Акимовой и А. Кифишина
“Тени богов. Об онтологическом смысле древних копий” в
сб. “Проблемы копирования в европейском искусстве”
(М., 1998). Согласно авторам, в представлении древних
греков мир был подобен двум сосудам - земли и неба, оп¬
рокинутым друг на друга вместилищами и образующим
шаровидное тело космоса (с. 15).
2 В средние века, замечает Жак Ле Гофф, мебель была, как
правило, разборной. Столы устанавливали для трапезы, а
после трапезы складывали и убирали; вместо шкафов
пользовались сундуками или ларями, функцию стенных
перегородок выполняли ковры. При переезде хозяев всю
обстановку комнат обычно перевозили из одного замка в
другой. Да и самый замок - жилище - в случае поражения
владельцев разрушали, стирали с лица земли. Знамена¬
тельно, что в эпоху Возрождения в аналогичных случаях
замки или палаццо не разрушали, а передавали другим
владельцам (Le Goff J. La civilisation de l’Occident medi6-
val. P., 1972. Обширный материал приводится автором в
главе “Structures spatiales et temporelles”).
3 Для Альберти город (аналог благоустроенного мира) - это
место, которое “дает возможность приятно проводить вре¬
мя досуга, в довольстве и здравии, получать прибыль в де¬
лах, богатеть и постоянно жить вне опасности и в почете”
(“Десять книг о зодчестве”).
4 И не только в живописи, но и в реальной практике город¬
ского строительства. Пример тому - строительная дея¬
тельность одного из самых богатых горожан Флоренции -
Джованни Ручеллаи, который при возведении своего но¬
вого палаццо не только включил в его стены почти целый
квартал, где проживали в отдельных домах его родствен¬
ники, но и присвоил, построив семейную лоджию, прост¬
ранство прилегающей к палаццо площади и частично ули¬
цы, превратив их в парадный зал для торжественных се¬
мейных празднеств.
5 Антонио Аверлино Филарете в своем трактате “Сфорцин-
да”, написанном спустя восемь лет после трактата Альбер¬
ти, рассказывает о строительстве идеального города.
В этом трактате - или, скорее, своеобразном романе-уто¬
пии - автор описывает выбранные для города идеальные
природные условия: здоровый климат, место, защищен¬
ное горами от “вредных” ветров (которых так опасался
Альберти) и открытое ветрам “хорошим”; расположенные
Мир внутри и вне стен
225
вокруг горы “не слишком высоки, с пологими склонами,
поросшими деревьями и различными плодоносящими
растениями”; в реке водится много рыбы и никогда не бы¬
вает наводнений. В этом тексте Филарете легко заметить
утопический ответ на опасения Альберти.
6 “Я ясно увидел, какое расстояние отделяет гений природы
от ума человеческого... что сокровенные причины есте¬
ственных явлений ускользают от человеческого понима¬
ния” (Гассенди).
“Мысль не в состоянии охватить предел и конец мира”
(Бекон).
7 Этот противостоящий человеку мир представляется либо
как самобытие сил природы, либо как стихийные силы ис¬
торической действительности. “Несчастная Европа, кото¬
рая уже столько лет страдат от грабежей, насилия, бед¬
ствий, так мучающих каждого”. Так пишет Рубенс, ху¬
дожник и дипломат, находившийся в самой гуще полити¬
ческих событий.
Ср. аналогичное высказывание Пуссена, мастера стро¬
гих гармоничных полотен, проведшего большую часть
своей творческой жизни в Италии, “скрывшись”, по его соб¬
ственному выражению, “в маленьком уголке”, откуда он
мог следить за событиями, совершавшимися на его родине,
во Франции - да и в остальной Европе. “Меня страшит жес¬
токость века, - пишет он в одном из писем. - Добродетель,
совесть, религия изгнаны из человеческой среды; царствует
лишь порок, обман и корысть. Все потеряно, я не надеюсь
на добро, все полно злом”. И в другом письме: “Да сохранит
своей милостью Господь Францию от того, что ей угрожает.
Мы чувствуем себя Бог знает как”.
В воображаемом мире полотен Пуссена торжествует
“разум, мера и форма”, которыми он пользуется, “чтобы
не выйти за известные пределы и соблюдать во всем изве¬
стную сдержанность и умеренность”, которые “не что
иное, как определенный и твердый порядок...” Вопреки
тому, что творится в мире, он всячески старается избегать
беспорядка, который ему “так же противен и враждебен,
как мрачная темнота противна свету”.
8 В результате обмена веществ “мы находимся в постоянном
течении, как река, с полным разложением нашего тела
после смерти мы войдем составными частями в тысячу дру¬
гих предметов. Наши останки отчасти смешаются с прахом
и влагой земли, отчасти испарятся в воздух, где рассеются и
соединятся с бесчисленными вещами” (Толанд, XVIII век).
226
9 В вечерний мирный час, когда природа дремлет,
Как царствует везде любезна тишина,
Безмолвный твой глагол душа и сердце внемлет,
Друг меланхолии! сребристая луна!
(Нелединский-Мелецкий)
Луна часто встречается у Пушкина, но, скорее, как не¬
который сознательно воспроизводимый романтический
штамп (ср. известные строчки в “Евгении Онегине”:
“...Как эта глупая луна // На этом глупом небосклоне”).
Еще откровеннее иронически-насмешливый тон по от¬
ношению к “царице ночи” позволял себе Лермонтов:
Посреди небесных тел
Лик луны туманный,
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.
Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный.
Видно, там на небесах
Масленица вечно!
10 “...Мечта увидеть наконец Италию, обетованную землю
искусства, не давала мне покою ни днем ни ночью”. “Днем
и ночью грезит моя душа о прекрасных, светлых краях,
они являются мне во всех моих снах и зовут меня” (Вакен-
родер. “Тоска по Италии”).
Небо Италии, небо Торквато,
Прах поэтический Древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?..
(Е. Баратынский)
11 Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес,
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит...
Там счастье, друг! Туда! Туда!
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!
(В. Жуковский)
Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет;
Где вечный лавр и кипарис
Мир внутри и вне стен
227
На воле гордо разрослись;
Где жил Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы...
(А Пушкин)
Друг милый, ангел мой! Сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
Под небом сладостным полуденной страны...
(К. Батюшков)
В интерпретации А. Толстого образ прекрасной Италии
вытеснен образом столь же прекрасной для него Украины:
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора...
Туда, туда всем сердцем я стремлюся,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко...
12 И не только в России. Ср. у Мопассана: “Когда я сижу ве¬
чером дома... мне начинает казаться, что я один в целом
свете, что я до ужаса одинок... Перегородка, отделяющая
меня от моего неведомого соседа, создает между нами та¬
кое же расстояние, как от меня до звезд... меня пугает без¬
молвие стен. Сколько грусти в этом глубоком молчании
комнаты...” (“Милый друг”).
13 Свод лазурный, томный ропот
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шепот
И любовный свет луны...
Упоенье аромата
И цветов и свежих трав,
И вдали напев Торквата
Гармонических октав...
(И. Козлов)
14 По выражению Бергсона, импрессионистическая живо¬
пись передает “трепет секунды”.
228
15 Мотив “родной земли” звучит у многих поэтов второй по¬
ловины XIX столетия:
Кой-где березовый лесок,
Необозримая равнина,
Болото, глина и песок,
Пускай все это и уныло,
И некрасиво, и бедно,
Пусть хорошо все это было
Знакомо нам давно -
Налюбоваться не могли мы
На эти ровные поля...
О север, север мой родимый,
О север, родина моя!
{К.Р.)
16 Об этом же одно из самых пронзительных стихотворений
Марины Цветаевой:
Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно -
Где совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что - мой,
Как госпиталь или казарма...
То же чувство утраты своего дома звучит в стихотворе¬
нии Слуцкого “Чужой дом”:
Я в комнате, поросшей бытием
чужим,
чужой судьбиной пропыленной,
чужим огнем навечно опаленной.
Что мне осталось?
Лишь ее объем.
Мне остаются пол и потолок,
но пол не я в смятении толок,
и потолок не на меня снижался,
не оставляя
ни надежд,
ни шансов.
Ландшафт, который ломится в окно,
не мной засмотрен
и не мной описан.
В жилой квадрат я до сих пор не вписан...
Мир внутри и вне стен
229
Тема бегства из дома, ухода звучит в поэзии Самой¬
лова:
В уходе есть свое величье,
Когда, не подсчитав потерь,
Выходят прямо в безграничье
И не запахивают дверь...
И в другом стихотворении:
Здесь дерево качается: - Прощай! -
Там дом зовет: - Остановись, прохожий! -
Дорога простирается: Пластай
Меня и по дубленой коже
Моей шагай, топчи меня пятой,
Не верь домам, зовущим поселиться.
Верь дереву и мне. -
А дом: - Постой! -
Дом желтой дверью свищет, как синица.
А дерево опять: - Ступай, ступай,
Не оборачивайся. -
А дорога:
Топчи пятой, подошвою строгай,
Я пыльная, но я веду до бога!
Опять дорога мне: - не тяготи!
Ступай отсюда, конный или пеший. -
А дом - оконной плачет он слезой...
(Пунктуация автора)
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Еще решительней этот демонтаж комнаты или, скорее,
тщетную попытку ее монтажа совершает Марина Цветаева:
...Я запомнила две стены,
За четвертую не ручаюсь.
Кто же знает, спиной к стене?
Может быть, но ведь может не
Быть. И не было. Дуло...
Потолок достоверно был,
Не упорствую: как в гостиной,
Может быть, и чуть-чуть косил...
Ну, а пол -
Был? На чем-нибудь, да ведь надо ж...
Оттого ль, что не стало стен -
Потолок достоверно крен
Дал...
(“Попытка комнаты”)
18 Хочу привести в этой связи выразительные строки совре¬
менного поэта Д.А. Пригова:
Что-то воздух какой-то кривой
Так вот выйдешь в одном направлении
А уходишь в другом направлении
Да и не возвратишься домой
А, бывает, вернешься - Бог мой
Что-то дом уж какой-то кривой
И в каком-то другом направлении
Направлен.
(Пунктуация автора)
19 “Хаос поет” не только “в печах”, но и в коридорах:
Корридоры: домашнесть дали...
Корридоры: домов каналы...
Корридоры: домов притоки...
Корридоры: домов туннели...
Корридоры: домов ущелья...
(М. Цветаева. “Попытка комнаты”)
20 Ср. у Пруста описание гостиничного номера в Баальбеке:
“Номер, стены которого выкрашены эмалевой краской,
точно отшлифованные стенки бассейна, где вода отливает
голубизной... [оформитель] поставил вдоль трех стен низ¬
кие книжные шкафы со стеклянными дверцами, и это со¬
здавало непредвиденный им эффект: в зависимости от то¬
го, где стоял шкаф, в его дверцах отражалась та или иная
часть изменчивой картины моря, так что на стенах как бы
разворачивались фризы со светлыми морскими видами,
отделенными один от другого полосками красного дерева”
(“В сторону Свана”).
Мир внутри и вне стен
231
21 К теме исчезновения человека, вычеркивания его обра¬
щается современный итальянский художник Альберто
Суги (“Исчезновение человека”, “Вернется ли человек?”).
В 1969 году он пишет картину, где представлено тщатель¬
но выписанное массивное кожаное кресло, которое зани¬
мает почти все поле изображения; в кресле сидит пустой
мужской костюм, написанный в столь же тщательной ма¬
нере (вплоть до фирменного ярлычка на внутренней сторо¬
не воротника рубашки). При этом верхняя часть костюма
обладает повышенной материальностью, но ниже пояса
формы теряют четкость, размываются, исчезают. Справа
изображена собака; положив голову на поручень хозяй¬
ского кресла, она с внимательной преданностью смотрит
на исчезнувшего хозяина, вернее, на его сидящий в при¬
вычной, знакомой ей позе пустой костюм. (Невольно при¬
ходит на память аналогичный эпизод из романа Булгако¬
ва “Мастер и Маргарита”.)
В скульптуре, наряду с вполне нейтральными стулья¬
ми Манцу, чисто сюжетно включаемыми им в компози¬
цию (женская фигура, сидящая на стуле), у таких масте¬
ров, как Магритт или Макс Эрнст, стул превращается в
зловещую пластическую метафору обесчеловечивания
или, точнее, расчеловечивания человека. У Магритта
бронзовая группа “Исцелитель” представляет собой сидя¬
щую мужскую фигуру, сложенную из клетки с птицей
(метафора грудной клетки?), наброшенного на нее пиджа¬
ка, шляпы на месте головы, брюк и ботинок; в руках “ис¬
целителя” - трость. То ли человек, сидящий на стуле, то
ли стул, похожий на сидящего человека.
22 Чудовищный по своей бесчеловечности триумф пустого
Стула создает Макс Эрнст в монументальной группе “Ко¬
зерог”.
23 Произведение Раушенберга называется “Echolotungen”,
что означает способ измерения морских глубин специаль¬
ным инструментом - эхолотом, действующим при помощи
звуковых сигналов.
24 Восторженное восприятие поезда как приметы будущего
характерно для футуристов: “Пусть широкогрудые паро¬
возы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят
от нетерпения на рельсах” (Маринетти, автор манифеста
“Футуризм”, 1909).
Ср. у Набокова:
“...Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что
каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого
232
дома; вот он вошел с той стороны, призрачный гул его
расшатывает стену, толчками пробирается он по старому
ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, нако¬
нец, с холодным звоном в окно, - и сразу за стеклом вы¬
растает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, из¬
верженный дымом: тускло-оливковые вагоны... и куцый
паровоз, что... оттягивает вагоны в белую даль между
слепых стен... Так и жил весь дом на железном сквозня¬
ке” (“Машенька”).
25 В сущности, о том же, хотя и в ином образном ключе, на¬
писано стихотворение другого лирического поэта - Дави¬
да Самойлова:
Если б у меня хватило глины,
Я б слепил такие же равнины;
Если бы мне туч и солнца дали,
Я б такие же устроил дали.
Все негромко, мягко, непоспешно,
С глазомером суздальского толка -
Рассадил бы сосны и орешник
И село поставил у проселка.
Без пустых затей, без суесловья
Все бы создал так, как в Подмосковье.
Слово - и жест
Слово -
и зримый образ
в европейской
живописи
от средних веков
до XX века
Наиболее адекватной способнос¬
тью “озвучивать” изображение,
переводить его на словесный
язык обладает жест. Жест таит
в себе две различные и, в сущ¬
ности, противоположные воз¬
можности: он может служить не¬
посредственной заменой слов,
безмолвным способом передачи
словесной информации; в то же
время каждый жест неизменно
воплощается в движении, и в
этом своем качестве он приобре¬
тает самостоятельный, пласти¬
ческий смысл, переходя в позу;
поза может и не заключать в себе
непосредственного словесного
эквивалента. Оба эти аспекта -
“грамматика” жеста и его “плас¬
тика” - сосуществуют в сложном
соотношении и по-разному про¬
являются как в жизни, так и в
искусстве. Жест может обладать
большей словесно-информацион¬
ной нагрузкой или, напротив,
содержать в себе меньшее или
нулевое словесное сообщение,
становясь “жестом в себе” - то
есть чистой позой, чистым дви¬
жением.
В искусстве Древнего Вос¬
тока, особенно Египта, эти две
функции - словесная и пластиче¬
ская - оказываются не совме¬
щенными. Пластика жеста, его
строго фиксированная экспрес¬
сивность, совершенная найден-
ность поз и движений существу¬
ют в полной несоотнесенности со
словесной информацией, кото¬
рая сообщается в обильных текс¬
тах, часто расположенных не
234
только на фоне, но и непосредственно на самих фигурах
изображенных персонажей. Слово отслаивается от жес¬
та, речь как бы разложена на составные элементы,
словно в немом кино, - боги и люди безмолвствуют, а
речь их дана в титрах. Особенно выразительно это рас¬
слоение в фигурках ушебти с их скрещенными, туго
прижатыми к телу руками - молчаливая поза повино¬
вения, готовности. И все это сказано в надписях, рас¬
положенных прямо на фигурке - то есть не за кадром,
а как бы от первого лица.
Ситуация меняется в женских статуях (корах)
периода греческой архаики. В них начинает оживать
сама фигура - сомкнутые губы раздвигаются, появ¬
ляется имперсональная улыбка - это уже начало
мимики. И жест протянутой вперед руки, предлагаю-
щей/приносящей в дар цветок или яблоко. Бессловес¬
ное обращение к кому-то (божеству? в никуда?) на ре¬
льефе, изображающем Афину, опирающуюся на копье
(ранняя классика) - жест не говорящий, но высвобож¬
дающий фигуру из плена архитектуры - словно кан-
нелированная колонна покачнулась и, опершись о ко¬
пье, не рухнула, но сохранила равновесие - обрела
архитектоническое самостояние (особенно вырази¬
тельны широкие ступни ног, твердо стоящих на земле,
и независимый жест руки, опершейся о бедро - “могу
стоять сама”!).
Аналогичный процесс пробуждения жестикуля¬
ции можно наблюдать в фигурах архаических куросов.
Та же безадресная улыбка обращенности вовне. И по¬
пытки овладения своим телом; первые жесты, не рук,
как в женских фигурах, но жесты ног, - напряжение
мышц и шаг вперед - сначала при неподвижном кор¬
пусе выдвинутая вперед нога, затем наметившееся дви¬
жение всего тела - и напряженная мускульная жести¬
куляция.
Это демонстрация телесного самобытия получает
свое наивысшее воплощение в классической фигуре
Аполлона Бельведерского - в его свободном движении,
в легкой поступи, в откинутом плаще, в свободном раз¬
вороте - в профиль, в три четверти, в фас. В античной
греческой скульптуре жестикуляция не подразумевает
слов, она молчаливо самодостаточна.
Слово в Греции, независимое от пластики, чистое
слово получает развитие в ораторском искусстве. В идеале
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
235
разрушаются в здании первыми, и сделать их стойкими
“против всех вредных воздействий непогоды до сих пор
едва удавалось постоянному промышлению и искусст¬
вам человеческим, хотя все уже было испробовано”.
Поэтому, заключает Альберти свои наблюдения над
судьбой древних зданий, “одни крыши быстро сгни¬
вают, другие разрушаются, третьи перегружают стены,
четвертые трескаются и ломаются, пятые размывают¬
ся, и даже металлы, в других случаях неодолимые для
вредных влияний непогоды, не могут выдержать здесь
столь многих напастей”43. Ссылаясь на письменные ис¬
точники, Альберти перечисляет разные способы и мате¬
риалы, применявшиеся у народов древности для по¬
крытия крыш; и все они в конечном счете не выдержа¬
ли испытания временем. Крыша у Альберти, точнее, ее
отсутствие - это некая негативная доминанта в архи¬
тектурном облике руин Древнего Рима.
Из того, что выдержало испытание временем и
что прежде всего бросалось в глаза среди развалин рим¬
ских форумов, что служило пространственным ориен¬
тиром в городской планировке - были колонны. Части
колоннад или отдельно стоящие, они и в наши дни слу¬
жат самым главным, самым красноречивым наземным
свидетельством античного прошлого Рима. Именно ко¬
лонны, но не стены - стены сохранились хуже, они в
большей степени страдают “от землетрясений, молний,
всяческих непостоянств грунта”, “которые скрыты и
действуют неожиданно”. Стены часто “дают трещины,
либо рассыпаются, либо ломаются в костяке, либо от¬
клоняются от прямизны отвесной линии”44. Отсюда
следует кажущееся парадоксальным утверждение:
“Рассматривая понятие стен, следует начинать с более
достойного. А именно, здесь уместно будет сказать о ко¬
лоннах, поскольку ведь ряды колонн не что иное, как
стена, во многих местах пробитая и разомкнутая (!)”.
Иными словами, говоря о стене, Альберти зрительно
представляет себе не стену, поскольку большинство
стен рухнуло, но гораздо лучше сохранившиеся колон¬
ны, которые как бы намечают (намекают на) плоскости
некогда располагавшихся за ними стен. Отсюда возник¬
ший у Альберти смелый образ: “Желая определить ко¬
лонну, я не ошибусь, сказав, что она есть некая крепкая
и постоянная часть стены, сооруженная отвесно от зем¬
ли до вершины для поддержания крыши”45. Таким
462
образом, интерколумнии, по мысли Альберти, - это не¬
существующие, рухнувшие части стен, поддерживаю¬
щие несуществующую, рухнувшую крышу. Порази¬
тельно, до какой степени Алберти в своих представле¬
ниях об архитектуре, сознательно или подсознательно,
зависел от зрительных образов римских развалин. Если
крыши (увы, как правило, не сохранившиеся) состав¬
ляют самую функционально важную часть всякой по¬
стройки, то колонна - самая прекрасная ее часть: “Во
всем зодчестве, бесспорно, первое украшение - колон¬
ны. Ибо и многие, поставленные вместе, украшают пор¬
тик, стену и всякий род отверстия, и отдельные также
не лишены красоты, украшая распутья, театры, пло¬
щади, храня трофеи, служа монументом, красуясь и
придавая достоинство окружающему”46.
Третим важным элементом древней архитектуры
была для Альберти триумфальная арка, поскольку
арка, как и колонны, - заметный издали высотный
ориентир: “Что особенно украшает форум и перекрест¬
ки - это арки, поставленные у входа в улицу, ибо арка -
как всегда открытые ворота”47.
Наконец, еще один мотив, привлекший внимание
Алберти и также навеянный его архитектурно-археоло¬
гическими изысканиями, - это арочне своды; возмож¬
но, в этом случае Альберти имел в виду не только (и не
столько) античные, но также средневековые здания, во
всяком случае - раннехристианские. “Я не умолчу
здесь о том прекраснейшем и достойном высшей похва¬
лы, что я заметил у древних: а именно, что арки сводов
лучшими архитекторами делались так, что если отнять
в храмах все внутренние колонны, все же арки проемов
и крыш уцелеют и никоим образом не обрушатся”48.
Этот строительный прием “древних”, увиденный Аль¬
берти в натуре и оцененный по достоинству, получил
широкое применение в архитектуре кватроченто.
Но пафос Альберти состоял не только в заботах о
сохранности древних памятников, попытках прекра¬
тить их разрушение. Он пытался восстановить, возро¬
дить и достроить разрушенное, как это, очевидно, полу¬
чилось с проектом реконструкции моста Адриана и,
возможно, некоторых других сооружений. Наконец, в
своих собственных, оригинальных проектах - Темпио
Малатестиано в Римини и алтарной ротонде церкви Сан-
тиссима Аннунциата во Флоренции - дать собственный
Альберти и Рим
463
произносимая оратором речь мыслилась в полном от¬
рыве от визуального сопровождения. Оратор должен
был добиваться успеха, не помогая себе руками, владея
в совершенстве мастерством произнесения слова. “Вся¬
кая речь должна быть составлена словно живое суще¬
ство - у нее должно быть тело с головой и ногами, при¬
чем туловище и конечности должны подходить друг
к другу и соответствовать целому”. Сократ утверждал,
что речь строится по законам пластического искусства,
но без помощи зрительных образов. Даже письмен¬
ная речь, то есть речь, зрительно зафиксированная, об¬
ладает, по сравнению с речью устной, недостатком,
присущим искусству изобразительному - “...дур¬
ная особенность письменности, поистине сходной с
живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси
их - они величаво и гордо молчат...” В искусстве Древ¬
ней Греции происходит отчетливое размежевание жес¬
та - и слова, их взаимообособление.
В Древнем Риме, в ораторском искусстве, напро¬
тив, большую роль придавали мимике, жестикуляции,
внешнему поведению оратора; тщательно отрабатыва¬
лось не только построение речи, как это было в Греции,
но и визуальный способ ее публичной подачи. Высту¬
пающие порой даже злоупотребляли жестикуляцией -
сильно размахивали руками, прыгали, впадали в неис¬
товство. Сохранилось высказывание Квинтилиана,
осуждавшего неумеренные и неконтролируемые жесты
ораторов. Римский жест, адресно направленный к тол¬
пе слушающих, рассчитан на большую дистанцию,
в нем преобладает паралингвистическая система выра¬
жения. Римский оратор жестикулировал не только
руками, не только всем телом - но и одеждой, - красно¬
речиво манипулируя складками тоги.
Аполлон Бельведерский в Греции отбрасывает
плащ, демонстрируя свободную “мимику” обнаженного
тела. Раненый Помпей, умирая, успевает закрыть лицо
краем плаща1.
Слияние слова и жеста в единый словесно-зримый
образ совершается в искусстве средневековья. Согласно
Ле Гоффу, средневековую культуру следует рассматри¬
вать как культуру жеста; одновременно это была куль¬
тура Слова (определение С. Аверинцева). Средневеко¬
вый жест становится не только сопровождением слова
(как у римских ораторов), не только его обозначением,
236
его знаком, но его прямым во-площением (“...и Слово
стало плотью...” - Иоанн), его телесной ипостасью2.
Знаковая сторона средневековой жестикуляции,
ее “грамматика” изучена достаточно подробно. Начи¬
ная с раннесредневекового искусства изображение
руки воспринималось как обозначение Слова, точнее -
прозвучавшего с небес гласа Всевышнего. В этом своем
значении слово-образа рука появляется в средневеко¬
вой живописи очень рано и сохраняется в ветхозавет¬
ных сценах и часто в сценах “Благовещения” как свое¬
образное визуальное подтверждение слов архангела
Гавриила. Постепенно сложилась строго фиксирован¬
ная символика пальцев: мизинец обозначал веру, безы¬
мянный - раскаяние, средний - милосердие, указа¬
тельный - разум, большой - божественность. Известно,
какие горячие споры вызывал вопрос о перстосложении
(двуперстном, трехперстном) в жесте благословения и
молитвы. В иконописи существовала фиксированная
система жестов, обозначавших поведение персонажей в
определенных сюжетных ситуациях (благословение,
молитвенное пред стояние, покорность, оплакивание,
печаль)3. Но, помимо знаковой стороны, существует
иная, образно-смысловая сторона средневековой же¬
стикуляции - то, что отличает ее и от самобытия жеста
в себе в искусстве античной Греции, и от обращенного
вовне говорящего ораторского жеста в искусстве древне¬
римском. Сущностное отличие средневекового жеста в
том, что он объединяется со словом по формуле
“нераздельно и неслиянно”. Речь идет не о бытовом,
профанном жесте, но о жесте ритуальном, богослужеб¬
ном - о новозаветном, евангельском жесте.
Евангельский жест, как правило, бесконтактен,
подобно слову, он бросается в пространство, подобно
слову, он действует на расстоянии. В сцене “Благовеще¬
ние пастухам” (Испания, XIII век) жест открытый,
словно выпущенные на простор из разжавшейся ладони
слова: “Слушайте! Слушайте!” Жест не направленный,
обращенный не к одному, но ко многим, ко всем.
В сцене “Св. Франциск изгоняет бесов из города”
(Ассизи, XIII век) снова жест бесконтактный, однако -
согласно иной сюжетной ситуации - задающий направ¬
ление зрительно произнесенным словам Франциска:
“Изыди, сатана!”, словам, которые должны сотворить -
и творят - чудо изгнания бесов из города.
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
237
Средневековое качество слиянности слова - и же¬
ста, звука - и пространства с гениальной прозорли¬
востью угадано О. Мандельштамом в его “Разговоре о
Данте”: “Поэт бросает звук в архитектуру души... и сле¬
дит за блужданием его под сводами чужой психики...”
Образ бросания звука сливает воедино жест (бросок) и
слово (звук). При этом возникает представление о резо¬
нирующей среде, отзывающейся на “блуждание” слова
под “сводами”. В свою очередь “своды” рождают зри¬
тельный образ храмового пространства. Жест - и в этом
средневековое прозрение поэта (возможно, навеянное
чтением строк Данте) - оказывается не только произве-
денныМу но одновременно произнесенным, звук не
только услышанныМу но одновременно увиденным
(Слово Божие “являет себя миру в рисунке движе¬
ний” - Ареопагитики, III век).
Средневековый жест, именно благодаря своей от¬
крытости, обладал способностью порождать звуковые
волны, воздействующие на окружающую среду. У Дуч¬
чо в “Искушении Христа” по мановению руки Иисуса,
произнесшего слова отвержения дьявольских искуше¬
ний, совершается композиционное преображение ико¬
нографической ситуации: скалы зрительно воздви¬
гаются, образуя пьедестал для фигуры Христа, одно¬
временно отвергаемые Им города проваливаются на дно
композиционного поля.
Средневековое слово-жест, способное не только
“блуждать под сводами”, но и разрушать и создавать
заново здания, как, например, в византийской иконе
“Благовещение” (XIV век), где архитектура, построен¬
ная на основе античного принципа равновесия несу¬
щих и несомых элементов, колонн и давящих на них
балок, оказывается поверженной и возведенной заново
по иному, средневековому принципу - не в соответ¬
ствии с законами равновесия, но вопреки этим зако¬
нам. (Красноречивая деталь: одетая по-античному слу¬
жанка, помещенная на заднем плане, испуганно хва¬
тается за античную колонну, которая неожиданно для
нее, вопреки всем законам архитектоники, шагает на
первый план.) Архангел благословляющим жестом
произносит слова Благой Вести, с которой начинается
Новый Завет, и вся нижняя часть здания словно вслед¬
ствие некоего подземного толчка рушится, и возникает
новый Град Божий, вознесшийся над головами Марии
и Архангела высокими средневековыми башнями.
238
Все эти трансформации - что особенно важно -
происходят не столько на сюжетно-иконографическом,
сколько на глубинном уровне - на уровне композицион¬
ном. Средневековые иконы, как правило, производят
впечатление статичных - однако за этой иконографи¬
ческой статикой таится огромная внутренняя компози¬
ционно-смысловая динамика, раскрывающаяся зрению
как слуху и слуху как зрению.
Важная особенность средневекового жеста - его
принципиальная несоизмеримость с сюжетно-психоло¬
гической ситуацией: он либо перехлестывает ситуацию,
производит впечатление чрезмерного, либо, напротив,
недостаточно выразителен. Ритуальные жесты, как пра¬
вило, сдержанны, их сковывает строгая обрядовая по¬
вторяемость движений, поз, произносимых слов или
молчаливой “умной молитвы” (как говорили в Древней
Руси). Архангелу Гавриилу достаточно протянуть руку
жестом благословения и произнести всем известную фра¬
зу, чтобы мир обновился; Христу в иконе Дуччо доста¬
точно сделать движение рукой, чтобы совершилась при¬
родная катастрофа, подобная землетрясению.
Психологическая неадекватность жестикуляции
появляется, как правило, при изображении не обрядо¬
вых, но, условно говоря, бытовых сцен на евангельскую
тематику или неритуализованного поведения персона¬
жа. В одной из миниатюр IX века изображен евангелист
Марк, пишущий Евангелие, пишет он с таким психоло¬
гически неправдоподобным физическим и духовным
напряжением, что жилы вздулись у него на шее, воло¬
сы встали дыбом, руку с пером, кажется, свела судоро¬
га, нога так сильно оперлась о подножие, что сдвину¬
ла его с места, вся одежда пошла мелкими складками.
Он словно произносит вслух каждое написанное слово.
Это не ритуал. Он просто пишет, но пишет Новое Слово,
Новый Завет, призванный изменить мир, и ему необхо¬
димо огромное, сверхчеловеческое напряжение. Он пи¬
шет не в келье, келья для этого тесна, он пишет на при¬
роде, и вся природа - горки, травы, деревья - реаги¬
руют на его усилия, повторяя его жесты, движения его
тела. О психологическом правдоподобии здесь не может
идти речи, здесь должна быть другая шкала оценок.
Ритуальные жесты - клишированы, они не произ¬
водятся, но воспроизводятся. Бытовой жест не клиши¬
рован, каждый раз он как бы изобретается художником
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
239
заново, и потому он подчеркнуто экспрессивен, он тре¬
бует особых усилий, как бы повышенной интонации, в
нем есть некоторое утверждение первонайденного дви¬
жения, первопроизнесенного слова. Он требует боль¬
ших усилий, чтобы привлечь внимание, докричаться.
Изображение “Неверия Фомы” XII века покоряет наив¬
ной патетикой жестикуляции, передающей лакони¬
ческую простоту и незамысловатость повествования.
Фома: “Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, не
вложу перста моего в Его раны от гвоздей и не вложу
руки моей в ребра Его, не поверю”. Христос: “Подай
перст твой сюда... подай руку твою и вложи в ребра
мои; и не будь неверующим, но верующим”. Это чув¬
ство первоувиденного - и в сюжете, и в иконографи¬
чески не закрепленной жестикуляции, которая не про¬
сто сопровождает слова, но презентирует их, провоз¬
глашает, почти выкрикивает: Вот! Смотри! Потрогай!
И Фома трогает с любопытством, серьезностью, с бес¬
сознательной жестокостью ребенка - “Влагает персты в
рану Христа”. В этих бытовых евангельских сценах
есть особая покоряющая искренность перво-увиденного
и перво-произнесенного.
Средневековый человек обладал повышенной вос¬
приимчивостью к воздействию энергийных сигналов,
исходящих с небес, был способен слышать “музыку, за¬
ключающуюся в пропорциях, количестве и качестве
движений, и воздействия небесных тел” (Николай
Орем).
Эти экстрасенсорные качества утрачиваются в
искусстве Возрождения. Уже у Джотто, в его падуан-
ских фресках жест перестает действовать на расстоя¬
нии, он обретает силу лишь при непосредственном при¬
косновении, происходит своеобразное короткое замы¬
кание жестикуляции.
В сцене “Изгнания Иоакима из храма” в капелле
Скровеньи (XIV век) первосвященник изгоняет Иоаки¬
ма не словами - он выталкивает его обеими руками,
выпихивает, в буквальном смысле этого слова - выстав¬
ляет за порог. Иоаким, недовольный, оборачивается
через плечо (Убери руки!). Но при этом в окружающем
мире ничего не происходит. Мир умолкает.
Мир молчит даже тогда, когда ангел является
(здесь - просто прилетает) к спящему Иоакиму, чтобы
возвестить (здесь - просто сообщить) ему слова Бога-
240
Отца. Жест ангела перестает действовать на расстоя¬
нии, выброс энергии иссякает. Иоаким продолжает
мирно спать, горки неподвижны, даже крышу с шала¬
ша не сорвало божественным ветром; овцы спокойно
пасутся, а пастухи проявляют не удивление, а простое
любопытство. Ничего похожего на то, как восприни¬
мает явление ангела средневековый пастух в испанской
фреске XIII века, где земля встает дыбом, а пастух слов¬
но пронизан электрическим разрядом.
Во фресках Джотто происходит обеззвучивание
окружающей среды. Умолкает земля, умолкает воздух,
умолкает “музыка небес”, исчезает резонанс слов, во¬
площенных в жестах. Сцена “Оплакивание Христа” -
самая драматичная в евангельской иконографии, у
Джотто особенно дрматична, поскольку все действие
замкнуто в себе, оно не получает выхода за пределы со¬
бытия, не излучается вовне, в окружающую среду, в
мир. Композиция предельно сконцентрирована на фи¬
гуре Усопшего. Оплакивающие (“хор”) образуют кули¬
сы, обрамляющие и сжимающие с двух сторон сцени¬
ческую площадку; парящие ангелы замыкают компо¬
зицию сверху, заслоняя небеса. Небо молчит, зато
рыдают и бурно жестикулируют ангелы, совсем как ох¬
ваченные горем простые смертные. Ритуальная сцена
“Оплакивания” решена у Джотто как земная сцена про¬
щания с покойником. Вся группа собравшихся вокруг
тела Христа погружена в скорбное молчание, особенно
выразительны фигуры первого плана, изображенные
со спины (зрительный эквивалент полного молчания -
по Флоренскому); единственный громкий жест Иоанна
обращен не к безмолвным небесам, а к мертвому Хрис¬
ту. Образный центр композиции - трагический диалог
двух профилей - Марии и мертвого Христа. Ее обни¬
мающие руки - выразительный мотив касания, столь
важный для изобразительной поэтики Джотто. Экви¬
валентом слова у Джотто становится не открытое веща¬
ние в эфир9 но закрытое, телесное прикоснове¬
ние. А также жест взгляда. Джотто активно вводит
профильные иображения. В средневековом искусстве
священные персонажи, как правило, изображались
в фас. Фасовое изображение, по выражению Флорен¬
ского, “покоится”, оно является источником излучения
божественной энергии. Христа в иконах изображали
в фас. Профиль Христа встречается лишь как редкое
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
241
исключение. В профиль, то есть отвернувшимися, изо¬
бражали злые силы - чертей, грешников, - чтобы ниве¬
лировать или, во всяком случае, ослабить силу их вред-
него воздействия на молящихся. Во фресках Джотто
Христос часто изображается в профиль - главным обра¬
зом в сценах чудес, когда Его активно направленный,
напряженный взгляд - зрительный аналог властного
слова: “Встань!”, “Иди!” - не благословение, но повеле¬
ние, приказ.
“Профиль - это такой онтологический поворот,
при котором... изображается не лицо, а функция его,
его деятельность” (П. Флоренский).
В сцене “Воскрешение Лазаря” Христос, изобра¬
женный в профиль, творит чудо властным жестом и
властным, строго направленным взглядом. Их дей¬
ствие упирается в фигуру восставшего Лазаря - и за¬
мыкается внутри изображения. Это ясно выраженное
движение духовной энергии по горизонтали зрительно
усиливается активной горизонтальной направлен¬
ностью взглядов всей толпы свидетелей.
Во фресках Джотто жестикуляция утрачивает
пространственный резонанс, жесты персонажей не
“бросаются” в пространство, подобно словам, не полу¬
чают отклика в окружающей среде - они перестают
быть средством общения неба с землей и земли с небеса¬
ми, теряют средневековую безмерность; рассчитанные
на короткую дистанцию, они становятся средством не¬
посредственного общения персонажей друг с другом,
общения прикосновением или взглядом; они обретают
соразмерность психологической ситуации.
Эпохе Возрождения средневековые жесты пред¬
ставляются неадекватными, бессмысленными “и долж¬
ны быть помещены в главу о сумасшествии или шутах”
(Леонардо). “Ты не должен делать больших движений
при маленьких душевных состояниях и маленьких
движений при больших состояниях”, - настаивал Лео¬
нардо, обращаясь к художникам. Леонардо много рас¬
суждал о характере жестикуляции. Жесты, по его сло¬
вам, должны “подражать всем движениям души”
(именно “всем”, а не только освященным ритуалом,
иконографической традицией), а это “дело нелегкое”.
И далее: “Фигуры людей должны обладать позами,
соответствующими их действиям, чтобы, глядя на них,
ты понимал, о чем они думают и говорят”. Иными
242
словами, жесты, по Леонардо, должны возможно более
точно сопровождать произнесенные или продуман¬
ные человеком слова. Не произносить слова, как это
было в искусстве средневековом, но их визуально ком¬
ментировать, создавать параллельный изобразитель¬
ный ряд.
Итальянские художники кватроченто стараются
найти психологическое оправдание традиционным ри¬
туальным жестам, перейти от ритуальной жестикуля¬
ции к жестикуляции профанной.
У итальянцев XIV века Мадонна изображена в
фас, она уподоблена “трону одушевленному”, на кото¬
ром восседает Младенец; пальцы Его правой руки сло¬
жены в жест благословения. В XV веке, у Филиппо
Липпи, Младенец характерным жестом ребенка тянет¬
ся к Марии (словно просясь “на ручки”).
У Леонардо в “Мадонне Бенуа” Мария изображе¬
на совсем юной, почти девочкой (согласно Евангелию,
ей было не более 15 лет). Она играет с ребенком, протя¬
гивая ему крестоцвет (не подозревая, что это символ
Распятия). Младенец, с детской старательностью еще
не точных движений, пытается схватить цветок. Пси¬
хологическое правдоподобие жестикуляции соблюдено
здесь полностью.
“Тайная вечеря” Леонардо представляет собой
своеобразную энциклопедию жестов, точно комменти¬
рующих слова, произнесенные каждым из присутствую¬
щих. Христос неожиданно для учеников произносит
фразу о предательстве, сопровождая ее выразительным
движением рук, апостолы реагируют одновременно -
каждый по-своему: они озираются друг на друга, удив¬
ляясь, недоумевая, обращаясь друг к другу с вопроса¬
ми. Леонардо разнообразит жесты, стремясь найти
“движения, соответствующие душевным состояниям
каждого...”, ни разу не повторяясь и всячески избегая
иконографической однозначности жестов.
Искусство Ренессанса стремится освободиться от
обрядовой, сакральной жестикуляции, переведя ее в
область жестикуляции разговорной. Но Ренессанс
открыл и другой путь десакрализации жеста - пол¬
ное освобождение его от слова. Если в первом случае
жест становится иллюстрацией слова, то во втором -
освобождаясь от слова, он выявляет свою пластическую
самоценность.
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
243
У Леонардо в портрете Моны Лизы руки лишены
всякой словесной нагрузки, это не просто жест молчания,
в их акцентированном безмолвии есть особая значитель¬
ность: это как бы пластическое явление рук Моны Лизы.
В искусстве средневековья руки сосредоточивали
в себе всю энергетику образа, всю силу излучения его
духовности. Такое отношение к изображению рук в зна¬
чительной степени сохранилось и в искусстве Северно¬
го Возрождения, особенно немецком, где руки словно
вибрируют под действием тока высокого напряжения и
где с кончиков пальцев готовы сорваться слова молит¬
вы. Нервность словно сведенных судорогой рук сохра¬
няется даже у Дюрера, в его самом итальянизирован¬
ном “Автопортрете” 1500 года.
В нарочитом спокойствии безмолвно сложенных
рук Моны Лизы, в их предельной ненагруженности
словесным подтекстом, в их демонстративной телесной
самовоплощенности, так же как в демонстративной
разговорности жестикуляции в “Тайной вечере”, есть
что-то от смелого экспериментаторства Леонардо. Это
как бы наглядная демонстрация его теоретических раз¬
мышлений.
В сложении светской системы жестикуляции, ее
освобождении не только от средневековой обрядности,
но и от непосредственной зависимости от слова, несо¬
мненную роль играли танцы как своеобразный, чисто
светский ритуал поведения. Танцам в пору Возрожде¬
ния специально обучали, сочинялись подробные трак¬
таты о танцах, снабженные рисунками танцевальных
поз, жестов, в них разрабатывалась особая форма пове¬
дения, особый, светский язык общения. Кроме обыч¬
ных, существовали специальные “медленные” танцы,
представлявшие собой своеобразные пантомимы на раз¬
личные куртуазные сюжеты, такие, как Любовь, Рев¬
ность, Желание, Соперничество и т. д. Складывалась
новая, светская иконография жестикуляции.
Картина Боттичелли “Весна” построена по прин¬
ципу подобной танцевальной пантомимы с подчеркну¬
то замедленной пластикой поз и жестов, словно нарочи¬
то не связанных со словесным подтекстом. (Не случай¬
но специалистам до сих пор не удалось расшифровать
аллегорическую программу этой картины, хотя извест¬
но, что это одна из самых программных, более того, по¬
учительных картин не только у Боттичелли, но и во
244
всем искусстве кватроченто.) Фигура Весны выступает
в ней в роли прима-балерины, а группа кружащихся в
танце трех граций с их подчеркнуто танцевальной пла¬
стикой поз и жестами сплетенных пальцами рук вы¬
полняет роль кордебалета.
Освобожденный от разговорной функции жест на¬
чинает восприниматься как поза, как жест всего тела,
выявление его пластических и архитектонических
качеств - очевидная перекличка с искусством антич¬
ности. “Обрати внимание, - пишет Альберти, - как
человек в каждой своей позе подставляет свое тело для
поддержки головы, самой тяжелой части тела, и как,
опираясь на одну ногу, он всегда устанавливает ее по от¬
весу к голове, как базу колонны, а лицо стоящего пря¬
мо почти всегда обращено туда, куда направлена ступ¬
ня”. И не только архитектоника тела, но и его красота,
ибо “в каждое движение (художник) будет вкладывать
красоту и изящество” (Альберти).
Жестикуляция тела в картинах кватроченто го¬
раздо более выразительна, более адекватно воплощает
их содержание, нежели те “программы”, которые лю¬
били сочинять писатели или заказчики, требовавшие
от картин сложного аллегорического подтекста. Такие
программы сохранились, но художники выполняли их
неохотно или так свободно их интерпретировали, что
приходилось заново сочинять комментарии к уже гото¬
вым картинам. Словесное либретто в картинах кватро¬
ченто зачастую выпадало в осадок, отслаиваясь от его
визуального воплощения.
Смелый эксперимент Леонардо, попытавшегося
дословно перевести слова в жесты, так и остался экспе¬
риментом, обнаружившим как возможности адекватной
психологической жестикуляции, так и ее недостатки.
Искусство Возрождения осталось непсихологичным по
преимуществу и по преимуществу неразговорчивым,
предпочитающим подробному рассказу - красноречи¬
вый показ. Не случайно многие картины раннего XV века
в том случае, когда они изображают не евангельский
или мифологический сюжет, не сохранили своего на¬
звания, их замысловатые сюжеты до сих пор вызывают
споры. Что изображено в картине Джованни Беллини,
получившей условное название “Озёрная мадонна”,
или просто “Аллегория”? Или в картине Джорджоне,
которую, также условно, называют “Гроза”. Или в
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
245
странной картине Джорджоне(?) Тициан(?), под впе¬
чатлением которой Эдуард Мане написал свой знамени¬
тый “Завтрак на траве”? Или в картине Тициана, кото¬
рую принято называть “Любовь небесная и Любовь зем¬
ная”? Во всех этих и многих других случаях полотна
имели неизвестный нам аллегорический сюжет. Но в
этом ли их образный смысл, достаточно красноречивый
и без словесной подсказки? Изобразительное искусство
XV века тем красноречивее, чем сильнее звучит в нем
молчаливая пластика поз и жестов.
Один из наиболее распространенных и иконогра¬
фически традиционных сюжетов в живописи кватро¬
ченто - изображение Богоматери на троне, фланки¬
руемой фигурами стоящих святых, так называемое
“Святое собеседование” (Сакра конверзационе). Иными
словами - это разговор, беседа. Однако содержание этой
молчаливой беседы не раскрывается в жестах, скорее -
это молчаливое соприсутствие собеседников, каждый
из них погружен в себя, их сюжетно-ситуационные свя¬
зи, как правило, никак не обозначены. Иконографичес¬
ки эта группа, по-видимому, восходит к средневековой
иконографии Деисуса, где изображался Христос Все¬
держитель на престоле и предстоящие ему Мария,
Предтеча, в более распространенном варианте - Петр и
Павел и архангелы. Однако в средневековом Деисусе
изображалось не простое со-присутствие. Христос жес¬
том правой руки посылает Благо-словение, Благое Сло¬
во; предстоящие, обращенные к Нему в трехчетвертном
повороте, жестом молитвенно сложенных рук прини¬
мают Благое Слово, Благодать. Совершается таинство
молитвы, молчаливо озвученной жестами.
В ренессансном “Святом собеседовании” таинство
не совершается, не произносится никаких слов - изоб¬
ражено полное достоинства молчаливое присутствие
не общающихся друг с другом, погруженных в себя и
утверждающих себя в сознании своего достоинства
персонажей. Само-достоинство, само-погруженность,
само-стояние - ключевые понятия, бессловесно вопло¬
щенные в живописи кватроченто.
Средневековое искусство своей жестикуляцией
обращено во вне - в мир, именно в мир - земной и небес¬
ный, - “бросает” оно Слова жестом рук, и руками же
воспринимает на слух ответные слова, прозвучавшие с
небес. Искусство средневековое экстравертно.
246
Искусство Возрождения - интровертно, замкну¬
то в себе, поскольку для Возрождения весь мир смоде¬
лирован в человеке.
“Нет ничего в мире, - пишет Помпонацци, - что
хоть каким-нибудь свойством не могло бы иметь общего
с человеком, почему заслуженно называют его микроко¬
смом или малым миром”. Искусство стремилось вопло¬
тить порядок мироздания, его структуру, его гармонию
через изображение гармонической структуры челове¬
ческого тела, через его пластику. Пластику изучали не
только в покое, но и в движении, в разнообразных позах
и разнообразных жестах, на которые способно тело,
заставляя его поворачиваться, сгибаться, жестикулиро¬
вать. Разнообразие поз и движений было спровоцирова¬
но протестом против строгой повторяемости средневеко¬
вой жестикуляции. “Величайший недостаток живопис¬
цев - повторять те же самые движения, - утверждал
Альберти, - ...повторение поз - большой порок”. Аль¬
берти требовал, “чтобы ни в одной фигуре не было того
же жеста или позы, что в другой”. Жестикуляция долж¬
на быть свободной, именно этой свободы добивались ху¬
дожники - свободы движений тела - не только в поло¬
жении стоя, но и в положении сидя и лежа тело должно
было демонстрировать свою естественную пластику.
И не только обнаженное тело, но также тело в одежде,
которая, в отличие от одежды средневековой, должна не
скрывать, но выявлять его строение. Более того - и это
оказалось особенно трудным - художник должен уметь
изображать тело, скованное полной неподвижностью,
мертвое тело, которое “каждым своим членом кажется
действительно мертвым; все в нем свисает - руки, палец
и голова... все, что может выразить мертвое тело, а это
поистине очень трудно”. Человек, продолжает Альбер¬
ти, должен быть “мертвым до кончика ногтей”. Добить¬
ся этого удавалось далеко не всегда - достаточно вспом¬
нить изображение лежащего мертвого латника в одной
из “Битв” Паоло Уччелло, которое воспринимается как
наивный перспективный курьез. Но даже у такого зре¬
лого мастера кватроченто, как Джованни Беллини, в
картинах, изображающих “Оплакивание”, тело мертво¬
го Христа производит впечатление живого или высечен¬
ного из мрамора.
Вероятно, первым удачным опытом правдопо¬
добного изображения окоченевшего трупа можно считать
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
247
картину Мантеньи “Мертвый Христос”. Напротив, у
Боттичелли в его позднем “Оплакивании” тело мертво¬
го Христа выражает не только “все, что может вы¬
разить мертвое тело” (Альберти) - оно являет собой
исполненный пафоса пластический монолог о смерти,
гораздо более красноречивый, нежели драматическая
жестикуляция оплакивающих Его живых.
В искусстве Возрождения происходит разделение
средневековой слиянности Слова - и Жеста, звука -
и зримого образа (один из парадоксов средневекового
сознания, построенного на парадоксах: “Верю, ибо это
невозможно” - Тертуллиан, III век). Средневековый
жест - это провозглашение готового, вечно повторяю¬
щегося слова. “Мы пересказываем и излагаем древних,
а не изобретаем нового”, - писал один из средневековых
авторов. Всякое изменение и развитие воспринима¬
лось как убывание истины, ибо истина - это “то, что не
подвержено изменению... неиссякаемый источник...
сокровище неоскудевающее”. Поэтому задача средневе¬
кового художника в идеале состояла в том, чтобы воз¬
можно точнее (правильнее) воспроизвести жест, являю¬
щий собой одно и то же, Вечное Слово.
“Тайная вечеря” Леонардо - энциклопедия жес¬
тов как изобразительного эквивалента слов. “Афин¬
скую школу” Рафаэля можно рассматривать как
энциклопедию чистых жестов, как демонстрацию воз¬
можных поз и движений, по сути дела, освободивших¬
ся от словесной нагрузки, поскольку сюжетно изобра¬
женные персонажи не реагируют на спор о превосход¬
стве земного над небесным, реального над идеальным,
спор, который ведут Аристотель с Платоном, помещен¬
ные в глубине, в самом центре композиции. Никто,
кроме них, в этом споре, в сущности, не участвует, вся¬
чески демонстрируя целую серию разнообразных поз:
стояния, сидения, лежания, бега и т. д. Поистине - тор¬
жество разнообразия движений, освободившихся от
слов и психологических состояний.
В еще большей степени это присуще росписи Сик¬
стинского потолка Микеланджело. Ключевым сюже¬
том ее можно считать сцену “Сотворение Адама”, где
Бог-Отец, стремительно пролетая мимо лежащей фигу¬
ры Адама, оживляет ее прикосновением творящего
жеста (“В начале был жест, и жест был у Бога, и Бог
был жест” - парафраз первых слов Книги Бытия).
248
Если у Рафаэля движения фигур, пусть не сюжет-
но, но ситуационно оправданы - каждый из персона¬
жей что-то делает: пишет, считает, размышляет, куда-то
спешит или отдыхает, то народонаселение Сикстин¬
ского потолка - пророки, сивиллы, юноши - “в пре¬
красных членах тела своего” “являют” все возможные
варианты жизни этого тела в пространстве, все ракур¬
сы, сюжетно не мотивированные, самоценные в своем
пластическом совершенстве.
Высокий дух, чей образ отражает
В прекрасных членах тела своего,
Что могут сделать Бог и естество,
Когда их труд свой лучший дар являет.
Это четверостишие Микеланджело могло бы стать
эпиграфом к его росписи Сикстинского потолка.
В “Афинской школе” можно видеть своеобразную
азбуку жестов; Сикстинский потолок - это гимн анато¬
мии человеческого тела, его красоте и мощи не только
в движении, но и в покое: “В двух стройных дланях -
сила без движенья, хоть каждый груз им был бы не
велик” (Микеланджело)4.
Жест в искусстве Возрождения, при всем разнооб¬
разии и богатстве своих мимических и пластических
возможностей, утрачивает способность вещания в про¬
странство. Средневековая открытость жеста сменяет¬
ся его сосредоточенностью в самом себе, неспособ¬
ностью воздействовать на окружающую среду, на внеш¬
нее пространство, вызывать в нем эхо, преображать его.
Происходит стабилизация окружающего мира, освобож¬
дение его от власти Жеста и Слова. Мир, окружение -
становятся неподвластными трансцендентным воздей¬
ствиям, теряют свою способность к мгновенной реак¬
ции на Слово, Слово перестает двигать миром. Мир,
который в искусстве средневековья был “И в конечном
бесконечен, // И пространством не уловлен, // И ничем
не обусловлен, // И ничем не ограничен”, - становится
конечным, “уловленным пространством” и четко огра¬
ниченным. В полотне Париса Бордоне “Явление сибил-
лы императору Августу” все действующие лица бурно
движутся и жестикулируют в неподвижном мире, в ко¬
тором произошло чудо - никак при этом его не изменив.
Во фреске Рафаэля, изображающей чудо освобож¬
дения апостола Петра из темницы, где все в смятении,
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
249
где является ангел, вспыхивает божественный свет,
архитектура остается незыблемо спокойной - в отли¬
чие от архитектуры в византийской иконе “Благовеще¬
ние” (XIV век), где Слово архангела разрушает и преоб¬
ражает все архитектурное окружение.
Человек Возрождения действует в стабильном
мире, в мире, уже сотворенном. Правда, люди Возрожде¬
ния считали, что они должны улучшить этот мир, создан¬
ный Богом лишь начерно. Улучшить - но не сотворить
заново. Улучшение требует работы, сотворение - чуда.
Страшный суд Микеланджело - это не мировой
катаклизм, это всечеловеческая катастрофа. Один гнев¬
ный жест руки Христа-Судии - и толпы как праведни¬
ков, так и грешников, все человечество приходит в дви¬
жение, которому ничто и никто не может противостоять.
Это картина того, “что может сделать Бог и естество...”
Сделать с людьми - но не с миром, не с природой5.
На протяжении XVI столетия в искусстве манье¬
ризма происходит полное освобождение жестикуляции
от словесного содержания. Уже в микеланджеловской
“Мадонне Дони” чувствуется смысловое опустошение
жестов, их становится слишком много, это жестику¬
ляция ради жестикуляции. Подобные пустые жесты,
жесты ради жестов возникают в картинах не только
таких маньеристов, как Бронзино, Пармеджанино, но в
ряде случаев и в полотнах Веронезе и даже Тициана.
Ренессансное само-бытие жеста вырождается в жест
как само цель, как свидетельство профессионального
мастерства живописца.
Микеланджело Буонарроти завершает искусство
эпохи Возрождения; на пороге следующего столетия
возникает фигура Микеланджело да Караваджо - фигу¬
ра сложная, порубежная, во многом драматическая.
Увлеченный Буонарроти, Караваджо стремился вос¬
произвести, сильно утрируя, сложные позы, особенно
ракурсы его фигур, их жестикуляцию. Однако мике-
ланджеловская “сила без движенья” приобретает у него
оттенок порой нарочистости, порой - некоторой внут¬
ренней неуверенности. Вяло нерешителен указующий
жест Христа в “Призвании Матфея”. Упавший на зем¬
лю Савл (“Обращение Савла”) то ли приемлет озарение
истины (согласно евангельскому тексту), то ли пытает¬
ся защититься от беспощадно яркого света, просит по¬
щады (согласно образному решению).
250
В искусстве Возрождения персонажи либо спо¬
койно бытийствуют, либо борются друг с другом, тор¬
жествуя победу или покоряясь победителю. У Мике¬
ланджело в “Страшном Суде” Христос одним красиво-
властным жестом творит суд над всем человечеством.
Герои полотен Караваджо борются не с человечеством,
они борются со стихией наступающего мрака и ослепи¬
тельного света, они оказываются вовлеченными в борь¬
бу этих стихий, борьбу, в которой не могут одержать по¬
беды, могут только от нее обороняться6. Отсюда неадек¬
ватность их жестикуляции - и ее некрасивость.
На грани XVI и XVII веков рухнула мифология
красоты человеческого тела, лица, жеста. У Караваджо
человек - не венец творения, часто он некрасив, часто
груб или неловок. Это человек не господствующий, но
отчаянно сопротивляющийся, ослепленный режущим
глаза светом и беспросветным мраком вселенной.
Новое понимание жеста складывается в XVII веке в
искусстве Рембрандта. Жест у него - это не борьба со сти¬
хией света и тени, не самооборона, как у Караваджо.
Жест у Рембрандта - индикатор внутреннего состояния
человека; это не явление слова сказанного, но проявле¬
ние слова подуманного, не произнесенного, слова молча¬
щего. Жест - как затаенное в себе внутреннее слово.
В картине “Отречение Петра” рука служанки не вопро¬
шает, она направляет свет в лицо Петра. Петр понимает,
что совершил предательство, служанка понимает, что он
это понял. Момент молчания как момент истины.
Жесты у Рембрандта - это зримое воплощение не
слова, но молчания, такого молчания, которое красно¬
речивее слов. В “Блудном сыне” руки отца - прижи¬
мающие, заглушающие слова, готовые вырваться у
сына. Апостол Матфей сосредоточенно молчит, вслуши¬
ваясь в слова, которые нашептывает ему на ухо ангел.
Доктор Сикс молчит, погруженный в раздумье, маши¬
нальным жестом натягивая перчатку - жест не говоря¬
щий, но проговаривающийся. В “Портрете старика” -
сжатые руки, как выражение самопогруженности,
отказа от слов. Жест у Рембрандта не столько выра¬
жает, сколько выдает душевное состояние персонажа,
он обращен не вовне, не к другому - но к самому себе,
это реакция не на внешнее, но на внутреннее событие.
У Леонардо в “Тайной вечере” Христос обеими рука¬
ми буквально выкладывает на стол свое сенсационное
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
251
сообщение. Апостолы, каждый по-своему, бурно реа¬
гируют, произнося жестами соответствующие слова.
У Караваджо в картине “Христос в Эммаусе” луч света
падает на лицо Христа и его благословляющую руку -
и по этому указующему свету, по этому жесту Его
узнают ученики, реагируя соответствующей жестику¬
ляцией. У Рембрандта в гравюре на тот же сюжет Хри¬
стос ничего не произнес, сложил руки - жест отказа от
слов - и молча засиял. И все отпрянули, пораженные
чудом, совершенным в полном молчании.
По-иному трактует жест Франс Хальс. Как и у Рем¬
брандта, жест у него не столько разговор, сколько выра¬
жение готовности к откровенному разговору с собесед¬
ником, со зрителем, приглашение к разговору, иногда
добродушное, иногда задиристое, иногда вызывающее.
Молчаливая жестикуляция, не выговаривающая,
но раскрывающая внутреннее состояние героя, свое¬
образная визуализация его внутреннего монолога -
одно из открытий искусства XVII столетия, которое яв¬
ляет себя в одновременном существовании различных
стилевых и внести левых направлений, в сложении раз¬
личных жанров и национальных школ и также в воз¬
никновении различного характера жестикуляции в ее
соотношении со словом. Жест как непроизнесенное сло¬
во - у Рембрандта; как вечно длящееся мгновение -
у Вермера; как красноречивая развязность - у Хальса;
как бытовая разговорность - у Броувера7, как церемо¬
ниальная скованность или нарочито вульгарная профа¬
нация - у Веласкеса8. Наконец, в полотнах Пуссена
“хорошо упорядоченные” поза, жест - это воплощение
меры, отрицающей все случайное, всякий “беспоря¬
док”, который “так же противен и враждебен, как свет
противен мрачной темноте” (Пуссен). Жестикуляция,
согласно Пуссену, должна “не выходить за известные
пределы и соблюдать во всем известную сдержанность и
умеренность”. Иными словами, строго соответствовать
сюжетной ситуации и сущности переживаемых персо¬
нажами эмоциональных состояний. Жест у Пуссена,
отождествляемый - как и в искусстве Возрождения -
с пластикой человеческого тела, служит воплощением
упорядоченности мироздания.
XVII век был последним веком религиозного и
мифологизированного мирочувствия, веком размыш¬
лений о мировом порядке - и мировом хаосе9, это был
252
век “больших величин”, в его искусстве была “всепро¬
никающая сила” и “мужество” (Гете). Мужество пред-
стояния величию открывшегося человеку божественно¬
го Космоса, сознание пограничной ситуации человека
между искусом погрузиться в стихию природного (как
в полотнах Рубенса), духовным противостоянием сти¬
хии (как у Рембрандта) и пластическим противостояни¬
ем всему случайному и беспорядочному (у Пуссена).
Наступившее XVIII столетие стало столетием тор¬
жества рассудка, столетием безбожия. “Словом Бог
люди всегда обозначают скрытую, далекую и неизвест¬
ную причину наблюдаемых ими явлений... которая
находится за гранью всех известных им причин” (Голь¬
бах). Для XVIII века “за гранью” не было ничего зага¬
дочного, ничего пугающего, ничего необъяснимого -
всего лишь “материя и движение, непрерывная цепь
причин и следствий” (Гольбах). Что касается рембранд¬
товских глубин человеческой души, то для мыслите¬
лей XVIII века душа - это “лишенный содержания
термин”, а человек - лишь “самозаводящаяся маши¬
на, живое олицетворение беспрерывного движения”
(Ламетри).
В мире нет ничего необъяснимого, есть только
пока еще не объясненное; нет никакой тайны - мисте-
риальность уступает место театральности. Жестикуля¬
ция в искусстве, как и в жизни, - игровая, сознательно
продуманная и придуманная. Жест, утративший значе¬
ние эквивалента слова во всей его смысловой весомос¬
ти, часто сменяется ситуацией разговора как некоего
важного общественного действа, к которому специаль¬
но готовятся, специально обучаются искусству вести
беседы. XVIII век был самым разговорным веком, ве¬
ком, буквально захлебывавшимся словами. В живописи
появляется особый подвид бытового жанра - “сцены со¬
беседования”. Изображение такого собеседования с сю-
жетно невыявленным содержанием, не озвученным же¬
стикуляцией, требует словесного пояснения в названии
картины (“Затруднительное предложение”, “Поцелуй
украдкой” и т. п.) либо подробного письменного ком¬
ментария, подобного тем, какие сочинял Дидро к быто¬
вым картинам Греза, придумывая реплики для каждо¬
го участника изображенной сцены: молодая женщина,
«глядя на голову... паралитика, воскликнула с пре¬
лестной живостью: “Ах, Боже мой, как это меня трогает,
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
253
если я буду на него дольше смотреть, я, кажется, запла¬
чу”... Паралитик говорит...» И далее в том же роде о
всех действующих лицах, изображенных в картине
“Паралитик”. Чем разговорчивее становится живо¬
пись, “соревнующаяся с драматической поэзией в ис¬
кусстве нас трогать” (Дидро), тем настоятельнее требует
она подстрочника, закадрового текста.
В искусстве рушится система традиционных,
заранее известных зрителю сюжетных и смысловых си¬
туаций. Что произнес Христос во время “Тайной вече¬
ри” Леонардо, известно; известно, о чем спросил Христа
сборщик податей и что Христос ему ответил в картине
Тициана; известно даже, о чем молчат отец и блудный
сын в картине Рембрандта. О чем именно молчит в нере¬
шительности рембрандтовский доктор Сикс, зрителю
неизвестно, но это и не требует словесной расшифров¬
ки, поскольку изображена ситуация не разговора, но
глубокого, самопогруженного раздумия. А вот какие
слова в нетрадиционной ситуации произнесла молодая
женщина (которую разглядывающий картину Дидро
хотел бы, по его признанию, иметь дочерью) -
об этом догадаться трудно, поэтому их вынужден сочи¬
нить за художника и подсказать зрителю критик, по¬
скольку жесты здесь перестают быть зрительным экви¬
валентом слов, но становятся изображением разговора
вообще, разговора как некоей ситуации. Сцены, подоб¬
ные тем, что любил изображать Грез, в сущности, пред¬
ставляли собой искусно поставленные “живые карти¬
ны”, в которых зрителям предлагалось разгадать, кто
что кому сказал и что все это вместе означает.
Аналогичную, постановочную роль выполняла
жестикуляция в портретной живописи, однако здесь
она имела более определенный знаковый характер, осо¬
бенно в портретах парадных. “Дблжно, чтобы... портре¬
ты казались как бы говорящими о самих себе и как бы
извещающими: Смотри на меня, я есмь...” (Роже де
Пиль). Левицкий, как известно, сочинил для парадного
портрета Екатерины II целую программу на тему “Ека¬
терина II - законодательница”. Репертуар жестов в пор¬
третах был ограничен: либо это жест, указывающий на
что-то, характеризующее модель, или даже на самого
себя (“Я есмь...”) - поза и жест торжественной саморе-
презентации - в портретах монархов, государственных
деятелей и представителей титулованной знати. Жест
254
XVIII века - постановочный, сознательно сделанный и
потому внутренне скованный, заученный, чистый,
освобожденный от эмоции жест, при котором рука ста¬
новится механическим инструментом для передачи
слова, она перестает быть говорящей рукой.
В искусстве XVII века никогда ничего не происхо¬
дило, в нем все свершалось: круговорот жизни: юность -
и старость, прошлое - и будущее, жизнь - и смерть,
земля - и небо, замкнутое пространство Дома - и без¬
граничное пространство мира.
В искусстве XVIII века - ничто не свершается, но
все происходит - происходят события, осуществляе¬
мые людьми, происходят разного рода ситуации, ими
придуманные, произносится множество разного рода
слов по самым разным поводам - начиная от галантных
объяснений в любви, поцелуев украдкой, ссор и обид и
кончая торжественными манифестами, подобно мани¬
фесту о торжестве закона, который объявляет, коммен¬
тируя его жестом, Екатерина II в парадном портрете
кисти Левицкого.
Искусство XIX века, во всяком случае в первой его
половине, сохраняет, постепенно изживая ее, жестику¬
ляцию предыдущего столетия - и постановочный харак¬
тер сцен. Одно из наиболее ярких тому подтверждений -
прославленное полотно К. Брюллова “Последний день
Помпеи” - грандиозная “живая картина”, все исполни¬
тели которой замерли, как при вспышке магния, в са¬
мых разнообразных позах, изображающих молчаливый
крик ужаса, мольбы, отчаяния. И чем громче они кри¬
чат, чем сильнее жестикулируют, тем отчетливее высту¬
пает окаменелость их застывшего молчания, провоци¬
рующая на словесные комментарии, разного рода тол¬
кования, порой самые неожиданные и далекие от того,
что изображено на полотне. Пожалуй, ни одна картина
XIX века не вызвала такого разноречивого словесного оз¬
вучивания10. Не менее постановочна, хотя и более одно¬
значна в ее словесном выражении, картина Делакруа
“Свобода на баррикадах”, ее говорящую жестикуляцию
можно свести к одному призыву: “Вперед! За мной!”
В 1830-е годы Александр Иванов долго бился над
проблемой передачи в зримом образе содержащейся в
Евангелии Благой Вести, Благого Слова, его инкарна¬
ции. В окончательном варианте картины “Явление Мес¬
сии” внутренний сюжет строится на сопоставлении слов
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
255
произнесенных - красноречивый жест Иоанна Крестите¬
ля - и Слова явленного, не прозвучавшего, но обретшего
плоть, явление Слова как молчания. Иванов попытался
передать этот средневековый мистический парадокс
средствами реалистического искусства XIX века.
В русской живописи второй половины XIX века
проблема соотношения слова и зримого образа встала с
особой остротой. Это были годы расцвета литературы,
прозаической по преимуществу, с ее воспитательно по¬
учительным пафосом, с решением сложных психологи¬
ческих коллизий. Одним из самых разговорных живо¬
писцев середины века становится Федотов. Каждая его
картина построена как сцена спектакля и требует сло¬
весного либретто. Иногда это либретто, в сокращенном
варианте, содержится в названиях картин - “Разборчи¬
вая невеста”, “Сватовство майора”; иногда в название
выносятся слова, произнесенные самим героем карти¬
ны, - “Анкор, еще анкор!” Но художнику и э*ого недо¬
статочно, и тогда, подобно Дидро, он сочиняет подроб¬
ное разъяснение происходящего в картине “Сватовство
майора” и читает его публично, стоя перед полотном на
выставке. В сущности, в этом обнаруживается внутрен¬
ний конфликт между жестом как зримым эквивален¬
том слова - и словом, которое не может адекватно выра¬
зить себя в жесте. Разыгрывается драма их взаимной
нед овоп лощаемости.
Живопись передвижников продолжает путь, дра¬
матически обозначившийся в творчестве Федотова. Со¬
здаются сцены, в которых их сюжет подробно разъяс¬
няется в названии: “Приход колдуна на крестьянскую
свадьбу”, “У последнего кабака”, “На побывку к сыну”,
“У парадного подъезда” и т. п. Подобные картины пред¬
ставляют собой развернутую иллюстрацию к тексту,
вынесенному в их название. Таким образом, подпись
под картиной составляет первичный текст, картина -
иллюстрацию к этому тексту. По этой перевернутой
схеме строится и картина Репина “Не ждали”. Содер¬
жание такой картины, лишенное текста, разгадать
трудно, оно может быть истолковано по-разному. Даже
картина Крамского “Христос в пустыне” вызвала у зри¬
телей недоумение. Сам художник тоже был в некото¬
ром колебании, слишком силен был в картине автобио¬
графический, в широком смысле слова, момент. “Это не
Христос, - писал Крамской, - я сам не знаю, кто это...”
256
Убедительно говорящей жестикуляции удавалось
достичь лишь в тех случаях, когда картины писались
на известные сценарии - исторические или евангель¬
ские. Картина Ге “Что есть истина?” не нуждается в
разъясняющей подписи: жест Пилата достаточно крас¬
норечив. Не нуждается в разъяснительной подписи его
же картина “Петр и Алексей”. Даже если зритель не мо¬
жет угадать, какими именно словами обменялись пер¬
сонажи, для него совершенно ясно, о чем они молчат,
так же как ясно, о чем молчат отец и сын в картине Рем¬
брандта. Русская живопись второй половины XIX века
отказывается от разговорного жеста в поисках жеста,
свидетельствующего о душевном состоянии изображае¬
мых персонажей. Таким жестом, при всей его чудовищ¬
ной экспрессии, является жест Христа в “Распятии” Ге,
жест, не нуждающийся в дополнительном евангель¬
ском озвучивании. Этот жест “человеческий, слишком
человеческий” - молчаливый вопль боли и отчаяния.
Снабженная подробным поясняющим названием кар¬
тина Ге - “Мария, сестра Лазаря, встречает идущего к
их дому Христа” - понятна и без ссылки на Евангелие;
достаточно выразительного, нетерпеливо радостного
жеста женщины, выбежавшей на крыльцо, и мерного,
несколько утомленного шага поднимающегося в гору,
по направлению к дому, путника.
Особенно очевиден этот процесс преодоления по¬
вествовательно-разговорной жестикуляции и обрете¬
ние жестикуляции молчаливого самопогружения в
портрете, где открытые жесты, обращенные во вне, к
собеседнику, к зрителю, уступают место жестам закры¬
тым - руки, скрещенные на груди, как в портрете Пуш¬
кина у Кипренского, руки, сложенные на коленях или
пассивно свисающие с подлокотников кресла, как в
портрете Струговщикова у Брюллова и в мужском пор¬
трете у Энгра, наконец, руки, спрятанные за раму, как в
портрете Растопчиной у Кипренского. Есть в подобной
жестикуляции мотив не просто молчания, но отчетливо
выраженный отказ от разговора (в портрете Достоевско¬
го у Перова). Это портреты не говорящие, но слушаю¬
щие или погруженные в себя, - портреты наедине с со¬
бой, в них жест перестает выполнять активную роль в
характеристике модели, он как бы элиминируется, ста¬
новится нейтральным. Чаще всего это индивидуально
не окрашенный жест человека, опершегося подбородком
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
257
на руку, - жест никакой, поскольку слишком привыч¬
ный, слишком распространенный, жест, обладающий
нулевой степенью информации11.
К концу столетия освободившийся от слова жест
начинает восприниматься со всей остротой в своей неза¬
висимой самовыразительности. Художник смотрит на
жестикуляцию остраненно и воспринимает лишь ее вне-
сюжетную пластическую выразительность. Остранен-
ное, внеситуационное восприятие жестикуляции вос¬
производит Толстой, взглянувший на оперную сцену
глазами Наташи Ростовой, впервые попавшей в театр:
“В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и
белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом
платье... подошла к будочке суфлера, к ней подошел
мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых
ногах... и стал петь и разводить руками... И все в театре
стали хлопать и кричать...”
В живописи это жестко остраненное // от-странен-
ное восприятие жеста в его отрыве от словесного и сю-
жетно смыслового контекста приводит к острой до жес¬
токости, часто беспощадно карикатурной выразитель¬
ности. Такова “Певица” Дега, такова “Иветт Жильбер”
Тулуз Лотрека, с их профессионально некрасивыми
жестами. Такова чрезмерно педалированная жестикуля¬
ция в “Портрете Мамонтова” у Врубеля, выходящая за
пределы портретного образа - модель словно отпрянула
в ужасе, испугавшись, или испугав, или, наоборот, стре¬
мясь испугать.
Обнаженная, внесловесная экспрессия в каком-то
смысле могла быть вызвана реакцией на образную де¬
вальвацию жестов в живописи передвижников, скован¬
ных требованиями правдоподобия12.
В эти же последние десятилетия XIX века рож¬
дается в живописи иной вариант по-своему тоже остра-
ненного жеста - увиденного извне, ни к кому не обра¬
щенного профессионального жеста - в “Прачках”
Домье, в “Сборщице колосьев” Милле, в его же “Сеяте¬
ле”, с нажимом воспроизведенном Ван Гогом, в “Бурла¬
ках” Репина, в “Гладильщице” Пикассо его “голубого”
периода. Это жест не говорящий, но как бы извещаю¬
щий, констатирующий - и, может быть, независимо от
намерений автора, - таящий в себе угрозу: слишком на¬
пряжены эти сильно согбенные спины, гораздо более
значимые, нежели лица, которых почти не видно;
слишком напряжены руки.
258
Наконец, в самом конце столетия, на заре сле¬
дующего, в России в искусстве так называемого Сереб¬
ряного века как бы проигрывается постановочная жес¬
тикуляция века XVIII, искусственно сделанная, наро¬
чито красивая и подчеркнуто обращенная к зрителю,
как в серовском портрете Гиршман, манерная поза и
жест которой повторяется в зеркале отраженными со
спины.
XIX столетие как бы перебирает всю историчес¬
кую палитру жестикуляции, все стилистические и вне¬
сти листические открытия предыдущих веков: мике-
ланджеловские мощные ракурсы; пуссеновская плас¬
тика ради пластики - у мастеров главным образом
академического толка; разговорные жесты леонардов-
ской “Тайной вечери” и бытовых сценок малых гол¬
ландцев, рембрандтовская закрытость психологи¬
ческого жеста; игровой жест XVIII века; наконец,
средневековый выброс в пространство жеста, пере¬
хлестывающего сюжетную ситуацию. Заключитель¬
ным эпиграфом XIX столетия в его отношении к же¬
стикуляции можно было бы считать строки Ходасе¬
вича: “Замри - или умри, отсюда // в давно забытое
родись”.
Новый этап наступает в искусстве XX века. Начи¬
нается борьба за жест как проявление личностного в
обезличивающей стихии распредмечивания. В “Даме с
веером” Пикассо (1902) - одеревенелое лицо, осколки
рассыпавшегося мира - и динамичный, неповторимый
жест, стремящийся вырваться из хаоса распредмечен-
ных предметов. В “Портрете философа” Л. Поповой -
полное растворение лица в обрывках бумаги, текстов,
слов, букв, - и только жест руки, вырвавшейся из этого
взбесившегося бумажно-словесного вихря.
Но еще страшнее, когда этот многоголосый шум
превращается во властный, все подчиняющий себе ритм,
сначала выстраивающий людей в шеренги (Богатырев -
“Столовая”; Франц Зайверт - “Рабочие”), затем превра¬
щающий всех в винтики исправно работающей машины
(Заславский - “Фабрика”, Леже - “Строители”). Маши¬
на, пишет Ролан Барт, “когда она на ходу, вызывает
страх тем, что работает сама собой, и доставляет наслаж¬
дение тем, что работает исправно... Гул машины есть
шум от бесшумности, позволяющий расслышать изъя-
тость смысла... Достаточно заговорить всем, чтобы воз¬
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
259
ник гул языка”, в котором тонет звук и смысл отель¬
ных слов. Как отчаянный протест против единообразия
жизненных ритмов, против власти толпы, против
“людей без свойств” (Музиль), как стремление заявить
о себе, на которые мир не откликается или, наоборот,
отвечает безликим “гулом голосов”, - рождается в ис¬
кусстве XX века жест протеста, стремление докричать¬
ся или перекричать равнодушие мира, рождается жест
как вопль, порой доходящий до истерики.
В 90-е годы XIX века “Распятие” Ге было воспри¬
нято как нечто шокирующее - и не только потому, что
был изображен предсмертный вопль Христа, но пото¬
му, что художник представил открытое, патологи¬
ческое отчаяние, нарушающее правила художествен¬
ной благопристойности. В картине Мунка “Крик”, так
же как у Ге, изображено полное отчаяния одиночест¬
во человека в мире. У кричащего даже нет лица - ис¬
каженное ужасом, оно похоже на череп. “Страх
перед всем и перед ничем, которое могло внезапно
стать чем-то, и на это что-то пришлось бы смотреть
одному... Ужас перед тем, что вдруг может предста¬
виться... а рядом никого не будет...” (Пиранделло.
“Кто-то, никто, сто тысяч”).
Тот же ужас одиночества, танец на грани смерти -
в “Танцовщице” Шагала. В его “Шагающем” есть отча¬
янная смелость человека, вырвавшегося, готового уй¬
ти, за пределы: мира? Уйти из мира? Как у Ходасевича:
Перешагни, перескачи,
Перелети, пере- что хочешь, -
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Жест в искусстве XX столетия - это всегда пере¬
хлест, пере-крик. И в “Танце” Матисса - в его всеподчи-
няющем экстатическом ритме, и в “Гернике” Пикассо -
в отчаянном жесте врывающейся в картину женской
руки с горящим светильником, и в панно Сикейроса
“Демократия” - женской фигуре, с титаническим уси¬
лием, в буквальном смысле слова, вырывающейся за
пределы живописной композиции, навстречу зрителю.
В конечном смысле - есть это “пере”, этот рывок за
пределы в жесте рабочего и колхозницы в скульптур¬
ной группе Мухиной, словно готовой сорваться с пьедес¬
тала.
260
И наконец - это отчаянный Лучио Фонтана, не¬
сколькими резкими движениями скальпеля пропары¬
вающий пустые, одноцветные полотна своих картин.
Речевое высказывание -
и композиция
Для средневекового мастера проблемы перевода словес¬
ного текста в текст визуальный, по сути дела, не суще¬
ствовало, поскольку для него не существовало необ¬
ходимости заново сочинять зрительный облик иконы,
напротив, он всячески стремился воспроизвести уже
установившуюся иконографию. Композиция как изо¬
бретение, придумывание вытеснялась актом бережного
сохранения, воспроизведения иконографического об¬
разца - первообраза. Это отнюдь не значило, что иконо¬
писец был простым копиистом, это значило, что изобре¬
тение (то есть композиция) не воспринималось им как
сознательный творческий акт.
Это на уровне сознательно-установочном. На уров¬
не бессознательно-творческом, композиционном - хотя
средневековая эстетика не знала этого термина - в преде¬
лах соблюдения иконографических норм в иконописи
часто происходили такие трансформации, которые по¬
рой изменяли, перетолковывали образный смысл изоб¬
раженного сюжета.
Вопрос о композиции как осознанном творческом
акте, как о задаче, стоящей перед художником, возни¬
кает в эпоху Возрождения. О композиции впервые на¬
чинают настойчиво говорить в Италии в XV веке, когда
происходит своеобразный процесс самоосознания жи¬
вописи как особого вида искусства с присущими ему эс¬
тетическими закономерностями.
Распад средневековой иконографии поставил ху¬
дожников перед необходимостью заново придумывать
изображения для традиционных религиозных сюже¬
тов, а также изобразительные формы для новых, свет¬
ских “историй”. Пришлось вводить новые персонажи,
новые ситуации, по-новому составлять группы, мизан¬
сцены. Это была одна из новых задач, вставших перед
живописцами, а Раннее Возрождение особенно увлека¬
лось всем новым (“Без всяких подражаний и без всяких
образцов” - Альберти).
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
261
Одним из первых, если не первым, о композиции
заговорил Альберти в своем трактате о живописи
(1435): “Композиция есть то правило в живописи, при
помощи которого отдельные части видимых предметов
сочетаются в картине...”. Для Альберти композиция -
это осуществляемое художником собирание, сочетание,
сведение воедино различных частей сюжетной карти¬
ны, которую он называет “историей”. Задача художни¬
ка - зрительно представить эту “историю”, составив ее
из “тел” (человеческих фигур), которые, в свою оче¬
редь, складываются из “членов”, а члены - из “поверх¬
ностей”. Поэтому создание картины начинается с “по¬
верхностей”, из которых постепенно составляются
“тела”. “Далее, - продолжает Альберти, - следует ком¬
позиция тел (сопоставление друг с другом фигур), в ко¬
торой проявляются все заслуги и все дарования живо¬
писца”. Эти “тела” образуют “истории”, где тела “долж¬
ны быть согласованы друг с другом как по величине,
так и по своим действиям”. В сущности, композиция
мыслится Альберти не столько как правило построения
картины, сколько как сам процесс ее создания - худож¬
ник складывает картину из отдельных частей, подобно
тому как каменщик складывает здание из камней или
плит. Нельзя не усмотреть здесь параллели с архитек¬
турным процессом, столь естественной для Альберти -
теоретика и практика архитектуры.
Построение картины начинается с перспективно¬
го архитектурного чертежа - “с пола” - как советует
Альберти, - и на этом “полу” располагаются все ее эле¬
менты. Собственно создание картины, ее организация
осуществляется в рисунке - поэтому Альберти и его со¬
временники мыслят композицию на стадии рисунка.
Светотень и колорит рассматриваются как менее важ¬
ные аспекты живописного процесса, непосредственно с
процессом компонования картины не связанные, по¬
скольку в них, как утверждал Леонардо, “нет ничего,
кроме красоты”, и поэтому они приносят славу не ху¬
дожнику, “а лишь торговцу красками”. Композиция
для Альберти - это акт создания картины, подобный
начальному акту Творения, в самом определении его
звучит пафос эксперимента13.
Представляя себе композицию как творческий
процесс и пытаясь определить последовательность его
стадий, Альберти не говорит о конечном его результате,
262
о том, каким именно должно стать живописное произ¬
ведение, по каким законам оно должно строиться.
Перед его мысленным взором не маячит никакого ком¬
позиционного эталона. К началу XVI века такой эталон
начинает вырисовываться все отчетливее. Правда,
сформулированное Альберти определение композиции
повторяется в большинстве трактатов об искусстве XVI и
даже XVII веков, однако воспринимается оно лишь как
общая формула, которая затем конкретизируется
и постепенно превращается в свод правил построения
замкнутого, уравновешенного, централизованного жи¬
вописного произведения, то есть - идеальной картины.
Паоло Пино в “Диалоге о живописи”, написанном в сере¬
дине XVI века, повторив определение Альберти, говорит
о необходимости пользоваться “центральной точкой”:
“Она находится посредине, как центром мира является
Земля. Эта наша точка ... является основой и правилом
всех наших работ”. Пино требует, чтобы в картинах не
было “беспорядка ... когда фигуры так разбросаны, что
одна смотрит на восток, а другая на запад, и некото¬
рые из них показывают спину, тогда как должны пока¬
зывать грудь”14. Эти правила становятся все более жест¬
кими, постепенно распространяясь не только на группи¬
ровку фигур, но и на распределение светотени, кото¬
рая после открытия Леонардо воздушной перспективы
и сфумато включается в основные требования, предъ¬
являемые композиции. Так, Вазари рекомендует живо¬
писцу строить картину таким образом, чтобы в сере¬
дине она была светлой, а по краям и в глубине затем¬
ненной.
В начале XVII века в сочинениях о живописи уже
прямо говорится о необходимости соблюдать в компо¬
зиции “определенные правила и законы, которые тре¬
бует избранный сюжет и которые ему соответствуют”
(Карель ван Мандер). Несколько десятилетий спустя
Иоахим фон Зандрарт формулирует “относящиеся к
живописи каноны и правила” и добавляет: “Следует
всегда иметь все эти правила и законы перед глазами и
следовать им” (1675).
Если в XV веке Альберти понимает под компози¬
цией процесс создания картины, прежде всего, на ста¬
дии ее пространственной организации; если в XVI сто¬
летии под композицией понимают также ее свето-тене¬
вое ршение, то Карель ван Мандер в понятие “компо-
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
263
зиция” включает соблюдение правил, которые “требует
изображенный сюжет”. Построение сцен из крестьян¬
ской жизни, утверждает автор, должно отличаться
от построения исторических сцен и т. д. В этом не¬
сомненно отразился процесс деления живописи на от¬
дельные жанры, столь характерный для Голландии
XVII века.
По-иному мысль о неоходимости соответствия сю¬
жета характеру композиционного построения картины
развивается в рассуждениях Пуссена о различных “мо¬
дусах” в живописи (1647): «Это слово “модус” означает...
меру и форму, которыми мы пользуемся, создавая лю¬
бую вещь, чтобы не выйти за известные пределы... Муд¬
рые древние приписывали каждому модусу особое, свой¬
ственное только ему дейстие. Поэтому они называли
дорический модус крепким, важным и строгим и приме¬
няли его для сюжетов важных, строгих и полных муд¬
рости. А переходя к предметам приятным и радостным,
они применяли фригийский модус, чтобы добиться тех
мельчайших модуляций ... которыми он превосходит все
другие модусы». У Пуссена речь идет не о различных
живописных жанрах, но о сюжетно-композиционных
“модуляциях” в пределах одного “благородного” жанра,
который, согласно терминологии времени, назывался
историческим. Требования соответствия между сюже¬
том и композицией у Пуссена еще очень пластичны, они
не содержат определенных предписаний.
Двумя десятилетиями позже Шарль Лебрен в
сочинении “О методах изображения страстей” (1667)
пишет: “Правила композиции не позволяют, чтобы на
картине более низменные предметы заглушали более
благородные или хотя бы преобладали над ними, даже
если бы те и другие были одинаково необходимы для
разъяснения сюжета”. Лебрен предписывает соблюде¬
ние строгих правил при изображении различных
чувств, испытываемых персонажами: “При чувстве
уважения фигура немного склонена, плечи слегка при¬
подняты, руки согнуты и слегка прижаты к телу, ладо¬
ни открыты и слегка сближаются, колени сгибаются.
При восхищении или экстазе тело откинуто назад, руки
воздеты с раскрытыми лодонями...”
Представление о композиции как о своде правил,
которые дблжно выучить каждому художнику, оконча¬
тельно складывается к концу XVIII века. “Мы совер-
264
шенно уверены, - пишет в 1774 году Рейнольдс, - что
... искусство композиции... в настоящее время весьма
сильно зависит от соблюдения правил”. Став оконча¬
тельно сводом правил, композиция приобретает значе¬
ние догмы и все чаще начинает осознаваться как систе¬
ма ограничений, не помогающих творческому процес¬
су, но стесняющих его.
Против соблюдения академических правил ком¬
позиции пишет в “Салонах” Дидро: “Исправлять при¬
роду по античности ... это значит работать по копии ...
Образцы, великие образцы, столь полезные для людей
посредственных, очень вредят талантливым людям”.
И целый антинормативный пассаж: “В живописи, когда
украшают фон архитектурным сооружением, его поме¬
щают вкось, чтобы скрыть симметрию, которая произ¬
вела бы неприятное впечатление; ...ломаная линия
...нравится больше прямой линии; ...овал больше, чем
круг, извилистая линия больше, чем овал”.
Романтики начала XIX века решительно противо¬
поставляют правилам композиции, воспринимаемым
как норма, принцип творческой свободы. И только
Делакруа, со свойственной ему независимостью, гово¬
рит о самоограничении художника, о “мудром располо¬
жении частей” в картине. “Необходимость самоограни¬
чения - таков основной принцип композиции” (1860).
С середины XIX века о композиции упоминают
все реже, словно стремясь избежать самого этого терми¬
на, связанного с чем-то устаревшим, консервативным.
“Славные, непогрешимые штампы, строжайшие точно¬
сти, которые фабриковались в академиях”, - вспомнит
позднее Морис Дени.
Отношение к композиции в XIX веке определя¬
лось не только борьбой с академическим искусством, но
в еще большей степени тем, что в живописи начался
процесс распада станковой картины в той ее форме, в
какой она, со всеми изменениями, но все же существо¬
вала с XV по первые десятилетия XIX века, то есть кар¬
тины как целостного построения, организованного по
определенным законам. Характер этих законов на про¬
тяжении четырех веков менялся, но самый принцип
целостности изображаемого, увиденного со стороны
и с некоторой дистанции, оставался неизменным. В по¬
следней трети XIX века начинает меняться позиция ху¬
дожника (и, соответственно, зрителя): в поле зрения по-
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
265
падает лишь часть изображаемого, лишь фрагмент.
Картина, которая прежде сочинялась, которая требова¬
ла от художника концептуальных усилий, теперь тре¬
бует усилий, по преимуществу, визуальных - сочине¬
ние уступает место впечатлению, а композиция мыс¬
лится не столько как правило организации материала
на полотне, сколько как выбор момента или объекта
в натуре. “Я ... не выдумываю картину, а, наоборот, на¬
хожу ее в природе готовой, хотя и требующей раскры¬
тия”, - писал Ван Гог, переживший увлечение живопи¬
сью импрессионистов.
В пору расцвета импрессионизма проблема ком¬
позиции теряет свою актуальность, но уже поздний
Ренуар, разочаровавшийся в импрессионистическом
методе, утверждает, что “живописец, пишущий непо¬
средственно на природе, ...не компонует, он быстро впа¬
дает в монотонность”15. Интерес к композиции возрож¬
дается. Вечно мятущийся Ван Гог в свои поздние годы
мучительно переживает фрагментарность современной
живописи; он с восторгом пишет о старых мастерах, ко¬
торые “старались, будь то фигурная композиция, будь
то пейзаж, убедить людей в том, что картина не есть
отражение природы в зеркале, не есть подражание,
а новое творение” (1885).
К началу XX века проблемой, волновавшей худож¬
ников, становится мазок; именно мазок воспринимается
неоимпрессионистами как первичный элемент, как мо¬
дуль построения картины. Термин “композиция” еще не
фигурирует, но речь идет именно о композиции, когда
Синьяк заявляет, что “гармония и красота порядка” в
картине достигаются посредством выбора мазка, пропор¬
ционального размеру картины, что это правило должен
знать каждый современный художник.
Реабилитация термина “композиция” происходит
в первые десятилетия XX века. Правда, он часто заме¬
няется термином “конструкция”16. Сказалось не толь¬
ко желание модернизировать слово, в значительной
степени скомпрометированное связью с искусством
академическим, но также общий процесс математиза¬
ции и архитектуризации изобразительного искусства.
«Природа представляется нам неорганизованной, пото¬
му что она всегда фрагментарна. Природа становится
“прекрасной” лишь через посредство искусства, когда
...она оказывается... подчиненной нашему порядку,
266
который является геометрическим» (Озанфан). “Архи¬
тектура... мать живописи и всех пластических ис¬
кусств. У этих видов искусства одна грамматика, и ею
служит геометрия” {Северины). Понимание картины
как самостоятельного и самоценного, архитектонически
построенного целого, “ничем не обязанного природе”
(Озанфан), заставляет по-новому оценить классическую
живопись прошлого, на которую также распростра¬
няется понятие “конструкция”. “От времени итальянско¬
го Возрождения законы конструкции постепенно были
преданы забвению, - пишет Северини. - Во Франции
последний художник, унаследовавший их от итальян¬
цев и сознательно применявший, - был Пуссен. После
него еще пользуются несколькими общими правилами,
но все более и более отходят от концепции разума и при¬
ближаются к природе, или, чтобы быть точным, к
внешнему виду природы”. Северини говорит о необхо¬
димости создать художественную школу “на почве веч¬
ных законов конструкции, которые мы находим в осно¬
ве искусства всех времен”. Он подробно рассматривает
принципы композиции классической живописи, огова¬
риваясь, что имеет в виду не мертвые формулы, но “точ¬
ные и строгие” законы геометрии, без которых нельзя
“реконструировать эквивалент равновесия и гармонии
вселенной”, что является единственно достойной зада¬
чей живописи. Конструкция, согласно Северини, “по¬
коится на всех геометрических и математических поня¬
тиях художника, которые он может применять в беско¬
нечном разнообразии”. Конструкция картины состоит
не в группировке фигур и предметов, но в расположе¬
нии линий, “направлений и углов”.
Это об абстрактных картинах. Что касается живо¬
писи фигуративной, то ее композиционная формула
также меняется. Само понятие целостности оказывает¬
ся усложненным и противоречивым. “Раньше картина
создавалась по этапам... Она была обычно итогом ряда
дополнений. Моя картина - итог ряда разрушений. Я
создаю картину и потом разрушаю ее. Но в конечном
счете ничто не утрачивается бесследно: красный цвет,
удаленный мной с одного места, появляется где-нибудь
в другом”, - пишет Пикассо и добавляет: “Можно, ко¬
нечно, писать картины, соединяя различные части так,
что они будут хорошо подходить друг к другу, но такие
изделия будут лишены драматической силы”. (О том
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
267
же, но на другом материале, на материале слова писал
Мандельштам: “Композиция складывается не в резуль¬
тате накопления частностей, а вследствие того, что од¬
на за другой деталь отрывается от вещи, уходит от нее
...отщепляется от системы”.)
Для художника XX века композиционная целост¬
ность картины мыслится как результат преодоления
диссонанса, драматического конфликта противобор¬
ствующих сил, взаимопротивоположных элементов,
причем это преодоление должно происходить не за ку¬
лисами, не в процессе творчества, но на глазах у зрите¬
ля, как одно из составляющих художественного образа,
как единство, включающее в себя расчлененность, раз¬
ность. “Я пишу не предметы, а разницу между ними”, -
утверждал Матисс. О целостности как разрешении
“конфликта предмета с пространством, движением и
временем” говорил Фаворский.
В последние десятилетия XX столетия, говоря об
организации художественного произведения, начина¬
ют употреблять термин “структура”. Согласно Зедль-
майру, произведение искусства - это целостный орга¬
низм, которым “управляет, пронизывает своим воздей¬
ствием некий организующий принцип, который мы
...усваиваем через понятие структуры”. В каждом про¬
изведении, утверждает Зедльмайр, “есть нечто... изна¬
чальное и индивидуальное, то, что отпечаталось в це¬
лом произведении настолько же, насколько и в каждом
элементе, части или слое”. Зедльмайр называет это
“живой сердцевиной” произведения, его “первоначаль¬
ным созидающим основанием”. Иными словами, под
структурой произведения (в данном случае - картины)
имеется в виду не его архитектоническая конструкция,
не правила построения, определяемые требованием
стиля или школы17, но то, что отличает его от всех дру¬
гих произведений - его, по выражению П. Флоренско¬
го, образная формула, то, что М. Алпатов в свое время
назвал метафорой, Б. Виппер - эмоциональным рит¬
мом и что в наши дни Умберто Эко обозначил термином
“идеолект” - то есть “скрытое правило произведения
искусства, тот структурный рисунок, который просту¬
пает на всех уровнях”.
Итак, речь идет о неповторимом, в каждом произ¬
ведении воплощенном художественном образе, иными
словами, о визуальном высказывании или речении, ко-
268
торое оно содержит, вне зависимости от того, как, каки¬
ми приемами и способами формулирует (выговаривает)
его художник и как в разное время и в разных школах
этот способ сотворения художественного образа назы¬
вается - будь то иконография, композиция, конструк¬
ция или структура. В сущности, единственный способ,
которым может высказаться художник, это способ
компоновки живописного материала - то есть компози¬
ция. Вопрос лишь в том, каким приемом пользуется
зритель (исследователь, критик), стремясь разгадать,
прочесть, проанализировать, расшифровать воплощен¬
ное в композиционном решении, обращенное к нему ху¬
дожником визуальное послание.
Термин “композиция” применим даже к сугубо
современным произведениям, категорически отрицаю¬
щим как принцип бинальных оппозиций, восходящий
к знаку креста, так и принцип вертикальной динамики
роста в соответствии с моделью дерева, использующий
модель (или образ) грибницы, не имеющей ни центра,
ни периферии18, распространяющейся одновременно
во все стороны, где ничто не выделяется и все одинако¬
во наделено смыслом и создает равномерный “гул голо¬
сов” (Р. Барт). Но ведь и подобная некомпозиционная
структура, представляющая собой нулевую степень ор¬
ганизации - образ “тотального развоплощения нашего
мира” (Ж. Бодриар), - обладает высоким информатив¬
ным накалом. Просто чтобы расслышать “гул ее голо¬
сов”, следует, вероятно, применять способ не синтези¬
рующего, но деструктурирующего анализа, анализа на
молекулярном уровне.
Если жест в живописи - это визуализация слов,
произносимых (или не произносимых) изображенными
персонажами, то композиция - это визуализация рече¬
вого высказывания самого художника, его речь от пер¬
вого лица, его раздумья о мире и о самом себе. “Компо¬
зиция не есть композиция ради композиции, а нечто
иное, как язык особенный... нечто такое, чем расска¬
зывается о мироздании или о состоянии нашего внут¬
реннего подъема” (Малевич). Если изображенные на
картине жесты обозначают определенные слова, как
правило, угадываемые зрителем, поскольку они соот¬
ветствуют реальной жестикуляции, как обрядовой, так
и бытовой, то композиция не имеет прямой связи ни с
жизненной ситуацией, ни с изображенным сюжетом,
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
269
поскольку один и тот же сюжет может иметь различные
композиционные решения. Композиция - это струк¬
турная формула, наделенная собственным значением
(собственным образным смыслом).
Можно сказать по-другому. Существует пер¬
вичное намагниченное смыслом поле изображения, и
образно-композиционное ядро произведения - его
“сердцевина” (Зедльмайр), его “метафора” (Алпатов),
его “идеолект” (Эко) - возникает из соотношения с этим
полем, степени и характера его нарушений или полного
его нивелирования, выхода за его пределы. Работая над
композицией, художник - сознательно или подсозна¬
тельно - ведет игру на этом структурно-смысловом
поле, придавая своему визуальному высказыванию об¬
разный смысл, интерпретирующий сюжет - или реши¬
тельно его перетолковывающий.
Композиционное сообщение способно перетол¬
ковать даже традиционный евангельский текст, не на¬
рушая его иконографии и лишь перенося акценты,
изменяя расстояния между фигурами, соотношения
масштабов, паузы. При этом образный смысл иконы, ее
визуальное речение меняется.
Один из красноречивых примеров - “Преображе¬
ние” Феофана Грека. Художник пишет икону, строго
соблюдая установленную иконографию: в верхнем яру¬
се, на высокой горе изображен Христос в белых одеж¬
дах и предстоящие Ему - Моисей и Илия; у нижнего
края иконы - трое упавших апостолов. Но Феофан
трактует чудо преображения Христа как чудо, преобра¬
зившее всю природу - это как бы предвестие того при¬
родного катаклизма, который свершится в момент
смерти Христа на Кресте. Вспыхивают, подобно мощ¬
ным прожекторам, пять свето-силовых лучей, происхо¬
дит выброс энергии, горные пласты приходят в движе¬
ние, взлетают к небу три пика, в горах образуются рас¬
щелины, сраженные направленными в них разрядами
световой энергии (обозначенными тонкими голубыми
линиями), стремительно летят вниз фигуры апостолов.
От иконы исходит - воспринимаемый одновременно
и глазом, и ухом - грохот рушащегося и вновь созидае¬
мого мира.
Совсем иное композиционное сообщение содер¬
жит икона на тот же сюжет и той же иконографии, со¬
зданная Рублевым. В ней верхняя, горная зона сильно
270
оторвана от нижней, дольней; между ними возникает
пространство молчания, горки образуют один высокий
пьедестал, вознесший к небу тесно сближенные, замк¬
нутые кругом сияния фигуры преобразившегося Хрис¬
та и двух свидетелей этого одинокого чуда. Упавшие
апостолы - у нижнего края иконы - к этому чуду оста¬
лись композиционно не причастными.
Тема внутренней непричастности, но еще более
пронзительной, возникает в картине итальянского
современника Андрея Рублева - Джованни Беллини.
Более пронзительной потому, что все происходит не в
метафизическом пространстве иконы, где может свер¬
шиться любое чудо, но в земном, физическом простран¬
стве картины. Христос и двое свидетелей не вознесены
на вершину горы, они стоят на плоской поверхности
земли. Никаких зримых проявлений чуда, о котором
словно не догадываются сидящие или полулежащие
здесь же, у самых ног Христа, апостолы, не столько от¬
прянувшие, сколько отвернувшиеся. Композиционную
некоммуникабельность усиливает пейзаж, стремитель¬
ной перспективой уводящий взгляд от переднего, собы¬
тийного плана - к далекому горизонту19. Чудо, о кото¬
ром повествуется в Евангелии, изображенное сюжетно,
композиционно не осуществилось - ни земля, ни небо
не преобразились, - и в этом драматизм визуального со¬
общения, воплощенного в картине Беллини.
Одной из основных композиционных первосхем
изобразительного искусства можно считать трехчастную
композиционную формулу с маркированным центром.
(В средневековой иконописи она реализуется в иконогра¬
фии Деиссуса с главной фигурой Христа в фас и фигура¬
ми предстоящих, обращенными к Нему, в три четверти.)
В живописи Возрождения эта трехчастная формула
используется в изображении Богоматери с предстоящи¬
ми - “Святом собеседовании”. Это построение слегка
варьируется, изменяется количество фигур, но сюжет¬
ная ситуация остается постоянной. Однако в ее пределах
возможны композиционные изменения, прежде всего, за
счет архитектурно-пространственных сдвигов.
В триптихе Ван Эйка фигура Богоматери помеще¬
на в интерьер собора, в глубину его центрального нефа.
Главным приемом глорификации служит здесь не Ее
выдвижение на передний план, но, напротив - создание
пространственной дистанции, которая делает Марию
недосягаемой. При этом изображенные в рост фигуры
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
271
предстоящих на боковых створках триптиха (в боковых
нефах), находящиеся на переднем плане, оказываются
того же размера, что и фигура сидящей Марии в глуби¬
не. Пространственно далекая - Она не подвержена зем¬
ным законам зрительного восприятия. “Святое собесе-
дование” композиционно истолковано Ван Эйком как
“Явление” Богоматери предстоящим.
По-иному использует смыслообразующую роль
архитектуры Рафаэль в картине на тот же сюжет. Он
выдвигает фигуру Марии на первый план, помещает Ее
на высокий трон, к которому ведут три ступени; трон
расположен в нише, дважды увенчанной балдахином и
величественной полуциркульной аркой на фоне. Это не
“Явление Марии”, как у Ван Эйка, это Ее светская пре¬
зентация.
И как смелое отклонение от принятой ренессанс¬
ной нормы - “Мадонна на троне” кисти Джорджоне
(так называемая “Мадонна Кастельфранко”), с ее “ком¬
позиции необщим выражением”. Джорджоне - мастер
смелых поэтических нарушений, пространственных и
смысловых сдвигов внутри принятой композиционной
матрицы. Трон Марии на его картине - необычно высо¬
кий, без ступеней, на него нельзя подняться и спустить¬
ся с него тоже невозможно. Это пьедестал, на который
Богоматерь вознесена или водружена, подобно статуе,
ее фигуру не увенчивает ни арка, ни ниша. Она помеще¬
на на фоне далекого, чужого пространства пейзажа, от¬
деленного глухой стеной от своего, архитектурно орга¬
низованного пространства первого плана. Возвышаясь
над стеной, Она воспринимается как одинокая - одино¬
кая не сюжетно, но композиционно. Монах и воин на
переднем плане настолько отдалены и отделены от Ма¬
рии (красная полоса на полу определяет границу воз¬
можного приближения к подножию трона), что воспри¬
нимаются не как участники “Святого собеседования”,
но, скорее, как почетный караул этой царственной
пленницы или как те, кто стоял у подножия Креста -
воздвигнутого, так же, как воздвигнутым кажется Ее
высокий трон. Все эти композиционные обертоны или
скрытые цитаты обогащают созданный Джорджоне об¬
раз Марии, которая кажется покинутой на произвол
уготованной Ей судьбы.
Тема одиночества получила еще более драматич¬
ное воплощение в “Сикстинской Мадонне” Рафаэля. Об
272
этой картине написано много, особенно в России20, -
о лицах Марии и Младенца, о провидчески отрешен¬
ном выражении Их глаз, которые “Голгофу видят пред
собой”. Но не менее важно, что Мария не просто идет
(“мимоидущая дева” - сказал о Ней Жуковский), взла¬
мывая композиционно-иконографическую формулу
триптиха, она уходит из картины, мимо коленопре¬
клоненных Сикста и Варвары, мимо устремленных на
Нее глаз двух херувимов, уходит, покидая “обустроен¬
ное” облаками и занавесом картинное пространство -
в пространство внекартинное, бесприютное, откуда
(в лицо Ей) врывается порыв ветра. Как и в “Мадон¬
не” Джорджоне, это не сюжетное, но композиционное
речение.
Это об интерпретации сюжетов, словесно сформу¬
лированных, имеющих уже сложившуюся иконогра¬
фию. Пьеро делла Франческа представил в зримом обра¬
зе евангельское событие, которого никто не видел, кото¬
рому не было свидетелей. В Евангелии описывается, как
снятое с креста тело Иисуса положили в гроб, как жен¬
щины, пришедшие наутро ко гробу, нашли его уже пус¬
тым, поэтому даже близкие Христа не сразу поверили
чуду Воскресения. В православной иконописи самый мо¬
мент восстания Иисуса из гроба, как правило, не изобра¬
жали, его заменяли сюжетом “Сошествие во ад” - собы¬
тие, еще более трудно представимое, но зато подробно
описанное в апокрифических источниках и потому до¬
ступное для визуальной интерпретации.
В западном искусстве сюжет “Воскресение” был
широко распространен, однако изображался не самый
момент свершения чуда, но триумф уже воскресшего
Христа. У Альтдорфера Иисус стоит на крышке сарко¬
фага в позе победителя; у Грюневальда - Он возносится
над гробом в ореоле многоцветных лучей; итальянцы
XV века изображали Христа парящим в облаках над
пустым саркофагом.
Пьеро делла Франческа выбрал самый момент
Воскресения - то, что никто не решался описать слова¬
ми, - создал визуальное речение неизреченного, пред¬
ставление непредставимого. И - смелая находка худож¬
ника: Христос не восстает, но с трудом вылезает из сар¬
кофага, поставив ногу на его край, опершись одной
рукой о колено, другой о древко знамени21. Лик Христа
изможденный, но торс, загадочным образом моделиро-
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
273
ванный светлым по еще более светлому, кажется светя¬
щимся изнутри. Воины у гроба спят крепким предрас¬
светным сном. И никаких свидетелей, никто этого не
видит, никто - кроме зрителей.
“Воскресение” Пьеро делла Франческа построено
по композиционной формуле триптиха с главной фигу¬
рой в центре, представленной в фас, и боковыми “створ¬
ками”, иконографически предназначенными для фигур
предстоящих. Но здесь место предстоящих заступили
деревья с высокими голыми стволами на фоне пустын¬
ного пейзажа, подчеркивая не только композиционное,
но также сюжетное одиночество восстающего из гроба
Христа.
Если трехчастную композицию с маркированным
центром обозначить как визуальную формулу моноло¬
га, то композиция двухчастная, с выпавшим централь¬
ным звеном, соответствует формуле диалога, когда рас¬
полагающиеся по сторонам от центра фигуры вступают
в общение на расстоянии, перекликаясь через опустев¬
шее пространство промежутка. Это пустое простран¬
ство приобретает особую смысловую нагруженность -
именно здесь композиционно озвучиваются слова,
которыми обмениваются, обменялись или готовы обме¬
няться персонажи, - или их глухое молчание. Эхо уже
прозвучавших или готовых прозвучать слов склады¬
вается в некую образно-смысловую композиционную
конфигурацию.
В “Благовещении” Симоне Мартини (XIV век)
действие развертывается в интерьере храма, условно
обозначенном трехчастным готическим обрамлением.
Архангел Гавриил, вступив в пределы центрального не¬
фа, уже произнес полагающиеся ему слова приветст¬
вия; Мария, услышав их, удивленно отпрянула в прост¬
ранство правого нефа. Чудо уже свершилось - в центре,
в пустой абсиде, появился венок херувимов и возник,
как знак непорочности зачатия, огромный букет белых
лилий. Именно - возник, поскольку архангел еще не
успел передать Марии принесенный им цветок, еще
держит его в руке.
В “Благовещении” XV века работы неизвестного
флорентийского мастера разыграна совсем иная ком¬
позиционно-смысловая ситуация. Место действия -
лоджия. Первое, что привлекает и поражает взгляд, -
активно красная поверхность пустого пола со стреми-
274
тельно уходящими вглубь половицами. Испуганная
Мария справа, в самом углу картины, сидит, прижав¬
шись спиной к глухой стене. Слева, из-под аркады,
энергично, почти напористо ступает на красный пол ар¬
хангел Гавриил. Слова еще не произнесены, чудо еще не
свершилось. Монументальная ниша, торжественно воз¬
двигнутая в центре картины, еще пуста, уподобленная
“престолу уготованному”, она еще ждет чуда. Между
Гавриилом и Марией простираетя гладь красного пола,
которую архангелу еще предстоит преодолеть. Эта пус¬
тота, этот композиционный вакуум рождает ощущение
затянувшейся паузы; Мария, зажатая в угол, выглядит
беззащитной, архангел - чрезмерно активным. Диало¬
га не возникает.
В картине на тот же сюжет Пьетро Поллайоло
складывается совсем иная композиционная ситуация.
Фигуры Марии и Гавриила помещены на первом плане,
в каком-то архитектурно не определенном, ничейном
пространстве, обозначенном только плитками пола. На
втором плане, за фигурами развертывается сложное
архитектурное действо - безмолвный архитектурный
диалог. Представлены, как бы в разрезе, два интерьера.
Торец разделяющей их стены подчеркивает диссонанс
в построении архитектурного задника - очевидную
несбалансированность двух его частей. За спиной Ма¬
рии - неглубокое помещение с закрытым окном (жили¬
ще Марии?). За спиной архангела - что-то вроде гале¬
реи или анфилады, крутой перспективой уходящей
вглубь, к открытому окну с видом на далекий пейзаж.
Даже если не пытаться прочитать в этом намек на пере¬
лом в судьбе Марии, на уготованную Ей участь - поки¬
нуть Дом и уйти в Мир, - драматизм архитектурного
диалога, его конфликтность представляется зрительно
очевидной. Диалога, воплощенного не в позах фигур
(они традиционны и маловыразительны) и, конечно, не
в выражении лиц, но в том, что происходит в проме¬
жутке, резко обозначенном торцом стены (торец - раз¬
рез, разрыв), вклинившимся между фигурами, а также
указующими линиями плит пола на переднем плане,
линиями, уходящими вглубь (в мир?) и главное - свер¬
шающемся на втором плане, за фигурами, отчетливо вы¬
раженном столкновении пространств Дома - и Не Дома,
столкновении, вносящем беспокойную разноголосицу
несогласованностью перспективного построения.
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
275
Поэтика композиционной формулы диалога - это
поэтика промежутка, поэтика “пустоты пустого” цен¬
тра, сохраняющего свою намагниченность смыслом. В
искусстве средневековья это пространство незримого
присутствия часто обозначалось изображением киво¬
рия. В одном из клейм русской житийной иконы митро¬
полита Алексия (конец XV века), где представлена бе¬
седа двух святых, пространство их диалога оказывается
трижды архитектурно отмеченным: пустотой незанято¬
го седалища, пустотой разделяющей их гладкой стены,
на фоне которой отчетливо рисуются жесты их беседую¬
щих рук, и, наконец, торжественно увенчивающим это
пространство диалога высоким киворием.
В живописи Возрождения это пространство диа¬
лога часто отмечается нишей или аркой, и именно в нем
зримо осуществляется смысл изображенного - его визу¬
альное речение. У Тициана в позднем “Оплакивании”
величие трагически безответного диалога Богоматери с
мертвым Сыном раскрывается в конце высокой камен¬
ной ниши, венчающей композицию, ниши, освещенной
светом ниоткуда, где возникают из полумрака фигуры
славословящих ангелов.
Особая отмеченность диалогического пространства
практически уходит из искусства XVII-XIX веков, вы¬
тесненная психологической выразительностью поз, ми¬
мики, разговорной жестикуляции. Исчезает и значи¬
мость композиционной паузы. В картине Н. Ге “Что есть
истина?” само расположение фигур композиционно не
диалогично. Обращенный Христу вопрос Пилата направ¬
лен не вдоль картинной плоскости, но перпендикулярно
к ней - брошен прямо в лицо Христу. Такой вопрос ни
сюжетно, ни композиционно не предполагает простран¬
ства для ответа. В его же картине “Петр и Алексей”
психологическая несовместимость персонажей доста¬
точно красноречиво воплощена в их позах, выраже¬
нии лиц и лишь слегка подчеркнута разделяющим их
углом стола.
Поэтика промежутка широко используется в ис¬
кусстве XX столетия22. В полотне Матисса “Разговор”
использована почти та же композиционная схема, что и
в психологической картине Ге: слева - стоящая высо¬
кая мужская фигура, справа - сидящая женская. Лица
не выявлены, мимика отсутствует. Ситуация разговора
(не содержание его, но его общий тонус) выражена кон-
276
трастом несгибаемо выпрямленной фигуры мужчины в
светлой вертикально-полосатой пижаме, с бескомпро¬
миссной резкостью рисующейся на темно-зеленом фоне
стены, - и сидящей в кресле женщины в черной одеж¬
де. Ее силуэт, мягких округлых очертаний, почти утоп¬
лен в темном цвете стены. Фигуры разделяет широкий
проем окна с видом на пейзаж. Однако заоконное про¬
странство не распахивается вовне, не создает компози¬
ционного разрешения ситуации: неба не видно, зеленая
лужайка и крона дерева, несколько более светлые, чем
стена комнаты, но того же безнадежно глухого тона, не
раскрывают, но, скорее, заслоняют окно. Пространство
внешнее, как это часто у Матисса, оказывается “к нам
вытесненным” (“...там есть пространство, но/ к нам вы¬
тесненным выглядит оно”. - И. Бродский). Вытеснен¬
ным к нам - иными словами, втиснутым в пространст¬
во комнаты. Диалогическая ситуация композиционно
зашла в тупик. Мотив внутреннего взаимопротивостоя-
ния персонажей, их взаимоупертости дополнительно
проигрывается в контрасте вертикально-прямого ство¬
ла дерева за окном, повторяющего силуэт мужской
фигуры - и горизонтали прозрачной железной решетки
в нижней части окна, с узором, повторяющим округло
изогнутые очертания женской фигуры, мягкую пласти¬
ку ее жестов. И еще - немаловажная деталь: окно рас¬
положено не в центре картины, но несколко сдвинуто
вправо, словно под напором несгибаемых вертика¬
лей мужской фигуры, так что чугунная решетка остро
касается женской руки, лежащей на подлокотни¬
ке кресла. Словесное содержание разговора не выра¬
жено, но его внутренний сюжет, его композиционный
подтекст звучит в полный голос. Окно в этой кар¬
тине Матисса выполняет роль визуальной стенограм¬
мы разговора, без окна разговор не мог бы состояться,
он превратился бы в решительный разрыв, в ситуа¬
цию враждебной, почти агрессивной некоммуника¬
бельности.
Панно Пикассо “Герника”, как и картина Матис¬
са, построено по композиционной формуле диалога, где
отчаяние (безответный вопль женщины - справа) про¬
тивостоит насилию (упертая фигура отвернувшегося
быка - слева). В пространстве разделяющего их диало¬
гического промежутка разыгрывается трагическая
схватка смерти (фигура умирающей лошади) и жизни
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
277
(женский профиль со светильником в руке, рвущийся
навстречу быку, сеющему смерть). Во всесметающем
порыве этих двух фигур, в обращенной к быку широко
раскрытой лошадиной пасти, уподобленной мегафону,
многократно усиливающему предсмертный вопль жен¬
щины, тщетно пытающейся докричаться до быка, в
гневном женском профиле с открытым в крике ртом, со
светильником в руке, с угрозой протянутым в сторо¬
ну быка, раскрывается содержание этого чудовищного
диалога не на жизнь, а на смерть.
Диалогичность ошеломляющего по силе воздей¬
ствия полотна Пикассо воплощена не только на сюжет¬
ном уровне (борьба добра - и зла, жизни - и смерти), но
также на глубинном уровне столкновения и взаимораз-
рушения двух различающихся по смыслу компози¬
ционных формул. (“Я создаю картину и потом разру¬
шаю ее”. - Пикассо.) Трехчастная, устойчивая формула
монолога с выделенным центром, торжественно увен¬
чанным символическим изображением глаза (боже¬
ственное око? знак солнца?), сметается динамикой
однонаправленного диалога, при этом “ничто не утра¬
чивается бесследно” (Пикассо) - одна композиционная
формула просвечивает сквозь другую, усиливая драма¬
тический пафос изображенного.
Монологическая композиционная формула пред¬
ставляет собой трехчастное построение с отчетливо
выраженным смысловым акцентом в центре. Эту цент¬
ральную часть можно условно обозначить как про¬
странство явления (главного героя, главного смысла),
как пространство излучения вовне духовной, эмоцио¬
нальной интеллектуальной энергии. Условно его можно
обозначить как пространство фасовой ориентации (Фло¬
ренский).
В композиционной формуле диалога акцент пере¬
несен на боковые части триптиха, в то время как его
центральная часть из пространства явления становится
пространством коммуникации, из пространства излу¬
чения энергии вовне - пространством обмена энергий-
ными потоками между участниками диалога. Иными
словами, вместо фасовой ориентации оно получает ори¬
ентацию профильную.
В “Гернике” Пикассо, благодаря остроконфликт¬
ному сочетанию двух композиционно-смысловых
формул, их взаимопросвечиванию, главная тема панно,
278
его визуальное иносказание раскрывается в диалоги¬
ческом пространстве профильной ориентации, кото¬
рое при этом сохраняет свой фасовый, монологический
пафос.
Это о диалоге. Но уже с начала XX столетия в
живописи все отчетливее начинает звучать тема молча¬
ния - не затянувшейся “паузы в диалоге, плодотворно
мучащей собеседника” (Аверинцев)23, но полного, глухо¬
го безмолвия “Черного квадрата” Малевича - картины,
имевшей на выставке 1915 года успех скандала. “Квад¬
рат на белом есть форма, вытекающая из ощущения
пустыни небытия”, - сказал о своей картине художник.
Или он же по-другому: “Не пустой квадрат, а ощущение
беспредметности”. Александр Бенуа воспринял полот¬
но Малевича как опасный симптом надвигающейся ка¬
тастрофы: “Черный квадрат в белом окладе - это не
просто шутка, не просто вызов, не случайный малень¬
кий эпизод, это один из актов самоутверждения того
начала, которое имеет своим именем мерзость запусте¬
ния и которое кичится тем, что оно через гордыню, че¬
рез заносчивость, через попрание всего... приведет всех
к гибели”.
Своей скандальной картиной Малевич открыл
в искусстве тему, ставшую одной из центральных в
XX столетии. И не только в живописи: “Я над всем, что
сделано, // ставлю nihil”, - пишет в том же, 1915 году
Маяковский. “Твой мир, болезненный и странный //
Я принимаю, пустота!” - провозглашает Мандельштам.
“Тень, будто разбуженная, мгновенно густясь в черный
ком, поползла, разворачиваясь с невероятной быстро¬
той... Миг, и все кануло в тень... Ничто”. Кржыжанов-
ский постоянно ищет слова для определения этого труд¬
нопредставимого Ничто: “клавиатура тишины”, “из
молчания в молчь, из молчи в безгласность”, “про¬
странство, чистое от вещей, чистое (от событий) время”.
И так - на протяжении столетия, вплоть до “экзистен¬
циальной паузы” Кортасара и “крика молчания” Брод¬
ского24. Одним словом, “наше время полнится шумом
от призывов к молчанию” (С. Зонтаг).
В живописи эти призывы к молчанию воплотились
во множество равномерно или не равномерно закрашен¬
ных разными цветами полотен - преимущественно чер¬
ных, как у Хартунга или Клиффорда Стилла, с едва про¬
бивающимися, где-то с краю или внизу, не заглушенны-
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
279
ми (не затопленными черным) полосами или пятнами си¬
него, лилового или желтого. Иногда более оптимистиче¬
ский вариант - закрашенные глубоким темным цветом
монументальные панно Ротко, молчащие и призываю¬
щие к молчанию, иногда - опустошенно белые, немые
полотна Перико, с кое-где, еще не смытыми пустотой,
цветными потеками. “Цель - светящийся лист бума¬
ги...”, - писал о своей белой, почти пустой графике Дми¬
трий Леон. Белое - как бытие безмолвия.
Некоторые современные мастера вступают в пря¬
мую полемику с Малевичем. Воспроизводя провозгла¬
шенные им первоформы черного - квадрат, круг и
крест, - Хаггебеллинг придает строго классическим си¬
луэтам Малевича неуверенно смятые очертания и про¬
водит по поверхности черного узкие, неровные белые
щели, превращая громогласный манифест Малевича в
неуверенное, запинающееся бормотание. И еще реши¬
тельнее - Марфаинг варварски разрывает малевичев-
ский квадрат на две неравные части, так что на линии
разрыва - расщепа между двумя частями - торчат чер¬
ные лохмотья оборванной, задушенной речи.
И один из пугающих примеров, почти клиничес¬
кий случай художественной шизофрении: художник
Джозеф Кошут старательно, мелкими буквами, строка
за строкой исписывает свеху до низу стены выставочно¬
го зала, а затем столь же старательно зачеркивает каж¬
дую строчку жирной чертой. Демонстративный отказ
не только от слова изображенного, но даже от слова, на¬
писанного буквами, от всякого слова - полная немота.
Наконец, как логическое завершение этого про¬
цесса - появление на выставках пустых рам от ненапи¬
санных картин, зримый образ тотального молчания:
“Мы не оставим наших сообщений, // Поскольку ирра¬
циональный ужас // Точнее выражается молчаньем”
(И. Волков).
Антитеза молчания - многоголосие, когда все
сливается в один общий гул, где невозможно расслы¬
шать отдельных слов, где над всем господствует все¬
поглощающая множественность. Шум города, гул тол¬
пы - все это составляет обезличенный, вибрирующий
звуковой фон.
Визуальной моделью такого многоголосого мол¬
чания может служить композиция, построенная по мо¬
дели корневища или грибницы, не имеющей ни центра,
280
ни периферии, ни верха и низа. Художник Георг Базе¬
лиц в одной из своих перевернутых картин - “Лес вверх
ногами” - изобразил деревья, растущие не вверх, а вниз
(вверх торчат их спиленные стволы): опрокинутая
структурная модель дерева, где ветви выполняют роль
обнажившейся корневой системы - структурной фор¬
мулы корневища. Не рост, но разрастание.
Другой столь же неожиданный литературный
пример перевернутого восприятия: Кортасар в своем
романе “62. Модель для сборки” рассуждает об открыт¬
ке с видом на город Бари: “...Если повернуть ее вверх
ногами и смотреть, прищурив глаза, то эти соты с тыся¬
чами сверкающих ячеек и каймой моря вверху кажутся
абстрактной картинкой удивительной тонкости... Я смо¬
трю на нее, и передо мной вовсе не итальянский город, а
кропотливо выписанное нагромождение крошечных
ячеек, розовых и зеленых, белых и голубых, и это уто¬
ляет жажду чистой красоты”. Тот же обессмысленный
остранением образ однообразного разнообразия, непо¬
вторяющейся повторяемости всеразличия - как в не¬
которых полотнах Пауля Клее с их зачаровывающим
многоцветием одинаковых по размерам квадратиков,
полотнах, которые можно рассматривать, повернув
вверх ногами, как открытку с видом Бари в романе Кор¬
тасара.
У Клее есть картина, нарочито концептуально на¬
званная “Направо и налево”, где предельно геометризо-
ванные фигурки то ли предметов, то ли людей, то ли
птиц разбегаются в разные стороны от пустого центра,
за пределы картины, следуя стрелкам, указывающим
направление, - наглядная иллюстрация процесса “не¬
прерывного раздвижения средней зоны, отодвигающей
и поглощающей крайние полюса”, процесса, в резуль¬
тате которого возникает “безбрежная середина, почти
уже лишенная краев” (Эпштейн).
Зримый образ такой “безбрежной середины” -
бессобытийной (“любые события происходят только на
границе” - Ю. Лотман), разноголосо безголосой - воз¬
никает в полотнах многих художников второй полови¬
ны XX столетия.
1951 годом датируется безымянное полотно
Джексона Поллока “Номер 15”, в котором на светлом,
чуть желтоватом фоне, словно в бешеной схватке, спле¬
таются в запутанный клубок черные линии, образуя
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
281
единое поле без маркированного верха и низа, правой и
левой сторон - как бы случайный фрагмент, выхвачен¬
ный из целого, где в оглушительный рев толпы иногда
врываются отдельные истерические выкрики.
В картине Марка Тобей “Путешествие в Белом”
(1956) мерцающий серовато-белый фон густо усеян
мелкими черными штришками, похожими то ли на
случайные росчерки пера, то ли на небрежно постав¬
ленные нотные знаки, несколько разреженные по уг¬
лам и слегка сгущающиеся в центре. Приглушенный
расстоянием, звучащий то чуть громче, то тише, ров¬
ный, без выкриков гул голосов.
В его же более поздней картине “Возрастающая
белизна” (1971) - тот же белый, слегка окрашенный се¬
рым фон, расчерченный такими же штрихами, но гео¬
метрически правильной формы, образующими неболь¬
шие, утомительно однообразные четырех- или пяти¬
угольники, более отчетливые и более крупные внизу
полотна, более мелкие и все менее различимые в сере¬
дине и постепенно исчезающие вверху, растворяясь в
белизне. Возрастающая белизна как постепенно зати¬
хающий, смолкающий гул голосов, как наступающее
безмолвие: “Нет на свете вещей безупречней, // (кроме
смерти самой), // отбеляющих лист, // Чем белее, тем
бесчеловечней” (И. Бродский).
В полотне Джаспера Джонса “Пятнадцатиминут¬
ная пауза” (1961) на ровном, чуть розоватом фоне - еле
заметные почти квадратные очертания, словно следы
отзвучавших слов, словно эхо, заполнившее замираю¬
щими звуками это “пятнадцатиминутное молчание”.
В сущности, это полотно Джаспера Джонса прибли¬
жается к монохромным полотнам Хартунга, Ротко или
Перико, воплощающим полное, ничем не нарушаемое
безмолвие сосредоточенного самопогружения; прибли¬
жается, хотя в нем сохраняется легко уловимая на глаз
рассредоточенность - рассеянность прислушивания к
уже умолкнувшим звукам.
Существует еще одна особенность в построении
визуального текста картины, особенность, которую ус¬
ловно можно соотнести с ключевым словом словесного
текста - термином, часто употребляемым с некоторым
смысловым или образным сдвигом по отношению к его
прямому значению и тем самым акцентирующим
282
смысл речевого высказывания или придающим ему не¬
обычный поворот. В картине этому может соответство¬
вать композиционно или сюжетно выделенная говоря¬
щая деталь, обращающая на себя внимание зрителя и
запоминающаяся как своеобразный опознавательный
знак картины, ее пароль.
Это - обнаженная ступня Юдифи, легко коснув¬
шаяся отрубленной головы Олоферна, в картине Джор¬
джоне. Острое переживание контраста теплого, живого
тела - и холода тела, обезображенного смертью; совер¬
шенная красота - и беспощадная жестокость. В этой
говорящей детали, которой случайно(?) проговари¬
вается художник, раскрывается сущностная противо¬
речивость культуры Возрождения, ее внутренний дра¬
матизм.
Это - патетически вскинутые руки Иоанна в кар¬
тине Эль Греко “Снятие пятой печати” - то ли обращен¬
ная к небу мольба о милосердии, то ли вопль ужаса или
отчаяния.
Это - нотная тетрадь, неизвестно откуда появив¬
шаяся в руках Иосифа, которую он старательно держит
перед играющим на скрипке ангелом в “Отдыхе на пути
в Египет” у Караваджо. Смелое, на грани вызова, обы-
товление Священного Писания, характерное для этого
“первого современного художника” (М. Свидерская) -
художника переломного времени.
Это - свесившаяся из ванны, касающаяся пола
мертвая рука Марата в картине Луи Давида. Мотив,
возможно заимствованный у Тициана или Караваджо,
изобразивших в сцене “Положение во гроб” тяжело по¬
висшую руку мертвого Христа - как визуальный знак
жертвенной смерти героя.
Это - непривычно высящаяся на переднем плане
фигура Иуды, который, демонстративно накидывая на
голову плащ, покидает “Тайную вечерю” в картине
Н. Ге. Характерная для русского искусства второй по¬
ловине XIX века психологизация евангельского текста,
попытка перевернуть каноническую ситуацию, пере¬
сказать ее как бы от лица Иуды.
Это - часто повторяющийся в полотнах Матисса
задвинутый в самый угол, наполовину срезанный ра¬
мой пустой стул - как знак незримого присутствия...
(или зримого отсутствия?) человека (или самого худож¬
ника?).
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
283
“Его пустое место”, - сказал Ван Гог о своей кар¬
тине “Кресло Гогена”. И он же - о пустых стульях: “О,
эти пустые стулья! Их и теперь уже много, а будет еще
больше... Останутся лишь пустые стулья”. Опустевшая
комната или - тайная жизнь вещей в отсутствии чело¬
века. Как у Бродского: “Меня там больше нет. // Озна¬
ченной пропаже // дивятся, может быть, // лишь вазы
в Эрмитаже”.
В последнее время в специальной литературе заго¬
ворили о существовании персоносферы - то есть о некоем
виртуальном мире персонал ей исторических, литера¬
турных, фольклорных, мифологических, библейских,
которые незримо присутствуют в нашем сознании. Как
правило, они связаны с определенными ключевыми сло¬
вами (“Пришел, увидел, победил”. - Цезарь. “На том
стою”. - Лютер. “Быть или не быть”. - Гамлет). Воз¬
можно, к этой же персоносфере можно отнести и ви¬
зуальные образы, сохраняющиеся в нашей зрительной
памяти, связанные с визуальным аналогом ключевого
слова - “говорящей деталью”. Эти детали, как и ключе¬
вые слова, у разных людей могут быть разными. Для
одних Цезарь - это: “Пришел, увидел, победил”, для
других - “И ты, Брут!” Или в “Блудном сыне” Ремб¬
рандта для одних - это руки слепого отца, прижимаю¬
щие к себе сына, для других - стоящая справа молчали¬
вая фигура свидетеля сцены. Персоносфера, так же как
концептосфера языка (Д.С. Лихачев), различна для
разных национальных культур, социальных слоев - и
для каждого человека.
Примечания
1 Раннехристианское искусство, перенесенное на почву
Рима, поначалу сохраняло его ораторскую жестикуля¬
цию, так же как оно сохраняло римскую тогу с нашитой
на нее пурпурной полосой (клавом) - знаком принадлеж¬
ности к высшему сословию всадников. В мозаике римской
церкви Св. Косьмы и Дамиана (IV в.) в такую одежду обла¬
чен Христос, а также апостолы Петр и Павел. Евангелие в
руке Христа изображено не в виде книги, как это было
принято в более поздней, сложившейся иконографии, но в
виде античного свитка. Его правая рука с открытой ладо¬
нью поднята жестом, обозначающим не благословение,
284
но призыв к вниманию. Такой же ораторский жест делают
и оба апостола.
2 Подробнее об этой иконе см.: Данилова И. Византийская
икона “Благовещение” XIV века // Этюды о картинах.
Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. М., 1986.
3 Средневековый жест - это провозглашение готового, по¬
стоянно повторяющегося Слова. Всякое изменение и раз¬
витие воспринималось как убывание истины, поэтому за¬
дача средневекового художника в идеале состояла в том,
чтобы возможно точнее (правильнее) воспроизвести жест,
являющий собою одно и то же Вечное Слово.
4 Заниматься анатомией итальянские художники начи¬
нают в годы Высокого Возрождения. Сохранились анато¬
мические рисунки Леонардо. По свидетельству Антонио
Кондиви, Микеланджело вскрывал трупы, “приобретая
столько знаний, ...что не раз собирался написать на поль¬
зу тех, кто хотят посвятить себя скульптуре и живописи,
сочинение, трактующее о всех видах человеческих дви¬
жений”.
5 Не гибель мира, но гибель человеческой истории - именно
так воспринял “Страшный Суд” Брюллов, который часа¬
ми просиживал перед фреской Микеланджело, обдумывая
сюжет своей последней, не осуществленной картины “Все¬
сокрушающее время”. Сохранился ее эскиз, хранящийся
в римском архиве семейства Титтони. Эскиз видел Стасов
и подробно описал его с указанием всех изображенных
персонажей. “В самом верху... посреди валящихся в про¬
пасть гор, пирамид и обелисков (ср. “Последний день Пом¬
пеи)... стоит Время, гигантский Микель-Анжеловский
старик, с бородой как у... Моисея. Все столкнул он с пьеде¬
сталов, со страниц жизни, весь мир, со всем его прошед¬
шим, летит в реку забвения, в Лету, волны которой конча¬
ют внизу картину и в которых все должно погибнуть. (Сле¬
дует перечень изображенных на картине великих истори¬
ческих деятелей. - ИД.) Падают в реку забвения религии
мира (перечисляются религиозные деятели. - ИД.). Летят
в забвение Сила и Власть (среди них женщина, поднимаю¬
щая красный фригийский колпак). Внизу всей картины,
ближе к Лете, хотел нарисовать Брюллов себя со своей
картиной, и это место для себя он только назначил общим
темным пятном, с правой стороны у самых волн Леты”.
Интересно привести для сравнения цитату из романа
Томаса Манна “Доктор Фаустус”, написанного примерно
Слово - и зримый образ в европейской живописи...
285
через сто лет. Описывается музыкальное произведение,
которое “напоминает ту кишащую телами стену, где анге¬
лы трубят в трубы, возвещая конец мира, Харон разгру¬
жает свой челн, мертвецы воскресают, святые молятся,
демонические маски ждут знака опоясанного змеей Мино-
са, обреченный проклятию толстяк, схваченный и влеко¬
мый ухмыляющимися сынами болота, отправляется в
страшный путь, закрыв глаз рукой и в ужасе взирая
другим на вечные муки, меж тем как неподалеку от него
Милосердие Божие спасает еще две не успевшие упасть
грешные души...” В описании Томаса Манна фреска
Микеланджело воспринята как некая “человеческая
комедия”, в которой есть что-то скорее от чудовищного
карнавала, нежели от апокалиптического видения конца
мира.
6 Понимание самой категории тьмы переживает на протя¬
жении столетий значительную эволюцию. В искусстве
средневековья тьма, мрак, черный цвет отождествлялись
со злом. Главный пафос средневекового искусства - побе¬
да света (божественного озарения) над мраком (“тьмой
внешней”). Искусство Возрождения приручает тьму - она
становится тенью, то есть средством выявления мате¬
риальности материального, телесности телесного. Однако
к концу XVI столетия, ко времени Караваджо в живопись
снова проникает тьма - и пронизывающий ее слепящий
свет. В эту схватку разбушевавшейся стихии попадает
человек. Отсюда его бурные, словно отторгающие мрак
(как в “Давиде” у Караваджо) или защищающиеся от осле¬
пительного света (как в его же “Савле”) жесты. В картинах
Караваджо мрак можно пробить лишь сильным светом
или сильным жестом. В картинах Рембрандта живая по¬
лупрозрачная темнота не вызывает реакции отторжения;
темнота у Рембрандта - гарантия безопасности, она соз¬
дает атмосферу самопогружения и требует закрытой, мол¬
чаливой жестикуляции.
7 Особенно в его картине “Драка”, разыгрывающейся в ка¬
бачке, но на фоне торжественно озаренной сценической
площадки, словно подготовленной для изображения
“Чуда в Эммаусе”.
8 В картине “Вакх и пьяницы” или в картине “Завтрак” -
композиционной парафразе полотна Караваджо “Христос
в Эммаусе”.
9 “Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств, -
писал Паскаль. - Люди, поднимая свой взгляд вверх,
опираются на песчаный фундамент. Однако настанет мо-
286
мент, когда земля расступится и они рухнут в бездну, гля¬
дя в небеса”.
10 Подробнее об этом: Данилова И, “...Исполнилась полнота
времен...” // Искусствознание. 2001. № 1.
11 См.: Данилова И. Проблема жанров в европейской живо¬
писи. М., 1998.
12 “Одни делают портрет руки, каждый раз новой... Другие
делают знак руки... Знаки можно комбинировать свобод¬
но...” (Матисс),
13 Данилова И,Е, Искусство средних веков и Возрождения.
М., 1984. С. 41-51.
14 “Опытность художника в искусстве проявляется в том, что¬
бы не изобразить жест или позу, которую случайно сделал
тот или иной папа или тот или иной император, но такой
жест, который он должен был бы сделать в соответствии с
величием и достоинством своего положения” (Паоло Пино,
XVI в.).
15 “Хотя и надо стараться не быть в плену у полученных в на¬
следство форм, нельзя также из любви к прогрессу вообра¬
зить, что можно полностью отказаться от прошлых столе¬
тий” (Ренуар),
16 “Художественное произведение есть некое само по себе ор¬
ганизованное единство его изобразительных средств... Это
единство имеет и основную схему своего строения; ее-то и
называют композицией”. Флоренский противопоставляет
“композицию”, которая, по его словам, “равнодушна к
смыслу... произведения”, понятию “конструкция”. Конст¬
рукция включает в себя сюжет. “Но сюжет есть лишь бо¬
лее поверхностный и потому - внешний момент конструк¬
ции, тогда как первична некоторая перво-конструкция...
или перво-сюжет”. Имеется в виду “соотношение сил, сти¬
хий”, “борьба отвлеченной тяжести и отвлеченного проти¬
водействия” - все это и составляет, по Флоренскому,
смысл произведения, то есть его конструкцию. “Обычное
недоразумение - смешение смысла и сюжета”, - замечает
Флоренский.
17 “Постичь сущность произведения искусства через указа¬
ние черт, общих с некоей школой или временем, невоз¬
можно, так как истинное поэтическое произведение - это
то, что само собой разумеется и оттделяется от школы как
единичное” (Зедльмайр),
18 “Вместо того, чтобы оплакивать отсутствие центра, разве
нельзя согласиться с тем, что знак не соотносится с цент¬
ром? К чему смиренно грустить о центре? Разве центр, это
Слово - и зримый образ в европейской живописи,,.
287
отсутствие игры и разнообразия - не есть другое название
смерти?” (Дерида).
19 Ср. Флоренский о ренессансной перспективе: “Ведь дело
ее - не давать глазу покоиться созерцанием ни одной
вещи, но всегда идти мимо каждой из них, в беспредель¬
ность пустоты, где постепенно уничтожаются все конкрет¬
ные зрительные образы и всякое нечто испаряется в
ничто”.
20 Данилова И. Русские писатели и художники XIX века о
Дрезденской Галерее // Алпатов М, Данилова И. Старые
мастера в Дрезденской Галерее, М., 1959.
21 Такой же с усилием вылезающий из гроба Христос изобра¬
жен (причем не в фас, как это было принято в сцене Воскре¬
сения, но в профиль) у Донателло на одном из рельефов ка¬
федры в церкви Сан Лоренцо во Флоренции. Поднявшись
из гроба, Христос проламывает головой карниз обрамления
рельефа - одна из дерзких композиционных метафор Дона¬
телло.
22 “Чистый промежуток, который можно назвать временем и
пространством в их нерасчлененности” (Беккет). “Проме¬
жуток, становящийся пространством времени или време¬
нем пространства” (Дерида).
23 “Молчание тоже может быть безмолвием мистическим,
то есть особым (даже особенно сильным) окликанием
(не только Бог, но даже люди умеют многозначительно
молчать)” (Аверинцев).
24 В поэзии Иосифа Бродского постоянно возникают мотивы
молчания, одиночества, тьмы как предвестия - как мета¬
форы посмертного небытия:
Вещи и люди нас
окружают. И те
И эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте...
Его лее: “Мы уходим во тьму, где светить нам нечем”.
“Он слышал, что время утратило звук”. “Но даже мысль о -
как его! - бессмертье // есть мысль об одиночетве”.
Ср. у Ольги Седаковой:
Что нам злоба дня и злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит никуда, в упор.
И по-другому у Евгения Блажеевского:
Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
288
Когда фигур божественных не стало,
Я наконец-то разгадал секрет -
Что красота не там, где По лек лет,
А в пустоте пустого пьедестала.
И в страстном порыве саморазвеществления - у Елены
Шварц:
Мне моя отдельность надоела.
Раствориться б шипучей таблеткой в воде!
Бросить нелепо-двуногое тело,
Быть везде и нигде...
“Се Дева во чреве приимет
и родит сына”
О византийской иконе XIV века “Благовещение”
из ГМИИ им А.С. Пушкина (опыт интерпретации)
“Видение... пречудное и отнюдь
несказанное”
Представление Благовещения
в церкви Сантиссима Аннунциата во Флоренции (1439)
глазами Авраамия Суздальского
“Чуден вельми светлостью,
звонностью и пространством”
Архитектура Успенского собора в Кремле -
и пространство в иконах Дионисия
“Взлетающий ввысь... невесомый
и к земному непричастный”
О трех поздних иконах Дионисия
I
“Се Дева
во чреве приимет
и родит сына”
О византийской
иконе XIV века
"Благовещение”
из ГМИИ
им. А.С. Пушкина
(опыт интерпретации)
Сюжет Благовещения можно на¬
звать одним из самых “соблазни¬
тельных” во всей евангельской
истории, соблазнительных в том
смысле, который вкладывали
в это слово в эпоху средневеко¬
вья - то есть способных вверг¬
нуть верующих в соблазн сомне¬
ний и неверия. Отголоски этих
сомнений звучат даже в канони¬
ческом тексте Евангелия от
Луки, единственном из четырех,
где есть этот эпизод. Мария, ус¬
лышав весть о зачатии, возра¬
жает ангелу с точки зрения того
самого здравого смысла, опровер¬
жением которого и должно было
служить это чудо: “Как будет
сие, идеже мужа не знаю?” На
что ангел дает вполне ортодок¬
сальный ответ: “Дух святый най¬
дет на тя и сила всевышняго осе¬
нит тя”1.
Однако это объяснение ока¬
залось недостаточным, не слу¬
чайно таинство непорочного
зачатия породило обширную
апокрифическую литературу и
многократно комментировалось
отцами церкви. В ряде апокри¬
фов вводятся свидетели - девуш¬
ки, которые якобы помогали Ма¬
рии прясть нить для храмовой
завесы и которые впоследствии
сопровождали ее в дом Иосифа и
присутствовали при ее неодно¬
кратных беседах с ангелом2. Эти
свидетели чуда не принимались
официальной церковью, считав¬
шей, что догматы религии не
требуют доказательств, что они
должны приниматься на веру.
291
Тем не менее эти свидетельницы проникают в канони¬
ческую иконографию Благовещения, по-видимому, на¬
чиная с XII века, когда споры о догмате непорочного за¬
чатия становятся особенно напряженными3.
Более сложное психологическое истолкование по¬
лучает это событие в святоотеческой литературе. Так, в
одной из проповедей на праздник Благовещения, при¬
писываемых Иоанну Златоусту, сам архангел Гавриил
впадает в соблазн неверия в осуществимость подобного
чуда и, прежде чем отправиться к Марии, излагает свои
сомнения пославшему его Господу Богу. При этом глав¬
ный довод Гавриила заключается в том, что “необыкно¬
венное сие дело... чтобы родила дева без сочетания му-
жескаго, превосходит законы естества”4. В сущности,
это основной тезис, который выдвигали в разное время
все, кто выступал против догмата о непорочном зача¬
тии, утверждая, что в Священное Писание вкралась
ошибка, что Мария была не девой, но молодой женщи¬
ной и тому подобное. Видимо, самая рискованность сю¬
жетной ситуации требовала подробной и аргументиро¬
ванной разработки.
В одном из средневековых текстов5 говорится, что
архангел Гавриил, прибыв в Назарет, не решался сразу
явиться в дом Марии, боясь, что внезапный возглас,
раздавшийся в тишине, может испугать ее, поэтому он
предпочел в первый раз приветствовать ее вне дома, к
тому же оставаясь невидимым. В “Слове на Благовеще¬
ние” Андрея Критского6 рассказывается, что Гавриил,
приблизившись к дому Марии, стал сомневаться - по¬
стучать ли в дверь, войти ли без стука, и сразу ли явить¬
ся в человекоподобном облике.
Реакция Марии, ее поведение также получают
очень сложную психологическую мотивировку. Соглас¬
но Иоанну Златоусту7, Мария, “грозно обратившись к
говорившему... изгоняла его словами: уйди, человек, с
порога моего жилища...”, считая, что Гавриил пришел,
чтобы соблазить ее, “победить красоту ее лица”. Она
долго не верит ангелу, грозит ему, возражает, колеблет¬
ся, открыть ли тайну Иосифу.
Эти оттенки чувств, эти стадии душевного состоя¬
ния Марии из апокрифической литературы и пропове¬
дей проникли в песнопения в честь Богоматери, испол¬
нявшиеся во время богослужения: “Да не прельстите
меня лестию, - отвечает Мария ангелу в одной из
292
стихир, - не познах бо сласти, браку еси непри¬
частна, како убо отроча рожду?”8 Или в другом песно¬
пении: “Разум недоразумеваемый разу мети дева ищу¬
ще, возопи... из боку чисту сыну како есть родитися
мощно?..”9
Знаменательно, что психологическая мотиви¬
ровка, так богато разработанная в литературе, почти
не выражена в изобразительном искусстве византий¬
ского круга. В иконах на сюжет Благовещения, даже в
XIV веке, в пору наибольшей свободы и эмоциональной
раскованности византийской живописи, сюжет тракто¬
вался в соответствии с традиционной иконографи¬
ческой формулой.
Эта формула знала лишь два варианта: Благо¬
вещение у колодца или источника (так называемое
Протоблаговещение), где ангел изображался обычно
летящим, что должно было означать, что он еще не во¬
плотился в зримый человеческий образ; и собственно
Благовещение, где Гавриил, в облике крылатого юно¬
ши, ступая по земле, приближается к Марии и делает
жест благословения и одновременно “жест человека,
который говорит”, по выражению одного средневеко¬
вого автора10; Мария отвечает ему ладонью раскрытой
руки, что может обозначать и ответное приветствие, и
приятие благой вести, и отклонение ее.
В сущности, перед нами сцена, не столько изобра¬
жающая сюжетную ситуацию Благовещения, сколько
обозначающая, какой из двух возможных моментов
этой истории имеется в виду. Это - род изобразительно¬
го либреттОу которое для средневекового зрителя лег¬
ко было озвучить хорошо ему знакомыми, постоянно
повторявшимися текстами Евангелия, акафистов, про¬
поведей; либретто, которое именно благодаря отсутст¬
вию психологической конкретизации мимики и жестов
давало простор для толкований, порой настолько слож¬
ных и детализированных, что реализация их была вне
пределов изобразительных возможностей не только
средневековой живописи, но вообще живописи как ви¬
да искусства.
Сохранились средневековые описания изображе¬
ний Благовещения. Хотя они относятся к более ранне¬
му времени, тем не менее они дают представление о том,
как могла и как должна была восприниматься икона,
относящаяся к XIV столетию.
О византийской иконе XIV века “Благовещение”...
293
“Пораженная неожиданным появлением Гаврии¬
ла, Мария поднялась с сидения... Она выпрямилась,
как бы готовясь выслушать царский приказ, смиряясь
перед необходимостью расплаты за грех Евы... Слова
архангела коснулись ее слуха, проникли в ее сознание,
захватили ее рассудок, тронули ее сердце, она взволно¬
вана, в ее девственной душе возникают мысли. Она раз¬
мышляет над тем, что должно означать это приветст¬
вие...”11 Зрительно все это в иконе не явлено, так же
как не было явлено это и в мозаике церкви Св. Апосто¬
лов в Константинополе, к которой относится описание.
Перед нами пример интерпретации средневекового
живописного произведения средневековым зрителем.
Во всяком изображении, иллюстрирующем текст,
неизбежно наличествует некоторое несовпадение меж¬
ду тем, что представлено в зрительном образе, и словес¬
но сформулированным содержанием, которое этот зри¬
тельный образ должен выразить.
В искусстве нового времени, начиная с эпохи Воз¬
рождения, при всем многообразии эстетических теорий
и художественных решений, в качестве основного посту¬
лата сохраняется представление о том, что содержание,
сформулированное словесно, визуально воплотимо; и в
более общем плане, что все изображаемое - изобразимо.
Одно из основных положений средневековой, и
прежде всего византийской, эстетики - это учение о
принципиальной неадекватности изображенного изоб¬
ражаемому. В сущности, именно к этой проблеме сво¬
дились споры об изобразимости - и неизобразимости
Божества, о соотношении первообраза - и подобия.
Зримый образ не может и не должен воплощать все со¬
держание, он представляет собою лишь одну из степе¬
ней приближения, лишь знак, за которым должно рас¬
крыться иное. Это иное необходимо не столько увидеть,
сколько угадать в изображении, которое может лишь
“приоткрыть завесу над сокрытой истиной”12. Поэтому
всякое изображение всегда априори рассчитано на ис¬
толкование, комментирование, мысленное дополнение,
на прочтение в нем некоторого зрительного недовопло-
щенного текста13. В этом смысле можно сказать, что
византийская икона, при строгой фиксированности
иконографической формулы, по самой структуре своей,
по своему образному смыслу представляет собой фено¬
мен, предельно открытый для сюжетно-смысловых
интерпретаций.
294
II
Сокровенное таинство, и ангелам неведомое,
Гавриил уверяет архангел,
и к тебе ныне прииде... и вопиет тебе...
радуйся, уготовися словом Бога Слова твоими
ложеснами прияти.
Акафист Богородице
Вопрос о соотношении словесного и зрительного образа -
один из основных в средневековой эстетике, поскольку
он связан с учением о воплощении Бога-Слова в теле¬
сном, человеческом, зримом образе. Таинство воплоще¬
ния составляет второй, более глубинный аспект сюжета
иконы “Благовещение”.
Согласно средневековым воззрениям, всякое со¬
бытие или явление может иметь четыре знания: бук¬
вальное, аллегорическое, тропологическое (моральное)
и аналогическое (мистическое). Соответственно и в про¬
изведении средневекового искусства закономерно ис¬
кать различные образно-смысловые уровни. И если на
уровне “буквальном” в иконе “Благовещение” пред¬
ставлена остросюжетная психологическая новелла о
“бессемейном зачатии”, то на уровне, который средне¬
вековые писатели назвали бы аналогическим, здесь
представлено воплощение или материализация Слова,
то есть некоей духовной силы или энергии, внедрение
этой энергии в мир.
Жесты действующих лиц, представленных на
иконе, сдержанны, их позы спокойны, фигуры обра¬
зуют статичную, симметрично построенную группу,
сюжетное движение почти отсутствует. Но вся икона
охвачена бурным композиционным движением. Склад¬
ки одежды ангела клубятся, как от сильного ветра, тем
же ветром подхвачен и заброшен за кровлю здания пур¬
пурный велум. Конечно, это не ветер как естественное
явление природы, это ветер, который в средневековой
поэтике фигурировал как знак приближения Боже¬
ства, как зримое воплощение Духа Божьего. “...Ветер
имеет в себе подобие и образ божественного действия...
по своей животворной удобоподвижности, по своему
быстрому и ничем не удержимому стремлению и по не¬
известности и сокровенности для нас начала и конца
его движений”14.
О византийской иконе XIV века “Благовещение”...
295
В одной из проповедей Иоанна Златоуста Бог при¬
казывает Гавриилу предупредить Марию, чтобы она
“уготовила ему вход для слуха”, чтобы настроила “слух
свой на вшествие”15. Ветер, ворвавшийся в икону, и
служит здесь зримым вестником вторжения Слова в
мир: “И внезапно сделался шум с неба, как бы от несу¬
щегося сильного ветра, и наполнил весь дом...”16
Композиционное движение, пронизывающее ико¬
ну, не ограничивается этим мотивом символического
ветра. Одежда Марии изломана острыми складками,
черты ее лица сдвинуты, словно оно находится в про¬
цессе переформирования, так же деформированы лица
других персонажей. Но особенно сильно это движение
ощутимо в архитектуре - она словно вся разрушена и
сложена заново, образуя динамическую структуру, не
подвластную обычной земной архитектонике, законам
земного тяготения. Все сдвинуто с мест, все держится
не благодаря, а вопреки. Мир, разрушенный звуковой
волной, силой Слова - и заново сложенный из обломков
старой античной архитектуры. Это мир, о котором мож¬
но сказать словами средневекового песнопения:
Ничему он не подвержен,
И ничем он не поддержан!..17
Вместе с тем архитектурный фон иконы, выступа¬
ющий здесь как образный аналог мира, не хаотичен. Не
подверженный законам земной архитектоники, он под¬
вержен воздействию внутренних импульсов, духовных
энергий, источаемых персонажами. Подчиняясь этим
импульсам, архитектурные формы иконы складывают¬
ся в геометрические схемы, рассчитанные на символи¬
ческое прочтение, во всяком случае теми, “кто имеет
глаза, чтобы видеть”18, и кто умеет “подобающе соотно¬
сить явное со скрытым”19.
В средние века в геометрии видели проявление
Божественной воли, иероглиф Божества, который
смертный должен истолковать. Тема ангела, несущего
Марии весть о явлении в мир Логоса, - это тема настой¬
чиво повторяемой горизонтали. Бог являет себя людям
в рисунке движений, говорилось в Ареопагитиках,
“прямолинейность должна пониматься как непоколе¬
бимость и неуклонность исхождения энергии”20. Тема
Марии - это тема вместилища, готового для приятия
Слова. В песнопениях и в проповедях Мария последова-
296
тельно олицетворяется с “одушевленным градом”21, с
“одушевленным храмом”22, с “одушевленными палата¬
ми”23, с “обителью, достойной Логоса”24, с “чертогом
Логоса”25, с “разумным кивотом”26. При этом подчер¬
кивается, что это архитектурное вместилище “уготова¬
но для вшестия”27. Постройка, на фоне которой поме¬
щена в иконе Мария, имеет в данном случае значение
не столько материализованной метафоры, сколько свое¬
образного архитектурного alter ego героини: открытые
архитектурные проемы уподоблены открытым “вхо¬
дам”, через которые должен войти Логос. Да и вся ком¬
позиция этой одушевленной архитектуры выполняет
роль своеобразного звукоусилителя движений Марии, в
самой ее фигуре едва намеченных. Мария поднялась с
сидения, выпрямилась - и высокая башня поднялась за
ее спиной двумя уступами, образуя род трона; “царево
седалище”28 - это еще одно из уподоблений Богома¬
тери, встречающееся в Акафисте. Мария обернулась к
Гавриилу и склонила голову - и боковая пристройка
повернулась влево, навстречу архангелу, а мотив на¬
клоненной линии карниза и полукруглый свод высокой
башни повторили и усилили едва заметный наклон
головы Богоматери. В одной из песен Акафиста есть
смелый образ: в момент Благовещения Бог сходит к
Марии, преклонив небеса (“преклонивый схожением
небеса”29); Мария в иконе преклоняет перед Гавриилом
кровлю здания. Наконец, тема девушки, третьего пер¬
сонажа иконы, - это любопытство свидетельницы,
стремящейся прикоснуться и убедиться. Ее выдает
колонна, которая с обескураживающей непосредствен¬
ностью шагает вперед и встает на парапет, словно про¬
тискиваясь между фигурами главных действующих
лиц - “жадно рвется к виду тайны явленной”30, как го¬
ворится в одном средневековом тексте.
Мир, представленный в иконе, не стабилен, так
же как не стабилен мир средневекового человека. Это
мир, в котором все предметы, по природе своей непо¬
движные, могут быть сдвинуты с мест силой не физиче¬
ского, но духовного воздействия. Это мир, где одним
словом, одним напряжением воли и веры можно за¬
ставить горы содрогнуться31, воды морские - рассту¬
питься и стены неприступной крепости - рухнуть. Это
мир, где господствуют не законы природы, но власть
Слова; мир, в котором даже движением небесных сфер
О византийской иконе XIV века “Благовещение”...
297
управляют особого рода умы или, по терминологии
Фомы Аквинского, “интеллигенции”32. В этом смысле
можно сказать, что мир, изображенный в иконе, от¬
крыт для гсре-творений, гсре-ображений, так же как сю¬
жет ее открыт для гсере-толкований.
III
...Радуйся, обиталыце, равное
небу и земли, радуйся, невместимого
естества пространное селение!
Иоанн Златоуст. Проповедь на Благовещение
Есть еще один аспект структурной открытости визан¬
тийской иконы. Где происходит изображенное собы¬
тие? Согласно легенде, в Назарете, в доме Иосифа, ины¬
ми словами, в некотором закрытом помещении. Однако
византийское искусство не знало изображений замкну¬
того архитектурного пространства. Согласно воззре¬
ниям средневековья, дом человека - и в прямом и в
переносном смысле слова (дом как земной мир) - это не
убежище, но лишь временное обиталище, открытое и со
всех сторон просматриваемое Господом Богом, находя¬
щееся под неусыпным небесным наблюдением. В Бла¬
говещении сама Мария поэтически олицетворялась с
домом, с храмом, то есть с некоторым архитектурным
пространством, которое мыслилось как замкнутое
(“вместилище”), в то же время границы его расширены
настолько, что вмещают в себя и то, чего “не вмещают
пределы земли и неба”33. Это и “высота, неудобовосхо-
димая человеческими помыслы”, и одновременно -
’’глубина, неуд обозримая ангельскими очима”34, это
место, где “нижняя с вышними совокупляются”35, это -
лестница, или мост, соединяющий землю с небом
(“Радуйся, лествице небесная, ею же сниде бог; радуй¬
ся, мосте, преводящий сущих от земли на небо”36).
Игра пространственными параметрами, стяжение
в едином объекте малого - и бесконечно большого; замк¬
нутого (“вместилище девичьей утробы”37) - и бес¬
предельной разомкнутости всего мира (“вместившая
вместившего вся”38); в этом также выразилось актив¬
ное переживание чуда Благовещения, но не в сюжетно¬
новеллистическом, а в богословском его аспекте. Этот
298
аспект требовал, по-видимому, не менее активных до¬
казательств - не случайно тема “вмещения невмести-
мого” проходит через богородичную литературу столь
же настойчиво, как и тема непорочного зачатия.
Та же игра пространственными параметрами, тот
же принцип вмещения невместимого определяют и
композиционное построение иконы. В ней нет потолка,
все происходит под золотым трансцендентным небом
пространственной безграничности. Икона не ограни¬
чена рамой, она раскрыта во все стороны. Поля того же
цвета, что и фон, служат не замыканию, а, наоборот,
размыканию композиции; пространство иконы излу¬
чается вовне, в реальное пространство, которое по отно¬
шению к образному миру иконы выступает как потусто¬
роннее, запредельное. Вместе с тем в изображенной на
иконе архитектуре объемность форм выражена с повы¬
шенной интенсивностью. Каждая из них активно вы¬
ступает вперед, в то время как все проемы: окна, двери,
свод кровли - построенные по всем правилам античной
перспективы - столь же активно втягивают простран¬
ство, всасывают его в глубину своего внутреннего “вме¬
стилища”. Сочетание повышенной объемности каждого
из элементов архитектуры - с иррациональностью их
соотношений, замкнутости каждого объема - с пре¬
дельной разомкнутостью всей композиции составляет
важнейшую структурную особенность византийской
иконы.
Мир, изображенный в иконе,
И в конечном бесконечен,
И пространством не уловлен,
И ничем не обусловлен,
И ничем не ограничен39.
Не ограничены и возможности пространственного
восприятия иконы зрителем. Согласно эстетическим
представлениям средневековья, произведение искус¬
ства могло быть постигнуто человеком только в том слу¬
чае, если сама душа его, его внутреннее “я” было пост¬
роено по тем же законам, что и созерцаемый образ.
Иными словами, считалось, что восприятие произведе¬
ния изоморфно самому произведению40.
Так же как пространственное построение иконы
не сведено к единой системе и осуществляет в себе со¬
единение несоединимого, так и зрительное восприятие
О византийской иконе XIV века “Благовещение”...
299
ее не предполагало единой фиксированной точки зре¬
ния. Предмет изображается так, как он мог бы быть
увиден одновременно отовсюду, тем самым позиция
созерцавшего икону уподоблялась позиция самого Гос¬
пода Бога, который мыслился находящимся одно¬
временно
Над вселенной, под вселенной,
Вне вселенной, во вселенной...
Все отвсюду обнимая...
[Он] внутри вещей не сдержан
И вовне их не извержен...41
Открытая, разомкнутая структура византийской
иконы начинает замыкаться, стабилизироваться в жи¬
вописи итальянского Возрождения. Процесс этот осу¬
ществляется на протяжении XIV-XV веков, при этом
основная линия развития выражается в стабилизации
среды, в которой существуют фигуры, в пространствен¬
ном замыкании архитектурной коробки, постепенно
приобретающей самостоятельный, независимый от со¬
стояния и поведения персонажей характер.
В Благовещении Дуччо интерьер еще разомкнут,
вместо потолка - небо, пола нет, изображенная сцена
как бы повисает в пространстве; при этом точка зрения
на архитектуру двойная: зритель попеременно смотрит
то на Марию, то на архангела, и в соответствии с этим
архитектура, в которую помещены фигуры, как бы по¬
ворачивается.
На протяжении XV века происходит сотворение ин¬
терьера в живописи; архитектура затвердевает, стабили¬
зируется; появляется твердый пол, хотя еще нет потолка.
Наконец, формируется полная архитектурная коробка,
весомая и статичная; разверстое золотое небо заменяют
надежные потолочные балки. Устойчивый, неподвиж¬
ный земной мир, в котором движутся и свободно дей¬
ствуют независимые от него и им не манипулирующие
персонажи - изображение, предполагающее неподвиж¬
ного зрителя и одну-единственную точку зрения.
Согласно взглядам Возрождения, сущность вещей
до конца открыта зрительному восприятию, поэтому в
картине можно и должно изображать то, что может
быть явлено в зрительном образе. Возрождение стре¬
мится найти в жестах фигур, в их позах, в мимике лиц
возможно более точное зрительное соответствие чувст¬
вам и словам персонажей.
300
В Благовещении Боттичелли в позах и жестах
персонажей, в их мимике зрительно “пересказано” все
то, что в иконе оставалось за пределами изображения
или было вынесено, спроецировано на архитектурный
фон. Картина Возрождения стремится свести до мини¬
мума несовпадение между тем, что можно увидеть в
картине, и тем словесным текстом, который картина
иллюстрирует.
В этом смысле можно сказать, что образный строй
картины Возрождения в идеале не предполагает ком¬
ментирования, истолкования, перетолкования, не
предполагает интерпретации; художник Возрождения
стремится исчерпать содержание. Содержание иконы
априори предполагается неисчерпаемым.
Примечания
1 Евангелие от Луки, 1.
2 Male Е. L’art religieux du XIII siёcle en France. P., 1902.
P. 284-285.
3 Millet G. L’iconographie de l’evangile au XIV, XV et XVI
sikcles. P., 1916. P. 90-91.
4 Творения Иоанна Златоуста, архиепископа Константино¬
польского, кн. V. Пг., 1916. С. 402.
5 Беседы Якова Коккиновафского // Покровский Н. Еванге¬
лие в памятниках иконографии, преимущественно визан¬
тийских и русских. СПб., 1892. С. 14.
6 Там же. С. 22.
7 Творения Иоанна Златоуста... С. 404-405.
8 Последование во акафистову песнь преблагословенныя
владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии,
гл. III.
9 Акафист пресвятой Богородицы, икос 2.
10 Похвальное слово Хориция епископу Маркиану // Millet G.
Op. cit. Р. 68.
11 Описание мозаики с изображением Благовещения в церк¬
ви Св. Апостолов в Константинополе см.: Heisenberg А.
Grabeskirche und Apostelkirche. Leipzig, 1908. T. 2. S. 45.
12 Фотий. Амфилохии // Памятники мировой эстетической
мысли. М., 1962. Т. 1. С. 338.
13 Ср.: Лотман ЮМ, Каноническое искусство как информа¬
ционный парадокс // Проблемы канона в древнем и сред¬
невековом искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 19-20.
О византийской иконе XIV века “Благовещение”...
301
14 Ареопагитики // Дионисий Ареопагит. О божественной
иерархии. М., 1898. С. 59.
15 Творения Иоанна Златоуста... С. 402. Этот образ в разных
вариантах повторяется и у других средневековых авторов.
См.: Покровский Н. Указ. соч. С. 20-21.
16 Деяния апостолов, 2, 2.
17 Хильдеберт Лаварденский, Славословие Троице // Па¬
мятники средневековой латинской литературы Х-ХН вв.
М., 1972. С. 213.
18 Ареопагитики // Антология мировой философии М.,
1969. Т. 1,ч. 2. С. 618.
19 Там же.
20 Там же. С. 619.
21 Творения Иоанна Златоуста... С. 401.
22 Там же. С. 402.
23 Там же. С. 400.
24 Там же. С. 401.
25 Там же.
26 Там же. С. 402.
27 Там же. Богоматерь уподоблялась также двери, через ко¬
торую вошел в мир Логос: “Радуйся, двере едина, еюже
слово пройде едино”. Канон благодарный пресвятой Бого¬
родице, икос 1. V.
28 Акафист пресвятой Богородице, икос 1.
29 Последование во акафистову песнь преблагословенныя
владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии,
гл. III. V.
30 Ведь сердце, возжелавшее постигнуть все,
Пленяется неизреченным зрелищем
И жадно рвется к виду тайны явленной.
Христос-Страстотерпец, XI век // Памятники визан¬
тийской литературы IX-XIV вв. М., 1969. С. 225.
31 Ср. следующее место из народной эпопеи “Дигенис Ак-
рит”, сохранившейся в списке XV века, но восходящей к
X-XI векам. Дигенис убивает заповедного оленя -
А на рогах у духа крест и месяц меж лопаток.
Лишь содрогнется телом он - и горы содрогнутся;
Ударит лишь копытами - деревья с корнем вырвет.
А гласом зычным завопит - вопят холмы и горы.
Цит. по: Попова Т.В. Византийский народный и книж¬
ный эпос // Византийская литература. М., 1974. С. 91.
32 Зубов В.И. Аристотель. М., 1963. С. 249.
33 Творения Иоанна Златоуста... С. 403
34 Акафист пресвятой Богородице, икос 1.
302
35 “Днесь радость благовещения...” Стихира 4-го гласа // Ус¬
пенский Н.Д. Дневнерусское певческое искусство. М.,
1971. С.394.
36 Акафист пресвятой Богородице, икос 2.
37 Творения Иоанна Златоуста... С. 403.
38 Акафист пресвятой Богородице, икос 8.
39 Хильдебертп Лаварденский. Указ. соч. С. 214.
40 Ср.: Бычков Б.Б. Образ как категория византийской эсте¬
тики // Византийский временник. М., 1973. Т. 34.
С.157-158.
41 Хильдебертп Лаварденский, Указ. соч. С. 213.
“Видение...
пречудное
и отнюдь
несказанное”
Представление
Благовещения
в церкви
Сантиссима
Аннунциата
во Флоренции
(1439)
глазами Авраамия
Суздальского
25 марта 1439 года в церкви Сан¬
тиссима Аннунциата во Флорен¬
ции состоялось представление
Благовещения, приуроченное к
началу нового года по флорен¬
тийскому календарю. Праздне¬
ство (festa) отличалось особой
торжественностью, оно совпало
с проходившим во Флоренции
Собором, где была предпринята
попытка объединения католиче¬
ской и православной церквей.
Сохранилось описание этого зре¬
лища, сделанное русским архи¬
епископом Авраамием Суздаль¬
ским, прибывшим в Италию вме¬
сте с митрополитом Исидором
для участия в Соборе. Это един¬
ственное из дошедших до нас
описание представления в церк¬
ви Сантиссима Алнунциата; сце¬
нография его большинством спе¬
циалистов связывается с именем
Брунеллески, хотя ни в одном
итальянском источнике - ни в
анонимной биографии архитек¬
тора, приписываемой Антонио
Манетти, ни в “Жизнеописании”
Брунеллески, написанном Ваза¬
ри, - об этом не говорится. Кроме
того, это самое раннее из опи¬
саний подобного рода зрелищ,
сделанное современником Бру¬
неллески еще при жизни архи¬
тектора, следовательно, в перво¬
начальном оформлении, а не в
последующей реконструкции1.
Текст Авраамия, еще в кон¬
це XIX столетия переведенный на
немецкий, а затем на итальян¬
ский языки2, хорошо известен
специалистам и многократно ис¬
пользовался в театроведческой
литературе как ценный источник
304
для реконструкции спектакля и особенно сценического
устройства и декораций3. На основании этого текста со¬
временным итальянским архитектором Чезаре Лизи
была создана объемная архитектурная модель4.
Однако этот интереснейший текст может быть ин¬
терпретирован и в ином аспекте - в аспекте изучения
психологии зрительского восприятия. Описание Авраа-
мия - это описание зрителя, увидевшего спектакль в
первый раз, причем увидевшего именно с той точки зре¬
ния, на которую спектакль был рассчитан, оттуда, от¬
куда его должны были видеть зрители.
Эта особенность текста Авраамия становится оче¬
видной при сравнении с описанием аналогичного пред¬
ставления в церкви Сан Феличе ин Пьяцца, сделанным
век спустя Вазари. Театральный архитектор и худож¬
ник, Вазари все видит сверху, как бы со строительных
лесов, он знает, как должна была действовать вся сцени¬
ческая машинерия, какое впечатление она должна была
производить на зрителей, находившихся внизу: “Коль¬
цо... держало на весу полушарие, казавшееся человеку,
стоящему на земле, настоящим небесным сводом...”,
“с земли светочи казались звездами, а площадки, покры¬
тые хлопком, казались облаками”, - пишет Вазари5.
Авраамий видит действо снизу, с пола церкви, по¬
этому его рассказ может служить критерием того, ни¬
сколько сценическая иллюзия, задуманная Брунеллес¬
ки, оказалась действенной. Авраамий не архитектор и не
художник; у него нет профессионального интереса -
только естественное любопытство человека, увидевшего
столь необычное для него зрелище. Сценическая конст¬
рукция, которую Вазари сравнивает с “пустой миской”
или “тазом для бритья”6, воспринимается Авраамием
как образ разверзшихся небес, как “видение”, “пречуд-
ное и отнюдь несказанное”7.
Авраамий пришел на представление заранее, до
того, как “наполнилась великая та церковь множе¬
ством людей”. Он внимательно рассмотрел декорации и
сценическое устройство и подробно все описал - именно
эта часть его рассказа служит источником сценографи¬
ческой реконструкции. Авраамий пишет, что “над
предними дверми под самым верхом... учинено подо¬
бием небесных круг”, там “учинен престол... И на пре¬
столе сановит человек седящ, оболчен в ризу и венец.
И всему видети подобие отчее... Окрест же его и в под-
Представление Благовещения в церкви...
305
ножия ему малых детии множество хитрым устроением
держахуся. Рекше во образ небесных сил. Вокруг же
престола того... учинено свяша вящи пятисот”. Далее
из описания Авраамия явствует, что в середине церкви,
“от стены до другая стены” был “мост камен”, - дей¬
ствительно, следы монументальной каменной прегра¬
ды, отделявшей часть, примыкавшую к алтарю и пред¬
назначавшуюся для клира, от части, предназначавшей¬
ся для мирян, были обнаружены в ряде монастырских
церквей Флоренции8. Эта преграда, или “мост”, по сло¬
вам Авраамия, “весь настлан красными приволочена-
ми”, а в левой его части “учинена кровать с великими
господскими постлании... и драгими зглавии накладе¬
но. И на том великом и чудном месте отрок благозрачен
сидяще, оболчен в драгую и пречудную девическую
ризу и венец. И в руках книги держа и с тихостию почи-
тааше. И по всему видети подобием яко самую пречис¬
тую деву Марию”. От трона Бога-Отца, находившегося
над входной дверью, и “до самого олтаря” были натяну¬
ты “вервии тонцы и крепцы” - иными словами - кана¬
ты, причем два из них проходили “поблизку мимо” ис¬
полнителя роли девы Марии. По ним ангел после Бла¬
говещения возвращался к престолу Бога-Отца. Как
можно догадаться по тексту, ангела подтягивали вверх
“третию тончаешею вервицею”. Еще три тонкие каната
проходили “чрез самую средину помоста” - по ним ан¬
гел спускался к Марии. Следует отметить, что описание
канатов и их расположения не очень ясно и допускает
различные толкования9. Возможно, что сам Авраамий
не очень хорошо разглядел снизу все это устройство10.
Наконец, начинают собираться зрители; “к насто¬
ящему тому времени делания великому и чюдному делу
приидут отвсюду народа многа видети хотяще11. И яко
наполнится великая та церкви множество людии, и по¬
медлив мало, премолкнут, зряще к верху... на той сре¬
де церковный помост. И помалу скоро отторгнутся на
месте том вси тии запоны и узрят вси людии самую ту
по подобию наряженную чистую деву Марию, седящу
на прежереченном и чудном у кровати устроенном мес¬
те”. Начинается представление.
До сих пор Авраамий смотрел на все взглядом сто¬
роннего наблюдателя, зрителя, в прямом смысле этого
слова. Пролог, разыгранный пророками, восприни¬
мается им еще остраненно, он видит перед собой испол¬
306
нителей, которые “по всему наряжени в подобие яко
пророцы”: у них длинные бороды и волосы до плеч
“и крузи позлащены наверх главных власов у коегождо
их держащася”. Одеты они были, по мнению Авраамия,
“нехитро и нехороше”: в длинные и широкие белые
рубахи, и каждый “плат мал черлен имея перегнут
через правое рамо и под левое. Не украшения ради”, -
добавляет Авраамий. Он подробно описывает их движе¬
ния, жестикуляцию, воспринимая всю первую сцену
как любопытную и непривычную для него пантомиму.
“И явятся на том помосте... человеци иже суть наряже¬
ни пророческими образы, держа в руках своих разные
писмена... И начнут скоро ходити по мосту тому семо и
овамо, кииждо позирая на свое писание и десною рукою
указал друг другу кверху, рекуще: оттуда приидет спа¬
сение языком. И другии рече другому, смотря на свое
писма: от юга приидет бог. И начнут межи собою кото-
ратися, кииждо свое письма рассторг, повержет, яко
ложно. И по сем яко скачу щи скоро иная писмена воз-
мут и притекши ко краю помоста того друг с другом вос-
клонившеся, ов на ово писма позирая и по писмене
кииждо их бияху, указующе семо и овамо”...12 О со¬
стоянии зрителя, не захваченного сценическим дейст¬
вием, свидетельствует также то, что Авраамий замечает
время: пролог длится, по его словам, около получаса.
Затем раздается гром, разверзаются небеса и на¬
чинается сцена Благовещения. С этого момента Авраа¬
мий всецело захвачен действием, Бог-Отец, архангел
Гавриил, Мария постепенно начинают восприниматься
им не как переодетые исполнители, но как персонажи
священной истории, а сам он из зрителя превращается
в свидетеля “великого и чудного видения”. И от этого
мгновенно изменяется восприятие им театрального
пространства.
Ситуация зрительского восприятия, запечатлен¬
ная в повествовании Авраамия, достаточно парадоксаль¬
на: зрителю, по своему мировидению вполне средневеко¬
вому, предъявлено произведение, созданное в творчес¬
кой лаборатории одного из самых программных, самых
авангардистских мастеров итальянского кватроченто.
Декорации, задуманные Брунеллески, создавали
внутри храмового интерьера замкнутое сценическое
пространство, ограниченное с одной стороны престолом
Бога-Отца на небесах, с другой - жилищем девы Марии
Представление Благовещения в церкви...
307
на земле; два главных места действия зрительно объ¬
единялись полетом ангела, путь которого был заранее
обозначен линией натянутых канатов. Вместе с тем эти
четкие геометрические линии измеряли расстояние
между землей и небом, придавая сконструирован¬
ной Брунеллески модели мироздания геометрическую
ясность, конечность и обозримость. Соотношение нёба
и земли в пространственной композиции Брунеллески
строилось не по вертикали (друг над другом), но по го¬
ризонтали (напротив друг друга). Спускаясь с неба на
землю, ангел пролетал над головами зрителей почти
параллельно плоскости пола.
Осуществленное Брунеллески сценографическое
решение являло собой идеальную ренессансную прост¬
ранственную структуру, внедренную в интерьер средне¬
векового храма. Зрители, находясь в пространстве сред¬
невековом, созерцали модель нового ренессансного про¬
странства.
В первой части повествования Авраамия его пове¬
дение соответствует заданной ситуации, он вниматель¬
но рассматривает со стороны созданную Брунеллески
композицию и очень подробно воспроизводит ее, приво¬
дя все размеры и расстояния13. Однако когда развер¬
заются небеса и начинается мистерия воплощения
Логоса, горизонтальная модель Брунеллески трансфор¬
мируется в восприятии Авраамия в модель вертикаль¬
ную, традиционно связанную для него с иконографией
сакрального пространства. Трехмерное построение Воз¬
рождения оказывается спроецированным на двухмер¬
ную (иконную) плоскость, по которой поднимается -
и опускается взгляд; категории верха и низа превали¬
руют над всеми другими пространственными парамет¬
рами, и если Авраамий употребляет иногда понятия
правое-левое, то понятия вперед-назад, ближе-далыпе
в его описании отсутствуют.
Тема верха, подъема, восхождения, в контраст¬
ном сопоставлении с темой спуска, нисхождения уси¬
ливается, нагнетается по мере развития повествования
и приближения его к кульминации; Престол Бога-
Отца, пишет Авраамий, помещается “в верхнем месте”,
Всевышний виден “вверху”, расположенные вокруг
престола свечи движутся вверх и вниз, ангел является
“из самого того верха” и спускается оттуда вниз, к Деве
Марии; вручив Марии ветвь, ангел идет вверх, Мария
308
же “приим от ангела весть и стояша к верху идуща ан¬
гела зряще. Идущу же ангелу к верху, и в то время от
верху от Отца огнь поиде... и назад вверху той же огнь
возвращашеся и прытко книзу прихожаще... Ангел же
иде к самому верху... Огнь же... начнет от верхнего
того места исходити... Ангел же к верху во свое место
вниде, от него же изыдe...,,14
Реальное театральное пространство, описанное
в первой части текста, сменяется во второй его части
пространством, преображенным восприятием зрителя.
В этом театральном пространстве понятия верха и низа
имеют двойное значение. В сфере сценического дей¬
ствия они определяют дистанцию между небесами, от¬
куда спускается ангел, - и землею, куда он спускается.
Но они определяют также дистанцию между всей сфе¬
рой сценического действия, принадлежащего верхней
зоне церковного интерьера, имеющей сакральное зна¬
чение, - и нижней, мирской зоной, полом церкви, от¬
куда зритель смотрит на совершающееся над его голо¬
вой чудо. Поза, которую вынужден был принять
при этом зритель: с закинутой головой и обращенным
вверх взглядом - усиливала впечатление необычности,
необыденности зрелища и одновременно воспроизводи¬
ла позу молитвенного предстояния.
Новации флорентийских художников раннего
кватроченто и, в первую очередь, изобретения, которы¬
ми сам Брунеллески поражал своих современников, не¬
изменно заключали в себе момент чудотворства; от ху¬
дожника, от архитектора в эпоху Возрождения зрители
ждали чуда; чуда архитектурной конструкции, чуда
машинерии, чуда зрительной иллюзии. Манетти по¬
стоянно твердит, что Брунеллески “преодолевал труд¬
ности, совершенно непреодолимые”, “совершал невоз¬
можное”, “поражал всех людей”, ошеломлял своим
мастерством “всех жителей города и иноземцев”, что
его творения являли собой “величайшее чудо”15.
В 30-е годы во Флоренции имя Брунеллески было
у всех на устах - он только что закончил свой знамени¬
тый купол. “Где такой черствый и завистливый чело¬
век, который не похвалил бы зодчего Пиппо Брунелле¬
ски”, - писал Альберти в том же 1439 году, к которому
относится празднество, описанное Авраамием16. Одна¬
ко Авраамий не называет имени Брунеллески, он заме¬
чает только, что представление было устроено “неким
Представление Благовещения в церкви...
309
хитрым человеком во Флоренции”. Авраамий явился
на представление не для того, чтобы дивиться мастер¬
ству постановщика, но чтобы собственными глазами
узреть “исхождение с небес архангела Гавриила в Наза¬
рет к девицы Марии благовестити зачатие единород¬
ного слово божие”. В этой фразе, которой начинается
повествование, отчетливо сформулирована зритель¬
ская установка Авраамия, определившая все его после¬
дующее поведение: Авраамий увидел именно то, что хо¬
тел и что ожидал увидеть, - нерукотворное чудо17.
Сцена Благовещения, разыгранная в церкви
Сантиссима Аннунциата, представляла собой, по всей
вероятности, драматургический вариант картины
кватроченто. Но в момент кульминации ожившая ре¬
нессансная картина как бы превращается для Авраа¬
мия в русскую икону, где все иррационально, где все
пространственные построения и соотношения величин
сметены явлением огненного вестника, словно ворвав¬
шегося из иного измерения; занимательная сцена спо¬
ра архангела Гавриила с Марией преображается для
него в “дивное и страшное видение”, когда “огнь нач¬
нет от верхнего того места исходити по всей церкви
той и сыпатися великим и страшным гремением. И не-
вжигаемыя свеща в церкви той много от того огня за¬
жгутся”.
Это одно из самых трудных мест в тексте Авраа¬
мия. До сих пор не удалось найти достаточно убеди¬
тельного объяснения, каким способом Брунеллески
удалось осуществить это “чудо” - самовозгорание све¬
чей во всем храме18. Но вполне возможно, что разгадку
следует искать не только в технических изобретениях
итальянского мастера, который, по его собственным
словам, и “несуществующему мог даровать существова¬
ние”19, но и в душевном настрое самого Авраамия. Для
него этот огонь был зримым образом Святого Духа и,
следовательно, имел сверхъестественную природу. Это
тем более вероятно, что догматический спор о природе
Святого Духа и о том, от кого именно он исходит, толь¬
ко ли от Отца, как считала православная церковь, или
от Отца и Сына, как было принято церковью католиче¬
ской, - составлял один из главных пунктов разногла¬
сий на соборе20. Авраамий настойчиво подчеркивает, что
огонь - символ Святого Духа - исходил только от Бога-
Отца: “от верха, от Отца огнь поиде”. Красноречивым
310
доказательством невещественной природы этого огня
служит для Авраамия то обстоятельство, что “зрящему
народу ни портом их несть никакие же пакости”21.
Разыгранное в храме представление из зрелища пре¬
вращается для Авраамия в таинство, или, пользуясь
терминологией самого Авраамия, - из “хитрого дела¬
ния” в “чюдное видение”.
Возникает вопрос: если текст Авраамия - доку¬
мент средневековый, в какой мере он может быть
использован для характеристики зрителей времени
раннего итальянского Возрождения?
Проблема зрителя в Италии осознается - и тем
самым приобретает культурное и эстетическое бытие -
в первые десятилетия XV века. Художники раннего
кватроченто ищут случая обратиться непосредственно
к зрителю, причем к самому широкому зрителю; не
случайно Брунеллески выносит свои перспективные
“демонстрации” на городскую площадь.
В “Трактате о живописи” Альберти, законченном
в том же 1439 году, к которому относится описанное
Авраамием празднество, тема зрителя звучит с особой
настойчивостью. Художник должен нравиться зрите¬
лю, пишет Альберти, причем всякому - “как образо¬
ванному, так и не образованному”22. У Антонио Манет-
ти в его биографии Брунеллески проводится характер¬
ное противопоставление: Гиберти, соперник Брунелле¬
ски на конкурсе 1401 года, его антагонист, отрицатель¬
ный герой, - интересуется мнением только людей обра¬
зованных и влиятельных, тех, от кого зависит решение
жюри и получение заказа. Он “униженно просил совета
у всех, с кем считался и кто мог об этом судить, - юве¬
лиров, живописцев, скульпторов, чтобы его работа не
проиграла при сравнении”. Брунеллески, положитель¬
ный герой, напротив, ищет успеха у всех зрителей, как
“понимающих” искусство, так и “не понимающих”, “у
всех людей, и образованных и просто обладающих от
природы хорошим вкусом”, “у всех жителей города и
проезжих”23.
Альберти советует художникам придумывать раз¬
ные способы сбора мнений, он требует, чтобы они “вы¬
спрашивали и выслушивали всякого, кто о них су¬
дит”24. “Произведение искусства хочет понравиться
толпе, - пишет Альберти, - так не презирай же мнения
и приговора толпы”25.
Представление Благовещения в церкви...
311
Голос Авраамия - это голос из толпы, пестрой
толпы зрителей, состоявшей не только из жителей Фло¬
ренции, самого ренессансного из всех итальянских го¬
родов того времени; в этой толпе было много иногород¬
них, много иностранцев. В этой толпе немало было и
критически настроенных, “свободомыслящих” зрите¬
лей, подобных тем, о которых говорится в новелле Са-
кетти: «Один мой приятель был в день Вознесения Хри¬
стова в церкви ордена кармелитов во Флоренции, где
давали представление. Он увидел, как изображение
Христа медленно подтягивали на веревке к потолку.
Кто-то в толпе сказал: “Оно ползет так медленно, что
никогда не дойдет до потолка”. А мой приятель отве¬
тил: “Если Христос возносился с такой скоростью, то он
и по сей день еще не добрался до неба”»26.
Среди зрителей несомненно были и такие, кото¬
рые воспринимали и оценивали представление прежде
всего как великолепно оформленный спектакль, где
было “великое множество светильников, изображав¬
ших звезды”, и где звучало “много песнопений и музы¬
ки, нежной и сладостной”27. Но вряд ли можно сомне¬
ваться в том, что среди “пришедшего отовсюду народа
ведети хотяще” было много людей, которые, подобно
Авраамию, воспринимали происходившее в храме всерь¬
ез и всерьез дивились чуду. Голоса этих простых, не¬
искушенных зрителей до нас не дошли, и поэтому опи¬
сание Авраамия приобретает значение документа, важ¬
ного для изучения психологии зрительского восприя¬
тия не только русского, но и итальянского кватроченто.
Примечания
1 Сценические устройства для “сакра раппрезентационе”,
выполненные в мастерской Брунеллески в первые десяти¬
летия XV века, продолжали использоваться на протяже¬
нии еще почти ста лет. Совершенно естественно, что они
реставрировались, обновлялись и частично переделыва¬
лись. О дальнейшем использовании оформления в церкви
Сантиссима Аннунциата известий не дошло, зато о двух
других сценических устройствах - в церкви Сан Феличе
ин Пьяцца и в церкви Санта Мария дель Кармине - изве¬
стно, что над их реконструкцией работал архитектор и ин¬
женер круга Брунеллески - Чекка (1447-1488). О нем см:
312
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живо¬
писцев, ваятелей и зодчих. М., 1963. Т. И. В частности, со¬
хранились сведения о повторении представления в Сан Фе-
личе в 1494 году, по случаю прибытия во Флоренцию
французского короля Карла VIII, и в 1533 году - в честь
Маргариты Австрийской. Описание этого представления в
рукописи было найдено в 1955 году. Текст приводится в
кн.: II luogo teatrale a Firenze. Brunelleschi, Vasari, Buon-
talenti, Parigi. Firenze, palazzo Medici Riccardi, Museo
Mediceo (Catalogo di mostra). Milano, 1975. P. 67-68. Одна¬
ко это описание, так же как сделанное еще позднее описа¬
ние Вазари (Вазари Дж. Указ. соч. С. 171-174), относится
к реконструированному сценическому оформлению, а не к
первоначальному варианту.
2 Текст Авраамия по списку XVI века был издан в 1875 году
Андреем Поповым (в кн.: Историко-литературный обзор
древнерусских полемических сочинений против латинян
(XI-XV вв.). М., 1875. Через два года он был опубликован
по-немецки Александром Веселовским (Wesselofsky А.
Italienische Mysterien in einem russischen Reisebericht des
XV. Jahrhunderts. Brief an Herm ‘Prof. D’Ancona // Russi-
sche Revue, Monatsschrift fiir die Kunde Russlands.
X. St. Petersburg, 1877). В 1891 году Алессандро Д’Анкона
опубликовал его по-итальянски в переводе с немецкого
(D*Ancona A. Origini del teatro italiano. Torino, 1891. Vol. 1.
P. 246-253). Перевод Д’Анконы содержит много неточнос¬
тей, но, что самое существенное, он звучит слишком по-ре-
нессансному, специфика русского средневекового восприя¬
тия оказалась в нем почти полностью стертой. В этой связи
можно прокомментировать три термина, которые являются
ключевыми для понимания текста Авраамия. Слово “чюд-
ный” имело в древнерусском языке двойной смысл; в зави¬
симости от контекста оно могло означать либо необычное,
замечательное, либо чудесное, сверхъестественное. Д’Ан¬
кона на протяжении всего перевода пользуется термином
meraviglioso. Однако совершенно очевидно, что у Авраа¬
мия смысл этого слова от первой ко второй части повество¬
вания меняется. Если поначалу имеются в виду вещи не¬
обычные, удивительные, то с момента явления Гавриила
слово “чюдный” употребляется скорее в значении таинст¬
венного, сверхъестественного, сакрального - miracoloso.
В итальянском переводе словом spettacolo переданы та¬
кие различные для Авраамия понятия, как представле¬
ние и видение. Это различие сформулировано самим авто-
Представление Благовещения в церкви...
313
ром в последней фразе: “Это чудное видение и хитроумное
делание”, - пишет Авраамий. В итальянском переводе
Д’Анконы эта фраза звучит так: “Questo meraviglioso е
artificiosissimo spettacolo (это удивительное хитроумное
зрелище). Русское слово подобие переведено у Д’Анконы
как сходство (somiglianza). Этот перевод можно считать
адекватным лишь для первой части текста, где говорится,
что исполнители одеты в точности так, как их изображают
в живописи, то есть речь идет о соответствии изображения
иконографическому образцу. Во второй части текста име¬
ется в виду другой уровень значений: подобие зримого об¬
раза - божественному прототипу. В этом случае более
адекватным был бы термин similitudo, обычно употреб¬
лявшийся в средневековых текстах при описании и истол¬
ковании смысла церковной архитектуры.
Перевод Д’Анконы до последнего времени оставался
единственным, и только в 1976 году вышло новое крити¬
ческое издание текста Авраамия в латинском переводе
(Acta Slavica Concilii Florentini, Narrationes et documenta.
A cura di Giovanni Krajcar S. J. Pontificium Institutum ori-
entalium studiorum. Roma, 1976. P. 114-121).
3 Литература по этому вопросу чрезвычайно обширна. Из
последних работ см.: Battisti Е. Filippo Brunelleschi.
Milano, 1976 (раздел “Lascenografia”). Нас. 385 приводит¬
ся подробная библиография; Zorzi L. II Teatro е la citta.
Saggi sulla scena italiana. Torino, 1976. Приводится по¬
дробная библиография, с. 153-160.
4 Модель, выполненная в масштабе 1:25, демонстрирова¬
лась на выставке “Театральное пространство во Флорен¬
ции” в Палаццо Медичи в мае-октябре 1975 года. Выстав¬
ка была показана в Москве в ГМИИ им. Пушкина в мар¬
те-апреле 1978 года.
5 Вазари Дж. Указ. соч. С. 172.
6 Там же.
7 Все цитаты из текста Авраамия даются по изд. А. Попова,
с. 400-406.
8 О каменных преградах (tramezzo di pietra) флорентийских
церквей см.: Hall М. The Tramezzo in Santa Croce. Florence
and Domenico Veneziano’s Fresco // Burlington Magazin,
1970; Idem. The Ponte in Santa Maria Novella: the problem of
the Rood Screen in Italy // Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1974, XXXVII; Idem. The Tramezzo in
Santa Croce, Florence, reconstructed // The Art Bulletin.
1974. LVI. Эти преграды были разобраны в годы Контрре¬
формации.
314
9 В частности, в модели Чезаре Лизи канаты доведены не
“до самого алтаря”, “через самую середину помоста”, “по-
близку мимо” постели девы Марии, но лишь до середины
каменной преграды (см. каталог выставки).
10 Molinari С. Spettacoli fiorentini del Quattrocento. Venezia,
1961. P. 42 - автор высказывает предположение, что все
размеры, приведенные в описании Авраамия, не точны,
сделаны на глаз. При высоте моста около 7 метров разыг¬
ранные на нем сцены были бы плохо видны зрителям, сто¬
явшим на полу церкви. Во всяком случае, канаты были на¬
тянуты достаточно высоко и вся конструкция отнюдь не бы¬
ла рассчитана на то, чтобы зрители ее отчетливо видели.
11 По-видимому, публика рамещалась в интерьере храма
свободно, ни о каком порядке в распределении зритель¬
ских мест Авраамий не пишет. Косвенным подтверждени¬
ем этого может служить более поздний источник. В 1565
году представление Благовещение в церкви Сан Феличе ин
Пьяцца в сценографическом решении Брунеллески, но в
несколько обновленном и приукрашенном варианте было
повторено в церкви Санто Спирито. Сохранилась “про¬
грамма” представления, сочиненная доном Винченцио Бор-
гини, который, в частности, рекомендует заранее строго
распределить места для публики, “чтобы избежать беско¬
нечной путаницы и беспорядка, которые обычно возника¬
ют” (Цит. по: Zorzi L. Op. cit. Р. 163). По-видимому, Авра¬
амий, как и все зрители, находился в пространстве цент¬
рального нефа, между каменным мостом и входной сте¬
ной; однако вполне возможно, что он, как лицо духовное,
к тому же участник Собора, получил возможность проник¬
нуть за преграду и увидеть сцену со стороны алтаря, то
есть как бы из-за кулис. При этом он мог подробнее рас¬
смотреть расположение канатов и способ их крепления в
алтаре.
12 Авраамий не передает слов исполнителей, воспроизводя
весь пролог, в сущности, как пантомиму. Однако вряд ли
пролог шел без слов. Сохранился текст представления на
сюжет Благовещения, принадлежащий перу Фео Белка-
ри, который, как считают (Battisti Е. Op. cit. Р. 33), был
одним из друзей или, во всяком лучае, близких знакомых
Брунеллески. Это может быть достаточно веским основа¬
нием для того, чтобы предположить, что Авраамий видел
представление, текст которого был сочинен именно Бел-
кари и где пророки произносили длинные монологи. Со¬
хранившиеся тексты “Благовещения” Белкари (рукопис-
Представление Благовещения в церкви...
315
ный XV века и печатный XVI века) не совпадают полно¬
стью с тем, который описывается у Авраамия (И luogo
teatrale. Р. 57); однако не исключено, что существовали и
другие, не дошедшие до нас варианты или сценические ре¬
дакции того же текста, тем более что известные рукопис¬
ный и печатный тексты значительно отличаются друг от
друга именно в прологе. Еще более вероятно, что в изложе¬
нии Авраамия текст представления существенно транс¬
формировался. Пролог в описании Авраамия, именно
потому, что он воспроизведен как выразительная панто¬
мима, может служить красноречивым комментарием к
рельефам бронзовых дверей Донателло в Старой ризнице
Брунеллески, иконография которых, возможно, навеяна
тем же представлением.
13 Судя по описанию Авраамия, трон Бога-Отца находился на
высоте 10 метров, высота моста равнялась примерно 7 мет¬
рам, а расстояние между ними - около 40 метров. При
этом наклон каната, по которому спускался ангел, был
очень невелик. Если, согласно Молинари (см. примеч. 10),
Авраамий дает размеры не точно, по впечатлению, то это
только доказывает, что снизу разница уровней этих двух
высот почти не воспринималась.
14 Это ощущение вертикально развивающегося действия на¬
столько сильно и настолько противоречит сценическому
устройству, воспроизведенному самим же Авраамием в
первой части его текста, что невольно возникает мысль,
что на описание полета ангела наложились впечатления
от аналогичного представления в церкви Сан Феличе, кото¬
рое Авраамий мог видеть и где сценическое действие раз¬
вивалось строго по вертикали. Если текст Авраамия напи¬
сан не прямо на месте, а, как предполагают, по воспомина¬
ниям, то такая контаминация вполне вероятна.
15 Интересен в этой связи обмен эпиграммами между Бру¬
неллески и его противником Джованни да Прато, который
в 20-е годы участвовал в качестве эксперта в работе по осу¬
ществлению проекта соборного купола. Джованни да Пра¬
то обвиняет Брунеллески в том, что он при помощи “лож¬
ной науки” стремится “невозможное сделать возможным”
и тем самым ввести в заблуждение невежественную толпу.
Брунеллески отвечает, что тот, кому даровано вдохнове¬
ние выше, не зависит от физических законов; для мудрого
нет ничего невидимого или невозможного во всем, что су¬
ществует. Только не существующее невидимо, но мудрец
и несуществующему может даровать существование
316
(Battisti E. Op. cit. P. 325). В книге приводятся тексты со¬
нетов и их толкование.
16 Альберти. Три книги о живописи // Альберти. Десять книг о
зодчестве. Материалы и комментарии. М., 1937. Т. II. С. 26.
17 Интересно сравнить формулировку Авраамия с тем, как на¬
зывалось представление у Фео Белкари (1410-1439): “Это
представление, когда Богоматерь дева Мария получает бла¬
гую весть от архангела Гавриила” (И luogo teatrale. Р. 57).
18 Zorzi L. Op. cit. P. 158. Автор высказывает предположе¬
ние, что этот огонь представлял собой род фейерверка.
19 См. примеч. 15.
20 Zorzi L. Op. cit. Р. 159-160. О роли, которую играла цер¬
ковь Сантиссима Аннунциата во время Собора: Lang S.
The Programme of the SS Annunziata in Florence // Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 1954. XVII.
21 Следует сказать, что Авраамию в этом отношении повезло:
далеко не все спектакли обходились благополучно в по¬
жарном отношении. Известно, например, что в церкви
Санто Спирито 21 марта 1470 года случился пожар, силь¬
но повредивший перекрытия храма. Этот случай зафикси¬
рован в Хронике Санто Спирито: “...в Санто Спирито после
представления все участники (i festaioli) ушли, не обратив
внимания на опасность пожара, и поэтому в 5 часов ночи в
куполе декораций вспыхнул огонь, и, прежде чем кто-ли¬
бо заметил, разгорелось такое сильное пламя, что оно до¬
стигло крыши церкви”. В той же Хронике говорится о
том, что представления в церкви дель Кармине “очень
опасны для жизни многих людей” (BusignaniA.t Bencini R.
Le chiese di Firenze. Quartiere di Santo Spirito. Firenze,
1974. P. 31). Известен также следующий случай. В 1494
году было повторено представление Благовещения в церк¬
ви Сан Феличе специально для французского короля Кар¬
ла VIII, который, однако, оказался не столь доверчивым,
как Авраамий (или недостаточно верующим); посетив
представление, он отказался войти в храм и оставался на
пороге, боясь пожара. Флорентийцев обидело такое пове¬
дение. Лука Ландуччи пишет по этому поводу: “Многие
говорили, что он боялся и не хотел оказаться закрытым
внутри помещения, это доказывает, что он испытывал
больший страх, чем мы; многие были недовольны, потому
что и для нас самих опасность была велика” (Landucci L.
Diario fiorentinodal 1450 al 1516 (con annotazioni di J. Del
Badia). Firenze, 1883. P. 84).
22 Альберти. Указ. соч. С. 41.
Представление Благовещения в церкви...
317
23 ManettiA. Filippo Brunelleschi. Stuttgart, 1887. P. 14. Сле¬
дует сказать, что образ Брунеллески, воссозданный Ма-
нетти, очевидно, не вполне соответствовал его подлинному
облику. Свидетельство тому - опубликованный сравни¬
тельно недавно документ, запись слов Брунеллески, сде¬
ланная Мариано Таккола из Сиены, по-видимому, между
1433 и 1446 годами. Таккола пишет: «Пиппо де Брунелле¬
ски из великолепного и могущественного города Флорен¬
ции, одаренный Богом многими добродетелями, почитае¬
мый и знаменитый, особенно в зодчестве и проектирова¬
нии, мудрейший изобретатель различных сооружений, по
своему благорасположению говорил мне в Сиене такие
слова: Не следует рассказывать многим о своих замыслах,
но лишь немногим, тем, кто понимает и ценит знания, по¬
тому что слишком широко демонстрировать и обсуждать
свои мысли и свои действия - это значит унижать собст¬
венный талант. Есть множество людей, которые любят
слушать лишь для того, чтобы критиковать изобретате¬
лей, оспаривать все то, что они делают и говорят, дабы по¬
мешать им быть услышанными там, где их должны услы¬
шать. А через несколько месяцев или через год они будут
говорить то же самое, либо писать или изображать в ри¬
сунках, и будут утверждать, что именно они являются
изобретателями этих вещей, и присвоят себе славу других.
Есть также столь грубые и невежественные люди, кото¬
рые, слушая о новых вещах и неслыханных изобретениях,
сочтут изобретателя и его идеи абсурдными и смешными и
будут говорить ему: “Сделай милость, перестань утверж¬
дать подобные глупости, из-за которых все считают тебя
идиотом (bestia). Поэтому ради тех, кто клевещет из зави¬
сти или по невежеству, не следует расточать посланных
Богом дарований, но совершенствовать их, чтобы при по¬
мощи добродетели и таланта добиться признания умней¬
ших из умных”...». (Цит. по.: Battisti Е. Op. cit. Р. 20).
24 Альберти. Указ. соч. С. 61.
25 Там же.
26 Le novelle di Franco Sacchetti. Firenze, 1861. Vol. I. P. 174.
27 ТроттиДж. Описание празднества в Кастелло Сфорцеско
в Милане 13 января 1490 года, оформленного Леонардо да
Винчи. Считается, что декорации Леонардо, изображав¬
шие рай, сделаны им под влиянием “небесных сфер” Бру¬
неллески в церкви Сан Феличе ин Пьяцца. Цит. по:
Steiniz К.Т. Leonardo architetto teatrale е organizzatore di
feste // Leonardo da Vinci. Letture vinciane. I-XII
(1960-1972). Firenze, 1974. P. 256.
318
Приложение
В 1975 году по инициативе профессора Людовико
Дзордзи в Италии состоялась выставка “Театральное
пространство во Флоренции”. В отклике на эту выстав¬
ку проф. Витторио Франческо Пардо (ссылаясь на текст
Авраамия, до сих пор являющийся единственным до¬
кументом, на основании которого был сделан представ¬
ленный на выставке макет театрального действа в церк¬
ви Сантиссима Аннунциата) рассматривает осуществ¬
ленное Брунеллески решение в аспекте задуманного им
архитектурного преображения Флоренции - создания в
ней отдельных очагов новой архитектуры - в неко¬
тором смысле, театрализованных “архитектурных про¬
странств”, являвших собой облик будущего нового
идеального города.
В архитектурном решении действа “Благовеще¬
ние” в церкви Сантиссима Аннунциата, пишет Франче¬
ско Пардо, была осуществлена «диалектическая связь
новаций и традиции, что характерно для первой фазы
развития ренессансной культуры. Брунеллески и вместе
с ним, возможно, Чекка, опытный в конструировании
разного рода машин, осуществили эту связь в постанов¬
ке сакра раппрезентационе; “мандорла”... в которой
спускался благовествующий Архангел, традиционно
сохранялась во флорентийском искусстве, в частности,
у такого скульптора, как Нанни ди Банко, находивше¬
гося на грани между позднеготической западной тради¬
цией и новаторством Мазаччо... Однако (в сценографии
Брунеллески) это устройство, благодаря которому осу¬
ществлялось явление Архангела, становилось невиди¬
мым в потоках света, окружающих мандорлу; чудес¬
ные вознесения и сошествия исполнителей, вращение
купола, отделения друг от друга частей сценического
устройства - все это уже элементы новаторства». Имен¬
но эти технические новации и изобретения, чуждые, по
словам Франческо Пардо, “восточной теологии и космо¬
гонии”, должны были особенно поразить Авраамия
Суздальского. Статья Франческо Пардо опубликована в
сборнике “Театральное пространство” (Материалы
научной конференции. 1978. Государственный му¬
зей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Москва, 1979).
“Чуден
вельми
светлостью,
звонностью
и пространством”
Архитектура
Успенского
собора в Кремле -
и пространство
в иконах Дионисия
Попытки разгадать, как видели
современники произведения ис¬
кусства, отделенные от нас вре¬
менем, которое неизбежно преоб¬
ражает и изменяет их первона¬
чальный смысл, составляет одну
из наиболее сложных и увлека¬
тельных задач, встающих перед
современным исследователем.
Сохранившиеся письменные
свидетельства отчасти помогают
решить эту задачу. Однако сло¬
весное выражение впечатлений,
которые испытывали в свое вре¬
мя зрители, в свою очередь, тре¬
буют расшифровки, поскольку
значение многих терминов пре¬
терпело столь же серьезные из¬
менения, как и само искусство.
Когда Леон Баттиста Альберти в
своем Трактате о живописи упо¬
требляет термин “композиция”,
современный исследователь обя¬
зан выяснить, что именно подра¬
зумевал под этим словом Альбер¬
ти и как оно соотносится с его
современным значением. Еще
труднее в наше время понять, что
означал лаконичный и, по-види¬
мому, многозначный термин
“чудно”, который часто встре¬
чается в древнеруссских пись¬
менных источниках. Своеобраз¬
ным визуальным комментарием
к словесным формулировкам
могут служить свидетельства,
содержащиеся в самих произве¬
дениях искусства, в которых
художник (идеальный зритель
своего времени) воспроизводит и
отчасти интерпретирует произве¬
дения художника другого време¬
ни или иной культурной среды.
При этом порой возникает свое-
320
образный молчаливый диалог, в некоторых случаях да¬
же диспут об искусстве. Подобный диалог (или диспут)
возник в Москве в последние два десятилетия XV века,
диалог, тем более многозначительный, что участника¬
ми его были известный итальянский архитектор Арис¬
тотель Фьораванти и его современник - не менее знаме¬
нитый на Руси живописец Дионисий.
Возведенный Фьораванти Успенский собор пред¬
ставлял собой итальянскую интерпретацию средневе¬
ковой русской архитектуры. Согласно договоренности,
Фьораванти должен был построить его “в меру” знаме¬
нитого Успенского собора во Владимире. Архитектор
отправился во Владимир, чтобы увидеть этот собор,
однако увидел его не так, как видели русские, но как бы
сквозь призму “высокой художественной математики”
итальянской архитектуры Возрождения.
Русский средневековый храм мыслился как бы
состоящим из нескольких самостоятельных объемов.
Стены Владимирского собора не воспринимаются как
единая плоскость, они кажутся составленными из утоп¬
ленных в каменную массу здания полукруглых апсид,
завершающихся закомарами, - мотив, получивший
свое полное пластическое воплощение в мощных объе¬
мах сильно выступающих из стены апсид восточной
стороны храма. В древнерусской церковной архитекту¬
ре апсидам придавалось особое, как архитектурно-пла¬
стическое, так и смысловое значение, они представля¬
ли собой ритуальное ядро храма, его “святая святых”. В
иконах часто вместо храма иображали отдельно стоя¬
щую апсиду.
За несколько лет до Фьораванти во Владимир
были посланы русские мастера, чтобы измерить собор и
воспроизвести его в Московском Кремле. Они дивились
“красоте... и величеству и высоте еа”, измерили его по
высоте и ширине и, как подчеркивает летописец, сняли
размеры его алтаря, иными словами, трех его восточ¬
ных апсид.
Фьораванти, руководствуясь своей собственной
архитектурной концепцией, на алтарь, по-видимому,
не обратил особого внимания. В построенном им мос¬
ковском Успенском соборе апсиды утратили архитекто¬
ническую самостоятельность, они оказались втянуты¬
ми в общий объем здания. Главный композиционный
мотив в его сооружении - не пластическое богатство
Архитектура Успенского собора в Кремле...
321
архитектурных объемов, не разнообразие ракурсов, но
плоскости стен. Фасадом собора становится не запад¬
ная, как обычно, но южная, длинная стена, выходящая
на площадь и организующая ее пространство; площадь
приобретает характер огромного аванзала перед плос¬
кой архитектурной кулисой, образованной боковым
фасадом здания. Русский средневековый храм требует
обхода со всех сторон; собор, выстроенный Фьораванти,
подобно итальянскому ренессансному палаццо, имеет
один, главный фасад. Это сходство с “палаццо” было за¬
мечено русскими зрителями. В летописи говорится, что
собор построен “палатным образом”, иными словами,
“в меру” палат, то есть дворцовых интерьеров.
Успенский собор Фьораванти понравился рус¬
ским, свидетельство тому - запись в летописи. Правда,
запись эта весьма лаконична: “чуден вельми светлос¬
тью, звонностью и пространством”. Визуальным ком¬
ментарием к ней отчасти могут служить изображения
нового собора в иконах, особенно в тех, которые были
созданы в годы, когда впечатления от здания были еще
свежи. Русские иконописцы интерпретировали собор
Фьораванти в соответствии со своими представления¬
ми - тезису, сформулированному итальянским архи¬
тектором, они противопоставили свой антитезис.
В иконе “О тебе радуется”, которую связывают со
школой Дионисия, Мария изображена на фоне пятику¬
польного храма, несомненно обозначающего новый
Успенский собор. Однако иконописец перетолковал
творение Фьораванти в соответствии со структурными
принципами русской архитектуры: подчеркнуты вер¬
тикальная динамика здания (“величество и высота еа”),
композиционная значимость апсид и портала, спря¬
танных в соборе Фьораванти - здесь они в торжествен¬
ной симметрии расположены с двух сторон здания как
кульминация его архитектонического решения. Ины¬
ми словами, на иконе изображено не реальное зда¬
ние, сооруженное на площади Кремля, но идеальный
прототип собора, стоявший перед мысленным взором
иконописца.
Житийная икона митрополита Алексия, написан¬
ная Дионисием, проникнута атмосферой строительного
энтузиазма, царившего в те годы в Москве, когда
Кремль представлял собой единую строительную пло¬
щадку. “Каменосечци вси делающе бяху на церкви той,
322
овии своды ведяху, а инии замыхаку своды, носящий
же камень и известь и древие носяху, мнозии же восхо¬
дяще смотряху дела оного”, - говорится в летописи.
Клейма иконы Дионисия поражают обилием архитек¬
турных мотивов, особенно в горизонтальных рядах, не
разделенных на отдельные эпизоды. Церкви, колоколь¬
ни, монастырские стены складываются в единую архи¬
тектурную панораму. В верхнем ряду, где изображены
эпизоды детства и юности митрополита (события, отда¬
ленные во времени) или представлены его “хождения”
в чужие земли (события, отдаленные в пространстве),
архитектурные фоны вполне условны - представлены
фантастические хоромы и церкви, обычные как для ви¬
зантийской, так и для русской иконографии.
В нижнем ряду действие переносится в современ¬
ную для художника ситуацию строительства “белока¬
менной Москвы”, которая в ту пору еще только начина¬
ла реализоваться на кремлевской площади. Здесь архи¬
тектурные фантазии Дионисия в чем-то аналогичны
архитектурным фантазиям его флорентийских совре¬
менников - художников кватроченто. Однако это ана¬
логия по принципу от противного. Итальянцы изобра¬
жали архитектуру, которую еще предстояло реализовать
и которую архитекторы впоследствии действительно
реализовывали. Архитектурная утопия иконы Диони¬
сия обращена в будущее только своим пафосом созда¬
ния “белокаменной Москвы”, сами же формы изобра¬
женных зданий скорее обращены в прошлое. Даже
кремлевский Успенский собор представлен у него не
пятикупольным, как у Фьораванти, но однокуполь¬
ным, по-видимому, имеется в виду древнее, разрушен¬
ное здание собора, сохранившегося в народной памяти
как храм “в меру храма пречистыа Богородица, иже во
Володимере, ея же съезда благоверный велики князь
Андреи Боголюбскии Юрьевич, внук Манамашь, об
едином верее”.
Внешний облик Успенского собора, возведенного
Фьораванти, не был увиден в современной ему иконо¬
писи - слишком устойчивы были традиционные пред¬
ставления о сакральной архитектуре и о способе ее изо¬
бражения. Однако некоторые ренессансные аспекты
новой архитектуры оказались не только увиденными
русскими иконописцами, но и получили в их творчестве
своеобразное истолкование. О новом соборе в летописи
Архитектура Успенского собора в Кремле...
323
говорится: “чуден вельми размерами, высотою, свет¬
лостью, звонностью и пространством”. Два первых
определения - размеры и высота - представляют собой
принятое клише, повторяющееся во многих описаниях
архитектурных сооружений. Последние три: свет¬
лость, звонкость и пространство - встречаются впер¬
вые и характеризуют впечатление от интерьера собо¬
ра, выстроенного Фьораванти по-новому, на итальян¬
ский лад.
Внутреннее пространство нового Успенского собо¬
ра привлекало внимание своей необычностью, наруше¬
ниями привычных норм. Прежде всего тем, что глав¬
ным входом в храм становился не западный, как это
было принято, но южный. Это резко меняло тради¬
ционную сакральную ориентированность интерьера,
поскольку алтарь с иконостасом оказывался не впере¬
ди, но справа, а перед глазами вошедшего в храм воз¬
никала пустая плоскость стены, в первое время еще не
покрытая росписью. Создавалось впечатление не цер¬
ковного, но светского, “палатного” интерьера. В одной
из миниатюр XVII века изображен именно этот аспект -
свидетельство того, что вид с юга воспринимался как
главный. Благодаря равномерному освещению и не¬
обычным для древнерусского храмового зодчества
круглым колоннам (похожим на стволы деревьев, как
говорится в одном старом источнике), не загромождав¬
шим пространства, глазам сразу открывались голые
стены, обнажался архитектурный костяк здания, его
пространственная организация. В традиционном рус¬
ском храме стены не видны, они погружены в полу¬
мрак, “прикровенны”.
Дионисий и работавшие с ним мастера, входя в
Успенский собор, должны были ощущать себя в новом,
необычном пространстве. Их должна была особенно по¬
ражать светлость и просторность интерьера, пустота его
белых, еще не завешенных иконами стен, залитых ров¬
ным дневным светом. Светлость и просторность - глав¬
ная особенность житийной иконы митрополита Алек¬
сия, написанной Дионисием, по-видимому, специально
для собора. Главный ее цвет - белый. Правда, современ¬
ный зритель должен представить себе, что в житийных
клеймах первоначально фон был золотым, что золотым
был, по всей вероятности, нимб святого, несколько
более интенсивным был, вероятно, светло-зеленый фон
324
средника, что, впрочем, не изменяло общего колорис¬
тического решения иконы. Белый в ней оставался до¬
минирующим, вкрапления бледно-зеленого, розового,
охристого, золота и алого должны были воспринимать¬
ся (как и в наше время) скорее как модификации бело¬
го, нежели как самостоятельные цвета. Общее цветовое
решение иконы значительно отличалось от колорита,
традиционного для московской живописи этих лет, где
преобладающим было сочетание золота с интенсивно¬
голубым (как в “Троице” Рублева) или господство ярко-
красного, как в новгородских иконах. Эти цвета не изо¬
бражали, но символизировали свет, мыслившийся как
категория не физическая, но духовная. В иконе Диони¬
сия белый не только (и не столько) символизирует,
сколько изображает рассеянный свет, свет как осве¬
щенность - “белый свет”, который, в определенном
смысле, является антитезой цвету.
Подобное решение, необычное для русской иконо¬
писи, имеет единственную известную нам аналогию в
иконе “Апокалипсис”, написанной в конце XV века,
возможно, для Успенского собора. Икона поражает
светлостью колористического решения, обилием белого
и непривычной для иконописи рассредоточенностью,
рассеянностью цветовых пятен. Логично предполо¬
жить, что на мастера, создавшего эту икону, так же как
на Дионисия, произвела впечатление необычная для
Руси освещенность соборного интерьера. Равномер¬
ная освещенность храмового интерьера и для самих
итальянцев была в XV веке архитектурным новшест¬
вом. Вполне возможно, что те, кто впервые входил в
капеллу Пацци во Флоренции, залитую рассеянным
дневным светом, испытывали чувство, подобное тому,
какое должны были испытывать русские, впервые вхо¬
дившие в Успенский собор.
В летописях говорится, что интерьер собора пора¬
жал русских своим “пространством”. Новое видение
пространства отразилось и в иконе Дионисия. В житий¬
ных иконах средник, как правило, отделяется от клейм
темной линией обрамления, заключающего фигуру
святого в тесно ограниченное поле. Древнерусская ико¬
нопись не знала изображения человека в интерьере.
Вместе с тем композиционная формула житийной ико¬
ны строилась на контрасте замкнутого средника (ана¬
лог пространства внутри стен) - и разомкнутых вовне
Архитектура Успенского собора в Кремле...
325
клейм (пространства вне стен), поскольку поля иконы,
как правило, не были очерчены по внешнему краю. Эта
композиционная формула являла собой символи¬
ческую аналогию более общего противопоставления:
внутреннего духовного мира человека (его “внутренней
клети”, как выражались в ту пору) - и мира внешнего.
В иконе Дионисия эта традиция нарушена, в ней отсут¬
ствует обрамление среднего поля, светло-зеленый фон
средника сливается со светлым фоном сцен, представ¬
ленных в клеймах в единое пространство. Централь¬
ная фигура оказывается соотнесенной не со стиснутой
обрамлением “внутренней клетью”, но со всем полем
иконы - “землей и всем, что есть на ней”. Перед нами,
хотя и выраженная языком средневековой иконо¬
графии, другая, не средневековая пространственная
модель, в ней исчезло противопоставление категорий
внутреннего и внешнего, так же как интерьер нового
Успенского собора, залитый естественным дневным
светом, не контрастирует с безграничным наруж¬
ным пространством, но являет собой образ этого про¬
странства, подчиненного правилам ренессансной архи¬
тектоники.
Атмосфера строительной активности, царившая в
стенах московского Кремля в последние годы XV века,
где бок о бок работали итальянские и русские мастера,
не могла не привести к творческим контактам. Так,
икона “Апокалипсис”, как показал в своем фундамен¬
тальном исследовании М.В. Алпатов, обнаруживает
несомненное знакомство иконописца с некоторыми
аспектами итальянской гуманистической культуры.
Что касается иконы Дионисия, то в ней легко обнару¬
жить попытки мастера построить трехмерное изобра¬
жение предметов и архитектурных деталей, главным
образом, в житийных клемах нижнего ряда. Подобные
перспективные построения художник мог видеть в ар¬
хитектурных рисунках, которыми, по всей вероятнос¬
ти, пользовались итальянские строители, работавшие в
Москве.
“Взлетающий
ввысь... невесомый
и к земному
непричастный”
О трех
поздних
иконах
Дионисия
Икона “Распятие” была написа¬
на Дионисием около 1500 года.
Даже теперь, когда золото фона
почти полностью утрачено, она
сохраняет свою светозарность и
просторность. О ней хочется ска¬
зать словами современников
Дионисия, пораженных интерье¬
ром Успенского собора в Кремле,
построенного итальянцем Фьо-
раванти: икона “чудна вельми
светлостью, звонностью и прост¬
ранством”. Действительно, вся
ее поверхность, включая архи¬
тектуру и горки, образует единое
светлое пространство, поля -
первоначально тоже золотые -
лишь по самому краю доски
обведены тонкой алой линией.
И в этом светлом пространстве -
“звонкие” цвета одежд: розовый,
алый, лазурный, разные оттенки
зеленого, лимонного, вишневого
и, как центр цветовой гаммы, -
ослепительно белое пятно на¬
бедренной повязки Распятого
Христа.
В построении иконы есть
легкая, едва заметная, но все же
зрительно ощутимая сдвину-
тость всех элементов компози¬
ции относительно оси симмет¬
рии, четко обозначенной черной
вертикалью Креста. В силуэтах -
зыбкость, плывучесть очерта¬
ний; фигуры, словно колеблемые
ветром, то клонятся влево, как
Мария с группой женщин у под¬
ножия Креста, как охвачен¬
ный тем же порывом Иоанн, -
то устремляются вправо, как сот¬
ник Лонгин, стоящий за спиной
Иоанна, как стремительно про¬
летающие, под распростертыми
327
руками Распятого фигуры “Синагоги” и “Новозаветной
Церкви” в сопровождении двух ангелов.
В композиции этой поздней иконы Дионисия воз¬
никает необычное для древнерусской иконописи обост¬
ренное чувство границ иконной плоскости. “Синагога”,
подлетая к самому краю иконы, почти касаясь его про¬
тянутыми руками, оглядывается на ангела, выдворяю¬
щего ее за пределы иконного поля; фигуры предстоя¬
щих Кресту отступают, прижимаясь к краям иконы,
словно стараясь сохранить предписанную ритуалом
дистанцию. При этом в центре возникает композицион¬
ная пауза. Подобные паузы повторяются еще дважды:
это красноречиво отпрянувшие друг от друга Иоанн и
Лонгин сотник; это затянувшееся безмолвие Иоанна
и Богоматери, особенно ощутимое благодаря позе Иоан¬
на, обращенной не к Распятью, но к Марии, от кото¬
рой его отделяет пустое, светлое пространство мол¬
чания.
В отличие от композиционной замкнутости икон
Рублева, иконы Дионисия предельно разомкнуты, руб¬
левский пафос самопогружения сменяется у Дионисия
пафосом самораскрытия, не раскрытие мира в себе,
как у Рублева, скорее - это раскрытие себя миру. По¬
строение иконы пронизано движением снизу вверх,
динамикой взлета. Тело Христа не висит на кресте -
упругая, напряженная линия, очерчивающая ноги и
изгиб торса, выносит Его вверх, длинные, гибкие руки
раскинуты, как крылья, и вся фигура, порывисто изо¬
гнутая, одним движением вырывается из нижней, зем¬
ной зоны, где остаются стоящие у подножия Креста, и
всплывает в светлом (некогда золотом) пространстве
фона, над четырьмя мимолетящими фигурками, похо¬
жими на стаю вспугнутых птиц.
Черная бездна с черепом Адама уподоблена рас¬
ширяющемуся книзу основанию черного же Креста.
Однако общий силуэт оказывается зрительно разорван¬
ным светлыми горками, так что Крест, словно вырван¬
ный из земли, кажется парящим в пространстве. Пер¬
воначально, когда золото фона не было утрачено, фигу¬
ра Христа, плоская и светло-охристая, должна была
почти сливаться с фоном и казаться невесомой, бес¬
плотной: “взлетающей ввысь, самодвижущейся, воз¬
носящейся, невесомой и к земному непричастной”.
Этими качествами, по определению Иосифа Волоцкого,
должны обладать существа небесные, Христа же, как
328
считал волоцкий игумен, следует изображать “в его
телесном естестве”, поскольку “в своей божествен¬
ной сущности” Христос “неизобразим”. Дионисий,
используя метафорические возможности языка живо¬
писи, попытался, вопреки Иосифу, изобразить неизо-
бразимое.
Икона “Распятие” была написана для иконостаса
Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря близ
Вологды. В состав того же иконостаса входила икона
“Уверение Фомы”, которая, как считают, также связа¬
на с Дионисием. В иконе сохраняется традиционная
иконографическая схема, в ней лишь чуть больше
обычного раздвинуты в стороны группы апостолов, уси¬
лены пространственно-смысловые интервалы. Фигура
Христа рисуется силуэтом на фоне храмового портала,
оказываясь в зоне пространственно неприкасаемого.
Жест апостола Фомы, усиленный очертаниями его
сильно склонившейся, словно готовой опуститься на
колена фигуры, воспринимается как выражение не
столько святотатственного недоверия, сколько благо¬
честивого преклонения. Этот мотив композиционно
обнажается в полукруглом очертании церковной сте¬
ны, повторяющей изгиб склоненной спины апостола.
(В собрании Третьяковской галереи есть икона на тот
же сюжет, приписываемая кругу Дионисия или кому-
то из его мастерской. Она очень близка по композиции
иконе из Павло-Обнорского монастыря, но в ней сильно
акцентирован изгиб склоненной спины апостола; мо¬
тив, лишь намеченный в иконе самого мастера, здесь
прозвучал в полную силу.)
Архитектуре в этой иконе принадлежит важная
композиционно-смысловая роль. Властный взлет стены
вводит ритмическую тему не столько колеблющегося,
сколько уже уверовавшего Фомы и стоящих за его спи¬
ной, взволнованных, “чающих чуда” апостолов. Фигу¬
ра Христа метафорически повторяется в силуэте цер¬
ковных врат, с их полуциркульным завершением, упо¬
добленным очертаниям нимба над головой Спасителя.
“Я есмь дверь, - произнес, согласно Евангелию, Хрис¬
тос, - вошедший через меня, спасается”. (На иконе
врата изображены закрытыми. Должно ли это озна¬
чать, что они еще не распахнулись для Фомы, за ко¬
торым русская традиция сохранила прозвище “не¬
верный”?)
О трех поздних иконах Дионисия
329
Правая часть здания с двухступенчатым скатом
кровли и четырьмя полукруглыми окнами служит ар¬
хитектурным фоном для четырех (по числу окон хра¬
ма!) фигур апостолов, которые, в отличие от левой груп¬
пы, не общаются друг с другом в ожидании (ответа?
чуда?), но, неколебимо верящие, молитвенно склоняют
головы. И наклон их голов дважды подтверждается на¬
клоном кровли храма. В иконе свершается строгая и
стройная архитектурная мистерия “Уверения Фомы не¬
верного”.
Современники Дионисия, по-видимому, не слу¬
чайно назвали его “мудрым”. В его живописи, особен¬
но в поздних иконах, было нечто не вполне привыч¬
ное, “мудреное”, отклонявшееся от принятой нормы,
некое “мудрствование”. Не в самих сюжетах, не в
иконографии - но в образном истолковании, в едва
заметных, на первый взгляд, композиционных, коло¬
ристических и, соответственно, смысловых сдвигах.
Словно художника привлекало богословско-поэти¬
ческое переосмысление закрепленных традицией
изображений.
Икону “Сошествие во ад” из собора Ферапонтова
монастыря можно рассматривать как своего рода ви¬
зуальный богословский трактат. Сюжет ее известен на
Руси с XI века. Как и в Византии, он существовал в
двух изводах. В одном акцентировался момент нисхож¬
дения героя в преисподнюю: Христос изображен почти
в профиль (“волевой поворот” - согласно Флоренско¬
му). Он энергично шагает, попирая ногами повержен¬
ного сатану, и протягивает руку встающему из сарко¬
фага Адаму; за Адамом поднимается Ева. За спиной
Христа стоят, ожидая оправдания, ветхозаветные цари
Давид и Соломон. В другом варианте главный мотив -
не активные действия Христа, но восхождение Его из
царства смерти, Его Воскресение. Фигура Христа пред¬
ставлена в фас (“При фронтальном иображении... лице¬
вой образ покоится”, - пишет Флоренский). Христос
окружен сиянием, Адам и Ева изображены по сторонам
от Него в позе предстояния, как в иконографической
схеме Деисуса.
В иконе XIV века из собрания Третьяковской га¬
лереи голубое сияние вокруг фигуры Христа наполнено
ангелами, держащими в руках рипиды с надписями,
330
обозначающими добродетели; длинными копьями анге¬
лы поражают пороки, гнездящиеся в адской бездне.
“Сошествие” Дионисия близко по иконографии к этой
иконе, однако все композиционные крепления в ней
разъяты - фигуры, словно оторвавшись от нижнего
края иконной доски, медленно всплывают вверх и зами¬
рают, повисая в пространстве; повисают в пространстве
и обломки разрушенных адских врат. Христос, стоя на
этих обломках, кажется легко балансирующим над про¬
пастью. Его высокая, гибкая фигура не столько вписана
в круг сияния, сколько парит на фоне этого голубого
круга. Фигуры коленопреклоненных Адама и Евы неус¬
тойчивы по силуэту и готовы легко воспарить вслед за
Христом. Впечатление усиливается вертикальным по¬
строением всей композиции с сильно акцентирован¬
ной средней осью. Двое ангелов, сковывающих сатану,
выделяются светлым пятном на фоне черной бездны.
Расположенное в самом низу иконного поля, это пятно,
от которого зрительно отсчитывается расстояние до фи¬
гуры парящего над бездной Христа, усиливает общее
впечатление взлета. Группа из трех ангелов, несущих
крест, помещена также на центральной оси, в самом
верху композиции, при этом крест вынесен за верхние
обрамления иконы, так что общее движение вверх выхо¬
дит за границы изобразительного поля. В построении
иконы есть легкая, но все же воспринимаемая глазом
асимметрия: голова Христа помещена строго на цент¬
ральной оси, группа ангелов с крестом слегка смещена
вправо, вправо же чуть заметно сдвинуты обломки ад¬
ских врат под ногами Христа, в то время как ниж¬
няя группа ангелов сдвинута влево. Эта асимметрия
потому и ощутима, что сочетается со строгой симметри¬
ей общего построения. Это - симметрия треугольни¬
ка летящих птиц, симметрия фигур, находящихся в
движении.
Круг голубого сияния - образ небесного свода,
полного ангелов. На их полупрозрачных розовых ним¬
бах отблеск небесных светил, белые кружочки рипид
уподоблены самим светилам, ярким, как звезды первой
величины, между ними мерцают более далекие звезды,
рассеянные по всему своду небес. В астрологических со¬
чинениях, распространенных в Древней Руси, так обо¬
значали небо с двенадцатью знаками, соответствовав¬
шими двенадцати месяцам; изображение такого неба
О трех поздних иконах Дионисия
331
входило в иконографию Страшного Суда. В иконе Дио¬
нисия в расположении небесных светил (рипид) нет
строгой симметрии, но все же соблюден порядок: во¬
семь “звезд” окружают фигуру Христа и по две - над го¬
ловами прародителей. Голубой диск небес противо¬
поставлен черному пятну ада - приплюснутому, смято¬
му, потерявшему правильные очертания. Это воплоще¬
ние тьмы. И как небо полно ангелов, так этот мрак, эта
вечная ночь кишит дьяволами, темно-коричневыми,
едва различимыми на черном фоне. Небо, свет имеет
форму круга, обозначающего правильность, устойчи¬
вость, постоянство, длящееся вечно. Черное пятно
адской бездны, “тьмы внешней” - неправильной фор¬
мы, а все неправильное, незакономерное - преходяще,
оно не выражает сущности явлений, оно недолговечно.
Свет - это мера и порядок, длящиеся вечно. Мрак - это
бесформенность и хаос, обреченный на исчезновение.
Черная бездна в иконе это не только антитеза неба, но в
какой-то мере, это и небо наоборот, адское антинебо,
где каждая фигура беса означает определенный порок,
которому наверху, в небе противостоит добродетель.
Пороков, обозначенных соответствующими надпися¬
ми, двенадцать: горесть, падение, ненависть, ложь,
скорбь, тление, гордость, отчаяние, неразумие, смерть,
скверность, вражда. Двенадцать ангелов в сфере верх¬
него неба пронзают их тонкими алыми копьями, при¬
чем каждый из пороков побеждается соответствую¬
щей добродетелью, обозначенными надписями на
рипидах. Это, соответственно, - счастье, воскресение,
любовь, истина, радость, мудрость, смирение, сладост¬
ность, разум, жизнь, чистота (двенадцатая надпись
утрачена). Каждый из ангелов низвергает соответ¬
ствующего дьявола-антипода, и от движений их копий
сияющий голубой диск неба, оттолкнувшись от мрака,
словно медленно всплывает вверх, подобно солнцу, вос¬
ходящему над горизонтом. В иконографию Страшного
Суда входило изображение ангела, который трезубцем
отталкивает черный диск ночи от светлого диска дня -
знак того, что “времени больше не будет”, не будет чере¬
дования ночей и дней и наступит вечный день, вечный
свет. Иконографические переклички с темой Апока¬
липсиса составляют существенную грань созданного
Дионисием образа. Фигуры восставших из гробов мерт¬
вых, облаченные в белые одежды - знак их избранни¬
332
чества, - еще одна изобразительная цитата из иконо¬
графии Страшного Суда.
Однако тема борьбы добра со злом, тема возмез¬
дия и оправдания звучит в иконе Дионисия лишь на
уровне сюжета (ангелы сковывают сатану, добродетели
побеждают пороки). Образно - это торжество светлого
начала в мире, разделенном на свет и тьму.
О категории времени в живописи
средних веков
и Раннего Возрождения
Тема природы в итальянской живописи кватроченто
Об интерпретации архитектуры в рельефах
Гиберти и Донателло
Альберти и Флоренция
Альберти и Рим
Тема руин в трактате Леона Баттисты Альберти
“Десять книг о зодчестве”
О Боттичелли
О Леонардо да Винчи
О категории
времени
в живописи
средних веков
и Раннего
Возрождения
Для временных представлений
средневековья определяющую
роль играло противопоставление
категорий времени и вечности1.
Вечность обладала высшей и аб¬
солютной реальностью, тогда
как земное, тварное время, в ко¬
тором существовали люди и со¬
бытия, сменяя друг друга, расце¬
нивалось как второстепенное и
малозначимое. Вечность, этот
грандиозный экран историчес¬
ких и человеческих судеб, была
лишена признаков времени -
развития, движения, смены, че¬
редования событий: “Сколько
уже дней наших и предков на¬
ших протекло через этот Твой,
никогда и ни в чем не изменяю¬
щийся, всегда настоящий день...
а сколько и еще придет их в раз¬
ных видоизменениях, каковы бы
эти изменения ни были. Ты все¬
гда и неизменно один и тот же; и
все наше прошедшее и все наше
будущее у Тебя совершается в
вечно-настоящем”2.
Если вечность бесконечна,
то тварное, земное время имело
совершенно определенное нача¬
ло - сотворение мира, ибо “нет
никакого сомнения, что мир со¬
творен не во времени, но вместе
со временем”3. Этот момент обла¬
дал для средневекового человека
такой степенью реальности, что
от него велось летосчисление; из¬
вестен был не только год, но да¬
же день творения. Несколько ме¬
нее уверены были в дате конца
времени, хотя самый факт этого
конца не вызывал сомнения:
“Начавшееся со временем, по
всей необходимости и кончится
335
во времени” и “если имеет начало временное, не сомне¬
вайся о конце”4.
Вместе с тем эти два момента - начало времени и
его конец - были достаточно четко фиксированы в про¬
странстве. Начало человеческой истории, земной рай,
как и все библейское прошлое, находились на востоке,
и было как-то не очень ясно, прошло ли это прошлое,
или все еще продолжает существовать, но только в не¬
сколько ином пространственном измерении5.
Границы между временной и пространственной ка¬
тегориями были трудно уловимы даже для дисциплини¬
рованной мысли философов и богословов: “Не скажут ли
мне, что эти времена, прошедшее и будущее также суще¬
ствуют: только одно из них (будущее), преходя в настоя¬
щее, приходит непостижимо для нас откуда-то, а другое
(прошедшее), переходя из настоящего в свое прошедшее,
отходит непостижимо для нас куда-то, подобно морским
приливам и отливам? И в самом деле, как могли, напри¬
мер, пророки, которые предсказывали будущее, видеть
это будущее, если бы оно не существовало? Ибо того, что
не существует, и видеть нельзя... Итак, надо полагать,
что и прошедшее, и будущее время также существует,
хотя непостижимым для нас образом”6.
Если начало человечества, его прошлое, находилось
на востоке, то конец, последний день мира, Страшный
суд - пожалуй никто, кроме еретиков, не сомневался, что
этот конец, это будущее находится на западе. Вместе с тем
на средневековых картах восток располагался наверху,
запад соответственно - внизу7: временные представления
получали ценностную характеристику.
Что касается пространственных представлений
средневековья, то здесь также существовала двойная
шкала измерений. В человеческом, земном простран¬
стве зачастую плохо ориентировались, зато постоянно,
в любое мгновение своего существования ориентирова¬
лись в мире по другой, большой пространственной шка¬
ле. Человек в ту пору не всегда ясно представлял себе,
что находится за пределами его города, его страны, “за
горами, за морем”, но постоянно ощущал себя живу¬
щим между небесами и преисподней, между востоком,
где был расположен “рай божий”, и западом, где перед
его мысленным оком маячил “судный день”; и всегда
для него совершенно определенное значение имела пра¬
вая - хорошая и левая - дурная сторона.
336
Как и время, пространство было качественно
окрашенным, человек жил как бы под постоянным воз¬
действием невидимых, но ясно ощутимых полюсов:
добра - и зла, гибели - и спасения. И организованная
им предметная среда была организована и ориентиро¬
вана по той же системе координат: так планировались
город и деревня, дом и комната и прежде всего храм -
модель средневековой вселенной8.
Храм строился по образу мира, а в мире, в свою
очередь, ориентировались согласно той пространствен¬
ной символике, которая из века в век в соответствии со
строгой иконографической схемой воспроизводилась в
интерьере храма, в его росписях и иконах.
Интерьер церкви имел значение особого, сакрали-
зованного пространства, противостоявшего простран¬
ству профанному. Храмовое пространство строго ориен¬
тировано и как бы излучает это свое качество на все
окружающее внешнее пространство, задавая, подобно
священному компасу, основные направления.
В средневековой архитектуре определяющее зна¬
чение имел план, или, по средневековой терминологии,
схема9. В основе схемы всегда лежал крест, либо как
явная, зримо выраженная форма, либо как форма
скрытая, в соответствии с которой велись геометриче¬
ские расчеты, располагались сюжеты росписей, ориен¬
тировался алтарь. Конечно, это объяснялось тем осо¬
бым значением, которое приобрел знак креста в христи¬
анской религии. Однако в данном случае важно, что
символика креста имела, по-видимому, два аспекта:
сюжетно крест был связан с евангельской историей Рас¬
пятия Христа, структурно - с системой пространствен¬
ной ориентации средневековья. Перекладины креста
выполняли роль пространственных координат... Крест,
расположенный горизонтально, указывал на страны
света: восток и запад, юг и север. Автор VI века Проко¬
пий так описывает начало строительства храма: “Были
проведены две прямые линии, посредине пересекающи¬
еся друг с другом, в виде креста; первая прямая шла к
востоку и к западу, пересекающая ее вторая линия
была направлена к северу и югу...”10 Показательно, что
Прокопий не говорит о линиях, проходящих с востока
на запад и с севера на юг, для него существуют не две, а
четыре линии, направленные, подобно векторам, от
центра и указывающие четыре основных направления,
О категории времени в живописи средних веков...
337
четыре страны света11. Перекладины креста не только
определяли противоположные направления, но одно¬
временно объединяли их, стягивая к центру. “На
этих... прямых, там, где они соединяются, - а это как
раз приходится посредине... помещено место, доступ¬
ное только для священнослужителей, которое, как и
подобает, называют святилищем”, - пишет Проко¬
пий12. Крест, расположенный вертикально, сохранял
значение пространственной схемы, противопоставляя и
одновременно попарно объединяя верх и низ, небеса и
преисподню; правую (хорошую) и левую (дурную) сто¬
роны. По-видимому, знак креста представлял собой
предельно простую, емкую геометрическую формулу
основных пространственных, временных и нравствен¬
ных оппозиций, на которых строилась средневековая
модель мира. Может быть, отчасти этим (а не только
чисто религиозными причинами) объясняется его уни¬
версальное значения для самых разных областей сред¬
невековой жизни.
Основную психологическую установку человека
средних веков в его отношении ко времени, основной
нерв его переживания самой категории времени можно
было бы определить как ожидание, постоянное напря¬
женное ожидание конца человеческого, земного време¬
ни, однако такого конца, который явится началом но¬
вого состояния, когда времени уже не будет, наступит
вечность, “новое небо и новая земля, ибо прежнее небо
и прежняя земля уже миновали”13.
В изобразительном искусстве эта тема “конца и
начала”, тема времени и вечности получила наглядное
воплощение в изображении Страшного суда, грандиоз¬
ного финала человеческой истории. Это был род экрана,
на который на пртяжении веков поколение за поколе¬
нием проецировало свои мысли о жизни и смерти, о
времени и вечности, свои ожидания гибели и спасения.
Иконографически изображение Страшного суда14
строилось как последняя живая картина исторического
действия, навеки остановленного, как “конец века”15,
поэтому оно часто включало зримый образ самого этого
конца. В русской иконе “Страшный суд” (XV век, ГТГ)
в правом верхнем углу представлены ангелы, свора¬
чивающие свиток небес с луной и солнцем: “И небо
скрылось, свившись как свиток”16; ниже - ангелы све¬
та длинными копьями сбрасывают тьму, аннулируя
338
первый акт творения - разделение Богом хаоса на свет
и мрак - акт, который был началом земного времени,
чередования дней и ночей. Теперь этого “перемежаю¬
щегося и непрестанно изменяющегося мерцания” боль¬
ше не будет, наступила “всеобъемлющая светлость не-
изменяющейся вечности”17.
Ангелы, свертывающие небеса и сбрасывающие
тьму, изображают конец астрономического времени;
в иконографию Страшного суда входило также изобра¬
жение конца исторических времен: четыре апокалип¬
тических зверя, заключенных в круг, представляли
четыре уже свершившихся земных царства, знак того,
что истории больше не будет.
Но Страшный суд - это не только изображение
конца, последнего теперь, за которым не последует ни¬
какого после, это одновременно и иображение вечнос¬
ти. В самой верхней части композиции, в центре, часто
помещался знак самой вечности - полуфигура Бога-От-
ца, заключенная в концентрические круги небесных
сфер, между которыми размещены солнце, планеты и
малые сферы с ангельскими ликами - образ бесконечно
длящегося неподвижного движения: “непостижимое
слияние противоположностей”, при котором “в движе¬
нии проглядывает покой, а в неподвижности - безоста¬
новочное движение”18.
Вопрос о вечном движении мироздания, о причи¬
нах и способах этого бесконечного движения не пере¬
ставал волновать средневековье. Согласно одним пред¬
ставлениям, считалось, что небесные сферы приво¬
дятся в движение ангелами; согласно другим - “Бог,
создавая мир, привел в движение каждую небесную
сферу, как ему заблагорассудится, и, приведя их в дви¬
жение, запечатлел в них импульсы, движущие их без
того, чтобы нужно было ему самому продолжать их дви¬
гать... и эти импульсы, запечатленные в небесных
телах, впоследствии не ослабевали и не разруша¬
лись...”19. Конечно, в изображении небесных сфер на
русской иконе нельзя видеть непосредственную иллю¬
страцию этих концепций, однако, несомненно, в ней в
какой-то степени отразились подобные представления,
во всяком случае они дают возможность искать ключ к
пониманию образной символики этого изображения20.
С композиционной точки зрения икона “Страш¬
ный суд” представляет собой единую плоскость - свое¬
О категории времени в живописи средних веков...
339
образный зрительный аналог вечности, - на которую
спроецированы отдельные моменты истории человече¬
ства. Здесь сведены воедино эпизоды разновременных
ветхозаветных, новозаветных и апокрифических собы¬
тий, в ряде случаев сохранены различные их версии.
Изображение той или иной сюжетной ситуации часто
повторяется, даются разные смысловые и зрительные
ее аспекты.
Рай, например, представлен и как “Небесный
Иерусалим” - город, населенный праведниками; и как
заповедный сад, где восседает Богоматерь, окруженная
ангелами; и как “Лоно авраамово”; и как запечатанные
огненные врата.
В иконе спрессованы все три временных слоя:
прошедшее, настоящее, будущее. Здесь и ожидание со¬
бытия - об этом свидетельствует пустой престол, жду¬
щий судию, и народы, ждущие суда; мотив ожидания
вводит категорию будущего, однако поскольку пред¬
ставлен и самый момент суда, когда Христос отделяет
праведников от грешников, это ожидание, чреватое бу¬
дущим, отодвигается в область прошедшего; одновре¬
менно изображение включает и результат совершивше¬
гося правосудия, когда осужденные уже испытывают
муки, а праведные уже блаженствуют; по отношению к
моменту суда это - изображение будущего.
Композиционно эпизоды расположены таким
образом, что не образуют последовательного простран¬
ственно-временного ряда21; в них нет сюжетного дви¬
жения, а поскольку “мерой движения”, по определе¬
нию некоторых средневековых философов, является
время, в них нет времени. Все, представленное в иконе,
не совершается, но “пребывает”, а “мерой пребывания”
служит вечность22. В вечности все времена и все про¬
странства сосуществуют. Сюжет Страшного суда по
самому смыслу своему представлял прошлое (видение,
бывшее некогда пророку Даниилу) опрокинутым в бу¬
дущее (пророчество, которое должно свершиться) и об¬
ладавшим для зрителя актуальностью настоящего.
Представлен “судный день”, последний день земного
времени, его конец; но эта последняя картина уже скла¬
дывается в ту иерархическую ситуацию, которая долж¬
на выйти за границы времени и начать вневремен¬
ную бесконечность. То, что здесь явлено, будет пребы¬
вать вовеки: праведники - вечно созерцать Богоматерь
340
в райских кущах, Бога на троне, окруженного сонмами
святых, слушать музыку небесных сфер, приводимых
в движение ангелами; осужденные грешники - терпеть
вечные муки в преисподней.
Изображение “Страшного суда” должно было об¬
ладать для средневекового человека повышенной сугге¬
стивностью. Оно было чем-то вроде астрологической
карты, грандиозного гороскопа для всего человечества
и для каждого человека в отдельности; предсказание
неминуемого будущего, в котором всегда наличество¬
вали две альтернативные возможности: каждый стоял
перед необходимостью выбора, не будучи до конца уве¬
ренным ни в правильности своего жизненного хода, ни
в его конечном результате. Именно эта неуверенная уве¬
ренность придавала такую напряженность состоянию
общего ожидания23.
Русская житийная икона - зримое воплощение
этого состояния, она моделирует основную религиозно¬
нравственную позицию человека средневековья: суще¬
ствование в ожидании конца и перед лицом вечности.
Святой представлен в последний, самый важный
момент своего земного пути, когда все дела его как бы
встают перед его мысленным взором. Но эти образы не
относятся к прошлому; совершенные людьми поступки
не остаются позади, но “идут вслед за ними”24. Эпизоды
“жития” утрачивают порядок следования во времени,
рычагом, передвигающим их из различных слоев про¬
шлого в единую вневременную плоскость иконы, стано¬
вится композиция. Сцены “жития” (клейма) расположе¬
ны не построчно, но в виде обрамления, замыкающего
средник. Самая форма обрамления предполагает не по¬
следовательное, но одновременное зрительное восприя¬
тие его - рама не читается, она воспринимается глазом
во всей своей целокупности. Даже в тех случаях, когда в
тексте “жития” события излагаются в хронологической
последовательности, в композиции иконы часто эта по¬
следовательность зрительно не воспринимается.
Больше того, попытки прочитать клейма хро¬
нологически в ряде случаев вызывают затруднения и
требуют тщательного сопоставления изображенных
сюжетов с текстом жития, так как при всей строгой
каноничности средневекового искусства в нем так и не
было выработано единого порядка в расположении
клейм; относительно постоянной была лишь последова¬
О категории времени в живописи средних веков...
341
тельность эпизодов в верхнем и нижнем рядах, правого
и левого ряда, в них часто возникали разночтения.
Характер расположения клейм давал возможность рас¬
сматривать их и по горизонтали и по вертикали. При
этом пространственно-смысловая организация самой
иконной доски подсказывала зрителю традиционные
сопоставления верхнего ряда с нижним, правого столб¬
ца - с левым, сбивая хронологический ряд и создавая
возможность иного, внехронологического восприятия и
толкования.
Древнерусские иконы христологического и бого¬
родичного циклов назывались праздничными. По сред¬
невековой концепции, праздник мыслился как оста¬
новка, пауза в земном, человеческом времени. Прооб¬
раз праздника - это седьмой день творения - отдых от
вечного и неумолимого ускользания времени, постоян¬
ного “перехода из будущего в прошедшее”25, образ оста¬
новленного настоящего, напоминание о “неизменно
пребывающей в настоящем вечности”26. Именно поэто¬
му для христианского праздника важную роль играли
не разрешения, но запреты: нельзя трудиться, нельзя
грешить, словом, нельзя действовать, ибо действовать -
значит двигаться, то есть находиться в потоке времени,
а праздник - выключение из этого потока; это момент,
когда течение времени прерывается и приоткрывается,
просматривается вечность27. Поэтому икона, изобра¬
жая “праздник”, была лишена драматичности дей¬
ствия, она должна была создавать образ вечного созер¬
цания первособытия, когда-то свершившегося и как бы
проецирующегося в настоящее.
Иконы постоянно повторяли одну и ту же компо¬
зиционную схему: это род обрядового знака, назначе¬
ние которого - снять различие между единичностью
когда-то совершившегося и его вечным сущностным
смыслом28. Иконографическая схема выступала здесь в
значении, сходном с тем, какое придавали средневеко¬
вые авторы категории формы. Как форма, “внедряясь”
в материю, приобщала ее к бесконечности, так и иконо-
графическая схема, “внедряясь” в изображение, лиша¬
ла его случайного и переводила в ранг вечного29.
Так и сама икона, со всей драгоценностью и плот¬
ностью обработки ее поверхности, со всей золотой мате¬
риальностью ее овеществленного света, со всей ощути¬
мостью изображенных на ней священных лиц и предме¬
342
тов30, вынесенных на самую ее живописную поверх¬
ность, “внедрялась” в реальное пространство храма, то
самое пространство, в котором находился молящийся и
где должен был исчезнуть разрыв между “сейчас” и
“всегда”, между моментом человеческого времени и
вечностью.
Для средневекового человека время текло на фоне
вечности; однажды сотворенное, оно неизбежно долж¬
но было кончиться, и все его изменения, все события и
поступки людей, которые оно несло в своем потоке, за¬
печатлевались, как бы вписывались в бесконечное и не¬
изменное настоящее вечности. И человек средневеко¬
вья, увлекаемый этим потоком, жил в постоянном
напряженном ожидании двойного конца: его собствен¬
ного времени, отмеренного ему Творцом, и общего кон¬
ца всего человеческого времени31.
Для временной позиции человека Возрождения
характерно повышенное интенсивное переживание не
конца времени, а его начала. Не случайно из искусства
кватроченто почти исчезает тема Страшного суда - одна
из основных в эпоху Средневековья32. Осознание своего
времени как начала, как точки отсчета, с которой начи¬
нается новое, определяет самосознание эпохи во всех
областях духовной деятельности. Наше время, мое вре¬
мя, то настоящее, в котором живет каждый человек
Возрождения, приобретает небывалую значительность.
Если средневековая икона - это разрыв человечес¬
кого времени, это окно в вечность - “праздник”, то ренес¬
сансная картина - это не столько “праздник”, сколько
празднество, зрелище, и в этом смысле она вся в настоя¬
щем; зрелище, которое разворачивается на улице совре¬
менного города, в современном интерьере, на фоне совре¬
менной природы. И даже если архитектурные и пейзаж¬
ные фоны ренессансных картин не всегда портретны,
они очень точно определены во времени - это природа со¬
временной Италии и современная архитектура, - реаль¬
но существующая или предназначенная для осуществле¬
ния, но воспринимаемая как уже сбывшаяся. Еще в
большей степени связывают картину с настоящим изоб¬
ражения реальных лиц, присутствующих среди зрите¬
лей - или даже выступающих в главных ролях.
Но настоящее Возрождения - это гипертрофиро¬
ванное настоящее, которое втягивает в себя и все про¬
шлое, и все будущее. Все прошлое - потому что люди
О категории времени в живописи средних веков...
343
наделены памятью, которая позволяет им сохранять,
носить в себе это прошлое, бесконечно расширяя тем са¬
мым границы данного им настоящего: “Несправедливо
жалуются люди на бег времени, виня его в чрезмерной
быстроте... Ведь хорошая память, которой наделила
нас природа, делает то, что всякая давно минувшая
вещь кажется нам настоящей”33. Память обладает спо¬
собностью хранить и переводить в настоящее не только
события и вещи личного прошлого каждого отдельного
человека; она может сделать его достоянием и коллек¬
тивное прошлое всего человечества - всю историю: “Ис¬
тория в высшей степени необходима не только для того,
чтобы сделать жизнь приятной, но и для того, чтобы
придать ей моральную ценность. Все, что само по себе
смертно, приобщается посредством истории к бессмер¬
тию, все, что отсутствует, становится присутствую¬
щим, старые события молодеют, молодые люди очень
быстро достигают зрелости пожилых. Если человек,
достигший семидесятилетнего возраста, слывет рассу¬
дительным благодаря своей опытности, то насколько
более рассудительным будет тот, чья жизнь продлится
тысячу, три тысячи лет!”34.
Эпоха Возрождения была эпохой рождения исто¬
рического мышления, когда впервые возникло созна¬
ние отчетливой временной и культурной дистанции, от¬
личия прошлого от настоящего; больше того - когда
была сделана попытка развернуть это прошлое в четкой
временной перспективе, расчленить его на периоды:
“наше время”, “темные” средние века и античность.
Вместе с тем пафос эпохи Возрождения заключался
именно в том, чтобы свернуть эту развернутую времен¬
ную перспективу, преодолеть истребительную власть
времени, уничтожить временную дистанцию, через
пропасть “темных” веков перенести античное прошлое
в настоящее, “возродить” его. В памятниках древности
видели материализовавшуюся память земли и истории,
впечатанную в природный и культурный ландшафт на¬
стоящего35.
Это настоящее для человека Возрождения было
насыщено не только прошлым, но и будущим. При всей
склонности людей того времени к созданию проектов -
утопических и не утопических - они никогда не зани¬
мались футурологией. Предсказания будущего, гада¬
ние о том, что совершится через годы, десятки лет,
344
через столетия, - не было в характере человека той по¬
ры. Для этого он был слишком нетерпелив и слишком
поглощен своим настоящим. Утопия Возрождения
обычно не отделена временной дистанцией.
Больше того, страстное желание увидеть проект
уже осуществленным преображает в глазах человека
Возрождения окружающую его действительность, за¬
ставляет желаемое принимать за реальное, проектируе¬
мое будущее - за существующее настоящее. Когда Лео¬
нардо Бруни в похвальном слове Флоренции рисует ее
как город, в котором “нет ничего беспорядочного, ниче¬
го неподобающего, неразумного и необоснованного”,
где “каждая вещь имеет свое точно установленное и со¬
ответствующее ей место” и “где строго определены обя¬
занности, законы и порядки”36, - то перед нами идеаль¬
ный образ города желаемого, своеобразная социаль¬
ная утопия, спроецированная на современную автору
Флоренцию, очень далекую от этой идеальной схемы;
город-государство будущего, словно насильственно
перенесенный в настоящее. Архитектурной утопией,
перенесенной на улицы современной Флоренции, вы¬
глядит и описание воображаемого (желаемого) города в
трактате Альберти.
Эта способность человека Возрождения восприни¬
мать будущее как настоящее обладает огромной силой
внушения. Когда Манетти восторженно, со всеми по¬
дробностями описывает проект перестройки Ватикана
и собора Св. Петра, созданный по заказу папы, он видит
все с такой отчетливостью, что это описание, сделанное
к тому же в прошедшем времени, способно ввести в за¬
блуждение читателя, заставить его поверить в то, что и
собор, и весь ватиканский комплекс уже существуют.
Нетерпеливое желание сделать будущее настоя¬
щим, увидеть его сейчас, собственными глазами руко¬
водило людьми Возрождения и тогда, когда они закры¬
вали фасады старых средневековых зданий времен¬
ными щитами, изображавшими новую, ренессансную
архитектуру; и тогда, когда они изображали эту новую,
еще не созданную архитектуру в своих картинах и фре¬
сках; и даже тогда, когда они рассказывали о себе в
своих произведениях - литературных, пластических и
живописных; их самовосприятие всегда было окраше¬
но этим желаемым, воображаемым и во многом так и не
осуществившимся будущим.
О категории времени в живописи средних веков...
345
Ренессансное ощущение времени спрессовывало в
единый, трудно расчлененный образ все три временных
слоя; мечтая о будущем, уже осуществленном в настоя¬
щем, люди Возрождения видели его в образах антично¬
го прошлого. И именно эта временная наполненность
настоящего придавала ему черты вечности. Живя в на¬
стоящем, остро переживая его новизну - человек Воз¬
рождения уже здесь, на земле, чувствовал себя приоб¬
щенным к вечности. Не случайно авторы Возрождения
столь часто при описании архитектуры, как реальной,
так и воображаемой, пользуются сравнением ее с раем:
“На этом обширном участке было сооружено много пре¬
красных и разнообразных жилых зданий и построек...
книзу от дворца находился большой прекраснейший
сад, изобилующий всеми видами трав, плодов и живы¬
ми освежающими ручьями, которые были проведены
в этот сад с вершины горы по подземным ходам для его
орошения и для услады, потребовав немало средств,
но еще больше старания. В этом светлом раю стояли
три прекрасных... здания”, - пишет Манетти о непо¬
строенном ватиканском комплексе38. И несколько
дальше: “...по справедливости, этот дворец мог бы по¬
казаться... неким светозарным раем”39. Со второй по¬
ловины XV века было принято некоторые помещения в
замках, дворцах и виллах называть “раем” (II paradiso).
Рай небесный в свою очередь рисовался ренес¬
сансному воображению в виде вполне современного
сада наслаждений, полного реальных земных радостей;
и, конечно, не случайно искусство того времени так лю¬
било изображать фонтан молодости, дарующий вечное
земное существование, - никогда не кончающееся
настоящее. И столь же не случаен миф о золотом веке
Сатурна и Августа, созданный в годы правления Кози-
мо и Лоренцо во Флоренции, миф о золотом веке, ко¬
торый уже наступил. “Этот век - золотой век... И все
это во Флоренции” (Марсилио Фичино)40. Еще одна
великолепная утопия Возрождения, спроецированная
на столь непохожее на нее настоящее медической Фло¬
ренции41.
Человек Возрождения овладевал временем так же,
как он овладевал пространством42, и так же, как про¬
странство было понято, измерено, расчленено, выстрое¬
но в соответствии с точкой зрения, находящейся в гла¬
зу человека, так и все мировое время было разделено
346
на периоды, расположено в перспективе и сведено, как
в единой точке схода, в сознании человека, в его памя¬
ти. По мысли Марсилио Фичино, разумная челове¬
ческая душа - это то место, где конечное встречается с
бесконечным, время - с вечностью: “Все, что находится
выше разумной человеческой души, принадлежит веч¬
ности, все, что ниже - обречено времени; и только
разумная человеческая душа объединяет в себе веч¬
ность и время”43.
Если средневековый человек ощущал себя живу¬
щим во времени, то человек Возрождения носил это
время в себе, воспринимал его как свое собственное вре¬
мя. “Есть три вещи, которые человек может назвать
своей личной собственностью: это душа, тело и... самая
драгоценная вещь... время”, - писал Альберти44. Вре¬
мя - собственность человека, в его памяти - кладовая
времени, где хранится вся история человечества, кото¬
рая становится и его личной историей: “...можно ска¬
зать о человеке, что он прожил столько тысячелетий,
сколько он может охватить благодаря знанию истории”
(Марсилио Фичино)45. Владея временем, человек вла¬
деет прошлым, он присваивает себе это прошлое. Но он
стремится присвоить также и будущее. “...Я родился не
только для живущих, но и для потомства”, - заявляет
Филельфо46. “Человек старается сохранить свое имя в
памяти потомства. Он страдает от того, что не мог быть
прославляемым во все прошлые времена, а в будущие
не может иметь почести от всех народов...”, - пишет
Марсилио Фичино47.
Поразительна та не знающая колебаний настой¬
чивость, с какой люди Возрождения стремились захва¬
тить, каждый для себя, будущее; любой ценой сохра¬
ниться в памяти потомков, воздвигнуть памятник себе,
своим близким, своему роду. Памятник архитектур¬
ный - как знаменитый Темпио Малатестиано, в кото¬
ром Малатеста заранее приготовил место для себя и
своей возлюбленной и где они должны были покоиться,
окруженные саркофагами знаменитых философов и
ученых: “Сиджизмондо Малатеста, сын Пандольфо,
победоносец... в ознаменование подвигов, доблестно им
совершенных, посвятил сей храм бессмертному богу
и городу... и воздвиг его, оставив потомству благород¬
ный и священный памятник”48. Таким же архитектур¬
ным памятником себе и своей супруге задумал Сфорца
О категории времени в живописи средних веков...
347
церковь Санта Мария делле Грацие в Милане49. Мемо¬
риальными памятниками были по существу большин¬
ство семейных капелл в храмах; считают, что Андреа
Мантенья сам работал над проектом своей собственной
памятной капеллы в церкви Сайт Андреа в Мантуе50.
Создавали памятники скульптурные, памятники живо¬
писные, изображали самих себя на стенах собственного
жилища, помещали свои портреты в исторические, ми¬
фологические композиции - любой ценой стремились
вписать себя в будущее, в память последующих поколе¬
ний, в вечность, ибо человек “старается... существовать
всегда, как Бог” (Марсилио Фичино)51.
Гиберти в “Комментариях” подробно перечисляет
выполненные им произведения и заканчивает это пере¬
числение словами: “Лишь немного значительных ве¬
щей, сделанных на нашей земле, не были нарисованы
или установлены моей рукой”52. Франческо ди Джорд¬
жио заявлял, что строит не только для своих совре¬
менников, но и для потомства53. Гирландайо, по свиде¬
тельству Вазари, мечтал покрыть своей живописью все
стены Флоренции. Пала Строцци писал: “Красноречиво
прославляя славные дела людей, делают бессмертными
тех, кто по природе смертен”54. Поистине “всякий отпе¬
чаток хочет вечности!” (Леонардо)55.
Человек средневековья ощущал себя находящим¬
ся внутри времени, в самом его потоке, вместе с этим
потоком он несся навстречу вечности; и поскольку все
его внимание, все силы его души, находившейся в со¬
стоянии постоянного напряженного ожидания, были
прикованы к этой вечности, ему чуждо было драмати¬
ческое переживание хода времени.
“Он стал беспечален”, “преставился”, - говорится
в средневековых текстах о кончине праведника. Автор
эпохи Возрождения сообщает о смерти своего героя па¬
тетическим возгласом: “И настиг его злой рок!”
Ощутив время как свою личную собственность,
человек Возрождения не жил во времени, а проживал
время, свое личное, отпущенное ему творцом, время
своей жизни. «Ты выдвигаешь славные и блестящие по¬
нятия - “спасение”, “свобода”, “величие” - и не объяс¬
няешь их смысла для меня после моей смерти. Только
ведь умирая, я не получу обещанного; дадут ли мне то
же самое, чего я лишусь, и оставляет ли что-то себе тот,
кто идет на смерть ... Как лишенному зрения свет пред¬
348
ставляется мраком, так и для умирающего все гаснет
вместе с ним», - пишет Лоренцо Валла56. Рождается
напряженно драматическое ощущение хода времени:
Время все побеждает ... у старости коварные, могу¬
чие орудия нападения ... тела, старея, не могут идти
против природы ... время, непреклонный разоритель
вещей...”, - твердит Альберти57. Поэтому “настоящим
надо пользоваться как настоящим”58. “О время, истре¬
битель вещей и страсть завистливая, ты разрушаешь
все вещи и все вещи пожираешь твердыми зубами го¬
дов, мало-помалу, медленной смертью”, - восклицает
Леонардо59.
Вероятно, именно в этом следует искать главный
аспект искусства Возрождения в его отношении к кате¬
гории времени: “Живопись содержит в себе некую бо¬
жественную силу; она... заставляет мертвых казаться
живыми по прошествии многих веков... Благодаря жи¬
вописи лик умершего живет долгой жизнью” (Альбер¬
ти)60. Главную заслугу живописи видят в том, что она
преодолевает время, сохраняя настоящее для вечности,
противостоит разрушению, смерти. Леонардо упорно
раздумывает над этим качеством живописи. “...Кра¬
соту... [человеческой] гармонии время разрушает в
немногие годы, чего не случается с красотой, изобра¬
женной живописцем, так как время сохраняет ее на¬
долго”61. Он возвращается к этой мысли неоднократно.
“О удивительная наука, - пишет он о живописи, -
ты сохраняешь живыми бренные красоты смертных,
более долговечные [в тебе], чем творения природы, не¬
прерывно изменяющиеся временем, которое доводит их
до неизбежной старости”62. “Как много картин сохра¬
нило изображение божественной красоты, причем вре¬
мя или смерть быстро разрушили ее природный обра¬
зец, и более достойным осталось творение живописца,
чем природы, его наставницы”63.
Живопись, по мысли Леонардо, способна проти¬
востоять времени не только в этом своем мемориаль¬
ном качестве. Живопись - искусство, принципиально
не временное, и именно в этом состоит ее специфика.
Леонардо проводит четкое раличие между поэзией и
музыкой, с одной стороны, и живописью - с другой.
Первые два вида искусства рассчитаны на последова¬
тельное восприятие во времени, живопись же должна
открываться взгляду смотрящего вся одновременно.
О категории времени в живописи средних веков...
349
“Одновременность, в которой замыкается созерцание
живописной красоты”64, фигурирует у него как одно из
важнейших качеств новой современной живописи, и он
полемизирует с художниками архаического толка, рас¬
полагавшими росписи в несколько ярусов, чтобы раз¬
вернуть перед зрителем последовательное повество¬
вание; подобные мастера, по выражению Леонардо,
“помещали перед глазами то, что следовало бы помес¬
тить перед ухом”65.
Величайшее преимущество живописи перед дру¬
гими видами искусства именно в том и состоит, утверж¬
дает Леонардо, что она противостоит времени своим
вечным настоящим: “Живопись превосходит музыку и
господствует над нею, ибо она не умирает непосред¬
ственно после своего рождения, как несчастная музы¬
ка, наоборот, она остается в бытии...”66. В музыке и
поэзии, погруженных во время, “одна часть родится от
другой последовательно, и последующая не рождается,
если предыдущая не умирает”67. В живописи же все
части, “составляющие божественные красоты”, “со¬
бранные одновременно все вместе, доставляют... на¬
слаждение своими божественными пропорциями...”68,
в живописи красота “не вынуждена рождаться и уми¬
рать”, “изменяться, давая образ другому”69.
Поэтому картину Возрождения правомочно рас¬
сматривать не с точки зрения способов передачи в ней
временного развития, а, наоборот, с точки зрения пре¬
одоления его; картина Возрождения не разворачивает,
а свертывает временную перспективу, спрессовывает в
“одновременность, в которой замыкается созерцание
живописной красоты”, всю сюжетные прежде и после.
В картине Возрождения нет четвертого измерения, раз¬
новременные эпизоды вписываются в трехмерную
структуру настоящего.
Во всяком случае, таково основное направление
поисков художников Раннего Возрождения70. В “Чуде
с динарием” Мазаччо изображены три эпизода единой
истории: разговор Христа со сборщиком податей и Пет¬
ром, ловля Петром рыбы и вручение Петром дина¬
рия сборщику. Однако композиционно эта многовре-
менность зашифрована, поскольку все три момента
(настоящее, прошедшее и будущее) не образуют после¬
довательного временного ряда. Первый помещен в цен¬
тре, второй - слева, третий - справа. При этом второй
350
эпизод - ловля Петром рыбы - отодвинут в глубину, так
что фигура Петра, представленная в сильном сокраще¬
нии, зрительно оказывается вынесенной за пределы
основного действия, воспринимается как сюжетно вто¬
ростепенная, это как бы один из тех случайных свиде¬
телей, которых мастера кватроченто имели обыкно¬
вение помещать на втором плане своих перспективно
построенных “историй”. Благодаря такому компози¬
ционному пропуску время изображения оказывается
свернутым, остаются только первый и последний мо¬
менты, сливающиеся в одну многофигурную сцену.
Сюжетно все три эпизода разыгрываются в разное вре¬
мя и в разных местах, композиционно они расположе¬
ны на одной сценической площадке, существуют в еди¬
ной пейзажной среде, а главное, соотношения их в
трехмерном пространстве изображения настолько ясны
и определенны, что не допускают разновременного их
восприятия.
Пространственно-временной монтаж сохраняется
в итальянской живописи вплоть до конца XV века.
В картине Джованни Беллини “Озерная мадонна” пер¬
сонажи существуют в полной взаимной изоляции, они
не только не общаются между собой, но даже не заме¬
чают друг друга: они из разных легенд, из разных вре¬
мен. Это один из предельных случаев в живописи кват¬
роченто, когда некоммуникабельность персонажей
приводит к разрыву сюжетно-смысловых связей, за¬
трудняет и даже делает невозможной дешифровку изо¬
бражения. До сих пор не удалось разгадать сюжет кар¬
тины Беллини, хотя почти все действующие лица легко
идентифицируются. Не менее загадочно знаменитое
“Бичевание Христа” Пьеро делла Франческа, в котором
пространственно-временной разрыв между правой и ле¬
вой группами еще очевиднее.
Однако разновременность кватрочентистской
картины существует лишь на сюжетном уровне; компо¬
зиционно она уже с самого начала XV столетия строит¬
ся по формуле пространственно-временного единства.
Эту композиционную форму можно рассматривать как
еще одну категорию будущего, спроецированную в на¬
стоящее итальянской живописи XV века.
О категории времени в живописи средних веков...
351
Примечания
1 Представления о времени в средневековой Европе подроб¬
но рассматриваются в кн.: Гуревич А.Я. Категории средне¬
вековой культуры. М., 1972. Там же приведена исчерпы¬
вающая библиография по данному вопросу.
2 Аврелий Августин. Исповедь. Творения Блаженного Ав¬
густина. Киев, 1914. Ч. 1. С. 8-9.
3 Аврелий Августин (цит. по: Антология мировой филосо¬
фии. М., 1969. Т. 1. С. 589). В конце XV века новгородский
архиепископ Геннадий писал: “Енох праведный писал о
веце, глаголя сице: преже даже вся не бышя, постави бог
века тварного и потом сотвори всю тварь видимую и неви¬
димую, и по всем тем съезда человека в образ свой, и тогда
раздели бог век человека ради на времена и лета, на меся¬
цы и на дни, и на часы, и да разумеет человек времен пере¬
мену и чтет своея жизни конец” (цит. по: Райнов Т. Наука
в России X-XVII веков. М.; Л., 1940. С. 554).
4 Василий Великий. Беседы на Шестоднев, 1. Творения. М.,
1845. Т. V, ч. 1.С. 6.
5 Лотман Ю.М. О понятии географического пространства
в русских средневековых текстах // Труды по знаковым
системам, 11. Изд-во Тартуского гос. ун-та, 1965; Лиха¬
чев Д.С. Поэтика древнеруской литературы. Л., 1967.
С. 281, 357.
6 Аврелий Августин (цит. по: Антология мировой филосо¬
фии. Т. 1. С. 587). В приведенном отрывке сформулирова¬
на мысль не самого Августина, а его воображаемого оппо¬
нента, однако в данном контексте это не имеет значе¬
ния. Интересен в этой связи факт, приведенный в книге
А.Я. Гуревича (Категории средневековой культуры, с. 288 -
на некоторых средневековых картах наряду с реальной
географией изображалась география легендарная: рай,
библейские персонажи, конец света.
7 В некоторых иллюстрациях к “Христанской топографии”
Козьмы Индикоплова восток изображался налево (от смо¬
трящего), а запад, соответственно, направо. Здесь счет
велся, как и в большинстве икон, от Господа Бога, кото¬
рый мысленно помещался в центре мира; восток, таким
образом, оказывался по Его правую руку, а запад - по ле¬
вую.
8 Eliade М. Prestiges du Myth cosmogonique // Diogene.
1958. № 23; Idem. Traite d’histoire des religions. P., 1964.
Гл. X. L’Espace sacr£: Temple, Palais // Centre du Monde.
352
9 См.: Зубов В.П. Архитектурные теории и трактовка архи¬
тектуры в средние века на Западе. В работе Зубова подроб¬
но рассматривается значение терминов “схема” и “схема¬
тизировать”. Автор замечает, что в средневековых “Жи¬
тиях” часто “схема” храма внушается свыше, является во
сне или в видении (цит. по рукописи).
10 Наблюдение В.П. Зубова (там же).
12 Там же.
13 Иоанн Богослов, Откровение (21, 1).
14 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяков¬
ская галерея: Каталог древнерусской живописи, 1. М.,
1063. С. 121-124 (в статье приведена подробная библио¬
графия об иконографии Страшного суда в древнерусской
живописи). См. также: Brank В, Weltgericht // Lexicon
der christlichen Ikonographie. Freiburg, 1971. 4.
15 Аврелий Августин (цит. по: Памятники византийской ли¬
тературы IV-IX веков. М., 1968. С. 590).
16 Иоанн Богослов, Откровение (6, 14).
17 Аврелий Августин (цит. по: Памятники византийской ли¬
тературы IV-IX веков. С. 586). Ср. в “Книге пророка Дани¬
ила” (8): “Вот я открываю тебе, что будет в последние дни
гнева; ибо оно относится к концу определенного времени”.
Аналогичное место есть в “Откровении” Иоанна Богосло¬
ва: “И ангел, которого я видел стоящим на море и на зем¬
ле, поднял руку свою, и клялся... что времени больше не
будет”. Оба эти сочинения, как известно, послужили ис¬
точниками иконографии Страшного суда.
18 Григорий Нисский (цит. по: Памятники византийской ли¬
тературы IV-IX веков. С. 86).
19 Жак Буридан (цит. по: Зубов В,П, Аристотель. С. 269).
20 Представление о том, что ангелы движут небесные свети¬
ла, или круги неба, на которых эти светила укреплены,
проникло на Русь вместе с переводами “Книги святых
тайн” Еноха, “Христианской топографии” Козьмы Инди-
коплова, “Шестоднева” Иоанна Экзарха Болгарского и со¬
чинений Иоанна Дамаскина. Эти переводы были известны
ранее XIII века, а в отдельных извлечениях входили в со¬
став “Толковой Палеи”, “Исборника Святослава” и других
рукописных сборников (Райнов Т. Указ. соч.). И. Порфи-
ридов (Порфиридов И. Апокрифические сказания о ветхо¬
заветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 172) приво¬
дит без ссылки на источник следующие любопытные све¬
дения: некий игумен XVII века на вопрос, как светила не¬
бесные движутся и обращаются, отвечал: “По повелению
О категории времени в живописи средних веков,,.
353
Божию ангелы служат, тварь водя”. Сохранились миниа¬
тюры XV и XVI веков с изображением ангелов, движущих
звезды (см.: Ретпковская Л.С, Вселенная в искусстве Древ¬
ней Руси // Труды государственного исторического музея.
М., 1961. Вып. XXXIII. С. 15).
21 О способах передачи времени в средневековой живописи
см.: Frey D. Das Zeitproblem in der Bildkunst // Studium
Generale. Berlin, 1955; Michel P. La figuration du temps
dans la peinture m6di£vale // Le symbole. 1959. № 29; Вип¬
пер Б.Р. Проблема времени в изобразительном искусстве
// 50 лет ГМИИ им. Пушкина. М., 1962; Жегин Л.Ф. Про¬
странственно-временное единство живописного произве¬
дения // Труды по знаковым системам, 11. Изд-во Тартус¬
кого гос. ун-та, 1965); Он же. Материальность, пространст¬
во и время в древней живописи // Язык живописного про¬
изведения. М., 1970.
22 “...Различие между вечностью и временем... в том... что
вечность есть мера пребывания, а время - мера движе¬
ния” - Фома Аквинский (цит. по: Антология мировой фи¬
лософии. М., 1969. Т. 1. С. 833).
23 С.С. Аверинцев в статье “На перекрестке литературных
традиций” (Вопросы литературы. 1973. № 2. С. 172-173)
говорит о важном значении для духовной ориентации
средневекового человека категорий страха и надежды. Но
страх и надежда неразрывно связаны с состоянием ожида¬
ния.
24 “...блаженны мертвые, умирающие в Господе... они успо¬
коятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними”
(Иоанн Богослов. Откровение, 14, 13).
25 Аврелий Августин (цит. по: Антология мировой филосо¬
фии. Т. 1. С. 587).
26 Там же. С. 586.
27 Концепция средневекового праздника изложена в иссле¬
довании М.М. Бахтина (Бахтин М.М. Творчество Фран¬
суа Рабле. М., 1965). У Бахтина праздник рассматривает¬
ся на самом глубинном уровне как разрыв христианской
цивилизации, как открытый клапан, через который про¬
рывается клокочущая внутри этой цивилизации язычес¬
кая стихия. Отсюда главное в таком празднике - разреше¬
ние всех запретов как гражданских, так и религиозных.
Однако наряду с этой языческой концепцией, сохраняв¬
шейся в средние века, существовала и другая, христиан¬
ская, поддерживаемая церковью. Они находились в слож¬
ном противоречивом соотношении друг с другом; это про-
354
являлось как в сознании средневекового человека, так и в
реальной обрядовой практике, светской и церковной. О
христианской концепции праздника см.: Michel Р. Ор.
cit.; Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 283-287.
28 Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля
// Вопросы эстетики. 1964. Вып. 6; Каждая А.П. Визан¬
тийская культура (Х-ХИ века); М., 1968. С. 166, 183;
Бычков В. Эстетические аспекты иконографического ка¬
нона в восточнохристианском искусстве // Вопросы тео¬
рии и истории эстетики. Изд-во Московского ун-та, 1972.
Вып. 7.
29 “...материя получает от ограничивающей ее формы устрое¬
ние; поэтому та относительная бесконечность, которая
приписывается материи, имеет характер несовершенства.
Это материя, как бы лишенная формы. Но форма не по¬
лучает от материи устроения, а скорее сужается в своем
объеме; отсюда та относительная бесконечность, которая
уделена форме, не замкнувшейся в материю, имеет харак¬
тер совершенства” - Фома Аквинский (цит. по: Антология
мировой философии. Т. 1. С. 832).
30 Жегин Л.Ф. Пространственно-временное единство живо¬
писного произведения // Симпозиум по структурному
изучению знаковых систем. М., 1962. С. 132-133.
31 Красноречивым свидетельством этого состояния общей
готовности может служить то место в “Толковой Палее”,
где говорится о видении Левгия. Дается описание четы¬
рех небес. “Второе имать огнь, снег, лед готов в день по¬
веления Господня о праведном суде Божий. На томь суть
все дуси пущаемы на месть человеком. На третьем силы
суть пълки устремления в день Суда творити отмще¬
ние духом лестным вражием” (цит. по: Райнов Т. Указ,
соч. С. 18).
32 Одной из попыток создать монументальную композицию с
изображением Страшного суда была роспись на входной
стене в Капелле дель Арена в Падуе, сделанная Джотто,
где художник, без особого успеха, попытался воспроизве¬
сти традиционную средневековую иконографию. Более
удачной можно считать роспись на ту же тему в Кампосан-
то в Пизе, еще вполне средневековую и по смыслу, и по
композиции. В начале XV века Страшный суд изображал
Анжелико, однако в его истолковании эта тема приобрела
совсем иной смысл и потеряла значение “экрана вечнос¬
ти”. “Страшный суд” Анжелико производит впечатление
праздничного зрелища, где Христос и апостолы, сидящие
О категории времени в живописи средних веков...
355
в верхнем ярусе, словно с балкона или помоста, взирают
вниз на праздничную толпу, которая, в свою очередь, с
любопытством рассматривает их снизу. К тому же произ¬
ведение Анжелико невелико по размерам и уже в силу это¬
го не обладает монументальным пафосом средневековых
икон и фресок. “Страшный суд” Синьорелли в Орвьетто да¬
тируется первыми годами XVI века и по своему содержа¬
нию принадлежит столетию, когда эта тема снова начи¬
нает играть важную роль в искусстве.
33 Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1962. С. 194.
34 Марсилио Фичино. Письмо к Джакомо Браччиолини (цит.
по: Panofsky Е. L’CEuvre d’art et ses significations. P., 1969.
P. 2).
35 Cp. напряженный интерес Леонардо к геологии и палеон¬
тологии, к различного рода окаменелостям и скелетам
древних животных, которые для него были тоже воплоще¬
нием материализовавшейся памяти земли. “О время, быс¬
трый истребитель возникших вещей! Сколько королей,
сколько народов ты уничтожило, и сколько государствен¬
ных переворотов и различных событий произошло с тех
пор, как чудесная форма этой рыбы здесь умерла в пещер¬
ных и извилистых недрах!” (цит. по: Зубов В.П. Леонардо
да Винчи. М.; Л., 1962. С. 275).
36 Леонардо Бруни (цит. по: Bonicatti М. Studi sull’umanesi-
mo. Secoli XIV-XVI. Firenze, 1969. P. 3). О характере уто¬
пии Леонардо Бруни см. в статье: Garin Е. La cit6 id6ale de
la Renaissance italienne // Les Utopies к la Renaissance. P.,
1963. P. 22-23.
37 Джаноццо Манетти. Жизнеописание папы Николая V
(в изд.: Альберти. Десять книг о зодчестве, 11: Материалы
и комментарии. М., 1937. С. 729-738). Автор переходит с
будущего времени на прошедшее, начиная со с. 733 (см.
примеч. 1 на этой странице).
38 Там же. С. 733.
39 Там же. С. 734.
40 Марсилио Фичино (цит. по: Монье Ф. Опыт литератур¬
ной истории Италии XV века. Кватроченто. СПб., 1904.
С. 288).
41 ChastelA. Vasari et la L^gende Medic6enne // Studi vasari-
ani. Atti del Convengo Internazionali per il IV Centenario
della prima edizione delle Vite der Vasari. Firenze, 1952;
Francastel P. Un mythe po6tique et social du Quottrocento.
La Primavera // La r€aht€ figurative. P., 1965; Gombrich E.
Renaissance and Golden Age // Norm and Form. L., 1966;
356
Delumeau J. La civilization de la Renaissance. P., 1967.
P. 348-349.
42 Делюмо Ж. Развитие организационного сознания и мето¬
дической мысли в западноевропейском мышлении эпохи
Возрождения (XIII международный конгресс историчес¬
ких наук. М., 16-23 августа 1970 года).
43 Марсилио Фичино (цит. по: Delumeau J. Op. cit. Р. 455).
Ср. аналогичное утверждение Пико делла Мирандола:
“Человек есть... промежуток между неизменной вечнос¬
тью и текущим временем” (цит. по: Памятники мировой
эстетической мысли. Т. 1. С. 506).
44 Alberti L.B. Opere volgari. Bari, 1969. Vol. I. P. 168-170
(Della faviglia).
45 Марсилио Фичино (цит. no: Panofsky Е. Op. cit. P. 52).
46 Panofsky E. Op. cit. P. 52.
47 Марсилио Фичино (цит. по: Монье Ф. Указ. соч. С. 37).
48 Надпись в храме Сан Франческо в Римини (цит. по: Габри¬
чевский А.Г. Альберти-архитектор // Альберти. Десять
книг о зодчестве. 11: Материалы и комментарии. М., 1937.
С. 192).
49 Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись.
Раннее Возрождение. М., 1970. С. 191-192. См. также
примеч. 153 на с. 242.
50 Cipriani R. Tutta la pittura de Mantegna. Milano, 1956.
P. 83.
51 Марсилио Фичино. Указ. соч. С. 38.
52 Гиберти. Комментарии. М., 1938. С. 36.
53 “Строят не только для пользы, но и для прославления че¬
ловека, не только для нас, но и для наших потомков”
(цит. по: Simoncini G. Gli architetti nella cultura del
Rinascimento. Bologna, 1967. P. 130).
54 Цит. по: Монье Ф. Указ. соч. С. 121.
55 Леонардо да Винчи. Избранное. С. 203.
56 Лоренцо Валла (цит. по: Антология мировой философии.
1970. Т. 11. С. 81).
57 Альберти. Десять книг о зодчестве, 1. М., 1935. С. 340.
58 Слова Альберти, приведенные в его анонимной биогра¬
фии // Там же. С. XXVII).
59 Леонардо да Винчи. Избранное. С. 193.
60 Альберти. Три книги о живописи // Альберти. Десять
книг о зодчестве, 11. С. 39).
61 Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живопис¬
ца и скульптора флорентийского. М., 1934.
62 Там же. С. 78.
О категории времени в живописи средних веков...
357
63 Там же.
64 Там же. С. 72.
65 Там же.
66 Там же. С. 78.
67 Там же.
68 Там же. С. 76.
69 Там же. С. 78. Мысль о том, что живопись не должна изо¬
бражать изменений во времени, до Леонардо была сформу¬
лирована Альберти в его Трактате о живописи, правда, в
гораздо более лаконичной форме: “Тела двигаются по-раз¬
ному: вырастая и убывая, хирея и здоровея и, наконец, с
места на место. Но мы, живописцы... будем касаться толь¬
ко движений с места на место” (Альберти. Три книги о
живописи. С. 51).
70 О способах передачи времени в живописи Возрождения
см.: Frey D. Das Zeitproblem in der Bildkunst // Studium
Generale. Berlin, 1955; Виппер Б.Р. Указ, соч.; Franca-
stel P. La figure et le lieu. P., 1967. Ch. Ill: Le milieu visuel
(см. особенное. 155-157).
Тема
природы
в итальянской
живописи
кватроченто
Преобразование “мира внешне¬
го” под воздействием некоторой
силы, некоторой энергии, прони¬
кающей в этот мир свыше, со¬
ставляет главную внутреннюю
тему любого произведения сред¬
невековой живописи - будь то
“Апокалипсис”, где представлен
момент, когда раздается труб¬
ный звук - и мгновенно все ме¬
няется: является “другая земля”
и “другое небо”; или “Благове¬
щение”, “Рождество”, “Преобра¬
жение” - где мотив этот в самом
сюжете менее выявлен, но состав¬
ляет внутреннюю мету, сокро¬
венный смысл события. В италь¬
янской живописи Возрождение
начинается с того, что “мир
внешний” теряет свою способ¬
ность реагировать на подаваемые
с небес сигналы.
Во фреске Джотто “Жерт¬
воприношение Иоакима” (Ка¬
пелла дель Арена) “глас божий”,
изображенный, согласно средне¬
вековой иконографической тра¬
диции, в виде благословляющей
десницы, словно не доходит до
земли, природа стабилизирует¬
ся, земля затвердевает. Джотто
всячески подчеркивает, даже
утрирует каменную материаль¬
ность, устойчивость и неподвиж¬
ность горок, в твердости которых
словно стараются убедиться его
персонажи, касаясь их руками,
опираясь о них коленями. Мате¬
рия “есть вещь нематериальная,
ибо она скрыта от чувственного
восприятия и доступна только
мысли”, - писал в XI веке Михаил
Пселл1. У Джотто материя впол¬
не материальна. Пейзаж пред-
355
ставляет собой каменные платформы, почти лишенные
растительности, на которых устойчиво располагаются
человеческие фигуры.
Земной мир средневекового человека не имел чет¬
ких пространственных параметров. И не только пото¬
му, что он был раскрыт в пространственную неизме¬
римость небес, - средневековый мир был неизмерим
в каких-либо фиксированных мерах в силу отсутствия
в нем стабильности. Как можно измерить расстояние от
одной горы до другой, когда сами горы могут быть сдви¬
нуты со своих мест не только по слову Господа Бога, но
и по молитве смертного - вера двигает горами, обна¬
жает дно морское, поворачивает вспять течение рек.
В итальянской живописи XIV века земля стано¬
вится тесной именно потому, что она теряет способ¬
ность раздаваться, менять расстояния. Там, где средне¬
вековому человеку достаточно было усилием веры раз¬
двинуть горы, человеку раннего Возрождения прихо¬
дится протискиваться в расщелины между каменными
скалами или тесниться на узкой площадке; размеры
фиксируются, расстояния уменьшаются.
В средневековой живописи пространство легко
развивалось вверх. Земля словно притягивалась к небу;
холмы, горки росли, громоздились, образуя все новые
пространственные зоны для размещения деревьев, зда¬
ний, человеческих фигур. Пространство в средневеко¬
вой живописи было чрезвычайно вместительным, хотя
и не обладало трехмерностью.
У художников треченто все предметы, все фигу¬
ры оседают вниз, оказываются сжатыми, спрессован¬
ными в земной зоне, которая становится тесной, пере¬
населенной.
В следующем, XV столетии эта нижняя зона начи¬
нает раздвигаться, растягиваться в глубину, отвоевы¬
вая у плоскости новое земное пространство - простран¬
ство третьего измерения.
Однако на протяжении всего XV века это новое
пространство трактовалось не как актуальная среда
обитания, но как противопоставленное этой среде, рас¬
положенной на переднем плане, потенциальное про¬
странство, как своеобразная визуальная модель новой
пространственной среды.
Пятнадцатый век увлекался моделированием. Мо¬
дель давала возможность опробовать новую структуру,
360
приспособить ее, освоить и в случае необходимости вне¬
сти изменения, ибо человеку-творцу, в отличие от бо¬
жественного промысла, свойственно экспериментиро¬
вать, ошибаться, исправлять ошибки. “При изготовле¬
нии моделей представляется прекрасный случай видеть
и обсудить положение местности... можно беспрепят¬
ственно добавлять, убавлять, менять, обновлять и вовсе
переиначивать, чтобы все было правильным и приемле¬
мым”, - писал Альберти2. Так называемые “демонстра¬
ции”, которые Альберти устраивал “ради исследо¬
вания”, представляли собой визуальные модели при¬
родного пространства: “...через крошечное отверстие в
небольшом ящике можно было видеть обширные облас¬
ти, пространный морской залив, а на заднем плане -
такие отдаленные земли, что едва можно было рассмот¬
реть...” Аналогичные демонстрации устраивали, по
свидетельству современников, Уччелло и другие масте¬
ра XV века. В сущности, все живописцы кватроченто
занимались такого рода моделированием, воссоздавая
на далевых планах своих картин и фресок “искусствен¬
ную громаду мира” (Альберти).
Это смоделированное новое пространство третьего
измерения чрезвычайно просторно, “необъятно”3, оно
тянется до самого горизонта, однако изображенные на
картинах персонажи по-прежнему теснятся на неширо¬
кой площадке первого плана. И если живописные ком¬
позиции XV века, как правило, не производят впечат¬
ления перенаселенных, то лишь за счет уменьшения
числа действующих лиц.
Картину кватроченко сами теоретики того време¬
ни сравнивали с видом в окне. Эта формула, предло¬
женная Альберти, очень точно выражает основной
структурный принцип картины кватроченто, которая,
вне зависимости от сюжета и композиционного реше¬
ния, четко делится на две зоны: близкое, находящееся
здесь (по эту сторону окна) - и далекое, находящееся
там (по ту сторону окна)4. Для первого плана дистан¬
ции не существует, он предельно приближен к зрителю;
второй план представляет собой вид на - не только для
зрителя, но и для персонажей на первом плане, созер¬
цающих или, во всяком случае, могущих созерцать
этот вид.
С особой наглядностью формула Альберти реали¬
зована в тех случаях, когда в картине изображены окно
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 361
или его аналоги: дверной проем, арка, лоджия; при
этом интерьер или некоторое замкнутое пространство
переднего плана противопоставлено находящемуся за
его пределами, незамкнутому наружному пространст¬
ву. Эта формула сохраняется и тогда, когда на переднем
плане изображены городская площадь, улица или про¬
сто вымостка. При таком решении пространственный
монтаж получает дополнительный смысловой аспект,
важный для культурной ситуации кватроченто: город
противопоставляется природному окружению не-горо-
да; создается зримая антитеза: citta - е contado5.
Но даже в тех случаях, когда в картине не остает¬
ся и намека на архитектурное обрамление, в ней сохра¬
няется композиционная память о проеме, о смотровом
отверстии, о преграде, которая невидимым, но ясно
ощутимым барьером отделяет пространство обитае¬
мое - от пространства созерцаемого; зону, откуда смот¬
рят, - от зоны, куда смотрят.
Разъятость двух пространств, их композицион¬
ная сопоставленность выражает основной структур¬
ный принцип картины кватроченто. Знаменательно,
что именно природа оказалась вынесенной в глубину
третьего измерения и тем самым отстраненной, отторг¬
нутой от жизненного пространства человека. В искус¬
стве средневековья человек существовал в природе и
вместе со всей природой, со всем миром земным был
противопоставлен миру внеземному, небесному. В ис¬
кусстве Раннего Возрождения антитеза сохраняется, но
меняет свой характер. Человек существует в замкну¬
том, архитектонически устроенном мире, представляю¬
щем собой некое “hortus conclusus”, безопасное земное
пространство, выделенное из необъятного и неоформ¬
ленного земного же пространства посторонней ему,
им не освоенной, не подчиненной естественной приро¬
ды. Природы, отодвинутой на достаточную дистанцию,
поскольку при более тесном контакте она оказывается
чреватой неудобствами, неприятностями и даже опас¬
ностями. Горы “вблизи, нависая над головой, рождают
ночной иней и очень холодные тени... отражая солнеч¬
ные лучи, увеличивают количество паров... делают хо¬
лодными предрассветные часы... Реки и озера неудоб¬
ны, когда они слишком близки... море, открытое с юга,
приносит жар, с востока - сырость, простирающееся
к западу - туман, к северу - холод”, - пишет Альберти.
362
Естественная природа может “повредить благополучию
и благосостоянию людей”6, ни одной местности “не сле¬
дует доверяться сразу”7.
В аллегорической картине Джованни Беллини,
которую иногда называют “Озерная мадонна”8, на
переднем плане изображена мраморная терраса - созда¬
ние рук человеческих, где все устроено по законам сим¬
метрии, где господствуют правильные прямые линии и
плоскости, где вместо тропинок - выложенные плита¬
ми дорожки и апельсиновое дерево в центре растет в
большой красивой вазе - образ природы - “улучшен¬
ной”, “доведенной до совершенства”, “благодаря вы¬
дающейся... остроте человеческой мысли”9. На втором
плане - природа естественная, не “улучшенная”, при¬
рода, которой, согласно Альберти, не следует доверять¬
ся. Между ними рубеж - мраморная балюстрада. Ком¬
позиционная и смысловая конфронтация усиливается
тем, что эти зоны разделены водой. Река отделяет и
одновременно отдаляет берега. Мотив воды как грани¬
цы двух миров - “глубокие волны Леты или воды стик-
совы”10 - мотив, игравший важную роль в античной и
средневековой мифологии, не утратил символической
окраски и в годы Раннего Возрождения11.
Дверь в балюстраде, помимо возможного симво¬
лического значения, имеет также образный смысл: она
открыта, переступить порог можно, но человек кватро¬
ченто предпочитал оставаться по эту сторону, в ограж¬
денном, защищенном пространстве; он не доверял миру
природы, где, согласно Альберти, господствует “пред¬
начертанный закон” постоянного движения и измене¬
ния. “Посмотри на вечно меняющиеся небеса... Посмо¬
три на землю, которая то одета цветами, то отягощена
плодами и фруктами, то голая, лишенная листвы дере¬
вьев, то убогая и мрачная подо льдом и снегом, покры¬
вающим склоны и вершины гор... Жаркие дни, холод¬
ные ночи, сияющие утра, сумрачные вечера; порывы
ветра, потом затишье, то проясняется, то вдруг начина¬
ется дождь, молнии, гром - и так без конца, вечные из¬
менения...”12 Альберти сетует на природу, независи¬
мая жизнь которой неподвластна человеку.
В его трактате об архитектуре внутренней темой,
своеобразным подтекстом проходит мысль о том, что
цель зодчества - борьба с природой, защита человека от
всех превратностей естественной среды, “от палящего
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 363
солнца и от низвергающихся с неба ливней”13, “от леде¬
нящих бурь и метелей”14, “от силы стремительных вод
и грузности рушащихся утесов”15, от “хмурого и нездо¬
рового климата”, от “густых лесов, полных деревьев с
горьким листом”, от “рек и озер... когда они слишком
близки”, от моря, которое “делает воздух нечистым”16.
Архитектура выступает у него как антитеза “дикой”
природы17.
Описывая интерьер Флорентийского собора, Аль¬
берти рисует идеальный образ природы искусственной,
созданный человеческим гением; это природа, обладаю¬
щая особым микроклиматом, постоянным и гарантиро¬
ванным от всяких неприятных неожиданностей, при¬
рода, в которой есть все достоинства и нет недостатков:
“...здесь держится постоянно... умеренная температу¬
ра: на улице - ветер, стужа, туман; здесь, в этом уеди¬
нении, закрытом от всех ветров, воздух теплый, и без
движения; на улице - порывы ветра и летом и осенью,
здесь очень спокойное убежище”18.
Оппозиции цивилизация - природа придается в
XV веке не только пространственный, но и временной
смысл. Дикая естественная природа мыслится как кате¬
гория доисторическая, точнее, внеисторическая. Это
мощная стихийная сила, “неприступная и непостижи¬
мая”19, способная победить и разрушить все, что являет¬
ся плодом человеческой деятельности, человеческой ис¬
тории. “Природа обладает такой силой, что даже в тех
случаях, когда ей противостоят колоссальные соору¬
жения или всякого рода преграды, ей всегда удается вос¬
торжествовать над всеми препятствиями; все, все, что
противится ей, всякое упорство она преодолевает с несо¬
крушимым постоянством, и в конце концов все расша¬
тывает и низвергает”20. Природа - антитеза истории.
В “Распятии” Мантеньи Голгофа представлена не
как естественная, природная гора, но как искусственно
созданное сооружение, вдвинутое в каменный хаос при¬
роды. Именно здесь, на этом творении цивилизации,
разыгрывается евангельская драма, в которой видели
первый акт драмы исторической: начало новой эпохи,
утверждавшей себя в противопоставлении миру доисто¬
рического или внеисторического прошлого. Туда, в это
прошлое, в “бесформенное и неслаженное нагромож¬
дение камней”21, спускаются, как бы сходя со сцены
истории, фигуры воинов, сыгравших свою роль.
364
Помещая природу в пространство третьего изме¬
рения, искусство Раннего Возрождения не только отда¬
ляет ее на некоторое безопасное расстояние. Отодвину¬
тая и предложенная для зрительного восприятия, для
стороннего созерцания, естественная природа пере¬
стает быть просто природой, она становится видом на.
Брунеллески предлагал флорентийцам смотреть
через небольшое отверстие на отражение в зеркале на¬
писанной им картины, где вырезанное по контуру изоб¬
ражение баптистерия рисовалось на фоне реального
флорентийского неба с проплывающими по нему обла¬
ками. Отраженное в зеркале, увиденное с определенной
дистанции, оно оказывалось преображенным и переве¬
денным из сферы натурального в сферу художественно¬
го. Показывая жителям Флоренции их собственное
каждодневное небо, Брунеллески как бы обращался к
ним словами Джаноццо Манетти: “Посмотрим... сколь
оно прекрасно и превосходно...”22.
Альберти советовал архитекторам, проектирую¬
щим здание, тщательно выбирать виды, открывающие¬
ся через архитектурные проемы, и учитывать расстоя¬
ния, с которых эти виды должны восприниматься.
“Портик следует обращать на юг... вид гор, которые
расположены на юге... не всегда привлекателен, когда
горы очень удалены... но на небольшом отделении они
очень приятны... На севере гора... отодвинутая и распо¬
ложенная вдали - прекраснее всего. Ибо от чистоты
воздуха, которая господствует на этой вечно юной сто¬
роне света, и от блеска солнца, который ее озаряет, ее
вид становится блистающим и чудесным... море... из¬
дали... привлекательнее, пробуждая стремление к себе.
Но есть разница, с какой стороны оно предстанет...”23.
Папа Пий II при постройке своего дворца в Пьен-
це заботился прежде всего о том, чтобы из окон и с лод¬
жий можно было созерцать его любимые виды24.
Реальное природное окружение превращается в
вид на природу, выполняет роль пейзажных панно,
включенных в архитектурную композицию.
В сущности, ту же роль играет пейзаж и в живо¬
писи, когда художник помещает его на дальнем плане в
обрамлении окна или двери, в пролете портика или в
просвете между зданиями: он создает картину в карти¬
не, художественную реальность второго уровня, пей¬
заж, в который войти нельзя, ибо он предназначен
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 365
лишь для созерцания. Это - природа, “отодвинутая и
расположенная вдали”, “блистающая и чудесная”,
“пробуждающая стремление к себе”, но обитаемому
пространству переднего плана непричастная.
С той же позиции непричастности, невключенно-
сти в природу перечисляет ее красоты Джаноццо Ма-
нетти в своей речи о достоинстве человека: “Посмотрим
на разнообразие красот... неиссякаемость источников и
их прозрачную влагу, зеленые одежды берегов рек...
обозрим суровые скалы, высокие вершины гор, бес¬
крайние поля... удивительное зрелище... Сколь пре¬
красно и превосходно наше Средиземное море... как
красивы морские берега...”25
Манетти описывает как бы воображаемый вид с
горы. Это условное “с горы”: сверху - и вдаль, к гори¬
зонту - композиционный прием, найденный искусст¬
вом Возрождения и незнакомый средневековью. В ис¬
кусстве средних веков изображению горы придавалось
символическое значение. Гора - это “лествица”, соеди¬
няющая землю с небом, знак возвышения духа, душев¬
ного совершенствования; вершина горы - место наи¬
большей близости к небу, к Богу. Именно так осмыслен
мотив горы и в “Божественной комедии” Данте: путь из
ада в рай - это восхождение на гору Чистилища:
Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый,
Мы поднимались между сжатых скал,
Для ног и рук ища себе опоры...26
Это трудный подъем от “подножья кручи”27 к вер¬
шине,
Где души обретают очищенье
И к вечному восходят бытию28.
На протяжении всего пути взор Данте неизменно
обращен вверх, к небу. Он поражен зрелищем незнако¬
мых созвездий, непривычных восходов и заходов, но ни
одной панорамы, ни одного взгляда вниз, “с горы”, у
Данте нет.
Не знала взгляда “с горы” и средневековая живо¬
пись. У итальянских тречентистов это скорее взгляд “в
гору” от подножия к вершине29.
Однако уже с первых десятилетий кватроченто
складывается в живописи и принципиально иная трак¬
товка темы горы. Гора - это то высокое место на земле,
366
откуда становится доступным земному, человеческому
зрению предельно широкий обзор местности. Точка
зрения “с горы” в некотором смысле выражала претен¬
зию человека нового времени на всеохватывающее ви¬
дение, которое до той поры считалось прерогативой
Господа Бога. Глядя с горы на расстилающуюся у его
ног местность, человек Возрождения, говоря словами
Фичино, чувствовал себя так, “как если бы все матери¬
альные вещи мира находились в его распоряжении:
стихии, камни, металлы, растения”30.
Вероятно, далеко не все художники XV века,
писавшие пейзажи сверху и вдаль, руководствовались
реальными наблюдениями. И все же именно в годы
Раннего Возрождения впервые начинают подниматься
в горы специально для того, чтобы полюбоваться дале¬
кими видами. Считается, что одним из первых совер¬
шил подобное эстетическое паломничество Петрарка,
взобравшись, не без риска, на гору Венту близ Авиньо¬
на31; он, однако, не столько любуется открывшимися
красотами, сколько раздумывает о тщете человеческих
усилий и о превосходстве красоты внутренней над кра¬
сотой внешней.
Но уже в самом конце XIV века Джованни да Пра¬
то, “находясь на высотах Апеннин, этом хребте Ита¬
лии, посреди двух столь славных морей Адриатическо¬
го и Тирренского... продолжал любоваться и не мог на¬
сытить жадного взора”, созерцая “высокие Паннонские
горы” “и весь Иллирийский залив, вплоть до чудной,
многоводной Венеции”, и Евганские холмы, “плодонос¬
ные и грациозные”32.
В XV веке папа Пий II описывает в своих “Ком¬
ментариях”, как, страдая ногами, он приказывал но¬
сить себя в кресле по горам и какие виды открывались
перед ним, особенно с горы Монте Амиатта33.
В живописи точка зрения “с горы” существовала
не столько как иконографический мотив, сколько как
принцип построения пейзажа, сюжетно оправдываю¬
щий основную формулу пространственой композиции
картины кватроченто. В сущности, все дальние планы в
картинах этого периода строились с высокой, горной
точки зрения.
И все же можно выделить несколько сюжетов, в ко¬
торых мотив “с горы” получает не только композицион¬
ное, но и изобразительное истолкование. Особенно
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 367
выразительно, как своеобразная прогулка в горы, трак¬
туется эта тема в сцене, где изображен юный Товий, ве¬
домый ангелом. В картине Антонио Палайолы оба пут¬
ника энергично шагают как бы по самому гребню гор -
“по высотам Апеннин, этому хребту Италии”. Граница
горы, по которой они идут, четко выделяется на более
светлом фоне далекого пейзажа, расстилающегося вни¬
зу; гора на переднем плане трактована с почти стерео¬
скопической объемностью камней, трав, неровностей
почвы. Раскрывающийся за ней простор рождает то же
захватывающее ощущение безграничности далей земли
и неба, которое переживали в том столетии путеше¬
ственники, впервые поднимавшиеся в горы, чтобы уви¬
деть все “подлунное пространство”34.
Точка зрения с горы, вниз, на расстилающийся у
ног пейзаж - это точка зрения господства: “Нам при¬
надлежат земли, поля, холмы, долины, горы... Нам
принадлежат реки, воды, потоки, озера, болота, источ¬
ники, ручьи, моря...”35. Но это господство издали, с бе¬
зопасной дистанции, когда все выглядит как на пре¬
красно выполненной модели, как в тех демонстрациях,
которыми развлекал своих гостей Альберти, давая им
любоваться “такими отдаленными землями, что едва
можно было их рассмотреть”36. Альберти показывал
моря и горы, которые казались огромными, но которые
он, подобно могущественному волшебнику, заключал
в маленький ящик камеры обскуры. При взгляде с вы¬
сокой горы огромные моря и горы также казались не¬
большими, и это порождало чувство господства над
природой. Но и в том и в другом случае - визуальное
господство. Покорить природу значило эстетически
обезвредить ее.
Войти в непосредственный контакт с естествен¬
ной, “дикой” природой, погрузиться в нее, остаться с
ней с глазу на глаз - человек Возрождения не решался,
на лоне дикой природы чувствовал себя неуютно; для
непосредственного наслаждения природой как средой
обитания, для пребывания в ней предпочитали в XV веке
сады искусственно насажденные, разного рода “пара¬
дизы”, площадки вокруг фонтана, обсаженные рядами
подстриженных деревьев, увитые виноградом перго-
лы37. “Какую прелесть и достоинство рука или ум чело¬
веческий может придать местности”, - писал Альбер¬
ти38. Человек Раннего Возрождения не жил в гармонии
368
с природой, он стремился придать природе гармонию,
сделать ее совершенной даже вопреки ее собственной
сущности, ибо “редко, когда самой природе дано произ¬
вести на свет что-либо вполне законченное и во всех от¬
ношениях совершенное”39.
Разрыв связей между человеком и природой остро
переживал Альберти, видя в этом результат неуемного
вмешательства человека в ее естественную жизнь.
Сочинение Альберти “Теоджениус” звучит как ответ
Джаноццо Манетти на его наивно-восторженный гимн
человеческому всемогуществу, ответ мудрый, провид¬
ческий: “...Обуреваемый жаждой все новых открытий,
человек опустошает сам себя. Не удовлетворенный ми¬
ром природы, который окружает его, он бороздит моря,
стремясь дойти до края света; он опускается под воду и
проникает в глубины земли; прокапывает горы и взби¬
рается выше облаков... Враг всему, что видит и чего не
может увидеть, он стремится подчинить все и все заста¬
вить служить себе... Нет на свете живого существа, ко¬
торое вызывало бы к себе такую же ненависть, какую
вызывает человек”40.
И природа платит человеку глубоким безразличи¬
ем, она “привыкла существовать по своим собственным
законам... она не нуждается в нашей помощи и равно¬
душна к нашим мольбам, - пишет Альберти, - ...эфир
весь забит молитвами, дорога Феба непроходима, дво¬
рик Юноны завален ими до верху”41.
В прологе к седьмой книге “Интерченали” у Аль¬
берти есть выразительный образ: фавны и сатиры,
влюбленные в луну, каждый вечер расстилают на
опушке леса сети, чтобы поймать ее, и каждое утро, ус¬
тавшие и разочарованные, оглашают стонами окрест¬
ности; наблюдая за этой бессмысленной охотой, смеют¬
ся наяды42.
В раннюю пору Возрождения человек утверждал
себя вопреки всему окружающему, вопреки природе, и
за это вопреки ему приходилось расплачиваться чув¬
ством одиночества43.
Изображение Св. Себастьяна, широко распростра¬
ненное в итальянском искусстве XV века, принято ис¬
толковывать как тему триумфа героя, его физического
и духовного торжества над страданием и страхом смер¬
ти44. Но это не только триумф, это одиночество, пусть
триумфальное, но все же одиночество.
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 369
Св. Себастьян Кастаньо высоко вознесен над ди¬
кой, неприютной, не тронутой рукой человека природой;
вознесен - и одновременно отторгнут. Вокруг него голая
земля, пустые небеса. Одиночества Себастьяна не нару¬
шает даже композиционно случайная фигура ангела.
Св. Себастьян Боттичелли не менее одинок на
фоне прекрасной, устроенной, населенной, но далекой
природы.
Одинок и Себастьян Палайоллы, окруженный
стрелками, словно магическим кругом заклятия, и вме¬
сте с ними вытолкнутый из пейзажа на голый клочок
земли переднего плана.
В средние века природа активно участвовала во
всем, что происходило в мире: луна и солнце сходили с
орбиты и останавливались, сияя на небе одновременно;
внезапно наступала тьма или вспыхивал свет; закрыва¬
лись или раскрывались небеса, двигались звезды, горы
и моря расступались, холмы и деревья тянулись ввысь.
Природа отзывалась на события грозным знамением,
надгробным плачем.
В искусстве кватроченто природа не вмешивается
в дела людские, она привыкла существовать по своим
собственным законам. Земля и небо молчат.
Выйти из этой ситуации одиночества на лоне при¬
роды в пределах XV столетия удавалось лишь ценой от¬
каза от ренессансной модели.
“Иоанн Креститель в пустыне” Венециано суще¬
ствует в гармоническом единстве с природой, он слит с
ней ритмически: контуры гор воспроизводят очертания
его фигуры, вторят его движениям; сброшенная им
одежда силой пластической метафоры уподоблена гор¬
ным уступам. Однако чтобы достичь подобного слияния
с природой, художник развертывает пространство не в
глубину, а по-средневековому вверх, избегая третьего
измерения; горизонтальная площадка переднего пла¬
на - обязательный для ренессансной композиции про¬
сцениум - втягивается в общий вертикальный ритм
вздымающихся к небу горок; мотив контрастного про¬
тивопоставления человеческой фигуры земной поверх¬
ности нивелируется, герой не господствует над окруже¬
нием, сливаясь с ним, он утрачивает свое активное
самостояние, свою ренессансную позицию превосход¬
ства45. В картине Филиппо Липпи “Поклонение мла¬
денцу” - лес сказочный, как в средневековых иконах,
370
весь пронизанный золотыми лучами и увешанный гир¬
ляндами золотых звезд; горки взбегают вверх лесенкой
прямо к небу - праздничная, нарядная, уютная приро¬
да традиционного рождественского празднества.
В “Поклонении младенцу” Пьеро делла Фран¬
чески, напротив, - высокая поэзия “онтологической
неуютности”. Утренний чистый, прозрачный пейзаж
равнодушен к тому, что происходит в картине; собрав¬
шиеся на переднем плане персонажи - словно послан¬
цы другого мира; они чужие здесь, в этой природе,
которая существует сама по себе и уходит вглубь, к го¬
ризонту, независимо и безучастно, как если бы здесь
ничего не свершалось.
Разрушить невидимую преграду, отделяющую
человека от природы; преодолеть разъятость про¬
странств; проникнуть в зону пейзажей дальнего плана;
сделать ее средой обитания, найти новый, ренессанс¬
ный образ природы, по-новому связанный с ренессанс¬
ным человеком, - все это предстояло искусству следую¬
щего, XVI столетия.
Примечания
1 Цит. по: Антология мировой философии. М., 1969. Т. 2,
ч. 2. С. 627.
2 Альберти ЛЗ. Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. 1. С. 42.
3 Анонимная биография Альберти, которая большинством
современных ученых считается его автобиографией // Там
же. С. XXIV-XXV.
4 Давно уже стало общим местом обращаться к этим словам
Альберти всякий раз, когда речь заходит о сложении стан¬
ковой картины в Италии XV века. Однако вряд ли право¬
мерно толковать ее в том смысле, что картина была для не¬
го аналогом окна, открытого в реальный мир, и видеть в
этом образе формулу нового ренессансного реализма.
5 См. специальную статью на эту тему: Moretti L Firenze
rinascimentale fra citta e contado: un “Hortus conclusus”
urbano? // La citta del Brunelleschi. Catalogo della mostra.
Firenze, Palazzo Medici-Riccardi, nov. 1979 - gen. 1980.
Непосредственное сопоставление города и природного ок¬
ружения в живописи кватроченто представляет чисто ху¬
дожественную конструкцию. В XV веке Флоренция, как и
большинство других итальянских городов, была окруже¬
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 371
на кольцом крепостных стен. Правда, в пределах самого
города вплоть до конца столетия оставались значительные
по площади зеленые зоны, однако это была не естествен¬
ная природа, а искусственно насаженные виноградники и
огороды, в большей своей части принадлежавшие монас¬
тырям.
6 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 18.
7 Там же. С. 75.
8 Существует множество интерпретаций этой загадочной
картины Джованни Беллини, первоначальное название
которой до сих пор не установлено. См.: Deloney S.J. The
Iconography of Giovanni Bellini’s Sacred Allegory // The
Art Bulletin. 1977. Sept. В этой статье картина истолковы¬
вается как аллегорическое изображение Распятия. Более
убедительным представляется интерпретация сюжета
картины как изображения “hortus conclusus”, которое
дается в статье: Braunfels W. Giovanni Bellini’s Paradies-
gartlein // Das Munster. 1956. IX.
9 Манетти Дж. О достоинстве и превосходстве человека.
Цит. по: Ревякина Н.В. Итальянское возрождение. Гума¬
низм второй половины XIV века - первой половины XV ве¬
ка: Хрестоматия. Новосибирск, 1975 С. 67.
10 Alberti L.B. И Sogno (“Intercenali” IV, I). Опубликовано в
приложении к кн.: Garin Е. Rinascite е rivoluzioni.
Movimenti culturali dal XIV al XVIII secoli. Roma; Bari,
1975. Appendice II.
11 В частности, у Альберти в его сочинении “II Sogno”
(см. примеч. 10), где описывается путешествие в страну
сновидений, говорится о реке, которая протекает у входа
в эту страну, отделяя реальный земной мир от фантастиче¬
ского подземного мира. Чтобы попасть в него, необходи¬
мо, преодолевая большие трудности, переправиться через
эту реку, где “вместо воды... проносятся бесчисленные че¬
ловеческие лица”. Альберти рисует сниженный, “перевер¬
нутый” образ переправы в ладье Харона в “Божественной
комедии” Данте.
12 Alberti L.B. Theogenius. Opere volgari. II / Ed. C. Grayson.
Bari, 1973. P. 87.
13 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 102.
14 Там ж. С. 12.
15 Там же. С. 44.
16 Там же. С. 167.
17 Аналогичный мотив есть уже у Леонардо Бруни: горы на
севере от Флоренции “подобно стенам защищают город от
372
напора студеного воздуха и от яростных порывов север¬
ного ветра” (Bruni L. Panegirico della citta di Firenze //
La nuova Italia. Firenze, 1974. P. 15). Cp. также высказы¬
вание Джованни Понтано: “Дикая душа, как и дикое поле,
обычно бывает запущенной и невозделанной, доступ¬
ной для опасных и вредных животных”. Цит. по: Бат¬
кин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль
мышления. М., 1978. С. 87. Хочу также сослаться на раз¬
дел этой книги, озаглавленный “Природное и культур¬
ное”, где автор высказывает мысли, перекликающиеся с
основными положениями данной статьи.
18 Цит. по: Монье Ф. Опыт литературной истории Италии
XV века. Кватроченто. СПб., 1904. С. 60-61.
19 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 14. Ср. следующее место в
этом же трактате Альберти: “Мы... видим, что способны
сделать жар солнца, холод тени, метель и ветры... еще
нужно добавить... грозы, землетрясения, натиск воды, на¬
воднения и то многое, что необыкновенная сила природы
может произвести ежедневно, - неслыханное, нечаянное,
нарушающее стройный замысел зодчего” (с. 340).
20 Там же. С. 44. Та же мысль, но в остропародийной форме,
выражена в сочинении Альберти “И Sogno” (см. примеч. 10).
Главный герой - Либрепета - посещает страну сновиде¬
ний. “Среди лугов там покоятся великие империи, о кото¬
рых мы читали, - рассказывает Либрипета, - все, что,
однажды исчезнув, не возвращается больше сюда, на свет
солнца... Все империи свалены в одну кучу... Все это похо¬
же на огромный пузырь, наполненный лицензиями, вся¬
кого рода изобретениями, выдумками и звуками рожков и
труб. Ближе к краям разложены благодеяния в виде рыбо¬
ловных крючков, сделанных из золота и серебра; немного
подальше - свинцовые крылья; мне сказали, что это чело¬
веческие достоинства. Затем - монеты и обгорелые пни -
это любовь; наконец, бесчисленные имена граждан, начер¬
ченные на слое пыли - это богатства. Вся культура про¬
шлого, все плоды цивилизации представлены в виде
огромной свалки, расположенной в долине, заросшей тра¬
вой и окруженной высокими горами”.
21 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 92.
22 МанеттиДж. Указ. соч. С. 64-65.
23 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 166-167.
24 Heydenreich L.H. Pius II als Bauherr von Pienza // Zeits-
chrift fur Kunstgeschichte. 1937. VI. S. 108-110.
25 МанеттиДж. Указ. соч. С. 64-65.
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 373
26 Данте Алигьери, Божественная комедия / Пер. М. Лозин¬
ского. М., 1961. С. 244.
27 Там же. С. 242.
28 Там же. С. 225.
29 В XIV и XV веках иллюстраторы “Божественной комедии”
изображали Чистилище в виде крутой горы, по которой
души поднимаются спиралеобразной дорогой к вершине.
Именно так изображено чистилище в известной фреске
Доменико ди Микелино (1475) в Санта Мария дель Фьоре
во Флоренции, изображающей аллегорию “Божественной
комедии” Данте. Во многих живописных произведениях
XV века встречается изображение горы - особенно часто в
сцене “Поклонение волхвов”, иконографически близкой к
подобному изображению чистилища.
30 Марсилио Фичино, Теология Платоника. Цит. по: Ло¬
сев А. Ф, Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 327.
31 Возможно, что описание этого путешествия в горы являет¬
ся не результатом реальных наблюдений, а, как считают
современные исследователи, плодом литературной фанта¬
зии. Однако в контексте данной статьи это обстоятельство
не имеет существенного значения.
32 Джованни да Прато. Цит. по: Веселовский А. Вилла Аль¬
берти. М., 1870. С.121.
33 Бургардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения.
СПб., 1906. С. 20-22.
34 Джованни да Прато. Цит. по: Веселовский А. Указ. соч.
С.122.
35 МанеттиДж. Цит. по: Ревякина Н.В. Указ. соч. С. 68-69.
36 Анонимная биография Л.Б. Альберти. Цит. по: Альбер¬
ти Л.Б. Указ. соч. С. XXIV.
37 Ср. следующее место из соченения Джованни да Прато “И
Paradiso delgli Alberti”: “Все вместе они вошли в богатый
дом и, пройдя через дворик, где по правую руку находи¬
лась лоджия, богато украшенная коврами... вступили в
сад; там на лужайке, окруженной высочайшими кипари¬
сами и пихтами, апельсиновыми и гранатовыми деревья¬
ми... миртами и оливами, приготовлены были великолеп¬
ные сидения и поставец... со множеством серебряной посу¬
ды, наполненной разнообразным угощением и фруктами,
и стеклянными сосудами с дорогими винами. В эти часы в
саду была приятная прохлада...”. И дальше: “В этом чу¬
десном прохладном месте была приготовлена трапеза, со
множеством слуг, которые прислуживали старательно и
весело, разнося для освежения студеную воду; а на вер-
374
хушках душистых пиний, пихт и кипарисов распевало
бесчисленное множество птичек; так что многим каза¬
лось, что они находятся в прекраснейшем раю”. Цит. по:
Prosatori volgari del Quattrocento. Milano; Napoli, 1955.
P. 957, 959.
38 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 177.
39 Там же. С. 178.
40 Alberti L.B. Theogenius. Opere volgari. II. P. 92-93.
41 Alberti L.B. Momus / Ed. G. Vartini. Bologna, 1942. P. 22.
Cp. аналогичное место в сочинении Альберти “II Sogno”:
“...там отвесно поднимается гора, где, как мне сказали,
кипят, словно в огромном котле, все желания и надежды.
Вокруг горы множество обетов и молитв, с которыми лю¬
ди обращаются к богам. А на вершине горы время от вре¬
мени взрывается какая-либо надежда или желание - и ис¬
чезает бесследно” (см. примеч. 10).
42 Garin Е. Venticinque intercenali sconosciute di L.B. Alberti //
Garin E. L’eta nuova. Ricerche di storia della cultura del XII
al XVI secolo. Napoli, 1969. P. 231.
43 Тема одиночества, важная для самоформирования челове¬
ка на первых шагах его ориентировки в новом мире, име¬
ла различные аспекты. Калуччо Салутати в самые послед¬
ние годы XIV века в одном из писем рассуждает о том, что
для человека, стремящегося к совершенству, совсем не¬
обязательно уходить в монастырь; можно оставаться в
миру, но сохранять внутреннюю сосредоточенность, от¬
бросив, как ненужное, все случайное, все внешнее. При
этих условиях можно добиться полного публичного одино¬
чества: “...площадь, форум, курия и места, наиболее мно¬
голюдные в городе, будут отдаленнейшим убежищем и со¬
вершенным уединением” (Цит. по: Ревякина Н.В. Указ
соч. С. 34). Несколько десятилетий спустя Альберти про¬
возглашает в качестве жизненного кредо триаду: одиноче¬
ство, спокойствие, свобода. Он утверждает, что наименее
одиноким он чувствует себя тогда, когда находится в пол¬
ном одиночестве. Именно в одиночестве он “постоянно ок¬
ружен людьми сведущими и красноречивейшими” (Alber¬
ti L.B. Theogenius. Opere volgari. II. P. 74). Он мечтает о го¬
родах просторных, где возможна дистанция, изоляция;
он стремится избегать общения, скрывает от окружающих
свои чувства и мысли: “Какое замечательное качество -
умение скрывать свои потаенные мысли: искусно пряча
их под обманчивым и красочным вымыслом” (Alberti L.B.
Momus / Ed. Martini. P. 58). Салутати умел почувствовать
Тема природы в итальянской живописи кватроченто 375
себя в полном одиночестве на площади многолюдного го¬
рода. Альберти стремился “избегнуть шума, возни и бегот¬
ни города, площади, палаццо Синьории... скрыться, что¬
бы не видеть тех мерзостей... того количества негодных
людей, что в городе постоянно шныряют у тебя перед гла¬
зами... крича и голося... будто бешеные” (Alberti L.B.
Trattato della famiglia. Цит. по: Веселовский А. Указ. соч.
С. 330, примеч. 192). Одиночество переживается как опти¬
мальная форма человеческого существования, как форма
самоутверждения личности, ее “само-стояния”. Однако,
убегая из города, Альберти ищет уединения не на лоне
естественной, дикой природы, но на благоустроенной вил¬
ле: “Ты можешь найти убежище на вилле... никакого
шума, никаких столкновений с людьми, никакой спешки
городской жизни... Сколь благословенно пребывание на
вилле, счастливая жизнь в безвестности!” (Alberti L.B.
Dalla famiglia, III // Prosatori volgari del Quattrocento.
P. 461-462).
Этот “подлинный рай” (il proprio paradiso), который
сам в свою очередь противостоит естественной природе,
находится по отношению к ней в той же позиции “само-
стояния”. Искусственно организованной городской среде
противопоставляется столь же искусственно организован¬
ная природная среда.
44 Le Target F. Saint S£bastien dans l’histoire de Part depuis le
XVmesifccle. P., 1979.
45 В качестве выразительного примера подобной позиции
превосходства можно привести картину Кастаньо “Давид”
(Вашингтон, Национальная галерея). Это не только победа
над Голиафом, это триумф человека-гиганта, его торжест¬
во над Природой.
Об интерпретации
архитектуры
в рельефах
Гиберти
и Донателло
В составленной Манетти биогра¬
фии Брунеллески большое место
занимает характеристика Лорен¬
цо Гиберти, фигура которого об¬
рисована самыми мрачными кра¬
сками. Гиберти выступает в ней
как постоянный и упорный про¬
тивник архитектора, как злой ге¬
ний, который преследовал Бру¬
неллески на протяжении многих
лет и которого ему никак не уда¬
валось “сбросить со своих плеч”1.
В этой негативной характеристи¬
ке многое объясняется полемиче¬
ским характером биографии, на¬
писанной в конце XV века одним
из самых горячих приверженцев
архитектора2.
Сведения о непримиримой
вражде двух мастеров не под¬
тверждаются ни архивными до¬
кументами Опера дель Дуомо, ни
свидетельством самого Гиберти в
его “Комментариях”3. И все же
ситуация, обрисованная в био¬
графии, вряд ли может быть рас¬
ценена только как субъективное
мнение Манетти, характеризую¬
щее его личные вкусы и пристра¬
стия. В основе ее, несомненно,
лежит некоторая напряженность
в соотношении творческих пози¬
ций двух мастеров; отголоски
этой напряженности можно уло¬
вить и в “Комментариях” самого
Гиберти, в настойчивости, с кото¬
рой он стремился обосновать за¬
конность решения жюри 1401 го¬
да по результатам конкурса на
украшение рельефами дверей
флорентийского Баптистерия, в
котором, наряду с Гиберти, уча¬
ствовал также Брунеллески.
“Мне присуждена была пальма
377
победы, - пишет Гиберти. - Всем казалось, что я пре¬
взошел всех без исключения своих современников, в со¬
ответствии с решением совета и с заключением сведу¬
щих людей. Попечители ... хотели, чтобы решение [экс¬
пертов] было написано их собственной рукой ... Судей
было 34 из города [Флоренции] и трех прилегающих ок¬
ругов; все они дали свою подпись в подтверждение моей
победы”4. Гиберти подчеркивает, что на протяжении
многих лет он вместе с Брунеллески возводил купол и
получал одинаковое с ним жалованье и что он вместе с
Брунеллески собирается писать трактат об архитекту¬
ре: “При постройке купола конкурентами были Филип¬
по и я в течение восемнадцати лет на одном и том же
жаловании ... Мы напишем трактат об архитектуре и
поговорим на эту тему”5.
Сочинение это, по-видимому, не было написано
(во всяком случае о нем не сохранилось сведений), но
существует документ, который можно интерпретиро¬
вать как своеобразный визуальный трактат об архитек¬
туре, осуществленный Гиберти не вместе с Брунеллес¬
ки, а скорее - против него. Это рельефы восточных две¬
рей Баптистерия - самое главное и, по утверждению
самого Гиберти, “самое необыкновенное” из всех его
произведений. По его собственным словам, при работе
над рельефами он был совершенно свободен: “Мне было
дано разрешение выполнить их по своему вкусу ... Вы¬
полнял я эту работу с величайшим прилежанием и с ве¬
личайшей любовью”6.
В десяти больших панно на темы Ветхого Завета
Гиберти создает картину развития человечества от пер¬
вобытного, безгрешного, райского существования через
грехопадение к цивилизации. Но одновременно - это
история возникновения и развития архитектуры как
продукта человеческой деятельности, как условия ис¬
торического бытия.
Архитектура в рельефах Гиберти возникает в
виде простого шалаша и сложенного из камней очага-
жертвенника (история Каина и Авеля). Тема шалаша
развертывается затем в архитектуру условно восточно¬
го типа: богато украшенный шатер с конусообразной
кровлей в истории Авраама и целую группу разно¬
образных по форме шатров в истории Моисея. В исто¬
рии Ноя рядом с ковчегом в виде египетской пирамиды
появляется постройка на столбах - прообраз античной
378
архитектуры. Античный мотив получает развитие в
изображении портика или лоджии в сцене с Яковом и
ротонды в сцене с Иосифом. В сцене с Иисусом Навином
Гиберти помещает два противостоящих друг другу ан¬
самбля: восточный город шатров - и город западного
типа; и хотя по сюжету это - Иерихон, силуэт его напо¬
минает Флоренцию. Наконец, в последнем рельефе
(“Встреча Соломона с царицей Савской”) возникает
идеальная площадь идеального итальянского города -
один из тех проектов, которыми так увлекалось Раннее
Возрождение7.
Сходство представленной здесь картины проис¬
хождения архитектуры с общей линией архитектурно¬
го развития, намеченной в трактате Альберти, очевид¬
но: “...Зодчество пережило юность в Азии, расцвет у
греков, а совершенную зрелость у италийцев ... Греция
... начала внимательно рассматривать сооружения ас-
сирян и египтян ... Жители Италии сделали искусство
зодчества столь явным, что в нем не оставалось ничего
потаенного...”8
Еще более близкую аналогию дает “Сфорцинда”
Филарете, где архитектура, как у Гиберти, начинается
с постройки простого шалаша и завершается современ¬
ным городским ансамблем, при этом иллюстрирующие
текст рисунки даже иконографически близки соответ¬
ствующим изображениям в рельефах Райских дверей9.
Как историк архитектуры Гиберти, несомненно, нахо¬
дился под влиянием трактатов своего времени. Как ар¬
хитектор-проектировщик он не избежал воздействия
своего соратника и соперника Брунеллески: отдельные
детали, навеянные его постройками, часто встречаются
в зданиях, изображенных на рельефах Райских две¬
рей10. Однако по своей общей идее, по своему основно¬
му пафосу архитектурная концепция Гиберти противо¬
положна концепции Брунеллески.
Брунеллески - урбанист, он строил в городе и для
города, он мыслил городскими ансамблями. Соборная
площадь Флоренции, где на протяжении многих лет
шли строительные работы и велись дискуссии по возве¬
дению купола, являла собой не только архитектурное
ядро города, но и своеобразный генератор новых градо¬
строительных идей.
Гиберти скорее антиурбанистичен. Город в его
рельефах увиден издали, из не-города. Стены и башни,
Об интерпретации архитектуры...
379
маячащие на горизонте, существуют как цель пути, а
не как среда обитания; это город, к которому направ¬
лено действие, а не город, в котором оно развивается.
Местом действия, средой обитания служит здесь при¬
родное пространство, пейзаж. Город мыслится скорее
как часть пейзажа, как его пространственный й смыс¬
ловой ориентир. Вместе с тем город противопоставлен
пейзажу как далекое, графически неосязаемое там -
близкому, пластически осязаемому здесь, как ком¬
плекс правильных, геометрических форм - свободным,
органическим ритмам природы. При этом все фигуры
людей, все население обоих рельефов ритмически соот¬
несено не со строгой геометрикой архитектуры, а со
свободными очертаниями пейзажа, не с миром цивили¬
зации, построенной человеком, а с миром природы, со¬
творенной Господом Богом.
Не случайно в своих “Комментариях” Гиберти,
подробно рассказывая о работе над дверями, ни словом
не обмолвился об архитектуре, и напротив, он настой¬
чиво подчеркивает значение природы и природных рит¬
мов: “Я задумал ... соблюдать все размеры и пытался
подражать природе ... всеми очертаниями, которые я
мог из нее почерпнуть, а также отличной и богатой ком¬
позицией многочисленных фигур”11.
Описывая сюжеты рельефов, Гиберти указывает,
в каком именно месте пейзажа расположены фигуры: у
подножия горы, на середине ее склона или на самой
вершине, но он ни разу не отмечает, что персонажи на¬
ходятся в здании или на фоне здания12. Единственный
раз, когда архитектура упоминается - это описание
рельефа, изображающего историю Иисуса Навина, где
представлено разрушение города13.
Антиурбанистическая концепция сохраняется у
Гиберти даже там, где архитектура дана крупным пла¬
ном и занимает почти все поле изображения (история
Исаака, история Иосифа). Отдельные сооружения, ок¬
руженные горами, деревьями, облаками, широко рас¬
крытые вовне и словно купающиеся в воздухе, создают
образ условно идиллической античности, но не совре¬
менного Гиберти города.
Оппозиция архитектура - природа получает в этих
рельефах еще один аспект. Архитектура, построенная
с соблюдением правил новой, брунеллесковской перспек¬
тивы, создающей новое ренессансное пространство14,
380
противопоставлена пространству природному, образо¬
ванному вне этих новых законов и по своему изобрази¬
тельному языку - средневековому (с падающей вниз
плоскостью земли, с поднимающимися ярусами горка¬
ми и деревьями)15. Но именно это средневековое про¬
странство является для персонажей, изображенных в
рельефах, реальной жизненной средой, в то время как
перспективно построенная ренессансная архитектура
представляет собой некоторую идеальную структуру,
внедренную в это “реальное” пространство и одновре¬
менно внеположенную ему. Помещенные внутри зданий
фигуры людей, хотя и выполняют определенные сюжет¬
ные роли, композиционно сведены до значения стаффа¬
жа, лишь слегка оживляющего архитектурный мотив;
по отношению к человеческим фигурам переднего плана
они находятся как бы в иной пространственной реаль¬
ности. Пространство рельефов оказывается разделен¬
ным на две качественно различные зоны: реальный мир
природы, где разворачиваются события, - и идеальная
архитектурно-пространственная модель, на фоне ко¬
торой они развиваются и которая, как всякая модель,
необитаема, а служит лишь объектом созерцания.
Эта пространственная конфронтация сохраняется
и в рельефе “Встреча Соломона с царицей Савской”,
единственном, где Гиберти изобразил городскую пло¬
щадь. Здесь не два, а три пространственных плана. Впе¬
реди, на падающей плоскости земли, в свободных, не
ритуализованных позах располагаются зрители; они
находятся вне архитектуры и тем самым вне законов
линейной перспективы. На втором плане нечто вроде
подиума, к которому ведет широкая лестница; стоящие
на подиуме персонажи разыгрывают торжественную
сцену театрализованной церемонии; они совершают ри¬
туал - и поэтому композиционно приобщены упорядо¬
ченным ритмам изображенной на фоне архитектуры.
Сама эта архитектура, образующая третий план, реше¬
на как перспективно построенный сценический задник;
она принадлежит чисто идеальной области перспектив¬
ного изображения, это пространство иллюзорное, кото¬
рое до обмана зрения похоже на реальное, но войти в ко¬
торое невозможно; это пространство архитектурного
проекта, чертежа.
Чем, если не принципиальной творческой оппози¬
цией, можно объяснить тот факт, что Гиберти, годами
Об интерпретации архитектуры...
381
находившийся рядом с Брунеллески на строитель¬
ной площадке собора, на лесах купола, в атмосфере
реального городского строительства, в своих рельефах
никак не отразил пафоса реализации архитектурных
проектов?
Именно эта сторона архитектурной деятельности
оказалась важным творческим импульсом для младше¬
го современника обоих мастеров - Донателло. Извест¬
но, что Донателло был связан с Брунеллески дружбой,
что они вместе жили в Риме, изучая памятники древ¬
ности. Правда, Донателло, по свидетельству Манетти,
в те годы особого интереса к архитектуре не проявлял;
больше того, Брунеллески не посвящал его в свои архи¬
тектурно-строительные изыскания. “Во время пребы¬
вания в Риме с ним почти постоянно был Донателло,
скульптор, и сначала они были согласны во всем, что
касалось одной лишь скульптуры, и занимались ею по¬
стоянно; Донателло не обращал внимания на архитек¬
туру, а Филиппо не делился с ним своими мыслями, то
ли потому, что считал Донателло неподходящим чело¬
веком, то ли оттого, что сам не верил в возможность
достичь чего-либо подобного, видя с каждым часом все
больше трудностей”16.
В изображении архитектуры в рельефах Донател¬
ло почти нет следов прямого влияния Брунеллески.
Вместе с тем они свидетельствуют о погруженности
в атмосферу строительства, об увлеченности новыми
урбанистическими ритмами.
Принципиальное различие в интерпретации го¬
родской среды у Гиберти и Донателло становится оче¬
видным при сравнении рельефов “Райских дверей” с
выполненными в те же годы рельефами Падуанского
алтаря.
У Гиберти в сцене встречи царя Соломона с цари¬
цей Савской зрители находятся на переднем плане, вне
архитектуры, они воспринимают архитектуру со сторо¬
ны, чисто визуально. У Донателло в падуанском релье¬
фе “Исцеление гневливого сына” городская архитекту¬
ра - это место действия персонажей, среда их обитания.
Зрители расположены по периметру площади; они смо¬
трят на нее из самой глубины, как бы измеряя дистан¬
цию от заднего плана рельефа до переднего, где разыг¬
рывается главное событие; мысленно преодолевая это
расстояние, они не только созерцают происходящее на
382
площади, но активно переживают ее протяженность.
При этом линейная перспектива для них - не зритель¬
ная иллюзия, но закон, определяющий их собственное
размещение и поведение в пространстве.
Еще более отчетливо различие в интерпретации
городской среды у Донателло и Гиберти выступает при
сравнении падуанского рельефа с рельефом Гиберти,
украшающим раку Св. Зинобия. Иконографически изо¬
бражения совпадают почти текстуально: в обоих случа¬
ях представлена сцена исцеления на городской пощади,
в окружении толпы. Но у Гиберти событие переносится
за пределы города, все происходит среди холмов и дере¬
вьев, на неровной естественной почве. Город виден из¬
дали, причем с двух разных точек зрения и с двух раз¬
личных дистанций: справа - как обнесенный средневе¬
ковыми стенами городской ансамбль, увиденный из¬
вне; в центре - как часть городского интерьера, как ре¬
нессансная площадь, окруженная портиками, также
увиденная издали, но с более близкого расстояния. Эти
два городских вида не складываются в единый визуаль¬
ный образ, образуют лишь умозрительное единство
словно как две части архитектурного проекта - общий
вид и разрез17.
В рельефе Донателло персонажи существуют в са¬
мом архитектурно оформленном пространстве город¬
ской площади, и это искусственно созданное простран¬
ство - образный аналог городской среды - является
единственным, альтернативы не существует. Оппози¬
ция Гиберти (город - не-город; архитектура - природа)
у Донателло снимается18. Даже облака и солнце у него
урбанизованы и смотрятся как творения рук человечес¬
ких: солнце выглядит одним из тех икусно сделанных
светильников, которыми Брунеллески поражал толпу,
собиравшуюся на представления в церквах Сан Феличе
и Санта Мария дель Кармине во Флоренции19.
У Гиберти архитектура, увиденная издали, изоб¬
ражена как чистая форма, лишенная материальных ха¬
рактеристик, лишенная фактуры.
В рельефах Донателло архитектура увидена с
близкого расстояния. Каждая плита, каждый камень,
прослойки связующего цемента между камнями высту¬
пают с такой отчетливостью, с какой можно увидеть
кладку, только подойдя влотную к зданию. Если Гибер¬
ти рисует архитектуру, то Донателло ощупывает ее
Об интерпретации архитектуры...
383
руками так же, как он, вместе с Брунеллески, ощупы¬
вал руками древние развалины Рима: “Во многих мес¬
тах они велели копать, чтобы увидеть сочленения раз¬
личных частей здания и форму их: квадратные они или
многоугольные, или круглые или овальные”20. Так же
осязательно воспринимают архитектуру и персонажи
рельефов Донателло; они не просто живут в ней, они
постоянно к ней прикасаются, трогают ее, опираются
на нее руками, прислоняются к ней, садятся, встают
на нее ногами - словно стремятся убедиться в реаль¬
ности ее существования; они активно обживают ее,
делают ее своей предметной средой. Используя терми¬
нологию того времени, можно сказать, что Гиберти
видит архитектуру как disegno, Донателло - как
costruzione.
Эти две стадии архитектурной деятельности в
XV веке очень четко разграничивались. Не случайно
именно с этого разграничения понятий начинает Аль¬
берти свой трактат об архитектуре: «Вся архитектура
заключается в очертаниях (disegno) и в постройке
(costruzione)... Очертания сами по себе отнюдь не связа¬
ны с материей... Формы зданий могут быть мысленно
целиком начертаны без всякой материи...” “Очертани¬
ям” Альберти противопоставляет “само здание и само
строительство”21.
Тема строительства, его пафос концентрируются в
рельефах Донателло в нескольких ключевых мотивах.
Это прежде всего настойчиво повторяющееся изображе¬
ние балок, брусков, стропил, обнаженного или обна¬
жившегося каркаса зданий. При этом тема строитель¬
ства не имеет у него сюжетного оправдания, отчего
стропила и балки приобретают почти метафорическое
значение - это образ становящейся, воздвигаемой архи¬
тектуры22. Здание мыслится Донателло не столько как
результат строительной деятельности, сколько как во¬
площение самого строительного процесса.
Понимание зодчества как акта созидания состав¬
ляет главный пафос и трактата об архитектуре Альбер¬
ти - последователя и почитателя Брунеллески. Как и
для Донателло, для Альберти в каркасе здания заклю¬
чен не только конструктивный, но и образный смысл:
“Во всякой крыше, так же как и в стене, есть костяк,
связи, заполнения ...Чтобы нести крыши, должно
положить балки покрепче от одной стены к другой ...
384
они, как мы недавно указывали и отрицать этого нель¬
зя, являются поперек положенными колоннами;., если
бы это позволили средства, кто ни пожелал бы видеть
все сооружение, так сказать, костистым и в высшей
степени прочным, то есть объединенным и укреплен¬
ным непрерывными колоннами и сочетаемыми воедино
балками?”23
Мотив обнаженных стропил и балок дополняется
в образной структуре рельефов Донателло мотивом не¬
завершенных перекрытий, не сведенных сводов. Свод,
крыша - знак законченного строительства. Первая по¬
ловина века для Флоренции - период великих архитек¬
турных начинаний, начинаний, но не свершений: ни
одно из заложенных Брунеллески зданий при его жиз¬
ни закончено не было. Вместе с тем именно момент
окончания постройки получает в эти годы особенно
важное значение в связи с новым пониманием автор¬
ства в архитектуре. Архитектор кватроченто, и Брунел¬
лески в первую очередь, жаждет увидеть задуманное
им здание достроенным до конца, накрытым крышей -
это было гарантией авторского права24. Но момент за¬
вершения постройки важен не только для архитектора.
Вся общественная, городская жизнь Флоренции интен¬
сивно окрашена ожиданием. Флорентийцы с нетерпе¬
нием ждали окончания затянувшихся работ по возведе¬
нию соборного купола. Весь город следил за строитель¬
ством с надеждой, сменявшейся зачастую тревогой и
сомнениями. Купол вплоть до самого конца столетия
оставался в лесах - именно таким он запечатлен на из¬
вестном рисунке, хранящемся в Уффици25. Силуэт
строительных лесов на фоне неба - зримый образ архи¬
тектурной незавершенности - на протяжении почти
целого столетия определял облик новой ренессанс¬
ной Флоренции. Нужно представить себе, как часто
смотрели жители города вверх на этот все еще неокон¬
ченный купол. Тема архитектурного перекрытия при¬
обретала в этот период поистине эмблематическое
значение.
У Донателло в некоторых рельефах зияние пере¬
крытий изображается чисто сюжетно; например, в па-
дуанском “Исцелении гневливого сына” в глубине
на фоне вырисовывается здание без крыши: лаконич¬
ностью форм и обнаженностью конструкций оно похо¬
же на каркас незаконченной постройки. Оно могло бы
Об интерпретации архитектуры...
385
служить иллюстрацией к приведенному выше отрывку
из трактата Альберти, где он описывает воображаемое
“костистое” здание: “объединенное и укрепленное...
колоннами и сочетаемыми воедино балками”.
Но гораздо чаще и гораздо сильнее принцип архи¬
тектурной незавершенности, непокрытости здания во¬
площен у Донателло тогда, когда он существует не как
изобразительный мотив, но как композиционное ино¬
сказание. В рельефах кафедры в Сан Лоренцо сцены
страстей Христа заключены в четко сконструирован¬
ные архитектурные коробки. Снятая передняя стенка -
обычный способ трактовки замкнутого архитектурного
пространства на плоскости; что касается боковых стен,
то здесь Донателло применяет прием форсированной
подачи: эти стены, имеющие форму массивных, сло¬
женных из отдельных камней пилонов, изображены
одновременно и в реальном объеме, и в перспективе.
Создается впечатление суперреальной архитектурной
формы; при этом двускатные покрытия каждого от¬
дельного пилона зрительно читаются как фрагменты
общего перекрытия, отсутствие которого и создает эф¬
фект зияния. Задние стены расчленены слепыми арка¬
ми; объединенные с пилонами в одну архитектурную
систему, они еще раз подчеркивают отсутствие кры¬
ши, которая, следуя архитектурной логике, должна на
эти арки опираться. Именно эта незавершенность архи¬
тектурной коробки, раскрытость ее вверх придает
такой композиционный драматизм двум последним
сценам “Страстей”: голова Христа в них оказывается
выше уровня перекрытия, она словно пробивает, взла¬
мывает крышу. А ведь именно крыша, по словам Аль¬
берти, “дарует безопасность,., отгоняя и отражая ночь,
дождь и ... знойное солнце”, и “чудесно хранит все зда¬
ние”26. Лишенные крыши, стены словно расшатывают¬
ся, распадаются: “Убери крышу ... осядет стена, пошат¬
нутся бока, и, наконец, вся стройка незаметно расся¬
дется... Ведь крыша - орудие зданий против натиска
стремительной бури”.
Повышенно интенсивное переживание верхней
грани изобразительного поля вообще характерно для
архитектурных рельефов Донателло. Многие из них в
верхней части срезаются рамой, в то же время все эле¬
менты архитектуры стремительно поднимаются вверх.
В падуанском рельефе “Чудо с сердцем скупого” пло¬
386
щадки громоздятся друг над другом, соединенные при¬
ставной лестницей. В рельефе “Танец Саломеи” (Лилль,
Городской музей) архитектурные сооружения, словно
надстроенные одно над другим, уходят за верхнюю
грань рамы, усиливая этот ритм подъема; все поле рель¬
ефа пересекает широкая и крутая лестница, архитекто¬
нически неоправданная (“...лестницы нарушают план
зданий...”) - и от этого еще более выразительно пере¬
секающая, точнее, перекрывающая все постройки
(“...кто не хочет, чтобы ему мешали лестницы, пусть
сам не мешает лестницам...”). Эта лестница ведет на
верхнюю площадку, почти под самую раму, которая
здесь композиционно выполняет роль перекрытия
(“...надо отвести определенное и особое пространство,.,
где откроется свободный и вольный ход вплоть до верх¬
них перекрытий, находящихся под открытым не¬
бом...”)28.
В архитектурной поэтике Донателло, так же как у
Альберти, мотив лестницы играет очень важную роль.
Это особенно заметно при сравнении его рельефов с
рельефами Гиберти. У Гиберти лестницы встречаются
редко, но даже там, где они изображены, их простран¬
ственная динамика не выражена. В сцене “Встреча
царя Соломона с царицей Савской” широкая лестница
перед храмом представляет собой, в сущности, несколь¬
ко усложненную, профилированную форму подиума.
Ступени, расположенные параллельно плоскости изоб¬
ражения, к тому же заслоненные с двух сторон группа¬
ми стоящих фигур, не имеют перспективного построе¬
ния, ракурса, они уплощены. В рельефах Донателло,
напротив, лестницы изображаются обычно в сильном
ракурсе; это делает их пространственно активными; их
функциональное назначение акцентировано поведе¬
нием персонажей, которые либо поднимаются по ступе¬
ням, либо сбегают вниз, либо расположены у подножия
лестницы, подчеркивая заложенный в ней ритм подъе¬
ма, либо, напротив, смотрят сверху вниз, как бы изме¬
ряя глубину спуска. Крутая лестница, соединяющая
несколько уровней архитектурного сооружения, - от¬
личительная черта городского строительства.
“Между городскими домами и виллой ... разница та
... что в городских многое необходимо, соразмерить с тре¬
бованием соседа, тогда как в вилле мы менее ограничены
в своих правах”, - пишет Альберти29. Виллы в идеале
Об интерпретации архитектуры...
387
должны быть одноэтажными: “...когда попадешь в глубь
дома, пусть не нужно будет спускаться по ступенькам, но
пусть вплоть до потаеннейшего покоя идут по ровному
полу...”30. Напротив, условия городской застройки, ог¬
раниченность строительного участка ведет к многоэтаж-
ности, “вынуждает на здание ставить здание” и устраи¬
вать лестницы, хотя они и являются “нарушительница¬
ми порядка в доме”. Вертикальные ритмы в организации
урбанистической среды, заставляющие людей “подни¬
маться или спускаться сверх необходимости”, восприни¬
маются Альберти как признак именно современного го¬
рода: “Как я заметил, древние особенно старались избе¬
жать того, чтобы лестницы им мешали”31.
В контексте сформулированной Альберти антите¬
зы (городской дом - загородная вилла; город - природа;
современность - древность) изображение лестниц в
рельефах Донателло и отсутствие их у Гиберти приобре¬
тают концептуальный характер.
Мотив лестницы мог иметь еще один смысловой
аспект. Лестница - это не только отличительный при¬
знак городской архитектуры, это и своеобразная образ¬
ная антитеза “лестницы духовной”, знак физического
овладения метафизической вертикалью средневековья,
простой и удобный способ преодоления дистанции меж¬
ду низом и верхом, между землей и небом, архитектур¬
ная метафора завоевания высоты.
В биографии Брунеллески есть знаменательный
эпизод. При возведении купола, когда кладка близи¬
лась к завершению, каменщики, испугавшись, отказа¬
лись работать на такой огромной высоте. И тогда Бру¬
неллески построил прочные, безопасные лестницы, по
которым они могли легко подниматься с пола собора
под самый купол, и там, наверху, сделал удобную пло¬
щадку, где можно было спокойно отдыхать и куда до¬
ставляли пищу и вино, - словом, смоделировал рай под
куполом храма, символическим небесным сводом32.
Показательно, что современники Брунеллески видели
в нем не столько архитектора, спроектировавшего зна¬
менитый купол, сколько инженера-строителя, осуще¬
ствившего это невиданное по своей смелости и сложно¬
сти высотное сооружение. Его “чудотворство”, вызвав¬
шее столько споров и нареканий и принесшее ему
столько славы, состояло главным образом в возведении
строительных лесов и вспомогательных лестниц.
388
В урбанистической лексике Донателло, наряду с
изображением балки и лестницы, важная роль принад¬
лежит изображению угла. Отдельные элементы зданий
в его рельефах часто представлены с угла или под уг¬
лом, причем в ряде случае в в очевидном противоречии
с общим фронтальным построением архитектуры; но
именно это несоответствие придает изображению угла
характер сознательно выделенного визуального знака,
вводящего тему городской архитектуры, ибо взгляд с
угла - это взгляд горожанина по преимуществу, пози¬
ция которого задана расположением улиц, не дающих
возможности свободного отхода. Вместе с тем введение
в архитектурную композицию неожиданных угловых
форм и ракурсов создает ту насыщенность, то разно¬
образие и ту разноаспектность, которые могут воз¬
никнуть только в городе, где каждый поворот улицы,
каждый угол и перекресток дают новые соотношения
объемов и пространства. Именно это богатство архитек¬
турных впечатлений считат Альберти одним из важ¬
ных эстетических качеств городской планировки:
“Внутри города [улице] подобает ... быть не прямой, а
... извивающейся мягким изгибом то туда, то сюда, то
вновь в ту же сторону ... И как хорошо, когда при про¬
гулке на каждом шагу постепенно будут открываться
все новые стороны зданий...”33. Мотив угла Донателло
вводит даже в строго репрезентативные построения
рельефов Падуанского алтаря. Торжественная статич¬
ность основного архитектурного триптиха нарушается
динамикой углов и пересечений переднего плана, вно¬
сящих в ритуальные сцены беспокойство урбанисти¬
ческих ритмов. В этой городской архитектуре и люди
у Донателло ведут себя по-городскому: сгрудившись во¬
круг главных героев изображенного события, они обра¬
зуют многоликую уличную толпу, жадную до впечат¬
лений. И само событие, увиденное глазами этой толпы,
приобретает характер уличного происшествия.
Поведение и самоощущение персонажей архитек¬
турных рельефов Донателло - это поведение и самоощу¬
щение жителей города, стиснутых стенами домов, су¬
ществующих в тесных пространствах, огороженных пе¬
рилами, парапетами, вынужденных карабкаться на по¬
мосты и лестницы; они всегда возбуждены, всегда в на¬
пряжении. В них нет незаинтересованного спокойствия
героев Гиберти, обитающих в свободном пространстве
Об интерпретации архитектуры...
389
естественной природы. В рельефах Донателло человек
заключен в пересеченное, расчлененное, сконструиро¬
ванное пространство городской среды, им самим для се¬
бя созданное.
Примечания
1 ManettiA. Filippo Brunellesco. Stuttgart, 1887. S. 35.
2 P. Краутхаймер (Krautheimer R. Lorenzo Giberti. Princeton,
1956. P. 19-36) объясняет полемичность “Биографии” тем
обстоятельством, что в последней четверти XV века во
Флоренции значительно возрос интерес к творчеству Бру¬
неллески и Донателло, в то время как гармонический
характер произведений Гиберти казался старомодным.
Гиберти стал восприниматься как антипод и противник
Брунеллески и Донателло.
3 Гиберти Л. Commentarii / Пер. А. Губера. М., 1938. С. 30.
4 Там же. С. 30-31. У Манетти конкурс описывается по-дру¬
гому: члены жюри решили, “что обе модели были превос¬
ходными (...) они не знают, кому отдать предпочтение, и
поскольку работа предстоит большая, потребует много
времени и больших средств, пусть они поделят ее пополам
и будут работать вместе” (Манетти А. Op. cit. S. 14).
Р. Краутхаймер высказал предположение, что решение
жюри не было единодушным, поскольку обе конкурсные
работы - Гиберти и Брунеллески - были сохранены, в то
время как работы всех других участников конкурса, по-
видимому, уничтожены (Krautheimer R. Op. cit. S. 38). О
конкурсе 1401 года см.: Dini G. Ch. II concorso del 1401 //
Ghiberti L. Materia e ragionamenti. Catalogo della mostra.
Firenze, 1978; Middeldorf A. Kosegarten Ghiberti e le origi-
ni del concorso artistico in Italia // Lorenzo Ghiberti nel suo
Tempo: Atti del Convegno internazionale di Studi. Firenze,
1981.
5 Гиберти Л. Указ. соч. С. 36.
6 Там же. С. 35.
7 Там же. С. 33.
8 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. I.
С. 179.
9 Вазари упоминает Филарете среди мастеров, помогавших
Гиберти при выполнении рельефов вторых дверей Баптис¬
терия. Хотя большинство специалистов подвергают со¬
мнению это утверждение Вазари, тем не менее очевидно,
390
что Филарете хорошо знал рельефы, о чем свидетель¬
ствуют некоторые детали его собственных скульптурных
произведений. По-видимому, это влияние можно обнару¬
жить и в романе “Сфорциида”, как в рисунках, так и в тек¬
сте. В связи с этим заслуживает внимания описание якобы
обнаруженной при закладке города “золотой книги”, воз¬
можно, навеянное рельефами дверей, позолоченных в
1452 году.
Ю С.М.: Fasolo V. Riflessi Brunelleschiani nelle architetture del
pittori // Atti del I Congresso di Storia del Archittetura, 1936.
P. 199; Krautheimer R. Op. cit. S. 265; Morolli G.L.
“Architettura dal” Antico ad Utopia // Chiberti L. Op. cit.
P.204-205.
11 Гиберти Л. Указ. соч. С. 33.
12 Cp. например, описание рельефа с историей Моисея (“На
седьмом квадрате [изображено], как Моисей получает
скрижали на вершине горы, и как на середине горы оста¬
ется Иисус [Навин], и как народ у подножия горы стоит в
полном изумлении...”), и рельефа с историей царицы Сав-
ской, где архитектуре принадлежит большая не только
композиционная, но и сюжетная роль (“На десятом релье¬
фе изображено, как царица Савская приходит посетить
Соломона с большой свитой; она в украшениях, с множе¬
ством народа вокруг”). - Там же. С. 35.
13 “На восьмом квадрате [изображено], как Иисус [Навин]
пошел на Иерихон, пришел туда, повернул Иордан и
поставил 12 шатров. И как он ходил вокруг Иерихона,
трубя в трубы, и по прошествии шести дней упали сте¬
ны...” (Там же).
14 О характере перспективного построения архитектурных
фонов в рельефах вторых дверей Гиберти см.: Krauthei¬
mer R. Op. cit. S. 196-201.
15 О построении пространства в рельефах Райских дверей
см.: Bloom К. Lorenzo Ghiberti’s Spac in Relief: Method and
Theory // The Art Bulletin. 1959. June; Ray S. Construzione
e concesione dello spazio in Ghiberti // Lorenzj Ghiberti nel
suo Tempo.
16 ManettiA. Op. cit. P. 17.
17 Здесь применен тот же прием, которым Гиберти пользует¬
ся и в последнем рельефе Райских дверей, изображая
одновременно фасад и интерьер храма. Этот чисто чертеж¬
ный подход к изображению архитектуры, в сущности,
восходит к средневековому способу разноаспектного по¬
строения объема и пространства на плоскости.
Об интерпретации архитектуры...
391
18 В архитектурных рельефах Донателло природа вообще не
изображается. Только в рельефе “Чудо Св. Георгия” Дона¬
телло, следуя иконографической традиции, вписывает в
пейзаж портик классического здания. В других случаях
(“Передача ключей”, “Иоанн на Патмосе” и др.) изображе¬
на чистая природа вне сопоставления с архитектурой.
19 Ср. урбанизованный образ неба в трактате Альберти, чрез¬
вычайно характерный для его общей антиприродной на¬
правленности: “...Если бы природа небесную полусферу
разделила на две части отвесным и прямым сечением с
востока на запад, то это дало бы два парных свода...” (Аль¬
берти Л.Б. Указ. соч. С. 99).
20 ManettiA. Op. cit. Р. 18.
21 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 12.
22 Возможно, что у Донателло на впечатления строящегося
города наслаивались впечатления от античного Рима в
руинах. Это тем более вероятно, что Брунеллески, с кото¬
рым Донателло работал в Риме, задумал свою новую архи¬
тектуру, изучая остатки архитектуры Древнего Рима
(см.: ManettiA. Op. cit. Р. 17).
23 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 93.
24 Биография Брунеллески, написанная после его смерти,
пронизана пафосом выявления аутентичности творений
мастера.
25 Рисунок находился в собрании Вазари; считается копией
XV века с несохранившегося рисунка самого Брунеллес¬
ки. См.: Ragghiani С. II libro del “disegni” del Vasari. Diseg-
ni di architettura // Critica d’Arte. 1973. XX (XXXVIII).
Fasc. 127. Некоторые исследователи склонны датировать
рисунок XVI веком. См.: Catalogo della mostra “Disegni di
fabbriche brunelleschiane”. Firenze, 1977. В книге Дзордзи
(Zorzi L II Teatro e la citta. Torino, 1977. P. 35) приводятся
обе датировки.
26 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 33.
27 Там же.
28 Там же. С. 38.
29 Там же. С. 309.
30 Там ж. С. 311.
31 Там же. С. 309.
32 См.: ManettiA. Op. cit. Р. 40. Своеобразное развитие темы
рукотворной лестницы, ведущей с земли на небо, можно
найти в опубликованном в 1517 году диалоге Андреа Гуар-
на да Салерно, озаглавленном “Scimmia”. Действие проис¬
ходит у врат рая, куда в числе прочих является архитек-
392
тор Браманте. В разговоре с апостолом Петром он предла¬
гает привести в порядок и архитектурно оформить дорогу
в рай, “неровную и неудобную для подъема”. “Я построю
винтовую лестницу, - говорит Браманте, - такую широ¬
кую, что души стариков и расслабленных смогут подни¬
маться по ней, сидя на лошади”. Браманте предлагает так¬
же заново перестроить весь рай, создав в нем новый архи¬
тектурный комплекс, “с красивыми и удобными жилыми
помещениями для праведников” (Guarna da Salerno А.
Scimmia. Roma, 1970. P. 119).
33 Альберти Л.Б. Указ. соч. С. 123.
Альберти
и Флоренция
После того, как из долгого
изгнания...
я вернулся сюда, в эту нашу
превыше всех
прекраснейшую родину...
Я словно чужестранец, редко
приезжаю
и остаюсь недолго...
Говорят: люби свою страну
и своего
правителя, совершая для них
все добрые дела, которые они
от тебя требуют.
Но говорят также, что родина
человека - весь мир...
Альберти
“В великолепном и прекрасном
городе Флоренция проживали
два старинных и благородных се¬
мейства, одно звалось Барди,
другое Бондельмонти; будучи
врагами, они, используя свое мо¬
гущество и богатство, втянули в
распрю почти весь город”. Так
начинается “Любовная история
Леоноры Барди и Ипполито Бон¬
дельмонти” - новелла, автором
которой большинство современ¬
ных исследователей склонны
считать Леона Баттисту Альбер¬
ти. Новеллу датируют 1430-ми
годами, то есть временем пребы¬
вания Альберти во Флоренции1.
У главы одного семейства,
повествует Альберти, Америго де
Барди, человека безупречной ре¬
путации, была дочь Леонора.
Главой второго был Бондельмонт
де Бондельмонти, человек очень
богатый, имевший единственно¬
го сына по имени Ипполито. Оба
семейства состояли в старинной
394
кровной вражде, так что ни тот, ни другой не решались
выходить из дома без 300 человек хорошо вооруженной
охраны. Их взаимная ненависть постоянно возрастала,
однако вспыхнувший огонь любви оказался более могу¬
щественным.
Леонора, достигнув 15 лет, отправилась однажды
на празднование в Сан Джованни и встретила там Иппо-
лито, которому исполнилось 19. Юноша посмотрел на де¬
вушку, она случайно взглянула на него, и когда их взоры
встретились, в сердцах их вспыхнуло любовное жела¬
ние, такое сильное, что прежде, чем они покинули храм,
они уже были влюблены друг в друга. Кода Леонора с по¬
другами вышла из Баптистерия, Ипполито на расстоя¬
нии последовал за ней и узнал, что эта девушка - из се¬
мейства их врагов. Леонора же, войдя в дом, подошла к
окну и, увидев Ипполито, спросила у своей наперсницы,
кто это. Узнав, что это сын мессера Бондельмонте, она
очень огорчилась и ушла к себе, ропща на судьбу. И чем
труднее было молодым людям увидеться, тем сильнее
возрастала любовь с обеих сторон, так что несчастная
Леонора, закрывшись в своей комнате, жаловалась, го¬
воря: “О, злая судьба, врагиня всякой радости, как мно¬
го горя приносишь ты мне! Почему вражда, почему раз¬
доры постоянно возникали у моих предков?” Ипполито,
воспламененный не менее ее, не говорил ни слова, зная,
что ему невозможно видеть ту, образ которой он постоян¬
но хранил в своем сердце. Он впал в меланхолию, избе¬
гал развлечений, покинул друзей, редко выходил из
комнаты и, оставаясь в постели, проклинал жестокие
обстоятельства и вражду отцов. Он жаловался на злую
любовь: почему из всех прекраснейших девушек ему
суждено было полюбить именно эту? “О безжалостная
Фортуна, - роптал Ипполито, - будь проклят день, когда
мои глаза увидели ее, потому что от этого родились такие
несчастья и такие мучения!”
Ипполито потерял сон, перестал есть, похудел,
побледнел и день ото дня становился похожим скорее
на мертвого, чем на живого. Далее действие развивает¬
ся стремительно. Родители Ипполито в отчаянии, мать
умоляет сына открыть причину своей болезни. Взяв с
нее клятву не разглашать тайну, Ипполито открывает¬
ся матери, и та устраивает ему тайное свидание с Леоно¬
рой в монастыре, аббатисса которого - тетка Леоноры.
Так же как и шекспировский Ромео, спрятавшийся в
Альберти и Флоренция
395
комнате Ипполито слышит любовные жалобы Леоно¬
ры; они признаются друг другу в любви и в конце ока¬
зываются в постели аббатиссы. Перед тем как расстать¬
ся, Леонора назначает возлюбленному свидание в своей
комнате, куда он должен подняться ночью по веревоч¬
ной лестнице. Схваченный ночной стражей, приняв¬
шей его за вора, Ипполито молчит, не выдавая своей
тайны, и его приговаривают к смертной казни. Однако,
в отличие от “печальной повести о Ромео и Джульетте”,
в новелле Альберти все кончается хорошо. Ипполито
просит судью по дороге на казнь провести его мимо
дома Барди, врагов своей семьи, якобы для того, чтобы
испросить у них перед смертью прощения; на самом же
деле он хочет взглянуть в последний раз на Леонору.
Леонора, увидев в окно Ипполито у своего порога, выбе¬
гает на улицу, бросается ему на шею, объявляет, что
Ипполито ее супруг, что он приходил к ней по ее зову и
что она требует справедливости. Наступает общее при¬
мирение, завершившееся богатым свадебным пиром в
честь двух семейств, которые 200 лет были непримири¬
мыми врагами, а теперь породнились.
Тема семейной вражды остро переживалась Аль¬
берти на протяжении всей его жизни. Он не переставал
чувствовать себя изгоем, как член фамилии, выслан¬
ной в результате политических распрей из родного
города, - и как незаконнорожденный, хотя впослед¬
ствии и усыновленный отцом, но отвергавшийся всей
родней, упорно считавшей его бастардом.
В сочиненной им новелле все кончается хорошо:
враждующие кланы примиряются, влюбленные женят¬
ся и живут долго, мирно и счастливо в кругу дружной
семьи. Флорентийская действительность оказалась го¬
раздо более суровой и драматичной. Амнистия, которой
в 1428 году при вмешательстве папы Мартина V сумело
добиться семейство Альберти, не привела к примире¬
нию враждовавших кланов. Через несколько лет “после
того, как из долгого изгнания, в котором мы, Альберти,
успели состариться”, - с горечью пишет Баттиста, -
представители его рода вернулись в “превыше всех пре¬
краснейшую родину”2, из нее были изгнаны их главные
враги - Альбицци; одна партия одержала победу над
другой и взяла реванш.
Дружной, счастливой семейной жизни под одним
кровом, о которой мечтал Альберти, тоже не по лучи¬
306
лось. Многие члены его рода разбрелись по разным го¬
родам, не все смогли или захотели вернуться во Фло¬
ренцию. Собственной семьи у Альберти не было.
Новелла, написанная в 1430-е годы во время пер¬
вого приезда Баттисты во Флоренцию, первого, полного
надежд возвращения на родину, представляла собой не¬
кую идеальную модель гражданского примирения и се¬
мейного счастья, модель, как, впрочем, и многие дру¬
гие “модели” Альберти, остававшуюся в сфере желае¬
мого, но не осуществленного.
Может показаться странным, что история взаимо¬
отношений Альберти с его родным городом Флоренцией
начинается пересказом новеллы, с которой связано
столько неясного и, прежде всего, вопрос о ее авторстве
и точном времени написания; но главное для нас - сам
ее сюжет. Считается, что он мог быть навеян реаль¬
ным случаем, имевшим место в XIV веке во Флорен¬
ции: брак по любви между представителями враждую¬
щих флорентийских семейств - Альберти и Альбицци.
Однако в новелле, воспроизводящей эту достаточно не¬
обычную ситуацию примирения3, называются другие
фамилии, столь же известные и влиятельные в городе,
хотя в их семейной хронике ничего подобного разыс¬
кать не удалось. Получается, что автор новеллы расска¬
зывает о реально случившейся истории4, но приписы¬
вает ее членам других семейств, причем не вымышлен¬
ных, но хорошо известных в городе. (Любопытная
деталь: сам Альберти, пусть косвенно, причастен к опи¬
санной им в новелле ситуации, поскольку по бабке со
стороны отца он происходил из семейства Барди и,
таким образом, оказывался дальним родственником
героини новеллы - Леоноры5.) Ситуация необычная и в
некотором роде загадочная. Что это? Скрытый, глубоко
запрятанный намек автора, который, по собственному
признанию, часто в своих сочинениях, “оглашая по¬
ступки своих предков”, “приводил имена других лю¬
дей”6; сознательное нежелание напоминать об эпизоде,
связанном с прошлым его собственного семейства, под¬
нимать старинные политические раздоры именно
теперь, когда пришедший к власти Козимо Медичи, к
сторонникам которого принадлежали члены клана
Альберти, расправился с семейством Альбиции на¬
столько сурово, что даже навлек на себя упреки со сто¬
роны некоторых влиятельных сограждан.
Альберти и Флоренция
397
Конечно, не исключено и другое предположение:
Леон Баттиста Альберти не писал этой новеллы, она
принадлежит перу не флорентийца, а какого-то иного¬
роднего автора, не соотнесенного со всеми обстоятель¬
ствами сложной политической ситуации во Флоренции
и именно поэтому сделавшего участниками истории “не
те” семейства. Наконец, возможен и такой вариант:
автор (в этом случае вряд ли это мог быть Альберти)
просто использовал “бродячий” сюжет, при этом и фа¬
милии протагонистов, и место действия взял “наугад”.
История, рассказанная в новелле, позднее была перело¬
жена кем-то в стихи, что свидетельствует о популяр¬
ности этого сюжета в литературе итальянского Воз¬
рождения, и не только итальянского: доказательство
тому - “Ромео и Джульетта” Шекспира. Вопрос в таком
случае может быть сформулирован следующим обра¬
зом: с какого момента этот сюжет стал “бродячим”?
До того, как была написана “Любовная история Леоно¬
ры Барди и Ипполито Бондельмонти”, или сама “Лю¬
бовная история” сделала этот сюжет “бродячим”?
И все же многое в этой неопределенной ситуации
выводит на след Альберти.
В 1970 году рукопись новеллы была обнаружена в
двух списках, причем в каждом из них - вместе с двумя
другими “любовными” сочинениями, бесспорно принад¬
лежащими перу Альберти. После этого такой автори¬
тетный автор, как Сесил Грайсон - издатель трудов Аль¬
берти, - решительно включает “любовную историю” в
третий том его сочинений на итальянском языке, вы¬
шедший в Бари в 1973 году7. Однако в каталоге выстав¬
ки Альберти, состоявшейся в Мантуе в 1994 году, новел¬
ла снова отнесена к числу приписываемых Альберти8.
Как ни парадоксально это выглядит, но одним из
весомых аргументов в пользу авторства Альберти мо¬
жет служить именно анонимность новеллы. Альберти,
как известно, был склонен к литературным мистифи¬
кациям. Его юношеское сочинение - латинская коме¬
дия “Филодоксеос”, появившаяся под именем несу¬
ществующего древнеримского комедиографа Лепида,
долго считалась одной из сенсационных “древних”
находок. Альберти признался в своем авторстве лишь
спустя десять лет, в 1432 году.
Позднее, в годы экуменического собора (1439),
один из высоких иерархов - Бьяджо Молино, начальник
398
папской канцелярии, обратился к Альберти с предло¬
жением написать “Жития” христианских мучеников.
Альберти не мог отказаться от такого почетного заказа,
однако не имел ни времени, ни, возможно, охоты для
серьезных архивных изысканий и решил сам сочинить
трогательную историю мученичества пятнадцатилетне¬
го юноши по имени Потита. В 1439 году заказчик умер,
и Альберти не стал писать остальные жития. Уже напи¬
санное житие Потиты он подарил флорентийскому
канонику Марино Гуаданьи; таким образом, его сочи¬
нение оказалось в ученой флорентийской среде, и по¬
явилась угроза разоблачения этой дерзкой литера¬
турной мистификации. Это предчувствует и сам автор.
В письме к своему другу Леонардо Дати Альберти
пишет: “...разделяю твои опасения, что эрудиты расце¬
нят историю Потиты как наивную сказку”. Однако, по
его словам, он был бы вполне удовлетворен, “если бы
удалось убедить их, что он ошибся только в имени му¬
ченика”9. Этот смелый литературный розыгрыш Аль¬
берти совершил, выполняя обязанности секретаря пап¬
ской курии. Шутка была дерзкой, однако она не имели
неприятных для Альберти последствий.
Наконец, так называемая “Автобиография” Аль¬
берти - сочинение, дошедшее до нас в виде фрагмента,
без начала и без конца (историческая случайность или
сознательный прием?). Написана “Автобиография” от
третьего лица и в прошедшем времени, однако в при¬
надлежности ее перу самого Альберти в последнее вре¬
мя мало кто из специалистов сомневается10. Но почему
в прошедшем времени и от третьего лица? Текст откро¬
венно апологетичен. Герой обрисован как подлинный
кладезь всяческих достоинств и добродетелей; во всем,
что бы он ни делал, “не было никого ему равного”; “сре¬
ди владетельных особ Италии и среди иноземных госу¬
дарей” многие “превозносили его доблесть”; он просла¬
вился “замечательными и крупными изобретениями”,
“неслыханными и невиданными”11, - и так далее в том
же роде. Возможно, именно этот тон панегирика под¬
сказал автору отстраненно-оценочный прием изложе¬
ния: написано как бы не о себе, но о нем.
Вместе с тем в тексте “Автобиографии” столько
пристрастности, столько обид на людей, на судьбу,
столько жалоб и упреков, особенно в адрес родственни¬
ков, членов семейства Альберти, обвинений их в неспра¬
Алъберти и Флоренция
399
ведливости, злобе, коварстве, обвинений, кажущихся
поистине чудовищными и к тому же не находящих до¬
статочного подтверждения в других, более объектив¬
ных документах, - что в тексте со всей очевидностью
проступает Я-автор, которого трудно скрыть под личи¬
ной Он-автора.
Сесил Грайсон считает, что только ему “могло
прийти в голову написать о себе, как о другом”, что “Ав¬
тобиография” - “это, без сомнения, шутка, но она со¬
держит важную информацию о его деятельности, о ко¬
торой мог знать только он сам”12.
Вернемся к “Любовной истории Леоноры Барди
и Ипполито Бондельмонти”. Эта новелла органично
вписывается в духовную биографию Альберти периода
его первого посещения Флоренции. Прежде всего, это
повесть о любви. Тема любви особенно занимала Аль¬
берти в эти годы, именно тогда была написаны такие
сочинения, как “Экатонифилеа”, “О любви”, новелла
“Деифира” и некоторые другие. Предполагают, что в
“Деифире” излагается история неудачного романа,
пережитого Альберти в юности. Его герой - Филомено -
сначала бежит от любовных притязаний Деифиры, за¬
тем увлекается ею, но не может добиться взаимности
и страдает от ревности. Альберти занимают в этот
период превратности и драматические последствия
любви. В истории Леоноры и Ипполито все начинается
с непреодолимых препятствий и страданий любовни¬
ков - хотя и завершается полным благополучием, счаст¬
ливым браком. Леонора и Ипполито “живут долго, в ве¬
личайшем счастье и весельи, в утехах дружбы, в бо¬
гатстве и окруженные прекраснейшими детьми”.
Если первая тема новеллы - счастливая любовь,
то вторая, не менее, если не более важная для Альберти
тема - благополучная, богатая и дружная семья. Имен¬
но в эти годы во Флоренции пишет Альберти первые
три книги своего трактата “О семье”. Однако отноше¬
ния Баттисты с его собственной семьей складывались
отнюдь не благополучно, по-видимому, некоторые “за¬
конные” члены семейства Альберти не соглашались
принять его “незаконного” в свое лоно. В сущности в
новелле заявлены темы, которые проходят через всю
жизнь Альберти и которые особенно остро и болезненно
окрашивают его отношения с родным городом - Фло¬
ренцией.
400
В “Любовной истории” все складывается хорошо -
это как бы своеобразная попытка заговорить судьбу,
умилостивить Фортуну. Новелла словно окрашена ра¬
достным настроением первой встречи с родиной; это за¬
клятие: пусть все будет именно так. Ее светлый, бодрый
тон перекликается с бодрым тоном “Трех книг о живо¬
писи” - результата первого знакомства Альберти с фло¬
рентийским искусством, всех сложных проблем кото¬
рого он еще на знал, в котором он еще не очень ориенти¬
ровался, но которое поразило и покорило его.
В “Посвящении” к трактату о живописи впервые
прозвучали из уст Альберти полные надежды на при¬
мирение слова: “После того, как из долгого изгнания, в
котором мы, Альберти, успели состариться, я вернулся
сюда, в эту нашу превыше всех прекраснейшую роди¬
ну...” Итак: мыу Альберти, в эту нашу прекраснейшую
родину - фраза, звучащая надеждой на семейное при¬
мирение, которое, увы, не состоялось.
Итальянский вариант трактата о живописи дати¬
руется 1435 или, возможно, 1436 годом. По-видимому,
в 1438 была написана “Автобиография”, полыхающая
обидой, разочарованием по поводу несостоявшегося
примирения с членами семейства Альберти, полная об¬
винений в нарочитом равнодушии, враждебности, ко¬
варстве, бессовестности и бессердечии.
Особенно обидело Леона Баттисту то, что, когда
он подарил своим родным в сущности специально о них
и для них написанные три книги “О семье”, среди чле¬
нов семейства Альберти “...не нашлось почти никого,
кто бы удостоил прочесть хотя бы заглавия этих книг,
несмотря на то, что ими интересовались даже за грани¬
цей”13. Он не мог удержаться от негодования, слыша,
как некоторые из его родных открыто издевались над
этим сочинением, “...называя его нелепейшим”. Леон
Баттиста, судя по “Автобиографии”, был так оскорб¬
лен, что хотел даже сжечь все три книги - это звучит
уже откровенным литературным преувеличением, как,
кстати, и многое другое в этом тексте. Так, автор не¬
однократно возвращается к вопросу о “жесточайших
обидах и невыносимых оскорблениях от собственной
родни”, о распространяемой ими клевете. Более того,
Альберти утверждает, что “они составляли чудовищ¬
ные заговоры в его собственном доме, подстрекая
наглых слуг варварским образом зарезать его, ни в чем
Альберти и Флоренция
401
не повинного”14. Трудно сказать, было ли это на самом
деле, или это плод чрезмерной подозрительности авто¬
ра, или, что также не исключено, - требование литера¬
турного жанра. Впрочем, такое в те времена случалось
нередко, и не только во Флоренции. Во всяком случае
позднее, уже обосновавшись в Риме, в своем трактате об
архитектуре Альберти, говоря об устройстве семейного
дома, советует предусмотреть меры безопасности про¬
тив живущих в доме слуг.
В “Автобиографии”, сразу же после обвинения род¬
ственников в чудовищных злодеяниях, автор пишет, что
никогда не пытался “публично опозорить их, так как
бережно относился к репутации и чести своих близких,
и, раз полюбив... неспособен был возненавидеть...”15.
Странное признание в любви, следующее непосредствен¬
но за столь тяжкими обвинениями в попытках убийства.
Странное утверждение о нежелании придавать глас¬
ности неблаговидные поступки любимых родственни¬
ков - и одновременно писать об этом в рукописи, которая
вряд ли была предназначена для засекречивания. Мож¬
но почти с уверенностью сказать, что она имела хожде¬
ние по рукам. Что в ней правда, что плод творческой фан¬
тазии, определить трудно, но очевидно одно: отношения
с семейством Альберти были у Леона Баттисты очень
сложными, по-видимому, с самой юности его связывала
с непризнававшей его семьей копившаяся любовь-нена¬
висть; страстное желание утвердить свое право на при¬
надлежность к знаменитому во Флоренции, некогда “по¬
страдавшему за правду”, а теперь снова вернувшемуся и
готовому воспользоваться плодами “славных деяний
предков” семейству Альберти.
Сейчас трудно отгадать, чем, кроме имуществен¬
ных споров, объяснялось нежелание родственников
принять Леона Баттисту в свою семью16. То ли завис¬
тью к его положению, к его известности, как думает сам
Баттиста, то ли сложностью его неровного характера,
его нетерпимостью. Судя по некоторым данным, стар¬
ший брат Баттисты - Карло, так же как и он бастард,
трудностей подобного рода не испытывал. По-видимо¬
му, даже раньше, чем Баттиста, он вернулся в родной
город, ему возвратили один из принадлежавших семей¬
ству домов. Карло, судя по всему, прижился во Флорен¬
ции. Леон Баттиста прижиться не смог, в значительной
степени из-за того, что не нашел в ней ни своего семей¬
402
ства, ни своего “дома” - политической реабилитации
было для него недостаточно. Идеальная модель, создан¬
ная в несколько наивной любовной истории (по-италь¬
янски она звучит более выразительно - Istorietta, то есть
историйка, или маленькая история), оказалась для
него неосуществимой. И все же: “мы, Альберти... после
того, как из долгого изгнания вернулись в нашу превы¬
ше всех прекраснейшую родину...”
Мотив внешне состоявшегося и в то же время так
и не состоявшегося возвращения сопровождал Альбер¬
ти на протяжении всей его жизни.
Тема невозвращения... Прежде всего - в состав
семьи, рода. А роду Альберти было чем гордиться. На¬
чиная с XIV века его предки принимали активное учас¬
тие в бурной политической жизни Флоренции, в борьбе
гиббелинов с гвельфами, затем, после изгнания гибел¬
линов, семейство Альберти вместе с Медичи образуют
партию “средних” - ремесленников и банкиров -
и вступают в борьбу с партией “богатых”, возглавляе¬
мой Альбицци. В 1378 году дед Леона Баттисты - Бене¬
детто дельи Альберти - принимает активное участие
в восстании чомпи; он известен тем, что на площади
перед Синьорией первым обратился к толпе с призы¬
вом: “Да здравствует народ!”. Восставшие чомпи изго¬
няют из города Альбицци, и с этого начинается смер¬
тельная борьба двух кланов, поочередно отправлявших
в изгнание друг друга. В 1387 году, в результате перево¬
рота, победу одерживают Альбицци - Альберти высы¬
лают из города; всех, кроме Антонио, которому через
два года удается вернуться, но не в самый город, а на
свою загородную виллу “Парадизо”. В 1400 году - сно¬
ва заговор изгнанников против Альбицци, в котором
участвуют и Антонио Альберти, и семейство Медичи.
В следующем году Антонио схвачен и выслан со всей
родней из Флоренции. В 1411 году - вновь попытка
переворота, и снова один из главных зачинщиков -
Антонио Альберти. Голова его оценена в 2000 золотых
флоринов. В 1415 году он умирает в изгнании.
Антонио Альберти приходился дядей Леону Бат¬
тисте. Он вписал свое имя в историю Флоренции не
только активной политической деятельностью, на его
вилле “Парадизо” в 1389 году собиралась литератур¬
ная и интеллектуальная элита Флоренции для отдыха,
бесед и дискуссий - прообраз будущей Платоновской
Альберти и Флоренция
403
академии. В 1420-30-х годах, во время первого приезда
Леона Баттисты во Флоренцию или, возможно, накану¬
не этого приезда, известный флорентийский ученый и
писатель Джованни Герард о да Прато сочиняет роман,
в котором рассказывается об одном из таких сборищ на
вилле опального Антонио Альберти17. Сам Баттиста
в своем сочинении “О семье” описывает “со вздохом и
тоской” “великолепные” поместья, принадлежавшие
членам семьи Альберти, “поместья, которые не остав¬
ляют желать лучшего”. “Я умолчу о тех поместьях, -
продолжает Баттиста, - которые скорее - княжеские
дворцы и на вид больше похожи на замки, чем на вил¬
лы. Мы сейчас уже больше не помним наших альберти-
евских великолепий, - пишет он с горечью, - мы забы¬
ли о тех горделивых и роскошных постройках, мимо
которых многие, видя в них новых обитателей, прохо¬
дят со вздохом и с тоской вспоминают о прежних хозя¬
евах и о нашем альбертиевском гостеприимстве”18. Как
видим, у Альберти было достаточно оснований гордить¬
ся своими предками, своим родом. Он не хотел потерять
свою родословную.
Труднее объяснить позицию его родни, если она в
действительности была такой, как об этом написано в
“Автобиографии”. Неужели дело только в присвоенном
двоюродными братьями наследстве, которое отец -
Лоренцо Альберти - оставил по завещанию своим, рож¬
денным до брака, но впоследствии узаконенным сыно¬
вьям - Карло и Леону Баттисте. Правда, из-за этого
Баттисте в юности пришлось бедствовать, “страдая от
бессовестности и бессердечия родственников”19, кото¬
рым он, Баттиста, “простил”, но они, возможно, не про¬
стили причиненного ими же зла. Такое случается. Но
это было в юности, в Болонье, теперь же в 30-х годах во
Флоренции Баттиста уже вполне благополучен, обеспе¬
чен материально, имеет постоянное положение при
папском дворе, разного рода церковные доходы, он из¬
вестный писатель, ученый, его считают одним из обра¬
зованнейших и одареннейших людей Флоренции, если
не всей Италии.
Особое признание получили его дарования в
1439 году, когда по случаю экуменического церковного
Собора во Флоренцию съехалось множество видных
ученых, филологов, философов, знатоков в области
классической литературы. В этой среде разнообразные
404
таланты Альберти, его блестящая образованность были
оценены особенно высоко. Лапо ди Кастильонкио, оза¬
боченный интеллектуальным престижем своего города,
замечает, что блестящим умам, собравшимся вокруг
папской курии, Флоренция не может противопоставить
никого, кроме Баттисты Альберти, “чья талантливость
представляется ему достойной ни с чем не сравнимой
похвалы”, что он “не знает, явится ли когда-нибудь сре¬
ди потомков имя настолько великое”20. Даже прини¬
мая во внимание этикетно преувеличенный тон похвал,
нельзя не увидеть того впечатления исключительности,
которое производил Альберти на своей вновь обретен¬
ной родине. Его называют “украшением Флоренции и
всей Италии, чей удивительный талант... достоин хва¬
лы и удивления”21. По словам самого Альберти, его со¬
чинения читали и ценили не только в Италии, но и за ее
пределами. К тому же “он любезен, очень красив, полон
остроумия и происходит из знаменитого рода”, - как
пишет один из современников22. Итак, признание, ус¬
пех, материальное благополучие. С горечью описывая
великолепные дворцы, некогда принадлежавшие его
фамилии, Альберти вряд ли напоминал своим кузенам
о давнишней денежной тяжбе, во всяком случае, свиде¬
тельств этого не сохранилось. Он жаловался только на
невнимание со стороны родственников, на пренебреже¬
ние, необоснованную недоброжелательность, даже не¬
нависть. В чем же дело? Возможно, их раздражал его
блестящий успех, его неизменная
любезность и невозмутимость? Или эта вражда - в зна¬
чительной степени плод воображения Баттисты, со¬
зданный им образ самого себя как гонимого, бастарда,
бродяги? Тема бродяг занимала Альберти, он не раз воз¬
вращался к ней, в частности в своем “Момусе” - одном
из наиболее загадочных и наиболее личностных своих
сочинений23. Итак - невозвращение в семью.
Но было и гораздо более значимое невозвращение -
невозвращение в “превыше всех прекраснейшую” Фло¬
ренцию, ту, из которой столько раз изгоняли его пред¬
ков и в которую они столько раз возвращались и снова
были изгоняемы. И, наконец, после амнистии 1428 года
вернулись на родину окончательно, во всяком случае
те 13 из некогда изгнанных, которые остались в жи¬
вых, могли или захотели вернуться. Они обосновались
во Флоренции, получили свои дома и имущество, даже
Альберти и Флоренция
405
вновь отстроили за свой счет семейную лоджию, разру¬
шенную в 1412 году по решению коммуны.
Баттиста прижиться во Флоренции так и не смог.
У него было множество друзей-флорентийцев, множе¬
ство почитателей его разнообразных талантов - а он все
продолжал жаловаться на врагов, клеветников, преда¬
телей - и не только среди родных, но и среди посторон¬
них, тех, кто притворялись его друзьями, а за спиной
клеветали на него. “Несмотря на то, что он был обходи¬
телен, вежлив, никому не вредил, он чувствовал нена¬
висть, недоброжелательность и затаенную вражду,
очень для него докучную и чрезвычайно тягостную”24.
В этом есть что-то от мании преследования - или снова
сочиненный им образ самого себя, человека, вжившего¬
ся в амплуа гордого одиночки, гонимого, преследуе¬
мого своими согражданами, смотревшими на него как
на чужака. Исключенность как плата за исключи¬
тельность.
В первый свой приезд Альберти, по всей видимос¬
ти, пробыл во Флоренции с некоторыми перерывами с
1434 (если не с 28) по 1443 год. Позднее приезжал еще
неоднократно. И все же он называл себя “чужестран¬
цем”: “Я словно чужестранец во Флоренции, редко при¬
езжаю и остаюсь недолго”25. Впрочем, не так уж недол¬
го. Но свою “превыше всех прекраснейшую Флорен¬
цию” он любил странною любовью и, даже находясь в
ней, видел ее как бы из прекрасного далека, глазами не
коренного ее жителя, не ее гражданина, но глазами че¬
ловека, “родина которого - весь мир”26.
Эта позиция имела не только недостатки, но и не¬
оспоримые преимущества. Не погруженный во все
сложные перипетии политической и культурной жизни
своей родины, Баттиста не чувствовал себя связанным
ни гражданскими, ни цеховыми обязательствами, и это
давало ему внутреннюю свободу. Такой взгляд как бы
извне, со стороны, с необходимой дистанции, позволял
увидеть и оценить отстраненно и незаинтересованно
многие стороны флорентийской культуры, как ее не¬
превзойденные достоинства, так и ее недостатки. И не
только заметить и оценить, но и вмешаться, чтобы ис¬
править, научить.
В первый период своего пребывания во Флорен¬
ции он постоянно учит. Возможно, именно этот тон
учительства, назидания раздражал и часто возмущал
406
тех, кому он был адресован. Не этим ли следует объяс¬
нять неприязнь, о которой идет речь в “Автобиогра¬
фии”, неприязнь, которую Альберти болезненно чув¬
ствовал, вероятно преувеличивал, но которая несо¬
мненно имела место, да и не могла не иметь. Подумать
только: приехав во Флоренцию, где собрались после
реабилитации члены его рассеянного по свету семей¬
ства, Леон Баттиста, рано осиротевший, не имея доста¬
точного опыта семейной жизни, не имея собственной
семьи, пишет назидательный трактат “О семье”27. Этим
трактатом он невольно (или сознательно) выступает в
роли умудренного опытом главы семейства. Более того,
он преподносит поучающий трактат родственникам,
достаточно натерпевшимся в изгнании и теперь, после
возвращения на родину, успешно восстанавливающим
свои дома, имения, свое место в гражданской жизни
Флоренции. Нетрудно представить себе их реакцию,
нетрудно понять ее. Они раздражены, обижены, возму¬
щены, они демонстративно не хотят даже взглянуть на
подаренные книги, которые Баттиста, по его собствен¬
ным словам, писал специально для них28.
Баттиста ждет похвал и благодарностей. Родные
отмалчиваются, ссылаются на недостаток времени, го¬
ворят, что еще не успели прочитать, - это в глаза. А за
глаза издеваются над автором, хулят его сочинения.
И неудивительно. Пафос первых трех книг “О семье”,
их главные темы слишком семейно биографичны,
слишком очевидно просвечивает в них ситуация, сло¬
жившаяся после кончины отца Баттисты - Лоренцо
Альберти. В первой книге рассказывается, как умираю¬
щий Лоренцо собирает у своей постели родных, пору¬
чает брату Риччардо заботу о сыновьях, об оставленном
им наследстве; дает советы детям избегать зависти и
вражды, говорит о воспитании детей в лоне семьи. Не¬
трудно представить себе, как подобное начало долж¬
но было насторожить и соответственным образом на¬
строить родственников, не исполнивших завещания
Лоренцо, отобравших у братьев отцовское наследство
при очевидном попустительстве их дяди и опекуна -
Риччардо.
Во второй книге даются советы и наставления,
как хранить в семье дружбу, мир и спокойствие - тема
не менее острая для расссыпавшегося семейства Аль¬
берти, где царят несогласие и финансовые неурядицы.
Альберти и Флоренция
407
Наконец, в третьей книге речь идет о правильных
способах ведения домашнего хозяйства (это при том,
что сам Баттиста, по его собственному признанию,
“доходил до полной неосмотрительности в отношении
своих дел”); о поддержании благосостояния, о сохране¬
нии и приумножении наследства, оставленного отцом
семейства (отцовское наследство было у него отобрано
родственниками); о том, как правильно организовать
семейный очаг, жизнь под кровом при безусловном под¬
чинении авторитету отца как главы семейства.
Трактат “О семье” был неоднозначно принят не
только в ближайшем окружении Баттисты. В “Авто¬
биографии” он пишет о “многих из малообразованных
граждан”, которые заинтересовались его книгами; этих
любознательных он “почитал за братьев”29. Однако ин¬
терес этих “малообразованных, любознательных” со¬
братьев Альберти был вызван не всеми тремя книгами,
в которых шла речь о семье в широком, морально-фило¬
софском аспекте, но - очень прицельно и утилитарно -
только третьей книгой и именно теми ее частями, где
говорилось о способах ведения хозяйства. Этот текст
получил широкое хождение среди флорентийских куп¬
цов, он многократно переписывался, переделывался,
дополнялся и, наконец, потерял всякую связь с авто¬
ром книги, настолько, что уже в 40-х годах это, по сути
дела анонимное, сочинение стали приписывать извест¬
ному флорентийскому купцу Анжело Пандольфини,
скончавшемуся в 1446 году. При этом даже имена дей¬
ствующих лиц, фигурировавших в книге Альберти,
были изменены на имена родных и близких Пандоль¬
фини, а сам Альберти оказался всего лишь одним из
далеко не главных собеседников. Таким образом, тре¬
тья книга “О семье” обрела совершенно самостоятель¬
ную жизнь и даже другое название: “Об управлении
семьей”. Именно в таком виде, как сочинение Пандоль¬
фини, она цитировалась даже таким ученым автором,
как Маттео Пальмьери в его сочинении “О гражданской
жизни”. Цитирует этого неузнанного Альберти и Джо¬
ванни Ручеллаи в своих “Записках”30, не говоря уже о
других “малообразованных и любознательных” куп¬
цах, которых Альберти, не сразу сориентировавшийся
в ситуации, “почитал за братьев”.
Любивший литературные мистификации, Аль¬
берти сам оказался жертвой даже не мистификации,
408
а откровенного, хотя и по-средневековому наивного,
плагиата.
Сочинение “О семье” в целом признания у флорен¬
тийских современников Альберти не получило. Не по¬
лучило потому, что само представление о семье как
важной ячейке в социальной структуре общества начи¬
нает складываться и приобретать значение активного
фактора в жизни Италии - и Флоренции в первую оче¬
редь - лишь к концу XV столетия31.
Через полтора десятилетия после трактата “О се¬
мье” в “Десяти книгах о зодчестве” Альберти подробно
развивает свои идеи о семейном палаццо, не только в
архитектурном, но и социальном аспекте. Архитек¬
турный трактат писался в Риме, но пронизан флорен¬
тийскими воспоминаниями и флорентийской архитек¬
турной проблематикой32. Палаццо, о котором пишет
Альберти, рассчитано на семью в еще очень широком
значении этого слова, собственно, это скорее - клан,
нежели семья. В 1450-60-х годах Джованни Ручеллаи,
по-видимому, под впечатлением идей Альберти (в его
“Записках” много анонимных цитат из трактата “О се¬
мье”) собирает в своем палаццо под единой крышей це¬
лую группу жилищ, принадлежавших его родне, создав
своеобразный архитектурный комплекс (или, точнее,
конгломерат), который трудно определить как семей¬
ный палаццо в прямом смысле этого слова. Затем воз¬
никает во Флоренции великолепный дворец Медичи, а
следом - еще более великолепный и обширный дворец
Строцци. Идея семейного дома вырисовывается более
отчетливо, хотя оба дворца представляют собой не толь¬
ко городские семейные дома, но одновременно и как бы
укрепленные замки. Современники воспринимают их
как нечто исключительное: палаццо Медичи называют
земным раем, о нем слагают стихи; о палаццо Строцци
говорят, что оно сооружено гигантами. Пройдет еще не¬
много лет, и Флоренция окажется охваченной подлин¬
ной эпидемией строительства семейных домов. Их стро¬
ят не только богачи, но и люди среднего достатка, и этот
семейный строительный бум в 1490-х годах достигает
такого размаха, что в городе, по словам современников,
не хватает ни материала, ни рабочей силы33.
Трактат Альберти “О семье” своей проблематикой
оказался обращенным не столько в настоящее, сколько
в будущее. И если бум жилого семейного строительства
Альберти и Флоренция
409
во Флоренции и не был непосредственно спровоцирован
альбертиевским трактатом “О семье”, то можно ут¬
верждать, что Альберти предвосхитил ситуацию, и его
поучительный трактат, недостаточно оцененный фло¬
рентийцами 1430-х годов, хвалившими его в лицо и ху¬
лившими за спиной, оказался обращенным, через их
головы, к поколению 1470-1490-х годов.
А что представляет собой трактат Альберти “Три
книги о живописи”, написанный с ходу, по самым пер¬
вым, самым ярким впечатлениям от поразившего его
искусства Флоренции. Трактат об искусстве живописи,
предназначенный, по свидетельству автора, “только
для живописцев”, то есть профессионалов, написанный
человеком, который профессионалом не был, но лишь
иногда “брался за живопись для собственного удоволь¬
ствия”, “когда отдыхал от своих других, более важных
занятий”34. Совершенно очевидно, что Альберти был
дилетантом в живописи, хотя упорно подчеркивал, что
писал книгу не как ученый, но лишь “как живописец”.
Вряд ли случайно, что, несмотря на все старания спе¬
циалистов, произведений его кисти обнаружить так и
не удалось.
В посвятительной части своего сочинения Альбер¬
ти восхищается творениями флорентийских художни¬
ков, которые, по его словам, превзошли “древних”; од¬
нако самих живописцев он, судя по всему, близко не
знал. “Три книги о живописи” посвящены Филиппо
Брунеллески - архитектору; в качестве новаторов в об¬
ласти искусства приводятся три имени всем известных
во Флоренции скульпторов - Донателло, Гиберти и
Луки делла Роббиа; все трое были связаны, либо по ра¬
боте, либо по дружбе, с Брунеллески. Что касается жи¬
вописца Мазаччо, также считавшегося близким другом
Брунеллески, умершего в Риме в 1427 или в 1428 году,
по меньшей мере за семь лет до написания трактата, то
упоминание его имени, без всякой оговорки, в одном
ряду с именами живых мастеров вызывает некоторое
недоумение. Неясно к тому же, был ли автор трактата
знаком с этим единственным из живописцев, имя ко¬
торого фигурирует в этом трактате, обращенном спе¬
циально к живописцам.
Так же как книги “О семье”, “Три книги о живо¬
писи” - сочинение поучительное, более того, поучаю¬
щее, оно “должно служить начальной основой хорошей
410
живописи для малообразованных живописцев”35. Ав¬
тор берет тон даже несколько свысока: “Всякий, кто не
поймет [его доказательств] с первого взгляда, тот едва
ли когда-нибудь это усвоит, сколько бы он ни трудил¬
ся”. Баттиста пренебрежительно замечает, что “людям,
грубым от природы, малоспособным”, его рассуждения
“не придутся по вкусу”, что большинство художников
не пытаются осмыслить основы мастерства и что “если
ты спросишь их, что они собираются делать на той по¬
верхности, которую они окрашивают, они скажут тебе
все, что угодно, кроме того, о чем ты спрашиваешь”, по¬
этому “пусть каждый живописец знает, что он лишь
тогда достигнет высшего мастерства”36, когда постиг¬
нет науку живописи, изложенную в трактате, написан¬
ном Альберти.
Не будучи настоящим профессионалом, недоста¬
точно зная самую “кухню” живописи (как знал ее, ска¬
жем, Ченнино Ченнини), недостаточно знакомый
с флорентийскими художниками, Альберти с завидной
смелостью излагает живописную науку от первого
лица, прибегая в качестве примеров к собственному
опыту: “Там, где я начал делать рисунок, я черчу четы¬
рехугольник...”, “Я беру маленькую площадь, провожу
на ней прямую линию...”, “Я нашел, что это отменней-
ший способ - во всех вещах придерживаться того по¬
рядка, который я указал...”37 и т. д. Конечно, это всего
лишь педагогический прием, употребляемый для боль¬
шей наглядности, но все же он достаточно назойлив и
вполне способен вызвать раздражение у художников,
к которым он, по замыслу автора, обращен. Альберти
и сам подозревает это: “Кто-нибудь возразит: что поль¬
зы живописцу от всех этих исследований...”38. Можно
себе представить, что реакцию живописцев, в большей
своей части ремесленников - пусть в самом высоком
значении этого слова, - Альберти угадал правильно.
Впрочем, учитывая малотиражностъ книг в ту пору,
рукопись Альберти вряд ли доходила до многих из них,
хотя и была специально переведена автором с латинско¬
го на итальянский. А если и доходила, хотя бы в устном
пересказе, то лишь единицы пользовались на практике
изложенной в книге “наукой о живописи”, в основном
сводившейся к математическим правилам построения
центрической перспективы. Подавляющее большинство
предпочитало без всякой науки строить пространство
Альберти и Флоренция
411
на глазок, по способу, практиковавшемуся во Флорен¬
ции до того, как Альберти опубликовал свое сочинение.
Художники изображали пространство в глубину -
но кто как умел, кому как удавалось, пользуясь не
математическими правилами Альберти, а скорее пред¬
ложенной Гиберти “мерой глаза” - способом, который
скульптор наглядно демонстрировал в своей мастер¬
ской, работая с целой группой помощников над изго¬
товлением рельефов для восточных дверей Баптисте¬
рия. Этот термин “misura del occhio” Гиберти пред¬
ложил в своих “Комментариях” в некотором смысле
как альтернативу научному математическому способу
Альберти.
Собственно в художественной практике флорен¬
тийских мастеров первой половины столетия трактат
Альберти мало что изменил. И не только потому, что
далеко не все художники его читали, но главным обра¬
зом потому, что перспективное построение уже вошло в
творческий обиход флорентийских мастеров, они по¬
стигали этот способ пространственного построения в
процессе обучения, копируя работы старших, более
опытных художников. Не следует забывать, что “Трои¬
ца” Мазаччо на стене церкви Санта Мария Новелла -
образец правильного перспективного построения -
была написана во второй половине 20-х годов, то есть
почти за десять лет до трактата Альберти. Ей дивились
зрители, на ней учились художники, и можно с боль¬
шой долей уверенности предположить, что именно этот
и другие примеры перспективного построения в живо¬
писи раннего флорентийского кватроченто должны бы¬
ли поразить Альберти по его прибытии во Флоренцию,
поразить своей новизной, и что именно его сторонний
взгляд “чужестранца” дал ему возможность оценить
подлинное значение интуитивно найденных флорен¬
тийскими мастерами композиционных приемов, теоре¬
тически обобщить отдельные находки и вывести зако¬
ны центрической перспективы, определившие на це¬
лые столетия судьбы европейского искусства.
Книга о живописи Альберти, недостаточно про¬
звучавшая в профессиональной флорентийской среде
первой трети XV века, нашла адептов лишь у следую¬
щего поколения мастеров. Не очень умелым, но зато
страстным поклонником перспективы и ее оптических
возможностей становится Паоло Уччелло; ее истинным
412
поэтом и волшебником - Пьеро делла Франческа, урби-
нец, связанный с флорентийской школой. Пьеро сочи¬
няет трактат “О живописной перспективе”, развивая
положения книги Альберти. И все же на родине Аль¬
берти, во Флоренции, первооткрывателем, изобретате¬
лем перспективы на протяжении всего XV столетия
упорно продолжали считать земляка, к тому же прак¬
тика - Брунеллески, а не “чужестранца”, теоретика -
Альберти.
“Три книги о живописи”, как и три книги “О семье”,
были автором прицельно адресованы коллегам, друзь¬
ям, родственникам, наконец, единомышленникам. Но
именно в этой среде, среде тридцатидесятников, они
не прозвучали или, во всяком случае, прозвучали недо¬
статочно.
Сам Альберти чувствовал это. В “Автобиографии”
он признается, что среди своих сограждан “нравится го¬
раздо меньшему числу людей, чем мог бы нравиться”,
хотя “среди владетельных особ Италии и среди инозем¬
ных государей были не один и не два, признававшие и
превозносившие его”39; что в то время, как во Флорен¬
ции есть люди, которые не могут найти досуга, чтобы
прочесть его книги, ими интересуются за границей.
Невостребованность флорентийских трактатов
Альберти, по-видимому, отчасти объяснялась тем, что
они имели как бы двойного адресата, были одновремен¬
но рассчитаны на две различные дистанции - предель¬
но близкую и предельно далекую. Своего близкого каж¬
додневного адресата Альберти увидел издалека, глаза¬
ми “чужестранца”, не вполне сориентировавшегося в
реальной ситуации; он не сумел понять и достаточно
оценить его и потому задел, обидел или просто оставил
равнодушным. Пророческий же пафос его обеих книг -
способность их автора угадывать будущее “за целые
годы вперед”, засвидетельствованная, кстати, его
друзьями, - не был услышан и понят его ближайшими
читателями во Флоренции. В книге о живописи таким
неуслышанным пророчеством было смелое и даже не¬
сколько высокомерное утверждение Баттисты, что он
не “пытается заниматься пересказом всяких историй,
как это делал Плиний, но заново строит искусство жи¬
вописи, о котором в его век... ничего не найдешь напи¬
санного”40. Он действительно строил искусство живо¬
писи, более того - строил науку о живописи.
Альберти и Флоренция
413
Особое место среди сочинений Альберти занимает
его небольшой трактат “О статуе”. Время его написания
неизвестно, однако большинство исследователей склон¬
ны считать, что написан он во Флоренции примерно
в те же годы, что и трактат о живописи, или, может быть,
несколько раньше41. Трактат написан на латыни (по
признанию самого Баттисты, приехав во Флоренцию, он
еще слабо владел тосканским языком). В нем речь идет о
правилах построения идеальной человеческой фигуры, о
некоем каноне, которому обязаны следовать скульпто¬
ры. Поражает еще большая, чем в книге о живописи, не-
соотнесенность трактата с реальной художественной
ситуацией в области скульптуры во Флоренции, где в
первые десятилетия XV века кипят страсти вокруг укра¬
шения рельефами дверей Баптистерия, скульптурного
убранства собора и Ор Сан Микеле, где драматически
разворачивается творческое состязание таких мастеров,
как Брунеллески, Гиберти и Донателло, где в мастерской
Гиберти воспитывается целая когорта скульпторов.
Переведенный с латинского на итальянский лишь
в следующем столетии (в 1568 году), трактат, как и
книга о живописи, остался невостребованным в кватро-
чентистской Флоренции. И снова Альберти предугадал
будущее, создав канон идеальной человеческой фигу¬
ры, “модулер”, которым затем, в конце столетия, будут
широко пользоваться в своих архитектурных тракта¬
тах Филарете и Франческо ди Джорджио Мартини, не
говоря уже об архитекторах XVI столетия, да и после¬
дующих эпох, - достаточно привести знаменитый “мо¬
дулер” Корбюзье.
В Посвящении трактата “О статуе” епископу Але-
рийскому Альберти пишет: “Я надеюсь, что ты с удо¬
вольствием прочитаешь... мое небольшое исследова¬
ние, которое касается... главным образом творчества
архитектора...”42. Загадочная фраза: почему именно
архитектора? Неужели и вправду Альберти умел уга¬
дывать будущее “за целые годы вперед”?
Наконец, еще одна область, в которой чужестранец
Альберти смело выступил во Флоренции реформато¬
ром, - это область языка. Проведя всю первую полови¬
ну жизни в Венеции, Падуе и Болонье - вне тосканской
языковой среды, Альберти, приехав во Флоренцию, об¬
наруживает, что недостаточно владеет итальянским
литературным языком в его тосканском варианте. Гово¬
414
ря в своей “Автобиографии” о первых трех книгах
“О семье”, Баттиста признается, что “эти книги были не
отделаны и шероховаты и тосканское наречие не было в
них выдержано, ибо он не был тверд в родном языке,
будучи воспитан на чужбине... и ему вначале было
трудно выражаться изящно и легко на языке, на кото¬
ром он не привык писать...”43.
И все же он отваживается написать эти книги на
итальянском, а не на латинском - возможно, это был
первый или один из первых его опытов в этой области.
Затем он самостоятельно переводит с латыни на
итальянский свой трактат о живописи44. И в том же
1435 году со свойственной ему решимостью Альберти
сочиняет краткую грамматику итальянского языка,
беря за основу именно тосканское наречие, не родное
для него по воспитанию, но родное по происхождению.
При этом он старается ввести в область языка письмен¬
ного, литературного - простонародный разговорный
язык, с которым активно знакомится на улицах Фло¬
ренции. Если считать, что во Флоренцию Альберти
впервые приезжает в 1434 году, грамматику же сочи¬
няет в 1435, то нельзя не подивиться языковой одарен¬
ности Баттисты - и еще больше - его смелости; поисти¬
не: пришел, увидел, победил.
Разгоревшийся во Флоренции спор о сравнитель¬
ных достоинствах латинского итальянского языка, на¬
чатый еще в предыдущем столетии, а затем подхвачен¬
ный и активно поддерживавшийся Альберти, завер¬
шился литературным состязанием, которое состоялось
в Соборе 22 октября 1441 года. Инициатором и главным
организатором конкурса выступил Альберти, главным
инвестором - его друг, сын Козимо Медичи - Пьетро.
По условиям конкурса каждый из участников должен
был прочитать стихи на тему “Истинная дружба”, сочи¬
ненные по-итальянски. Этот организованный Альберти
конкурс стал событием в жизни города. В некотором
смысле это был апофеоз флорентийского пребывания
Альберти, самое активное и самое яркое публичное вме¬
шательство его в культурную жизнь и, в определенной
степени, в историческую судьбу родного города.
Если написанное Альберти Посвящение к “Трем
книгам о живописи” прозвучало как манифест нового,
ренессансного искусства, родиной которого объявлялась
Флоренция, то конкурс 1441 года стал своеобразным
Альберти и Флоренция
415
манифестом нового литературного итальянского языка
в его тосканском варианте, который как бы приобретал
статус общеитальянского.
На конкурсе в роли судей выступали секретари
папской курии - в основном приверженцы латыни45;
участниками конкурса были представители среднего
сословия, среди них, кроме самого Баттисты Альберти,
не было ни одного гуманиста46. Итак: итальянисты
против латинистов; новаторы против приверженцев
традиции - “спор о древних и новых” за три столетия до
знаменитого французского “спора”47.
Победителю должны были присудить серебряный
лавровый венок. Однако состав жюри заранее предо¬
пределил исход состязания - венок не присудили нико¬
му из участников, его решили оставить в Ризнице собо¬
ра. Но важен не столько результат конкурса, сколько
сам факт его. Он собрал огромную аудиторию слушате¬
лей и зрителей; помимо толпы флорентийцев, жадных
до всякого рода зрелищ, тем более происходящих в
таком престижном помещении, как интерьер собора.
На конкурсе присутствовали члены Синьории, Универ¬
ситета, папской курии, архиепископ Флоренции, а так¬
же иногородние гости, среди которых был венециан¬
ский посланник. Кроме запрограммированных выступ¬
лений, было несколько выступлений сверх программы.
Семнадцатилетний Кристофоро Ландино прочитал тер¬
цины, сочиненные одним из представителей рода Аль¬
берти - Франческо, также участника затеянного Батти¬
стой конкурса (что, кстати, свидетельствует о том, что
совсем не все Альберти были настроены враждебно по
отношению к Баттисте). Что касается Ландино, то для
него встреча с Баттистой не осталась случайной. Много
лет спустя, в 1468 году, он напишет свои “Камальдуль-
ские беседы”, одним из участников которых он изобра¬
зит Леона Баттисту Альберти.
Выступил на конкурсе и сам Альберти, кроме сти¬
хов, он прочитал диалог из IV книги “О семье”, посвя¬
щенный теме “истинной дружбы” и написанный, по
всей видимости, в связи с темой конкурса. Состоялось,
таким образом, что-то вроде торжественной презента¬
ции книги, которую Альберти подарил флорентийской
коммуне. Можно с некоторой долей вероятности пред¬
положить, что вручение состоялось здесь же, в соборе,
в присутствии публики.
416
Наконец, кульминацией всей этой церемонии
было выступление математика Микеле да Джиганте.
Прочитав положенные по условиям конкурса стихи, он
обратился с речью к жюри и всем присутствующим с
выражением благодарности организатору конкурса -
Альберти и его инвестору Пьетро Медичи; сказал о
большом значении этой единственной в своем роде ак¬
ции и в заключение предложил увенчать серебряным
венком Леона Баттисту и торжественно проводить его
до дому с песней, “так, чтобы она была услышана во
всей Европе”48. Предложение было отклонено жюри, но
важно, что эта высокая оценка не только роли Альбер¬
ти, но и самого события, прозвучала публично и полу¬
чила одобрение.
Вдохновленный успехом, Альберти хотел провес¬
ти следующий конкурс, выбрав на этот раз тему -
зависть. Но второй конкурс не состоялся. Возможно, не
устраивала тема - слишком острая и злободневная не
только для самого Альберти, который, как можно пред¬
положить, хотел публично свести счеты со своими недо¬
брожелателями, в том числе и с членами своего семей¬
ства, упорно отказывавшимися читать его книги.
Как и три первые, четвертая книга “О семье”,
диалог из которой Альберти публично прочитал на
конкурсе, была адресована родственникам. Альберти
упорно добивался именно семейного признания: «...он
преподнес неблагодарным четвертую книгу, говоря:
“Теперь, если вы порядочные люди, вы меня полюбите,
а если непорядочные, собственная ваша непорядоч¬
ность внушит вам отвращение”»49. Как видно, род¬
ственники оказались “непорядочными”, и кто знает,
возможно, предложенная Альберти тема второго кон¬
курса - зависть - была задумана как ответ на их “непо¬
рядочность”.
Конкурс 1441 года, хотя и закончившийся вни¬
чью, был бесспорным успехом Альберти, задумавшего
и, в конечном счете, осуществившего или, точнее, пуб¬
лично провозгласившего лингвистический “переворот”
во Флоренции, приобретший, как и многие другие фло¬
рентийские новшества экспериментального XV века,
общеитальянское значение.
Однако в биографии самого Альберти, в его непро¬
стых отношениях с родным городом результат конкур¬
са становится в общий ряд его личных флорентийских
Альберти и Флоренция
417
несвершений: драматическое невозвращение в семью,
невостребованность художниками его трактатов о жи¬
вописи и статуе, неувенчание лавровым венком, пусть
триумфальное, но все же неу венчание. Наконец - тоже
по-своему триумфальное - невозвращение в покорен¬
ную им Флоренцию.
Альберти прибыл во Флоренцию тридцатилет¬
ним. До этого были годы учения в Венеции, Падуе,
Болонье; затем, по всей вероятности, поездка в зааль¬
пийскую Европу, возможно, во Францию и Германию,
в свите покровительствовавшего Баттисте кардинала
Альбергатти; затем поступление в папскую канцеля¬
рию по протекции того же Альбергатти на скромную
должность аббревиатора, иными словами, референта,
одного из целого штата в 100 человек, - должность, не
очень престижная, но все же дававшая определенное
положение. В дофлорентийский период Альберти
сочинял преимущественно в стол, а если и “публико¬
вал”, то под чужим именем. В эти годы написана боль¬
шая часть “Застольных бесед”, рассчитанных на
узкий круг друзей и знакомых. «Я начал собирать их
в небольшие книжицы, чтобы с большим удобством
можно было читать их между трапезой и стаканами
вина... Этими писаниями я старался излечить болезни
духа при помощи смеха и шуток; в моих “Застольных
беседах” я особенно старался, чтобы читатели видели
веселость автора и одновременно находили действен¬
ные аргументы для серьезных забот о душе»50. Так,
позднее, уже во Флоренции, объяснял Альберти свое¬
му другу Паоло Тосканелли основное содержание и
смысл этих странных новелл, написанных на чужби¬
не, в годы материальных затруднений, еще до насту¬
пившего признания. Сочинения фантастические,
внешне забавные, но внутренне печально серьезные:
поистине - смех сквозь слезы.
Во Флоренцию Альберти попал, сопровождая
папу Евгения IV, все в том же скромном качестве одно¬
го из референтов папской канцелярии, и именно здесь
сумел полностью реализовать себя как писатель. Фло¬
рентийское десятилетие было периодом творческой зре¬
лости Альберти, периодом его большой писательской
активности. Во Флоренции он создал себе имя, получил
известность не только в родном городе, но и за его пре¬
делами.
418
Флоренция в годы пребывания в ней папского дво¬
ра жила бурной интеллектуальной жизнью. Постоянные
сборища на площади перед палаццо Синьории, где проис¬
ходил обмен новостями; регулярные диспуты в монасты¬
рях Санто Спирито и дельи Анжиоли; встречи и беседы в
книжной лавке Веспасиано да Бистиччи; литературный
кружок стихотворца-брадобрея Буркьелло, среди актив¬
ных посетителей этого кружка, кроме Леона Баттисты
Альберти, был его родственник Франческо, писавший
стихи, а также Джованни Герардо да Прато, известный
писатель, автор романа “II paradiso degli Alberti”.
В городе много иностранных гостей, приехавших
на экуменический Собор, - известные ученые, филосо¬
фы, богословы, многие из них задержались в городе и
после завершения Собора.
В этой ученой атмосфере Альберти, казалось бы,
удалось завоевать Флоренцию. Его считают “ученней-
шим, красноречивейшим, одаренным природой и сво¬
бодномыслящим, украшением Флоренции и Италии,
чей удивительный талант, божественный, всемогущий,
по мнению многих, достоин хвалы и удивления”51.
В 1439 году, когда умирает Амброджио Траверса-
ри, прославленный генерал камальдульского ордена,
ученый монах-гуманист, его ученик Джироламо Али-
отти обращается к Альберти с просьбой написать его
Жизнеописание - свидетельство не только высокой
оценки “божественного” таланта Баттисты, но также
своего рода акт гражданского признания.
И все же 7 марта 1443 года Альберти покидает
Флоренцию. Только ли по обязанности, как служащий
канцелярии папы Евгения IV, у которого испортились
отношения с Козимо Медичи? Можно с большой долей
вероятности предположить, что Альберти уезжает так¬
же потому, что ему, в каком-то смысле, было тесно во
Флоренции. Он словно пытается найти этому оправда¬
ние: “Говорят: люби свою страну и своего правителя,
совершай ради них все добрые дела, которые они от
тебя требуют. Но говорят также, что родина человека -
весь мир и что мудрый создает себе дом везде, где ему
случается жить. Поступая так, он не бежит от родины,
но приобретает другую и таким образом обретает вели¬
кое благо”52. Итак, Альберти делает свой выбор и бросает
вызов: становится не гражданином Флоренции, но
гражданином мира.
Альберти и Флоренция
419
На этом флорентийский период жизни и творче¬
ства Альберти кончается и начинается римский -
с наездами в Урбино, Римини, Мантую... и во Флорен¬
цию. Но во Флоренции он больше не живет, а только
бывает: “Я словно чужестранец во Флоренции, редко
приезжаю и остаюсь недолго”.
В этот второй римский период его внутренняя ду¬
ховная связь с Флоренцией не прерывается - он думает
о ней, вспоминает, многие следы флорентийских впе¬
чатлений лежат в основе ряда его сочинений; написан¬
ная в Риме книга “Десять книг о зодчестве” вся просве¬
чивает Флоренцией - но это уже взгляд на Флоренцию
из римского “далека”.
Именно в Риме создал Баттиста свой второй дом.
Он продолжал служить в папской курии, сначала при
Евгении IV, к которому, по-видимому, относился кри¬
тически, затем, после его смерти в 1447 году, - при
папе Николае V, которого под именем Томмазо да Сар-
цано хорошо знал, с которым дружил в юности, в годы
учебы в Болонье. Альберти несомненно принимал учас¬
тие в проектах Николая V по реконструкции Рима.
“Папа задумал пять больших проектов: реконструкцию
городских стен, акведуков и мостов, реставрацию соро¬
ка церквей и строительство нового Ватикана, вклю¬
чающего папский дворец и храм Св. Петра”, - пишет
Джаноццо Манетти в “Жизнеописании Николая V”53.
Хотя документальных сведений об участии Альберти в
строительных планах папы почти не сохранилось, не¬
возможно себе представить, что он стоял в стороне от
этих грандиозных замыслов54. Не случайно именно
здесь, в Риме, начинается увлечение Альберти архитек¬
турой, он составляет описание города Рима, пишет свои
“Десять книг о зодчестве”, которые в 1452 году в знак
дружбы и общей увлеченности архитектурой препод¬
носит Николаю V.
После кончины Николая в 1455 году и короткого
понтификата ничем себя особенно не проявившего Кали-
ста III, скончавшегося в 1458 году, на папском престоле
под именем Пия II оказывается известный гуманист, пи¬
сатель Эннео Сильвио Пикколомини. В курии в эти годы
собирается круг близких Альберти ученых, философов,
гуманистов. У Альберти в Риме, по-видимому, достаточ¬
но вместительный дом, к нему приезжают и гостят, ино¬
гда по несколько месяцев, друзья и знакомые.
420
Со смертью Пия II в 1464 году положение Альберти
и общая культурная ситуация в Риме резко меняются.
На папском престоле оказывается Павел II - враг гума¬
нистов и всей светской атмосферы папского двора. Он
резко сокращает штат секретарей коллегии, Альберти и
его друзья-гуманисты вынуждены покинуть курию.
Шестидесятилетний Альберти, более 30 лет про¬
служивший при папском дворе, оказывается человеком
свободной профессии. Он продолжает жить в Риме,
принимает у себя гостей из Флоренции. “Я был гостем
нашего соотечественника Леона Баттисты Альберти
многие месяцы в его доме в нашем возлюбленном Риме
во времена папы Павла, и он всегда хорошо ко мне от¬
носился. Он был, без сомнения, человеком высокого ин¬
теллекта и учености в гуманитарных знаниях и ритори¬
ке”, - вспоминает в своем сочинении “Divina proporzio-
пе” известный математик Лука Паччиоли55. В римском
доме у Альберти долгое время жил его флорентийский
друг, участвовавший в 1441 году в конкурсе “Certame
coronario”, епископ Леонардо Дати. “Мы были с Дати в
ватиканских садах и беседовали, по нашему обыкнове¬
нию, о вещах, относящихся к изучению литературы, и
оба мы восхваляли того немецкого изобретателя, кото¬
рому в наши дни, печатая буквами, удается выпускать
за сто дней двести томов с одного экземпляра при помо¬
щи не более трех человек”, - пишет Альберти56. Нако¬
нец, в 1471 году, за год до смерти, Альберти встречает
флорентийскую делегацию, прибывшую в Рим, чтобы
поздравить с восшествием на папский престол папу
Сикста IV. В числе членов делегации - “великолепный”
Лоренцо Медичи, а также друг Альберти, гуманист, це¬
нитель искусства Бернардо Ручеллаи. Альберти пока¬
зывает им город, сопровождая осмотр подробными ком¬
ментариями57.
Именно в римский период Альберти впервые на¬
чинает заниматься архитектурной деятельностью, во
всяком случае - архитектурным проектированием. Ар¬
хитектором-практиком Альберти так и не стал. Воз¬
можно, из-за недостатка опыта, инженерных навыков,
необходимых для строительной практики. Впрочем,
Баттиста, не любивший признаваться в своей профес¬
сиональной несостоятельности, привыкший к похвалам
в превосходной степени, нашел для своего нежелания,
точнее неумения, строить принципиальное оправдание:
Альберти и Флоренция
421
“Человек мудрый должен соблюдать достоинство и
только в ответ на просьбу давать правильный совет и
точные рисунки. Если же ты решишься взять на себя
руководство строительством и доведение его до конца,
тебе едва ли удастся избежать того, что все ошибки и
промахи, совершенные другими по неопытности или
небрежности, припишут тебе одному”58.
Участие Альберти в реализаци грандиозного пла¬
на перестройки Рима сводилось, по-видимому, к рестав¬
рации или, в лучшем случае, реконструкции разру¬
шенных античных сооружений. Одним из первых опы¬
тов самостоятельного архитектурного проектирования
была, как считают, перестройка средневековой церкви
Сан Франческо в Римини, выполненная по заказу Сид-
жизмондо Малатесты. Не касаясь интерьера храма и
даже не разрушая старых его стен, Альберти заключил
здание в грандиозный “античный” архитектурный фут¬
ляр. Осуществление этого поистине фантастического
архитектурного проекта было поручено другим масте¬
рам, Альберти “не решился взять на себя руководство
строительством”, чтобы не нести ответственности за
“ошибки и промахи”, которых было немало. Замысел
Альберти так и не был осуществлен до конца; и сейчас
старые средневековые стены храма и его стрельчатые
окна кое-где просвечивают сквозь монументальный
классический “саркофаг“.
В римский период Альберти сделал для мантуан-
ского маркиза Людовико Гонзага два графических
проекта: перестройки средневековой церкви Сан Себас-
тиано и храма Сайт Андреа. Осуществления ни того, ни
другого проекта Альберти уже не увидел; оба здания,
как и опасался Баттиста, значительно отличались от
его замысла и в дальнейшем не раз переделывались.
Считается, что, живя в Риме, Альберти принимал
участие в активной строительной деятельности богато¬
го флорентийского купца Джованни Ручеллаи - отца
Бернардо, с которым дружил Баттиста. Однако если
первое пребывание Альберти во Флоренции достаточно
документировано, то его флорентийские контакты вто¬
рого, римского, периода и, в том числе, его архитектур¬
ная деятельность носят какой-то странный, почти эфе¬
мерный характер.
Казалось бы, именно в эти годы он вписал свое имя
в каменную летопись Флоренции: палаццо Ручеллаи,
422
лоджия Ручеллаи, капелла Ручеллаи, гробница Ручел-
лаи, фасад церкви Санта Мария Новелла, также по за¬
казу Ручеллаи, наконец, алтарная ротонда церкви Сан-
тиссима Аннунциата. Однако для всех этих построек,
кроме ротонды Сантиссимы Аннунциаты, авторство
Альберти либо совсем не документировано, либо доку¬
ментировано очень слабо. Они связаны с именем Аль¬
берти скорее устной легендой, которая, кстати, продол¬
жает твориться и по сей день. Так, в последние годы ему
пытаются приписать, без достаточных документаль¬
ных оснований, по странной логике: кто же другой,
если не Альберти, - проектирование купола над пере¬
крестием церкви Сан Лоренцо59 и даже загадочную, до
сих пор не расшифрованную астрологическую роспись
малого купола в Старой сакристии Сан Лоренцо, по¬
строенной Брунеллески60.
Знаменитое палаццо Ручеллаи61, строившееся в
1450-е годы, представляет собой плоский фасад, за кото¬
рым было спрятано несколько домов старого квартала,
перепланированного, согласно документам, архитекто¬
ром Бернардо Росселлино. Как известно, фасад не закон¬
чен, он должен был продолжаться вправо и иметь еще,
по крайней мере, два портала. Можно себе представить,
как выглядел бы фасад палаццо, если бы это намерение
было осуществлено, - это была бы длинная архитектур¬
ная кулиса, своей протяженностью никак не соотнесен¬
ная с пропорциями палаццо как отдельно стоящего
жилого дома. Вряд ли такой антиархитектонический
замысел мог родиться в голове Альберти, который как
раз в эти годы завершал свой трактат об архитектуре, где
специальный раздел посвящен планировке палаццо.
Вернее всего, это была идея честолюбивого заказчика -
Джованни Ручеллаи, задумавшего огородить единой сте¬
ной целый квартал старых жилых домов своих родичей
“...во славу города и на память о себе самом”.
В специальной литературе высказывались раз¬
личные предположения о том, как мог или должен был
выглядеть первоначальный проект этого палаццо, сде¬
ланный Альберти. Судить об этом чрезвычайно трудно,
поскольку неясен главный вопрос: вопрос об авторстве
Альберти. В “Записках” Джованни Ручеллаи62, где
подробно говорится о всех его архитектурных замыс¬
лах и свершениях, имя Альберти вообще не встречает¬
ся. До сих пор не обнаружено ни одного письменного
Альберти и Флоренция
423
свидетельства современников об участии Альберти в ар¬
хитектурной программе Ручеллаи. Сохранилось лишь
два поздних упоминания об авторстве Альберти: у Ваза¬
ри в “Жизнеописаниях”63 и в одной анонимной хрони¬
ке, тоже XVI века, где говорится, что Джованни Ручел¬
лаи “в 1450 году построил палаццо и лоджию на улице
делла Винья: проект Леона Баттисты Альберти”64. Не
говоря уже о том, что дата указана более чем приблизи¬
тельно, особенно это касается лоджии, сама атрибуция
не вызывает доверия. Сложилось так, что после смерти
Брунеллески единственным крупным архитекто¬
ром оказался Альберти-флорентиец, прославившийся
своим трактатом, с его пафосом античности. Фасад па¬
лаццо Ручеллаи, воспринимавшийся современниками
как построенный “al modo antico”, имел успех и вызвал
подражания - не только в построенном Росселлино па¬
лаццо в Пьенце, но и в изображении дворцов в живопи¬
си, например, в ватиканских фресках фра Анжелико,
во фресках в Кампосанто у Гоццоли. В этой ситуации
разве не мог у авторов XVI века сработать тот же, что и
у современных исследователей, логический ход: кто же
другой, если не Альберти, мог спроектировать такой
“античный” фасад?
Высказывалось предположение, что фасад Ру¬
челлаи возвел Бернардо Росселлино, занимавшийся
внутренней планировкой дворца и, возможно, вы¬
полнивший модель его фасада по проекту Альберти.
Но какому? В 1979 году X. Бернс опубликовал рисунок
однопортального фасада палаццо Ручеллаи, который
он приписал Альберти65. Однако эта в некотором роде
сенсационная публикация вскоре же была подвергнута
сомнению66. Наконец, еще один возможный вариант:
Росселлино сначала построил палаццо в Пьенце, а за¬
тем, по его образцу, палаццо Ручеллаи во Флоренции.
Но все это из области предположений.
Еще более загадочна история строительства лод¬
жии Ручеллаи67. Дело в том, что эта лоджия (недавно
реставрированная и получившая свой первоначальный
облик) вызывала и до сих пор вызывает у специалистов
сомнения в авторстве Альберти - в ней усматривают
множество архитектурных ошибок и не очень умелое
копирование деталей с построек Брунеллески.
Сравнительно недавно удалось установить по доку¬
ментам, что Ручеллаи построил не одну, а две лоджии68.
424
Первую возвели в 1456 году всего за один месяц; она
была деревянной и строилась срочно к свадьбе старшего
сына Джованни - Рондольфо. По-видимому, она находи¬
лась напротив фасада дворца, и именно эту лоджию, как
считают, мог спроектировать Альберти. Десять лет спус¬
тя эта лоджия была разобрана и начали строить другую,
каменную, под углом к фасаду дворца (там, где она нахо¬
дится и поныне). Эту вторую лоджию строили в
течение двух лет, с 1464 по 1466 год, к свадьбе второго
сына Джованни - Бернардо, друга Альберти. Известно,
что модель лоджии выполнил Антонио ди Мильорино
Гуидотти, один из последователей Брунеллески. Логич¬
но предположить, что он же был автором проекта и ис¬
полнителем. Таким образом, связь Баттисты с проекти¬
рованием нового дворцового комплекса Ручеллаи на Виа
делла Бинья становится все более сомнительной, хотя до
сих пор обе эти постройки по традиции приводятся в мо¬
нографиях, посвященных Альберти.
Еще менее вероятно участие Альберти в строи¬
тельстве капеллы Ручеллаи в церкви Сан Панкрацио,
которая находится непосредственно позади палаццо.
Сама капелла, впоследствии сильно переделанная, не¬
сет на себе явственный отпечаток архитектуры Брунел¬
лески, особенно в решении стен с узкими угловыми пи¬
лястрами и тяжелыми карнизами. Трудно представить
себе, чтобы Альберти, с его претензиями быть первым
во всем, так слепо скопировал архитектуру Старой риз¬
ницы Брунеллески в церкви Сан Лоренцо.
Капеллу в Сан Панкрацио Джованни предна¬
значил для собственной гробницы, решив сделать ее
(ни много ни мало) в виде уменьшенной копии Гроба
Господня в Иерусалиме. “Сообщаю Вам, - пишет он в
письме к матери, - что вчера я закончил подготовку
экспедиции в Святую Землю... снарядил за свой счет
два корабля с инженером и людьми, чтобы они сделали
для меня точный рисунок с размерами Гроба Господа
Нашего Иисуса Христа и чтобы как только возможно
скоро вернулись и мне их привезли, чтобы я мог испол¬
нить свое намерение и построить ее [гробницу] в нашей
церкви Сан Панкрацио, которая, как вы знаете, в хоро¬
шем состоянии, и чтобы сделать ее совершенной, недо¬
стает только модели этого драгоценного сокровища”69.
То, что в результате было сооружено в Сан Панкра¬
цио, можно назвать моделью Гроба Господня лишь
Альберти и Флоренция
425
с большой натяжкой, даже принимая во внимание, что
именно подразумевалось под копией в XV веке. Воз¬
можно, были воспроизведены лишь пропорции соору¬
жения, сама же гробница, богато украшенная инкрус¬
тацией из цветных мраморов, с эмблемами рода Ручел-
лаи (надутый парус) и рода Медичи (маццокио с тремя
павлиньими перьями - белым, красным и зеленым),
с тремя пересекающимися кольцами - знаком неруши¬
мого союза рода Ручеллаи и рода Медичи, производит
впечатление скорее большой мраморной шкатулки,
чем гробницы. Хочется думать, что это странное соору¬
жение отражало вкус не архитектора, но заказчика.
Во всяком случае к Альберти, с его классическими
увлечениями, вряд ли эта гробница может иметь
какое-либо отношение. Молчание источников в данном
случае кажется вполне оправданным.
Наконец, третий заказ Джованни Ручеллаи - фа¬
сад церкви Санта Мария Новелла. Монастырь этот,
один из самых знаменитых доминиканских монасты¬
рей, приобрел особую престижность в связи с тем, что
на несколько лет он стал резиденцией папы Евгения IV.
Во времена пребывания папы во Флоренции фасад мо¬
настырской церкви, построенной в XIII веке, все еще
оставался не облицованным, только в нижнем ярусе
были выложены мрамором надгробные ниши и, вомож-
но, оформлены две боковые двери. Когда Джованни Ру¬
челлаи задумал на свои средства облицевать мрамором
весь фасад, он вынужден был считаться с этими семей¬
ными надгробными нишами, владельцы которых не
разрешали их разрушить. Это определило решение всей
остальной части фасада и, в значительной степени, эк¬
лектический характер общего декора. Кто бы ни был
автором дизайна этого фасада - он создал, точнее вы¬
нужден был создать, что-то вроде ренессансного вари¬
анта средневекового фасада церкви Сан Миньато аль
Монте. Нельзя сказать, чтобы это решение оказалось
органичным. Получилась такая же реплика, или ва¬
риация на заданную тему, как и гробница Джованни
Ручеллаи в Сан Панкрацио.
Когда и кем был спроектирован фасад? Точную
дату установить трудно, на самом фасаде есть вырезан¬
ная в камне надпись: “Джованни Ручеллаи облицевал
фасад в 1470 году”. Однако в 1478 году фасад еще не
был завершен. Есть предположение, что работы были
426
начаты в 1458 году. Что касается авторства Альберти,
то оно зафиксировано в “Жизнеописаниях некоторых
монахов монастыря Санта Мария Новелла”, сочинен¬
ных одним из монахов этого монастыря - фра Джован¬
ни ди Карло. В Посвящении “Жизнеописаний” сказано,
что рисунок фасада - “работа Леона Баттисты Альбер¬
ти, знаменитейшего архитектора”70. Автор “Жизне¬
описаний” умер в 1500 году. Поскольку в 1478 году об¬
лицовка фасада еще не была завершена, можно предпо¬
лагать, что эта запись относится к концу XV столетия.
Это уже свидетельство почти современника Альберти.
Однако и этот документ, опубликованный в 1789 году,
вызывает у специалистов серьезные сомнения; во вся¬
ком случае, при сверке опубликованного текста с руко¬
писью, хранящейся в Лауренциане, имя Альберти в
нем не обнаружено71. Что это: позднейшая вставка или
фальсификация публикатора? Это тем более вероятно,
что монах того же монастыря - фра Доменико да Корел-
ла, посвятивший фасаду церкви специальное стихотво¬
рение, высказывает по этому поводу иное мнение. Он
пишет: “...здесь расцвела слава Джованни Бертини, ко¬
торый только благодаря своему искусству совершил эту
работу, обведя портал со всех сторон гирляндами из
фруктов, покрыв мрамором различных цветов. Благо¬
даря этому, фасад храма стал еще удивительнее, укра¬
шенный искусством даровитого скульптора”72.
Об Альберти здесь нет ни слова. Ни слова нет и в
“Записках” Джованни Ручеллаи. Это тем более стран¬
но, что Джованни, судя по всему, не был чужд искус¬
ству. Он перечисляет произведения, хранящиеся в его
дворце, среди них работы Доменико Венециано, Фи¬
липпо Липпи, Антонио Поллайоло, Андреа дель Каста-
ньо, Паоло Уччелло, скульптуры Дезидерио да Сетти-
ньяно, Веррокио, Джованни да Бертино - мраморщика,
украсившего фасад церкви Санта Мария Новелла. В
“Записках” упоминается Джулиано да Майано, мастер
инкрустации; резчики по дереву - Витторио ди Лорен¬
цо и Бартолуччи; ювелир Мазо Финигуера. Более того,
Джованни с восторгом и увлечением пишет о Брунелле¬
ски, мастере архитектуры и скульптуры, великолеп¬
ном геометре, человеке больших природных дарований
и фантазии во всех искусствах, воссоздателе древнего
римского зодчества. И ни слова об Альберти, прослав¬
ленном архитекторе, авторе трактата “Десять книг
Альберти и Флоренция
427
о зодчестве”, который Джованни не только читал, но,
не ссылаясь на автора, щедро цитировал в своих “Запи¬
сках”. К тому же Альберти несомненно был знаком
с Джованни и его семейством, поскольку он дружил
с сыном Джованни - Бернардо, знатоком архитектуры,
писателем. Сам Бернардо в своем сочинении “О городе
Риме”, восторженно отзываясь об Альберти, нигде не
упоминает о том, что его семейство имело какие бы то
ни было деловые отношения с этим “замечательным
человеком”.
Обстоятельства трудно объяснимые, даже если
считать, что Баттиста не принимал прямого участия в
реализации архитектурной программы Джованни Ру-
челлаи. Трудно поверить, что Джованни ни в какой
форме не прибегал к помощи Альберти, не спрашивал
его совета, не просил сделать рисунок.
За творчеством Филиппо Брунеллески Флорен¬
ция следила так пристально, что фиксировала и при¬
страстно обсуждала каждый его шаг в архитектуре,
каждую удачу и неудачу. Об архитектурных работах
Альберти во Флоренции 50-60-х годов - глухое молча¬
ние. Молчит не только Джованни Ручеллаи, честолю¬
бивый заказчик, возможно, не пожелавший делиться
славой с архитектором (хотя имена флорентийских
архитекторов, строивших для Медичи, Строцци, для
папы Пия II, сохранились в истории Флоренции); мол¬
чит не только его сын Бернардо, совершавший с Аль¬
берти археологические прогулки по Риму и пользовав¬
шийся его профессиональными советами; об Альберти
молчит Филарете, сам архитектор, хорошо знавший
архитектуру Флоренции. В своем сочинении “Сфорцин-
да”, перечисляя здания, выполненные в новой, “антич¬
ной манере”, введенной Брунеллески, “знаменитым и
достойнейшим архитектором, тончайшим подражате¬
лем Дедала, который ввел в нашем городе Флоренции
этот античный способ строительства”, Филарете ссы¬
лается на палаццо Ручеллаи: “...среди прочих дом, по¬
строенный на улице, которая называется ла Винья,
весь его фасад снаружи выложен обработанным кам¬
нем, все сделано по-античному”73. Филарете несомнен¬
но знал Альберти и как теоретика, и как архитектора,
однако имени его в связи с палаццо Ручеллаи он не при¬
водит. Невольно напрашивается мысль, что Альберти
никакого отношения к заказу Джованни Ручеллаи не
428
имел. Иначе чем объяснить этот заговор молчания со¬
временников? Остается ждать архивных находок.
В связи с этим встает вопрос о датах пребыва¬
ния Альберти во Флоренции после его отъезда в Рим
в 1443 году. Обычно они указываются приблизительно,
с ориентировкой на строительство палаццо Ручеллаи
и облицовку фасада Санта Мария Новелла, т. е. между
1446 и 1451 годами и 1458 и 1470 годами соответственно.
Но если Альберти не участвовал в этих работах? Или да¬
вал только рисунки для обоих фасадов, для чего совсем
не обязательно самому приезжать в город и уж, во вся¬
ком случае, оставаться на весь срок строительных работ.
Точная, зафиксированная в источниках дата при¬
бытия Альберти во Флоренцию - 1459 год, когда он
вместе с папой Пием II направлялся в Мантую и проез¬
дом останавливался во Флоренции, судя по всему, нена¬
долго. “Я словно чужестранец во Флоренции, редко
приезжаю и остаюсь недолго”. Вероятно, это был один
из таких редких визитов.
Вторая, достаточно вероятная дата пребывания
Альберти во Флоренции - 1468 год, когда, судя по сочи¬
нению Кристофоро Ландино (написанному в 1474 или
1475 году), Баттиста принимал участие в философских
диспутах, происходивших в монастыре Камальдоли, в
кружке Лоренцо Великолепного.
Третьей, зафиксированной флорентийской датой
можно считать 1471 год, когда Баттиста, по заказу Лю¬
довика Гонзага, проектировал алтарь церкви Сантисси-
ма Аннунциата.
Возведение этого алтаря имеет длинную и запутан¬
ную предысторию. Начало ее относится, по-видимому,
еще к 1444 году, когда Микелоццо начал перестраивать
алтарную часть церкви на средства и по заказу Медичи,
который, подобно Джованни Ручеллаи, задумал просла¬
вить “Бога, свой город и самого себя”, создав “копию” или
во всяком случае “подобие” Гроба Господня в Иерусали¬
ме. Неизвестно, посылал ли он для этого специальную
экспедицию в Иерусалим, вероятнее всего, воспользовал¬
ся обмерами, полученными своим родственником Ручел¬
лаи. По какой-то причине начатая постройка оказалась
неудачной, и через десять лет ее решили разобрать и на¬
чать строить заново. В эти годы, с 1451 по 1456, над ре¬
конструкцией церкви Сантиссима Аннунциата работал,
также по заказу Медичи, архитектор Микелоццо.
Альберти и Флоренция
429
В связи с возведением нового алтаря церкви воз¬
никла затянувшаяся тяжба между мантуанским герцо¬
гом Людовико Гонзага и семейством Медичи, которое
многие годы было главным инвестором работ по рекон¬
струкции всего комплекса монастыря. Медичи рассчи¬
тывали возвести новый алтарь на свои средства. Однако
Людовико Гонзага настаивал на своем праве, поскольку
его покойный отец - Франческо - оставил по завеща¬
нию монастырю крупную сумму в 200 дукатов, пред¬
назначавшуюся на строительство алтаря. Людовик по¬
обещал дополнительно еще 3000 дукатов. Медичи не
хотели уступать. Спор в конце концов вылился в свое¬
образный конкурс архитекторов: Медичи поддержи¬
вали кандидатуру своего “придворного” архитектора
Микелоццо, со стороны Гонзага выступал Альберти,
связанный с мантуанским герцогом не только деловы¬
ми, но и дружескими отношениями. Сложилась ситуа¬
ция: Медичи - против Гонзага, Флоренция - против
Мантуи, флорентиец Микелоццо - против флоренций-
ца по происхождению, ставшего “чужестранцем” и
представлявшего теперь Мантую, Альберти. Рисунки
нового алтаря, сделанные Микелоццо и Альберти, со¬
хранились. Пока это единственная документированная
архитектурная работа Альберти во Флоренции74. Тяж¬
ба продолжалась. Наконец, потеряв терпение, Людови¬
ко пригрозил, что забирает обещанные 3000 дукатов.
Это решило спор в пользу Гонзага и Альберти. Синьо¬
рия, испугавшись, послала мантуанскому герцогу
письмо с извинениями и благодарностью. Поверенный
Гонзага во Флоренции - купец Товалья - объяснил гер¬
цогу, что на мнение Синьории и отцов города отчасти
влияла зависть флорентийских архитекторов и худож¬
ников75.
Альберти задумал алтарь в виде огромной ротон¬
ды, представляющей собой самостоятельный архитек¬
турный объем, открывающийся в средневековое про¬
странство храма одной высокой полуциркулярной
аркой. Моделью служил не Храм Гроба Гоподня в Иеру¬
салиме, как предполагалось вначале, но римский Пан¬
теон. Подобно Пантеону, ротонда не имела окон, ее сте¬
ны были прорезаны глухими нишами, и освещалась
она только через круглое отверстие в куполе. Един¬
ственно, в чем отступил Альберти от образца, - он сде¬
лал купол более высоким, чем в Пантеоне.
430
В Риме в это время проводились работы по рекон¬
струкции Пантеона. Альберти, если и не принимал в
них непосредственного участия, без сомнения, был
страстно заинтересованным наблюдателем. Он решил
повторить античный Пантеон в своей родной, почти це¬
ликом средневековой по архитектуре Флоренции, на¬
стоящей античности не знавшей и долгое время считав¬
шей Баптистерий Сан Джованни античным храмом
Марса. Знаменитый купол Брунеллески, казавшийся
флоренцийцам соперничающим с античными купола¬
ми, по сути дела, был не куполом, но высоким шатром с
несколько более, чем обычно в средние века, скруглен¬
ным профилем ребер. Когда Брунеллески попытался
построить круглый античный купольный храмик для
монастыря Санта Мария дельи Анжел и, это вызвало со¬
мнения у заказчиков, считавших, что круглое церков¬
ное помещение не предполагает места для алтаря. Цер¬
ковь дельи Анжели, как известно, осталась недостроен¬
ной, попытка Брунеллески создать настоящий купол
так и осталась неосуществленной. Может быть, заду¬
манная Альберти круглая ротонда с настоящим купо¬
лом была своеобразным продолжением неосуществлен¬
ного замысла Брунеллески и, в каком-то смысле, твор¬
ческим ответом на поразивший в свое время Баттисту
“невиданный и неслыханный” соборный купол. Аль¬
берти сознательно отошел от своего римского образца,
увеличив высоту купола, чтобы сделать его не утоплен¬
ным в стены, как купол Пантеона, но видимым снару¬
жи, выступающим из-за основного здания церкви и
зрительно перекликающимся с соборным куполом Бру¬
неллески, расположенным на прямой оси, в конце ули¬
цы, другим своим концом выходящей на площадь Ан¬
ну нциаты - строго напротив фасада церкви.
Алтарь Аннунциаты, вносящий античную, рим¬
скую ноту в средневековую в своей основе архитектуру
Флоренции, можно считать единственным докумен¬
тально подтвержденным вкладом Альберти в архитек¬
туру его родного города. Используя выражение Джо¬
ванни Ручеллаи, можно сказать, что это был памятник,
воздвигнутый не только городу, но и “самому себе” -
Альберти. Так прочитывается замысел архитектора.
Однако с самого начала проект Альберти вызвал
сомнения у флорентийцев, прежде всего своим центри¬
ческим пространством, которое не оставляло тради¬
Альберти и Флоренция
431
ционного в христианских храмах места для алтаря, а
также расположением непосредственно в алтаре семей¬
ных капелл, посетители которых могли мешать бого¬
служению76. И, кроме того, непривычным, неорганич¬
ным сочетанием огромной античной ротонды с кресто¬
образной в плане средневековой церковью. Пьеро дель
Товалья, который по поручению Гонзага должен был
наблюдать за строительством, в письме к Людовику от
1471 года выражает по этому поводу свое опасение:
“Мессер Баттиста утверждает, что это будет вещь пре¬
краснейшая и что те, кто отрицают это [поступают так]
потому, что не видели ничего подобного, когда увидят,
то им понравится гораздо больше, чем крестообразное
[решение]”77.
К сожалению, опасения Товальи оправдались,
осуществленное по проекту Альберти решение оказа¬
лось неорганичным. Ротонда алтаря из интерьера хра¬
ма не воспринимается, она образует совершенно отдель¬
ное, самостоятельное пространство, связанное с цент¬
ральным нефом огромным, неудачным по профилю
арочным пролетом.
Трудно сказать, чья здесь вина: проектировщика
или архитектора-исполнителя. Строительство велось
без непосредственного наблюдения Альберти и было
осуществлено после его смерти. Многие очивидные ар¬
хитектурные просчеты безусловно следует отнести на
счет неумелых и неоправданных отклонений от перво¬
начального проекта. Это касается не только интерьера
алтарной ротонды, но и ее наружного объема: купол все
же оказался недостаточно высоким, его почти не видно
из-за фасада церкви. Архитектурный диалог двух купо¬
лов, который, вероятно, входил в планировочный за¬
мысел Альберти, на деле не состоялся.
И все же Альберти сумел оставить во Флоренции
архитектурную память о себе - наглядное завещание,
обращенное к последующим поколениям. И хотя мотив
классической ротонды во Флоренции не прозвучал -
еще одно из флорентийских несовершений Баттисты, -
именно ротонда, увенчанная куполом, становится
одним из самых совершенных, во всяком случае самых
излюбленных, образов в европейском зодчестве начи¬
ная с Браманте и вплоть до XIX века.
В 1470 году, в пору работы над проектом алтарной
ротонды церкви Сантиссима Аннунциата, Альберти
432
пишет свою последнюю книгу “De Iciarchia”. Книга
писалась в Риме, после последнего визита Баттисты во
Флоренцию. В некотором смысле это своеобразное зер¬
кальное повторение его первой книги “О семье”, кото¬
рая начиналась с обращения умирающего Лоренцо, от¬
ца Баттисты, к своим сыновьям и наследникам. В этой
последней, как бы пятой, книге “О семье” сам Баттиста
на склоне лет, за два года до смерти, обращается к моло¬
дому поколению флорентийцев, к поколению сыновей в
широком значении этого слова, к потомкам. Это тоже -
завещание, литературная параллель к его архитектур¬
ному завещанию, оно тоже обращено к Флоренции и
тоже - через головы современников - к будущему поко¬
лению. “Прекрасная вещь - добродетель, о, юноши, пре¬
красная вещь - добро. Человек хороший среди своих
горожан всегда будет цениться превыше других...
Он увидит себя любимым большинством, часто посе¬
щаемым, призываемым, и как только кто его узнает,
принесет ему величайшую благодарность”78. Завеща¬
ние, поистине выстраданное всей его жизнью бастарда,
“чужестранца”, одиночки.
Альберти скончался в Риме 19 апреля 1472 года,
в возрасте 68 лет, его смерть осталась почти незамечен¬
ной. Сохранилось лишь несколько строк в рукописи
одного из его современников: “1472. Леон Баттиста
Альберти, человек исключительного таланта и уче¬
ности, умер в Риме, оставив превосходный том об архи¬
тектуре”79. Кроме того - извещение флорентийской
курии от 25 апреля 1472 года о назначении нового при¬
ора, “поскольку появилась вакансия в приходе Сан
Мартино ин Гангаланди в связи с кончиной почтенного
мессера Баттисты дельи Альберти, приора, недавно
скончавшегося”80.
В завещании Альберти оставлял “бесценный ко¬
декс” Плиния своему родственнику Франческо, высту¬
павшему вместе с ним на конкурсе 1441 года во Флорен¬
ции; кузену Бернардо, опубликовавшему впоследствии
его “Десять книг о зодчестве”, - свои дома в Риме и все
свои владенья в Болонье; в дальнейшем, в случае исчез¬
новения мужских наследников по линии Альберти, его
состояние должно было перейти Госпиталю Санта
Мария Нуова во Флоренции81. Итак, все состояние - се¬
мейству Альберти и Флоренции. И только в память о
бедственных годах учения - 1000 дукатов на покупку
Альберти и Флоренция
433
дома в Болонье, где должен быть создан колледж для
обучения праву юношей из семьи Альберти, а если та¬
ковых не окажется, то бедных молодых людей, желаю¬
щих учиться, но не имеющих на это средств. При этом
назначение дома не должно меняться. Однако этот
пункт завещания выполнен не был, деньги были потра¬
чены на другое.
Альберти завещал похоронить себя в Падуе, рядом
с могилой отца; неизвестно, было ли это выполнено - его
могила затерялась. В Риме, где Альберти прожил около
тридцати лет, где думал обрести свой “новый дом”, -
никаких материальных следов его пребывания не оста¬
лось, не осталось даже надписи на камне. “Гражданин
мира” - он и здесь оказался “чужестранцем”. Таков был
его выбор.
«О, славная вещь слава, которую мы приобретаем,
благодаря нашим трудам. Достойны наши труды, благо¬
даря которым мы можем тем, кто живет не в одно время
с нами, показать, что мы жили по-иному, что мы остави¬
ли им не только камень на могиле с надписью и именем.
Поэт Энний говорил: “Не оплакивайте меня, не устраи¬
вайте мне похорон, пусть я останусь жить в словах уче¬
ных мужей”» (Альберти)82. Кто знает, если бы Альберти
скончался не в Риме, этом “вавилонском городе”, как на¬
звал его один из флорентийцев83, но во Флоренции,
умевшей ценить своих выдающихся граждан, реакция
на его кончину была бы иной; возможно, он был бы удо¬
стоен торжественных похорон и мраморного надгробия
на стене церкви Санта Кроче - этого пантеона Флорен¬
ции; или саркофага с благодарственной эпитафией и
мраморного бюста, как его друг архитектор Брунеллес¬
ки, похороненный в соборе. Кто знает...
И все же во Флоренции был создан памятник Аль¬
берти - памятник литературный. Кристофоро Ландино,
некогда восторженным юношей читавший стихи во фло¬
рентийском соборе на конкурсе, устроенном Альберти, а
теперь зрелый муж, в своих “Камальдульских беседах”,
написанных через два года после кончины Альберти,
изобразил его в качестве участника философских бесед,
проводившихся в 1468 году в кружке Лоренцо Медичи в
Казентино близ Флоренции, в монастыре Камальдоли.
Баттиста принимал участие в этих беседах вместе с Ло¬
ренцо и Джульяно Медичи, Альмано Ринучини, Пьетро
и Донато Аччиаиуоли и самим автором - Кристофоро
434
Ландино, который вложил в уста Баттисты речи, то ли в
свое время записанные им, то ли заимствованные из его
сочинений. “Не оплакивайте меня, не устраивайте похо¬
рон, пусть я останусь жить в словах ученых мужей”.
Ландино, хорошо знавший сочинения Баттисты, в точ¬
ности выполнил его пожелание.
Еще несколько лет спустя в свою “Апологию Дан¬
те” Ландино вставляет похвалу Альберти, род торже¬
ственной эпитафии: “Куда я поставлю Баттисту Аль¬
берти или к какому роду ученых его отнесу? Я бы ска¬
зал к физикам; действительно, я утверждаю, что он был
рожден только для того, чтобы постигать секреты при¬
роды. Но какие области математики были ему недо¬
ступны? Он и геометр, сведущ в арифметике, он астро¬
лог и музыкант, он и удивительный знаток перспекти¬
вы, какого не знали многие столетия...”84.
Итак - Альберти и Флоренция.
“Мы, Альберти... вернулись в нашу, превыше
всех прекраснейшую родину...” Однако для Баттисты
это возвращение в сущности не состоялось. Он покорил
Флоренцию своим остроумием, любознательностью,
своим интеллектом и образованностью, он с честью
представлял город в международной среде знаменитос¬
тей, съехавшихся на Собор 1439 года; но его голос, об¬
ращенный к своим, флорентийцам, услышан не был, а
если и был услышан, то не был понят - вызвал раздра¬
жение, насмешки, зависть, даже вражду. Пророческий
же смысл его сочинений, их обращенность в будущее
не были угаданы, оценены. Как известно, в отечестве
своем “несть славы пророку”.
Альберти покидает Флоренцию ради Рима. Фло¬
ренция, “превыше всех прекраснейшая”, каменная
Флоренция, с ее величественной, но в основе своей сред¬
невековой архитектурой, с ее узкими, часто зловон¬
ными улицами, Флоренция, запертая кольцом стен,
окруженная грядой холмов, Флоренция, запруженная
народом, с “толкотней и шумом ремесленников”, с ее
накалом общественной жизни и политических стра¬
стей - в такой Флоренции ему было тесно. Проведший
полжизни в других городах Италии, возможно, побы¬
вавший в Германии и Франции, Баттиста во Флорен¬
ции чувствовал себя “чужестранцем”.
В полуразрушенном Риме, где едва угадывались
очертания древних улиц, в городе, лишенном четких
Альберти и Флоренция
435
границ и неощутимо переходящем в окружающее про¬
странство негорода, - в таком городе было вполне, даже
слишком просторно, здесь Баттиста мог почувствовать
себя “гражданином мира”. Рим - это был город велико¬
го прошлого, его нужно было разгадывать и восстанав¬
ливать, но это был также город будущего, который
можно и нужно было заново придумывать и создавать.
В Риме Альберти становится архитектором. Он пишет
свой трактат о зодчестве, увлеченно обсуждает - снача¬
ла с папой Николаем V, затем с Пием II - грандиозные
планы перестройки Рима; по ночам его ничем не стес¬
ненная фантазия создает все новые, небывалые архи¬
тектурные формы и их сочетания: “...я придумываю и
создаю в уме какую-нибудь сложную постройку и раз¬
мещаю в ней множество ордеров и колонн с различны¬
ми капителями и базами, в сочетаниях, обычно не при¬
меняемых, с карнизами и полами необыкновенной кра¬
соты”85.
Рим дает простор для свободного, ничем не огра¬
ниченного - и в сущности безответственного - проекти¬
рования, не связанного необходимостью считаться с воз¬
можностями реального строительства. И все же Рим -
город уже ушедшего архитектурного прошлого и еще
не наступившего архитектурного будущего - не да¬
вал представления о целостном городском комплексе.
Таким городом оставалась для Альберти Флоренция.
Увиденная “издали”, она утрачивала многие свои урба¬
нистические недостатки и приобретала урбанистичес¬
кие достоинства. В сущности, идеальный город, образ
которого возникает в трактате Альберти, - это Флорен¬
ция исправленная, улучшенная, доведенная до воз¬
можного градостроительного совершенства.
Альберти покинул Флоренцию ради Рима. Поки¬
нул не без горечи: “Я делал так всегда и всегда буду де¬
лать: изо дня в день излагать то, что знаю, о чем думаю,
что изучаю, объяснять своим согражданам - как устно,
так и письменно - вещи полезные и способствующие до¬
стоинствам нашей республики. Кто... сможет отрицать,
что я - подлинный и верный гражданин [Флоренции].
Я не поверю, что ты сочтешь гражданином какого-ни¬
будь варвара только потому, что он живет в ее стенах,
и при этом отнесешься враждебно к тому, кто своими
советами и сочинениями, своими словами и делами
436
нарушает праздность и безмятежность добрых людей.
Моя всегдашняя искренняя любовь к родине, хотя я и
не живу в ней, делает меня настоящим ее граждани¬
ном”86. Уехав из Флоренции, Альберти внутренне про¬
должал сводить счеты с родным городом; став гражда¬
нином мира, он продолжал упорно настаивать на своем
праве оставаться гражданином Флоренции.
Итак, 1430 - начало 1440-х годов - Флоренция,
воспринятая Альберти изнутри, не сумевшая его по¬
нять и принять, им покинутая; 1440-1460-е - взгляд на
Флоренцию “из прекрасного далека”, ее преображен¬
ный образ в трактате “О зодчестве”. Спорный, недока¬
занный факт участия Альберти в строительной про¬
грамме Джованни Ручеллаи в 50-60-х годах (если он
действительно имел место) - всего лишь незначитель¬
ный эпизод, заранее обреченная попытка вмешатель¬
ства в архитектурный облик родного города; заказ,
недостойный реформаторских притязаний Баттисты,
сводившийся, в сущности, к двум рисункам для декора
фасадов. Предполагаемое участие Альберти настолько
малосущественно, что оно даже не осталось в памяти
современников.
И, наконец, заключительная глава в истории от¬
ношений Альберти с Флоренцией - выигранный им
трудный конкурс на проект алтарной церкви Сантисси-
ма Аннунциата: возведение “копии” римского Пантео¬
на, смелое внедрение “античного” здания в средневеко¬
вый архитектурный ансамбль города; единственное ар¬
хитектурное авторское слово Альберти, которое он по¬
пытался противопоставить неколебимой славе Брунел¬
лески и строительной деятельности его последователей;
как и другие флорентийские акции Альберти, именно
во Флоренции XV века, увы, не прозвучавшее, но обра¬
щенное к тем, “кто будет жить не в одно время с нами”,
как писал Альберти, и, добавим, в других городах и
других странах87.
Примечаня
1 Istorietta amorosa fra Leonora de Bardi i Ippolito
Bondelmonti // Alberti L.B. Opere volgari / Ed. C. Grayson.
Bari, 1973. Vol. Ill P. 275-287 (см.: Комментарии.
P. 406-412).
Альберти и Флоренция
437
2 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве: В 2 т. М., 1937.
Т. 2. Материалы и комментарии. С. 25.
3 Правда, в истории Флоренции XV века известны случаи
породнения враждующих семейств. Так, в 1428 году Джо¬
ванни Ручеллаи, принадлежавший к сторонникам се¬
мейств Медичи и Альберти, вступил в брак с представи¬
тельницей семейства Строцци, поддерживавшего враж¬
дебный им клан Альбицци. В 1434 году Козимо Медичи,
придя к власти, изгнал из Флоренции, вместе с членами
семейства Альбицци, также Пала Строцци - главу этого
рода. Но в 1461 году Джованни Ручеллаи устраивает по¬
молвку своего сына с племянницей Козимо Медичи. Та¬
ким образом, в результате хитрой матримониальной ин¬
триги, осуществленной Джованни, семейство Медичи ока¬
зывается, пусть в косвенном, родстве с семейством своих
противников. Однако это уже не столько любовная, сколь¬
ко политическая история.
4 С. Grayson (Op. cit. Р. 411) отмечает, что в рукописных эк¬
земплярах новеллы, в начале и в конце текста стоит: “Ut
vidi, ut credidi”, что дает основание предполагать, что ее
сюжет основан на реальном событии (или случае), имев¬
шем место в городе.
5 Леон Баттиста Альберти приходился не только “литера¬
турным” родственником Леоноры Барди, но также вполне
реальным родственником скульптора Донателло, принад¬
лежавшего семейству Барди, а также самого Козимо Ме¬
дичи, женатого на представительнице семейства Барди.
6 Цит. по: Фрагмент анонимной биографии // Альберти Л.Б.
Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. 1. С. XXVIII.
7 Alberti L.B. Opere volgari. Vol. III.
8 Leon Battista Alberti. Catalogo della mostra. Milano, 1994.
P. 436-437. (Далее: Catalogo.)
9 Цит. no: Mancini G. Vita di Battista Alberti. Firenze, 1882.
P. 175. E. Garin считает, что “Жизнеописание” Св. Потиты
можно считать автобиографичным в плане общей жизнен¬
ной позиции, которой, по замыслу автора, придерживается
святой, склонный к жизни пассивно созерцательной, в то
время как искушающий его дьявол (как это ни парадоксаль¬
но) стремится заставить его прилежно трудиться, иными
словами, толкает на путь жизни деятельной. (См.: Giovanni
Rucellai ed il suo Zibaldone. II. L., 1981. P. 246, примеч. 4.)
10 Авторы каталога выставки Альберти, опубликованного в
1994 году, склонны признать авторство самого Альберти.
J. Rykwert в предисловии к каталогу выражается еще с не-
438
которой осторожностью: “...анонимная биография Аль¬
берти, обычно считающаяся автобиографией, краткой и
язвительной (Catalogo. Р. 21). С. Grayson в статье “Leon
Battista Alberti: vita e opere” в том же каталоге утверж¬
дает: “...как говорит сам Альберти в своей автобиогра¬
фии”. И в другом месте: “Признанное отныне автобиогра¬
фией, это жизнеописание является еще одним важным
свидетельством его (Альберти) оригинальности” (Cata¬
logo. Р. 28).
11 Фрагмент анонимной биографии... С. XIX-XXIX.
12 Catalogo. Р. 32.
13 Фрагмент анонимной биографии... С. XXIII.
14 Там же. С. XXII. G. Mancini высказал предположение, что
покушение на Баттисту пытался организовать Бенедетто
Альберти. G. Mancini приводит текст письма, из которого
можно заключить, что Бенедетто ненавидел Баттисту и
его брата Карло настолько, что “хотел их застрелить”
(Mancini G. Op. cit. Р. 187-188).
15 Фрагмент анонимной биографии... С. XXII.
16 Согласно сохранившимся сведениям, не все родственники
относились к Баттисте враждебно. С некоторыми из них
его связывала дружба, как, например, с Франческо Аль¬
берти, причастным литературе, сочинявшим стихи. О дру¬
гом своем родственнике Баттиста пишет: “Никогда душа
моя не сможет примириться с тем, что брат мой Антонио
живет без меня, под другим кровом” (“О семье”. Цит. по:
Десять книг о зодчестве. Т. 2. С. 113). В 1437 году Баттис¬
та отправляется в Перуджу, чтобы поздравить своего дядю
Альберто с получением сана епископа. Кузену Бернардо
Баттиста завещает свои дома в Болонье и владения в ее ок¬
рестностях; именно Бернардо после кончины Баттисты
опубликовал его “Десять книг о зодчестве”, “дабы почтить
память и волю такого мужа” (Цит. по: Десять книг о зод¬
честве. Т. 1. С. 3).
17 Веселовский А. Вилла Альберти. Новые материалы для
характеристики литературного и общественного перелома
в итальянской жизни XIV-XV столетия. М., 1870.
18 Цит. по: Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 2. С. 115.
19 Фрагмент анонимной биографии... С. XX.
20 Цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 180.
21 Girolamo Aliotti. Цит. no: Ibid.
22 Антонио Беккаделли (Панормита). Цит. по: Венедиктов А.
Леон Баттиста Альберти. Биографический очерк // Де¬
сять книг о зодчестве. Т. 2. С. 145.
Альберти и Флоренция
439
23 «Ты видишь голых бродяг под открытым небом, лежащих
на жесткой земле, ты их презираешь, смотришь на них
сверху вниз вместе с толпой и гнушаешься ими. Смотри,
как бы эти самые бродяги не стали презирать тебя вместе с
толпой и не стали на вас смотреть сверху вниз.” Цит. по:
Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти // Леон Бат¬
тиста Альберти. М., 1977. С. 113.
24 Фрагмент анонимной биографии... С. XXII.
25 Цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 288.
26 Alberti L.B. Profugiorum ab aerumna. Цит. no: Borsi F. Leon
Battista Alberti. Complete edition. Oxford, 1977. P. 8.
27 Первые три книги “О семье” большинство ученых дати¬
руют 1436-1437 годами.
28 «На тридцатом году жизни он для своих близких, ввиду
их незнакомства с латинским языком, написал на тоскан¬
ском наречии первую, вторую и третью книги “О семье”»
(Фрагмент анонимной биографии... С. XXI).
29 Там же. С. XXIII.
30 См.: PerosaA Le Zibaldone di Giovanni Rucellai // Giovanni
Rucellai ed il suo Zibaldone. Vol. II. A Florentine Patrician
and his Palace. L., 1981. P. 112-113 (Studies of the War¬
burg Institutes).
31 Cm.: Rubinstein W. Pallazzi publici e palazzi privati al tempo
di Brunelleschi // Filippo Brunelleschi. La sua opera e il suo
tempo. Firenze, 1980. T. 1. P. 31-34. См. также: Kent F.W.
Palaces, politics and society in fifteenth century in Floren¬
ce // Tatti Studies. Florence, 1987. V. II.
32 Хотя в трактате о зодчестве Альберти не упоминает о Фло¬
ренции, “ее искусство и культура незримо присутствуют в
нем”, - замечает В.П. Зубов - и далее: «Даже когда Аль¬
берти “по-римски”, urbi et orbi, описывает свой идеаль¬
ный храм, в глубине на горизонте ему продолжает рисо¬
ваться купол флорентийской Санта Мария дель Фьоре». -
Зубов В.П. Указ. соч. С. 130 и 134.
33 См.: Kent F.W. Palaces, politics and Societfy... P. 34. Ав¬
тор относит бум строительства семейных домов к 1480-
1490 годам.
34 Три книги о живописи. С. 42.
35 Там же. С. 38.
36 Там же. С. 32.
37 Там же. С. 36, 37, 45 и сл.
38 Там же. С. 32.
39 Фрагмент анонимной биографии... С. XXIII.
40 Альберти Л.Б. Три книги о живописи. С. 40.
440
41 Датировка трактата “О статуе” до сих пор вызывает спо¬
ры. G. Mancini (Op. cit.) считает, что он написан до “Трех
книг о живописи”. Из современных ученых ранней дати¬
ровки придерживается Р. Portoghesi (Op. cit. Р. XI). Суще¬
ствует и поздняя датировка этого сочинения Альберти
(см.: Catalogo. Р. 34).
42 Альберти Л.Б. Трактат о статуе // Альберти Л.Б. Десять
книг о зодчестве. Т. 2. С. 11.
43 Фрагмент анонимной биографии... С. XXI.
44 О датировке итальянского и латинского вариантов тракта¬
та о живописи в науке нет единого мнения. С. Grayson
считает, что Альберти написал латинскую версию тракта¬
та в 1435 году, затем, в том же году, свободную итальян¬
скую версию, посвященную Брунеллески, а через год - ис¬
правленную латинскую версию, посвятив ее Гонзага. Не
исключено также, считает автор, что трактат о живописи
был сразу написан по-итальянски, а затем переведен на
латинский (Alberti L.B. Opere volgari. Vol. III. Р. 305, 306).
45 В жюри конкурса входили: Поджо Браччьолини, Лоски,
Бьондо, Марсупини, Ауриска, Георгий Трапезундский. Из
них только Марсупини - флорентиец.
46 Участники конкурса: Франческо Альберти - папский чи¬
новник; Мариотто Даванцатти - купец; Ансельмо Кальде-
рини - глашатай Синьории; Леонардо Дати - юрист; Ми¬
келе Джиганте - математик.
47 О социально-культурном смысле спора см.: Баткин Л.
Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления.
М., 1978. С. 68-70.
48 Mancini G. Op. cit. Р. 231.
49 Фрагмент анонимной биографии... С. XXIII.
50 Цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 93. Посвящение “Застоль¬
ных бесед” П. Тосканелли относится к 1439 году. Некото¬
рые из бесед посещены Л. Бруни, П. Браччьолини. 18 из
этих новелл были найдены и опубликованы G. Mancini в
1890 году. В 1964 году Е. Garin нашел и опубликовал еще
25 новелл (Garin Е. Venticinque Intercenali inedite е sconos-
ciute di Leon Battista Alberti // Belfagar. Firenze, 1964.
Vol. XIX, № 4, luglio. См. также: Garin E. Venticinque
Intercenali sconosiute di L.B. Alberti // Garin E. L’eta
nuova. Ricerche di storia della cite e rivoluzione. Movimenti
dal XIV al XVIII secoli. Roma; Bari, 1975. В приложении к
этому изданию автор дает в итальянском переводе два от¬
рывка из опубликованных им новелл. Один из них - “Сно¬
видение” (II Sogno) - см. в русском переводе в приложении
к данной статье.
Альберти и Флоренция
441
51 Girolamo Aliotti. Цит. no: Mancini G. Op. cit. P. 179.
52 Profugiorum ab aerumna // Alberti L.B. Opere volgari.
1966. Vol. II. P. 124.
53 Цит. no: Borsi F. Op. cit. P. 37.
54 См. другое свидетельство: папа Николай V хотел по¬
строить собор Св. Петра, “но этот грандиозный проект,
равный предприятиям древних, был отложен по совету
Леона Баттисты...”, - пишет Маттео Пальмьери (Цит. по:
Borsi F. Op. cit. Р. 31).
55 Pacioli L. Цит. no: Borsi F. Op. cit. P. 112.
56 Alberti. De componendis cifris. Цит. no: Mancini G. Op. cit.
P.459.
57 Бернардо Ручеллаи в своем сочинении “О городе Риме”,
написанном под впечатлением от личных контактов с
Альберти, дает много ссылок на его слова и подробно опи¬
сывает его проект моста Адриана.
58 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. Кн. IX, гл. XI.
Перевод уточнен по итальянскому изданию 1966 года.
59 Saalman Н. Filippo Brunelleschi. The Buidings. L., 1933.
См. главу: The Cupola of San Lorenzo: Manetti Chaccheri
and Leon Battista Alberti.
60 Beck J. Leon Battista Alberti and the “Night sky” an San
Lorenzo // Artibus et Historiae. 1989. № 19.
61 О палаццо Ручеллаи существует обширная литература.
Кроме общих работ о творчестве Альберти, см. некоторые
специальные исследования: Sanpaolesi Р. Precisaziono sul
palazzo Rucellai // Palladio. 1963, gen.-die.; Mack CA. The
Rucellai Palace. Some New Proposals // Art Bulletin. 1974,
die.; Forster K. The Palazzo Rucellai and Questions of
Tipology in the Development of Renaissence Building // Art
Bulletin. 1976, march; Preyer B. Giovanni Rucellai and the
Renaissence Palace. Harvad University, 1976; Franchetti P.V.
Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: linee di sviluppo
urbanistico. Firenze, 1989 (p. 148 и сл.); Tavernor R.
Giovanni Rucellai e il suo complessi architettonico a Firen¬
ze // Catalogo.
62 Rucellai G. II Zibaldone Quaresimale. L., 1960 (Studies of the
Warburg Institutes). Vol. I. Джованни Ручеллаи (1403-
1481) - банкир, землевладелец, второй после Медичи по
богатству во Флоренции. Его “Zibaldone Quaresimale”
(букв.: “постный салат”) представляет собой собрание раз¬
ных записей: дневниковых, разного рода советов и настав¬
лений детям, а также выдержек из чужих сочинений. Нача¬
ты автором, по его собственным словам, в 1457 году, когда
442
из-за эпидемии чумы семья переехала из Флоренции в Сан
Джиминьяно. Затем записки были продолжены.
63 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живо¬
писцев, ваятелей, зодчих. М., 1963. Т. И. С. 287-288.
64 Цит. по: Tavernor R. Op. cit. Р. 368.
65 Burns Н. A Drawing by L.B. Alberti // Architectural Digest.
1979. XLIX. P. 45-56.
66 Preyer В. The Rucellai Palace // Giovanni Rucellai ed suo
Zibaldone. Vol. II. A Florentine Patrician and his Palace. L.,
1981. P. 197 (Studies of the Warburg Institutes).
67 Кроме общих работ об Альберти, см.: Kent F.W. The
Rucellai Family and his Loggia / Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1972. T. 35; Preyer B. The Rucellai
Loggia // Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in
Florenz. 1974. Hf. 21.
68 Preyer B. The Rucellai Loggia. P. 188-189.
69 Lettera di Giovanni Rucellai alia madre // Rucellai G. Op.
cit. Appendice. P. 136.
70 Цит. no: Tavernor R. Op. cit. P. 368.
71 Preyer B. Florenza. P. 192.
72 Цит. no: Mancini G. Op. cit. P. 504-505.
73 Antonio Averlino detto il Filarete. Trattato de Architettura.
Milano, 1972. Vol. 1. P. 227-228.
74 О трибуне церкви Сантиссима Аннунциата, кроме общих
работ о творчестве Альберти, см.: Heydenreich L.N. Der
Tribuna der SS. Annunziata in Florenz // Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz. 1930. Hf. 3; Lang S.
The Programm of the SS. Annunziata in Florence // Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 1954. T. 17;
Roselli P. Coro e cupola della SS. Annunziata a Firenze. Pisa,
1971; Brown B.L. The Patronage and Building History of the
Tribuna of SS. Annunziata in Florence; a reappraisal in light
of new documentation // Mitteilungen des Kunsthistori¬
schen Institutes in Florenz. 1981. Hf. 1.
75 Mancini G. Op. cit. P. 517.
76 2 февраля 1471 года Джованни Альдобрандини пишет
маркизу, решительно осуждая проект Альберти; он сове¬
тует отказаться от фамильных капелл в алтаре, иначе при¬
сутствие в них родственников, особенно женщин, будет
смущать священнослужителей.
77 Цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 516.
78 Ibid. Р. 495.
79 Mattia Palmieri. Ibid. P. 536.
80 Цит. no: Ibid.
Альберти и Флоренция
443
81 Альберти завещал также средства на завершение строи¬
тельства по его проекту альтарной части церкви Сан Мар¬
тино а Галгаланди (в окрестностях Флоренции), приором
которой он был долгие годы.
82 О спокойствии души (Цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 207).
83 Микеле Верино пишет в одном из писем: “Ты советуешь
мне Рим! Рим - вавилонский город... Хотя там живут мно¬
гие эрудиты, но большая их часть - бысстыдные обманщи¬
ки” (Цит. по: Ibid. Р. 108).
84 Цит. по: Ibid. Р. 480.
85 Profugiorum ab aerumna. Цит. по: Borsi F. Op. cit. Р. 13.
86 Alberti L.B. Teogenio. Цит. no: Mancini G, Op. cit. P. 182.
87 Из последних публикаций на тему “Альберти и Флорен¬
ция” См.: Grafton A Interpreting Florence: from reading to
rebuilding // Leon Battista Alberti: master buelder of the
Italian Renaissance. Harvard University, 2002.
Приложение
Леон Баттиста Альберти
Сновидение
(из “Застольных бесед”)*
Беседа написана в форме диалога Лепидо (alter ego Аль¬
берти ) и Либрипеты - в нем видят карикатурное изображе¬
ние Никколо Никколи, который был постоянным объектом
критики и насмешек современников. Страстный собира¬
тель старых книг, он любил критиковать всех и вся, не об¬
ладая при этом собственной научной продуктивностью.
В сюжете этой ибеседы”, возможно, содержится дерз¬
кий намек на первую - “адскую” - часть путешествия Дан¬
те в загробный мир.
Лепидо. Боги небесные! Кто это, не наш ли это Либрипета?
Почему ты такой обтрепанный и весь заляпанный гря¬
зью? Откуда ты вышел и куда направляешься?
Либрипета. Я? Я вышел вон оттуда.
Лепидо. Как? Из этой вонючей выгребной ямы?
Либрипета. Ха, ха, ха!
Лепидо. Ты сошел с ума!
Либрипета. Ничуть. Хочешь, я расскажу тебе, как много
мудрости я почерпнул там?
Лепидо. А, понимаю. Ты прослышал, что в этой сточной яме
можно раздобыть старинные книги, и бросился за
ними туда.
Либрипета. Твои острые словечки, Лепидо, как правило, не¬
достаточно остроумны. В них недостает соли.
Лепидо. Однако для нас, людей малообразованных, они не
лишены вкуса. Ну, расскажи же мне, наконец, о твоей
навозной мудрости.
Либрипета. Ты действительно хочешь послушать?
Лепидо. Хочу.
Либрипета. Тогда я расскажу тебе. Видя засилие глупцов,
которые в наши дни заполнили все вокруг и от которых
меня тошнит, я решил, что единственным местом, где я
мог бы существовать, принимая во внимание мой образ
жизни и мои привычки, могла бы стать страна сновиде-
* Garin Е. Rinascite a rivoluzione. Movimenti dal XIV al
XVIII secoll. Roma; Bari, 1975, Appendice II “Intercenali”.
IV, 1.
Альберти и Флоренция
445
ний. Уж там-то можно грезить в свое удовольствие, как
это случается во сне. Поэтому я пошел к одному жрецу,
опытному в магических науках, и после долгих просьб
и мольбы он указал мне путь, ведущий в ту страну, ку¬
да улетают те, кто спит и видит сны. Я тотчас же туда
направился.
Лепидо. Таким образом ты оказался единственным бодрствую¬
щим среди грезящих во сне. Как странно то, что ты мне
рассказываешь.
Либрипета. Еще более странно то, что я там увидел: реки, горы,
поля, долины - все это поражает и кажется неправдо¬
подобным, когда вспоминаешь об этом, об этом трудно
рассказать, и все это достойно лишь пера философа.
Лепидо. Ну вот, ты, который хочет прослыть философом, но
до сих пор еще ничего не написал, не упускай случая
прославиться. И в качестве своего первого философско¬
го дебюта опиши это сновидение.
Либрипета. Надеюсь, мне хватит для этого таланта. Было бы
интересным описать все и в первую очередь реку, кото¬
рая протекает у входа, - это самая замечательная и до¬
стойная удивления вещь, которую можно вообразить
себе.
Лепидо. Там, должно быть, текут глубокие волны Леты или
воды Стикса?
Либрипета. Ничего подобного! В это невозможно поверить,
но вместо воды там проносятся бесконечные человечес¬
кие лица, одни бледные, грустные, больные, другие
смеющиеся, красивые, румяные; некоторые вытяну¬
тые, худые, морщинистые, некоторые, наоборот, тол¬
стые, раздутые, опухшие; или такие, у которых лоб,
глаза, нос, рот, зубы, борода, волосы, подбородок - бес¬
конечно вытянутые, бесформенные. Поразительно,
страшно, чудовищно. А знаешь, каким странным спо¬
собом переплывают эту реку? Нужно катиться куба¬
рем, как скатываются камни с горы вниз.
Лепидо. Действительно, смешно.
Либрипета. Ну, не скажу, чтобы это было смешно, напротив -
опасно, ведь эти лица очень кусачие. Если бы я, при мо¬
ей склонности к драке, не был весь покрыт мозолями от
ранее полученных укусов и тумаков, то ты увидел бы
меня израненным. Благодарю богов, что, переправ¬
ляясь через реку, я нос сохранил в целости.
Лепидо. У тебя, должно быть, очень толстая кожа, которую не
прокусишь. Ну, а что там было еще, кроме этой реки?
446
Либрипета. Вещь, весьма достойная описания: там, среди гор,
есть долины, где сохраняются потерянные предметы.
Лепидо. А что, там сохраняются также и потерянные дни?
Скажи-ка, сколько ты там нашел зря потраченных то¬
бою лет?
Либрипета. Все! Но поразительная вещь: первое, на что я
наткнулся, была довольно большая часть моего рассуд¬
ка; ее похитила у меня одна старушка, в которую я был
некогда влюблен. К сожалению, оттуда нельзя ничего
выносить, а то я водворил бы ее на место, вот сюда, в пра¬
вую часть головы, ту, что с тех пор остается совершен¬
но пустой.
Лепидо. Смотри, не ошибись, не сочти пустым то, что наполне¬
но безумием. А скажи-ка, нет ли там также “прекрас¬
ных искусств” и утерянных латинских рукописей?
Либрипета. Я же сказал, что там находится все утраченное.
Среди лугов там покоятся великие империи, о которых
мы читали; власти, благодеяния, любовь, богатства, и
все, что однажды пропав, не возвращается больше сю¬
да, на свет солнца.
Лепидо. Но как ты сумел среди всего этого различить благо¬
деяния, если за всю свою жизнь ты ни разу никому не
сделал никакого добра и ни разу не видел благодеяния,
оказанного тебе самому.
Либрипета. Сам я бы ничего не различил, настолько все эти
вещи не похожи на то, как мы их представляем себе: но
там присутствовали хранители, которые давали мне
объяснения.
Лепидо. Что же они тебе объяснили?
Либрипета. Все империи там действительно свалены в одну
кучу, так что, если бы ты их увидел, ты бы ничего не
понял.
Лепидо. Правда?
Либрипета. Вот именно. Все это похоже на огромный пу¬
зырь, наполненный лицензиями, всякого рода изобре¬
тениями и выдумками, звуками рожков и труб. Ближе
к краям разложены благодеяния в виде рыболовных
крючков, сделанных из золота и серебра; немного
подальше - свинцовые крылья, мне сказали, что это че¬
ловеческие достоинства. Затем - монеты и обгорелые
пни - это любовь; наконец, бесчисленные имена граж¬
дан, начерченные на слое пыли, - это богатства. Чтобы
особенно не распространяться, скажу в заключение,
что там можно найти все, кроме безумия.
Альберти и Флоренция
447
Лепидо. Должен признаться, что твое паломничество дей¬
ствительно достойно пера философа.
Либрипета. А что ты скажешь, когда услышишь остальное!
Лепидо. Рассказывай, прошу тебя. Даже если это зловонно, я
охотно выслушаю. Продолжай, пожалуйста.
Либрипета. Итак: невдалеке от этого места отвесно подни¬
мается высоченная гора, где, как мне сказали, кипят,
словно в огромном котле, все желания и надежды. Во¬
круг горы - множество обетов и молитв, возносивших¬
ся людьми богам. А на вершине горы время от времени
взрывается какая-либо надежда или желание - и исче¬
зает бесследно. Это зрелище показалось мне отнюдь
не развлекательным. Многое из того, что я увидел там,
я не смог запомнить из-за чрезмерного обилия разного
рода необычных впечатлений. Наконец, я достиг того
места, где мчится бурный поток, который, как мне
сказали, состоит из слез несчастных. Трудно расска¬
зать, как я хохотал, переплывая его. Для переправы
предназначены старухи, которые при жизни, в молодо¬
сти, были неприступными красавицами, а с годами ста¬
ли суеверными и злыми. Если я тебе расскажу о спосо¬
бе переправы, то ты тоже не сможешь удержаться от
смеха.
Лепидо. Конечно, мне хочется посмеяться, поэтому не скры¬
вай от меня ничего, что касается твоего путешествия.
Либрипета. Я готов удовлетворить твое любопытство. На бе¬
регу лежат на спине голые старухи. Ты встаешь коле¬
нями на бедра одной из них, хватаешь ее руками за
уши и поворачиваешь ее голову в том направлении, ку¬
да тебе нужно плыть, а она гребет пятками и кистями
РУК.
Лепидо. Поистине достойное тебя путешествие. Думаю, одна¬
ко, что при этом часто оба оказываются под водой.
Либрипета. Ничего подобного! Для того чтобы тебе стало по¬
нятным, как это происходит, я скажу тебе об одной
очень важной вещи, о которой я узнал там и которая
мне представляется весьма философской. Когда чело¬
век плывет, то он удерживается на поверхности воды
благодаря легким. Но эти женщины, которые очень
любили болтать, имеют одни легкие на уровне поясни¬
цы, а другие - на уровне плеч. Прибавь к этому, что
женщины имеют абсолютно пустые головы, что состав¬
ляет наилучшую гарантию безопасности при переправе
через реку. Что ты на меня смотрешь?
448
Лепидо. Смотрю я на тебя и думаю, что если у тебя есть доля
здравого смысла, ты должен поспешить обратно в эту
выгребную яму: ты набрался за это свое путешествие
больше философии, чем за все предшествующие годы,
хотя и располагаешь огромной библиотекой, к кото¬
рой, впрочем, никогда не прикасаешься. Что ты мо¬
жешь сказать по этому поводу? Во всяком случае ты
должен признаться, что подобным смешным способом
ты уверился в постоянстве и верности женщин.
Либрипета. Действительно, мое плаванье было удобным и
вполне безопасным. Старуха, которую я когда-то лю¬
бил, тотчас отдала себя в мое распоряжение, смеясь
при этом своим беззубым ртом. Нельзя не похвалить
усердие и заботливость, с которой она несла меня на
себе. Я поблагодарил ее и, как только оказался на дру¬
гом берегу, увидел широчайшее поле, где вместо стеб¬
лей и листьев травы росли шевелюры и бороды муж¬
чин, женские волосы, лошадиные и львиные гривы -
не оставалось ни одного участка луга, не покрытого
подобной растительностью. Боги небесные! Сколько я
видел там людей, заблудившихся в сновидениях. Они
искали и выкапывали корешки; если эти корешки
съесть, то будешь казаться прозорливым и мудрым, не
будучи таким на самом деле. Я тоже раздобыл несколь¬
ко корешков, но при этом меня почти сожрали вши, в
огромном количестве носившиеся по полю. Спасти ме¬
ня могло только бегство. Я припустился со всех ног,
как сумасшедший, ища выход, чтоб избавиться от это¬
го несчастья. Судьба послала мне эту выгребную яму.
Лепидо. Ну теперь иди отмываться. А я вернусь к своим дру¬
зьям, которых ты считаешь безрассудными и необразо¬
ванными.
Образ Либрипеты достаточно сложен; Альберти и вы¬
смеивает его с позиций трезвого рассудка (Лепидо), и вместе
с тем вкладывает в его уста некоторые из своих заветных
мыслей и горьких раздумий: о внутреннем одиночестве
(единственный бодрствующий среди спящих); о пустых, мол¬
чащих небесах; о тщетных молитвах смертных, которых не
слышат боги (ср. фразу из “Момуса”: “Эфир весь забит молит¬
вами, дорога Феба непроходима, дворик Юноны завален ими
доверху”); о печальной судьбе разрушенных империй, от ко¬
торых остались “лишь пыль и мусор”; наконец, о всесилии
природы, которая пожирает все, созданное руками человека.
Альберти и Флоренция
449
Позднее Альберти возвращается к этой теме в своем трактате
об архитектуре: “Природа обладает такой силой, что даже в
тех случаях, когда ей противостоят колоссальные сооруже¬
ния или всякого рода преграды, ей всегда удается восторже¬
ствовать над всеми препятствиями; все, все, что противится
ей, всякое упорство она преодолевает с несокрушимым по¬
стоянством и в конце концов все расшатывает и низвергает”.
“Застольные беседы” - эти странные юношеские сочи¬
нения Альберти - то забавные до непристойности, то груст¬
ные до отчаяния, написаны эзоповым языком, которым и
позднее любил пользоваться Баттиста: “Какое замечательное
качество - умение скрывать свои потаенные мысли, пряча их
под обманчивым и красочным вымыслом” (Теоженио).
Мы без всяких наставников
и без всяких образцов
создаем искусства и науки
неслыханные и невиданные.
Альберти, 1434
Не было нигде ни одного
хоть сколько-нибудь
прославленного произведения
древних,
в котором я не стал бы тотчас
доискиваться,
нельзя ли чему научиться.
Альберти, 1450
Альберти
и Рим
Тема руин в трактате
Леона Баттисты
Альберти
иДесять книг
о зодчестве"
Все поглощается тщетой.
Какую дорогу
ни избрать, она ведет в ничто.
Альберти, 1471 (?)
Трактат Альберти “Десять книг о
зодчестве” (1450) принято рас¬
сматривать как руководство по
градостроительству, как утопи¬
ческий проект идеального горо¬
да, некой упорядоченной, улуч¬
шенной Флоренции, которая, по
выражению В.П. Зубова, “незри¬
мо присутствует” в этом “по-рим¬
ски, urbi et orbi” написанном со¬
чинении1. Но, может быть, с не
меньшим правом в трактате
можно увидеть своеобразный
проект реконструкции лежащей
в руинах античной архитектуры
и главным образом - памятников
Рима.
Альберти, как никто дру¬
гой из его современников, остро
ощутил один из главных, может
быть - главный нерв культуры
своего времени, со всей страстно¬
стью стремившегося возродить
451
античность и с еще большей страстностью настаивав¬
шего на новаторском характере своего культурного
творчества2.
Однако на протяжении XV века отношение к ан¬
тичному наследию заметно менялось. Зримым вопло¬
щением античной культуры, ее символом оставался
Рим - великий город, столица мира. Но Рим лежал в
развалинах, превратился в “город пастухов и свинопа¬
сов”, и что самое унизительное - в каменоломню3. Эта
картина упадка прежнего величия особенно волновала
современников Альберти. “Когда бродишь по городу,
повсюду видишь обломки колонн, базы, разбитые ста¬
туи, большие ниши, огромные бассейны, выложенные
мрамором разных сортов; множество урн для пепла и
целые надгробия, искусно украшенные резьбой. Рим¬
ляне считают их вредными и разрушают, разжигая
печи и бросая туда камни древних памятников, превра¬
щают их в известь” (Верджерио)4.
Таких ламентаций по поводу современного со¬
стояния Рима, этого “города городов”, сохранилось от
XV века достаточно5. Рим в развалинах, его попранное
величие вызывают горечь и негодование гуманистов,
оскорбленных невежеством жителей этого некогда ве¬
ликого города, ныне находящегося “в том состоянии, в
каком он был основан пастухами”, города, покинутого
папами, погрязшего во внутренних раздорах, утратив¬
шего свою прежнюю политическую роль, из столицы
превратившегося в провинцию. “Мы видим его совер¬
шенно испорченным и запущенным от великого разру¬
шения”, - пишет Альберти6.
Правда, уже с самого начала столетия разрушен¬
ный Рим воспринимался не только как “город свинопа¬
сов” и каменоломня. Для архитекторов, для знатоков
античности, коллекционеров разрушенный Рим являл¬
ся местом раскопок, школой античного искусства и зод¬
чества7.
И все же это было скорее пассивное, потребитель¬
ское отношение. Найденные скульптуры, архитектур¬
ные фрагменты вывозили, в лучшем случае на месте об¬
меряли и зарисовывали, чтобы затем использовать в
собственных произведениях, в пополнении собствен¬
ных коллекций. Это был период физического интеллек¬
туального расхищения римских развалин. В 1401 году
жители Рима, наблюдавшие за архитектурными шту-
452
днями Брунеллески и Донателло, подозревали, что они
ищут спрятанные сокровища. В среде гуманистов было
принято с несколько презрительной снисходитель¬
ностью, а порой с прямой насмешкой относиться к
страстно увлеченному коллекционеру античных пред¬
метов и рукописей Никколо Никколи. “Разве можно
удержаться от смеха, - пишет Гварино о Никколи в
1414 году, - глядя на этого человека, который хвастает
своими знаниями правил архитектуры; вот он широ¬
ким жестом указывает на античные развалины, внима¬
тельно рассматривает кладку стен, подробно разъяс¬
няет, какие колонны лежат на земле, какие остались
стоять, измеряет шагами ширину фундаментов, прики¬
дывает, каково расстояние до вершины обелиска”8.
Альберти в одном из своих ранних сочинений изобра¬
жает его под видом маньяка, готового броситься в
любую выгребную яму, увидев в ней старинную руко¬
пись9. Любопытно признание Мануэля Хризолораса -
грека, жившего во Флоренции: “Можешь ли ты пред¬
ставить себе меня, - пишет он в одном из писем, -
бродящим по городу Риму, бросая взгляды то туда, то
сюда, как какой-нибудь нелепый вертопрах, карабкаю¬
щимся по стене дворца, до самых окон, в надежде уви¬
деть что-нибудь прекрасное. Я никогда не вел себя
таким образом в юности, как ты знаешь, и имел самое
отрицательное мнение о тех, кто так поступает”10.
Альберти в юношеские годы, и особенно в начале
30-х, при первой восторженной встрече с авангардной
культурой Флоренции воспринимает античность как
“мусор” истории, сваленные в одну кучу, никому не нуж¬
ные обломки прошлого, в которых невозможно, да и не
стоит разбираться. В одной из его “Застольных бесед” -
сочинений шутливых, но содержащих, по его собствен¬
ным словам, полезные поучения, приводится диалог
двух персонажей: Лепидо (alter ego автора) и Либрипе-
ты (по-видимому, имеется в виду Никколо Никколи).
Либрипета рассказывает скептически настроенному со¬
беседнику о своем путешествии в страну сновидений
(возможно, намек на путешествие Данте в загробный
мир), он видит там среди гор долину, где сохраняются
все “потерянные” вещи (имеются в виду материальные
следы прошлого), а также “потерянные дни”. Лепидо
спрашивает с откровенной насмешкой: «А скажи-ка,
нет ли там также “прекрасных искусств” и утерянных
Альберти и Рим
453
латинских рукописей?» Либрипета отвечает, что там
“покоятся великие империи, о которых мы читали, все,
что однажды пропавши, не возвращается больше. Все
империи там свалены в одну кучу, так что, если бы ты
их увидел, ты бы ничего не понял”11. В забавно-иноска¬
зательной форме Альберти излагает здесь свое, вполне
серьезное, отношение к наследию древности, сохранив¬
шемуся в виде почти не поддающихся прочтению руко¬
писей, архитектурных обломков и груды развалин.
В сущности та же оценка наследия древности, но
высказанная вполне серьезно, с задорным пафосом при¬
верженца нового, современного искусства, новых откры¬
тий и изобретений, содержится и в его “Трех книгах о
живописи” - трактате, написанном уже во Флоренции
в начале 30-х годов: “Нам здесь отнюдь не требуется
знать, кто были первыми изобретателями искусства,
ибо мы не занимаемся пересказом всяких историй, как
это делал Плиний, но заново строим искусство живопи¬
си, о котором, насколько я знаю, в наш век ничего не
найдешь написанного. Правда, - продолжает Альберти
в тоне нарочитого пренебрежения, - говорят, что
Евфранор Исфмийский что-то такое написал об измере¬
ниях и цветах. Говорят также, что Антигон и Ксено-
крат описали какие-то картины, и говорят, что Апеллес
писал Персею о живописи. Рассказывают о невероят¬
ных ценах на картины”. И так далее, в том же тоне.
И заключает: “Плиний собрал множество подобных
случаев”12. Это в самом тексте трактата, а в “Посвяще¬
нии”, адресованном Брунеллески, с восторгом: “Если
древним, имевшим в изобилии у кого учиться и кому
подражать, было не так трудно подняться до познания
высших искусств, то имена наши заслуживают тем
большего признания, что мы, без всяких наставников и
без всяких образцов, создаем искусства и науки неслы¬
ханные и невиданные”13.
В ранний, дофлорентийский период у Альберти
чувствуется какое-то даже ревниво пренебрежительное
отношение к античному наследию, он словно стремится
доказать себе самому и окружающим, что он может без
труда создать вполне “античное” сочинение, так что ни¬
кто о подделке не догадается. И он совершает этот дерз¬
кий или, скорее, озорной поступок - пишет на латыни
комедию “Филодоксеос”, которую выдает за творение
несуществующего древнеримского автора - Лепида.
454
Действительно, мистификация вполне удалась, коме¬
дию долго считали одной из сенсационных “древних”
находок. Альберти сам разоблачил совершенный им
подлог лишь десять лет спустя, несомненно в тайне тор¬
жествуя, что смог провести знатоков и что в античном
искусстве нет ничего недосягаемого.
Отношение Альберти к античному наследию ме¬
няется в середине столетия, вместе с изменением ситуа¬
ции в самом Риме, куда Альберти переселяется, поки¬
нув в 1443 году Флоренцию с двором папы Евгения IV,
в аппарате которого он служил в должности референта
(аббревиатора). В 1447 году после смерти Евгения, на
папском престоле оказывается (неожиданно даже для
самого себя) Томмазо Парентучелли ди Сарцано. С ним
Альберти был хорошо знаком с юности, они вместе учи¬
лись в Болонье, позднее, во время Собора 1439 года
встречались во Флоренции, куда Альберти прибыл
в свите папы Евгения IV, а Томмазо Парентучелли -
в свите кардинала Альбергати. Новый папа - Нико¬
лай V - был захвачен идеей возрождения религиоз¬
ного и политического престижа Рима, восстановления
его обветшавших, разрушившихся зданий. Папа ре¬
шил поднять Рим из развалин, и прежде всего - город¬
ские стены, древние христианские храмы, его глав¬
ную святыню - базилику Св. Петра, ватиканский
дворец и квартал, расположенный между гробницей
императора Адриана и базиликой Св. Петра, превра¬
тив весь комплекс зданий в архитектурный ансамбль,
предназначенный для папской курии. Идея восстанов¬
ления христианского Рима была в значительной степе¬
ни связана с подготовкой к торжественному юбилею
1450 года, когда в Рим ожидался приток паломников и
туристов.
Трудно сказать, какое участие принимал Альбер¬
ти во всей этой архитектурной деятельности, прямых
свидетельств не сохранилось14, однако известно, что он
отрицательно отнесся к задуманной папой перестройке
древнего собора Св. Петра. Возможно, Альберти соби¬
рался предложить свой собственный вариант его рекон¬
струкции. Во всяком случае в трактате о зодчестве он
дважды обращается к вопросу об угрожающем состоя¬
нии здания, подробно описывает неудачи в его архитек¬
турном решении: “Я заметил в Базилике Петра в Риме
то, что бросается в глаза и что было сделано неосмотри-
Альберти и Рим
455
тельно”; перечисляет замеченные недостатки в конст¬
рукции. “Оттого и произошло, - заключает Альберти, -
что под настойчивым напором ветров одно из крыльев
здания уже отклонилось от отвеса более, чем на шесть
футов. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь от легкого
толчка или незначительного движения оно обрушит¬
ся”15. В конце трактата Альберти подробно рассказы¬
вает о произведенных им реставрационных работах:
“В Риме, в величайшей базилике Петра, крылья стен
над колоннами, отклоняясь, грозили обрушить крышу.
Для предотвращения этого я выдумал следующее”
(далее следует подробное описание работ)16. Считается
также, что именно Альберти принадлежит проект рес¬
таврации, точнее - реконструкции моста Адриана:
“Я смело утверждаю, что мост Адриана в Риме есть са¬
мое могучее сооружение из всех тех, которые воздвигли
люди, и тем не менее разливы довели его до такого со¬
стояния, что я сомневаюсь, может ли он выстоять дол¬
го. Ибо разливы досаждают ежегодно быкам, ударяясь
в них стволами и ветками, уносимыми с полей, воды
поднимаются, а из глубин взлетают, кружась, гибель¬
ные водовороты. Так они размывают заднюю часть
быков и разоряют твердыню сооружения”17. Из этого
описания очевидно, что Альберти внимательно наблю¬
дал, и может быть не один сезон, за угрожающим со¬
стоянием памятника. И в другом месте: “Такая крыша
есть в Риме на мосту, наиболее из всех замечательном,
мосту Адриана - сооружении, достойном упоминания,
чьи, так сказать, останки и я созерцал с благоговением.
Здесь раньше была крыша, лежавшая на сорока двух
мраморных колоннах, с архитравом, бронзовым покры¬
тием и удивительным убранством”18.
Но самое важное, что Альберти постоянно на¬
ходился в атмосфере восстановительных работ, когда
сразу во многих местах города велось строительство,
делались обмеры памятников, создавались проекты,
возникали дискуссии - это была та творческая среда,
которая, несомненно, способствовала тому, что его иро¬
ническое отношение к античному наследию как к груде
обломков постепенно уступает место увлечению архео¬
логическими исследованиями: “Я никогда не пропускал
случая испытывать, рассматривать, измерять, зарисо¬
вывать, дабы все, что кто-либо привнес умом или искус¬
ством, охватить и постичь”19. Теперь для Альберти
456
античные развалины Рима - не просто камни, “засы¬
панные обломками и мусором”, из которых невозмож¬
но извлечь какой-либо полезной информации, напро¬
тив: “Не было нигде ни одного хоть сколько-нибудь
прославленного произведения древних, в котором я не
стал бы тотчас доискиваться, нельзя ли чему научить¬
ся”20. Он по-прежнему ропщет, что античность сохра¬
нилась лишь во фрагментах и обломках: “Я сожалел,
что столь многие, столь прекрасные наставления писа¬
телей погибли от несправедливости времен и людей,
так что едва ли не один Витрувий дошел до нас после та¬
кого великого крушения - писатель, без сомнения, об¬
разованнейший, но настолько испорченный и искале¬
ченный временем, что во многих местах многое утраче¬
но. Правда, остались еще сами памятники древности,
такие, как театры и храмы, от них, как от лучших на¬
ставников, можно многому научиться. И с глубокой
скорбью я вижу, как они разрушаются день ото дня”21.
Негативизм флорентийского периода с его пафо¬
сом новаторства сменяется теперь стремлением не
только досконально изучить разрушенные памятники
древности, но и по возможности зафиксировать, об¬
мерить, зарисовать, описать то, что сохранилось.
Именно в эти годы, в этой атмосфере был создан трак¬
тат “Десять книг о зодчестве”, законченный, как счи¬
тают, в 1450 году.
Альберти использовал не только огромный по то¬
му времени материал письменных источников (“ведь
никто не считает себя достаточно искушенным в на¬
уках, если не перечитал и не изучил всех авторов, даже
плохих, писавших по тому предмету, которым он зани¬
мается”22), но и результаты тщательного обследования
доступных ему античных памятников и их “останков”.
“Мы соберем и опишем в этой работе все самое достой¬
ное”, - обещает Альберти в предисловии к трактату23.
Альберти флорентийского периода - новатор,
призывавший, не оглядываясь на античные “образцы”,
создавать “вещи невиданные и неслыханные”. Альбер¬
ти римского периода тщательно обмеряет и зарисовы¬
вает “прах и останки” Древнего Рима. “Насколько зод¬
чество способствовало весу и славе Латинской империи,
об этом я скажу только то, что прах и останки древнего
великолепия, окружающие нас повсюду, помогли нам
поверить многому тому из рассказов историков, что без
Альберти и Рим
457
них, пожалуй, показалось бы менее вероятным”24. Сва¬
ленные в одну кучу “империи”, “прекрасные искус¬
ства” и “утраченные рукописи”, в которых невозможно
разобраться, “засыпанные мусором” камни Рима, о ко¬
торых с пренебрежением и горечью говорил Альберти в
20-х и 30-х годах, теперь, в конце 40-х, воспринимают¬
ся им как “останки древнего великолепия”, свидетель¬
ствующие о “славе Латинской империи”. Более того,
именно эти “останки” помогают разобраться в плохо со¬
хранившихся и, как утверждал ранее Альберти, не под¬
дающихся прочтению древних рукописях.
В трактате речь идет почти исключительно об ан¬
тичных памятниках, сооружения древневосточные фи¬
гурируют скорее как экзотический курьез. Что касает¬
ся средневековых храмов Рима, о судьбе которых забо¬
тился папа, то Альберти они интересовали в меньшей
степени, а если и интересовали, то только самые ран¬
ние, связанные с античной традицией, - такие, как Сан
Стефано Ротондо25 и Санта Констанца, круглые по¬
стройки, обнесенные колоннами. И, конечно, Пантеон -
за работами по восстановлению его купола Альберти
должен был наблюдать с особым интересом.
Идея круглого храма волновала архитекторов на
протяжении всего XV века начиная с Брунеллески, пы¬
тавшегося осуществить ее в маленькой церкви монас¬
тыря Санта Мария дельи Анже ли; круглый храм изоб¬
ражал Гиберти в рельефах восточных дверей Баптисте¬
рия; позднее сам Альберти попытался воссоздать некое
подобие Пантеона в алтаре церкви Сантиссима Аннун-
циата. Дзеви, говоря о деятельности Альберти в Риме,
назвал его “soprintendente et restoratore” (управляю¬
щий и реставратор) города26.
О реставрационных работах Альберти пишет в
конце последней, десятой книги трактата. И хотя эти
разделы называются “Об исправлении зданий”, в них, в
сущности, речь идет об охране античных памятников и
их восстановлении. Альберти сетует на небрежное, ино¬
гда варварское отношение к древним сооружениям:
“Клянусь, я порой не могу удержаться от вздоха при
виде беззаботности некоторых людей, - чтобы не ска¬
зать резче, скажу скупости, - которые разрушают то, что
варвары и неистовые враги пощадили за высокое до¬
стоинство или чему время, непреклонный разоритель
вещей, легко дозволило бы стоять вечно”27. Несомненно,
458
здесь Альберти имеет в виду расхищение камней рим¬
ских развалин, и прежде всего Колизея, который про¬
должали использовать в качестве каменоломни даже
при таком просвещенном гуманисте, как папа Ни¬
колай V, разрешавший выламывать каменные блоки
Колизея для ремонта римских церквей.
“С большим рвением, чем они это делали бы на
вражеском поле, они без промедления посылают рабо-
чих-опустошителей с молотками для разорения и раз¬
рушения всего, не подобает быть безжалостным к тру¬
дам древних, тем более что погубить, низвергнуть и ра¬
зорить все и вся до основания всегда в нашей власти”28.
Здесь легко расслышать упрек в адрес папы, его разру¬
шительно-созидательной активности, вызывавшей не¬
одобрение гуманистов; ему ставили в вину разрушение
памятников языческих ради восстановления христиан¬
ских храмов29.
“Не спеши начать работу, увлекаемый страстью
строительства, руша древние стены, так поступают не¬
осмотрительные и торопливые”30. И в назидание, как
он часто это делал, Альберти ссылается на “древних”:
“Мне всегда нравятся древние, которые поручали осо¬
бым наблюдателям заботиться и следить за обществен¬
ными зданиями, платя им из общественных средств”31.
В 1452 году Альберти преподнес манускрипт Ни¬
колаю V, несомненно рассчитывая, что папа, увлечен¬
ный строительством, найдет время, чтобы прочитать
его с должным вниманием32.
Несмотря на отсутствие каких-либо письменных
свидетельств о роли Альберти в подготовке буллы папы
Пия II (1463) о сохранении памятников Древнего Рима,
естественно предположить, что Альберти был причас¬
тен к составлению этого документа. И не только пото¬
му, что папу Пия И, в миру писателя-гуманиста Энеа
Сильвио Пикколомини, связывали с Альберти узы
дружбы и общие интересы, но также из-за того, что пре¬
амбула буллы обнаруживает прямое влияние сочине¬
ний Альберти, и в первую очередь его трактата об архи¬
тектуре. “Мы должны прежде всего неусыпно заботить¬
ся о том, чтобы поддерживать и охранять не только
чудесные здания базилик и храмов этого города, но со¬
хранять для потомков также древние и старинные зда¬
ния и их развалины, так как они составляют украше¬
ние и величайшую славу Рима и, являясь памятниками
Альберти и Рим
459
древних доблестей, побуждают к достижению их сла¬
вы”. И далее: “Всем и каждому, как церковным, так и
светским лицам, какого бы ни были они положения, да¬
же если отличаются папским или любым другим цер¬
ковным или светским достоинством, чтобы никто из
них, прямо или косвенно, не замышлял никоим обра¬
зом разрушать, уничтожать, разбивать, сносить, пре¬
вращать в известь какое-либо древнее общественное
здание или остатки древнего здания, находящееся в са¬
мом городе, его округе или даже в их собственных заго¬
родных и городских владениях”33. Эти строки кажутся
подсказанными Альберти - секретарем папы Пия II.
В роли “soprintendente” выступает Альберти и в
предпринятом им “Описании города Рима”, написанном,
как считают в последнее время, между 1443 и 1455 го¬
дами34. “С возможной тщательностью изучил я в том
виде, в каком они нам известны сейчас, направления и
очертания городских стен Рима, реки и дороги, равно
как положение и размещение храмов, общественных
зданий, ворот и трофеев, границы холмов. К этому
склонили меня просвещенные друзья, и желание их я
счел нужным исполнить”, - пишет Альберти в преди¬
словии к “Описанию”35. В сущности - это путеводитель
для просвещенных путешественников, снабженный по¬
дробным инвентарным списком всех сохранившихся
древних памятников. В соответствии с этим “Описа¬
нием” Альберти показывал город приезжавшим в Рим
друзьям и знакомым36.
При внимательном чтении трактата “Десять книг
о зодчестве” нельзя не заметить, что в нем не описы¬
ваются здания в целом. Особенно поражает это при
сравнении трактата со “Сфорциндой” Филарете - его
текст изобилует подробными описаниями и рисунками,
изображающими придуманные автором сооружения -
дворцы, крепости, храмы, дома. Альберти, как прави¬
ло, приводит планы и размеры сохранившихся антич¬
ных построек (их “очертания”), предлагает планировку
новых зданий по образцу античных. Именно с “очерта¬
ний” начинается первая книга. Затем речь идет об от¬
дельных частях архитектурного сооружения. И прежде
всего - о крышах: “В особенности следует позаботить¬
ся, чтобы крыша предпочтительно перед всем другим
была рассмотрена с совершенной отчетливостью”37.
Крыша, перекрытие - это то, что в наибольшей степени
460
подверглось разрушению, и именно разрушенные пере¬
крытия послужили главной причиной гибели осталь¬
ных частей зданий, превращения их в руины. “Полез¬
ность крыши - всех первейшая и величайшая. Убери
крышу - сгниет материал, осядет стена, пошатнутся
бока, и вся, наконец, стройка незаметно рассядется.
Даже самые фундаменты, поверишь ли, укрепляются
защитою крыш. И меньше зданий обращено в развали¬
ны огнем и мечом... чем их разрушилось по нерадению
граждан, которые оставили их без крыш и обнаженны¬
ми...”38 И дальше: “Какой бы ни был кров, необходимо,
чтобы он всегда тенью своей ограждал пол и совершен¬
но удалял воду или дождь от всего здания, которому он
будет служить прикрытием, ибо дождь всегда готов
вредить, предан злу и пользуется даже малейшим, что¬
бы, тонкостью своей пронизывая, сыростью пропиты¬
вая, упорством размягчая все жилы здания, в конце
концов испортить постройку и погубить ее дотла”39.
В этих эмоциональных строках звучит не столько па¬
фос архитектора-строителя, сколько сокрушения архи-
тектора-реставратора, ученого-археолога, много раз¬
мышлявшего над причинами гибели древних построек.
К теме крыши Альберти возвращается неодно¬
кратно: крыша, кров - это то, с чего началась архитек¬
тура, ее первоэлемент, все остальное было изобретено
только ради поддержки крыши, ради ее сооружения:
“Крыша по своей природе из всех сооружений у смерт¬
ных была первым, что они сделали для покоя; нельзя
отрицать, что ради крыши изобретены не только стены
и все вместе со стенами возносящееся ввысь и с ними со¬
пряженное, но и те части, которые находятся под зем¬
лею”40. Согласно неожиданной логике Альберти - кры¬
ша не завершает строительство здания, но напротив,
стены и столбы возводятся ради поддержания крыши.
И снова о крышах: “Я возвращаюсь к покровам крыш.
Нет во всем здании ничего древнее, чем то, что дает
приют человеку, скрывающемуся от палящего солнца и
от низвергающихся с неба ливней. И благодеяние это
обеспечит тебе не стена, не участок и не что-либо иное,
но, как нетрудно видеть, единственно и прежде всего
наружный покров крыши”41. Крыша, по мысли Аль¬
берти, первая принимает на себя разрушительные
удары природы, “ведь крыши - оружие зданий про¬
тив натиска стремительной бури”42. Именно крыши
Альберти и Рим
461
вариант “античной” архитектуры. В ряде случаев спе¬
циалистам удалось установить, какие именно детали
или целые архитектурные мотивы воспроизведены в
его постройках. Характерным примером такой архи¬
тектурно-реставрационно-археологической эклектики
можно считать перестройку средневековой церкви Сан
Франческо в Римини. Тщательно сохраняя старое зда¬
ние, относясь к нему с профессиональной бережностью
реставратора, Альберти предложил заключить ее в “ан¬
тичный” каменный саркофаг. Фасад воспроизводил
триумфальную арку - свободный вариант сохранив¬
шейся в Римини арки Августа в сочетании с трехпро¬
летным решением арки Константина в Риме и визан¬
тийской декоративной инкрустацией в тимпане цент¬
рального пролета49. Альберти настаивал на том, что
архитектурные членения фасада, его пропорции ни в
коем случае не следует приспосабливать к простран¬
ственному решению старого средневекового здания.
Этот фасад должен был восприниматься как некая ан¬
тичная кулиса, как экран, заслоняющий средневеко¬
вую церковь. Так же были задуманы и боковые стены, с
их мощным цоколем и глубокими нишами, предназна¬
ченными заказчиком для саркофагов с останками по¬
этов, философов, гуманистов - что-то вроде монумен¬
тального колумбария. Как и фасад, эти стены не соотно¬
сились со стенами старой базилики, оставленными
Альберти в полной неприкосновенности. Более того, в
новых стенах были прорезаны отверстия для средневе¬
ковых окон, не совпадающие с “античными” нишами.
Это смелое решение - лишнее свидетельство бережного,
реставрационного подхода Альберти к старой архитек¬
туре: “Не подобает быть безжалостным к трудам древ¬
них. Не спеши начать работу, руша древние стены”.
Самое впечатляющее в этом замысле в том, что бо¬
ковые стены задуманы в совершенно ином, нежели фа¬
сад, архитектурном ключе, они воспроизводят совсем
иной архитектурный образец. Соединение, точнее - со¬
поставление в одном здании разных, зрительно не сты¬
кующихся фасадов производит странное впечатление
нарочитой архитектурной разъятости целого: почти
плоская, измельченная декором нарядность триум¬
фальной арки входа - и суровая, голая в своем лакониз¬
ме, кажущаяся непропорционально длинной боковая
стена полупустого колумбария, напоминающая то ли
464
мощную аркаду римского акведука, то ли, как считают
некоторые авторы, цокольную часть мавзолея Теодори-
ха в Равенне.
Термин “эклектика” не совсем корректен приме¬
нительно к искусству Раннего Возрождения, которое с
радостной непосредственностью первооткрытия, не за¬
думываясь, заимствовало мотивы и формы из разных,
казавшихся людям кватроченто античными, источни¬
ков, умудряясь сплавлять их в целостный образ по
принципу разнообразия; варьета - одно из ключевых
слов для понимания типа культуры этой эпохи50. К ар¬
хитектурному облику Темпио Малатестиано определе¬
ние варьета не применимо, ему недостает бездумной
легкости соединения несоединимого. В нем преобла¬
дает дидактическая серьезность, демонстративная по¬
учительность, свойственная вообще всему творчеству
Альберти. Этот храм - творение не столько архитектора-
художника, сколько архитектора-ученого, демонстри¬
рующего современникам плоды своих трудов по восста¬
новлению древних памятников.
Считается, что модель Темпио Малатестиано Аль¬
берти выполнил к 1450 году; строительные работы вел
архитектор Маттео Пасти. Альберти из Рима внима¬
тельно следил за воплощением своего замысла, давая
строгие наставления Маттео. Главная суть их сводилась
к требованию ни в коем случае не наносить вреда старо¬
му зданию церкви и осуществлять “реконструкцию”
его как совершенно самостоятельное архитектурное ре¬
шение. “Вспомни то, что я тебе говорил: этот фасад дол¬
жен быть самостоятельным произведением, ибо высота
и ширина капелл мне мешают, ширина внутри не мо¬
жет быть соразмерна с нашим фасадом. Что касается
нашего столба, если он даже и не будет отвечать столбу
капеллы, это не важно”. Альберти обрушивается на
Маттео, которому посоветовали изменить высоту купо¬
ла: “Когда ты мне говоришь, будто купол должен быть
в высоту вдвое больше своей ширины, я больше верю
тому, кто сделал термы и Пантеон и всякие другие ве¬
личайшие вещи”. Альберти возмущен тем, что Маттео
решил сделать круглые окна, по-видимому, в барабане
купола: “Я хотел бы, чтобы профессионал что-нибудь
смыслил в своем деле. Неужели же ты ничего худшего
не мог придумать, как доставить мне эту неприят¬
ность?.. Никогда ни в одной постройке, заслужившей
Альберти и Рим
465
похвалу тех, кто понимали то, чего сейчас никто не по¬
нимает, никогда, никогда не увидишь круглого окна
иначе как в куполе на его макушке. А делается это в оп¬
ределенных храмах, посвященных Зевсу и Фебу, хозяе¬
вам света. Я это сказал, чтобы показать тебе, откуда бе¬
рется истина”51. Письмо датируется, по-видимому,
1454 годом. Оно достаточно красноречиво - и своим па¬
фосом охраны старых памятников, и своей ориентаци¬
ей на античные образцы, а также своим не терпящим
возражений поучительным тоном, столь характерным
для Альберти.
И все же Темпио Малатестиано - это не только ил¬
люстрация к трактату “Десять книг о зодчестве”, не
только учебное пособие по античной архитектуре - это
и архитектурная фантазия на тему “древности”. Для то¬
го чтобы так дерзко соединить в одном здании две рим¬
ские триумфальные арки, византийскую инкрустацию
фасада, глухие ниши мавзолея Теодориха, мощную ар¬
каду акведука и все это увенчать куполом Пантеона52 -
требовалась незаурядная игра воображения. Альберти
признается, что часто по ночам, когда его мучила бес¬
сонница, он “сочинял в уме и строил некие сложнейшие
постройки и включал в них многие ордера и множество
колонн с различными капителями и базами и с новой
красоты карнизами”53. Одной из таких “сложнейших
построек”, не просто сочиненных в уме, но и реализо¬
ванных в камне, был Темпио Малатестиано.
Этот храм-мавзолей остался недостроенным.
После смерти заказчика - Сигизмундо Малатесты и
смерти автора проекта - Леона Баттисты Альберти у на¬
следников не хватило ни средств, ни творческого энту¬
зиазма, ни дерзости, чтобы завершить строительство
этого поистине монструозного сооружения, подвергше¬
гося проклятию папы Пия II54. В сущности, храм остал¬
ся в состоянии руин - с не возведенным куполом, с не
симметрично “обломанным” фронтоном, с не завершен¬
ной облицовкой боковой стены. Руина, составленная из
руин55.
Что касается группы флорентийских построек,
связанных с заказом Джованни Ручеллаи, то участие
Альберти в их проектировании подтверждения в источ¬
никах XV века не находит56. Больше других на автор¬
ство Альберти может претендовать фасад палаццо
Ручеллаи, выстроенный Бернардо Росселино.
466
Если автором фасада палаццо действительно был
Альберти, то в нем можно видеть образец архитек¬
турной графики, воссозданный на основании изуче¬
ния римских руин, и прежде всего руин Колизея. Наря¬
ду с фасадом храма в Римини его можно расцени¬
вать как иллюстрацию к тексту трактата “Десять книг
о зодчестве”.
Из документированных построек Альберти во
Флоренции была осуществлена только алтарная ротон¬
да церкви Сантиссима Аннунциата57. Под видом алтар¬
ной абсиды Альберти решил построить во Флоренции
уменьшенное повторение римского Пантеона, при¬
строить к христианской церкви языческий храм. В сущ¬
ности, повторилась ситуация с перестройкой церкви
Сан Франческо в Римини. Замысел Альберти вызвал со¬
мнения у флорентийцев58. Альберти настоял на своем,
но так же, как в Римини, его постигла неудача59.
И на этот раз Альберти - упрямый мечтатель, за¬
хваченный идеей воспроизведения (“возрождения”) ан¬
тичности, одержал победу над Альберти - опытным и
трезвым мастером архитектурного проектирования.
Папе Николаю V гуманисты ставили в вину разру¬
шение античных зданий ради восстановления христи¬
анских церквей. Известно, что при нем и с его согласия
из Колизея за один год вывезли более 25000 повозок
травертина. Камень “добывали” также на Форуме, в
Большом цирке и на Авентинском холме.
Папа Пий II в булле 1463 года запрещает разру¬
шать “старинные здания и их развалины”, поскольку,
созерцая их, “можно лучше понять бренность дел чело¬
веческих, на которые никоим образом не следует пола¬
гаться, ибо <все> видят, что эти сооружения, которые,
как считали наши предки, своим замечательным могу¬
ществом и величайшими затратами поспорят с бессмер¬
тием, теперь из-за давности <времен> и других несчаст¬
ливых обстоятельств стоят разбитые и развалившие¬
ся”60. Для Пия II руины - это назидательное зрелище
тщетности людских усилий “поспорить с бессмертием” -
извечная тема: “Так проходит слава земная”.
Альберти также понимает всю невозможность для
человека “сдержать и отразить силу стремительных
вод и грузность рушащихся утесов”. Он горько сетует,
“что время все побеждает, что у старости коварные и
могучие орудия нападения, что необыкновенная сила
Альберти и Рим
467
природы может произвести ежедневно неслыханное,
нечаянное, нарушающее и разрушающее стройный за¬
мысел зодчего”61. И все же руины для него - это свиде¬
тельство борьбы, схватки всеразрушающей природы со
“стройным замыслом зодчего”, и поучительный смысл
зрелища разрушенных памятников древности не толь¬
ко в том, что они разрушены, но и в том, что они вы¬
стояли. Это - памятники победы времени над челове¬
ком и одновременно победы человека над временем.
И именно поэтому они требуют не только охраны, но и
восстановления, не только реставрации, но и рекон¬
струкции и даже - воссоздания.
Таким опытом воссоздания античных памятни¬
ков были для Альберти спроектированные им церков¬
ные здания в Римини и во Флоренции. Их можно расце¬
нивать как эстетически неудачную, но концептуально
смелую попытку в первом случае - спрятать средневе¬
ковое христианское прошлое, заключив его в язычес¬
кий футляр; во втором - заменить античным храмом са¬
мое главное, сакральное ядро средневековой церкви -
ее алтарную абсиду. В каком-то смысле в этом можно
усмотреть манифест новой, ренессансной культуры.
И как во всяком манифесте, концепция от противного
преобладает в нем над эстетической убедительностью.
Николай V разрушал языческие памятники, что¬
бы сохранить и восстановить христианские церкви.
Альберти преображал, переодевал христианские церк¬
ви, придавая им языческий облик. В сущности, по тому
же принципу построен и текст его архитектурного
трактата, в нем использована только языческая терми¬
нология. Имя христианского Бога ни разу не упоми¬
нается, зато присутствует весь античный Олимп; все
церкви Альберти упорно называет храмами, алтари -
жертвенниками, священнослужителей - жрецами.
И внутрь этого обширного античного (языческого!) тек¬
ста, как внутрь античного храма, он включает, словно
сознательно стараясь спрятать, как спрятал христиан¬
скую церковь в Римини, небольшой кусок - всего два
абзаца, - посвященный “зарождению нашей религии”,
религии раннего христианства. Кажущийся неожидан¬
ным для Альберти по своему религиозному пафосу, не
связанный с предшествующим текстом, он внезапно об¬
рывается на полуслове красноречивым возгласом:
“Больше ничего не скажу!”
468
Вот этот текст:
“У наших предков, при зарождении нашей рели¬
гии, лучшие мужи сходились на общую вечерю не для
того, чтобы напитать тело яствами, а чтобы пребывать во
взаимном общении и возвращаться домой с душою, пол¬
ной благих наставлений, всеми силами стремящейся к
добродетели. Там они занимались чтением и беседами о
божественном, скорее совершая возлияние, нежели по¬
глощая то, что на вечере было приготовлено для скром¬
ной трапезы. Рвение всех устремлялось на общее благо и
почитание добродетели. Притом каждый по силе возмож¬
ностей отдавал на общую пользу должную дань благочес¬
тия и любви к ближнему, и через настоятеля средства
распределялись среди тех, кто в них нуждался. Таким
образом у них, как у любящих братьев, все было общее.
Позднее, когда властители дозволили им собираться от¬
крыто, они немного отклонились от дневнего отеческого
обычая и при увеличившемся стечении народа стали до¬
вольствоваться меньшим приношением. Проповеди, ко¬
торые в то время произносили искусные жрецы, можно
было найти всюду в писаниях отцов. Итак, тогда только
один был жертвенник, у которого они собирались, только
одна ежедневная жертва, которую они совершали.
И вот настали такие времена - о если бы нашелся
какой-нибудь могущественный человек, который ре¬
шился бы их обличить, оставаясь в мире с жрецами! -
когда для сохранения достоинства жрецы едва ли не раз
в год являют себя народу и до того все запрудили алта¬
рями и подчас. Ничего больше не скажу!”62
Антицерковный смысл этого включенного в трак¬
тат фрагмента не подлежит сомнению. Более того - не
подлежит сомнению его автобиографический подтекст.
Кого имел в виду Альберти, говоря о человеке, который
решился бы “обличить” современных церковных ие¬
рархов, “оставаясь с ними в мире”? Здесь легко угады¬
вается ситуация самого Альберти, всю жизнь прослу¬
жившего в папской курии и так и не осмелившегося
“открыто обличить” ее “жрецов”. В другом своем сочи¬
нении он с горечью констатировал, что участь всякого
служащего человека ничем не отличается от участи
раба63. Кто “для сохранения достоинства едва ли не раз
в год являет себя народу”? Намек на папу? И на которо¬
го из пап: Евгения или Николая? И что хотел сказать
Альберти, оборвав фразу на слове “подчас”?
Альберти и Рим
469
Вопрос об отношении Альберти к христианской
религии требует специального исследования. Не до
конца ясен и характер его отношения к католической
церкви. Возможно, многое зависело от его личных сим¬
патий и общности интересов, связывавших его с тремя
папами, при которых ему довелось служить и которым
он умел быть полезным. Может быть, этим объясняется
то несколько странное обстоятельство, что Пий II, под¬
вергший грозному проклятию заказчика Темпио Мала-
тестиано - Сигизмундо Малатеста, превратившего цер¬
ковь Св. Франциска в языческий мавзолей, никак не
изменил своего отношения к Альберти, воплотившему
этот нечестивый замысел64.
И еще одно значимое обстоятельство. Павел II,
занявший папский престол после кончины Пия II в
1464 году, начал с того, что разогнал весь многочис¬
ленный штат папских секретарей и референтов, ли¬
шив их даже прощальной аудиенции. За Альберти
вступился мантуанский герцог Людовико Гонзага65,
однако его заступничество не увенчалось успехом,
Альберти был изгнан из курии наряду с другими. Их
обвинили в том, что они спускались в катакомбы с
раннехристианскими захоронениями и совершали там
какие-то запрещенные церковью обряды, обвинили в
неоязычестве и в политической неблагонадежности.
Так ли это было на самом деле и в какой степени к это¬
му был причастен Альберти - сказать трудно. Но связь
этой истории с христианским текстом в трактате об ар¬
хитектуре представляется вполне вероятной. Более
того, становится понятным следующее противопостав¬
ление: “при зарождении нашей религии”, пишет Аль¬
берти, верующие “собирались вокруг одного жертвен¬
ника” (надо полагать, имеются в виду небольшие
часовни в катакомбах), - в то время как теперешние
иерархи “все запрудили алтарями”.
Возможно, в том же раннехристианском ключе
следует толковать и еще одно высказывание Альберти,
также спрятанное в тексте трактата, но несколькими
страницами ниже: “Нет таких форм, посредством кото¬
рых можно было бы <богов> хоть как-нибудь запечат¬
леть и изобразить. И полагают, что хорошо, если ника¬
ких рукотворных форм не будет. Тогда о верховном
правителе и горних умах (что это? иносказатель¬
ная форма обозначения Бога-отца и святых, которых
470
автор не хочет назвать? - И.Д.) каждый может в своей
душе воображать то, что отвечает силам его дарования.
Величие же высочайшего имени (!) будет гораздо более
почитаемо”66. Если ортодоксально настроенный папа
Павел II прочитал эти строки, то у него были все основа¬
ния обвинить Альберти в ереси.
Тема руин, возможно, имела для Альберти и еще
один, более личный и более трагический аспект. Она
была связана с глубоко волновавшей его темой смерти и
бессмертия - бессмертия личного и бессмертия истори¬
ческого. К теме смерти Альберти, начиная со своих ран¬
них сочинений, возвращается с почти маниакальным
постоянством. И может быть, она потому звучит с такой
не отпускавшей его навязчивостью, что он, как счи¬
тают, не верил в бессмертие души - один из главных
догматов христианского вероучения67. В некоторых из
своих сочинений Альберти создает какой-то странный
мир, где умершие - невидимыми - обитают среди жи¬
вых: вмешиваясь в их духовную жизнь, они постоянно
напоминают о себе, и именно эта память - свидетель¬
ство их присутствия. Возникает что-то вроде внутрен¬
него диалога человека с невидимым собеседником -
не прекращающегося диалога живых с “мертвеца¬
ми”68; бессмертие памяти - как своеобразная альтерна¬
тива христианскому учению о бессмертии души.
Оставить по себе память и тем войти в бессмер¬
тие - постоянное, настойчивое стремление Альберти:
“Разве маловажно для тебя приниматься за то, что ве¬
дет к увековечению и прославлению имени?”69. Свиде¬
тельством неустанной заботы Альберти о своем личном
бессмертии, о жизни в памяти потомства служит не
только огромный корпус его сочинений, не только его
Автобиография, написанная в третьем лице и в прошед¬
шем времени, - панегирик самому себе (или самому
себе сочиненное надгробное слово)70, но также его авто¬
портреты, по-видимому, многочисленные71, его обра¬
щение к живописцам с просьбой, в благодарность за на¬
писанный для них поучительный трактат о живописи,
изображать его лицо в своих произведениях - надо по¬
лагать, в настоящих и будущих. “Все мы сходимся на
том, что следует в потомстве сохранять память о нашей
мудрости и нашем могуществе, поскольку, по словам
Фукидида, мы и строим великое, чтобы себе и потом¬
кам казаться великими”72.
Альберти и Рим
471
С проблемой исторического бессмертия связаны
для Альберти и руины - материализованная память
прошлых эпох и прежде всего - великого прошлого
Италии. Подобно тем “мертвецам”, которые незримо
присутствуют в мире живых, руины - это тоже немые
собеседники, явившиеся из мира Прошлого в мир На¬
стоящего. И именно поэтому Альберти так старается со¬
хранить их и так драматически переживает их гибель.
В сущности, в этом состоит внутренний пафос его трак¬
тата об архитектуре: сохранить “останки” прошлого и
научить зодчих строить так, чтобы воздвигнутое вы¬
стояло в борьбе с Природой и Временем и обрело исто¬
рическое бессмертие. Бессмертие, в которое он в глуби¬
не души - увы - не верил: “Все поглощается тщетой.
Какую дорогу ни избрать, она ведет в ничто”73.
В последние десятилетия хрестоматийное пред¬
ставление об Альберти как о всесторонне развитой, гар¬
монической личности, предшественнике Леонардо и
других титанов Возрождения уступает место образу
человека мятущегося, полного противоречий, недоволь¬
ного собой, недовольного миром, осуждающего цер¬
ковь, не верящего в бессмертие души, во всем сомне¬
вающегося. Э. Гарен одним из первых заговорил о
внутренней раздвоенности Альберти, о его “дневном” и
“ночном” облике74. Раздвоенностью окрашено у Аль¬
берти и восприятие руин - одновременно и как памят¬
ников человеческого величия, и как свидетельств чело¬
веческого бессилия перед всепобеждающей Природой и
всепожирающим Временем.
Примечания
1 «Даже тогда, когда Альберти “по-римски”, urbi et orbi
описывает свой идеальный храм, в глубине, на горизонте
ему продолжает рисоваться купол флорентийской Санта
Мария дель Фьоре» (Зубов В.П. Архитектурная теория
Альберти. М., 1977. С. 134; см. также: Данилова ИJE. Город
в итальянских архитектурных трактатах кватроченто //
Механизмы культуры. М., 1990).
2 О характерном для итальянской культуры принципе “изо¬
бретения через подражание” см.: Баткин Л.М. Итальян¬
ское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989
(особенно гл. “Странности идеи подражания древним”).
472
3 Большой документальный материал приводится в кн.:
Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века.
СПб., 1904. Гл. III, кватроченто.
4 Цит. по: Pareti L., Brezzi Р. Storia di Roma. Milano, 1963.
P. 591.
5 Подробно об этом см.: Данилова И.Е. Брунеллески и Фло¬
ренция. М., 1991. Гл. “Брунеллески в Риме”.
6 Цит. по: Монье Ф. Указ. соч. С. 134.
7 О поездке в Рим Брунеллески и Донателло в 1401 г. см.:
Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция.
8 Цит. по: Battisti Е. Filippo Brunelleschi. Milano, 1976.
Р. 14-15.
9 См. статью “Альберти и Флоренция”. Приложение.
10 Цит. по: Baxandall М. Giotto and the orators. Oxford,
1971. P. 81.
11 См. статью “Альберти и Флоренция”.
12 Альберти Л.Б. Три книги о живописи // Альберти Л.Б.
Десять книг о зодчестве. М., 1937. Т. 2 (Материалы и ком¬
ментарии). С. 40.
13 Там же. С. 25-26.
14 У Веспасиано да Бистиччи в “Жизнеописании Николая V”
об участии Альберти в строительной программе папы не
говорится. Не упоминает его имени и Джаноццо Манетти
в описании перестроенного папой Рима, где реальность ус¬
тупает место фантазии автора и где задуманное, проекти¬
руемое фигурирует как уже осуществленное. См.:
Magnussen Т. The Project of Nicolas V for Rebuilding the
Borgo Leonino // Art Bulletin. 1954. XXXVI; Burroughs Ch.
Alberti e Roma // Leon Battista Alberti. Catalogo della
mostra. Milano, 1994. Единственное упоминание об учас¬
тии Альберти в обсуждении проекта перестройки базили¬
ки Св. Петра встречается у Маттео Пальмьери: “Папа на¬
меревался построить красивейшую церковь, посвящен¬
ную Святому Петру, и заложил огромный фундамент и
стены апсиды в двадцать шесть футов высотой, но <этот>
грандиозный проект, подобный сооружениям древних,
был сначала приостановлен по совету Леона Баттисты, а
затем отложен из-за преждевременной кончины папы”.
Цит. по: Borsi F. Leon Battista Alberti. Complet Edition.
Oxford, 1977. P. 31. См. также: Borroughs Ch. Below the
Angel: an urbanistic Project in the Rome of Pope Nicolas V //
Journal of Warbourg and Courtauld Institutes. 1982. XIV.
15 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935. Т. 1. С. 32.
16 Там же. С. 384-385.
Альберти и Рим
473
17 Там же. С. 368.
18 Там же. С. 281.
19 Там же. С. 176.
20 Там же.
21 Там же.
22 Там же. С. 333.
23 Там же.
24 Там же. С. 8.
25 Возможно, Альберти принимал участие в восстановлении
разрушенной церкви Сан Стефано Ротондо. См.: Borsi F.
Op. cit. Р. 50. Бореи приводит в этой связи высказывание
Франческо ди Джорджио Мартини: “Здание разрушено,
его колонны и своды богато украшены снаружи. Папа Ни¬
колай перестроил его, но еще больше повредил. Храм на¬
зывается Сан Стефано Ротондо”. Бореи считает, что упрек
адресован Альберти, который, возможно, был автором
проекта реставрации храма.
26 Zevi В. Статья об Альберти в Enciclopedia Universale del
Arte. T. l.C. 196-197.
27 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 340.
28 Там же. С. 72.
29 Об отношении римских гуманистов к строительной про¬
грамме Николая V см.: Tafuri М. Cives esse non licere.
Niccolo V e Leon Battista Alberti // Ricerca del Rinasci-
mento. Torino, 1992.
30 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 43.
31 Там ж. С. 381.
32 Burroughs Ch. From Sings to Design: Environmental Process
and Reform in Early Renaissance Rome. Cambridge, 1990.
P. 171 sqq. Автор высказывает предположение о критиче¬
ском отношении Альберти к строительной деятельности
Николая V.
33 Привожу полный текст буллы в переводе Н. Ревякиной:
“Пий, епископ, раб рабов Божиих, на вечную память о
содеянном
Желая сохранить матерь нашу Рим в ее достоинстве и
блеске, мы должны прежде всего неусыпно заботиться о
том, чтобы поддерживать и охранять не только чудесные
здания базилик и храмов этого города, мест благочести¬
вых и религиозных, где покоится много останков святых,
но сохранить для потомков также древние и старинные
здания и их развалины, так как эти здания составляют ук¬
рашение и величайшую славу Рима и, являясь памятни¬
ками древних доблестей, побуждают к достижению их
474
славы. И что еще более следует принять во внимание: со¬
зерцая эти здания и их развалины, можно лучше понять
бренность дел человеческих, на которые никоим образом
не следует полагаться, ибо <все> видят, что эти сооруже¬
ния, которые, как считали наши предки, своим замеча¬
тельным могуществом и величайшими затратами поспо¬
рят с бессмертием, теперь из-за давности <времен> и дру¬
гих несчастливых обстоятельств стоят разбитые и разва¬
лившиеся.
Итак, исходя из вышесказанного и других разумных
оснований, побуждающих нашу душу, склоняясь к моль¬
бам возлюбленных сынов блюстителей Палаты <Conserva-
torum Camerae>, глав округов и жителей Рима, идя по сто¬
пам счастливой памяти некоторых наших предшествен¬
ников римских понтификов, которые твердо запрещали
разрушать и уничтожать здания, считая незыблемым и за¬
служивающим признательности существующий в Риме
древний статут, которым также запрещалось делать это
под угрозой денежного штафа, и одобряя и подтверждая
его апостольским авторитетом и на основании достоверно¬
го знания сложившегося положения, мы под угрозой от¬
лучения и ясно определенных в самом статуте денежных
штрафов, которым подвергаются делающие противное,
предписываем еще строже на основании авторитета и осве¬
домленности в вышеуказанном всем и каждому, как цер¬
ковным, так и светским лицам, какого бы они ни были
положения, достоинства, статуса, сословия и состояния,
даже если отличаются папским или любым другим цер¬
ковным либо мирским достоинством, чтобы никто из них
прямо или косвенно, явно или тайно впредь не замышлял
никоим образом разрушать, уничтожать, разбивать, сно¬
сить, превращать в известь какое-либо древнее обществен¬
ное здание или остатки древнего здания, находящиеся в
самом городе, его округе или даже в их собственных заго¬
родных и городских владениях.
Если же найдется тот, кто задумает идти против этого
запрета, то мы на основании авторитета, осведомленности
в. вышеуказанном и сложившегося положения вещей ус¬
тупаем возлюбленным сынам - блюстителям палаты, на¬
стоящим и будущим, полную и свободную власть прово¬
дить согласно предписанному тщательное расследование
через своих должностных лиц, заключать в тюрьму ремес¬
ленников или рабочих, которых они застанут при раз¬
рушении и разграблении зданий, отбирать у них живот-
Алъберти и Рим
475
ных, орудия и другие вещи, удерживать их и конфисковы¬
вать, а также принуждать их и тех, от чьего имени они
действуют, к уплате денежного штрафа.
Мы желаем также, чтобы никто, кроме римского пон¬
тифика, не имел права давать кому бы то ни было соизво¬
ление относительно вышеназванного. И это соизволение
не должно иметь никакой силы и веса, если не будет оно
установлено буллами или апостольскими бреве. Ибо уста¬
новления и распоряжения апостольские не противоречи¬
вы, всякие же иные противоречивы. А чтобы все выше¬
упомянутое было доведено до сведения каждого и никто не
мог сослаться на незнание, мы поручили публично огла¬
сить по городу настоящее послание и разрешили, опи¬
раясь на авторитет <папской власти>, вывесить его на
створчатых дверях Капитолия с тем, чтобы это обнародо¬
ванное и вывешенное послание в равной степени удержи¬
вало всех, кого оно касается, будучи им лично и непосред¬
ственно сообщено. Ибо невероятно, чтобы осталось кому-
то неизвестным то, что столь открыто у всех на виду.
Да не будет позволено никому из людей вообще лишать
силы этот текст [pagina] с нашим утверждением, одобре¬
нием, запрещением, соизволением, волеизъявлением и ус¬
тановлением или противоречить ему в безумной дерзости.
Если же кто-то задумает посягнуть на него, он навлечет на
себя гнев всемогущего Бога и блаженных Петра и Павла,
апостолов его.
Дано в Риме у Св. Петра в год от рождества Господня
1462, в четвертые календы мая, в четвертый год нашего
понтификата”.
Перевод с латинского из кн.: Muntz Е. Les arts h. la cour
des papes pendant le XVe et le XVI sifccle. P., 1878. P. 1.
P.352-353.
34 Borsi F. Op. cit. P. 32.
35 Альберти Л.Б. Описание города Рима // Альберти Л.Б.
Десять книг о зодчестве. Т. 2 (Материалы и комментарии).
С. 101.
36 В 1450 г. Джованни Ручеллаи приезжал в Рим в связи с
празднованием юбилея. В своей записной книжке
(Zibaldone) он пишет: “Утром мы прибыли и посетили че¬
тыре церкви, упомянутые выше. Затем, после трапезы,
мы сели на лошадей и отправились осматривать в Риме
древние стены и прекрасные постройки. Вечером, вернув¬
шись домой, я обдумывал все то, что описал в этой книге”.
Перечисление осмотренных памятников соответствует
476
“Описанию” Альберти (Rucellai G. II Zibaldone Quaresi-
male. L., 1960. Vol. I. P. 74). В 1471 г. на инаугурацию
папы Сикста IV в Рим приехал Лоренцо Медичи; в числе
сопровождавших его был сын Джованни Ручеллаи - Бер¬
нардо. По Риму группу водил Альберти. Бернардо впо¬
следствии написал сочинение “О городе Риме” под впечат¬
лением “Описания” Альберти, на которое он неоднократно
ссылается (Borsi F. Op. cit. Р. 35).
37 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 43.
38 Там же. С. 33.
39 Там ж. С. 34.
40 Там ж. С. 43.
41 Там же. С. 102.
42 Там же. С. 33.
43 Там ж. С. 102.
44 Там ж. С. 381.
45 Там ж. С. 31.
46 Там ж. С. 206.
47 Там же. С. 283.
48 Там же. С. 38.
49 См.: Wikower R. Alberti’s Approach to Antiquity in Archi¬
tecture // Journal of the Warbourg and Courtauld Institu¬
tes. L., 1941. IV. P. 4-6. Подробно о Tempio Malatestiano
cm.: Borsi F. Op. cit. P. 127-166; Rykwort Y. I committenti e
i loro edifici. Sigismondo Malatesta di Rinimi e il Tempio
Malatestiano // Leon Battista Alberti. Catalogo della
mostra.
50 О термине “варьета” как ключевом слове для понимания
типа культуры Возрождения см.: Баткин Л. Леонардо да
Винчи. М., 1990. Гл. II; см. также: Gosenbruch М. “Varie-
ta” dei L.B. Alberti. Zeitschrift fur Kunstgeschichte. 1957.
N3.
51 Цит. по: Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 2.
С. 65-66.
52 По проекту Альберти, изображенному на медали работы
Маттео Пасти (1450), храм должен был иметь купол.
53 Альберти Л.Б. О спокойствии души. Цит. по: Mancini G.
Vitadi Leon Battista Alberti. Firenze, 1882. P. 203.
54 Пий II в своих “Комментариях” рисует чудовищный порт¬
рет Сигизмундо Малатесты: “Незаконный сын благород¬
ной семьи Малатеста, великий духом и могучий телом, он
обладал красноречием и был искусным военачальником.
Он изучал историю и был отнюдь не любителем в области
философии. Казалось бы, что он был рожден, чтобы осуще-
Алъберти и Рим
477
ствлять все, чего касалась его рука. Но он настолько подчи¬
нялся своим страстям и отличался такой безудержной
жадностью к деньгам, что стал захватчиком и к тому же
грабителем. Он был до такой степени безнравственным,
что насиловал своих дочерей и их мужей. Он не имел ува¬
жения к таинству брака. Он насиловал девственниц, по¬
святивших себя Богу, а также иудеек, убивал молодых де¬
виц и мальчиков, которые противились его грубой страс¬
ти. Он сожительствовал со многими женщинами, детей
которых он крестил, и убивал их мужей. Он был более же¬
стким, чем варвары, он подвергал страшным пыткам ви¬
новных и безвинных, истязая их собственными окровав¬
ленными руками. Он никогда не держал слова, редко гово¬
рил правду, был ловким обманщиком. Один из худших
людей, когда-либо живших и тех, кто будет жить <на зем-
ле>, позор Италии и бесчестие нашего времени. Он нена¬
видел священников, не верил в будущую жизнь и утверж¬
дал, что душа гибнет вместе с телом. Он соорудил благо¬
роднейший храм, но наполнил его таким множеством язы¬
ческих изображений, что он кажется предназначенным не
для христиан, но для неверных, поклоняющихся демо¬
нам” (цит. по: Mancini G. Op. cit. Р. 344-345).
55 После Второй мировой войны фасад храма пришлось разо¬
брать и сложить заново. См.: Lavagnino Е. Restauro del
Tempio Malatestiano // Bolletino d’Arte. 1950. Aprile-Giug-
no. XXV, 4. См. также: Portaghesi P. II Tempio Malatestia¬
no. Firenze, 1965; Ettilinger H. The Sepulchre on the Faca¬
de: a Revaluation of Sigismondo Malatesta’s Rebuilding of
San Francesco in Rimini // Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1990. LIII. P. 133-143.
56 Подробно об этом см. в статье “Альберти и Флоренция”.
57 Tavernor R. I Gonzaga committenti dei progetti albertiani
per San Sebastiano e Sant*Andrea a Mantova e per la tribuna
della Santissima Annunziata a Firenze // Leon Battista
Alberti. Catalogo della mostra. P. 384-386. Приводится по¬
дробная библиография.
58 Подробнее об этом см. в статье “Альберти и Флоренция”.
59 Там же.
60 См. примеч. 33.
61 “...Что время все побеждает, что у старости коварные и
могучие орудия нападения и что тела, старея, не могут ид¬
ти против законов природы, так что некоторые даже само
небо считали смертным, на том основании, что оно - тело.
Да мы и сами видим, что способны сделать жар солнца, хо-
478
л од, тени, метель и ветры. Мы видим, как даже самые
твердые камни слабеют и разрушаются, разбиваемые
этими орудиями, как с высоких скал буря срывает и
низвергает огромные глыбы, обрушивающиеся вместе с
большею частью горы. К этому прибавляются разруше¬
ния, чинимые людьми. Клянусь, я порой не могу удер¬
жаться от вздоха при виде беззаботности некоторых
людей, которые разрушают то, что варвары и неистовые
враги пощадили за высокое достоинство или чему время,
непреклонный разоритель вещей, легко дозволило бы
стоять вечно. Еще нужно добавить внезапные случайности
пожаров, добавить грозы, землетрясения, натиск волн,
наводнения и то многое, что необыкновенная сила приро¬
ды может произвести ежедневно-неслыханное, нечаян¬
ное, нарушающее и разрушающее стройный замысел
зодчего” (Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1.
С. 340). Альберти обращается к этой теме многократно:
“Сила природы, даже если и задерживается встречной
преградой или отклоняется тем или иным противодей¬
ствием, все же такова, что сумеет победить и одолеть то,
что ей противоречит и мешает. Всякое противостоящее ей,
так сказать, упорство она ежедневной и постоянной на¬
стойчивостью натиска, временем и обилием расшатывает
и низвергает. Как много произведений рук человеческих,
читаем мы и видим, не уцелело только потому, что прихо¬
дилось в несогласии с природой вещей?.. Что же, думаешь
ты, произойдет там, где ты захочешь сдержать и отразить
силу стремительных вод и грузность рушащихся утесов?”
(Там же. С. 44).
62 Там же. С. 248.
63 “Какое различие можно усмотреть между человеком, за-
нятым государственными делами, и рабом?” I Libri della
Famiglia. Цит. по: Borsi F. Op. cit. P. 10.
64 В своих “Комментариях” Пий II называет Темпио Малате-
стиано “благородным храмом”, имея в виду, как считают,
авторство Альберти.
65 Людовико Гонзага обратился с письмом к Павлу II, в кото¬
ром рекомендовал Альберти с самой лучшей стороны: “В
последние несколько лет, - писал Людовико, - достопо¬
чтенный, превосходнейший мессер Баттиста Альберти
был в очень близких отношениях со мной, часто бывал при
моем дворе и никогда не отказывал мне в оказании услуг и
в выполнении работ, так что я чувствую себя в большом
долгу перед ним”. Людовико ходатайствовал также перед
Альберти и Рим
479
своим сыном Франческо - кардиналом: “Мы уверены, что
вы знаете, как много мессер Баттиста сделал для нас в про¬
шлом, создав планы и наблюдая за строительством Сан
Себастиано, которым мы ему обязаны. Теперь он написал
нам, прося о заступничестве перед Его Святейшеством
и перед вами в его теперешнем положении. Мы были бы
счастливы помочь ему любым возможным способом, и по¬
этому мы написали Письмо Его Святейшеству. Теперь
наша забота о том, чтобы вы из уважения к нам также взя¬
ли на себя рекомендовать его и сделали все, что в ваших
возможностях, чтобы помочь ему; сделав это, вы доста¬
вите нам большое удовольствие” (цит. по: Borsi F. Op. cit.
Р. 228-229).
66 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 257.
67 Неверие в бессмертие души - грех, в котором обвиняли
Сигизмундо Малатесту. Альберти если и не дружил с ним,
то во всяком случае находился в достаточно тесном кон¬
такте. В бессмертии души в XV в. сомневался не только
Сигизмундо Малатеста. См.: Помпонацци П. Трактаты.
О бессмертии души / Вступ. ст. А. Горфункеля. М., 1990.
68 Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.
Раздел “Исследования о Леоне Баттисте Альберти”.
С.199-212.
69 Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 23.
70 См. статью “Альберти и Флоренция”.
71 Об автопортретах и портретах Альберти существует доста¬
точно обширная литература. См., например: Grayson С.
A Portrait of Leon Battista Alberti // Burlington Magazin.
1954. June; Varese R. Un altro ritratto by Leon Battista
Alberti // Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in
Florenz. 1985. Bd. XXIX, H. 1; Syson L. Alberti e la ritrat-
tistica // Leon Battista Alberti. Catalogo della mostra;
Tavernor R. La ritrattistica e l’interesse dell’Alberti per il
futuro // Ibid; PieperJ. Un ritratto di Leon Battista Alberti
architetto: osservazioni su due capitelli emblematici nel
duomo di Pienza (1462) // Ibid. Автор последней статьи пы¬
тается увидеть профиль Альберти, “зашифрованный” в
орнаменте капителей.
72 Альберти Л,Б. Десять книг о зодчестве. Т. 1. С. 307.
73 Цит. по: Гарен Э. Указ. соч. С. 193.
74 Там же. С. 173-198; Garin Е. II pensiero di Leone Battista
Alberti: caratteri e contrasti // Rinascimento. 1972. XII; cm.
также: Maralda P. Crisi e conflitto in Leone Battista
Alberti. Roma, 1988.
О Боттичелли
Сандро Боттичелли занимает
особенное место в истории италь¬
янского искусства. Современник
Леонардо и молодого Микеланд¬
жело, он не принадлежал эпохе
Высокого Возрождения. Ботти¬
челли трудно назвать и художни¬
ком кватроченто. В его искусстве
нет непосредственности масте¬
ров XV века, их наивного любо¬
пытства к жизни во всех ее про¬
явлениях, их склонности к за¬
нимательному повествованию,
переходящей порой в наивную
болтливость, их постоянного экс¬
периментаторства - словом, того
радостного открытия мира, кото¬
рое придает обаяние даже самым
неловким и прозаическим произ¬
ведениям этого столетия. Ботти¬
челли - художник конца этой
эпохи, однако его искусство -
не итог пройденного пути, скорее
это раздумье над достигнутым
и отчасти возврат к доренессанс-
ному художественному языку.
Но в еще большей степени - это
страстные, напряженные, а к
концу творческой жизни мучи¬
тельные поиски новых возмож¬
ностей художественной выра¬
зительности. Величавый синтез
покоящихся в себе образов Лео¬
нардо и Рафаэля чужд Боттичел¬
ли; его пафос - не пафос объек¬
тивного. В его картинах, вольно
или невольно, отразилась не
столько упорядоченность окру¬
жающего мира, сколько смятен¬
ность его собственной души. Это
придает его искусству ту степень
автобиографичности, которая
чужда великим “олимпийцам”
Леонардо и Рафаэлю.
481
Как это ни парадоксально, по своему внутрен¬
нему складу Боттичелли ближе к Микеланджело.
Их объединяет и страстность религиозных исканий, и
напряженный интерес к политической жизни своего
времени, и неразрывная внутренняя связь с судь¬
бой родного города - Флоренции. Возможно, именно по¬
этому оба они, подобно Гамлету, с такой отчетливостью
ощутили один - подземные толчки надвигающейся ка¬
тастрофы, другой - трещину, расколовшую мир. Мике¬
ланджело трагически пережил крушение итальянской
культуры Возрождения. Боттичелли не довелось быть
свидетелем событий, оглушивших великого флорен¬
тийца, он сложился как художник значительно рань¬
ше, в 70-80-е годы XV века, в пору, казавшуюся его
современникам порой расцвета Флоренции. Но он по¬
чувствовал приближение конца до того, как этот конец
наступил.
Его душераздирающее “Оплакивание” из Мюнхе¬
на (1495-1500) современно раннему “Оплакиванию”
Микеланджело (1498) - одному из самых гармоничных
творений скульптора; грозный и неколебимо уверен¬
ный в себе “Давид” Микеланджело - идеализирован¬
ный образ защитника Флорентийской республики -
создавался в те же годы и в той же Флоренции, где
Боттичелли не был титаном, подобным Микеланджело,
герои его картин не трагичны, но они задумчивы, гру¬
стны, часто охвачены тревогой, смятением.
В годы наибольшей творческой продуктивности
Боттичелли писал свое “Рождество”, исполненное глу¬
бокого внутреннего смятения и, возможно, мучитель¬
ных воспоминаний о казни Савонаролы. Боттичелли
был связан с двором Лоренцо Великолепного, многие из
его произведений 70-80-х годов написаны по заказу
членов этого семейства; некоторые были навеяны сти¬
хами Полициано или обнаруживают влияние фило¬
софских и литературных споров гуманистов - друзей
Лоренцо. Однако было бы неправильным считать Бот¬
тичелли только придворным художником этого неко¬
ронованного властителя Флоренции. Боттичелли был
увлечен проповедями Савонаролы, в которых наряду с
религиозной исступленностью так силен был демокра¬
тический пафос - ненависть к богатству и сочувствие
бедным, стремление вернуть Флоренцию к суровым
патриархальным временам республики. Интерес к
482
учению Савонаролы, который испытывал и моло¬
дой Микеланджело, возможно, связан у Боттичелли с
повышенной чуткостью к вопросам морали, с особой
одухотворенностью и целомудренностью его картин, от¬
нюдь не свойственной “языческому” кружку Лоренцо
Медичи.
Боттичелли учился у Филиппо Липпи, его ранние
Мадонны повторяют композиционные решения и ти¬
паж, характерные для этого художника, одного из са¬
мых ярких и своеобразных мастеров флорентийского
кватроченто. В картинах Боттичелли раннего периода
несомненно также влияние Верроккьо и Антонио Пол¬
лайоло. Но гораздо интереснее черточки индивидуаль¬
ной манеры, которые появляются уже в этих полу уче¬
нических произведениях - не столько в изобразитель¬
ных приемах, сколько в особой атмосфере духовности,
поэтической овеянности образов. “Мадонна” Ботти¬
челли для Воспитательного дома во Флоренции (конец
60-х годов) представляет собой почти копию известной
картины Липпи в Уффицах. Обаяние картины Липпи в
наивной непритязательности, с которой художник вос¬
производит в лице Марии черты своей возлюбленной -
ее по-детски припухлые глубы, толстоватый, чуть
вздернутый нос, благочестивый жест старательно сло¬
женных пухлых рук, плотное тельце ребенка, задор¬
ную, даже несколько развязную улыбку ангелочка
с физиономией уличного мальчишки.
Под кистью Боттичелли все эти бытовые черты
исчезают. Его Мария выше, стройнее, у нее узкие,
покатые плечи, тонкий профиль, красивые длинные
руки. У Липпи Мария одета в костюм флорентийки, ху¬
дожник старательно передает подробности ее платья,
вплоть до застежки на плече. У Боттичелли Мария об¬
лечена в длинный плащ, край его образует красиво изо¬
гнутую, извилистую линию. В фигуре ангела, под¬
держивающего Младенца, есть что-то от небрежной
грации приклонившего колена ангела, написанного
Леонардо в картине Верроккьо, а дробный пейзажный
фон Боттичелли заменил гладкой стеной, торжественно
увенчанной полуциркульной аркой. Мария у Липпи
старательно благочестива, она опустила глаза, но ей
нужно сделать усилие, чтобы не бросить взгляда в сто¬
рону зрителя. В картине Боттичелли Мария задумчива,
она не замечает окружающего.
О Боттичелли
483
Атмосфера глубокой задумчивости, внутренней
разобщенности персонажей еще сильнее чувствуется
в несколько более поздней “Мадонне” (1471), где ан¬
гел подносит Марии вазу с виноградом и хлебными
колосьями. Виноград и колосья - вино и хлеб - симво¬
лизируют причастие, ваза являет собой смысловой и
композиционный центр изображения, объединяющий
фигуры. Аналогичную задачу ставил перед собой Лео¬
нардо в близкой по времени, так называемой “Мадонне
Бенуа”, где Мария протягивает Младенцу цветок крес-
тоцвета - символ Креста. Леонардо нужен этот мотив
для того, чтобы создать ясно воспринимаемую душев¬
ную связь между персонажами, нужен предмет, на
котором можно сосредоточить их внимание и придать
целенаправленность их жестам. У Боттичелли ваза с
виноградом и колосьями также поглощает внимание
изображенных персонажей, однако это не объединяет,
а скорее внутренне разобщает их: задумчиво глядя на
вазу, они не замечают друг друга, погружаясь в состоя¬
ние внутреннего одиночества. Этому способствует и ха¬
рактер освещения. Леонардовское сфумато создает впе¬
чатление сгущающихся сумерек, окутывающих мать и
ребенка, оставляющих их наедине друг с другом. Рас¬
сеянный, прозрачный, почти не дающий теней свет
Боттичелли не располагает к душевной близости, к
молчаливому общению.
“Св. Себастиан” - самая поллайоловская из всех
картин Боттичелли. Фигура святого, его поза, даже
ствол дерева, к которому он привязан, почти точно по¬
вторяют картину Поллайоло, но у Поллайоло святой
окружен воинами, его расстреливают, он испытывает
страдание: его ноги дрожат, спина судорожно выгнута,
лицо обращено к небу. У Боттичелли одинокая фигура
святого воплощает глубокое безразличие к окружению.
Даже положение его связанных за спиной рук воспри¬
нимается как жест глубокого раздумья, то же раздумье
выражает его лицо, с чуть приподнятыми, как будто в
скорбном удивлении, бровями.
Вторая половина 1470-х - 1480-е годы - период
творческой зрелости художника. Он начинается “По¬
клонением волхвов” (1478, Уффици), своеобразным ми¬
фологизированным групповым портретом представите¬
лей семейства Медичи и их ближайшего окружения.
Считается, что в центре на втором плане изображен
484
глава семейства - Козимо Старший, приклонивший ко¬
лени перед Младенцем; на переднем плане, слева, в под¬
черкнуто независимой позе представлен Лоренцо Вели¬
колепный. В правой фигуре переднего плана, в оран¬
жево-желтом плаще, с устремленным на зрителя взгля¬
дом, по-видимому, Боттичелли представил самого себя.
Кроме того, специалисты угадывают в толпе волхвов
Джованни и Джульяно Медичи, поэта Полициано и
других представителей флорентийской интеллектуаль¬
ной элиты.
За этой, в определенном смысле знаковой, карти¬
ной хронологически следуют самые значительные тво¬
рения Боттичелли. Это “Весна” (1478, Уффици) и “Рож¬
дение Венеры” (1482, Уффици). К этому же периоду
относятся “Паллада и кентавр” (Уффици), “Венера и
Марс” (Лондон. Национальная галерея), тондо “Вели¬
чание Мадонны” (Уффици), а также фрески Сикстин¬
ской капеллы и виллы Лемми.
В “Поклонении волхвов” еще много кватрочен-
тистского, прежде всего несколько наивная решитель¬
ность, с которой Боттичелли, подобно Филиппо Липпи
и Гоццоли, превращает евангельский сюжет в сцену
многолюдного празднества. Пожалуй, ни в одной кар¬
тине Боттичелли нет такого разнообразия поз, жестов,
костюмов, нигде так не шумят и не разговаривают. Но в
этой оживленной толпе появляется фигура Лоренцо
Медичи, гордого, замкнутого, высокомерно молчащего
и одинокого; появляется грустный, задумчивый Джу¬
льяно, затянутый в черный камзол. Отблески неизвест¬
но откуда падающего света неожиданными бликами за¬
гораются на шитой кайме плащей, на золотой шапочке,
на обуви. Этот блуждающий свет, падающий то сверху,
то снизу, придает сцене необычный, несколько фан¬
тастический характер. Неопределенности освещения
сопутствует и неопределенность пространственного по¬
строения: некоторые фигуры второго плана оказывают¬
ся крупнее фигур у переднего края картины, их про¬
странственные соотношения неясны.
Боттичелли был современником Леонардо, с ним
вместе он работал в мастерской Верроккьо, несомнен¬
но, ему были знакомы правила перспективного по¬
строения и светотеневой моделировки, в чем уже более
пятидесяти лет изощрялись итальянские художни¬
ки. Среди них были подлинные поэты перспективы,
О Боттичелли
485
и в первую очередь Пьеро делла Франческа, под кистью
которого перспективное построение пространства и
передача объемов стали магическим средством созида¬
ния красоты. Но для некоторых мастеров перспектива
превратилась в самоцель, почти в фетиш. Образное вос¬
создание действительности они порой подменяли фоку¬
сом, обманом зрения и наивно радовались, когда удава¬
лось изобразить фигуру человека или лошади в столь
необычном ракурсе, что они производили впечатление
неестественно искаженных.
Боттичелли не относился к страстным адептам
перспективы, он свободно нарушал ее правила, когда
этого требовал характер задуманного им образа, про¬
странственная иррациональность “живописных ска¬
зок” Паоло Уччелло была ему ближе, нежели чрезмер¬
ная перспективная добросовестность и прозаичность
фресковых циклов его современника Гирландайо.
Конечно, в картинах Боттичелли нет и следа почти
лубочной наивности Уччелло. Этого и нельзя ожидать
от художника, приобщенного ко всем тонкостям ренес¬
сансного гуманизма, друга Полициано и Пико делла
Мирандола, причастного неоплатонизму, которым
увлекались в кружке Лоренцо Медичи.
Сюжеты картин “Весна” и “Рождение Венеры”,
по-видимому, навеяны стихами Полициано, возможно,
они создавались под впечатлением празднеств при дво¬
ре Медичи, очевидно, художник вкладывал в них слож¬
ное аллегорическое содержание, может быть, он стре¬
мился в образе Венеры слить черты языческой, теле¬
сной - и христианской, духовной красоты. Обо всем
этом до сих пор спорят специалисты. Но, помимо всего,
есть в этих образах общезначимая, общепонятная мета¬
форичность, не зависящая от времени и обстоятельств
их создания.
Боттичелли обращается к известным мотивам на¬
родной фантазии. Разве может вызвать сомнение образ¬
ный смысл высокой женской фигуры в белом платье,
затканном цветами, с венком на золотистых волосах,
с гирляндой цветов на шее, с цветами в руках и с лицом
юной девушки, чуть смущенной, робко улыбающейся?
У всех народов, на всех языках этот образ ассоцииро¬
вался с весной. В народных празднествах на Руси, по¬
священных встрече весны, когда молодые девушки вы¬
ходили в поле “завивать венки”, он столь же органичен,
486
как и в картине Боттичелли. И сколько бы ни спорили
о том, кого изображает полуобнаженная женская фигу¬
ра в прозрачной одежде, с длинными разметавшимися
волосами и веткой зелени в зубах - Флору, Весну или
Зефир, - образный смысл ее очевиден: у древних греков
она называлась бы дриадой или нимфой, в народных
сказках Европы - лесной феей, в русских сказках -
русалкой. И конечно, с какими-то темными, злыми си¬
лами природы ассоциируется летящая фигура справа,
от взмаха крыльев которой стонут и клонятся деревья.
А эти высокие, стройные деревья, вечно зеленые и веч¬
но цветущие, увешенные золотыми плодами, в одина¬
ковой мере могут означать и античный сад гесперид, и
волшебную страну сказок, где вечно царит лето. Обра¬
щение Боттичелли к образам народной фантазии не
случайно. Поэты круга Медичи, да и сам Лоренцо, ис¬
пользовали фольклорные мотивы, сочетая их с поэзией
античной - греческой и латинской.
В отличие от Леонардо, страстного исследователя,
с фанатической точностью стремившегося воспроиз¬
вести все особенности строения растений, Боттичелли
изображает деревья вообще, песенный образ дерева,
наделяя его, как в сказке, самыми прекрасными каче¬
ствами: оно стройное, с гладким стволом, с пышной
листвой, усыпанное цветами и плодами. А какой бота¬
ник взялся бы определить сорт цветов, рассыпанных на
лугу под ногами Весны, или тех, что она держит в
складках своего платья - они свежи, ароматны, похо¬
жи и на розы, и на гвоздики, это цветы вообще, самые
чудесные из цветов. Да и в пейзаже Боттичелли не стре¬
мится воссоздать тот или иной ландшафт, скорее он
только обозначает природу, словно перечисляя ее основ¬
ные составляющие: земля, небо, деревья - в “Весне”,
море, небо, земля, деревья - в “Рождении Венеры”. Это -
природа вообще, неизменная и прекрасная. Изображая
этот земной рай, этот золотой век, Боттичелли словно
опускает, нивелирует пространство и время. За ствола¬
ми деревьев виднеется небо, но нет дали; луг, по которо¬
му ступают фигуры, похож на ковер, повешенный на
стену, идти по нему невозможно. Движения персона¬
жей обретают вневременной характер, они обозначают
движение, но не движутся. Весна стремительно направ¬
ляется вперед, навстречу зрителю, но сделать следую¬
щего шага она не может, ей некуда ступить, в картине
О Боттичелли
487
нет горизонтальной плоскости, нет сценической площад¬
ки. Так же недвижна фигура идущей Венеры: слишком
строго вписана она в арку склоненных деревьев и окру¬
жена ореолом зелени. Жесты персонажей приобретают
странно завороженный характер, они словно лишены
конкретной цели, конкретного назначения. Зефир про¬
тягивает руки, но не может задержать Флору, Весна
только касается цветов, но не берет их в руки, правая
рука Венеры протянута вперед, как будто она хочет
коснуться чего-то, но застывает в воздухе; жесты спле¬
тенных рук трех граций - это жесты танца, в них нет
мимической выразительности. До сих пор строят догад¬
ки о том, что означает жест поднятой руки Меркурия
(если это Меркурий). Есть некий разрыв между внут¬
ренним состоянием и поведением персонажей - и внеш¬
ним рисунком их поз и жестов. Они не общаются друг с
другом, погружены в себя, внутренне одиноки, они поч¬
ти не замечают друг друга. Единственно, что объединяет
их, - это общий ритм, пронизывающий картину, как
порыв ветра, ворвавшийся извне. Еще отчетливее это
состояние выражено в несколько более поздней картине
“Рождение Венеры”. Венера плывет по морю, стоя на
самом краю легкой раковины, едва касаясь ее ступнями,
ветер несет ее к берегу. Плывет - и остается неподвиж¬
ной, так же как неподвижна Венера в картине “Весна”
и также вписана в пространство, обрамленное с двух
сторон устремленными к ней фигурами. Ритмический
мотив движения в неподвижности или недвижимого
движения.
В произведениях Раннего Возрождения человек,
как правило, представляет собой композиционный и
смысловой центр изображения. Весь мир картины
строится вокруг него и для него, именно он является ак¬
тивным выразителем содержания. У Боттичелли чело¬
век утрачивает эту активную роль, он становится ско¬
рее лицом страдательным, безвольно отдается порыву
чувства и порыву ритма. Это ощущение власти внелич-
ного прозвучало в творчеств Боттичелли как предчув¬
ствие (предвестие?) новой эпохи, когда на смену наив¬
ному антропоцентризму приходит осознание того, что в
мире существуют силы, человеку неподвластные.
Первыми симптомами этих изменений, первыми
раскатами грозы, несколько десятилетий спустя раз¬
разившейся над Италией и положившей конец эпохе
488
Возрождения, был упадок Флоренции в конца XV века
и религиозный фанатазим, охвативший город под
влиянием проповедей Савонаролы, фанатизм, застав¬
лявший флоренцийцев, вопреки здравому смыслу и
многими десятилетиями воспитывавшемуся уважению
к прекрасному, сжигать, по призыву Савонаролы, про¬
изведения искусства и женские украшения. Не избе¬
жал этого и Боттичелли, собственными руками бросав¬
ший свои картины в “костер очищения”.
В лицах персонажей его сикстинских фресок и
фресок виллы Лемми чувствуется внутренняя неуве¬
ренность, готовность отдаться порыву, ожидание этого
порыва, способного налететь извне. С особой силой это
воплотилось в иллюстрациях Боттичелли к “Боже¬
ственной комедии” Данте, созданных в самом конце
XV века. Рисунок одной тонкой линией, без теней и без
нажима, дает ощущение невесомости фигур, хрупких и
как будто прозрачных. Изображения Данте и Вергилия
повторяется несколько раз на каждом листе; не счи¬
таясь с правилами, принятыми в его время, Боттичелли
помещает их то вверху, то внизу листа, располагая фи¬
гуры иногда горизонтально или даже вниз головами.
Возникает ощущение, что сам художник, вырвавшись
из сферы земного притяжения, утратил представление
о верхе и низе. Особенно сильное впечатление произво¬
дят иллюстрации к “Раю”. Трудно назвать другого мас¬
тера Возрождения, который сумел бы, с такой убеди¬
тельностью и такими простыми средствами, создать об¬
раз безграничного простора и света. Поражает почти
маниакальная настойчивость, с которой Боттичелли
возвращается к одному и тому же образу - Беатриче и
Данте, заключенные в круг (варьируются только их по¬
зы и жесты), - тема, словно преследующая художника,
от которой он не может или не хочет избавиться. И еще
одна особенность, которая появляется в последних ри¬
сунках серии: Беатриче, это воплощение красоты, не¬
красива и почти на две головы выше Данте. Этой разни¬
цей масштабов Боттичелли, видимо, стремился при¬
дать большую значимость образу Беатриче, показать ее
превосходство и чувство самуничижения, которое ис¬
пытывал в ее присутствии Данте. Проблема соответ¬
ствия красоты телесной - и красоты духовной постоян¬
но вставала перед Боттичелли. Лицо Беатриче некраси¬
во, но у нее большие, одухотворенные, красивые руки
О Боттичелли
489
и порывистая грация движений. Кто знает, может
быть, в этой переоценке категорий физической и духов¬
ной красоты сыграли роль проповеди Савонаролы,
осуждавшего прелесть телесную как воплощение язы¬
ческого, греховного.
Вторая половина 1480-х годов считается перелом¬
ной в творчестве Боттичелли. Он внутренне порывает с
кругом Медичи, отказывается от античных мифологи¬
ческих сюжетов. К позднему периоду относятся карти¬
ны “Благовещение” (1489-1490, Уффици), “Венчание
Богоматери” (1490, Уффици), “Рождество” (1501, Лон¬
дон. Национальная галерея) - последнее из датирован¬
ных произведений мастера, посвященное, как считают,
памяти Савонаролы.
Если в произведениях 1480-х годов ощущалась
чуткая настроенность персонажей, их готовность от¬
даться порыву, то в поздних они словно утрачивают
власть над собой, глаза их полузакрыты, в движениях,
в жестах повышенная экспрессия, словно они находят¬
ся в состоянии какой-то странной гипнотической заво¬
роженности. В картине “Благовещение” Боттичелли
вносит в сцену, обычно вполне идилическую, необыч¬
ную смятенность: архангел Гавриил стремительно вры¬
вается в комнату Марии и падает на колена, за его
спиной, как струи воздуха, рассекаемого при полете,
вздымаются прозрачные, едва видимые одежды. Его
правая рука, с большой кистью, с длинными нервными
пальцами обращена к Марии - и Мария, словно в забы¬
тьи, протягивает навстречу ему руку; внутренние токи,
невидимые, но ясно ощутимые, струятся от руки анге¬
ла к руке Марии и заставляют трепетать и изгибаться
Ее тело.
Единство точки зрения на изображение - одно из
проявлений ренессансного антропоцентризма. Картина
пишется для восприятия ее зрителем, и все фигуры, все
предметы должны изображаться с одной точки зрения -
либо сверху, либо снизу, либо на уровне глаз, в зависимо¬
сти от того, где находится этот идеальный, воображае¬
мый зритель. Иллюстрации к “Божественной комедии”
построены без соблюдения этого правила, их простран¬
ственное решение по-средневековому иррационально.
Еще решительнее этот средневековый принцип приме¬
нен Боттичелли в картине “Мистическое Рождество”.
Вопреки правилам ренессансной композиции, передние
490
фигуры в ней почти вдвое меньше фигур второго плана,
картина строится ярусами, подобно иконе, для каждого
яруса, а в некоторых случаях и для отдельных фигур,
принят свой горизонт восприятия. При этом масштаб
каждой фигуры зависит не от ее расположения в компо¬
зиционном поле картины, но от ее роли в изображенном
сюжете. Иными словами, вместо пространственной шка¬
лы возникает шкала смысловая. Мария - самая большая
фигура в картине, не соизмерима со всеми остальными
фигурами. Склонившаяся над Младенцем, Она увидена
снизу, как бы глазами поклоняющихся Ей пастухов;
снизу же увиден лежащий на земле Младенец, при этом
сидящий рядом с ним Иосиф увиден сверху, как его мо¬
гут видеть ангелы, спустившиеся на крышу навеса над
“хлевом”. Эти ангелы, в свою очередь, вдвое меньше
ангелов, кружащихся над ними на фоне неба и почти
касающихся их голов пальцами ног. В сущности, эта
картина построена Боттичелли по композиционной схе¬
ме средневековой иконы. Но, в отличие от иконы, в ней
все исполнено драматизма: разверзлись небеса, закрытое
земное пространство кватроченто распахнулось, его пус¬
тое, молчавшее небо наполнилось звуками песнопений,
трое небесных посланцев спустились на самую кровлю
лачуги, другие смешались с пастухами. В этой картине
Боттичелли, созданной в самом конце XV столетия, об¬
разность средневековой иконы провидчески соприкосну¬
лась с искусством самого конца столетия XVI - грани
Высокого Возрождения и Барокко.
Боттичелли всю жизнь прожил во Флоренции, го¬
роде, который в течение нескольких столетий стоял во
главе экономической, политической, культурной и ху¬
дожественной жизни Италии. Кризис Возрождения об¬
наружился, прежде всего, здесь и именно здесь принял
такой бурный и такой трагический характер. Послед¬
ние двадцать пять лет XV века для Флоренции - это
годы постепенной агонии и гибели республики, герои¬
ческих и безуспешных попыток спасти ее. В этой борь¬
бе за республиканскую Флоренцию против возрастав¬
шей власти Медичи позиции страстных защитников
республики совпали с позициями сторонников Савона¬
ролы, пытавшегося вернуть Италию к суровым време¬
нам средневековья, заставить отказаться от достиже¬
ний ренессансного искусства. С другой стороны, именно
Медичи выступали защитниками гуманизма, покрови¬
О Боттичелли
491
тельствовали писателям, ученым, художникам. В этой
парадоксальной ситуации положение художников
было особенно трудным. Леонардо да Винчи, которому
были чужды как политические, так и религиозные при¬
страстия, уезжает в Милан. Боттичелли был человеком
иного склада. Неразрывно связав свою судьбу с судьбой
Флоренции, он мучительно метался между гуманиста¬
ми и религиозно моральным пафосом Савонаролы. Этот
внутренний конфликт обернулся для него творческой
катастрофой: в последнее десятилетие своей жизни он
как художник замолкает.
Боттичелли скончался в 1510 году во Флоренции.
Существование Ничто -
вещь величайшая”
О Леонардо
да Винчи
Леонардо впервые увидел мрак,
тьму как важную составляющую
общей картины мира, как антите¬
зу свету, причем не в символичес¬
ком, как это было в средние века,
но в природно-физическом аспек¬
те. Весь мир предстал для него в
сложных, постоянно меняющих¬
ся градациях света и тени, точ¬
нее - тени и света, полностью ут¬
ративших семантическую связь с
категориями добра - и зла.
Пятая глава его “Книги о
живописи” вряд ли случайно оза¬
главлена “О тени и свете”. В ней
говорится, главным образом, о
тени и ее градациях, различаются
виды и степени теней. “Тень пер¬
воначальная” - это та тень, кото¬
рая “связана с поверхностью зате¬
ненного тела” и придает ему объ¬
емность; “тень производная” - это
та, “которая исходит от названно¬
го тела, проходит по воздуху и...
задерживается в том месте, куда
падает, в виде фигуры...”, Лео¬
нардо без конца повторяет и уточ¬
няет свои определения тени, про¬
водит различие между тенью -
и мраком. Знаменательно, что,
говоря о свете и его градациях, он
измеряет свет мерой тени: “Мень¬
ший свет является тенью больше¬
го света”, “...свет есть отсутствие
мрака”. Вся пятая глава книги
звучит как своеобразный гимн
тени, мраку, который “имеет
большую силу, чем свет”, ибо
мрак “облекает в свою темноту
все, что в нем заключено”.
493
Впервые у Леонардо светотень (точнее, тене-свет)
становится способом визуализации воздушной среды,
которая приобретает материальность, “плотность” и
“цветность”.
В “Книге о живописи” много говорится о воздухе,
о разной степени его “плотности”. “...Воздух тем более
тонок, - утверждает Леонардо, - чем выше он подни¬
мается, и тем менее заслоняет предмет собой, чем мень¬
ше его плотность”. Воздух не бесцветен, не просто ней¬
трально прозрачен. Леонардо говорит о “цвете воздуха,
располагающегося между глазом и белизной (предме¬
та)”. Иными словами, весь предметный мир для него
погружен в визуально воспринимаемую, материально
ощутимую воздушную среду, затемненную мраком, ок¬
рашенную “цветом солнца”, “наполненную паром или
пыльным воздухом”.
Живопись средневековья не знала мрака, она зна¬
ла только свет в различных его ипостасях: как сияние
золотых фонов, как светоносность цветов, как изобра¬
жение световых лучей, мандорл и нимбов, как золотой
ассист на одеждах, обозначающий складки.
Живопись Раннего Возрождения сознательно от¬
казывается от средневековой светло-носности, однако на
протяжении почти всего кватроченто сохраняет средне¬
вековую цветпо-носность колорита. Это живопись днев¬
ная, использующая тень только как способ моделировки
объемов, именно ту, что Леонардо назвал тенью “перво¬
начальной”. Тенью “производной” художники кватро¬
ченто овладевали с трудом, а если изображали, то чисто
условно, не соотнося ее ни с характером освещения, ни с
формой и размером освещаемых объектов.
Для художников кватроченто тень не имела эсте¬
тического качества, поскольку она мешала чистоте и яр¬
кости цветов. Леонардо писал по этому поводу: “Не все¬
гда хорошо то, что красиво. И это я говорю для тех живо¬
писцев, которые любят красоту красок настолько, что
придают им слабые, почти неощутимые тени...” В карти¬
нах художников кватроченто человек существует и дей¬
ствует в нейтральном, пустом, безвоздушном простран¬
стве, он чувствует себя в нем свободным и наслаждается
этой свободой. Живопись кватроченто дневная, дневной
она остается вплоть до первых лет XVI столетия.
Остается она дневной и у самого Леонардо вплоть
до 1508 года, когда в его картины проникает тьма, оку¬
494
тывающая фигуры, погружающая их в одиночество.
Одинока его Мадонна в скалах, одинок Иоанн Крести¬
тель, одинока Джоконда. Персонажи кватрочентист-
ских картин не знали одиночества, они существовали
прилюдно, на миру, а на миру, как известно, и смерть
красна. Даже привязанные к столбу или колонне мно¬
гочисленные св. Себастианы XV века страдали и или
мужественно противостояли страданию в присутствии
свидетелей, если не земных, то небесных, или, на худой
конец, в незримом присутствии зрителя, которое они
ощущали постоянно, ибо вся живопись кватроченто, в
отличие от средневековой, рассчитана на восприятие ее
глазами зрителя.
Мадонна в скалах, Мона Лиза защищены мра¬
ком от всякой прилюдности, они впервые обрели право
на одиночество, на самопогруженность, на независимое
самобытие. Даже странно двусмысленный Иоанн Крес¬
титель выглядывает из окружающего его плотного
мрака, словно из надежного убежища. В сущности Лео¬
нардо впервые открывает в искусстве рембрандтовскую
тему одиночества человека в мировом пространстве,
пространстве безграничном. Композиция его поздних
картин, как и картин Рембрандта, лишена четких про¬
странственных границ, они теряются во мгле беспре¬
дельности.
Это в живописи. В книге Леонардо идет еще даль¬
ше - за пределы беспредельного: “Среди существую¬
щих вещей... существование Ничто - вещь величай¬
шая”. И дальше: “...Вещь, которая не существует и
которая, существуй она, не существовала бы”. Если в
своих картинах Леонардо предугадывает картины Рем¬
брандта, то в своих записях он заглядывает в гораздо
более далекое будущее.
У Леонардо человек в спокойном достоинстве пре¬
бывает, погруженный в стихию мрака вселенной. У Ка¬
раваджо он отчаянно сопротивлятся, ослепленный, по¬
добно Савлу, режущим глаза светом и надвигающейся
беспросветной тьмой. Он вовлечен в борьбу этих сти¬
хий, борьбу, в которой не может одержать победы. Лео¬
нардо смело пророчествует о будущем, Караваджо
смятенно переживает ситуацию распавшейся связи
времен.
Уффици глазами русских
второй половины XIX - начала XX века
По залам музеев
Заметки разных лет
“Беление холста”
Иоганна Томаса ван Кесселя (1680) -
и “Пейзаж в Овере после дождя”
Винсента ван Гога (1890)
В связи с выставкой
“Диалоги в пространстве культуры”
в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2002 году
Уффици
глазами
русских
второй
половины
XIX-
начала
XX века
С конца XVIII века для русских,
отправлявшихся в Италию, пер¬
вым пунктом художественного
паломничества был, как прави¬
ло, Дрезден. Впечатления от кол¬
лекции Дрезденской галереи оп¬
ределялись, прежде всего, тем
особым пиететом, которым была
окружена “Сикстинская мадон¬
на” Рафаэля. Вплоть до середины
XIX века она служила наивыс¬
шим образцом или, по выраже¬
нию Гоголя, “мифом высокого
искусства”1. Именно в Дрездене,
перед знаменитой картиной Ра¬
фаэля, создавалась та зритель¬
ская установка, с которой явля¬
лись русские путешественники в
Италию, точнее в Рим, ибо имен¬
но Рим считался главным худо¬
жественным центром, колыбе¬
лью и школой великого искусст¬
ва, наивысшие образцы которого
видели в античности и высокой
классике Рафаэля, Корреджо,
Гвидо Рени. Флоренция, как
правило, в художественные мар¬
шруты не включалась - древних
развалин в ней не было, средне¬
вековая архитектура считалась
недостойной эстетического со¬
зерцания, слишком суровой и
мрачной, а флорентийская живо¬
пись Раннего Возрождения рас¬
ценивалась как “жестокая и ли¬
шенная всякой прелести”. Так
писал о живописи кватроченто
В.К. Кюхельбекер. Он видел в
ней воплощение одной “поэзии”
и полное отсутствие “искусства”;
“она именно потому, что была
только поэзия, не могла... возвы¬
ситься до идеала”, достигнуть со¬
вершенства мастеров XVI века-
497
“лучших живописцев лучшего времени Италии, кото¬
рые постигали и чувствовали совершенно”2.
Первым из русских открыл для себя Флоренцию и
ее галерею Александр Иванов. В 1830 году, по оконча¬
нии петерургской Академии художеств, он отправляет¬
ся в качестве пенсионера Академии в Рим. Как все рус¬
ские путешественники, он проезжает через Дрезден,
где поклоняется “Сикстинской мадонне”. Настроенный
на классику и на Рафаэля, по дороге в Рим Иванов оста¬
навливается во Флоренции и посещает Уффици. Пись¬
мо, в котором художник передает свои впечатления от
галереи, - по-видимому, первое из сохранившихся опи¬
саний русскими зрителями знаменитого флорентийско¬
го музея. В соответствии со вкусами, привитыми ему в
петербургской Академии художеств, и с общим для
русской культуры первой половины XIX века представ¬
лением об Италии как о стране “классической”, Иванов
обращает внимание в Уффици прежде всего на антич¬
ную скульптуру.
“Античные жертвенники и саркофаги достойны
внимания и по вкусу и по древности. Из числа статуй
тут примечательны: мужской торс как бы сидящей фи¬
гуры, Геркулес, побеждающий Центавра, и даже Лао-
коон с детьми... Лучшие статуи и бюсты греческой и
римской работы, из них особенно примечателен Герку¬
лес младенец, удушающий змеев, - произведение, со¬
вершеннейшее во всех частях. Желательно, чтобы мы
имели его небольшую статую в слепке...”3 Но особый
восторг вызывает у него Венера Медичи, он описывает
ее с таким же энтузиазмом и почти теми же словами,
какими принято было описывать Сикстинскую мадон¬
ну. “...И вот входим в восьмиугольную залу или как бы
храм Венеры Медицис. Взгляните на лица смотрящих
на нее и вы увидите, что каждый взорами приносит
жертву богине красоты!.. Я забыл, что это произведение
руки человеческой... Не знаю ничего совершеннее сего
творения!!”4 Восторг молодого художника вполне ис¬
кренен, свидетельство тому - три великолепных рисун¬
ка, в которых он запечатлел в различных ракурсах по¬
разившую его статую. Однако, пытаясь выразить свои
чувства в словах, он не может выйти за пределы распро¬
страненных в его время фразеологических клише.
Из произведений живописи Иванов отмечает кар¬
тины Тициана, имеющие “колорит совершеннейший”.
498
Однако они, по его мнению, не выдерживают соседства
с античной статуей: “Две Венеры Тициана висят по сто¬
ронам прелестнейшей богини. Ах! Зачем они все вмес¬
те, зачем я должен их сравнивать? Греческая всегда
изобличит последнюю в несовершенстве форм...”5 Кро¬
ме полотен Тициана, Иванов отмечает картины Фра
Бартоломео, Сарто, Джулио Романо, Корреджо - обыч¬
ный для того времени набор имен, представлявших
“высокое искусство” “лучшего времени Италии”6. Но,
конечно, самые восторженные слова посвящены Рафаэ¬
лю. Этот восторг перед Рафаэлем - вполне в традициях
русской эстетики первой трети века. Необычно в отзы¬
вах Иванова только то, что он восторгается не карти¬
нами Рафаэля, а его рисунками. Сам блестящий рисо¬
вальщик, Иванов попадает в Графический кабинет Уф¬
фици: “...Открыли нам Рафаэля! Гений, возведенный
благоприятными обстоятельствами в настоящий свой
цвет, удивляет, изумляет нас своими огненными черте¬
жами: за изящнейшим расположением фигур и чудным
выражением голов, драпировок, рисунка, за согласием
всего и по частям с натурой совершенно не видишь ни¬
каких недостатков. Купидона ли представит - и мы ви¬
дим в контурах прелести, приличные ему. Богоматерь
ли изобразит - и черты ее божестенны; этюды ли для
какой картины приготовит - и всякий согласится, что с
них можно писать колоссальные фигуры, так все тща¬
тельно, определенно, смело, пламенно!”7 С не меньшим
энтузиазмом, но совсем по-другому, говорит Иванов о
рисунках Микеланджело. Нужно сказать, что Мике¬
ланджело не входил в тот обязательный ряд великих
итальянских мастеров, которыми принято было восхи¬
щаться. Вероятно, поэтому Иванов находит свои, не
клишированные, очень профессиональные словесные
формулировки: “Но вот уже Рафаэля мы кончили, и
перед нашими глазами рисунок, угадать сюжет коего
не в наших силах, весь лист исчерчен нагими фигура¬
ми, напряженные мускулы нарисованы полукружны¬
ми чертами; фигуры то загибаются, то пригибаются, по
таинственной причине, известной только одному масте¬
ру; иногда тут же, вместо тельной ноги выставлена
связь костей, привязки главных жил и оконечностей
к чашке. Я безошибочно узнал гения Мике ль Анджело,
ищущего прочного основания. Между подобными
рисунками заметил, что мастер не оставлял натуры;
Уффици глазами русских...
499
что местами кажется совершеннейшим, как, например,
некоторые выразительные головы, черченные для па¬
мяти с натуры; рисунок Прометея необыкновенно за¬
конченный... Его рисунки анатомически достойны осо¬
бого внимания”8.
Иванов, первым из русских открывший для себя
Уффици, первым же увидел Боттичелли. Имени его,
как и других художников дорафаэлевского времени, в
России практически не знали. Не знал его, по-видимо-
му, и Иванов; и все же его поразила Мадонна “Магни-
фикат”; он выделяет ее среди всех картин флорентий¬
ской школы, которые, по его словам, “не заслуживают
уважения”. Перед боттиче л лиевой Мадонной он оста¬
навливается и рассматривает ее внимательно. Не назы¬
вая художника, которого не запомнил, он пишет: “...из
картин одна заняла особое мое внимание: Спаситель-
младенец сидит на коленях у Богоматери, взирая в
даль, протягивает руку - взять приготовленное перо из
руки Владычицы. Ангелы придерживают книгу, в ко¬
торой Спаситель хочет изобразить свои мысли”9. И ни¬
какой характеристики, ни одного слова оценки. Искус¬
ство Боттичелли находилось вне его эстетических пред¬
ставлений, он не мог найти слов, чтобы определить свое
к нему отношение.
Через четыре года, проведенных в Риме, Иванов
снова, по собственной инициативе, отправляется в пу¬
тешествие по Италии, едет во Флоренцию и в Падую, на
этот раз специально чтобы видеть и копировать старых
итальянцев, в частности Джотто: “Жото имеет стиль
простой, наблюдение натуры в сочинении и выражении
фигур и экспрессий. Новость и непринужденность мо¬
тивов...”, - пишет он в одном из писем10.
Наконец, спустя еще три года, в 1837 году, он об¬
ращается с официальным письмом в петербургскую
Академию художеств, от которой получал стипендию, с
просьбой разрешить ему более длительную поездку на
север Италии “посмотреть на живопись XIV столетия,
где с теплою верою выражались художники своими
чувствами. Мое намерение... видеть Джиотто, Иоанна
да-Фьезоле, Гирляндайо, Синьорелли и других...”11.
Теперь Иванов знает имена живописцев-дорафаэлитов,
он сознательно выбирает именно тех из них, знаком¬
ство с которыми важно для его собственных творческих
исканий.
500
Однако в своем отношении к живописи раннего
итальянского Возрождения Иванов оказался вне систе¬
мы эстетических представлений его времени, о чем сви¬
детельствует ответ академического начальства: “Эти
все художники - начало, а не конец искусства; и там,
где есть Рафаэли, Корреджии, Тицианы, Гверчины и
проч., не учатся над Джиотто”12. Несмотря на отказ
Академии, Иванов в 1837 году снова отправляется на
север от Рима, посещает Ассизи, Орвьетто, Ливорно и,
конечно, Флоренцию с ее галереей, где много смотрит,
копирует старых мастеров, “чтобы заметить у живопи¬
сей XIV столетия этот безвозвратный стиль, в который
облекались теплые мысли первых художников хри¬
стианских, когда они, не зная светских угодностей и
интриг, руководимые чистой верою, высказали свою
душу на бессмертных стенах”13. Сохранился очень тон¬
кий акварельный рисунок - незаконченная копия с
“Благовещения” Симоне Мартини в Уффици; сохрани¬
лись карандашные рисунки отдельных фигур из произ¬
ведений любимого им Фра Беато Анджелико.
Своим увлечением дорафаэлевским искусством
А. Иванов был обязан, в значительной степени, знаком¬
ству в Риме с художниками-“назарейцами” и главным
образом дружбе с Овербеком. Но не только этому, а в
первую очередь своей собственной художнической ин¬
туиции, которая заставила его в 1830 году, при самом
первом посещении Уффици, остановиться в изумлении
перед картиной Боттичелли, имени которого он в ту по¬
ру даже не слыхал.
Иванов - явление единичное. В России раннюю
итальянскую живопись начинают открывать лишь в
конце 1850-х - начале 1860-х годов. Это было связано
с изменением общей ситуации в самом русском искус¬
стве и художественной критике. Развернувшаяся в
60-е годы борьба за новое, антиакадемическое искус¬
ство приводит к изменению самих критериев оценки
художественного произведения. Спокойные гармонич¬
ные образы начинают казаться слишком бесстрастны¬
ми, холодными, раздражающе прекрасными. Искус¬
ство Рафаэля перестает вызывать восторг и поклонение,
происходит своеобразное отречение от “Сикстинской
мадонны”14. Наоборот, искусство старых итальянцев
подкупает искренностью чувства, простотой и непосред¬
ственностью его выражения. Если в начале столетия
Уффици глазами русских...
501
Кюхельбекер порицал старых итальянцев за то, что в их
полотнах есть одна “поэзия”, иными словами, одно со¬
держание, и нет идеальной формы, то теперь именно в
этом превалировании “поэзии”, то есть содержания, над
формой начинают усматривать их главное достоинство;
Рафаэля же и других классиков упрекают в том, что у
них идеальная форма господствует над содержанием.
Русская эстетическая мысль первой трети XIX ве¬
ка оперировала, как правило, внеисторическими и вне¬
национальными категориями. В конце 40-х годов Бе¬
линский выдвигает иные критерии художественной
оценки, утверждая, что “чистого, отрешенного, безус¬
ловного или, как говорят философы, абсолютного ис¬
кусства никогда и нигде не бывало”15. Еще решитель¬
ней сформулировал ту же мысль Герцен: “Какое право
имеете вы судить художественное произведение вне его
собственной почвы, даже вне исторической, националь¬
ной почвы”, - пишет он в 1847 году16.
На этой волне общей переоценки художественных
ценностей происходит в начале 1850-х годов в России
открытие старых итальянцев, в искусстве которых
видят адекватное выражение своего исторического вре¬
мени, своеобразия своей национальной культуры. Ху¬
дожникам-дорафаэ литам, по словам одного из авторов,
начинают “придавать большое, не безотносительное, но
историческое значение”17. Аполлон Григорьев в статье
начала 1860-х годов пишет: “Из... Флоренции... я при¬
вез с собою живую, глубокую веру в национализм живо¬
писи и пластики или, лучше сказать, веру в то, что ху¬
дожество - архитектурное, или живописное, или вая-
тельное - живет только верою, а вера, в свою очередь,
живет национальностью типов”18. И далее, полемизи¬
руя со своими противниками, художниками-натурали-
стами: “Смеясь над фигурами-селедками фра Беато и
грубо-искренне или искренне-грубо заподозревая нас,
дилетантов, в икренности нашего умиления перед эти¬
ми вдохновенными фигурами-селедками, они и не
подозревают, бедные, что типы того великого, веровав¬
шего искусства - все национальные и местные... созда¬
вались глубокою верою в них, в эти типы, как в идеалы,
верою, более-менее разделяемой сочувствующей тол¬
пою”19.
Открытие живописи дорафаэлевского периода
начинается со страстного увлечения искусством Фра
502
Беато Анджелико. Можно даже сказать, что с конца
50-х годов Фра Анджелико в такой же степени стано¬
вится символом итальянского Возрождения, в какой
для первой половины XIX века был Рафаэль. Больше
того, оба эти имени стали факторами русской культу¬
ры XIX века. Определяя высокую классику поэзии
Пушкина, современники сравнивали его с Рафаэлем;
в середине столетия крупнейшего русского романти¬
ческого поэта Жуковского называют русским Беато
Анджелико20.
В 1860 году выходит в свет первая в России моно¬
графия о Фра Анджелико, написанная Ф.И. Чижо¬
вым21.
Вместе с Фра Анджелико была открыта русскими
Флоренция и не только включена в художественный
маршрут, но и воспринята в своей архитектурно-худо¬
жественной целостности как единое творение, как эсте¬
тический феномен - “та Флоренция, которая раскиды¬
вается перед вами своими сурово-стильными памятни¬
ками прошедшего, которую полюбите вы искренне...”
(Ап. Григорьев)22. В определенном смысле, Флоренция
воспринимается теперь как город Беато Анджелико, го¬
род “великой религиозной поэмы его фресков”23, так
же как в первой половине века Рим воспринимался не
только как город античности, но и как город Рафаэля.
В 1842 году Гоголь в своей незаконченной повести
рисует незабываемую картину Рима; в 1859 году Апол¬
лон Григорьев с не меньшим эмоциональным напряже¬
нием описывает Флоренцию, впервые вводя этот образ
в русскую литературу. Вот описание площади Синьо¬
рии: “...Изящней, величавей этой площади не найдется
нигде - изойдите, как говорится, всю вселенную. ...по¬
тому что другого Palazzo Vecchio - этого удивительного
сочетания необычайной легкости с самой жесткой суро¬
востью - вы тщетно будете искать в других городах
Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo
Vecchio? Вон направо от него... громадная колоннада
Уффици, с ее великолепным залом без потолка, между
двумя частями здания, с мраморно неподвижными ли¬
ками великих мужей, столь обильной великими мужа¬
ми Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово¬
изящное творение Орканьи - Лоджиа... Вон налево
палаццо архитектуры Рафаэля, еще левей широкая
Кальцайола, Флоренцинское Корсо, ведущее к Duomo,
Уффици глазами русских...
503
которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в ин¬
крустациях, колокольня виднеются издали... А ста¬
туи?.. Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и
всяких стихий - вы посмотрите на них... А вот между
палаццо Веккио и Уффици могучее, хотя не довольно
изящное создание Мике ль Анджело, его Давид, мечу¬
щий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмыслен¬
ною, неразумною силою во всем положении... И во всем
этом такое поразительное единство тона - такой одина¬
ково почтенный, многовековой, серьезный колорит
разлит по всей пьяцце, что она представляет собой осо¬
бый мир, захватывающий вас под свое влияние... Днем
ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месяч¬
ный свет сообщает яркую белизну несколько потемнев¬
шим статуям Лоджии и освещает как-то фантастически
перспективу колоннад Уффици... вы всегда будете
поражены целостью, единством, даже замкнутостью
этого особенного мира...”24.
Вместе с Флоренцией была открыта русскими га¬
лерея Уффици, причем открыта именно как собрание
памятников раннего итальянского Возрождения.
“.. .Вы только что вышли из галереи Уффици... где жен¬
ственная красота и чистота столь бесконечно разнооб¬
разными идеалами наполняли вашу душу, так уверили
вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на
все ваши вопросы”, - пишет Ал. Григорьев25.
Интерес к раннему флорентийскому искусству и,
соответственно, к коллекции Уффици с каждым годом
возрастает. Особенно интенсивным он становится к на¬
чалу 1880-х годов. Одна за другой публикуются моно¬
графии и статьи о Фра Беато Анджелико, о Джотто, о
Боттичелли; выходят из печати общие работы, посвя¬
щенные флорентийскому искусству XIV и XV веков26.
Эти книги вызывают широкий отклик в периодической
печати, свидетельствующий о большом интересе к это¬
му периоду итальянского искусства в среде русской ху¬
дожественной интеллигенции.
Характерно, что искусство итальянских мастеров
кватроченто в эти годы оказывается активно втяну¬
тым в борьбу против различных проявлений офи¬
циального, салонного искусства. При этом произведе¬
ния итальянских кватрочентистов приобретают в трак¬
товке их адептов несколько неожиданный характер:
в них подчеркиваются черты активного, программного
504
новаторств, то есть та роль, которую они объективно
сыграли в свое время, в пору становления новой ренес¬
сансной культуры, но о которой последующие поколе¬
ния забыли, ослепленные великолепием великих мас¬
теров XVI столетия. Так, в одной из статей 1880-х годов
даже такой не авангардистский художник, как Фра
Анджелико, наделяется темпераментом убежденного
новатора, который победоносно борется “за преоблада¬
ние в искусстве идеи над формою”27. В пылу внутрен¬
ней художественной полемики искусство кватрочен-
тистов оценивается как искусство идейное по преиму¬
ществу и противопоставляется искусству Рафаэля,
который именно в начале 80-х годов, в связи с трехсот¬
летним его юбилеем, торжественно отмечавшимся в
официальных кругах, воспринимается как художник
сугубо академический и потому безыдейный и даже без¬
духовный. В статье М.П. Соловьева, опубликованной в
журнале “Вестник Изящных Искусств” за 1884 год,
картина фра Анджелико “Венчание Богоматери”, нахо¬
дящаяся в Уффици, расценивается как великое творе¬
ние, преисполненное “правды и искренности чувства”,
и противопоставляется картинам Рафаэля. “Рядом с
ней рафаэлевские мадонны покажутся красивыми,
плотными и простенькими крестьянками”, - пишет
автор28.
В 1902 году во Флоренцию едет Александр Блок.
Сохранилась его записная книжка, куда он заносил
свои впечатления от подробного осмотра галереи Уффи¬
ци. Художник, которым восхищается Блок, - это Фра
Беато. Записи испещрены заметками, краткими, но вы¬
разительными: “...Пленительный Фра Беато”, “...Нуж¬
нее всех (даже Боттичелли)... Смотреть Фра Беато”29,
“...Беато любит, чтобы ангелы утешали и приглашали
попавших в рай, но считающих себя его недостойны¬
ми”30. Это последнее замечание внутренне перекли¬
кается с настроениями блоковской поэзии тех лет.
Особенно поразила Блока картина Фра Анджели¬
ко, которую он назвал “Рождение Иоанна Крестителя”.
В своем описании он сознательно русифицирует ее и даже
слегка модернизирует, стремясь выявить лежащую в
основе сюжета простейшую жизненную ситуацию и тем
самым приблизить ее к своим собственным интим¬
ным переживаниям, к своим поэтическим исканиям
тех лет. “Мать (в зеленом) с Ваней и пятью девушками
Уффици глазами русских...
505
(подругами) (красная, синяя, желтая) пришла к свято¬
му старику для метрической записи. Живот у матери
еще вспухший. Старик записывает у стены под синим
небом на веселом лужку. Сзади - полутемный коридор,
за ним - зеленый просвет (чего я хотел, то отчасти и за¬
думал Фра Беато). Краски, по обыкновению, детские,
веселые, разнообразные”31. Что касается остальных
произведений, привлекших его внимание, то это преж¬
де всего мастера кватроченто. Блока поразило “Благо¬
вещение” Лоренцо де Креди, и вообще этот художник,
который кажется ему близким Фра Анджелико; ему
нравится “Благовещение” Алессо Бальдовинетти, “Бла¬
говещение” раннего Леонардо. По поводу этой картины
Блок, видимо, имея в виду свои собственные поиски по¬
этического слова, замечает: “А он понимал, кажется,
что воздух черный”32. (Позднее, в итальянских стихах
1909 году этот образ возникает неоднократно: “В черное
небо Италии // Черной душою гляжусь”33; “Окна лож¬
ные на небе черном”34; “чернеют пламенные дали”35.
Характерно, что среди понравившихся Блоку ма¬
стеров нет представителей флорентийского художе¬
ственного авангарда XV века. Он обходит молчанием и
Рафаэля. Позднее, при втором посещении Флоренции,
он выразится яснее: “Перед Рафаэлем я коленопрекло¬
ненно скучаю, как в полдень перед красивым видом”36.
Он активно не приемлет Тициана, считая его живопись
“неряшливой”, “грязной”37; по его мнению, Тициан -
“вдохновитель передвижников - порча искусства”38.
Из венецианцев отмечает Якопо и Джованни Бел¬
лини, Джорджоне. Классическая живопись Высокого
Возрождения как бы сознательно игнорируется, и в
этом, несомненно, не только личный вкус Блока, но эс¬
тетическая мода времени.
Спустя семь лет, в 1909 году, Блок снова приез¬
жает во Флоренцию, в тяжелое для него время обще¬
ственного и личного духовного кризиса, когда, “зады¬
хаясь от злости, от унижения, от отчаяния, человек тя¬
нется к великому прошлому”39. Он ищет во Флоренции
и ее искусстве возможности “уединиться и сосредо¬
точиться”, “похитить у времени хоть одно мгновение
ни с чем не сравнимого восторга”40. И сразу - сильное,
бурное разочарование: “Флоренция - совсем столица...
трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают... Мы уез¬
жаем из Флоренции... она сама себя предала европей¬
506
ской гнили, стала трескучим городом и изуродовала
почти все свои дома и улицы. Остаются только несколь¬
ко дворцов, церквей и музеев, да некоторые далекие
окрестности, да Боболи...”, - пишет Блок в письме к
матери41, а в записной книжке: “Звонки и хрипы авто¬
мобилей - ведь это все от отчаяния назло. Таким сотво¬
рил их город. Скоро он задушит нас всех”42. Тот же об¬
раз Флоренции, с почти текстуальными совпадениями,
повторяется в его стихах:
Умри, Флоренция иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
О Bella, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!..
Хрипят твои автомобили.
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!
Звенят в пыли велосипеды,
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!..43
Возможно, за семь лет, отделявших первый визит
Блока во Флоренцию от второго, в ней действительно
произошли изменения в направлении обшей урбаниза¬
ции, но в гораздо более сильной степени впечатления
Блока определялись его собственным душевным со¬
стоянием: “Более, чем когда-либо, я вижу, что ничего
из жизни современной и до смерти не приму и ничему
не покорюсь”44, - пишет он в полном отчаянии в пись¬
ме из Италии. Таким же неприятием отчаяния окраше¬
ны на этот раз и его впечатления от галереи Уффици,
коллекции которой он с таким увлеченным вниманием
рассматривал в свой первый приезд. Теперь каждое по¬
сещение музея требует огромного душевного напряже¬
ния, преодоления не только неблагоприятных внешних
условий смотрения, но и внутреннего сопротивления,
своеобразной душевной анемии. «Обрекая себя на уны¬
лое скитальчество по картинным галереям Европы,
подчиняясь их докучному порядку, в лучшем случае
хронологическому, но часто установляемому “знато¬
ками искусства”, имя которым легион, мы, без сомне¬
Уффици глазами русских...
507
ния, надеемся похитить у времени хоть одно мгновение
ни с чем не сравнимого восторга. Однако... скоро мы
принуждены будем лишиться и этих минутных на¬
слаждений... препятствия растут, как растет цивили¬
зация... все стены живых картин заслонены мертвой
людской стеною, залы наполнены... пронзительными
голосами гидов, несущих казенный вздор. Уединиться
и сосредоточиться невозможно. Два часа, потраченные
на бесплодное сопротивление... изнуряют и отбивают
всякую охоту к дальнейшим попыткам что-нибудь уви¬
деть. Но я увидел, - восклицает Блок с поистине тра¬
гическим пафосом, - ценою многих потраченных да¬
ром часов... мне удалось кое-что похитить у старого
мира»45. И это “кое-что”, в первую очередь, все тот же
Фра Анджелико. “Так же как в Венеции Беллини, здесь
Фра Беато стоит на первом месте, не по силе, а по свеже¬
сти и молодости искусства”. На этот раз Блок смотрел
коллекцию Уффици очень выборочно: кроме Беллини и
Фра Анджелико, он “очень полюбил” Леонардо, а “Ми-
кель Анжело - только несколько рисунков”46. Блок хо¬
дил в Уффици к отдельным экспонатам, но не просто
ходил, он мучительно прорывался к “живым” для него
картинам сквозь толпу “мертвых” зрителей, наполняв¬
ших залы, и сквозь свое собственное душевное состоя¬
ние, которое только в редкие моменты было настроено
на восприятие эстетических впечатлений.
Эта тенденция своеобразного отрицания музея в
той его форме, которую он приобрел к началу XX века,
получает неожиданный аспект у П.П. Муратова в его
известной книге “Образы Италии”, вышедшей в свет в
1911 году. В главе, посвященной Флоренции, Муратов
пишет об Уффици не как о музее, но как о своеобразном
художественном экспонате эпохи Козимо Медичи:
“Когда вдали от Флоренции вспоминаешь ее... вообра¬
жение охотно останавливается на несколько холодной,
мутно-желтой или даже зеленоватой перспективе Уф-
фиций. Ведь это тоже Флоренция, один из важнейших
ее образов... XVI век - время, когда умирала Флорен¬
ция... В других галереях можно ценить стройность
научно-исторического расположения. Здесь об этом не
хочется думать. У этого места есть свой дух, свое осо¬
бенное значение. Длиннейшие светлые галереи, такие
бесстрастные и строгие, настраивают серьезно. Из одних
окон видно превосходно рассчитанную перспективу кар-
508
низов с башней Палаццо Веккио в конце, из дру¬
гих - течение Арно. В этом есть своя красота, не совсем
чуждая к тому же красоте старых флорентийских церк¬
вей и лоджий Брунеллески. Прогулка по Уффициям
очень часто оканчивается перед портретами Бронзино,
последнего из великих флорентийских художников, на
глазах которого было сооружено само здание. Лучшие
портреты Бронзино написаны почти в те же годы, когда
многочисленные артели каменщиков возводили по
указанию Вазари эти стены, эти аркады и эти укрытые
ходы. На портрете Бартоломео Панчиатики изобра¬
жены в качестве фона здания, сильно напоминающие
своей архитектурой архитектуру Вазари... И даже зеле¬
новатый тон зданий... напоминает чем-то стены Уффи-
ций...”47
Для Муратова галерея связана не с произведения¬
ми раннеренессансной флорентийской живописи, как
это было для всех посещавших ее русских вплоть до
Блока, но с именами лишь двух художников - Вазари и
Бронзино. Образы портретов Бронзино населяют архи¬
тектуру Вазари; в фонах этих портретов, как в зеркале,
отражаются все те же колоннады вазариевских по¬
строек. Эстетическое чувство Блока оскорбляло несоот¬
ветствие ренессансных картин характеру интерьеров;
Муратов мысленно опустошает помещения галереи, ос¬
вобождает их от раннеренессансных картин, оставляя
только маньеристические портреты Бронзино, совре¬
менника Вазари. Под пером Муратова Уффици претер¬
певают своеобразный процесс демузеофикации.
Примечания
1 Гоголь Н.В. Письмо к Н.Я. Прокоповичу от 3 апреля 1837 го¬
да // Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. М., 1952. Т. XI. С. 100.
2 Кюхельбекер В.К. Отрывок из “Путешествия по Герма¬
нии” // Мнемозина. 1824.1. С. 64.
3 Иванов АЛ. Письмо из Рима. 1830 год. Цит. по: Боткин М.
Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка.
СПб., 1880. С. 13.
4 Там же. С. 15.
5 Там же.
6 Кюхельбекер В.К. Указ. соч.
7 Боткин М. Указ. соч. С. 16.
Уффици глазами русских...
509
8 Там же. С. 15-16.
9 Там же. С. 13.
19 Иванов АЛ Письмо 1834 года. Цит. по: Мастера искус¬
ства об искусстве. М., 1969. Т. 6. С. 272.
11 Иванов АЛ. Письмо в Общество поощрения художников,
1837 год. Цит. по: Боткин М. Указ. соч. С. 197.
12 Приписка к письму Иванова // Там же. С. 108.
13 Иванов АА. Письмо 1838 года // Там же. С. 109-110.
14 Эта ситуация “отречения от Рафаэля” иронически изобра¬
жена Достоевским: “О Дрезденской мадонне? Это о Сикс¬
тинской?.. Я просидела два часа перед этой картиной и
ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в боль¬
шом удивлении... Теперь все ничего не находят, и русские
и англичане. Всю эту славу старики прокричали”, - гово¬
рит одна из героинь его романа “Бесы”.
15 Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года //
Белинский В.Г. Собр. соч. М., 1948. Т. III. С. 704.
16 Герцен А.И. Письма из Франции и Италии. 1847-1852 //
Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. V. С. 263.
17 Слова П.М. Ковальского приведены в кн.: Боткин М.
Указ. соч. С. 405.
18 Григорьев Аполлон. Стихотворения Н. Некрасова // Гри¬
горьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967.
С. 475.
19 Там же.
20 Григорьев Аполлон. Великий трагик // Григорьев Апол¬
лон. Воспоминания. М., 1930. С. 227.
21 Чижов Ф.И. Фра Джованни Фьезоланский. СПб., 1860.
22 Григорьев Аполлон. Великий трагик. С. 227.
23 Там же. С. 230.
24 Там же. С. 252-254.
25 Там же. С. 221.
26 Вышеславцев ЛВ. Джотто и Джоттисты. СПб., 1881; Он
же. Искусство Италии XV века. Флоренция. СПб., 1883
(глава из этой книги была отдельно напечатана в “Вестни¬
ке изящных искусств” за 1883 год, I); Соловьев М.П. Джо¬
ванни Фьезоланский // Вестник Изящных Искусств.
1884, И; Он же. Умбрия и живописные школы Северной
Италии. СПб., 1885 // Там же. 1885. III); ЧуйкоВ.В. Дора-
фаэлисты и их последователи в Англии // Там же. 1886.
IV; Он же. Сандро Боттичелли // Там же. 1887. V; Соловь¬
ев М.П. Джотто ди Бондоне // Там же. 1888. VI.
27 Соловьев М.П. История итальянского искусства в эпоху
Возрождения. С. 12.
510
28 Соловьев М.П. Фра Джованни Фьезоланский. С. 315. Сло¬
ва о мадоннах Рафаэля принадлежат И. Тэну; автор статьи
приводит их для подтверждения своих оценок.
29 Блок АЛ. Записные книжки (1901-1920). М., 1965.
С.134-135.
30 Там же. С. 139.
31 Там же. С. 137.
32 Там же.
33 Стихотворение из цикла “Флоренция” - “Жгут раскален¬
ные камни...” (1909).
34 Стихотворение из цикла “Флоренция” - “Окна ложные на
небе черном...” (1909).
35 Стихотворение “Благовещение” (1909).
36 Блок АЛ Письмо к матери. Флоренция, 13 мая 1909 года //
Письма А.А. Блока к родным. Л., 1927. С. 267.
37 Слова Блока о картине Франческо Франча: “...в костю¬
мах - тициановская неряшливость, безвкусие и грязь”
(Блок АЛ. Записные книжки. С. 147).
38 Там же. С. 133.
39 Блок АЛ. Молнии искусства // Блок А.А. Собр. соч. М.;
Л., 1962. Т. V. С. 386.
40 Там же. С. 387.
41 Блок АЛ. Письмо к матери. Флоренция, 13 мая 1909 года //
Письма А.А. Блока к родным. С. 260-263.
42 Блок АЛ. Записные книжки. С. 135.
43 Стихотворение из цикла “Флоренция”. Приводится в со¬
кращении.
44 Блок АЛ. Письмо к матери. Флоренция, 13 мая 1909 года //
Письма А.А. Блока к родным. С. 267.
45 Блок АЛ. Молнии искусства. С. 386.
46 Блок АЛ. Письмо к матери. Флоренция, 13 мая 1909 года //
Письма А.А. Блока к родным. С. 263.
47 Муратов П.П. Образы Италии. М., 1911. Т. I. С. 183-186.
Флоренция. Уфицци
По залам музеев
Заметки
разных лет
Доменико Венецианов “Мадонна
на троне с четырьмя святыми”.
Светло-розовый с оттенком ма¬
линового, бледно-зеленый, очень
светлый голубой. Для Возрожде¬
ния это совсем неожиданно, как
улыбка, как прозрение, как Ма¬
тисс. И несколько пятен алого,
как в его “Красных рыбках”.
Беллини. “Души чистилища”.
Здесь Беллини очень похож на
Джорджоне. Тот же золотистый
свет, то же умиротворенное “фар-
ниенте”. Самое яркое пятно -
темно-малиновый плащ уходя¬
щей из картины мужской фигу¬
ры, медленно бредущей по воде.
Вода за балюстрадой - прозрач¬
ная, спокойная. В центре -
апельсиновое дерево и упавшие
на холодный мраморный пол
террасы золотистые плоды.
Леонардо да Винчи. “Благовеще¬
ние”. Есть необъяснимая поэзия
в Ее молчаливом достоинстве и в
его, Гавриила, осторожной и
внимательной передаче Вести.
Лицо у Марии простое, без лео-
нардовской загадочности, по-
детски серьезное. И длинная ба¬
люстрада, она и соединяет их, и
разъединяет. Архангел не приле¬
тел, он словно прибежал по тра¬
ве, складки его одежды хранят
след движения. Мария - в мире
архитектуры. Ее одеяния упо¬
доблены креслу (как бы трону в
будущем). И далекий, величе¬
ственный, всемирно спокойный
пейзаж. Рядом с этим “Благове-
512
щением” картина Боттичелли выглядит как занима¬
тельная сценка: он вбежал неожиданно и упал перед
ней на колени, она испугалась и собирается убежать.
И все.
Флоренция. Сайт Аполлониа
Кастаньо. Фреска “Тайная вечеря”. По цвету ярко¬
темная: малиново-коричневый, лиловый, оранжево¬
терракотовый, темно-синий и темно-зеленый. Много
черноты. Очень красива, похожа на инкрустацию из
яшмы. Привлекает внимание широкая белая полоса
скатерти, но горизонтальной поверхности стола нет, по¬
этому нет глубины пространства. Фигуры в застылых,
каких-то завороженно условных позах, каждая в себе -
та же самопогруженность, самозначительность и внут¬
ренняя разобщенность персонажей, что и в “Троице”
Мазаччо.
Флоренция. Санта Мария Новелла
Гирландайо. Фрески. Хороши отдельные фигуры и де¬
тали. Может быть, в ту пору живопись так рвалась
вглубь потому, что для нее закрылось небо? С неба на¬
висают либо фигура Бога-Отца, либо Христа, либо тя¬
желый плоский потолок. А в “Тайной вечери” у Гир¬
ландайо на голову Христа давит лепная консоль.
Кастельфранко. Собор
Джорджоне. “Мадонна на троне”. Вся золотистая. Ти¬
шина и одиночество. Пейзаж гораздо тоньше и легче
написанный, чем у Беллини. Горы на горизонте совсем
прозрачно-голубые, небо светлое, тоже прозрачное, се¬
ровато-голубоватое вверху и чуть розовато-золотистое
внизу. Мадонна слегка освещена мягким вечерним све¬
том, рассеянным. Фигуры двух святых у трона словно
окутаны полутьмой, и в такую же полутьму погружен
пейзаж справа - мутно рисующиеся кусты, тропинка,
бегущая по ней фигурка. Свет льется слева, из-за зам¬
ка, и замок тоже освещен мягким, теплым светом. Лица
Св. Георгия почти не видно, глаза в глубокой тени.
Поразительны у Джорджоне эти мягкие, неуловимые,
но необыкновенно глубокие тени. Георгий похож на
грустного рыцаря, служащего даме. Удивительно, как
все фигуры одиноки, погружены в себя. Лицо Георгия
По залам музеев
513
очень темное, почти коричневое (заметить этот цвет
лиц у Джорджоне). В его позе - готовность и какая-то
безнадежность. Знамя на фоне пейзажа рисуется уди¬
вительно мягко: мутно-серо-сиреневое с белым крес¬
том. Умение Джорджоне придать мягкость общему
колориту картины сочетанием цветов, сохраняя их
локальность. Лица монаха также почти не видно. Есть
в их лицах какая-то недосказанность. Стена темно-
вишнево-коричнево-сероватая, по верху проложена
светло-алая полоска; нижняя часть трона Марии серая
с розовым, того же тона, что и стена, но несколько свет¬
лей. Удивительно подобран по цветам герб: серо-зеле-
новато-розовый с маленьким алым пятнышком по¬
средине. Верхняя часть трона серо-темно-оливковая;
ковер оливковый с зелеными и красными полосами
(все того же мягкого тона). И торжествующей концент¬
рацией этих двух цветов, на сочетании которых, в сущ¬
ности, построена вся картина, служит мягко перелива¬
ющийся, сияющий розовый плащ Марии и ее темно-
мягко-зеленое платье. Лица Младенца не видно. Лицо
Марии бесконечно грустное, в ее жесте есть решимость -
и какая-то безграничная усталость, как будто Она нако¬
нец, после долгого раздумья, решилась подняться -
и снова застыла в грустном созерцании. Глаза полу¬
закрыты. Лицо обычное, джорджоновское, с тонким,
чистым овалом и расплычатыми чертами (как у его
Венеры и Юдифи). В чем же неисчерпаемое обаяние
этой картины? Может быть, в особой атмосфере на¬
строенности - и недосказанности, в золотистой тени,
которая отъединяет фигуры и делает их внутренне
далекими друг от друга и от окружающего. В этом есть
даже что-то уже предрембрандтовское, потому что сфу-
мато у Леонардо совсем другое, менее духовное, более
телесное, больше предназначенное для выявления
объема фигур. И потом: что это за полоса перед троном
на полу, которую монах не решается переступить, а
Георгий, с решительностью воина, стража, служащего
даме рыцаря, переступил - и стоит на том, верный, пре¬
данный и неколебимый.
Рим. Палаццо Барберини
Филиппо Липпи. “Мадонна в кресле”. Как энергично
раздвигает он громоздкие предметы, организует жиз¬
ненное пространство для фигур. Вот уж действительно
514
увидел Марию снизу, с колен. Загромоздил передний
план объемными предметами - подножие, кресло, Ее
колени, книга...
Тинторетто. “Христос и грешница”. Пространство
драматически разорвано. Передний план падает вперед,
на зрителя и одновременно стремительным рывком
уходит вглубь направо. Христос и грешница оказы¬
ваются в странно неопределенном или не определив¬
шемся пространстве переднего плана. Фигура на зад¬
нем плане стремительно убегает, словно спасаясь от
этого выпадающего из картины пространства, где толь¬
ко Христос - и грешница. А вдали щемяще грустно и
хорошо. Оранжевый цвет тоже странный: не золотис¬
тый, не красноватый, но особый, только Тинторетто
присущий, терракотовый с чуть зеленоватым оттен¬
ком... (При другом посещении музея). Хватающая за
душу поэзия пространства. Фигуры справа на заднем
плане, повернувшись спиной, смотрят вдаль. Грешни¬
ца - одна, в центре картины, на фоне колонны. Их диа¬
лог с Христом с глазу на глаз. Он сидит, она стоит. За
ней - даль, за Ним - толпа. Толпа враждебно отшатну¬
лась от них обоих. Ее силуэт статуарен, лежащий на по¬
лу подол платья, как пьедестал. Вся картина - про нее.
Очень тревожный колорит, нервный мазок.
Рим. Музей виллы Боргезе
Беллини. “Мадонна с Младенцем”. Осторожная драго¬
ценность и в цвете, и в том, как Мария касается Мла¬
денца, и в пронзительной грусти, в чуткой настроен¬
ности всего - и голубого пейзажа, и фигур, и лиц. Тра¬
гично, что они Оба все понимают. В сущности, каждый
ребенок обречен...
Милан. Брера
Беллини. “Пьета”. Жесткая и очень трагичная. Иоанн с
волосами, как золотые стружки. Мария и Христос му¬
чительно некрасивы.
Венеция. Сан Заккария
Беллини. “Мадонна со святыми”. Какая тишина, какая
самопогруженность! Лучшее из всего, что есть у Бел¬
лини.
По залам музеев
515
Москва. ГМИИ им. А.С. Пушкина
Боспорский рельеф со сценой сражения. IV-II вв. до н. э.
Случайный фрагмент, осколок... но осколок настояще¬
го большого искусства. Изображена битва, кровавое
сражение - но как ритмически совершенно выверены
жесты сражающихся мужчин и женщины: они повто¬
ряются словно в зеркальном отражении, и в них есть
торжественная остановленность, знаковость ритуала.
И что удивительно: эти фигуры, которые, по-видимо-
му, в целом рельефе выполняли роль второстепенную,
здесь, во фрагменте воспринимаются как смысловой и
композиционный центр изображения - свойство под¬
линного художественного организма, “где частица
живет жизнью целого, а целое свидетельствует о себе
в частице” (Умберто Эко). Что происходит в рельефе?
О чем он? О самом главном: о трагедии жизни и смерти.
Именно об этом контрастное сопоставление энергично
устремленного профиля мужчины и полусклоненного в
его сторону лица женщины, окутанного волной ниспа¬
дающих волос (иконографический отзвук образа пла¬
кальщицы?). Об этом же - две мертвые головы, в своем
строгом фасе уподобленные погребальным маскам (мас¬
кам смерти?). И кажется, не случайно над головой жен¬
щины, уже обреченной гибели, торжественно скре¬
щиваются руки двух воинов: живая, вонзающая меч
в противника - и безвольно повисшая мертвая рука;
поразительная говорящая деталь: беззащитно раскры¬
тая ладонь поверженного воина касается волос женщи¬
ны. Трудно сказать, как развертывалась сцена этой
смертельной схватки в остальной, утраченной части
рельефа, но образная суть изображения, его главный
смысл и пафос с поражающей образной силой разыгран
в этом случайно спасенном куске античного камня.
Это - словно чудом дошедшие до наших дней строки
стихотворного текста, по которым мы пытаемся восста¬
новить сюжет, смысл и ритмический строй некогда
существовавшего сочинения.
Флорентийский мастер XIII века. “Мадонна на тро¬
не”. Сочетание, или, скорее, столкновение двух компо¬
зиционных систем: византийской житийной иконы с
клеймами, обрамляющими средник - и итальянского
раннеренессансного триптиха с боковыми створками и
узкой пределой внизу. Тот же пространственный раз-
516
лом и в изображении Богоматери: вся верхняя часть Ее
фигуры по-византийски плоскостная, впаянная в абст¬
рактное пространство золотого фона, но колени, силь¬
но акцентированные световыми бликами, подушка и
подножие трона вынесены вперед, за пределы иконной
плоскости. Своеобразное предвестие грядущих джот-
товских преобразований.
Сано ди Пьетро. “Казнь Иоанна Предтечи”. Игрушеч¬
ная, словно картонная архитектура, слишком большие,
по сравнению с архитектурой, человеческие фигуры, су¬
ществующие не в трехмерном пространстве, но на фоне
его. Да и сами фигуры еще вполне готические. Странные
архаизмы для мастера зрелого кватроченто. Особенно в
освещении: свет не падает извне на предметы, но словно
высвечивает их изнутри. Тени цветные, они даются ин¬
тенсификацией окраски предметов, а не приглушением
ее темным. Сами фигуры не отбрасывают теней, зато
много светоносных цветов - розового, алого, есть и золо¬
то, против которого решительно протестовали теоретики
ренессансного искусства. Сано ди Пьетро заворожен кра¬
сотой блестящих золотых поверхностей, они органично
входят в колорит его картины, усиливают ее сияющую
цветность и ... ее неправдоподобность. Изображен¬
ная сцена, трагическая по сюжету, по колориту - торже¬
ствующе праздничная. Роль цвета здесь не в раскрытии
сюжетной ситуации, но, так же, как в средневековой
живописи, в просветлении и утончении материального,
приобщении его к сфере духовного.
Лоренцо Коста. “Двое мужчин у колонны”. Всего лишь
небольшой фрагмент переднего плана картины, сюжет
которой неизвестен, но как по-ренессансному он по¬
строен! И прежде всего - в отчетливой разделенности на
зоны далекого и близкого. Первый план - это мир архи¬
тектурно оформленного, сценическая площадка, выго¬
роженная из необъятности природы. Она противопо¬
ставлена пейзажу на заднем плане, увиденному сверху
и издали, изображенному в другой шкале величин.
Мир, раскрывающий безграничные дали и предлагаю¬
щий безграничные возможности. А в архитектурном
окружении переднего плана - с какой свободой и есте¬
ственностью встречаются у колонны и беседуют два
персонажа: юноша в модном костюме XV века и мужчи-
По залам музеев
517
на, облеченный в одежду, которую, по представлениям
того времени, должны были носить герои античной или
христианской древности. Они кажутся освещенными
солнцем, но почти не отбрасывают теней. Живопись
кватроченто еще не открыла для себя тень как само¬
стоятельный изобразительный мотив.
Педро Эспаларгес. “Архангел Михаил, взвешивающий
души умерших”. Неожиданное впечатление произво¬
дит в этом вполне ритуальном изображении фигура
побежденного дьявола. Он похож на человека, наря¬
дившегося чертом, натянувшего на себя что-то вроде
козлиной шкуры и спрятавшего лицо под гротеск¬
ной карнавальной маской. В прорезы ее смотрят боль¬
шие и грустные человеческие глаза. В этой странной
картине, написанной в Испании на грани XV и XVI ве¬
ков, нарушен важный принцип иконного образа:
взгляд широко раскрытых глаз дьявола, смотрящих в
упор на зрителя (молящегося!), обладает более притяга¬
тельной силой, нежели взгляд отведенных в сторону
глаз Архангела.
Иеоган Кербеке. “Бичевание Христа”. 1457. Драматизм
изображенной ситуации усиливается из-за резких кон¬
трастов, очевидных диссонансов и противоречий, ха¬
рактерных для многих художников этой переломной
эпохи, особенно немецких. Здесь - с особенной очевид¬
ностью, в построении пространства. Художник старает¬
ся передать глубину, вычерчивая в перспективе геомет¬
рический узор пола, изображая в сокращении пра¬
вую стену комнаты с “перспективно” прорезанной в ней
дверью, изображая далекий, залитый солнцем город¬
ской пейзаж, виднеющийся в окнах на задней стене. Но
все эти перспективные ренессансные приемы остаются
не связанными воедино, далевого впечатления не возни¬
кает. Помещенные в это не сложившееся трехмер¬
ное пространство фигуры остаются на переднем плане,
лишенные не только пространственной, но временной
дистанции. Изображенное событие, как в иконах, совер¬
шается здесь и сейчас, на глазах у зрителя. К тому же
фигуры изображены с предельно доступной художнику
степенью правдоподобия и рассчитаны, как это бывает в
искусстве позднеготическом, на непосредственную эмо¬
циональную реакцию зрителя (молящегося?), на реак¬
518
цию сопереживания. Сама сюжетная ситуация сильно
педалирована: жесты и мимика воинов почти гротескны,
фигура обнаженного Христа, напротив, - воплощение
готических представлений о прекрасном человеческом
облике. Особенно подчеркнут жест беспомощно скре¬
щенных длинных, гибких рук, да и во всем его теле есть,
присущее готике, остро чувственное переживание наго¬
ты, подчеркнутое еще и тем, что это женственное и поч¬
ти соблазнительное в своей незащищенности тело по¬
крыто кровавыми ссадинами, следами побоев. Острым
диссонансом драматизму сюжета воспринимаются свет¬
лые, сияющие изнутри краски, призванные “снять” не¬
посредственный трагизм события.
Мастер из Месскирха. “Распятие с предстоящими”.
Неожиданно сочетание, скорее даже столкновение, ис¬
кусства зрелого немецкого Возрождения с искусством
средневековым. Крест с телом Распятого поставлен в
ракурсе, создавая впечатление пространственной глу¬
бины, также пространственно трактован и фон, изобра¬
жающий небо с облаками. В то же время два свитка с
евангельскими текстами по сторонам от Распятия зри¬
тельно удерживают плоскость доски. Этот контраст
подчеркивает пространственный разворот креста, про¬
рывающий плоскость. Необычно, иконографически не¬
допустимо асиметричное построение всей композиции,
когда группа с Распятием сдвинута влево, нарушая ос¬
вященные ритуалом законы иконного построения. Про¬
фессиональный просчет художника или сознательное
нарушение традиционной иконографии?.. XVI век -
время для Германии религиозно беспокойное.
Херри мет де Блесс. “Шествие на Голгофу”. Эпизод,
один из самых трагических в евангельской истории,
трактован как торжественная, пышная процессия,
напоминающая скорее праздничное шествие волхвов,
часто изображавшееся в картинах тех лет. Фигуры
всадников на переднем плане воспринимаются как пря¬
мая цитата из композиции “Поклонения”. Может быть,
их роль в том и состоит, чтобы усложнить разгадку сю¬
жета, дать ему “не ту” ориентацию. Ван Мандер пишет
о картинах де Блесса, что художник любил включать в
свои картины иконографические загадки, заставляв¬
шие зрителей “биться об заклад” в поисках их реше¬
но залам музеев
519
ни я. При взгляде на его картину действительно возни¬
кает вопрос: а где главный герой события? Где Христос?
Образная формула итальянской картины Возрожде¬
ния - формула разгаданной и преодоленной сложности.
Пафос картины де Блесса - пафос обнаружения скрыто¬
го, трудно доступного. Главное событие спрятано, как
бы зашифровано. Картина дает модель не познанного
мира, но модель самого процесса его познания, преодо¬
ления его неупорядоченной сложности. Сюжетно важ¬
ное отодвинуто на второй, на третий план, второстепен¬
ное придвинуто к самому глазу; малое стало большим,
великое малым. Впереди, вписанные со всеми подроб¬
ностями, словно рассмотренные через увеличитель¬
ное стекло, - куски земли, травы; огромные по своим
относительным размерам, они больше далеких крес¬
тов на Голгофе. И даже больше фигуры главного героя,
павшего под тяжестью креста. Кажется, что образ¬
ный смысл картины не в евангельском событии, а в без¬
граничных далях, раскрывающихся последователь¬
ными планами и вводящих в картину все новые и но¬
вые пространства, все новые, пришедшие в движение,
толпы...
Неизвестный нидерландский художник XVI века.
“Рождество”. Все происходит ночью, разыгрывается
сложная мистерия света. Естественное лунное освеще¬
ние вырывает из мрака развалины античной архитек¬
туры. Но эта античная ночь готова отступить перед
утром, занимающимся на горизонте, где на фоне зари
четко рисуются силуэты ветряных мельниц и башни го¬
рода и где виднеются фигурки изумленных пастухов,
внимающих Благой вести ангела. Действо в пещере
свершается при мистическом свете, излучаемом тель¬
цем Младенца. Этот свет, направленный снизу, странно
меняет лица, придавая необычность происходящему. И
еще один источник света - слыбый огонек свечи в руках
Иосифа, как контраст, как антитеза света божественно¬
го. Бросается в глаза очаровательная неуклюжесть фи¬
гурок ангелочков, особенно тех, что изображены паря¬
щими в воздухе. Их физиономии напоминают восковые
головки кукол, а фигурки кажутся подвешенными на
нитках к потолку. Может быть, здесь сказались впечат¬
ления от рождественских инсталляций так называемо¬
го “пещерного действа” (итальянских пресепио).
520
Ян Брейгель. “Пейзаж с кузницей”. Дома справа и куз¬
ница слева образуют кулисы первого плана. Улица,
уводящая в глубину, на ней несколько повозок - одна
из иконографических примет фламандского пейзажа
XVII века, способ сюжетного объединения отдельных
кусков пространственной и временной реальности. Пово¬
зок четыре. Две на переднем плане движутся на зрителя;
две другие едут в глубь картины. Одна из них расположе¬
на на самой границе пространственных зон, она как бы
пересекает незримую черту между здесь и там. Еще оче¬
виднее объединительная роль четвертой повозки с высо¬
ким верхом: она находится в пространственной зоне да¬
лекого, но по своим размерам, своему масштабу принад¬
лежит переднему плану больших величин.
Ян Зиберехтс. “Брод”. У Зиберехтса есть что-то общее с
Луи Лененом. Тот же интерес к постоянно повторяе¬
мым простым сюжетам из крестьянского быта, та же
остановленность, словно застылость поз, движений, тот
же взгляд персонажей, настойчиво обращенный к зри¬
телю, и та же значительность обыденного. Неглубокая
спокойная река, повозка, груженная корзинами с ово¬
щами, женщина в повозке, другая верхом на лошади,
еще одна с кувшином на голове переходит реку вброд.
А вдали фигура крестьянина на лошади, движущегося
в противоположном направлении, в глубь картинного
пространства. Есть что-то завораживающее в сопостав¬
лении медленных разнонаправленных движений: теку¬
щей воды, бредущей женщины, колес едущей повозки,
ног шагающей лошади. Все движется - и все застыло в
полной неподвижности. Словно во внезапно останов¬
ленной киноленте. Эффект, возможно, возникающий
от того, что фигуры расходятся из одного центра одно¬
временно по трем направлениям: направо, налево и в
глубину, в одном и том же замедленном ритме. Глаз не
воспринимает эти разнонаправленные движения. Все
останавливается, выключается из потока времени.
Может быть, именно в этом главный образный смысл
картины Зиберехтса, ее визуальная метафора.
Мартин Пепейн. “Придворный бал”. Странный ана¬
хронизм для Фландрии времени Рубенса. Сцена в инте¬
рьере не воспринимается как интерьерная. Она не уме¬
щается в пространстве комнаты. Зала представлена
По залам музеев
521
сверху, словно увидена с высокой колокольни, она про¬
изводит впечатление городской площади или широкой
улицы. Хоры для музыкантов, огромный камин кажут¬
ся фасадами зданий, даже мебель - шкаф, поставец, на
который водружено Распятие, - похожа на архитектур¬
ные сооружения. Да и в самом расположении фигур, в
размашестости их движений, в развязности поз есть
что-то от уличной жизни, от карнавальных шествий.
Жанр интерьера здесь еще не определился, улица еще
не стала комнатой, ее боковые стены не доведены до
переднего плана, они не замыкают пространства. Люди
словно проходят мимо, появляясь из-за угла улицы и
готовые скрыться за другим ее углом. В этой странной
картине прошлое сомкнулось с будущим: при всех чер¬
тах архаизма, в нарочитой хрупкости фигур, в сделан¬
ности их поз словно проглядывают театрализованные
сценки французских художников XVIII века.
Питер Пауль Рубенс. “Апофеоз эрцгерцогини Изабел¬
лы”. В этом небольшом эскизе воплотился весь пафос
барокко - его стремление к грандиозному, его претен¬
зии на глобальную значимость всех, даже самых скром¬
ных событий своего времен, его пышное красноре¬
чие, любовь к сложным аллегориям. Аллегоричность
барочных сюжетов, недоступная нам без специального
комментария, зачастую ставила в тупик и самих совре¬
менников Рубенса. В письмах он жаловался на непо¬
нятливость зрителей, принимавших “Аллегорию горо¬
да Лиона” за богиню Кибелу, а “Часы рождения короле¬
вы” - за фигуры амуров. Нет ничего проще, сетует
художник, как догадаться, что “скорбная женщина в
траурной одежде, под разодранным покрывалом, без
драгоценностей и пышных уборов - это несчастная Ев¬
ропа...”. Однако догадаться было трудно, поскольку в
другой картине аналогичная женщина должна была, по
замыслу художника, обозначать “Общественное горе”,
как, например, в московском эскизе. Нас вряд ли мо¬
жет взволновать его сюжетная сторона, но трудно не
поддаться гипнотической силе воздействия этого на¬
броска Рубенса, сумевшего несколькими ударами кис¬
ти вызвать в воображении зрителя образ празднично
украшенного города, шумящей многоголосой толпы...
Ландшафты Рембрандта
лежат где-то
в мировом пространстве,
а ландшафты
Моне - поблизости
от железнодорожной
станции.
Шпенглер. Закат Европы
“Беление холста”
Иоганна Томаса
ван Кесселя
(1680) -
и “Пейзаж
в Овере
после дождя”
Винсента
Ван Гога
(1890)
В связи
с выставкой
“Диалоги
в пространстве
культуры”
в ГМ И И
им. А.С. Пушкина
в 2002 году
Ландшафт в картине “Беление
холста” кисти Иоганна Томаса
ван Кесселя, как и ландшафты
его соотечественника Рембранд¬
та, “лежит где-то в мировом про¬
странстве”. Казалось бы, сюжет
картины вполне бытовой: изоб¬
ражена окраина городка, точ¬
нее, его предместье, где хозяева
расстилают на солнце соткан¬
ные полотнища холстов. Однако
сюжет этот, часто встречающий¬
ся в голландской живописи
XVII века, заключал в себе ино¬
сказательный смысл: белые
холсты уподоблялись “белым
одеждам”, в которые, согласно
Апокалипсису, облекутся души
праведных по звуку трубы ар¬
хангела, возвещающей начало
Страшного суда. Этот симво¬
лический подтекст определяет
образный строй картины. Зем¬
ля здесь не просто простирается
вглубь и вширь под клубящимся
облаками небом, которое за¬
нимает две трети картинного
пространства. Земля всей своей
плоской горизонтальностью про¬
тивопоставлена вертикально
уходящим ввысь небесам.
Гете назвал XVII столетие
столетием “больших величин”,
“обладавшим мужеством проти-
523
востояния” величию открывшегося человеку безгра¬
ничного космоса. В картине Кесселя земля с населяю¬
щими ее людьми не только противостоит - она как бы
предстоит небесам как воплощению божественного
начала. Люди в XVII веке постоянно чутко прислуши¬
вались к мирозданью, в каждом случайном, бытовом
мгновении они способны были “видеть вечность”
(Блейк). Пространство у Кесселя построено с примене¬
нием приемов прямой центрической перспективы, изо¬
бретенной в Италии в эпоху Возрождения, - однако с
явным, несомненно значимым, нарушением основного
ее правила. В ренессансной картине все уводящие глаз
в глубину линии пересекаются в единой точке схода.
Благодаря этому возникает замкнутая пространствен¬
ная модель, рассчитанная, в идеале, на фиксированную
позицию зрителя, - статическая рукотворная модель
мироустройства.
В картине Кесселя уходящие в глубину линии
перспективы, которые в ренессансной живописи слу¬
жили способом построения архитектурно-организован¬
ного пространства, использованы как обнаженный, на¬
рочито подчеркнутый художественный прием. Белые
полосы холстов на темно-зеленом фоне луга стреми¬
тельно уходят в глубину; никаких стен, никаких ку¬
лис. Перспектива здесь не построена, но как бы прочер¬
чена на плоской поверхности земли, увидена не с уров¬
ня глаз человека, как в картинах Возрождения, но
сверху, как взгляд с небес на землю. И, что не менее су¬
щественно - ярко-белые полосы холстов, стремительно
уводящие глаз в глубину, не имеют единой точки схода,
они не замыкают - но размыкают пространство. Глаз
зрителя утрачивает ориентир и теряется в безгранично¬
сти пространства нерукотворного, которое - само это
пространство - “смотрит Никуда в упор” (О. Седакова).
Пейзаж Ван Гога “лежит поблизости” если не “от
железнодорожной станции”, как у Моне, то от полотна
железной дороги. Его картина “Пейзаж в Овере после
дождя” написана за месяц до трагической кончины
художника. Голландец по происхождению, Ван Гог,
попав в Париж, прошел через искус французского им¬
прессионизма, но в последний год, продолжая оставать¬
ся во Франции, стал все чаще обращаться к своим ран¬
ним, голландским впечатлениям. Таким фран¬
цузским воспоминанием о Голландии стал его оверский
524
пейзаж. В нем можно отыскать даже некоторые (созна¬
тельные или интуитивные?) иконографические пере¬
клички с картиной Кесселя: то же городское предмес¬
тье, те же скромные, полудеревенские домики, те же
поля на переднем плане, те же крохотные копошащие¬
ся среди них человеческие фигурки. Французским ос¬
тался только мчащийся на горизонте поезд - любимый
парижский мотив импрессионистов. Все то же - но,
вместе с тем, совсем не то. И главное - отсутствие высо¬
кого голландского неба с плывущими вверх облаками.
У Ван Гога узкая полоска небес и по колориту, и по от¬
рывисто измельченной кладке мазков едва отличима от
голубоватой зелени полей. В картине Ван Гога нет эпи¬
чески торжественного соприсутствия земли и неба, со¬
ставляющего главный пафос пейзажной живописи
XVII века. “Когда же, наконец, напишу я звездное не¬
бо...”, - восклицает Ван Гог в одном из писем. Небо ху¬
дожник пытался писать неоднократно, но каждый раз
оно оказывалось слишком по-земному материальным и
слишком пронизанным мучительно земными страстя¬
ми. Пейзажу в Овере, как и всем картинам Ван Гога,
чуждо чувство пространственной дистанции, отстра¬
ненности художника от предмета изображения.
Как страшно близок нам любой предмет:
Он обнял нас и к нам упал в объятья.
Единое пространство там, вовне,
И здесь, внутри. Стремится птиц полет
И сквозь меня. И дерево растет
Не только там: оно растет во мне...
Рильке написал это стихотворение о картинах
Сезанна, но его с полным правом можно отнести к “Пей¬
зажу в Овере после дождя” Ван Гога. Земля в нем не ло¬
жится горизонтально, она встает стеной и застит глуби¬
ну. Опрокинутое пространство мечется вправо и влево
линиями разнонаправленных борозд, вызывая ощуще¬
ние мучительного смятения. Поезд стремительно мчится
вправо, повозка медленно плетется влево: несбалансиро¬
ванность пространственных ритмов усиливается несба¬
лансированностью ритмов временных. Эти простран¬
ственные и временные перебои воссоздают не столько
картину природы, сколько, по выражению Шпенглера,
“картину души” художника. Или, используя современ¬
ную терминологию, его духовную кардиограмму.
“Се человек”
О выставке деревянной скульптуры
Русского Севера
“В дорогу жизни снаряжая...”
О теме пути в русской литературе
“Исполнилась полнота времен...”
О теме Страшного суда
в европейском искусстве
“Се Человек”
О выставке
деревянной
скульптуры
Русского Севера
Терн, и в ладони гвоздь
и крестный брус
Со скорбным Ликом,
жалостью согретом...
Микеланджело Буонарроти
В рассветный час ... по тихой
зимней дороге ...медленно
поднималась немногочисленная
процессия... лица женщин были
печальны, детей - испуганы,
мужчин - строги и сдержанны.
И все они смотрели на босого
человека, идущего впереди
с тяжелым березовым крестом
на плече, и на оборванного
мужика, помогающего ему нести
тяжесть, которую он сбросил на
вершине холма у вырытой
в промерзшей земле ямы...
А Тарковский.
“Андрей Рублев”. Киносценарий
Замысел выставки - представить
жизнь в искусстве “вечных”
евангельских образов и, прежде
всего, Христа в его человеческой
ипостаси. Представить в со¬
поставлении (которое может по¬
казаться не-сопоставимым) не¬
мецкую скульп- туру Северного
Возрождения (XV-XVI века) -
и народную скульптуру Русского
Севера, относящуюся к XVIII и
XIX векам.
Нидерландско-немецкая
скульптура, выполненная масте¬
рами, современниками Дюрера,
знакомыми с богословскими
сочинениями своего времени, с
гуманистической культурой ре-
527
нессансной Италии, - пример искусства профессио¬
нального, “ученого” искусства.
Северорусская народная скульптура - пример ис¬
кусства “низового”, фольклорного, бесписьменного.
“Которые историю творят, / Они потом об этом не чита¬
ют, - ...А просто иногда поговорят” (Б. Слуцкий). Или
сложат песню, придумают легенду, начнут вытесывать
топором скульптуру из дерева.
До Сибири образцы христианской иконографии
доходили, как правило, лишь в отголосках, да и само
христианство было густо замешено на местных язы¬
ческих верованиях. Такое полуязыческое христиан¬
ство стадиально соотносимо с периодом также полу-
языческого раннего средневековья в Западной Европе.
Представленную на выставке русскую народную
скульптуру, в определенном смысле, можно рассмат¬
ривать как порождение “низовой” средневековой
культуры, которая “отличается необычайной стабиль¬
ностью, цепкостью, сопротивлением к изменениям”
(А. Гуревич).
Поэтому можно считать, что концепция выстав¬
ки определяется не только сопоставлением искусства
профессионального с искусством фольклорным, но и -
как это ни парадоксально - сопоставлением русского
“средневекового” искусства, созданного в XVIII-XIX ве¬
ках, - с искусством Возрождения, хронологически
относящимся к значительно более раннему периоду
(к XV-XVI столетиям). Свидетельство относительности
культурно-исторической периодизации.
Но главный пафос этой во многом парадоксаль¬
ной выставки - ее отношение к современности, к тем
жгучим вопросам, которые встают перед европейским
человечеством в конце двухтысячелетней истории раз¬
вития христианской цивилизации. Как верующими,
так и неверующими, ибо христианская культура - по¬
нятие гораздо более широкое, нежели христианская
церковь.
“...Если бы Христос был всего лишь героем возвы¬
шенной легенды, уже сам факт, что подобная легенда
могла быть измышлена, был бы не меньшим чудом,
нежели чудо явления во плоти Сына реально существую¬
щего Бога. Эта природная, земная тайна способна веч¬
но волновать и облагораживать сердца неверующих”
(Умберто Эко).
528
В искусстве XX столетия, особенно второй его по¬
ловины, после трагедий тоталитаризма и второй миро¬
вой войны, возникает все более настойчивый, все более
требовательный интерес к евангельской истории и,
прежде всего, к образу Иисуса Христа, называвшего
себя “Сыном человеческим”.
Особую, мучительно-личностную интонацию при¬
обретают в наше время обращенные к толпе слова
Пилата: Се человек.
Евангельский Христос - образец душевного му¬
жества, бескомпромиссной готовности пойти на пытки,
на издевательства оголтело улюлюкающей толпы, ко¬
торой “предстояло сделать выбор: ...истина или наси¬
лие” (Ф. Дюрренматт). Христос выбирает мучитель¬
ную, позорную казнь ради открывшейся Ему истины.
Что есть истина? На этот провокационный вопрос, за¬
данный обвиняемому Понтием Пилатом, Христос отве¬
чает молчание. В сущности, вся двухтысячелетняя ис¬
тория христианской цивилизации - история поисков
ответа на этот вопрос, так до сих пор и остающийся от¬
крытым, и этой своей открытостью стимулирующим
вечные поиски.
Образ Христа-страстотерпца проходит через твор¬
чество многих крупных мастеров XX столетия - худож¬
ников, скульпторов, писателей, поэтов - и западноевро¬
пейских, и русских. Большинство из них видят в траге¬
дии Распятия не столько величие, героику подвига,
сколько страшную прозу мучительства:
Он пригвожден к кресту. Свисают ноги.
Все три распятья равной высоты.
Христос не в центре, Он всего лишь третий.
Он мучится, не проронив ни звука.
Изранен лоб колючками венца.
Ему не слышно, как над ним смеются:
Агония не внове для толпы,
Не все ль равно - его или другая?
Он знает, что не бог, а человек,
И что умрет, но мучает не это,
А сталь гвоздей - вот что больней всего.
Ведь он не грек, не римлянин. Он стонет.
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера
529
Душа, томясь, торопит свой конец.
Смеркается. Его уже не стало.
Лишь муха проползает по плечу...
И что мне, кажется, в его мученьях,
Когда я сам, здесь, мучаюсь сейчас?
Это - стихотворение Х.Л. Борхеса, датированное
1984 годом. Трудно сказать, восходит ли оно к какому-
то определенному живописному или скульптурному
изображению или это собирательный образ Распятия.
Пафос этого мучительно жестокого воспроизведения
картины крестной казни - не в сопереживании автора,
но в его гневном протесте против мира, в котором чело¬
века вынуждают переносить мучения. Тогда - и здесь,
сейчас.
А вот другой, русский вариант той же темы, воз¬
можно, навеянный народной скульптурой Русского
Севера, пропущенной через страшную действитель¬
ность ГУЛАГа: “Распяли не так, как на Голгофе, а си¬
дящим на скамеечке. На узенькой скамеечке голгоф-
ского креста. Палач согнул ему в коленях ноги и подтя¬
нул одну выше другой. Ступню же, вывернув, засунул
под икру. Прихваченный большими брусочными гвоз¬
дями, Он начал умирание. Жужжали мерно мухи.
Шелудивый пес то подбегал, то отбегал... Он умирал не
в позе вольно-гимнастической, как на бесчисленных
изображениях. Не эстетически-элегантно, а словно зек,
истерзанный судебно-розыскной собакой и конвоем...
Он умер корчагой закоряченной”. Это пишет Ю. Давы¬
дов в своем последнем романе “Бестселлер” (1999).
В предельно заостренном контрасте свободной
“эстетической элегантности” “бесчисленных изображе¬
ний” Распятия (очевидная отсылка к классицизирую-
щим образам европейского искусства) - и предельного
правдоподобия искусства народного, по существу, ока¬
залась сформулированной важная антитеза экспозици¬
онного сценария выставки.
В североевропейской скульптуре Возрождения
неизменно сохраняется классическая нормативность,
которую не в силах преодолеть ни взвинченная экспрес¬
сия мимики и жестов, ни бурно развевающиеся склад¬
ки одежд, словно охваченных ветром, внезапно нале¬
530
тевшим ниоткуда. Все эти признаки душевной на¬
пряженности приобретают особую выразительность,
поскольку воспринимаются как нарушение нормы.
Момент сравнения - сознательно распознаваемый или
подсознательно ощущаемый - важный постулат образ¬
ного языка этой скульптуры, в значительной сте¬
пени обусловленный пограничным характером ее
место- и времяположения: на грани средних веков и но¬
вого времени.
В пермской народной скульптуре напрочь отме¬
тается представление о норме: если эта норма просту¬
пает, то лишь как пере-творение пришедших извне
иконографических образцов, как их старательное при¬
своение. Генетическая память народных мастеров вос¬
ходит к глубинам их собственного языческого прошло¬
го, далекого от античной классики. Образная сила этой
скульптуры, ее притягательность для современного
зрителя - в полном отсутствии в ней представлений о
временной и семантической дистанцированности. Каж¬
дое ритуальное изображение - это не “зримый образ не¬
зримой сущности”, но образ сущности вполне зримой -
персонаж, наделенный чертами, которые нам представ¬
ляются портретными, но которые, скорее всего, воспро¬
изводят некий этнически характерный, обобщенный
портрет. “Страждущие Христы”, одетые в современ¬
ные кафтаны или в белые исподние порты, отличались
от обычных людей разве что способностью творить
чудеса - причем чудеса тоже вполне обычные, каждо¬
дневные, необходимые в хозяйстве.
Ощущение само собой разумеющегося присут¬
ствия Бога в быту даже современной деревни поразило
Иосифа Бродского, поэта сугубо городского:
В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу...
Творцы современного искусства - художники,
писатели, мастера кино, обращаясь к евангельским сю¬
жетам, стараются модернизировать образ Иисуса и его
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера
531
окружения, при этом навлекают на себя упреки, в ряде
случаев справедливые, в прозаическом снижении, про-
фанировании текста священных книг.
Народные мастера XVIII-XIX веков, ничтоже
сумняшеся, сводили Библию на бытовой уровень, не бо¬
ясь оскорбить священные образы. Поэтому их искусст¬
во не воспринимается как профанация, оно убеждает
современного зрителя своей обескураживающей прав¬
дой и искренностью переживания “местных мук и пер¬
мяцкой печали”.
Усть-сысольский Христос деревянный
С монголоидным круглым лицом
И усами, скуластый и странный,
Может верным служить образцом
Местных мук и пермяцкой печали,
Разведенных на камской воде.
Что за блеклые краски и дали!
А страданья примерно везде
Одинаковы, разве чуть глуше
На Урале они и темней.
Кто считает несчастные души
Среди бревен, болот и камней?
(А Кушнер)
Европейское искусство Возрождения восприни¬
мало Евангелие, прежде всего, как священную исто¬
рию, как остросюжетное повествование, как полное
драматизма “Жизнеописание” Иисуса Христа. Сюжет¬
но-повествовательный момент превалирует и в немец¬
ко-нидерландской скульптуре XV-XVI веков.
“Житийные” сцены рассчитаны на внимательное
разглядывание, в них множество деталей - трогатель¬
но-лирических в цикле детства Христа и драматичных -
в цикле страстей.
В некоторых чувствуются отголоски разыгры¬
вавшихся в храмах средневековых мистерий. Особен¬
но в сцене “Снятие со креста” (XV век), где исполни¬
тели сохраняют искусно поставленные позы, тща¬
тельно продуманные жесты и несколько утрирован¬
ную мимику.
Мастера Русского Севера события евангельской
истории изображали редко. Евангелия, которое в Евро¬
пе и особенно в Германии XVI века было настоль¬
ной книгой, в Сибири XVII-XVIII веков, да и позднее,
532
в XIX веке, практически не читали. Христианское
учение доходило до народа преимущественно в устном
изложении, чаще всего - в духовных стихах, в песнях
“калик перехожих” или нищих “Христа ради”.
Евангельские события, лишенные сюжетной кан¬
вы, смешивались с былинами, сказками, народными
поверьями, языческими верованиями. Да и сама Биб¬
лия, преображенная народной фантазией в “Голуби¬
ную книгу”, воспринималась как недоступная для про¬
чтения.
“Голубиная книга” - своеобразная фольклорная
Библия, - согласно народным поверьям, упала прямо с
неба либо, по другому варианту, с вершины растущего в
Раю кипариса.
Эта книга не малая,
Эта книга великая;
На руках держать - не сдержать будет,
На налой положить Божий - не уложится...
Писал эту книгу “сам Иисус Христос”, а прочи¬
тать ее было некому. Пытался прочитать Исай-про-
рок: “Читал он книгу ровно три года. // Прочитал из
книги ровно три листа”. Обратились к премудрому
царю Давиду Евсеичу (!). Однако и он отказался и
предложил пересказать содержание книги устно: “Я по
старой своей памяти // Расскажу вам, как по гро-
моте...”.
Можно себе представить, в каком преображенном
виде доходило содержание Священного Писания до со¬
здателей деревянной скульптуры Севера.
Главная ее тема - образ страждущего Христа. По¬
луобнаженный или одетый в мужицкий кафтан, сидя¬
щий Христос в терновом венце (который иногда заме¬
няли двумя сухими прутиками), покорно сложивший
руки на коленях или поднявший правую к лицу жес¬
том, выражающим не столько скорбь, сколько испуг,
удивление, растерянность. Такой Христос, похожий не
на евангельского Бого-человека, но на местного пер¬
мяцкого крестьянина, был самым понятным, самым
близким и потому самым почитаемым христианским
образом. И самым сакральным: ему не только истово
поклонялись, его оберегали от посягательств церкви, это
был культовый образ, отвергнутый, гонимый. Такого
Христа приходилось время от времени прятать в темных
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера
533
углах, в подвалах. По-видимому, с этим связан необыч¬
ный иконографический вариант “Христа в темнице”,
когда скульптуру помещали в “камеру” - закрытый
деревянный ящик с зарешеченным окошком. У некото¬
рых Христов-узников на ногах были кандалы, их при¬
ковывали к сиденью - странное сближение образа “за¬
прещенного” Христа с образом беглого каторжника.
Каторжников, нищих, убогих испокон веков считали
на Руси “несчастными”, верили, что Христос время от
времени спускается на землю в образе нищего (“Всю
тебя, земля родная, // В рабском виде Царь Небесный //
И сходил у благословляя”. - Тютчев).
Бытовое христианство, столь отличное от учено¬
го, гуманистического христианства европейского Воз¬
рождения, породило совсем особый мир образов. Даже
Распятие - закрепленный многовековой традицией
символ христианской веры и христианской церкви -
подвергалось фольклорному перетолкованию.
Главное в иконографии Распятия - размах рук
Христа. Распростертые, раскинутые в стороны руки со¬
храняют свою смыслоообразующую роль даже в тех
случаях, когда сам крест не сохранился. От трактовки
этого жеста во многом зависит образное прочтение изо¬
бражения: оно может восприниматься как знак триум¬
фа веры, либо как образ мученичества, либо как откры¬
тое всему человечеству объятие - залог спасения
(“Слишком многим руки для объятья // Ты раскинешь
по краям Креста”. - Б. Пастернак).
В русской народной скульптуре смысловой ак¬
цент часто переносится с распростертых рук Распято¬
го на его тело. Тело Христа, его волосы, брови, глаза
подвергаются орнаментализации. Орнамент в на¬
родном искусстве - это всегда носитель смысла, даже
вне зависимости от характера мотивов, он свидетель¬
ствует об особой семантической отмеченности изобра¬
жения. Во многих Распятиях торс Христа украшен
резным орнаментом в виде кругов, крестов, звездооб¬
разно расходящихся лучей; ребра часто уподоблены
ступеням восходящей лестницы; двумя полукруглы¬
ми линиями акцентирована грудь. Символика этих
мотивов трудно поддается расшифровке. Своеобраз¬
ным комментарием к ней могут служить стихи “Голу¬
биной книги”. В ней спрашивается, “от чего зачался
наш белый свет”.
534
И ответы:
А и Белый свет - от лица Божия,
Солнце праведно - от очей Его,
Светел месяц - от темечка,
Темна ночь - от затылочка,
Заря утренняя - от бровей Божьих,
Часты звезды - от кудрей Божьих.
По другому варианту: Белый свет - от Духа само¬
го Христа, Солнце - от лица Его, месяц - от грудей
Его, Зори - от очей Его.
Или еще: Буйны ветры от дыхания Божия, //
Дробен дождик от слезы Его, // Темны ночи от волос
Его. Судя по некоторым версиям “Голубиной книги”, в
роли Творца неба и земли выступает не Бог Саваоф, но
Христос, Царь Небесный. Если в фигурах сидящего
Христа-Страстотерпца происходит обытовление еван¬
гельского образа, то фигура Христа на кресте получает
мирообразующий, быто-космологический смысл.
Житийные сюжеты в народной скульптуре появ¬
ляются под впечатлением западной иконографии. И
как любой пришедший извне образец, подвергаются
активному творческому переосмыслению. Характер¬
ный для скульптуры европейского Возрождения драма¬
тизм сцены “Положения во гроб” обычно построен на
контрасте вынесенного на передний план, по-антично¬
му прекрасного обнаженного тела Христа - и охвачен¬
ной отчаянием многолюдной группы оплакивающих.
В пермской скульптуре этот сюжет утрачивает
эмоционально-драматическое звучание. На переднем
плане изображена не Богоматерь, рыдающая над мерт¬
вым Сыном, но тяжелая колода гроба, в которой Его
жесткое, застывшее тело условностью трактовки напо¬
минает Плащаницу, а вся сцена, с симметрично рас¬
ставленными фигурами, облаченными в строгие, спа¬
дающие однообразными вертикальными складками
одеяния, воспроизводит веками отработанный ритуал
плача по покойнику (“На кого-то ты нас оставляешь? //
На кого-то ты нас покидаешь?..”).
Столь же ритуальна и сцена на Голгофе. В скульп¬
туре Северного Возрождения, как правило, акценти¬
руется драматическая сторона евангельского текста:
“И шло за ним великое множество народа и женщин,
которые плакали и рыдали... И делили одежы Его, бро¬
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера
535
сая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же
вместе с ним и начальники, говоря: других спасал,
пусть спасет Себя Самого...” (Евангелие от Луки).
После смерти Христа: “Сотник же (Лонгин), видев про¬
исходящее, прославил Бога и сказал: истинно Человек
этот был праведник. И весь народ, сошедшийся на сие
зрелище,... возвращался, бия себя в грудь. Все же знав¬
шие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи,
стояли вдали и смотрели на это”.
В русской народной скульптуре предстоящие не
толпятся плотными группами у подножия креста, не
стремятся мимически перекричать друг друга, выра¬
жая свое отчаяние, не насмехаются, не дискутируют.
Они расставлены в установленном обрядом порядке,
по ранжиру и выражают чувства сдержанной жести¬
куляцией, не выходящей за пределы, установленные
русской иконографией. А также очень скупой, но за¬
хватывающе проникновенной мимикой, напоминаю¬
щей загадочную архаическую улыбку греческих кор и
куросов; лица предстоящих лишь чуть тронуты чув¬
ством в самом общем его выражении, когда в дрогнув¬
ших губах едва угадывается предчувствие готового
вырваться плача.
В северорусском пантеоне бытового христианства
второе после Христа место принадлежало Святому Ни¬
колаю Мирликийскому, которого народная традиция
переименовала в Николу Чудотворца Можайского. Это
был самый популярный и самый нужный, полифунк-
циональный святой. К нему можно было обратиться
с любой просьбой: “Просим у святого все Божьей ми¬
лости. // В бедах и напастьях ты, свет, сохраняешь, //
В лесе заблудших на путь направляешь, //Во тюрьмы
сидящих всегда посещаешь, // В болезни лежащих ты,
свет, исцеляешь”.
Никола - добрый и милостивый, говорили о нем,
“Никола - скорый помощник”, неустанный работник.
Не случайно, вплоть до XIX века его регулярно снабжа¬
ли обувью, считая, что он ее быстро изнашивает в своих
постоянных хлопотах. Никола обычно изображался во
фронтально-иератической позе, с симметрично разве¬
денными в стороны руками, повторяющими властный
и одновременно покровительственный жест ветхозавет¬
ного Бога Саваофа. Он - с лицом крестьянина, с обя¬
зательной окладистой бородой. Без бороды русский на¬
536
род не мыслил себя святого: “Образ Божий в бороде и
подобие в усах”, “Без бороды и в Рай не пустят”, - гово¬
рили в народе. У Саваофа, представленного на выстав¬
ке, огромная седая борода - знак его могущества.
В русской народной скульптуре, наряду с темой
сочувствия к страдальцам, обездоленным, нищим, в об¬
разе которых представал и сам Христос, безвинно при¬
гвожденный “мучителями” к кресту (“В руки, в ножки
гвоздики вбивали, // На буйну головку терновый венец
надевали”), неизменно присутствует нарядная утеши¬
тельность. Не только в обилии цвета, расписного и
резного орнамента, но и в пристрастии к изображению
ангельских и архангельских ликов, во множестве паря¬
щих фигур, трубящих в трубы и поющих, в развеваю¬
щихся, часто позолоченных одеждах, в плеске ангель¬
ских крыл.
В народных духовных стихах ангелы всегда ста¬
раются принести утешение. Когда Мария причитала
над телом Христа, к ней явились два ангела, чтобы ее
утешить, они предупредили, что ее Сын воскреснет. Да
и сам Христос на вопль матери: “На кого ты меня, чадо,
оставляешь?” отвечает ей с креста: “На третий день,
мати, воскресну, // Сам к тебе, мати, с небес сойду”.
Экспозиция выставки завершается серией ангель¬
ских фигур, выполненных уже в конце XIX столетия
мастером Кирьяновым. Они похожи на нарядно распи¬
санные деревянные игрушки - и в то же время, в сме¬
лом нарушении пропорций, в лаконичной знаковости
жестов непомерно больших рук, в скованности суро¬
вых, грубо вырубленных лиц, лишенных всякого вы¬
ражения и именно поэтому обладающих почти агрес¬
сивной силой воздействия, - проступают черты древ¬
них идолов.
Скульптура Северного Возрождения - и русская
народная скульптура являют собой два обособленных
художественных феномена. И эта их особость, своеоб¬
разие художественного языка и воплотившегося в них
мировидения - одно из наглядных свидетельств веч¬
ности евангельских сюжетов, на протяжении двух
тысячелетий подвергавшихся в искусстве самому реши¬
тельному перетолкованию. Каждая эпоха, каждая на¬
циональная культура по-своему прочитывала Еванге¬
лие, помещая его в свою историческую, социальную,
географическую среду, в свои природные условия, и
О выставке деревянной скульптуры Русского Севера
537
создавала свой образ Христа-Вседержителя, Христа
во Славе. Но чаще - Христа Страстотерпца, подвергае¬
мого насилию, унижениям, побоям, крестным пыткам,
Христа, медленно умирающего, убитого. Чаще - пото¬
му что такой Бог ближе, человечнее, потому что “Бог -
немощный и слабый - все равно остается Богом! Богом
от людей”. Так написал в 1974 году Юрий Домбров¬
ский, один из тех - многих и многих - кто прошел “кре¬
стным путем” через тюрьмы и лагеря нашего, XX века.
“В дорогу
жизни
снаряжая...”
О теме пути
в русской
литературе
Путь, дорога - один из древней¬
ших мифопоэтических образов;
представление о пространстве не¬
расчленимо слито в нем с пред¬
ставлением о времени. Путь из¬
мерялся не только пройденным
расстоянием, но и количеством
часов, дней, месяцев, часто - лет
(дорога дальняя - долгий путь).
Образ пути соединял в себе
переживание основных - про¬
странственных и временных -
параметров ориентации человека
в мире, в нем можно видеть свое¬
образную модель специализации
категории времени.
Путь - это также мифоло¬
гема человеческой жизни, ее
продолжительности/протяжен-
ности, это - длина той нити, ко¬
торую выпрядали античные Пар¬
ки и обрезали ее, останавливая
время, отпущенное человеку,
обрывая его жизненный путь.
Время, потраченное на пряде¬
ние, измерялось длиной спря¬
денной нити.
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Ф. Тютчев
Путь может быть не только прой¬
денным, но и прожитым. И так
же, как пройденный путь делил¬
ся на отдельные, качественно
различные отрезки простран¬
ства - поле, лес, горы, места
опасные и безопасные, так и про¬
житый путь делился на каче¬
ственно отличные отрезки вре¬
мени - младенчество, отрочество,
539
юность, зрелость, старость. Владимир Мономах пишет
“Поучение” сыновьям своим, “на дальнем пути, на са¬
нях сидя”. Этот путевой образ, по древним славянским
верованиям, означал старость, ожидание смерти пере-
хода/переезда на “тот свет”. Сани были сязаны с погре¬
бальным обрядом, со снаряжением умершего в дорогу,
с проводами его в последний путь (умереть - значило
отойти).
В христианстве формируется представление о
пути духовного, нравственного самосовершенствова¬
ния. “Я есмь путь, - произносит, согласно Евангелию,
Христос, указывая людям путь спасения. - Я есмь вра¬
та, прошедший через меня спасется”.
В новое время складывается представление о пути
исторического развития. Распространенные выраже¬
ния: “ход истории”, “даль времен” - являют собой мета¬
форы, в которых на хронологию переносятся простран¬
ственные характеристики.
Тема пути особенно значима была для России, с ее
неизмеримыми просторами и бездорожьем. Издавна
земля на Руси была исхожена путниками, паломни¬
ками, “каликами перехожими”, пешими лучниками;
истоптана конскими копытами, исчерчена полозьями
саней зимой, изрыта колеями от колес летом. “Как рас¬
плачется и растужится // Мать сыра земля перед Гос¬
подом. // Тяжело мне, Господи, под людьми стоять, //
Тяжелей того людей держать...” - жалуется Земля в
одном из народных стихов - переложении священных
апокрифических текстов.
В русских летописях, говорится ли в них о по¬
ходах князей или о прибытии иноземных послов, не¬
изменно употребляются слова пошел или пришел
(“и пошел князь со дружиной...”, “и пришли на Русь
послы...”). В XV веке монахи Троицкого монастыря,
напутствуемые Сергием Радонежским, отправлялись
пешком на север, создавали там “пустыни”, основыва¬
ли монастыри. Такие “хождения” могли длиться меся¬
цами, а в чужие страны - так и годами.
Пешее хождение было не только способом пере¬
движения, но также и актом благочестия - замалива¬
нием грехов, духовным очищением. Чем дальше путь,
чем он дольше, тем доходчивее молитва. Часто совер¬
шались коллективные хождения к святым местам
“профессиональными” паломниками - каликами пере¬
540
хожими. “Ходиша из Великого Нова-города от Святой
Софии 40 муж калицы ко граду Иерусалиму ко Гробу
Господню”, - говорится в летописи XII века. О каликах
сохранились и более поздние свидетельства в народных
стихах:
А идтить нам, братцы, дорога не ближняя -
Идти будет ко граду Иерусалиму,
Святой святыне помолитися,
Господню гробу приложитися,
Во Ердань-реке искупатися,
Нетленною ризою утеретися,
Идти селами и деревнями,
Городами теми и пригородками...
Сорок калик с каликой
Дороги были трудными, опасными, даже когда
ехали на лошадях или водным путем. “Три года ехали
из Диур, - пишет в своем “Жизнеописании” сосланный
в Сибирь протопоп Аввакум, - а туда волокся пять лет
против воды... Приехав в Тобольск, сказывал; ино
люди дивятся тому, понеже всю Сибирь башкирцы с
татарами воевали тогда. А я, не разбираючи, уповая на
Христа, ехал посреди их... Христос меня пронес, и пре¬
чистая Богородица провела”. Это XVII век. Мало что
изменилось и в следующем столетии. Княгиня Наталья
Борисовна Долгорукая, также сосланная в Сибирь, рас¬
сказывает в своих “Своеручных записках”: “Однажды
что случилось: погода жестокая поднялась... и бьет нас
жестоко. Якорь бросили среди реки - не держит, ото¬
рвало и якорь... Тогда я думаю, что свету представ¬
ления... только Господь милосердием своим спас наш
живот. У работников была икона Николы Чудотворца,
которую вынесли на палубу и стали молитца; тот же час
стал ветер утихать и землю перестало рвать. И так нас
Бог вынес”.
Путные иконы - это иконы, которые брали с со¬
бой в путь; писанные на досках, но чаще меднолитые,
одноцветные или украшенные цветными эмалями; об¬
разки, которые носили на груди, складни и целые пор¬
тативные иконостасы. Их легко было установить в
любом месте, им молились, перед ними можно было со¬
вершать богослужения - дорога длинная, долгий путь.
В XV веке послы великого князя Ивана III добирались из
Москвы в Венецию за год, а то и - преодолевая разного
О теме пути в русской литературе
541
рода препятствия - за несколько лет. Постепенно сроки
сокращались, ехали месяцами; старушка Ларина, как
известно, добиралась из своего имения до Москвы пять
суток. Трудно сказать, брали ли с собой в дорогу икон¬
ные складки современники Пушкина, но небольшие об¬
разки, которые можно повесить на шею, - брали. До¬
статочно вспомнить сцену из “Войны и мира”, где
княжна Марья упрашивает отправляющегося на войну
брата повесить на шею образок.
В русской низовой культуре тема пути-дороги со¬
храняет свое обрядовое значение вплоть до XIX века.
Сохраняется и роль путной иконы.
Русский фольклор отразил множество мотивов и
ситуаций, связанных с темой дороги; чаще всего они
грустные, даже когда приурочены к свадьбе, к прово¬
дам невесты под венец. Дорога в народных стихах и пес¬
нях - почти всегда уход, расставание и почти никогда
или крайне редко - приход, возвращение; дорога уво¬
дит, а не приводит, она направлена в чужое, неизвест¬
ное. Как во всяких проводах, в дороге всегда есть что-то
тоскливое, тревожное, пугающее, горькое. Особенно в
проводах на “тот свет”, в “трудный путь”, “за леса, за
дремучие”, где “ветры не провевают”, “нет проезду туда,
на ступистых лошадках, нет проходу во темных лесах
дремучих”, где умерший должен переправиться через
“Забыть-реку”, сопровождаемый святым Николаем
или архистратигом Михаилом.
В XIX веке в народных стихах возникает тема
проводов новобранца:
Ты справляйся, молодец, да поскорешеньку,
У крыльца стоят ступистые лошадушки,
Отправляйся в путь широкую дороженьку...
По пути да по широкой по дороженьке
Добрый конь нон-ко идет да спотыкается,
И лошадина глава да принаклонена,
Бедный молодец слезами умывается!
Он снимает-то с головушки тут шапочку
И на все на три-четыре на сторонки поклоняется
И с любимой своей родинкой прощается...
От напастей в пути существовали молитвы-заго¬
воры, они могли произноситься при проводах, записки
с такими молитвами в ладанках вешали на шею рядом
с нательным крестом:
542
Сохрани и помилуй
При пути, при дороге,
При темной, при ночи!
От бегучего от зверя,
От ползучего от змея,
Сохрани его, Господь Бог!
Известна молитва, обращенная к Святому Нико¬
лаю - главному защитнику и покровителю находящих¬
ся в пути:
Святитель, отец наш Микола...
В бедах и напастях ты, свет, сохраняешь,
По морю плаваешь, свет, врагов прогоняешь,
В лесе заблудших на путь наставляешь ...
Икону Святого Николая - “скорого помощника” -
чаще всего брали с собой, отправляясь в путь.
И жизнь уж нас томит,
как ровный путь без цели...
М. Лермонтов
В русской литературе XIX века тема пути как об¬
раз, как метафора в различных ее гранях и смысловых
аспектах звучит с особой интенсивностью. Это и щемя¬
щие мотивы народной песни: “Что-то слышится род¬
ное // В долгих песнях ямщика, // То раздолье удалое, //
То сердечная тоска...”
Это и дорожная скука, утомительное однообразие
долгого пути: “Ни огня, ни черной хаты... // Глушь да
снег... Навстречу мне // Только версты полосаты // По¬
падаются о дне...”
Это и угроза таящейся в пути непредвиденной
опасности: «Кони стали... “Что там в поле? // ...Кто их
знает? Пень иль волк?”»
Это и дорога в неведомое: “Страшно, страшно по¬
неволе // Средь неведомых равнин”.
Это и возможность сбиться с пути - с пути правед¬
ного и попасть на путь неправедный: “Сбились мы. Что
делать нам? // В поле бес нас водит, видно. // Да кру¬
жит по сторонам...”
Все эти мифопоэтические образы народных пред¬
ставлений о пути-дороге в дорожных стихотворениях
О теме пути в русской литературе
543
Пушкина становятся лирической исповедью, иносказа¬
тельным повествованием о перипетиях его собственной
судьбы.
В пушкинском стихотворении “Телега жизни”
возникает обобщенный метафорический образ челове¬
ческой жизни, где мелькающие версты отождествляют¬
ся с пролетающими годами, а фигура ямщика приобре¬
тает мифологизированный облик всесильного Времени,
которое “гонит лошадей”.
В стихах русских поэтов первой половины XIX века
возвышенно поэтический образ пути часто уступает
место бытово-сниженному образу дороги с ее нарочито
прозаической атрибутикой:
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас.
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.
Поэтическая выразительность этого грустного
стихотворения Баратынского в значительной степени
построена на контрастном сопряжении двух стилисти¬
чески отличающихся друг от друга словесных рядов:
“сны золотые”, “судьба благая”, “сыны, безумцы” -
традиционный язык высокой поэзии; и в непосредст¬
венном сочетании с ними нарочито прозаические слова
и выражения: “снаряжая в дорогу”, “кормча”, “путе¬
вые прогоны”. И - так же, как у Пушкина - в пределах
одной фразы взаимоотождествление пространства и
времени: “годы почтовые довозят”.
У Лермонтова дорога связана с переживанием
глубокого, онтологического одиночества поэта, ощу¬
тившего себя с глазу на глаз с миром:
Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно,
Спит земля в сиянье голубом ...
Торжественная красота пустынной земли и звезд¬
ного неба, залитая лунным светом пустынная доро¬
544
га рождает образ “свободы и покоя”, которых жаждет
поэт.
Несколько десятилетий спустя в стихотворении
Блока возникает та же пустынная дорога, тот же ноч¬
ной туман, но в совершенно иной тональности:
“Мне путь один - в сыром ночном тумане // Доро¬
га вдаль”. Дорога, теряющаяся не в “сиянье голубом”,
но в “сыром ночном тумане”; пустынная дорога не как
залог “свободы и покоя”, но как трагедия безнадежнос¬
ти и безысходного отчаяния.
И завершение этой темы, ее разрешение - в стихо¬
творении Вячеслава Иванова: дорога как поиски пути
к Богу:
Иди, куда глядят глаза,
Пряма летит стрелой дорога.
Простор - предощущенье Бога
И вечной дали бирюза.
Века шагают к славной цели,
Я вижу их; они идут...
В. Кюхельбекер
Уже к середине XIX века в русской литературе все
отчетливее начинает звучать тема дороги как метафоры
сложных путей, которыми движется история. “Какие
искривленные, глухие, узкие, непроходимые, занося¬
щие далеко в сторону дороги избирало человечество... -
размышляет Гоголь, - тогда как перед ним весь был
открыт прямой путь ... Всех других путей шире и рос¬
кошней он, озаренный солнцем ... но мимо его в глухой
темноте текли люди. И сколько раз ... они ... умели от¬
шатнуться и сбиться в сторону (пушкинское: “Сбились
мы. Что делать нам?”) и влачась вслед за болотными
огнями ... добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом
спросить друг друга ... где дорога?”
Эти мучительные раздумья Гоголя завершаются
надрывно восторженным гимном русской тройке, слов¬
но родившейся из тяжело громыхавшей “Телеги жиз¬
ни” Пушкина: “Эх тройка! птица тройка, кто тебя вы¬
думал?.. Не так ли ты, Русь, что ... необгонимая тройка
несешься?., летит все что ни есть на земли, и косясь,
постораниваются и дают ей дорогу другие города и госу¬
дарства”.
О теме пути в русской литературе
545
Полвека спустя, на рубеже столетий у Блока тема
исторического пути России получает трагичное, почти
апокалиптическое - и одновременно глубоко личное -
звучание:
О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!..
Наш путь - степной, наш путь в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!..
И нет конца! Мелькают версты, кручи... Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится.
Плачь, сердце, плачь ...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
Гоголевский образ мчащейся по дороге тройки
сменяется у Блока образом дикой неуправляемой скач¬
ки степной кобылицы - и вечного боя, ночной мглы,
крови, плача ...
Ответом на революционный взрыв 17 года про¬
звучала блоковская поэма “Двенадцать”, где возника¬
ет образ ритуального шествия: двенадцать (красноар¬
мейцев? апостолов?) “вдаль идут державным шагом”,
“вьюга пылит им в очи”, а “впереди - с кровавым фла¬
гом, // И за вьюгой невидим” - образ того, кто их
ведет, кто возглавляет этот “державный шаг” исто¬
рии. Христа?
Отлетай ... самолетом молчанья
в пространстве мгновенья...
И. Бродский
XIX век, по словам Иосифа Бродского, - “послед¬
ний в истории период, когда действительность количе¬
ственно представала в человеческом масштабе... когда
отношения с пространством основывались на ширине
шага”. Собственно, XIX веком завершается метафорика
пешего, конного пути-дороги, “хранящей след босой
ступни Христовой” (Борхес) и копыт его осла; дороги,
которую “топтал пятой, строгали подошвой”, “дороги
пыльной, но которая вела до Бога” (Д. Самойлов).
546
Хотя паровоз был изобретен уже в первой полови¬
не XIX века, однако вплоть до конца столетия поезд
воспринимался как удобное средство передвижения, не
связанное с образом пути в его физическом и духовном
“делании”.
В следующем, XX столетии, метафора пути-доро¬
ги с ее взаимоолицетворением категорий пространства
и времени вытесняется метафорой скорости, где время
отрывается от пространства (“пространство пятится,
точно рак, пропуская время вперед” - И. Бродский)
и становится главным, если не единственным, способом
измерения пути. Образным воплощением скорости как
все убыстряющегося развития - но не истории, а циви¬
лизации - становится поезд, паровоз. Затем, через не¬
сколько десятилетий его вытесняет самолет, еще более
соотносимый с идеей скорости. И тогда человек оконча¬
тельно отстраняется от активного участия в процессе
перемещения в пространстве, от переживания самой
категории расстояния, поскольку значимым для него
оказывается лишь пункт отлета и пункт прилета, а до¬
рога исчисляется не в километрах, но в летных часах.
Путь в самолете воспринимается как чистое время -
и как высота, то есть полная оторванность от земли.
Путь в его “пешем” аспекте, переживание самого
процесса движения по земле как единого простран¬
ственно-временного действа сохраняется в XX столетии
лишь в традиционно обрядовом значении парада, мани¬
фестации, похоронного шествия. Эти реликтовые цере¬
мониальные формы в значительной степени утрачи¬
вают внутреннюю связь с многовековой символикой
пути.
“Исполнилась
полнота времен...
О теме
Страшного суда
в европейском
искусстве
“Можно быть атеистом... и в
то же время знать, что человек
живет не в природе, а в исто¬
рии и что в нынешнем пони¬
мании она основана Хрис¬
том... Истории не было у древ¬
них... там была хвастливая
мертвая вечность бронзовых
памятников и мраморных ко¬
лонн. Века и поколения толь¬
ко после Христа вздохнули
свободно. Только после него
началась жизнь в потомстве, и
человек умирает не на улице
под забором, а у себя в исто¬
рии...”
(Б. Пастернак
* * *
Согласно Ветхому Завету, мир
начинался с сотворения его как
природного организма, сотворе¬
ния действием: Бог создал небо,
землю, воду, свет отделил от
тьмы, создал растения, живот¬
ных, лепил из глины человека...
В начале античной мифоло¬
гии всегда оказывалась борьба,
напряженное, требующее огром¬
ных физических усилий действие.
Одни боги сбрасывали других с не¬
бес, кто-то из богов кого-то погло¬
тил, кто-то кого-то породил. В ос¬
нове античной религии была борь¬
ба богов, как борьба природных
сил. Это Греция.
“Рим был толкучкою заим¬
ствованных богов и завоеванных
народов, давкою в два яруса, на
земле и на небе... И вот в завал
этой мраморной и золотой без¬
вкусицы пришел легкий и оде¬
тый в сияние, подчеркнуто чело¬
веческий...” (Б. Пастернак).
548
Новозаветная христианская религия началась не
с физического действия, но со Слова, она не сотворя¬
лась, она была провозглашена. И не в сумраке природ¬
ного бытия, но при свете истории, на глазах как верую¬
щих, так и неверующих. “Он жил среди нас, мы знали
Его”, - говорили об Иисусе ученики. Согласно Еванге¬
лию, его видели также и те, кто не верил, - его враги и
преследователи. Христианство имеет маркированное
начало, точку отсчета, дату, с которой ведется наше ле¬
тосчисление2.
Новый Завет был провозглашен как цель, как за¬
дача, для осуществления которой необходимо постоян¬
ное активное духовное “делание”, постоянное усилие,
постоянное напряжение: “Христианами не рождаются,
христианами становятся” (Тертуллиан, конец II - на¬
чало III века). В начале новой религии был заложен им¬
пульс для дальнейшего активного развития - для пре¬
образования мира (и внутреннего самопреобразования
человека), стимул для исторической активности.
Развитие христианской цивилизации имело от¬
четливый вектор, направление к определенной цели -
к “концу времен” (“если было начало, не сомневайся о
конце”). Когда исполнится “полнота времен” - совер¬
шится Страшный суд. Последний, справедливый суд,
который, однако, не будет окончательным концом, но
таким концом, за которым последует новое начало -
“будет новая земля и новое небо”. Грешники будут
осуждены, праведники войдут в новое царство спра¬
ведливости, где “последние будут первыми”. Однако -
это новое царство может наступить только после того,
как старый мир будет разрушен окончательно, до осно¬
вания.
Идея последнего справедливого суда и построе¬
ния нового мира сыграла важную роль в европейской
истории, породив множество социально-политичес¬
ких концепций, в большинстве своем - утопических.
Весь двухтысячелетний путь христианской цивили¬
зации окрашен постоянным, нетерпеливым ожида¬
нием - стремлением заглянуть вперед, за горизонт,
в будущее3. Эта модель исторического развития рабо¬
тала две тысячи лет и продолжает работать, пусть в из¬
мененном виде, и в наши дни. И сейчас весь мир замер
в напряженном ожидании последней, страшной ката¬
строфы:
О теме Страшного суда в европейском искусстве
549
Настанет день, настанет час,
Низвергнется мертвящий газ,
Громада непонятной пыли...
Ужели Бог отвергнет нас
И мир забудет, что мы были?
(С. Липкин)
И в надежде преодолеть ее. Словом, в ожидании “но¬
вой земли и нового неба” всемирного сообщества, где
“последние” если и не станут “первыми”, то, во всяком
случае, средними, а “последних” вообще не должно
быть...
Средневековые люди Страшного суда ждали по¬
стоянно, ежечасно. “О дне же том и часе никто не знает, -
говорится в Евангелии от Матфея. - Потому и вы будь¬
те готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий”. Это ожидание становилось особенно на¬
пряженным в некоторые круглые даты, например, в
конце первого тысячелетия, когда население Европы
было настолько уверено в наступлении “последних
дней”, что люди оставляли неубранными поля, прекра¬
щали всякую хозяйственную деятельность, вся обыч¬
ная повседневная жизнь оказывалась парализованной.
В ночь на 31 декабря 999 года римский папа Сильвестр II
отслужил “последнюю” мессу в соборе Св. Петра в
присутствии огромных толп верующих. По окончании
мессы воцарилось гробовое молчание... Нужно сказать,
что обманутые ожидания в ряде случаев способствова¬
ли вспышке ересей.
Ждали Страшного суда и в середине XIV века,
когда в Европе свирепствовала чума, унесшая почти
треть населения. “Чем больше я оглядываюсь назад и
пристально наблюдаю за землей, и притом хочу загля¬
нуть вперед - [тем больше] кажется, понимаю, что мир
приблизился к своему концу; и боюсь, что тот, кто дол¬
жен протрубить, уже взял трубу в руку и собирает кус¬
ки [плоти] воедино, дабы каждая душа предстала в те¬
лесной оболочке” (Саккетти, 1385).
Постоянное духовное напряжение заставляло лю¬
дей средневековья во всех сколько-нибудь необычных
явлениях природы - особенно тех, что происходят на
небе (затмение солнца, луны, падение звезд, зарницы), -
усматривать “знамения” - предвестия скорого “свето¬
550
преставления”. В русских летописях отразилось это со¬
стояние людей, постоянно смотревших на небо со стра¬
хом и надеждой.
“Наши убо противу пятка осветися град весь... ви-
деша у великиа церкви Премудрости Божия у верха из
окон пламенню огненну велику изшедшу и окружившу
всю шею церковную на долог цас, и собрався пламень в
едино переминися, и бысть яко свет неизреченный, и
абие взятся на небо... свету же онему, достигшу до не¬
бес, и отверзошася двери небесные и, прият свет, паки
затворишеся” (это о Царьграде, 1453 год). И о Москве:
“...Бысть туча страшна и грозна вельми и темна... и
вихор страшен бе... молния же стольо велика: земля бо
и храмы вси яко пламень видяхосе” (1460). “...B 12 ча¬
сов дни... бысть затмение в солнци: явися круг на небе-
си.. .” (1476)4.
В средние века Страшный суд изображали и в
иконах, и в миниатюрах, и в скульптуре, и в стенных
росписях храмов. Иногда в сокращенном варианте, в
виде отдельных сцен. Часто - это фигура трубящего
ангела, возвещающего начало Страшного суда, как, на¬
пример, в миниатюре XI века, где ангел представлен
на фоне ярко-синего неба со звездами, затмившимся
солнцем и луной и огромной птицей с раскинутыми
крыльями. В средневековых храмах, особенно роман¬
ского периода, рельефы со сценой Страшного суда по¬
мещали на наружной стене в тимпане над западным
порталом. Почти все поле рельефа обычно занимает в
них фигура Христа-Судии, восседающего на престоле в
окружении ангелов. Каждый, шедший в храм, прохо¬
дил под этим изображением (“все под Богом ходим”).
Сакральный смысл этой композиции раскрывался че¬
рез евангельское речение Христа: “Я есмь врата, вошед¬
ший через меня, спасется”. Переступивший порог хра¬
ма получал надежду на прощение на Последнем,
Страшном судилище.
В иконах и, особенно, в настенных росписях
Страшный суд изображали в виде развернутого зрели¬
ща со всеми подробностями, описанными в “Открове¬
нии” Иоанна Богослова, сочиненном, как сейчас счита¬
ют, в 90-х годах н. э. на основе Патмос. Кроме того, на
сложение иконографии Страшного суда оказало влия¬
ние ветхозаветное Видение пророка Даниила, а также
О теме Страшного суда в европейском искусстве
551
некоторые апокрифические сочинения, особенно Еван¬
гелие от Никодима. Картина будущего предстает Иоан¬
ну Богослову как видение: “...дверь отверста на небе,
и... голос, который я слышал, как звук трубы... сказал:
взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть...”
Перед ним развертываются грандиозные картины бит¬
вы небесного воинства с армией сатаны, победы анге¬
лов, второго пришествия Мессии, рая и ада. О начале
этого действа возвещает ангел, летящий “посреди неба”
и повторяющий громким голосом: “Горе, горе, горе
живущим на земле”. Согласно одному из апокрифичес¬
ких текстов, «ангелы воскликнут голосом великим:
“Услышь, земля, и крепись! Я сегодня спускаюсь на
тебя. Говорит Господь Бог”. Так будет сказано, и слы¬
шен будет голос тот от востока до запада» (“Открове¬
ние” Мефодия Потарского).
В Апокалипсисе развертывается картина всемир¬
ной экологической катастрофы: “большая гора, пылаю¬
щая огнем, низверглась в море... упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику... имя сей звезде
ПОЛЫНЬ... И всякий остров убежал и гор не стало ...и
солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась,
как кровь”. Появились разного рода животные и насе¬
комые-мутанты, огромных размеров саранча, которая
“по виду своему... была подобна коням... на ней были
брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от ко¬
лесниц, когда множество коней бежит на войну... у ней
были хвосты, как у скорпионов...”
Примером подробной иконографии Страшного
суда может служить новгородская икона XV века. Ком¬
позиция развертывается в ней сверху вниз, ярусами,
согласно средневековой иерархии: от небесного - к зем¬
ному и от правой по отношению к Христу и, соответ¬
ственно, левой по отношению к зрителю, “праведной”
стороны - к левой, “неправедной”; строго упорядочен¬
ная ценностная структура средневекового мироздания,
которое строилось по формуле креста. Его вертикаль
символизировала ось мира, “лествицу”: поднимаясь по
ней, душа могла достичь Бога; горизонтальная пере¬
кладина означала простираемость мира земного; их
пересечение - объединение небесного и земного, жизни
и смерти. “Прежде деревянного Креста воздвигнут был
целому миру мысленный Крест, в сердце которого со¬
прикасаются четыре части вселенной и сила которого...
проходит в четыре части” (Василий Великий)ъ.
552
На самом верху иконы изображена полуфигура
Бога Саваофа в окружении небесных сфер. Во втором
ярусе в центре - фигура “Христа во славе” - на троне,
в сиянии; по правую руку от Него - стоящая фигура
Богоматери, по левую - Иоанн Предтеча; у подножия
трона - коленопреклоненные Адам и Ева. По сторо¬
нам - апостолы на седалищах. В верхнем “праведном”
углу иконы представлен рай небесный, соответственно
в “неправедном” углу изображена гора Голгофа и анге¬
лы, сворачивающие свиток небес в знак того, что исто¬
рия земная завершилась - “ангел поднял руку свою к
небу и клялся, что времени больше не будет... И небо
скрылось, свившись, как свиток... и звезды небесные
пали на землю”. Один из ангелов сталкивает вниз чер¬
ный диск “тьмы”, поскольку “ночи больше не будет”.
В центре композиции, под фигурой “Христа в Си¬
лах” изображена “Гетимасия” - “престол уготованный”
для Христа-Судии: “Он придет и воссядет и будет су¬
дить живых и мертвых”. На престоле - Книга Бытия, в
которой записаны имена всех людей - живых и умер¬
ших. Непосредственно под престолом изображена “Дес¬
ница Господа”, держащая “весы духовные”, которые
определяют “меру дел человеческих”, и не только дел,
но и слов - “за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день Суда: ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься” (Евангелие
от Матфея). В процессе взвешивания происходит схват¬
ка дьяволов с ангелами, которые пытаются перетянуть
каждый в свою сторону чаши весов, борясь за взвеши¬
ваемую душу человеческую.
К Христу, восседающему на престоле, Св. Петр и
Св. Иоанн Богослов подводят толпы праведников и
грешников. Обращаясь вправо, к праведникам, Христос
произносит: “Приидите благословенные Отца Моего,
наследуете уготованное вам царствие”. Обращаясь
влево, к грешникам: “Идите от Мене проклятии во
огнь, уготованный дьяволу и ангелом его” (Евангелие
от Матфея).
Ниже, в левой, “неправедной” части композиции
представлена Земля, окруженная Морем, и четыре ан¬
гела, стоящие “на четырех углах земли”, которые удер¬
живают “четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни
на землю, ни на море” и не мешал им отдавать своих
мертвецов. Мертвые поднимаются из могил, окутанные
О теме Страшного суда в европейском искусстве
553
в саваны, а тех, которые утонули в море и были съеде¬
ны рыбами, рыбы извергают из своих желудков, чтобы
умершие могли обрести прежний вид и предстать перед
Божьим судом.
В одном из апокрифических текстов подробно
рассказывается о том, как это произойдет: архангелы
Михаил и Гавриил в полночь затрубят в рога баранов,
“и от звука того затрясется земля, и тогда человеческие
[останки] в гробах скрепятся, как паутиной. И опять за¬
трубят в то время, когда поют петухи. И тела мертвецов
восстановятся. И тогда же затрубят архангелы перед за¬
рей, тогда поднимется от востока и до запада всякая
прежде умершая человеческая плоть... (“Откровение”
Мефодия Потарского).
В изображение Страшного суда включено “Виде¬
ние” старозаветного пророка Даниила: круг, в котором
заключены четыре “погибельных царства”: Вавилон¬
ское (медведь), Македонское (грифон), Персидское
(лев) и Римское (рогатый зверь). В нижнем “неправед¬
ном” углу иконы помещается “геена огненная” - сидя¬
щий в аду Сатана, который держит на коленях самого
страшного грешника - Иуду, а под ним, у самого края
иконы - котлы адские, предназначенные для разного
рода мучений. В “праведной” части иконы дважды
представлен Рай - как “Лоно Авраамово” и как “Рай¬
ский сад Богоматери”6. Внутри этого райского сада,
тесно прижавшись к его правой “стене”, представлена
полуобнаженная фигура благочестивого разбойника с
крестом на плече - святого Раха. Трогательная история
этого раскаявшегося разбойника описана в апокрифи¬
ческом Евангелии Никодима: это был “муж худой и
умиленный. Нес он на плече своем знамение крестное”.
Рах рассказывает: «И дал Он [Иисус] мне это знамение
крестное, говоря: “Это неси и иди в Рай. Если не впус¬
тит тебя ангельский стражник рая внутрь войти - пока¬
жи ему знамение крестное и скажи ему, что Иисус... ко¬
торый на кресте распят был, послал тебя...”» (страж его
впустил) «и посадив меня направо в раю, сказал: “По¬
смотри, как войдет весь род человеческий”». Неканони¬
ческое Евангелие Никодима, обнаруживающее несом¬
ненное влияние народных верований, пользовалось
особой популярностью на Руси. В иконах Страшного
суда, особенно русских, несомненно влияние фолькло¬
ра, как словесного, так и изобразительного, не говоря
554
уж об их ярком нарядном колорите. Так, в новгород¬
ской иконе XV века по всему полю иконы извивается
огромный красочный змей-искуситель, который хвос¬
том упирается в адский пламень, а головою с жалом -
в пяту Адама, склонившегося перед престолом Христа-
Судии. На змеином теле множество цветных колец, обо¬
значающих “мытарства” (положенное за особо тяжкие
грехи); вокруг них роятся, подобно мужам, черные
чертенята, которых отгоняют ангелы. Очень поучи¬
тельна также обнаженная мужская фигура внизу ико¬
ны, привязанная к столбу, поставленному между раем
и адом. Это “благочестивый блудник”, для которого нет
места ни в раю (поскольку блудник), ни в аду (посколь¬
ку благочестивый).
С темой Страшного суда связано популярное на
Руси “Хождение Богородицы по мукам”. В нем пове¬
ствуется о том, как Богоматерь была вознесена “на вы¬
соту небесную”, чтобы заступиться перед Христом за
грешников, испросить им помилование. Богоматерь
обратилась за поддержкой к архистратигу Михаилу,
ко всем святым и ангелам, и тогда “упали ниц все не¬
бесные силы и все чины бесплотных”, и Христос возве¬
стил: “Слушайте все... [я] сошел на землю и воплотил¬
ся, взошел на крест, чтобы освободить людей от нево¬
ли и первородного проклятия. Я просил воды, а мне
дали желчи, смешанной с уксусом. Своими руками я
создал людей, а люди в гроб положили меня. Я же в ад
сошел и врага своего победил. Я избранных своих вос¬
кресил и Иордан благословил, чтобы вас освободить от
первородного проклятия. Вы же пренебрегли покая¬
нием в своих грехах. Христианами вы были только по
названию и заповедей моих не соблюли... Я не должен
вас помиловать...” Но по молитве Матери своей и ар¬
хистратига Михаила Христос дал мучающимся в аду
грешникам отдых “от Великого четверга до Святой
Пятидесятницы”.
Иконография Страшного суда во многом перекли¬
кается с изображением “Сошествия во ад”. Иконы на
этот сюжет заменяли в праздничном ряду иконостаса
“Воскресение”, в русской средневековой иконописи не
принятое. В Иконе “Сошествие во ад” изображается по¬
беда Христа и его небесного воинства над адом, осво¬
бождение из ада ветхозаветных праведников, не знав¬
ших Христа, воскресение мертвых, торжество Христа
О теме Страшного суда в европейском искусстве
555
над Сатаной и его воинством. Христос выступает здесь
не в роли судии, но в роли победителя. Мотив, перекли¬
кающийся с последним, завершающим актом Апока¬
липсиса.
Это событие очень темпераментно и красочно опи¬
сывается в апокрифическом Евангелии Никодима.
Евангелист рассказывает о распре ада с Сатаной: «И ког¬
да они между собой говорили... раздался звук как гром
и перекрыл духов бесовских карканье: “Идите, открой¬
те врата главные ваши, да воздвигнутся врата вечные и
войдет Царь Славы”. [Ад - обращаясь к Сатане:]
“Исчезни от меня, вон иди от моего престола. Если ты
могущественный противник, борись с Царем Славы...”
И изгнал Ад Сатану от престола своего... [и велел
своим] нечестивым послушникам: “Затворите врата,
обитые медью, и затворами железными забейте, и силь¬
но сопротивляйтесь”... [Но праведники, находившиеся
в аду,] гласом великим вместе обратились к Аду: “От¬
крой врата свои, дабы вошел Царь Славы”... [Во второй
раз] раздался голос великий, подобный грому, говоря¬
щий: “Откройте ворота главные ваши, и воздвигнутся
ворота вечные”. [Тогда Ад спросил у Давида]: “Кто этот
Царь Славы?” [И Давид объяснил]: “Этот голос знаю я,
ибо Духом Его пророчествовал... А теперь, сквернейшая
и смердящая мука адова, отвори ворота свои. Да войдет
Царь Славы”... Ад и Смерть и бесчестные прислужники
их со злыми приспешниками затряслись... узнав, как
силен свет в светлости, когда Господь в дерзости сидя¬
щих их увидел, и возопили они, говоря: “Побеждены
мы Тобою”... и все дьяволово воинство ужаснулось, и от
страха и боязни окаменело. Единогласно возопили они,
говоря так: “Откуда Ты есть, такой крепкий человек,
чистый и сияющий силою такой, что не можем смот¬
реть на тебя?” Тогда Царь Славы, Господь крепок,
силою своею поправ смерть, взял дьявола, связал его,
предав его муке вечной и извел Адама в свою пресвет¬
лость.. . [Ад разочаровался в Сатане и обратился к Иису¬
су], и тогда Царь Славы повелел Аду: “Пусть будет дья¬
вол под властию твоею... по решению праведного моего
суда”. И простер руку Господь и изрек: “Придите ко
мне, все святые мои...” И как только сказал, все святые
под руку Господню встали. И тогда, держа за правую
руку Адама, Господь сказал ему: “Мир тебе со всеми деть¬
ми твоими”. Адам же, согнувшись, к ноге Господней
556
припал... Потом простер Господь руку свою и сотворил
знамение крестное на Адама и на святых своих и, держа
десницу Адама, вверх пошел из ада, и все святые после¬
довали за Богом».
Изображения Страшного суда служили своеоб¬
разным экраном, на который проецировались все
страхи, отчаяния - и чаяния будущей справедливос¬
ти, переживаемые человечеством на разных этапах
развития европейской истории. Тема Страшного суда
становится особенно актуальной в переломные перио¬
ды, на грани эпох.
Очередной пароксизм ожидания, усугублявший¬
ся общеевропейским политическим кризисом, вспых¬
нул на рубеже XV и XVI столетий. В Германии, в атмо¬
сфере назревавшей Великой Крестьянской войны и Ре¬
формации возникает дюреровская серия “Апокалип¬
сис” с ее отчетливо выраженным социальным подтекс¬
том. В Нидерландах Питер Брейгель пишет картину
“Падение ангелов” на тему одного из самых “воинствен¬
ных” эпизодов Апокалипсиса: “И произошла на небе
война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли,
и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен
был великий дракон, древний змий, называемый диа-
волом и сатаною... низвержен на землю, и ангелы его
низвержены с ним”. На картине Брейгеля изображена
отчаянная схватка закованного в латы Архистратига
Михаила и помогающих ему ангелов в светлых одеяни¬
ях - с кишащей нечистью ангелов падших, теряющих
свое человекоподобное обличив и превращающихся в
невообразимое сочетание органических и неорганичес¬
ких форм, - чудовищный образ заполняющего мир
зла, с которым едва справляются поборники добра, очи¬
щая от этой нечисти открывающееся в верхней части
картины полукружие ясных небес.
Не менее трагично переживалась грань столетий в
Италии. Во Флоренции звучат фанатические проповеди
Савонаролы, призывавшего ко всеобщему покаянию;
на площадях пылают костры, сжигаются предметы
роскоши, книги, произведения искусства; все заверша¬
ется костром, на котором погибает сам проповедник.
Его казнь вызывает ужас, отчаяние, смятение, гнев и
разочарование.
О теме Страшного суда в европейском искусстве
557
В Риме на папском престоле оказывается чудовищ¬
ный Родриго Борджиа, назвавшийся Александром VI,
в народе его считают Антихристом.
Мир в слепоте: постыдного урока
Из власти зла не извлекает зрак;
Надежды нет, и все объем лет мрак,
И ложь царит, и правда прячет око.
Эти гневные строки Микеланджело звучат как
эпиграф или, может быть, точнее - как комментарий к
его огромной, во всю алтарную стену, фреске Сикстин¬
ской капеллы в Ватикане, изображающей Страшный
суд. В центре - Христос-Судия в облике обнаженного
античного атлета. (“Микеланджело, мир грандиозных
видений, // Где с Гераклами в вихре смешались Хрис-
ты...” - Ш. Бодлер). Вокруг - наступающие на Христа и
требующие справедливого суда разгневанные правед¬
ники, пострадавшие, замученные, казненные за пропо¬
ведь веры христианской. Микеланджело выбирает тот
эпизод в Апокалипсисе - “Снятие пятой печати”7, -
когда “души убиенных за слово Божие... возопили
громким голосом, говоря: доколе, Владыко... не судишь
и не мстишь... за кровь нашу?” У Микеланджело Хрис¬
тос не столько строгий судия, взвешивающий добрые и
злые дела человеческие, сколько суровый обвинитель.
Жест его правой руки, который, согласно принятой
иконографии, должен быть жестом благословения, у Ми¬
келанджело звучит гневно, угрожающе (“Чем выше
взмах руки, // Тем тяжелей удар”, - Микеланджело).
Согнутой в локте левой рукой Христос словно оборо¬
няется, отстраняя слишком близко и слишком настой¬
чиво подступающих к нему праведников. Это не суди¬
лище, скорее, это борьба, борьба титанов. Властным
взмахом правой руки с раскрытой ладонью Христос
“лезвием суда и гирей гнева” отвергает всех, поскольку
“кругом царит позор и преступленье”, поэтому лучше
“не знать, не чувствовать, не видеть...” Микеландже-
ловский Страшный суд - это жест отчаяния художника
за судьбу Италии, это и его личная трагедия: “Будь
свет, будь тьма - а мне спасенья нет”.
Вазари, младший современник Микеланджело,
остро воспринял гневный пафос его “Страшного суда”:
“Сидящий Христос с ликом страшным и грозным обра¬
щается к грешникам, проклиная их и неминуемо
558
повергая в великий трепет Богоматерь, которая, плотно
завернувшись в плащ, слышит и видит весь этот ужас...
У ног Христа семь ангелов ..., которые, трубя в семь
труб, призывают на суд, и лики их так ужасны, что во¬
лосы встают дыбом у смотрящих на них ... и тут же ...
мы видим на одной из сторон семь смертных грехов, ко¬
торые, в обличии дьяволов, дерутся и увлекают в ад
стремящиеся к небу души...” Далее - о ладье Харона,
“который отчаянным движением подгоняет веслом
низвергнутые дьяволами души...” Вазари едва заме¬
чает “праведную” часть изображения, лишь вскользь
упоминая о праведниках, стремящихся подняться в
рай. Все его внимание сосредоточено на жестокой физи¬
ческой расправе с грешниками.
Фреска Микеланджело произвела глубокое впе¬
чатление на современников и была растиражирована в
гравюрах. Известны несколько вариантов, более или
менее точно воспроизводящих подлинник8. Что касает¬
ся Страшного суда, написанного Тинторетто для церк¬
ви Мадонна дель Орто в Венеции (1560), то в этом про¬
изведении художник, по-видимому, стремился не
столько подражать Микеланджело, сколько избежать
соблазна подражания. Это заметил Вазари, упрекнув¬
ший Тинторетто в чрезмерной, “необузданной выдум¬
ке”, причудливости и беспорядочности композицион¬
ного решения, ни словом при этом не упоминая о фрес¬
ке Микеланджело, произведшей на Вазари огромное
впечатление, хотя мысленно имея ее в виду. “Страш¬
ный суд, - пишет Вазари о произведении Тинторетто, -
написанный с необузданной выдумкой, поистине
страшной и внушающей ужас разнообразием фигур
праведников и грешников всякого возраста и обоего
пола... с первого взгляда... поражает, но если присмот¬
реться ... внимательно, то кажется, что [картина] напи¬
сана наспех”. Трудно сказать, чего больше в этом от¬
зыве - похвал или порицаний. Важно, однако, что у
Тинторетто, как и у Микеланджело, Вазари видит не
справедливый суд, не радость праведников, не сцены
рая - но беспорядок, смятение и ужас. Знаменательно
также, что, говоря о фреске Тинторетто, Вазари ни сло¬
вом не упоминает главной фигуры - Христа-Судии.
Если у Микеланджело - гневное торжество Христа-
обвинителя, то у Тинторетто - катастрофическое низ¬
вержение в бездну всех и вся, страшный конец мира.
О теме Страшного суда в европейском искусстве
559
Во всяком случае, так воспринял эти, в определенном
смысле программные произведения Вазари, современ¬
ник обоих художников.
В начале XVII века другой великий художник -
Эль Греко - выбирает для своего “Апокалипсиса” тот
же, что и Микеланджело, эпизод, но трактует его по-
иному. Греко изображает не “бунт” праведных душ, но
следующий за этим момент, когда “было им сказано,
чтобы они успокоились еще на малое время, пока со¬
трудники их и братья их, которые будут убиты, как и
они, дополнят число”.
На переднем плане слева представлена огромная,
занимающая в высоту все поле картины фигура Иоанна
Богослова (облаченного в одежду, спадающую бурными
складками), в экстатическом порыве визионера возде¬
вающая руки к небу, а на втором плане, в некотором от¬
далении - представшие его очам обнаженные души пра¬
ведников, облачающиеся в “одежды белые”, дарован¬
ные им в знак их избранничества.
Это не гневный протест гуманиста против “позора
и преступления”мира сего, но мистический порыв ве¬
рующего и призывающего к вере пророка в лихолетье,
когда “распалась связь времен”.
Следующий всплеск эсхатологических настрое¬
ний связан с рубежом XVIII и XIX веков. Уже в послед¬
ние десятилетия уходящего столетия появляется,
особенно в Англии, множество гравюр и народных кар¬
тинок, в которых отдельные мотивы Апокалипсиса
трактуются в агитационно-политическом аспекте, час¬
то с использованием карикатуры: всадник в виде скеле¬
та с косой - традиционный образ смерти (“Конь Блед¬
ный”) - повергает в панику и губит богачей и аристо¬
кратов. Другой популярный сюжет - “Древо жизни” с
изображением рая и ада - имеет не столько карикатур¬
ный, сколько назидательный характер. На одной из
таких английских картинок (“Древо жизни”, 1780),
в верхней части листа, за плотной оградой расположен
Рай, в центре его растет высокое развесистое “Древо
жизни” с крупными плодами. К узким воротам Рая бре¬
дут двое скудно одетых бедняков (“Много званых, но
мало избранных”). На переднем плане нарядно разоде¬
тые аристократы и богачи плотной толпой направляют¬
ся в Ад, помещенный, как и полагается, в правом от
зрителя, “нечестивом” нижнем углу листа.
560
В романе Достоевского возница пересказывает
Дмитрию Карамазову фольклорный вариант “Соше¬
ствия Христа во ад”, по своему поучительному пафосу
перекликающийся с изображением английской народ¬
ной картинки: «...Когда сын Божий на кресте был рас¬
пят и помер, то сошел он со креста прямо в ад и освобо¬
дил всех грешников, которые мучились. И застонал ад
об том, что уж больше, думал, к нему никто теперь
не придет, грешники-то. И сказал тогда аду Господь:
“Не стони, аде, ибо придут к тебе отселева всякие вель¬
можи, управители, главные судьи и богачи, и будешь
восполнен, так же точно, как был во веки веков, до того
времени, пока снова приду”». Красноречивое сви¬
детельство живучести фольклорных мотивов и народ¬
ных чаяний.
Но самое грандиозное эсхатологическое действо
развернулось на рубеже веков во Франции. XVIII сто¬
летие - столетие разума, просвещения и атеизма, не
дожидаясь Страшного суда, решило осуществить его
собственными руками французов: разрушить старый
мир социальной несправедливости и построить на зем¬
ле царство свободы, равенства и братства. Примеча¬
тельно, что Великая Французская революция 1789 года
была разыграна “по либретто” Апокалипсиса. Все нача¬
лось с чисто символического акта разрушения “до осно¬
вания” Бастилии - тюрьмы, олицетворявшей “мир на¬
силья”. В первую годовщину взятия Бастилии 14 июля
1790 года было организовано празднество, ядром кото¬
рого была постановка пьесы, где воспроизводилось само
действо - “Взятие Бастилии”, причем текст был смон¬
тирован из цитат Священного Писания. Первое пред¬
ставление пьесы состоялось в соборе Нотр-Дам и завер¬
шилось хоровым пением молитвы. Затем на Марсовом
поле был воздвигнут высокий постамент, на нем поме¬
щен Алтарь Отечества, украшенный барельефами и
надписями: “Законы, Народ, Отечество, Конституция”.
“Полная величавости музыка настраивала души на
мысли о Бесконечном” (из газет). Хор исполнял гимн, в
котором, как и в самом действе, пафос борьбы народа за
свое освобождение самым причудливым образом соче¬
тался с культом солнечного светила и, одновременно, с
привычной фразеологией церковного богослужения:
“Бог народа и царей, городов и деревень... Здесь собра¬
лись перед Твоим беспредельным взором сыны и опора
О теме Страшного суда в европейском искусстве
561
французского государства, празднуя перед Тобой свое
начинающееся счастье... Пусть разобьются оковы!
Пусть вздохнет земля! Пусть разум законов ... создаст в
... мире новое государство, которое будет столь же дол¬
голетним, как и Твои лучи! Пусть искупятся долгие
преступления веков обмана! Небо создало человека для
свободы!”
Подобные театрализованные празднества прово¬
дились в Париже по несколько раз в году. Сценарий их
и музыкальные программы менялись по мере развития
и изменения самого революционного процесса. Эйфо¬
рия первых двух лет сменяется призывом к борьбе:
“Восстань, народ, разбей свои оковы!.. Тебя зовет сво¬
бода...” Во время праздника принятия Конституции
президент Бальи, стоя на вершине Алтаря Отечества,
поднимает над головой книгу Конституции. И снова
библейские ассоциации: “В эту торжественную минуту
он напоминал Моисея, принимающего из рук Владыки
Вселенной Скрижали Завета”, - писали газеты. Колес¬
ница Свободы объезжает вокруг алтаря. Складывается
революционная символика: Дерево Свободы, фригий¬
ский колпак, кокарда.
Но атмосфера вновь меняется. Все чаще раздают¬
ся возгласы: “£а ira! Аристократов на фонари!” Зарабо¬
тала гильотина, рациональное изобретение века разу¬
ма, выполнявшее нелегкие обязанности палача. Деяте¬
ли, совершавшие революцию, прилюдно рубят друг
другу головы. Культ Свободы оттесняется культом
Разума, официально декретируемым Конвентом. “От¬
ныне этот культ будет национальной религией”, - про¬
возглашает Конвент. Собор Нотр-Дам переименовы¬
вают в Храм Разума, в его центральном нефе воздвига¬
ется гора, на нее водружают модель античного храма
с надписью “Философия”, возжигается Светильник
Истины; женщина в белом одеянии, голубом плаще и
красном фригийском колпаке, изображающая Свободу,
склоняется перед светильником.
События развиваются стремительно. Уже в
1794 году культ Разума отменяется. “Французский на¬
род признает существование Верховного Существа
(“псевдоним” Бога-Отца) и бессмертие души”, - гово¬
рится в декрете, написанном Робеспьером. “...Вечный
покровитель всякого дыхания ... творец и охранитель
... единый несозданный, единый великий, единый
562
необходимый ... Франция стоит перед Тобой ... Рука
Твоя мечет молнии и спускает с цепи ветры ...” Это уже
прямые цитаты из Священного Писания, а послед¬
няя фраза непосредственно из Апокалипсиса Иоанна
Богослова.
При Робеспьере был осуществлен Праздник Пред¬
вечному, во время которого Робеспьер самолично сжег
картонное чудище Атеизма. “Оно вернулось в небытие,
это чудовище, которого злой дух королей изрыгнул на
Францию”, - произнес Робеспьер. Круг замкнулся.
Революционная Франция, захлебнувшись в крови,
вернулась в лоно христианской религии. А Бонапарт,
вскоре провозгласивший себя императором, выпол¬
нил роль “мессии”. С его “явлением” наступило новое
царство, обещанные Апокалипсисом “новая земля и
новое небо”.
Многочисленные празднества и разного рода ма¬
нифестации времени Революции дошли до наших дней
лишь в словесных описаниях современников, газетных
статьях, официальных документах, декретах и про¬
граммах постановок, большую часть которых сочинял
Давид, главный художник Революции. Визуальная
сторона в этих церемониях, манифестациях и торжест¬
венных похоронах выполняла очень важную роль. Так,
в одном из похоронных шествий тело героя, убитого
врагами революции, проносили по улицам Парижа об¬
наженным, чтобы продемонстрировать народу раны,
нанесенные убийцами. Огромная роль принадлежала
музыке - оркестрам и хоровому пению, в котором, на¬
ряду с профессионалами, принимали участие зрители.
Был случай, когда Конвент дал распоряжение музы¬
кантам обучить пению все население Парижа - от детей
до старцев. Во время празднеств все присутствующие
превращались в активных участников общего действа.
В первые революционные годы слова песен похватыва-
лись всеми, позднее - выучивались, как слова молит¬
вы: “Здесь Франции сыны, защитники страны, //
Перед Твоим везде присутствующим взором // Сошлись -
в глазах своих, как и в Твоих, равны // И счастья сво¬
его начало славят хором”. Звучала музыка, дымился
ладан... По свидетельству современников, подобные
всенародные действа “вызывали какое-то внутреннее
содрогание, религиозный экстаз... пятисот тысяч сви¬
детелей, охваченных волнением”. Складывавшаяся
О теме Страшного суда в европейском искусстве
563
революционная обрядность приобретала характер и
значение гражданской литургии, Декларация прав че¬
ловека становилась символом веры, своды законов воз¬
лагались на Алтарь Отечества как Скрижали Завета
или как Святые Дары; погибшие за свободу причисля¬
лись к лику мучеников, им ставили статуи.
Великая Французская революция представляется
грандиозной трехактной мистерией на тему Апокалип¬
сиса (“Борьба за Свободу”. “Торжество Разума”. “Слава
Предвечному”), утопической попыткой осуществить
“своею собственной рукой” пророческое видение Иоан¬
на Богослова на Патмосе.
Но эта утопия оказалась мощным толчком, уси¬
лившим динамику исторического процесса, темпы его
развития от прошлого к будущему. “О, незабвенное сто¬
летие! Радостным смертным даруешь // Истину, воль¬
ность и свет. // Ясно созвездье вовек”, - писал Ради¬
щев, сам оказавшийся, до некоторой степени случайно,
участником революционных боев в Париже.
Полвека спустя русский художник Александр
Иванов завершает свою картину “Явление Мессии”.
Сюжетно - это первое явление Христа народу. Но по об¬
разному смыслу своему - это второе пришествие Хрис¬
та, завершающий момент в сюжете Апокалипсиса9.
Точнее - это ожидание Мессии, Спасителя человече¬
ства. Именно такой смысл вкладывал художник в свою
картину, над которой работал долгие годы и долгие
годы мучительно размышлял не только над своим за¬
мыслом, но и, что самое главное, над сутью того истори¬
ческого момента, той исторической ситуации, которая
сложилась в России - и в Европе в целом - в середине
XIX века, накануне революции 1848 года. “Перед эпо¬
хой златого века человечества уныние людей будет ве¬
лико, как никогда еще не бывало (очень похоже на на¬
стоящее положение нашего общества)”, - записывает
Иванов. Это состояние ожидания золотого века, светло¬
го будущего, связано для него с верой в мессианскую
роль России. “Седьмая часть планеты присуждена... ус¬
тановить вечный мир на земле”. Гоголь, с которым был
близок Иванов, остро ощущал “переходный” характер
времени: “Все более, чем когда-либо прежде, ныне чув¬
ствуют, что мир в дороге, а не у пристани. Всё чего-то
ищет... какого-то более стройнейшего порядка”. Взрыв
564
революции 1848 года, сочувствующим свидетелем ко¬
торого был в Риме Иванов, спад революционной волны,
разгром, разочарование, ожидание нового подъема, но¬
вого пророка. Вот тот круг мыслей, впечатлений, разду¬
мий, та мучительная неразрешенность “всемирной” си¬
туации, которые Иванов стремился воплотить в своей
картине. Именно это уловил в ней Герцен: “Защитни¬
ки, говорившие от имени народа, расступились, и мы
увидели несколько пророков вдали, на горе (как Иисус
на картине Иванова), а внизу народ, спящий в тяжелом
сне...” Герцен достаточно точно определил внутренний
пафос картины, ее актуальное звучание10.
Образно-смысловое ядро картины Иванова состав¬
ляет пространственная пауза, которая отделяет фигуру
Христа, изображенного в далекой перспективе, -
от ожидающей его толпы на переднем плане. Судя по
сохранившимся эскизам, художник долго искал этого
композиционного решения, все дальше отодвигая в
глубину фигуру Христа, пока в окончательном вариан¬
те именно это, еще не пройденное Христом, расстояние,
песчаная земля, по которой Ему предстоит пройти, ее
“вопиющее молчание”, оказалось смысловым центром
картины. Пустая земля - как “престол уготованный” в
иконах Страшного суда, пустой престол, ждущий Хри¬
ста. Ожидание будущего - того, что должно свершить¬
ся, - главная внутренняя тема этой картины, ее “апока¬
липтический” подтекст.
Картина Иванова, привезенная им в Россию в
1858 году, не произвела впечатления, ее приняли рав¬
нодушно, даже с некоторым недоумением; ее проро¬
ческий пафос не был расслышан современниками.
Единственным исключением был отклик Вяземского,
расслышавшего апокалиптическое звучание в тво¬
рении Иванова. Для Вяземского главный герой карти¬
ны - не Христос, “спускающийся с горы неведомый
странник”, но страстный проповедник, провидец Ио¬
анн с его грозным пророчеством: “Рожденья суетного
мира, // Покайтесь: близок суд. Беда // Древам, рас¬
тущим без плода, // При корне их лежит секира”11.
Оценить картину Иванова предстояло “грядуще¬
му”. Так же, как рассмотреть скрытый исторический
сценарий, который связывал ее с привезенной в Россию
двумя десятилетиями ранее картиной Брюллова “По¬
следний день Помпеи”. Она вызвала шумный восторг
О теме Страшного суда в европейском искусстве
565
зрителей, о ней писали Пушкин, Гоголь, Герцен, в ней
прочитывали актуальный, русский подтекст. Герцен
усматривал даже прямой намек на “гнет” русского са¬
модержавия. Но теперь, с более чем полуторавековой
дистанции обе картины, никак не связанные “при жиз¬
ни”, неожиданно складываются в единый апокалипти¬
ческий метасюжет. Экологический катаклизм, изобра¬
женный Брюлловым и остро воспринятый Пушкиным
(“Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя //
Широко развилось, как боевое знамя. // Земля вол¬
нуется...”), обнаруживает соответствие с описанием
всеобщей гибели в “Откровении” Иоанна Богослова:
“...большая гора, пылающая огнем... и молнии, и голо¬
са, и громы, и землетрясение, и великий град...” Кар¬
тина Брюллова, даже вне зависимости от замысла
художника, начинает восприниматься как первый акт
грандиозного апокалиптического действа всемир¬
ной катастрофы12. Картину Иванова можно прочитать
как завершающий акт - явление Мессии и чаяние
будущего.
Появление на протяжении двух десятилетий двух
грандиозных полотен, объединенных апокалиптичес¬
кой по своему образному подтексту темой, - свидетель¬
ство внутреннего настроя общественной мысли в Рос¬
сии: того состояния “тревожного ожидания, которое
тяготеет над всеми”.
Следующий всплеск апокалиптических настрое¬
ний - XX столетие, может быть, самое трагическое в ев¬
ропейской истории - и самое апокалиптическое. Об
этом - пророческие строчки Блока:
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчество о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине...
Атмосфера напряженного ожидания сгущается к
рубежу веков, когда Роден начинает работать над так и
не завершенной монументальной композицией “Врата
ада”, своим безудержным трагизмом перекликающей¬
ся с “адским” трагизмом Данте (“Роден уже знал, что
566
можно плакать всем телом, когда слезы выступают из
всех пор”, - писал о “Вратах” Рильке) и с героическим
трагизмом обреченности микеланджеловского “Страш¬
ного суда”.
В России в те же годы Гончарова создает цикл
картин “Жатва”, иллюстрирующих те главы Апока¬
липсиса, где разворачиваются сцены гнева Господня и
возмездия за грехи человеческие (“Ангелы, метающие
камни на город”, “Город, заливаемый водой”, “Наги,
жмущие вино”, “Дева на звере”, “Жатва”).
Ситуация взрывается в первые десятилетия
XX века скандальным футуристическим протестом
против всех и вся, против застывшего/застойного про¬
шедшего столетия - его мировидения, его искусства,
его бытового поведения. Главный лозунг футуристи¬
ческого движения - отрицание прошлого и прыжок в
будущее, минуя настоящее, стремительный рывок,
преодолевающий рутинное развитие истории. “Пора
избавить Италию от всей этой заразы - историков, ар¬
хеологов, искусствоведов и антикваров!” - писал глава
итальянского футуризма Маринетти. И еще: “Музеи и
кладбища! Их не отличить друг от друга... Что хороше¬
го увидишь в старой картине...”
Русские футуристы называли себя будетлянами,
сиречь - будущниками. В 1912 году они выпускают не¬
сколько манифестов, главный пафос которых - как и у
итальянцев - отказ от прошлого (“прошлое тесно”,
сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского с корабля
современности).
Зримым воплощением проповедуемого футуриста¬
ми стремительного броска в будущее, символом, эмбле¬
мой скорости становится “первый взлет аэроплана // В
пустыню неизвестных сфер”13. “Пусть аэропланы сколь¬
зят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и
рукоплесканиями восторженной толпы” (Маринетти).
В гравюре Н. Гончаровой 1913 года аэроплан, пролетаю¬
щий низко, на бреющем полете, над паровозом, читается
как завтра, ворвавшееся в день сегодняшний.
Футуристы отказывались не только от прошлого,
они отказывались и от пассивного ожидания будущего,
они пытались осуществить дерзновенную попытку, ми¬
нуя предсказанный в Апокалипсисе катаклизм, пере¬
нести человечество в завершающую стадию - в светлый
мир, который они уже начали строить.
О теме Страшного суда в европейском искусстве
567
Разразившаяся в 1914 году мировая война скор¬
ректировала этот оптимистический бескровный сцена¬
рий. Теперь именно в войне футуристы увидели первое
действие Апокалипсиса - “прыжок в сумрачную смерть
под пристальными... взорами Идеала... Картину гряду¬
щей высшей жизни, к которой мы приближаемся через
смерть” (Папины). Это был тот кровавый сценарий, ко¬
торый за столетие до футуристов пытались осуществить
деятели Великой Французской революции: “Пиши кро¬
вью. Во время французской революции кто-то писал
кровью” (из письма Н. Кулибина - В. Каменскому).
Война, особенно вначале, воспринималась как
“таинство разрушения и созидания новых миров...
мистерия превращений и обновлений земли” (Фило¬
нов). Графическая серия Гончаровой “Мистические
образы войны” (1914) - это современный Апокалипсис,
где ангелы мечутся среди аэропланов, то ли благослав-
ляя эти смертоносные чудища, то ли защищаясь от них:
где христолюбивое воинство, ощетинясь штыками,
марширует то ли на поля сражений, то ли прямо на
небо, где над лесом штыков несутся, сопровождая их,
острокрылые полчища ангелов; где ангелы оплакивают
град обреченный, а над полем трупов братской могилы
умирает на кресте Христос. Тема войны в ее апока¬
липтическом аспекте возникает и в двух графических
сериях у Розановой, у Филонова, у Кандинского, у Ма¬
левича. На тему войны выпускается множество луб¬
ков, в их создании принимают участие и художники,
и писатели: “Можно не писать о войне, но надо писать
войной... - провозглашал Маяковский, - чтобы слово
в речи то взрывалось, как фугас, то ныло бы, как боль
раны”.
Иной была реакция Блока:
Что же человек? - За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем - машин немолчный скрежет?
Зачем - пропеллер, воя, режет
Туман холодный и пустой?
(“Возмездие”)
Провиденциальный смысл этой войны остро ощу¬
щал Пастернак: “Поле сражения: поле вторжения исто¬
568
рии в жизнь... Годы следовали, коснея в своей череде...
И вот на исходе одного из них, 1914 ... в огне и дыме
явился ... демон времени” (1916).
Апокалиптические образы войны возникают у
художников-итальянцев (Боччони, Северный, Карра),
у немцев (“Танец смерти” Отто Дикса, “Апокалипти¬
ческий пейзаж” Мейднера).
В России катастрофа первой мировой войны мно¬
гократно и трагически усилилась катастрофой трех сле¬
довавших друг за другом революций - 1905, Февраль¬
ской 1917 года и большевистской, переросшей в граж¬
данскую войну, в красный террор 1920-х годов.
Подобно Великой Французской революции, рево¬
люция в России развертывалась в значительной степе¬
ни по традиционному апокалиптическому сценарию:
сначала - “последний и решительный бой”, который
доложен разрушить “до основанья” “весь мир насилья”.
Разрушения в России достигли поистине эсхатологиче¬
ских масштабов. Была поставлена цель уничтожить не
только весь старый мир, но и всех, связанных с этим
миром людей: всех “нечистых”, всех “грешников”, всех
врагов - не только реальных, но и потенциальных,
всех, недостойных войти в новое царство свободы и
справедливости, во имя осуществления которого и со¬
вершался этот первый, чудовищный акт апокалиптиче¬
ского действа. Объявленный Лениным красный террор
и был такой формой, способом такого отбора, ибо, со¬
гласно Евангелию, “много званых, но мало избранных”,
достойных нового коммунистического рая на земле. Со¬
гласно этому антирелигиозному евангельскому сцена¬
рию (Маяковский назвал его “небывалой сбывающейся
былью, социалистической ересью”), построение комму¬
низма в России, а затем и во всем мире должно было
стать последней, завершающей фазой развития миро¬
вой истории и - в конечном смысле - ее концом, по¬
скольку дальнейшее, по-видимому, не предполагалось:
“Времени больше не будет”, - как говорилось в “Откро¬
вении” Иоанна Богослова. А что будет? Вечное царство
коммунизма?
Этот грандиозный эксперимент волевого, насиль¬
ственного осуществления евангельского пророчества
в России одновременно и увлекал - и разочаровывал,
пугал, приводил в отчаянье. И у многих вызывал инфер¬
нально-апокалиптические ассоциации: «Вот, ощетинясь,
О теме Страшного суда в европейском искусстве
569
винтовками и пулеметами мчится, точно бешеная
свинья, грузовик автомобиль, тесно набитый разношер¬
стными представителями “революционной армии”», -
писал Горький.
Революционный “взбесившийся автомобиль” -
грузовик с солдатами - заменял в этой раннерево¬
люционной метафорике “Коня Бледного”, на котором
восседает Смерть с косой: роль ее выполняют здесь
винтовки и пулеметы:
Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль
И с этой пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется
И станет горькою вод...
И солнце ангелы потушат,
Как утром - лишнюю свечу.
(В. Ходасевич)
На евангельских ассоциациях строится и поэма
Блока “Двенадцать”. Двенадцать красноармейцев (апо¬
столов? но “без имени святого”) идут “державным ша¬
гом”; во главе их “нежной поступью надвьюжной”, едва
различимый - “за вьюгой невидим” - шествует Христос
“с кровавым флагом”. В надрывно противоречивой
поэме Блока, наряду с темой победного шествия крас¬
ноармейцев (“Революционный держите шаг”, “Вперед,
вперед, вперед, / /Рабочий народ!”), звучит надежда на
второе пришествие Христа. Эту надежду разделяли в те
годы многие:
Богомольцы со штыками
Из России вышли к богу,
И идут, идут годами
Уходящею дорогой...
(А. Платонов)
“Царство Божие усилием берется. Усилием, борь¬
бой, страданием и кровью, а не покорностью и тихим
созерцанием зла”, - писал в 1920 году Платонов в ста¬
тье “Христос и мы”.
Тема победного шествия: “Вперед, к сияющим вер¬
шинам коммунизма” (своеобразная парафраза блоков¬
570
ского “Вперед, вперед, вперед, // Рабочий народ!”) ста¬
новится на многие советские годы одним из эмблемати¬
ческих сюжетов изобразительного искусства.
Примером может служить картина Кустодиева
“Большевик” (1920) - огромная, несоразмерная всему
окружению мужская фигура в зимней рабочей куртке,
в шапке-ушанке и сапогах, с огромным развевающимся
алым знаменем в руках, победоносно шагает, попирая
ногами заснеженный город, по улицам которого дви¬
жутся несметные толпы крохотных человеческих
существ (“и число их... тьмы тем и тысячи тысяч”),
ведомые в светлое будущее. Образ безликой, насекомо-
подобной массы, текущей вслед за вожаком и осеняе¬
мой кровавым полотнищем, простершимся, подобно
“новым небесам”, по всему верхнему краю картины.
Фигура Большевика у Кустодиева странным обра¬
зом напоминает иллюстрацию одного из эпизодов Апо¬
калипсиса, момент, когда Иоанн увидел “Ангела силь¬
ного.., облаченного облаком; над головой его была ра¬
дуга” (голова Большевика, частично срезанная верх¬
ним краем картины, касается небес и “облачена” вмес¬
то облака складками красного стяга)14, “и ноги его как
столпы... и поставил он правую ногу свою на море, а ле¬
вую на землю” и попирает ногами “великое множество
людей, которого никто не мог перечесть”.
Разрушение старого мира, через который переша¬
гивает Большевик Кустодиева, попирая этот мир тяже¬
лыми сапогами, - “неудержимое” движение его вперед
(“И все должны мы, неудержимо...”).
У Блока красноармейцев, идущих “державным
шагом”, ведет Христос15. У Кустодиева диспозиция ме¬
няется: ведущий - Большевик, и ведет он не двенадцать
марширующих красноармейцев - олицетворение рево¬
люционного народа, но несметные толпы, наводнившие
улицы города (“Проходят тысячи // Лес флагов... //
рук трава...” - Вл. Маяковский).
Толпа - как важный персонаж слагавшейся ран¬
нереволюционной мифологемы эпохи, как воплощение
антиличностного начала. Тема наступления “времени
толпы” пугающе звучит у Мандельштама: “По Горохов¬
ской улице с молитвенным шорохом двигалась толпа...
чьи-то ватные плечи и перхотный воротник... лица в
толпе не имеют значения...” (как не имеет значения то¬
чечное мешево незрячих голов в картине Кустодиева
О теме Страшного суда в европейском искусстве
571
или как пустые овалы лиц у Малевича), “...живут само¬
стоятельно одни затылки и уши”. И с нарастающим от¬
вращением: “Свирепый расплывающийся торг, кроя¬
щий матом... землю”.
Уже здесь, в первые годы двадцатого столетия
предугадывается кошмар “поголовья человечества”
(И. Бродский), загонявшегося в концлагеря Колымы и
Освенцима, - апокалиптический антисюжет XX века.
Его “позитивный” вариант, соотносимый с заключи¬
тельной частью Апокалипсиса - обретением обето¬
ванного рая земного, где должен “воспрянуть род
людской”, мыслился в виде победоносного шествия в
будущее, которое один из героев повести Платонова
представлял себе “в виде синего лета, освещенного не¬
подвижным солнцем”. Именно в это “синее лето” мар¬
шировали под музыку его герои: “...особые жизненные
звуки, в которых не было никакой мысли, но зато име¬
лось ликующее предчувствие”, которые “предлагали
беречь время жизни, пройти в даль надежды и достиг¬
нуть ее...” Эта музыка - музыка “молодого похода”, под
нее “с сознанием важности своего будущего ступали
точным маршем босые девочки, их... мужающие тела
были одеты в матроски, на задумчивых внимательных
головах вольно возлежали красные береты... Каждая
девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от
чувства своего значения, от сознания серьезности жиз¬
ни, необходимой для непрерывности строя и силы похо¬
да. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда
в полях лежали мертвые лошади социальной войны.
Но... осуществление будущего мира в игре юности и
достоинстве своей строгой свободы обозначили на дет¬
ских лицах важную радость”. Трогательная в своей
почти лубочной сентиментальности картина на тему
“Коммунизм - это молодость мира. // И его возводить
молодым”.
Эта тема всячески эксплуатировалась и в живопи¬
си, и в скульптуре, где в коммунистический рай шест¬
вовала не только молодежь, но и персонажи зрелого
возраста, в расцвете сил, с физкультурно тренирован¬
ными телами, как, например, на картоне для росписи
проектируемого Дворца Советов, выполненном Кори¬
ным, или как на панно Дейнеки, изображающем шест¬
вие стахановцев, идущих не вдоль панно - “в будущее”,
но прямо на зрителя - “в настоящее”, в то коммунисти¬
572
ческое настоящее, которое, как предполагалось, будет
длиться вечно, поскольку “времени [там] больше не бу¬
дет”, так же, как не будет тьмы - только “синее небо и
вечное, неподвижное солнце”. Ослепительно белые кос¬
тюмы стахановцев (“Побеждающий облечется в белые
одежды”) подобны тем белым одеяниям, которые были
выданы безвинно убиенным праведникам в Апокалип¬
сисе как знак их избранничества и обещания места в
раю16.
Оптимистический сценарий Апокалипсиса, ко¬
торый осуществлялся ценой чудовищных, бескомпро¬
миссных усилий (“мы за ценой не постоим” - как
пелось в популярной советской песне), включал в себя
и реализацию идеи воскресения мертвых, выдви¬
нутую в конце XIX века Н.Ф. Федоровым. Согласно
Федорову, это должно быть планомерное воскрешение
всего человечества, осуществленное научным спо¬
собом. Осуществить его человечество должно само¬
стоятельно, не ожидая Божьего суда. Для этого необ¬
ходимо изобрести приемы “управления всеми молеку¬
лами и атомами внешнего мира так, чтобы рассеян¬
ное, разложенное соединить, т. е. сложить тела...”17.
Федоров предлагал “собрать трудовые армии и напра¬
вить их на дело воскресения”. Как это ни парадоксаль¬
но, научно-мистическая концепция Федорова оказа¬
лась востребованной в Советской России в 1920-е годы
революционной романтики. “Я уверен, что настанет
момент... когда по элементам жизни человека можно
будет восстановить физически человека... воскресить
великих деятелей, борцов за освобождение человече¬
ства” (из речи Л. Красина, посвященной памяти хими¬
ка Л. Карцева).
Однако здесь, как и во всем большевистском сце¬
нарии, речь идет не о всеобщем воскресении, по Федо¬
рову, но - следуя Апокалипсису (!) - о строгом отборе
(“и судимы были мертвые... сообразно с делами свои¬
ми... и кто не был записан в книге жизни, тот был бро¬
шен в озеро огненное”). Иными словами, воскрешать
следует, согласно классовому принципу, только “бор¬
цов за освобождение человечества”.
Маяковский, с присущим ему балансированием
на грани энтузиазма и иронии, обыгрывает этот мотив
с очевидной ссылкой на известные строки Апокалип¬
сиса: “...Книга раскрыта, которая есть книга жизни;
О теме Страшного суда в европейском искусстве
573
и судимы... мертвые по написанному в книгах сообраз¬
но с делами своими...”
Вот он, большелобый тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга “вся земля” - выискивает имя,
Век ХХ-й. Воскресить кого б?
Маяковский вот... Поищем ярче лица -
недостаточно поэт красив. -
Крикну я вот с этой, с нынешней страницы:
- Не листай страницы! Воскреси!18
Пастернак в романе “Доктор Живаго” по-иному
откликается на модную в те годы идею воскресения во
плоти: “Где вы разместите эти полчища, набранные по
всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и
Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их за¬
давят в этой жадной животной толчее”.
Именно этот ужас “жадной животной толчеи”
представил в своей графической серии “Воскресение
мертвых” Чекрыгин, увлекшийся книгой Федорова
“Философия общего дела”. Друг Маяковского, мечтав¬
ший вместе с ним о полном переустройстве старого
мира, о “начале космической эры”, Чекрыгин в этой
серии, проникнутой пафосом коллективности, массово¬
сти, создает, как это ни парадоксально, не столько кар¬
тину торжествующего человечества, вырвавшегося из
пут смерти, сколько поистине эсхатологический образ
взбаламученной плоти, где обнаженные тела, в стран¬
ных, неестественных позах, не то парят, не то борются
друг с другом, пытаясь вырваться из непроглядного
космического мрака вселенной.
В страшный для Советской России 1937 год Мухи¬
на заканчивает свою группу “Рабочий и колхозница”,
которая должна была венчать построенный Борисом
Иофаном павильон на Международной выставке в Па¬
риже. Эта скульптура стала наиболее адекватным и
наиболее художественно выразительным воплощением
“порыва в будущее, к свету и солнцу” (В. Мухина). Зри¬
тельно этот порыв усиливался динамикой карнизов па¬
вильона, уподобленных Иофаном рельсам мчащегося
поезда. Серебряное сияние стальных фигур, развеваю¬
щиеся за их спинами крылоподобные складки одежд на
фоне неба; небо здесь задействовано как важный ком¬
понент художественного образа, не случайно Пикассо
574
восхищался тем, “как смотрится группа на фоне сире¬
невого парижского неба”.
Характерная для советского искусства тема мар¬
ша, шествия переходит в тему полета. Это входило
в замысел Мухиной, старавшейся “большую часть
скульптурных объемов пустить по воздуху, летящи¬
ми”. И еще: “Большое полотнище материи, летящее за
группой и дающее необходимую воздушность полета”.
Лозунг “Вперед к сияющим вершинам коммунизма”
сменяется здесь лозунгом “Вверх, на штурм небес”:
“Мы прорвемся небесам в распахнутую синь” (Вл. Мая¬
ковский), “Мы усталое солнце потушим, свет иной во
вселенной зажжем” (А. Платонов).
Есть в этой группе Мухиной не только радость
свободного полета, но и, по ее собственным словам,
“всесокрушающий порыв”; угроза небесам?19
Итак - штурм небес, своеобразный Апокалипсис
или, точнее, Апокалипсис от большевиков20.
Этот оптимистический большевистский сценарий
волею исторических судеб столкнулся на выставке
1937 года с трагическим сценарием “Герники” Пикас¬
со. В то время как на советском павильоне мухинская
группа “всесокрушающим рывком”, переходящим в
полет, стремится достичь обетованного коммунистичес¬
кого рая, в борющейся с фашистами Испании Пикассо
создает чудовищную картину наступившего катаклиз¬
ма. Панно Пикассо - не только о варварском уничтоже¬
нии с воздуха баскского городка 23 апреля 1937 года.
Оно - о войне в Испании, о непрекращающихся бом¬
бежках сопротивляющегося Мадрида, о “крике детей,
крике женщин, крике птиц, крике цветов, крике кам¬
ней, крике кроватей, стульев, занавесей...” (П. Пикассо).
Пикассо словно тщетно пытается собрать из обломков
рухнувшего мира классическую трехчастную компози¬
цию, структурный костяк устойчивости; однако этот
костяк едва воспринимается глазом как смутное вос¬
поминание о норме, существовавшей в мире - взорван¬
ном, искалеченном, разлетевшемся на осколки, в мире
смерти, насилия, зла, мире, едва освещенном то ли слу¬
чайно уцелевшей электрической лампочкой, то ли туск¬
лым солнцем, похожим на огромный глаз. И в этот
страшный мир подвала через тесное окно, подобно анге¬
лу, влетает гневный женский профиль со светильни¬
ком в руке. Посланник, несущий весть о грядущем
О теме Страшного суда в европейском искусстве
575
спасении - как надеялся Пикассо - или о еще более
страшной мировой катастрофе - как распорядилась
история.
Вторая мировая война оказалась катастрофой та¬
кого масштаба, что перед ней померкли все ужасы, опи¬
санные в “Откровении” Иоанна Богослова. И, может
быть, самым чудовищным было то, что люди оказались
в ней с глазу на глаз с миром бездушного, безликого ме¬
талла, миром управляемых машин, уничтожавших
всех и вся. Под смертоносным небом, еще более беспо¬
щадным, чем земля (как в гравюре Мазере ля “Совре¬
менный Апокалипсис” (1940), где “стальная эскадри¬
лья” бомбардировщиков, сплошной, без просветов,
тучей закрывает небеса). Смерть падала с неба, она на¬
стигала людей повсюду - на фронтах и в тылу, на ули¬
цах городов, в собственных домах, в собственных посте¬
лях; их сжигали в электропечах, душили в газовых
камерах, морили голодом в осажденных городах, унич¬
тожали в лагерях смерти. “Иисус вернулся, чтобы
занять место в очереди перед газовой камерой” (Б. Хаза¬
нов■. “Второе пришествие”). Это был невиданный по мас¬
штабам “Триумф Смерти”, вооруженной не простой ко¬
сой, но целым арсеналом военной техники и изощренны¬
ми научными способами массового уничтожения.
Апокалипсис, реализованный в масштабах, не¬
доступных ни визионерской фантазии Иоанна Бого¬
слова и всех прочих провидцев, ни творческому вооб¬
ражению художников. Искусство оказалось бессиль¬
ным. Марина Цветаева в самом начале войны, еще не
захлестнувшей Россию, осмелилась бросить гневный
упрек небесам:
О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора-пора-пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь - быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь - жить...
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На Твой безумный мир
Ответ один - отказ.
(1939)
576
По силе провидения и силе образного языка это
творение Цветаевой равновелико “Гернике” Пикассо.
А дальше - музы смолкают, ибо “после Освенцима
писать стихи - варварство” (Г. Адорно). И тем более -
после Хиросимы.
Вся вторая половина XX столетия - это Время
После Взрыва.
“Человек оцепенело смотрит на то, что может на¬
ступить после взрыва атомной бомбы. Человек не видит
того, что давно уже наступило... Чего еще ждет наш
беспомощный страх, когда потрясающее уже стряс¬
лось?” (М. Хайдеггер). Бомба уже разорвалась - и чело¬
вечество уже поняло, что это такое. “Тень, которая
осталась от человека на лестнице в Хиросиме: пародия
на распятие” (В. Турбин). Эта тень надолго становится
знаковым образом в искусстве.
В одной из “Марсианских хроник” Брэдбери опи¬
сывает дом, уцелевший после ядерной катастрофы:
“Вся западная стена была черной, кроме пяти не¬
больших клочков. Вот краска обозначила фигуру
мужчины, катящего травяную косилку. А вот, точно
на фотографии, женщина нагнулась за цветком. Даль¬
ше - еще силуэты, выжженные на дереве в одно тита¬
ническое мгновение... Мальчишка вскинул вверх
руки, над ним застыл контур подброшенного мяча;
напротив мальчишки - девочка, ее руки подняты,
ловят мяч, который так и не опустился. Только пять
пятен краски... Все остальное - тонкий слой древес¬
ного угля”.
Пармиджани пишет свой автопортрет в виде чер¬
ной тени на белой стене. Воровски изображает упавшую
на стену тень от фигуры человека с молотом. Моско-
витц - черную тень от скульптуры Джакометти на
белом - и тот же пустой белый силуэт на черном...
Кифер - белый, полупрозрачный силуэт человеческой
фигуры на фоне клубящегося мрака: на груди у челове¬
ка черным контуром неправильной формы изображено
нечто, подобное взорвавшемуся сердцу. На гобелене
Яны Пржигальской “Следы” - в черной (обуглившей¬
ся?) комнате или в подвале, где едва угадываются чер¬
ные же объемы мебели, сохранились белые следы
исчезнувших тел - торс, рука, нога... пусты формы от
выгоревших человеческих останков21.
О теме Страшного суда в европейском искусстве
577
На протяжении многих столетий люди ждали
Страшного суда - со страхом, с надеждой и с напряжен¬
ным любопытством: как все это произойдет? Воображе¬
ние рисовало грандиозные зрелища, где невообразимо
страшное соседствовало с невообразимо прекрасным,
Ад с Раем, где разворачивалась борьба ангелов с демо¬
нами за каждую человеческую душу и где для каждого
отчаяние боролось с надеждой. Страшный суд рисовал¬
ся как захватывающее действо, последний, самый тор¬
жественный акт мировой истории. И самое интригую¬
щее заключалось в том, что никому не было ведомо,
когда все случится, и это поддерживало напряженность
каждодневного, ежеминутного ожидания. Во второй
половине XX столетия, после взрыва Хиросимы, после
Чернобля ожидание Страшного суда утратило свою эс¬
хатологическую загадочность. Стало очевидным, что
мировой катаклизм зависит не от воли Господа Бога -
но от любого безответственного авантюриста или поли¬
тического маньяка, которому удастся нажать ядерную
кнопку. Хиросима была репетицией, и мы уже пред¬
ставляем, как это должно выглядеть. Никакого гран¬
диозного зрелища, просто наступит Ничто.
Фантазия художников изощряется в изображе¬
нии этого Ничто, создавая равномерно или неравномер¬
но закрашенные разными цветами полотна - черные
(космическая ночь?), белые (мертвенный космический
свет?), иногда - более оптимистический вариант -
синие (пустая небесная лазурь?). Лучио Фонтана, слов¬
но в порыве гнева или отчаяния, вспарывает свои зеле¬
новато-голубые “небесные” холсты несколькими силь¬
ными ударами ножа. Одна из таких картин названа им
“Ожидание”. Что это? Отчаянный жест художника, по¬
терявшего терпение в ожидании конца?
* * *
“Ввиду уникальности вселенной и ее мыслящей
части можно предположить, что Творец, Всемирный
Дух не все мог предусмотреть в момент творения и упу¬
стил дело. Если так бывает с нами... почему нечто
подобное не может произойти с Мировым Духом, кото¬
рый с Мировой печалью взирает на то, что произвел
сам. И может быть, с некоторым облегчением взирает
на самоуничтожение его дела. Скорей всего, за творе¬
ние Он больше не возьмется, ибо разочарован в нем.
578
Вина наша перед Богом, в сущности, очевидна. Но
есть и вина Бога перед нами. И наша задача простить
Ему и даже утешить. В этом мы можем сравниться с
Ним” (Д. Самойлов).
к к *
“...Пока длится история, Мессия не придет,
сколько бы мы Его ни ждали и сколько бы нам ни каза¬
лось, что мы уже слышим, как бренчат бубенцы осли¬
цы, на которой Он едет... Всякий раз, когда мы пытаем¬
ся сбросить проклятие истории и выпрыгнуть из исто¬
рии в рай, - нас ждет кара” (Б. Хазанов).
к к к
«Я далеко не уверен, что человечество сохранится
еще сто лет. Оно упрямо идет к той грани, где воз¬
можность самоуничтожения становится реальной и
вероятна даже по ошибке... Люди все глубже и глубже
изучают природу разрушения... и я сейчас скажу глу¬
пость, с точки зрения современной физики, но я скажу
ее, чтобы было понятно: представьте себе, что физики в
процессе экспериментов сделали шаг, после которого
стала гореть вся материя. И сгорела Земля, сгорели
люди - сгорело все! Доращеплялись... Кончилась пла¬
нета... А где-то в нашей Галактике мечтательно ска¬
жут: “Вот вспыхнула новая звезда...”» (Б. Раушенбах).
к к к
“...Сам Конец, столь мощно организующий сей¬
час наше самосознание, может и не наступить, пред¬
восхищенный нашей внутренней работой - как вы¬
держанное испытание, а не заслуженное возмездие”
(М. Эпштейн).
Примечания
1 Переступив порог очередного тысячелетия, мы ощутили
себя за пределами двадцативекового этапа историко-куль¬
турного развития, и в очередной раз встал вопрос: а что
дальше? Этой теме был посвящен “круглый стол” “Транс¬
формации в современной цивилизации: постиндустриаль¬
ное и постэкономическое общество” (Вопросы философии.
2000. № 1).
О теме Страшного суда в европейском искусстве
579
2 Согласно современным исследованиям считается, что
Иисус родился в 7 или 6 году до нашей эры. Что касается
проповеднической деятельности Христа и его казни, то
это было время правления римского императора Тиберия,
тетрарха Галилеи - Ирода Антипы (4 г. до н. э. - 39 г. н. э.)
и прокуратора Иудеи - Понтия Пилата. Подтверждением
историчности евангельских событий считается упомина¬
ние Иисуса в “Иудейской войне” Иосифа Флавия, а также
обнаружение гробницы Св. Петра под собором в Риме и -
уже в относительно недавнее время - захоронения Пон¬
тия Пилата. До сих пор загадкой остается так называемая
Туринская плащаница, на которой обнаружены отпечат¬
ки тела (Христа?) со следами от гвоздей на руках и ногах.
Над исследованием плащаницы продолжают работать уче¬
ные.
3 Вопрос, настойчиво звучащий в русской поэзии, начиная с
Пушкина и кончая Бродским:
“...Кони встали. Что там в поле? / Кто их знает...”
(А. Пушкин)
Сегодня ночью я смотрю в окно
И думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
От православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там впереди?
(И. Бродский)
Об этом же стихотворение Д.А. Пригова - шуточное по
форме и трагическое по содержанию:
Нам всем грозит свобода
Свобода без конца
Без выхода без входа
Без матери-отца
Посередине Руси
За весь прошедший век
И я ее боюся
Как честный человек
(отсутствие знаков препинания - авторское).
4 О бытовом восприятии конца света и Страшного суда в
XIX веке: Именитый купец Курослепов, выходя спросо¬
нья на крыльцо: “И с чего это небо валилось? Так вот и ва¬
лится, так вот и валится... Вот угадай поди, что такое те¬
перь на свете... Жутко как-то. И сон это я видел али что?
Дров будто много наготовлено... Для чего, говорю, дрова?
Говорят, грешников поджаривать. Неужто ж это я в
580
аду?... А ведь небо-то, никак, опять валится? И то валит¬
ся... А теперь вот искры. И что ежели вдруг теперь свето¬
преставление! Ничего мудреного нет!... Вот смолой откуда-
то запахло, и пел кто-то диким голосом, и звук струнный
или трубный что ли... (Бьют часы городские. Считает, не
слушая, до пятнадцати.) Пятнадцать! Боже мой, боже мой!
Дожили!.. Да еще мало по грехам нашим!.. Водные источ¬
ники еще не иссякли?” (А. Островский. Горячее сердце).
5 “Крест есть величайший символ силы и власти Христо¬
вой... Ибо рассмотрите все вещи в мире: устрояется ли что
без этой формы и может ли быть без нее взаимная связь?..
Наружный вид человека отличается от вида животных
только тем, что он прям и имеет возможность протягивать
свои руки - и на своем лице имеет простирающийся ото
лба нос... который не другое что представляет, как фигуру
Креста” (Се. Иустин Философе).
“Поперечные перекладины корабельной мачты и око¬
нечности парусов носят на себе фигуру нашего креста.
Также и самые птицы, когда они взлетают вверх и висят в
воздухе, раскрывши крылья, подражают крестной форме”
(Ориген).
“Велико таинство Креста и... самый мир спасается сим
знамением. Ибо, когда мореплаватели плывут по морю, то
прежде всего воздвигают древо и натягивают парус, дабы,
через устроение Креста Господня, рассечь морские вол¬
ны... И хороший земледелец, готовясь вспахать земную
почву... старается сделать это посредством крестного дре¬
ва, ибо, приделавши к нижней части сохи острое лезвие,
он прикрепляет сверху палицу и рукоятку, причем подра¬
жает фигуре Креста; поэтому и самое сплочение сохи есть
некоторое подобие страдания Господа нашего. Также са¬
мое небо расположено по образцу сего знамения, ибо, раз¬
деляясь на четыре страны: восток, запад, юг и север, оно
как бы сдерживается четырьмя углами Креста” (Св. Ам¬
вросий Медиоланский).
6 О существовании земного рая велись долгие споры. В Нов¬
городе в земной рай верили не только в народе, земной рай
признавала и церковь: “Насадил Бог рай на Востоке, а на
Западе муки уготовил” (Архиепископ Новгородский Васи¬
лий). В Софийском Временнике рассказывается о том, как
один новогородец с сыном нашли место на горе, где рас¬
полагался рай: “...и видеша на горе той написан Деисус...
и свет бысть на месте том самосиянен... и ликования
многа”. Существует рассказ о том, что путники, обнару-
О теме Страшного суда в европейском искусстве
581
жившие рай, взбирались на гору, заглядывали за райскую
ограду и, вскрикнув от радости, спрыгивали в рай и не воз¬
вращались. Наконец, оставшиеся внизу решили привя¬
зать очередного смельчака за ногу, и, когда он, вскрикнув
от радости, также пытался спрыгнуть в рай, оставшиеся
внизу стянули его с горы, чтобы расспросить, что он там
увидел, однако обнаружили, что он мертв.
7 Имеется в виду следующее действо Апокалипсиса: Агнец
Божий берет “книгу за семью печатями” и снимает с нее пе¬
чати одну задругой. После снятия пятой печати перед глаза¬
ми Иоанна Богослова разворачиваются разные эпизоды этой
грандиозной эпопеи. После снятия пятой печати происходит
“бунт” праведников, потерпевших за веру в Христа.
8 Самая точная - гравюра Джулио Бонасоне, выполненная во
второй половине 40-х годов XVI века. Более свободный ва¬
риант композиционного решения Микеланджело представ¬
лен в гравюре Мартино Рота 1569 года. Очень свободная,
чрезвычайно измельченная и композиционно хаотичная
“реплика” микеланджеловской фрески дана в гравюре Яна
Вирикса 1573 года. Под несомненным влиянием Страшного
суда Микеланджело был написан Страшный суд нидерланд¬
ского (?) художника Дирка Барендца - 1561 год.
9 Сохранилось известие, что художник намеревался помес¬
тить свою картину на западной стене храма Христа Спаси¬
тели - месте, ритуально предназначенном для изображе¬
ния Страшного суда.
10 Герцен приезжал в Рим в 1848 году, чтобы увидеть вблизи
итальянскую революцию. Познакомился с Ивановым, ве¬
роятно, видел его еще не вполне законченную картину.
Через десять лет, в 1858 году, перед отъездом в Россию,
Иванов съездил в Лондон к Герцену, стремясь разобраться
в мучительной неясности для него всемирной ситуации,
которая к середине столетия становилась все более напря¬
женной. “...Недовольство всех классов растет... какое-то
тревожное ожидание тяготеет над всеми... Все признаки
указывают в будущем на странный катаклизм, хотя и не¬
возможно предсказать, какую он примет форму и куда нас
поведет” (Письмо Кавелина к Герцену из России. 1857).
11 П.А. Вяземского взволновал высокий духовный настрой
художника и трагедия его непонятости зрителями:
И что тебе народный суд?
В наш век блестящих скороспелок
Промышленных и всяких сделок,
Как добросовестен твой труд!
582
Кажется, что Вяземский, современник Пушкина и
Лермонтова, воспринял картину сквозь призму их стихов
(“Духовной жаждою томим...” - “Печально я гляжу на на¬
ше поколенье...”). В образе Предтечи он усмотрел черты
духовного автопортрета художника:
В картине, полной откровенья,
Все это передал ты нам,
Как будто от Предтечи сам
Ты принял таинство крещенья.
Стихотворение написано за два дня до скоропостижной
смерти художника. В стихотворном некрологе, которым
Вяземский откликнулся на его кончину, есть строки поис¬
тине провидческие:
...- и предает свой труд
Грядущему, на суд его свободный,
Дневным страстям не подлежащий суд...
Картина Иванова, не понятая, не принятая современ¬
никами, оказалась понятой и оцененной “грядущим”.
12 Картина Брюллова была привезена в Петербург в
1835 году. Тем же годом датируется стихотворение Пуш¬
кина “Странник”, в котором есть такие апокалиптичес¬
кие строки:
Однажды, странствуя среди долины дикой,
Внезапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен...
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки...
“О горе, горе нам!..”
Сказал я, - ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом: мучительное бремя
Точит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все...
Невольно возникает мысль о связи этих строк с впечат¬
лением от картины Брюллова. Или это только одно из
“странных сближений”?
13 В прозаическом Предисловии к поэме Блок пишет: “В
этом именно году... была в особой моде у нас авиация; все
мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов
О теме Страшного суда в европейском искусстве
583
вниз головой - падений и смертей талантливых и бездар¬
ных авиаторов”.
14 “Странные” аналогии:
“Некий большой человек стал на землю, пробил голо¬
вой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту
сторону неба, в странную бесконечность... и загляделся
туда” (А. Платонов).
Еще более смелый образ “штурма небес” Человеком,
заглянувшим в “скважину”, пробитую в “небесной твер¬
ди”, - у Маяковского:
“В облаке скважина. // Заглядываю - // ангелы поют. //
...” Ну как вам, Владимир Владимирович, // нравится безд¬
на?” И далее, почти совсем как в апокрифической истории о
благочестивом разбойнике, которого райский страж помес¬
тил у входа, чтобы он мог видеть всех прибывающих в рай:
“Понравилось. // Стал стоять при въезде. //И если // знако¬
мые // являлись, умирав, // сопровождал их, // показывал в
рампе созвездий // величественную бутафорию миров”.
Что касается красного знамени над головой Большеви¬
ка, то можно сослаться на народные гравюры, в которых
крылья “Ангела сильного” часто окрашены ярко-красным
цветом. И другая аналогия: “Душу вытащу, // растопчу, //
чтоб большая! // и окровавленную дам как знамя”
(Вл. Маяковский).
У Блока в “Двенадцати” Христос тоже с “кровавым
флагом”.
15 В журнале “Знамя” за 2000 год (№ 11) помещены мате¬
риалы заочного “круглого стола”, посвященного обсужде¬
нию финала поэмы Блока “Двенадцать”. «Сама ситуация,
когда современный журнал, ориентированный на литера¬
турную злободневность, решил обсудить смысл поэмы, по¬
явившейся более восьмидесяти лет назад... Значит, “Две¬
надцать” и ее финал до сих пор воспринимаются как что-
то очень актуальное...» (Н. Богомолов). Все выступавшие
пытались ответить на вопрос: почему в финале поэмы Бло¬
ка появляется Христос. Загадочность блоковского реше¬
ния усугубляется тем, что сам поэт отвечал на настойчи¬
вые вопросы современников: “Не знаю, так мне привиде¬
лось. Я разъяснить не умею”. Пытаясь решить этот, по су¬
ти дела, нерешаемый вопрос, участники “круглого стола”
приводят различные мнения, среди которых самое пара¬
доксальное состоит в том, что Христос у Блока не ведет
красноармейцев, напротив, красноармейцы преследуют
Христа, пытаясь застрелить его.
584
♦ В году 2000 исторический опыт уже не оставляет нам
права гадать, какое символическое содержание может
знаменовать собой фигура, шествующая... “с кровавым
флагом” (именно с кровавым - тайновидческая интуиция
Блока не подвела», - заключает А. Лавров.
16 Возникает соблазн еще раз сослаться на то место из Апока¬
липсиса, когда при снятии пятой печати праведники, пост¬
радавшие за проповедь христианского учения, потребовали
справедливости: “Я увидел под жертвенником души убиен¬
ных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
И возопили они громким голосом, говоря: доколе Влады¬
ко... не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь
нашу? - И даны были каждому из них одежды белые, и ска¬
зано им, чтобы они успокоились еще на... время, пока со¬
трудники их и братья их, которые будут убиты, как и они,
дополнят число (!)” И было “дополнено число” убитых, и
дождались реабилитации - чаще посмертной.
17 Ср. Откровение Мефодия Потарского: “...тогда человечес¬
кие [останки] в гробах скрепятся, как паутиной... И тела
мертвецов восстановятся. И тогда... поднимется от восто¬
ка и до запада всякая умершая человеческая плоть...”
18 Тема воскресения мертвых приобрела особое звучание в
связи с посмертной мифологизацией образа Ленина и созда¬
нием мавзолея. “Свезли в мавзолей // частицу Ленина - //
тело. // Но тленью не взять - // ни земле, //ни золе...
Смерть, // косу положи! // Приговор лжив... // Ленин - //
жил. // Ленин - // жив. // Ленин - // будет жить”.
“Ленин рядом. // Вот // он. // Идет // и умрет с нами. //
И снова // в каждом рожденном // рожден...”
19 Или угроза с небес?
Серп и молот - составляющие советского герба - ком¬
позиционно разъятые, расположенные “не в том” соотно¬
шении и направленные в небо, - утрачивают свое привыч¬
ное эмблематическое прочтение и начинают восприни¬
маться не как орудия труда, но как орудия Гнева Господ¬
ня - как Серп в серии Гончаровой “Жатва” и как “Божий
молот” в поэзии Микеланджело:
Все молоты тот молот предвещают,
И в нем одном им всем живой урок.
...так занесен
И надо мной он к высям поднебесным.
20 О штурме небес говорится в “Мистерии Буфф” Маяковско¬
го, где рабочий люд силой вторгается в небесные сферы и
О теме Страшного суда в европейском искусстве
585
берется там за работу, показывая пример ошарашенным
небожителям.
В той же манере антирелигиозной буффонады написа¬
на пародия Галчинского на тему конца света (1929), со¬
ставляющая своеобразную перекличку с райской буффо¬
надой Маяковского:
Ученый Пантафиланда
в Болонской Академии,
берет совлекая с темени,
вскричал - Господа, беда!
По моему расчету
планета наша ни к черту,
а также космос, и это
конец, полагаю, света.
Сквозит в мировом эфире,
созвездья пошли вразнос,
и жить, по моей цифири,
Осталось нам с гулькин нос...
Ему не верят, потом начинают беспокоиться, возника¬
ют народные протесты, манифестации с плакатами: “Уми¬
рать не хочем”.
...а из тысячи тысяч глоток
зарыдал миллионорото
крик отчаяния и моленья:
- не хотим
светопреставленья! -
Но тут-то вот, как назло,
что-то в то же мгновенье
распоясалось в атмос¬
фере. (См. “Откровенье”
Иоаново. Патмос.)
В сей миг всемирного слома
раздался глас астронома:
“Довольно страхов и паник!
Устройство нашего мира
бредовое, как Титаник,
ушло в пучину эфира”.
(1929. Перевод А. Гелескула.)
21 Ср. близкую картину в романе Роб-Грийе: “Я сейчас один,
в надежном укрытии... Сюда не проникает ни солнце, ни
ветер, ни дождь, ни пыль... Легкая пыль, замутнившая
586
сияние горизонтальных поверхностей ... На полирован¬
ном дереве стола пылью обозначены места, где какое-то
время - несколько часов, дней, минут, недель - находи¬
лись ... вещи; их контуры еще сколько-то времени отчет¬
ливо рисуются на поверхности стола - круг, квадрат, пря¬
моугольник или иные, более сложные фигуры... что-то
вроде креста: продолговатый предмет... перерезанный
много более короткой поперечиной; предмет этот... смутно
походит на человеческую фигуру: овальная голова, две ко¬
ротеньких руки и тело, заостренное книзу... Черный мра¬
мор камина покрыт серой пылью... и лишь один-единст-
венный предмет оставил на ней отчетливый черный след...
это все тот же четырехконечный крест...” (Роб-Грийе. В ла¬
биринте, 1959).
Заключение
В книге представлены работы разных лет, различные
по жанру, по тематике, по объему - от развернутых ста¬
тьи, посвященных общим проблемам развития искус¬
ства и искусствознания, до коротких заметок.
Примерно половина текстов публикуется впер¬
вые, вторую половину составляют статьти, печатавши¬
еся в сборниках или в журналах, как русских, так и
иностранных, в разной степени переработанные для
данного издания.
При всем сюжетном и жанровом разнообразии
текстов содержание книги имеет, как мне представля¬
ется, единую внутреннюю тему, которая с наибольшей
полнотой сформулирована в главной статье, посвящен¬
ной проблеме соотношения слова - и его визуального
воплощения в живописи. Слова персонажей, изобра¬
женных в картине (проблема жеста) и слова самого ху¬
дожника, его визуального речения (проблема компози¬
ции).
В сущности, вопрос о соотношении слова - и зри¬
мого образа составляет содержание всех включенных в
книгу текстов; и впрямую - в размышлениях о методо¬
логии искусствоведческой науки сегодня, и косвенно -
в этюдах или заметках, посвященных анализу отдель¬
ных произведений, и даже в первичной фиксации впе¬
чатлений от той или иной картины, приковавшей или
просто зацепившей мое внимание. Эти случайные запи¬
си важны для меня как первый зрительный контакт
с произведением и первая, спонтанная, попытка пере¬
вести зрительный образ в образ словесный.
Пафос последней статьи, название которой выне¬
сено в заглавие книги, состоит, как мне представляет¬
ся, не только - и не столько - в раздумье над извечной
темой “конца времен”, сколько в столь же неизбывном
интересе к тому, что будет дальше: “Куда зашли мы...
Что там впереди?” (if. Бродский).
589
Данилова И.Е.
Д18 “Исполнилась полнота времен...”. Сборник ста¬
тей М.: РГГУ. 2004. 589 с.
ISBN 5-7281-0701-Х
В сборник вошли как неопубликованные, так и публиковав¬
шиеся в русских и иностранных научных сборниках и журна¬
лах и заново переработанные автором для настоящего издания
статьи.
В книге рассматриваются категории времени в живописи
средних веков и Раннего Возрождения, архитектура Успенского
собора Фьораванти и оособености пространственной компози¬
ции в иконах Дионисия, творческая судьба Боттичелли, портрет
в европейской живописи (XV - начало XX в.), тема Апокалипси¬
са в искусстве от средних веков до наших дней и многие другие
вопросы.
Для искусствоведов, культурологов, широкого круга чита¬
телей.
ББК 63. 3(0)
Сборник статей
Данилова Ирина Евгеньевна
“Исполнилась полнота времен...”
Редактор Н.Л. Петрова
Художественный редактор М.К. Гуров
Корректор Т.М. Козлова
Технический редактор А.Ю. Ефимова
Компьютерная верстка Г.И. Гаврикова
ISB
9 785728
5-7281
I
-070
-X
019
>
ИД № 05992, выд. 05.10.01
Подписано в печать 26.04.04
Формат 60 х 90Vi6
Уел. печ. л. 37,0.
Уч-изд. л. 34,0.
Тираж 1500 экз.
Заказ 10175
Издательский центр РГГУ
125267, Москва, Миусская пл., 6
Тел. 973-4200
Отпечатано в ППП «Типография “Наука”*
121099 Москва, Шубинский пер., 6