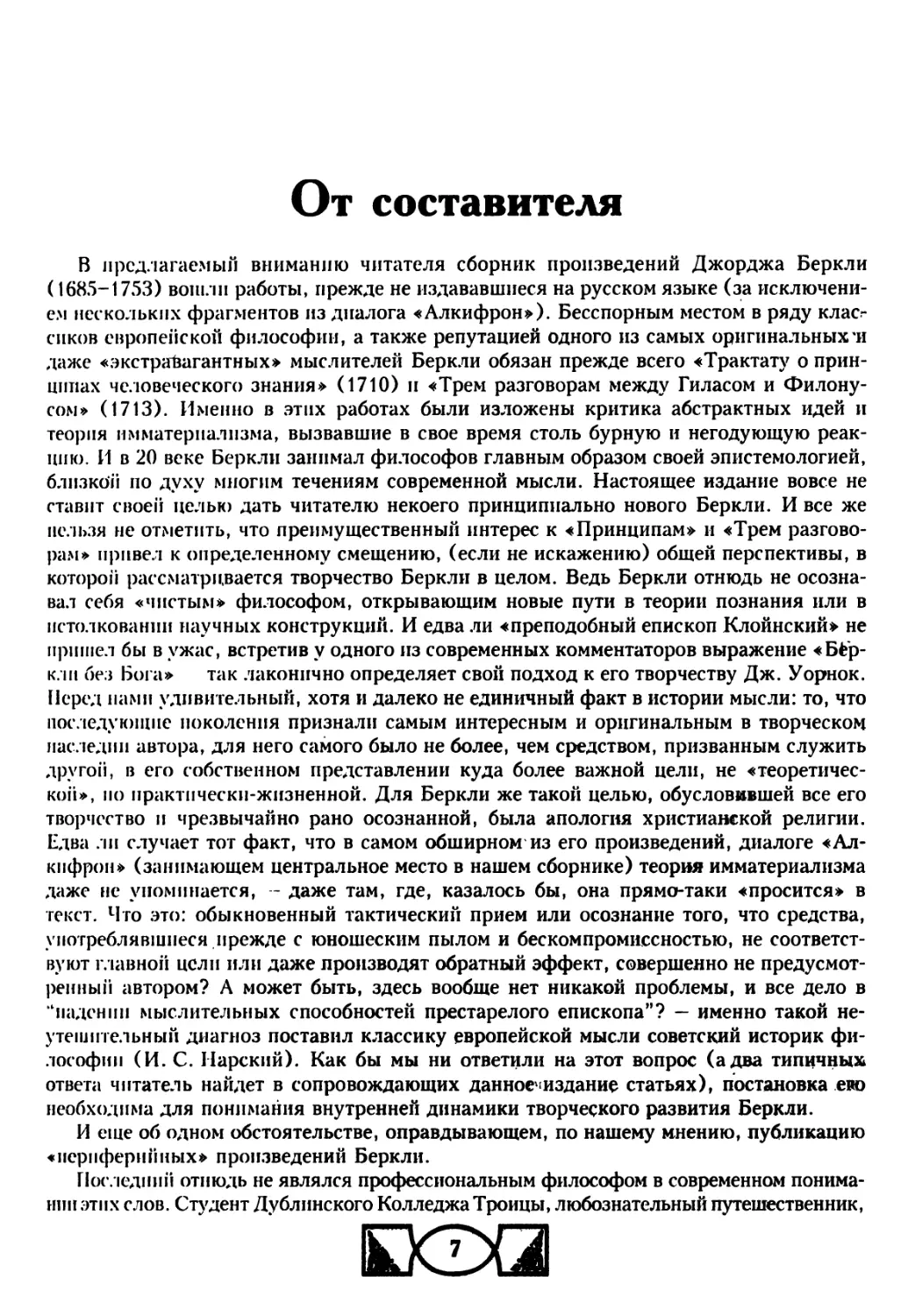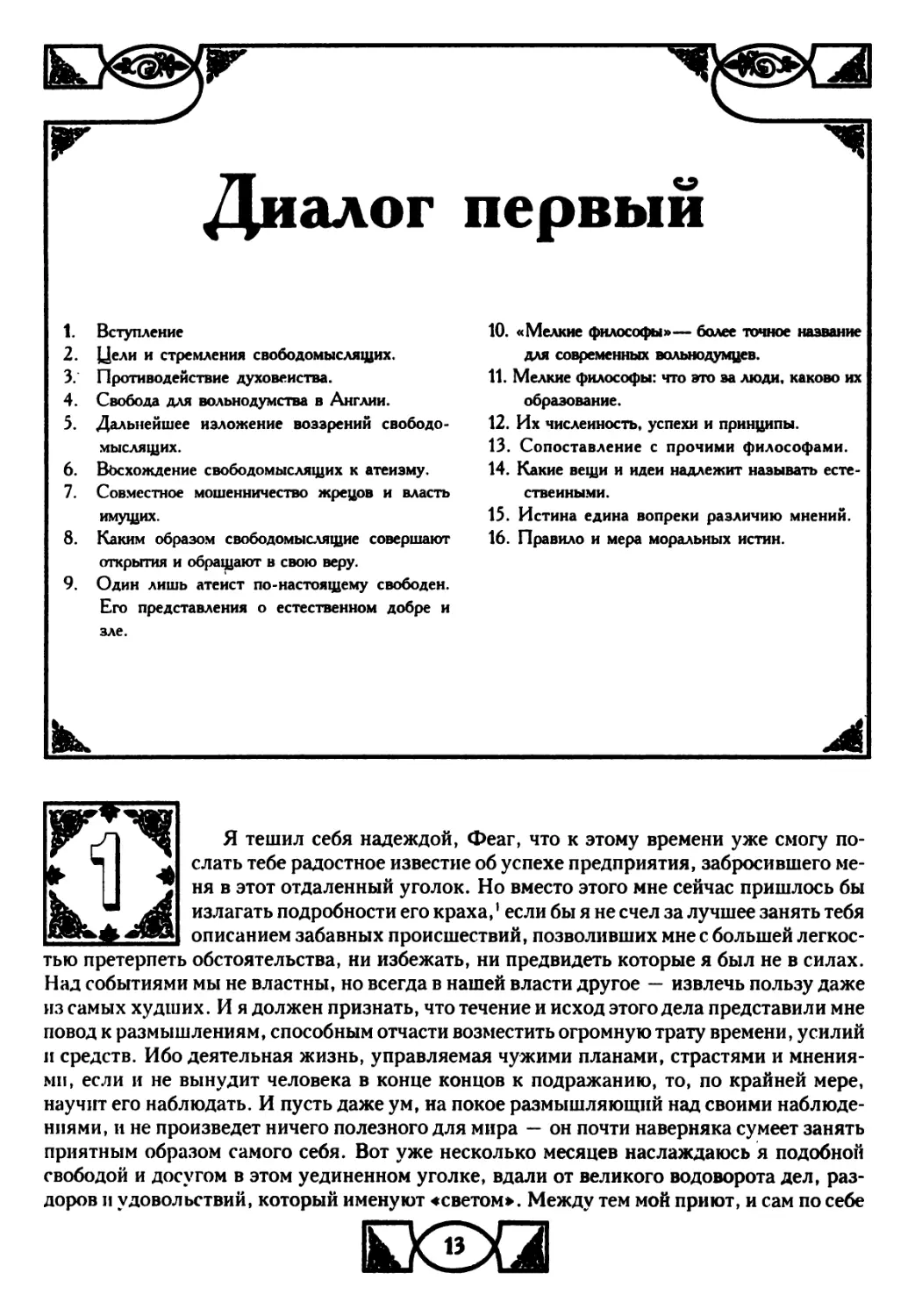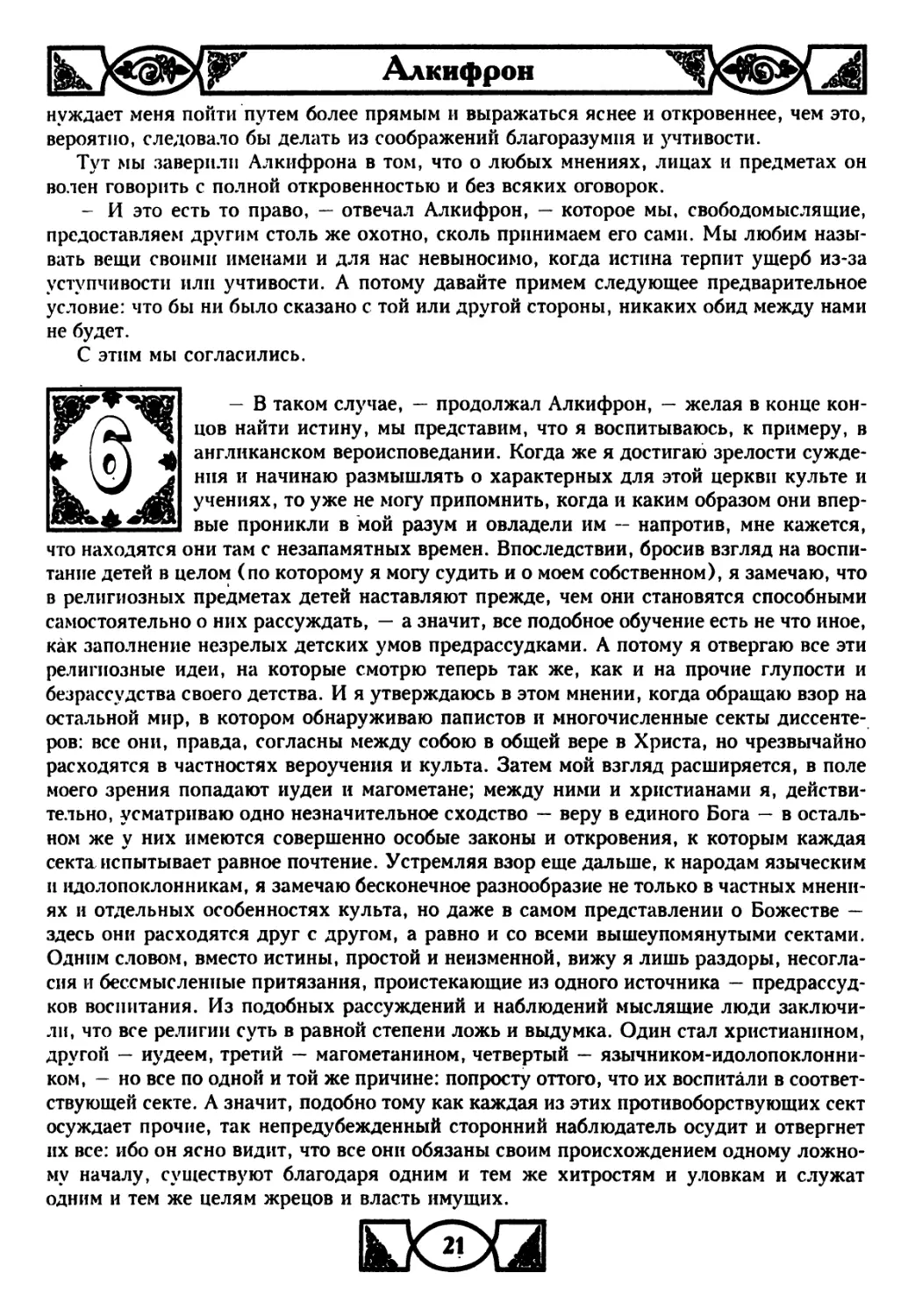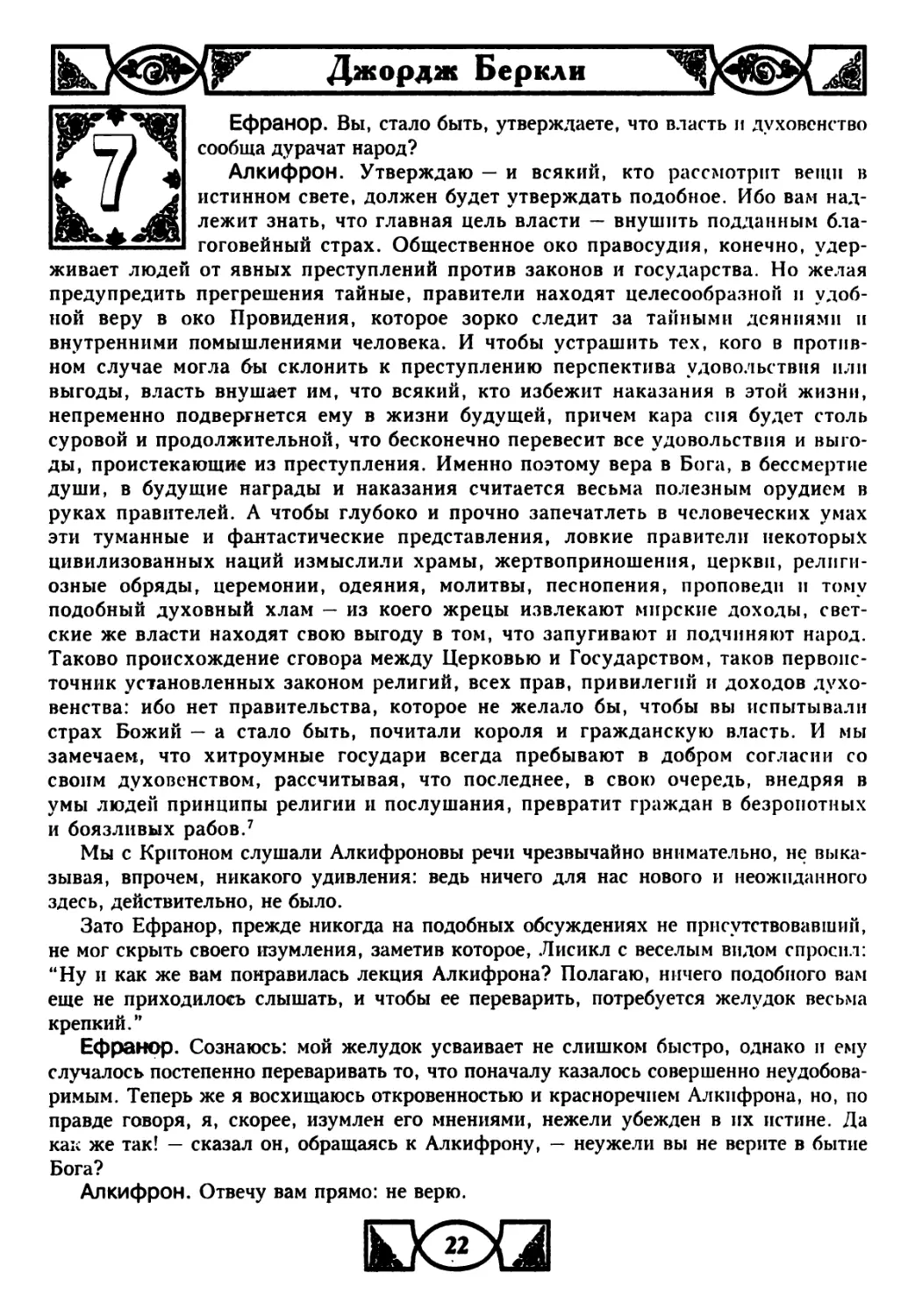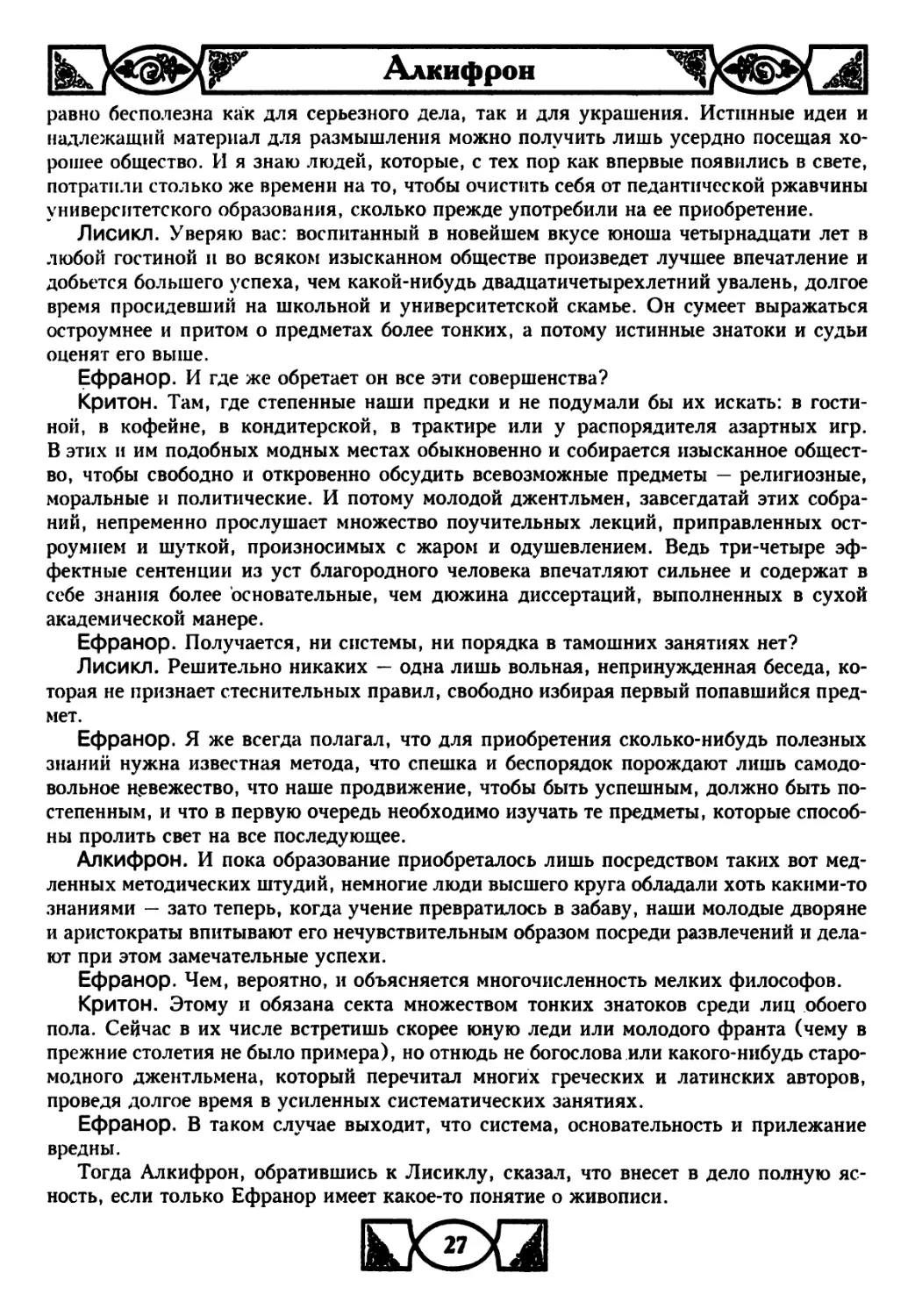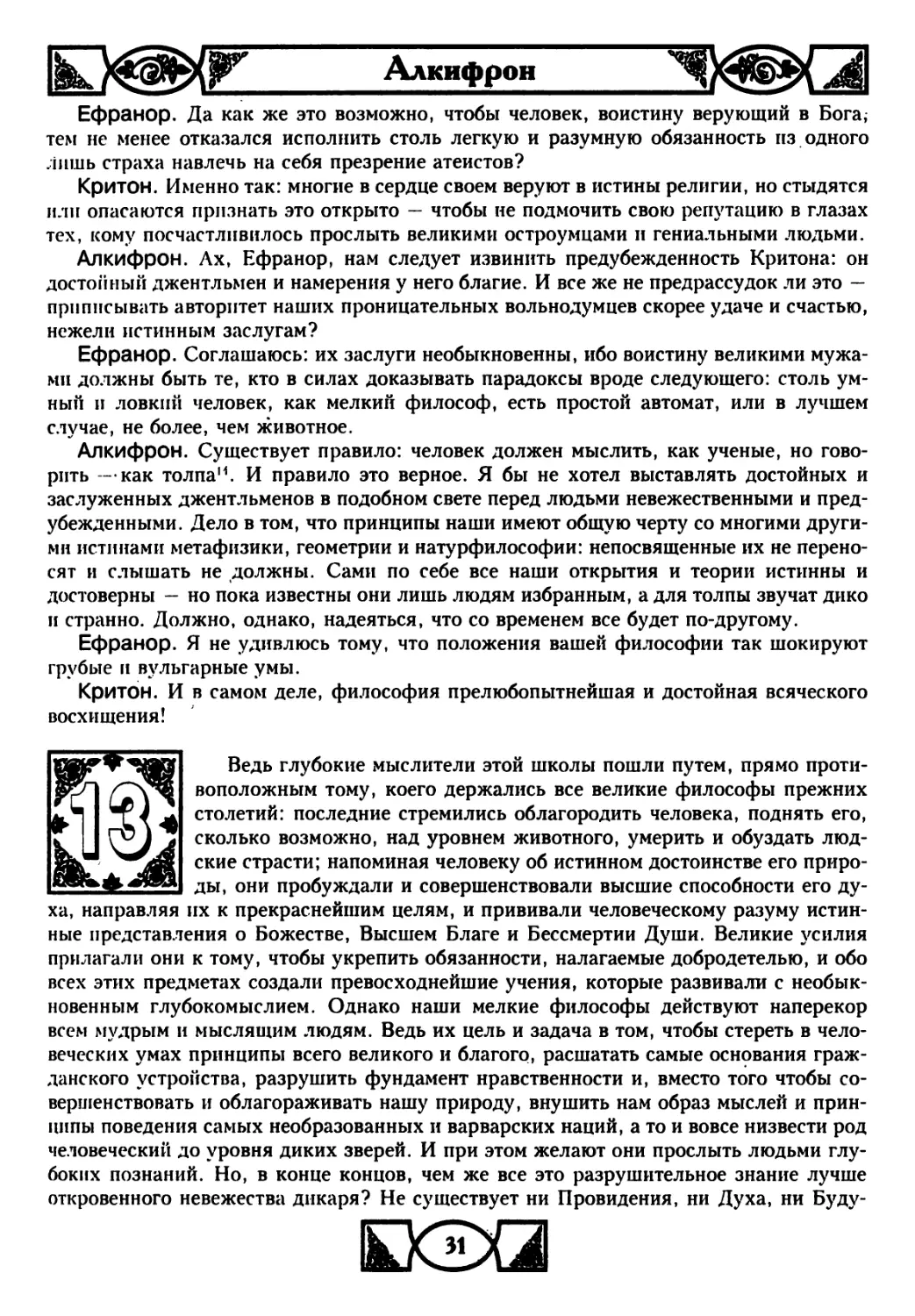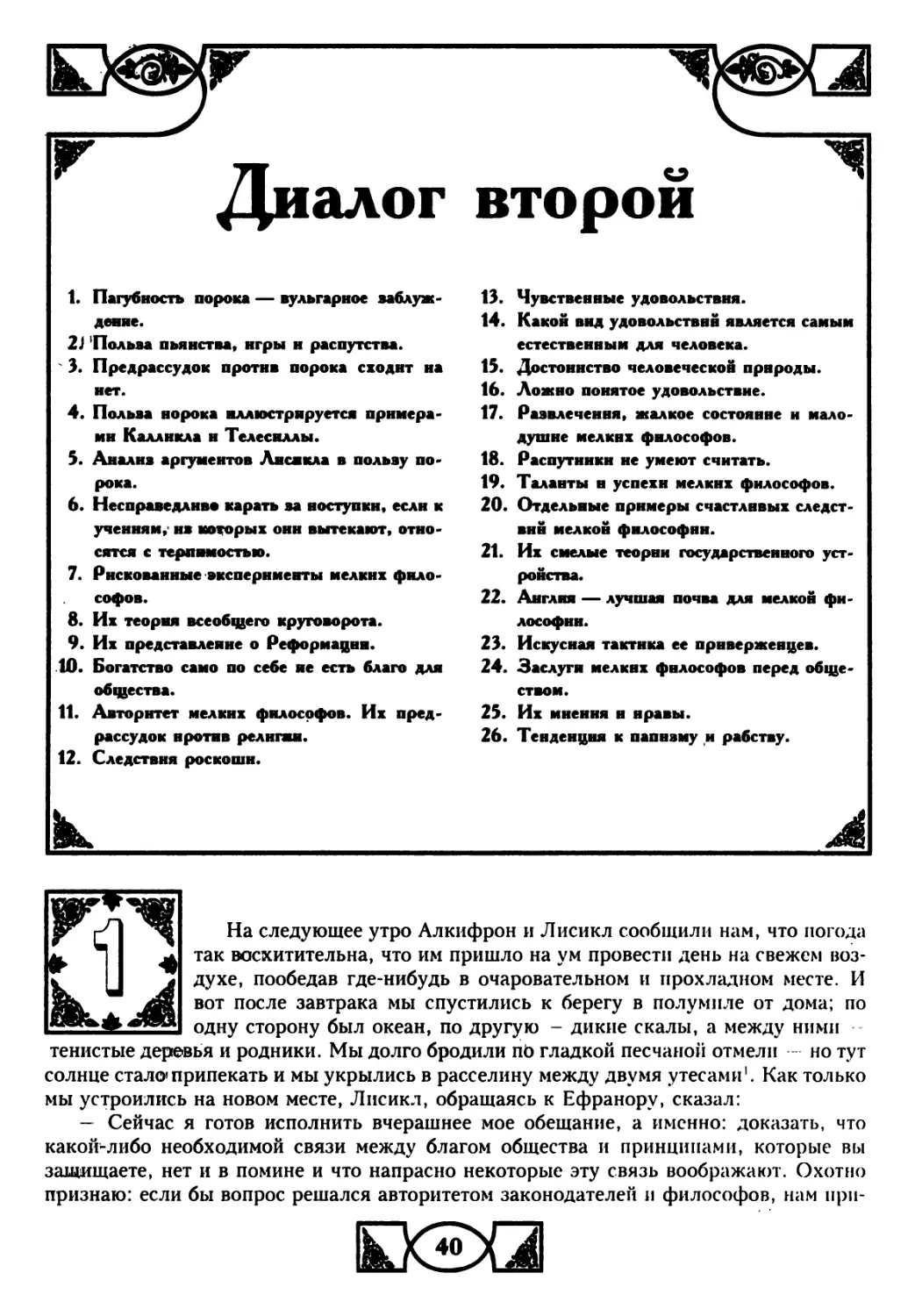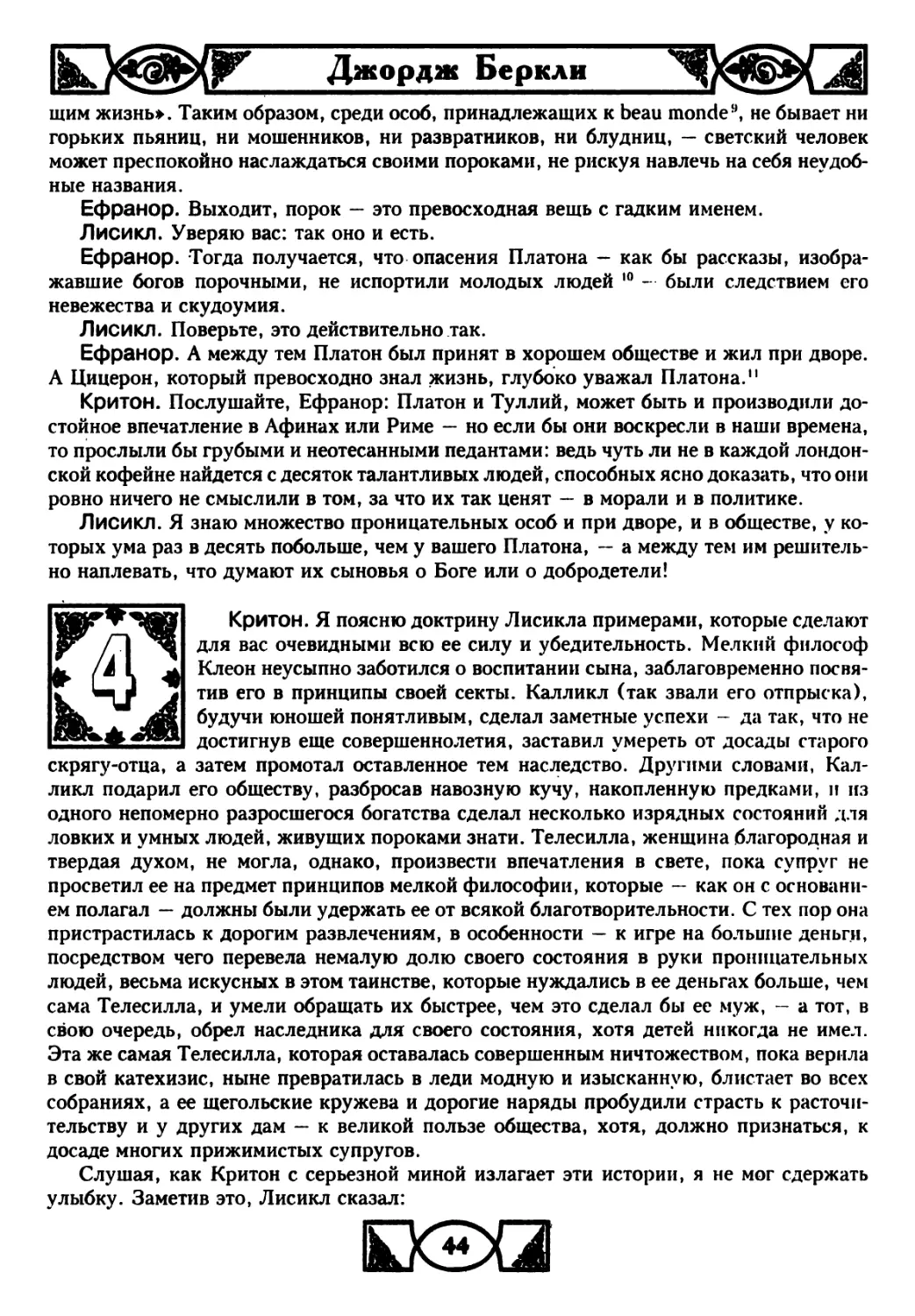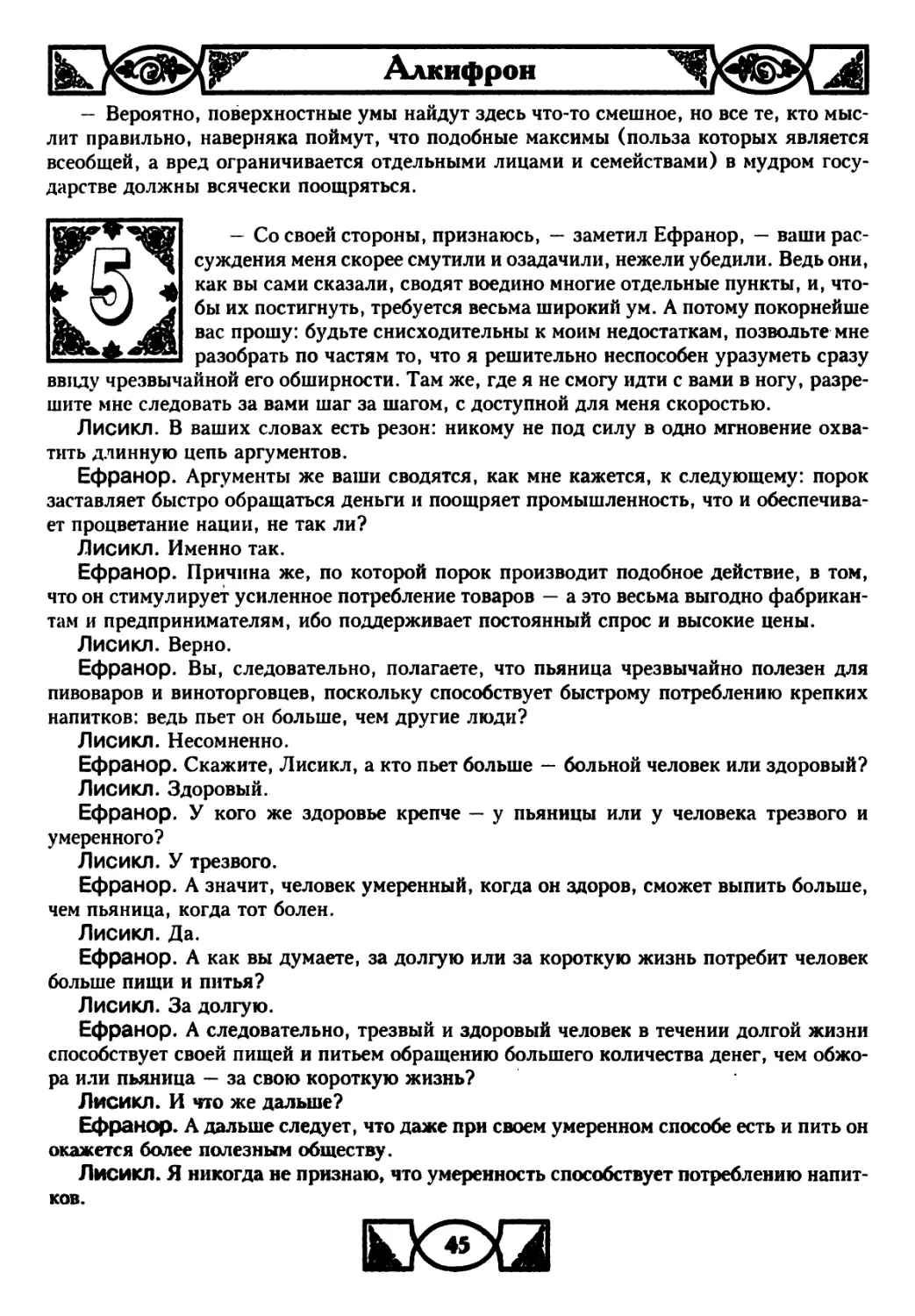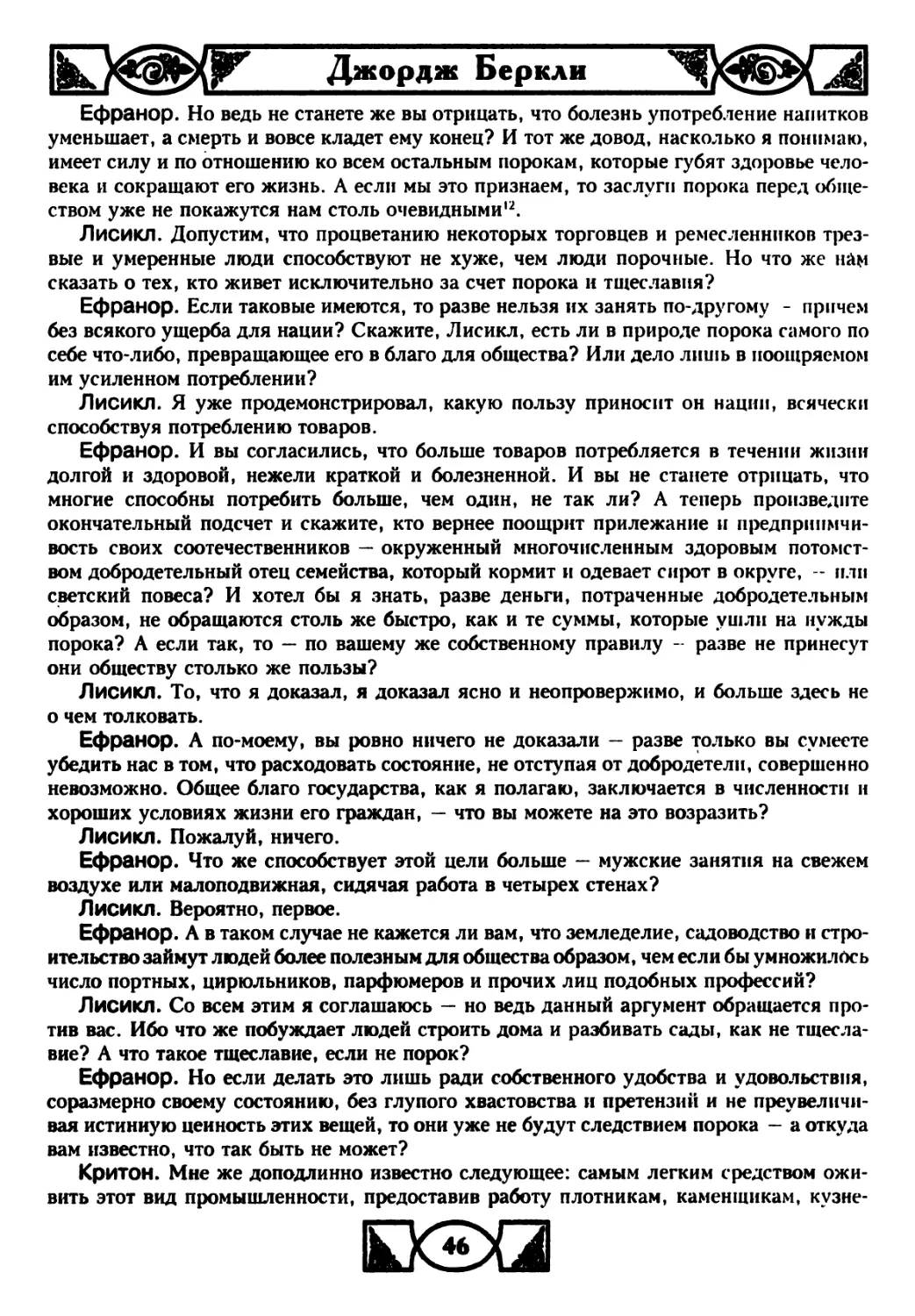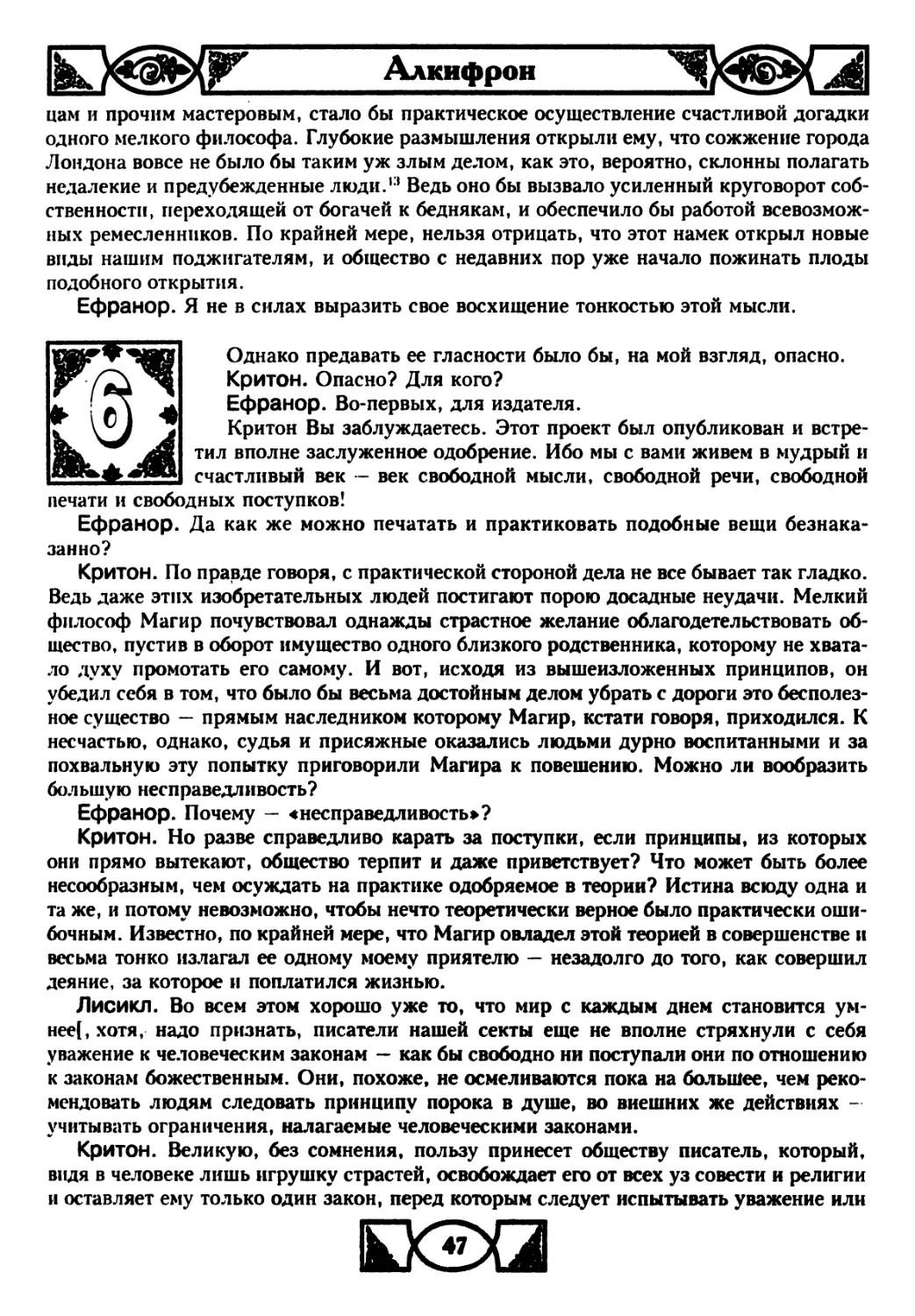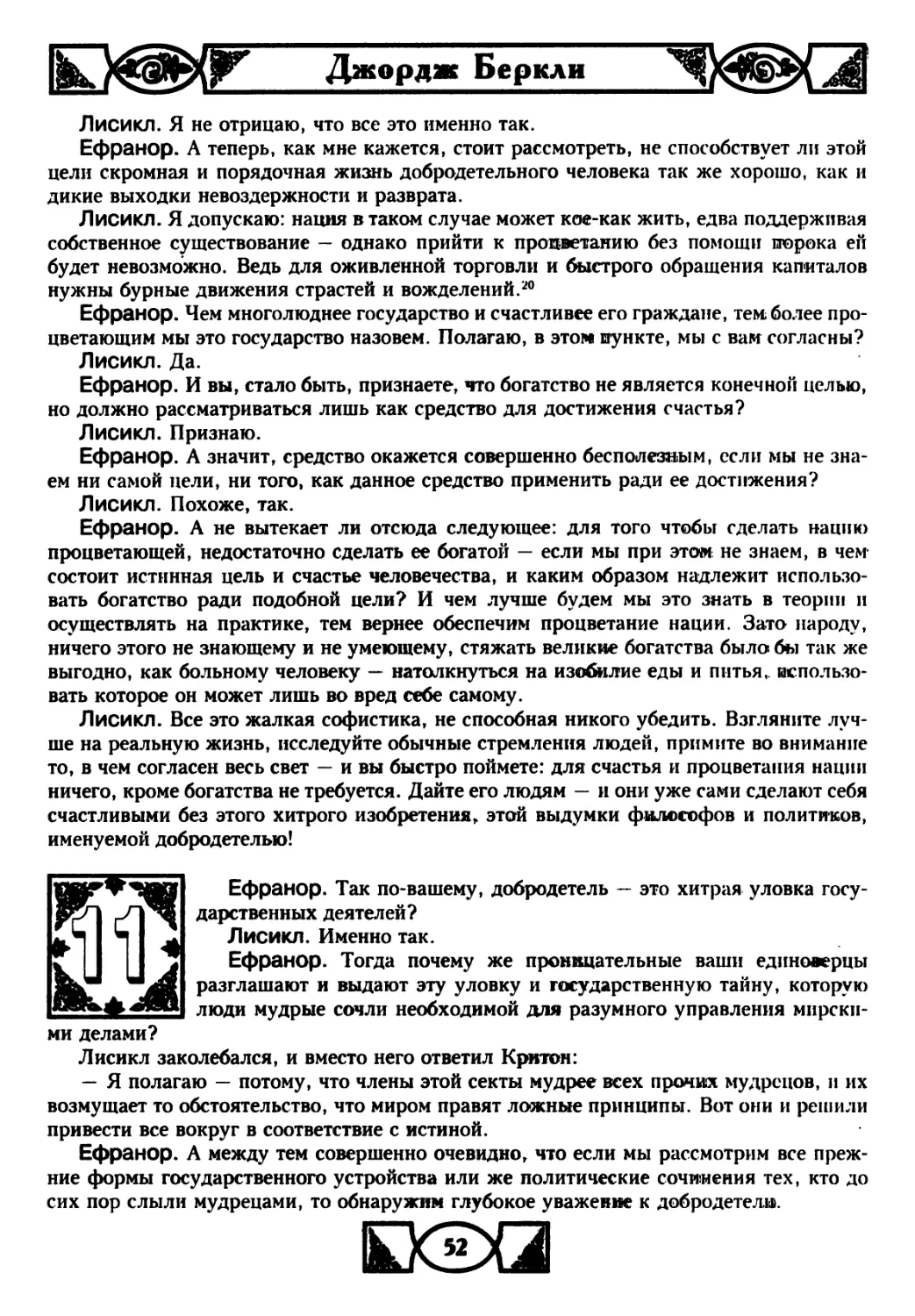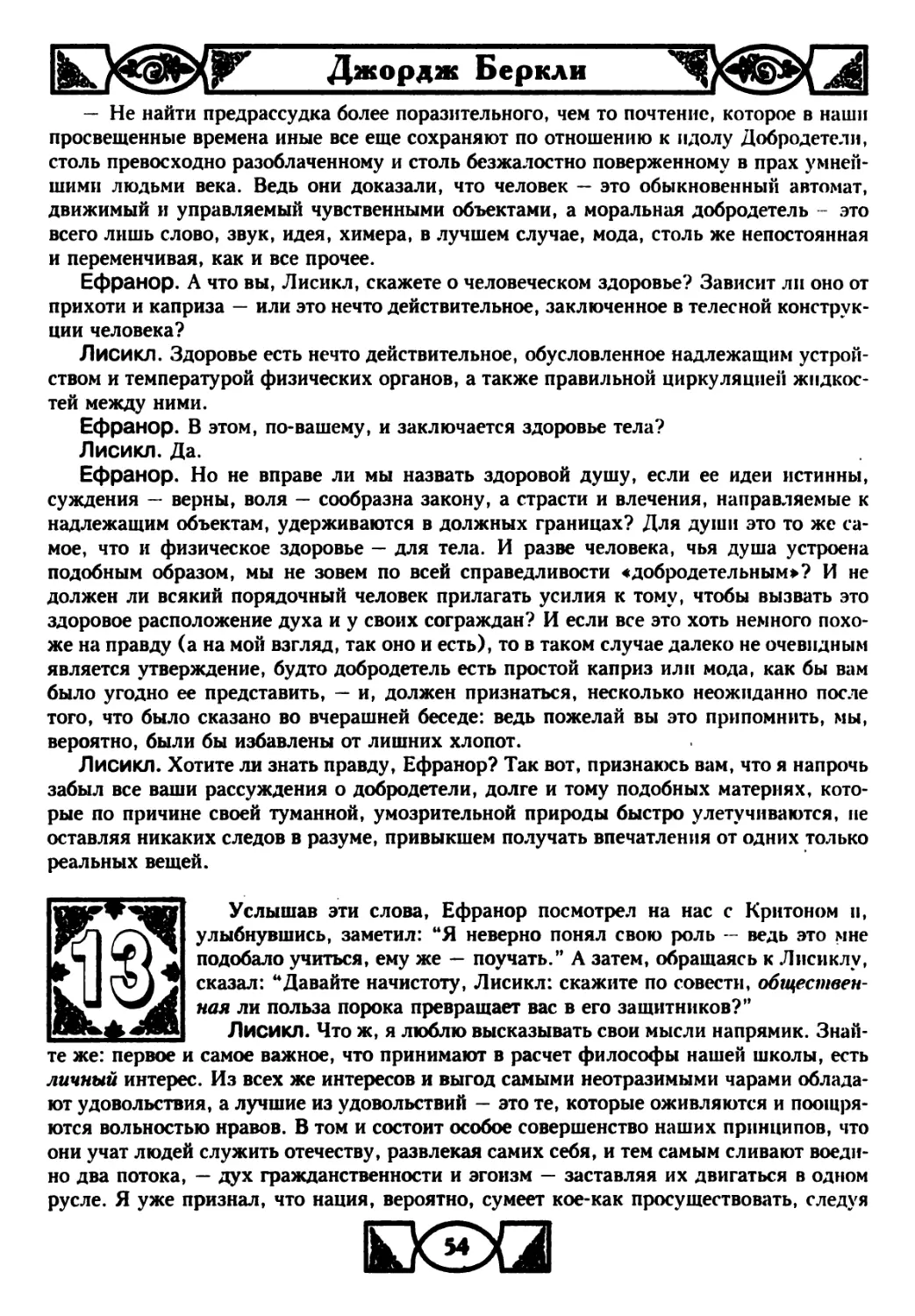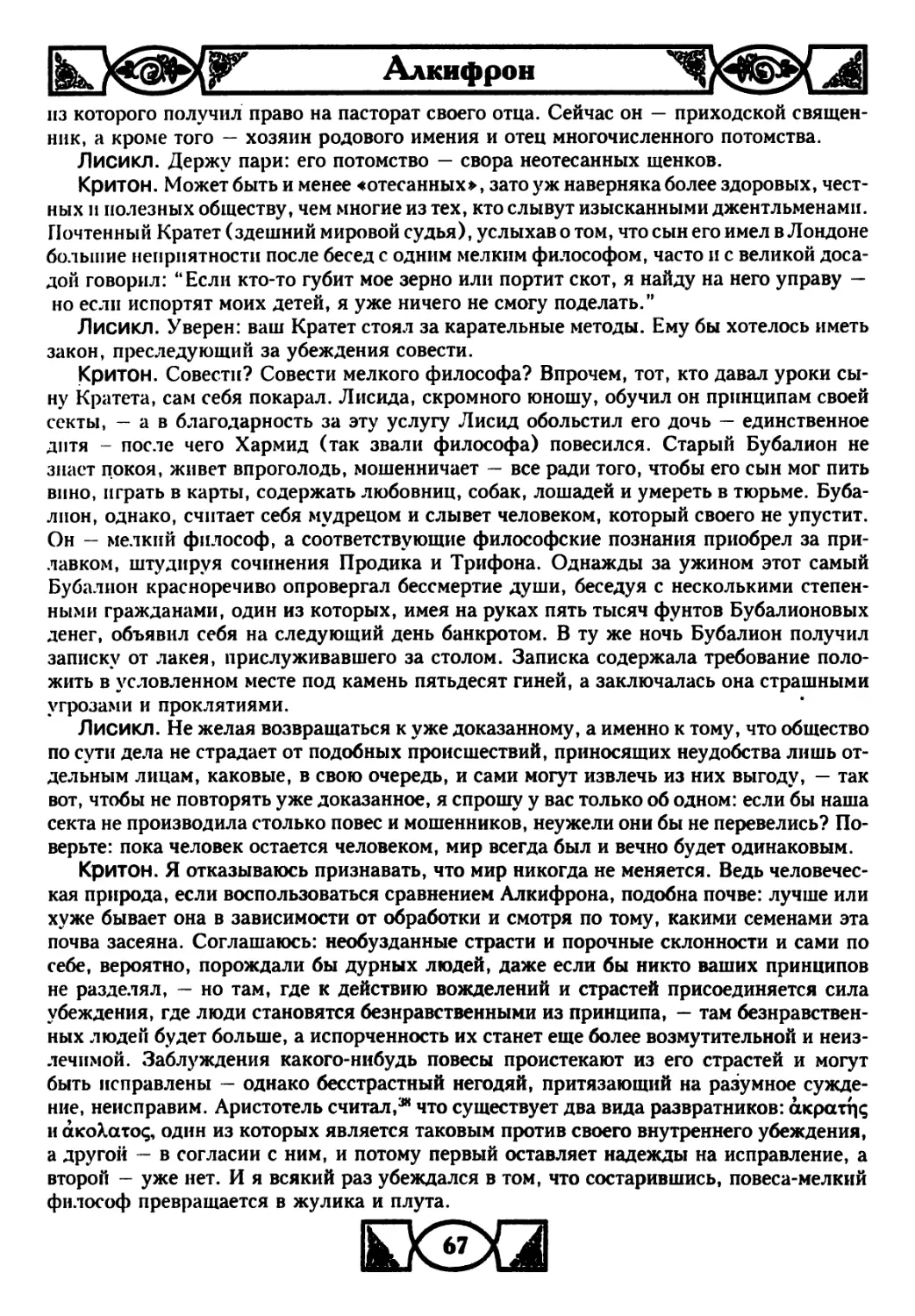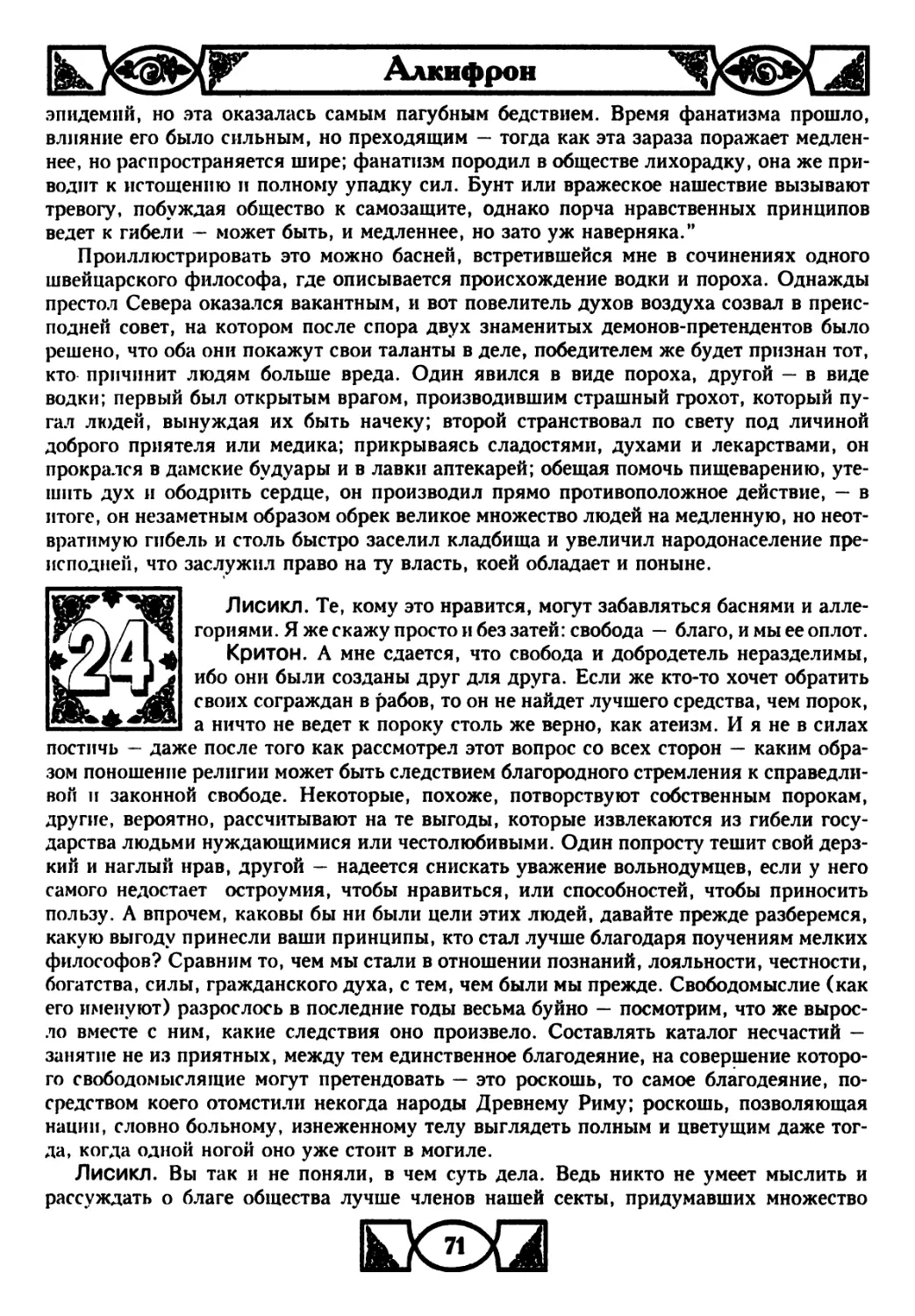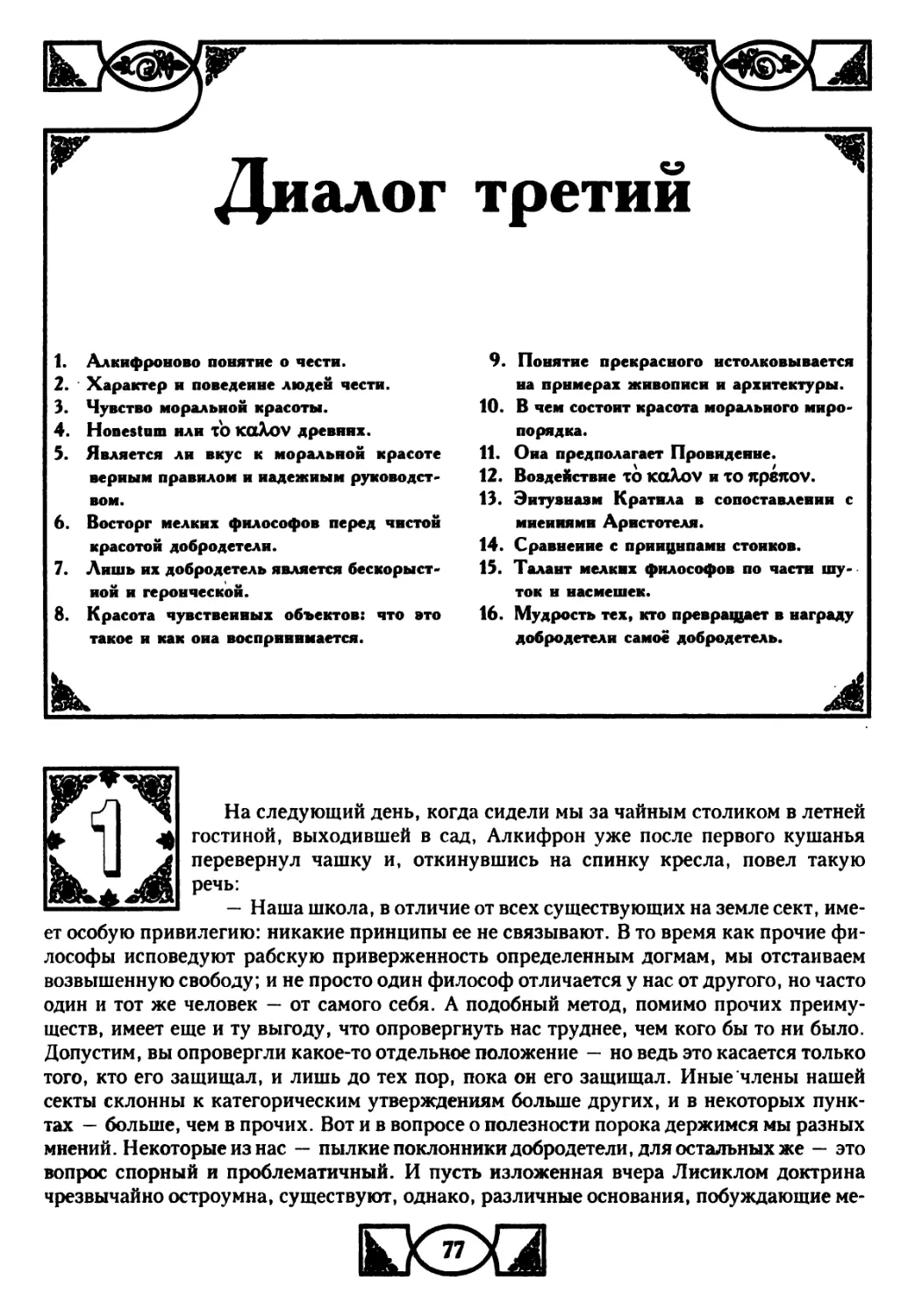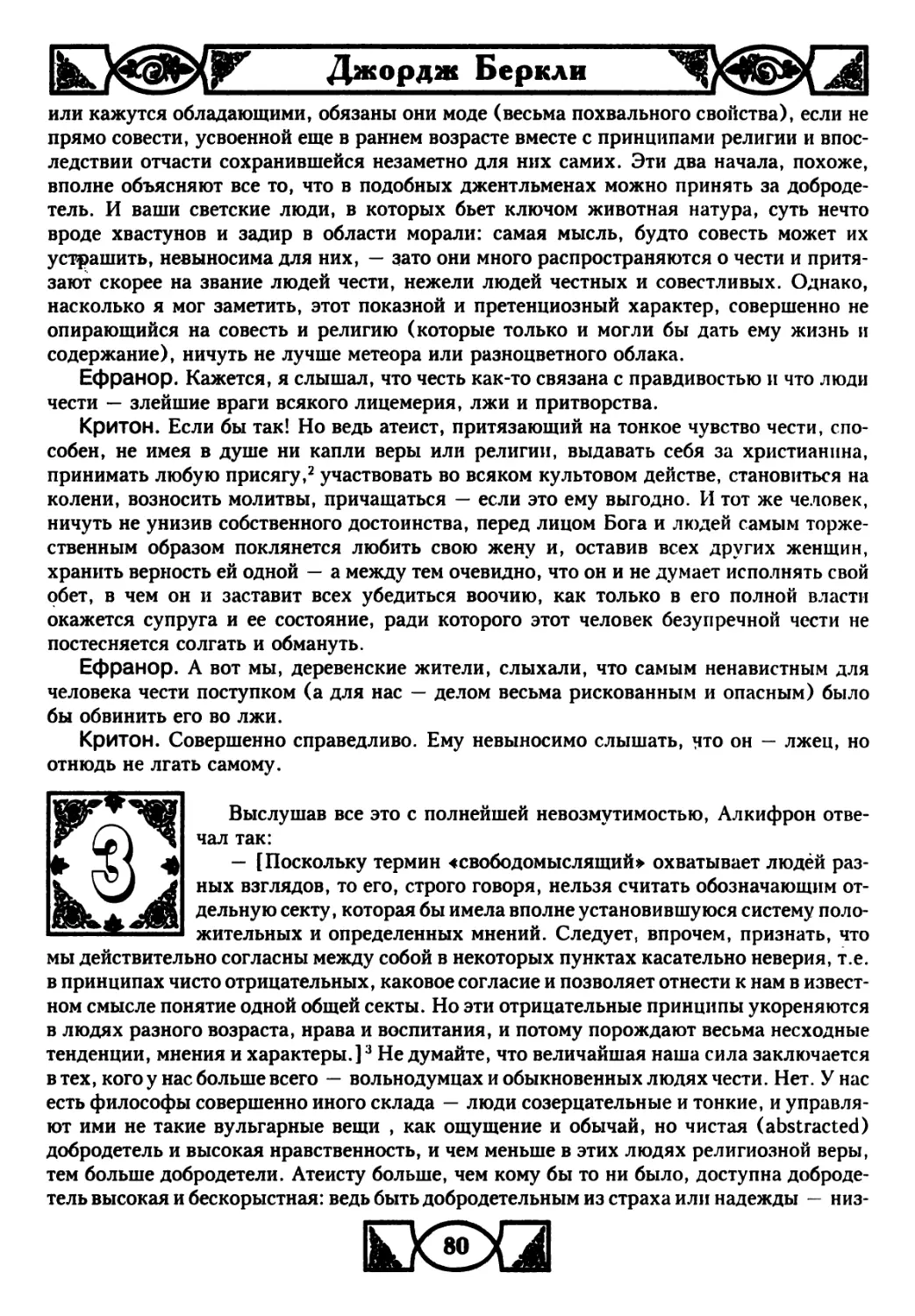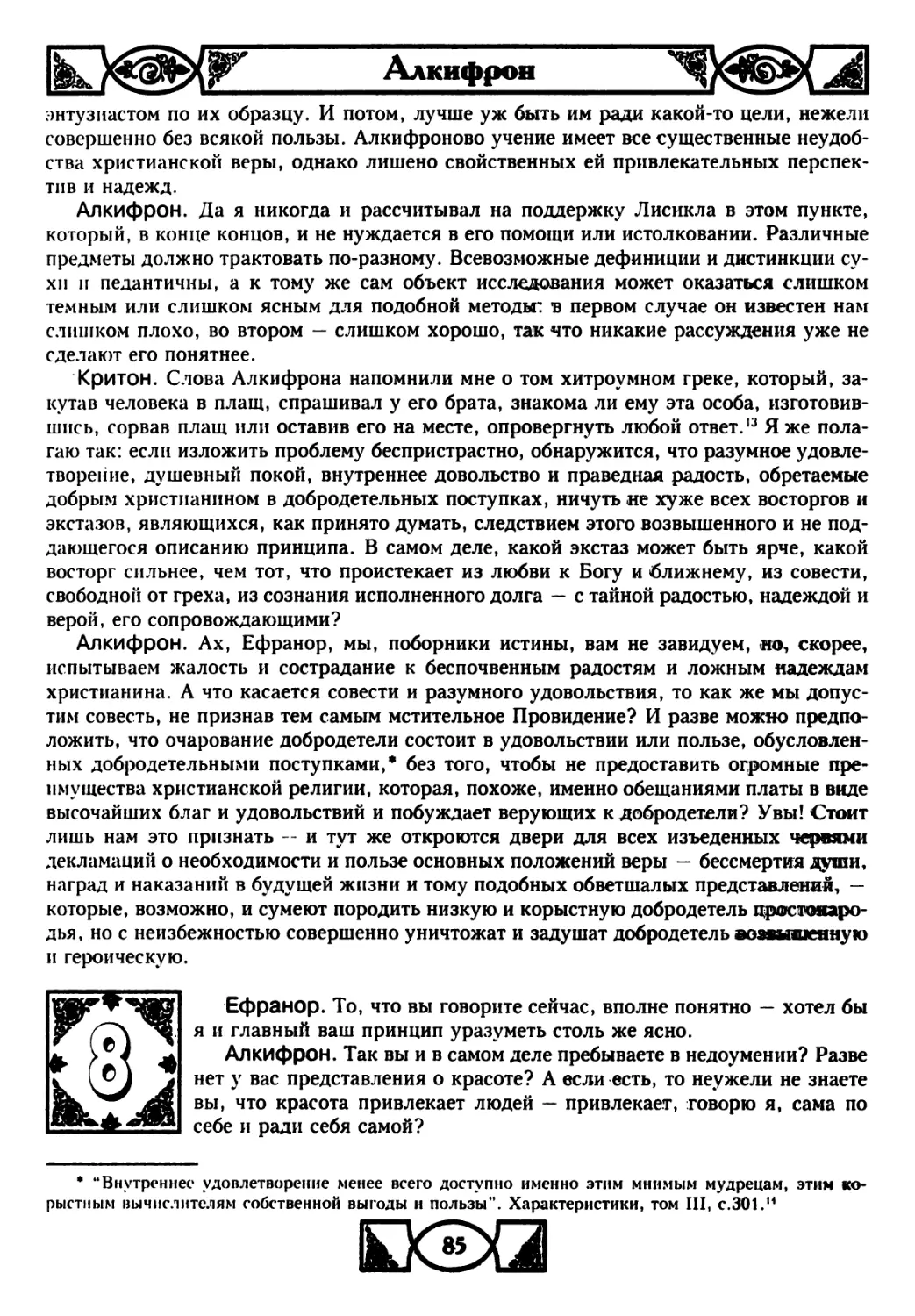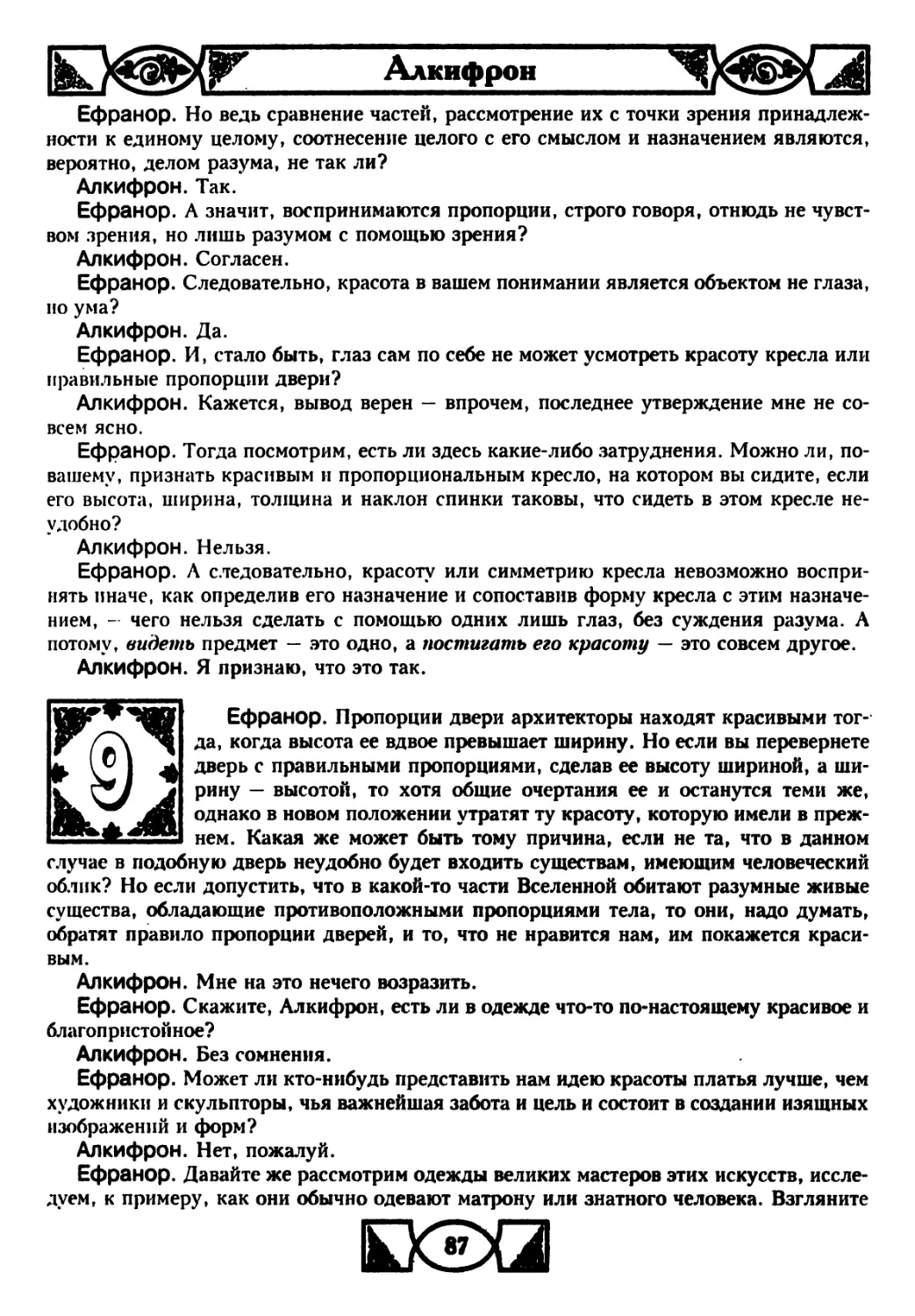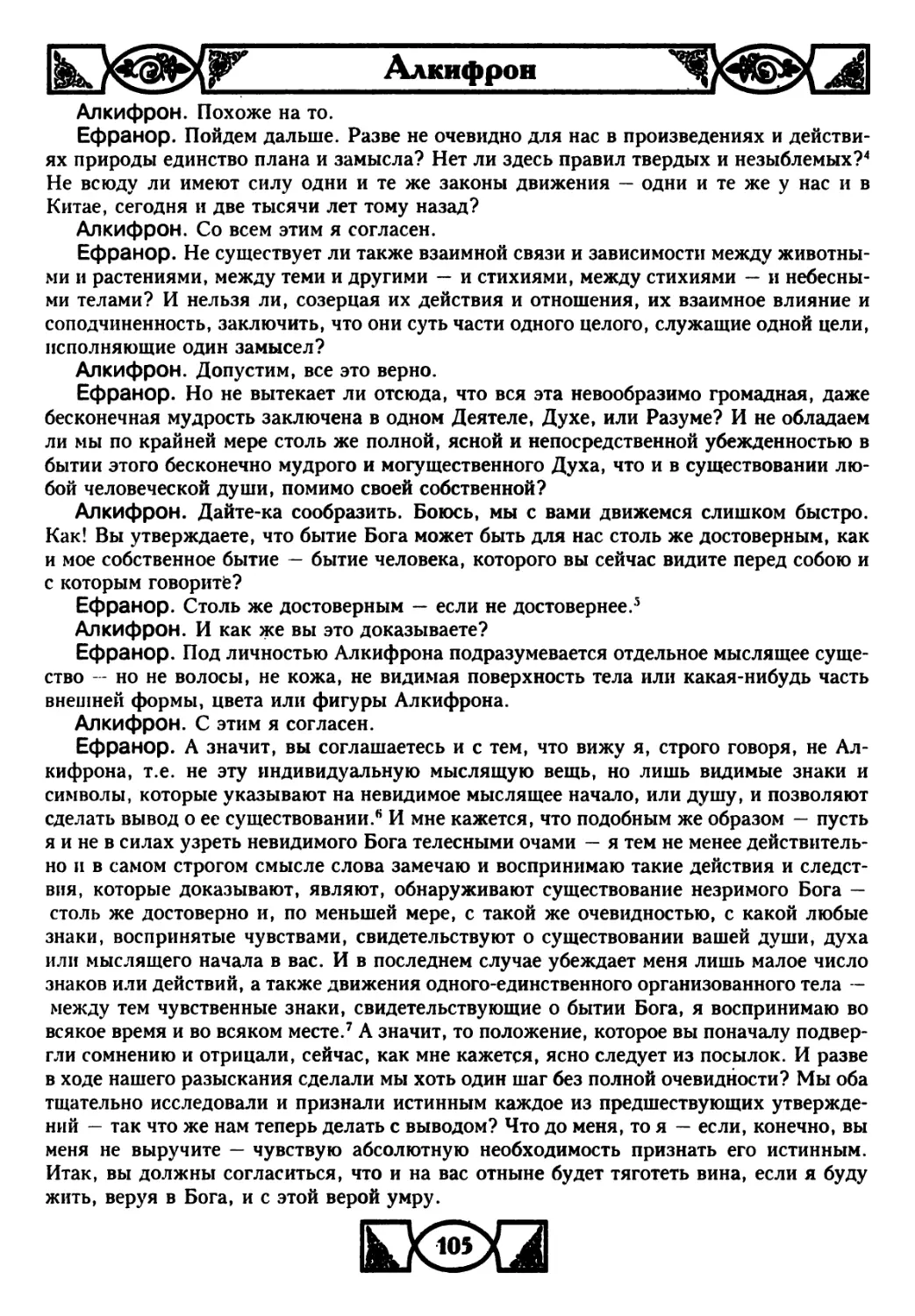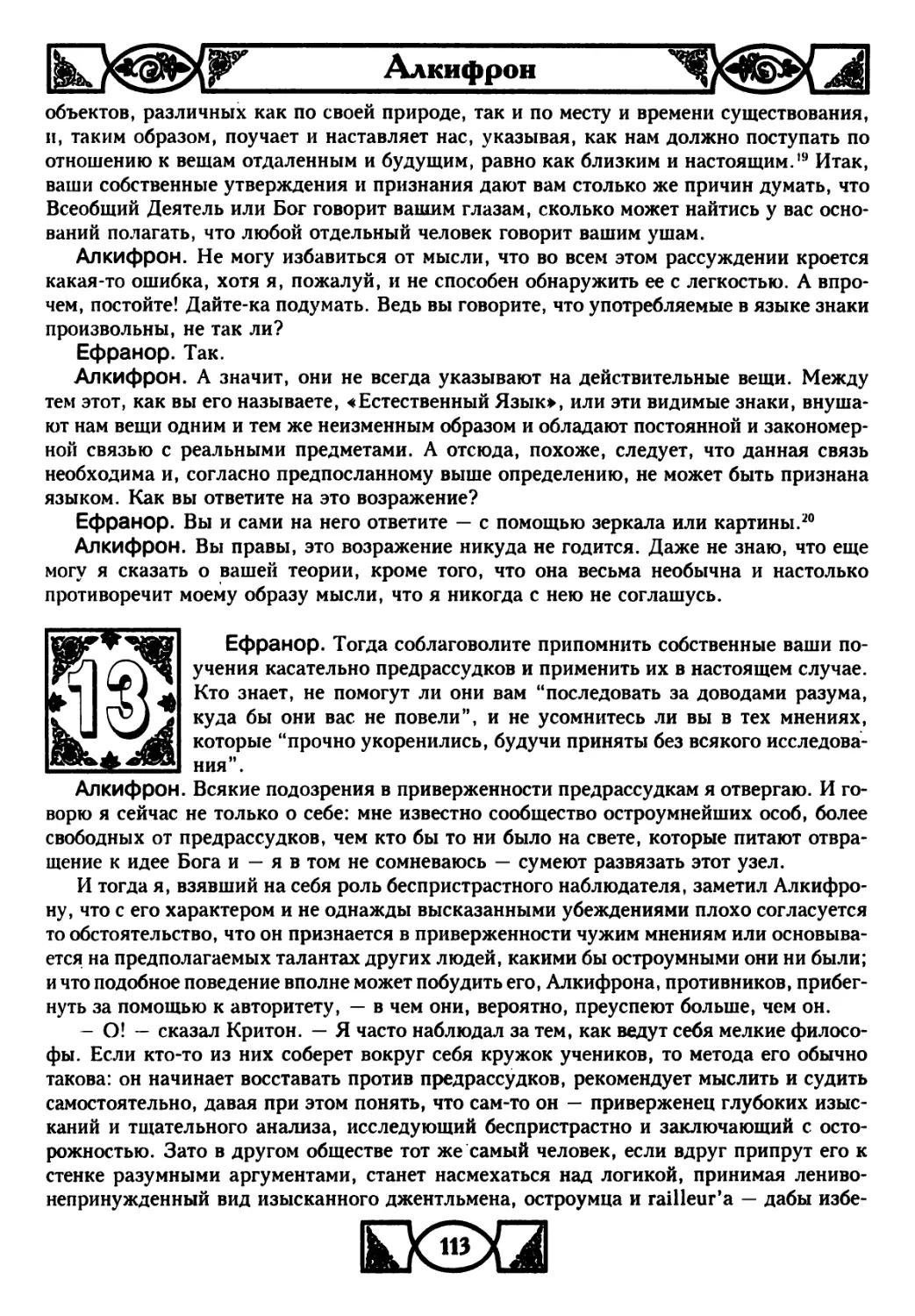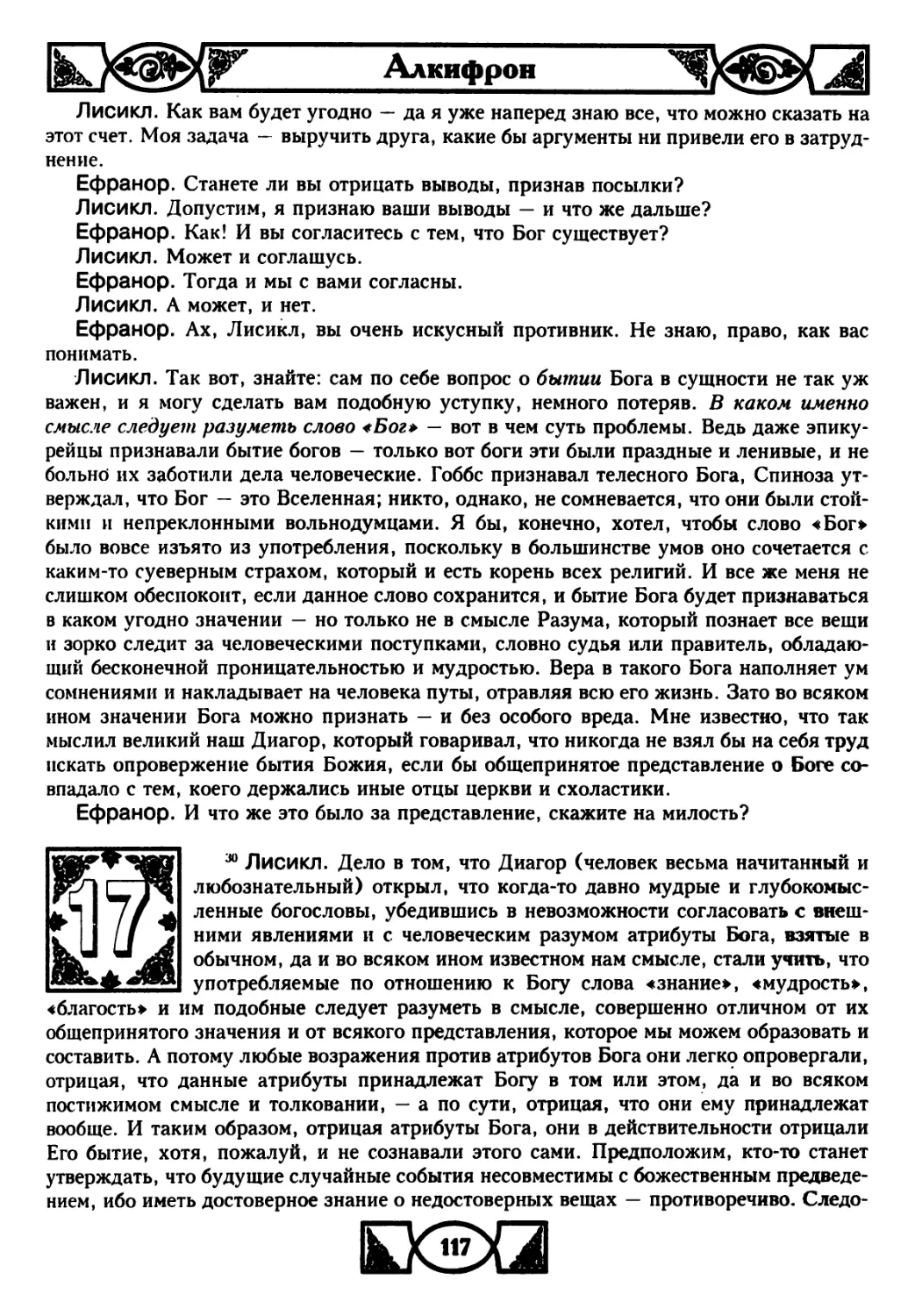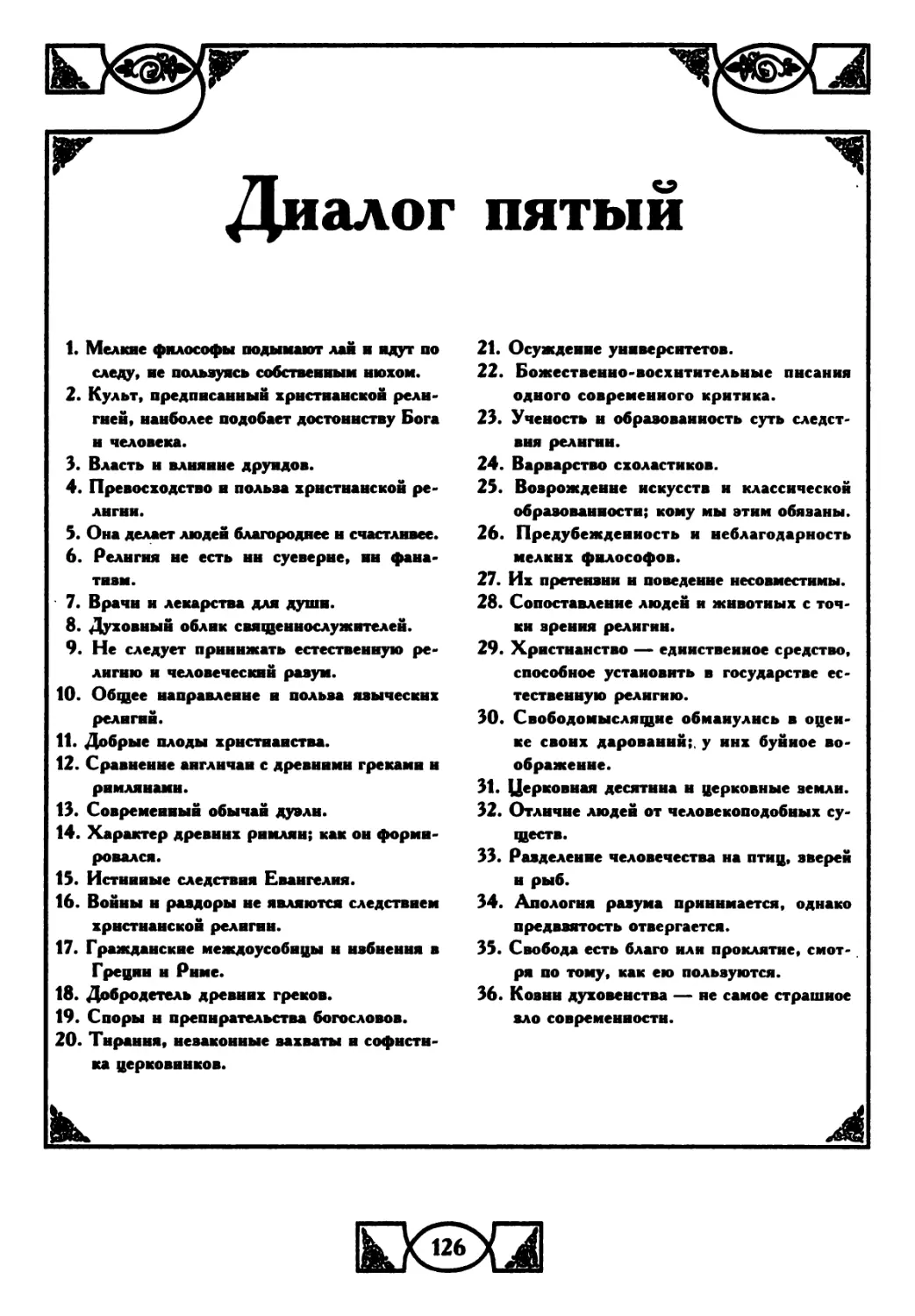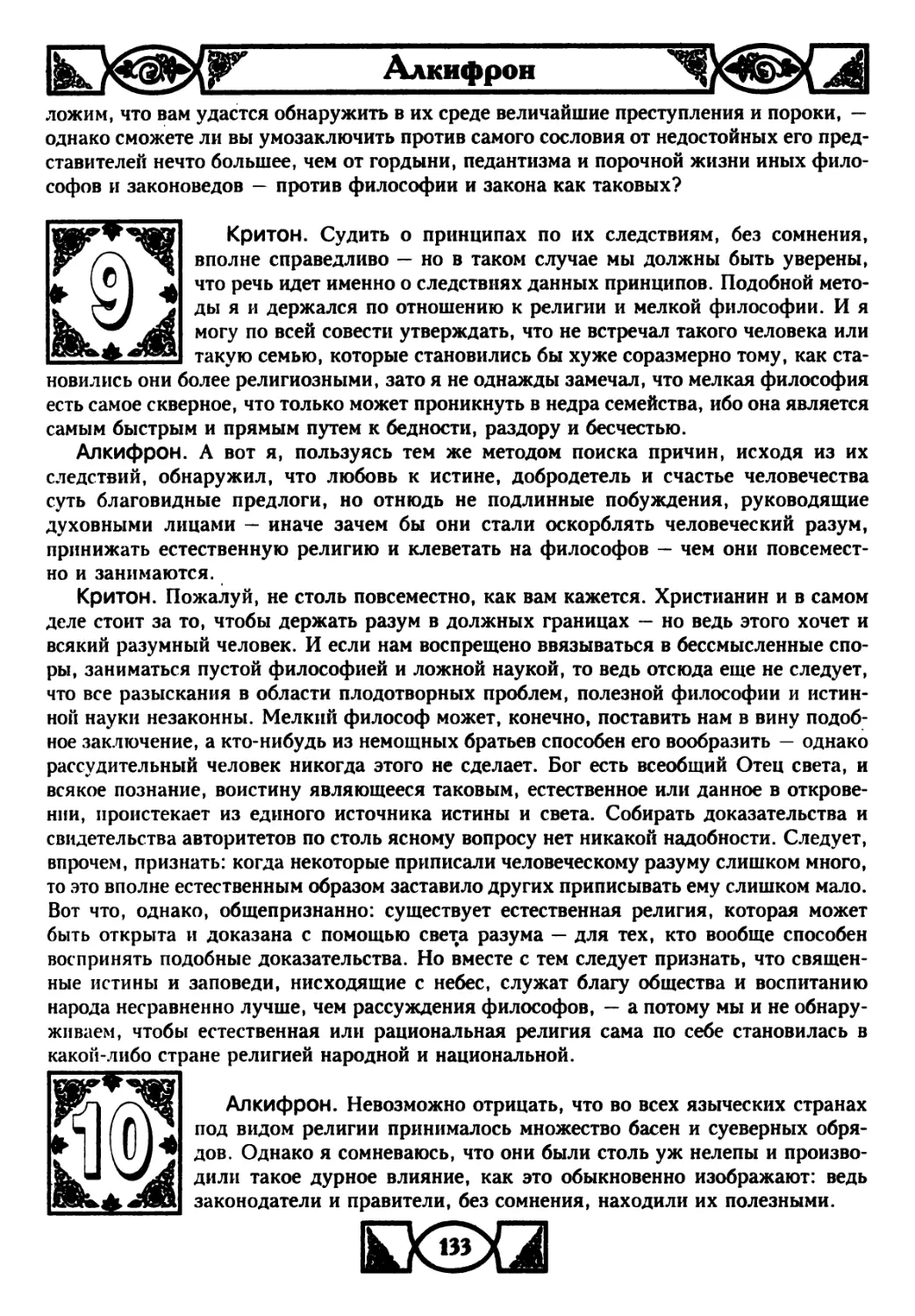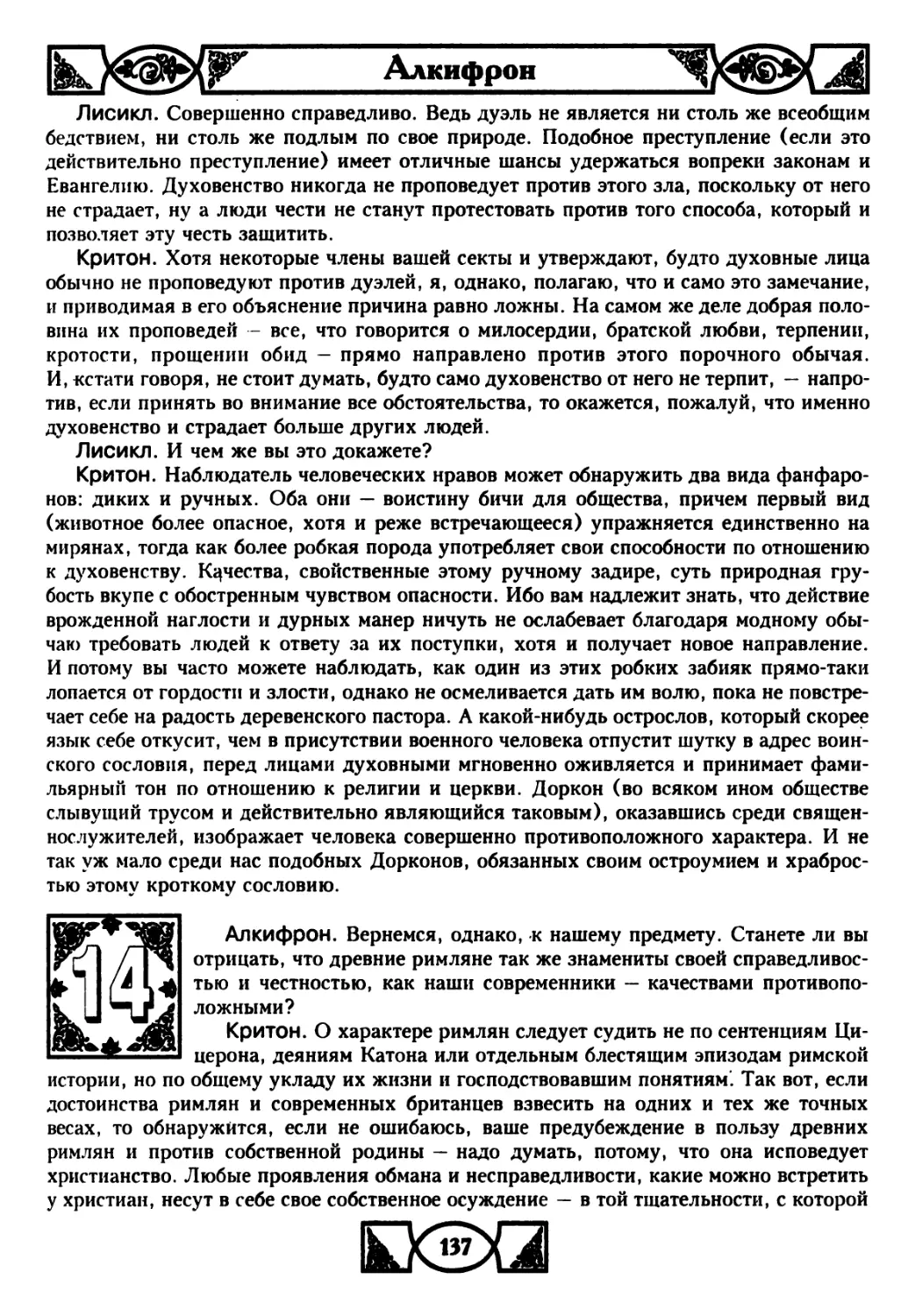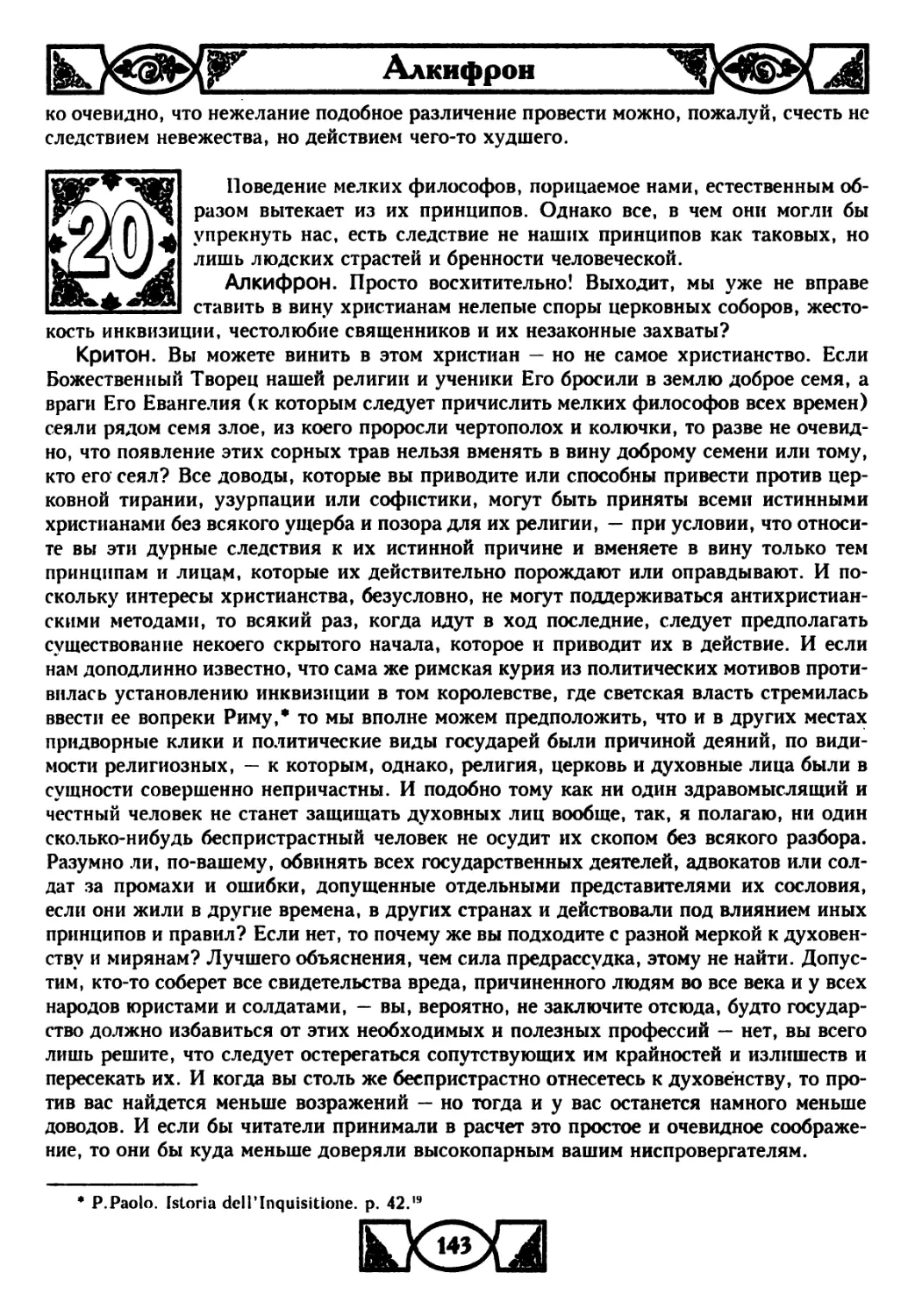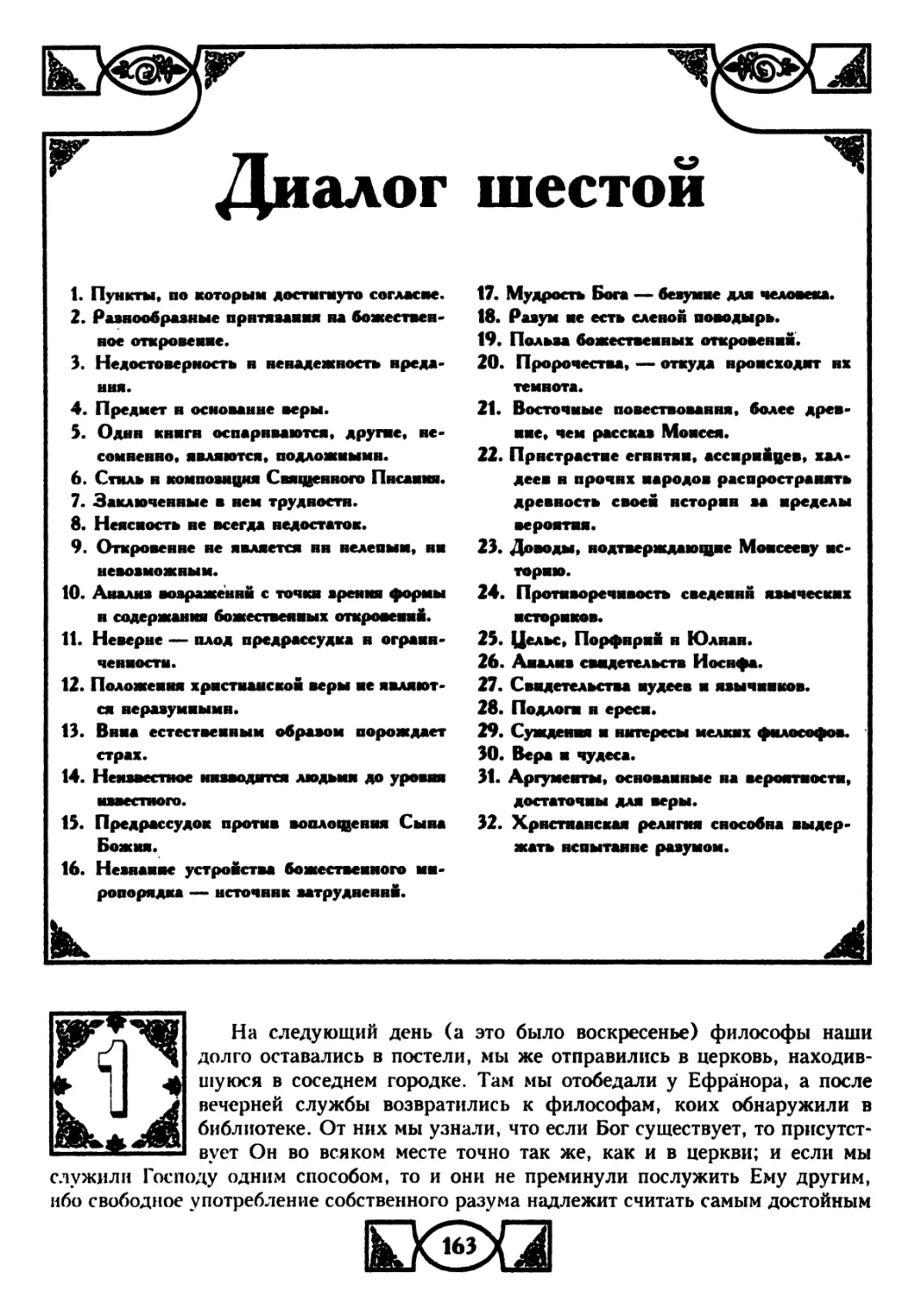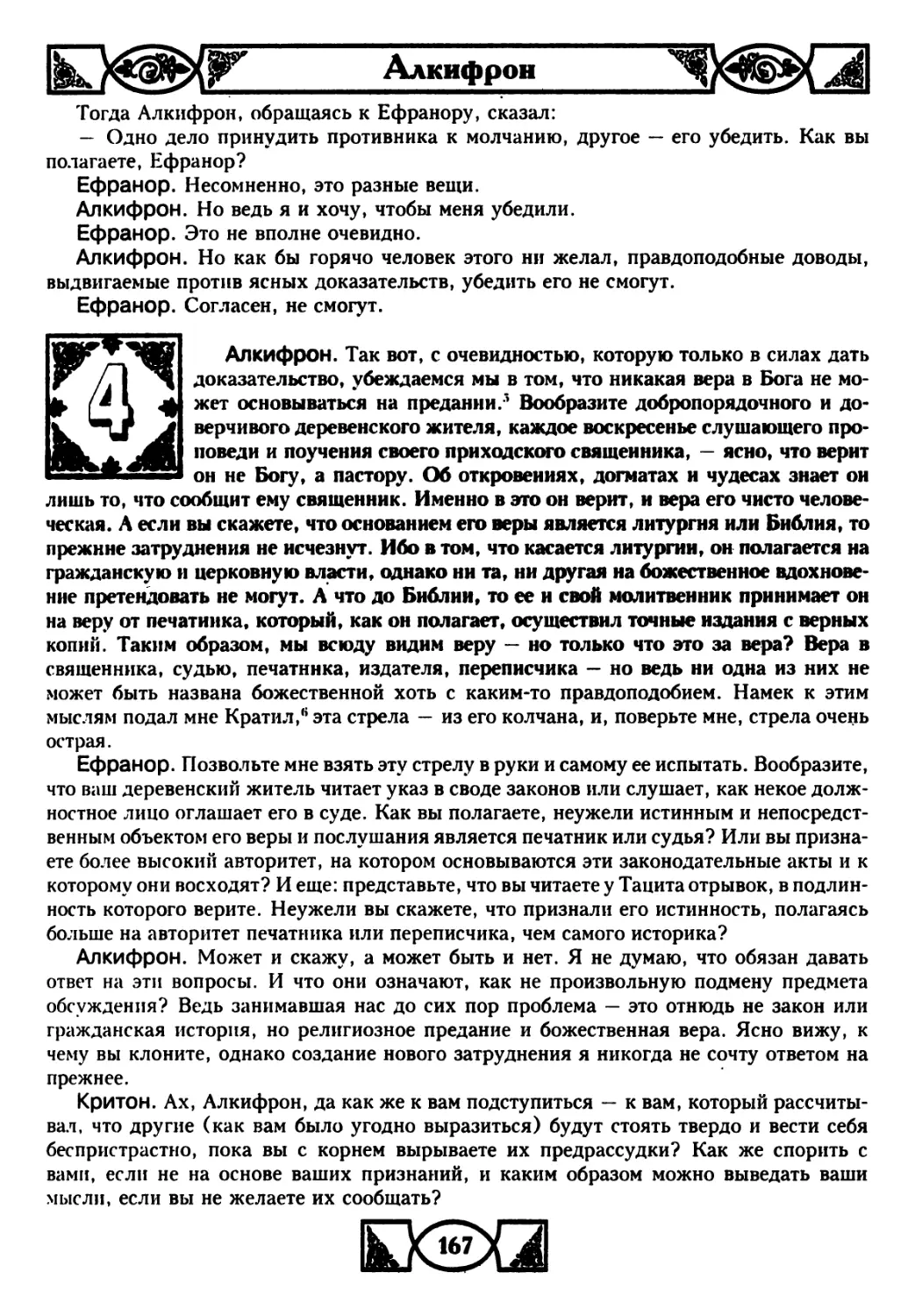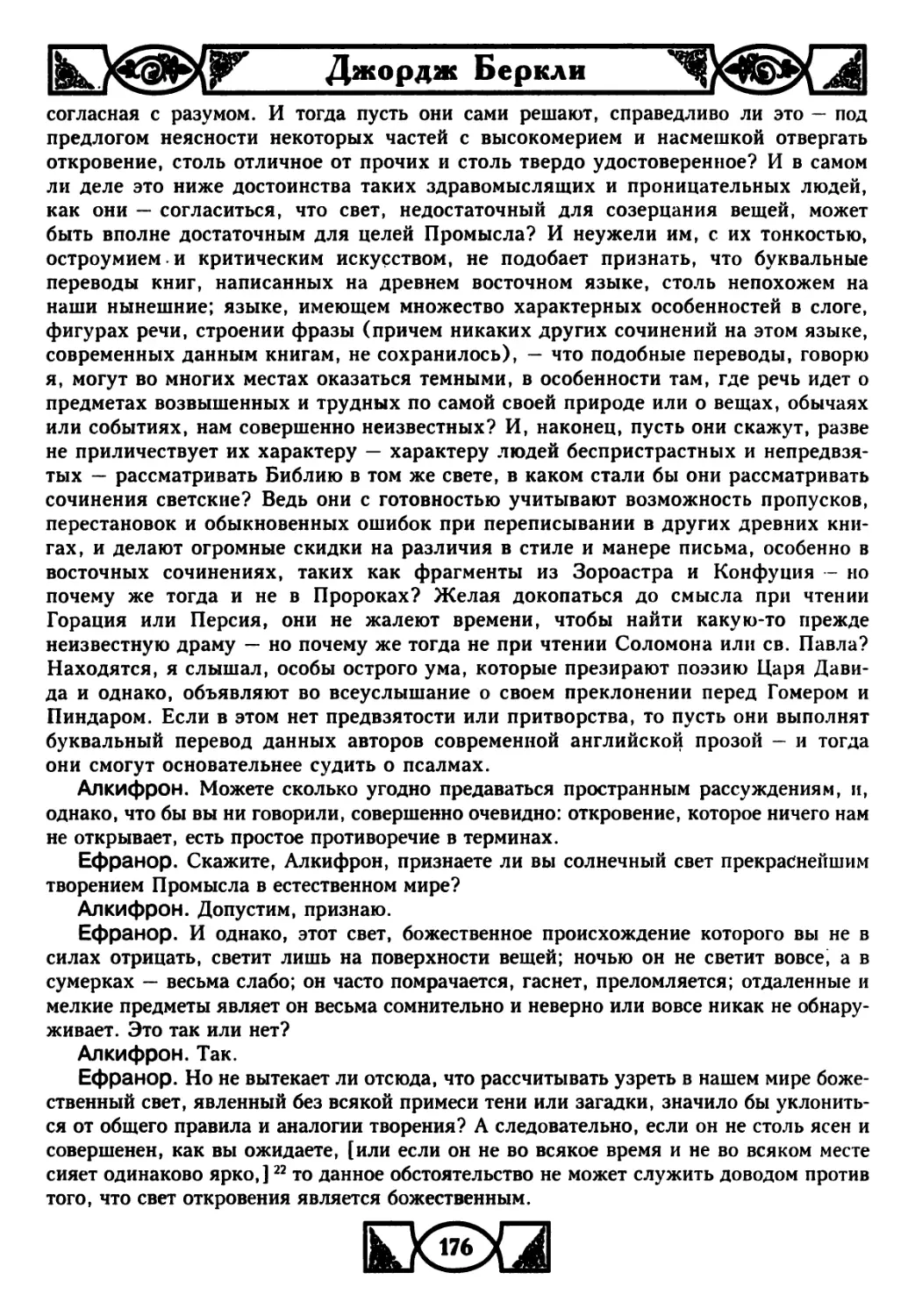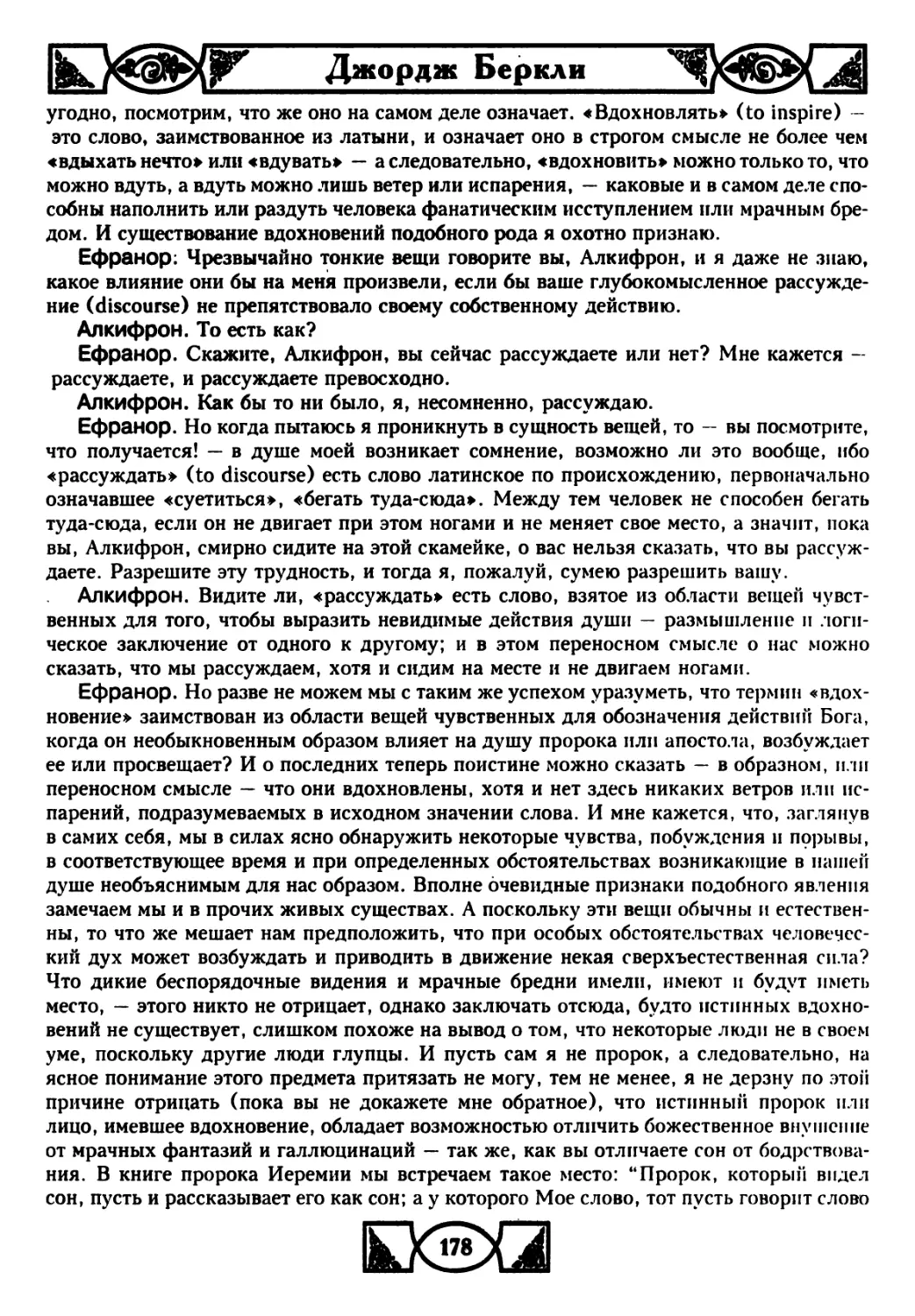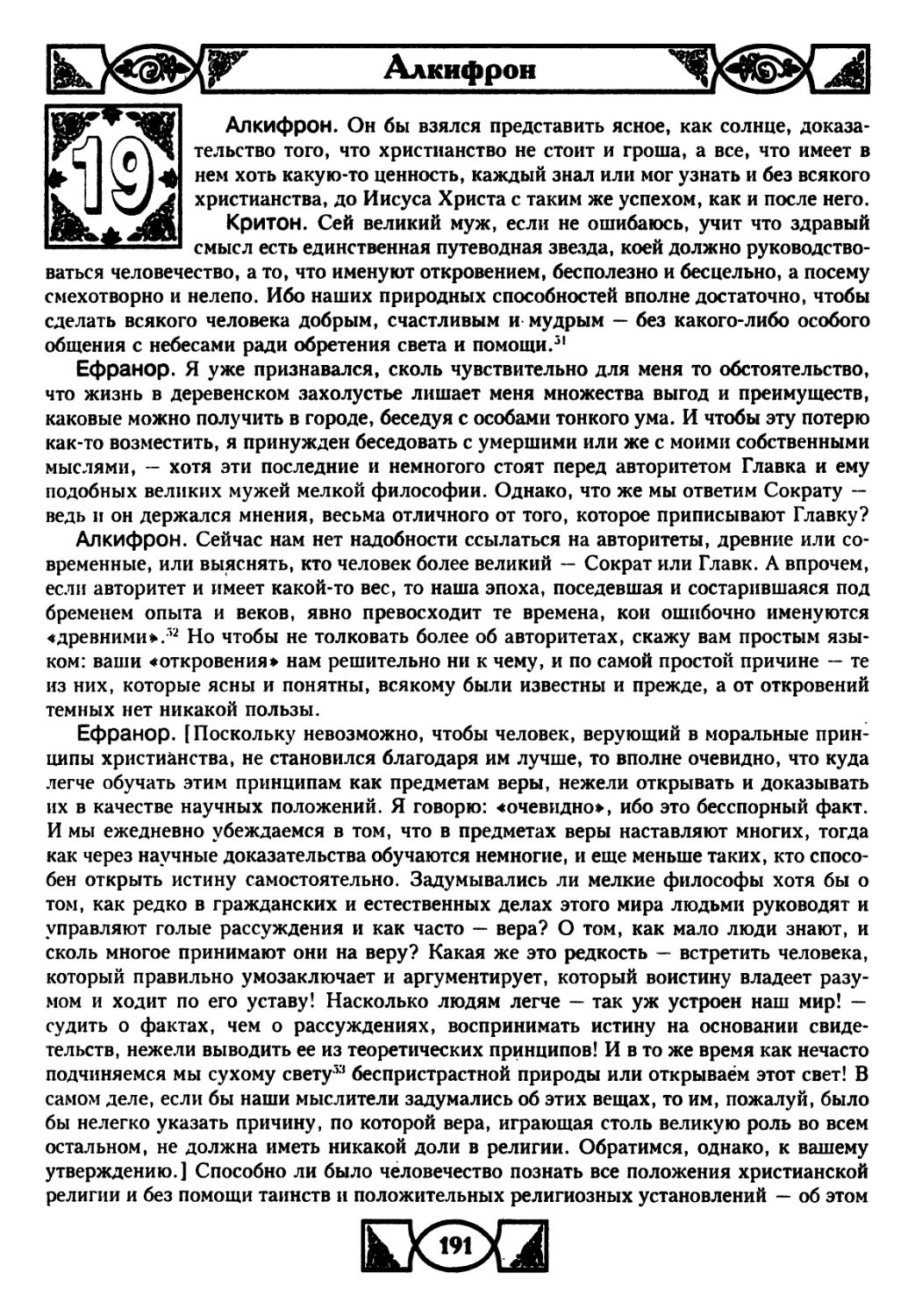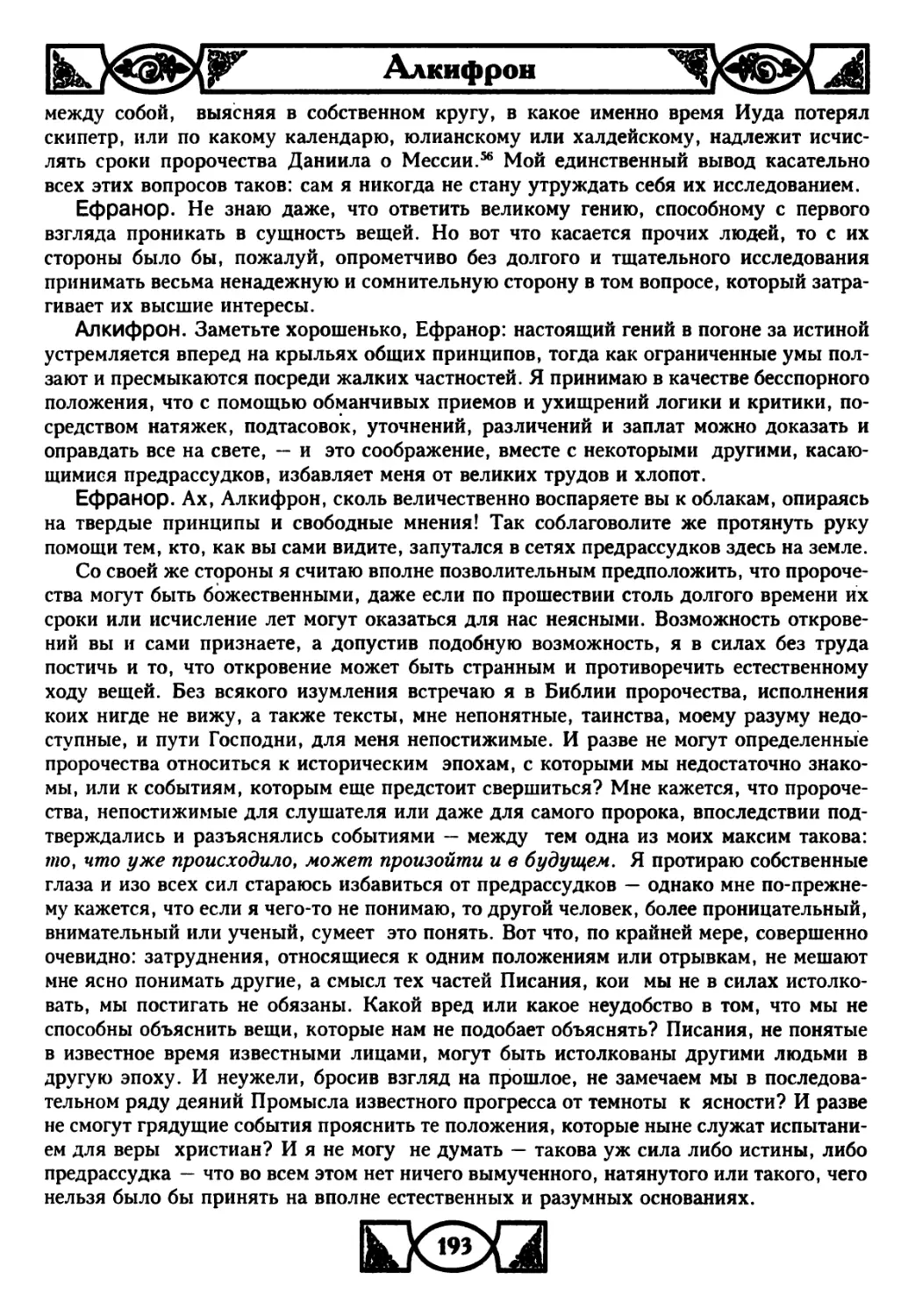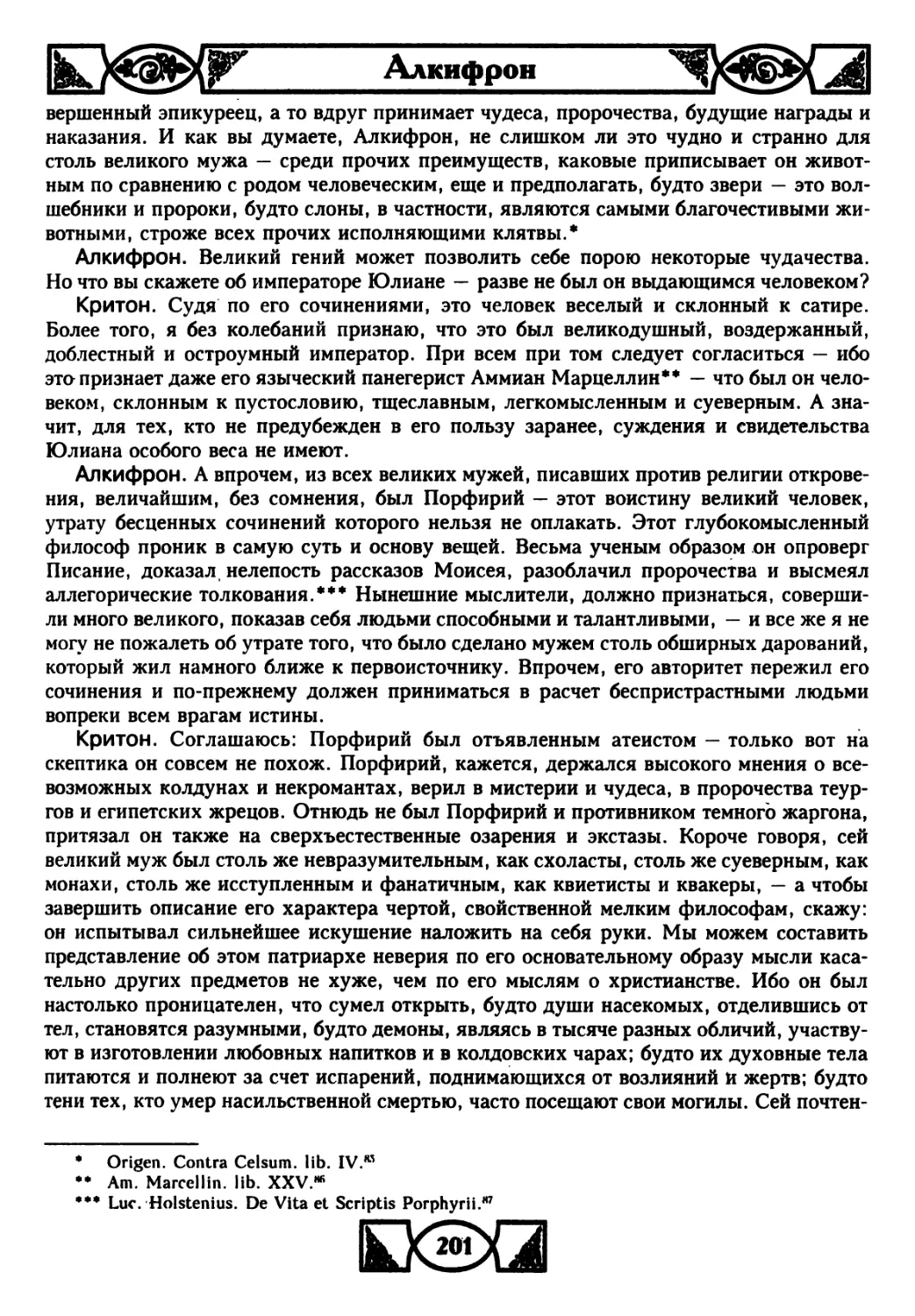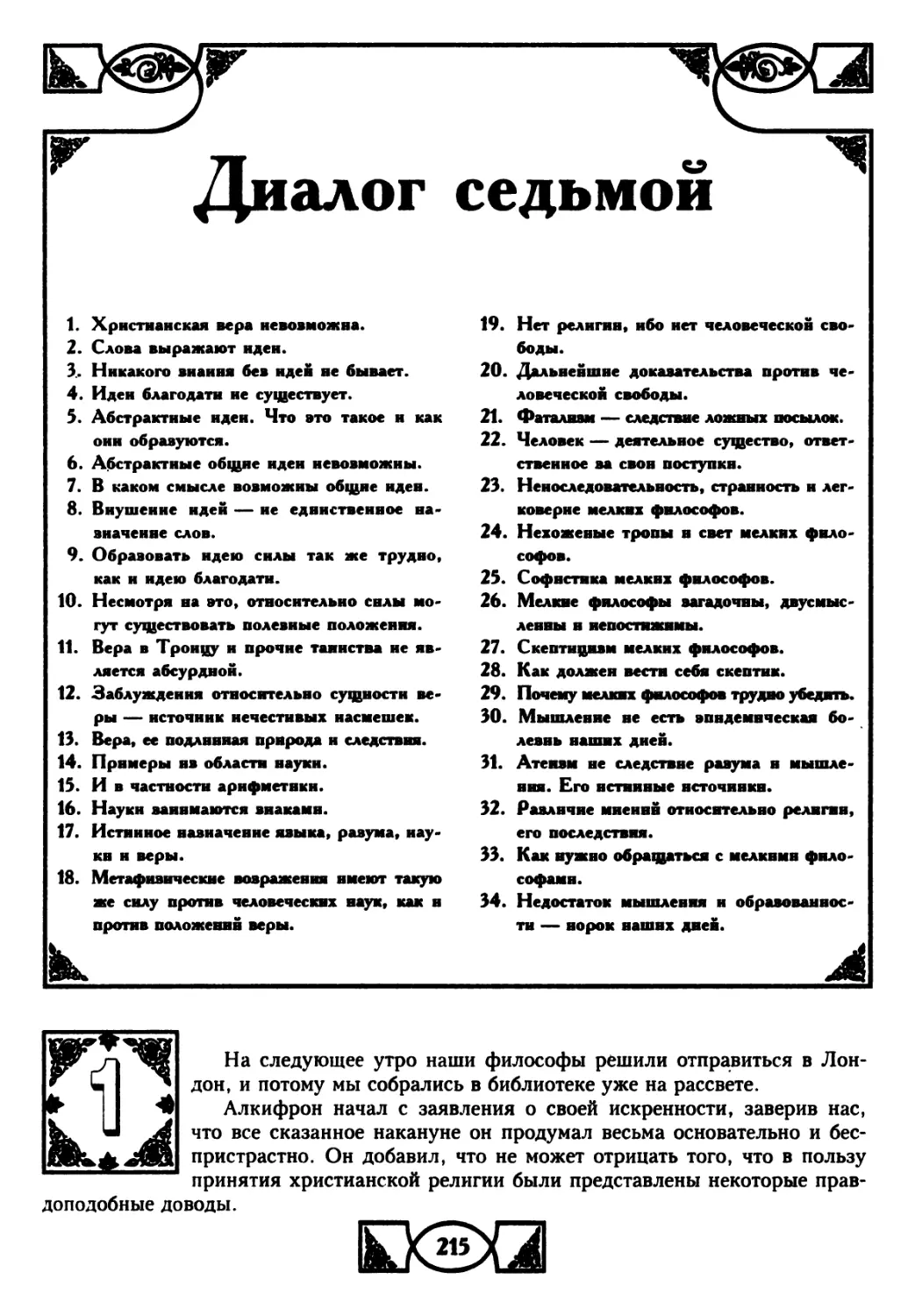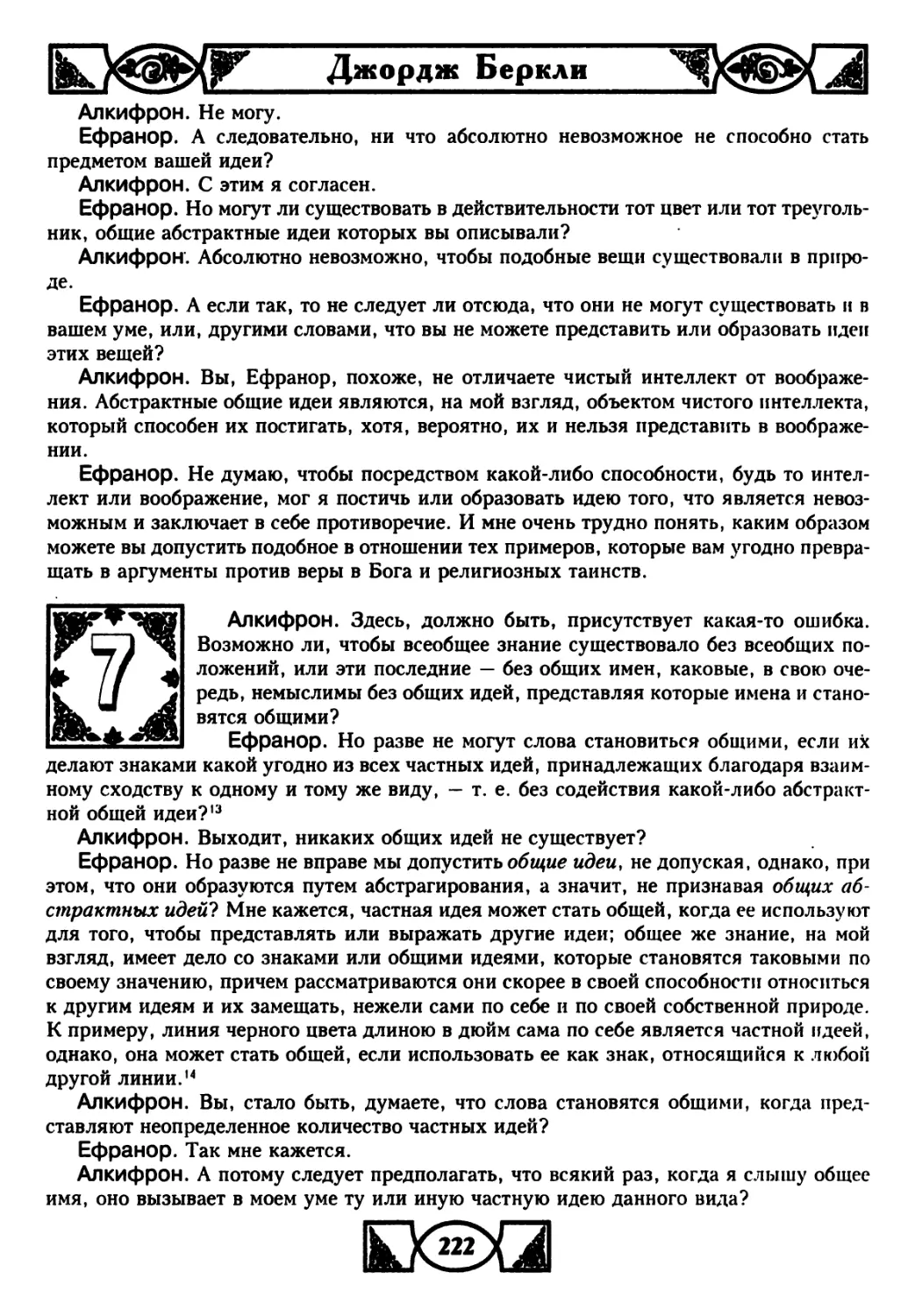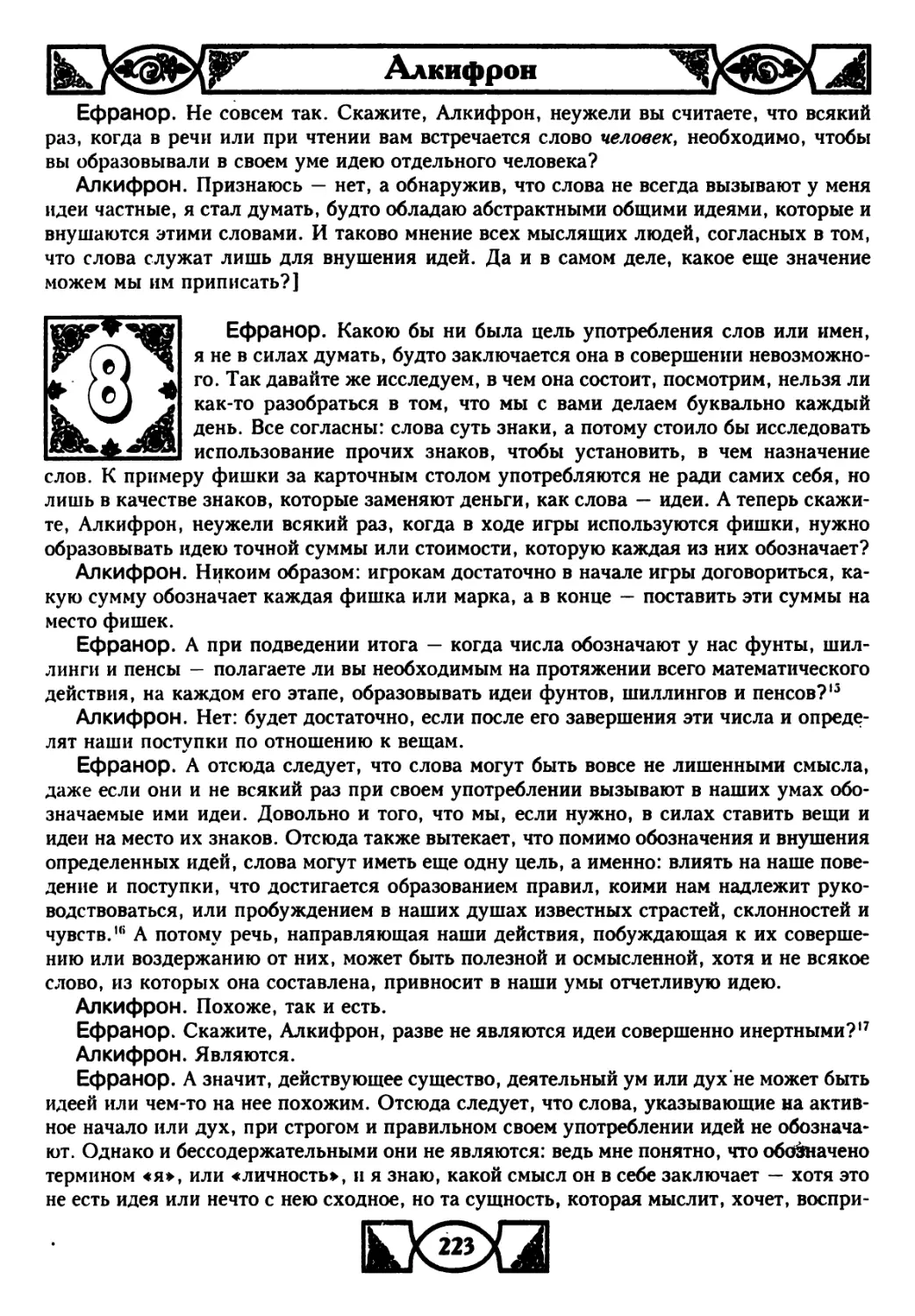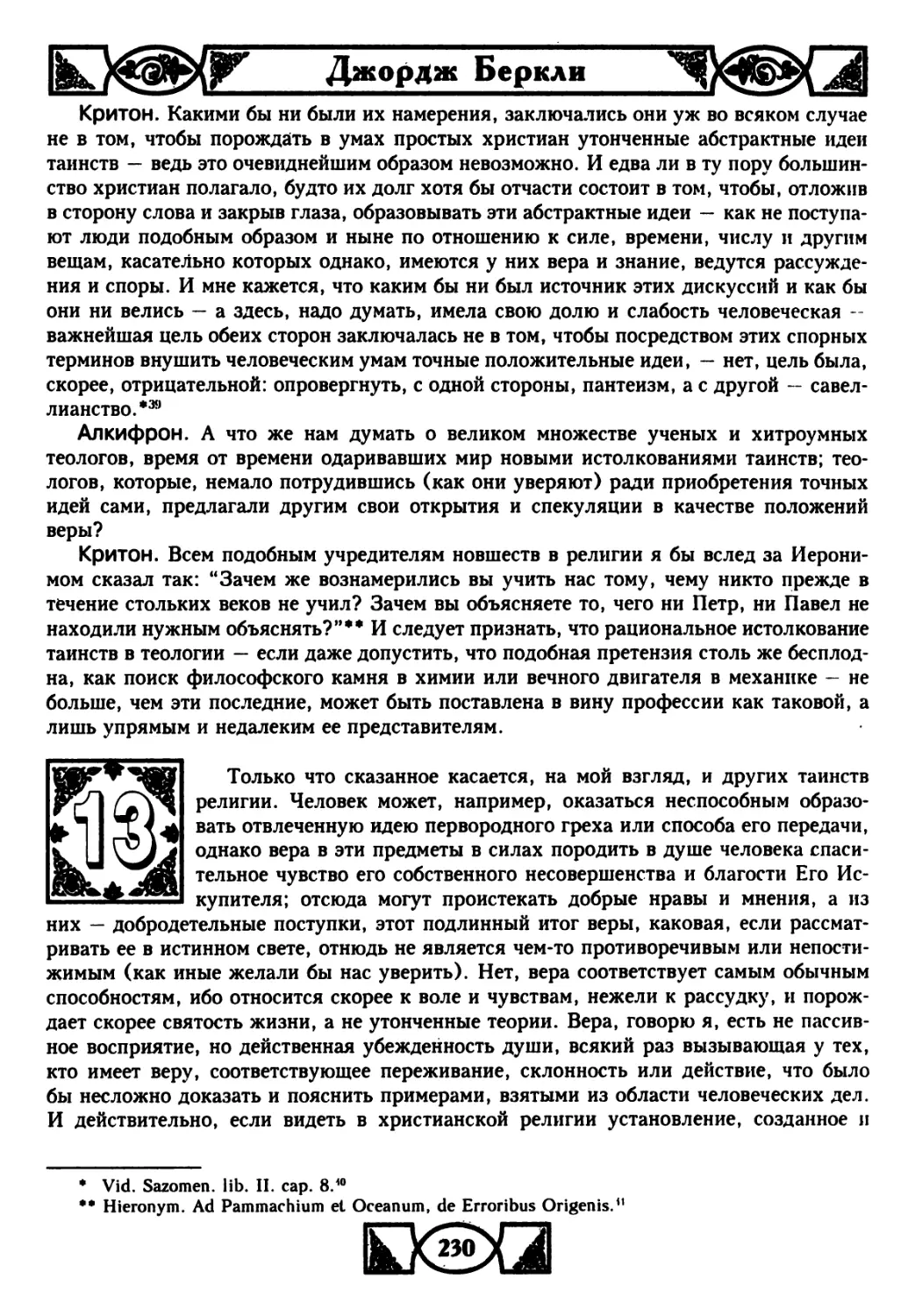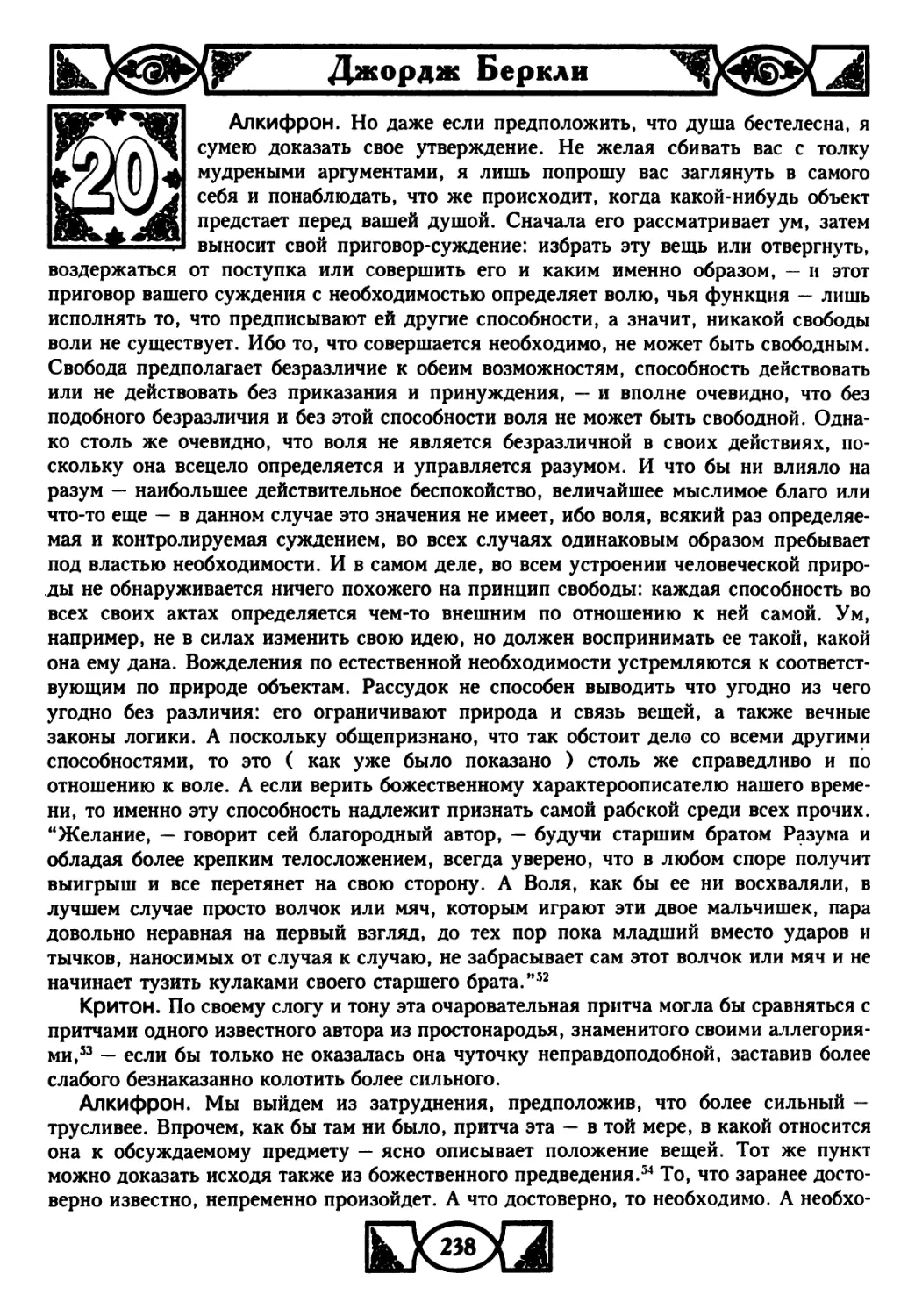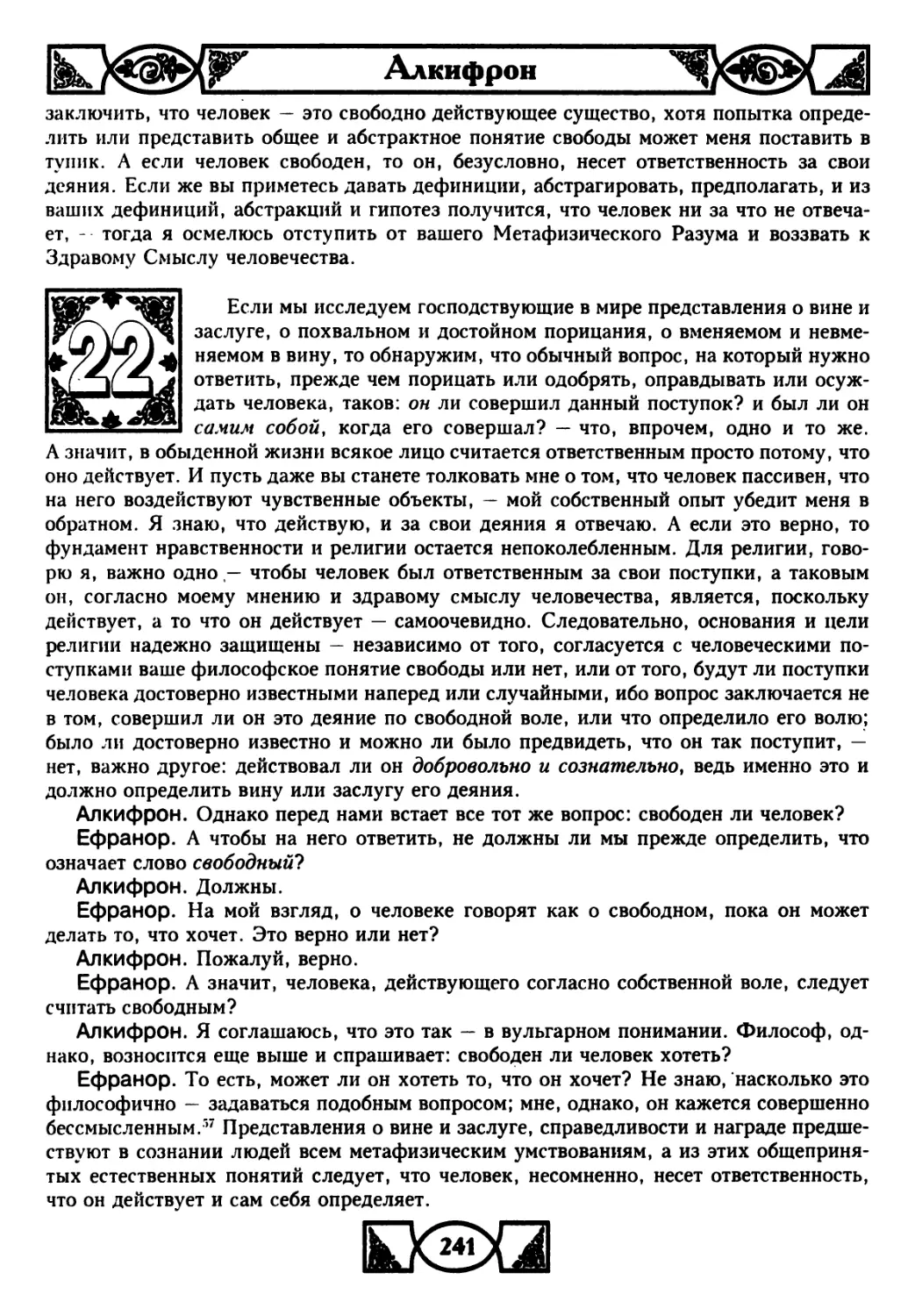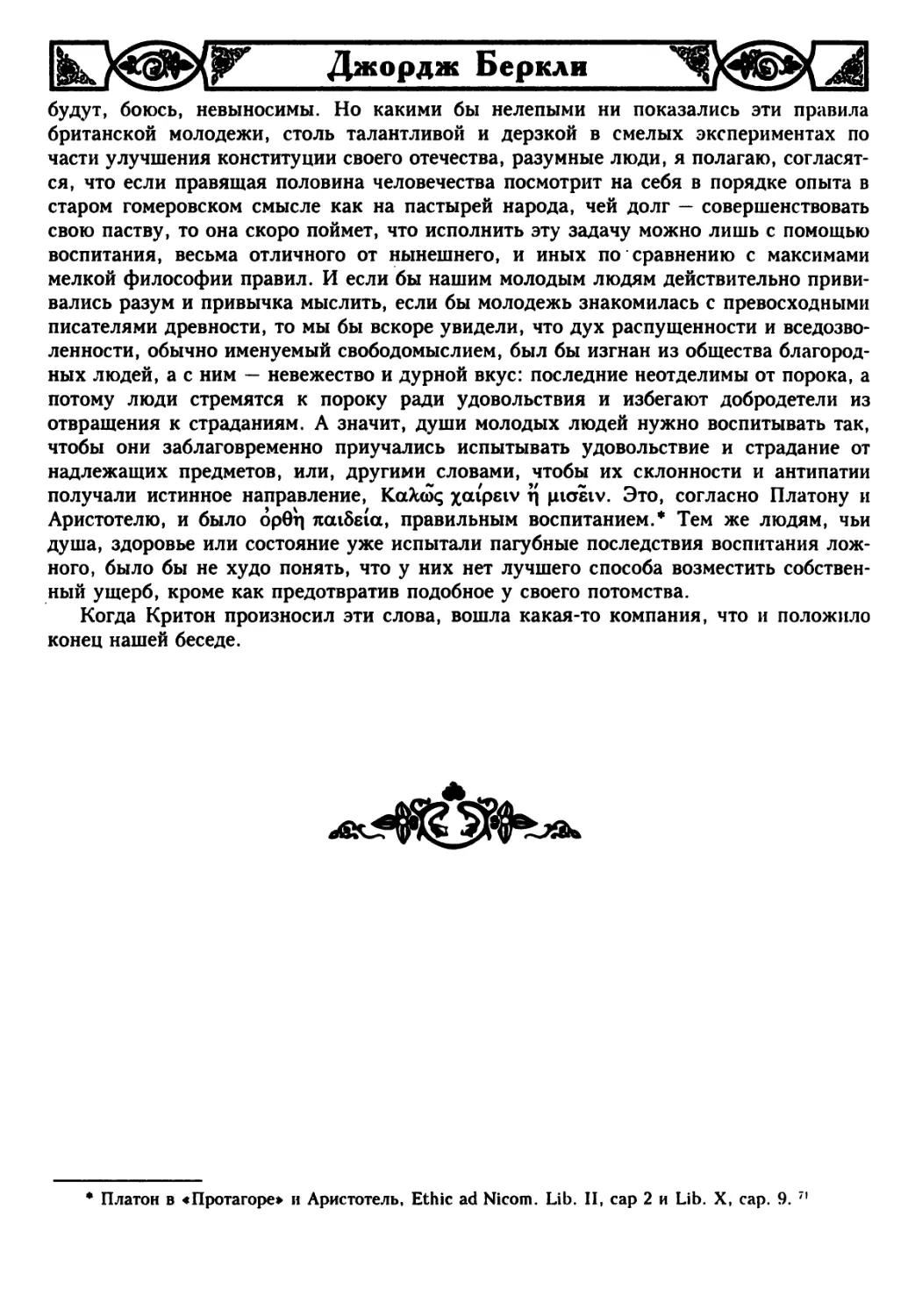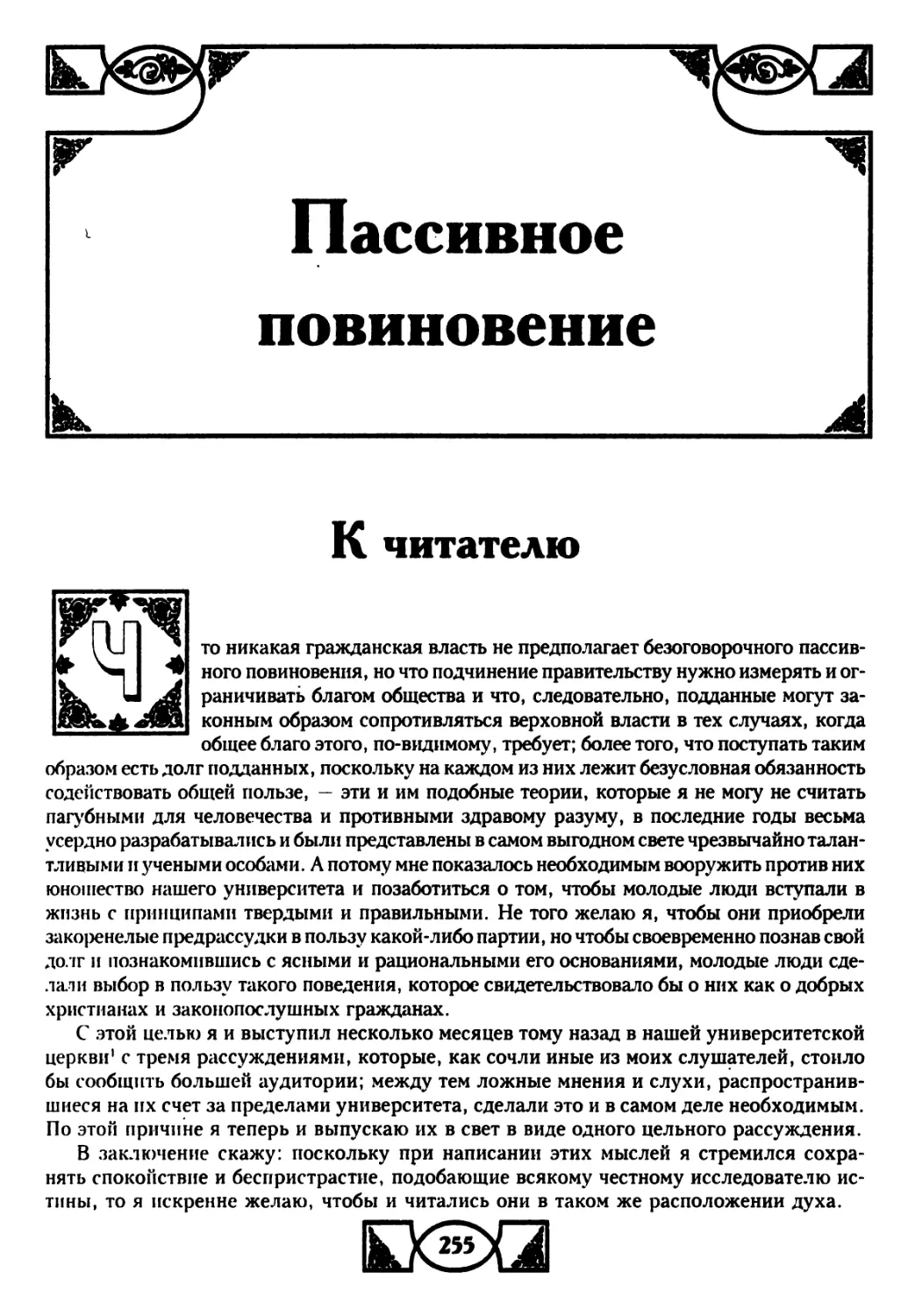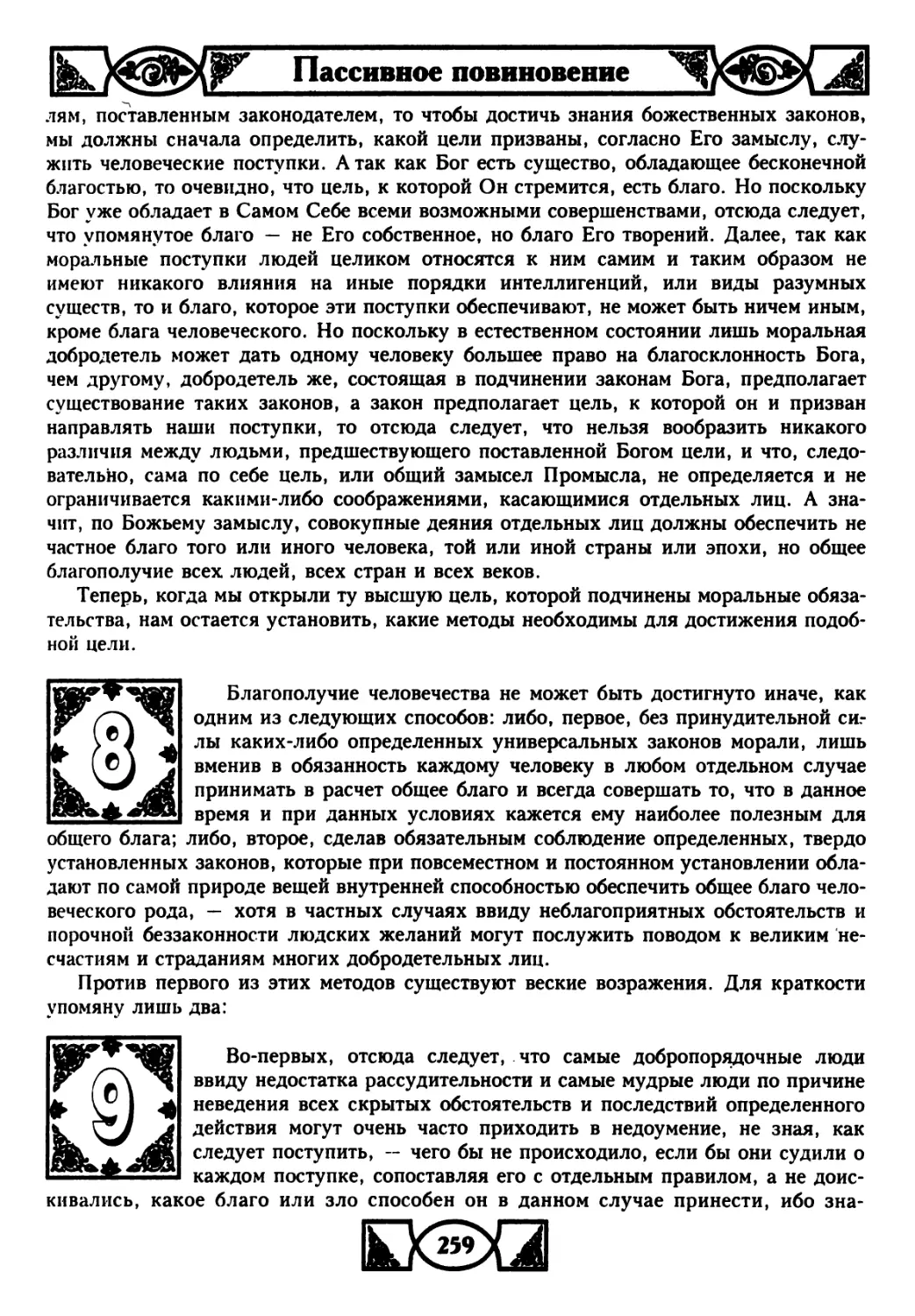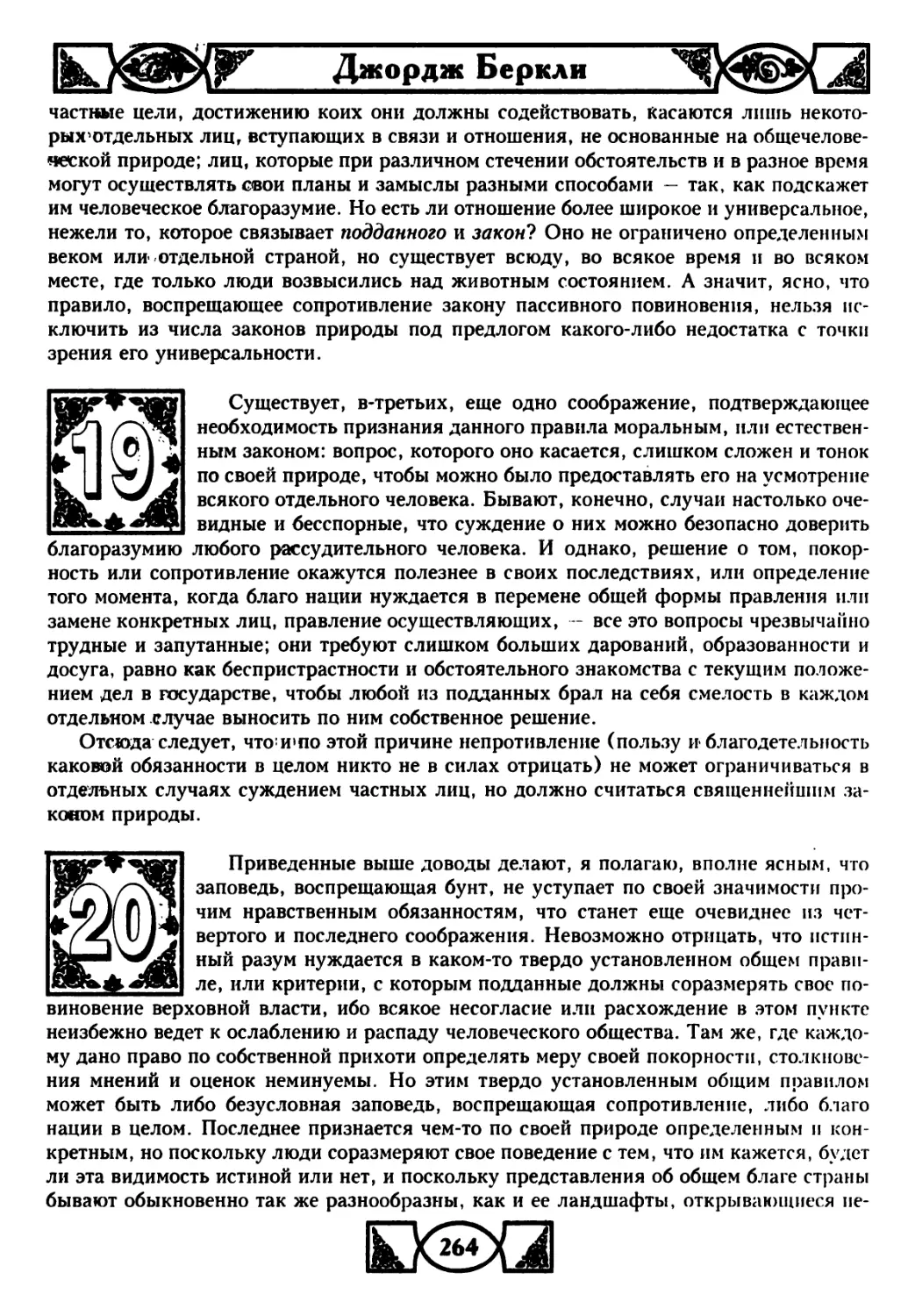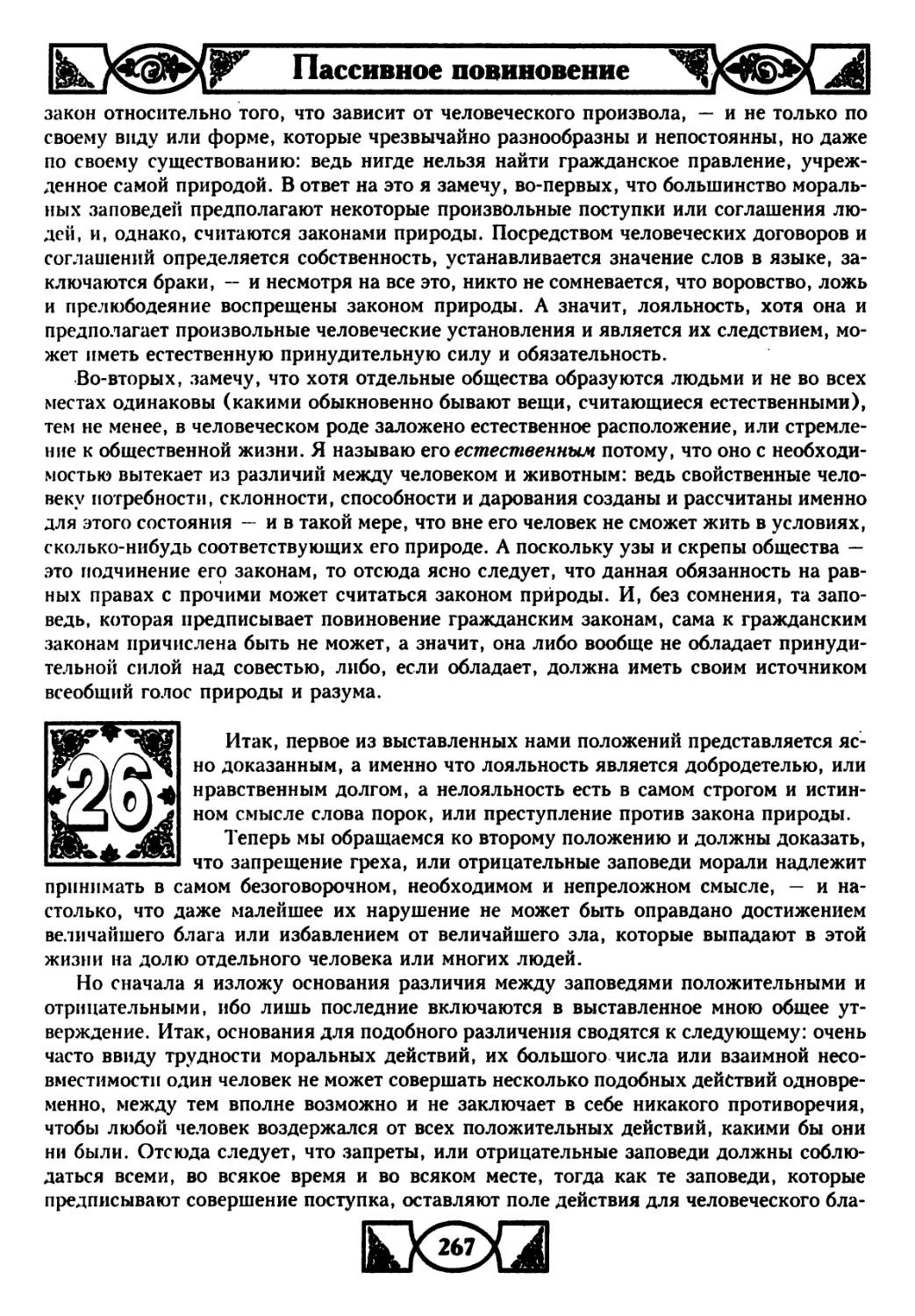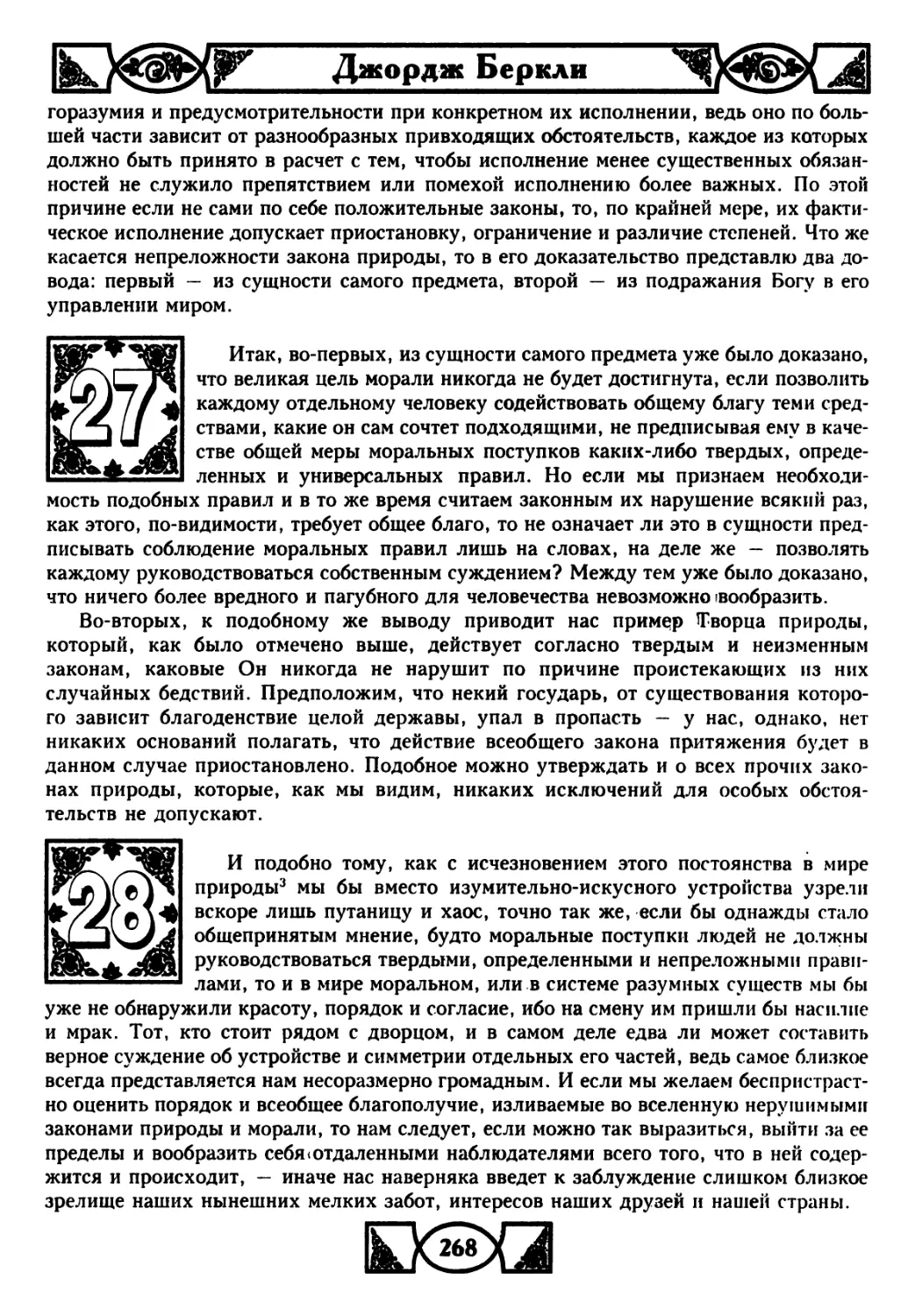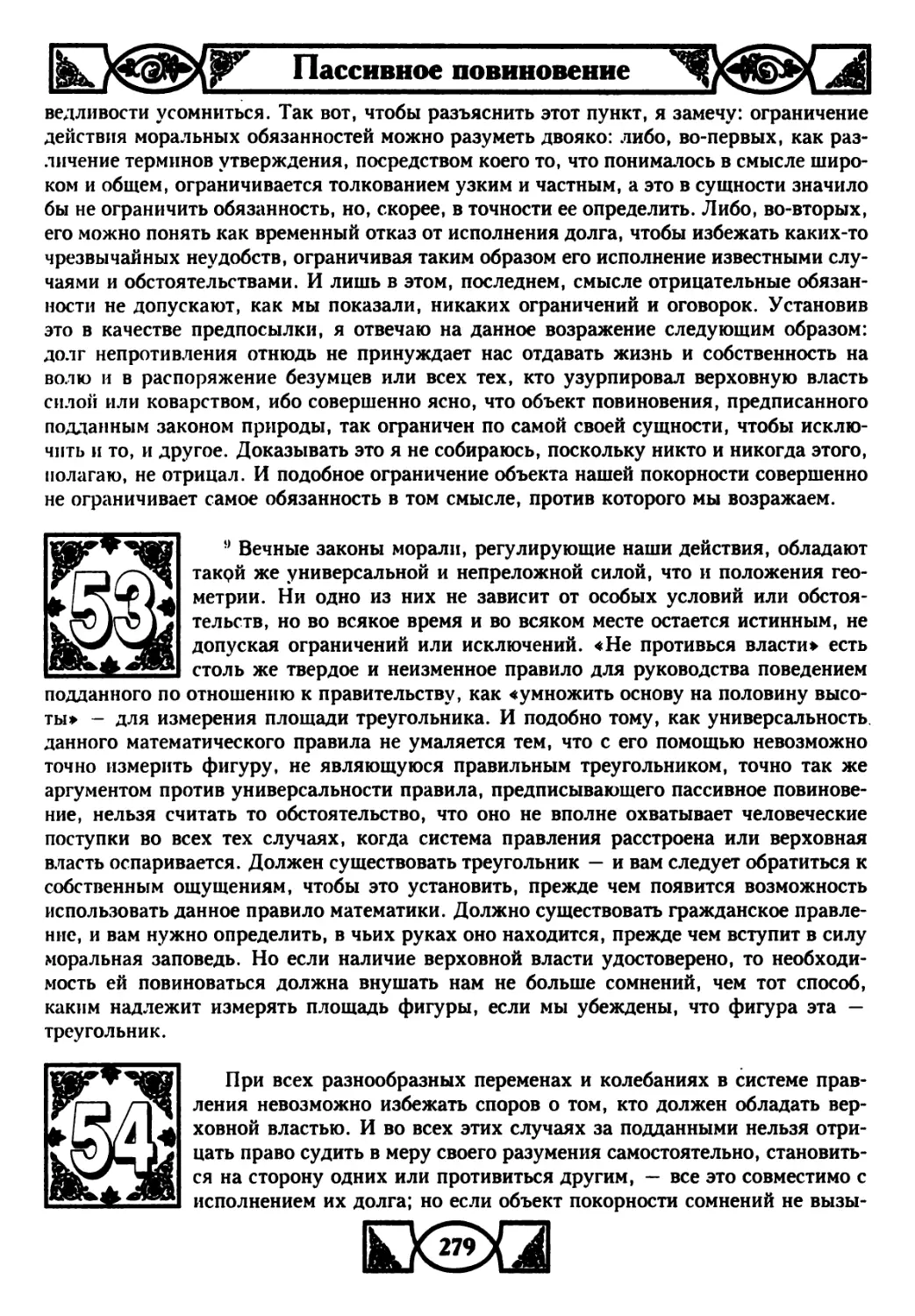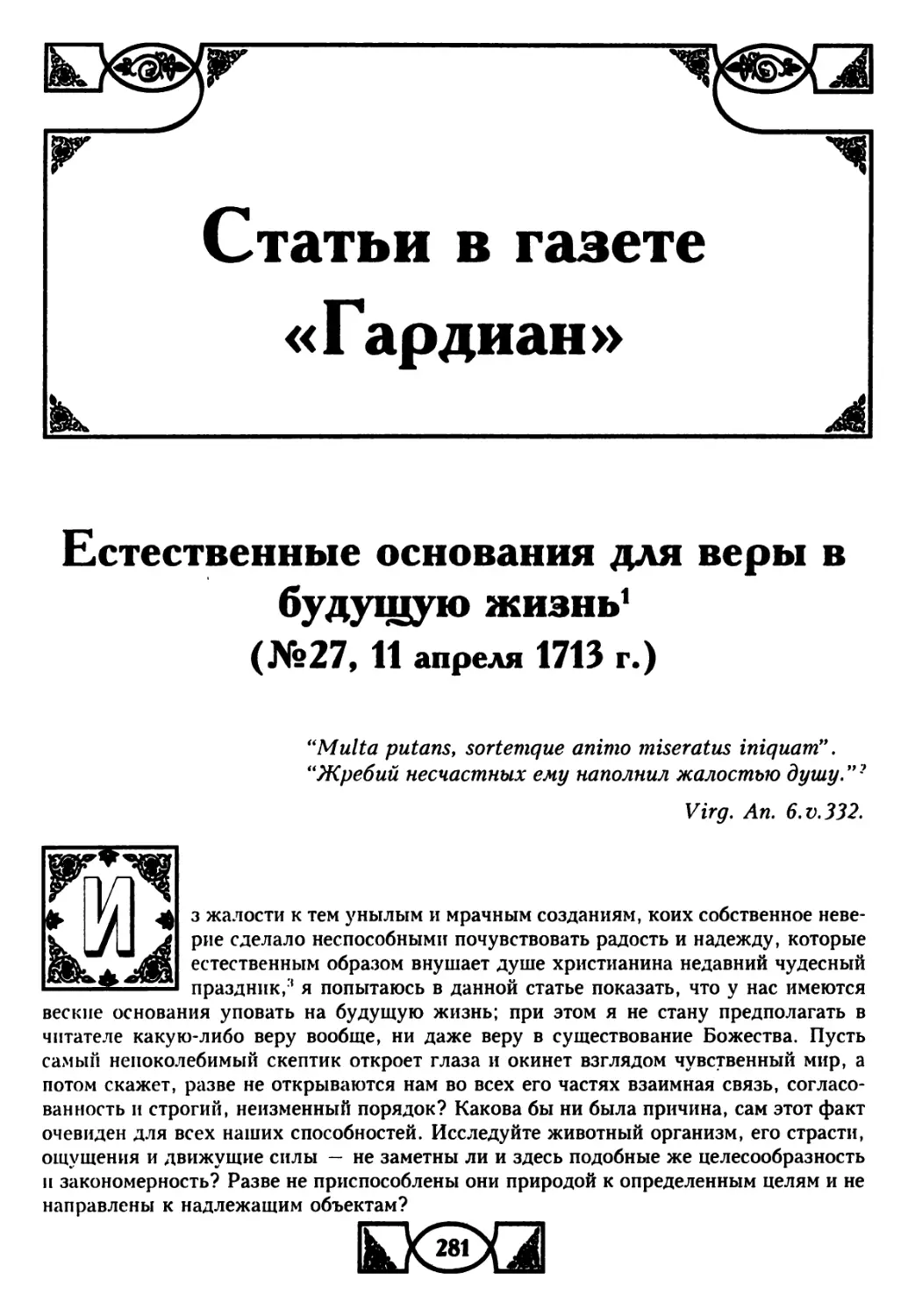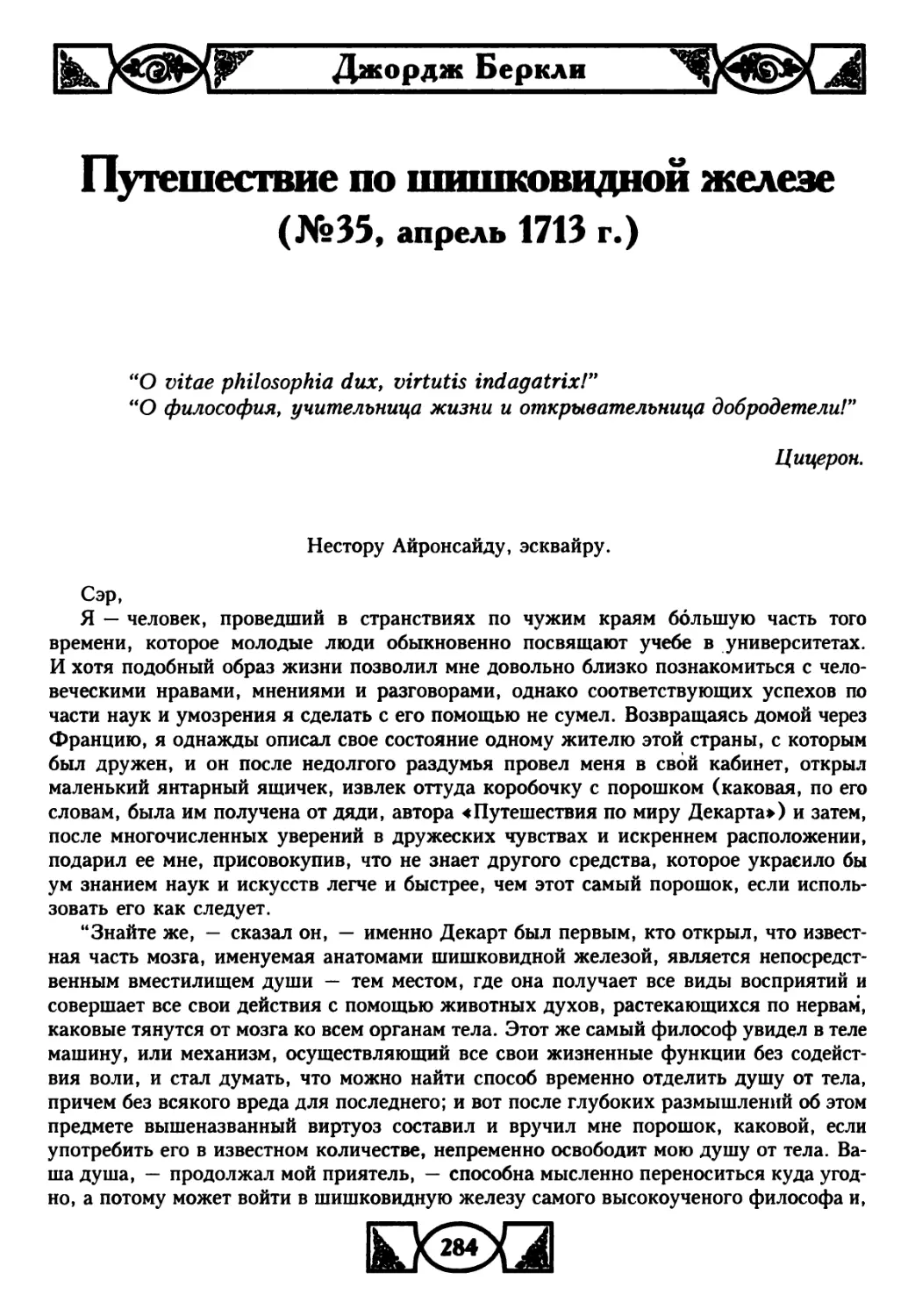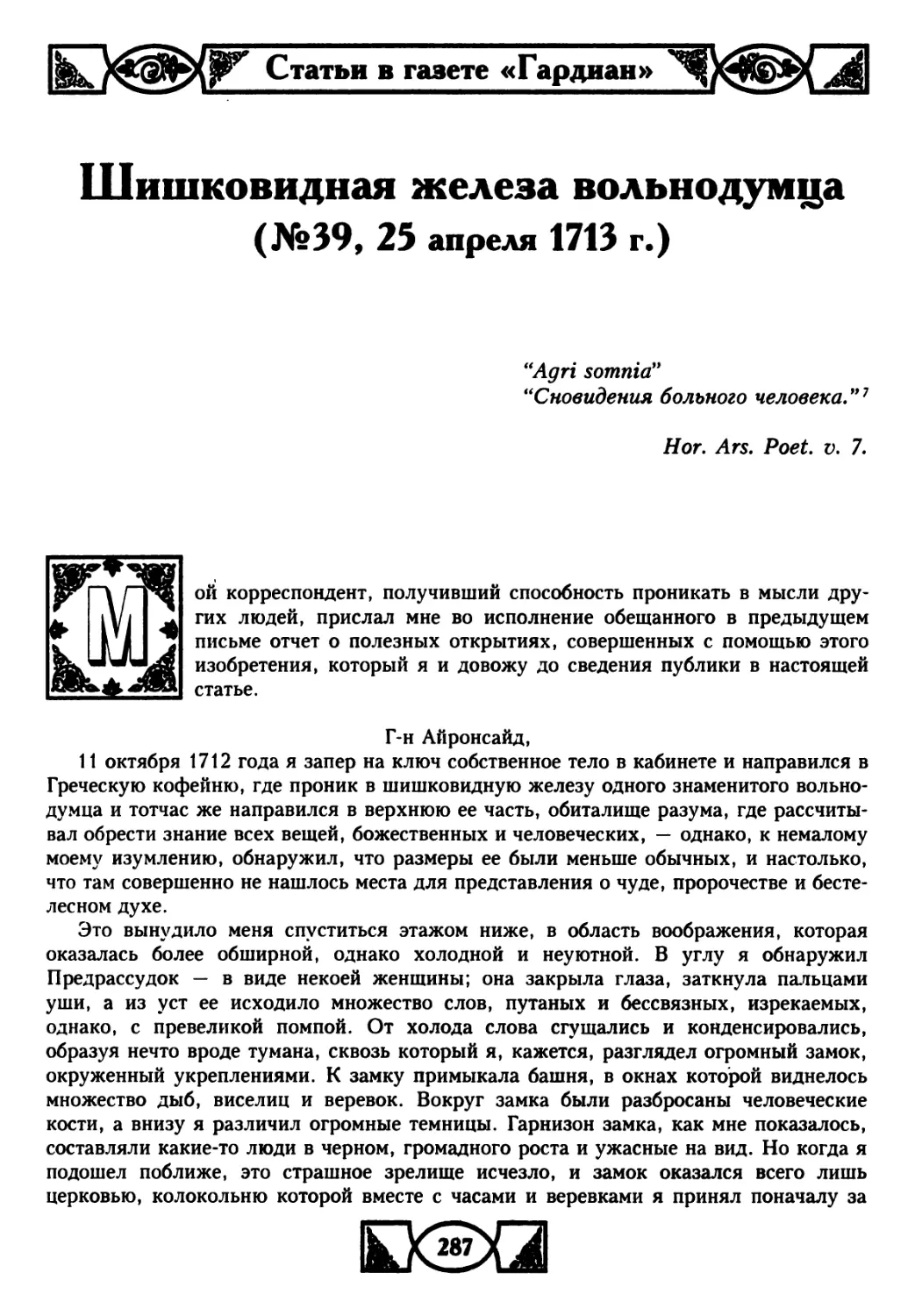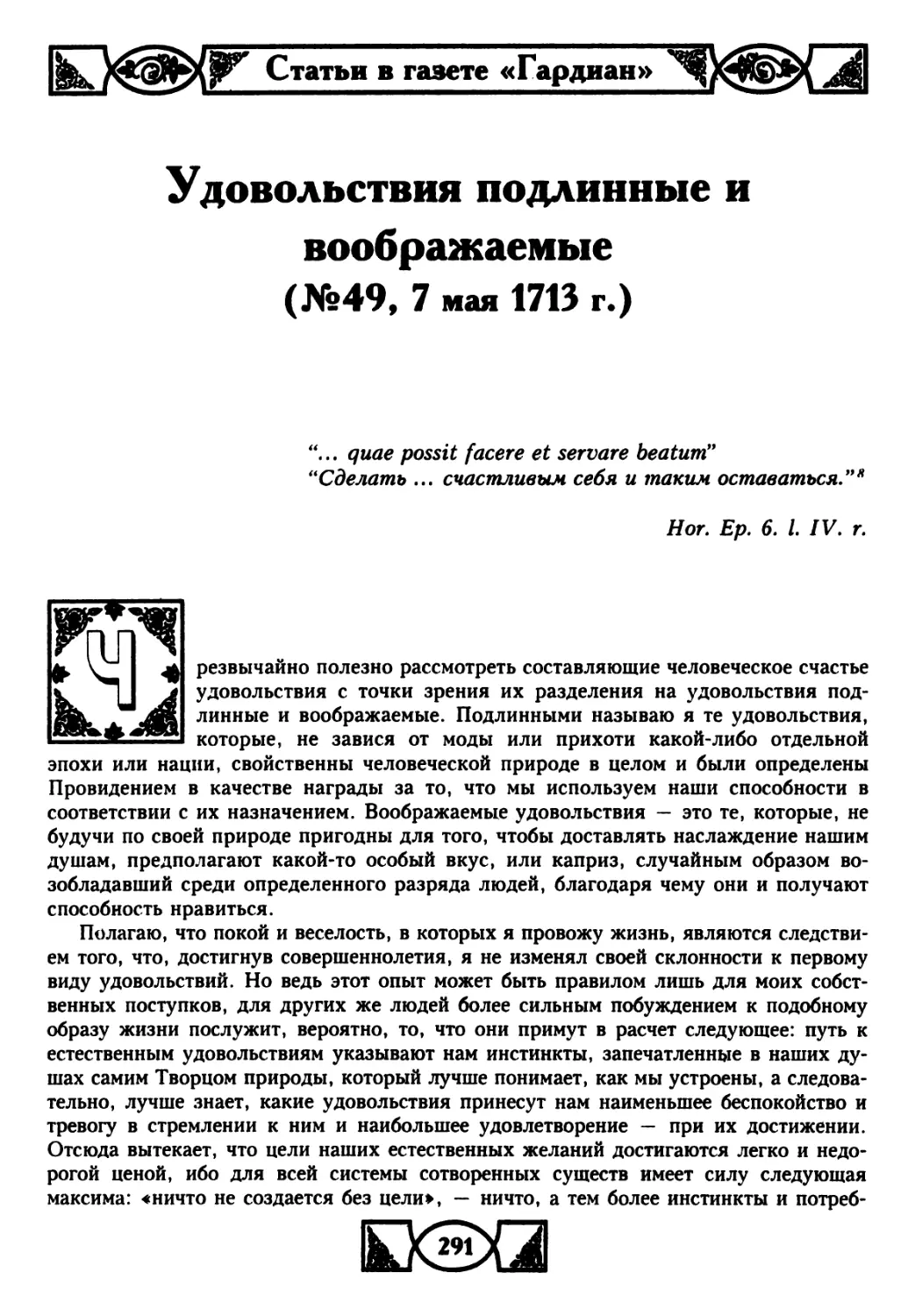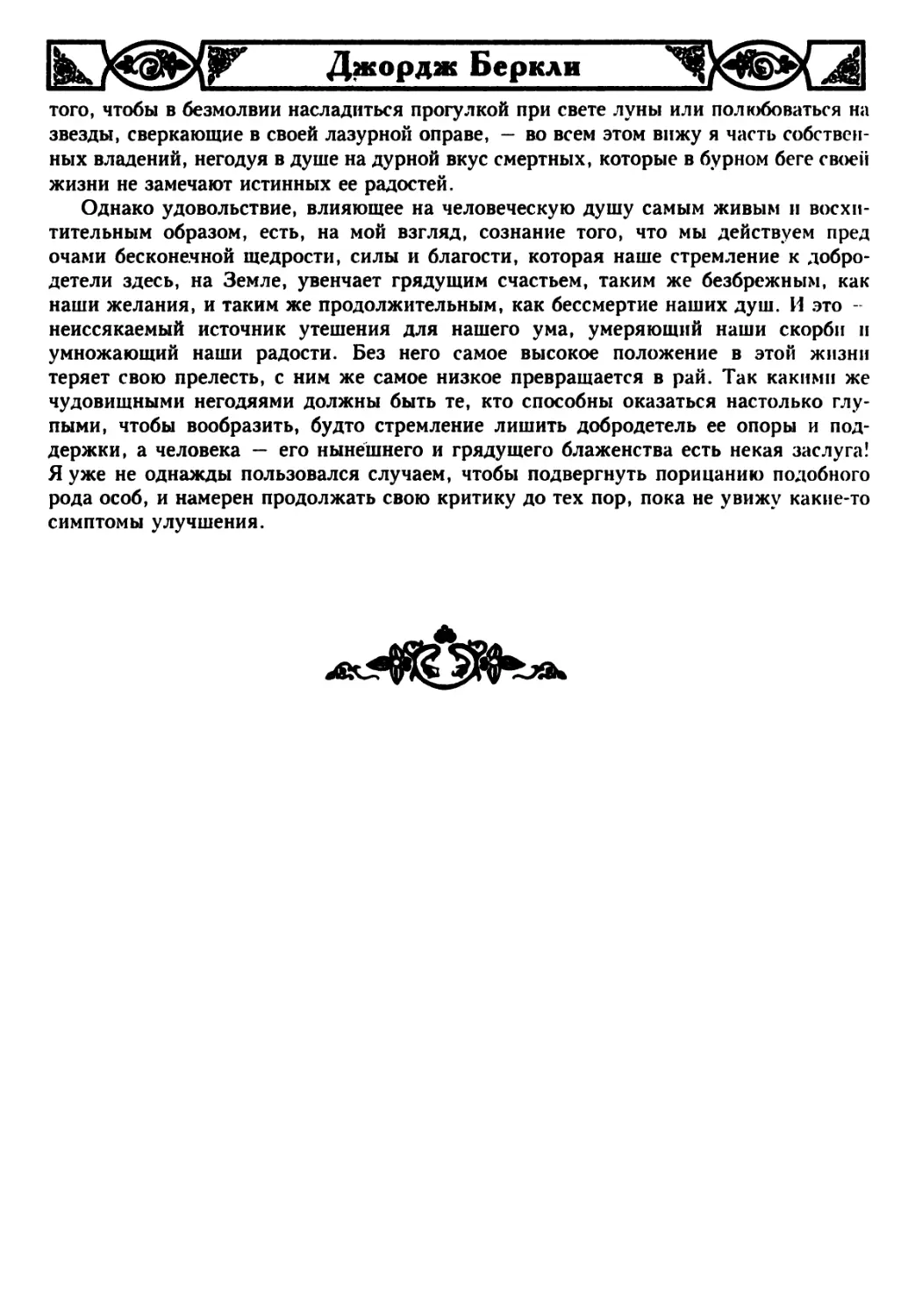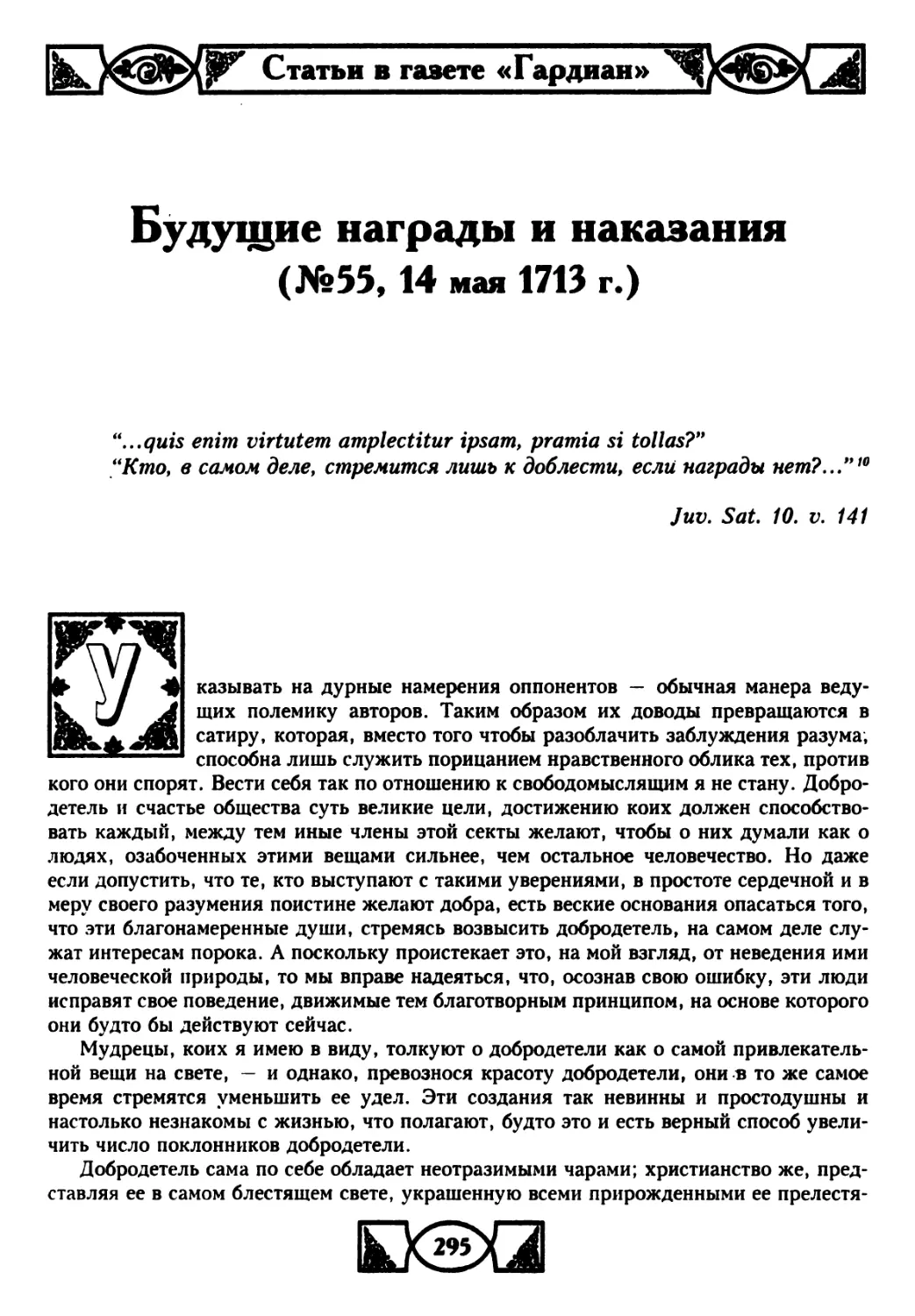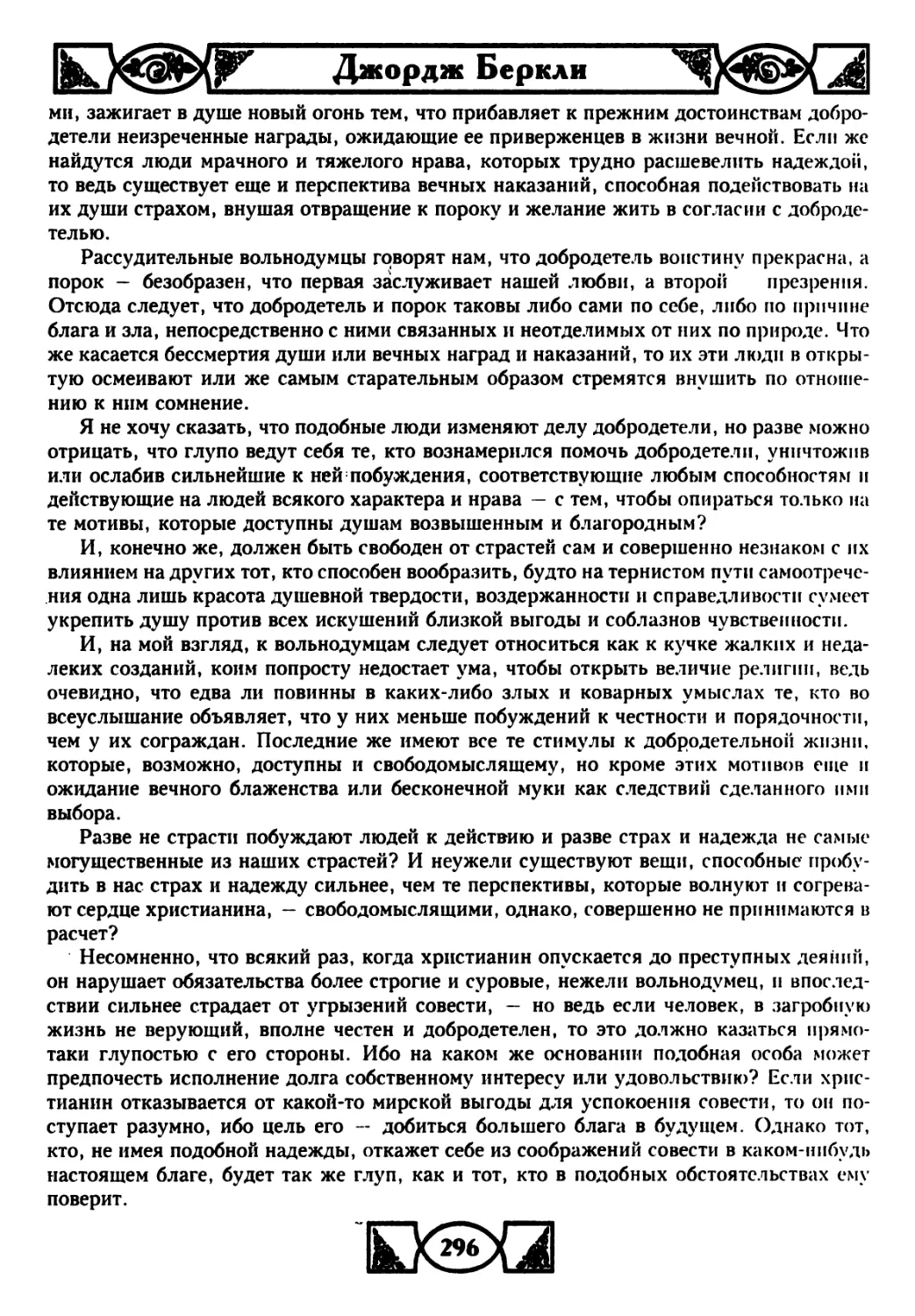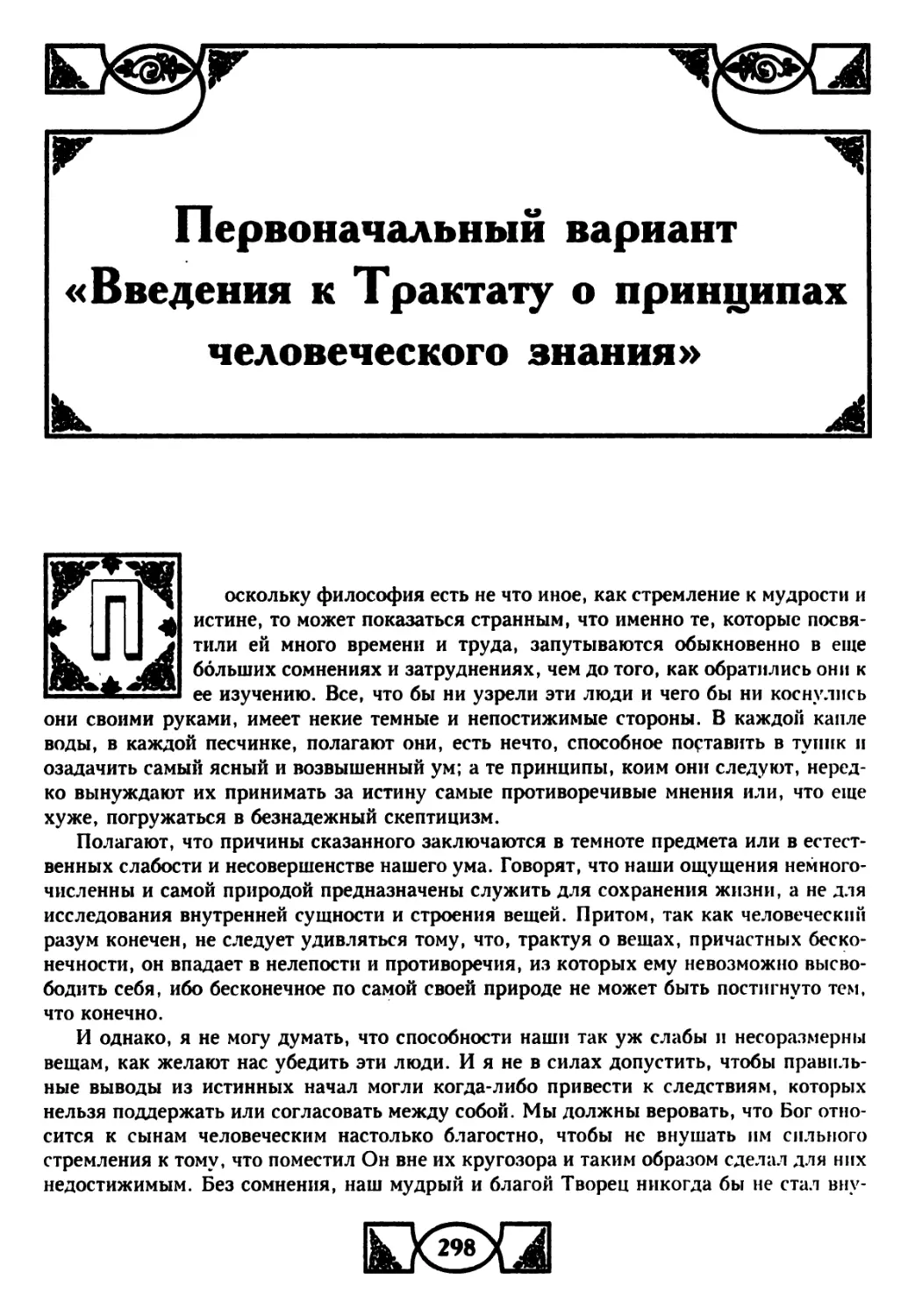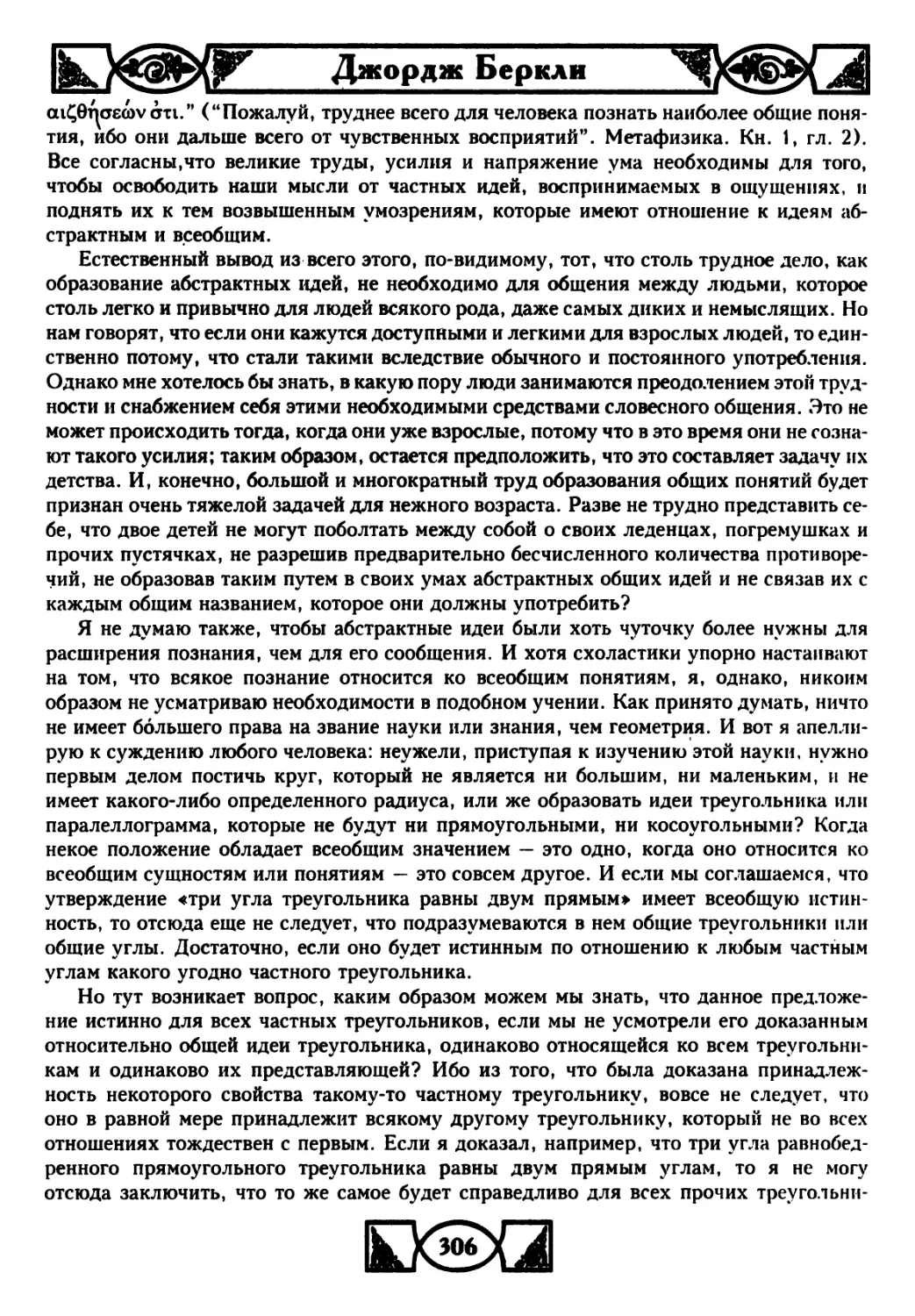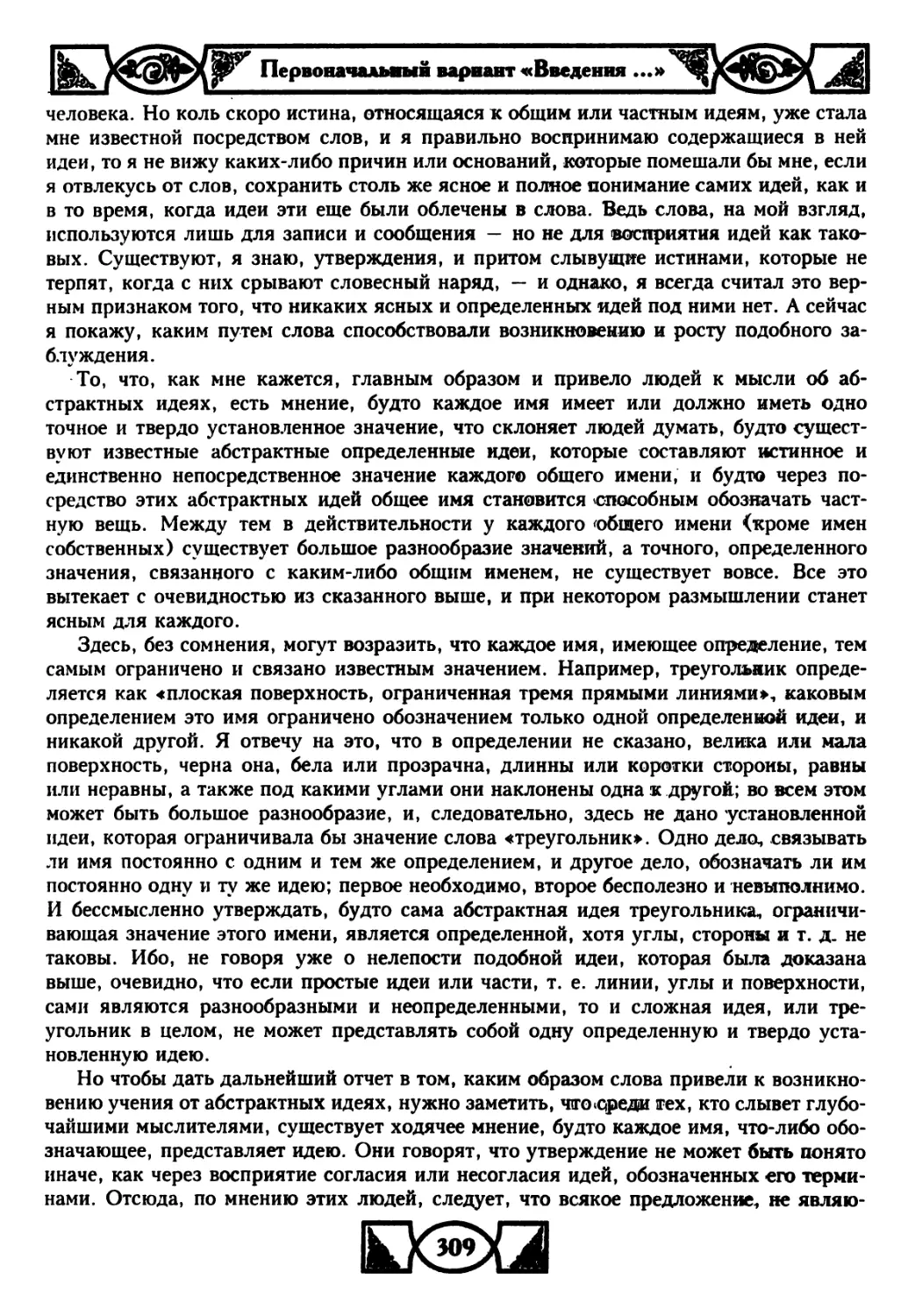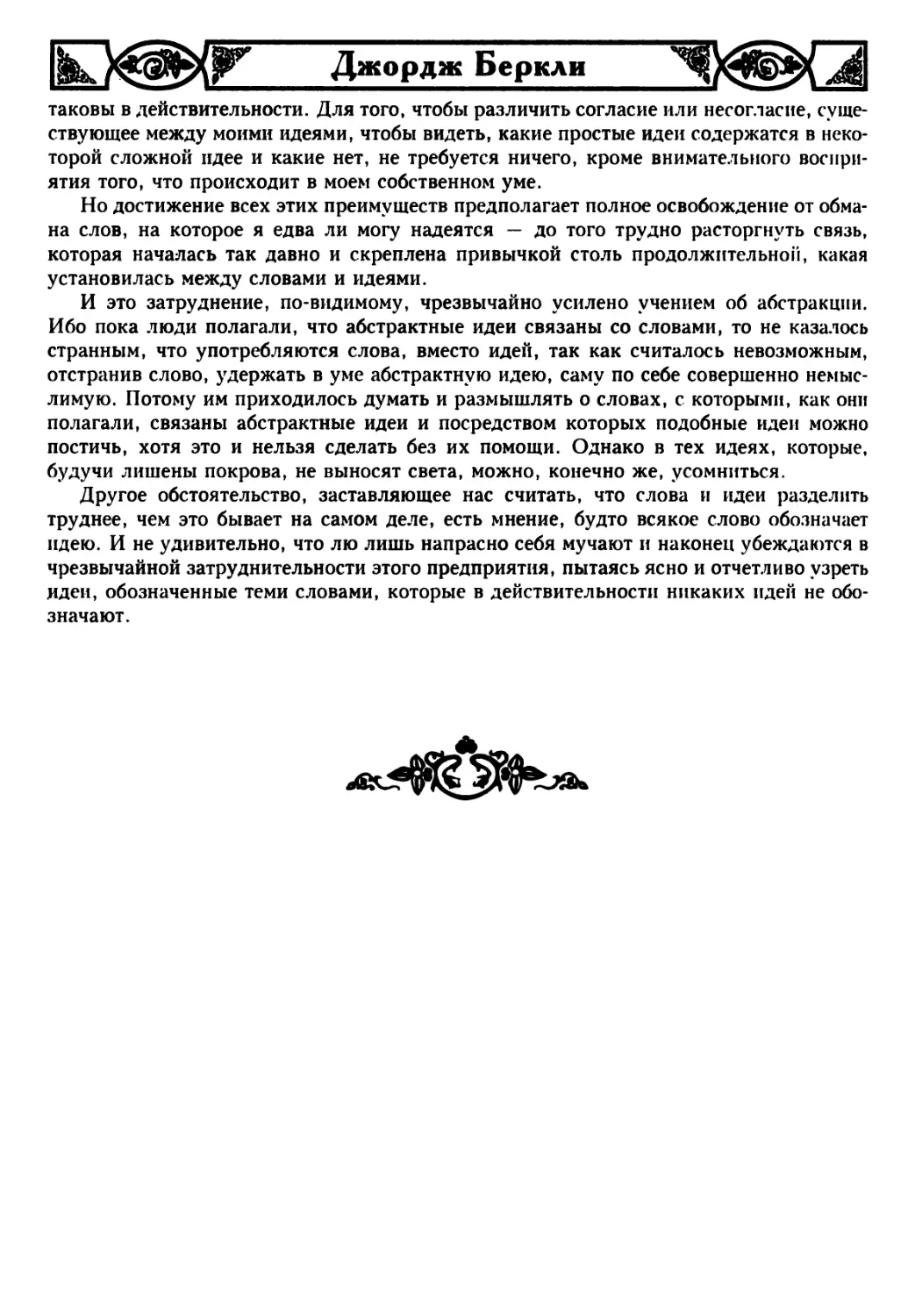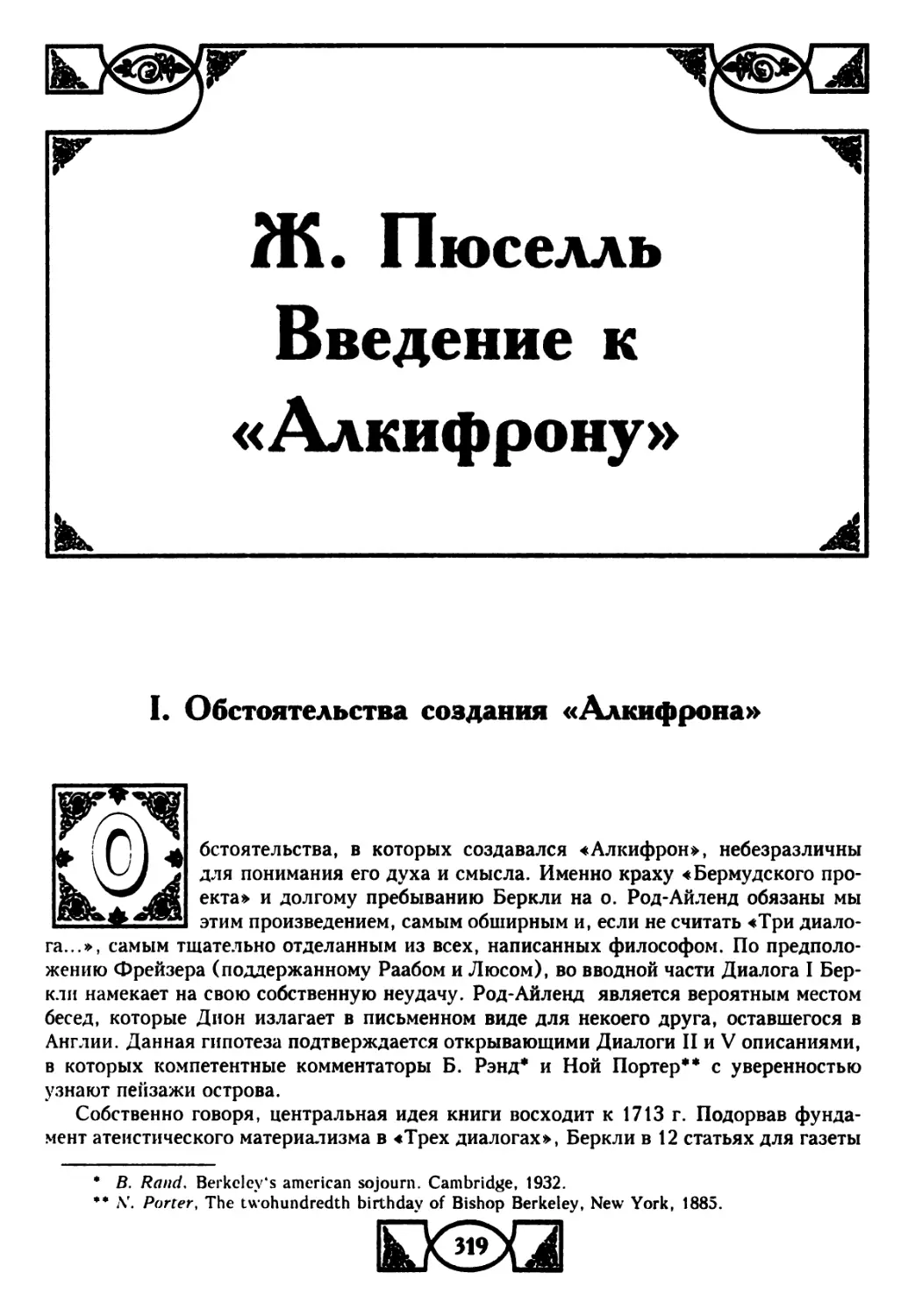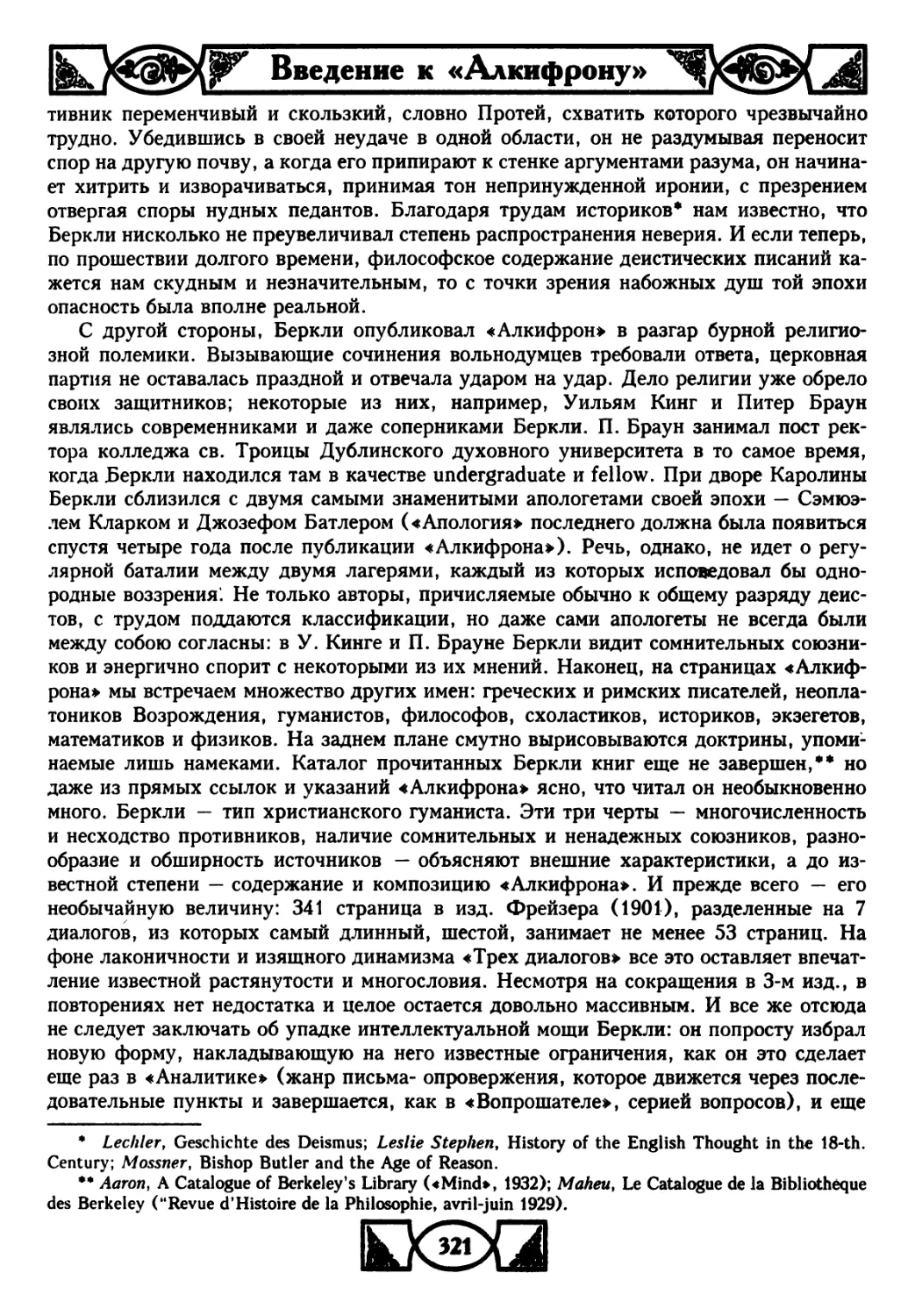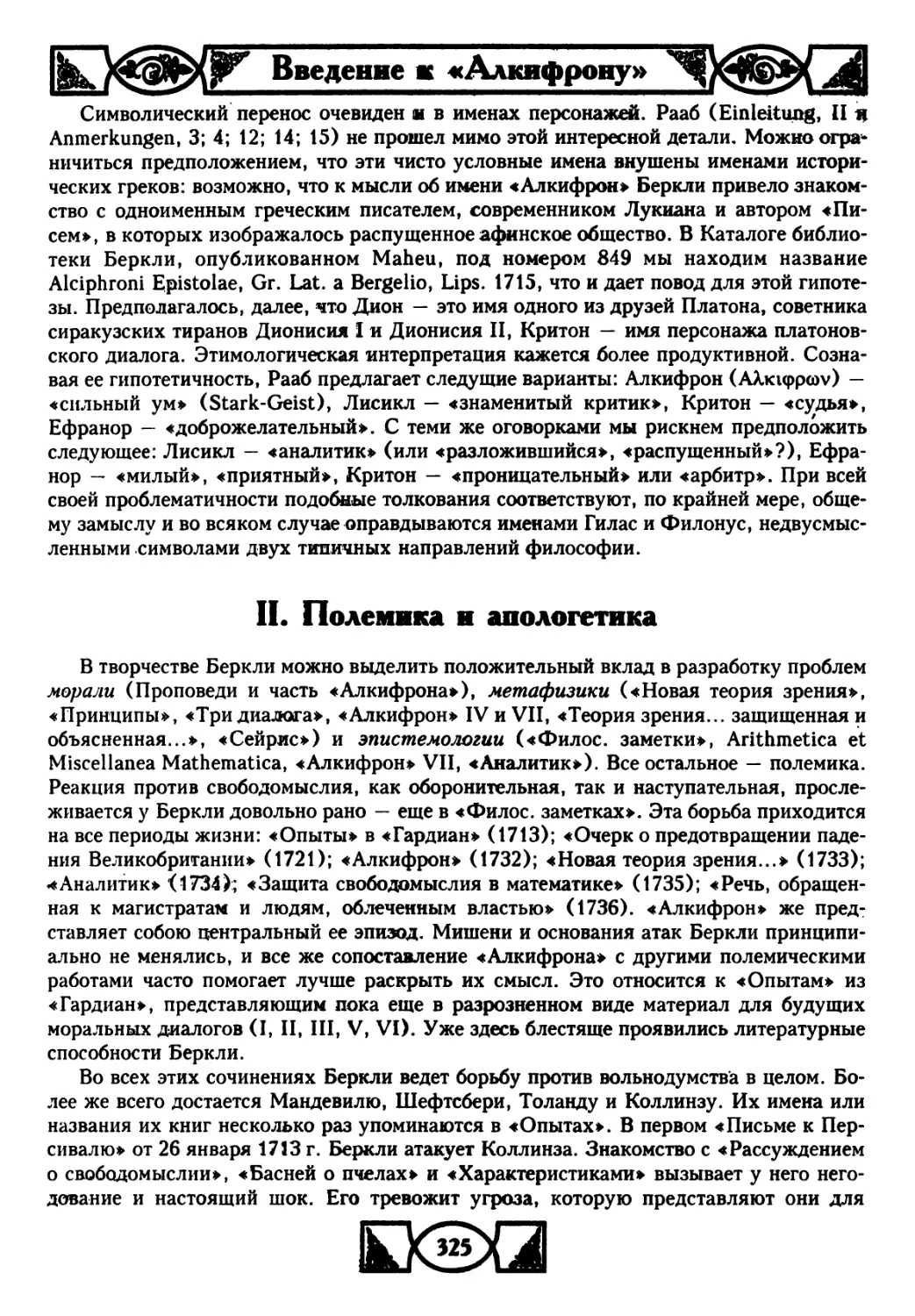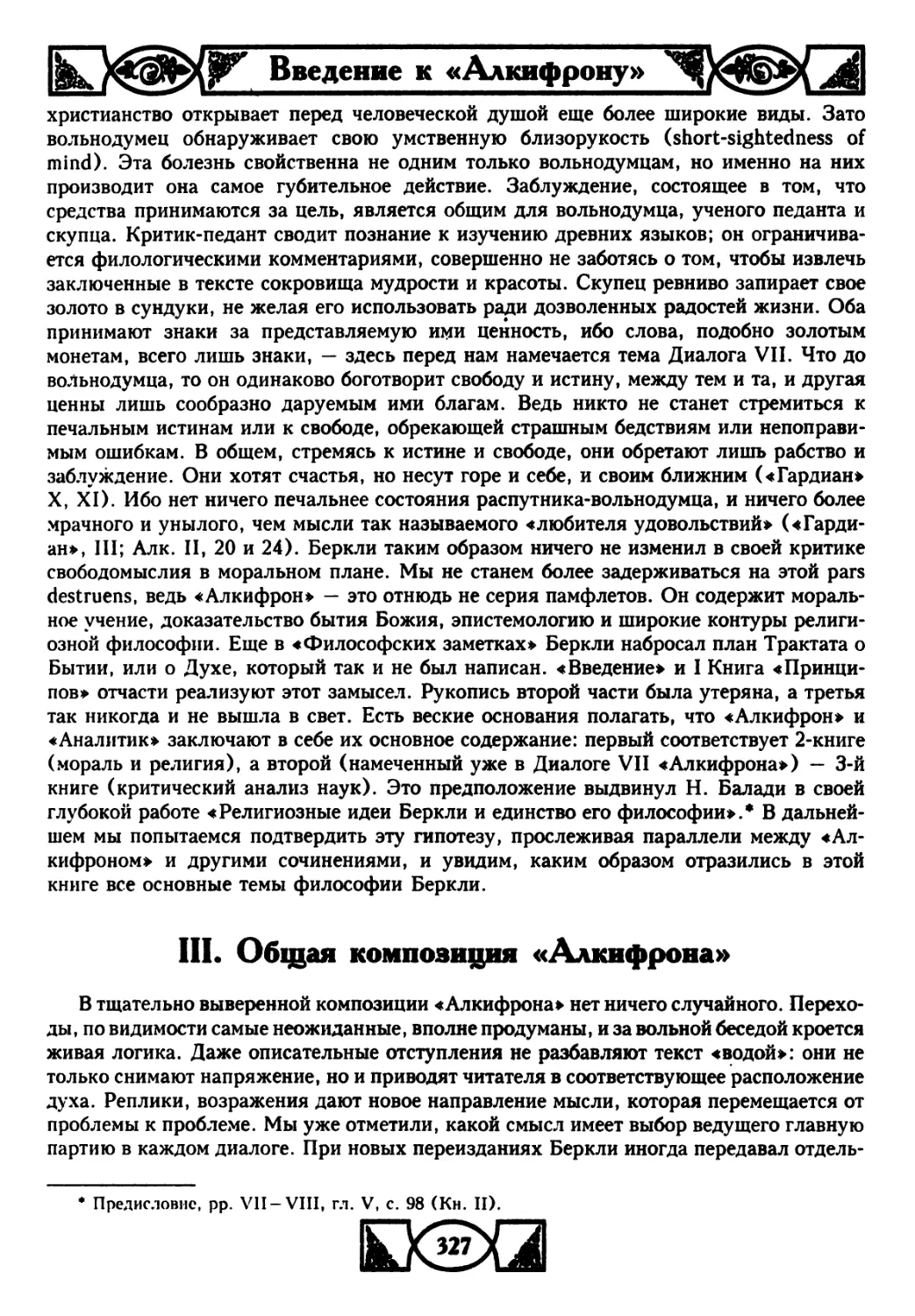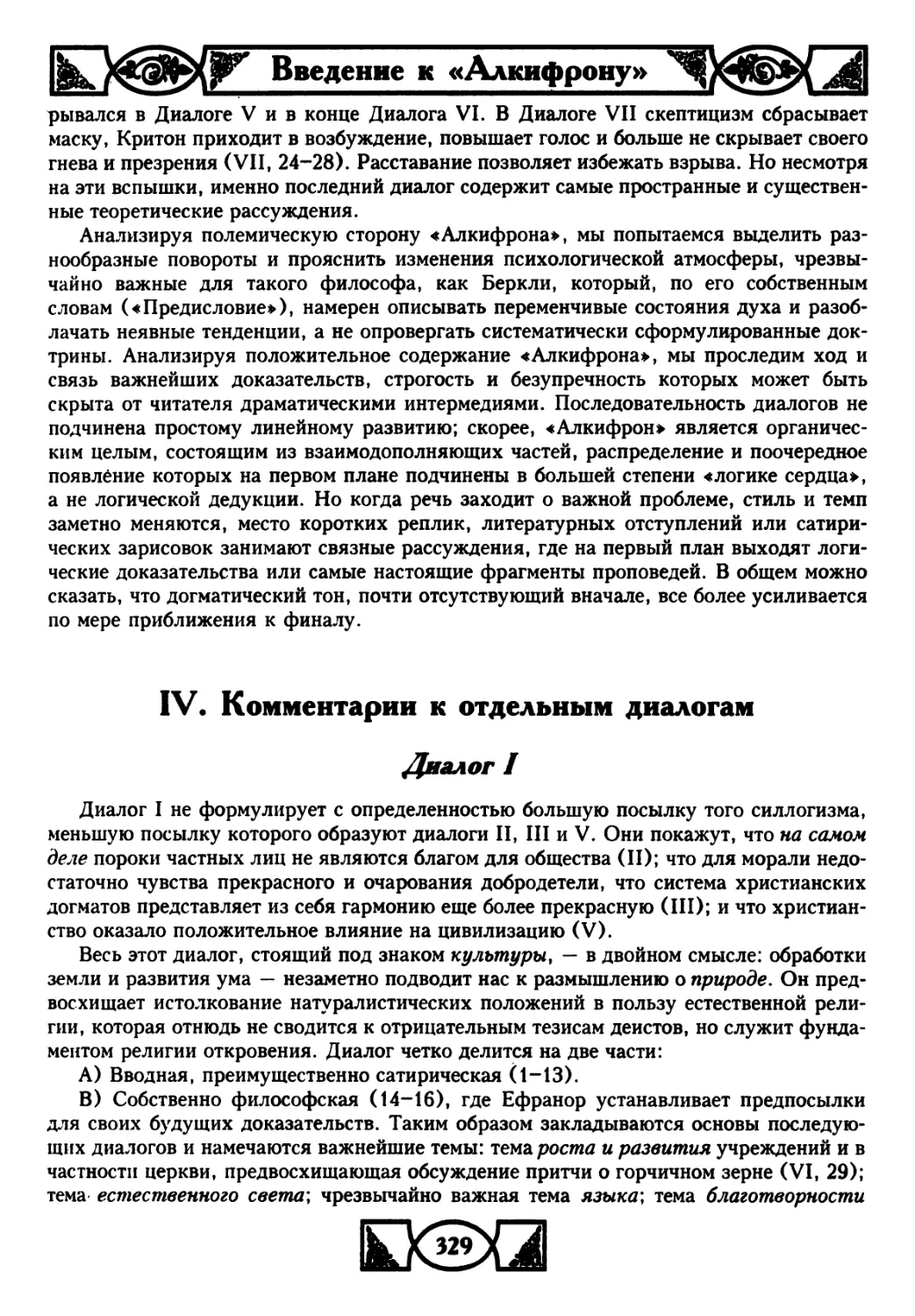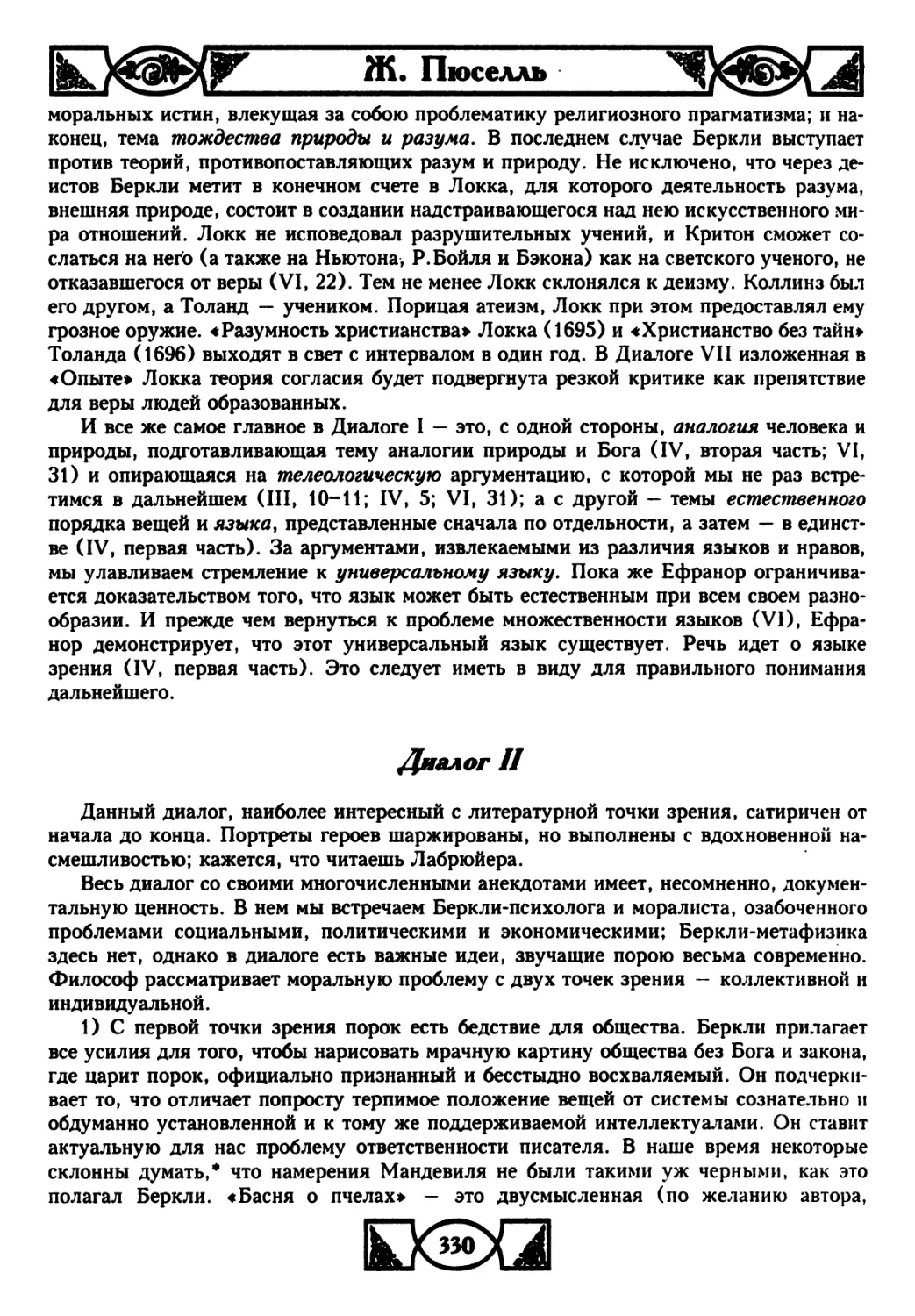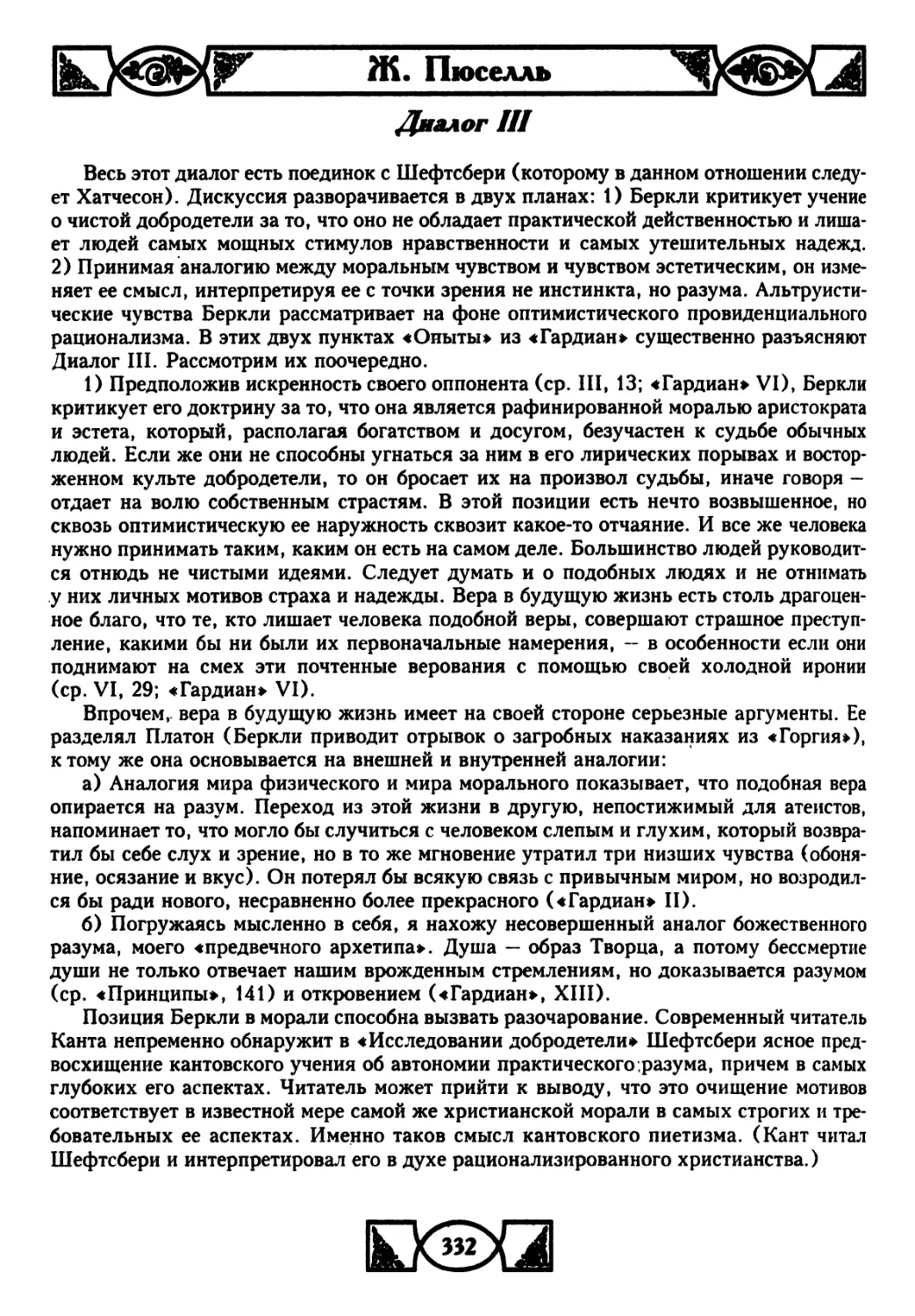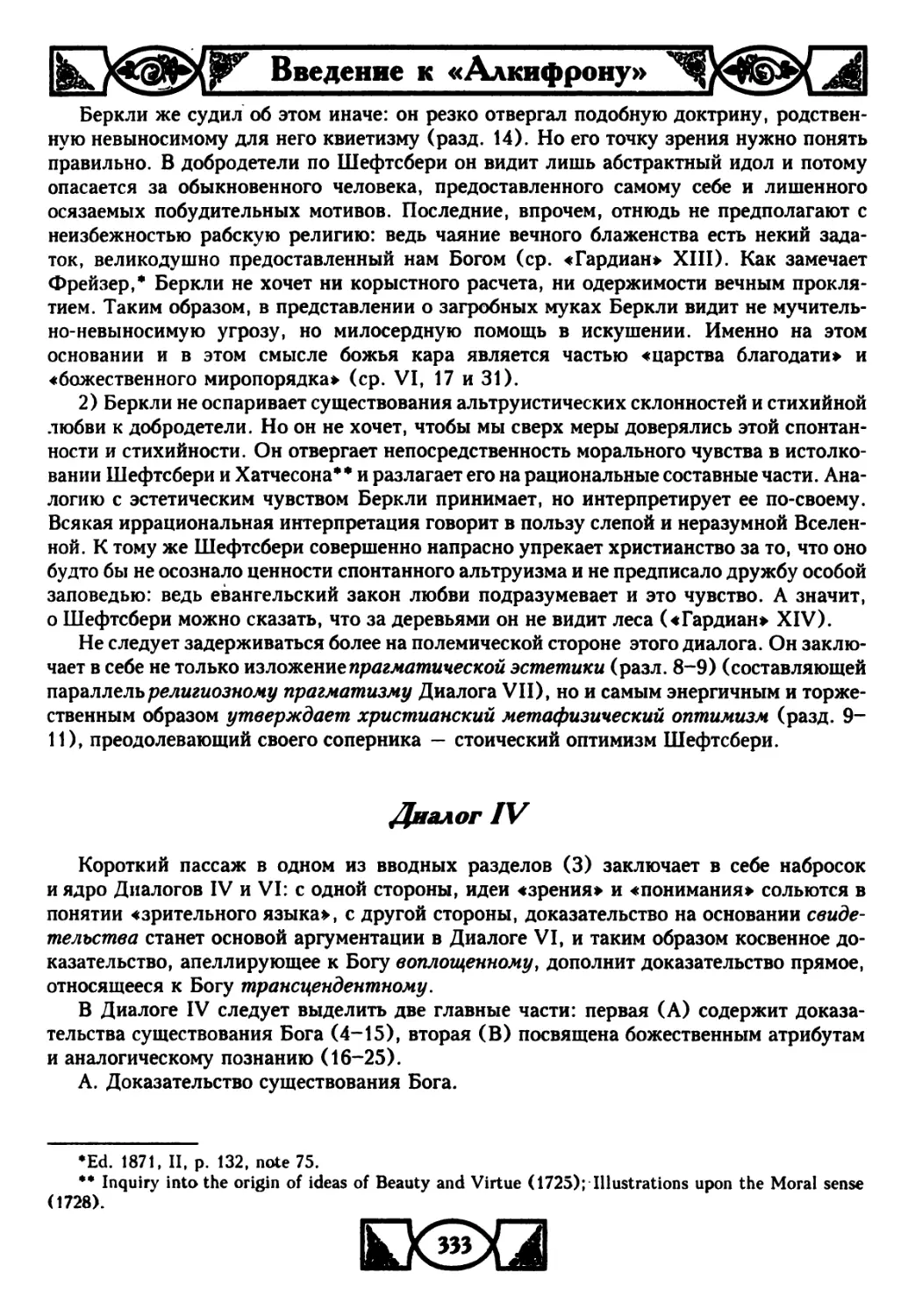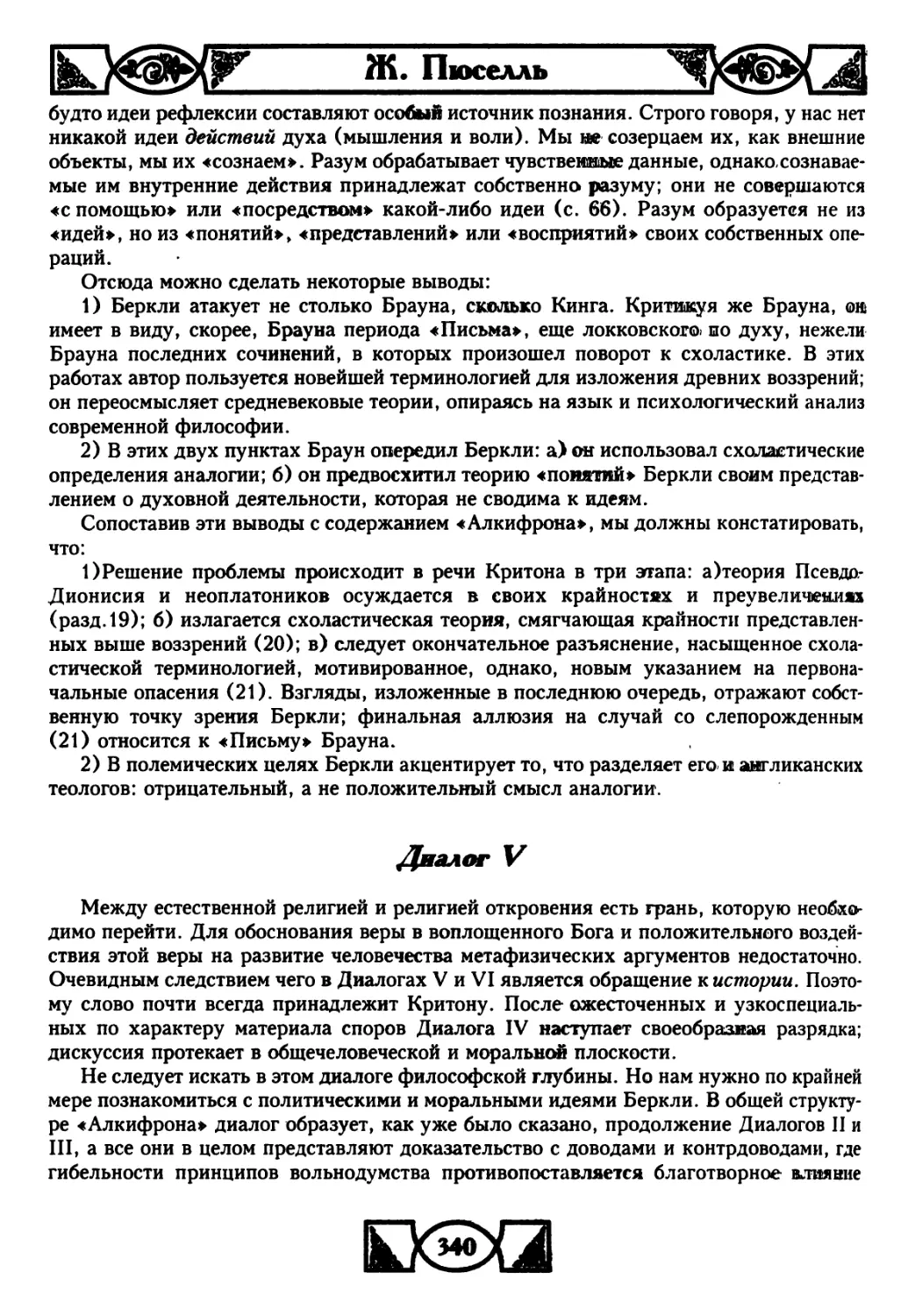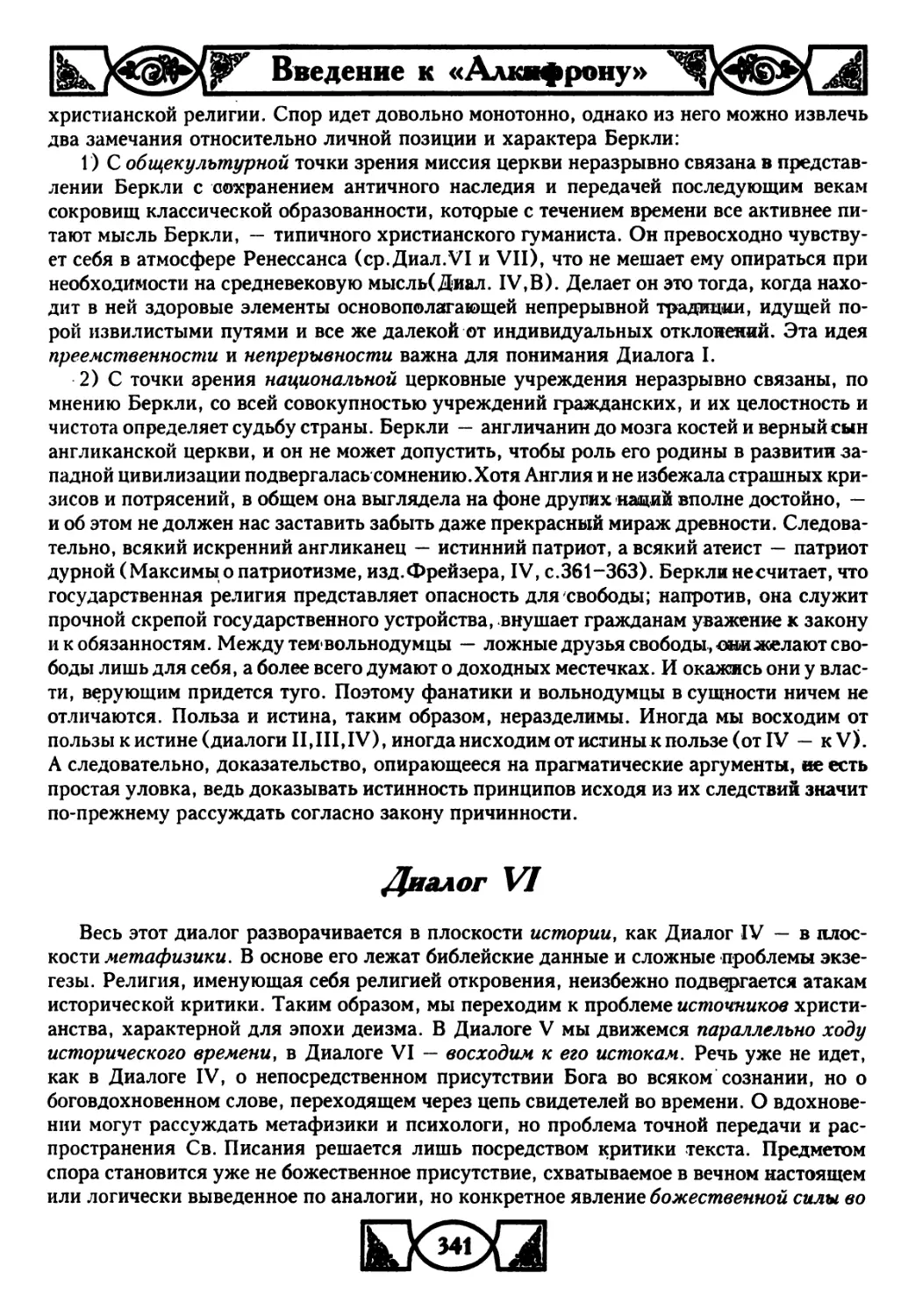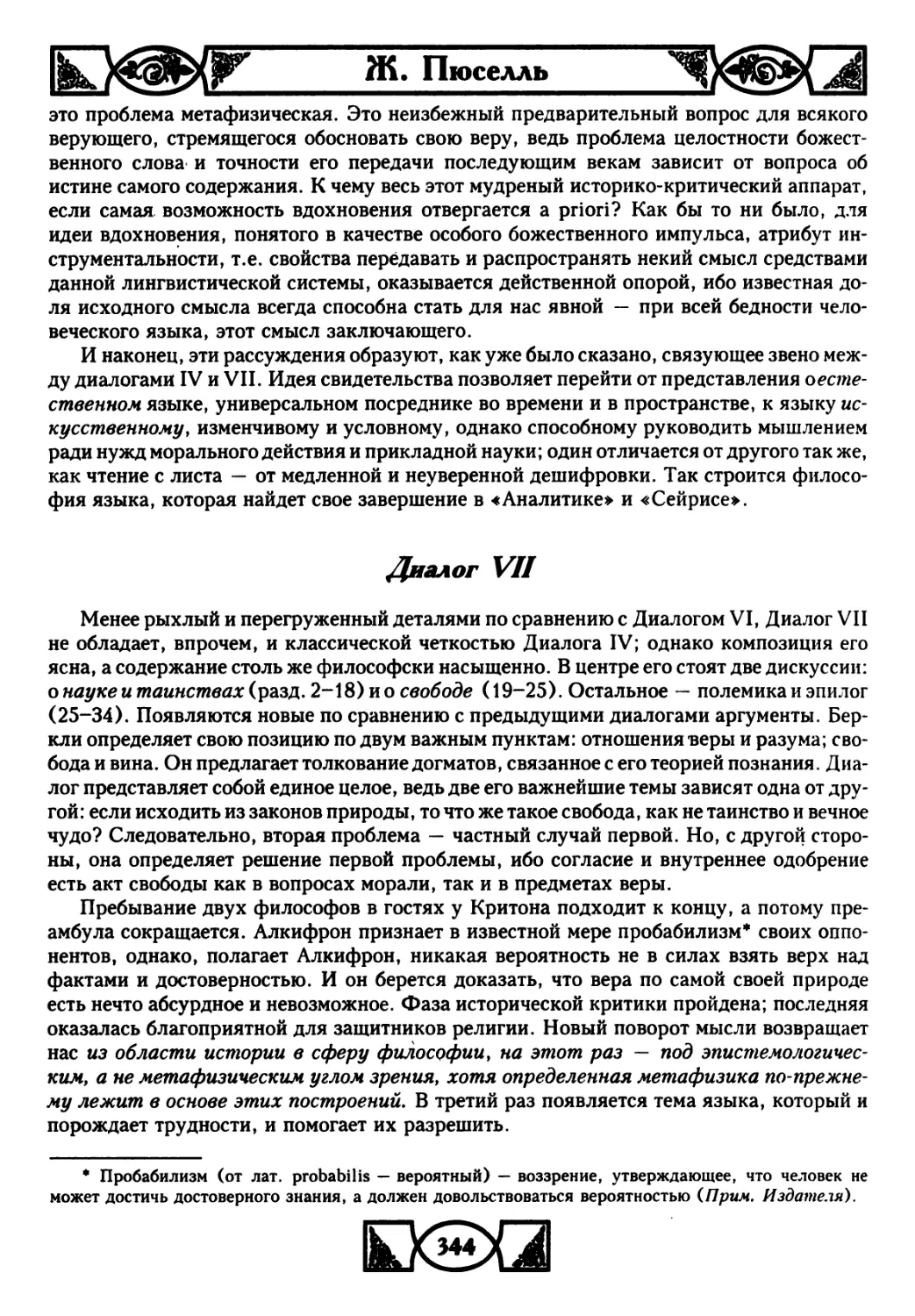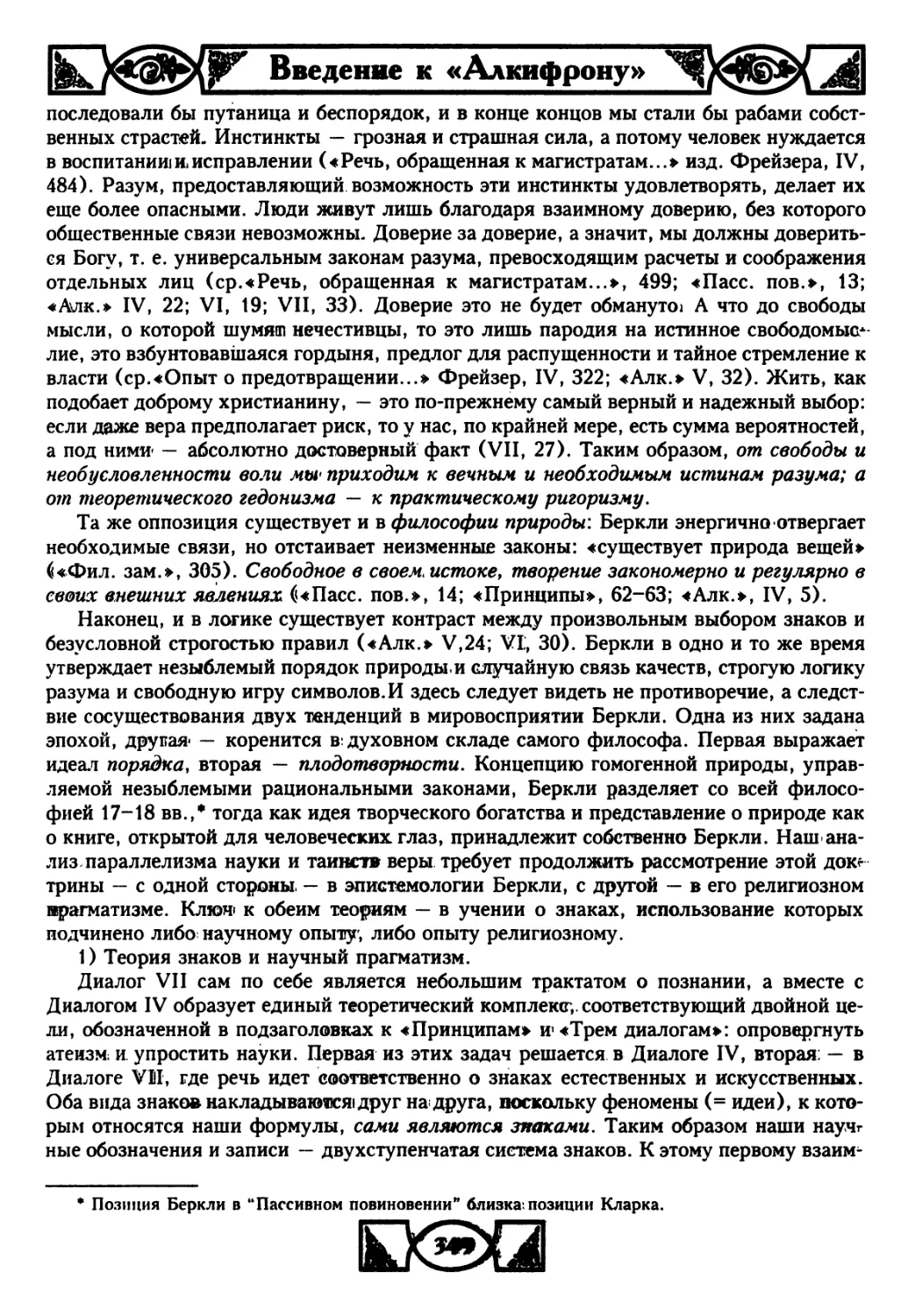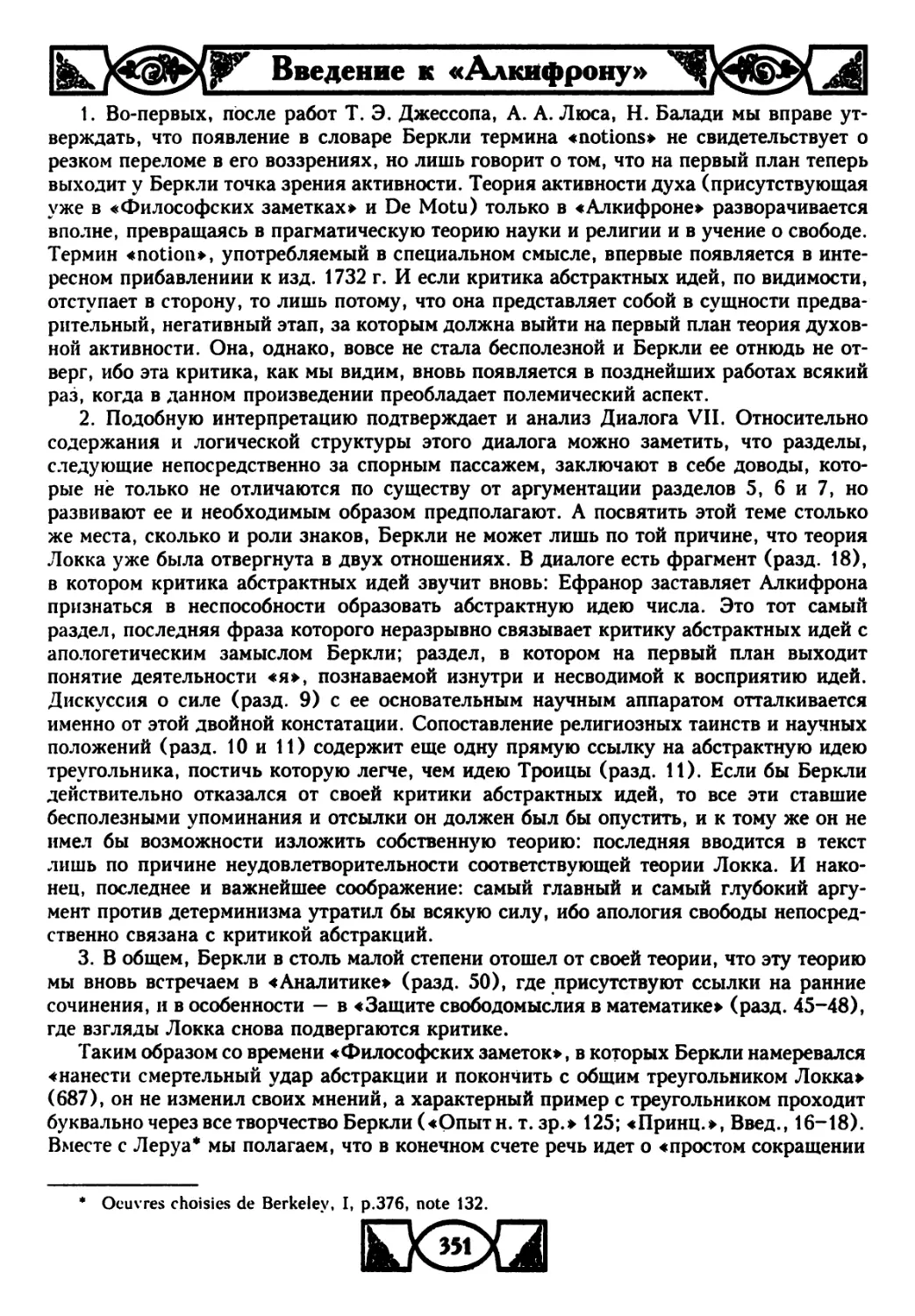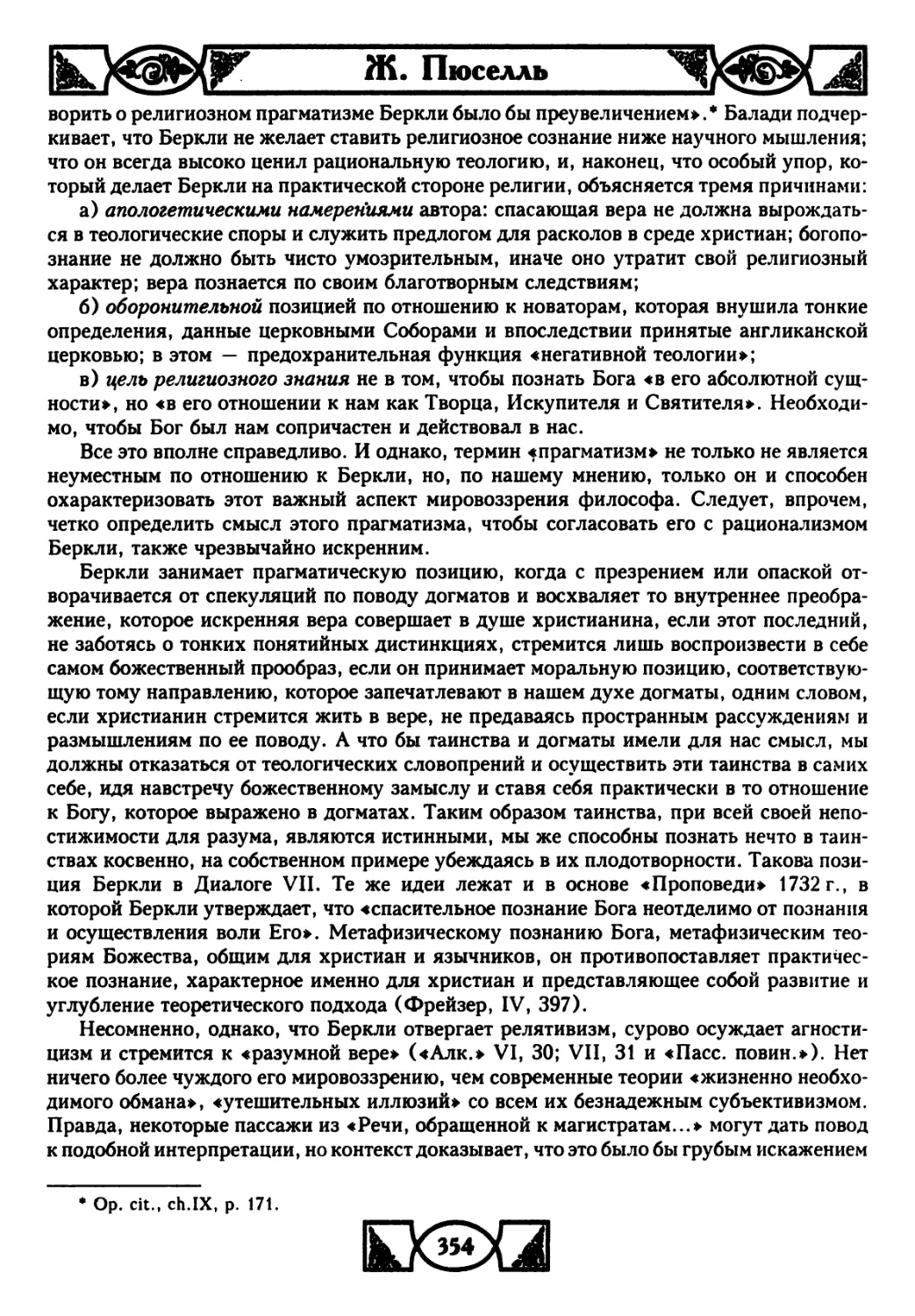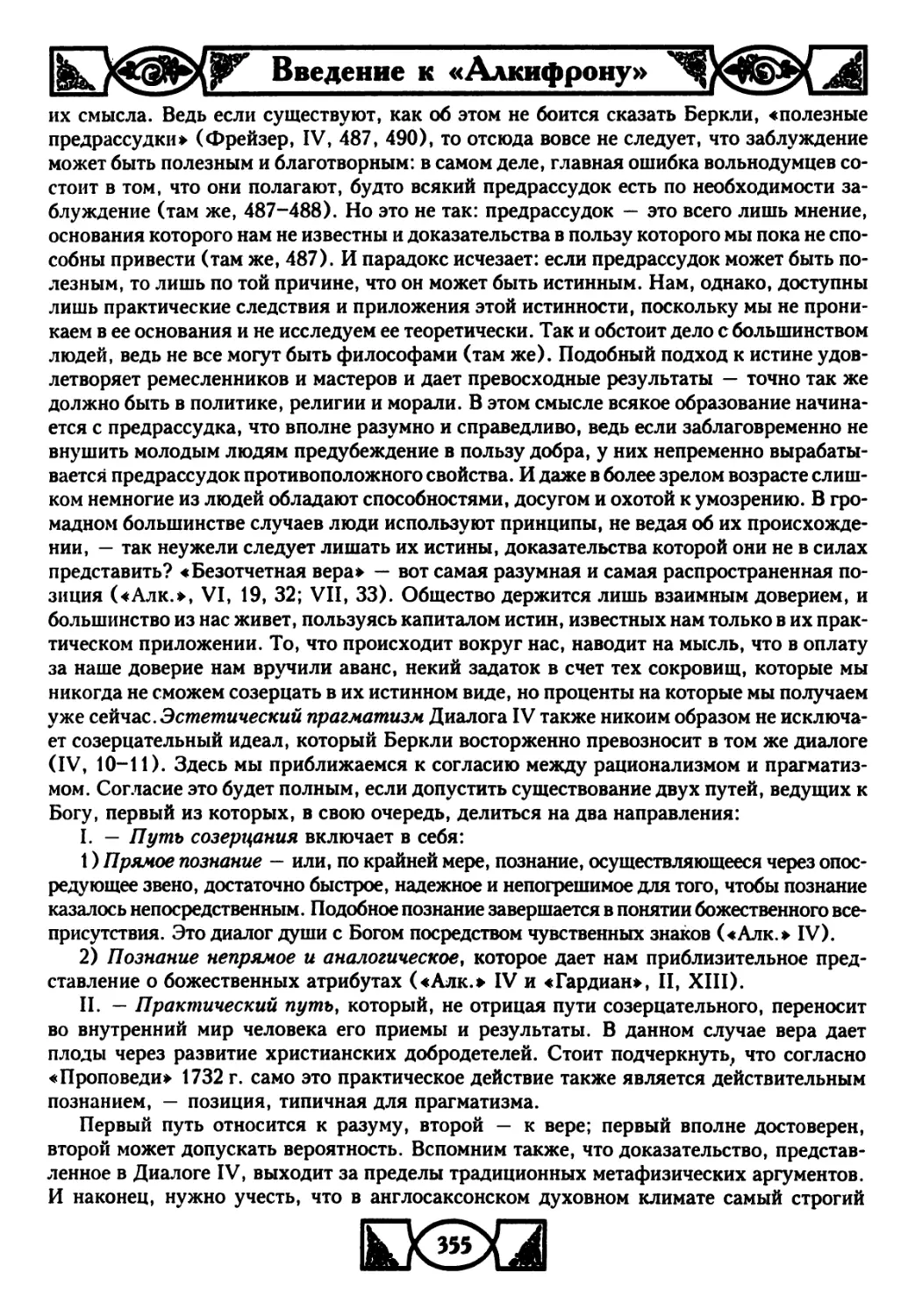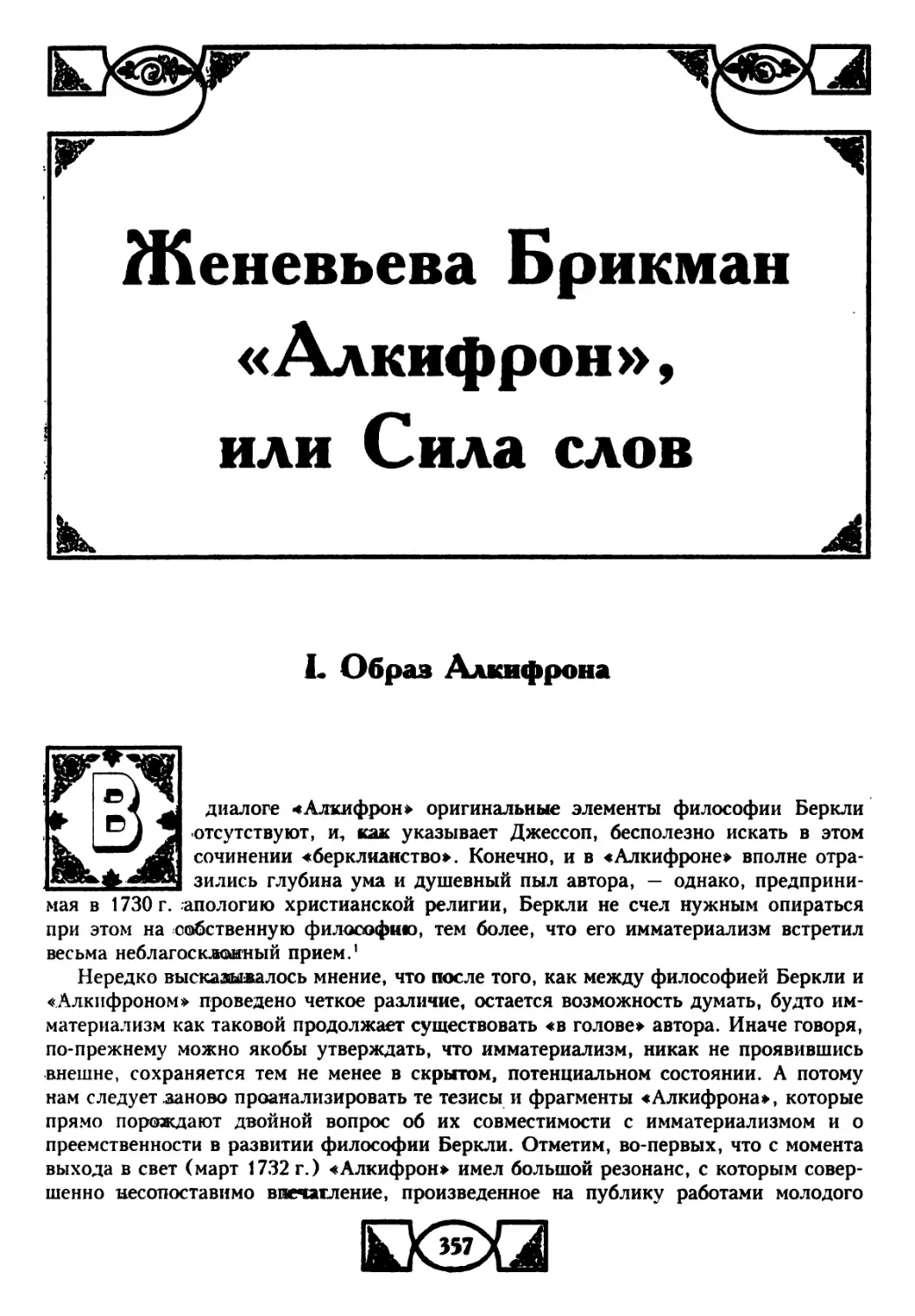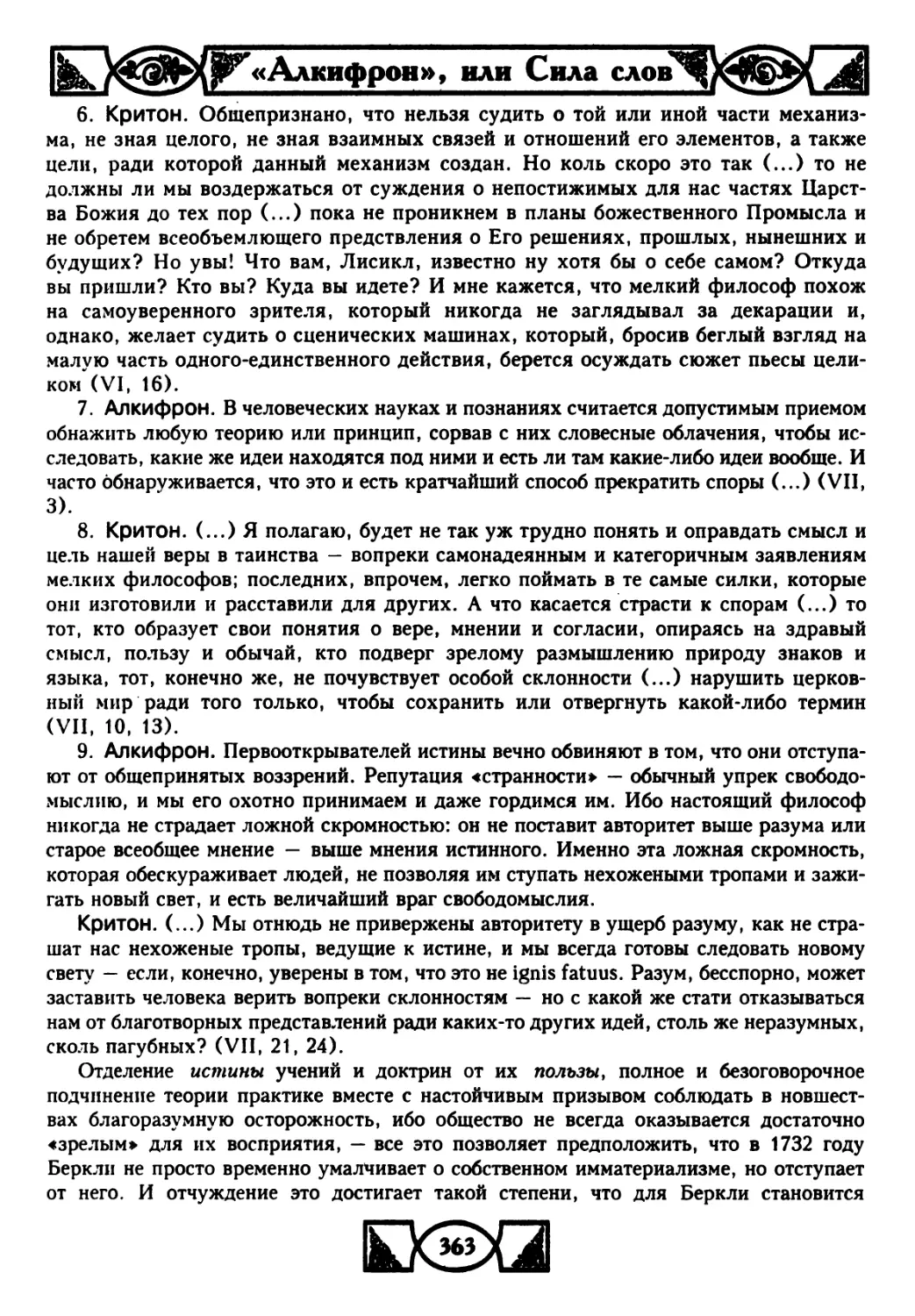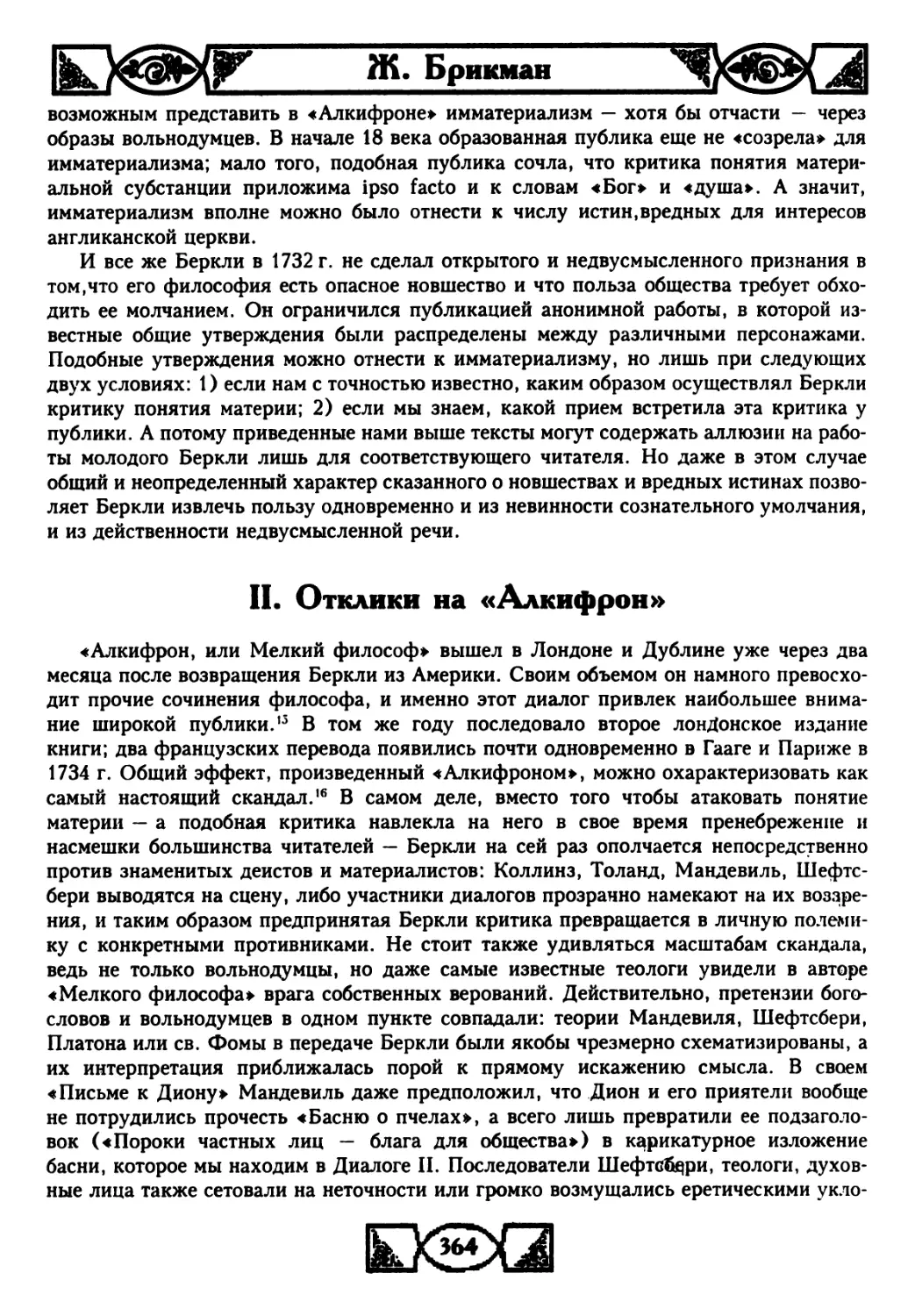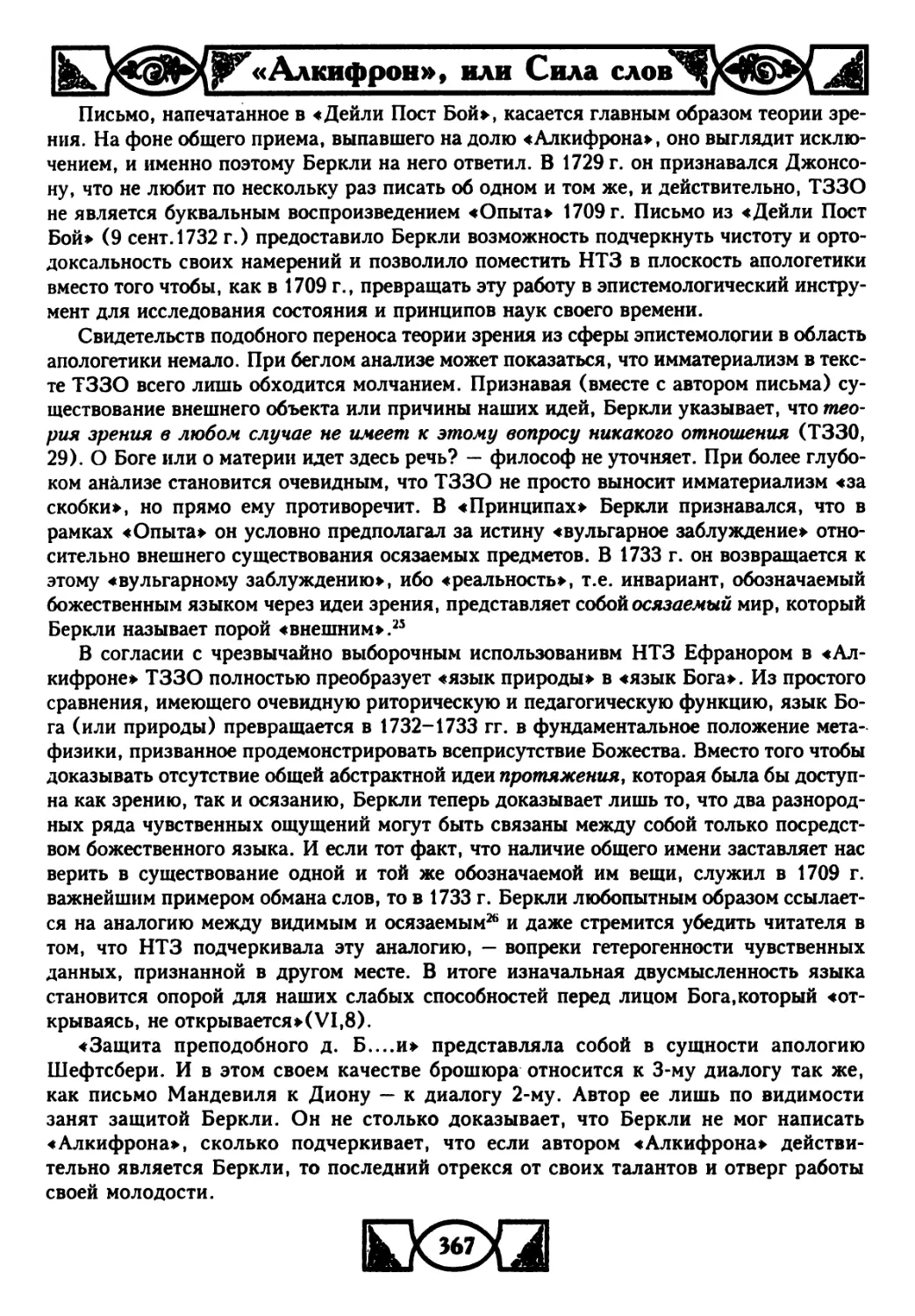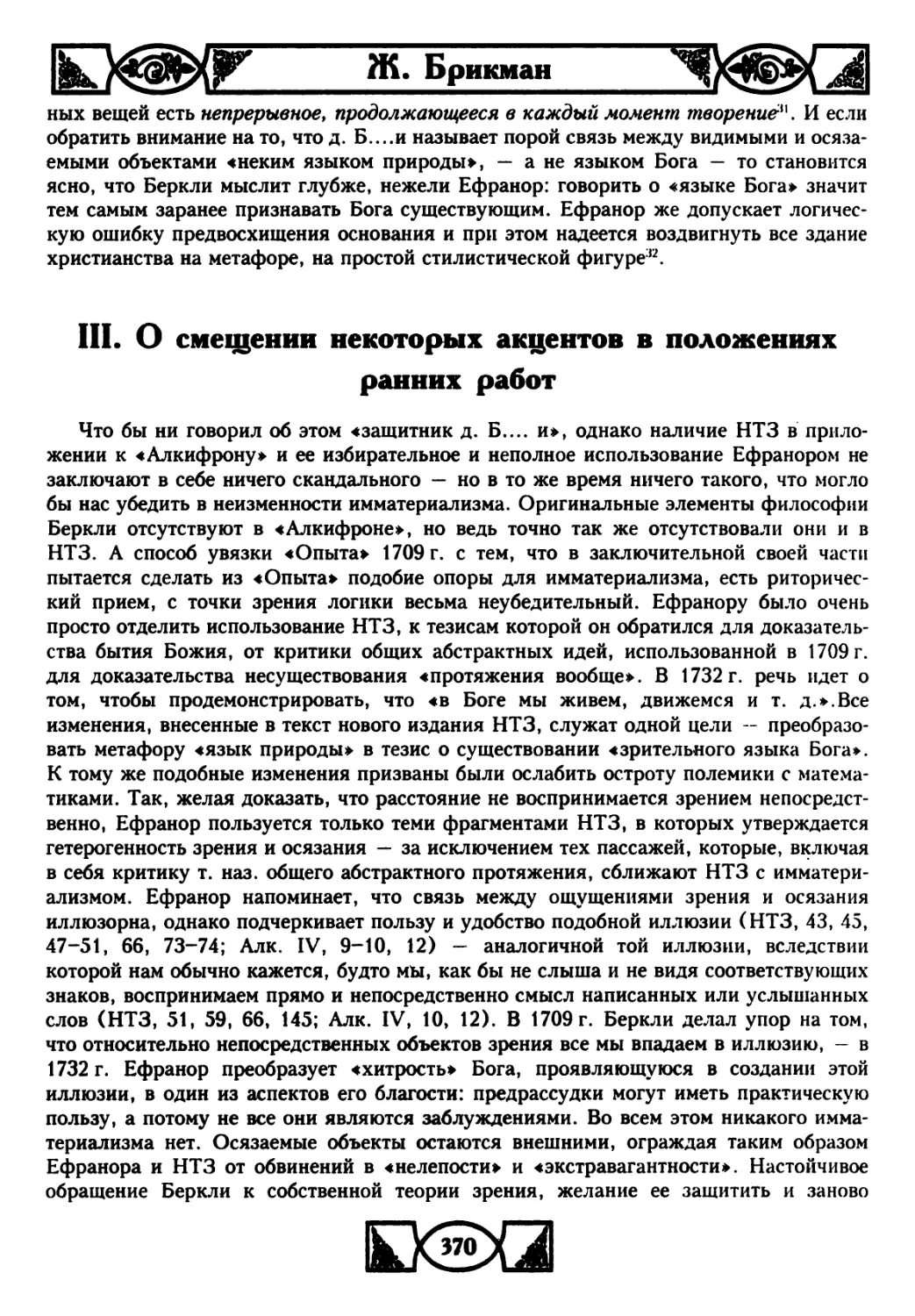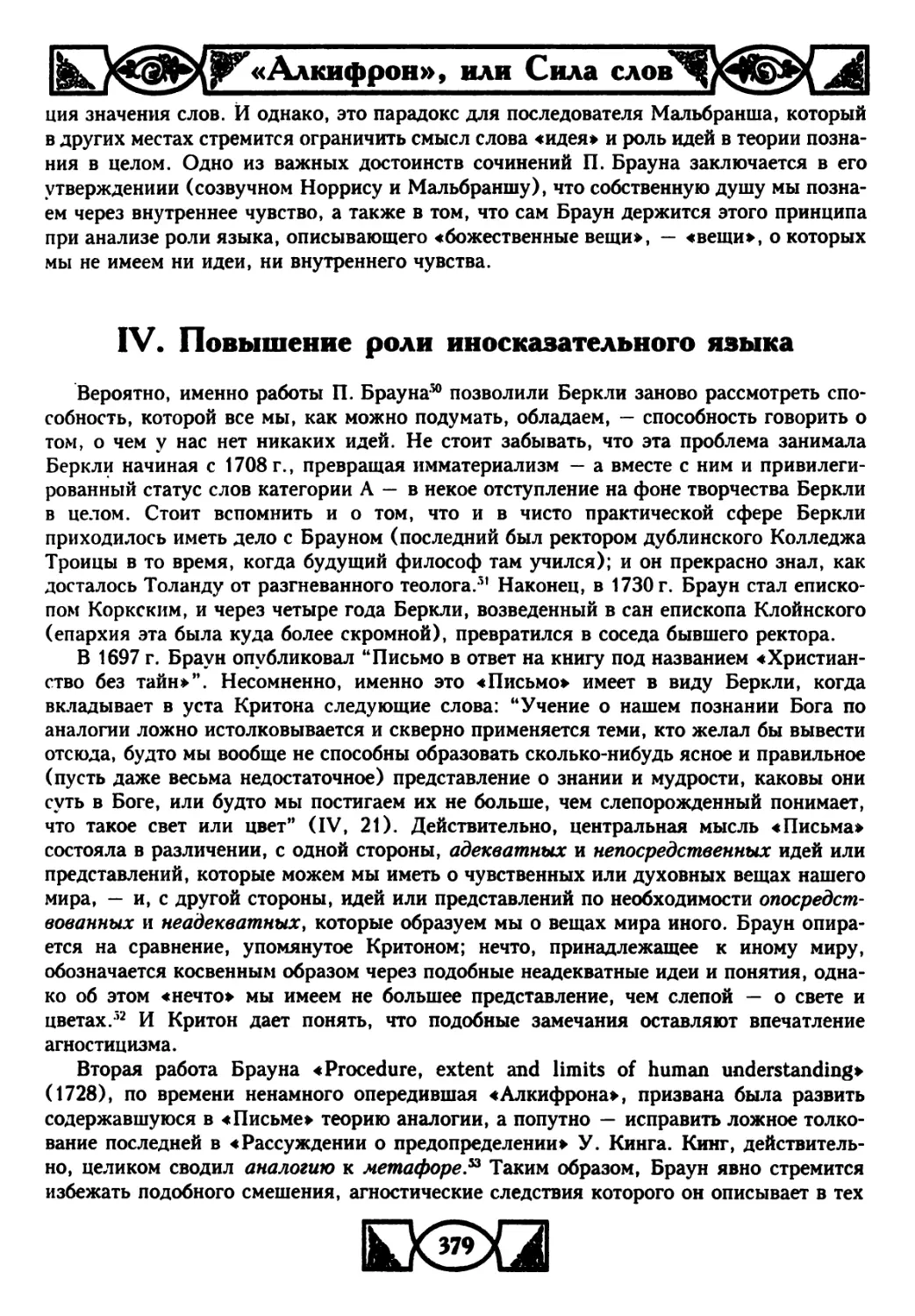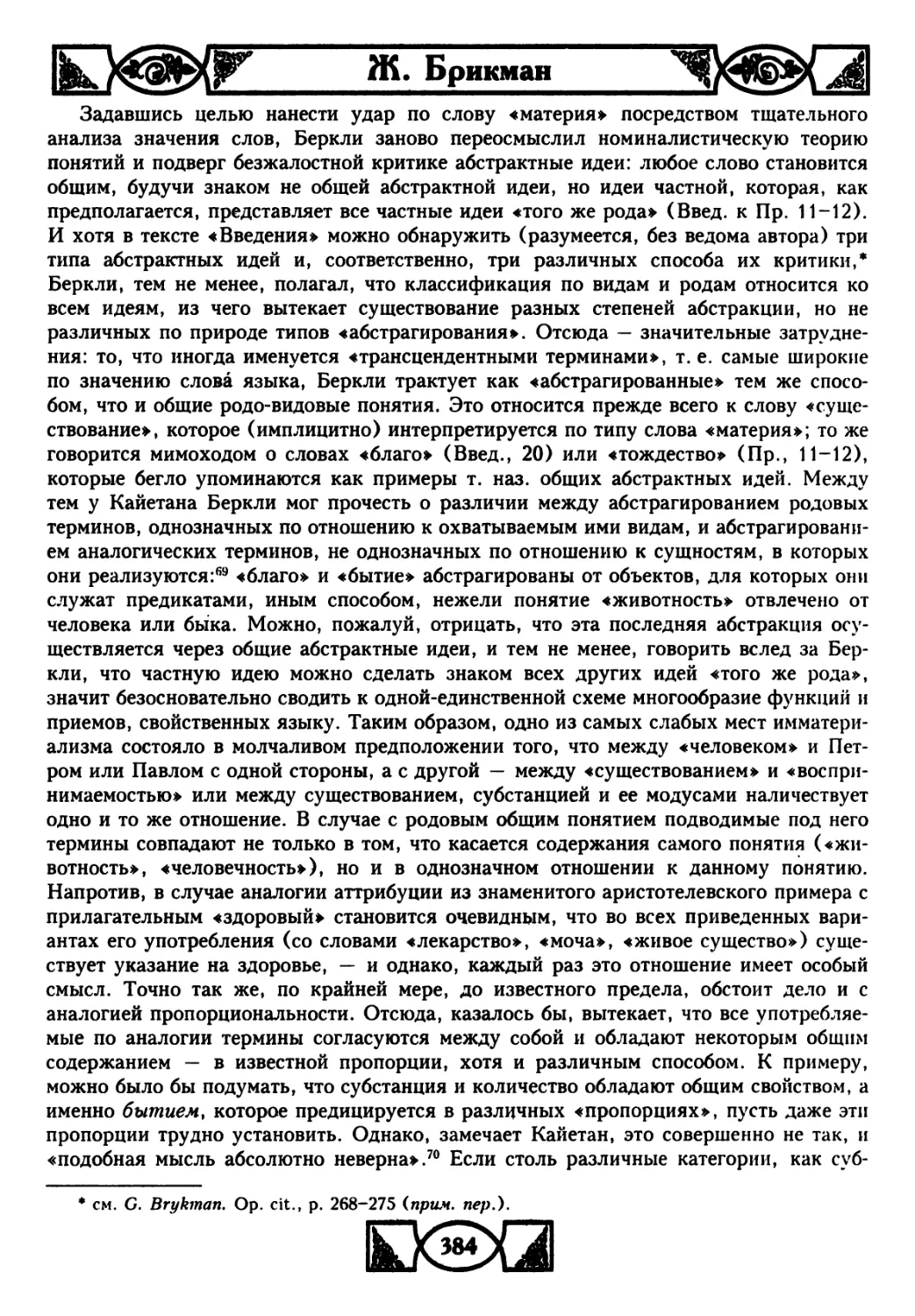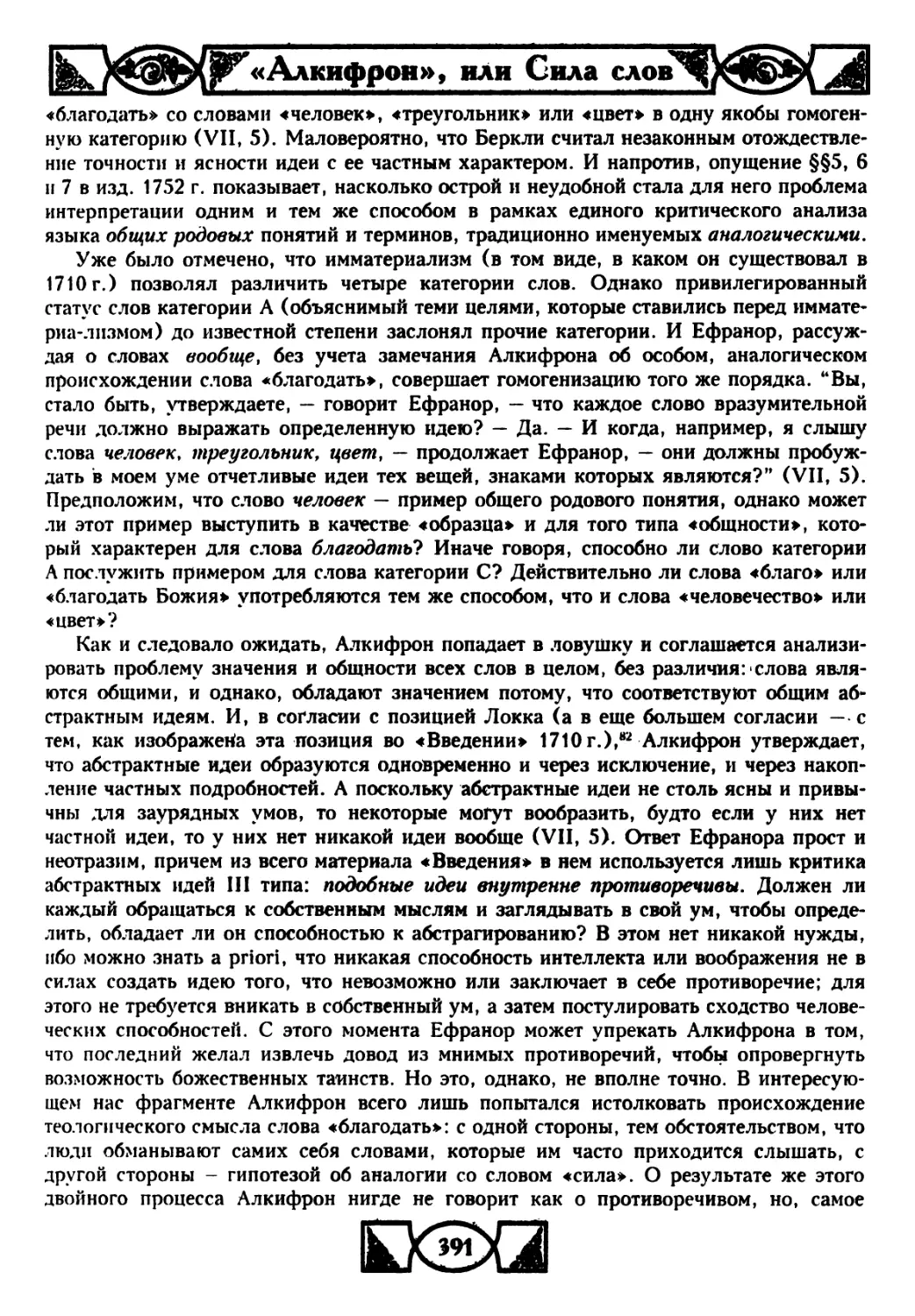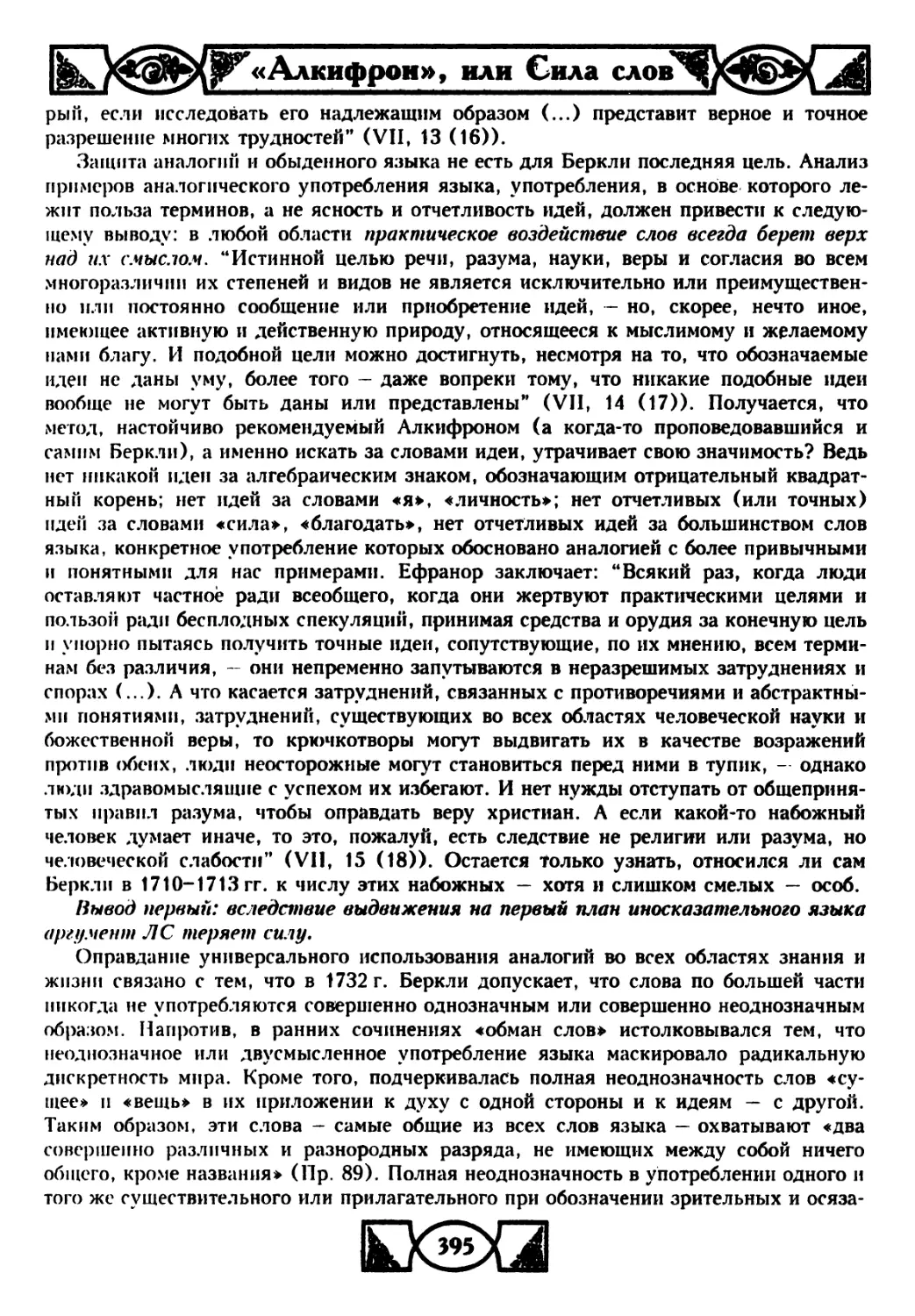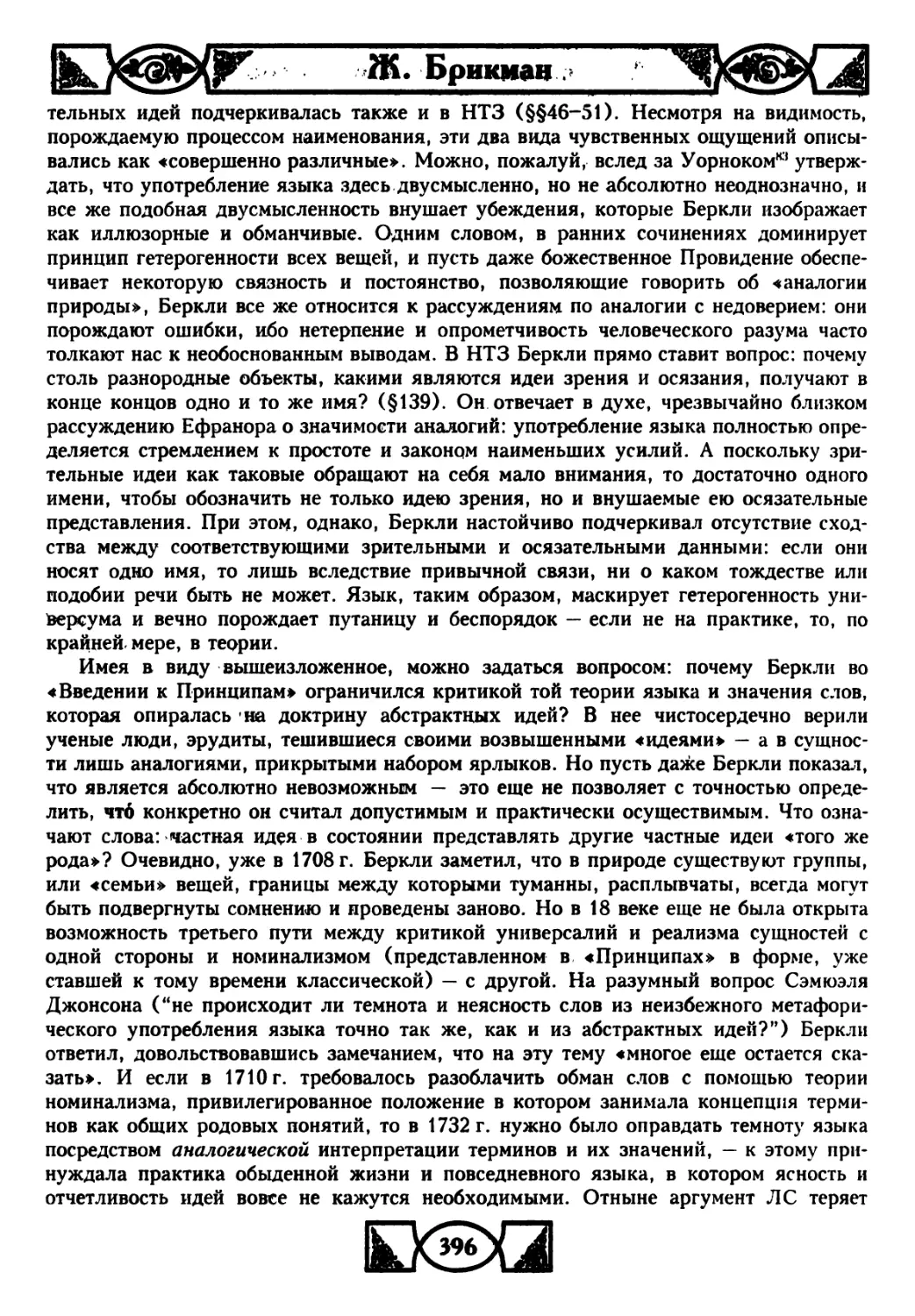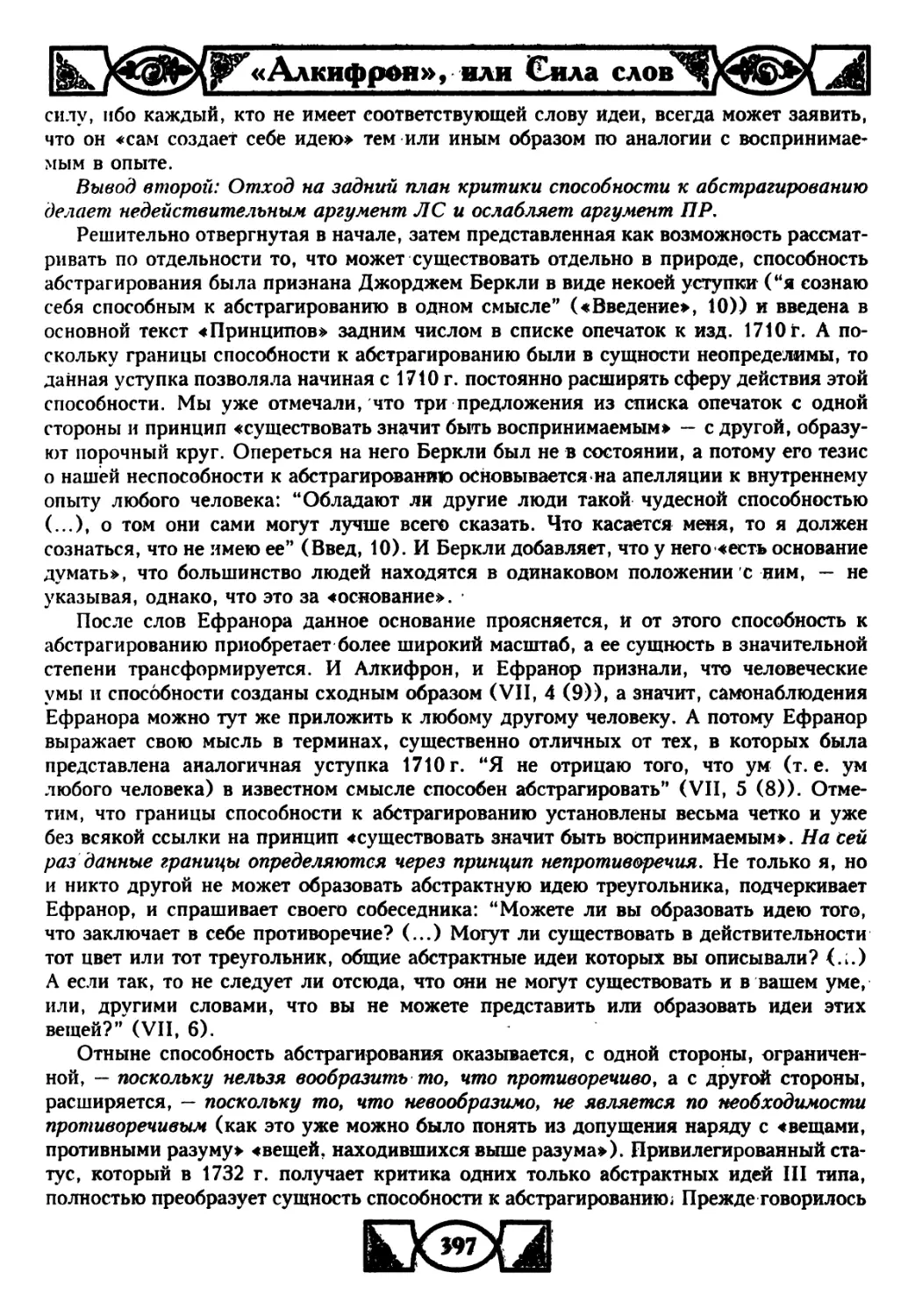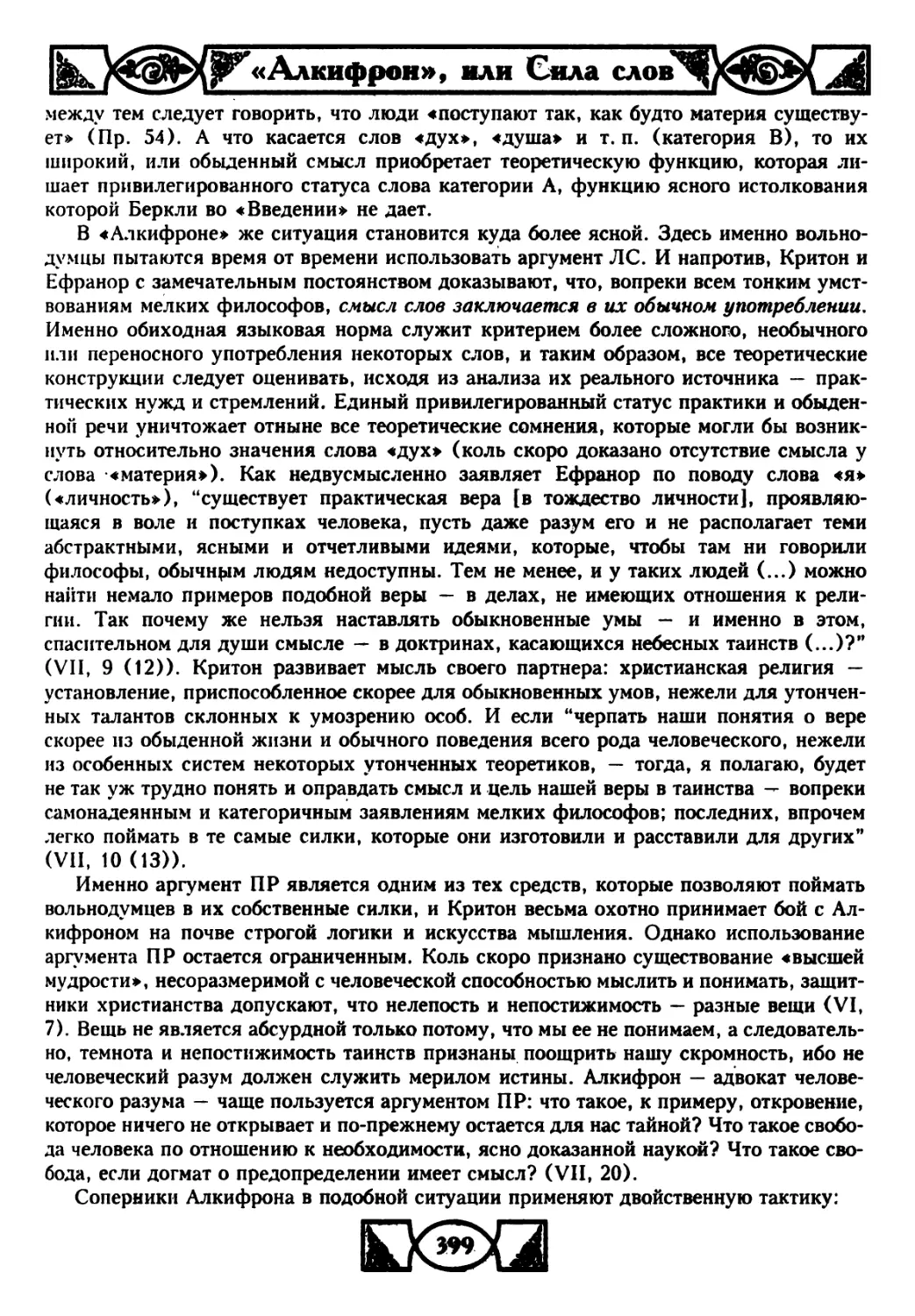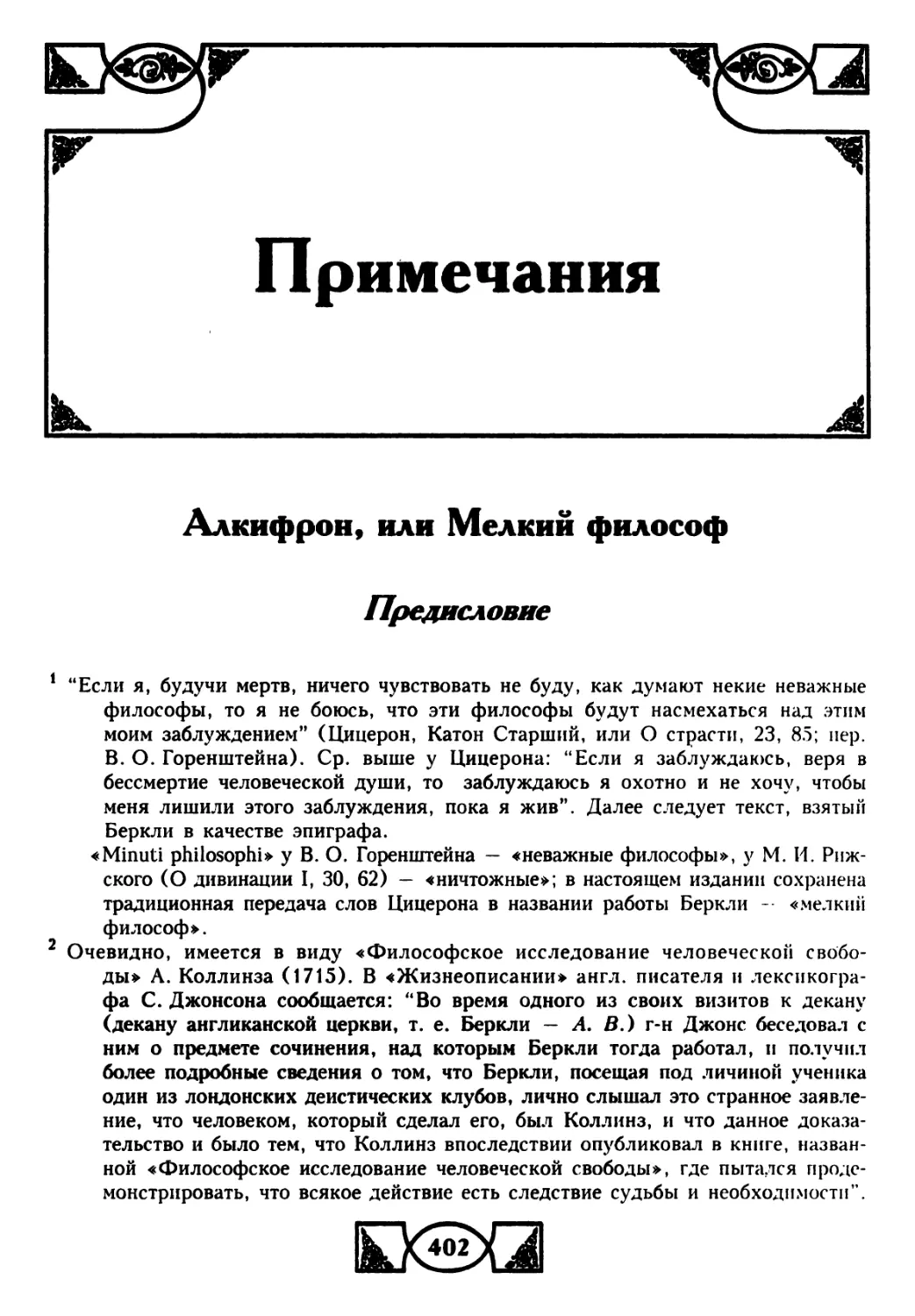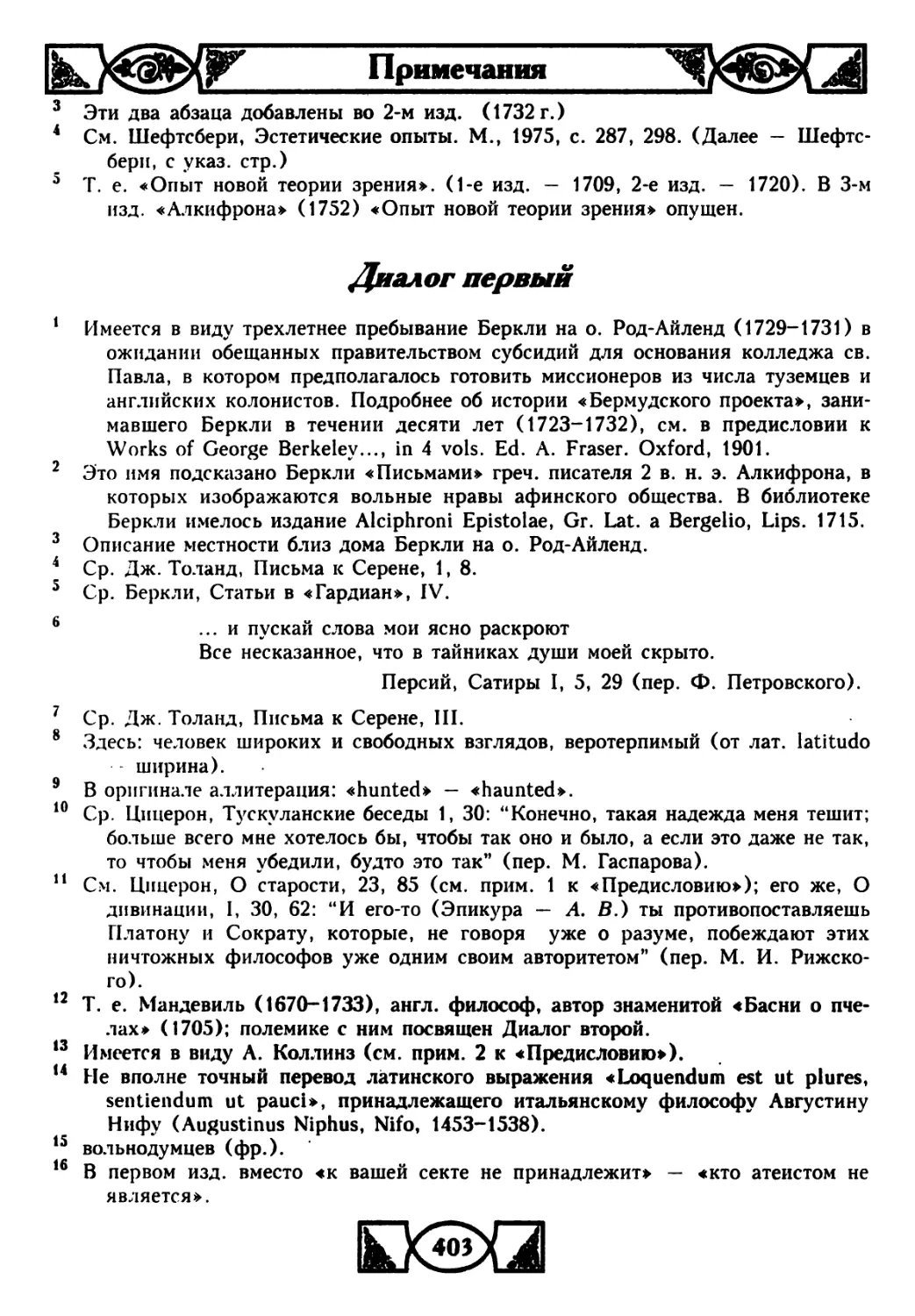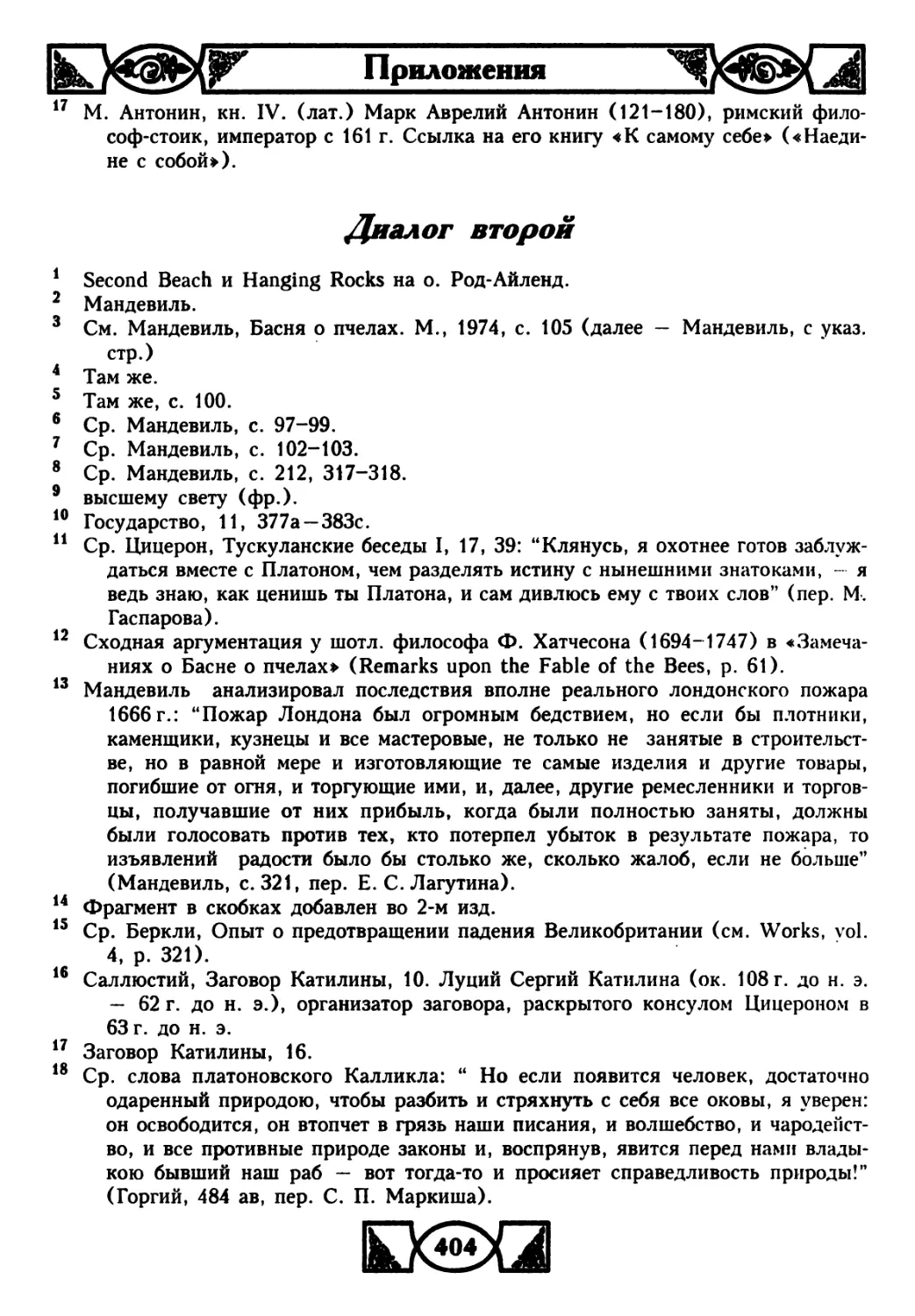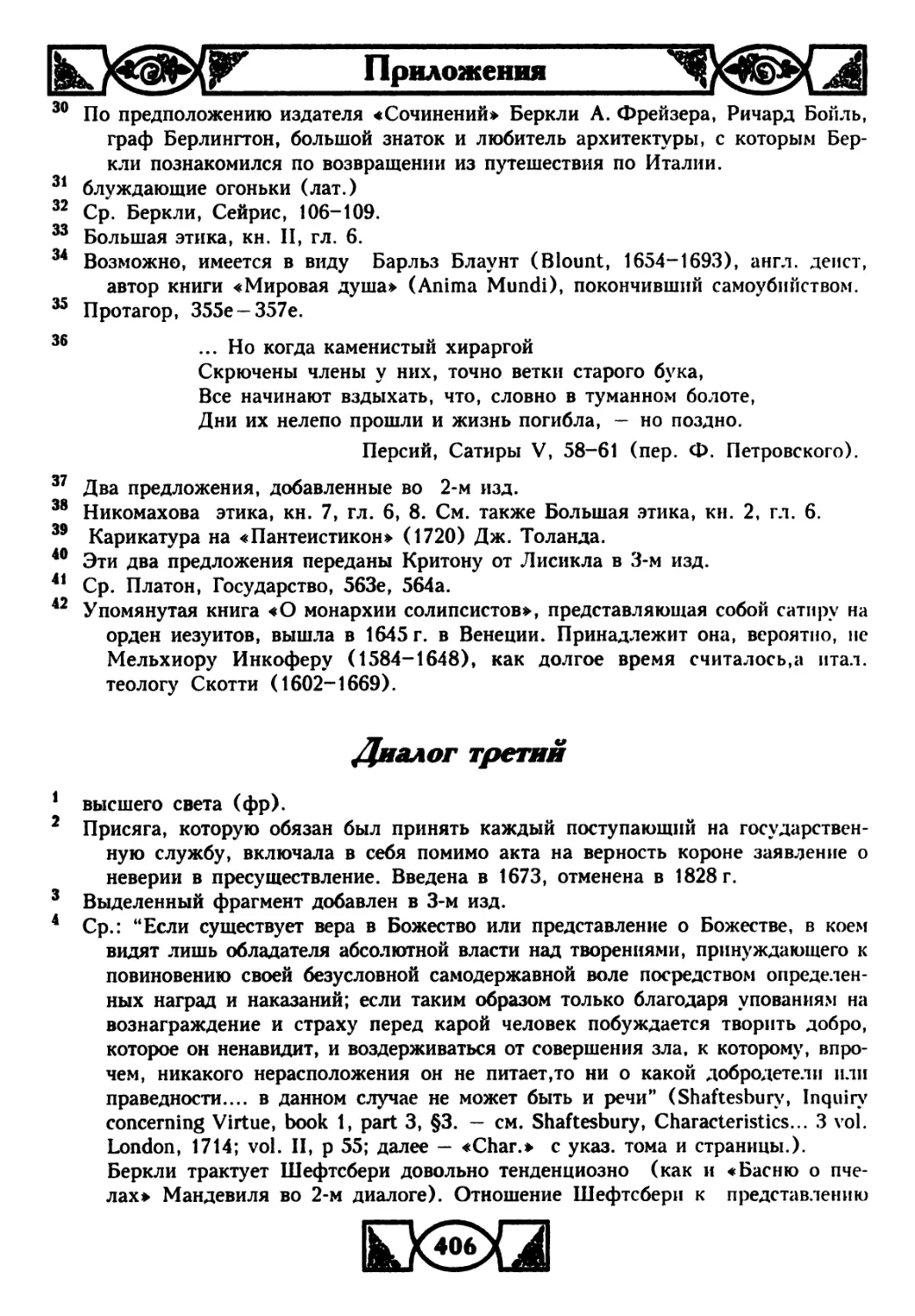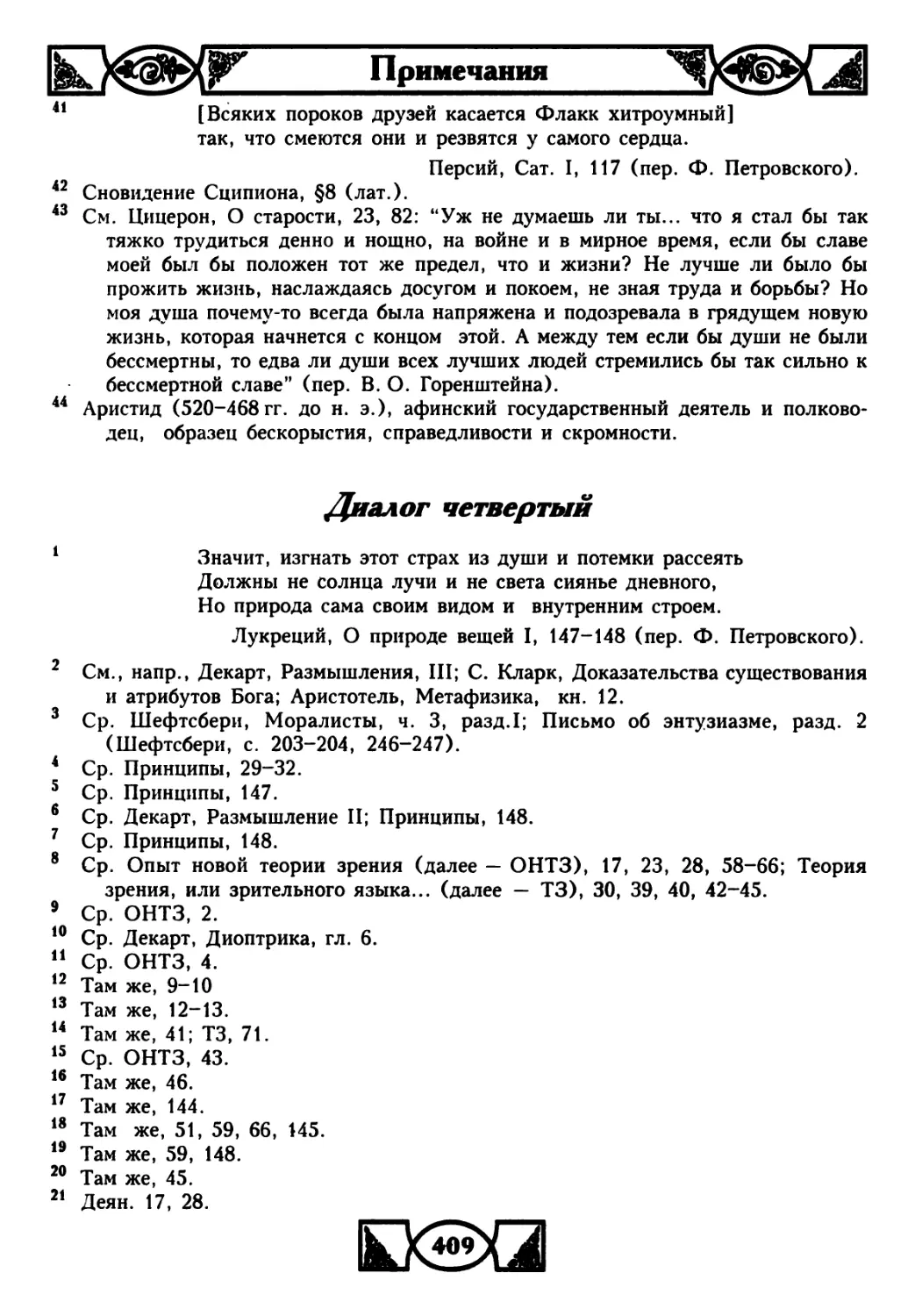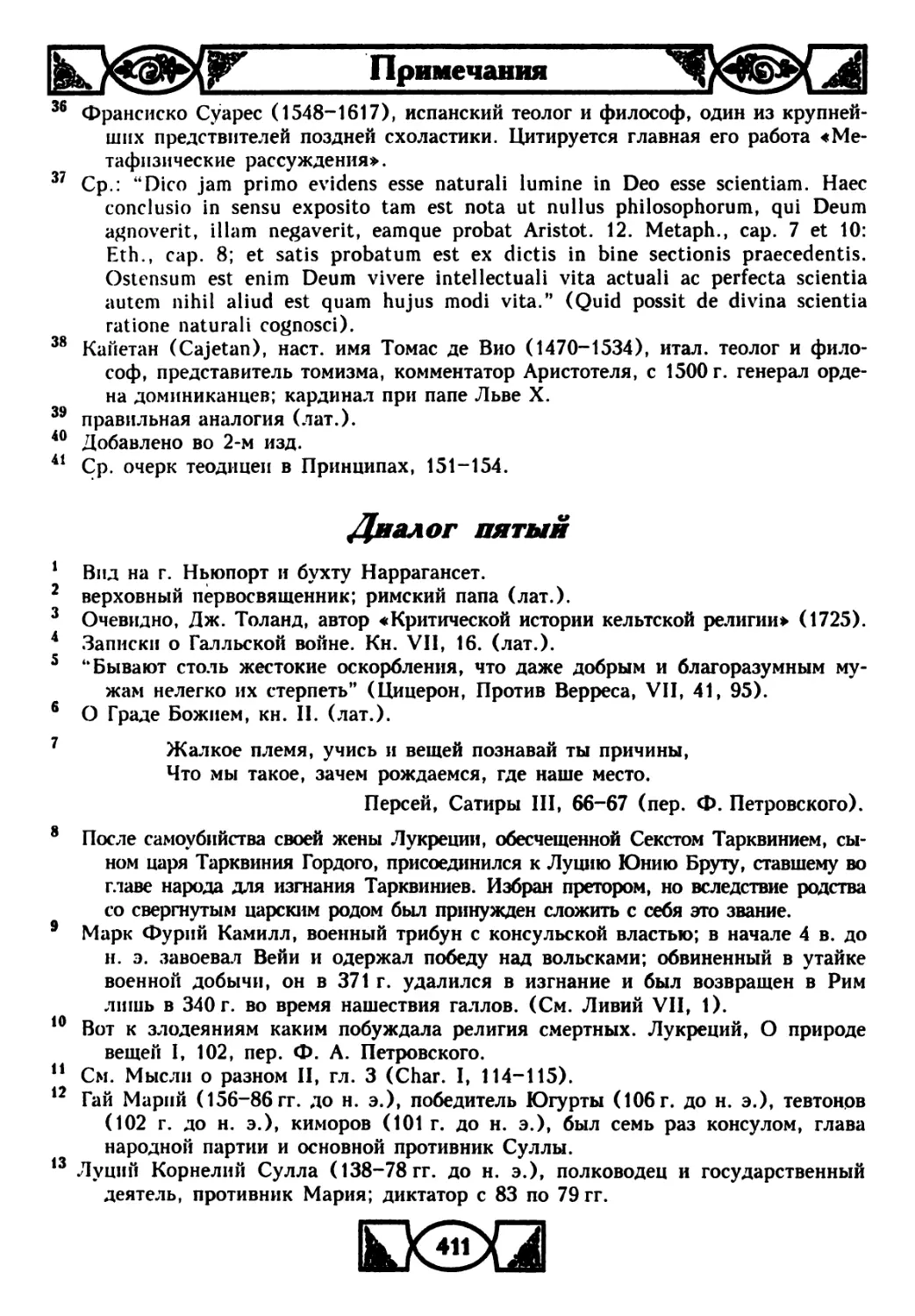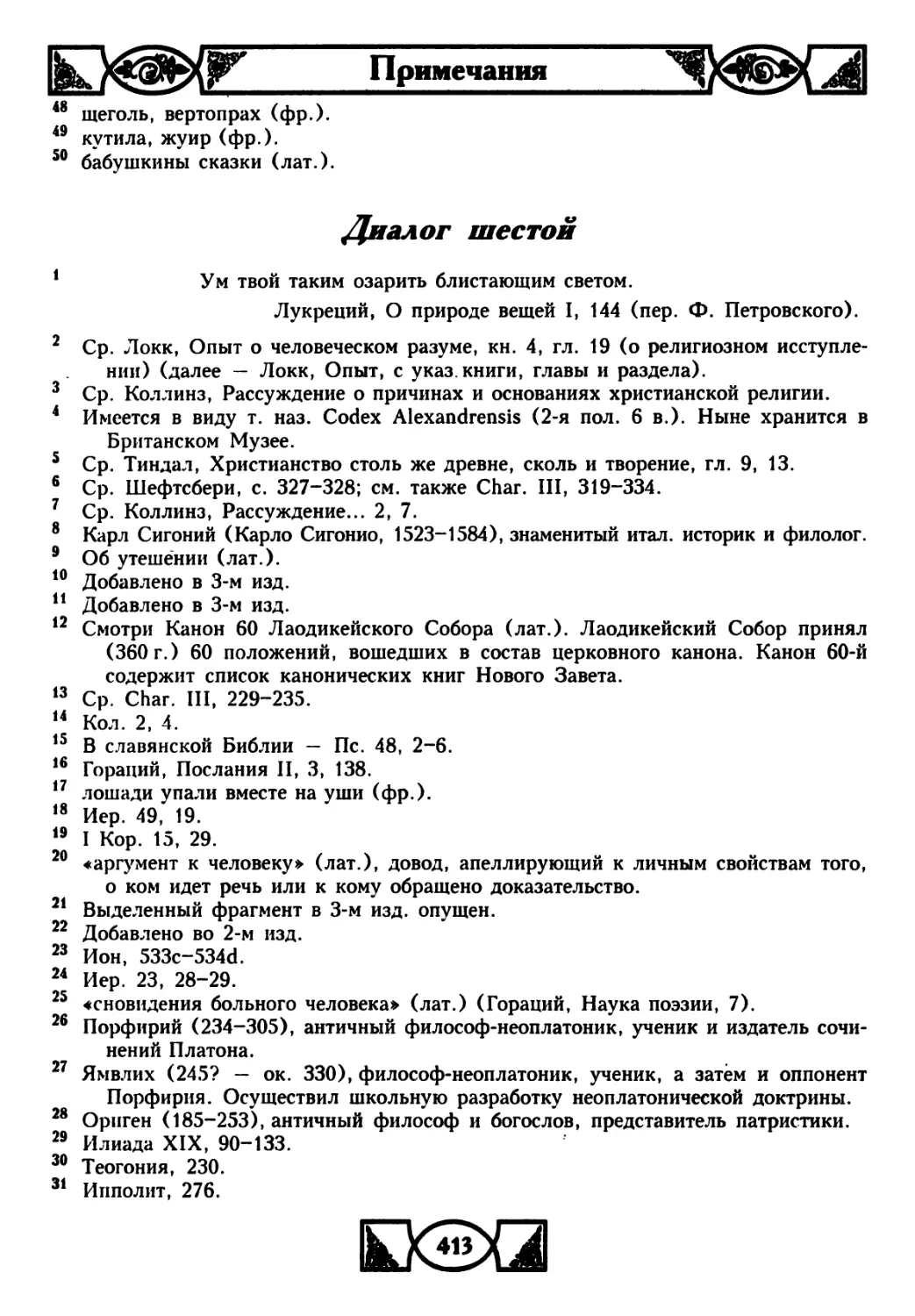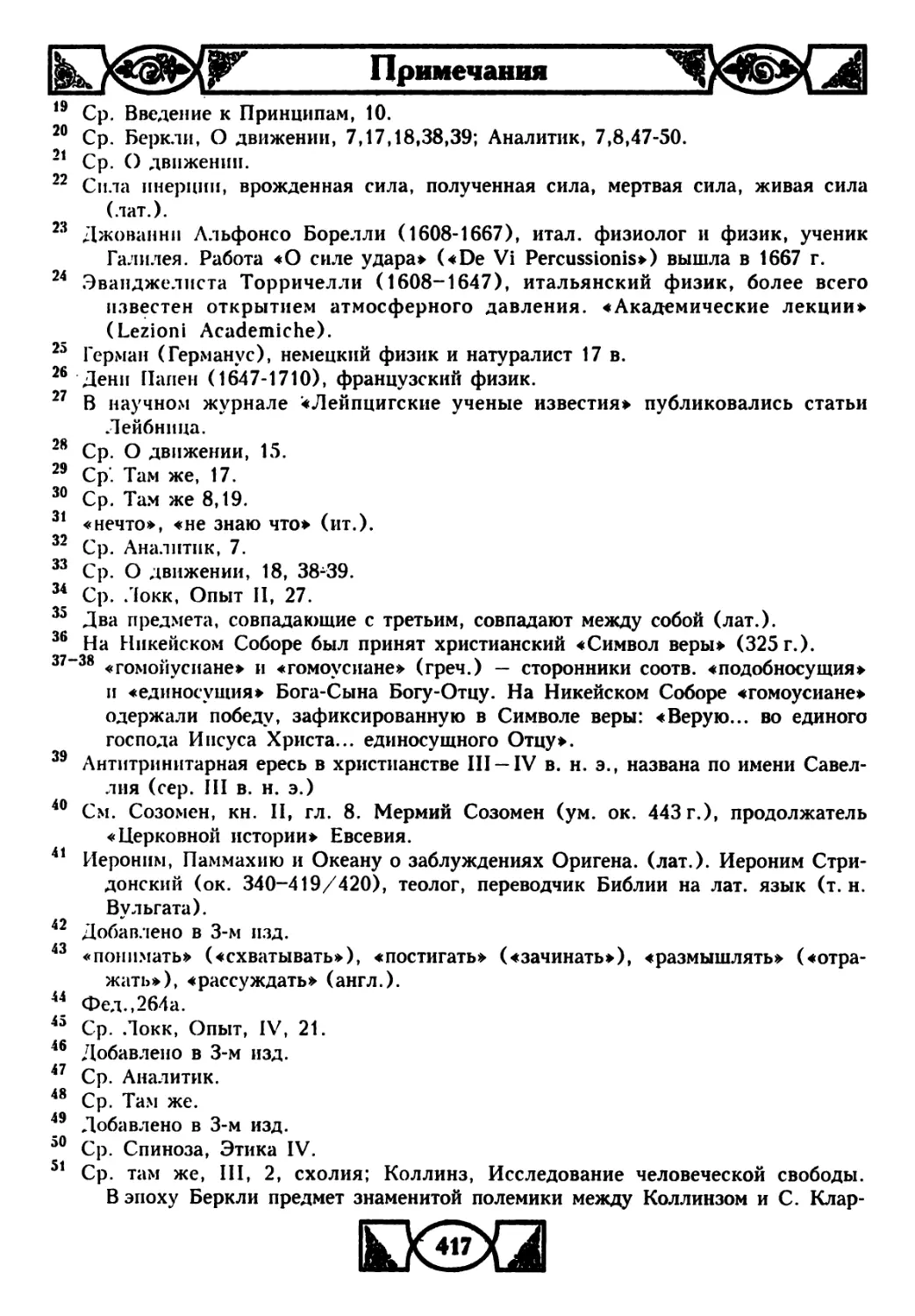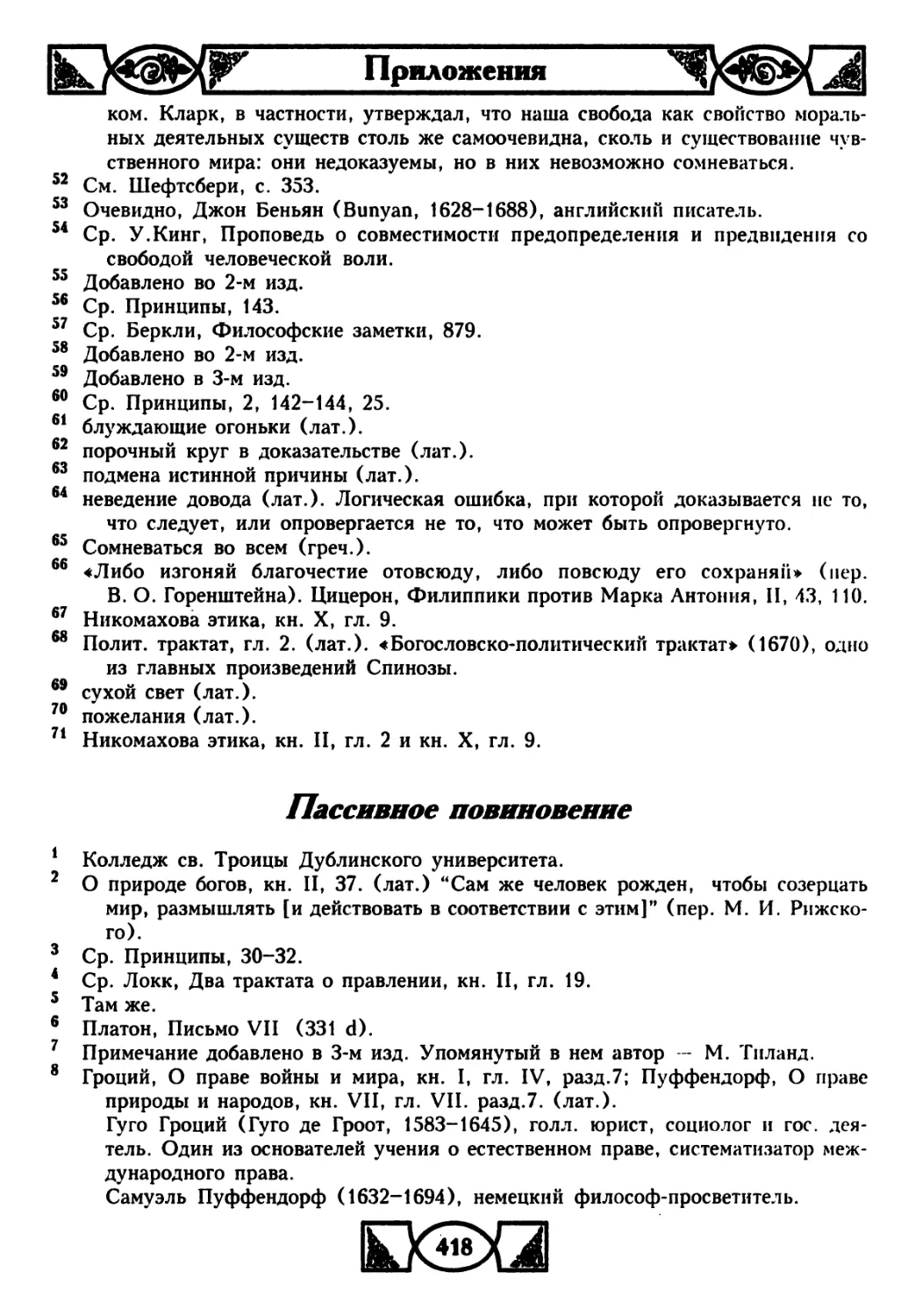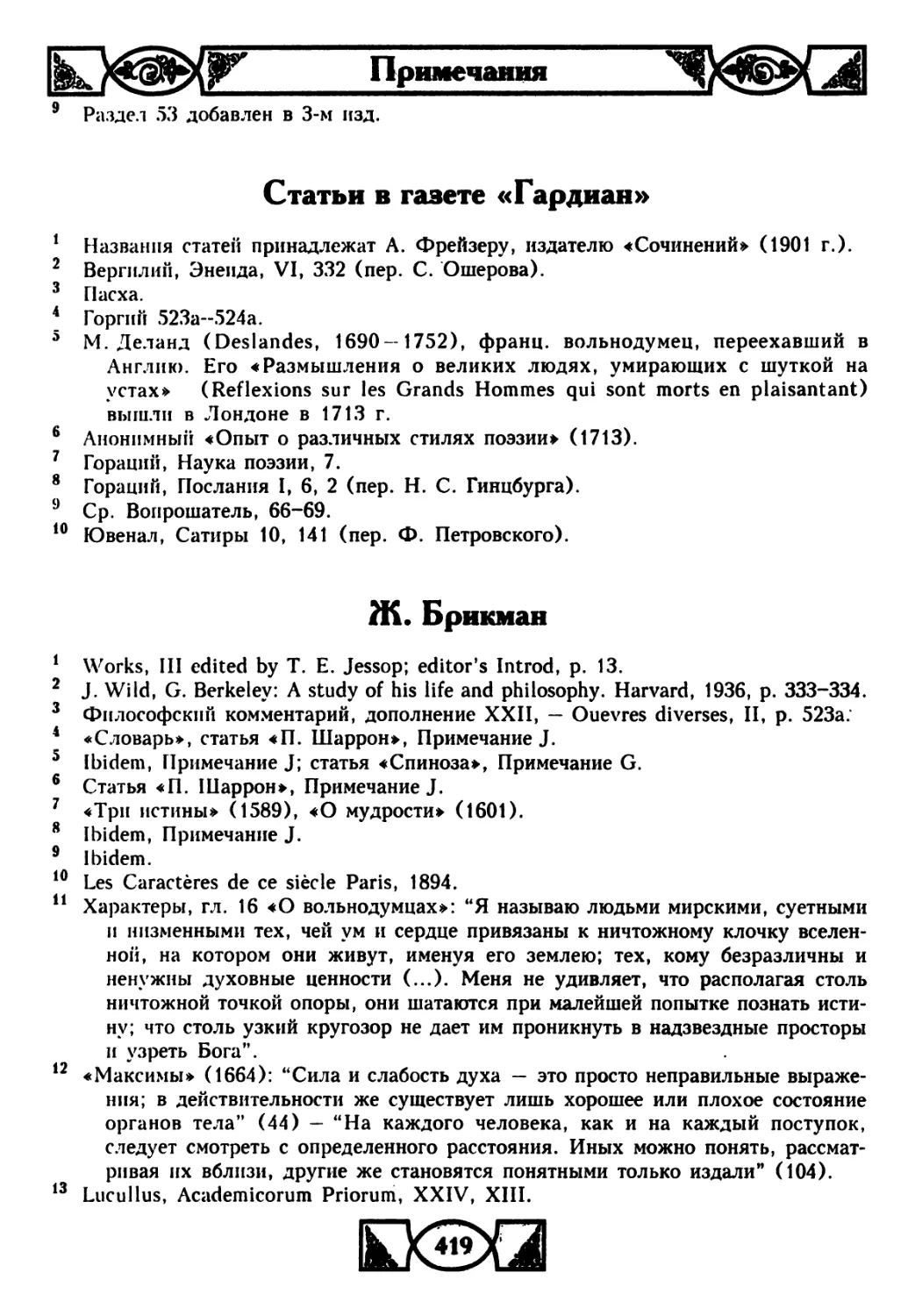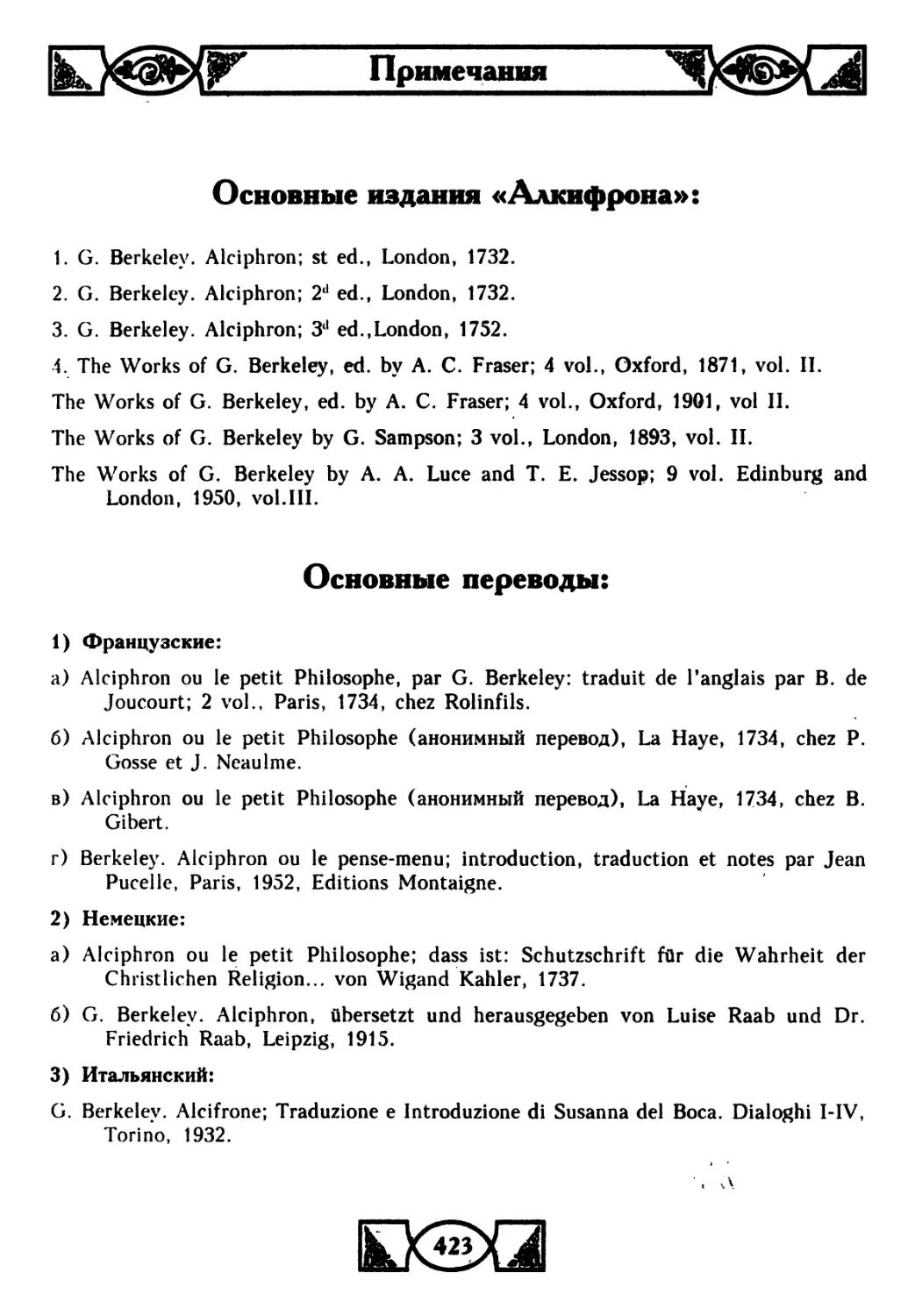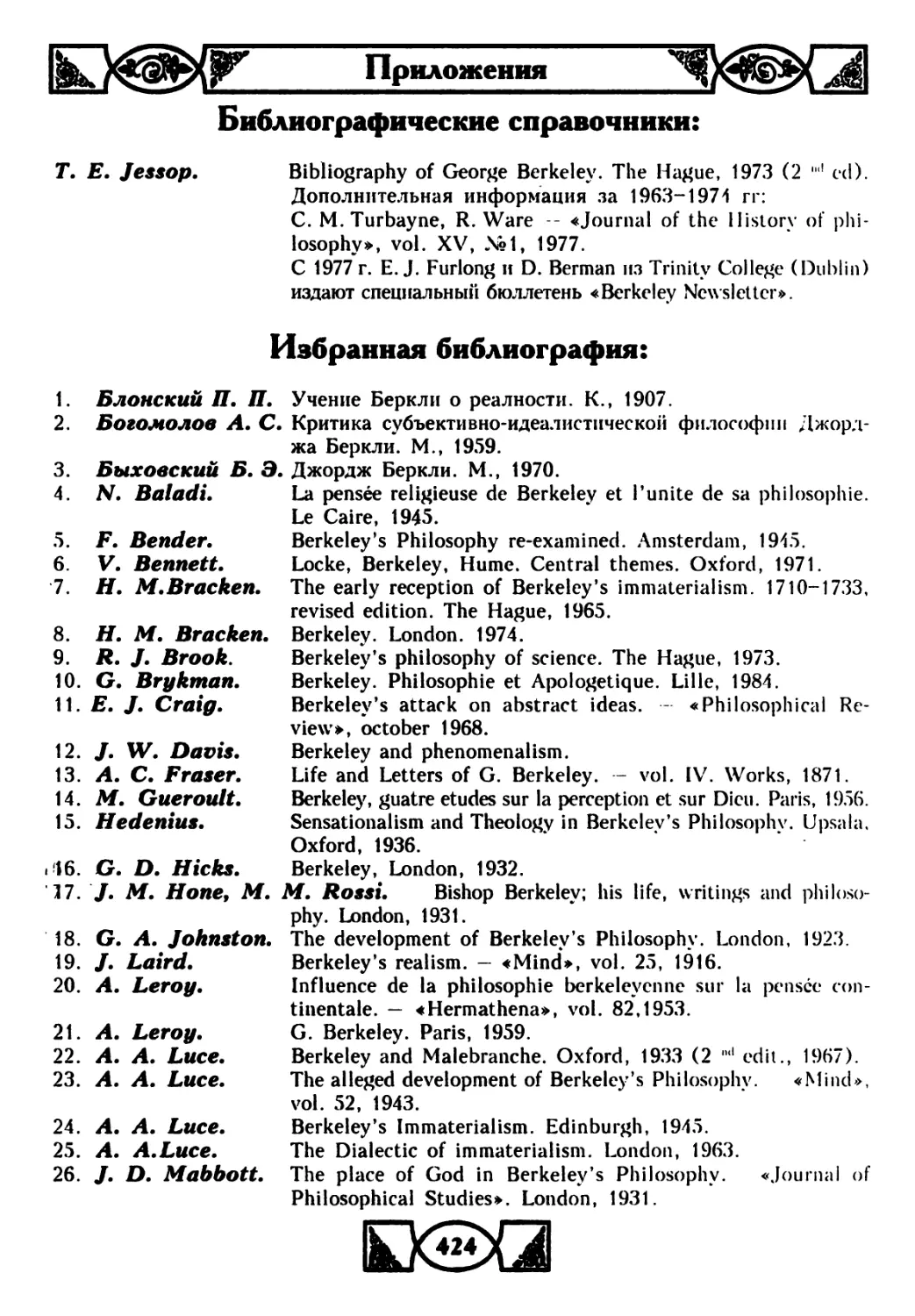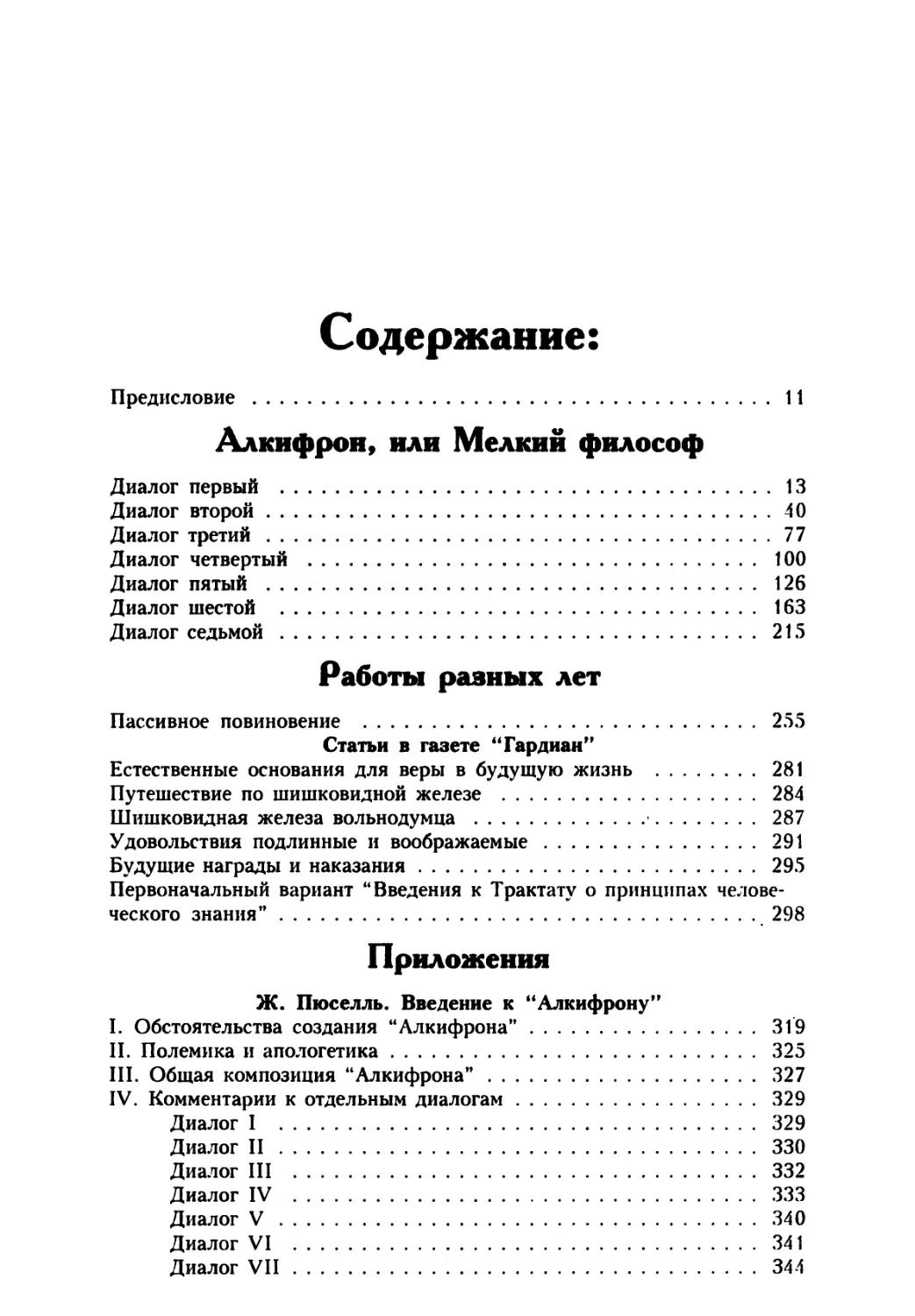Автор: Беркли Д.
Теги: природа и роль философии религии индийского субконтинента индуистская религия в широком смысле философия онтология метафизика гносеология религия религиеведение
ISBN: 5-89329-133-6
Год: 2000
МВД России
Санкт-Петербургский университет
Академия права, экономики
и безопасности жизнедеятельности
Фонд поддержки науки и образования
в области правоохранительной деятельности
«Университет»
Джордж Беркли
Алкифрон,
или
Мелкий философ
Под общей редакцией
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора юридических наук,
профессора, академика В. /7. Сальникова4,
доцента, доктора юридических наук А. П. Альбова\
доцента, доктора философских наук Д. П. Масленникова
ПАМЯТНИКИ
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ЗАПАДНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Руководитель проекта
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук,
профессор, академик
В. П. Сальников
Фонд поддержки науки и образования
в области правоохранительной деятельности «Университет»
Санкт-Петербургский университет МВД России
Издательство «Алетейя»
Санкт-Петербург
2000
ДЖОРДЖ БЕРКЛИ
АЛКИФРОН,
или Мелкий философ
РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ
Фонд поддержки науки и образования
в области правоохранительной деятельности «Университет
Санкт-Петербургский университет МВД России
Издательство «Алетейя»
Санкт-Петербург
2000
УДК 101+23/24
ББК 87.2+86.2
Б 48
Д. Беркли
Б 48 Алкифрон, или Мелкий философ: Работы разных лет / Под
общ. ред. В. П. Сальникова, А. П. Альбова, Д. П. Масленникова;
Пер. с англ. А. А. Васильева. — СПб.: Алетейя,
Санкт-Петербургский Университет МВД России; Академия права, экономики
и безопасности жизнедеятельности; Фонд поддержки науки и
образования в области правоохранительной деятельности
♦Университет», 2000 г. — 427 с.
ISBN 5-89329-133-6
В настоящий сборник произведений замечательного философа и
богослова Джорджа Беркли (1685-1753) вошли работы, прежде не
издававшиеся на русском языке. Беркли занимает бесспорное место в ряду
классиков европейской философии, имея репутацию одного из самых
оригинальных и даже «экстравагантных» мыслителей. В XX в. он
привлекал философов главным образом своей теорией познания,
основанной на критике абстрактных идей и имматериализме, столь близкой
по духу многим течениям современной мысли. Однако для самого
преподобного Джорджа Беркли, епископа Клойнского, главной
задачей его жизни была философская апология христианской религии,
которой посвящен диалог «Алкифрон», занимающий центральное место
в данном сборнике.
Остальные работы (1-й вариант «Введения к Принципам
человеческого познания», «Пассивное повиновение», статьи из газеты «Гарди-
ан» 1710-х годов) посвящены теории языка и богословским проблемам.
Издание сопровождается двумя блистательными статьями Ж. Пю-
селля и Ж. Брикман; все работы имеют обширный комментарий,
справочный и библиографический аппарат.
Перевод с английского.
УДК 101+23/24
ББК 87.2+86.2
Резензенты:
доктор философских наук, профессор кафедры культурологии
Санкт-Петербургского университета МВД России
К. Н. Хабибуллин;
кандидат философских наук, доктор юридических наук,
профессор кафедры философии
Санкт-Петербургского университета МВД России
В. П. Федоров
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2000 г.
© А. А. Васильев, перевод с английского, составление,
комментарии, 1996 г.
© Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000 г.
© Академия права, экономики и безопасности
жизнедеятельности, 2000 г.
© Фонд поддержки науки и образования в области
правоохранительной деятельности «Университет», 2000 г.
ESBN 5-89829-183-6
JHII
9*785893^29133911
(SSU-SS9i)
ч
т»дг&£ фе>4оф£ vntyobwty.
От составителя
В предлагаемый вниманию читателя сборник произведений Джорджа Беркли
( 1685-1753) вошли работы, прежде не издававшиеся на русском языке (за
исключением нескольких фрагментов из диалога «Алкифрон»). Бесспорным местом в ряду
классиков европейской философии, а также репутацией одного из самых оригинальных*и
даже «экстравагантных» мыслителей Беркли обязан прежде всего «Трактату о
принципах человеческого знания» (1710) и «Трем разговорам между Гиласом и Филону-
сом» (1713). Именно в этих работах были изложены критика абстрактных идей и
теория имматериализма, вызвавшие в свое время столь бурную и негодующую
реакцию. И в 20 веке Беркли занимал философов главным образом своей эпистемологией,
близкой по духу многим течениям современной мысли. Настоящее издание вовсе не
ставит своей целью дать читателю некоего принципиально нового Беркли. И все же
нельзя не отметить, что преимущественный интерес к «Принципам» и «Трем
разговорам» привел к определенному смещению, (если не искажению) общей перспективы, в
которой рассматривается творчество Беркли в целом. Ведь Беркли отнюдь не
осознавал себя «чистым» философом, открывающим новые пути в теории познания или в
истолковании научных конструкций. И едва ли «преподобный епископ Клойнский» не
пришел бы в ужас, встретив у одного из современных комментаторов выражение «Бё'р-
кли без Бога» так лаконично определяет свой подход к его творчеству Дж. Уорнок.
Перед нами удивительный, хотя и далеко не единичный факт в истории мысли: то, что
последующие поколения признали самым интересным и оригинальным в творческом
наследии автора, для него самого было не более, чем средством, призванным служить
другой, в его собственном представлении куда более важной цели, не
«теоретической», по практически-жизненной. Для Беркли же такой целью, обусловившей все его
творчество и чрезвычайно рано осознанной, была апология христианской религии.
Едва ли случает тот факт, что в самом обширном из его произведений, диалоге «Ал-
кпфрон» (занимающем центральное место в нашем сборнике) теория имматериализма
даже не упоминается, — даже там, где, казалось бы, она прямо-таки «просится» в
текст. Что это: обыкновенный тактический прием или осознание того, что средства,
употреблявшиеся прежде с юношеским пылом и бескомпромиссностью, не
соответствуют главной цели или даже производят обратный эффект, совершенно не
предусмотренный автором? А может быть, здесь вообще нет никакой проблемы, и все дело в
'падении мыслительных способностей престарелого епископа"? — именно такой
неутешительный диагноз поставил классику европейской мысли советский историк
философии (И. С. Нарский). Как бы мы ни ответили на этот вопрос (а два типичных
oTBerii читатель найдет в сопровождающих данноеииздание статьях), постановка ею
необходима для понимания внутренней динамики творческого развития Беркли.
И еще об одном обстоятельстве, оправдывающем, по нашему мнению, публикацию
«периферийных» произведений Беркли.
Последний отнюдь не являлся профессиональным философом в современном
понимании этих слов. Студент Дублинского Колледжа Троицы, любознательный путешественник,
соя
очаровательный собеседник, умевший покорить своим красноречием высший лондонский
свет и двор королевы Каролины, ревностный, хотя и не слишком удачливый миссионер,
искренний филантроп, упорный пропагандист целебных свойств дегтярной настойки, о
которой проведал он на Род-Айленде от местных индейцев, отец многочисленного семейства,
Беркли до конца своих дней оставался человеком, по-юношески открытым миру в самых
разных его проявлениях. Беркли не только философ, он — писатель, литератор. Свифт,
Поп, Аддисон (литературная элита тогдашней Англии) — его близкие друзья. Эта сторона его
творчества нашему читателю почти не известна, и мы надеемся, что вошедшие в настоящий
сборник произведения позволят составить представление о литературном таланте Беркл 11
признанного мастера английской прозы и одного из классиков диалогического жанра.
Центральное место в настоящем сборнике занимает *Алкифрон, или Мелкий
философ», написанный в годы американского затворничества Беркли (обстоятельную
историю его создания читатель найдет в статье Ж. Пюселля). По тематике и общему
замыслу к «Алкифрону» примыкают статьи из газеты «Гардиан» (1713). «Пассивное
повиновение» (1712) - еще одно из ранних произведений Беркли. Созданное на
основе прочитанных в церкви Колледжа Троицы проповедей, эта небольшая работа
знакомит с моральными и политическими принципами Беркли, ригоризм которых
некоторые комментаторы находят чуть ли не кантовским.
На фоне упомянутых выше работ, посвященных главным образом религиозным,
моральным и политическим вопросам, 1-й (рукописный) вариант «Введения к
Принципам человеческого познания» (1708) стоит особняком. Это не набросок печатного
«Введения... », но произведение во многом законченное и самостоятельное.
Изложенная в нем теория языка в некоторых ключевых пунктах отличается от того, что мы
находим в окончательном тексте «Принципов», а связь эпистемологических исканий
Беркли с религиозной подосновой его творчества здесь куда очевиднее.
К изданию прилагаются две статьи, посвященные одной работе, «Алкифрону», но при
этом несходные, а иногда полярные по своим выводам. В первой из них «Алкнфрон»
представлен как закономерный этап, логически вытекающий из ранних работ Беркли. Эволюция
философа в изображении Ж. Пюселля предстает внутренне непротиворечивой,
последовательной и беспроблемной. Подобная интерпретация, по нашему мнению, является
несколько упрощенной, и нуждается, по крайней мере, в серьезных уточнениях. В статье, однако,
представлен богатый материал, касающийся предпосылок и истории создания «Алкифро-
на», его связи с другими работами Беркли; детально анализируются структура
произведения и его литературные особенности. А потому для предварительного знакомства с « Ал киф-
роном» «Введение» Ж. Пюселля может оказаться чрезвычайно полезным.
Вторая работа — глава из фундаментальной монографии Ж. Брнкман — представляет
резкий контраст по отношению к интерпретации Ж. Пюселля и предполагает читателя, уже
знакомого с основными вещами Беркли и в целом философски более подготовленного.
Автор подчеркивает драматизм и неоднозначность философской эволюции Беркли,
усматривая в «Алкифроне» свидетельство постепенного отхода от имматериализма, - отхода не
случайного, но обусловленного ведущей «апологетической» интенцией, пронизывающей
все творчество английского мыслителя. И в свете этого общежизненного, а не просто
философского замысла имматериализм ранних работ интерпретируется как юношески
опрометчивое уклонение в спекуляцию, как обходной путь теории, сомнительность и даже опасность
которого осознал, по мнению исследовательницы, сам Беркли.
Вошедшие в настоящий сборник переводы выполнены по изданию: The Works of George
Berkeley, Bishop of Cloyne, in 9 vols, ed. A. A. Luce and T. E. Jessop. London, 1948-1957.
А. А. Васильев
Алкифрон,
или
Мелкий философ
В семи диалогах, содержащих
апологию христианской религии
против тех, кого называют
свободомыслящими
Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды.
Игр. 2ЛЗ.
Sin mortuus, ut quidam Minuti Philosophi censent, nihil sentiam,
non vereor nehunc meum mortui philosophi irrideant.1
Цицерон
Предисловие
з того, что в замысел автора входило рассмотреть свободомыслящего с
различных сторон — как атеиста, распутника, энтузиаста, насмешника,
ученого критика, метафизика, фаталиста и скептика — не следует
заключать, будто все эти качества свойственны каждому отдельному
вольнодумцу; предполагается лишь, что каждая из этих особенностей характерна для того
или иного представителя секты. Найдутся, возможно, читатели, которые вообразят, что
атеизм ни одному из свободомыслящих не присущ — и все же, хотя часто утверждалось,
что умозрительных атеистов в природе не существует, приходится согласиться, что есть
атеисты, претендующие на умозрение. Что это действительно так, автору хорошо
известно, и он ясно убедился в том, что один из самых знаменитых сочинителей, писавших в
наше время против христианской религии, объявил, что ему удалось открыть
доказательство против бытия Божия.2 И автор не сомневается, что всякий, кто возьмет на себя
труд осведомиться — из обычных ли разговоров или из книг — о принципах и
доктринах современных вольнодумцев, найдет слишком много оснований полагать, что в
представленных ниже характерах нет ничего вымышленного.
Автор считает подобное разъяснение необходимым по той причине, что он не
ограничивал себя задачей писать возражения исключительно против книг. А потому не
следует думать, будто сочинения некоторых авторов искажаются, если не всякому
мнению Алкифрона или Лисикла отыщется в них полное соответствие. Позволительно
предположить, что в частной беседе какой-нибудь джентльмен выражает свои мысли с
большей откровенностью, чем иные господа — в своих писаниях: ведь он пользуется
намеками этих последних и делает выводы из их принципов.
Но что бы они ни стали утверждать, автор убежден: всех, кто открыто или
прибегая к осторожным намекам или внушениям пишет против достоинства, свободы и бес-
ВС«Х2
смертия человеческой души, можно по справедливости обвинить в том, что они
расшатывают устои морали и лишают человека возможности стать разумно добродетельным.
И с этой стороны интересам добродетели есть чего опасаться. А что касается опасении
одного многими обожаемого автора*'1, будто от своих остроумных противников дело
добродетели рискует потерпеть меньше, чем от нежных нянек, способных лишь
задушить и погубить добродетель чрезмерным попечением и лаской, а пространными
рассуждениями о награде превратить ее в предмет купли и продажи, — то пусть
читатель и рассудит, насколько обоснованны эти дурные предчувствия1.
Причины, по которым автор присоединил к «Мелкому философу» «Трактат о
зрении»5, станут ясны по внимательном прочтении четвертого диалога.
-ее?СЙ^^Лк
• "Sensus communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа"
II, разд. 3.
г
Диалог первый
1. Вступление
2. Цели и стремления свободомыслящих.
3. Противодействие духовенства.
4. Свобода для вольнодумства в Англии.
5. Дальнейшее изложение воззрений
свободомыслящих.
6. Восхождение свободомыслящих к атеизму.
7. Совместное мошенничество жрецов и власть
имущих.
8. Каким образом свободомыслящие совершают
открытия и обращают в свою веру.
9. Один лишь атеист по-настоящему свободен.
Его представления о естественном добре и
зле.
ь.
10. «Мелкие философы»— более точное название
для современных вольнодумцев.
11. Мелкие философы: что это за люди, каково их
образование.
12. Их численность, успехи и принципы.
13. Сопоставление с прочими философами.
14. Какие вещи и идеи надлежит называть
естественными.
15. Истина едина вопреки различию мнений.
16. Правило и мера моральных истин.
А
Я теши л себя надеждой, Феаг, что к этому времени уже смогу
послать тебе радостное известие об успехе предприятия, забросившего
меня в этот отдаленный уголок. Но вместо этого мне сейчас пришлось бы
излагать подробности его краха, ' если бы я не счел за лучшее занять тебя
описанием забавных происшествий, позволивших мне с большей
легкостью претерпеть обстоятельства, ни избежать, ни предвидеть которые я был не в силах.
Над событиями мы не властны, но всегда в нашей власти другое — извлечь пользу даже
из самых худших. И я должен признать, что течение и исход этого дела представили мне
повод к размышлениям, способным отчасти возместить огромную трату времени, усилий
и средств. Ибо деятельная жизнь, управляемая чужими планами, страстями и
мнениями, если и не вынудит человека в конце концов к подражанию, то, по крайней мере,
научит его наблюдать. И пусть даже ум, на покое размышляющий над своими
наблюдениями, и не произведет ничего полезного для мира — он почти наверняка сумеет занять
приятным образом самого себя. Вот уже несколько месяцев наслаждаюсь я подобной
свободой и досугом в этом уединенном уголке, вдали от великого водоворота дел,
раздоров и удовольствий, который именуют «светом». Между тем мой приют, и сам по себе
воа
K)4@&W^~ Джордж Беркли "^)^^Д
очаровательный после долгих волнений и тревог, стал для меня еще милее благодаря
беседе и превосходному характеру его хозяина, Ефранора, соединившего в одном лице
философа и земледельца — два свойства, отнюдь не настолько несовместимые но
природе, как это обыкновенно полагают.
С той поры как Ефранор вышел из университета, он живет & этом городке, где
владеет удобным домом с сотней акров прилегающей земли, усовершенствованной его
трудами и доставляющей ему в изобилии средства к существованию. Есть у него изрядное
собрание книг, преимущественно старинных, полученных в наследство от
дяди-священника, под чьим руководством он и воспитывался. И хозяйственные заботы ничуть не
мешают Ефранору пользоваться библиотекой с большой для себя выгодой. Он много
читал и еще больше — мыслил, а доброе здоровье и телесная крепость позволяют ему с
легкостью переносить тяготы труда умственного. Ефранор полагает, что занятия его
идут с большим успехом не в кабинете, а в поле, где его ум редко бывает праздным, когда
Ефранор подрезает деревья, пашет землю или смотрит за садом.
В доме этого почтенного мужа я и познакомился с его соседом и близким другом
Критоном, человеком заслуженным и весьма состоятельным.
И вот однажды прошлым летом, когда в один из воскресных дней этот джентльмен
(приходская церковь которого находится в нашем городке) обедал у Ефранора,
случилось мне осведомиться у Критона касательно его гостей, которых в прошлое
воскресенье видели мы вместе с ним в церкви. "Оба они в добром здравии, - отвечал Крн-
тон, — но поскольку они уже однажды подчинились обычаю — дабы разведать, каким
обществом может их порадовать здешний приход — то теперь церковь наша ничем для
них нелюбопытна, и потому сегодня они сочли за благо остаться дома". - "Вот как?
Выходит, они — диссентеры?" — спросил Ефранор. "Нет, — ответил Критон, - они
свободомыслящие". И тогда Ефранор, прежде ни с кем из этой породы, или секты не
встречавшийся и с их писаниями едва знакомый, выказал горячее желание узнать о
главнейших принципах их системы. "Я бы не стал браться за это д!ело, - сказал
Критон, — ведь их писатели держатся различных мнений. Некоторые из них заходят
дальше, чем другие, и выражаются с большей откровенностью. Но о ходячих и
общепринятых воззрениях этой школы удобнее всего осведомиться из беседы с теми, кто их
исповедует. И любопытство ваше можно будет очень скоро удовлетворить, если только
вы с Дионом согласитесь провести неделю в моем доме вместе с этими господами,
которые, похоже, обнаруживают всегдашнюю готовность излагать и проповедовать
свои мнения. Алкифрону2 уже за сорок, он знает людей и не чужд книгам. Я
познакомился с ним в Лондонском обществе адвокатов, которое он оставил, когда неожиданно
получил наследство и отправился путешествовать по самым просвещенным странам
континента. По возвращении в родные края Алкифрон предался увеселениям
городской жизни, но они ему в конце концов наскучили, ввергнув его в состояние какой-то
вялой и раздражительной праздности. Молодой господин, по имени Лисикл, — мои
близкий родственник. Это человек веселого нрава и бойкого ума, с науками знакомый
довольно поверхностно. Получив самое обычное образование и немного поглядев на
свет, он тесно сошелся с вольнодумцами и жуирами — боюсь, во вред собственному
здоровью и состоянию. Но более всего сожалею я о развращении его разума,
пораженного известными пагубными принципами: ведь они, похоже, не исчезли вместе со
страстями молодости, и потому не оставляют даже слабых надежд на исправление.
И Алкифрон, и Лисикл — люди светские и были бы довольно любезны, если бы толь-
K)^tfF Алкифрон ^Щ^Д
ко не вообразили себя свободомыслящими. А это, по правде говоря, сообщает им
известного рода манеры и ужимки, слишком ясно свидетельствующие о том, что себя они
почитают людьми более мудрыми, чем остальное человечество. И потому я буду
только рад, если мои гости встретят достойного соперника, причем там, где они менее всего
ожидали бы его обнаружить — в лице обыкновенного сельского хозяина."
"Но ведь я претендую лишь на то, чтобы познакомиться с их мнениями и
принципами, — сказал Ефранор, - С этой целью я и намереваюсь оставить завтра недельное
задание моим работникам и принять ваше предложение, если, конечно, Дион не
возражает." Я согласился. "Ну что ж, - сказал Критон, — а я тем временем подготовлю
моих гостей, сообщив им, что один почтенный сосед желает побеседовать с ними на
предмет их свободомыслия. И если не ошибаюсь, они будут польщены надеждой
оставить после себя еще одного новообращенного, пусть даже и в деревенской глуши."
На следующее утро Ефранор поднялся рано и все предполуденное время приводил
в порядок свои дела. А после обеда мы отправились к Критону. Путь наш пролегал
через приятного вида долину с купами платанов, весьма обыкновенных в этом краю.
Около' часа шагали мы, наслаждаясь восхитительной тенью этих деревьев, пока не
пришли к дому Критона. Он стоял посреди небольшого парка с очаровательными
дубовыми и ореховыми аллеями, между которыми вился прозрачный и чистый ручей3.
У дверей дома нам встретился слуга с корзинкой фруктов. Он нес ее в одну из рощиц,
где, по его словам, и находился хозяин вместе с незнакомцами. Там мы и отыскали
всех троих, удобно расположившихся в тени деревьев, и после обыкновенных при
первой встрече приветствий уселись рядом с ними.
Поначалу мы вели разговор о красотах окрестных сельских видов, о приятностях
времени года и о некоторых недавних усовершенствованиях, проникших в эти края
благодаря новейшим методам земледелия. И тут, воспользовавшись случаем, Алкиф-
рон заметил, что самые ценные улучшения приходят в последнюю очередь.
- Не слишком бы мне хотелось, — сказал он, — жить там, где люди не обладают
ни изысканными манерами, ни просвещенным разумом, пусть даже почва их земель
возделана превосходно. Впрочем, я уже давно замечаю, что в человеческих дела
существует постепенный прогресс. Первая забота человечества — это удовлетворение
естественных потребностей, затем ищут люди в жизни удобства и комфорта. Но победа над
предрассудками и обретение подлинных познаний приходят последними: ибо они
требуют дарований самых тонких и совершенных, а все прочие выгоды и достижения суть
лишь подготовка к ним.
- Справедливо, — отозвался Ефранор. — Ведь Алкифрон коснулся наших
истинных недостатков. И я всегда полагал, что как только мы доставили пропитание телу,
следующей нашей заботой должно стать усовершенствование разума — но тут встает
на наше пути жажда богатства и всецело подчиняет себе человеческие мысли.
Алкифрон. Человека от животного отличает, как нам говорят,
мышление, а свобода мысли устанавливает столь же великие различия
между отдельными людьми. И потому именно им — я разумею,
свободомыслящим, — которые появились и весьма умножились в последние
годы, именно им и обязаны мы всеми величайшими открытиями,
целым океаном света, пробившим себе путь и ярко воссиявшим
наперекор тьме суеверия и рабства!
ЕОСЗ
Ефранор, убежденный противник подобных зол, засвидетельствовал свое уважение
этим достойным мужам, которые, распространив вокруг столько света и знания,
спасли страну от неминуемой гибели. Он добавил, что характер и самое имя
«свободомыслящего» ему по нраву, но, насколько он понимает смысл этого слова, всякий, кто
честно ищет истину, в каком бы веке и в какой бы стране он ни жил, вполне
заслуживает этого имени. А потому он желал бы узнать, что же это за секта, о которой
Алкифрон упомянул как о недавно возникшей, каковы ее принципы, какие открытия
совершили эти люди и где приложили они свои силы на благо человечества. И он,
Ефранор, будет весьма обязан Алкифрону, если тот любезно согласится обо все этом
рассказать.
— Сделать это мне будет нетрудно, - отвечал Алкифрон, - ибо я открыто
признаю, что принадлежу к их числу, а среди самых видных членов школы есть мои
близкие друзья.
И, заметив, что Ефранор слушает его с почтением, он продол жал весьма гладко и
плавно:
— Вам надлежит знать, что разум человеческий можно очень точно сравнить с
участком земли. Что для одного — корчевание, вспашка, перекапывание и
боронование, то для другого — размышление, обдумывание и исследование. Каждому
подобает особая культура: и подобно тому, как земля, долгое время остававшаяся
необработанной и дикой, покроется сорными травами, шипами, колючками, густыми
зарослями и всевозможными растениями, лишенными красоты и пользы, - так в
заброшенном и невозделанном уме человека непременно прорастает великое множество
предрассудков и нелепых мнений, обязанных своим возникновением отчасти самой почве,
т.е. человеческим страстям и природному несовершенству нашего ума, отчасти тем
семенам, которые заносит порою на эту почву случайный ветер разнообразных
доктрин, раздуваемый хитростью правителей, чудачествами педантов, суевериями
глупцов и мошенничеством духовенства. Представьте себе человеческий разум или
человеческую природу в целом, столько веков пребывавшую во власти обмана людей
коварных и лукавых, безрассудства — людей слабых и недалеких. Как же она
должна была зарасти предрассудками и заблуждениями! Какие глубокие и прочные корни
они пустили! И какая же это тяжелая задача — истребить их совершенно! И однако,
сей великий подвиг, столь же трудный, сколь и славный, приняли на себя
современные вольнодумцы!
После этих слов Алкифрон умолк и обвел взглядом слушателей.
— В самом деле, — заметил я, — предприятие весьма похвальное.
— Мы полагаем, — сказал Ефранор, — что расчищать и обрабатывать землю,
приручать диких зверей, улучшать внешний облик человека, доставлять пищу его телу и
исцелять его от болезней — занятия достойные. Но что они все значат по сравнению с
величайшим и полезнейшим делом — освобождением человека от предрассудков,
совершенствованием украшение его разума! В древние времена и за меньшие заслуги
перед миром воздвигались алтари и строились храмы.
— Слишком еще много в наши дни глупцов, - отвечал Алкифрон, - которые
истинных своих благодетелей не способны отличить от заклятых врагов. Они слепо
преклоняются перед теми, кто их порабощает, на избавителей же своих смотрят как
на людей вредных и опасных, стремящихся уничтожить общепринятые мнения и
принципы.
Ефранор. Было бы весьма прискорбно, если бы столь достойные и искусные люди
натолкнулись на какие-либо препятствия. И того, кто дни свои проводит в тяжелых и
беспристрастных поисках истины, я сочту большим другом человечества, нежели
величайшего государственного мужа или героя: ведь польза от их трудов ограничена
узким пространством и кратким временем, тогда как луч истины способен озарить весь
мир и достигнуть будущих столетий.
Алкифрон, Боюсь, не скоро еще толпа станет думать так же, как и вы. Зато люди
выдающиеся, люди талантливые, тонко воспитанные и образованные, уже сейчас
воздают должное уважение покровителям света и поборника истины.
Ефранор. И духовенство, без сомнения, приветствует похвальные
ваши усилия и при всякой возможности готово оказать им содействие.
Услышав эти слова, Лисикл едва удержался от смеха. Алкифрон
же с сострадательным видом заметил, что Ефранор, похоже, не
слишком знаком с истинным характером этих людей. "Ибо вам следует
знать, - продолжал он, — что более заклятых врагов, чем духовные
лица, у нас нет. И будь это в их силах, они погасили бы самый свет природы и
превратили весь мир в темницу, чтобы вечно держать в цепях и во мраке род
человеческий."
Ефранор. Вот уж никогда бы не вообразил ничего подобного о нашем,
протестантском духовенстве, в особенности — о священниках англиканской церкви, — ибо этих
людей, насколько мне позволено судить по знакомству с ними и их сочинениями, я бы
счел, скорее, поборниками образования и полезных знаний.
Алкифрон. Поверьте моему слову: священники всех исповеданий одинаковы.
Повсюду, где только существуют священнослужители, возникают церковные интриги и
религиозные плутни, а где появляются последние, там пробуждается дух
нетерпимости и гонений, который жрецы никогда не преминут, насколько это в их силах,
возбудить до крайности, обращая его против тех, кто имеет мужество пользоваться
собственным разумом и не позволяет достопочтенным этим пастырям завязывать себе глаза
и заковывать в цепи руки. Эти пеликие магистры педантизма и учителя тарабарщины
изобрели несколько систем, равно истинных и равно важных для мира. Каждая из
соперничающих сект до безрассудства влюблена в собственное учение и на всякого,
кто мыслит иначе; готова излить свою бешеную ярость. Жестокость и честолюбие —
вот невинные слабости, свойственные жрецам и церковникам всего мира, и потому в
каждой стране эти люди домогаются господства надо прочими гражданами. А
поскольку власть светская имеет общий с духовенством интерес 1 в порабощении,
одурачивании и запугивании народа, то она нередко подает руку помощи власти духовной,
которая никогда не будет спокойна за свой авторитет и за свою собственность, пока у тех,
кто держится иных взглядов, все еще не отняты даже самые элементарные права и
свободы, обусловленные происхождением или принадлежностью к роду
человеческому вообще. Чтобы представить все это в истинном свете, вообразите некий призрак или
чудовище — уродливое сочетание суеверия и фанатизма, произведенное на свет
хитростью политиков и мошенничеством жрецов. В одной руке у монстра грохочущие
цепи, в другой - пылающий меч; он размахивает этим мечом, угрожая гибелью
каждому, кто осмелится следовать велениям Разума и Здравого Смысла. Задумайтесь хотя
бы об этом "' - и потом скажите, не было ли наше предприятие столь же опасным,
|Qâjfc(F~ Д»»РД« Беркли ^tëSj^TJ
сколь и трудным? Но таково уж благородное рвение, внушаемое истиной, что
опасность не в силах устрашить наших вольнодумцев, а трудность не способна их
обескуражить. Вопреки им обеим многие лучшие люди уже обращены в нашу веру, и число
их растет так быстро, что мы надеемся преодолеть все препятствия, разрушить
бастионы светской и церковной тирании, разбить цепи и оковы наших сограждан и
восстановить наконец исконные права и неотъемлемые свободы человечества!
Разинув рот от изумления и не сводя с Алкифрона глаз, слушал Ефранор эти
речи — между тем Алкифрон, произносивший их с великим пафосом, наконец
остановился, желая перевести дух и немного прийти в себя, — но обнаружив, что ответа не
последовало.-'возобновил свое рассуждение. Обратившись к Ефранору, он, слегка
понизив голос, сказал:
— Чем простодушнее и честнее человек, тем легче дается он в обман ложным, но
благовидным утверждениям других. И вам, вероятно, встречались известного рода
сочинения наших богословов, трактующие о благодати, добродетели, великодушии и
тому подобных предметах, — писания, способные одурманить и ввести в заблуждение
простой и честный ум. Но поверьте мне: всех их в сущности объединяет один принцип,
обусловленный общим интересом и выгодой, — как бы ни тщились они приукрасить
свои замыслы. Не стану отрицать, что попадаются и среди них людишки недалекие и
безобидные, и в самом деле ничего злого не умышляющие, - но вот что осмелюсь я
утверждать со всей определенностью: все сколько-нибудь умные люди из их числа
неизменно движимы тремя побуждениями — честолюбием, алчностью и
мстительностью.
Не успел Алкифрон закончить свою речь, как явился слуга и
сообщил ему и Лисиклу, что какие-то люди, отправлявшиеся в Лондон,
ожидают их распоряжений. После чего оба они встали и направились к
дому. Как только они удалились, Ефранор, обращаясь к Критону,
заметил, что бедный Алкифрон, должно быть, много пострадал за свое
свободомыслие, ибо изъяснялся этот джентльмен с раздражением и
горячностью, которые свойственны людям, потерпевшим в жизни немало зла и обид.
— В это я совершенно не верю, — ответил Критон. — Зато я не однажды замечал,
что члены этой секты грешат в своих речах двумя недостатками - высокопарностью и
язвительной насмешливостью — смотря по тому, какое настроение, трагическое или
комическое, одерживает в данную минуту верх. Порою приводят они себя в состояние
крайнего возбуждения и начинают боятся призраков, созданных собственной
фантазией. Во время подобных припадков в каждом приходском священнике им мерещится
инквизитор. А в другой раз берут они тон шутливый и лукавый, прибегают к
вкрадчивым внушениям и недомолвкам, ничего не высказывая напрямик, но намекая на
многое, — в общем, они как будто забавляются и самим предметом разговора, и своими
противниками. Но если вы желаете узнать их истинные мнения, то вам следует
заставить их говорить откровенно и по существу. Что же касается гонений на
свободомыслие, то это их конек, и тут они готовы распространяться до бесконечности, хотя и без
всяких к тому оснований: ведь каждый у нас волен думать все, что ему угодно, ибо
ничего похожего на преследования за мысли, мнения и убеждения в Англии,
насколько мне известно, нет и в помине. Я, однако, полагаю, что в любой стране хоть немного
да заботятся о том, чтобы обуздать речи дерзкие и оскорбительные и, каковы бы ни
EOG.
были внутренние убеждения людей, пресечь открытое пренебрежение тем, что
общество в целом почитает священным. Ну а о том, стала ли у нас в Англии эта забота в
последнее время столь чрезмерной, что даже причинила страдания иным подданным
этого государства, некогда свободного и терпимого, о том, вправе ли
свободомыслящие сетовать на некие лишения, каковые они претерпели за свои мнения и убеждения
совести, - обо всем этом вы сумеете рассудить лучше, когда услышите от них самих
отчет о численности, принципах и успехах секты. Не сомневаюсь: они представят его
в полном виде и со всевозможной откровенностью, при условии, что никто из
присутствующих не будет шокирован или оскорблен — ибо в этом случае правила хорошего
тона вынудят их, вероятно, к известной сдержанности.
- Но ведь я никогда не сержусь на людей из-за их мнений, — сказал Ефранор. —
Иудей, турок, идолопоклонник — всякий может говорить в моем присутствии с полной
откровенностью и не опасаться, что он меня этим сколько-нибудь обидит. Я буду даже
рад услышать, что он имеет сказать — пусть только говорит прямо и чистосердечно.
Ведь на всякого, кто разрабатывает рудник истины, смотрю я как на товарища в общем
деле -но если в то самое время когда я тружусь, не жалея сил, он, решив позабавиться,
станет меня дразнить или пускать мне в глаза пыль — такой товарищ скоро мне
наскучит.
Между тем Алкифрон и Лисикл, покончив с делами, вернулись к
нам. Лисикл уселся на прежнее место, но Алкифрон встал прямо перед
нами. Скрестив на груди руки и слегка наклонив голову к левому
плечу, принял он позу человека, погруженного в глубокие раздумья. Мы
сидели молча, дабы ничем не нарушить течение его мыслей. По
прошествии двух или трех минут Алкифрон воскликнул: "О истина! О
свобода!" - после чего снова задумался и умолк.
И тут Ефранор взял на себя смелость его побеспокоить.
Не слишком это любезно с вашей стороны, Алкифрон, проводить время в
разговорах с самим собою. Ведь беседа с человеком сведущим и ученым — большая в нашем
захолустье редкость, и я слишком дорожу предоставленной вами возможностью,
чтобы не воспользоваться ею сполна.
Алкифрон. Но в самом ли деле являетесь вы приверженцем истины? И будет ли
это вам по силам — вынести бремя исследования свободного и беспристрастного?
Ефранор. Ничего лучшего я не желаю.
Алкифрон. Как? Исследования всякого предмета без изъятия? Исследования тех
идей, что впитали вые молоком матери, идей, которые впоследствии заботливо
выхаживались родителями, пасторами, учителями, религиозными собраниями,
молитвенными книгами и тому подобными способами внушать предубеждение человеческому
уму?
Ефранор. Я люблю узнавать обо всем, что встречаю на своем пути, в особенности
же о тех предметах, которые принадлежат к числу самых важных.
Алкифрон. Ну что ж, если вы говорите серьезно, то будьте тверды и
беспристрастны, когда я стану до последней глубины исследовать ваши предрассудки и с корнем
вырывать ваши принципы. Dum veteres avias tibi de pulmone reveiloe.
После этих слов Алкифрон нахмурил брови и на мгновение умолк — а затем
продолжил свою речь следующим образом:
кхэя
— Если мы возьмем на себя труд проникнуть в суть вещей и проанализировать
мнения человеческие вплоть до их оснований, то обнаружим, что как раз те мнения,
которые почитаются наиболее важными, имеют источник самый жалкий и убогий.
Ведь происходят они от переменчивых обычаев той страны, где мы живем, или от тех
поучений, которые в детском возрасте внушаются нашим незрелым умам, — еще до
того, как обретаем мы способность различать добро и зло, истину и ложь. Толпа (я
имею в виду тех, кто не пользуется свободно собственным разумом) склонна
принимать эти предрассудки за нечто священное и неоспоримое, полагая, что они
запечатлены в человеческих душах самим Господом Богом или внушены через откровение с
небес или же сами по себе обладают столь великой ясностью и очевидностью, что
принуждают нас к согласию без всякого исследования и анализа. Именно так жалкая
и недалекая чернь напичкала свои головы всевозможными понятиями, принципами и
учениями — религиозными, моральными и политическими — которые и защищает
она с усердием, соразмерным собственному неразумию. Но те, кто надлежащим
образом употребляют свои способности для поиска истины, с особым тщанием
расчищают свои умы: они с корнем вырывают все предрассудки и понятия, внедренные в
их сознание тогда, когда они еще не могли сполна и свободно пользоваться
собственным разумом. Эту многотрудную задачу с успехом выполнили наши современные
вольнодумцы, ибо они не только рассекли на части и тончайшим образом
проанализировали общепринятые убеждения, проследив всякий укоренившийся предрассудок
вплоть до его источника и установив истинные и первоначальные причины его
принятия, — но, сверх того, обняв единым всеохватывающим взором многие страны и
столетия человеческой истории, обнаружили изумительное разнообразие обычаев и
обрядов, гражданских и религиозных установлений, всевозможных мнений и идей,
весьма между собою несходных и даже противоположных, - а это и есть верный
знак того, что все они вместе истинными быть не могут. И однако, у каждого из них
находятся свои поборники, отстаивающие его с чрезвычайным пылом и
самоуверенностью, — по исследовании же оказывается, что глубочайшее основание у всех этих
мнений одно — сила предрассудка. С помощью этих открытий и прозрений наши
вольнодумцы сбросили узы общенародных верований и обычаев, и вот теперь,
освободившись от обмана сами, они великодушно подают руку помощи товарищам по
рабству, дабы вести их по общему пути света и свободы!
Итак, господа, я представил вам в беглом очерке взгляды и стремления тех, кого
именуют свободомыслящими. И если среди того, что я уже сказал или еще скажу,
обнаружится нечто, вашим предвзятым мнениям противоположное, а потому
шокирующее и для вас неприятное, то вы, надеюсь, извините откровенность философа и
примете в расчет, что какое бы неудовольствие я вам ни причинил, сделал я это лишь
из должного уважения к истине и в полном согласии с вашими собственными
пожеланиями. Ведь я прекрасно понимаю, что глаза, долгое время силой удерживаемые во
тьме, не способны вынести внезапно открывшийся свет полуденного солнца, и потому
их следует подводить к этому созерцанию исподволь. По этой-то причине
проницательные мои единоверцы ведут свое дело постепенно: они начинают с тех
предрассудков, к которым люди привязаны менее всего, а затем медленно и незаметно
искореняют все прочие — пока наконец не разрушат до основания здание человеческих
безумств и суеверий. Но краткость времени, которое я предполагаю здесь провести, вы-
нуждает меня пойти путем более прямым и выражаться яснее и откровеннее, чем это,
вероятно, следовало бы делать из соображений благоразумия и учтивости.
Тут мы заверили Алкифрона в том, что о любых мнениях, лицах и предметах он
волен говорить с полной откровенностью и без всяких оговорок.
■- И это есть то право, — отвечал Алкифрон, — которое мы, свободомыслящие,
предоставляем другим столь же охотно, сколь принимаем его сами. Мы любим
называть вещи своими именами и для нас невыносимо, когда истина терпит ущерб из-за
уступчивости или учтивости. А потому давайте примем следующее предварительное
условие: что бы ни было сказано с той или другой стороны, никаких обид между нами
не будет.
С этим мы согласились.
— В таком случае, — продолжал Алкифрон, — желая в конце
концов найти истину, мы представим, что я воспитываюсь, к примеру, в
англиканском вероисповедании. Когда же я достигаю зрелости
суждения и начинаю размышлять о характерных для этой церкви культе и
учениях, то уже не могу припомнить, когда и каким образом они
впервые проникли в мой разум и овладели им — напротив, мне кажется,
что находятся они там с незапамятных времен. Впоследствии, бросив взгляд на
воспитание детей в целом (по которому я могу судить и о моем собственном), я замечаю, что
в религиозных предметах детей наставляют прежде, чем они становятся способными
самостоятельно о них рассуждать, — а значит, все подобное обучение есть не что иное,
как заполнение незрелых детских умов предрассудками. А потому я отвергаю все эти
религиозные идеи, на которые смотрю теперь так же, как и на прочие глупости и
безрассудства своего детства. И я утверждаюсь в этом мнении, когда обращаю взор на
остальной мир, в котором обнаруживаю папистов и многочисленные секты диссенте-
ров: все они, правда, согласны между собою в общей вере в Христа, но чрезвычайно
расходятся в частностях вероучения и культа. Затем мой взгляд расширяется, в поле
моего зрения попадают иудеи и магометане; между ними и христианами я,
действительно, усматриваю одно незначительное сходство — веру в единого Бога — в
остальном же у них имеются совершенно особые законы и откровения, к которым каждая
секта испытывает равное почтение. Устремляя взор еще дальше, к народам языческим
и идолопоклонникам, я замечаю бесконечное разнообразие не только в частных
мнениях и отдельных особенностях культа, но даже в самом представлении о Божестве —
здесь они расходятся друг с другом, а равно и со всеми вышеупомянутыми сектами.
Одним словом, вместо истины, простой и неизменной, вижу я лишь раздоры,
несогласия и бессмысленные притязания, проистекающие из одного источника —
предрассудков воспитания. Из подобных рассуждений и наблюдений мыслящие люди
заключили, что все религии суть в равной степени ложь и выдумка. Один стал христианином,
другой — иудеем, третий — магометанином, четвертый —
язычником-идолопоклонником, - но все по одной и той же причине: попросту оттого, что их воспитали в
соответствующей секте. А значит, подобно тому как каждая из этих противоборствующих сект
осуждает прочие, так непредубежденный сторонний наблюдатель осудит и отвергнет
их все: ибо он ясно видит, что все они обязаны своим происхождением одному
ложному началу, существуют благодаря одним и тем же хитростям и уловкам и служат
одним и тем же целям жрецов и власть имущих.
Ефранор. Вы, стало быть, утверждаете, что власть и духовенство
сообща дурачат народ?
Алкифрон. Утверждаю — и всякий, кто рассмотрит вещи в
истинном свете, должен будет утверждать подобное. Ибо вам
надлежит знать, что главная цель власти — внушить подданным
благоговейный страх. Общественное око правосудия, конечно,
удерживает людей от явных преступлений против законов и государства. Но желая
предупредить прегрешения тайные, правители находят целесообразной и
удобной веру в око Провидения, которое зорко следит за тайными деяниями и
внутренними помышлениями человека. И чтобы устрашить тех, кого в
противном случае могла бы склонить к преступлению перспектива удовольствия или
выгоды, власть внушает им, что всякий, кто избежит наказания в этой жизни,
непременно подвергнется ему в жизни будущей, причем кара сия будет столь
суровой и продолжительной, что бесконечно перевесит все удовольствия и
выгоды, проистекающие из преступления. Именно поэтому вера в Бога, в бессмертие
души, в будущие награды и наказания считается весьма полезным орудием в
руках правителей. А чтобы глубоко и прочно запечатлеть в человеческих умах
эти туманные и фантастические представления, ловкие правители некоторых
цивилизованных наций измыслили храмы, жертвоприношения, церкви,
религиозные обряды, церемонии, одеяния, молитвы, песнопения, проповеди и тому
подобный духовный хлам — из коего жрецы извлекают мирские доходы,
светские же власти находят свою выгоду в том, что запугивают и подчиняют народ.
Таково происхождение сговора между Церковью и Государством, таков
первоисточник установленных законом религий, всех прав, привилегий и доходов
духовенства: ибо нет правительства, которое не желало бы, чтобы вы испытывали
страх Божий — а стало быть, почитали короля и гражданскую власть. И мы
замечаем, что хитроумные государи всегда пребывают в добром согласии со
своим духовенством, рассчитывая, что последнее, в свою очередь, внедряя в
умы людей принципы религии и послушания, превратит граждан в безропотных
и боязливых рабов.7
Мы с Критоном слушали Алкифроновы речи чрезвычайно внимательно, не
выказывая, впрочем, никакого удивления: ведь ничего для нас нового и неожиданного
здесь, действительно, не было.
Зато Ефранор, прежде никогда на подобных обсуждениях не присутствовавший,
не мог скрыть своего изумления, заметив которое, Лисикл с веселым видом спросил:
"Ну и как же вам понравилась лекция Алкифрона? Полагаю, ничего подобного вам
еще не приходилось слышать, и чтобы ее переварить, потребуется желудок весьма
крепкий."
Ефранор. Сознаюсь: мой желудок усваивает не слишком быстро, однако и ему
случалось постепенно переваривать то, что поначалу казалось совершенно
неудобоваримым. Теперь же я восхищаюсь откровенностью и красноречием Алкифрона, но, по
правде говоря, я, скорее, изумлен его мнениями, нежели убежден в их истине. Да
как же так! — сказал он, обращаясь к Алкифрону, — неужели вы не верите в бытие
Бога?
Алкифрон. Отвечу вам прямо: не верю.
ВСЕХЗ
ШЭ4ШР Алкнфрон ^D^^TJ
А впрочем, все это я предвидел: ведь океан света, внезапно
затопивший чей-то ум, способен его скорее ослепить и расстроить, нежели
просветить. И будь у меня времени побольше, я бы взялся за дело
методически: начал бы я со второстепенных сторон религии, затем
атаковал бы христианские таинства, после чего перешел бы к этическим
доктринам — и уже в последнюю очередь истребил бы тот
религиозный предрассудок, который является основой всех прочих и пустил в ваших умах
самые глубокие корни, поскольку был преподан первым — веру в Бога. Я знал весьма
даровитых людей, которым, однако, было нелегко избавиться от этого предрассудка, и
я не удивляюсь тому, что вы так крепко за него держитесь.
Ефранор. Что поделаешь? Ведь не у всех сила и живость ума одинаковы — и,
признаюсь, мне за вами угнаться непросто.
Алкифрон. А чтобы вам помочь, я сделаю шаг назад и возобновлю свое
рассуждение. Прежде всего должен вам сообщить, что обратив свой ум к созерцанию идеи
Истинщ, я открыл, что природа ее постоянна, неизменна и единообразна — в отличие
от преходящих и неустойчивых обычаев, моды и прочих предметов, зависящих от
каприза и настроения. Затем я обнаружил, что различные секты и их более мелкие
подразделения поддерживают весьма несходные и даже противоположные мнения,
хотя исповедуют одну, христианскую веру — и я отверг все то, в чем они были
несогласны, удержав лишь общее для этих сект. Так я стал «латитудинарием»8.
Впоследствии кругозор мой еще более расширился, и я заметил, что христиане,
иудеи и магометане имеют особые системы вероисповедания, соглашаясь лишь в вере
в единого Бога, — и я превратился в «деиста». Наконец, я устремил взгляд еще
дальше — на все народы, населяющие нашу планету, и обнаружил, что ни в одном
положении веры они не согласны, но расходятся между собою, а равно и с
вышеупомянутыми сектами во всем, даже в представлении о Божестве, где различия столь же
велики, как и в формах богопочитания, — вследствие чего я стал «атеистом». Ибо я
твердо держусь того мнения, что человеку рассудительному и мужественному должно
следовать за аргументами собственного разума всюду, куда бы они его ни повели, и
что нет ничего смехотворнее свободомыслия наполовину. Мне по душе люди,
которые доводят дело до конца и, не довольствуясь очисткой дерева от сучьев, вырывают
н самый его корень.
Следовательно, атеизм — пугало для женщин и глупцов — и есть
подлинная вершина и венец свободомыслия. Это великая тайна, к
постижению которой, как к высшей точке, ум истинного гения восходит
естественным и постепенным образом — и без этой тайны душа его
никогда не обретет совершенного покоя и свободы. А чтобы достичь
твердого убеждения в этом наиважнейшем пункте, вам достаточно
исследовать идею Бога с той же беспристрастностью, с какой взглянули бы вы и на прочие
предрассудки. Проследите эту идею вплоть до ее источника и вы увидите, что
получили ее отнюдь не из ощущений ( единственного средства, способного открыть нам
подлинное и действительное в природе вещей) — нет, вы отыщете ее посреди всякого
старого хлама в темном углу воображения — подходящего вместилища для
всевозможных призраков, химер и предрассудков. Если же вы привязаны к этой идее сильнее,
Ю£&&$Г~ Джордж Беркли ^)^^G|
чем к остальным, то лишь оттого, что она старее всех прочих. Вот и весь секрет,
поверьте моему слову, а сверх того — слову многих проницательнейших люде нашего
времени, которые, могу вас в том уверить, мыслят о Божестве так же, как и я.
Впрочем, иные из них находят уместным выражать свои мысли публично в этом пункте с
несколько большей сдержанностью, чем в большинстве других. Ведь, должно
признаться, в Англии слишком многие сохраняют глупый предрассудок относительно
имени «атеиста». Однако среди людей высшего круга он день ото дня слабеет, когда же
это предубеждение совершенно исчезнет, тогда (но не прежде) можно будет заявить во
всеуслышание, что именно наши вольнодумцы нанесли роковой удар религии, ибо
вполне очевидно, что пока люди будут верить в существование Бога, до тех пор в том
или ином виде сохранится и религия. Но коль скоро вырван самый ее корень, то и
побеги несомненно засохнут и увянут. К ним же я причисляю все эти химерические
представления о совести, долге, нравственных принципах, которые наполняют ум
сомнениями, внушают человеку страх и превращают его в раба более послушного, чем
вьючное животное. И пусть уж лучше гонятся за нами судебные приставы и
исполнители, чем преследуют9 нас эти призраки и привидения, которые портят и отравляют
наши удовольствия, порождая самое тягостное и невыносимое рабство на свете. Но
человек свободомыслящий мощным усилием ума разрывает эти жалкие сети и
утверждается в исконной своей независимости. Другие, конечно, могут сколько угодно говорить
и писать о свободе, могут сражаться за свободу, могут делать вид, будто они
свободны — но истинно свободен лишь он один!
Когда Алкифрон с торжествующим видом закончил свою речь, Ефранор обратился
к нему с такими словами:
— Что ж, вы трудитесь на совесть, и, похоже, ваши собратья по ремеслу умеют
превосходно выпалывать сорняки. Великое множество идей вы уже вырвали с корнем, и вот
теперь мне любопытно знать, какие же это восхитительные вещи посадили вы взамен.
Алкифрон. Терпение, почтенный Ефранор, и я докажу вам, во-первых, что все
здоровое и доброкачественное в человеческих умах оставляем мы в
неприкосновенности и даже способствуем его росту. Затем вы увидите, какие чудные вещи мы там
посадили. Знайте же: тщательное и беспристрастное исследование приводит нас,
наконец, к чему-то прочному и основательному, к тому, в чем согласен весь род
человеческий, а именно к потребностям, ощущениям и страстям: они укоренены в самой
природе, имеют действительные объекты, действительны сами и сопровождаются
действительными и осязаемыми удовольствиями, ибо пища, питье, сон и тому подобные
животные наслаждения суть то, что любят и к чему стремятся все люди без исключения.
Когда же мы бросим взгляд и на другие виды живых существ, то обнаружим, что в
этом они сходны с нами, ибо и у них есть природные склонности и влечения, удовле^
творение которых они постоянно заняты. Так вот, эти-то естественные и реальные
блага мы отнюдь не уничтожаем — напротив, мы их лелеем и совершенствуем,
насколько это в наших силах. И согласно нашему убеждению, всякий мудрый человек
именно в себе самом, т. е. в своем телесном существовании в этом мире видит
средоточие и конечную цель всех своих действий и помышлений. На свои потребности
смотрит она как на данных природой проводников, указующих путь к его подлинному
благу, а на страсти и ощущения — как на естественные и истинные средства этим
благом пользоваться и наслаждаться. А потому он лелеет свои влечения, он стремите^
сохранять силу и остроту своих страстей и ощущений, доставляя им величайшее мнЫ
BCEX2I
жество разнообразных объектов, соответствующих им по природе, — с тем, чтобы
наслаждаться ими всевозможными способами и с предельной изощренностью. И
человек, способный делать это без стеснений, страха и угрызений совести, так же счастлив,
как и всякое иное животное, другими словами, он счастлив настолько, насколько
позволяет его природа. Итак, я представил вам сжатое изложение принципов и открытий
избранных умов нашего просвещенного века.
Критон заметил, что Алкифрон выразил свои мысли с большой
откровенностью.
- Верно, — согласился Ефранор, — и мы весьма признательны
этому джентльмену за то, что он так быстро познакомил нас с
принципами своей школы. Но если вы и мне позволите подобную же
откровенность, то я скажу, что, хотя Алкифрон и выполнял мою
собственную просьбу, он поверг меня в немалое беспокойство.
— Вам не следует оправдываться за откровенную и свободную речь перед
человеком, который сам исповедует свободомыслие, — сказал Алкифрон. — И я весьма
сожалею, если внушил тревогу тому, кому желал оказать услугу. Прошу вас, скажите, в
чем же моя вина.
— Признаюсь вам не без стыда, - отвечал Ефранор, — что и я, человек, не больно
одаренный, имею слабость, свойственную малым детям. Есть и у меня любимые
мнения, которые вы представили как заблуждения и предрассудки. Я, к примеру,
чрезвычайно привязан к представлению о бессмертии души, поскольку оно укрепляет наш
дух весьма привлекательными перспективами. А если это и в самом деле заблуждение,
то я, пожалуй, склонился бы ко мнению Туллия: он заявил, что в подобном случае ему
было бы досадно узнать истину; и никакой благодарности известным философам,
учившим в его времена о смертности человеческой души, он не выказал.10 Похоже,
они-то и были предшественниками тех, кого ныне называют «свободомыслящими». Да
и самое это имя является слишком общим и неопределенным, поскольку охватывает
всех, кто мыслит самостоятельно — независимо от того, согласны они в своих мнениях
с этими господами или нет. А потому было бы уместно — по крайней мере, в
настоящей беседе, — дать последним особое обозначение и отдельное название, чтобы
отличить их от прочих философов. Ибо выступать против «свободомыслящих» и
«свободомыслия» у меня не хватает духу.
Алкифрон. Для людей мудрых слова не много значат, и мы не думаем, что истина
как-то связана с именами.
Ефрамор. Если так, то позвольте мне во избежание путаницы называть вашу секту
тем же именем, которым наградил ее Туллий — а он хорошо чувствовал силу слова.
Алкифрон. Как вам будет угодно. Однако, что это за имя, скажите на милость.
Ефранор. Как же, он называет их «мелкими философами»11.
— Верно, - заметил Критон, — и нынешние свободомыслящие чрезвычайно
напоминают тех, кого именовал «мелкими философами» Цицерон. Это определение
подходит им как нельзя лучше, ибо данная секта измельчает все самое драгоценное: мысли,
мнения и надежды людей; все познания, идеи и теории, принадлежащие уму, эти
господа сводят к ощущениям; умаляя достоинство человеческой природы, опускают
они ее до уровня жалкого животного существования, а вместо бессмертия определяют
нам краткую и убогую жизнь.
coca
IJJkre^^y^ Джордж Беркли
Тут Алкифрон важно заметил, что джентльмены его школы ничем род людской не
оскорбили, а если человек и в самом деле есть жалкое, недолговечное и презренное
животное, то ведь не их же слова сделали его таким, и упрекать их за какие-либо
открытые ими недостатки — все равно, что обвинять зеркало в том, что оно создает
морщины, каковые оно лишь правдиво показывает.
— Что же касается вашего замечания, — продолжал он, - о том, что нынешние
«свободомыслящие» в древности назывались «мелкими философами», то, на мои
взгляд, данное название происходит от того, что они рассматривали вещи тщательно и
в мелких подробностях, а не принимали их на веру целиком и без всякого
исследования, как это обыкновенно делали другие. И потом, каждому известно, что для
различения мельчайших предметов требуются самые лучшие глаза, - а значит, мелких
философов называли так из-за их изумительной проницательности.
Ефранор. Ах, Алкифрон! Да эти ваши мелкие философы (ибо таково их истинное
имя) — что-то вроде пиратов, расхищающих все, что попадается у них на пути. На
себя же самого смотрю я сейчас как на человека, которого бросили они, ограбленного
и раздетого, на пустынном и мрачном морском берегу.
Однако, кто же они — эти мудрые и ученые мужи, за несколько лет
целиком разрушившие то здание, которое законодатели, философы и
богословы возводили в течение столетий?
Услышав эти слова, Лисикл ухмыльнулся и сказал, что Ефранор,
должно быть, представляет себе философов людьми в
четырехугольных беретах и длиннополых мантиях — но, к счастью, в эти
благословенные времена владычеству педантов пришел конец.
— Наши философы, — продолжал Лисикл, — нисколько не похожи на тех
неуклюжих школяров, которые воображают, будто достигнут глубоких познании, если
станут корпеть над мертвыми языками и древними авторами или отвергнут мирские
заботы ради уединенных размышлений. Нет, это особы воспитания самого тонкого, люди,
постигшие жизнь, знающие толк в удовольствиях, — в общем, изысканнейшие и
превосходнейшие джентльмены нашего века.
Ефранор. Людей, о которых, вы говорите, я немного знаю - да только вот за
философов никогда бы их не принял.
Критон. И никто другой этого бы не сделал — вплоть до недавнего времени. Ибо
касательно пути, ведущего к знанию, весь мир, похоже, находился в непростительном
заблуждении, полагая, что путь этот ведет через долгие и утомительные
университетские штудии. Но ведь одно из величайших открытий нашей эпохи в том и состоит, что
подобная метода, оказывается, ничуть не споспешествует знанию, но, скорее,
затрудняет и тормозит его развитие.
Алкифрон. Академические занятия сводятся к двум пунктам — чтению и
размышлению. Читают преимущественно древних авторов на мертвых языках, так что
большая часть времени уходит на заучивание слов — когда же ценою громадных усилий
этой цели достигают, то что же получают взамен, кроме ветхих и устаревших идеи и
мнений, ныне утративших свой кредит и совершенно бесполезных? А что касается их
размышлений, то какой вообще может быть от них прок? Ведь тот, кому недостает
истинного материала для мысли, может думать и рассуждать целую вечность π без
всякого толку: вся эта паутина, которую плетет, из собственного мозга ученый педант,
K)^F Алкифрон ^}^CJ
равно бесполезна как для серьезного дела, так и для украшения. Истинные идеи и
надлежащий материал для размышления можно получить лишь усердно посещая
хорошее общество. И я знаю людей, которые, с тех пор как впервые появились в свете,
потратили столько же времени на то, чтобы очистить себя от педантической ржавчины
университетского образования, сколько прежде употребили на ее приобретение.
Лисикл. Уверяю вас: воспитанный в новейшем вкусе юноша четырнадцати лет в
любой гостиной и во всяком изысканном обществе произведет лучшее впечатление и
добьется большего успеха, чем какой-нибудь двадцатичетырехлетний увалень, долгое
время просидевший на школьной и университетской скамье. Он сумеет выражаться
остроумнее и притом о предметах более тонких, а потому истинные знатоки и судьи
оценят его выше.
Ефранор. И где же обретает он все эти совершенства?
Критон. Там, где степенные наши предки и не подумали бы их искать: в
гостиной, в кофейне, в кондитерской, в трактире или у распорядителя азартных игр.
В этих и им подобных модных местах обыкновенно и собирается изысканное
общество, чтобы свободно и откровенно обсудить всевозможные предметы — религиозные,
моральные и политические. И потому молодой джентльмен, завсегдатай этих
собраний, непременно прослушает множество поучительных лекций, приправленных
остроумнем и шуткой, произносимых с жаром и одушевлением. Ведь три-четыре
эффектные сентенции из уст благородного человека впечатляют сильнее и содержат в
себе знания более основательные, чем дюжина диссертаций, выполненных в сухой
академической манере.
Ефранор. Получается, ни системы, ни порядка в тамошних занятиях нет?
Лисикл. Решительно никаких — одна лишь вольная, непринужденная беседа,
которая не признает стеснительных правил, свободно избирая первый попавшийся
предмет.
Ефранор. Я же всегда полагал, что для приобретения сколько-нибудь полезных
знаний нужна известная метода, что спешка и беспорядок порождают лишь
самодовольное невежество, что наше продвижение, чтобы быть успешным, должно быть
постепенным, и что в первую очередь необходимо изучать те предметы, которые
способны пролить свет на все последующее.
Алкифрон. И пока образование приобреталось лишь посредством таких вот
медленных методических штудий, немногие люди высшего круга обладали хоть какими-то
знаниями — зато теперь, когда учение превратилось в забаву, наши молодые дворяне
и аристократы впитывают его нечувствительным образом посреди развлечений и
делают при этом замечательные успехи.
Ефранор. Чем, вероятно, и объясняется многочисленность мелких философов.
Критон. Этому и обязана секта множеством тонких знатоков среди лиц обоего
пола. Сейчас в их числе встретишь скорее юную леди или молодого франта (чему в
прежние столетия не было примера), но отнюдь не богослова или какого-нибудь
старомодного джентльмена, который перечитал многих греческих и латинских авторов,
проведя долгое время в усиленных систематических занятиях.
Ефранор. В таком случае выходит, что система, основательность и прилежание
вредны.
Тогда Алкифрон, обратившись к Лисиклу, сказал, что внесет в дело полную
ясность, если только Ефранор имеет какое-то понятие о живописи.
1D^(F~ Джордж Беркли 4jfé^TJ
Ефранор. Первоклассных картин я никогда в своей жизни не видел, однако у
меня есть недурная коллекция гравюр, а сверх того, видел я хорошие рисунки.
Алкифрон. А значит, вам известно различие между голландской и итальянской
манерами?
Ефранор. Я имею об этом некоторое представление.
Алкифрон. Тогда вообразите рисунок, выполненный после долгих и мучительных
усилий голландского карандаша — а рядом с ним другой, который экспромтом, в
свободном и эффектном стиле набросал великий итальянский мастер. Работа голландца,
стоившая столько времени и труда, будет, разумеется, правильной и точной — и
однако, совершенно лишенной той силы, грации, того духа, которые сверкают в другом
произведении, являясь плодами руки легкой и свободной. Примените это к нашей
теме — и все вам станет ясно.
Ефранор. Прошу вас, скажите мне, Алкифрон, а эти ваши великие итальянцы и
первые шаги в искусстве делали безо всякой методы и без всякого выбора предметов?
И писали при этом так же легко и свободно, как и впоследствии? Или все же
держались они какой-то системы, начинали с простого и элементарного и, желая добиться
точности и правильности, тщательно и по многу раз выписывали один и тот же глаз,
нос или палец, — в общем, терпеливо и прилежно совершенствовались, пока, по
прошествии долгого времени, не вырабатывали наконец ту легкую и свободную манеру, о
которой вы упомянули? Если дело обстояло подобным образом, то я предоставлю вам
самим сделать применение к нашему предмету.
Алкифрон. Можете, если угодно, спорить, и все же одно дело - человек с
дарованием, и совсем другое — педант. Кому-то, вероятно, труд и система пойдут на пользу:
ведь подбрасывать гнилую солому в еле тлеющий огонь придется очень долго — зато
истинный гений, словно спирт, вспыхивает мгновенно!
Ефранор. Похоже, мелкие философы одарены природой богаче прочих люден,
что и дает им право на особую методу в образовании.
Алкифрон. Скажите, Ефранор, а что же дает одному человеку лучшие манеры,
чем другому? Что сообщает ему тонкость в одежде, речи, осанке, движениях? Не что
иное, как частое посещение хорошего общества. Тем же путем незаметно
приобретается изысканность вкуса, проницательность суждения, некое изящество в мышлении и
выражении собственных мыслей. И не удивительно, что вы, деревенские жители,
незнакомы с достоинствами изысканной светской беседы, которая постоянно упражняет
наш разум, пробуждает все его силы и способности, заставляя всегда оставаться
бодрым и живым: ведь она касается тысячи разнообразнейших случаев и предметов,
которые никогда не придут в голову университетскому буквоеду и книжному червю, а тем
более — землепашцу.
Критон. А отсюда эта живость ума, эта быстрота понимания, эта лукавая
насмешливость, этот пресловутый талант острословия, которые и отличают джентльменов
вашего круга.
Ефранор. Секта ваша, как можно подумать, целиком состоит из тех, кого именуют
утонченными джентльменами.
Лисикл. Не только: есть среди нас созерцательные умы воспитания несколько
более грубого. Изучив манеры и обращение подмастерьев, лодочников, носильщиков и
всевозможного уличного сброда, эти люди пришли к глубокому постижению
человеческой природы и совершили великие открытия относительно принципов, мотивов и
пружин моральных поступков. Именно они разрушили до основания общепринятые
системы и тем оказали великую услугу обществу.
Алкифрон. Поверьте, у нас есть люди всех званий и профессий: трудолюбивые
горожане, процветающие биржевые спекулянты, ловкие дельцы, изысканные
придворные, доблестные воины, — но главная наша сила, цвет и краса всей паствы — это
подающая надежды молодежь, познавшая выгоды новейшего воспитания. Именно в ней —
опора и упование нашей секты, благодаря ее влиянию и репутации и рассчитываем мы
уже через несколько лет завершить то великое дело, над которым трудимся ныне.
Ефранор. Никогда бы не подумал, что секта ваша так влиятельна.
Алкифрон. В Англии много добропорядочных людей, пребывающих на сей счет в
таком же неведении, как и вы.
Ведь было бы ошибочно судить о господствующих в модном свете
мнениях лишь по тому, что скажет депутат в палате, судья — в ходе
заседания, или священник — с кафедры: все они говорят согласно
закону, т.е. древним и достопочтенным предрассудкам наших предков.
Вам следует посетить хорошее общество и заметить, что говорят
одаренные и тонко воспитанные особы, которых всегда — и в больших
собраниях, и во время частных визитов — слушают внимательно и с особым
восхищением. Лишь тот, у кого подобная возможность имеется, узнает нашу истинную силу,
численность и влияние.
Ефранор. Судя по вашим словам, среди людей богатых и знатных должно быть
немало мелких философов.
Алкифрон. Уверяю вас: очень даже много, и они весьма способствуют
распространению наших принципов. Ибо тому, кто познал жизнь, известно, что моды и обычаи
всегда перетекают сверху вниз. А значит, пропаганду новых мнений следует начинать,
с высших классов. И к тому же покровительство подобных особ есть важное
поощрение для наших авторов.
Ефранор. Выходит, и авторы среди вас имеются?
Лисикл. Еще бы! — и какие авторы! Великие эти мужи облагодетельствовали мир
множеством глубоких и полезных открытий.
Критон. Москон, например, открыл, что природа у человека и зверя одна и та же,
а значит, если человек желает сравниться в блаженстве со скотиной, то ему следует
дать полную волю своим страстям и вожделениям. Еще дальше пошел Горгий,
который ясно доказал, что человек есть машина, или механизм, а мышление, или разум, —
все равно, что передающийся от одного шара к другому толчок. Весьма достойным
образом использовал эти открытия Критон: с математической достоверностью
продемонстрировал он нам, что совесть — это химера, нравственность — предрассудок, а
человек за свои деяния отвечает не больше, чем часы — за свой бой. Чрезвычайно
убедительно писал о пользе порока Трифон12. Д вот Фрасенор опроверг дурацкий
предрассудок против атеизма: он доказал, что государство, состоящее из атеистов,
могло бы жить в великом процветании. Демил обратил в посмешище верность и
лояльность, доказав всему свету, что это совершенный пустяк; ему и еще одному подобному
философу обязан наш век открытием того, что дух гражданственности есть глупый
фанатизм, овладевающий лишь людьми слабохарактерными и недалекими. Впрочем,
повествовать об открытиях, совершенных писателями этой секты, можно бесконечно.
Лисикл. Но истинный шедевр и венец всего — это ученый и глубокомысленный
рассказ нашего Диагора13, заключающий в себе доказательство против бытия Бо-
жия, — считается, что широкая публика до него еще не вполне созрела. А впрочем,
мои проницательные друзья, с этим доказательством знакомые, уверяют меня, что оно
ясно, как солнце, и впоследствии еще принесет нам великую пользу, одним ударом
разрушив все здание религии. Эти открытия наши философы сообщают публике пе-
чатно — иногда в виде основательных книг, но чаще - посредством вольных
памфлетов и разрозненных листков — чтобы ускорить их обращение в пределах королевства.
Именно их воздействию следует приписать ту полную и абсолютную свободу, которая
к ужасу всех ханжей и изуверов так быстро набирает силу. А под влиянием примера и
авторитета стольких тонких умов даже люди тупые и посредственные уже начинают
понемногу открывать глаза.
Ефранор. Из этого рассказа можно заключить, что открытия вашей секты не
ограничиваются областью религии, и что верность государю и уважение к законам - это в
глазах мелких философов жалкий пустяк.
Лисикл. Совершенный пустяк. Ибо Мы слишком мудры, чтобы думать, будто и в
самом деле есть нечто священное в особе короля, в законах да и в чем бы to ни было
вообще. Иногда может показаться, что здравомыслящий человек оказывает знаки
почтения своему государю — но в сущности это то же почтение, которое оказывает он
Богу, когда, желая получить формальное право на известную должность, становится
во время присяги на колени. «Страх Божий» и «повиновение властям» - вот две
рабские максимы, которые долго стесняли и уродовали человеческое естество, наводя
ужас не только на слабые умы, но и на людей даровитых - пока наши философы, как
я уже говорил, не открыли людям глаза.
Ефранор. Кажется, это я в силах понять без труда: когда страх перед Господом
совершенно уничтожится, душа станет относиться весьма легко и непринужденно и к
прочим обязанностям, которые превращаются в притворство и формальность, как
только утрачивают власть над нашей совестью, — а совесть всегда предполагает
существование Бога. Но до сих пор я считал, что англичане всех вероисповеданий (как бы
далеко ни расходились они в некоторых пунктах) согласны в вере в Бога и, по
крайней мере, в том, что называют Естественной Религией.
Алкифрон. Я уже высказал вам на этот счет свое мнение, которое, как мне
известно, разделяют многие.
Критон. Похоже на то, Ефранор, что вас ввело, в заблуждение имя «деист»,
которое дают порой мелким философам, и вы вообразили, будто они веруют в Бога и
поклоняются ему в согласии с естественным светом разума. Но стоит вам пожить среди
них, и вы быстро убедитесь в обратном. Для богослужения нет у них ни особого места,
ни времени, ни каких-либо определенных форм; они не возносят молитв и не хвалят
Господа публично, а в частной жизйи обнаруживают презрение и отвращение даже к
тем обязанностям, которые устанавливает Естественная Религия. Например, молитва
до и после трапезы есть очевиднейшее требование естественного богопочнтаиия, и
когда-то к ней обращались повсюду. Но по мере того как входила в силу эта секта, от
данной молитвы стали отказываться, причем не только сами вольнодумцы (которые
чрезвычайно устыдились бы такой слабости, как просьба ниспослать благословение
нашей пище или благодарность Богу за хлеб насущный), но также и те, кто опасается,
как бы мелкие философы не приняли их за глупцов.
Ефранор. Да как же это возможно, чтобы человек, воистину верующий в Бога,
тем не менее отказался исполнить столь легкую и разумную обязанность из одного
лишь страха навлечь на себя презрение атеистов?
Критон. Именно так: многие в сердце своем веруют в истины религии, но стыдятся
или опасаются признать это открыто — чтобы не подмочить свою репутацию в глазах
тех, кому посчастливилось прослыть великими остроумцами и гениальными людьми.
Алкифрон. Ах, Ефранор, нам следует извинить предубежденность Критона: он
достойный джентльмен и намерения у него благие. И все же не предрассудок ли это —
приписывать авторитет наших проницательных вольнодумцев скорее удаче и счастью,
нежели истинным заслугам?
Ефранор. Соглашаюсь: их заслуги необыкновенны, ибо воистину великими
мужами должны быть те, кто в силах доказывать парадоксы вроде следующего: столь
умный и ловкий человек, как мелкий философ, есть простой автомат, или в лучшем
случае, не более, чем животное.
Алкифрон. Существует правило: человек должен мыслить, как ученые, но
говорить -как толпа11. И правило это верное. Я бы не хотел выставлять достойных и
заслуженных джентльменов в подобном свете перед людьми невежественными и
предубежденными. Дело в том, что принципы наши имеют общую черту со многими
другими истинами метафизики, геометрии и натурфилософии: непосвященные их не
переносят и слышать не должны. Сами по себе все наши открытия и теории истинны и
достоверны — но пока известны они лишь людям избранным, а для толпы звучат дико
и странно. Должно, однако, надеяться, что со временем все будет по-другому.
Ефранор. Я не удивлюсь тому, что положения вашей философии так шокируют
грубые и вульгарные умы.
Критон. И в самом деле, философия прелюбопытнейшая и достойная всяческого
восхищения!
Ведь глубокие мыслители этой школы пошли путем, прямо
противоположным тому, коего держались все великие философы прежних
столетий: последние стремились облагородить человека, поднять его,
сколько возможно, над уровнем животного, умерить и обуздать
людские страсти; напоминая человеку об истинном достоинстве его
природы, они пробуждали и совершенствовали высшие способности его
духа, направляя их к прекраснейшим целям, и прививали человеческому разуму
истинные представления о Божестве, Высшем Благе и Бессмертии Души. Великие усилия
прилагали они к тому, чтобы укрепить обязанности, налагаемые добродетелью, и обо
всех этих предметах создали превосходнейшие учения, которые развивали с
необыкновенным глубокомыслием. Однако наши мелкие философы действуют наперекор
всем мудрым и мыслящим людям. Ведь их цель и задача в том, чтобы стереть в
человеческих умах принципы всего великого и благого, расшатать самые основания
гражданского устройства, разрушить фундамент нравственности и, вместо того чтобы
совершенствовать и облагораживать нашу природу, внушить нам образ мыслей и
принципы поведения самых необразованных и варварских наций, а то и вовсе низвести род
человеческий до уровня диких зверей. И при этом желают они прослыть людьми
глубоких познаний. Но, в конце концов, чем же все это разрушительное знание лучше
откровенного невежества дикаря? Не существует ни Провидения, ни Духа, ни Буду-
ЮСЕХ2
|SD^)(F^~ Джордж Беркли ЧВ^^ГЗ!
щей Жизни, ни Нравственного Долга — поистине, система замечательная и вполне
достойная того, чтобы честный человек мог ее разделять, а человек остроумный -
гордиться ее изобретением!
Алкифрон, слушавший это рассуждение с некоторым беспокойством, важно
ответствовал:
— Не весом авторитета должно разрешать спорные вопросы, но силой разумных
доводов. Вы,, конечно, вольны изрекать общие места по поводу наших теорий или
называть их грубыми и варварскими — однако весьма немногие сумели бы
собственными силами возвыситься до подобной «грубости» и до такого «варварства», если бы
величайшие гении не взломали прежде лед: ибо нет ничего более трудного, чем пойти
наперекор воспитанию и одолеть застарелые предрассудки! Великое мужество и
дарование нужны для того, чтобы выбросить вон кучу хлама, накопившегося в нашей душе
с детского возраста. А значит, наши философы по праву заслужили имя «esprits
forts»'"', «крепких умов», «свободомыслящих» и тому подобные названия,
указывающие на силу и независимость их разума. Очень может быть, что героические усилия
этих мужей кто-то представит как пиратство и грабеж, отнимающие у души ее
богатства и украшения — ибо что в нашем мире в силах избегнуть клеветы? — тогда как на
самом деле это лишь освобождение от предрассудков и возвращение человеческой
души в ее неиспорченное и первозданное природное состояние. О природа! О истинная и
целомудренная красота естества!
Ефранор. Вы, Алкифрон, кажется, весьма неравнодушны к красотам естества.
Однако сделайте милость, скажите, что же вы считаете «естественным», и по каким
признакам мог бы я отличить подобные вещи?
Алкифрон. Чтобы какую-то вещь признать естественной, скажем,
для человеческого ума, необходимо, чтобы она находилась в нем
изначально, присутствовала в уме каждого человека и, наконец, оставалась
неизменной и постоянной во все века и у всех народов. Таким образом,
ограничительные условия изначальности, всеобщности и неизменности
исключают те представления человеческого ума, которые являются
следствием воспитания и обычая. Так же обстоит дело и в отношении всех прочих
видов живых существ. К примеру, склонность кошки преследовать мышь естественна,
ибо согласуется с вышеупомянутыми признаками. Когда же кота научат выделывать
всякие трюки и фокусы, то вы уже не скажете, что они для него естественны. Но той
же причине, если к сливе привить персик или абрикос, никто не заключит, что они
являются для этого дерева естественными плодами.
Ефранор. И все же вернемся к человеку. Вы, стало быть, соглашаетесь считать
естественным для него лишь то, что обнаруживается сразу же, как только приходит он
в мир, а именно: ощущения и такие страсти и потребности, которые дают о себе знать
при первом же соприкосновении с соответствующими объектами.
Алкифрон. Таково мое мнение.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а если на молодой яблоне по прошествии
известного времени появятся листья, цветки и плоды, то ведь оттого, что в нежных почках
они еще никак себя не обнаружили, вы не станете отрицать, что они для яблони вещи
естественные?
Алкифрон. Не стану.
ЮСЕХЗ
Ефранор. А теперь представьте , что в известную пору и у человека прорастает и
распускается чувственное вожделение или же мыслительная способность — словно
листья и цветки на фруктовых деревьях — так вот, станете ли вы отрицать, что они
для человека естественны, ссылаясь на то, что в раннем детстве они никак себя не
проявили?
Алкифрон. Признаю, что нет.
Ефранор. А если так, то вы, похоже, поступили неосторожно, когда установили
первое условие естественности чего бы то ни было для человеческого ума — т.е.
первоначальность появления в уме.
Алкифрон. Похоже на то.
Ефранор. Пойдем дальше. Скажите, Алкифрон, полагаете ли вы, что для
апельсинного дерева естественно производить апельсины?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Однако посадите его у северных берегов Великобритании — и после
великих трудов и попечений оно, может быть, и произведет хороший салат; в южной
части острова тщательная обработка и упорные усилия позволят, вероятно, получить
весьма посредственные плоды. Зато в Португалии или в Неаполе получим мы с него
плоды много лучшие, причем с самыми малыми усилиями или вообще без всякого
ухода. Так или нет?
Алкифрон. Так.
Ефранор. Одно и то же растение во всех этих местностях производит
неодинаковые плоды: почва, солнце и культура определяют различие.
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. А если — по вашим же словам — дело обстоит точно так же со всеми ι
видами живых существ, то почему бы нам не сделать по аналогии следующий вывод:
ничто может быть естественным для человеческого рода — и однако обнаруживаться
далеко не у каждого человека и не быть неименным и одинаковым у тех, у кого
обнаруживается?
Алкифрон. Постойте, Ефранор. Вам следует объясниться подробнее: я не хочу
делать поспешные уступки.
Лисикл. И вы правильно поступаете, Алкифрон, соблюдая подобную
осторожность. Что-то не нравятся мне эти коварные вопросы.
Ефранор. Да я и не желаю, чтобы вы уступали мне<из вежливости. Я лишь
хочу знать ваше мнение по каждому отдельному пункту — только так сможем мы
понять друг друга, установить в чем мы согласны и продолжить совместный
поиск истины. Но если эти господа (добавил Ефранор, обратившись к нам с
Критоном) не желают свободного и беспристрастного исследования, то я не стану
их больше беспокоить.
Алкифрон. Наши мнения выдержат испытание, и мы не страшимся подобной
проверки. Так что продолжайте, как вам будет угодно.
Ефранор. Если так, то из того, с чем вы уже согласились, вытекает, что нечто
может быть для человека естественным, но фактически обнаруживаться не у всех и не
в равной степени: ведь различия в культуре и во всяком ином преимуществе в
пределах человеческой природы столь же велики, сколь и в природе растений — если
воспользоваться вашим собственным сравнением. Не так ли?
Алкифрон. Так.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, во все ли времена и во всех ли странах люди,
достигнув известного возраста, выражают свои мысли с помощью речи?
Алкифрон. Да.
Ефранор. А в таком случае не кажется ли вам, что язык — нечто естественное для
человека?
Алкифрон. Кажется.
Ефранор. И однако языков существует великое множество.
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. Так не следует ли отсюда, что нечто может быть естественным и, тем не
менее, допускать разнообразие?
Алкифрон. Признаю, что следует.
Ефранор. Если так, то нельзя ли сделать следующее заключение: нечто может
быть естественным для человеческого рода, не обладая при этом указанными
признаками или свойствами, т.е. не будучи изначальным, всеобщим и неизменным?
Алкифрон. Можно.
Ефранор. А значит, религиозный культ и гражданское правление могут быть
вполне естественными для человека — несмотря на то, что они допускают различные
формы и неравные степени совершенства?
Алкифрон. Похоже, так.
Ефранор. Вы уже признали, что разум естественен для человека.
Алкифрон. Признал.
Ефранор. А следовательно, все, что согласно с разумом, соответствует
человеческой природе?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Так не вытекает ли отсюда, что истина и добродетель естественны для
человека?
Алкифрон. Признаю: все разумное естественно.
Ефранор. Но если выше всего ценятся те плоды, которые приносят нам лучшие
породы деревьев, тщательно культивируемые и произрастающие на самой плодородной
почве, то не должны ли мы подобным же образом полагать, что отборнейшими и
превосходнейшими произведениями разумной природы человека являются те возвышенные
истины, те плоды зрелой мысли, кои были рационально выведены людьми самого
тонкого и развитого ума? А если так, если истины эти и в самом деле разумны и естественны,
то их, вероятно, не следует объявлять противными природе прихотями, заблуждениями
воспитания и беспочвенными предрассудками — пусть даже их росту способствует
удобрение и обработка наших девственных умов, пусть даже они пускают корни и дают
побеги в раннем возрасте благодаря заботам и усердию наших наставников?
Алкифрон. Согласен — но при условии, что они действительно могут быть
доказаны рациональным путем. Однако считать это само собой разумеющимся в отношении
того, что толпа называет Истинами Морали и Религии, значило бы как раз выдавать
спорный вопрос за решенный.
Ефранор. Вы правы. И потому я сейчас не утверждаю, что они действительно
доказаны рационально, я лишь говорю: если предположить, что они и в самом деле
таковы, то их следует признать естественными для человека, иначе говоря,
согласными с самой превосходной и характерной способностью человеческой природы и
проистекающими из нее.
ΚΧΞΧΙ
|£^в(Г Алкифрон ~^Щ^ГД
Алкифрон. На это мне нечего возразить.
Ефранор. А тогда как же нам быть с прежними вашими утверждениями: что
естественным для человека является лишь то, что можно найти во все века и у всех
народов; а для того чтобы получить истинное представление о человеке, мы якобы должны
искоренить все плоды обучения и воспитания, принимая в расчет лишь ощущения,
влечения и страсти, каковые обнаруживаются изначально во всем человечестве, и что,
следовательно, идея Бога не имеет основания в природе, поскольку не является ни
первоначальной, ни одинаковой у всех людей? Сделайте милость, попытайтесь
согласовать это с вашими недавними уступками, пойти на которые вынудила вас, как мне
кажется, сила истины.
Алкифрон. Скажите, Ефранор, не является ли истина всегда
одной и той же, тождественной себе и неизменной? И если это так, то не
будет ли разнообразие и противоречивость человеческих
представлений о Боге и нравственных обязанностях ясным доказательством того,
что представления эти никакой истины в себе не заключают?
Ефранор. Я охотно признаю: истина постоянна и неизменна, а
значит, мнения, одно с другим несовместимые, не могут быть все истинными. Однако я не
считаю, что отсюда следует, будто все они равно ложны. И если среди различных
мнений об одном предмете обнаружится суждение, основанное на доводах ясных и
очевидных, то его-то и следует считать истинным вполне, остальные же лишь
настолько, насколько они с ним согласуются. Ведь разум — един, и, правильно
приложенный, он всегда и везде приводит к одним и тем же выводам. Еще две тысячи лет тому
назад силою собственного ума Сократ пришел к тому представлению о Боге, коего
держатся современные философы — если вы, конечно, позволите называть этим
именем тех, кто к секте вашей не принадлежит16. А изречение Конфуция о том, что в
юности человек должен остерегаться вожделения, в зрелом возрасте — раздоров и
вражды, а в старости — скупости, является общепринятым правилом нравственности в
Европе точно так же, как и в Китае.
Алкифрон. Если бы все люди думали одинаково, ваш аргумент был бы
убедителен — между тем различие мнений указывает на недостоверность и неопределенность.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а что вы считаете причиной лунного затмения?.
Алкифрон. Тень Земли между Солнцем и Луной.
Ефранор. И вы в этом уверены?
Алкифрон. Абсолютно.
Ефранор. Но все ли человечество с этой истиной согласно?
Алкифрон. Отнюдь нет. Люди темные и невежественные приписывают данному
явлению всевозможные нелепые причины.
Ефранор. Стало быть, о природе его существуют различные мнения?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Тем не менее, одно из них истинное?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. А следовательно, различие мнений относительно какой-нибудь вещи
ничуть не мешает ни самой вещи существовать в действительности, ни одному из мнений
о ее природе быть истинным?
Алкифрон. Согласен.
|E)^fe(F Джорда. Беркл, ^R^^TJ
Ефранор. А значит, ваш аргумент против веры в Бога, основанный на различии
мнений о его природе, не убедителен. Не в силах я уразуметь и того, каким образом
можете вы делать заключения о неистинности положений религии и морали, исходя из
различия человеческих мнений об одном предмете. Разве нельзя будет с таким же
успехом доказывать, что ни одно историческое сообщение о каком-либо событии не
может быть истинным, если существуют различные версии последнего? Или, скажем,
коль скоро разные философские школы держатся неодинаковых мнений, то не вправе
ли мы будем заключить, что заблуждаются они все — и даже вы, мелкие философы?
Во время этой беседы Лисикл выглядел чрезвычайно встревоженным - словно
тот, кто желает в сердце своем, чтобы не было Бога.
— Алкифрою, — не выдержал он наконец, — вы спокойно сидите и безучастно
слушаете, а между тем Ефранор подкапывается под самые основания наших принципов!
— Не падайте духом, — отвечал ему Алкифрон. — Известно, что ловкий игрок
побеждает своего противника, предоставив тому вначале некоторое преимущество. И я
удовлетворен тем, — продолжал он, обратившись к Ефранору, — что вы оказались
вовлечены в доказательный спор и вынуждены теперь апеллировать к разуму. Я же, со
своей стороны, не устрашусь последовать за разумом всюду, куда бы он не повел.
Знайте же, Ефранор: я с легким сердцем уступаю вам все, что вы до сих пор
доказывали. Успехом нескольких незрелых мнений, как бы невзначай упомянутых в ходе
нашей вольной беседы, дорожу я не больше, чем турки — той жалкой нехотой,
которую ставят они перед фронтом своей армии с одной-единственной целью - заставить
неприятеля израсходовать на нее свой порох и притупить мечи. Можете не
сомневаться: в резерве у меня целый полк других аргументов, которые я уже готов бросить в
бой. Ручаюсь, сто смогу вам доказать...
Ефранор. Ах^ Алкифрон, я ведь нисколько не сомневаюсь в вашей превосходной
способности доказывать. Только вот прежде чем взваливать на вас бремя каких-либо
дальнейших доказательств, я хотел бы узнать, стоит ли вообще доказывать положения
вашей мелкой философии, другими словами, есть ли в них хоть какая-то польза и
выгода для человечества.
Алкифрон. На это позвольте заметить: нечто может быть полезным
по мнению одного, и бесполезным — в глазах другого, между тем
истина всегда остается истиной, и потому ее не должно измерять выгодами
того или иного человека или партии.
Ефранор. Но не общее ли благо человечества следует
рассматривать как правило и меру истин морали да и всех тех истин, которые
определяют наши поступки или влияют на них?
Алкифрон. Мне это· не кажется очевидным, Я, конечно, знаю, что законодатели,
богословы и политики всегда твердили, будто ради блага и пользы человечества
следует внушать людям благоговейный страх перед рабскими идеями религии и морали.
Допустим, так — но как же это нам докажет, что и самые идеи верны? Польза - одно,
истина — другое. И потому настоящий философ, презирая все выгоды и удобства,
устремляет свой взор лишь на истину как таковую!
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а этот ваш «настоящий философ* — мудрый
человек или глупец?
Алкифрон. Что за вопрос? Да он мудрейший из людей!
|Og§^(P Алкнфро. Щ^ЬСЖ
Ефранор. Кого же нам счесть мудрецом — того ли, кто действует обдуманно, или
того, кто поступает наобум?
Алкифрон. Того, кто действует обдуманно.
Ефранор. А всякий, кто поступает обдуманно, действует ради какой-то цели,
разве не гак?
Алкифрон. Так.
Ефранор. И человек мудрый — ради благой цели?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. И мудрость свою обнаруживает он в выборе средств, подходящих для
достижения цели?
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. А значит, чем совершеннее поставленная цель и чем пригоднее
используемые для ее достижения средства, тем более мудрым должны мы счесть и самого
деятеля?
Алкифрон. Похоже, так.
Ефранор. Может ли разумное деятельное существо ставить себе цель более
совершенную, чем счастье?
Алкифрон. Не может.
Ефранор. А среди вещей благих величайшее благо и будет самым совершенным?
Алкифрон. Несомненно.
Ефранор. Но не является ли счастье человечества большим благом, нежели
счастье отдельного лица или нескольких лиц?
Алкифрон. Является.
Ефранор. Так не будет ли оно поэтому самой совершенной целью?
Алкифрон. Кажется, да.
Ефранор. И не следует ли считать мудрейшими из людей тех, кто, используя
надлежащие средства, стремится именно к этой цели?
Алкифрон. Признаю, что следует.
Ефранор. А какие идеи и мнения управляют мудрецом — мудрые или
безрассудные?
Алкифрон. Мудрые, конечно.
Ефранор. Но тогда получается, что тот, кто с помощью надлежащих и
необходимых средств способствует общему благу человечества, поистине мудр и действует на
мудрых основаниях?
Алкифрон. Кажется, так.
Ефранор. Но не является ли безумие по природе своей противоположностью
мудрости?
Алкифрон. Является.
Ефранор. И нельзя ли в таком случае заключить, что безрассудны именно те, кто
стремится расшатать принципы, необходимым образом связанные с общим благом
человечества?
Алкифрон. Вероятно, это можно допустить, но в то же время должен вам
заметить, что я вполне способен с Э1шм и не согласиться.
Ефранор. Как!! tHe станете же вы отрицать вывод, если принимаете посылки?
Алкифрон. Я желал бы знать, на каких условиях мы диспутируем. И если в ходе
наших вопросов и ответов кто-то вдруг допустит оплошность, то будет ли этот нечаян-
ЕСЕХЗ
ный промах уже совершенно непоправимым? Ибо если вы станете караулить всякое
преимущество и цепляться за него, не делая скидок на неожиданность π
невнимательность, то, должен признаться, это будет лучший способ убедить мой разум.
Ефранор. Ах, Алкифрон, я стремлюсь не к победе в споре, но к истине. А значит,
вы вольны заново распутать все прежде сказанное, чтобы исправить любой свой
промах. Но в таком случае вам следует ясно на него указать - иначе будет совершенно
невозможно прийти к какому-либо выводу.
Алкифрон. На подобных условиях я соглашаюсь искать вместе с вами истину
ибо делу этому я искренне предан. В ходе же настоящего исследования я, пожалуй,
допустил оплошность тогда, когда признал, что счастье человечества есть благо
большее, чем счастье отдельного лица. Ибо на самом-то деле собственное счастье каждого
человека и есть все доступное ему благо. Счастье других не входит в состав моего
собственного, а потому и не является благом по отношению ко мне, — я разумею,
истинным, природным благом. А значит, оно не может быть разумной целью для меня
по природе и по истине — о политических уловках я сейчас не говорю, - ведь ни один
мудрый человек не станет стремиться к цели, которая его не касается. Таков голос
самой природы. О природа! В тебе одной источник и образец всего благого и мудрого!
Ефранор. Значит, вы желаете следовать природе, избрав ее своим проводником и
образцом для подражания?
Алкифрон. Непременно.
Ефранор. И откуда же у вас такое преклонение перед природой?
Алкифрон. Из превосходства и совершенства ее произведений.
Ефранор. И вы считаете, что растение, к примеру, полезно и совершенно потому,
что различные его части так соединены и так приспособлены одна к другой, что могут
защищать и питать целое, позволяя отдельной особи расти, а виду - размножаться;
свойства же его плодов способны удовлетворить вкус человека или содействовать его
выгоде и пользе?
Алкифрон. Именно так.
Ефранор. И подобным же образом, совершенство животного тела выводите вы из
общего строения и взаимного соответствия его членов, посредством чего все они
способствуют благополучию как отдельной части, так и целого? И разве не замечаете вы
естественный союз и согласие между животными одного вида? И неужели вам
неизвестно, что даже различные виды животных обладают определенными свойствами и
инстинктами, благодаря которым они содействуют питанию, удовольствию и
существованию каждого отдельного вида? Кажется, что и безжизненные неорганические
элементы имеют взаимно соответствующие качества. В чем бы заключалось совершенство
воды, не будь она причиной того, что из земли появляются травы и всевозможные
растения, которые затем цветут и плодоносят? И что бы стало с красотой земли, если
бы не согревало ее солнце, не орошал дождь и не освежал ветер? Неужели во всей
системе видимого естественного мира не усматриваете вы взаимную связь и
соответствие частей? И не отсюда ли возникает у вас представление о совершенстве,
упорядоченности и красоте природы?
Алкифрон. Со всем этим я согласен.
Ефранор. И разве не говорили некогда стоики — а ханжества и фанатизма в них
было не больше, чем в вас — и разве не признали вы сами, что подобный порядок есть
образец, достойный подражания разумных существ?
ЕСЕХЗ
Алкифрон. Я не отрицаю, что это так.
Ефранор. А если так, то не должны ли мы заключить, что и в мире моральном
существуют согласие, единство и закономерность, аналогичные тем, какие
обнаруживаем мы в мире природном?
Алкифрон. Должны.
Ефранор. И не следует ли отсюда, что и разумные существа были созданы, как
говорит император-философ*, друг для друга, а значит, человек должен видеть в себе
не изолированную особь, чье счастье никак не связано со счастьем других людей, —
но, скорее, элемент единого целого, благу коего он и должен способствовать,
надлежащим образом соразмеряя и направляя свои поступки и действия — если, конечно, он
желает жить согласно природе?
Алкифрон. Предположим, это так — и что же дальше?
Ефранор. Но не вытекает ли отсюда, что мудрец, стремясь к собственному благу,
должен иметь в виду и принимать в расчет благо других людей? С чем вы и
согласились, как вам впоследствии показалось, по невнимательности. А между тем взаимные
привязанности, соединяющие людей, чувство симпатии, способность переживать
чужую боль и удовольствие, - все это всегда считалось ясным доказательством данной
истины. А между тем именно этому неизменно учили все те, кого почитали самыми
мудрыми и глубокомысленными из древних: платоники, перипатетики, стоики — не
говоря уже о христианах, коих вы объявляете людьми недалекими и суеверными.
Алкифрон. Здесь я с вами спорить не стану.
Ефранор. Но если мы до сих пор согласны, то не следует ли из наших посылок,
что вера в Бога, будущую жизнь и нравственные обязанности есть единственно
мудрый, истинный и надежный принцип человеческого поведения — коль скоро подобные
убеждения находятся в необходимой связи с благом человечества? И ведь к этому
выводу привели вас собственные ваши признания и аналогия природы.
Алкифрон. Я был приведен к нему вами — шаг за шагом, через несколько
предварительных этапов, припомнить которые уже не могу. Но вот что я вижу ясно: вы
исходите из необходимой связи подобных принципов с благом человечества — а этот
пункт я не признавал, а вы не доказывали.
Лисикл. А между тем это и есть коренной, величайший предрассудок, в чем я, без
всякого сомнения, смог бы вас убедить, будь у меня на это время. Но уже поздно, а
потому, если вы не возражаете, мы отложим до завтра обсуждение данного предмета.
После этого предложения Лисикла мы и закончили в тот вечер нашу беседу.
**<$fejßfej!b
• M. Antonin. Lib. IV.'7
г
Диалог второй
1. Пагубность порока — вульгарное заблуж-
2 J 'Польва пьянства, игры и распутства.
3. Предрассудок против порока сжоднт на
нет.
4. Польва порока иллюстрируется
примерами Калликла н Телесиллы.
5. Анализ аргументов Лисакла в пользу
порока.
6. Несправедлив· карать за поступки, если к
учениям, из которых они вытекают,
относятся с терпимостью.
7. Рискованные эксперименты мелких
философов.
8. Их теория всеобщего круговорота.
9. Их представление о Реформации.
Богатство само по себе не есть благо для
общества.
Авторитет мелких философов. Их
предрассудок против религии.
Следствия роскоши.
10
И
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Чувственные удовольствия.
Какой вид удовольствий является самым
естественным для человека.
Достоинство человеческой природы.
Ложно понятое удовольствие.
Развлечения, жалкое состояние и
малодушие мелких философов.
Распутники не умеют считать.
Таланты и успехи мелких философов.
Отдельные примеры счастливых
следствий мелкой философии.
Их смелые теории государственного
устройства.
Англия — лучшая почва для мелкой
философии.
Искусная тактика ее приверженцев.
Заслуги мелких философов перед
обществом.
Их мнения и нравы.
Тенденция к папизму и рабству.
к
Âm
На следующее утро Алкифрон и Лисикл сообщили нам, что погода
так восхитительна, что им пришло на ум провести день на свежем
воздухе, пообедав где-нибудь в очаровательном и прохладном месте. И
вот после завтрака мы спустились к берегу в полумиле от дома; по
одну сторону был океан, по другую — дикие скалы, а между ними
тенистые деревья и родники. Мы долго бродили по гладкой песчаной отмели но тут
солнце стало»припекать и мы укрылись в расселину между двумя утесами1. Как только
мы устроились на новом месте, Лисикл, обращаясь к Ефранору, сказал:
— Сейчас я готов исполнить вчерашнее мое обещание, а именно: доказать, что
какой-либо необходимой связи между благом общества и принципами, которые вы
защищаете, нет и в помине и что напрасно некоторые эту связь воображают. Охотно
признаю: если бы вопрос решался авторитетом законодателей и философов, нам при-
юосз
шлось бы худо. Ведь эти люди считают само собой разумеющимся, что порок вреден
обществу и что удержать человечество от греха способен лишь страх Божий да
представление о будущей жизни, — что и побуждает их думать, будто вера в подобные
вещи необходима для блага рода человеческого. Господствуя в мире многие века,
ложное это мнение принесло громадный вред, ибо послужило истинной причиной
возникновения религиозных учреждений, обеспечив духовенству и его суевериям защиту и
поощрение со стороны законов и правителей. И даже иные из величайших мудрецов
древности — согласные с нашей сектой в отрицании Провидения и бессмертия души —
имели, однако, слабость разделять вульгарный предрассудок о том, что порок пагубен
для человеческих сообществ. Но в недавние времена Англия произвела; на свет
великих философов, которые наконец рассеяли заблуждение и неопровержимо доказали,
что пороки частных лиц суть благодеяния для общества2. Подобному открытию
суждено было свершиться в нашу эпоху, и честь этого открытия принадлежит именно нашей
секте!
Критон. Весьма вероятно, что некоторые люди тонкого ума уже давно прозревали
эту глубокую истину — но, надо думать, жили они в темные и невежественные
времена среди народов ханжеских и фанатичных, совершенно не созревших для подобного
открытия.
Лисикл. Недалеких и близоруких людей, неспособных разглядеть более одного
звена в общей цепи следствий, обыкновенно шокирует всякое незначительное зло,
сопутствующее пороку. Но тот, кто в силах расширить поле своего зрения и
проследить долгий ряд событий, увидит, как в тысяче случаев из порока проистекает счастье,
а из зла — добро1. И чтобы это доказать, я не стану докучать вам авторитетами или
притянутыми за уши аргументами — нет, я укажу вам на факты. Присмотритесь к
каждому отдельному пороку, изучите его следствия и воздействия — и вы ясно
увидите, какие выгоды и преимущества дарит он обществу.
Пьянство, к примеру, нудные ваши моралисты считают вредонос-
нейшим пороком — но лишь оттого, что не рассматривают, как
должно, благие его последствия. Ибо оно, во-первых, увеличивает
поступления от пошлины на солод, важнейшего источника доходов Его
Величества, и тем споспешествует славе, мощи и безопасности нашего
государства4. Во-вторых, пьянство дает работу великому множеству рук:
пивовару, солодовнику, пахарю, торговцу хмелем, кузнецу, плотнику, меднику,
столяру и всем прочим ремесленникам, труд которых необходим для того, чтобы
обеспечить инструментами и утварью вышеупомянутых мастеров5. И все эти выгоды и
преимущества проистекают из пьянства самого обыкновенного — то есть, от крепкого
пива. Итак, данный пункт ясен настолько, что никаких сомнений не допускает. Но хотя
вы и вынуждены все это признать, я догадываюсь, какое возражение изготовились вы
привести против того пьянства, которое связано с употреблением водки и вина: оно
якобы перемещает за границу наши богатства. Подумайте, однако, о том, сколько рук
подобное пьянство обеспечивает работой в нашей стране: перегонщиков спирта,
винокуров, виноторговцев, купцов, моряков, корабельных плотников, всех тех, кто
экипирует наши суда и снабжает их команды провизией, — одним словом, при точном
подсчете здесь обнаруживается невероятное множество разнообразнейших ремесел и
профессий. Далее, для того чтобы суда наши смогли доставить к нам эти заморские това-
ры, понадобятся все фабриканты и ремесленники королевства: прядильщики, ткачи,
красильщики, чесальщики шерсти, возчики, упаковщики. То же можно сказать о
многих других занятиях и производствах. А если, кроме того, учесть, сколько народу
обогащают вышеупомянутые торговые операции и ремесла, если принять в расчет
расходы самих этих людей и членов их семейств, связанные с разнообразными
потребностями модного и приличного образа жизни, благодаря которым, в свою очередь,
обеспечиваются работой всевозможные ремесленники, коммерсанты и мастеровые - и не
только у нас, но повсюду, куда только достигает наша торговля, — если, говорю я,
помыслите вы обо всем этом, то придете в изумление перед внезапно открывшимся
зрелищем чудесного разнообразия выгод и преимуществ, обусловленных одним-един-
ственным пороком, — пьянством, которое суровые ваши реформаторы нравов так
жестоко преследуют в своих напыщенных поучениях.
С подобной же проницательностью слабоумные эти людишки привыкли осуждать и
азартные игрыв. Действительно — таковы уж невежество и безрассудство рода
человеческого! — пьяницу и картежника считают прямо-таки пагубой для общества, а между
тем оба они каждый по-своему весьма способствуют общественному благу. Если вы
станете судить по первому впечатлению, обращая внимание лишь на внешнюю сторону
вещей, то, без сомнения, решите, что игра в карты есть занятие пустое и бесполезное.
Но копните поглубже — и вы увидите, как праздная эта забава обеспечивает работой
изготовителя карт, а тот приводит в движение бумажные фабрики, благодаря которым
получает свой кусок хлеба и бедный старьевщик, не говоря уже о строителях и
мастерах по дереву и железу, занятых при возведении и оборудовании этих фабрик.
Устремите свой взор еще дальше — и вы обнаружите, что изготовление свечей и отдача
внаем кресел предоставляют работу трудолюбивым беднякам, которым в итоге
помогают выбраться из нужды шулеры и такие джентльмены, которые не подали бы и пенса
нищему.
Но вы скажете, что игра, дескать, разоряет многих особ — не подумав о том, что
если один человек что-то теряет, то другой — приобретает, а следовательно, новых
богачей появляется столько же, сколько разорившихся неудачников: просто деньги
меняют хозяев, а в этом круговороте и заключается самая суть коммерции. Ведь если
деньги уже потрачены, обществу решительно все равно, кто их израсходовал.
Предположим, какой-то высокородный болван обманут небогатым человеком низкого
происхождения, у которого оказалось побольше ума. И какой же ущерб претерпело в таком
случае общество? Страдания бедности облегчены, изобретательность получила
должное вознаграждение, деньги остаются на родине и обращаются очень живо.
Хитроумный шулер может теперь обзавестись экипажем и расходовать изрядные суммы
а этого нельзя сделать, не обеспечив работой множество народу. Тут вы, пожалуй,
возразите: человек доведенный игрой до крайности, способен совершить отчаянные и
безрассудные поступки, вредные для общества. Предположим самое худшее: он стал
разбойником с большой дороги.7 Что ж, жизнь у таких людей короткая и веселая.
Пока он живет, он много тратит, и на одного человека, им ограбленного, приходится
двадцать, поправивших свои дела за его счет. А когда пробьет его час, то 50 или 100
фунтов, назначенных за его голову, облегчат нужду какого-нибудь семейства. Толпа
смотрит на него и ему подобных как на существо праздное или вредное - но истинный
философ, созерцающий вещи в ином свете, признает в нем человека, преданного
славному и приятному занятию, который и сам развлекается, и обществу приносит ноль-
ЕС«Х21
зу — и все это с такой легкостью и непринужденностью, что, обеспечивая работой
множество народу и приводя громадную машину в движение, он не сознает творимого
им добра и даже не предполагает его совершить — а это и есть свойственный
истинному джентльмену способ приносить пользу посредством порока.
Я рассматривал игру в карты, и она нечувствительным образом обратила мои
мысли к выгодам и преимуществам, сопутствующим разбою на большой дороге. О
изумительная связь пороков, никем еще достойно не воспетая! Потребовалось бы слишком
много времени, чтобы показать, как все они тяготеют друг к другу и какие великие
блага порождает каждый из них. Скажу лишь два слова о любимом пороке, а затем
предоставлю вам самим сделать выводы об остальных, прилагая к ним тот же способ
рассуждения. При том образе жизни, который вы именуете «добропорядочным»,
бедная девушка не сумеет истратить на себя полкроны в неделю — но только лишь
выпадет ей удача стать содержанкой, и она тотчас же — к пользе и благу отечества! —
задает работу модисткам, прачкам, камеристкам, торговцам шелками и множеству
людей иных профессий. И я бы никогда не кончил, если бы пожелал изобразить каждый
отдельный порок во всех его последствиях и воздействиях и указать все громадные
выгоды, которые пороки приносят обществу. Истинные движущие силы великой
машины торговли, создающие процветающее государство, были до сих пор слишком
плохо поняты.8 Ибо ваши теологи и моралисты столько веков портили и искажали
природный здравый смысл человечества, пичкая головы людей нелепыми
принципами, что теперь уже лишь немногим под силу обратить непредубежденный взор на
реальную жизнь. И еще меньше тех, кто одарен достаточным талантом и
проницательностью, чтобы проследить длинную цепь следствий и взаимных зависимостей, без чего
невозможно составить верное и полное представление о благе общества. И однако, как
я уже сказал, наша секта произвела мужей, способных совершить подобные открытия,
каковые они и обнародовали с полной ясностью ради пользы отечества.
— Да, — отозвался Ефранор, слушавший эту речь чрезвычайно
внимательно, — а ведь вы, Лисикл, и есть тот самый человек, который
был мне нужен: красноречивый, остроумный, сведущий в принципах
своей секты и готовый сообщить о них другим. Прошу вас, скажите,
охотно ли принимаются эти принципы в обществе?
Лисикл. Людьми острого ума и людьми светскими — вполне. Хотя
порою идеи эти наталкиваются на сильные предрассудки личностей
посредственных — вследствие ограниченных способностей и низкого воспитания.
Ефранор. И я был бы поистине изумлен, если бы их и в самом деле нисколько
не шокировали эти удивительные идеи, столь противные законам, воспитанию и
религии.
Лисикл. Они бы шокировали публику еще сильнее, если бы не ловкость и
находчивость наших философов, которые, приняв в расчет, что люди по большей части
обращают внимание не на вещи, а на слова, изобрели особую изысканную манеру
выражаться, весьма ослабившую предубеждение и отвращение к пороку.
Ефранор. Не вполне вас понимаю.
Лисикл. К примеру, человек порочный — это на нашем языке «любитель
удовольствий», шулер — «тот, кто ведет крупную игру»; о леди мы скажем, что «у нее
роман», джентльмена назовем «галантным кавалером», а жулика — «человеком, знаю-
Efâ&W~ Джордж Беркли ^Q^TJ
щим жизнь». Таким образом, среди особ, принадлежащих к beau monde", не бывает ни
горьких пьяниц, ни мошенников, ни развратников, ни блудниц, — светский человек
может преспокойно наслаждаться своими пороками, не рискуя навлечь на себя
неудобные названия.
Ефранор. Выходит, порок — это превосходная вещь с гадким именем.
Лисикл. Уверяю вас: так оно и есть.
Ефранор. Тогда получается, что опасения Платона — как бы рассказы,
изображавшие богов порочными, не испортили молодых людей ,0 — были следствием его
невежества и скудоумия.
Лисикл. Поверьте, это действительно так.
Ефранор. А между тем Платон был принят в хорошем обществе и жил при дворе.
А Цицерон, который превосходно знал жизнь, глубоко уважал Платона.1 '
Критон. Послушайте, Ефранор: Платон и Туллий, может быть и производили
достойное впечатление в Афинах или Риме — но если бы они воскресли в наши времена,
то прослыли бы грубыми и неотесанными педантами: ведь чуть ли не в каждой
лондонской кофейне найдется с десяток талантливых людей, способных ясно доказать, что они
ровно ничего не смыслили в том, за что их так ценят — в морали и в политике.
Лисикл. Я знаю множество проницательных особ и при дворе, и в обществе, у
которых ума раз в десять побольше, чем у вашего Платона, — а между тем им
решительно наплевать, что думают их сыновья о Боге или о добродетели!
Критон. Я поясню доктрину Лисикла примерами, которые сделают
для вас очевидными всю ее силу и убедительность. Мелкий философ
Клеон неусыпно заботился о воспитании сына, заблаговременно
посвятив его в принципы своей секты. Калликл (так звали его отпрыска),
будучи юношей понятливым, сделал заметные успехи - да так, что не
достигнув еще совершеннолетия, заставил умереть от досады старого
скрягу-отца, а затем промотал оставленное тем наследство. Другими словами,
Калликл подарил его обществу, разбросав навозную кучу, накопленную предками, и из
одного непомерно разросшегося богатства сделал несколько изрядных состояний для
ловких и умных людей, живущих пороками знати. Телесилла, женщина благородная и
твердая духом, не могла, однако, произвести впечатления в свете, пока супруг не
просветил ее на предмет принципов мелкой философии, которые — как он с
основанием полагал — должны были удержать ее от всякой благотворительности. С тех пор она
пристрастилась к дорогим развлечениям, в особенности — к игре на большие деньги,
посредством чего перевела немалую долю своего состояния в руки проницательных
людей, весьма искусных в этом таинстве, которые нуждались в ее деньгах больше, чем
сама Телесилла, и умели обращать их быстрее, чем это сделал бы ее муж, — а тот, в
свою очередь, обрел наследника для своего состояния, хотя детей никогда не имел.
Эта же самая Телесилла, которая оставалась совершенным ничтожеством, пока верила
в свой катехизис, ныне превратилась в леди модную и изысканную, блистает во всех
собраниях, а ее щегольские кружева и дорогие наряды пробудили страсть к
расточительству и у других дам — к великой пользе общества, хотя, должно признаться, к
досаде многих прижимистых супругов.
Слушая, как Критон с серьезной миной излагает эти истории, я не мог сдержать
улыбку. Заметив это, Лисикл сказал:
юоса
— Вероятно, поверхностные умы найдут здесь что-то смешное, но все те, кто
мыслит правильно, наверняка поймут, что подобные максимы (польза которых является
всеобщей, а вред ограничивается отдельными лицами и семействами) в мудром
государстве должны всячески поощряться.
— Со своей стороны, признаюсь, — заметил Ефранор, — ваши
рассуждения меня скорее смутили и озадачили, нежели убедили. Ведь они,
как вы сами сказали, сводят воедино многие отдельные пункты, и,
чтобы их постигнуть, требуется весьма широкий ум. А потому покорнейше
вас прошу: будьте снисходительны к моим недостаткам, позвольте мне
разобрать по частям то, что я решительно неспособен уразуметь сразу
ввиду чрезвычайной его обширности. Там же, где я не смогу идти с вами в ногу,
разрешите мне следовать за вами шаг за шагом, с доступной для меня скоростью.
Лисикл. В ваших словах есть резон: никому не под силу в одно мгновение
охватить длинную цепь аргументов.
Ефранор. Аргументы же ваши сводятся, как мне кажется, к следующему: порок
заставляет быстро обращаться деньги и поощряет промышленность, что и
обеспечивает процветание нации, не так ли?
Лисикл. Именно так.
Ефранор. Причина же, по которой порок производит подобное действие, в том,
что он стимулирует усиленное потребление товаров — а это весьма выгодно
фабрикантам и предпринимателям, ибо поддерживает постоянный спрос и высокие цены.
Лисикл. Верно.
Ефранор. Вы, следовательно, полагаете, что пьяница чрезвычайно полезен для
пивоваров и виноторговцев, поскольку способствует быстрому потреблению крепких
напитков: ведь пьет он больше, чем другие люди?
Лисикл. Несомненно.
Ефранор. Скажите, Лисикл, а кто пьет больше — больной человек или здоровый?
Лисикл. Здоровый.
Ефранор. У кого же здоровье крепче — у пьяницы или у человека трезвого и
умеренного?
Лисикл. У трезвого.
Ефранор. А значит, человек умеренный, когда он здоров, сможет выпить больше,
чем пьяница, когда тот болен.
Лисикл. Да.
Ефранор. А как вы думаете, за долгую или за короткую жизнь потребит человек
больше пищи и питья?
Лисикл. За долгую.
Ефранор. А следовательно, трезвый и здоровый человек в течении долгой жизни
способствует своей пищей и питьем обращению большего количества денег, чем
обжора или пьяница — за свою короткую жизнь?
Лисикл. И что же дальше?
Ефранор. А дальше следует, что даже при своем умеренном способе есть и пить он
окажется более полезным обществу.
Лисикл. Я никогда не признаю, что умеренность способствует потреблению
напитков.
юсЕха
Ефранор. Но ведь не станете же вы отрицать, что болезнь употребление напитков
уменьшает, а смерть и вовсе кладет ему конец? И тот же довод, насколько я понимаю,
имеет силу и по отношению ко всем остальным порокам, которые губят здоровье
человека и сокращают его жизнь. А если мы это признаем, то заслуги порока перед
обществом уже не покажутся нам столь очевидными12.
Лисикл. Допустим, что процветанию некоторых торговцев и ремесленников
трезвые и умеренные люди способствуют не хуже, чем люди порочные. Но что же нам
сказать о тех, кто живет исключительно за счет порока и тщеславия?
Ефранор. Если таковые имеются, то разве нельзя их занять по-другому - причем
без всякого ущерба для нации? Скажите, Лисикл, есть ли в природе порока самого по
себе что-либо, превращающее его в благо для общества? Или дело лишь в поощряемом
им усиленном потреблении?
Лисикл. Я уже продемонстрировал, какую пользу приносит он нации, всячески
способствуя потреблению товаров.
Ефранор. И вы согласились, что больше товаров потребляется в течении жизни
долгой и здоровой, нежели краткой и болезненной. И вы не станете отрицать, что
многие способны потребить больше, чем один, не так ли? А теперь произведите
окончательный подсчет и скажите, кто вернее поощрит прилежание и
предприимчивость своих соотечественников — окруженный многочисленным здоровым
потомством добродетельный отец семейства, который кормит и одевает сирот в округе, -- пли
светский повеса? И хотел бы я знать, разве деньги, потраченные добродетельным
образом, не обращаются столь же быстро, как и те суммы, которые ушли на нужды
порока? А если так, то — по вашему же собственному правилу - разве не принесут
они обществу столько же пользы?
Лисикл. То, что я доказал, я доказал ясно и неопровержимо, и больше здесь не
о чем толковать.
Ефранор. А по-моему, вы ровно ничего не доказали — разве только вы сумеете
убедить нас в том, что расходовать состояние, не отступая от добродетели, совершенно
невозможно. Общее благо государства, как я полагаю, заключается в численности и
хороших условиях жизни его граждан, — что вы можете на это возразить?
Лисикл. Пожалуй, ничего.
Ефранор. Что же способствует этой цели больше — мужские занятия на свежем
воздухе или малоподвижная, сидячая работа в четырех стенах?
Лисикл. Вероятно, первое.
Ефранор. А в таком случае не кажется ли вам, что земледелие, садоводство и
строительство займут людей более полезным для общества образом, чем если бы умножилось
число портных, цирюльников, парфюмеров и прочих лиц подобных профессий?
Лисикл. Со всем этим я соглашаюсь — но ведь данный аргумент обращается
против вас. Ибо что же побуждает людей строить дома и разбивать сады, как не
тщеславие? А что такое тщеславие, если не порок?
Ефранор. Но если делать это лишь ради собственного удобства и удовольствия,
соразмерно своему состоянию, без глупого хвастовства и претензий и не
преувеличивая истинную ценность этих вещей, то они уже не будут следствием порока - а откуда
вам известно, что так быть не может?
Критон. Мне же доподлинно известно следующее: самым легким средством
оживить этот вид промышленности, предоставив работу плотникам, каменщикам, кузне-
Ц^в(Г АДИ.ФР.Н ~^)^ГД
цам и прочим мастеровым, стало бы практическое осуществление счастливой догадки
одного мелкого философа. Глубокие размышления открыли ему, что сожжение города
Лондона вовсе не было бы таким уж злым делом, как это, вероятно, склонны полагать
недалекие и предубежденные люди.13 Ведь оно бы вызвало усиленный круговорот
собственности, переходящей от богачей к беднякам, и обеспечило бы работой
всевозможных ремесленников. По крайней мере, нельзя отрицать, что этот намек открыл новые
виды нашим поджигателям, и общество с недавних пор уже начало пожинать плоды
подобного открытия.
Ефранор. Я не в силах выразить свое восхищение тонкостью этой мысли.
Однако предавать ее гласности было бы, на мой взгляд, опасно.
Критон. Опасно? Для кого?
Ефранор. Во-первых, для издателя.
Критон Вы заблуждаетесь. Этот проект был опубликован и
встретил вполне заслуженное одобрение. Ибо мы с вами живем в мудрый и
счастливый век - век свободной мысли, свободной речи, свободной
печати и свободных поступков!
Ефрамор. Да как же можно печатать и практиковать подобные вещи
безнаказанно?
Критон. По правде говоря, с практической стороной дела не все бывает так гладко.
Ведь даже этих изобретательных людей постигают порою досадные неудачи. Мелкий
философ Магир почувствовал однажды страстное желание облагодетельствовать
общество, пустив в оборот имущество одного близкого родственника, которому не
хватало духу промотать его самому. И вот, исходя из вышеизложенных принципов, он
убедил себя в том, что было бы весьма достойным делом убрать с дороги это
бесполезное существо — прямым наследником которому Магир, кстати говоря, приходился. К
несчастью, однако, судья и присяжные оказались людьми дурно воспитанными и за
похвальную эту попытку приговорили Магира к повешению. Можно ли вообразить
большую несправедливость?
Ефранор. Почему — -«несправедливость»?
Критон. Но разве справедливо карать за поступки, если принципы, из которых
они прямо вытекают, общество терпит и даже приветствует? Что может быть более
несообразным, чем осуждать на практике одобряемое в теории? Истина всюду одна и
та же, и потому невозможно, чтобы нечто теоретически верное было практически
ошибочным. Известно, по крайней мере, что Магир овладел этой теорией в совершенстве и
весьма тонко излагал ее одному моему приятелю — незадолго до того, как совершил
деяние, за которое и поплатился жизнью.
Лисикл. Во всем этом хорошо уже то, что мир с каждым днем становится
умнее!, хотя, надо признать, писатели нашей секты еще не вполне стряхнули с себя
уважение к человеческим законам — как бы свободно ни поступали они по отношению
к законам божественным. Они, похоже, не осмеливаются пока на большее, чем
рекомендовать людям следовать принципу порока в душе, во внешних же действиях -
учитывать ограничения, налагаемые человеческими законами.
Критон. Великую, без сомнения, пользу принесет обществу писатель, который,
видя в человеке лишь игрушку страстей, освобождает его от всех уз совести и религии
и оставляет ему только один закон, перед которым следует испытывать уважение или
|ST^jfc(F~ Джордж Беркли ^tëJSd
страх — закон государства.] м Вы ошибаетесь, Ефранор, принимая мелких
философов за пустых теоретиков — нет, виды у этих людей вполне практические.
Ефранор. При всей моей любви к свободе я бы все же поостерегся жить среди
подобных особ: это было бы, как выражается где-то Сенека, in liber täte bel lis ас
tyrannis soeviore.15
Лисикл. A чего вы, собственно, добиваетесь, цитируя Платона или Сенеку?
Неужели вы думаете, что на людей свободомыслящих повлияет авторитет этих
старомодных авторов?
Ефранор. Но ведь и вы, Лисикл, и ваш друг не однажды цитировали писателей
новейших, этих остроумных, глубокомысленных и утонченных джентльменов,
снискавших себе громкие имена в мелкой философии, чьи заслуги, однако, мне
совершенно неизвестны. Так позвольте же и мне ссылаться на те авторитеты, которые я знаю,
авторитеты, уже много веков признаваемые всем миром.
Но оставим авторитеты в покое. Что вы сможете возразить против
свидетельств опыта? Наблюдения мои не простираются дальше
отдельного семейства, между тем некоторые мудрецы полагали, что семью
можно рассматривать как маленькое государство, а государство — как
большую семью. Вы признаете, что это так?
Лисикл. Если я скажу «да», вы сделаете какой-нибудь вывод, если
отвечу «нет» — потребуете представить основания. Так что лучше всего — вообще не
отвечать, а то, я вижу, не будет конца вопросам.
Ефранор. Откажитесь от положения, которое взялись доказывать, и конец
наступит сразу же. Но коль скоро вы желаете меня убедить, вам следует отвечать на мои
вопросы, предоставив мне право делать выводы и приводить аргументы.
Лисикл. Ну хорошо, хорошо. Допустим, я соглашаюсь, что государство можно
рассматривать как большую семью.
Ефранор. Тогда я спрошу у вас, приходилось ли вам встречать семьи,
процветающие благодаря тем порокам, которые вы считаете благодетельными для общества?
Лисикл. Предположим, что нет.
Ефранор. Но нельзя ли в таком случае на основании разумной аналогии
усомниться в том, что они приносят обществу пользу?
Лисикл. Не волнуйтесь: уже следующее поколение будет процветать и преуспевать.
Ефранор. Прошу вас, Лисикл, ответить на такой вопрос: предположим, вы
увидели новый, вам совершенно неведомый плод — посоветуете ли вы своим домашним его
съесть?
Лисикл. Нет.
Ефранор. Так почему же вы хотите испытать в вашем государстве принципы
поведения, никогда не принимавшиеся ни в одной стране?
Лисикл. Но ведь где-то опыт должен начаться, и мы твердо решили, что слава и
выгоды этого эксперимента подобают именно нашему отечеству.
Ефранор. Ах, Лисикл! Разве старая добрая Англия не обходилась долгие века без
помощи ваших теорий?
Лисикл. Обходилась.
Ефранор. И выглядела совсем недурно?
Лисикл. Согласен.
Ефранор. Тогда зачем же вы подвергаете ее этому рискованному опыту, если
вполне очевидно, что она может прожить и без него?
Лисикл. По мы хотим, чтобы она жила еще лучше. Мы желаем произвести в ней
такие перемены, которых не знала еще ни одна нация.
Ефранор. Саллюстий пишет и\ что незадолго до падения римской славы и величия
скупость (следствие роскоши) уничтожила старые добрые принципы честности и
справедливости, породила презрение к религии и все вокруг сделала продажным; между тем
честолюбие повлекло за собою лицемерие и притворство, заставив граждан
объединяться в клубы и партии — и не из каких-либо благородных побуждений, но из узких,
эгоистических видов. Тот же историк,7 сообщает о знаменитом вольнодумце Катилине, что
последний всячески стремился втереться в доверие к молодым, не умудренным опытом
и годами людям, чьи незрелые умы проще было обольстить и обмануть. Не знаю отчего,
но эти отрывки не однажды приходили мне на ум в течение нашей ι беседы.
Лисикл. Ваш Саллюстий был педант и нудный моралист.
Ефранор. Но обратитесь к любому другому историку или писателю, узнайте,
к примеру, что рассказывают о Спарте и Риме Ксенофонт и Ливии, и потом скажите,
не является ли порок вернейшим средством привести народ к упадку и порабощению.
Лисикл. Если вопрос ясен сам по себе, то обращаться к древним авторам нет
никакой надобности.
Критон. Для того чтобы постичь суть вещей, требуются глубокий ум и тонкая
наблюдательность. И однако тот, кто с превеликим трудом пробился к истине, может
легко сообщить ее другим. А потому я сейчас в двух словах (о чем ваши древние
авторы и не мечтали) растолкую вам подлинные причины упадка этих держав. Знайте
же: когда добродетель и порок — начала противоположные и несогласные —
действуют в государстве одновременно, они производят взаимно противоречащие следствия, а
этот внутренний* разлад и междоусобица неизбежно влекут за собою разложение и
гибель целого. Однако вот в чем заключается остроумный замысел наших мелких
философов: сделав людей порочными из принципа (нечто, древним неведомое), так
ослабить и подорвать силу добродетели, чтобы действие ее уже совершенно обществом
не ощущалось. А в таком случае чистый и первозданный порок, не испорченный
какой-либо примесью добродетели, действует уже без всяких стеснений и помех со cto*j
роны нравственных принципов — и нация, без сомнения, приходит к величайшему
триумфу и процветанию.
Ефранор. В самом деле, проект благородный.
Критон. И к тому же имеющий неплохие виды на успех. Ведь наши молодые
знатоки мелкой философии, коим выпала редкая удача получить новейшее
воспитание, теперь уже совершенно свободны от ханжества и предрассудков, чем они
бесконечно превосходят старых адептов и сторонников своей секты, — последние, будучи,
должно признать, людьми замечательных способностей, имели, однако, »несчастье
впитать в детском возрасте известные религиозные представления, от которых
впоследствии так и не сумели избавиться вполне: они по-прежнему сохраняют какие-то крохи
совести и суеверия, — что даже на величайшего гения накладывает путы. В
доказательство приведу следующую историю. Однажды старый Демодик, прославленный
мелкий философ, пришел домой после разговора о делах с Тимандром (юным
джентльменом из той же секты) в совершенном изумлении. "Я удивился, — рассказывал он
потом, - когда обнаружил в столь молодом человеке такого законченного негодяя».
IS^^tP^ Джордж Беркли ^)^^Γ3Ι
И — такова уж прискорбная власть предрассудка! — он говорил о Тнмандре с
омерзением, не приняв, однако, в расчет, что тот был всего лишь более последовательным н
глубоким философом, чем сам Демодик.
Ефранор. Свободное от предрассудков воспитание нынешней
молодежи внушает, разумеется, великие надежды - однако счастья
полного и устойчивого не приходится ожидать до тех пор, пока чистый и
беспримесный порок не добьется окончательного господства; пока же
следует весьма опасаться рискованной борьбы порока с добродетелью:
как бы это противостояние не разрушило наше государственное
устройство точно так же, как оно уже успело погубить другие.
Лисикл. Не велика беда — если лучшее придет ему на смену. Мы уже очистили
нашу страну от всех предрассудков в отношении правительства и законов, заставив эти
предрассудки, как и прочие призраки, бесследно исчезнуть перед светом разума и
здравого смысла. И глубокие мыслители не в силах уразуметь, почему это власть не
должна переходить из рук в руки, подобно собственности, или почему форма
правления не может меняться так же легко, как форма платья. Ведь именно вечный
круговорот и постоянная циркуляция богатства и власти — неважно, каким образом и через
чьи руки — поддерживает в государстве жизнь и бодрый дух. И те, кто хоть немного
сведущ в нашей философии, знают, что самый глупый из предрассудков — это слепая
привязанность к формам.
Критон. А чтобы покончить с этим столь ясным предметом, замечу: свержение
правительства можно оправдать теми же принципами, что и поджог города; притом
они повлекут за собою сходные последствия и будут равно благотворны для общества.
В обоих случаях приводятся в действие естественные побуждения и инстинкты, и что
один в этой кутерьме теряет, то приобретает другой, — а в итоге быстрый круговорот
власти и собственности обеспечивает процветание целого.
Ефранор. И что, мелкие философы подобные проекты публикуют?
Лисикл. Надо признать, что предметы политические наши авторы находят
нужным трактовать с большей осмотрительностью, нежели вопросы религиозные.
Критон. Но все эти вещи ясно вытекают из их принципов, и потому их необходимо
считать подлинным учением секты — изложенным, может быть, с большей свободой и
определенностью, чем это подсказывает благоразумие тех, кто желал бы все-таки не
оскорблять немощных братьев и вести себя с публикой поосторожнее.
Ефранор. А скажите на милость, разве подобная осмотрительность не нужна?
Ведь бунтовщик и поджигатель — это особы, против которых существует
предрассудок у многих людей.
Лисикл. Да каких только нелепых предрассудков нет у глупцов всех званий и
сословий!
Ефранор. Однако не кажется ли вам, что и люди выдающиеся, например,
государственные мужи и законодатели, питают подобное же отвращение к вашим принципам?
Лисикл. Возможно — но причина того вполне очевидна.
Критон. Я только что вспомнил одного остроумного философа — картежника
Главка. Он имел обыкновение говорить, что государственные мужи и законодатели
могут сколько угодно шуметь о добре и зле, о справедливом и несправедливом, -
однако собственность всякого рода так часто ускользала из ρνκ истинных владельцев
вследствие обмана или насилия, что теперь уже ее надлежит считать как бы общей, а
потому у каждого, кто сумеет ею завладеть, будут равные на нее права.
Ефранор. И что же прикажете думать о законах и установлениях, относящихся к
справедливому и несправедливому, к преступлениям и обязанностям?
Лисикл. Они служат лишь для того, чтобы связывать слабые умы и держать в
страхе чернь — но как только восстает истинный гений, он тотчас же пробивает себе
дорогу к славе и величию, он рвет все эти путы долга, совести, религии и законов,
обнаруживая свое бесконечное над ними превосходство!,8
Ефранор. Вы, похоже, стоите за полную и всеобщую реформацию?
Лисикл. Касательно того, что обыкновенно именуют Реформацией,
скажу: я не вижу, как и в чем мир от нее выиграл. Ведь это тот же самый
папизм, с одним лишь различием: Реформация есть нечто более
чопорное и неприветливое на вид. И один наш знаменитый писатель делает ей
слишком много чести, полагая, что польза от Реформации и от юбок с
кринолином примерно одинакова.19 Полная реформация — это абсолютная свобода.
Предоставьте лишь природе полную власть действовать, как она хочет, — и все будет
прекрасно. В этом наш принцип и наша цель, и ни на что меньшее мы не согласимся!
Услышав эти слова, Критон, ревностный протестант, не мог сдержаться:
- Самое вредцое действие Реформации в том, что она избавила порочных людей от
тьмы, некогда внушавшей им благоговейный страх, и, как это стало очевидно
впоследствии, осветила дорогу грабителям и убийцам. По природе своей свет есть благо« и тот
же самый свет, который обнаруживает безрассудство суеверия, может явить нам истину
религии и безумие атеизма. Но использовать свет лишь для того, чтобы, обнаружив
недостатки на одной стороне и не желая замечать ничего другого, слепо бросаться в
противоположную крайность, еще более скверную, — значит заставить прекраснейшую из
вещей порождать зло — в том же самом смысле, как, по вашим утверждениям, зло может
производить добро, а именно случайно или косвенным образом. Подобными доводами
можно доказать, что даже болезни заключают в себе благо, — но ведь какую бы пользу
ни приносили на первый взгляд обществу болезни дух и тела, польза эта не является их
истинным, природным следствием и может быть получена и без их помощи.
Лисикл был слегка озадачен решительным тоном собеседника, однако, после
короткого замешательства бодро ответствовал:
- Не каждому дано постигнуть, в чем заключается благо общества.
- Это уж точно, — заметил Ефранор, — и я совсем не уверен, что каждый может
составить истинное представление о благе общества, а тем более о том, какие средства
ему способствуют.
Но вы-то, Лисикл, овладели этим предметом вполне, и потому не
откажетесь мне сообщить, предполагает ли общее благо нации благо
отдельных лиц?
Лисикл. Предполагает.
Ефранор. Но не в том ли заключается благо или счастье человека,
чтобы душа и тело его пребывали в хорошем и здравом состоянии,
наслаждаясь тем, что требует их природа, и освободившись от того, что для нее вредно
или отвратительно?
ш
|5Tfé§fe(F~ Джорд« Беркли ^)»^^ГЯ
Лисикл. Я не отрицаю, что все это именно так.
Ефранор. А теперь, как мне кажется, стоит рассмотреть, не способствует ли этой
цели скромная и порядочная жизнь добродетельного человека так же хорошо, как и
дикие выходки невоздержности и разврата.
Лисикл. Я допускаю: нация в таком случае может кое-как жить, едва поддерживая
собственное существование — однако прийти к процветанию без помощи порока ей
будет невозможно. Ведь для оживленной торговли и быстрого обращения капиталов
нужны бурные движения страстей и вожделений.20
Ефранор. Чем многолюднее государство и счастливее его граждане, тем более
процветающим мы это государство назовем. Полагаю, в этом пункте, мы с вам согласны?
Лисикл. Да.
Ефранор. И вы, стало быть, признаете, что богатство не является конечной целью,
но должно рассматриваться лишь как средство для достижения счастья?
Лисикл. Признаю.
Ефранор. А значит, средство окажется совершенно бесполезным, если мы не
знаем ни самой цели, ни того, как данное средство применить ради ее достижения?
Лисикл. Похоже, так.
Ефранор. А не вытекает ли отсюда следующее: для того чтобы сделать нацию
процветающей, недостаточно сделать ее богатой — если мы при этом не знаем, в чем
состоит истинная цель и счастье человечества, и каким образом надлежит
использовать богатство ради подобной цели? И чем лучше будем мы это знать в теории и
осуществлять на практике, тем вернее обеспечим процветание нации. Зато народу,
ничего этого не знающему и не умеющему, стяжать великие богатства было бы так же
выгодно, как больному человеку — натолкнуться на изобилие еды и питья,
использовать которое он может лишь во вред себе самому.
Лисикл. Все это жалкая софистика, не способная никого убедить. Взгляните
лучше на реальную жизнь, исследуйте обычные стремления людей, примите во внимание
то, в чем согласен весь свет — и вы быстро поймете: для счастья и процветания нации
ничего, кроме богатства не требуется. Дайте его людям — и они уже сами сделают себя
счастливыми без этого хитрого изобретения, этой выдумки философов и политиков,
именуемой добродетелью!
Ефранор. Так по-вашему, добродетель — это хитрая уловка
государственных деятелей?
Лисикл. Именно так.
Ефранор. Тогда почему же проницательные ваши единоверцы
разглашают и выдают эту уловку и государственную тайну, которую
люди мудрые сочли необходимой для разумного управления
мирскими делами?
Лисикл заколебался, и вместо него ответил Критон:
— Я полагаю — потому, что члены этой секты мудрее всех прочих мудрецов, н их
возмущает то обстоятельство, что миром правят ложные принципы. Вот они и решили
привести все вокруг в соответствие с истиной.
Ефранор. А между тем совершенно очевидно, что если мы рассмотрим все
прежние формы государственного устройства или же политические сочинения тех, кто до
сих пор слыли мудрецами, то обнаружим глубокое уважение к добродетели.
коса
Kté^tF ΑΛκ,φρο, ^D^TJ
Лисикл. Обнаружите вы лишь сильное влияние предрассудков, но если вам угодно
найти истину и природу, то обратитесь, как я уже говорил, к мнению большинства.
Ефранор. Однако не в почете ли добродетель среди сельских джентльменов,
крестьян, лучших людей из числа ремесленников и торговцев?
Лисикл. Авторитеты свои ищете вы среди людей низких по происхождению и
воспитанию.
Ефранор. А нам, вероятно, следовало бы почтить должным уважением авторитет
мелких философов?
Лисикл. Хотелось бы мне знать, чей же авторитет следует ставить выше авторитета
тех джентльменов, которые одни среди всех сумели возвыситься над предрассудками
и начали мыслить самостоятельно?
Ефранор. Но из чего же явствует, что лишь вы одни свободны от предрассудков?
Разве мелкий философ, как и всякий иной человек, не может быть предубежден в
пользу вождей собственной секты? И неужели атеистическое воспитание не в силах
расположить человека в пользу атеизма? Что же мешает нам обзавестись
предрассудками против религии с таким же успехом, как и предрассудками религиозными? Или
вы укажете какую-нибудь причину, по которой мы не вправе считать, что преданность
наслаждениям, эгоизм, порок или тщеславие внушают человеку предрассудок против
добродетели?
Лисикл. Забавно! Да неужели вы полагаете, что предрассудку подвержены ге
самые люди, которые ведут с ним нескончаемую борьбу; люди, чья неизменная цель в
том и состоит, чтобы обнаруживать и разрушать предрассудки всякого рода?
— Кроме своих собственных, — добавил Критон, — прошу прощения., но я не в
силах избавиться от мысли, что у подобных людей все же имеются кое-какие
маленькие предрассудки — хотя и не в пользу добродетели.
Кажется, вы, Лисикл, согласились с Ефранором в том, что чем
больше в государстве счастливых граждан, тем более процветающим
надлежит считать государство. А следовательно, системы и принципы,
способствующие росту народонаселения, полезны для общества, те же,
которые уменьшают число граждан — вредны. И, пожалуй, излишне
было бы напоминать, что сила государства заключается прежде всего в
численности и достоинствах его граждан. Но чем шире распространяются среди нас порок
и роскошь — эти два великих блага для общества, поощряемые мелкой философией, —
тем меньше остается охотников вступить в брак: слишком многих отвлекают
удовольствия, лишают сил болезни и отпугивают расходы. И ведь порок не только уменьшает
численность нации, но и портит ее, приводя к появлению на свет хилого и выродившегося
потомства. Добавлю, что он несет разорение нашим промышленникам: во-первых,
повышая стоимость труда, он позволяет более умеренным и экономным соседям, продающим
свой товар дешевле, вытеснять нас с рынка21 ; во-вторых, отвлекая простой народ от
честных занятий, порок толкает его на предприятия злые и безнравственные. Если учесть
эти и им подобные соображения, то, я полагаю, всякому, кто еще не утратил разум,
станет ясно, что воображаемая польза порока несоразмерна тому действительному и вполне
осязаемому злу, который он за собою влечет.
Лисикл покачал головой и улыбнулся Критону, однако ответом его не удостоил.
Затем он обратил свою речь к Ефранору:
— Не найти предрассудка более поразительного, чем то почтение, которое в наши
просвещенные времена иные все еще сохраняют по отношению к идолу Добродетели,
столь превосходно разоблаченному и столь безжалостно поверженному в прах
умнейшими людьми века. Ведь они доказали, что человек — это обыкновенный автомат,
движимый и управляемый чувственными объектами, а моральная добродетель - это
всего лишь слово, звук, идея, химера, в лучшем случае, мода, столь же непостоянная
и переменчивая, как и все прочее.
Ефранор. А что вы, Лисикл, скажете о человеческом здоровье? Зависит ли оно от
прихоти и каприза — или это нечто действительное, заключенное в телесной
конструкции человека?
Лисикл. Здоровье есть нечто действительное, обусловленное надлежащим
устройством и температурой физических органов, а также правильной циркуляцией
жидкостей между ними.
Ефранор. В этом, по-вашему, и заключается здоровье тела?
Лисикл. Да.
Ефранор. Но не вправе ли мы назвать здоровой душу, если ее идеи истинны,
суждения — верны, воля — сообразна закону, а страсти и влечения, направляемые к
надлежащим объектам, удерживаются в должных границах? Для души это то же
самое, что и физическое здоровье — для тела. И разве человека, чья душа устроена
подобным образом, мы не зовем по всей справедливости «добродетельным»? И не
должен ли всякий порядочный человек прилагать усилия к тому, чтобы вызвать это
здоровое расположение духа и у своих сограждан? И если все это хоть немного
похоже на правду (а на мой взгляд, так оно и есть), то в таком случае далеко не очевидным
является утверждение, будто добродетель есть простой каприз или мода, как бы вам
было угодно ее представить, — и, должен признаться, несколько неожиданно после
того, что было сказано во вчерашней беседе: ведь пожелай вы это припомнить, мы,
вероятно, были бы избавлены от лишних хлопот.
Лисикл. Хотите ли знать правду, Ефранор? Так вот, признаюсь вам, что я напрочь
забыл все ваши рассуждения о добродетели, долге и тому подобных материях,
которые по причине своей туманной, умозрительной природы быстро улетучиваются, не
оставляя никаких следов в разуме, привыкшем получать впечатления от одних только
реальных вещей.
Услышав эти слова, Ефранор посмотрел на нас с Критоном и,
улыбнувшись, заметил: "Я неверно понял свою роль — ведь это мне
подобало учиться, ему же — поучать." А затем, обращаясь к Лисиклу,
сказал: иДавайте начистоту, Лисикл: скажите по совести,
общественная ли польза порока превращает вас в его защитников?"
Лисикл. Что ж, я люблю высказывать свои мысли напрямик.
Знайте же: первое и самое важное, что принимают в расчет философы нашей школы, есть
личный интерес. Из всех же интересов и выгод самыми неотразимыми чарами
обладают удовольствия, а лучшие из удовольствий — это те, которые оживляются и
поощряются вольностью нравов. В том и состоит особое совершенство наших принципов, что
они учат людей служить отечеству, развлекая самих себя, и тем самым сливают
воедино два потока, — дух гражданственности и эгоизм — заставляя их двигаться в одном
русле. Я уже признал, что нация, вероятно, сумеет кое-как просуществовать, следуя
всЕха
правилам добродетели. Но позвольте заметить, это будет одно лишь голое
существование, унылое и пресное, — зато славные излишества порок наполнят души граждан
радостью и весельем. А если наслаждаются отдельные лица, то и общество, из них
состоящее, будет радоваться и наслаждаться. Аргумент, по-моему, неопровержимый.
Но чтобы продемонстрировать всю его силу и сделать его как можно более очевидным,
я начну с самых основ. Счастье — вот цель, к которой стремятся от рождения все
твари; между тем мы видим, что все живые существа — и люди, и звери — более всего
стремятся по природе своей к реальным и осязаемым наслаждениям чувств, а потому
именно в этих наслаждениях и следует видеть их высшее благо, истинную цель и
подлинное счастье. Ради этого люди и живут, и кто постиг жизнь, должен будет
признать, что наслаждается ею совершеннейшим образом тот человек, который способен
ценить и испытывать тончайшие наслаждения, а вместе с тем обладает мужеством,
опытом и состоянием, достаточными для того, чтобы удовлетворять все свои вкусы и
давать полную волю всем своим склонностям. Скряги и глупцы станут ему завидовать
и возводить на него клевету — ибо не в силах с ним сравниться. Отсюда вся эта
высокопарная дребедень, эти жалкие потуги умалить то, чем каждый, будь это возможно,
желал бы обладать — абсолютную свободу и безграничное наслаждение.22
Ефранор. Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял. Итак, вы говорите, что
величайшие из удовольствий — это удовольствия чувственные?
Лисикл. Именно.
Ефранор. А добродетель их стесняет и ослабляет?
Лисикл. Да.
Ефранор. Скажите, Лисикл, тогда ли достигает удовольствие высшей степени,
когда склонности и страсти удовлетворены вполне?
Лисикл. Нет, здесь мы имеем лишь вялое безразличие, поскольку живое и острое
наслаждение уже позади.
Ефранор. Выходит, для того чтобы удовольствие было ярким и живым, наши
вожделения должны постоянно оставаться неудовлетворенными до конца?
Лисикл. Именно так мы это себе и представляем.
Ефранор. А значит прав был греческий философ, когда рассматривал тело
человека, преданного удовольствиям, как дырявый сосуд, вечно наполняемый и никогда не
полный.2'*
Лисикл. Если угодно, можете забавляться аллегориями. И все же именно мы
постигли истинный вкус природы. Посмотрите на вселенную — и вы обнаружите, что
птицы и рыбы, звери и насекомые — словом, все виды животных, коими изобилует
творение, следуя собственному инстинкту, непрестанно стремятся к чувственным
наслаждениям. Так неужели один лишь человек станет мрачным глупцом, который
подавляет свои страсти и идет наперекор влечениям в то самое время, как его собратья по
творению удовлетворяют их радостно и свободно?
Ефранор. Как же так, Лисикл! А я-то думал, что находиться во власти ощущений,
вожделений и страстей значит испытывать рабство самое тягостное, и что задача
свободомыслящих, или философов, в том и состоит, чтобы освободить людей из-под
власти алчности, честолюбия и чувственности!
Лисикл. Вы не поняли, в чем суть дела. Ведь мы, свободомыслящие, помогаем
человеку наслаждаться жизнью и внушаем ему правильное понимание собственного
интереса — чтобы он, не страшась Бога и без оглядки на людей, предавался самым
ВОД
Е^ЙГ" Д».РД« Берклн "^féSgSd
ярким и роскошным удовольствиям. Мы презираем скучных моралистов,
стремившихся отравись и испортить радости и утехи человеческой жизни. Мы утверждаем,
что если мудрец и берется за какие-то дела, то лишь ради собственной выгоды,
выгоду же свою соотносит с удовольствием. Человек должен ловить ускользающие
мгновения — таков наш принцип. И потому без вина и любви, без игры и ночных
забав человеку и жить не стоит. Я, впрочем, признаю, что в пороках людей низких и
в самом деле есть нечто грубое и вульгарное, внушающее отвращение изысканным
философам.
Критон. Но если жульничать, предаваться разврату, напиваться пьяным,
совершая все эти вещи приличным и благопристойным образом, то это и будет истинная
мудрость и изящество вкуса.
Ефранор. Мне, человеку привыкшему к иному образу мыслей,
новую эту философию переварить нелегко. И потому позвольте
исследовать ее принципы с той же свободой, с какой вы исследуете принципы
прочих школ.
Лисикл. Не возражаю.
Ефранор. Вы, если не ошибаюсь, сказали, что мудрец преследует
лишь собственный интерес, интерес же этот заключается в чувственном удовольствии,
в доказательство чего вы ссылаетесь на природу. Не это ли вы утверждаете?
Лисикл. Именно это.
Ефранор. И вы, стало быть, заключаете, что поскольку всеми остальными
животными движет природный инстинкт, то и человек должен следовать велениям
склонностей и ощущений?
Лисикл. Да.
Ефранор.! Но не утверждаете ли вы тем самым, что других руководителей, кроме
природных вожделений и чувственности, у человека нет? — при каковом
предположении в ваших словах, возможно, и есть истина. Но что, если человек одарен разумом и
интеллектом, если ему врождены высшие стремления и доступна более достойная
жизнь? Если так — а между тем вы, будучи человеком, живете как скотина, - то не
лишаетесь ли вы истинного своего счастья? Не ждет ли вас разочарование и позор?
Посмотрите на животных и вы обнаружите, что большинству из них выпала большая
доля чувственных удовольствий, нежели человеку.
Лисикл. К несчастью, нам это известно. И потому некоторые джентльмены из
нашей секты завидуют животным, оплакивая судьбу рода человеческого.
Критон. Подобные соображения и внушили однажды Эротилу похвальное
желание превратиться в улитку — когда услыхал он о некоторых занятных подробностях
из жизни этой твари, открытых одним новейшим ученым.
Ефранор. Скажите, Лисикл: если бы у вас был неистощимый запас золота и
серебра, разве позавидовали бы вы тому, у кого имеется чуть больше меди?
Лисикл. Нет.
Ефранор. Но не являются ли разум, воображение и ощущение такими
способностями, которые различаются по природе и не равны по совершенству?
Лисикл. Я этого не отрицаю.
Ефранор. А значит, и действия этих способностей отличны по своему роду?
'Лисикл. Да.
Ефранор. Следовательно, и удовольствия, сопровождающие эти действия, также
различны?
Лисикл. Верно.
Ефранор. Итак, вы признали три вида удовольствий: удовольствия разума,
удовольствия воображения и удовольствия чувственные?
Лисикл. Признал.
Ефранор. А поскольку можно с основанием считать, что деятельность высших и
благороднейших способностей сопровождается удовольствием более высоким, то не
вправе ли мы уподобить первые два вида удовольствий золоту и серебру, последнее
же - всего лишь меди? А отсюда, похоже, следует, что человеку нет кужды
завидовать или подражать животному.
Лисикл. И тем не менее некоторые люди — и весьма остроумные — это делают. В
конце концов, каждый волен судить о том, что ему нужно и в чем состоит истинное его
счастье.
Ефранор. Но не очевидно ли, что разным животным свойственны различные удо-
вольстоия?21 Вытащите свинью из канавы или навозной кучи, перенесите ее на
роскошное ложе, ублажайте сладостями, музыкой, духами — никакой радости это ей не
доставит. Разве птицы, звери и рыбы не развлекаются различным образом — и
настолько различным, что удовольствие для одних принесет смерть другим? Видел ли
кто-нибудь, чтобы какое-то из этих животных покидало свою стихию или оставляло
свой образ жизни ради чего-то чуждого? Так подобает ли человеку отрекаться от
собственной природы ради подражания зверю?
Лисикл. Но ведь ощущение свойственно не одним только животным — разве не
является оно естественным и для человека?
Ефранор. Так - но с одним различием: животные не знают ничего другого,
между тем для человеческой души — это лишь низшая ее часть или способность.
Ведь сущностью называем мы всегда ту характерную особенность, которая отличает
данную вещь от прочих, а вовсе не то, что имеется у них общего. Вы признаете, что
это верно?
Лисикл. Признаю.
Ефранор. И не в разуме ли заключается главнейшее отличие человека от
животных?25
Лисикл. В разуме.
Ефранор. А коль скоро разум — высшая способность человеческого естества,
то самое разумное и будет, пожалуй, для человека самым естественным. Не
должны ли мы в таком случае удовольствия разума считать более согласными с
человеческой природой, нежели удовольствия чувственные?20 И если природа у
человека и у зверя различна, то их способности, наслаждения и доступные им
виды счастья также различны. Вы ясно понимаете, что образ жизни, делающий
счастливым крота или летучую мышь, стал бы для орла весьма жалким
существованием. Так неужели вы не в силах уразуметь, что счастье животного никогда не
станет истинным счастьем для человека? Ведь животное лишено самосознания и
совести, предвидения и стремления к бессмертию; нет у него представления о
грехе, добродетели, законе, нет разума и способности к познанию! Так какие же
основания, какие причины могут быть к тому, чтобы человека, обладающего
всеми этими качествами, низводить до уровня подобного существа? Какие свойст-
К^ЙЙР Джордж Беркли ^}^ГЗ
ва, какие стремления мелкого философа побуждают его превращать животное
существование в образец и правило для человеческой жизни?
Лисикл. Весьма странно, что человек, признающий, подобно вам,
Ефранор, свободу мысли, по-прежнему пребывает в такой рабской
зависимости от предрассудков. Вы все еще толкуете о порядке и
добродетели как о чем-то реальном — как будто наши философы не доказали,
что эти вещи не имеют основания в природе и являются всего лишь
результатом воспитания.
— Мне хорошо известно, — сказал Критон, — каким образом мелкие философы
доказывают этот пункт. Они рассматривают животную природу человека, т.е.
человека в той мере, в какой является он животным, — и надо признать, что если
рассматривать его лишь в этом свете, то у человека и в самом деле нет ни чувства долга, ни
понятия о добродетели. А значит, тот, кто станет искать добродетель среди
обыкновенных животных или же людей, поскольку они животные, пойдет по ложному пути. И
все же философ, внимательный лишь к животной части своего существа и строящий
свои теории, глядя на самые отбросы рода человеческого, по зрелом размышлении,
вероятно, обнаружит собственную ошибку.
— Послушайте, Критон, — вмешался Лисикл, — я веду спор не с вами, а с Ефра-
нором, — и обратившись к последнему, повел такую речь:
— Я замечаю, Ефранор, что вы уж слишком напираете на достоинства
человеческой природы. Это ваше «достоинство» есть старое, изношенное понятие, зависящее от
других представлений, столь же избитых, устаревших и банальных — вроде
нематериального духа или искры Божьей в человеке. В наше время, однако, разумные люди
уже смеются над всем этим «величием» и «достоинством», и немало таких, кто охотно
променял бы свою долю подобных прелестей ради покоя, свободы и чувственных
удовольствий животного. Впрочем, сравнение — не доказательство, и потому, отложив в
сторону все исследования касательно достоинств человека и животного, касательно
того, подобает ли человеку подражать животным в суждении о высшем благе, в образе
жизни и поведении, — оставляя все это в покое, я удовольствуюсь тем, что для
доказательства истинности моих мнений сошлюсь на авторитет самих же людей.
Оглянитесь вокруг, спросите у обыкновенного человека, не является ли чувственное
удовольствие тем единственным подлинным, прочным и реальным благом, которое доступно
его природе?
Ефранор. Но разве та же самая толпа, на которую вы ссылаетесь, не предпочтет
вывеску над лавкой картине Рафаэля? Или какую-нибудь балладу с Граб-стрит27 -
оде Горация? И разве не существует никакого реального различия между хорошим и
дурным слогом?
Лисикл. Существует.
Ефранор. И однако вы согласитесь, что потребуются зрелый ум и развитый вкус,
чтобы уловить это различие — отчего последнее не становится менее реальным?
Лисикл. Соглашусь.
Ефранор. А если так, то почему же тогда и в природе вещей не может
существовать действительное различие между добродетелью и пороком — пусть даже нам
понадобится некоторое размышление и проницательность, чтобы его заметить? И
чтобы узнать, соответствует ли нечто разумной природе человека, нам, пожалуй, следует
обращаться к тем, кто более других усовершенствовал свой разум и лучше его
использовал.
Лисикл. Ну хорошо — я больше не настаиваю на том, что за советом нужно
обращаться к толпе. Я ведь и сам во многих случаях сослался бы на людей знатных и
светских, а не на грубую и невежественную чернь.
Ефранор. Я не имел чести основательно узнать эту породу людей из
собственных наблюдений. Однако я припоминаю одно замечание Аристотеля, который сам
был придворным и хорошо этих особ знал. "Добродетель и здравый ум, —
говорит он,* - не являются привилегией высокого происхождения и большого
богатства. И если те, кто, обладая подобными преимуществами, но не имея вкуса к
удовольствиям разума, предаются наслаждениям чувственным, то нам не следует
по этой причине предпочитать последние — точно так же, как не станем мы
предпочитать игрушки и забавы детей только потому, что сами они так поступают."
И в самом деле, позволительно усомниться в том, что понимание истинной
ценности вещей нужно искать у тех, чей разум опьянен роскошью и ослеплен
блеском светской жизни.
Cum st υ pet insanis acies fu Igor i bus, et cum
Acclinis falsis animus meliora récusât. Ног.'29
Тут Критон заметил, что он знаком с английским аристократом, который, находясь
в расцвете сил, занимается одним из свободных искусств, будучи в своей области
первым человеком в мире, и что он, Критон, вполне убежден в том, что подобные
утонченные занятия приносят этому человеку больше радости, чем любое чувственное
удовольствие, которое только может быть доступно обладателю одного из крупнейших
состояний и самых щедрых характерно Великобритании.30
Лисикл. Однако зачем же нам в столь ясном вопросе обращаться к
чужому мнению? Я ссылаюсь на вашу совесть: спросите самого себя —
а потом скажите, не является ли чувственное удовольствие высшим
благом для человека?
Ефранор. Что до меня, то мне не однажды приходила в голову
следующая мысль: те удовольствия, которые сенсуалисты почитают за
величайшие, настолько далеки от высшего блага, что можно, кажется, усомниться в
том, являются ли они удовольствиями вообще — будучи всего лишь простым
избавлением от страдания. Разве наши потребности, влечения и желания не причиняют нам
беспокойство?
Лисикл. Согласен.
Ефранор. И не в удовлетворении ли этих желаний состоит чувственное
удовольствие?
Лисикл. Именно.
Ефранор. Но вожделения утомительны, удовлетворение — кратковременно. Не
так ли?
Лисикл. Так. И что же дальше?
* Ethic, ad Nicom. Lib. X. c.VI.3»
ECEX2
JTféi&F^ Джордж Беркли ^1^Д
Ефранор. А дальше, похоже, следует, что чувственное удовольствие есть лишь
мимолетное избавление от длительных страданий. Долгий путь тревог и забот
приводит к крохотному мгновению удовольствия, за которым наступают отвращение и
раскаяние.
Критон. А тот, кто гонится за этими ignis fatuis31, воображает себя философом и
свободомыслящим.
Лисикл. Педантами управляют слова и умозрения — зато любители удовольствий,
люди более мудрые, следуют фактам, ощущениям и природе!
Критон. Но что вы скажете, если эти «умозрительные* удовольствия вдруг
окажутся самыми прочными и реальными? Ведь чистые наслаждения разума и
воображения не вредят нашему здоровью, не расточают состояние и не терзают совесть. Душа
может предаваться им долго — и не испытывать при этом скуки или пресыщения.
С другой стороны, мысль (для вас это, похоже, сущий пустяк) часто отравляет самые
живые чувственные удовольствия, которые, оказывается, зависят от мысли сильнее,
чем вы себе воображаете: ведь давно уже замечено, что надежда и мысленное
предвкушение приносят нам больше удовольствия, чем само обладание. Итак, мы признали,
что действительное (actual) удовольствие мимолетно, а чередование желания и
пресыщения длительно и тягостно. И в итоге получается, что джентльмены, именуемые из-
за их безудержного стремления к наслаждениям «любителями удовольствий», — эти
господа, говорю я, ценою огромных трат здоровья, спокойствия и денег приобретают
лишь страдание.
Лисикл. Можете и дальше плести свои правдоподобные аргументы, однако вам
будет непросто убедить меня в том, что такое множество умных людей не в состоянии
отличить такие прямо противоположные вещи, как удовольствие и страдание. Как же
это объяснить?
Критон. Полагаю, этому можно отыскать разумное основание, но ведь для
любителей удовольствий нет более усладительной истины, чем басня. Юпитер некогда
повелел, чтобы в каждой человеческой жизни удовольствие и страдание были смешаны в
равной пропорции. И вот однажды, услыхав жалобы на то, что некоторые, пытаясь
разъединить им соединенное, брали себе большую, чем положено, долю сладкого, а
все горькое оставляли другим, Юпитер приказал Меркурию покончить с этим
безобразием, дав каждому преступнику невидимые очки, которые изменили бы внешний
облик вещей, заставив страдание казаться наслаждением, а наслаждение — страданием,
труд — развлечением, а развлечение — трудом. И с той поры люди, преданные
наслаждениям, без конца ошибаются, а потом сожалеют о своих ошибках.
Лисикл. Если ваша доктрина справедлива, то, хотел бы я знать, в чем же тогда
выгода и польза большого богатства, к которому так жадно стремится весь род
людской.
Критон. Евкрат обыкновенно говорил: "Большое богатство — это обоюдоострый
меч, и из сотни человек, которые его найдут, лишь один сумеет использовать — до
такой степени искусство приобретать легче искусства тратить". В чем состоит польза
богатства, я не рискну сказать, но осмелюсь сообщить, в чем она не заключается.
Уверен: где изобилие исключает всякий недостаток, а удовлетворение опережает
желание, там нет и в помине тех живых наслаждений, о которых мы с вами говорили, — и
лакей часто имеет большую долю удовольствий, чем его хозяин, ведь последний не
способен увеличить собственный желудок соразмерно своему состоянию.
Мне кажется, что разумные и хорошо образованные люди всех
сословий имеют, несмотря на различия в благосостоянии, примерно
одни и те же удовольствия, — однако те, кто был удостоен особого
имени «любителей удовольствий», получают этих самых
удовольствий не так уж много.
Ефранор. Я слыхал, что первейшим развлечением среди подобных
людей почитается игра в карты.
Лисикл. Это так — светскому человеку без карт не прожить. Ведь это самый
восхитительный способ скоротать вечер для тех дам и кавалеров, которые иначе не знали
бы, куда себя деть и о чем разговаривать. Однако карточная колода обладает столь
великой силой, что она не просто занимает собравшихся в одном месте людей, но
влечет их друг к другу и сливает воедино. В унылые часы дня кадриль утешает их
перспективой вечернего удовольствия, о ней с наслаждением мыслит их ум, — когда
же она позади, то у людей света остается неистощимый предмет для разговоров.
Критон. А ведь можно подумать, что знатные особы проводят время весьма
тягостно и что немного пользы приносит им богатство, — коль скоро их первейшее
развлечение доступно всякому носильщику и лакею, который способен получить наслаждение
от карточной игры точно так же, как и лорд. Я могу без труда понять, что когда
известного склада люди собираются вместе, они предпочитают хоть какое-то занятие
скуке собственной беседы — однако мне нелегко уразуметь, какое же во всем этом
заключается; удовольствие. Ведь для того чтобы судить о радостях карточного стола,
ни таланты, ни состояние не нужны.
Лисикл. Игра в карты есть развлечение серьезное. Она дарит любителям
удовольствий отдохновение, столь им необходимое после живых и осязаемых наслаждений
чувств. Карты способны убивать время лучше, чем любое иное занятие. Они к тому же
являются превосходным болеутоляющим средством, помогающим избавиться или
отвлечься от мыслей,, жертвой которых в противном случае стала бы наша душа.
Критон. Легк«» постигаю, что никто в мире не должен ценить средство против
сплина выше, чем светские люди и любители удовольствий. Один древний мудрец,
рассуждая о подобном человеке, говорит, что несчастным сделали его разочарования и
страсти, λυπειται άποτυγχάνων και επιθυμων.32 И если это верно в отношении греков,
которые обитали в солнечной стране и были людьми пылкими и жизнерадостными,
тем! более это справедливо в отношении современных англичан. Есть что-то в
английском климате и темпераменте, делающее праздность своим собственным наказанием в
большей степени, чем где бы то ни было. Ибо в Англии необразованный светский
джентльмен платит за свои минутные удовольствия долгими и жестокими приступами
хандры, а чтобы от них избавится он предается излишествам чувственности,
вызывающим уныние духа, которое, порождая еще более острую потребность в наслаждениях,
именно) потому и лишает способности их испытывать. Какая-то особая складка в
характере англичанина делает из него самого никудышного развратника на свете. Ведь
он (как выражается в подобном случае Аристотель) находится в раздоре с самим
собою.™ Он не вполне животное, чтобы дать полную волю своим вожделениям, но и
недостаточно человек, чтобы ими управлять. Он чувствует и знает: то, к чему он
стремится, не есть истинное благо — однако самосознание служит лишь для того,
чтобы обнаружить перед ним жалкое его состояние, вырваться из которого не позволяют
11
привычные лень и безволие. И наконец, опротивев себе самому настолько, что
собственное общество становится для него невыносимым, он спешит присоединиться ко
всякой праздной и пустой компании — не из надежды найти в этом какое-то
удовольствие, но лишь ради минутного облегчения душевных мук. Настоящее приносит ему
тоску и апатию, а воспоминания о прошлом столь же безрадостны, как и виды на
будущее. Когда же скорбь, суета или тщеславие изнашивают его животную природу до
предела, этот «любитель наслаждений» начинает попеременно желать и страшиться
смерти: он пресытился собственным существованием, так и не узнав и не изведав, что
такое настоящая человеческая жизнь.
Ефранор. И замечательно, что как раз подобное существование, столь невыгодное
для того, кто его ведет, и приносит пользу обществу. Однако, прошу вас, скажите: эти
ли джентльмены воображают себя мелкими философами?
Критон. Видите ли, секта состоит из философов двух видов: влажных и сухих. Те,
кого я описывал, принадлежат к первому. Отличаются эти два вида скорее на
практике, чем в теории — так же примерно, как пожилой, серьезный и степенный
господин — от того, кто помоложе, сильнее привязан к наслаждениям и более способен их
испытывать. Сухой философ и дни свои проводит довольно сухо. Ему выпадает честь
сводничать, потакая порокам людей более жизнерадостных, которые из чувства
благодарности воскуряют немного фимиама его тщеславию. Вдохновляемый подобным
поощрением, а равным образом и для того, чтобы дать своей душе покой, поскольку
время радости для нее уже прошло, он занимается тем, что оправдывает излишества, к
которым не способен сам. Возвращаясь, однако, к вашему вопросу, скажу: именно эти
жалкие создания суть великие мужи мелкой философии.
Ефранор. Так что же им мешает покончить с жизнью?
Критон. А то, что они не вполне убеждены в истинности своих воззрений.
Впрочем, иные в припадке отчаяния действительно налагают на себя руки. И чем
шире распространяется мелкая философия, тем больше мы видим всякий день
примеров самоубийства. Однако несравненно больше таких людей, которые желали бы
свести счеты с жизнью, но не осмеливаются это сделать. Мой приятель Клиний
(некогда один из них и мелкий философ не из худших) посвятил меня в тайную
историю их страхов, сомнений и нерешительных решений покончить с собою, —
последнее, уверяет Клиний, часто служит предметом бесед любителей удовольствий в
те минуты, когда вино пробуждает в них хоть какую-то храбрость и задор. Именно
по причине этого механического мужества и прострелил себе голову знаменитый
философ Гермократ.м Впоследствии подобное практиковали и некоторые другие к
великому облегчению своих друзей. Унылые, мрачные, полные тревоги, потерявшие
голову от ужаса, мчатся они навстречу собственной гибели с той же отвагой, с какой
птица летит в пасть гремучей змеи: не потому, что они не страшатся умереть, а
потому что боятся жить. В неверии своем Клиний тщился утвердиться с помощью
мнений других мелких философов, последние же подкрепляли свой атеизм беседой с
Клинием. Таким образом, авторитет двигался по кругу, помогая мелким философам
«атеизировать» одному другого. Но хотя Клиний и претендовал чуть ли не на
математическое доказательство против бытия Божия, внутреннюю свою веру он
превозмочь не сумел. Он захворал, а затем признал истину, — и вот он снова
благоразумный человек и добрый христианин, который сознается, что никогда еще не был
так счастлив, как теперь, и так жалок, как в те времена, когда был мелким фнлосо-
фом. А того, кто испытал два эти состояния, следует считать авторитетным судьей в
отношении обоих.
Лисикл. Вот уж, действительно, превосходное описание самых храбрых и умных
людей нашего века!
Критон. «Храбрый» и «умный» — это, конечно, замечательные определения.
Однако наш приходской священник держится того мнения, что все ваши
свободомыслящие распутники — либо глупцы, либо трусы. Рассуждает он так: если человек не
понимает, в чем его истинный интерес, то ему недостает ума; если же он это
понимает, но не решается действовать — то ему недостает мужества. И он заключает, что
недостаток ума и смелости присущ всему этому племени, которое так бахвалится
именно подобными качествами.
Лисикл. Что касается мужества, то они в любой момент готовы доказать его на
деле; а что до ума, то он — хвала природе! — таков, что не деревенским священникам
пристало о нем судить.
Ефранор. Однако Сократ — а он не был деревенским
священником — подозревал, что любителями удовольствий становятся по
невежеству.
Лисикл. Невежеству? В чем?
Ефранор. В искусстве исчисления. Он полагал, что развратники
не умеют считать* и по недостатку этого умения ложно судят об
удовольствиях, от верного выбора которых зависит их счастье.
Лисикл. Я вас не понимаю.
Ефранор. Признаете ли вы, что чувствами воспринимаются лишь чувственные
вещи?
Лисикл. Да.
Ефранор. Чувства воспринимают лишь то, что существует в момент самого
восприятия?
Лисикл. И это я признаю.
Ефранор. А следовательно, о будущих удовольствиях и об удовольствиях ума
нельзя судить по актуальному ощущению?
Лисикл. Нельзя.
Ефранор. А значит, те, кто судят об удовольствии посредством ощущений, могут
ошибиться в окончательном подсчете.
Cum lapidosa cherarga
Fregerit articulos veteris ramalia fagi,
Tum crassos trausisse dies lucemque palustrem
Et sibi jam vitam ingemuere relictam (Pers. Sat. V).36
А для того чтобы вычисление было точным, разве не должны мы учесть все наши
способности и все виды удовольствий, — будущие, точно так же, как и настоящие —
оценивая их в соответствии с истинным их достоинством?
Критон. Даже эпикурейцы соглашались, что удовольствие, влекущее за собою
большее страдание или служащее помехой большему удовольствию, следует рассмат-
• П.чатон и «Протагоре».:п
Ш
[STfé§fe(jF~ Джордж Беркли 4jféS^d
рнвать как страдание; а страдание, обеспечивающее большее удовольствие или
устраняющее большее страдание, надлежит считать удовольствием. А значит, для верной
оценки удовольствий — этого сильнейшего побудительного мотива к деятельности,
определяющего течение всей нашей жизни, — следует наряду с удовольствиями
настоящими и чувственными подсчитать удовольствия интеллектуальные и будущие, а при
оценке каждого из них учесть все беды и страдания, весь позор, все отвращение, все
угрызения совести, которые могут им сопутствовать; сверх того, нам следует принять
во внимание вид, качество, чистоту, интенсивность и продолжительность этих
удовольствий. [Пусть вольнодумец подумает хотя бы о том, сколь ничтожную долю
человеческих удовольствий составляют актуальные ощущения и сколь значительную -
удовольствия ожидаемые. А затем пусть он сравнит надежды добродетельного
христианина с перспективами распутника-атеиста.]37
Ефранор. Если же мы как следует обо всем этом поразмыслим, то разве не
покажется нам, что прав был Сократ, когда решил, что развратников порождает
неведение — и преимущественно незнание того, что он называл наукой о большем и
меньшем, о крупном и мелком, о равенстве и сравнении — словом, искусства вычисления?
Лисикл. Все это, по-моему, рассуждения умозрительные. А что касается истинных
талантов всякого рода, то ведь хорошо известно: самые замечательные дарования
эпохи принадлежат к нашей секте. И все, кто знает жизнь, без труда вычислят, что
человек, именуемый вами «добрым христианином», не обладающий ни широкой и гибкой
совестью, ни свободным от предрассудков разумом, — такой человек окажется
непригодным к делам этого мира. Как видите, пока вы сами своими вычислениями лишаете
себя удовольствий, другие в результате собственных вычислений исключают вас из
серьезного дела. Так на что же вы тогда годитесь со всеми вашими подсчетами?
Ефранор. Я полон всяческого уважения к талантам наших вольнодумцев. Только
я опасаюсь, что их дарования окажутся слишком живыми и бурными для такого
скучного и неторопливого занятия, как подсчет и предвидение, для которого требуются
способности людей заурядных.
Критон. А вот я сделать им подобный комплимент не могу. И не
претендуя на то, чтобы охарактеризовать секту целиком, я все же с
полной достоверностью утверждаю следующее: те, с кем мне
приходилось встречаться, были либо неотесанными любителями удовольствии,
либо прожженными плутами, либо — третья разновидность -
ленивыми полузнайками, которые, не являясь ни людьми дела, ни людьми
умозрения, воображают себя критиками и судьями во всех областях, ни в одной не
добившись успеха. И подобные особы слывут в глазах света глубокими теоретиками;
людям же, занимающимся умозрением, желают они казаться знатоками света, —
тщеславное и самовлюбленное племя, равно бесполезное человечеству как для дела, так и
для науки. Похоже, они и им подобные по большей части и составляют секту мелких
философов. Не стану отрицать: порою попадаются и здесь люди легкого и
покладистого нрава, свободные от этих недостатков и претензий, — люди, которых заносит в
секту всего лишь поток моды, воспитания и привычного окружения: ведь все это
внушает в нашу эпоху предрассудок против религии даже тем, кто машинально смеется
над предрассудками. Не следует также забывать, что мелкие философы имеют
влиятельных сторонников среди светских щеголей и изысканных дам, а поскольку претен-
кзоа
D^F Αλκ,Φρο. ~^ШЬСЖ
зии ничем не оправданные бывают как раз самыми сильными, то нет ничего более
упрямого и непреклонного, чем подобная изящная штучка, когда взбредет ей в голову
сделаться свободомыслящей. Но какими бы категоричными ни были подобные
приверженцы секты, для людей рассудительных их авторитет, уж конечно, не много значит.
Ибо кто же изберет своим руководителем в поисках истины особу, чьи мысли и дни
заняты нарядами, визитами и развлечениями? Или человека, получившего
образование за прилавком или в конторе? Или того, чьи умозрения не простирались дальше
торговых сделок, кто сведущ лишь в коммерческих операциях и биржевой игре, в
мошенничестве, воровстве и взятках? И неужели здравомыслящий человек даст хотя
бы грош за открытия, сделанные за бутылкой вина? А между тем достоверно известно,
что большинство новообращенных вольнодумцев попадает в компанию пьяниц, а
отнюдь не в общество ученых, занятых чтением и размышлением. Важнейшие принципы
устанавливаются и решения по глубочайшим вопросам выносятся у них тогда, когда
сами-то мыслители лыка не вяжут.
Лисикл. Вы забыли о наших авторах, Критон. А они дарят нам множество
прозелитов.
Критон. В подобных обстоятельствах это сделали бы и авторы более скверные.
Увы! Сколь немногие читают! И сколь немногие из их числа способны судить о
прочитанном! А сколько таких, кто желает, чтобы теории ваши и в самом деле оказались
истинными! Как мрого тех, кто ищет в чтении скорее забавы,1 чем поучения! Кого
способно убеждать одно заглавие книги! Я готов согласиться, ;что доводы ваши
достигают цели — но признать их основательными не могу. Ведь аргументы, сами по себе
ничтожные, производят сильнейший эффект, если в их пользу говорит ложно понятый
интерес, если за них вступаются страсти, если их поощряет дух века; более же всего
действуют они на известного рода людей, если бывают направлены против законов,
правительства и общепринятых мнений — от всего этого мудрый и благонамеренный,
человек не отступится без ясных доказательств, зато человек недалекий и
испорченный изображает свое пренебрежение к этим вещам даже на самых жалких и пустячных
основаниях!
Лисикл. И однако аргументы наших философов внушают вам тревогу.
Критон. Тревожит нас отнюдь не сила их рассуждений, но презрение к законам и
неуважение к власти; успех же подобных взглядов среди людей молодых и
невежественных по-настоящему опасен.
Ефранор. А впрочем, не оспаривая и не умаляя способность мелких философов
логически мыслить, позволительно предположить, что успехом своим обязаны они не
одному этому. Нельзя ли приписать его до известной степени недостаткам других
людей точно так же, как и собственным достоинствам мелких философов? Мой
приятель Евкрат не однажды говорил, что наша церковь достигла бы величайшего
расцвета и преуспеяния и не страшилась бы никаких противников, если бы известные особы
больше пеклись о благочестии, чем о политике, о морали — чем о полемике, об
основаниях — чем о побочных выводах, о сущности дела — чем об идеях, и об идеях — чем
о словах.
Лисикл. Какою бы ни была причина, следствия слишком очевидны, чтобы их
отрицать. И если глубокомысленный наблюдатель обратит внимание на то, что в
столетии чрезвычайно просвещенном и мудром идеи наши, несмотря на противодействие
официальных законов, все-таки распространяются и ширятся, каждый день добиваясь
новых успехов в борьбе со столь многочисленной и ученой, столь поощряемой и
опекаемой корпорацией, призванной служить религии и защищать ее интересы, — в
общем, если он все это обнаружит и хорошенько над этим поразмыслит, то, надо думать,
припишет это силе истины и достоинству нашего дела. А если бы мы опирались еще и
на доходы и богатства церкви и университетов? Каковы были бы наши успехи в
подобных обстоятельствах, можете вы судить по тому влиянию, которого добились мы и без
этой помощи.
Ефранор. Весьма прискорбно, что многоученые приверженцы вашей секты не
пользуются той поддержкой, которую заслуживают.
Лисикл. Всему свое время: ведь люди уже начинают открывать глаза. И весьма
возможно, что те доходы, которые во времена невежества использовались скверно, в
более просвещенный век найдут лучшее применение.
Критон. Но зачем же особые учителя и поощрения для того, что в преподавании не
нуждается? У одного моего приятеля есть хитроумный слуга, который, не умея ни
читать, ни писать, овладел вашей системой за полчаса. Не хуже самого ловкого
скептика знает он, как и когда нужно кивнуть в знак согласия или отрицательно покачать
головой, как улыбнуться, сделать тонкий намек, — и теперь он в самом деле
настоящий мелкий философ.
Лисикл. Прошу прощения — но для того чтобы избавиться от религиозных
предрассудков, требуются время и крепкий ум.
Критон. Как это было в прежние времена, мне неизвестно. Зато я знаю людей,
которые, получив изумительное новомодное воспитание, не приобрели совершенно
никаких религиозных представлений, и других особ, впитавших подобные идеи в столь
малой степени, что им не составило труда освободиться от них впоследствии.
Юная и прекрасная Панопа, находившаяся на попечении тетки,
поклонницы мелкой философии, была избавлена от изучения
религиозных принципов — дабы не выработалась у нее привычка верить чему-
либо без оснований и соглашаться с тем, чего она не понимает.
Никаких предрассудков в пользу представлений религиозных у нее
действительно не возникало, зато появилось ясное представление о
любовных интрижках и карточной игре, что и погубило ее репутацию к 14 годам, а состояние
к 24. Я часто задумывался о несходной судьбе двух братьев, живших по соседству со
мною. Из старшего, Клеона, решили сделать безупречного джентльмена и отправили в
город. Первый этап своего обучения он прошел в большой школе; от религиозных
идей, усвоенных в этом заведении, его быстро отучили в одном славном обществе,
которое, пока у нас не появилось лучшего, можно считать превосходней шим
питомником мелких философов. Клеон изящно одевался, ловко передергивал, знал толк в
вине и яствах, постиг таинство игры в кости — словом, был крупной величиной в
мелкой философии. Несколько лет блистал он подобными совершенствами, - пока не
умер, не дожив и до тридцати, бездетный и больной. Умирая, Клеон выражал
величайшую досаду и возмущение тем, что так и не смог пережить «эту старую собаку» —
собственного отца, который, имея высокое мнение об изящных манерах и знании
света, не пожалел расходов, чтобы все это приобрел его любимый сын, - однако в
воспитании младшего, Херефона, был не столь щедр. Последний начал свое образование в
сельской школе, а затем поступил студентом без стипендии в университет, по выходе
из которого получил право на пасторат своего отца. Сейчас он — приходской
священник, а кроме того — хозяин родового имения и отец многочисленного потомства.
Лисикл. Держу пари: его потомство — свора неотесанных щенков.
Критон. Может быть и менее «отесанных», зато уж наверняка более здоровых,
честных и полезных обществу, чем многие из тех, кто слывут изысканными джентльменами.
Почтенный Кратет (здешний мировой судья), услыхав о том, что сын его имел в Лондоне
большие неприятности после бесед с одним мелким философом, часто и с великой
досадой говорил: "Если кто-то губит мое зерно или портит скот, я найду на него управу —
но если испортят моих детей, я уже ничего не смогу поделать."
Лисикл. Уверен: ваш Кратет стоял за карательные методы. Ему бы хотелось иметь
закон, преследующий за убеждения совести.
Критон. Совести? Совести мелкого философа? Впрочем, тот, кто давал уроки
сыну Кратета, сам себя покарал. Лисид а, скромного юношу, обучил он принципам своей
секты, - а в благодарность за эту услугу Лисид обольстил его дочь — единственное
дитя - после чего Хармид (так звали философа) повесился. Старый Бубалион не
знает покоя, живет впроголодь, мошенничает — все ради того, чтобы его сын мог пить
вино, играть в карты, содержать любовниц, собак, лошадей и умереть в тюрьме.
Бубалион, однако, считает себя мудрецом и слывет человеком, который своего не упустит.
Он — мелкий философ, а соответствующие философские познания приобрел за
прилавком, штудируя сочинения Продика и Трифона. Однажды за ужином этот самый
Бубалион красноречиво опровергал бессмертие души, беседуя с несколькими
степенными гражданами, один из которых, имея на руках пять тысяч фунтов Бубалионовых
денег, объявил себя на следующий день банкротом. В ту же ночь Бубалион получил
записку от лакея, прислуживавшего за столом. Записка содержала требование
положить в условленном месте под камень пятьдесят гиней, а заключалась она страшными
угрозами и проклятиями.
Лисикл. Не желая возвращаться к уже доказанному, а именно к тому, что общество
по сути дела не страдает от подобных происшествий, приносящих неудобства лишь
отдельным лицам, каковые, в свою очередь, и сами могут извлечь из них выгоду, — так
вот, чтобы не повторять уже доказанное, я спрошу у вас только об одном: если бы наша
секта не производила столько повес и мошенников, неужели они бы не перевелись?
Поверьте: пока человек остается человеком, мир всегда был и вечно будет одинаковым.
Критон. Я отказываюсь признавать, что мир никогда не меняется. Ведь
человеческая природа, если воспользоваться сравнением Алкифрона, подобна почве: лучше или
хуже бывает она в зависимости от обработки и смотря по тому, какими семенами эта
почва засеяна. Соглашаюсь: необузданные страсти и порочные склонности и сами по
себе, вероятно, порождали бы дурных людей, даже если бы никто ваших принципов
не разделял, — но там, где к действию вожделений и страстей присоединяется сила
убеждения, где люди становятся безнравственными из принципа, — там
безнравственных люден будет больше, а испорченность их станет еще более возмутительной и
неизлечимой. Заблуждения какого-нибудь повесы проистекают из его страстей и могут
быть исправлены — однако бесстрастный негодяй, притязающий на разумное
суждение, неисправим. Аристотель считал,38 что существует два вида развратников: άκρατης
и άκολατος, один из которых является таковым против своего внутреннего убеждения,
а другой — в согласии с ним, и потому первый оставляет надежды на исправление, а
второй - уже нет. И я всякий раз убеждался в том, что состарившись, повеса-мелкий
философ превращается в жулика и плута.
воя
Ю4ШР~ Джорд« Беркли ^fé^TJ
Лисикл. А вот я могу назвать вам таких, из которых вышли замечательные патриоты.
Критон. Патриоты? Подобные Каталине или Марку Антонию?
Лисикл. А хоть бы и так! Эти замечательные римляне были славными людьми,
просто удача от них отвернулась. Мужества и ума им было не занимать, и если бы их
замыслы осуществились, то более ловкая и энергичная часть их сограждан весьма бы
от того выиграла.
Колеса государственного механизма продолжают вращаться, чьими
бы руками не приводились они в движение, — если и не прежним
способом, то каким-то новым, и, может быть, даже лучшим. Ведь в природе
существует бесконечное разнообразие. Правда, люди слабые и
недалекие имеют предубеждение в пользу правил и систем в жизни и
правлении; они полагают, что если эти системы разрушатся, то с ними все
пойдет прахом, — однако человек свободного ума и широкой души находит тончайшее
удовольствие в благородных опытах по разрушению систем и ниспровержению
правлений, — с тем, чтобы сюадать их в новом образе и на иных принципах. Поверьте моему
слову: в вещах есть некая пластическая природа, которая преследует свои собственные
цели. Разбейте государство вдребезги, перемешайте и хорошенько встряхните элементы
человеческого общества, а затем оставьте их на мгновение в покое — и вы увидите, как
они сами собою улягутся и прийдут к каком-то устройству и порядку, при котором
тупицы окажутся внизу, а люди гениальные — на самой вершине.
Ефранор. Лисикл выражает свои мысли весьма свободно и откровенно.
Лисикл. Да и в чем бы заключались преимущества свободомыслия, если бы не
влекло оно за собою свободу реч»? И какой прок от свободы слова, если она не
порождает свободу поступков? Мы стоим за изначальную свободу — свободу полную
и всеобщую*. А свобода внутренняя без свободы внешней способна лишь привести
разум человека в противоречие с его действиями.
Критон. Эта Лисиклова «свобода» есть, вероятно, нечто новое и небывалое для
вас, Ефранор, — однако не для меня. Поскольку мелкие философы полагают в
качестве принципа, что не существует ничего священного, ничего такого, что нельзя было бы
высмеять, опорочить или изменить, как моду на платье, то они с великой помпой
излагают свои теории и прожекты, причем не только в избранных компаниях, но и для
широкой публики.
Припоминаю, как в одном обществе — там, где остроумные люди имеют
обыкновение сбывать в розницу собственные умозрения — видел я хилого и болезненного
человека в длинной мантии и высоком парике, восседавшего во главе стола и
окруженного дюжиной учеников. Порассуждав немного о религии — в таком стиле и с
таким видом, будто атеизм у нас уже установлен законом, а религию едва терпят —
он перешел к гражданскому правлению и объявил своим слушателям, что в мире
природы существует постоянный круговорот.39 "Животные, ищущие пропитание в
земле, — сказал он, — с землею же и смешиваются, превращаясь, в свою очередь, в
пищу для растений, которые, опять же, представляют собой корм для животных;
испарения, поднимающиеся с земли, вновь нисходят на нее в виде дождя; все стихии
попеременно пожирают друг друга, и то, что теряет одна часть природы, обретает
другая, — так что целое пребывает неизменным и не становится ни больше, ни
меньше, ни лучше, ни хуже, несмотря на все эти внутренние перемены. Точно так же
и перевороты в гражданском мире, — продолжал сей высокоученый муж, —
совершенно безвредны для рода людского: одна его половина таким образом возвышается,
а другая падает, причем первая выигрывает за счет убытков и потерь другой. И
потому глубокий мыслитель, обнимающий единым взором все сущее, уже не станет
питать слепую приверженность к религии или к форме правления. Он умеет
приспособиться к обстоятельствам и извлечь выгоды из всякого события — а что до
остального, то на все перемены власти и перемещения собственности взирает он с
философским равнодушием". Рассуждение свое наш лектор заключил необыкновенно тонким
анализом гражданских и моральных добродетелей, каковые разложил и исследовал
вплоть до их оснований и первопричин, — и в итоге установил, что все эти
добродетели суть лишь уловки правителей, иллюзии толпы и веяния моды.
Лисикл. Нам много чего толковали о полезных плодах религии и учености, церкви и
университетов; однако я осмелюсь утверждать, что дюжина-другая остроумных членов
нашей секты своими импровизированными лекциями сделали за несколько лет для
развития реального знания больше, чем все духовные лица вместе взятые — за несколько веков.
Ефранор. И нация, разумеется, достигла соответствующего этим успехам
процветания. Впрочем, вы, Критон, сами слышали их речи.
Критон. Прослушав эту и другие лекции того же направления, я подумал, что
открывать кафедру мелкой философии в Оксфорде или Кембридже нет никакой
надобности, коль скоро на каждом углу можно встретить множество самозваных
лекторов, готовых открыть глаза согражданам и освободить их от всех принципов религии,
лояльности и патриотизма.
Лисикл. Если бы от моих желаний была какая-то польза, то я бы хотел получить
телескоп, который открыл бы моему взору вещи, отделенные от нас во времени и в
пространстве. Ах! Если бы я только мог взглянуть на следующее поколение и узреть
славные плоды наших принципов, распространение которых уже сейчас породило в.
нашей нации явное стремление к чему-то новому и грандиозному!
Критон. Рискну предположить: какими бы ни были перемены и волнения в
обществе, вы непременно узрите, что каждый свободомыслящий по-прежнему крепко стоит на
ногах. Ведь все вы — дети природы, радостно повинующиеся судьбам целого.
Лисикл. Надо сказать, есть у нас один принцип: каждый должен заботиться
лишь о себе самом.
Критон. Ах, Лисикл, как же вы несправедливы к собственному характеру! Перед
всем светом и перед самими собою желаете вы, мелкие философы, прослыть за люден
ловких, знающих собственный интерес и выгоду. Однако что может быть более
бескорыстным, чем пожертвовать всеми заботами и интересами ради отвлеченных
размышлений об истине? И где же найдем мы больше простодушия и наивности, чем в вашем
стремлении сообщать свои «открытия публике, обучая других всем тонкостям игры и
вооружая человечество тгротив самих себя?
Если в присутствии умов, воспламененных любовью к истине и
свободе; умов, способных обнимать мыслью все сущее, позволено будет
упомянуть такой жалкий пустяк, как любовь к отечеству, то я бы вас
покорнейше просил соблюдать осторожность, обычную для всех
первооткрывателей, прожектеров и экспериментаторов: они ведь никогда
не ставят на карту все уже в первой попытке. Разве это не благоразум-
нее — проверить ваши принципы в отдаленном уголке на маленькой модели?
Учредите колонию атеистов где-нибудь в Монопотаме, посмотрите, как она будет
процветать, — и лишь потом принимайтесь за дело на родине. Ради столь славного
предприятия можно с легким сердцем пожертвовать десятком судов, набитых мелкими
философами. А между тем вы сами, вы, открывшие, что в будущей жизни нам нечего бояться
и не на что уповать, что совесть — это пугало, что узы государственной власти и
скрепы человеческого сообщества прогнили настолько, что их способны разрушить и
обратить в прах аргументы любого мелкого философа, — так вот, господа,
соблаговолите пока что хранить эти великие открытия при себе; нам же, нашим женам, слугам,
детям и соседям позвольте по-прежнему держаться веры и образа мыслей,
установленных законом нашего отечества. Честное слово, лучше бы вы отправились ставить свои
опыты где-нибудь среди турок и готтентотов.
Лисикл. О готтентотах не думаем мы ничего дурного, считая их народом,
свободным от предрассудков. Опасения, однако, внушает то обстоятельство, что их пища,
нравы и обычаи могут оказаться не вполне подходящими для наших философов. А
что касается турок, то это фанатики и изуверы, которые имеют понятие о Боге и
почитают Иисуса Христа. Сомневаюсь, можно ли будет среди них пускаться в столь
рискованное предприятие.
Критон. Тогда произведите свой опыт в какой-нибудь христианской стране.
Лисикл. Мы полагаем, что все христианские нации чрезвычайно подвержены
предрассудкам. Даже наши соседи голландцы настолько предубеждены в пользу своей
официальной религии, что благоразумный человек не рискнет вводить какие-либо
новшества при их правительстве. В общем, очень похоже на то, что нигде мы не сумеем
осуществить свои замыслы с большей безопасностью и надеждой на успех, чем на
родине. Ах! Если бы мне было суждено увидеть когда-нибудь парламент, состоящий
из истинных, твердых, непреклонных вольнодумцев!
Критон. Боже избави! Таких особ не пожелал бы я иметь даже своими слугами, а
не то что господами.
Лисикл. Здесь мы с вами расходимся.
Однако вы согласитесь: для того чтобы достичь подобной цели,
нужно было сначала истребить предрассудки отдельных лиц. И дело это
вели мы много лет весьма искусно и прилежно, а в первое время — тайно,
словно кроты, роющие ходы под землею; мы трудились, скрывая свои
успехи от общества, а конечную цель — даже от собственных
прозелитов; мы раздували полемику между теологами, обращая к выгоде нашей
секты всякое обстоятельство, которое предоставляли нам страсти и безрассудство
духовных лиц. По мере того как принципы наши добивались признания, мы переходили к
дальнейшим выводам, а с умножением числа наших сторонников постепенно открывали
свое лицо и обнаруживали свои истинные мнения — где мы теперь, мне нет нужды
говорить. Мы столь успешно выкорчевали, пропололи и очистили человеческую природу,
что теперь, если вы ее оставите в покое, без всякой обработки или обучения, то увидите,
как в малое время сами собою прорастут в ней естественные и истинные идеи.
Критон. Я, однако, слыхал, как один человек, который долго жил и многое видел,
заметил, что самым вредным и отвратительным сорняком является именно ваша
мелкая философия. "В нашем государстве, — говори он, ■- свирепствовало множество
эпидемий, но эта оказалась самым пагубным бедствием. Время фанатизма прошло,
влияние его было сильным, но преходящим — тогда как эта зараза поражает
медленнее, но распространяется шире; фанатизм породил в обществе лихорадку, она же
приводит к истощению и полному упадку сил. Бунт или вражеское нашествие вызывают
тревогу, побуждая общество к самозащите, однако порча нравственных принципов
ведет к гибели — может быть, и медленнее, но зато уж наверняка."
Проиллюстрировать это можно басней, встретившейся мне в сочинениях одного
швейцарского философа, где описывается происхождение водки и пороха. Однажды
престол Севера оказался вакантным, и вот повелитель духов воздуха созвал в
преисподней совет, на котором после спора двух знаменитых демонов-претендентов было
решено, что оба они покажут свои таланты в деле, победителем же будет признан тот,
кто причинит людям больше вреда. Один явился в виде пороха, другой — в виде
водки; первый был открытым врагом, производившим страшный грохот, который
пугал людей, вынуждая их быть начеку; второй странствовал по свету под личиной
доброго приятеля или медика; прикрываясь сладостями, духами и лекарствами, он
прокрался в дамские будуары и в лавки аптекарей; обещая помочь пищеварению,
утешить дух и ободрить сердце, он производил прямо противоположное действие, — в
итоге, он незаметным образом обрек великое множество людей на медленную, но
неотвратимую гибель и столь быстро заселил кладбища и увеличил народонаселение
преисподней, что заслужил право на ту власть, коей обладает и поныне.
Лисикл. Те, кому это нравится, могут забавляться баснями и
аллегориями. Я же скажу просто и без затей: свобода — благо, и мы ее оплот.
Критон. А мне сдается, что свобода и добродетель неразделимы,
ибо они были созданы друг для друга. Если же кто-то хочет обратить
своих сограждан в рабов, то он не найдет лучшего средства, чем порок,
а ничто не ведет к пороку столь же верно, как атеизм. И я не в силах
постичь — даже после того как рассмотрел этот вопрос со всех сторон — каким
образом поношение религии может быть следствием благородного стремления к
справедливой и законной свободе. Некоторые, похоже, потворствуют собственным порокам,
другие, вероятно, рассчитывают на те выгоды, которые извлекаются из гибели
государства людьми нуждающимися или честолюбивыми. Один попросту тешит свой
дерзкий и наглый нрав, другой — надеется снискать уважение вольнодумцев, если у него
самого недостает остроумия, чтобы нравиться, или способностей, чтобы приносить
пользу. А впрочем, каковы бы ни были цели этих людей, давайте прежде разберемся,
какую выгоду принесли ваши принципы, кто стал лучше благодаря поучениям мелких
философов? Сравним то, чем мы стали в отношении познаний, лояльности, честности,
богатства, силы, гражданского духа, с тем, чем были мы прежде. Свободомыслие (как
его именуют) разрослось в последние годы весьма буйно — посмотрим, что же
выросло вместе с ним, какие следствия оно произвело. Составлять каталог несчастий —
занятие не из приятных, между тем единственное благодеяние, на совершение
которого свободомыслящие могут претендовать — это роскошь, то самое благодеяние,
посредством коего отомстили некогда народы Древнему Риму; роскошь, позволяющая
нации, словно больному, изнеженному телу выглядеть полным и цветущим даже
тогда, когда одной ногой оно уже стоит в могиле.
Лисикл. Вы так и не поняли, в чем суть дела. Ведь никто не умеет мыслить и
рассуждать о благе общества лучше членов нашей секты, придумавших множество
KXzDa
IS^^P Джорд» Беркли ^)^ГД
средств, этой цели содействующих — средств, которые пока еще невозможно с
удобством ввести в обиход.
Критон. Надо, однако, признать, что есть один пункт, где общество уже успело
пожать весьма полезные плоды — и выгоды эти проистекают из ваших принципов и
распространяются вместе с нами. Я имею в виду древнеримский обычай самоубийства,
которое в одно мгновение кладет конец всем бедствиям, избавляя и общество от
несчастного, и самоубийцу от самого себя.
Лисикл. Вам было угодно сделать некоторые замечания об этом обычае и даже
посмеяться над нерешительностью наших философов. Я, однако, могу
засвидетельствовать, что они рекомендовали его не только рассуждениями, но и личным примером,
и что лишь благодаря им этот обычай, столь полезный и благородный, был вырван из
рук безумцев и восстановил во мнении людей здравомыслящих ту добрую репутацию,
коей пользовался в древности. И в каком бы свете ни стали вы его рассматривать, он
действительно принес вполне осязаемую пользу. И все же важнейшая заслуга наших
принципов в том, что истина и свет уже столь явно и широко распространились по
всему миру. От какого множества предрассудков, заблуждений, трудностей и
противоречий освободили мы умы наших сограждан! Как много запутанных, нелепых идей и
бессмысленных слов обреталось в человеческом разуме до того, как явились в мир
наши философы! А сейчас даже женщины и дети имеют верные и основательные
представления о природе вещей. Что вы на это скажете, Критон?
Критон. Касательно великих преимуществ от истребления людей и уничтожения
идей, я скажу: весьма сомнительно, чтобы общество приобретало благодаря
последнему столько же, сколько теряет оно вследствие первого. Что до меня, то я бы скорее
предпочел, чтобы моя жена и дети верили в то, о чем не имеют они никакого
понятия, и ежедневно произносили слова, лишенные смысла, чем увидеть, как кто-то
из них однажды перережет себе горло или выпрыгнет из окошка. Обществу нет
особого дела до заблуждений и нелепостей самих по себе: оно принимает в расчет не
столько метафизическую истину наших идей, сколько их способность порождать
добро или зло. Истину как таковую ценят люди в той мере, в какой обладает она
силой влиять на обыденную жизнь. И вы можете опровергнуть целый легион
схоластиков и открыть множество отвлеченных истин, не удостоившись, однако, никаких
заслуг перед своим отечеством. Впрочем, если не ошибаюсь, отнюдь не мелким
философам обязаны мы подобными открытиями, — и с этим следует согласиться,
предположив, что ваши идеи верны — хотя я этого никоим образом не утверждаю.
Ибо, если уж говорить начистоту, то, на мой взгляд, общая тенденция ваших мнении
является настолько скверной, что ни один порядочный человек не сможет их
вынести, а ваши аргументы в их пользу столь неосновательны, что ни один умный
человек не пожелает их принять.
Лисикл. Но разве не было с ослепительной ясностью доказано, что со времени
распространения наших принципов люди изысканные и тонкие ведут куда более
счастливую жизнь, прямо-таки купаясь в наслаждениях? Впрочем, не желая повторять и
растолковывать то, что уже было столь пространно изложено, я лишь добавлю, что
выгоды, проистекающие из наших идей, распространились на самый нежный возраст,
равно как и на слабый пол: ведь наши принципы избавили детей от ночных страхов, а
дам — от унылых дневных часов.
Критон. [На смену всяким старомодным вещам, вроде молитв или Библии,
пришли новые забавы: вино, кости и любовные записочки. И теперь ν прекрасного пола
BCÏDC2
не осталось никаких забот, кроме как наряжаться, румяниться, пить, играть, украшать
и развлекать себя, посещая любое изысканное общество.]40 Я полагал, Лисикл, что
аргументы от удовольствий уже исчерпаны. Но поскольку вы еще не покончили с этим
пунктом, то давайте еще раз по правилу Ефранора произведем подсчет удовольствий и
страданий, расположив их по отдельным рубрикам, словно дебет и кредит. В общий
баланс вашей светской леди внесем мы дорогие наряды, кости, ликеры, сплетни,
ночные бдения, а напротив впишем ипохондрию, скуку, угрызения совести, проигрыш в
игре - и страдание, с каждым днем все более мучительное, при мысли о скверно
прожитых годах. Предположим, что не было ни страшных случаев, вызванных
ревностью, ни безрассудных или постыдных увлечений, тем не менее перед вами в конце
концов предстанет какое-то пустое, ветреное, самодовольно порхающее создание —
у него же не будет и половины того счастья, которым наслаждается в летний день
бабочка или кузнечик. Подобный итог получим мы для повесы или любителя
удовольствий, если, с одной стороны, запишем апатию, невежество, испорченность,
пресыщение, ссоры, муки неудовлетворенных страстей, а с другой — жалкую долю
мимолетных радостей: долгое страдание против преходящего удовольствия, — если, сверх
того, вспомним, что пусть даже этот человек, когда его чувства и страсти охладеют, и
станет искать спасения от собственной совести в мелкой философии, но, исследовав
его до самой глубины, мы обнаружим, что он слишком часто притворяется, мало во
что по-настоящему, верит и ничего не знает.
И тут Лисикл, обращаясь ко мне, заметил, что Критон может, если это ему угодно,
спорить против фактов — однако доя всякого очевидно, что нация благодаря их
принципам живет веселее, чем прежде.
— Справедливо, — отвечал Критон, — нация мы и в самом деле развеселая:
молодые смеются над стариками, дети презирают родителей, а подданные обращают в
посмешище правительство — счастливые следствия мелкой философии!
Лисикл. Можете выводить какие угодно следствия — принципы
наши менее истинными не станут.
Критон. Сейчас меня занимает отнюдь не истина ваших
мнений, — в настоящий момент обсуждаем мы вопрос об их пользе. А
чтобы его решить, достаточно бросить беглый взгляд на эти принципы,
беспристрастно изложенные и сведенные воедино. Итак: не
существует ни Бога, ни Провидения; человек подобен зверю, гибнущему без следа; счастье
человека, как и счастье зверя, заключается в подчинении животным инстинктам,
вожделениям и страстям; муки совести и чувство вины суть предрассудки и заблуждения,
порожденные воспитанием; религия — уловка правителей; порок полезен обществу;
душа человека телесна и обращается в ничто, словно пламя или дым; сам человек есть
автомат, управляемый согласно законам движения, а следовательно, он не является
деятельным существом и не может быть субъектом нравственной вины; мудрец
превращает свой частный интерес в этой жизни в правило и меру своих поступков, — эти и
им подобные мнения являются, похоже, догмами для мелкого философа, а между тем
он сам (согласно его же принципам) есть орган, на котором играют чувственные
объекты, или мячик, летающий из стороны в сторону по воле склонностей и страстей; и
он, мелкий философ, настолько искусен, что смог подкрепить все вышеизложенное
тонкими аргументами, настолько проницателен и остроумен, что сумел постигнуть
ЕСЕХа
|E^fe(F~ ДжорД» Беркли ^KÜSTJ
суть вещей и в итоге открыл, что безграничный эгоизм, хитрость и коварство — ;>то и
есть единственная подлинная мудрость. А чтобы завершить описание его характера ,
скажу: эта прелюбопытнейшая шестеренка часового механизма, не имеющая в себе
принципа движения и напрочь отрицающая самую возможность свободного движения
и свободной мысли, воображает себя, однако, покровителем свободы и на полном
серьезе ратует за свободомыслие.
Едва Критон закончил, Лисикл обратился ко мне и Ефранору с такими словами:
— Критон старался вовсю, но лишь в одном сумел он меня убедить - в том, что я
должен оставить всякую надежду убедить его. В жизни своей не встречал я человека,
столь глубоко погрязшего в предрассудках, — так что пусть кто-то другой и
вытаскивает его из этой трясины. Однако в отношении вас, Дион, я питаю больше надежд.
— Могу поручиться, — сказал я, — что мои глаза и уши всегда открыты для
разумных доводов. Я внимателен ко всему, что у нас происходит, и в конце концов сумею
вынести общее суждение, — может быть, и неверное, зато совершенно беспристрастное.
Ефранор. Критон — человек более решительный, чем я, коль скоро он дерзает
поучать и критиковать философа. Мне же всегда бывает легче учиться самому, нежели
учить других. И потому я прошу вас помочь мне избавиться от некоторых сомнений
относительно общей направленности ваших принципов, — сомнений, которые я не в
силах преодолеть, хотя и сделал бы это с великой охотой. И тогда, пусть даже я и не
пойду в точности по вашим стопам, а может быть, и не по вашей дороге, мы, во всяком
случае, уже не будем двигаться в совершенно противоположных направлениях.
А теперь скажите мне, о Лисикл, внимательный наблюдатель
мелких вещей, когда тень бывает для нас всего приятнее - утром, вечером
или в полдень?
Лисикл. В полдень, без сомнения.
Ефранор. А что располагает человека к отдыху?
Лисикл. Труд.
Ефранор. Когда же люди разводят самый сильный огонь?
Лисикл. В самую холодную погоду.
Ефранор. А что влечет нас к прохладительным напиткам?
Лисикл. Чрезмерный зной.
Ефранор. А что будет, если вы поднимете маятник на большую высоту?
Лисикл. Тогда, если мы его опустим, он поднимется столь же высоко в
противоположную сторону.
Ефранор. А в таком случае, надо думать, тьма происходит от света, покои следует
за движением, жар — за холодом, — в общем, каждая крайность влечет за собой
другую, ей противоположную?
Лисикл. Похоже так.
Ефранор. Но не будет ли это наблюдение справедливым в отношении
гражданского мира точно так же, как и мира природного? Не порождает ли тирания своеволие, а
своеволие — тиранию?41 Не из вигов ли получаются тори, и не из торн ли - виги? Не
из фанатиков ли — атеисты, а из атеистов — фанатики?
Лисикл. Допустим, это верно.
Ефранор. А не следует ли отсюда, что подобно тому, как питаем мы отвращение к
рабству, должны мы избегать вольности и распущенности? Я всегда был и ныне оста-
юсь искренним сторонником свободы, законной английской свободы, в коей вижу
первейшее благо, украшение и радость жизни и величайшую привилегию
англичанина. Но не опасаетесь ли вы, что если нация впадет в распущенность, какую не терпели
еще ни в одной цивилизованной стране, то люди, испытав невыносимые бедствия,
порожденные одной крайностью, естественным образом обратятся в крайность
противоположную? Ведь вам следует признать, что большая часть человечества — это
отнюдь не философы, как, скажем, вы и Алкифрон.
Лисикл. С этим я соглашусь охотно.
Ефранор. Есть у меня еще одно сомнение насчет общей тенденции вашей
философии. Предположим, вы возьмете верх и уничтожите нашу протестантскую церковь и
духовенство — но как же вы справитесь с папистами? Мне достоверно известно, что в
Англии находится сейчас множество тайных эмиссаров римской церкви. И кто знает,
каких только успехов не сможет добиться духовенство столь многочисленное и
искусное, столь превосходно снабженное доводами, действующими на грубые и
необразованные умы — и это в стране, лишенной всякой веры и чувствующей в ней острую
нужду? Кто знает, что случится, когда вместе с противодействием исчезнет самый дух
свободомыслия, а репутация вольнодумца перестанет быть тешащим самолюбие
отличием, и вся нация, таким образом, превратится в совершенно одинаковых атеистов, —
кто знает, спрашиваю я , не станут ли в таком случае гениальные люди снова
претендовать на оригинальность и не обратятся ли они первыми в католичество?
Лисикл. А пусть даже и обратятся — для друзей невелика беда. Ведь наши
принципы таковы: во-первых, мы утверждаем, что все религии одинаковы. И потому, если
опыт покажет, что страна не способна обойтись без религии, то чем же тогда папизм
хуже прочих? Я знаю нескольких остроумных людей из нашей секты, которые,
окажись вдруг у нас на престоле католический государь, завтра же превратились бы в
католиков. Это парадокс, однако я его растолкую: государь, которому делаем мы
одолжение, принимая его веру, непременно нас за это отблагодарит.
Ефранор. Понимаю. Однако что же тогда будет со свободомыслием?
Лисикл. Ах! Да его у нас станет еще больше, поскольку мы его будем хранить в
целости при себе. А что касается радостей его распродажи в розницу, то их недостаток
был бы вполне вознагражден осязаемыми выгодами другого рода.
Ефранор. Судя по этому рассказу, отмеченное вами стремление нации к чему-то
новому и грандиозному оказывается тенденцией к папизму и порабощению?
Лисикл. Почтенный Ефранор, поймите нас правильно. Высшая наша цель — это
абсолютная свобода, если же она окажется невозможной, и в конце концов придется
терпеть такие вещи, как правительство и религия, то мы, как это и подобает мудрецам,
постараемся извлечь максимальную пользу и из них.
Критон. А это снова наводит меня на мысль, не раз приходившую мне в голову:
свободомыслящие — это простаки, одураченные иезуитами. Два самых откровенных,
беззастенчивых и неутомимых сеятеля безверия, которых я когда-либо встречал,
распространявшие его во всяком обществе и при любой возможности, оба были
фанатичными папистами и, обладая значительным состоянием, весьма в этом отношении
пострадали. Странно, что их проницательные ученики никогда об этом не задумывались.
Гегемон, герой секты и самый знаменитый писатель среди мелких философов, был в
свое время, как мне достоверно известно, католиком, и я не слыхал, чтобы с тех пор он
исповедовал какую-то иную веру. Я знаю, что в римской церкви многие радуются
ccDca
|SJ^(F~ Джорд» Беркли ^Й^ГЗ
росту неверия в нашей стране — в надежде, что безбожие расчищает дорогу для них.
Не секрет, что эмиссары Рима приложили руку к созданию других сект, время от
времени появлявшихся у нас, — так почему же и не этой секты, секты мелких
философов, более всех прочих способной погубить и разрушить как церковь, так и
государство? Я и сам встречал иезуита-миссионера, который в обществе английских
джентльменов рассуждал подобно вольнодумцу. А заслуживающие доверия люди рассказывали
мне, что особы, о которых английским мелким философам прекрасно известно, что это
иезуиты, принимаются в клубах наших вольнодумцев; и я сам слышал, как мелкие
философы одобряют их мнения и отзываются об иезуитах лучше, чем о духовных
лицах всех прочих исповеданий. Те, кому неизвестны изощренный ум, тонкая
политика и чудесная организация этого знаменитого общества, пусть прочтут рассказ о
подобных вещах в книге иезуита Инкофера De Monarchia Solipsorum42; остальных же
нимало не удивит то обстоятельство, что иезуиты способны одурачить наших мелких
философов, — одурачить, говорю я, ибо не думаю, что мелкие философы
догадываются о том, что являются всего лишь орудием, которое служит целям людей более
коварных и хитрых, чем они сами. Мне кажется, их опьяняет ложное представление о
свободе, от которого у них пошла кругом голова; этот принцип и подстрекает мелких
философов к безумным опытам над своим отечеством. Между собою они согласны
только в одном: все, стоящее у них на пути, следует разрушить — но что же возвести
на пустом месте? — об этом они не строят планов, да и нет им до того никакого дела.
Если послушать (а я это делал часто), как разглагольствуют они о моральных
добродетелях — сводя последние к чувству стыда, а потом осмеивая стыд как слабость
характера, — если послушать, как они восхищаются необузданной жизнью дикарей, как
издеваются над всяким порядком и благопристойностью, порожденными воспитанием,
то можно подумать, что цель этих философов в том, чтобы, обкорнав и выполов умы
своих сограждан и избавив их от предрассудков, сорвать с них в конце концов одежду
и наполнить Англию голыми детьми природы, которые пользовались бы всеми
привилегиями скотского состояния.
Тут Критон умолк и пристально посмотрел на Алкифрона, который в продолжение
всей беседы сидел задумавшись и внимательно слушал, но ничего не говорил. Вид его
выражал попеременно то досаду и недовольство утверждениями Лисикла, то
безмятежное удовлетворение — очевидно, собственными, более основательными мыслями.
Но день уже клонился к вечеру, и потому Алкифрон предложил перенести спор на
завтра. "И тогда, — пообещал нам Алкифрон, - я поставлю вопрос на новое
основание, представив его в столь ясном и полном свете, что вы, несомненно, получите
совершенное удовлетворение. "
В общем, мы переменили предмет разговора, а затем, перекусив холодными
блюдами, двинулись вдоль берега и в вечерней прохладе возвратились к дому Критона.
Andf^^^ja^
E^jr
^|®C3
Диалог третий
Алкифроново понятие о яести.
Характер и поведение люден чести.
Чувство моральной красоты.
Honestum или ΤΟ καλόν древних.
Является ли вкус к моральной красоте
верным правилом и надежным
руководством.
Восторг мелких философов перед чистой
красотой добродетели.
Лишь их добродетель является
бескорыстной и героической.
Красота чувственных объектов: что это
такое и как она воспринимается.
Вйь
9. Понятие прекрасного истолковывается
на примерах живописи и архитектуры.
10. В чем состоит красота морального
миропорядка.
11. Она предполагает Провидение.
12. Воздействие το καλόν и то πρέπον.
13. Энтузиазм Кратила в сопоставлении с
мнениями Аристотеля.
14. Сравнение с принципами стоиков.
15. Талант мелких философов по части
шуток н насмешек.
16. Мудрость тех, кто превращает в награду
добродетели самое добродетель.
JÊ
На следующий день, когда сидели мы за чайным столиком в летней
гостиной, выходившей в сад, Алкифрон уже после первого кушанья
перевернул чашку и, откинувшись на спинку кресла, повел такую
речь:
— Наша школа, в отличие от всех существующих на земле сект,
имеет особую привилегию: никакие принципы ее не связывают. В то время как прочие
философы исповедуют рабскую приверженность определенным догмам, мы отстаиваем
возвышенную свободу; и не просто один философ отличается у нас от другого, но часто
один и тот же человек — от самого себя. А подобный метод, помимо прочих
преимуществ, имеет еще и ту выгоду, что опровергнуть нас труднее, чем кого бы то ни было.
Допустим, вы опровергли какое-то отдельное положение — но ведь это касается только
того, кто его защищал, и лишь до тех пор, пока он его защищал. Иные члены нашей
секты склонны к категорическим утверждениям больше других, и в некоторых
пунктах — больше, чем в прочих. Вот и в вопросе о полезности порока держимся мы разных
мнений. Некоторые из нас — пылкие поклонники добродетели, для остальных же — это
вопрос спорный и проблематичный. И пусть изложенная вчера Лисиклом доктрина
чрезвычайно остроумна, существуют, однако, различные основания, побуждающие ме-
ВСЕХЗ
ня — вместе с самой малочисленной, но, вероятно, самой достойной и наиболее
склонной к созерцанию частью нашей секты — от этой доктрины отказаться и принять
сторону добродетели. В общем, после тщательного исследования и взвешивания обеих
позиций мне кажется, что нам следует предпочесть добродетель пороку — и это
предпочтение послужит как общественному благу, так и репутации наших философов.
Знайте же: есть среди нас люди, которые, не имея в душе ни крохи религиозных
предрассудков, обладают тончайшими чувством чести, и именно поэтому являются
людьми добродетельными. Честь — вот благородный, чистый и незапятнанный
источник добродетели, ибо нет в нем ни малейшей примеси страха, эгоизма и суеверия.
Честь обладает всеми преимуществами религии, будучи избавленной от
сопутствующих ей недостатков. Это верный знак души великой и прекрасной, присущий особам
знатным и тонко воспитанным. Честь движет людьми двора, сената, армии в общем,
всяким собранием светских людей.
Ефранор. Так вы говорите: честь — источник добродетели?
Алкифрон. Именно.
Ефранор. Может ли нечто быть источником самого себя?
Алкифрон. Нет.
Ефранор. А значит, источник отличается от того, источником чего он является?
Алкифрон. Без сомнения.
Ефранор. Выходит, честь — это одно, а добродетель — другое?
Алкифрон. Согласен. Добродетельные поступки — это следствия, а честь — их
источник или причина.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, является ли честь волей, производящей эти
поступки, или конечной целью, ради которой они совершаются, или здравым разумом,
полагающим для них правило и меру, или же объектом, к которому они имеют какое-
то отношение? Или под словом «честь* разумеете вы особую склонность или
способность? — ведь все это, в том или ином смысле, считается источником человеческих
действий.
Алкифрон. Ничего подобного я не имел в виду.
Ефранор. Тогда соблаговолите дать мне какое-то представление о чести или ее
дефиницию.
Алкифрон, немного поразмышляв, ответил, что он определяет честь как начало
(принцип, principle) добродетельных поступков.
На это Ефранор возразил:
— Слово «начало*, если я не ошибаюсь, понимается по-разному. Иногда мы
разумеем под «началами* части, на которые можно это целое разложить. Говорят,
например, что элементы — это начала сложных тел. Подобным же образом слова, слоги и
буквы являются началами языка. Порою под началом мы понимаем особый маленький
зародыш, рост или постепенное развитие которого создает органическое тело,
животное или растительное, с присущими ему формой или размером. В другой раз мы
говорим, что начала — это известные основоположения наук и искусств, — или, может
быть, вы разумеете данное слово в каком-то ином смысле, утверждая, что честь - это
начало добродетели?
Алкифрон на это отвечал, что ни одно из указанных значений он не имел в виду,
но определял честь как жар или энтузиазм, пламенеющий в груди благородною
человека.
Ефранор заметил, что определение всегда позволяется ставить на место
определяемой вещи. "Вы с этим соглашаетесь или нет?" — спросил он.
Алкифрон. Соглашаюсь.
Ефранор. Тогда не вправе ли мы сказать, что человек чести — это человек пылкий
или энтузиаст?
Услышав эти слова, Алкифрон объявил, что подобная точность совершенно ни к
чему, что педанты, конечно, могут препираться или сочинять дефиниции, но никогда
не сумеют достигнуть отличающего истинных джентльменов представления о чести,
которое можно скорее почувствовать, нежели изъяснить словами.
Заметив, что Алкифрон не выносит настойчивых попыток добиться
от него чего-то большего, и желая доставить Ефранору какое-то
удовлетворение, Критон сказал, что сам он, конечно, не возьмется
истолковывать столь деликатный предмет, но охотно перескажет часть беседы на
сходную тему, состоявшейся некогда между мелким философом Никан-
дром и христианином Менеклом. Суть ее заключалась в следующем:
Менекл. Какой же принцип превращает вас, господа, в добродетельных людей?
Никандр. Честь. Мы - люди чести.
Менекл. А не может ли человек чести соблазнить чужую жену, напиться пьяным,
продать свой голос на выборах или отказаться платить долги — нисколько при этом
своей чести не запятнав и не уронив?
Никандр. У него, разумеется, могут быть пороки или недостатки, свойственные
джентльмену, однако платить долги чести он обязан — я имею в виду те долги,
которые сделал он за карточным столом.
Менекл. И ваш человек всегда готов оскорбиться и вызвать на дуэль?
Никандр. Как человек благородный он готов потребовать и дать удовлетворение
всегда, когда это будет нужно.
Менекл. Из ваших слов можно заключить, что разорять торговцев, нарушать
верность своей жене, совращать чужую, брать взятки, обманывать общество, перерезать
кому-то горло из-за пары слов — все это нисколько не противоречит вашему принципу
чести.
Никандр. Невозможно отрицать, что мы — люди доблестные и пылкие, знающие
свет, ну и все такое прочее.
Менекл. Если так, то честь атеистов напоминает честность пиратов: действие ее
ограничено их собственным кругом. Собратья по ремеслу, пожалуй, и находят в этих
вещах свою выгоду - зато всякий другой человек должен их постоянно остерегаться.
- Человек, живущий вне grand monde1, — продолжал Критон, — может составить
себе из этой беседы представление о том, что зовется честью или людьми чести.
Ефранор. Попрошу вас не отделываться мнением Никандра — человека, мне
совершенно неизвестного — но представить ваше собственное суждение, основанное на
ваших личных наблюдениях.
Критон. Если уж я должен прямо высказать свое мнение, то, исходя из того, что
мне приходилось видеть или слышать, я могу искренне уверить вас, что принцип
чести, взятый отдельно от совести, религии, разума и добродетели, есть не более, чем
пустой звук. И я совершенно серьезно полагаю, что те, кто основывается на этой идее,
менее добродетельны, чем прочие люди. Той же добродетелью, которой они обладают,
ккехз
или кажутся обладающими, обязаны они моде (весьма похвального свойства), если не
прямо совести, усвоенной еще в раннем возрасте вместе с принципами религии и
впоследствии отчасти сохранившейся незаметно для них самих. Эти два начала, похоже,
вполне объясняют все то, что в подобных джентльменах можно принять за
добродетель. И ваши светские люди, в которых бьет ключом животная натура, суть нечто
вроде хвастунов и задир в области морали: самая мысль, будто совесть может их
устрашить, невыносима для них, — зато они много распространяются о чести и
притязают скорее на звание людей чести, нежели людей честных и совестливых. Однако,
насколько я мог заметить, этот показной и претенциозный характер, совершенно не
опирающийся на совесть и религию (которые только и могли бы дать ему жизнь и
содержание), ничуть не лучше метеора или разноцветного облака.
Ефранор. Кажется, я слышал, что честь как-то связана с правдивостью и что люди
чести — злейшие враги всякого лицемерия, лжи и притворства.
Критон. Если бы так! Но ведь атеист, притязающий на тонкое чувство чести,
способен, не имея в душе ни капли веры или религии, выдавать себя за христианина,
принимать любую присягу,2 участвовать во всяком культовом действе, становиться на
колени, возносить молитвы, причащаться — если это ему выгодно. И тот же человек,
ничуть не унизив собственного достоинства, перед лицом Бога и людей самым
торжественным образом поклянется любить свою жену и, оставив всех других женщин,
хранить верность ей одной — а между тем очевидно, что он и не думает исполнять свой
обет, в чем он и заставит всех убедиться воочию, как только в его полной власти
окажется супруга и ее состояние, ради которого этот человек безупречной чести не
постесняется солгать и обмануть.
Ефранор. А вот мы, деревенские жители, слыхали, что самым ненавистным для
человека чести поступком (а для нас — делом весьма рискованным и опасным) было
бы обвинить его во лжи.
Критон. Совершенно справедливо. Ему невыносимо слышать, ^то он — лжец, но
отнюдь не лгать самому.
Выслушав все это с полнейшей невозмутимостью, Алкифрон
отвечал так:
— [Поскольку термин «свободомыслящий» охватывает людей
разных взглядов, то его, строго говоря, нельзя считать обозначающим
отдельную секту, которая бы имела вполне установившуюся систему
положительных и определенных мнений. Следует, впрочем, признать, что
мы действительно согласны между собой в некоторых пунктах касательно неверия, т.е.
в принципах чисто отрицательных, каковое согласие и позволяет отнести к нам в
известном смысле понятие одной общей секты. Но эти отрицательные принципы укореняются
в людях разного возраста, нрава и воспитания, и потому порождают весьма несходные
тенденции, мнения и характеры.]3 Не думайте, что величайшая наша сила заключается
в тех, кого у нас больше всего — вольнодумцах и обыкновенных людях чести. Нет. У нас
есть философы совершенно иного склада — люди созерцательные и тонкие, и
управляют ими не такие вульгарные вещи , как ощущение и обычай, но чистая (abstracted)
добродетель и высокая нравственность, и чем меньше в этих людях религиозной веры,
тем больше добродетели. Атеисту больше, чем кому бы то ни было, доступна
добродетель высокая и бескорыстная: ведь быть добродетельным из страха или надежды — низ-
ЕЙЙУ Алкифроч *D^TJ
ко и эгоистично. Пусть даже представления о Промысле и будущих наградах и
наказаниях способны послужить пугалом или приманкой, которые заставят жалких духом
людей вести образ жизни, противоположный их природным склонностям, — истинную
добродетель не сумеют они создать никогда.4 Для того же, чтобы дойти до сути вещей,
проанализировать добродетель вплоть до ее первоначал и утвердить представление о
морали на его истинном основании, вы должны понять, что существует особая идея
прекрасного, врожденная человеческому уму. К этой красоте и стремятся все люди, ей они
радуются, ею они наслаждаются ради нее самой, побуждаемые лишь природным
инстинктом. Чтобы распознать и одобрить прекрасное, никакие аргументы не нужны: оно
поражает нас с первого взгляда и влечет к себе без всяких иных причин. И подобно тому
как эта красота обнаруживается в форме и очертаниях предметов телесных, точно так же
существует сходная с ней красота иного рода — порядок, симметрия и
привлекательность в моральном мире. И если глаз воспринимает первую, то душа (mind) посредством
некоего внутреннего чувства воспринимает вторую, причем в благороднейших душах
это чувство, талант и способность еще острее и чище. И как с помощью зрения замечаю
я красоту растения или животного, точно так же моя душа постигает нравственное
совершенство, красоту и благообразие справедливости и умеренности. И если мы не
задумываясь объявляем платье идущим к лицу или осанку — очаровательной, то благодаря
этому же свободному, не требующему особой выучки суждению, мы тотчас же определяем,
являются ли то или иное поведение или поступок прекрасными и привлекательными."*
Для наслаждения подобной красотой нужен тонкий и изысканный вкус, но там, где этот
врожденный вкус есть, ничего больше не требуется — ни в качестве принципа
убеждения, ни как побудительный мотив к добродетели. В той или иной мере этот вкус или это
чувство свойственны всякому созданию, наделенному разумом. Все разумные существа
по природе социальны. Естественные привязанности влекут их друг к другу, а взаимная
симпатия объединяет в семьи, клубы, партии и государства. И подобно тому как
посредством ощущающей души отдельные части или члены тела соединяются в единое целое
ради отправления животных функций, так с помощью чувства морального или
внутреннего различные элементы разумных систем или политических тел удерживаются вместе,
познают свою связь, поддерживают и защищают друг друга, общими усилиями
содействуя единой цели. Отсюда эта радость общения, эта склонность делать добро себе
подобным, это удовольствие и наслаждение при виде чужих добродетельных поступков и при
мысли о своих собственных. Созерцая порядок и согласие отдельных частей морального
мира, соединенных взаимной благожелательностью и закономерно действующих,
человеческий разум приходит к возвышенному представлению о красоте, совершенстве и
величии. И наши философы, очарованные и приведенные в восторг этой благородной
идеей, полны бесконечной жалости ко всякому, кто бы предложил или принял какой-
нибудь иной побудительный мотив к добродетели. Личный интерес есть нечто низкое и
неблагородное, он уничтожает заслугу добродетели, а любая неправда с подлинным
духом нашей философии несовместима.
Критон. А потому любовь, которую питаете вы к моральной красоте, и ваша
страсть к отвлеченной истине не позволяют вам хладнокровно говорить обо всех этих
обманах и мошеннических выдумках вроде Провидения, бессмертия души, будущего
воздаяния в виде наград и наказаний, каковые — под благовидным предлогом
содействия — на самом деле разрушают всякую истинную добродетель и в то же время
противоречат вашим благородным теориям, поскольку явным образом порождают в
IEOC2
человеческих душах смятение и тревогу, наполняя их бесплодными надеждами и
пустыми страхами.
Алкифрон. В том, что касается морали, врожденные представления и первые
мысли людей являются наилучшими. А потому нет нужды побуждать человечество к
добродетели проповедями, рассуждениями и угрозами: столь близка и родственна
добродетель для всякой человеческой души. И если дело обстоит подобным образом
(а это, несомненно, так), то отсюда следует, что все цели общества вполне достижимы
и без религии и что именно атеист будет самым добродетельным человеком — в
подлинном, возвышенном и героическом смысле этого слова.
Ефранор. Ах, Алкифрон, вы сейчас говорили, и я чувствовал, как
приходит в волнение моя душа — словно арфа, которая дрожит, когда
ударяют по созвучным струнам другой. И ведь, без сомнения, красота
души, очарование добродетели, порядок и соразмерность в моральном
мире действительно существуют. Эта моральная красота была известна
древним под именем honestum" или το καλόν7. А чтобы постигнуть се
смысл и воздействие, стоит разобраться, как ее понимали и в каком свете рассматривали
те, кто первым ее обнаружил и дал ей имя.То καλόν, по Аристотелю, ecTb^aivsTov* или
похвальное; согласно же Платону, это ηδύ или ωφέλιμο ν, приятное или полезное " -
с точки зрения разумной души и ее истинного интереса. Так вот, я хотел бы знать
следующее: признавая какой-то поступок похвальным, не выходит ли разум за пределы
поступка как такового, чтобы исследовать, как о нем мыслят другие люди?
Алкифрон. Выходит.
Ефранор. А если человек думает, что ни одно разумное существо его не видит и не
наблюдает за ним — будет ли это достаточным основанием или принципом, в
соответствии с которым можно было бы действовать?
Алкифрон. Похоже, нет.
Ефранор. Пойдем дальше. Скажите, нельзя ли предположить, что человек,
совершающий нечто само по себе полезное или приятное, воздержится от этого или даже
станет делать противоположное в надежде на большее удовольствие или пользу?
Алкифрон. Можно.
Ефранор. Но не вытекает ли отсюда, что красота добродетели, или το καλόν, будь
то в толковании Платона или Аристотеля, не является достаточным основанием или
принципом для того, чтобы побудить к добродетельной жизни человека плотского,
поглощенного земными интересами?
Алкифрон. И что же дальше?
Ефранор. Дальше? А дальше следует, что надежда на вознаграждение и страх
перед карой в высшей степени необходимы для того, чтобы чашу весов приятного и
полезного склонить в сторону добродетели и таким образом способствовать благу
человеческого общества
— Господа! — возгласил после этих слов Алкифрон, — призываю вас в свидетели
того, как нечестно поступает Ефранор. Он аргументирует против нас, пользуясь теми
истолкованиями красоты добродетели, которые дали Платон и Аристотель, — и тут
нам действительно нечего возразить, ибо философы нашей секты, очарованные и
восхищенные этой возвышенной идеей, отвлекаются от всех соображении похвалы,
удовольствия и выгоды.
BdDQ
»ill
- Прошу меня простить, - отвечал Ефранор, — если я предположил, будто
мелкие философы наших дней мыслят так же, как и те древние мудрецы. Но поскольку
вы, Алкифрон, не находите уместным принять толкование Платона или Аристотеля,
то вам следует сказать, какой же смысл вкладываете в красоту добродетели вы сами.
Определите, объясните, растолкуйте ее для меня — с тем, чтобы мы могли рассуждать
об одном и том же предмете, иначе мы никогда не придем к какому-либо выводу.
Алкифрон. Некоторые вещи лучше всего постигаются через
определения и описания. Я, однако, всегда замечал, что у тех, кто желает
давать дефиниции, объяснять и аргументировать в этом пункте, ничего
путного не выходит. Ибо моральная красота обладает столь
уникальной и отвлеченной природой и есть нечто настолько неуловимое, тон-
кос и деликатное, что она не терпит, когда ее хватают руками и
рассматривают со всех сторон, словно какой-то обыкновенный грубый предмет. А потому
вы меня простите, если я буду настаивать на своей философской свободе и предпочту
окопаться в пределах общего и неопределенного представления, — вместо того, чтобы,
пустившись в мелочные и педантичные объяснения подобной красоты, вовсе утратить
ее из виду или дать вам повод для всевозможных придирок, умозаключений, сомнений
и затруднений в этом вопросе — вопросе ясном, как солнце, пока никто о нем не
рассуждает.
Ефранор. Так вы говорите, Алкифрон, что идея эта яснее всего тогда, когда о ней
специально не размышляют?
Алкифрон. Я говорю, что ее нужно воспринимать скорее чувством, нежели
разумом - это некое je ne sais quoi,10 предмет, созданный не для логического мышления,
но для особого чувства, которое по справедливости называют моральным чувством,м
поскольку оно предназначено для восприятия моральной красоты точно так же, как
глаз - для восприятия цвета, а ухо — звука.
Ефранор. В том, что люди имеют от природы известные инстинкты, чувства и
страсти, делающие их привлекательными и полезными друг для друга, я убежден вполне.
Таковы сострадание к несчастным, нежность к потомству, привязанность к друзьям,
соседям, отечеству; возмущение подлостью, жестокостью и несправедливостью. Эти
чувства запечатлены в человеческой душе, а с ними и другие страсти, антипатии и желания,
причем некоторые из них оказываются сильнее и берут верх в одной душе, а другие —
в другой. И потому не кажется ли вам, что следовать личным склонностям и
внутреннему чувству значит избрать весьма ненадежный принцип для нравственного поведения?
Разве это правило не поведет с неизбежностью разных людей разными путями — в
зависимости от преобладания той или иной склонности или страсти?
Алкифрон. Я этого не отрицаю.
Ефранор. А не вытекает ли отсюда, что люди выберут добродетель и долг скорее
всего тогда, когда станут руководствоваться разумом и обоснованным суждением,
сопоставляя низменные и чувственные удовольствия с удовольствиями более высокого рода,
сравнивая нынешние потери с будущими приобретениями; беспокойство и отвращение,
которое порождает каждый порок — с наслаждением противоположной ему
добродетели и с теми радостными мыслями и упованиями, которые ей сопутствуют? И можно ли
сильнее побудить человека к добродетельной жизни, чем доказав ему, что при
всестороннем рассмотрении добродетель совпадает с истинным интересом каждого?
|£3^(F^~ Джордж Беркли ^fé^Gg
Алкифрон. Знайте же, Ефранор: мы презираем добродетель того,
кто вычисляет и взвешивает, нуждаясь в особой причине, чтобы быть
добродетельным. Чистая красота добродетели — вот что приводит в
истинный восторг и восхищение утонченных моралистов нашей
школы. Они пренебрегают всякими адвокатскими аргументами в ее пользу
и обожают добродетель ради самой добродетели. Какой экстаз! Какой
энтузиазм! О квинтэссенция красоты!12 — кажется, я мог бы вечно предаваться этому
созерцанию — и все же, вместо того чтобы услаждать себя, я должен попытаться
убедить вас. Произведите опыт с первым встречным: предложите ему совершить поступок
подлый или несправедливый. Заметьте его первую реакцию — и вы обнаружите, что
это деяние ему отвратительно. Конечно, впоследствии чьи-то доводы могут его
обмануть, а искушение — пересилить, но первоначальные, исконные и непроизвольные его
суждения — справедливы и согласны с добродетелью. Чем же это объяснить, если не
моральным чувством, которое, будучи предоставлено самому себе, воспринимает
красоту и безобразие человеческих действий столь же быстро· и безошибочно, как глаз
цвета и оттенки?
Ефранор. Но разве не служат достаточным объяснением для этого совесть,
привязанность, страсть, воспитание, разум, обычай, религия? Подобные принципы и
мотивы, насколько я понимаю, и могут оказаться тем, что вы метафорически именуете
моральным чувством.
Алкифрон. То, что я называю моральным чувством, является таковым в самом
строгом, точном и истинном смысле и от перечисленных вами вещей отличается по
своему роду. Моральное чувство — это то, чем обладают все люди, хотя и не каждый
способен его в себе обнаружить.
И тогда Ефранор с улыбкой заметил:
— Алкифрон совершил открытия там, где я этого меньше всего ожидал. Во всем
прочем я надеюсь многому у него научиться — однако познания самого себя, своих сил
и способностей я, пожалуй, стану искать не на стороне, а в самом себе. И пусть бы я
искал там достаточно долго — все равно не обнаружил бы я сей новый дар, который и
сейчас, после всех поучений Алкифрона, постигнуть не в силах. Ибо, должен вам
признаться, Алкифрон, слишком уж загадочными и возвышенными оказываются ваши
речи о том, что должно постигаться яснее всех прочих вещей. Я часто слыхал, что
глубокомысленнейшие адепты и старейшие учителя вашей науки бывают как раз
самыми темными. Зато Лисикл молод и выражается ясно. Так вот, не окажет ли он нам
любезность, представив свое толкование этого вопроса, которое, вероятно, больше
придется по мерке моего разума.
Лисикл покачал головой, а потом с важным и серьезным видом
обратился к слушателям:
— Господа, — сказал он, — Алкифрон отвечает за себя сам. Я же к
тем утонченным идеям, защитой коих он сейчас занимался, отношения
не имею. И если бы мне вдруг пришлось подавлять свои страсти,
предаваться созерцаниям и отвлеченным умствованиям или воспылать
любовью к добродетели, — словом, превратиться в энтузиаста — то уважение, которое
обязан я воздать законам моего отечества, столь велико, что я предпочел бы стать
Е^(р αλαφρό. ~^^га
энтузиастом по их образцу. И потом, лучше уж быть им ради какой-то цели, нежели
совершенно без всякой пользы. Алкифроново учение имеет все существенные
неудобства христианской веры, однако лишено свойственных ей привлекательных
перспектив и надежд.
Алкифрон. Да я никогда и рассчитывал на поддержку Лисикла в этом пункте,
который, в конце концов, и не нуждается в его помощи или истолковании. Различные
предметы должно трактовать по-разному. Всевозможные дефиниции и дистинкцни
сухи и педантичны, а к тому же сам объект исследования может оказаться слишком
темным или слишком ясным для подобной методы: в первом случае он известен нам
слишком плохо, во втором — слишком хорошо, так что никакие рассуждения уже не
сделают его понятнее.
Критон. Слова Алкифрона напомнили мне о том хитроумном греке, который,
закутав человека в плащ, спрашивал у его брата, знакома ли ему эта особа,
изготовившись, сорвав плащ или оставив его на месте, опровергнуть любой ответ.13 Я же
полагаю так: если изложить проблему беспристрастно, обнаружится, что разумное
удовлетворение, душевный покой, внутреннее довольство и праведная радость, обретаемые
добрым христианином в добродетельных поступках, ничуть не хуже всех восторгов и
экстазов, являющихся, как принято думать, следствием этого возвышенного и не
поддающегося описанию принципа. В самом деле, какой экстаз может быть ярче, какой
восторг сильнее, чем тот, что проистекает из любви к Богу и »ближнему, из совести,
свободной от греха, из сознания исполненного долга — с тайной радостью, надеждой и
верой, его сопровождающими?
Алкифрон. Ах, Ефранор, мы, поборники истины, вам не завидуем, «о, скорее,
испытываем жалость и сострадание к беспочвенным радостям и ложным надеждам
христианина. А что касается совести и разумного удовольствия, то как же мы
допустим совесть, не признав тем самым мстительное Провидение? И разве можно
предположить, что очарование добродетели состоит в удовольствии или пользе,
обусловленных добродетельными поступками,* без того, чтобы не предоставить огромные
преимущества христианской религии, которая, похоже, именно обещаниями платы в виде
высочайших благ и удовольствий и побуждает верующих к добродетели? Увы! Стоит
лишь нам это признать — и тут же откроются двери для всех изъеденных червями
декламаций о необходимости и пользе основных положений веры — бессмертия души,
наград и наказаний в будущей жизни и тому подобных обветшалых представлений, —
которые, возможно, и сумеют породить низкую и корыстную добродетель цростояаро-
дья, но с неизбежностью совершенно уничтожат и задушат добродетель возвышенную
и героическую.
Ефранор. То, что вы говорите сейчас, вполне понятно — хотел бы
я и главный ваш принцип уразуметь столь же ясно.
Алкифрон. Так вы и в самом деле пребываете в недоумении? Разве
нет у вас представления о красоте? А если есть, то неужели не знаете
вы, что красота привлекает людей — привлекает, говорю я, сама по
себе и ради себя самой?
* "Внутреннее удовлетворение менее всего доступно именно этим мнимым мудрецам, этим
корыстным вычислителям собственной выгоды и пользы". Характеристики, том III, с.301.м
Kté@&F~ Джорд« Беркли ЧйЗ^П
Ефранор. Прошу вас, Алкифрон, скажите, у всех ли люден одинаковое
представление о красоте лица?
Алкифрон. Красота человеческого рода имеет, пожалуй, природу смешанную и
разнообразную, ибо страсти, чувства и качества души сливаются с чертами лица и
воспринимаются как бы через них, а потому на разные умы действуют по-разному — в
зависимости от большей или меньшей симпатии. Но разве для прочих вещей не
существует устойчивого принципа красоты? Найдется ли на земле человек, который не
имел бы понятия о порядке, гармонии и соразмерности?
Ефранор. Видите ли, Алкифрон, есть у меня одна слабость: абстракции и общие
рассуждения меня смущают и сбивают с толку. Зато конкретные вещи соответствуют
моим способностям куда лучше.13 Я могу без труда рассматривать и удерживать в поле
зрения объекты чувств, а потому давайте попытаемся установить, какова их красота
или в чем она заключается, и, таким образом, с помощью этих чувственных вещей,
словно по ступенькам лестницы, поднимемся к красоте моральной и умопостигаемой.
Так вот, будьте любезны сообщить мне, что же мы называем красотой в объектах
чувств?
Алкифрон. Всякому известно: прекрасно то, что нравится.
Ефранор. Так значит, есть красота и в запахе розы, и во вкусе яблока?
Алкифрон. Никоим образом. Красота, строго говоря, воспринимается одним лишь
зрением.
Ефранор. А следовательно, ей нельзя дать это общее определение: «то, что
нравится».
Алкифрон. Соглашаюсь, нельзя.
Ефранор. Тогда как же мы ее определим?
Алкифрон после короткой паузы ответил, что красота заключается в некоторой
симметрии или пропорциональности, приятной для глаза.
Ефранор. И эта пропорция для всех вещей одна — или же в различных предметах
разная?
Алкифрон. Без сомнения, разная. Пропорции быка не будут красивыми у лошади.
Да и в отношении предметов неодушевленных мы замечаем, что красота стола, кресла
или двери заключается в различных пропорциях.
Ефранор. Не предполагает ли эта пропорция отношения одной вещи к другой?
Алкифрон. Предполагает.
Ефранор. И не основываются ли эти отношения на размере и форме?
Алкифрон. Основываются.
Ефранор. А если пропорции правильны, то не должно ли соотношение размера и
формы отдельных частей быть таким, чтобы целое стало полным и совершенным в
своем роде?
Алкифрон. Согласен, должно.
Ефранор. Не называем ли мы вещь совершенной в своем роде, если она
соответствует цели, ради которой создана?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. А значит, части в правильных пропорциях должны так относиться одна
к другой, чтобы наилучшим образом способствовать деятельности и назначению
целого?
Алкифрон. Похоже на то.
Ефранор. Но ведь сравнение частей, рассмотрение их с точки зрения
принадлежности к единому целому, соотнесение целого с его смыслом и назначением являются,
вероятно, делом разума, не так ли?
Алкифрон. Так.
Ефранор. А значит, воспринимаются пропорции, строго говоря, отнюдь не
чувством зрения, но лишь разумом с помощью зрения?
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. Следовательно, красота в вашем понимании является объектом не глаза,
но ума?
Алкифрон. Да.
Ефранор. И, стало быть, глаз сам по себе не может усмотреть красоту кресла или
правильные пропорции двери?
Алкифрон. Кажется, вывод верен — впрочем, последнее утверждение мне не
совсем ясно.
Ефранор. Тогда посмотрим, есть ли здесь какие-либо затруднения. Можно ли, по-
вашему, признать красивым и пропорциональным кресло, на котором вы сидите, если
его высота, ширина, толщина и наклон спинки таковы, что сидеть в этом кресле
неудобно?
Алкифрон. Нельзя.
Ефранор. А следовательно, красоту или симметрию кресла невозможно
воспринять иначе, как определив его назначение и сопоставив форму кресла с этим
назначением, - чего нельзя сделать с помощью одних лишь глаз, без суждения разума. А
потому, видеть предмет — это одно, а постигать его красоту — это совсем другое.
Алкифрон. Я признаю, что это так.
Ефранор. Пропорции двери архитекторы находят красивыми
тогда, когда высота ее вдвое превышает ширину. Но если вы перевернете
дверь с правильными пропорциями, сделав ее высоту шириной, а
ширину — высотой, то хотя общие очертания ее и останутся теми же,
однако в новом положении утратят ту красоту, которую имели в
прежнем. Какая же может быть тому причина, если не та, что в данном
случае в подобную дверь неудобно будет входить существам, имеющим человеческий
облик? Но если допустить, что в какой-то части Вселенной обитают разумные живые
существа, обладающие противоположными пропорциями тела, то они, надо думать,
обратят правило пропорции дверей, и то, что не нравится нам, им покажется
красивым.
Алкифрон. Мне на это нечего возразить.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, есть ли в одежде что-то по-настоящему красивое и
благопристойное?
Алкифрон. Без сомнения.
Ефранор. Может ли кто-нибудь представить нам идею красоты платья лучше, чем
художники и скульпторы, чья важнейшая забота и цель и состоит в создании изящных
изображений и форм?
Алкифрон. Нет, пожалуй.
Ефранор. Давайте же рассмотрим одежды великих мастеров этих искусств,
исследуем, к примеру, как они обычно одевают матрону или знатного человека. Взгляните
KTfélfeflF'" Джордж Беркли ^В%>ГЗ
на эти изображения,— сказал он, указывая на копии с картин Рафаэля и Гвидо,,в
которые висели на стене, — как вы думаете, что за впечатление произвел бы
английский судья или придворный в его варварских, коротких, стесняющих тело одеждах и
в алонжевом парике, или одна из наших дам в своем неестественном платье, узком и
накрахмаленном, в громоздкой юбке с кринолином, чопорно затянутая в корсет, -
итак, что за впечатление произвели бы подобные особы среди этих фигур, столь
благопристойно облаченных в одеяния, естественно, легко и свободно ниспадающие
обилием просторных складок; одеяния, столь благородные в своей простоте, что они
покрывают тело, не стесняя его, и украшают — не обезображивая его форм?
Алкифрон. В самом деле, выглядели бы они весьма нелепо.
Ефранор. И отчего же это, по-вашему, происходит? Почему восточные народы,
греки и римляне как будто без всяких усилий нашли одеяния самые прекрасные и
благопристойные — и почему нашим готическим дворянам, с натугой и мучением
изобретавшим, изменявшим, поправлявшим и улучшавшим свои выдумки, так и не
удалось, кружась в бесконечном водовороте моды, наткнуться на то, что не было бы
нелепым и смехотворным? Не потому ли, что, не желая обратиться к разуму, пользе и
удобству, предались они беззаконной фантазии, этой уродливой родительнице
чудовищ? Тогда как древние, приняв в расчет пользу и назначение одежды, поставили ее
на службу свободе, непринужденности и удобству тела и, даже не помышляя о том,
как бы изменить и подправить естественные формы, стремились лишь к тому, чтобы
явить их с большим приличием и пристойностью. А если так, то не должны ли мы
заключить, что красота платья зависит от того, как оно служит известной цели и
пользе?
Алкифрон. Похоже, вы правы.
Ефранор. И эта подчиненная и относительная природа красоты станет, пожалуй,
еще очевиднее, когда мы рассмотрим, в чем заключается красота лошади и колонны.
Первую Вергилий описывает так:
... Uli ardua cervix
Argutumque caput, brevius alvius, obesaque terga,
Luxuriatque toris amimosum pectus.17
И вот я хотел бы знать, нельзя ли все совершенства коня свести к следующим трем
достоинствам: смелости, силе и быстроте? И не указывает ли каждая из
перечисленных у Вергилия красот на одно из этих достоинств? А если мы подобным же образом
исследуем части и пропорции прекрасной колонны, то обнаружим, что и они
соответствуют этому принципу. Те, кто изучал историю архитектуры,* сообщают, что
пропорции трех греческих ордеров были заимствованы у человеческого тела - как самого
прекрасного и совершенного произведения природы. Таков источник стройных и
грациозных форм этих колонн, являвших силу без грубости или изящество - без
слабости. Итак, эти прекрасные пропорции были первоначально взяты из природы, которая,
как уже было сказано, всегда соотносит свои творения с известной целью, пользой и
замыслом. И разве gonfiezza,19 или утолщение, и сужение колонны не имеют
пропорций, придающих ей вид прочности и легкости разом? И точно так же не должен ли
весь антаблемент со своими проекциями обладать такими пропорциями, чтобы казать-
* См. Комментарии к Витрувию (кн. IV, гл. I) ученого патриарха Аквилеи."4
ся величественным, но не тяжеловесным, легким, но не мелким — поскольку
уклонение в любую из этих крайностей противно смыслу и пользе, которым подчинена и на
которых основана красота вещей? Антаблемент и каждая из его частей и украшений,
архитрав, фриз, триглифы, карнизы, метопы, модильоны и прочее, — все имеют свое
назначение или видимость назначения: они придают зданию прочность и единство,
защищают от дождя и непогоды, устанавливают определенные промежутки между
концами балок и брусьев. А если мы рассмотрим изящные углы фронтонов, дистанции
между колоннами или орнаменты капителей, то не обнаружим ли мы, что их красота
происходит от зримого явления пользы или от подражания природным вещам, чья
красота основана изначально на том же принципе? В этом и заключается величайшее
различие между греческой архитектурой и архитектурой готической: последняя
причудлива и фантастична, и основывается она большей частью отнюдь не на разуме или
природе, не на пользе или необходимости — видимое проявление которых и есть
причина красоты, грации и прелести первой.
Критон. Слова Ефранора подтверждают мое всегдашнее убеждение в том, что
законы архитектуры, как и прочих искусств, процветавших у греков, были укоренены в
природе, истине и здравом смысле. И все же древние, образовавшие свой идеал
красоты путем тщательного исследования начал и основ искусства, не всегда строго себя
ограничивали одними и теми же правилами и пропорциями, но всякий раз не
колеблясь от них отступали, если особое расстояние, расположение, возвышение или
размеры здания или его частей, как им представлялось, требовали того — не отказываясь
тем не менее от исконных принципов красоты, сохранявших свою силу при всех
отклонениях. Зато подобной вольности и широте взглядов современных архитекторов
доверяться, пожалуй, не стоит: в их дерзких выходках не видно ни плана, ни цели;
управляют ими отнюдь не разум, понятие или законы искусства, но обыкновенный каприз и
полнейшее пренебрежение к благородной простоте древних, без которой не может
быть в их творениях никакого единства, изящества или величия. А когда будущий век
унаследует столько памятников роскоши и дурного вкуса нашей эпохи, то это
неизбежно послужит лишь к позору и бесчестью нации — и, боюсь, повлечет за собою
столь же печальные последствия, породив подобное же безрассудство и в прочих
делах, если вместо правил, заповедей и нравственных принципов людям придется
следовать собственным прихотям и первым суждениям о красоте, которые приходят им в
голову.
Алкифрон. Я был бы не прочь несколько яснее уразуметь цель и смысл этого
отступления об архитектуре.
Ефранор. Разве не исследованием прекрасного мы с вами занимались?
Алкифрон. Именно.
Ефранор. Как вы полагаете, Алкифрон, может ли нам здесь и сейчас нравиться
внешний вид вещи, которая нравилась кому-то две тысячи лет назад и за две тысячи
миль отсюда — если никакого реального принципа красоты не существует?
Алкифрон. Не может.
Ефранор. Не так ли обстоит дело с совершенным произведением архитектуры?
Алкифрон. Этого никто не отрицает.
Ефранор. Архитектура, это благородное детище разума и воображения,
постепенно сформировалась у самых мудрых и образованных народов Азии, Египта, Греции и
Италии. Ее ценили и лелеяли величайшие державы и знаменитейшие государи, кото-
воя
рые, не пожалев огромных расходов, возвысили ее и довели до совершенства. И,
кажется, она более всех прочих искусств имеет отношение к порядку, пропорции и
симметрии. А потому нельзя ли предположить, что именно она скорее всего и поможет нам
образовать некое разумное представление об этом je ne sais quoi в красоте? В самом
деле, разве не выяснили мы из нашего отступления, что поскольку нет красоты без
пропорции, то пропорции следует считать истинными и правильными только тогда,
когда они относятся к определенной цели или пользе, причем соответствие и
подчинение этой цели и есть в сущности то, что делает их приятными и очаровательными?
Алкифрон. Я допускаю, что все это верно.
Ефранор. И хотел бы я знать, какую же красоту если исходить
из подобной доктрины — можно обнаружить в моральном
миропорядке, образованном, связанном и управляемом случаем, судьбой или кц-
ким-то иным слепым и немыслящим началом? Ибо без мышления
невозможно осмысленное целеполагание, без цели же не бывает пользы,
а без пользы — пригодности или соответствия пропорций, из которых
и возникает красота.
Алкифрон. Но нельзя ли предположить некий жизненный принцип красоты и
гармонии, разлитый по всему мирозданию — не допуская при этом Провидения, зорко
следящего за поступками людей и распределяющего награды и наказания, не
принимая бессмертия души, будущей жизни — словом, всего того, что обычно именуется
верой, богопочитанием и религией?
Критон. Но тогда вам придется предположить одно из двух: либо ваше начало
разумно, либо не обладает разумом. Примем второе — и перед нами все те же случаи
и судьба, аргументы против которых уже были приведены. Если же мы выбираем
первое, то позвольте мне попросить Алкифрона растолковать нам, в чем же будет
заключаться красота моральной системы с верховным Разумом во главе, если Разум
этот не защищает невинных, не карает злых и не вознаграждает добродетельных?
Если же мы допустим существование сообщества разумных созданий, действующих
под надзором Провидения, совместными усилиями способствующих достижению
единой цели — благу и пользе целого — и согласующих свои поступки с утвержденными
отчей мудростью Божества законами и порядком; сообщества, где каждый деятель
видит в себе не отдельный элемент, но члена великого Града, творцом и основателем
коего является Бог; сообщества, в котором гражданские законы суть не что иное, как
правила добродетели и обязанности религии, а истинный интерес каждого сочетается с
его долгом, — если мы это все допустим, то сделаем предположение восхитительное и
радостное. И при таком положении вещей человеку не нужно превращаться в стоика
или странствующего рыцаря, чтобы объяснить самую возможность собственной
добродетели. В таком мире порок будет сумасшествием, коварство — безрассудством,
мудрость и добродетель сольются в одно, и несмотря на все кривые тропинки и окольные
пути, протоптанные людьми, несмотря на их своевольные страсти и капризные
склонности, верховный Разум непременно сумеет пресечь все уклонения, исправить все, что
не в порядке, и, в конечном счете, привести всю эту систему в точное соответствие с
законами мудрости и справедливости. И сколь радостно наблюдать, как в этой системе
или сообществе — которое управляется мудрейшими заповедями и гарантируется
величайшими наградами и грозными предупреждениями - действие законов, распред-
еление блага и зла, стремление моральных агентов, — словом, как все эти силы,
находя ишеся в должном соподчинении, сливаются воедино ради благороднейшей цели —
совершенного счастья и благополучия целого. И созерцая красоту такого морального
миропорядка, можем мы вслед за псалмопевцем воскликнуть: "Сколь прекрасные
вещи вещают о тебе, Град Божий!"
Великую красоту явит нам система духов, подчиненных единой
воле и руководству их Отца, который управляет ими через свои законы,
должными средствами обращая к целям благим и мудрым. Но откуда
же взяться красоте в бессвязной и беспорядочной системе, которой
правит случай, или в системе слепой, где царит рок, или во всякой
иной системе, Провидением не руководимой? Ведь не бывает красоты
без порядка, а порядка - без замысла и разумной цели. Воистину прекрасное зрелище
представляет собой человек, сознающий, что воля его подчиняется той божественной
воле, которая вносит во Вселенную порядок и гармонию, наилучшим образом
направляя целое к высшей цели. И напротив, сознание того, что добродетель, незамеченная
или презираемая, страждет среди людей, что нет до нее дела Богу, и не получит она от
него наград, что худо ей приходится в этом мире, и нет у нее надежды на лучшее
обращение в мире ином - хотелось бы мне знать, какое же удовольствие заключено в
этом знании, какая красота — в подобном зрелище? И может ли человек,
находящийся в здравом уме, полагать, будто распространение подобных идей и есть путь к
распространению и укреплению добродетели в мире? Неужели вам будет радостно
наблюдать, как мошенники обдирают честного человека? Приятно ли вам видеть, как
презирают и оскорбляют людей добродетельных, тогда как порок торжествует?
Какой-нибудь энтузиаст может, конечно, тешить себя фантазиями и забавляться блестящими
рассуждениями о подобной системе — но уж если займутся ею люди с холодной
головой и проницательным умом, то, полагаю, ни красоты, ни совершенства они там не
обнаружат, и не покажется им, что эта моральная система могла выйти из тех же рук
или быть сколько-нибудь схожей с системой природы — системой, в которой сияет
столько порядка, гармонии и соразмерности!
Алкифрон. Ваши речи лишь укрепляют меня в собственном мнении. Как вы,
должно быть, помните, я заявил, что первые мысли людей об этой возвышенной
моральной красоте и будут самыми лучшими; если же мы примемся исследовать,
доискиваться и рассуждать, то рискуем утратить ее из виду. А в том, что подобная красота
существует, невозможно будет усомниться, если принять в расчет, что некоторые
философы наших дней обладают возвышенной добродетелью — и совершенно без всякой
примеси религии. Вот вам ясное доказательство пользы и действенности наших
принципов!
Критон. Не оспаривая добродетель мелких философов, дерзну
усомниться в ее первопричине: в самом ли деле это некая
неизъяснимая, приводящая в восторг идея моральной красоты или, как мне
кажется, темперамент, привычка, религиозное воспитание — то, на что
уже указывал Ефранор? Но какую бы красоту ни приписывали вы
добродетели в атеистической системе, в системе религиозной она будет
не менее прекрасна — разве что вы предположите, что очарование добродетели блек-
нет по мере того, как ее приданое растет. Дело в том, что верующий находит в красоте
добродетели все те побудительные мотивы, которые, возможно, доступны и
неверующему, но сверх того, он имеет и другие стимулы, коих у атеиста нет. Отсюда ясно: те
из вашей секты, кто обладает моральной добродетелью, обязаны ею отнюдь не своим
особенным принципам — которые как раз способны лишь ослабить побуждения к
добродетели. А значит, добрые среди вас не столь добры, дурные же - еще
испорченнее, чем если бы они были верующими.
Ефранор. И кажется мне, что великой жалости и великого восхищения
заслуживают эти героические атеисты, пылкие поклонники отвлеченной красоты.
Услышав это, Лисикл не без некоторой досады отвечал:
— Господа, свои мысли на сей счет я выскажу ясно и откровенно. Все, что нам
толкуют о моральном чувстве или моральной красоте — будь то в понимании Алкиф-
рона, в смысле Ефранора или в любом ином значении — есть в сущности лишь
химера, обман и притворство; καλόν и πρέπον, прекрасное и приличное - это все вещи
внешние, относительные и неглубокие, бессильные во мраке, представляющие собой,
однако, выигрышные общие места для пространных умствований — коим и предаются
с охотою иные формальные претенденты на звание свободомыслящего (в остальных
отношениях вполне ортодоксальные). Но пусть только кто-нибудь из них добьется
власти — и вы обнаружите, что не такой уж он глупец, как это воображает Ефранор.
Вам сразу же станет ясно: он прекрасно усвоил, что род людской состоит из
мошенников и лицемеров, и жертвовать собою ради подобных — безумие, что все наши заботы
ограничены земной жизнью, а поскольку земная жизнь есть для каждого человека его
собственная жизнь, то отсюда ясно, что и благодеяния нужно начинать с самого себя.
Мудрец, может быть, и делает вид, будто полон благожелательности к человечеству -
однако в действительности желает он добра лишь себе самому. Более живые и
энергичные из наших философов не затрудняются признать эти правила открыто, а что
касается более степенных и осторожных, то если они будут верны своим принципам,
вы сможете догадаться, как они мыслят во глубине души.
Критон. Как бы ни действовала чистая теория на некоторые избранные, особым
образом устроенные умы, и какое бы влияние ни имела она в иных частях света, я
совершенно серьезно полагаю, что разума, религии и закона окажется в нашей стране
недостаточно для того, чтобы подчинить внешнего человека человеку внутреннему; и
что немного рассудка и проницательности обнаружит тот, кто сочтет, что и без этих
вещей можно внушить людям любовь к золотой середине. К последней же
соотечественники мои склонны меньше прочих народов, ибо есть в душе англичанина некий
пыл и мрачное рвение, увлекающее его к печальным крайностям: от религии — к
фанатизму, от вольнодумства — к неверию, от свободы — к бунту, а потому даже в
предметах менее важных не стоило бы нам рисковать, выбирая себе в проводники
прихоть и вкус. Красота платья, мебели, зданий есть, как заметил Ефранор, нечто
вполне реальное и хорошо обоснованное, — и однако, мы, англичане, не способны
открыть ее сами. И какие же скверные вещи выходят у англичан и других северных
народов, когда следуют они в любой из этих областей собственному чувству
красоты! — вместо того чтобы пользуясь, насколько возможно, своими природными
задатками, воспитать истинный вкус, который в данном случае приобретается изучением
древних образцов, а в отношении добродетели — через великие примеры и глубокие
размышления. Как бы to ни было, не стоит рассчитывать, что το καλόν послужит
руководящей идеей для большинства, имеющего слишком живые ощущения, сильные
страсти и грубые умы.
Алкифрон. Но чем их меньше, тем большего уважения и
восхищения заслуживают философы, чьи души волнует и приводит в восторг
эта возвышенная идея.
Критон. В таком случае мы были бы вправе ожидать, что у
подобных философов достанет здравомыслия и любви к человечеству, чтобы
держать эти принципы при себе и помнить, что на их немощных
братьев сильнее действует отнюдь не чистая красота бескорыстной добродетели, но
чувства и представления совершенно иного рода.
Кратил,21 человек предубежденный против христианской религии, был слаб
здоровьем, а положение в обществе занимал такое, о котором большинство не смеет и
мечтать. Богатство Кратил а соответствовало его знатности. К порокам чувственности он
был мало способен, пороки бесчестья и обмана его не соблазняли. Приведя себя самого
рассуждениями в стоический восторг перед красотой добродетели (или вообразив, что
он в этом состоянии находится), Кратил, под благовидным предлогом побуждения
людей к добродетели героической, попытался разрушить средства, способные сделать
их добродетельными разумно и по-человечески, — вот вам ясный пример того, что ни
происхождение, ни книги, ни беседы не помогут познать реальную жизнь
тщеславному уму, который вечно будет своим собственным объектом, созерцая человечество, как
в зеркале, лишь через самого себя!
Алкифрон. Кратил был поклонником свободы и любил свое отечество, желая сделать
людей добродетельными на основе самых благородных и бескорыстных принципов.
Критон. [Действительно: важнейшая цель сочинений Кратила (по его собственным
словам)2- состояла в том, чтобы отстоять реальность красоты и очарования как в
моральном, так и в физическом мире, доказать существование морального вкуса
(который считает он более действенным, чем правило и закон) и, наконец, побудить людей
к добродетельному поведению на тех же основаниях, на каких рекомендуют им
хорошие манеры, — и в итоге, построить философию на фундаменте того, что именуют
приятным и изящным. Что же касается религиозных сомнений и страхов, то есть веры
в будущие награды и наказания и тому подобное, — то сей великий муж, не
колеблясь, заявляет, что свободная, образованная и изысканная часть рода людского
должна видеть в них лишь детские сказки и забавы толпы. А для людей избранных он по
великой своей доброте и мудрости измыслил нечто иное, а именно вкус или
склонность; последние, как он нас уверяет, во всяком случае окажут действительное
влияние, ибо, согласно его мнению, каждый, кто носит на себе хоть какой-то отпечаток
светскости (так он выражается) и хорошего воспитания, достаточно знаком с грацией
и привлекательностью вещей, чтобы тотчас же прийти в восторг при их
созерцании.]*23 Он ведет себя так же мудро, как и монарх, который взял бы и объявил, что в
его королевстве нет больше ни палачей, ни тюрем, принуждающих к исполнению
законов, но что исполнять законы — попросту прекрасно, и что поступая подобным
образом, люди смогут вкусить бескорыстное наслаждение, проистекающее из
соразмерности, порядка и благопристойности.
* См. Характеристики, том III (Мысли о разном 5, гл. 3; Мысли о разном 3, гл. 2)21
|IJL*jlal
Алкифрон. Но, в конце концов, разве некоторые древние мудрецы - и весьма
знаменитые! — не держались того же мнения, что и Кратил, утверждая, что не
заслуживает имени добродетельного человека и не возвысился до его характера тот, кто
поступает добродетельно ради чего-то иного, кроме красоты самой добродетели?
Критон. Кажется, некоторые из древних действительно говорили такое, что могло
подать повод к подобному мнению.
Аристотель* различает два вида хороших людей: первого он называет αγαθός или
просто хорошим (добрым), второго — κάλος κάγαθός, отсюда сложное слово
καλοκαγαθία, которое, пожалуй, невозможно предать каким-либо одним словом
нашего языка. Но смысл его , очевидно, таков: αγαθός называет он человека, для которого
хорошие по природе вещи хороши и полезны — ибо, по мнению Аристотеля, то, что
обычно считается величайшим благом — богатство, почести, власть, телесное
совершенство - и в самом деле являются таковым по природе, однако некоторым людям
ввиду их дурных склонностей и привычек все это может принести вред, поскольку
человеку глупому, несправедливому и невоздержанному пользы от них не больше, чем
больному — от пищи, пригодной для здоровых людей. Между тем κάλος κάγαθός -
это человек, поступающий добродетельно из одной лишь любви к внутренней красоте
добродетели. Этот философ замечает также, что у спартанцев и некоторых других
народов существует мнение, согласно которому добродетель следует высоко ценить и
практиковать ради естественных преимуществ и благ, с нею связанных. Поэтому,
добавляет Аристотель, они на самом деле являются хорошими людьми, однако не
обладают καλοκαγαθία, то есть добродетелью высшей и совершенной. — Отсюда ясно, что,
по Аристотелю, хорошим может быть и тот человек, который не считает наградой
добродетели самую добродетель и побуждается к добродетели не одним лишь чувством
моральной красоты. Ясно также, что Аристотель четко различает гражданские
добродетели, которые общество всегда стремится укрепить, и добродетели возвышенного,
умозрительного рода.
Стоит также отметить, что возвышенная теория Аристотеля вполне согласуется с
признанием Провидения, которое видит и вознаграждает добродетель лучших людей.
Ибо, — говорит он в другом месте,**— если боги сколько-нибудь пекутся о
человеческих делах (а судя по всему, это так), то разумно предположить, что сильнее всего
восхищает их наиболее совершенная и близкая им самим сущность, каковой является
мышление, и что вознаградят они именно того, кто любит и развивает самое любезное
для богов. Тот же философ указывает,*** что большинство людей так устроены по
природе, что страх действует на них сильнее, чем стыд; и от порочных поступков
воздерживаются эти люди не по причине их безобразия, но из-за наказании, которые
те за собою влекут. Он также пишет,**** что юность питает естественное отвращение
к воздержности и умеренности, а потому ее следует обуздывать законами,
упорядочивающими воспитание и занятия молодых людей, причем подобная строгость и
дисциплина должны действовать даже тогда, когда юноши станут мужчинами. Для
этого, а коротко говоря, для упорядочения всей нашей жизни, утверждает
Аристотель,30 и нужны нам законы: ведь люди по большей части повинуются не разуму, а
• Ethic, ad Eudem. Lib VII cap. ult.»
·· Ad Nicom. Lib. X. cap.8.27
··· Ad Nicom. Lib. X. cap. 10.**
·**· Ad Nicom. Lib. X. cap.9.»
ECSXJ
силе, и влияет на них не красота добродетели, но, скорее, угроза наказания,
ζημιαιζη τώ καλώ.
Из всего этого вполне ясно, что подумал бы Аристотель о тех, кто желает ослабить
или уничтожить страхи и надежды людей, рассчитывая сделать человечество
добродетельным только лишь благодаря красоте самой добродетели.
Алкифрон. Но что бы там ни толковали Стагирит и его
перипатетики, разве не известно нам с достоверностью, что стоики
поддерживали это учение в самом высоком его смысле, утверждая, что красота
добродетели самодостаточна, что добродетель и есть награда за
добродетель, сама по себе способная сделать человека счастливым вопреки
всему тому, что толпа считает величайшими страданиями и несчастия-
мн человеческой жизни? И в то же время разве не утверждали они, что душа
человеческая по природе телесна и после смерти рассеивается, как дым и туман?
Критон. Стоики, надо признать, выражались порою так, будто действительно
верили в смертность души.31 И в одном послании к Луцилию Сенека рассуждает обо
всем этом совсем как мелкий философ. Но в других местах32 он исповедует прямо
противоположные мнения, утверждая, что после смерти души людей возносятся на
небеса и оттуда взирают на землю; они наслаждаются зрелищем небесных тел,
течением природных явлений и беседой с мудрыми и совершенными мужами, которые жили
на земле в разные века и в разных странах, а теперь образуют единое сообщество на
небе.
Нужно признать, что Марк Антонин иногда говорит о душе как о подверженной
гибели и распадающейся на составные части. Следует, однако, заметить, что он
различает в человеческой природе три начала: σώμα, ψυχή и νους,* тело, душу и ум, или в
других выражениях,34 σαρκι'α, πνευματιον и ήγεμονικον, плоть, дух и управляющее
начало. То, что он называет ψνχή, или душой, — это грубая часть нашей природы, и
она в самом деле изображается им как нечто составноеji подверженное распаду, а
после смерти действительно распадающееся. Однако νους, или το ήγεμονικον — ум,
или правящее начало есть, по мнению Марка Антонина, чистая небесная сущность,
θεού απόσπασμα, частица Бога, которая, как он полагает, после смерти человека в
целом и совершенном виде возвращается к звездам и божеству. Сверх того, при всех
своих великолепных поучениях и замечательных мыслях о силе и красоте
добродетели, он остается вполне убежденным в бытии Бога — и не просто как некой
«пластической природы» или «мировой души», но в строгом смысле Провидения, зорко
следящего за людьми и пекущегося об их делах.**
А значит, о стоиках (пусть даже их слог был столь возвышен, что выходил порою
за пределы истины и природы) нельзя сказать, будто все побуждения к
добродетельной жизни они сводили к одной лишь красоте добродетели и, таким образом,
стремились разрушить веру в нематериальность души и воздающее Провидение. Но даже
если допустить, что для бескорыстных стоиков (в этом отношении не вполне чуждых
нашим современным квиетистам) добродетель действительно стала своей собственной
наградой в самом строгом и полном смысле, то какое же до этого дело тому, кто
• Marc Antonin. Lib. HI. cap.!6.tt
** Marc- Antonin. Lib. II. cap.П."
BOC2
|£^^^Джорд« Беркли ^|)^Г31
стоиком не является? Если мы примем все принципы данной секты без исключения,
признав их представления о добре и зле, их знаменитую «апатию», — одним словом,
если мы вообразим себя полными и совершенными стоиками, то, пожалуй, сможем
отстаивать их учение о добродетели с большей убедительностью — по крайней мере,
оно будет в согласии и единстве с нашей доктриной в целом. Тот же, кто позаимствует
у стоиков лишь одну эту яркую заплату и вставит ее в какое-то современное
сочинение, приправленное идеями и украшенное остроумием нашего времени, тот и в самом
деле произведет замечательное впечатление — однако, в глазах людей мудрых совсем
не то, на которое он рассчитывал.
А впрочем, следует согласиться: наш век чрезвычайно
снисходителен ко всему, что претендует на нечестивую насмешливость, которая
сама по себе является в глазах публики достаточной рекомендацией
для любого причудливого и эксцентричного сочинения. И вы часто
можете наблюдать, как показной блеск писаний новейшего автора
превращается для этого ученого и просвещенного столетия в хороший
слог, как вымученная аффектация становится изяществом, педантизм - тонкостью,
темнота — глубокомыслием, бессвязность — полетом фантазии, самое ничтожное
подражание — природным даром, — и все это благодаря одному-единственному
достоинству — малой доле лукавого богохульства.
Алкифрон. Остроумные сочинения не всем в равной степени по душе, и не каждый
способен их оценить. Один знатный человек с тонкой иронией замечает, что "известные
преподобные авторы, снисходящие порою до мирского остроумия, вполне могут
случайно натолкнуться на изысканный и благовоспитанный тон; со временем же они, без
сомнения, еще более усовершенствуют свой стиль и манеры на пользу и в назидание
образованному обществу, которое так неравнодушно к остроумию и шутке.":,(ί Все дело в том,
что различие читательских вкусов требует различного рода авторов, И наша секта об
этом позаботилась, выказав здесь большую проницательность. Для прозелитов
степенных и серьезных есть у нас авторы глубокомысленные, весьма сильные в аргументации;
для простонародья и завсегдатаев кофеен — говоруны красноречивые и многословные.
О подобном авторе можно не в укор ему сказать: fluit lutulentus37 — тем лучше
подходит он для своих читателей. И наконец, для людей знатных и изящно воспитанных мы
располагаем самыми тонкими и остроумными railleurs:ж на свете, чья насмешка и есть
вернейшее мерило и испытание для всякой истины/19
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а эти ваши остроумные railleurs — люди знающие
и образованные?
Алкифрон. Еще бы!
Ефранор. И им известны, к примеру, система Коперника и циркуляция крови?
Алкифрон. Можно подумать, что о нашей секте судите вы по своим деревенским
соседям: ведь в городе не найдется человека, который всего бы этого не знал!
Ефранор. Значит, вы верите в существование антиподов, гор на Луне и в
движение Земли?
Алкифрон. Верим.
Ефранор. А теперь представьте, что пять или шесть веков тому назад кто-нибудь
стал бы защищать подобные мнения в обществе beaux esprits 10 английского двора —
как бы эти идеи были, по-вашему, восприняты?
С^БУ Алкифрон ~^)^Г31
Алкифрон. Их бы подняли на смех.
Ефранор. Зато теперь смеяться над ними было бы нелепо?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. А значит, насмешка не является пробным камнем и высшим мерилом
для истины, как вы это себе, господа, воображаете.
Алкифрон. Одно мы знаем точно: наш смех и сарказм досаждают черному
племени, что для нас весьма утешительно.
Ефранор. И еще одно обстоятельство вам, пожалуй, следовало бы учесть. В
припадке смеха человек рукоплещет таким шуткам, которые впоследствии, когда он
придет в себя, могут показаться ему достойными порицания. Вспомните хотя бы об
осмеянии Сократа одним комическим поэтом: остроумие и одобрительный прием
доказывают справедливость этих насмешек не больше, чем ваших — если их спокойно
исследуют рассудительные люди.
Алкифрон. Во всяком случае, нельзя отрицать, что, поднимая на смех
религиозные принципы, наши остроумцы многих обращают в свою веру. И, честное слово, это
и есть.самый приятный и действенный способ убеждения. С помощью смеха наши
авторы отучают людей от религии — как некогда Гораций смехом же отбивал у них
охоту к порокам: Admissi circum proecordia ludunt.41 Однако ханжи и фанатики не в
силах понять и оценить их остроумие.
Критон. Но ведь остроумие, лишенное ума — если таковое вообще
возможно — едва ли стоит искать. А что до мудрости этих людей, то
она столь необычна, что в ней позволительно усомниться. Цицерон
был умный человек, а не какой-нибудь фанатик — однако он
заставляет Сципиона признаться, что еще бдительнее и сильнее на ристалище
добродетели делает его мысль о том, что наградой будет небо.* И он
выводит на сцену Катона, который заявляет, что никогда бы не совершил великих
добродетельных трудов на службе отечеству, если бы полагал, что его бытие приходит
к концу вместе с этой жизнью.**
Алкифрон. Соглашаюсь: Катон, Сципион и Цицерон были для своего времени
очень хороши — и все же вы должны меня простить, если я замечу, что до
совершенной добродетели нынешних свободомыслящих они не возвысились.
Ефранор. Стало быть, сейчас у нас добродетель цветет как никогда прежде?
Алкифрон. Именно.
Ефранор. И подобным изобилием всяческой добродетели обязаны мы той методе,
каковую используют глубокомысленные ваши авторы ради ее насаждения?
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. Но ведь вы признали, что восторженные энтузиасты и поклонники
добродетели — это отнюдь не большинство в вашей секте, но лишь горстка избранных
умов.
Алкифрон на это ничего не отвечал, и тогда к Ефранору обратился Критон:
- Чтобы верно оценить силу и достоинство новомодной добродетели, вам нужно
не пересчитывать добродетельных людей, но, скорее, рассмотреть качество их добро-
* Somnium Scipionis, §8.12
** De Senectute. 1:«
Bk№$&iw Джордж Беркли Д/WSW jA
детели. Так вот, добродетель этих утонченных теоретиков есть нечто столь чистое и
идеальное, что одна ее капелька обладает огромным весом и является прямо-таки
бесценной. А посему рациональная и корыстная добродетель древних спартанцев и
англичан не идет с ней ни в какое сравнение.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, разве не существуют болезни души — как есть
болезни тела?
Алкифрон. Несомненно, существуют.
Ефранор. И болезни эти суть порочные склонности?
Алкифрон. Да.
Ефранор. И подобно тому как телесные недуги излечивает медицина, так и от
душевного нездоровья исцеляет философия?
Алкифрон. Не спорю.
Ефранор. Значит, философия — это лекарство для человеческой души?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Каким же образом можем мы судить о различных лекарствах? Как
узнаем, какое следует предпочесть? Не по их ли действию?
Алкифрон. Несомненно.
Ефранор. Но если там, где свирепствует эпидемия, объявится некий новый
лекарь, который отвергнет известную и давно укоренившуюся практику и порекомендует
иной способ лечения, то неужели, соразмерно росту смертности, не почувствуете вы
сомнений относительно этого нового метода — несмотря на все благовидные и
правдоподобные рассуждения его сторонников?
Алкифрон. Все это лишь сбивает с толку и уводит в сторону от вопроса.
Критон. Я сейчас вспомнил моего друга Лампрокла, который довольствовался од-
ним-единственным аргументом против свободомыслящих. "Я замечал, говорил
Лампрокл, — что с ростом неверия росла всякого рода испорченность и появлялись
новые пороки." И этого простого, основанного на фактах соображения оказалось
достаточно, чтобы он — невзирая на протесты некоторых остроумных особ —
заблаговременно наполнил и украсил умы своих детей принципами религии. А те новые
теории, коими проницательные мыслители наших дней тщились заменить религию,
развились в наше время вполне и уже успели соответствующим образом повлиять на умы
и нравы. "Люди всегда люди" — максима верная, но столь же верно и то, что
нынешние англичане уже не похожи на прежних — лучше они стали или хуже,
добродетельнее или порочнее — думаю, мне нет нужды говорить. Каждый может увидеть и
определить сам. Хотя, по правде сказать, после того как был изгнан Аристид,11 а Сократ
предан казни в Афинах, уже не нужно быть волшебником и провидцем, чтобы
догадаться, каких успехов чистая красота добродетели добилась бы у нас в Англии.
Впрочем, для догадок не остается теперь ни времени, ни возможности. Собственный опыт
должен открыть нам глаза — если же они по-прежнему будут оставаться закрытыми,
то, боюсь, когда-нибудь мы их откроем очень широко - но уже не затем, чтобы искать
средств избегнуть гибели, а чтобы созерцать ее и оплакивать.
Алкифрон. Какими бы ни были последствия, я не в силах согласиться с теми, кто
истину измеряет пользой. Истина — вот единственное божество, коему я поклоняюсь,
и куда бы она меня ни повела, я последую за нею.
Ефранор. Стало быть, вы — страстный поклонник истины?
Алкифрон. Несомненно.
BdDCa
Ефранор. Всякой истины?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Познанной вами или оглашенной для всех?
Алкифрон. И той, и другой.
Ефранор. Как! И вы скажете правду ребенку, Принимающему лекарство? Вы с
услужливостью исправите ошибку неприятеля, который наступает в ложном
направлении? А человеку, впавшему в бешенство, покажете, где лежит его меч?
Алкифрон. В подобных случаях нашими поступками руководит здравый смысл.
Ефранор. Вот как? Стало быть, нужно обратиться к здравому смыслу, чтобы
определить, благотворна данная истина или гибельна, следует ли ее утаивать или
провозгласить во всеуслышание?
Алкифрон. Что! Вы хотите, чтобы я скрывал истину, чтобы я душил ее и хранил
лишь у себя? Вы этого желаете?
Ефранор. Я всего лишь делаю ясный вывод из того, с чем вы уже согласились.
Сам же я в истинность ваших мнений не верю. Но если даже вы в это верите, то, чтобы
не впасть в противоречие с самим собою, вам не следует думать, будто оглашение
вредных истин есть дело мудрое или необходимое. Какая польза обществу от того, что
вы ослабите побуждения к добродетели? Какой ущерб, если вы их укрепите?
Алкифрон. Решительно никакого. Мой ум, однако, не в силах примириться с
общепринятыми идеями Бога и Провидения, а душа моя питает отвращение к низкому
потворству лжи.
Ефранор. А в таком случае не воззвать ли нам к истине и не исследовать ли
причины, удерживающие вас от веры в подобные вещи?
Алкифрон. Весьма охотно — однако на сегодня достаточно. Сделаем это
предметом нашей следующей беседы.
jsnd^$^^ji^
г
Диалог четвертый
1. Предрассудки, касающиеся Божества.
2. Установленные Алкифроном правила для
доказательства бытия Бога.
3. Какого рода доказательства ои ожидает.
4. Откуда мы выводим существование мыс-
лящиж личностей.
5. Тем же методом a fortiori доказывается
бытие Бога.
6. Новые соображения Алкифрона на этот
счет.
7. Бог говорит с человеком.
8. Каким обравом расстояние
воспринимается врениеи.
9. Подлинные объекты зрения не находятся
на расстоянии»
10. Различные комбинации света, теин и
цвета образуют язык.
11. Значение этого языка усваивается через
опыт.
12. Бог являет свою волю людям черев
произвольное использование чувственных
знаков.
13. Предвзятость и двуличие мелких
философов.
14
15.
16.
17.
Бог соприсутствует людям, увещевая,
поучая и направляя их чувственным образом.
Удивительная природа и польза
Зрительного Языка.
Мелкие философы соглашаются допустить
Бога в известном смысле.
Мнение тех, кто полагает, что знание и
мудрость в собственном смысле не
присутствуют в Боге.
18. Опасная тенденция подобного мнения.
19. Его источник.
Представление схоластиков об этом предмете.
Истолкование схоластического
употребления терминов «аналогия» и
«аналогический». Ложное понимание
аналогических совершенств в Боге.
Бог мудр и благ в прямом смысле этих
слов.
Анализ возражения, аргументируемого от
морального зла.
От своих недостатков люди
умозаключают против Божества.
25. Религиозный культ разумен и полезен.
20.
21.
22.
23.
24
SSW
jsBk
На следующий день, выглянув рано по утру из окна, я заметил
Алкифрона, который прогуливался по саду с видом человека,
погруженного в серьезные раздумья. Тогда я спустился к нему.
— Алкифрон, — сказал я, — ваши утренние глубокие
размышления наводят на меня страх — да еще какой! Почему? Да потому что
мне было бы досадно убедиться в том, что никакого Бога нет. Мысль
об анархии в природе возмущает меняя еще сильнее, чем представление о беспорядке
в мире гражданском: ведь естественные отношения важнее гражданских, ибо являются
фундаментом для всех остальных.
eksxj
— Я допускаю, — отвечал Алкифрон, — что опровержение бытия Божия,
возможно, и повлечет за собою некоторые неудобства — однако то, что вы говорите об
«устрашающем» и «возмущающем» вас, есть не более, чем обыкновенный предрассудок.
Сначала люди образуют в собственных умах некую химерическую идею, потом падают
ниц и поклоняются ей. Мнения правят человечеством, из всех же мнений
распространилось шире других и пустило глубочайшие корни представление о том, что миром
правит Бог. А потому воистину героический подвиг совершает философия, когда
лишает воображаемого монарха его власти, изгоняя все эти страхи и призраки, рассеять
которые способен лишь свет разума.
Non radii solis, non lucida tela diei
Discutiunt, sed naturae specis ratioque
(Lucretius). '
— Моя же роль, — сказал я, — в том, чтобы как и прежде оставаться свидетелем,
который будет наблюдать за всем, что произойдет во время этого знаменательного
события, когда мелкий философ, ростом не выше шести футов, попытается свергнуть
с престола Владыку Вселенной.
— Увы! — возразил Алкифрон. — Не футами и не дюймами измеряются
аргументы. Один человек может постичь больше, чем миллион людей, а маленький довод в
умелых руках свободомыслящего в силах уничтожить громадную химеру.
В ходе этого разговора к нам присоединились Критон и Ефранор.
— Вижу, сегодня вы нас опередили, — сказал Алкифрону Критон, — и, пока мы с
Ефранором еще почивали в своих постелях, воспользовались уединением и утренними
часами. А значит, мы вправе рассчитывать, что атеизм, подкрепленный сильнейшими
доводами, предстанет сегодня перед нами в самом ярком свете.
Алкифрон. Бытие Божие — это предмет, по поводу которого было
сказано великое множество банальностей и общих мест. А потому
позвольте мне установить определенные правила и ограничения с тем,
чтобы сократить нынешнюю беседу. Ибо, поскольку цель спора
заключается в разумном убеждении, все, чуждое этой цели, надлежит
оставить в стороне.
Итак, разрешите, во-первых, заявить: меня не смогут убедить метафизические
аргументы, вроде тех, что основываются на идее всесовершеннейшего существа или на
абсурдности бесконечного ряда причин.2 Подобные доводы я всегда находил
скучными и сухими; они не соответствуют моему образу мысли, а потому сумеют разве что
поставить меня в тупик, однако никогда не смогут убедить. Во-вторых, на меня не
подействует никакой авторитет — ни нынешнего, ни прежнего времени, ни
человечества в целом, ни отдельных лиц: все это немного значит для человека, мыслящего
свободно и основательно. И, в-третьих, все доводы, основанные на пользе и удобстве, не
имеют отношения к нашему предмету: они, правда, в силах доказать полезность вещи,
но отнюдь не ее существование.
А теперь, дабы не показаться пристрастным, я наложу ограничения и на самого
себя. Во-первых, я не стану умозаключать против причины, обладающей бесконечной
мудростью и силой, основываясь на том, что может нам показаться беспорядочным и
необъяснимым в произведениях природы, ибо ваш ответ на мои возражения я знаю
наперед: судить о соразмерности, назначении и пользе частей огромного механизма,
связанных друг с другом и с целым, мы в праве лишь тогда, когда можем охватить
мыслью весь механизм, или Универсум в его целокупности. Во-вторых, я обещаю не
заниматься опровержением справедливости и провидения Высшего Существа,
указывая на несчастия, постигающие людей добрых, и на благоденствие, часто выпадающее
в этой жизни на долю людей злых: ведь я знаю, что вы, вместо того чтобы признать
этот довод веским возражением против Божества, тут же обратите его в аргумент в
пользу будущей жизни, в которой распределение наград и наказаний Таково, что
может оправдать Бога и Его атрибуты, и, в конечном счете, привести все в должный
порядок. Кстати, эти ваши ответы, хотя их и следует признать основательными,
являются, строго говоря, не доказательствами бытия Божия, но лишь разрешением
известных трудностей, из которых, действительно, можно выпутаться но при условии, что
бытие Бога уже было доказано убедительными аргументами.
Таковы предварительные условия, которые счел я необходимым поставить, дабы
уберечь от излишних трат времени и сил и вас, и себя самого.
Критон. Поскольку основной целью нашей беседы следует считать открытие и
защиту истины, то, полагаю я, доказать истину можно будет не только прямым
переубеждением ее противников, но — если это окажется невозможным - демонстрацией
того, что они вступают в противоречие с разумом. А значит, ясные и очевидные
аргументы имеют силу даже против тех, кто закрывает глаза, не желая их видеть: ибо
доводы эти обнаруживают перед нами упрямство и предубежденность подобных
оппонентов. И потом, указанное вами различие между доводами, разумно убеждающими, и
теми, которые попросту ставят в тупик, менее всего соблюдается самими же мелкими
философами, а следовательно, другие не обязаны соблюдать его в их пользу.
А впрочем, Ефранор, возможно, и согласится поспорить с вами на ваших
собственных условиях — в таком случае мне больше нечего добавить.
Ефранор. Наш Алкифрон действует, словно искусный полководец,
который, стремясь обеспечить себе выгодную позицию, выманивает
неприятеля из траншей. Мы же, верующие, возвели себе укрепления в
виде предания, обычая, авторитета и закона. И вот Алкифрон, вместо того
чтобы штурмовать наши окопы, предлагает нам добровольно их
оставить и идти в атаку —тогда как мы можем весьма легко и безопасно
защищаться — так пусть же он сам потрудится отбить у нас то, от чего нам нет нужды
отказываться. И если аргументы, приготовленные вами к бою во время утренних
размышлений, — продолжал Ефранор, обратившись к Алкифрону, - не ослабят нашу
веру в Бога, то они ее с неизбежностью лишь укрепят: ведь от столь грозного полководца,
когда бросает он все свои силы на один пункт, следует ожидать многого.
Алкифрон. Мне кажется, что смутное представление о Божестве пли о какой-то
невидимой силе есть самый неискоренимый из всех предрассудков. Когда с
полдюжины остроумных людей собираются за бокалом вина в ярко освещенной комнате вокруг
веселого огонька — тогда мы без труда гоним прочь все призраки воображения π
воспитания, а суждения наши бывают тверды и определены. Но когда сегодня на рассвете
бродил я вон в той роще, вопрос уже не казался мне столь ясным, и я не мог с
легкостью припомнить аргументы, прежде представлявшиеся мне такими
убедительными. Что-то похожее на благоговейный трепет овладело моей душой, какие-то пани-
ческпе страхи начали меня преследовать1 — и объяснить это я могу, лишь
предположив, что были они следствием предрассудка: ведь и меня, должен вам признаться, в
свое время учили и наставляли в вере в Бога, или Духа. Нет более верного признака
предрассудка, чем вера без разумных оснований. Так зачем же я стану браться за
тяжкий труд, доказывая отрицательный тезис, если вполне достаточно заметить, что
не существует никаких доказательств для утверждения положительного, а принимать
его вообще без всяких доказательств — неразумно. Докажите-ка свое мнение сами;
если же вы этого сделать не в силах, то можете и дальше его держаться — но только
обладать вы будете всего лишь предрассудком.
Ефранор. Да, Алкифрон, чтобы вас удовлетворить, доказывать похоже, придется
именно нам, причем на ваших условиях. Однако, давайте сперва посмотрим, какого
рода доказательств вы от нас ожидаете.
Алкифрон. Вполне возможно, что никаких доказательств я от вас и не ожидаю. А
впрочем, скажу, какого рода доказательства хотел бы я получить. Коротко говоря, мне
нужны такие доказательства, какие всякий рассудительный человек вправе требовать
относительно фактов или реального существования любой отдельной вещи. Допустим,
у меня спросят: почему я верю, что в Британии имеется король? Я мог бы ответить:
"Потому что я его видел." - "АвИспании?" — "Потому что я видел тех, кто его видел." Но
вот что касается Царя Царей, то я не видел ни его самого, ни тех, кто его когда-либо
встречал. И в самом деле, если такая вещь как Бог существует, то весьма странно, что
Он не обзавелся свидетелями своего существования, что люди до сих пор оспаривают его
бытие π что ни одного ясного, очевидного и осязаемого доказательства этого бытия
нельзя найти, если не обращаться к помощи философии и метафизики. Но ведь
действительное существование доказывается не отвлеченными идеями, но фактами. Все это
самоочевидно и имеет прямое отношение к нашей проблеме. Итак, вы видите, чего я хочу.
Исходя из этих принципов, я и бросаю вызов суеверию.
Ефранор. Значит, верите вы лишь поскольку видите.
Алкифрон. Таково правило моей веры.
Ефранор. Как! Неужели в существование вещей, слышимых вами, поверите вы
только тогда, когда еще и увидите их?
Алкифрон. Не совсем так. Настаивая навидении, я разумел восприятие в целом —
подобным образом и следовало меня понимать. Внешние объекты производят на животные
духи разнообразные впечатления, которые объединяются под общим именем ощущений.
А во всем, что воспринимается нами через ощущения, мы можем быть уверены вполне.
Ефранор. Что! Получается, вы верите в существование животных
духов?
Алкифрон. Разумеется.
Ефранор. Каким же чувством вы их воспринимаете?
Алкифрон. Я не воспринимаю их непосредственно через
какое-либо из моих чувств. И однако, я убежден в их существовании,
поскольку умозаключаю к нему от их действий и следствий. Животные духи — это некие
гонцы, которые носятся взад и вперед по нервам, поддерживая таким образом связь
между душой и внешними предметами.
Ефранор. Стало быть, и существование души вы признаете?
Алкифрон. Если только не допускать нематериальной субстанции, то я не вижу
никаких неудобств в том, чтобы признать такую вещь, как душа. Это может быть всего
|E^j^(F~ Джордж Беркли "^)^^П
лишь особого рода тончайшее сочетание мельчайших частиц или животных духов,
которые находятся в мозгу.
Ефранор. Я не спрашиваю вас о ее природе. Я лишь хочу знать, признаете ли
вы, что существует мыслящее и действующее начало и что воспринимается оно через
чувства?
Алкифрон. Признаю: такое начало существует. Оно не есть объект чувств как
таковых, и однако, о его существовании заключаем мы от внешних явлений, которые
чувствами воспринимаются.
Ефранор. Если я вас правильно понял, то из животных функций и движений
выводите вы существование животных духов, а из разумных актов — существование
разумной души? Не так ли?
Алкифрон. Так.
Ефранор. А следовательно, о бытии вещей, не воспринимаемых в чувствах, мы
вправе умозаключать от действий, законов или чувственно воспринимаемых примет?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, разве не душа составляет основное различие
между реальным лицом и тенью, между живым человеком и трупом?
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. А значит, в том, что, к примеру, вы являетесь особой мыслящей
личностью или реальным живым человеком, я не смогу убедиться по более верным
признакам — да и вообще по каким-либо иным признакам, чем те самые, из которых я
вывожу существование вашей души?
Алкифрон. Не сможете.
Ефранор. Прошу вас, Алкифрон, скажите, не сводятся ли к движениям все те
действия, которые в собственном смысле и непосредственно воспринимаются
чувствами?
Алкифрон. Сводятся.
Ефранор. А значит, от движений заключаете вы к движущей силе или причине, а
из разумных движений (или таких, которые совершаются, по-видимому, ради
разумной цели) выводите разумную причину, душу или дух?
Алкифрон. Именно так.
Ефранор. Но ведь человеческая душа приводит в движение лишь
маленькое тело — ничтожную пылинку рядом с громадными массами
природы, стихиями, небесными светилами и всей системой
мироздания. А мудрость, заметная в движениях, обусловленных человеческим
разумом, несравненно ниже той, что являет себя в строении и
действиях органических природных тел, как животных, так и растительных. Собственной
рукою человек не в силах создать механизм, столь же изумительный, как сама эта
рука, и ни одно из движений, за которыми различаем мы человеческий разум, не
сравнится по своей тонкости и искусности с теми удивительными движениями сердца,
мозга и других частей тела, которые от человеческой воли не зависят.
Алкифрон. Все это верно.
Ефранор. Но не означает ли это, что естественные движения, неподвластные воле
человека, указывают на существование силы и мудрости, неизмеримо превосходящих
силу и мудрость человеческой души?
Алкифрон. Похоже на то.
Ефранор. Пойдем дальше. Разве не очевидно для нас в произведениях и
действиях природы единство плана и замысла? Нет ли здесь правил твердых и незыблемых?4
Не всюду ли имеют силу одни и те же законы движения — одни и те же у нас и в
Китае, сегодня и две тысячи лет тому назад?
Алкифрон. Со всем этим я согласен.
Ефранор. Не существует ли также взаимной связи и зависимости между
животными и растениями, между теми и другими — и стихиями, между стихиями — и
небесными телами? И нельзя ли, созерцая их действия и отношения, их взаимное влияние и
соподчиненность, заключить, что они суть части одного целого, служащие одной цели,
исполняющие один замысел?
Алкифрон. Допустим, все это верно.
Ефранор. Но не вытекает ли отсюда, что вся эта невообразимо громадная, даже
бесконечная мудрость заключена в одном Деятеле, Духе, или Разуме? И не обладаем
ли мы по крайней мере столь же полной, ясной и непосредственной убежденностью в
бытии этого бесконечно мудрого и могущественного Духа, что и в существовании
любой человеческой души, помимо своей собственной?
Алкифрон. Дайте-ка сообразить. Боюсь, мы с вами движемся слишком быстро.
Как! Вы утверждаете, что бытие Бога может быть для нас столь же достоверным, как
и мое собственное бытие — бытие человека, которого вы сейчас видите перед собою и
с которым говорите?
Ефранор. Столь же достоверным — если не достовернее.5
Алкифрон. И как же вы это доказываете?
Ефранор. Под личностью Алкифрона подразумевается отдельное мыслящее
существо — но не волосы, не кожа, не видимая поверхность тела или какая-нибудь часть
внешней формы, цвета или фигуры Алкифрона.
Алкифрон. С этим я согласен.
Ефранор. А значит, вы соглашаетесь и с тем, что вижу я, строго говоря, не
Алкифрона, т.е. не эту индивидуальную мыслящую вещь, но лишь видимые знаки и
символы, которые указывают на невидимое мыслящее начало, или душу, и позволяют
сделать вывод о ее существовании.β И мне кажется, что подобным же образом — пусть
я и не в силах узреть невидимого Бога телесными очами — я тем не менее
действительно и в самом строгом смысле слова замечаю и воспринимаю такие действия и
следствия, которые доказывают, являют, обнаруживают существование незримого Бога —
столь же достоверно и, по меньшей мере, с такой же очевидностью, с какой любые
знаки, воспринятые чувствами, свидетельствуют о существовании вашей души, духа
или мыслящего начала в вас. И в последнем случае убеждает меня лишь малое число
знаков или действий, а также движения одного-единственного организованного тела -
между тем чувственные знаки, свидетельствующие о бытии Бога, я воспринимаю во
всякое время и во всяком месте.7 А значит, то положение, которое вы поначалу
подвергли сомнению и отрицали, сейчас, как мне кажется, ясно следует из посылок. И разве
в ходе нашего разыскания сделали мы хоть один шаг без полной очевидности? Мы оба
тщательно исследовали и признали истинным каждое из предшествующих
утверждений — так что же нам теперь делать с выводом? Что до меня, то я — если, конечно, вы
меня не выручите — чувствую абсолютную необходимость признать его истинным.
Итак, вы должны согласиться, что и на вас отныне будет тяготеть вина, если я буду
жить, веруя в Бога, и с этой верой умру.
Алкифрон. Должен признаться: я затрудняюсь дать вам ответ
немедленно. И в том, что вы говорите, есть, похоже, какой-то смысл. Но,
с другой стороны, если все это так ясно, как вы утверждаете, то я не в
силах постичь, отчего великое множество проницательнейших особ из
нашей секты пребывает в таком невежестве, что ничего этого не знает
или не верит этому ни на йоту.
Ефранор. Ах, Алкифрон, ну до того ли нам сейчас? Стоит ли оправдывать
промахи или спасать честь этих великих мужей-вольнодумцев, если в данную минуту самое
их существование под угрозой?
Алкифрон. А что такое?
Ефранор. Извольте припомнить сделанные вами уступки, а потом -- если
аргументы в пользу Божества неубедительны — покажите мне, какими другими, лучшими
доводами сможете вы доказать существование той мыслящей вещи, которая, строго
говоря, и есть свободомыслящий человек.
Как только Ефранор произнес эти слова, Алкифрон застыл на месте в позе глубоко
задумавшегося человека. Мы тем временем продолжали прогулку и успели сделать
два или три круга, прежде чем Алкифрон снова к нам присоединился; он улыбался,
словно человек, совершивший некое открытие.
- Я нашел то, что сможет разрешить спорный вопрос и доставить Ефранору
полное удовлетворение, то есть, хочу я сказать, - я нашел такой доказывающий бытие
свободомыслящего аргумент, подобный которому уже нельзя будет использовать для
доказательства существования Бога. Так вот, вашу мысль о том, что бытие Бога мы
воспринимаем так же непосредственно и достоверно, как и существование
человеческой личности, я никак не мог переварить, — хотя, признаюсь, она и ставила меня в
тупик, - пока я не обдумал вопрос как следует. Поначалу мне казалось, что
определенное строение, форма и движение являются самым ясным доказательством
существования разумной мыслящей души. Однако чуть более внимательный взгляд убедил
меня в том, что необходимой связи с разумом, зрением и мудростью эти вещи не
имеют, и хотя их и следует считать ясным доказательством существования живого
существа, но в отношении разумной и мыслящей души они таковыми не являются. По
зрелом размышлении и после тщательного исследования вопроса я понял: более всего
прочего убеждает меня в существовании другого человека то обстоятельство, что он со
мною говорит. Я слышу вашу речь — это и есть для меня, в самом строгом
философском смысле, лучший аргумент в пользу вашего бытия. И это аргумент совершенно
особого рода, неприменимый для вашей цели: ведь вы, полагаю, не станете
утверждать, будто Господь говорит с людьми столь же ясным и определенным образом, как
один человек с другим.
Ефранор. Как! Выходит, звуковые впечатления до такой степени
убедительнее всех остальных чувств? А если так, то неужели
человеческий голос сильнее грома?
Алкифрон. Ах, да вы не понимаете, в чем тут дело! Ведь я имею в
виду не звук речи как таковой, но использование произвольно
установленных чувственных знаков, которые не обладают сходством или
необходимой связью с обозначаемыми вещами,8 и однако, при правильном употреблении
внушают или показывают моему уму множество вещей, различных по своей природе,
времени и месту существования, - и таким образом осведомляют и информируют
меня, указывая, как мне следует поступать не только по отношению к настоящим и
близким предметам, но также к будущим и отдаленным. И совершенно не важно,
написаны эти знаки или произнесены вслух, входят ли они в мой разум через глаза
или уши - они имеют одно и то же назначение и в равной степени служат
доказательством существования разумной, мыслящей и целесообразно действующей причины.
Ефранор. А если обнаружится, что Бог действительно говорит с человеком? Это
вас удовлетворит?
Алкифрон. Никакой внутренней речи, никаких священных чувств, никаких
внушений π озарений света или духа я признавать не намерен. Все это, как вам должно быть
известно, в глазах разумного человека ровно ничего не стоит. И если вы мне ясно не
докажете, что Бог говорит с человеком с помощью внешних чувственно воспринимаемых
знаков такого рода и таким образом, как я описал выше, то вы ничего не добьетесь.
Ефранор. Но если мы убедимся в том, что Бог говорит с людьми посредством
произвольно избранных, внешних, чувственных знаков, не имеющих сходства или
необходимой связи с теми вещами, которые они обозначают или внушают; если
окажется, что бесчисленные комбинации этих знаков обнаруживают и делают нам
известными великое множество вещей; что мы таким образом получаем сведения и узнаем об
их разнообразной природе; что нам сообщают, к чему следует стремиться, и
предупреждают, чего надлежит избегать; указывают, куда направлять наши действия и как
себя вести по отношению к вещам, отдаленным во времени и в пространстве, это вас
устроит?
Алкифрон. Вот я и хочу, чтобы вы это доказали, ибо именно в этом и заключается
смысл, назначение и сущность языка.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, видите ли вы сейчас замок вон на
том холме?
Алкифрон. Вижу.
Ефранор. И он расположен на большом расстоянии от вас?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Послушайте, Алкифрон, а разве расстояние — это не
линия, проведенная по направлению к глазу?
Алкифрон. Несомненно.
Ефранор. А если так, то может ли прямая линия проектировать на дно глаза
больше, чем одну точку?9
Алкифрон. Не может..
Ефранор. Следовательно, и большое, и малое расстояние внешне будут иметь
одинаковую величину — или, скорее, вовсе не иметь никакой величины, составляя всегда
одну-едннственную точку?
Алкифрон. Похоже, так.
Ефранор. А не следует ли отсюда, что расстояние не воспринимается глазом
непосредственно?
Алкифрон. Следует.
Ефранор. Не должно ли оно в таком случае восприниматься через посредство
чего-то иного?
Алкифрон. Должно.
Ефранор. А чтобы установить, что же это такое, рассмотрим, какие перемены
происходят во внешнем виде одного и того же предмета, располагаемого на разных
расстояниях от глаза. Из опыта мне известно, что если предмет удаляется все дальше
и дальше по прямой линии, идущей от глаза, то его видимое изображение
уменьшается, а кроме того, становится все более смутным. Именно эти изменения внешнего вида,
закономерные и универсальные, и суть, как мне кажется, то, посредством чего мы
воспринимаем различные расстояния.
Алкифрон. Здесь мне нечего возразить.
Ефранор. Но ведь малая величина или неясность вида по природе своей не имеют
какой-либо необходимой связи с большим или меньшим расстоянием?
Алкифрон. Я признаю, что это верно.
Ефранор. А не вытекает ли отсюда, что они бы никогда и не сумели внушить нам
идею расстояния иначе, как через опыт?
Алкифрон. Вытекает.
Ефранор. Иначе говоря, мы воспринимаем расстояние не непосредственно, но с
помощью знаков, которые, не имея с ним сходства или необходимой связи, лишь
внушают его нам через многократный опыт — так же примерно, как слова — вещи.
Алкифрон. Постойте, Ефранор. Я сейчас вспомнил, что авторы сочинений по
оптике сообщают нам следующее: оптические оси, встречаясь в видимой точке объекта,
образуют определенный угол, и чем этот угол тупее, тем ближе кажется нам объект, а
чем острее — тем отдаленнее; причем здесь между расстоянием и углами существует
очевидная и необходимая зависимость.10
Ефранор. Значит, душа определяет расстояние до вещей с помощью геометрии?
Алкифрон. Да.
Ефранор. И, получается, видеть могут только те, кто изучил геометрию и что-то
узнал обо всех этих углах и линиях?
Алкифрон. Существует особого рода врожденная геометрия, доступная и без
обучения.1 '
Ефранор. Прошу вас, Алкифрон, скажите: для того чтобы составить какое-либо
доказательство или вывести одно положение из другого, разве не должен я
воспринимать связь терминов в посылках и связь посылок со следствиями? И вообще, чтобы
познать одну вещь через другую, не должен ли я прежде знать эту другую вещь?
А когда я воспринимаю смысл ваших слов, не должен ли я сначала воспринять сами
же эти слова? И не должен ли я знать посылки, чтобы сделать из них заключение?12
Алкифрон. Все это верно.
Ефранор. А значит, всякий, кто умозаключает о болсе близком расстоянии от
более тупого угла, или же о более далеком — от более острого, должен сперва
воспринять сами эти углы. А кто не воспринимает углов, тот и не сможет ничего из них
вывести. Так или нет?
Алкифрон. Все так, как вы говорите.
Ефранор. А теперь спросите у первого встречного, воспринимает ли он эти
оптические углы? Думает ли он о них вообще и делает ли отсюда какие-либо выводы с помощью
естественной или искусственной геометрии? Какой ответ он, по-вашему, даст?"
Алкифрон. По правде говоря, я думаю, он скажет мне, что ничего во всем этом не
смыслит.
|S^§^(F Алкифрон Щ
Ефранор. А значит, люди не могут судить о расстоянии с помощью углов, а
следовательно, не имеет силы и тот аргумент, который вы отсюда извлекаете, желая
доказать, будто расстояние воспринимается через нечто, имеющее с ним необходимую
связь.
Алкифрон. Я с вами согласен.
Ефранор. Мне кажется, человек способен определить,
воспринимает ли он данный предмет или нет, а если воспринимает — то
непосредственно или через что-то иное, а в последнем случае — с помощью
ли чего-то сходного или несходного, необходимо или произвольно
связанного с предметом восприятия.
Алкифрон. Похоже, так.
Ефранор. И разве не ясно, что расстояние воспринимается лишь через опыт, коль
скоро оно не может быть воспринято непосредственно само по себе, ни с помощью
какого-то образа или каких-либо линий или углов, похожих на него или необходимо с
ним связанных?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Но не вытекает ли из сказанного и признанного вами, что прежде
всякого опыта человек никогда не вообразит, будто видимые им вещи находятся на каком-
либо расстоянии от него?
Алкифрон. Как! Дайте подумать.
Ефранор. Если человек не узнал из опыта о связи знака с обозначаемым, то малая
величина, неясность внешнего вида или всякое иное восприятие или ощущение, не
имеющее сходства или необходимой связи с расстоянием, способны внушить ему
представление о различных расстояниях и даже о расстоянии вообще ничуть не лучше, чем
слова могут вызвать идеи в уме человека, еще не выучившего язык.
Алкифрон. Согласен, это так.
Ефранор. А не следует ли отсюда, что если слепорожденному вернут зрение, то в
первое мгновение он не подумает, что видимые им вещи находятся на каком-либо
расстоянии от него, но сочтет их пребывающими в собственных глазах или, точнее, в
душе?14
Алкифрон. Должен признать: так оно, похоже, и будет. И все же, с другой
стороны, мне трудно убедить себя в том, будто и я, оказавшись в подобном положении,
подумал бы, что те предметы, которые я вижу сейчас на огромном расстоянии, не
находятся на каком-либо расстоянии от меня.
Ефранор. Стало быть, сейчас вы полагаете, что объекты зрения находятся на
расстоянии от вас?
Алкифрон. Конечно, полагаю. И кто же усомнится, что вон тот замок находится
на большом расстоянии от нас с вами?
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а можете ли вы различить двери и окна этого
замка или зубцы на его стенах?
Алкифрон. Не могу. Отсюда он представляется всего лишь маленькой круглой
башней.
Ефранор. А вот я, который там бывал, знаю, что это отнюдь не маленькая круглая
башня, но большое квадратное строение с зубчатыми стенами и башенками, — чего вы,
похоже, не видите.
K^%(F Джордж Беркли ~^}^ГЗ
Аякифрон. И какой же вывод делаете вы отсюда?
Ефранор. А вот какой: объект, который вы в собственном и строгом смысле
воспринимаете с помощью зрения, не является той вещью, которая находится в
нескольких милях отсюда.
Алкифрон. Почему же?
Ефранор. Да потому что маленький круглый предмет - это одно, а большой и
прямоугольный — сойсем другое. Не так ли?
Алкифрон. Не стану спорить.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, не является ли видимое изображение
единственным непосредственным объектом зрения?
Алкифрон. Является.
— А что вы думаете, — сказал Ефранор, указывая на небо, — о внешнем виде вон
той планеты? Не есть ли это круглая светящаяся плоскость, размером не больше
шестипенсовой монеты?
Алкифрон. И что же дальше?
Ефранор. Скажите, а что вы думаете о самой планете? Разве не мыслите вы ее как
огромный непрозрачный шар с возвышенностями и долинами различной величины?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Так как же вы можете заключать, что подлинный и непосредственный
объект вашего зрения находится на каком-либо расстоянии?
Алкифрон. Честное слово, не знаю.
Ефранор. А чтобы еще тверже в этом убедиться, взгляните хотя бы вон на то
темно-красное облако. Неужели вы думаете, будто, оказавшись в непосредственной
близости от него, воспримете зрением нечто похожее на то, что видите сейчас?
Алкифрон. Никоим образом. Я бы увидел один лишь темный туман.
Ефранор. Но не ясно ли в таком случае, что ни замок, ни планета, ни облако,
видимые вами сейчас, не являются темп реальными предметами, которые, как вы
предполагаете, существуют на известном расстоянии от вас?1"'
Алкифрон. Так что же мне остается думать? Или мы вообще
ничего не видим? Или все вокруг лишь призрак и иллюзия?
Ефранор. В целом, как мне кажется, собственными объектами
зрения являются свет и цвета с их оттенками и степенями, которые своими
бесконечно разнообразными сочетаниями и образуют язык, чудесно
приспособленный для того, чтобы внушать и показывать нам
расстояния, положения, фигуры, размеры и прочие качества осязаемых объектов — не через
подобие, не через логическое заключение, основанное на необходимой связи, но лишь
благодаря произвольному решению Провидения: совершенно так же, как слова
вызывают в нашем представлении обозначаемые ими вещи.
Алкифрон. Как! Неужели мы, строго говоря, не воспринимаем зрением деревья,
людей, реки и тому подобные объекты?
Ефранор. Мы в самом деле воспринимаем и постигаем эти вещи с помощью
способности зрения. Но разве следует отсюда, что собственными и непосредственными
объектами зрения они являются в сколько-нибудь большей степени, чем те вещи,
которые обозначаются с помощью слов и звуков, являются собственными и
непосредственными объектами слуха?
D30
Алкифрон. Значит, вы хотите убедить нас в том, что свет, цвет и тени в своих
разнообразных сочетаниях аналогичны определенным комбинациям звуков языка и
что с их помощью всякого рода объекты внушаются уму через зрение точно так же, как
подсказываются они словами через слух — то есть, что они не внушаются через
сходство воображению, ни через логически необходимое заключение — уму, но только и
единственно через опыт и привычку.
Ефранор. Я хочу убедить вас лишь в том, в чем заставляет вас убедиться природа
вещей, и я желаю, чтобы вы подчинились не моему суждению, но лишь силе
истины, — а от подобного условия, как я полагаю, даже самый свободный на свете
мыслитель не пожелает себя освободить.
Алкифрон. Похоже, вы постепенно, шаг за шагом завели меня бог знает в какие
дебри. Однако я снова попытаюсь из них выбраться — пусть и не тем путем, каким
сюда попал, но своим собственным.
Тут Алкифрон на мгновение умолк, а затем продолжал так:
— Скажите, Ефранор, не вытекает ли из этих принципов, что
слепорожденный, если ему будет возвращено зрение, в первый момент не
только не сможет воспринять расстояние до предметов, но даже не
узнает те самые предметы, которые видит, например, людей или
деревья? Между тем, подобное предположение есть явная нелепость.
Ефранор. Соглашаюсь: из тех принципов, которые мы оба уже
признали, вытекает, что такой человек, когда ум его наполнится новыми ощущениями
света и цветов (чьи разнообразные сочетания он еще не понимает и не постигает их
значения), будет думать о людях, деревьях и любых иных предметах, воспринимать
которые он привык лишь через осязание, не больше, чем китаец, впервые в жизни
услыхавший наши слова «человек» и «дерево», думает о вещах, ими обозначаемых.
В обоих случаях потребуются время и многократный опыт для того, чтобы приобрести
навык установления связи между знаками и обозначаемыми вещами, иначе говоря, для
того, чтобы научиться понимать язык — язык зрения или слуха. И никакой нелепости
во всем этом я не усматриваю.
Алкифрон. А значит, если выражаться с философской точностью, то я сейчас
вижу эту скалу в том же смысле, что и слышу ее в тот момент, когда произносится
слово «скала».
Ефранор. Совершенно в том же.
Алкифрон. Но почему же тогда всякий вам скажет, что скалу или дом, если эти
вещи находятся у него перед глазами, он видит, однако никому не придет в голову
утверждать, будто он слышит скалу или дом: слышит он, по его мнению, лишь слова
или сами звуки, посредством которых эти предметы обозначаются или внушаются -
но отнюдь не слышатся."' И еще. Если зрение — всего лишь язык, который говорит
нашим глазам, то позволительно спросить, когда же люди этот язык учат? Ведь
приобрести знание великого множества знаков, подобный язык образующих, есть немалый
труд. Но неужели кто-нибудь вам скажет, что от тратил время или прилагал усилия
для того, чтобы усвоить этот Язык Зрения?
Ефранор. И неудивительно: ведь мы не способны указать какое-либо время по ту
сторону наших самых первых воспоминаний. И если каждый из нас пользуется этим
языком с момента своего появления на свет, если Творец природы непрестанно гово-
воя
рит глазам людей даже в самом раннем их детстве, всякий раз, как только откроются
эти глаза при свете (и не важно, один ли человек в эту минуту или рядом с ним
другие), — коль скоро все это так, то мне уже не кажется странным, если люди не
сознают, что они когда-либо изучали язык зрения — язык, с которым знакомятся так
рано и который используют столь постоянно. А если мы вспомним, что язык этот во
всем мире один и тот же, а не разный в различных местах, как прочие языки, то нам
уже не покажется необъяснимым, что связь между объектами зрения и обозначаемыми
через них вещами люди склонны по ошибке считать основанной на необходимом
отношении или на подобии, или даже совершенно отождествлять объекты зрения и
обозначаемые вещи. А отсюда легко понять, почему люди немыслящие должны смешивать
знаки этого языка с обозначаемыми предметами — точно так же, как привыкли они это
делать в различных языках, созданных отдельными народами.17
Стоит также заметить, что знаки редко рассматриваются нами как
таковые, но лишь в своей способности относиться к чему-то иному и
ради тех вещей, знаками коих они являются, — а потому ум обычно на
них не задерживается, пропускает их и тотчас же переносит свое
внимание на обозначаемые вещи.18 Так, например, при чтении мы быстро
пробегаем сами буквы, не обращая на них особого внимания, и
переходим к смыслу и значению. Поэтому люди часто говорят, что, читая книгу, они видят
слова, идеи или вещи, тогда как, строго выражаясь, видят они лишь буквы, которые и
подсказывают уму эти слова, идеи и вещи. И нельзя ли предположить по аналогии,
что люди не задерживаются на непосредственных и настоящих объектах зрения, не
замечают их (как не слишком важные по своей собственной природе), но переносят
внимание на сами обозначаемые вещи, — а выражаются при этом так, будто видят они
эти вторичные объекты, которые, в строгом и точном смысле слова, отнюдь не
воспринимаются зрением, но лишь внушаются или подсказываются уму через собственные
объекты зрения, каковые мы единственно и видим?
Алкифрон. Эта диссертация, откровенно говоря, становится весьма утомительной,
поскольку касается вопросов, слишком скучных и мелких для того, чтобы заслужить
внимание джентльмена.
— Если я не ошибаюсь, — заметил Критон, — нам было сказано, что мелкие
философы любят исследовать вещи тщательно и в мельчайших деталях.
Алкифрон. И это верно — однако кто же в столь изысканный век захочет
оставаться всего лишь философом? Существует некая схоластическая точность, которая плохо
сочетается со свободой и непринужденностью тонко воспитанного человека. Но чтобы
разом положить конец всем придиркам и препирательствам, я апеллирую к вашей
совести: скажите честно, неужели вы действительно полагаете, что сам Господь Бог
всякий день и во всяком месте говорит глазам всех людей?
Ефранор. Да, я действительно и на самом деле так полагаю — да и вы бы стали
думать точно так же, если бы пожелали не противоречить себе, но держаться того
определения языка, которое сами же и предложили. Ибо вы не можете отрицать, что
Великий Творец и Двигатель природы беспрестанно являет свою волю глазам
человеческим посредством чувственно воспринимаемых, произвольно установленных знаков,
не имеющих сходства или связи с обозначаемыми вещами; соединяя и располагая их в
известном порядке, Он внушает и подсказывает нашему духу бесконечное множество
в®а
Е^ЕУ ΑΛΚ,φρ,. ^й^ГД
объектов, различных как по своей природе, так и по месту и времени существования,
и, таким образом, поучает и наставляет нас, указывая, как нам должно поступать по
отношению к вещам отдаленным и будущим, равно как близким и настоящим.19 Итак,
ваши собственные утверждения и признания дают вам столько же причин думать, что
Всеобщий Деятель или Бог говорит вашим глазам, сколько может найтись у вас
оснований полагать, что любой отдельный человек говорит вашим ушам.
Алкифрон. Не могу избавиться от мысли, что во всем этом рассуждении кроется
какая-то ошибка, хотя я, пожалуй, и не способен обнаружить ее с легкостью. А
впрочем, постойте! Дайте-ка подумать. Ведь вы говорите, что употребляемые в языке знаки
произвольны, не так ли?
Ефранор. Так.
Алкифрон. А значит, они не всегда указывают на действительные вещи. Между
тем этот, как вы его называете, «Естественный Язык», или эти видимые знаки,
внушают нам вещи одним и тем же неизменным образом и обладают постоянной и
закономерной связью с реальными предметами. А отсюда, похоже, следует, что данная связь
необходима и, согласно предпосланному выше определению, не может быть признана
языком. Как вы ответите на это возражение?
Ефранор. Вы и сами на него ответите — с помощью зеркала или картины.20
Алкифрон. Вы правы, это возражение никуда не годится. Даже не знаю, что еще
могу я сказать о вашей теории, кроме того, что она весьма необычна и настолько
противоречит моему образу мысли, что я никогда с нею не соглашусь.
Ефранор. Тогда соблаговолите припомнить собственные ваши
поучения касательно предрассудков и применить их в настоящем случае.
Кто знает, не помогут ли они вам "последовать за доводами разума,
куда бы они вас не повели", и не усомнитесь ли вы в тех мнениях,
которые "прочно укоренились, будучи приняты без всякого
исследования".
Алкифрон. Всякие подозрения в приверженности предрассудкам я отвергаю. И
говорю я сейчас не только о себе: мне известно сообщество остроумнейших особ, более
свободных от предрассудков, чем кто бы то ни было на свете, которые питают
отвращение к идее Бога и — я в том не сомневаюсь — сумеют развязать этот узел.
И тогда я, взявший на себя роль беспристрастного наблюдателя, заметил Алкифро-
ну, что с его характером и не однажды высказанными убеждениями плохо согласуется
то обстоятельство, что он признается в приверженности чужим мнениям или
основывается на предполагаемых талантах других людей, какими бы остроумными они ни были;
и что подобное поведение вполне может побудить его, Алкифрона, противников,
прибегнуть за помощью к авторитету, — в чем они, вероятно, преуспеют больше, чем он.
- О! — сказал Критон. — Я часто наблюдал за тем, как ведут себя мелкие
философы. Если кто-то из них соберет вокруг себя кружок учеников, то метода его обычно
такова: он начинает восставать против предрассудков, рекомендует мыслить и судить
самостоятельно, давая при этом понять, что сам-то он — приверженец глубоких
изысканий и тщательного анализа, исследующий беспристрастно и заключающий с
осторожностью. Зато в другом обществе тот же самый человек, если вдруг припрут его к
стенке разумными аргументами, станет насмехаться над логикой, принимая лениво-
непринужденный вид изысканного джентльмена, остроумца и railleur'a — дабы избе-
SXÜEXJ
жать скуки дотошного и строгого исследования. И это двуличие мелких философов
чрезвычайно способствует распространению их принципов. Мне, однако,
представляется совершенно очевидным, что если уж этот изысканный джентльмен стряхнул с
себя всякий авторитет и решил, не опираясь больше на религию, апеллировать к
разуму, то путем разума ему и следует идти; если же он в силах передвигаться только на
помочах, то пусть уж лучше ведет его авторитет общества, чем какой-нибудь кучки
мелких философов.
Алкифрон. Господа! Подобные рассуждения утомительны и бесполезны. О себе
скажу так: я — приверженец беспристрастного исследования и я искренне желаю,
чтобы разум получил полную власть и свободу действовать. Ничей авторитет на меня не
влияет, личного интереса в отрицании бытия Бога я не имею, и по мне, так пусть
каждый верит или не верит в Бога, как ему будет угодно. Но, в конце концов, и
Ефранор должен позволить мне отнестись к его выводам с некоторым изумлением.
Ефранор. Выводы эти настолько же мои, насколько и ваши: ибо вы пришли к ним
через собственные уступки и признания.
Изумляет же вас, очевидно, то, что Бог не так уж далек от любого
из нас, и что мы Им живем и движемся, и существуем.21 В начале
сегодняшней беседы вы находили чрезвычайно странным, что Господь
не представил нам доказательств своего бытия — а теперь вы же
находите удивительным то, что доказательства эти оказываются столь
полными и недвусмысленными.
Алкифрон. И в самом деле, нахожу. Я, правда, слыхал об одной метафизической
гипотезе, согласно которой мы видим все вещи в Боге через соединение человеческой души с
умопостигаемой субстанцией Божества,22 — гипотезе, в которой ни я, ни кто-либо иной так
и не сумели ничего разобрать. Однако я и вообразить себе не мог, что можно утверждать,
будто плотскими нашими очами видим мы Бога так же ясно, как и всякого человека, и будто
Он каждый день обращается к нашим чувствам на ясном и понятном языке.
Критон. Что касается упомянутой вами метафизической теории, то в ней я смыслю
не больше, чем вы. Однако для меня несомненно, что этот Зрительный Язык
необходимым образом связан с разумом, мудростью и благостью. Он равнозначен
непрерывному творению, ибо обнаруживает перед нами непосредственное действие
божественной силы и предусмотрительности. Его нельзя истолковать механическими
причинами, атомами, притяжением, испарением. Мгновенное создание и воспроизведение
столь огромного числа знаков, которые соединяются, разъединяются, меняют место и
форму; знаков, приспособленных к бесконечному множеству разнообразных целей и
вечно меняющихся обстоятельств; знаков, совершенно необъяснимых законами
движения, случаем, судьбой и тому подобными немыслящими началами, — все это
свидетельствует о непосредственном воздействии духа и разумного бытия, - и не просто
духа вообще (о существовании которого можно, вероятно, заключить от одного лишь
факта притяжения и какого угодно движения), но единого, мудрого, благого и
наделенного провидением Духа, который управляет, руководит и движет мирозданием.
Некоторые философы, убежденные в мудрости и силе Творца благодаря созерцанию
искусного устройства организованных тел, а также закономерной и целесообразной
системы мира, тем не менее вообразили, будто Он, надлежащим образом приспособив
все части мироздания друг к другу и приведя их в движение, предоставил эту систему
'ȮQJ
самой себе, позволив ей какое-то время идти своим ходом — словно мастер,
изготовивший часовой механизм.23 Но этот Зрительный Язык свидетельствует не просто о
Творце, но о предусмотрительном и расчетливом Правителе, который в каждое мгновение
соприсутствует нам самым близким, прямым и непосредственным образом; Правителе,
внимательном к нашим нуждам и побуждениям, зорко следящим за нашими
поступками и самыми незначительными действиями и помышлениями в течение всей нашей
жизни; Правителе, который самым очевидным и осязаемым образом нас поучает,
увещевает и направляет. И это поистине чудесно!
Ефранор. Но не чудесно ли, что люди, окруженные со всех сторон этим чудом,
даже не задумываются о нем?
Ведь есть нечто божественно-восхитительное в этом Языке,
созданном для наших очей, нечто, способное пробудить наш ум, предоставив
ему предмет, достойный самых глубоких размышлений. Он
усваивается нами почти без труда, он так ясно и полно обозначает различия
между вещами, он поучает нас с величайшей легкостью и быстротой,
ибо один-единственный беглый взгляд доставляет нам больше
полезных советов и дает более четкое и определенное познание вещей, нежели многочасовая
лекция. И, наставляя нас, он в то же время услаждает и наполняет душу совершенно
особенной радостью и удовольствием.24 Сколь превосходно служит он тому, чтобы
сообщать человеческим рассуждениям устойчивость и постоянство, восстанавливать в
памяти звуки древних языков и возвращать их к новой жизни, позволяя нам
беседовать с людьми из дальних стран и далеких столетий. И он удивительно удачно
соответствует потребностям и нуждам человечества, ибо с большей определенностью сообщает
нам о тех предметах, чья близость или величина заключают в себе особенную пользу
или вред для наших тел, и менее точно — о тех вещах, удаленность или малая
величина которых делают их не столь важными для нашего существования.25
Алкифрон. И однако, диковинные эти вещи не слишком-то поражают людей.
Ефранор. Но в них нет ничего необычного: они всем знакомы — потому их и не
замечают. Нас поражает то, что случается редко, между тем повторяемость события
умеряет наше восхищение, каким бы удивительным ни был предмет сам по себе. И потому
обыкновенного человека, не привыкшего размышлять и анализировать,
одно-единственное слово, которое услышал бы он за свою жизнь с неба, убедило бы, вероятно, больше,
чем весь этот вполне доступный ему опыт Зрительного Языка, созданного столь тонко
и искусно; Языка, который непрестанно обращается к его очам, ясно свидетельствуя о
том, что мудрость и провидение Того, Кто с ним говорит, не далеки от нас.
Алкифрон. И все же я не в силах уразуметь, почему людей так мало удивляет или
изумляет эта зрительная способность, если она и вправду так удивительна и
изумительна по своей природе.
Ефранор. Но давайте вообразим слепой от рождения народ, к которому прибывает
чужестранец, — единственный, кто сейчас способен видеть в этой стране. Представим,
что он отправляется в путешествие с туземцами. И вот он предсказывает им, что если
они будут идти прямо вперед, то через полчаса повстречают людей или стадо скота или
же наткнутся на дом; если повернут направо и пойдут дальше, то через несколько
минут рискуют сорваться в пропасть; а если двинутся налево, то спустя известное
время окажутся ν реки, леса или горы. Как вы думаете, не должны ли они прийти в
ВСеХЗ
Kté®&F~ ДжорД« Беркли ^H^j^TJ
изумление от того, что человек, никогда прежде в их стране не бывавший, знает ее
намного лучше, чем они сами? И не покажутся ли им эти предсказания столь же
непостижимыми и невероятными, как пророчества — мелкому философу?2"
Алкифрон. Я этого не отрицаю.
Ефранор. Но ведь потребуется, вероятно, немалое напряжение ума для того,
чтобы распутать предрассудок, так долго в нас укоренявшийся, избавиться от обычных
заблуждений.касательно идей, якобы «общих для обоих чувств», а объекты зрения и
осязания* (если можно так выразиться, сросшиеся в нашем воображении)27 научиться
различать настолько, чтобы, в конце концов, суметь представить себя именно в том
положении, в каком оказались бы эти туземцы, если бы прозрели. И все же я полагаю,
что это возможно и заслуживает некоторых усилий мысли — в особенности со стороны
тех, чье подлинное дело и призвание в том и состоит, чтобы мыслить, разоблачать
предрассудки и опровергать заблуждения.
Алкифрон. Честно признаюсь: сам я не в силах выбраться из этого лабиринта и
охотно принял бы помощь того, кто понимает в этом лучше меня.
Критон. Изучение данного предмета собственным умом открыло бы, пожалуй,
новые виды перед склонными к умозрению джентльменами из секты мелких философов.
Я вспомнил одно место у Псалмопевца, где он изображает Бога облеченным светом,
словно неким одеянием, — по-моему, неплохой комментарий к древней теории
восточных мудрецов, согласно которой свет есть тело Бога, а истина — его душа.
Беседа наша продолжалась до тех пор, пока не явился слуга, сообщивший нам, что
чай уже готов; после чего мы вернулись в дом и нашли Лисикла за столиком.
Как только мы уселись, Алкифрон сказал:
— Я рад, что встретил здесь своего соратника — свежего бойца,
способного постоять за наше общее дело. Боюсь, правда, Лисикл
решит, что оно весьма потерпело по причине его отсутствия.
Лисикл. А что так?
Алкифрон. Мне пришлось сделать уступки, которые вам не
слишком понравятся.
Лисикл. Скажите, в чем же они заключаются?
Алкифрон. А в том, что есть такая вещь, как Бог, и существование Его достоверно
и несомненно.
Лисикл. О господи! Да как же вы дошли до такой сумасбродной мысли?
Алкифрон. Но ведь вам известно: мы открыто заявляем, что готовы следовать за
разумом, куда бы он нас ни повел. Короче говоря, меня убедили разумными
аргументами.
Лисикл. Убедили разумными аргументами! Скажите лучше: одурачили словами и
сбили с толку софистикой!
Ефранор. Но не желаете ли вы для начала услышать те доводы, которым мы с
Алкифроном шаг за шагом следовали, — чтобы затем вместе с нами и решить,
софистика это или нет.
* См. прилагаемый Трактат, где данное положение и вся теория зрения в целом истолковывается
более обстоятельно. Парадоксы этой теории, поначалу жестоко осмеянные теми, кто считает
насмешку испытанием истины, получили неожиданное подтверждение после случая со слепорожденным,
которому было возвращено зрение.2Н См. Филос. труды. М9402.29
Лисикл. Как вам будет угодно — да я уже наперед знаю все, что можно сказать на
этот счет. Моя задача — выручить друга, какие бы аргументы ни привели его в
затруднение.
Ефранор. Станете ли вы отрицать выводы, признав посылки?
Лисикл. Допустим, я признаю ваши выводы — и что же дальше?
Ефранор. Как! И вы согласитесь с тем, что Бог существует?
Лисикл. Может и соглашусь.
Ефранор. Тогда и мы с вами согласны.
Лисикл. А может, и нет.
Ефранор. Ах, Лисикл, вы очень искусный противник. Не знаю, право, как вас
понимать.
Лисикл. Так вот, знайте: сам по себе вопрос о бытии Бога в сущности не так уж
важен, и я могу сделать вам подобную уступку, немного потеряв. В каком именно
смысле следует разуметь слово «Бог» — вот в чем суть проблемы. Ведь даже
эпикурейцы признавали бытие богов — только вот боги эти были праздные и ленивые, и не
больно их заботили дела человеческие. Гоббс признавал телесного Бога, Спиноза
утверждал, что Бог — это Вселенная; никто, однако, не сомневается, что они были
стойкими и непреклонными вольнодумцами. Я бы, конечно, хотел, чтобы слово «Бог»
было вовсе изъято из употребления, поскольку в большинстве умов оно сочетается с
каким-то суеверным страхом, который и есть корень всех религий. И все же меня не
слишком обеспокоит, если данное слово сохранится, и бытие Бога будет признаваться
в каком угодно значении — но только не в смысле Разума, который познает все вещи
и зорко следит за человеческими поступками, словно судья или правитель,
обладающий бесконечной проницательностью и мудростью. Вера в такого Бога наполняет ум
сомнениями и накладывает на человека путы, отравляя всю его жизнь. Зато во всяком
ином значении Бога можно признать — и без особого вреда. Мне известно, что так
мыслил великий наш Диагор, который говаривал, что никогда не взял бы на себя труд
искать опровержение бытия Божия, если бы общепринятое представление о Боге
совпадало с тем, коего держались иные отцы церкви и схоластики.
Ефранор. И что же это было за представление, скажите на милость?
30 Лисикл. Дело в том, что Диагор (человек весьма начитанный и
любознательный) открыл, что когда-то давно мудрые и
глубокомысленные богословы, убедившись в невозможности согласовать с
внешними явлениями и с человеческим разумом атрибуты Бога, взятые в
обычном, да и во всяком ином известном нам смысле, стали учить, что
употребляемые по отношению к Богу слова «знание», «мудрость»,
«благость» и им подобные следует разуметь в смысле, совершенно отличном от их
общепринятого значения и от всякого представления, которое мы можем образовать и
составить. А потому любые возражения против атрибутов Бога они легко опровергали,
отрицая, что данные атрибуты принадлежат Богу в том или этом, да и во всяком
постижимом смысле и толковании, - а по сути, отрицая, что они ему принадлежат
вообще. И таким образом, отрицая атрибуты Бога, они в действительности отрицали
Его бытие, хотя, пожалуй, и не сознавали этого сами. Предположим, кто-то станет
утверждать, что будущие случайные события несовместимы с божественным предведе-
нием, ибо иметь достоверное знание о недостоверных вещах — противоречиво. Следо-
Ш
|S^^(F~ Джордж Беркли "^^^ГД
вал быстрый и легкий ответ: все это, возможно, и справедливо по отношению к знанию
в обычном смысле или во всяком ином смысле, который мы способны постичь, — и
однако, указанное противоречие между случайной природой вещей и божественным
предведением исчезнет, если последнее будет означать нечто нам неизвестное,
заменяющее в Боге то, что мы зовем знанием, от которого это «нечто» отличается не по
количеству и не по степени совершенства, но абсолютно, по роду, как свет от звука, и
даже больше: ибо свет и звук совпадают в том, что оба являются ощущениями, тогда
как знание в Боге не имеет никакого сходства или согласия с любым представлением о
знании, которое мы способны составить. То же самое можно сказать и о всех прочих
атрибутах Божества, которые, следуя подобной методе, нетрудно согласовать с чем
угодно — или же совершенно ни с чем. Но ведь всякий мыслящий человек понимает,
что это означало бы разрубить узел, но не развязать его. Ибо как же можно
согласовать вещи с божественными атрибутами, если самые атрибуты отрицаются во всяком
вразумительном для нас смысле, а следовательно, и самая идея Бога улетучивается,
оставляя после себя лишь имя, лишенное всякого значения? Короче говоря, вера в
существование неведомого носителя абсолютно непознаваемых атрибутов есть учение
чрезвычайно безобидное и невинное, — что проницательный наш Диагор прекрасно
понимал, а потому был подобной системой очень доволен.
Ибо, рассуждал он, если эта система распространится и станет
общепризнанной, то наступит конец всякой естественной и рациональной
религии, лежащей в основе как христианской, так и иудейской веры:
ведь человек, который обращается к Богу или вступает в Божью
церковь, должен прежде уверовать, что Бог существует в каком-то
постижимом смысле; ему мало знать, что существует нечто вообще,
поскольку это «нечто» может быть судьбой, хаосом, пластической природой, — чем
угодно, точно так же, как и Богом. И бесполезно говорить, что в этой неведомой
сущности есть якобы что-то аналогичное знанию и благости, то есть нечто,
производящее такие следствия, какие, по нашему мнению, не смогли бы произвести люди,
разума и благости лишенные. Это значило бы уклониться от важнейшего пункта в споре
атеистов с теистами, ибо вопрос всегда заключается не в том, существует ли Высшее
Начало (это признавали все философы как до, так и после Анаксагора), а в том,
является ли это Первоначало νους, мыслящим, разумным бытием; в том, могут ли
очевидные для нас в природе порядок, красота и целесообразность иметь какой-либо
иной источник, кроме Разума или Интеллекта в прямом смысле этих слов, и, наконец,
должна ли эта Первопричина обладать истинным, реальным и настоящим знанием?
А потому мы готовы согласиться, что все природные явления, обычно приписываемые
знанию и мудрости, происходят от существа, которое обладает не знанием и
мудростью в собственном смысле этого слова, но чем-то иным — тем, что и представляет
собой подлинную причину явлений; люди же, не умея придумать ничего лучшего,
относят последнее на счет того, что они называют знанием, мудростью и разумом.
Вас, вероятно, удивляет то, что такой беззаботный любитель развлечений, как я,
принялся столь усердно философствовать. Примите, однако, в соображение, как
много можно почерпнуть из бесед с людьми острого ума, — а это и есть кратчайший путь
к знанию, избавляющий нас от тяжкого труда чтения и размышления.
1к^(Г Алкифро» ~*Щ^СМ
И вот теперь, когда мы согласились, что Бог, принимаемый в этом туманном
смысле, существует, мне любопытно знать, какую же выгоду способны вы извлечь из этой
уступки. Ведь вы не вправе умозаключать от неизвестных вам атрибутов, или, что то
же самое, от атрибутов, принимаемых в неизвестном смысле. Вы не в силах доказать,
что Бога следует любить за его благость, страшиться его правосудия или чтить за его
мудрость, - хотя все это, действительно, можно было бы вывести из подобных
атрибутов, имей они какой-то постижимый смысл. Но мы отрицаем, что эти или какие
угодно иные следствия вытекают из атрибутов, взятых в неопределенном смысле или в
таком значении, какого никто из нас не в силах уразуметь. А потому, коль скоро от
подобного представления о Боге нельзя ничего заключить относительно совести,
культа и религии, вы вольны делать с ним все, что угодно. Мы же, дабы не отличаться от
прочих людей, также будем употреблять слово «Бог» — и таким образом всякому
атеизму тотчас придет конец.
Ефранор. Такое представление о Божестве для меня новость. Мне оно не
нравится, а потому пусть его защищают те, кому оно пришлось по вкусу.
Критон. А вот для меня оно новым не является. Помню, не так
давно некий мелкий философ торжествовал при мне победу в этом
самом пункте, что и побудило меня разобраться, какие основания к
тому имеются у отцов церкви и схоластиков. И насколько я мог
выяснить, подобный взгляд восходит к тем трудам, которые были изданы
под именем Дионисия Ареопагита31; автор их, должно признать, писал
о божественных атрибутах весьма странным образом. В трактате о Небесной
Иерархии* он утверждает, что Бог есть нечто пребывающее по ту сторону всякой жизни и
сущности, υπέρ πάσα ν ουσίαν και ζωην, а в трактате о Божественных Именах** — что
Бог выше всякой мудрости и разума, υπέρ πασαν σοφιαν κα\ συνεσιν, несказанный и
неизреченный, άρρητος κα\ ανώνυμος. Премудрость божью называет он
«неразумной», «непостижимой» и «безрассудной» мудростью, την αλογον, και άνουν, και μωρίχν
σοφιαν. Затем, однако, он приводит основания для подобных необычных выражений:
Божественная премудрость есть, по его мнению, источник всякого разумения,
мудрости и понимания, в ней же пребывают все сокровища мудрости и знания. Он именует
Бога υπερσοφος и υπέρζως, как будто «мудрость» и «жизнь» суть слова, недостойные
выражать божественные совершенства; и добавляет, что атрибуты «неразумный» и
«несознающий» следует приписывать Божеству не κατ ελλειψιν, «в смысле недостатка
(отсутствия)», но καθ ΰπεροχήν, «в превосходной степени», поясняя это примером
недоступного для нашего восприятия света, который мы называем тьмой. И, несмотря
на резкость выражений в отдельных местах, он раз за разом повторяет в других, что
Бог познает все вещи и что подобным всеведением обязан Он знанию Самого Себя, но
не сотворенным существам, которые содержатся в Нем как в своей причине и от Него
обретают свое бытие. Эти сочинения стали известны довольно поздно, и хотя в эпоху
схоластиков пользовались определенным авторитетом, но со времени развития
критических исследований его утратили; ныне же их признают подложными ввиду явных
следов куда более позднего времени, чем эпоха Дионисия.
* De Hierarch. Coelest. cap.2.
** De Nom. Di v. cap. 7.
|E)^(F Джордж Беркли ^jjO
В общем, пусть даже эта причудливая манера облекать тощие мысли в пространные
выражения, позволяющая избавляться от сомнений с помощью нелепостей и избегать
трудностей посредством искусственных противоречий, — пусть даже эта манера,
говорю я, и порождается вполне благонамеренным рвением, все же она, как мне кажется,
противна разуму и, вместо того чтобы вести атеистов к истине, боюсь, лишь укрепляет
их в прежних убеждениях. А потому это весьма опрометчиво и недальновидно для
христианина — предпочитать грубый и неуклюжий язык апокрифического автора
выражениям Священного Писания. Помню, правда, читал я об одном философе, жившем
несколько веков тому назад, который говорил, что если бы труды, приписываемые
Дионисию, стали известны первым отцам церкви, то они представили бы им великолепное
оружие против ересей и избавили бы их от великих хлопот. Однако события,
последовавшие за открытием этих сочинений, нисколько подобное мнение не подтвердили.
Следует упомянуть и о том, что среди девятисот тезисов знаменитого Пико делла
Мирандола32 (которые этот еще весьма молодой аристократ вызвался защищать на
публичном диспуте) был и такой: говорить, что Бог есть интеллект или разумное
существо — еще более ложно, чем утверждать о разумной душе, что она есть ангел; учение это,
впрочем, особого успеха не имело. Приступая же к его защите, Пико всецело опирается
на пример и авторитет Дионисия и истолковывает свой тезис так, что различие
оказывается чисто словесным, ибо Пико утверждает, что ни он, ни Дионисий и в мыслях не
имели лишать Бога способности познания или отрицать то, что Он всеведущ, — но лишь
хотели сказать, что как разум по своей природе есть характерное свойство человека, так
под интеллекцией (intellection) понимается вид или способ познания, присущий
ангелам; и что познание в Боге превосходит интеллекцию ангелов еще более, чем сами
ангелы превосходят человека. Пико добавляет, что коль скоро эти принципы совместимы с
допущением всесовершеннейшего знания, заключенного в Боге, то его, Пико, никоим
образом не следует понимать так, будто он исключает из понятия Бога всю умственную
деятельность как таковую, взятую в самом широком смысле, — но лишь особый род ее,
свойственный ангелам, который, как он полагает, мы вправе приписывать Богу не более,
чем разум человеческий. И хотя Пико выражается порою в стиле апокрифического
Дионисия, тем не менее когда он говорит ясно, становится вполне очевидно, что утверждает
он в сущности то же, что и другие авторы.*
Вышеупомянутые книги о Небесной Иерархии и о Божественных Именах,
приписываемые святому и мученику апостольского века, схоластиками почитались, и однако
достоверно известно, что последние отвергали или смягчали его слишком резкие
выражения, стремясь их как-то затушевать или толкованиями своими приблизить к
общепринятым понятиям, заимствованным из Священного Писания или полученным через
естественный свет разума.
Фома Аквинский33 следующим образом излагает свое понимание
проблемы. Все совершенства, — пишет он, — коими существа
сотворенные обязаны Богу, присутствуют в Боге в некоем высшем смысле,
или (как выражаются схоластики) «эминентно». А значит, всякий
раз, когда мы относим к Богу имя, обозначающее достоинство твари,
нам следует исключать из его значения все, что принадлежит к тому
• Pic. Mirand. in Apol. p. 155.
EtéW&F Алкифрон ^fé^TJ
несовершенному образу, которым явлены эти атрибуты в сотворенном существе.
Отсюда он заключает, что познание в Боге есть не развитая упражнением
потенциальная способность (habit), но чистый акт.* Далее тот же доктор пишет, что идеи
всякого рода совершенств наш интеллект получает через созерцание тварей и
обозначает их словами соответственно тому, как он их воспринимает. Следовательно,
продолжает Фома, приписывая эти имена Богу, мы должны учитывать две вещи: во-
первых, сами эти совершенства (благость, жизнь и тому подобное), действительно
присутствующие в Боге, и во-вторых, тот способ их присутствия, который
характерен для сотворенного существа и не может в строгом и истинном смысле быть
согласован с понятием Творца.**
И хотя Суарес3* (ас ним и другие схоластики) учит, что человеческий разум может
представлять себе знание и волю в Боге как способности и деятельности лишь по
аналогии с существами сотворенными, он, тем не менее, дает ясно понять, что когда о
знании говорят, будто оно в собственном смысле не присутствует в Боге, то это следует
разуметь так, что из понятия знания в Боге исключается несовершенство (например,
дискурсивное познание и тому подобные несовершенные виды умственной
деятельности, свойственные твари). Из того же, продолжает Суарес, что ни одно из этих
несовершенств познания, характерных для ангелов или людей, не принадлежит к чистому
понятию знания или к знанию как таковому, вовсе не вытекает, будто знание в
собственном формальном смысле не может быть отнесено к Богу. И он вполне определенно
утверждает, что знание вообще, т. е. ясное и отчетливое понимание всех истин,
присутствует в Боге; и что ни один из философов, веровавших в Бога, никогда этого не
отрицал.*** В самом деле, согласно общепринятому учению школ, даже бытие должно
приписывать Богу и сотворенным существам по аналогии. Другими словами,
схоластики утверждали следующее: нельзя предполагать, что Бог — эта высшая, сама себя
порождающая причина и источник всякого бытия — существует в том же смысле, что
и существа сотворенные, — однако не потому, что Его существование менее истинно,
подлинно и чисто, но лишь оттого, что Бог существует более эминентным и
совершенным образом.
Но чтобы ложное истолкование схоластических терминов аналогия
и аналогический не привело нас к мнению, будто мы ни в коей мере не
способны образовать истинное и верное представление об атрибутах,
приписываемых, или, выражаясь школьным языком, предицируемых
по аналогии, стоит исследовать истинный смысл и значение этих слов.
Всякому известно, что аналогия есть греческое слово, используемое
математиками для обозначения сходства пропорций. Если мы, к примеру, видим, что
2 относится к 6 так же, как 3 к 9, то это подобие или равенство отношений и
называется аналогией. И хотя пропорция, строго говоря, означает отношение одного
количества к другому, тем не менее в более широком, переносном смысле слово это
применяют и ко всякому иному отношению, а значит, термин «аналогия» означает подобие
каких угодно отношений. Так, схоластики говорят об аналогии между разумом и све-
* Sum. Theolog. Part. I quest. XIV, art. I.M
** Ibid, quest. XII, art. III.-"»
··· Suarez. Dis. Metaph. torn II. disp. XXX, sect.15.17
том, поскольку разум есть для души то же самое, что свет — для тела; они же
утверждают, что тот, кто управляет государством, подобен тому, кто ведет корабль. По этой
причине государя именуют «кормчим», ибо он относится к государству так же, как
кормчий — к своему судну.*
Для большей ясности в этом вопросе следует заметить, что схоластики различали
два вида аналогии — метафорическую и истинную. Примеры первой из них часто
встречаются в Священном Писании, относящем к Богу человеческие страсти и
телесные органы. Если Бог представлен имеющим глаза или уши, если о Боге говорится,
что Он раскаивается, гневается, огорчается, то всем понятно, что аналогия в данном
случае метафорическая. Ибо эти страсти и органы, взятые в прямом смысле, во
всякой своей степени предполагают несовершенство. А потому если в Писании
сказано, что в том или ином событии виден перст Божий, то здравомыслящий человек
понимает это лишь в том смысле, что данное деяние приписывается Богу столь же
справедливо, как дело рук человеческих — человеку; и так далее. По иному обстоит
дело, когда мы относим к Богу знание и мудрость. Страсти и ощущения как таковые
предполагают несовершенство, однако в чистом знании как таковом, в знании самом
по себе, несовершенства нет. Следовательно, знание в собственном, формальном
смысле слова может быть приписано Богу пропорциональным образом, т. е.
соразмерно бесконечной природе Бога. А значит, мы вправе утверждать, что поскольку
Бог бесконечно превосходит человека, то и божественное знание бесконечно выше
знания человеческого — именно это Кайетан и называет analogia proprie facta.™
Согласно подобной аналогии и должны мы понимать все те присущие Богу атрибуты,
которые сами по себе, по своей природе, указывают на совершенство. И мы можем в
полном согласии с нашими предпосылками утверждать, что все виды совершенств,
которые усматриваем мы в конечных духах, присутствуют и в Боге, —
освобожденные, однако, от каких-либо примесей, сопутствующих им в существах сотворенных.
И потому данное учение об аналогических совершенствах в Б<?ге, или о нашем
познании Бога по аналогии, ложно истолковывается и скверно применяется теми, кто
желал бы вывести отсюда, будто мы вообще не способны образовать сколько-нибудь
ясное и правильное (пусть даже весьма недостаточное) представление о знании и
мудрости, каковы они суть в Боге, или будто мы постигаем их не больше, чем
слепорожденный понимает, что такое свет или цвет.
А сейчас, господа, вы, должно быть, ожидаете от меня извинений
за то, что я так пространно излагал одно из положении метафизики и
ввел в хорошее общество таких неотесанных и немодных авторов, как
схоластики. Но поскольку повод к этому подал Лисикл, то ему и
отвечать за то, что случилось.
Лисикл. О подобной занудной диссертации я и не помышлял. Но
даже если я, столь неловко упомянув схоластиков, и вправду дал повод к обсуждению
этих схоластических вопросов, то ведь это был мой первый промах подобного рода,
который — обещаю вам — станет последним. Возиться с этими невразумительными
авторами — совершенно не в моем вкусе. Соглашаюсь: иногда и у тех писателей,
которых называем мы скучными, можно наткнуться на основательную мысль; об одной из
* Vide Cajetan. de Nom. Analog, cap. 3.:w
EXjE>OI
них, и в самом деле поразившей мое воображение, я и говорил. А впрочем, для
подобных занятий есть у нас Продик и Диагор, которые и заглядывают в эти старые
книжки, избавляя нас от излишних трудов.
Критон. Так значит, вы слепо на них полагаетесь?
Лисикл. Да — но только в отношении отдельных фактов, критических вопросов и
некоторых странных мнений. И потом, мы отлично знаем тех, кому верим на слово:
это люди честные и разумные, и другой цели, кроме служения истине, у них нет. И я
не сомневаюсь, что какой-то автор действительно поддерживал упомянутое выше
учение в том именно смысле, в каком изложил его Диагор.
Критон. Возможно. Однако общепринятым оно никогда не было, и пока люди
веруют в Бога, никогда не будет: ибо те самые доводы, которые доказывают
первопричину как таковую, доказывают первопричину разумную, — разумную, говорю я, в
прямом смысле, мудрую и благую - в истинном и буквальном значении этих слов.
В противном случае всякий силлогизм, используемый для доказательства этих
атрибутов (или, что то же самое, для доказательства бытия Божия), будет состоять из
четырех терминов, а следовательно, ни к какому выводу не приведет. А что до вас, Алкиф-
рон, то вы теперь убедились, что Бог есть мыслящее разумное существо — в том же
смысле, что и остальные духи, хотя и не тем же несовершенным образом, как эти
последние.
Алкифрон. И все же кое-какие сомнения у меня остаются: ведь
вместе со знанием выводите вы мудрость, а вместе с мудростью —
благость. [Однако я не вижу ни мудрости, ни благости в том, чтобы
устанавливать такие законы, которые никогда не могут быть исполнены.
Критон. Но разве станет кто-нибудь порицать точность
геометрических правил только за то, что на практике она недосягаема?
Совершенство правила и в этом случае имеет свою пользу: многие приближаются к тому,
чего, вероятно, никто не способен достигнуть вполне.]40
Алкифрон. Но как можно представлять себе Бога столь благим, если человек
настолько зол? Мы, пожалуй, вправе с известной претензией на правдоподобие
утверждать, что легкая тень, отбрасываемая злом, лишь подчеркивает яркие и светлые части
творения, способствуя, таким образом, красоте целого, — но ведь огромные черные
пятна этим принципом не объяснить! Никто и никогда не сумеет согласить высшую
благость и мудрость Верховного Правителя с тем, что в мире так много порока и так
мало добродетели, а законы Царства Божьего так скверно исполняются Его
подданными.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, станете ли вы утверждать, что государство дурно
управляется, или судить о нравах его граждан, глядя на те безобразия, которые
творятся в тюрьмах и темницах?11
Алкифрон. Не стану.
Ефранор. Но ведь, насколько нам известно, это крошечное пространство,
населенное немногими грешниками, по отношению к универсуму разумных духов есть не
более, чем тюрьма — по отношению к государству в целом. И сдается мне, что не одно
лишь откровение, но и естественный разум, созерцающий аналогию видимых вещей и
заключающий по этой аналогии, приводит нас к выводу о существовании
бесчисленных порядков разумных созданий, более счастливых и совершенных, чем человек,
Ю4@Ы$Г~ Джордж Беркли "^Jlg^d
жизнь коего — всего лишь миг, а пространство, наш земной шар, — лишь точка по
сравнению со всей системой Божьего творения. Да, слава и величие дольнего мира нас
ослепляют — ведь ничто лучшее нам неведомо. И все же я склонен полагать, что если
бы мы постигли, что значит быть ангелом — хотя бы один час! — то возвращались бы
в наш мир, даже для того, чтобы воссесть на величайший трон, с куда большим
отвращением и неохотой, чем если бы в данную минуту предстояло нам спуститься в
омерзительную темницу или склеп.
Критон. А по-моему, вполне естественно, что столь слабое,
страстное и недальновидное создание, каким является человек, вечно
подвержено тем или иным сомнениям. Но поскольку это же самое существо
бывает в своих суждениях слишком категоричным, а в выводах —
чересчур торопливым, то и получается, что затруднения и сомнения
относительно образа действий Бога обращаются в возражения против
Его бытия. Именно так приходят люди к тому, что от собственных недостатков
заключают против божественных совершенств. А поскольку мнения и характеры
человеческие различны, а часто и противоположны, то мы видим порою, как одни и те же
атеистические выводы извлекаются из противоречащих друг другу посылок.
Подобный пример явили два моих знакомых мелких философа, имевшие обыкновение
приводить доводы против Промысла каждый согласно собственному темпераменту. Один
из них, человек желчного и мстительного нрава, говорил, что не может уверовать в
Провидение оттого, что Лондон еще не провалился сквозь землю и не был истреблен
огнем небесным, ибо улицы этого города, как он выражался, кишат людьми,
выказывающими свою веру или почитание Божества одним-единственным способом — тем,
что они беспрестанно умоляют Господа «предать их проклятию*, «отправить ко всем
чертям», «сгноить» или «утопить». Зато другой, человек ленивый и покладистый,
заключал, что Провидение никак невозможно уже по той причине, что существо,
обладающее совершенной мудростью, наверняка найдет себе занятие получше, чем жалкая
возня с молитвами, поступками и мелкими заботами рода человеческого.
Алкифрон. Но, в конце концов, если Бог свободен от страстей, то как может быть
истинным, что «Он воздаст»? И как можно тогда говорить, что Он «ревнует славе
своей»?
Критон. Мы веруем, что Бог творит возмездие без мстительности и ревнует без
слабости — точно так же, как разум человеческий видит без помощи глаз и
схватывает, не имея рук.
Алкифрон. Чтобы поставить в этом рассуждении точку, мы
признаем, что подобный бесстрастный Бог существует, — и что же
дальше? При чем тут религия или культ? К чему все эти молитвы и
восхваления, благодарственные молебны и пение псалмов, которые глупая
чернь и называет служением Господу? Какой же во всем этом смысл,
цель или польза?
Критон. Да, мы поклоняемся Господу, мы славим Его и возносим Ему молитвы —
но не потому, что воображаем, будто Он гордится нашим почитанием, тешится нашими
хвалами и молениями, будто они способны влиять на Него, словно на человека, или
хоть что-нибудь прибавить к Его блаженству и счастью, — нет! — но потому, что это
К^БУ Алкнфро, Щ^СМ
для нас самих благо — быть расположенными к Богу подобным образом, потому что
это разумно и справедливо, соответствует природе вещей и подобает нашему
отношению к Верховному Повелителю и Владыке.
Алкифрон. Но если поклонение Господу есть благо для нас, то выходит, что
христианская религия, притязающая на то, чтобы учить людей истинному почитанию и
познанию Бога, принесла человечеству какую-то пользу и выгоду.
Критон. Несомненно.
Алкифрон. Если это можно будет доказать, то я признаюсь, что глубоко
заблуждался.
Критон. Подошло время обедать, Алкифрон, а потому, если вам угодно,
сегодняшнюю беседу мы завершим, а завтра утром вновь обратимся к нашему предмету.
-ае?$^!$К^
Диалог пятый
1. Мелкие философы подымают лай и идут по
следу, не пользуясь собственным нюхом.
2. Культ, предписанный христианской
религией, наиболее подобает достоинству Бога
и человека.
3. Власть н влияние друидов.
4. Превосходство и польва христианской
религии.
5. Она делает людей благороднее н счастливее.
6. Религия не есть ни суеверие, нн фана-
7. Врачи н лекарства для души.
8. Духовный облик священнослужителей.
9. Не следует принижать естественную
религию я человеческий рааум.
10. Общее направление и польаа языческих
религий.
11. Добрые плоды христианства.
12. Сравнение англичан с древними греками и
римлянами.
Современный обычай дуэли.
Характер древних римлян; как он
формировался.
Истинные следствия Евангелия.
Войны н раадоры не являются следствием
христианской религии.
Гражданские междоусобицы и избиения в
Греции и Риме.
18. Добродетель древних греков.
19. Споры и препирательства богословов.
20. Тирания, незаконные захваты и
софистика церковников.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Осуждение университетов.
Божественно-восхитительные писания
одного современного критика.
Ученость н образованность суть
следствия религии.
Варварство схоластиков.
Возрождение искусств и классической
образованности; кому мы этим обязаны.
Предубежденность н неблагодарность
мелких философов.
Их претензии и поведение несовместимы.
Сопоставление людей и животных с
точки зрения религии.
Христианство — единственное средство,
способное установить в государстве
естественную религию.
Свободомыслящие обманулись в
оценке своих дарований;, у них буйное
воображение.
Церковная десятина н церковные земли.
Отличие людей от человекоподобных
существ.
Разделение человечества на птиц, зверей
и рыб.
Апология разума принимается, однако
предвзятость отвергается.
Свобода есть благо или проклятие, смот-
ря по тому, как ею пользуются.
Козни духовенства — не самое страшное
зло современности.
JÊi
IkXSXJ
На следующий день мы развлекались каждый по-своему, пока в
9 часов утра нам не сообщили, что чайный столик уже накрыт в
библиотеке. Последняя представляла собой расположенную на нижнем
этаже галерею, сводчатые двери которой открывались в сторону липовой
аллеи. Как только мы выпили чаю, чудесная погода соблазнила нас
выйти на прогулку. Так мы достигли невысокой горы с пологими
склонами и на ее вершине в тени развесистого дерева обнаружили скамью. С одной
стороны перед нами открывался вид на узкий залив, или морскую бухту, окаймленную
живописными скалами, рощами, зеленью берегов и крестьянскими домиками. В самом
конце залива на склонах холма виднелся небольшой городок, благодаря своему
удачному местоположению производивший впечатление весьма внушительное. Общую
картину оживляли рыбачьи лодки и лихтеры, скользившие по гладкой и блестящей,
словно стекло, поверхности залива. По другую сторону под нами расстилались зеленые
пастбища; стада грелись на жарком солнце, тогда как мы, находившиеся на самой
вершине, наслаждались прохладной тенью и свежестью воздуха.1
И тут в нас пробудилось то радостное чувство, которое внушают обыкновенно
сельские виды и чудесная погода, и мы уже заранее предвкушали немалое удовольствие от
беседы, которую намеревались возобновить и вести без всяких помех вплоть до обеда.
Но едва успели мы устроится поудобнее и оглядеться, как у подножия нашей горки
заметили лисицу, спасавшуюся от погони в сторону соседней чащи. А через несколько
минут мы услыхали беспорядочный шум, в котором сливались лай гончих, звуки
рожков и громкие крики деревенских сквайров. Пока внимание наше было отвлечено этим
происшествием, примчался, задыхаясь от усталости, слуга и сообщил Критону, что
сосед его, Ктесипп (известный в тех местах помещик), пытаясь перескочить изгородь,
упал с лошади; его перенесли к Критону в дом, где и лежит он теперь едва живой. Мы
тотчас встали и поспешно направились к дому, где нашли Ктесиппа, который только
что пришел в себя. Его окружали с полдюжины загорелых сквайров в сюртуках,
ботфортах и коротких париках. На вопрос о том, как он себя чувствует, Ктесипп отвечал,
что все обошлось сломанным ребром. Не без труда убедил его Критон лечь в постель и
дождаться хирурга. Между тем охотники на лис, поднявшиеся ради своей забавы
довольно рано, уже успели здорово проголодаться, и потому обед пришлось ускорить.
Охотники провели этот день по-деревенски шумно и весело; провозглашаемыми
тостами засвидетельствовали они свое благочестие и верность трону, а затем много
толковали о собаках, лошадях, выборах, сельских ярмарках, — пока хирург, занимавшийся
Ктесиппом, не пожелал, чтобы того уложили в Критонову карету и отправили домой
(остаться ночевать Ктесипп отказался).
Гости наши удалились, а мы, отдохнув после этого шумного визита, на следующее
утро снова собрались на вершине холма.
И тут Лиснкл (bel esprit и человек тонкий) выказал величайшее презрение к
грубым манерам и невежественным разговорам охотников; он был прямо-таки не в силах
хладнокровно помыслить о стольких часах, которые, по его словам, потерял в их
обществе.
— Я тешил себя надеждой, — восклицал Лисикл, — что эта порода среди нас уже
окончательно перевелась! Не постигаю, как могут люди забавляться столь
беспорядочным шумом и суматохой или же находить удовольствие в обществе лошадей и собак!
Настолько все-таки изящнее городские развлечения!
IJk^^fi^ Джордж Беркли ^)^^Г^|
— Мне кажется, — отвечал Ефранор, — что между охотниками на лис и
свободомыслящими есть какое-то сходство: первые напрягают свои физические способности в
погоне за дичью, вторые же используют дарования умственные в погоне за истиной.
Род развлечения у них один и тот же, хотя предмет — различный.
Лисикл. Пусть уж лучше меня сравнивают с каким угодно животным на свете, но
только не с животным разумным.
Критон. А значит, вас не слишком рассердит мой друг Пифокл, который, как я
слышал, сравнивал заурядного мелкого философа не с охотником, но с гончей. "Ведь
и среди собак, — говорил он, — часто можно наблюдать, как какой-нибудь брехливый
пес с никудышным чутьем ведет за собою неопытную часть своры, которая дружно
подымает лай вслед за ним, хотя собственным нюхом пользуется при этом не больше,
чем толпа свободомыслящих — собственным разумом."
Однако Пифокл был человек грубый и неотесанный; он, должно
быть, никогда не встречал среди мелких философов таких тонких
мыслителей, как вы, джентльмены, — вы, тщательно продумывающие
всякий довод, упорно отстаивающие каждую пядь земли и, однако,
знающие, когда нужно пойти на разумную уступку.
Лисикл. Не пойму, отчего так выходит, но только мне сдается, что
Алкифрон делает уступки и от моего имени тоже. Я же не столь покладист, хотя и
становиться чересчур упрямым не желаю.
Критон. И в самом деле, Алкифрон, когда подумаю я о том, куда мы уже дошли и
в чем уже успели согласиться, то мне не кажется невозможным, что в конце концов мы
достигнем полного согласия. Ибо вы признали, что добродетельная жизнь во всех
отношениях предпочтительнее, ибо чрезвычайно содействует как общему благу
человечества, так и благополучию отдельной личности; и вы согласились, что одна лишь
красота добродетели не является достаточным мотивом для того, чтобы побудить
людей к добродетельному поведению. А это заставило вас согласиться и с тем, что вера в
Бога весьма полезна в жизни, а следовательно, вы, Алкифрон, должны быть
расположены к принятию любых разумных доказательств Его бытия, — каковые
доказательства были вам представлены и вами признаны.
Но если мы допускаем Божество, то почему бы не допустить и почитание
Божества? А если признать богопочитание, то отчего же не признать и религию, которая учит
нас этому богопочитанию? Если же религию, то почему не религию христианскую,
коль скоро лучшую не найти, а эта установлена законом нашей страны и завещана
нашими предками? Или мы будем веровать в Бога, но молиться Ему ради грядущих
милостей или благодарить за прежние — не станем? Не станем уповать на Его
покровительство, любить за Его благость, славить Его мудрость, восхищаться Его силой? А
если все подобное следует делать, то можно ли совершать это более подобающим
достоинству Бога и человека образом, чем тот, который предписан нам христианской
верой?
Алкифрон. Не стану утверждать, будто я сейчас совершенно уверен в том, что
религия приносит обществу одно лишь зло, — однако мне невыносимо наблюдать, как
религия и политика шествуют рука об руку. И мне неприятно видеть, что человеческие
права ставятся в связь с правами божественными. Я против всевозможных pontifex
maximus,2 вроде тех, что были в древнем Риме и существуют в Риме сегодняшнем,
ECHO
Ю&ЫР Алкифрон ^)#^П
против иудейских первосвященников, египетских и спартанских царей-жрецов и
татарских лам.
Я был знаком с остроумным джентльменом из нашей секты, ныне
покойным, который чрезвычайно восхищался древними друидами.3
К нынешней официальной религии питал он непреодолимое
отвращение, зато часто говорил, что не имел бы ничего против возрождения
друидов и их веры, некогда процветавшей в Галлии и Британии,
поскольку было бы совсем не худо иметь известное число склонных к
созерцанию людей, выделенных в особое сословие, которое бы сохраняло знание наук
и искусств, воспитывало молодежь, учило человечество бессмертию души и
моральным добродетелям. Такими, по его словам, и были древние друиды, и я бы желал,
чтобы они снова у нас утвердились.
Критон. А как бы вам это понравилось, Алкифрон, если бы жрецы обладали
полной властью разрешать все споры, распоряжаться собственностью, определять
награды и наказания; если бы каждого, кто не подчиняется их повелениям, отлучали от
церкви, ненавидели, лишали всех почестей, привилегий и общей для всех людей
защиты законов; если бы время от времени известное число мирян запихивали в плетеный
идол и сжигали в жертву языческим богам? Как бы вам понравилась жизнь под
властью таких жрецов,и такой религии?
Алкифрон. Совершенно не понравилась бы: подобное положение для
свободомыслящих никак не подходит.
Критон. А между тем именно таковы, если верить описанию Цезаря,* были
друиды и их религия.
Лисикл. Сейчас я сильнее, чем когда-либо убежден: никакой государственной
религии не должно существовать. И, без сомнения, все народы мира до сих пор пребывают в
каком-то сумасшествии. Даже афиняне, самый мудрый и свободный народ на свете,
испытывали дурацкую привязанность к своей государственной религии. Они, если не
ошибаюсь, пообещали целый талант золота тому, кто убьет Диагора, вольнодумца тех времен,
высмеивавшего их мистерии. А Протагор, еще один человек подобного склада, едва избег
казни за то, что написал некое сочинение, противоречившее обычным представлениям
афинян о богах. Вот как обходились с нашей славной сектой в Афинах. И я не сомневаюсь,
что друиды принесли бы в жертву своим богам великое множество вольнодумцев. А
потому я и гроша ломаного не дам за то, чтобы одну религию переменить на другую. Вырвите
их все до единой, с корнями и листьями — или вы ничего не добьетесь. Избавьте меня от
всевозможных друидов и жрецов: я не вижу пользы ни в ком из них.
Ефранор. Слова Лисикла напомнили мне о том, что в конце
последней нашей беседы мы условились при следующей встрече снова
взяться за решение вопроса, тогда лишь намеченного, а именно
вопроса о пользе и благодеяниях христианской религии, доказательства
которого Алкифрон ожидал получить от Критона.
Критон. И я тем охотнее принимаюсь за этот вопрос, что не
нахожу его трудным, а еще и потому, что одно из доказательств истинности христианской
* Dc Bello Gallico. Lib. VII, 16.1
религии есть, по моему разумению, ее устремленность к добру, которая, словно
полярная звезда, должна руководить нашим суждением в вопросах морали, да π во всех
вопросах практического свойства, ибо моральная или практическая истина всегда
связана с общим благом. Но чтобы составить верное суждение об этом предмете, нам
следует действовать так, как вел себя в другом случае Лисикл, то есть попытаться
охватить единым взором вещи в их совокупности и проследить, насколько мы на это
способны, самые отдаленные следствия, до которых разветвляются исходные
принципы. Нам должно учитывать не столько капризы, причуды и воображаемые страдания
кучки праздных особ, чье самомнение может быть уязвлено, хотя в глубине души
остаются они совершенно спокойны, — нет, нам надлежит беспристрастно исследовать
истинный интерес как отдельных людей, так и человеческого общества в целом.
И христианская религия, если в ней видят источник света, радости и мира, кладезь
веры, надежды и любви (а что она действительно такова, очевидно всякому, кто
составит представление о ней из Евангелия), по необходимости должна быть первоначалом
счастья и добродетели. Тот же, кто не видит, что уничтожение основ добродетели
непременно разрушит и самое добродетель, тот вообще ничего не видит, — а кто это
ясно понимает и, однако, упорствует в своих разрушительных деяниях, - кто же он
такой, если не безнравственный человек?
И сдается мне, что не слишком проницателен и глубокомыслен тот,
кто не сознает собственной бренности, греховности и зависимости, кто
не замечает, что наш земной мир не создан и не предназначен для того,
чтобы сделать счастливой разумную душу; кто не желал бы
перенестись в лучшее состояние и не был бы безмерно обрадован тем, что
путь, ведущий туда, — это любовь к Богу и человеку, это добродетель,
это разумная жизнь, пока мы еще здесь, на земле, это оценка вещей согласно
истинному их достоинству, позволяющая пользоваться этим миром, однако, не злоупотреблять
им, — а ведь именно этого и требует от нас христианство. Оно не предписывает нам ни
цинической мерзости, ни стоической бесчувственности. И существует ли цель более
высокая, чем преодоление этого мира, или более мудрая, нежели победа над самим
собой; есть ли учение более утешительное, чем отпущение грехов, есть ли надежда
более радостная, чем обновление нашей низменной природы и ее уподобление
Божеству, чем обращение наше в божьих чад и граждан единого мира с ангелами? Неужели
пифагорейцы, платоники или стоики предлагали когда-нибудь человеческому духу -
хотя бы в теории или в воображении — средства более чистые и цели более
благородные? Сколь велика та доля нашего счастья, которая зависит от надежды! И как
безжалостно истребляет эту надежду мелкая философия! И напротив, как ее лелеет и
пробуждает Евангелие! Пусть любой серьезно мыслящий человек задумается над этим —
а потом скажет нам, кто заслуживает большего уважения со стороны человечества: тот
ли, кто проповедует христианство, или тот, кто его хулит и порочит? Кто, по его
мнению, будет вести счастливую жизнь, станет многообещающим сыном, честным
дельцом, достойным патриотом: тот ли, кто искренне верует в Евангелие, или тот, кто
не верит ни единому его слову; тот, кто стремится стать чадом божьим, или тот, кто
вполне согласен считаться и быть одной из эпикуровых свиней? В самом деле,
присмотритесь к характерам, изучите поведение людей с той и с другой стороны и
ккза
потом ответьте, кто живет в большем согласии с разумом? Как это должно быть —
ясно из разума, как есть — вам скажут факты.
Алкифрон. Замечательно наблюдать, как изменяют свой вид вещи,
если их рассматривают в ином свете или другими глазами. И тот образ
религии, который возникает перед моим взором, весьма отличен от
нарисованного вами, — в особенности, когда подумаю я о том, как она
расслабляет душу, наполняя ее нелепыми мечтаниями и рабскими
страхами, как она гасит добрые чувства, внушая нам дух злобы,
ярости и нетерпимости; когда я вижу нечестивый гнев и тупое ожесточение в тех самых
людях, которые другим проповедуют кротость и милосердие.
Критон. Весьма возможно, что джентльмены из вашей секты считают религию чем-
то недостойным своего внимания — и однако, мне кажется, что всякий, кто
вознамерился опровергать некое учение, должен прежде узнать, против чего же он спорит.
Так вот, да будет вам известно, что религия — это и есть добродетельная середина
между атеизмом и суеверием. А потому мы не ратуем за безрассудное суеверие и не
защищаем фанатическую исступленность. Религия против нечестия, закон вместо
хаоса, надежда христианина вместо уныния атеиста — вот что мы отстаиваем. И я не
стану оправдывать нечестивый гнев и тупое ожесточение в ком бы то ни было, еще
менее - в христианине, и менее всего - в лице духовном. Но если вспышки страстей
дают о себе знать даже в лучших людях, то это ничуть нас не удивит, когда мы
вспомним издевательские насмешки и дурное обхождение, которое терпят эти люди со
стороны мелких философов. Ибо, как замечает где-то Цицерон, habet quendam
aculeum contumelia, quem pati prudentes ас viri boni dificillime possunt.3 И хотя иногда
можно видеть, как отдельные лица, называющие себя христианами, впадают под
действием страстей или слабости человеческой в какие-нибудь порочные крайности, тогда
как люди неверующие, более спокойные и бесстрастные по характеру, ведут себя,
вероятно, лучше, — тем не менее, их природные склонности ровно ничего не
доказывают ни в пользу принципов неверия, ни против принципов христианства. И если
верующий творит зло, то движет им человеческий характер, а не божественная вера;
когда же неверующий творит благо, то не по причине своего неверия, а благодаря
человеческому характеру.
Лисикл. Чтобы поскорее с этим предметом покончить, я
позаимствую медицинское сравнение, уже использованное одним из вас против
нашей секты. Никто не станет отрицать, что духовенство слывет
врачевателем наших душ, а религия есть род лекарства, коим духовные
лица приторговывают и которое они нам прописывают. Но если великое
множество душ заболевает и гибнет, можем ли мы считать врача
сведущим, а его лечебное средство — целительным? Между тем все вокруг сетуют на то, что
порочность растет, а люди с каждым днем становятся все более испорченными. Но
если стадо у нас больное или немощное, то кто же, как не пастырь, виновен в
нерадивости или неумении его исцелить? А значит, грош цена всем этим пастырям и
лекарствам, всем этим врачевателям, которые, подобно прочим шарлатанам, с чрезвычайно
торжественным видом и с весьма мудреными речами сбывают свои пилюли людям,
которым от них лучше не становится.
|5TféJfc(F~ Д»0РД» Беркли ^Й^Д
Ефранор. Нет ничего справедливее этого замечания, согласно которому о враче и
о его лекарстве должно судить по тому, как последнее действует на больного. Но
скажите на милость, Лисикл, станете ли вы судить о враче по тем больным, которые
принимают его лекарство и следуют его предписаниям, или же по тем, кто так не
поступает?
Лисикл. Несомненно, по тем, которые лекарство принимают.
Ефранор. Так что же нам остается думать, если многие отказываются принимать
лекарство или же принимают вместо него яд, имеющий совершенно противоположную
природу; яд, предписанный теми, кто изо всех сил старается внушить недоверие к
врачу и к его лечебным средствам, кто препятствует людям их принимать и разрушает
их действие снадобьями собственной фабрикации? Станем ли мы винить врача в
несчастиях подобных людей?
Лисикл. Ни в коем случае.
Ефранор. Но не вытекает ли отсюда по аналогии, что и о влиянии религиозных
учений нужно судить по действию, производимому ими не на всех, кто только их
слушает, но лишь на тех, кто их принимает с верою?
Лисикл. Похоже, так.
Ефранор. А значит, если рассуждать беспристрастно, то не должны ли мы судить
о влиянии религии по людям религиозным, о вере — по верующим, о христианстве -
по христианам?
Лисикл. Подозреваю, однако, что этих искренних верующих
весьма немного.
Ефранор. Но не будет ли это достаточным подтверждением наших
принципов, если соразмерно числу тех, кто их принимает, и степени
веры, с которой они принимаются, эти принципы и производят благие
следствия? А число верующих, пожалуй, не так уж незначительно, но
даже если их и в самом деле немного, то кто же в этом виновен, как не те, которые
открыто исповедуют стремление это число уменьшить? И кто же это такие, если не
мелкие философы?
Лисикл. Уверяю вас: вина лежит на самом духовенстве, на испорченности и
порочности самих священнослужителей.
Ефранор. Но кто же отрицает, что и среди духовных лиц встречаются мелкие
философы?
Критон. Позволительно предположить, что в столь многочисленной корпорации
бывают разные люди. И однако, несмотря на все жестокие упреки, коими осыпают это
сословие его враги, беспристрастный наблюдатель людей и событий склонился бы, если не
ошибаюсь, к мысли, что обвинения эти имеют своим источником чьи-то другие пороки
в той же мере, как и недостатки самого духовенства — в особенности, если бы обратил
он внимание на высокопарно-напыщенный тон тех, кто эти недостатки порицает.
Ефранор. Мое знание света слишком ограничено, чтобы стал я притязать на
суждение о добродетелях, заслугах и обширных познаниях представителей некоторых
профессий. И потом, сравнение — это не аргумент. Осмелюсь, однако, утверждать,
что духовные лица той страны, где я живу, нисколько ее не позорят — напротив, их
пример и поучение приносят людям великую пользу. Но предположим, что
священнослужители грешны и испорчены ( каковы, наверняка, и все остальные люди), предпо-
ложим, что вам удастся обнаружить в их среде величайшие преступления и пороки, —
однако сможете ли вы умозаключить против самого сословия от недостойных его
представителей нечто большее, чем от гордыни, педантизма и порочной жизни иных
философов и законоведов — против философии и закона как таковых?
Критон. Судить о принципах по их следствиям, без сомнения,
вполне справедливо — но в таком случае мы должны быть уверены,
что речь идет именно о следствиях данных принципов. Подобной
методы я и держался по отношению к религии и мелкой философии. И я
могу по всей совести утверждать, что не встречал такого человека или
такую семью, которые становились бы хуже соразмерно тому, как
становились они более религиозными, зато я не однажды замечал, что мелкая философия
есть самое скверное, что только может проникнуть в недра семейства, ибо она является
самым быстрым и прямым путем к бедности, раздору и бесчестью.
Алкифрон. А вот я, пользуясь тем же методом поиска причин, исходя из их
следствий, обнаружил, что любовь к истине, добродетель и счастье человечества
суть благовидные предлоги, но отнюдь не подлинные побуждения, руководящие
духовными лицами — иначе зачем бы они стали оскорблять человеческий разум,
принижать естественную религию и клеветать на философов — чем они
повсеместно и занимаются.
Критон. Пожалуй, не столь повсеместно, как вам кажется. Христианин и в самом
деле стоит за то, чтобы держать разум в должных границах — но ведь этого хочет и
всякий разумный человек. И если нам воспрещено ввязываться в бессмысленные
споры, заниматься пустой философией и ложной наукой, то ведь отсюда еще не следует,
что все разыскания в области плодотворных проблем, полезной философии и
истинной науки незаконны. Мелкий философ может, конечно, поставить нам в вину
подобное заключение, а кто-нибудь из немощных братьев способен его вообразить — однако
рассудительный человек никогда этого не сделает. Бог есть всеобщий Отец света, и
всякое познание, воистину являющееся таковым, естественное или данное в
откровении, проистекает из единого источника истины и света. Собирать доказательства и
свидетельства авторитетов по столь ясному вопросу нет никакой надобности. Следует,
впрочем, признать: когда некоторые приписали человеческому разуму слишком много,
то это вполне естественным образом заставило других приписывать ему слишком мало.
Вот что, однако, общепризнанно: существует естественная религия, которая может
быть открыта и доказана с помощью света разума — для тех, кто вообще способен
воспринять подобные доказательства. Но вместе с тем следует признать, что
священные истины и заповеди, нисходящие с небес, служат благу общества и воспитанию
народа несравненно лучше, чем рассуждения философов, — а потому мы и не
обнаруживаем, чтобы естественная или рациональная религия сама по себе становилась в
какой-либо стране религией народной и национальной.
Алкифрон. Невозможно отрицать, что во всех языческих странах
под видом религии принималось множество басен и суеверных
обрядов. Однако я сомневаюсь, что они были столь уж нелепы и
производили такое дурное влияние, как это обыкновенно изображают: ведь
законодатели и правители, без сомнения, находили их полезными.
Критон. Погружаться в исследование всех обрядов и верований языческого
мира нам, пожалуй, не стоит: в свое время это было сделано, и теперь всякий, кто
пожелает, может без труда просветиться на сей счет. Но что касается общего
направления и пользы лзыческих религий в целом, то позвольте мне упомянуть
одно замечание бл. Августина,* который указывает, что языческие религии не
имели общих собраний для произнесения проповедей, где бы людей поучали, каких
добродетелей.и обязанностей требуют от них боги; не было у язычников
определенного места и способа узнать то, к изучению чего призывает их Персии:
Disciteque о miseri, et causas cognoscite rerum,
Quid sumus, et quidnam victuri gignimur!**
Алкифрон. Но ведь это и есть самый настоящий дух партийности никогда не
признавать даже крохи доброго и полезного в том, что нам чуждо! К счастью, среди
нас имеются ученые люди, воздавшие должное религии язычников.
Критон. А мы и не отрицаем, что в древних религиях Греции, Рима и некоторых
других языческих стран было нечто благотворное. Напротив, мы охотно соглашаемся,
что они произвели известное положительное действие на человечество. Но ведь добрые
плоды приносили отдельные истины, которые заключались в этих, в целом ложных
религиях, — а следовательно, чем истиннее религия, тем она полезнее. И, полагаю,
вам нелегко будет найти в любой языческой системе, религиозной или философской,
какую-либо полезную истину, моральное правило или благотворный принцип,
которые не вошли бы в систему христианскую и не были бы в ней обоснованы более
сильными побудительными мотивами, поддержаны более серьезными аргументами
или доведены до более высокой степени совершенства.
Алкифрон. Так значит, вы хотите, чтобы мы считали себя людьми
более тонкими, чем греки и римляне?
Критон. Если под словами «более тонкими» вы разумеете
«лучшими», то, вероятно, мы таковыми и являемся, - если же не являемся,
то этим обязаны мы не христианской религии, но ее недостатку.
Алкифрон. Как вы сказали? "Вероятно, мы таковыми и
являемся"? Я не притязаю на особую ученость, и все же слишком уж невежественным был бы
я человеком, если бы меня можно было провести в столь очевидном вопросе. Как!
Цицерона или Брута сравнивать с английским патриотом? Сенеку - с одним из наших
пасторов? Эта непреклонная душевная твердость, эта сила и мощь ума, эта
бескорыстная, возвышенная добродетель, этот изумительный дух гражданственности, которым
вы так восхищаетесь, — все эти их достоинства настолько общеизвестны и до такой
степени отличны от наших нравов, что я просто не знаю, чем извинить ваше
«вероятно». Ефранор, который влачит свои дни в этом захолустье, может, конечно, ложно
истолковывать характеры нашего времени, но вы, человек знающий свет, как вы могли
впасть в подобное заблуждение?
Критон. Ах, Алкифрон, я вовсе не намерен умалять благородные достоинства
древних героев. Только вот я замечаю, что превосходнейшие принципы, руководив-
* De Civitate Dei, Lib. II.6
·· Cam. HI.7
unie их действиями, являются общими для них и для христиан. А в отношении
последних было бы нетрудно найти (пусть и не в нашем веке, но в пределах нашей
собственной истории) много примеров добродетели и всякого рода достоинств, общественных и
частных, кои не уступят самым знаменитым подвигам древних. Хотя их истории,
пожалуй, и не были столь превосходно рассказаны, не были украшены и оттенены всеми
прелестями слога, и не изучаются теперь всяким школьником. И хотя следует
согласиться с тем, что греческий или римский гений, воспитанный в суровой дисциплине и
в послушании строгим законам, побуждаемый и воодушевляемый к подвигам
гражданской добродетели всевозможными статуями, венками, триумфальными арками и тому
подобными наградами и памятниками великих деяний, — пусть этот гений, говорю я,
и мог порою превзойти славой и характером прочие народы, тем не менее, это докажет
нам лишь то, что у древних было больше природной силы духа, а гражданское их
правление в некоторых отношениях было устроено лучше, чем у нас. Но подобные
преимущества природы или гражданского устройства не являются аргументами ни в
пользу их религии, ни против религии нашей. Наоборот, неоспоримым свидетельством
силы и превосходства христианской веры кажется мне то, что и без помощи этих
гражданских установлений и приманок славы она сумела внушить флегматичному и
вялому народу благороднейшие чувства, смягчить грубые нравы северных дикарей,
привить им кротость и человечность и сделать, в конце концов, эти качества
национальными, - так что они возрастают или идут на убыль соразмерно чистоте нашей
религии, соответственно тому, приближается ли она к идеалу, начертанному в
Евангелии, или удаляется от него.
А чтобы составить верное суждение о действии христианской
религии, давайте исследуем господствующие представления и нравы той
самой страны, где мы с вами живем, и сравним их с понятиями наших
языческих предков.
Алкифрон. Я много слышал о чудном свете Евангелия и был бы
рад узреть хоть какие-то благие его следствия в моем милом отечестве,
которое, замечу мимоходом, является одной из самых испорченных и развращенных
стран на свете — несмотря на всю хваленую чистоту нашей веры. И если уж вы
желаете воздать честь собственной религии, дерзните сравнить христиан с самыми
знаменитыми язычниками древности.
Критон. Презирать настоящее, чрезмерно восхваляя прежние времена и нравы —
предрассудок весьма распространенный. Что-то подобное вкралось и в наши
суждения о греках и римлянах. Ибо, хотя и следует признать, что эти народы произвели на
свет некоторых благородных мужей и создали великие образцы добродетели, тем не
менее, в целом, как мне кажется, в отношении истинной добродетели и добрых нравов
они уступают даже этой "испорченной и развращенной стране" — как вам было угодно
ее назвать, чтобы опозорить нашу религию, — хотя, желая воздать честь мелкой
философии, вы порой находите уместным характеризовать свое отечество иначе. И это,
полагаю, станет ясно всякому, кто от немногих блестящих личностей обратит свой
взор на обычаи и нравы этих народов в целом. Дерзкое и оскорбительное обращение с
пленниками (даже с теми, кто принадлежал к высокому званию и нежному полу),
собственные дети, безжалостно брошенные на произвол судьбы; кровавые зрелища
гладиаторских боев — все это, сопоставленное с нравами и понятиями обычного англи-
K№&F~ Джордж Беркли ^^gSd
чанина, является для меня ясным доказательством того, как смягчило христианство
наши души. Что может быть более несправедливым, чем обрекать молодую женщину
на позорнейшее наказание и смерть из-за провинности ее отца, или осудить всю семью
рабов (может быть, несколько сот человек) за преступление, совершенное одним из
них? Или более омерзительным, чем их вакханалии и всевозможные порывы
необузданной похоти, которые, несмотря на все сделанное мелкими философами ради
развращения нашей нации и успех их усилий среди известных ее представителей, все же
не нашли у нас достойных продолжателей — таких, по крайней мере, которые сумели
бы сравниться с древними во всех подробностях бесстыдства и дерзости. Пока
римляне были бедны, они оставались умеренными и воздержанными, но с ростом богатства
стали до такой степени расточительными и распутными, что нам в это трудно поверить
и даже представить себе. Величие духа древних римлян отрицать невозможно но
ведь столь же достоверно, что и британцы явили множество примеров самого твердого
и непоколебимого мужества и, главным образом, по причинам религиозного свойства.
В общем, мне кажется свидетельством крайней слепоты и неблагодарности то, что мы
не видим или не признаем огромных благодеяний христианства, которое — не говоря
уже о соображениях более высоких — столь очевидным образом смягчило, улучшило
и украсило наши нравы.
Алкифрон. Ах, Критон, как же нас возмущает жестокость в чужом
обличье — зато в знакомых формах мы ее вовсе не замечаем. Как
иначе объяснить то, что вы не видите бесчеловечности варварского обычая
дуэли, терпимого и даже почитаемого среди нас? А если видите, то как
можете вы считать англичан людьми более мягкого нрава, чем древние
римляне, которым обычай этот был совершенно чужд?
Критон. Я ничуть не намерен оправдывать всякого варвара, который выходит из
дому с твердым решением убить любого, кто только плюнет в его сторону или
обвинит его во лжи. И я не думаю, что христианство несет хоть какую-то
ответственность за этот обычай, столь явно противоречащий его заповедям и укоренившийся
только среди праздной части нации, — а именно среди вас, светских людей, коими
руководят не разум, закон и религия, но мода и прихоть. Соблаговолите принять в
расчет следующее: то, что может являться и действительно является величайшим
позором для христианской нации, вполне может и не быть таковым для самого
христианства: ибо языческие религии поощряли людей ко многим порокам,
христианская же — ни к какому.
Алкифрон. Позвольте заметить, что сказанное вами к делу не относится. Ибо мы
сейчас не занимаемся общим направлением языческой или христианской религии, но
исследуем наши нынешние нравы, сопоставляя их с нравами древних язычников, у
которых, уверяю вас, не существовало такого варварского обычая, как дуэль.
Критон. А я вас уверяю, что каким бы дурным ни был этот наш обычай, у древних
имелся обычай похуже — отравление. И мы вправе заключить, что погубил он куда
больше жизней, чем дикое злодеяние дуэли, ибо распространялся на людей всякого
возраста, пола и звания, действие же его было более тайным и неотвратимым, и
заключал он в себе больше соблазнов для порочных людей, поскольку служил личной
выгоде, равно как и страсти. За подтверждением сказанного отсылаю вас, чтобы не терять
времени, к самим римским авторам.
Е^ЙЙГ Алкнфро. "Р^ГЗ!
Лисикл. Совершенно справедливо. Ведь дуэль не является ни столь же всеобщим
бедствием, ни столь же подлым по свое природе. Подобное преступление (если это
действительно преступление) имеет отличные шансы удержаться вопреки законам и
Евангелию. Духовенство никогда не проповедует против этого зла, поскольку от него
не страдает, ну а люди чести не станут протестовать против того способа, который и
позволяет эту честь защитить.
Критон. Хотя некоторые члены вашей секты и утверждают, будто духовные лица
обычно не проповедуют против дуэлей, я, однако, полагаю, что и само это замечание,
и приводимая в его объяснение причина равно ложны. На самом же деле добрая
половина их проповедей — все, что говорится о милосердии, братской любви, терпении,
кротости, прощении обид — прямо направлено против этого порочного обычая.
И, кстати говоря, не стоит думать, будто само духовенство от него не терпит, —
напротив, если принять во внимание все обстоятельства, то окажется, пожалуй, что именно
духовенство и страдает больше других людей.
Лисикл. И чем же вы это докажете?
Критон. Наблюдатель человеческих нравов может обнаружить два вида
фанфаронов: диких и ручных. Оба они — воистину бичи для общества, причем первый вид
(животное более опасное, хотя и реже встречающееся) упражняется единственно на
мирянах, тогда как более робкая порода употребляет свои способности по отношению
к духовенству. Качества, свойственные этому ручному задире, суть природная
грубость вкупе с обостренным чувством опасности. Ибо вам надлежит знать, что действие
врожденной наглости и дурных манер ничуть не ослабевает благодаря модному
обычаю требовать людей к ответу за их поступки, хотя и получает новое направление.
И потому вы часто можете наблюдать, как один из этих робких забияк прямо-таки
лопается от гордости и злости, однако не осмеливается дать им волю, пока не
повстречает себе на радость деревенского пастора. А какой-нибудь острослов, который скорее
язык себе откусит, чем в присутствии военного человека отпустит шутку в адрес
воинского сословия, перед лицами духовными мгновенно оживляется и принимает
фамильярный тон по отношению к религии и церкви. Доркон (во всяком ином обществе
слывущий трусом и действительно являющийся таковым), оказавшись среди
священнослужителей, изображает человека совершенно противоположного характера. И не
так уж мало среди нас подобных Дорконов, обязанных своим остроумием и
храбростью этому кроткому сословию.
Алкифрон. Вернемся, однако, к нашему предмету. Станете ли вы
отрицать, что древние римляне так же знамениты своей
справедливостью и честностью, как наши современники — качествами
противоположными?
Критон. О характере римлян следует судить не по сентенциям
Цицерона, деяниям Катона или отдельным блестящим эпизодам римской
истории, но по общему укладу их жизни и господствовавшим понятиям. Так вот, если
достоинства римлян и современных британцев взвесить на одних и тех же точных
весах, то обнаружится, если не ошибаюсь, ваше предубеждение в пользу древних
римлян и против собственной родины — надо думать, потому, что она исповедует
христианство. Любые проявления обмана и несправедливости, какие можно встретить
у христиан, несут в себе свое собственное осуждение — в той тщательности, с которой
ш
их пытаются скрыть от чужих глаз и в том чувстве стыда, коим сопровождается их
обнаружение. Даже в нынешнюю эпоху во всех наших публичных обсуждениях и
совещаниях царит какая-то скромность и сдержанность. И я полагаю, что самый
дерзкий из наших мелких философов едва ли посмеет предложить в народном собрании
что-либо похожее на похищение сабинянок, на вопиющую несправедливость по
отношению к Луцию Тарквинию Коллатину* или на неблагодарное обращение с Камил-
лом,9 — а между тем все эти беззакония были санкционированы римскими органами
власти. И если уже в раннюю эпоху своей истории Рим оказался способен на столь
возмутительную несправедливость, то совершенно ясно, что с ростом богатства и мощи
нравы его ничуть не улучшились: ибо он породил истинные чудовища во всяком роде
порока, которые превосходили других людей в этом отношении настолько же,
насколько превышали их властью и силой. Я охотно признаю, что христианская религия
не произвела того влияния на общество, какое могла бы оказать, если бы люди всегда
исповедовали ее во всей чистоте и принимали всем сердцем. Осмелюсь, однако,
утверждать: если возьмете вы римскую историю на всем ее протяжении и без
предвзятости сравните ее с историей вашей страны, то вам не покажется, что римляне так уж
прекрасны, а ваши соотечественники настолько дурны, как вы себе воображаете.
Напротив, беспристрастный наблюдатель заметит, что какая-то жила милосердия и
справедливости — следствие христианских принципов — проходит через всю нашу
историю; и хотя не в каждое мгновение можно различить ее с одинаковой ясностью, тем не
менее, в целом обнаруживается она в достаточной мере, чтобы можно было уловить
огромное несходство нашей истории и истории римской — и все это несмотря на
страсти и вожделения, общие для человеческой природы, и на особенную грубость,
неподатливость и шероховатость той глыбы, из коей мы с вами были высечены. И можно
заметить (на это указывают сами римские авторы), что добродетели и благородные
деяния римлян возвышались и приходили в упадок вместе с представлениями о
Промысле и будущей жизни, вместе с такой философией, которая более всего
приближалась к христианской религии.
После этих слов Критон остановился. И тогда Алкифрон,
обратившись ко мне и Ефранору, сказал:
— Вполне естественно, что люди, сообразно своему воспитанию и
предрассудкам, выносят противоположные суждения об одних и тех же
предметах, которые рассматривают в различном свете. Критон,
например, воображает, будто религия производит одни только благотворные
следствия — но стоит вам обратиться к общему опыту и наблюдениям других люден, и
вы обнаружите, что выражение «религия есть корень зла» уже вошло в поговорку:
Tantum religio potuit suadere malorum.10
И это относится не только к эпикурейцам и прочим язычникам древности: гак
говорят о христианской религии и наши современники. А потому мне кажется
неразумным противопоставлять господствующему мнению всего света замечания
отдельного лица или отдельной секты фанатиков, неспособных избавиться от предрассудка,
примешивающегося к их суждению; фанатиков, которые наблюдают, читают,
умозаключают, имея в мыслях не открытые истины, но защиту своих предвзятых мнении.
ECSX2
кга&у Алш«|,роИ ^й^^гд
Критон. Согласиться с Алкифроном я не могу, однако, должен признать, я
восхищаюсь тем, как он ловок и находчив в своей аргументации. Общенародные
представления и господствующие понятия он в известных случаях выдает за верный признак
заблуждения. Но если его целям может послужить противоположная оценка, то он с
подобной же легкостью превращает общее мнение в печать истины. Отсюда, однако, не
следует, что богохульная поговорка, которая в ходу у приятелей и любимых авторов
мелкого философа, и в самом деле является господствующим мнением, а тем более
истиной, основанной на опыте и наблюдении всего человечества. Из вины и суеверия
может проистекать печаль, из фанатизма — ярость, но предполагать, что темные и
дикие страсти порождаются божественными заповедями и радостными обетованиями
Евангелия — все равно, что думать, будто мрак — это естественное следствие
солнечного света. Ибо что же является последним итогом и сущностью, целью и смыслом
христианской религии, если не любовь к Богу и человеку? А все прочие положения и
обязанности зависят от нее и относятся к ней в качестве средств, знаков, принципов,
частей, мотивов и следствий. И хотел бы я знать, как же это возможно, чтобы из
подобного источника возникло какое-либо зло или порча? Я не хочу сказать, будто у
христиан нет недостатков, а мелкие философы лишены всяких достоинств. Однако вот
что утверждаю я со всей определенностью: какое бы зло ни обнаружилось в нас,
принципы наши, безусловно, ведут к добру, - и какое бы добро ни заключалось в вас,
более чем достоверно, что ваши принципы ведут ко злу.
Алкифрон. Следует согласиться, что в пользу христианской
религии можно привести немало правдоподобных аргументов и что фасад у
этой религии действительно привлекательный — если брать ее такой,
какой она представлена в Евангелии. Один из наших авторов, однако,
заметил,п что первые христиане начали свое дело очень тонко и хитро,
с елейными физиономиями проповедуя прекраснейшие моральные
учения на свете. Только и слышно было, что о любви, милосердии, кротости, терпении и
тому подобном. Но когда с помощью этих средств они распространили влияние свое по
всему миру и добились власти, то сразу же переменили собственный облик, выказав
жестокость, честолюбие, алчность — словом, все мыслимые пороки.
Критон. Иначе говоря, одни люди весьма тонко и хитро проповедовали,
претерпевая при этом множество тягот и жертвуя собственной жизнью ради распространения
прекрасных принципов и высокой нравственности — и все это затем, чтобы несколько
веков спустя другие люди пожали плоды скверных принципов и отвратительной
морали. Не знаю, кто там был изобретателен и хитер, но только автор этого замечания
особой тонкости и изобретательности не обнаружил.
Алкифрон. И все же с тех пор как появилась в мире эта религия, не видно конца
вражде, раздорам, войнам и резне, — а это прямо противоречит тому гимну, который читаем
мы в Евангелии: "Слава в вышних Богу, мир на земле и в человеках благоволение".
Критон. Этого я не отрицаю. Я даже готов признать, что Евангелие и христианская
религия часто служили предлогом для подобных зол; отсюда, однако, не следует,
будто они были их причиной. Напротив, вполне очевидно, что они никак не могли
быть истинной и действительной причиной этих несчастий, ибо дух мятежа, гордыни,
вражды и мести есть прямое противоречие общему смыслу и самым ясным заповедям
христианства. А во-вторых, все эти бедствия случались так же часто (если не чаще) в
fàTté^W Джордж Беркли ^)^^СЙ
те времена, когда мир еще не знал о христианской религии. Ибо являются они
обычным следствием человеческих страстей и грехов, которые люди порочные прикрывают
личиной религии, имеющей внешнюю форму благочестия, однако лишенной его силы.
Эта истина кажется настолько неоспоримой, что меня удивляет, как разумный,
образованный и честный человек может в ней усомниться
Взгляните хотя бы на языческий Рим — и какое зрелище вражды,
ярости, диких междоусобиц откроется перед вами! Пусть кто угодно
подумает о бесконечном соперничестве патрициев и плебеев, о
кровавых и жестоких раздорах Мария12 и Суллы,13 Цинны11 и Октавия,15 о
страшных избиениях и резне при двух знаменитых триумвиратах;
короче говоря, пусть любой здравомыслящий и честный человек окинет
взглядом римскую историю от ее начала до завершения, пусть посмотрит он на эту
бесконечную вереницу мятежей, убийств, избиений, проскрипций и всякого рода
бесчинств, отягчаемых всевозможными подробностями ярости, грабежа и мести, — и
потом пусть он скажет, христианство ли принесло в мир эти несчастья? И разве не стали
они сейчас более редкими, чем прежде?
Алкифрон. Древние римляне, надо признать, обладали надменным и неистовым
нравом, который и порождал дикие раздоры и кровавые катастрофы. Зато греки были
людьми кроткими и благовоспитанными, ибо их характер смягчили философия и
искусство. Можно ли хотя бы помыслить о маленьких городах и государствах Древней
Греции, не пожелав перенестись в те времена, не восхитившись их изысканной
вежливостью и не позавидовав их счастью?
Критон. Люди склонны замечать темные стороны в том, чем они обладают, и
светлые — в том, что им недоступно. Прекрасный климат, тонкий вкус, изысканные
развлечения, любовь к свободе, талант и изобретательность в науках и искусствах были
неоспоримым достоянием Древней Греции. Но вот что касается мира и спокойствия,
мягкости и человечности, то здесь мы их явно превосходим, ибо эти достойные зависти
города, населенные «кроткими» греками, не испытывали недостатка в собственных
партиях и кликах, члены которых преследовали друг друга с такой злобой, яростью и
коварством, что участники наших раздоров и междоусобиц — рядом с ними просто
сущие агнцы. А чтобы убедиться в данной истине, вам достаточно заглянуть в Фукиди-
да,* и из него вы узнаете, что города эти были обыкновенно погружены в столь
ожесточенные распри, что их граждане без всяких церемоний и военных формальностей
истребляли один другого в храмах и общественных зданиях, совершенно пренебрегая
заслугами, званиями, взаимными обязанностями и кровным родством. И если
человеческая природа доходила в своей неистовой ярости до таких крайностей у народа
самого мягкого и изысканного, то стоит ли удивляться тому, что дикари должны
снимать скальпы, поджаривать на огне, истязать и убивать друг друга, - чем они, как
известно, и занимаются? А значит, ясно, что и без религии нет недостатка в предлогах
для смут и раздоров, каковые легко объясняются природными слабостями и пороками
человечества. Но, пожалуй, не столь легко было бы объяснить слепоту тех, кто
приписывает эти дьявольские следствия действию божественного начала — если
предположить, что подобные истолковыватели говорят всерьез и по зрелом размышлении. Вся-
* Фукидид, Кн. III.
ш
кий день мы наблюдаем, как люди предубежденные и невежественные совершают
самые грубые и нелепые ошибки. Но кто бы мог подумать, что свободомыслящие — эти
беспристрастные исследователи, эти водолазы, погружающиеся во глубину вещей, эти
открыватели чужих глаз — кто бы мог подумать, что и они способны допустить столь
непростительный промах!
Алкифрон. Что до остального человечества, то здесь мы вам
охотно уступим, но вот что касается греков, то ведь самые тонкие и
даровитые особы ценят их чрезвычайной высоко — и не только за те качества,
которые и вы считаете нужным в них признать, но также и за их
добродетели.
Критон. Не берусь определять, до какой степени одни могут быть
предубеждены против собственной родины, а другие — в ее пользу. Но после самого
тщательного и беспристрастного исследования, на которое я способен, я прихожу к
мнению, что если под добродетелью разуметь честность, справедливость и
благодарность, то в нынешней Англии куда больше добродетели, чем ее можно было отыскать
в любую эпоху древнегреческой истории. И вы, конечно, согласитесь, что немного нам
известна таких стран — а может быть, вообще ни одной — где бы людей самых
превосходных достоинств, имевших величайшие заслуги перед отечеством, постигла бы
более суровая судьба, где бы с ними обходились с большей неблагодарностью, чем в
самых просвещенных и культурных государствах Греции.* Хотя, надо сказать, Сократ
не считал, что эти государственные мужи, украшая город, увеличивая флот и
расширяя афинскую торговлю, удостоились каких-либо заслуг перед обществом; и он не
думал, будто они вправе сетовать на неблагодарность сограждан, которых эти мужи
(в ту пору, когда они еще обладали властью) не позаботились сделать лучшими
людьми, совершенствуя и развивая их души с помощью принципов добродетели, — ибо
сделай они это, им бы потом не пришлось опасаться неблагодарности.17 И если бы мне
надлежало высказать свое мнение о том, в чем же заключалось основное преимущество
греков, римлян и других народов, выделявшихся своими достоинствами на фоне
прочих наций, то я склонен был бы предположить, что дело в их особом почтении к своим
законам и гражданским установлениям, внушавшем им постоянство, храбрость и
великодушную, искреннюю любовь к отечеству, под которым разумели они не
какой-нибудь отдельный язык или племя, еще менее того, — известную точку на поверхности
земли, — нет, — но включали в понятие родины определенную совокупность нравов,
обычаев, представлений, обрядов и законов, как гражданских, так и религиозных.
Алкифрон. Ага! Теперь я понял, куда вы клоните: вам бы хотелось, чтобы и мы
чтили законы и религиозные учреждения нашего отечества. Но тут уж вам придется
нас извинить, если мы не найдем нужным подражать грекам или подчиняться власти
какого-либо авторитета вообще.
Критон. [Это уж точно. Ведь если бы власть ввела магометанство, то я ничуть не
сомневаюсь, что те самые вольнодумцы, которые нынче так рукоплещут турецким
нравам и принципам (как будто готовы превратиться в турок сами), первыми стали бы
их громогласно порицать.],я
* Cicero, De Repub. I, З.16
Алкифрон. Однако не будем отвлекаться. Что касается войн и раздоров, то я
соглашаюсь: под тем или иным предлогом они всегда вспыхивали и будут вспыхивать,
пока люди остаются людьми.
Но ведь есть особого рода войны и воители, характерные именно
для христианства, о которых язычники и понятия не имели, - я имею
в виду споры в теологии и полемизирующих богословов, уже порядком
измучивших весь свет. Если верить их собственным словам, то это -
проповедники мира, кротости, согласия и бог знает чего еще, - но
стоит вам бросить взгляд на их действия, и вы обнаружите, что во все
века были они самой вздорной, драчливой и задиристой шайкой на земле. Ловкость и
софистические увертки, усердие и пыл, с которыми эти варвары, эти школьные
богословы спорят о химерах и пререкаются о мелочах, возмущают меня сильнее, чем все
интриги, козни и ухищрения римской курии, ибо первые представляют собой
большую нелепость и позор для человеческого разума.
Критон. Если богословы бранятся и пререкаются, то не оттого, что они
богословы — напротив, в данном случае ведут они себя безбожно и не по-христиански.
Правосудие — благо, а искусство исцелять от болезней — превосходная вещь, и все же при
отправлении правосудия и назначения лекарств случаются несправедливости и
отравления. Но как не может несправедливость быть правосудием или следствием
правосудия, а яд — лекарством или следствием лекарства, так гордыня и раздор не могут быть
религией или действием религии. Установив это в качестве предпосылки, я готов
признать, что мы порою можем видеть, как отчаянные фанатики ввязываются в споры
различных религиозных или гражданских партий, не делая чести и не принося пользы
ни одной из них. А что касается в частности схоластиков, то я не думаю, что
христианская религия имеет хоть какое-то отношение к оправданию их самих, их положений
и их метода. И все же, какую бы пустоту и поверхностность ни нашли бы мы в их
теориях, сколько бы грубости ни обнаружили в их языке, из одного лишь уважения к
истине следует признать: в своих сочинениях они избегают напыщенности, ругани и
издевательских шуток; они настолько далеки от того, чтобы выказывать гнев или
раздражение, что беспристрастный судья, пожалуй, решит, что мелкие философы нейдут
с ними ни в какое сравнение в смысле хороших манер, спокойного нрава и привычки
говорить по существу дела. Но в конце концов, если люди приходят в недоумение,
спорят, несут вздор и бранятся по поводу религии, то ведь точно так же ведут они себя
по отношению к нраву, медицине, политике и любому иному сколько-нибудь важному
предмету. И я спрашиваю вас: неужели в этих или других областях, где люди
прибегают к абстракциям и отвлечениям, они не ввязываются в споры, не занимаются
крючкотворством, не говорят вздор и не впадают в противоречия точно так же, как в
богословии? Это, однако, ничуть не мешает тому, чтобы во всех подобных науках
присутствовали многие превосходные правила, верные идеи и полезные истины. Ведь ко всем
спорам, сообразно большей или меньшей важности затронутого предмета, обычно
примешиваются людские страсти. Мы, однако, не должны путать дело человека с
делом Бога или выставлять людские безрассудства в качестве возражений против
божественных истин. Ибо не так уж трудно различить то, что похоже на мудрость
свыше, и то, что имеет своим источником человеческие страсти и слабости. И это настоль-
ко очевидно, что нежелание подобное различение провести можно, пожалуй, счесть не
следствием невежества, но действием чего-то худшего.
Поведение мелких философов, порицаемое нами, естественным
образом вытекает из их принципов. Однако все, в чем они могли бы
упрекнуть нас, есть следствие не наших принципов как таковых, но
лишь людских страстей и бренности человеческой.
Алкифрон. Просто восхитительно! Выходит, мы уже не вправе
ставить в вину христианам нелепые споры церковных соборов,
жестокость инквизиции, честолюбие священников и их незаконные захваты?
Критон. Вы можете винить в этом христиан — но не самое христианство. Если
Божественный Творец нашей религии и ученики Его бросили в землю доброе семя, а
враги Его Евангелия (к которым следует причислить мелких философов всех времен)
сеяли рядом семя злое, из коего проросли чертополох и колючки, то разве не
очевидно, что появление этих сорных трав нельзя вменять в вину доброму семени или тому,
кто его сеял? Все доводы, которые вы приводите или способны привести против
церковной тирании, узурпации или софистики, могут быть приняты всеми истинными
христианами без всякого ущерба и позора для их религии, — при условии, что
относите вы эти дурные следствия к их истинной причине и вменяете в вину только тем
принципам и лицам, которые их действительно порождают или оправдывают. И
поскольку интересы христианства, безусловно, не могут поддерживаться
антихристианскими методами, то всякий раз, когда идут в ход последние, следует предполагать
существование некоего скрытого начала, которое и приводит их в действие. И если
нам доподлинно известно, что сама же римская курия из политических мотивов
противилась установлению инквизиции в том королевстве, где светская власть стремилась
ввести ее вопреки Риму,* то мы вполне можем предположить, что и в других местах
придворные клики и политические виды государей были причиной деяний, по
видимости религиозных, — к которым, однако, религия, церковь и духовные лица были в
сущности совершенно непричастны. И подобно тому как ни один здравомыслящий и
честный человек не станет защищать духовных лиц вообще, так, я полагаю, ни один
сколько-нибудь беспристрастный человек не осудит их скопом без всякого разбора.
Разумно ли, по-вашему, обвинять всех государственных деятелей, адвокатов или
солдат за промахи и ошибки, допущенные отдельными представителями их сословия,
если они жили в другие времена, в других странах и действовали под влиянием иных
принципов и правил? Если нет, то почему же вы подходите с разной меркой к
духовенству и мирянам? Лучшего объяснения, чем сила предрассудка, этому не найти.
Допустим, кто-то соберет все свидетельства вреда, причиненного людям во все века и у всех
народов юристами и солдатами, — вы, вероятно, не заключите отсюда, будто
государство должно избавиться от этих необходимых и полезных профессий — нет, вы всего
лишь решите, что следует остерегаться сопутствующих им крайностей и излишеств и
пересекать их. И когда вы столь же беспристрастно отнесетесь к духовенству, то
против вас найдется меньше возражений — но тогда и у вас останется намного меньше
доводов. И если бы читатели принимали в расчет это простое и очевидное
соображение, то они бы куда меньше доверяли высокопарным вашим ниспровергателям.
* P.Paolo. Istoria dell'Inquisitione. p. 42.w
Алкифрон. Но если привести все те доводы, которые еще остаются, то это заставит
нас вознегодовать при виде разумных существ, под предлогом изучения и
исследования занимающихся чтением и сочинением множества объемистых трактатов de lana
caprina.20
Критон. Не стану оправдывать теологические сочинения вообще, поскольку общая
и неопределенная защита столь же бесполезна, сколь неосновательны общие и
неопределенные обвинения. Позвольте лишь им самим себя защищать, и пусть никто их не
осуждает, приняв на веру слова мелкого философа. Вообразим, однако, самое худшее,
представим себе вздорного педанта, с головой ушедшего в теологические споры,
который пишет и размышляет, пережевывая некий утонченный вопрос, настолько
бесполезный и невразумительный, насколько это вам будет угодно. Предположим, что
человек подобного нрава воспитан в миру — разве не мог бы он тогда заняться
надувательством, сутяжничеством, политическими интригами, подстрекательством к мятежу и
тому подобными забавами — куда более пагубными для общества? Так что позвольте
любознательным умам и дальше плести свою паутину — какой в этом вред?
Алкифрон. А вот какой: недостаток света люди обычно возмещают лихорадочным
жаром, а потому фанатическое рвение и злобный нрав оказывается тем оружием,
которое вечно пускают в ход вожди противоборствующих партий и их приверженцы.
А это — не одни лишь педанты и буквоеды: часто можно наблюдать, как ученый и
даже знаменитый богослов прямо-таки из кожи вон лезет, объясняя необъяснимое или
препираясь из-за бесплодных теоретических положений, словно на карту поставлены
его жизнь, свобода или собственность.
Критон. Разумеется, не все положения теологии имеют одинаковую важность.
Некоторые из них представляют собой кружева слишком уж тонкие, другим же
приписывают больше значимости, чем они того заслуживают. И мы нередко видим, что если
предмет (каким бы он ни был сам по себе) рассматривается отдельно от прочих, то в ходе
долгой полемики, тщательного исследования и детальнейшего изучения он приобретает
особую важность в глазах того самого человека, который бы вовсе его не заметил на фоне
широкой и всеобъемлющей картины. Столь же часто можем мы наблюдать совместное
действие невежества и фанатического остервенения в людях, обладающих врожденным
духом партийности — хотя церковь и религия имеют к этому самое малое отношение.
Нет ничего пррще, чем рисовать на любую профессию карикатуры (как называют это
художники) — но ведь в конце концов оказывается, что самое удивительное во всех
подобных обвинениях против духовенства — это как раз пристрастность его хулителей,
которые общие всему человечеству недостатки выдают за исключительное свойство
духовного сословия или же за прямое действие религиозных принципов.
Алкифрон. Другие люди могут сколько угодно спорить и пререкаться из-за
пустяков — никто на них внимания не обратит. Зато почтенные перебранки духовных лиц
слывут ученостью, имеющей великую важность для человечества. Воспользуюсь
словами остроумнейшего описателя характеров нашего времени: "Арена для борьбы
готова—и вот уже читатели собираются во множестве. Каждый выбирает себе любимцев
и горячо поддерживает свою партию: Я за этого! — А я ставлю на того! — Наш ему
хорошо врезал! — Еще отличный удар! — Расквитался сполна! - А ну-ка вмажь ему
как следует! — Что за славный поединок!"*
* Характеристики, том III, гл, 2, С. 9.21
Критон. Человек воспитанный и знатный так и чувствуется в этой изящной сатире,
столь тонко высмеивающей доводы, контрдоводы, возражения и выпады, под
которыми стонет печатный станок.
Алкифрон. При этом расходуется уйма времени и бумаги — и никто не становится
хотя бы чуточку умнее. И в самом деле, кто же поумнеет от чтения книг, посвященных
невразумительным и далеким от жизни предметам; книг, написанных самым скверным
языком? Найдется ли разумный человек, который не испытывал бы отвращения к этой
заразе — нудному, тягучему красноречию церковных кафедр или же к сухому,
педантичному, окостеневшему и топорному слогу, от которого так и разит лампой и
университетской скамьей?
Те, кто имеют слабость почитать университеты как оплот учености,
найдут этот упрек странным — и однако он вполне справедлив. Ибо в
наше время большинство проницательных людей согласны в том, что
университеты являются всего лишь питомником предрассудков и
испорченности, рассадником варварства и педантизма.
Лисикл. А вот мне на них жаловаться не приходится. Помню
только, что, находясь в одном из университетов, тратил я по триста фунтов в год, и было
это, по-моему, счастливейшее время в моей жизни. А что касается книжек и стиля, то
у меня не нашлось досуга обратить на них внимание.
Критон. Всякий, кому придет на ум пропалывать и очищать, без работы не
останется; а тот, кто задумает собрать скверные книги по всем дисциплинам, быстро
наполнит ими свою библиотеку. Не знаю, с какими теологическими сочинениями
знакомы Алкифрон и его приятели, однако, смею утверждать, что среди английских
богословов есть много таких писателей, которые глубиной мышления, силой аргументов и
чистотой слога не уступят любым авторам, писавшим на нашем языке. Я не собираюсь
оправдывать университеты в целом и искренне желаю, чтобы все, что там сейчас не в
порядке — а где найти среди людей совершенство? — было бы исправлено. И все же
осмелюсь утверждать — ибо это я знаю точно — что всякий беспристрастный
наблюдатель сможет убедиться в том, что они значительно превосходят университеты
иностранные и уж конечно выше той жалкой картины, которую рисуют нам мелкие
философы - пусть даже наши университеты и не достигли идеала, который наблюдателю
угодно воображать в теории. И вполне естественно, что образовательные учреждения
более всего поносят как раз те, кто менее других воспользовался их выгодами.
Недалекие и безрассудные родители также охотно ищут ложные причины той испорченности,
к которой сами же и дали повод, определяя на содержание своих чад такие суммы,
коими те не в состоянии воспользоваться разумно и добродетельно. И джентльмен,
проводивший университетские годы в праздности, в компании столь же праздных
ленивцев, слишком часто берется судить об университетах в целом по кучке своих
приятелей.
Алкифрон. Критон не понял, о чем идет речь. Ведь я опираюсь не на авторитет
какого-нибудь тупицы, шалопая или бестолкового отца — я ссылаюсь на одного из
самых изумительных критиков, коих производил наш век. Мастерская кисть этого
великого мужа рисует людей церкви и университета тончайшими штрихами. Как, по-
вашему, он их называет?
Ефранор. И как же?
ψ" Джордж Беркли ^)^6^(лй
Алкифрон. Черным племенем, колдунами, формалистами, бородатыми
мальчишками.22 А затем, жестоко осмеяв их самих и опровергнув их низкую и неизящную ученость,
он являет нам восхитительнейшие образцы собственного слога — и, надо признать, на
нашем языке не было написано ничего более тонкого, в чем я с легкостью сумею вас
убедить, ибо никогда не расстаюсь с сочинениями этого благородного автора.
Ефранор. Выходит, он — благородный автор?
Алкифрон. Я же вам сказал: он — благородный человек.
Ефранор. Однако, благородный человек, который пишет книги, — это одно, а
благородный писатель — другое.
Алкифрон. Оба качества совпадают, и сейчас вы это поймете.
Тут Алкифрон извлек из кармана трактат, озаглавленный "Солилок-
вия, или Совет автору".
— Не угодно ли вам, — спросил он, окинув взглядом общество, —
познакомиться с образчиком изысканного слога? Тогда перелистайте
эту книгу.
Открыв ее, Критон прочел буквально следующее:*
Нам честолюбье обещает радость? Так где ж она?
Где радости любви? Иль то уже не радость,
Что скуке недоступно и безделью?
— Нет выше радости, чем лень.
— Жить и не чувствовать?!
— Не чувствовать страданья.
— И что ж хорошего?
— Как! Жизнь сама!
И это — жизнь? Жить — значит спать? И за такое
Существованье станем мы цепляться?
Тут даже взбалмошное племя возмутилось
И началась гражданская война.
Капризных дам, представьте, большинство
Встает под знамя Разума и бой
Тоскливым вдруг Сиренам объявляет.
И даже Честолюбие стыдиться
Предложенных ему услад. Тщета
И Самомненье гордостью надулись. Роскошь
И та отступницу-сестрицу осуждает:
"Прочь, привиденье сонное. Ко мне ты не являйся больше!
От других, тех, что тебя получше, я узнала,
Что жизнь — в занятьях и труде".
Тут некий новый образ беспокойный
К нам обратился. Муки и страданья
Он презирает. У особы этой
Взгляд Добродетели суровой. На лице
♦ Часть III, разд. 2?
ЕСНХЗ
Алкифрон
тц
Черты тревоги. Что она бормочет?
И с удивлением на что взирает? На мешки,
На сундуки иль на металла груды?
— Скажи мне, Страсть печальная, все эти
Богатства ради Роскоши? И ты —
Ее подруга? Для нее ты не жалеешь сил?
— Нет, лишь забочусь я о черном дне.
— Ну хорошо, оставим Роскошь. Неужели
Того, что ты имеешь, не довольно
Тебе для жизни?
— Нам хорошо, когда голодной смерти
Мы можем не страшиться.
— Голодной смерти? Умереть иначе,
Выходит, нам нельзя? Других путей
Из этой жизни нет? И если
Одни врата мы заперли, то можем
Не опасаться больше мы других?
Скажи же, Скупость, ненасытный призрак,
Не Трусости ли служишь ты? И что за дело
Мне до тебя, презренная рабыня,
Коль госпожу твою дерзну отвергнуть,
Вменив в ничто ее угрозы. Так
Вступаю в бой с Капризом я и с Модой.
Дослушав до этого места, Ефранор воскликнул:
— Да кончите ли вы когда-нибудь с вашими стихами? В другое время это было бы
кстати — но неужели станем мы прерывать нашу беседу ради чтения пьесы?
— Вы ошиблись, — отвечал ему Алкифрон, — эта не пьеса и не стихи. Это
знаменитый критик современности морализирует в прозе. Сей великий муж разоблачил
перед всем миром, если воспользоваться его собственными словами, «великую тайну»,
научив человечество тому, что именует он « искусством говорить с самим собой»,
«авторским умением», «самоотражением»; он показал, что «углубляясь в тайники
души, человек сможет раскрыть в себе двойственность души и разделить самого себя на
две половины»,24 или, выражаясь несколько иначе, «образовать двойственное число на
практике». Таким образом, он обнаружил, что человек может спорить с самим собой,
и не только с собой, но также с идеями, чувствами и пороками, каковые наш автор
посредством восхитительной просопопеи представляет в виде нескольких женщин, а
после этого превращения в божественно-неподражаемом стиле их развенчивает и
опровергает. Что может быть изящнее, смелее и возвышеннее?
Ефранор. И в самом деле удивительно. Я ведь и вправду подумал, будто читаете
вы отрывок из какой-то трагедии. Так это и есть тот самый автор, который презирает
наши университеты, притязая на то, чтобы преобразовать вкусы эпохи и
усовершенствовать ее слог?
Алкифрон. Он самый и есть. Это знаменитый критик нашего времени. И ничто не
устоит перед его точным суждением, перед его беспристрастной оценкой, равно
суровой по отношению к поэтам и пасторам. "Британские музы, — говорит сей великий
юснхз
муж, — лепечут словно младенцы в колыбели; запинающимся своим языком сумели
они произвести на свет до сих пор лишь каламбуры и жалкую игру слов. Тот же слог
и у наших драматургов — Шекспира, Флетчера, Джонсона; таков же стиль и у нашего
эпика Мильтона". И, по его мнению, даже новейшие авторы, "стремящиеся к ложной
возвышенности, лишь тешат нашу грубую фантазию и непритязательный слух, не
успевший еще развиться и стать воистину музыкальным".25
Ефранор. А скажите на милость, какое влияние оказали на общество поучения
этого великого мужа, для которого наши ученые профессора — лишь бородатые
мальчишки, а самые знаменитые таланты — всего только жалкие зубоскалы? Неужели
очистил он нас от университетской ржавчины, излечил наших авторов от грубости и
неотесанности, возвысил до собственных, истинно классических образцов? Стремятся
ли они теперь к его подлинной возвышенности, подражают ли строгой простоте и
естественности его слога?
Алкифрон. Вкус нашего века стал, без сомнения, тоньше, и всеобщий восторг перед
творениями этого мужа — ясное тому доказательство. Публикуя свой Трактат, наш
автор предузнавал, что вкус общества быстро улучшится, искусства и литература
достигнут высокой степени совершенства, и мир увидит счастливый расцвет талантов, — обо
всем этом он и говорил, по собственному выражению, «в пророческом стиле».
Критон. И однако, несмотря на все вещания и оракулы этого критика, я не вижу,
чтобы какая-то наука расцвела у нас в последнее время так же пышно, как мелкая
философия. Ну а в этом роде, должно признаться, у нас имеется немало значительных
произведений. Но только в самом ли деле являются они шедеврами по части хорошего
слога, пусть решают читатели.
А пока вы должны меня извинить, если я не могу поверить на слово
вашему великому мужу, желающему убедить нас в том, что невежество
и дурной вкус имеют своим источником христианскую религию и
духовенство, — ибо я искренне полагаю, что всякой образованностью,
которая у нас есть, обязаны мы именно этому сословию. И если бы те,
кто столь проницательно открывает соломинку в чужом глазу,
пожелали бы, наконец, прочистить свои собственные, то, пожалуй, они бы без
труда узрели эту истину. Ибо что же еще, кроме религии, могло возжечь и сохранить
стремление к знанию в этом грубом северном народе? Греция рождала людей самого
тонкого и живого дарования; народные собрания и соперничество греческих городов
развивали этот талант, а ученые беседы, происходившие в общественных садах,
аллеях и портиках, еще более возбуждали и поощряли природную любознательность
греков. Но ведь наш дух тяготеет к развлечениям более грубого свойства и дышим мы
воздухом более тяжелым и холодным, а в той всеобщей для афинян
любознательности, удовлетворение которой являлось для них величайшим удовольствием, наши
светские люди видят лишь притворство и аффектацию, а потому изгоняют ее из
общественных мест и изысканных собраний. И, без сомнения, эта любознательность весьма
скоро и вовсе бы исчезла в нашем отечестве, если бы не великие хранилища знания,
где благодаря щедрости и благочестию наших предков обитают все эти «формалисты»,
«педанты» и «бородатые мальчишки» — как величают их ваши глубокомысленные
критики. Ибо вполне очевидно, что именно религия была причиной и
первоисточником всякой образованности и всякого вкуса, которые можно у нас обнаружить,
даже у тех, кто является открытым врагом нашей религии и учебных заведений.
Любому не вполне невежественному человеку прекрасно известно, что
образованностью обязаны мы греческому и латинскому языкам, — даже суровые ваши критики
охотно это признают.2ίί Но, пожалуй, не столь охотно признают они — хотя убедиться
в этом способен каждый — что этими языками обязаны мы религии. Ибо что другое
могло породить у нас потребность в этих чужих и мертвых языках? Что могло
сохранить им жизнь в течение стольких темных столетий, когда войны и насилие
обезображивали и опустошали мир, и передать их в наследство нашему времени? Что —
спрашиваю я вас — если не почтение к Священному Писанию и к теологическим
сочинениям отцов и учителей церкви? И в самом деле, разве не видим мы, что в те времена
лишь духовные лица обладали ученостью, что лишь они возжигали светильник знания
и, передавая его из рук в руки, донесли до последующих веков; что в их университетах
и семинариях собирались и хранились древние книги — тогда как среди мирян,
обративших все свои помысли к воинскому делу, погасла всякая любовь к наукам и
искусствам и даже самая память о них исчезла?
Алкифрон. И в самом деле, я должен признать, что существует
особый вид образованности, безусловно христианской по своему
происхождению и характерной именно для университетов, где в течение
нескольких лет молодые люди усваивают загадочный жаргон
схоластики, — а более удачного способа сбивать с толку и запутывать
человеческий разум нельзя было и придумать. Впоследствии, правда, свет
отучает их от того, чему они выучились в университете, — но в таком случае они
дважды теряют время.
Критон. А что если эта схоластическая ученость по происхождению своему не
христианская, но магометанская и восходит она к арабам? А жалобы на то, что
джентльмен якобы тратит многие годы впустую на изучение этого жаргона и отуче-
ние от него, есть ужимка и притворство и еще один образчик правдивости и
чистосердечия мелких философов, которые подымают великую брань из-за пустяков и
слишком часто выносят суждение без всякого исследования? И, конечно, не такой уж
прискорбной тратой времени будут те несколько месяцев, которые проведет молодой
джентльмен за изучением столь презираемого и поносимого искусства логики,
избыток коего отнюдь не является величайшим бедствием нашего времени. Одно дело —
тратить время на изучение варварских терминов, вымученных дистинкций и нудной
схоластической софистики, а потом — на отучение от них, и совсем другое —
выработать известную точность в определениях и строгость в аргументации, каковые
качества, вероятно, не ниже достоинства самих мелких философов. Да, было время, когда
логика считалась чем-то самодостаточным, а искусство рассуждения, вместо того
чтобы обратиться к вещам, вращалось исключительно в области слов и абстракций,
что и породило некую проказу, поразившую все разделы знания, превратив их в
пустые словесные препирательства, ведущиеся к тому же на самом отвратительном
жаргоне. Но времена эти прошли, и прежняя логика, которая культивировалась в
качестве основного предмета знания, ныне рассматривается уже в ином свете; она
вовсе не играет в университетах такой роли и не занимает такого места в образовании
молодых джентльменов, какие приписывают ей мелкие философы, эти
восхитительные реформаторы религии и науки.
5D^(F Джордж Берклн ^^^Gj
Но кто же были те, кто возрождал искусства и классическую
образованность или способствовал их возрождению? И каков вклад в это
дело мелких философов? Король Венгрии Матвей Корвин,27
неаполитанский король Альфонс,28 Козимо Медичи,29 Пико делла Мирандола,
другие государи и великие мужи, знаменитые собственной ученостью
или поощрявшие ее своей изумительной щедростью в других, ни
турками, ни язычниками, ни мелкими философами не были. Кто перенес на Запад
греческий язык и греческих авторов, а с ними все изящные искусства и литературу? Разве
это главным образом не кардинал Виссарион,™ архиепископ Марк Музур,*1
священник Теодор Газа:ί2? И неужели со времен императора Августа появился у изящных
наук и искусств покровитель более славный и великий, чем Лев X," папа римский?
И какие авторы подошли к чистоте языка классиков ближе, чем кардиналы Бембо и и
Садолето,:г' чем епископы Иовиус™ и Вида37? Я уже не говорю о великом множестве
остроумных священнослужителей, блиставших по ту сторону Альп в Золотом веке
(как называют его итальянцы) Льва X, которые писали как на латинском, так и на
своем родном языке достойно лучших образцов древности? Правда, первоначальное
возрождение образованности и наук предшествовало Реформации и осветило ей
дорогу, однако последовавшие затем религиозные споры замечательным образом
распространили и усовершенствовали их во всем христианском мире. Англиканская же
церковь, несомненно, способна содействовать развитию знания по крайней мере не хуже
церкви римской. Опыт подтверждает это наблюдение, и, полагаю, мелкие философы
не настолько предубеждены в пользу Рима, чтобы его отрицать.
Алкифрон. Ваше описание состояния образованности по ту сторону Альп не может
быть точным. Превосходнейший критик, чья книга находится у меня в руках, сделав
комплимент французам, у которых, как он признает, имеется несколько хороших
авторов, о прочих иностранцах и в особенности об итальянцах утверждает, что "они
лишь испортили истинную образованность и ученость".:w
Критон. Категорические суждения и выводы некоторых авторов не всегда бывают
результатом тщательного исследования и совершенного знания предмета. Когда же они
пускаются в высокопарные рассуждения о вкусе, об истине в искусстве, о превосходных
произведениях, красоте слога, аттическом изяществе и тому подобных вещах, то
относиться к ним следует так же, как и к тем особам, которые речами своими желают снискать
себе репутацию бесстрашных людей. Если послушать, как Фрасимах распространяется
о дуэлях, оскорблениях, тонких вопросах чести, то можно подумать, что он прямо-таки
готов лопнуть от собственного мужества.
Лисикл. Какими бы достоинствами ни обладал этот автор как разрушитель, я
всегда полагал, что строитель из него никудышный. Для легкомысленных авторов вполне
естественно совершать грубейшие ошибки незаметно для самих себя, но когда строгий
и точный критик бьет из пушки по воробьям — это непростительно. И если тот, кто на
каждом шагу толкует о своем преклонении перед изящностью стиля, станет, тем не
менее, презирать авторов, более всего этим качеством знаменитых, то в его
собственном вкусе позволительно усомниться. А если тот самый автор, который больше всех
рассуждает об искусстве, хорошем вкусе, критическом умении, который стремится
прослыть человеком, глубже других проникшим в подобные предметы, сам при этом
отступает от собственных правил, впадая в ложную возвышенность или mauvaise
plaisanterie,w - то какой же разумный человек примет в качестве руководства его
суждение и вкус? Кто захочет, следуя его рекомендациям, взбираться на крутую гору
добродетели и шествовать по ее тернистому пути?
Алкифрон. Вернемся все же к нашему предмету. По-моему, Кри-
тон оказывает немного чести своей стране, полагая, что собственными
силами и без помощи церкви, университетов и древних языков
англичане не сумели бы развить науки и искусства и выработать хороший
вкус.
Критон. Судить о том, что могло бы случиться, — значит строить
догадки; а то, что действительно было, нетрудно узнать. Что в Британии есть столь же
богатая рудная жила, как и в любой иной стране, я не отрицаю, — но залегает она
глубоко, и чтобы до нее добраться, нужно приложить немалые усилия, а великие
труды требуют великих побудительных мотивов. А то, что лежит ближе к
поверхности, интереса не представляет: в иных странах можно найти руду лучшего качества и в
большем изобилии. Некий остроумный флорентиец сравнивал поэмы Тассо40 и Ариос-
то11 с двумя огородами, засеянными огурцами и дынями соответственно. В первом из
них найдется немного по-настоящему скверных плодов, но и самые лучшие не
слишком хороши; во втором большая часть вообще никуда не годится, но те, что
получше — просто великолепны. Подобное сравнение было бы, пожалуй, уместно по
отношению к англичанам и некоторым их соседям.
Алкифрон. Предположим, мы согласимся, что христианская религия со своими
семинариями принесла пользу, сохранив или восстановив изящные искусства и словесность.
И что же дальше? Неужели это и будет, по-вашему, доказательством ее истинности?
Критон. По-моему, это будет доказательством предвзятости и неблагодарности
мелких философов, которые восстают против мрака, невежества и грубости, выдавая
их за следствие того, что как раз просветило, цивилизовало и украсило их страну,
обязанную именно религии как науками и искусствами (ибо известно, что только
религия могла перенести их в эти северные широты), как представлением о добродетели и
чувством гуманности, так и верой в Провидение и в будущую жизнь — каковую веру
все аргументы мелких философов так и не сумели до сих пор разрушить.
Алкифрон. Странно: вы по-прежнему рассуждаете так, будто все
до единого джентльмены из нашей секты — враги добродетели и
отъявленные атеисты, хотя я заверил вас в обратном, в том, что есть среди
нас открытые поборники интересов добродетели и естественной
религии; а также заявил, что и сам я отныне веду рассуждение на подобных
основаниях.
Критон. Да как же вы можете притязать на звание сторонников естественной
религии и оставаться при этом заклятыми врагами религии христианской — единственной
установленной законом религии, включившей в себя все, что есть превосходного в
религии естественной, единственного средства сделать заповеди, обязанности и
представления последней предметом почитания во всем мире? Разве не сочтут глупцом или
лицемером того, кто примется убеждать нас, что он, видите ли, ратует за интересы некоего
земного монарха, восхищается его правлением и предан ему душевно — если в то же
самое время этот человек при всякой возможности обнаруживает в себе злейшего непри-
ВОЕХЗ
ятеля тех лиц и методов, которые более всего способствуют исполнению законов
монарха и расширению его владений? И не этим ли занимаются мелкие философы, когда
провозглашают себя защитниками Бога и религии — и однако, изо всех сил стремятся
принизить христиан и подорвать доверие к их культу? В самом деле, нельзя не заметить,
что, протестуя против христианства как источника зла и порчи в мире, вы прибегаете к
таким доводам и к такому способу аргументации, которые могли бы доказать то же самое
в отношении гражданского правления, пищи, питья, всякой профессии и способности,
красноречия и даже человеческого разума вообще. И в конце концов, если тщательно
исследовать мнения даже тех членов вашей секты, кто позволяет именовать себя
деистами, то, боюсь, обнаружится, что религия имеет к ним самое отдаленное отношение.
А что касается Божественного Провидения, зорко следящего за поступками людей,
распределяющего благодеяния и кары, что касается бессмертия души, страшного суда,
будущих наград и наказаний, — то сколь немногие из ваших вольнодумцев (а может, и
вовсе ни единый) стремятся привить человеческим умам глубокое и серьезное
понимание этих великих истин естественной религии! И напротив, как много среди вас таких,
кто пытается представить веру в подобные истины чем-то нелепым и сомнительным!
[Встречаются, надо сказать, особы, которые, даже не задумываясь об этих положениях,
притязают на какую-то религиозность — но кто же воспринимает их всерьез? И порою
мы видим, как самые вожди порока и нечестия пишут, словно люди, которым очень
хочется, чтобы их считали добродетельными и набожными в глубине души. Это, пожалуй,
доказывает их непоследовательность как авторов, но отнюдь не свидетельствует об их
честности. Ведь если открыто исповедуемые принципы и подлинные убеждения
человека подрывают основы добродетели, благочестия и религии, то что бы он ни стал о них
говорить, понимать его слова нужно как обыкновенное притворство или лицемерное
следование общепринятым формам.]42
Лисикл. А вот я, по правде говоря, никогда не питал расположения к какой-либо
религии — откровения или естественной, неважно. Смею утверждать подобное и о тех
джентльменах из нашей секты, с которыми я знаком, — ибо я ни разу не замечал,
чтобы они были повинны в такой низости, как упомянуть с благоговением имя
Господа или с почтением заговорить о благочестии или каком угодно религиозном культе.
Найдутся, пожалуй, и среди нас один-два человека, притязающие на энтузиазм и
набожность в духе естественной религии; они смеются над христианами, публикующими
свои гимны и размышления — сами же докучают свету собственными, столь же
невыносимыми, сочинениями. Однако люди живые и веселые давно обратили все это в
посмешище. Нам это представляется жалким педантизмом. Иногда, правда, и в
хорошем обществе можно услышать, как кто-то обронит пару добрых слов в похвалу чести
и доброте, но connoisseurs43 всегда понимают, что первое — не более чем мода, а
второе — всего лишь действие врожденного характера и темперамента, которые
управляют человеком точно так же, как зверя ведет инстинкт.
И после всех этих доводов и теорий, тянущих за собой друг друга,
так что им и конца не видно, ни я, ни приятели мои не могли, клянусь
вам, уразуметь, почему же человек не способен прожить обходясь без
всякой религии вообще — точно так же, как животное, которое
считается созданием более глупым. Разве нет у животных ощущений,
инстинктов, склонностей и страстей, руководящих ими и управляющих?
КШУ Алкнфро, ~^Щ^$СЖ
Но они же имеются и у человека, а над ними еще и разум, коим тоже можно при случае
воспользоваться. Из этих посылок мы и заключаем, что путь жизни человеческой
достаточно ярко освещен и без религии.
Критон. Животные обладают незначительной силой, действие которой ограничено
кругом отдельных близлежащих предметов, а потому сил и способностей других
животных вкупе с ловкостью и умением человека бывает достаточно, чтобы оказать им
противодействие и удержать в границах установленного порядка: совесть и религия
для этого не требуются. Но для человеческого разума (способности изумительной
обширности и силы, в особенности, если направить ее ко злу) совесть является
необходимым противовесом.
И еще: закон природы определил прочим живым существам единственную цель
или род существования, и они не чувствуют склонности и не имеют возможности
отклониться от него или преступить его границы. Между тем человек обладает волей и
высшим началом, с помощью которых он может преследовать различные и даже
противоположные цели и, таким образом, либо вовсе не достичь, либо, напротив,
превзойти совершенство, естественное для его рода в этом мире. Ведь он способен, отпустив
поводья чувственных склонностей, выродиться до уровня зверя или же, должным
образом направляя и совершенствуя свой дух, уподобиться ангелам. Человек —
единственное из всех живых существ, которое обладает разумом, позволяющим ему
познать своего Бога. И для чего же послужит нам это знание, если не для того, чтобы,
облагородив человека, возвысить его до подражания и сопричастности Божеству? А к
чему нам это благородство, если суждено ему прийти к концу вместе с земной жизнью?
А как все это может осуществиться без религии?
Впрочем, все эти вопросы о духе и о добродетели, о человеке и звере, о чувстве и
интеллекте были уже исследованы в подробностях. И что же получается? Неужели
вы, Лисикл, хотите вернуть нас туда, где находились мы три или четыре дня тому
назад?
Лисикл. Никоим образом. Я предпочел бы двинуться вперед и поскорее со всем
этим покончить. Но чтобы избавить вас от излишних трудов, позвольте заявить раз и
навсегда: что бы вы ни стали утверждать, вам никогда не убедить меня в том, что
столько очаровательных и остроумных людей ошибаются, а какая-то шайка злобных и
сварливых фанатиков говорит дело.
Критон. Ах, Лисикл, я не ищу разума у вольнодумцев и религии
у фанатиков. И те, и другие посрамляют собственные притязания:
первые — пренебрегая даже самыми очевидными и важными
истинами, вторые — выказывая неумеренное усердие » злость по самым
пустячным поводам. А глупость, ограниченность и бессердечие,
свойственные фанатикам, можно, без сомнения, поставить в вину и
вольнодумцам с их самодовольным невежеством и озлобленным нечестием. И вполне
вероятно, что как распутные вольнодумцы превращаются со временем в
исступленных ханжей, так и из фанатиков должны получаться вольнодумцы, ибо всегда
замечалось, что одна крайность порождает себе противоположную. И пусть даже
противники эти в своих спорах часто апеллируют к религии и разуму, тем не менее
последние не принимаются ими в расчет по-настоящему и едва ли имеют к подобным
пререканиям какое-либо касательство.
KtéaMW- Джордж Беркли 4jfé^T3l
И тут Лисикл, вместо того чтобы отвечать Критону, набросился на Алкифрона:
— Я всегда полагал, что нет ничего глупее, чем надеяться уничтожить религию
христианскую, выхваляя религию естественную. Всякий, кто высоко ценит одну, не
может, не противореча себе, презирать другую, ибо вполне очевидно, что без помощи
религии откровения религия естественная никогда не могла и не сможет упрочиться и
укрепиться нигде — разве что в головах кучки праздных созерцателей. И я уже
наперед знал, куда заведут нас ваши уступки. Ведь каждый может без труда убедиться в
том, что вера в Бога, добродетель, будущую жизнь и тому подобные чудные вещи
является основой и краеугольным камнем христианской религии. Лишь позвольте им
строить на этом фундаменте, и вы тут же увидите, какое сооружение возведут наши
теологи. А коль скоро признаны истинность и важность этих догматов, то уже не
нужно быть волшебником, чтобы, исходя из данного принципа, доказать пользу и
совершенство христианской религии. Потом, конечно, обнаружится, что должны
существовать священники, которые бы распространяли и проповедовали эту
благотворную религию. А если священники, то, разумеется, и законная иерархия в достойном
их сообществе, а с нею — меры и установления, обеспечивающие их содержание -
дабы могли они совершать свои обряды и церемонии с должной благопристойностью,
внушая уважение к священному своему ремеслу. А очевидным следствием всего этого
будет сговор между государем и духовенством с целью угнетения народа, - вот так,
одним махом, позволили мы обрушиться на нас нескончаемой веренице церковных
зол, иерархии, инквизиции, плутням и интригам духовенства! Мы утратили нашу
свободу и собственность и обрекли нацию на огромные расходы — ради того только,
чтобы приобрести седла и уздечки для собственных наших спин!
Слова эти, произнесенные довольно резким тоном и напоминавшие
выговор, задели Алкифрона за живое; он пришел в явное
замешательство, но ничего не отвечал. Тогда Критон посмотрел с улыбкой на нас
с Ефранором, а затем, бросив взгляд на наших философов, сказал
следующее:
— Если мне будет позволено предложить добрые услуги
посредника, дабы предотвратить разрыв между старыми друзьями и единоверцами, то я замечу,
что обвинения Лисикла отчасти справедливы, а отчасти — нет. По-моему, вполне
справедливо утверждать (как это и делает Лисикл), что истинная вера в положения
естественной религии ведет к признанию религии откровения — но сколь справедлива
эта мысль, столь же несправедливо утверждение, будто неизбежным следствием того
станут инквизиция, тирания и всеобщий упадок. Ваши вольнодумцы, не в обиду им
будет сказано, обманулись в оценке своих талантов. У них буйное воображение,
однако, скудный разум; они сильны в преувеличениях, но слабы по части аргументации.
И, кстати, нельзя ли изыскать средство, чтобы избавить их от ужаса перед этим
свирепым и кровожадным зверем, коим будто бы является английский священник? Может,
достаточно обрезать ему когти, но не рубить пальцы?
А еще они, свободомыслящие, такие чудные патриоты, такие замечательные
защитники свободы и собственности! Когда слышу я два этих слова из уст мелкого философа,
мне приходят на ум римские Teste di Ferro.44 Его Святейшество, если не ошибаюсь,
вправе назначать пенсии от своих испанских бенефициев лишь выходцам из Испании, а
потому он всегда держит при себе в Риме двух испанцев, каковые и получают на бумаге эти
пенсии, весь доход от которых идет, однако, итальянцам. Так и на счет свободы и
собственности , как мы ежедневно убеждаемся, относят вещи и идеи, которые в
действительности не имеют и не могут иметь к ним никакого отношения. Как же так? Неужели
невозможно быть христианином, не будучи рабом? или священником, не разделяя
инквизиторских принципов? Я далек от того, чтобы защищать или оправдывать стремление к
господству над другими или тираническую власть духовных лиц. Иные из тех, на ком
тяготеет подобная вина, жестоко за нее поплатились, и, надеюсь, так будет всегда. Но
теперь, когда нам удалось обуздать ярость и безрассудство честолюбивых прелатов, не
пора ли оглядеться вокруг и разведать, не угрожает ли государству какая-нибудь беда
со стороны неумеренного рвения независимых вигов? Ибо, даже не утруждая себя
доказательствами, я вправе заявить, что самую страшную тиранию терпела наша нация
именно от подобного рода патриотов.
Лисикл. Не уверен: ведь «тирания* — слишком резкое слово, и им
порою злоупотребляют. Когда смелые люди независимых взглядов
вызывают брожение или производят перемены в государстве, тогда те,
кто при этом нечто теряет, рассматривают вещи в одном свете, а кто
выигрывает — в другом. Как бы то ни было, вполне очевидно, что мы
должны экономить наши деньги, находя им лучшее применение,
нежели расходы на церковь и религию.
Критон. Таким сведущим людям, как вы, я, конечно, не стану напоминать старый
аполог о желудке и прочих частях тела. Столь же излишним было бы указывать на то,
что во всех государствах, когда-либо славившихся в мире своей мудростью и
цивилизованностью, считалось, что образование заслуживает такой же поддержки, как и
военное дело; что расходы на религиозные цели столь же целесообразны, сколь и
награды за рыцарскую службу, а учреждения, распространяющие благочестие, так же
необходимы для благосостояния и безопасности нации, как институты гражданские
или военные. В прежние времена, когда духовенство было сословием куда более
многочисленным, богатым и могущественным; когда вследствие своего целибата
священники не приносили никаких публичных клятв и присяг; когда пользовались они
значительными льготами и привилегиями по сравнению с другими подданными и были
связаны послушанием иноземному владыке, тогда положение явным образом
отличалось от теперешнего. А неспособность заметить или нежелание признать это различие
отнюдь не является доказательством честности или проницательности мелких
философов.15 Однако, скажите на милость, кто же несет эти расходы, и что это за расходы,
вызывающие подобное недовольство?
Лисикл. Как будто вы никогда не слыхали о церковных землях или о церковной
десятине!
Критон. Но хотелось бы мне знать, каким образом можно называть это
расходами как общества в целом, так и частного лица в отдельности. Когда из страны ничего
не вывозится, нация ничего не теряет, и обществу решительно все равно, проходят ли
деньги - если они остаются на родине — через руки викария или сквайра. А что
касается частных лиц, которые, как следует не рассудив, горько жалуются на уплату
церковной десятины, то вправе ли человек сетовать на нее как на налог, будто он
платит за то, что ему никогда не принадлежало? Арендатор держит землю именно на
этом условии, и платит он своему помещику соответственно меньше того, что бы он
\h*.№@&(W Джордж Беркли ^/^B^GJJl
платил, будь его ферма освобождена от подобного обложения, таким образом, он
ничего не теряет, поскольку ему совершенно безразлично, кому платить — пастору
или землевладельцу. Помещик же не может сетовать, что не обладает тем, на что не
имеет права ни через покупку, ни через наследование, ни через пожалование. Так
обстоит дело с десятиной, а что касается церковных земель, то без сомнения, не
будет ни свободомыслящим, ни вообще сколько-нибудь мыслящим тот, кто не видит,
что ни у одного человека — пэра, дворянина или плебея — не найдется такого права
или притязания на эти земли, какие не смог бы он столь же справедливо перенести и
на все другие земли в королевстве.
ЛисИКЛ. Сейчас у нас и в самом деле нет такого права — на это мы и жалуемся.
Критон. Значит, вы хотите получить то, на что не имеете права?
Лисикл. Опять же, не совсем так: сначала мы хотим получить законное право,
а уж потом — земли на основании этого права.
Критон. А чтобы этого достичь, было бы целесообразно первым же делом принять
указ, который лишил бы всех гражданских прав каждого, кто является христианином,
ученым и носит черную мантию - как человека, повинного в трех тяжких
преступлениях против общего блага королевства.
Лисикл. Честное слово, это был бы, по-моему, превосходнейший указ. Ведь он
бы в одно мгновение обеспечил достойных особ, на редкость изобретательных по
части остроумия, рассуждений и насмешек; людей, слишком многие из которых ныне
обладают весьма скудным состоянием, однако могут представить счет на великие
благодеяния, оказанные ими своей родине, каковую до сих пор они просвещали и
украшали бесплатно.
Ефранор. Прошу вас, Лисикл, скажите, на законном ли основании владеет
духовенство своими землями и пользуется своими доходами?
Лисикл. Этого никто не отрицает.
Ефранор. И не владеет ли оно ими с незапамятных времен?
Лисикл. И это я признаю.
Ефранор. Значит, духовенство претендует на них по закону и в соответствии с
древними установлениями?
Лисикл. Да.
Ефранор. Имеют ли старейшие дворянские фамилии больше права на свою
собственность?
Лисикл. Думаю, нет. И мне горько видеть, что великое множество непомерно
разросшихся состояний пребывает в руках древних фамилий на основании одного-единст-
венного достоинства — того, с которым и явились они на свет.
Ефранор. Но не можете ли вы с таким же успехом отнять земли и у этих
семейств, дабы пожаловать их мелким философам — как людям, обладающим
большими заслугами?
Лисикл. Это было бы великолепно. Таким образом наш горизонт расширяется, и
новые виды открываются перед нами. И сколь это прекрасно — созерцая истину,
наблюдать, как одна теория вырастает из другой!
Алкифрон. Между тем старый Петус говаривал: если лишить духовенство
причитающихся ему доходов, мы утратим самый ходкий и популярный аргумент против
духовных лиц.
Kxsa
ik^^F длю.«.«*« ~^кш^а
Лисикл. Но пока не перевелись люди, которые живут за счет религии, не будет
недостатка в учителях и писателях, ее защищающих.
Критон. А почему вы так уверены, что в них возникнет недостаток, если даже
люди не будут больше жить за счет религии: ведь доподлинно известно, что защитники
были у христианства и тогда, когда за него приходилось умирать.
Лисикл. Одно я знаю точно: существует некий превосходнейший питомник, где
произрастают юные саженцы, орошаемые влагой наших отборнейших принципов и
заботливо хранимые от всякого дуновения предрассудков. Впрочем, пожелания —
дело пустое и скучное, и к великой нашей печали, ничего нельзя будет совершить до тех
пор, пока останется хотя бы один предрассудок в пользу древних обычаев, законов и
государственных установлений, которые, как мы это ясно видим и можем доказать,
являются, в сущности, всего только пустыми словами и мнениями.
Однако я не надеюсь убедить вас, Критон, в разумности наших
проектов. Оба мы рассуждаем, исходя из собственных принципов, и
никогда не придем к согласию, пока от этих принципов не откажемся,
чего нельзя добиться одними лишь рассуждениями. Все мы толкуем о
справедливости, о несправедливости, об общем благе и тому подобных
вещах. Слова наши могут быть одинаковы, но понятия и
заключения — различны и даже совершенно противоположны; причем они могут допускать
ясные доказательства и выводиться по одним и тем же правилам логики. К примеру,
джентльмены из того клуба, который я посещаю, определяют человека как
«общественное животное» — следовательно, из этой дефиниции мы исключаем все те
человеческие создания, о которых можно сказать, что мы предпочли бы обойтись без их
общества. И хотя последние и обладают внешним обликом человека, однако по всем
законам разума их следует считать не людьми, но лишь человекоподобными существа:
ми. А отсюда с очевидностью явствует, что людьми в собственном и истинном смысле
слова надлежит признавать лишь любителей удовольствий и людей острого ума. А
значит, все, что споспешествует их доходам, есть благо для рода человеческого и является
делом законным и справедливым, — хотя, по видимости, и сопровождается убытками
или потерями для прочих существ: ибо никакого ущерба жизни и собственности тех,
кто не умеет ими пользоваться, причинить невозможно. Подобное рассуждение мы
находим чрезвычайно убедительным и логичным. Зато другие могут рассматривать
вещи в ином свете, предлагать иные дефиниции и делать из них отличные от наших
заключения, — и, может быть, на то самое, что мы считаем венцом и красой творения,
станут смотреть как на какую-то бородавку или нарост на человеческой природе. А из
всего этого вытекает с неизбежностью совершенно иная система морали, политики и
права.
Критон. Если вы желаете спорить, мы будем спорить; если же у вас на уме шутки,
мы посмеемся вместе с вами.
Лисикл. Ridentem dicere verum
Quid vetat?4«
Кстати, это разделение особей нашего вида на собственно людей и на
человекоподобные существа напомнило мне другую теорию, предложенную одним членом нашего
клуба, которого мы обыкновенно называли «пифагорейцем».
Джордж Беркли
Человеческий род он делил на три категории: птиц, зверей и
)ыб/7 поскольку держался того мнения, что дорога жизни ведет
▽ ^ вверх, через постоянное восхождение по лестнице живых существ.
Таким образом, души насекомых после смерти во второй раз появля-
通^泰 ются на свете уже в виде совершенных животных — птиц, зверей и
рыб, которые, после своей смерти, восходят до человеческих тел, а на
следующей стадии — до существ еще более высокого и совершенного рода. Поначалу
мы сочли этого человека неким еретиком: нам казалось, что его система противоречит
нашему основному принципу — смертности человеческой души; однако он убедил нас
в чистоте и ортодоксальности своей теории, ведь она не допускала никаких наград и
наказаний, а доводы, ее доказывающие, не предполагали и не подразумевали ии
бестелесного Духа, ни Провидения, но всего лишь выводились по аналогии из того,
что он наблюдал в делах человеческих — в церкви,армии и при дворе, где, как
известно, существует постоянное стремление от низких должностей к постам более
высоким. Согласно его системе,рыбы — это люди, купающиеся в удовольствиях,
как, например, petits-maitres,48 bons vivans19 и прочие веселые и славные особы.
Звери 一 это сухие и нудные работяги, порода жадная и алчная; все те, кто предан
заботам и делам, — вроде быков и прочих сухопутных животных, проводящих дни
свои в утомительных трудах. Птицы — это творцы легких, воздушных теорий, все¬
возможные энтузиасты, прожектеры, философы и им подобные; причем в каждом из
этих классов индивид сохраняет следы прежнего состояния, которые и суть то, что
называют <гением^. И если вы меня спросите, какой род человеческих существ мне
более всего по душе, я отвечу: летающие птицы, т. е. люди, преданные животным
наслаждениям с легким налетом прихоти и каприза. Итак, вы видите, что у нас, как
и у более степенных господ, имеются свои принципы, — с той лишь разницей, что
мы не затягиваемся в них, словно в корсеты, но можем их сбросить или снова на себя
надеть, смотря по настроению и обстоятельствам. И сейчас я готов со всевозможным
хладнокровием выслушать, как мои мнения будут оспаривать и опровергать.
Алкифрон. Позволительно желать, чтобы все держались подобно¬
го образа мыслей. Бывают, однако, и такие особы — называть их пр
имени нет нужды — которые совершенно не выносят, когда их [мнения
анализируют, а ошибки — осуждают. Они идут против разума, ибо
сам разум свидетельствует против них. А что до нас, то мы стоим за
свободу совести. И если принципы наши нелепы, то мы охотно позво¬
ляем их исследовать и опровергать 一 а значит, можем надеяться, что и нам даруют
подобное же право по отношению к мнениям других людей.
Критон. Ах, Алкифрон, можно по справедливости усомниться в качестве тех
товаров, которые избегают света. И что бы ни подвигло вас на подобную жалобу,
поверьте моему слову, я так поступать не стану, — но, как до сих пор предоставлял
полную свободу вашему разуму, так буду вести себя и впредь. И хотя я не могу
одобрить насмешки и высокопарные разглагольствования (даже в себе самом, всякий
раз, как вы подаете к этому повод), в одном я вполне ручаюсь: вам будет позволено
рассуждать и исследовать с наивозможнейшей тщательностью и усердием. Но будьте
же, во имя любви к истине, искренни и беспристрастны, не расходуйте свои силы н
наше время на то, в чем мы уже согласились, или же на пункты маловажные и не
идущие к делу. Мы признаем: тирания и рабство представляют собою зло — но с
какой же стати должны мы в наше время опасаться этого бедствия со стороны
духовенства? Мы соглашаемся: обряды и церемонии — не самое важное в религии —
но зачем же мы станем высмеивать вещи, по своей природе невинные и безвредные,
а кроме того, несущие на себе печать высшего авторитета? Я охотно допускаю: и в
теологии, как и в прочих предметах, люди часто запутываются в бессмысленных
спорах, и так, вероятно, будет продолжаться, пока стоит свет — но почему же в
человеческих слабостях и заблуждениях духовных лиц должны мы подозревать
некий злой умысел? Зачем без всякого разбора бесчестить их характер и поносить их
принципы? Разве это похоже на душевную прямоту, любовь к истине и свободу
мышления? Разумеется, и в среде духовенства можно порою обнаружить угрюмый
нрав и дурные манеры — но разве не присущи эти недостатки английским мирянам,
живущим в деревенском захолустье и получившим плохое воспитание? Я согласен: в
сочинениях схоластиков неимоверно много пустого и бесполезного — однако я
отрицаю, что написанный кем-то из них том приносит больше вреда, чем одна страница
мелкой философии. Нет ничего удивительного в том, что люди глупые и порочные
могут, пользуясь мирским покровительством, добиться власти и высокого церковного
сана; и вполне естественно предполагать, что, находясь на подобных должностях,
они станут вести себя соответственно своему характеру. И однако, совершенно ясно,
что не Евангелие, но мир, не дух, но плоть, не Бог, но дьявол ведут их к этим
недостойным победам. Мы не колеблясь признаем: нет ничего позорнее, чем порок и
невежество в священнослужителе, ничего более низкого, чем лицемерие, более
мелкого и пустячного, чем педантизм, более жестокого, чем инквизиция. Однако и вы,
джентльмены, должны признать: нет ничего более смешного и нелепого, чем
невежественные, испорченные педанты, которые принимаются бросать камни в других
людей, как только заметят в них тень своих собственных пороков и недостатков.
Алкифрон. Стоит мне вспомнить об омерзительном состоянии
рабства и суеверия, и я чувствую, как расширяется моя грудь, стремясь
вместить в себя неоценимое благодеяние абсолютной свободы. В ней —
священная и высокая привилегия, самая жизнь и здоровье английской
конституции. И потому вам не должно казаться странным, если наше
зоркое и недремлющее око хранит ее от малейшего зла. Скажу больше:
вам следует позволить нам делать надрезы и вскрытия — и весьма глубокие — а также
пользоваться увеличительным стеклом, дабы заметить и вовремя стереть малейшее
пятнышко, которое обнаружится в том, что бережем мы так же ревностно и усердно,
как зеницу ока.
Критон. Что до безграничной свободы, то ее я оставляю дикарям, среди которых,
вероятно, и следовало бы искать подобную, — но что касается разумной и законной
свободы, установленной нашей конституцией, то я искренне и от всего сердца желаю,
чтобы она вечно жила и процветала среди нас. Вам и всем прочим англичанам
надлежит со всевозможной бдительностью и серьезностью беречь это превосходное
установление, обуздывая и пресекая злокозненное честолюбие всякого, будь то мирянин или
духовное лицо, кто попытается превратить наше свободное и кроткое правление в
правление тираническое и жестокое. Однако какой же повод и предлог может это дать
[JbD^^QP" Джордж Беркли ^)^®^GJ1
к вашим покушениям на религию, и как это вообще с ними согласуется? Разве не
протестантская церковь является важнейшей частью нашего государственного
устройства? Помню, один иностранец заметил, что мы, жители этого острова, очень хорошие
протестанты, однако никудышные христиане. Но чего бы ни добивались мелкие
философы и что бы ни утверждали чужеземцы, законы наши свидетельствуют, несомненно,
о другом.
Алкифрон. А вот я припомнил глубокомысленное рассуждение некоего мудрого
судьи. Прижатый к стене шутками и доводами остроумных людей, сумел он сказать в
защиту своей религии лишь то, что десять миллионов человек, населяющих один
остров, были вправе — дурно ли, хорошо ли — установить, коль скоро сочли это
необходимым, законы, по которым они поклоняются Господу в храмах и призывают в
свидетели в судах. Если же десять тысяч остроумных людей станут публично осмеивать или
попирать эти законы, то со стороны вышеупомянутых десяти миллионов будет вполне
справедливо и законно изгнать десять тысяч вышеупомянутых остроумцев с
вышеозначенного острова.
Ефранор. А скажите на милость, как бы вы сами ответили на замечание мудрого
судьи?
Алкифрон. Ответ очевиден. Согласно закону природы, который выше всех
положительных установлений, ум и знание вправе господствовать над безумием и
невежеством. И я утверждаю, что по естественному праву умные люди обладают властью над
дураками.
Ефранор. Какую власть над законами и народом Великобритании дает мелким
философам естественное право, я решать не стану, но оставлю это на усмотрение
общества.
Алкифрон. Нужно признать, что в прежние времена учение это не было
продумано вполне и до конца. В прошлом столетии Гоббс и его последователи (в остальном
великие люди) высказывались за принятие религии правителей, — вероятно, потому,
что сами этих правителей боялись. Но времена изменились — и теперь уже
правителям пристало нас бояться.
Критон. Соглашаюсь: правители и судьи и в самом деле могут испытывать перед
вами в некотором роде страх, а именно — они боятся вам доверять. Я вспомнил один
эпизод из процесса по делу Леандра, которого судили за уголовное преступление.
Пользуясь правом отвода, упомянутый джентльмен исключил из числа присяжных
всех членов, кроме нескольких светских людей и жуиров; а затем, когда Библию
приготовился целовать Доркон, покорнейше просил судей потребовать у последнего
слова чести в том, что он верит в Бога и Евангелие. Доркон же предпочел не рисковать
репутацией человека чести и вольнодумца, но открыто признать, что ни в Бога, ни в
Евангелие он не верует. После чего судьи объявили, что он не вправе быть
присяжным. По той же причине были отведены и многие другие особы, так что процесс
пришлось отложить.
Алкифрон. Нам совершенно все равно, доверяют ли нам участие в суде
присяжных или нет — лишь бы только допускали нас к доходным должностям.
Критон. А что если правительство примет закон, по которому всякий, прежде чем
принести присягу на вступление в должность, обязан будет сделать то же самое
заявление, которое потребовали у Доркона?
Алкифрон. Избави боже! Надеюсь, ничего подобного не готовится?
|S3^(r ΑΛΚ,φρΟΗ ~^)^Γ31
Критон. Что бы там ни приготовлялось, достоверно одно: реформированная
христианская религия есть важнейший элемент и краеугольный камень нашего свободного
государственного устройства и, как я искренне полагаю, — то единственное, что
делает нас достойными свободы и способными ею наслаждаться. Ибо проклятием или
благословением свобода становится в зависимости от того, как люди ею пользуются. И
мне сдается, что если бы эта религия была у нас уничтожена, а идеи, слывущие
предрассудками христианского воспитания, совершенно исчезли из умов британцев, то
самым лучшим, что только могло бы с нами произойти, стала бы потеря свободы. И, без
сомнения, нашу нацию, с ее неугомонным честолюбием, бурными страстями,
партийной враждой, конкурирующими интересами, с ее столь безграничной свободой слова и
печати; нацию, живущую посреди такого богатства и роскоши, — эту нацию, говорю
я, спасали до сих пор от гибели лишь те самые veteris avioe,50 которые вы, господа,
вознамерились искоренить.
Христианская религия чрезвычайно усовершенствовала нашу
нацию. Из каких-то жалких дикарей превратились мы в людей
культурных, воспитанных и образованных. И дома, и за границей производим
мы впечатление достойное и благородное. Зато с упадком нашей
религии и мы с вами, боюсь, станем хуже. Так зачем же упорствовать в
этих рискованных экспериментах?
Алкифрон. Можно подумать, Критон, что вы напрочь забыли о многочисленных
бедствиях, порожденных религией и духовенством.
Критон. А кто-то другой мог бы подумать, что вы, Алкифрон, запамятовали, что
говорилось сегодня в ответ на подобное возражение. Не желая, однако, без конца
пережевывать одно и то же, я замечу, во-первых, что если мы вспомним о прежнем
состоянии христианского мира и нашей страны в частности; о раздорах, и вражде,
продолжавшихся в ту пору, когда все мы еще держались одной веры, — например
о Войне Алой и Белой Роз, такой долгой, яростной и кровопролитной, — то мы
совершенно не можем быть уверены в том, что воинственный дух и злые страсти не
вспыхнули бы и под другим предлогом, если бы прежний оказался недостаточным.
Во-вторых, замечу: из всех наблюдений, которые можете вы сделать касательно нашей
истории, отнюдь не вытекает, что зло, случайной причиной коего была религия,
сколько-нибудь сопоставимо с теми добрыми последствиями, которые она действительно
произвела, или с теми бедствиями, которые предотвратила. И наконец, скажу: и самые
лучшие на свете вещи могут случайным образом послужить поводом ко злу, причем
данные побочные следствия порождаются в строгом и точном смысле слова не самим
этим благом, но неким злом, каковое, не будучи ни составной частью, ни свойством,
ни следствием блага, оказывается иногда с ним соединенным. Но мне было бы
совестно и дальше распространяться об этих столь ясных предметах. И какие бы несчастья
ни претерпела наши нация вследствие суеверия в прошлом, ни один здравомыслящий
человек не станет, разумеется, утверждать, будто зло, от которого мы страдаем ныне
или которого опасаемся, также имеет подобный источник. Ибо отнюдь не козни
духовенства самая страшная беда наших дней. И, без сомнения, следует признать, что
мудрый человек, принявший на себя звание бдительного стража и охранителя общего
блага, должен браться за надлежащие вещи в надлежащее время и не прописывать
средство от ожирения, если болезнью является туберкулез.
ШЭ4Ш^~ Джордж Беркли "^)^^Д
Алкифрон. Предмет сегодняшней беседы мы обсудили достаточно подробно.
И как бы ни относился к этому Лисикл, я, как и подобает честному и
беспристрастному противнику, должен согласиться, что в рассуждениях Критона о пользе
христианской религии и в самом деле есть какой-то смысл. Признаюсь вам даже, что иные
члены нашей секты готовы отнестись к христианству с известной терпимостью.
Припоминаю, как в ходе долгого спора нескольких весьма остроумных люден приходили мы
поочередно к различным мнениям. Поначалу мы заключили, что ни одна религия не
должна быть терпима в государстве — однако, по зрелом размышлении это решение
было сочтено неосуществимым. Второе решение состояло в том, что терпимостью
должны пользоваться все религии, поощрять же следует один лишь атеизм. Затем,
однако, у нас возникло опасение, что это может породить раздоры и недовольство
среди низших классов. Так пришли мы к третьему выводу: должна существовать
определенная религия, официально установленная для нужд простого народа. И вот после
долгого спора о том, что же это должна быть за религия, один сообразительный
юноша, по имени Лисий, не обнаружив среди нас никаких признаков согласия, высказал
следующее мнение: до тех пор пока не изобретена религия лучшая, можно потерпеть и
нынешнюю. И тем не менее, допуская ее ^лесообразность, я никогда не признаю ее
истинность — пока стоят против нее неопровержимые возражения, каковые, если
угодно, я позволю себе изложить при нашей следующей встрече.
С чем мы и расстались.
Aid^^jßfcjab
Диалог шестой
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
к
Пункты, по которым достигнуто согласие.
Разнообразные притязания на
божественное откровение.
Недостоверность и ненадежность
предания.
Предмет и основание веры.
Одни книги оспариваются, другие,
несомненно, являются, подложными.
Стиль и композиция Священного Писания.
Заключенные в нем трудности.
Неясность не всегда недостаток.
Откровение не является ни нелепым, ни
Анална возражений с точки зрения формы
я содержания божественнык откровений.
Неверие — плод предрассудка и ограии-
Положения христианской веры ие
являются неразумными.
Вина естественным образом порождает
страх.
Неизвестное низводится людьми до уровня
Предрассудок против воплощения Сына
Божия.
Незнание устройства божественного
миропорядка — источник аатруднеяий.
17. Мудрость Бога — безумие для человека.
18. Разум не есть слепой поводырь.
19. Польза божественных откровений.
20. Пророчества, — откуда происходит их
21. Восточные повествования, более
древние, чем рассказ Моисея.
22. Пристрастие египтян, ассирийцев,
халдеев и прочих народов распространять
древность своей истории аа пределы
23. Доводы, подтверждающие Моисееву
историю.
24. Противоречивость сведений языческих
историков.
23. Цельс, Порфирий н Юлиан.
26. Анализ свидетельств Иосифа.
27. Свидетельства иудеев и язычников.
28. Подлоги и ереси.
29. Суждения и интересы мелких философов.
30. Вера и чудеса.
31. Аргументы, основанные на вероятности,
достаточны для веры.
32. Христианская религия способна
выдержать испытание разумом.
А
На следующий день (а это было воскресенье) философы наши
долго оставались в постели, мы же отправились в церковь,
находившуюся в соседнем городке. Там мы отобедали у Ефранора, а после
вечерней службы возвратились к философам, коих обнаружили в
библиотеке. От них мы узнали, что если Бог существует, то
присутствует Он во всяком месте точно так же, как и в церкви; и если мы
служили Господу одним способом, то и они не преминули послужить Ему другим,
ибо свободное употребление собственного разума надлежит считать самым достойным
ЕСНХЗ
ISTféj&F^ Джордж Беркли ^)#^Д
поклонением и служением, каковым мыслящее существо может почтить своего
Творца. "А впрочем, — заметил Алкифрон, — если только вы, господа, сумеете
разрешить те трудности, которые я представлю завтра утром, то в следующее воскресенье,
обещаю вам, мы отправимся в церковь вместе".
После подобного рода общих разговоров мы легко поужинали; а на следующее
утро собрались на том же месте, что и накануне. Когда мы удобно расселись, я
заметил, что беседы наши на прошлой неделе продолжались дольше и велись с меньшими
помехами, чем это, насколько мне известно, вообще возможно в городе, где течение
наших дней так часто прерывается визитами, делами и развлечениями, что всякий, кто
довольствуется теми мнениями, которые образуются в ходе обычных разговоров, будет
по необходимости иметь понятия весьма смутные и несовершенные.
— И чего» же мы с вами достигли в ходе этих продолжительных и непрерывных
бесед? — возразил Алкифрон. — Что до меня, то в главном пункте, нас разделяющем, -
в вопросе об истинности христианской религии — я нахожусь там же, где и прежде.
Тут я заметил, что Алкифрон и его оппоненты уже обсудили, исследовали и
согласовали столько вопросов, что я надеюсь стать в конце концов свидетелем того, как они
придут к полному согласию.
— Ибо, во-первых, были довольно ясно истолкованы принципы и мнения тех, кого
называют свободомыслящими, или мелкими философами. Было также установлено,
что порок не является таким великим благом для нации, как это себе иные
воображают; что добродетель чрезвычайно полезна для человечества, но одной лишь
добродетели недостаточна для того, чтобы побудить людей к добродетельной жизни, и что,
следовательно», вера в Бога и Провидение, как полезная идея, должна быть поощряема
в государстве и терпима в обществе. Далее, было доказано, что Бог существует, что
поклоняться Ему разумно, что культ, верования и принципы, установленные
христианской религией, имеют полезную направленность.
— Допустим, — отвечал Алкифрон, — что все, сказанное Дионом, справедливо, —
однако это не мешает мне находиться там же, где и прежде в отношении ключевого
вопроса. Ведь во всем этом нет ничего такого, чтобы доказывало истинность
христианской религии, хотя каждая из перечисленных частностей и может, вероятно, внушить
предрассудок в ее пользу. А потому отныне мне надлежит видеть в себе человека
предубежденного — предубежденного, говорю я, в пользу христианства. Но поскольку я
люблю истину, то мне предстоит, дабы избежать обмана, проявить особую бдительность.
А значит, я должен смотреть в оба и тщательно обдумывать каждый свой шаг.
Критон. Вы, наверное, помните, Алкифрон, что предметом
нынешней нашей беседы предложили вы сделать анализ известных
трудностей ш возражений, каковые обещали выдвинуть против христианской
религии. И сейчас мы готовы выслушать и обдумать все, что вы
найдете нужным представить на этот счет. Атеизм и превратное
представление о христианстве как о чем-то вредном для человечества являются
величайшим предрассудком, устранение которого может побудить человека вести спор
беспристрастно и принимать разумные доказательства — однако не следует думать,
будто устранить предрассудки против некоего мнения значило бы внушить таковые в
его пользу. А потому мы вправе надеяться, что вы сумеете вести свое дело справедливо
и без пристрастия.
Алкифрон. Ах, Критон, вправе благодарить свою судьбу тот, кого природа
одарила возвышенной душою, кто в силах подняться над обычными мнениями и, с высоты
взирая на человеческое стадо, наблюдать за людьми, рассеянными по всей земной
поверхности, разделенными на бесчисленные народы и племена, отличные друг от
друга в своих понятиях и представлениях, точно так же как в языке, нравах и платье.
И человек, коему с этой высоты открывается всеобъемлющая картина мира и его
обитателей, уже недосягаем для предрассудков; кажется, дышит он воздухом более
чистым и видит в свете более ясном — но как передать этот ясный и широкий взгляд тем,
кто бродит внизу по узким и темным тропам заблуждения? — задача и в самом деле
нелегкая. И однако, невзирая на всю ее сложность, я дерзну испытать, не смогу ли я
каким-то образом
Clara tuae possim praepandere lumina menti (Лукреций).*
Знайте же: все многоразличные роды и секты сынов человеческих имеют свою веру
и собственную религиозную систему, кои прорастают и дают побеги из общего семени
религиозного исступления,2 одного из исконных элементов в составе человеческой
природы. Все они рассказывают об общении с незримым миром, о небесных
откровениях, божественных знамениях ш тому подобных вещах. И со всеми этими
притязаниями в целом, если взглянуть на ааих беспристрастно, невозможно согласиться уже
потому, что я обнаружнраю в себемечто, удерживающее меня от согласия с каждым из них
в отдельности. Ибо, хотя я и готов вполне подчиниться здравому смыслу и свету
природы, однако тот же самый разум, который велит мне уступать рациональным
доказательствам, запрещает мне принимать мнения, ничем не доказанные. Это имеет
силу против всех откровений вообще — так пусть же это будет моим первым
возражением против христианского откровения в частности.
Критон. Поскольку данное возражение предполагает, что доказательств или
оснований для веры в христианское откровение не существует, то оно утратит свою силу,
если убедительные причины для подобной веры найдутся. Так вот, я полагаю, вы
признаете, что истинной и настоящей причиной нашей веры во всякое сообщение
является авторитет того, от кого оно было получено, и чем выше этот авторитет, тем
справедливее его притязания на наше согласие. Но ведь авторитет Бога во всех отношениях
наивысший, а значит, верить всему, что приходит к нам от Бога — разумно.
Алкифрон. Это я признаю — однако нужно ведь еще доказать, что
сообщение — именно от Бога.
Критон. Но разве чудеса, исполнение пророчеств вместе с
совершенством самого учения не являются достаточным доказательством
того, что источник христианской религии — Бог?
Алкифрон. Чудеса и вправду могут кое-что доказать — но какие
же имеются у нас доказательства самих этих чудес?
Критон. Того же рода доказательства, какие мы имеем или можем иметь
относительно любых событий, отдаленных от нас во времени и в пространстве. Мы
располагаем достоверными сообщениями, восходящими к непосредственным очевидцам
событий; и мы не способны вообразить ни один человеческий мотив, который мог бы
склонит* этих людей ко лжи и обману, ибо их поступки в данном случае противоречили их
собственным выгодам и тем самым принципам, в которых воспитывались они с детско-
K)^^F~ Джорд* Беркли 4j)^TJ
го возраста. Эти сообщения были подтверждены беспримерным падением Иерусалима
и рассеянием еврейского народа, что является незыблемым свидетельством истины
Евангелия вообще и предсказаний нашего Божественного Спасителя в частности.
Менее чем за столетие распространились они по всему миру, и в них уверовало великое
множество людей. Повествования эти были изложены письменно, переведены на
многие языки и переданы потомкам; их почитали и принимали христиане,
принадлежавшие к самым отдаленным церквям.
— Да неужели вы не видите, — воскликнул Алкифрон, глядя на Критона в
упор, - что все это держится на предании?1 Но ведь предание, поверьте моему слову,
есть слишком слабая опора; это некая цепь, первые звенья которой могут быть тверже
стали, зато последние — мягкими, как воск, и хрупкими, как стекло. Представьте себе
картину, которую копируют один за другим сто художников — насколько же тогда
последняя копия будет напоминать оригинал? А насколько ярким и четким будет
образ предмета после сотни отражений в двух параллельных зеркалах? Столь же точным
и живым окажется по прошествии шестнадцати или семнадцати веков смутное и
угасающее предание. У одних людей слабый ум, у других - лживое сердце; там же, где
оба они в порядке, может подвести память. А значит, всякий раз что-то добавляется,
опускается, изменяется, и эти многочисленные прибавления, изъятия и переделки,
накапливаясь в течении столетий, дают в конечном счете результат, совершенно
отличный от подлинника.
Критом« О событиях древности мы можем узнать из предания, устного или
письменного; последнее же делится на два рода: частное и общественное, смотря по тому,
хранятся ли эти писания в руках отдельных лиц или вносятся в общественные архивы.
Так вот, насколько я могу судить, все три вида преданий единогласно свидетельствуют
о подлинности Евангелия. Кроме того, она подтверждается косвенными
доказательствами: общепринятыми обрядами, празднествами и воздвигнутыми первыми
христианскими памятниками, такими, например, как церкви, баптистерии li гробницы. И даже
соглашаясь с тем, что возражение ваше имеет силу против устного предания самого по
себе, я, однако, думаю, что верно переписать текст — задача не такая уж трудная.
А вещи, изложенные письменно, надежно застрахованы от ошибок памяти и при
надлежащей заботе могут сохраняться так же долго, как и сама рукопись, то есть, по
свидетельству опыта — более двух тысяч лет. Полагают, что александрийской
рукописи4 более двенадцати веков, и весьма вероятно, что в эпоху ее создания еще
сохранялись списки, просуществовавшие четыреста лет. А следовательно, цепь предания
продолжительностью в шестнадцать веков должна иметь всего лишь два или три
соединительных звена. И звенья эти, несмотря на огромный промежуток времени, могут быть
чрезвычайно крепкими и надежными. Потому ни один разумный человек не станет
отрицать, что древний манускрипт и сейчас заслуживает такого же доверия, как и в
эпоху его написания. Мы пользуемся ими на авторитетных основаниях, и кажется
вполне вероятным, что первые христиане тщательно переписывали Евангелие и
послания апостолов для частного употребления и что другие копии хранились в качестве
общественных записей в различных церквях по всему миру, причем отдельные
отрывки постоянно читались в их собраниях. Так можно ли привести более веские
доказательства в пользу подлинности сочинений классических авторов или древних
письменных памятников вообще?
Алкифрон
Тогда Алкифрон, обращаясь к Ефранору, сказал:
- Одно дело принудить противника к молчанию, другое — его убедить. Как вы
полагаете, Ефранор?
Ефранор. Несомненно, это разные вещи.
Алкифрон. Но ведь я и хочу, чтобы меня убедили.
Ефранор. Это не вполне очевидно.
Алкифрон. Но как бы горячо человек этого ни желал, правдоподобные доводы,
выдвигаемые против ясных доказательств, убедить его не смогут.
Ефранор. Согласен, не смогут.
Алкифрон. Так вот, с очевидностью, которую только в силах дать
доказательство, убеждаемся мы в том, что никакая вера в Бога не
может основываться на предании.' Вообразите добропорядочного и
доверчивого деревенского жителя, каждое воскресенье слушающего
проповеди и поучения своего приходского священника, — ясно, что верит
он не Богу, а пастору. Об откровениях, догматах и чудесах знает он
лишь то, что сообщит ему священник. Именно в это он верит, и вера его чисто
человеческая. Л если вы скажете, что основанием его веры является литургия или Библия, то
прежние затруднения не исчезнут. Ибо в том, что касается литургии, он полагается на
гражданскую и церковную власти, однако ни та, ни другая на божественное
вдохновение претендовать не могут. А что до Библии, то ее и свой молитвенник принимает он
на веру от печатника, который, как он полагает, осуществил точные издания с верных
копий. Таким образом, мы всюду видим веру — но только что это за вера? Вера в
священника, судью, печатника, издателя, переписчика — но ведь ни одна из них не
может быть названа божественной хоть с каким-то правдоподобием. Намек к этим
мыслям подал мне Кратил,1* эта стрела — из его колчана, и, поверьте мне, стрела очень
острая.
Ефранор. Позвольте мне взять эту стрелу в руки и самому ее испытать. Вообразите,
что ваш деревенский житель читает указ в своде законов или слушает, как некое
должностное лицо оглашает его в суде. Как вы полагаете, неужели истинным и
непосредственным объектом его веры и послушания является печатник или судья? Или вы
признаете более высокий авторитет, на котором основываются эти законодательные акты и к
которому они восходят? И еще: представьте, что вы читаете у Тацита отрывок, в
подлинность которого верите. Неужели вы скажете, что признали его истинность, полагаясь
больше на авторитет печатника или переписчика, чем самого историка?
Алкифрон. Может и скажу, а может быть и нет. Я не думаю, что обязан давать
ответ на эти вопросы. И что они означают, как не произвольную подмену предмета
обсуждения? Ведь занимавшая нас до сих пор проблема — это отнюдь не закон или
гражданская история, но религиозное предание и божественная вера. Ясно вижу, к
чему вы клоните, однако создание нового затруднения я никогда не сочту ответом на
прежнее.
Критон. Ах, Алкифрон, да как же к вам подступиться — к вам, который
рассчитывал, что другие (как вам было угодно выразиться) будут стоять твердо и вести себя
беспристрастно, пока вы с корнем вырываете их предрассудки? Как же спорить с
вами, если не на основе ваших признаний, и каким образом можно выведать ваши
мысли, если вы не желаете их сообщать?
ЕСНХЗ
K№3&W^~ Джордж Беркли "^Й^ГЗ
Ефранор. Чтобы избавить вас от хлопот, я сам рискну предположить ответ. Мой
вопрос допускает только два ответа — выбирайте любой. Из первого следует, что мы в
силах без труда по разумной аналогии понять, каким образом человек, никогда не
испытавший божественного вдохновения и не видевший чудес, может, тем не менее,
иметь веру в Бога, ибо для нашей души вполне возможно обратить свои мысли и свою
покорность к источнику божественного откровения (каким бы путем, через живое
слово или через Священное Писание оно ни передавалось) — и в конечном счете
утвердить собственную веру не на человеческом, но на божественном авторитете; не на
инструменте или сосуде, служащем для передачи сообщения, но на самом великом
первоначале как истинном и настоящем объекте веры. Из второго ответа вытекает, что
в человеческое знание вносите вы абсолютный скептицизм, уничтожая тот стержень,
вокруг которого вращаются и от которого зависят гражданское правление и все
людские дела в этом мире — одним словом, ради того, чтобы избавиться от веры
божественной, вы готовы уничтожить веру человеческую. А как это согласуется с вашими
уверениями в том, что вы желаете достичь твердого убеждения, предоставляю решать
вам самим.
Алкифрон. Право же, я желаю, чтобы меня в чем-то убедили; я
искренне хочу прийти хоть к какому-то выводу. Но ведь в запасе у
меня остается еще столько возражений, что вам не следует
рассчитывать на многое потому только, что вы управились с одним из них. Не
сомневайтесь: я стану вести себя как порядочный человек и поборник
истины. Возражения свои я буду формулировать ясно и кратко, а
разумные ответы приму сразу же, как только вы их представите. Так за дело же,
Ефранор, извлеките все, что сможете из вашего предания — но и тогда не сумеете вы
превратить в неизменную и всеобщую традицию то, что в течение столетий оставалось
неизвестным или, в лучшем случае, спорным для самой церкви — а ведь именно так
обстоит дело с каноном Нового Завета.7 Ибо, хотя у нас теперь и имеется канон, как
его называют, официально установленный — тем не менее, всякий должен будет
убедиться и признать, что предание не становится тверже с течением веков; а то, что было
ненадежным и сомнительным в первоначальные времена, не станет достовернее в
последующие. Что вы на это скажете, Ефранор?
Ефранор. Прежде, чем дать ответ, я желал бы ясно понять, что вы имеете в виду.
Мне кажется, ваше возражение предполагает следующее: если некое предание
оставалось неизменным и никем не оспаривалось, то его можно принять в качестве
доказательства — там же, где традиция несовершенна и имеет пропуски, таковым же по
необходимости будет и доказательство. Вы это хотели сказать?
Алкифрон. Да.
Ефранор. А значит, Евангелия и послания св. Павла, с самого начала повсеместно
принятые и впоследствии никогда церковью не оспаривавшиеся, нужно, несмотря на
ваше возражение, признать подлинными. Если же упомянутые книги содержат все те
положения, о которых и идет у нас с вами спор, — а это действительно так — то зачем
же мне дискутировать с вами о достоверности прочих книг Нового Завета, которые
приобрели всеобщую известность и были приняты церковью позднее? Если человек
принимает книги неоспариваемые, то он уже не является неверующим, пусть даже он
и не считает каноническими Апокалипсис, послания св. Якова, Иуды, св. Петра или
lij^r αλαφρό. ~^шьсж
два последних послания св. Иоанна. Дополнительный авторитет указанных разделов
Священного Писания может иметь вес в частных спорах между христианами, однако
не силах что-либо прибавить к аргументам против неверия как такового. А потому —
хотя, как я полагаю, в пользу принятия этих книг можно привести основательные
аргументы — тем не менее, в данном случае эти доводы, на мой взгляд, к делу не идут.
У нас еще будет достаточно времени для обсуждения подобных вопросов, когда вы
станете христианином. И к этому состоянию вы окажетесь ближе, если мы сейчас
сократим ваш путь, оставив эту проблему в стороне.
Алкифрон. Однако не так уж близко, как вы, должно быть, воображаете. Ибо,
несмотря на все те прекрасные и правдоподобные вещи, которые можете привести в
пользу традиции вы, я бываю не в силах не усомниться в Священном Писании в
целом, когда вспоминаю о духе лжи и обмана, господствовавшем во времена раннего
христианства, или размышляю об отдельных Евангелиях, Деяниях и Посланиях,
некогда приписывавшихся апостолам, а теперь признанных подложными.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, усомнитесь ли вы в подлинности всех сочинений
Платойа в целом только потому, что, к примеру, Диалог о смерти считается
подложным? И неужели оттого, что Сигоний* выдал книгу собственного сочинения за трактат
Туллия De Consolatione9 и обману этому некоторое время верили, вы не признаете
подлинным ни одно из сочинений Туллия?
Алкифрон. Допустим, я признаю подлинными произведения Туллия и Платона,
те, которые принято считать таковыми. И что же дальше?
Ефранор. Дальше? А дальше я хотел бы узнать, неужели это честно и
справедливо со стороны свободомыслящего человека — судить о достоверности светских и
духовных сочинений по разным правилам? Скажите на милость, как же нам,
христианам, вести спор с мелкими философами? Позволено ли нам пользоваться всеобщими
принципами логики и критики? Если да, то будьте любезны указать причину, по
которой подложные сочинения, несущие на себе явные следы подделки в слоге и в
содержании, а потому и отвергнутые церковью, можно приводить в качестве аргумента
против тех произведений, которые были приняты повсюду и дошли до нас через
единодушное и неизменное предание? [Я не знаю ничего воистину замечательного, что не
подвергалось бы подделке и фальсификации — однако, довод, имеющий силу против
всех вещей разом, не может быть принят против какой-либо из них в отдельности.],0
Во все века и во всех крупных человеческих сообществах находились капризные,
тщеславные или злонамеренные обманщики, которые подсовывали миру подложные
сочинения, предоставляя работу ученым критикам как светской, так и духовной
литературы. И отвергать подлинные сочинения светских авторов из-за сочинений
подложных было бы столь же глупо, как неразумно было бы предполагать, что среди
еретиков и отдельных христианских сект не могли найтись люди, способные к подобному
надувательству.
[Алкифрон. Я не вижу, как можно прийти к определенному решению в этих
вещах: здесь все темно и сомнительно, и теперь, по прошествии столь долгого времени,
мы в силах строить одни лишь догадки.
Критон. Но если мне доподлинно известно, что большое число авторитетных и
достойных лиц, съехавшихся на вселенский собор в эпоху, близкую ко времени
создания этих сочинений (сочинений, относящихся к вопросам величайшей важности),
исследовали их и отличили подлинные от подложных, — то, хотя по прошествии многих
КШ№~ Джордж Беркли ^të^Çj
столетий я и не обладаю другими доказательствами, выводы этих людей могут иметь
достаточный вес для того, чтобы определить мое суждение. Ибо вполне вероятно, что
они располагали многочисленными основаниями и доказательствами в пользу своего
решения; и более чем правдоподобно, что в течение столь долгого времени эти
аргументы были утрачены.] *м
Алкифрон. Но даже если предание сколь угодно надежно
удостоверено, а сами книги — подлинны, я не могу допустить, что писали их
люди, удостоившиеся божественного вдохновения, пока вижу в этих
книгах определенные черты, с подобным предположением
несовместимые. Ибо в произведении, составленном или внушенном Духом Бо-
жиим, мы рассчитываем встретить чистейший язык, превосходный
слог, предельную точность и ясность изложения — словом, все качества хорошей
литературы. Однако те книги, в которых мы обнаруживаем нечто прямо
противоположное, было бы как раз нечестиво приписывать Божеству.1'1
Ефранор· Скажите, Алкифрон, неужели озера, реки и моря очерчены прямыми
линиями? Имеют ли холмы и горы точную форму конусов и пирамид? Обладают ли
правильными очертаниями звезды?
Алкифрон. Нет.
Ефранор. Зато в произведениях, созданных насекомыми, мы можем обнаружить
фигуры настолько правильные, словно начертили их с помощью циркуля и линейки.
Алкифрон. Верно, можем.
Ефранор. А в таком случае не кажется ли вам, что регулярность, точность и
скрупулезное соблюдение того, что именуется правилами искусства, в великих
произведениях Творца Природы незаметны?
Алкифрон. Кажется.
Ефранор. А когда великий государь оглашает свою волю подданным в законах и
эдиктах, заботится ли он о чистоте слога и изяществе композиции? Не поручает ли он
секретарям и писцам изложить свою мысль их собственными словами? Не считается
ли выражение в подобных случаях удачным, если оно вполне передает то, что имелось
в виду? И не сочли бы мы высокопарный тон иных новейших критиков
аффектированным и неуместным в подобных обстоятельствах?
Алкифрон. Должно признаться: из-за своих солекизмов и тавтологии законы,
указы и эдикты бывают невыносимы для тонкого слуха изящных авторов.
Ефранор. Тогда зачем же мы станем искать в божественных глаголах точность и
правильность, которые не к лицу и ниже достоинства земного монарха, а к тому же
совершенно несоразмерны великолепным произведениям Творца и ничем их не
напоминают?
Алкифрон. Но если даже признать, что скрупулезное внимание к деталям и
щепетильное соблюдение правил есть нечто слишком мелкое и низкое для божественных
откровений; что в небрежном и неровном слоге больше духа, силы и истинного
величия, чем в тщательно обработанных периодах какого-нибудь изысканного автора —
если даже все это так, то что это значит по сравнению с плоскими и убогими
сочинениями тех, кого именуют божьими писцами? Никогда не поверю, чтобы Высшее Суще-
* Vide Can. LX. Concil. Laodicen.12
Алкифрон
ство пожелало сделать своими секретарями самых жалких и никудышных
бумагомарателей.
Ефранор. Ах, Алкифрон, если бы отважился я прислушаться к собственному
суждению, то, пожалуй, счел бы, что слог Священного Писания обладает дивными
красотами: столь прост и чистосердечен его тон в повествовательных частях, столь
возвышен и одушевлен в пророческих и богослужебных, а в догматических фрагментах
являет столько силы, достоинства и авторитетности, что кажется, будто слышишь сам
божественный первоисточник. Я, однако, о вкусах спорить не буду и уж конечно не
стану в столь тонком вопросе противопоставлять собственное мнение суждениям
гениальных и остроумных людей, коими изобилует ваша секта. И я не чувствую никакого
искушения делать это уже потому, что, на мой взгляд, божественные оракулы не
перестают быть таковыми, даже если переданы они нам, облаченные в одеяние скромное и
простое, а не в "соблазнительные словеса мудрости человеческой V4
Алкифрон. Что ж, для простоты и небрежности слога это, вероятно, может
послужить известным оправданием.
Но чем же нам оправдать бессмыслицу, грубейшую бессмыслицу,
множество образчиков которой я мог бы привести, поскольку однажды
прочитал Священное Писание целиком именно для того, чтобы их
отыскать. Вот послушайте, — сказал он, открыв Библию на 49-м
псалме1'. - Как величественно начинает автор: м Внимайте сему все
живущие во вселенной". "Уста мои, — уверяет он, — изрекут премудрость,
и размышления сердца моего — знание".
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?,tt
Но едва закончив свое вступление, он тотчас задает бессмысленный вопрос: "Для
чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие пят моих окружит меня?"
Беззаконие моих пят! После столь торжественного зачина — такая чушь!
Ефранор. Что до меня, то я имею слабое от природы зрение и знаю, что
существует множество вещей, для меня незримых, — зато другие люди видят их вполне
отчетливо. И потому я не стану заключать, что нечто является абсолютно невидимым
только потому, что оно таково для меня. А поскольку с моим разумом дело может обстоять
точно так же, как и с моими глазами, то я не осмелюсь объявить вещь нелепой по той
причине, что сам ее не понимаю.
Ну а упомянутому вами отрывку дают много различных толкований. Слово,
переданное как «пяты», может означать обман или хитрость; некоторые переводили его
как «прежнюю порочность», поскольку пята — задняя часть стопы; другие — как
«беззакония в конце дней моих», поскольку пята — одна из конечностей тела, или
как «беззакония моих неприятелей, которые угрожают мне гибелью», или как «мои
собственные прегрешения и несправедливости, коими я пренебрег словно чем-то
маловажным, и попрал своими стопами». Иные переводят: «несправедливость путей
моих», другие — «мои прегрешения, словно поскользнувшиеся или оступившиеся
пяты».
И потом, разве это выражение, столь дикое и странное для нас, не может звучать
вполне естественно и вразумительно в еврейском языке, который, подобно всякому дру-
EOGS
ШЭ$@№~ Джордж Беркли 4»^Γ3Ι
гому языку, имел свои идиомы? И несложно понять, что их смысл и особенности
употребления по прошествии долгого времени для нас утрачены, подобно значению
некоторых других еврейских слов, ныне нам непонятных, — хотя никто не сомневается, что
некогда они, как и прочие слова этого языка, имели определенный смысл. А потому,
если даже допустить, что отдельные места в Священном Писании могут быть для нас
невразумительны, отсюда, однако, еще не следует, будто авторы его сочиняли
бессмыслицу, ибо, на мой взгляд, бессмыслица и непонятность — вещи разные.
Критон. Как-то раз один мой знакомый английский джентльмен, принимавший у
себя гостей-иностранцев, отправил слугу узнать о причинах неожиданной суматохи во
дворе. Слуга сообщил, что лошади подрались. А когда гости осведомились, в чем же
дело, хозяин перевел ответ буквально: Les chevaux sont tombés ensemble par les
oreilles,17 чем привел гостей в изумление, поскольку то, что имело вполне очевидный
смысл в английском оригинале, теперь, будучи переведенным слово в слово на
французский, стало совершенно непонятным. И я помню, как один человек извинял
глупости своих соотечественников именно такими вот буквальными переводами.
Ефранор. Но чтобы не становиться утомительным, я отсылаю вас к критикам и
комментаторам, где вы найдете конкретное применение этого замечания, которое,
прояснив несколько темных мест, вами принимаемых за бессмыслицу, может быть и
заставит вас усомниться в собственном суждении и касательно всего остального.
Между тем здравомыслие и возвышенная мораль, заключенные в дальнейшем тексте
того самого псалма, который избрали вы своей мишенью, должны, по-моему, склоните
беспристрастного читателя к благосклонному суждению и об исконном смысле
фрагментов, ему непонятных. Скажите, Алкифрон, неужели при чтении классических авторов
вы тотчас же заключаете о нелепости всякого невразумительного для вас пассажа?
Алкифрон. Никоим образом. Нам следует думать, что трудности в истолковании
происходят от различных идиом, старинных обычаев, всевозможных намеков и
аллюзий, понятных в одну эпоху и темных в другие времена.
Ефранор. Но почему же не желаете вы судить по тем же правилам и о
Священном Писании? Ведь упомянутые вами источники неясности одни и те же для
сочинений духовных и светских; и, без сомнения, более основательное знание языка и
исторических обстоятельств в обоих случаях заставило бы эти трудности исчезнуть,
словно тень перед светом солнца. Описывая разъяренного захватчика, Иеремия
Говорит: "Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища".18
Кто-то, пожалуй, сочтет этот оборот странным и неудачным и подумает, что разумнее
было бы сказать так: "словно лев из гор и пустынь". Однако один остроумный
человек замечает, что путешественники, собственными глазами видевшие низкие
берега Иордана, покрытые камышовыми зарослями, представляющими собой убежище
для диких зверей (которые из-за внезапного разлива реки вынуждены их покидать и
устремляться в более возвышенную местность), прекрасно чувствуют смысл и
точность данного сравнения — а значит, неясность происходит не от авторской
нелепости, а от читательского незнания. [Нет нужды нагромождать подобные примеры,
обнаружить которые можно у любого комментатора. Позвольте лишь заметить, что,
отыскивая порою некий скрытый или отдаленный смысл, люди смотрят выше или
глубже, чем требуется, — а между тем, этот смысл, естественный и очевидный,
лежит, если можно так выразиться, у них под ногами, и таким образом, они не находят
трудности, но сами их создают.
Именно так, похоже, обстоит дело со знаменитым местом из Первого Послания св.
Павла к коринфянам, породившим столько трудов и разысканий: "Иначе, что делают
крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и
крестятся для мертвых?'49
Однажды мне пришлось слушать, как наш приходский викарий Лахет толковал
этот текст моему соседу Ликону, чрезвычайно недоумевавшему по поводу его
значения. "Если бы его перевели (а для этого были все основания) как окрещенные ради
мертвых», то я не вижу, — говорил Лахет, — каким образом смысл этого места мог бы
поставить людей в тупик, ибо, скажите, ради кого, по-вашему, крестились
христиане?" — "Ради кого же еще, если не ради самих себя?" — отвечал Ликон. "Что вы
имеете в виду? Ради самих себя в этой жизни или в жизни будущей?" — "Без
сомнения, в будущей, ибо совершенно ясно, что в нынешней жизни они этим ничего достичь
не могли". — "Тогда получается, — продолжал Лахет, — что крещены они не ради
самих себя при жизни, но ради самих себя после смерти, т. е. не для живых, а для
мертвых?" — "Согласен." — "А следовательно, если мертвые не воскресают, то
крещение оказывается для этих людей бесполезным." — "Именно так." Отсюда Лахет
заключил, что довод св. Павла ясен и имеет прямое отношение к воскресению; Ликон
же признал его argumentum ad hominem20 для тех, кто желает креститься. "А
значит, — сказал Лахет, — для понимания этого текста нет нужды предполагать, будто
живые крестились тогда вместо тех, кто умер некрещенным; или прибегать к любым
другим странным и неестественным интерпретациям".]21
Алкифрон. Порою трудные места можно разъяснить — но ведь есть много таких
пассажей, истолковать которые не способны никак человеческое искусство или
остроумие. Что вы скажете о неточных цитатах из Ветхого Завета в Евангелии,
обнаруженных нашими учеными авторами?
Ефранор. То обстоятельство, что составители Нового Завета не вполне точно
цитируют некоторые места из Ветхого Завета, а отцы церкви — отрывки из Нового
Завета, отнюдь не является новейшим открытием мелких философов. Это было уже давно
отмечено христианскими авторами, которые не поколебались признать, что по
небрежности или по ошибке переписчики кое-что вносили в текст с полей, другое —
опускали, третье — изменяли; отсюда — такое обилие разночтений. Однако все это вещи
маловажные; подобному подвергались и сочинения всех прочих древних авторов; к
тому же основные догматы христианства от этих фрагментов не зависят и могут быть
доказаны и без их помощи. Скажу больше (если это может вам как-то помочь): 18-й
псалом, цитируемый во второй книге Самуила, отличается от оригинала примерно в
сорока местах, если обращать внимание на мельчайшие словесные или буквенные
расхождения; и никто не станет отрицать, что и сейчас еще критики способны обнаружить
кое-какие мелкие отклонения. Но даже если выжать из подобных уступок все
возможное, то что еще сумеете вы из них вывести, кроме того, что замысел Священного
Писания отнюдь не предусматривал сообщения нам точного знания всех деталей и что
Дух Божий не диктовал каждую частицу или слог и не сохранял их посредством
некоего чуда от малейшего изменения? Думать так было бы чем-то похожим на
суеверие раввинов.
Алкифрон. Но какую же печать Божества можно усмотреть в сочинениях, которые
даже точности человеческого искусства не достигают?
Ю<ЭС2
Kfâg&W Джордж Беркли ^)^Β^Γ3Ι
Ефранор. Вот уж никогда не думал и не предполагал, что божественность свою
Священное Писание должно доказывать подробностью и точностью повествования,
методической выверенностью композиции, строгим соблюдением правил риторики и
грамматики, гармоническими периодами, изящностью отборных выражений или
специальными дефинициями и дистинкциями, — слишком бы это было похоже на
сочинение человеческое. И мне кажется, что в простом, искрением и безыскусном слоге
Писания, слоге неровном, смелом и образном, есть черты необыкновенно прекрасные и
величественные; черты, напоминающие божественное вдохновение больше, чем любое
другое известное мне сочинение. Но, как я уже говорил, я не стану спорить о
критических вопросах с господами из вашей секты, которые, надо думать, являются для нас
ныне образцами остроумия и вкуса.
Алкифрон. Ну хорошо, на мелких промахах или неточностях в цитировании или
переписывании я не буду больше настаивать. Охотно признаю, что не повторы, не
отсутствие порядка в изложении или обстоятельности в деталях сильнее всего меня
шокируют, тем более — не странные обычаи и простые патриархальные нравы евреев
и первых христиан, столь отличные от наших с вами. Ведь отвергать Писание по этим
причинам значило бы уподобиться тем французским остроумцам, которые осуждают
Гомера оттого, что не находят в нем языка, представлений и нравов, свойственных их
веку и стране. И если бы ничто другое нас не разделяло, то я бы без особых колебании
признал, что простонародный неровный слог может отвечать важнейшим целям
Провидения так же хорошо, как и стиль точный и критически выверенный. Только вот
темнота и непонятность по-прежнему не дают мне покоя. И я полагаю, что если бы
Высшее Существо действительно говорило с человеком, то Оно бы выражалось ясно,
и Слово Божие не требовало бы комментариев.
Ефранор. Похоже, неясность вы считаете недостатком, но если
окажется, что она таковым не является, то ваше возражение утратит силу.
Алкифрон. Согласен, утратит.
Ефранор. Прошу вас, Алкифрон, скажите, разве речь и слог не
являются орудием для передачи мыслей и понятий, призванным
порождать знания и мнения и вызывать наше согласие?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. И разве совершенство орудия следует измерять не той целью, которой
оно служит?
Алкифрон. Так.
Ефранор. А значит, то, что является недостатком для одного орудия, не будет
таковым для другого. К примеру, режущие инструменты в целом предназначены для
того, чтобы резать; но поскольку топор и бритва имеют разное назначение, то для
топора не будет изъяном отсутствие острого, как у бритвы лезвия, для бритвы же не
будет недостатком то, что она не обладает весом и силой топора.
Алкифрон. Это верно.
Ефранор. А не вправе ли мы сделать общий вывод: всякое орудие,
соответствующее цели и замыслу того, кто его применяет, совершенно?
Алкифрон. Вправе.
Ефранор. Отсюда, похоже, следует, что речь, пусть даже она не каждому
вразумительна, не является несовершенной с точки зрения ясности — если она достаточно
BCSX3I
понятна тем людям, которые и должны были ее постичь по мысли говорящего?
И пусть даже не во всех своих частях она одинаково понятна и не дает
исчерпывающего знания - если только говорящий имел в виду лишь смутный намек?
Алкифрон. Пожалуй, так.
Ефранор. А потому не должны ли мы прежде узнать намерение говорящего, чтобы
определить, темна ли его речь по недостатку искусства или вследствие сознательного
решения?
Алкифрон. Должны.
Ефранор. Однако способен ли отдельный человек постигнуть все цели и
намерения божественных откровений?
Алкифрон. Нет.
Ефранор. Тогда откуда же вы знаете, что темнота отдельных мест Писания не
может вполне соответствовать цели, вам неведомой, — и таким образом, вовсе не
являться доводом против его божественного происхождения?
Книги Священного Писания были составлены на древних языках, в далекие
времена, по разным поводам и на весьма несходные темы. А потому не разумно ли
предположить, что некоторые части или отрывки были достаточно ясны тем, для кого они,
собственно, и предназначались — хотя нам, людям живущим в иную эпоху и
говорящим на другом языке, они кажутся темными? Так ли уж это нелепо и несовместимо с
нашим представлением о Боге и человеке — допустить, что Господь может нам
открываться, и однако, в некоторых возвышенных и трудных предметах делать это не до
конца, довольствуясь тем, что дает Он нам, скорее, некие проблески вместо широких
видов? И не вправе ли мы, исходя из порядка вещей и по природной аналогии
допустить, что известные положения, которые в иных обстоятельствах могли быть
истолкованы яснее, оставлены темными лишь ради того, чтобы поощрить наше усердие и
скромность — две добродетели, кои порекомендовал бы я и мелким философам, если
бы это не казалось непочтительным по отношению к столь великим мужам?
- Просто великолепно! — воскликнул Лисикл. — И вы всерьез рассчитываете на
то, что здравомыслящие и проницательные люди, преисполнившись великого
смирения, выколют себе глаза, дабы слепо и не рассуждая проглотить всю ту нелепость и
бессмыслицу, которую подсунут им под видом божественного откровения?
Ефранор. Напротив, я хочу, чтобы открыли они свои глаза пошире, чтобы они
были внимательны и испытывали дух — от Бога ли он — а не осуждали в косном и
ленивом своем невежестве все религии разом, отвергая благочестие вместе с
суеверием, истину — вместе с заблуждением, факты — вместе с выдумками, — метода,
мгновенно обнаруживающая свою нелепость в истории, медицине и в любой иной области
человеческих знаний. Я хочу, чтобы они сопоставили христианскую систему, или
Священное Писание, с другими верованиями, притязающими на божественное
откровение, чтобы они беспристрастно рассмотрели учения, заповеди и события, в нем
заключенные, взвесили их на одних весах со всеми прочими религиозными,
естественно-научными, моральными и историческими сведениями и сообщениями и
тщательно исследовали все те внутренние и внешние доказательства, которые в течение
стольких веков способны были влиять на такое множество образованных н
любознательных людей и их убеждать — как знать, не обнаружат ли они в христианстве
некоторые особенные черты, в достаточной мере отличающие его от всех остальных
религии и мнимых откровений; свойства, на которых может основываться вера,
Kté&&W^~ Джорд» Беркли ЧЙЗ^ГД
согласная с разумом. И тогда пусть они сами решают, справедливо ли это — под
предлогом неясности некоторых частей с высокомерием и насмешкой отвергать
откровение, столь отличное от прочих и столь твердо удостоверенное? И в самом
ли деле это ниже достоинства таких здравомыслящих и проницательных людей,
как они — согласиться, что свет, недостаточный для созерцания вещей, может
быть вполне достаточным для целей Промысла? И неужели им, с их тонкостью,
остроумием.и критическим искусством, не подобает признать, что буквальные
переводы книг, написанных на древнем восточном языке, столь непохожем на
наши нынешние; языке, имеющем множество характерных особенностей в слоге,
фигурах речи, строении фразы (причем никаких других сочинений на этом языке,
современных данным книгам, не сохранилось), — что подобные переводы, говорю
я, могут во многих местах оказаться темными, в особенности там, где речь идет о
предметах возвышенных и трудных по самой своей природе или о вещах, обычаях
или событиях, нам совершенно неизвестных? И, наконец, пусть они скажут, разве
не приличествует их характеру — характеру людей беспристрастных и
непредвзятых — рассматривать Библию в том же свете, в каком стали бы они рассматривать
сочинения светские? Ведь они с готовностью учитывают возможность пропусков,
перестановок и обыкновенных ошибок при переписывании в других древних
книгах, и делают огромные скидки на различия в стиле и манере письма, особенно в
восточных сочинениях, таких как фрагменты из Зороастра и Конфуция — но
почему же тогда и не в Пророках? Желая докопаться до смысла при чтении
Горация или Персия, они не жалеют времени, чтобы найти какую-то прежде
неизвестную драму — но почему же тогда не при чтении Соломона или св. Павла?
Находятся, я слышал, особы острого ума, которые презирают поэзию Царя
Давида и однако, объявляют во всеуслышание о своем преклонении перед Гомером и
Пиндаром. Если в этом нет предвзятости или притворства, то пусть они выполнят
буквальный перевод данных авторов современной английской прозой — и тогда
они смогут основательнее судить о псалмах.
Алкифрон. Можете сколько угодно предаваться пространным рассуждениям, и,
однако, что бы вы ни говорили, совершенно очевидно: откровение, которое ничего нам
не открывает, есть простое противоречие в терминах.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, признаете ли вы солнечный свет прекраснейшим
творением Промысла в естественном мире?
Алкифрон. Допустим, признаю.
Ефранор. И однако, этот свет, божественное происхождение которого вы не в
силах отрицать, светит лишь на поверхности вещей; ночью он не светит вовсе, а в
сумерках — весьма слабо; он часто помрачается, гаснет, преломляется; отдаленные и
мелкие предметы являет он весьма сомнительно и неверно или вовсе никак не
обнаруживает. Это так или нет?
Алкифрон. Так.
Ефранор. Но не вытекает ли отсюда, что рассчитывать узреть в нашем мире
божественный свет, явленный без всякой примеси тени или загадки, значило бы
уклониться от общего правила и аналогии творения? А следовательно, если он не столь ясен и
совершенен, как вы ожидаете, [или если он не во всякое время и не во всяком месте
сияет одинаково ярко,]22 то данное обстоятельство не может служить доводом против
того, что свет откровения является божественным.
Алкифрон. Раз уж я обещал сохранить беспристрастность в течение всего этого
обсуждения, то мне приходится признать, что вы порою высказываете некоторые
правдоподобные доводы — каковые опытный спорщик всегда сумеет привести в
защиту собственных предрассудков.
Но буду с вами откровенен. Я должен раз и навсегда заявить: вы
можете спрашивать и отвечать, приводить примеры и
распространяться хоть до бесконечности — и однако вы не сумеете убедить
меня в том, что источник христианской религии — божественное
откровение. Я уже представил вам такие аргументы, — а способен
представить их еще больше — которые, верьте моему слову, имеют
вес не только для меня, но и для множества великих мужей из числа.моих близких
приятелей. И аргументы эти сохранят свою силу, что бы ни стал возражать против
них Ефранор.
Ефранор. Ах, Алкифрон, завидую вашему счастью — иметь подобных знакомцев.
Но поскольку злая судьба, забросившая меня в это захолустье, лишила меня такого
преимущества, то я обязан сполна воспользоваться той возможностью, которую вы с
Лисиклом мне предоставили. Я смотрю на вас как на опытных врачей, вам же угодно
было счесть меня пациентом, за лечение которого вы с великодушием принялись. Ну а
пациент, пожалуй, имеет полное право описывать свое состояние и указывать все
симптомы болезни, утаивание или замалчивание которых могло бы помешать
совершенному исцелению. А потому да будет вам угодно понять меня правильно: я не
опровергаю ваше искусство или лекарства, но лишь описываю собственный случай и то
действие, которое ваши снадобья на меня производят. Скажите, Алкифрон, разве не
дали вы мне понять, что намерены искоренить мои предрассудки?
Алкифрон. Все верно: хороший врач с корнем вырывает малейший остаток
болезни. Так что говорите, вас выслушают терпеливо и внимательно.
Ефранор. Прошу вас, скажите, не держался ли Платон того мнения, что Бог
вдохновляет отдельных людей, дабы они, словно органы или трубы, возвестили своими
звуками миру его оракулы?* И разве не разделяли подобный взгляд другие
величайшие писатели древности?
Критон. Сократ, если не ошибаюсь, считал, что все истинные поэты говорят по
вдохновению свыше, а Туллий думал, что необычайной одаренности без вдохновения
не бывает. Это и побудило кое-кого из жеманных наших вольнодумцев попытаться
прослыть энтузиастами.
Алкифрон. И что же вы желаете из всего этого заключить?
Ефранор. Я желаю заключить, что вдохновение отнюдь не следует считать чем-то
невозможным или нелепым, но, скорее, — совместимым со светом разума и согласным
с мнением всего человечества. А это последнее обстоятельство, полагаю, вы и сами
признаете, поскольку аргументом против отдельного откровения вы уже сделали
наличие великого множества притязаний на откровение во всем мире.
Алкифрон. Ах, Ефранор, не так-то просто одурачить словами того, кто постигает
сущность вещей, исследуя их вплоть до первопричин. Действительно, слово
«вдохновение» (inspiration) звучит весьма эффектно и внушительно — однако давайте, если вам
* Платон, в "Ионе".2'
угодно, посмотрим, что же оно на самом деле означает. «Вдохновлять» (to inspire) —
это слово, заимствованное из латыни, и означает оно в строгом смысле не более чем
«вдыхать нечто» или «вдувать» — а следовательно, «вдохновить» можно только то, что
можно вдуть, а вдуть можно лишь ветер или испарения, — каковые и в самом деле
способны наполнить или раздуть человека фанатическим исступлением или мрачным
бредом. И существование вдохновений подобного рода я охотно признаю.
Ефранор: Чрезвычайно тонкие вещи говорите вы, Алкифрон, и я даже не знаю,
какое влияние они бы на меня произвели, если бы ваше глубокомысленное
рассуждение (discourse) не препятствовало своему собственному действию.
Алкифрон. То есть как?
Ефранор. Скажите, Алкифрон, вы сейчас рассуждаете или нет? Мне кажется —
рассуждаете, и рассуждаете превосходно.
Алкифрон. Как бы то ни было, я, несомненно, рассуждаю.
Ефранор. Но когда пытаюсь я проникнуть в сущность вещей, то — вы посмотрите,
что получается! — в душе моей возникает сомнение, возможно ли это вообще, ибо
«рассуждать» (to discourse) есть слово латинское по происхождению, первоначально
означавшее «суетиться», «бегать туда-сюда». Между тем человек не способен бегать
туда-сюда, если он не двигает при этом ногами и не меняет свое место, а значит, пока
вы, Алкифрон, смирно сидите на этой скамейке, о вас нельзя сказать, что вы
рассуждаете. Разрешите эту трудность, и тогда я, пожалуй, сумею разрешить вашу.
Алкифрон. Видите ли, «рассуждать» есть слово, взятое из области вещей
чувственных для того, чтобы выразить невидимые действия души — размышление и
логическое заключение от одного к другому; и в этом переносном смысле о нас можно
сказать, что мы рассуждаем, хотя и сидим на месте и не двигаем ногами.
Ефранор. Но разве не можем мы с таким же успехом уразуметь, что термин
«вдохновение» заимствован из области вещей чувственных для обозначения действий Бога,
когда он необыкновенным образом влияет на душу пророка или апостола, возбуждает
ее или просвещает? И о последних теперь поистине можно сказать — в образном, пли
переносном смысле — что они вдохновлены, хотя и нет здесь никаких ветров или
испарений, подразумеваемых в исходном значении слова. И мне кажется, что, заглянув
в самих себя, мы в силах ясно обнаружить некоторые чувства, побуждения и пррывы,
в соответствующее время и при определенных обстоятельствах возникающие в нашей
душе необъяснимым для нас образом. Вполне очевидные признаки подобного явления
замечаем мы и в прочих живых существах. А поскольку эти вещи обычны и
естественны, то что же мешает нам предположить, что при особых обстоятельствах
человеческий дух может возбуждать и приводить в движение некая сверхъестественная сила?
Что дикие беспорядочные видения и мрачные бредни имели, имеют и будут иметь
место, — этого никто не отрицает, однако заключать отсюда, будто истинных
вдохновений не существует, слишком похоже на вывод о том, что некоторые люди не в своем
уме, поскольку другие люди глупцы. И пусть сам я не пророк, а следовательно, на
ясное понимание этого предмета притязать не могу, тем не менее, я не дерзну по этой
причине отрицать (пока вы не докажете мне обратное), что истинный пророк пли
лицо, имевшее вдохновение, обладает возможностью отличить божественное внушение
от мрачных фантазий и галлюцинаций — так же, как вы отличаете сон от
бодрствования. В книге пророка Иеремии мы встречаем такое место: "Пророк, который видел
сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово
BdEXJ
Алкифрон
^
Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? — говорит Господь. Слово мое не
подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?"*24
Здесь, как видите, указано различие между чистым зерном и мякиной, между
истинным и подложным, и заключается оно в необыкновенной силе и мощи первого.
Прошу прощения за то, что цитировал для вас Библию. Впрочем, ссылаюсь я и
на общее убеждение человечества, а также мнение мудрейших из язычников, — а
они, по-моему, достаточны для того, чтобы сделать вывод о возможности, если не
вероятности, божественного вдохновения, по крайней мере, до тех пор пока вы не
докажете обратное.
w5FW435
Ш
Алкифрон. Возможность вдохновений и откровений я не нахожу
нужным отрицать, так что используйте эту уступку, как вам будет
угодно.
Ефранор. Но мы вправе предположить действительным то, что
признали возможным.
Алкифрон. Вправе.
Ефранор. Тогда представим, что Господу было угодно даровать людям
откровение, и что он вдохновил некоторых ради поучения остальных. А допустив подобное, в
силах ли вы отрицать, что эти откровения и боговдохновенные речи могли быть
записаны; что они, будучи преданы письму, спустя долгое время стали в некоторых местах
непонятны, что иные из них и первоначально были темнее прочих или что они могли
подвергнуться изменениям вследствие многократного переписывания? Это, как
известно, происходит и с другими текстами. И разве не вполне вероятно, что все эти
вещи могли иметь место?
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. А соглашаясь с этим, как же вы можете отвергать Священное Писание
как якобы небожественное, ссылаясь на те признаки или черты, которые, как вы сами
признаете, и должны были по всей вероятности сопутствовать божественному
откровению, дошедшему до нас через столько веков?
Алкифрон. Положим, я допускаю все то, что вы можете на разумных основаниях
пожелать; я признаю, что это в силах прояснить известную темноту, согласовать
некоторые мелкие различия, истолковать, каким образом (через вставки, пропуски,
изменения какой-нибудь буквы, слова и целой фразы) могли, в конце концов, возникнуть
определенные затруднения, — тем не менее, все это сущие мелочи по сравнению с куда
более вескими и основательными возражениями, которые мог бы я привести против
фактического содержания этих писаний и исповедуемых в них учений. Давайте
посмотрим, что же заключено в этих священных книгах, а потом решим, насколько это
вероятно или возможно, чтобы подобные откровения исходили от Бога. Способна ли
человеческая фантазия придумать что-либо более сумасбродное, чем те россказни о
привидениях, демонах, чудесах, воплощении, возрождении, благодати,
самоотречении, воскрешении из мертвых и тому подобные oegri somnia,25 которые находим мы в
Священном Писании? Все это вещи настолько странные, необъяснимые и недоступные
человеческому пониманию, что вы скорее сумеете добела отмыть арапа, чем очистить
их от нелепости. Никакое критическое искусство не сможет их истолковать, никакое
Иер. XXIII, 28, 29.
Е®Я
Ю4ШГ^~ Джорд» Беркли ~^)^ГЗ
предание не сумеет их представить не то чтобы в качестве божественных откровений,
но даже выдумок человека, находившегося в здравом уме.
Ефранор. Я всегда держался высокого мнения о вашей проницательности, Алкиф-
рон, но сейчас вижу в вас существо прямо-таки сверхчеловеческое — иначе как бы вы
сумели постигнуть, что и до какой степени подобает Богу сообщать в своем
откровении? Мне сдается, что это нисколько не противоречит должному уважению к
величайшим человеческим умам — предположить, что и они не знают многих вещей, которые
не соответствуют их способностям или лежат вне их кругозора. Даже планы государей
часто бывают выше понимания их подданных, которые могут уразуметь лишь то, что
откроют им стоящие у кормила власти, а нередко оказываются не в состоянии судить
о пользе и смысле даже этой малой доли — пока в должное время замыслы правителей
не раскроются и не получат объяснение из последующих событий. Невозможно
отрицать, что многие положения, заключенные в Священном Писании, далеки от обычных
понятий человечества. Я однако не нахожу, будто отсюда следует, что они не восходят
к божественному откровению. Напротив, не разумно ли предположить, что откровение
от Бога должно заключать в себе нечто отличное по роду и более совершенное по
степени, чем то, что доступно обычному человеческому здравомыслию или может быть
открыто самым проницательным философом? Сообщения о добрых и злых
бестелесных духах, о пророчествах, чудесах и тому подобных предметах — все это, без
сомнения, вещи странные — однако, хотелось бы мне знать,, как можете вы доказать, что
они невозможны или абсурдны.
Алкифрон. Абсурдность иных вещей настолько очевидна, что опровергать их было
бы почти так же глупо, как и веровать в них, и упомянутые вами рассказы
принадлежат, по моему убеждению, к числу подобных.
Ефранор. Но разве не могут некоторые люди, отвергая эти
сообщения, обнаружить столько же предвзятости и ограниченности,
сколько легкомыслия и доверчивости выказывают другие, их
принимающие? Я никогда не дерзал превращать собственные наблюдения и опыт;
в правило и меру для вещей духовных, сверхъестественных или
относящихся к иному миру, ибо, на мой взгляд, они слишком недостаточны
даже для постижения видимых и естественных вещей нашего мира. Это значило бы
уподобиться сиамцу, который в собственной стране не встречал ничего похожего на
затвердевшую воду, или лед, а потому был убежден, что и в Голландии не бывает
морозов. И я не постигаю, почему кто-либо, допускающий соединение души и тела,
должен объявлять невозможным соединение человеческой природы с божественной,
происходящее неким невыразимым и неизъяснимым для нашего разума образом. Не
могу я усмотреть никакой нелепости и в допущении того, что грешник в. сшваи
возродиться и стать новым человеком — посредством божественной благодати, подъем л га-
щей его от жизни плотской к жизни духовной, к добродетели и святости. А поскольку
существование, всецело управляемое чувствами и вожделениями, противоречит
счастью и совершенству разумного создания, то я нисколько не удивляюсь тому, чгго нам
было предписано самоотречение. Что же касается воскресения из мертвых, то я не
думаю, что оно так уж противоречит аналогии природы, когда вижу, капе растения,
оставленные гнить в земле, вновь поднимаются из нее с новой силой и жизнью; или
когда наблюдаю, как червь, по видимости мертвый, переменяет свою природу, и то,
что в первоначальном своем бытии пресмыкалось по земле, превращается в новый вид
и поднимается ввысь на крыльях. В самом деле, размышляя о том, насколько несхожи
и разнородны душа и тело, я не вижу причин категорически утверждать, что первая
должна неизбежно уничтожаться с разложением второго — в особенности потому, что
нахожу в себе самом сильное врожденное стремление к бессмертию, между тем я не
замечал, чтобы заложенные в нас природой склонности оказывались бесцельными или
попросту не находили себе выхода. Одним словом, те положения, которые вы считаете
сумасбродными и нелепыми, я не осмелюсь объявить таковыми до тех пор, пока не
увижу для этого веских оснований.
Критон. Нет, Алкифрон, ваш самоуверенный тон не должен
считаться доказательством, и недостаточно заявить, будто нечто
противоречит здравому смыслу для того, чтобы мы поверили, что это
действительно так. Под здравым смыслом, на мой взгляд, следует
понимать либо общее мнение человечества, либо усовершенствованный
разум мыслящих людей. Так вот, я думаю, что все те положения,
которые вы с таким пылом и талантом свели воедино и одним махом опровергли, не
являются несовместимыми со здравым смыслом в любом из его значений, а тем
более — противоречащими ему. Что боги могут являться людям и беседовать с ними,
что божество способно входить в человеческую природу, — это признавалось
язычниками, и здесь я ссылаюсь на их поэтов и философов, чьи свидетельства так
многочисленны и ясны, что было бы оскорбительно повторять их сколько-нибудь
образованному человеку. И хотя представление о дьяволе, возможно, и не обладает подобной
очевидностью и не было столь детально описано, тем не менее, и разум, и предание
указывают на ясные его следы. Неоплатоники Порфирий26 и Ямвлих27 в этом пункте
выражаются недвусмысленно, признавая, что демоны могут искушать и обманывать
человека, приносить ему вред и вселяться в него. А то, что древние греки, халдеи и
египтяне верили в добрых и злых демонов, с очевидностью явствует из Платона,
Плутарха и халдейских оракулов. Ориген28 замечает, что почти все язычники,
верившие в существование демонов, признавали также и демонов злых.* Нечто подобное
можно найти уже у Гомера, который, как полагает ученый кардинал Виссарион,**
намекнул на падение Сатаны в своем рассказе об Ате: поэт представил ее сброшенной
с неба Юпитером, и теперь она бродит по земле, причиняя вред людям.29 Ту же
самую Ату Гесиод называет «дочерью Раздора»,30 а Еврипид в своем «Ипполите»
называет ее «злой искусительницей».31
Интересно, что Плутарх в книге «De Vitando Аеге Alieno»32 рассказывает вслед за
Эмпедоклом о неких падших демонах, изгнанных Богом, Δάιμσνες θεήλατοι και
ουρανοπετεις. Не менее замечательно и наблюдение Фичино33 (извлеченное из Фере-
кида Сирского34) о том, что некогда произошло падение демонов, восставших против
Бога, а Офионей (змей-искуситель) был вождем этих мятежников. Что же касается
остальных положений, то пусть всякий поразмыслит о том, что пифагорейцы
говорили об очищении и λύσις или об освобождении души; а большинство философов
(и особенно стоики) — о подавлении страстей; о том, что было сказано о прощении
* Origcn, lib. VII. contra Celsum.
** In Calumniat. Platonis. lib. III. cap. 7.
Eoca
EfâS&W~ Джордж Беркли T^g^TJ
обид Платоном и Гиероклом35; о том, что глубокомысленный и проницательный
Аристотель пишет в Никомаховой Этике о духовной и божественной жизни·™ - той
жизни, которая, по его мнению, слишком совершенна, чтобы можно было ее счесть
жизнью человеческой, ибо человек, поскольку он человек, способен достигнуть ее
лишь в той мере, в какой он сам заключает в своей природе нечто божественное — и,
наконец, пусть задумается он над тем, чему учил Сократ, а именно, что добродетели
невозможно научиться у людей, что она есть дар Божий и что хорошие люди
становятся хорошими не от человеческого попечения, ουκ είναι ανθρωπινή ν έπιμέλειαν
Π άγαθο\ γίγνοται.* Пусть любой действительно мыслящий человек примет во
внимание то, что думали другие мыслящие люди, коих никак нельзя счесть
предубежденными в пользу религии откровения — и он обнаружит основания, если и не для того
чтобы мыслить с уважением о христианских доктринах благодати, самоотречения,
возрождения, освящения и других, даже самых загадочных учениях — то, по
крайней мере, для того, чтобы судить о них скромнее и осторожнее, чем те особы,
которые с самоуверенным видом объявляют эти учения нелепыми и противными
человеческому разуму. А что касается будущей жизни, то общее на этот счет
убеждение языческого мира, современного и прежнего, равно как и взгляды мудрейших
людей древности известны настолько хорошо, что мне нет нужды о них говорить.
И мне сдается, что, ссылаясь на разум и здравый смысл человечества, мелкие
философы имеют в виду лишь убеждения собственной партии — но в каком бы ходу
между ними ни была подобная монета, другие люди непременно испытают ее на
пробном камне и не станут ценить ее выше подлинного достоинства.
Лисикл. Пусть эти представления и согласуются с чьим угодно разумом и с каким
угодно смыслом — моему рассудку они противоречат. И если по этой причине меня
считают невежественным, то я жалею тех, кто считает меня таковым.
Я наслаждаюсь жизнью и бодро следую своим путем без страха и
угрызений совести — чего бы я не мог делать, будь моя голова
наполнена энтузиазмом — языческим или христианским, философским или
данным в откровении, неважно. Пусть другие знают, что могут знать,
и веруют во что угодно на радость себе и пользу — я же совершенно
счастлив и безопасен в своем невежестве.
Критон. Может быть, не так уж и безопасны.
Лисикл. Как! Не станете же вы утверждать, будто невежество преступно.
Критон. Невежество само по себе преступлением не является. Однако то, что
невежество сознательное и упрямое, невежество вызывающее и подчеркнутое, невежество
от лени или невежество самодовольное есть нравственная вина, можно легко доказать
свидетельствами языческих авторов. Но и без всяких свидетельств очевидно, что если
невежество — наша вина, то мы не можем быть уверены в том, что оно послужит для
нас оправданием.
Лисикл. Кажется, почтенный Критон клонит к тому, что человеку надлежит
озаботиться собственным образованием при жизни — иначе его нерадивость будет наказана
после смерти. Страх и малодушие менее всего к лицу джентльмену, и нет более
верного способа ввергнуть человека чести в вину, чем пытаясь удержать его от провинности
страхом. Это старая нелепая уловка жрецов, и именно она внушает мне больше нена-
* Vide Plat, in Protag. et alibi passim.17
E®{2
впсти и презрения к ним самим и их религии, нежели все прочие пункты вместе
взятые.
Критон. Хотел бы я знать, отчего человеку чести, да и всякому иному человеку,
поступившему дурно, было бы неразумно испытывать страх. Вина — вот природный
источник страха, природа же никогда не заставляет нас бояться, если к тому нет
причин. И, мне кажется, не столь уж это нелепо — предполагать, что люди грешные и
нечестивые должны ждать божьей кары; ну а то, что подобное ожидание должно
внушать им тревогу и даже страх — согласуется это с чувством чести или нет, я не знаю —
зато разуму, уверен, это нисколько не противоречит.
Лисикл. Все эти бредни об аде и вечных наказаниях — самые нелепые и
омерзительные мысли, когда-либо приходившие в голову смертному человеку.
Критон. Но вы должны признать, что не одним лишь христианам свойственна
подобная нелепость, поскольку Сократ, этот великий афинский вольнодумец, считал вполне
вероятным, что нечестивцы подвергаются вечному наказанию в преисподней.* Об этом
самом Сократе сообщают, что, погрузившись в размышления, он часто думал по
двадцать четыре часа кряду, застыв на одном месте и не шевелясь.38
Лисикл. Наши современные вольнодумцы — народ куда более живой и
подвижный, а те, древние философы — по большей части люди со странностями. Образ
мысли у них, на мой взгляд, был какой-то сухой, ограниченный и боязливый, и ему
бесконечно далеко до свободы и откровенности наших дней.
Критон. Что ж, тогда я обращаюсь к вашему собственному суждению: способен ли
свет разума ясно убедить человека, не знающего природы души, в том, бессмертна она
или смертна?
An simul intereat nobiscum morte perempta,
An tenebras orci visat vastasque lacunas?39
Лисикл. А что если природа души мне прекрасно известна? Если всю эту тайну
разоблачил передо мною один современный вольнодумец — ученый муж, который
открыл ее не через утомительное изучение собственных душевных способностей, не
через бессмысленные блуждания в лабиринте пустопорожних понятий или дурацкие
медитации дни и ночи напролет, — но через проникновение в сущность вещей и по
природной аналогии?
Этот великий муж — философ огня, который произвел много
опытов и наблюдений за растениями. Он считает, что люди и растения
принадлежат в действительности к одному и тому же виду; что
животные — это движущиеся растения, а растения — неподвижные
животные; что рты у одних, а корни у других имеют сходное назначение,
различаясь лишь положением; что почки и цветы соответствуют самым
непристойным и скрытым от глаз частям человеческого тела; что животные и
растительные тела устроены аналогичным образом и что и в тех и в других телах есть
жизнь, т. е. некое движение и циркуляция соков по определенным трубкам или
сосудам. Никогда не забуду, как этот талантливый человек открывал перед нами природу
души. "Душа, — говорил он, — есть та особая форма или то начало, из коего происте-
• Vide Platon in Gorgia.10
11
Kfää&F~ Джордж Беркли 4jtë^TJ
кают все характерные свойства или качества вещей. А поскольку растение является
более простым и менее совершенным соединением, а следовательно, его легче
разложить на составные части, то мы и начнем с рассмотрения растительной души. Знайте
же: душа всякого растения, к примеру, розмарина, есть не более и не менее как его
эфирное масло. Именно от него зависят характерный аромат растения, вкус, целебные
свойства — другими словами, его жизнь и функции. Отделите или извлеките эфирное
масло с помощью химического искусства — и вы получите душу растения. Прочее
лишь мертвый труп, лишенный всех качеств и свойств, каковые целиком заключены в
этом масле, одна капелька которого дороже нескольких фунтов растения. Далее, само
это масло представляет собой смесь серы и соли, т. е. соединение плотного жирного
вещества с тонким неуловимым началом, или летучей солью, в этом веществе
заключенной. Летучая соль и есть в собственном смысле сущность души растения,
содержащая все его качества, а масло — проводник или носитель этой тончайшей части души,
или же то, что сообщает ей устойчивость и индивидуальный характер. И подобно тому
как с отделением этого масла растение гибнет, точно так же и вторая смерть, смерть
души, следует за разложением эфирного масла на его составные части, — что
становится очевидным, когда его оставляют на некоторое время на открытом воздухе для
того, чтобы летучая соль, или дух, могли отлететь. После этого масло остается
мертвым и безжизненным, однако сколько-нибудь ощутимого уменьшения веса масла не
происходит, несмотря на потерю этой летучей сущности души, этого эфирного
дуновения, этой искры бытия, которая вновь сливается с солнечным светом i] — всеобщей
душой мира, единственным источником всякой жизни, растительной, животной или
разумной. Последние же различаются между собой лишь грубостью или тонкостью
соответствующих проводников и плотностью естественных перегонных кубов, или,
другими словами, органических тел, в которых вышеназванная летучая сущность
вырабатывается и обитает, где она действует и претерпевает воздействие. Эта химическая
теория позволяет мгновенно проникнуть в природу души, объясняя все ее феномены.
А в сложном существе, которое называется человеком, душа, или эфирное масло, есть
то, что обыкновенно именуют животным духом, ибо вам надлежит знать, что химики
вполне согласны в том, что эти духи представляют собой не более чем особо тонкие
масла. И поскольку эфирное масло у человека тоньше, чем в других существах, то и
летучая соль, его пропитывающая, обладает соответственно большей свободой
действия, что и объясняет все особые свойства и способности, характерные для
человеческого рода и ставящие его выше остальных созданий. Отсюда ясно, почему соль была для
древних мудрецов синонимом остроумия и почему в наши дни о человеческой тупости
говорят как о чем-то пресном и безвкусном. Ароматические масла, созревающие в
течение долгого времени, превращаются в соли — это показывает нам, отчего род
человеческий с возрастом становится умнее. А то, что я рассказал о двойной смерти, или
о двукратном разложении (сначала — смерти составного целого вследствие отделения
души от органического тела, а затем — смерти самой души по причине отделения
летучей соли от масла), проясняет и истолковывает идею некоторых древних философов,
заключающуюся в следующем: подобно тому как человек является соединением души
и тела, так и душа состоит из ума (или интеллекта) и его эфирного проводника; а
после отделения души от тела (т. е. после смерти человека) наступает по прошествии
долгого времени и вторая смерть — смерть самой души, а именно отделение или
освобождение интеллекта от его носителя и воссоединение с Солнцем."42
вснхз
Ефранор. Да, Лисикл, ваш остроумный приятель открыл перед нами новые виды,
яснейшим и простейшим образом истолковав самые темные и сложные вещи.
Лисикл. Должен признаться: такое истолкование поразило мое воображение. До
теорий и систем я не великий охотник — но если идея разумна и основывается на
опыте, то я сумею оценить ее по достоинству.
Критон. Скажите по совести, Лисикл, а вы-то сами верите в истинность этой
теории?
Лисикл. Если честно, то я сам не знаю, верю или нет. Однако могу поручиться, что
остроумный ее творец нисколько в ней не сомневался. А доверять мастеру в том, что
касается его искусства, есть верное правило и кратчайший путь к знанию.
Критон. Да что же общего у человеческой души с химическим искусством? Ведь та
же причина, которая вынуждает меня полагаться на опытного мастера в его искусстве,
заставляет усомниться в его суждениях о том, что лежит за его пределами. Люди
слишком склонны сводить неизвестное к уровню известного, а в суждения о
незнакомом привносить предрассудки или оттенки, заимствованные из области вещей
привычных. Я знавал одного скрипача, важно поучавшего, что душа есть гармония;43
геометра, вполне убежденного в том, что душа непременно должна быть протяженной, и
медика, который, заспиртовав с полдюжины эмбрионов и проанатомировав столько же
крыс и лягушек, преисполнился тщеславия и стал утверждать, что никакой души нет
и в помине, а все россказни о ней — лишь вульгарное заблуждение.
Лисикл. Зато мои мнения ведут себя смирно, и ввязываться в педантические споры
по их поводу я не стану. А кому они не по душе, может оставить их в покое.
Ефранор. Слова, как мне кажется, достойные джентльмена.
Однако скажите, Лисикл, а это ваше общее правило, согласно
которому мастеру в его искусстве следует доверять — распространяется ли
оно на духовенство?
Лисикл. Никоим образом.
Ефранор. И почему же?
Лисикл. А потому что сам я разбираюсь в этих вещах не хуже
священников.
Ефранор. Но ведь не станете же вы отрицать, что во всяком ином деле тот, кто
потратил много времени и сил, сможет достигнуть больших познаний, чем столь же
или даже более одаренный человек, никогда этим предметом не занимавшийся
специально?
Лисикл. Не стану.
Ефранор. И тем не менее в предметах религиозных вы считаете всех людей
одинаково сведущими?
Лисикл. Я не говорю: всех подряд — однако всех здравомыслящих людей я
признаю здесь компетентными судьями.
Ефранор. Как! Неужели атрибуты Бога и предначертания Божьего Промысла,
неужели истинная цель и подлинное счастье разумных созданий, равно как средства и пути
к совершенствованию и улучшению их бытия представляют собой предметы более
простые и очевидные, нежели те вещи, коими занимаются люди обычных профессий?
Лисикл. Пожалуй, нет. Однако вот что я знаю твердо: некоторые положения
столь очевидным образом нелепы, что никакой авторитет не заставит меня их при-
|S^^(r Джордж Беркли ^|)^Γ3
нять. Пусть, к примеру, все человечество разом примется убеждать меня в том, что
Сын Божий родился на земле в бедном семействе, что был он оплеван, бит и распят;
что жил он как нищий, а умер как вор — я не поверю здесь ни единому слову.
Здравый смысл подскажет всякому, какой вид подобает земному владыке или
посланнику, а потому Сын Божий — посол небес! — великолепием своим должен по
необходимости превосходить всех прочих, являя во всех отношениях полную
противоположность тому облику, который имел Иисус Христос, по словам собственных его
историков.
Ефранор. Ах, Лисикл, как бы сильно мне ни хотелось принять и одобрить
остроумное ваше рассуждение, я все же не осмеливаюсь с ним согласиться из страха перед
Критоном.
Лисикл. И почему же?
Ефранор. А потому что люди (как недавно заметил Критон) судят о неизвестном
согласно тем предрассудкам, которые усвоили они из вещей известных. И я опасаюсь,
как бы Критон не возразил, что вы (человек grande monde, чья голова полна мыслей
о слугах, экипажах и ливреях, обычных символах людского великолепия) менее
способны судить о том, что является воистину божественным; зато, скажет он, другой
человек, который меньше видел, но больше мыслил, склонен будет решить, что
показной блеск мирской роскоши — это не самый подобающий облик для творца духовной
религии, созданной как раз для того, чтобы оторвать людей от мира и возвысить над
ним.
Критон. Полагаете ли вы, Лисикл, что если в городе Лондоне объявится некто,
облаченный в богатые одежды, сопровождаемый сотней золоченых карет и тысячей
лакеев в кружевах, то это будет более божественное зрелище, заключающее в себе
больше истинного величия, чем если бы он имел силу словом своим исцелять от
всевозможных болезней, возвращать к жизни мертвых, усмирять ярость ветра и бурь
морских?
Лисикл. Да уж, это, без сомнения, в высшей степени согласно со здравым
смыслом — полагать, будто возвращать к жизни других мог тот, кто не сумел спасти свою
собственную! Вы, правда, толкуете нам, что он якобы восстал из мертвых — но с
какой стати было ему вообще умирать — ему, праведному ради нечестивых, Сыну
Божию ради порочных людей? И почему именно в том месте? Почему именно тогда, а
не в какое-либо иное время? Почему не явился он раньше и не проповедовал по всему
миру, дабы польза от его поучений стала более широкой и равномерной? Объясните
все эти вещи, согласуйте их, если сумеете, с обычными понятиями и здравым смыслом
человечества.
Критон. Но если эти, а с ними многие другие предметы, лежат вне привычных нам
путей — должны ли мы по этой причине их отвергнуть и взять за правило осуждать
как бессмысленное всякое деяние, несоразмерное ограниченному человеческому уму?
[Вы, конечно, вправе не верить тому, что явно противоречит рассудку и разуму.
И когда с вами поступают не по справедливости, вы также имеете право жаловаться.
Полагаю, однако, вам следовало бы различать то, что относится к безусловному долгу,
и то, что касается добровольной милости. Ведь это правило соблюдается во всякого
рода отношениях между людьми, где никто не требует от других как чего-то должного
актов простой благожелательности, не исследует и не измеряет их с той же
тщательностью, что и дела, относящиеся к правосудию и справедливости. Кто еще, кроме
Алкифрон
мелкого философа, станет доискиваться, почему это некие даровые блага и милости
имели место тогда, а не прежде? Почему предназначались именно этим людям, а не
кому-то другому? Сколь разнообразны и неравны дарования и способности,
выпадающие на долю рода человеческого от природы! Сколь велики различия с точки зрения
законов природы между нашим недалеким пахарем и мелким философом, между
лапландцем и афинянином! А значит, тот образ действий, который вам кажется
несправедливым и пристрастным, в распределении даров естественной религии можно
обнаружить точно так же, как и в религии откровения. А если так, то растолкуйте мне,
почему же данное обстоятельство нужно делать возражением против одной из них в
большей мере, нежели против другой?] " Если заповеди и важнейшие догматы
религии представляются в свете разума благими и полезными, если и в действиях своих
обнаруживают они те же свойства, то мы вправе ради них допустить, что и некоторые
иные положения и доктрины, данные нам вместе с первыми, также имеют
благотворную направленность; что они столь же истинны и справедливы — пусть даже мы и не
в силах усмотреть их истину или добро одним лишь светом человеческого разума,
который, как можно с основанием предположить, является слишком плохим судьей
законов, намерений и деяний божественного Промысла. И этого достаточно, чтобы
убеждение наше было разумным.
ira
Общепризнано, что нельзя судить о той или иной отдельной части
механизма, не зная целого, не зная взаимных отношений и связей его
элементов, а также цели, ради которой данный механизм создан. Но
коль скоро это принимается по отношению к вещам телесным и
естественным, то не должны ли мы по разумной аналогии воздержаться от
суждения о непостижимых для нас частях Царства Божия — до тех
пор, пока не познакомимся полнее с моральной системой или с миром духов, пока не
проникнем в планы божественного Промысла и не обретем всеобъемлющего
представления о Его решениях, прошлых, нынешних и будущих? Но увы! Что вам, Лисикл,
известно ну хотя бы о себе самом? Откуда вы пришли? Кто вы? Куда вы идете? И мне
кажется, что мелкий философ похож на самоуверенного зрителя, который никогда не
заглядывал за декорации, и, однако, желает судить о сценических машинах; который,
бросив беглый взгляд на малую часть одного-единственного действия, берется
осуждать сюжет пьесы целиком.
Лисикл. О сюжете в целом умолчу, но вот о нелепой игре актеров можно судить и
просмотрев половину одного действия. Какие предлоги и отговорки помогут вам
оправдать мстительный, дерзкий и капризный нрав некоторых вдохновенных свыше
учителей и пророков? Я могу забыть о частностях, которые не служат ни пользе, ни
удовольствию, — однако я превосходно помню о том, что в целом это обвинение
справедливо.
Критон. Вам нет нужды брать на себя труд доказывать вещи, ни отрицать, ни
оправдывать которые я не стану. Позвольте лишь заметить: верным знаком
чистосердечия священных авторов является то обстоятельство, что они были настолько далеки
от всяких попыток преуменьшить недостатки тех самых лиц, которых называют они
вдохновенными свыше, что огласили даже самые преступные и нелепые их деяния.
Что люди, имевшие вдохновение от Бога, были подвержены человеческим страстям,
слабостям и изъянам, — это я с готовностью признаю; более того, нельзя отрицать, что
ETté@blF~ Джордж Беркли чзй^СЛ
вдохновения удостаивались и особы крайне порочные, вроде Валаама4"' или Каиафы.™
Но какой же вывод хотите вы отсюда сделать? Способны ли вы доказать, что слабому
и грешному человеку невозможно стать орудием Духа Божия, призванным донести
Его замыслы до других грешников? Или что божественный свет, как свет солнечный,
не может озарить жалкий и нечистый сосуд, не осквернив при этом собственных
лучей?
Лисикл. Короче говоря, самым лучшим выходом было бы выколоть себе глаза и
вообще ни о чем не рассуждать.47
Критон. Я этого не сказал — но, полагаю, было бы справедливо, если бы иные не
в меру самоуверенные особы усомнились в собственном суждении об известного рода
предметах.
Алкифрон. Однако те самые вещи, о которых толкуют как о вдохновенных
свыше, — взятые сами по себе, в своей собственной сущности — оказываются порою
настолько странными (если не сказать хуже), что их божественное происхождение
можно отвергнуть сразу же, с первого взгляда, не обременяя свою голову рассуждениями
о системе Промысла или о взаимной связи событий — подобно тому, как траву можно
назвать зеленой не зная и даже не исследуя того, как она растет, каким целям служит
или как она связана с общей системой мироздания. Так, например, любой человек с
первого взгляда убеждается в том, что ограбление египтян и истребление ханааней-
цев48 суть деяния жестокие и несправедливые, а значит, он может без всяких
дальнейших размышлений объявить их недостойными Бога.
Критон. Но позвольте, Алкифрон, чтобы верно судить об этих вещах, разве не
должны мы учитывать, как долго страдали израильтяне под властью этих суровых
египетских надсмотрщиков, какие обиды и лишения от них претерпели, в каких
преступных и омерзительных деяниях повинны были ханаанейцы? Разве не следует
нам принять в соображение право Господа распоряжаться вещами нашего мира и
карать преступников, определяя и способы, и орудия своего правосудия? Зато
человек, не обладающий этой властью над подобными себе созданиями, который и
сам такой же грешник, как и они; человек, чье видение несовершенно, а разум
подчиняется скорее предрассудкам, а не истине вещей, — человек вполне может
обмануться, когда возомнит себя судьей деяний святого , всеведущего и
бесстрастного Творца и Правителя всего сущего.
Алкифрон. Поверьте мне, Критон: усерднее всего обманывают
себя люди именно тогда, когда принимаются защищать собственные
предрассудки. Вы желаете разумными доводами убедить нас
отказаться от всякого применения разума — но что может быть неразумнее?
Ведь запрещать нам мыслить о решениях божественного Промысла
значит предполагать, что испытания разумом они не выдержат или,
другими словами, что Бог действует без разума — а этого допускать
нельзя, даже в одном-единственном случае. Ибо если в одном, то почему же и не в
другом? А значит, всякий, кто допускает существование Бога, должен признать, что
Он всегда поступает по разуму. И потому неразумные деяния и поступки я никогда
приписывать Богу не стану. Он даровал мне разум именно затем, чтобы я судил с его
помощью, и я буду судить посредством этого непогрешимого света, зажженного от
всеобщего светоча природы!
В®{3
IS^^F Алквфро. ~^Щ^СЖ
Критон. Ах, Алкифрон, я вполне признаю истинность ходячей поговорки: когда
человек идет против разума, это явный знак того, что и разум выступает против него.
А потому я никого не стану отговаривать от использования этого благородного дара, а
тем более человека, так превосходно познавшего его достоинства. Напротив, я
убежден, что разум люди должны применять во всех важных предметах — однако, было бы
уместно рассмотреть, не разумно ли пользоваться собственным разумом, сохраняя при
этом известное почтение к Разуму Верховному. [Я соглашаюсь: человек, имеющий
точное представление о самой мере и о той вещи, которую надлежит измерить, сумеет,
прилагая первую* ко второй, измерить точно. Однако тот, кто берется измерять, не
зная ни того, ни другого, обнаружит точности не больше, чем скромности. И тем не
менее, не такая уж это редкость — встретить человека, который, не обладая ни
отвлеченной идеей морального совершенства, ни адекватной идеей божественного
миропорядка, принимается, однако, измерять одно другим.]49
Алкифрон. Mo допускать, будто деяния Господни не способны выдержать даже
сумеречного света разума человеческого, значило бы наверняка умалить мудрость Божию.
Ефранор. Стало быть, вы признаете, что Бог мудр.
Алкифрон. Признаю.
Ефранор. Как! Бесконечно мудр?
Алкифрон. Бесконечно.
Ефранор. Значит, Его мудрость превосходит мудрость человека?
Алкифрон. Неизмеримо.
Ефранор.. Надоь полагать, в большей степени, чем мудрость взрослого — ум
ребенка?
Алкифрон. Вне всякого сомнения.
Ефранор. Как вы думаете, Алкифрон, не должно ли поведение родителя казаться
совершенно непостижимым ребенку — когда его склонности подавляются, когда
принуждают его учиться грамоте, когда ему приходится глотать горькие лекарства,
отказываться от того, что он любит, претерпевать, видеть и совершать множество вещей, с
которыми! еп» рассудок не согласен, как бы ни были они разумны и обоснованы по
мнению других людей?
Алкифрон. Это я признаю.
Ефранор. Но разве не следует отсюда по аналогии, что когда человек, это малое
дитя, берется судить о замыслах Отчего Промысла, и — рожденный лишь вчера, —
критиковать установления Ветхого Днями,50 — не следует ли отсюда, спрашиваю я,
что подобный судья подобных предметов вынесет скорее всего суждение ошибочное?
Разве не сочтет он необъяснимыми по самой своей сущности те вещи, которые он
лично не в состоянии объяснить, и не заключит ли он, рассматривая отдельные, по
видимости произвольные и деспотические по отношению к нему поступки (каковые
лишь приспособлены к егоневедению и детскому возрасту), что известные положения
являются сами по себе нелепыми и вздорными, а значит, не могут иметь своим
источником мудрого, справедливого и милосердного Бога? Право же, одного этого
соображения, если отнестись к нему с должным вниманием, было бы достаточно, чтобы
положить конец многим тщеславным умствованиям против религии откровения.
Алкифрон. Значит, вы желаете, чтобы мы заключили, будто вещи, непостижимые
для нашего ума, могут, тем не менее, проистекать из бездны премудрости, коей
глубину нам не дано измерить; и что зрелище, открытое нам лишь отчасти, созерцаемое
IJJD^^fiF Джордж Беркли ^j)^^T3
лишь в прерывистом и тусклом свете нашего разума, каким бы несообразным и
чудовищным оно нам ни казалось, может, однако, показаться совершенно иным для иных
очей, находящихся в другом положении, — короче говоря, как
мудрость человеческая есть лишь детское безрассудство перед мудростью
божественной, так и мудрость Бога может порою показаться
глупостью в глазах человека.
Ефранор. Я хочу, чтобы вы делали подобные выводы только
тогда, когда принуждает вас к этому разум, — но если они действительно
разумны, то почему бы вам их и не сделать?
Алкифрон. Есть вещи, которые иногда кажутся разумными, а в другое время —
нет; вот и вашу апологию легковерия и предрассудка я отношу к их числу. Когда
рассматриваю я ее исходные принципы, мне представляется, что они естественным
образом вытекают из вполне обоснованных предпосылок и допущений, — но если я
принимаю в расчет последствия этой апологии, то уже не могу с нею согласиться.
Ведь отказаться от использования разума — это для человека все равно, что отречься
от собственной природы. Некое учение непостижимо — следовательно, оно должно
быть божественным!
Ефранор. Легковерие и предрассудок суть качества настолько противоречащие
человеческой природе и унизительные для нее, они являются столь очевидным
следствием недомыслия и столь частой причиной порочности, что я бы весьма удивился,
обнаружив, что к ним приводит цепь правильных умозаключений. Я никогда не
поверю в то, что разум — это слепой поводырь на дороге к безумию, или в то, что между
истиной и ложью есть какое-либо родство, — точно так же, как не думаю я, будто
непостижимость какой-то вещи есть уже доказательство ее божественности. Но в то же
время я не могу не признать (и это следует из ясно признанных и вами принципов),
что непостижимость или непонятность вещи для нашего разума не есть решающий
довод в пользу того, что божественной она не является — в особенности, если мы
располагаем косвенными доказательствами ее божественности. Дитя испытывает
достаточно многочисленные и ощутимые воздействия родительской любви, попечения и
высшей мудрости, чтобы с безотчетной верой и послушанием принимать некоторые
вещи и совершать известные поступки, — но если истина и разумность, совершенно
для нас очевидные во многих доступных нашему пониманию положениях, если
испытанные нами благодеяния и выгоды, произрастающие из брошенных в добрую почву
семян Евангелия, подобным же образом внушают нам безотчетное доверие к
некоторым другим положениям, относящимся к неведомым для нас замыслам или же к тем
предметам, коим наши природные способности несоразмерны, — то я склонен
полагать, что это не противоречило бы нашему долгу и не позорило бы наш разум, каковой
терпит наибольшее бесчестье именно тогда, когда, одураченный, попадает в тупик, а
величайшей опасности оказаться в этом положении подвергается в тех случаях, когда
берется выносить суждение, не имея на то права и не располагая к тому
возможностями.
Лисикл. Дорого бы я дал за то, чтобы увидеть, как хитроумный игрок Главк
сойдется как-нибудь вечером в нашем клубе с Ефранором. Признаюсь: иные
рассуждения Главка и мне не по зубам — но как же он бывает великолепен, отстаивая права
человеческого разума против обманов и плутней духовенства!
Алкифрон. Он бы взялся представить ясное, как солнце,
доказательство того, что христианство не стоит и гроша, а все, что имеет в
нем хоть какую-то ценность, каждый знал или мог узнать и без всякого
христианства, до Иисуса Христа с таким же успехом, как и после него.
Критон. Сей великий муж, если не ошибаюсь, учит что здравый
смысл есть единственная путеводная звезда, коей должно
руководствоваться человечество, а то, что именуют откровением, бесполезно и бесцельно, а посему
смехотворно и нелепо. Ибо наших природных способностей вполне достаточно, чтобы
сделать всякого человека добрым, счастливым и мудрым — без какого-либо особого
общения с небесами ради обретения света и помощи.51
Ефранор. Я уже признавался, сколь чувствительно для меня то обстоятельство,
что жизнь в деревенском захолустье лишает меня множества выгод и преимуществ,
каковые можно получить в городе, беседуя с особами тонкого ума. И чтобы эту потерю
как-то возместить, я принужден беседовать с умершими или же с моими собственными
мыслями, — хотя эти последние и немногого стоят перед авторитетом Главка и ему
подобных великих мужей мелкой философии. Однако, что же мы ответим Сократу —
ведь и он держался мнения, весьма отличного от того, которое приписывают Главку?
Алкифрон. Сейчас нам нет надобности ссылаться на авторитеты, древние или
современные, или выяснять, кто человек более великий — Сократ или Главк. А впрочем,
если авторитет и имеет какой-то вес, то наша эпоха, поседевшая и состарившаяся под
бременем опыта и веков, явно превосходит те времена, кои ошибочно именуются
4древними».",2 Но чтобы не толковать более об авторитетах, скажу вам простым
языком: ваши «откровения» нам решительно ни к чему, и по самой простой причине — те
из них, которые ясны и понятны, всякому были известны и прежде, а от откровений
темных нет никакой пользы.
Ефранор. [Поскольку невозможно, чтобы человек, верующий в моральные
принципы христианства, не становился благодаря им лучше, то вполне очевидно, что куда
легче обучать этим принципам как предметам веры, нежели открывать и доказывать
их в качестве научных положений. Я говорю: «очевидно», ибо это бесспорный факт.
И мы ежедневно убеждаемся в том, что в предметах веры наставляют многих, тогда
как через научные доказательства обучаются немногие, и еще меньше таких, кто
способен открыть истину самостоятельно. Задумывались ли мелкие философы хотя бы о
том, как редко в гражданских и естественных делах этого мира людьми руководят и
управляют голые рассуждения и как часто — вера? О том, как мало люди знают, и
сколь многое принимают они на веру? Какая же это редкость — встретить человека,
который правильно умозаключает и аргументирует, который воистину владеет
разумом и ходит по его уставу! Насколько людям легче — так уж устроен наш мир! —
судить о фактах, чем о рассуждениях, воспринимать истину на основании
свидетельств, нежели выводить ее из теоретических принципов! И в то же время как нечасто
подчиняемся мы сухому свету">а беспристрастной природы или открываем этот свет! В
самом деле, если бы наши мыслители задумались об этих вещах, то им, пожалуй, было
бы нелегко указать причину, по которой вера, играющая столь великую роль во всем
остальном, не должна иметь никакой доли в религии. Обратимся, однако, к вашему
утверждению.] Способно ли было человечество познать все положения христианской
религии и без помощи таинств и положительных религиозных установлений — об этом
5D^>(F^~ Джорд« Беркли ^^Й^Д
у нас речь не идет, ну а то, что в действительности люди этих положений не постигли,
слишком очевидно, чтобы это можно было отрицать. Не постигли — скажете вы -
потому, что не применили надлежащим образом свой разум. Но с точки зрения
полезности откровения, по-моему, это совершенно все равно — не познали они данные в
откровении доктрины оттого, что не могли познать, или же потому, что не
потрудились это сделать. А что до тех доктрин, которые слишком темны для того, чтобы
естественный разум мог в них проникнуть, или слишком возвышенны, чтобы он сумел
к ним подняться, то их польза для человечества обширнее, чем — я чуть было не
сказал — чем даже вы или Главк в силах себе представить.
Алкифрон. Но что бы вы ни утверждали о темных учениях или о
непостижимых решениях божественного Промысла, все это нисколько
не касается пророчеств:, последние целиком относятся к человечеству и
к событиям этого мира, коим наши природные способности, без
сомнения, вполне соразмерны. А значит, позволительно было ожидать, что
пророчества эти окажутся ясными, такими, которые могут нам нечто
сообщить, вместо того чтобы ставить нас в тупик.
Ефранор. Наряду с пророчествами ясными существуют, надо признать, и другие,
весьма темные — полагаю, однако, что без вашей помощи я бы никогда отсюда не
заключил, что они не являются божественными. Следуя своему образу мысли, я бы,
скорее, пришел к такому выводу: понятные нам пророчества суть доказательства в
пользу вдохновения свыше, те же, которые для нас непостижимы, доказательством
против него не являются. Ведь темнота последних объясняется нашим неведением или
сдержанностью Святого Духа, тогда как первые, насколько я могу судить, ничем,
кроме вдохновения, объяснить невозможно.
Алкифрон. Зато мне известны проницательные люди, которые делают отсюда
вывод, весьма отличный от вашего, а именно: пророчества первого рода - бессмыслица,
а второго — нечто, придуманное уже после событий.34 Полюбуйтесь, каково различие
между человеком свободной мысли и приверженцем узких догм!
Ефранор. Получается, Апокалипсис отвергают они по причине его темноты, а
пророчества Даниила — из-за их ясности.
Алкифрон. В обоих случаях здравомыслящий человек находит причины
подозревать, что дело здесь нечисто.
Ефранор. Похоже, вашему «здравомыслящему человеку» нелегко угодить.
Алкифрон. Наши философы обладают острым зрением.
Ефранор. Но подобные люди, полагаю я, не делают поспешные суждения, бросив
беглый взгляд, но всякий раз устанавливают твердые выводы, опираясь на основательное
изучение предмета. Что до меня, то я не рискну спорить с человеком, который исследовал
эти вопросы так полно и тщательно, как, надо полагать, сделали это вы, — и однако, я мог
бы назвать имена знаменитых авторов, ныне здравствующих," чьи книги, посвященные
пророчествам, показались чрезвычайно удовлетворительными тем джентльменам,
которые у нас в деревне слывут людьми здравомыслящими и учеными.
Алкифрон. Видите ли, Ефранор, мне недосуг штудировать писания теологов,
трактующие вопросы, в которых всякий может разобраться с первого взгляда. Для
меня довольно того, что сам предмет обсуждения является странным и противоречит
естественному ходу природных явлений. А что до остального, то пусть они спорят
между собой, выясняя в собственном кругу, в какое именно время Иуда потерял
скипетр, или по какому календарю, юлианскому или халдейскому, надлежит
исчислять сроки пророчества Даниила о Мессии.56 Мой единственный вывод касательно
всех этих вопросов таков: сам я никогда не стану утруждать себя их исследованием.
Ефранор. Не знаю даже, что ответить великому гению, способному с первого
взгляда проникать в сущность вещей. Но вот что касается прочих людей, то с их
стороны было бы, пожалуй, опрометчиво без долгого и тщательного исследования
принимать весьма ненадежную и сомнительную сторону в том вопросе, который
затрагивает их высшие интересы.
Алкифрон. Заметьте хорошенько, Ефранор: настоящий гений в погоне за истиной
устремляется вперед на крыльях общих принципов, тогда как ограниченные умы
ползают и пресмыкаются посреди жалких частностей. Я принимаю в качестве бесспорного
положения, что с помощью обманчивых приемов и ухищрений логики и критики,
посредством натяжек, подтасовок, уточнений, различений и заплат можно доказать и
оправдать все на свете, — и это соображение, вместе с некоторыми другими,
касающимися предрассудков, избавляет меня от великих трудов и хлопот.
Ефранор. Ах, Алкифрон, сколь величественно воспаряете вы к облакам, опираясь
на твердые принципы и свободные мнения! Так соблаговолите же протянуть руку
помощи тем, кто, как вы сами видите, запутался в сетях предрассудков здесь на земле.
Со своей же стороны я считаю вполне позволительным предположить, что
пророчества могут быть божественными, даже если по прошествии столь долгого времени их
сроки или исчисление лет могут оказаться для нас неясными. Возможность
откровений вы и сами признаете, а допустив подобную возможность, я в силах без труда
постичь и то, что откровение может быть странным и противоречить естественному
ходу вещей. Без всякого изумления встречаю я в Библии пророчества, исполнения
коих нигде не вижу, а также тексты, мне непонятные, таинства, моему разуму
недоступные, и пути Господни, для меня непостижимые. И разве не могут определенные
пророчества относиться к историческим эпохам, с которыми мы недостаточно
знакомы, или к событиям, которым еще предстоит свершиться? Мне кажется, что
пророчества, непостижимые для слушателя или даже для самого пророка, впоследствии
подтверждались и разъяснялись событиями — между тем одна из моих максим такова:
wo, что уже происходило, может произойти и в будущем. Я протираю собственные
глаза и изо всех сил стараюсь избавиться от предрассудков — однако мне
по-прежнему кажется, что если я чего-то не понимаю, то другой человек, более проницательный,
внимательный или ученый, сумеет это понять. Вот что, по крайней мере, совершенно
очевидно: затруднения, относящиеся к одним положениям или отрывкам, не мешают
мне ясно понимать другие, а смысл тех частей Писания, кои мы не в силах
истолковать, мы постигать не обязаны. Какой вред или какое неудобство в том, что мы не
способны объяснить вещи, которые нам не подобает объяснять? Писания, не понятые
в известное время известными лицами, могут быть истолкованы другими людьми в
другую эпоху. И неужели, бросив взгляд на прошлое, не замечаем мы в
последовательном ряду деяний Промысла известного прогресса от темноты к ясности? И разве
не смогут грядущие события прояснить те положения, которые ныне служат
испытанием для веры христиан? И я не могу не думать — такова уж сила либо истины, либо
предрассудка — что во всем этом нет ничего вымученного, натянутого или такого, чего
нельзя было бы принять на вполне естественных и разумных основаниях.
B®C2
Алкифрон. Ну что ж, Ефранор, если вы того желаете, я протяну
вам руку помощи — однако свой образ действий я нахожу нужным
изменить. Ибо вам надлежит знать, что основные положения
христианской веры внушались нам в столь раннем возрасте и так настойчиво
внедрялись в наше сознание кормилицами, учителями и
священниками, что ум, пропитанный и окрашенный подобным образом, с большим
трудом поддается убеждению, если выдвигать против религии откровения доводы,
основанные лишь на ее внутренних свойствах. А потому я буду исследовать вашу
религию с точки зрения некоторых внешних признаков и обстоятельств, я стану
рассматривать вещи в ином свете и, сопоставив систему откровения с косвенными
свидетельствами древних языческих авторов, продемонстрирую, как плохо она с ними
согласуется. Знайте же: коль скоро христианское откровение предполагает иудейское,
то отсюда следует, что если откровение иудеев будет опровергнуто, с ним неизбежно
падет и откровение христианское.57 А чтобы избавить себя от излишних трудов, я
нанесу удар этому откровению в самое сердце. Скажите, Ефранор, если мы верим
повествованию Моисея, то не должны ли мы полагать, что мир был сотворен около
шести тысяч лет тому назад?
Ефранор. Согласен, должны.
Алкифрон. А что вы скажете, если обнаружится, что другие письменные
источники древности начинают историю мира за многие тысячи лет до этого срока? Если у
египтян и китайцев существуют повествования, охватывающие тридцать и даже сорок
тысячелетий? Если первая из этих наций наблюдала тысячу двести затмений в
течение сорока восьми тысяч лет еще до эпохи Александра Великого? Если китайцы
располагают многочисленными наблюдениями, предшествующими по времени
иудейскому рассказу о сотворении мира? Если халдеи вели астрономические наблюдения
более четырехсот тысяч лет? Как же быть, если мы располагаем списками династий
и царствований, которые велись за несколько тысяч лет до начала мира, указанного у
Моисея? Неужели мы отвергнем письменные памятники и сообщения всех прочих
народов, самых знаменитых, древних и образованных, сохранив слепое почтение к
законодателю евреев?
Ефранор. Но позвольте, Алкифрон, если они того заслуживают, то почему бы нам
их не отвергнуть? Что если эти чудовищные хронологии содержат одни лишь явные
небылицы да голые имена без всяких событий? Если мнимые наблюдения египтян и
халдеев остались неизвестны древним астрономам или не принимались ими в расчет?
Если иезуиты доказали, что аналогичные притязания китайцев противоречат
астрономическим таблицам? Если самые древние китайские наблюдения за двумя звездами
(одной — в области зимнего солнцестояния, другой — весеннего равноденствия)
произведены в царствование Яо, т. е. уже после всемирного потопа?*
Алкифрон. Позвольте заметить: римские миссионеры не заслуживают в этом
пункте большого доверия.
Ефранор. Но неужели мы имеем или можем иметь подобные сведения о китайцах
иначе, как не через посредство иезуитов? Те самые люди, которые передают нам эти
сообщения, их же и опровергают — если мы отвергнем их авторитет в одном случае, то
по какому же праву станем мы на него опираться в другом?
* Bianchini. Histor. Univers, cap. 17. w
ΈΟ&ψ4ΒΒΐ\
тша νυν
±JÉ\
Алкифрон. Когда подумаю я о том, что летописи у китайцев ведутся уже более
сорока тысяч лет, что это народ образованный, умный и тонкий, чрезвычайно
любознательный, преданный наукам и искусствам, — тогда, честное слово, я уже не в силах
не отнестись с некоторым вниманием к их хронологическим сведениям.59
Ефранор. Какими бы преимуществами ни обладали китайцы благодаря своему
положению и политическим принципам, мне, однако, вовсе не кажется, что и в науках
они так же сведущи и проницательны, как и европейцы. По общему своему складу
китайцы (если верить Тригальциусу™ и другим авторам) — люди легковерные и
любопытные ко всяким пустякам; они погружены в поиски философского камня и
средства, дарующего бессмертие, увлечены астрологией, гаданиями и предсказаниями
всякого рода. А их невежество в естественных науках и математике очевидно уже по тому
авторитету, каким пользовались среди них в этой области знаний иезуиты. И что же
остается думать об этих удивительных анналах нам с вами, если сами китайцы не
доверяют им в той их части, которая простирается более чем за три тысячи лет до
Иисуса Христа? Если они сами вовсе не утверждают, будто начали составлять
исторические книги раньше, чем четыре тысячи лет тому назад? Если самым древним книгам,
сохранившимся у них до настоящего времени, не более двух тысяч лет? И сдается мне,
что человек, обладающий вашей проницательностью, человек, столь склонный
сомневаться во всем, что противоречит обычному ходу природных явлений, не должен без
яснейших доказательств признавать достоверность летописей, повествующих о таких
чудных вещах, как, например, солнце, которое не заходит в течение десяти суток, или
золотой дождь, идущий по три дня кряду. Скажите, Алкифрон, неужели вы и в самом
деле способны поверить в подобные вещи, не исследовав прежде, каким образом эти
предания сохранялись, через чьи руки прошли, кем были впервые записаны или какой
прием встретили?
Алкифрон. Оставим в покое китайцев с их историей: моей цели с таким же
успехом послужит авторитет Манефона,в| ученого египетского жреца, который обладал
превосходными возможностями исследовать древнейшие хронологические сообщения
и вносить в собственные списки династий самые почтенные и достоверные записи,
начертанные на колоннах Гермеса.*2
Ефранор. Скажите на милость, где же можно было полюбоваться на эти
хронологические колонны?
Алкифрон. В Сериадической Стране.
Ефранор. А где сия страна находится?
Алкифрон. Не знаю.
Ефранор. Каким же образом сохранились данные записи в течение столь долгих
веков — вплоть до времени этого самого Гермеса, коего почитают первым
изобретателем письменности?
Алкифрон. Не знаю.
Ефранор. А утверждают ли какие-либо иные авторы — до или после Манефона —
что они лично видели, переписывали или вообще что-нибудь слыхали об этих колоннах?
Алкифрон. Мне такие неизвестны.
Ефранор. Или что-нибудь о тех краях, где эти колонны якобы обретались?
Алкифрон. Если даже и так, я об этом ничего не знаю.
Ефранор. А те греческие писатели, которые побывали в Египте и беседовали с
тамошними жрецами, — принимают ли они повествования Манефона?
5J^(F Джордж Б«рклн ^)^^Γ3
Алкифрон. Допустим, нет.
Ефранор. А Диодор,63 который жил после Манефона, он что, следует ему,
цитирует или хотя бы как-то его упоминает?
Алкифрон. И что же вы намерены отсюда заключить?
Ефранор. Не знай я вас, не знай я того, как тщательно остерегаетесь вы всякого
обмана, я бы заключил, что вы человек весьма легковерный. Ибо как же еще можно
назвать вашу готовность доверять самым неправдоподобным вещам на основе самых
шатких свидетельств — вроде отрывков из неизвестного автора, противоречащих всем
остальным историкам и опирающихся на темный авторитет каких-то там Гермесовых
колонн, которые вам приходится принимать, полагаясь на честное слово самого
автора, и где содержатся столь невероятные вещи, как перечни богов и полубогов,
простирающиеся на многие тысячелетия — ведь один лишь Вулкан процарствовал якобы
девять тысяч лет? И в сих почтенных династиях Манефона почти ничего, кроме голых
имен и чисел нет, но даже и в этом малом встречаются весьма странные вещи, которые
у других писателей сочли бы мы фантастическими выдумками: к примеру,
разливающийся медом Нил, увеличивающуюся в размерах Луну, говорящего агнца или
семьдесят царей, царствовавших семьдесят дней один за другим, так что на каждого царя
приходился один день. И если кто-нибудь узнает, что вы, Алкифрон, подобным вещам
верите, то, боюсь, вы утратите почтенную репутацию скептика.
Алкифрон. И однако люди весьма образованные сочли эти фрагменты (которые
вы желаете представить нелепыми) вполне достойными упорных трудов и глубоких
размышлений. Как вы можете объяснить то, что ими занимались великий Иосиф Ска-
лигер64 или сэр Джон Маршам65?
Ефранор. А я и не собираюсь это объяснять. Когда я вижу, что Иосиф Скалигер
присовокупляет еще один юлианский период, чтобы нашлось место таким вещам, как
династии Манефона; или как сэр Джон Маршам расходует столько сил и учености,
чтобы эти невразумительные фрагменты собрать по кусочкам, подлатать и заштопать,
выстроить их в хронологическом порядке, как-то приспособить к священной истории,
согласовать между собой и с прочими историческими сообщениями, — то все это
кажется мне совершенно необъяснимым. И почему они или Евсевий,™ почему вы или
любые другие ученые люди воображают, будто подобные вещи заслуживают какого-то
внимания — я предоставляю решать вам самим.
Алкифрон. Но в конце концов, нелегко уразуметь, что же могло
заставить не одного только Манефона, но и других, живших задолго
до него египетских жрецов выдвигать столь непомерные претензии на
древность, каковые притязания, как бы ни отличались они друг от
друга, сходны в том, что опровергают Моисееву историю. Как же это
понять, если не допустить некие реальные к тому основания? Какие
мотивы удовольствия, выгоды или власти могли заставить их измышлять перечни
древних имен или целые эпохи, простирающиеся на много веков до начала мира?
Ефранор. Скажите на милость, Алкифрон, а что же странного или необычного в
этой тщеславной склонности распространять древность народов за пределы всякого
вероятия? Разве не замечалось подобное в большинстве частей света? И неужели не
обнаруживается эта склонность и в наши времена, особенно у тех народов, которым
нечем больше похвастаться? Оставим в стороне прочих подданных нашего королевст-
iE)^fe(F αλαφρό, ~^^ca
ва (которые, чем ниже они своих соседей по силе и богатству, тем громче притязают
на глубокую древность), и обратимся к ирландцам: разве не известно, сколь
непомерны в этом отношении их претензии? Если мне не изменяет память, О'Флагерти67
упоминает в своей «Огигии» о неких событиях, происходивших в Ирландии еще до
всемирного потопа. Эта же склонность и по той же причине возобладала, похоже, и на
Сицилии, находившейся под властью чужеземцев несколько последних столетий, в
течение которых сицилийцы опубликовали различные баснословные повествования,
касавшиеся происхождения и древности их городов, весьма соперничавших друг с
другом по этой части. Утверждалось, например, будто древние надписи (авторитет и
существование которых столь же бесспорны, как авторитет и существование Гермесо-
вых колонн) доказывают, что город Палермо был основан во дни патриарха Исаака
колонией иудеев, финикийцев и сирийцев и что внук Исайи был комендантом
крепости, существовавшей в этом городе еще двести лет назад.* Ко временам еще более
древним возводили некоторые особы происхождение города Мессины; они пытались нас
уверить, что расширением этого города занимался Нимврод.** Катания и прочие
города Сицилии выдвигали схожие претензии, для подкрепления каковых находились
у них авторы, достойные того же доверия, что и Манефон. Вот я и хотел бы знать,
почему нельзя предположить, что и египтяне — народ покоренный — из тех же
побуждений сочиняли баснословные рассказы и подобно другим нациям похвалялись
сумасбродными претензиями на древность — если во всех прочих отношениях были
они несравненно ниже своих господ? Ведь прежде чем кто-либо услыхал об этих
удивительных династиях Манефона и колоннах Гермеса, египтяне попадали под власть
эфиопов, ассирийцев, вавилонян, персов и греков, — а последними двумя из
перечисленных народов были они покорены еще до эпохи Солона, первого из известных нам
греков, который беседовал с египетскими жрецами. Между тем рассказы этих
жрецов были столь неправдоподобны, что даже греческие историки, не знакомые со
Священным Писанием, были далеки от того, чтобы относиться к ним с полным доверием.
Так, Геродот, делая сообщение на основе их свидетельств, замечает: те, кому
подобные вещи кажутся заслуживающими доверия, могут воспользоваться ими как угодно;
в его же, Геродота, намерения, входило лишь записать услышанное.*** Ион сам, и
Диодор 71 не однажды и по разным поводам высказывают схожие сомнения в
истинности рассказов египетских жрецов. Не менее достоверно, что и финикийцы, и
ассирийцы, и халдеи уже превратились, подобно египтянам, в народы покоренные и
угнетенные, прежде чем остальной мир что-либо узнал об их притязаниях на столь древнее
происхождение.
Критон. Да и зачем нам себя утруждать, выискивая объяснения для пристрастия
некоторых авторов к баснословным выдумкам? Разве не достаточно убедиться в том,
что они рассказывают глупости, что никакие внешние свидетельства не подтверждают
их повествований, что даже их собственные соотечественники им не доверяют и,
наконец, что они противоречат друг другу? Что люди, движимые тщеславием, могли
дурачить свет своими лживыми рассказами, — в этом еще нет ничего удивительного; куда
удивительнее другое: и после того, как ученые критики столько сделали, чтобы вывес-
* Fazelli. Hist. Sicul. decad. I. lib. VIII. «
** Reina. Notizie Istoriche di Messina.*9
*** Herodotus in Euterpa. 70
кшыр Джордж Б«Ркл. ~^^га
ти мир из заблуждения, все еще находятся люди, способные дать себя обмануть
жалким отрывкам Манефона, Бероза,72 Ктесия™ и тому подобных мифических авторов
или фальсификаторов.
Алкифрон. Позвольте заметить: эти ученые критики могут оказаться духовными
лицами, а иные — даже папистами.
Критон. А что вы скажете о сэре Исааке Ньютоне74 — неужели он был папистом
или духовным лицом? Вы, пожалуй, не согласитесь с тем, что проницательностью или
силой ума он был равен великим мужам мелкой философии, но ведь невозможно
отрицать, что он много читал и размышлял об этом предмете и что итогом его
изысканий стало совершенное презрение ко всем этим прославленным соперникам Моисея.
Алкифрон. Людьми тонкого ума было отмечено, что сэр Исаак Ньютон, хотя и
мирянин, пребывал во власти глубочайших предрассудков, о чем свидетельствует его
великое почтение к Библии.
Критон. То же самое можно сказать и о г-не Локке,75 г-не Бойле,™ о лорде
Бэконе77 и других знаменитых мирянах — ведь сколь бы сведущим ни были они в
известных отношениях, должно признаться, что они так и не достигли той тончайшей
проницательности в суждениях, каковая представляет собой отличительную особенность
вашей секты.
И кто знает, не отыщутся ли какие-то иные причины, помимо
предрассудка, способные определить наш выбор в пользу Моисея, на
доверии к истории которого были основаны и утверждены правление,
религия и нравы его собственной страны? Очевидные следы этой истории
обнаруживаются в древнейших книгах и преданиях язычников, в
особенности — брахманов и персов; не говоря уже о том, что в пользу
Моисеева описания потопа свидетельствуют как природа, так и древность. История Моисея
подтверждается поздним изобретением наук и искусств, постепенным заселением мира,
самыми именами древних народов и даже авторитетом и аргументами прославленного
философа Лукреция, коим в иных отношениях так восхищаются и которому подражают
философы вашей секты. А стоит ли упоминать, что постоянное падение уровня воды,
оседание возвышенностей, замедление планетарных движений представляют множество
естественных доказательств того, что мир имел начало; а перечисленные выше
гражданские, или исторические свидетельства ясно указывают, что начало это пришлось на
эпоху, обозначенную в Писании? Ко всему сказанному позвольте прибавить еще одно
наблюдение. Всякому, кто примет в соображение, что в ходе земляных работ мы
натыкаемся на большое число раковин, а кое-где костей и рогов животных, находящихся в
целости и сохранности после того, как они пролежали в земле по всей видимости несколько
тысяч лет, всякому, говорю я, покажется вероятным, что драгоценные камни, медали,
каменные и металлические орудия, погребенные под землю, могли бы сохраниться и на
протяжении сорока — пятидесяти тысяч лет, если бы наш мир имел подобный возраст.
Так почему же тогда не находим мы никаких следов прошлого, никаких древностей,
восходящих к этим многочисленным векам, предшествовавшим данному в Писании
исчислению времени? Почему не обнаруживаем мы остатков жилищ, общественных
памятников, инталий, камей, статуй, барельефов, медалей, надписей, утвари,
произведений ремесла, которые свидетельствовали бы о существовании на протяжении стольких
тысячелетий этих великих империй, этих династий монархов, этих героев и полубогов?
Заглянем в будущее и вообразим, что прошло десять или двадцать тысяч лет, в течение
которых войны, голод, болезни и землетрясения произвели в нашем мире страшные
опустошения, — разве не вполне очевидно, что к концу указанного периода ныне
существующие колонны, вазы и статуи, сделанные из гранита, порфира и яшмы (камней
настолько твердых, что они, как нам известно, сохранялись на поверхности земли более
двух тысяч лет без каких-либо существенных перемен), станут свидетельством о нашем
времени и предшествовавших нам веках? Разве это не вполне вероятно, что в земле будут
найдены монеты, находящиеся в обращении ныне, что обнаружатся древние стены или
фундаменты зданий — подобно тому как до наших времен сохранились камни и
раковины первобытного мира? А из этих соображений (судить о которых способен здравый
смысл и опыт всякого человека), на мой взгляд, вытекает, что у нас имеются веские
доказательства заключить: мир был сотворен примерно в ту самую эпоху, которая и
указана в Священном Писании. Если же мы допустим столь удивительную вещь, как
сотворение мира, то признаем нечто странное, необыкновенное и чуждое человеческому
пониманию — нечто превосходящее непостижимостью своей всякое иное чудо.
Алкифрон сидел задумавшись и ничего не отвечал. И тогда Лисикл
выразил свои мысли следующим образом:
— Признаюсь: я бы скорее предположил вслед за Лукрецием, что
мир возник благодаря случаю, а люди выросли из земли, словно
тыквы, чем стал бы слепо верить каким-то жалким баснословным
обрывкам восточной истории. А что касается ученых мужей, взявших на себя
труд их прояснять и комбинировать, то для меня это всего лишь
косные педанты. Пожалуй, и проницательный вольнодумец может иногда
воспользоваться их умствованиями, обращая одну нелепость против другой, — вам, однако, не
следует по этой причине воображать, будто он и в самом деле принимает всерьез
свидетельства подобных апокрифических авторов или верит хотя бы единому слову
китайских, вавилонских и египетских преданий. И если кажется, будто мы ставим их выше
Библии, то это лишь потому, что они не являются официально установленными по
закону. Таково мое мнение и, смею утверждать, таково общее мнение членов нашей
секты, слишком разумных для того, чтобы всерьез относиться к этим пустякам, —
хотя порою они и обнаруживают намеками свою глубокую ученость, а желая
позабавиться над ханжами, принимают важный вид.
Алкифрон. Что ж, если Лисиклу угодно понимать дело именно так, то и я
соглашаюсь не опираться более в своих рассуждениях на хронологию, предшествующую
сообщениям Моисея. Позвольте, однако, заметить, что остается еще один пункт, иной
по природе, который заслуживает рассмотрения и может послужить нашей цели с тем
же успехом — причем прежние возражения уже не имеют против него силы. Полагаю,
всякий согласится: историки, трактующие о тех же временах, что и Моисей,
заслуживают со стороны беспристрастного человека такого же доверия, как и этот последний.
А потому позволительно ожидать, что люди, вознамерившиеся защитить его
сочинения, попытаются согласовать их с параллельными повествованиями прочих авторов,
описывавших ту же эпоху, те же события и лица. И если мы не станем держаться
одного лишь Моисея, но будем судить опираясь также на других авторов и на здравый
смысл, то найдем веские основания полагать, что евреи представляли собой всего
Джордж Беркли
лишь жалкую кучку пораженных проказой египтян, изгнанных с родины из-за этой
отвратительной болезни, и что своей религии, якобы сошедшей с небес на горе Синай,
они выучились в Египте и оттуда же ее и вынесли.
Критон. Не желая доказывать очевидное, а именно что историк, пишущий о
собственной эпохе, заслуживает большего доверия, чем те авторы, которые трактуют
данный предмет несколько веков спустя, скажу: было бы, по-моему, нелепо ожидать,
что мы станем согласовывать Моисея с языческими историками прежде, чем вы
согласуете их между собою. А потому — возвращаюсь к вашему замечанию — я бы
хотел, чтобы вы приняли в расчет следующее: обнародованные Манефоном, Хере-
моном78 и Лисимахом79 сообщения о евреях и их исходе из Египта* противоречат
одно другому; во-вторых, самый язык евреев есть ясное доказательство того, что это
был народ отнюдь не египетский по происхождению, но финикийский, сирийский
или халдейский; и, в-третьих, представляется маловероятным, чтобы их религия,
фундаментом или основным принципом которой было почитание единого верховного
Бога, а важнейшей целью — уничтожение идолопоклонничества, могла происходить
из Египта — страны, более всех прочих в идолопоклонстве погрязшей. Следует,
конечно, согласиться, что обособленное положение и необычные учреждения иудеев
дали повод некоторым иностранцам писать о них самих и об их происхождении
весьма невежественно и пренебрежительно. Однако Страбон,81 которого считают
автором рассудительным и пытливым, хотя и не был знаком с подлинной историей
евреев, упоминает их более лестным и благожелательным образом. Он сообщает, что
Моисей, а с ним и многие другие лица, поклонявшиеся единому бесконечному Богу и
не согласные с почитанием изображений, вышли из Египта и обосновались в
Иерусалиме, где построили храм единому Богу, не имеющему образа.**
Алкифрон. Мы, люди, отстаивающие в борьбе с религией дело
свободы, находимся в последние века в положении весьма
невыгодном. Причина тому — утрата древних книг, прояснявших в глазах
Цельса,83 Порфирия, Юлиана84 и других великих мужей прошлого
многие пункты, в которых ныне, по прошествии более долгого времени
и без подобного подспорья нам уже не так легко разобраться. Но если
бы эти сведения у нас сейчас имелись, то, я ничуть не сомневаюсь, мы бы сумели
одним ударом разрушить всю систему религии.
Критон. У меня, однако, есть некоторые сомнения на этот счет: ибо великие, как
вы именуете, мужи, обладавшие всеми подобными преимуществами, так и не сумели
этого сделать.
Алкифрон. Причина тому — темнота и глупость, кои правили миром в те
столетия, когда искусство рассуждать не было еще столь широко известно и тонко
разработано, как ныне. И однако, упомянутые мною истинные гении обнаружили обман и
держались принципов ясных и определенных, — а это убеждает меня в том, что на их
стороне были основательные доводы.
Критон. Но ведь один из ваших «великих гениев», Цельс, имеет, если не
ошибаюсь, мнения чрезвычайно смутные и неустойчивые: порою он выражается словно со-
* Joseph. Contra Apion. lib.Ι."0
** Strab. lib. XVI.82
E®{3
вершенный эпикуреец, а то вдруг принимает чудеса, пророчества, будущие награды и
наказания. И как вы думаете, Алкифрон, не слишком ли это чудно и странно для
столь великого мужа — среди прочих преимуществ, каковые приписывает он
животным по сравнению с родом человеческим, еще и предполагать, будто звери — это
волшебники и пророки, будто слоны, в частности, являются самыми благочестивыми
животными, строже всех прочих исполняющими клятвы.*
Алкифрон. Великий гений может позволить себе порою некоторые чудачества.
Но что вы скажете об императоре Юлиане — разве не был он выдающимся человеком?
Критон. Судя по его сочинениями, это человек веселый и склонный к сатире.
Более того, я без колебаний признаю, что это был великодушный, воздержанный,
доблестный и остроумный император. При всем при том следует согласиться — ибо
это признает даже его языческий панегерист Аммиан Марцеллин** — что был он
человеком, склонным к пустословию, тщеславным, легкомысленным и суеверным. А
значит, для тех, кто не предубежден в его пользу заранее, суждения и свидетельства
Юлиана особого веса не имеют.
Алкифрон. А впрочем, из всех великих мужей, писавших против религии
откровения, величайшим, без сомнения, был Порфирий — этот воистину великий человек,
утрату бесценных сочинений которого нельзя не оплакать. Этот глубокомысленный
философ проник в самую суть и основу вещей. Весьма ученым образом он опроверг
Писание, доказал нелепость рассказов Моисея, разоблачил пророчества и высмеял
аллегорические толкования.*** Нынешние мыслители, должно признаться,
совершили много великого, показав себя людьми способными и талантливыми, — и все же я не
могу не пожалеть об утрате того, что было сделано мужем столь обширных дарований,
который жил намного ближе к первоисточнику. Впрочем, его авторитет пережил его
сочинения и по-прежнему должен приниматься в расчет беспристрастными людьми
вопреки всем врагам истины.
Критон. Соглашаюсь: Порфирий был отъявленным атеистом — только вот на
скептика он совсем не похож. Порфирий, кажется, держался высокого мнения о
всевозможных колдунах и некромантах, верил в мистерии и чудеса, в пророчества
теургов и египетских жрецов. Отнюдь не был Порфирий и противником темного жаргона,
притязал он также на сверхъестественные озарения и экстазы. Короче говоря, сей
великий муж был столь же невразумительным, как схоласты, столь же суеверным, как
монахи, столь же исступленным и фанатичным, как квиетисты и квакеры, — а чтобы
завершить описание его характера чертой, свойственной мелким философам, скажу:
он испытывал сильнейшее искушение наложить на себя руки. Мы можем составить
представление об этом патриархе неверия по его основательному образу мысли
касательно других предметов не хуже, чем по его мыслям о христианстве. Ибо он был
настолько проницателен, что сумел открыть, будто души насекомых, отделившись от
тел, становятся разумными, будто демоны, являясь в тысяче разных обличий,
участвуют в изготовлении любовных напитков и в колдовских чарах; будто их духовные тела
питаются и полнеют за счет испарений, поднимающихся от возлияний и жертв; будто
тени тех, кто умер насильственной смертью, часто посещают свои могилы. Сей почтен-
* Origen. Contra Celsum. lib. IV.W
** Am. Marcellin. lib. XXV.86
*** Luc. Holstenius. De Vita et Scriptis Porphyrii.87
ный философ рекомендует мудрецам не есть мяса — дабы нечистая душа преданных
насильственной смерти животных не вошла вместе с плотью в тех, кто их употребляет
в пищу. Он присовокупляет — как факт, подтвержденный многочисленными
опытами — что тем, кто желает, чтобы вселилась в них душа животного, обладающего даром
предсказания, достаточно съесть важнейшую часть их тела, например, сердце оленя
или крота, — таким образом они завладеют душою животного, которая и станет в них
прорицать, словно некий бог.* И не удивительно, что люди, чьи умы были увлечены
столь своеобразными верованиями и догмами, оказывались не слишком расположены
принимать истину Евангелия.
В общем, пусть нас извинят, если людям, которые кажутся нам капризными,
суеверными и недалекими визионерами, не оказываем мы такого же почтения, что и те
беспристрастные джентльмены, кои преклоняются перед их талантами и с гордостью
шествуют по их стопам.
Алкифрон. Люди смотрят на вещи по-разному: то, чем восхищается один,
презирает другой; случается даже, что предубежденный ум, обратив свое внимание на изъяны
и недостатки, воображает, будто узрел тень пророка в тех великих светочах, кои
озаряли мир в прежние времена и продолжают просвещать его и поныне.
Однако скажите на милость, Критон, что вы думаете об Иосифе?8"
Ведь он слывет человеком ученым и рассудительным. Иосиф сам
защищал религию откровения, и христиане с почтением на него
ссылаются — в тех случаях, когда его авторитет служит их собственным
целям.
Критон. Со всем этим я соглашусь.
Алкифрон. А в таком случае не должно ли всякому беспристрастному
исследователю показаться весьма странным и подозрительным, что этот ученый еврей, описывая
историю собственного народа, тех самых краев и того самого времени, где и когда
явился Иисус Христос, ничего, однако, не сообщает о характере и учении этой
необыкновенной особы и о совершенных ею чудесах? Некоторые древние христиане
были этим задеты настолько, что, желая как-то помочь делу, внесли в сочинение
Иосифа знаменитый отрывок90 — каковое мошенничество было блестяще разоблачено
талантливыми критиками еще в прошлом веке.
Критон. Недостатка в талантливых критиках не испытывают обе стороны. Но чтобы
не ввязываться в спор об этом прославленном пассаже, я готов уступить вам все, что вы
пожелаете, и допустить, что это не подлинный текст, но благочестивый обман какого-то
упрямого в своем заблуждении христианина, не сумевшего примириться с оплошностью
Иосифа. Однако, веским возражением против христианства данный отрывок по этой
причине никогда не станет. Точно так же нет здесь, насколько я могу судить, ни
малейшего повода для удивления или подозрения, ибо если предположить, что евангельский
рассказ точен и правдив, то покажется как раз вполне естественным, что Иосиф об этих
событиях не упоминает. Нам следует принять в соображение, что, во-первых, в
намерения этого писателя входило представить свою нацию в выгодном свете в глазах
остального мира, чрезвычайно предубежденного против евреев и плохо знавшего их историю,
каковой цели описание жизни и смерти Спасителя едва ли могло сколько-нибудь содей-
* Vide Porphyrium. De Abstinentia, De Sacrifiais, De Dus et Doemonibus.'
ствовать. Следует, далее, учесть, что Иосиф не мог видеть Спасителя и стать свидетелем
его чудес; что сам он был знатным фарисеем, ученым человеком, знакомым как с
еврейской, так и с чужеземной образованностью, а к тому же занимал важную
государственную должность, — между тем Евангелие проповедовалось беднякам, первым орудием
его распространения и первыми христианами вообще становились люди простые и
неграмотные, а само Евангелие не казалось творением человека, хоть в чем-то обязанным
соображениям людской выгоды или власти. Нужно помнить о всеобщем предрассудке
евреев, ожидавших узреть в Мессии торжествующего земного владыку, каковой
предрассудок укоренился настолько, что они предпочли приписать чудеса Спасителя
дьяволу, нежели признать в нем Христа. Следует, наконец, принять в соображение страшную
смуту и беспорядок, царившие в иудейском государстве в эпоху Иосифа, когда
человеческие умы были наполнены ужасающими рассказами о беспримерных войнах,
распрях, избиениях и мятежах в среде этого благочестивого народа. Так вот, собрав эти
аргументы воедино, я уже не вижу ничего странного в том, что подобный человек,
писавший с подобной целью, в подобное время и при подобных обстоятельствах, не стал
описывать жизнь и смерть нашего божественного Спасителя, не упомянул Его чудес и
ничего не сообщил о состоянии христианской церкви, которая была в ту пору подобна
горчичному зерну, только что брошенному в землю и едва пустившему первые ростки.
И все это покажется еще менее странным, если вспомнить, что через несколько лет после
смерти Спасителя апостолы покинули Иерусалим и разошлись по всему свету ради
обращения язычников; что в самом Иерусалиме новообращенные принадлежали κ
простонародью, а κ тому же были весьма немногочисленны (те три тысячи, присоединившиеся
κ церкви в течение одного дня после проповеди Петра в Иерусалиме, были, вероятно,
не постоянными жителями этого города, но чужеземцами, собравшимися отовсюду на
празднование Троицына Дня) и, наконец, что во времена Иосифа и затем, в годы
правления следующих пятнадцати епископов, иерусалимские христиане держались закона
Моисея,* а значит внешне составляли один народ с прочими евреями, что по
необходимости делало их не столь заметными на общем фоне. И хотел бы я знать, почему же мы
не вправе думать, что Евангелие, при первоначальном своем распространении
пренебрегавшее сильными и великими мира сего, не могло точно так же остаться в небрежении
у подобных людей, поскольку не соответствовало их чаяниям и образу мысли. А кроме
того, разве не могли в эти первоначальные времена и другие образованные люди,
подобно Гамалиилу,** воздерживаться от оценки этого нового учения, не зная, что о нем
думать или сказать, — поскольку, с одной стороны, они были не в силах отречься от
понятий и преданий, в которых были воспитаны, а с другой — не осмеливались
противиться и возражать Евангелию из опасения, как бы не оказаться в числе богоборцев? Во
всяком случае, ясно, что от необращенного еврея нельзя было ожидать такого описания
жизни, чудес и учения Иисуса Христа, какое подобало бы христианину; а с другой
стороны, не случилось бы ничего невероятного, если бы рассудительный человек
поостерегся принижать или злословить о том, что (насколько он был в силах судить) могло
оказаться велением небес, — а между этими двумя оставался еще средний путь: вообще
ничего говорить, но пройти мимо в молчании благоговейном или полном сомнений.
Замечательно, что там, где этот историк, повествуя о смерти св. Иакова, мимоходом упо-
* Sulp. Sever. Sar. Hist. lib. II et Euseb. Chron. lib. poster.'
** Деяния, V.
минает Иисуса Христа, делает он это без всякого особого размышления и не говорит о
Христе ничего — ни дурного, ни хорошего — хотя в то же время выказывает свое
уважение к апостолу. И весьма характерно, что упоминая об Иисусе, Иосиф употребляет
выражение выражение «тот, кого именовали Христом», а отнюдь не «тот, кто выдавал
себя за Христа», или, скажем, «тот, кого ложно именовали Христом»; он попросту
говорит: του λεγομένου Χρίστου. * Иосиф, бесспорно, знал, что существовал такой человек,
как Иисус, и что о нем говорили как о Христе, — однако он не осуждает ни Его самого,
ни Его последователей, что является, на мой взгляд, аргументом в их пользу. Ведь если
предположить, что Иосиф твердо знал или хотя бы думал, что Иисус был самозванцем,
то, разумеется, очень трудно объяснить, почему же Иосиф прямо об этом не сказал. Если
же мы допустим, что Иосиф мыслил, подобно Гамалиилу, и, опасаясь попасть в число
богоборцев, откладывал свое суждение, то вполне естественным для него покажется тот
образ действий, который вам представляется доводом против нашей веры, мне же —
убедительным аргументом в ее пользу. Но пусть даже Иосиф был фанатиком и
саддукеем, неверующим или атеистом — что же дальше? Ведь мы охотно признаем, что и
тогда, как и ныне вполне могли существовать занимавшие высокое положение люди, —
политики, полководцы, ученые; англичане, точно так же, как евреи — которые
нисколько не верили религии откровения, и что иные из этих особ могли слышать о каком-
то человеке из простонародья, совершавшем чудеса с помощью магии, не осведомляясь
при этом о его призвании или учении, а может быть, даже не интересуясь ими
совершенно. В общем, я не в силах постичь, почему то обстоятельство, что Иосиф не упомянул
о Евангелии, может для кого-нибудь послужить более сильным доводом против истины
Евангелия, чем то, что Иосиф не принял Евангелия сам. Если бы первые христиане
были первосвященниками, правителями или людьми учеными и образованными, вроде
Филона или Иосифа, то утверждать, что их религия есть человеческое измышление,
можно было бы, пожалуй, с большим правдоподобием, нежели теперь, когда мы твердо
знаем, что Господу было угодно с помощью слабых посрамить сильных. И это, на мой
взгляд, достаточно объясняет нам, почему на первых порах Евангелие не замечало
людей сколько-нибудь знатных и выдающихся и почему подобные люди проходили мимо
Евангелия.
Алкифрон. И все же это был бы весьма странный аргумент в пользу
какого угодно учения — что простые люди проповедовали его простым
людям.
Критон. В самом деле, не будь у нас других свидетельств истины
христианской религии, его следовало бы признать чрезвычайно
слабым. Но если учение, первоначальные орудия коего были жалкими с
точки зрения всех человеческих выгод и преимуществ; учение, первые шаги делавшее
среди тех, кто ни своим богатством, ни искусством, ни властью не мог его поддержать
или украсить; если это учение, опираясь лишь на собственное внутреннее
совершенство, великую силу чудес и свидетельства Духа, в короткое время распространилось по
всему миру и подчинило себе людей всех званий и положений, действуя при этом не
только без помощи, но даже наперекор всем земным побуждениям и мотивам, — если
это так, то не будет ли чрезвычайно неразумным его отвергать или усомниться в нем
* Josephus Ant. lib. XX. cap. Χ.92
по причине недостатка средств чисто человеческого свойства? И разве не послужит
это — и с куда большим основанием — доводом в пользу его божественного
происхождения?
Алкифрон. И все же пытливый человек желал бы иметь свидетельства людей
образованных и ученых.
Критон. Но ведь начиная уже с первого века нашей эры не было недостатка в
свидетельствах подобных людей, весьма ученым образом писавших в защиту
христианской религии; причем многие из них жили в ту пору, когда память о событиях была
еще свежа. Люди эти обладали достаточными способностями, чтобы вынести
основательное суждение, и возможностями — чтобы установить истину, и они представили
нам яснейшие доказательства своей искренности и убежденности.
Алкифрон. При всем при том эти люди были христианами, убежденными
христианами, — а значит, их свидетельства сомнительны.
Критон. Так вы, похоже, хотите, чтобы истину христианства удостоверяли вам
иудеи и язычники? Но как же это возможно? А если предположить, что это было
возможно, то разве всякий разумный человек не усомнился бы в подобном свидетельстве и
разве не спросил бы он, каким же это образом некто мог действительно верить в
подобные вещи и, однако, не стать христианином? Апостолы и первые новообращенные сами
были евреями, воспитанными в почитании Моисеева закона и всех предрассудков этого
народа; многие отцы церкви, христианские философы и ученые апологеты, рожденные
в язычестве, были, без сомнения, полны предрассудков, привитых соответствующим
воспитанием, — и если перст Божий и сила истины обратили и тех, и других от
иудейства и язычества к христианству вопреки всем их предрассудкам и предубеждениям, то
разве не является оттого их свидетельство еще более веским и убедительным? А значит,
у вас есть голоса как иудеев, так и язычников, свидетельствовавших об истине нашей
веры уже в самые ранние века. Но ожидать или требовать подобных свидетельств от
иудеев, оставшихся иудеями, или от язычников, оставшихся язычниками, кажется мне
неразумным; точно так же невозможно вообразить, будто свидетельства людей, которые
не обратились в христианство сами, способны послужить обращению других. Мы и в
самом деле располагаем свидетельствами языческих авторов, доказывающими, что в
эпоху рождения нашего Спасителя на Востоке господствовало всеобщее чаяние некоего
Мессии или Царя, который должен был основать новое царство; что были такие люди,
как христиане; что их жестоко преследовали и предавали казни; что в образе жизни и
в богопочитании были это люди святые и добродетельные и что в то время действительно
существовали определенные лица и происходили известные события, упомянутые в
Новом Завете. А что касается прочих положений, то об их истинности свидетельствуют нам
ученые отцы церкви, причем некоторые из них, как я уже заметил, были рождены и
воспитаны в языческих верованиях.
Алкифрон. Что до меня, то о талантах и учености отцов церкви я держусь мнения
не слишком высокого. Так же думают и многие образованные люди, в особенности —
принадлежащие к иностранным реформированным вероисповеданиям, что избавляет
меня от необходимости самому заглядывать в их объемистые сочинения.
Критон. Я не осмелюсь повторить вслед за мелким философом Помпонацци,93* что
Ориген, Василий,95 Августин и некоторые другие отцы церкви не уступали в челове-
* Lib. De Immortalitate Animae.9*
К^^Р^Дж.рдж Беркли ^§^13
ческих познаниях Платону, Аристотелю и величайшим из язычников. Но если мне
позволят высказать суждение, основанное на знакомстве с их трудами, то некоторых
из них я бы счел людьми чрезвычайно одаренными, красноречивыми, несравненно
превосходящими тех особ, которые их, похоже, недооценивают. И нисколько тем не
оскорбляя иных новейших критиков и переводчиков, мы вправе признать Эразма
человеком тонкого вкуса и компетентным судьей по части рассудительности и хорошего
стиля, пусть даже суждения Эразма в этом пункте весьма отличны от их собственных.
Правда, римские католики приписывали им чересчур высокую цену, и, кажется,
именно поэтому некоторые из наших братьев-протестантов оценили их слишком низко — из
весьма обыкновенного, но не весьма разумного духа противоречия, способного
заставить человека выискивать недостатки, не делая при этом необходимых скидок и
поправок, и говорить вещи, высказывать которые ни благочестие, ни откровенность, ни
здравый смысл отнюдь не требуют.
Алкифрон. Допустим, я признаю, что согласные между собой
свидетельства многих ученых и компетентных людей, живших в первые
века христианства, имеют определенный вес — однако множество
подлогов и ересей, появившихся в те времена, весьма подрывают значение
подобных свидетельств.
Критон. Но позвольте, Алкифрон, разве признаем мы это
убедительным доводом против Реформации в устах паписта, если он заявит, что
одновременно с нею возникло множество нелепых сект?% И нужно ли изумляться тому, что,
когда в землю бросают доброе семя, враг сеет рядом сорные травы? Но чтобы отвести
несколько возражений разом, давайте примем как действительное то, возможность
чего вы не отрицаете, а именно, что существуют Бог, дьявол и божественное
откровение, записанное много столетий тому назад. А теперь бросьте взгляд на человеческую
природу и поразмыслите над тем, что должно вытекать из подобного допущения.
Подумайте, разве не вполне вероятно, что среди исповедующих религию откровения
непременно появятся маловеры, бессмысленные фанатики, благочестивые обманщики,
честолюбцы, спорщики, еретики, схизматики, люди самодовольные и
сумасбродные — точно так же, как с течением веков в тексте священных оракулов непременно
обнаружатся разночтения, пропуски, переделки и темные места? А если так, то я
предоставляю вам самим решать — разумно ли приводить в качестве довода против
действительного существования некоей вещи те самые события, которые естественным
образом вытекают из допущения ее бытия?
Алкифрон. Но что бы вы, в конце концов, ни говорили, подобное разнообразие
мнений не может не поколебать веру разумного человека. Ведь там, где по одному
вопросу существует столько различных мнений, все они вместе, что совершенно
очевидно, истинными быть не могут, — зато вполне способны оказаться ложными. И
какими же средствами истину открывать? Когда рассудительный человек принимается
за подобное исследование, его тотчас же ставят в тупик мудреные слова и запутанные
проблемы, и потому он бывает принужден отказываться от поиска, полагая, что игра
не стоит свеч.
Критон. Но разве не стоило бы вашему «рассудительному человеку» принять в
соображение, что отвергать божественные истины из-за человеческих безрассудств —
значит выказывать недостаток проницательности? Подойдите же и к религии с той же
непредвзятостью и прямотой, какие находите вы уместными по отношению к прочим
предметам — ведь мы не требуем ничего большего, но и не ожидаем меньшего. Разве
не очевидно, что всюду, где люди предавались утонченным умствованиям — в физике,
политике, юриспруденции — они всегда обнаруживали склонность к словопрениям и
пустым придиркам? Так неужели это помешает вам признать, что во всех подобных
науках имеются основательные правила, верные понятия и полезные истины? Врачи
могут вести споры (и, вероятно, споры пустые и невразумительные) о строении живых
существ; они могут приписывать болезням различные причины; кто-то, к примеру,
будет объяснять их элементарными качествами, теплым и холодным, влажным и
сухим, — и однако, все это ничуть не мешает хинину быть отличным средством против
лихорадки, а ревеню — против дизентерии. Точно так же из того обстоятельства, что в
этой профессии время от времени возникали всевозможные секты (например,
эмпирическая, методическая, сторонников Галена97 или Парацельса98), и секты эти
производили на свет сами или к ним оказывались привиты извне мудреные термины,
замысловатые вопросы и пустые теории, — из этого, говорю я, вовсе не следует, что мы
должны отрицать кровообращение или отвергать превосходные предписания медиков
касательно диеты, физических упражнений или свежего воздуха.
Алкифрон. Вы, похоже, вознамерились защищать религию, прикрываясь
примером прочих профессий, каждая из которых порождала секты и словопрения точно так
же, как и христианство. Христианство же само по себе может быть, на ваш взгляд,
истинным и полезным, несмотря на ложные и бесплодные понятия и теории,
привнесенные в него человеческим умом. Но ведь если бы многочисленные тонкие мыслители
думали именно так, они бы никогда не превратили различие религиозных мнений и
полемику по религиозным вопросам в аргумент против религии в целом.
Критон. Каким образом столь очевидная истина могла ускользнуть от людей
рассудительных и пытливых — это уж вы сами решайте; я же в силах без труда объяснить
грубые заблуждения тех, кто прослыли свободомыслящими, так ни о чем и не
помыслив, — если же они о чем-то и мыслили, то размышления их обращались к предметам,
по природе своей совершенно отличным от серьезного и непредвзятого исследования
религии.
Вернемся, однако, к нашей теме. Скажите, где найти такое
человеческое занятие, которое бы никогда не порождало расколов и нелепых
умствований? Не очевидно ли, что во всех областях знания,
привлекающих человеческий ум, возникают некие наросты, которые можно
обрезать, словно ногти или кончики волос на теле, — и точно так же без
всякого вреда? И что бы ни утверждали фанатики и энтузиасты, что
бы ни думали схоласты или склонные к отвлеченным спекуляциям теологи,
несомненно одно: вера, имеющая своим источником Христа и Его апостолов, — это не пустая
софистика: ведь они донесли до нас и передали нам, если воспользоваться словами
святого исповедника, не κενή ν απάτη ν, но γυμνή ν γνώμη v.* А стремление разрушить
заложенный ими фундамент под предлогом человеческих надстроек — пусть даже они
будут из сена, соломы и чего угодно еще — вовсе не есть довод разумный и
основательный, как не свидетельствует о вашей беспристрастности манера принимать сомни-
• Socr. Histor. Eccles. lib. Ι.»
тельную трактовку в качестве твердо установленной и аргументировать в спорных
случаях, исходя лишь из одной стороны вопроса. Следует ли, например, начало книги
Бытия разуметь буквально или в аллегорическом смысле? Является ли книга Иова
историческим повествованием или притчей? Все это спорные вопросы для самих
христиан, а потому атеист не вправе в этих и им подобных случаях приводить свои доводы,
опираясь лишь на один из возможных ответов. И сейчас у нас с вами дело идет не о
том или ином догмате отдельной секты, не о том или ином спорном мнении, но о
Всеобщей Вере, коей учили нас Христос и апостолы, вере, которая сохранилась и
дошла до нашего времени через универсальное и неизменное предание, принятое всеми
христианскими исповеданиями. Порочить или опровергать это Божественное Учение,
ссылаясь на положения чуждые ему или побочные, на спекуляции или
препирательства любителей излишних тонкостей — это, на мой взгляд, столь же нелепо, как рубить
дающее плоды и тень прекрасное дерево по той причине, что его листьями питаются
гусеницы, а пауки время от времени плетут свою паутину в его ветвях.
Алкифрон. Разделять и различать — дело долгое. Зато у нас имеются
джентльмены, способные судить о предмете в целом, которые, однако, не чувствуют склонности
к сухим утомительным штудиям или дотошным разысканиям. А поскольку
принуждать к ним против воли — чрезвычайно жестоко, то было бы величайшей
несправедливостью как по отношению к обществу, так и к этим господам воспрещать последним
выносить собственное суждение полагаясь лишь на природный здравый смысл.
Критон. Было бы недурно, если бы и суждения, и внимание этих талантливых
особ обращались к одному и тому же предмету. А если теологические исследования им
не по вкусу, то как обширна область природы! Сколько открытий здесь еще предстоит
сделать! Как много заблуждений в науках и искусствах нужно разоблачить, сколько
пороков в нравах и поведении — исправить! Так почему же эти люди выискивают
вещи вполне безобидные и полезные, тогда как множество пагубных заблуждений до
сих пор не уничтожено? Почему принимаются они разрушать человеческие надежды и
побудительные стимулы к добродетели? Почему они с удовольствием берутся судить
там, где считают ниже своего достоинства исследовать? Почему бы им не употребить
свои благородные дарования в исчислении долготы или в поисках вечного двигателя?
Алкифрон. Странно: неужели вы не постигаете различия между предметами
обыкновенной любознательности и вопросами религии? Первые занимают лишь тех, кто
имеет соответствующие таланты или склонности, тогда как последние касаются каждого из
нас, и потому все человечество вправе о них судить — разве что люди предпочтут слепо
подчиняться старомодной мудрости предков или законам своего государства.
Критон. Кажется, однако, что если им подобает судить, то не в меньшей степени
надлежит им исследовать, прежде чем выносить суждение.
Алкифрон. Но даже после всех исследований и разысканий в области религии и
откровения, на которые только способен смертный человек, опереться на что-либо
разумное и достоверное по-прежнему невозможно. [Нам рассказывают странные вещи,
а в качестве доказательства сообщают, будто люди жертвовали ради них собственной
жизнью. Нетрудно, однако, понять, что люди — и тому имеются многочисленные
свидетельства — умирали ради мнений, вера в которые, истинная или ложная —
неважно, с неодолимой силой овладевала их умами.
Критон. Соглашаюсь: вы можете найти примеры того, как люди умирали ради
ложных мнений, в которые они верили, — но способны ли указать человека, отдавше-
го жизнь ради мнений, в которые он сам не верил? Подобное непостижимо, а между
тем именно так и должно было обстоять дело, если предположить, что свидетели чудес
и воскресения Христа — обманщики.] ,0°
Алкифрон. И в самом деле, существует множество благовидных и
правдоподобных рассуждений о вере, опирающихся на чудеса. Но
исследовав этот предмет со всей тщательностью и проследив
христианскую веру вплоть до ее первоисточника, я обнаруживаю, что в основе
ее лежат вещи чрезвычайно сомнительные, темные и ненадежные.
Вместо положений очевидных и согласных с человеческим разумом я
нахожу странный рассказ о дьяволе, искушавшем в пустыне Сына Божия, — нечто
совершенно необъяснимое, не имеющее ни разумной цели, ни смысла, ни основания. Я
наталкиваюсь на удивительные истории о явлениях ангелов, о голосах с небес, на
поразительные сообщения о людях, одержимых бесом, абсолютно противоречащие
здравому смыслу и опыту; я встречаю повествования о невероятных подвигах —
якобы совершенным Божеством, а по всей видимости — выдумках человеческих,
каковыми они не перестают быть оттого, что я не решаюсь утверждать, ради какой же цели
все это сочинялось. Глубоко скрытые замыслы темны для нас, и чем меньше мы знаем,
тем больше сомневаемся, — но даже если допустить, что эти рассказы истинны, я не
признаю подобные деяния чудесными, пока не изучу досконально действие того, что
называют вторичными причинами и силой магии.
Критон. А мне сдается, Алкифрон, что вы сейчас анализируете не веру, а неверие,
прослеживая именно его источники, каковыми, судя по вашим словам, являются
смутные и недостоверные положения, поспешные выводы и узость мысли, обусловленные,
с одной стороны, фантастически-преувеличенным представлением о вашем собственном
скудном опыте, а с другой — самым настоящим невежеством в отношении планов
Промысла, а также свойств, действий и взаимосвязи различных видов созданий, которые
существуют или могут существовать во Вселенной. Столь темны, недостоверны,
предположительны и самодовольно-тщеславны принципы неверия — основания же веры,
напротив, представляются мне ясными и очевидными. Ибо ясно и очевидно, что вера в
Христа распространялась в мире вскоре после Его смерти. Несомненно, что произошло
это отнюдь не благодаря действию человеческой учености, политики или власти.
Несомненно, что в эпоху первоначальной церкви жили люди образованные и честные,
которые приняли эту веру не под влиянием каких-то земных интересов, но вопреки им всем.
Несомненно, что чем ближе стояли они к первоисточнику, тем больше имелось у них
возможностей убедиться в истинности тех событий, в которые они уверовали.
Несомненно, что чем в меньшей степени выгода и интерес могли на них повлиять, тем
настоятельней была нужда в очевидности, способной их убедить. Несомненно, что они полагались
на свидетельства тех, кто открыто провозглашал себя очевидцами чудес и воскресения
Христа. Несомненно, что подобные свидетели жестоко пострадали за свое свидетельство
и в конце концов скрепили его собственной кровью. Несомненно и то, что эти свидетели,
какими бы жалкими и слабыми людьми они ни были, все-таки победили мир: ибо они
проповедовали более чистые образцы морали, распространили вокруг больше света и
принесли человечеству больше пользы, чем все философы и мудрецы вместе взятые.
Все эти положения кажутся мне ясными и достоверными, а будучи признанными в
качестве таковых, представляют собой истинные, очевидные и разумные мотивы для
Ю^^ЦГ~ Д*0РД« Беркли ^Й^ГЗ
нашего согласия: ведь они не опираются на какие-либо ложные основания, не
заключают в себе ничего, выходящего за пределы нашего умственного кругозора, и не
предполагают иных познаний или способностей кроме тех, которыми мы действительно
обладаем. Но даже если не признавать их морально достоверными (какими, на мой
взгляд, признает их всякий честный и беспристрастный исследователь), принятия их
хотя бы в качестве вероятных достаточно, чтобы принудить к молчанию атеиста.
Именно эти ясные положения и являются фундаментом нашей веры — а вовсе не те
темные утверждения, как это вы предполагали, последние — в сущности лишь шаткие
и ненадежные принципы неверия, которые служат опрометчивому, предубежденному
и самонадеянному уму. Выискивать доводы или отвечать на возражения, ссылаясь при
этом на некие скрытые силы природы или на магию — значит пробираться наощупь в
темноте; между тем ясный свет разума мог в достаточной степени удостоверить
определенных людей в истине таких ощутимых явлений и фактов, как чудеса и воскресение
Христа. Свидетельства же подобных лиц могут быть переданы последующим
поколениям с той же моральной достоверностью, что и прочие исторические сообщения,
причем эти самые чудесные деяния, сопоставленные разумом с учениями, в
доказательство которых они приводятся, представляют непредубежденному уму веские
свидетельства того, что их источником является Бог, или то Высшее Начало, чья благость
искупила мир нравственный, чья сила повелевает миром естественным, чье Провидение
охватывает оба. Позвольте же мне сказать: ни что темное, непостижимое, таинственное
или необъяснимое не является для нашей веры причиной или побуждением,
принципом или основанием, доказательством или доводом, — хотя и может быть ее
предметом. Ибо следует признать, что если ясные и надежные посылки приводят нас
разумным образом к вере в положения менее ясные, то мы отнюдь не отвергаем их оттого,
что они слишком таинственны и трудны для постижения и понимания: ведь поступать
так было бы несправедливо.
Если же иудеи и язычники приписывали действию магии чудеса нашего
Спасителя, то это обстоятельство вовсе не является аргументом против последних, но есть,
скорее, доказательство в пользу самих фактов, нисколько не опровергающее
причины, к которым мы эти факты возводим. Ведь подобно тому как не притязаем мы на
такое познание природы и действий демонов, истории, законов и общей системы
разумных существ, замыслов и целей Провидения, какое сумело бы объяснить
всякое событие и явление, описанное в Евангелии, — точно так же и вы не обладаете
достаточными знаниями об этих предметах, чтобы, опираясь на подобные сведения,
возражать против сообщений, столь твердо засвидетельствованных. Совсем нетрудно
подвергать сомнению многие достоверные разделы гражданской истории, которые
должны казаться нам необъяснимыми, поскольку требуют для своего истолкования
более совершенного знания фактов, обстоятельств и намерений, чем то, которое нам
доступно. Еще проще делать это по отношению к истории природы: ведь если
принимать в этой области догадки и предположения в качестве доказательств против
вещей странных, удивительных и непостижимых, а скудный наш опыт превращать в
правило и мерило истины, отвергая все те явления, которые мы вследствие
неведения первоначал, законов и устройства природы объяснить не способны, — то нам и в
самом деле удастся совершить открытия, только вот откроем мы лишь собственную
нашу слепоту и самонадеянность. И почему люди, так часто и легко приходящие в
замешательство в' вещах естественных и видимых, должны, однако, быть столь
проницательными и категоричными по отношению к миру незримому и его* тайнам —
постичь это не помогают мне никакие правила логики и здравого смысла. Одним
словом, я не могу не думать, что у нас есть достаточно ясные, очевидные и
убедительные положения, на которых может основываться разумная вера в истины
христианства, тогда как нападения мелких философов на эту веру имеют своим
источником темноту, невежество и самонадеянность.
Алкифрон. Боюсь, что я по-прежнему останусь в неведении относительно
доказательств в пользу христианства и всегда буду самонадеянно полагать, что эти
доказательства — полная чепуха.
Ибо как же возможно — по прошествии столь долгого времени
прийти к сколько-нибудь твердому знанию на этот счет или составить
какое-либо доказательство?
Критон. И что же дальше? Я согласен: знание в строгом смысле
слова можно получить лишь благодаря доказательству или
достоверному свидетельству фактов — однако достаточным основанием для
веры могут послужить и доводы, опирающиеся на вероятность. Кто и когда полагал, что
для обращения в христианство нужны научные аргументы? Здесь не требуется ничего,
кроме веры, и если люди достигли убеждения в главном и основном, то это спасающая
вера вполне может совмещаться с известной долей неясности, сомнительности и
заблуждения. Ибо, хотя в своем вечном источнике, Отце Светов, свет истины пребывает
чистым и неизменным, однако, по отношению к нам он может различным образом
слабеть и помрачаться, поскольку преодолевает огромное расстояние или проходит
сквозь грубую среду, где его задерживают, искажают или окрашивают в свой цвет
человеческие страсти и предрассудки. Но несмотря на все это, тот, кто захочет
воспользоваться собственными глазами, сумеет увидеть достаточно для постижения как
целей природы, так и целей благодати, — хотя видеть он будет в свете то более, то
менее ясном в зависимости от места, времени и среды. Довольно и того, если между
царством природы и царством благодати — пусть даже в обоих многое останется
необъяснимым — обнаружится такая аналогия, которая позволит предположить, что
они происходят от единого Творца, являясь созданием одно и той же руки.
Алкифрон. О тех, кто видел Иисуса Христа после Его воскресения и прикасался к
Нему (если таковые имелись), можно утверждать, что они созерцали в ясном свете, —
для нас же этот свет весьма потускнел; предполагается, однако, что и мы должны
веровать в эти положения так же твердо, как те же люди. Что до меня, то я вслед за
Спинозой смерть Христа понимаю в буквальном смысле, но Его воскресенье —
аллегорически.*
Критон. А вот я не нахожу у этого знаменитого атеиста ничего такого, что
заставило бы меня, отвергнув факты и моральную очевидность, разделить его
мнения. Должен, впрочем, признать, что и я принимаю аллегорическое воскресение,
доказывающее воскресение действительное, а именно, воскресение учеников Христа
от уныния к решимости, от страха — к мужеству, от отчаяния — к надежде. И этому,
насколько я могу судить, нельзя представить никаких разумных объяснений, кроме
ясного убеждения в том, что наш Господь действительно восстал из мертвых — в
* Vide Spinosac Episî. ad Oldenburgium.101
|5Tféjfe(jr~ Джордж Беркли ^»g^TJ
истинном, настоящем и буквальном смысле слова. И подобно тому как невозможно
отрицать, что ученики Христа, ставшие очевидцами Его чудес и воскресения,
располагали более убедительными доказательствами этих фактов ,чем те, какие можем
иметь мы с вами, точно так же невозможно отрицать, что подобная очевидность была
в ту пору более необходимой, дабы побудить людей к принятию новых учений,
совершенно противоположных их воспитанию, предрассудкам, страстям, выгодам и
любым человеческим интересам. Мне, впрочем, кажется, что доступные нам
моральная очевидность и вероятные аргументы сами по себе достаточны, чтобы мыслящий и
благоразумный человек стал держаться веры, завещанной нашими предками и
установленной законами нашей страны; веры, требующей покорности в том, что выше
нашего понимания, в остальном же предлагающей нам учения в высшей степени
согласные с нашим разумом и интересами.
И каким бы ярким ни был этот свет в своем первоисточнике, но его устойчивость и
распространение по всему миру посредством столь слабых орудий и проводников
воистину удивительны. Ныне мы уже способны достигнуть более глубокого понимания
связи, порядка и последовательности божественных решений, а обратив свой взор
назад, к долгой череде прошедших столетий, мы в силах усмотреть единство замысла,
пронизывающее собою целое, и воспринять постепенное обнаружение и исполнение
целей Промысла, правильное и закономерное от образов к прообразам, от телесного -
к духовному, от земли — к небу. Мы уже способны видеть, что распятие Христа -
этот камень преткновения для иудеев и безумие для греков102 — положило конец
храмовому богопочитанию одних и идолопоклонству других; и что камень, высеченный из
горной породы без помощи рук человеческих и сокрушивший все прочие царства, сам
стал великой горою.
И если надлежащие размышления об этих вещах окажутся
недостаточными, чтобы внушить человеческим умам почтение к христианской
вере, то я припишу это действию какой угодно причины, но только не
мудрой и осторожной недоверчивости: ибо когда я вижу, как легко
готовы люди верить в обыкновенных житейских делах, где ни
предрассудок, ни склонность не влияют на их естественное суждение и не
препятствуют ему; когда я замечаю, как те же самые особы, которые в религии и шагу
не желают ступить без полной достоверности и повсюду требуют доказательств, тем не
менее, с безотчетной верой вручают свое здоровье врачу, а жизнь - моряку, то я уже
не думаю, будто они более других заслуживают чести считаться скептиками или будто
они в большей мере привыкли знать, а потому-де менее расположены верить.
Напротив, именно невежество, как я подозреваю, имеет большую, чем наука долю в
современном атеизме, который происходит скорее от беззаконной воли и превратного
мышления, нежели от глубоких изысканий.
Лисикл. Нужно признать: мы и в самом деле не считаем, будто для того, чтобы
выносить истинные суждения о вещах, требуются особая ученость и
глубокомысленные исследования. И порою мне кажется, что образованность способна, скорее,
порождать и оправдывать всевозможные капризы и чудачества, а потому я всерьез
полагаю, что без нее можно было бы превосходно обойтись. В этом пункте мнения нашей
секты разделились, хотя значительное большинство мыслит, как я. И я не однажды
слышал, как весьма проницательные люди говорили, что именно ученость и есть то
K^ÜF Алкифро. ~^Й^ГЗ
человеческое средство, благодаря которому в мире до сих пор сохраняется религия, и
что, будь это в наших силах — составить духовное сословие из болванов и тупиц —
дела пошли бы на лад, и весьма скоро.
Критон. Странную же любовь должны питать люди к своим мнениям, если они
готовы скорее выколоть себе глаза, нежели с этими мнениями расстаться. Впрочем,
проницательные люди не однажды замечали, что худших фанатиков, чем неверующие,
не существует.
Лисикл. Что! Свободомыслящие — фанатики? Да это же невозможно!
Критон. Не так уж это невозможно, чтобы атеист был фанатически привержен
своему неверию. И мне кажется, что именно фанатика вижу я всякий раз, когда
встречаю человека самоуверенного и категоричного без всяких к тому оснований,
придающего величайшее значение самым маловажным вещам; человека, который поспешно и
опрометчиво судит о совести, мыслях и скрытых намерениях других людей; человека
нетерпимого к аргументам против собственных мнений, мнения же свои выбирающего
скорее по склонности, чем по разуму; человека, ненавидящего образованность и
приверженного самым низким авторитетам. А насколько характер современных атеистов
соответствует этому изображению, я предоставляю судить тем, кто действительно
мыслит и судит собственным умом.
Лисикл. Никакие мы не фанатики; мы — те люди, которые обнаруживают в
религии противоречия и затруднения; люди, которые завязывают узлы и возбуждают
сомнения, способные нарушить покой и прервать блаженный сон ханжей, — по этой-то
причине последние нас и ненавидят.
Критон. Те, кто намеренно выискивают затруднения и противоречия, конечно же,
повсюду их обнаружат или выдумают сами, — однако тот, кто желает, основываясь на
разуме, выступить в качестве судьи, дабы вынести мудрый приговор о подобного рода
предмете, тот не будет рассматривать одни лишь сомнительные и противоречивые его
стороны, но составит исчерпывающее представление о предмете в целом; он примет в
расчет все его части и отношения и проследит их вплоть до первоисточника; исследует
его причины, действия и тенденции, внутренние и внешние доказательства в его
пользу. Он отличит ясные положения от темных, достоверные от сомнительных, внутренне
присущее — от того, что является посторонним. Он примет во внимание особые виды
доказательств, подобающие различным вещам, определив, где следует рассчитывать
на полную очевидность, где будет достаточно вероятности, а где разумно допустить
существование сомнений и неясностей. Он станет соизмерять свои труды и усердие с
важностью исследования и обуздает склонность собственного ума объявлять
беспочвенными предрассудками все те идеи, которые усвоил он прежде, чем научился о них
рассуждать. Он заставит умолкнуть страсти и станет внимать одной лишь истине. Он
будет стремиться развязывать узлы, а не только завязывать новые, и предпочтет
заниматься скорее ясной, нежели темной стороной вещей. Силу и способности своего
разума он сопоставит с трудностью предмета и, чтобы сделать свое суждение
беспристрастным, выслушает свидетельства со всех сторон; когда же ему будет необходимо
руководиться авторитетом, он предпочтет следовать авторитету самых мудрых и честных
людей. И я искренне убежден, что христианская религия испытание подобным
исследованием выдержит.
Лисикл. Подобное исследование, однако, отнимет у нас слишком много времени и
сил. Мы изобрели другой метод — подвергать религию испытанию остроумием и юмо-
1&кге§^(г Джордж Беркли
ром; на наш взгляд, это куда более легкий, быстрый и действенный способ. А
поскольку каждая из воюющих сторон вправе избирать собственное оружие, мы выбрали то,
которым владеем искуснее всего, — и тем более удовлетворены своим выбором, что
степенные духовные лица, как мы замечаем, больше всего на свете терпеть не могут
шуток.
Ефранор. Рассматривать предмет в целом, подвергая его всестороннему
исследованию, возражать ясно и отвечать прямо, опираясь при этом на сухие доводы
разума — дело весьма скучное и утомительное. И потом, это означало бы бороться с
педантами их собственным оружием. Существует занятие куда более тонкое и искусное
ограничиваться намеками, прикрываться загадками, отпускать double entendre1™ и,
сохранив возможность к отступлению, ловко увильнуть в сторону, предоставляя
своему противнику палить из пушек по воробьям.
Лисикл. Подобное практиковалось — и с большим успехом. На мой взгляд, это и
есть наилучший метод ставить в тупик педантов и вербовать себе новых сторонников.
Критон. Я видел несколько сочинений, написанных в подобном стиле, и они, как я
полагаю, лишь копировали манеры известного рода лукавых насмешников.
Представьте себе человека, желающего прослыть остроумцем: вот он подмигивает одному,
показывает язык другому; то он хитро ухмыляется, то глядит с важной миной и
веселыми глазами; часто он принимает вид человека, едва подавившего в себе насмешку, а
порой издает прямо-таки лошадиное ржание — какое же впечатление все это
произведет — и даже не в сенате или совете, но хотя бы во время частного визита, в обществе
хорошо воспитанных людей? И однако, именно так себя и ведут в своих изысканных
и утонченных писаниях некоторые великие авторы104, желающие прослыть образцами
для нашего века — и ведь действительно слывущие таковыми!
Алкифрон. О своей любви к разуму и преклонении перед ним я объявляю во
всеуслышание — однако я вынужден признать, что в известных случаях колкая
насмешка действует сильнее веского довода. Но если мы усердно упражняемся в
остроумии и в юморе, то вовсе не потому, что другого оружия у нас нет. И никто не
посмеет сказать, будто свободомыслящий страшится разума. Нет, Критон, в запасе у
нас имеются разумные аргументы, и лучшие из них не были даже представлены.
А потому, если мы найдем время еще для одной беседы, прежде чем завтра утром
отправимся в путь, то я обещаю прямо-таки засыпать вас аргументами —
аргументами столь очевидными и имеющими столь прямое и непосредственное отношение к
нашему предмету, какое вы только можете пожелать.
A!ld$^]ßfcjiib
Диалог седьмой
1. Христианская вера невозможна.
2. Слова выражают идеи.
3.. Никакого внания бев идей не бывает.
4. Идеи благодати не существует.
5. Абстрактные идеи. Что это такое и как
они образуются.
6. Абстрактные общие идеи невозможны.
7. В каком смысле возможны общие идеи.
8. Внушение идей — не единственное
назначение слов.
9. Образовать идею силы так же трудно,
как и идею благодати.
10. Несмотря на это, относительно силы
могут существовать полезные положения.
11. Вера в Троицу и прочие таинства не
является абсурдной.
12. Заблуждения относительно сущности
веры — источник нечестивых насмешек.
13. Вера, ее подлинная природа и следствия.
14. Примеры на области науки.
15. И в частности арифметики.
16. Науки занимаются знаками.
17. Истинное назначение языка, разума«
науки и веры.
18. Метафизические возражения имеют такую
же силу против человеческих наук, как и
против положений веры.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Нет религии, ибо нет человеческой
свободы.
Дальнейшие доказательства против
человеческой свободы.
Фатализм — следствие ложны
Человек — деятельное существо,
ственное за свои поступки.
Непоследовательность, странность и
легковерие мелких философов.
Нехоженые тропы и свет мелких
философов.
Софистика мелких философов.
Мелкие философы загадочны, двусмыс-
к.
Скептицизм мелких философов.
Как должен вести себя скептик.
Почему мелких философов трудно убедить.
Мышление не есть эпидемическая
болезнь наших дней.
Атеизм не следствие разума и
мышления. Его истинные источники.
Различие мнений относительно религии,
его последствия.
Как нужно обращаться с мелкими
философами.
Недостаток мышления и
образованности — порок наших дней.
л
На следующее утро наши философы решили отправиться в
Лондон, и потому мы собрались в библиотеке уже на рассвете.
Алкифрон начал с заявления о своей искренности, заверив нас,
что все сказанное накануне он продумал весьма основательно и
беспристрастно. Он добавил, что не может отрицать того, что в пользу
принятия христианской религии были представлены некоторые
правдоподобные доводы.
IkXSXJ
[SD^W(F Джордж Беркли ^^Sj^Cä
— Однако, — продолжал Алкифрон, — поскольку эти доводы опираются всего
лишь на вероятность, то они никогда не смогут взять верх над доказательством и
несомненными фактами. И потому, если я сумею доказать, что ваша религия есть нечто
совершенно абсурдное и противоречивое, то и ваши вероятные аргументы в ее защиту
тотчас утратят свою силу, а с нею — всякое право на то, чтобы их исследовали или отвечали
на них. Без сомнения, согласные между собой свидетельства честных и компетентных
очевидцев имеют в человеческих делах огромный вес. Я даже готов признать, что на этом
единственном основании вещи странные и непостижимые для человеческого ума могут
порою притязать на наше согласие. Я также не отрицаю возможность того, что традиция
способна передаваться в течение многих веков с достаточной моральной очевидностью.
Но ведь и вы согласитесь со мною в том, что положение, явным и осязаемым образом
ложное, не может быть принято на основании каких-либо свидетельств и даже в лучшем
случае не будет иметь силу доказательства. Проще говоря, никакое свидетельство не в
силах сообщить смысл бессмыслице, и никакая моральная очевидность не способна
согласовать явные противоречия. А значит, коль скоро сила нашей позиции не зависит от
каких-либо критических вопросов, касающихся истории, хронологии или языка, то не
этими аргументами надлежит решать данную проблему. И вам не следует удивляться,
если тот самый вид предания и моральной очевидности, который принуждает нас к
согласию в области фактов гражданской или естественной истории, не будет принят как
достаточное ручательство в пользу метафизических нелепостей или предметов
абсолютно невозможных. Темные и необъяснимые вещи в явлениях природы или в человеческих
делах, тем не менее, иногда оказываются возможными, и если они надежно
засвидетельствованы, мы вправе с ними согласиться, — но что касается согласия в религиозных
предметах, или Веры, то я в силах ясно вам доказать, что она по самой своей природе
есть нечто нелепое, невозможное и нереальное. Это и есть важнейшее основание
атеизма. Это — наша цитадель, наша крепость, которую можно, конечно, украсить
передовыми укреплениями разнообразной учености, — но даже если эти форпосты будут
разрушены, она по-прежнему останется непреступной сама по себе и благодаря своей
собственной силе.
Ефранор. И это, должно признаться, весьма сужает круг нашего исследования.
Докажите ваше утверждение, и мне уже нечего будет возразить.
Алкифрон. Знайте же: толпа с ее неглубоким умом, который скользит лишь по
поверхности вещей и рассматривает их бегло и в общих чертах, легко поддается
обману. Отсюда — слепое почтение к религиозной Вере и Таинствам. Но когда эти
положения принимается анализировать и разлагать на части проницательный философ,
обман тотчас выходит наружу; а поскольку философ не подвержен слепоте, то он и не
питает почтения к пустым понятиям или, выражаясь точнее, к простым формам речи,
которые ничего не означают и совершенно бесполезны для человечества.
Слова — это знаки, которые представляют или должны
представлять идеи, и лишь поскольку они способны вызывать последние,
поскольку и обладают они значением. Однако слова, не внушающие нам
никаких идей, бессодержательны. Тот, кто соединяет с каждым словом
ясную идею, говорит осмысленно; там же, где этих идей нет,
говорящий несет вздор.1 А значит, чтобы определить, является ли чья-либо
речь бессмысленной и бессодержательной, нам достаточно отложить в сторону слова и
рассмотреть внушаемые ими идеи. Люди не способны сообщать друг другу свои мысли
непосредственно и потому вынуждены употреблять чувственные знаки, или слова,
назначение которых — вызывать в уме слушающего те же идеи, которые находятся в уме
говорящего; если же слова этой задачи не выполняют, они совершенно бесполезны.
Тот, кто действительно мыслит, располагает цепью идей, следующих одна за другою в
его уме, а когда он выражает свои мысли с помощью рассуждения, то каждое его слово
вызывает отчетливую идею у читателя или слушателя, и они таким образом имеют в
своем уме ту же цепь идей, которая присутствует в сознании говорящего или
пишущего. И пока подобное действие производится, речь является понятной, имеет смысл и
значение. Отсюда ясно, что в уме любого человека, который понимает то, что читает
или слышит, должен возникать ряд идей, соответствующий последовательности
читаемых или слышимых слов. Этим простым истинам, с которыми люди охотно
соглашаются в теории, на практике уделяется слишком мало внимания, а потому при всей
своей очевидности и неопровержимости они заслуживают того, чтобы пространно их
изложить, настойчиво внедряя в человеческие умы. Люди по большей части не любят
мыслить, хотя весьма склонны беседовать с другими или с самими собой, вследствие
чего их умы наполняются скорее словами, нежели идеями, шелухой науки, а не
истинным ее содержанием. И однако, именно в этих лишенных смысла словах очень часто и
заключается все различие между партиями, предмет их споров и причина их
фанатического рвения. Это и есть самая обыкновенная причина заблуждения, которая влияет
не на одни только заурядные умы: ведь даже те, кто слывут проницательными и
многоучеными философами, вместо вещей и идей нередко занимаются словами, и при этом
считаются людьми знающими — тогда как на самом деле они лишь произносят
мудреные слова, не имеющие смысла.
Вполне очевидно, что познание есть восприятие согласия или
несогласия идей,2 и потому тот, кто не воспринимает обозначенные
терминами идеи настолько отчетливо, чтобы образовать мысленное
суждение, соответствующее утверждению словесному, совершенно не
способен иметь знания. Не в большей мере можно о нем сказать, что он
обладает мнением или верой, каковые, правда, предполагают более
слабую степень согласия, однако и они должны представлять собой утверждение,
термины которого понимаются столь же ясно, как и в случае со знанием, хотя согласие
или несогласие идей может быть и не столь очевидным. Итак, все степени согласия —
основанные ли на разуме или на авторитете, более или менее убедительные —
являются внутренними актами ума, которые совершенно одинаковым образом относятся к
идеям как к своим подлинным объектам, без чего ни знание, ни вера, ни мнение в
действительности невозможны. Мы, пожалуй, способны затевать споры и поднимать
пыль вокруг положений чисто словесных — но что это в сущности такое, как не пустая
трата времени?3 Все вышесказанное будет охотно принято по отношению к
человеческим наукам и познаниям, где считается допустимым приемом обнажить любую теорию
или принцип, сорвав с них словесные облачения, чтобы исследовать, какие же идеи
находятся под ними и есть ли там какие-либо идеи вообще?4 И часто обнаруживается,
что это и есть кратчайший способ прекратить споры, которые в противном случае
разрослись бы и умножились до бесконечности, ибо спорщики не понимают ни себя,
ни своих противников. Нет надобности разъяснять то, что очевидно благодаря собст-
coca
Jb^J^P^ Джордж Беркли ^)^^ГЗ
венному свету и признается всеми мыслящими людьми. Я лишь попытаюсь применить
сказанное в настоящем случае. Полагаю, мне не нужно доказывать, что те же самые
правила разума и здравого смысла, которые используются в прочих областях, должны
иметь силу и в религии. А что касается тех, кто считает веру и разум двумя
совершенно разнородными сферами, желая уверить нас, будто здравому смыслу нечего делать
там, где он нужен более всего, то я решил никогда не спорить с подобными особами, но
оставить их в безмятежном обладании собственными предрассудками.
А теперь, обращаясь к конкретному применению сказанного, я не стану выискивать
какие-то утонченные спорные положения схоластической теологии или вопросы,
относящиеся к природе и сущности Бога: последние признаются бесконечными, а потому
вы можете попытаться их защитить, прикрываясь общими трудностями, связанными с
понятием бесконечности как таковой.
Благодать — вот важнейший пункт христианского вероучения;
ничто другое не упоминается чаще и не рассматривается подробнее в
Новом Завете, где благодать представлена как нечто совершенно
особенное, отличное от всего, данного в откровении иудеям или познанного
благодаря свету природы. Об этой самой благодати говорится как
о «даре Божьем», как об «исходящей от Иисуса Христа», как о
«царствующей», «изобилующей», «действующей». Утверждается, что через благодать
люди говорят, по благодати веруют; упоминаются «слава благодати», «богатства
благодати», «хранители благодати». О христианах говорится как о «наследниках благодати»;
они «принимают благодать», «возрастают в благодати», «сильны благодатью»,
«пребывают в состоянии благодати» или «отпадают от благодати». Наконец, мы узнаем,
что благодать их оправдывает и спасает.5 Следовательно, христианство представлено
как договор о благодати или дарование благодати. И хорошо известно, что никакой
другой пункт не породил в церкви больше дискуссий, чем это учение о благодати.
Какие конкретно споры о ее природе, пределах и влиянии, о благодати «всеобщей»,
«действенной», «достаточной», «предохраняющей», «непреодолимой» и т. д.
приводили в движение перья теологов католических и протестантских, янсенистов,в моли-
нистов,7 лютеран, кальвинистов и арминиан,8 обо всем этом мне совершенно не
любопытно знать, а потому нет никакой нужды говорить. Достаточно заметить, что вокруг
этих положений велась и до сих пор ведется упорнейшая борьба. Об одном только
желал бы я осведомиться, а именно: что же из себя представляет ясная и отчетливая
идея, обозначаемая словом благодать? Осмелюсь предположить, что человек способен
узнать простой смысл термина, даже не погружаясь с головой во все эти ученые
разыскания. И сделать это будет, конечно же нетрудно, — если только идея, соединяемая с
данным термином, в самом деле существует. Если же ее нет, то она не может стать ни
предметом подлинной веры, ни темой разумного спора. Люди, безусловно, способны
дурачить самих себя или других, воображая, будто они во что-то веруют, или что-то
доказывают, тогда как в сущности нет здесь ни доказательного обсуждения, ни веры,
но лишь пустячные словопрения. Я вполне понимаю слово «благодать» (grace), взятое
в обычном смысле — как «очарование» или как «благосклонность». Но когда
«благодать» означает некое активное жизненное управляющее начало, которое влияет и
воздействует на человеческую душу; некий принцип, отличный от всех естественных сил
и побуждений, — тут, признаюсь честно, я совершенно неспособен ее постичь или
к al
образовать какую-либо отчетливую идею, а потому я не могу соглашаться ни с одним
касающимся ее утверждением, а значит, не в силах иметь никакой веры, к ней
относящейся, — а то, что Господь не требует от человека невозможного, есть самоочевидная
истина. Когда-то по просьбе одного моего друга-философа я обращался к сочинениям
теологов, которые он мне рекомендовал, а с некоторыми богословами беседовал
лично - однако и после всего прочитанного и услышанного я так и не сумел ничего в этом
деле разобрать, ибо каждый раз, когда, отложив в сторону слово «благодать», я
заглядывал в собственный ум, обнаруживал я там лишь совершенную пустоту и полнейшее
отсутствие всяких идей. А поскольку человеческие умы и способности созданы, как я
склонен думать, весьма сходным образом, то я подозреваю, что и другие люди, если
они исследуют то, что они называют благодатью, с такой же тщательностью и
беспристрастностью, согласятся со мною, что здесь нет ничего, кроме голого имени. И это не
единственный случай, когда люди бывают уверены, будто они и в самом деле
понимают слово, которое часто слышат и произносят, — уверены по той лишь причине, что
оно стало для них привычным.
К подобному же роду принадлежат и многие другие положения, почитаемые
необходимыми предметами веры. В настоящем же случае человечество, на мой взгляд,
обманывается по следующей причине: люди говорят об этом священном принципе как
о чем-то действующем, определяющем и движущем, причем идеи свои они заимствуют
от вещей телесных, от движения, силы и импульса, свойственных телам, — последние
обладают вполне понятной чувственной природой, мы же ставим их на место некоей
духовной и непостижимой вещи, что представляет собой явный самообман. Ибо, сколь
бы ясной и вразумительной ни была идея телесной силы, отсюда вовсе не следует, что
идея благодати — сущности совершенно бестелесной — должна быть такой же. И хотя
мы способны ясно рассуждать, воспринимать, соглашаться и составлять мнения об
одной, это отнюдь не значит, что мы в силах совершать подобное и в отношении
другой. Вот так и получается, что ясная чувственная идея действительно
существующего порождает — или, скорее, становится предлогом для воображаемой духовной
веры, не имеющей в конечном счете никакого предмета, — ведь это же нечто совершенно
невозможное! Ибо не может быть согласия там, где нет идей, а где нет согласия, там не
может быть веры, а к тому, что невозможно, никого принуждать нельзя. Это столь же
очевидно, как и любое положение из Евклида.
9 [ Каждый разумный человек может использовать подобный способ
аргументации, чтобы опровергнуть и все остальные положения
христианской веры. А значит, вам не следует удивляться, если человек,
ведущий рассуждение на столь прочных основаниях и опирающийся на
столь очевидные и бесспорные принципы, останется глух ко всему, что
можете вы ему противопоставить с точки зрения моральной
очевидности или вероятных аргументов, каковые совершенно неспособны перевесить ясное
доказательство.
Ефранор. Чем больше глубины и убедительности в этих доводах, тем больше
порицания заслуживаете вы за то, что не вспомнили о них раньше. А что до меня, то я
никогда и слова не скажу против очевидности. Давайте, впрочем, посмотрим,
правильно ли я вас понял. Вы, стало быть, утверждаете, что каждое слово вразумительной
речи должно выражать определенную идею, и лишь поскольку эти идеи воспринима-
ются ясно и отчетливо, постольку речь имеет значение, в противном же случае она
бессмысленна и бессодержательна.
Алкифрон. Да.
Ефранор. И когда, например, я слышу слова человек, треугольник, цвет, они
должны пробуждать в моем уме отчетливые идеи тех вещей, знаками которых
являются, — иначе нельзя будет сказать, что я эти слова понимаю?
Алкифрон. Верно.
Ефранор. В том и заключается единственное истинное название языка?
Алкифрон. Именно это я и утверждаю.
Ефранор. Однако я не замечаю, чтобы всякий раз, когда слово человек
встречается мне в разговоре или при чтении, в моем уме возникала особая отчетливая идея
человека. Когда я, например, читаю в Послании ап. Павла к Галатам: "Ибо кто
почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя",* мне кажется, что я
постигаю смысл и силу этого утверждения, хотя и не образую для себя какую-то
определенную отчетливую идею человека.
Алкифрон. Совершенно верно: вы образуете в своем уме не особую идею Петра,
Якова или Иоанна, не идею человека белокурого или темноволосого, высокого или
низкорослого, толстого или худого, стройного или сгорбленного, мудрого, или
глупого, спящего или бодрствующего, — но абстрактную общую идею человека, идею,
исключающую все отдельные формы, размеры, оттенки, страсти, способности и любые
частные обстоятельства.
Чтобы составить более полное представление об этом предмете, вам нужно понять,
что человеческий ум обладает способностью рассматривать общую природу вещей -
независимо от всех частностей, которыми отдельные предметы отличаются друг от
друга.10 Возьмем, к примеру, Петра, Якова и Иоанна. В каждом из них вы можете
заметить известное сочетание роста, фигуры, цвета и прочих частных свойств,
посредством которых они воспринимаются нами по отдельности, отличаются от всех
остальных людей и, если можно так сказать, индивидуализируются. И вот, устраняя из идеи
человека характерное для отдельных лиц и сохраняя лишь то, что свойственно всем
людям, вы и образуете абстрактную всеобщую идею человека или человеческой
природы, которая не заключает в себе никакого особенного роста, облика, цвета или прочих
телесных и душевных качеств. Подобным же образом, как вы можете заметить,
отличаются друг от друга отдельные треугольники: их стороны являются равными или
неравными, а углы — большими или меньшими, почему их и называют
равносторонними или разносторонними, тупоугольными, остроугольными или прямоугольными.
Однако ум, исключив из своих идей все эти частные свойства и отличия, образовал
общую абстрактную идею треугольника, который не является ни равносторонним, ни
разносторонним, ни тупоугольным, ни остроугольным, ни прямоугольным, — но
всеми разом и ни одним из них в отдельности.** То же самое можно сказать и об общей
абстрактной идее цвета, которая, будучи чем-то отличным и отвлеченным от голубого,
красного, зеленого, желтого и всякого иного отдельного цвета, заключает в себе лишь
ту общую сущность, в которой все они совпадают. А сказанное об этих трех общих
именах и общих абстрактных идеях, ими выражаемых, можно применить и ко всем
* Гал. 6,13
** См. Локк. О человеч. разуме, кн. IV, гл 7.
Алкифрон
остальным. Ибо вам надлежит знать, что поскольку количество отдельных вещей или
идей беспредельно, то если бы каждая из них обозначалась или выражалась
специальным собственным именем, нам потребовалось бы бесконечное число слов, и язык стал
бы совершенно невозможен. Потому-то и получается, что названия или общие имена
означают в непосредственном и точном смысле не частные, но общие абстрактные
идеи, которые они непременно вызывают в уме всякий раз, когда используются
сколько-нибудь разумно. И без этого не было бы никакого сообщения или расширения
познаний, не существовало бы универсальной науки и каких-либо всеобщих
положений. Таким образом, для понимания любого утверждения или речи достаточно, чтобы
в нашем уме возникли отчетливые идеи, соответствующие идеям в уме говорящего,
независимо от того, являются ли они частными или только абстрактными общими
идеями. Но так как последние не столь ясны и привычны для заурядных умов,11 то
некоторые люди могут вообразить, будто у них нет определенной идеи; истина же
заключается в том, что в приведенном вами примере — там, где, как вам казалось, у
вас не было никакой идеи — вы обладали абстрактной общей идеей человека.
Подобным же образом, когда утверждается, что три угла треугольника равны двум прямым
или что цвет есть объект зрения, вполне очевидно, что данные слова означают не тот
или иной треугольник или цвет, но абстрактные общие идеи, отвлеченные от всего
свойственного индивидуальным вещам и включающие в себя лишь Универсальную
Сущность, общую, для всего рода треугольников или цветов.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, являются ли эти абстрактные
общие идеи ясными и отчетливыми?
Алкифрон. Ясностью и отчетливостью они превосходят все прочие
идеи, представляя собой единственный истинный объект науки,
которая и занимается одними лишь общими понятиями.
Ефранор. А не кажется ли вам весьма вероятным, что всякий
человек способен знать, имеет ли он ту или иную идею или не имеет?
Алкифрон. Несомненно. И чтобы это определить, ему достаточно заглянуть в
собственный ум и исследовать собственные мысли.
Ефранор. Но заглянув в собственный ум, я не обнаруживаю, чтобы я имел или
мог иметь упомянутые выше общие абстрактные идеи человека или треугольника, или
же идею цвета, отвлеченную от всех отдельных цветов.* Я закрываю глаза и, прилагая
величайшие усилия, размышляю обо всем, что происходит в моем собственном уме, —
и однако, нахожу совершенно невозможным образовать подобные идеи.
Алкифрон. Размышлять с должным вниманием, обращая ум на самого себя, есть
задача трудная, и по силам она не каждому.
Ефранор. Не говоря уже о том, что каждый — как вы сами признали — может без
труда определить, имеет ли он ту или иную идею или нет, я склонен думать, что и
другие обладают не большей, чем я, способностью образовать подобную идею. Прошу
вас, Алкифрон, скажите, какие вещи называете вы абсолютно невозможными!
Алкифрон. Те, которые заключают в себе противоречие.
Ефранор. Можете ли вы образовать идею того, что заключает в себе противоречие?
* См. Введение к Тракт, о принц, чел. знания, опубликованному в 1710 году, где абсурдность
абстрактных идей доказывается вполне.12
ЕСвХЗ
Ij^^f^" Джордж Беркл, ^)^Γ3
Алкифрон. Не могу.
Ефранор. А следовательно, ни что абсолютно невозможное не способно стать
предметом вашей идеи?
Алкифрон. С этим я согласен.
Ефранор. Но могут ли существовать в действительности тот цвет или тот
треугольник, общие абстрактные идеи которых вы описывали?
Алкифрон. Абсолютно невозможно, чтобы подобные вещи существовали в
природе.
Ефранор. А если так, то не следует ли отсюда, что они не могут существовать и в
вашем уме, или, другими словами, что вы не можете представить или образовать идеи
этих вещей?
Алкифрон. Вы, Ефранор, похоже, не отличаете чистый интеллект от
воображения. Абстрактные общие идеи являются, на мой взгляд, объектом чистого интеллекта,
который способен их постигать, хотя, вероятно, их и нельзя представить в
воображении.
Ефранор. Не думаю, чтобы посредством какой-либо способности, будь то
интеллект или воображение, мог я постичь или образовать идею того, что является
невозможным и заключает в себе противоречие. И мне очень трудно понять, каким образом
можете вы допустить подобное в отношении тех примеров, которые вам угодно
превращать в аргументы против веры в Бога и религиозных таинств.
Алкифрон. Здесь, должно быть, присутствует какая-то ошибка.
Возможно ли, чтобы всеобщее знание существовало без всеобщих
положений, или эти последние — без общих имен, каковые, в свою
очередь, немыслимы без общих идей, представляя которые имена и
становятся общими?
Ефранор. Но разве не могут слова становиться общими, если их
делают знаками какой угодно из всех частных идей, принадлежащих благодаря
взаимному сходству к одному и тому же виду, — т. е. без содействия какой-либо
абстрактной общей идеи?13
Алкифрон. Выходит, никаких общих идей не существует?
Ефранор. Но разве не вправе мы допустить общие идеи, не допуская, однако, при
этом, что они образуются путем абстрагирования, а значит, не признавая общих
абстрактных идей? Мне кажется, частная идея может стать общей, когда ее используют
для того, чтобы представлять или выражать другие идеи; общее же знание, на мой
взгляд, имеет дело со знаками или общими идеями, которые становятся таковыми по
своему значению, причем рассматриваются они скорее в своей способности относиться
к другим идеям и их замещать, нежели сами по себе и по своей собственной природе.
К примеру, линия черного цвета длиною в дюйм сама по себе является частной идеей,
однако, она может стать общей, если использовать ее как знак, относящийся к любой
другой линии.14
Алкифрон. Вы, стало быть, думаете, что слова становятся общими, когда
представляют неопределенное количество частных идей?
Ефранор. Так мне кажется.
Алкифрон. А потому следует предполагать, что всякий раз, когда я слышу общее
имя, оно вызывает в моем уме ту или иную частную идею данного вида?
Ефранор. Не совсем так. Скажите, Алкифрон, неужели вы считаете, что всякий
раз, когда в речи или при чтении вам встречается слово человек, необходимо, чтобы
вы образовывали в своем уме идею отдельного человека?
Алкифрон. Признаюсь — нет, а обнаружив, что слова не всегда вызывают у меня
идеи частные, я стал думать, будто обладаю абстрактными общими идеями, которые и
внушаются этими словами. И таково мнение всех мыслящих людей, согласных в том,
что слова служат лишь для внушения идей. Да и в самом деле, какое еще значение
можем мы им приписать?]
Ефранор. Какою бы ни была цель употребления слов или имен,
я не в силах думать, будто заключается она в совершении
невозможного. Так давайте же исследуем, в чем она состоит, посмотрим, нельзя ли
как-то разобраться в том, что мы с вами делаем буквально каждый
день. Все согласны: слова суть знаки, а потому стоило бы исследовать
использование прочих знаков, чтобы установить, в чем назначение
слов. К примеру фишки за карточным столом употребляются не ради самих себя, но
лишь в качестве знаков, которые заменяют деньги, как слова — идеи. А теперь
скажите, Алкифрон, неужели всякий раз, когда в ходе игры используются фишки, нужно
образовывать идею точной суммы или стоимости, которую каждая из них обозначает?
Алкифрон. Никоим образом: игрокам достаточно в начале игры договориться,
какую сумму обозначает каждая фишка или марка, а в конце — поставить эти суммы на
место фишек.
Ефранор. А при подведении итога — когда числа обозначают у нас фунты,
шиллинги и пенсы — полагаете ли вы необходимым на протяжении всего математического
действия, на каждом его этапе, образовывать идеи фунтов, шиллингов и пенсов?15
Алкифрон. Нет: будет достаточно, если после его завершения эти числа и
определят наши поступки по отношению к вещам.
Ефранор. А отсюда следует, что слова могут быть вовсе не лишенными смысла,
даже если они и не всякий раз при своем употреблении вызывают в наших умах
обозначаемые ими идеи. Довольно и того, что мы, если нужно, в силах ставить вещи и
идеи на место их знаков. Отсюда также вытекает, что помимо обозначения и внушения
определенных идей, слова могут иметь еще одну цель, а именно: влиять на наше
поведение и поступки, что достигается образованием правил, коими нам надлежит
руководствоваться, или пробуждением в наших душах известных страстей, склонностей и
чувств.,в А потому речь, направляющая наши действия, побуждающая к их
совершению или воздержанию от них, может быть полезной и осмысленной, хотя и не всякое
слово, из которых она составлена, привносит в наши умы отчетливую идею.
Алкифрон. Похоже, так и есть.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, разве не являются идеи совершенно инертными?17
Алкифрон. Являются.
Ефранор. А значит, действующее существо, деятельный ум или духне может быть
идеей или чем-то на нее похожим. Отсюда следует, что слова, указывающие на
активное начало или дух, при строгом и правильном своем употреблении идей не
обозначают. Однако и бессодержательными они не являются: ведь мне понятно, что обозначено
термином «я», или «личность», и я знаю, какой смысл он в себе заключает — хотя это
не есть идея или нечто с нею сходное, но та сущность, которая мыслит, хочет, воспри-
KXDca
K)^F Д«оРД« Беркл. ^Ш^ГЗ!
нимает идеи и ими оперирует.18 И, безусловно, следует согласиться, что мы обладаем
определенным представлением (notion), понимаем или знаем, что означают термины
«я», «воля», «память», «любовь», «ненависть» и тому подобные, хотя слова эти,
строго говоря, не внушают нам соответствующего числа отчетливых идей.
Алкифрон. И какой же вывод желаете вы отсюда сделать?
Ефранор. Да тот самый, который уже был сделан: слова могут иметь смысл, даже
если они не обозначают идей.* А допущение противоположного сказанному, похоже, и
произвело на свет теорию абстрактных идей.
Алкифрон. Стало быть, вы не признаете, что ум в силах абстрагировать?
Ефранор. Я не отрицаю того, что в известном смысле он способен абстрагировать,
поскольку те вещи, которые могут в действительности существовать отдельно друг от
друга или действительно воспринимаются порознь, наш ум может представлять себе
по отдельности или абстрагируя одну от другой,19 например, голову человека —
отдельно от его тела, цвет — от движения, фигуру — от веса. Но ведь отсюда не следует,
будто ум способен образовывать абстрактные общие идеи, которые кажутся
совершенно невозможными.
Алкифрон. Между тем согласно общепринятому мнению каждое имя
существительное выделяет и демонстрирует уму одну определенную идею, отличную от всех прочих.
Ефранор. Скажите, пожалуйста, Алкифрон, не является ли слово «число»
подобным именем существительным?
Алкифрон. Является.
Ефранор. Тогда попытайтесь, если сможете, образовать такую отвлеченную идею
числа, которая исключала бы все исчисляемые знаки, слова и вещи. О себе скажу
честно: я к этому не способен.
Алкифрон. Да неужели это так трудно — образовать простую идею числа, объект
наиболее достоверной и доказательной науки? Давайте посмотрим, сумею ли я
абстрагировать идею числа от обозначающих числа имен и символов и рт всех отдельных
вещей, поддающихся счету.
Тут Алкифрон на некоторое время умолк, а потом произнес:
— По правде говоря, не вижу, как бы я мог это сделать.
Ефранор. Но хотя ни вы, ни я, похоже, не способны образовать отчетливые
простые идеи чисел, мы, тем не менее, можем весьма осмысленно и целесообразно
использовать слова, обозначающие числа. Они руководят нами в устройстве и ведении
наших дел, являясь настолько необходимыми, что мы никак не сумеем без них обойтись.
И однако если о способностях других людей позволительно судить по моим
собственным, то получить отчетливую и простую идею числа так же трудно, как постичь любое
таинство религии.20
Вернемся, впрочем, к избранному вами примеру. Давайте
исследуем, какую же идею силы сможем мы образовать, если отвлечемся от
тела, движения и внешних чувственно воспринимаемых действий. Что
до меня, то я не нахожу, чтобы я имел или мог иметь подобную идею.
Алкифрон. Но ведь каждому, без сомнения, ясно, что
подразумевается под силой.
* См. Принципы человеческого знания, разд. 135 и Введение, разд. 20.
Ефранор. Я, однако, сомневаюсь, каждый ли способен образовать отчетливую
идею силы?2] Покорнейше вас прошу, Алкифрон, не позволяйте именам вас
обманывать, отложите в сторону слово сила, исключите из ваших мыслей все прочее, а потом
посмотрите, какую же точную и ясную идею силы вы получите.
Алкифрон. Сила есть в телах то, что производит движение и другие чувственно
воспринимаемые следствия.
Ефранор. В таком случае она есть нечто отличное от этих следствий?
Алкифрон. Да.
Ефранор. А сейчас да будет вам угодно отвлечься от ее объекта и от производимых
ею действий, чтобы рассмотреть силу самое по себе, в ее собственной ясной и точной
идее.
Алкифрон. Признаюсь: это, оказывается, не так уж просто.
Ефранор. Так последуйте вашему собственному совету и, чтобы легче было
размышлять, закройте глаза.
Алкифрон закрыл глаза и на несколько минут задумался — а потом объявил, что у
него ничего не выходит.
— А поскольку, как вы сами заметили, человеческие умы и способности созданы
чрезвычайно сходным образом, — продолжал Ефранор, — то мы вправе
предположить, что и другие люди не больше нас с вами могут иметь ту идею, образовать
которую ни вы, ни я, кажется, не в силах.
Алкифрон. Да, действительно.
Ефранор. И однако, достоверно известно, что по поводу этой самой силы
существует великое множество теорий, рассуждений и споров, утонченных спекуляций и
тщательнейших дистинкций. А чтобы объяснить природу силы и различить отдельные
ее виды или классы, люди ученые использовали термины «тяготение»,
«противодействие», vis inertiae, vis insita, vis impressa, vis mortua, vis viva,22 «импульс» (impetus),
«количество движения» (momentum), «стремление» (sollicitatio), «влечение» (conatus)
и многие другие подобные выражения, причем вокруг определения или истолкования
этих терминов возникали горячие споры. Люди приходили в недоумение, пытаясь
установить, является ли сила телесной или духовной, исчезнет ли она вместе с
действием, и каким путем передается от одного тела к другому. Странные парадоксы
высказывались о ее природе, свойствах и величине: утверждали, к примеру, что в одном
неподвижном теле могут одновременно существовать противоположные силы, или что
сила толчка мельчайшей частицы бесконечна. Об этих и прочих курьезных вещах того
же рода можно справиться у Борелли23 в De Vi Percussionis, у Торричелли24 в Lezioni
Academiche, в Exercitationis Германуса2:> и у других авторов. Ученому свету хорошо
известно, какая дискуссия велась между математиками, в частности — между г-ном
Лейбницем и г-ном Папеном26 на страницах Leipsic Acta Eruditorum27 о
пропорциональности сил: относятся ли силы друг к другу как произведения массы и скорости
или как произведения массы на квадрат скорости,28 — вопрос не решенный, кажется,
до сих пор, что неудивительно, коль скоро существование самого предмета спора
подвергается сомнению. Г-н Лейбниц отличает «первоначальный порыв» (nisus elementaris)
от «импульса» (impetus), образованного повторным действием nisus elementaris, и,
похоже, думает, что они не существуют в природе реально, но лишь создаются умом
путем абстрагирования.29 Тот же автор, трактуя об исконной действующей силе,
прибегает к помощи субстанциальных форм Аристотелевой «энтелехии».30 А остроумный
Торричелли сообщает, что сила и импульс являются тонкими абстракциями и
духовными квинтэссенциями; количество движения и скорость падающих тел он называет
un certo che и un поп socket т.е. попросту говоря, сам не знает, что же это такое. В
общем, не вправе ли мы утверждать, что если исключить тело, время, пространство,
движение и все чувственно воспринимаемые меры и действия силы, то образовать ее
идею нам будет так же трудно, как идею благодати?32
Алкифрон. Не знаю даже, что и думать об этом.
Ефранор. Между тем вы, я полагаю, признаете, что существуют
весьма достоверные утверждения или всеобщие положения,
касающиеся силы, которые содержат полезные истины: например, что тело, на
которое действует результирующая сил, проходит диагональ
параллелограмма за то же время, за которое оно прошло бы его стороны, если
бы эти силы действовали по отдельности. И разве не имеет этот
принцип чрезвычайно широкого применения? Не на нем ли основывается учение о
сложении и разложении сил, а как следствие этого — бесчисленные правила и теоремы,
которые руководят человеческими действиями и истолковывают различные явления во
всей области механики и математической философии? И если посредством этого
учения о силе люди совершают многочисленные изобретения в механике33 и научаются
создавать машины и механизмы, с помощью которых можно выполнять действия
сложные и иным образом невыполнимые; если учение, столь благотворное здесь, на
Земле, служит также ключом к открытию природы небесных движений, — если все
это так, то станем ли мы отрицать его практическую или теоретическую пользу от того,
что не обладаем отчетливой идеей силы? И на каком же основании можем мы отрицать
по отношению к благодати то, что признаем касательно силы? Если по поводу одной
из них возникают вопросы, споры, затруднения, различия мнений и понятий, то ведь
точно так же обстоит дело и в отношении другой; и если мы не способны образовать
точную и ясную идею в первом случае, то не можем мы этого сделать и во втором. Так
не должны ли мы заключить по разумной аналогии, что истинные и полезные
положения могут существовать как в том, так и в другом случае? Что благодать может быть
предметом нашей веры и влиять на нашу жизнь как начало, уничтожающее дурные
склонности и порождающее добрые нравы — пусть даже мы и не в силах получить
ясную ее идею, отличную или абстрагированную от Бога — Творца благодати,
человека — ее объекта, добродетели и благочестия — ее следствий?
И неужели мы не признаем, что в вещах телесных и духовных, в
вере и науке имеют силу одни и те же методы доказательства, одни и те
же правила логики, разума и здравого смысла? Неужели не станем мы
исследовать откровения Бога и изобретения человеческие с одинаковой
беспристрастностью, делая одни и те же скидки и поправки? И,
насколько я понимаю, того философа, который отстаивает учение о силе
и отвергает учение о благодати, который признает абстрактную идею треугольника и в
то же время поднимает на смех Святую Троицу, — такого философа, говорю я, нельзя
счесть свободным от предрассудков и нельзя сказать о нем, что он взвешивает на
точных и справедливых весах. Впрочем, какими бы предвзятыми и предубежденными
ни были другие мелкие философы, вы, Алкифрон, уже установили в качестве принци-
па, что и в религии должны быть допущены те же самые правила логики, которые
принимаются в прочих областях.
Лисикл. По-моему, Алкифрон, было бы куда благоразумнее полагаться на
остроумие и шутку, нежели подвергать религию скучному испытанию разумом и логикой.
Алкифрон. Не волнуйтесь, Лисикл: по всем правилам истинного разума
абсолютно невозможно, чтобы какое-либо таинство — и всех менее Троица — было
действительным предметом человеческой веры.
Ефранор. Я не удивлюсь тому, что вы так думали — пока считали, что никто
не способен согласиться с каким-либо положением не воспринимая или не образуя
в своем уме ясные идеи, обозначенные его терминами. Но хотя термины суть
знаки, тем не менее, допустить, что знаки могут иметь смысл, даже если они не
вызывают представляемых ими идей (лишь бы только они служили для того,
чтобы упорядочивать наши желания, страсти и поступки и ими руководить) — вы
тем самым признали, что человеческий ум может соглашаться с утверждениями,
содержащими подобные термины, когда последние воздействуют на него и им
управляют, пусть даже ум и не воспринимает отчетливо идеи, этими терминами
обозначенные. А отсюда следует, что человек может верить в учение о Троице,
если в качестве откровения, данного в Священном Писании, он обнаруживает, что
Отец, Сын и Св. Дух суть Бог, и что существует лишь один Бог, — хотя человек
при этом и не образует в своем уме какие-либо абстрактные или отчетливые идеи
Троицы, субстанции или личности. Довольно и того, что учение о Творце,
Искупителе и Святителе производит надлежащее впечатление на его душу, порождая в
ней любовь, надежду, благодарность и послушание, и, таким образом, становится
действенным жизненным принципом, влияющим на его поступки и поведение
соответственно тому понятию о спасающей вере, которое и требуется от
христианина. Справедливы эти выводы или нет, но они, я подчеркиваю, вытекают из
ваших собственных принципов и уступок.
Но для большей ясности было бы кстати полюбопытствовать, нет ли чего-нибудь
аналогичного этой христианской вере и в самой мелкой философии. Вообразите
некоего светского джентльмена или молодую леди; люди они слишком занятые и мыслить
самостоятельно им некогда, а потому они и становятся свободомыслящими
понаслышке, из вторых рук. Представьте, что подобные особы имели счастье быть
заблаговременно посвященными в принципы вашей секты посредством бесед с людьми
глубокомысленными и гениальными, которые часто заявляли, что миром правит судьба или
случай (что именно, неважно), — так вот, станете ли вы отрицать, что упомянутые
лица могут согласиться с любым из этих утверждений?
Алкифрон. Не стану.
Ефранор. И нельзя ли подобное согласие по всей справедливости назвать верой!
Алкифрон. Можно.
Ефранор. И однако, вполне вероятно, что эти ученики мелкой философии не
погружаются в исследования предмета настолько глубоко, чтобы образовать какую-либо
абстрактную, точную или определенную идею судьбы или случая?
Алкифрон. И с этим я согласен.
Ефранор. А значит, об этом джентльмене или о подобной леди можно будет,
по-вашему, сказать, что они верят или имеют веру там, где не обладают идеями?
Алкифрон. Можно.
|ЕШЙР~ Джордж Беркл. ^Р^Д
Ефранор. А не способна ли такая вера или такое убеждение произвести вполне
реальные следствия и проявиться в поведение и в самом укладе их жизни, освободив
этих людей от всяких страхов и предрассудков, даровав им способность получать
истинное наслаждение от мира, а в придачу — благородную праздность и
возвышенное равнодушие касательно того, что случится с ними впоследствии.
Алкифрон. Согласен.
Ефранор. Й разве нельзя на столь же справедливых основаниях допустить, что и
христиане веруют в божественную природу нашего Спасителя или в то, что в Нем Бог
и человек составляют одну Личность, и что они, христиане, в этом воистину
убеждены—в той степени, в какой подобная вера или мнение становятся реальным движущим
принципом их жизни и поведения? Ибо в силу подобного убеждения они подчиняются
Его воле, веруют в Его учения, осуществляют Его заповеди, хотя и не образуют при этом
абстрактную идею соединения божественной и человеческой природы и не способны
прояснить понятие личности настолько, чтобы доставить полное удовлетворение
мелкому философу. И мне кажется очевидным, что если бы только те, кто после
тщательного исследования сумели объяснить принцип индивидуализации в человеке, развязали
все узлы и ответили на все возражения, возникающие по поводу тождества личности
человека, — если бы только подобные люди и никто другой требовали от нас
истолкования божественных таинств, то не так уж часто приходилось нам держать ответ
касательно ясной и отчетливой идеи личности в отношении к Троице, и затруднения в этом
пункте куда реже приводились бы в качестве аргументов против нашей веры.
Алкифрон. Тождество личности, на мой взгляд, подобных загадок не содержит.
Ефранор. И в чем оно, по-вашему, заключается?
Алкифром. В сознании.34
Ефранор. Все, что само по себе возможно, мы вправе предположить
действительным, не так ли?
Алкифрон. Так.
Ефранор. Тогда предположим следующее (это возможно по природе вещей и было
описано, как факт): по причине какого-то несчастного случая или болезни личность
впадает в столь полное беспамятство, что утрачивает сознание своей прежней жизни и
прежних идей. И вот я спрашиваю вас: неужели это по-прежнему одна и та же
личность?
Алкифрон. Это один и тот же человек, но не одна и та же личность. В самом деле,
вы не должны предполагать, будто личность утрачивает свое прежнее сознание, ибо
это невозможно для нее, хотя, пожалуй, и возможно для человека. В таком случае,
однако, он становится другой личностью. Следует, впрочем, признать, что и в одной и
той же личности могут исчезать некоторые старые идеи и появляться новые, — однако
полная их смена противоречит тождеству личности.
Ефранор. В таком случае допустим, что некто имеет идеи и обладает сознанием в
течение известного промежутка времени, который мы разделим на три равные части,
причем их конечные пункты будут обозначены буквами А, В и С. В течение первого
периода этот человек приобретает известное число идей, которые в точке А
сохраняются; в течение второго он удерживает одну половину своих прежних идей, но
утрачивает другую, вместо которой получает такое же число новых идей, так что в
пункте В его идеи наполовину новые и наполовину старые. Предположим, что в
течение третьего периода он утратил остаток идей, приобретенных в течение первого,
и взамен получил новые, которые сохраняются в точке С вместе с идеями,
приобретенными во втором периоде. Является ли это предположение вероятным и
правдоподобным?
Алкифрон. Да.
Ефранор. Исходя из этих посылок, можно, как я склонен думать, доказать, что
тождество личности не заключается в сознании.
Алкифрон. Каким же образом?
Ефранор. Судите сами, мне же дело представляется так. Личность в точках А и В
одна и та же, поскольку, согласно предположению, сознает общие идеи. Личность в
точке В (по той же причине) — та же, что и личность в точке С. А значит, личность в
точке А совпадает с личностью в пункте С в силу той бесспорной аксиомы, что duoe
conveniunt uni tertio conveniunt35. Однако личность в пункте С не имеет общих идей с
личностью в пункте А. Следовательно, тождество личности не заключается в
сознании. Как вы думаете, Алкифрон, разве это не очевидный вывод?
Алкифрон. Вот, что я думаю, Ефранор: вы никогда не поможете моей вере тем,
что ставите в тупик мой разум.
Ефранор. Существует, если не ошибаюсь, практическая вера или
согласие, проявляющаяся в поступках человека, пусть даже разум его
и не располагает теми абстрактными, ясными и отчетливыми идеями,
которые, что бы там ни утверждали философы, обычным людям
недоступны. Тем не менее, и у таких людей, даже по вашему собственному
признанию, можно найти немало примеров подобной веры — в делах,
не имеющих отношения к религии. Так почему же нельзя наставлять обыкновенные
умы — и именно в этом, спасительном для души смысле, — в тех самых доктринах,
касающихся небесных таинств, которые вы можете счесть совершенно непригодными к
изучению и вере, если принимать их в вашем толковании?
— А это ложное понимание, — заметил Критон, — и послужило поводом ко
множеству нечестивых я неуместных насмешек. Однако все они могут быть по
справедливости обращены на самих же мелких философов, смешивающих христианство со
схоластикой и приписывающих другим те затруднения, химеры и несообразности,
которые часто являются порождением их собственного мозга и проистекают от их
собственного негодного образа мышления. Кому же неясно, что большинство христиан —
например, ремесленники, крестьяне, слуги — о подобного рода идеальной и абстрактной
вере не имеют даже понятия? И какие же намеки и указания в Священном Писании
заставляют нас думать, будто фабрикация абстрактных идей и есть то дело, которое
было предписано иудеям или христианам? Обнаруживается ли нечто подобное в
законе или в пророках, у евангелистов или у апостолов? Любой человек, ум которого не
испорчен лженаукой, способен понять, что дарующая спасение вера христиан
совершенно иного рода: это жизненное и действенное начало, порождающее в нас
милосердие и послушание.
Алкифрон. А в таком случае что же нам думать о дискуссиях и постановлениях
знаменитого Никейского Собора36 и великого множества соборов последующих? Чего
добивались эти почтенные отцы церкви, гомойусиане37 и гомоусиане38? Зачем
изводили они самих себя и докучали миру головоломными терминами и изощренными
спорами?
Ю^&Г ДжорД» Беркли ^Й^^ГЗ
Критон. Какими бы ни были их намерения, заключались они уж во всяком случае
не в том, чтобы порождать в умах простых христиан утонченные абстрактные идеи
таинств — ведь это очевиднейшим образом невозможно. И едва ли в ту пору
большинство христиан полагало, будто их долг хотя бы отчасти состоит в том, чтобы, отложив
в сторону слова и закрыв глаза, образовывать эти абстрактные идеи — как не
поступают люди подобным образом и ныне по отношению к силе, времени, числу и другим
вещам, касательно которых однако, имеются у них вера и знание, ведутся
рассуждения и споры. И мне кажется, что каким бы ни был источник этих дискуссий и как бы
они ни велись — а здесь, надо думать, имела свою долю и слабость человеческая -
важнейшая цель обеих сторон заключалась не в том, чтобы посредством этих спорных
терминов внушить человеческим умам точные положительные идеи, — нет, цель была,
скорее, отрицательной: опровергнуть, с одной стороны, пантеизм, а с другой — савел-
лианство.*39
Алкифрон. А что же нам думать о великом множестве ученых и хитроумных
теологов, время от времени одаривавших мир новыми истолкованиями таинств;
теологов, которые, немало потрудившись (как они уверяют) ради приобретения точных
идей сами, предлагали другим свои открытия и спекуляции в качестве положений
веры?
Критон. Всем подобным учредителям новшеств в религии я бы вслед за Иерони-
мом сказал так: "Зачем же вознамерились вы учить нас тому, чему никто прежде в
течение стольких веков не учил? Зачем вы объясняете то, чего ни Петр, ни Павел не
находили нужным объяснять?"** И следует признать, что рациональное истолкование
таинств в теологии — если даже допустить, что подобная претензия столь же
бесплодна, как поиск философского камня в химии или вечного двигателя в механике — не
больше, чем эти последние, может быть поставлена в вину профессии как таковой, а
лишь упрямым и недалеким ее представителям.
Только что сказанное касается, на мой взгляд, и других таинств
религии. Человек может, например, оказаться неспособным
образовать отвлеченную идею первородного греха или способа его передачи,
однако вера в эти предметы в силах породить в душе человека
спасительное чувство его собственного несовершенства и благости Его
Искупителя; отсюда могут проистекать добрые нравы и мнения, а из
них — добродетельные поступки, этот подлинный итог веры, каковая, если
рассматривать ее в истинном свете, отнюдь не является чем-то противоречивым или
непостижимым (как иные желали бы нас уверить). Нет, вера соответствует самым обычным
способностям, ибо относится скорее к воле и чувствам, нежели к рассудку, и
порождает скорее святость жизни, а не утонченные теории. Вера, говорю я, есть не
пассивное восприятие, но действенная убежденность души, всякий раз вызывающая у тех,
кто имеет веру, соответствующее переживание, склонность или действие, что было
бы несложно доказать и пояснить примерами, взятыми из области человеческих дел.
И действительно, если видеть в христианской религии установление, созданное и
* Vid. Sazomen. lib. II. cap. 8.40
·* Hieronym. Ad Pammachium et Ocean um, de Erroribus Origenis.11
приспособленное скорее для обыкновенных умов, чем для более утонченных талантов
( то ли усовершенствованных, то ли заведенных в тупик своими
головокружительными умозрениями); если таким образом черпать наши понятия о вере скорее из
обыденной жизни и обычного поведения всего рода человеческого, нежели из особенных
систем некоторых утонченных теоретиков, — тогда, я полагаю, будет не так уж
трудно понять и оправдать смысл и цель нашей веры в таинства — вопреки
самонадеянным и категоричным заявлениям мелких философов; последних, впрочем, легко
поймать в те самые силки, которые они изготовили и расставили для других. А эта
страсть к спорам, мать и кормилица ересей, без сомнения, весьма поугаснет, если
принять в расчет, что вещи надлежит оценивать не по цвету, форме или отпечаткам,
но прежде всего по их весу. И если бы иные спорщики-богословы сделали мерой
своего усердия важность обсуждаемых мнений, то они бы избавили от многих хлопот
и себя, и других людей. Ибо тот, кто образует свои понятия о вере, мнении и
согласии, опираясь на здравый смысл, пользу и обычай; кто подверг зрелому
размышлению природу знаков и языка, тот, конечно же, не почувствует особой
склонности оспаривать словесную формулировку таинства или нарушать церковный мир
ради того только, чтобы сохранить или отвергнуть какой-нибудь термин.
Однако вот вам ясный пример, способный убедить в необходимости и
действенности веры, не предлагающей точных идей. Представим, что некий светский человек,
мелкий философ, расточительный и алчный, с безмерными вожделениями, но в
стесненных обстоятельствах, получил возможность завладеть большим состоянием
посредством одного подлого поступка, одного-единственного обмана, который он
способен совершить тайно и с полнейшей безнаказанностью. Разве не естественно
предположить, что рассуждать он будет следующим образом: "Всякий человек,
находящийся в своем уме, стремится к собственной выгоде. А выгоды нынешней жизни
относятся либо к душе, либо к телу, либо к состоянию. Так вот, если я совершу этот
дурной поступок, душа моя будет спокойна (ведь ей нечего страшиться ни теперь, ни
в будущем), мои телесные наслаждения умножатся, а мое состояние увеличится."
А сейчас вообразим, что один из ваших утонченных теоретиков заводит с ним речь
о гармонии души, о благожелательности, о внутреннем достоинстве, о правдивости
характера — одним словом, о красоте добродетели, единственном мотиве, который он
способен положить на чашу весов против всех земных интересов и чувственных
удовольствий. Как вы думаете, не окажется ли эта попытка тщетной? С другой
стороны, внушите ему твердую веру или убежденность в том, что он утратит вечное
блаженство или подвергнется вечным мукам — этого одного будет достаточно, чтобы
склонить чашу весов. И я спрашиваю вас, способна ли самая прекрасная и
утонченная философия вашей секты предложить подобному человеку в подобной ситуации,
дабы отвратить его от задуманного, нечто большее, нежели уверения в том, что
отвлеченная радость души и удовольствия внутреннего морального чувства, το καλόν,
суть то, что составляет его подлинный интерес? И как же это подействует на душу
загрубелую, ко всем подобным тонкостям невосприимчивую, — и в то же время
подверженную сильнейшему влиянию телесных удовольствий, внешних выгод,
мишурных украшений и жизненного комфорта? Но стоит лишь внушить ему
искреннюю веру в будущую жизнь — пусть даже это будет тайна, пусть это будет нечто
такое, чего не видел глаз, не слышало ухо и не входило то в сердце человеку — и
K^^(F~ Д»РРД« Беркли Ч()^П
благодаря подобной вере тот же самый человек воздержится от осуществления своего
злого умысла — по причинам, которые всякий может понять. Я готов признать, что
те положения, которые отстаивают ваши изысканные моралисты, человеку
благоразумному, склонному к размышлению и философии, покажутся сколь угодно
привлекательными и превосходными. Осмелюсь, однако, заметить: наш мир так устроен,
что подействуют они на немногих, очень немногих людей. А значит, мы убеждаемся в
необходимой пользе, равно как и в мощном воздействии веры — даже там, где
идеями мы не обладаем.
Алкифрон. Кажется, вы, Ефранор, желаете убедить меня в том,
что в вере в таинства нет ничего особенно нелепого - как это склонны
полагать мы — и что нет надобности отрекаться от собственного
разума ради того, чтобы устоять в своей вере. Но если это справедливо, то
почему же так получается: чем обширнее у человека знания, тем слабее
его вера?
Ефранор. Ах, Алкифрон, вы научили меня тому, что самое важное — это
проникнуть в сущность вещей и проанализировать их природу вплоть до исходных
первоначал. Вот я и попытаюсь применить этот метод, чтобы выяснить природу
веры — с каким успехом, это уж вам судить, ибо сам я не дерзну, опираясь лишь на
собственное суждение, решать, прав я или нет. Впрочем, вот, как это мне
представляется. Возражения против веры вовсе не являются следствием знания, но
проистекают, скорее, от неведения того, что же такое знание, каковое неведение
обнаруживается, пожалуй, даже у тех, кто в той или иной отдельной области знания слывет
великим авторитетом. Наука и вера сходны в том, что обе предполагают согласие
ума, а поскольку природа первой более ясна и очевидна, то ее и следует рассмотреть
в самом начале, дабы пролить свет и на вторую. Если исследовать данный предмет,
начиная от первоисточника, то обнаружится, что человеческая душа, естественным
путем получающая идеи отдельных конкретных вещей и предназначенная не для
простого их созерцания, но для действий и операций с этими идеями, душа,
стремящаяся при этом к собственному счастью, нуждается в известных общих правилах или
теоремах, которые бы и руководили ее действиями в этом стремлении, —
удовлетворение же данной потребности и есть истинная, первоначальная и разумная цель наук
и искусств. А поскольку эти правила имеют всеобщий характер, то их можно
получить не через простое рассмотрение исходных идей или отдельных вещей, но с
помощью символов или знаков, которые в меру своей универсальной природы и
становятся непосредственным орудием и материалом науки. Следовательно, наш ум
продвигается в познании не путем голого созерцания отдельных вещей, и того
менее — их общих абстрактных идей, но благодаря удачному выбору и умелому
использованию знаков. Всем известно, что такое, к примеру, сила или число, взятые в
конкретном смысле вместе с их объектами, знаками, сопутствующими
обстоятельствами, — однако, никто не в силах их постичь, если рассматривать их абстрактно, в
самих себе, в их точных идеях. Отсюда ясно, что не абстрактная сущность силы и
числа является основой науки, ну а то, что простое рассмотрение их частных идей не
есть метод развития соответствующих наук, может уразуметь всякий, способным
мыслить: ведь совершенно очевидно, что любой неграмотный человек понимает
смысл слов, обозначающих числа в обыденной речи, ничуть не хуже самого
знаменитого философа или математика.
Но вот в чем заключается различие между ними: тот, кто понимает
систему записи чисел, способен таким образом быстро и отчетливо
пробегать все многообразие и все степени числа, а с помощью общих
правил — с легкостью выполнять математические действия. И
насколько очевидна польза этих операций для человеческой жизни,
настолько же очевидно и то, что их выполнение зависит от удачно
избранной системы записи.
Если мы вообразим каких-нибудь грубых дикарей, лишенных употребления
языка, то можно предположить, что математика останется им недоступной. Зато
первым шагом к подобной науке было бы использование имен, повторяя которые в
известном порядке, они смогли бы выразить бесконечные степени числа.
Следующим шагом стало бы изобретение неизменных по природе и доступных зрению
знаков, вид й порядок которых должно выбирать тщательно и удачно
приспосабливать к именам. Подобное обозначение или запись в меру своей упорядоченности и
удобства облегчит открытие и применение общих правил, содействующих
человеческому уму в мышлении и рассуждении, а так же в расширении, регистрации и
сообщении его поананий о числах, причем во всех этих операциях ум имеет дело
непосредственно со знаками или записями, которые руководят его действиями по
отношению к конкретным вещам или конкретным числам (как называют их
логики) — но никогда не рассматривает простую, абстрактную, интеллектуальную,
общую идею числа. [При своем употреблении знаки, действительно, указывают на
отношения и связи между вещами — но эти отношения не являются абстрактными
общими идеями, поскольку касаются они отдельных вещей и не внушают уму
никаких других отчетливых идей, кроме частных идей и знаков.]42 И, я полагаю,
не нужно долго размышлять, чтобы убедиться в том, что вся наука арифметики в
своих основоположениях, действиях, правилах и теоремах занимается
исключительно лишь искусственными знаками, именами и символами. Эти имена и символы
являются универсальными потому, что они суть знаки. Имена относятся к вещам;
символы — к именам; те и другие — к действиям. Имена немногочисленны и
подчиняются определенной закономерности, а значит, и символы будут тем полезнее, чем
они проще и чем удачнее эту закономерность выражают. По этой причине старая
система обозначений с помощью букв была полезнее, чем полное написание
каждого слова. А новейшая система записи посредством цифр, выражающих прогрессию
или аналогию имен одним лишь своим расположением, предпочтительнее ее
вследствие легкости и быстроты — как изобретение алгебраических символов
предпочтительнее цифровой системы благодаря широте и универсальности применения.
Поскольку арифметика и алгебра суть науки, обладающие замечательной ясностью,
достоверностью и объемом, поскольку это науки, имеющие непосредственное
отношение к знакам, от умелого использования которых они всецело зависят, то
известное внимание к ним, вероятно, поможет нам судить о действиях ума и в прочих
науках, которые, хотя и отличаются от арифметики и алгебры по своей природе,
цели и предмету, могут иметь общие с ними методы доказательства и исследования.
ε®οι
|SJ^^(F~ Джордж Беркли ^^^Qj
И, если я не ошибаюсь, мы обнаружим, что все науки в меру
своей универсальности и очевидности для человеческого разума
имеют дело со знаками, хотя последние в своем применении относятся к
вещам. Причину этого понять нетрудно. Ибо поскольку ум лучше
знаком с теми объектами, которые начинают действовать на него
раньше, поражают сильнее или постигаются легче, чем другие, то он
естественным образом приходит к тому, чтобы заменять подобными объектами те,
которые являются более тонкими, изменчивыми, неуловимыми и трудными для
понимания. Нет ничего более естественного, чем превращать известное в ступеньку на
пути к неизвестному и объяснять или изображать вещи менее знакомые с помощью
тех вещей, которые мы знаем лучше. Между тем совершенно достоверно, что мы
представляем себе нечто в воображении прежде, чем мыслим; воспринимаем с
помощью чувств прежде, чем воображаем, из всех же наших чувств зрение - самое ясное,
отчетливое, разнообразное, приятное и обширное. А потому для нас вполне
естественно содействовать работе интеллекта посредством воображения, воображению -
посредством чувств, а остальным чувствам — посредством зрения. Отсюда —
чертежи, метафоры, символы. Мы изображаем духовное с помощью телесного; мы
заменяем мысли звуками, звуки — буквами, а эмблемы, символы и иероглифы ставим на
место вещей, слишком смутных для того, чтобы на нас подействовать, или слишком
изменчивых для того, чтобы удерживать их в памяти. Мы заменяем вещами
воображаемыми вещи умопостигаемые, чувственными — воображаемые, меньшими — те,
которые из-за их чрезмерной величины нельзя обозреть с легкостью; более
крупными — те, которые трудно ясно различить; наличные вещи представляют для нас вещи
отсутствующие, постоянные — преходящие, а видимые — незримые. Отсюда -
применение моделей и схем. Отсюда же — использование прямых линий для
изображения времени, скорости и других вещей, совершенно отличных по своей природе. По
этой же причине говорим мы в образном стиле и о состоянии духа, выражая действия
души через иносказания и термины, заимствованные из области вещей чувственных,
как например, apprehend, conceive, reflect, discourse43 и тому подобные. Отсюда же
происходят аллегории, иллюстрирующие вещи умопостигаемые с помощью образов и
картин, представленных воображению. Платон, к примеру, уподобляет разум
вознице, управляющему крылатой колесницей.44 Иногда его упряжка опускается, ибо она
влекома двумя конями, один из которых благороден сам и рожден от таких же коней,
а другой — его прямая противоположность. Платон таким образом символически
выражает порыв души к Божеству, когда она воспаряет ввысь и несется, словно на
крыльях, движимая двумя инстинктами — стремлением разума к истине и
стремлением воли к совершенству; причем эти инстинкты ослабевают и глохнут под действием
чувственных вожделений. Платон также изображает попеременные взлеты и падения
души, борьбу между разумом и страстями — в виде двух коней, которые движутся с
неравной скоростью или тянут в различные стороны, приводя душу в замешательство
на ее пути к совершенству.
В общем, учение о знаках я склонен считать предметом чрезвычайной важности1"1 и
универсальной значимости, который, если исследовать его надлежащим образом,
прольет яркий свет на природу вещей и представит верное и точное разрешение многих
трудностей.
пнгФчпй
ш
Итак, о знаках в целом можно утверждать следующее: они не
всегда внушают уму обозначаемые ими идеи; когда же они это производят,
то идеи не являются абстрактными и общими; знаки имеют и другие
цели помимо простого обозначения представления идей, а именно: они
возбуждают надлежащие чувства, вызывают в душе определенные
настроения и склонности, руководят нашими поступками в том
стремлении к счастью, которое есть конечная цель и смысл, основное побуждение и мотив,
приводящие в действие разумные деятельные существа; [знаки могут подразумевать
или указывать на отношения вещей, причем эти отношения, связи и соответствия без
помощи знаков не могут быть постигнуты, — зато, будучи выраженными в знаках,
позволяют нам верно обращаться с вещами.]46 Истинной же целью речи, разума,
науки, веры и согласия во всем многоразличии их степеней и видов не является
исключительно или преимущественно или постоянно сообщение или приобретение идей, — но,
скорее, нечто иное, имеющее активную и действенную природу, относящееся к
мыслимому и желаемому нами благу. И подобной цели можно достигнуть, несмотря на то,
что обозначаемые идеи не даны уму, более того — даже вопреки тому, что никакие
подобные идеи вообще не могут быть даны или представлены: к примеру,
алгебраический символ, обозначающий отрицательный квадратный корень, приносит пользу в
исчислениях, хотя образовать идею подобного числа невозможно. А то, что верно по
отношению к алгебраическим знакам, справедливо и в отношении к словам или языку:
ведь современная алгебра есть в сущности более сжатый, искусственный и удачно
составленный род языка, а все этапы алгебраического процесса можно выразить
словами, хотя и с меньшим удобством. И следует признать, что даже математические науки
(как принято думать, самые очевидные и достоверные),47 — что даже эти науки,
говорю я, если рассматривать их не в качестве орудий, руководящих нашими
практическими действиями, но как умозрения, призванные занять нашу любознательность, во
многих случаях не достигнут уровня тех ясных и отчетливых идей, которых мелкие
философы нашего века сознательно или по невежеству настойчиво требуют или ожидают
найти в религиозных таинствах.
Какими бы ни были наука или предмет исследования, но всякий
раз, когда люди оставляют частное ради всеобщего, когда они
жертвуют практическими целями и пользой ради бесплодных спекуляций,
принимая средства и орудия за конечную цель и упорно пытаясь
получить точные идеи, сопутствующие, по их мнению, всем терминам без
различия, — они непременно запутываются в неразрешимых
затруднениях и спорах. Таковы вспыхнувшие в геометрии дискуссии о природе угла касания,
учение о пропорциях, неделимых, бесконечно малых и многих других предметах,48 —
но несмотря на все это, данная наука по праву считается превосходной и полезной и
действительно оказывается таковой во многих обстоятельствах человеческой жизни,
где она руководит и управляет действиями людей таким образом, что благодаря ее
помощи и влиянию точными и правильными становятся те операции, которые иначе
остались бы ненадежными и ошибочными. А разумная аналогия подсказывает: нам не
следует заключать, будто какие-либо иные учения, руководящие и управляющие
человеческим разумом, или воздействующие на него, окажутся менее истинными и совер-
Ш
шенными, чем геометрия, только потому, что и они дают повод для споров и
бесплодных спекуляций любителям тонких ухищрений или бестолковым фантазерам, — в
особенности, если речь идет о положениях христианства, которые тем сильнее убеждают,
чем тверже в них веруют, и сообразно этой силе убеждения влияют на жизнь и
поступки людей. А что касается затруднений, связанных с противоречиями и абстрактными
понятиями, затруднений, существующих во всех областях человеческой науки и
божественной веры, то крючкотворы могут выдвигать их в качестве возражений против
обеих; люди неосторожные могут становиться перед ними в тупик, — однако люди
здравомыслящие с успехом их избегают. И нет нужды отступать от общепринятых
правил разума, чтобы оправдать веру христиан. А если какой-то набожный человек
думает иначе, то это, пожалуй, есть следствие не религии или разума, но человеческой
слабости. Если же наш век обнаружил замечательную плодовитость по части неверия,
то я не стал бы отсюда заключать, будто он является более просвещенным, чем
прошлые столетия; самомнение же подобных атеистов, как я подозреваю, имеет своим
источником отнюдь не работу ума.
И мне сдается, что чем глубже и основательнее кто-нибудь исследует и
проанализирует принципы, цели и методы наших действий в науках и искусствах, тем яснее
убедится он в том, что ровно никакого веса не имеют те благовидные возражения,
которые выдвигаются против веры, каковую ему будет не так уж сложно защищать и
оправдать согласно общепринятым способам рассуждения, на основе самых обычных
законов логики и с помощью бесчисленных аналогичных примеров, взятых из разных
областей человеческого знания: ибо в каждой из них допущение абстрактных идей
порождает те же самые трудности.
[Алкифрон. Пользуясь подобной доктриной можно с одинаковым успехом
защищать какие угодно положения — но тогда и в папизме не будет ничего абсурдного,
даже пресуществление!
Критон. Прошу прощения — но эта доктрина не оправдывает ни одного
положения веры, которое бы не содержалось в Писании или было несовместимо с
человеческим разумом, которое заключало бы в себе противоречие или толкало к
безнравственности или идолопоклонничеству, — ведь все подобное чрезвычайно далеко от того
простого обстоятельства, что мы не обладаем отчетливой абстрактной идеей какого-
либо положения. ]49
Алкифрон. Я готов допустить, что ваше рассуждение обладает
всей той силой, которую желаете вы ему приписать. Я охотно
соглашаюсь, что могут существовать таинства, что мы можем верить там, где не
понимаем, и что подобная вера может быть полезной, хотя объект ее и
не постигается нами отчетливо. Одним словом, я признаю, что вера и
таинство возможны в других областях, но только не в религии — и это
по той простой причине, что существование такой простой вещи , как религия,
допускать нелепо; если же религии нет, то отсюда следует, что не может быть религиозной
веры и таинств. Вполне очевидно, что религия подразумевает почитание Бога, каковое
почитание предполагает награды и наказания, которые, в свою очередь, предполагают
заслуги и прегрешения, деяния добрые и дурные,50 а последние предполагают
человеческую свободу'** — вещь невозможную — а следовательно, и религия, построенная на
подобном основании, должна быть чем-то неразумным и нелепым. Не может быть
D^(F Алкифрон ~^Щ^СЖ
никаких обоснованных надежд и опасений там, где нет вины, и не бывает вины там,
где совершается лишь то, что с неизбежностью вытекает из устройства мира и законов
движения. Материальные объекты действуют на органы чувств, что приводит к
колебаниям нервов; эти колебания, сообщаясь душе или животным духам в мозге, корне
нервов, производят в нем движение, именуемое волнением, а оно вызывает новое
определение в животных духах, вынуждая их притекать к тем нервам, которые
определенным образом по законам механизма и производят эти определенные действия. Коль
скоро дело обстоит так, то отсюда следует, что те вещи, которые обыкновенно слывут
человеческими действиями, надлежит считать чисто механическими процессами, и что
свободному началу их приписывают ложно. А значит, нет оснований для похвалы или
порицания, для страха или надежды, награды или кары, а следовательно, — и для
религии, которая, как я уже заметил, предполагает подобные вещи и строится на их
основе.
Ефранор. Если я вас правильно понял, Алкифрон, то вы полагаете, что человек
есть род органа, на котором играют внешние объекты; они и производят различные
движения и следствия в нервах соответственно форме и структуре последних.
Алкифрон. Действительно, человека можно удачно уподобить органу — однако в
самую точку попадает сравнение с куклой. Знайте же, что определенные частицы,
истекающие по прямым линиям от всех чувственных объектов, образуют множество
лучей или волокон, которые толкают, тянут, приводят в движение все части
человеческой души и тела, — так же примерно, как нити и проволоки управляют шарнирами
маленькой деревянной машины, обычно именуемой куклой — с той лишь разницей,
что последние велики по своим размерам и видимы всякому глазу, тогда как первые
являются чрезвычайно тонкими и мелкими, и никто, кроме проницательного
вольнодумца, не в состоянии их различить. И это превосходно объясняет все те действия,
которые, как нас учили, следует якобы приписывать мыслящему началу внутри нас.
Ефранор. Мысль тонкая и остроумная; она переносит принцип действия с
человеческой души на вещи внешние и посторонние, а потому должна принести великую
пользу в освобождении человека от всякой заботы о морали. У меня, однако,
имеются некоторые сомнения на этот счет. Ведь вы предполагаете, что душа в буквальном
смысле слова движется, а акты воли в душе — это простые движения. Так вот, если
кто-то другой станет утверждать, а это вполне возможно, что душа бестелесна и что
движение — это одно, а воля — другое, то, хотел бы я знать, каким образом
растолкуете вы свою теорию подобному человеку. Она, должно признаться, чрезвычайно
ясна и убедительна для тех, кто допускает, что душа телесна, а все ее акты суть
движения. И если исходить из этого предположения, то и в самом деле точка зрения,
с которой вы смотрите на человеческую природу, столь же истинна, сколь она
остроумна и нова. Однако стоит лишь кому-то данное предположение
опровергнуть, — а сделать это несложно — и вся возведенная на нем надстройка рухнет. Не
стану отрицать: если мы допускаем вышеупомянутые утверждения, то из них
вытекает фатальная необходимость — только вот допускать их не вижу я никаких причин.
Напротив, мне кажется очевидным, что движение и мысль отличны друг от друга
столь же явным и действительным образом, как треугольник и звук. А значит, желая
доказать фатальную необходимость человеческих поступков, вы предполагаете то,
что само нуждается в доказательстве не меньше, чем положение, которое следует
доказать.
всэса
Алкифрон. Но даже если предположить, что душа бестелесна, я
сумею доказать свое утверждение. Не желая сбивать вас с толку
мудреными аргументами, я лишь попрошу вас заглянуть в самого
себя и понаблюдать, что же происходит, когда какой-нибудь объект
предстает перед вашей душой. Сначала его рассматривает ум, затем
выносит свой приговор-суждение: избрать эту вещь или отвергнуть,
воздержаться от поступка или совершить его и каким именно образом, — и этот
приговор вашего суждения с необходимостью определяет волю, чья функция — лишь
исполнять то, что предписывают ей другие способности, а значит, никакой свободы
воли не существует. Ибо то, что совершается необходимо, не может быть свободным.
Свобода предполагает безразличие к обеим возможностям, способность действовать
или не действовать без приказания и принуждения, — и вполне очевидно, что без
подобного безразличия и без этой способности воля не может быть свободной.
Однако столь же очевидно, что воля не является безразличной в своих действиях,
поскольку она всецело определяется и управляется разумом. И что бы ни влияло на
разум — наибольшее действительное беспокойство, величайшее мыслимое благо или
что-то еще — в данном случае это значения не имеет, ибо воля, всякий раз
определяемая и контролируемая суждением, во всех случаях одинаковым образом пребывает
под властью необходимости. И в самом деле, во всем устроении человеческой
природы не обнаруживается ничего похожего на принцип свободы: каждая способность во
всех своих актах определяется чем-то внешним по отношению к ней самой. Ум,
например, не в силах изменить свою идею, но должен воспринимать ее такой, какой
она ему дана. Вожделения по естественной необходимости устремляются к
соответствующим по природе объектам. Рассудок не способен выводить что угодно из чего
угодно без различия: его ограничивают природа и связь вещей, а также вечные
законы логики. А поскольку общепризнано, что так обстоит дело со всеми другими
способностями, то это ( как уже было показано ) столь же справедливо и по
отношению к воле. А если верить божественному характероописателю нашего
времени, то именно эту способность надлежит признать самой рабской среди всех прочих.
"Желание, - говорит сей благородный автор, — будучи старшим братом Разума и
обладая более крепким телосложением, всегда уверено, что в любом споре получит
выигрыш и все перетянет на свою сторону. А Воля, как бы ее ни восхваляли, в
лучшем случае просто волчок или мяч, которым играют эти двое мальчишек, пара
довольно неравная на первый взгляд, до тех пор пока младший вместо ударов и
тычков, наносимых от случая к случаю, не забрасывает сам этот волчок или мяч и не
начинает тузить кулаками своего старшего брата."52
Критон. По своему слогу и тону эта очаровательная притча могла бы сравняться с
притчами одного известного автора из простонародья, знаменитого своими
аллегориями,53 — если бы только не оказалась она чуточку неправдоподобной, заставив более
слабого безнаказанно колотить более сильного.
Алкифрон. Мы выйдем из затруднения, предположив, что более сильный —
трусливее. Впрочем, как бы там ни было, притча эта — в той мере, в какой относится
она к обсуждаемому предмету — ясно описывает положение вещей. Тот же пункт
можно доказать исходя также из божественного предведения.54 То, что заранее
достоверно известно, непременно произойдет. А что достоверно, то необходимо. А необхо-
димые поступки не могут быть следствием свободной воли. Итак, вы убедились, что
основополагающий пункт нашей свободомыслящей философии доказан различными
способами.
Ефранор. Скажите, Алкифрон, полагаете ли вы, будто допущение того, что Бог
может создать человека свободным, заключает в себе противоречие?
Алкифрон. Нет.
Ефранор. Стало быть, такое существо возможно?
Алкифрон. Я этого не отрицаю.
Ефранор. Значит, вы способны постичь или представить себе подобного
свободного деятеля?
Алкифрон. Допустим. И что же дальше?
Ефранор. А не будет ли он считать, что действует самостоятельно?
Алкифрон. Будет.
Ефранор. И одни свои поступки осуждать, другие же одобрять?
Алкифрон. И с этим я согласен.
Ефранор. А не станет ли он думать, что они заслуживают награды или наказания?
Алкифрон. Станет.
Ефранор. Но не обнаруживаются ли все эти свойства в человеке на самом деле?
Алкифрон. Обнаруживаются.
Ефранор. Тогда скажите, какие же черты вашего воображаемого свободного
агента не можем мы найти в действительном человеке? Ибо если таковых не имеется, то
следует заключить, что человек обладает всеми качествами свободно действующего
существа.
Алкифрон. Дайте-ка подумать... Ну конечно же, я допустил оплошность, признав
возможным — даже для Всемогущей Силы — создать свободно действующее
существо. Удивляюсь, как это я мог сделать подобную нелепую уступку после всего того, что,
как я уже заметил, было доказано столь многими способами.
Ефранор. [Мы, без сомнения, вправе предполагать действительным все, что
является возможным; между тем все, что не заключает в себе противоречия,
возможно для Бесконечной Силы, а значит, если естественное деятельное существо не
содержит противоречия, то подобное создание можно допустить. А из этого
предположения я, пожалуй, был бы вправе сделать вывод, что человек свободен. Я,
однако, не стану допускать, что он является подобным свободным деятелем, поскольку
вы, кажется, утверждаете, будто доказали противоположное.]55 Видите ли,
Алкифрон, все говорят, что людям свойственно судить о других по себе. Однако, пытаясь
судить по этому правилу обо мне, вы можете ошибиться. Ведь многие вещи, для
человека вашей проницательности вполне понятные, не являются таковыми для
меня, — меня, которого те же доказательства, что для вас ясны и очевидны, очень
часто скорее ставят в тупик, нежели просвещают. И в самом деле, каким бы
безупречным ни был вывод, но пока посылки мне не ясны, я не смогу прийти к
твердому убеждению. А потому позвольте мне предложить несколько вопросов,
разрешение которых, вероятно, укажет на то, что я сейчас не в состоянии ясно
различить.
Алкифрон. То, о чем мы с вами говорили, я оставляю вам для будущих
тщательных размышлений. Нам с Лисиклом уже пора отправляться в путь, а потому для
долгой цепи вопросов и ответов времени не остается.
|E^fc(F~ Джорд« Беркл, ^)^ГД
Ефранор. В таком случае разрешите мне сделать по поводу ваших
мнений лишь несколько кратких и общих замечаний. Во-первых, я
вижу, что вы принимаете без доказательств то, чего я принять не могу, -
когда утверждаете, будто достоверно известное и необходимое — это
одно и то же. Мне же понятия достоверного и необходимого
представляются весьма различными, ибо в первом из них нет ничего
предполагающего принуждение, а следовательно, ничего такого, что могло бы противоречить
ответственности человека за свои поступки. Если заранее известно, что определенный
поступок совершится, то разве не может быть заранее известно, что станет он
результатом человеческого выбора и свободы? Во-вторых, я замечаю, что вы чрезвычайно
тонко абстрагируете и отделяете друг от друга действия ума, суждения и воли; что вы
пользуетесь терминами «сила», «способность», «акт», «определение», «безразличие»,
«свобода», «необходимость» и тому подобными так, будто они обозначают отчетливые
абстрактные идеи56; и что это предположение приводит ум к тем же поступкам и
заблуждениям, которые, как известно, сопутствуют теории абстрагирования и во всех
прочих случаях. Самоочевидно, что движение существует, и однако, находились
философы, которые с помощью утонченных аргументов брались доказывать, будто
ничего подобного нет и в помине. Ходить перед ними — вот лучший способ опровергнуть
этих остроумных мыслителей. Столь же очевидно, что человек — свободное
деятельное существо, и пусть даже абстрактными рассуждениями вы приведете меня в
замешательство и, как можно подумать, докажете обратное, однако до тех пор пока я
сознаю свои собственные действия, это внутреннее свидетельство несомненного факта
укрепляет меня против всех ваших доводов, сколь угодно тонких и изощренных.
Опровержение положений очевидных с помощью положений темных может, вероятно,
убедить меня в ловкости ваших философов, но никогда — в истинности их принципов.
И я не в силах постичь, почему проницательный Кратил усматривает способность к
действию в склонностях и в разуме, но совершенно не находит ее в воле? Не вижу,
каким образом это может быть справедливо, даже если принять разделение души на
подобные три существа. Но если я не могу абстрагировать и различить столько
существ в человеческой душе так же точно и тщательно, как и вы, то ведь я и не нахожу
нужным это делать, ибо в целом и на конкретных примерах мне вполне очевидно, что
я — свободно действующее создание. И бесполезно утверждать, что воля-де
управляется суждением или определяется внешними объектами, — поскольку в любой
обычной, спонтанно возникающей ситуации я не в силах отличить или абстрагировать
предписание суждения от решения воли; поскольку, далее, я знаю, что чувственные
объекты абсолютно пассивны и, наконец, поскольку внутренне я ощущаю себя активным
существом, которое способно само себя определять к действию, и действительно само
себя определяет. Если же я признаю духовные предметы телесными, если посредством
утонченных умствований я превращу действительные и реальные вещи в общие
абстрактные понятия или стану с помощью метафизического искусства расщеплять
простую индивидуальную вещь на множество разнородных частей, — то я не знаю, куда
это меня заведет. Но если я возьму вещи такими, каковы они суть, и спрошу у
обыкновенного неученого человека, свободен ли он в том или ином отдельном поступке, то
он с готовностью согласится, а я столь же охотно ему поверю — исходя из того, что
обнаруживаю в себе самом. Двигаясь таким образом от частностей, я буду вправе
D^(F Алк,фр», "^D^TJ
заключить, что человек — это свободно действующее существо, хотя попытка
определить или представить общее и абстрактное понятие свободы может меня поставить в
туник. А если человек свободен, то он, безусловно, несет ответственность за свои
деяния. Если же вы приметесь давать дефиниции, абстрагировать, предполагать, и из
ваших дефиниций, абстракций и гипотез получится, что человек ни за что не
отвечает, — тогда я осмелюсь отступить от вашего Метафизического Разума и воззвать к
Здравому Смыслу человечества.
Если мы исследуем господствующие в мире представления о вине и
заслуге, о похвальном и достойном порицания, о вменяемом и
невменяемом в вину, то обнаружим, что обычный вопрос, на который нужно
ответить, прежде чем порицать или одобрять, оправдывать или
осуждать человека, таков: он ли совершил данный поступок? и был ли он
самим собой, когда его совершал? — что, впрочем, одно и то же.
А значит, в обыденной жизни всякое лицо считается ответственным просто потому, что
оно действует. И пусть даже вы станете толковать мне о том, что человек пассивен, что
на него воздействуют чувственные объекты, — мой собственный опыт убедит меня в
обратном. Я знаю, что действую, и за свои деяния я отвечаю. А если это верно, то
фундамент нравственности и религии остается непоколебленным. Для религии,
говорю я, важно одно — чтобы человек был ответственным за свои поступки, а таковым
он, согласно моему мнению и здравому смыслу человечества, является, поскольку
действует, а то что он действует — самоочевидно. Следовательно, основания и цели
религии надежно защищены — независимо от того, согласуется с человеческими
поступками ваше философское понятие свободы или нет, или от того, будут ли поступки
человека достоверно известными наперед или случайными, ибо вопрос заключается не
в том, совершил ли он это деяние по свободной воле, или что определило его волю;
было ли достоверно известно и можно ли было предвидеть, что он так поступит, —
нет, важно другое: действовал ли он добровольно и сознательно, ведь именно это и
должно определить вину или заслугу его деяния.
Алкифрон. Однако перед нами встает все тот же вопрос: свободен ли человек?
Ефранор. А чтобы на него ответить, не должны ли мы прежде определить, что
означает слово свободный?
Алкифрон. Должны.
Ефранор. На мой взгляд, о человеке говорят как о свободном, пока он может
делать то, что хочет. Это верно или нет?
Алкифрон. Пожалуй, верно.
Ефранор. А значит, человека, действующего согласно собственной воле, следует
считать свободным?
Алкифрон. Я соглашаюсь, что это так — в вульгарном понимании. Философ,
однако, возносится еще выше и спрашивает: свободен ли человек хотеть?
Ефранор. То есть, может ли он хотеть то, что он хочет? Не знаю, насколько это
философично — задаваться подобным вопросом; мне, однако, он кажется совершенно
бессмысленным.57 Представления о вине и заслуге, справедливости и награде
предшествуют в сознании людей всем метафизическим умствованиям, а из этих
общепринятых естественных понятий следует, что человек, несомненно, несет ответственность,
что он действует и сам себя определяет.
У* Джордж Беркли
Однако мелкий философ в силу своих ложных посылок станет
смешивать вещи самым явным образом отличные, например, движение и
' 4)1 волю, достоверность и необходимость. А творец утонченных
абстракций примется разлагать самый простой спонтанный акт души таким
образом, что обнаружит в нем различные отдельные способности и
стремления, начала и операции, причины и следствия; и после своих
абстракций, гипотез и рассуждений он, основываясь на темных и произвольных
принципах, заключит, что это вообще никакой не акт, что человек — вовсе не деятельное
существо, а кукла или орган, на котором играют внешние объекты, а его воля — мячик
или волчок. И все подобное считается философией или свободомыслием. Может быть,
это действительно то, чем его считают, однако на естественный и правильный образ
мысли все это никак не похоже. Мне кажется, что если мы начнем с вещей частных и
конкретных и затем перейдем к общим понятиям и выводам, то никаких затруднений у
нас не возникнет. Но если мы начнем с отвлеченностей и в основание положим
абстрактные идеи, то в конце концов окажемся в ловушке и заблудимся в лабиринте,
созданном нашими собственными руками. И мне нет нужды отмечать то, что всякому
наверняка ясно: сколь это нелепо — доказывать, будто человек не является
деятельным существом и при этом отстаивать свободу мысли и действия, выставляя себя
разом поборником свободы и защитником необходимости.
Итак, я набросал несколько беглых мыслей и замечаний относительно того, что вы
именуете фундаментальным положением мелкой философии, а также вашей манеры
его доказывать, которая, на мой взгляд, представляет собою восхитительный образчик
софистики абстрактных идей. И если в этом кратком изложении я был более
категоричен, чем это мне подобает, вы, надеюсь, извините то, чему сами же дали повод,
отказавшись от совместного неторопливого поиска истины.
Алкифрон. Полагаю, мы уже достаточно исследовали эту проблему.
Критон. В ответ на все сказанное вами против человеческой свободы, достаточно
будет заметить, что ваши аргументы основываются на ложных посылках — телесности
души или существовании абстрактных идей.58 [Я уже не говорю о других грубых
заблуждениях и недоказанных принципах. С таким же успехом, как и то, что душа твердая,
можете вы допускать, что она красная или голубая. И волю можете вы превратить во все
что угодно, точно так же, как и в движение. И я без особого труда опровергну все, чтобы
вы ни вывели из подобных посылок, которые, мягко говоря, не являются ни твердо
доказанными, ни сколько-нибудь вероятными. Во всех человеческих действиях вы
отличаете окончательное определение суждения от акта воли. Вы смешиваете достоверность
с необходимостью, вы что-то исследуете, и исследования ваши выливаются в нелепый
вопрос: может ли человек хотеть то, что он хочет? И насколько очевидна истинность
этого тождественного положения, настолько же очевидно ложным должен быть образ
мыслей, который привел вас к подобному вопросу.]59 Вы утверждаете, что вследствие
природной необходимости наши склонности стремятся к соответствующим объектам.
С этим и мы согласны, а значит, подобные склонности и вожделения, если вам угодно,
не свободны в своих действиях. Вы, однако, идете дальше и сообщаете нам, что ум не
может ни изменять своих идей, ни выводить что угодно из чего угодно без различия.
И что же? Неужели если мы не в силах изменять природу объектов, то мы уже не
способны действовать вообще? А если мы не вправе делать абсурдные заключения, то разве
S3CSX3
IK^^r Алкифро, ~^}^ГД
не можем мы быть свободны в других отношениях? [Вы считаете не требующим
доказательств, что душа пассивна и что на нее воздействуют идеи — как будто
противоположное не является очевидным для всякого здравомыслящего человека, который не может
не знать, что именно душа рассматривает свои идеи, выбирает их, отвергает, исследует,
обдумывает, принимает решение — одним словом, это она распоряжается идеями, а не
они ею/50 В общем, ваши исходные посылки темны и ложны, а потому и в
фундаментальном принципе, который обещали вы доказать столькими различными способами, ни при
одном из них не обнаруживается ни смысла, ни истины. ] А с другой стороны, нет
надобности в глубоких размышлениях, чтобы убедиться в двух положениях, которые
являются самыми ясными, очевидными и общепризнанными для людей всякого рода — ученых
и неученых, во все времена и во всех странах — а именно: человек действует и за свои
действия несет ответственность. И что бы ни утверждали мастера абстракций и тонких
отвлеченностей или люди, предубежденные в пользу ложных гипотез, всякому
думающему человеку, наделенному обычным здравым смыслом, очевидно, что человеческие
умы настолько далеки от того, чтобы представлять собой лишенные внутреннего
принципа свободы и действия машины или мячики, на которые влияют или которыми
перебрасываются телесные объекты, что единственные истинные и изначальные понятия,
кои можем мы иметь о свободе, деятеле и действии, приобретаются нами путем
размышления о самих себе и об операциях нашего собственного ума. И, на мой взгляд,
ничто не сравнится с удивительным легковерием мелких философов, позволяющих себя
обманывать паралогизмам трех или четырех великих патриархов атеизма прошлого
века: ведь не было другого фанатического суеверия, вожаки которого умели бы более
открыто и явно уводить своих последователей в сторону от очевиднейших законов
природы и здравого смысла.
Алкифрон. Первооткрывателей истины вечно обвиняют в том, что
они отступают от общепринятых воззрений. Репутация
«странности» — обычный упрек свободомыслию, и мы его охотно принимаем, и
даже гордимся им. Ибо настоящий философ никогда не страдает
ложной скромностью: он не поставит авторитет выше разума или
старое всеобщее мнение — выше мнения истинного. Именно эта
ложная скромность, которая обескураживает людей, не позволяя им ступать нехожеными
тропами и зажигать новый свет, и есть величайший враг свободомыслия.
Критон. В спорных вопросах и авторитет имеет значение для рассудительного ума,
который, однако, последует за очевидным доказательством, куда бы оно его ни повело.
И даже не отдавая авторитету предпочтения перед разумом, мы вправе признать его
основательным подспорьем для последнего. Так что вы, господа мелкие философы,
могли бы избавить нас от множества банальностей насчет разума и света истины. Ведь
мы отнюдь не привержены авторитету в ущерб разуму, как не страшат нас нехоженые
тропы, ведущие к истине; и мы всегда готовы следовать новому свету — если, конечно,
уверены в том, что это не ignis fatuis.ei Разум, бесспорно, может заставить человека
верить вопреки склонностям — но с какой же стати отказываться нам от благотворных
представлений ради каких-то других идей, столь же неразумных, сколь пагубных?
Между тем все ваши системы, принципы и хваленые доказательства были пространно
изложены и тщательно исследованы. Вы меняли свои мнения, последовательно
отступая от одного воззрения к другому, пока не отказались от всех до единого. Подобным
же образом были проанализированы ваши возражения — результат оказался тем же.
Ведь если исключить все относящееся к ошибкам и слабостям отдельных лиц, а также
те трудности, которые по самой природе вещей мы разъяснять не обязаны, то прямо-
таки удивительно, как мало — и после столь громогласных угроз! - остается такого,
что можно было бы счесть основательным возражением против христианской веры.
Представленные вам доводы подверглись беспристрастному испытанию разумом — и
хотя вы, очевидно, надеетесь взять верх с помощью насмешки там, где бессильны
победить с помощью разума, я все же опасаюсь, что в итоге вы убедитесь в тщетности
ваших попыток уничтожить в человеке всякое религиозное чувство. Сделайте ваших
соотечественников сколь угодно порочными, невежественными, — люди, однако,
будут по-прежнему с почтением обращать взоры к Высшему Существу. Религия,
истинная или ложная, будет в той или иной форме существовать, и какое-то поклонение
Богу и Его творению наверняка сохранится. А что до ваших насмешек, то что же
может быть смехотворнее самых бестолковых и жалких людей нашей эпохи,
выдающих себя за свободомыслящих; что может быть нелепее подобных особ, столь
категоричных в утверждениях и, однако, столь беспомощных в аргументации, этих
поборников свободы, проповедующих фатализм, этих патриотов, попирающих законы своего
отечества; людей, которые притязают на добродетель и уничтожают побудительные
мотивы к ней? Пусть любой беспристрастный человек бросит беглый взгляд на мнения
мелких философов и потом скажет, что может быть нелепее, чем верить в подобные
вещи и в то же самое время смеяться над легковерием?
Лисикл. Говорите что угодно, однако любители посмеяться - на
нашей стороне. А что до ваших рассуждений, то это, по-моему, не
более чем софистика.
Критон. И, надо думать, по этому же правилу собственные
софизмы считаете вы аргументами разума. Честно говоря, мне не известен
такой род софизмов, который мелкие философы не пустили бы в ход
против религии. Они грешат petitio principii,fi2 когда принимают без доказательств,
будто мы верим в то, что само себе противоречит; они допускают non causa pro
causa,63 утверждая, что смуты и жестокие раздоры суть следствия христианства; они
совершают ignoratio elenchi,84 ожидая доказательств там, где мы претендуем лишь на
веру. И не опасайся я оскорбить ваш тонкий и изысканный слух, то не было бы
ничего проще, чем привести примеры каждого вида софизмов, демонстрирующие,
сколь ловко и умело практикуют ваши философы ту самую софистику,, которую
вменяют в вину другим.
Ефранор. Я же думаю, что если софистика есть искусство или талант обманывать
других, то от подобного обвинения этих господ следовало бы освободить. Кажется,
они провели меня через атеизм, либертинаж, энтузиазм, фатализм и, не убедив в
истинности ни одного из них, скорее, лишь укрепили в прежнем образе мыслей. И все
свои волшебные товары выставляли они не для жульничества, а просто для того,
чтобы нас позабавить. Знаю, что по части насмешек и зубоскальства они признанные
мастера, но как же их понять всерьез — ума не приложу.
Алкифрон. Вы не знаете, как нас понимать? Мне было бы досадно, если бы вы это
знали, ибо весьма поверхностным философом должен быть тот, чьи мысли
постигаются легко и быстро.
Критон. А ведь двусмысленность и есть, похоже, верный путь κ
славе и почету в современном научном мире. И если остроумный
читатель не в силах определить, является ли данный автор атеистом,
деистом или политеистом, скептиком или эпикурейцем, шутит он или
говорит серьезно, то читатель не колеблясь заключает, что автор загадочен
и глубок. В самом деле, о знаменитейших писателях века можно
сказать, что нет такого человека на свете, который сумел бы их уразуметь или взять в
толк, чего же они, собственно, хотят.
Алкифрон. Среди нас есть кроты, роющие глубоко под землею, есть и орлы,
воспаряющие в заоблачную высь. Мы способны играть любую роль и применяться к
любым мнениям, надевая и снимая их с чрезвычайной легкостью и остроумием.
Ефранор. Похоже на то, что вы с Лисиклом — два таинственно-непостижимых
модных философа.
Лисикл. Этого нельзя отрицать.
Ефранор. Я, однако, не забыл, что начинали вы с откровенно догматическим
видом, Много толковали о твердых принципах и неопровержимых заключениях, обещали
явить нам вещи, ясные, как полуденное солнце, искоренить ложные идеи и насадить
на их место истинные. Вскоре вы начали отходить от своих первоначальных мнений и
принимать новые; то выдвигали одни положения, то отказывались от них, уступали и
брали свои слова обратно; что-то утверждали, а потом отрекались от сказанного. И вот
теперь, проследовав за вами по стольким нехоженым тропам и запутанным
лабиринтам, я вижу, что ничуть не приблизился к цели.
Алкифрон. А разве мы вам не говорили, что джентльмены из нашей секты —
великие мастера насмешки?
Ефранор. Так — но мне кажется, что для всякого откровенного человека, который
держится твердых убеждений и определенных принципов, любая попытка вступить в
бой со столь скользкими, изменчивыми и неуловимыми философами оказалась бы делом
безнадежным. Ведь это, по-моему, то же самое, как если бы один боец стоял неподвижно
на месте, а его противник избирал и изменял свою позицию, обладая полной свободой
пересекать поле боя в любых направлениях, атаковать со всех сторон и всеми
способами — с расстояния близкого и далекого, верхом или в пешем бою, в доспехах легких или
тяжелых, сходясь врукопашную или используя метательные орудия.
Алкифрон. Должно признаться: джентльмен действительно имеет огромные
преимущества перед надутым педантом или ханжой.
Ефранор. Но, в конце концов, какую же пользу извлек я из бесед с двумя столь
сведущими джентльменами? Я надеялся избавиться от собственных заблуждений,
узнав от вас новые истины, однако, к великому моему разочарованию, я не нахожу,
чтобы я чему-то выучился или от чего-нибудь отучился.
Алкифрон. Отучать людей от предрассудков — задача нелегкая, и она должна
быть уже выполнена, прежде чем мы примемся наставлять их в истине. И к тому же
сейчас у нас больше нет времени спорить и доказывать.
Ефранор. Но вообразите, что мой ум — это чистая бумага, и, не утруждая себя
искоренением моих мнений или доказательством собственных, скажите лишь, что бы
вы хотели на ней написать и чему бы желали меня научить, если бы я поддавался
обучению. Будьте же хоть один раз серьезны, сообщите мне какой-нибудь определен-
ный вывод, прежде чем мы с вами расстанемся — или я стану просить Критона
нарушить законы гостеприимства в отношении тех, кто сам нарушил законы философии,
выставив ложные огни для человека, погруженного во мрак невежества и
заблуждения. Призываю вас, — сказал он, обратившись к Критону, — заключить этих
странствующих рыцарей философии в вашем замке и держать их там до тех пор, пока они не
заплатят выкуп.
— Ефранор прав, — отвечал Критон, — и вот мой приговор: вы останетесь в
заточении, пока не поможете мне выполнить мое обязательство: ведь я обещал, что
Ефранор узнает ваши мнения от вас самих, и с этим вы были согласны.
Алкифрон. Раз так, я открою вам то, что является, по-моему,
итогом и сутью нашего учения, великой тайной и последним выводом
нашей секты, и сделаю я это в двух словах: ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΗΨΙΣ.6"'
Критон. Стало быть, вы — законченный скептик. Но даже будучи
скептиком, вы признаете вероятным, что существует Бог,
достоверным — что христианская религия полезна, возможным — что она
истинна, достоверным — что если она такова, то мелкий философ идет по дурному пути.
А раз дело обстоит подобным образом, то неужели возможны сомнения относительно
того, какую дорогу следует избрать человеку благоразумному? Чьи принципы —
христиан или неверующих — более истинны, еще можно усомниться; в том, чьи принципы
вернее и надежнее — сомневаться нельзя. И если уж вы сомневаетесь во всех мнениях,
то должны подвергнуть сомнению и ваши собственные, а в таком случае вам придется
признать, что христианство может быть истинным. Чем больше сомнений, тем больше
места для веры: ибо скептик менее прочих людей вправе требовать очевидности.
Но сколь бы сомнительными ни были другие положения, вполне достоверны
следующие: либо Бог есть, либо Его нет; откровение либо существует, либо не существует;
человек или является деятельным существом, или не является; душа или бессмертна,
или смертна. Если отрицательные ответы не достоверны, то положительные —
возможны. Если первые неправдоподобны, то вероятны вторые. И чем в большей степени
любой из ваших остроумных философов обнаруживает себя неспособным доказать
какое-либо из этих отрицательных утверждений, тем больше у него причин
сомневаться в своей правоте. А значит, мелкий философ, желающий действовать
последовательно, должен наряду со скептическим сомнением выказывать также скромность, робость
и неуверенность в себе, — а не сулить целый океан света, чтобы затем толкнуть нас в
бездну мрака. Нет ничего смешнее, если я хоть немного разбираюсь в смешном.
Но когда вы смеетесь над тем, что — как вы сами знаете — может оказаться истиной,
то вот этого я уже понять не в силах. Не так ведет себя благоразумный человек с точки
зрения своего собственного интереса, и не так поступает человек благонамеренный по
отношению к интересам своего отечества.
Туллий где-то говорит: Aut undique religionem tolle, aut usque-
quaque conserva:66 или вообще никакой религии, или уважение к
религии существующей. И если отыщется хотя бы один народ,
процветавший без всякой религии, или найдется какая-то религия лучше
христианства, то предложите в великом народном собрании изменить наши
законы, и тогда либо живите вовсе без религии, либо учредите новую.
IkXSXJ
ЩМШГ Алкнфро. ~^j^Qgi
Скептик, подобно прочим людям, является членом общества и способен различать
добро и зло, как естественное, так и гражданское. Так пусть же это и станет для него
руководством как для патриота, хотя бы он и не был христианином. Если же он даже
на подобную проницательность не претендует, тогда пусть не притязает он на
изменение и исправление того, что ему совершенно неведомо, и пусть он, способный лишь
сомневаться, не ведет себя так, будто в силах доказывать. Тимагор обыкновенно
говорил: "Я обнаруживаю, что в моей стране господствуют известные принципы; они, на
мой взгляд, полезны, и по этой причине поощряются законодателями; они составляют
основу нашей конституции, и я не нахожу, чтобы все эти нововводители могли их
опровергнуть или заменить чем-то более достоверным и благотворным, — а потому из
одного уважения к благу общества и законам моей родины я эти принципы
принимаю." Я не скажу, что Тимагор христианин, но вот патриотом я его готов признать.
Вовсе не исследовать положения, имеющие величайшую значимость, есть безумие, но
еще большая степень безумия — безо всякого исследования их отвергать.
Казалось, эта беседа чрезвычайно утомила Лисикла.
— Уже поздно, — сказал он Алкифрону, — и все уже готово к нашему отъезду.
У каждого свой образ мыслей, и для меня принять мнения другого так же невозможно,
как сделать моими собственными цвет и черты его лица.
Тогда Алкифрон заявил, что поскольку Ефраноровы условия они с Лисиклом
выполнили, то теперь считают себя свободными. Ефранор ответил, что ему больше
ничего не остается желать, ведь все, чего он добивался, — это узнать их принципы.
Когда философы удалились, я сказал Критону:
— Удивительная вещь: людей, которых так легко опровергнуть,
бывает, однако, так трудно убедить.
— Это объяснил еще Аристотель, — отвечал Критон. — Он сказал,
что аргументы действуют не на всех подряд, но лишь на тех людей, чьи
умы подготовлены образованием и привычкой, словно почва для
посева.* Сделайте ваше утверждение сколь угодно ясным и убедительным, но если склад
ума и характер человека имеют противоположную направленность, то весьма
вероятно, что он окажется неспособен ваше утверждение понять: столь бессилен разум в
противоборстве со склонностями.
— Подобный ответ, — заметил я, — был бы, пожалуй, уместен по отношению к
другим лицам и временам, но если речь идет о любознательных людях, живущих в ту
эпоху, когда разум так заботливо культивируется, а мышление стало модой, он не
кажется мне удовлетворительным.
— Я слышал, — сказал Критон, — как один весьма наблюдательный человек
говорил, что по сравнению с древними временами в нашу эпоху о мышлении больше
говорят, но мыслят меньше, и что со времени возрождения наук люди много читали и
писали, однако мало думали, — в итоге строгое и правильное мышление стало у нас
самым маловажным достоинством для человека ученого, а от человека светского и
вовсе не требуется. Свободомыслящие, надо признать, выступают с великими
притязаниями на мышление и, однако, обнаруживают в нем немного точности. Люди бойкого
и живого нрава, а также те, кого свет зовет «людьми рассудительными», часто оказы-
* Ethic ad Nicom. Lib. X. cap. 9.β7
Kté®&W^~ Джордж Беркли "^fé^TJ
ваются лишены этой способности, которая не является простым даром природы, но
должна воспитываться и совершенствоваться посредством тщательного упражнения на
самых различных предметах, — подобное же занятие требует больше усилий и
времени, чем это бывает угодно потратить беспокойно-торопливым талантам нашего
времени. Такого мнения держался мой проницательный друг. Если же вы не вполне
убеждены в этих истинах, то стоит лишь вам бросить взгляд на темных и бессвязных — и
однако, весьма почитаемых — авторов из этой знаменитой секты, и вы сможете судить,
способны ли те, кого ведут за собой столь бестолковые люди, сами иметь ясный ум.
Таким, к примеру, был Спиноза, великий вождь наших нынешних атеистов: у него
обнаруживаются многие мысли и теории, которыми восхищаются и которым следуют в
последние годы. Так, он разрушает религию под предлогом ее защиты и объяснения;
он утверждает, что нет необходимости веровать в Христа во плоти; он убеждает нас,
будто чудеса следует разуметь лишь в смысле духовном и аллегорическом, что порок
не такая уж плохая штука, как мы склонны думать, что люди — это обыкновенные
автоматы, приводимые в движение силой фатальной необходимости.
— А вот мне приходилось слышать, — заметил я, — как Спинозу изображали
мастером основательных аргументов и строгих доказательств.
— И в самом деле, — отвечал Критон, — Спиноза доказывал, однако таким
способом, с помощью которого любой может доказать все, что заблагорассудится.
Предоставьте человеку право давать собственные дефиниции обыкновенным словам — и ему
будет совсем нетрудно выводить заключения, в одном смысле верные, а в другом —
ложные, которые держатся разом и парадоксами, и явными трюизмами. Достаточно
лишь Спинозе, к примеру, определить естественное право как естественную
способность, и он легко докажет, что человек вправе делать «все, что он в силах делать».*
Нет ничего очевиднее бессмысленности подобной методы, однако наши претенденты
на lumen siccum69 столь фанатично предубеждены против религии, что самую
откровенную бессмыслицу и софистику недалеких и злонамеренных авторов готовы они
проглотить в качестве доказательства.
Но эти самые люди поднимают вокруг своих мыслей, рассуждений
и доказательств такой шум, что оказываются способны внушить
некоторым благонамеренным лицам предрассудок против всякого
употребления и усовершенствования разума.
Почтенный Демей, увидев, как его соседа погубили пороки сына-
вольнодумца, испытывал такое предубеждение против разума, что не
позволял собственному сыну читать Евклида, поскольку, как ему сказали, это могло
бы научить юношу мыслить, — пока, наконец, один приятель не убедил Демея в том,
что истинной чумой является не мышление, но его недостаток или аффектация. Я знаю
одного знаменитого вольнодумца, который не ляжет спать, не опорожнив
предварительно галлон вина, а пока мозг не освободился от прежних винных поров, спешить
влить в себя новую порцию, — так что за семь лет ему не приходило в голову ни одной
трезвой мысли; знаю и другого, который играет всю ночь, а потом целый день
напролет лежит в постели; а что до видимости мысли в худосочном философе Ибикусе, то
это следствие не мышления, но жульничества и скопидомства. "Удивительно, — гово-
* Tract. Polit, cap. 2.«*
|jJ^fe(F Алкнфро. ~^^TJ
рил Демей, — что такие особы выдают себя за свободомыслящих!" Но еще
удивительнее, когда из-за подобных притворщиков и другие люди разочаровываются в разуме и
мышлении.
В ответ я заметил, что иные почтенные особы воображают, будто между разумом и
религией, верой и знанием, природой и благодатью существует противоречие, а
значит, лучший способ содействовать религии — это погасить свет разума и положить
конец всем рациональным исследованиям.
— Не берусь судить, насколько справедливы намерения этих
людей, но вот мнения их, бесспорно, ложны. Можно ли сильнее
опозорить религию, чем представив ее учреждением неразумным,
противоестественным и невежественным? Бог — Отец всякого света, как
естественного, так и данного в откровении. Природные вожделения —
одно, свет природы — другое, а потому вы не вправе, основываясь на
первом, приводить доводы против второго, или от лженауки заключать против
действительного знания. И что бы ни говорилось о ней в Священном Писании, к истинному
знанию это никак не приложимо.
Тогда я напомнил Критону о том, что человеческое знание в руках теологов
порождало время от времени великие споры и расколы в церкви.
— Поскольку абстрактная метафизика, — отвечал Критон, — всегда склонна
вызывать словопрения как среди христиан, так и среди прочих людей, то, на мой взгляд,
подлинная истина и знание должны ослабить подобную склонность, заставляющую
нас жертвовать безусловными обязанностями мира и милосердия ради спорных
мнений.
— В конце концов, — заметил я, — что бы мы с вами ни говорили в пользу разума,
вполне очевидно, что скептиков и атеистов излечить с его помощью невозможно.
— С этим я спорить не стану, — сказал Критон. — А чтобы лечить болезнь, нужно
прежде установить ее причины. И если люди внушили себе ложные мнения с помощью
разума, то есть надежда и разубедить их с его же помощью. Здесь, однако, дело
обстоит иначе: ведь неверие большинства мелких философов является, похоже,
следствием мотивов, весьма отличных от разума и мышления. Известно, что атеистов
порождают тщеславие, пресыщение, неприязнь, прихоть, каприз, всевозможные мелкие
случайности, — причем без всякого участия разума. И когда общий смысл некоего
учения нам не по вкусу, ум жадно хватается за все, что под сколько-нибудь
благовидным предлогом можно против него использовать. А потому грубые манеры
деревенского пастора, изысканное воспитание капеллана, остроумие мелкого философа, шутка,
песенка, сказка — все это, вместо разума, может превосходно служить неверию. Бу-
пал продвигал распутника вверх по церковной иерархии, а потом обращал подобного
в довод против самой же церкви. Порок, лень, партийные страсти, мода, нередко —
обыкновенный дурной нрав, и порождают мелких философов. Так кто же станет
ожидать, что создания столь неразумные и капризные уступят разумным аргументам?
Однако спорить с подобными особами и разоблачать их заблуждения необходимо, —
если не ради них, то ради прочих: ведь покончив с предрассудками в их пользу,
заставляющими порою как их самих, так и прочих людей полагать, будто они
превратили человеческий разум в собственную монополию, мы сумеем ослабить их влияние и
помешать росту их секты.
Ktë@&F~ Джордж Беркли Ч|)^ГЗ
Самый обычный предлог, чем-то напоминающий разумный довод,
извлекается из различия религиозных мнений. Это камень
преткновения для ленивого и поверхностного ума. Однако тот, кто тверже духом
и мыслит более основательно, превращает его в ступень, поднявшись
на которую, он оглядывается вокруг и продолжает изучать и
сравнивать различные религиозные установления. Он исследует, какое из
них является самым возвышенным и разумным в своих учениях, самым почтенным —
в таинствах, самым полезным — в заповедях, самым благопристойным — в
богослужении? Какое порождает самые благородные надежды и достойные стремления? Он
исследует их зарождение и развитие, он определит, какое из них менее прочих обязано
человеческому искусству и оружию? какое льстит чувственности и потакает грубым
вожделениям человека? какое возвышает и совершенствует самую превосходную часть
нашего существа? какое распространилось в мире самым чудесным образом? какое
преодолело величайшие трудности и преграды и породило в своих сторонниках самое
бескорыстное рвение и чистосердечие? Он исследует, какое лучше остальных
согласуется с природой и историей? Он примет в расчет, что здесь отдает мирским, а что
похоже на вышнюю мудрость, и тщательно отделит человеческую примесь от
божественной основы, — в общем, он составит собственное мнение как то подобает
разумному человеку, мыслящему свободно. Но вместо того чтобы идти этим рациональным
путем, торопливый скептик без всяких колебаний провозгласит, что нет мудрости в
политике, честности — в делах, знания — в философии, истины — в религии, и все
это на основе одного и того же умозаключения: исходя из многочисленных примеров
неразумия, подлости, невежества и заблуждения, встречающихся в мире. Но
поскольку те, кто ничего не смыслит во всем остальном, воображают себя проницательными в
области религии, то именно этот ученый софизм чаще всего и обращается ими против
христианства.
Тот, кто желает убедить человека неверующего, но восприимчивого
к разумным аргументам, должен, во-первых, ясно доказать
существование Бога: ибо ни один истинный теист не может быть врагом
христианской религии, а незнание этого фундаментального положения или
неверие в него и составляет в сущности мелкого философа. Полагаю,
нет нужды говорить об этом тому, кто знаком с великими авторами из
секты мелких философов. Бытие Божье является истинным предметом человеческого
разума и доступно ясному доказательству, тогда как попытка рационально объяснить
тайны Его природы и вообще все таинственное в религии есть занятие тщетное и
пустое. Вполне достаточно, если мы способны показать, что в нашей вере в эти положения
нет ничего абсурдного или противоречивого, и если вместо того, чтобы измышлять
гипотезы ради их истолкования, мы используем наш разум только для ответа на
возражения, которые против них выдвигаются. Всякий раз, однако, мы должны тщательно
отличать серьезного, скромного, чистосердечного и рассудительного человека,
который испытывает колебания и затруднения по религиозным вопросам, но ведет себя
при этом как благоразумный человек, впавший в сомнения, от мелких философов,
этих нечестивых и самодовольных особ, которым непременно нужно внушать свои
сомнения другим, вербуя себе таким образом прозелитов. И когда предстанет перед
Алкифрон
нами подобный человек, следует определить, к какому виду он принадлежит, является
ли он оригинальным философом или философствует понаслышке, из вторых рук,
распутник ли это, насмешник или скептик: ведь каждый из них требует особого
подхода. Некоторые люди слишком невежественны, чтобы выказать скромность, а без этого
качества не бывает послушания и понятливости. Но если для того чтобы выработать в
себе восприимчивость к разумным аргументам, человек должен прежде хоть немного
мыслить и исследовать сам, то даже величайшего на свете невежду можно освободить
от его мнений насмешкой. Я знал рассудительную женщину, которая посрамила двух
мелких философов, весьма докучавших соседям, умело сыграв на их главных
слабостях. Один из них воображал себя величайшим скептиком, другой притязал на самую
безграничную свободу. Первому она заметила: тот, кто достаточно доверчив, чтобы
самое драгоценное — жизнь и состояние — поручать попечению аптекаря и адвоката,
бывает смешон, когда изображает из себя скептика тем, что отказывается доверить
свою душу (сущий пустяк, по его же словам) своему приходскому священнику.
Второму (а он был из тех, кого называют щеголями) она дала почувствовать, каким
полнейшим рабом является он в отношении одежды, самой важной, по его мнению, вещи на
свете, — и при этом вполне серьезно претендует на свободу в мышлении, коим никогда
не обременял свою голоэу; и насколько приличнее и естественнее было бы для него
утверждать свою независимость в области моды, подыскивая сферу применения своих
талантов там, где они более всего способны себя проявить.
Настоящих мелких философов немного и сами по себе они не слишком
влиятельны, — однако их последователи, слепо им доверяющие, многочисленны и столь же
самоуверенны, сколь легковерны; а в манерах и повадках этих второсортных
философов есть нечто, способное смутить человека степенного и рассудительного, и
противостоять этому труднее, чем всем их доводам.
Когда Критон умолк, Ефранор заметил, что, по его мнению, было
бы чрезвычайно полезно для общего блага, если бы вместо
противодействия свободомыслию в нашей свободной стране основали Дианоэти-
ческую Академию или Семинарию для свободомыслящих — с
уединенными покоями, кабинетами, галереями, тенистыми аллеями и
рощами — и там, после семи лет, проведенных в тиши и размышлении,
человек превращался бы в истинного свободомыслящего и, начиная с этого момента,
получал бы право мыслить о чем угодно, а в придачу — особый значок, отличающий
его от самозванцев.
— Честное слово, — отозвался Критон, — я полагаю, что именно мышление
принадлежит к важнейшим desiderata70 нашего времени и что действительной причиной
всякого беспорядка и неустройства можно по справедливости признать всеобщее
пренебрежение к образованию у тех, кто более других в нем нуждается — у людей
света. Чего же доброго ожидать там, где наиболее влиятельные люди наименее
разумны, а те, кому непременно станут подражать, являют собой самые скверные
образцы? Где столь необразованная молодежь ведет себя, однако, столь дерзко? Где
скромность считается трусостью, а уважение к возрасту, знанию, религии, законам —
недостатком ума и малодушием? Столь поспешное развитие скороспелых дарований
не встретило бы одобрения и поощрения у мудрецов древности, чьи мнения на этот
счет так плохо соответствуют духу нашего времени, что для современников наших
EOŒ
будут, боюсь, невыносимы. Но какими бы нелепыми ни показались эти правила
британской молодежи, столь талантливой и дерзкой в смелых экспериментах по
части улучшения конституции своего отечества, разумные люди, я полагаю,
согласятся, что если правящая половина человечества посмотрит на себя в порядке опыта в
старом гомеровском смысле как на пастырей народа, чей долг — совершенствовать
свою паству, то она скоро поймет, что исполнить эту задачу можно лишь с помощью
воспитания, весьма отличного от нынешнего, и иных по сравнению с максимами
мелкой философии правил. И если бы нашим молодым людям действительно
прививались разум и привычка мыслить, если бы молодежь знакомилась с превосходными
писателями древности, то мы бы вскоре увидели, что дух распущенности и
вседозволенности, обычно именуемый свободомыслием, был бы изгнан из общества
благородных людей, а с ним — невежество и дурной вкус: последние неотделимы от порока, а
потому люди стремятся к пороку ради удовольствия и избегают добродетели из
отвращения к страданиям. А значит, души молодых людей нужно воспитывать так,
чтобы они заблаговременно приучались испытывать удовольствие и страдание от
надлежащих предметов, или, другими словами, чтобы их склонности и антипатии
получали истинное направление, Καλώς χαιρειν η μισειν. Это, согласно Платону и
Аристотелю, и было ορθή παιδεία, правильным воспитанием.* Тем же людям, чьи
душа, здоровье или состояние уже испытали пагубные последствия воспитания
ложного, было бы не худо понять, что у них нет лучшего способа возместить
собственный ущерб, кроме как предотвратив подобное у своего потомства.
Когда Критон произносил эти слова, вошла какая-то компания, что и положило
конец нашей беседе.
Aiideffi^jßfcjiib
* Платон в «Протагоре* и Аристотель, Ethic ad Nicom. Lib. II, cap 2 и Lib. X, cap. 9. 7
г.
ч
РАБОТЫ
РАЗНЫХ ЛЕТ
Ά
IF Щ
Пассивное
повиновение
К читателю
то никакая гражданская власть не предполагает безоговорочного
пассивного повиновения, но что подчинение правительству нужно измерять и
ограничивать благом общества и что, следовательно, подданные могут
законным образом сопротивляться верховной власти в тех случаях, когда
общее благо этого, по-видимому, требует; более того, что поступать таким
образом есть долг подданных, поскольку на каждом из них лежит безусловная обязанность
содействовать общей пользе, — эти и им подобные теории, которые я не могу не считать
пагубными для человечества и противными здравому разуму, в последние годы весьма
усердно разрабатывались и были представлены в самом выгодном свете чрезвычайно
талантливыми и учеными особами. А потому мне показалось необходимым вооружить против них
юношество нашего университета и позаботиться о том, чтобы молодые люди вступали в
жизнь с принципами твердыми и правильными. Не того желаю я, чтобы они приобрели
закоренелые предрассудки в пользу какой-либо партии, но чтобы своевременно познав свой
долг и познакомившись с ясными и рациональными его основаниями, молодые люди
сделали выбор в пользу такого поведения, которое свидетельствовало бы о них как о добрых
христианах и законопослушных гражданах.
С этой целью я и выступил несколько месяцев тому назад в нашей университетской
церкви1 с тремя рассуждениями, которые, как сочли иные из моих слушателей, стоило
бы сообщить большей аудитории; между тем ложные мнения и слухи,
распространившиеся на их счет за пределами университета, сделали это и в самом деле необходимым.
По этой причине я теперь и выпускаю их в свет в виде одного цельного рассуждения.
В заключение скажу: поскольку при написании этих мыслей я стремился
сохранять спокойствие и беспристрастие, подобающие всякому честному исследователю
истины, то я искренне желаю, чтобы и читались они в таком же расположении духа.
Kté&tfF~ Джордж Берклн ^D^^Gg
"... противящийся власти
противится Божию установлению".
(К Римлянам, гл. 13, ст. 2)
В намерения мои не входит исследовать особую природу правления
и конституции нашего королевства, а тем более притязать на то, чтобы
определять достоинства различных партий, находящихся ныне у
власти в государстве. Я признаю, что подобные предметы лежат вне моей
компетенции; к тому же большинство сочтет, пожалуй, неуместным
занятием трактовать их перед аудиторией, почти целиком
составленной из молодых особ, удаленных от мирских забот и шума света ради более удобного
наставления в учености и благочестии. Не будет, однако, делом, в каком-либо
отношении неподобающим условиям данного места, разъяснить и внушить каждую
отдельную часть Закона Природы, или же тех добродетелей и обязанностей, которые имеют
силу во всяком государстве или человеческом сообществе. К числу подобных и
относится, на мой взгляд, христианский долг непротивления верховной власти, который
выражен в приведенных мною словах из Писания: «Противящийся власти противится
Божию установлению».
Рассуждая об этих словах, я буду держаться следующей методы:
Во-первых, я попытаюсь доказать, что верховная гражданская
власть, существующая в каком угодно государстве, требует
безусловного и неограниченного подчинения.
Во-вторых, я исследую основания и доводы в пользу
противоположного мнения.
В-третьих, я рассмотрю возражения, извлекаемые из мнимых последствий
непротивления верховной власти.
Трактуя эти вопросы, я намерен не основываться на авторитете Священного
Писания, но всецело опираться на общие всему человечеству принципы разума, ибо
существуют весьма ученые и рассудительные люди, каковые, будучи искренне убеждены в
том, что безусловное повиновение всякой земной власти противоречит истинному
разуму, не могут заставлять себя принять такое истолкование Священного Писания
(пусть даже вполне естественное и очевидное по прямому смыслу), которое делало бы
составной частью христианской религии то, что само по себе, как им представляется,
есть явная нелепость, губительная для исконных и неотъемлемых прав человеческой
природы.
Ώα
Ijlk геЭвдУ^ Пассивное повиновение ^ft^Sffi jßj
Я не собираюсь заниматься тем повиновением, которое по
обязанности или из благоразумия люди должны воздавать власти
нижестоящей, или исполнительной; не стану я также
рассматривать, какие лица при том или ином правлении бывают облечены
властью высшей, или законодательной. Лишь одно считаю я не
требующим доказательств: во всяком гражданском обществе
существует так или иначе установленная верховная власть, которая принимает законы
и принуждает к их соблюдению. Соблюдение этих законов путем тщательного
исполнения того, что они предписывают, или же, если это противоречит разуму и
совести, посредством безропотного претерпевания любых кар, которые верховная
власть связала с пренебрежением законами или нарушением их, именуется
лояльностью; с другой стороны, использование силы для того, чтобы
воспрепятствовать исполнению законов или избежать определенных верховной властью
наказании, есть то, что в собственном смысле и называется бунтом. Теперь же, чтобы
сделать очевидным, что всякая степень бунта со стороны подданного преступна,
я, во-первых, попытаюсь доказать, что лояльность есть естественная обязанность,
а нелояльность, или бунт, является в самом строгом и истинном смысле слова
грехом, или нарушением закона природы. Во-вторых, я намерен показать, что
воспрещение греха, или отрицательные заповеди естественного закона, например,
«не прелюбодействуй», «не преступай клятвы», «не противься власти» и им
подобные, надлежит принимать в смысле настолько полном, безусловном и
непреложном, что достижение величайшего блага или избавление от величайшего зла,
которые только могут выпасть на долю любого человека или любого числа людей
в этой жизни, не способны оправдать малейшее их нарушение.
Итак, я сначала должен показать, что лояльность есть моральный долг, а
нелояльность, или бунт, есть в самом строгом и прямом смысле слова грех, или нарушение
закона природы.
Хотя все мудрые люди согласны в том, что есть известные
моральные правила, или законы природы, которые обладают вечной и
безусловной обязательной силой, существуют, однако, различные
мнения относительно способов открытия подобных законов и отличения
их от прочих установлений, зависящих от человеческих склонностей
и произвола. Некоторые рекомендуют искать их среди божественных
идей, другие — в понятиях, запечатленных от рождения в человеческих умах; иные
видят их источник в авторитете ученых людей и во всеобщем согласии народов, и,
наконец, некоторые утверждают, что открыть их можно лишь с помощью логических
заключений разума. Первые три метода, должно признаться, подвержены серьезным
затруднениям, последний же, насколько мне известно, еще не был истолкован так
ясно и изложен так полно, как того заслуживает важность предмета.
А потому нас, я надеюсь, извинят, если в рассуждении о пассивном повиновении,
желая заложить более глубокий фундамент дли этой обязанности, мы исследуем
происхождение, природу и принудительную силу моральных обязанностей в целом, а
также те критерии, по которым их можно определить.
Поскольку себялюбие является самым универсальным и наиболее
глубоко запечатленным в наших душах принципом, то для нас вполне
естественно относиться к вещам сообразно тому, насколько они
способны увеличить или уменьшить наше собственное счастье, и называть
их соответственно благом или злом. Наш разум всегда занят установ-
. лением различия между ними, и все заботы нашей жизни сводятся к
тому, чтобы, правильно употребляя наши способности, добиться первого и избежать
второго. Когда мы появляемся на свет, то в первое время нами всецело руководят
впечатления чувств, поскольку чувственное удовольствие есть безошибочный признак
настоящего блага, как чувственная боль — настоящего зла. Но по мере того как
постепенно растет наше знание природы вещей, опыт учит нас, что настоящее благо нередко
влечет за собою большее зло в будущем, а с другой стороны, настоящее зло столь же
часто является причиной большего будущего блага. Кроме того, когда начинают
проявляться благороднейшие способности человеческой души, они открывают перед нами
блага куда более превосходные, нежели те, которые имеют отношение к чувствам. А
потому в наших суждениях происходят перемены: мы уже не подчиняемся первому же
чувственному побуждению, но рассматриваем отдаленные последствия поступков,
пытаясь, исходя из обычного хода вещей, определить, на какое благо можно уповать или
какого зла нужно страшиться. И это часто вынуждает нас пренебрегать настоящими
мимолетными наслаждениями, когда они вступают в спор с более существенными или
продолжительными благами, пусть даже последние слишком отдалены во времени или
слишком утонченны по своей природе, чтобы повлиять на нашу чувствительность.
Но так как вся Земля и вся целокупная продолжительность
бренных вещей, которые заключает в себе наш мир, есть рядом с вечностью
нечто совершенно незначащее, или, как великолепно сказал пророк,
«менее чем ничто», то кому же не ясно, что всякий разумный человек
должен вести себя так, чтобы его поступки самым действенным
образом способствовали его вечному интересу? А поскольку существование
верховного всеведущего Духа, который один способен сделать нас навек счастливыми
или вечно несчастными, есть истина, очевидная благодаря свету природы, то отсюда
прямо вытекает, что подчинение Его воле, а не каким-либо преходящим мирским
выгодам есть единственный закон, по которому всякий человек, действующий согласно с
принципами разума, должен соразмерять и направлять свои поступки. Тот же вывод с
подобной же очевидностью следует из отношения Господа к Его творениям. Бог —
единственный создатель и хранитель всего сущего, а потому Он по самому
несомненному праву является великим законодателем вселенной; человечество же обязано
подчиняться Его законам из чувства долга не менее, чем из интереса.
Следовательно, мы прежде всего должны стремиться открыть
Божью Волю, или общий замысел Провидения по отношению к
человечеству, а также те действия, которые самым непосредственным
образом способствуют исполнению данного замысла. Это, по-видимому, и
есть истинный и верный путь к открытию законов природы. Ибо,
поскольку законы суть правила, направляющие наши деяния к це-
11k fëf&Èffî' Пассивное повиновение ^)^В^( jßj
лям, поставленным законодателем, то чтобы достичь знания божественных законов,
мы должны сначала определить, какой цели призваны, согласно Его замыслу,
служить человеческие поступки. Атак как Бог есть существо, обладающее бесконечной
благостью, то очевидно, что цель, к которой Он стремится, есть благо. Но поскольку
Бог уже обладает в Самом Себе всеми возможными совершенствами, отсюда следует,
что упомянутое благо — не Его собственное, но благо Его творений. Далее, так как
моральные поступки людей целиком относятся к ним самим и таким образом не
имеют никакого влияния на иные порядки интеллигенции, или виды разумных
существ, то и благо, которое эти поступки обеспечивают, не может быть ничем иным,
кроме блага человеческого. Но поскольку в естественном состоянии лишь моральная
добродетель может дать одному человеку большее право на благосклонность Бога,
чем другому, добродетель же, состоящая в подчинении законам Бога, предполагает
существование таких законов, а закон предполагает цель, к которой он и призван
направлять наши поступки, то отсюда следует, что нельзя вообразить никакого
различия между людьми, предшествующего поставленной Богом цели, и что,
следовательно, сама по себе цель, или общий замысел Промысла, не определяется и не
ограничивается какими-либо соображениями, касающимися отдельных лиц. А
значит, по Божьему замыслу, совокупные деяния отдельных лиц должны обеспечить не
частное благо того или иного человека, той или иной страны или эпохи, но общее
благополучие всех людей, всех стран и всех веков.
Теперь, когда мы открыли ту высшую цель, которой подчинены моральные
обязательства, нам остается установить, какие методы необходимы для достижения
подобной цели.
Благополучие человечества не может быть достигнуто иначе, как
одним из следующих способов: либо, первое, без принудительной сиг
лы каких-либо определенных универсальных законов морали, лишь
вменив в обязанность каждому человеку в любом отдельном случае
принимать в расчет общее благо и всегда совершать то, что в данное
время и при данных условиях кажется ему наиболее полезным для
общего блага; либо, второе, сделав обязательным соблюдение определенных, твердо
установленных законов, которые при повсеместном и постоянном установлении
обладают по самой природе вещей внутренней способностью обеспечить общее благо
человеческого рода, — хотя в частных случаях ввиду неблагоприятных обстоятельств и
порочной беззаконности людских желаний могут послужить поводом к великим
несчастиям и страданиям многих добродетельных лиц.
Против первого из этих методов существуют веские возражения. Для краткости
упомяну лишь два:
Во-первых, отсюда следует, что самые добропорядочные люди
ввиду недостатка рассудительности и самые мудрые люди по причине
неведения всех скрытых обстоятельств и последствий определенного
действия могут очень часто приходить в недоумение, не зная, как
следует поступить, -- чего бы не происходило, если бы они судили о
каждом поступке, сопоставляя его с отдельным правилом, а не
доискивались, какое благо или зло способен он в данном случае принести, ибо зна-
чительно проще судить с достоверностью о том, является ли некое деяние
нарушением того или иного закона, нежели о том, добрые или худые последствия оно за
собою влечет. Короче говоря, просчитать наперед результаты каждого отдельного
поступка невозможно, а если бы даже это и было возможно, то занимало бы
столько времени, что в обыденной жизни оказалось бы делом совершенно
бессмысленным.
Во-вторых, если держаться этого метода, то отсюда вытекает, что мы не способны
иметь верного и надежного критерия, сопоставляя с которым поступки других
людей, мы могли бы называть их хорошими или дурными, добродетельными или
порочными. Ибо поскольку правилом и мерилом деяний всякого добропорядочного
человека полагается его личное беспристрастное мнение о том, что при данных
условиях более всего способствует общему благу, и поскольку мнения разных людей
по причине несходства их стремлений и жизненных обстоятельств непременно будут
весьма различными, то совершенно невозможно будет определить, является ли
какой-либо случай отцеубийства или лжесвидетельства преступлением. Ведь человек
мог иметь к тому свои причины, и то, что для меня стало бы ужасным и
омерзительным грехом, для него могло бы быть долгом. Особые правила, по которым поступает
каждый человек, глубоко скрыты в его душе и никому другому неведомы, а значит,
только он сам и может определить, соблюдает он данные правила или нет. А
поскольку эти правила зависят от частных обстоятельств, то они по необходимости
всегда изменяются вместе с переменами последних, и, следовательно, бывают
разными не только у разных людей, но и у одного и того же человека в разное время.
А из всего этого вытекает, что не может существовать гармонии и
согласованности между поступками добродетельных людей, что нет
видимого постоянства и последовательности в поведении отдельного
человека, что не бывает верности принципам, что самые лучшие
деяния могут осуждаться, а самые отвратительные — встречать
одобрение. Одним словом, отсюда вытекает такое смешение порока и
добродетели, преступления и долга, ужаснее которого нельзя ничего вообразить. А значит,
та великая цель, ради которой Бог требует от людей единых и согласных действий,
может быть достигнута лишь вторым из упомянутых способов, а именно соблюдением
ясных, определенных и универсальных правил, или моральных законов, которые по
самой своей природе необходимым образом содействуют общему благу человечества,
благу всех народов и всех веков, от сотворения мира до его конца.
А следовательно, во всяком практическом положении, которое
после беспристрастного и всестороннего изучения человеческих
страстей, интересов и отношений покажется истинному разуму имеющим
очевидную и необходимую связь с общим благом, нужно видеть
предписание Божьей Воли. Ведь тот, кто желает цели, должен желать и
средств, необходимым образом подобной цели содействующих; между
тем было доказано, что Бог желает, чтобы всеобщее благополучие человеческого
рода достигалось через согласные усилия всех отдельных лиц, а значит, любое
практическое положение, с необходимостью ведущее к этой цели, надлежит считать
велением Бога, и следовательно, законом для человека.
1^ rej^pty^ Пассивное повиновение ^)^fëffl( JjQ
Подобные положения называются законами природы, поскольку они
универсальны и их обязательность имеет своим источником не какое-либо
гражданское установление, но непосредственно волю Творца природы.
Их именуют запечатленными в душе, начертанными на скрижалях
сердца, ибо они хорошо известны всему человечеству, и их внушает и
открывает людям совесть. Наконец, их называют вечными законами
разума, и их можно доказать с помощью безошибочной рациональной дедукции.
И хотя по несчастному стечению обстоятельств, а особенно —
ввиду безнравственности людей порочных, не желающих их соблюдать,
эти правила слишком часто становятся случайной причиной бедствий
людей добродетельных, строго их соблюдающих, это, тем не менее, не
лишает их обязательности, а потому их следует всегда считать
твердыми и неизменными нормами нравственного добра и зла, к отступлению
от которых ни личный интерес, ни любовь к друзьям, ни соображения общественной
пользы не должны нас принудить. А значит, ясно, что если относительно моральности
какого-нибудь поступка возникают сомнения, то разрешить их в силах не вычисление
общей пользы, которая может из него проистечь, но лишь сопоставление этого
поступка с Вечным Законом Разума. И тот, кто сообразует свои действия с этими правилами,
никогда не сможет поступить дурно, хотя бы он довел себя таким образом до нищеты,
гибели пли позора, более того — пусть даже он обрекает свое семейство, своих друзей,
свою родину всем тем бедствиям, кои почитаются самыми тяжкими и невыносимыми
для человеческого естества. Нежность и благожелательность часто служат мотивами
самых прекрасных и возвышенных деяний, и однако, мы не вправе превращать их в
единственный закон нашего поведения, ибо это — страсти, и их, подобно всем прочим
страстям, укорененным в нашей природе, следует сдерживать и подчинять, - в
противном случае они могут толкнуть нас к столь же чудовищным злодействам, что и
самое необузданное вожделение. Скажу больше: они опаснее других страстей, ибо
способны внушать особое доверие, ослепляя и подкупая наш ум видимостью
добродетельности и благородства.
Для пояснения сказанного уместно обратить наш взор от мира
морального к миру природному. Homo ortus est (говорит Бальба у
Цицерона) ad munducî contemplandum et imitandum.* И, конечно, свободные
и разумные деятельные существа не могут избрать себе более высокий
образец для подражания, чем природа, которая есть не что иное, как ряд
свободных действий, производимых Деятелем самым мудрым и благим.
Очевидно, однако, что эти действия не приспосабливаются к частным намерениям и
замыслам, но подчинены определенным общим правилам, каковые, будучи выведены из
опыта, получили у философов название «законов природы». И подобные законы
превосходно служат тому, чтобы содействовать общему благополучию мироздания, однако
по причине случайного стечения обстоятельств или сознательных деяний одушевленных
существ нередко выходит так, что естественному благу отдельных лиц и даже целых
* De Natura Dcorum, Lib. И 37.-
MUM
&
городов могло бы лучше способствовать не соблюдение этих законов, но их нарушение
или временная приостановка их действия. И несмотря на все это, природа по-прежнему
идет своим обычным путем, более того, вполне очевидно, что мор, голод, наводнения,
землетрясения вместе с бесконечным множеством других страданий и несчастий —
одним словом, все виды частных и общественных бедствий проистекают именно от
твердого и непоколебимого соблюдения общих законов, установленных однажды Творцом
природы, законов, которые Он никогда не изменит и от которых не отступит ни по одной
из этих причин, сколь бы мудрым и милосердным ни казалось такое поведение
безрассудным и недалеким людям. А что до описанных в Библии чудес, то они всегда
совершались для подтверждения определенных учений или в доказательство полученного от
Бога призвания, но отнюдь не ради частных естественных благ, вроде здоровья или
жизни, которые могли бы извлечь из подобных чудес определенные люди. Отсюда с
достаточной ясностью следует, что мы не можем быть в большом затруднении относительно
того, какой путь надлежит нам избрать, коль скоро мы считаем, что образ действий Бога
более всего способен привести к Его целям, и что наш долг — подражать этому образу
действия, насколько позволяет слабость и бренность нашей природы.
До сих пор речь шла о природе и необходимости правил морали в
целом, а также о критерии, или признаке, по которому их можно отличить.
Что касается частностей, вытекающих из предшествующего
рассуждения, то главнейшие из них выводятся без особого труда. Было
показано, что Закон Природы есть совокупность таких правил, или
заповедей, которые, если каждое из них будет соблюдаться всеми людьми, во
всяком месте и во всякое время, непременно обеспечат благополучие рода людского,
насколько оно вообще может быть достигнуто через человеческие деяния. Пусть любой
не лишенный разума человек бросит беспристрастный взгляд на человеческую природу
в целом и на те обстоятельства, в которых она находится, - и ему станет совершенно
очевидно, что неизменная правдивость или, например, непреклонное соблюдение
справедливости или целомудрия имеют необходимую связь с общим благом людей, и что,
следовательно, их надлежит считать добродетелями, или обязанностями, а значит,
заповеди «не приступай клятвы», «не прелюбодействуй», «не укради» являются
безусловными и непреложными моральными законами, малейшее нарушение коих есть
порок, или грех. Согласие данных частных практических положений, говорю я, с
предпосланным выше определением, или критерием, столь ясно вытекает из природы вещей,
что распространяться об этом далее было бы нелепым отступлением.
Из того же принципа согласно тому же рассуждению следует, что лояльность есть
моральная добродетель, и что заповедь «не противься власти» есть правило, или закон природы,
малейшее нарушение которого несет на себе позорную печать нравственного уродства.
Нетрудно вообразить бедствия, неотделимые от состояния анархии.
Сила и сообразительность любого отдельного человека столь
недостаточны для того, чтобы избежать страданий или обеспечить жизненные
блага, а воли разных людей столь часто вступают в противоречие,
уничтожая одна другую, что соединение отдельных независимых сил под
руководством, если можно так выразиться, единой воли — я разумею,
Закона Общества — является абсолютно необходимым. Без него же нет среди людей ни
порядка, ни культуры, ни мира, без него вся жизнь превращается в один бессмысленный
круговорот страданий; на сильных и на слабых, на мудрых и на глупых отовсюду
обрушиваются любые бедствия, коим подвержен человек в подобном состоянии, где у него
может быть только одна гарантия безопасности — отсутствие того, что способно
внушить другим зависть или вожделение. И это состояние тем более невыгодно по
сравнению с положением животных, что разумные существа в куда большей степени, нежели
животные, могут сознавать и предвидеть свои несчастия. Из всего этого с очевидностью
следует, что лояльность, или подчинение верховной власти, если ее наряду с прочими
добродетелями повсеместно соблюдают, имеет необходимую связь с общим
благополучием человеческого рода, а значит, коль скоро установленный нами критерий истинен,
она, строго говоря, является моральной обязанностью, или одним из положений
естественной религии. Следовательно, малейшее покушение на бунт есть в самом строгом и
правильном смысле слова грех — и не только для христианина, но и для тех, кто
руководится одним лишь светом разума. Более того, после тщательного и непредвзятого
исследования обнаружится, полагаю, что подобное повиновение есть один из первых и
главнейших законов природы, ибо именно гражданское правление определяет и
устанавливает различные отношения между людьми и упорядочивает владение
собственностью, закладывая таким образом фундамент и предоставляя возможность для
исполнения человеком всех прочих обязанностей. В самом деле, всякий, кто рассмотрит условия
человеческой жизни, едва ли подумает, что какая-либо моральная добродетель могла бы
существовать в одиноком и беззащитном состоянии природы.
Но поскольку следует признать, что не во всех случаях наши действия
подпадают под власть ясных и твердых моральных правил, то можно,
пожалуй, задаться вопросом, не принадлежит ли повиновение верховной
власти к числу подобных исключений, и, следовательно, не должно ли
оно определяться скорее благоразумием и расчетливостью каждого
отдельного лица, нежели законом абсолютного непротивления. А потому я
попытаюсь сделать еще более очевидным, что предписание «не противься власти» есть
безусловная нравственная заповедь, как это станет ясно из следующих соображений.
Во-первых, повиновение правительству есть положение достаточно важное для
того, чтобы его устанавливал особый моральный закон. По этой же причине вопросы
пустячные и несущественные моральными правилами не регулируются. Между тем
гражданское правление, от которого в огромной степени зависят мир, порядок и
благополучие человеческого рода, нельзя, разумеется, счесть предметом слишком
маловажным для того, чтобы гарантироваться и обеспечиваться особым моральным
правилом. Правление, говорю я, само по себе является важнейшим на земле источником тех
частных выгод и преимуществ, ради приобретения и сохранения которых людям были
даны некоторые непреложные моральные правила.
Во-вторых, повиновение правительству — область достаточно
широкая для того, чтобы подпасть под действие закона природы.
Существуют бесчисленные правила, упорядочивающие в известных
обстоятельствах весьма важные дела отдельных лиц или обществ, каковые
правила, однако, не считаются моральными или естественными
законами; их можно полностью отменить или проигнорировать, поскольку
частные цели, достижению коих они должны содействовать, Касаются лишь некото-
рых отдельных лиц, вступающих в связи и отношения, не основанные на
общечеловеческой природе; лиц, которые при различном стечении обстоятельств и в разное время
могут осуществлять свои планы и замыслы разными способами — так, как подскажет
им человеческое благоразумие. Но есть ли отношение более широкое и универсальное,
нежели то, которое связывает подданного и закон? Оно не ограничено определенным
веком или отдельной страной, но существует всюду, во всякое время и во всяком
месте, где только люди возвысились над животным состоянием. А значит, ясно, что
правило, воспрещающее сопротивление закону пассивного повиновения, нельзя
исключить из числа законов природы под предлогом какого-либо недостатка с точки
зрения его универсальности.
Существует, в-третьих, еще одно соображение, подтверждающее
необходимость признания данного правила моральным, или
естественным законом: вопрос, которого оно касается, слишком сложен и тонок
по своей природе, чтобы можно было предоставлять его на усмотрение
всякого отдельного человека. Бывают, конечно, случаи настолько
очевидные и бесспорные, что суждение о них можно безопасно доверить
благоразумию любого рассудительного человека. И однако, решение о том,
покорность или сопротивление окажутся полезнее в своих последствиях, или определение
того момента, когда благо нации нуждается в перемене общей формы правления или
замене конкретных лиц, правление осуществляющих, — все это вопросы чрезвычайно
трудные и запутанные; они требуют слишком больших дарований, образованности и
досуга, равно как беспристрастности и обстоятельного знакомства с текущим
положением дел в государстве, чтобы любой из подданных брал на себя смелость в каждом
отдельном случае выносить по ним собственное решение.
Отсюда следует, что:и»по этой причине непротивление (пользу и благодетельность
каковой обязанности в целом никто не в силах отрицать) не может ограничиваться в
отдельных случаях суждением частных лиц, но должно считаться священнейшим
законом природы.
Приведенные выше доводы делают, я полагаю, вполне ясным, что
заповедь, воспрещающая бунт, не уступает по своей значимости
прочим нравственным обязанностям, что станет еще очевиднее из
четвертого и последнего соображения. Невозможно отрицать, что
истинный разум нуждается в каком-то твердо установленном общем
правиле, или критерии, с которым подданные должны соразмерять свое
повиновение верховной власти, ибо всякое несогласие или расхождение в этом пункте
неизбежно ведет к ослаблению и распаду человеческого общества. Там же, где
каждому дано право по собственной прихоти определять меру своей покорности,
столкновения мнений и оценок неминуемы. Но этим твердо установленным общим правилом
может быть либо безусловная заповедь, воспрещающая сопротивление, либо благо
нации в целом. Последнее признается чем-то по своей природе определенным и
конкретным, но поскольку люди соразмеряют свое поведение с тем, что им кажется, будет
ли эта видимость истиной или нет, и поскольку представления об общем благе страны
бывают обыкновенно так же разнообразны, как и ее ландшафты, открывающиеся не-
Ijfeb reJJ^(P^ Пассивное повиновение ^}^^^ГД
ред нашими глазами в разных положениях, то отсюда с ясностью вытекает, что
превратить благо общества в критерий повиновения значило бы в действительности не
установить какую-либо твердую, единую и всеобщую меру лояльности, но отдать
каждого человека на волю его собственных переменчивых склонностей и прихотей.
Из всех этих аргументов и соображений вытекает тот
очевиднейший вывод, что закон, воспрещающий бунт, есть в самом строгом и
истинном смысле слова Закон природы, всеобщего разума и
нравственности. Иные, пожалуй, возразят на это: какие бы выводы
относительно непротивления ни следовали из сухих и скучных доводов
разума, однако в известных поступках присутствуют особые низость и
уродство, которые с первого же взгляда обнаруживают их порочность; зато при мысли
о бунте эти люди не бывают поражены столь же мгновенным и непреодолимым
отвращением и ужасом, а потому не могут считать, что бунт стоит на одном уровне с
прочими преступлениями против природы. На это я отвечаю: действительно, в душе
человека существуют известные врожденные антипатии, и они всегда оказываются самыми
стойкими и неискоренимыми, но поскольку привычка есть вторая натура, то всякое
чувство отвращения, которое с малых лет беспрестанно внушается нашей душе,
оставляет в ней столь глубокий отпечаток, что его уже едва ли можно отличить от
врожденного. Отсюда ясно, что если, с одной стороны, объявлять любой приступ внутреннего
отвращения безошибочным признаком греховности поступка, то это значило бы
привести к господству в мире заблуждение и суеверие; точно так же, с другой стороны,
признание законными всех тех действий, которые не вызывают подобных резких
движении человеческой природы, повлекло бы за собою весьма печальные последствия
для добродетели и морали. Ибо эти движения присущи нам как людям, а значит,
определяя свое к ним отношение, мы должны руководиться не эмоциями или волнени:
ем крови, но велениями трезвого и беспристрастного разума. Если же находятся
люди, обнаруживающие в себе меньше отвращения к бунту, чем к прочим мерзостям, то
отсюда можно заключить лишь то, что данная часть их морального долга не
прививалась им так рано и настойчиво, как это следовало бы сделать, и не послужила
предметом надлежащих размышлений. Ведь есть, без сомнения, и другие люди, которые
питают к бунту столь же глубокое отвращение, что и к прочим злодеяниям.*
Кроме того, могут, вероятно, возразить, что подчинение
правительству отличается от моральных обязанностей тем, что основывается на
договоре, который, при нарушении его условий, непременно теряет
силу, и восстание в подобном случае становится законным, уже не являясь
по своей сути грехом или преступлением, каковые сами по себе
абсолютно противозаконны и не должны совершатся ни под каким предлогом.
Так вот, оставляя в стороне все споры и разыскания в темной и малоизвестной области
возникновения гражданской власти, замечу, что ее обоснованность на договоре можно
* "Il clisiot ordinairement qu'il avoit un aussi grand èloignement pour ce péché la que pour assassiner
le monde ou pour voler sur les grands chemins, et qu'enfin il n'y avoit rein qui fût plus contraire a son
naturel."
"On (r-ii Паскаль) часто говорил, что питает к бунту такое же отвращение, как к убийству или
грабеж ν, и что ничего более ужасного для его натуры не существует.*' — Vide, Г-н Паскаль, с. 44.
5^1^(1^ Джордж Беркли ^)^^ГЗ
понимать двояко: во-первых, в том смысле, что свободные люди, убедившись в
невыносимом неудобстве состояния анархии, где каждый руководится собственной волей,
согласились и условились впредь оказывать полное повиновение приказам определенных
законодателей: ведь жить под их управлением, хотя оно и может порою оказаться для
подданных тяжелым и обременительным, без сомнения, легче, нежели под властью
буйных порывов и непостоянных, противоречащих друг другу желаний толпы дикарей.
Либо, во-вторых, имеется в виду, что подданные заключили со своими
государями или законодателями договор не об абсолютном, но об условном
и ограниченном повиновении их законам, т. е. в той мере и при том условии,
что соблюдение законов будет содействовать общему благу, оставив за
собой право надзирать над законами и судить о том, могут ли они
способствовать общему благу, а также (в случае, если многие или некоторые из них
сочтут это необходимым) право сопротивляться верховной власти, насильственно изменяя
всю систему правления, — каковым правом весь человеческий род (будь то отдельные
общества или отдельные лица) обладает по отношению к своим представителям. При таком
понимании, однако, договор нельзя считать основанием или мерой гражданского
повиновения, пока не будет ясно доказано одно из двух: либо, во-первых, что подобный договор есть
ясно сформулированная и общеизвестная составная часть основного закона нации, никем не
оспариваемая и всеми одинаково признаваемая в качестве элемента обычного права данной
страны; либо, во-вторых, что если подобный договор не изложен в недвусмысленных
выражениях, то он, по крайней мере, с необходимостью вытекает из самого понятия
государства, а это, в свою очередь, предполагает, будто возможность заставить большое число
людей жить в полном подчинении гражданским законам, а не собственной дикой и
необузданной воле есть очевидная нелепость. Но мне кажется совершенно очевидным, что ни одно из
этих положений никогда не будет доказано.
А пока они не доказаны самым бесспорным образом, основанное на
них учение нужно с презрением отвергнуть. Ибо изображать высшие
власти народными представителями значит ослаблять то почтение и
благоговение, которое всякий добропорядочный человек должен
питать к законам и правительству своего отечества. А толковать об
условиях, об ограниченной лояльности и о каких-то темных и туманных
договорах есть самый действенный способ ослабить узы гражданского общества, что
приведет к самым печальным последствиям для человечества. Но, в конце концов,
если существуют люди, которые не могут или не желают видеть пагубность этих
теорий, они, я ничуть не сомневаюсь, убедятся в ней на деле в том случае, если подобные
теории станут когда-нибудь господствующими и каждому частному лицу придет в
голову считать их истинными и осуществлять на практике.
Остается, однако, еще одно возражение против сказанного,
имеющее видимость некоторой силы и убедительности. А именно,
поскольку государство есть всецело человеческое установление, то кажется
противоразумным объявлять повиновение государственной власти
частью закона природы, а не гражданского права. Ибо как можно
воображать, будто природа устанавливает или предписывает естественный
1вк ге§й^г Пассивное повиновение
закон относительно того, что зависит от человеческого произвола, — и не только по
своему виду или форме, которые чрезвычайно разнообразны и непостоянны, но даже
по своему существованию: ведь нигде нельзя найти гражданское правление,
учрежденное самой природой. В ответ на это я замечу, во-первых, что большинство
моральных заповедей предполагают некоторые произвольные поступки или соглашения
людей, и, однако, считаются законами природы. Посредством человеческих договоров и
соглашений определяется собственность, устанавливается значение слов в языке,
заключаются браки, — и несмотря на все это, никто не сомневается, что воровство, ложь
и прелюбодеяние воспрещены законом природы. А значит, лояльность, хотя она и
предполагает произвольные человеческие установления и является их следствием,
может иметь естественную принудительную силу и обязательность.
Во-вторых, замечу, что хотя отдельные общества образуются людьми и не во всех
местах одинаковы (какими обыкновенно бывают вещи, считающиеся естественными),
тем не менее, в человеческом роде заложено естественное расположение, или
стремление к общественной жизни. Я называю его естественным потому, что оно с
необходимостью вытекает из различий между человеком и животным: ведь свойственные
человеку потребности, склонности, способности и дарования созданы и рассчитаны именно
для этого состояния — и в такой мере, что вне его человек не сможет жить в условиях,
сколько-нибудь соответствующих его природе. А поскольку узы и скрепы общества —
это подчинение его законам, то отсюда ясно следует, что данная обязанность на
равных правах с прочими может считаться законом природы. И, без сомнения, та
заповедь, которая предписывает повиновение гражданским законам, сама к гражданским
законам причислена быть не может, а значит, она либо вообще не обладает
принудительной силой над совестью, либо, если обладает, должна иметь своим источником
всеобщий голос природы и разума.
Итак, первое из выставленных нами положений представляется
ясно доказанным, а именно что лояльность является добродетелью, или
нравственным долгом, а нелояльность есть в самом строгом и
истинном смысле слова порок, или преступление против закона природы.
Теперь мы обращаемся ко второму положению и должны доказать,
что запрещение греха, или отрицательные заповеди морали надлежит
принимать в самом безоговорочном, необходимом и непреложном смысле, — и
настолько, что даже малейшее их нарушение не может быть оправдано достижением
величайшего блага или избавлением от величайшего зла, которые выпадают в этой
жизни на долю отдельного человека или многих людей.
Но сначала я изложу основания различия между заповедями положительными и
отрицательными, ибо лишь последние включаются в выставленное мною общее
утверждение. Итак, основания для подобного различения сводятся к следующему: очень
часто ввиду трудности моральных действий, их большого числа или взаимной
несовместимости один человек не может совершать несколько подобных действий
одновременно, между тем вполне возможно и не заключает в себе никакого противоречия,
чтобы любой человек воздержался от всех положительных действий, какими бы они
ни были. Отсюда следует, что запреты, или отрицательные заповеди должны
соблюдаться всеми, во всякое время и во всяком месте, тогда как те заповеди, которые
предписывают совершение поступка, оставляют поле действия для человеческого бла-
зшм
горазумия и предусмотрительности при конкретном их исполнении, ведь оно по
большей части зависит от разнообразных привходящих обстоятельств, каждое из которых
должно быть принято в расчет с тем, чтобы исполнение менее существенных
обязанностей не служило препятствием или помехой исполнению более важных. По этой
причине если не сами по себе положительные законы, то, по крайней мере, их
фактическое исполнение допускает приостановку, ограничение и различие степеней. Что же
касается непреложности закона природы, то в его доказательство представлю два
довода: первый — из сущности самого предмета, второй — из подражания Богу в его
управлении миром.
Итак, во-первых, из сущности самого предмета уже было доказано,
что великая цель морали никогда не будет достигнута, если позволить
каждому отдельному человеку содействовать общему благу теми
средствами, какие он сам сочтет подходящими, не предписывая ему в
качестве общей меры моральных поступков каких-либо твердых,
определенных и универсальных правил. Но если мы признаем
необходимость подобных правил и в то же время считаем законным их нарушение всякий раз,
как этого, по-видимости, требует общее благо, то не означает ли это в сущности
предписывать соблюдение моральных правил лишь на словах, на деле же — позволять
каждому руководствоваться собственным суждением? Между тем уже было доказано,
что ничего более вредного и пагубного для человечества невозможно вообразить.
Во-вторых, к подобному же выводу приводит нас пример Творца природы,
который, как было отмечено выше, действует согласно твердым и неизменным
законам, каковые Он никогда не нарушит по причине проистекающих из них
случайных бедствий. Предположим, что некий государь, от существования
которого зависит благоденствие целой державы, упал в пропасть — у нас, однако, нет
никаких оснований полагать, что действие всеобщего закона притяжения будет в
данном случае приостановлено. Подобное можно утверждать и о всех прочих
законах природы, которые, как мы видим, никаких исключений для особых
обстоятельств не допускают.
И подобно тому, как с исчезновением этого постоянства в мире
природы3 мы бы вместо изумительно-искусного устройства узрели
вскоре лишь путаницу и хаос, точно так же, если бы однажды стало
общепринятым мнение, будто моральные поступки людей не должны
руководствоваться твердыми, определенными и непреложными
правилами, то и в мире моральном, или в системе разумных существ мы бы
уже не обнаружили красоту, порядок и согласие, ибо на смену им пришли бы насилие
и мрак. Тот, кто стоит рядом с дворцом, и в самом деле едва ли может составить
верное суждение об устройстве и симметрии отдельных его частей, ведь самое близкое
всегда представляется нам несоразмерно громадным. И если мы желаем
беспристрастно оценить порядок и всеобщее благополучие, изливаемые во вселенную нерушимыми
законами природы и морали, то нам следует, если можно так выразиться, выйти за ее
пределы и вообразить себя*отдаленными наблюдателями всего того, что в ней
содержится и происходит, — иначе нас наверняка введет к заблуждение слишком близкое
зрелище наших нынешних мелких забот, интересов наших друзей и нашей страны.
Пассивное повиновение
Верное понимание сказанного представит, на мой взгляд, ясное разрешение
следующих трудностей:
Во-первых, некоторым может показаться, будто из
вышеизложенной теории вытекает, что люди по-прежнему остаются
предоставленными своим собственным мнениям и оценкам. Ибо, во-первых, само
существование законов природы, во-вторых, тот критерий, по
которому их можно определить, и, в-третьих, соответствие отдельных
заповедей этому критерию суть вещи, которые приходится открывать с
помощью разума и рассуждения, где каждый должен по необходимости судить
самостоятельно, а значит, при подобной предпосылке путаницы, непостоянства и
противоречий в человеческих мнениях и поступках будет не меньше, чем при любой иной. Я
отвечаю: как бы ни расходились люди касательно того, что является самым
подходящим и благотворным для общества, что следует совершить и от чего воздержаться в
отдельных частных случаях, при суждении о которых они по большей части исходят
из узких и корыстных видов, маловероятно, чтобы столь же значительное несогласие
обнаружилось между добросовестными и разумными исследователями истины во
всеобщих выводах, извлекаемых из широкого и беспристрастного анализа.
, Во-вторых, самое благовидное и правдоподобное возражение
против установленной нами доктрины строгого и безусловного
соблюдения нравственных законов есть то, которое основывается на соображе-
u \ -j\-# Л ниях общего блага.4 Ибо, поскольку, по всеобщему признанию, Бог
IHfcl· ^4Κι желает» чтобы именно общему благу человечества способствовали лю-
|ffifife>^ <дтах| ди своими свободными действиями, то отсюда якобы вытекает, что все
добропорядочные люди обязаны всегда иметь в виду общее благо как высшую цель, к
которой должны быть направлены все их стремления; а значит, если в каком-либо
частном случае строгое соблюдение морального правила окажется явно
несовместимым с общим благом, то мы вправе полагать, что в данном случае Божьей Воле
угодно, чтобы моральное правило удержало честного и беспристрастного человека от
действий во имя той цели, ради которой и было установлено само правило. Ибо
существует аксиома «цель оправдывает средства»; средства же, поскольку их моральная
ценность определяется целью, не должны вступать с последней в противоречие.
В ответ на это позвольте заметить: законом что-либо становится не
просто оттого, что способствует общему благу, но потому, что
устанавливается Божьей Волей, которая одна способна сообщить любой
заповеди силу и достоинство закона природы; равным образом ни один
поступок, сколь угодно целесообразный и благовидный, не должен
считаться законным по какой-либо иной причине, кроме той, что он
соответствует или не противоречит законам, возвещаемым голосом природы и разума.
Действительно, нужно признать, что логическое выведение этих законов основывается на
присущем им свойстве содействовать благополучию человечества при условии, что они
соблюдаются постоянно и повсеместно. Но хотя впоследствии может оказаться, что они по
какой-то случайности этой цели не достигают или даже производят действие
противоположное, тем не менее, эти законы, как уже было доказано, не теряют своей принудитель-
ECSX3
K)^^fF~ Джордж Беркли ^tâ^Gi
ной силы. Короче говоря, всю эту трудность можно разрешить посредством следующего
различения: общим благом человечества мы должны руководствоваться при
формулировании универсальных законов природы — но не в моральных поступках нашей
обыденной жизни. Определенное правило при всеобщем его соблюдении необходимым
образом содействует общему благу человечества, следовательно, оно является законом
природы, — это рассуждение верное. Но если мы скажем: какой-то поступок производит
в данной ситуации много добра и не приносит человечеству никакого зла,
следовательно, он является законным, — то это будет заблуждение. Правило создается с учетом
общего блага человечества, однако наше поведение всегда должно сообразовываться
непосредственно с этим правилом. Те, кто считает общее благо нации единственной мерой
повиновения гражданской власти, похоже, не приняли в расчет именно это различие.
Если скажут, что некоторые отрицательные заповеди, например,
«не убий», допускают ограничение, поскольку в противном случае ни
должностное лицо, ни солдат в бою, ни какой-либо защищающий
самого себя человек не могли бы законным образом убить другого, то
я отвечу так: когда обязанность выражена, как в данном случае, в
чересчур общих терминах, то ради ясного и отчетливого ее изложения
можно либо заменить эти термины другими, имеющими более узкий и определенный
смысл, например, «незаконное убийство» вместо «убийство вообще», либо из общего
положения, сохраняющего всю свою широту, исключить те конкретные случаи,
которые, не подпадая под понятие «незаконного лишения жизни», не запрещены законом
природы. В первом случае, действительно, налицо ограничение, но это ограничение
всего лишь смысла отдельного термина, слишком общего и неточного, который
заменяется другим, более определенным и подходящим. Во втором случае налицо
исключения, но исключения не из закона природы, а из более общего положения, которое
помимо данного закона заключает в себе нечто большее, — то, что нужно удалить,
чтобы сам закон стал ясным и определенным. Однако из этих уступок не вытекает, что
действие какого-либо отрицательного закона природы ограничено лишь теми
случаями, когда его применение способствует общему благу, или что из него исключаются
все остальные случаи, при которых его соблюдение приносит обществу ущерб. Но об
этом у меня еще будет повод сказать в дальнейшем.
Итак, я завершил первую часть рассуждения, которая состояла в доказательстве
того, что верховная власть любого государства требует безусловного и
неограниченного повиновения, и перехожу теперь к исследованию причин и оснований
противоположного мнения, что явилось вторым из намеченных мною предметов.
Великий принцип, который адвокаты права на сопротивление
власти превращают в краеугольный камень своей теории, заключается в том,
что закон самосохранения предшествует всем прочим обязательствам,
поскольку является первым и основным законом природы."' А значит,
рассуждают они, природа обязывает подданных и вменяет им в долг
противиться жестоким поколениям тиранов, сколь угодно оправданным
и санкционированным кровожадными и несправедливыми законами, которые
представляют собой всего лишь человеческие решения, а следовательно, должны уступить
велениям Бога и природы. Но если мы тщательно исследуем эту теорию, то, пожалуй, об-
Illk fëjS^JW' Пассивное повиновение ^/^Sffi JE
наружпм, что она вовсе не является такой явной и справедливой, как могут себе иные
вообразить, и какой она действительно кажется на первый взгляд. Ибо нам следует
различать двойной смысл термина «закон природы» : эти слова означают либо правило, или
предписание, призванное руководить произвольными поступками разумных
деятельных существ, и при таком толковании заключают в себе понятие долга; либо
используются для обозначения любого общего правила, которое, как мы замечаем, имеет силу в
произведениях природы независимо от человеческой воли, и в этом смысле никакого
долга не подразумевают. И я соглашаюсь: в этом, втором значении действительно
существует закон природы, согласно которому каждому живому существу врождено
стремление к самосохранению, но хотя оно и является самой ранней, глубокой и неистребимой
из всех прирожденных или приобретенных потребностей, однако назвать его
моральным долгом было бы совершенно неверно. Если же эти люди хотят сказать, что и при
первом толковании указанных слов самосохранение есть важнейший и
основополагающий закон природы, который возвышается над всеми прочими моральными или
естественными обязанностями, то подобное утверждение, полагаю я, очевидным образом
ложно - по той простой причине, что из него вытекает, будто ради сохранения своей жизни
человек вправе совершить любой грех, а большей нелепости нельзя и придумать.
В самом деле, невозможно отрицать, что закон природы запрещает
нам совершать то, что способно причинить вред жизни любого
человека, а следовательно, — и нашей собственной. Но несмотря на все
сказанное о верховенстве и принудительной силе закона самосохранения,
не существует, насколько я могу судить, такого частного закона,
который обязывал бы нас предпочитать собственное земное благо и даже
самое жизнь благу другого человека, а тем более — исполнению какого-либо
морального долга. Мы слишком склонны поступать так по собственной воле, а потому боль:
ше нуждаемся в законе для того, чтобы наше себялюбие сдерживать и обуздывать,
нежели для того, чтобы поощрять его и возбуждать.
Во-вторых, пусть даже мы признаем долг самосохранения самым
первым и важным из всех положительных, или утвердительных
законов природы, однако, поскольку все моралисты принимают максиму
«никогда нельзя совершать зло ради благих следствий, которые оно
может произвести», отсюда ясно вытекает, что ни одна отрицательная
заповедь не может быть нарушена ради соблюдения заповеди
положительной. А значит, коль скоро мы доказали, что «не противься власти» есть
отрицательный закон природы, отсюда с необходимостью следует тот вывод, что его нельзя
нарушать под предлогом исполнения положительной обязанности самосохранения.
Второй ошибочный аргумент наших противников, на котором они
настаивают более всего, состоит в их утверждении, будто благо
отдельных лиц есть для подданного мера покорности гражданской
власти, а следовательно, ей можно оказывать сопротивление всякий
раз, когда нам представляется, что общее благо этого действительно
требует. Но этот пункт уже был рассмотрен, и он не составит особой
трудности для всякого, кто понимает, что лояльность обладает теми же свойствами,
Ijfei №@&{W Джордж Беркли ^/^B^GsJI
что и прочие моральные обязанности, предписанные отрицательными заповедями,
каковые заповеди, хотя все они и предназначены одинаковым образом для того,
чтобы способствовать общему благу, не могут быть, однако, ограничены или
приостановлены в своем действии ради подобной цели, как это очевидно из сказанного
выше.
Третий довод, на котором они настаивают, таков: первоисточник
всякого права и всякой гражданской власти - народ; между тем никто
не способен передать другому того, чего не имеет сам, а значит,
поскольку ни один человек не обладает безусловным и неограниченным
правом распоряжаться собственной жизнью, то подданный не может
перенести это право на государя (или на верховную власть), который,
следовательно, не имеет неограниченного права распоряжаться жизнями своих иод-
данных. А потому если подданный оказывает сопротивление своему государю,
который, действуя в соответствии с законом, совершает несправедливое, хотя и легальное
покушение на его жизнь, то подданный не чинит по отношению к государю никакой
несправедливости, ибо воспрепятствовать другому завладеть тем, на что тот не имеет
права, не есть несправедливость; а отсюда, похоже, следует, что сопротивление
государю и любой верховной власти согласно с разумом. Попытавшись таким образом
представить их довод в яснейшем свете, я отвечаю:
Во-первых, никакая гражданская власть, действительно, не обладает
неограниченным правом распоряжаться жизнью какого-либо человека. Во-вторых, общепризнано,
что если один человек сопротивляется другому, который желает завладеть тем, на что
не имеет права, то никакой несправедливости по отношению к захватчику он не
совершает. В-третьих, однако, я отрицаю, что отсюда следует, будто сопротивление
верховной власти согласно с разумом, ибо, хотя подобное противодействие и не причинило
бы зла государю или верховной власти, оно было бы несправедливостью по
отношению к Творцу природы и стало бы нарушением Его закона, преступать который, как
уже было доказано, разум не велит нам ни в коем случае.
Четвертая ошибка, или четвертый предрассудок, влияющий на тех,
кто отвергает непротивление власти, происходит от естественного
страха перед рабством, цепями и оковами, который и внушает им
отвращение ко всему, что подпадает — хотя бы в метафорическом
смысле — под эти определения. А потому они так бурно возмущаются тем,
что мы-де вознамерились лишить их естественной свободы, что мы
куем для человечества цепи, желаем его поработить, ну и тому подобное. Но каким бы
суровым ни показался нам следующий приговор, он, однако, вполне справедлив:
наши склонности и инстинкты, в том числе самые естественные, например, стремление к
благополучию, достатку и даже чувство самосохранения, должно сковать цепями
законов разума и природы. Подобное, если уж им угодно так выражаться, рабство, или
подчинение наших страстей непреложным велениям разума, хотя и может уязвить
чувственную, или животную, часть нашего существа, однако наверняка возвысит
достоинство того, что является в нас собственно человеческим. А это обращает меня к их
пятой фундаментальной ошибке.
\hb* re§^(^ Пассивное повиновение ^)^^y{ J$j
Заключается же она в том, что они ложно понимают объект
пассивного повиновения. Мы должны учитывать, что когда подданный терпит
притеснения и обиды со стороны одного или нескольких лиц,
облеченных высшей гражданской властью, то объектом его покорности
является, строго говоря, не что иное, как истинный разум, то есть голос Творца
природы. Не думайте, что мы настолько бестолковы или бесчувственны,
чтобы воображать, будто тираны созданы по лучшему образцу, нежели остальное
человечество, напротив, именно они — самые низкие и испорченные среди людей и сами
по себе не обладают ни малейшим правом на наше повиновение. Но законам Бога и
природы повиноваться должно, и наше повиновение им бывает наиболее искренним и
чистосердечным тогда, когда обрекает нас на мирские несчастья.
Четвертая причина ложного мнения наших противников состоит в
том, что они не различают природу обязанностей положительных и
отрицательных. Ибо, рассуждают они, коль скоро наше активное
повиновение высшей гражданской власти допускает ограничение, то
почему же мы не вправе думать так и о нашем долге непротивления?
Ответ очевиден: потому, что положительные и отрицательные
моральные заповеди имеют разную природу; первые допускают такие ограничения и
изъятия, каким вторые ни в коем случае не подлежат, как это уже было доказано. Вполне
возможно, что повинуясь приказам своих законных правителей, человек нарушит
какой-нибудь противоречащий им закон Бога, — чего он не может совершить, когда из
одного лишь чувства долга и ради собственной совести терпеливо и без сопротивления
все переносит. И это дает нам столь ясное и полное разрешение упомянутого
затруднения, что я бываю чрезвычайно удивлен, когда вижу, как упорно цепляются за него
люди, в остальном разумные и рассудительные.
Об основаниях и доводах противников непротивления сказано достаточно. Сейчас
я перехожу к третьему и последнему пункту, а именно к анализу возражений,
извлекаемых из мнимых последствий непротивления.
Во-первых, возразят, что, приняв эту теорию, нам приходится
думать, будто в некоторых случаях Господь обрекает невинную часть
человечества на необходимость переносить величайшие страдания и
несчастья, причем без всякого возмещения, что явно противоречит
божественной мудрости и благости, а следовательно, принцип, из
которого проистекает подобный вывод, не может считаться законом Бога
или природы. В ответ я замечу: нам нужно тщательно различать необходимые и
случайные следствия морального закона. К первым принадлежат те, которые закон
должен производить по самой своей природе и которые нерасторжимо связаны с его
исполнением, и если эти последствия дурны, то мы можем справедливо заключить,
что таков и сам закон, а следовательно, что он не от Бога. Однако случайные
следствия закона не имеют с ним внутренней естественной связи и, строго говоря, не
проистекают из его соблюдения, являясь на самом деле результатом чего-то чуждого и
побочного, каким-то образом примешавшегося к действию закона. У самого
превосходного закона эти случайные следствия могут оказаться весьма скверными, однако
|S^ïfe(F~ Джордж Берклн ^Jlg^TJ
их вред надлежит относить на счет настоящей и необходимой причины, а не
приписывать его закону, который по своей собственной сущности произвести подобные
следствия не способен. Нужно признать, что бесконечно мудрый и благой законодатель
устанавливает для упорядочения человеческих поступков такие законы, природе
которых необходимо присуща способность содействовать общему благу рода людского,
причем в наивысшей степени, какую только допускают нынешние условия
человеческого существования и устройство человеческой природы, - однако мы отрицаем, что
из-за отдельных зол, проистекающих необходимым и непосредственным образом из
нарушения одного или нескольких хороших законов или совершенно случайным
образом — из исполнения других, можно ставить под сомнение благость и мудрость
законодателя, и мы не думаем, что последние имеют к этим бедствиям какое-либо
отношение. Очевидно, что несчастья и страдания, на которые обрекают мир деспотические
правительства, не являются истинными и неизбежными следствиями закона,
предписывающего нам пассивное повиновение верховной власти и не входят в его
первоначальный замысел, но имеют своим источником жадность, честолюбие, жестокость,
мстительность и тому подобные беспорядочные и греховные страсти, свирепствующие
в душах правителей. А значит, они доказывают не недостаток мудрости и благости в
божественном законе, но лишь недостаток праведности в людях.
Таково нынешнее состояние мира; столь беззаконны желания и столь
необузданны страсти человеческие, что мы всякий день видим явные
нарушения законов природы, которые, каждый раз совершаясь ради
выгоды людей порочных, должны иногда влечь за собою великие бедствия
и потери со стороны тех, кто своей неколебимой верностью законам
Творца стремится снискать себе Его милость. Короче говоря, не
существует таких правил морали (не исключая даже самых лучших), которые не подвергали
бы добропорядочных людей великим лишениям и страданиям; последние неизбежно
вытекают из испорченности тех, с кем добрым людям приходится иметь дело, и лишь
случайным образом — из самих этих хороших правил. И подобно тому, как, с одной
стороны, было бы несовместимым с мудростью Бога дозволять, чтобы возмездием,
постигающим преступника, становились обман и вероломство, и таким образом один грех
карался другим, так, с другой стороны, противоречило бы Его справедливости оставлять
добрых и невинных неотомщенными жертвами порочных и злых. А потому Господь
определил день воздаяния в иной жизни, в этой же опорой нам служат Его милость и наша
чистая совесть. А значит, мы не должны роптать на эти божественные законы или
обнаруживать раздражение и упрямство по поводу преходящих страданий, на которые они
случайным образом нас обрекают, ибо эти муки, как бы ни задевали они нашу плоть и
кровь, покажутся совершенно незначащими, если мы сравним наш бренный и жалкий
мир с вечностью и славой мира грядущего.
Из сказанного, полагаю, ясно следует, что изложенная выше
доктрина непротивления сохраняет свою силу, хотя бы мы допустили, что
она навлекает на нас сколь угодно веские бедствия. А впрочем, после
тщательного исследования может оказаться, что они куда менее
значительны, чем это думают иные. Пагубные последствия, которые ставят
в вину данному учению, сводятся к следующим двум пунктам:
\Ык rejjy(P^ Пассивное повиновение ^|)^|ЗД ^|
Во-первых, перспективой непротивления, а следовательно, безнаказанности, она
подстрекает всех правителей к превращению в тиранов. Во-вторых, уничтожая
всякую оппозицию, а с нею — всякую возможность возместить и исправить ущерб, она
делает жестокость и гнет тиранов еще мучительнее и нестерпимее. Каждое из этих
возражений я рассмотрю отдельно.
Что до первого пункта, то мы должны предположить, что правители — либо
хорошие люди, либо дурные. Если они хороши, то можно не опасаться того, что они станут
тиранами. Если же они дурные люди, т.е. соблюдению божественных законов
предпочитающие удовлетворение собственных вожделений, то соблюдение другими тех
моральных заповедей, которые они сами так склонны нарушать, не может послужить
для них гарантией безопасности.
В самом деле, поднять руку на верховную власть есть для
подданного (даже претерпевающего самые жестокие и незаслуженные
страдания) нарушение закона природы. Оно, однако, еще более ужасно и
непростительно со стороны лиц, облеченных верховной властью и
употребляющих эту власть для того, чтобы губить и разорять
вверенный их попечению народ. А потому какие же могут быть у человека
причины для уверенности в том, что мощный врожденный инстинкт самосохранения
не толкнет других на преступление, если сам этот человек совершит злодеяния еще
более зверские и чудовищные, причем без всякого побуждения извне? И неужели
следует воображать, будто те, кто ради какой-то мелкой выгоды или мимолетного
удовольствия ежедневно преступают законы Бога, не почувствуют, движимые
любовью к свободе, собственности и самой жизни, искушения нарушить ту заповедь,
которая воспрещает сопротивление верховной власти?
Однако, у нас спросят: ради какой же цели мы доказываем,
проповедуем и восхваляем этот долг непротивления, если люди, когда дело
дойдет до крайности, по всей вероятности, не станут его исполнять?
Отвечаю: ради той самой цели, что и все прочие обязанности. Ибо
существует ли на свете такая обязанность, которую многие, слишком многие не
могли бы нарушить, поддавшись тем или иным побуждениям или
уговорам? Моралисты и теологи проповедуют обязанности природы и религии не для того,
чтобы добиться от человечества их полного и совершенного исполнения: это, как они
понимают, вещь невозможная. И однако, усилия наши не будут тщетны, если с их
помощью сделаем мы людей менее грешными, чем прежде, если, противопоставив чувство
долга силе мирских интересов и страстей, сумеем мы победить одни соблазны и умерить
другие, пусть даже величайшие искушения по-прежнему останутся непреодолимыми.
Но если даже допустить, что облеченные верховной.властью люди
имеют полнейшую гарантию того, что самое варварское и жестокое
обращение никогда не сможет толкнуть их подданных к восстанию, я,
однако, сомневаюсь, что подобная уверенность послужит для
правителей искушением к более откровенным и многочисленным проявлениям
жестокости, нежели это сделали бы зависть, недоверие,
подозрительность и мстительность в состоянии менее безопасном.
ccsxa
|j^fc(F Джордж Беркли ^)^^α
По первому пункту, а именно о том, что доктрина непротивления якобы поощряет
правителей становиться тиранами, сказано достаточно.
Второе пагубное следствие, которое ставят ей в вину, заключается в
том, что, уничтожая всякую возможность сопротивления, а
следовательно, всякую возможность исправить и возместить ущерб, она делает
гнет и жестокость тех, кто уже является тиранами, еще более
мучительными и невыносимыми. Но если рассмотреть дело как следует,
обнаружится, что насильственное исправление причиненных правительством
зол есть предприятие, по меньшей мере, весьма рискованное, которое часто повергает
общество в состояние еще более скверное, чем прежде. Ведь мы либо, допускаем, что
силы бунтовщиков невелики и могут быть без труда разбиты, и тогда правители
исполнятся самонадеянности и станут еще более жестокими; либо, если мы предположим, что
силы повстанцев значительны настолько, чтобы противостоять верховной власти,
поддержанной общественной казной, армией и крепостями, и что таким образом вся нация
ввергается в гражданскую войну, то неизбежным следствием этого станут грабеж,
кровопролитие, нищета, хаос и смешение всех человеческих сословий и партий,
следствия куда более невыносимые, чем те, которые, насколько нам известно, испытывали
люди под гнетом самых суровых и неограниченных на свете тираний. Может так
случиться, что после долгой взаимной резни мятежная партия возьмет верх. И если им
удастся разрушить существующую систему правления, то вместо нее они могут учредить
новую и лучшую или передать власть в более достойные руки. Но разве подобное не
может совершиться и без пролития крови, без громадных расходов, тяжких трудов и
войны? Не в руке ли Божией сердце государя? И разве не в силах Господь внушить ему
истинное чувство собственного долга? И неужели Бог не может убрать его из мира
посредством болезни, несчастного случая или рукою какого-нибудь головореза, дабы
послать на его место лучшего владыку? Рассуждая здесь о монархии, я имею в виду все
виды правительств, обладающих верховной властью. В общем, полагаю, мы вправе
согласиться с языческим философом, который считал, что мудрец никогда не должен
покушаться на насильственные перемены в правлении, если его недостатки невозможно
устранить без изгнания сограждан или кровопролития; напротив, мудрому подобает
сохранять спокойствие, призывая в молитвах лучшие времена.* Ведь этот путь способен
привести к успеху, а другой может оказаться безуспешным, — неопределенность, таким
образом, сохраняется в обоих случаях. Разница же между ними в том, что бунт
наверняка увеличит общественные бедствия, по крайней мере, на время, зато никакой
уверенности, что в будущем они уменьшатся, мы иметь не можем.
Но хотя следует признать, что покорность и долготерпение в целом
достойны похвалы, кто-то, однако, может задаться вопросом: разве
чрезвычайные обстоятельства не требуют чрезвычайных мер, а
следовательно, разве восстание не может быть дозволено тогда, когда гнет
совершенно невыносим, а перспектива избавления верна и
определенна? Отвечаю: ни в коем случае. Кляпгвопреступление и измена
способны в известных обстоятельствах принести нации огромную пользу, уничтожив шэло-
* Plato in Epist. Vil."
Ijlk №@&{W Пассивное повиновение ^|)^S^( ^1
женне вещей, несовместимое с ее свободой и с благополучием общества. Точно так же
и прелюбодеяние, посредством коего обретаем мы отечественного наследника трона,
может воспрепятствовать тому, чтобы наше государство попало в руки чужеземного
владыки, который по всей вероятности должен привести его к гибели. Но неужели
кто-нибудь скажет, что исключительная природа подобных обстоятельств уничтожает
вину вероломства и прелюбодеяния?* Я этого утверждать не стану. Между тем было
показано, что бунт есть такое же преступление против природы и разума, как и любое
из вышеназванных, а следовательно, не в большей мере, чем оно может быть
оправдано какими-либо причинами и обстоятельствами.
И что же? Должны ли мы склонить наши головы перед мечом? И
никакого убежища, никакого спасения от установленной по закону
безграничной тирании не существует? В ответ на это я скажу: во-первых, не
стоит опасаться, что находящиеся в здравом уме люди станут обрекать
на гибель свой народ теми жестокими и бесчеловечными приказами,
которые иные спешат предположить. Во-вторых, замечу: если они на это
пойдут, то нижестоящие власти, несомненно, могут, более того — обязаны не совершать
при исполнении подобных приказов ничего такого, что противоречило бы ясно
выраженным и бесспорным законам Бога. И приняв в расчет все обстоятельства, мы,
пожалуй, придем к мысли, что если представить ограничение активного повиновения
законами Бога и природы в качестве долга служителей и исполнителей верховной власти, то
в предполагаемых нами чрезвычайных случаях это поможет сохранить мир и
безопасность общества ничуть не хуже, чем восхваление права народа на бунт.
Далее, в качестве доказательства абсурдности доктрины
пассивного повиновения будет, вероятно, сказано, что она-де предписывает
подданным слепое и безоговорочное послушание приказам других
людей, а это не подобает достоинству и свободе разумных деятельных
существ; последние, правда, обязаны повиноваться своим
начальникам, но повиновение это должно быть осмысленным, таким, которое
* Когда я это писал, мне и в голову не могло прийти, чтобы кто-то стал под каким-либо
предлогом открыто оправдывать подобные преступления. Впоследствии, однако, я обнаружил, что некий
автор (вероятно, тот самый, который опубликовал книгу под названием "Права христианской
церкви") в "Рассуждении о покорности верховной власти", напечатанном вместе с тремя другими
рассуждениями в 1706 г. в Лондоне, ведя речь о божественных законах, не постыдился заявить
следующее (гл. 4, с. 28): "Нет такого всецело относящегося к человеку закона, который не утратил бы свою
принудительную силу, если бы при каком-нибудь из бесконечно разнообразных обстоятельств и
положений человеческой жизни он оказался в противоречии с благом человека. "Таким образом,
согласно нашему автору, отцеубийство, кровосмешение и измена превращаются в совершенно
невинные вещи, если при бесконечном разнообразии обстоятельств и положений они вдруг окажутся
способными содействовать общему благу (или будут сочтены таковыми любым отдельным лицом).
После того, что уже было сказано, мне, надеюсь, нет нужды брать на себя труд убеждать читателя в
нелепости и пагубности этой теории. Замечу лишь, что автора, похоже, привело к ней более чем
обычное отвращение к пассивному повиновению, каковое отвращение и заставило его ограничивать
данную обязанность (не таким же правом все прочие) благом общества, — ради совершенного
истребления среди людей всякого порядка и всякой нравственности. И следует признать: этот
переход был чрезвычайно естественным.7
KfâiïF Джордж Беркл. ^Щ^ГЗ!
проистекает из ясного понимания справедливости законов и их способности служить
общему благу. На это я отвечаю: едва ли правительство потерпит особый ущерб, если
надзором за его законами и их исправлением не будут заниматься те, кому не дано
право в подобного рода делах участвовать. И нужно признать, что занятия и образ
жизни большинства людей делают их настолько скверными судьями в этих предметах,
что они по необходимости должны относиться с нерассуждающим почтением к тем или
иным лицам, — и кто же имеет большее право на такое почтение, нежели люди,
облеченные верховной властью?
Против безоговорочной покорности существует еще одно
возражение, которое я вовсе не стал бы упоминать, если бы не обнаружил, что
на нем настаивают такие выдающиеся люди, как Гроций и Пуффен-
дорф, * полагающие, что наше непротивление власти должно соотносить
с целями тех, кто создавал человеческое общество. Предположим,
рассуждают эти авторы, мы бы задали вопрос: неужели в их замыслы
входило обречь каждого подданного необходимости выбирать собственную смерть, а не
сопротивление жестокости своих владык? Невозможно представить, что они бы ответили
утвердительно. Ведь это означало бы поставить себя в положение худшее, чем то,
которого они, вступая в общество, стремились избежать. Ибо, хотя прежде они были
подвержены обидам и оскорблениям со стороны многих, зато имели возможность оказывать им
сопротивление. Ныне же они обязаны совершенно безропотно терпеть величайшее зло
от тех, кого вооружили и облекли собственной силой. А это настолько же хуже прежнего
состояния, насколько верная казнь хуже неопределенности сражения. Но, оставляя в
стороне все прочие возражения, которым подвержен подобный способ аргументации,
скажу: очевидно, что нам лучше оказаться в полной и непреодолимой власти
распоряжений пусть даже одного-единственного лица, истинный интерес которого (равно как и
его потомства) состоит в том, чтобы сохранять нам мир и достаток и защищать нас от
посягательств со стороны прочих народов, нежели остаться беззащитными жертвами
гнева и алчности всякого злого и испорченного человека, который превосходит нас
силой или может застать нас врасплох. Эта истина подтверждается как постоянным
опытом подавляющей части человечества, так и тем, что мы уже сказали об анархии и о
несовместимости подобного состояния с образом жизни, подобающим человеческой
природе. Отсюда ясно, что последнее из упомянутых нами возражений строится на ложной
предпосылке, а именно что люди, отказываясь от естественного состояния анархии ради
безоговорочного непротивления и покорности правительству, ставят себя в худшие
условия, нежели те, в которых жили они прежде.
Последнее возражение, на котором я остановлюсь, таково: из
вышеуказанной доктрины, не допускающей никаких оговорок и
исключений, будто бы вытекает, что люди обязаны безропотно повиноваться
узурпаторам и даже безумцам, которые обладают верховной властью,
— мысль настолько абсурдная и противоречащая здравому смыслу,
что в предпосылках, на которых она строится, мы можем по всей спра-
* Grotius, De Jure Belli et Pacis, Lib. I. cap. IV. sect. 7; Puffendorf, De Jure Natura et Gentium,
Lib.VII. cap. VII. sect. 7.8
ECSXJ
Пассивное повиновение
ведливости усомниться. Так вот, чтобы разъяснить этот пункт, я замечу: ограничение
действия моральных обязанностей можно разуметь двояко: либо, во-первых, как
различение терминов утверждения, посредством коего то, что понималось в смысле
широком и общем, ограничивается толкованием узким и частным, а это в сущности значило
бы не ограничить обязанность, но, скорее, в точности ее определить. Либо, во-вторых,
его можно понять как временный отказ от исполнения долга, чтобы избежать каких-то
чрезвычайных неудобств, ограничивая таким образом его исполнение известными
случаями и обстоятельствами. И лишь в этом, последнем, смысле отрицательные
обязанности не допускают, как мы показали, никаких ограничений и оговорок. Установив
это в качестве предпосылки, я отвечаю на данное возражение следующим образом:
долг непротивления отнюдь не принуждает нас отдавать жизнь и собственность на
волю и в распоряжение безумцев или всех тех, кто узурпировал верховную власть
силон или коварством, ибо совершенно ясно, что объект повиновения, предписанного
подданным законом природы, так ограничен по самой своей сущности, чтобы
исключить и то, и другое. Доказывать это я не собираюсь, поскольку никто и никогда этого,
полагаю, не отрицал. И подобное ограничение объекта нашей покорности совершенно
не ограничивает самое обязанность в том смысле, против которого мы возражаем.
■} Вечные законы морали, регулирующие наши действия, обладают
такси же универсальной и непреложной силой, что и положения
геометрии. Ни одно из них не зависит от особых условий или обстоя-
u г^ i\ \у iji тельств, но во всякое время и во всяком месте остается истинным, не
|§К^ тЯЁ1 допуская ограничений или исключений. «Не противься власти» есть
|ДИЬ>^^ИД| СТоль же твердое и неизменное правило для руководства поведением
подданного по отношению к правительству, как «умножить основу на половину
высоты» - для измерения площади треугольника. И подобно тому, как универсальность,
данного математического правила не умаляется тем, что с его помощью невозможно
точно измерить фигуру, не являющуюся правильным треугольником, точно так же
аргументом против универсальности правила, предписывающего пассивное
повиновение, нельзя считать то обстоятельство, что оно не вполне охватывает человеческие
поступки во всех тех случаях, когда система правления расстроена или верховная
власть оспаривается. Должен существовать треугольник — и вам следует обратиться к
собственным ощущениям, чтобы это установить, прежде чем появится возможность
использовать данное правило математики. Должно существовать гражданское
правление, и вам нужно определить, в чьих руках оно находится, прежде чем вступит в силу
моральная заповедь. Но если наличие верховной власти удостоверено, то
необходимость ей повиноваться должна внушать нам не больше сомнений, чем тот способ,
каким надлежит измерять площадь фигуры, если мы убеждены, что фигура эта —
треугольник.
При всех разнообразных переменах и колебаниях в системе
правления невозможно избежать споров о том, кто должен обладать
верховной властью. И во всех этих случаях за подданными нельзя
отрицать право судить в меру своего разумения самостоятельно,
становиться на сторону одних или противиться другим, — все это совместимо с
исполнением их долга; но если объект покорности сомнений не вызы-
B@Q
IJk^U^fl^ Джордж Беркли ^)^1^СЙ
вает, то никакие соображения и предлоги выгоды, дружбы или общего блага не могут
заставить нас от повиновения уклониться. Короче говоря, общепризнано, что
заповедь, предписывающая непротивление, ограничивается отдельными объектами, но не
отдельными обстоятельствами. И в этом она сходна со всеми прочими отрицательными
обязанностями морали, которые, если рассматривать их в качестве новых положений,
действительно допускают ограничения и изъятия; однако то, что уже признано
подобного рода обязанностью, не может перестать быть таковой по причине каких-либо
добрых или дурных последствий, обстоятельств или событий. И поистине, если бы
дело обстояло иначе, если бы не существовало общих и непреложных правил, а все
обязанности, как положительные, так и отрицательные, можно было бы игнорировать
или искажать в угоду частным интересам или отдельным обстоятельствам, то всякой
нравственности пришел бы конец.
А значит ясно, что подобно тому, как исполнение всякого другого
морального закона не может быть ограничено только теми случаями,
когда оно способно повлечь за собою благие последствия, точно так же
и обязанность непротивления не ограничивается таким образом, чтобы
всякий вправе был ее нарушить, как только, по его разумению, этого
потребует благо его страны. И именно имея в виду данное ограничение
последствиями говорю я о непротивлении как о долге абсолютном, безусловном и
безоговорочном, с чем неизбежно приходится соглашаться, пока не доказано одно из
трех следующих утверждений: либо, первое, что непротивление не является
нравственным долгом; либо, второе, прочие отрицательные моральные обязанности
ограничиваются их последствиями; либо, наконец, что в природе непротивления заключается
нечто особенное, неизбежно подвергающее его такому ограничению, какого прочие
отрицательные моральные обязанности допустить не могут. Однако противоположное
всем этим тезисам уже было, если не ошибаюсь, ясно доказано.
Итак, я рассмотрел вкратце возражения, выдвигаемые с точки
зрения последствий непротивления, что было последним пунктом,
который я намеревался трактовать. Анализ этого и прочих вопросов
стремился я сделать настолько ясным и исчерпывающим, насколько
позволяют размеры подобного рода рассуждений, всюду желая сохранить
такое же беспристрастие, с каким рассматривал бы я любую другую
область общего знания, ибо я твердо убежден, что как христиане, люди обязаны
исполнять лишь те моральные обязанности, которые способны выдержать самое строгое
испытание разумом.
&*$IQ]ߧbj8b
Статьи в газете
«Гардиан»
<дВ
Естественные основания для веры в
будущую жизнь1
(№27, 11 апреля 1713 г.)
"Multa putans, sortemque animo miseratus iniquam".
"Жребий несчастных ему наполнил жалостью душу"-
Vir g. An. 6.V.332.
з жалости к тем унылым и мрачным созданиям, коих собственное
неверие сделало неспособными почувствовать радость и надежду, которые
естественным образом внушает душе христианина недавний чудесный
праздник,Ί я попытаюсь в данной статье показать, что у нас имеются
веские основания уповать на будущую жизнь; при этом я не стану предполагать в
читателе какую-либо веру вообще, ни даже веру в существование Божества. Пусть
самый непоколебимый скептик откроет глаза и окинет взглядом чувственный мир, а
потом скажет, разве не открываются нам во всех его частях взаимная связь,
согласованность и строгий, неизменный порядок? Какова бы ни была причина, сам этот факт
очевиден для всех наших способностей. Исследуйте животный организм, его страсти,
ощущения и движущие силы — не заметны ли и здесь подобные же целесообразность
и закономерность? Разве не приспособлены они природой к определенным целям и не
направлены к надлежащим объектам?
всза
KD^^t^ Джордж Беркли ^)^^ГД
Так возможно ли это, чтобы сила, превышающая человеческий ум, устроила
мельчайшие тела самым превосходным образом, в полном соответствии с их природой, но
чтобы духи, или человеческие души, остались в небрежении или управлялись такими
законами, которые уступают человеческому разуму? Неужели всякая иная страсть
или потребность устроена природой должным образом, и лишь присущее всему
человечеству стремление к бессмертию поселено в нас некстати или ради того только,
чтобы оказаться тщетным и не найти себе выхода? Неужели усердное использование
низших животных способностей в самых мелких и незначащих делах обретет
завершение в поставленных нами целях, и только благородные усилия добродетельной души
останутся без награды? Одним словом, неужели телесный мир являет собой
совершенную согласованность и гармонию, а мир интеллектуальный — разлад и беспорядок?
Тот, кто предубежден и фанатичен настолько, чтобы в подобные вещи поверить,
должен навеки распрощаться с естественным правилом «рассуждения по аналогии» и
пойти наперекор максиме здравого смысла, согласно которой "о неизвестном людям
следует судить исходя из того, что они знают по опыту".
И если существует что-либо похожее на вознаграждение страждущей добродетели
по эту сторону гроба, так это либо уверенность в том, что с ее помощью мы обретаем
благосклонность и покровительство небес и, что бы ни постигло нас в этой жизни, мы
получим справедливое воздаяние в другой; либо - уважение и добрая слава,
сопутствующие, как принято думать, добродетельным поступкам. Первую из них наши
вольнодумцы (по необычайной своей мудрости и из особой любви к роду людскому)
всячески стремятся из человеческих умов стереть; второе же никогда не распределяется
по справедливости в земной жизни, где множество дурных деяний пользуется
хорошей репутацией, а множество поступков добрых презирается или истолковывается
превратно; где искусное лицемерие предстает в самом очаровательном свете, а
скромная добродетель пребывает в безвестности; где помышления сердца и души утаены от
глаз человеческих, само же зрение помрачается и слабеет. Мысли Платона по этому
поводу содержит его «Горгий», где представлен Сократ, который говорит следующее1:
"При Кроне был закон — он сохраняется у богов и до сего дня, — чтобы тот из
людей, кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся после смерти
на Острова Блаженных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол, а кто
жил несправедливо и безбожно, чтобы уходил в место кары и возмездия, в темницу,
которую называют Тартаром. Во времена Крона и в начале царства Зевса суд вершили
живые над живыми, разбирая дело в тот самый день, когда подсудимому предстояло
скончаться. Плохо выносились эти приговоры, и вот Плутон и правители с Островов
Блаженных пришли и пожаловались Зевсу, что и в Тартар, и на их Острова являются
люди, которым там не место. А Зевс им отвечает: "Я решительно это прекращу!
Сейчас, — говорит он, — приговоры выносят плохо, но отчего? Оттого, что подсудимых
судят одетыми. Оттого, что их судят живыми. Многие скверны душой, но одеты в
красивое тело, в благородство происхождения, в богатство, и, когда открывается суд,
вокруг них толпятся многочисленные свидетели, заверяя, что они жили в согласии со
справедливостью. Судей это приводит в смущение, да вдобавок и они одеты — душа
их заслонена глазами, ушами и вообще телом от головы до пят. Надо, чтобы всех их
судили нагими, а для этого пусть их судят после смерти. И судья пусть будет нагой, и
пусть одною лишь душою взирает на душу — только на душу! А потому я уже
назначил судьями собственных сыновей: двоих от Азии — Миноса и Радаманта, и одного от
Европы Эака. Когда они умрут, то будут вершить суд на лугу, у распутья, от
которого уходят две дороги: одна - к Островам Блаженных, другая — в Тартар".
Отсюда и из множества других мест сочинений Платона можно понять, как он
мыслил о будущей жизни. И сколь это представление утешительно для нас, сколь
справедливо и возвышенно само по себе, сколь согласно с аналогией природы, сколь
всеобщим признанием пользовалось оно у людей всех званий и положений, во все века
и у всех народов! — так что же могло заставить жалкую кучку людей его отвергнуть?
Без влияния предрассудков здесь, конечно же, не обошлось. Сошлюсь на тайные
помышления вольнодумца — разве не рассуждает он сам в себе следующим образом:
"Чувства и способности, коими я обладаю теперь, явно предназначены для того, чтобы
исправить или предотвратить тот вред, который тело мое может претерпеть в
нынешнем положении; зато в жизни вечной, где нужно исправлять внутренние расстройства
или противостоять внешней порче, где нет ни плоти, ни костей, ни нервов, ни
кровеносных сосудов, там, разумеется, не будет и никаких чувств, между тем жизнь без
чувств совершенно непостижима".
Такай способ рассуждения происходит от бедности воображения и душевной
ограниченности тех, кто к нему прибегает, а потому я попытаюсь исправить эти недостатки
и расширить поле зрения подобных особ, представив их вниманию случай, который,
будучи возможным по естественному ходу вещей, сумеет, вероятно, примирить их с
верой в то, что дано нам в откровении сверхъестественном.
Представим человека слепого и глухого от рождения, который, достигнув зрелого
возраста, лишился вследствие паралича или какой-то другой причины чувств
осязания, вкуса и обоняния; причем в то же самое время к нему вернулся слух, а с очей его
спала пелена. Чем для нас являются наши пять чувств, тем были для него осязание,
вкус и обоняние. Всякие же иные способы восприятия оставались для него так же
непостижимы, как для нас ныне те, коими суждено воспринять однажды вещи,
"которых не видел глаз, не слышало ухо и не входило то в сердце человеческое". И
заключать, что утрату этих трех чувств не смогут возместить никакие новые способы
восприятия, было бы с его стороны так же разумно, как современному вольнодумцу —
воображать, будто жизнь и восприятие невозможны без тех ощущений, коими он ныне
обладает. Представим, далее, что глаза этого человека, впервые открывшись, были
поражены необычайным разнообразием самых приятных и восхитительных объектов,
а его уши — нежной гармонией вокальной и инструментальной музыки. Подумайте,
каковы будут его удивление, изумление, восторг — и вы получите какое-то
отдаленное подобие, некую смутную и слабую идею неописуемого блаженства,
охватывающего душу в то мгновение, когда из гробницы плоти восстает она к Жизни и Бессмертию.
N. В. Христианами было отмечено, что один остроумный иностранец,5
опубликовавший немало образцовых шуток на пользу и в употребление находящихся при
смерти особ, во время недавнего приступа собственной болезни был чрезвычайно не в духе
- пока здоровье его не поправилось окончательно.
KtëfâtfW^ Джордж Беркли ^)^Γ3
Путешествие по шишковидной железе
(№35, апрель 1713 г.)
"О vitae philosophia dux, virtutis indagatrixl"
"О философия, учительница жизни и открывательница добродетели!"
Цицерон.
Нестору Айронсайду, эсквайру.
Сэр,
Я — человек, проведший в странствиях по чужим краям большую часть того
времени, которое молодые люди обыкновенно посвящают учебе в университетах.
И хотя подобный образ жизни позволил мне довольно близко познакомиться с
человеческими нравами, мнениями и разговорами, однако соответствующих успехов по
части наук и умозрения я сделать с его помощью не сумел. Возвращаясь домой через
Францию, я однажды описал свое состояние одному жителю этой страны, с которым
был дружен, и он после недолгого раздумья провел меня в свой кабинет, открыл
маленький янтарный ящичек, извлек оттуда коробочку с порошком (каковая, по его
словам, была им получена от дяди, автора «Путешествия по миру Декарта») и затем,
после многочисленных уверений в дружеских чувствах и искреннем расположении,
подарил ее мне, присовокупив, что не знает другого средства, которое украсило бы
ум знанием наук и искусств легче и быстрее, чем этот самый порошок, если
использовать его как следует.
"Знайте же, — сказал он, — именно Декарт был первым, кто открыл, что
известная часть мозга, именуемая анатомами шишковидной железой, является
непосредственным вместилищем души — тем местом, где она получает все виды восприятий и
совершает все свои действия с помощью животных духов, растекающихся по нервам,
каковые тянутся от мозга ко всем органам тела. Этот же самый философ увидел в теле
машину, или механизм, осуществляющий все свои жизненные функции без
содействия воли, и стал думать, что можно найти способ временно отделить душу от тела,
причем без всякого вреда для последнего; и вот после глубоких размышлений об этом
предмете вышеназванный виртуоз составил и вручил мне порошок, каковой, если
употребить его в известном количестве, непременно освободит мою душу от тела.
Ваша душа, — продолжал мой приятель, — способна мысленно переноситься куда
угодно, а потому может войти в шишковидную железу самого высокоученого философа и,
Ilk reJ^fy Статьи в газете «Гардиан» ^)^§^( J&\
расположившись там, созерцать все пребывающие в его уме идеи, — таким образом
она обучится гораздо быстрее, чем по общепринятым методам". Я поблагодарил моего
друга и принял его подарок, а с ним и инструкцию по употреблению.
Можете себе представить, сколь это было для меня занимательно и назидательно
проводить время в шишковидных железах философов, поэтов, дамских угодников,
математиков, светских дам и государственных мужей. Порою я прослеживал ход
математической теоремы, двигаясь через долгий лабиринт замысловатых поворотов и
тонких извивов мысли, порою созерцал возвышенные всеобъемлющие идеи философа —
причем без всяких трудов и усилий собственного ума. Иногда я бродил в воображении
поэта по благоуханным рощам и усеянным цветами лугам, а в другой раз
присутствовал там, где бушевала буря или кипело сражение или вдруг вставал в фантазии
стихотворца некий пышный дворец; я созерцал красоты сельской жизни, страсти
возвышенной любви и приводящую в восторг теплоту душевной привязанности. Воспользуюсь
словами одного чрезвычайно тонкого автора:
Взгляни — какой восторг познал поэт,
Когда в груди его зажегся этот свет,
Когда фантазии божественный рудник
Открыл поэт и вглубь его проник.6
Все это доставляло мне невообразимое наслаждение. И, кстати, не такой уж
неприятной переменой было» спускаться порою от этих возвышенных,
величественных картин к нахальным выходкам щеголя, холодным прожектам политикана из
кофейни или нежным образам в душе юной леди. А поскольку для того, чтобы
составить истинное понятие о человеческом счастье, было, на мой взгляд,
необходимо испытать различные воздействия, претерпеваемые людьми самых разных занятий
и вкусов, то я однажды проник в шишковидную железу некоей особы, которая, как
мне казалось, способна сообщить мне полное представление о том, в чем заключается
счастье людей, именуемых «любителями наслаждений.» И однако, я был весьма
разочарован представлением об удовольствиях, коим преданы сластолюбцы,
сбросившие с себя всякие узы разума.
Его умственные дарования, как я заметил, пришли в негодность из-за чересчур
редкого употребления, а его чувства ослабели и износились по причине употребления
слишком активного. И· теперь совершенное бездействие высших способностей не
позволяет склонностям устремлять его к чувственным наслаждениям, между тем
безудержные природные влечения порождают вместо удовольствия отвращение и
скуку. Я видел там неумеренные страсти молодости, но не заметил присущих ей
радостен; я наблюдал дряхлость старческого возраста, лишенного покоя и
безмятежности. Когда же какой-то сильнодействующий объект дразнил и возбуждал его
страсти, то это не дарило его душе утешение или радость, но лишь обрекало ее на
нытку попеременными крайностями желания и пресыщения. Я видел несчастного
человека, которого в одно» и то же мгновение мучили тягостные воспоминания о
прежних неудачах, отвращение к настоящему и тайный страх перед будущим. И я не
видел, какими еще средствами можно было утешить или успокоить душу этого
бедняги, кроме тех, которые как раз противодействуют исцелению, разжигая его
страсти и подавляя разум, И хотя следует признать, что свет, зажженный в его душе
ISk^j^Qr Джордж Беркли ^)^^ГЗ
Создателем, он уже почти угасил, я, однако, нередко различал в этом мраке
проблески раскаяния, прерывающие то удовлетворение, коим наслаждается он, скрывая от
самого себя собственное уродство.
Я также присутствовал при том, как в уме вольнодумца зарождалась и
образовывалась идея некоей книги и, полагая, что было бы уместно посвятить вас в тайные
побуждения и скрытые принципы, благодаря которым сей феномен возник, я намерен
в следующем своем письме представить вам рассказ и об этом.
Ваш вернейший и нижайший слуга,
Улисс Космополит.
N. В. Недавно г-н Айронсайд получил из Франции десять фунтов упомянутого
философского порошка и теперь сообщает, что намерен им воспользоваться для того,
чтобы отличить истинные мысли и чувства от притворных у всех выдающихся особ,
живущих при дворе, в городе или в деревне.
-®θ?$5|35ΡίΚ>®*
Ilk геЭ^Й^ Статьи в газете «Гардиан» ^)^^ffl{ J&\
Шишковидная железа вольнодумца
(№39, 25 апреля 1713 г.)
"Agri somnia"
"Сновидения больного человека/'7
Ног. Ars. Poet. v. 7.
ой корреспондент, получивший способность проникать в мысли
других людей, прислал мне во исполнение обещанного в предыдущем
письме отчет о полезных открытиях, совершенных с помощью этого
изобретения, который я и довожу до сведения публики в настоящей
статье.
Г-н Айронсайд,
11 октября 1712 года я запер на ключ собственное тело в кабинете и направился в
Греческую кофейню, где проник в шишковидную железу одного знаменитого
вольнодумца и тотчас же направился в верхнюю ее часть, обиталище разума, где
рассчитывал обрести знание всех вещей, божественных и человеческих, — однако, к немалому
моему изумлению, обнаружил, что размеры ее были меньше обычных, и настолько,
что там совершенно не нашлось места для представления о чуде, пророчестве и
бестелесном духе.
Это вынудило меня спуститься этажом ниже, в область воображения, которая
оказалась более обширной, однако холодной и неуютной. В углу я обнаружил
Предрассудок — в виде некоей женщины; она закрыла глаза, заткнула пальцами
уши, а из уст ее исходило множество слов, путаных и бессвязных, изрекаемых,
однако, с превеликой помпой. От холода слова сгущались и конденсировались,
образуя нечто вроде тумана, сквозь который я, кажется, разглядел огромный замок,
окруженный укреплениями. К замку примыкала башня, в окнах которой виднелось
множество дыб, виселиц и веревок. Вокруг замка были разбросаны человеческие
кости, а внизу я различил огромные темницы. Гарнизон замка, как мне показалось,
составляли какие-то люди в черном, громадного роста и ужасные на вид. Но когда я
подошел поближе, это страшное зрелище исчезло, и замок оказался всего лишь
церковью, колокольню которой вместе с часами и веревками я принял поначалу за
li^^F Джордж Беркли ^^jfrTJ
размерах и стали совершенно безобидными священниками. Подземные темницы
превратились в склепы, предназначенные лишь для упокоения умерших, а
фортификации оказались кладбищем, обнесенным обыкновенной стеной, на которой
лежало несколько костей.,
Я пробыл там недолго, ибо любопытство мое привлекли громкие крики,
доносившиеся снизу. Спустившись, я обнаружил толпу страстей, устроивших какое-то
беспорядочное сборище. Их буйное заседание быстро убедило меня в том, что они
изображают демократическое правление. После великого гвалта и шумных
пререканий они наконец угомонились и долго слушали Суетность; она внесла
предложение набрать большое войско понятий, которое сама же и вызвалась вести в бой
против тех страшных призраков в области воображения, кои и послужили
причиной всего этого шума.
Суетность умчалась прочь, и я поспешил за ней, на склад идей, где обнаружил
множество безжизненных теорий, сваленных в беспорядке, которые, однако, при
приближении Суетности зашевелились. В числе прочих курьезных вещей здесь
можно было увидеть дремлющие божества, телесные духи, миры, образованные
благодаря случаю, вместе с бесконечным множеством языческих вымыслов,
самых нелепых и бестолковых. В одну кучу с ними были свалены некоторые вещи,
христианские по своему происхождению, однако такими были их одежды и свет,
в котором они являлись, и так были искажены их черты, что выглядели они
ничуть не лучше языческих измышлений. Там же обреталось немалое число
призраков в пространных облачениях, каковые оказались
жрецами-идолопоклонниками разных наций. Суетность произнесла пароль, и в то же мгновение факиры,
брамины и бонзы образовали воинский строй. Правый фланг занимали древние
языческие теории, левый — христиане-рационалисты. Все они вместе числом
своим составляли грозное воинство, однако Суетность действовала так поспешно,
а врожденное их отвращение к теории законов и дисциплины было так велико,
что они больше походили на беспорядочную массу, нежели на регулярную
армию. Тем не менее я успел заметить, что общим для всего этого сброда было
косоглазие: они украдкой поглядывали в сторону некоей особы в маске, в
которой по верным признакам я узнал Атеизм.
Едва успев ввести свое воинство в область Воображения, Суетность отдала приказ
штурмовать замок и не брать пленных. И вот с громкими криками и в великом
беспорядке двинулись они на приступ. Я же со всех ног поспешил домой и возвратился в
свое жилище. Некоторое время спустя, осведомившись у книгопродавца на предмет
« Рассуждения о свободомыслии», которое произвело известный шум, я встретился с
образчиками всех этих мнений и теорий, выстроенных в том же беспорядке, но теперь
уже на бумаге. Остаюсь, о мудрый Нестор,
вашим вернейшим и нижайшим
слугой,
Улисс Космополит.
ю®а
Настоящий отчет может, полагаю, пригодиться для определения правильного
курса лечения вольнодумца. Очевидно, во-первых, что его разум нужно сделать более
открытым н широким, а также научить его приводить в порядок и методически
располагать свои идеи, для каковой цели изучение математики может оказаться
чрезвычайно полезным. Далее, я считаю, что поскольку его воображение переполнено обманами
и глупостями, проистекающими из предрассудка и того ложного света, в котором
созерцает он вещи, то необходимо будет познакомить его с хорошим обществом и
время от времени возить его в церковь, посредством чего он придет к истинному
пониманию религии и избавится от усвоенных им прежде ложных впечатлений и идей. И
наконец, каждому, кто возьмется за исправление вольнодумца, я рекомендую прежде
всего и самым безжалостным образом искоренять в нем Тщеславие: именно оно —
главный мотив, заставляющий этого маленького гения притязать на оригинальность
посредством странностей, чрезвычайно вредных для человечества,
Если же страсть тщеславия (обыкновенно чрезвычайно сильную у вольнодумцев)
окажется невозможным подавить, следует попытаться обратить ее на пользу
религии, внушив им, что величайшие гении века относятся с уважением к тому, что
почитается священным, зато их, вольнодумцев, рапсодии не находят поклонников, и
что слово «свободомыслящий», как некогда слово «тиран», выродилось, утратив
свои исконный смысл, и теперь обозначает нечто совершенно противоположное
разуму и рассудку. В общем, дайте им понять, что как бы новизна самого предмета ни
искушала в прошлом некоторых талантливых особ идти наперекор общепринятым
понятиям христиан, ныне подобная мода сошла на нет, а богохульство и неверие
давно уже пали в общем мнении, превратившись в характерное отличие лакеев и
буфетчиков. Я, однако, должен помешать всем претендентам на эти свойства
причинить вред людям несведущим или неосторожным. С этой целью я сообщил публике
сведения, полученные мною о некоем джентльмене. Он был чрезвычайно огорчен;
когда убедился в том, что если бы во время недавнего приступа болезни не был
уверен в окончательном выздоровлении, то держался бы не слишком браво — в
противность своей собственной теории, предписывавшей сохранять в подобных
обстоятельствах веселое расположение духа. После этой публикации в газете «Пост-
бой» появилось следующее извещение:
" 11 апреля сего года в газете «Гардиан» было сделано попутное замечание о г-не Д
»члене Парижской королевской академии наук и авторе недавно вышедшей в свет книги
«Филологический Опыт, или Замечания о смерти некоторых вольнодумцев вкупе с
описанием характеров самих выдающихся лиц обоего пола, древних и современных,
которые умирали весело и беззаботно» (книжная лавка Дж. Бейкера в Патер-ностер-Роу),
из коего явствует, что упомянутый джентльмен, ныне пребывающий в Лондоне, "во
время недавнего приступа своей болезни был чрезвычайно не в духе, пока здоровье его не
поправилось окончательно". Настоящим заверяю публику в том, что упомянутый
джентльмен при приближении смерти не обнаружил никакого волнения, но ожидал роковой
час с истинно героическим и философским спокойствием, неопровержимым
доказательством чего являются стихи, написанные им в те минуты ясности, коими перемежалось
течение его болезни".
Я утверждаю лишь то, что сей джентльмен «был не в духе, когда болел», между
тем автор объявления в «Пост-бой», желая меня опровергнуть, говорит, что «в те
Ю^ОГ Д«»РД« Б«ркдИ ^^^d
минуты ясности, коими перемежалось течение его болезни», т.е. не будучи больным,
он и писал стихи. Я не откажусь от своих слов, пока эти стихи не увижу, а тогда и
решу, что мне о них думать, — если, конечно, они не подписаны его сиделкой или
квартирной хозяйкой. Я должен заставить автора заметки держаться сути дела: ведь
если приступа болезни в то время не было, то во всем этом не видно никакого
мужества, и аргументом в его пользу это не служит, стихи же вовсе не являются
«героическими». Радостное расположение духа в смертный час есть вопрос, решать
который пристало богословам, однако издатель « Филологического Опыта» черпает
свои важнейшие доводы из Лукреция, графа Рочестера и г-на Джона Драйдена,
между тем эти господа не считали себя обязанными доказывать свои утверждения
или же доказывали их тем, что клятвенно объявляли глупцами всех, кто держится
противоположных мнений. И если абсолютно необходимо, чтобы человек сохранял
веселье в свой смертный час, то г-ну Д. и г-ну Б. следовало бы раскаяться пораньше,
а не полагаться на изобретательность, которая посетит их на смертном одре; судя по
изданным ими до сих пор трудам, они лишь внушили нам страстное желание
познакомиться с их посмертными сочинениями.
Ab*$fë])!Î$fcjibb
\hb* )π@Φ$Ρ Статьи в газете «Гардиан» ^f }^j^( J$
Удовольствия подлинные и
воображаемые
(№49, 7 мая 1713 г.)
" .. quae possit facere et servare beatum"
"Сделать ... счастливым себя и таким оставаться"*
Ног. Ер. 6. L IV. г.
резвычайно полезно рассмотреть составляющие человеческое счастье
удовольствия с точки зрения их разделения на удовольствия
подлинные и воображаемые. Подлинными называю я те удовольствия,
которые, не завися от моды или прихоти какой-либо отдельной
эпохи или нации, свойственны человеческой природе в целом и были определены
Провидением в качестве награды за то, что мы используем наши способности в
соответствии с их назначением. Воображаемые удовольствия — это те, которые, не
будучи по своей природе пригодны для того, чтобы доставлять наслаждение нашим
душам, предполагают какой-то особый вкус, или каприз, случайным образом
возобладавший среди определенного разряда людей, благодаря чему они и получают
способность нравиться.
Полагаю, что покой и веселость, в которых я провожу жизнь, являются
следствием того, что, достигнув совершеннолетия, я не изменял своей склонности к первому
виду удовольствий. Но ведь этот опыт может быть правилом лишь для моих
собственных поступков, для других же людей более сильным побуждением к подобному
образу жизни послужит, вероятно, то, что они примут в расчет следующее: путь к
естественным удовольствиям указывают нам инстинкты, запечатленные в наших
душах самим Творцом природы, который лучше понимает, как мы устроены, а
следовательно, лучше знает, какие удовольствия принесут нам наименьшее беспокойство и
тревогу в стремлении к ним и наибольшее удовлетворение — при их достижении.
Отсюда вытекает, что цели наших естественных желаний достигаются легко и
недорогой ценой, ибо для всей системы сотворенных существ имеет силу следующая
максима: «ничто не создается без цели*·, — ничто, а тем более инстинкты и потреб-
КХШУ Джордж Беркли ^fé^TJ
ности живых существ, об удовлетворении каковых заботится щедрость и мудрость
Божия. Пользование этими благами столь же приятно, сколь легко их приобретение,
и наслаждение наше еще более увеличивается от сознания того, что мы действуем
ради какой-то естественной цели и в полном согласии с Верховным Правителем
вселенной.
В число естественных наслаждений я включаю те, которые всегда и везде
соответствуют как разумной, так и чувственной частям нашего существа. Из чувственных же
удовольствий надлежит считать естественными лишь те, что подчиняются законам
разума, который признается столь же необходимым элементом нашей природы, как и
чувственность. И в самом деле, излишества всякого рода едва ли можно называть
удовольствиями, а тем более — удовольствиями естественными.
Очевидно, что желание, имеющее своей конечной целью деньги, является
желанием воображаемым, таково и стремление к внешним почестям и отличиям,
которые не доставляют удовольствия чувствам и не делают нас полезными
человечеству, равно как и стремление к тем вещам, которые влекут нас лишь своей новизной
и необычностью. Людей, несклонных к должному употреблению своих высших
способностей, толкает к подобным целям беспокойство и неугомонность души, а
также то обстоятельство, что чувственные потребности можно удовлетворить без
особого труда. Пользуясь в> известном смысле щедростью Провидения, эти люди
свысока смотрят на счастье дешевое и вульгарное, воображая себе особенные блага,
привлечь к которым» способна лишь трудность их достижения. Таким-то образом и
становится человек творцом своих собственных несчастий, данных в наказание за
то, что он отступил от установленной природой меры. Частые размышления об
этих истинах сделали их для меня близкими и приличными, а потому, оказываясь
среди лиц, испортивших свой естественный вкус, я вижу вещи в особенном свете,
чего я достиг вовсе не благодаря какой-то замечательной одаренности или
благоприобретенным знаниям, а просто потому, что освободился от ложных мнений,
внушаемых привычкой и воспитанием.
Разнообразные вещи, из> которых состоит мир, созданы природой для того,
чтобы доставлять удовольствие нашим чувствам, а поскольку лишь это одно
делает их желанными для неиспорченного вкуса, то сказать, что человек владеет
этими предметами согласно с природой, можно лишь тогда, когда он достигает
тех наслаждений, дарить которые природа их и предназначила. А потому для
меня привычно думать,, что я обладаю по природе всяким предметом,
доставляющим мне удовольствие. Находясь в деревне, я считаю своими собственными все
доступные мне красивые места, расположенные неподалеку от дома, где я живу.
Так же думаю я о рощах и полях, по которым прогуливаюсь, размышляя о
безрассудстве обитающего в Лондоне землевладельца, который доставляет себе
мнимое удовольствие, «перекачивая сухую ренту в сундуки», однако не знаком со
свежестью воздуха и радостями сельской жизни. Благодаря подобным принципам
я эладею полудюжиной прекраснейших в Англии местностей, принадлежащих с
точки зрения закона кое-кому из моих приятелей, — людей деловых, а потому
предпочитающих жить поблизости от двора.
Незнакомец, увидевший меня в одном из тех знатных семейств, среди которых
провожу я порою свое время, сочтет меня, пожалуй, кем-то из прислуги; однако в
Статьи в газете «Гардиан» ^Щ)
моих собственных мыслях и по естественному моему суждению истинныйjlâ^Hli дома
- это я, тот же, кого принято называть этим именем, — всего лишь мой экойоМу
избавляющий меня от необходимости самому заботиться о жизненных удобствах и
удовольствиях.
Гуляя но городским улицам, я использую вышеупомянутую максиму (истинный
владелец вещи — тот, кто ею наслаждается, а не тот, кто владеет ею без всякого
для себя удовольствия), чтобы убедить себя в том, что я имею свою долю в веселом
блеске несущихся мимо златых колесниц, в которых вижу развлечение, призванное
радовать мой глаз, и в воображении восседающих в них любезных особ,
нарядившихся в пышные платья лишь для того, чтобы мне угодить. Эти внешние
украшения доставляют мне удовольствие истинное, а их хозяевам — всего лишь
воображаемое. Согласно тому же принципу я открыл, что являюсь естественным
владельцем всех бриллиантовых ожерелий, всех крестов и звезд, всей парчи, всех
вышитых золотом одежд, которые вижу я на представлениях и праздниках, ибо эти
вещи дарят более естественное наслаждение тем, кто ими любуется, а не тем, кто
их на себе носит. На кавалеров же и на дам смотрю я как на ярких попугаев в
птичнике или как на тюльпамы в саду, предназначенные исключительно для моего
развлечения. Картинную галерею, кабинет или библиотеку, в которые имею я
свободный доступ, считаю я своими собственными. Одним словом, все, чего я хочу
это наслаждаться вещами, владение же ими я готов предоставить кому угодно. С
помощью подобного правила я стал одним из богатейших людей Великобритании, с
той лишь разницей, что никогда не стану жертвой собственных забот или чужой
зависти.
Те же принципы много мне помогают to в личной экономии. Поскольку
исторические картины для меня недоступны, я приобрел по недорогой цене несколько
прекрасно выполненных пейзажей и перспектив, куда более приятных для естественного
вкуса, чем физиономии неведомых нам особ или голландские пляски, пусть даже
последние н написаны превосходнейшими мастерами. Мои кушетки, кровати и оконные
занавески сделаны из ирландского материала: ирландцы выполняют подобную работу
чрезвычайно тонко, добиваясь изумительной расцветки. В доме моем не отыщется
посуды из фарфора, зато есть всякого рода рюмки и стаканы, окрашенные порою в
чудеснейшие цвета, причем эти предметы ничуть не теряют своей прелести оттого, что
изготовлены они в нашем отечестве и стоят дешевле заморских безделиц. Все кругом
основательно, чисто, опрятно и вполне соответствует вкусу того, кто предпочитает
быть счастливым, а не считаться богатым.
Всякий день испытываю я невинные естественные радости, в то время как мои
ближние изводят себя в нелепой и утомительной погоне за пустяками: один — чтобы
удостоиться какого-то особого звания, другой — чтобы получить право на
определенное украшение, в котором я вижу всего лишь узкую ленту, приятным образом
действующую на мое зрение, и однако, до такой степени неспособную заменить истинные
заслуги, что отсутствие таковых делается еще заметнее. Прекрасная погода радует
мою душу, я с восторгом созерцаю голубизну полуденного неба и получаю истинное
наслаждение, глядя на розовые полоски света, которые окрашивают вечерние и
утренние облака. Оказавшись среди зелени леса, я уже не завидую знатной особе,
окруженной огромной тол ной во время приема. И часто я откладываю посещение оперы ради
e<s>gï
того, чтобы в безмолвии насладиться прогулкой при свете луны или полюбоваться на
звезды, сверкающие в своей лазурной оправе, — во всем этом вижу я часть
собственных владений, негодуя в душе на дурной вкус смертных, которые в бурном беге своей
жизни не замечают истинных ее радостей.
Однако удовольствие, влияющее на человеческую душу самым живым и
восхитительным образом, есть, на мой взгляд, сознание того, что мы действуем пред
очами бесконечной щедрости, силы и благости, которая наше стремление к
добродетели здесь, на Земле, увенчает грядущим счастьем, таким же безбрежным, как
наши желания, и таким же продолжительным, как бессмертие наших душ. И это -
неиссякаемый источник утешения для нашего ума, умеряющий наши скорби и
умножающий наши радости. Без него самое высокое положение в этой жизни
теряет свою прелесть, с ним же самое низкое превращается в рай. Так какими же
чудовищными негодяями должны быть те, кто способны оказаться настолько
глупыми, чтобы вообразить, будто стремление лишить добродетель ее опоры и
поддержки, а человека — его нынешнего и грядущего блаженства есть некая заслуга!
Я уже не однажды пользовался случаем, чтобы подвергнуть порицанию подобного
рода особ, и намерен продолжать свою критику до тех пор, пока не увижу какие-то
симптомы улучшения.
-βο?$θ5^^
fr Статьи в газете «Гардиан»
Будущие награды и наказания
(№55,14 мая 1713 г.)
"...quis enim virtutem amplectitur ipsam, pramia si tollas?"
"Кто, в самом деле, стремится лишь к доблести, если награди нет?../40
Juv. Sat. 10. v. 141
щщ
\ I 4M называть на дурные намерения оппонентов — обычная манера веду-
IV \J j\ щих полемику авторов. Таким образом их доводы превращаются в
IbBWA Wffiai сатиРУ» которая, вместо того чтобы разоблачить заблуждения разума,
способна лишь служить порицанием нравственного облика тех, против
кого они спорят. Вести себя так по отношению к свободомыслящим я не стану.
Добродетель и счастье общества суть великие цели, достижению коих должен
способствовать каждый, между тем иные члены этой секты желают, чтобы о них думали как о
людях, озабоченных этими вещами сильнее, чем остальное человечество. Но даже
если допустить, что те, кто выступают с такими уверениями, в простоте сердечной и в
меру своего разумения поистине желают добра, есть веские основания опасаться того,
что эти благонамеренные души, стремясь возвысить добродетель, на самом деле
служат интересам порока. А поскольку проистекает это, на мой взгляд, от неведения ими
человеческой природы, то мы вправе надеяться, что, осознав свою ошибку, эти люди
исправят свое поведение, движимые тем благотворным принципом, на основе которого
они будто бы действуют сейчас.
Мудрецы, коих я имею в виду, толкуют о добродетели как о самой
привлекательной вещи на свете, — и однако, превознося красоту добродетели, они в то же самое
время стремятся уменьшить ее удел. Эти создания так невинны и простодушны и
настолько незнакомы с жизнью, что полагают, будто это и есть верный способ
увеличить число поклонников добродетели.
Добродетель сама по себе обладает неотразимыми чарами; христианство же,
представляя ее в самом блестящем свете, украшенную всеми прирожденными ее прелестя-
KXSX2
ми, зажигает в душе новый огонь тем, что прибавляет к прежним достоинствам
добродетели неизреченные награды, ожидающие ее приверженцев в жизни вечной. Если же
найдутся люди мрачного и тяжелого нрава, которых трудно расшевелить надеждой,
то ведь существует еще и перспектива вечных наказаний, способная подействовать на
их души страхом, внушая отвращение к пороку и желание жить в согласии с
добродетелью.
Рассудительные вольнодумцы говорят нам, что добродетель воистину прекрасна, а
порок — безобразен, что первая заслуживает нашей любви, а второй презрения.
Отсюда следует, что добродетель и порок таковы либо сами по себе, либо по причине
блага и зла, непосредственно с ними связанных и неотделимых от них по природе. Что
же касается бессмертия души или вечных наград и наказаний, то их эти люди в
открытую осмеивают или же самым старательным образом стремятся внушить по
отношению к ним сомнение.
Я не хочу сказать, что подобные люди изменяют делу добродетели, но разве можно
отрицать, что глупо ведут себя те, кто вознамерился помочь добродетели, уничтожив
или ослабив сильнейшие к ней побуждения, соответствующие любым способностям и
действующие на людей всякого характера и нрава — с тем, чтобы опираться только на
те мотивы, которые доступны душам возвышенным и благородным?
И, конечно же, должен быть свободен от страстей сам и совершенно незнаком с их
влиянием на других тот, кто способен вообразить, будто на тернистом пути
самоотречения одна лишь красота душевной твердости, воздержанности и справедливости сумеет
укрепить душу против всех искушений близкой выгоды и соблазнов чувственности.
И, на мой взгляд, к вольнодумцам следует относиться как к кучке жалких и
недалеких созданий, коим попросту недостает ума, чтобы открыть величие религии, ведь
очевидно, что едва ли повинны в каких-либо злых и коварных умыслах те, кто во
всеуслышание объявляет, что у них меньше побуждений к честности и порядочности,
чем у их сограждан. Последние же имеют все те стимулы к добродетельной жизни,
которые, возможно, доступны и свободомыслящему, но кроме этих мотивов еще и
ожидание вечного блаженства или бесконечной муки как следствий сделанного ими
выбора.
Разве не страсти побуждают людей к действию и разве страх и надежда не самые
могущественные из наших страстей? И неужели существуют вещи, способные
пробудить в нас страх и надежду сильнее, чем те перспективы, которые волнуют и
согревают сердце христианина, — свободомыслящими, однако, совершенно не принимаются в
расчет?
Несомненно, что всякий раз, когда христианин опускается до преступных деянии,
он нарушает обязательства более строгие и суровые, нежели вольнодумец, π
впоследствии сильнее страдает от угрызений совести, — но ведь если человек, в загробную
жизнь не верующий, вполне честен и добродетелен, то это должно казаться прямо-
таки глупостью с его стороны. Ибо на каком же основании подобная особа может
предпочесть исполнение долга собственному интересу или удовольствию? Если
христианин отказывается от какой-то мирской выгоды для успокоения совести, то он
поступает разумно, ибо цель его — добиться большего блага в будущем. Однако тот,
кто, не имея подобной надежды, откажет себе из соображений совести в каком-нибудь
настоящем благе, будет так же глуп, как и тот, кто в подобных обстоятельствах ему
поверит.
\hb* №@&{9^ Статьи в газете «Гардиан» ^Р^ВЗД jßj
Скажут, пожалуй, что награда добродетели — в самой добродетели, что хорошие
поступки сопровождаются естественной для них радостью, и это одно способно
побудить людей к их совершению. Но хотя нет ничего прекраснее добродетели, а
добродетельное поведение — самый верный путь к прочному естественному счастью даже в
этой жизни, большинство людей, однако, пылко стремится не к естественным
радостям разумной души,-.но, скорее, к титулам, богатствам и мнимым удовольствиям, и
невозможно отрицать, что добродетель и невинность не самые лучшие способы
достичь подобного рода счастья. Кроме того, дым страстей должен быть рассеян, а огонь
разума гореть ярче обыкновенного, чтобы люди сумели распознать красоты и
наслаждения, свойственные добродетельной жизни и почувствовать к ним вкус. И пусть мы
согласимся, что наши вольнодумцы — это горстка избранных и утонченных особ,
которые одни способны возлюбить добродетель ради самой добродетели, но что же
тогда станется с основной массой людей, имеющих грубые умы, однако живые чувства
и бурные страсти? Какой поток насилия, похоти и обмана затопил бы в одно
мгновение нашу страну, если бы к этим многомудрым адвокатам нравственности стали всюду
прислушиваться! Наконец, человек иногда получает возможность порочным путем
разбогатеть или предаться безнравственному наслаждению, не опасаясь при этом
понести какой-либо мирской ущерб в своей репутации, здоровье или состоянии. И что
же в подобных случаях удержит тех, чьи мысли дальше гроба не идут? Ведь
внутренние угрызения совести души порочной или радости — души праведной неотделимы от
представления о жизни будущей.
Мысль о том, что бытие наше приходит к концу вместе с этой жизнью неизбежно
останавливает душу во всяком благородном стремлении, суживает ее кругозор,
приковывая к целям мирским и эгоистичным. Она свергает с престола души разум, гасит все
возвышенные и героические чувства, делая нас рабами всякой преходящей страсти.
Мудрые язычники древности знали об этом, а потому с помощью мифов, смутных
догадок и природных аналогий стремились они внушить человеческим умам веру в
будущую жизнь. С тех пор эта вера разъяснилась благодаря свету Евангелия, ныне же
ее самым бессмысленным образом хулит и принижает кучка недалеких людей,
которые желают убедить нас в том, что, подымая на смех религию, они способствуют
интересам добродетели.
-©0?C8^^Üi8k
ю@р ЧММ
¥ Щ
Первоначальный вариант
«Введения к Трактату о принципах
человеческого знания»
оскольку философия есть не что иное, как стремление к мудрости и
истине, то может показаться странным, что именно те, которые
посвятили ей много времени и труда, запутываются обыкновенно в еще
больших сомнениях и затруднениях, чем до того, как обратились они к
ее изучению. Все, что бы ни узрели эти люди и чего бы ни коснулись
они своими руками, имеет некие темные и непостижимые стороны. В каждой капле
воды, в каждой песчинке, полагают они, есть нечто, способное поставить в тупик и
озадачить самый ясный и возвышенный ум; а те принципы, коим они следуют,
нередко вынуждают их принимать за истину самые противоречивые мнения или, что еще
хуже, погружаться в безнадежный скептицизм.
Полагают, что причины сказанного заключаются в темноте предмета или в
естественных слабости и несовершенстве нашего ума. Говорят, что наши ощущения
немногочисленны и самой природой предназначены служить для сохранения жизни, а не для
исследования внутренней сущности и строения вещей. Притом, так как человеческий
разум конечен, не следует удивляться тому, что, трактуя о вещах, причастных
бесконечности, он впадает в нелепости и противоречия, из которых ему невозможно
высвободить себя, ибо бесконечное по самой своей природе не может быть постигнуто тем,
что конечно.
И однако, я не могу думать, что способности наши так уж слабы и несоразмерны
вещам, как желают нас убедить эти люди. И я не в силах допустить, чтобы
правильные выводы из истинных начал могли когда-либо привести к следствиям, которых
нельзя поддержать или согласовать между собой. Мы должны веровать, что Бог
относится к сынам человеческим настолько благостно, чтобы не внушать им сильного
стремления к тому, что поместил Он вне их кругозора и таким образом сделал для них
недостижимым. Без сомнения, наш мудрый и благой Творец никогда бы не стал вну-
λ l&wRf^W Первоначальный вариант «Введения ...»
шать нам столь страстную жажду истины лишь затем, чтобы привести нас в
недоумение, чтобы заставить нас отчаяться в собственных силах, порицать наши способности
и оплакивать наше неисцелимое невежество. Это не согласовалось бы с обычными
милостивыми путями Провидения, которое, коль скоро оно поселило в своих
созданиях известные склонности, всегда снабжает их такими средствами, какие при
правильном употреблении не могут этих склонностей не удовлетворить. В целом я склонен
думать, что если не всеми, то большей частью тех затруднений, которые до сих пор
занимали философов и преграждали путь к знанию, они всецело обязаны самим себе;
что сначала они подняли облако пыли, а затем стали жаловаться на то, что им ничего
не видно.
Поэтому я намерен испытать, не смогу ли я открыть те принципы, которые были
причиной сомнительности, неверности, нелепостей и противоречий в различных
школах философии в такой мере, что самые мудрые из людей сочли наше неведение
неизлечимым, полагая, что оно проистекает из естественной слабости и
ограниченности наших способностей. В то же время я попытаюсь заменить их такими принципами,
которые были бы свободны от подобных последствий и вели бы наш ум к ясному
постижению истины. И, конечно, может считаться делом, вполне стоящим наших
трудов, попытаться расширить пределы нашего знания и воздать должную
справедливость человеческому разуму, показав, что те препятствия и затруднения, которые
задерживают и отягощают наш дух в поисках истины, происходят не от темноты и
запутанности предметов или от природного недостатка наших интеллектуальных
способностей, а скорее от ложных принципов, на которых люди настаивают и которых
можно было бы избежать.
Какой бы затруднительной и безнадежной ни могла казаться эта попытка, если
учесть, как много великих и необычайно одаренных людей предшествовало мне — и
без успеха - в том же намерении, я все-таки не лишен некоторой надежды,
основываясь на том соображении, что самые широкие виды не всегда бывают самыми ясными и
что тот, кто близорук, вынужден рассматривать предметы ближе и в состоянии, может
быть, при тщательном и кропотливом исследовании различить то, что ускользало от
лучших глаз.
Приступая к настоящему труду, я полагаю необходимым указать на то, что,
похоже, стало источником великого множества заблуждений и сделало путь к знанию
чрезвычайно трудным и запутанным; на то, что, по-видимому, сделало трудным и
запутанным умозрение, породив бесчисленные заблуждения и затруднения почти во всех
областях науки, это есть мнение, будто существуют абстрактные идеи или общие
понятия о вещах. Тот, кому не вполне чужды писания и спекуляции философов,
должен признать, что немалая их часть касается абстрактных идей. Предполагается, в
частности, что они составляют предмет тех наук, которые называются логикой и
метафизикой, и вообще всех наук, которые слывут самыми абстрактными и
возвышенными отраслями знания. Едва ли найдется во всех этих умозрительных науках какой-
нибудь вопрос, трактуемый таким способом, который не предполагал бы, что
абстрактные идеи существуют в уме и что ум с ними хорошо знаком. И все эти разделы
нашего знания неизбежно оказываются переполненными невразумительным жаргоном
и бессмысленными пререканиями, неисчислимыми нелепостями и противоречиями,
коль скоро абстрактные общие идеи совершенно для нас непостижимы. Я же вполне
уверен, что никогда их не постигал и постичь не мог, и я не думаю, что кто-то другой
способен это сделать.
Судя по тем истолкованиям, которые нахожу я у самых превосходных и ясных
авторов, под «абстрактными идеями», «родами» «видами», «универсалиями» (а все
это в сущности одно и то же) надлежит разуметь идеи, которые одинаково
представляют частные объекты любого вида и образуются умом; последний, замечая, что
отдельные идеи всякого рода в одних отношениях·сходны, а в других различны, выделяет и
отбирает то, что является общим для всех, и создает таким образом абстрактную
общую идею. Подобная идея содержит все те идеи, в которых совпадают и которым
причастны единичные идеи соответствующего вида, исключая и отделяя все прочие
сопутствующие идеи, посредством которых индивидуальные объекты отличаются
один от другого. Образованной таким путем абстрактной общей идее ум дает общее
имя, особо ее выделяет и затем использует в качестве образца, чтобы определять,
какие отдельные вещи к данному виду принадлежат, а какие - нет, ибо лишь те -из
них, которые заключают в себе все элементы общей идеи, вправе быть причисленными
к данному виду и носить данное наименование.
Наблюдая, например, что Питер, Джеймс и Джон сходны между собой в
известных общих свойствах формы и других качествах, ум исключает из сложной идеи,
которую имеет он о Питере, Джеймсе, Джоне и т.д., то, что свойственно каждому из
них по отдельности, сохраняя лишь то, что обще всем, и таким путем образует
абстрактную сложную идею, которой причастны все индивидуальные идеи, —
совершенно абстрагируя и отсекая все те обстоятельства и различия, которые могут
определить ее к некоторому отдельному существованию. Таким-то образом и приходим мы к
отчетливой абстрактной идее человека, в которой, правда, содержится цвет, так как
нет человека, лишенного цвета, но цвет этот не может быть ни белым, ни черным, ни
каким-либо частный цветом, а может быть лишь цветом вообще, потому что нет такого
частного цвета, который принадлежал бы всем людям.Точно так же, скажете вы, в ней
содержится рост, но это не есть ни большой, ни средний, ни малый рост, но рост
вообще. То же верно и относительно прочего. А теперь представим, что я у вас
спрашиваю: "Включаете ли вы в вашу абстрактную идею человека идеи глаз, ушей, рук,
ног или носа?" И вы, пожалуй, затруднитесь с ответом, ибо не можете не признать,
что идея человека, лишенная всех этих частей, была бы чрезвычайно странной и
уродливой. И однако, именно такой ей и надлежит быть, дабы не противоречить учению об
абстрактных идеях, поскольку существуют отдельные люди, не имеющие рук, ног,
носа и т.п.
Но предположим, что абстрактная идея человека вполне постижима, и перейдем к
рассмотрению того, как она расширяется до еще более общей и широкой идеи
животного. Существует большое разнообразие других созданий, соответствующих сложной
идее человека в некоторых, но не во всех частях, и вот наш ум, отбрасывая те части,
которые свойственны только человеку, и удерживая лишь те, которые присущи всем
живым существам, образует идею животного, которая явлется более общей, чем идея
человека, поскольку охватывает не только отдельных людей, но и всех птиц, зверей,
рыб и насекомих. Составные части сложной идеи животного суть тело, жизнь,
ощущение и произвольное днижение. Под телом подразумевается тело вообще, без
определенного образа или формы, так как нет общих всем животным образа или формы, не
EcSXJ
Первоначальны« вариант «Введения ...» ^/^г!©*Ф( d£ß\
покрытое ни волосами, ни перьями, ни чешуями, но и не голое, потому что волосы,
перья, чешуи и голая кожа составляют отличительные свойства отдельных животных
и поэтому исключаются из абстрактной идеи. По той же причине произвольное
движение не должно быть ни ходьбой, ни летанием, ни ползанием; оно тем не менее есть
движение, но какое именно - это нелегко сказать.
Подобным же образом исключив из своей идеи линии частный цвет и длинуг
человек приходит к идее такой линии, которая не является ни черной, ни белой, ни крас-
нон, ни длинной, ни короткой, и называет ее «абстрактной идеей линии», — которая,
насколько я могу судить, есть совершенное ничто. Ибо, хотел бы я знать, неужели
линия может иметь более одного частного цвета и одной частной длины? И если мы их
отбросим, то подумайте, прошу вас, что же у нас останется?
Обладают ли другие такой чудесной способностью образовывать абстрактные
идеи, о том они сами могут лучше всего сказать. Что касается меня, то я осмелюсь
заявить, что не имею ее. И я склонен думать, что если некоторые из тех, кто
воображает себя обладателем подобного преимущества, вникнут в свои мысли, то они
обнаружат, что наделены им не в большей мере, чем я. Ибо было время, когда и я,
одураченный и сбитый с толку словами, ничуть не сомневался в том, что имею его. Однако,
строго и тщательно исследовав свои способности, я открыл не только собственное
несовершенство в этом отношении, но и перестал понимать, каким образом даже
самые великие и возвышенные умы могут обладать подобной привилегией. Я нахожу в
себе способность воображать или представлять себе идеи единичных, воспринятых
мной вещей и разнообразно сочетать их и делить. Я могу вообразить человека с двумя
головами или верхние части человека, соединенные с телом лошади. Я могу
рассматривать руку, глаз, нос сами по себе, отвлеченно или отдельно от прочих частей тела.
Но какие бы глаз и руку я ни воображал, они должны иметь некоторый определенный
образ и цвет. Идея человека, которую я составляю, должна быть идеей или белого,
или черного, или краснокожего, прямого или сгорбленного, высокого, низкого или
среднего роста человека. Никаким усилием мысли не способен я образовать идею
человека, которая не имела бы в себе никаких частностей. Честное слово, абстрактные
идеи я совершенно не в силах постичь.
И есть основания думать, что большинство людей согласится, что они находятся в
одинаковом положении со мною. Простая и» неученая масса людей никогда на
абстрактные понятия не притязает. Говорят, что эти понятия трудны и не могут быть
достигнуты без усилий и изучения; отсюда мы можем разумно заключить, что если
они существуют, то обнаруживаются только у людей ученых.
Но, должен признаться, я не вижу, какие великие преимущества над остальным
человечеством дают им подобные идеи. И каждый, кто примет в соображение, что все,
имеющее существование в природе и способное каким-то образом на него
воздействовать или представлять для него интерес, является единичным, не обнаружит
основательных причин для недовольства своими способностями, пусть они и не в силах
достигнуть познания столь же бесполезного, сколь утонченного, — познания, наличие
коего даже у этих глубокомысленных особ можно подвергнуть сомнению.
Ведь помимо непостижимости абстрактных идей для моего ума (а ее можно счесть
основательным аргументом, коль скоро эти господа не притязают на обладание
какими-либо неведомыми душевными дарованиями, отличными от способностей обыкно-
hjmtw
К№Ш&ЗГ~ Джордж Беркли ^>^СД
венного человека) нет недостатка и в других доказательствах против абстрактных
идей. Считается, полагаю, общепринятой аксиомой, что понять противоречие
невозможно. Ибо какой же сотворенный интеллект станет претендовать на постижение
того, что сам Господь Бог не в силах вызвать к бытию? Между тем все согласны: ничто
общее или абстрактное не может существовать в действительности; а отсюда, похоже,
вытекает,что оно не может иметь и идеального существования в уме.
В данном месте я не нахожу нужным приводить какие-либо новые опровержения
теории абстрактных идей, в особенности потому, что нелепости, которые, как я
покажу в дальнейшем, проистекают из этого учения, представят множество аргументов а
posteriori. Теперь я приступаю к исследованию того, что может быть приведено в
защиту учения об абстрагировании, и постараюсь обнаружить, что именно побуждает
людей умозрения принимать мнение, столь чреватое нелепостями и столь,
по-видимому, чуждое здравому смыслу.
Существовал один превосходный, по справедливости уважаемый философ, ныне
покойный, к суждению которого, насколько авторитет вообще может иметь для меня
вес, я готов отнестись с величайшим почтением. Этот выдающийся человек,
несомненно, придал много силы теории абстракции, так как он, по-видимому, полагал, будто
обладание абстрактными идеями составляет главнейшее отличие в отношении ума
между человеком и животными. "Обладание общими идеями, — говорит он, — есть
то, что совершенно отличает человека от животного, есть превосходство, которого
никоим образом не достигают способности животных. Ибо ясно, что мы не видим у
них никаких следов пользования общими знаками для всеобщих идей; отсюда мы
имеем право предполагать, что они не имеют способности абстрагировать или
образовывать общие идеи, ибо не употребляют слов или каких-либо других общих знаков."
И несколько далее: "Следовательно, мы можем, полагаю, видеть в этом отличие
животных от человека; в этом и состоит, собственно, та разница, которая совершенно
разделяет их и в конце концов простирается на такую обширную область. Ибо если у
животных есть вообще идеи и если они не простые механизмы (какими их некоторые
считают), то мы не можем отрицать у них известной доли разума. Для меня очевидно,
что некоторые животные в известных случаях обнаруживают разум, как
обнаруживают они чувство, но только по отношению к отдельным идеям, полученным именно от
своих чувств. Даже самые высшие животные втиснуты в эти узкие границы и не
имеют, на мой взгляд, способности расширять их каким бы то ни было
абстрагированием" («Опыт о человеческом разуме», Книга 2, гл.11, §10 и 11). Я охотно
соглашаюсь с этим автором в том, что абстрагирование совершенно недоступно для
способностей животных. Но если в этом полагается отличительное свойство данного рода
одушевленных созданий, то я опасаюсь,что многие из тех, кто слывет людьми, должны
быть отнесены к тому же роду.
Причина, указанная здесь, по которой мы не имеем оснований думать, что
животные обладают общими идеями, заключается в том, что мы не наблюдаем у ник
употребления слов и других общих знаков; при этом мы исходим из предположения,
будто употребление слов подразумевает обладание общими идеями. А с другой
стороны, те, кто обладает общими идеями, всегда используют слова или другие общие
знаки для выражения или передачи этих идей. Отсюда следует, что люди,
употребляющие язык, способны обобщать или абстрагировать свои идеи, зато животные,
|gk )&S$\yr Первоначальный вариант «Введения *^)^%£)^( J$
языком не пользующиеся, этой способности лишены. Что таков смысл сказанного
автором «Опыта», явствует далее из ответа на вопрос, который ставится им в другом
месте: "Ведь все вещи существуют лишь в отдельности; как же мы приходим к
общим терминам?" Он отвечает так: "Слова приобретают общий характер оттого, что
их делают знаками общих идей" («Опыт о человеческом разуме», кн.З, гл.З, §66).
Прошу позволения с этим тезисом не согласиться, ибо придерживаюсь мнения, что
слово становится общим, будучи знаком не общей идеи, но многих частных идей.
Что касается мейя, я уверен: когда я говорю, что слово «Сократ» есть собственное
или частное имя,а слово «человек» — общее имя или название, то подразумеваю я не
более чем следующее: первое из них относится к одному определенному лицу и
свойственно для него, второе же является общим для многих отдельных лиц, каждое
из которых имеет согласно законам языка равное право на то,чтобы именоваться
человеком. В этом, говорю я, и заключается все дело, — а вовсе не в том, что я будто
бы создаю некую непостижимую абстрактную идею и связываю с ней имя «человек».
Это означало бы превращать мои слова в знаки для того, что мне совершенно
неведомо.
Вышеупомянутый великий человек, кажется, полагает, что без употребления
абстрактных идей важнейшие цели языка не могут быть достигнуты. В кн.З, гл.6, §39 и
в других местах он дает нам понять, что, по его мнению, абстрактные идеи создаются
ради наименований. В кн.З, гл.1, §3 он выражается следующим образом: "Для
совершенства языка недостаточно, чтобы звуки могли стать знаками идей, если эти знаки не
могут быть использованы так, чтобы они обнимали собой много отдельных вещей;
употребление слов было бы затруднено их множеством, если бы каждая отдельная
вещь нуждалась для своего обозначения в отдельном названии. Для устранения этого
неудобства язык получил дальнейшее усовершенствование в пользовании общими
терминами, благодаря которому одно слово стало обозначать множество отдельных
предметов. Такого выгодного пользования звуками достигли только благодаря различию
идей, знаками которых стали эти звуки: общими становятся те имена, которыми
обозначаются общие идеи, а единичными имена остаются тогда, когда единичны идеи,
для которых они употребляются". Но хотелось бы мне знать, почему слово не может
охватывать своим значением большое количество отдельных вещей и без помощи
абстрактных идей? И разве нельзя отнести слово «цвет» к черному, белому, красному и
т.д., не образуя сначала этой чрезвычайно странной и для меня совершенно
непостижимой идеи цвета в абстракции. И неужели мы должны думать, будто ребенок, когда
он видит единичное тело и ему сообщают, что оно называется «яблоком», должен
сперва составить абстрактную общую идею, исключающую всякий определенный
цвет, вкус и форму, прежде чем сумеет научиться употреблению слова «яблоко» и
станет применять его ко всем отдельным плодам этого вида, которые ему попадаются?
Задача, бесспорно, слишком трудная и метафизическая, чтобы справилось с ней дитя,
едва начинающее говорить. Более того, я апеллирую к опыту всякого взрослого
человека — неужели именно таким путем знакомится он с правильным употреблением и
значением слов? Пусть кто угодно непредвзято и беспристрастно рассмотрит свои
мысли и потом скажет, разве его общие слова не становятся такими лишь благодаря
тому, что их превращают в знаки для большого числа единичных объектов — причем
без всякого понятия об абстрагировании? Ибо скажите на милость, что такое слова,
ШЭ®М^~ Джордж Б«ркл. ^Н^^Д
как не знаки наших мыслей? И каким же путем любого рода знаки становятся общими,
если не посредством того, что они представляют нам безразличным образом множество
отдельных вещей?
Идеи в душе всякого человека остаются скрытыми от чужих глаз и сами по себе
не могут быть видимы другому. А потому для целей речи и общения людям было
необходимо установить в качестве знаков для идей звуки; и они, проникая в
сознание слушателя, привносят с собой в его ум идеи, которые по законам языка бывают
с ними связаны. Но поскольку число и разнообразие наших идей практически
беспредельны, то было бы невозможно (а если и возможно, то бессмысленно)
присваивать каждой из них особый знак или имя. Отсюда с необходимостью следует, что
одно слово можно сделать знаком большого количества частных идей, между
которыми существует известное сходство и о которых говорится, что они принадлежат к
одному виду.* Однако виды эти не отделены друг от друга и не установлены
природой, как полагало большинство философов. Они также не ограничены какой-
либо отчетливой абстрактной идеей, помещенной в нашем уме вместе с
присоединенным к ней общим именем (как считает автор «Опыта»), и, по правде говоря, мне
кажется, что никаких четких границ и пределов эти виды вообще не имеют. Ибо если
бы таковые существовали, то я не в силах уразуметь, откуда же могли взяться
сомнения и затруднения касательно классификации отдельных существ, которые
время от времени возникают. И я не думаю, что есть какая-либо нужда в том, чтобы
виды или роды вещей были столь тщательно очерчены и отграничены друг от друга,
ибо язык предназначен для использования в обыденной жизни; люди же, его
употребляющие, не обращают обыкновенно внимания на более мелкие и незначительные
различия вещей. Отсюда, по-моему, с очевидностью следует, что обладание общими
именами предполагает не обладание общими идеями, но лишь обозначение
посредством этих имен большого числа частных идей, и что цели языка могут быть
достигнуты (и действительно достигаются) без помощи какой-либо способности к
абстрагированию.
И это станет еще очевиднее, если мы рассмотрим те различные способы,
которыми слова представляют идеи, а идеи вещи. Между словами и обозначаемыми через
них идеями какого-либо сходства или подобия не существует. Любое имя может быть
использовано в качестве знака какой угодно идеи или какого угодно числа идей,
поскольку нет такого подобия, которое определяло бы его к тому, чтобы
представлять одну идею лучше, чем другую. Иначе обстоит дело с идеями в их отношении к
вещам, копиями или отображениями которых идеи, как принято думать, являются.
Предполагается, что идеи представляют вещи не иначе, как через подобие. Отсюда
вытекает, что идея не способна представлять безразличным образом все что угодно,
ибо ее сходство с определенной единичной вещью вынуждает идею представлять
именно эту вещь, а не какую-либо иную. Слово «человек» может одинаково
представлять любого отдельного человека, о котором я способен помыслить. Однако я не
* На противоположной странице рукописи читаем: "Опыт любого человека способен убедить его
в том, что это и есть все, что подразумевается под общими именами; и что они, имена, не
представляют ни универсальные сущности, отличные от наших понятии (как утверждали перипатетики и
большинство схоластиков), ни всеобщие понятия или идеи, как полагает та разновидность
схоластиков, которых именуют номиналистами, а также автор «Опыта»."
iWkb )Ф@Я^|^ Первоначальный вариант «Введения ...» ^jf/^WBJ*y( ^д]
способен образовать идею человека, которая одинаково представляла бы и
соответствовала любому отдельному представителю данного рода созданий, который только
может существовать.
Я приведу еще одно место из «Опыта о человеческом разуме», а именно:
"Отвлеченные идеи не так очевидны или легки для детей или для неопытного еще ума, как
идеи единичные. Если они кажутся таковыми людям взрослым, то лишь вследствие
постоянного и привычного их употребления, ибо при внимательном размышлении об
общих идеях мы найдем,что они суть фикции и выдумки ума, которые заключают в
себе трудности и не так легко появляются, как мы склонны думать. Например, разве
не нужны усилия и способности, чтобы составить общую идею треугольника? (А она
еще не принадлежит к числу наиболее отвлеченных, широких и трудных идей). Ибо
она не должна быть идеей ни косоугольного, ни прямоугольного, ни равностороннего
треугольников; она должна быть всем и ничем в одно и то же время. На деле она есть
нечто несовершенное, что не может существовать, идея, в которой соединены части
нескольких различных и несовместимых друг с другом идей. Правда, при своем
несовершенном состоянии ум имеет потребность в таких идеях и всячески стремится к ним
для удобства взаимопонимания и расширения познания, ибо он по своей природе
очень склонен к тому и другому. Но есть основания видеть в таких идеях признаки
нашего несовершенства. По крайней мере это в достаточной степени показывает, что
прежде всего и легче всего ум знакомится не с самыми абстрактными и общими идеями
и что не к ним относится его самое раннее познание" (Кн.4, гл.7, §9). Если кто-нибудь
из людей обладает способностью образовать в своем уме идею треугольника,
подобную той, какая здесь описана, то бесполезно стараться спорить с ним, да я и не берусь
за это. Мое желание ограничивается только тем, чтобы читатель вполне очевидно
убедился в том, имеет ли он такую идею или нет, а это, я полагаю, ни для кого не
составит трудноразрешимой задачи. Что может быть легче для каждого, чем немного
вникнуть в свои собственные мысли и затем испытать, может ли он достигнуть идеи,
которая соответствовала бы данному здесь описанию общей идеи треугольника,
который ни косоугольный, ни прямоугольный, ни равносторонний, ни равнобедренный,
но который есть вместе и всякий, и никакой из них.
Тот, кто способен постичь столь явные противоречия и несообразности, пусть
пользуется этой своей привилегией. Что до меня, то я их постичь не в силах, а
следовательно, не могу образовать эти абстрактные идеи; к тому же я не нахожу, чтобы
испытывал в них какую-либо нужду — ни для удобства взаимопонимания, ни для
расширения познания. И я об этом ничуть не жалею, ибо, как нам было сказано, "есть
основания видеть в этих идеях признаки нашего несовершенства". Хотя, должен сознаться,
я не вижу, как же это согласуется с цитированными выше словами того же автора, а
именно что "обладание общими идеями есть то, что совершенно отличает человека от
животного, есть превосходство, которого никоим образом не достигают способности
животных".
Стоит обратить внимание на то, что говорилось о трудностях, которые абстрактные
идеи в себе заключают, а также об искусстве и усилиях, необходимых для их
образования. Тот же смысл имеют и следующие слова Аристотеля (который, бесспорно, был
большим почитателем и покровителем учения об абстрагировании): "χεδον δε και
χαλεπωτατα γνωριζειν τοις ανθρωποις στι τα μάλιστα καθολόν πορρωτατω γαρ των
αιζθήσεώνστι." ("Пожалуй, труднее всего для человека познать наиболее общие
понятия, ибо они дальше всего от чувственных восприятий". Метафизика. Кн. 1, гл. 2).
Все согласны,что великие труды, усилия и напряжение ума необходимы для того,
чтобы освободить наши мысли от частных идей, воспринимаемых в ощущениях, и
поднять их к тем возвышенным умозрениям, которые имеют отношение к идеям
абстрактным и всеобщим.
Естественный вывод из всего этого, по-видимому, тот, что столь трудное дело, как
образование абстрактных идей, не необходимо для общения между людьми, которое
столь легко и привычно для людей всякого рода, даже самых диких и немыслящих. Но
нам говорят, что если они кажутся доступными и легкими для взрослых людей, то
единственно потому, что стали такими вследствие обычного и постоянного употребления.
Однако мне хотелось бы знать, в какую пору люди занимаются преодолением этой
трудности и снабжением себя этими необходимыми средствами словесного общения. Это не
может происходить тогда, когда они уже взрослые, потому что в это время они не
сознают такого усилия; таким образом, остается предположить, что это составляет задачу их
детства. И, конечно, большой и многократный труд образования общих понятий будет
признан очень тяжелой задачей для нежного возраста. Разве не трудно представить
себе, что двое детей не могут поболтать между собой о своих леденцах, погремушках и
прочих пустячках, не разрешив предварительно бесчисленного количества
противоречий, не образовав таким путем в своих умах абстрактных общих идей и не связав их с
каждым общим названием, которое они должны употребить?
Я не думаю также, чтобы абстрактные идеи были хоть чуточку более нужны для
расширения познания, чем для его сообщения. И хотя схоластики упорно настаивают
на том, что всякое познание относится ко всеобщим понятиям, я, однако, никоим
образом не усматриваю необходимости в подобном учении. Как принято думать, ничто
не имеет большего права на звание науки или знания, чем геометрия. И вот я
апеллирую к суждению любого человека: неужели, приступая к изучению этой науки, нужно
первым делом постичь круг, который не является ни большим, ни маленьким, и не
имеет какого-либо определенного радиуса, или же образовать идеи треугольника или
паралеллограмма, которые не будут ни прямоугольными, ни косоугольными? Когда
некое положение обладает всеобщим значением — это одно, когда оно относится ко
всеобщим сущностям или понятиям — это совсем другое. И если мы соглашаемся, что
утверждение «три угла треугольника равны двум прямым» имеет всеобщую
истинность, то отсюда еще не следует, что подразумеваются в нем общие треугольники или
общие углы. Достаточно, если оно будет истинным по отношению к любым частным
углам какого угодно частного треугольника.
Но тут возникает вопрос, каким образом можем мы знать, что данное
предложение истинно для всех частных треугольников, если мы не усмотрели его доказанным
относительно общей идеи треугольника, одинаково относящейся ко всем
треугольникам и одинаково их представляющей? Ибо из того, что была доказана
принадлежность некоторого свойства такому-то частному треугольнику, вовсе не следует, что
оно в равной мере принадлежит всякому другому треугольнику, который не во всех
отношениях тождествен с первым. Если я доказал, например, что три угла
равнобедренного прямоугольного треугольника равны двум прямым углам, то я не могу
отсюда заключить, что то же самое будет справедливо для всех прочих треугольни-
Ijjk геЭ^Г ПеРвонот·*»11«* »»риавт «Введения ...» ^/^JBffi ^g|
ков, не имеющих ни прямого угла, ни двух равных сторон. Отсюда, по-видимому,
следует, что для того чтобы быть уверенными в общей истинности этого
предложения, мы должны либо приводить отдельное доказательство для каждого частного
треугольника, что невозможно, либо раз навсегда доказать его для общей идеи
треугольника, которой сопричастны безразлично все частные треугольники и которая
их всех одинаково представляет.
Fia это я отвечаю, что хотя идея, которую я имею в виду в то время, как
произвожу доказательство, есть идея частного, например, равнобедренного
прямоугольного треугольника, стороны которого имеют определенную длину, я могу тем
не менее быть уверенным в том, что оно распространяется на все прочие
прямоугольные треугольники, какой бы величины или формы они ни были, и именно потому,
что ни прямой угол, ни равенство или определенная длина двух сторон не
принималась вовсе в соображение при доказательстве. Правда, что диаграмма, которую я
имею в виду, обладает всеми этими особенностями, но о них совсем не упоминалось
при доказательстве теоремы. Не было сказано, что три угла потому равны двум
прямым, что один из них прямой, или потому, что стороны, его заключающие,
равной длины, чем достаточно доказывается, что прямой угол мог бы быть и косым,
а стороны неравными, и тем не менее доказательство оставалось бы справедливым.
Именно на этом основании я заключаю, что доказанное для данного прямоугольного
равнобедренного треугольника справедливо для каждого косоугольного и
неравностороннего треугольника, - а вовсе не потому, что я будто бы доказал это
утверждение по отношению к общей идее треугольника, которая являлась бы всеми
треугольниками разом и ни одним из них в отдельности, ибо для меня невозможно
вообразить треугольник, подобный которому я не мог бы начертить на бумаге. Но, полагаю
я, ни один человек, что бы он там ни постигал, не возьмется утверждать, будто
может изобразить общий треугольник с помощью карандаша. И если как следует
поразмыслить над сказанным, то думаю я, нам не покажется,что мы особенно
нуждаемся в этих вечных, неизменных, универсальных идеях, вокруг которых
философы поднимают такой шум.
Но во что же тогда превращаются эти общие правила, эти основополагающие
принципы познания, так часто упоминаемые метафизиками; правила и принципы,
которые, как предполагается, всецело относятся к абстрактным общим идеям? На это я
могу дать лишь один ответ: всякое утверждение, если оно составлено из терминов,
обозначающих общие понятия или идеи, есть для меня по этой причине нечто
совершенно невразумительное. Возможно, эти склонные к умозрению господа путем
усиленных π глубоких изысканий достигли в своем мышлении высот, лежащих за
пределами способностей и стремлений обыкновенных людей; может быть, есть тому какая-
то иная причина, но только я уверен, что в их писаниях обнаруживается множество
вещей, уразуметь которые я совершенно не в силах. Некогда, правда, и я полагал, что
никакой трудности они в себе не заключают, ибо соответствующие формы речи уже
стали для меня привычными. Но вот что представляется мне вполне ясным и
достоверным ныне: как бы высоко ни возносилось это величественное здание метафизики и
какими бы почтенными именами ни поддерживалось, но если в основании его нет
ничего, кроме противоречий и несообразностей, то это сооружение есть в сущности
лишь воздушный замок.
Было бы столь же неисполнимым, сколь и бесполезным делом следить за
схоластиками, этими великими мастерами абстрагирования, и за всеми прочими древними и
новейшими логиками и метафизиками по всем запутанным лабиринтам заблуждений
и прений, в которые, по-видимому,, вовлекло их учение об абстрактных сущностях и
понятиях. Сколько ссор и споров возникло из-за этих вещей, сколько ученой пыли
поднято и какую пользу извлекло из всего этого человечество, слишком хорошо
известно теперь, чтобы мне предстояла надобность об этом распространяться. И
подобное учение не ограничилось теми двумя науками, в которых признавалось оно
наиболее открыто, — зараза эта охватила все области знания. Оно вторглось в
полезные науки богословия и физики, и даже математики испытали его влияние в
полной мере.
Если люди взвесят тот великий труд, прилежание и способности, которые
употреблены в течение многих столетий на разработку и развитие наук, и сообразят, что,
несмотря на это, значительная, большая часть наук остается исполненной темноты π
сомнительности, а также примут во внимание споры, которым, по-видимому, не
предвидится конца, и то обстоятельство, что даже те науки, которые считаются
основанными на самых ясных и убедительных доказательствах, содержат парадоксы,
совершенно неразрешимые для человеческого разума, и что в конце концов лишь
незначительная их часть приносит человечеству кроме невинного развлечения и
забавы истинную пользу, — если, говорю я, люди все это взвесят, то они легко
придут к полной безнадежности и к совершенному презрению всякой учености. По
этому изумлению и отчаянию, может быть, и придет конец, если мы рассмотрим
ошибочные начала и ложные основания, которые были в данном случае
использованы. Среди них же ни одно, на мой взгляд, не оказало более широкого и всеобщего
влияния на мысли людей ученых, нежели те принципы, которые попытались мы
обнаружить и опровергнуть. И мне вовсе не кажется странным, что бесполезные
споры и нелепые, сумасбродные мнения изобилуют в сочинениях тех особ, которые,
отбросив с презрением очевидные и общедоступные свидетельства чувств, созерцают
во глубине своего ума абстрактные идеи.
Теперь я обращаюсь к рассмотрению источника этих господствующих понятий,
которым, как мне кажется, служит язык. И, наверное, что-либо менее
распространенное, чем сам разум, не могло быть источником мнения столь же эпидемического, сколь
абсурдного. Что самая мысль об абстрактных идеях обязана своим происхождением
именно словам, явствует как из других оснований, так и из открытого признания
самых искусных поборников этого учения, которые соглашаются, что абстрактные
идеи образованы с целью наименования, из чего ясно следует, что если бы не
существовало такого предмета, как язык, то никогда не явилось бы мысли об
абстрагировании. Я также нахожу недвусмысленные заявления о том, что общие истины никогда не
могут быть познаны и крайне редко воспринимаются, если они не представлены и не
выражены в словах, а из всего этого с очевидностью вытекают нераздельная связь н
взаимозависимость, существующие, как принято думать, между словам«, и
абстрактными идеями. Ибо, если в других местах говорится, что общие идеи необходимы для
общения посредством общих имен, то здесь нам сообщают, что для постижения общих
истин требуются имена. И вот я хотел бы узнать, каким образом слова могут помочь
человеку постигнуть то, что он не способен понять без слов. Я не отрицаю, что слова
нужны для общения, поскольку открывают мне идеи, находящиеся в душе другого
Ifek rejjjyt^ Первоначадьяый вариант «Введения >>^)^§^{ Jg\
человека. Но коль скоро истина, относящаяся к общим или частным идеям, уже стала
мне известной посредством слов, и я правильно воспринимаю содержащиеся в ней
идеи, то я не вижу каких-либо причин или оснований, которые помешали бы мне, если
я отвлекусь от слов, сохранить столь же ясное и полное понимание самих идей, как и
в то время, когда идеи эти еще были облечены в слова. Ведь слова, на мой взгляд,
используются лишь для записи и сообщения — но не для восприятия идей как
таковых. Существуют, я знаю, утверждения, и притом слывущие истинами, которые не
терпят, когда с них срывают словесный наряд, — и однако, я всегда считал это
верным признаком того, что никаких ясных и определенных идей под ними нет. А сейчас
я покажу, каким путем слова способствовали возникновению и росту подобного
заблуждения.
То, что, как мне кажется, главным образом и привело людей к мысли об
абстрактных идеях, есть мнение, будто каждое имя имеет или должно иметь одно
точное и твердо установленное значение, что склоняет людей думать, будто
существуют известные абстрактные определенные идеи, которые составляют истинное и
единственно непосредственное значение каждого общего имени, и будто через
посредство этих абстрактных идей общее имя становится способным обозначать
частную вещь. Между тем в действительности у каждого 'общего имени (кроме имен
собственных) существует большое разнообразие значений, а точного, определенного
значения, связанного с каким-либо общим именем, не существует вовсе. Все это
вытекает с очевидностью из сказанного выше, и при некотором размышлении станет
ясным для каждого.
Здесь, без сомнения, могут возразить, что каждое имя, имеющее определение, тем
самым ограничено и связано известным значением. Например, треугольдик
определяется как «плоская поверхность, ограниченная тремя прямыми линиями», каковым
определением это имя ограничено обозначением только одной определенной идеи, и
никакой другой. Я отвечу на это, что в определении не сказано, велика или мала
поверхность, черна она, бела или прозрачна, длинны или коротки стороны, равны
или неравны, а также под какими углами они наклонены одна к другой; во всем этом
может быть большое разнообразие, и, следовательно, здесь не дано установленной
идеи, которая ограничивала бы значение слова «треугольник». Одно дело, связывать
ли имя постоянно с одним и тем же определением, и другое дело, обозначать ли им
постоянно одну и ту же идею; первое необходимо, второе бесполезно и невыполнимо.
И бессмысленно утверждать, будто сама абстрактная идея треугольника,
ограничивающая значение этого имени, является определенной, хотя углы, стороны и т. д. не
таковы. Ибо, не говоря уже о нелепости подобной идеи, которая была доказана
выше, очевидно, что если простые идеи или части, т. е. линии, углы и поверхности,
сами являются разнообразными и неопределенными, то и сложная идея, или
треугольник в целом, не может представлять собой одну определенную и твердо
установленную идею.
Но чтобы дать дальнейший отчет в том, каким образом слова привели к
возникновению учения от абстрактных идеях, нужно заметить, что<ореди тех, кто слывет
глубочайшими мыслителями, существует ходячее мнение, будто каждое имя, что-либо
обозначающее, представляет идею. Они говорят, что утверждение не может быть понято
иначе, как через восприятие согласия или несогласия идей, обозначенных его
терминами. Отсюда, по мнению этих людей, следует, что всякое предложение, не являю-
ШЭ$ЩГ Дж.рд« Беркл. "Щ^ЬСЯ
щееся обыкновенной тарабарщиной, должно состоять из терминов или имен, каждое
из которых связано с определенной идеей. Сделав такое предположение и вместе с тем
считая за достоверное, что имена, которые не признаются лишенными значения, не
всегда выражают частные идеи, категорически заключают отсюда, что они
представляют общие идеи.*
На это я отвечаю, что имена, обладающие смыслом, не всегда представляют идеи,
и однако, могут целесообразно и с успехом использоваться (и часто используются),
не будучи предназначенными для выражения или обозначения каких-либо идей
вообще. А что касается разговоров о том, будто мы понимаем утверждения лишь
через восприятие согласия или несогласия обозначенных их терминами идей, то во
многих случаях мне это кажется абсолютно ложным. Чтобы яснее это истолковать и
доказать, я использую несколько частных примеров. Допустим, я обладаю идеей
определенной собаки, которой присваиваю имя Меламп, а затем образую следующее
утверждение: «Меламп есть животное». Очевидно, что имя «Меламп» обозначает в
данном случае одну единичную идею. А что касается второго имени или термина,
входящего в состав данного утверждения, то существуют известного рода философы,
которые вам скажут, что термин этот подразумевает не только общее понятие, но
также и соответствующую ему всеобщую сущность или природу, реально
существующую вне ума, которой и сопричастен наш Меламп, — как если бы и самые вещи
могли быть общими по своему характеру. Мнение это было не без оснований
отброшено как бессмысленное и нелепое. Но ведь речи и тех людей, которые так ясно и
исчерпывающе разоблачили пустоту и бестолковость подобного жаргона, кажутся
мне столь же невразумительными. Ибо они утверждают следующее: если я понимаю
то, что говорю, то слово «животное» должно представлять для меня абстрактную
общую идею, которая соответствует частной идее, обозначенной словом «Меламп», и
согласуется с нею. Но если мы признаем, что каждому дано понимать, о чем же он
говорит, то я категорически заявляю: слово «животное» не предназначается в моих
мыслях ни для того, чтобы представлять некую всеобщую сущность, ни для того,
чтобы выражать абстрактную идею, которая кажется мне по крайней мере столь же
нелепой и непостижимой, как первая. Слово это в данном предложении вообще не
* На противоположной странице рукописи вместо этого абзаца читаем: "Но чтобы дать
дальнейший отчет в том, каким образом слова привели к возникновению учения об абстрактных идеях,
нужно заметить, что существует ходячее мнение, будто язык не имеет иной цели, кроме сообщения
наших идей, и будто каждое имя, что-либо обозначающее, обозначает идею. Сделав такое
предположение и вместе с тем считая за достоверное, что имена, которые не признаются совершенно
лишенными значения, не всегда выражают частные идеи, категорически заключают отсюда, что они
представляют общие идеи.
Что мыслителями употребляются многие имена, которые не всегда возбуждают в других людях
определенные частные идеи (а по правде говоря, не внушают совершенно ничего) — этого никто не
станет отрицать. И нет необходимости, чтобы (даже в самых строгих рассуждениях) имена,
обозначающие идеи, возбуждали в уме всякий раз, как только они употребляются, те самые идеи, для
обозначения которых они были образованы. При чтении и разговоре имена употребляются по
большей части, как буквы в алгебре, где, несмотря на то, что каждой буквой обозначается некоторое
частное количество, для верного производства вычисления не необходимо, чтобы на каждом шагу
каждой буквой возбуждалась в нас мысль о том частном количестве, которое она должна обозначать.
И хотя рассматриваете вы только сами буквы, не думая о том, что ими обозначается, однако,
действуя в соответствии с правилом, вы придете к верному решению задачи".
|gk i^^Xir^ Первоначальный вариант «Введения ...» ^|/^И®у( jffl|
представляет никаких идей, ибо все, что намерен я выразить с помощью последнего,
заключается в следующем: единичная вещь, именуемая мною «Мелампом» имеет
право носить имя «животного*. И я прошу любого из вас произвести следующий
несложный опыт. Пусть какой угодно человек выбросит из своих мыслей слова
данного утверждения, а потом посмотрит, останутся ли в его уме две ясные и
определенные идеи, одна из которых согласовалась бы с другой. Я же с
очевидностью обнаруживаю в себе самом, что по удалении слов «Меламп есть животное» в
моем уме остается лишь одна голая и обнаженная идея, а именно та частная идея,
которой я даю имя «Меламп». Находятся, однако, люди, уверяющие нас, будто у
них имеется также общая идея, обозначаемая словом «животное» и согласующаяся с
обозначенной словом «Меламп» частной идеей — идея, которая, как уже был
показано, состоит из противоречий и несообразностей. И я искренне желаю, чтобы
каждый самостоятельно исследовал и решил, какое же из этих двух мнений является
истинным.
И это, по-моему, ясно показывает, каким образом могли люди впервые прийти к
мысли о том, что существует общая идея животного. Ибо очевидно, что в приведенном
выше примере слово «животное» не предназначается для того, чтобы представлять
какое-либо отдельное животное. Ведь если сделать его знаком для другого животного,
отличного от того, которое обозначено именем «Меламп», то утверждение будет
заключать в себе противоречие и окажется ложным; если же это слово будет обозначать
то же самое отдельное существо, которое обозначено словом «Меламп», утверждение
наше превратиться в тавтологию. Предполагается, однако, что всякое слово
непременно обозначает идею. А следовательно, остается думать, что слово «животное»
обозначает общую абстрактную идею животного. Подобным же образом, проявив немного
внимания, сумеем мы открыть, как прокрались в сознание человека и прочие общие
идеи.
Но чтобы сделать еще более очевидным, что слова могут использоваться вполне
осмысленно и целесообразно даже не привнося в наш ум никаких определенных
идей, я прибавлю еще один пример. Нам сказано, что благие вещи, приготовленные
Богом для тех, кто Его любит, таковы, что "их не видел глаз, не слышало ухо, и не
входило то в сердце человеку". Какой же человек станет утверждать, что слова
боговдохновенного автора пусты и бессмысленны? И однако, кто же способен
заявить, будто они привносят в его ум ясные и определенные идеи или вообще какие-
либо идеи тех благих вещей, кои уготованы Богом для возлюбивших Его? Скажут,
пожалуй, что данные слова представляют нам ясные и определенные абстрактные
идеи «блага вообще» и «вещи вообще», — боюсь, однако, что эти чрезвычайно
абстрактные идеи окажутся так же далеки от человеческого понимания, как и
отдельные радости святых на небесах. Но, говорите вы, слова апостола должны иметь
какой-то смысл: ведь нельзя предполагать, что произнесены они были без всякой
цели и намерения. Я отвечаю: речение это чрезвычайно многозначительно и
содержит в себе великий замысел, который, однако, заключается не в том/чтобы вызвать
в человеческих умах абстрактные идеи «вещи» или «блага» или же частные идеи
радостей, коими наслаждаются блаженные праведники. Цель эта в том,чтобы сделать
людей более ревностными и бодрыми в исполнении долга, а как она может быть
достигнута и без превращения слов «благие вещи» в знаки, представляющие в наших
умах какие-либо общие или частные идеи, я сейчас и покажу.
fîkP^i^fy Джордж Беркли ^)^^СЗ
После упоминания о награде за старание и настойчивость,проявленные в любом
деле, обычно происходят, на мой взгляд, разные вещи. В уме человека может
пробудиться идея частного блага, обещанного ему в качестве вознаграждения. За
этим также могут последовать рвение и постоянство в исполнении тех условий, на
которых данное благо может быть достигнуто, а кроме того — горячее стремление
служить и угождать тому, в чьих силах даровать нам это благо. Все эти вещи,
повторяю, могут следовать и часто действительно следуют за произнесением слов,
возвещающих о награде. И я не вижу никаких причин, почему последнее не могло
бы наступить и без первого. Разве нельзя подвигнуть человека к ревностному и
усердному исполнению обязанности, пообещав ему в награду некое благо, — хотя бы
в уме егоцри этом не было никаких других идей, кроме обыкновенных звуков или
букв? Будучи еще ребенком, он часто слышал, как слова «хорошая вещь»
употреблялись с целью склонить его к послушанию приказам тех, кто их произносил, а
когда стал взрослым, то убедился на собственном опыте, что после произнесения
этих слов добропорядочным человеком в его интересах было удвоить свои рвение и
активность в служении подобному лицу. А поскольку в его душе возникла таким
образом привычная связь между восприятием данных слов и готовностью с радостью
повиноваться повелению, в них заключенному, то словами этими можно
пользоваться, — не для того, однако, чтобы ввести в человеческий ум какую-либо идею,
обозначенную выражением «благие вещи», но чтобы пробудить в слушателе желание
исполнить то, что от него требуют. Вот, по-моему, и все, что имел в виду говорящий,
за вычетом лишь того случая, когда он намеревался выразить данными словами идею
некоей частной вещи. Но ведь очевидно, что в упомянутом мною примере апостол
вовсе не имел в виду, что слова «благие вещи» должны явить нашим умам идеи тех
частных вещей, которые для наших способностей всегда были недостижимы. И,
однако, я не в силах полагать, будто употребил он их наобум и без всякой цели, —
напротив, по моему разумению, он использовал их весьма осмысленно, а именно для
того, чтобы внушить нам бодрость, рвение и постоянство в добродетельном
поведении, хотя и не намеревался привносить в наше сознание какую-либо абстрактную
идею благой вещи. И если любой человек присовокупит к сказанному хотя бы малую
долю собственных размышлений, то, я не сомневаюсь, ему станет ясно, что общие
имена часто употребляются как составные части языка без того, чтобы говорящий
сам предназначал их служить знаками для тех идей, которые он желает вызвать ими
в уме слушателя.
Даже собственные имена не всегда употребляются с намерением вызвать в нас идеи
тех индивидов, которые, как предполагается, ими обозначены. Если, например,
схоластик, говорит: «Так сказал Аристотель», то неужели вы думаете, будто он желал
пробудить в вашем воображении идею именно этого конкретного человека? Все, что
намеревается он сделать, состоит в том, чтобы склонить вас принять его мнение с теми
почтением и покорностью, какие привычка связывает с именем Аристотеля. Если
человек, привыкший подчинять свое суждение авторитету этого философа, встречает
при чтении составляющие данное слово буквы, то он тотчас же соглашается с учением,
в подтверждение которого слово «Аристотель» было приведено, — и происходит это
действие в его уме столь быстро и неожиданно, что было бы даже невозможно какой
бы то ни было идее о личности или сочинениях Аристотеля предшествовать подобному
действию. Столь тесную и непосредственную связь установил обычай между простым
\Шаъ /Ф®$^<Г Первоначальный вариант «Введения ...» ^)^ЭД£)Ф( ^Ш
словом «Аристотель» и вызываемыми им в умах некоторых людей побуждениями к
согласию и почтению.
Я предлагаю читателю задуматься над тем, что происходит в нем самом, и
посмотреть, не случается ли часто при слушании речи или чтении, что чувства восторга,
любви, ненависти, удивления, презрения и т.п. непосредственно возникают в его душе
при восприятии известных слов без посредства какой-либо идеи. Первоначально,
может быть, слова действительно возбуждали идеи, способные производить подобные
душевные движения; но, если я не ошибаюсь, оказывается, что когда речь становится
для нас обычной, то слушание звуков или видение букв часто непосредственно влекут
за собою те чувства, которые прежде вызывались через посредство идей, теперь
совершенно опускаемых.
Сверх того, сообщение идей, обозначаемых словами, не составляет, как это
обыкновенно предполагается, главной или единственной цели языка. Существуют и другие
его цели, как например, вызов какой-либо страсти, возбуждение к действию или
отклонение от него, - цели, по отношению к которым вышеназванная цель во многих
случаях носит характер чисто служебный или даже вовсе отсутствует, если указанные
цели могут быть достигнуты и без ее помощи, как это нередко случается, на мой
взгляд, при обычном употреблении языка.
Я спрошу у какого угодно человека: неужели всякий раз, когда он говорит
другому, что известный поступок является почетным и добродетельным, желая побудить
собеседника к совершению его, он в то же самое мгновение имеет в своем уме идеи
почета и добродетели? И неужели действительное его намерение заключается в том,
чтобы вызвать эти абстрактные идеи в уме собеседника вместе с представлением об их
согласии с идеей данного частного поступка? Не сводится ли весь его замысел к тому,
чтобы внушить слушателю уважение к этому частному поступку и склонить к его
совершению?
Когда некоторые люди слышат слова «ложь» и «мерзавец», в их душах
мгновенно пробуждаются негодование, гнев и желание отомстить, причем они
совершенно не задумываются об определении этих слов и не заботятся об идеях, этими
словами, как принято думать, обозначаемых, — ибо все подобные душевные
движения и чувство обиды привычка уже успела связать с самими звуками и манерой
их произнесения.
Отсюда с очевидностью вытекает, что человек способен понимать то, что ему
говорят, не располагая при этом ясными и определенными идеями, которые обозначались
бы каждым отдельным словом, соединенным с ними в слышимой им речи. Более того,
он может понимать сказанное в совершенстве. Ибо, скажите на милость, разве
понимать в совершенстве не значит всего лишь понимать то, что имеет в виду собеседник?
Последний же, как это часто бывает, намерен вызвать в душе слушателя известные
эмоции и чувства и не более того, причем без всякой мысли обо всех этих идеях -
идеях, о которых так много говорят и которые так мало понимают. А чтобы убедиться
в истине сказанного пусть каждый обратится к собственному опыту.
Не знаю, придется ли это учение по вкусу тем философам, которые склонны
объявлять тарабарщиной и бессмысленным жаргоном всякую речь, если входящие в
ее состав слова не служат знаками ясных и определенных идей, и считают глупостью
согласие с любым утверждением, каждый термин которого не привносит в ум челове-
K)^èW ДжоРД» Беркл. 'ЩвШЦ
ка ясную и отчетливую идею; философам, которые без конца нам твердят, что
каждое осмысленно употребляемое слово связано с идеей, каковая непременно ему
сопутствует, если его понимают правильно. И это их мнение, как бы убедительно ни
защищали его иные, привнесло, на мой взгляд, много вздора и затруднений в
человеческие мысли. И, конечно, ничто другое не могло бы с большим успехом
взлелеять доктрину абстрагирования. Ибо, когда люди с полной несомненностью
сознавали, что многие употребляемые ими слова никаких частных идей не
обозначают, они неизбежно приходили к мнению о том, что подобные слова представляют
общие идеи.
Но чтобы еще убедительнее доказать нелепость мнения, с виду столь ясного и
разумного, на самом же деле чрезвычайно опасного и пагубного как для разума, так
и для религии, я попытаюсь в дальнейшем продемонстрировать, что существуют
вполне знакомые и привычные людям слова, о которых, хотя они и обозначают
нечто, нельзя предположить, не впадая при этом в величайшие нелепости и
несообразности, что они обозначают какие-либо идеи, будь то общие или частные, — ибо
это абсолютно невозможно и является прямым противоречием, чтобы какой-нибудь
интеллект, сколь угодно возвышенный и обширный, оказался способен образовать
идеи подобных вещей.
Мне кажется, мы выяснили невозможность абстрактных идей. Мы взвесили то, что
было сказано в их пользу искуснейшими их защитниками, и постарались показать,
что они бесполезны для тех целей, ради которых они признаются необходимыми.
И, наконец, мы проследили источник, из которого они вытекают, каковым, очевидно,
оказался язык.
И поскольку слова столь способны вводить в заблуждение человеческий ум, то я
решил в моих исследованиях возможно меньше их употреблять. Я постараюсь, какие
бы идеи мной ни рассматривались, держать их в моем уме очищенными и
обнаженными, удаляя из моих мыслей, насколько это возможно, те названия, которые
продолжительное и постоянное употребление так тесно с ними связало.
Представим себе одинокого человека, родившегося и выросшего в такой части
света и в таких условиях, что ему ни разу не представилось случая использовать для
выражения своих мыслей общие знаки. Через ум этого человека проходит
непрерывная цепь частных идей. Все, что он видит, слышит, воображает и каким-либо способом
воспринимает, по всеобщему мнению, и даже по признанию сторонников абстрактных
идей, является частным. Предположим, что необходимость трудиться ради
избавления от голода и жажды над ним не тяготеет, что он наслаждается полнейшим досугом,
от природы наделен хорошими способностями и склонен к размышлению и
созерцанию. Такой человек стоял бы, на мой взгляд, ближе к открытию некоторых великих и
важных истин, нежели те, кто получил школьное образование, был обучен древней и
новой философии, много читал, усиленно размышлял и таким образом достиг знания
тех наук и искусств, которые производят столько шума в ученом свете. Правда,
познания нашего одинокого философа едва ли будут слишком обширными и
всеобъемлющими, поскольку ограничиваются они лишь теми немногими частностями, которые
попадают в поле его зрения, — но если знать он будет не так много, как другие, то
ведь и ошибаться будет он, вероятно, реже, чем они.
Нельзя отрицать, что слова прекрасно служат для того, чтобы ввести в кругозор
каждого отдельного человека и сделать его достоянием весь тот запас знаний, который
Первоначальный вариант «Введения ...» чИ#ч№©^9\ у4в|
приобретен соединенными усилиями исследователей всех веков и народов.
Существуют, однако, разделы науки (и они заключают в себе познание самых важных и
возвышенных предметов из всех доступных разуму человеческому), которым выпала
необыкновенно печальная судьба: злоупотребления словами и обычными формами речи, в
которых они излагаются, запутали и затемнили их настолько, что всякому человеку
при их изучении следует проявлять чрезвычайную осмотрительность как в своих
собственных размышлениях, так и в ходе чтения книг и слушания речей других лиц, —
дабы привычная легкость и бойкость подобных рассуждений не внушила ему
обманчивую уверенность, будто те самые слова, которые в сущности не означают ровно
ничего, представляют нам некие идеи. И почти невозможно поверить, столько тьмы и
тумана распространило это великое заблуждение над умами людей, в остальном
весьма разумных и проницательных.
А потому я попытаюсь, насколько это в моих силах, поставить себя в положение
этого одинокого философа. Свои мысли и разыскания я ограничу рассмотрением моих
собственных единичных идей, из чего, как я могу ожидать, проистекут следующие
выгоды.
Во-первых, я могу быть уверенным, что избавился от всех чисто словесных
споров, а произрастание этой сорной травы служило почти во всех науках главным
препятствием росту истинного и здравого знания, что в настоящее время признано
всеми и стало для мудрейших людей предметом многочисленных и справедливых
сетований.
Во-вторых, разумно ожидать, что таким путем труд по исследованию, проверке
или постижению любой теории будет весьма облегчен. Ибо часто бывает так, что
понятия, облаченные в слова, кажутся скучными, головоломными и трудными для
понимания; если же сорвать с них подобные прикрасы, то они тотчас сжимаются до
весьма узких пределов и охватываются чуть ли не единым взглядом.
В-третьих, мне предстоит рассматривать меньше объектов, нежели другим людям.
Ведь я, как мне представляется, лишен некоторых мнимых идей, на созерцание коих
философы употребляют столько трудов и усилий, более того — даже тех идей (и
это, без сомнения, покажется чрезвычайно странным), которые слывут идеями
простыми и частными. И невозможно поверить, какую изумительную пустоту и
отсутствие идей обнаружит тот, кто в своих размышлениях откажется от всякого
употребления слов.
В-четвертых, отбросив завесу слов, я вправе рассчитывать на то, что идеи,
оставшиеся в моем уме, предстанут в более ясном свете. Чтобы узреть уродливость
заблуждения, достаточно сорвать с него одежды.
В-пятых, это кажется мне верным путем к освобождению от тонкой и
хитросплетенной сети абстрактных идей, которая таким жалким образом опутывала и связывала
умы людей, и притом с той удивительной особенностью, что чем острее и
проницательнее были способности данного человека, тем глубже он, по-видимому, в ней
запутывался и крепче ею держался.
В-шестых, я не вижу, каким образом я могу легко впасть в заблуждение, пока я
ограничиваю мои мысли своими собственными, освобожденными от слов идеями.
Предметы, которые я рассматриваю, мне известны ясно и адекватно. Ни одна из
имеющихся у меня идей не может остаться мне неведомой. Мне невозможно
вообразить, будто некоторые из моих идей сходны или несходны между собою, если они не
CCSX3
К)т{
ΙϋΓ^ϋ^Τ^ Джордж Беркли ^të^Gl
таковы в действительности. Для того, чтобы различить согласие или несогласие,
существующее между моими идеями, чтобы видеть, какие простые идеи содержатся в
некоторой сложной идее и какие нет, не требуется ничего, кроме внимательного
восприятия того, что происходит в моем собственном уме.
Но достижение всех этих преимуществ предполагает полное освобождение от
обмана слов, на которое я едва ли могу надеятся — до того трудно расторгнуть связь,
которая началась так давно и скреплена привычкой столь продолжительной, какая
установилась между словами и идеями.
И это затруднение, по-видимому, чрезвычайно усилено учением об абстракции.
Ибо пока люди полагали, что абстрактные идеи связаны со словами, то не казалось
странным, что употребляются слова, вместо идей, так как считалось невозможным,
отстранив слово, удержать в уме абстрактную идею, саму по себе совершенно
немыслимую. Потому им приходилось думать и размышлять о словах, с которыми, как они
полагали, связаны абстрактные идеи и посредством которых подобные идеи можно
постичь, хотя это и нельзя сделать без их помощи. Однако в тех идеях, которые,
будучи лишены покрова, не выносят света, можно, конечно же, усомниться.
Другое обстоятельство, заставляющее нас считать, что слова и идеи разделить
труднее, чем это бывает на самом деле, есть мнение, будто всякое слово обозначает
идею. И не удивительно, что лю лишь напрасно себя мучают и наконец убеждаются в
чрезвычайной затруднительности этого предприятия, пытаясь ясно и отчетливо узреть
идеи, обозначенные теми словами, которые в действительности никаких идей не
обозначают.
JSsd^ßCjßfcjib
ч
ПРИЛОЖЕНИЯ
h
4
Эаь
Ж. Пюселль
Введение к
«Алкифрону»
Л
I. Обстоятельства создания «Алкифрона»
бстоятельства, в которых создавался «Алкифрон», небезразличны
для понимания его духа и смысла. Именно краху « Бермудского
проекта» и долгому пребыванию Беркли на о. Род-Айленд обязаны мы
этим произведением, самым обширным и, если не считать «Три
диалога...», самым тщательно отделанным из всех, написанных философом. По
предположению Фрейзера (поддержанному Раабом и Л юсом), во вводной части Диалога I
Беркли намекает на свою собственную неудачу. Род-Айленд является вероятным местом
бесед, которые Дион излагает в письменном виде для некоего друга, оставшегося в
Англии. Данная гипотеза подтверждается открывающими Диалоги II и V описаниями,
в которых компетентные комментаторы Б. Рэнд* и Ной Портер** с уверенностью
узнают пейзажи острова.
Собственно говоря, центральная идея книги восходит к 1713 г. Подорвав
фундамент атеистического материализма в «Трех диалогах», Беркли в 12 статьях для газеты
В. Rand, Berkeley's american sojourn. Cambridge, 1932.
Λ\ Porter, The twohundredth birthday of Bishop Berkeley, New York, 1885.
EdSXJ
|£^fc(F Ж.Пюселль ^Й^^Га
ски овладев формой диалога, Беркли намеревается использовать ее в прежних целях
апологии христианства, соединив на сей раз религиозно-моральную дискуссию с
изложением основных идей собственной философии. Мысль его за эти годы достигла
зрелости, он путешествовал, и его жизненный опыт обогатился. Во время
затворничества на Род-Айленде с ним было около 20 тыс. томов, он много читал, и обильные
следы этих чтений обнаруживаются в «Алкифроне».При этом он нисколько не
утратил свой юношеский пыл и природную насмешливость ума, которые давал себе
обещание обуздать еще в «Философских заметках»,* — теперь, однако, он ставит их
на службу методичному и тщательному анализу. И все-таки «Алкифрон», пусть даже
у его истоков стоит полемический замысел, не принимает чисто негативную форму;
он бы не заслуживал внимания философов, если бы не содержал в себе
конструктивный элемент. Бермудский проект поглотил около 10 лет жизни Беркли (1723-1732).
Первое упоминание о нем относится к 1723 г., когда философ открывает свой
замысел лорду Персивалю.. В 1725 г. Беркли обнародовал свой план в небольшой
брошюре, одно название которой представляет собой 'целую программу**. Охваченный
прозелитическим рвением, он воспевает свой проект в стихах.*** Интерес к этому
плану Беркли сумел внушить некоторым высокопоставленным особам и даже самой
королеве Каролине. Неожиданное наследство Ванессы приходится как нельзя кстати,
чтобы принять окончательное решение. Официально обещана денежная помощь, и
вот в сентябре 1728 г. Беркли вместе с молодой женой садится на корабль,
отплывающий в Америку. Печальный исход этой экспедиции известен. Беркли остановился
на Род-Айленде, острове, расположенном в непосредственной близости от
континента, чтобы там перезимовать и дождаться субсидий, — которым так и не суждено было
прийти. И лишь убедившись в этом с полной несомненностью, Беркли принимает
решение вернуться в Англию (1732г.). Именно в эти четыре года, прошедшие в
благоприятном Для работы уединении, идея «Алкифрона» созрела и воплотилась.
Между тем Беркли не оставался праздным. Обосновавшись поначалу в Ньюпорте, а
затем в собственном доме Уайтхолл в глубине острова, он принимал визиты Сэмюэля
Джонсона, своего американского ученика, посвящал себя апостольским трудам и
филантропии, проповедовал, читал и размышлял. Эти занятия, однако, не могли
вполне удовлетворить его жажду деятельности. И поскольку ему не дано было
сразиться с неверными вовне, он сражался с теми, кто был внутри: вольнодумцами,
такими как А. Коллинз, Толанд, Тиланд, Мандевиль; деистами, вроде Шефтсбери,
чьи недавние сочинения, обращенные против религии, тревожили и возмущали его
совесть христианина. «Рассуждение о свободомыслии» Коллинза, настоящий
манифест вольнодумства, появилось в 1713г., его же «Рассуждение об основаниях и
причинах христианской религии» — в 1724 г., «Философское исследование
человеческой свободы» — в 1717 г. В 1714 г. вышла «Басня о пчелах» Мандевиля, в
1711 г. — «Характеристики» Шефтсбери.
Таковы противники, с которыми поочередно имеет дело Беркли, рассматривая
один за другим различные аспекты свободомыслия и преследуя его во всех формах и
под любыми масками, ибо вольнодумец является нам последовательно в виде атеиста,
распутника, энтузиаста, насмешника, критика, фаталиста и наконец скептика, - про-
* P.C., 634.
** Fraser, I, 341.
*** Verses on the prospect of planting Arts m and Learning in America.
|§^l^(F~B»WHHe к «Алкифрону» ^^j^d
тивник переменчивый и скользкий, словно Протей, схватить которого чрезвычайно
трудно. Убедившись в своей неудаче в одной области, он не раздумывая переносит
спор на другую почву, а когда его припирают к стенке аргументами разума, он
начинает хитрить и изворачиваться, принимая тон непринужденной иронии, с презрением
отвергая споры нудных педантов. Благодаря трудам историков* нам известно, что
Беркли нисколько не преувеличивал степень распространения неверия. И если теперь,
по прошествии долгого времени, философское содержание деистических писаний
кажется нам скудным и незначительным, то с точки зрения набожных душ той эпохи
опасность была вполне реальной.
С другой стороны, Беркли опубликовал «Алкифрон» в разгар бурной
религиозной полемики. Вызывающие сочинения вольнодумцев требовали ответа, церковная
партия не оставалась праздной и отвечала ударом на удар. Дело религии уже обрело
своих защитников; некоторые из них, например, Уильям Кинг и Питер Браун
являлись современниками и даже соперниками Беркли. П. Браун занимал пост
ректора колледжа св. Троицы Дублинского духовного университета в то самое время,
когда Беркли находился там в качестве undergraduate и fellow. При дворе Каролины
Беркли сблизился с двумя самыми знаменитыми апологетами своей эпохи — Сэмюэ-
лем Кларком и Джозефом Батлером ( 4Апология» последнего должна была появиться
спустя четыре года после публикации «Алкифрона»). Речь, однако, не идет о
регулярной баталии между двумя лагерями, каждый из которых исповедовал бы
однородные воззрения. Не только авторы, причисляемые обычно к общему разряду
деистов, с трудом поддаются классификации, но даже сами апологеты не всегда были
между собою согласны: в У. Кинге и П. Брауне Беркли видит сомнительных
союзников и энергично спорит с некоторыми из их мнений. Наконец, на страницах «Алкиф-
рона» мы встречаем множество других имен: греческих и римских писателей,
неоплатоников Возрождения, гуманистов, философов, схоластиков, историков, экзегетов,
математиков и физиков. На заднем плане смутно вырисовываются доктрины,
упоминаемые лишь намеками. Каталог прочитанных Беркли книг еще не завершен,** но
даже из прямых ссылок и указаний «Алкифрона» ясно, что читал он необыкновенно
много. Беркли — тип христианского гуманиста. Эти три черты — многочисленность
и несходство противников, наличие сомнительных и ненадежных союзников,
разнообразие и обширность источников — объясняют внешние характеристики, а до
известной степени — содержание и композицию «Алкифрона». И прежде всего — его
необычайную величину: 341 страница в изд. Фрейзера (1901), разделенные на 7
диалогов, из которых самый длинный, шестой, занимает не менее 53 страниц. На
фоне лаконичности и изящного динамизма «Трех диалогов» все это оставляет
впечатление известной растянутости и многословия. Несмотря на сокращения в 3-м изд., в
повторениях нет недостатка и целое остается довольно массивным. И все же отсюда
не следует заключать об упадке интеллектуальной мощи Беркли: он попросту избрал
новую форму, накладывающую на него известные ограничения, как он это сделает
еще раз в «Аналитике» (жанр письма- опровержения, которое движется через
последовательные пункты и завершается, как в «Вопрошателе», серией вопросов), и еще
* Lechler, Geschichte des Deismus; Leslie Stephen, History of the English Thought in the 18-th.
Century; Mossner, Bishop Butler and the Age of Reason.
·· Aaron, A Catalogue of Berkeley's Library («Mind», 1932); Maheu, Le Catalogue de la Bibliothèque
des Berkeley ("Revue d'Histoire de la Philosophie, avril-juin 1929).
Kfâ&F Ж. Пюселль -^ШЬСЖ
один раз — в «Сейрисе» (размышление, постепенно восходящее от материального
мира к миру духовному). В «Алкифроне» же Беркли приходится иметь дело с
разными противниками, он желает обрисовать манеры и повадки каждого, вполне
усвоить их взгляды, чтобы тем легче было их опровергнуть. Он вынужден
приниматься за них поочередно и входить в подробности, а потому извилистость хода
мысли становится в данных условиях неизбежной. Писательский талант Беркли
достигает своей высшей точки, и некоторые даже увидели в «Алкифроне» один из
шедевров английской прозы.* Наряду с «Апологией» Батлера (хотя подобной
популярности он и не добился) «Алкифрон* считается одним из лучших творений
англиканской апологетики. Беркли прибегает здесь к разнообразным литературным
приемам: очаровательные пасторальные описания, энергичный обмен репликами,
напоминающими фехтовальные выпады, сатирические эпизоды, близкие к комедии
нравов, повествовательные фрагменты, родственные новелле, образцы красноречия,
представляющие собой настоящие проповеди, психологический анализ и
систематическое изложение следуют друг за другом, позволяя избежать монотонности. Но
несмотря на связные монологические фрагменты и блестящие пассажи, в целом
преобладает диалогическая форма. К подобному жанру Беркли уже обращался в
«Трех диалогах». Но тогда он обошелся двумя персонажами: Гиласом, защитником
материи, и Фи лону сом, поборником духа. На этот раз число главных героев
удвоилось: в борьбу вступают четыре персонажа, два вольнодумца и два защитника
религии. Безмолвный наблюдатель Дион (а это сам Беркли) нужен лишь затем, чтобы
передать их разговоры и при необходимости выступить в качестве арбитра. Этот
прием непрямого повествования, заимствованный у Платона, позволяет автору
вводить в текст описания и повествовательные переходы, «контролируя» таким образом
развитие спора с внешней по отношению к нему точки зрения. Вступившие в
столкновение пары образуют две группы игроков, последовательно сменяющих друг друга.
Они служат дополнением один для другого благодаря различию своих дарований и
интеллектуальных возможностей. С одной стороны перед нам Алкифрон — человек
зрелого возраста, разбогатевший благодаря наследству; с умом просвещенным,
однако испорченным софизмами вольнодумцев. Он путешествовал по Европе и хорошо
знаком с увеселениями городской жизни. Это человек пресыщенный и
разочарованный, сохранивший, однако, вкус к умственным занятиям и даже некоторый интерес к
метафизическим предметам. Порою он забывает о своей роли и поддается
очарованию интеллектуальных споров. Природная философская складка борется в нем с
усвоенными в известном обществе привычками интеллектуальной нечестности.
Беркли поостерегся изображать Алкифрона обращенным в новую веру в конце Диалога
VII: подобные крутые переломы для столь закоренелых особ невозможны. И все же
порою Алкифрон способен честно признать силу убедительных доводов.
Его партнер Лисикл, молодой человек из хорошей семьи, прошел обычный курс
обучения (к которому он теперь относится с нарочитым пренебрежением), а затем на
свою беду свел знакомство с кучкой вольнодумцев и окунулся в вихрь наслаждений.
Он обладает живым, но поверхностным умом и некоторым налетом образованности,
хотя всеми своими познаниями обязан клубным разговорам. В своем эффектном
выпаде в конце Диалога IV Лисикл обнаружит глубокую эрудицию, но, как окажется впос-
* Raab, Alciphron Einleitung, S. XVII; Noah Porter, The two-hundredth birthday of Bishop
Berkeley, pp. 48-49.
В^^Й^Введение к «Алкифрону» ^{)^В^Г31
ледствии, вся эта ученость — из вторых рук. Он сражается с юношеской пылкостью и
в ходе спора не останавливается ни перед чем. В общем, это человек весьма нестрогих
принципов и легкомысленного нрава, противник недобросовестный и вероломный,
убедить которого невозможно. И Лисикл, и Алкифрон люди светские, с гордостью
носящие имя «джентльменов».
В противоположном лагере мы встречаем Ефранора, сельского хозяина и
философа, который размышляет, предаваясь полевым работам. Одаренный самоучка, он
обладает известной начитанностью, однако плохо знает свет. Читал же он главным
образом древних писателей и духовных авторов. Университетской подготовки он, в
отличие от Критона, не получил, однако с успехом воспользовался своей врожденной
склонностью к размышлению и основательной логичностью своего ума. Ефранор
умело применяет сократическую иронию и не чужд искусству обращать доводы оппонента
против него самого. Однако хитроумно представленные и с виду правдоподобные
аргументы легко приводят Ефранора в замешательство. И тогда уже Критону, лучше
знакомому с современными доктринами и искушенному в тонкостях ученых диспутов,
приходится выручать Ефранора.
Критон, состоятельный землевладелец, живущий по соседству, старше своего
друга. Он также много читал; при этом, не пренебрегая древними, он отлично знаком
и с новейшими авторами. Именно он ловко парирует выпады Лисикла по поводу
теологов-агностиков, выручив таким образом Ефранора из затруднения (IV, 19). По
складу ума он менее склонен к метафизике; ему ближе вопросы исторические,
психологические и социальные. Поэтому всякий раз, когда в трех первых диалогах нужно
разоблачить вольнодумцев, сопоставить их разрушительные принципы с
традиционной мудростью (Д. III), Критон играет ведущую роль. Именно он утверждает
понятие нравственности в его истинной сущности, обращаясь к фундаментальным
принципам моральной проблемы (Д. III). Именно ему часто принадлежат окончательные
решения и формулировки. Именно он ведет главную партию в Диалоге V. И
напротив, всякий раз, когда дискуссия приобретает откровенно спекулятивный оборот,
когда речь заходит об эстетике (III, 8-9), метафизике (IV, 1-15), апологетике, не
связанной непосредственно с интерпретацией текстов (VI), или эпистемологии
(VII), Алкифрону возражает Ефранор. Ефранор говорит об идеях, Критон — о
людях. Но для Беркли они неотделимы друг от друга, ибо философ никогда не отрывал
философские умозрения от человеческого подтекста, от человеческих потребностей,
характеров и желаний. Именно поэтому он видит практический смысл в
опосредующей функции языка, в символах, в научных методах и приемах и даже в
догматических формулах. В этом переплетении вечных истин и вполне земных интересов и
заключается оригинальность философии Беркли вообще и «Алкифрона» — в
частности. Последний представляет из себя состоящую из разнообразных эпизодов
драму, части которой, однако, крепко связаны. В ней, разумеется, можно выделить
кульминационные моменты, где спор достигает наивысшего напряжения (Д. IV и
VII), однако было бы несправедливо, забраковав все остальное, усматривать в этих
пассажах фрагменты для хрестоматии. Рядом с небольшой группой протагонистов
присутствуют второстепенные персонажи, мелькает целая толпа людей, — ради них и
ставятся проблемы религии и морали. Следует помнить об этой зыбкой и
неустойчивой человеческой сложности — и тогда мы поймем, что общий стиль «Алкифрона* не
может обладать классической простотой «Трех диалогов», и что роли в нем должны
is^^f ж.пюс«лл> ^)^^га
распределяться иначе. Впрочем, четыре его главных героя менее схематичны, чем
Гилас и Фи лону с; скопированные с реальных лиц, они близки персонажам комедии,
их черты списаны с натуры. За кулисами мелькает целая галерея статистов:
закоренелые распутники, самонадеянные софисты, мнимые эрудиты, разглагольствующие
за чашкой чая в обществе светских дам, которые внимают тем более охотно, что их
теории служат искусным оправданием для самых низких страстей: Москон, Горгий,
Кимон, Трифон, Фрасенор, Демил (I, 12), Никандр (III, 2), Кратил (III, 13),
Диагор и Протагор (V, 3), Клеофон, Калликл и Телесилла (II, 4), Пифокл (V, 1),
Менекл и Лампрокл (III, 16), Демей (VII, 30). Можно ли за некоторыми из этих
условных имен усмотреть реальные прототипы? Это вполне достоверно лишь по
отношению к Кратилу, явно олицетворяющему Шефтсбери (V, 20-22; VII, 21), и
вероятно — для Диагора (Коллинз). В другом месте Беркли дает понять, что Лисикл
наделен некоторыми чертами автора « Философского исследования о смерти»
(Philosophical Dissertation upon Death), приписываемого А. Радикати.* «Алкифрон» таким
образом представляет из себя отчасти произведение с реальными прототипами.
Выступая против врага, скрывающегося под разными личинами, Беркли должен был не
только раздвоить роль свободомыслящего, но и наделить каждого персонажа
множественностью черт, пользуясь методом своеобразной «контаминации». На этот счет он
объясняется во Вступлении. Автора в данном случае подстерегает опасность впасть в
искусственность и неправдоподобие, в чем его не преминули упрекнуть. Н. Балади
находит известную непоследовательность в характере Лисикла,** еще раньше
подобное замечание сделал Джон Херви.*** Но разве эта противоречивость не объясняется
изворотливостью героя, меняющего, словно одежду, свои поверхностные, взятые
напрокат мнения?
Наконец, Беркли сочетает прямые и косвенные аллюзии с методом символического
переноса: каждый персонаж поочередно выражает одно из подлежащих критике
воззрений. Не отказывается Беркли и от откровенной пародии (ложный пафос Шефтсбери,
III, 6; ср. V, 20-22). Способ распространения этих доктрин, благоприятной почвой для
которых служила, как подчеркивает Беркли, стихия вольной беседы, не предполагал
методически выверенного опровержения. Учения эти принимались понаслышке, из
вторых рук, а затем приукрашивались и распространялись снисходительными учениками.
А потому наносить удар по учителям, поражая учеников, — прием вполне допустимый;
им и пользуется Беркли в некоторых диалогах (I, II, III, V). Таким образом, о доктрине
судят по ее следствиям, как о дереве — по плодам его. К тому же Лисикл, самодовольно
распространяясь на предмет циничного гедонизма (II), лишь облегчает задачу
оппоненту. Защитник религии сможет наносить удары в ключевых местах; преследуя
противника, он вынудит его сформулировать свою позицию кратко и ясно, сделав таким образом
возможным систематическое обсуждение. Впрочем, динамичный сократический диалог
встречается в «Алкифроне» довольно редко, лучшие его образцы — в Диалогах III, IV
и VII. Они в свою очередь готовят почву для более пространных теоретических пассажей
(VI, VII). Отталкиваясь, таким образом, от диалогической формы, Беркли постепенно
возвращается к форме трактата, соответствующей его первоначальному замыслу создать
продолжение I книги «Принципов».
* 4Новая теория зрения, объясненная и защищенная...», разд.5.
** La Pensée religieuse de Berkeley et l'unité de sa Philosophie, pp. 117-118.
*** Some Remarks on the Minute Philosopher, p. 24.
К^д^^Введенне « «Алкифрону» ^)^^ГЗ[
Символический перенос очевиден и в именах персонажей. Рааб (Einleitung, II я
Anmerkungen, 3; 4; 12; 14; 15) не прошел мимо этой интересной детали. Можно
ограничиться предположением, что эти чисто условные имена внушены именами
исторических греков: возможно, что к мысли об имени «Алкифрон» Беркли привело
знакомство с одноименным греческим писателем, современником Лукиана и автором
4Писем», в которых изображалось распущенное афинское общество. В Каталоге
библиотеки Беркли, опубликованном Maheu, под номером 849 мы находим название
Alciphroni Epistolae, Gr. Lat. a Bergelio, Lips. 1715, что и дает повод для этой
гипотезы. Предполагалось, далее, что Дион — это имя одного из друзей Платона, советника
сиракузских тиранов Дионисия I и Дионисия II, Критон — имя персонажа
платоновского диалога. Этимологическая интерпретация кажется более продуктивной.
Сознавая ее гипотетичность, Рааб предлагает следущие варианты: Алкифрон (Αλκιφρων) —
«сильный ум» (Stark-Geist), Лисикл — «знаменитый критик», Критон — «судья»,
Ефранор — «доброжелательный». С теми же оговорками мы рискнем предположить
следующее: Лисикл — «аналитик» (или «разложившийся», «распущенный»?),
Ефранор — «милый», «приятный», Критон — «проницательный» или «арбитр». При всей
своей проблематичности подобные толкования соответствуют, по крайней мере,
общему замыслу и во всяком случае оправдываются именами Гилас и Филонус,
недвусмысленными символами двух типичных направлений философии.
IL Полемика и апологетика
В творчестве Беркли можно выделить положительный вклад в разработку проблем
морали (Проповеди и часть «Алкифрона»), метафизики («Новая теория зрения»,
«Принципы», «Три диалога», «Алкифрон» IV и VII, «Теория зрения... защищенная и
объясненная...», «Сейрис») и эпистемологии («Филос. заметки», Arithmetica et
Miscellanea Mathematica, «Алкифрон» VII, «Аналитик»). Все остальное — полемика.
Реакция против свободомыслия, как оборонительная, так и наступательная,
прослеживается у Беркли довольно рано — еще в «Филос. заметках». Эта борьба приходится
на все периоды жизни: «Опыты» в «Гардиан» (1713); «Очерк о предотвращении
падения Великобритании» (1721); «Алкифрон» (1732); «Новая теория зрения...» (1733);
««Аналитик» <1734); «Защита свободомыслия в математике» (1735); «Речь,
обращенная к магистратам и людям, облеченным властью» (1736). «Алкифрон» же
представляет собою центральный ее эпизод. Мишени и основания атак Беркли
принципиально не менялись, и все же сопоставление «Алкифрона» с другими полемическими
работами часто помогает лучше раскрыть их смысл. Это относится к «Опытам» из
«Гардиан», представляющим пока еще в разрозненном виде материал для будущих
моральных диалогов (I, И, III, V, VI). Уже здесь блестяще проявились литературные
способности Беркли.
Во всех этих сочинениях Беркли ведет борьбу против вольнодумства в целом.
Более же всего достается Мандевилю, Шефтсбери, Толанду и Коллинзу. Их имена или
названия их книг несколько раз упоминаются в «Опытах». В первом «Письме к Пер-
сивалю» от 26 января 1713 г. Беркли атакует Коллинза. Знакомство с «Рассуждением
о свободомыслии», «Басней о пчелах» и «Характеристиками» вызывает у него
негодование и настоящий шок. Его тревожит угроза, которую представляют они для
K^&F Ж.Пюселль ~^Й^ГД
общественной нравственности, а косвенным образом — и для благополучия и
процветания Великобритании. Сознательное нечестие дублинского братства
«Богохульников» (Blasters) повергает его в ужас. Иногда он их жалеет, иногда высмеивает, а
порой призывает на их головы ненависть и отвращение английского народа. Столь
мягкий и терпимый к католикам и диссидентам, Беркли не колеблясь требует для
вольнодумцев уголовных наказаний. Почему богохульство, вопрошает он, не влечет за
собой ту же кару, что и государственная измена?* Разве те, для кого нет ничего
священного, станут почитать короля?** Можно ли расчитывать, что эпикурейцы,
жулики, люди бесчестные и вероломные будут патриотами?*** Но эти упреки и обвинения
пока еще не затрагивают сути вопроса; их внушает Беркли его совесть христианина и
строгая, принципиальная лояльность, выразившаяся в «Проповеди о пассивном
повиновении». Те, кто открыто проповедует порок, по крайней мере смело высказывают
свои мнения, и потому подобных учителей безнравственности можно подвергнуть
публичному порицанию. Совершенно иного рода опасность представляют те, кто
принимает лицемерную личину защитников святой англиканской веры против папизма - с
тайным намерением подорвать устои этой веры (так обстоит дело с Тиндалом).****
Под предлогом защиты естественной религии от заблуждений религии откровения они
покушаются на религию вообще, и если не проявить бдительность, то естественную
религию ждет судьба религии откровенной.
На практике «естественная религия» деистов обращается в ничто, ибо вступив на
этот путь, уже невозможно остановиться: из латитудинариев мы превращаемся в
деистов, а из деистов — в атеистов (Алк. I, 8). Под всеми красивыми ярлыками
«пантеизма», «материализма», «фатализма» скрывается в сущности одно — атеизм
(Нов. теор. зрения, объясн. и защищ., 6). Фатализм разрушает всякую религию и
мораль (Алк. VII). Самый серьезный упрек, который можно бросить воинствующим
атеистам, заключается в том, что они легкомысленно и бездумно лишают
человечество самых прекрасных надежд и самых утешительных верований, имеющих
величайшую ценность. Под предлогом очищения морали они уничтожают ее жизненные
корни; под предлогом защиты добродетели во имя самой добродетели они
обрушиваются на представление о будущей жизни и божественных наказаниях и таким
образом сводят на нет самые мощные стимулы к нравственному действию (Алк, I, 29;
Опыты из «Гардиан», II, V, VI, XI, XIII). Это обвинение прямо метит в Шефтсбери
и потому «Опыт» III является дополнением к Диалогу III «Алкифрона». Случай с
Шефтсбери усугубляется еще и нечестивым и непристойным использованием
насмешки («Опыт» VI, Алк. V) Его ложный пафос, вычурные, темные аллегории имеют
мнимую глубину. Но более всего прочего делают вольнодумца невыносимым его
притязания на широту ума и обвинения в ограниченности, которые он без конца
бросает христианам, — и это он, судящий о Вселенной соразмерно своей собственной
малости и убожеству, словно муха, которая, усевшись на одной из колонн храма св.
Павла, стала бы оценивать пропорции и план здания («Гардиан», IX). Изучение
астрономии поднимает наш ум к созерцанию лестницы физического мира, однако
* "Очерк о предотвращении..." (Фрейзер, IV, 332.).
** "Речь, обращенная к магистратам..." там же, 483.
*** "Максимы о патриотизме", там же, 561—563.
**** "Защита прав христианской церкви..." (1706). Leslie Stephen, op. cit., vol. I, pp. 78-79.
Ilk геЭ^У Введение к «Алкифрону» ^%)^В^( J&\
христианство открывает перед человеческой душой еще более широкие виды. Зато
вольнодумец обнаруживает свою умственную близорукость (short-sightedness of
mind). Эта болезнь свойственна не одним только вольнодумцам, но именно на них
производит она самое губительное действие. Заблуждение, состоящее в том, что
средства принимаются за цель, является общим для вольнодумца, ученого педанта и
скупца. Критик-педант сводит познание к изучению древних языков; он
ограничивается филологическими комментариями, совершенно не заботясь о том, чтобы извлечь
заключенные в тексте сокровища мудрости и красоты. Скупец ревниво запирает свое
золото в сундуки, не желая его использовать ради дозволенных радостей жизни. Оба
принимают знаки за представляемую ими ценность, ибо слова, подобно золотым
монетам, всего лишь знаки, — здесь перед нам намечается тема Диалога VII. Что до
вольнодумца, то он одинаково боготворит свободу и истину, между тем и та, и другая
ценны лишь сообразно даруемым ими благам. Ведь никто не станет стремиться к
печальным истинам или к свободе, обрекающей страшным бедствиям или
непоправимым ошибкам. В общем, стремясь к истине и свободе, они обретают лишь рабство и
заблуждение. Они хотят счастья, но несут горе и себе, и своим ближним («Гардиан»
X, XI). Ибо нет ничего печальнее состояния распутника-вольнодумца, и ничего более
мрачного и унылого, чем мысли так называемого «любителя удовольствий»
(«Гардиан», III; Ал к. II, 20 и 24). Беркли таким образом ничего не изменил в своей критике
свободомыслия в моральном плане. Мы не станем более задерживаться на этой pars
destruens, ведь «Алкифрон» — это отнюдь не серия памфлетов. Он содержит
моральное учение, доказательство бытия Божия, эпистемологию и широкие контуры
религиозной философии. Еще в «Философских заметках» Беркли набросал план Трактата о
Бытии, или о Духе, который так и не был написан. «Введение» и I Книга
«Принципов» отчасти реализуют этот замысел. Рукопись второй части была утеряна, а третья
так никогда и не вышла в свет. Есть веские основания полагать, что «Алкифрон» и
«Аналитик» заключают в себе их основное содержание: первый соответствует 2-книге
(мораль и религия), а второй (намеченный уже в Диалоге VII «Алкифрона») — 3-й
книге (критический анализ наук). Это предположение выдвинул Н. Балади в своей
глубокой работе «Религиозные идеи Беркли и единство его философии».* В
дальнейшем мы попытаемся подтвердить эту гипотезу, прослеживая параллели между «Ал-
кифроном» и другими сочинениями, и увидим, каким образом отразились в этой
книге все основные темы философии Беркли.
III. Общая композиция «Алкифрона»
В тщательно выверенной композиции «Алкифрона» нет ничего случайного.
Переходы, по видимости самые неожиданные, вполне продуманы, и за вольной беседой кроется
живая логика. Даже описательные отступления не разбавляют текст «водой»: они не
только снимают напряжение, но и приводят читателя в соответствующее расположение
духа. Реплики, возражения дают новое направление мысли, которая перемещается от
проблемы к проблеме. Мы уже отметили, какой смысл имеет выбор ведущего главную
партию в каждом диалоге. При новых переизданиях Беркли иногда передавал отдель-
* Предисловие, pp. VII-VIII, гл. V, с. 98 (Кн. II).
ШШ&
Ж. Пюселль
ные реплики от одного персонажа к другому. Как и у Платона вначале собеседники
приходят к согласию относительно предмета доказательства, устанавливают его правила и
условия. Именно это (наряду с психологическим портретом вольнодумца) служит темой
Диалога I. Время от времени Ефранор и Критон подытоживают пройденное и
напоминают Алкифрону сделанные им уступки, расставляя таким образом вехи на пути
движения мысли. В начале Диалога VII Алкифрон снова ставит под вопрос принципы
доказательства. Перед тем как окончательно расстаться, Критон дает резюме разрешенных
проблем и классификацию употребляемых его оппонентами софизмов. Попытаемся
выделить основные элементы структуры « Алкифрона» и уловить общий ход мысли,
прежде чем прослеживать в подробностях развитие основных тем этого сочинения.
Общая композиция книги обусловлена различием между религией естественной и
религией откровения. Анализ первой завершается вместе с Диалогом IV; исследование
второй занимает остальные три диалога. Это членение характерно не только для Беркли,
мы находим его в «Апологии» Батлера, где оно выражено в самом заглавии (Apology of
Religion natural and revealed) и в четком отличии двух частей. В капитальной работе
Мосснера, * которая должна служить руководством для всех, кто изучает англиканскую
апологетику 18 века, указывается, что это различение было в ту эпоху общепринятым.
Беркли использует его сообразно избранной им тематике. Впрочем, подобный план
напрашивается сам собою: прежде чем рассуждать о ценности христианства, нужно прийти
к согласию относительно бытия Бога, — причем такого Бога, который допускает и даже
требует существования культа, духовенства и морали. Перед нами движение a minimo
ad maximum, процесс своеобразной «реконкисты», прямо противоположный ходу
мысли атеистов* которые подрывают сначала основы религии откровения, а затем и
естественной религии. Нарастание диалектического напряжения происходит в «Алкифроне»
дважды: от Диалога I к Диалогу IV, от Диалога V к Диалогу VII. Диалог V — разрядка;
это, скорее, продолжение трех первых диалогов. Первая кульминация « Алкифрона» -
доказательство существования Бога и дискуссия о божественных атрибутах; вторая -
проблема отношения разума и веры, а также спор о человеческой свободе и об
основаниях вероятности. Две высшие точки приходятся на Диалоги IV и VII, и таким образом
важнейшие фрагменты, посвященные теории языка (теория естественных знаков, Д IV,
и теория искусственных знаков, ДУ II) располагаются симметрично друг другу. Финал
Диалога IV является диалектическим моментом исключительной важности, который
служит связующим звеном между двумя частями « Алкифрона» и обозначает переход от
религии естественной к религии откровения.
В эту общую рамку включены сходные по тематике дискуссии, образующие
отдельные эпизоды; Распределенные на семь дней (соответственно недельному пребыванию
гостей в доме Критона) и разделенные двумя паузами, эти обсуждения поочередно
касаются пунктов, намеченных вечером предыдущего дня. Перед нами своеобразная
научная 4конференция» со своей программой исследований, развивающаяся на
светском и одновременно на пасторальном фоне. Благодаря безупречному воспитанию
участников, спокойствию и терпимости Ефранора и законам гостеприимства, строго
соблюдаемых Критоном, спор ведется в атмосфере учтивости. Но если бы собеседники
дали волю страстям, тон разговора мгновенно бы испортился. В последние моменты
перед расставанием дело едва не доходит до ссоры. Фанатизм вольнодумцев уже про-
* Bishop Butler and the Age of Reason, гл. III.
KXEX2
llfcb y^&èffi Введение к «Алкифрону» ^)^В^( ^fl
рывался в Диалоге V и в конце Диалога VI. В Диалоге VII скептицизм сбрасывает
маску, Критон приходит в возбуждение, повышает голос и больше не скрывает своего
гнева и презрения (VII, 24-28). Расставание позволяет избежать взрыва. Но несмотря
на эти вспышки, именно последний диалог содержит самые пространные и
существенные теоретические рассуждения.
Анализируя полемическую сторону «Алкифрона», мы попытаемся выделить
разнообразные повороты и прояснить изменения психологической атмосферы,
чрезвычайно важные для такого философа, как Беркли, который, по его собственным
словам («Предисловие»), намерен описывать переменчивые состояния духа и
разоблачать неявные тенденции, а не опровергать систематически сформулированные
доктрины. Анализируя положительное содержание «Алкифрона», мы проследим ход и
связь важнейших доказательств, строгость и безупречность которых может быть
скрыта от читателя драматическими интермедиями. Последовательность диалогов не
подчинена простому линейному развитию; скорее, «Алкифрон» является
органическим целым, состоящим из взаимодополняющих частей, распределение и поочередное
появление которых на первом плане подчинены в большей степени «логике сердца»,
а не логической дедукции. Но когда речь заходит о важной проблеме, стиль и темп
заметно меняются, место коротких реплик, литературных отступлений или
сатирических зарисовок занимают связные рассуждения, где на первый план выходят
логические доказательства или самые настоящие фрагменты проповедей. В общем можно
сказать, что догматический тон, почти отсутствующий вначале, все более усиливается
по мере приближения к финалу.
IV· Комментарии к отдельным диалогам
Диалог I
Диалог I не формулирует с определенностью большую посылку того силлогизма,
меньшую посылку которого образуют диалоги И, III и V. Они покажут, что на самом
деле пороки частных лиц не являются благом для общества (II); что для морали
недостаточно чувства прекрасного и очарования добродетели, что система христианских
догматов представляет из себя гармонию еще более прекрасную (III); и что
христианство оказало положительное влияние на цивилизацию (V).
Весь этот диалог, стоящий под знаком культуры, — в двойном смысле: обработки
земли и развития ума — незаметно подводит нас к размышлению о природе. Он
предвосхищает истолкование натуралистических положений в пользу естественной
религии, которая отнюдь не сводится к отрицательным тезисам деистов, но служит
фундаментом религии откровения. Диалог четко делится на две части:
A) Вводная, преимущественно сатирическая (1-13).
B) Собственно философская (14-16), где Ефранор устанавливает предпосылки
для своих будущих доказательств. Таким образом закладываются основы
последующих диалогов и намечаются важнейшие темы: тема роста и развития учреждений и в
частности церкви, предвосхищающая обсуждение притчи о горчичном зерне (VI, 29);
тема естественного света; чрезвычайно важная тема языка; тема благотворности
к^ййг ж.пюс«лл> ^^i^ra
моральных истин, влекущая за собою проблематику религиозного прагматизма; и
наконец, тема тождества природы и разума, В последнем случае Беркли выступает
против теорий, противопоставляющих разум и природу. Не исключено, что через
деистов Беркли метит в конечном счете в Локка, для которого деятельность разума,
внешняя природе, состоит в создании надстраивающегося над нею искусственного
мира отношений. Локк не исповедовал разрушительных учений, и Критон сможет
сослаться на него (а также на Ньютона, Р.Бойля и Бэкона) как на светского ученого, не
отказавшегося от веры (VI, 22). Тем не менее Локк склонялся к деизму. Коллинз был
его другом, а Толанд — учеником. Порицая атеизм, Локк при этом предоставлял ему
грозное оружие. «Разумность христианства» Локка (1695) и «Христианство без тайн»
Толанда (1696) выходят в свет с интервалом в один год. В Диалоге VII изложенная в
«Опыте» Локка теория согласия будет подвергнута резкой критике как препятствие
для веры людей образованных.
И все же самое главное в Диалоге I — это, с одной стороны, аналогия человека и
природы, подготавливающая тему аналогии природы и Бога (IV, вторая часть; VI,
31) и опирающаяся на телеологическую аргументацию, с которой мы не раз
встретимся в дальнейшем (III, 10-11; IV, 5; VI, 31); ас другой — темы естественного
порядка вещей и языка, представленные сначала по отдельности, а затем — в
единстве (IV, первая часть). За аргументами, извлекаемыми из различия языков и нравов,
мы улавливаем стремление к универсальному языку. Пока же Ефранор
ограничивается доказательством того, что язык может быть естественным при всем своем
разнообразии. И прежде чем вернуться к проблеме множественности языков (VI),
Ефранор демонстрирует, что этот универсальный язык существует. Речь идет о языке
зрения (IV, первая часть). Это следует иметь в виду для правильного понимания
дальнейшего.
Диалог II
Данный диалог, наиболее интересный с литературной точки зрения, сатиричен от
начала до конца. Портреты героев шаржированы, но выполнены с вдохновенной
насмешливостью; кажется, что читаешь Лабрюйера.
Весь диалог со своими многочисленными анекдотами имеет, несомненно,
документальную ценность. В нем мы встречаем Беркли-психолога и моралиста, озабоченного
проблемами социальными, политическими и экономическими; Беркли-метафизика
здесь нет, однако в диалоге есть важные идеи, звучащие порою весьма современно.
Философ рассматривает моральную проблему с двух точек зрения - коллективной и
индивидуальной.
1) С первой точки зрения порок есть бедствие для общества. Беркли прилагает
все усилия для того, чтобы нарисовать мрачную картину общества без Бога и закона,
где царит порок, официально признанный и бесстыдно восхваляемый. Он
подчеркивает то, что отличает попросту терпимое положение вещей от системы сознательно и
обдуманно установленной и к тому же поддерживаемой интеллектуалами. Он ставит
актуальную для нас проблему ответственности писателя. В наше время некоторые
склонны думать,* что намерения Мандевиля не были такими уж черными, как это
полагал Беркли. «Басня о пчелах» — это двусмысленная (по желанию автора,
Е®С2
18fcb )^^(У Введение к «Алкифрону» ^)^5од J^j
бесспорно) притча. Эта двусмысленность давно привлекала внимание комментаторов,
ведь уже Хатчесон различал 5 возможных толкований злополучной формулы
«Пороки частных лиц — блага для общества».** Не исключено, что Беркли исказил ее
смысл (в чем его обвиняет Мандевиль в «Письме к Диону») и дал откровенно
тенденциозную интерпретацию. Оправданием для него может послужить
двусмысленность текста, и потом Беркли, вероятно, лишь воспроизвел то понимание
«Басни», которое было характерным для большинства современников (и, разумеется, для
самих вольнодумцев).
2) С точки зрения индивидуальной важнейшей темой является жалкое положение
«любителя удовольствий». Большинство аргументов заимствовано у Платона, однако
пассаж о «развлечениях» весьма примечателен. Возможно, он навеян Паскалем.
«Мысли» фигурируют в опубликованном Maheu Каталоге, но по указанным этим
автором причинам ничего определенного отсюда заключить нельзя. В любом случае
тонкий анализ духовного склада англичан принадлежит самому Беркли. Что же
касается дискуссии о количественной и качественной оценке удовольствий, то она
уже содержит в зародыше все споры, вызванные утилитаризмом 19 века. Здесь
отмечена не только трудность получения объективного критерия для оценки
удовольствий, но также настойчиво указывается на противоположность двух принципов
утилитаризма: «моего собственного счастья» и «счастья наибольшего числа людей».
Этот пассаж поднимает весьма спорный вопрос о «гедонизме» или «утилитаризме»
Беркли, вопрос, не решенный и поныне. Не имея возможности заняться им в данном
месте, мы отсылаем читателя к содержательным работам Джонстона*** и Гедениу-
са.**** Как бы то ни было, основной замысел диалога сомнений не вызывает: речь
идет о том, чтобы подвергнуть анализу тезис Мандевиля с точки зрения его
практических следствий. Диалог II является в этом отношении частью общей линии
аргументации, которая завершается в Диалогах III и V. Правда, между Диалогами II и
III с одной стороны и Диалогом V с другой существует несходство: в одном случае
перед нами следствия неверия, в другом - следствия религии; зло, причиняемое
заблуждением, и благие плоды истины. Но это два взаимодополняющих аспекта.
Важнее здесь различие между рассуждениями, предшествующими Диалогу IV, и
теми, которые за ним следуют. В самом деле, косвенные доказательства с точки
зрения пользы не предвосхищают решение вопроса об истине, который подлежит
прямому доказательству. Поэтому выводы Диалогов I и II, какова бы ни была их
значимость, остаются недостаточными до завершения Диалога IV. Таким образом,
ключевыми моментами следует считать те два пассажа (I, 16; II, 25), где истина
противопоставляется пользе. В первом случае оправдывается аргументация с точки
зрения последствий, основанная на представлении о целесообразности учреждений,
созданных во благо человеку; второй фрагмент, опирающийся на тот же метод,
подчеркивает его прагматический смысл, — и однако смысл неполный и
предварительный. В то же время он намечает тему свободы, которая подвергнется более
глубокому анализу в Диалоге VII.
* Е. Brêhier, Histoire de la Philosophie, t. II, fas. 2. p. 331; Leslie Stephen, vol. II, eh. IX.
** Фрейзер, II.
*** The development of Berkeley's Philosophy.
*·** Sensationalism and Theology in Berkelev's Philosophy.
Диалог Ш
Весь этот диалог есть поединок с Шефтсбери (которому в данном отношении
следует Хатчесон). Дискуссия разворачивается в двух планах: 1) Беркли критикует учение
о чистой добродетели за то, что оно не обладает практической действенностью и
лишает людей самых мощных стимулов нравственности и самых утешительных надежд.
2) Принимая аналогию между моральным чувством и чувством эстетическим, он
изменяет ее смысл, интерпретируя ее с точки зрения не инстинкта, но разума.
Альтруистические чувства Беркли рассматривает на фоне оптимистического провиденциального
рационализма. В этих двух пунктах * Опыты» из «Гардиан» существенно разъясняют
Диалог III. Рассмотрим их поочередно.
1) Предположив искренность своего оппонента (ср. III, 13; «Гардиан» VI), Беркли
критикует его доктрину за то, что она является рафинированной моралью аристократа
и эстета, который, располагая богатством и досугом, безучастен к судьбе обычных
людей. Если же они не способны угнаться за ним в его лирических порывах и
восторженном культе добродетели, то он бросает их на произвол судьбы, иначе говоря -
отдает на волю собственным страстям. В этой позиции есть нечто возвышенное, но
сквозь оптимистическую ее наружность сквозит какое-то отчаяние. И все же человека
нужно принимать таким, каким он есть на самом деле. Большинство людей
руководится отнюдь не чистыми идеями. Следует думать и о подобных людях и не отнимать
у них личных мотивов страха и надежды. Вера в будущую жизнь есть столь
драгоценное благо, что те, кто лишает человека подобной веры, совершают страшное
преступление, какими бы ни были их первоначальные намерения, — в особенности если они
поднимают на смех эти почтенные верования с помощью своей холодной иронии
(ср. VI, 29; «Гардиан» VI).
Впрочем, вера в будущую жизнь имеет на своей стороне серьезные аргументы. Ее
разделял Платон (Беркли приводит отрывок о загробных наказаниях из «Горгия»),
к тому же она основывается на внешней и внутренней аналогии:
а) Аналогия мира физического и мира морального показывает, что подобная вера
опирается на разум. Переход из этой жизни в другую, непостижимый для атеистов,
напоминает то, что могло бы случиться с человеком слепым и глухим, который
возвратил бы себе слух и зрение, но в то же мгновение утратил три низших чувства
(обоняние, осязание и вкус). Он потерял бы всякую связь с привычным миром, но
возродился бы ради нового, несравненно более прекрасного («Гардиан» II).
б) Погружаясь мысленно в себя, я нахожу несовершенный аналог божественного
разума, моего «предвечного архетипа». Душа — образ Творца, а потому бессмертие
души не только отвечает нашим врожденным стремлениям, но доказывается разумом
(ср. «Принципы», 141) и откровением («Гардиан», XIII).
Позиция Беркли в морали способна вызвать разочарование. Современный читатель
Канта непременно обнаружит в «Исследовании добродетели» Шефтсбери ясное
предвосхищение кантовского учения об автономии практического разума, причем в самых
глубоких его аспектах. Читатель может прийти к выводу, что это очищение мотивов
соответствует в известной мере самой же христианской морали в самых строгих и
требовательных ее аспектах. Именно таков смысл кантовского пиетизма. (Кант читал
Шефтсбери и интерпретировал его в духе рационализированного христианства. )
Ijfcb №WiW Введение к «Алкифрону» ^)^j§y{ J&\
Беркли же судил об этом иначе: он резко отвергал подобную доктрину,
родственную невыносимому для него квиетизму (разд. 14). Но его точку зрения нужно понять
правильно. В добродетели по Шефтсбери он видит лишь абстрактный идол и потому
опасается за обыкновенного человека, предоставленного самому себе и лишенного
осязаемых побудительных мотивов. Последние, впрочем, отнюдь не предполагают с
неизбежностью рабскую религию: ведь чаяние вечного блаженства есть некий
задаток, великодушно предоставленный нам Богом (ср. «Гардиан» XIII). Как замечает
Фрейзер,* Беркли не хочет ни корыстного расчета, ни одержимости вечным
проклятием. Таким образом, в представлении о загробных муках Беркли видит не
мучительно-невыносимую угрозу, но милосердную помощь в искушении. Именно на этом
основании и в этом смысле божья кара является частью «царства благодати» и
«божественного миропорядка» (ср. VI, 17 и 31).
2) Беркли не оспаривает существования альтруистических склонностей и стихийной
любви к добродетели. Но он не хочет, чтобы мы сверх меры доверялись этой
спонтанности и стихийности. Он отвергает непосредственность морального чувства в
истолковании Шефтсбери и Хатчесона** и разлагает его на рациональные составные части.
Аналогию с эстетическим чувством Беркли принимает, но интерпретирует ее по-своему.
Всякая иррациональная интерпретация говорит в пользу слепой и неразумной
Вселенной. К тому же Шефтсбери совершенно напрасно упрекает христианство за то, что оно
будто бы не осознало ценности спонтанного альтруизма и не предписало дружбу особой
заповедью: ведь евангельский закон любви подразумевает и это чувство. А значит,
о Шефтсбери можно сказать, что за деревьями он не видит леса («Гардиан» XIV).
Не следует задерживаться более на полемической стороне этого диалога. Он
заключает в себе не только изложениепрагматической эстетики (разл. 8-9) (составляющей
параллель религиозному прагматизму Диалога VII), но и самым энергичным и
торжественным образом утверждает христианский метафизический оптимизм (разд. 9-
11), преодолевающий своего соперника — стоический оптимизм Шефтсбери.
Диалог IV
Короткий пассаж в одном из вводных разделов (3) заключает в себе набросок
и ядро Диалогов IV и VI: с одной стороны, идеи «зрения» и «понимания» сольются в
понятии «зрительного языка», с другой стороны, доказательство на основании
свидетельства станет основой аргументации в Диалоге VI, и таким образом косвенное
доказательство, апеллирующее к Богу воплощенному, дополнит доказательство прямое,
относящееся к Богу трансцендентному.
В Диалоге IV следует выделить две главные части: первая (А) содержит
доказательства существования Бога (4-15), вторая (В) посвящена божественным атрибутам
и аналогическому познанию (16-25).
А. Доказательство существования Бога.
•Ed. 1871, II, р. 132, note 75.
** Inquiry into the origin of ideas of Beauty and Virtue (1725); Illustrations upon the Moral sense
(1728).
EcDa
Оно осуществляется в два приема, опираясь на 1 ) логическое заключение от
видимого следствия к невидимой причине (4-6); 2) идею универсального зрительного
языка (7-15). Эту постепенность, обычно оставляемую без внимания, следует
подчеркнуть особо. Вначале Беркли дает доказательство в традиционной популярной форме,
не предполагающей какого-либо знакомства с его собственной философией, затем он
преобразует прежние аргументы в оригинальное доказательство, являющееся прямым
продолжением * Опыта новой теории зрения».
Начиная с разд. 7 мы вступаем в центр диалога; от заключений, основанных на
каузальности, переходим к универсальному языку. Постепенно разворачивается тема
знаков. Алкифрон отверг всякие апелляции к «внутренней речи» и ссылки на
сомнительные мистические озарения. Он требует «внешних чувственных знаков». Именно
этого и ожидал Ефранор, который возвращается к аргументации «Опыта новой теории
зрения», теперь уже в более сжатой, освобожденной от специального научного
аппарата форме. Ее он уже использовал в «Трех диалогах», где она явилась одним из
элементов в обосновании имматериализма. Здесь же ее цель не столь широка, но не менее
значительна: нужно продемонстрировать, что между зрительными ощущениями и
данными прочих чувств нет ни подобия, ни необходимой связи. Эта мысль, образующая
лейтмотив «Опыта новой теории зрения», в последний раз появится в «Теории
зрения... защищенной и объясненной», где доказательство будет осуществляться
дедуктивным способом исходя из идеи Естественного Языка (38 и далее).
В. Божественные атрибуты и познание по аналогии.
Уступки, сделанные Алкифроном, завели его дальше, чем он рассчитывал. Ли-
сикл заново формулирует предмет спора и вновь ставит все под вопрос.
Доказательство бытия Божия не имеет особого смысла, если не известно, о каком боге идет речь.
В конце концов даже эпикурейцы признавали богов, Гоббс допускал телесного бога, а
Спиноза — бога-вселенную. Против таких богов деисты не имеют ничего против, им
не по нутру лишь представление о личном Боге, надзирающем за человеческими
поступками, перед которым придется давать отчет за свою жизнь. В других же
случаях понятие Бога не влечет за собою никаких последствий и ни к чему не
обязывает. Выясняется, далее, что деистов вполне устраивают даже формулировки
некоторых отцов церкви и схоластиков.
Здесь возникает опасность того, что дискуссия обернется в пользу свободомыслия.
Дерзкий выпад, смешивающий Бога христиан с Богом деистов, вынуждает Ефранора
и Критона полностью изменить тактику, ибо по отношению к божественной сущности
доказательство, опирающееся на знаки, ничем не может им помочь. Последний удар
Лисикла ужасен: речь идет о том, чтобы зачислить в ряды деистов теологов, склонных
к агностицизму. Беркли не преуменьшает сложность ситуации. Вся эрудиция Критона
окажется необходимой для того, чтобы вывести из затруднения Ефранора, подобно
тому как Алкифрона выручил Лисикл со своей полученной из вторых рук ученостью.
Поэтому две следующие одна за другой речи Лисикла (17-18) и Критона (19-21)
превращаются в симметричные диссертации, массивные и основательные. Ответ
Критона — тщательный анализ проблемы и опровержение, построенное по всем правилам
логики.
Диалог IV играет важную роль в «Алкифроне» и в творчестве Беркли в целом.
Понятие божественного языка, ядро диалога, — одна из центральных идей философа. Она
развертывается через несколько последовательных, тонко продуманных этапов, связан-
ных умелыми переходами, и лишь затем становится предметом лирических восхвалений
и восторгов. Короткие обмены репликами в первой части диалога (А)
уравновешиваются пространными и глубокомысленными рассуждениями во второй (В). Эти части
соответствуют двум важным теоретическим позициям, различным, но взаимодополняющим:
в первой преобладает, если можно так выразиться, точка
зреннятворческогомогущества, во второй — божественного разума и мудрости. Перед нами два традиционных
аспекта христианской теологии: могущество nlogoV, связанные ндеейсвидетелъства,
намеченной уже в начале диалога. Бог явлен в видимой природе, ибо все вещи суть знаки
Его творческой силы и предусмотрительности (А). Кроме того Он являет себя в деяниях
человеческой жизни, в мире моральном (В). Идея языка связывает весь Диалог IV в
единое целое; в другой форме она появится в Диалоге VII. Единство представится еще
более глубоким, если принять в расчет, что доказательство бытия Бога, основанное на
каузальном заключении и целесообразности, каким оно дано в начале диалога (А), уже
опирается на аналогическое отношение: Бог есть для видимого мира то, чем душа
является для тела. Исследуем части А и В поочередно.
А) Доказательство, опирающееся на зрительный язык, не сразу обнаруживает свою
оригинальность. Ему предшествует более популярное изложение, представляющее
собой обновленный вариант классического аргумента от целесообразности. Это
доказательство претерпело изменения, заключающиеся в том, что существующий во
Вселенной порядок представлен с двух сторон: 1) Как упорядоченность движений,
неизбежно внушающая нам понятие об отношении движущегося к движущей силе,
аналогичном отношению тела к душе. Проблема активности накладывается на проблему языка,
ибо мы приходим к ней через заключение от видимого следствия к незримой причине.
2) Как произвольно устанавливаемая связь восприятий. Здесь тема восприятий
выходит на первый план; переход обозначен интермедией (разд. 6), разделяющей два
рассуждения. В первом случае порядок представлен как проявление творческой воли
божества в природе, во втором как выражение упорядочивающего разума, явленное
человеку.
Отметим, что за каждым из этих рассуждений стоит одна из прежних работ
философа: фоном для темы активизма является De Motu, для темы языка — «Опыт новой
теории зрения».
Интересно сопоставить (на этот раз в целом) доказательства бытия Бога в «Алкиф-
роне» с соответствующим доказательством из «Трех диалогов» (Диалог второй).
Последнее основывается на изложенном в «Первом диалоге» имматериализме.
Поскольку идеи инертны и могут существовать лишь в духе, поскольку, далее, в мире нет
ничего, кроме духов и идей (иначе говоря — личностей и модификаций их сознания),
то если я прекращаю воспринимать мир, необходимо,чтобы он воспринимался
каким-то другим духом; если же мир уже (или еще) не воспринимается людьми,
необходимо, чтобы составляющие его идеи находились в единственном, высшем Духе,
коим является Бог. Это доказательство, имеющее глубокие корни в мышлении Беркли
(ср. Философ, заметки, 4; 838; Принципы, 146), будучи представлено в данной
форме, неотделимо от имматериализма, поскольку касается самого существования вещей,
а не только их упорядоченности. В «Алкифроне» же имматериализм едва выходит на
поверхность (разд. 9), однако с ясностью и определенностью не обнаруживается.
Отказываясь от опирающегося на имматериализм доказательства, Беркли лишал себя
серьезного преимущества. Однако имматериализм натолкнулся на непонимание; нуж-
KtëfàtW Ж.Пюселль ^)^ГД
но было приспособиться к другому читателю. А потому положения * Опыта новой
теории зрения», общая основа обоих доказательств, используются, однако,
по-разному: в «Трех диалогах» анализ восприятия расстояния служит побочным аргументом,
подтверждающим предыдущие доводы, сами по себе достаточные. В «Трех диалогах»
это лишь один из элементов общей системы доказательств, в «Алкифроне» — ее
фундамент. И все же, несмотря на отсутствие в «Алкифроне» чисто метафизических
предпосылок, оба. доказательства дополняют друг друга. Потенциально они содержатся
уже в двух кратких записях из «Философ, заметок» (41, 838): первая делает акцент
на порождении идей, во второй продуктивность сочетается с упорядочивающей силой.
Прежде чем постигнуть Бога со стороны мудрости, мы постигаем Его в аспекте
могущества, ключом же к этому постижению является двигательная способность воли.
Данное замечание подтверждает тесную связь, существующую в мировоззрении
Беркли между бытием Бога и человеческой свободой, — двумя принципами морали,
которые рассматриваются соответственно в Диалогах IV и VII.
Вся философия Беркли основывается на активности духов и пассивности идей. От
Мальбранша в данном отношении его отличает главным образом то, что идеи, по
Беркли, доступны нам не через сопричастность, а через претерпевание. Они познаются не
через внутреннее единение, но лишь посредством восприятия идущего извне
воздействия.
В) Дискуссия об аналогии в «Алкифроне» — не вставной эпизод. Ее черед
наступает вполне логичным образом — в тот самый момент, когда Беркли необходимо
отстоять уникальность религии откровения и при этом ввести в русло традиции
собственные новаторские теории. Этот момент, обозначенный вмешательством Лисикла, -
критический пункт диалога: ведь если Лисикл добьется цели, то все прежде
достигнутое будет вновь поставлено под сомнение, прежние аргументы Ефранора утратят
смысл и создастся впечатление, что Ефранор разделяет в сущности воззрения деистов;
намереваясь защитить непостижимость таинств религии, он будет играть на руку тем,
кто объявляет их абсурдными. Возникает следующая печальная альтернатива: с одной
стороны -ник чему не обязывающая смутная и неопределенная религиозность, без
всякого представления о долге и воздаянии; с другой — нелепая обрядность и
безрассудные фантазии ребяческого антропоморфизма. Лисикл очень ловко переменил тему.
Заманив противника на богословскую почву, он устроил ему ловушку, и если
Ефранор окажется в этой западне, то дискуссии наступит конец и путь к религии
откровения будет отрезан. Потому так тщательно и коварно выбирает он «союзников» в лагере
противника, пытаясь смутить оппонента апелляцией к таким авторитетам, которые
Ефранор, вероятно, не сможет вполне отвергнуть. Причисление отцов церкви к клану
деистов звучит как мрачная ирония, и неудивительно, что Ефранор теряется и
приходит в замешательство. Кажется, что где-то на заднем плане смутно вырисовывается
зловещий силуэт Толанда, автора «Христианства без тайн». Если он возмет верх —
прощай апология. Деисты предоставят христианам право разглагольствовать о Боге
(эта щедрость не много им стоит), сами же нисколько не изменят свои взгляды и образ
жизни.
Беркли ясно видит опасность. Он возвращается к этой теме в «Теории зрения...
защищенной и объясненной», где Диагор «Алкифрона» принимает черты Коллинза
(разд. 6). Беркли обращается к своим «неосторожным друзьям» с упреком и
торжественным предупреждением, уговаривая их одуматься, пока не поздно. Если они попали
lj^ )^^0{W Введение к «Алкифрону» ^S)^ffl( J^
одной ногой в затяжную петлю, то пусть поскорее из нее выпутываются, пусть не
вводят они христиан в соблазн и возвратятся, наконец, к более здравой и разумной
традиции. Какова же эта традиция? Об этом скажет Критон — именно он
восстанавливает положение. Он осуждает злоупотребление крайними формулировками,
свойственное некоторым христианским писателям. Последние стремятся отстоять
максимальную трансцендентность божества, рискуя при этом в зародыше уничтожить всякую
рациональную теология и лишить всякого разумного смысла символ веры. Критон
проводит необходимые различения и восстанавливает понятие аналогии во всей его
чистоте. Поручив Лисиклу, самому крайнему из двух вольнодумцев, излагать
воззрения теологов-агностиков, Беркли дает понять, до какой степени он их осуждает.
Он становится адвокатом дьявола, чтобы тем яснее выявить смысл собственной
доктрины. Беркли хочет доказать, что при известных мерах предосторожности.и
тщательно продуманной терминологии его собственную теорию можно согласовать с
традиционным учением церкви. Сам он будет широко пользоваться аналогией впоследствии
(Д. VI), как он уже пользовался ею в «Опытах» из «Гардиан» (II, XIII, XIV).
Одновременно Беркли намечает тему надлежащего истолкования таинств и догматов,
развернутую в Диалоге VII.
Таким образом, вторая часть Диалога IV представляет собой необходимый рубеж
между двумя половинами «Алкифрона», переход от естественной религии к религии
откровения.
Какова же конкретно позиция Беркли по отношению к критикуемым им теологам,
а также по отношению к «Апологии» Батлера, которая вышла четыре года спустя, но
по своей аргументации во многих пунктах близка к «Алкифрону»?
1. Беркли и П. Браун.
Н. Балади посвящает этому вопросу весьма серьезное исследование.* Нам остается
сделать лишь несколько замечаний и уточнений.
К моменту появления «Алкифрона» П. Браун успел посвятить данной проблеме две
работы: «Письмо» ( 1699) против книги Толанда «Христианство без тайн» (1696) и
«Образ действия, объем и пределы человеческого познания» (1728). Он должен был вновь
обратиться к этой теме в сочинении «Вещи божественные и сверхъестественные,
постигаемые по аналогии с предметами естественными и человеческими» ( 1733), где
попытался ответить на возражения Беркли. За это время вышла в свет и «Проповедь» У. Кинга
«Согласие предопределения и предведения со свободой человеческой воли» (1709).
Беркли ставит вопрос: в какой степени выражения, употребляемые нами для
обозначения божественных атрибутов, заключают в себе истину, выходящую за пределы
метафоры и свободную от антропоморфизма? Но именно эта проблема занимала и
П. Брауна. Его точную позицию нелегко определить по двум причинам, из которых
одна относится к его манере выражать свои мысли, а другая — к двойной
направленности его полемики.
1 ) Во-первых, работа вышла анонимно, к тому же ни Толанд, ни Локк, ни Кинг, ни
Декарт, ни Мальбранш не названы в ней по имени, хотя аллюзии, как правило,
довольно прозрачны. (На этот счет автор объясняется во Введении.) Даже о своем
собственном «Письме», появившемся, по его словам, более 25 лет тому назад, Браун
говорит так, будто оно написано кем-то другим: оно принадлежит некоему юному авто-/
♦ Op. cit., pp. 130-140.
ру, чей язык еще необработан и неловок, но утверждения в основе своей справедливы.
Лесли Стивен* (которому в этом пункте следует Карро** и отчасти Н. Б ал ад н)
считает, что П. Браун не изменил своих взглядов и всегда держался самого непреклонного
агностицизма. Н. Балади глубже проникает в воззрения Брауна, и все же, соглашаясь,
что они представляют «шаг вперед*· по сравнению с Кингом, он утверждает, что для
Брауна, как и для Кинга, Бог непознаваем.***
Внимательное чтение «Образа действий...» заставляет нас все же отказаться от
этого мнения. Н. Балади выражается так, будто цитируемый им пассаж есть составная
часть Введения.**** Но из этого пассажа вытекает, что Браун в данном месте цитирует
собственное 4Письмо» 25-летней давности. Деталь немаловажная, ибо если это место
по своему стилю и духу совершенно локковское, то впоследствии Браун в
значительной мере освободился от влияния Локка.
2) С другой стороны, сложность интерпретации связана с двойственной позицией
Брауна. Он ведет борьбу на два фронта, атакуя одновременно а) тех, кто склонен верить
в непосредственное, интуитивное постижение духовных или сверхъестественных
реальностей. В этот разряд входит критика картезианского иннеизма (Кн. I, гл. I, с. 90)
а также мнения, согласно которому дух постигается легче, чем тело (Кн. I, гл. I), а кроме
того — критика «видения всех вещей в Боге* (Кн. I, гл. I, с. 95-96) и окказионализма
(Кн. I, гл. II, с. 62), которые ведут к энтузиазму», а потому внушают подозрения. 6) На
противоположном фронте он атакует тех, кто склонен не расширять, но чрезмерно
суживать пределы человеческого познания, впадая в скептицизм или агностицизм.
И смотря по тому, на каком из этих аспектов делается упор, можно представить Брауна
сторонником либо расширительной, либо ограничительной интерпретации аналогии.
Балади явно склоняется в пользу второй точки зрения, мы же выскажемся в пользу
первой по следующим причинам.
Двойственная позиция Брауна разъяснена во Введении, где замысел книги
истолковывается посредством краткого изложения истории самых характерных ересей,
древних и современных. Все они вместе логичным и неизбежным образом постепенно
приводят к деизму вольнодумцев, причем каждая из них развивается из
предшествующей и доводит ее до крайности: для савеллиан термины «Отец» и «Сын», имеющие
лишь образный смысл, обозначают одно лицо; для ариан Сын ниже Отца; социниане
полагают, что Сын сотворен, а не порожден, и что таинства — простые символы;
наконец, деисты и свободомыслящие отвергают даже метафорическое толкование и
делают прямой вывод о фальсификации и обмане.
Может показаться, что в полемике с ними надлежит принизить разум, по крайней
мере представить непостижимыми все истины религии. Здесь Браун выступает против
рискованных и опасных выражений Кинга из «Проповеди» 1709 г. Он находит
возмутительными слова Кинга: «Самые лучшие представления, которые составляем мы о
Боге, бесконечно далеки от истины» (с. 15). Какую огромную выгоду извлекли из
таких признаний деисты! (с. 18-19). Эти страшные «уравнители» немедленно
хватаются за подобный предлог, чтобы отвергать все без разбора. И чтобы не давать им
повода, следует установить положительное содержание аналогии. Нужно отбросить
* Op. cit., pp. 113-114.
** Op. cit., pp. 71.
*** Op. cit., pp. 134.
**** Op. cit., pp. 134.
\hb* fêî&tyiW' Введение к «Алкифрону» ^)^6^( J$[
переносный и широкий смысл (а если и принимать, то с четкими оговорками) и
принять смысл строгий и точный, одинаково учитывая и бесконечное различие между
Богом и человеком, и то обстоятельство, что Бог, создав человека по своему образу,
наделил его разумом, способным постигать Бога. И в самом деле, хотя вера и отлична
по своей сути от демонстративного знания, она необходимым образом связана с
мыслительной способностью: невозможно соглашаться с тем, что не было понято прежде
(Кн. I, гл. 8, с. 128), т. е. прежде, чем дать внутреннее согласие, нужно определить
термины утверждения, к которым оно относится. (Роль воли, отличающей
впоследствии моральную достоверность от достоверности математической при этом
нисколько не уменьшается (Кн. II, гл. 6, с. 236).) В предметах веры одной вероятности
недостаточно (с. 270). Именно в этом важном пункте Беркли расходится с Брауном.
Чтобы удовлетворить этим требованиям, заданным церковным учением, Браун
тщательно различает аналогиюв метафорическом смысле и аналогию в собственном
смысле. Первая обращается к воображению, вторая же — к разуму. Именно она дает
знание, соответствующее своему объекту. Мы, без сомнения, не в силах
непосредственно постичь природу духовной и сверхъестественной реальности, поскольку не
имеем надлежащего органа. И однако мы можем ухватить подобную реальность
косвенным образом — не через подобие с чувственными предметами, но через отношение
соответствия, соразмерности, пропорциональности нашим высшим умственным и
моральным способностям. Аналогия, следовательно, есть опосредующее звено (Кн. I,
гл. 10, с. 134). С ее помощью нам дано отличить точное знание от того, что является
всего лишь образным выражением. Мы не думаем, что у Бога имеется «рука» или
«око», но мы можем с полным правом приписывать Ему «силу», «мудрость» и
«благость» (ср. Ал к. 1,31). Впрочем, и образный стиль занимает свое законное место в Св.
Писании, если нужно поразить дух верующих. Он, однако, должен опираться туже
существующее неоспоримое знание. Таким образом, если метафорический смысл
поддерживается строгой и точной аналогией, то он становится вполне допустимым.
«Естественный свет» — это метафора, «познание» — аналогия. «Дуновение», «дыхание» в
строгом смысле к Богу не приложимы, зато мы способны познать не только отношение
Отца к Сыну (порождение), но и отношение между Богом и человеком (искупление).
При строгой аналогии «антитипы» (сверхъестественные сущности) соответствуют
«типам» (естественным вещам). Следовательно, аналогия, используемая рассудительно и
осторожно, есть рациональный прием.
Это брауновское оправдание аналогии опирается на соответствующую теорию
познания, а именно на модифицированного Локка. Это и есть источник последующих
недоразумений. Замечания Н. Балади на этот счет* сохраняют всю свою силу, однако
их следует поместить в более широкий контекст. Критикуя Локка, Браун метит — на
этот раз, в отличие от «Письма», косвенным образом — в Толанда, его ученика. На что
же направлена эта критика? У Локка Браун заимствует «идеи ощущений» и
решительное неприятие теории врожденных идей. Именно к этой фазе в развитии его мысли
относится отрывок из «Письма», воспроизведенный во Введении к «Образу действий...».
Но при этом Браун энергично отвергает «идеи рефлексии». Лишь ощущения вправе
называться «идеями» (Кн. I, гл. 4, с. 96), а кроме того — сложные представления,
образованные на их основе (Кн. I, гл. 2, с. 63). Локк заблуждается, когда рассуждает так,
* Op. cit., р. 138.
K)^^F Ж.Пюселль ~^3}^G1
будто идеи рефлексии составляют особый источник познания. Строго говоря, у нас нет
никакой идеи действий духа (мышления и воли). Мы не созерцаем их, как внешние
объекты, мы их «сознаем». Разум обрабатывает чувственные данные,
однако,сознаваемые им внутренние действия принадлежат собственно разуму; они не совершаются
«с помощью» или «посредством» какой-либо идеи (с. 66). Разум образуется не из
«идей», но из «понятий», «представлений» или «восприятий» своих собственных
операций.
Отсюда можно сделать некоторые выводы:
1) Беркли атакует не столько Брауна, сколько Кинга. Критикуя же Брауна, он
имеет в виду, скорее, Брауна периода «Письма», еще локковского; шо духу, нежели
Брауна последних сочинений, в которых произошел поворот к схоластике. В этих
работах автор пользуется новейшей терминологией для изложения древних воззрений;
он переосмысляет средневековые теории, опираясь на язык и психологический анализ
современной философии.
2) В этих двух пунктах Браун опередил Беркли: а) он использовал схоластические
определения аналогии; б) он предвосхитил теорию «понятий» Беркли своим
представлением о духовной деятельности, которая не сводима к идеям.
Сопоставив эти выводы с содержанием «Алкифрона», мы должны констатировать,
что:
ОРешение проблемы происходит в речи Критона в три этапа: а)теория Псевдо-
Дионисия и неоплатоников осуждается в своих крайностя-х и преувеличения»
(разд. 19); 6) излагается схоластическая теория, смягчающая крайности
представленных выше воззрений (20); в) следует окончательное разъяснение, насыщенное
схоластической терминологией, мотивированное, однако, новым указанием на
первоначальные опасения (21). Взгляды, изложенные в последнюю очередь, отражают
собственную точку зрения Беркли; финальная аллюзия на случай со слепорожденным
(21) относится к «Письму» Брауна.
2) В полемических целях Беркли акцентирует то, что разделяет его и англиканских
теологов: отрицательный, а не положительный смысл аналогии.
Диалог V
Между естественной религией и религией откровения есть грань, которую
необходимо перейти. Для обоснования веры в воплощенного Бога и положительного
воздействия этой веры на развитие человечества метафизических аргументов недостаточно.
Очевидным следствием чего в Диалогах V и VI является обращение к истории.
Поэтому слово почти всегда принадлежит Критону. После ожесточенных и
узкоспециальных по характеру материала споров Диалога IV наступает своеобразиа»я разрядка;
дискуссия протекает в общечеловеческой и моральной плоскости.
Не следует искать в этом диалоге философской глубины. Но нам нужно по крайней
мере познакомиться с политическими и моральными идеями Беркли. В общей
структуре «Алкифрона» диалог образует, как уже было сказано, продолжение Диалогов II и
III, а все они в целом представляют доказательство с доводами и контрдоводами, где
гибельности принципов вольнодумства противопоставляется благотворное влияние
|^)^@^{Р"Введение к «Алкифрону» ^fr^Ü^CJ
христианской религии. Спор идет довольно монотонно, однако из него можно извлечь
два замечания относительно личной позиции и характера Беркли:
1 ) С общекультурной точки зрения миссия церкви неразрывно связана в
представлении Беркли с сохранением античного наследия и передачей последующим векам
сокровищ классической образованности, которые с течением времени все активнее
питают мысль Беркли, — типичного христианского гуманиста. Он превосходно
чувствует себя в атмосфере Ренессанса (ср.Диал-VI и VII), что не мешает ему опираться при
необходимости на средневековую мысль( Диал. IV,В). Делает он это тогда, когда
находит в ней здоровые элементы основополагающей непрерывной традиции, идущей
порой извилистыми путями и все же далекой от индивидуальных отклонений. Эта идея
преемственности и непрерывности важна для понимания Диалога I.
2) С точки зрения национальной церковные учреждения неразрывно связаны, по
мнению Беркли, со всей совокупностью учреждений гражданских, и их целостность и
чистота определяет судьбу страны. Беркли — англичанин до мозга костей и верный сын
англиканской церкви, и он не может допустить, чтобы роль его родины в развитии
западной цивилизации подвергалась сомнению.Хотя Англия и не избежала страшных
кризисов и потрясений, в общем она выглядела на фоне других наций вполне достойно, —
и об этом не должен нас заставить забыть даже прекрасный мираж древности.
Следовательно, всякий искренний англиканец — истинний патриот, а всякий атеист — патриот
дурной (Максимы о патриотизме, изд. Фрейзера, IV, с.361-363). Беркли не считает, что
государственная религия представляет опасность для свободы; напротив, она служит
прочной скрепой государственного устройства, внушает гражданам уважение к закону
и к обязанностям. Между тем·вольнодумцы — ложные друзья свободы, оимжелают
свободы лишь для себя, а более всего думают о доходных местечках. И окажись они у
власти, верующим придется туго. Поэтому фанатики и вольнодумцы в сущности ничем не
отличаются. Польза и истина, таким образом, неразделимы. Иногда мы восходим от
пользы к истине (диалоги 11,111,1V), иногда нисходим от истины к пользе (от IV — к V).
А следовательно, доказательство, опирающееся на прагматические аргументы, не есть
простая уловка, ведь доказывать истинность принципов исходя из их следствий значит
по-прежнему рассуждать согласно закону причинности.
Диалог VI
Весь этот диалог разворачивается в плоскости истории, как Диалог IV — в
плоскости метафизики. В основе его лежат библейские данные и сложные проблемы
экзегезы. Религия, именующая себя религией откровения, неизбежно подвергается атакам
исторической критики. Таким образом, мы переходим к проблеме источников
христианства, характерной для эпохи деизма. В Диалоге V мы движемся параллельно ходу
исторического времени, в Диалоге VI — восходим к его истокам. Речь уже не идет,
как в Диалоге IV, о непосредственном присутствии Бога во всяком сознании, но о
боговдохновенном слове, переходящем через цепь свидетелей во времени. О
вдохновении могут рассуждать метафизики и психологи, но проблема точной передачи и
распространения Св. Писания решается лишь посредством критики текста. Предметом
спора становится уже не божественное присутствие, схватываемое в вечном настоящем
или логически выведенное по аналогии, но конкретное явление божественной силы во
k№&f ж.пюс«лл» ^^га
времени. Божье слово открывается теперь не из видимых знаков природы, а через
слово человеческое, через письменное свидетельство, переходящее из века в век.
Именно это сообщает диалогу живой интерес и современное звучание.
Тяжеловатый по стилю, перегруженный деталями, насыщенный пространными
историческими экскурсами и догматическими рассуждениями, Диалог VI совершенно не
похож на Диалог IV. И однако, он является его продолжением: мы переходим от
Откровения непосредственного, мгновенного, к Откровению опосредованному и
постепенном; с точки зрения вечности — на точку зрения времени. Но в обоих случаях
человек обретает истину через Язык: через язык чувственного мира (Диалог IV) или
через слово, заключенное в тексте и требующее истолкования (Диалог VI). В центре
диалога — тема божественного слова, вдохновенного свыше послания, передающегося
от поколения к поколению. Поэтому идеи свидетельства и преемственности для
подобного рода апологетики чрезвычайно важны, и именно на них покушается
критическое исследование текстов.
В эпоху «Алкифрона» библейская критика только зарождалась. Беспокойство,
которое могла она внушить вере, опирающейся на традицию, достигло высшей точки лишь
в 18 веке. В руках деистов (пусть это были пока еще экзегеты-дилетанты) она, однако,
уже становилась довольно острым оружием, а те проблемы, которые ставила она перед
совестью христианина, в сущности не изменились и впоследствии. Беркли весьма
проницательно уловил ее смысл и значение. Не преуменьшая сложности проблем, он
попытался четко их сформулировать, и если он не разрешил все вопросы, то по крайней мере
указал на некоторые чрезвычайно плодотворные способы их решения. Его позицию
можно рассмотреть с двух точек зрения: вероисповедной и собственно философской.
A) С точки зрения вероисповедной она состоит в том, чтобы ограничить
пространство, подверженное ударам противника, точно определив минимум истин, в которые
достаточно верить, чтобы быть христианином.Все, что лежит за его пределами, охотно
предоставляется критике, как ортодоксальной, так и неортодоксальной. После любых
споров по сомнительным второстепенным вопросам (которые темны для нас сейчас по
причине невысокого уровня наших нынешних знаний или которые пребудут такими
всегда ввиду ограниченности нашего разума) всякий раз остается некое доктринальное
ядро. Аргументация, исходящая из идей преемственности, непрерывности и
универсальности, характерна для англиканской апологетики и в наши дни*. Беркли видит в
церкви живой организм, который развивается и процветает вопреки побочным
отклонениям, всевозможным наростам, опухолям и паразитам. Истина изначально дана во
всей полноте(ср. VII, 12), но человечество открывает в ней от века к веку новые грани.
Здесь можно усмотреть первые наброски теории развития, которую впоследствии
замечательно использует Ньюман**.
B) Идея органического роста связана с проблемой времени, неизменно
занимавшей Беркли (ср. «Философ, заметки», 1-15), но именно здесь впервые после
«Принципов» вышедшей на первый план. Особое значение, которое Беркли придает
хронологии — одна из оригинальных сторон этого диалога. Лишь в 19 веке проблема
происхождения (происхождения христианства, иудаизма, человека) стала ключевой
* Bell, V Anglicanisme (Paris, 1939).
** J. Guitton, La notion de développement et son application a la religion chez J. H. Newman
(Paris, 1933).
BOO
\Ък fäS&iW' Введение к «Алкифрону» ^{)^6^( jÊ
в решении спора между верой и разумом — Беркли уже предчувствует ее важность.
И сколь бы слабой и несостоятельной ни казалась нам его позиция в некоторых
пунктах, интерес, который вызывают у него эти вопросы, сам по себе замечателен.
Он тщательно исследует проблему соответствий, важность которой Беркли осознал
одним из первых: соответствия текстов в пределах единого предания; совпадений
между различными традициями; соответствия и взаимного подтверждения между
данными разных наук: лингвистики и наук о человеке; социологии и национальной
психологии (фантастические хронологии и летописи, разд. 22); астрономии и
геофизики (число солнечных затмений, разд. 21; падения уровня вод, изменение земного
рельефа, замедление планетных движений, разд. 23); археологии (отрицательный
аргумент, основанный на отсутствии следов и остатков прошлых эпох,
опровергнутый впоследствии данными палеонтологии). Следует, разумеется, учитывать
заимствования, ведь подобные проблемы, как замечает Фрейзер,* стояли тогда в порядке
дня, и Беркли, безусловно, знал о знаменитом споре Лейбница и Кларка. Но
выводы, которые извлекает Беркли из этого материала, и его использование оригинальны:
он ясно сознает значимость вопросов хронологии для библейской экзегезы и для
чистоты веры. В согласии с общими представлениями своей эпохи прошлое
человечества Беркли склонен недооценивать. Он не подозревает о предыстории, зато в
пределах истории обладает на редкость сильным и конкретным видением событийного
ряда, живым чувством времени и продолжительности.
2) И все же самым значительным в Диалоге VI является то, что относится к
интерпретации текстов. Здесь — истинная стихия Беркли. Предложенный им метод,
отличный от прежнего, совершенно устаревшего аллегорического толкования, в основе
своей приемлем и сейчас. Ему присуща тонкость психологического проникновения,
подкрепляемая умелым использованием данных специальных дисциплин. Он
учитывает затруднения, созданные инакомыслящей критикой, и, пытаясь их разрешить,
преодолевает отрицательную точку зрения, превращаясь в нечто конструктивное.
Общее впечатление темноты и неясности Беркли разлагает на составные части: ложно
понятые фактические данные (малоизвестные особенности восточных языков, нравы и
обычаи, заимствованные у чуждых нам цивилизаций, образные выражения,
педагогические намерения писателя). Во всем этом Беркли опередил свое время. Долгая дуэль
Диалога VI символизирует состязание ортодоксальной и неортодоксальной критики;
каждая из них, стремясь превзойти соперницу, раскрывает новые грани предмета,
трудясь таким образом во благо науки.
Следует обратить особое внимание на фрагмент о психологии перевода (разд. 7),
дополняющий набросок о психологии беглого чтения (IV, 12). Убедительно и тонко
выявляет философ фундаментальные принципы перевода: невозможность
буквального перевода, необходимость заново продумать общий смысл текста, обнаружить его
изначальную интенцию. Эта идея значения — краеугольный камень всей религиозной
философии и всей метафизики Беркли. Именно намерение и замысел, божественные
или человеческие, определяют все особенности языка и речи, в т. ч. конкретное
приспособление языка Провидения к данным обстоятельствам и данной эпохе.Идея
порождающего смысл намерения, идея интенции неизбежно влечет за собой проблему
вдохновения у которую средства критики текста сами по себе разрешить бессильны, ибо
* vol. II, 294, notel.
IS^&r Ж.Пюселль ~^Щ$С%
это проблема метафизическая. Это неизбежный предварительный вопрос для всякого
верующего, стремящегося обосновать свою веру, ведь проблема целостности
божественного слова и точности его передачи последующим векам зависит от вопроса об
истине самого содержания. К чему весь этот мудреный историко-критический аппарат,
если самая возможность вдохновения отвергается a priori? Как бы то ни было, для
идеи вдохновения, понятого в качестве особого божественного импульса, атрибут ин-
струментальности, т.е. свойства передавать и распространять некий смысл средствами
данной лингвистической системы, оказывается действенной опорой, ибо известная
доля исходного смысла всегда способна стать для нас явной — при всей бедности
человеческого языка, этот смысл заключающего.
И наконец, эти рассуждения образуют, как уже было сказано, связующее звено
между диалогами IV и VII. Идея свидетельства позволяет перейти от представления оесте-
ственном языке, универсальном посреднике во времени и в пространстве, к языку
искусственному, изменчивому и условному, однако способному руководить мышлением
ради нужд морального действия и прикладной науки; один отличается от другого так же,
как чтение с листа — от медленной и неуверенной дешифровки. Так строится
философия языка, которая найдет свое завершение в «Аналитике» и «Сейрисе».
Диалог VII
Менее рыхлый и перегруженный деталями по сравнению с Диалогом VI, Диалог VII
не обладает, впрочем, и классической четкостью Диалога IV; однако композиция его
ясна, а содержание столь же философски насыщенно. В центре его стоят две дискуссии:
о науке и таинствах (разд. 2-18) и о свободе (19-25). Остальное — полемика и эпилог
(25-34). Появляются новые по сравнению с предыдущими диалогами аргументы.
Беркли определяет свою позицию по двум важным пунктам: отношения веры и разума;
свобода и вина. Он предлагает толкование догматов, связанное с его теорией познания.
Диалог представляет собой единое целое, ведь две его важнейшие темы зависят одна от
другой: если исходить из законов природы, то что же такое свобода, как не таинство и вечное
чудо? Следовательно, вторая проблема — частный случай первой. Но, с другой
стороны, она определяет решение первой проблемы, ибо согласие и внутреннее одобрение
есть акт свободы как в вопросах морали, так и в предметах веры.
Пребывание двух философов в гостях у Критона подходит к концу, а потому
преамбула сокращается. Алкифрон признает в известной мере пробабилизм* своих
оппонентов, однако, полагает Алкифрон, никакая вероятность не в силах взять верх над
фактами и достоверностью. И он берется доказать, что вера по самой своей природе
есть нечто абсурдное и невозможное. Фаза исторической критики пройдена; последняя
оказалась благоприятной для защитников религии. Новый поворот мысли возвращает
нас из области истории в сферу философии, на этот раз — под
эпистемологическим, а не метафизическим углом зрения, хотя определенная метафизика
по-прежнему лежит в основе этих построений. В третий раз появляется тема языка, который и
порождает трудности, и помогает их разрешить.
* Пробабилизм (от лат. probabilis — вероятный) — воззрение, утверждающее, что человек не
может достичь достоверного знания, а должен довольствоваться вероятностью {Прим. Издателя).
Р^^^Введение к «Алкифрону» ^)<^^Г31
Диалог четко делится на две части: первая (А) посвящена таинствам и науке( 1-15);
вторая(В) — человеческой свободе (16-20). Последние разделы(21-31) подводят итог.
Эпилог завершает произведение.
А) Религиозные таинства и наука.
Алкифрон открывает огонь. Он доказывает, что религиозная вера имеет дело с
пустыми и бессодержательными понятиями, являясь псевдознанием, которому в
человеческом уме не соответствует никакое содержание. Алкифрон опирается на теорию познания
локковского «Опыта» (Кн. IV, гл.1). Понимать — это ставить на место знака
обозначаемую им вещь. Не бывает знания без определенного образа в уме. И с этой точки зрения
такому, например, слову, как «благодать» не соответствует ровным счетом ничего.
В физике мы можем превосходно рассуждать осиле или движении тел, поскольку
данные слова вызывают в нас чувственные представления. Но разговоры о совершенно
бестелесной силе невразумительны и непонятны: вера в благодать есть беспредметная вера
(разд. 3-4). Но ведь и ваши мнимые абстрактные идеи, — возражает Ефранор, —
никаким представлениям не соответствуют. Назначение языка не в том, чтобы
устанавливать прямое и буквальное соответствие между словами и идеями, а в том, чтобы
приводить собеседника в надлежащее расположение духа. Достаточно, чтобы совпадали
душевное состояние того, кто говорит, и того, кто слушает. Слова во время беседы — то же,
что жетоны в игре: они замещают идеи, как жетоны — деньги. Жетоны обращаются в
течение всей игры, и лишь в конце ее производится подсчет. Точно так же и слова не
обязательно вызывают в нас определенные образы. Чаще всего их действие
ограничивается тем, чтобы направлять наше поведение, влиять на наши чувства и приводить в
известное расположение духа (разд. 8; Ср.«Принципы», Введение, 20).
И к тому же — это уже набросок дискуссии о свободе — вовсе не требуется
обладать ясной идеей «я» для того, чтобы постичь нашу внутреннюю деятельность:
достаточно иметь непосредственное чувство этой деятельности. Затем Ефранор переходит к
символическому значению чисел, после чего обращает против Алкифрона его
собственный пример силы, физического аналога благодати: физики не способны
представить силу без чувственных символов — но это ничуть не мешает им строить теории по
ее поводу. Силу рассматривают лишь через ее следствия — но почему же не поступать
подобным образом и по отношению к благодати, следствия которой вполне зримы и
осязаемы? (8-10). Лица Троицы не более непостижимы, чем человеческая личность
(еще один подступ к проблеме свободы). А чтобы объяснить загадку тождества
личности, нет необходимости ссылаться насознание, как это делает Локк(«Опыт», Кн. II,
гл.27, §11). Исследовать догматы и таинства нужно лишь постольку, поскольку они
влияют на наше поведение. В продолжительном непрерывном рассуждении( 14-18),
углубляющем прежние замечания, Ефранор анализирует отношения разума и веры и
излагает номиналистическую теорию науки. Это одна из важнейших страниц
эпистемологии Беркли; научные символы сопоставляются здесь с метафорами языка.
Следовательно, атеисты, обвиняющие религиозные таинства в темноте и
непонятности, совершенно некстати ссылаются при этом на идеальную «ясность» математики:
непонятное и темное лежит в основе науки вообще. И пытаясь ухватить за знаками
некие ясные идеи, мы наталкиваемся на неразрешимые трудности. Выпутаться же из
них можно лишь через использование символов. Религиозные догматы не отличаются
в этом смысле от научных понятий: не стоит мудрствовать по поводу их дефиниций,
нужно принимать их в качестве принципов морального действия(17-18).
|£^fe(F ж.пюс«лл> ^)^ГД
В) Человеческая свобода.
Отрицая человеческую свободу, Алкифрон наносит удар в самое сердце религии и
морали, поскольку лишает всякого смысла понятия добра и зла, наград и наказаний. Он
поочередно противопоставляет свободу детерминизму и божественному предведению
(19-20).
I. Свобода и детерминизм. Вначале проблема анализируется на основе
материалистической гипотезы, затем — на основе предположения о бестелесности души. Таким
образом сначала Алкифрон намечает чисто механистическую теорию человека, а затем -
теорию психологического детерминизма, опирающуюся на Шефтсбери и Локка.
II. Свобода и божественное предведение. Возобновляя старую дискуссию,
Алкифрон переносит спор на почву теологии.В силу божественного предведения наши
поступки заранее известны, а значит, необходимы. Ефранор возражает: можно без всякого
противоречия вообразить, что Бог создал человека свободным. Из этого предположения
вытекает, что человек должен считать себя свободным и ответственным за свои поступки.
Но именно так дело и обстоит. Ефранор предлагает Алкифрону найти в реальном
человеке какие-либо черты, противоположные этому психологическому свойству. Если
таковых не обнаружится, то человек обладает всеми признаками свободного существа. Ни а
priori, ни a posteriori отрицать это невозможно. Все, что возможно, мы вправе
предполагать действительным, между тем для бесконечной силы возможно все, что не
заключает в себе противоречия. Ефранор вновь обращается к этой теме в обширном
обобщающем опровержении (21-23), симметричном по отношению к фрагменту о науке и
религиозных таинствах. Что касается довода (2), то «достоверное* еще не значит
«необходимое* . Ведь Бог мог предвидеть, что некое действие будет совершено человеком
свободно. Этот контраргумент — прямое заимствование из теологии. Зато контраргумент
против довода (I) специфически берклианский по своему характеру. Он опирается на
номиналистическую теорию: осуществляя в нашем духе произвольные разделения и
искусственные дистинкции, мы упускаем из виду спонтанность и непосредственность его
операций. Воля, способность, сила, акт, определение воли, безразличие воли, свобода,
необходимость — все это лишь разные аспекты одной и той же живой реальности; когда
же мы произвольно их выделяем и различаем так, словно эти слова соответствуют
особым сущностям, мы внушаем себе иллюзорное убеждение в том, что свобода
невозможна. Примерно так же поступали те философы, которые с помощью тонких дистинкции
и дефиниций брались доказать невозможность движения. Ходить перед ними — этого
было достаточно, чтобы развеять все их софизмы. Точно так же ясное внутреннее
сознание моей свободы является для меня достаточным доказательством: это исконное
свойство моего бытия, которое не могут разрушить никакие абстрактные различения. Перед
нами одно из самых интересных приложений номиналистической теории, между темсво-
бода — одна из важнейших проблем для Беркли. Как справедливо замечает Н. Бал ад и
(op. cit. ,106-107), это уже почти аргументация Бергсона, причем в сходных
выражениях. У Бергсона мы найдем даже сопоставление с доводами Зенона Элейского.
Защитники свободомыслия убеждаются, наконец, в том, что впали в противоречие.
Ефранор требует, чтобы они раз и навсегда определили свою позицию, и предлагает
Критону заключить этих странствующих рыцарей в свой замок и держать их там до тех
пор, пока они не дадут хозяину полный отчет в своих убеждениях. Алкифрон вынужден
открыто признать свой абсолютный скептицизм. Следовательно, его мнимый идеал —
всего лишь маска.
Итог спора подводит Критон. Сомнение, если таковое имеется, играет на руку
христианам. Можно ограничить проблему, сведя ее к двум гипотезам и представив в
виде дилеммы: либо Бог есть, либо его нет; человек либо свободен, либо не свободен;
душа или смертна, или бессмертна. Если отрицательные ответы не вполне достоверны,
то утвердительные, по меньшей мере, возможны; если первые маловероятны, то
вторые, по меньшей мере, вероятны (разд. 27).
Эпилог посвящен курсу лечения, которому следует подвергнуть вольнодумцев: им
необходимы одиночество, тишина и сосредоточенность. Ефранор в шутку предлагает
основать «Дианоэтическую академию» — нечто вроде семинарии на свежем воздухе
для перевоспитания свободомыслящих. Несколько лет, проведенных в подобном
уединении, смогли бы вернуть им представление о том, что такое настоящая свобода
мысли. Необходимо позаботиться и об английской молодежи, ведь воспитание, которое
она получает, не способно создать истинную элиту. На этой умиротворенной ноте и
завершается диалог; венчает его похвала греческой культуре и образованности,
которые и сейчас могут предложить высокие образцы для подражания.
Диалог VII не уступает по своему значению ни одному другому тексту Беркли.
Автор возвращается здесь к номинализму 4Принципов» и 4Трех диалогов», чтобы
сделать из него новые практические выводы. Мы уже видели, что Диалог VII
делится на две части, связанные воедино как сущностью обсуждаемых проблем, так и
способом их разрешения. Первый вопрос касается благодати. Благодать — это
божественная причинность в человеке, проявление божественной силы в моральном мире.
Свобода же, тема второй части, есть причинность собственно человеческая,
реализация воли деятельного существа, ответственного за свои поступки. Причинность
божественная, причинность человеческая — в сущности речь идет об одной и той же
проблеме. И чтобы это подчеркнуть, между благодатью и свободой помещена сила,
ибо что такое сила, если не физический эквивалент благодати в моральном мире?
Следовательно, основной метафизической темой диалога является причинность
божественная или человеческая в своей постижимости или непостижимости. Понятие
причинности, или учение о силе в том или ином ее аспекте уже давно занимало
Беркли, как это явствует из многочисленных записей в 4Философских заметках».
Некоторые из этих мыслей вошли и в наш диалог. Согласно De Motu, всякая
причинность духовна; существуют материальные силы, но не материальные причины
(разд. 3-42; ср. «Фил. зам.» 850; 4Три диал.» III; 4Принц.» 27—28).Творение — это
реализация божественной причинности в природном порядке бытия, благодать — в
порядке духовном. Свобода присуща человеку как абсолютная способность;
воображение аналогично творению ex nihilo (ср. «Филос. зам.» 830).
Проблема получает двойное решение: отрицательное и положительное.
A) Доказывается, что непосредственно через идею мы способны представить себе
силу ничуть не лучше, чем благодать: обе они воспринимаются лишь по своим
ощутимым результатам (разд. 9 и 10). Абстрактные формулировки лишь отвлекают нас от
конкретного восприятия силы и благодати. Мы не способны дать определение
свободы, ибо нельзя понять волю отдельно от волящей души (разд. 22). Строго говоря,
идеи воли, идеи того, что активно, не существует.
B) Благодать, сила, воля познаются по своим следствиям: благодать — в
религиозном опыте (разд. 10, 11, 13, 18); сила — в опыте физическом (9-10); свобода — в
опыте психологическом и моральном (20, 22, 23). Короткая дискуссия о тождестве
ЦГШЙГ Ж.Пюселль ^Й^^Д
личности (11) служит переходом от божественной личности (Троица) к личности
человеческой (свобода). Проблема тождества личности, поставленная Локком и
впоследствии привлекавшая внимание Батлера, Юма, Лейбница и Канта, занимала Беркли
всегда. В «Философских заметках» (194, 200) он вырабатывает точку зрения,
перешедшую и в «Алкифрон»: тождество состоит не в конкретном содержании сознания,
но в исконной деятельности «я» — в воле.
В Диалоге IV проблема человеческой личности неразрывно связывается с
проблемой личности божественной. И если ввиду отсутствия соответствующей ей идеи
благодать непостижима, то это отнюдь не является недостатком: ведь благодать не есть,
подобно материальной субстанции, тусклая и непроницаемая данность, благодать не
есть абстракция, — напротив, благодать — это пронизывающая все наше существо
деятельность, и нам следует не созерцать ее, но способствовать ей нашей волей. Мы
должны отдаваться ее действию в особом религиозном опыте, чуждом всякого
умствования, мы должны мужественно принять нашу роль свободных деятельных существ со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Таков смысл нравственной
ответственности (разд.20). И если мораль не является (как поначалу полагал, вероятно, и сам
Беркли(«Фил.зам.», 755)) предметом доказательства, то именно потому, что.у нас,
строго говоря, нет идей наших моральных действий и наших добродетелей («Фил.
зам.» 669, 683). Мы лишь способны переживать их изнутри, осуществлять их и
принимать со всеми добрыми или дурными последствиями (там же, 157).
Каким образом в моральном учении Беркли активность уживается с пассивностью?
С одной стороны, весь смысл морали — в свободе; все достоинство человека — в том,
что он является деятелем свободным и ответственным. Но, с другой стороны, мы
обязаны строго следовать религиозной традиции, ничего к ней не прибавляя от себя, мы
обязаны вполне и без всяких оговорок подчиняться законной власти, ибо любой бунт
есть преступление. Об этом Беркли пишет в «Пассивном повиновении», обосновывая
данный тезис строгими и тщательными доказательствами. А в 1752 г. появится его
последняя проповедь, посвященная словам «Да будет воля Твоя». Человеческая
свобода абсолютна, и однако нравственный закон предполагает императивы, не терпящие
приспособления к особым обстоятельствам и не допускающие потворства и
снисходительности к нашим душевным импульсам. Наконец, самая полная свобода
воображения и воли неразрывно связана с абсолютной пассивностью восприятия.
Человек представляет собой сочетание пассивности и активности, и все же эта
двойственность при более глубоком исследовании разрешается в единство. Благодаря
естественному языку пассивность восприятия служит моему телесному благополучию. В
силу существования социальных связей подчинение закону и государю становится
выгодным мне лично и способствует благу целого, а благодаря преемственности и
непрерывному развитию церковных учреждений и установлений подчинение вечно живой
традиции позволяет мне извлекать пользу из боговдохновенного слова и решений божьего
Промысла. Таким образом покорность божьей воле угрожает нам рабством менее всех
прочих видов послушания. Именно эта покорность есть первый шаг к возрождению
нашей истинной свободы в мире, пораженном первородным грехом (VII, 13).
Между тем подчинение собственной воле привело бы нас лишь к иллюзорному
освобождению. Пусть даже наша воля и не толкнула бы нас на путь потворства
сомнительным склонностям, она не дала бы нам ничего, кроме заблуждений и
замешательства. Наша чувственность, сбросив всякую узду, лишилась бы руководства, за этим
Ilk reJ^ty Введение к «Алкифрону» ^)^|зд J&\
последовали бы путаница и беспорядок, и в конце концов мы стали бы рабами
собственных страстей. Инстинкты — грозная и страшная сила, а потому человек нуждается
в воспитании!и»исправлении («Речь, обращенная к магистратам...» изд. Фрейзера, IV,
484). Разум, предоставляющий возможность эти инстинкты удовлетворять, делает их
еще более опасными. Люди живут лишь благодаря взаимному доверию, без которого
общественные связи невозможны. Доверие за доверие, а значит, мы должны
довериться Богу, т. е. универсальным законам разума, превосходящим расчеты и соображения
отдельных лиц (ср.«Речь, обращенная к магистратам...», 499; «Пасс, пов.», 13;
«Алк.» IV, 22; VI, 19; VII, 33). Доверие это не будет обмануто1 А что до свободы
мысли, о которой шумят нечестивцы, то это лишь пародия на истинное свободомыс*
лие, это взбунтовавшаяся гордыня, предлог для распущенности и тайное стремление к
власти (ср.«Опыт о предотвращении...» Фрейзер, IV, 322; «Алк.» V, 32). Жить, как
подобает доброму христианину, — это по-прежнему самый верный и надежный выбор:
если даже вера предполагает риск, то у нас, по крайней мере, есть сумма вероятностей,
а под ними· — абсолютно достоверный факт (VII, 27). Таким образом, от свободы и
необусловленности воли мы приходим к вечным и необходимым истинам разума; а
от теоретического гедонизма — к практическому ригоризму.
Та же оппозиция существует и в философии природы: Беркли энергично отвергает
необходимые связи, но отстаивает неизменные законы: «существует природа вещей»
е«Фил. зам.», 305). Свободное в своем истокеу творение закономерно и регулярно в
своих внешних явлениях («Пасс, пов.», 14; «Принципы», 62-63; «Алк.», IV, 5).
Наконец, и в логике существует контраст между произвольным выбором знаков и
безусловной строгостью правил («Алк.» V,24; VI, 30). Беркли в одно и то же время
утверждает незыблемый порядок природы.и случайную связь качеств, строгую логику
разума и свободную игру символов.И здесь следует видеть не противоречие, а
следствие сосуществования двух тенденций в мировосприятии Беркли. Одна из них задана
эпохой, другая« — коренится в: духовном складе самого философа. Первая выражает
идеал порядка, вторая — плодотворности. Концепцию гомогенной природы,
управляемой незыблемыми рациональными законами, Беркли разделяет со всей
философией 17-18 вв.,* тогда как идея творческого богатства и представление о природе как
о книге, открытой для человеческих глаз, принадлежит собственно Беркли. Наш
анализ параллелизма науки и таинств веры требует продолжить рассмотрение этой докг
трины — с одной стороны. — в эпистемологии Беркли, с другой — в его религиозном
врагматизме. Ключ» к обеим теориям — в учении о знаках, использование которых
подчинено либо научному опыту, либо опыту религиозному.
1 ) Теория знаков и научный прагматизм.
Диалог VII сам по себе является небольшим трактатом о познании, а вместе с
Диалогом IV образует единый теоретический комплекс;, соответствующий двойной
цели, обозначенной в подзаголовках к «Принципам» и* «Трем диалогам»: опровергнуть
атеизм; и упростить науки. Первая из этих задач решается в Диалоге IV, вторая: — в
Диалоге VII, где речь идет соответственно о знаках естественных и искусственных.
Оба вида знако» накладываются! друг на; друга, поскольку феномены (= идеи), к
которым относятся наши формулы, сами являются знаками. Таким образом наши научг
ные обозначения и записи — двухступенчатая система знаков. К этому первому взаим-
* Позиция Беркли в "Пассивном повиновении" близка.позиции Кларка.
ному наложению прибавляется второе, имеющее, скорее, методологический, а не
метафизический смысл. При обозначении количеств используются знаки, возрастающие по
своей всеобщности и вытекающие друг из друга: названия чисел, цифры или буквы,
алгебраические символы. Связь между явлениями и количественными отношениями
— предмет «грамматики природы» («Принц.», 108), а наложение искусственных
знаков на знаки естественные ставит апологетику в прямую связь с критическим анализом
науки. Этот анализ двояким образом подтверждает итоги Диалога IV: 1) разоблачая
пустоту и бессмысленность притязаний науки, желающей обойтись без Бога; 2) сводя
теологические тонкости к их простейшему выражению — с тем, чтобы подобные споры
не уводили нас в сторону от прямого пути к спасению. Беркли демонстрирует, что
свойственная математикам и физикам претензия на абсолютную ясность происходит от
ложного понятия самой сущности научного познания. Именно в этом пункте Беркли
заменяет локковскую теорию языка своей собственной: желая во что бы то ни стало
установить прямое и буквальное соответствие между знаками и частными идеями, мы
обрекаем себя на те же неясности и нелепости, которые возникают у переводчика,
стремящегося перевести текст слово в слово вместо того, чтобы уловить и передать его
общий смысл. Ни изолированные идеи ощущений, ни общие абстрактные идеи не
являются основой связной речи и вразумительного рассуждения. Выражаемое в знаках
— это, скорее, отношения и движения мысли.
Данный тезис уже содержит основное ядро «Аналитика» и «Защиты свободомыслия
в математике». « Алкифрон», однако, охватывает более широкую область, ибо касается не
только математики, но также физики и наук о природе в целом (VII, 15, 16). Беркли дает
набросок своего рода «Универсальной характеристики». Для одной и той же данной
реальности, полагает Беркли, можно создать несколько знаковых систем, а приписывать
некий субстанциональный и абсолютный смысл положениям физики ни в коем случае
нельзя. Они являются всего лишь одним из возможных способов описания и
упорядочения фактов и имеют значение только в контексте нашего практического отношения к
природе. Как видим, подобная эпистемология предвосхищает научный номинализм 19 века.
Известно, что по этому поводу возникла дискуссия, так как разделы 5, 6 и 7,
содержащие критику абстрактных идей Локка, были изъяты Беркли из 3-го изд. и
восстановлены лишь в посмертных изданиях «Алкифрона». Максим Давид* видел в этом
доказательство эволюции мировоззрения Беркли. Начиная с 1734-1735 гг. философ якобы
постепенно отказывался от номинализма своих ранних работ и разрабатывал теорию
понятий (notions), которая и должна была привести его в 1744 г. к платонизму «Сейриса».
Впрочем, М. Давид признает, что Беркли не отрекся от своей первоначальной теории
вполне, но отодвинул ее на задний план, так что критика абстрактных идей в «Сеирйсе»
утрачивает всякое значение и «практически сходит на нет».
Однако ни анализ самого «Алкифрона», ни сопоставление его с другими
сочинениями Беркли не позволяют нам принять подобную интерпретацию, отвергнутую к
тому же новейшими комментаторами.
* Berkeley (1912), с. 44—45, 65. В изд. 1871 г. Фрейзер ограничился постановкой проблемы.
В изд. 1901 г. он изъял из основного текста три раздела и поместил их в примечаниях. С тех пор
тезис о "развитии" находит все более смелых сторонников — от Джонстона (The Development of
Berkeley's Philosophy, 1923) до Уайльда (Berkeley, 1936). Однако Л юс в двух статьях в журнале
Mind (The Unity of the Berkeleyen Philosophy, vol. XLVI и The Alleged Development of Berkeley's
Philosophy, vol. LII) представил строгое и тщательное опровержение этого тезиса.
1. Во-первых, после работ Т. Э. Джессопа, А. А. Люса, Н. Балади мы вправе
утверждать, что появление в словаре Беркли термина «notions» не свидетельствует о
резком переломе в его воззрениях, но лишь говорит о том, что на первый план теперь
выходит у Беркли точка зрения активности. Теория активности духа (присутствующая
уже в «Философских заметках» и De Motu) только в «Алкифроне» разворачивается
вполне, превращаясь в прагматическую теорию науки и религии и в учение о свободе.
Термин «notion», употребляемый в специальном смысле, впервые появляется в
интересном прибавлениии к изд. 1732 г. И если критика абстрактных идей, по видимости,
отступает в сторону, то лишь потому, что она представляет собой в сущности
предварительный, негативный этап, за которым должна выйти на первый план теория
духовной активности. Она, однако, вовсе не стала бесполезной и Беркли ее отнюдь не
отверг, ибо эта критика, как мы видим, вновь появляется в позднейших работах всякий
раз, когда в данном произведении преобладает полемический аспект.
2. Подобную интерпретацию подтверждает и анализ Диалога VII. Относительно
содержания и логической структуры этого диалога можно заметить, что разделы,
следующие непосредственно за спорным пассажем, заключают в себе доводы,
которые не только не отличаются по существу от аргументации разделов 5, 6 и 7, но
развивают ее и необходимым образом предполагают. А посвятить этой теме столько
же места, сколько и роли знаков, Беркли не может лишь по той причине, что теория
Локка уже была отвергнута в двух отношениях. В диалоге есть фрагмент (разд. 18),
в котором критика абстрактных идей звучит вновь: Ефранор заставляет Алкифрона
признаться в неспособности образовать абстрактную идею числа. Это тот самый
раздел, последняя фраза которого неразрывно связывает критику абстрактных идей с
апологетическим замыслом Беркли; раздел, в котором на первый план выходит
понятие деятельности «я», познаваемой изнутри и несводимой к восприятию идей.
Дискуссия о силе (разд. 9) с ее основательным научным аппаратом отталкивается
именно от этой двойной констатации. Сопоставление религиозных таинств и научных
положений (разд. 10 и И) содержит еще одну прямую ссылку на абстрактную идею
треугольника, постичь которую легче, чем идею Троицы (разд. 11). Если бы Беркли
действительно отказался от своей критики абстрактных идей, то все эти ставшие
бесполезными упоминания и отсылки он должен был бы опустить, и к тому же он не
имел бы возможности изложить собственную теорию: последняя вводится в текст
лишь по причине неудовлетворительности соответствующей теории Локка. И
наконец, последнее и важнейшее соображение: самый главный и самый глубокий
аргумент против детерминизма утратил бы всякую силу, ибо апология свободы
непосредственно связана с критикой абстракций.
3. В общем, Беркли в столь малой степени отошел от своей теории, что эту теорию
мы вновь встречаем в «Аналитике» (разд. 50), где присутствуют ссылки на ранние
сочинения, и в особенности — в «Защите свободомыслия в математике» (разд. 45-48),
где взгляды Локка снова подвергаются критике.
Таким образом со времени «Философских заметок», в которых Беркли намеревался
«нанести смертельный удар абстракции и покончить с общим треугольником Локка»
(687), он не изменил своих мнений, а характерный пример с треугольником проходит
буквально через все творчество Беркли («Опыт н. т. зр.» 125; «Принц.», Введ., 16-18).
Вместе с Леруа* мы полагаем, что в конечном счете речь идет о «простом сокращении
* Oeuvres choisies de Berkeley, I, p.376, note 132.
IE)^(F ж.пюс«л> ^^^d
текста»: либо Беркли рассматривал заблуждение Локка как общепризнанный факт, к
которому не стоит возвращаться, либо испытывал свойственное пожилому человеку
нерасположение к полемике (ср. «Аналитик», 50), либо решил, что финальная часть «Ал-
кифрона» становится слишком тяжеловесной и перегруженной.
2) Теория знаков и религиозный прагматизм.
Мы говорили о моральном прагматизме по поводу Диалогов II, III и V, где Беркли
(сначала a contrario, а затем прямо) доказывает достоинство и значение христианской
религии через ее пользу. Вопрос о ее истине откладывается до Диалога IV. С большим
правом (хотя и с теми же оговорками) можно вести речь о религиозном прагматизме
Диалога VII. Необходимо определить смысл и роль этого прагматизма. На сей раз
автор рассматривает не благотворное влияние религии на жизнь народов, но ее
преобразующее воздействие на внутреннего человека. Именно здесь Беркли приближается к
современному прагматизму.
Но поскольку данная проблема до сих пор остается дискуссионной, следует четко
определить термин «прагматизм». В сферах науки и религии соответственно
существуют: А) прагматизм эпистемологический, так как: 1) научные формулы и системы
обозначений условны; 2) цель науки утилитарна и даже гедонистична; В) прагматизм
религиозный, поскольку; 1 ) злоупотребление абстрактными терминами и споры в теологии
бесплодны и вредны; 2) и, напротив, догматы тогда бывают плодотворны и полезны,
когда влияют на наше поведение и соответствуют живой вере. В заключении от ( 1 ) к (2),
.азатем от (А) к (В) состоит вся суть доказательства: претензии атеиста отвергаются, ибо
он не вправе требовать большей ясности в предметах веры, нежели в предметах науки.
Очевидно, что в рамках подобной аргументации прагматизм Беркли имеет четко
очерченные пределы: он возникает не вследствие поражения или капитуляции разума, но на
основе договора с разумом, который соглашается умерить свои притязания. Подобный
прагматизм, однако, обладает немалой доказательной силой и соответствует коренным
убеждениям философа. При анализе этого сложного вопроса следует избегать двух
противоположных крайностей: 1) превращать позицию Беркли в релятивизм, агностицизм
или замаскированный скептицизм; 2) видеть в ней предельный рационализм,
поглощающий прагматические тенденции. На наш взгляд, Уайльд* впал в первое из этих
заблуждений, а Н. Балади в своем законном стремлении защитить рационалистические (вполне
реальные) элементы философии Беркли, склоняется ко второму.
1) В своей огромной, тщательно документированной работе Уайльд утверждает, что
у Беркли было по крайней мере три философии, следовавшие одна за другой: вначале
он являлсядеистом, приверженцем естественной религии, опирающейся на строгийря-
ционализм. В этот период он исповедовал нечто вроде психологического субстанциализ-
ма (solipsism, spiritism). Затем конкретные тенденции его философии начали
постепенно брать верх над абстрактной логикой, и после некоего компромиссного этапа
(соответствующего «Трем диалогам» и I книге «Принципов») он будто бы превратился в
прагматика искептика} разочарованного как своими личными жизненными неудачами, так
и невозможностью «доказать» религию. После чего Беркли стал защитником веры в
Абсолют, обретаемой в конкретном религиозном опыте, значение которого утверждалось
в его сознании одновременно с тем, как из крайностей самого скептицизма возрождалась
вера. Этот кризис «абсолютного скептицизма» и «абсолютного отчаяния» приходится
* Berkeley (Harvard, 1936).
fek )@^(У Введение к «Алкифрону» ^)^В^( jj\
якобы на заключительную часть «Алкифрона». Но по мере того, как сам прагматизм
обнаруживал свою пустоту и тщетность (ведь утилитарные ценности, как и все прочее,
относительны), происходило (через «Аналитик») полное преобразование отрицания в
утверждение посредством отрицания отрицания. И наконец, «Сейрис», собрав воедино
результаты этих последовательных этапов, явил нам трансцендентный реализм,. воз-,
двигнутый на обломках прежних систем.
Согласно данной теории, «Алкифрон» вплоть до Диалога V представляет собой
борьбу этих непримиримых тенденций; последние же два диалога — кульминация
скептического кризиса, за которым, правда, уже вырисовывается новое утверждение в
вере. Таким образом, ища спасение в Абсолюте, Беркли совершает прыжок в пустоту,
разочарованный и людьми и чистым мышлением. И сражаясь с деистами, Беркли
борется с самим собой.*
Эта, по меньше мере, рискованная интерпретация уже стала предметом строгой
критики.** Не выходя за рамки «Алкифрона», заметим, что она представляется нам в
высшей степени странной и произвольной, противоречащей как духу, так и букве
учения Беркли. Вера, возникающая из «абсолютного отчаяния» или «абсолютного
скептицизма», — такие выражения годились бы, вероятно, для Гегеля или Кьериего-
ра, но в данном случае неуместны. Подобная вера совершенно чужда ясной и
безмятежной вере Беркли, его воинственному пылу, его энергичному оптимизму, как
практическому, так и теоретическому. Мы не находим в нем ни романтической трагедии
одиночества, ни беспрестанного и почти что болезненного стремления германских
философов разрушать собственную позицию с тем, чтобы ее превзойти. Прилагать
подобную схему гегелевской «диалектики» к мыслителю 18 века — недопустимый
модернизм со стороны историка. Самое большое, о чем можно сказать в связи с эволюцией
Беркли от «Пассивного повиновения» к «Алкифрону» и затем к «Проповеди»
1752 г. — это о некотором смягчении рационализма и переносе основной точки зрения
в сторону религиозного прагматизма. Злоупотребление отдельными цитатами
способно лишь исказить перспективу: так, фраза Критона «The more doubt the more room
there is for faith» отнюдь не означает, что разум как таковой с неизбежностью влечет за
собой скептицизм. Смысл ее в конкретном контексте таков: атеисту, исходящему из
абсолютного сомнения, пристало довольствоваться приблизительными оценками,
предположениями и вероятностью, и, самое главное, он не вправе требовать полной
достоверности. Деятельное сомнение, дух поиска и беспристрастного исследования
противопоставляются ленивому сомнению «торопливого скептика» (VII, 29 и 32).
Желая избежать недоразумений по поводу собственного имматериализма, Беркли всегда
отвергал обвинения в скептицизме («Фил. зам.», 563, 606; «Три диал.» II, III); более
того — к скептицизму он неизменно относился с глубочайшим отвращением. И именно
в последних разделах «Алкифрона» он тщательно выстраивает разные уровни
вероятности и оперирует различными степенями согласия (27, 29, 32). Весь «Алкифрон»
проникнут духом конструктивной критики, являясь своеобразным памятником!
тонкой, медленной и осторожной работы разума.
2) Интерпретация религиозного мышления Беркли в работе Н. Балади кажется нам
верной и глубокой. Однако, мы не можем согласиться с автором, полагающим, что «го-
* Wild, op. cit., part III, eh. XIII.
·· N. Baladi, op. cit., ρ.196.
K^fe(r Ж. Пюселль ~^)^Γ3
ворить о религиозном прагматизме Беркли было бы преувеличением* .* Балади
подчеркивает, что Беркли не желает ставить религиозное сознание ниже научного мышления;
что он всегда высоко ценил рациональную теологию, и, наконец, что особый упор,
который делает Беркли на практической стороне религии, объясняется тремя причинами:
а) апологетическими намерениями автора: спасающая вера не должна
вырождаться в теологические споры и служить предлогом для расколов в среде христиан; богопо-
знание не должно быть чисто умозрительным, иначе оно утратит свой религиозный
характер; вера познается по своим благотворным следствиям;
б) оборонительной позицией по отношению к новаторам, которая внушила тонкие
определения, данные церковными Соборами и впоследствии принятые англиканской
церковью; в этом — предохранительная функция «негативной теологии»;
в) цель религиозного знания не в том, чтобы познать Бога «в его абсолютной
сущности», но «в его отношении к нам как Творца, Искупителя и Святителя».
Необходимо, чтобы Бог был нам сопричастен и действовал в нас.
Все это вполне справедливо. И однако, термин «прагматизм» не только не является
неуместным по отношению к Беркли, но, по нашему мнению, только он и способен
охарактеризовать этот важный аспект мировоззрения философа. Следует, впрочем,
четко определить смысл этого прагматизма, чтобы согласовать его с рационализмом
Беркли, также чрезвычайно искренним.
Беркли занимает прагматическую позицию, когда с презрением или опаской
отворачивается от спекуляций по поводу догматов и восхваляет то внутреннее
преображение, которое искренняя вера совершает в душе христианина, если этот последний,
не заботясь о тонких понятийных дистинкциях, стремится лишь воспроизвести в себе
самом божественный прообраз, если он принимает моральную позицию,
соответствующую тому направлению, которое запечатлевают в нашем духе догматы, одним словом,
если христианин стремится жить в вере, не предаваясь пространным рассуждениям и
размышлениям по ее поводу. А что бы таинства и догматы имели для нас смысл, мы
должны отказаться от теологических словопрений и осуществить эти таинства в самих
себе, идя навстречу божественному замыслу и ставя себя практически в то отношение
к Богу, которое выражено в догматах. Таким образом таинства, при всей своей
непостижимости для разума, являются истинными, мы же способны познать нечто в
таинствах косвенно, на собственном примере убеждаясь в их плодотворности. Такова
позиция Беркли в Диалоге VII. Те же идеи лежат и в основе «Проповеди» 1732 г., в
которой Беркли утверждает, что «спасительное познание Бога неотделимо от познания
и осуществления воли Его». Метафизическому познанию Бога, метафизическим
теориям Божества, общим для христиан и язычников, он противопоставляет
практическое познание, характерное именно для христиан и представляющее собой развитие и
углубление теоретического подхода (Фрейзер, IV, 397).
Несомненно, однако, что Беркли отвергает релятивизм, сурово осуждает
агностицизм и стремится к «разумной вере» («Алк.» VI, 30; VII, 31 и «Пасс, повин.»). Нет
ничего более чуждого его мировоззрению, чем современные теории «жизненно
необходимого обмана», «утешительных иллюзий» со всем их безнадежным субъективизмом.
Правда, некоторые пассажи из «Речи, обращенной к магистратам...» могут дать повод
к подобной интерпретации, но контекст доказывает, что это было бы грубым искажением
* Op. cit., ch.IX, p. 171.
llsk №@&3^ Введение к «Алкифрону» ^)^ffl( J$j
их смысла. Ведь если существуют, как об этом не боится сказать Беркли, 4полезные
предрассудки* (Фрейзер, IV, 487, 490), то отсюда вовсе не следует, что заблуждение
может быть полезным и благотворным: в самом деле, главная ошибка вольнодумцев
состоит в том, что они полагают, будто всякий предрассудок есть по необходимости
заблуждение (там же, 487-488). Но это не так: предрассудок — это всего лишь мнение,
основания которого нам не известны и доказательства в пользу которого мы пока не
способны привести (там же, 487). И парадокс исчезает: если предрассудок может быть
полезным, то лишь по той причине, что он может быть истинным. Нам, однако, доступны
лишь практические следствия и приложения этой истинности, поскольку мы не
проникаем в ее основания и не исследуем ее теоретически. Так и обстоит дело с большинством
людей, ведь не все могут быть философами (там же). Подобный подход к истине
удовлетворяет ремесленников и мастеров и дает превосходные результаты — точно так же
должно быть в политике, религии и морали. В этом смысле всякое образование
начинается с предрассудка, что вполне разумно и справедливо, ведь если заблаговременно не
внушить молодым людям предубеждение в пользу добра, у них непременно
вырабатывается предрассудок противоположного свойства. И даже в более зрелом возрасте
слишком немногие из людей обладают способностями, досугом и охотой к умозрению. В
громадном большинстве случаев люди используют принципы, не ведая об их
происхождении, — так неужели следует лишать их истины, доказательства которой они не в силах
представить? « Безотчетная вера» — вот самая разумная и самая распространенная
позиция («Алк.», VI, 19, 32; VII, 33). Общество держится лишь взаимным доверием, и
большинство из нас живет, пользуясь капиталом истин, известных нам только в их
практическом приложении. То, что происходит вокруг нас, наводит на мысль, что в оплату
за наше доверие нам вручили аванс, некий задаток в счет тех сокровищ, которые мы
никогда не сможем созерцать в их истинном виде, но проценты на которые мы получаем
уже cernée. Эстетический прагматизм Диалога IV также никоим образом не
исключает созерцательный идеал, который Беркли восторженно превозносит в том же диалоге
(IV, 10-11). Здесь мы приближаемся к согласию между рационализмом и
прагматизмом. Согласие это будет полным, если допустить существование двух путей, ведущих к
Богу, первый из которых, в свою очередь, делиться на два направления:
I. — Путь созерцания включает в себя:
1 ) Прямое познание — или, по крайней мере, познание, осуществляющееся через
опосредующее звено, достаточно быстрое, надежное и непогрешимое для того, чтобы познание
казалось непосредственным. Подобное познание завершается в понятии божественного все-
присутствия. Это диалог души с Богом посредством чувственных знаков («Алк.» IV).
2) Познание непрямое и аналогическое, которое дает нам приблизительное
представление о божественных атрибутах («Алк.» IV и «Гардиан», II, XIII).
II. — Практический путь, который, не отрицая пути созерцательного, переносит
во внутренний мир человека его приемы и результаты. В данном случае вера дает
плоды через развитие христианских добродетелей. Стоит подчеркнуть, что согласно
«Проповеди» 1732 г. само это практическое действие также является действительным
познанием, — позиция, типичная для прагматизма.
Первый путь относится к разуму, второй — к вере; первый вполне достоверен,
второй может допускать вероятность. Вспомним также, что доказательство,
представленное в Диалоге IV, выходит за пределы традиционных метафизических аргументов.
И наконец, нужно учесть, что в англосаксонском духовном климате самый строгий
Ю^/F П^ложе-я ^Щ^Д
моральный рационализм нисколько не исключает явных утилитарных тенденций, и,
соответственно, самый откровенный утилитаризм может уживаться в мышлении
автора с глубинным рационализмом. Камберленд (De Legibus Naturae, 1673 г.) и Исаак
Барроу (проповедь «О пользе благочестия*) — типичные тому примеры.*
Таким образом, прагматизм Беркли столь же несомненен, как и его рационализм, -
и однако, первый ограничивается вторым. У. Джеймс мыслит совершенно в духе
Беркли, когда предлагает разрешать спекулятивно неразрешимые метафизические и
теологические проблемы через подлинность жизненного переживания.**
Однако в своем аффективном понятии «религиозного опыта» он отходит от Беркли.
Беркли не доверяет сомнительным внушениям и озарениям индивидуума. Он презирает
квиетистов, квакеров, сектанство вообще. По его убеждению, в общинах, отделившихся
от древа традиции, религия чахнет и приходит в упадок. Ни конвульсионеры из секты
«revivals», ни внезапные, аффективные в своей основе обращения из «Многообразия
религиозного опыта» не пришлись бы ему по вкусу. По мнению Беркли, вера должна
быть подлинным переживанием — но в связи с разумом и как его органическое
следствие. Основания и мотивы, основанные на вероятности, сохраняют свой рациональный
характер и в смягченном варианте рационализма. Наконец, все, сколько-нибудь
похожее на антропоморфизму решительноютвергается («Алк». IV, 24). В общем, у Джеймса
прагматизм получает расширительное толкование, тогда как у Беркли его
использование ограничено. Тщательно-и осторожно руководимый благоразумием и здравым
смыслом, регулируемый традицией, он вступает в силу и начинает действовать лишь по
отношению к тем представлениям, которые разум сам по себе усвоить не способен.
Прагматизм завершает, а не перечеркивает дело разума, он обосновывает критерий согласия
в предметах веры без ущерба для созерцательной функции мышления и не потворствуя
склонности к мистицизму и мечтательности. Отсюда некоторые колебания в
высказываниях Беркли, когда он метит в гностиков или, напротив, стремится защитить
исключительный характер истин откровения («Алк.» VII, 30-31 ).
С учетом приведенных выше оговорок можно утверждать, что прагматизм лежит в
основе религиозного мышления Беркли, как оно выражено в Диалоге VII. Он не
является ни случайным довеском, ни временной позицией, но существенным аспектом его
религиозной философии в целом.
A**$^]ßfcj>iib
* Р. Е. More, F. L. Cross, Anglicanism, pp. 744 sq.
** W. James, Pragmatism, lectures II, III, VIII.
ν
Женевьева Брикман
« Алкифрон »,
или Сила слов
8&ь jA
L Образ Алжифрона
\BSbk.
диалоге «*Алкифрон» оригинальные элементы философии Беркли
отсутствуют, и, как указывает Джессоп, бесполезно искать в этом
сочинении «берклианство». Конечно, и в «Алкифроне» вполне
отразились глубина ума и душевный пыл автора, — однако,
предпринимая в 1730 г. апологию христианской религии, Беркли не счел нужным опираться
при этом на собственную философию, тем более, что его имматериализм встретил
весьма неблагосюишный прием.1
Нередко выскалььвалось мнение, что после того, как между философией Беркли и
«Алкпфроном» проведено четкое различие, остается возможность думать, будто
имматериализм как таковой продолжает существовать «в голове» автора. Иначе говоря,
по-прежнему можно якобы утверждать, что имматериализм, никак не проявившись
внешне, сохраняется тем не менее в скрытом, потенциальном состоянии. А потому
нам следует заново проанализировать те тезисы и фрагменты «Алкифрона», которые
прямо порождают двойной вопрос об их совместимости с имматериализмом и о
преемственности в развитии философии Беркли. Отметим, во-первых, что с момента
выхода в свет (март 1732 г.) «Алкифрон» имел большой резонанс, с которым
совершенно несопоставимо впечатление, произведенное на публику работами молодого
Е®а
Беркли, — а значит, нужно остановиться на том, в какой мере современники
воспринимали (или не воспринимали) связь между анонимным «Алкифроном» и ранними
сочинениями, опубликованными под именем автора. Во-вторых, учитывая особый
интерес, который в начале нашего века вызвала проблема «эволюции мировоззрения
Беркли», необходимо, наконец, установить, вправе ли мы объяснять
принципиальной неизменностью имматериализма обнаруживаемые в «Алкифроне» отзвуки
ранних работ Беркли. В-третьих, если учесть тот скрытый смысл, который в контексте
написанного в 1707-1708 гг. имеют относящиеся к 1710 г. положения о
субъективности и о словах, не предполагающих идей, то окажется, что инициированная Лисиклом
дискуссия о значении слова «Бог», а также беседа между Алкифроном и Ефранором
о понятиях «благодать» и «сила» (IV, 16-24; VII, 2-24) приобретают особую
направленность, которая способна от нас ускользнуть — и именно вследствие
поспешного сближения данных фрагментов с «Введением» 1710 г.
Сразу же отметим: «Алкифрон» вовсе не означает возвращения Беркли к
философии как таковой. Речь здесь, однако, идет по крайней мере о попытке возвращения к
исходной точке: поскольку существуют целесообразно и осмысленно употребляемые
слова, которым никакие идеи не соответствуют, то отсутствие идеи, стоящей за словом
«материя» — положение, установленное в 1710 г., — теперь, в 1732 г., очевидно,
утрачивает функцию инструмента критики. Лисиклу, который, возгордившись подвигами
своей секты, заявил: "Как много запутанных, нелепых идей и бессмысленных слов
обреталось в человеческом разуме до того, как явились в мир наши философы!", Кри-
тон отвечает: "Что до меня, то я бы скорее предпочел, чтобы моя жена и дети верили
в то, о чем они не имеют никакого понятия, и ежедневно произносили слова,
лишенные смысла, чем увидеть, как кто-то из них однажды перережет себе горло или
выпрыгнет из окошка" (II, 24).
В 1732 году Беркли распределил свои тезисы между четырьмя главными
персонажами, и это обстоятельство заслуживает комментария, в особенности — относительно
роли Алкифрона, т. е. «вольнодумца». Перед нами два защитника англиканской рели-
ги — Ефранор и Критон — и два свободомыслящих — Алкифрон и Лисикл. Однако
сам Беркли, в отличие от вымышленного рассказчика Диона, вовсе не является
сторонним наблюдателем. Напротив, отдельные этапы эволюции, пережитой им со
времени выхода в свет «Принципов», будучи отнесены к каждому из четырех персонажей,
образуют существенный элемент общей структуры диалога. Нужно ли, как
предполагает Уайльд, объяснять подобное распределение «глубоким разочарованием» Беркли2
реакцией публики на его первые работы, следствием чего и является будто бы
скептицизм, выразившийся в передаче собственных мнений разным персонажам? Пока об
этом судить трудно. Ясно, однако, что скептицизм — а в 1710 г. это был враг номер
один — ныне превратился в ценного союзника религии, и Критон, бесспорно,
выражает позицию самого Беркли, когда говорит: «Чем больше сомнений, тем больше места
для веры» (VII, 24 (27)) (в скобках — нумерация параграфов по изд. 1732 г.; первая
цифра — по изд. 1752 г. — прим. пер.) С другой стороны, иногда может показаться,
что истинным рупором автора явлется Ефранор: именно он в ключевых эпизодах IV и
VII диалогов использует некоторые положения ранних работ философа, именно он
несколько раз упоминает о своей жизни в деревне, «в уединенном уголке» (1,9),
описывая, по-видимому, пребывание Беркли в Америке. Между тем подобное описание
jP^<< Алкифрон», или Сила слов^)^8^{ sM
можно поставить в связь с весьма распространенной в начале 18 века параллелью
между одиночеством и солипсизмом, а также, в более частном плане — с тем
солипсизмом, который иные вычитали в «Принципах», и которого Беркли явно стремится
избежать (I, 4; VII, 3, 5, 6, 9, 20).
Однако наибольшего внимания заслуживает образ Алкифрона. Именно ему
обязана книга своим названием, именно его речи, как нам кажется, представляют
одновременно и свободомыслие, и молодость самого Беркли. Так, знакомя читателя во
вступительной части с главными героями, Дион специально уточняет по поводу Алкифрона:
'Бедный Алкифрон, должно быть, много пострадал за свое свободомыслие, ибо
изъяснялся этот джентльмен с раздражением и горячностью, которые свойственны
людям, претерпевшим в жизни немало зла и обид" (I, 4).*
. Алкифрон не однажды намекает на новые истины, за которые, по его словам, он
готов сражаться, — надеясь, впрочем, что со временем они непременно возьмут верх
сами собой. А цитата является своеобразным свидетельством известного отхода
Беркли от собственных ранних сочинений: "Если я, будучи мертв, ничего чувствовать не
буду; как думают некие « мелкие философы», то я не боюсь, что эти философы будут
насмехаться над этим моим заблуждением".
Не следует изумляться сверх меры, если Беркли дистанцируется от сочинений
своей молодости настолько, что сочинения эти — или, по крайней мере, оказанный им
прием - представлены в «Алкифроне» через образ свободомыслящего. В статьях для
газеты «Гардиан» уже подчеркивалось, что преследуемую цель и используемые для ее
достижения средства нужно четко различать, а при необходимости — решительно
отделять друг от друга. Исходя из подобного различения между целью и средствами,
Критон и Ефранор приходят к выводу, что мудрость философа измеряется не
умозрительной истинностью его утверждений, но скорее их практической пользой для
общества (I, 10-14; И, 24-25; III, 4, 16; IV, 2; V, 6-9; VI, 28; VII, 10, 11-14, 17, 24-31):
существуют истины полезные, истины нейтральные и истины вредные; эти последние
надлежит скрывать, а если и оглашать, то ограниченным образом, «в каком-нибудь
отдаленном уголке Земли». «Методически практикуемая близорукость* (одно из
средств, использованных в 1710 г.) предоставляла возможность рассматривать
предметы с более близкого расстояния и различать в них то, что ускользало от лучших глаз
(Введ. к Принц., 5). Однако в 1732 г. Критон следующим образом возражает Алкиф-
рону, оставшемуся стойким приверженцем тщательного анализа: "(...) если предмет
(...) рассматривается отдельно от прочих, то в ходе долгой полемики, тщательного
исследования и детальнейшего изучения он приобретает особую важность в глазах
того самого человека, который бы и вовсе его не заметил на фоне широкой и
всеобъемлющей картины" (V, 20). Со своей стороны и Ефранор, вместо того чтобы превращать
««близорукость» в метод исследования, теперь заявляет: "Что до меня, то я имею
слабое от природы зрение и знаю, что существует множество вещей, для меня
незримых, — зато другие люди видят их вполне отчетливо, И потому я не стану заключать,
что нечто является абсолютно невидимым только потому, что оно таково для меня"
(VI, 7). В 1732 г. свободомыслящий (««вольнодумец», «мелкий философ») это уже не
только человек, страдающий близорукостью (short-sightedness) и принимающий
средства за цель, — каким он описан в статьях из «Гардиан» — но также тот, кто, увлек-
* Неточность: эти слова принадлежат Ефранору (прим. пер.).
ШЯЖ
Е^ Ж-Брикман Щ^СШ
шжь придирчивым и дотошным анализом значения слов, забывает, что обыденный
■язык и условия человеческого общежития заставляют нас ограничиваться «широким*
гмыслом и рассматривать вещи в общих чертах (III, 4-5; IV, 13; VI, 7-9, 12, 30-32;
VII, 12-13, 18, 19, 21-23).
Кем же, собственно говоря, являются эти «мелкие философы» 1732 г.? Именно
так, устами Критона и Ефранора называет свободомыслящих Беркли. Алкифрон же
характеризует членов своей секты как «вольнодумцев» или «крепких умов» (I, 10,
13). Может показаться, что первое из этих определений («мелкий философ»)
является вполне уничижительным, а второе («вольнодумец») — похвальным. В 18 веке
вообще и у самого Алкифрона в частности понятие «вольнодумец»
(«свободомыслящий») ассоциировалось с представлением о мужестве, отваге и даже дерзости,
позволяющим некоторым людям идти наперекор господствующим мнениям, — отсюда
употребление этого слова с целью возвысить секту свободомыслящих. А что касается
понятия «мелкий философ», то оно столь же двусмысленно, как и образ Алкифрона:
обозначая противника, оно в то же время косвенным образом относится к молодости
самого Беркли, ибо, как не без основания замечает Алкифрон, упомянутые у
Цицерона «мелкие философы» неотделимы от идеи строгого и тщательного исследования (I,
10): Генезис этих двух понятий в творчестве Беркли происходил под влиянием Бейля,
Пьера Шаррона, Паскаля, Лабрюйера и, наконец, Цицерона, причем
последовательность, в которой Беркли знакомился с их трудами, не совпадает с хронологическим
порядком их появления. «Словарь» Бейля оказывал на Беркли мощное воздействие
начиная с 1708 года, тогда как в 1732 году у Беркли в той или иной мере всюду
становится очевидным влияние Цицерона, которое служит в «Алкифроне»
утверждению непререкаемого авторитета традиции и безусловной ценности общепринятых,
устоявшихся идей. Кроме того, уточняет Ефранор, Цицерон прекрасно чувствовал силу
слова, а потому и назвал свободомыслящих «мелкими философами» (I, 10).
Бейль описывал вольнодумцев как "скептиков и маловеров, которые не видят в
полемических сочинениях ничего, кроме бесконечных доводов и контрдоводов".3
А имплицитно представленная в «Словаре» типология форм духовного склада
противопоставляет вольнодумство не столько суеверию и слабохарактерности, сколь-
кос фидеистическому смирению и покорности тех, кто принимает таинства веры,4
даже если они возмущают человеческий разум. В рамках подобной классификации
Гоббс и Спиноза представляют для Бейля парадигму вольнодумства5 — подобного
мнения держится и Беркли в «Алкифроне» (VII, 23). Бейль, однако, пошел дальше
краткой и схематичной типологии характеров. По поводу понятия «вольнодумец» он
ссьышется непосредственно на Шаррона,6 указывая одновременно на мужество,
упрямство и трусость как на отличительные признаки подобного типа. В данном случае
'Бейль стремится защитить сочинения Шаррона7 от обвинений в атеизме, исходивших
от о. Гарасса:* по мнению Бейля, для того чтобы вполне освободиться от веры в
бытие Божие, требуется необыкновенная сила ума — но ведь и для того, чтобы
пребыть твердым в истинной вере, тоже необходима величайшая сила духа. Шаррон
отметил, что как раз подобной силы часто недостает атеистам, которые на смертном
одре ведут себя словно малые дети.8 Он показал (вопреки утверждениям Гарасса и не
* Франсуа Гарасс (1585-1630), иезуит, религиозный памфлетист, известный злобностью и
лживостью своих сочинений. Осн. работа — «Любопытная доктрина» (1623) (прим. пер.).
противореча самому себе), что атеисты отличаются и стойкостью, и ребяческой
слабохарактерностью: они сильны духом во дни счастья и малодушны в пору невзгод.
Таким образом, "противоположные качества, какие он им приписывает, это
состояния, следующие друг за другом. Следовательно, приписывать их одному и тому же
субъекту не значит противоречить себе".9 А потому, замечает Бейль, мысли П.
Шаррона можно согласовать с «Характерами» Лабрюйера, который начинает
описание типа вольнодумца с такого вопроса:10 "Известно ли вольнодумцам, какая ирония
таится в этом выражении?" И не впадая в противоречие, можно повторить вслед за
Лабрюйером: "Вольнодумец, мнящий, что он — человек, сильный духом (...) —
человек, слабый духом."
Очевидно, знакомство с Лабрюйером имело место в 1713 г. вслед за чтением
«Словаря» Бейля. Именно чтение «Характеров» позволило Беркли в статьях для
«Гардиан» поставить свободомыслие в связь с близорукостью.н Как и Лабрюйер,
Беркли уподобляет близорукость ограниченности умственного кругозора, что
неудивительно, ведь и в самых ранних своих работах он отождествляет дух с полем
зрения. Вопреки притязаниям на свободу и широту мысли, близорукость, или
духовная ограниченность, есть для Беркли (как и для Лабрюйера и Ларошфуко12) не что
иное, как рабское служение собственному эгоизму, замыкающему всякого человека в
тесном кругу мелких забот и интересов. Таким образом, Шаррон и Лабрюйер
предоставили Беркли обширный материал для классификации характеров или
врожденных психологических типов, многочисленные следы которой обнаруживаются в «Ал-
кифроне» и в последующих сочинениях. Что же касается «мелкого философа», то в
этом понятии к характеру или врожденному темпераменту присоединяется
благотворное или губительное действие воспитания. И если в представлении о вольнодумце
сохраняется известный оттенок благородства и величия души, то выражение «мелкий
философ» приобретает, как это уже было у Цицерона, вполне отрицательный смысл.
Согласно Беркли, Цицерон называл «мелкими философами» тех мыслителей, чья
позиция состояла в умалении и принижении всякого предмета исследования; кто
доказывал смертность и материальность души, сводил благо к удовольствию,
свободу—к отклонению атомов и т. д. А поскольку Ефранор и Критон намерены
«сражаться с вольнодумцами их собственным оружием», то и начинают они с того, что,
назвав вольнодумцев «мелкими философами», делают их объектом всеобщего
презрения. Цитата из Цицерона, помещенная на титульном листе, взята с последней
страницы De Senectute. Судя по контексту, Цицерон в данном месте подразумевает под
«мелкими философами» эпикурейцев. В других работах Цицерона «мелкими
философами» являются те, кому недостает величия души, либо софисты, любители
диалектических тонкостей, «стремящиеся доказать, что многие вещи, которые кажутся
существующими, на самом деле не существуют».13 Но поскольку эти два свойства
одно другое не исключают, то отсутствие величия духа и пристрастие к софистике
порождает в итоге «ничтожных философов».14 В представлении Беркли между
современными вольнодумцами и древними эпикурейцами существует важное сходство: с
одной стороны, они ограничивают смысл человеческого бытия земной жизнью и
материальными интересами (тема «близорукости», 1713 г.), с другой — сводят
высшее благо к удовольствию (принижение абсолютных ценностей, проблематика
1732 г.) При этом, однако, Беркли сознательно устраняет из выражения «мелкий
философ» те элементы смысла, которые можно было бы отнести на счет его
собственной «близорукости». Ведь у Цицерона в « Академических исследованиях» «мелкие
философы» — это люди, которые в ущерб общепринятым верованиям и их
общественной пользе предаются тонкими умствованиями и дотошным разысканиям. Между
тем все подобные характеристики вполне приложимы к имматериализму Беркли, и
Филонус в «Трех диалогах» готов был признать, что философия — это одно, а
практика — Другое.
Стоит привести отдельные тексты, в которых аллюзии Алкифрона вместе с
возражениями Ефранора и Критона подтверждают гипотезу о частичном совпадении взглядов
Алкифрона с принципами молодого Беркли и об отходе последнего от имматериализма.
1. Алкифрон. Существует правило: человек должен мыслить как ученые, но
говорить — как толпа. И правило это верное (...) Все наши открытия и теории истинны и
достоверны — но пока известны они лишь людям избранным, а для толпы звучат дико
и странно. Должно, однако, надеяться, что со временем все будет по другому (I, 12).
2. Алкифрон. Польза — одно, истина — другое. И потому настоящий философ,
презирая все выгоды и удобства, устремляет свой взор лишь на истину как таковую!
Ефранор. Скажите, Алкифрон, а этот ваш «настоящий философ» — мудрый
человек или глупец? (...) И мудрость свою обнаруживает он в выборе средств,
подходящих для достижения цели? (I, 16).
3. Ефранор. Значит, вы верите в существование антиподов, гор на Луне и в
движение Земли?
Алкифрон. Верим.
Ефранор. А теперь представьте, что пять или шесть веков тому назад кто-нибудь
стал бы защищать подобные мнения в обществе beaux esprits английского двора, —
как бы эти идеи были, по-вашему, приняты?
Алкифрон. Их бы подняли на смех.
Ефранор. Зато теперь смеяться над ними было бы нелепо?
Алкифрон. Да.
Ефранор. А значит, насмешка не является пробным камнем и высшим мерилом
для истины (III, 15).
4. Ефранор. Стало быть, нужно обратиться к здравому смыслу, чтобы
определить, благотворна данная истина или гибельна, следует ли ее утаить или
провозгласить во всеуслышание?
Алкифрон. Что? Вы хотите, чтобы я скрывал истину, чтобы я душил ее и хранил
лишь у себя? Вы этого желаете?
Ефранор. Я всего лишь делаю ясный вывод из того, с чем вы уже согласились.
Сам же я в истинность ваших мнений не верю. Но даже если вы в это верите, то, чтобы
не впасть в противоречие с самим собою, вам не следует думать, будто оглашение
вредных истин есть дело мудрое или необходимое (III, 16).
5. Алкифрон. Один человек может постичь больше, чем миллион людей, а
маленький довод в умелых руках свободомыслящего в силах уничтожить громадную
химеру (IV, 1) (...)
Все доводы, основанные на пользе и удобстве, не имеют отношения к нашему
предмету: они, правда, способны доказать полезность вещи, но отнюдь не ее
существование (IV, 2).
OSO
IJtkre^S^y «Алкифрон», или Сила слов
6. Критон. Общепризнано, что нельзя судить о той или иной части
механизма, не зная целого, не зная взаимных связей и отношений его элементов, а также
цели, ради которой данный механизм создан. Но коль скоро это так (...) то не
должны ли мы воздержаться от суждения о непостижимых для нас частях
Царства Божия до тех пор (...) пока не проникнем в планы божественного Промысла и
не обретем всеобъемлющего предствления о Его решениях, прошлых, нынешних и
будущих? Но увы! Что вам, Лисикл, известно ну хотя бы о себе самом? Откуда
вы пришли? Кто вы? Куда вы идете? И мне кажется, что мелкий философ похож
на самоуверенного зрителя, который никогда не заглядывал за декарации и,
однако, желает судить о сценических машинах, который, бросив беглый взгляд на
малую часть одного-единственного действия, берется осуждать сюжет пьесы цели-
kom~(VI, 16).
7. Алкифрон. В человеческих науках и познаниях считается допустимым приемом
обнажить любую теорию или принцип, сорвав с них словесные облачения, чтобы
исследовать, какие же идеи находятся под ними и есть ли там какие-либо идеи вообще. И
часто обнаруживается, что это и есть кратчайший способ прекратить споры (...) (VII,
3).
8. Критон. (...) Я полагаю, будет не так уж трудно понять и оправдать смысл и
цель нашей веры в таинства — вопреки самонадеянным и категоричным заявлениям
мелких философов; последних, впрочем, легко поймать в те самые силки, которые
они изготовили и расставили для других. А что касается страсти к спорам (...) то
тот, кто образует свои понятия о вере, мнении и согласии, опираясь на здравый
смысл, пользу и обычай, кто подверг зрелому размышлению природу знаков и
языка, тот, конечно же, не почувствует особой склонности (...) нарушить
церковный мир ради того только, чтобы сохранить или отвергнуть какой-либо термин
(VII, 10, 13).
9. Алкифрон. Первооткрывателей истины вечно обвиняют в том, что они
отступают от общепринятых воззрений. Репутация «странности» — обычный упрек
свободомыслию, и мы его охотно принимаем и даже гордимся им. Ибо настоящий философ
никогда не страдает ложной скромностью: он не поставит авторитет выше разума или
старое всеобщее мнение — выше мнения истинного. Именно эта ложная скромность,
которая обескураживает людей, не позволяя им ступать нехожеными тропами и
зажигать новый свет, и есть величайший враг свободомыслия.
Критон. (...) Мы отнюдь не привержены авторитету в ущерб разуму, как не
страшат нас нехоженые тропы, ведущие к истине, и мы всегда готовы следовать новому
свету — если, конечно, уверены в том, что это не ignis fatuus. Разум, бесспорно, может
заставить человека верить вопреки склонностям — но с какой же стати отказываться
нам от благотворных представлений ради каких-то других идей, столь же неразумных,
сколь пагубных? (VII, 21, 24).
Отделение истины учений и доктрин от их пользы, полное и безоговорочное
подчинение теории практике вместе с настойчивым призывом соблюдать в
новшествах благоразумную осторожность, ибо общество не всегда оказывается достаточно
«зрелым» для их восприятия, — все это позволяет предположить, что в 1732 году
Беркли не просто временно умалчивает о собственном имматериализме, но отступает
от него. И отчуждение это достигает такой степени, что для Беркли становится
УША
возможным представить в «Алкифроне» имматериализм — хотя бы отчасти — через
образы вольнодумцев. В начале 18 века образованная публика еще не «созрела» для
имматериализма; мало того, подобная публика сочла, что критика понятия
материальной субстанции приложима ipso facto и к словам 4Бог» и «душа». А значит,
имматериализм вполне можно было отнести к числу истин,вредных для интересов
англиканской церкви.
И все же Беркли в 1732 г. не сделал открытого и недвусмысленного признания в
том,что его философия есть опасное новшество и что польза общества требует
обходить ее молчанием. Он ограничился публикацией анонимной работы, в которой
известные общие утверждения были распределены между различными персонажами.
Подобные утверждения можно отнести к имматериализму, но лишь при следующих
двух условиях: 1) если нам с точностью известно, каким образом осуществлял Беркли
критику понятия материи; 2) если мы знаем, какой прием встретила эта критика у
публики. А потому приведенные нами выше тексты могут содержать аллюзии на
работы молодого Беркли лишь для соответствующего читателя. Но даже в этом случае
общий и неопределенный характер сказанного о новшествах и вредных истинах
позволяет Беркли извлечь пользу одновременно и из невинности сознательного умолчания,
и из действенности недвусмысленной речи.
IL Отклики на «Алкифрон»
«Алкифрон, или Мелкий философ» вышел в Лондоне и Дублине уже через два
месяца после возвращения Беркли из Америки. Своим объемом он намного
превосходит прочие сочинения философа, и именно этот диалог привлек наибольшее
внимание широкой публики.15 В том же году последовало второе лондонское издание
книги; два французских перевода появились почти одновременно в Гааге и Париже в
1734 г. Общий эффект, произведенный «Алкифроном», можно охарактеризовать как
самый настоящий скандал.16 В самом деле, вместо того чтобы атаковать понятие
материи — а подобная критика навлекла на него в свое время пренебрежение и
насмешки большинства читателей — Беркли на сей раз ополчается непосредственно
против знаменитых деистов и материалистов: Коллинз, Толанд, Мандевиль, Шефтс-
бери выводятся на сцену, либо участники диалогов прозрачно намекают на их
воззрения, и таким образом предпринятая Беркли критика превращается в личную
полемику с конкретными противниками. Не стоит также удивляться масштабам скандала,
ведь не только вольнодумцы, но даже самые известные теологи увидели в авторе
«Мелкого философа» врага собственных верований. Действительно, претензии
богословов и вольнодумцев в одном пункте совпадали: теории Мандевиля, Шефтсбери,
Платона или св. Фомы в передаче Беркли были якобы чрезмерно схематизированы, а
их интерпретация приближалась порой к прямому искажению смысла. В своем
«Письме к Диону» Мандевиль даже предположил, что Дион и его приятели вообще
не потрудились прочесть «Басню о пчелах», а всего лишь превратили ее
подзаголовок («Пороки частных лиц — блага для общества») в карикатурное изложение
басни, которое мы находим в Диалоге II. Последователи Шефтсбери, теологи,
духовные лица также сетовали на неточности или громко возмущались еретическими укло-
1^к?^^^(У^4с^лм|фро1|)>»или ^ила ^од^)^^^ГД
нениями. Мы, однако, не считаем нужным детально анализировать критику
подобного рода. Как уже отмечали, и не без основания, многие комментаторы, Беркли вовсе
не был обязан держаться неукоснительной точности в изложении чужих теорий. В
пылу и увлечении спора, где собеседники импровизируют, где Лисикл с Алкифроном
оправдывают познания, приобретенные понаслышке, из вторых рук, а Ефранор
говорит о себе как о человеке, обитающем в «глуши», вдали от спекулятивных новаций
эпохи, — в таких условиях Критон отнюдь не был обязан восстанавливать истину в
одиночку и выступать с учеными диссертациями, чтобы исправить ошибки и
искажения, допущенные другими персонажами при передаче определенных доктрин.К тому
же для Беркли важнее здесь не демонстрация чисто теоретических противоречий и
неувязок в бегло и приблизительно анализируемых учениях, но выявление их
практического вреда, вполне достижимое и через описание светских разговоров.
Первейшая же опасность заключается в способе распространения принципов, чья истина
есть всего лишь средство (или препятствие) на пути к счастью. Отсюда следует, что
при распространении любой доктрины широта и размах приобретаемого ею влияния
важнее точности ее передачи.
На первый взгляд это может показаться удивительным: в подзаголовке к
«Алкифрону» Беркли обещает «апологию христианской религии против тех, кого именуют
свободомыслящими» — и однако, его самого тут же объявляют вольнодумцем.
Читатели «Алкифрона» (за исключением Мандевиля) не нашли особых причин признать в
Дионе «автора Мелкого философа», напротив, большинство из них не замедлило
увидеть в нем союзника Алкифрона и Лисикла. Впрочем, у богословов и людей церкви
были вполне определенные основания счесть себя задетыми, а потому в тех 150
страницах из «Вещей божественных и человеческих...», которые П. Браун специально
посвятил «Алкифрону», на защиту самой себя встает вся теология эпохи. В общем,
читателям показалось, что аргументы вольнодумцев против естественной религии и
религии откровения изложены весьма талантливо и представлены во всем блеске, — как
будто делалось это с особым удовольствием — тогда как возражения Критона и Ефра-
нора выглядят жалко и неубедительно, и тщетно Беркли стремится с их помощью
принудить разум к молчанию после того, как позволил ему сказать слишком многое.
«Алкифрон» вышел в свет как сочинение анонимное, между тем ранние работы
Беркли печатались под именем автора. В 18 веке анонимная публикация была в
порядке вещей, хотя никаких сомнений относительно авторства обычно не возникало.
А если учесть, что к «Алкифрону» прилагалось переиздание (также анонимное)
«Опыта о зрении», то происхождение семи диалогов становилось совершенно
очевидным, так что уже в апреле 1732 г. разразился скандал; конкретных возражений никто
не делал, но все приписывали авторство «Алкифрона» Беркли. И однако, в отличие
от того, что имело место в «Принципах», в «Алкифроне» Беркли нигде не говорит о
том, что автор «Мелкого философа» и НТЗ («Опыт новой теории зрения» — прим.
пер.) — одно и то же лицо. Чтобы не противоречить анонимности издания, Беркли
ссылается без указания имен на опубликованную в приложении НТЗ, а также на
«Введение к Трактату о принципах человеческого познания»(1710г.), «где вполне
выявляется абсурдность абстрактных идей»(УП,6 1-го изд.; прим. к VII, 8). И в
течение нескольких месяцев Беркли входит в роль настолько, чтобы даже в письме к
Джонсону от 23 июля 1732 г. рассуждает об «Алкифроне» так, как говорил бы о нем
is^&f ж.бр,км«, ^ШЕга
какой-нибудь представитель английского образованного общества: "Недавно вышел
из печати Трактат против тех,кого именуют свободомыслящими. Поначалу я
намеревался послать его вам, однако по зрелом размышлении рассудил, что знакомство с
упомянутыми в нем пагубными принципами способно принести больше вреда, нежели
пользы" (Works, VII, с. 214).
В течение всего лондонского периода (1732-1735) Беркли печатается как «автор
Мелкого философа» (исключением стало лишь переиздание под собственным именем
«Принципов» и «Трех диалогов»). Даже в «Теории зрения, защищенной и
объясненной» он не сразу, но постепенно и «нечувствительно» подводит читателя к мысли о
том, что автор «Алкифрона» и «Опыта» — одно и то же лицо: сначала Беркли
безличным образом утверждает, что прилагаемая к «Мелкому философу» теория зрения дает
новое и неопровержимое доказательство вездесущности Божества, ,7 затем осторожно
и сдержанно указывает, каким целям служила его теория зрения (а прежде чем об
этом упомянуть, цитирует своего корреспондента, который приписал ему авторство
«Опыта»18); наконец, в финале сочинения Беркли уже вполне определенно, хотя и без
особой настойчивости, признает себя автором «Опыта новой теории зрения»,И1
С точки зрения вопроса о связи «Алкифрона» с ранними работами Беркли особого
внимания заслуживает одно из многочисленных сочинений, свидетельствующих о
восприятии этой книги. Речь идет о "Защите преподобного д. Б....и от скандального
обвинения в том, что он является автором недавно вышедшей в свет книги под
названием «Алкифрон»".20 В этой небольшой брошюре, опубликованной в 1734 году,
доказывается, что человек, написавший «Принципы» и «Диалоги Гиласа и Филонуса»,
никак не мог быть автором мерзкого и отвратительного «Алкифрона». Если судить по
сочинению в целом, а в особенности — по цитате из ТЗЗО («Теория зрения,
защищенная и объясненная» — прим. пер.), взятой в качестве эпиграфа, то можно усомниться
в том, что речь идет о «защите» Беркли. Но прежде сделаем краткий обзор тех
критических замечаний, которые были адресованы «Алкифрону» с позиций апологии
христианства. В этом пункте прекрасным примером господствующего мнения теологов и
духовных лиц служит анонимная брошюра «Некоторые замечания о Мелком
философе».21 В то же время она представляется великолепным образчиком тех сочинений,
которые Беркли в начале ТЗЗО объявляет не заслуживающими ответа. Возражения и
доводы, изложенные в «Некоторых замечаниях», сводятся в целом к следующему:
— в разных диалогах собеседники предстают в различном и даже в
противоречивом свете;
— иногда противники христианства изображаются в нелепом и смехотворном виде,
но чаще всего — как люди, своим полемическим талантом бесконечно превосходящие
Критона и Ефранора;22
— защитники религии используют по большей части весьма слабые доводы. Ефра-
нор, к примеру, вознамерился доказать бытие Бога, а доказал в сущности лишь то, что
Господь — великий обманщик;23
— рассматривать при анализе языка понятия силы и благодати на равных
основаниях значит заранее капитулировать перед свободомыслием;24
— одним словом, защищать религию, оставаясь на почве разума — дело
совершенно безнадежное, и потому любое оружие, к которому прибегает автор «Мелкого
философа», обращается против него самого.
ECSXJ
^«Алкифрон», или Сила слов^)^Е^( Jffl
Письмо, напечатанное в «Дейли Пост Бой», касается главным образом теории
зрения. На фоне общего приема, выпавшего на долю «Алкифрона», оно выглядит
исключением, и именно поэтому Беркли на него ответил. В 1729 г. он признавался
Джонсону, что не любит по нескольку раз писать об одном и том же, и действительно, ТЗЗО
не является буквальным воспроизведением «Опыта* 1709 г. Письмо из «Дейли Пост
Бой» (9 сент.1732 г.) предоставило Беркли возможность подчеркнуть чистоту и
ортодоксальность своих намерений и позволило поместить НТЗ в плоскость апологетики
вместо того чтобы, как в 1709 г., превращать эту работу в эпистемологический
инструмент для исследования состояния и принципов наук своего времени.
Свидетельств подобного переноса теории зрения из сферы эпистемологии в область
апологетики немало. При беглом анализе может показаться, что имматериализм в
тексте ТЗЗО всего лишь обходится молчанием. Признавая (вместе с автором письма)
существование внешнего объекта или причины наших идей, Беркли указывает, что
теория зрения в любом случае не имеет к этому вопросу никакого отношения (ТЗЗО,
29). О Боге или о материи идет здесь речь? — философ не уточняет. При более
глубоком анализе становится очевидным, что ТЗЗО не просто выносит имматериализм «за
скобки», но прямо ему противоречит. В «Принципах» Беркли признавался, что в
рамках «Опыта» он условно предполагал за истину «вульгарное заблуждение»
относительно внешнего существования осязаемых предметов. В 1733 г. он возвращается к
этому «вульгарному заблуждению», ибо «реальность», т.е. инвариант, обозначаемый
божественным языком через идеи зрения, представляет собой осязаемый мир, который
Беркли называет порой «внешним».25
В согласии с чрезвычайно выборочным использованием НТЗ Ефранором в «Ал-
кифроне» ТЗЗО полностью преобразует «язык природы» в «язык Бога». Из простого
сравнения, имеющего очевидную риторическую и педагогическую функцию, язык
Бога (или природы) превращается в 1732-1733 гг. в фундаментальное положение
метафизики, призванное продемонстрировать всеприсутствие Божества. Вместо того чтобы
доказывать отсутствие общей абстрактной идеи протяжения, которая была бы
доступна как зрению, так и осязанию, Беркли теперь доказывает лишь то, что два
разнородных ряда чувственных ощущений могут быть связаны между собой только
посредством божественного языка. И если тот факт, что наличие общего имени заставляет нас
верить в существование одной и той же обозначаемой им вещи, служил в 1709 г.
важнейшим примером обмана слов, то в 1733 г. Беркли любопытным образом
ссылается на аналогию между видимым и осязаемым26 и даже стремится убедить читателя в
том, что НТЗ подчеркивала эту аналогию, — вопреки гетерогенности чувственных
данных, признанной в другом месте. В итоге изначальная двусмысленность языка
становится опорой для наших слабых способностей перед лицом Бога, который
«открываясь, не открывается»(У1,8).
«Защита преподобного д. Б....и» представляла собой в сущности апологию
Шефтсбери. И в этом своем качестве брошюра относится к 3-му диалогу так же,
как письмо Мандевиля к Диону — к диалогу 2-му. Автор ее лишь по видимости
занят защитой Беркли. Он не столько доказывает, что Беркли не мог написать
«Алкифрона», сколько подчеркивает, что если автором «Алкифрона»
действительно является Беркли, то последний отрекся от своих талантов и отверг работы
своей молодости.
Β®αι
шзш
4Защита» открывается письмом из Инвернесса, относящимся к 1732 г.Здесь автор
выказывает горячее желание получить новое сочинение д. Б....и, которое его
корреспондент должен отправить из Эдинбурга27. Слухи об откликах на «Алкифрон»
обескуражили автора: проницательность, глубина, моральные и литературные достоинства
работ Беркли, столь высоко ценимые шотландской образованной публикой, в этом
последнем сочинении якобы совершенно отсутствуют, и потому автор письма желает
поскорее составить об «Алкифроне» собственное мнение.
Наконец это происходит, и первое же чтение диалогов позволяет автору
«Защиты» заявить своему эдинбургскому другу о том, что последний, приписав «Алкиф-
рона» создателю НТЗ, ошибся. Как и большинство читателей 1732 г., эдинбургский
корреспондент неправомерно счел Ефранора выразителем мнений Беркли, поскольку
исходил из того, что данный персонаж обращается к положениям НТЗ. Между тем
нетрудно заметить, что автор семи диалогов скрывается за фигурой Диона. Кто-то,
может быть, возразит: но ведь Ефранор объявляет положения НТЗ своими
собственными? Весьма сомнительно, но даже если это и так, то к преподобному д. Б....и
данное обстоятельство не имеет ровно никакого отношения. Все дело в том, что НТЗ
стала всеобщим достоянием, и к тому же многочисленные внутренние признаки явно
свидетельствуют, что «Алкифрон» никак не мог быть написан д. Б....и28. Автор
«Защиты» группирует эти доказательства по трем рубрикам.
Первая относится к литературной форме. «Три диалога между Гиласом и Фило-
нусом» уже давно продемонстрировали нам талант Беркли в данном жанре.
Характеры героев этого произведения были представлены с замечательной ясностью,
логичностью и последовательностью. Напротив, в «Алкифроне» не может быть и речи о
четком и вразумительном делении персонажей на вольнодумцев с одной стороны и
ревностных защитников веры — с другой. Многое стоило бы сказать по поводу
нечестивых утверждений Ефранора, но даже ограничившись анализом ролей Лисикла и
Алкифрона, мы замечаем совершенную путаницу: иногда они ведут себя как один
человек, различаясь лишь по имени; чаще, однако, они меняют свои мнения столь
радикально, что если бы, опять же, не имена этих героев, то их утверждения можно
было бы принять за речи их оппонентов-христиан29. И потом, сражение ведется на
весьма неравных условиях: под предлогом того, что взгляды свободомыслящих легче
узнать из их разговоров в кофейнях, нежели из опубликованных ими книг, автор
«Мелкого философа» довольствуется сведениями о работах Шефтсбери,
полученными понаслышке, из вторых рук, — зато христиане прямо опираются на Библию и
аппарат всевозможных сочинений по теологии. Поединок между Гиласом и Филону-
сом был более честным; в этом случае как раз противник Беркли получил вместе с
материализмом (стихийным или философским) поддержку целой армии сторонников
и опору на продолжительную традицию.
Во второй рубрике сопоставляются и оцениваются познания в области античности
преподобного д. Б....и и автора «Алкифрона». В «Защите» подчеркивается, что
источник совершенства «Диалогов между Гиласом и Филонусом» — тщательное изучение
Платона. Напротив, автор «Мелкого философа» спешит дать свою интерпретацию το
καλόν после того, как небрежно и мимоходом упомянул в разговоре несколько
определений Платона или Аристотеля, изъятых из целостного контекста соответствующих
теорий30. Весьма бедная по содержанию, вторая рубрика обладает, однако, внешним
1^)^^{^<<Алкифрон>>> или ^ила сдов^)^^{^1
интересом: автор «Защиты» демонстрирует, что он действительно читал «Три
диалога» 1713 г., хотя и не знаком с «Принципами» 1710 г. Здесь также подтверждается и
то, что некоторые читатели-шотландцы между 1710 и 1732 гг. лично входили в
отношения с Беркли.
Третья рубрика является более важной по своему содержанию и объему. В ней
доказывается, что автор «Мелкого философа»либо совершенно незнаком с тем делом,
которое вызвался защищать, либо с коварными намерениями умалчивает о том, что
ему превосходно известно. В обоих случаях он изменяет христианству. Между тем,
всякий знает, что д. Б....и — священник и добрый христианин; каким же образом мог
он пуститься в подобные плутни?
Эта третья рубрика заслуживает детального анализа, поскольку
непосредственно касается диалогов IV и VII, которые до сих пор представляют собой ключевой
пункт в дискуссии об устойчивости и неизменности имматериализма в творческом
развитии Беркли. Мы же ограничимся несколькими предварительными
ориентирами, ибо, во-первых, автор «Защиты» явно не читал «Принципов», и то, что он
говорит о диалоге VII, вполне могло быть заимствовано из «Вещей божественных»
П. Брауна (1733 г.); во-вторых, хотя он и читал НТЗ, приложенную к «Алкифро-
ну», однако сказанное им по поводу диалога IV не предназначалось для того, чтобы
доказать верность Беркли своим ранним произведениям: речь шла лишь о
соответствии или о несоответствии вышеупомянутых работ основным догматам
христианства. И тогда одно из двух: либо преподобный д. Б....и не является автором
«Мелкого философа», либо является таковым, но между 1713 и 1732 гг. он впал в ересь.
Неужели истинный христианин стал бы рассуждать о благодати и таинствах так,
как об этом сказано в диалоге VII? Автор «Мелкого философа» осмеливается
утверждать, что слова не всегда представляют идеи. Допустим. Но если речь
заходит о положениях, долженствующих быть предметом нашей веры, то как можно
отрицать, что смысл этих положений и доктрин заключается в идеях,
представленных словами? Однако решающее доказательство того, что Беркли не может быть
автором «Алкифрона» и в то же время называться добрым христианином,
находится, согласно автору «Защиты», в диалоге IV: Ефранор — официальный защитник
христианства! — прибегнув к понятию т. наз. «божественного языка», затеял
нечестную игру. В самом деле, утверждать, ссылаясь на произвольность связи между
различными рядами чувственных данных, что естественный порядок вещей — это
язык, на котором с нами говорит Бог, значит превращать Бога в вечного
обманщика. И ведь это, не колеблясь, признает сам Ефранор, когда, желая доказать
отсутствие необходимой зависимости между видимыми и осязаемыми объектами,
заявляет, что «естественный язык не всегда указывает на действительные вещи» (IV, 12).
Автор же «Защиты» держится того мнения, что если божественный язык создает
постоянную и неустранимую иллюзию относительно непосредственного объекта
зрения, то Бог является обманщиком.
Таким образом с помощью Ефранора и того способа, каким последний использовал
НТЗ, автор «Алкифрона» бросил тень на репутацию преподобного д. Б....и. НТЗ, как
справедливо подчеркивается в «Защите», отнюдь не имела своей целью
доказательство существования Бога. Доказательство бытия Бога, данное Беркли на основе
собственной философии, обладает совершенно иной природой: совокупность всех чувствен-
ных вещей есть непрерывное, продолжающееся в каждый момент творение". И если
обратить внимание на то, что д. Б....и называет порой связь между видимыми и
осязаемыми объектами 4неким языком природы», — а не языком Бога — то становится
ясно, что Беркли мыслит глубже, нежели Ефранор: говорить о «языке Бога» значит
тем самым заранее признавать Бога существующим. Ефранор же допускает
логическую ошибку предвосхищения основания и при этом надеется воздвигнуть все здание
христианства на метафоре, на простой стилистической фигуре32.
III· О смещении некоторых акцентов в положениях
ранних работ
Что бы ни говорил об этом «защитник д. Б.... и», однако наличие НТЗ в
приложении к «Алкифрону» и ее избирательное и неполное использование Ефранором не
заключают в себе ничего скандального — но в то же время ничего такого, что могло
бы нас убедить в неизменности имматериализма. Оригинальные элементы философии
Беркли отсутствуют в «Алкифроне», но ведь точно так же отсутствовали они и в
НТЗ. А способ увязки «Опыта» 1709 г. с тем, что в заключительной своей части
пытается сделать из «Опыта» подобие опоры для имматериализма, есть
риторический прием, с точки зрения логики весьма неубедительный. Ефранору было очень
просто отделить использование НТЗ, к тезисам которой он обратился для
доказательства бытия Божия, от критики общих абстрактных идей, использованной в 1709 г.
для доказательства несуществования «протяжения вообще». В 1732 г. речь идет о
том, чтобы продемонстрировать, что «в Боге мы живем, движемся и т. д.».Все
изменения, внесенные в текст нового издания НТЗ, служат одной цели —
преобразовать метафору «язык природы» в тезис о существовании «зрительного языка Бога».
К тому же подобные изменения призваны были ослабить остроту полемики с
математиками. Так, желая доказать, что расстояние не воспринимается зрением
непосредственно, Ефранор пользуется только теми фрагментами НТЗ, в которых утверждается
гетерогенность зрения и осязания — за исключением тех пассажей, которые, включая
в себя критику т. наз. общего абстрактного протяжения, сближают НТЗ с
имматериализмом. Ефранор напоминает, что связь между ощущениями зрения и осязания
иллюзорна, однако подчеркивает пользу и удобство подобной иллюзии (НТЗ, 43, 45,
47-51, 66, 73-74; Алк. IV, 9-10, 12) — аналогичной той иллюзии, вследствии
которой нам обычно кажется, будто мы, как бы не слыша и не видя соответствующих
знаков, воспринимаем прямо и непосредственно смысл написанных или услышанных
слов (НТЗ, 51, 59, 66, 145; Алк. IV, 10, 12). В 1709 г. Беркли делал упор на том,
что относительно непосредственных объектов зрения все мы впадаем в иллюзию, - в
1732 г. Ефранор преобразует «хитрость» Бога, проявляющуюся в создании этой
иллюзии, в один из аспектов его благости: предрассудки могут иметь практическую
пользу, а потому не все они являются заблуждениями. Во всем этом никакого
имматериализма нет. Осязаемые объекты остаются внешними, ограждая таким образом
Ефранора и НТЗ от обвинений в «нелепости» и «экстравагантности». Настойчивое
обращение Беркли к собственной теории зрения, желание ее защитить и заново
1^)@^(Уг<<^лкифро|м>>> или ^ила слод^)^^^(^1
истолковать объясняются прежде всего самостоятельностью НТЗ по отношению к
«неудобным» истинам имматериализма (слово «материя» лишено смысла, а
предполагающие существование материи положения и теории противоречивы).
Именно здесь самое больное и уязвимое место. Пока мы обращаем внимание лишь
на частичное использование НТЗ Ефранором, еще можно думать, что имматериализм
всего лишь обходится молчанием. Дело выглядит совсем иначе, если
проанализировать «Алкифрон» в целом и в особенности — диалог VII. И тогда выясняется, что
Беркли полностью отказывается в пользу свободомыслящих от аргумента ЛС (то или
иное слово лишено смысла) и сохраняет для защиты христианства лишь аргумент ПР
(то или иное понятие противоречиво), к тому же ослабляя его силу настойчивым и
безоговорочным допущением «истин, превосходящих разум». Одновременно меняет
свою природу и «завеса слов». В 1732 г. оказывается, что в действительности она
была двойной: первая «завеса* состояла в проблематичном переходе от частного к
общему и наоборот; вторая «завеса* заключалась в невыразимости того, о чем мы,
не имея соответствующих идей и за недостатком лучших средств, говорим
метафорически. Однако мишенью для «Принципов» была только первая завеса слов, а
уничтожение ее стало важнейшим оружием имматериализма. В то же время вторая
завеса послужила в 1710 г. объектом противоречивых (по крайней мере, на первый
взгляд) утверждений: с одной стороны, существуют метафоры неприемлемые
(Пр. 16, 17, 82) -*■ когда мы говорим о «вещах», используя слова, взятые из сферы
духа, или, прибегая к понятию «подпорки», рассуждаем о т. наз. материальной
субстанции, — с другой стороны, существуют метафоры допустимые (Пр. 135-
142) — если мы говорим о духе в терминах, заимствованных из области чувственных
объектов — в таком случае понятие «подпорки» представляется оправданным,
однако его происхождение становится туманным. В 1721 г. De Motu открывается сходной
с положениями 1710 г. критикой метафорического языка современной физики и
осуждением использования анимистических метафор для описания вселенной (De
Motu, 3). При этом, однако, De Motu демонстрирует своеобразный отход от критики
первой завесы слов, который проявляется в полиморфном употреблении слова
«абстракция». Наконец, переписка с Джонсоном делает особенно очевидным, насколько
острой стала для имматериализма проблема этой двойной завесы: Джонсон вполне
определенно говорит о том, что некоторые общие слова (а конкретно — слова,
обозначающие дух, личность и т. п.) не подпадают под критику абстракции, но должны
рассматриваться с учетом того, что человеческий язык почти всегда по
необходимости метафоричен (Works, И, р. 290). В своих письмах Беркли на это ничего не
ответил. Однако в 1729 г. он уже работал над «Алкифроном», и весьма вероятно, что
во 2-й половине диалога IV (проблема аналогии) и в диалоге VII (о смысле слов, не
предполагающих идей) эти замечания Джонсона отразились. Беркли признавался
последнему в том, что многое еще остается сказать об истинном смысле и
назначении слов (Works, II, р. 293).
В 1732 г. сущность берклианской теории языка заключалась в том, что
практическое воздействие слов намного важнее их значения: человек говорит для того,
чтобы убедить или наставить других, принудить собеседников к определенным
действиям, внушить им страх или надежду; к простому же сообщению идей люди
стремятся крайне редко (I, 10, 15; И, 24; III, 4-5; VI, 8, 28; VII, 10, 12-13, 14, 17, 24, 31).
Е^ЕУ ж.Бр.км,и ~^}^Γ3
Между тем система имматериализма целиком покоится на следующих тезисах: 1) мы
не обладаем идеей или понятием материи, ибо т. наз. абстрактных идей в
действительности не существует, а следовательно, 2) все утверждения, предполагающие
понятие материи, совершенно лишены смысла. Даже если во «Введении» 1710 г. и
признается (причем мимоходом, в виде вставки в основной текст), что сообщение
идей не является важнейшей функцией языка, тем не менее очевидно, что
имматериализм опирается на особый статус слов категории А (смысл = идее). Отсюда -
крайне запутанное положение со словами категорий В и С, «выходом» из которого
стало отделение теории от практики.* Такое решение позволило Филонусу в 1713 г.
согласиться с сохранением слова «материя» в обыденной жизни и повседневной речи.
Однако теоретические претензии богословов от этого ничуть не уменьшились. И даже
если вольнодумцы в первую очередь осуждают стремление церковников к
практическому господству,33 нужно учитывать также и притязания представителей различных
исповеданий на рациональное мышление, а следовательно, необходимо обратиться к
обходному пути спекуляции и дать ответ на вопрос: как же обстоит дело со словом
«дух» и с субстанциональностью души с теоретической точки зрения! — вопрос,
весьма неудобный и затруднительный уже на стадии «Философских заметок»;
вопрос, который впоследствии Беркли всячески стремился обойти. И однако, эти
вопросы, очевидно, ставились перед Беркли, о чем достаточно свидетельствуют
переписка с Джонсоном и сочинение Бакстера.** Что до «Алкифрона», то здесь
представляется несомненным, по крайней мере, одно обстоятельство, а именно полное
подчинение теории практике. С одной стороны, неоднократно утверждается, что
истина и практическая польза — разные вещи (I, 16; IV, 2) — в данном случае
можно подумать, что имматериализм на какое-то время просто обходится молчанием;
с другой стороны, подчеркивается, что отыскивая некий глубокий смысл, люди
проходят мимо смысла вполне естественного и очевидного, и таким образом не
находят трудности, но сами их создают (VI, 7), — и здесь мы вправе
предположить, что проповедовавшийся в «Принципах» метод в самом деле отвергается. Язык
остается для Беркли ключевой проблемой, которая в диалогах 1732 г. и
впоследствии всякий раз рассматривается с учетом решающей роли, принадлежащей
воспитанию (I, 8-9, 14, 5; VII, 33). Можно, однако, отметить характерный сдвиг в самом
интересе Беркли к проблеме языка. В 1710г. требовалось доказать, что ученые
дурачат друг друга словами и принудить их к молчанию; Беркли тогда боролся с
софистическим языком ученых своей эпохи, пытаясь с помощью «экстравагантных»
средств защитить одновременно язык Бога и обыденную человеческую речь. В 1732 г.
перед ним стоит иная задача: прямо и непосредственно защитить обыденный язык
(III, 2-5; VII, 16-24), — язык, которым, к тому же, говорят проповедники. А потому
мы видим, что критика абстракции в значительной мере утрачивает свою остроту, и,
напротив, язык аналогии получает особые права в науках и богословии.
Отныне именно свободомыслящие пользуются аргументами ЛС. По их мнению,
священники забивают детские головы бессмысленными словами и «пустыми
понятиями» (I, 2-8). Желая положить предел этому потоку лжи, «мелкие философы» зада-
* см. С. Brykman. Berkeley. Philosophie et Apologétique. Lille, 1984, p. 301-305 {прим. пер.)\
*М. Baxter. An Inquiry into the nature of the human soul. London, Î733 {прим. пер.).
BcSXJ
1^)^^^{Р^<<^лкиФРон>>» или Си** саов^)^^^( J$[
лись целью искоренить предрассудки, накопившиеся вследствие подобного
воспитания, и прежде всего — предрассудок, заключающийся в вере в бытие Бога. В
выражениях, чрезвычайно напоминающих слова Беркли, намеревавшегося в 1710 г. вырвать с
корнем реалистический предрассудок, т. е. веру в существование материи (Пр. 96),
они заявляют о своем стремлении освободить человеческие умы от груды
пустопорожних понятий, основой которых является вера в Бога (IV, 16).
В ходе диалога IV Алкифрон вынужден был признать возможность естественной
религии и согласиться рассматривать зрительные ощущения в качестве языка Бога.
Теперь он сидит с виноватым видом, зато его соратник Лисикл бодрится: "Знайте
же: сам по себе вопрос о бытии Бога не так уж важен, и я могу сделать вам
подобную уступку, немного потеряв. В каком именно смысле следует разуметь
слово «Бог» — вот в чем суть проблемы" (IV, 16). Для Лисикла слово «Бог» не
имеет смысла, поскольку не обозначает ничего реально существующего и, в
частности, ничего соответствующего понятию бесконечного Существа, с помощью
которого церковники держат народ в суеверном страхе. И однако, подобное
бессмысленное слово вовсе не требуется изгонять из языка: каждый вправе определять его
по своему вкусу и говорить о нем все, что только придет в голову. Лисикл
напоминает, что "даже эпикурейцы признавали бытие богов — только вот боги эти были
праздные и ленивые, и не больно их заботили дела человеческие. Гоббс признавал
телесного Бога, Спиноза утверждал, что Бог — это Вселенная. Никто, однако, не
сомневался, что они были стойкими и непреклонными вольнодумцами'' (IV, 16).
Вера же в христианского Бога, всевидящего и всеведущего, наполняет ум
сомнениями и отравляет человеческую жизнь. Зато во всяком ином значении Бога можно
признать — и без особого вреда. И если вольнодумцы, дабы не отличаться от
прочих людей, станут употреблять слово «Бог», то всякому атеизму тотчас придет
конец (IV, 16, 18).
Лисикл не довольствуется простым утверждением о том,, что слово «Бог» лишено
определенного смысла и может употребляться в каком угодно значении. Он
опирается на авторитет отрицательной (апофатической) теологии, о которой слыхал когда-то
от своего приятеля Диагора (Коллинза): "Самые мудрые и глубокомысленные
богословы, убедившись в невозможности согласовать с внешними явлениями и с
человеческим разумом атрибуты Бога, взятые в обычном, да и во всяком ином известном
нам смысле, стали учить, что употребляемые по отношению к Богу слова «знание»,
«мудрость», «благость» и им подобные следует разуметь в смысле, совершенно
отличном от их общепринятого значения и от всякого представления, которое мы
можем образовать и составить. А потому любые возражения против атрибутов Бога
они легко опровергли, орицая, что данные атрибуты принадлежат Богу в том или
ином значении, да и во всяком постижимом смысле и толковании, — а по сути,
отрицая, что они Ему принадлежат вообще" (IV, 17). Но, подчеркивает Лисикл,
"всякий мыслящий человек понимает, что это означало бы разрубить узел, но не
развязать его. Ибо как же можно согласовать вещи с божественными атрибутами,
если самые атрибуты отрицаются во всяком вразумительном для нас смысле; а
следовательно, и самая идея Бога улетучивается, оставляя после себя лишь имя,
лишенное всякого значения?" (IV, 17). Для Лисикла слово «Бог» вовсе не имеет
смысла потому, что оно не имеет смысла определенного или хоть сколько-нибудь
понятного. И от этого оно становится совершенно невинным и безвредным
словечком, ибо "человек, который обращается к Богу или вступает в Божью церковь,
должен прежде уверовать, что Бог существует в каком-то постижимом смысле: ему
мало знать, что существует нечто вообще" (IV, 18). В тех же выражениях, с
которыми в финале Второго диалога обращался к Гиласу Филонус по поводу слова
«материя», Лисикл заключает: "И вот теперь, когда мы согласились, что Бог,
принимаемый в этом туманном смысле, существует, мне и любопытно знать, какую же
выгоду способны вы извлечь из этой уступки. Ведь вы не вправе умозаключить от
неизвестных вам атрибутов, или, что то же самое, от атрибутов, принимаемых в
неизвестном смысле. Вы не в силах доказать, что Бога следует любить за его
благость, страшиться его правосудия или чтить за его мудрость" (IV, 18). Вольнодумцы
также вправе употреблять слово «Бог» для обозначения принципа или причины
чувственно воспринимаемых следствий, пусть даже этот принцип материален. А
потому их нельзя считать атеистами, и англиканская религия не может иметь к ним
никаких претензий.
И тогда вслед за Лисиклом слово берет Критон. Необходимо, во-первых,
представить исторически точные, опирающиеся на первоисточники сведения
относительно отрицательной теологии, и Критон с необычной для «Алкифрона» и
поразительной для салонной беседы тщательностью делает ссылки на Псевдо-Дионисия, Пико
делла Мирондолу, св. Фому, Кайетена и Суареса.34 Во-вторых, нужно защитить
язык аналогии и обосновать аналогическое познание Бога. Здесь перед нами
важная для сочинений Беркли новость, которая отразится на анализе языка в целом: в
диалоге 7-ом она поставит под вопрос самую возможность имматериализма, ибо
аргумент Л С теряет свою силу, а критика абстракции утрачивает роль фундамента
имматериализма.
Несомненно, внешние по отношению к философии как таковой факторы в
значительной мере повлияли на переосмысление автором «Алкифрона» проблемы языка,
заставив приписать особую значимость языку образному и иносказательному. И по
причине того интереса, который вызывает у нас сегодня философское учение
имматериализма, нам не следует забывать, что основной задачей Беркли была защита
англиканской религии перед лицом набирающих силу деизма и материализма. В 2.0 веке
рассуждения Лисикла привлекают наше внимание сходством между истолкованием
понятия «Бог» в отрицательной теологии и попытками Гиласа определить слово
«материя». В 18 веке не это было главным, даже для Беркли. Как указывает в финале
«Алкифрона» Ефранор, суть вопроса — в природе веры (VII, 14): относится ли вера
к «словам», т. е. к «пустым» и (или) «непостижимым» понятиям — или же к вещам,
прямо или по аналогии словами обозначаемым? И когда Беркли в «Алкифроне»
допускает, что наряду с утверждениями, противоречащими разуму, существуют
положения, разум человеческий превосходящие (VI, 15-18, 29-32), то он занимает
определенную позицию в проходящем через весь 18 век интеллектуальном конфликте —
конфликте, на разрешение которого (по крайней мере, теоретическое) могла бы
претендовать «Критика чистого разума».
Наша ссылка на подобный кризис не является простым отступлением: в
дальнейшем мы увидим, до какой степени полемика о различии между тем, что противно
разуму, и тем, что превыше разума, затрагивала глубочайшие основы имматериализма
1Ь^?^^у{Уг<<АлкиФРо1|>>> или ^ила caob^S)^^^( jtf
как учения, принципиально отвергающего все внутренне противоречивое и лишенное
смысла.
Особое значение, которое к концу 17 века приобрел в Европе рационализм,
поднятый на новый уровень творчеством Декарта и Локка, вынуждало искать в
теоретическом плане ответ на вопрос, что такое христианство —обман или
единственный свет, способный озарить мир?35 Если второе, то как относится свет откровения к
свету естественного разума? В практическом плане Реформация, возникновение
многочисленных протестантских сект, отмена Нантского эдикта заставляли искренне
верующих людей задаваться вопросом о причинах упадка веры. И разве не следовало
признать, учитывая чрезвычайную легкость перехода из одного исповедания в
другое, что вера сводится всего лишь к принятию определенного набора формул? Почти
одновременный выход в свет таких работ, как «Разумность христианства» (Локк,
1695 г.), «Христианство без тайн» (Толанд, 1696 г.) или «Словарь» Бейля (1696 г.),
является свидетельством предельной остроты, которую приобрел спор о природе
веры и о соответствующих правах веры и естественного разума. Теория т. наз.
«двойственной истины» — разумной и сверхразумной — позволяла не только
ревностным христианам, но также и рационалистам, заботящимся о спасении души,
совмещать авторитет разума с авторитетом откровения. Обычно полагали, что одна и
та же рациональность лежит в основе человеческого разума и божественной
мудрости, пусть даже эта последняя и кажется порой непостижимой и «таинственной».
Фидеизм Бейля в подобном контексте явление довольно нетипичное. Бейль,
правда, имел великого предшественника в лице Паскаля, который также резко отделял
естественный разум от веры, не считая, однако, религию противоречащей разуму. Для
Бейля же содержание веры абсолютно и принципиально непостижимо, и "тайны
Евангелия, принадлежащие к сверхъестественному порядку вещей, не могут и не должны
подчиняться правилам естественного разума".36
Важнейшим атрибутом Божества, как его понимает Бейль, является не мудрость,
но всемогущество, а единственное имеющееся у нас основание принимать данные в
откровении истины заключается не в их постижимости, но в авторитете Бога. Таким
образом, Бейль сводит функцию разума к пропедевтике, призванной убедить нас в
необходимости подчинения божественному авторитету, а кроме того — к понятийному
разъяснению догматов, которое, разоблачая внутренние противоречия и чрезмерные
притязания теологических конструкций, точно указывает границы, за которыми лежит
область религиозной тайны. Что касается Беркли, то вначале он следовал за Бейлем
по пути беспощадного рационального анализа, а затем встал на ласкалевскую дорогу
прямой защиты веры. А потому автор «Алкифрона» вправе сказать, подобно Паскалю,
и почти теми же словами: "Я не могу сдержать радость, видя, как разум бывает
посрамлен своим собственным оружием".
Однако в начале 18 века радикальное отделение разума от веры не было
господствующей тенденцией. Многие авторы, стремившиеся защитить христианство как
учение общественно «полезное», а к тому же разумное в своей основе, проводили
различие между тем, что противно разуму, и тем, что выше его; однако, пытаясь
включить человеческий разум в рамки разума верховного, они предоставляли грозное
оружие в руки деизму. Так, работа Локка «Разумность христианства» произвела
эффект, которого автор вовсе не желал, и получила в лице Толанда компрометиру-
EcDa
ющего последователя. Еще раньше различие между «противоречащим» разуму и
«превышающим» его исследовал Р. Бойль, который признал непостижимость чем-то
временно непонятным, но не абсолютно иррациональным.37 Он подчеркивал, что
положения, содержание которых превосходит человеческий разум, свойственны не
только для «божественной веры». Р. Бойль показал, что и в науках, и в языке
обыденной жизни существуют понятия и обороты, которые вовсе не являются
совершенно ясными и вразумительными.38 Впоследствии, желая сохранить особые права
веры, Бойль различал два вида «вещей» (положений, утверждений), которые,
будучи выше разума, не могут, однако, ему противоречить: 1) то, что разум сам по себе
не способен открыть; 2) то, что разум сам по себе не в силах понять.39 Кроме того,
Бойль допускал различные степени «непостижимости»: так, все виды понятий,
которые в обыденной жизни кажутся нам совершенно ясными (например, место, время,
пространство) оказываются чуть ли не такими же темными, как и религиозные
таинства. Беркли будет говорить о том же, но если многочисленные аналогии,
которые усматривает между божественными откровениями и научными открытиями
Бойль, приводят к мысли, что таинства по своей сущности не являются
иррациональными, то «Алкифрон» и «Аналитик» показывают нам, что тайны существуют всюду
и что темнота и непонятность характерны не только для Священного Писания (VI,
17, 19; 30-32; финал «Аналитика»).
Еще более решительно, чем Бойль, идет по пути рационализации религиозных
таинств Толанд.40 Подлинность христианского откровения, как он полагает, должна
подвергнуться испытанию человеческим разумом и способна это испытание выдержать.
Существование этого откровения доказано многочисленными свидетельствами, и ему
можно приписать ту же степень вероятности, что и существованию какой-либо страны,
где нам довелось побывать лично. С таинствами, однако, дело обстоит по-другому. По
убеждению Толанда, ни что противное разуму не может быть предметом веры.11 А слово
«таинство» употребляется в Писании не для обозначения неких непостижимых
положений, но для указания на определенные доктрины, которые хранит в тайне от остального
человечества какая-то группа людей. Следовательно, таинства могут быть постигнуты и
разъяснены, для чего отнюдь не требуется сверхъестественные озарения или особые
способности, превосходящие человеческий разум. В религии, как и в науке, не может быть
ничего превосходящего разум. К этому шокирующему выводу Толанда привели те же
предпосылки, что и Бойля: если там, где мы не обладаем адекватной идеей вещи и не
воспринимаем отчетливо и непосредственно всех ее свойств, непременно нужно
говорить о «таинстве», то в таком случае таинства существуют всюду.Таинственным и
загадочным должен, в частности, считаться обыденный язык: как показал посредством
различения реальной и номинальной сущности Локк, мы не знаем истинного строения
вещей и однако, опираясь лишь на те их свойства, которые нам известны и единственно для
нас важны, превосходно понимаем смысл слов, эти вещи обозначающих. И если мы
совершенно не обладаем идеей вещи, то превращать ее в некое «таинство» и утруждать
себя по ее поводу не стоит, ибо то, что невозможно каким-либо образом постичь,
способно повлиять на наши поступки не больше, чем произнесенная на чужом языке молитва
способна внушить нам благочестивые чувства. Ясно, какую пользу мог в 1710-1713 гг.
извлечь из этих мыслей Беркли для опровержения понятия «материи». Ясно также,
какую выгоду, в свою очередь, извлекли отсюда Лисикл в диалоге IV и Алкифрон в
диалоге VII.
|^)^^^{Р^«Алкифрон>», или Сила слов^)^^у{ J$
Сочинение Толанда «Христианство без тайн» вызвало многочисленные
негодующие отклики. Прежде всего нас интересуют ответы Д. Норриса и П. Брауна,43
поскольку при анализе веры данные авторы различают ее содержание (непостижимое) и
форму (согласие определенного рода). Именно отличив содержание от формы можно
разрешить следующие вопросы: 1) каким образом можно веровать в нечто, лишенное
смысла? 2) каким образом можно утверждать, что непостижимые положения
являются истинами?
Эти вопросы прямо затрагивали Беркли и как священника, и как создателя
теории имматериализма. Ответы Критона Лисиклу свидетельствуют не только об
основательном знакомстве Беркли с авторами, непосредственно упомянутыми в
тексте (св. Фома, Кайетан и др.), но и о чтении недавних работ Норриса, У. Кинга44 и
П. Брауна. Опираясь на эти труды, а также на сочинения, ближе стоящие к
традиционному учению церкви (на них и ссылается Критон), Беркли мог заново осмыслить
функцию иносказательного языка, о которой в молодости он упоминал мимоходом и
с явным недоверием. Именно иносказательная, фигуральная речь позволяет найти
золотую середину между верой в лишенные всякого смысла слова и верой в
абсолютно рациональные объекты.
Аналогия и «аналогический» язык стали специальной темой прежде всего для
П. Брауна. А Дж. Норрис заново исследовал различие между тем, что противоречит
разуму, и тем, что его превосходит. По его мнению, мы способны говорить о том, о
чем не имеем никаких идей. Четко отделив смысл утверждений от их истины, Норрис
стремится доказать, что вышеупомянутое различие не совпадает с различием между
противоречивым и лишенным смысла. Открывающий работу Норриса текст
(заимствованный из Вступительного слова к «Размышлениям» Декарта) ясно показывает, о
чем идет речь: каким образом и в какой мере способны мы рассуждать о Боге? Мы
видим также, что сказанное Декартом об атеистах прямо относится к Лисиклу: "Все
упреки, невежественно бросаемые атеистами и стремящиеся опровергнуть бытие Бога,
сводятся к тому, что они или Богу приписывают человеческие аффекты, или нашему
уму — такую силу и мудрость, что он будто бы может отважиться определить и
постигнуть все вещи, которые Бог может и должен сделать. (Между тем) Бог — бесконечен
и непостижим."45 Норрис использует этот текст для того, чтобы с самого начала
принизить человеческий разум; последний не является мерой всех вещей, а тем более —
мерой.божественной мудрости.
Поскольку необходимо ясно представлять, о чем идет речь, Норрис начинает
главу с определения того, что он будет понимать под разумом (reason). Путем
нескольких последовательных исключений и ограничений он отождествляет разум с
тем, что другие называют иногда мыслительной способностью (understanding),46 т. е.
с врожденной способностью знать и постигать (а не только рассуждать и
умозаключать). И, как и подобает ученику Мальбранша, Норрис уточняет, что он вовсе не
претендует на познание разума в его глубочайшей сущности. По мнению Норриса,
мы не обладаем ясной и отчетливой идеей собственной души, последняя доступна нам
лишь через смутное чувство или внутреннее самоощущение (самосознание,
conscience).47 А потому все, что будет сказано о разуме, опирается на исследование его
действий, но не его сущности. Что же касается самих этих действий, то их мы уже не
просто внутренне сознаем и переживаем, но способны благодаря рефлексии получить
о них известное понятие или представление посредством идеи. Далее, в главе II,
дается определение веры, причем Норрис категорически заявляет, что намерен
рассматривать лишь форму веры, т. е. особого рода согласие духа, основанное на
авторитете, в отличие от знания, где наше согласие опирается на очевидность. И после
того, как форма веры (согласие) надлежащим образом отграничена от ее объекта
(«божественных вещей»), нетрудно заметить, что лишь объект веры является темным
и дает повод безбожникам для критических возражений. А чтобы понять, каким
образом неясный объект может стать источником или причиной согласия, нужно
отличать значение утверждения от его истины.** Потому согласие посредством
волевого акта не обязательно относится к пустым и бессодержательным словам: предмет
согласия — значения, или идеи, пусть даже связь между самими идеями ускользает
от нашего понимания.
Опираясь на установленное им различие между смыслом и истиной
утверждений, Норрис подчеркивает, что превосходящее разум само по себе не является
противным разуму. Ни что противное разуму истинным быть не может, тогда как
превосходящее разум находится в равной степени по ту сторону истинного и
ложного. А значит, весь мир рассуждений по-прежнему остается открытым для
веры, ибо даже если понимание истины таинств для нас недоступно, истина эта
обеспечена и гарантирована божественной мудростью, и наши слабые способности
могут, по крайней мере, воспринять смысл таинств и внутренне с ним согласиться
через акт веры.49
В 1710-1713 гг. в вопросе о религиозных тайнах и об их отношении к разуму
Беркли следовал, скорее, Бейлю, Толанду и Бойлю. В ранних его работах таинствам
и чудесам уделяется чрезвычайно мало места: они противоречат обычному ходу
природных явлений, который определен божьим Промыслом, последнему же не
свойственны изменчивость и непостоянство. Отсюда — уничижительный оттенок,
который получает слово «тайна» в «Принципах» (Пр. 119, 124). Подобно Толанду,
Беркли в 1710 г. утверждает: ни что противное разуму не может быть объектом веры
(Пр. 129, 133), и, подобно Бойлю, подчеркивает: многие вещи и понятия, с
которыми мы имеем дело в обыденной жизни, не являются вполне ясными, и однако, их
надлежит считать не «тайнами», но обыкновенным следствием нашего теперешнего
незнания. В этот период Беркли в своих опубликованных работах ничего не говорит
о религиозных таинствах в собственном смысле слова. Напротив, в 1732 г. таинства
изображаются им как основа христианства, а потому христианин, как замечает Кри-
тон, "стоит за то, чтобы держать разум в должных границах" (V, 9). В
«Философских заметках» слишком удобная «отговорка» насчет слабости наших способностей
поднималась автором на смех, Ефранор же постоянно на эту слабость ссылается: мы
не в силах постигнуть замыслы Бога (VI, 8-10), а нисходящая свыше мудрость
раскрывается перед нами не вполне, будучи несоизмеримой нашему разуму. В
общем, предметам веры — которые превышают разум, но не противоречат ему — проще
обучать, нежели эти предметы доказывать (VI, 19), и мудрый человек всегда готов
внимать истине (VI, 32).
Внимать непостижимому? Заметим попутно, что проводя различие между смыслом
и истиной утверждений, Норрис всегда подразумевает, что смысл заключается в идеях
(а истина — в доступной нам связи между идеями). Это вполне традиционная концеп-
Р^«Алкифрон», или Сила слов^)^бЕу( ^|
ция значения слов. Й однако, это парадокс для последователя Мальбранша, который
в других местах стремится ограничить смысл слова «идея» и роль идей в теории
познания в целом. Одно из важных достоинств сочинений П. Брауна заключается в его
утверждениии (созвучном Норрису и Мальбраншу), что собственную душу мы
познаем через внутреннее чувство, а также в том, что сам Браун держится этого принципа
при анализе роли языка, описывающего «божественные вещи», — «вещи», о которых
мы не имеем ни идеи, ни внутреннего чувства.
IV. Повышение роли иносказательного языка
Вероятно, именно работы П. Брауна50 позволили Беркли заново рассмотреть
способность, которой все мы, как можно подумать, обладаем, — способность говорить о
том, о чем у нас нет никаких идей. Не стоит забывать, что эта проблема занимала
Беркли начиная с 1708 г., превращая имматериализм — а вместе с ним и
привилегированный статус слов категории А — в некое отступление на фоне творчества Беркли
в целом. Стоит вспомнить и о том, что и в чисто практической сфере Беркли
приходилось иметь дело с Брауном (последний был ректором дублинского Колледжа
Троицы в то время, когда будущий философ там учился); и он прекрасно знал, как
досталось Толанду от разгневанного теолога.51 Наконец, в 1730 г. Браун стал
епископом Коркским, и через четыре года Беркли, возведенный в сан епископа Клойнского
(епархия эта была куда более скромной), превратился в соседа бывшего ректора.
В 1697 г. Браун опубликовал "Письмо в ответ на книгу под названием
«Христианство без тайн*". Несомненно, именно это «Письмо» имеет в виду Беркли, когда
вкладывает в уста Критона следующие слова: "Учение о нашем познании Бога по
аналогии ложно истолковывается и скверно применяется теми, кто желал бы вывести
отсюда, будто мы вообще не способны образовать сколько-нибудь ясное и правильное
(пусть даже весьма недостаточное) представление о знании и мудрости, каковы они
суть в Боге, или будто мы постигаем их не больше, чем слепорожденный понимает,
что такое свет или цвет" (IV, 21). Действительно, центральная мысль «Письма»
состояла в различении, с одной стороны, адекватных и непосредственных идей или
представлений, которые можем мы иметь о чувственных или духовных вещах нашего
мира, — и, с другой стороны, идей или представлений по необходимости
опосредствованных и неадекватных, которые образуем мы о вещах мира иного. Браун
опирается на сравнение, упомянутое Критоном; нечто, принадлежащее к иному миру,
обозначается косвенным образом через подобные неадекватные идеи и понятия,
однако об этом «нечто» мы имеем не большее представление, чем слепой — о свете и
цветах.52 И Критон дает понять, что подобные замечания оставляют впечатление
агностицизма.
Вторая работа Брауна «Procedure, extent and limits of human understanding»
(1728), по времени ненамного опередившая «Алкифрона», призвана была развить
содержавшуюся в «Письме» теорию аналогии, а попутно — исправить ложное
толкование последней в «Рассуждении о предопределении» У. Кинга. Кинг,
действительно, целиком сводил аналогию к метафоре.53 Таким образом, Браун явно стремится
избежать подобного смешения, агностические следствия которого он описывает в тех
ют{
же выражениях, что и Лисикл. Браун подчеркивает: если бы относящийся к
«божественным вещам» язык был всего лишь метафорическим, то буквальным значением
слов можно было бы совершенно пренебречь, и тогда любой человек был бы вправе
составлять себе какие угодно фантастические представления о Боге.34 Браун исходит
из того, что точным и непосредственным понятием или представлением о
«божественных вещах» мы не обладаем, и потому важнейшей целью его работы является четкое
различение метафорической аналогии и аналогии в собственном смысле слова, -
различение, которое займет центральное место во второй половине четвертого
диалога «Алкифрона». Однако, данный фрагмент «Алкифрона» Браун мог счесть за
личный выпад. Во-первых, в « Алкифроне». не упоминается «Procedure», где это
различение уже было использовано; Беркли (или, по крайней мере, Критон) приписывает
его — и не без оснований — Кайетану, совершенно игнорируя сочинение Брауна. А
следовательно, во-вторых, создается впечатление, что Браун вместе с Кингом
попадает в число тех, кто «ложно истолковывает и скверно применяет» учение об аналогии.
Важность полемики, развернувшейся между Брауном и Беркли после 1733 г., ее
воздействие на новые издания ранних работ Беркли заставляют нас вкратце
изложить содержание труда, в недооценке которого автор «Алкифрона» был якобы
повинен.
Единственный в этом мире источник наших идей и познаний об объектах, как
естественных, так и сверхъестественных, заключается, по Брауну, в пяти чувствах.
Вначале внешний объект производит в наших чувствах отпечаток, который является
представлением или образом объекта; затем этот образ передается воображению,
хранилищу тех материалов, которые впоследствии поступают в распоряжение интеллекта."
И Браун решительно настаивает на необходимости строго ограничить употребление
слова «идея», сохранив данный термин лишь для определения того, что Локк называл
идеями ощущений.56 Для обозначения восприятия и познания нематериальных
объектов нужно использовать другие слова, в которых английский и латинский языки не
испытывают недостатка.57 Автор так обосновывает необходимость ограничить
употребление слова «идея»: другими идеями, помимо идей чувственных объектов, мы не
обладаем; существуют действия ума, опирающиеся на эти идеи, однако какую-либо идею
самих этих действий мы образовать совершенно не способны, а можем лишь внутренне
их сознавать.58 А значит, наряду с идеями чувственных объектов, ум располагает
сложными понятиями или представлениями, созданными на основе вышеупомянутых
действий и идей. Таким образом, можно утверждать, что мы имеем идею дома,
внутреннее сознание нашей способности мыслить и, наконец, сложное понятие
справедливости.59
Лишь опираясь на/строгое и точное определение функций и свойств наших идей
можно попытаться различить метафору и аналогию в их приложении к
«божественным вещам». Здесь важны три критерия. Во-первых, метафора указывает па
воображаемое сходство, тогда как аналогия обозначает реальное подобие. Во-вторых,
метафора есть результат произвольного акта нашего ума, обыкновенная стилистическая
фигура, троп; тогда как аналогия — правильно выполненное сравнение. В-третьих (и
это, согласно Брауну, важнейшее различие), «божественная метафора» выражает
нематериальные объекты лишь через идеи наших ощущений, между тем
«божественная аналогия» дает нам определенное знание об этих объектах, выражая их посредст-
«Алкифрон», или Сила слов^)^85^( jél
вом сложных понятий или представлений нашего ума. Таким образом, "если слава
Божия представлена через свет солнца, то перед нами самая обыкновенная метафора,
пусть даже и весьма возвышенная, — но если присущие Богу знание и благость мы
выражаем через человеческие знание и благость (единственные точные и
непосредственные понятия о знании и благости, которые мы способны получить), то речь идет о
правильной аналогии".60 Принцип различия между метафорой и аналогией
заключается в том, что "никакого реального подобия или истинного соответствия между
обычными чувственными объектами и небесным нематериальным бытием не
существует, зато вполне может существовать реальное сходство или, по крайней мере, некое
истинное соответствие, пропорция, соотношение между операциями нашего ума* («и
сложными понятиями, образованными на основе этих операций) с одной стороны, а с
другой — теми нематериальными сущностями,которые через данные операции
представляются и выражаются"(i1. То обстоятельство, что мы созданы по образу Божию,
служит достаточным основанием для любой аналогии, относящейся к Богу и его
атрибутам.
Желая избежать агностицизма, Критон также указывает, каким образом можно
отличить правильную аналогию от простой метафоры. Некоторые, говорит он, ложно
истолковали схоластические термины аналогия и аналогический, и пришли к
мнению, будто мы ни в коей мере не способны образовать истинное понятие о Боге (IV,
21). Кто же эти «некоторые»? Прежде всего имеется в виду У. Кинг, полагавший,
что всякое описание «божественных вещей» метафорично. Но речь здесь идет и о
П. Брауне, который, несмотря на установленную им самим дистинкцию между
метафорами и аналогиями в их отношении к Богу, утверждает, что сущностное различие
между человеком и Божеством таково, что «в прямом смысле слова» о Боге вообще
ничего сказать невозможно.
"Схоластики, — напоминает Критон, — различали два вида аналогии:
метафорическую и истинную (...). Если о Боге говорится, что Он раскаивается, гневается,
огорчается, то всем понятно, что аналогия в данном случае метафорическая. Ибо эти
страсти, взятые в прямом смысле, во всякой своей степени предполагают несовершен-
ство(...). По иному обстоит дело, когда мы относим к Богу знание и мудрость(...).
В чистом знании как таковом, в знании самом по себе, несовершенства нет.
Следовательно, знание в собственном, формальном смысле слова может быть приписано Богу
пропорциональным образом, т. е. соразмерно бесконечной природе Бога" (IV,
21).Устами Критона Беркли делает вывод: мы вправе говорить о Боге; и добавляет, что
именно это Кайетан называет analogia proprie facta. Оказавшись перед выбором перед
антропоморфизмом, разрушающим трансцендентность Божества, и агностицизмом,
принимающим эту трансцендентность, рискуя стать атеистическим, Критон не желает
видеть в analogia proprie facta метафорический способ выражения. О знании в Боге,
по мнению Критона, мы говорим в прямом смысле слова. А следовательно, если
У. Кинг, сводя весь язык онтотеологии к набору метафор, впадает в совершенный
агностицизм, то П. Браун едва ли поступает разумнее, когда опирается на т. наз.
«аналогию» между двумя терминами (Бог и человек), — терминами, несоизмеримость
которых он ясно признает в другом месте. И если Беркли ссылается не только на Кинга
и Брауна, но также и на Кайетан а, то происходит это по той причине, что последний
держится следующего мнения: человек есть несовершенное отражение божественного
ЕСЕХЗ
В@г
Kfâ&F Ж.БР.КМ«. ^зр^га
образца, и все же между Богом и его сотворенным образом существует прямое
сходство, сходство, которое следует мыслить исходя из различия в степени, но не в природе.
И напротив, Браун (подобно Кингу) оказывается в числе тех, кто «скверно
применяет» учение об аналогии, ведь рассуждать о «пропорции» между несоизмеримыми
терминами значит в сущности говорить бессмыслицу.
Как объяснить то обстоятельство, что Критон систематически отдает предпочтение
древним авторам, а в вопросе об аналогии опирается на авторитет св. Фомы, Суареса
и особенно Кайетана? Следует ли объяснять неупоминание Критоном «Procedure»
1728 г. тем, что Беркли попросту не читал это сочинение?
Первый ответ, который мы можем дать на этот двойной вопрос, основывается на
соображениях общего порядка. Достаточно вспомнить, что через всю дискуссию
между вольнодумцами и христианами красной нитью проходит подчеркнутое и неизменное
уважение последних к наследию прошлого. Естественная и откровенная религия
образуют исконную традицию, унаследованное от предков предание, сравнимое с золотой
цепью, объективно нерасторжимой, пусть даже отдельные ее звенья ложно толкуются
с субъективной точки зрения (VI, 22). С другой стороны, мы видим, что любые
новшества изображаются как нечто подозрительное, а все новаторы — как люди, которых
следует опасаться и от которых лучше держаться подальше. А совет, данный
Критоном вольнодумцам ("проверьте ваши принципы в отдаленном уголке на маленькой
модели (...) учредите колонию атеистов где-нибудь в Монопотаме" (II, 22)),
представляет поразительную аналогию с его собственной американской экспедицией. Впрочем,
глубокий пиетет перед прошлым не является единственным объяснением. Следует
учесть, что работа Кайетана «Аналогия имен» стала в начале 16 века официальным
выражением томистской доктрины аналогии. Совокупности положений, у св. Фомы
разрозненных и еще не сведенных в единое целое, Кайетан сообщил каноническую
форму, предоставив таким образом теологам органон, позволявший осмысленно
говорить о Боге.
Следовательно, у Беркли были те же основания ссылаться на работу Кайетана, что
и у всех теологов и духовных лиц. К этому, однако, побуждали его и дополнительные
мотивы, коренившиеся в его собственной философии. Вспомним, что весь
имматериализм можно резюмировать в одной формуле: «существовать значит быть
воспринимаемым». Между тем Критон, умудренный знакомством со схоластиками, заявляет, что
"согласно общепринятому учению школ, даже бытие должно приписывать Богу и
сотворенным существам по аналогии" и "нельзя предполагать, что Бог, это высшая, сама
себя порождающая причина и источник всякого бытия, существует в том же смысле,
что и существа сотворенные". Имматериализму, занятому исключительно проблемой
существования тварного мира, пока еще, как можно подумать, ничто не угрожает.
Дело, однако, принимает иной оборот, если учесть, что в 1710 г. берклианская
критика была в основе своей критикой абстракции, и что, с другой стороны, Беркли порой
использовал формулу «esse est percipi» так, как если бы речь шла о дефиниции слова
«существовать». В таком случае сказанное Брауном и Кайетаном об абстракции могло
навести на серьезные размышления. А глубокое, хотя и очевидное на первый взгляд в
«Алкифроне» влияние «Мыслей» и «Opuscules» Паскаля позволяет предположить,
что замечания великого янсениста о невозможности определить все термины и
доказать все утверждения (и в частности, невозможность дать определение слову «сущест-
1Ь^?^^^{УУ<<^лкиФРон>>> или Сила слов^)^^^{^|
вовать») могли заставить Беркли усомниться в том, что «Введение» к «Принципам»
соответствует поставленным целям. Отсюда — замечания христианских персонажей
«Алкифрона»: "Отыскивая порою некий скрытый и глубокий смысл", люди проходят
мимо "смысла обычного и вполне очевидного и таким образом создают трудности,
вместо того чтобы их прояснять." Обычный смысл слов есть именно совокупность
образов, но не система понятий.
Вслед за Аристотелем и св. Фомой Кайетан различал три вида аналогии: аналогию
неравенства, аналогию аттрибуции и аналогию пропорциональности.62 1) Об
отнесении к двум вещам одного имени (analogon) мы говорим как об аналогии неравенства,
если обозначенное термином (analogon) понятие является в точности одним и тем же,
хотя вещи причастны ему в неравной мере. Так, слово «тело» применимо по
отношению к высшим и низшим существам, и несмотря на то, что не все тела выражают
понятие «телесности» с равной степенью совершенства, данное понятие является
однозначным в приложении ко всем телам, поскольку они — тела.63 2) Аналогия
аттрибуции имеет место тогда, когда вещи называются одним именем, понятие,
обозначенное этим именем во всех случаях одно и то же, но отношения предицируемых
терминов к аналогическому термину (analogon) неодинаковы. Так, прилагательное
«здоровый» является общим для лекарства, мочи и животного, однако обозначаемое
им понятие указывает на особое отношение каждого из перечисленных слов к
здоровью, хотя эти отношения и не являются абсолютно различными.64 3) Аналогия
пропорциональности включает в себя две разновидности: метафорическую и
собственно аналогию пропорциональности.63 Аналогия является метафорической, если
общий термин (analogon), прилагаемый к двум вещам, обладает формальным смыслом,
который в первой вещи реализуется прямо и аутентично, а ко второй — предицируется
метафорически. Например, слово «улыбается» имеет прямой смысл, однако в
выражениях «улыбающееся» (souriant, в знач. «приветливое») лицо, «улыбающийся»
(«приятный») пейзаж или «улыбающаяся» (т. е. «благосклонная») судьба оно используется
в качестве метафорического аналога.66 Аналогия пропорциональности в собственном
смысле имеет место, если общий термин прилагается к двум вещам без всяких
метафор. Так, слово «принцип» («начало», «основание») можно употребить по
отношению к сердцу живого существа и фундаменту здания.67 Кайетан предлагает называть
«аналогией» лишь третий из перечисленных видов, т. е. аналогию
пропорциональности, и, опираясь на авторитет Аристотеля и Аверроэса, подчеркивает важность точного
определения «аналогии пропорциональности в собственном смысле»: в самом деле,
термины «благо», «единое», «одно и то же» употребляются аналогически именно по
такому принципу. Следовательно, Кайетан выделяет функцию инструмента
познания, которая, на его взгляд, присуща, «аналогии пропорциональности в собственном
смысле» в области метафизики. Напротив, св. Фома видел в ней лишь жалкое и
недостаточное средство хоть как-то компенсировать несовершенство и неполноту нашего
знания о Боге.68 Вот почему Критон завершает свой ответ Лисиклу ссылкой на работу
Кайетана: подобная работа оказывалась в высшей степени пригодной для того, чтобы
смягчить последствия той неудачной и ложной интерпретации, которой подвергли
вольнодумцы сочинения Ареопагита.
Между тем «Аналогия имен» Кайетана могла всерьез затронуть ранние сочинения
самого Беркли.
ЕСНЕХЗ
Задавшись целью нанести удар по слову «материя» посредством тщательного
анализа значения слов, Беркли заново переосмыслил номиналистическую теорию
понятий и подверг безжалостной критике абстрактные идеи: любое слово становится
общим, будучи знаком не общей абстрактной идеи, но идеи частной, которая, как
предполагается, представляет все частные идеи «того же рода» (Введ. к Пр. 11-12).
И хотя в тексте «Введения» можно обнаружить (разумеется, без ведома автора) три
типа абстрактных идей и, соответственно, три различных способа их критики,*
Беркли, тем не менее, полагал, что классификация по видам и родам относится ко
всем идеям, из чего вытекает существование разных степеней абстракции, но не
различных по природе типов «абстрагирования». Отсюда — значительные
затруднения: то, что иногда именуется «трансцендентными терминами», т. е. самые широкие
по значению слова языка, Беркли трактует как «абстрагированные» тем же
способом, что и общие родо-видовые понятия. Это относится прежде всего к слову
«существование», которое (имплицитно) интерпретируется по типу слова «материя»; то же
говорится мимоходом о словах «благо» (Введ., 20) или «тождество» (Пр., 11-12),
которые бегло упоминаются как примеры т. наз. общих абстрактных идей. Между
тем у Кайетана Беркли мог прочесть о различии между абстрагированием родовых
терминов, однозначных по отношению к охватываемым ими видам, и
абстрагированием аналогических терминов, не однозначных по отношению к сущностям, в которых
они реализуются:69 «благо» и «бытие» абстрагированы от объектов, для которых они
служат предикатами, иным способом, нежели понятие «животность» отвлечено от
человека или быка. Можно, пожалуй, отрицать, что эта последняя абстракция
осуществляется через общие абстрактные идеи, и тем не менее, говорить вслед за
Беркли, что частную идею можно сделать знаком всех других идей «того же рода»,
значит безосновательно сводить к одной-единственной схеме многообразие функций и
приемов, свойственных языку. Таким образом, одно из самых слабых мест
имматериализма состояло в молчаливом предположении того, что между «человеком» и
Петром или Павлом с одной стороны, а с другой — между «существованием» и
«воспринимаемостью» или между существованием, субстанцией и ее модусами наличествует
одно и то же отношение. В случае с родовым общим понятием подводимые под него
термины совпадают не только в том, что касается содержания самого понятия
(«животность», «человечность»), но и в однозначном отношении к данному понятию.
Напротив, в случае аналогии аттрибуции из знаменитого аристотелевского примера с
прилагательным «здоровый» становится очевидным, что во всех приведенных
вариантах его употребления (со словами «лекарство», «моча», «живое существо»)
существует указание на здоровье, — и однако, каждый раз это отношение имеет особый
смысл. Точно так же, по крайней мере, до известного предела, обстоит дело и с
аналогией пропорциональности. Отсюда, казалось бы, вытекает, что все
употребляемые по аналогии термины согласуются между собой и обладают некоторым общим
содержанием — в известной пропорции, хотя и различным способом. К примеру,
можно было бы подумать, что субстанция и количество обладают общим свойством, а
именно бытием, которое предицируется в различных «пропорциях», пусть даже эти
пропорции трудно установить. Однако, замечает Кайетан, это совершенно не так, и
«подобная мысль абсолютно неверна».70 Если столь различные категории, как суб-
* см. С. Brykman. Op. cit., p. 268-275 (прим. пер.).
[^/^^^{^«Алкифрон», или Сила слов
станция и количество, имеют нечто общее, то это «нечто» не есть вецъ^принадлежа-
щая к объективной реальности, но «пропорция»; а слово «существование»
представляет не единственную точку зрения или единое общее понятие, но несколько
различных значений, смешанных в одном слове. И если при аналогии аттрибуции ι
аналогический термин предицируется ясно и отчетливо по отношению к главному обяьекту, а
ко всем прочим — смутно и неопределенно (таково различие между здоровым
организмом и здоровой мочой), то в случае аналогии пропорциональности подобный
термин можно безразличным образом ставить в связь с любым значением, который
он способен принять.
Вслед за греческими и средневековыми философами Кайетан обнаружил и
подчеркнул наряду с обычной функцией языка его особенное, «аналогическое»
употребление.71 Однако обнаружить данную особенность еще не значило ее объяснить.
Отметим, что использование Кайетаном категории «пропорции» (в его толковании весьма
далекой от традиционного математического значения) служит, очевидно, тому, чтобы
компенсировать двусмысленность обыденной речи и превратить ее (категорию
«пропорции») в критерий, опираясь на который следует определять, допустимы ли в
теологии и метафизике те или иные слова и выражения.
То же самое, основываясь на авторитете Кайетана, делает и Критон. Видеть в этом
персонаже единственного выразителя мнений Беркли было бы слишком смело. И все
же следует помнить,что в интересующем нас фрагменте речь идет о том, чтобы любой
ценой избежать агностических выводов из негативной теологии. Любой ценой — для
Беркли же это может означать радикальное изменение в подходе к языку: отныне
требуется не срывать завесу слов (первую завесу), но доказывать необходимость
подобной завесы (второй завесы). Отсюда вопрос Критона: "А что, если темнота
(неясность) не является недостатком?" (VI, 8). И если Ефранор на протяжении всех семи
диалогов прямо и непосредственно защищает обыденную речь и ее укорененность в
практической жизни, то Критон, опираясь на сочинение Кайетана, демонстрирует, что
аналогия пропорциональности делает законным и оправданным использование
обыденного языка в теологии. «Принципы» 1710 г. показывали противоречие между
«невидимой рукой Господа» и «очевидным», явным характером Промысла (Пр. 151); в
1732 г. Беркли вслед за Паскалем признает, что Бог есть «скрытый Бог», окутанный
тайной и открывающийся «не вполне».72
Чтение Цицерона, «который прекрасно чувствовал силу слов» (I, 10), а также
знакомство с работами Аристотеля, св. Фомы, Кайетана и, разумеется, Паскаля,
являются важными внешними факторами, обусловившими перемену в отношении
Беркли к «завесе слов». Сейчас, однако, нам предстоит вновь обратиться к
сочинению П. Брауна «Образ действий, объем й пределы...». Книга эта, вышедшая в
1728 г., стала для философа событием, мимо которого невозможно было пройти.
Содержание диалога IV не позволяет категорически утверждать, что автор читал
«Образ действий...», однако одна из глав этой книги, специально посвященная
абстракции, уделяет слишком много внимания «Введению к Принципам», чтобы
Беркли мог ее проигнорировать, — как не мог он не знать о том месте, которое было
отведено его ранним произведениям в «Энциклопедии» Чемберса. Но, в отличие от
того, что находим мы во «Введении к Принципам», Браун четко разделяет
абстракцию на абстрагирование логическое и абстрагирование метафизическое. И оказывает-
ш>ш
ся,что в обоих случаях того, что обыкновенно именуют абстракцией, не существует.
Нетрудно понять, какую пользу можно было извлечь из « Введения» для критики
того, что Браун называет логическим абстрагированием: это абстрагирование есть
опровергнутая Беркли мнимая способность образовывать общие абстрактные идеи.
Желая подчеркнуть, что у нас нет нужды измышлять подобные идеи, Браун
пересказывает §§11-12 4Введения»: вполне достаточно, если некая частная идея может
служить символом всех других частных идей «того же рода». Стоит, однако,
заметить, что опровергая существование этой мнимой способности к абстрагированию,
Браун, в отличие от Чемберса, пользуется только критикой абстрактных идей III
типа: подобные идеи оказались бы логической несуразицей, представляющей
одновременно все свойства охватываемых ими частных идей, и ни одно из этих свойств.71
А что касается метафизического абстрагирования, то оно предполагает способность
воплощенного духа отрешиться от всех идей ощущений и от всех сложных понятий,
образованных на основе этих идей с одной стороны, и операций ума — с другой.
Подобное воображаемое отделение позволило бы создавать абстрактные идеи
небесных сущностей, — что, по убеждению Брауна, абсолютно неосуществимо в нашем
мире, где всякое человеческое знание происходит из чувств.
Основываясь на этой двойной критике абстракции, Браун не отвергает
способность к абстрагированию категорически: он хочет найти условия ее возможности и
установить границы нашего знания о Боге. И выясняется, что если бы мы могли
совершенно отрешиться от материальной субстанции, то у нас не осталось бы ни
единой идеи, ни даже сознания собственного бытия, ибо подобное сознание не
может возникнуть без идеи чего-то актуально существующего, на которую могли бы
быть направлены наши мысли. А поскольку ум способен воспринимать
непосредственно, как актуально существующее, лишь материальные объекты, то и сама идея
нашего существования происходит из восприятий подобного рода.74 А что касается
сознания того факта, что мы мыслим, то источником его является внутренне
переживаемый нами опыт связи души и тела, а следовательно, лишь на основе этого опыта
мы способны представлять себе по аналогии чистое сознание, независимое от всякой
материальности.75 Точно так же обстоит дело и с постижением нами таинств
христианства: если бы, к примеру, мы попытались отвлечь от идей, которые мы имеем об
Отце, Сыне и Духе, «прямой и буквальный смысл» этих слов, как их используют в
обыденной речи, то у нас не осталось бы никакого понятия или представления о
божественной Троице вообще.76
А следовательно, истинная «абстракция» (если по-прежнему называть ее данным
именем) состоит в использовании тех идей, которые мы единственно имеем, - идей
для нас знакомых, понятных и естественных, — для того чтобы представлять и
обозначать нематериальные божественные предметы, реальная сущность и свойства
которых таковы, что мы не способны образовать о них понятие или идею.77 Таким образом,
абстрагировать, согласно Брауну, — это "переносить наши мысли от строгого,
прямого и буквального смысла слов к их аналогическому значению и содержанию".78 Браун
подчеркивает, что аналогическое использование слов не является простым
паллиативом: когда слова используются по аналогии, наш ум осуществляет свои операции и
реализует свои способности «с такой же легкостью», как и при употреблении слов в их
исконном и прямом смысле.79 С такой же «легкостью*, но не с такой же ясностью и
отчепыивостью. Теперь, по завершении анализа тех сочинений, с которыми Беркли,
по всей вероятности, был хорошо знаком* мы можем понять весь смысл замечания
Критона: "Тот, кто образует свои понятия о вере, мнении и согласии, опираясь на
здравый смысл, пользу и обычай; кто подверг зрелому размышлению природу знаков
и языка, тот, конечно же, не почувствует особой склонности оспаривать словесную
формулировку таинства или нарушать церковный мир ради того только, чтобы
сохранить или отвергнуть какой-нибудь термин".
V. Смертельный удар
В финале диалога VI после многих уступок, после признания того, что основанные
на вероятности аргументы сообщают христианской религии высокую степень
моральной достоверности, Алкифрон формулирует последнее возражение: даже самые
многочисленные, древние, надежные и согласные между собой свидетельства никогда не
возьмут верх над доказательством. После чего Лисикл, желая раз и навсегда
положить конец спорам, объявляет, что истинное оружие вольнодумцев — это юмор и
насмешка; пытаясь же опереться на сухой разум и логическую аргументацию, мы, к
несчастью, погружаемся в утомительные препирательства и сражаемся с педантами их
собственным оружием (VI, 32), а подобной чести, на его взгляд, педанты не
заслуживают. И тогда Алкифрон четко отделяет собственную позицию от мнений своего
союзника: "Если мы усердно упражняемся в остроумии и в юморе, то вовсе не потому, что
другого оружия у нас нет", — и прибавляет, предвосхищая дискуссию диалога VII:
"в запасе у нас имеются разумные аргументы, и лучшие из них не были даже
представлены". Итак, мы ожидаем услышать некий убийственный аргумент (то, что Беркли
называл «смертельным ударом»), — это в плане «атаки», а в плане «обороны» — по^
знакомиться с тем, что Алкифрон считает «неприступной цитаделью» свободомыслия
(VII, 1).
В чем же заключается обещанный нам решающий довод? Никакое свидетельство не
в силах сообщить смысл бессмыслице, никакая моральная очевидность не способна
согласовать явные противоречия. А следовательно, вера (которая относится к
положениям, лишенным смысла) не имеет собственного объекта, а поскольку согласие ума
предполагает наличие объекта, то вера «wo самой своей природе есть нечто нелепое,
невозможное и нереальное» (VII, 1). Здесь создается впечатление, что Алкифрон
сражается с христианами тем оружием, которое использовал имматериализм. Вспомним
ответ, данный в «Принципах» на возражение, опирающееся на всеобщее признание
существования материи: "Неужели мы должны допустить, — спрашивает Беркли, —
что весь свет заблуждается?" (Пр. 54). "Строго говоря, — отвечает автор
«Принципов», — верить тому, что заключает в себе бессмыслицу или противоречие,
невозможно», и существование материи "не единственный случай, когда люди обманывают
себя сами, воображая, что они верят положениям, которые они часто слышат,
хотя в сущности в них нет никагого смысла1.
И все же Алкифрон не использует то, что при анализе логической структуры
имматериализма мы называли аргументом ЛС, аргументом, делавшим (как в этом мог
убедиться Беркли) бесполезным аргумент ПР. Вольнодумец начинает свою последнюю
атаку с уже знакомого нам противопоставления: "Знай же: толпа с ее неглубоким
умом, который скользит лишь на поверхности вещей и рассматривает их бегло и в
общих чертах, легко поддается обману. Отсюда — слепое почтение к религиозной вере
и таинствам. Но когда эти положения принимается исследовать и разлагать на части
проницательный философ, обман тотчас выходит наружу; а поскольку философ не
подвержен слепоте, то он и не питает почтения к пустым понятиям или, выражаясь
точнее, к простым формам речи, которые ничего не означают и совершенно
бесполезны для человечества" (VII, 1).
В чем же на самом деле заключается смысл слов и положений? Данное Алкифро-
ном объяснение заслуживает того, чтобы привести его в полном виде: "Слова - это
знаки, которые представляют или Должны представлять идеи, и лишь поскольку они
способны вызывать последние, постольку и обладают они значением. Однако слова, не
внушающие нам никаких идей, бессодержательны. Тот, кто соединяет с каждым
словом ясную идею, говорит осмысленно; там же, где этих идей нет, говорящий несет
вздор. А значит, чтобы определить, является ли чья-либо речь бессмысленной и
бессодержательной, нам достаточно отложить в сторону слова и рассмотреть внушаемые
ими идеи" (VII, 2).
Нужно отметить, что первая интерпретация смысла слов, данная Алкифроном,
могла быть заимствована непосредственно из заключительной части * Введения к
Принципам» (§§21-25), и в частности — в том, что касается способа проверки
наличия этого смысла: отложить в сторону слова и рассматривать идеи (Введ. 25).
Однако в дальнейшем изложении Алкифрон, как подчеркивали многие
комментаторы, следует «Опыту» Локка:80 "Люди неспособны сообщать друг другу свои мысли
непосредственно и потому вынуждены употреблять чувственные знаки, назначение
которых — вызывать в уме слушающего те же идеи, которые находятся в уме
говорящего". А поскольку каждое слово вызывает отчетливую идею, то читающий
или слушающий должен иметь **в своем уме ту же цепь идей, которая присутствует
в сознании говорящего или пишущего. И пока это действие производится, речь
является понятной, имеет смысл и значение" (VII, 2). Установив это в качестве
предпосылки, Алкифрон замечает, что люди по большей части не любят мыслить,
зато чрезвычайно склонны к претенциозным разглагольствованиям, — в
особенности это относится к тем, кт© в глазах света слывет многоучеными и
проницательными философами. А потому всевозможные пустые и бессмысленные слова
порождают головоломные дистинкцйи и бесконечные споры, оказываясь, к несчастью,
поводом для фанатического рвения и самой распространенной причиной заблуждений.
По-прежнему строго придерживаясь «Опыта», Алкифрон продолжает: "Акты
согласия, представляющие собой действия ума, относящиеся к идеям, имеют
несколько степеней".*1 Согласие с одной или несколькими ясными и отчетливыми
идеями — это знание; более слабая степень согласия, относящаяся к идеям не столь
отчетливым, порождает мнение. Но как же быть с верой, если она не предполагает
абсолютно никаких идей? Возвращаясь к «Введению к Принципам», Алкифрон
говорит, что во всех человеческих науках и познаниях "считается допустимым
приемом обнажить любую теорию или принцип, сорвав с них словесные облачения,
чтобы исследовать, какие же идеи находятся под ними, и есть ли там какие-либо
идеи воо6ще?"^Н, 3). "И часто обнаруживается, — добавляет Алкифрон, — что
это и есть кратчайший способ прекратить споры", а потому "я попытаюсь
применить сказанное в настоящем случае".
1^?^^^(Уг<<^лкиФРо1|>»> g*11 ^ила слов^)^^^{ je
Таким образом, Алкифрон намерен применить к слову благодать тог же метод,
который Беркли требовал использовать по отношению к словам материя и
существование. Пожалуй, еще с большей легкостью пали бы под этим ударом тонкие
умствования схоластической теологии, однако А л кифрон, желая добраться до самых корней
веры, атакует в слове благодать самый фундаментальный и одновременно самый
общедоступный элемент христианского учения.
Исследования реального смысла слов, говорит Алкифрон, есть кратчайший путь к
тому, чтобы положить конец всяким спорам. Отсюда вопрос: "Что же из себя
представляет ясная и отчетливая идея, обозначаемая словом «благодать»?" (VII, 4).
Вольнодумец признает, что слово «благодать» (grace) действительно употребляется в
обыденной, «мирской» речи: "Я вполне понимаю слово «благодать», взятое в
обычном смысле — как очарование (грация) или как благосклонность (милость).* Но
когда «благодать» означает некое активное жизненное управляющее начало, которое
влияет и воздействует на человеческую жизнь (...) тут, признаюсь честно, я
совершенно неспособен ее постичь или образовать какую-либо отчетливую идею, а потому
я не могу соглашаться ни с одним касающимся ее утверждением, а значит, не в силах
иметь никакой веры, к ней относящейся". Алкифрон напоминает о своих прежних
попытках установить религиозный смысл слова «благодать», однако, говорит он,
"после всего прочитанного и услышанного, я так и не сумел ничего в этом деле
разобрать, ибо каждый раз, когда, отложив в сторону слово «благодать», я
заглядывал в собственный ум, обнаруживал я там лишь совершенную пустоту и полнейшее
отсутствие всяких идей". Аналогия с теми замечаниями, которые были сделаны в
«Принципах» по поводу кажущегося всеобщего признания существования материи,
поразительна, ибо Алкифрон продолжает так: "А поскольку человеческие умы и
способности созданы, как я склонен думать, весьма сходным образом, то я
подозреваю, что и другие люди, если они исследуют то, что они называют благодатью, с
такой же тщательностью и беспристрастностью, согласятся со мною, что здесь нет
ничего, кроме голого имени. И это не единственный случай, когда люди бывают
уверены, будто они и в самом деле понимают слово, которое часто слышат и
произносят1*. Наконец, Алкифрон предлагает истолкование для этого ложного
чувства привычной ясности, заставляющего на£ думать, будто лишенные смысла слова
обладают определенным значением: "В настоящем же случае человечество, на мой
взгляд, обманывается по следующей причине: люди говорят об этом священном
принципе как о чем-то действующем, определяющем и движущем, причем идеи свои
они заимствуют от вещей телесных^ от движения, силы и импульса, свойственных
телам, - последние обладают вполне понятной чувственной природой, мы же ставим
их на место некоей духовной и непостижимой вещи, что представляет собой явный
самообман. Ибо, сколь бы ясной и вразумительной ни была идея телесной силы,
отсюда вовсе не следует, что и идея благодати — сущности совершенно
бестелесной - должна быть такой же (...). Вот так и получается, что ясная чувственная идея
действительно существующего порождает — или, скорее, становится предлогом для
воображаемой духовной веры (...)". А это, по мнению Алкифрона, совершенно
невозможно: "не может быть согласия там, где нет идей"; между тем никакая
аналогия с силой не способна дать нам идею благодати (VII, 4).
* Англ. grace: "благодать", "очарование", "прелесть", "благосклонность" (прим. пер.).
Таков убийственный довод Алкифрона, призванный подорвать основания
христианской веры. Данному аргументу полностью посвящены четыре первых раздела
диалога VII, а начиная с 5-го раздела излагаются возражения Ефранора. Сделаем два
замечания по поводу аргументации Алкифрона.
I. Желая доказать, что слово «благодать* лишено смысла, Алкифрон совершенно
не использует теорию общих абстрактных идей; он попросту ссылается на весьма
традиционную (и отчасти переосмысленную в «Принципах») доктрину, согласно
которой значение слов заключается в идеях. И когда Алкифрон напоминает, что самый
радикальный метод анализа любого учения состоит в поиске скрывающихся за
словами идей, он апеллирует к той части «Введения», которую можно назвать самой
«традиционной» или «классической» (между тем в ранних работах Беркли присутствуют и
такие фрагменты, где вполне четко ставится знак равенства между значением слов и
их конкретным употреблением в предложении).
II. Ахиллесова пята аргументации Алкифрона не в том, что он усматривает смысл
слов в абстрактных идеях (о них он даже не говорит) или просто в идеях. Слабость его
позиции в необоснованном переходе от констатации того, что у нас нет
отчетливой идеи благодати, к утверждению, что мы не обладаем этой идеей вообще.
Алкифрон отнюдь не превращает невозможность образовать абстрактную идею
божественной благодати в причину отсутствия смысла в соответствующем слове; он ясно
говорит: людей вводит в заблуждение необоснованная аналогия со словом сила и
выражаемой им идеей. К этому добавляется обманчивое ощущение привычности,
порождаемое обыденным употреблением слова, «благодать» (grace) (в значении
«очарование» или «благосклонность»). Двойной источник псевдосмысла слова»благодать»
(аналогия и привычка) приводит Алкифрона к следующим утверждениям: 1)
во-первых, не существует никакой отчетливой идеи божественной благодати; и далее,
(когда нужно подчеркнуть, что вера есть согласие, лишенное объекта) 2) не существует
никакой идеи благодати вообще.
Итак, не существует отчетливой идеи благодати или не существует никакой идеи
благодати вообще? Каким бы ни был ответ, но если учесть, что причина
возникновения этого слова заключается, как утверждал Алкифрон, в аналогии, то Ефранор,
казалось бы, был просто обязан искать аргументы именно в этой области и доказать, что
идеи или представления, полученные по аналогии, достаточно отчетливы, чтобы их
можно было возвести в ранг значений слов и даже знаний о вещах. Однако ничего
подобного не происходит. Ефранор, можно сказать, сыграл со своим собеседником
злую шутку: ведь именно он заманивает Алкифрона на почву дискуссии об
абстрактных общих идеях.
Сначала Ефранор движется обратным по отношению к Алкифрону путем: во-
первых, чтобы речь имела смысл, нужно, чтобы всякому слову соответствовала идея;
затем уточняется, что каждому слову должна соответствовать ясная и определенная
идея, и наконец, необходимость располагать отчетливой идеей, которая стояла бы за
каждым словом, позволяет перейти от отчетливой идеи к идее частной. Ефранор в
действительности ставит следующий вопрос: каким образом общие (а значит,
согласно Ефранору, туманные и неясные) слова могут соответствовать отчетливым (а
значит, по Ефранору, точным) идеям. Поставленная Алкифрону западня заключается в
двух сомнительных отождествлениях: с одной стороны, в приравнивании
«отчетливости» и «точности» идей к их частному характеру; с другой — в объединении слова
Ife^ )<^^^(УГ«ААКифрон»> или Сила слов^|}^8зд^Д
«благодать» со словами «человек*, «треугольник» или «цвет» в одну якобы
гомогенную категорию (VII, 5). Маловероятно, что Беркли считал незаконным
отождествление точности и ясности идеи с ее частным характером. И напротив, опущение §§5, 6
и 7 в изд. 1752 г. показывает, насколько острой и неудобной стала для него проблема
интерпретации одним и тем же способом в рамках единого критического анализа
языка общих родовых понятий и терминов, традиционно именуемых аналогическими.
Уже было отмечено, что имматериализм (в том виде, в каком он существовал в
1710 г.) позволял различить четыре категории слов. Однако привилегированный
статус слов категории А (объяснимый теми целями, которые ставились перед иммате-
риа-лизмом) до известной степени заслонял прочие категории. И Ефранор,
рассуждая о словах вообще, без учета замечания Алкифрона об особом, аналогическом
происхождении слова «благодать», совершает гомогенизацию того же порядка. "Вы,
стало быть, утверждаете, — говорит Ефранор, — что каждое слово вразумительной
речи должно выражать определенную идею? — Да. — И когда, например, я слышу
слова человек, треугольник, цвет, — продолжает Ефранор, — они должны
пробуждать в моем уме отчетливые идеи тех вещей, знаками которых являются?" (VII, 5).
Предположим, что слово человек — пример общего родового понятия, однако может
ли этот пример выступить в качестве «образца» и для того типа «общности»,
который характерен для слова благодать? Иначе говоря, способно ли слово категории
А послужить примером для слова категории С? Действительно ли слова «благо» или
«благодать Божия» употребляются тем же способом, что и слова «человечество» или
«цвет»?
Как и следовало ожидать, Алкифрон попадает в ловушку и соглашается
анализировать проблему значения и общности всех слов в целом, без различия: слова
являются общими, и однако, обладают значением потому, что соответствуют общим
абстрактным идеям. И, в согласии с позицией Локка (а в еще большем согласии — с
тем, как изображена эта позиция во «Введении» 1710 г.),82 Алкифрон утверждает,
что абстрактные идеи образуются одновременно и через исключение, и через
накопление частных подробностей. А поскольку абстрактные идеи не столь ясны и
привычны для заурядных умов, то некоторые могут вообразить, будто если у них нет
частной идеи, то у них нет никакой идеи вообще (VII, 5). Ответ Ефранора прост и
неотразим, причем из всего материала «Введения» в нем используется лишь критика
абстрактных идей III типа: подобные идеи внутренне противоречивы. Должен ли
каждый обращаться к собственным мыслям и заглядывать в свой ум, чтобы
определить, обладает ли он способностью к абстрагированию? В этом нет никакой нужды,
ибо можно знать a priori, что никакая способность интеллекта или воображения не в
силах создать идею того, что невозможно или заключает в себе противоречие; для
этого не требуется вникать в собственный ум, а затем постулировать сходство
человеческих способностей. С этого момента Ефранор может упрекать Алкифрона в том,
что последний желал извлечь довод из мнимых противоречий, чтобы опровергнуть
возможность божественных таинств. Но это, однако, не вполне точно. В
интересующем нас фрагменте Алкифрон всего лишь попытался истолковать происхождение
теологического смысла слова «благодать»: с одной стороны, тем обстоятельством, что
люди обманывают самих себя словами, которые им часто приходится слышать, с
другой стороны - гипотезой об аналогии со словом «сила». О результате же этого
двойного процесса Алкифрон нигде не говорит как о противоречивом, но, самое
всвхз
большее, — как о «темном* и «непонятном». По мнению вольнодумца, людей вводят
в заблуждение аналогии и обыденное (нерефлектированное) употребление языка, а
вовсе не трудность образования абстрактных идей.
И все же главная цель хитрой тактики Ефранора состояла не в том, чтобы добиться
от собеседника признания того факта* что смысл слов не заключается в абстрактных
идеях. И когда Алкифрон говорит: "А потому следует предполагать, что всякий раз,
когда я слышу общее имя, оно вызывает в моем уме ту или иную частную идею
данного вида?" — Ефранор отвечает:,"Не совсем так" (VII, 7). Стоит особо подчеркнуть
значимость этого уточнения. О том, что во «Введении» 1710 г. (§§11-12)
резюмировало весь имматериализм и было призвано обосновать критику материи, Ефранор
говорит: "Не совсем так". И напротив, он пространно использует в своих рассуждениях,
специально ссылаясь на «Трактат», опубликованный в 1710 г., те мысли, которые во
«Введении» (§20) порождали острую проблему совместимости слов категорий А и С.
И когда Алкифрон прямо спрашивает у Ефранора, к чему тот, собственно говоря,
клонит, последний отвечает ясно и недвусмысленно: нужно доказать вольнодумцам,
что "слова могут иметь смысл, даже не представляя идей."
Так, с помощью Ефранора, Беркли совершает нечто вроде возвращения к своей
исходной точке. И здесь мы имеем в виду поворот не к, философии имматериализма,
обнародованной в 1710г., но к фундаментальной задаче духовного лица, человека
церкви, — в том виде, в каком представлялась эта задача Беркли в 1708 г. И на фоне
этой магистральной задачи имматериализм может показаться умозрительным
обходным путем, спекулятивным уклонением, весьма экстравагантным и опрометчивым.
В противоположность печатному «Введению», во «Введении» рукописном Беркли
подчеркивал, что сообщение идей не является ни единственным, ни основным
назначением языка: с помощью слов можно вызывать эмоции, побуждать к действию или
удерживать от него; констатировалось, что многим словам не соответствуют никакие
идеи — ни общие, ни частные — и что противоположное мнение философов
"чрезвычайно опасно как для религии, так и для разума". Отсюда решительные планы
Беркли, о которых он заявляет во «Введении» 1708 г.: "Я попытаюсь в дальнейшем
продемонстрировать, что существуют вполне знакомые и привычные людям слова, о
которых, хотя они и обозначают нечто, нельзя предположить (...), что они
обозначают какие-либо идеи". Отзвуки этого замысла, затушеванного привилегированным
статусом слов категории А (обусловленным внутренними потребностями
имматериализма), -^отзвуки, впрочем, весьма слабые, обнаруживаются в §135 «Принципов»,
на который как раз и ссылается Ефранор, используя тот же самый пример. Слова,
обозначающие деятельное начало, душу или дух (т.е. слова категории В), не
представляют идей, и однако, они не лишены смысла. Ефранор подчеркивает: "Мне
понятно, что обозначено терминами «я» или «личность», и я знаю, какой смысл они
в себе заключают" (VII, 5 (8)). Об одних ли и тех же текстах и положениях идет
речь в 1710 и в 1732 гг.?
В §20 «Введения» 1710 г. доказывалось, что если даже слова «не всегда»
выражают идеи, соответствующие идеи, тем не менее, существуют, по крайней мере, в
принципе, обеспечивая при необходимости возможность эмпирической проверки смысла слов.
В 1732 г. Ефранор говорит куда более определенно, снимая покров двусмысленности с
выражения «не всегда». Во-первых, он утверждает (в согласии с §§19-20
«Введения»), что слова вызывают идеи «не всегда», поскольку мы, используя слова, не
1Ь^)^^{Уу<<^лкифрон1>> 1дли ^ила сл°в^)^@( j$
каждый раз представляем себе эти идеи; достаточно и того, что мы способны
установить соответствие между словами и идеями в конечном счете. Во-вторых, в согласии с
тем, о чем бегло упоминалось лишь в финале «Принципов» (§135), он говорит, что
слова внушают идеи «не всегда» в том смысле, что некоторые слова никогда не
представляют идей (VII, 10-12).
Если учесть использованные Беркли примеры («сила», «благодать», «Троица»,
«личность»), то может показаться, что эти два класса — слова, не представляющие
идеи всякий раз, и слова, никогда их не представляющие, — совпадают с тем, что в
1708-1710 гг. было категориями С и В соответственно. Это, однако, не так. Ефра-
нор показывает, что нечеткость и смутность границ между категориями В и С —
с теоретической точки зрения, как нам кажется, губительная для
имматериализма — в практическом отношении весьма удобна и вполне оправдана обыденным
употреблением языка. В обыденной жизни значение слов заключается не в идеях, а
тем более - не в идеях отчетливых, но в конкретном употреблении, в их действии у
в пользе. И потому Ефранор подходит с одной меркой к словам «сила»,
«благодать», «число», «дух», «личность». И стоит отметить,что, анализируя эти слова,
Ефранор не говорит, что «за» или «под» ними нет вообще никаких идей. Нет, по
мнению Ефранора, «точных» или «отчетливых» идей, поскольку невозможно
отделить смысл слов от конкретных и весьма сложных ситуаций, в которых они
используются. И если рельзя абстрагировать, то невозможно и различать, а значит, у
всех примеров употребления слова «благодать», перечисленных (с полемическими
целями) Алкифроном, существует близость, некое, как сказали бы мы сейчас,
«фамильное сходство».
Однако Ефранор идет еще дальше: даже слова категории А,— которым может
соответствовать частная идея, символ других идей «того же рода», — даже эти слова
можно подвергнуть анализу с точки зрения конкретного употребления и
«фамильного сходства». Дело не в том, что общие абстрактные идеи, однажды образованные
умом, затем якобы сообщают смысл словам, — напротив, именно в процессе
обозначения слова и становятся общими: следует учитывать их возможное употребление в
речи, их способность вступать в отношения с другими идеями и служить для них
знаками. И чтобы показать, как слова приобретают значение, требуется критика не
абстрактных идей, но того двойного предположения, которое сделал Алкифрон в
начале диалога VII, когда стремился продемонстрировать бессмысленность слова
«благодать»: 1) люди заблуждаются, говорил он, когда по той только причине, что
часто слышат только некоторые слова, начинают думать, что подобные слова
обладают смыслом; 2) люди заблуждаются, считая себя способными обозначать
сверхчувственные и неощутимые вещи по аналогии со словами, обозначающими чувственные
предметы. Христианским персонажам диалога уже приходилось попутно защищать
обыденный язык и они уже обращали против Алкифрона то оружие, которое дает
критика иносказательной, фигуральной речи, доказывая неизбежность, объем и
значимость подобного способа выражения. В диалоге VII Ефранор прямо и
непосредственно доказывает, что а) близость значения некоторых слов вовсе не есть источник
ошибок, но, скорее, доказательство и оправдание того странного и неуловимого
«фамильного сходства» (ни однозначного, ни многозначного), которое приобретают
в конкретной речи большинство слов языка; б) обыденный язык — лучшее
свидетельство и образец того, что является самым простым и одновременно самым практи-
чески полезным в процессе обозначения. И потому, в отличие от Алкифрона,
объявляющего аналогии иллюзией и самообманом, Ефранор устанавливает в качестве
важнейшего принципа для «Общей теории знаков» следующее: частные идеи
способны заменять другие идеи, но иногда также ставиться на место того, что
непредставимо и невыразимо. И это по той причине, что для нас естественно представлять менее
знакомое с помощью знакомого. Провидение же в каждое мгновение заботится о том,
чтобы эта «естественность» вела нас если не к истине, то к счастью; а с другой
стороны, творение обнаруживает перед нами «аналогию природы» — достаточную
гарантию для аналогий словесных и понятийных.
Данная Ефранором одновременно апология обыденного языка и языка аналогического
заслуживает того, чтобы привести ее полностью. Мы увидим, что все слова (в т.ч. и
принадлежащие к категории А) подвергаются единообразному анализу, стнрающе-му
различие между видовым и аналогическим сходством терминов и понятий. И Ефранор уже не
проводит различия (как это делал вслед за Кайетаном и Брауном Критон) между
метафорами и аналогиями. Все это — теологические тонкости, которые не имеют отношения к
защите обыденного языка и повседневной человеческой практики.
«Если я не ошибаюсь, мы обнаружим, что все науки (...) имеют дело со знаками,
хотя последние в своем применении относятся к вещам. Причину этого понять
нетрудно. Ибо, поскольку ум лучше знаком с объектами, которые начинают
действовать на него раньше, поражают сильнее или постигаются легче, чем другие, то он
естественным образом приходит к тому, чтобы заменять подобными объектами те,
которые являются более тонкими, изменчивыми, неуловимыми и трудными для
понимания. Нет ничего более естественного, чем превращать известное в ступеньку на
пути к неизвестному и объяснять или изображать вещи менее знакомые с помощью
тех вещей, которые мы знаем лучше. Между тем совершенно достоверно, что мы
представляем себе нечто в воображении прежде, чем мыслим; воспринимаем с
помощью чувств прежде, чем воображаем, из всех же наших чувств зрение самое ясное,
отчетливое, разнообразное, приятное и обширное. А потому для нас вполне
естественно содействовать работе интеллекта посредством воображения, воображению
посредством чувств, а остальным чувствам — посредством зрения. Отсюда —
чертежи, метафоры, символы. Мы изображаем духовное с помощью телесного; мы
заменяем мысли звуками, звуки — буквами, а эмблемы, символы и иероглифы ставим на
место вещей, слишком смутных для того, чтобы на нас подействовать, или слишком
изменчивых для того, чтобы удерживать их в памяти. Мы заменяем вещами
воображаемыми вещи умопостигаемые, чувственными — воображаемые, меньшими те,
которые из-за их чрезмерной величины нельзя обозреть с легкостью; более
крупными — те, которые трудно ясно различить; наличные вещи представляют для нас вещи
отсутствующие, постоянные — преходящие, а видимые — незримые. Отсюда -
применение моделей и схем. Отсюда же — использование прямых линий для
изображения времени, скорости и других вещей, совершенно отличных по своей природе.
По этой же причине говорим мы в образном стиле и о состоянии духа, выражая
действия души через иносказания и термины, заимствованные из области вешен
чувственных, как например, apprehend, conceive, reflect, discourse и тому подобные».
Последнее утверждение Ефранор иллюстрирует ссылкой на платоновскую аллегорию
колесницы, влекомой двумя конями, и заключает: "В общем, учение о знаках я
склонен считать предметом чрезвычайной важности и универсальной значимости, кото-
BcSXJ
«Алкифрон», или Сила слов
рып, если исследовать его надлежащим образом (...) представит верное и точное
разрешение многих трудностей" (VII, 13 (16)).
Защита аналогии и обыденного языка не есть для Беркли последняя цель. Анализ
примеров аналогического употребления языка, употребления, в основе которого
лежит польза терминов, а не ясность и отчетливость идей, должен привести к
следующему выводу: в любой области практическое воздействие слов всегда берет верх
над их смыслом. "Истинной целью речи, разума, науки, веры и согласия во всем
многоразлични их степеней и видов не является исключительно или
преимущественно или постоянно сообщение или приобретение идей, - но, скорее, нечто иное,
имеющее активную и действенную природу, относящееся к мыслимому и желаемому
нами благу. И подобной цели можно достигнуть, несмотря на то, что обозначаемые
идеи не даны уму, более того - даже вопреки тому, что никакие подобные идеи
вообще не могут быть даны или представлены" (VII, 14 (17)). Получается, что
метод, настойчиво рекомендуемый Алкифроном (а когда-то проповедовавшийся и
самим Беркли), а именно искать за словами идеи, утрачивает свою значимость? Ведь
нет никакой идеи за алгебраическим знаком, обозначающим отрицательный
квадратный корень; нет идей за словами «я*, «личность»; нет отчетливых (или точных)
идеи за словами «сила», «благодать», нет отчетливых идей за большинством слов
языка, конкретное употребление которых обосновано аналогией с более привычными
и понятными для нас примерами. Ефранор заключает: "Всякий раз, когда люди
оставляют частное ради всеобщего, когда они жертвуют практическими целями и
пользой ради бесплодных спекуляций, принимая средства и орудия за конечную цель
и упорно пытаясь получить точные идеи, сопутствующие, по их мнению, всем
терминам без различия, — они непременно запутываются в неразрешимых затруднениях и
спорах (...). А что касается затруднений, связанных с противоречиями и
абстрактными понятиями, затруднений, существующих во всех областях человеческой науки и
божественной веры, то крючкотворы могут выдвигать их в качестве возражений
против обеих, люди неосторожные могут становиться перед ними в тупик, - однако
люди здравомыслящие с успехом их избегают. И нет нужды отступать от
общепринятых правил разума, чтобы оправдать веру христиан. А если какой-то набожный
человек думает иначе, то это, пожалуй, есть следствие не религии или разума, но
человеческой слабости" (VII, 15 (18)). Остается Только узнать, относился ли сам
Беркли в 1710-1713 гг. к числу этих набожных — хотя и слишком смелых — особ.
Вывод первый: вследапвие выдвижения на первый план иносказательного языка
аргумент ЛС теряет силу.
Оправдание универсального использования аналогий во всех областях знания и
жизни связано с тем, что в 1732 г. Беркли допускает, что слова по большей части
никогда не употребляются совершенно однозначным или совершенно неоднозначным
образом. Напротив, в ранних сочинениях «обман слов» истолковывался тем, что
неоднозначное или двусмысленное употребление языка маскировало радикальную
дискретность мира. Кроме того, подчеркивалась полная неоднозначность слов
«сущее» π «вещь» в их приложении к духу с одной стороны и к идеям — с другой.
Таким образом, эти слова - самые общие из всех слов языка — охватывают «два
совершенно различных и разнородных разряда, не имеющих между собой ничего
общего, кроме названия» (Пр. 89). Полная неоднозначность в употреблении одного и
того же существительного или прилагательного при обозначении зрительных и осяза-
юшг
тельных идей подчеркивалась также и в НТЗ (§§46-51). Несмотря на видимость,
порождаемую процессом наименования, эти два вида чувственных ощущений
описывались как «совершенно различные». Можно, пожалуй, вслед за Уорноком83
утверждать, что употребление языка здесь двусмысленно, но не абсолютно неоднозначно, и
все же подобная двусмысленность внушает убеждения, которые Беркли изображает
как иллюзорные и обманчивые. Одним словом, в ранних сочинениях доминирует
принцип гетерогенности всех вещей, и пусть даже божественное Провидение
обеспечивает некоторую связность и постоянство, позволяющие говорить об «аналогии
природы», Беркли все же относится к рассуждениям по аналогии с недоверием: они
порождают ошибки, ибо нетерпение и опрометчивость человеческого разума часто
толкают нас к необоснованным выводам. В НТЗ Беркли прямо ставит вопрос: почему
столь разнородные объекты, какими являются идеи зрения и осязания, получают в
конце концов одно и то же имя? (§139). Он отвечает в духе, чрезвычайно близком
рассуждению Ефранора о значимости аналогий: употребление языка полностью
определяется стремлением к простоте и законом наименьших усилий. А поскольку
зрительные идеи как таковые обращают на себя мало внимания, то достаточно одного
имени, чтобы обозначить не только идею зрения, но и внушаемые ею осязательные
представления. При этом, однако, Беркли настойчиво подчеркивал отсутствие
сходства между соответствующими зрительными и осязательными данными: если они
носят одно имя, то лишь вследствие привычной связи, ни о каком тождестве или
подобии речи быть не может. Язык, таким образом, маскирует гетерогенность
универсума и вечно порождает путаницу и беспорядок — если не на практике, то, по
крайней мере, в теории.
Имея в виду вышеизложенное, можно задаться вопросом: почему Беркли во
«Введении к Принципам» ограничился критикой той теории языка и значения слов,
которая опиралась на доктрину абстрактных идей? В нее чистосердечно верили
ученые люди, эрудиты, тешившиеся своими возвышенными «идеями» — а в
сущности лишь аналогиями, прикрытыми набором ярлыков. Но пусть даже Беркли показал,
что является абсолютно невозможным — это еще не позволяет с точностью
определить, что конкретно он считал допустимым и практически осуществимым. Что
означают слова: частная идея в состоянии представлять другие частные идеи «того же
рода»? Очевидно, уже в 1708 г. Беркли заметил, что в природе существуют группы,
или «семьи» вещей, границы между которыми туманны, расплывчаты, всегда могут
быть подвергнуты сомнению и проведены заново. Но в 18 веке еще не была открыта
возможность третьего пути между критикой универсалий и реализма сущностей с
одной стороны и номинализмом (представленном в «Принципах» в форме, уже
ставшей к тому времени классической) — с другой. На разумный вопрос Сэмюэля
Джонсона ("не происходит ли темнота и неясность слов из неизбежного
метафорического употребления языка точно так же, как и из абстрактных идей?") Беркли
ответил, довольствовавшись замечанием, что на эту тему «многое еще остается
сказать». И если в 1710 г. требовалось разоблачить обман слов с помощью теории
номинализма, привилегированное положение в котором занимала концепция
терминов как общих родовых понятий, то в 1732 г. нужно было оправдать темноту языка
посредством аналогической интерпретации терминов и их значений, — к этому
принуждала практика обыденной жизни и повседневного языка, в котором ясность и
отчетливость идей вовсе не кажутся необходимыми. Отныне аргумент ЛС теряет
IEXSX2I
[^^^^{^«Алкифр^», или Сила слов^^^ГД
силу, ибо каждый, кто не имеет соответствующей слову идеи, всегда может заявить,
что он «сам создает себе идею» тем или иным образом по аналогии с
воспринимаемым в опыте.
Вывод второй: Отход на задний план критики способности к абстрагированию
делает недействительным аргумент Л С и ослабляет аргумент ПР.
Решительно отвергнутая в начале, затем представленная как возможность
рассматривать по отдельности то, что может существовать отдельно в природе, способность
абстрагирования была признана Джорджем Беркли в виде некоей уступки ("я сознаю
себя способным к абстрагированию в одном смысле" («Введение», 10)) и введена в
основной текст «Принципов» задним числом в списке опечаток к изд. 1710i\ А
поскольку границы способности к абстрагированию были в сущности неопределимы, то
данная уступка позволяла начиная с 1710 г. постоянно расширять сферу действия этой
способности. Мы уже отмечали, что три предложения из списка опечаток с одной
стороны и принцип «существовать значит быть воспринимаемым» — с другой,
образуют порочный круг. Опереться на него Беркли был не в состоянии, а потому его тезис
о нашей неспособности к абстрагированию основывается*на апелляции к внутреннему
опыту любого человека: "Обладают ли другие люди такой чудесной способностью
(...), о том они сами могут лучше всего сказать. Что касается меня, то я должен
сознаться, что не имею ее" (Введ, 10). И Беркли добавляет, что у него «есть основание
думать», что большинство людей находятся в одинаковом положении с ним, — не
указывая, однако, что это за «основание».
После слов Ефранора данное основание проясняется, й от этого способность к
абстрагированию приобретает более широкий масштаб, а ее сущность в значительной
степени трансформируется. И Алкифрон, и Ефранор признали, что человеческие
умы и способности созданы сходным образом (VII, 4 (9)), а значит, самонаблюдения
Ефранора можно тут же приложить к любому другому человеку. А потому Ефранор
выражает свою мысль в терминах, существенно отличных от тех, в которых была
представлена аналогичная уступка 1710г. "Я не отрицаю того, что ум (т.е. ум
любого человека) в известном смысле способен абстрагировать" (VII, 5 (8)).
Отметим, что границы способности к абстрагированию установлены весьма четко и уже
без всякой ссылки на принцип «существовать значит быть воспринимаемым». На сей
раз данные границы определяются через принцип непротиворечия. Не только я, но
и никто другой не может образовать абстрактную идею треугольника, подчеркивает
Ефранор, и спрашивает своего собеседника: "Можете ли вы образовать идею того,
что заключает в себе противоречие? (...) Могут ли существовать в действительности
тот цвет или тот треугольник, общие абстрактные идеи которых вы описывали? (.ι.)
А если так, то не следует ли отсюда, что они не могут существовать и в вашем уме,
или, другими словами, что вы не можете представить или образовать идеи этих
вещей?"* (VII, 6).
Отныне способность абстрагирования оказывается, с одной стороны,
ограниченной, — поскольку нельзя вообразить то, что противоречиво, а с другой стороны,
расширяется, — поскольку то, что невообразимо, не является по необходимости
противоречивым (как это уже можно было понять из допущения наряду с «вещами,
противными разуму» «вещей, находившихся выше разума»). Привилегированный
статус, который в 1732 г. получает критика одних только абстрактных идей III типа,
полностью преобразует сущность способности к абстрагированиюi Прежде говорилось
о способности ума разделять то, что может существовать по отдельности в природе,
теперь же речь идет о способности представлять не только то, что может
«действительно существовать по отдельности», но и то, «что действительно может быть воспринято
по отдельности». Если учесть тот широкий и неопределенный смысл, который имел в
18 веке глагол «воспринимать», то возникает вопрос, не формулирует ли здесь Ефра-
нор самую обыкновенную тавтологию: можно абстрагировать то, что можно
представить абстрагированным. Как бы там ни было, но приведенные Ефранором примеры
являются достаточным доказательством полного отказа от критики абстрактных идей I
и II типа образца 1710 г.: ведь способность мысленно отделить руку человека от его
тела (1710 г.) и способность отделить цвет кожи человека от его движений (1732 г.) -
совершенно разные вещи. Способность абстрагирования (свойственная Ефранору и
всем прочим людям) приобрела вполне традиционный смысл. Таким образом, Беркли
гарантирует неуязвимость религиозных таинств — непостижимых, но не
противоречивых — но, по той же причине, лишает силы аргумент ЛС, использовавшийся для
критики материи и других абстрактных понятий.
Сосуществование аргументов ЛС и ПР порождало в ранних работах определенные
проблемы. Иногда Беркли считает эти аргументы взаимозависимыми и дополняющими
друг друга: обман слов действует с такой силой, что бессмысленные утверждения
могут не только показаться обладающими смыслом, но даже послужить поводом к
логическим операциям; а кроме того, чтобы уличить человека в явном противоречии,
нужно сначала хоть сколько-нибудь понять смысл его слов. Чаще, однако, Беркли склонен
отделять друг от друга аргументы ЛС и ПР: либо система утверждений
(материалистических) лишена смысла и совершенно не поддается пониманию, либо данная система
имеет смысл, но этот смысл внутренне противоречив. Разделение этих аргументов
объясняется тем, что люди, несущие вздор, никогда не рискуют впасть в противоречие
с самими собой. Следовательно, в 1710-1713 гг. наиболее решительным и
радикальным является аргумент ЛС: если мы правильно понимаем, что такое смысл слов, то
наши споры с учеными не могут затянуться надолго; эрудиты, воображая, будто они
оперируют некими возвышенными идеями, изрекают в сущности полную
бессмыслицу, и потому нам просто не о чем с ними говорить.
Однако в финале «Введения» вопрос о смысле слов вовсе не был прояснен до
конца. Тщательный анализ слов «материя» и «существование» предполагает (по
крайней мере, в теории), что смысл слов заключается в идеях, пусть даже это идеи
частные, или во внутреннем опыте, поддающемся интерсубъективному контролю. Но
в тех же «Принципах» практические соображения (а на практике мы всегда
рассматриваем вещи «в общем» и «в целом») заставляют порой приравнивать значение слова
к его конкретному употреблению в обыденной речи; так обстоит дело со словом
«время» и даже «материя», и на практике вовсе не требуется проверять,
соответствуют ли этим словам какие-либо идеи. В «Принципах», однако, для Беркли оказалось
невозможным ограничиться разделением теории и практики, которое приблизительно
соответствовало бы дуализму «строгого смысла» слов (идеи, понятия) и их
«широкого смысла» (конкретное употребление в речи): широкий смысл слов обладает важной
теоретической функцией в том, что мы назвали «защитой реального мира», и в
оправдании слов категории В. А потому в «Принципах» Беркли трактует тремя
разными способами слова «душа», «материя» и «время». А значит, мы не вправе
сказать, что люди «поступают так, как будто у них есть душа» (Пр. §§135-140),
lÜJk ге@^Р^<<Алкифрои», или Сила слов^)^^^{ J&
между тем следует говорить, что люди « поступают так, как будто материя
существует» (Пр. 54). А что касается слов 4дух», «душа* и т.п. (категория В), то их
широкий, или обыденный смысл приобретает теоретическую функцию, которая
лишает привилегированного статуса слова категории А, функцию ясного истолкования
которой Беркли во «Введении» не дает.
В «Алкифроне» же ситуация становится куда более ясной. Здесь именно
вольнодумцы пытаются время от времени использовать аргумент ЛС. И напротив, Критон и
Ефранор с замечательным постоянством доказывают, что, вопреки всем тонким
умствованиям мелких философов, смысл слов заключается в их обычном употреблении.
Именно обиходная языковая норма служит критерием более сложного, необычного
или переносного употребления некоторых слов, и таким образом, все теоретические
конструкции следует оценивать, исходя из анализа их реального источника —
практических нужд и стремлений. Единый привилегированный статус практики и
обыденной речи уничтожает отныне все теоретические сомнения, которые могли бы
возникнуть относительно значения слова «дух» (коль скоро доказано отсутствие смысла у
слова «материя»). Как недвусмысленно заявляет Ефранор по поводу слова «я»
(«личность»), "существует практическая вера [в тождество личности],
проявляющаяся в воле и поступках человека, пусть даже разум его и не располагает теми
абстрактными, ясными и отчетливыми идеями, которые, чтобы там ни говорили
философы, обычным людям недоступны. Тем не менее, и у таких людей (...) можно
найти немало примеров подобной веры — в делах, не имеющих отношения к
религии. Так почему же нельзя наставлять обыкновенные умы — и именно в этом,
спасительном для души смысле — в доктринах, касающихся небесных таинств (...)?"
(VII, 9 (12)). Критон развивает мысль своего партнера: христианская религия —
установление, приспособленное скорее для обыкновенных умов, нежели для
утонченных талантов склонных к умозрению особ. И если "черпать наши понятия о вере
скорее из обыденной жизни и обычного поведения всего рода человеческого, нежели
из особенных систем некоторых утонченных теоретиков, — тогда, я полагаю, будет
не так уж трудно понять и оправдать смысл и цель нашей веры в таинства — вопреки
самонадеянным и категоричным заявлениям мелких философов; последних, впрочем
легко поймать в те самые силки, которые они изготовили и расставили для других"
(VII, 10(13)).
Именно аргумент ПР является одним из тех средств, которые позволяют поймать
вольнодумцев в их собственные силки, и Критон весьма охотно принимает бой с Ал-
кифроном на почве строгой логики и искусства мышления. Однако использование
аргумента ПР остается ограниченным. Коль скоро признано существование «высшей
мудрости», несоразмеримой с человеческой способностью мыслить и понимать,
защитники христианства допускают, что нелепость и непостижимость — разные вещи (VI,
7). Вещь не является абсурдной только потому, что мы ее не понимаем, а
следовательно, темнота и непостижимость таинств признаны поощрить нашу скромность, ибо не
человеческий разум должен служить мерилом истины. Алкифрон — адвокат
человеческого разума — чаще пользуется аргументом ПР: что такое, к примеру, откровение,
которое ничего не открывает и по-прежнему остается для нас тайной? Что такое
свобода человека по отношению к необходимости, ясно доказанной наукой? Что такое
свобода, если догмат о предопределении имеет смысл? (VII, 20).
Соперники Алкифрона в подобной ситуации применяют двойственную тактику:
1 ) Вполне традиционным образом они различают то, что противно разуму, и то,
что выше разума. Они соглашаются, что человек вправе не верить тому, что явно
противоречит рассудку и разуму. Однако, по их мнению, нам следует различать то,
что относится к безусловному долгу, к обязанности, и то, что касается добровольной
милости. А в таком случае, пусть даже естественный свет человеческого разума
оказывается плохим судьей замыслов божественного Провидения, мелкие философы не
вправе на это сетовать (VI, 15-20).
2) Они показывают, что упомянутые Алкифроном противоречия относятся к чисто
спекулятивным антиномии (VII, 22-23). Конкретный жизненный опыт (например,
внутреннее переживание свободы) мгновенно разрешает те проблемы, которые заводят
теоретиков в бесконечные лабиринты.
В общем, даже если истинные мотивы мелких философов (тщеславие, мода, дух
партийности) далеки от разума и мышления, спорить с ними и выявлять их
заблуждения стоит труда. Таким образом, утверждает Критон, мы покончим с предрассудком,
заставляющим некоторых людей полагать, будто вольнодумцы превратили разум в
собственную монополию. Однако в целом аргумент ПР служит христианам прежде
всего для обороны. Истолкование таинств с помощью разума — занятие пустое и
тщетное, зато демонстрация того, что в этих верованиях нет ничего абсурдного — дело
нужное и полезное. А что касается наступательной тактики, то Критон и Ефранор,
строго говоря, не обвиняют своих оппонентов в том<* что последние противоречат
самим себе — противоречат в одно и то же время и в одном и том же отношении - но
упрекают их в непостоянстве: так, в начале первого диалога Алкифрон самоуверенно
обещал вырвать с корнем из человеческого разума некоторые ложные и вредные
представления, а в конце диалога седьмого он объявляет, что величайшая тайна его секты
такова: «Все — мнение». Критон пользуется этим признанием, чтобы заявить:
религия, истинная или ложная, никогда не исчезнет, и чем больше сомнений, тем больше
места для веры.
Если же вести речь о влияниях и параллелях, то можно высказать предположение,
что Беркли перешел от Бейля к Паскалю, иначе говоря, от свободомыслия
(служившего, как полагал Беркли, борьбе против скептицизма) к прямой апологии христианства
и к признанию «истинности пирронизма».
Таким образом само существование имматериализма ставится под угрозу, пусть
даже Беркли ясно об этом не говорит. Вдохновляясь, безусловно, паскалевским
анализом дефиниций («Духа геометрии»), Беркли настойчиво доказывает, что стремление
все определить — бессмысленно и опасно. Более того, он заканчивает «Алкифрон»
совершенно поразительным приговором Спинозе: Спиноза дает свои собственные
определения Бога и силы, а значит, из того, что было установлено с самого начала
спекулятивным образом и вообще не поддается обсуждению, можно затем выводить
какие угодно нелепые следствия. Между тем молодой Берки сам предлагал
собственные, совершенно оригинальные дефиниции слов «существование», «идея» или
«причина». Что же мы читаем у Паскаля? С одной стороны, мы узнаем, что дефиниции
устанавливаются весьма произвольно*, "они никогда не могут быть опровергнуты, ибо
ясно определенней вещи мы вправе присваивать какое угодно имя" при условии, что
тщательно следим за тем, чтобы одно имя не присваивалось двум разным вещам, а
определение слова не изменялось незаметно по ходу рассуждения.84 С другой стороны,
Паскаль настойчиво говорит о невозможности определить первичные фундаменталь-
1^?^^^(^<<^лкифрон>>> или ^ила слов^)^^^( jj\
ные термины, в особенности слова «существование» и «время».85 На примере
последнего слова Паскаль показывает, что иногда установление дефиниций бывает не столь
произвольным, как это кажется: зачем давать новое определение времени, «если и без
особых дефиниций все прекрасно понимают, что имеется в виду, когда о нем
говорят? »> Если же кто-нибудь все-таки предложит дефиницию времени, например,
«движение сотворенной вещи», то возникнет следующая ситуация: первым значением
слова «время» будет то, которое все понимают легко и естественно; вторым значением
станет новая дефиниция этого слова. * Нужно будет избегать двусмысленностей и не
смешивать следствий». Если кто-то вводит новый смысл слова, желая при этом
сохранить и его обычное значение, то перед нами уже не определение, а тем более не
«произвольное определение», речь идет уже об утверждении, требующем
доказательства. А если речь идет об утверждении самоочевидном? Тогда, отвечал Паскаль,
это будет принцип или аксиома, но отнюдь не дефиниция.86 Уже в 1710 г. можно было
усомниться в том, что формула «существовать значит быть воспринимаемым»
является определением. Теперь же для Беркли стало несомненным, что, поскольку
«неясность не является недостатком», уже нельзя отстаивать аксиоматическую очевидность,
приписывавшуюся некогда тезису об отсутствии материальной субстанции, или о
тождестве «существования» и «восприятия»: Чтот, кто подверг зрелому размышлению
природу знаков и языка, — отмечал Критон, — тот, конечно же, не почувствует
особой склонности оспаривать словесную формулировку таинства или нарушать
церковный мир ради того только, чтобы сохранить или отвергнуть какой-нибудь термин".
sSsd$fejßQfcjib
г
г
Пр
имечания
|9мь ^s*9l
Алкифрон9 или Мелкий философ
Предисловие
1 "Если я, будучи мертв, ничего чувствовать не буду, как думают некие неважные
философы, то я не боюсь, что эти философы будут насмехаться над этим
моим заблуждением" (Цицерон, Катон Старший, или О страсти, 23, 85; мер.
В. О. Горенштейна). Ср. выше у Цицерона: "Если я заблуждаюсь, веря в
бессмертие человеческой души, то заблуждаюсь я охотно и не хочу, чтобы
меня лишили этого заблуждения, пока я жив". Далее следует текст, взятый
Беркли в качестве эпиграфа.
«Minuti philosophi» у В. О. Горенштейна — «неважные философы», у М. И.
Рижского (О дивинации I, 30, 62) — «ничтожные»; в настоящем издании сохранена
традиционная передача слов Цицерона в названии работы Беркли - «мелкий
философ».
2 Очевидно, имеется в виду «Философское исследование человеческой
свободы» А. Коллинза (1715). В «Жизнеописании» англ. писателя и
лексикографа С. Джонсона сообщается: "Во время одного из своих визитов к декану
(декану англиканской церкви, т. е. Беркли — А. В.) г-н Джонс беседовал с
ним о предмете сочинения, над которым Беркли тогда работал, и получил
более подробные сведения о том, что Беркли, посещая под личиной ученика
один из лондонских деистических клубов, лично слышал это странное
заявление, что человеком, который сделал его, был Коллинз, и что данное
доказательство и было тем, что Коллинз впоследствии опубликовал в книге,
названной «Философское исследование человеческой свободы», где пытался
продемонстрировать, что всякое действие есть следствие судьбы и необходимости".
ю®а
Примечания ^)^6^( jA
3 Эти два абзаца добавлены во 2-м изд. (1732 г.)
4 См. Шефтсбери, Эстетические опыты. М., 1975, с. 287, 298. (Далее — Шефтс-
бери, с указ. стр.)
0 Т. е. «Опыт новой теории зрения». (1-е изд. — 1709, 2-е изд. — 1720). В 3-м
изд. «Алкифрона» (1752) «Опыт новой теории зрения» опущен.
Диалог первый
1 Имеется в виду трехлетнее пребывание Беркли на о. Род-Айленд (1729-1731) в
ожидании обещанных правительством субсидий для основания колледжа св.
Павла, в котором предполагалось готовить миссионеров из числа туземцев и
английских колонистов. Подробнее об истории «Бермудского проекта»,
занимавшего Беркли в течении десяти лет (1723-1732), см. в предисловии к
Works of George Berkeley..., in 4 vols. Ed. A. Fraser. Oxford, 1901.
2 Это имя подсказано Беркли «Письмами» греч. писателя 2 в. н. э. Алкифрона, в
которых изображаются вольные нравы афинского общества. В библиотеке
Беркли имелось издание Alciphroni Epistolae, Gr. Lat. a Bergelio, Lips. 1715.
3 Описание местности близ дома Беркли на о. Род-Айленд.
4 Ср. Дж. Толанд, Письма к Серене, 1, 8.
5 Ср. Беркли, Статьи в «Гардиан», IV.
6 ... и пускай слова мои ясно раскроют
Все несказанное, что в тайниках души моей скрыто.
Персии, Сатиры I, 5, 29 (пер. Ф. Петровского).
ю
Ср. Дж. Толанд, Письма к Серене, III.
Здесь: человек широких и свободных взглядов, веротерпимый (от лат. latitudo
ширина).
9 В оригинале аллитерация: «hunted» — «haunted».
Ср. Цицерон, Тускуланские беседы 1, 30: "Конечно, такая надежда меня тешит;
больше всего мне хотелось бы, чтобы так оно и было, а если это даже не так,
то чтобы меня убедили, будто это так" (пер. М. Гаспарова).
См. Цицерон, О старости, 23, 85 (см. прим. 1 к «Предисловию»); его же, О
дивинации, I, 30, 62: "И его-то (Эпикура — А. В.) ты противопоставляешь
Платону и Сократу, которые, не говоря уже о разуме, побеждают этих
ничтожных философов уже одним своим авторитетом" (пер. М. И.
Рижского).
Т. е. Мандевиль (1670-1733), англ. философ, автор знаменитой «Басни о
пчелах» (1705); полемике с ним посвящен Диалог второй.
Имеется в виду А. Коллинз (см. прим. 2 к «Предисловию»).
Не вполне точный перевод латинского выражения «Loquendum est ut plures,
sentiendum ut pauci», принадлежащего итальянскому философу Августину
Нифу (Augustinus Niphus, Nifo, 1453-1538).
вольнодумцев (φρ.).
В первом изд. вместо «к вашей секте не принадлежит» — «кто атеистом не
является».
IkXSXJ
l^k reS^ty^ Приложения
17
7
12
17
M. Антонин, кн. IV. (лат.) Марк Аврелий Антонин (121-180), римский
философ-стоик, император с 161 г. Ссылка на его книгу «К самому себе»
(«Наедине с собой»).
Диалог второй
1 Second Beach и Hanging Rocks на о. Род-Айленд.
2 Мандевиль.
3 См. Мандевиль, Басня о пчелах. М., 1974, с. 105 (далее — Мандевиль, с указ.
стр.)
4 Там же.
5 Там же, с. 100.
• Ср. Мандевиль, с. 97-99.
Ср. Мандевиль, с. 102-103.
8 Ср. Мандевиль, с. 212, 317-318.
9 высшему свету (φρ.).
10 Государство, И, 377а-383с.
11 Ср. Цицерон, Тускуланские беседы I, 17, 39: "Клянусь, я охотнее готов
заблуждаться вместе с Платоном, чем разделять истину с нынешними знатоками, — я
ведь знаю, как ценишь ты Платона, и сам дивлюсь ему с твоих слов" (пер. М.
Гаспарова).
Сходная аргументация у шотл. философа Ф. Хатчесона (1694-1747) в
«Замечаниях о Басне о пчелах» (Remarks upon the Fable of the Bees, p. 61).
13 Мандевиль анализировал последствия вполне реального лондонского пожара
1666 г.: "Пожар Лондона был огромным бедствием, но если бы плотники,
каменщики, кузнецы и все мастеровые, не только не занятые в
строительстве, но в равной мере и изготовляющие те самые изделия и другие товары,
погибшие от огня, и торгующие ими, и, далее, другие ремесленники и
торговцы, получавшие от них прибыль, когда были полностью заняты, должны
были голосовать против тех, кто потерпел убыток в результате пожара, то
изъявлений радости было бы столько же, сколько жалоб, если не больше"
(Мандевиль, с. 321, пер. Е.С.Лагутина).
Фрагмент в скобках добавлен во 2-м изд.
Ср. Беркли, Опыт о предотвращении падения Великобритании (см. Works, vol.
4, p. 321).
Саллюстий, Заговор Катилины, 10. Луций Сергий Катилина (ок. 108 г. до н. э.
— 62 г. до н. э.), организатор заговора, раскрытого консулом Цицероном в
63 г. до н. э.
Заговор Катилины, 16.
18 Ср. слова платоновского Калликла: " Но если появится человек, достаточно
одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен:
он освободится, он втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и
чародейство, и все противные природе законы и, воспрянув, явится перед нами
владыкою бывший наш раб — вот тогда-то и просияет справедливость природы!"
(Горгий, 484 ав, пер. С. П. Маркиша).
Е@С2
19 Ср.: "Я так же резко выступаю против папства, как когда-то выступал Лютер и
Кальвин, или сама королева Елизавета, но я со всей искренностью
полагаю, что Реформация едва ли более способствовала превращению тех
королевств, которые она охватила, в процветающие страны, обогнавшие все
другие, чем глупое и капризное изобретение — стеганые юбки и нижние
юбки на фижмах. Но если справедливость моего утверждения будет
опровергаться врагами власти духовенства, я по крайней мере уверен в том, что
если исключить великих людей, которые боролись за это благо мирян или
против него, Реформация с самого ее начала до сего дня не заняла столько
рук, честных, прилежных, трудолюбивых рук, сколько то отвратительное
усовершенствование женской роскоши, которое я упомянул, за несколько
лет'ЧМандевиль, с. 318, пер Е. С. Лагутина).
20 Ср. Мандевиль, с. 116, 211-212.
21 Ср. «Вопрошатель...» (См. Беркли, Сочинения, М., 1978, с. 511-518).
22 Платоновский Калликл говорил: "... кто хочет прожить жизнь правильно, должен
. давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были
они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на что
ему и мужество, и разум!), должен исполнять любое свое желание.
Но, конечно, большинству это недоступно, и потому толпа, стыдясь своей
немощи и скрывая ее, поносит таких людей и объявляет своеволие позором и,
как я уже говорил раньше, старается поработить лучших по природе;
бессильная утолить собственную жажду наслаждений, она восхваляет воздержанность
и справедливость — потому что не знает мужества" (Горгий, 491с — 492в,
пер. СП. Маркиша).
23 Горгий, 493d-494а.
24 Аристотель, Никомахова этика, кн. 10, гл. 5, 1176а 5-10.
25 Аристотель, Никомахова этика, кн. 10, гл. 8, 1178а 2-4: "Видимо, сам [человек] и
будет этой частью его (т. е. разумом — А. В.), коль скоро она являестя главной
и лучшей [его частью]. А потому было бы нелепо отдавать предпочтение не
жизни самого себя, а [чего-то] другого [в себе]" (пер. Н. В. Брагинской).
26 Никомахова этика, кн. 10, гл. 7.
27 Улица в Лондоне, где в 17-18 вв. обитали бедные литераторы и журналисты.
28 Никомахова этика, кн. 10, гл. 6, 1176в 15-25: " Потому эти (чувственные — А.
В.) удовольствия и считаются признаками счастья, что в них проводят свой
досуг государи; но подобные [счастливцы] не доказывают наверное, [что
счастье — это развлечение], ведь от обладания властью государя не зависят
ни добродетель, ни ум, а именно они — источники добропорядочных дея-
тельностей; и если, не имея вкуса к удовольствию чистому и достойному
свободнорожденного, прибегают к удовольствиям телесным, то из-за этого
не следует думать, будто эти удовольствия предпочтительны; дети ведь тоже
уверены, что самое лучшее это то, что ценится между ними".·
29 [... Слушайте речь мудреца не за пышной и сытной трапезой]
И не тогда, как бессмысленный блеск ослепляет вам очи,
Иль как обманутый разум полезное все отвергает.
Гораций, Сатиры II, 2, 5-6 (пер. М. Дмитриева).
30
39
40
41
42
V
Приложения
По предположению издателя «Сочинений» Беркли А. Фрейзера, Ричард Бойль,
граф Берлингтон, большой знаток и любитель архитектуры, с которым
Беркли познакомился по возвращении из путешествия по Италии.
31 блуждающие огоньки (лат.)
32 Ср. Беркли, Сейрис, 106-109.
33 Большая этика, кн. И, гл. 6.
34 Возможно, имеется в виду Барльз Блаунт (Blount, 1654-1693), англ. деист,
автор книги «Мировая душа» (Anima Mundi), покончивший самоубийством.
35 Протагор, 355е —357е.
... Но когда каменистый хираргой
Скрючены члены у них, точно ветки старого бука,
Все начинают вздыхать, что, словно в туманном болоте,
Дни их нелепо прошли и жизнь погибла, — но поздно.
Персии, Сатиры V, 58-61 (пер. Ф. Петровского).
37 Два предложения, добавленные во 2-м изд.
38 Никомахова этика, кн. 7, гл. 6, 8. См. также Большая этика, кн. 2, гл. 6.
Карикатура на «Пантеистикон» (1720) Дж. Толанда.
Эти два предложения переданы Критону от Лисикла в 3-м изд.
Ср. Платон, Государство, 563е, 564а.
Упомянутая книга «О монархии солипсистов», представляющая собой сатиру на
орден иезуитов, вышла в 1645 г. в Венеции. Принадлежит она, вероятно, не
Мельхиору Инкоферу (1584-1648), как долгое время считалось,а итал.
теологу Скотти (1602-1669).
Диалог третий
высшего света (фр).
Присяга, которую обязан был принять каждый поступающий на
государственную службу, включала в себя помимо акта на верность короне заявление о
неверии в пресуществление. Введена в 1673, отменена в 1828 г.
Выделенный фрагмент добавлен в 3-м изд.
Ср.: "Если существует вера в Божество или представление о Божестве, в коем
видят лишь обладателя абсолютной власти над творениями, принуждающего к
повиновению своей безусловной самодержавной воле посредством
определенных наград и наказаний; если таким образом только благодаря упованиям на
вознаграждение и страху перед карой человек побуждается творить добро,
которое он ненавидит, и воздерживаться от совершения зла, к которому,
впрочем, никакого нерасположения он не питаетдо ни о какой добродетели или
праведности.... в данном случае не может быть и речи" (Shaftesbury, Inquiry
concerning Virtue, book 1, part 3, §3. — см. Shaftesbury, Characteristics... 3 vol.
London, 1714; vol. II, ρ 55; далее — «Char.» с указ. тома и страницы.).
Беркли трактует Шефтсбери довольно тенденциозно (как и * Басню о
пчелах» Мандевиля во 2-м диалоге). Отношение Шефтсбери к представлению
в@а
K)®tfF прш.,4««. ^}^Γ3Ι
о загробном воздаянии не всегда однозначно отрицательное, как это
изображается в «Алкифроне». См., напр., Char. II, 56-59, 61-63.
5 Ср. Шефтсбери, Моралисты, ч. 3, разд. 2: "Я готов признать, что в некоторых
фигурах есть природная красота, которую глаз обнаруживает, как только
предмет является перед ним.
- Так что ж, - сказал он, — выходит, есть природная красота фигур? А
красота действий не будет столь же природной и естественной? Не успеет
еще глаз присмотреться к фигурам, ухо — прислушаться к звучаниям, как
внезапно возникает красота — изящество и гармония всеми узнаются и
всеми одобряются. Не успеют еще понаблюдать за действиями, не успеют
различить человеческие чувства и страсти, — а большинство из них стоит
лишь почувствовать, и они уже различены, — как внутреннее око внезапно
уже различает и видит превосходное и прятное по форме, уравновешенное и
восхитительное, в отличие от всего безобразного, жалкого, ненавистного,
презренного. Как же возможно не признать, что все эти расчленения
основаны на природе и само их распознавание естественно и идет от одной
природы44 (Шефтсбери, с. 219, пер. А. В. Михайлова).
См. также Char. II, 28; 42-43; III, 31-32.
6 достойное, почтенное, честное (лат.).
7 прекрасное (греч.).
8 1249а 26.
9 См. Гигший Больший.
10 букв.: не знаю что (φρ.). Ср. Шефтсбери, Солилоквия... ч. 3, разд. 3: "Хотя
намерения его (художника — Л. В.) — угодить свету, но тем не менее, он
должен в известном смысле возноситься над миром, устремляя свой взор на
высшую грацию, на красоту природы, на совершенство чисел, — на все то,
что остальное человечество, не ведая сути дела и ощущая лишь достигнутый
результат, именует «je ne sais quoi» — непостижимым или, иначе, «не знаю
что», — принимая это непонятное ему за некие колдовские чары, в которых
не может отдать себе отчета даже сам художник" (Шефтсбери, с.438-439,
пер. А. В. Михайлова).
11 О «Моральном чувстве» см. также Char. II, 42; Φ. Хатчесон, Исследование о
происхождении идей красоты и добродетели (1725).
12 Ср. т. наз. «Гимн природе», знаменитый в 18 в. (Шефтсбери, с. 176-177), а
также «Письмо об энтузиазме» (Шефтсбери, с. 237-271).
13 Диоген Лаэрций II, 108.
14 Это примечание добавлено в 3-м изд. Цитируются «Мысли о разном»
Шефтсбери; см. Char. Ill, 301-302.
15 Ср. «Введение» к «Трактату о принципах человеческого знания» (Беркли,
Сочинения, М., 1978); далее — Принципы с указ. раздела.
16 Гвидо Рени (1575-1642), итал. художник Болонской школы.
17 ... горда его шея,
Морда точеная, круп налитой и подтянуто брюхо,
Великолепная грудь мускулиста.
Вергилий, Георгики III, 79 (пер. С. Шервинского).
Ilk №W(y Приложения
20
21
22
23
24
27
18 «Десять книг об архитектуре с комментариями Даниила Барбара» (De Architectura
libri decern, cum commentants Daniel is Barbari). Написаны патриархом Аквилеи
Даниилом Барбаром (1513-1570), вышли в свет на латинском языке в 1567 г.,
итал. перевод напечатан раньше (I Died Libri dell Architettura di M. Vitruvio
tradotti commentati. Venezia. 1556).
19 выпуклость (итал.).
Прибавлено в 3-м изд.
Шефтсбери.
См. Мысли о разном, 5, гл. 3 (Char. Ill, 303).
Фрагмент в скобках добавлен во 2-м изд.
См. Мысли о разном, 3, гл. 2 (Char. Ill, 177-180).
25 Евдемова этика, кн. VII, гл. поел. (лат.).
26 Никомахова этика, 1248в.
"Ибо если боги, как принято думать, уделяют какое-то внимание человеческим
делам, то было бы вполне понятно, если бы боги наслаждались самым
лучшим и самым для них родственным (а это, видимо, ум) и если бы воздавали
добром тем людям, кто больше всего его любит и ценит, за то, что они
внимательны к любезному богам и поступают правильно и прекрасно. Нет
сомнения, что все это в первую очередь имеется у мудреца. А значит, он всех
любезней богам" (1179а 25-30).
"... обратить к нравственному совершенству большинство [рассуждения] не
способны, потому что большинству людей по природе свойственно подчиняться
не чувству стыда, а страху и воздерживаться от дурного не потому, что это
позорно, но опасаясь мести" (1179в 10-15).
"... жить благоразумно и выдержанно большинству не доставляет удовольствия,
и особенно молодым. Именно поэтому воспитание и занятия должны быть
установлены по закону, так как близко знакомое не будет причинять
страдания" (1179в 30-35).
"Однако, вероятно, недостаточно в молодости получить правильное воспитание
и встретить внимание; напротив, поскольку уже будучи мужем, надо
заниматься подобными вещами и приучаться к ним, постольку мы будем
нуждаться в законах, касающихся этих вещей и вообще охватывающих всю жизнь.
Ведь большинство скорее послушны принуждению, нежели рассуждению, а
взысканию — скорее, нежели прекрасному" (1180а 1-6).
31 Ср. Сенека, Нравственные письма к Луцилию, IV, XXIV, LXI, LXIII, LXX,
LXXVII.
32 Ср. Ad Marciam de Consolatione, 25.
33 Марк Антонин, кн. Ill, гл. 16. (лат.)
34 Ср. Сейрис, 160, 172, 326.
Марк Антонин, кн. И, гл. 11. (лат.)
Мысли о разном, 5, гл. 2 (Char. Ill, 290-291).
«мутным потоком он тек» (Гораций, Сатиры I, 4, И; пер. М. Дмитриева).
38 насмешники, шутники (φρ.).
39 Беркли упрощает позицию Шефтсбери. См. «Опыт о свободе острого ума...»
остряки, остроумцы (φρ.).
28
29
30
35
36
37
40
юэа
44
Ilk reS^t^ Примечания
41 [Всяких пороков друзей касается Флакк хитроумный]
так, что смеются они и резвятся у самого сердца.
Персии, Сат. I, 117 (пер. Ф. Петровского).
42 Сновидение Сципиона, §8 (лат.).
43 См. Цицерон, О старости, 23, 82: "Уж не думаешь ли ты... что я стал бы так
тяжко трудиться денно и нощно, на войне и в мирное время, если бы славе
моей был бы положен тот же предел, что и жизни? Не лучше ли было бы
прожить жизнь, наслаждаясь досугом и покоем, не зная труда и борьбы? Но
моя душа почему-то всегда была напряжена и подозревала в грядущем новую
жизнь, которая начнется с концом этой. А между тем если бы души не были
бессмертны, то едва ли души всех лучших людей стремились бы так сильно к
бессмертной славе" (пер. В. О. Горенштейна).
Аристид (520-468гг. до н. э), афинский государственный деятель и
полководец, образец бескорыстия, справедливости и скромности.
Диалог четвертый
Значит, изгнать этот страх из души и потемки рассеять
Должны не солнца лучи и не света сиянье дневного,
Но природа сама своим видом и внутренним строем.
Лукреций, О природе вещей I, 147-148 (пер. Ф. Петровского).
См., напр., Декарт, Размышления, III; С. Кларк, Доказательства существования
и атрибутов Бога; Аристотель, Метафизика, кн. 12.
Ср. Шефтсбери, Моралисты, ч. 3, разд.1; Письмо об энтузиазме, разд. 2
(Шефтсбери, с. 203-204, 246-247).
Ср. Принципы, 29-32.
Ср. Принципы, 147.
Ср. Декарт, Размышление II; Принципы, 148.
Ср. Принципы, 148.
Ср. Опыт новой теории зрения (далее - ОНТЗ), 17, 23, 28, 58-66; Теория
зрения, или зрительного языка... (далее — ТЗ), 30, 39, 40, 42-45.
Ср. ОНТЗ, 2.
Ср. Декарт, Диоптрика, гл. 6.
Ср. ОНТЗ, 4.
Там же, 9-10
9
10
и
12
13 Там же, 12-13.
14 Там же, 41; ТЗ, 71.
15 Ср. ОНТЗ, 43.
16 Там же, 46.
17 Там же, 144.
18 Там же, 51, 59, 66t 145.
19 Там же, 59, 148.
20 Там же, 45.
21 Деян. 17, 28.
30
31
33
34
35
F
Πρι
иложения
22 Речь идет об учении франц. философа Н. Мальбранша (1638-1715). Ср.
Принципы, 148; Три разговора между Гиласом и Филонусом, Разговор второй (см.
Беркли, Сочинения, с. 304-305).
23 Вероятно, имеется в виду учение Лейбница о предустановленной гармонии.
24 Ср. Принципы, 146.
25 ОНТЗ, 59.
26 Там же, 148.
27 Там же, 51.
28 Ср. ТЗ, 71.
29 Предложение в скобках добавлено во 2-м изд.
Последующие разделы полемичны по отношению к сочинениям современных
Беркли англиканских теологов, посвященных человеческому познанию
божественных атрибутов: У. Кинг (King, 1650-1729) «Согласие предопределения и
предвидения со свободой человеческой воли» (1709); П. Браун (Browne, 1665-
1735) «Образ действия, объем и пределы человеческого познания» (1728).
Псевдо-Дионисий Ареопагит, христ. философ 5 или нач. 6 в. Его трактаты и
послания написаны от имени персонажа «Деяний апостолов» (17, 34), члена Ареопага
(древней судебной коллегии в Афинах), обращенного в христианство св. Павлом.
32 Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494), итал. мыслитель эпохи
Возрождения. В 1486 г. обнародовал 900 тезисов, взятых из самых различных философских
и религиозных учений («Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae»).
Папа Иоанн объявил 13 тезисов еретическими и воспретил публикацию
остальных. В 1487 г. Пико опубликовал апологию осужденных тезисов (цит. у Беркли
ниже). Входил в кружок флорентийских неоплатоников во главе с М. Фичино.
Фома Аквинский (1225-1274), философ и теолог, систематизатор
ортодоксальной схоластики, основатель томизма. Цитируется его основной труд «Сумма
теологии».
Ср.: Utrum in Deo sit scientia: "Ad primum sic proceditur. Videtur quod in Deo
non sit scientia. Scientia enim habitus est, quod Deo non competit, cut sit
médius inter potentiam et actum. Ergo scientia non est in Deo..."
"... Ad primum ergo dicendum, quod quia perfectiones procedentes a Deo in
creaturas altiori modo sunt in Deo, ut supra dictum est (96, art. 4) oported,
quandocumque nomen sumptum a quacumque perfectione creaturae Deo attribuitur
secludatur, ab ejus significatione omne illud quod pertinat ad imperfectum modum,
quod competit creatur»: unde scientia non est qualitas in Deo vel habitus, sed
substantia, et actus purus".
Cp: "Praeterea nullum nomen proprie dicitur de aliquo, a quo verius removentur,
quam de eo praedicatur: sed omnia ejus modi nomina, bonus, sapiens, et similia,
verius removentur a Deo, quam de eo praedicantur: ut patet per Dionysium
secundo capitulo Caelestis Hierarchiae (parum ante med. et. 4. similiter) ergo
nullum istorum nominum proprie dictur de Deo..."
"... Ad secundum dicendum quod ideo hujus modi nomina dicit Dionysius (Loco
in arg. sit.) negari a Deo; quia id, quod significatur per nomen, non convenit eo
modo ei quod nomen significat, sed excellentiori modo. Unde ibidem dicit
Dionysius quod est super omnem substantiam et vitam."
IkXSXJ
iD^>(F~ Пр.мечан«. ^
37
38
39
36 Франсиско Cyapec (1548-1617), испанский теолог и философ, один из
крупнейших предствителей поздней схоластики. Цитируется главная его работа
«Метафизические рассуждения».
Ср.: "Dico jam primo evidens esse naturali lumine in Deo esse scientiam. Haec
conclusio in sensu exposito tam est nota ut nullus philosophorum, qui Deum
agnoverit, illam negaverit, eamque probat Aristot. 12. Metaph., cap. 7 et 10:
Eth., cap. 8; et satis probatum est ex dictis in bine sectionis praecedentis.
Ostensum est enim Deum vivere intellectuali vita actuali ac perfecta scientia
autem nihil aliud est quam hujus modi vita." (Quid possit de divina scientia
ratione naturali cognosci).
Кайетан (Cajetan), наст, имя Томас де Вио (1470-1534), итал. теолог и
философ, представитель томизма, комментатор Аристотеля, с 1500 г. генерал
ордена доминиканцев; кардинал при папе Льве X.
правильная аналогия (лат.).
40 Добавлено во 2-м изд.
41 Ср. очерк теодицеи в Принципах, 151-154.
Диалог пятый
1 Вид на г. Ньюпорт и бухту Наррагансет.
2 верховный первосвященник; римский папа (лат.).
3 Очевидно, Дж. Толанд, автор «Критической истории кельтской религии» (1725).
4 Записки о Галльской войне. Кн. VII, 16. (лат.).
"Бывают столь жестокие оскорбления, что даже добрым и благоразумным
мужам нелегко их стерпеть" (Цицерон, Против Верреса, VII, 41, 95).
О Граде Божием, кн. II. (лат.).
Жалкое племя, учись и вещей познавай ты причины,
Что мы такое, зачем рождаемся, где наше место.
Персей, Сатиры III, 66-67 (пер. Ф. Петровского).
После самоубийства своей жены Лукреции, обесчещенной Секстом Тарквинием,
сыном царя Тарквиния Гордого, присоединился к Луцию Юнию Бруту, ставшему во
главе народа для изгнания Тарквиниев. Избран претором, но вследствие родства
со свергнутым царским родом был принужден сложить с себя это звание.
Марк Фурий Камилл, военный трибун с консульской властью; в начале 4 в. до
н. э. завоевал Вейи и одержал победу над вольсками; обвиненный в утайке
военной добычи, он в 371 г. удалился в изгнание и был возвращен в Рим
лишь в 340 г. во время нашествия галлов. (См. Ливии VII, 1).
Вот к злодеяниям каким побуждала религия смертных. Лукреций, О природе
вещей I, 102, пер. Ф. А. Петровского.
См. Мысли о разном II, гл. 3 (Char. I, 114-115).
Гай Марий (156-86 гг. до н. э.), победитель Югурты (106 г. до н. э.), тевтонрв
(102 г. до н. э.), киморов (101 г. до н. э.), был семь раз консулом, глава
народной партии и основной противник Суллы.
Луций Корнелий Сулла (138-78 гг. до н. э.), полководец и государственный
деятель, противник Мария; диктатор с 83 по 79 гг.
s
Е<2>{2
ψ
Πρ
иложения
14 Луций Корнелий Цинна (ум. 84 г. до н. э.), сторонник Мария.
15 Гай Октавий (Гай Юлий Цезарь Октавиан, 63 г. до н. э. — 14 г. н. э.),
впоследствии император Октавиан Август (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.).
16 Цицерон, О государстве 1,3 (лат.).
17 См. Горгий 518е-520в.
18 Добавление ко 2-му изд.
19 П. Паоло, История инквизиции, с. 42(ит.).
20 о шерсти козлиной (лат.). Гораций, Послания I, 18, 15.
21 См. Мысли о разном I, гл. 2 (Char., Ill)
22 См. Солилоквия, ч. 3, разд. 3 (Шефтсбери, с. 439).
23 Там же, с. 430-431.
24 Там же, с. 342; см. также с.357-358, 360-361, 364.
25 Там же, с.371.
26 Там же, С.439.
27 Матвей (Матиаш) Корвин, венгерский король (1443-1458), основатель одного
из лучших в Европе книжных собраний.
28 Альфонс V Арагонский (1416-1458), Альфонс I как король Неаполитанский.
29 Козимо Медичи (1389-1464), с 1434 г. фактический правитель Флоренции.
Покровительствовал художникам и ученым.
30 Виссарион Никейский (1403-1472), византийский церковный деятель;
переселился в Италию, стал кардиналом; гуманист, покровитель наук и искусств.
31 Марк Мазур (1470-1517), знаменитый эллинист, преподавал греческий язык в
Падуе, Венеции и Риме.
32 Теодор Газа (1398-1478), ученый грек, переехавший в Италию; преподавал в
Ферраре.
33 Лев X, папа римский в 1513-1521 гг.
34 Пьетро Бембо (1470-1547), итальянский писатель, историк и теоретик
литературного языка и стиля; кардинал.
35 Якопо Садолето (1477-1547), церковный деятель и писатель, друг Бембо.
36 Паоло Джовио (Иовий, 1483-1552), итальянский историк.
37 Марко Джироламо Вида (1480-1566), новолатинский поэт.
38 См. Шефтсбери, с. 440.
39 дурного тона шутки (φρ.).
40 Торквато Тассо (1544-1595), знаменитый итальянский поэт, автор
«Освобожденного Иерусалима».
41 Лудовико Ариосто (1474-1533), выдающийся поэт итальянского Возрождения;
имеется в виду его поэма «Неистовый Роланд».
42 Добавлено во 2-м изд.
43 знатоки (φρ.).
44 букв: железные головы (ит.).
45 Добавление ко 2-му изд.
46 ... не мешает
Правду сказать и шутя...
Гораций, Сатиры I, 1, 24-25 (пер. М. Дмитриева).
47 Ср. Дж. Толанд, Пантеистикон, VII.
ЕОО
Примечания
48 щеголь, вертопрах (φρ.).
49 кутила, жуир (φρ.).
50 бабушкины сказки (лат.).
Диалог шестой
1 Ум твой таким озарить блистающим светом.
Лукреций, О природе вещей I, 144 (пер. Ф. Петровского).
2 Ср. Локк, Опыт о человеческом разуме, кн. 4, гл. 19 (о религиозном
исступлении) (далее — Локк, Опыт, с указ. книги, главы и раздела).
3 Ср. Коллинз, Рассуждение о причинах и основаниях христианской религии.
4 Имеется в виду т. наз. Codex Alexandrensis (2-я пол. 6 в.). Ныне хранится в
Британском Музее.
5 Ср. Тиндал, Христианство столь же древне, сколь и творение, гл. 9, 13.
6 Ср. Шефтсбери, с. 327-328; см. также Char. Ill, 319-334.
7 Ср. Коллинз, Рассуждение... 2, 7.
8 Карл Сигоний (Карло Сигонио, 1523-1584), знаменитый итал. историк и филолог.
9 Об утешении (лат.).
10 Добавлено в 3-м изд.
11 Добавлено в 3-м изд.
12 Смотри Канон 60 Лаодикейского Собора (лат.). Лаодикейский Собор принял
(360 г.) 60 положений, вошедших в состав церковного канона. Канон 60-й
содержит список канонических книг Нового Завета.
13 Ср. Char. Ill, 229-235.
14 Кол. 2, 4.
15 В славянской Библии — Пс. 48, 2-6.
16 Гораций, Послания II, 3, 138.
17 лошади упали вместе на уши (φρ.).
18 Иер. 49, 19.
19 I Кор. 15, 29.
20 «аргумент к человеку» (лат.), довод, апеллирующий к личным свойствам того,
о ком идет речь или к кому обращено доказательство.
21 Выделенный фрагмент в 3-м изд. опущен.
22 Добавлено во 2-м изд.
23 Ион, 533c-534d.
24 Иер. 23, 28-29.
25 «сновидения больного человека» (лат.) (Гораций, Наука поэзии, 7).
26 Порфирий (234-305), античный философ-неоплатоник, ученик и издатель
сочинений Платона.
27 Ямвлих (245? — ок. 330), философ-неоплатоник, ученик, а затем и оппонент
Порфирия. Осуществил школьную разработку неоплатонической доктрины.
28 Орнген (185-253), античный философ и богослов, представитель патристики.
29 Илиада XIX, 90-133.
30 Теогония, 230.
31 Ипполит, 276.
вва
У Приложения ^)^ЗД JU
32 Moralia, 830.
33 Марсилио Фичино (1433-1499), — итал. гуманист и философ^неоплатоник,
основатель платоновской Академии во Флоренции, переводчик Платона и неоплатоников.
34 Ферекид из Сироса (600-ок. 530 до н. э.), — древнегреч. мифограф и
космолог; автор «Теогонии», одного из первых прозаических сочинений греков.
35 Гиерокл, греческий философ сер. 5 в. н. э.
36 Никомахова этика, кн. 10, гл. 7, 1178в.
37 См. Протагор, 328е.
Пир, 220с.
38
39
59
60
€1
62
63
Вместе ли с нами она погибает, расторгнута смертью,
Или же к Орку во тьму и к пустынным озерам нисходит.
Лукреций, О природе I, 114-115 (пер. Ф. Петровского).
Смотри Платон в Горгии (лат.). Горгий, 523а-527е.
Ср. Беркли, Сейрис, 43, 152, 162, 193-194.
Ср. Сейрис.
Федон, 85e — 86d.
44 Добавление ко 2-mv изд.
45 Чис. 22-24.
46 Ос. II, 18; 27, 14.
47 Ср. Локк, Опыт, кн. 4, гл. 19, §4.
48 Ос. II, 20-22.
49 Добавлено во 2-м изд.
50 Дан. 7, 9.
51 См. Тиндал, Христианство...
52 Ср. Бэкон, Новый Органон I, 84;, О достоинстве... I, 5; II, 8. Подобное
выражение можно найти и у Дж. Бруно.
^3 Ср. Бэкон, О достоинстве... I, 5.
Напр., Коллинз в «Рассуждение о причинах и основаниях христианской религии».
Имеются в виду, в частности, Эдвард Чэндлер (1668-1750) и Уильям Шерлок
(1678-1761)!
Дан. 9, 24-27.
Ср. Толанд, Письма к Серене.
58 Бьянкини, Всеобщая история, гл. 17 (лат.). Франческо Бьянкини (1662-1729),
итал. ученый; составил план всеобщей истории, основанной отчасти на
материалах иезуитов-миссионеров. Первая часть вышла в Риме в 1697 г.
К подобной аргументации обращался Тиндал.
Тригальций (Триго, Trigault, 1577-1628), франц. иезуит, миссионер в Китае.
Египетский жрец и историк. Около 270 г. до н. э. составил «Историю Египта»,
разделив ее по царствованиям фараонов на 30 династий. Уцелели отдельные
фрагменты.
Легендарный царь Египта, которому греки приписывали изобретение
письменности, наук и искусств и составление «герметических книг».
Диодор Сицилийский (ок. 90-21 г. до н. э.), греческий историк, автор
«Исторической библиотеки».
KXSX2
КГгеЭвдУ^ Примечания Д
64 Иосиф Юст Скалигер (1540-1609), франц. филолог и историк, автор работ по
хронологии.
65 Джон Маршам (1623-1685), англ. египтолог и историк.
66 Евсевий (2657-340), отец церкви, автор «Церковной истории* и работ по
хронологии.
67 О'Флагерти (O'Flaherty, 1629-1728), ирландский историк, претендовавший на
происхождение от древнеирландского королевского рода. Автор книги «Оги-
гия, или Хронология ирландской истории* (1683).
Фазелли, История Сицилии, декада I, кн. VIII. (лат.) Томазо Фазелли (1498-
1570), итал. историк.
69 Рейна, Исторические сведения о Мессине, (ит.) Плачидо Рейна (ум. 1671),
итал. философ, медик, историк.
Геродот в «Евтерпе» (лат.), т. е. в одной из книг «Истории». Деление на книги
по именам муз введено александрийскими филологами.
Историческая библиотека, кн. I, гл. 26.
Бероз - астролог, астроном, историк. Родился в Вавилоне ок. 330 г. до н. э.
Автор «Истории Вавилона», от которой уцелели фрагменты у Флавия,
Иосифа, Климента Александрийского и Евсевия.
Ктесий, греческий историк 5 в.
В последние, годы жизни Ньютон написал несколько работ по хронологии и
несколько богословских сочинений.
Имеется в виду Локк как автор работы «Разумность христианства» (1695).
Р. Бойлю принадлежали «Некоторые замечания касательно слога Священного
Писания» (1661), «Превосходство теологии по сравнению с философией»
(1673), «Исследование целевых причин естественных вещей» (1588),
«Христианский ученый» (1690).
Некоторые из «Опытов» (1597, 1612) Бэкона были посвящены проблемам религии.
Херемон, греч. историк I в. н. э., автор сочинений о Египте и Эфиопии.
Лнсимах, александрийский филолог. Фрагменты его «Истории Египта»
сохранились у Иосифа.
Иосиф, Против Апиона, кн. I.
Страбон, знаменитый греческий географ и историк I в. н. э.
Страбон, кн. XVI.
Цельс, греческий писатель Ив., противник христианства.
Юлиан (331-363), римский император, за обращение из христианства в
язычество получил прозвище Отступник. Попытался возродить языческий политеизм
в качестве государственной религиии.
Ориген, Против Цельса, кн. IV.
Аммиан Марцеллин, кн. XXV. Аммиан Марцеллин (4 в.), последний крупный
римский историк.
Лук. Гольстений, О жизни и сочинениях Порфирня. (лат.) Гольстений (ум.
1661), германский ученый, перешел из протестантизма в католичество, уехал
в Италию, стал библиотекарем кардинала Барбарини.
См. Порфирий, О воздержании, о богах, жертвах и демонах.
Иосиф Флавий (37-ок. 100), историк Палестины, автор «Иудейской войны» и
«Иудейских древностей».
68
70
85
86
87
89
ЕСЕО
г
Прил
ожения
90 Иудейские древности, XVIII, 63-64.
91 Сульпиций Север (363-410 или 429 гг.), церковный писатель, автор «Истории».
92 Иосиф, Иудейские древности, кн. XX, гл. X.
93 Пьетро Помпонацци (1462-1525), итал. философ, крупнейший представитель
аристотелизма эпохи Возрождения.
94 Кн. О бессмертии души. (лат.).
95 Василий Великий (Василий Кесарийский, ок. 330-379), греч. церковный
деятель, мыслитель и писатель, глава т. н. каппадокийского кружка.
96 Ср. Боссюэ, История уклонений протестанских церквей (1668).
97 Гален (129-199), древнерим. врач и философ греч. происхождения.
98 Парацельс (наст, имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм,
1493-1541), немецкий философ, естествоиспытатель, врач.
99 Сократ, История церкви, кн. I. Сократ Схоластик (род. в 830 г.),
предполагаемый автор продолжения «Церковной истории» Евсевия Кесарийского.
100 Добавлено в 3-м изд.
101 См. Письма Спинозы к Ольденбургу. (лат.). (Письма 23, 21, 25).
102 I Кор. I, 23.
103 двусмысленность (φρ.).
104
Шефтсбери.
Диалог седьмой
1 Локк, Опыт III, 2, 10.
2 Там же, IV, 1.
3 Там же, IV, 8.
4 Ср. Введение к Принципам, 23-24.
5 Ср.: Еф. 4,7; 2,8; Деян. 15,21; Рим. 5,21; 2 Кор. 9,14; Рим. 12,3; Еф. 1,7; 2
Кор. 4,1; 2 Петр. 3,18; 1 Петр 1,2; Гал. 5,4; Рим. 3,24.
6 Янсенизм — неортодоксальное течение во франц. и нидерл. католицизме 17 в.
Назван по имени голл. теолога Янсения (Корнелий Янсена, 1585-1638),
автора книги «Августин».
7 Сторонники исп. теолога-иезуита Луиса де Молины (1636-1700).
8 Арминиане (ремонстранты) — последователи нидерл. теолога Якова Арминия
(Якоб Хармензон, 1559/1560-1609); отвергали учение Кальвина об
абсолютном предопределении, подчеркивая роль свободы воли в деле искупления.
Разделы 5,6 и 7 в 3-м изд. опущены.
Ср. Введение к Принципам, 8-9.
Ср. Локк, Опыт, IV, 7,9.
Ср. также ОНТЗ, 123-125.
Ср. Введение к Принципам, 11,12.
Ср. Там же, 12.
Ср. Там же, 19.
Ср. Введение к Принципам, 20.
Ср. Принципы, 25.
8 Ср. Там же, 2, 26, 27.
IkXSO
|Е^^{Г Пр-.чашш ^^^ГЗ
Ср. Введение к Принципам, 10.
Ср. Беркли, О движении, 7,17,18,38,39; Аналитик, 7,8,47-50.
Ср. О движении.
Сила инерции, врожденная сила, полученная сила, мертвая сила, живая сила
(лат.).
23 Джованнн Альфонсо Борелли (1608-1667), итал. физиолог и физик, ученик
Галилея. Работа «О силе удара» («De Vi Percussionis») вышла в 1667 г.
24 Эванджелнста Торричелли (1608-1647), итальянский физик, более всего
известен открытием атмосферного давления. «Академические лекции»
(Lezioni Academiche).
ъ Герман (Германус), немецкий физик и натуралист 17 в.
2Ц Дени Папен (1647-1710), французский физик.
В научном журнале «Лейпцигские ученые известия» публиковались статьи
Лейбница.
Ср. О движении, 15.
Ср. Там же, 17.
Ср. Там же 8,19.
31 «нечто», «не знаю что» (ит.).
32 Ср. Аналитик, 7.
33 Ср. О движении, 18, 38*39.
34 Ср. Локк, Опыт II, 27.
35 Два предмета, совпадающие с третьим, совпадают между собой (лат.).
36 На Никейском Соборе был принят христианский «Символ веры» (325 г.).
37-38 «гомонусиане» и «гомоусиане» (греч.) — сторонники соотв. «подобносущия»
и «единосущия» Бога-Сына Богу-Отцу. На Никейском Соборе «гомоусиане»
одержали победу, зафиксированную в Символе веры: «Верую... во единого
господа Иисуса Христа... единосущного Отцу».
Антитринитарная ересь в христианстве III —IV в. н. э., названа по имени Савел-
лия (сер. III в. н. э.)
См. Созомен, кн. II, гл. 8. Мермий Созомен (ум. ок. 443 г.), продолжатель
«Церковной истории» Евсевия.
Иероним, Паммахию и Океану о заблуждениях Оригена. (лат.). Иероним Стри-
донский (ок. 340-419/420), теолог, переводчик Библии на лат. язык (т.н.
Вульгата).
42 Добавлено в 3-м изд.
43 «понимать» («схватывать»), «постигать» («зачинать»), «размышлять»
(«отражать»), «рассуждать» (англ.).
44 Фед.,264а.
45 Ср. Локк, Опыт, IV, 21.
46 Добавлено в 3-м изд.
47 Ср. Аналитик.
48 Ср. Там же.
49 Добавлено в 3-м изд.
о0 Ср. Спиноза, Этика IV.
51 Ср. там же, III, 2, схолия; Коллинз, Исследование человеческой свободы.
В эпоху Беркли предмет знаменитой полемики между Коллинзом и С. Клар-
КХ20
52
S3
54
55
56
57
68
69
8
Π
Приложения
ком. Кларк, в частности, утверждал, что наша свобода как свойство
моральных деятельных существ столь же самоочевидна, сколь и существование
чувственного мира: они недоказуемы, но в них невозможно сомневаться.
См. Шефтсбери, с. 353.
Очевидно, Джон Беньян (Bunyan, 1628-1688), английский писатель.
Ср. У.Кинг, Проповедь о совместимости предопределения и предвидения со
свободой человеческой воли.
Добавлено во 2-м изд.
Ср. Принципы, 143.
Ср. Беркли, Философские заметки, 879.
58 Добавлено во 2-м изд.
59 Добавлено в 3-м изд.
60 Ср. Принципы, 2, 142-144, 25.
61 блуждающие огоньки (лат.).
62 порочный круг в доказательстве (лат.).
63 подмена истинной причины (лат.).
64 неведение довода (лат.). Логическая ошибка, при которой доказывается не то,
что следует, или опровергается не то, что может быть опровергнуто.
65 Сомневаться во всем (греч.).
66 «Либо изгоняй благочестие отовсюду, либо повсюду его сохраняй» (пер.
В. О. Горенштейна). Цицерон, Филиппики против Марка Антония, II, 43, 110.
67 Никомахова этика, кн. X, гл. 9.
Полит, трактат, гл. 2. (лат.). «Богословско-политический трактат» (1670), одно
из главных произведений Спинозы,
сухой свет (лат.).
70 пожелания (лат.).
71 Никомахова этика, кн. II, гл. 2 и кн. X, гл. 9.
Пассивное
повиновение
Колледж св. Троицы Дублинского университета.
2 О природе богов, кн. II, 37. (лат.) "Сам же человек рожден, чтобы созерцать
мир, размышлять [и действовать в соответствии с этим]" (пер. М. И.
Рижского).
3 Ср. Принципы, 30-32.
4 Ср. Локк, Два трактата о правлении, кн. II, гл. 19.
5 Там же.
6 Платон, Письмо VII (331 d).
7 Примечание добавлено в 3-м изд. Упомянутый в нем автор — М. Тиланд.
Гроций, О праве войны и мира, кн. I, гл. IV, разд.7; Пуффендорф, О праве
природы и народов, кн. VII, гл. VII. разд.7. (лат.).
Гуго Гроций (Гуго де Гроот, 1583-1645), гол л. юрист, социолог и гос.
деятель. Один из основателей учения о естественном праве, систематизатор
международного права.
Самуэль Пуффендорф (1632-1694), немецкий философ-просветитель.
418
Примечания ч$
Раздел 53 добавлен в 3-м изд.
Статьи в газете «Гардиан»
Названия статей принадлежат А. Фрейзеру, издателю «Сочинений» (1901 г.).
2 Вергилий, Энеида, VI, 332 (пер. С. Ошерова).
3 Пасха.
* Горгнй 523а-524а.
0 М. Деланд (Deslandes, 1690 — 1752), франц. вольнодумец, переехавший в
Англию. Его «Размышления о великих людях, умирающих с шуткой на
устах» (Reflexions sur les Grands Hommes qui sont morts en plaisantant)
вышли в Лондоне в 1713 г.
6 Анонимный «Опыт о различных стилях поэзии» (1713).
7 Гораций, Наука поэзии, 7.
8 Гораций, Послания I, 6, 2 (пер. Н. С. Гинцбурга).
9 Ср. Вопрошатель, 66-69.
10 Ювенал, Сатиры 10, 141 (пер. Ф. Петровского).
Ж. Брикман
1 Works, III edited by Τ. Ε. Jessop; editor's Introd, p. 13.
2 J. Wild, G. Berkeley: A study of his life and philosophy. Harvard, 1936, p. 333-334.
3 Философский комментарий, дополнение XXII, — Ouevres diverses, И, p. 523a.
4 «Словарь», статья «П. Шаррон», Примечание J.
5 Ibidem, Примечание J; статья «Спиноза», Примечание G.
6 Статья «П. Шаррон», Примечание J.
7 «Три истины» (1589), «О мудрости» (1601).
8 Ibidem, Примечание J.
9 Ibidem.
10 Les Caractères de ce siècle Paris, 1894.
11 Характеры, гл. 16 «О вольнодумцах»: "Я называю людьми мирскими, суетными
и низменными тех, чей ум и сердце привязаны к ничтожному клочку
вселенной, на котором они живут, именуя его землею; тех, кому безразличны и
ненужны духовные ценности (...). Меня не удивляет, что располагая столь
ничтожной точкой опоры, они шатаются при малейшей попытке познать
истину; что столь узкий кругозор не дает им проникнуть в надзвездные просторы
и узреть Бога".
12 «Максимы» (1664): "Сила и слабость духа — это просто неправильные
выражения; в действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние
органов тела" (44) — "На каждого человека, как и на каждый поступок,
следует смотреть с определенного расстояния. Иных можно понять,
рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными только издали" (104).
13 Lucullus, Academicorum Priorum, XXIV, XIII.
Ε<®α
Приложения
16
21
14 De Divinatione I, 62; Lucullus, XXIV, XXV.
15 Сочинения Беркли (1732-1735) и полемические отклики на них:
февраль 1732: Алкифрон, Опыт о зрении (анонимно), Лондон, Дублин.
март(?) 1732: Второе издание, Лондон.
1732: Некоторые замечания о Мелком философе (анонимно).
1732: Письмо к Диону (Мандевиль).
май 1732: Письмо в защиту Шефтсбери - в London Journal.
9 сент. 1732: Письмо анонимного автора Автору Мелкого философа в
Dublin Daily Post Boy.
1732-1733: Работы А. Бакстера и П. Брауна,
март 1733: Новая теория зрения, объясненная и защищенная,
март 1734: Аналитик.
апрель 1734: Дж. Джурин (J. Jurin), Геометрия не пособница безверия,
апрель 1734: переиздание «Принципов» и «Трех разговоров».
1734: французские переводы Алкифрона (три издания в течение одного года).
1734: Защита д. Б....и от скандального обвинения в том, что он является автором
недавно вышедшей книги, названной «Алкифрон, или Мелкий философ»,
июнь 1735: Защита свободомыслия в математике.
Прекрасным примером реакции публики может послужить суждение аббата Де-
фонтена: "Это нагромождение нечестивых софизмов, измышленных кое-как
для того, чтобы подорвать самые надежные и возвышенные принципы морали,
политики и даже религии (...) книга, которая не делает чести ни уму, ни
нравственному облику ее автора" (Observation sur les écrits modernes, Paris
1735, vol. I).
17 ТЗЗО, I, 8.
18 Ibidem, 27.
19 Ibidem, 7ft.
20 A vindication of the Reverend D. В.... у from the scandalous imputation of being Author
of a late book intitled Alciphron, or the Minute Philosopher. To which is subjoined the
Prediction of the late Earl of Shaftesbury concerning that book, London, 1734.
Some remarks on the Minute Philosopher, In a letter from a Clergyman to a. friend
of London, 1732.
22 Some remarks..., p. 22-24; p. 60-61.
23 Ibidem, p. 53-54.
24 Ibidem, p. 58-59.
25 ТЗЗО, 49; 102-103.
26 ТЗЗО, 27, 46, 53.
27 A letter from Inverness, August 1st 1732.
28 Defence, Part II, sect. I, §1.
29 Ibidem.
30 Ibidem, §3.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Алк. I, 7; III, 13-14; IV, 16.
34 Алк. IV, 19-21.
35 Локк, Опыт, IV, гл. 16-17; 18, §45.
E®G2
36 Бепль, 2-е Разъяснение, Словарь, IV, с 631.
37 R. Boyle, Reflections upon a theological distinction according to which it is said
that some articles of faith are above reason but not against reason (in a letter to
a friend, §1-3).
38 Ibidem, 12.
39 Ibidem, 56.
40 Toland, Chistianity not mysterious, or a treatise showing that there is nothing in
the Gospel contrary to reason nor above it, and that no Christian doctrine can be
properlv called a mystery, 1696.
41 Ibidem, И, гл. I.
42 Ibidem, III, гл. II.
43 J. Xorris, An account of reason and faith, in relation to the mysteries of Christianity,
London. 1697; - P. Browne, A letter (against a book entitled Christianity not
mysterious). 1699; - The procedure, extent and limits of human understanding,
London, 1728.
44 \V\ King, A Discourse on Predestination. Dublin, 1709.
Aà J. Morris, An account...Introd.
46 Ibidem, гл. I «О разуме», §7.
47 ibidem, гл. I, §8.
48 Ibidem, гл.НчО вере», §16-17.
49 Ibidem, §20-27.
л0 Каталог библиотеки Беркли: « Письмо» Брауна — за №1399.
51 Leslie Stephen, English thought in the eighteenth century. 2 vol. London, 1876.
Fraser, The Works, IV, p. 17-18.
52 Procedure...Introd.
53 Ibidem.
54 ibidem.
55 Procedure...Book I, ch. II.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem. Book I, ch. Ill; ch. IX.
59 Ibidem, ch. IX.
60 Ibidem, Book,I ch7 IV.
61 Ibidem.
62 Об аналогии неравенства см. у Аристотеля — Физика VII, 4, 249а; аналогия
аттрнбуции - Ник. Этика I, 6, 1096в; аналогия пропорциональности —
Топика I, 17, 108а; ср. у св. Фомы - I Sentent., 19, 5; Cont. Gent. I, 29-32.
Cajetan, De Nominum Analogia I, §3-4.
Ibidem, II, 8. Пример заимствован из Метаф. IV, 2, 1003а-1003в; см. также
Метаф., VII, 4, 1030а.
Ibidem, III, §24-25.
Ibidem, §2.5.
67 Ibidem, §26.
68 Ε. Gilson, Le Thomisme. 1972, p. 123-129.
69 Cajelan, Op. cit. VI, §59-60.
70 Ibidem, §54.
71
72
Ψ
Πρ
вложения
См. T. L. Penido, Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique. Paris, 1931;
J. F. Anderson, Bond of Being. St. Louis, 1949; Kampus Lyttkens, The Analogy
between God and the world. Uppsala, 1952; D. Burell, Analogy and
Philosophical language. New Haven, 1973.
Алк. VI, 8-11.
73 Procedure, II, гл. IV.
74 Ibidem, П,гл. IV.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ср. Опыт, III, гл. 2, §13.
81 Ср. Опыт, IV, гл. 16-20.
82 Беркли уделяет общим абстрактным идеям куда больше внимания и
приписывает им большую значимость, нежели это делал Локк в посвященной анализу
языка книге III «Опыта». Характерно, что Беркли в печатном «Введении»
вообще не ссылается на III книгу «Опыта» (о языке), но исключительно
на книгу IV.
83 Warnock, Berkeley, an introduction...Melbourne and London, 1953, p. 37-39.
84 Pascal, Opuscules, XV. «De l'esprit géométrique».
85 Ibidem.
86 Ibidem.
BCSQ
Основные издания «Алкифрона»:
1. G. Berkeley. Alciphron; st ed., London, 1732.
2. G. Berkeley. Alciphron; 2ύ ed., London, 1732.
3. G. Berkeley. Alciphron; 3d ed.,London, 1752.
4. The Works of G. Berkeley, ed. by А. С. Fraser; 4 vol., Oxford, 1871, vol. II.
The Works of G. Berkeley, ed. by A. С Fraser; 4 vol., Oxford, 1901, vol II.
The Works of G. Berkeley by G. Sampson; 3 vol., London, 1893, vol. II.
The Works of G. Berkeley by A. A. Luce and T. E. Jessop; 9 vol. Edinburg and
London, 1950, vol.III.
Основные переводы:
1) Французские:
а) Alciphron ou le petit Philosophe, par G. Berkeley: traduit de l'anglais par B. de
Joucourt; 2 vol., Paris, 1734, chez Rolinfils.
б) Alciphron ou le petit Philosophe (анонимный перевод), La Haye, 1734, chez P.
Gosse et J. Neaulme.
в) Alciphron ou le petit Philosophe (анонимный перевод), La Haye, 1734, chez B.
Gibert.
r) Berkeley. Alciphron ou le pense-menu; introduction, traduction et notes par Jean
Pucelle, Paris, 1952, Editions Montaigne.
2) Немецкие:
а) Alciphron ou le petit Philosophe; dass ist: Schutzschrift für die Wahrheit der
Christlichen Religion... von Wigand Kahler, 1737.
б) G. Berkeley. Alciphron, übersetzt und herausgegeben von Luise Raab und Dr.
Friedrich Raab, Leipzig, 1915.
3) Итальянский:
G. Berkeley. Alcifrone; Traduzione e Introduzione di Susanna del Boca. Dialoghi I-IV,
Torino, 1932.
' « л
Приложения
Библиографические справочники:
Т. Е. Jessop. Bibliography of George Berkeley. The Hague, 1973 (2 '"' cd).
Дополнительная информация за 1963-1974 rr:
С. M.Turbayne, R. Ware - «Journal of the Historv of
philosophy», vol. XV, >»!, 1977.
С 1977 г. Ε. J. Furlong и D. Berman из Trinity College (Dublin)
издают специальный бюллетень «Berkeley Newsletter».
Избранная библиография:
ι.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
,16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Влонский П. П. Учение Беркли о реалности. К., 1907.
Богомолов А. С. Критика субъективно-идеалистической философии
Джорджа Беркли. М., 1959.
Выхоеский Б. Э. Джордж Беркли. М., 1970.
N. Baladi.
F.
V.
Η.
Η.
R.
G.
Ε.
Bender.
Bennett.
M.Bracken.
M. Bracken.
J. Brook.
Brykman.
J. Craig.
J. W. Davis.
A. C. Fraser.
M. Gueroult.
Hedenius.
G. D. Hicks.
J. M. Hone, M.
G. A. Johnston.
J. Laird.
A. Leroy.
A. Leroy.
A. A. Luce.
A. A. Luce.
A. A. Luce.
A. A.Luce.
J. D. M ab bot t.
La pensée religieuse de Berkeley et l'unité de sa philosophie.
Le Caire, 1945.
Berkeley's Philosophy re-examined. Amsterdam, 1915.
Locke, Berkeley, Hume. Central themes. Oxford, 1971.
The early reception of Berkeley's immaterialism. 1710-1733,
revised edition. The Hague, 1965.
Berkeley. London. 1974.
Berkeley's philosophy of science. The Hague, 1973.
Berkeley. Philosophie et Apologétique. Lille, 1984.
Berkeley's attack on abstract ideas. - «Philosophical
Review», October 1968.
Berkeley and phenomenalism.
Life and Letters of G. Berkeley. - vol. IV. Works, 1871.
Berkeley, guatre etudes sur la perception et sur Dieu. Paris, 1956.
Sensationalism and Theology in Berkelev's Philosophy. Upsala.
Oxford, 1936.
Berkeley, London, 1932.
M. Rossi. Bishop Berkeley; his life, writings and
philosophy. London, 1931.
The development of Berkeley's Philosophy. London, 1923.
Berkeley's realism. — «Mind», vol. 25, 1916.
Influence de la philosophie berkeleyenne sur la pensée
continentale. — «Hermathena», vol. 82,1953.
G. Berkeley. Paris, 1959.
Berkeley and Malebranche. Oxford, 1933 (2 n<l edit., 1967).
The alleged development of Berkeley's Philosophy. «Mind»,
vol. 52, 1943.
Berkeley's Immaterialism. Edinburgh, 1945.
The Dialectic of immaterialism. London, 1963.
The place of God in Berkeley's Philosophy. «Journal of
Philosophical Studies». London, 1931.
в®я
Примечания
27. R. Maheu.
28. R. Metz.
29. E. С. Mossner.
30. /. С. Murphy.
31. G. Pitcher.
32. G. Pitcher.
33. Я. Я. Popkin.
34. К. Popper.
35. Я. Я. Popkin.
36. N. Porter.
37. В. /гипс/.
38. В. Алле/.
39 /. /. Richetti.
40. Л. D. Ritchie.
41. Ä. W. Seilars.
42. L. Stephen.
13. J. С. Tipton.
44. G. /. Ww-fiocA.
15. P. P. Wie wer.
46. /. Wï/d.
47. Л. D. Wooz/ep.
« Revue
1926.
- «Ratio»,
Quar-
Le Catalogue de la Biblioteque de Berkeley
d'Histoire de la Philosophie», avril-juin 1929.
G. Berkeley. Stuttg., 1925.
Bishop Butler and the Age of Reason. New York
Berkeley and the metaphor of mental substance,
vol. 7, Ί965.
Minds and ideas in Berkeley. — «American Philos,
terly» vol. 6, 1969.
Berkeley. Boston, 1977.
Berkelev and Pyrrhonism. — «Review of metaphysics», vol.5,
1951.
Anote on Berkeley as a precursor of Mach and Einstein. —
«The British Journal for the Philosophy of Science» (1953),
reprinted in — Conjectures and refutations, ch. 6 (1965).
Berkelev's influence on American philosophy. — «Hermathena»,
vol. 82* 1953.
The two-hundredth birthday of Bishop Berkeley. New York, 1885.
Berkeley's american sojourn. Cambridge, 1932.
The correspondance of Berkeley and John Percival.
Cambridge, 1914.
Philosophical Writing: Locke, Berkeley, Hume. Cambridge
(Mass) and London, 1983.
G. Berkeley. Manchester, 1967.
Lending a hand to Hylas. [Michigan], 1968.
English Thought in the eighteenth Century, 2 vol., London,
1876.
Berkeley, the philosophy of immaterialism. London, 1974.
Berkeley, an introduction... Melbourne and London, 1953.
Did Hume ever read Berkeley? — «Journal of philosophy»,
vol. 96, 1959.
G. Berkeley: A study of his life and philosophy. Harvard,
1936; (reprinted 1962).
Berkeley's theory of notions and theory of meaning. -
«Journal of the history of philosophy», vol. 14, 1976.
(Сборники, коллективные труды):
18. George Berkeley, Lectures delivered before the Philos. Union of the University
of California, edit, by S. C. Aschenbrenner, 1957.
49. New Studies in Berkeley's philosophy, edit, by W. E. Steinkraus, New
York, 1966.
50. Locke and Berkeley, a collection of critical essays, edit, by Armstrong and
Martin. London, 1968.
51. Berkeley's «Principles*, text critical essays, edit, by С M. Turbayne.
Indiannapolis, 1976.
ЮС2Х2
Содержание:
Предисловие 11
Алкифрон, или Мелкий философ
Диалог первый 13
Диалог второй 40
Диалог третий 77
Диалог четвертый 100
Диалог пятый 126
Диалог шестой 163
Диалог седьмой 215
Работы равных лет
Пассивное повиновение 255
Статьи в газете "Гардиан"
Естественные основания для веры в будущую жизнь 281
Путешествие по шишковидной железе 284
Шишковидная железа вольнодумца 287
Удовольствия подлинные и воображаемые 291
Будущие награды и наказания 295
Первоначальный вариант "Введения к Трактату о.принципах
человеческого знания" 298
Приложения
Ж. Пюселль. Введение к "Алкифрону"
I. Обстоятельства создания "Алкифрона" 319
II. Полемика и апологетика 325
III. Общая композиция "Алкифрона" 327
IV. Комментарии к отдельным диалогам 329
Диалог I 329
Диалог II 330
Диалог III 332
Диалог IV 333
Диалог V 340
Диалог VI 341
Диалог VII 344
Ж. Брикман. Алкифрон, или Сила слов
I. Образ «Алкифрона» 357
П. Отклики на «Алкифрона» 364
III. О смещении некоторых акцентов в положениях ранних работ... 370
IV. Повышение роли иносказательного языка 379
V. Смертельный удар 384
Примечания
Алкифрон
Предисловие 402
Диалог первый 403
Диалог второй 404
Диалог третий 406
Диалог червертый 409
Диалог пятый 411
Диалог шестой 413
Диалог седьмой 417
Пассивное повиновение 418
Статьи в газете «Гардиан» 419
Ж. Брикман 419
Основные издания «Алкифрона» 423
Основные переводы 423
Библиографические справочники 424
Избранная библиография 424
Директор издательства:
О. Л. Абышко
Главный редактор:
И. А. Савкин
Под общей редакцией
В. П. Сальникова,
А. П. Альбова,
Д. П. Масленникова
Художественный редактор:
Н. И. Пашкове коя
Редактор:
Л. А Абышко
ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.
Издательство «Алетейя»:
193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13
Телефон издательства: (812) 567-2239
Факс: (812) 567-2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru
Сдано в набор 11.06.1999 г. Подписано в печать 20.11.1999 г.
Формат 70*100/1β. 36,5 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ №
Отпечатано с готовых диапозитивов в Санкт-Петербургской типографии
«Наука» РАН: 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12
Printed in Russia