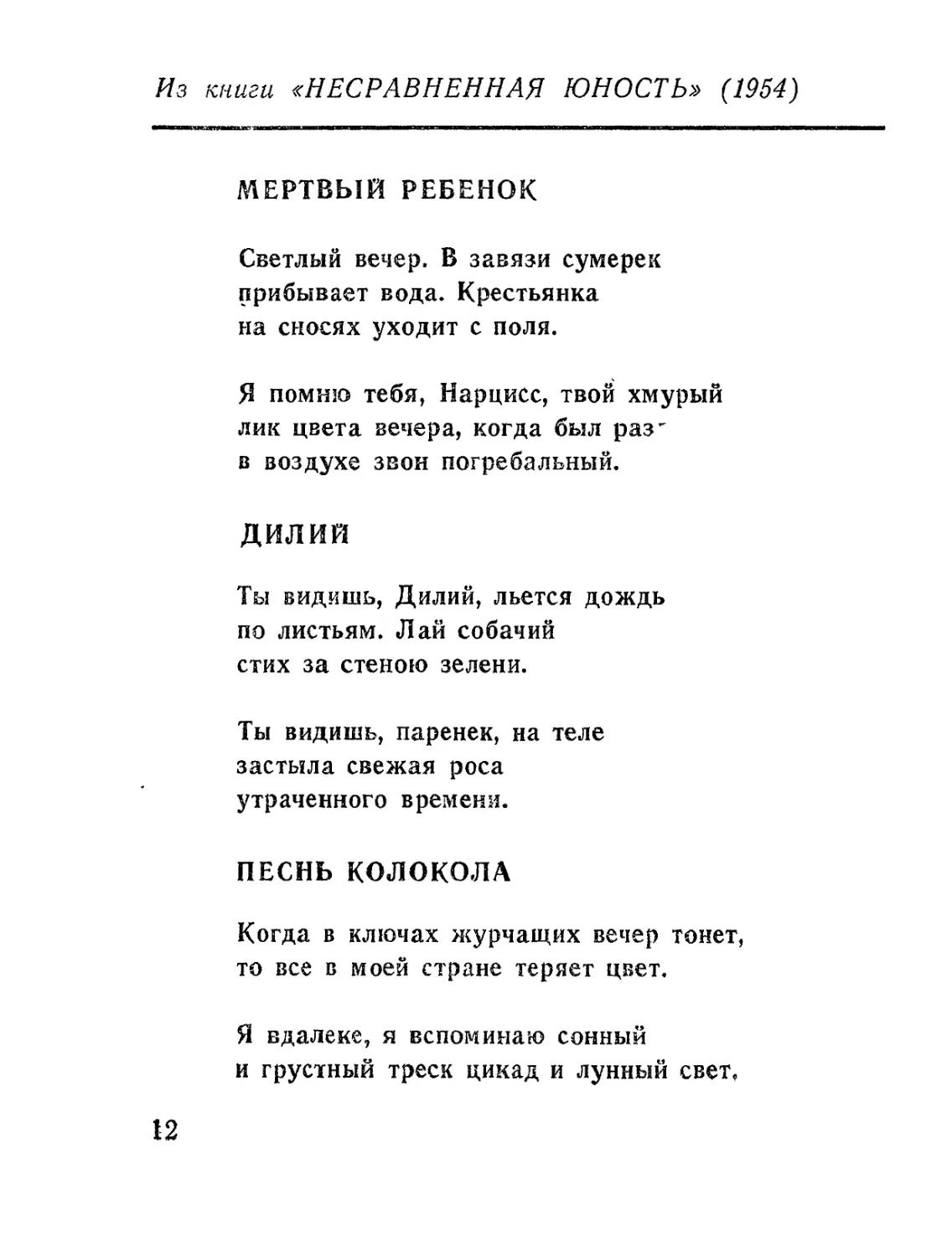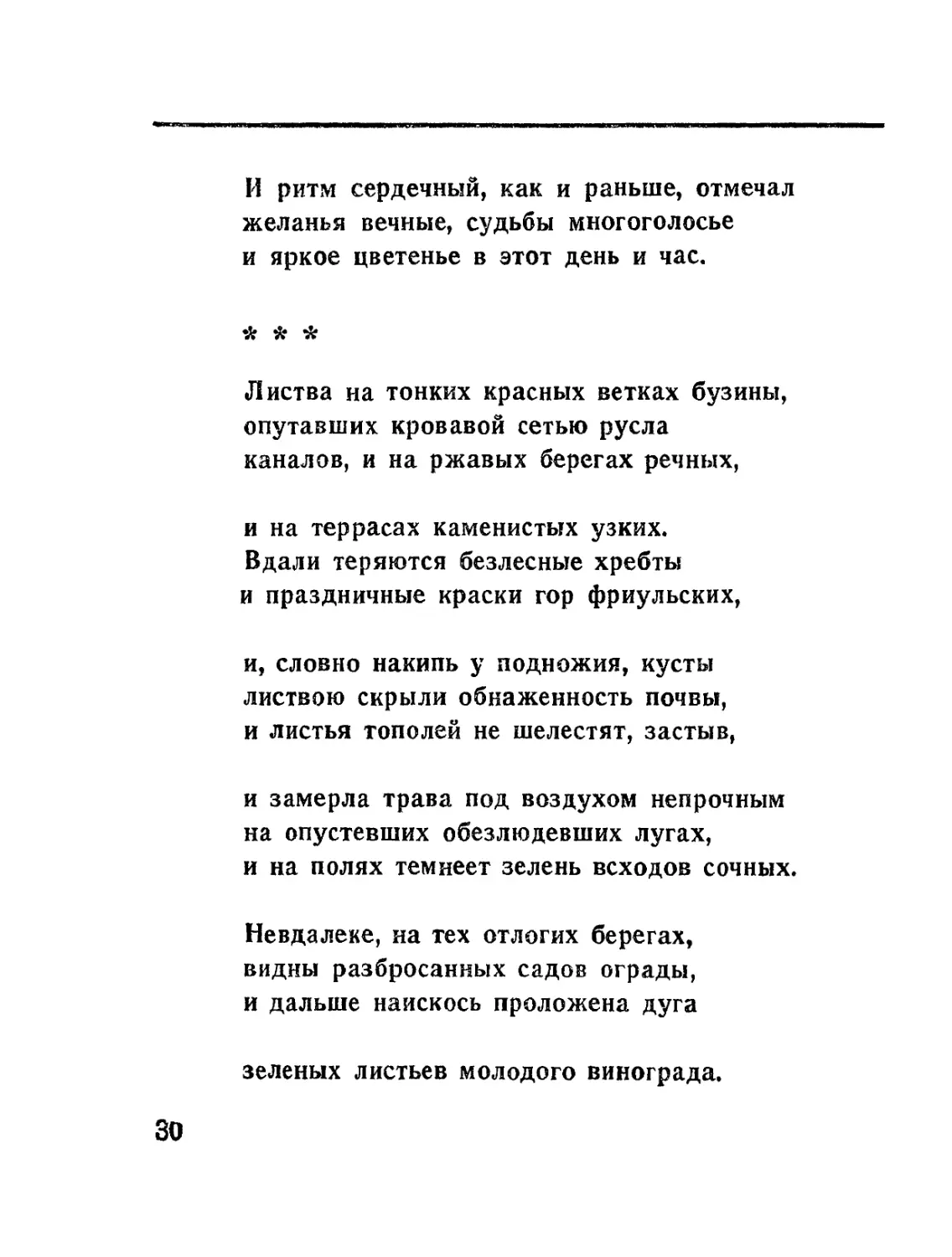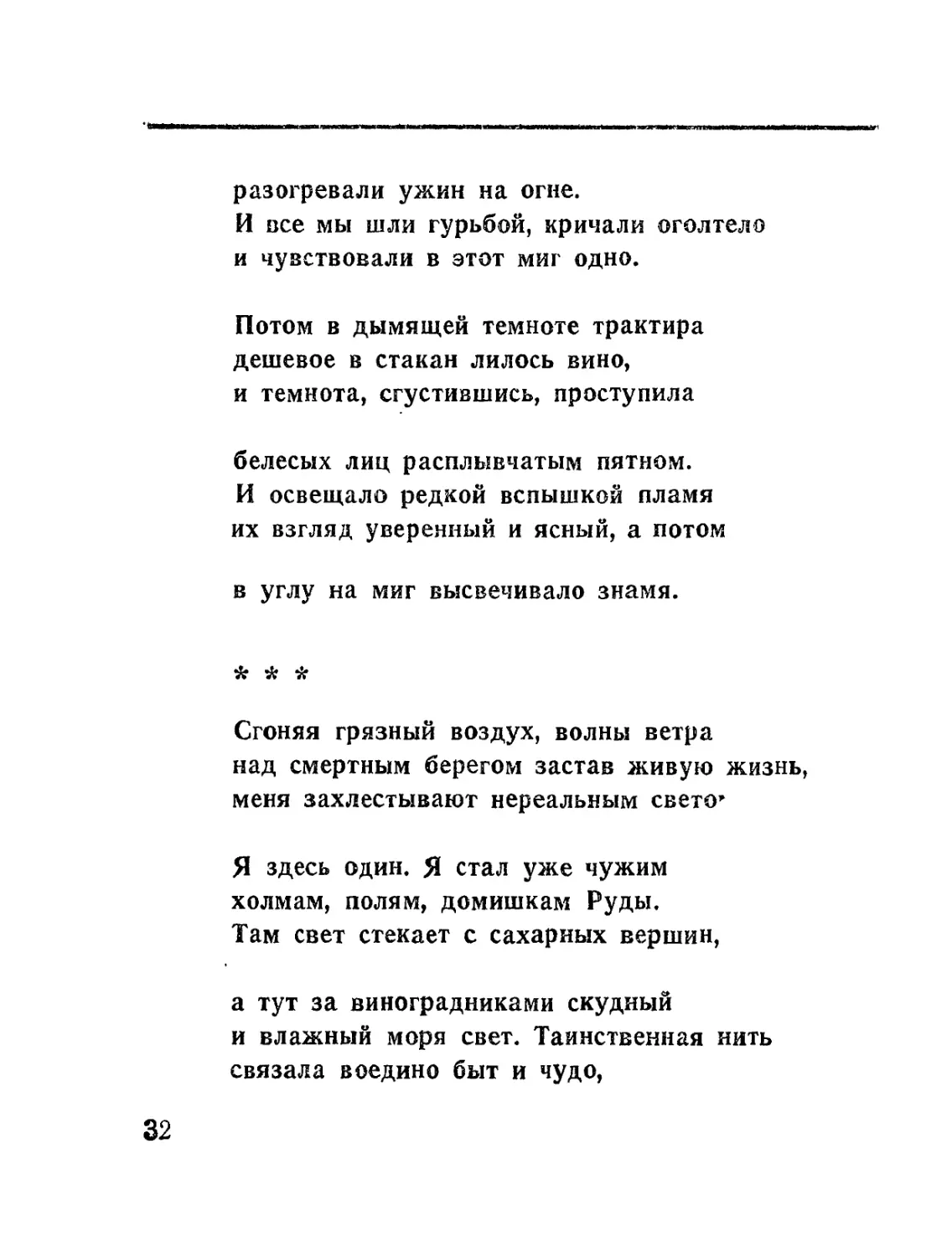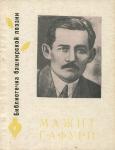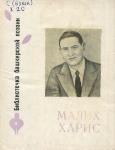Текст
Пьер Паоло
ПАЗОЛИНИ
ИЗБРАННОЕ
Перевод с итальянского
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1984
84.4Ит
П 12
Составитель к. ф. н. Н. В. Котрелев
Автор предисловия к. ф. н. В. Д. Уваров
Рецензент к. ф. н. Е. Ю. Сапрыкина
Художник серии Б. Алимов
4703000000—255
078(02)-84
Состав, перевод на русский язык, оформление.
Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.
ПОЭТ ВО ВСЕМ
Разнообразием и размахом своих дарований он был
сродни великим мастерам эпохи Возрождения: писал
стихи и картины, романы и научные статьи,
публицистику и киносценарии, снимал по ним фильмы и
снимался сам... И всегда его произведения, к какой бы
области* искусства они ни относились, вызывали
яростные споры, находили восторженных поклонников и
не менее непримиримых врагов. Но раньше всего он
начал писать стихи и рисовать, и занимался этим в
течение всей своей жизни. Первые стихи он написал в
семь лет, последние в год смерти. Между этими
двумя датами пролегла вся его творческая жизнь.
Пьер Паоло Пазолини родился 5 марта 1922 года,
в семье кадрового офицера, человека «страстного,
чувственного, неистового по характеру», волевого и даже
тиранического. Вероятно, это стало одной из причин
жгучей ненависти Пазолини к насилию.
Совсем иной была его мать. В фильме Пазолини
«Евангелие от Матфея» она сыграла Марию.
Видевшие этот фильм навсегда сохранят в памяти облик
маленькой сморщенной старушки, которая не
осмеливается даже подойти к своему говорящему с народом
сыну. С родиной матери — Казарсой, небольшим
городком или даже скорее деревушкой в области Фриули,
расположенной на самой границе с Австрией и
Югославией, — связано начало поэтической деятельности
Пазолини. Именно здесь вместе с друзьями он
основал «Академию фриульского языка», выпустил
несколько номеров журнала «Stroligut de ca' da l'aga»
(«Водяной»). И когда в 20 лег издаст свою первую
книгу, он назовет ее «Казарские стихотворения». Стихи
на родном фриульском диалекте он будет писать всю
свою жизнь, видя в диалекте возможность
приблизиться к народу, возможность уйти от культуры
официальной, буржуазной. В 1952 году он осуществил эту
идею, издав антологию «Диалектальной поэзии
XX века».
Начинаются же его занятия как филолога
дипломной работой, которую он защитил после войны в
старейшем университете мира — университете своего
родного города Болоньи. Темой этой работы он избрал
творчество одного из крупнейших итальянских поэтов
рубежа XIX—XX веков, Джованни Пасколи (1855—1912).
Пасколи воспевал мирную сельскую жизнь, крестьян и
ремесленников с их «трудами и днями», природу.
Наряду с Д'Аннунцио и Кардуччи, а также
итальянскими поэтами 20—30-х годов Пасколи, несомненно,
оказал влияние на поэзию Пазолини.
Казалось бы, чего еще желать юному Пазолини:
успешно окончен университет, а его первый
стихотворный сборник замечен крупнейшим итальянским
критиком Джанфранко Контйни. Но поэту на роду
написаны катаклизмы. На рубеже 40—50-х столь
благополучно начавшаяся литературная карьера Пазолини
обрывается, и он уезжает из Казарсы в Рим. Эти годы—
самые мрачные и безысходные в жизни поэта
(«Безработица. Отчаяние. Так кончают самоубийством»).
Пазолини пришлось бороться за существование, за то,
чтобы просто выжить. А что может быть более
непоэтичным, чем каждодневная борьба за существование?..
В эти годы его мучает даже не неизвестность, а
скандальная полуизвестность. Намного легче будет,
когда он станет скандальной знаменитостью. Но это
будет позже — после выхода романов «Шпана» (1955)
и «Жестокая жизнь» (1959). Тогда, по крайней мере,
станет ясно, за что и против кого бороться,
О чем же пишет в своих романах Пазолини? В них
он рассказывает о римских подростках. В первом
романе мальчишка по прозвищу Кудрявый, рискуя
жизнью, спасает тонущую ласточку, но он же участвует
в ограблении магазина. Герой «Жестокой жизни» Том-
мазо Пуццйлли в драке зарезал парнишку, но он же
во время наводнения спасает женщину. И уже не с
риском для жизни, а ее ценой. И рассказано об этой
невероятной смеси хорошего и плохого, именуемой
жизнью, сочной, колоритной смесью итальянского
языка и римского диалекта. Оба романа — и по
содержанию, и по форме — вызвали бурю негодования.
Блюстители чистоты итальянского языка и итальянской
культуры занялись главным образом формой, а
блюстители порядка вплоть до судей и прокуроров — и тем
и другим.
Так Пазолини становится героем многочисленных
судебных процессов — и одновременно центральной
фигурой культурной жизни Италии на протяжении
20 лет, начиная с середины 50-х годов и до самой
своей гибели. Постепенно он входит в сознание
широкой публики—сначала как прозаик, потом как поэт,
а позже как кинематографист. Другими словами, на
разных исторических этапах творческого пути его
многообразное дарование неизменно успевало блеснуть
именно той новой гранью, которая как раз и
приковывала к себе внимание публики и тем самым заставляла
говорить о себе критику.
В 1957 году у Пазолини выходит сборник поэм
«Прах Грамши». Книгу открывает поэма «Апеннины»:
это серия картин Италии, постепенно проходящих
перед нами, когда вслед за поэтом мы неторопливо
движемся от Альп к Неаполю. В поэме явственно
чувствуется связь поэзии Пазолини с живописью, есте-
ственное содружество его первых муз. Еще более
ощутимо это в поэме «Фриульские картинки», написанной
к выставке в Риме картин земляка Пазолини
художника Джузеппе Дзигаина, и поэме «Пикассо». Поэма
«Народная песня» связана с другой стороной
личности Пазолини — его научной работой.
Своеобразным исследованием народной психологии являются
поэмы «Земля труда» и «Нищая Италия». Но основное
место во всех 11 поэмах занимает современность.
Таково содержание «Плача экскаватора», «Митинга», где
митингу неофашистов противопоставляется
воспоминание о погибшем брате, и главной поэмы сборника —
«Прах Грамши», посвященной трагической судьбе
основателя Коммунистической партии Италии,
проведшего в фашистской тюрьме долгих 11 лет.
Сборник Пазолини имел огромный общественный
резонанс. Именно тогда, в конце 50-х годов, поэзия
Пазолини, как никогда прежде и никогда позже,
оказалась созвучной историческому моменту —
времени больших перемен и еще больших ожиданий.
Однако несомненно, что этот успех был подготовлен всем
развитием Пазолини как поэта. В 1954 году вышел
стихотворный сборник «Несравненная юность»,
подводящий итог его творчеству, ка фриульском диалекте
за период 1941 —1953 годов. А в 1958-м выйдет другой
итоговый сборник—«Церковный соловей», включающий
стихи на итальянском языке (1943—1949). В начале
60-х годов выходит сборник «Вера моего времени», в
1968-м — сборник «Стихи в форме розы», а в 1971-м —
«Вочеловечь и организуй».
Обращают на себя внимание заголовки сборников
1958 я 1961 годов. Смысл их так раскрывается самим
поэтом: «Смертельно раненная Церковь Своими
собственными руками открыла раны, и море крови вы-
б
лилось к Ее ногам. И перед смертью Она
посмотрелась в это море крови, как в зеркало, и молния
осветила Ее образ в крови. И вот этому-то отраженному
на крови образу мы и молимся!.. Да, мат и ересь —
единственная светлая память о Христе... Соловей поет,
и хочет умереть: пейте его кровь...» Пазолини считал,
что «церковь предалась диаволу, т. е. буржуазному
государству», что «власть буржуазии воспитывает
исключительно мирские устремления — безудержную
погоню за удовольствиями» и что поэтому в
буржуазном обществе «для религии, а тем более для церкви
не остается места». И в этом смысле он называет себя
одним из «хранителей прежних религиозных и
гуманистических идеалов».
Несколько слов о поэтике Пазолини. Прежде всего
бросается в глаза, что поэт совершенно по-разному
воспринимает свое творчество на диалекте и на
литературном языке: его фриульские стихотворения — это
небольшие лирические миниатюры, стихотворения в
полном смысле слова; по-итальянски же он пишет скорее
не стихи, а поэмы> составляющие своеобразный
«дневник поэта». В последнем прижизненном сборнике
Пазолини опубликованы так называемые
«итало-фриульские стихотворения». Зачастую стихотворение
начинается по-фриульски, а заканчивается по-итальянски
(стихотворения «О чем жалеешь», «Народная поэзия»),
В этот же цикл автор включает и прозаические
«заметки для будущих стихов» («Заметки для стихов на
лапландском языке», «Заметки для стихов на террон-
ском языке»). Другой пример преображения
итальянских стихов Пазолини — его театр: в 1965 году он
на несколько месяцев оказался прикованным к
постели — и появились пьесы в стихах «Обсуждение»,
«Пилат», «Кальдерон»...
Начиная с 60-х годов основной сферой творческой
деятельности Пазолини становится кино. Его проза
теперь — это почти исключительно киносценарии. В
кино Пазолини нашел страстно взыскуемую им формулу
и форму синтетического искусства, включающую для
Пазолини и науку — в 'виде семиотических
исследований по киноязыку. Первые его картины—«Римский
босяк» (1961) и «Мама Рома» (1962) — прямо
продолжают его римские романы. Но для истории кино эти
фильмы, особенно второй, стали свидетельством
кризиса неореализма и его внутреннего преодоления. От
неореализма остается почти документальная точность в
отображении событий и героев, ко для Пазолини это
только начало, это те факты, которые еще требуют
обобщения, дабы стать искусством.
Нельзя не вспомнить его короткометражку «Сыр»,
где римский безработный, играющий разбойника в
. каком-то пропагандистском религиозном фильме,
наедается перед съемкой сыра и действительно
умирает на кресте, брошенный всеми. У Пазолини это такая
же высокая и пронзительная трагедия, как у великих
древнегреческих трагиков, к наследию которых он
обратился на исходе 60-х годов, поставив «Царя Эдипа» и
«Медею». В начале 70-х Пазолини создает свою
«Божественную комедию» — кинотрилогию, в которой Аду
соответствует «Декамерон» Боккаччо, Чистилищу ■—
«Кентерберийские рассказы» Чосера, Раю — «Цветок
Тысячи и одной ночи» по арабским народным
сказкам. Но это не означает, что художник ушел от
современности. В то же время фильмы о современности
«Птицы большие и малые» (1966), «Теорема» (1968) и
вышедший на экраны уже после гибели Пазолини
«Содом» обнаруживают «бесконечное число связей» с
культурой и искусством прошлого.
Добавим, что Пазолини всегда придавал большое
значение музыкальному комментарию своих фильмов и
всегда составлял его сам. Во всемирно известном
«Евангелии от Матфея» (1964) наряду с Бахом
звучат «Замучен тяжелой неволей» и другие русские
революционные песни.
Мы остановились на фильмах Пазолини не только
потому, что они занимают очень важное (а для иных
самое важное) место в его наследии и без них
невозможно представить его творчество в целом, но и
потому, что благодаря автобиографическому единству его
художественной деятельности кино Пазолини помогает
лучше увидеть и понять стихи Пазолини, в которых,
естественно, разрабатываются те же темы и звучат
те же мотивы.
Говоря о Пазолини-стихотворце, нельзя не сказать
о Пазолини-публицисте, ибо именно в «непрерывном,
непрестанном движении критики» он видел истинное
назначение интеллигенции и свое собственное.
Поэтому особый размах приобрели его выступления в
газетах и журналах в конце 60-х годов. Это было время
бурных студенческих манифестаций, время майских
волнений 68-го года в Сорбонне. И Пазолини
неоднократно публично заявлял, что «движение Сопротивления и
студенческое движение — два единственные
революционно-демократические периода в жизни итальянского
народа». Он считал, что в 68-м году «вина
интеллигенции в том и состояла, что ее представители забыли
о своем священном и первоочередном долге — трезво
и критически оценивать ситуацию». Но тяжкая вина
лежит и на молодом человеке поколения 68-го: «И ты
поймешь тогда, что тоже послужил миру — тому
миру, с которым «вел активную борьбу». Именно этому
миру хотелось покончить с историей — со своей ис-
2 П. Пазолини 9
торией. Именно этому миру хотелось расправиться с
прошлым — со своим прошлым. О несчастное
поколение, и ты своим неповиновением повиновалось!»
Пазолини стал выступать «от имени лишь самого себя
против всеобщего обуржуазивания. Один против всех»
Пронзительным ощущением одиночества проникнута
и последняя прижизненная книга Пазолини «Другая
юность. Фриульские стихотворения 1941—1974»,
вышедшая в свет 17 мая 1975 года и переизданная 15
ноября того же года, уже после гибели Пазолини. Это
необычная книга. Это резкое и беспощадно правдивое
свидетельство того, с чего начал и к чему пришел
поэт. Действительно, открывающий книгу первый
раздел представляет собой перепечатку итогового
диалектального сборника 1954 года, начиная с самых
первых «Стихов о Казарце». Резким контрастом первому
разделу является второй раздел, названный автором
«Второй формой «Лучшего времени юности» (1974)» и
представляющий собой полную — вплоть до
противоположности — переработку или даже скорее
переосмысление написанных в молодости стихотворений.
Откроем «Посвящение». Вот что было:
Струйка фонтана в моей деревне.
И нет воды вкусней, чем в моей деревне.
Струйка любви к моей деревне.
И вот что стало;
Струйка фонтана в чужой деревне.
Нет воды столь затхлой, как в той деревне.
Струйка любви иссякла.
«Это был отсталый и жестокий мир, — говорил
Пазолини в интервью газете «Стампа» 1 января 1975 го-
10
да, — но, у него были свои собственные жизненные
устои и свой собственный язык. На смену ему не
пришло ничего. Сегодня парни из предместий разъезжают
на мотоциклах и смотрят телевизор, но разучились
говорить, только ухмыляются». Неотъемлемой чертой этой
новой действительности стало и явление, которое
Пазолини описал в цикле стихов, следующем за двумя
разделами «Лучшего времени юности» и заключающем
книгу. Цикл называется «Мрачный энтузиазм. Итало-
фриульские стихотворения 1973—1974». Сам
Пазолини объясняет, что выражение «мрачный энтузиазм»
взято из Достоевского («Преступление и наказание»). Оно
как нельзя лучше характеризует то, с чем Пазэлини
боролся всю жизнь и от чего погиб: насилие и его
крайнюю форму —. терроризм. Заканчивается книга
словами: «А я с легкой душой пойду все вперед и
вперед, и навсегда мои — жизнь и юность»...
Поздней осенью 2 ноября 1975 года Пьера Паоло
Пазолини нашли мертвым среди лачуг и помоек в
курортном городишке Остия под Римом, вблизи
аэропорта. Всего за пять лет до этого его «первый
последователь» Серджо Читти снял об Остии одноименный
кинофильм. В работе над этим фильмом самое
непосредственное участие принял Пазолини.
В автобиографии, опубликованной еще в 1960 году,
поэт писал: «Я так неистово, так отчаянно люблю
жизнь, что это для меня не может не кончиться
плохо».
Проходят годы, затихают споры, и все яснее
становится значение Пазолини, бывшего во всем поэтом.
В. Л, Уваров
2*
Из книги «НЕСРАВНЕННАЯ ЮНОСТЬ» (1954)
МЕРТВЫЙ РЕБЕНОК
Светлый вечер. В завязи сумерек
прибывает вода. Крестьянка
на сносях уходит с поля.
Я помню тебя, Нарцисс, твой хмурый
лик цвета вечера, когда был раз'
в воздухе звон погребальный.
ДИЛИЙ
Ты видишь, Дилий, льется дождь
по листьям. Лай собачий
стих за стеною зелени.
Ты видишь, паренек, на теле
застыла свежая роса
утраченного времени.
ПЕСНЬ КОЛОКОЛА
Когда в ключах журчащих вечер тонет,
то все в моей стране теряет цвет.
Я вдалеке, я вспоминаю сонный
и грустный треск цикад и лунный свет,
12
В монастыре далеком глохнет медь:
я мертв, и колокол унылый стонет.
И я лечу. Я легче ветерка.
Пришелец, не страшись: я дух любви,
вернувшийся домой издалека.
ПЕСНИ МЕРТВОГО
I
Виньюта укрылась снегом,
и в небесном канале
стоит залитая солнцем Чарнья.
Я вернулся из мрака
мертвых
сегодня, 13 января
MCMXLIV...
И слышу — кричат ребята.
II
Кто еще жив
по саизуанской дороге
за каменными заборами,
стынущими в мерзлом воздухе?
13
Звонит колокол.
Я ведь — мертв.
III
Ах, силуэт хлева
с белой от снега крышей
и солома — по небесному облаку,
крытый сухим камышом
каменный забор...
Ах, нитка света
по мощеному полу под навесом...
IV
И я — снаружи,
в снегу.
Внутри Стьефин
кормит коров,
внутри Стьефин,
живой,
внутри Стьефин,
рубит тростник
на колоде,
внутри Стьефин,
теплый и усталый,
рубит тростник,
14
внутри Стьефин, живой,
уминает коленом сено!
Слушай, Стьефин, слушай,
сто лет или только миг назад
я был в тебе.
Внутри, не снаружи,
давя коленом,
я чуял колено, сеном дышал.
Сегодня я тут.
Снаружи, а не внутри,
и ни колена не чую?
ни теплоты своего тела.
Сегодня
я должен был больше не быть.
VI
Господи,
он открывает дверь,
ставит топор,
топочет ногами,
усталый, заходит в кухню.
Одиноко снег
под небесным облаком светится.
15
VII
Господи,
хлопает дверью,
запирается в кухне.
О тело Стьефина,
что ты там делаешь? Еще меньше
осталось жизни.
Я скажу —- почему... я вижу,
что стойло пусто, на земле топор,
коленом умято сено —
там, где тебя уже нет.
VIII
Господи,
кто же запел?
Одинокая девушка.
Мгновенье — и все.
Только остался голос в снегу
за колючими изгородями
слепящих садов.
IX
А завтра будут сверкать по откосам
нити снега.
16
Будут видны Версута, Чазарса, Сан Зуан,
на фоне пустых полей,
на фоне небесных каналов,
под легким солнцем.
чиж
То не кровь и не плоть
тебя, любовь, величали,
чижик пел тебя,
погибая в сети.
То не кровь и не плоть
о тебе, любовь, плакали,
чижик пел навзрыд,
погибая в сети.
То не кровь и не плоть
тебя, любовь, выкликали,
чижик звал тебя,
веселяся в небе.
* * *
Что и было в мире у меня,
так только — уши, да глаза, да голова
как солнце, да парадные штаны.
3 П. Пазолини 17
Что и было у меня, так только — уши...
И я слушал — крики чаек,
голоса крестьян и рыбаков,
песенки, колокола...
Мне пятнадцать! Двадцать!
Задубевшая одежда, мать как камень:
я был одинок. Плясал, смеялся, веселился.
* * *
Ты, хозяин, мог не знать,
что в мирозданье я был одинок,
с неизменным выходным костюмом.
Ты, хозяин, мог и не подумать,
что я прожил двадцать лет
и двадцать лет был беден.
Ты — хозяин, в Малафесте — все трое,
а у меня нет ничего;
только это у меня и было:
что ж ты отнял у меня и это?
13
Из книги «ПРАХ ГРАМШИ» (1957)
ПИКАССО
I
Под ярко-золотым дрожащим шаром,
невинен точно так же, как нечист,
народ сморен дневным горячим жаром.
И день от ликования лучист,
и всюду звуки радостные. Скука
кеверящих, как свет, стекает вниз
и затопляет гипсовый орнамент,
и веер лестниц, и дорожный склон,
и в этот миг крошится, словно камень,
веками установленный закон
и неизбежная родится смена.
Предвестников вы видите тайком
среди горящих клумб пред наступлением
насыщенной весельем темноты,
расползшейся от удлиненной тени
далеких елей, и средь суеты
на площади Испании, где праздник
наполнен гулом; древние черты
19
Италии, такой разнообразной
проглянули, все больше становясь
отчетливей, и видно так же ясно,
что правит неизменно тот же класс.
II
Как на засвеченном случайно снимке,
неразличим на белом фоне дня,
весь плоть от плоти мира — невидимка -
на лестнице. Молчанием больна,
воспринявшая суть мещанства, — в теле
безмолвная душа заключена.
И вдруг нежданно как бы пролетела
перед глазами жизнь, и тайно страсть
ее коснулась исподволь, несмело.
Сознание (чья заключалась власть
в высокомерии и в лести раболепной)
стремилось все постичь, понять, познать,
определившись до конца, окрепнуть.
20
HI
Ребристый сгусток краски на холсте,
восточная пресыщенность тонами.
Цветок багровый, в детской простоте
положенный небрежными мазками:
Здесь дух незримый предвоенных лет
и духа изначально скрытый пламень.
Смешалось в ярком торжестве идей
и нарочито грубом исполненьи
значенье века: яркий венчик рдел,
подчеркнутый игрою светотени.
Наследство Франции тех лет, когда
рассветом вечным виделось паденье
и вдохновляла ищущих беда,
являясь утешеньем человека.
У творчества был знак — крушенье века.
IV
Невинней робкой чистоты лил ей
и кровожадней чувственных щенков,
над пеной облаков курчавых рея,
21
смеясь, младенцы предрекают кровь.
Был каждый ангел пухл, и чист, и тих:
достойная Веласкеса идея
избытком чувств воссоздавала их.
На пустошь полотна стекает с кисти
избыток сил, как горький сок желез,
как функция естественная жизни,
где краска — смесь из крови, пота, слез
застывшим многоцветием чешуек,
как кожа тело, покрывает холст
И очередность линий — кисть, танцуя,
наносит мастерски ка полотно,
великолепие хаоса чередуя
с темно-зеленым луговым окном,
и эту пылкую слепую страстность
через года поймет глазное дно
причисленных: обманчивую ясность,
и искренность, и показную спесь.
И эта ярость призывала властно
22
художника, и без остатка, весь
ей предавался Гойя. На полотна
беды и радости выплескивалась смесь.
VI
Среди толпы людей безликой, грубой
ордыг способной чувствовать, творить,
не веря, — средь толпы безликой — трупы,
и их телесность можно заменить
их сущности потерянным значеньем:
добра и зла нерасторжима нить.
Вальяжная сова с пятном зеленым
на перистой коричневой груди:
она — знак важности безумно-томной.
Изменчивость, — как смочь определить
ее цвета в глазах пустых, бездонных.
Цветок и плод — союз неразделим.
Гармонию различий свяжет воск
в систему виденья. Умерший август
ложится в неге на морской песок,
23
и, подчеркнув незыблемости слабость,
свободе мнимой отмеряет срок,
когда она, мешая ложь и правду,
нежданно грозный обретает лик.
И тот, кто распознал ее невзрачность
начальную, тот наконец постиг
ее спокойной ярости прозрачность.
VII
Какая радость в ярости познанья!
В исканьях чистых — эмпирейский свет.
И сумрак чувств, и темноту страданий,
предчувствие неумолимых бед
извечных поисков рассеет сила.
И суть обыденных вещей, лучом
пронзительным освещена, сменилась
и говорила новым языком
о новизне обычаев постылых.
О человек, твой изначальный грех,
умножившись, давно стал частью духа.
Лукавство мудрости без призрачных помех
24
стыдливости сомненья душит.
И ты взбираешься на пьедестал,
и похвалой тебе пороки служат.
И аскетизм церковный быстро стал
проблемою неразрешимой пола,
дает заказ искусству либерал,
подделка вызывает шум и споры,
и торжествует всюду пошлый вкус,
которому надежная опора
буржуазии выгода и плюс
тупой, самодовольный, близорукий
безудержный цинизм*..
Но все ж какое наслажденье скрыто
в осмысливаньи даже мира зла!
Ты, подчинившись неуемной жажде,
стремишься к чаше знаний, не боясь,
что в самых чистых подвигах однажды
откроется заведомая грязь.
VIII
Но вот вам заблуждение Пикассо:
на загрунтованной поверхности игрой
небрежно-прихотливой занят разум.
4 П, Пазолини 25
Идея блекнет. Замысел сырой
изысканностью выраженья связан.
Художник разрушает старый строй,
и, классовое разлагая время
в оттенки красок, свой стихийный гнев
он подчиняет очертаньям темы,
и сущий миг сгорает, как в огне,
и время, наконец, меняет норов,
раскрытый мир рождая, как во сне.
Увы, народу не найти опоры
в изображеньях мирной тишины.
К чему все эти обезьянки, горы
и голубки. Народу не нужны
молчащие холсты в пустынных залах.
Он там, на улице, где яркие огни
рабочих праздников; среди кварталов,
поющих слаженно одни слова.
И песня пролетит по всей Италии,
ей будет вторить желтая листва,
подхватят сжатые поля пшеницы,
и вся Европа станет подпевать,
26
и музыка пересечет границы...
Вот этих звуков, к сожаленью, нет.
Сквозь тишину им не дано пробиться.
На преждевременный призыв ответ
совсем другим быть должен, и задача
художника — узнать значенье бед,
спуститься в ад: лишь так и не иначе
искать пути к спасенью. Без следа
исчезнет старый строй, и час назначен,
но человек не сгинет никогда.
IX
Десятилетья бед... За годом год
идет в невыносимом напряжены*,
и не спадает вечный груз забот,
и никаких не видно изменений.
В те годы — годы тягостных потерь —
беде и горю узнавали цену.
Года молчания. И мир был сер,
суров и хмур на полпути столетья,
казалось, будто в долгой полосе
4* 27
ночей нет места для дневного света.
В квартирах поселился тайный страх,
и настает в квартирных душных клетках
цинизма долговечная пора.
И череда невиданных событий
идет неясным гулом со двора.
И отзвуком одним своим насытит
нелюбопытство черствое война.
И пусть в прошедшем Бухенвальд и пытки
и дом не тронут яростью огня.
Но оглянись -— кругом одни казармы,
фашистская гуляет солдатня,
и, в славословьях изливаясь, замер
отлаженный и выученный хор:
так позже ощущается мгновенно
годов мучительных мучительный позор,
и стыд за них нам позволяет откровенно
пошучивать, превозмогая боль,
что нужно стать глупцом, чтоб быть понятным.
28
ФРИУЛЬСКИЕ КАРТИНКИ
* * *
Ночь бархатная. В воздухе разлит жасмин.
Он растворяет легкие мои при вздохе,
мне кажется, что я потерян, я — один,
я — холодеющая дрожь в холодном воздухе,
я — долгий дождь во тьме, и я — голубизна,
нависшая над высохшим асфальтом,
над стадом небоскребов. Я и свет окна,
и темнота, которою залатан
квартал...
Крошатся под ногой комки засохшей грязи,
я подхожу к домам, касаюсь плоти стен,
стеблей травы, с которыми рожденьем связан...
В веселой рассудительности скрыт запас
тяжелых и жизнелюбивых сил, но разве
не скрыт в ней проигрыш, и разве в этот раз
не победит, как прежде, непорочность весен...
Весенний запах — он начало всех начал,
он — приговор зиме, застылой скуке косной.
И ритм сердечный, как и раньше, отмечал
желанья вечные, судьбы многоголосье
и яркое цветенье в этот день и час.
* * *
Листва на тонких красных ветках бузины,
опутавших кровавой сетью русла
каналов, и на ржавых берегах речных,
и на террасах каменистых узких.
Вдали теряются безлесные хребты
и праздничные краски гор фриульских,
и, словно накипь у подножия, кусты
листвою скрыли обнаженность почвы,
и листья тополей не шелестят, застыв,
и замерла трава под воздухом непрочным
на опустевших обезлюдевших лугах,
и на полях темнеет зелень всходов сочных.
Невдалеке, на тех отлогих берегах,
видны разбросанных садов ограды,
и дальше наискось проложена дуга
зеленых листьев молодого винограда.
30
* * *
Припоминаешь этот вечер в Руде?
И наше увлечение игрой
чистейшей страсти, изученье трудных
ее законов, волновавших кровь,
и страсть борьбы, кипевшей повсеместно,
казалась этой радостной порой
единой мерой жизни в душах детских.
В ту ночь — ты помнишь? — яркая гурьба
крестьян нарядно, празднично одетых
и из окрестных деревень ребят,
шагающих по улице поселка, —
их пеструю толпу воспринял взгляд
как праздник беззаботный и веселый,
увлекший ненароком за собой.
И — не крестьяне — у каемки поля
смешались мы с крестьянскою толпой,
захваченные силой этой ночи,
целительной и губящей, — чужой, —
и ощущали, как был прост и прочен
ход жизни их, ход неизменных дней...
Мы шли по улице. Хозяйки озабоченно
31
разогревали ужин на огне.
И все мы шли гурьбой, кричали оголтело
и чувствовали в этот миг одно.
Потом в дымящей темноте трактира
дешевое в стакан лилось вино,
и темнота, сгустившись, проступила
белесых лиц расплывчатым пятном.
И освещало редкой вспышкой пламя
их взгляд уверенный и ясный, а потом
в углу на миг высвечивало знамя.
* * *
Сгоняя грязный воздух, волны ветра
над смертным берегом застав живую жизнь,
меня захлестывают нереальным свето*
Я здесь один. Я стал уже чужим
холмам, полям, домишкам Руды.
Там свет стекает с сахарных вершин,
а тут за виноградниками скудный
и влажный моря свет. Таинственная нить
связала воедино быт и чудо,
32
и можно было явно ощутить
неясное, несбыточное Нечто —
вечерний дух извечного пути.
В пространстве празднично-беспечном
твоих картин ярко-зеленый цвет
йыл смешан с цветом воска вечно;
на жниц склонившихся ярчайший свет
оранжевого солнца льется с неба.
И летний воздух солнцем был прогрет,
казалось, пенится он над полями хлеба,
и был тот потный жаркий летний день
настоян на пахучем горьком стебле
полыни, на морской воде,
на ветре, смешивавшем запах удобрений
и трав...
Ты знаешь, здесь в фриульском уголке,
здесь, в царстве запахов, хозяйничает ветер.
Он, застывая сгустком на листке,
остановил навек звучанье флейты,
коснулся кистью белого холста,
и свет обрушился на землю слой за слоем,
33
пересеченный перекладиной креста
и телом провисающим Христовым.
В нем краски, от которых вечер стал
теплей и остывал с рассветом новым.
И отражались рыбаки в воде,
и их морщины заполняло солью
возделанное море. Долгий день
был впереди, и впереди был вечер.
Крестьяне возвращались в темноте,
и ныли их натруженные плечи.
Скрипел паром, и окна деревень
светящиеся двигались навстречу.
И ветер из Триеста, или с Градо,
или с предгорий близких Альп
тихонько дышит, словно он украдкой
у вечера тягучий звон отнял,
похитил крик испуга у болота,
у камыша — чуть слышный шорох сна,
и вызревшую свежесть позолоты
полей пшеницы, гибкость тростника
и всю задумчивую красоту природы.
34
Он, ветер, прилетев издалека,
все запахи перемешал и спутал
даль горизонта, море, облака,
сезоны года, время суток.
Потом сознанье отшлифует дни
прошедшие, изменит их по сути,
забудет, что рассыпались они
на противоречивые мгновенья,
но все же смертный привкус их роднил.
Мне кажется, что к яви пораженья
и гибели меня влекут года
пассивной чистоты успокоенья
и созерцания пьянящий дар.
Как счастлив ты, кому весенний ветер — вестник
грядущих дней, ты жизнь свою измерил сам,
хотя наивнее и старше, чем твой сверстник.
Ты глух, я знаю, к тайным голосам
времен, которыми ты сам пропитан.
Ты глух. Прислушайся хотя б на полчаса —
35
как сочен голос Тайны, как звенит он.
В нем спрятаны сознанья чудеса.
В источниках существованья сонных скрыто
нечеловеческого счастья естество,
но для тебя единственный критерий —
людских привычек летописный свод.
Надежды и страданья •— этой мерой
фриульский измеряется народ,
хоть стали их сердца тверды, наверно,
как руки их. Идет за годом год
в тяжелой, изнурительной работе,
и целый день соленый льется пот,
чтоб новым урожаем стали всходы
на маленьких иссушенных полях.
И только в воскресенье краткий отдых
печально возвестят колокола.
Какая мощь в желаньи изменять
весь мир в его веселии пасхальном,
весь этот мир, стремящийся играть
в жестокой глухоте, среди развалин...
И как суметь в чреде унылых лет
заметить редкий тусклый отблеск света,
и видеть в нем грядущей эры свет,
и в мелочах узнать ее приметы.
Тогда любой обыденный предмет
меняет неожиданно значенье
и обретает новые черты,
и в этом сладкой радости свеченье.
И с очевидностью случайной простоты
все возникает в новом измеренье:
велосипеды, площадь и кусты,
отбеленные жарким солнцем стены,
и пристань дряхлая, и поручень трухлявый
рубашки серые, холщовые штаны
рабочих фабрики «Зниа Вискоза» и корявый
настил близ ласковой голубизны
канала...
День ослепительный. Иссушенная пыль,
зависшая клубами над землею,
скрывает солнце. От крестьянских вил
37
летит солома. Злая тяжесть зноя
легла на истощенные поля,
на русло оскудевшее речное,
где влага драгоценная текла
живительным незаменимым соком.
И жизнь размеренно, как прежде, шла,
вновь разносился молотилок рокот,
перекрывая ржание коней,
и запах их с людским мешался потом
и был всех прочих запахов родней...
Любовь к полям, домам и людям,
к работе в череде бескрайних дней —
любовь к невзрачной, к настоящей Руде
останется теперь навек с тобой.
И в образах твоих тогда не будет
дурных предчувствий, и цветов набор
расскажет о сегодняшнем веселье
и будущем без горя и забот.
38
ПРАХ ГРАМШИ
IV
Мучительность противоречия: быть против
тебя и быть с тобой; с тобой в душе,
при свете дня, и против — темной плоть1о;
и даже в мыслях, в тенях действия — уже
наследственная тяга к вероломству
определялась естеством вещей
как плоти неотъемлемое свойство.
Жизнь пролетария влекла к тебе,
к тебе, предшественнику, и знакомство
явилось страстью не к самой борьбе,
а к радости борьбы: к ее природе,
а не к сознанию. В людской судьбе
она была первичной силой, в ходе
событий тихой грустью становясь,
когда сияние поэзии проходит:
как выразить точнее эту связь,
ведь это ранящей и отвлеченной
моей любви смешавшаяся вязь.
39
Бедняк средь бедняков, я, подчиненный
надежде горькой, так же, как они,
бьюсь из последних сил, их следуя закону,
идут в борьбе за жизнь за днями дни.
Я неимущ, но обладаю состояньем,
которое с мещанским не сравнить:
и эта связь крепка и постоянна —
истории принадлежит поэт,
а мне — она, я весь в ее сияньи,
но для чего же служит этот свет?
VI
Разбросаны в непрочной тьме, как в море,
печальные блестящие огни,
венцы огней... И скоро время ужина.
Зажегся тусклый желтый свет
в автобусах, заполненных рабочими.
И не спеша идут военные
по улицам, где всюду виден след
укрытых тьмой расползшихся отвалов
и мусора. В углах скрывают тени
40
шлюх раздраженных и усталых.
И там, где пустырям пришли на смену
дома, где, как миры, дворцы стоят,
играют дети, легкие такие,
что кажется, они вот-вот взлетят,
подхваченные ветром. И переполняет
их беззаботность юная. Они
на улице проводят майский вечер,
и в воздухе звенят мальчишеские крики,
И жалюзи упали с шумом вниз,
и двери лавок на ночь запирают.
Сменяются в пространстве свет и мрак.
Вихрь меж платанов площади Тестаччо
утратил силу бури и притих,
притрагивался осторожно к туфу
и к низким черепичным крышам,
гнилой пропитываясь кровью
и вонью безысходной нищеты.
Жизнь — это шум, и тот, кто в нем потерян,
теряет безмятежно жизнь саму,
коль сердце ей заполнено безмерно.
41
Но чтобы отыскать ее, во тьму
вечернюю идет, для наслаждений
мгновенья тратя... Если одному
мне открывается смысл смерти и рожденья,
что б делал я, когда б не был уверен,
что у истории наступит продолженье?
ПЛАЧ ЭКСКАВАТОРА
11
Известка, пыль на улицах предместья.
Я жил бедней церковной крысы
вдали от города и от деревни.
Я втискивался каждый день в автобус,
с натугой ползший в гору:
и были каждый раз голгофой
тогда уход и возвращенье.
Была ходьба в пыли горячей,
и были сумерки над ворохом бумах и,
расползшиеся от дождей дороги
и побеленные известкою домишки
без электричества, со ставнями на окнах...
42
К нам из соседнего предместья приходили
молочник и старьевщик с пропыленным
как будто краденым товаром. У него
жестокое лицо. Он с детства получал
шлепки от матери голодной и взрослел,
познав разнообразие пороков.
Но мир уже стремился к обновленью,
и новизна была в его дыханье.
В моей горячей молодой крови
к унылому дурному копошенью,
которое в предместье звалось жизнью,
рождалось чувство жалости-любви.
Душа моя от самого рожденья
росла, питаясь радостью любви
к другим, не будучи любимой ими.
Душа мала в огромном мире>
но было все освещено любовью,
зажегшейся еще в груди мальчишки,
и вскоре вызревшей, окрепшей.
У ног истории рождался опыт жизни,
и я был в центре мира в этом мире
43
печальных деревень, предместий,
лесов, лугов, хлебов созревших,
ласкаемых горячим влажным ветром,
а в ветре слышалось дыханье моря,
дыханье городов, дыханье поля,
укрытого сгустившимся туманом.
И наполнялся желтоватым светом
квадрат вечернего тумана.
И нити множества зажженных окон
прореху ночи зашивали.
Мир царствовал над городом-тюрьмой,
улегшимся средь деревень усталых.
Играл газетными листами ветер
и то бросал их, то тащил с собою.
В пыли дорожной копошились дети,
мальчишки в порванных рубашках
и грязных лопнувших штанишках
у материнских ног играли.
Они сюда пришли с далеких гор,
с далекого Адриатического моря.
И вот теперь остановились здесь
44
под африканским солнцем, под дождями,
которые дорогу превращали
в потоки грязи, и на станции стояли
автобусы в углу плошадки
меж полосой травы белесой
и месивом размокшей глины...
И я был в центре мира. Средоточием
истории была моя любовь
к предместью: в этой ранней
и страстной зрелости с рожденья
была любовь и было все,
чтоб вызреть ясным —- было ясным.
Тот пригород, ветрам открытый, —
он вовсе не был римским
или типично южным — он был жизнью,
и он был светом праздничным и близким:
свет новой жизни. Он был полон
хаосом, пролетариату чуждым,
как говорил язык пропагандистский
многотиражки. Лист газеты
сходил с машин печатных;
45
и этот распорядок вечный
не мог мгновенно измениться-
и он был слишком абсолютен,
чтоб стать немного человечней
VI
Пустынная непрочная жара
светила утреннего белит стены
и лижет светом переплеты окон.
Шум стройки начинает пожирать
остатки тишины Молчанье ночи
задерживалось в дремлющих дворах
и в исчезающих молочных клочьях.
С семи утра растет тяжелый гул
под солнцем. Дюжина рабочих
в спецовках рваных скучилась в углу
площадки. Заглушала стройка
слова, слетавшие неслышно с губ.
Площадку покрывала грязи корка,
и люди были так малы: казалось,
что в их борьбе с землей не будет прока.
46
Однако плоть ее сминалась
«од натиском ковша.
Уничтожает всё его слепая ярость,
от мощи неосознанной дрожа.
Вдруг среди гула голос человека
послышался, захныкал, завизжал
от боли так, что челоЕечьим
уж не казался, стаз
железным скрежетом. Навстречу
светилу ковш подняв,
работает машина. Снова
от крика боли рвется явь,
как будто кто-то, истекая кровью,
орет от муки, из последних сил кричит,
терзаем жаром солнечным багровым.
Изломанный трудом
и орошенный потом,
измученный тяжелой чередой
годов и тяжкою работой,
кричит усталый экскаватор: звук
разкосшся над выбранной породой
47
и обегает горизонта близкий круг,
очерченный двадцатым веком, и кварталы,
и город, проводящий свой досуг
средь блеска праздников и бала.
И, возрождаясь, умирает в муках мир,
и то, что было луговиной, стало
высоким домом с сотнями квартир,
в чьем благолепии заключена обида;
и там, где ярмарок кипел веселый пир
средь лавок, штукатуркою покрытых,
ряды домов без устали растут,
но торжество порядка с болью слито.
И плачет тот, кто свой свершает суд,
чтоб измениться к лучшему. Сиянье
грядущего сжигае1. Не спасут
ни сон умау ни сила созерцанья.
Неотделима от любой судьбы
неизлечимая болезненная рана.
Но все ж, хотя бы время встало на дыбы,
рабочий неуклонно, как и прежде,
над фронтом человеческой борьбы
возносит алый лоскуток надежды.
48
Из книги «ЦЕРКОВНЫЙ СОЛОВЕЙ» (1958)
НОКТЮРН
Вам, звезды, не сломить меня
ни радостью, ни страхом,
ни тишиной
небесного огня,
и холодам искристым не отнять
жар сердца. И, бесстрашный,
горит, не рассыпаясь прахом,
цветок земной судьбы.
Но так же от меня далек
(я не смеюсь и не рыдаю)
господь, которого не знаю
и полюбить не смог.
Сможет ли груз моих лет
вытеснить прежние мысли
и заменить их долгом?
И разве сойдет на нет
жгучая искренность пыла,
вспыхнувшего ненадолго,
если к тебе нет прежней
любви, а лишь ее нежный
и незаметный след?
49
Из книги «ВЕРА МОЕГО ВРЕМЕНИ» (1961)
Так я и дожил до дней Сопротивленья,
одно в нем понимая — только стиль:
и стиль был — просто свет, незабываемое постиженье
солнца. Он не умел, не мог бы не цвести,
пускай на миг, даже когда Европу
последняя, предсмертная душила дрожь.
Мы бежали, свалив пожитки на телегу,
из Казарсы в забытую среди каналов
и виноградников деревню: был чистый свет.
Мой брат уехал поездом, молчало
мартовское утро, подпольщик,
с пистолетом в книжке: был чистый свет,
Он долго был там, в горах, белевших
почти по-райски в мрачной лазури
равнин Фриули: был чистый свет.
В чердачное окошко моя мать
потерянно глядела и глядела на эти горы,
наперед все зная: был чистый свет.
Крестьян почти и ме было вокруг,
я жил возвышенною жизнью жертвы
безжалостных указов: был чистый свет.
Наступил день смерти
и свободы, меру обиозленья мира
открыл ему, истерзанному, — свет.
50
Светом была надежда на справедливость:
на какую — я не знал: на Справедливость.
Всегда тождествен другому свету — свет.
Потом он стал другим: неясною зарей,
зарей, которая росла и растекалась
над фриульскими полями, по каналам.
Озаряла борющихся батраков.
Так превратилась ранняя заря — в свет,
выходящий за вечность стиля...
Справедливость стала в истории — сознаньем
человечно распределенного богатства,
и надежде засветился новый свет.
* * *
Вот — восстановлено то время силой
жестокой образов, залитых солнцем:
воссоздан свет жизненной трагедии*.
Стены судебного процесса, луг
расстрела: и далеким наважденьем
протянутая вкруговую римская
окраина, белеясь в обнаженном свете.
Стреляют; гибнем — мы и выживаем —
мы: выжившие, проходят парни,
окружены далекими домами,
* Лирический герой в пятидесятые годы оказывается в
кинотеатре, где демонстрируется фильм Р. Росселини «Рим —
открытый город». (Примеч.. пер.)
ы
в горьком цвете утра. А у меня,
в сегодняшнем партере, — у меня как будто
в печенках извивающаяся змея: и слезы
тысячами проступают у меня на теле
от глаз и до подушек пальцев,
от корней волос и до груди:
плач непомерный, потому что вырвался
прежде, чем мне заметить, что я плачу, едва ли ке
опережая горе. Не зная, отчего пронзили
меня такие слезы, поглядываю,
как вдаль уходят эти парни
под горьким светом неведомого Рима,
Рима, только что всплывшего из смерти,
выжившего во всем великолепьи
радости белеться в свете:
полного своею завтрашней судьбой
эпических послевоенных лет,
коротких не по их достоинству.
Я вижу, как они уходят: ясно,
что они, подростки, выбирают путь
надежды, посреди развалин,
поглощенных белизною — жизнью,
близкой к соитию в своем святом убожестве.
И как они уходят в этом свете —
меня сегодня скрючивает плачем:
почему? Да потому, что света
не было в их будущем. А было
52
усталое сползанье вспять, потемки.
Взрослые они сегодня: прожили
свои послевоенные чумные годы
поглощенной светом продажности,
и я — среди несчастных людей,
кому все мученичество не впрок,
среди рабов эпохи — в эти дни,
когда ошеломляющая боль
зашевелилась — догадки, что весь свет,
которым жили мы, — был просто сон,
необъективный, неоправданный, источник
сегодня — одиноких, постыдных слез,
Из сценария кинофильма «МАМА РОМА» (1962)
* * *
Седины развалин, сон арки
о времени дальнем романском и римском.
На мир опустилось и вспенилось
теплое, словно теплое море,
и, как море, соленое солнце.
Солнца слепящая тайна: тают
в янтарной пене ярчайшего света
руины храма: застыли в граните
окаменевшие звуки гимна,
забытого ныне, — ожили в солнце —
для тех, кто их хочет услышать.
Шагай вперед по Аппийской дороге,
по Тусколанской. Всё здесь — из жизни,
и всё для всех. К жизни ближе
тот, кто не знает Прошлого,
тот, кто не знает значенья
подмены насилья бездействием,
значенья веселого юного солнца
и его слепящего пламени.
Толпы людей беспрестанно толкутся,
копошатся тени на лестницах
типовых домов, прорастающих в небо.
Я — сила далекого прошлого.
В нем истоки моей любви.
Я —- плоть от плети развалин,
алтарей, городков, деревушек,
забытых на альпийских склонах.
Когда-то там братья жили повсюду.
Я бреду как безумный, по этой земле,
как пес бездомный, бреду по Аппии.
Смотрю в темноту и в рассветы
над Чочарией, над Римом, над миром
как единственный свидетель
и летописец грядущей жизни,
глядящий из круга мертвых годов.
Ужасен тот, кто родился из лона
умершей женщины. Взрослый зародыш,
я современнее всех, кто родился.
Я иду, чтоб найти своих братьев,
братьев, которых нет.
Из книги «ПОЭЗИЯ В ФОРМЕ РОЗЫ» (1964)
ОТСУТСТВИЕ СПРОСА НА ПОЭЗИЮ
Как хворый раб или как зверь
я брел по миру, данному мне в удел,
медлительный, словно чудовища
топей — или песков — или чащоб —
волочась на брюхе — или на ластах,
бесполезных по земле, — или на перепонках крыльев..
Вокруг — щебенчатые насыпи, то ли запруды,
а может, станции какие-то, застывшие на площадях
города мертвых — среди улиц, подземных переходов
глубокой ночи, когда слышен только
шум до ужаса далеких поездов
да уханье воды в сортирах, при последней стуже,
в той тени, у которой нет завтра.
И вот, пока я подымался, как червь,
мягкий, отвратительный в своем простосердечии,
что-то вошло мне в душу — как
будто в ясный день померкло солнце;
на муку загнанного зверя
налегла другая мука, отчаянней» темней,
и треснул мир clOb.
«Никто не просит больше у тебя поэзии!»
И: «Все, вышло время быть тебе поэтом...»
«Пятидесятые изжиты миром годы!»
«Ты желтеешь с «Прахом Грамши»,
и все, что было жизнью, у тебя болит,
как вновь открывшаяся рана, сводящая в могилу!»
56
Из романа «ТЕОРЕМА» (1968)
•к * *
Первыми попадают в любимые —
поэты и художники предыдущего поколения
или начала века; они занимают
в наших сердцах место отцов, но остаются
при этом молодыми, как на своих пожелтевших
фотографиях.
Поэты и художники, не стыдившиеся своей
буржуазности...
на детках — вигонь и шерсть...
или жалкие галстуки, отдающие бунтом и мамой.
Поэты и художники, ставшие будто бы знаменитостями
так — к середине века,
при безвестном друге, не имеющем цены,
но, от робости, что ли, не приспособленном к поэзии
(истинный поэт, погибший вне времени).
Брусчатка Вены или Виареджо! Набережные
Флоренции или Парижа!
Зазвучавшие под ногами этих детей,
обутыми в грубые башмаки.
Дуновение непокорства отдает цикламенами
по городам, распростертым у ног молодых поэтов!
Молодые поэты, треплющиеся,
поддав по маленькой пива,
независимо, как добрые буржуа, —
паровозы, брошенные, но под парами»
вынужденные некоторое время в тупиках
57
кейфовать, поскольку молодость не торопится:
уверенные, что могут переделать прогнивший мир
страстными словами и бунтарским шагом.
Матери, как наседки,
в маленьких буржуазных домах
сплетают воздушный жасмин
с важностью частного света семьи
и ее места в жизни ликующей нации.
И вот — ночью звучит только поступь мальчиков.
У меланхолии неисчислимы норы,
из которых может попыхивать духом растопленной печи
неисчислимы, как звезды,
в Милане или любом другом городе
тротуары бегут вдоль домов XVIII века,
облупившихся домов с незабвенным прошлым
(деревенские улицы стали улицами индустриального
центра),
с далеким запахом промерзшего хлева.
Вот так мальчики-поэты обретают жизненный опыт.
И слово их — то же самое слово, что и у всех других,
у мальчиков-пепоэтов (тоже хозяев жизни
и целомудрия),
с матерями, поющими
у оконцев во внутренних дворах
(зловонных колодцах с невидимыми звездами).
Где затерялись эти шаги?
Мало строгой страницы воспоминаний,
58
о, мало! — может, только поэт-непоэт
или художник-кехудожник,
умерший до или после какой-то войны, в каком-то
городе легендарных перемещений,
хранит в душе действительно эти ночи.
Ах, эта поступь — мальчиков
из лучших семей города (тех,
что покорны судьбам нации,
как покорно стадо животных запаху —
алоэ, корица, свекла, цикламен —
в своих миграциях), эта поступь поэтов
и их друзей-художников, топочущих по брусчатке,
разговаривая, разговаривая...
Но, если такова схема, не в этом — истина.
Воспроизводи собою, сын, этих сыновей.
Тоскуй себе по ним в свои шестнадцать лет.
Но постарайся сразу понять,
что до тебя революций никто не делал;
что поэты и художники, старые или покойные,
несмотря на геройский нимб, которым ты их венчаешь,
ке принесут тебе пользы, ничему тебя не научат.
Наслаждайся своими первыми наивными и упрямыми
опытами,
застенчивый динамитчик, хозяин вольных ночей,
но помни, что ты тут — только затем, чтобы быть
ненавидимым,
чтобы опрокидывать и убивать,
59
Из книги очерков «ХАОС» (1979)
КАШЕЛЬ
До меня из подвала доносится кашель рабочего.
Через решетку окна звук разносится по двору.
Кажется, будто, умножившись эхом от стен и деревьев,
тронутых солнцем непрочного бабьего лета,
кашель наполнил воздух вокруг. Рабочий занят
работой. Он кашляет время от времени,
не замечая, что его слышат. Осенью часто болеют,
но этот кашель не от обычной простуды.
Я не думаю, чтобы он принял эту болезнь всерьез.
Ведь жизнь для него не стала еще труднее.
Он после работы не отдыхает,
как мы, как мальчишки, как бедные или почти что
бедные.
Послушай, нам казалось всегда, что жизнь —
постоянная бедность.
И нет никакого права пользоваться спокойно
тишиной туалета и пустотой постели.
Беда, приходя, становится причиной геройских
поступков.
Рабочему всегда восемнадцать лет, даже если
аьшовья его старше его и им самим предстоит
героический путь.
Так вот, при ударах этого кашля
мне открывается горестный смысл красоты осеннего
солнца.
СОДЕРЖАНИЕ
В. Д. Уваров. Поэт во всем .««.♦.,. 3
Из книги «НЕСРАВНЕННАЯ ЮНОСТЬ» (1954)
Мертвый ребенок 12
Дилий 12
Песнь колокола 12
Перевел А. Евдокимов
Песни мертвого 13
Чиж 17
«Что и было в мире у меня...» , . .' 17
«Ты, хозяин, мог не знать...» 18
Перевел Н. Котрелев
Из книги «ПРАХ ГРАМШИ» (1957)
Пикассо 19
Фриульские картинки 29
Прах Грамши 39
Плач экскаватора 42
Перевел А. Евдокимов
Из книги «ЦЕРКОВНЫЙ СОЛОВЕЙ» (1958)
Ноктюрн 49
«Сможет ли груз моих лет ..» 49
Перевел А. Евдокимов
Из книги «ВЕРА МОЕГО ВРЕМЕНИ» (1961)
«Так я дожил до дней Сопротивленья...» . , s . 50
«Вот — восстановлено то время силой...» . . , . 51
Перевел Н. Котрелев
Из сценария кинофильма «МАМА РОМА» (1962)
«Седины развалин, сон арки...» ,54
Перевел А. Евдокимов
Из книги «ПОЭЗИЯ В ФОРМЕ РОЗЫ» (1964)
Отсутствие спроса на поэзию . . . . 4 « * . 56
Перевел А. Евдокимов
Из романа «ТЕОРЕМА» (1968)
«Первыми попадают в любимые...» . . & . . . 57
Перевел А. Евдокимов
Из книги очерков «ХАОС» (1979)
Кашель *,*,*.., 60
Перевел А. Евдокимов
Пазолини П. П.
П 12 Избранное. Пер. с итал. / Сост.
Н. В. Котрелев. — М.: Мол. гвардия,
1984. — 62 с. — ^Современная
зарубежная лирика).
20 к. 50 000 экз.
В «Избранное» известного итальянского
кинорежиссера, прозаика, журналиста, художника и
поэта Пьера Паоло Пазолини (1922—1975) вошли
лучшие образцы его политической и интимной
лирики. Издание рассчитано на массового читателя
4703000000-255 ББК 84.4Ит
П 078(02)-84 2<и-84 И(Итал)
ИБ № 3442
Льер Паоло Пазолини
ИЗБРАННОЕ
Рецензент Е. Ю. Сапрыкина
Редактор В. П. Бурич
Художник серии Б. Алимов
Художественный редактор А. Степанова
Технический редактор Т. Шельдова
Корректоры Т. Пескова, И. Тарасова
Сдано в набор 10.04.84. Подписано в печать
29.08.84. Формат 60Х90'/з2. Бумага типографская
М? 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Условн. печ. л. 2. Условн. кр.-отт. 2,19. Учетно-
изд. л. 1,9. Тираж 50 000 экз. Цена 20 коп.
Заказ 2299.
Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30,
Сущевская, 21.