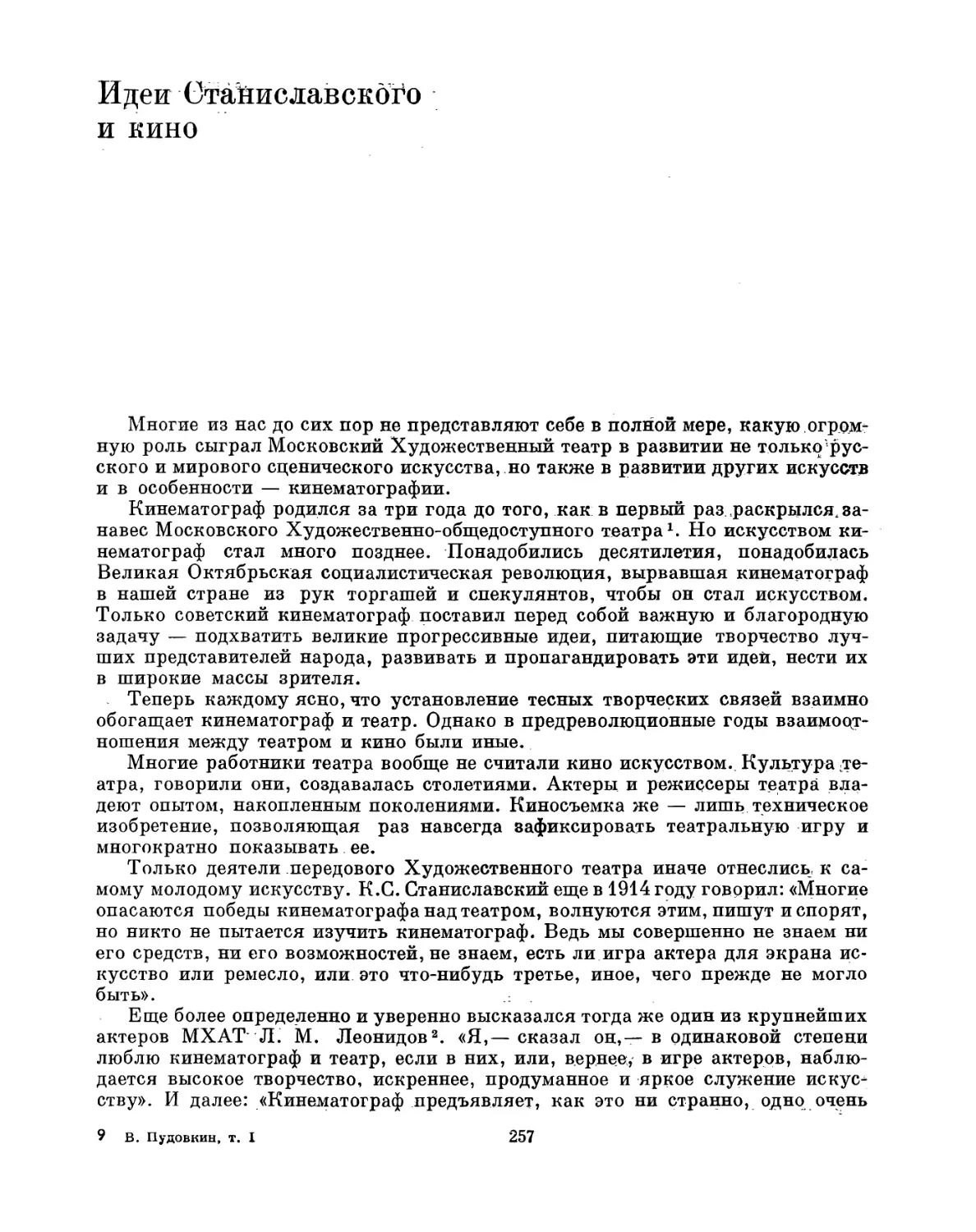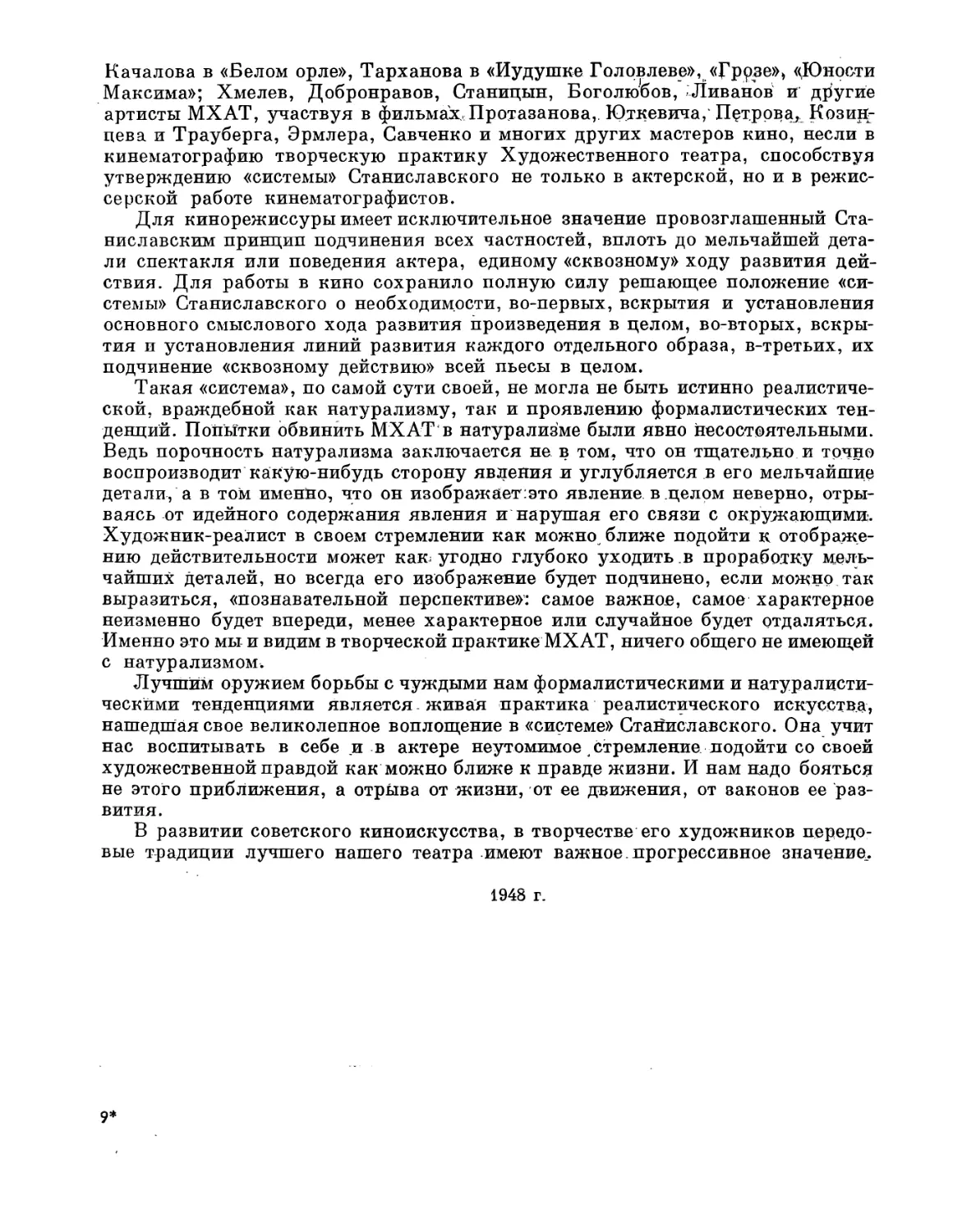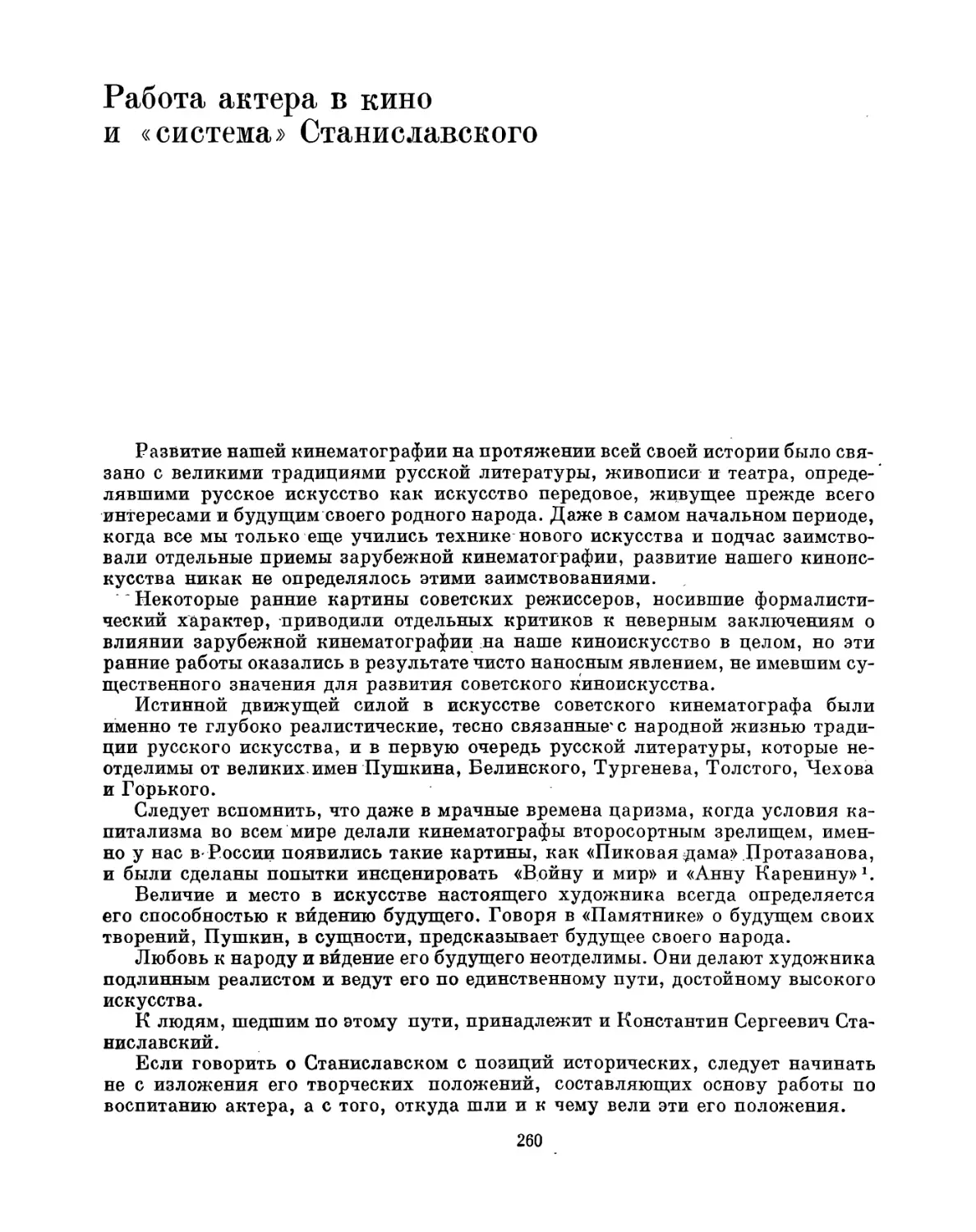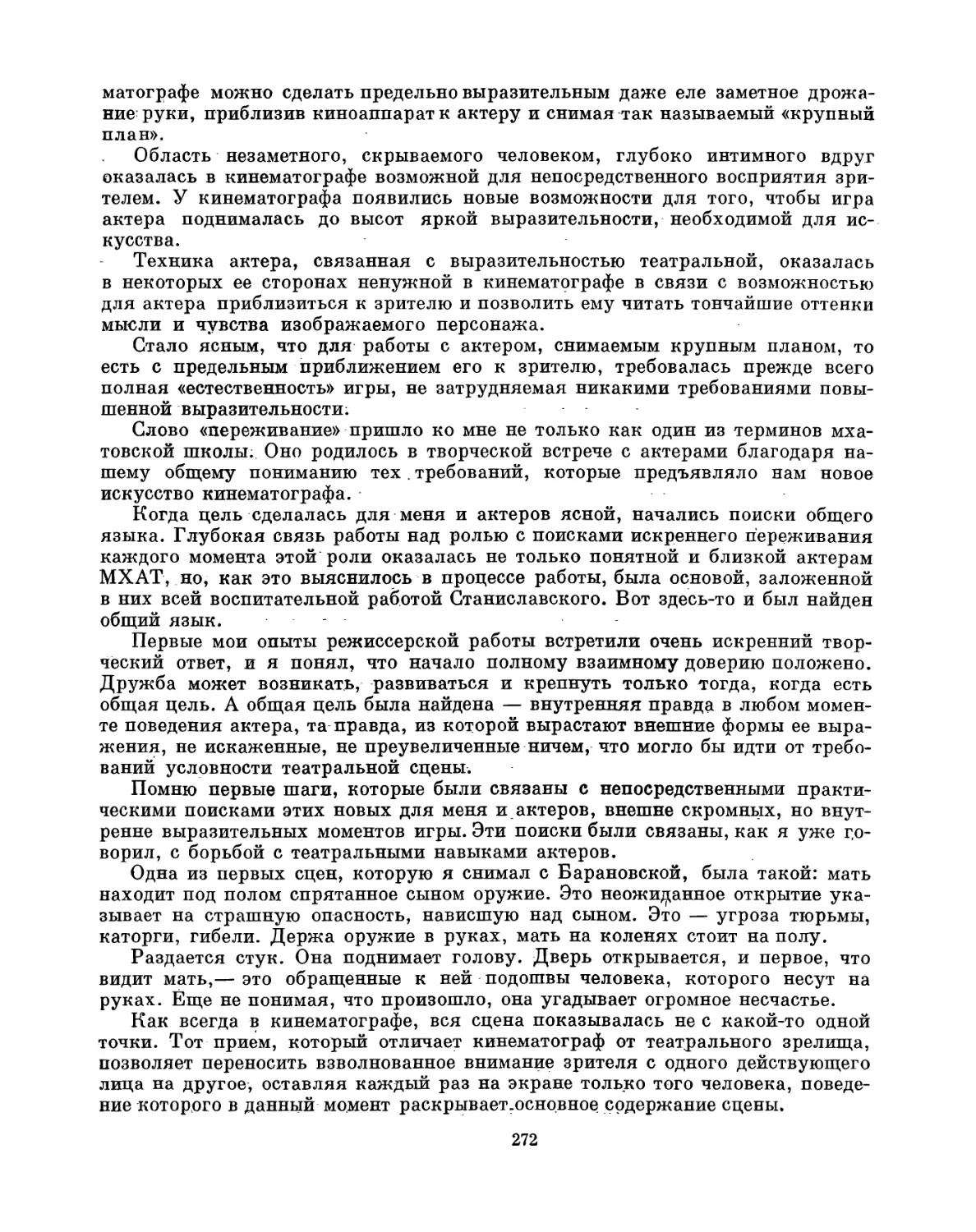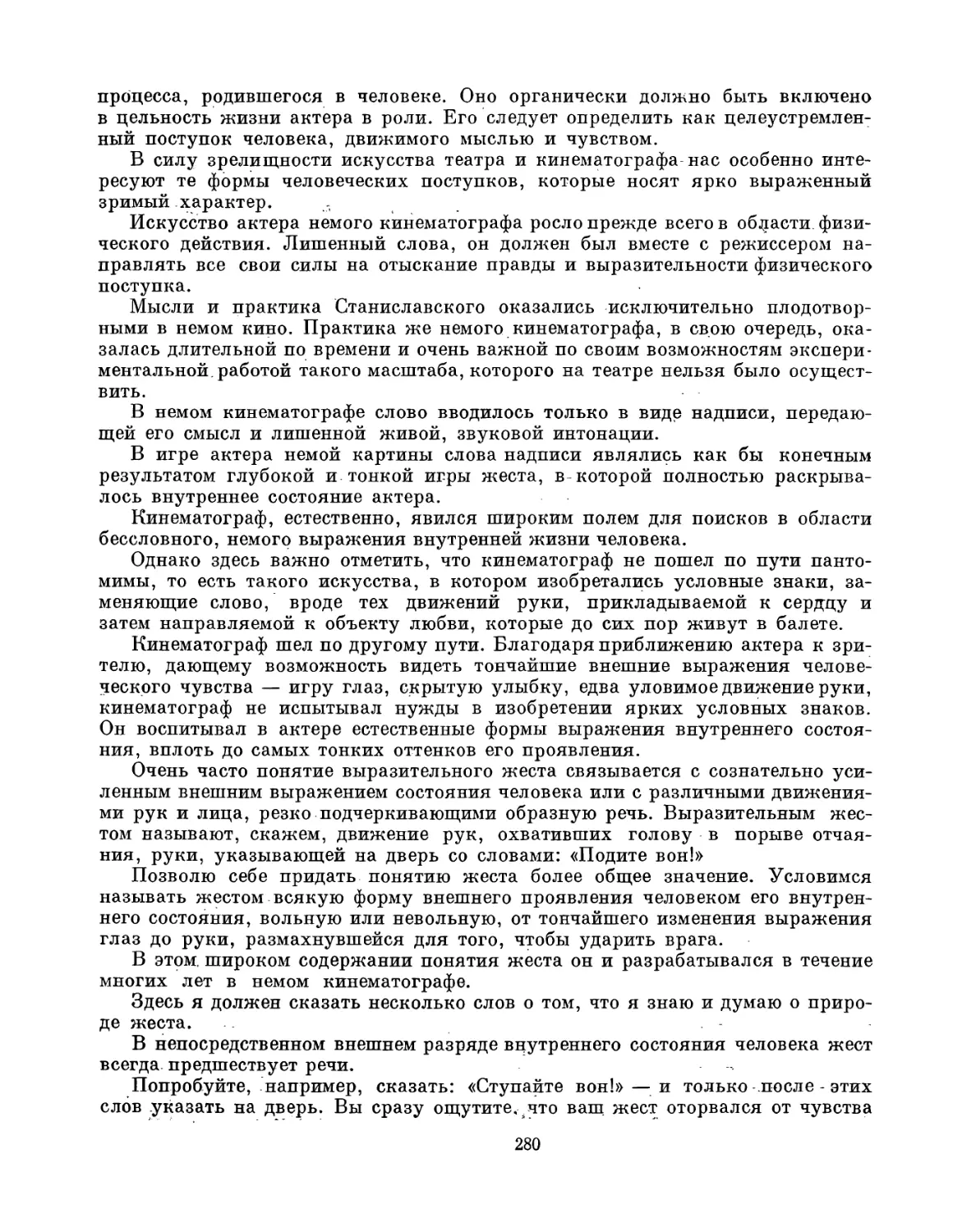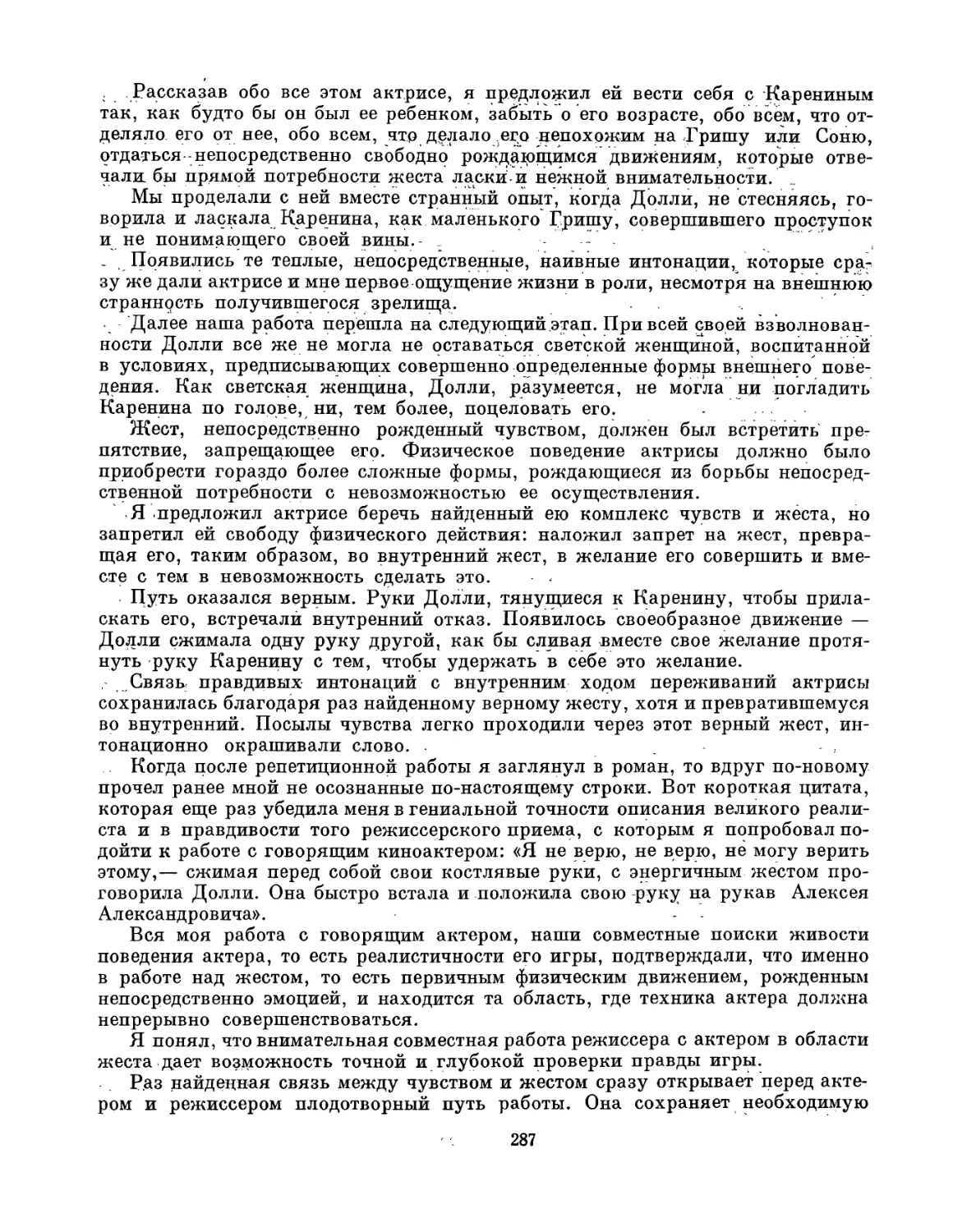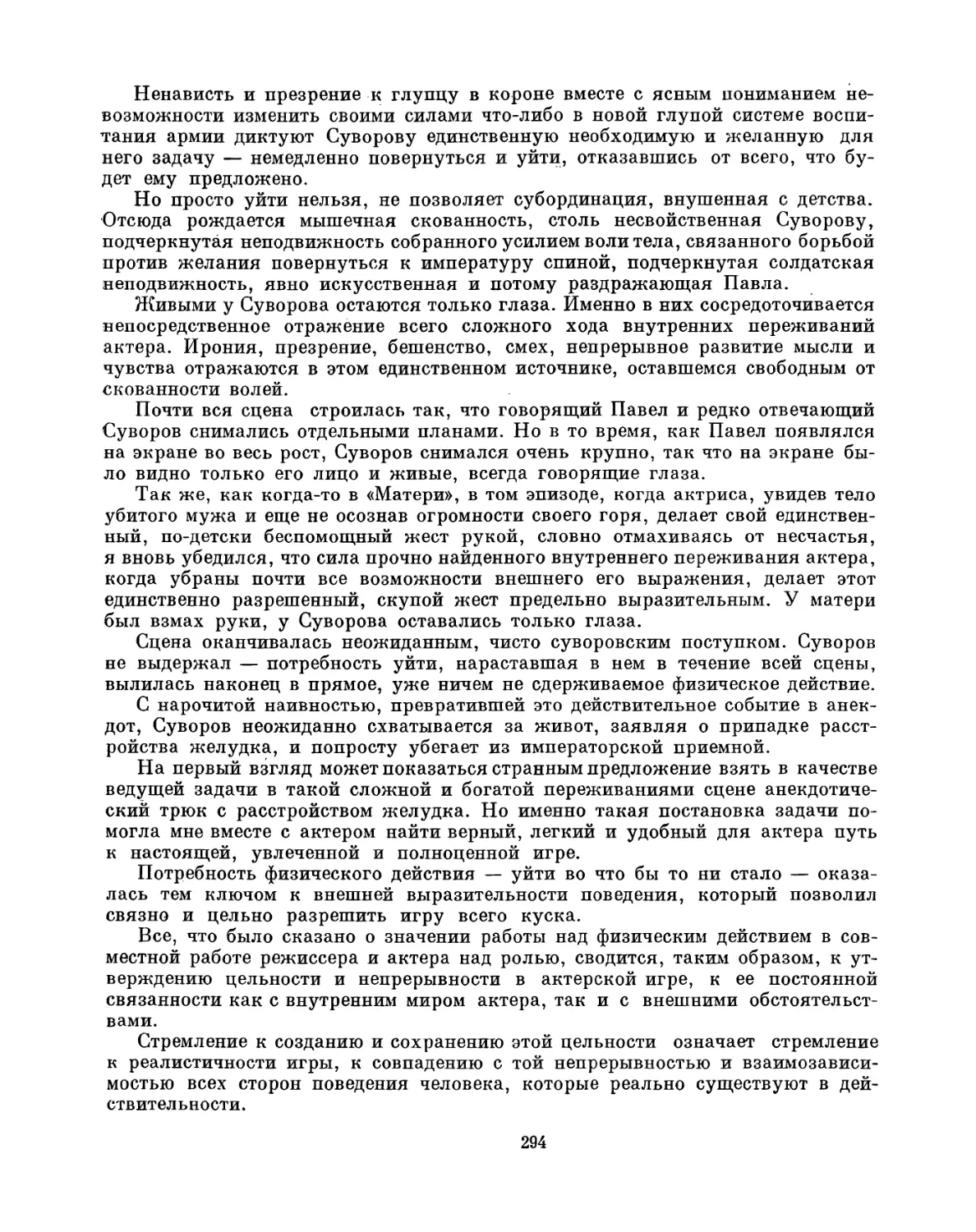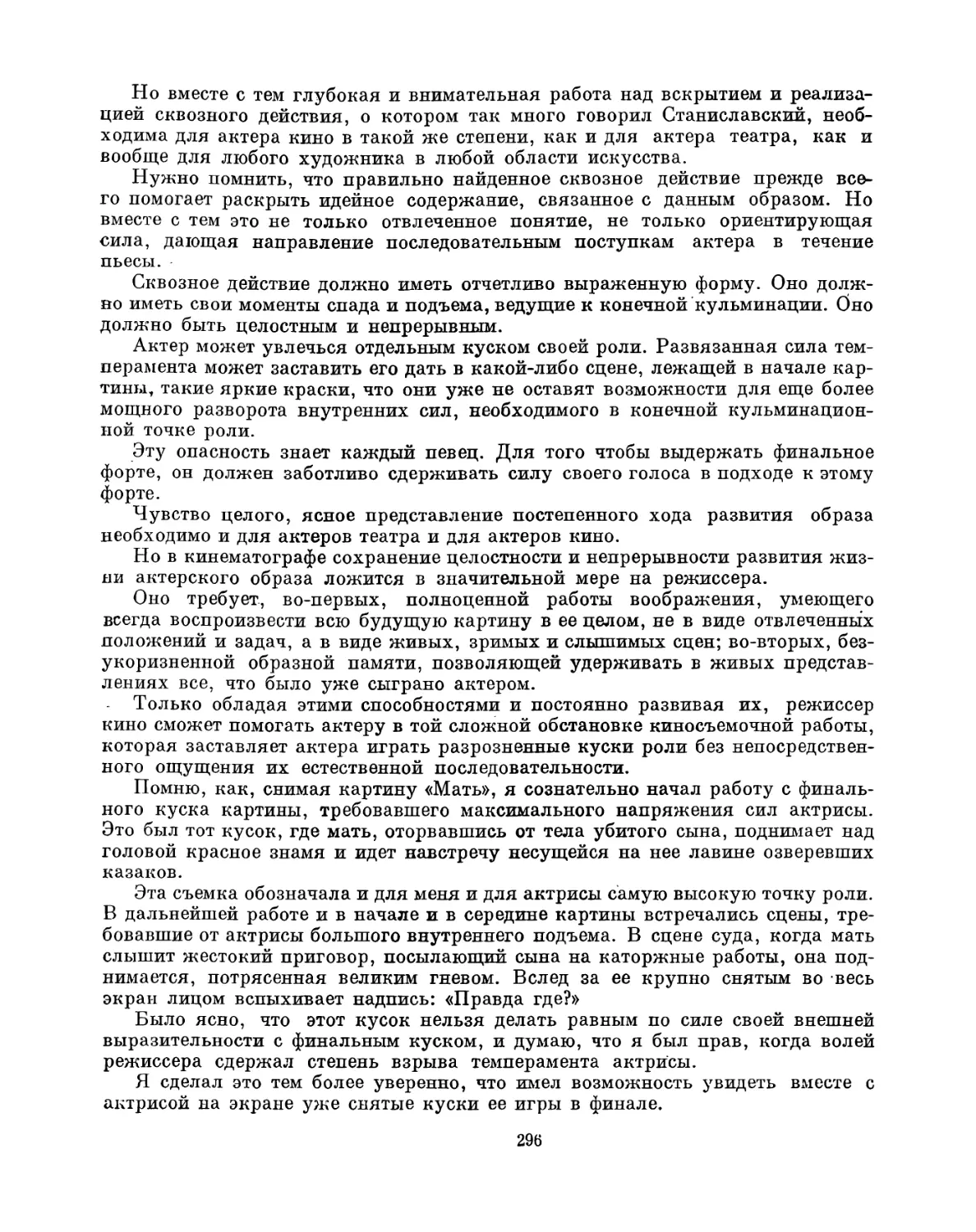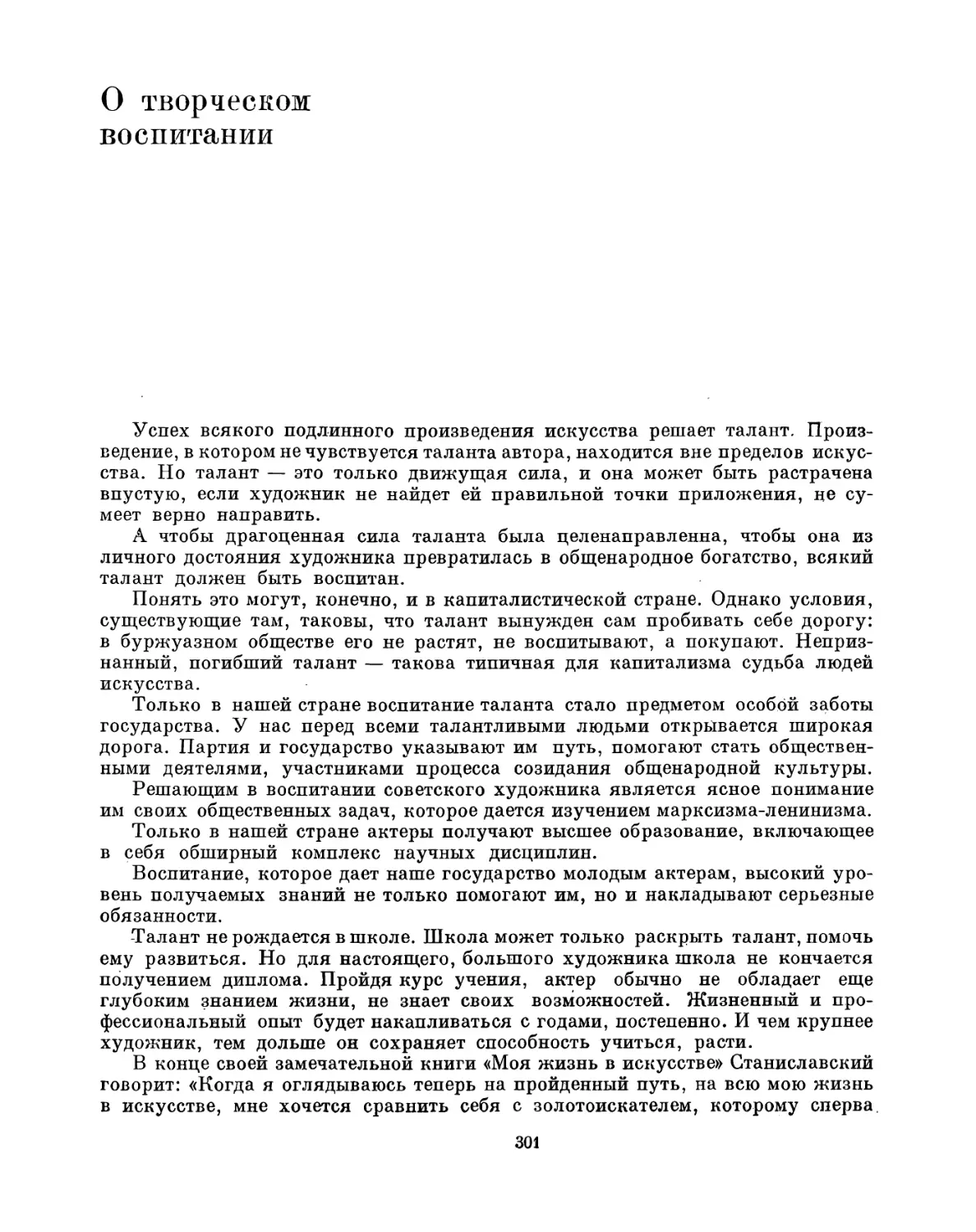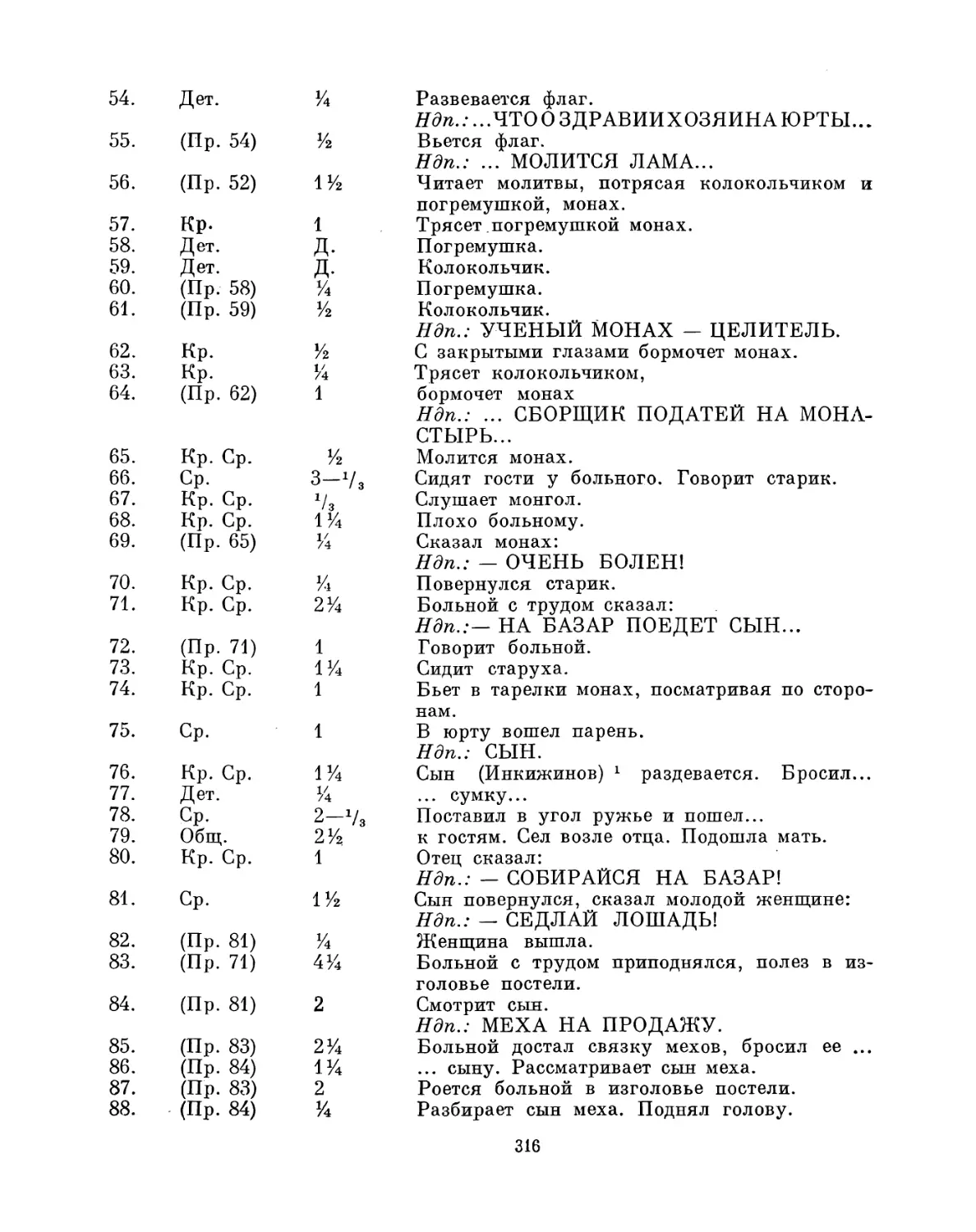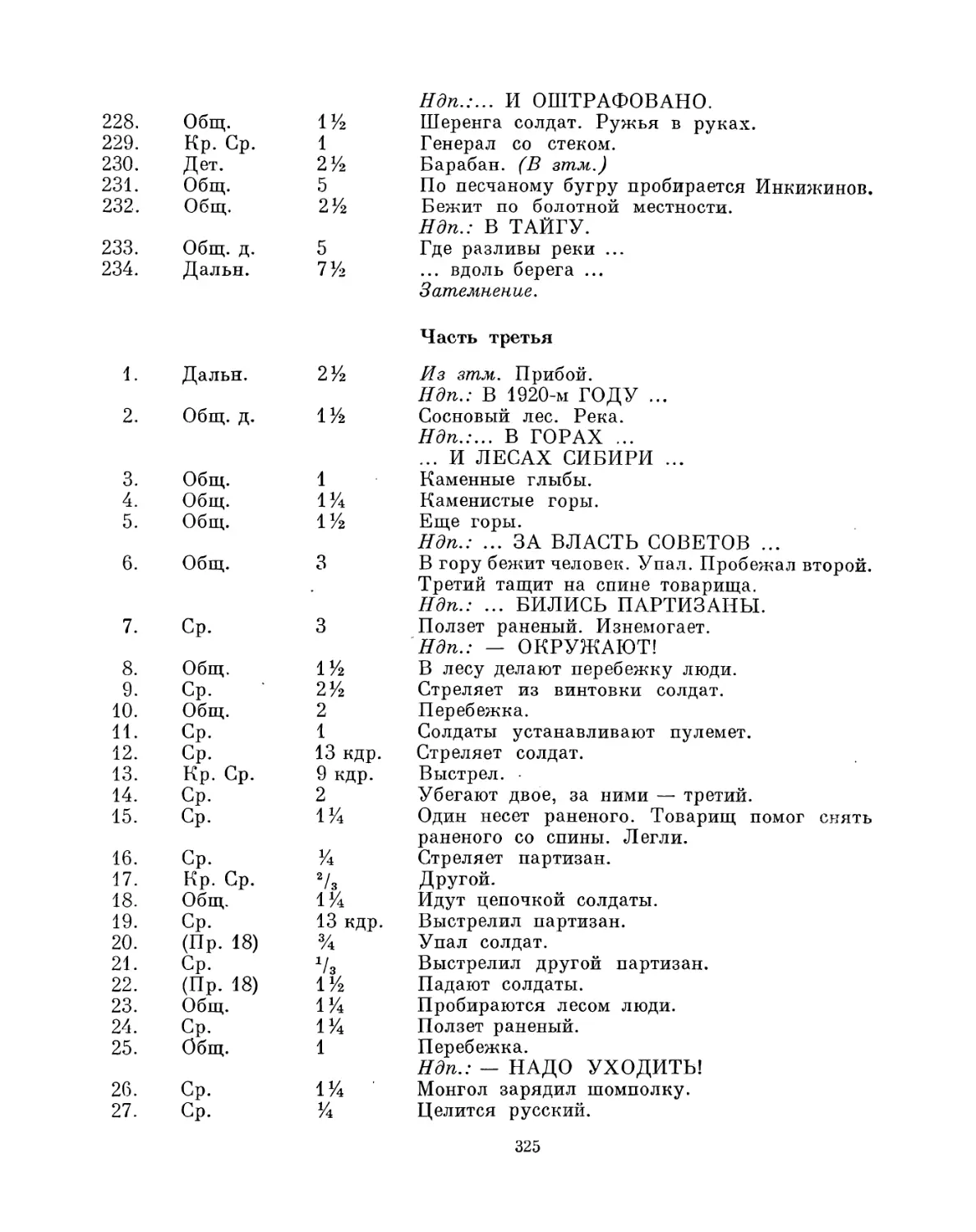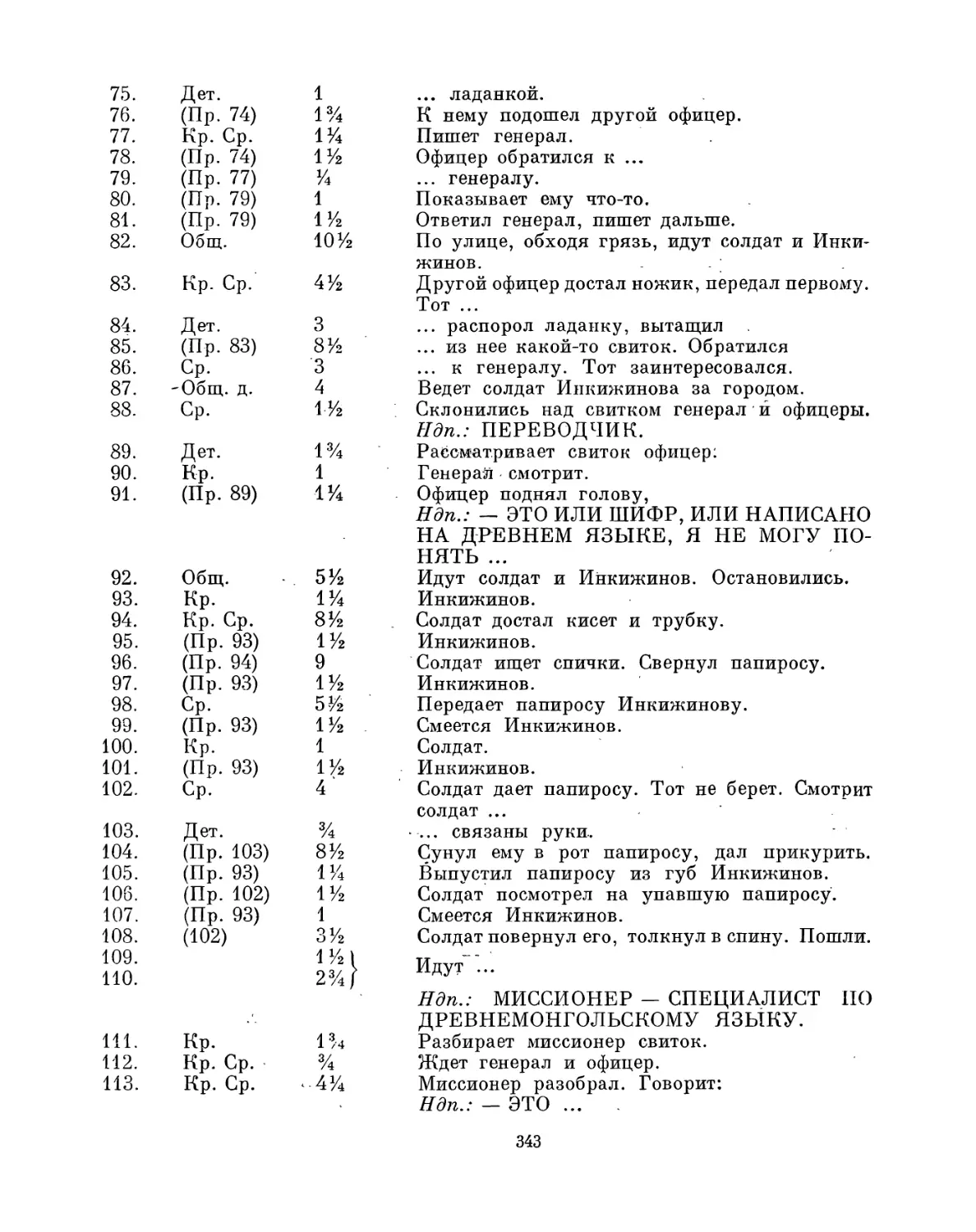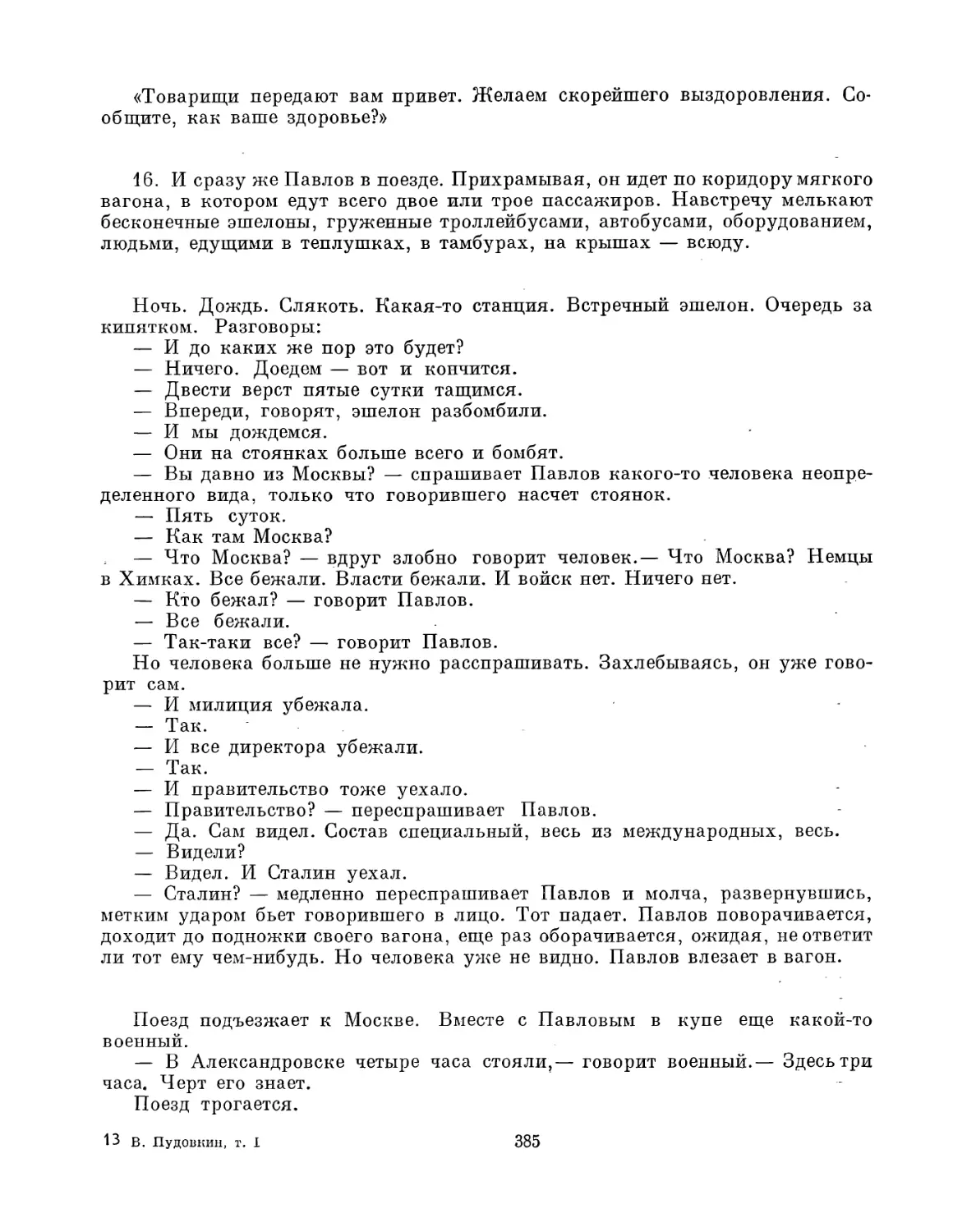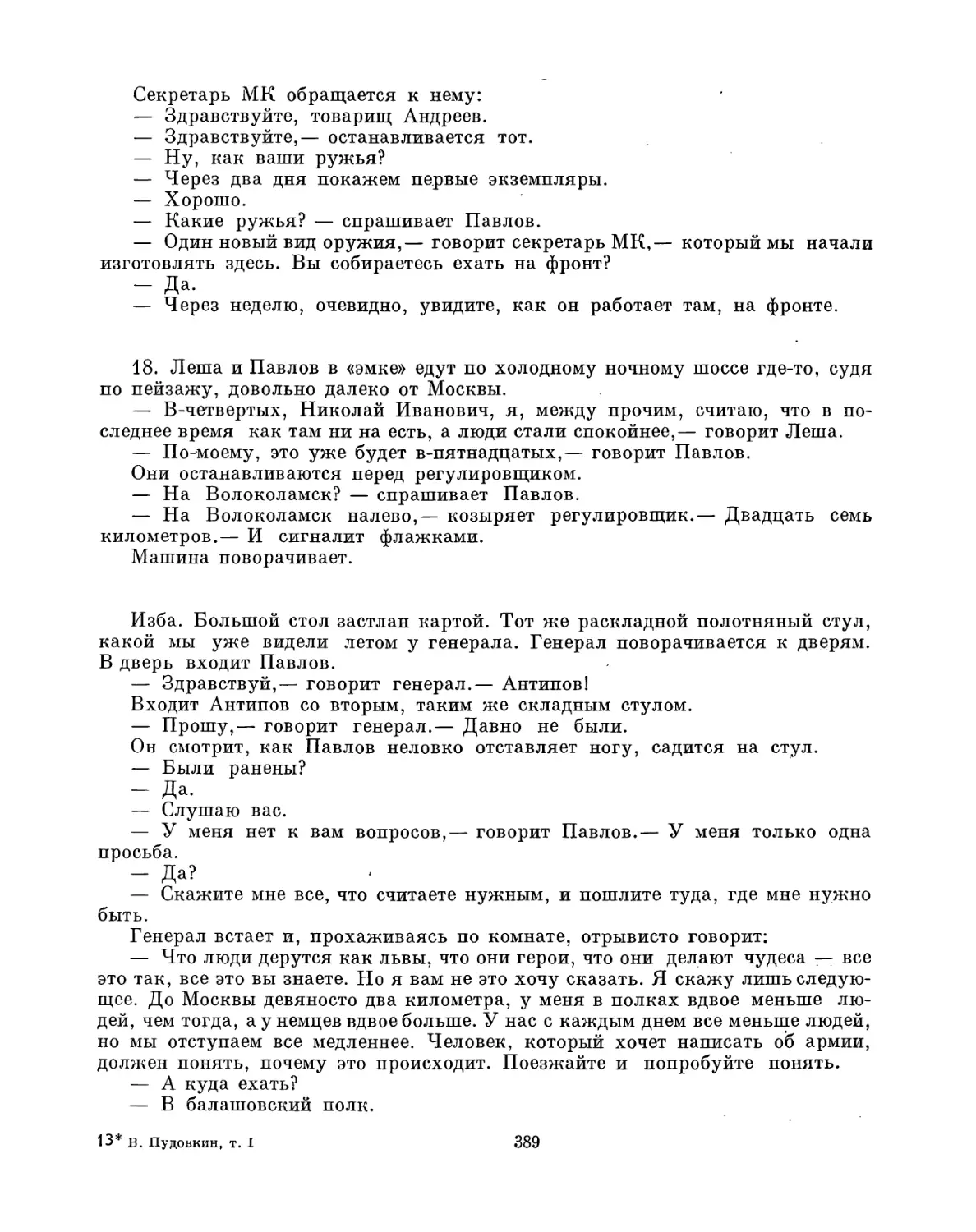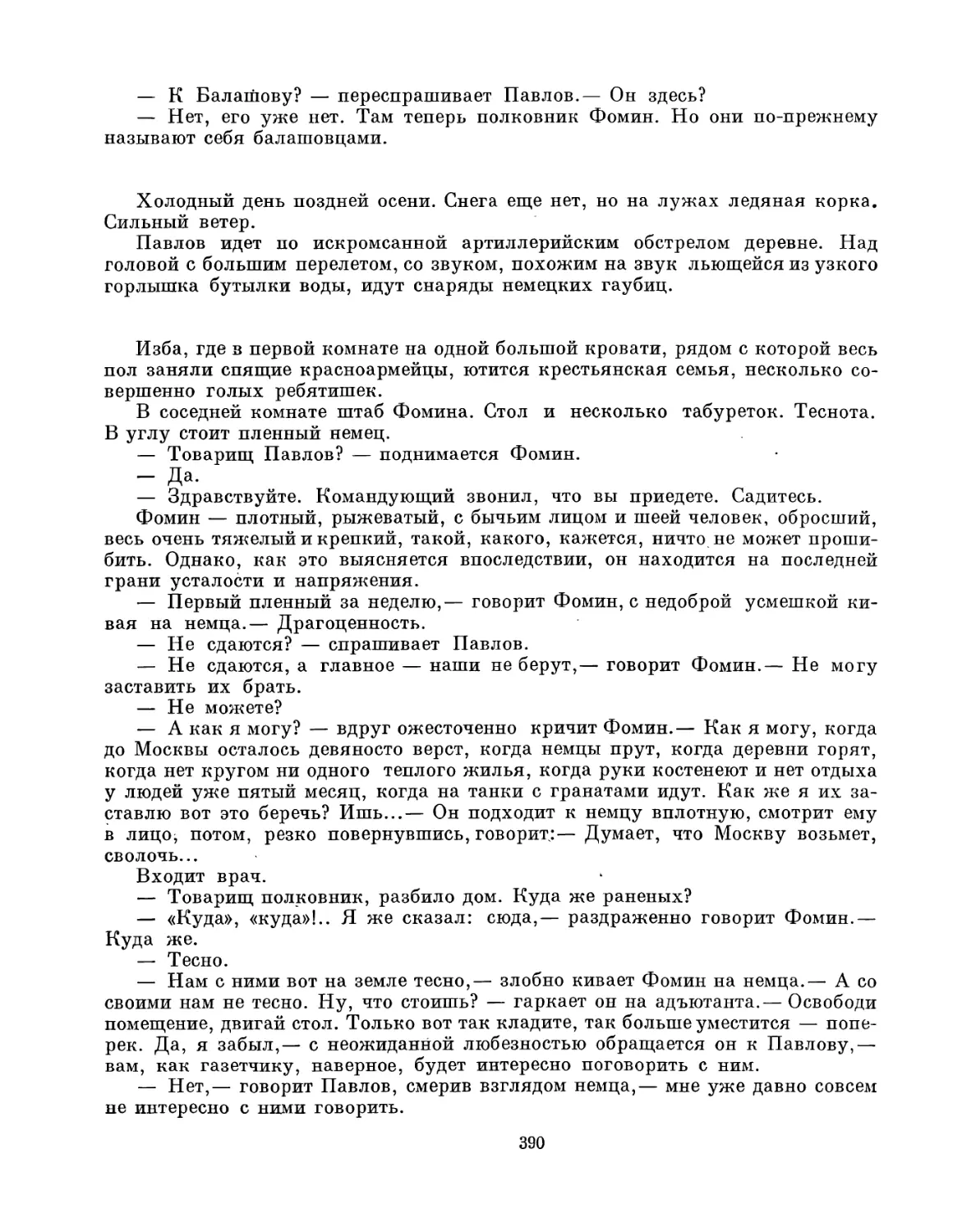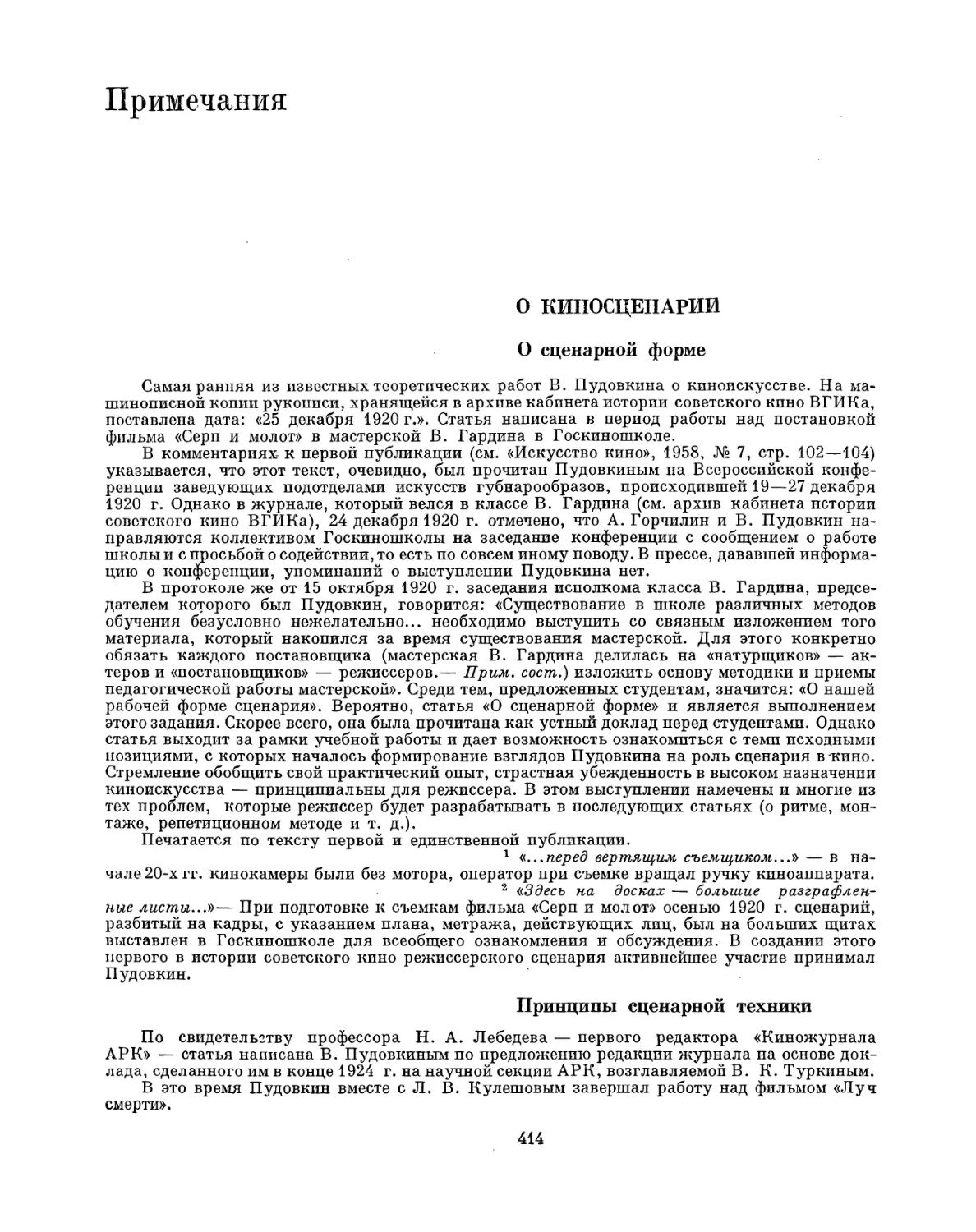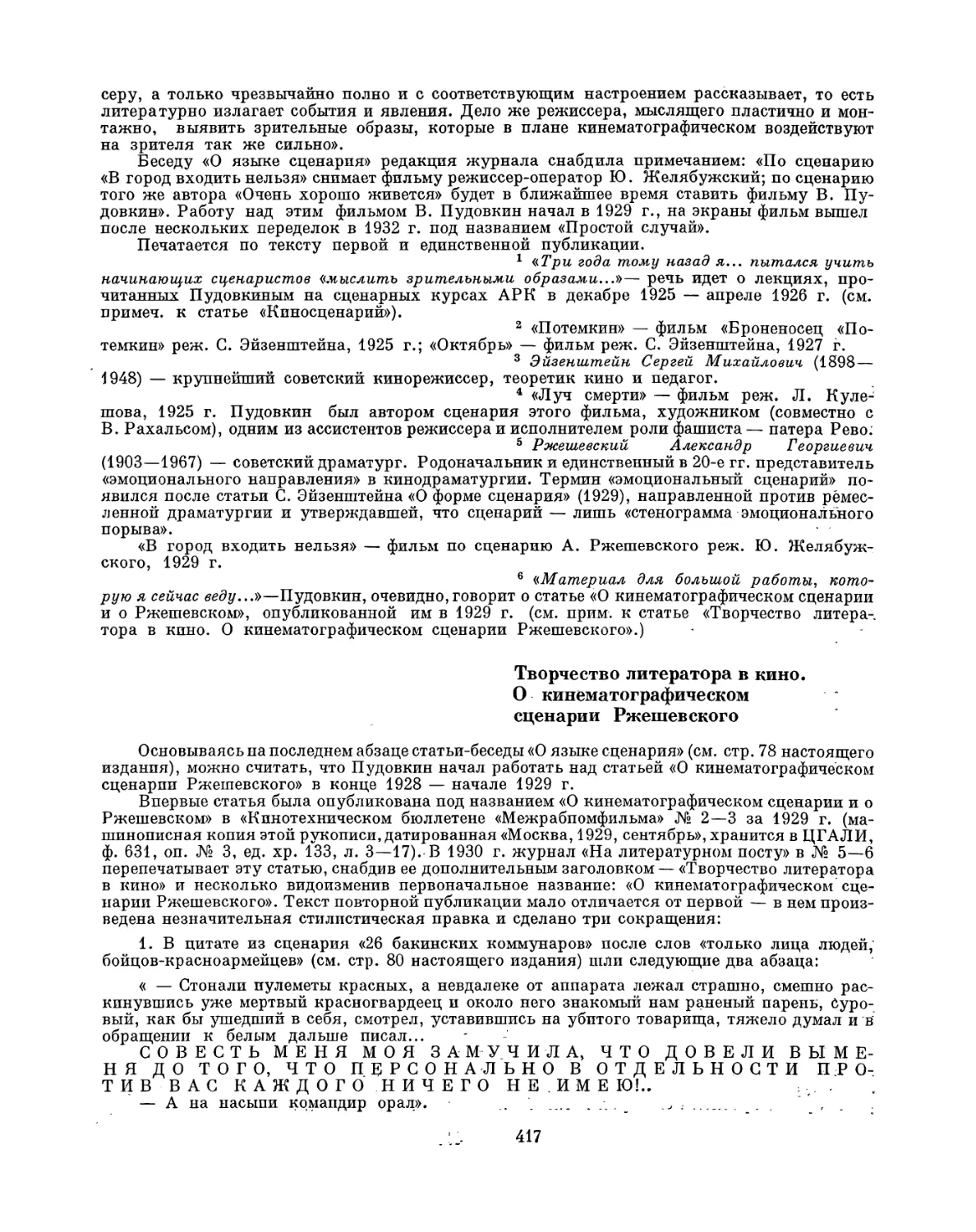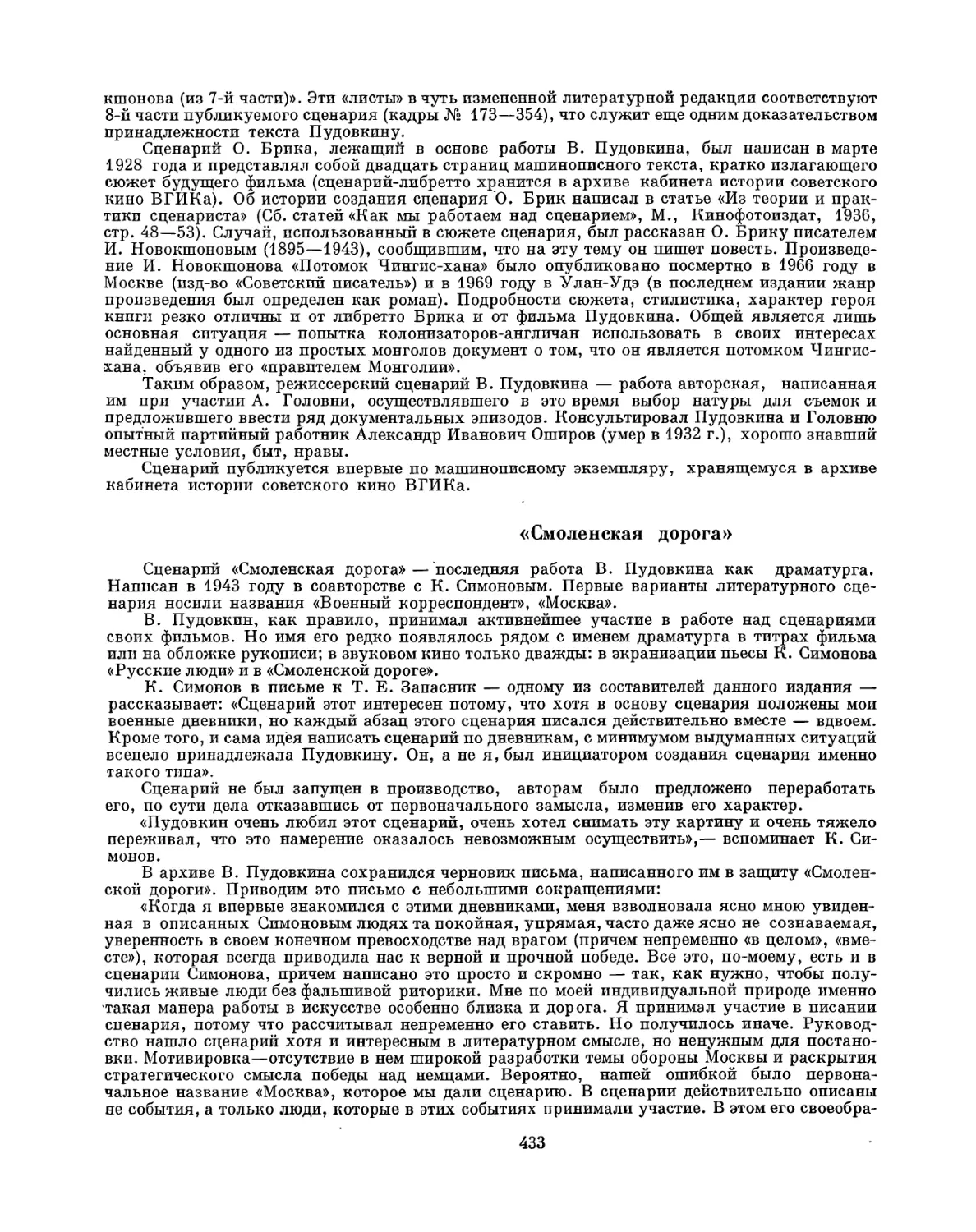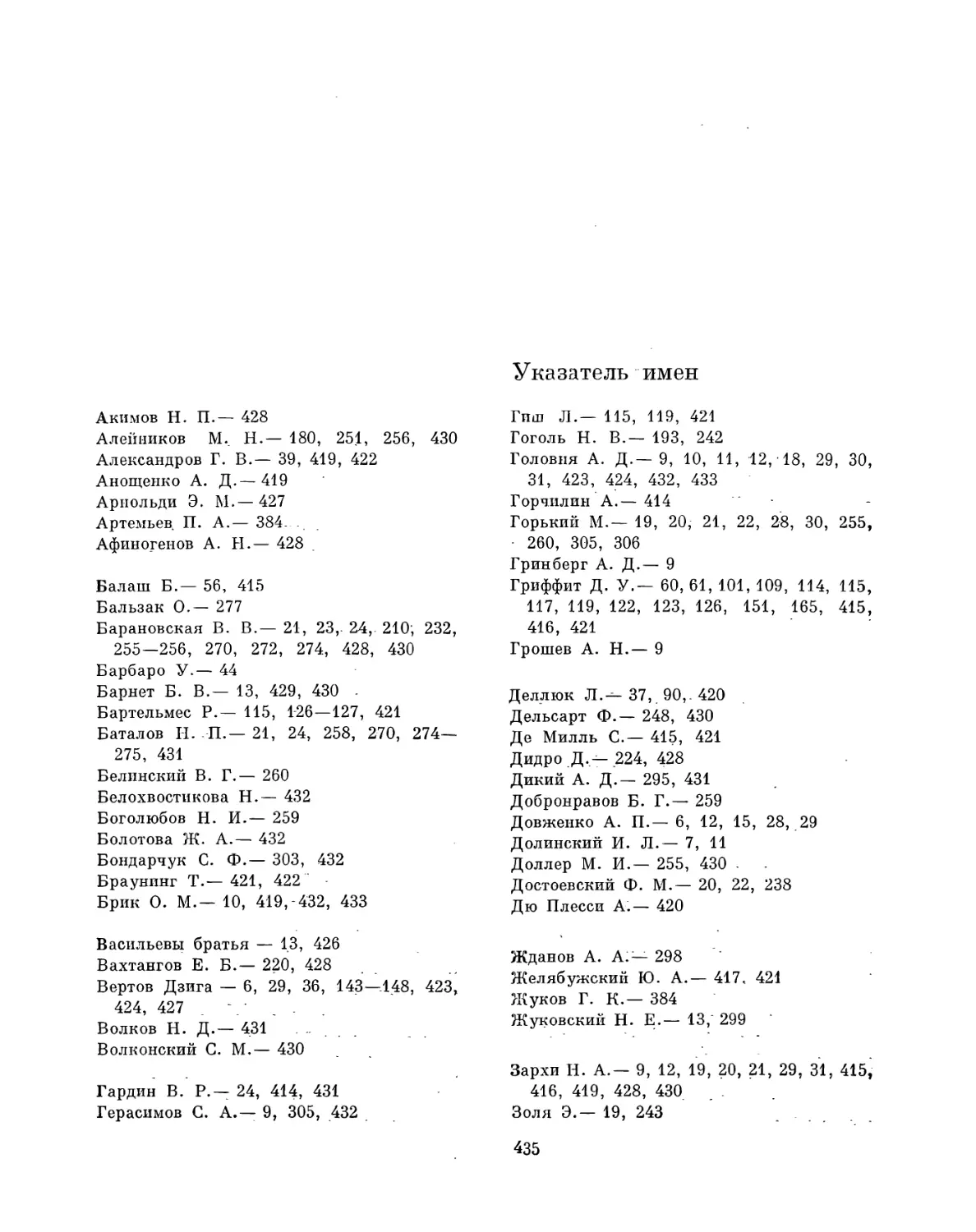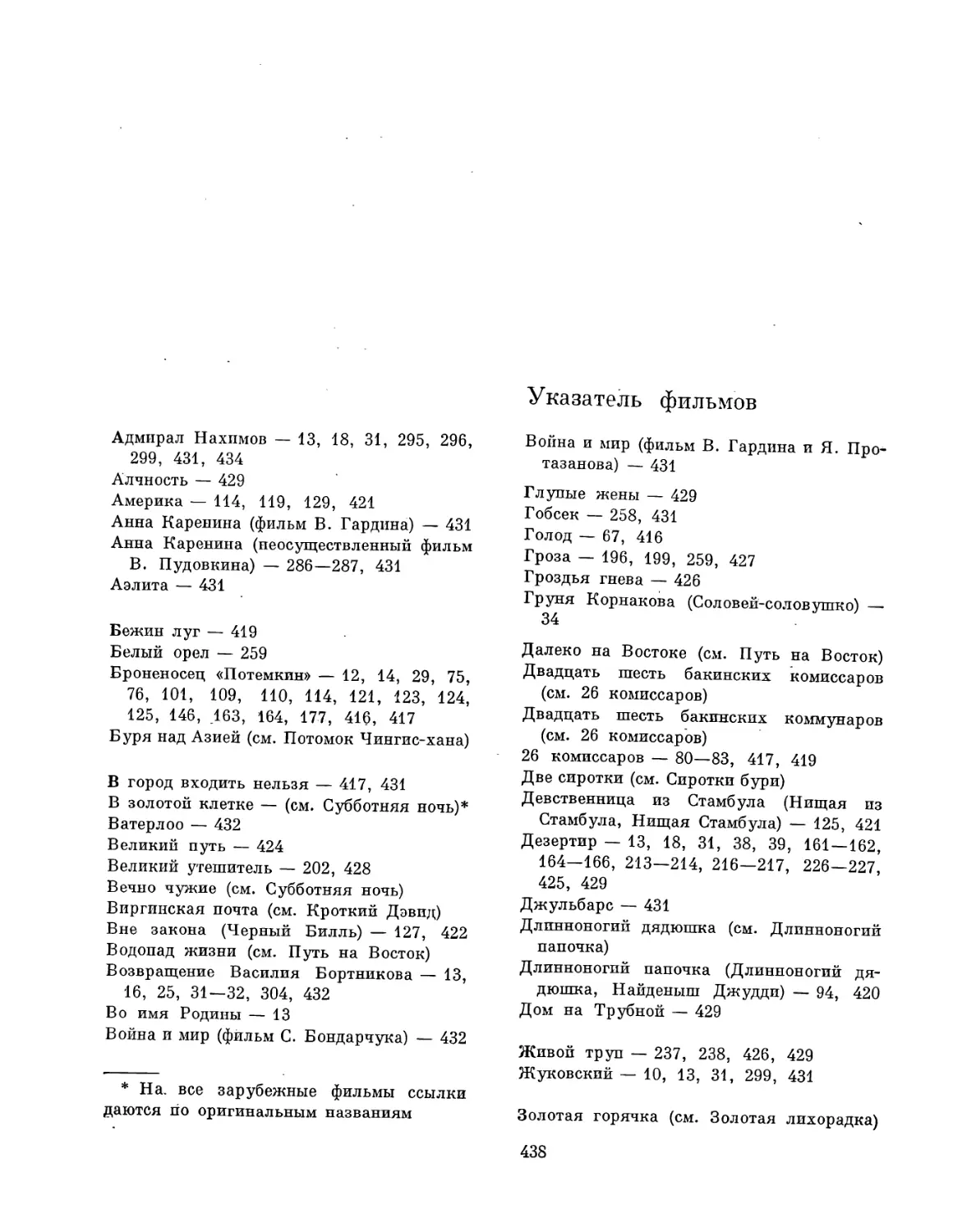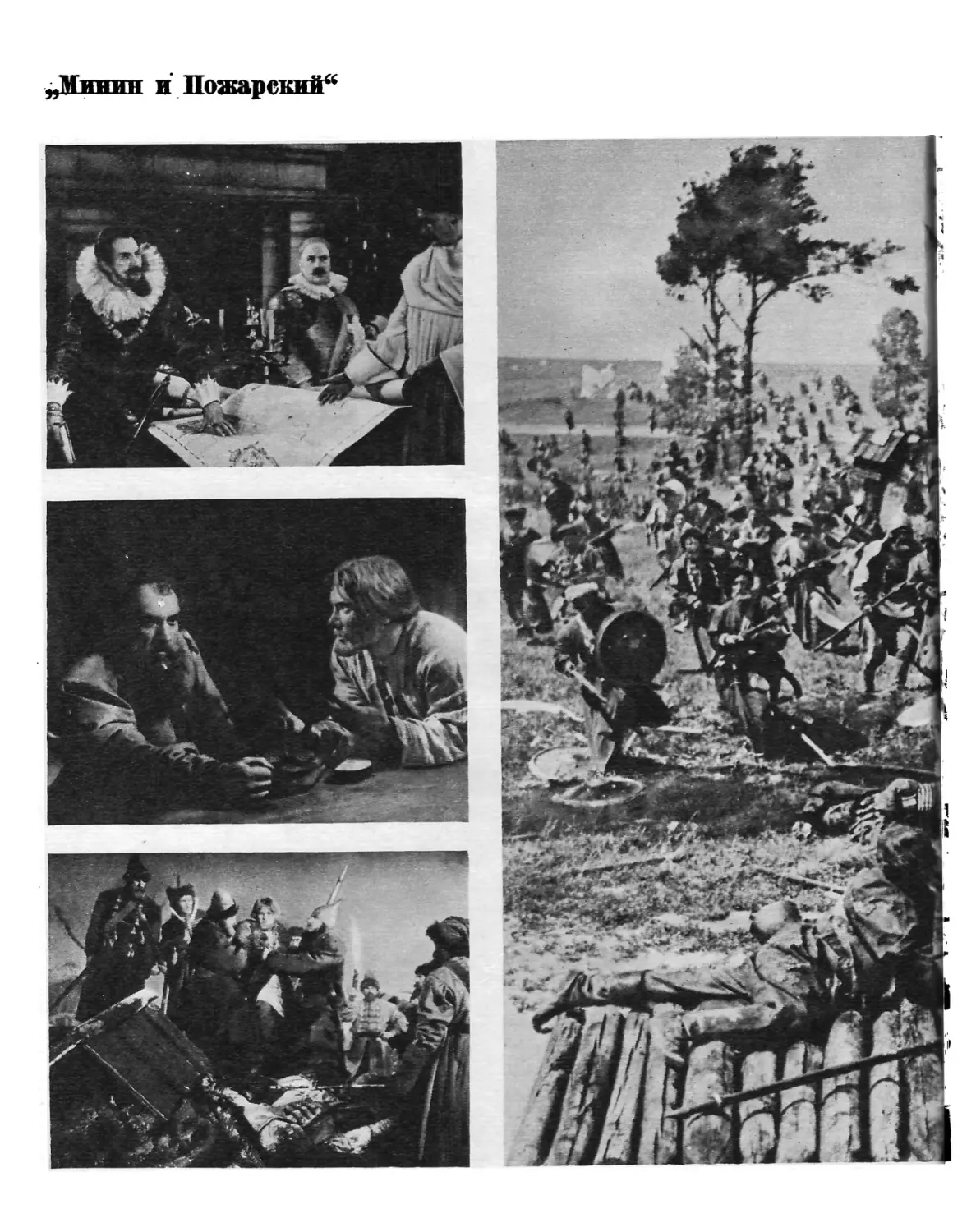Текст
В.ПУДОВКИН
Собрание сочинений в трех томах
В. ПУДОВКИН
О киносценарии Том
Кинорежиссура
Мастерство киноактера
Москва
«Искусство»
1974
778С
П88
ВСЕСОЮЗНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ
Редколлегия тома:
| А. Грошев I, А. Головня, В. Ждан
Составители тома и авторы примечаний
Т. Запасник и А. Петрович
„ 80106-149
П025(01)-74ПОДДИСНОе
© Издательство «Искусство», 1974 г.
От составителей
Самое молодое из всех искусств —
кино — подлинное детище двадцатого
столетия.
Насыщенный техническими
изобретениями, сотрясаемый социальными
переворотами XX век, открывший миру новую форму
человеческого общества, новую эру в
отношениях с галактикой, новую ступень
в концентрации научной мысли, новую
высшую степень человеческой коммуникации,
бурный и стремительный по темпу жизни
век XX, во многом определил историю
развития киноискусства,-отразился на
характере его становления и самосознания.
Кинематограф, который за время одной
человеческой жизни прошел путь от
ярмарочного аттракциона до высот самого важного
и самого массового искусства, не имел
возможности в своем безостановочном беге
оглянуться, чтобы внимательно
всмотреться в прошедшее, обобщить опыт и
закрепить повторением найденное. Наступали
на пятки технические открытия,
требовавшие немедленного творческого освоения,—
ведь менее чем за семьдесят пять лет
кино стало звуковым, цветным,
стереоскопическим, широкоформатным, панорамным,
вариоэкранным и т. д. и т. д. Происходило
отыскание и осмысление собственных
выразительных средств, и молодая десятая
муза обращала свой взор то к литературе,
то к театру, то к живописи, изобретая
свой, кинематографический язык.
Социальная активность, свойственная кино,
как не одному другому искусству,
заставляла его немедленно реагировать на
крупнейшие события времени. Остановка была
подобна смерти.
На ходу, вместе с развитием
кинематографа складывалась и наука о кино —
киноведение — история и теория молодого
искусства. Обычная формула: теория
обобщает практику, практика подтверждает
теорию — была сконцентрирована во
времени, как ни в одном другом искусстве.
Тишину кабинета ученого заменила
шумная съемочная площадка. Если нынешние
историки театра, как правило, не ставят
спектаклей и не играют на сцене, а авторы
литературоведческих исследований
большей частью не являются авторами романов
и поэм, то в кинематографе первой
половины нашего века историки и теоретики
чистой воды были редчайшим
исключением. Теория и практика сосредоточивались,
как правило, в одних руках. И
собственно экранные опусы также включались в
систему доказательств, как и научные
выкладки. Целые теории укладывались
подчас в короткие строки художественных
манифестов. Категоричность выводов
иногда опровергалась тут же собственной
практикой. А серьезнейшими научными
доводами мастера кино обменивались часто, как
репликами на диспутах. Теория
создавалась на основе сиюминутной практики и
5
для нее же. В этом была сила и слабость
первых теоретических разработок по кино.
Но так распорядилось время.
И еще одно обстоятельство, которое
нельзя не учитывать: искусство кино, как
и его теория, создавались молодыми
людьми. Умудренные опытом мастера смежных
искусств испугались «балаганного
зрелища», а свои «маститые» еще не выросли.
Биение сердца, темп жизни, ритм
движений двадцати-тридцатилетних окрашивали
цветом молодости и без того молодое
искусство.
Советское кино, родившееся вместе с
социалистической революцией, принесло
новые идеи, открыло невиданные доселе
возможности для поисков, экспериментов,
дерзаний. Молодые кинорежиссеры Л.
Кулешов, С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д.
Вертов, Г. Козинцев и Л. Трауберг, несколько
позже А. Довженко, Ф. Эрмлер, С.
Юткевич и М. Ромм с первых же
самостоятельных шагов относились к своему творчеству,
как к коллективному процессу
строительства нового искусства. Озабоченные
прежде всего будущим видом целого здания,
они так же ревностно относились к
экранным и теоретическим работам, творческим
взглядам друг друга, как п к своим
собственным. Сознание первооткрывателей
способствовало их серьезному отношению
как к практическим экспериментам, так
и к теоретическим поискам в искусстве,
которое они беззаветно любили и видели
за ним большое будущее. Каждый из них
прошел свой путь. Поставленные ими
фильмы принесли славу советскому кино,
которая была поддержана и развита
следующими поколениями киномастеров. Но
удельный вес их вклада в киноискусство не
измеряется только картинами. Они
заложили фундамент теории кино. Может быть,
не столь обширный, как глубокий. Будучи
материалистами по убеждению,
основоположники советского кино твердо стояли
на позициях реалистического искусства,
которое предоставляло возможность
проявлению их индивидуальных склонностей,
интересов, талантов. Их теоретические
труды ныне издаются и переиздаются во всем
мире. Удивляясь богатству творческого
предвидения, кинематографисты
отыскивают в этих работах зерна многих будущих
теоретических определений и установлений,
разработанных и развитых в более
позднее время. Поистине приходится
удивляться той универсальности интересов,
обширности знаний, эмоциональной
активности и пламенной убежденности, которыми
обладали мастера — теоретики и
практики— старшего поколения советского кино,
прошедшие вместе со своей страной
большой и нелегкий путь полувековой истории.
Всеволод Илларионович Пудовкин вошел
в плеяду пионеров советского кино как
режиссер в середине 20-х годов. Фильм
«Мать», поставленный в 1926 году, принес
ему уже мировую известность. Две книги
Пудовкина — «Киносценарий» и
«Кинорежиссер и киноматериал» — выходят в том
же 1926 году. Нужно отметить, что к этому
времени в печати появлялись лишь
отдельные небольшие статьи В. Туркина, С.
Эйзенштейна, Л. Кулешова, будущих
представителей советской теоретической мысли,
а А. Довженко еще только начинал свой
путь в кино.
Книги Всеволода Пудовкина сразу же
привлекли внимание, так как содержали
сложившуюся систему принципов
реалистического киноискусства. Они давали по
тому времени наиболее полное и
отчетливо сформулированное изложение основных
этапов и закономерностей работы
сценариста и кинорежиссера. Книга «Актер
в фильме» и статьи о применении «системы»
Станиславского в кино, написанные в 30-е
годы, дополнили первые работы режиссера,
придав системе его взглядов законченность
и полноту.
Эти классические работы были много раз
изданы в различных странах и переведены
на многие языки. Они и сейчас не только
имеют практическую ценность для
начинающих кинематографистов, но не утратили
своего теоретического значения в
определении природы и сущности творчества
основных кинематографических профессий.
б
Сборник «Избранные статьи» Пудовкина
1955 года, составленный тщательно, с
глубоким знанием его теоретического наследия
профессором И. Л. Долинским, включал
все крупные работы режиссера, о которых
говорилось выше, и ряд публицистических
статей. Собрав воедино эти работы,
сборник выполнил свою роль, дав
представление об основных принципах
кинематографического творчества Пудовкина.
Круг интересов Пудовкина был очень
широк и многообразен, а в области
киноискусства универсален. Его интересовали
изобразительное искусство п литература,
естественные и точные науки, спорт и
телевидение, режиссура и драматургия,
выразительность актера и организация
производства, вопросы восприятия фильма,
политическая и общественная жизнь нашего
времени, интернациональное кино
будущего, постановка кино образования...
Отличавшие его партийная
принципиальность, гражданская активность, горячая
увлеченность своим делом, глубокое
понимание законов киноискусства выражались
в совокупности его работ — фильмов, книг
и статей, бесед о своих и чужих фильмах,
в выступлениях, в интервью, в записях
беглых впечатлений и размышлений по
поводу прочитанных книг, в набросках
озаривших его идей, так и не получивших
законченного литературного выражения.
Теоретическая работа Всеволода
Пудовкина отмечена рядом только ему присущих
особенностей. Он не занимался изучением
законов кино так систематически и
увлеченно, как С. Эйзенштейн, не был
профессиональным писателем, как А. Довженко,
не совершенствовал своих работ от издания
к изданию, как Л. Кулешов. Статьи и
книги Пудовкина были всегда неразрывно
связаны с его собственным творческим опытом
и в какой-то степени ограничены им. Чаще
всего Пудовкин начинал работу над ними
как над циклом лекций, докладом,
выступлением и, обрабатывая стенограммы,
готовил их к печати. Иногда его книги и
статьи возникали по инициативе
киноведческих организаций и редакций,
вызывавших его на диспуты, беседы, споры.
Пламенный трибун, моментально реагирующий
на доводы противников в споре,
неутомимый оратор, Пудовкин мог говорить долго,
и подчас собеседования, рассчитанные на
час, кончались далеко за полночь, а
стенограммы их служили основанием
серьезнейших статей.
Он был небрежен к своим рукописям —
писал на оборотной стороне режиссерских
сценариев, на случайных листках бумаги,
не хранил написанного, почти никогда не
обращался к опубликованному, чтобы
доработать, отшлифовать однажды изданное.
В архиве покойной А. Н. Пудовкиной
хранились в первозданном беспорядке
куски рукописей Всеволода Илларионовича
и машинописных текстов, конспекты
каких-то выступлений или статей и путевые
записи, рефераты и выписки из научных
изданий и черновики докладных записок,
а на маленьких клочках часто оберточной
бумаги — отдельные-фразы и мысли. В
архивах различных организаций
сохранилось много стенограмм его выступлений,
обычно не правленных автором.
Незавершенных больших статей не
обнаружено.
Почти все сколько-нибудь серьезные
работы написаны Пудовкиным между
окончанием одного фильма и началом съемки
другого. Быстрый во всех своих делах,
он не оставлял статей неоконченными, не
откладывал для дальнейшего
продумывания. Прерванная работа, как правило, уже
не получала завершения, новые интересы,
новые проблемы, вошедшие в орбиту
внимания автора, не позволяли вернуться
к ранее намеченным тезисам и закончить
задуманную статью. Архивные материалы
не подтверждают многоэтапности работы
Пудовкина над одними и теми же
теоретическими исследованиями. И в то же время
очень характерно для Пудовкина как
автора повторение в печати в почти
неизменном виде тех положений, которые он
считал важными и заслуживающими
популяризации. Тем не менее многое
существенное для понимания его теории, его взгля-
7
дов на искусство не попало в крупные
принципиальные работы, а разбросано по
мелким рецензиям, статьям, интервью,
выплеснуто в незавершенных черновых
записях.
Между тем Пудовкин-теоретик
отличался удивительной целостностью и
целеустремленностью взглядов. Решение им ряда
проблем — ритма, монтажа, сценария,—
понимание идейности, народности,
партийности искусства, движение его мысли
невозможно представить, невозможно
исследовать достаточно глубоко и полно, не
освоив всего оставленного им
теоретического наследия, включая и наброски, не
получившие завершенной литературной
формы.
Вот почему составители и редколлегия
сочли необходимым строить настоящее
издание на максимальном включении в него
материалов Пудовкина. Цельности
представления о богатстве теоретического
наследия одного из классиков советского
и мирового кино будут служить здесь и
канонические тексты много раз
издававшихся работ, и статьи менее известные,
взятые из периодической печати, и
забытые интервью, беседы, и впервые
публикуемые стенограммы лекций, выступлений,
докладов, письма, черновые записи, и
сценарии фильмов.
Разумеется, что и это издание еще
далеко не полно. Достаточно сказать, что
архив А. Н. Пудовкиной, переданный после
ее смерти в ЦГАЛИ, по целому ряду не
зависящих от составителей причин
оказался недоступным для работы, и
составители могли пользоваться лишь копиями с
отдельных материалов, снятыми при жизни
владелицы, и оставшимися в их руках
отдельными архивными документами, ныне
сданными в ЦГАЛИ.
Не может считаться полной и
библиография опубликованных работ Пудовкина,
составленная 10. Г. Рубинштейн для сборника
«Избранные статьи» и проверенная,
уточненная и дополненная составителями
настоящего издания: есть основание думать,
что отдельные статьи Пудовкина,
разбросанные по периодической печати, еще не
обнаружены.
Для данного Собрания сочинений был
избран тематически-хронологический
принцип распределения материала, который
дает наибольшую возможность, с одной
стороны, понять круг проблем, занимавший
внимание автора, основные направления
его теоретической мысли, а с другой —
позволяет проследить за развитием его
взглядов, уточнением и изменением
отдельных теоретических положений.
Первые два тома содержат в основном
опубликованные ранее работы. Большая
их часть была напечатана при жизни
автора, другие увидели свет уже как
посмертные публикации. Исключение составляет
незначительная часть стенограмм
различных выступлений, публикуемых впервые,
которые соответствуют тематике
материалов томов и дополняют их хронологически
и по смыслу. Указания на первые
публикации даны в примечаниях.
В первый том включены теоретические
работы, во второй — киноведческие и
публицистические. Деление это весьма
условно. Читатель найдет среди статей
первого — теоретического — тома страстные,
наполненные гражданским пафосом
выступления, также как и в работах второго
тома — в анализе режиссера собственных
фильмов и фильмов своих коллег, в статьях
на актуальные жизненные темы —'отыщет
большое количество обобщений и
теоретических выкладок, не уступающих по
глубине материалам первого тома. Построение
первого тома определили три
классических труда Пудовкина — «Киносценарий»,
«Кинорежиссер и киноматериал», «Актер
в фильме».
Второй том гораздо более мозаичен и
многокрасочен, его разнообразный
материал распределен по трем разделам: «О
себе и своих фильмах», «Киноискусство и
современность» и «Путевые заметки».
Третий том составлен большей частью
из непубликовавшихся материалов, в
основном из стенограмм: лекций для
будущих режиссеров, выступлений на художе:
8
ственных советах, сообщений, сделанных
на киносекции ВОКСа, докладов на
различных конференциях и т. д. В том
включены черновые рукописи Пудовкина,
варианты статей, наброски, тезисы
выступлений, записи, сделанные в зарубежных
поездках, письма. Завершать том будут
полная фильмографпя, библиография
опубликованных работ и летопись жизни и
творчества режиссера.
Настоящий, первый том Собрания
сочинений, предлагаемый вниманию
читателей, предваряют вступительные статьи
кинорежиссера С. Герасимова — друга и
единомышленника В. Пудовкина, и
недавно скончавшегося профессора А.
Трошева — киноведа, много лет занимавшегося
изучением творчества режиссера.
Том состоит из трех разделов: «О
киносценарии», «Кинорежиссура», «Мастерство
киноактера». Внутри каждого раздела
материал расположен хронологически. Такая
организация материала продиктована
характером и тематикой классических работ
В. Пудовкина и желанием дать четкое
представление и об основных проблемах,
разработкой которых В. Пудовкин
занимался всю жизнь, и о развитии его взглядов
в русле каждой из них. Верность
принципам реалистического искусства,
внутренняя собранность и целеустремленность
режиссера так велики, что В. Пудовкин, как
правило, не отбрасывает однажды
поставленных проблем и, критикуя собственные
несовершенные их решения, повторяет
свою мысль, повертывая ее новыми
гранями, нащупывая дальнейшие пути развития
киноискусства, намечая дорогу в его
будущее...
Первый раздел включает все написанное
Пудовкиным о сценарии с 1920 по 1929
год. Несмотря на небольшое количество
названий, раздел очень разнообразен по
характеру работ — здесь и студенческий
доклад, и одно из известнейших
теоретических произведении Пудовкина 20-х
годов «Киносценарий», где впервые в теории
кино проблемы сценарного мастерства
рассматриваются с точки зрения
кинорежиссера, и статьи об эмоциональном сценарии,
отдельные положения которых Пудовкин
резко критиковал в своих более поздних
выступлениях, но которые оставили
глубокий след в его взглядах на
драматургию.
Статьи 20-х годов, разумеется, не
складываются в целостную теорию сценария, но
свидетельствуют, что Пудовкин всегда
относился к сценарию как к решающей
основе фильма, что уже в период немого
кино глубоко и многосторонне
рассматривал эту проблему. К сожалению, мысли
Пудовкина более позднего времени о сценарии
не вылились в законченное исследование —
они разбросаны по отдельным статьям,
рецензиям, выступлениям, лекциям, большая
часть которых собрана в последующих
томах издания.
До сих пор остается неразработанной
в истории кино тема «Пудовкин-сценарист».
А между тем он фактически был соавтором,
а иногда, по существу, и основным
автором сценариев почти всех своих фильмов
и начинал работать со сценаристом, как
правило, еще в период создания
литературного сценария. По свидетельству
драматургов Н. Шпиковского, Н. Зархи,
А. Гранберга, К. Симонова, Пудовкин
участвовал в работе над каждым эпизодом,
каждой сценой сценария. Однако, считая
эту работу необходимой частью творчества
режиссера, Пудовкин почти никогда не
ставил своего имени рядом^ с именем
сценариста.
В создании ряда сценариев практически"
участвовал и оператор А. Головня, вместе
с которым В. Пудовкин создал свои лучшие
фильмы. Освоение оператором реальной
среды действия будущего фильма в период,
когда шла работа над сценарием, иногда
решающим образом (например, в «Конце
Санкт-Петербурга», «Потомке Чиягис-ха-
на») влияло на завершение драматургии
кинокартины.
Понимая, что данный раздел слишком
ограничен хронологически, составители
сделали попытку как бы пополнить его
9
материалами, отражающими практическую
работу В. Пудовкина над сценарием, и
в приложении к тому поместили три
сценария Пудовкина, относящихся к разным
периодам режиссерского творчества и
представляющих разные формы его работы над
сценарием. Это «Шахматная горячка» —
сценарий первой самостоятельной
постановки, который он писал вместе с Н. Шпи-
ковским; режиссерский сценарий одного из
классических фильмов 20-х годов —
«Потомка Чингис-хана», по которому,
сопоставляя его с литературным сценарием О.
Брика, можно судить, как импровизационно
свободно развертывали идеи сценариста
Пудовкин и Головня; и не
поставленный Пудовкиным литературный сценарий
1943 года «Смоленская дорога», написанный
вместе с К. Симоновым, свидетельствующий
о том, что многие тенденции отражения
в киноискусстве Великой Отечественной
войны, которые принято связывать с
концом 50-х годов — стремление достоверно и
точно изобразить события первых месяцев
войны, сочетая документально-эпические
возможности фильма с пристальным
вниманием к духовному миру участника
войны,— возникли гораздо раньше, в
частности в творчестве Пудовкина.
Таким образом, материал первого тома
хотя ни в коей мере не исчерпывает
теоретических взглядов Пудовкина на
проблему сценария, все же дает представление о
масштабе и направлениях его творчества
в этой области.
Второй раздел, «Кинорежиссура»,—
наиболее емкий и обстоятельный. Его
открывает первая из напечатанных статей
Пудовкина (1923) и заключает, посмертно
опубликованное в «Избранных статьях»
исследование о монтаже. Включение в
единую хронологическую цепь статей,
написанных для различных отечественных
сборников, журналов и газет, а так же для
немецкого и английских изданий, делает
почти полной картину становления и
развития созданной Пудовкиным теории
режиссуры, не потерявшей значения и для
современной практики киноискусства.
Оговорку «почти» приходится делать потому,
что некоторые проблемы режиссуры, порой
очень важные для Пудовкина, как,
например, проблемы научно-популярного фильма,
раскрываются в статьях, связанных с
отдельными фильмами («Механика головного
мозга» и «Жуковский») и вошедших во
второй том издания. То же самое можно
сказать о мыслях Пудовкина по поводу
документального фильма и мультипликации.
Многие теоретические работы
Пудовкина, вошедшие в этот раздел, в частности
его первая книга «Кинорежиссер и
киноматериал», ^заложившая основы теории
режиссуры советского реалистического фильма,
написаны на основе стенограмм его
докладов, лекций, бесед в АРКе, ГТК, ВГИКе,
ВТО.
Статьи о мастерстве киноактера —
важнейшая часть теории кинорежиссуры
Пудовкина — выделены в последний, третий
раздел тома.
Этот раздел отличается некоторыми
особенностями. Прежде всего, за бортом
издания сознательно оставлено несколько
работ Пудовкина, посвященных этой теме.
Очень широко и многогранно ставя
проблему актера в кино, разрабатывая
кинематографическую систему работы с актером
и неактером (натурщиком, типажом),
скрупулезно исследуя особенности творчества
киноактера, Пудовкин первым в кино
интерпретирует основы «системы»
Станиславского, прочно прививает ее в киноискусстве.
И когда в середине 30-х годов Пудовкин
пишет серию работ о «системе»
Станиславского и кино, он далеко не в каждой из
них выступает как исследователь,
некоторые статьи на эту тему носят как бы
пропагандистский характер. Поэтому порой
режиссер повторяет свой собственный текст
дословно. Отдельные статьи целиком
входят в текст других, написанных позже,
дополненных; другие, наоборот,
повторяются в печати в сокращенном виде,
причем сокращения носят явно
механический характер — автор укладывает статью
в объем, нужный редакции. Сличив
тексты статей (и убедившись в том, что
10
некоторые из них отличаются друг от
друга лишь количеством и порядком
абзацев), составители сочли возможным
оставить в разделе лишь три из них.
Включенная в том статья «Реализм, натурализм п
«система» Станиславского» полностью
вбирает тексты опущенных «статей: «О
внутреннем и внешнем воспитании актера» и
«По «системе» Станиславского». Статья
«Работа актера в кино и «система»
Станиславского», вошедшая в это издание, в
сокращенном виде была опубликована под
названием «Система» Станиславского в кино».
Мы приводим здесь названия не
включенных в издание статей, так как они широко
известны и отсутствие их может вызвать
недоумение читателей.
При публикации бесед и интервью
режиссера с корреспондентами газет п
журналов тексты, не принадлежащие
Пудовкину (вводные фразы, вопросы, заключения
корреспондентов), выделяются курсивом.
Названия сохраняются такими, какие
были даны при первой публикации. Если же
название не принадлежит Пудовкину, то
заголовок, данный составителями,
заключается в квадратные скобки.
В текстах, перепечатанных из пазет и
журналов, исправляются только опечатки
и ошибочные или устаревшие написания
названий и имен.
Сноски в тексте принадлежат Пудовкину,
за исключением нескольких, помеченных
«Прим. сост».
- Орфография и пунктуация приведены
к принятым сегодня нормам, за
исключением характерных оборотов и
особенностей, свойственных речи Пудовкина.
Все замечания, объяснения и уточнения
по тексту, сделанные составителями,
отнесены в примечания. Там же приводятся
варианты текстов п разночтения.
Примечания построены по следующей
схеме: сведения об истории создания
работы и ее издания (в тех случаях, когда
составители располагают такими данными),
источник, по которому печатается текст,
постраничные примечания. В работе над
примечаниями частично использованы
фактические сведения, приведенные в книге
Пудовкина «Избранные статьи» (М.,
«Искусство», 1955) проф. И. Л. Долинским.
Составители приносят благодарность
А. Д. Головне — оператору, близкому
другу и соратнику Пудовкина, помогавшему
своей постоянной консультацией
разрешать вопросы, возникающие в процессе
работы над изданием; работникам Кабинета
истории советского кино ВГИКа — за
предоставленную возможность использовать
материалы архива кабинета и содействие
в уточнении многих данных; музею
«Мосфильма», Центральному государствеиному
архиву литературы и искусства,
Архивному кабинету Ленинградского института
театра, музыки и кино, ознакомление с
фондами которых способствовало более
полному выявлению стенограмм
выступлений, писем и других материалов,
связанных с творчеством режиссера.
Работа по составлению Собрания
сочинений началась еще при жизни Анны
Николаевны Пудовкиной. К ее памяти
составители испытывают огромное
уважение не только как к жене и другу В.
Пудовкина, но и как к человеку,
сохранившему его архив, щедро делившемуся
своими воспоминаниями и советами.
Составители не могут не отметить особо
той помощи, которую оказала им недавно
скончавшаяся сестра В. И. Пудовкина —
Юлия Илларионовна, участвовавшая в
расшифровке и перепечатке материалов
Пудовкина.
С. Герасимов
Слово о Пудовкине
С именем Всеволода Илларионовича Пудовкина связано зарождение
советского кино, его становление, его важнейшие успехи на пути создания
произведений социалистического реализма.
Первая же его большая картина — я имею в виду фильм «Мать» — принесла
Пудовкину всемирную славу. Вместе с «Броненосцем «Потемкин» Эйзенштейна
картина Пудовкина «Мать» знаменовала тот новый этап, который открывал
новые пути для развития всей мировой кинематографии.
Для создания этих двух замечательных картин молодое советское
киноискусство только еще набирало силу в поисках самостоятельных
кинематографических форм, способных отразить новую революционную эпоху.
Слава Пудовкина подтвердилась и приумножилась в двух последующих его
работах. «Конец Санкт-Петербурга» он поставил опять по сценарию
замечательного кинематографического писателя Натана Зархи, поставил уже со своим
сложившимся коллективом, где исключительно важную роль играл
замечательный оператор, один из основоположников могучей советской операторской
школы Анатолий Головня.
В «Конце Санкт-Петербурга», разрабатывая тему Великой Октябрьской
социалистической революции, Пудовкин создает целый ряд удивительных по
силе сцен, раскрывающих пафос борьбы русского пролетариата с
капиталистами и самодержавием, и открывает целый ряд новых, важнейших законов
кинематографической выразительности, обогащает язык киноискусства.
Огромную известность приобретает следующая работа Пудовкина —
«Потомок Чингис-хана», прошедшая на зарубежных экранах под названием «Буря
над Азией». Эта картина, направленная против колонизаторов и интервентов,
становится классическим образцом в области выразительных движений немого
кинематографа.
«Потомок Чингис-хана» исчерпывающе показал размер пудовкинского
дарования, его блистательную энергию, стремление открывать все новые и новые
стороны удивительного кинематографического искусства.
Конечно, Пудовкин был неодинок. В то время рядом с ним уже трудился
в полную силу Сергей Эйзенштейн; уже начинал свой удивительный путь
в кинематографе Александр Довженко; в Ленинграде снимали «Новый Вавилон»
Григорий Козинцев и Леонид Трауберг; работали Лев Кулешов и Абрам Роом,
12
Борис Барнет, которому позже, с рождением звукового кинематографа,
предстояло заявить свой талант поразительным фильмом «Окраина». Короче,
вокруг Пудовкина и вместе с ним поднималась могучая советская кинематография,
и каждый, кто тогда из актеров, из писателей, из монтажеров (как это было
с братьями Васильевыми) шагал в режиссуру, мог опереться на опыт двух
молодых великанов — Пудовкина и Эйзенштейна, уже успевших потрясти мир
зрелостью своих произведений.
Дальнейший путь Пудовкина в искусстве был нелегок и непрост. Сложный
вечный поиск вел его через трудности работы над фильмами «Простой случай»
и «Дезертир», через серию историко-биографических фильмов, посвященную
великим русским людям — Суворову, Жуковскому, Нахимову, работу над
которой он начал фильмом «Минин и Пожарский». С каждой новой работой он
все более овладевал действительным материалом истории, освобождая его
от внешней условности, разыскивая ту величественную правду, которая была
для него обязательна как в историческом полотне, так и в современной драме,
будь то «Пир в Жирмунке», «Во имя Родины» или «Возвращение Василия
Бортников а».
Но, размышляя о тайных связях, при всем разнообразии материала
роднящих работы Пудовкина и составляющих его художническую сущность, думая
о том, что было в нем, Пудовкине, наиболее знаменательного для
нарождающегося и развивающегося советского кинематографа, я снова и снова мысленно
возвращаюсь к началу пути, к его истокам...
До того как познакомиться с Всеволодом Пудовкиным, а затем и
подружиться с ним, я видел его в картине Льва Кулешова «Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков».
В этой картине, где все было удивительно, все опрокидывало
кинематографические нормы русской «золотой серии» и заявляло о рождении нового
искусства, Пудовкин занимал весьма заметное место. С элегантностью, за которой
пряталась всепоглощающая ирония, он двигался как механический человек
с точностью, доведенной до исступления. Для нас, «фэксов», это было как бы
сигналом к прямому сближению, потому что сами мы измеряли искусство мерою
лаконизма и точности и были нетерпимы в отношении всего, что представлялось
нам намертво отжившим, постыдным в своей буржуазной претенциозности.
А был нэп, и новая буржуазия пыталась реставрировать все — от способов
приобретения капитала до многообразных средств украшения и использования
жизни. Коверкотовые дамы с эрдельтерьерами и доберманами прогуливались
по Невскому проспекту. Их сопровождали толстоватые коротконогие
мужчины — новые капиталисты, нэпманы. Владимир Лебедев — поразительный
художник, наиболее живо увидевший и отобразивший нэп, со всей щедростью
таланта набрасывал целые серии больших и маленьких человеческих уродств
того удивительного времени.
И вот «Мистер Вест в стране большевиков» — декларация мастерской
Кулешова. И Пудовкин еще актер, со своей всепоглощающ,ей увлеченностью
движением, действием, маской, увлеченностью искусством, которая
сопутствовала ему, художнику с головы до пят, в течение всей жизни...
Потом были удивительно разные, уже режиссерские самостоятельные
работы: скетч «Шахматная горячка», представивший его как режиссера
художественного кино, и «Механика головного мозга», картина о павловских
открытиях в физиологии, заложившая основы научно-популярного кинематографа.
13
Но вот появилась «Мать».
Я помню, как в обществе своих товарищей, молодых кинематографистов,
в первый раз смотрел «Мать» в одном из ленинградских кинотеатров.
Впечатление было настолько новое, ошеломляюще сильное, что мы сразу не смогли
даже покинуть кинотеатр и остались в зале, когда начался второй сеанс.
Впечатление осталось таким же или даже стало еще большим. Затем мы ходили
по улицам и говорили все разом, как это бывает с людьми, ставшими
свидетелями огромного события.
Как живые стояли передо мной образы матери, Павла, его друга Весовщи-
кова; наивный порыв матери, в своей святой простоте не понимавшей, что
предает сына в руки царских жандармов; и улыбка, страшная и печальная на
устах Павла, когда он смотрел на оружие в руках матери; и нарастающая
растерянность в глазах матери, потрясение всего ее существа, когда жандармы
вместе с оружием взяли ее сына, потрясение, которое раскрыло ей, пожилой
женщине, познавшей уже все горе жизни, новую страшную правду про
жестокость и несправедливость проклятого царского строя.
Нам, зрителям, казалось, что мы видим, как седеют ее волосы, как она
стареет на наших глазах. И когда в зале суда мать, приподнимаясь со своей скамьи,
кричала судьям: «А правда где?!» — слезы сами собой поднимались от сердца
и перехватывало горло.
Как же обозначить это впечатление от фильма, это глубокое и искреннее
потрясение, которое испытали мы, зрители?
Это было первое столкновение с силою реализма в киноискусстве.
Мы жили и работали в разных городах — Пудовкин в Москве, ФЭКС в
Ленинграде, но появление «Матери», подобно взорвавшейся бомбе, потрясло
кинематографический мир и в нашей стране и за ее пределами.
Помнится, тогда в Советский Союз приезжал в гости Дуглас Фербенкс —
обаятельный, всемогущий герой американского трюкового кинематографа. Он
сопровождал свою жену — актрису Мэри Пикфорд. Два эти имени в те времена
звучали с необыкновенной притягательной силой и для молодых
кинематографистов представляли авторитет чрезвычайный. И вот Фербенкс, посмотрев
вслед за «Броненосцем «Потемкин» Эйзенштейна «Мать» Пудовкина, сказал:
— Что это за страна такая, что за люди!
Быть может, он сказал как-то иначе, я не отвечаю за точность цитаты, но
он выразил глубочайшее изумление могуществом нарождавшегося тогда нового
кинематографа, чьей родиной, по общему бесспорному признанию, становилась
наша молодая, революционная Советская страна.
Это удивительное разнообразие поисков в начале самостоятельной
творческой жизни Пудовкина было в чем-то парадоксально и во многом определялось
сложностью, противоречивостью и одержимостью его натуры.
Мне трудно сейчас сказать точно, где мы впервые встретились с Пудовкиным:
может быть, в Москве, может быть, в Ленинграде, куда он стал наезжать,
готовясь к своей новой работе «Конец Санкт-Петербурга». Скорее всего, в
Ленинграде. А может быть, в Одессе, где я оказался, снимаясь в картине Г.
Козинцева и Л. Трауберга «Новый Вавилон», пробуя себя одновременно и в качестве
ассистента, уже в те времена решительно склоняясь к режиссуре. Во всяком
случае, одесские встречи с Пудовкиным бесспорно оставили у меня наиболее
глубокое впечатление. Там было время для неспешных бесед где-нибудь в
ресторане, в «Лондонской» гостинице, в компании с Юрием Олешей, с совсем еще
14
молодым Александром Довженко. И сколько же тогда было между нами
удивительных разговоров, удивительных открытий друг друга и окружающего нас
молодого, сияющего мира!
В те времена Пудовкин был беззаветным танцором. Танцевал он упоенно,
придавая танцу необыкновенно важное значение. Впрочем, в те времена
танцевали все. Может быть, и сейчас с таким же увлечением танцуют люди того
возраста, в каком находились мы тогда, но мы теперь этого уже не замечаем.:.
Но с таким же упоением, с каким он танцевал, Пудовкин мог погрузиться
в беседу — именно погрузиться, блистая при этом удивительным изяществом
и образностью речи и фантазией необыкновенной. Наряду с историями
житейскими он любил фантасмагории живописно-жуткие, умел рассказывать их,
нагоняя на слушателей холод до вздыбленных волос.
Это вечером. А утром или днем легче всего вспоминается он в узком, в
обтяжку, в талию костюме или пальто с широкими плечами, своей быстрой,
точной, «вычисленной» походкой шагающим по одесской или ленинградской
улице, от «Лондонской» или «Европейской» гостиницы, шагающим куда-то
навстречу дню, полному веселых забот и удивительных открытий, сопутствующих
щедро одаренному человеку на каждом шагу его жизни, будь то труд или
отдых — безразлично.
Он умел очень многое.
Он имел образование химика, и, вероятно, это как-то по-своему
формировало и дисциплинировало его художественное зрение.
Он удивительно легко читал с листа, почти не прикасаясь взором к строкам
книги, полностью проживая, проигрывая весь текст, тут же находя тончайшие
оттенки интонации в диалоге, воспроизводя из авторских ремарок действие,
всю обстановку с такой живописностью, что перед вами оживала вся книга.
Особенно это ему удавалось при чтении Гоголя, которого он любил
самозабвенно.
Не имея академического музыкального образования, он был способен
наслаждаться музыкой, с утонченной одухотворенностью оценивая каждый звук.
Он садился к фортепьяно и искал созвучий, наслаждаясь тем, что вслед за
клавишами звуки подчиняются ему.
Он был спортсмен, так же увлеченно и жадно желающий принять и
наилучшим образом отразить каждый теннисный мяч или, прыгая с вышки, войти
в воду, не расплескав вокруг себя ни одной лишней капли.
Все, кто знал Пудовкина более или менее близко, вероятно, не смогут
припомнить его в состоянии усталого безволия, дремоты, нравственной
опустошенности. Однажды в беседе, заметив, что большой палец пригнулся у меня
к ладони, он вдруг страшно закричал: «Не смей так держать большой палец!
Взгляни на свою руку: что за'жалкое, безвольное у нее выражение! Держи
палец вот так!» — И он оттопырил большой палец под углом 45 градусов к
своей ладони. И тут же стал развивать теорию по поводу того, что состояние
мышц не только выражает состояние духа, но и диктует духу необходимый
тонус.
Его необыкновенно занимало все, что имело отношение к физиологии и
психологии. На эти темы он мог говорить бесконечно. И он был прав, потому
что к режиссуре эти науки имеют самое непосредственное отношение.
Встречаясь с человеком, иной раз совершенно ему незнакомым, где-нибудь
в обществе, он инстинктивно направлял всю силу своего обаяния на' то, чтобы
15
как можно скорее подчинить, покорить собеседника, влюбить в себя, и это ему
отлично удавалось! Едва ли найдется среди кинематографистов человек,
который избежал бы этого воздействия, который не подчинился бы навсегда или
хотя бы на время обаянию его удивительной натуры.
Может быть, не каждый мог угадать в изысканном облике Пудовкина вторую
сторону его натуры, которую он проверил, выстрадал на фронте в годы первой
мировой войны. Именно этот душевный запас он расходовал затем всю жизнь,
вплоть до последнего своего фильма и замыслов, оборванных смертью. Я имею
в виду глубокую, мужественную и нежную его любовь к России с ее
бескрайними далями, с деревьями и пашнями, с перелетами птиц в полнеба, с ее
танцами, так не похожими друг на друга. Он восторгался мужицкой мудростью
в армяках или солдатских шинелях. Его покоряло буйство революции,
гениальная мудрость ленинской мысли. Все это и привело его в партию, службу
которой он принимал как первый и важнейший закон существования. Трогательно
было видеть, как безотказно принимал он каждое поручение своей партийной
организации, стремясь выполнить его с солдатской уставной дотошностью.
Такой это был многосложный и неповторимо прекрасный человек.
Да, есть такие счастливые натуры, которым бессмысленно завидовать,—
они проживают жизнь от начала до конца под знаком счастья. И этой
высочайшей наградой природы был отмечен Всеволод Пудовкин.
Путь его в искусстве был, разумеется, совсем не так уж гладок и увенчан
лаврами от первой до последней работы. Но путь этот был счастливым именно
вследствие того, что он давал Пудовкину чувство полноты жизни от каждого
прожитого дня и полностью покрывал его человеческие интересы. Ибо опыт
нашего кинематографа показывает, что крупнейшие мастера потому и стали
крупнейшими, что имели свой неповторимый голос и в жизни и в искусстве.
Пудовкин был человеком, пришедшим в кинематограф от науки. Страсть
к познанию, к исследованию, счастливое сочетание рационального и
эмоционального начал были органически присущи его дарованию.
Стремление пробиться к правде жизни, к истине, стремление познать,
научно обосновать, вскрыть закономерности искусства — лежит в основе как
кинематографических произведений Пудовкина, от «Механики головного мозга»
до «Возвращения Василия Бортникова», так и в основе его, к сожалению,
немногочисленных, но в высшей степени значительных теоретических работ.
Статьи и книги Пудовкина, посвященные вопросам режиссуры,
кинодраматургии, актерского мастерства,— «Кинорежиссер и киноматериал»,
«Киносценарий», «Время крупным планом», «О монтаже», «Актер в фильме», «Реализм,
натурализм и «система» Станиславского», «Работа актера в кино и «система»
Станиславского» представляют Пудовкина как одного из крупнейших
теоретиков советского киноискусства.
Пудовкин был художником глубоко современным, отзывчивость на жизнь
составляла одну из главных привлекательных черт его таланта. Но этого было
бы недостаточно, если бы художническая чуткость Пудовкина, его внимание к
жизни не сливались бы в его творчестве воедино с интересами развития
народной жизни.
Пудовкин не мыслил себя вне жизни.народа, вне революции. Мир вне
социальных явлений для него не существовал. Все образы его произведений
проникнуты глубоко личным отношением к социальным явлениям, процессам
истории и современности. Скажем, когда Пудовкин делал «Суворова», это было
16
время народного патриотического подъема. В обстановке надвигающейся
угрозы со стороны гитлеровского фашизма обостренный патриотизм был социальной
надобностью, прямым выражением народных интересов. Пудовкин, глубоко
осмыслив патриотический заказ эпохи, приблизил образ Суворова к
современному зрителю. Работая с поразительным актером Н. П. Черкасовым
(Сергеевым), он, по сути, вместе с ним сыграл Суворова так, как его понимал. Он
подчеркивал не только чудачества Суворова. Он раскрывал масштаб личности
полководца, его гигантский народный талант, который как бы вскормила и
вырастила вся Россия. Художник от всего сердца выполнял патриотический
долг — своим искусством напомнить народу, до какой высоты и мощи
патриотического духа может подняться русский человек, особенно когда время
требует от него подвига во имя Родины.
Сближение интересов художника ,с интересами народа, своих
современников, стремление к познанию мира, жадное накопление знаний, раскрывающих
сущность философии и практики класса, борющегося за лучшее будущее всего
человечества,— вот чему посвятил свою жизнь Пудовкин и что заставило его
обратиться к кинематографу, в котором он видел всемогущее средство
воздействия на массы.
Повторяю, Пудовкина прежде всего интересовало движение народной
жизни, разбросанные черты мира определялись у него социальным генезисом.
Именно это увлечение движением жизни, сочувствование своему времени,
стремление самому понять, помочь разобраться в сути происходящих
жизненных процессов во имя улучшения человека составляют основу реализма
Пудовкина, непреходящее значение его творчества.
Процесс становления и развития социалистического реализма в
киноискусстве, неразрывно связанный с творчеством Пудовкина, шел сложным и, я бы
сказал, двояким путем.
С одной стороны, стремление познать мир, стремление к совершенствованию
своего искусства потребовало от Пудовкина научного постижения
кинематографического языка, и в этом выразилось своеобразие его метода
художественного познания мира. В то же время важнейшим открытием в области
кинематографического языка был монтаж, и Пудовкин настойчиво искал, как бы
наслаждаясь постижением его неистощимых возможностей художественного
раскрытия мира. Так, скажем, в фильме «Потомок Чингис-хана» Пудовкин,
ни на минуту не изменяя реалистическому строю фильма, в сцене расстрела
и особенно в финальной сцене бури, заключающей картину, поднимается до
высокого аллегорического обобщения, покоряет зрителя не только глубокой
разработкой избранной темы, но и блестящей отделкой каждого монтажного
куска, умением слить кадры точностью и энергией монтажа в стройный поток
живой, горячей мысли, в могучий образ восстания, сметающего на своем пути
феодализм и интервенцию.
Рассматривая монтаж как важнейшее средство постижения мира в общей
цепи элементов познания, Пудовкин считал монтаж «логикой
кинематографического анализа». Видя в монтаже не только способ изложения чисто
зрительного потока кинематографического действия, Пудовкин установил
закономерность монтажного соединения отдельных кадров в интересах наиболее полного
и глубокого раскрытия мысли. Он показал, как монтажное столкновение двух
сопоставляемых, сталкиваемых образов как бы рождало третий образ, в
котором и была заключена самая сущность смыслового и эмоционального заряда,
17
Проверяя этот принцип на множестве примеров, позже, с приходом звука,
Пудовкин существенно углубил принцип монтажа как «логики
кинематографического анализа» и в звуковом кинематографе.
Пудовкиным всегда владело страстное желание познать технические
возможности кинематографа, усовершенствовать их до возможного предела.
После появления нового выразительного фактора — звука — новый поиск.
Так, нельзя забыть глубоко талантливое решение — ив звуковом и в
монтажном отношении — сцены из фильма «Дезертир», где голодающий безработный
похищает из ресторана кусок хлеба и тотчас вслед за этим, гонимый полицией,
становится я^ертвой уличного движения. В этом как бы второстепенном
эпизоде Пудовкину удалось вскрыть всю бесчеловечную машину капитализма.
Знал Пудовкин и цену общему плану, что можно проследить на примере
кадров гамбургского порта в той же картине со всей их обширностью, блестяще
снятых оператором Анатолием Головней.
Надо сказать, что вклад Головни в работу Пудовкина над
кинематографической образностью представляет собой явление неповторимое. Умение понимать
образный замысел Пудовкина и решать его средствами операторского
искусства, средствами оптики и света доведено оператором Головней во всех фильмах
Пудовкина, особенно в его трех первых классических работах, до высокого
совершенства. Взыскательность и единодушие, с которыми оба художника
вместе отыскивали все компоненты кинематографической образности, нимало
не утратили своего значения, и их содружество может служить исчерпывающим
образцом и в наши дни, когда кинематограф распоряжается уже иной
техникой, какой еще не существовало во времена «Матери» и даже «Адмирала
Нахимова».
Пудовкин был неистощим в своем стремлении к совершенствованию
кинематографического языка. Например, уважение к детали, умение найти эту
деталь и придать ей острую обобщающую силу отличало творчество Пудовкина
во все его периоды. Каждая из его картин после просмотра остается в памяти
не только общей впечатляющей идеей, яркостью характеров, но еще и какой-
нибудь острой, особенно глубокой и точно отработанной сценой. И сцена эта,
как правило, не случайна, не второстепенна, она логически перерастает в
обобщение, становится вершиной всего произведения. Так, нельзя забыть в картине
«Адмирал Нахимов» сцену смерти Нахимова. Глухой стук замирающего сердца
пронизывает все кадры героического финала. Его слушают матросы, его
слушает море, и опять-таки звук этот становится могучим обобщением:
останавливается сердце великого русского человека.
Так работал Пудовкин с материалом, работал как художник,
замышлявший каждую вещь наново. Он всегда искал форму, вскрывающую с наибольшей
точностью причинно-следственную связь явлений, искал единства формы и
содержания, потому что он был художник, более всего любящий жизнь и
проверяющий свое искусство я^изнью. И если Пудовкин иногда терпел в своем
поиске убытки, то чаще всего не потому, что замахивался на невозможное, а потому,
что техника еще не соответствовала масштабу его замыслов.
С другой стороны, процесс художественного постижения мира предполагал
изучение не только кинематографического языка, но и более глубокое
диалектическое познание человеческой психологии.
Парадокс заключался в том, что в те дни в области кинематографического
языка экспериментировали решительно все. Молодые советские кинорежиссеры,
13
только что пришедшие в кино, открывали и утверждали новые, дотоле еще
неизвестные свойства кинематографа, стремясь вывести его из состояния
движущейся фотографии в область самостоятельного искусства, безгранично
свободного во времени и пространстве. В процессе поиска создавались
экспериментальные кинематографические мастерские, фабрики, лаборатории. Иногда в них
делались фильмы, где содержание представляло собой не больше, чем
формальный повод для практического использования вновь найденных средств
кинематографа. Но страстное желание открыть и постичь все истины заново,
зачастую в форме безудержной, бесшабашной — от молодости —эксцентриады,
было свойственно тогда в большей или меньшей степени всем.
Удивительная вещь: от эксцентриады, от ниспровергательства, через
которое прошли многие из нас и которое так много нам дало, от попыток взрыва
реалистической формы — в порядке спора, некоей эстетической контраверзы —
мы все пришли к реализму. Через это противоречие прошли почти все
киношколы 20-х годов, слившиеся потом в единый могучий поток реалистического
искусства социализма.
Начало перехода от эксцентриады к реализму — не только в отношении,
постижения кинематографического языка, но и в отношении глубокого,
подлинного постижения человеческой психологии — ознаменовалось обращением
кинематографа к реалистической литературе. Недаром первым, к кому
обратились, например, «фэксы», был классик французской литературы Эмиль.
Золя. Фильм «Новый Вавилон», посвященный истории французской революции,
был целиком подготовлен на чтении романов Золя. И если, скажем,
просмотреть ход Пудовкина к «Матери», то придется прежде всего вспомнить, что
литературная основа этого фильма — великая повесть Горького. Глубокая связь-
с литературой легко прослеживается в картине — от чисто горьковских
характеристик среды, людей, сюжетных обстоятельств режиссер приходит к
аллегорическим кинематографическим построениям, таким, как ледоход, кремлевские
стены, демонстрация, гибель матери. Они словно уходят корнями к
греческой трагедии, к действу, поднимаются к высотам философского обобщения.
Популярное тогда слово «пафос» предполагало не только
кинематографическое наращивание самого зрительного динамизма, доведенного до полной
мощи средствами монтажно организованного действия, но и обращение к
истокам духовных коллизий, связанных с постижением глубин человеческого
характера.
Пудовкин работал над фильмом «Мать» вместе с замечательным сценаристом
Натаном Зархи. Он не писал сценария сам и не претендовал на авторство, но
у него было точное ощущение подлинности мира, которому предстояло
возникнуть на экране, и его авторство заключалось и в осмысливании темы и в
интерпретации, в истолковании драматургического материала. Это черта истинно
режиссерского дарования, открывающаяся не столько в самом написании
сценария, сколько в способности к глубокому образному истолкованию
первой русской революции в беззаветном совместном труде режиссера и
сценариста.
Обращение Пудовкина и Зархи к повести Горького дало им понимание
сюжетного строя, как средства, по горьковской формуле, прежде всего
раскрытия характера в реальной жизненной среде. Пудовкин и Зархи
использовали литературу как основу, вне которой не может родиться диалектика
характеров. И это сразу дало совершенно новое качество процессу художественного
19
познания мира, ибо вне понимания диалектики характеров глубинное
раскрытие человеческой психологии невозможно. Недаром Пудовкин так высоко
ставил Толстого, величайшего диалектика, умевшего в расширенной ремарке
дать исчерпывающую характеристику состояния своего героя. Это то самое,
о чем сказал однажды Юрий Олеша, шутливо определяя и формулируя
основной художественный прием и опору творчества великих писателей: «чем больше
(думал) он, тем больше (понимал) он». И это было необыкновенно точно!
То же было и с Пудовкиным: чем больше он думал о внутренних законах
искусства, тем больше убеждался, что и диалектику характеров и способ их
анализа — все должно постичь через литературную образность Горького. Без
этого не могла родиться подлинность характеров в его фильме «Мать». Вся
• сила Пудовкина как раз и обнаружилась, когда он сумел понять и воплотить
образную диалектику горьковских героев.
При всем этом нужно иметь в виду, что Пудовкин был необыкновенно
жизнелюбив. Вне этого простого определения очень трудно понять и направление
и самый характер его творчества. Именно жизнелюбие Пудовкина определило
его интерес к героям повести Горького, одному из первых произведений
литературы, в котором ведущий герой новой истории — рабочий класс — стал
героем литературы. Счастливое совпадение жизнелюбивого художественного
темперамента Пудовкина с самим содержанием революционной эпохи привело
к рождению качественно нового искусства. Реализм Пудовкина, сложившийся
на образах горьковской «Матери», на образах битвы рабочего класса за свои
человеческие права, как бы дал направление, масштаб всем его последующим
произведениям, отмеченным такой главенствующей чертой социалистического
реализма, как раскрытие жизни в ее революционном развитии.
Работа Пудовкина и Зархи над их следующей совместной картиной —
«Конец Санкт-Петербурга» — углубила и развила диалектический характер
реализма Пудовкина. Она дала ему ясное понимание проблемы соотношения
общего и частного в искусстве.
В те времена была сильна литература «прямого социального потока». Не
миновал этого увлечения и кинематограф. Но кто сейчас помнит об этих
фильмах и книгах, что осталось от них на экране или на книжной полке? Если же
взять картину Пудовкина и Зархи, то глубочайшая социальная проблема —
конец цитадели буржуазно-помещичьего строя Санкт-Петербурга — вскрыта
через глубоко личную, частную судьбу крестьянского парня. Пудовкин вывел
на экран важнейшего героя новой революционной эпохи — крестьянина,
которого жизнь с неумолимой неизбежностью привела к революции. Это дало
возможность Пудовкину познать и применить к киноискусству непреложный
закон классической литературы: любые социальные явления, даже самые
отдаленные от частного бытия,, прочитываются только через личные судьбы.
Все великаны литературы — от Шекспира до Толстого — владели этим законом.
Вместо того чтобы написать «Братья Карамазовы», роман, насыщенный всеми
социальными страстями своего времени, Достоевский мог написать
публицистический трактат и изложить там свой взгляд на социальные вопросы, его
волновавшие. Но Достоевский написал роман, потому что понимал прекрасно, что
все социальные и философские проблемы наиболее глубоко познаются через
судьбы людские. И Пудовкин сделал для себя вывод, важнейший для всего
его последующего творчества: фильмом «Конец Санкт-Петербурга» он как бы
заявил права и возможности -кинематографического романа.
• 20
Эта наиболее емкая литературная форма, которая содержит в себе
возможности наиболее глубокого и обширного постижения жизни, всегда находит
отклик в народе. Именно поэтому роман невозможно уничтожить, прекратить
его существование, как думают защитники теории антиромана, потому что
роман есть зеркало жизни. Все впитывает в себя роман, все аспекты
общественной и личной жизни человека, а что, кроме жизни, дано человеку и что
является предметом постижения и воплощения художника? Жизнь!
И еще один аспект глубочайшего реализма Пудовкина, который он
выковал в процессе совместной работы с Натаном Зархи: внимание к авторскому,
привнесенному, изобретенному, к тому, казалось бы, лишнему что на
первый взгляд вроде бы и не надо, но как раз это в конечном результате и
надо!
Много нападок в свое время выдержали Пудовкин и Зархи за «слишком
вольное» переложение на экран повести Горького, если иметь в виду
отступление от ее прямых сюжетных ходов. Но оба художника смело пошли на
освобождение от дотошного следования фабуле и выиграли главное — искусство. Введя
отсутствующую у Горького ситуацию невольного предательства матери, когда
она, желая спасти сына, отдает жандарму спрятанное оружие, Пудовкин и
Зархи, следуя законам кинематографической выразительности, обострили
столкновение характеров до предела, передали тем самым непримиримость
социальных интересов через личную трагедию героев. И эта, не предусмотренная
сюжетным ходом Горького, казалось бы, лишняя ситуация, но лежащая глубоко
в русле горьковского понимания жизненной драмы героев, стала одной из
лучших сцен фильма. Так что совершенство — отнюдь не всегда обязательное
освобождение от всего лишнего, как на этом настаивают поборники известного
изречения Родена. Вопрос в том, что такое это «лишнее» и как оно помогает
постижению жизни.
Важнейшей чертой режиссерского дарования Пудовкина было внимание
и уважение к творчеству актера. Человек всегда стоял в центре его творчества.
Нужно было иметь огромную художническую смелость и убежденность в своей
правоте, чтобы в период немого кино, когда в увлечении поисками
кинематографической выразительности профессиональный актер был почти забыт,
обратиться к актерам школы MX AT и пригласить на роль матери актрису Веру
Барановскую, а на роль Павла — Николая Баталова, прямых учеников и
сотрудников Станиславского.
Поиски Пудовкина в кинематографе определенным образом сопоставимы
с поисками Станиславского в театре, и это, разумеется, не случайно, так как
в основе художественной деятельности и того и другого мастера лежала
гуманистическая традиция русского национального искусства, то есть понимание
человека, человеческого, человечности как главнейшей цели и средоточия
любого художественного процесса.
Когда Пудовкин пришел в искусство, традиции МХАТ для многих казались
отжитыми и далеко не основополагающими. Пудовкин спорил как с теми, кто
нападал на суть «системы» Станиславского, так и с теми, кто неверно ее
истолковывал.
21
Несомненно, самым интересным для Пудовкина в «системе» Станиславского
было его учение о «сверхзадаче». Пудовкин неоднократно указывал на
Станиславского как на художника, умевшего в актерском творчестве быть таким же
великим диалектиком, каким был Толстой в литературе. Пудовкин говорил,
что эти два человека соединены для него в единый образ, потому что оба они
великие реалисты, для которых характерно и огромное внимание к окружающей
действительности, к каждому ее явлению, вплоть до мельчайших деталей, и
одновременно гениальная способность ни на секунду не упускать главного,
«сквозного действия», того, что делает каждое явление живым и
развивающимся, что органически связывает воедино любую деталь с общим, целым. Тем
самым Пудовкин определял прямую преемственность кинематографа как
искусства по отношению к русскому реалистическому театральному искусству
и великой русской литературе.
В самом деле, «система» Станиславского выросла из работы над воплощением
русской реалистической классики, из работы над произведениями Чехова,
Горького, Тургенева, Толстого, Достоевского. И, может быть, самое главное
ее значение на первом этапе развития состояло как раз в том, что благодаря
ей великие традиции русской реалистической литературы стали традициями
актерского и режиссерского творчества. Именно потому «система»
Станиславского давно перестала быть достоянием его непосредственных учеников или
одной только школы, одного театрального направления. Сейчас она
принадлежит всему советскому театру и кино, она находит свое развитие и выражение
во всех лучших спектаклях и фильмах, и с успешным ее применением связаны
удачи и достижения большинства наших режиссеров и актеров.
Самый важный результат «системы» Станиславского заключается в том, что
она воспитывает мыслящего актера. Станиславский потребовал от актера,
чтобы он был не простым лицедеем, пусть даже в совершенстве владеющим
физическим аппаратом, но мыслящим, передовым человеком своего времени,
своим творчеством активно вмешивающимся в действительность.
Мне, как и Пудовкину, не довелось ни работать со Станиславским, ни
непосредственно учиться у него. Если я считаю себя его последователем, то
потому, что я, как и Пудовкин, как и многие наши режиссеры, рос и формировался
на его спектаклях. Если же вспомнить героев чеховской и горьковской
драматургии, на которых выросла «система» Станиславского, то герои эти интересно
и много размышляли, и актеры, воспитанники Станиславского, воплощая
образы героев, не только овладевали логикой прямого физического действия,
но обязательно доносили до зрителя самый процесс их мышления.
Необходимость воспитания мыслящего актера встала во весь рост и перед
кинематографом. Пудовкин был одним из первых, кто понял это.
Процесс воплощения образов и событий в театре и кино — это прежде всего
процесс познания этих образов режиссером и исполнителями. Он неизбежно
по самому своему смыслу разбивается на два этапа: этап, который можно
условно назвать аналитическим и который состоит из воспитания и исследования
материала действительности, предложенного автором пьесы или сценария, и
этап, который можно назвать синтетическим и в котором полученные режиссером
и актером представления о действительности выкристаллизовываются в форму
художественных образов.
Ленинская теория отражения, определяющая всякий путь человеческого
познания, определяет и путь художественного творчества, являющегося особой
22
образной формой познания. Поэтому особенно важны и ценны те стороны
«системы» Станиславского, которые посвящены идейным основам актерского
творчества и разработаны в учении о «сверхзадаче» и «сквозном действии». Исходя из
«системы» Станиславского основой для работы актера является стремление
сознательно, логично, целесообразно действовать в данной конкретной задаче,
борясь за поставленную перед собой данную конкретную цель, то есть, как
говорил Станиславский, найти «сквозное действие» роли. При этом в основе
«сквозного действия» стоит некое общественное стремление человека, постигая
которое при помощи «системы» актер находит основную, ведущую идею образа
или, по определению Станиславского, «сверхзадачу».
«Система» Станиславского включает актера в сложнейший процесс образного
познания мира как полноправного соавтора драматурга и режиссера. Именно
это качество было особенно близко Пудовкину.
Пудовкин отчетливо понимал, что задача передавать процесс мышления
человека для киноискусства не менее важна, чем для театра. Сама основа
реализма Пудовкина, которая, впитав в себя традиции диалектического подхода
к человеку в сочетании с новейшими поисками в области кинематографического
языка, зиждилась на осмысливании, познании, а не только видении и
изображении, требовала включения актера в процесс творческого мышления. Поэтому
при всем разнообразии и, может быть, различии приемов, свойственных театру
и кинематографу, между поисками Пудовкина и «системой» Станиславского
возникала некая неизбежная общность в процессе работы актера над ролью как
в сфере анализа, так и в области синтеза. При этом Пудовкин ни на минуту
не забывал всех им же открытых и обоснованных преимуществ кинематографа
перед театром, поскольку на экране актер может быть приближен к зрителю
не только буквально, но и в самом широком значении этого понятия
средствами оптики и средствами монтажа.
Подходя к актеру, Пудовкин очень верил в мощь режиссерского
истолкования для актера образного замысла. Работая даже с исполнителями самых
маленьких эпизодов, Пудовкин считал своим долгом не только показать, как
играть,— а он был первоклассным актером,— но и объяснить актеру
свой замысел. Он обязательно всех актеров вводил в суть концепции фильма
и своих путей к научному познанию мира.
Когда, скажем, Пудовкин работал с Верой Барановской над образом
матери, то он должен был использовать весь литературный подтекст, все свое
личное понимание глубочайшей диалектики горьковского характера, чтобы
объяснить актрисе ее образную задачу. И в той самой знаменитой сцене, которая так
потрясла нас всех на первом просмотре — сцена в зале суда,—
сколько же Пудовкин должен был рассказать Барановской, чтобы она сумела так
сыграть.
Незабвенным для меня остается кадр, выражающий состояние Весовщико-
ва, друга Павла, которого играл актер Коваль-Самборский. Мы по простоте
сердечной считали его в те времена средним актером. Но когда на экране
возникла сцена —- мать выносит жандарму оружие и говорит сыну, что лучше
отдать, надеясь, что жандарм отпустит сына,— в ответ идет крупный план
Весовщикова. Сколько же было всего в его светлых глазах, в складке рта!
Столько, что можно было бы написать две страницы литературного текста его
внутреннего монолога: «Господи, что же ты, мать, простая душа, наделала! Да
ведь она мать, не надо сердиться, нельзя! Но мы- пропали!» Это был сгусток
23
мысли и чувства, и я, будучи еще, по существу, мальчишкой, не мог этого не
оценить — у меня слезы брызнули из глаз. Меня это ошеломило: какую же
надо было провести режиссерскую работу, ввести актера в процесс познания
жизни, чтобы актер превратился в результате объяснений режиссера в его
соавтора и так блестяще сыграл бы сцену!
Наряду с актерами школы Станиславского Барановской и Баталовым
Пудовкин работал с так называемыми «типажами». Например, на роль отца
Власова Пудовкин пригласил не актера, а «дядю Сашу», как мы его называли,
А. П. Чистякова. И вот что интересно: воспитанник Пудовкина, Чистяков
впоследствии стал великолепным актером и снимался во многих фильмах.
В обычном, так сказать, спонтанном поведении «дяди Саши» Пудовкин увидел
потенциального актера и волею режиссера родил его из небытия.
Какую же он должен был проделать педагогическую режиссерскую работу,
чтобы сделать Чистякова, совершенно к этому не подготовленного, соавтором,
соучастником режиссерского замысла?
Удивившее всех в то время соединение, казалось бы, несоединимых
величин — опытной театральной актрисы Барановской и, по сути, «типажа»
Чистякова — на самом деле представляло осуществление определенной творческой
закономерности. Устанавливая законы кинематографической выразительности,
Пудовкин видел в том или другом исполнителе-актере не профессионала,
зачастую со всеми тянущимися за ним навыками и штампами, а прежде всего
скрытое в нем человеческое начало. И ему поразительно удалось своеобразное
равновесие: Барановская была как бы разгримирована от всех своих
ролей, а Чистяков обучен актерскому искусству. И уж если говорить
о последующем опыте итальянских неореалистов в отношении их работы с
актерами-профессионалами и актерами-«типажами», то все это было зачато там,
в недрах советского кинематографа 20-х годов, и в частности в «Матери»
Пудовкина. Этот его опыт и поныне отражается в работе многих и многих
советских режиссеров, и каждый режиссер, любящий работу с человеком в
кинематографе, стремящийся отыскать в актере прежде всего его
индивидуальность, личность, человеческое, сознательно или бессознательно идет по пудов-
кинскому пути.
Был ли Пудовкин педагогом в абсолютном значении этого слова? Он
начинал свой путь в кинематографе с критического освоения разных школ в стенах
раннего ГИКа: школы Гардина и школы Кулешова. Во всей своей дальнейшей
работе Пудовкин сохранял черты, заложенные его первыми учителями: любовь
к актеру, унаследованную от Гардина, и любовь к острой киновыразительнос-
ги, унаследованную от Кулешова. Впоследствии, став одним из создателей
кинематографической теории и практики, естественно, Пудовкин, по существу,
явился и крупнейшим педагогом. Он с огромным интересом всегда относился
к ВГИКу, следил за судьбами его выпускников, помогал им стать на ноги
профессионально — то выступлением в прессе (вспомним, например, его
статью «О творческом воспитании»), то непосредственным прямым приглашением
на роль в своей новой картине. Но в последние годы жизнь его сложилась так,
что практической педагогикой в стенах ВГИКа он не занимался.
Зная его интерес к теоретической работе и полагая, что в области, скажем,
воспитания мыслящего актера он мог бы дать, как никто другой, много, я
неоднократно уговаривал Пудовкина начать заниматься педагогической
систематической работой во ВГИКе. Но он был свято убежден, что педагогическая ра-
24
бота ему противопоказана, и каждый раз в ответ на мои уговоры, смущенно
ухмыляясь, отвечал:
— Я нисколько не педагог!
Вероятно, ему мешала застенчивость и не хватало систематичности
практики, но если взглянуть на это дело с точки зрения режиссерской
педагогики, то умение провести актера сложнейшим путем познания от замысла
к созданию образа живого человека было присуще Пудовкину, как только
немногим из кинорежиссеров мира.
Работая с актером, Пудовкин на протяжении всего своего творчества был
очень внимателен к соотношению возможностей игры актера с возможностями
кинематографа как искусства зрительного образа. Особенно много он думал
над этим в последний период своего творчества, работая над фильмом
«Возвращение Василия Бортникова» по роману Г. Николаевой «Жатва». В то время
реально существовала опасность некоей театрализации актерской игры в
кинематографе, когда слово заполнило экран не только как словесное действие,
необходимое для передачи мысли, но и просто как средство информации, порой
подменяющее собой развитие мысли. Пудовкин много думал о необходимости
лаконизма, сжатости речи, о передаче всего комплекса мыслей и чувств героев
наиболее кратким, доходчивым путем. Он решил использовать возможности
крупного плана для дополнения и углубления актерской игры, ограниченной
неизбежной краткостью диалога. Пудовкин боролся за сохранение зрительного
образа, который был найден немым кинематографом, он заботился о сохранении
силы и чистоты кинематографического языка, который в сочетании с игрой
актера давал действию новое качество, недоступное театру.
Так, в фильме «Возвращение Василия Бортникова», где все действие было
ограничено в основном рамками одной семьи, где не было широкого фона
общественных событий, Пудовкин сознательно ввел вышедший из моды
крупный план. Когда Бортников видит шрам на лице Степана (шрам дан крупно),
он понимает не только то, что Степан тоже воевал, как и он сам, и тоже вышел
из войны поломанным, но и то, что без злого умысла Степан встал на его пути и
по тому же великому трагическому счету войны имеет не меньше прав на жизнь,
на семью, чем он сам. И Бортников, поняв общность их судеб, внутренне
оправдывает своего врага.
Этот пример дает очень многое. Пудовкин, поставив вопрос, не утратил
ли звуковой кинематограф свои права на монтажный зрительный образ, на
деталь, на крупный план, выделил шрам монтажно как могучий действенный
элемент и выиграл сражение, потому что за этими кадрами вставала
предыстория человеческих отношений, расширялся общественный диапазон действия,
и все это доносилось всем зрительным образом фильма, а не только словом.
Много думал Пудовкин и над соотношением слова и жеста. Мы часто
спорили с ним об этом, Пудовкин был убежден в примате жеста над словом и
всегда, страшно ярясь, споря и крича, убеждал меня таким примером:
— Ну что ты споришь против очевидного! Вот я говорю: вон! Сперва я
показываю рукой, а потом уже говорю: вон!
Я соглашался, что кое-что этот пример доказывает, если идти от
эмоционального жеста, передающего, приказательного, но ведь можно привести и
множество совершенно обратных примеров. Если идти по логике, что слово —
окончательное и прямое выражение идеи, то при этом допустить, что жест
может опережать слово, с моей точки зрения, никак нельзя. Я доказывал Пудов-
25
кину, что слово и жест настолько внутренне слиты, связаны между собой, что
их делить вообще не стоит. А сколько есть жестов, которые вообще ничего не
выражают! Сложно делить и контролировать этот спонтанный процесс. Во
всяком случае, я бы не взялся. Так мы спорили.
Но как бы ни шел поиск Пудовкина в области кинематографического
языка, как бы он ни использовал все его выразительные возможности — и ритм,
и паузы, и музыкальность фраз,— в центре внимания Пудовкина всегда был
человек, а следовательно актер. Причем именно самостоятельно мыслящий
актер, прямой соавтор режиссера. Только такой актер давал возможность
Пудовкину осуществить его основную творческую установку: прийти к обобщению,
выраженному через судьбу отдельного человека, который при этом сохранял
в себе все черты реальной, именно этой человеческой индивидуальности.
Пудовкин стремился соединить глубину проникновения в содержание с
утонченным мастерством формы — этот вечный принцип реалистического искусства
был для него вершиной, к которой он стремился. Для него,
художника-реалиста, было существенно возбудить в зрителе сознательную реакцию, заставить
его пройти вместе с героем и автором весь процесс образного познания жизни,
прожить все сложное соединение не только чувственных, эмоциональных, но и
нравственных, рациональных опосредовании. И я вполне понимаю и разделяю
непримиримость Пудовкина к натурализму в искусстве. Он постоянно говорил
об односторонности, ограниченности натурализма, для которого важно, чтобы
на экране было как можно больше прямых физиологических элементов бытия,
так как от этого усиливается непосредственная реакция зрителей.
Он не раз говорил: ненавижу, когда на экране просто едят, нелепейшая
трата метража! Это так понятно, что человек, раз он живет, должен поедать
пищу, зачем же этими процессами заполнять экранное время.
Мы спорили, я доказывал ему, что если посмотреть, как течет жизнь
человека, то, вероятно, вся она, за исключением тех моментов, когда возникают
акции социального, политического порядка, когда люди спорят, когда
сталкиваются идейные и нравственные позиции, за исключением этих моментов вся
жизнь заполнена обиходными делами, которые составляют ткань живой
жизни, а между тем люди продолжают жить напряженной нравственной и
умственной жизнью. Я доказывал ему шаткость его позиции, но прекрасно понимал
внутреннюю направленность протеста Пудовкина: он любил человека, верил
в него и потому ненавидел тенденцию принижения человека до уровня
животного. Нет ничего враждебнее творчеству Пудовкина, чем такая позиция.
Великий гуманист, всем своим творчеством утверждазший мужественную
любовь к жизни и человеку, стремившийся к максимально глубокому
постижению объективных законов жизни во имя человека, Пудовкин внес огромный,
до конца еще не оцененный вклад в развитие советского реалистического
кинематографа и всего мирового киноискусства.
Жизнелюбие Пудовкина не знало границ. Не было понятий более
противостоящих, чем Пудовкин и смерть. Мне не привелось увидеть его на смертном
одре — я узнал о его кончине, будучи далеко, в Монголии, и, потрясенный до
26
глубины души, многие дни не мог уложить в своем сознании это сообщение как
реальность. Так он и остался перед моим умственным взором человеком вечно
живым, шагающим по летней или зимней улице с той степенью
всепоглощающей увлеченности, устремленности, которая была главной сутью его характера
и которая составляет сконцентрированную сущность самой профессии,
которой он служил всю жизнь,— профессии кинематографического режиссера.
А. Грошев
Творческое наследие
В. И. Пудовкина
Имя выдающегося кинорежиссера и теоретика кино Всеволода
Илларионовича Пудовкина по праву стоит рядом с именами С. Эйзенштейна, А.
Довженко, Ч. Чаплина, Р. Клера, Ж. Ренуара и других классиков мирового
кино. Не случайно в 1958 году в Брюсселе Международное бюро по истории
кино включило фильм В. Пудовкина «Мать» в число двенадцати лучших
кинокартин всех времен и народов.
Еще на заре развития советского кино Пудовкин одним из первых среди
кинематографистов поставил в центр внимания человека, того нового человека^
которого подняла и вырастила революция. В фильме «Мать», созданном им
по одноименному произведению М. Горького, впервые в советском кино
появился яркий реалистический образ рабочего-революционера, отразивший
типические черты своего класса.
На протяжении всей жизни Пудовкин каждым своим произведением
откликался на самые острые, самые актуальные вопросы действительности. Он
всегда шел в ногу со временем, дышал одним дыханием со страной, жил одной
жизнью со своим народом и, как художник-коммунист, своим искусством
всемерно помогал партии в ее важном и благородном деле культурного воспитания
масс.
В. Пудовкин был не только режиссером ряда крупных немых и звуковых
кинофильмов, но и автором многих книг и статей, которые являются ценным
вкладом в современную марксистскую науку о кино, служат серьезной и
твердой опорой в полемике с модернистскими веяниями в области эстетики, в
утверждении реалистических, народных, идейных начал в киноискусстве.
Пудовкин был одним из первых, кто прозорливо осознал уже тогда
подлинную сущность кинематографа как нового способа отражения
действительности, кто угадал огромные познавательные возможности нового искусства.
Его с полным основанием можно назвать первооткрывателем специфики
киноискусства. И дело не только в открытии совершенно новых возможностей формы
киноискусства, главное заключается в новых методологических принципах
подхода к форме и содержанию кино.
В решении проблем формы В. Пудовкин, С. Эйзенштейн, Л. Кулешов не
были одиноки. Интенсивные поиски языка кино занимали и теоретиков
немецкого экспрессионизма и группу молодых французских авангардистов. Но как
28
те. так и другие прежде всего пытались выразить в фильмах свой собственный
мир, противопоставляя его реальной, объективной действительности. Советские
новаторы кино, и в том числе В. Пудовкин, ставили перед собой совершенно
иные задачи, исходя из тех требований, которые выдвинула перед работниками
культурного фронта новая революционная действительность.
Как подчеркивал прогрессивный итальянский режиссер и теоретик
киноискусства Карло Лидзани, «дискуссия о кино, о языке кино в Советском Союзе
происходила на уровне более высоком, чем выработка одних лишь чисто
теоретических формулировок. Монтаж, кадр, соответствие между формой и
содержанием, между темой и кинематографическим изложением — вот вопросы,
которые ставила растущая советская кинематография, находившая в
неразрывной связи с действительностью, в преданности делу революционного
преобразования общества новые законы, способные содействовать выработке и
развитию все более самостоятельного и действенного кинематографического
языка» *.
«Советские авангардисты,— как свидетельствует историк Ежи Теплиц,—
нередко цриходили к тем же выводам, что и французы. Ио при всех своих
ошибках русские никогда не забывали об общественном смысле кино **.
Действительно, главным, что определяло поиски С. Эйзенштейна, В.
Пудовкина, А. Довженко, Д. Вертова, было стремление найти такие художественные
формы, посредством которых можно было бы наиболее полно и глубоко
отобразить гигантский процесс революционного преобразования Страны Советов,
духовного обогащения советских людей. В основе этих поисков лежал принцип
понимания общественных, гражданских задач искусства и его тесной связи
с революционной действительностью.
В 1926 году вслед за «Броненосцем «Потемкин» С. Эйзенштейна,
воплотившим особенности монументально-героического эпоса, где в основе
драматического конфликта фильма лежит борьба классов, масс, появляется «Мать», фильм,
определивший собой новое направление в киноискусстве, направление
реалистической драмы, где социальные конфликты раскрываются через судьбу
индивидуальных героев, типических героев в конкретной исторической
обстановке. Разные по стилю, эти два фильма явились утверждением в киноискусстве
метода социалистического реализма.
В фильме «Мать» выбор приемов съемки был органично связан со смысловым
содержанием сцен и их режиссерским и актерским решением. Как и В.
Пудовкина, сценариста Н. Зархи и кинооператора А. Головню одинаково
интересовали мир человеческих мыслей и чувств, человеческие судьбы и интересы,
желания и мечты. «Я бы определил свою установку, ту задачу, которую я
каждый раз себе ставлю,— говорил в одной из лекций во ВГИКе Н. Зархи,— как
обязательство раскрыть человека по степени значимости и силы его
основного стремления».
А. Головня считал своей первейшей задачей раскрыть средствами своего
искусства внутренний строй души, глубинные черты характера.
Удача экранизации повести «Мать» была обусловлена не только сценарным,
режиссерским, операторским решением, но также и высоким искусством ис-
* Карло Лидзани, Итальянское кино, М., «Искусство», 1956, стр. 73—74.
** Е ж и Теплиц, История киноискусства (1855—1927), М., «Прогресс», 1968,
стр. 186.
29
полнителей. На главные роли фильма В. Пудовкин пригласил артистов
реалистической школы MX AT. Вопреки бытовавшим в то время в кино
формалистическим теориям (актер—вещь), Пудовкин доказал, какую большую силу в
кинематографе имеет актерская выразительность, основанная не на механической
тренировке, а на творческом перевоплощении, на вживании в образ. _
Если обращение к произведению М. Горького явилось важным источником
утверждения реализма в киноискусстве, то сценический опыт MX AT,
привнесенный в кино, оказался не менее важным фактором, сыгравшим огромную
роль в процессе становления советской кинематографической школы.
В «Матери» монтажный, поэтический кинематограф обогащается, впитывает
в себя лучшие традиции старших искусств — реалистической литературы и
реалистического русского театра.
Творческая линия, начатая фильмом «Мать», была продолжена В.
Пудовкиным в фильме «Конец Санкт-Петербурга», фильме о перевоспитании
деревенского, безграмотного парня в активного борца революции. Этот фильм был
произведением в основе своей эпическим, широко отражающим революционное
движение народа, но построенным на прочном сюжете. На экране жил и
действовал герой с характерными, типическими чертами — деревенский парень,
который еще не имел собственного имени, его так и звали — Парень, что как бы
подчеркивало связь его судьбы с судьбой миллионов таких, как он.
В следующем фильме, «Потомок Чингис-хана», В. Пудовкин стремился
раскрыть большую социальную тему — тему борьбы с английским
империализмом, покушавшимся на национальную и государственную независимость
народов Востока,— через индивидуальную судьбу простого монгола Баира. Рассказ
писателя И. Новокшонова, послуживший литературной основой фильма,
заинтересовал Пудовкина не только своей сюжетной остротой, но и прежде всего
возможностью показать процесс становления характера, процесс роста
революционного сознания человека из народа на новом материале и в новом героико-
приключенческом жанре.
Фильмы «Мать», «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингис-хана»
В. Пудовкин ставит в один ряд, «потому что они,— пишет он в своей
биографии,— составляют цельный и законченный этап...».
Герои всех этих трех кинокартин — Ниловна, Парень и Баир — проходят
один и тот же путь развития, они близки друг другу по своему внутреннему,
духовному миру. Все они рядовые люди-из народа, подхваченные волнами
революции. Прозрение, приятие революции и активное участие в ней являются
кульминационным пунктом, высшей точкой развития каждого из этих образов.
К этому высшему пункту и стянуты все драматургические нити каждого из
произведений.
Избрав путь художественного обобщения через образ человека,
сосредоточив главное внимание на средствах актерского исполнения, Пудовкин не
отказался от богатого арсенала пластических изобразительных средств экрана.
В содружестве с оператором А. Головней он открывал в киноискусстве его
новые изобразительно выразительные возможности. Ни движение камеры, ни
ракурс съемок не становились для него самоцелью.
В своих фильмах Пудовкин часто прибегал к обобщенно-символическим
кадрам. Как правило, они были ясны по мысли и эмоциональны по выражению,
изобразительно выразительные средства в них не отвлекали внимания
от главного, а, наоборот, помогали понять более глубоко авторскую мысль.
30
Окружающая героев среда, бытовые детали, пейзаж — все в немых и
звуковых фильмах В. Пудовкина и А. Головни строго подчинялось выявлению
смысла, поведения и поступков людей, а через них — идеи произведения.
Начало 30-х годов для Пудовкина — трудное время поисков,
экспериментов, работы над фильмами, которые по сравнению с классической трилогией
немого периода трудно назвать удачными. Конечно, справедливы слова
В. Шкловского о том, что «искусство часто продвигается вперед благодаря
постановке неразрешимых задач и ошибкам», но все же картины «Простой случай»,
«Дезертир», «Победа» следует расценивать как освоение возможностей
звукового кино, как пробы творческих сил для нового броска вперед.
Фильм «Простой случай», от участия в создании которого отказался А.
Головня (его не устраивал патетически-условный характер сценария), не принес
успеха, хотя Пудовкин бился над ним несколько лет.
Значительно интереснее «Дезертир» — первый звуковой фильм режиссера.
Сценарий о революционной борьбе нвхмецкого пролетариата был далек от
совершенства, но блестящие съемки А. Головни — документальные по характеру
и виртуозные по композиционным и светотональныи решениям, новаторство
режиссера в области монтажа звукового фильма оставили след в развитии
советского киноискусства.
Фильм 1938 года «Победа» — очень интересный по теме: он посвящен
советским стратонавтам — был посмертной данью соратнику по искусству Н.
Зархи, по сценариям которого ставились «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга».
Н. Зархи погиб, не закончив сценарий «Победы», и это не прошло бесследно
для картины...
Но завершаются предвоенные годы в творчестве Пудовкина фильмами
«Минин и Пожарский» и «Суворов», в которых вновь торжествуют творческие
принципы режиссера, его приверженность к крепкой драматургии, к изображению
характера человека, к искусству актера. «Суворов» — один из шедевров
советского звукового кино, не потерявший своей художественной силы и сегодня.
В годы Великой Отечественной войны Пудовкин руководит созданием
«Боевых киносборников», ставит фильмы — «Пир в Жирмунке» и «Русские люди»,
создавая образы замечательных советских патриотов.
А после войны — еще две историко-биографических картины: «Адмирал
Нахимов» и «Жуковский», поставленные опытным и пытливым мастером. Они
снискали широкое признание, но не потушили желания работать над
современной темой. Поэтому не случайно в 50-е годы внимание В. Пудовкина привлек
роман Г. Николаевой «Жатва». Свой замысел фильма режиссер изложил в
статье «О драматизме событий и личной судьбе героев», которая как бы вводила
будущего зрителя в лабораторию поискбв художника и одновременно
затрагивала важные теоретические проблемы. Это, во-первых, вопрос о том, как
впечатляюще передать на экране образы литературного произведения в их
развитии^ сочетании их личных и общественных интересов. Во-вторых, это поиски
наиболее полного выражения идеи, составляющей живую душу кинопроизведе-
ния, в ясной и яркой художественной форме. Здесь В. Пудовкин выступал
против риторики и иллюстративности в сценарии, которые неизбежно —
будучи воплощены в фильме — снижают силу его эмоционального воздействия на
зрителя, ослабляют его воспитательную роль.
В. Пудовкину не удалось до конца воплотить свой творческий замысел
при экранизации романа «Жатва». Драматургически неровный сценарий с при-
31
внесенной в него надуманной «проблемой соосности», носящей чисто
технологический характер, не дал возможности воплотить с одинаковой силой
убедительности все эпизоды фильма. Однако образы Василия и Авдотьи Бортниковых
могут быть отнесены к числу наиболее удачных в нашей послевоенной
кинематографии.
В работе над последней картиной В. Пудовкин остался верен своему
творческому принципу. Его внимание было направлено прежде всего на глубокое
раскрытие духовного мира советского человека. Окружающая героев фильма
среда, бытовые детали, пейзажи — все строго подчинялось раскрытию смысла
поступков людей, а через них — раскрытию и идеи произведения.
Творческое наследие В. И. Пудовкина включает не только поставленные им
фильмы, но и его труды о природе киноискусства, о своеобразии его
выразительных возможностей, о его месте в общественной жизни, его целях и задачах.
Борьбу за идейность киноискусства, простоту и ясность кинематографической
формы Пудовкин вел не только в художественной практической деятельности,
но и в теории и критике. Теоретические взгляды Пудовкина изложены в широко
известных в нашей стране и за ее пределами книгах «Кинорежиссер и
киноматериал» (1926), «Киносценарий» (1926), «Актер в фильме» (1934), большом
количестве статей в газетах и журналах, в стенограммах его многочисленных
выступлений, докладов, лекций.
Вся деятельность В. Пудовкина — удивительный пример слитности
личного и общественного в творчестве подлинно народного советского художника.
Эйзенштейн охарактеризовал его как «человека патетического склада». Все,
что бы он ни делал, он делал страстно, одержимо, буквально
наэлектризовывая своих зрителей, слушателей, читателей пафосом и убежденностью.
В творческой, организационной и теоретической работе Пудовкин стремился
к полноте, предельности самовыражения и одновременно был глашатаем
мыслей и чувств большинства своих современников. Несомненно и теоретические
работы Пудовкина несут этот неповторимо личностный отпечаток. Его теория
всегда следовала за практикой, в ее недрах зарождалась и, следовательно, несла
на себе отпечаток художественной неповторимости. Пудовкин сам говорил об
этой своей особенности: «Я задаю себе вопрос — могу ли я работать так:
сначала создать точную, ясную, проработанную теорию того, как я должен делать
картину... и только после этого начать работу. Я честно признаюсь на основе
прежнего опыта, что не могу так работать и не работал никогда».
Большинство теоретических работ Всеволода Илларионовича Пудовкина
родилось не ь результате специальной систематической, планомерной
разработки научных проблем в тиши кабинета. Все, что он писал, было прежде всего
плодом осмысления его собственной творческой практики, его режиссерских
поисков. В каждом своем фильме, в каждой статье, в каждом выступлении
он решал задачи, стоящие в тот момент перед всем советским
киноискусством.
Удивительна актуальность теоретических работ Пудовкина: 20-е годы —
в центре внимания кинематографистов вопросы специфики киноискусства —
появляются работы «Киносценарий» и «Кинорежиссер и киноматериал»;
30-е годы — одна из острейших проблем — актерское мастерство — создается
книга «Актер в фильме» и ряд статей о «системе» Станиславского в кино.
Теоретические изыскания Пудовкина всегда шли в основном русле развития
киноискусства и отражали его насущные потребности.
32
Взгляды В. Пудовкина с течением времени претерпевали определенную
эволюцию, уточнялись, развивались, углублялись. Но при этом в них
отчетливо сквозила верность самого мастера некоторым основным, фундаментальным
принципам.
С самых первых своих работ В. Пудовкин отстаивал мысль о высоком
предназначении кино как искусства, о его реалистической природе и сущности.
Рассуждая о специфических особенностях кинематографа, о его
изобразительно-выразительных художественных средствах, включающих монтаж, ритм,
смену планов и ракурсов, утверждая первоосновой фильма литературный
замысел, ратуя за коллективный характер кинотворчества, выступая против
ошибочного толкования кинематографа как суммарного, механического синтеза
различных видов искусств, В. Пудовкин настойчиво повторял, что основная
задача художника — глубокое познание действительности.
В. Пудовкин, говоря об общественном характере киноискусства, решительно
выступает против простого описательства и фактографии. На первый план
в творчестве сценариста, режиссера, актера он выдвигает мировоззрение,
сознание художника, необходимость творческого преломления им фактов
действительности при отражении их на экране.
Художник, который пытается в своем творчестве бескрыло копировать
действительность, не вскрывая в отдельных явлениях жизни их внутренних
связей, не осмысливая и не обобщая виденное им с позиций передового
мировоззрения, вряд ли сможет создать подлинно боевое, целенаправленное, нужное
народу художественное произведение. Вот почему Пудовкин писал: «Наш
художник... прежде всего стремится к правде. Не к маленькой, индивидуальной,
иногда только кажущейся «правоте», а к большой, объективной, рожденной
и подтвержденной движением истории конкретной правде, к которой стремится
все лучшее, что есть в человечестве».
Более подробно разбирает Пудовкин этот вопрос в статье «Реализм,
натурализм и «система» Станиславского». Художник-реалист всегда стремится
возможно глубже проникнуть в то или иное явление действительности, показать
его подробнее, с проработкой мельчайших деталей. «Но всегда,— пишет В.
Пудовкин,— его изображение будет подчинено, если можно так выразиться,
«познавательной перспективе» — самое важное, самое характерное неизменно
будет впереди, менее характерное или более случайное будет отделяться».
«Без мысли нет искусства», «нет большого искусства без убежденности
художника»,— говорит Пудовкин. Сила советского реалистического
киноискусства — в его высокой идейности, которая помогла завоевать ему мировую славу.
«Не в особой одаренности отдельных художников было дело,— таланты есть
повсюду, дело было в том, что в советских произведениях неизбежно
присутствовал мощный, живой дух победившего пролетариата».
Справедливо отмечая в ряде своих работ, что определяющим моментом
художественного творчества является умение мастера путем отбора и
заострения черт характера создавать яркие типы, отражающие как положительные,
так и отрицательные стороны действительности, Пудовкин приходит к выводу,
что художественное мастерство непосредственным образом связано с
партийностью киноискусства, понимая партийность в киноискусстве прежде всего
как последовательную и настойчивую борьбу художника средствами своего
искусства за коммунистические идеалы, как сознательное посвящение своего
творчества интересам народа.
2 в. Пудовкин, т. 1
33
Таким образом, проблему партийности искусства В. Пудовкин
рассматривает в неразрывной связи с народностью его. Он писал: «Великая честь и слава
художнику, которому хотя бы частично удалось вобрать в свое создание общие
мысли и чувства народа. Такой художник может справедливо гордиться».
Мысль об общественном характере киноискусства он развивает в статье
«Без мысли нет искусства».
«Конечно,— говорит Пудовкин,— каждый художник индивидуален.
Конечно, его произведение непосредственно связано с субъективными мыслями,
чувствами и ощущениями. Но ведь эти мысли, чувства и ощущения бывают
разными, даже у одного и того же человека. Многое нам только «кажется»,
в другом мы убеждены. Истинный художник не имеет права строить свое
произведение на том, что ему «показалось» интересным или важным. Эта важность
при проверке может оказаться случайной. Не все личное является нужным
и интересным народу, для которого в конце концов произведение создается.
Только то, в чем художник глубоко убежден и в чем он хочет
непременно убедить всех, достойно быть положенным в основу его
творческой работы. Сила лучших созданий нашего искусства именно в этом
неодолимом стремлении художников ясно передать всем мысли, в верности
которых они предельно убеждены, и в том, что эти мысли являются плодом
творческой сознательной работы огромного коллектива».
В статье по поводу фильма «Соловей-соловушко» Пудовкин писал: «Когда
речь идет о больших партийных задачах, стоящих перед искусством, когда речь
идет о помощи партии в ее колоссальной работе, то под содержанием
произведения искусства нужно подразумевать не только то, что можно изложить словами,
что вытекает из сюжета, из поведения и поступков действующих лиц. Нет.
К содержанию относится также и то, каким образом формально разрешает
режиссер все стоящие перед ним даже самые маленькие задачи».
Действительно, какими бы высокими и значительными ни казались идеи
и мысли, положенные в основу произведения,— будучи облеченными в
непонятную для народа или плоскую, иллюстративную форму, они теряют свою
силу. Такие произведения оставляют зрителя безучастным к судьбе героев,
не волнуют его и тем самым не выполняют своей воспитательной функции.
В своих теоретических работах немого периода В. Пудовкин, как и
другие кинорежиссеры поколения революции, рассматривали киноискусство как
искусство прежде всего изобразительное, пластическое. Уже на этом этапе
кинематограф как самостоятельное искусство обнаружил мощнейший арсенал
художественных приемов (монтаж, ритм, ракурс, крупный план, деталь и т. д.),
выявив в сравнении с другими искусствами особо развитую «возможность
свободно оперировать временем и пространством». И, как позднее (1933 г.)
указывал В. Пудовкин, «эти приемы составляют неотъемлемую, так называемую,
формальную сторону работы художника во всяком искусстве.
Обе стороны, составляющие условность произведения искусства, как
мировоззрение художника, определяющее сущность содержания произведения, так
и сумма художественных приемов, которыми это содержание может быть
выявлено в определенной форме,— в процессе развития всякого рода искусства
неразрывно связаны между собой, зависят друг от друга и всякий разрыв
неизбежно уводит художника на неверный путь».
Проблема условности в киноискусстве и сейчас вызывает особый интерес.
Технические свойства кинокамеры, возможность непосредственно наблюдать
34
и фиксировать течение самых глубинных процессов жизни во всех ее стадиях
дают повод некоторым теоретикам Запада свести специфику кино к природе
фотографического образа, механически регистрирующего факты. Кино,
утверждает Кракауэр, «является самим собой лишь в том случае, когда
регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность».
Точка зрения Кракауэра типична для определенной, отнюдь не меньшей
части современных кинематографистов Запада, которые, опираясь на подобные
теоретические высказывания, отказываются от традиционных категорий
искусства, пренебрегая основной целью искусства — объясняя, переделывать мир
во имя сознательно понятой человечности. Слов нет, киноискусство, которое
отображает жизнь в формах самой жизни, по своей природе пространственно-
временных, является искусством самым правдивым и точным. Но значит ли
это, что оно лишено той условности, которая присуща другим видам искусства?
Нет, конечно.
«Произведение искусства,— писал В. Пудовкин,— передает результат
познания действительности через условное изображение ее. Условность этого
изображения определяется, с одной стороны, осознанием и пониманием
действительности и ее объективных законов (то есть мировоззрение художника),
а с другой — теми техническими возможностями, которые художник находит
в каждом виде искусства и использует их для наиболее полной и наиболее
впечатляющей передачи того, что им, художником, воспринято, почувствовано и
понято».
Таким образом, условность формы, по мнению В. Пудовкина, определяется
прежде всего объективным содержанием, которое заключено в данной форме.
С учетом этого положения В. Пудовкин и проводил свои обстоятельные
аналитические исследования художественных возможностей ж особенностей
кинематографа.
Уже в первых своих больших работах, «Киносценарий» и «Кинорежиссер
и киноматериал», В. Пудовкин разбирает природу и специфику кино как нового
вида искусства. И прежде всего его внимание привлекает вопрос о роли
монтажа в кино.
Ныне едва ли оспоримо положение о том, что монтаж как мощное
выразительное средство киноискусства должен быть подчинен логике развития
сюжета и действия в фильме, задаче наглядного раскрытия идеи кинопроизведения.
Но в начальные годы развития советского кино это утверждение было
отнюдь не аксиомой, не широко распространенным мнением. Нередко монтажу
придавали самодовлеющий характер: считалось важным и главным не то, что
заснято на пленку, что в самом кадре, а только то, что рождалось в монтаже
из сопоставления и столкновения отснятых кусков. По сути дела, вся
творческая работа над созданием фильма порой сводилась к монтажу.
Еще в период учебы в коллективе Л. Кулешова, В. Пудовкина, который шел
за своим учителем, поразила техническая возможность монтажа, посредством
которого киноискусство обладает возможностью создавать свое собственное
кинематографическое время и свое собственное кинематографическое
пространство. Это было время рождения так называемого «эффекта Кулешова».
Путем определенной склейки кусков пленки Л. Кулешов создавал на
экране «творимую земную поверхность» — по собственному его выражению:
иллюзорно новые пространственные и временные отношения, несуществующих
людей, несуществующее движение. Эти опыты помогали глубже понять и опреде-
2*
35
лить пути использования выразительных средств кинематографа. В то же
время они, восхищая техническими возможностями монтажа, порождали у
некоторых новаторов кино, в том числе и у Пудовкина, взгляд, преувеличивающий
роль в киноискусстве этого выразительного средства.
Но В. Пудовкин очень скоро пришел к мысли о том, что монтаж является
прежде всего средством отражения реального мира. К этому утверждению он
пришел на основе собственной художественной практики и в результате
анализа монтажных теорий других новаторов кино.
В. Пудовкин подробно анализировал принципы разного отношения к
монтажу в творчестве режиссеров первых лет советского кино, и прежде всего
Л. Кулешова и Д. Вертова, по его словам, «зачинателей монтажной
практики», которые шли в одном направлении, но разными путями.
«Первый установил исходные принципы примитивного, описательного
монтажа, в котором снимаемое явление может быть снято разными планами
(крупными, общими, средними) и вместе с тем все куски могут быть связаны в одно
непрерывное целое по их простейшему признаку — по форме движения.
Второй дал обширный материал примеров разнообразных ритмических
построений. Соединяя случайные куски, не связанные между собой заранее
построенным движением, Вертов вместе с тем показал примеры такого монтажа,
в котором отдельные куски соединяются не по внешнему, а по их внутреннему,
смысловому содержанию».
С особым вниманием и интересом В. Пудовкин относился к монтажным
поискам С. Эйзенштейна, который, по выражению В. Пудовкина, «просто и
естественно пошел дальше» Кулешова и Вертова.
У Эйзенштейна монтаж, отмечает Пудовкин, — «прежде всего монтаж,
идущий по смысловой линии». «Монтаж у Эйзенштейна стал обозначаться как
язык, выявляющий не только форму вещей, но и отвлеченные понятия». По
мнению Эйзенштейна, из конфликтов—столкновений кадров «рождаются у
зрителя эмоциональные состояния и интеллектуальные понятия».
Высоко оценивая достижения Л. Кулешова, Д. Вертова и С. Эйзенштейна,
В. Пудовкин в то же время выступал против фетишизации монтажа,
формалистического его толкования.
Сам В. Пудовкин рассматривает монтаж как «логику кинематографического
анализа», как средство отражения реального мира. Он указывает, что «всякое
явление протекает не только в пространстве, но и во времени, и, подобно тому
как было создано последовательностью выбранных кусков экранное
пространство, должно быть создано и экранное время, слитое из элементов реального».
Достоинства монтажа во многом определяются правильно найденным
ритмом, а в свою очередь «ритм зависит от относительной длины куска, длина же
кусков находится в органической зависимости от содержания каждого
отдельного куска».
Роль монтажа в кино Пудовкин видит не только в последовательной
передаче развития сюжета, не только в показе действий, происходящих одновременно
в разных местах. Монтаж делает автора фильма активным наблюдателем жизни,
при помощи монтажа создается возможность путем определенных
противопоставлений заснятых кадров управлять вниманием зрителя, наталкивать его на
сравнения, обобщения, выражать отношение автора к изображаемому
материалу. Монтаж есть «развиваемый киноискусством метод выявления и живого
показа всех от поверхностных до самых глубоких связей, существующих в ре-
36
альной действительности»,— писал Пудовкин и считал, что монтаж неотделим
от авторской мысли, «мысли анализирующей, мысли критической, мысли
синтезирующей, объединяющей и обобщающей».
К вопросу монтажа он возвращается не раз в ряде своих работ.
Он неоднократно указывал на то, что монтаж не может быть безразличным
к содержанию, что он есть «мощное средство впечатления и поэтому овладение
им и его законами является необходимым всякому кинематографическому про-
изв о дств еннику».
Проводя мысль о реалистической природе кинематографа, Пудовкин
настойчиво ратует за овладение средствами авторского воздействия на зрителя,
средствами продуманной, творческой организации снимаемого жизненного
материала.
Уже в 1923 году в одной из первых своих статей, «Время в кинематографе»,
он отмечает, что хаос, нагромождение приемов не может характеризовать
искусство с лучшей стороны, «ибо только порядок обусловливает истинную
творимую форму, а только такая форма впечатляет в плане высокого искусства».
В. Пудовкин настойчиво проводил мысль о больших возможностях,
которыми владеют кинематографисты, «обрабатывая» реальный жизненный
материал.
В статье 1925 года «Фотогения» В. Пудовкин полемизирует с французским
теоретиком и сценаристом Луи Деллюком, сводящим фотогению к красоте
объекта («Лучше для кино,— писал Деллюк,— светлые глаза, серые, зеленые,
голубые...»). Деллюк объединял фотографию с гениальной художественной
интуицией, фото и гений.
Не отрицая значения выбора художником удачной натуры, характерного
лица, типажных данных, В. Пудовкин считал, что фотогеничность нельзя
связывать исключительно только с самим материалом. Не следует забывать, что
есть в кино также аппарат, ракурс, планы, ритм. «Все, что просто, ясно и
отчетливо в своей пространственной ритмической конструкции, всякое
движение,— пишет В. Пудовкин,— ясно и просто организованное в пространстве
и времени, будет непременно фотогеничным, потому что они действительно
отвечают основному свойству фильма».
Таким образом, у Пудовкина понятие фотогении приобретает широкий
характер, связанный не только с натурой, объектом, но прежде всего с
удачным или неудачным использованием режиссером и оператором широких
пластических средств кинематографа в целях художественного выражения идеи
фильма.
Размышляя о способах сознательного руководства, фиксирования внимания
зрителя, В. Пудовкин в конце 20-х годов задумывается над проблемой
выражения в кино крупного плана времени. Он охвачен желанием «схватить» и
передать на экране полное ощущение действительных процессов жизни во всем
их конкретном многообразии. «Я понял,— пишет В. Пудовкин,— что
всматривающийся, изучающий, впитывающий в себя человек, прежде всего, в своем
восприятии изменяет действительные пространственные и временные
соотношения: он приближает к себе далекое и задерживает быстрое. Я могу,
внимательно всматриваясь в далекий предмет, видеть его лучше, чем близкий. Так
пришел в кино крупный план, отбрасывающий лишнее и сосредоточивающий
внимание на нужном, так же можно поступить и с временем. Сосредоточиваясь
на детали процесса, я относительно замедляю ее скорость в своем восприятии».
37
ЕГ для осуществления своего эксперимента он берет сценарий А. Ржешевского
«Простой случай». Первые кадры этого фильма, снятые цайт-лупой, открывали
перед зрителем волшебный мир окружающей человека природы: трава под
тяжестью капель медленно клонится к земле, ускоренная съемка придала и
движениям человека медлительность и величественность. Но, к сожалению,
к этим первым, живописно созданным кадрам, раскрывшим новые возможности
киноусловности — крупный план времени,— и свелся, по существу,
эксперимент В. Пудовкина; кадры, интересные сами по себе, не имели никакого
отношения к сюжету фильма «Простой случай». Сама же идея крупного плана
времени, возможности которого осваиваются и современным киноискусством, тесно
связана с теорией ритма, созданной Пудовкиным.
В. Пудовкин неоднократно писал о ритмическом построении фильма как
основе его временной композиции. По мнению режиссера, ритм является
средством воздействия на зрителя, средством управления его вниманием и
способствует более взволнованному восприятию зрителем кинофильмов.
В. Пудовкин не только теоретически разработал проблемы ритма в
киноискусстве, но и в своей творческой практике, в фильмах «Мать», «Конец Санкт-
Петербурга» и особенно ярко в «Потомке Чингис-хана», с помощью точного
подбора длины кусков, порядка их чередования придавал действию
напряженный, драматический характер.
Интересовала Пудовкина проблема драматического ритма прежде всего
потому, что это был путь к зрителю, к его вниманию, заинтересованности,
сопереживанию. Можно без преувеличения сказать, что Пудовкину не было
равных в мастерстве ритмической организации киноматериала. А когда звуковой
кинематограф делал свои начальные шаги, режиссер одним из первых отметил:
«Я думаю, что звуковой фильм подойдет ближе к подлинно музыкальному
ритму, чем когда-либо подходил немой». Если в немом фильме ритм складывался
из движений актеров, предметов и смены кадров, то теперь к этому
добавились еще и внутренние ритмы шумов, слова и, главное, музыки. Каждый из
этих компонентов вносит «собственный ритм в новый монтажный сверхритм»,
они то сливаются друг с другом, то сталкиваются, конфликтуют, разрушают
одна другую (удивительным примером этого может служить сцена митинга
в первой части «Дезертира»). И красной связующей нитью является сложная,
ритмически организованная, ясная монтажная мысль.
И снова, как и десять лет назад, когда opi только начинал свой творческий
путь, Пудовкин повторяет, что ритм — одна из основных составляющих
искусства кинематографической организации материала.
«Монтаж был тем усовершенствованием, которое в первую очередь
превратило кинематограф из механического процесса в творческий. Лозунг «режьте!»
в равной мере необходим и теперь, с приходом звукового кино».
При переходе от немого к звуковому кинематографу значение слова как
нового выразительного средства не сразу было понято даже крупнейшими
режиссерами.
На первых порах слово неожиданно приблизило кинематограф к театру.
Киноаппарат потерял ту подвижность и маневренность в выборе точки зрения,
которые были характерны для драматургии немого кино. Он был в какой-то
мере скован звуком. Это серьезно беспокоило деятелей кино. Синхронность
съемок, по мнению В. Пудовкина, приближает кино к театру, следовательно,
обедняет его. Не отрицая значения звука как нового обогащения выразитель-
38
ных средств, В. Пудовкин, С. Эйзенштейн, Г. Александров в небезызвестной
«Заявке» предлагали контрапунктическое использование звука по отношению
к зрительному ряду, что открывало новые возможности в развитии монтажа
в звуковом кино.
По мнению В. Пудовкина, нужно такое музыкальное оформление, которое
бы помогало «вскрыть явление и показать его зрителю в его противоречии».
Если зрительный ряд имеет непрерывное развитие, то «линия звука, линия
музыки — тоже должна обладать такой же непрерывной, такой же ясно
осознанной и ясно оформленной линией развития». Эту точку зрения на проблему
звука он попытался осуществить в своем фильме «Дезертир» и тем самым во
многом расширил наше представление о возможностях кино «передать мир во
всех его очертаниях и оттенках».
Одну из самых сильных сторон режиссерского мастерства В. Пудовкина
составляет работа с актером. Придавая огромное значение актерской
выразительности в фильме, режиссер много и успешно работал по теоретическому
обобщению опыта актерского мастерства в киноискусстве.
Как уже говорилось, с первых же лет становления искусства кино монтаж
как особая форма композиции зрительного ряда приобрел особое значение в
системе его выразительных средств. «Возможность перебрасывать съемочный
аппарат на бесчисленное количество различных пространственных точек,
связывать их вместе в процессе монтажа, возможность выбрасывать действие из
картины через известные промежутки времени, как бы сокращая или расширяя
самое время,— эти возможности привели к тем результатам, которые
определили кино как передовое искусство в плане широчайшего познавательного
охвата действительного мира.
Однако процесс этих поисков привел режиссера на определенном этапе
развития к тому, что он начал пользоваться живым человеком, актером как
компонентом, как равноценным материалом, подлежащим лишь монтажной
композиции в конце творческой работы над картиной.
Короткий монтаж, распространенный в немом кино, дробил актерский образ,
ограничивая возможность актера в создании внутренне целостного характера.
Актерские данные в большинстве своем использовались лишь внешне, как
типаж. Л. Кулешов, например, в то время считал, что для кино нужны не
просто актеры, а «типажи», «натурщики», люди, которые сами по себе
представляют какой-то интерес для кинематографической обработки, обладающие
характерной внешностью, определенным, ярко выраженным характером. По мнению
Кулешова, актерское искусство театральной реалистической школы,
основанное на психологическом переживании, не подходит для кино. В кинематографе
должен играть физически натренированный и четко действующий актер-«на-
турщик».
В. Пудовкин значительное время находился под влиянием взглядов Л.
Кулешова, разделял его убеждения, выступал в его фильмах исполнителем главных
ролей. Но в 1925 году он покидает мастерскую своего учителя, почувствовав
неудовлетворенность его методом. «Я не видел возможности уместить себя,—
писал В. Пудовкин,— с моей органической потребностью во внутренней
взволнованности, в сухой форме, которую проповедовал Л. Кулешов. Во мне было
сильно инстинктивное стремление к живому человеку».
Позже, в ряде своих печатных работ В. Пудовкин доказывал, что сила
актерской выразительности в кино основана не на механической тренировке и
39
внешних типажных данных, а на художественном перевоплощении актера,
проникновении его во внутренний мир героя. Привлекая к работе в своих фильмах
актеров, воспитанных по «системе» Станиславского, режиссер на практике
убедительно показал, что природа актерского творчества в театре и кино едина.
К актеру кино, так же как и к актеру театра, предъявляется требование быть
правдивым, естественным и искренним в своем поведении на съемочной или
сценической площадке.
Правда, актер, пришедший в кино, вынужден отказаться в своей игре от
некоторой театральной условности: от форсированного голоса, от подчеркнутого
широкого жеста, резкой мимики, грубого грима — одним словом, от всего того,
что является правдивым лишь на театральной сцене и необходимо для того,
чтобы быть выразительным, быть увиденным и услышанным с большого
расстояния, разделяющего зрителя и актера в театральном зале.
Актер на киносъемочной площадке может передать ту же полноту и
искренность переживаний героя, не форсируя голоса, пользуясь более скупыми,
сдержанными жестами, прибегая лишь к тончайшим мимическим движениям.
В немом кинематографе была достигнута замечательная выразительность
актерского жеста и мимики. С приходом звука, когда короткий монтаж отошел
на второй план и на «авансцену» кадра вышел актер, встала серьезная задача —
найти принципы сочетания слова с тем богатством внешних выразительных
средств, которое было накоплено за годы немого кино. Успешное решение этой
задачи зависело в первую очередь от верного понимания ведущей роли актера,
создающего человеческий образ, которому должны быть подчинены все
элементы экранной выразительности. Уже в первый период звукового кино В.
Пудовкин последовательно отстаивал эти позиции.
Придавая важное значение слову как средству выражения мысли и чувства
героя, В. Пудовкин в то же время считал, что внешние действия, внешняя
выразительность, жест и мимика не утрачивают своего значения и в звуковом
кино, поскольку кино в основе своей — искусство зрелищное. Но и на экране
нельзя найти убедительный внешний рисунок образа, если не найдена, не
прочувствована его внутренняя характеристика. Однако путь от верного
представления сущности образа до конкретного его воплощения представляет
наибольшую трудность в творчестве актера. С чего же нужно начать — с внутреннего
или внешнего, на что опереться, чтобы актерская задача не только была
осмыслена, освоена, но и превращена в определенное актерское поведение, чтобы
актер смог подчинить свои чувства логике развития чувств изображаемого им
героя?
Все эти важные вопросы находят освещение в работах В. Пудовкина,
написанных им за двадцать лет о сущности актерского мастерства в кино.
В книге «Актер в фильме», напечатанной в 1934 году, в самом начале
звукового кино, В. Пудовкин решительно выступал против представления об актере
кино как о «натурщике». В. Пудовкин настаивает на том, что «процесс борьбы за
целостность, жизненную органичность создаваемого образа определяет собой
сущность техники актера «как в кино, так и в театре. Этот процесс связан с
поисками актером так называемого сквозного действия роли, помогающего
ему жить в образе от начала до конца пьесы или кинофильма».
В 1938 году в статье «О внутреннем и внешнем в воспитании актера»
Пудовкин заострил внимание на сущности и значение физических движений в
актерском творчестве. Он приходит к выводу, что внешнее — жест, движение, по-
40
ходка, мимика — не может быгь найдено без внутреннего, и вместе с тем «это
внутреннее не может быть с настоящей полнотой раскрыто, укреплено и развито
без найденного внешнего».
Этот вывод уточняется им в статье, посвященной признанию «системы»
Станиславского в кино. «Разрешение физической задачи — в правильном
понимании Станиславского,— указывает он,— является как бы завершением
внутреннего процесса, родившегося в человеке, и должно быть органически
включено в цельность жизни актера в роли. «Физическое действие» следует определить
как целеустремленный поступок человека, движимого мыслью и чувством».
Пудовкин, опираясь на собственный опыт работы с актером, сумел доказать
в своих статьях, что «система» Станиславского не только применима в кино, но
без ее освоения актерами и режиссерами немыслимо совершенствование
киномастерства, немыслимо овладение методом социалистического реализма.
Искренность и правдивость, отличающие актеров, владеющих «системой»
Станиславского, необходимы в киноискусстве в еще большей степени, чем в
театре, ибо киноаппарат приближает актера к зрителю, дает возможность
последнему рассмотреть все тонкости выражения человеческих чувств.
Что же касается порядка киносъемок, который часто не соответствует
логическому развитию сюжета, то он, конечно, усложняет работу актера в кино.
Актеру каждый раз приходится «мысленно» связывать свое внутреннее
состояние, поведение с предшествующими и последующими кусками роли, добиваясь
цельности и логичности в развитии образа. Однако, как утверждает Пудовкин,
существование этих условий не отрицает, а, наоборот, лишний раз доказывает
необходимость применения в кино «системы» Станиславского. Именно она дает
возможность актеру и режиссеру кино находить, сохранять и укреплять
внутреннюю линию развития образа, любой момент поведения актера перед
аппаратом органично включать в единое целое.
«Для этих жестких условий работы,— писал Пудовкин,— условий гораздо
более жестких, чем в театре, практическая часть «системы» Станиславского
незаменима и драгоценна».
Отмечая огромное значение для кино «системы» Станиславского, В. Пудовкин
вместе с тем напоминает, что ее применение в кинематографе должно
заключаться не в прямом заимствовании результатов, достигнутых в области театра,
а «в дальнейшем ее развитии в новых технических условиях — более сложных и
богатых». Этот свой тезис режиссер повседневно осуществлял на практике.
Классические работы В. Пудовкина об искусстве актера в кино — «Актер в
фильме», «Реализм, натурализм и «система» Станиславского», «Работа актера в
кино и «система» Станиславского», «О творческом воспитании» — не похожи
на учебники по актерскому мастерству, в них обобщающая эстетическая мысль
сочетается с практическими выводами по конкретным вопросам актерского
мастерства.
Пафос этих работ — в борьбе за подлинное, глубокое понимание реализма
и распространение его принципов на весь сложный процесс создания
психологического актерского образа.
Проблемы реализма, монтажа, актерского искусства — ведущие в
теоретическом наследии В. Пудовкина, они возникают в первых его статьях, к ним он
возвращается на протяжении всей своей жизни. Но этими проблемами далеко
не исчерпывается круг вопросов, разрешавшихся В. Пудовкиным в его
теоретических работах.
41
Серьезное место в трудах В. Пудовкина занимал вопрос о роли сценария в
процессе создания фильма, о специфике сценарной формы.
В 20-е годы, годы увлечения так называемым режиссерским кинематографом,
гиперболизацией режиссерских средств, В. Пудовкин одним из первых среди
мастеров советского кино высказал мысль о том, что главенствующую роль в
фильме играет его литературная основа — сценарий. Это положение,
выдвинутое еще в его первой работе — «О сценарной форме» (1920), было развито
впоследствии в книге «Киносценарий» (1926), в которой он касается
принципов построения литературного и рабочего, то есть режиссерского сценария, а
также в ряде статей, написанных в последующие годы. Интересно, что целый
ряд положений В. Пудовкина о сценарии сохраняет свою актуальность и
сегодня.
Пудовкин придает важное значение прежде всего теме сценария. Тема, по
его мнению, должна носить общественный характер. При выборе автором
темы, пишет он, «может ставиться вопрос только о нужности или ненужности
ее для зрителя». Кроме того, тема должна быть ясна по мысли. «Если основная
мысль, которая должна служить стержнем сценария, неопределенна и
расплывчата, он осужден на неудачу».
Если в сценарии отсутствует основная идея, так называемая «сверхзадача»,
определяющая собой смысл всех показываемых событий и поведения
действующих лиц, то и персонажи будут нелепыми и их поступки случайными и
хаотичными.
В. Пудовкин считал, что в драматургии фильма с одной стороны важнее всего
характеры, судьбы героев, их взаимоотношения, а с другой стороны —
пластическая выразительность образной системы сценария. Еще в 1926 году в книге
«Киносценарий» он пишет: «Сценаристу нужно всегда помнить, что каждая
фраза, написанная им, в конце концов должна быть выражена пластически в каких-
то видимых формах на экране, и, следовательно, важны не те слова, которые он
пишет, а те внешне выраженные пластические образы, которые он
этими словами описывает».
К вопросу о специфике сценария В. Пудовкин возвращался не один раз,
настаивая на требованиях ясности, выразительности, пластичности сценарных
образов. «Нужно стараться выразить свою мысль зрительным образом — ясным
и ярким»,— отмечает он, обращаясь к сценаристам.
Взгляды Пудовкина о том, каким по форме должен быть сценарий, претерпели
определенную эволюцию. На первых порах он разделяет бытовавшее в начале
20-х годов мнение о необходимости «железного сценария», настаивая на том, что
сценарист обязан «мыслить кинематографическими кадрами». Далее он
приходит к мысли, что сценарист не должен давать «подробное изложение каждого,
иногда малого кусочка, с упоминанием всех технических приемов, нужных
для [ее] исполнения», что достаточно, если он сможет в сценарии «дать режиссеру
и ряд толчков, которые можно использовать».
Позднее, в конце 20-х годов, В. Пудовкина увлекло творчество сценариста
А. Ржешевского, энтузиаста создания так называемого «эмоционального
сценария». В. Пудовкин считал, что «пропаганда приемов писания сценария как
простого перечня чередующихся кадров» устарела. Нужны другие формы
сценария, которые бы «ставили режиссеру задачу, точно определяя их
эмоциональную и смысловую сущность и не предугадывая точно их зрительного
оформления».
42
В. Пудовкин увидел в сценарии Ржешевского точно определенную «эмоцшь
нальную и смысловую сущность», дающую режиссеру «великолепный импульс»^
На самом же деле сценарий фильма «Простой случай» нес в себе глубокое
противоречие между формой, стилем, с одной стороны, и содержанием — с другой,
между пьедесталом, рассчитанным на величественный монумент, и маленькой
штампованной фигуркой.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ!.. -
— (Из затемнения),.. Когда над торжественной, как будто кованой землей
пробуждается рассвет...-
— На какой-то изумительной, стол6оеой широкой дороге...
— Стоял усталый, измученный пришедший человек...
— Замечательный человек...
— Человек, прошедший через подполье, каторгу, эпоху гражданской войны, и все-
таки пришедший в новую жизнь, черт знает с какими надеждами... Человек устало
взял с земли походный вещевой мешок, старый, надел его на спину, медленно снял с
головы шапку, вытер измученное лицо платком, посмотрел...
— ... и, усталый, удивительно улыбнулся...
И в сценарий входил «какой-то замечательный человек» в сопровождении
щедрых возвышенных эпитетов.
По замыслу автора «какой-то замечательный человек» — это и есть молодой
герой 30-х годов. Сценарий назывался «Очень хорошо живется». Название
определяло основную проблему фильма — проблему свободы индивидуализма
в социалистическом обществе. Красный командир Ланговой живет счастливо со
своим боевым товарищем по гражданской войне женой Машенькой. Но вот
Ланговой полюбил другую. И он, дитя революции, чувствуя себя внутренне
свободным, идет навстречу новому счастью. Так примерно можно толковать смысл
названия сценария.
Фактически же сценарий рассказал банальную историю о супружеской
измене. В ней нет глубоких характеров. Все действующие лица обозначены лишь
внешними признаками принадлежности к той или иной группе общества.
Несомненно здесь сказалось влияние теории «интеллектуального кино» с его
подменой художественной условности условностью понятийно-абстрактной.
Позднее, в работе «Пути развития советской художественной
кинематографии», В. Пудовкин писал, что «главное внимание при постановке этого фильма
(«Простой случай») уделялось не людям, не их поведению, а тому, как поставлен
аппарат при съемке, как необыкновенно склеиваются куски при монтаже. Фильм
оказался более похожим на каталог режиссерских приемов, чем на повесть о
жизни советских людей».
Как видим, первоначальное отношение к сценарию Ржешевского резко
изменилось. Победили принципы школы реализма, которым Пудовкин был верен
всю жизнь.
Все статьи В. Пудовкина о сценарных проблемах относятся к периоду
немого кино. Позже о его взглядах на кинодраматургию мы можем судить лишь
по его творческой практике и высказываниям, встречающимся в работах,
посвященных другим проблемам.
Так в 1935 году в статье «Социалистическая деревня и кино» В. Пудовкин
пишет о сценарии как «ведущем идеологическом звене в процессе постановки
картины». В связи с фильмом «Жатва» он рассматривает проблему жанра
мелодрамы в советском искусстве, отмечая, что «история Василия и Авдотьи не
43
становится мелодрамой, поскольку их личная драма... не изолируется от среды,
от советской действительности...»
Мысли В. Пудовкина о сценарии исторического фильма, об особом жанре
портрета в советской драматургии, о мелодраме заслуживают особого изучения.
Теоретические работы В. Пудовкина оказали большое влияние не только на
развитие советского кино, но и прогрессивного зарубежного кинематографа.
Известный итальянский критик Умберто Барбаро в статье, опубликованной в
1953 году, указывает, что теоретические работы Пудовкина и его творчество
проложили в Италии дорогу к реализму, что они послужили первым толчком
к расцвету того направления итальянского кино, которое стало известно всему
миру под именем неореализма и было ознаменовано появлением многих
социально новаторских фильмов.
«Золотая книжечка Пудовкина (имеется в виду книга о сценарии.— А. Г.),—
вспоминал критик Чеккини,— ввезенная в Италию Барбаро (в год I
Венецианского фестиваля), которая в последующие годы неоднократно
переиздавалась вместе с другими работами советского режиссера, вскоре стала своего рода
учебником для очень многих молодых режиссеров, актеров, операторов,
киноведов и критиков». Работы В. Пудовкина переведены на итальянский, испанский
английский, польский, немецкий языки и пользуются большим
вниманием теоретиков, критиков и творческих работников кино. Мировая
кинематографическая общественность высоко оценивает заслуги Всеволода
Илларионовича Пудовкина в развитии теории и практики киноискусства.
Искусство В. Пудовкина, какой бы области оно ни касалось — истории или
современной жизни, всегда было искусством большого идейного воздействия,
высокой гражданственности, покоряющим своей искренней любовью к народному
герою, вершителю судеб революции, строителю социализма, советскому
патриоту.
Он был активным общественным деятелем-коммунистом, всегда находился
на самом передовом участке борьбы за реалистическое киноискусство.
О КИНОСЦЕНАРИИ
О сценарной форме
Принципы
сценарной техники
Киносценарий
(Теория сценария)
О языке сценария
(Беседа)
Творчество литератора
в кино.
О кинематографическом
сценарии Ржешевского
1920 г.
1925 г.
1926 г.
1928 г.
1929 г.
О сценарной форме
У автора зародилась мысль о кинематографической картине. Более или
менее общие представления о ее содержании и даже, может быть, о содержании
некоторых отдельных сцен фиксируются им на бумаге в литературной форме.
Он создает литературную последовательность развивающегося действия,
характеризует действующих лиц, заставляет их встречаться и расходиться друг
с другом, фактически разрешает те или иные создавшиеся положения и, наконец,
приводит все к определенной развязке.
Итак, нечто создано, нечто написано. Это «нечто» до сих пор называли
сценарием. Пользуясь им (я подчеркиваю — пользуясь), режиссер, обладавший
неограниченными директивами и властью, заставлял так называемых
киноактеров после летучей, минутной репетиции, а иногда и совсем без нее, разыгрывать
перед вертящим съемщиком1 ту или иную сцену, внезапно возникшую в его
вдохновенном воображении. О какой-либо предварительной подготовке, о каком
бы то ни было репетиционном подходе не было и речи, да и как можно было
репетировать задание автора вроде: «Уборка хлеба окончена, крестьяне
отдыхают» (буквальная выдержка из сценария очень недавнего времени). Надо
сознаться, что задание не более точно сформулировано, чем любезное
предложение художнику нарисовать «что-нибудь римскае».
Мы называем это написанное автором «нечто» (от которого фактически
заснятая кинокартина отделена целой пропастью) не сценарием, а лишь
литературной темой сценария.
Мы всегда помним, что экран говорит своим языком и сказанное словами
имеет тысячи и тысячи живописно-композиционных интерпретаций.
Истинный сценарий — это рисунок будущей картины, и почти точный
рисунок. Мы знаем, что кинокартина состоит из огромного количества отдельных
сцен и каждая сцена — самостоятельное художественное задание, требующее
творческого напряжения и затраты сил, и не одинокий режиссер, который
сегодня в ударе, а завтра раскис, призван разрешить такую колоссальную задачу.
Коллектив и только коллектив, спаянный единой идеей и единым пониманием
задачи, сам творящий и сам же себя контролирующий, может совершить
подобную работу.
Здесь, на досках,— большие разграфленные листы2. В определенном
последовательном порядке идут отдельные сцены, так, как они должны будут пройти
47
на экране. Каждая из них точно сформулирована в действии, и дело
репетиционных эскизов — разрешить для них задачу живописной композиции. На
этих же листах отмечается колоссального значения фактор, обусловливающий
общий ритм картины, а именно — продолжительность сцены, ее метраж.
Отметки о плане, количестве действующих лиц и освещении, необходимые для
планомерной и точной кинематографической работы, в которой нет ничего
второстепенного, а все важно, помещаются в особых графах на том же листе.
Наконец, я обращаю внимание на самую важную особенность нашей
сценарной формы. Перед нами лежат несколько заснятых кусков пленки: горящий
дом; какой-то человек стоит у фонаря, стреляет, потом падает; проскакал
эскадрон кавалерии; какая-то группа людей во фраках с испуганными лицами; кто-то
смотрит в окно; подняли на здании флаг; толпа людей выбегает из-за угла,
навстречу солдаты, побежали вместе. Что это? Ряд ничего не говорящих
фотографий — и только. Теперь я распределяю их в известном порядке, склеиваю,
и лента пробегает в проекционном аппарате. Испуганные люди — плохие вести.
Скачет кавалерия, человек стреляет у фонаря, убит. Смотрят в окно. Виден
горящий дом, толпа людей, солдаты присоединились, взвивается флаг. Это
революция.
Я нарочно привел конкретный пример, поясняющий утверждение о том, что
сущность кино, творческий момент в создании кинокартины лежит в этой
постройке из отдельных сцен материала стройного, проникнутого ритмом,
впечатляющего, как произведение искусства, здания, картины.
Это построение, эту склейку называют монтажом, а мы называем ее
основанием кино. И вот в нашем-то сценарии, состоящем из точно фиксированных сцен,
соединенных в определенной, творчески найденной последовательности, мы и
пытаемся создать тот предварительный монтаж, при котором самая склейка
заснятых кусков пленки сделается только техническим осуществлением ранее
коллективно найденной идеи.
Я заканчиваю свое сообщение, обращая ваше внимание на то, что наша
работа — работа при открытых дверях: у нас нет профессиональных тайн, и наш
сценарий — не карманная записная книжка, из которой маг и волшебник
режиссер делает картину на пятнадцатикопеечное увеселение скучающей
публики. Мы имеем смелость заявить, что кинематограф — искусство, и подходим
к нему как к искусству, которое не терпит «авось» и «как-нибудь», и самым
страшным призраком для нас было и будет то, что теперь заклеймено хлестким
словом «халтура».
25 декабря 1920 г.
Принципы
сценарной техники
Интенсивный рост производственной работы в СССР естественно повлек за
собой большое увеличение спроса на сценарий. Литераторы и нелитераторы
всех возрастов ответили на него тучей исписанной бумаги, наводнив
производственные органы неимоверным количеством ни к чему не пригодного хлама.
Можно с уверенностью утверждать, что около 98 процентов всего предложения
составляют сценарии, не могущие быть использованными не только как
материал для режиссерского оформления, но даже как подходящая тема для
специальной обработки.
Катастрофический процент неудач имеет ряд основательных причин, и
самая главная из них — полное незнакомство начинающих
сценаристов с основными закономерностями, управляющими
работой в искусстве кинематографии.
Целью моей статьи и является попытка изложить — правда, в весьма сжатой
форме — те специфические требования, которые предъявляет экран к создателю
картины — режиссеру, а через него, ясно, и сценаристу. При этом я умышленно*
опускаю все касающееся идеологической стороны содержания сценария: это
не входит в задание статьи, охватывающей лишь чисто формальные
стороны вопроса.
Полагаю, ни для кого не будет новостью утверждение, что кинематографист
в своей работе пользуется исключительно пластическим материалом
(пространственной формой и ее движением). Композиция пластического материала, будучи
как бы своеобразным языком, присущим искусству кино, является
единственным выразителем всякого отвлеченного понятия или идеи, вводимых в
содержание сценария. Овладение этим пластическим языком есть основной,
исходный момент, с которого должен начать всякий сценарист. На первый взгляд
дело будто бы совсем несложно. В конце концов, всякая мысль, выраженная
словами, может быть изображена некоей пластической картиной. Например,
задание — «Николай, революционный работник, любим своими товарищами» —
переводится на язык образов такг в комнате с десяток молодых людей; на столе
разбросаны прокламации; Николай говорит речь с соответствующими жестами;
после речи товарищи жмут ему руку с ласковыми словами, отмеченными
достаточным количеством надписей и т. д. Такими примерами сплошь набиты
современные сценарии. Почти в каждом из них отчетливо виден наивный и неверный
49
способ, которым он сработан. Придумана фабула, развита и детализирована
чисто литературным порядком и затем, по мере сил, иллюстрирована
кинематографическими кадрами, почти всегда, подобно приведенному цримеру,
убогими и маловыразительными.
Вместе с тем кинематографический зритель предъявляет к экранным образам
совершенно определенные, строгие требования. Быстрая смена отдельных,
разных кусков должна слиться в восприятии зрителя в единое неразрывное
действие. Беспрерывная смена эпизодов, отнесенных к разному месту и времени,
должна соединиться в единые сценарные линии, и переплетение этих линий
ассоциироваться в целое картины. Фактически на экране при пробеге ленты не
существует ничего, кроме отдельных кусков, слияние же их в целое производит
зритель путем напряженной ассоциативной работы. Поистине колоссальная
работа, и понятно, что наличие ее предъявляет к зримому на экране пластическому
материалу прежде всего категорическое требование ясности.
Общее понятие ясности неизбежно совпадает с понятием
выразительности. Чем яснее каждый пластический момент, тем легче и скорее, со всей
полнотой вложенного в него содержания входит он в сознание зрителя и тем он,
следовательно, выразительнее. Далее, чем яснее и легче воспринимается
каждый пробегающий кусок или эпизод, тем легче ассоциируются они в целое
действия или картины. Все расплывчатое, неопределенное, усложненное мелкими
деталями неизбежно создает излишнюю инерцию; зритель не успеет
расшифровать и вполне принять отдельный кусок — и неотвратимый поток последующих
отрывистых впечатлений разорвет, спутает ассоциативные нити и создаст в
результате бледное, неясное впечатление.
Здесь проводится черта под одним из главных требований, предъявляемых
сценаристу. Это требование — выбор пластического материала.
Часто полагают, что работа искания и утверждения пластического образа
является заданием исключительно режиссера. Это глубоко неверно. Подбор
пластических выразительных поступков, действующих лиц, создание
пластически ясных и ярких ситуаций и их разрешений принадлежит исключительно
сценаристу. В вышеприведенном мною примере хороший режиссер, вероятно,
смог бы прекрасно поставить жестикуляцию говорящему Николаю,
замечательно построить пожимание рук, но от этого эпизод в своей выразительности
выиграл бы очень немного.
Большинство наших сценаристов литературно придуманный и
детализированный эпизод иллюстрируют кинематографическими кадрами, мало заботясь об
их выборе. Нужно работать иначе. ?Нужно научиться мыслить
последовательностью кинематографических кадров, и созданный,
таким образом, эпизод иллюстрировать литературными надписями.
Девять десятых современных сценаристов, загромождая свои произведения
бесчисленным количеством проходов, пожиманий рук, входов, выходов и
проездов взад и вперед на поездах и автомобилях, занимаются только
кинематографической связью отдельных надписей и тем самым совершенно уничтожают весь
смысл своей работы. Язык такого сценариста, в конце концов,— язык
литератора, и отсюда проистекают все недоразумения, возникающие между
сценаристом и режиссером.
Сценарист выдумывает, режиссер впечатляет.
Выдумка большинства сценаристов заключается лишь в изобретении
литературного содержания эпизода, режиссер же должен впечатлять кинематогра-
50
фическим монтажом пластически выразительных моментов. Сценарист пишет
на одном языке, режиссеру надо переводить на другой. Такое положение
естественно приводит к вольному переводу, то есть к коренной режиссерской
переделке кинематографически убогого материала, подсовываемого под видом
сценария.
Все сказанное относится к_работе над оформлением элементов
сценария. Теперь я перехожу к следующему этапу: к композиции этих
элементов в определенной последовательности, то есть к
работе, соответствующей понятию кинематографический монтаж.
Известно каждому, что начало композиции материала является основным
средством впечатления во всяком искусстве. В частности, кинематографист,
соединяя куски различной длины и в различной последовательности, тем самым
управляет вниманием зрителя и ведет за собой его ассоциативную работу.
Временной ритм смены отдельных кусков, то быстрый, то медленный, обусловливает
чисто физиологически степень возбуждения зрителя, сопоставление же кусков
различного содержания создает психологическую окраску его ассоциаций.
Монтажная композиция является, таким образом, оружием, управляющим
тем волнением зрителя, которое необходимо должно сопутствовать всякому
художественному впечатлению. Кроме того, только с момента монтажной
композиции появляется та иная, творчески созданная, отличная от реальной заснятой,
действительность, которая ставит кинематограф в ряду искусств. Если мы
снимаем лицо изо всей силы кричащего человека и, монтируя, вставим его в
картину таким образом, что за ним будет следовать изображение матроса, спокойно
кивнувшего головой и затем поднимающего на мачту флаг, зритель совершенно
ясно воспримет это лицо, как отдающее приказание. Если же тот же кричащий
человек будет вмонтирован в сцены пожара и гибели в пламени ребенка, так
же ясно зритель воспримет его лицом паникера, вопящего о помощи. Причем
значение сопоставления настолько остро, что зритель получает от одного и того
же лица впечатление различной эмоциональной окраски (эксперименты Л.
Кулешова1).
Все это, конечно, не значит, что качество отдельного кадра не важно, а
важно лишь их сопоставление; это значит только, что монтаж есть действительное,
мощное средство впечатления, и поэтому, овладение им и его законами является
необходимым всякому кинематографическому производственнику. В частности,
особо важно это для сценариста.
Здесь я считаю необходимым остановиться на одной, чрезвычайно важной
особенности кинематографического зрелища. Вопрос о переживании:
об эмоциональном волнении, вводимом в содержание картины, должен быть
как-то изменен в своей постановке. Обычно эмоция целиком возлагается на плечи
артиста. Он должен неизбежно своим лицом и телом демонстрировать (вернее
опять-таки иллюстрировать) все эмоциональные моменты развивающегося
действия. Только через него сценарист полагает воздействовать на публику.
Намечая в сценарии горестные или радостные моменты, он непременно
проставляет — «крупное лицо переживающего актера». Это глубоко неверный
подход, чуждый кинематографу и пришедший главным образом от театра.
Нужно помнить, что зритель кинематографа, может быть более, чем в каком-
либо другом искусстве, является как бы непосредственным участником действия.
В конце концов вся техника кинематографического монтажа заключается в
умении вовлечь зрителя в ритм и темп растущего сценария. Смена планов,
51
мест и точек зрения — не идентична ли стремительному полету зрителя,
захватывающего своим внимание наиболее острые и яркие фрагменты развивающего
действия?
В самой своей сущности кинематографическое зрелище таково, что оно
вовлекает зрителя в самую гущу развертывающихся событий, как бы велико ни
было их число. Театр по своей природе локализует, концентрирует действие в
едином, и там мы привыкли слушать рассказы о событиях, не видя их на самом
деле. На театре вестник является органической необходимостью, в
кинематографе он органически не нужен. Театр по своему существу сосредоточивает
внимание на актере, кинематограф же — на событии.
В кинематографическом искусстве истинное место зарождения всякой
эмоции лежит не в актере, который должен убедить, а в зрителе, который должен
быть убежден монтажом событий. Именно на зрителя должен быть направлен
удар сценариста и не через мимику актера, а через демонстрацию эпизода,
умелый монтаж которого должен вовлекать в действие зрителя и сообщать ему
нужное волнение.
Если не учитывать всего сказанного, неизбежно появление сценариев,
порождающих Максимовых2 и ему подобных, с их ложно психологическим
пафосом, который до сих пор составляет один из отвратительнейших придатков
русской и отчасти немецкой кинематографий.
До сих пор в большинстве случаев кинематографический монтаж заменялся
простой литературной последовательностью развивающегося сюжета. Понятия
одновременности, сопоставления, сочетания, контраста, ритма сцены,
спадающего и нарастающего их темпа не были усвоены совершенно, и тем самым
сценарии были органически кастрированы, лишены основной впечатляющей силы,
на которой только и может быть построена истинно кинематографическая работа.
Подводя итог сказанному, я определяю линии, по которым должна быть
направлена работа сценариста, изучающего технику своего дела.
1) Умение выбирать пластический образ ясный и
четкий, точно и максимально ярко выражающий свое
содержание.
2) Умение мыслить последовательностью этих образов
так, как музыкант мыслит звуками, а художник — краской
и линией.
3) Овладение методом экранной композиции элементов
кинокартины, последовательно заключающих в себе:
работу отдельного актера, сцену, эпизод и, наконец, каждую
из нескольких переплетающихся линий сценарного
действия. Иначе говоря, овладение методом
кинематографического монтажа.
Настоящая статья может служить лишь введением в изложение принципов
сценарной техники. Подробное развитие каждого из намеченных пунктов, в
особенности последнего, требует значительного места и, конечно, не может
уложиться в размерах настоящей статьи.
1925 г.
Киносценарий
(Теория сценария)
Предисловие
Сценарии, обычно представляемые в производственные органы, отличаются
своеобразным характером. Почти все они представляют собою примитивный
пересказ, некого задуманного содержания, причем авторы, видимо, заботятся
лишь о том, чтобы рассказать какую-то фабулу, пользуясь большей частью
литературными приемами и совершенно не думая о том, насколько предлагаемый
ими материал будет интересен в кинематографической обработке. Вопрос о
специальной кинематографической обработке материала является исключительно
важным. Каждое искусство обладает своим, только ему присущим,
впечатляющим приемом подачи материала. Это свойственно, конечно, и кинематографу.
Работать над сценарием, ничего не зная о приемах режиссера, о приемах съемки
и монтажа, так же нелепо, как предлагать французу русский стих в буквальном
переводе слово за словом. Для того чтобы впечатлить француза, нужно написать
стих заново со знанием французских особенностей стихосложения. Для того
чтобы написать сценарий, годный для постановки, нужно знать те приемы,
которыми зритель может быть впечатлен с экрана. Существует мнение, что
сценарист должен давать лишь общий, примитивный каркас действия — всю
работу детального «кинематографического» оформления должен производить
режиссер. Это глубоко неверно. Нужно помнить о том, что никакую работу нив каком
искусстве нельзя разбивать на отдельные независимые друг от друга этапы.
Уже самый общий подход, охватывающий лишь в будущем мыслимую работу,
предполагает возможные частности и детали. Когда вы думаете о теме,
неизбежно мыслится, хотя неясно и неточно, возможная сюжетная обработка и т. д.
Отсюда ясно, что если даже сценарист и воздержится от точных указаний, что
и как снимать, что и как монтировать, все же знание и учет возможностей и
особенностей режиссерской работы позволят ему дать такой материал, который
может быть использован режиссером и даст ему возможность создать
кинематографически впечатляющую ленту. Обычно весьма часто
результат бывает как раз обратный — уже в самом общем подходе сценаристов
к работе заложены в лучших случаях неинтересные, в худших — буквально
неодолимые препятствия к кинематографическому оформлению. Назначение
настоящей брошюры — дать, правда весьма элементарное, знакомство с основными
приемами работы над сценарием, связанными с приемами работы режиссерской.
Помимо специальных «кинематографических» знаний сценаристу, особенно в
53
области общей конструкции, приходится сталкиваться с необходимостью
знакомства с законами, управляющими работой в других близких искусствах.
Сценарий может быть построен «драматургически», и он будет подчинен законам,
управляющим конструкцией драмы. В иных случаях он может быть сближен с
романом и, следовательно, обусловливаться иными закономерностями
построения. Этих последних вопросов приходится касаться в данной брошюре лишь
вскользь, относя лиц, интересующихся ими, к специальным изданиям.
Часть первая
Сценарий
Что представляет собой
рабочий сценарий
Всем известно, что готовая кинематографическая картина состоит из целого-
ряда более или менее коротких кусочков, чередующихся в какой-то
определенной последовательности. Следя за развитием действия, зритель переносится то
в то, то в другое место и даже, более того, ему показывают сцену, а иной раа
одного актера не целиком, а последовательно направляя съемочный аппарат на
отдельные части сцены или человеческого тела. Этот прием построения картины,,
разбивающий материал на элементы и затем строящий из них
кинематографическое целое, называется монтажом, и о нем будет подробно говориться во второй
части брошюры. Сейчас нам важно лишь установить наличие этого основного
приема кинематографической работы. Режиссер, снимая ленту, лишен
возможности делать ее последовательно, то есть начать с первой сцены и, снимая сценарий,
подряд дойти до конца. Причина этого проста. Если вы, предположим, построили
нужную декорацию, то почти всегда оказывается, что сцены, идущие в ней,
разбросаны по всему сценарию, и если режиссер вздумает, сняв сцену в этой
декорации, перейти сейчас же к другой в порядке развития сценарного действия,
то окажется, что нужно строить новую декорацию, не разрушая первой, затем
следующую и т. д., нагромождать целый ряд построек, не имея возможности
уничтожать предыдущие. Такая работа немыслима по простым техническим
условиям. Таким образом, и режиссер и актер лишены возможности создавать
преемственность в процессе самой съемочной работы, а вместе с тем эта
преемственность необходима. Потеряв ее, мы теряем единство — стиль работы, а
вместе с ним и убедительность ее. Здесь совершенно неизбежной является
необходимость детальной предварительной обработки сценария. Только тогда
может уверенно работать режиссер и тол1ко тогда получит он значительные
результаты, когда он каждый кусок внимательно оформит в плане
кинематографическом, когда он, ясно представляя себе ряд экранных изображений,
проследит и зафиксирует весь ход развития как сценарного действия, так и работу
отдельных персонажей. В этой предварительной кабинетной разработке должен
быть создан тот единый стиль, который обусловливает ценность произведения
искусства. Все отдельные переносы аппарата — съемки издали, вблизи, сверху
и т. д., все технические приемы — вроде «диафрагм», «каше», «панорам»,
помогающие связи куска с предыдущим и последующим, все, что составляет и
усиливает внутреннее содержание сцены, должно быть точно учтено, иначе при
съемке сцены, выхваченной из середины сценария, могут создаться непоправи-
54
мые ошибки. Таким образом, «рабочая», то есть готовая к съемке, форма
сценария представляет собой подробное изложение каждого, иногда малого кусочка,
с упоминанием всех технических приемов, нужных для ее исполнения. Конечно,
предложить писать в такой форме сценаристам — это значит предложить им
стать режиссерами, но все же работа сценаристов в этом направлении
необходима, и если они не дадут «стального» сценария, готового к съемке, они все же,
предлагая материал, более или менее приближающийся к идеальной форме,
дадут режиссеру не ряд препятствий, которые надо преодолеть, а ряд толчков,
которые можно использовать. Чем подробнее технически проработан сценарий,
тем больше шансов у сценариста увидеть на экране образы, впечатляющие
именно так, как он задумал.
Конструкция сценария
Если мы попробуем расположить работу сценариста в какой-то
последовательный ряд по этапам, идя от общего к частному, то мы получим такую грубую
схему:
1) тема,
2) сюжет (фабула)*,
3) кинематографическая обработка сюжета (кинематографическое
изложение).
Конечно, такая схема является результатом разбора уже готового сценария.
Как я упоминал, обычно творческий процесс может идти в другом порядке.
Отдельные сцены могут приходить в голову, одновременно укладываясь в
процессе роста. Но все же какой-то окончательный процесс работы над сценарием
должен иметь в виду все три момента в их последовательности. Нужно всегда
помнить, что кинематографическая лента, в силу особенностей своего
построения (быстрая смена последовательных кусков), требует от зрителя
чрезвычайного напряжения внимания. Режиссер, а следовательно, и сценарист все время
деспотически ведут за собой внимание зрителя. Зритель видит только то, что
показывает ему режиссер; для раздумья, сомнения и критики не остается места
и времени, и поэтому малейшая ошибка в ясности, отчетливости построения
воспринимается как неприятный сумбур или как просто пустое невпечатлившееся
место. Помня это, нужно всегда заботиться о наибольшей простоте и
отчетливости разрешения каждой отдельной задачи, в какой бы момент работы она ни
встала перед кинематографистом. Для удобства изложения мы разберем каждый
из отдельных пунктов указанной схемы отдельно, для того чтобы установить те
специфические требования, которые предъявляет кинематограф к выбору и
применению различного материала и различных приемов его обработки.
Тема
Тема — понятие внехудожественное. В конце концов всякая человеческая
мысль может быть использована как тема, и кинематограф, так же как и любое
другое искусство, не может ставить границ ее выбору. Может ставиться вопрос
только о нужности или ненужности ее для зрителя. Этот вопрос чисто
общественного порядка, и разрешение его не входит в задачи настоящей брошюры. Однако
* Я объединяю эти два понятия в одно для удобства краткого изложения, хотя это и
является научно не точным.
55
нужно упомянуть о некоторых формальных требованиях, которые могут быть
предъявлены к выбору темы исключительно благодаря теперешнему состоянию
кинематографического искусства. Кино еще молодо и богатство приемов его
невелико: поэтому можно установить временные границы, отнюдь не придавая им
значения законов. Прежде всего следует упомянуть о масштабе темы. Одно время
существовала тенденция, да она есть еще и теперь, к выбору тем, захватывающих
материал, чрезвычайно расширенный как по пространству, так и по времени.
Возьмем, например, американскую картину «Нетерпимость»1, ее тему можно
определить так: «Через все времена и народы, от отдаленных эпох до наших дней
проходит нетерпимость человека к человеку, влача за собою убийство и кровь».
Тема огромного масштаба, и уже одно то, что она раскинута на «времена и
народы», обусловливает чрезвычайную широту материала. Результат получился
интересный. Во-первых, едва уложившись в 12 частей, картина получилась
настолько громоздкой, что утомление, создаваемое ею, в значительной мере
стирало впечатление. Во-вторых, изобилие материала заставило режиссера
только весьма общо разрабатывать его, не касаясь деталей, и поэтому создалось
яркое несоответствие между глубиной задуманной темы и поверхностностью ее
изложения. Только современная часть, где действие более концентрированно,
производит нужное, сильное впечатление. Особо нужно обратить внимание на
эту вынужденную поверхностность. В настоящий момент еще молодое искусство
кинематографа обладает наличием таких приемов, которые не позволяют ему
захватывать обширного материала. Заметьте, что большинство хороших картин
отличается весьма примитивным сюжетом и относительно несложной фабулой.
Бела Балаш в своей книге «Культура кино»2 совершенно верно отмечает, что
неудача большинства инсценировок литературных произведений обязана
главным образом тому, что авторы сценариев пытались втиснуть много материала в
узкие рамки картины. Кино прежде всего ограничено определенной длиной
картины. Фильма свыше 2200 метров уже создаст излишнее утомление. Правда,
существует прием выпускать длинную картину в несколько так называемых
«серий». Но этот способ годен только для картин известного рода.
Приключенческие фильмы, содержание которых составляет главным образом, ряд
необычайных случайностей в судьбе героев, в конце концов мало связанных между
собой и всегда имеющих самостоятельный интерес (трюки — режиссерские и
акробатические), конечно, могут быть преподнесены зрителю в виде отдельных
серий одного цикла. Зритель без ущерба для впечатления может смотреть
вторую серию, не видев первой и зная ее содержание из заглавной надписи. Связь
между сериями достигается путем грубой игры на любопытстве зрителя,
например, в конце первой серии герой попадает в безвыходное положение, которое
разрешается только в начале второй и т. п. Картина же большого, глубокого
содержания, ценность которой всегда лежит в целом, общем впечатлении от нее,
конечно, не может быть разбита на две части так, чтобы зритель смотрел их
отдельно, раз в неделю. Влияние ограниченности размера картины еще
усугубляется тем, что кинематографисту для убедительного изложения какой-либо
мысли требуется гораздо больше материала, чем, скажем, литератору или
драматургу. В одном слове часто заключается целый комплекс сложных понятий.
Видимых же образов, имеющих такое символическое значение, весьма немного,
и кинематографист поэтому принужден к пространному и детальному
изложению, если он хочет добиться сильного впечатления. Я повторяю, что это
требование ограниченности масштаба темы является, быть может, временным, но при
56
настоящем запасе приемов кинематографического изложения оно неизбежно.
Зато другое требование, обусловленное самой сущностью кинематографического
зрелища, будет существовать, вероятно, всегда,— это требование ясности.
Я уже упоминал выше о необходимой ясности в разрешении каждой задачи,
встречающейся в процессе кинематографической работы; это относится, конечно,
и к работе над темой. Если основная мысль, которая должна служить стержнем
сценария, неопределенна и расплывчата — он осужден на неудачу. Еще при
изложении литературного содержания можно, внимательно разбираясь,
распутаться в намеках и неясностях, то, перенесенный на экран, такой сценарий
неизбежно окажется раздражающе сумбурным. Приведу один пример: один из
сценаристов предложил уже готовый сценарий из жизни заводских рабочих в
дореволюционную эпоху. В сценарии был выведен определенный герой —
рабочий. В результате действия он встречается с целым рядом лиц — врагов и
друзей, враги причиняют ему зло, друзья помогают. В начале сценария герой
выведен буйным, разнузданным человеком, к концу же он становится честным
революционным работником. Сценарий написан в бытовых натуралистических
тонах и давал, несомненно, интересный живой материал, обнаруживая
наблюдательность и знания автора, но все же он был забракован. Ряд жизненных кусков,
ряд случайных встреч и столкновений, не связанных между собою ничем, кроме
последовательности во времени, в конце концов не заключали в себе ничего,
кроме набора эпизодов. Тема как основная мысль, объединяющая в себе смысл
всех показываемых событий,— отсутствовала. Благодаря этому и отдельные
персонажи были нелепы; поступки героя и его окружающих были так же
хаотичны и случайны, как движения уличных прохожих, мелькающих мимо окна.
Но тем же автором сценарий был пересмотрен и переделан согласно сделанным
замечаниям. Он внимательно перестроил линию героя, руководясь ясно
формулированной темой. В основу была положена следующая мысль: «Мало быть
революционно настроенным человеком; для того чтобы быть полезным делу,
нужно правильно организованное сознание действительности». Просто буян-
рабочий превратился в буяна-анархиста, враги его стали на определенное ясное
место, столкновения героя с ними и с будущими друзьями приняли отчетливый
смысл и значение, целый ряд лишних загромождений отпал, и переделанный
сценарий превратился в законченное убедительное целое. Указанную мысль
можно считать той темой, четкая формулировка которой непременно организует
всю работу и дает в результате ясно впечатляющее произведение. Можно
запомнить как правило: точно и ясно формулируй тему, иначе работа не получит
необходимого смысла и единства, обусловливающих всякое произведение
искусства. Все дальнейшие ограничения, которые могут обусловливать выбор темы,
связаны с сюжетной ее обработкой. Как я уже говорил, творческий процесс
никогда не идет в схематической последовательности; задумывая тему, надо
мыслить почти одновременно и о сюжетном ее оформлении.
Сюжетное оформление темы
В самых начальных стадиях работы сценарист уже обладает каким-то
материалом, который должен быть впоследствии уложен в рамки будущего
произведения. Этот материал дается знанием, наблюдением, фантазией наконец.
Определив тему как основную мысль, обусловливающую отбор этого материала,
сценарист должен приступить к группировке его. Здесь впервые вводятся действую-
57
щие лица, устанавливаются их взаимоотношения, определяется различное
значение их в развитии действия и, наконец, намечаются какие-то пропорции
распределения всего материала по целому сценарию. Вступая в область сюжетной
обработки темы, сценарист впервые сталкивается с условиями художественной
работы. Поскольку тема была определена как момент внехудожественный,
постольку работа над сюжетом уже обусловливается целым рядом требований,
свойственных данному искусству. Подойдем прежде всего к самому общему
приему — определим характер работы над сюжетом. Литератор, когда он
намечает будущее произведение, всегда устанавливает целый ряд каких-то опорных
пунктов, значительных для выявления темы и разбросанных по всей
подготавливаемой вещи. Эти опорные пункты как бы отмечают общий контур; сюда
относятся моменты характеристики отдельных лиц, характер событий,
сталкивающих их между собой, иногда детали, определяющие смысл и силу моментов
подъема или падения, иногда даже просто отдельные, удачные по силе и
выразительности отрывки. Конечно, подобный же момент есть и в работе сценариста.
Отвлеченно мыслить о сюжете нельзя. Нельзя просто намечать, что вначале
герой анархист, а затем, столкнувшись с рядом неудач в своих попытках
революционной работы, он становится сознательным коммунистом. Такая схема не
отойдет от темы и не приблизит нас к нужному оформлению. Нужно
нащупывать не только что происходит, но и как это происходит; работая над сюжетом,
надо уже ощущать и форму. Замыслить перелом в миросозерцании героя —
это еще не значит создать кульминационный пункт в сценарии. Прежде чем не
будет найдена какая-то конкретная форма, которая, по мнению сценариста,
должна впечатлить зрителя с экрана, отвлеченная мысль о переломе не имеет
художественной ценности и не может служить опорным пунктом для построения
сюжета, а такие опорные пункты необходимы, они устанавливают твердый
скелет сюжета и устраняют опасность местных провалов, которые всегда могут
случиться, если какой-то важный момент в развитии сценария небрежно и
отвлеченно намечен. Этот момент в процессе окончательной
кинематографической отделки может оказаться внешне невыразительным, не поддающимся
пластической обработке и, таким образом, нарушающим все построение. Романист
отмечает свои опорные пункты описательными отрывками, драматург —
эскизами диалога, сценарист должен мыслить пластическими (внешне выраженными)
образами. Он должен воспитать свое воображение, он должен впитать в себя
привычку представить себе каждую мысль, приходящую в голову, в виде
какой-то последовательности экранных изображений. Более того, он должен
научиться владеть этими образами и из множества являющихся в воображении
выбирать те, которые наиболее ярки и выразительны, он должен уметь владеть
ими так, как литератор владеет словом и драматург диалогом. Ясность и
четкость в сюжетной разработке находятся в прямой зависимости от ясной
формулировки темы. Возьмем для примера, правда, весьма наивную и малоценную
американскую картину, шедшую под названием «Вечно чужие»3. Несмотря на
смысловую убогость ее содержания, она представляет отличный образец
отчетливой темы и весьма просто и ясно разработанного сюжета. Тема такова: «Люди
различных общественных классов никогда не будут счастливы, соединившись
друг с другом». Построение сюжета идет так. Шофер равнодушен к
благосклонности прачки, потому что влюблен в дочь капиталиста, которую он ежедневно
возит на машине. Сын капиталиста, случайно увидев в своем доме юную прачку,
влюбляется в нее. Совершаются два брака. Тесная комнатка шофера кажется
58
бывшей богачке нелепой конурой. Естественное желание шофера найти дома
после утомительного рабочего дня готовый обед встречает неодолимое
препятствие в полном неумении жены обращаться с огнем и кухонной посудой: огонь
обжигает, а посуда пачкает руки, и полуприготовленный обед летит на пол.
Приятели шофера, пришедшие к другу провести веселый вечерок, ведут себя,
по мнению бывшей богачки, настолько грубо, что она в конце концов
демонстративно выходит из комнаты и разражается неожиданной истерикой.
В то же время в доме богача бывшая прачка чувствует себя не лучше.
Окруженная фыркающей прислугой, она попадает из просака впросак. Услуги
горничной при одевании и раздевании принимаются ею с недоумением. Сложное
платье с длинным треном делает ее смешной и неуклюжей. За званым обедом ряд
«преступлений» против условных правил приличия в конце концов делает ее
мишенью для злых насмешек и «позором» для мужа и его родных. Следует
случайная встреча шофера и бывшей прачки. Оказывается, что под влиянием
разочарований у них проснулось когда-то заглохшее влечение друг к другу. Обе
неудачные пары расходятся и соединяются в новых счастливых комбинациях.
Прачка прекрасно управляется на кухне, а новая жена капиталиста
безукоризненно носит платья и танцует фокстрот. Сюжет так же примитивен, как и тема,
и тем не менее всю картину можно считать очень удачной в плане четкой и ясной
конструкции. Каждая деталь в ней на месте и связана непосредственно с
основной проводимой мыслью. Вместе с тем даже и в данном поверхностном
изложении чувствуется наличие ярких, внешне выраженных образов: кухня, гости
шофера, платье с треном, званый обед, затем снова кухня и платьев новой
перестановке. Каждый важный момент в развитии сценария отмечен отчетливым
пластическим материалом. С другой стороны, я приведу выдержку из
конспекта одного из многочисленных представленных сценариев: «Семья Нико-
новых впала в крайнюю бедность, ни отец, ни Наташа не могут найти себе
работы — всюду отказ. Часто заходит к ним Андрей и горячими словами пытается
поддержать падающую духом Наташу. Наконец, отчаявшись, отец приходит
к подрядчику и предлагает ему мировую, тот соглашается при условии, если он
выдаст за него свою дочь, и т. д.». Типичный кусок по кинематографической
бесцветности и беспомощности изложения. Вы не встречаете в нем ничего, кроме
встреч и разговоров. Такие вырая^ения, как «часто заходит к ним Андрей»,
«горячими словами пытается поддержать», «всюду отказ» и т. п.,
обнаруживают полное отсутствие связи работы над сюжетом с той экранной
формой, которую он должен в конце концов принять. Такие куски могут
служить, в лучшем случае, материалом для надписей и никогда для съемки. Ведь
слово «часто» значит, во всяком случае, несколько раз, а показывать четыре-
пять раз заходящего Андрея, вероятно, показалось бы нелепым и самому
писавшему это сценаристу; то же можно сказать и о форме: «всюду отказ».
Сказанное не придирка к слову. Важно усвоить, что и при предварительной общей
разработке сценария нужно отмечать не то, что нельзя снять, не то, что не важно, а
то, что можно уверенно установить как опорные пункты, ясные и пластически
выразительные. Отметить характер сцены, показывающей крайнюю бедность,
найти поступок (не слова), характеризующий отношение Андрея к Наташе,—
вот что даст эти опорные пункты. Можно возразить, что работа над пластической
формой есть уже последующий этап и она может принадлежать режиссеру, но
я еще раз утверждаю, что нужно всегда иметь в виду возможную пластическую
форму даже при первом общем подходе, во избежание могущих быть провалов
59
при последующей обработке. Вспомните хотя бы упомянутое слово «часто»,
совершенно ненужное и не поддающееся пластическому выражению. Мы
установили, таким образом, необходимость для сценариста постоянной ориентировки
на пластический материал, который должен в конце концов служить формой его
изложения.
Перейдем теперь к общим вопросам концентрации сюжета в целом.
Существует целый ряд законов, управляющих построением рассказа, романа, драмы.
Все они имеют несомненную тесную связь с работой сценарной, но подробное
изложение их не смогло бы уложиться в тесные рамки настоящей брошюры.
Знакомство с ними все же необходимо, и мы отсылаем читателя к краткому
указателю литературы, помещенному в конце книги4. Из вопросов об общей
конструкции сценария здесь следует упомянуть лишь об одном. Сценарист в процессе
работы над сюжетом всегда может учитывать различную степень
«напряженности» действия. Эта напряженность должна будет в конце концов отразиться
на зрителе, заставляя его с большим или меньшим волнением следить за
данным куском картины. Волнение это зависит не от одной только драматической
ситуации — оно может вызываться или усиливаться и чисто внешними
приемами. Увеличение динамичности действия, введение сцен, построенных на
быстрой, энергичной работе персонажей, введение массовых сцен —все это
управляет нарастанием волнения у зрителя, и нужно уметь строить сценарий так,
чтобы зритель захватывался развивающимся действием постепенно, лишь в конце
получая главный впечатлительный удар. Огромное большинство сценариев
страдают неумело построенным нарастанием напряжения. В качестве примера
можно привести русскую картину «Приключения мистера Веста»5. Первые три
части картины смотрятся со все возрастающим интересом. Ковбой, приехавший
в Москву вместе с американским гостем Вестом, попадает в ряд сложнейших
положений и выпутывается из них со все возрастающим интересом и ловкостью.
Насыщенные динамикой первые части легко смотрятся и поддерживают
волнение зрителя на все возрастающей высоте. Но после конца третьей части, где
приключения ковбоя разрешаются неожиданным финалом, у зрителя наступает
естественная реакция, и дальнейшее, несмотря на прекрасную режиссерскую
подачу, смотрится уже с весьма пониженным интересом. Последняя же часть
картины, самая слабая из всего материала (поездка по улицам Москвы и каким-
то пустынным заводам), окончательно стирает всякое впечатление о картине и
оставляет зрителя неудовлетворенным.
Как интересный пример обратного — правильного управления нарастанием
напряженности действия — можно взять работы известного американского
режиссера Гриффита 6. Он создал даже закрепленный за его именем тип финала
кинокартины, довольно часто употребляемый до сих пор многочисленными его
последователями. Возьмем, например, современную часть из уже
упоминавшейся картины «Нетерпимость». Молодой рабочий, выброшенный с фабрики за
участие в забастовке, попадает в Нью-Йорк, запутывается сначала в компанию
мелких воров, но, встретив любимую девушку, решает искать честного
заработка. Покинутые им «темные личности» не оставляют его в покое. В конце концов
они запутывают его в дело об убийстве, и рабочий попадает в тюрьму. Улики
настолько несомненны для судей, что суд кончается смертным приговором. В
финале картины жена рабочего неожиданно открывает настоящего убийцу. Мужа
уже готовят к казни, приостановить ее может только губернатор, а он только
что выехал из города на экспрессе.
60
Начинается бешеная гонка за спасение героя. Жена мчится на гоночном
автомобиле, хозяин которого понял, что от его скорости зависит спасение
человеческой жизни. Мужа исповедуют перед смертью. Автомобиль вот-вот догонит
экспресс. Приготовления к казни приходят к концу. В самый последний момент,
когда петля должна затянуться на шее героя, подоспевает помилование,
добытое женой ценою бешеной энергии и напряжения. Быстрая смена кусков,
контрастное чередование мчащихся машин с методичным приготовлением к
убийству невинного человека, постоянно нарастающее беспокойство зрителя: «успеют
ли, успеют ли» — все вместе создает исключительно напряженное волнение,
которое, будучи помещено в финале, удачно завершает картину. В приеме
Гриффита соединены и внутренняя драматическая насыщенность действия и
мастерское использование внешних эффектов (напряженная динамика).
Картины его работы могут служить образцами правильно построенного
нарастания. Разработанный сюжет сценария, в котором выяснены все линии
поведения отдельных персонажей, в котором последовательно отмечены все главные
события, в коих сталкиваются действующие лица, в котором, наконец,
правильно учтено и построено напряжение действия таким образом, чтобы дать
постепенное напряжение его к развязке — концу, такой сюжет уже представляет
значительную ценность и может быть использован режиссером для постановки.
Написанный даже чисто литературным порядком, такой сюжет будет
представлять собою так называемое «либретто сценария» и, попав в руки специалиста-
постановщика, он может быть превращен в рабочий сценарий тем легче, чем
больше принималась во внимание при работе над сюжетом та ориентировка на
пластический материал, о которой я говорил выше.
Следующим этапом в работе сценариста будет уже специальная
кинематографическая обработка сюжета. Весь сценарий должен быть разбит на части, части
на эпизоды, эпизоды на сцены, сцены на отдельные куски — соответственно тем
кускам, из которых в конце концов будет склеена снятая лента.
Части представляют собою довольно определенную величину, и сценаристу,
желающему давать кинематографическую специальную обработку своей вещи,
нужно научиться чувствовать ее. Средняя длина обычной части 300—400 метров.
Для того чтобы конкретно ощутить эту длину, нужно учесть следующее:
проекционный аппарат при нормальной скорости пропускает 1 метр в 3 секунды,
следовательно вся часть пройдет в течение 20 минут. Если попробовать представить
себе каждую отдельную сцену, соответствующую часть как бы проходящей на
экране и учесть время, которое она займет, можно приблизительно учесть и их
количество, нужное для заполнения части. Здесь уже работа сценариста
сталкивается с чисто сценическими условиями, которые требуют специального
навыка. Нужно иметь в виду, что каждая часть должна до известной степени
представлять собою законченный кусок картины. Для того чтобы короткий
перерыв в демонстрации, который необходим для смены частей, не прерывал
целостности впечатления, нужно стараться распределять материал так, чтобы
перерывы приходились на место спайки какого-то закончившегося эпизода с началом
следующего. В хорошо технически сделанных сценариях конец части даже
используется как особый прием, завершающий действие, подобно тому как
используется падающий в конце акта занавес на театре. Каждая часть
составлена из ряда эпизодов, из которых каждый может состоять из ряда отдельных сцен.
При такой первоначальной, предварительной обработке сценарий имеет
следующий вид.
61
Часть первая
С ц е н а 1. По ухабистой проселочной дороге, утопая в грязи, тащится крестьянская
телега. Покрытый мешком понурый возница неохотно понукает усталую лошадь. В углу
телеги прижалась фигура, пытающаяся, кутаясь в солдатскую шинель, укрыться от
пронизывающего ветра/Встреченный прохожий с любопытством остановился. Седок обращается
к нему.
Надпись:
ДАЛЕКО ЛИ ДО НАХАБИНА?
Прохожий отвечает, показывая рукой. Телега двигается дальше. Прохожий смотрит
вслед и идет своим путем.
Сцена 2. Крестьянская изба. В углу на лавке лежит больной старик, прикрытый
тряпьем,он тяжело дышит. Стар ух а возится у печки, сердито переставляя горшки. Больной
тяжело поворачивается и говорит, обращаясь к старухе.
Надпись:
КАЖИСЬ, СТУЧИТ КТО-ТО.
Старуха подходит к окну, заглядывая в него.
Надпись:
ПОЧУДИЛОСЬ, МИРОНЫЧ, ВЕТЕР ДВЕРЬЮ СТУЧИТ.
Таким образом написанный сценарий, уже разбитый на отдельные сцены, с
отмеченными надписями представляет собою первую фазу кинематографической
обработки. Но ему еще далеко до той «рабочей» формы, описанной выше и уже
вполне годной для непосредственной съемки. Обратите внимание на то, что
целый ряд деталей, весьма характерных для данной сцены и даже подчеркнутых
литературным ее изложением, как, например, «утопая в грязи», «понурый
возница», «седок, кутающийся в шинель», «пронизывающий ветер»,— все эти детали не
дойдут до зрителя, если их просто ввести в качестве аксессуаров, снимая сцену
целиком так, как она описана. Кинематограф обладает своеобразным
чрезвычайно сильным впечатляющим приемом, благодаря которому можно обращать
внимание зрителя на каждую деталь (грязь, ветер, поведение возницы,
поведение седока) по отдельности, подобно тому как мы последовательно описываем
их литературно, а не просто отмечаем «скверную погоду», «двое на телеге».
Этот прием называется «монтажом». Чем-то подобным этому приему пользуются
некоторые сценаристы, вставляя иногда в описание сцены упоминание так
называемого «крупного плана». Например: «Улица деревни, престольный
праздник. Оживленная группа крестьян. В центре говорящий комсомолец (крупно).
Подходят новые группы. Старики. Среди них возмущение, возгласы».
Подобные «крупные вставки» лучше не делать совсем — они не имеют ничего
общего с монтажом. Термины: «вставка» и «перебивка» являются нелепейшими
определениями, пережитками старого непонимания приемов
кинематографической техники. Все детали, относящиеся к сценам данного образа сценария,
должны быть не «вставлены» в сцену, а сцена должна быть построена из них. К
монтажу, составляющему основной прием впечатления зрителя с экрана, мы
переходим сейчас, дав необходимое понятие о сущности и выборе пластического
материала.
Заключение
Сценаристу, если он хочет передать путем экрана зрителю все, что им
задумано, нужно подвести свою работу возможно ближе к окончательному
«рабочему» ее виду, то есть нужно учитывать и использовать, может быть частью
62
изобретать, все те специфические приемы, которыми может пользоваться
режиссер. Нужно внимательно просматривать картины, нужно пробовать после
просмотра излагать куски на бумаге, пробуя передать их монтажное построение.
Таким внимательным наблюдением чужих работ можно добиться нужного
навыка. Я привожу примерный кусок сценария, обработанного уже монтажно и
готового к съемке.
Часть первая
Надпись:
ВОССТАНИЕ РАБОЧИХ ПОДАВЛЕНО.
1. Из медленной диафрагмы. Рассыпанные на земле пустые патроны.
Валяющиеся винтовки.
2. Медленная панорама. Проходит длинная баррикада, по ней разбросаны
трупы рабочих.
3. Часть баррикады. Трупы рабочих. Лежит женщина с запрокинувшимся лицом. На
покосившемся древке разорванный флаг. Н а п л ы в.
4. Крупнее. Женщина с запрокинувшимся лицом, мертвые глаза в объектив. Н а-
п л ы в.
5. Треплющийся по ветру ""разорванный флаг. Медленная диафрагма.
Это образец медленного, торжественного вступления. Использованы
наплывы, подчеркивающие эту медлительность, панорама, дающая то же, и
диафрагмы, выделяющие сцену в отдельный самостоятельный мотив.
Вот образец динамического куска в повышенном темпе монтажа.
1. Из-за угла выбегает толпа рабочих, бегут на объектив, перед объективом быстро
мелькают фигуры.
2. Рабочий, перескакивая через железный лом, бежит. Останавливается, кричит.
Надпись:
СПАСАЙТЕ ПЕРВЫЙ КОРПУС!
3. Другой рабочий взбирается на подъемный кран.
4. Летит кверху пар, ревет тревожный свисток.
5. Рабочий с крана смотрит, свесившись вниз.
6. Бегущая толпа рабочих (снято сверху).
7. Рабочий на кране кричит изо всей силы.
Надпись:
СПАСАЙТЕ ПЕРВЫЙ КОРПУС!
8. Снято сверху. Бегущая толпа останавливается на мгновение и бросается снова
вперед.
9. Часть бегущей толпы сбила женщину с ног.
10. К р у п н о. Упавшая женщина приподнялась и раскачивается, держась за голову.
11. Бегущая толпа.
Здесь дан монтаж быстро сменяющихся кусков, создающий своим ритмом
нужное волнение. Увеличивающаяся в размере надпись подчеркивает
нарастающую панику. Конечно, такая форма сценария требует большой специальной
подготовки, но я еще раз повторяю, что только упорное стремление сценариста
возможно ближе подойти к этой технической форме создаст таких
работников, которые даже в общем либретто будут давать такой материал, который
уже может быть использован в кинематографической работе.
Сценарий только тогда будет хорош, когда пишущий его овладеет знанием
специальных приемов, когда он сумеет в работе применить их как орудие
впечатления; в противоположном случае сценарий будет представлять лишь сырой
материал, на 90 процентов подлежащий обработке специалиста.
63
Часть вторая
Пластический материал
Сценаристу нужно всегда помнить, что каждая фраза, написанная им, в
конце концов должна быть выражена пластически в каких-то видимых формах
на экране, и, следовательно, важны не те слова, которые он пишет, а те в н е ш-
не выраженные пластические образы, которые он этими словами
описывает. В действительности не так-то легко находить эти пластические образы.
Они должны быть прежде всего ясны и выразительны. Человек, знакомый с
литературной работой, очень хорошо* представляет себе, что такое выразительное
слово и что такое выразительный язык: он знает, что есть меткие,
выразительные слова, есть яркие, выразительные построения из слов — фразы. Он так же
знает, что растянутый, неясный, с множеством лишних слов язык неопытного
писателя есть результат неумения выбирать слово и владеть им. Все сказанное
о литературной работе можно целиком отнести к работе сценариста, но только
место слова занимает пластический образ. Пластический (внешне выраженный)
материал нужно уметь находить и уметь пользоваться им: то есть надо уметь
находить и выбирать среди бесчисленного количества материала, даваемого
жизнью и наблюдением ее, такие формы и такие движения, которые наиболее
ясно и убедительно выражают всю полноту замысла сценариста.
Приведем несколько пояснительных примеров.
В картине «Нападение на Виргинскую почту»7 есть эпизод, в котором в
действие вступает новое лицо — бродяга, беглый каторжник. Тип
ультраотрицательный. Задача сценариста дать его характеристику. Разберем, как это
сделано, описывая ряд последовательных кусков.
1) Бродяга — дегенеративного вида парень с лицом, обросшим щетиной
небритых волос, собирается войти в дом, но останавливается, обратив внимание
на что-то.
2) Крупно показано лицо смотрящего бродяги.
3) Показывается то, что он видит,— это крошечный пушистый котенок,
спящий на солнце.
4) Снова показан бродяга — он поднимает тяжелый камень с явным
намерением уничтожить им спящего малыша, и только случайный толчок товарища,
проносящего вещи в дом, мешает ему исполнить жестокое намерение.
В этом маленьком эпизоде нет ни одной поясняющей надписи, а вместе с тем
он впечатляет отчетливо и ясно. Почему? Потому что правильно и удачно
выбран пластический материал.
Спящий котенок, безукоризненное выражение полной беспечности и
безвредности, и потому тяжелый камень в руках огромного человека сразу
становится символом нелепой, бессмысленной жестокости. «Бродяга — злобное
животное» — вот какой вывод неизбежно рождается в голове зрителя,
просмотревшего сцену. Цель достигнута. Характеристика сделана, причем ее отвлеченное
содержание целиком выражено при помощи удачно выбранного пластического
материала.
Возьмем еще один пример из той же картины. Содержание сцены такое: над
семьей крестьянина стряслось несчастье — старший сын искалечен ударом
камня, отец умирает от разрыва сердца, младший сын — подросток (герой
картины) знает, что виновник всех несчастий — бродяга, предательски
напавший на брата. Несколько раз в течение картины мальчик порывается отомстить
64
негодяю. Орудие мести — старое шомпольное ружье. Когда изуродованного
брата принесли в дом и отупевшая от отчаяния семья собралась вокруг постели,
мальчик один, тайком, то плача, то стискивая зубы, забивает в ружье пулю.
Внезапная смерть отца и мольбы матери, в отчаянии обхватившей ноги сына,
удерживают его порыв. Мальчик остался единственной надеждой семьи. Как-то
он снова тайком прокрадывается к ружью и снимает его со стены, но голос,
матери, просящей купить мыла, заставляет мальчика быстро повесить ружье
обратно и бежать в лавку. Обратите внимание, как" мастерски использовано;
здесь нелепое на вид шомпольное ружье. Оно как бы олицетворяет собой ту
жажду возмездия, которая мучает мальчика. Каждый раз, когда рука тянется к
ружью, зритель знает, что происходит в душе героя. Не нужно ни надписей,:
ни объяснений. Вспомните сцену с мылом для матери, только что описанную.
Повесить ружье и побежать в лавку, здесь значит забыть о себе ради другого.
Это целая характеристика, тут и наивная непосредственность полуребенка и
нарождающееся сознание долга.
Еще один пример из картины «Кожаные перчатки»8. Кусок таков: человек,
сидя за столом, дожидается своего друга, он курит папиросу, а перед ним
пепельница и стакан с полувыпитым чаем переполнены невероятным количеством
окурков. Зритель сразу представляет себе и то количество времени, которое,
ждет этот человек, и ту степень волнения, которая заставляет его выкурить
чуть ли не сотню папирос.
Из приведенных примеров становится ясным, что подразумевается под
понятием: выразительный, пластический материал. Мы встретили здесь котенка, бро-.
дягу, камень, ружье, окурки, и.ни.один из этих предметов или людей не был
введен случайно, каждый из них, оставаясь зрительным образом, не требующим,
пояснений, вместе с тем имеет крепкое и ясное значение.
Отсюда важное правило для сценариста: работая над каждым отдельным
куском, надо внимательно обдумывать и выбирать каждый зрительный образ;
помнить, что для каждой мысли, для каждого понятия могут быть десятки и
сотни пластических выражений, но среди них сценарист должен выбрать самые
ясные и самые яркие. С особенным вниманием следует относиться к роли
предметов, вещей в картине. Взаимоотношения людей большей частью выясняются
в разговорах, в словах, с вещами же никто не говорит, и потому работа с ними,
выражаясь в видимом действии, является исключительно интересной для
кинематографиста, как мы и видели на примерах. Попробуйте представить себе гнев,
радость, смущение, горе и т. п., выраженные не в словах и жестах, их
сопровождающих, а в действии, связанном с каким-нибудь любым предметом, и вы
увидите, какие насыщенные пластической выразительностью образы будут
приходить вам в голову.
Работа над пластическим материалом весьма важна ^ля сценариста. В ее
процессе он учится представлять себе написанное так, как оно должно
выйти на экране, и это умение необходимо для правильной и продуктивной
работы.
Нужно стараться выразить свою мысль зрительным образом — ясным и
ярким. Если это характеристика действующего лица — нужно. поставить его.
в такие условия, чтобы оно каким-то видимым действием или движением
показало бы себя в нужном свете (вспомним бродягу и кошку). Если это
изображение события — нужно подобрать такие сцены, которые бы наиболее ярко
зрительно выявили сущность изображаемого события.
3 В. Пудовкин, т. 1
65
Надпись
В связи со сказанным, необходимо перейти к вопросу о надписях. Обычное
представление о надписях как вводном, случайном элементе, которого нужно по
возможности избегать,— в корне неверно. Надпись является органической
частью картины, а следовательно, и сценария. Конечно, надпись может быть
лишней, но так же, как может быть лишней целая сцена. По своему содержанию
надпись можно разделить на две группы.
Надпись пояснительная. Этого рода надпись в краткой и
ясной форме дает зрителю необходимое пояснение, иногда заменяя собою часть
действия в развитии сценария. Возьмем такой пример из «Нападения на
Виргинскую почту». В сценарий вводятся трое бродяг, нужных сценаристу для
того, чтобы противопоставить злое начало герою сценария. Перед их появлением
на экране дается надпись: «Трое каторжников бежали из ближайшей тюрьмы».
Конечно, можно было бы показать самый побег вместо надписи, но ввиду того,
что сценаристу важен не побег, а бродяги, он заменяет целый эпизод побега, не
имеющий существенного значения для развития действия, надписью.
Существенное действие — появление бродяг — показано на экране, и ему
предшествует пояснительная надпись. Это правильное построение. Совсем другое
получается, если надпись заменяет собой существенный момент сценария и
последующее действие служит, так сказать, ее результатом. Например, после
надписи «Не выдержав тяжелого характера мужа, Ольга решила уйти от него»
показывается Ольга, выходящая из двери. Это никуда не годится. Действие
слабее надписи и обнаруживает неумение справиться с пластической задачей.
К разряду пояснительных нужно отнести также надписи, указывающие
протекшее время, например: «через год»; надписи, означающие время дня или место
действия, например, «вечером», «у Ивана», заменяющие словами те моменты
сценария, образное изложение которых излишне растягивает или утяжеляет
развитие действия. Резюмируя сказанное о пояснительных надписях, нужно
еще раз подчеркнуть следующее. Пояснительная надпись хороша только тогдаt
когда она убирает лишнее из сценария, кратко поясняет зрителю нужное и тем
подготовляет его к восприятию дальнейшего действия (как в примере с
бродягами). Пояснительная надпись никогда не должна быть сильнее последующего
показа действия (как в примере с Ольгой, уходящей от мужа).
Надпись разговорная. Эта надпись вводит в кинокартину
живую разговорную речь. О ее употреблении не приходится говорить много.
Главное требование, предъявляемое к ней,— это хорошая литературная обработка
и, конечно, возможно сжатая. Нужно помнить, что в среднем на каждую строку
надписи (2—3 слова) тратится 1 метр пленки — следовательно, надпись в 12 слов
продержится на экране 12—18 секунд, а в такой промежуток времени она может
значительно разбить ритм, а следовательно, и впечатление от проходящей сцены*
Как для пояснительной, так и для разговорной надписи необходима ясность.
Лишние слова, может быть и увеличивающие литературную ценность фразыг
но затрудняющие быстрое понимание ее, недопустимы. Кинозрителю некогда
смаковать слова. Надпись должна «доходить» до зрителя быстро — в течение
самого процесса ее прочтения. Ко всему сказанному следует прибавить, что при
построении сценария нужно следить за общим распределением надписей. По-
66
стояыная равномерная перебивка действия надписями нехороша. Лучше
стараться распределять их так (особенно это важно с надписями пояснительными),
чтобы, концентрируя их в одной части сценария, освобождать другую для
развития действия. Так поступают американцы, сообщая все необходимые пояснения
в первых частях, в середине развития усиливая разговорную надпись, а в
конце, в повышающемся темпе, ведя чистое действие к финалу, избегают надписей.
Интересно, что помимо своего литературного содержания надпись может иметь
еще и чисто пластическое. Например, часто употребляют различной величины
шрифты, связывая нарастание значительности слова с величиной букв,
которыми оно напечатано. Например, в агиткартине «Голод»9 была такая финальная
надпись: появлялось первое слово нормального размера — «Товарищи», оно
исчезало и заменялось другим, крупнее — «Братья», наконец, появлялось
третье — во весь экран — «Помогите». Такая надпись, несомненно, впечатляла
сильнее обычной. Учет пластической стороны надписи, несомненно, весьма
интересен, и сценаристу следует помнить об этом. Еще важнее пластической
стороны надписи ее ритмическое значение. Мы уже говорили о том, что нельзя
употреблять слишком длинных надписей. Этого мало; нужно помнить, что
следует учитывать длину надписи, принимая во внимание быстроту действия, в
которое она вставлена. Быстрое действие требует короткой, отрывистой надписи;
длинную же можно связать лишь с медленным.
Простейшие специальные
приемы съемки
После ознакомления с понятием пластического материала необходимо
ознакомиться с некоторыми чисто формальными приемами, которыми пользуются
режиссер и оператор при съемке картины. Простейшие из них следующие.
Съемка из диафрагмы. На затемненном экране появляется
светлое пятно; расширяясь, оно постепенно открывает картину.
Съемка в диафрагму. Происходит обратный процесс закрывания
картины — до полного затемнения экрана.
Диафрагмирование имеет главным образом ритмическое значение.
Замедленный уход картины из поля зрения соответствует не отрыву, как обычно, а
медленному уводу зрителя от сцены. Уходом в диафрагму заканчивают обычно
финал эпизода, в особенности если сама сцена проводится в замедленном темпе.
Например: человек устало подходит к креслу, опускается на него, роняет голову
на руки... пауза... закрывается медленно диафрагма.
Открывающаяся диафрагма, наоборот, соответствует плавному вводу
зрителя в новую обстановку и в новое действие. С нее часто начинают картину и
отдельные части. Принимая в расчет общий ритм действия, можно помечать
скорость диафрагмы: быстрая, медленная. Диафрагма может быть различной
формы. Наиболее принятая форма — круглая, так называемая «американская».
Часто в картине применяют съемку из диафрагмы в диафрагму, то есть сцена,
начинаясь с открывающейся диафрагмы, кончается ее закрыванием.
Применение этого приема достигается подчеркнутым выделением данного куска* из
общей линии сценария — часто, например, пользуются этим приемом, давая
напоминание (лейтмотив) или воспоминание. Существует еще фигурная диафраг-
3*
67
ма, дающая различные формы затемнения или открывания экрана, например,
расширяющаяся или суживающаяся щель, падающий или поднимающийся
теневой занавес, боковой заслон и т. п. Нужно оговориться, что частое применение
фигурной диафрагмы, как это показал опыт, излишне утомительно действует на
зрителя.
Съемка в диафрагме или в каше. Экран затемнен, кроме
пятна в центре, имеющего круглую или иную форму; в пределах этого пятна и
происходит действие. Это и есть прием «каше». Употребление каше имеет
разнообразное определение. Чаще всего им пользуются для того, чтобы заставить
зрителя смотреть с точки зрения героя. Например, герой смотрит в замочную
скважину — показывается то, что он видит, снятым в каше, имеющим форму
скважины. То же самое делается с каше, имеющим форму поля зрения бинокля,
и т. д. Интересно упомянуть об одном своеобразном использовании маленького
круглого каше (неподвижной диафрагмы), иногда встречающегося в
американских картинах. Например: 1) герой, стоя на горе, смотрит вдаль; 2) показывается
дорога, снятая издалека в маленьком круглом каше; по дороге скачет лошадь.
Здесь несомненно достигнута двойная цель: во-первых, благодаря сужению поля
зрения внимание зрителя концентрируется именно на том, что видит герой, во-
вторых, не потерян маленький масштаб, благодаря которому сохраняется
впечатление отдаления.
Наплыв.. Переход от одного куска в другой происходит не скачком,
как обычно, а плавно, то есть медленно исчезает одно изображение,
а на его месте появляется другое. Прием,* имеющий также главным
образом ритмическое значение. Наплывы дают медленный ритм. Они часто
употребляются при изображении воспоминания, как бы подражая рождению
одной мысли из другой. Необходимо предостеречь авторов от злоупотребления
наплывом. Технически, делая наплыв, оператор должен, сняв один кусок,
сейчас же непосредственно снимать другой, что не всегда возможно. Если,
например, в сценарии будет помечено так: «Спасская башня — наплывом Исаакиев-
ский собор», то оператору лридется, сняв башню, немедленно отправляться в
Ленинград.
Панорама. Аппар>ату при съемке сообщается плавное движение вбок,
вверх или вниз. Объектив аппарата как бы следит за объектом съемки,
движущимся перед ним, или же скользит по объекту, последовательно показывая
разные его части. Это чисто технический прием, и значение его понятно.
Наезды и отъезды. Аппарат во время съемки приближается к
объекту или, наоборот, удаляется от него. Прием, в настоящее время почти не
употребляющийся. Он имеет по большей части целью плавный переход от первого
плана к общему и наоборот.
Не в фокусе. В последних американских картинах часто встречаются
моменты (особенно крупно снятые лица), снятые так, что очертания форм слегка
неясны. Прием этот несомненно дает особый колорит мягкости, «нежности»,
особенно в подчеркнуто лирических местах, но нужно считать его
условно-эстетическим и не имеющим общего значения.
68
Все сказанное о простейших приемах съемки безусловно имеет лишь
информационное значение. Пометить тот или иной прием съемки сценарист может,
лишь руководствуясь собственным чутьем и вкусом. Правил здесь нет, поля же
для выдумки и комбинаций много.
Приемы обработки материала
1. Монтаж строящий
Кинематографическая картина, а следовательно, и сценарий всегда бывают
разбиты на весьма большое количество отдельных кусков (вернее, строится из
этих кусков). Целый сценарий разбит на части; каждая часть разбита на
эпизоды; каждый эпизод — на сцены и, наконец, каждая сцена строится из целого
ряда кусков, снятых с разных точек зрения. Настоящий сценарий, который
может быть пущен в работу, должен непременно предусматривать это главное
свойство кинематографической ленты. Сценарист должен уметь писать на
бумаге так, как это будет показываться на экране, точно обозначая содержание
каждого куска и их последовательность. Построение из отдельных кусков
сцены, из сцен — эпизода, из эпизода — части и т. д. называется м о н та ж о.м.
Монтаж является одним из значительных орудий впечатления, которым вла:
деет кинематографист, а следовательно, и сценарист. Будем знакомиться с.его
приемами последовательно.
Монтаж сцены. Каждому, видевшему новые кинематографические
картины, знакомо понятие крупного плана. Чередующиеся изображения лиц
собеседников во время диалога. Изображения рук, ног во весь экран — все
это знакомо всем. Но для того, чтобы уметь правильно употреблять крупные
планы, нужно понять их смысл, а смысл этот таков: крупный план насильно
направляет внимание зрителя на ту деталь, которая в данном случае является
единственно важной по ходу действия. Положим, что в сцене действуют три
человека. Если сущность заключается в общем ходе действия (ну хотя бы
все трое поднимают какой-то тяжелый предмет), они снимаются одновременно
в так называемом общем плане. Если же один из них переходит к
самостоятельному действию, имеющему существенное значение для сценария,
(например, отделяясь от других, осторожно вынимает из кармана револьвер), то
аппарат направляется только на него. Его действие снимается отдельно. Сказанное
применяется не только к отдельным людям, но также и к отдельным частям
человека или предмета. Предположим, что снимают человека, видимо спокойно
слушающего собеседника, но вместе с тем сдерживающего бешенство. Человек
этот, незаметно для других, судорожно ломает папиросу, зажатую в руке.
Эта рука неизбежно будет показана на экране отдельно, крупно, иначе
зритель ее не заметит и характерная деталь пропадет. Существовало раньше (да и
теперь оно встречается) представление о крупном плане как о «перебивке»
общего. Это глубоко неверное понимание. Никакой «перебивки» не существует.
Существует закономерное построение. Для того чтобы уяснить себе сущность
строящего монтажа сцены,можно воспользоваться таким сравнением.
Представьте себя наблюдателем развертывающейся перед вами сцены, положим, такой:
человек стоит у стены дома, он поворачивает голову влево; оказывается, что
через калитку ворот осторожно пробирается другой человек. Оба на довольно
большом расстоянии друг от друга остановились. Первый вынимает какой-то
69
предмет и показывает его, как бы дразня, другому. Тот в бешенстве сжимает
кулаки и бросается на первого. В этот момент из окна третьего этажа
высовывается женщина и кричит: «Милиция!» Противники разбегаются. Как можно
это наблюдать?
1) Наблюдатель смотрит на первого человека, тот повернул голову.
2) На что же он смотрит? Наблюдатель направляет в ту же сторону взгляд
и видит проходящего в калитку. Последний остановился.
3) Как относится к его появлению первый? Новый поворот наблюдателя:
первый вынул предмет и дразнит им.
4) Как же реагирует второй? Снова поворот. Он сжал кулаки и бросился на
противника.
5) Наблюдатель отбежал и смотрит, как оба противника покатились в
драке.
6) Крик сверху. Наблюдатель поднимает голову и видит кричащую женщину
в окне.
7) Наблюдатель опускает голову и видит результат предупреждения —
разбегающихся людей.
Наблюдатель стоял близко к людям и видел все детали, видел ясно, но для
этого ему пришлось поворачивать голову то влево, то вправо, то вверх, смотря
по тому, куда влек его интерес наблюдения и последовательность развития
сцены. Если бы он стоял далеко от места действия, охватывая сразу двух людей
и окно третьего этажа, он получил бы лишь общее впечатление от сцены, не имея
возможности рассмотреть в отдельности ни первого, ни второго, ни женщины.
Вот тут мы и подошли вплотную к сущности строящего монтажа. Цель его —
выпукло показать развитие сцены, направляя внимание зрителя то на тот, то на
другой отдельный момент. Объектив аппарата заменяет глаза наблюдателя, и
повороты аппарата, направляемого то на одного, то на другого человека, то на
одну, то на другую деталь, должны подчиняться той же необходимости, как и
повороты глаз наблюдателя. Кинематографист, преследуя цели наибольшей
ясности, выпуклости и яркости, снимает сцену отдельными кусками и,
показывая их соединенными, направляет внимание зрителя на отдельные моменты и
заставляет его смотреть так, как это делал бы сам внимательный зритель—
наблюдатель. Из сказанного ясно, почему строящий монтаж может впечатлять даже
эмоционально. Представьте себе волнующегося наблюдателя какой-то быстро
развивающейся сцены. Его возбужденный взгляд быстро перебрасывается с
места на место. Если мы будем подражать ему аппаратом, мы получим ряд
картин, быстро сменяющихся кусков, и создадим беспокойный монтаж
сцены. Противоположностью будут сменяющиеся наплывами длинные куски,
требующие спокойного, медлительного монтажа (так можно снимать, например,
бредущее по дороге стадо с точки зрения идущего по дороге пешехода).
Мы установили, таким образом, сущность строящего монтажа сцены. Он
строит сцены из отдельных кусков, из которых каждый сосредоточивает
внимание зрителя только на существенном моменте действия. Последовательность
этих кусков должна быть не беспорядочна, а должна соответствовать
естественному переносу внимания воображаемого наблюдателя (им в конце концов и
является зритель). В этой последовательности должна быть своеобразная
логика, которая будет в наличии только тогда, когда в каждом куске будет
толчок для переноса внимания на другую точку (например: 1) человек поворачивает
голову, смотрит; 2) показывается то, что он видит).
70
Монтаж эпизода. Последовательное направление внимания зрителя
на различные моменты развивающегося действия вообще характерно для
кинематографа. Это основной его прием. Мы видели, что отдельная сцена, а иной раз
даже движение одного человека строится на экране из отдельных кусков.
Кинематографическая картина не является просто собранием отдельных сцен.
Подобно тому как из кусков строится сцена, проникнутая каким-то связанным
действием, отдельные сцены собираются в группы, образуя законченные
эпизоды. Эпизод строится (монтируется) из сцен. Предположим, что перед нами стоит
задача построить такой эпизод: двое шпионов пробираются, чтобы взорвать
пороховой склад; по дороге один из них теряет письмо с инструкциями; третье
лицо находит письмо и, предупредив караул, поспевает вовремя, чтобы арестовать
шпионов и спасти склад. Здесь прежде всего сценарист сталкивается с
одновременностью нескольких действий в разных местах. В то время как шпионы
подбираются к складу, третий нашел письмо и спешит вызвать караул. Шпионы
почти у цели, караул предупрежден и бросился к складу. Шпионы кончают
работу, караул поспел вовремя. Если мы продолжим прежнее сравнение аппарата
с наблюдателем, нам уже придется не только поворачивать его из стороны в
сторону, но и переносить его с места на место. Наблюдатель (аппарат) то на
дороге следит за шпионами, то в караульной снимает суматоху, то у склада
показывает работу шпионов и т. д. Но в соединении отдельных сцен (в монтаже)
прежний закон преемственной последовательности остается в силе. Только тогда
получится связанный эпизод на экране, если внимание зрителя будет правильно
переноситься со сцены на сцену. А эта правильность обусловлена следующим:
зритель видел пробирающихся шпионов, видел потерю письма и, наконец,
человека, нашедшего это письмо. Человек с письмом побежал за помощью. У зрителя
является неизбежное волнение — успеет ли нашедший предупредить несчастье.
Сценарист тотчас же отвечает, показывая шпионов, приблизившихся к складу,—
его ответ звучит как предупреждение: «осталось мало времени». Волнение
зрителя — «успеют ли» — продолжается. Сценарист показывает выбежавший
караул. Времени очень мало — показано начало работы шпионов. Так,
перебрасывая внимание то на спасителей, то на шпионов, сценарист отвечает
естественным толчкам интереса зрителя и правильно строит (монтирует) эпизод. В
психологии есть закон, утверждающий, что если эмоция рождает определенные
движения, то можно, проделывая эти движения, вызвать в себе эмоцию. Если
сценарист сумеет передать спокойный ритм переброски интереса волнующегося
зрителя, если он сумеет построить моменты нарастания интереса к тому, «что
же делается в другом месте?» и вовремя перенести зрителя туда, куда
волнующийся зритель захотел бы, то созданный таким образом монтаж сможет
действительно взволновать зрителя. Нужно усвоить себе, что монтаж есть, в сущности,
насильственное произвольное управление мыслью и ассоциациями зрителя.
Если монтаж — просто беспорядочное сцепление разных кусков, зритель
ничего не поймет (не воспримет); если же он будет согласован с определенно
выбранным течением хода событий или движения мысли — волнующейся или
спокойной, он будет зрителя волновать или успокаивать.
Монтаж части. Картина делится на части. Каждая часть представляет
собой более или менее законченное целое, до некоторой степени соответствуя
акту в драме. Части обычно бывают равны между собой, имея среднюю длину
300 метров. Здесь уместно отметить как практическое указание, что средняя
71
длина одного куска (вспомните монтаж сцены) будет 2—3 метра и, следовательно,
таких кусков укладывается в части 100—150.. Руководствуясь этими цифрами,
сценарист может представить себе, сколько материала можно уложить в часть.
Часть составляется из ряда эпизодов. Если говорить о построении (монтаже)
части из эпизодов, приходится вводить новый момент в работу сценариста —
этим моментом является литературно-сюжетная последовательность, о которой
достаточно говорилось в начале книги. Последовательность отдельных эпизодов,
связанных между собой, подчиняется не только простой переброске внимания с
одного места на другое, но она обусловлена также сюжетным развитием, которое
положено в основу сценария. Нужно обратить внимание, что между
демонстрацией отдельных частей всегда бывает хотя бы небольшой перерыв, и
поэтому известная законченность действия непременно должна сопровождать конец
ласти, иначе перерыв будет болезненно отражаться на впечатлении зрителя.
Нужно иметь в виду, что деление кинокартины на части есть отчасти
следствие проекционной техники; теперь, когда возможно беспрерывное
проецирование всей картины сразу, нужно распределение материала строить, принимая
во внимание эту техническую особенность.
Монтаж сценария. Соединение частей образует сценарий. Общую
длину картины нужно исчислять максимально в 2000—2300 метров. Такая
длина еще не создает излишнего утомления зрителя. Картина делится обычно на
6—8 частей. Так же, как и монтаж частей, монтаж сценария из частей
непосредственно связан с сюжетной разработкой. Однако необходимо обратить внимание
на следующий момент: развивающийся сценарий всегда имеет какой-то момент
наивысшего напряжения, относимый обычно к финалу картины. Для того чтобы
подготовить, вернее — сохранить зрителя для финального напряжения, весьма
важно внимательно следить за тем, чтобы,не создать ему в течение картины
излишнего утомления. Вот два приема, которыми часто пользуются сценаристы:
; 1) Умелое распределение надписей (всегда рассеивающих зрителя),
.заключающееся в том, что большинство надписей сосредоточено в первых частях, в
.финальных же развивается непрерывное действие.
2) Разная длина частей.
Части не должны быть обязательно равновелики. Поэтому первые две части
делаются длиннее нормы, в расчете на свежего зрителя, средние части
соответственно укорачиваются, чтобы дать отдых, а финальная снова удлиняется,
чтобы не расхолаживать зрителя перерывом. Изложение настоящей главы шло
в таком порядке: монтаж сцены, эпизода, части и, наконец, сценария. Такой
порядок удобен для ясности изложения, фактическая же работа сценариста
происходит обратным порядком.
Прорабатывается сюжет сценария, сюжет разбивается на куски,
соответствующие частям. Каждая часть разрабатывается по эпизодам,.эпизод по
сценам, и, наконец, сцена строится монтажно из кусков, соответствующих переносу
аппарата.
2. Монтаж как орудие впечатления.
(Монтаж сопоставляющий)
Мы уже говорили в отделе монтажа эпизода о том, что монтаж является не
только простым приемом соединения отдельных сцен или кусков, но также и
приемом, управляющим «психическим состоянием» зрителя. Нам предстоит
72
теперь познакомиться с главнейшими специальными приемами монтажа,
имеющими целью воздействовать на состояние зрителя.
Контраст. Представьте себе, что вы рассказываете о бедственном
положении голодающего человека; рассказ будет впечатлять еще ярче, если вы
упомянете при этом о бессмысленном обжорстве богача.
На этом простом контрастном сопоставлении и основан соответствующий
прием монтажа. На экране впечатление контраста достигается еще острее
благодаря тому, что не только эпизод голодающего можно сопоставлять с эпизодом
обжоры, но и отдельные сцены, даже отдельные куски сцен сопоставлять, как бы
заставляя зрителя беспрерывно сравнивать два действия, одним усиливая
другое. Монтаж по контрасту один из самых сильных и вместе с тем наиболее
привычных шаблонных приемов, и злоупотреблять им не следует.
Параллелизм. Прием параллелизма близок к контрасту, но он
гораздо шире. Яснее можно показать сущность его на примере. В одном из еще
не снятых сценариев есть такое место: рабочий из вожаков забастовки
приговорен к смерти; казнь назначена производиться в 5 часов утра. Эпизод
смонтирован так: фабрикант — хозяин смертника выходит пьяный из ресторана, он
смотрит на часы-браслет: 4 часа. Показывается смертник — его готовят к отъезду.
Снова фабрикант звонит у дверей, справляясь с часами — половина пятого.
По улице несется черная карета под конвоем. Открывшая дверь горничная —
жена смертника — становится жертвой внезапного бессмысленного насилия.
Пьяный фабрикант храпит на постели, нога с завернувшейся штаниной, рука
свисла вниз, виден браслет с часами, стрелка подползает к 5 часам[ Рабочего
вешают. Здесь два тематически несвязанных действия соединены вместе и идут
параллельно благодаря часам, которые указывают приближение казни. Эти
часы, укрепленные на руке тупого животного, как бы связывают близящуюся
трагическую развязку с ее главным виновником, все время проплывающим в
сознании зрителя. Прием несомненно интересный, могущий быть развитым
весьма разнообразно.
Уподобление. В финале «Стачки» 10 расстрел рабочих перебивается
моментами убийства быка на бойне. Сценарист как бы хочет сказать: «Подобно
тому как мясник ударом молота валит быка, хладнокровно и жестоко были
расстреляны рабочие». Прием особо интересный потому, что он вводит
путем монтажа в сознание зрителя чисто отвлеченное понятие, не пользуясь
надписью.
Одновременность. В американских картинах финал сценария
строится на одновременном быстром развитии двух действий, причем от хода
одного зависит исход другого. Например, в картине «Нетерпимость» финал
современной части построен так: рабочий приговорен к повешению, его уже
исповедуют и ведут к виселице, но он может быть спасен, если его жена успеет догнать
на автомобиле поезд губернатора и получить приказ о помиловании. Весь финал
построен на беспрерывном показывании то бешено несущегося автомобиля,
догоняющего поезд, то постепенного приготовления к казни и лица осужденного.
В самый последний момент, когда руки палачей приготовились пустить в ход
виселицу, поспевает помилование. Вся цель этого приема заключается в том,
73
чтобы довести зрителя до максимального волнения от постоянной мысли:
«Успеют ли?.. Успеют ли?..»
Прием чисто эмоциональный и в настоящее время достаточно надоевший,
но несомненно — что это самый сильный прием для финала из всех показанных
до сих пор.
Лейтмотив (напоминание). Часто сценаристу интересно особенно
подчеркнуть основную мысль сценария. Для этого существует прием напоминания.
Сущность его легко показать на примере. В антирелигиозном сценарии, имевшем
целью показать жестокость и лицемерие церкви на службе у царизма, несколько
раз повторяется одинаковый кусок: медленно звонящий колокол с
наплывающей надписью: «Благовест возвещает миру терпение и любовь». Кусок появлялся
как раз, когда сценарист хотел подчеркнуть бессмысленность терпения и
лицемерие проповедуемой любви.
Все сказанное о сопоставляющем монтаже, конечно, не исчерпывает всего
богатства его приемов. Важно лишь показать, что монтаж, будучи
специфически свойственным кинематографу, является мощным орудием впечатления в
руках сценариста. Внимательное его изучение на картинах, связанное с
талантом, несомненно поведет к открытию новых возможностей, а в связи с ними и к
созданию новых форм.
1926 г.
О языке сценария
(Беседа)
Работа сценариста почти не освещалась в печати. Сценарий, являясь сырьем
или полуфабрикатом производства, не выходил за стены фабрики. Там, в
дальнейших стадиях обработки, переделок и «постановки», он обычно изменялся до
такой степени, что если бы записать сценарий с фильмы, идущей на экране,
то оказалось бы, что этот последний «вариант» весьма мало в чем сходится с
первым, «легшим в основу».
Поэтому, когда зрители критиковали работу сценариста, глядя на фильму,
то почти всегда происходили запутанные недоразумения. В действительности
зрители могли судить о работе режиссера или редакторов, а авторство
сценариста оставалось точно невыясненным.
Для того чтобы научиться писать сценарии и чтобы сценаристы могли
вырастать в кинописателей, надо выносить их работу на обсуждение общества и
подвергать критике.
В советской кинематографии стали широко практиковаться предварительное
чтение и обсуждение сценариев в заинтересованных общественных
организациях.
Это дает сценаристам контроль и помощь в выявлении быта и может дать
идеологическую закалку сценарию.
Но чтобы судить об изобретениях художественного кйноязыка сценария,
надо уметь его читать.
— Надо ли писать «кадры»?
Кинематограф шагает вперед.
Шагает упорно и быстро.
Нужно очень хорошее дыхание и большую тренировку, чтобы поспевать
за ним.
Три года тому назад я с полной убежденностью и уверенностью в нужности
своей работы пытался учить начинающих сценаристов «мыслить зрительными
образами»х и излагать содержания сценария кадрами.
За три года появились «Потемкин», «Октябрь» 2, принесшие с собой целый ряд
изобретений.
Кинематограф стал расти в совершенно неожиданную сторону.
75
Он вдруг перестал «изображать» и начал говорить. Ребенок от жестов и
гримас переходящий к первым попыткам членораздельной речи.
— Чем характерен новый киноязык?
В новых картинах с небывалой ясностью обозначилось огромное значение и
огромная сила строгой ритмизации монтажных построений.
Тот «ритм в кинематографе», о котором много лет назад писали и кричали
даже дилетанты,— наконец начал получать реальное осуществление и с первых
же шагов зазвучал мощно и значительно.
Я не говорю сейчас о тех темповых изменениях (убыстрениях и
замедлениях), которые диктуются просто самой реальной формой снимаемой сцены, то
есть скоростью движения внутри каждого отдельного кадра (когда, скажем,
драку монтируют короткими кусками, а восход солнца длинными). Дело идет
о ритмическом сочетании кусков, внутри которых часто нет никакого
движения.
Сочетание их идет по смысловой линии, и чередование кусков, создающее
ритмический ход, впечатляет как самодовлеющее целое, не связанное и не
ограниченное движением внутри кадра.
Ускорение и замедление монтажа, подчиненное форме внутри кадрового
движения, известны давно (Кулешов).
Монтажные куски беготни на броненосце во время бунта сделаны
Эйзенштейном3 не очень хорошо, хуже, чем, например, паника в «Луче смерти»
Кулешова4.
Но те места, где Эйзенштейн монтирует неподвижные части броненосца
(расстрел), неподвижные лица матросов и однообразные движения машин
(финал), создавая ритм совершенно своеобразный, не стесненный началом и концом
движения в кадре,— эти места потрясают.
— Кто работает над созданием новой киноречи?
Новое изобретение в искусстве как центр вихря вбирает в себя новый
материал.
Смысловой монтаж увлек целый ряд работников кинематографии, всосал их
и выбросил на периферию. Среди этих «новых» людей есть не только режиссеры,
но и те люди, работа которых так тесно связана с режиссерами.
Это сценаристы.
Когда я впервые познакомился с работой, например, Ржешевского — «В
город входить нельзя»5,— меня сразу ошеломил своеобразный стиль, в котором
был сделан сценарий.
Я смело говорю «стиль» потому, что здесь органичность манеры писания не
подлежит никакому сомнению.
Короткие, то как будто кувыркающиеся и внезапно останавливающиеся на
месте, то вспыхивающие, то длительно и напряженно вытягивающиеся надписи
сразу выбивают вас из привычного ощущения, которое обычно испытываешь
при чтении сценария.
Автор не описывает сцену за сценой, стараясь выдумать для действующих
лиц связный ряд движений, складывающихся в последовательное развитие
сюжета.
Люди у него иногда появляются внезапно, как взрывы снарядов, и исчезают
также внезапно.
76
Врываются надписи со словами, которые никто не произносит на экране.
В описании сцены он часто оперирует словами, которые не обозначают никакого
«зрительного образа».
— Но и здесь описываются «кадры»?
В разорванных кусочках, на которые разбит весь сценарий, часто каждый
кусочек означает отдельный кадр, часто в этот кусочек (с точки зрения
режиссера) включена целая длинная монтажная фраза, а часто кусочек ничего не
означает как зрительный материал.
Я приведу маленькую выборку из сценария Ржешевского «Очень хорошо
живется» (часть 2-я):
ОТОБРАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ВЕСЬ ХЛЕБ!!!
— Застыл... широко расставлены ноги... весь в крови.... теряет сознание... как-то
цепляется ближе к поддерживающей его жене командира, которая судорожно
плачет,—умоляюще ей говорит:
ХОРОШАЯ... ПИШИ ОТЦУ...
— Не удержался... грохнулся на землю...
— Что-то кричат командиру обволакиваемые дымом красноармейцы.
— Ничего не видать.
— Лицо командира... увидел.
— Плачет, разглаживает ласково волосы жена командира окровавленному
красноармейцу, который лежит на земле... медленно закрывает глаза... прошептал...
...ОТ МОЕГО ИМЕНИ
— Замер.
— Ползет по долине дым, никого не видно.
— Сорвал со своей головы фуражку командир, положил на свежую могилу
красноармейца.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?!
— Проорала где-то в дыму забубённая головушка, приравнивая лопатой свежий холм
убитого красноармейца.
— Ползет дым.
— Вдали, в дыму, траншеи красных. И на насыпи, на которую взобрались, полулежат
уставшие от боя и измученные от жары бойцы, рядом с развевающимся знаменем виднеются
женщина и застывший без шапки командир...
Затемнени е...
— Должен ли сценарий давать режиссеру распланированные монтажные
листы?
Сценарная речь здесь подчинена острому ощущению ритма. Поэтому такая
работа впечатляет и волнует даже при чтении и представляет исключительный
материал для режиссера.
Автор не пытается, не собираясь сам ставить картину, написать для
режиссера монтажный план съемки, как это пытается делать большинство
других сценаристов.
Он не коверкает язык, пытаясь протоколировать выдуманную «игру
актеров», он ощущает то самое важное, что создается новым кинематографом,—
острый и четкий ритм. И замечательно, что он «не описывает» ритм для экрана, а
создает его непосредственно в самой написанной вещи, чисто литературными
приемами.
И он глубоко прав.
77
Сценарист работает со словом, а не с куском пленки. Если он хочет что-то
передать режиссеру, он передает это, оформляя свой материал (слово)
соответствующими этому материалу приемами.
Когда режиссер делает свой монтажный лист для съемки, он пользуется
условными (почти всегда индивидуальными) знаками, и сценаристу ими писать
бессмысленно.
Сценарий Ржешевского — остроритмическая проза (может быть, почти стих).
Его «момент» не обозначает никакой видимой формы, но он отбивает четкую
точку в ритмическом ходе сценарной речи, и он необходим и глубоко понятен
режиссеру.
«В город входить нельзя» и «Очень хорошо живется» дают новую форму
сценария, по моему глубокому убеждению, «настоящую» нужную форму.
Ее подробный анализ — это материал для большой работы? которую я
сейчас веду6.
1928 г.
Творчество литератора
в кино.
О кинематографическом
сценарии Ржешевского
Когда мне в первый раз пришлось читать сценарий, написанный
Александром Ржешевским, я получил совершенно своеобразное, до тех пор незнакомое мне
впечатление.
Сценарий при чтении волновал, как волнует настоящее литературное
-произведение.
Я повторяю, что это было мне незнакомо, потому что обычны, почему-то до
сих пор общеприняты сценарии, где язык сценаристов характерен своей
полнейшей халтурной невыразительностью. Никто из сценаристов не думает о том, что
в конце концов их материалом является слово, что именно словом они должны
передать режиссеру тот комплекс мыслей и ощущений, который должен
впоследствии получить зритель на экране. Связь сценариста с режиссером —
необычайно важная вещь. Она частично осуществлялась до сих пор
непосредственным общением (встречами, разговорами), в большинстве же случаев автор
сценария, продавший на фабрику работу и отделенный от производства, неистово
ругал режиссера за искажение своего произведения в постановке. Конечно,
причиной несовпадения сценария и картины может быть неумение режиссера,
но далеко не исключены случаи простого взаимного непонимания. Ошибочная
пропаганда приемов писания сценария как простого перечня чередующихся
кадров будущей картины привели к плохим результатам. Я сам, к сожалению,
принимал четыре года тому назад участие в кампании за «мышление
зрительными образами». Это, я думаю, происходило потому, что тогда все внимание
кинематографистов было остро сосредоточено на примитивнейших вопросах
монтажного оформления картины. Внутреннее содержание картины, область ее
идейных установок, оперирование понятиями целиком ложились на сюжетную канву.
Режиссер работал главным образом над простейшими задачами описательного
монтажа. Хорошо монтажно сделанный отход поезда или пожар дома — это
было уже достижением.
Теперь — другое время. Кинематограф значительно ушел вперед.
Режиссерами-изобретателями найдены такие приемы впечатления зрителя, которые
позволяют непосредственно путем монтажных построений перебрасывать в
зрительный зал сложные абстрактные понятия. Материал, захватываемый
кинематографом, растет. Сила его воздействия — тоже. То, что раньше казалось
неодолимым для перевода на язык монтажа кинокадров, теперь сделалось ощутимой,
ясной реальностью, из которой создаются наши лучшие картины.
79
Было бы странно, если бы сценаристы, так тесно связанные с производством
картин, остались позади, не изменяя технику приема своей работы. Очень
многие режиссеры пишут сами для себя сценарии. Почти все перерабатывают их в
так называемые «монтажные листы». Монтажный лист — это схема,
технический план съемочной работы. Там все между строк.
1. Лицо Павла.
2. Кулак.
3. Лицо Ивана.
4. Удар по столу.
5. Переворачивается стол.
6. Лицо Ивана и т. д.
Какое лицо у Павла, какой удар, что с Иваном — ничего не отмечено. Все
ясно только режиссеру, коротко, как бы телеграфным кодом, отмечающему
найденные, продуманные им кадры. Этот телеграфный стиль из стана
режиссеров, к сожалению, перебросился и к сценаристам.
Усилия «мыслить только зрительными образами», то есть производить, в
сущности, режиссерскую работу, загоняет часто сценариста в тупик. Он
забывает о том, что в его работе, в полную противоположность монтажным
режиссерским листам, все должно быть в строках. Слово — единственный его материал.
Им он должен владеть в совершенстве, ибо иначе неизбежно недостаточно
точное и глубокое ощущение его работы режиссером и как следствие этого —
появление в картине иных трактовок, иных смысловых установок, а в частных
случаях — порча всей вещи.
Интересные примеры сценариев, дающих глубокую словесную обработку
содержания, встречаются именно у тов. Ржешевского.
Из сценария «26 бакинских коммунаров»
— Фронт.
— В лоб, в зрителя, стеной ревели обезумевшие пулеметы.
— Весь в крови, красноармеец о чем-то долго, долго думал,- надумал и проговорил...
МОЕ ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К БЕЛОБАНДИТАМ.
— И записал это самое на бумагу. И надолго задумался замечательный парень и как-то
прикинул несколько раз рукой, чтобы наверняка выяснить удельный вес первого слова,
которым он собирается начать свое обращение, удивительно улыбнулся, безнадежно махнул рукой
и прямо-таки разрисовал на бумаге...
«Г А Д ЫП»
— Падали в рядах один за одним, оставляя, обнажая прорехи в рядах, белогвардейцы,
в которые уже можно было видеть перед собой пространство, на котором один за одним рвались
снаряды красных, и между ними подбитый, покосившийся набок семафорил о помощи
белогвардейский броневик.
— И перед аппаратом окопы красных, и что-то в дыму на насыпи кричал красный
командир...
— И страшно. Поверх насыпи показались сперва штыки и за ними под насыпью застыли...
только головы, только лица бойцов — красногвардейцев, уставившихся как неживые,
суровые перед собой.
— И стонали, как обезумевшие, пулеметы красных, подготовляя атаку, и невдалеке от
аппарата лежал, тяжело дыша, какой-то умирающий, тяжелораненый. И на него смотрел,
думал взволнованный знакомый нам красноармеец и со слезами на глазах в обращении к белым
дальше писал...
«ЗЕМЛЯ ВСЯ ВОЛНУЕТСЯ... ВОЛНУЮСЬ И Я...»
— И перед аппаратом окопы красных, что-то в дыму на насыпи кричал командир.
80
— И страшно. Поверх насыпи еще выше поднялись и так застыли только головы,
только лица людей, бойцов-красноармейцев.
— И у страшной стены во весь рост, у которой стояли бойцы красных, подошел суровый,,
знакомый вам раненый парень — красноармеец, тут же надел на штык, чтобы донес, какому-
то бойцу свое обращение к белогвардейцам, в котором, заканчивая без нас, боец написал...
«БУДЕТЕ ПЕРЕРЕЗАНЫ ВООБЩЕ.
РЕВОЛЮЦИЯ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ ВАШИХ!
ПРОСТИТЕ НА ДОБРОМ СЛОВЕ...
КРАСНОАРМЕЕЦ ПЕТР ПЕТРОВ»
— Ив дыму траншеи белых, и лица смотрят, и видать до ужаса... черная, красная, в
дыму... страшная стена идущих в атаку красных...
— Один за одним, на берегу знакомого нам голого обрыва, под тяжелыми тучами над
бесконечной водой, большой рекой, может быть, синим морем, рвались тяжелые снаряды...
— И горела знакомая русская изба...
Пусть здесь большая доля приходится на текст надписей. Мне важно сейчас
показать пример напряженной выразительной словесной передачи сценарного
куска. Здесь не остается места сомнениям. Режиссер может сделать хуже,
слабее, чем это сделано в сценарии, но он не может сделать «совсем не то». Слишком
отчетлив определенный словами образ. Работа режиссеров не стоит на месте*
Вся наша советская кинематография выковалась в преодолении новой тематики,
еще не так давно казавшейся неодолимой и непригодной многим «представителям
искусства».
Работа Ржешевского замечательна в том отношении, что, будучи совершенно
целостной и органичной в своих устремлениях, она смело, не стесняясь, ставит
режиссеру задачи, точно определяя их эмоциональную и смысловую сущность
и не предугадывая точно их зрительного оформления. Часто он дает только
великолепный импульс, хорошо понимая, что точная заданность формы может
только сбить режиссера, навязывая ему вместо ощущения и смысла уже
жесткую схему зрительной формы.
Из сценария «26 бакинских коммунаров»
Начало.
— Величественный голый, обрыв. И на голом.обрыве... какая-то изумительная, красив а я
сосна,. И- невдалеке от обрыва — вы знаете, какие бывают,—русская изба. И невдалеке от
избы над обрывом, под тяжелыми тучами, на ветре, ревущем над бесконечной водой, большой
рекой, может быть, синим морем... застыл человек.
ВЕТЕР, ВЕТЕР, НА ВСЕМ БОЖЬЕМ СВЕТЕ.
— И видим мы, как на том же страшном обрыве, невдалеке от той же избы, под тяжелыми;
„тучами, на ветре, ревущем над бесконечной водой, большой рекой, может быть, синим морем....
— долг о...
— страшн о...
— исступленно...
— сложив руки в рупор,
— плакал, захлебывался, что-то долго говорил человек...
— отчаянно кричал... человек!
— крича л...
— с обрыва
— .через большую воду
— на другой берег реки,
— по которому на аппарат, бешено, перли тучей какие-то всадники...
— налетали на аппарат. Смяли...
— уходили от аппарата..
— в их сторону долго ггворил, плакал человек.
— кричал,
— как бы их спрашивал *
81
...МОЙ ОТЕЦ РОДНОЙ УМИРАЕТ, СПРАШИВАЕТ, ЧТО ЗАДУМАЛИ, И ЕСТЬ
ЛИ НА ПРИМЕТЕ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ МНЕ ТАК ЖЕ, КАК И ОТЦУ... БУДЕТ
ЖИТЬ СТРАШНО.
— видно: вода
— видно: как на другом далеком берегу
— круто осадили перед аппаратом какие-то всадники
— и какой-то замечательный парень
— в ответ
— через большую воду
— на обрыв, к обрыву, к маленькому человечку,— восторженный, возмущенный, орал...
БУДЕШЬ СИДЕТЬ...
— возмущенный, орал, восторженный, замечательный партизан — парень...
БУДЕТ ПЕРВЫЕ СТО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТЯЖЕЛО.
ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТ ЛЕГЧЕ!!
— Пошел к избе человек с оврага
— скрылся в избе человек
— вошел в нищую избу человек с оврага
— подошел к умирающему худому костлявому, высохшему мужику парень...
— и метров на десять говорил, долго говорил о чем-то, рассказывая, сын своему отцу
умирающему... и замолчал.
— и повернулся на бок мужик умирающий. Спокойный положил руку под голову и
угрюмо, упрямый в ответ своим мыслям сказал:
^СЕГОДНЯ НЕ УМРУ».
Вся сила слов направлена не на точное описание того, как, откуда и что
снимать, а на эмоционально заряженную передачу того, что должен ощутить
зритель от зрелища будущего монтажного построения режиссера. Владея
словом, Ржешевский не оставляет режиссера на свободную игру и случайный
подбор зрительного съемочного материала. Сказанное им в сценарии довлеет над
режиссерской работой. Все техническое оформление, всю изобретательность
человека, работающего с аппаратом, пленкой и ножницами, приходится
бросать на то, чтобы в переходе от слова к нахождению и соединению кадров не
нарушить целостного и насыщенного устремления вещи.
Ржешевский не пишет ни о ракурсах, ни о первых и общих планах, ни о
длине отдельных кусков, а вместе с тем ритм хода картины при чтении ощущаешь.
Форма кадров, ракурсы, свет, характер и движение людей — все это без прямых
указаний включено в его словесные построения. Ржешевский требует
изобретательства. Его «может быть, синее море» на первый взгляд как будто бы
негативное утверждение (и что же: река или море?), на самом деле дает
точнейшую директиву для подыскания и съемки зрительного материала. Ширь,
суровость и величественность реки, которая «может быть, синее море», не может быть
дана съемкой Волги с высокого моста. Здесь задано целое монтажное
построение, в которое входят и смена света, и смена точек зрения аппарата, и,
может быть, включение нового материала, формальной связи с водой не
имеющего.
Ржешевский работает так, как это нужно советской кинематографии.
Удачное словесное оформление соединяется с тем безошибочным чутьем
выразительного зрительного материала, которое свойственно только кинематографистам, и с
безукоризненным знанием законов композиции картины.
В сценарии «26 бакинских коммунаров» он дает осаду Баку турками.
Измученные до предела красноармейцы и население остервенело борются за город.
82
Великолепно найденный эпизод с исключительной силой разрешает задачу
показа этой бешеной и упорной борьбы. Пожар. Отчаянно работают пожарные
и какие-то случайные люди. А над домом на улице рвутся снаряды, лопаются
разорванные осколками шланги, падают раненые и убитые пожарные, воют и
рвутся снаряды, а люди упорно тушат пожар. Ржешевский отходит от прямого-
описательного показа дерущихся сторон.Он уходит от обычного, разработанного»
по линии наименьшего сопротивления вкусно-формального показа взрывов
снарядов и производимого ими разрушения. Он в упор берет в остром показе-
напряженную борьбу людей, таких же людей, как и в окопах за городом, и
грохает по ним вражескими снарядами. Вода, брызжущая из разорванных шлангов,
потрясает, как кровью из разорванных жил, раненого бойца. И люди, снова и
снова под обстрелом бросающиеся в пламя, чтобы спасти гибнущих, впечатляют
острее и вернее самой отчаянной атаки.
Интересна общая композиционная работа Ржешевского над сценарием. В его
последних вещах — «Шестнадцатый», «В горах говорят», «26 бакинских
коммунаров» — нет сюжетного построения в обычном понимании этих слов.В них нет
последовательно развертываемого описания судьбы действующих лиц.
Сценарий распадается как бы на ряд отдельных эпизодических установок, связанных
между собой ходом основной мысли сценария, а не драматургическим развитием
положений действующих лиц. У Ржешевского часто отдельный персонаж
появляется только для того, чтобы бросить один вызов зрителю и исчезнуть
навсегда. Иногда он включен в построение эпизода для того, чтобы подчеркнуть,,
до последней степени силы довести нужное эмоциональное напряжение. В
сценарии «26», когда в Совете депутатов голосуют за приглашение англичан,
окровавленная голова «какого-то» красноармейца в дыму грохочущего пулемета
кричит своему умирающему от раны товарищу: «Кажется, где-то нас продают,
Петька!» В «Хорошо живется» есть сюжет. Есть действующие лица, за судьбой
которых следит автор. Но необычайно характерным является то, что в этом
сценарии нет тех сложных сюжетных сплетений, которыми большинство
теперешних сценаристов пользуется для характеристики действующих лиц и для
передачи ряда отвлеченных понятий. Такая работа со сложным сюжетным
узором как с выразительным материалом обычно уродует кинематографическое
оформление вещи... Действительно, для того чтобы выявить какой-либо
персонаж путем разнообразных столкновений его судьбы с судьбой других
действующих лиц и дать это описательно-натуралистическим путем, через
многочисленные хронологически последовательные события, требуется всегда огромное
количество описательного материала. Эта перегрузка описательным материалом
делает неизбежно работу режиссера поверхностной. У него не хватает времени
(картина ограничена 2000—2500 метрами) для того, чтобы углубить работу.
Сюжетная канва «Хорошо живется» необычайно проста. Действующих лиц
мало. Никаких мудреных, запутанных событий, конструкция которых сама по-
себе могла бы служить выражением какой-либо мысли. Только несколько»
встреч, необычайно разработанных вглубину. Интересно, что люди
Ржешевского — почти всегда собирательные образы. Они как бы заранее заданы как типы.
Вещи Ржешевского насыщены патетикой. Он питается реальной героикой
теперешнего, нашего времени, и его герои поэтому не требуют предварительных
характеристик. Для Ржешевского «боец Красной Армии» — огромные слова, и
поэтому его человек в шинели, с красной звездой на шапке одним своим
появлением на экране должен волновать зрителя определенным ясным ему чувством.
83
Рефлекс должен быть отчетливым, как отчетлива реакция французского
шовиниста на серую шинель и треуголку Наполеона.
Таков подход Ржешевского ко всем персонажам своих сценариев. В своей
установке он как бы предопределяет, что человек, снимающийся в его картине,
должен не «играть роли» и в результате сложного узора своего «актерского
поведения» убедить зрителя в том, что он тот или иной. Ржешевский требует,
чтобы человек на экране одним своим видом, комплексом своих внешних данных,
связанным реальным внутренним образом, сразу воспринимался бы зрителем
как определенный образ. Отсюда такие определения, какие дает он иной раз
действующим лицам.
Александр Ржешевский талантливый и в известном смысле первый сценарист.
Он глубоко и по-настоящему включен в современность.
Он неспособен писать так называемые «общечеловеческие вещи», политически
выхолощенные разряды в области индивидуально-интимных настроений. Его
вещи всегда проникнуты политической направленностью, и более того: эта
направленность, преломляясь в творческом плане, превращается в глубокое и
широкое «ощущение» нашей советской действительности. Его пафос — не
ложный пафос «агитки», а настоящий волнующий подъем, тот удивительный подъем,
который когда-то — в дни Октября и гражданской войны — с невероятной силой
звучал в речах ораторов и двигал огромные массы на подвиг.
1929 г.
КИНОРЕЖИССУРА
Время в кинематографе
Фотогения
Кинорежиссер
и киноматериал
Предисловие
[к немецкому изданию книги
«Кинорежиссер и киноматериал»]
К вопросу звукового
начала в фильме
[Разговор с Пудовкиным
о звучащем кино]
Творчество кинорежиссера
Время крупным планом
Роль звукового кино
Асинхронность как принцип
звукового кино
Проблемы ритма в моем первом
звуковом фильме
[О монтаже]
1923 г.
1925 г.
1926 г.
1928 г.
1929 г.
1929 г.
1929 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.
1934 г.
1949 г.
Время в кинематографе
Если разобраться во всем написанном о кинематографе за последнее время,
то, вероятно, больше половины упадет на долю рассуждений о музыке и кино1,
об их родстве, о «музыкальной» природе кинематографа и т. д. вплоть до
предложений пользоваться программной музыкой для создания сценариев. Однако
из бесчисленных высказанных взглядов невозможно извлечь ни одной мысли,
способной воплотиться в конкретную форму, получить конкретное
применение в работе кинематографиста-практика хотя бы в виде рабочей
гипотезы, направляющей тот или иной эксперимент. Между тем вопрос о музыке и
кино необычайно важен именно в чисто практическом, экспериментальном
плане.
Говоря о музыкальной природе киноискусства, мы тем самым устанавливаем
природу его материала, располагающегося во времени. Расположенный во
времени материал (звук) есть также специфическое свойство другого искусства —
музыки. Поэтому законно, имея в виду сродство материалов, устанавливать
наличие общих принципов обработки этих материалов и говорить о
параллелизме этих двух искусств. Пользуясь, таким образом, вполне законной аналогией,
я хочу установить некоторые принципиальные положения, причем, не
увлекаясь мечтаниями о кинематографе XXX века, светосимфониях и проч., я
постараюсь оставаться в пределах простейших схем, которые, я утверждаю,
могут и должны быть реально осуществлены в кинематографической работе
настоящего времени.
Любой кусок любого музыкального произведения, записанного на бумаге,
является перед нами в виде последовательного ряда знаков, отмечающих звуки
различной продолжительности и разной высоты.
Они расположены в совершенно определенном, точном порядке, и даже для
дилетантского ока нотная запись является образцом точной, осознанной
композиции материала.
Отчетливы и ясны элементы — простейшие звуки, отчетливы и ясны группы,
составленные из них и в свою очередь образующие новые, более сложные
сочетания.
Теперь перехожу к кинематографической ленте и пробую прежде всего учесть
тот элементарный материал, располагая который во времени я смогу создавать
тот или иной ритмический рисунок.
87
Лента пробегает в проекционном аппарате равномерным движением.
Допустим, что пропускается незаснятая лента, зритель видит серый
"полуосвещенный экран, ровная окраска которого ничем не нарушается. Если выцарапать на
этой ленте через ровные промежутки какие-либо знаки, хотя бы просто
полосы — на экране, отмечая равные временные интервалы, стали бы вспыхивать
светлые пятна. Если я стану варьировать расстояние между знаками,
располагая их в какой-то определенной последовательности, скажем — второй следует
за первым через 1 метр, третий за вторым через 3 метра, четвертый — через 2
метра, пятый опять — через 1 метр и т. д., то экранное отражение такой ленты в
движении даст иную последовательность знаков во времени (через 3,9,6 сек.).
В конце концов кинематографист в результате сложной работы заснятия,
проявления, печатания и монтажа изготовляет пленку, покрытую некиими
знаками, и вопрос в том, можно ли найти в хаосе темных и светлых пятен,
движущихся на экране, какие-то элементы, которые можно было бы сознательно
располагать в пространственной последовательности на пленке, а
следовательно, во времени. Начну с наиболее простого. Одна сцена сменяет другую. На
экране видна мачта, на нее медленно поднимается флаг. Момент смены. Экран
заполнен фигурой матроса, быстро вертящего подъемное колесо. Новая смена —
играет оркестр. Зритель получает отчетливые, ясные удары в момент каждой
смены. Учет относительной длины отдельных кусков заснятой ленты, их
склейка в определенной последовательности есть одна из важнейших сторон основной
работы кинематографиста, называемой монтажом. *
Мы нашли один из важнейших ударных моментов, разбивающий
равномерный бег ленты на некие интервалы и дающий на экране определенный временной
рисунок, это — момент смены. Короткие, прыгающие смены — в драке и
растянутые, медлительные — в лирических местах уже дают некоторый намек на
осознанное расположение материала во времени. Перехожу к следующему.
На экране во весь рост человек, роющийся в ящике стола, он оглянулся.
Смена: очень крупно снято испуганное лицо того же человека. Смена: женщина
в дверях, снятая во весь рост.- Здесь помимо смены одной сцены на другую,
точнее — помимо изменения снимаемого пластического материала происходит
смена и той точки, с которой материал снимается или, что то же, рассматривается
зрителем. Обращаю внимание на то, что крупное лицо на экране, как бы ни было
велико фактическое изображение, никогда не кажется лицом гиганта. Это
происходит потому, что, следя за сменой образов на экране, зритель каждый раз как
бы ставит себя на место объектива съемочного аппарата, то приближаясь, то
отдаляясь от снятого объекта. Если бы мы заменили психическую координацию
зрителя относительно изображения координацией его пространственной
относительно снимавшегося объекта, мы увидели бы режиссера, твердо держащим
посетителя кинотеатра за шиворот и последовательно поднимающим, его то над
городом на высоту аэроплана, то тыкающим носом в лицо нужного актера, то
отдергивающим его на некоторое расстояние, чтобы иметь возможность показать
его целиком.
Здесь со сменой сцены соединяется смена плана. Нужно заметить, что этот
момент всегда совпадает с первым акцентом, со сменой сцены, но от этого он не
утрачивает самостоятельного значения, составляя как бы второй ритмический
ход, интерферирующий с первым. .. -
Наличие на заснятой ленте последовательного ряда акцентов двух родов
установлено, и я иду далее, рассматривая видимое на экране содержание
88
каждой отдельной сцены. Снят человек. Его движущееся изображение на экране
воспринимается зрителем как некая последовательность жестов и положений
различного пространственного размаха и различной продолжительности (я
говорю лишь о зримом, а не о мнимом содержании сцены). В этом ряде движений
снятого человека ясно могут быть различимы акцентированные, ударные
моменты: остановка, поворот, падение, взмах и т. д. Может быть снята машина,
животное, город, но во всех случаях будут либо равномерно повторяющиеся, либо
неравномерно следующие во времени акценты движения. Таким образом,
устанавливается в киноленте третий ход, располагающий во времени исходный,
сырой материал кинематографиста — движение снимаемого объекта.
Теперь я произведу смотр выводам, вытекающим из разнообразных
положений, и попробую изложить их практическое значение.
Вывод 1. На ленте расположены некоторые моменты, дающие с экрана
четкие и определенные зрительные удары. Мы назвали их акцентами. Можно
оставить их следовать в любой случайной последовательности в зависимости от
множества случайных же, независимых друг от друга, условий: от воли актера,
от прихоти оператора, "наконец, от ножниц монтажницы. Так делается в
современных картинах. Или же можно располагать эти акценты в определенном,
творчески утвержденном, точном порядке. Так нужно делать в будущих
картинах. Кто считает себя работником искусства, не имеет права оставлять хаос
там, где может быть творчески создан порядок, ибо только порядок
обусловливает истинную творимую форму и только такая форма впечатляет в плане
высокого искусства.
Вывод 2. Если материал еще не подчинен в достаточной мере и методы
преодоления композиционных задач не ясны, следует изучать и материал и
композиционные возможности путем строгой экспериментальной работы, а не
истерических выдумок. Никакое верхнее чутье и никакое вдохновение не
оправдывают плохой формы.
Вывод 3. Расположение материала во времени является чрезвычайно
важной стороной работы кинематографиста, и экспериментальные искания в этом
направлении должны быть двинуты по трем путям:
1) Воспитание актерского материала в плане точной работы во времени2,
ибо, если я не смогу точно учесть движения актера, точный размер отдельных
сцен станет также невозможным, и форма будет разрушена.
2) Сознательное отыскание возможностей и законов ритмического монтажа
путем заснятия экспериментальных кусков специально схематического
содержания 3.
3) Сознательный эксперимент на наиболее девственной .почве, именно —
в области отыскания композиционных возможностей для построения
последовательной смены планов. Некоторые закономерности, связывающие эту смену с
общим построением картины, довольно ясны, но для изложения их нет места
в настоящей статье. Во всяком случае, они существуют и эксперимент необходим.
В заключение я хочу подчеркнуть, что мои рассуждения отнюдь не ведут к
построению картин, шагающих под команду «левой, левой»... Дело идет лишь
об осознании материала и представляемых его природой возможностей.
1923 г.
Фотогения
Кинематограф, как всякое искусство, имеет своё материал и свой
прием его обработки. Как всякое искусство, должен он иметь свои законы,
обусловливающие выбор материала.
Все эти положения не новы, но нет и не было конкретных указаний,
обоснованных и ясных ответов на вопросы: «каковы законы?», «как обусловливают
они выбор?». А вместе с тем только такие работы нам нужны, только такие
работы требует наша современность. Нужно помнить, что, для того чтобы вызвать к
жизни нового художника, нужно суметь передать в его руки орудие
производства. Нужно суметь показать ему те приемы и те обусловливающие их
законы, на которых строится работа в данном искусстве. Неизбежная наша
обязанность — обязанность каждого режиссера, каждого киноработника —
сознательно разобраться в основных принципах, руководящих его работой, и отдать
себе в них разумно построенный отчет. Только так может совершиться акт
передачи искусства в руки представителей нового класса.
Недавно появившаяся в русском переводе книга Луи Деллюка
«Фотогения»1, так нашумевшая на Западе, как будто бы ставит себе задачей дать ответ
на основные задачи киномастерства, и вместе с тем — какая чуждая и почти
ненужная нам книга!
Условный язык, пересыпанный патетическими восклицаниями, вроде «мудрая
прозорливость кино», оперирует с расплывчатыми символами вместо понятий,
с лирическими призывами вместо точных формул. Почти все рассуждения
фактически сводятся к «красоте» и «вкусу», и автор их может рассчитывать лишь на
аудиторию, состоящую из «родственных душ». Многое из сказанного им по
существу верно или «почти верно», но все сплошь изложено в корне
индивидуалистично и поэтому в такой форме неприемлемо.
Фотогеничность снимаемого материала, или, как понимает это Деллюк,
возможность слияния фотографического изображения этого материала с «гением»
кино, является действительно чуть ли не самым важным вопросом
киномастерства. Что одно выходит на экране плохо, а другое хорошо, что режиссер должен
производить какой-то выбор, это знакомо не только спецам, но и широкой
публике. По каким же путям нужно идти для того, чтобы реально нащупать
возможности точного ответа? Прежде всего я начну с формального исследования
ряда процессов, имеющих место при создании и демонстрации киноленты.
90
Всем известно, что отдельные эпизоды картины, часто весьма короткие,
несмотря на свою малую продолжительность, разбиты на части. Короткий диалог
двух лиц мы видим склеенным из нескольких кусков. Последовательно
появляются лица то одного, то другого собеседника. Более того, весьма часто
отдельное движение одного актера снимается так, что на экране мы видим его
в нескольких кусках, снятых с различной степенью приближения
объектива (первый и общий план) и с разных точек зрения (сверху, снизу, профиль,
фас).
Склеенная из кусков сцена, в свою очередь,* соединяется с другими, образуя
известную последовательность эпизодов в развитии действия, и в результате
вся картина оказывается состоящей из кусков различной длины,
последовательно сменяющих друг друга. Так обстоит дело на пленке. Теперь, если мы будем
просматривать готовую картину на экране, каждый момент смены одного куска
на другой (некий скачок) непременно будет отличен вниманием (зрителя), даже
если смена производится мягко, как, например, в наплыве, и воспримется как
некий зрительный удар — акцент, как я его называю.
Эти акценты (моменты смен) будут распределены по всей картине, вернее —
по тому времени, которое потребуется для демонстрации картины. Они
распределятся в каком-то порядке, зависящем от относительной длины кусков и их
комбинаций. Они могут быть очень сильны (крупный план сменяет общий план),
средни (в одном плане одно лицо сменяет другое), слабы (наплыв). Так или
иначе, ряд акцентов будет налицо во всякой картине независимо от направления
художника, который ее делает. Если представить себе, что каждый момент
смены сопровождает короткий звук соответственной высоты и силы, мы бы
услышали при демонстрации картины целую мелодию из звуков то сильных, то слабых,
то частых, то редких. Отчетливые, акцентированные моменты, расположенные
во времени и разделенные различными интервалами, не есть ли это форма
временного ритма*?
А если этот ритмичный момент неизбежно присущ каждой
кинематографической картине, не является ли естественным, что он должен как-то обусловливать
материал, закладываемый в картину волей режиссера? Отчетливая
ритмическая структура кинокартины является как бы особой сеткой, пропускающей
через себя только то, что не нарушает ее.
Все знают, что ритм служит могучим орудием впечатления, и, начиная
управлять им, мы начинаем управлять зрителем. В самой основе кинематографической
картины, в ее формальной структуре, независимо даже от того, что для нее
снято, заметно твердое, отчетливо выраженное начало чередования (ритма).
Я позволю себе сравнить его с плоскостью натянутого холста, которая диктует
плоскостность разрешению живописных задач, и с трехмерностью куска глины,
обусловливающей пространственность скульптуры. Закон кинематографа
диктует неизбежность отчетливого ритма, работник кино.должен научиться
владеть им, не нарушать его и диктовать порядок (метр). Вот тут-то мы и становимся
лицом к лицу с задачей выбора материала. Если кинематографист начнет
оперировать с временным ритмом, он неизбежно столкнется с пластическим
содержанием каждого отдельног о куска.
В самом деле, как бы короток ни был кусок, в нем всегда имеется
изображение — во-первых, каких-то материальных пространственных форм (чело-
* Ритм я понимаю как простое чередование ударных и неударных моментов.
91
век, его костюм, вещи, декорация, пейзаж) и, во-вторых, движения этих
форм, хотя бы и очень кратковременного.
Всякое движение, если мы будем его рассматривать со стороны зрительного
восприятия, непременно обладает более или менее ясно выраженной
ритмической конструкцией. Человек идет, повернулся, идет в другом направлении —
воспринимается как чередование интервала, акцента, интервала. Всякая
быстрая перемена направления или скорости, всякий переход от покоя к движению
или обратно воспринимаются как акцент, а разделяющие их периоды
равномерного движения — как интервалы. Наличие чередования есть во всяком
движении, оно отличается в разных случаях только степенью сложности.
Перейдем теперь к материальным пространственным формам независимо от
их движения. Наличие ритма, выражающегося в чередовании акцентов и
разделяющих их интервалов, мы найдем и здесь. Углы, внезапные повороты линий,
ограничивающих контуры видимого предмета, воспринимаются как акценты;
всякие же линии одного направления, обладающие воспринимаемой длиной,
аналогичны временным длительностям, то есть тому, что я называю
интервалами. То же самое можно сказать о чередовании светлых и темных пятен,
обусловливающих раскраску предмета или его светотеневую форму.
Статический ритм различной степени сложности присущ всем
пространственным формам. Смотря на длинную колоннаду, мы получаем впечатление
отчетливого ритма. В лесной глуши этот ритм необычайно запутан и сложен, почти
хаотичен. ."•'■'.
Установив неизбежное наличие ритма во всем том материале (форма и ее
движение), который служит кинематографисту для заполнения каждого
отдельного куска, я тем самым, полагаю, устанавливаю необходимость сознательного,
управляемого творческой волей выбора этого материала. В самом деле, если
задачей кинематографиста является внесение творческого порядка в чередование
длиннот отдельных кусков, то ритм, обусловленный их сменами, не должен
нарушаться хаосом в содержании каждого отдельного куска. Сознательным ли
построением формы и ее движения, соответствующим ли строгим
выбором, но порядок.должен быть внесен, иначе работа кинематографиста выйдет
из круга искусства и уткнется в лужу халтуры и дилетантства. Здесь я делаю
первый вывод, необходимый для дальнейшего построения.
В ы в о д 1. В самой структуре всякой кинематографической картины
заложено начало четкого, ясно воспринимаемого ритма, выражающегося в
чередовании смен отдельных кусков. Это есть характерное и главное — формальное
свойство всякого произведения кинематографического искусства. Снимаемый
пластический материал, входящий в содержание отдельного куска, должен быть
неизбежно учтен со своей ритмической стороны, если кинематографист ставит
себе целью творческое создание порядка, исключающего хаос и случайность,
а эта цель является основной во всяком искусстве.
Перехожу к дальнейшему. Снова мне приходится обратить внимание на
структуру всякой кинематографической ленты, состоящей из отдельных более
или менее коротких кусков. Эта структура предъявляет к зрителю совершенно
определенное и неизбежное требование — напряженного внимания. Это
внимание беспрерывно перебрасывается с места на место, с человека на человека, с
предмета на предмет. Среднюю длину отдельного куска, выработавшуюся
практикой современной постановки (почти независимо от «направления» режиссера),-
можно исчислить в 2—3 метра, следовательно, при нормальной скорости про-
92
екции кусок пройдет на экране в 6—9 секунд. Ясно, таким образом, что зрителю
дается весьма небольшой промежуток времени для того, чтобы усвоить
содержание каждого отдельного фрагмента кинокартины. Отмечу еще целый ряд
требований, предъявляемых зрителем экрана. Начиная с иллюзии движения,
которая является лишь результатом напряженной ассоциативной работы, и кончая
монтажом, апеллирующим к той же молниеносной ассоциации и отчетливому
запоминанию,— все держит внимание кинозрителя в беспрерывном,
исключительном напряжении. Если сюда прибавить смену планов, точек зрения и
ускоренный темп, в котором развивается действие (вспомните среднюю длину куска),
то становится понятным главное условие, которое должен предъявить зритель ко
всему, что происходит перед ним на экране. Это условие — максимальная
ясность.
Содержание каждого куска (я говорю только о пластическом содержании)
может обладать различной степенью ясности. Чем яснее оно, тем проще и
быстрее усваивает его зритель и тем отчетливее и крепче входит оно элементом в
общее построение картины. Чем сложнее и запутаннее содержание отдельного
куска, тем больше шансов за то, что зритель, не успев вполне разобраться в
нем, отложит в своем сознании неясное, аморфное впечатление, которое либо
разрушит последующее, либо неизбежно запомнится как досадно неприятный
момент.
Выв од 2. Монтажное построение картины, являющееся основным
характерным методом впечатления в кинематографическом искусстве, обусловливает
максимальную ясность каждого элемента, составляющего картину.
Теперь, разбираясь во всем сказанном, объединим выводы в одно общее
положение. Мы видим, что форма материала должна неизбежно учитываться с
ритмической стороны и вместе с тем, как все, что входит в конструкцию
кинематографической картины, эта ритмическая сторона должна быть выражена с
максимальной простотой и ясностью. Простой и отчетливый ритм —
пространственный в форме и временной в движении.
Не здесь ли заключается основа фотогении?
Все, что просто, ясно и отчетливо в своей пространственной ритмической
конструкции, всякое движение, ясно и просто организованное в пространстве и
времени, будут непременно фотогеничны, потому что они действительно
отвечают основному свойству фильмы. Посмотрим, насколько сходится
установленный критерий с тем интуитивно определяющимся «вкусом», который до
известной степени является «гласом народа».
Что выходит хорошо на экране? Город, городские улицы, особенно западные,
железнодорожные мосты, паровозы, автомобили, машины и т. п. Все упомянутое
целиком отвечает требованиям критерия. Ритмически ясная, прямоугольная
форма домов и геометрическая правильность уличных перспектив, математич-
ность инженерной конструкции, обусловливающая простые симметричные
формы,— все это дает простой отчетливый материал, легко укладывающийся в
отвечающую ему ясную ритмическую структуру киноленты, подобно тому как
хорошо растертая краска легко ложится на полотно, не нарушая его плоскости.
Почему стопка книг в гладких переплетах будет всегда хорошим аксессуаром^
а букет цветов почти неизбежно выйдет отвратительно (вспомните «Монику Лер-
бье»)1? Потому что цветы, теряя свою окраску на экране, превращаются в
беспорядочные запутанные лохмотья, почти не имеющие формы. Букет становится
приемлемым, если его поставить далеко и, таким образом, воспользоваться лишь
93
его общими очертаниями. Вспомните спокойные, освещенные рассеянным
светом серые стены декораций в лучших американских постановках («Найденыш
Джудди»2, «Розита»3) — они фотогеничны, и сравните их с пестрыми обоями
наших халтурных агиток, могущих служить образцом хаоса.
Все сказанное о фотогеничности формы целиком относится ко всем
формальным свойствам снимаемого материала. Возьмем для примера фактуру
поверхности. Полированная, поверхность выйдет хорошо, потому что она правильно
отражает свет, создавая отчетливые и ясные блики, тогда как поверхность,
покрытая, скажем, плохим лаком, благодаря изломам и неровностям, дающим
-сложные беспорядочные рисунки отсветов, выйдет плохо. Возьмите любую из
признанных фотогеничных вещей, и она неизбежно окажется правильной,
отчетливой и простой.
Сущность фотогеничности нельзя считать связанной исключительно с
отвлеченной данностью формы. Часто можно использовать материал, учитывая
специально выбранную точку зрения аппарата (как взять кадр). Но принцип
ясности и простоты остается в силе. Я приводил уже пример (с букетом), когда
отдалением аппарата мы берем лишь общие упрощенные очертания предмета (так
американцы часто снимают пейзаж). Приведу еще пример. Почему так волнуют
съемки большого движения сверху? Потому что ниоткуда так ясно не
воспринимается путь движущихся предметов, как сверху (вспомните футбол в «Кожаных
перчатках», парады и прохождения войск, съемки улиц). При этом обратите
внимание, что съемки сверху без движения в кадре неинтересны (многие
нелепые кадры в немецких постановках, дающие впечатление ненужного
эстетического изыска).
Дело обстоит как будто бы сложнее с фотогеничностью человека. О
движении я уже говорил — здесь дело сводится к отчетливому чередованию и
целесообразной организованности. Можно с уверенностью сказать, что движения
грузчика или молотобойца за работой бесконечно фотогеничнее ужимок
«перешивающей» актрисы. Труднее с лицом. Учет лица с ритмической стороны был бы
-слишком большой смелостью при теперешнем запасе опыта и знаний. Но разве
исключительная пригодность типических лиц не служит указанием на тот же
принцип ясности? О том, что урод настолько же фотогеничен, как и современная
красавица, не приходится спорить — это аксиома. Можно предложить, правда,
несколько смелый, но, по-моему, по существу правильный метод определения
фотогеничности лица. Если лицо, снятое на двух метрах (средняя длина куска)
сможет ясно впечатлить зрителя (как урод, красавица, злодей, добрый
весельчак и т. д.), то такое лицо фотогенично.
Размер статьи не позволяет затронуть целый ряд вопросов, тесно связанных
о понятием фотогеничности. Самый главный из них тот, который охватывает все,
что подлежит хотя бы временному остракизму, то есть то, что «нефотогенично».
У нас в СССР этот вопрос особенно остер, так как он непосредственно
соприкасается с фотогенией быта, но разбор его настолько сложен, что он может
служить предметом лишь специальной работы.
1925 г.
Кинорежиссер
и киноматериал
Особенности киноматериала
Кино и театр
В первые годы своего существования кинематограф являлся только
интересным изобретением, позволяющим фиксировать (снимать) движение, что было
совершенно недоступно фотографии. Благодаря ему можно было снимать и
сохранять изображения всевозможных действенных процессов. Первые картины
являлись примитивными попытками, в порядке курьеза, зафиксировать на
пленке движение поезда, толпу, движущуюся по улице, пейзаж из окна вагона и
т. п. Кинематограф вначале, естественно, являлся только «живой фотографией».
Первая попытка включить кинематографическую съемку в круг искусстваг
естественно, сейчас же связалась с театром. В порядке такого же курьеза, каким
являлись съемки движения паровоза или волнующегося моря, снимались
примитивные сцены комического и драматического характера, разыгрываемые
актерами. Появился кинематографический зритель. Появился целый ряд
маленьких специальных театров, в которых демонстрировались примитивные фильмы.
Кинематографические съемки начали приобретать все свойства производства и
притом производства выгодного. Было учтено колоссальное значение того, что
со снятого негатива можно приготовить много отпечатков — позитивов и тем
самым размножить кинематографическую ленту подобно книге, печатающейся
во многих экземплярах. У кинематографа открывались широкие возможности.
К нему перестали относиться как к курьезу. Появились первые попытки съемки
какого-либо серьезного и значительного материала. Связь с театром
разорваться еще не могла, и совершенно понятно, что при первых шагах кинематографист
снова столкнулся с попыткой фиксации театрального зрелища. Казалось
чрезвычайно интересным сохранить театральный спектакль, работу театральных
актеров, искусство которых являлось преходящим, существующим только в
момент восприятия его зрителем. Кинематограф по-прежнему оставался только
живой фотографией. В работе съемщика не было места искусству, он только
«снимал» искусство актеров. О какой-либо специальной работе
«кинематографического» актера, о каких-либо особых приемах игры для киноленты или
режиссерских приемах построения картины, конечно, не могло быть и речи. В
сущности, что делал кинематографический режиссер того времени? В его
распоряжении имелся сценарий, совершенно подобный пьесе, написанной драматургом
для театра, только слова действующих лиц были выброшены и по возможности
заменены немыми движениями или, иногда, весьма длинными надписями. Ре-
95
жиссер ставил сцену в чисто театральном порядке, размечал переходы,
встречи, вход и уход актеров. Скомпонованную таким образом сцену он проводил
целиком, причем оператор, вертя ручку аппарата, целиком же фиксировал эти
сцены на пленке. Процесс съемки и не мог мыслиться иначе, потому что
материалом режиссера считались те же реальные люди — актеры, с которыми
приходилось работать и на театре, аппарат же служил только для простой
фиксации уже сделанной, окончательно оформленной сцены. Снятые куски
склеивались в простой последовательности развития действия совершенно так же, как
акт пьесы складывается из явлений, и подносились публике в виде кинокартин.
Одним словом, работа режиссера кинематографического ничем не отличалась от
работы театральной. Спектакль с актерами, лишенными слов, точно снятый на
пленку и отброшенный на экран,— вот что представляли из себя первые
кинематографические картины.
Метод кино
Впервые американцы уловили в кинематографическом зрелище наличие
своеобразных возможностей. Оказалось, что кинематограф не только может просто
фиксировать происходящие перед объективом съемочного аппарата процессы,
но он может излагать их на экране особым, только ему свойственным приемом.
Представим себе хотя бы манифестацию, движущуюся по улице. Представим
себе наблюдателя этой манифестации. Для того чтобы получить наиболее яркое и
отчетливое представление об этой манифестации, наблюдателю нужно совершить
некоторую работу. Вот он взбирается на крышу дома, для того чтобы охватить
взглядом процессию во всем целом и оценить ее размеры. Затем он сходит вниз
и из окон второго этажа рассматривает надписи на знаменах, которые несут
манифестанты. Наконец, он внедряется в самую толпу и знакомится с внешностью
тех людей, которые принимают в процессии участие. Наблюдатель три раза
сменил точку зрения, то приближаясь, то отдаляясь, в желании получить наиболее
полное, исчерпывающее представление о наблюдаемом им явлении.
Американцы впервые попробовали поставить кинематографический аппарат на место
такого активного наблюдателя. Они показали в своих работах, что можно не только
фиксировать сцену, разыгрываемую перед аппаратом, но можно, активируя
самый аппарат, меняя его положение,по отношению к снимаемому объекту
несколько раз, суметь показать ту же сцену в гораздо более выпуклом и ярко
впечатляющем виде, чем это может сделать аппарат, играющий роль театрального
зрителя, сидящего на одном месте. Аппарат, бывший недвижным созерцателем,
получил как бы, заряд жизни. Он сам получил возможность движения и из
созерцателя превратился в активного наблюдателя. Оказывается, что аппарат в
руках режиссера может заставлять зрителя не только смотреть, но и разбираться
в снимаемом явлении. Вот здесь-то впервые появилось в кинематографе понятие
«крупного» и «общего плана», которое впоследствии сыграло колоссальную роль;
в создании учения о монтаже как основе творческой работы кинематографиста.
Здесь же впервые определилась существенная разница между режиссером
театральным и будущим режиссером кинематографическим. Вначале материал, с
которым работали и театральные и кинематографические режиссеры, был
одинаков. Те же актеры, таким же порядком, как и на театре, разыгрывающие сцены,,
только более короткие и не сопровождаемые в большинстве случаев словами.
Самое построениеработы актера ничем не отличалось от театрального. Вопрос,был
96
только в том, чтобы наиболее понятно заменить слово жестом. Это был период,
когда кинематограф справедливо называли суррогатом театра. Но с
появлением понятия монтажа дело существенно изменилось. Истинным материалом в
киноискусстве оказались совсем не те реальные сцены, на которые мог быть
направлен объектив съемочного аппарата. Театральному режиссеру приходится
иметь дело всегда с реальными действительными процессами. Они являются его
материалом. Окончательно созданное и оформленное им произведение —
поставленная и разыгранная на театре сцена — есть тоже реальный и действительный
процесс, протекающий в условиях реального времени и пространства. Если
актер театра находится на одном конце сцены, то он не может оказаться на другом
конце без того, чтобы не сделать некоторое необходимое количество шагов, и этот
переход является неизбежностью, обусловленной законами реального
пространства и времени, с которыми всегда имеет дело режиссер театра, он не властен их
переступить. Фактически при работе с реальными процессами всегда неизбежен
целый ряд переходов, связывающих между собой отдельные ударные моменты
действия. Когда же мы переходим к режиссеру кино, то оказывается, что
истинным его материалом являются лишь те куски пленки, на которых с разных точек
зрения засняты отдельные моменты какого-либо явления. Только из этих кусков
и создается экранный образ, являющийся кинематографическим изложением
снимавшегося явления. Итак, вовсе не реальные процессы, протекающие в
реальном времени и пространстве, являются материалом кинорежиссера, а те
куски пленки, на которых этот процесс заснят. Эта пленка находится целиком во
власти режиссера, занятого ее монтажом. Создавая экранный образ любого
явления, он может уничтожить все переходные моменты и тем самым
максимально сконцентрировать действие во времени, до желаемой им степени. Этот прием
концентрации во времени, прием концентрации действия при помощи удаления
ненужных переходных моментов встречается в упрощенной форме и в
театральной работе. Он выражается в построении пьесы из актов. Строить пьесу так,
чтобы между первым и вторым действием проходило несколько лет, есть, в
сущности, тот же прием концентрации действия во времени. На кинематографе этот
прием не только доведен до максимума, но он является самой сущностью
кинематографического изложения. Имея возможность сближать во времени два
соседних акта, театральный режиссер не может проделывать то же самое по
отношению к отдельным явлениям или сценам. Режиссер же кинематографический
концентрирует во времени не только отдельные сцены, но даже движение одного
человека. По существу, то, что называлось кинематографическим трюком,
является лишь характерным приемом кинематографического изложения. Для того
чтобы дать на экране падение человека с, шестого этажа, можно вести съемку
таким образом: сначала снимается человек, падающий из окна в сетку так, что
сетки на экране не видно, а затем снимается падение того же человека на землю
с небольшой высоты. Оба куска, склеенные вместе, дадут при демонстрации
нужное впечатление. Катастрофического полета не существовало в действительности,
он появился только на экране и был создан из двух кусков заснятой пленки,
склеенных вместе. Из процесса реального, настоящего падения человека с
огромной высоты берутся лишь два момента: начало падения и его конец.
Переходный полет уничтожен, и это нельзя назвать трюком — это
кинематографический прием изложения, совершенно подобный тому удалению со сцены пяти
переходных лет, которые разделяют первое действие от второго. Из примера с
наблюдателем, изучавшим толпу, идущую по улице, мы видели, что кинемато-
4 в. Пудовкин, т. 1
97
графическая съемка может быть не только простой фиксацией процесса,
происходящего перед объективом, но также и особой формой передачи этого процесса.
Между происходившим в действительности и экранной передачей есть
существенная разница; она-то и определяет кинематограф как искусство. Аппарат,
управляемый режиссером, берет на себя обязанность выбрасывать лишнее,
вести внимание зрителя так, чтобы он смотрел только на то, что важно, только
на то, что характерно. Когда снималась толпа, киноаппарат, охватив ее массу
в общем плане, бросался в гущу, выхватывая характерные детали. Эти детали не
случайны, они выбраны, и выбраны так, чтобы из суммы их, как из суммы
отдельных элементов, составлялась бы общая картина явления. Предположим,
что снимаемую толпу характеризовал бы ее состав: впереди идут
красноармейцы, за ними — рабочие, за рабочими — пионеры. Если съемщик вздумал бы
показать зрителю состав этой процессии, просто поставив аппарат на
постоянном месте и пропуская перед объективом непрерывно движущуюся толпу от
начала до конца, он заставил бы зрителя потратить на наблюдение ровно столько
времени, сколько потребовалось бы на то, чтобы вся толпа прошла мимо него.
Сняв таким образом процессию, он заставил бы зрителя самого разбираться в той
массе деталей, которые проплывали бы перед ним вместе с движущейся
манифестацией. Употребляя специально кинематографический прием, можно снять
по отдельности три коротких куска: красноармейцев, рабочих и пионеров.
Скомбинировав затем эти куски со снятой общей картиной толпы, мы получим
картину процессии, и в этой картине не будет потеряно ничего. Зритель сможет
оценить и размер толпы и ее состав; лишь время, в которое зритель получает
впечатление, будет иным.
Кинематографическое время
и пространство
Кинематографическим аппаратом, передвигаемым волею режиссера,
создается в результате, после склейки снятых кусков (монтажа), новое
кинематографическое время — это не есть то реальное время, которое требовалось в
действительности явлению, протекавшему перед аппаратом; это новое экранное время
обусловлено только скоростью наблюдения, только количеством и
длительностью отдельных элементов, выбранных для экранной передачи снимавшегося
процесса. Всякое явление протекает не только во времени, но и в пространстве.
Время на экране оказалось отличным от реального, оно оказалось связанным
только с длиной отдельных кусков снятой пленки, комбинируемых
режиссером. Подобно времени, экранное пространство связано с основным приемом
работы кинематографиста — с монтажом. Склеивая куски, кинематографист,
творит, создает свое, новое экранное пространство. Отдельные элементы,
снятые им на пленку, быть может, в разных местах реального, действительного
пространства, он соединяет, сбивает в пространство экранное. В силу уже
отмеченной нами возможности уничтожения промежуточных моментов, действительной
для всей кинематографической работы, оно оказывается слитым из
выхваченных съемочным аппаратом элементов реальности. Вспомните хотя бы пример с
человеком, падающим с шестого этажа. То, что было в реальности
четырехаршинным полетом в сетку и двухаршинным падением со скамьи,— на экране
оказалось пролетом в 10 саженей. Л. В. Кулешов в 1920 году в виде эксперимента г
снял такую сцену: 1. Молодой человек идет слева направо. 2. Женщина идет
98
справа налево. 3. Они встречаются и пожимают друг другу руки. Молодой
человек указывает рукой. 4. Показано белое большое здание с широкой лестницей.
5. Молодой человек и дама поднимаются по широкой лестнице.
Отдельно снятые куски были склеены в указанном порядке и показаны на
экране. Зритель совершенно ясно воспринимал таким образом соединенные
куски как неразрывное действие: встреча двух молодых людей, приглашение
войти в близ расположенный дом и вход в этот дом.
Куски же снимались таким образом: молодой человек был снят около
здания ГУМа, дама — около памятника Гоголю, пожимание рук у Большого
театра, белый дом был взят из американской картины (дом президента в
Вашингтоне), а вход по лестнице был снят у храма Христа Спасителя. Что же здесь
получилось? Зритель воспринял все как целое, вместе с тем съемка производилась
в разных местах. Куски пространства, которые были выхвачены съемкой,
оказались как бы сконцентрированными на экране. Появилось то, что Кулешов
назвал «творимой земной поверхностью». В процессе склейки кусков создалось
новое кинематографическое пространство, которое не имело места в
действительности. Здания, разделенные тысячами верст, оказались сближенными в
пространстве, измеряемом несколькими десятками шагов играющих актеров.
Материал кино
Итак, мы установили главный, основной пункт различия между работой
театрального и кинематографического режиссера. Это различие заключается
в разности материалов. Режиссер театральный имеет дело с реальной
действительностью, которую он может деформировать, лишь оставаясь все время в
пределах законов действительного, реального пространства и времени. Режиссер
же кинематографический своим материалом имеет снятую пленку. Материал,
из которого он создает свои произведения,— не живые люди, не настоящий
пейзаж, не реальная действительная декорация, а лишь их изображения, заснятые
на отдельных кусках пленки, которые могут им укорачиваться, изменяться и
связываться между собой в любом порядке. На этих кусках зафиксированы
элементы реальности; комбинируя их в любом им найденном порядке,
укорачивая и удлиняя их по своему желанию, он создает свое «экранное» пространство
и свое «экранное» время. Он не деформирует реальность, а он пользуется ею
для создания реальности новой, и самое характерное, самое важное в этой
работе то, что неизбежные и неодолимые в действительности законы пространства
и времени в кинематографической работе оказываются гибкими и послушными.
Кинематограф собирает элементы действительности для того, чтобы создать из
них новую действительность, лишь ему принадлежащую, и законы
пространства и времени, неодолимые тогда, когда вы работаете с живыми людьми,
декорацией и с пространством сцены, на кинематографе оказываются совершенно
иными. Создаваемые кинематографистом экранные время и пространство
целиком ему подчиняются. Основной прием кинематографического изложения —
построение целостной картины из отдельных кусков, элементов, при котором
можно отбрасывать все лишнее, оставляя только самое острое и значительное,—
кроет в себе исключительные возможности. Известно каждому, что чем ближе
мы подойдем к тому, на что мы смотрим, чем меньше материала одновременно
попадает в поле нашего зрения, чем ближе придвигаем мы испытующий взгляд,
тем больше деталей мы отмечаем и тем разрывнее становится наше наблюдение.
4*
99
Мы уже не охватываем объект в целом, мы последовательно взглядом своим
выбираем детали и уже из них, ассоциируя, получаем впечатление о всем целом,
но бесконечно более яркое, углубленное и острое, чем если бы мы смотрели на
объект издали, охватывая общим взглядом целое и неизбежно не видя
подробностей. Если мы вздумаем наблюдать что-нибудь, всегда мы сможем начать с
общих контуров и затем, углубляя свое изучение до возможных пределов,
обогащать его все большим и большим количеством деталей. Деталь будет всегда
синонимом углубления. Кинематограф и силен именно тем, что его
характерной особенностью является возможность выпуклого и яркого показа детали.
Сила кинематографического изложения в том, что его постоянное стремление —
углубиться, проникнуть своим объективом-наблюдателем как можно
глубже, дальше в среду каждого явления. Кинематографический аппарат как бы
беспрерывно, напряженно протискивается в самую гущу жизни, он старается
пролезть туда, куда никогда не попадет средний наблюдатель, поверхностно
охватывающий скользящим взглядом окружающий его мир. Кинематографический
аппарат идет глубже, идет ближе ко всему, что только можно увидеть, а
следовательно, и запечатлеть на пленке. Когда мы подходим к любому реальному
явлению, нам нужно потратить известное усилие и время для того, чтобы от
общего перейти к частному, для того, чтобы углубить свое наблюдение до тех пределов,
когда начинаешь замечать и воспринимать подробности. Кинематограф в
процессе монтажа отбрасывает, уничтожает это усилие. Зритель кинематографа —
идеальный, острейший наблюдатель. И таким наблюдателем делает его
режиссер. В найденной глубоко спрятанной детали кроется момент открытия,
творческий момент, который, характеризует работу человека искусства, единственный
момент, дающий исключительную цену показу вещей. Показать вещь так, как
ее видит каждый, значит ничего не сделать. Нужен не тот материал, который
дает: первый скользящий взгляд, охватывающий только общее и поверхностное,
а нужен тот материал, который даст напряженный, ищущий взгляд, могущий и
желающий видеть глубже. Вот почему наиболее сильные художники, наиболее
остро чувствующие кинематограф работники углублялись в детали, вот почему
они отбрасывают общий тсонтур каждого явления, вот почему они отбрасывают
промежуточные моменты, которые являются неизбежным атрибутом всякой
натуральности. Когда театральный режиссер работает со своим материалом, он
не в силах вывести из поля зрения тот фон, ту массу общих неизбежных
контуров,^ которые заключены острые моменты и детали. Он может только
подчеркнуть нужное, а зритель уже сам должен сосредоточиваться на подчеркнутом.
Кинематографист, вооруженный аппаратом, бесконечно сильнее. Внимание
зрителя находится целиком в его руках. Объектив аппарата — глаз зрителя.
Он смотрит и видит только то, что хочет показать режиссер, или, вернее, то,
что режиссер видит в данном явлении.
Анализ
Когда исчезает общешаблонный контур и на экране обнаруживается глубоко
скрытая деталь, кинематографическое изложение достигает пределов внешней
выразительности. Кинематограф освобождает зрителя от лишней работы
отбрасывания ненужного из поля внимания, показывая ему деталь без обрамления;
он, уничтожая рассеяние, экономит силы зрителя и тем самым достигает
максимальной остроты, впечатления. Вспомним некоторые моменты из виденных
100
нами картин, в которых исключительно даровитые режиссеры достигали
эффекта максимальной выразительности. Возьмем, например, эпизод суда из
«Нетерпимости» Гриффита. Там есть сцена, где женщина выслушивает смертный
приговор ее мужу, неповинному в преступлении. Режиссер показал лицо
женщины: боязливую, дрожащую улыбку сквозь слезы, и вдруг, на момент,
зритель видит ее руки, только руки, судорожно щиплющие кожу. Это один из
самых сильных моментов картины. Ни на минуту мы не видели всей женщины.
Были только ее лицо и руки, и, может быть, благодаря тому, что режиссер сумел
из всей массы реального материала взять и показать только две наиболее острые
детали, он и достиг той изумительной впечатляющей силы, которая свойственна
этому куску. Здесь мы сталкиваемся снова на примере с тем острым выбором,
о котором мы говорили выше,— с возможностью отбросить все промежуточное,
все незначительное, играющее только роль связи, неизбежной реальности, и
оставить лишь яркие кульминационные пункты. На этой возможности и строится
сущность впечатляющей силы монтажа, основного приема
кинематографического творчества. Связь и промежуток необходимо присущи реальности. В
действительности их можно нарушить только различным напряжением внимания
зрителя. Я могу остановить свой взгляд на лице, скользнуть по телу и
внимательно вглядеться в руки — так сделает зритель, смотря на реальную женщину в
действительной обстановке. Кинематограф выбрасывает работу скольжения.
На кинематографе зритель не тратит лишней энергии. Режиссер, уничтожая
промежуточные моменты, дарит зрителю сохраненную энергию, он заряжает его, и
образ, созданный из ряда острых деталей, воспринимается с экрана еще более
ярко, чем это было бы в действительности. Отсюда работа кинорежиссера всегда
имеет двойственный характер. Прежде чем создать экранный образ, он должен
иметь для него материал, он не может и не должен, если он хочет работать
приемом кинематографа, снимать реальность так, как она представляется
действительному, среднему наблюдателю. Для создания экранного образа он должен
выбрать те элементы, из которых он будет впоследствии сложен. Для того чтобы
набрать эти элементы, он должен их найти. И вот мы сталкиваемся с
необходимостью своеобразного процесса анализа каждого реального явления, которое
режиссер хочет использовать для съемки. Должен быть произведен с любым
явлением какой-то процесс, подобный тому, который в математике называется
«дифференцированием» — разбитием на части, на элементы. Здесь техника
наблюдения соединяется с творческим моментом выбора нужных характерных
элементов для будущего произведения. Чтобы создать свою женщину на суде,
Гриффит, вероятно, мыслил, а может быть и видел, десятки отчаявшихся
женщин и видел не только их руки и головы; но выбрал он только улыбку сквозь
слезы и щиплющую руку и из них создал незабываемый кинематографический
образ. Возьмем другой пример. В блестящей по своей кинематографичное™
картине «Броненосец «Потемкин» режиссер Эйзенштейн снимал расстрел толпы
на одесской лестнице. Пробеги массы по лестнице даны очень скупо и
впечатляют не так уж сильно, а коляска с крошечным ребенком, оторвавшаяся от убитой
матери и катящаяся вниз, доходит как острие трагического напряжения, как
впечатляющий удар. Эта коляска — деталь, так же как и мальчик с разбитой
головой. Толпа, аналитически разложенная на части, открыла широкое поле
для творческого выбора режиссера, и верно найденные детали в монтаже дают
исключительные по впечатляющей силе эпизоды. Еще один пример — более
простой, но весьма характерный для кинематографической работы. Как, напри-
101
мер, передать автомобильную катастрофу. Человек попал под автомобиль.
Реальный материал весьма сложен и богат. Там и улица, и едущий автомобиль,
и человек, переходящий улицу, автомобиль, налетающий на человека,
испуганный шофер, тормоз, человек, попавший под колеса, машина, продолжающая
движение по инерции, и, наконец,— труп. В действительности все происходит
в непрерывной последовательности. Что же сделал из этого материала один из
американских режиссеров в картине «Сын маэстро» 2? На экране показаны
следующие куски в такой последовательности: 1) улица с движущимися
автомобилями, человек спиною к аппарату переходит улицу; его закрывает
проезжающий автомобиль; 2) очень коротко мелькает испуганное лицо шофера,
дергающего тормоз; 3) так же коротко лицо жертвы с открытым в крике ртом; 4)
снятые сверху, с места шофера, ноги, мелькнувшие около вращающегося колеса,
5) скользящие заторможенные колеса автомобиля; 6) труп около
остановившегося автомобиля. Куски смонтированы в очень быстром, остром ритме. Чтобы
создать катастрофу на экране, режиссер все богатство непрерывно развивающегося
в действительности явления аналитически разложил на составные части —
элементы — и скупо выбрал из них шесть, ему нужных. И они оказались не
только достаточными, но и исчерпывающе передающими всю остроту изображаемого
события. В работе математика за разложением на элементы —
«дифференцированием» — следует слияние найденных элементов в целое — так называемое
«интегрирование». В работе кинорежиссера процесс анализа, разложения на
элементы также является лишь начальным, исходным моментом, за которым должна
следовать работа создания целого из найденных частей. Найти элементы, найти
детали явлений — значит только произвести подготовительную работу. Из
этих частей в конце концов должно получиться целостное произведение. Ведь,
как я говорил выше, реальная, в действительности происходящая катастрофа с
автомобилем может быть разложена наблюдателем на десятки, может быть,
сотни отдельных моментов. Режиссер же взял из них только шесть — им был
произведен выбор, и этот выбор, конечно, заранее определялся тем образом
катастрофы, присходящей не в действительности, а на экране, который, несомненно,
существовал в голове режиссера еще до фактического появления его на экране.
Монтаж — логика
кинематографического анализа
Мыслить экранными образами, представлять себе событие так, как оно будет
склеено из кусков, последовательно появляющихся на экране, чувствовать
действительное реальное событие только как материал, из которого нужно выбрать
отдельные характерные элементы и уже из них создать новую экранную
реальность,— вот что отличает работу кинорежиссера. Когда он имеет дело даже и с
реальными действительными предметами в реальной обстановке, он мыслит лишь
изображениями этих предметов на экране. Реальный предмет он не берет как
реальный предмет, а берет от него только те свойства, которые могут быть
перенесены на пленку в виде изображения. Кинематографический режиссер
смотрит на снимаемый им материал всегда условно, и эта условность чрезвычайно
специфична — она вытекает из целого ряда свойств, которые присущи
кинематографу, и только ему.
Когда снимается картина, она мыслится уже в виде монтажной
последовательности отдельных кусков пленки. Экранный образ никогда не
102
идентичен реальному явлению, он только подобен ему. Когда режиссер
утверждает содержание и последовательность отдельных элементов, соединяемых
им в экранном образе, он должен точно учитывать каждый кусок как в его
содержании, так и в длине, иначе говоря, каждый кусок должен быть точно
учтен как элемент экранного пространства и экранного времени. Представим
себе, что перед нами на столе лежат в беспорядке отдельные куски, которые
были сняты как материал для создания той автомобильной катастрофы, о которой
я упоминал. Эти куски прежде всего должны быть соединены, склеены в целую
длинную ленту. Их можно соединить, конечно, в любом порядке. Представим
себе заведомо нелепый порядок, положим, такой: начнем с куска, на котором
снят автомобиль, в середину вставим ноги .задавленного человека, потом
человека, переходящего улицу, и наконец лицо шофера. Получится бессмысленный
набор кусков, который у зрителя оставит впечатление хаоса. И только когда в
чередование кусков будет внесен какой-то закономерный порядок,
обусловленный хотя бы той последовательностью, с которой случайный зритель
катастрофы мог бы перебрасывать свой взгляд, свое внимание с одного момента на другой,
только тогда появится связь между кусками и их соединение, получив
органическую целостность, будет впечатлять с экрана. Но мало того, что куски соединены
в определенном порядке. Всякое явление протекает не только в пространстве,
но и во времени, и, подобно тому как было создано последовательностью
выбранных кусков экранное пространство, должно быть создано и экранное время,
слитое из элементов реального. Предположим, что мы, соединяя куски, снятые для
катастрофы, не думали бы об их относительной длине. Монтаж оказался бы,
положим, таким: 1) человек идет по улице; 2) длительно показывается лицо
шофера, дернувшего тормоз; 3) так же длительно показан и открытый рот
кричащей жертвы; 4) заторможенное колесо и все остальные куски также поданы в
очень больших порциях. Так смонтированная лента, демонстрированная на
экране, даже и при наличии правильного пространственного чередования
впечатлила бы зрителя, как нелепость. Автомобиль оказался бы медленно
движущимся, сам по себе короткий момент попадания под автомобиль вышел бы
неимоверно и непонятно растянутым. На экране исчезло бы событие, и осталась бы
только демонстрация какого-то случайного материала. И только тогда, когда
для каждого куска будет найдена настоящая длина, только тогда будет найден
быстрый, почти судорожный ритм смены кадров, подобный паническим
перебросам взгляда наблюдателя, охваченного ужасом, только тогда экран заживет
своей, найденной режиссером жизнью. Это будет благодаря тому, что образ,
созданный режиссером, включен не только в экранное пространство, но и в
экранное время, слитое, интегрированное из элементов времени реального,
выхваченных аппаратом из действительности.
Монтаж — язык кинорежиссера.
Так же как в живом языке, в монтаже существует слово—целый кусок
заснятой пленки, фраза — комбинация этих кусков. Только по приемам монтажа
можно судить об индивидуальности режиссера. Так же как литератору свойствен
свой индивидуальный слог, кинорежиссеру присущ индивидуальный
монтажный прием изложения. Но монтажная склейка кусков в творчески найденной
последовательности является уже окончательным, завершающим процессом,
в результате которого получается готовое произведение. Режиссеру приходится
также работать и над оформлением тех элементарнейших кусков (подобных
слову в языке), из которых составляются монтажные фразы — сцены.
103
Необходимость вмешательства
режиссера в движение
Не одним монтажом ограничивается организующая работа режиссера. Есть
целая группа кинематографистов, утверждающих, что единым организующим
началом в кино должен являться монтаж. Они полагают, что можно снимать
куски, где попало и как попало, лишь бы куски были интересны, а затем уже,
путем простой склейки их по классам и разрядам, можно делать кинокартину.
Конечно, если мы в основу монтажа положим любую объединяющую мысль,
материал будет, несомненно, до какой-то степени организован. Целый ряд
случайных съемок, произведенных в Москве, может быть склеен в одно, и его будет
объединять место съемки — город Москва. Пространственный размах
съемочного аппарата может быть сужен до любых пределов; можно снять ряд фигур
и происшествий на рынке, в комнате, где происходит какое-то заседание, и во
всех этих съемках, несомненно, будет организующее начало, но вопрос только
в том, насколько глубоко оно проведено. Такую съемку можно сравнить с
газетой, в которой огромное разнообразие сведений разбито по рубрикам и
отделам. Набор сведений о происходящем в мире, данный в газете,
систематизирован и организован, но те же сведения, использованные для статьи или книги,
организованы в еще большей степени. В процессе создания кинокартин работа
организации может и должна идти гораздо дальше и глубже утверждения
строгого монтажного плана изложения. Отдельные куски должны быть приведены в
органическую связь, и для этого их содержание должно быть учтено как
углубление, продолжение монтажного построения внутрь, в глубину каждого
отдельного элемента этого построения. До сих пор, говоря примерами, мы имели дело
частью с такими явлениями и процессами, которые протекали перед аппаратом
независимо от воли режиссера. Съемка процессии в конце концов была только
выхватыванием кусков реальной действительности, не созданных самим же
режиссером, а просто найденных им в гуще текущей жизни. Но ведь для того, чтобы
дать монтажное изложение любого явления, для того, чтобы монтажно снять
какой-то кусок действительности, даже и не поставленной специально режиссером,
нужно все же неизбежно в той или иной форме подчинить себе это явление.
Даже снимая ту же процессию, если мы хотим дать максимально яркое
кинематографическое изложение, мы должны внедриться с аппаратом в самую толпу,
заставить пойти перед аппаратом специально для нужд съемки выбранных
типичных людей и, таким образом, нарушить естественный ход процесса в целях
использования его для будущего кинематографического изложения. Если мы
возьмем более сложный пример, мы еще отчетливее увидим, что для того, чтобы
снять какое-либо явление и изложить его кинематографически на экране, нужно
этим явлением овладеть, то есть иметь возможность задержать его, повторять
несколько раз для того, чтобы каждый раз снимать новую деталь, и т. д.
Предположим, что нам нужно монтажно снять взлет аэроплана. Для экранного
изложения этого процесса -мы выбираем следующие элементы: 1) летчик садится на
место; 2) рука летчика включает контакт; 3) моторист дает движение пропеллеру;
4) аэроплан катится на аппарат; 5) показываем самый взлет с новой точки
зрения с таким расчетом, чтобы аэроплан, отрываясь от земли, удалялся бы от
аппарата. Для того чтобы монтажно снять такой простой процесс, как взлет,
нужно либо после первого движения задержать аэроплан и, быстро переменив
точку зрения аппарата (ставши у хвоста аэроплана), снимать продолжение движе-
104
ния, либо мы неизбежно должны повторить движение аэроплана два раза;
один раз на аппарат, другой раз, переменив точку зрения,— от аппарата. В
обоих случаях мы, для того чтобы получить нужное экранное изложение, должны
нарушить естественный ход явления либо задержкой, либо повторением. Почти
Е-сегда, снимая динамический непрерывный процесс, если мы хотим добыть из
него нужные детали, мы должны либо его задержать, прервать, либо должны
повторить его несколько раз. Таким образом, при съемке даже простых
процессов, не имеющих ничего общего с так называемой «художественной» постановкой,
нам приходится иметь дело с волей режиссера, вмешивающегося в ту
действительность, которую он снимает, собирая материал для будущей экранной
вещи. Если бы мы вздумали не вмешиваться, не нарушать самостоятельного
развития реального явления, мы бы сознательно уничтожили кинематограф. На
нашу долю осталась бы только рабская фиксация явления, исключающая
всякую возможность использования таких достоинств киноизложения, как
детализация и уничтожение лишних промежуточных моментов.
Организация материала
для съемки
Мы переходим теперь к новой стороне режиссерской работы — приемам
организации материала для съемки. Для того чтобы приготовить материал для
съемки, нужно иметь дело уже с реальной обстановкой. Если кинематограф
встречается даже со съемкой так называемой производственной картины
(работа фабрики, завода, учреждения), в которой как будто бы его задачей является
только фиксация целого ряда процессов, не требующих его вмешательства как
постановщика, все же работа режиссера не будет заключаться только в простой
перестановке аппарата и съемке машин, людей и их работы с разных точек
зрения. Для того чтобы получить впоследствии действительно кинематографически
ясное монтажное изложение, режиссер непременно должен будет вмешаться в
каждый отдельный снимаемый им процесс и нарушать его, руководствуясь ясным
представлением той монтажной последовательности, в которой он будет
демонстрировать куски на экране. Режиссер будет вносить в свою работу элемент
постановки, элемент специальной кинематографической организации снимаемого
процесса, целью которой явится наиболее четкая и точная съемка характерных
деталей. Когда же мы переходим к съемке так называемых художественных лент,
естественно, что момент постановки, момент организации снимаемого материала
становится еще отчетливее и необходимее. Для того чтобы снять все нужное для
экранного изложения автомобильной катастрофы, режиссеру нужно было много
раз переменить точку зрения аппарата, много раз заставлять автомобиль,
шофера и жертву проделывать отдельные, нужные движения. В постановке
художественной ленты часто явление, показанное на экране, в целом не
существовало в действительности. Оно было только в голове, в воображении режиссера,
искавшего нужные элементы для будущего экранного образа. Здесь мы
переходим к тому, что должно быть снято в пределах одного непрерывного куска
пленки, в пределах одного кадра, как говорят кинематографисты. Работа в пределах
кадра связана уже с реальным пространством и реальным временем, эта работа
над отдельными элементами пространства и времени кинематографического, и
она, конечно, находится в прямой зависимости от будущего предполагаемого
монтажа. Для того чтобы у зрителя получилось нужное волнующее впечатление,
105
режиссер, монтируя автомобильную катастрофу, давал быстрый беспокойный
ритм, обусловленный очень малой длиной каждого отдельного куска. Но ведь
простым обрывом или обрезом пленки мы не сможем получить необходимого
нам материала. Нужно учитывать также и содержание каждого данного куска.
Представим себе, что нашей задачей является снять и смонтировать беспокойную
волнующую сцену, обусловливающую быструю смену коротких кусков. В
процессе же съемки сцены или куски сцен, разыгрывавшиеся перед объективом,
велись чрезвычайно медленно и вяло. Разбирая снятые куски и собираясь их
монтировать, режиссер станет перед непреодолимым препятствием. Нужно брать
короткие куски, а действие, происходящее в пределах каждого куска,
оказывается настолько продолжительным, что, для того чтобы получить нужную
длину куска, необходимо обрезывать, удалять часть действия; если же сохранить
снятое целиком, кусок оказывается слишком длинным.
Увязка планов
Предположим, что аппарат, захватив в свое поле зрения большой кусок
пространства, например двух человек, говорящих друг с другом, вдруг
приближается к одному из действующих лиц и показывает какую-то деталь, входящую в
развитие сцены и особо характерную в данный момент. Затем аппарат снова
отодвигается, и зритель видит дальнейшее развитие сцены уже в прежнем общем
плане, когда в поле зрения находятся оба действующих лица. Нужно сказать, что
впечатление непрерывности развития сцены у зрителя получится только тогда,
когда переход с общего плана на крупный и обратно будет связан каким-то
одним и тем же проходящим через эти куски движением. Если, положим,
называемою, деталью выбрана рука, вынимающая во время разговора револьвер, то
обязательным условием съемки явится следующее: первый общий план
кончается движением руки актера, направленным в карман; в следующем крупном
плане, где снимается одна рука, начатое движение продолжается, и рука
вынимает револьвер; затем следует новый переход на общий план, в котором рука с
револьвером, продолжая движение от кармана, начатое в конце крупного,
направляет оружие на противника. Такая связь по движению в монтажных
построениях, где из поля зрения аппарата не выходит один и тот же снимаемый
объект, является непременным условием. Вместе с этим все эти три куска
снимаются отдельно (технически, вернее, общий план снимается целиком, начиная
■с движения руки и кончая угрозой противнику, крупный же план снимается
отдельно). Ясно, конечно, что крупный план руки актера, врезанный в общий план
его же работы, только тогда попадет на место, только тогда сольется в целое,
если движения руки актера в оба момента раздельной съемки будут точь-в-точь
походить друг на друга. Взятый номер с рукой чрезвычайно элементарен.
Движение руки несложно, и повторить его точно нетрудно, но моменты
многопланового изложения работы актера встречаются как кинематографический прием
чрезвычайно часто. Движения актера могут быть весьма сложными, и, для того
чтобы на крупном плане повторить движения, сделанные на общем, соблюдая
требование временной и пространственной, точности, режиссеру и актеру нужен
высокий технический навык. Еще одна особенность кинематографа
обусловливает точность пространственных режиссерских построений. Подготовляя
материал для съемки, строя работу перед аппаратом, выбирая и устанавливая ту
или иную форму движения, иначе говоря, организуя эту работу, режиссер
106
обусловлен не только монтажным планом, он так же ограничен тем
специфическим полем зрения аппарата, который включает всякий снимаемый материал в
каждому знакомый прямоугольный контур кинематографического экрана.
Кинорежиссер видит все происходящее перед ним во время постановки не так, как
обыкновенный зритель, он смотрит на все глазом аппарата. Обычный
человеческий взгляд, широко охватывающий лежащее перед ним пространство, не
существует для режиссера. Он видит и строит только в том условном куске
пространства, которое может охватить объектив съемочного аппарата, и более того—
это пространство еще как бы обведено твердо выраженным контуром, и уже сама
ясная выраженность этого контура рамки неизбежно обусловливает строгость
композиции пространственных построений. Нечего и говорить о том, что актер,
снимаемый с большим приближением аппарата, сделав движение слишком
большое по захватываемому.им пространству, может попросту выйти из поля
зрения аппарата. Если, предположим, он сидит с наклоненной головой и эту
голову нужно поднять, то при известном приближении аппарата уже ошибка
актера на десять сантиметров может оставить для зрителя на экране только один
подбородок, все же остальное будет за пределом экрана, или, как технически
говорят, «срезано». Это элементарный пример грубо подчеркивает еще раз
неизбежность точного пространственного рисунка любого движения, которое
режиссер снимает. Конечно, это требование относится не только к крупному плану.
Снять вместо человека две трети его является грубой ошибкой, распределить же
снимаемый материал и его движения по прямоугольнику кадра так, чтобы все
отчетливо и ясно воспринималось, чтобы прямоугольный контур экрана не
мешал композиции, а совершенно включал в себя найденное построение,— это
является достижением, к которому стремятся режиссеры экрана.
Организация
« случайного » материала
Каждый знакомый с живописью знает о том, насколько форма полотна, на
котором пишется картина, обусловливает композицию самого рисунка. Формы,
наносимые на полотно, должны быть органически включены в контур рамки,
которая их окружает. То же самое и в работе кинорежиссера. Никакое
движение, никакое построение не мыслится им вне того охваченного прямоугольным
контуром куска пространства, которое технически называется кадром. Правда,
не всегда кинорежиссеру приходится иметь дело с возможностью такой точной
постановки, какую дает легко подчиняющийся распоряжением актер. Часто он
встречается с такими явлениями и процессами, которые не могут быть
непосредственно подчинены его воле. Вместе с тем кинематографический работник
стремится захватить и использовать все, что только может дать окружающий
его мир. Но далеко не все в этом мире повинуется оклику режиссера. Возьмем
хотя бы съемку моря, водопада, бури, горного обвала, все это часто вводится в
кинокартину и крепко органически спаивается с ее сюжетом и поэтому,
следовательно, должно быть так же организовано, как и всякий материал,
приготавливаемый для монтажа. Здесь режиссер целиком погружен в массу
случайностей. Ничто непосредственно не повинуется его воле. Движение перед аппаратом
развивается, подчиненное своим законам. Но материал, который нужен
режиссеру, то есть тот, из которого можно сделать картину, все же должен быть
организован. Если режиссер стоит перед случайностью, то он не может и не дол-
107
жен подчиняться ей или же его работа превратится в простой беспорядочный
протокол. Он должен использовать эту случайность, и это он делает всегда,
изобретая целый ряд своеобразных приемов. Здесь ему приходит на помощь та
возможность не считаться с естественным развитием явления в реальном
времени, о котором я говорил уже выше. Режиссер, дежуря с аппаратом, может
выхватить нужный ему материал и соединить отдельные съемки на экране,
хотя бы они были в реальности разделены между собой большими временными
промежутками. Если ему нужны для картины маленькая река, прорыв плотины
и последовавший за катастрофой разлив, он может снять реку и плотину осенью,
весною же, сняв половодье, соединить в картине оба куска и достигнуть нужного
эффекта. Если действие картины должно идти на морском берегу с постоянным
бурным прибоем, режиссер может снимать свои сцены только после бури, когда
идет большая волна. И съемка, рассыпанная по месяцам, наполнит один день,
а может быть, и час на экране. Так режиссер использует повторяющуюся
случайность для нужного экранного образа. При съемке так часто используемых,
в картине животных приходится также встречаться с приемами организации
случайного. Говорят, что один американский режиссер потратил шестьдесят
рабочих часов и соответствующее количество пленки для того, чтобы получить на
экране нужный ему прыжок котенка на мышь. Для одной из картин снимался
морской лев. Пугливое животное быстро и беспорядочно плавало по бассейну.
Ясно, что можно было простейшим способом охватить весь бассейн, поставив
аппарат на нужном отдалении, и предложить зрителю самому следить за морским
львом так, как это сделал бы любой наблюдатель, стоящий на берегу.
Киноаппарат не мог и не должен был смотреть так^ у него был ряд задач. Ему нужно
было видеть, как животное ловко и быстро скользит по поверхности воды, и
видеть это с наилучшей точки зрения. Нужно было также рассмотреть его
ближе, отсюда неизбежность съемки крупным планом. Монтажный план,
предшествующий съемке, был таков: 1) лев.плывет в бассейне по направлению к
берегу — нужно снять сверху, для того, чтобы лучше следить за движением
животного в воде; 2) лев выпрыгивает на берег и бросается снова в воду; 3) плывет
обратно к своей норе. Три раза нужно менять точку зрения аппарата. Один раз
снимать сверху, другой раз нужно поставить аппарат так, чтобы животное,
выпрыгнувши на берег, оказалось очень близко от него, и третий раз нужно снять
животное плывущим, удаляясь от аппарата, чтобы показать скорость его
движения. Вместе с тем весь материал должен быть подан в связном виде, чтобы в
восприятии зрителя на экране все три отдельные съемки льва, несмотря на то,
что они сняты с разных точек, слились бы в впечатление одного целого,
непрерывного движения. Животному нельзя приказать плыть в нужном
направлении и подойти к аппарату, вместе с тем форма его движений точно была
продиктована монтажным планом, связанным с построением всей картины. Когда лев,
снимался сверху, он несколько раз проплывал по бассейну, приманиваемый
брошенной рыбой до тех пор, пока он случайно не прошел в поле зрения
аппарата именно так, как это было нужно для режиссера. При съемке крупного плана
снова и снова повторяли бросание приманки до тех пор, пока лев не выскочил на
берег как раз в нужном месте и не сделал нужного поворота. Из тридцати кусков,
полученных при съемке, были выбраны три, и они дали на экране нужный
образ непрерывного движения. Движение льва было организовано не
непосредственной диктовкой нужной работы, а путем приблизительного управления
случайностью и последующего затем строго выбора из накопленного материала.
108
Случайность — синоним реальной, неподдельной несыгранной жизни. В
пятидесяти процентах своей работы режиссер становится с ней лицом к лицу.
Организация и точный порядок — основной лозунг кинематографической работы, он
осуществляется прежде всего в монтаже. Монтажный план может существовать
до момента съемки, и тогда воля режиссера деформирует, подчиняет себе
реальность для того, чтобы построить из нее нужное произведение. Монтажный план
может появиться и в процессе съемки, когда режиссер, столкнувшись с
неожиданным материалом, использует его, одновременно ориентируя свою работу на
то возможное будущее, которое сможет сделать из снятых кусков целостный
экранный образ. Так, например, в картине «Броненосец «Потемкин» блестящие
кадры Тиссэ3, снятые во время тумана, прекрасно вмонтированы в картину и
органически вяжутся с ее целым, несмотря на то,.что никто не предвидел тумана,
и даже больше — этот туман не могли предвидеть, потому что до сих пор; он
считался лишь препятствием к работе. Но в обоих случаях съемка, органически
должна быть связана с монтажным планом, и, следовательно, требование
пространственного и временного учета содержания каждого куска остается в силе.
Экранный образ
Когда мы вместо простой фиксации в реальности происходящего, явления
хотим дать его кинематографическую трактовку, то есть заменить жизненную
непрерывность интегралом творчески выбранных элементов,.неизбежно должны
мы думать о тех законах, которые связывают воспринимающего зрителя с
режиссером, монтирующим снятые куски. В самом деле, когда мы говорили о
случайном, хаотическом соединении кусков, мы утверждали, что до зрителя они
дойдут как ничего не говорящий беспорядок. Впечатлить зрителя значит
верно найти порядок и ритм соединения. Как его найти? Конечно, говоря общими
словами, эту работу, как всякий творческий акт, можно отнести
непосредственно к интуиции художника. Но все же следует нащупать пути, хотя бы при->
близительно определяющие направление этой работы.-, Мне уже приходилось
упоминать о сравнении объектива съемочного аппарата с глазом наблюдателя.
Это сравнение может быть проведено очень глубоко. Режиссер, управляющий
положением аппарата при съемке и диктующий длину каждого отдельного куска,
может, быть действительно уподоблен наблюдателю, перебрасывающему свое
внимание то на один, то на другой элемент явления, причем этот наблюдатель
не является безразличным в смысле своего эмоционального состояния. Чем
глубже захватывает его эмоционально происходящая перед ним сцена, тем бы^
стрее, отрывистее перебрасывается его внимание с одного пункта на другой
(вспомните пример с катастрофой). Чем безразличнее, флегматичнее наблюдается
явление, тем медленнее и спокойнее перенос внимания, а следовательно, и
перемещение снимающего аппарата. Эмоция, несомненно, может быть передана
специфическими ритмами монтажа. Этот прием богато использует в
большинстве своих картин американец Гриффит. В этом же плане характерен
режиссерский прием заставлять наблюдающего зрителя как бы внедряться в
действующее лицо и смотреть его глазами. Часто после лица смотрящего героя
показывают то, что он видит, с его точки зрения. Большинство приемов монтирования
картин, известных нам до сих пор, может быть связано с этой трактовкой
съемочного аппарата как наблюдателя. Необходимость, управляющая переносом
взгляда, почти точно совпадает с закономерностью, управляющей правильным^
109
монтажным построением. Но нельзя сказать, чтобы это сравнение было
исчерпывающим. Монтажное создание экранного образа может идти по
разнообразным путям. В конце концов, именно в монтаже заключен кульминационный
пункт творческой работы кинорежиссера. Именно по направлению отыскания
новых приемов монтажного использования снятого материала и будет
кинематограф завоевывать себе достойное место в ряду других больших искусств.
Искусство кинематографа в настоящее время находится еще в периоде рождения.
Такие приемы, как уподобление, сравнение, фигура, ставшие давно уже
органическим достоянием существующих искусств, еще только нащупываются в
кинематографе. Не могу не привести блестящего примера несомненно нового
монтажного приема, употребленного Эйзенштейном в «Броненосце «Потемкин».
Четвертая часть заканчивается выстрелом пушки мятежного броненосца по
одесскому театру. Кажется, такой простой момент трактован Эйзенштейном
исключительно интересно/Монтаж такой: 1. Надпись — «И мятежный
броненосец на зверство палачей ответил снарядом по городу». 2. Показана медленно,
угрожающе поворачивающаяся башня с орудием. 3. Надпись — «Цель —
одесский театр». 4. Показана скульптурная группа на вершине здания театра.
5. Надпись — «По штабу генералов». 6. Выстрел из пушки. 7. В двух очень
коротких кусках показан скульптурный амур на воротах здания. 8. Огромный взрыв,
покачнувший ворота. 9. Три коротких куска: спящий каменный лев, каменный
лев, открывший глаз, и каменный лев, поднявшийся на лапы. 10. Новый взрыв,
разрушающий ворота. Это монтажное построение, с трудом передаваемое словами,
почти потрясающе впечатляет с экрана. Здесь режиссером употреблен смелый
прием. У него поднялся и заревел каменный лев. Образ, как будто бы до сих
пор мыслимый только в литературе, и появление его на экране является
несомненным и многообещающим достижением. Интересно проследить, как все
характерные элементы, специфически присущие кинематографическому изложению,
сошлись в этом куске. Броненосец был снят в Одессе, львы—в Ливадии, ворота—
кажется, в Москве. Элементы пространства реального выхвачены и слиты в
единое экранное пространство. Из неподвижных, статических, разных львов
создано никогда не существовавшее движение вскочившего экранного льва. Вместе с
этим движением появилось и никогда не существовавшее в реальности время,
которое неизбежно связано со всяким движением. Мятежный броненосец
включен и сжат в одно жерло стреляющей пушки, а штаб генералов смотрит в лицо
зрителю одной скульптурной группой на гребне своей крыши. Бой между
врагами от этого не только не теряет, но лишь выигрывает в своей остроте и яркости.
Приведенный пример со львами немыслимо, конечно, сблизить с
аппаратом-наблюдателем. Здесь исключительный пример, открывающий несомненную
будущую возможность в творчестве кинорежиссера. Здесь кинематограф переходит
от натурализма, который ему несомненно до известной степени был присущ, к
свободному образному изложению, независимому от требований элементарного
правдоподобия.
Техника режиссерской работы
Мы уже утвердили как характерное свойство кинематографического
изложения стремление киноаппарата как можно глубже внедряться в подробности
излагаемого события, как можно ближе подойти к наблюдаемому объекту, уловить
то, что можно увидеть только при взгляде в упор, отбрасывая общее и
поверхностное. Вместе с тем не менее характерным для кинематографа является и край-
11Q
не широкий охват любого трактуемого им события. Можно было бы сказать, что
кинематограф как бы стремится заставить зрителя выйти из пределов обычного
человеческого восприятия. С одной стороны, он позволяет ему с неимоверной
внимательностью заострять его, сосредоточиваясь целиком на мельчайшей
детали, с другой стороны, он позволяет связать в почти одновременное
восприятие события, происходящие в Москве, и не связанные с ними происшествия в
Америке. Сосредоточение на деталях и широкий размах в целом включают в себя
необычайно много материала. Таким образом, перед режиссером всегда стоит
задача организовать и тщательно проработать по определенному, твердому, им
задуманному плану огромное количество отдельных задач. Возьмем хотя бы
такой пример: в каждой, даже средней ленте число участвующих лиц редко
бывает меньше нескольких десятков, причем каждое из этих лиц, показанное хотя
бы в небольшом куске, органически спаяно со всем целым картины. Работа
каждого такого лица должна быть тщательно поставлена, так же тщательно
продумана, как и отдельный кусок из работы главного актера. Картина только тогда
по-настоящему сильна, когда каждый из ее элементов крепко впаивается в
целое, а это будет только тогда, когда элементы тщательно проработаны. Если
считать, что в картине обычной длины (1200 метров) насчитывается в среднем
пятьсот кусков,— мы получим пятьсот отдельных задач, которые должны быть
тщательно и внимательно разрешены режиссером. Если принять во внимание,
что работа над кинокартиной всегда и непременно ограничена известным
максимальным временем, то получится такая перегрузка режиссера работой, что
при единоличной режиссуре хорошее исполнение картины окажется почти
невозможным. Естественно поэтому, что значительные кинорежиссеры стремятся
обставить свою работу особыми условиями. Вся работа производства
кинокартины распадается на целый ряд отдельных и вместе с тем тесно связанных между
собою моментов. Если перечислить, хотя бы и очень поверхностно, основные
этапы, уже получится весьма внушительный ряд: 1) сценарий, сюжетная его
обработка; 2) составление монтажного плана съемки сценария; 3) выбор
актеров; 4) постройка декораций и выбор натурных мест; 5) постановка и съемка
отдельных элементов, на которые монтажно разбиты сцены; 6) лабораторная
обработка снятого материала; 7) монтаж. Режиссер, являясь единым
организующим началом, управляющим созданием картины с самого начала до конца,
естественно, должен включить свою работу в каждый из этих отдельных
моментов. Если получится провал, неудача хотя бы в одном из указанных
моментов, вся картина — результат творчества режиссера — от этого непременно
пострадает, будь ли это дурно выбранный актер, сюжетная неувязка или плохо
проявленный кусок негатива. Естественно поэтому, что режиссер должен
являться центральным организатором, включенным в группу работников, усилия
которых направлены к одной намеченной режиссером цели. Работа коллектива на
кинематографе является не просто уступкой современному быту коллективизма,
а необходимостью, вытекающей из основных характерных свойств
кинематографического искусства. Американский режиссер в процессе постановки окружен
целым штабом работников, из которых каждый выполняет строго
определенную ограниченную функцию. Целый ряд ассистентов, получая от режиссера
задание, в котором определена его мысль, прорабатывают одновременно
многочисленные сцены и куски сцен. По просмотру и утверждению главного режиссера
они снимаются и поступают в массу материала, готовящегося для создания
кинокартины. Разрешение таких задач, как организованная съемка больших
111
масс с участием иной раз тысячи человек, особенно ясно показывает, что работа
режиссера не может достигнуть достойного результата, если в его распоряжении
не находится достаточно обширного штаба подсобных работников. В конце
концов, работая с тысячью человек, режиссер совершенно подобен
главнокомандующему. Он дает бой равнодушию ожидающего зрителя, он должен победить
его выразительным построением движения управляемых им масс, и так же, как
главнокомандующий, должен он иметь достаточное количество офицеров,
чтобы суметь заставить толпу двигаться так, как он хочет. Я уже говорил, что для
того, чтобы получить целостное произведение искусства, совершенную
кинокартину, режиссер должен провести через все многочисленные этапы работы
единое, им управляемое и им создаваемое, организующее начало. Разберем по
отдельности каждый из этапов, для того чтобы еще яснее представить себе
характер работы кинорежиссера.
Режиссер и сценарий
Режиссер и сценарист
Почти всегда на производстве дело обстоит так: получается сценарий,
передается режиссеру, и он подвергает его так называемой режиссерской обработке,
то есть весь предоставленный ему сценаристом материал он перерабатывает по-
своему, исходя из своей индивидуальности; он излагает мысли, предложенные
ему сценаристом, своим кинематографическим языком — языком отдельных
образов, отдельных элементов, кусков, следующих друг за другом в
определенной им устанавливаемой последовательности. В конце концов в каждой
кинокартине, если ее сличать с положенным в основу ее сценарием, можно различить
тему, сюжетную обработку темы и, наконец, то кинематографическое образное
оформление сюжета, которое осуществлено в процессе постановки режиссером.
Нечего и говорить, что все три эти момента должны быть органически
непосредственно связаны между собой. Вместе с тем до какого-то предела имеется в
наличии сценарист, после которого начинается работа режиссера. Немыслима ни в
каком искусстве острая разделенность между двумя этапами работы. Нельзя
продолжать работу, не будучи связанным с нею с самого начала; поэтому
результатом соединения двух моментов — предварительной работы сценариста с
последующей постановочной работой режиссера — явится неизбежно следующее:
либо режиссер должен с самого начала работы над сценарием принять
непосредственное участие в работе сценариста, либо, если это оказалось почему-либо
невозможным, режиссер неизбежно должен будет просочить сценарий в целом
через себя, отбрасывая ему чуждое и, может быть, даже в корне меняя
отдельные куски, а иной раз и целиком все сюжетное построение. Перед режиссером
всегда стоит задача создать картину из целого ряда пластически выразительных
образов. В умении найти эти пластические образы, в умении создать из
отдельно снятых кусков яркие, выразительные монтажные фразы, связать эти фразы
в ярко впечатляющие периоды и из этих периодов создать картину и состоит
искусство режиссера. И не всегда сценарист, особенно если он не является остро
кинематографически мыслящим человеком, то есть до известной степени уже
режиссером, сможет дать в готовом виде нужный режиссеру пластический
материал. Обычно бывает иначе: сценарист дает только направление, мысль как
таковую, отвлеченное содержание образа, а не его конкретную форму, и, конечно,
112
при подобном сотрудничестве необычайно важна спаянность обоих работников—
сценариста и режиссера. Легко предложить такую мысль, которая не найдет
отклика в режиссере и останется лишь абстракцией, не получившей
конкретного оформления. Уже самая тема сценария, то есть его основа, должна быть
неизбежно выбрана и утверждена в контакте с режиссером. Тема обусловливает
сюжет, окрашивает его и неизбежно, конечно, окрашивает и то пластическое
содержание, выразительность которого составляет главную сущность задачи,
стоящей перед режиссером. Только в том случае, если тема органически
воспринята режиссером, он сумеет подчинить ее объединяющему охвату
создаваемой им формы. Идя дальше мы подходим к сюжету. Сюжет включает в себя целый
ряд положений действующих лиц, их взаимоотношения, столкновения; сюжет
уже в своем развитии предполагает ряд событий, имеющих какую-то конкретную,
реальную форму. Сюжет уже нельзя мыслить без каких-то найденных
пластически выразительных форм. Сценаристам, в большинстве случаев пришедшим
от литературы, бывает трудно держать постоянную установку на внешне
выразительную форму. Уже при создании сюжета неизбежно должны быть
намечены основные сцены, определяющие его контур. Здесь еще более ясна неизбежная
связь с будущей постановочной работой режиссера. Даже такая вещь, как
характеристика какого-либо из действующих лиц, не стоит ничего, если она не
подана в ряде каких-то пластически выразительных движений или положений4.
Среда фильма
Идем далее. Всякое действие любого сценария неизбежно бывает погружено
в некую среду, составляющую как бы общий колорит картины. Этой средой
может быть какой-либо определенный быт. Если разбираться еще детальней, может
быть взята как среда даже отдельная особенность — черта данного быта. Эта
среда, этот колорит не может и не должен быть передан одной объяснительной
сценой или надписью, он должен всегда пронизывать картину или часть ее с начала
до конца. Как я говорил, действие должно быть погружено в эту среду. Целый
ряд лучших картин последнего времени показал, что это выполнение среды, в
которую погружено действие, является вполне осуществимым для
кинематографа. Такая вещь, как «Нападение на Виргинскую почту», ярко показывает это.
Вместе с тем интересно, что осуществление целости колорита картины
основывается на почти неуловимом иной раз умении насытить постановку
бесчисленными тонко и верно подмеченными деталями. Конечно, немыслимо предъявить к
сценаристу требование найти и отметить все эти детали. Самое большее, что он
может сделать,— это дать нужное отвлеченное определение, и дело режиссера
воспринять это определение и суметь найти нужное ему пластическое
оформление. Такие ремарки сценариста, как: в комнате стояла нестерпимая вонь; в
тяжелом, масляном воздухе дрожали и переливались бесчисленные фабричные
гудки,— отнюдь не противопоказаны. Они правильно намечают связь между
мыслью сценариста и будущим пластическим оформлением режиссера. Можно
почти с несомненностью сказать, что одной из ближайших задач, предстоящих
режиссеру в будущем, явится как раз это разрешение кинематографическим
путем описательных задач, создание той окружающей действующее лицо среды,
о которой я упоминал. Первые попытки были сделаны американцами, когда
они показывали в начале ленты пейзаж, носивший символический характер.
Деревушка в долине, видимая сквозь цветущую вишню, начинала «Виргинскую
113
почту». Бурное, вспенившееся море символизировало лейтмотив картины
«Обломки крушения»5. Прекрасным примером несомненного достижения в этой
области являются кадры туманного рассвета, растущего над трупном убитого
матроса в «Броненосце «Потемкин». Разрешение задачи — показа среды —
является несомненным и необходимым моментом в сценарной работе, и, конечно,
эта работа не может быть произведена без непосредственного участия режиссера.
Даже простой пейзаж — кусок натуры, так часто встречающийся в
кинематографических постановках,— должен быть связан какой-то внутренней линией
с развивающимся действием. Я повторяю, что кинематограф необычайно
экономичен и остр в своей работе. В нем и не должно быть ничего лишнего.
Безразличного фона не существует. Все должно быть собрано и устремлено к единой
цели разрешения данной задачи-. Ведь каждое действие, поскольку оно
происходит в реальном мире, всегда связано с какими-то общими условиями —
характером среды. Сцены могут быть ночью и днем. Об этом знают
кинематографические режиссеры уже давно, и попытка достижения ночных эффектов является
и до сих пор интересной проблемой для кинорежиссеров. Но можно идти и
дальше. Американцу Гриффиту удавалось получать изумительные, нежные и глубоко
верно переданные оттенки сумерек и утра в картине «Америка»6. В распоряжении
кинорежиссера для этой работы имеется огромное количество материала.
Кинематограф и интересен тем, как я упоминал уже, что помимо возможности
сосредоточиваться на деталях он может соединить воедино многочисленный материал,
охваченный чрезвычайно широко. Возьмем хотя бы тот же рассвет: ведь режиссер
может использовать для создания впечатления рассвета не только растущий свет,
но и целый ряд характерных явлений, умело выбранных, которые неизбежно
свяжутся у зрителя с приближающимся утром. Тускнеющий свет фонарей на
посветлевшем небе, силуэты едва освещенных зданий, вершины деревьев, чуть
тронутые еще не показавшимся солнцем, просыпающиеся птицы, поющий петух,
предутренний туман, роса — все это может быт^ь использовано режиссером,
снято и в монтаже соединено в гармоническое целое. В одной из картин
употреблен интересный прием для создания экранного образа рассвета. Для того чтобы
включить в монтажное построение ощущение растущего и все шире и шире
разливающегося света, отдельные куски следуют друг за другом так, что вначале,
кргда еще темно, на экране видны лишь детали. Аппарат снимает только
крупно, как будто бы он, подобно глазу человека, из-за темноты, окружающей его,
видит только то, к чему он стоит близко. С нарастанием света аппарат отходит
все дальше и дальше от снимаемых объектов. Одновременно с растущим светом
все расширяется и расширяется то поле, которое охватывает объектив. От
крупных планов в темноте режиссер переходит ко все более и более общим планам,
как будто бы пытаясь непосредственно передать растущий свет, разливающийся
все шире и шире. Здесь интересно, что используется чисто техническая
возможность, свойственная специфически только кинематографу для передачи тонкого
ощущения. Ясно, конечно, что работа над разрешением подобных задач
настолько тесно связана со знанием техники кинематографа, настолько органически
слита с чисто режиссерской работой анализа, выбора материала и его
творческого объединения в монтаже, что такие задачи ке могут быть независимо от
режиссера преподаны ему сценаристом. Вместе с тем, как я уже говорил, дать
выявление той среды, в которую погружено действие, является неизбежным,
нужным во всякой картине, и, следовательно, при создании сценария участие
режиссера является необходимым.
114
Люди в среде
Мне хотелось бы отметить, что у сильнейшего режиссера современности
Давида Гриффита почти в каждой картине, особенно в тех, где он достигает
максимальной выразительности и силы, почти неизбежно действие сценария,
развивающееся среди людей, непосредственно слито с тем, что происходит в
окружающем их мире. Бурный финал картины Гриффита всегда построен так, что
смятение героев усиливается для зрителя до небывалых пределов благодаря тому,
что режиссер вводит в действие ветер, бурю, ломающую лед, вспенившуюся
реку, гигантский ревущий водопад. Когда Лилиан Гиш в «Водопаде жизни»7
убегает из дому, истерзанная, потерявшая все, и любящий Бартельмес бросается
за нею, чтобы вернуть ее к жизни, все в бешеном темпе развивающееся действие
погони любви за отчаянием погружено в неистовую снежную бурю, и в самом
финале Гриффит как будто бы заставляет самого зрителя испытывать отчаяние,
когда к гребню гигантского водопада, впечатляющего, как несомненная и
безнадежная гибель, кружась, подплывает льдина с сжавшейся женской фигуркой
на ней. Снежная буря вначале, потом вскрывшаяся, вспенившаяся река,
покрытая льдинами, которые еще страшнее бури, и, наконец, огромный водопад,
впечатляющий, как сама смерть. В этой последовательности как бы
повторяется в огромном масштабе та же линия растущего отчаяния, стремящегося к
концу — смерти, которое неудержимо захватило героиню. Этот унисон — буря
внутри людей и буря в окружающем их мире — является одним из сильнейших
достижений гениального американца. Этот пример особенно ясно показывает,
насколько широко и глубоко должно быть связано содержание сценария с тем
общим режиссерским приемом, который придает силу и целостность его
работе.
Режиссер не только превращает в движение и форму отдельные сцены,
предложенные ему сценаристом, он должен принять в себя сценарий от темы до
окончательной формы сюжета. Он должен каждую сцену видеть и ощущать как
неотъемлемую часть единого построения. А это будет только в том случае, если он будет
органически слит с работой над сценарием с самого начала до конца. Когда
закончена работа общего оформления, когда тема оформлена в сюжет, когда паме-
чены отдельные сцены, конкретизирующие этот сюжет, наступает момент
наиболее напряженной обработки сценария, момент той работы, когда уже конкретно,
ощутимо предвидится та экранная форма картины, которая должна получиться
в результате; наступает момент составления монтажного плана съемки,
отыскания тех элементов, из которых впоследствии будет слит каждый отдельный
образ. Ввести в действие водопад — это еще не значит создать его на экране.
Вспомним то, что мы говорили о создании экранного образа, который получается
только тогда ярким и сильным, когда будут верно найдены нужные детали.
Наступает момент использования кусков реального пространства и реального
времени для создания будущего времени и пространства экранного. Места
сценариста и режиссера здесь меняются: если в начале работы можно было сказать, что
сценарист ведет ее, а режиссер следит за тем, чтобы органически принимать ее и
в каждый момент не только не расходиться, но всегда сливаться с нею, то теперь
это отношение меняется. Ведущим работу является режиссер, вооруженный
знанием техники и своим специфическим талантом, позволяющим ему находить
верные и яркие образы, выражающие сущность каждой заданной мысли. Режиссер
организовывает каждую отдельную сцену; анализирует ее, разлагая на элементы,
115
и одновременно уже мыслит о соединении этих элементов в монтаже. Здесь
особенно интересно отметить то, что сценарист, подобно тому как и режиссер
вначале, не должен быть отделен от работы. Его дело следить за монтажным
оформлением каждой отдельной задачи, помнить в каждый момент об основной мысли,
иной раз целиком отвлеченной, заложенной в каждые отдельные задачи. Только
в такой крепкой совместной работе может быть достигнут настоящий, ценный
результат. Конечно, в идеале можно было бы представить себе режиссера и
сценариста, заключенных в одном человеке, но я уже говорил о той необычайной
обширности и сложности работы создания кинематографической картины,
которая исключает всякую возможность единоличного ее преодоления.
Коллективизм на кинематографе неизбежен, но работающий коллектив должен быть
исключительно спаян.
Установка ритма фильмы
Монтажная обработка сценария заключается не только в нахождении
отдельных сцен, моментов, вещей, которые нужно снять, но также и в создании той
последовательности, в которой они будут показываться, а я уже говорил, что
при выборе этойлоеледовательности нужно иметь в виду не только пластическое
содержание.каждого отдельного куска, но также и длину этого куска, то есть
надо учитывать тот ритм, в котором эти куски соединяются. Ведь этот ритм
является средством эмоционального воздействия на зрителя. Этим ритмом
режиссер может зрителя волновать и успокаивать. Ошибка в ритме может свести на
нет впечатление от показанной сцены, и этот же ритм, исключительно удачно
найденный, может довести до небывалых пределов впечатление от сцены, кото^
рое в отдельных, не соединенных кусках не представляет из себя ничего
сильного;'
Ритмическая обработка сценария ограничивается не только разработкой
отдельных, сцен путем нахождения нужных составляющих ее кусков. Ведь вся-
кинематографическая картина в конце концов распадается на разрывные
куски, которые склеиваются в сцены, сцены — в эпизоды, эпизоды— в части и ча-.
сти, наконец,— в целую картину. Всюду, где есть разрывность, всюду, где есть
момент чередования каких-то кусков, будь ли это отдельные куски пленки или
отдельные куски действия, всюду ритм должен быть учтен не потому, что ритм—.
модное слово, а потому, что ритм, управляемый волею режиссера, может и должен
служить мощным и несомненным орудием впечатления. Вспомните хотя бы, как
утомлял и.гасил впечатление неудачно созданный, беспрерывно беспокойный
ритм большой картины «Луч смерти»8, и, с другой стороны, как умело
распределен материал в «Виргинской почте», когда чередование спокойных и
напряженных частей оставляет зрителя свежим и восприимчивым к острому финалу.
Монтажная обработка сценария, при которой точно учитывается не только
пластическое содержание каждого отдельного кусочка, но и ритмическая
последовательность их длин, в которой куски сложены в сцены, сцены в эпизоды, эпизоды
в части и т. д.,— эта обработка, уже целиком учитывающая тот окончательный
вид, который принимает картина, пробегающая на экране, является последним
этапом работы режиссера над сценарием. Теперь наступает тот момент, когда в
работу создания кинокартины вступают, новые члены коллектива — это
реальный человек, вещь, их движение и среда, в которую они заключены. Режиссер
должен приготовить материал для фиксации его на пленке.
116
Режиссер и актер
Два типа постановок
Говоря об актере, кинематографические постановки можно грубо разделить
на две группы: в первой будут такие постановки, которые строятся на одном
определенном актере — «звезде», как называют их в Америке. Сценарий пишется
специально для этого актера. Вся работа режиссера сводится к тому, чтобы в
новой обстановке, с новыми вторыми актерами, окружающими главное
действующее лицо, еще раз показать зрителю знакомый и любимый им образ. Так ра-
ботаются картины с Чаплином, Фербенксом, Пикфорд, Ллойдом9. Ко второй
группе относятся картины, в основу которых положена определенная идея,
мысль. Не сценарий пишется для актера, а актеры должны быть найдены для
осуществления созданного сценария. Так работает Давид Гриффит.- Не странно,
что в ряде своих картин Гриффит так быстро и охотно отказывался от таких
блестящих имен, как Пикфорд, Мей Марш10 и др., от целого ряда героинь и героев,
которых он, использовав в одной или двух картинах, отдавал в другие руки.
Поскольку в основу картины кладется какая-то мысль, определенная идея, а не
только показ хорошей работы или прекрасного лица, отношение к актеру как к
материалу для картины приобретает особо специфический, свойственный
кинематографу характер.
Актер и кинонатурщик
Для того чтобы создать нужный ему образ, актер на театре отыскивает и
создает нужный ему грим, видоизменяя свое лицо. Если он должен быть по пьесе
силачом, он навязывает себе мускулы из ваты. Если бы ему-предложили играть
Самсона, он не постеснялся бы построить на сцене картонные колонны, чтобы
свалить их одним нажимом плеча. Бутафорский обман, так же как и грим,
нарисованный на лице, немыслим на кинематографе. Человек загримированный,
бутафорский человека реальной среде между живых деревьев^ около настоящих
камней и воды, под настоящим небом так же нелеп и неприемлем, как живая
лошадь на сцене, заставленной картоном, Условность кинематографа—не
бутафорская условность: она подменивает не материю, она подменивает лишь
пространство и время. Поэтому нужный человеческий образ на кинематографе нельзя
создать, его нужно отыскать. Вот почему даже и в тех постановках, когда в
центре стоит неизбежная и необходимая «звезда», все ее окружение вторыми и
третьими ролями непременно отыскивается режиссером в массе людей. Работа
отыскания нужных актеров, подбор людей с ярко выраженной внешностью,
соответствующей тем заданиям, которые поставлены в сценарии, является одним
из труднейших этапов в подготовительной работе режиссера. Нужно помнить,
что, как я уже говорил, на кинематографе нельзя «играть роль», нужно обладать
суммой реальных данных, отчетливо внешне выраженных, для того чтобы
нужным образом впечатлить зрителя. Немудрено поэтому, что часто в
кинематографической постановке снимают человека случайного, с улицы, никогда не
мыслившего об актерстве, только потому, что он является ярко внешне выраженным
типом и как раз таким, какой нужен режиссеру. Для того чтобы сделать
конкретно ощутимой эту неизбежную необходимость — брать в качестве актерского
материала людей, в действительности обладающих реальными данными для нуж-
117
ного образа,— я приведу хотя бы такой пример. Предположим, что для
постановки нужен старик. На театре этот вопрос разрешился бы просто. Сравнительно
молодой актер мог бы нарисовать на лице морщины, внешне впечатлить зрителя
со сцены как старик. На кинематографе это немыслимо. Почему? Да потому, что
настоящая, живая морщина представляет собой углубление в коже, складку,
и если старик с настоящей морщиной поворачивает голову, то свет на этой
морщине играет. Реальная морщина не есть темная полоса, она есть только тень от
складки, и различное положение лица относительно света даст всегда
различный рисунок света и тени. Живая морщина подсветом в движении живет; если
же мы вздумаем на гладкой коже нарисовать черную черту, то на экране
движущееся лицо показывает не живую складку, на которой играет свет, а только
проведеную черной краской полосу. Особенно нелепа будет она при большом
приближении объектива, то есть на крупном плане. На театре подобный грим
возможен потому, что свет на сцене условно ровен, он не бросает теней. По этому
приблизительному примеру можно судить о том, насколько подыскиваемый
актер должен быть близок к тому образу, который намечен в сценарии. В конце
концов актер кинематографа в огромном большинстве случаев играет самого
себя, и работа режиссера с ним будет заключаться не в том, чтобы заставить его
создать то, чего в нем нет, а в том, чтобы наиболее ярко и выразительно показать
то, что у него имеется, использовать его реальные данные.
Расчеты игры кинонатурщика
Естественно, что при таком подходе к актеру почти исключается
возможность осуществления какой-либо постоянной труппы, подобной театральной.
Почти в каждой картине режиссеру приходится встречаться все с новым и новым
человеческим материалом и часто совершенно неподготовленным. Но вместе
с тем работа снимаемого человека должна быть строго подчинена целому ряду
условностей, которые диктует кинематограф. Я уже говорил о том, что каждый
снимаемый кусок должен быть точно организован во времени и пространстве.
Работа снимаемого актера, как и все снимаемое для картины, должна быть
точно учтена. Вспомним, что говорилось о монтажной съемке, когда одни и те
же движения в точности должны быть повторены несколько раз для того, чтобы
режиссер имел возможность впоследствии сделать целостной склеенную из
нескольких кусочков сцену. Для того чтобы работать точно, нужно уметь это
сделать, нужно научиться этому или, во..всяком случае, нужно уметь заучивать.
Ведь работа актера кинематографического, или, если хотите, его игра, лишена
той непрерывности, которая свойственна работе его театрального собрата.
Экранный образ киноактера слагается из десятков и сотен отдельных
отрывочных кусков, причем так, что иной раз он сначала работает то, что должно
связаться с финалом. Кинематографический актер в своей работе лишен
ощущения непрерывного развития действия. Непосредственной, органической связи
между последовательными кусками его работы, в результате которой создается
определенный образ, у него нет. Образ актера только мыслится в будущем, на
экране, после режиссерского монтажа, и то, что делает актер перед объективом
в каждый данный момент, есть только сырой материал, и нужно обладать
особым специфически кинематографическим умением мыслить свой монтажный
образ и кропотливо составлять его из отдельных кусков, выхватываемых то из
конца, то из середины. Вполне понятно поэтому, что впервые на кинематографе
118
появился прием точного режиссерского построения актерской работы. В
большинстве случаев только режиссер настолько хорошо и глубоко знает сценарий,
настолько ясно представляет его себе уже в том виде, каким он будет перенесен
на экран, и, следовательно, только он может мыслить себе данную роль,
каждый данный образ в его монтажном построении. Если актер, хотя бы даже и
талантливый, заряжается только данной задачей, отдельной сценой, он никогда
не сможет самостоятельно ограничить свою работу так, чтобы суметь дать
фрагмент своей игры как раз такой длины и такого содержания, которое нужно для
монтажного построения. Это может быть только в том случае, если актер вошел
в работу по созданию картины так же глубоко и так же органически, как
ставящий ее режиссер. Существуют школы, утверждающие, то работа актера
должна быть построена режиссером до мельчайших подробностей: тончайшее
движение пальца, ресниц, брови должно быть режиссером точно учтено,
продиктовано и зафиксировано на пленке11. Эта школа представляет собою несомненную
крайность, дающую в результате излишнюю механизацию, но все же нельзя
отрицать, что свободная работа актера неизбежно должна быть заключена в рамки
строжайшего режиссерского контроля. Интересно, что даже такой режиссер,
как Гриффит, отличающийся особым «психологизмом», как будто бы
исключающим возможность строгого построения, все же несомненно пластически «делает»
своих актеров. У Гриффита есть своеобразный, ему принадлежащий образ
женщины трогательно-беспомощной и героической в то же время. Интересно
проследить, как в нескольких картинах разные женщины одинаково внешне
выражают одинаковые душевные состояния. Вспомните, как плачет Мей Марш
в «Нетерпимости» на суде, как плачет героиня «Америки» над умирающим
братом и как плачет Лилиан Гиш, рассказывая о своей сестре в «Двух сиротках»12.
Одно и то же волнующее лицо, текущие слезы и беспомощная,
подергивающаяся попытка к улыбке сквозь них. Однотипность приемов многих американских
актеров, работающих под руководством одного и того же режиссера,
несомненно указывает еще раз на то, насколько глубоко идет режиссерское построение
работы актера.
Ансамбль
На театре существует понятие ансамбля, понятие той общей композиции,
которое включает в себя работу всех участвующих в пьесе актеров. Ансамбль
несомненно есть и на кинематографе, и про него можно сказать то же самое, что
и про монтажный образ актера. Ведь каждый кинематографический актер по
отдельности лишен возможности непосредственно ощущать этот ансамбль.
Очень часто отдельный актер, целиком проведя свою роль перед объективом,
не видит ни разу, что делает его партнер по картине, снимающийся отдельно
от него. Но вместе с тем впоследствии, при склейке картины сцены этого
актера кажутся непосредственно связанными с работой этого никогда не
виданного им партнера. Ощущение ансамбля, связь между работой отдельных
персонажей, следовательно, опять-таки целиком переносятся на режиссера. Он, мысля
себе картину уже в монтаже, уже проходящей на экране, уже связанной из
отдельных снимаемых кусков, только он может учитывать этот ансамбль и
соответственно с его требованиями направлять и строить работу актера. Вопрос
о границах режиссерского построения работы актера — вопрос открытый еще
до сих пор. Точное следование механической схеме, предложенной режиссе-
119
ром, несомненно не имеет будущего, но и расхлябанная, вольная
импровизация актером общего режиссерского задания, прием, который до сих пор
является свойственным большинству русских режиссеров,— является также явно
неприемлемым. Несомненно пока лишь одно — что образ актера появляется
лишь тогда, когда отдельные снятые куски в монтаже соединяются друг с
другом, и работа актера в каждом отдельном куске должна быть крепко,
органически спаяна с представлением будущего целого. Если это представление есть
у актера, он сможет быть свободным, если же его нет, то только точные
указания режиссера, самого будущего создателя монтажа, могут правильно
построить работу актера. Нужно помнить, что есть только монтажный образ актера —
иного нет. С особыми трудностями приходится сталкиваться режиссеру,
встречаясь со случайным человеческим материалом, а этот случайный материалу
как я уже говорил, почти неизбежен в каждой кинематографической
постановке;, с другой стороны, этот материал представляет исключительный интерес.
Обычная кинокартина длится полтора часа. За эти полтора часа перед зрителем
проходят иной раз десятки запоминаемых им лиц, окружающих героев картиныу
и эти лица должны быть исключительно тщательно выбраны и поданы. Иной
раз вся выразительность и ценность сцены, хотя бы и с героем в центре ее,
зависит почти исключительно от тех «второстепенных» персонажей, которые его
окружают. Эти персонажи показываются зрителю всего на шесть-семь
секунд каждый. Они должны впечатлить его ярко и отчетливо. Вспомните хотя
бы в «Виргинской почте» компанию негодяев или двух старичков в «Острове
погибших кораблей»13. Каждое лицо так крепко и ярко впечатляет, как
отдельные, меткие определения талантливого писателя. Найти такого человека,
поглядев на которого шесть секунд зритель сказал бы: «Это негодяй, или добряк,
или глупец», вот задача, стоящая перед режиссером при выборе людей для
будущей постановки.
Выразительное движение
Когда люди выбраны, когда режиссер приступает к самой съемке их работы,
перед ним становится новая задача: актер должен двигаться перед аппаратом,
и его движения должны быть выразительны. Понятие выразительного
движения не так просто, как это кажется на первый взгляд, оно прежде всего не
совпадает с теми привычными движениями, с тем привычным поведением, которое
свойственно обычному человеку в реальной жизненной обстановке. Ведь кроме
жеста у человека есть и слово. Иногда слово сопровождает жест, а иногда,
наоборот, жест помогает слову. На театре возможно и то и другое. Вот почему
актер крепкого театрального воспитания чрезвычайно трудно поддается экрану.
Москвин в «Станционном смотрителе»14 — актер с несомненными,
исключительно большими кинематографическими данными вместе с тем неприятно
утомляет своим беспрерывно движущимся ртом и мелкими движениями,
отбивающими ритм неслышных слов. Жест-движение, сопровождающий слово,
немыслим на кинематографе. Он, теряя свою связь с не существующим для
кинозрителей звуком, становится бессмысленным пластическим бормотанием.
Режиссер, работая с актером, должен строить его работу так, чтобы центр
тяжести лежал на движении, а слово лишь по мере надобности его сопровождало.
Москвин в патетической сцене, когда он узнает от крестной, что Дуню увез
гусар, говорит чрезвычайно много, несомненно разные слова и при этом маши-
120
нально и вполне естественно, как человек, привыкший к словесному разряду,,
сопровождает каждое слово одним и тем же повторным движением рук. В
процессе съемки, когда слышны были слова, сцена впечатляла и впечатляла
сильно; на экране же получилось досадное и даже немного смешное топтание на
месте. Совершенно неверно, что кинематографический актер должен выражать
жестом то, что обычный человек говорит словами. Кинематографический
режиссер и актер, создавая образ, используют только те моменты, когда слово не
нужно, когда самая сущность действия вырастает в молчании, когда слово
лишь сопровождает движение, а не рождает его.
Выразительная вещь
Вот почему такое огромное значение имеет на кинематографе вещь. Вещь сама
по себе выразительна, поскольку с каждой из них зритель всегда связывает
целый ряд определенных представлений. Револьвер — немая угроза, несущийся
гоночный автомобиль — залог спасения или вовремя поспевающая помощь.
Игра же актера, связанная с вещью, построенная на ней, всегда была и будет
одним из сильнейших приемов кинематографического оформления. Это —
кинематографический монолог без слов. Вещь, с которой связан актер, может
выявить настолько тонко и глубоко оттенки его состояния, которые не
поддались бы никакому условному изображению жестом или мимикой. В «Броненосце
«Потемкин» сам броненосец— настолько сильно и ярко поданный образ, что
люди, связанные с ним, растворяются в нем, сливаются с ним органически. На
расстрел толпы отвечают не матросы, стоящие у пушки, а сам стальной
броненосец, дышащий сотней гневных грудей. Когда броненосец в финале картины
бросается навстречу эскадре, упорно работающие стальные рычаги его машин
как бы заключают в себе сердца людей, бешено бьющиеся в напряженном
ожидании.
Режиссер — создатель ансамбля
Понятие ансамбля для кинорежиссера чрезвычайно широко, в него
органически входит кроме людей также и вещь. И еще раз нужно вспомнить о том,
что в окончательном монтаже картины работа актера встанет наряду, должна
быть слита с целым рядом кусков, которые он не может видеть и о которых
может только знать. Вот почему актер учитывается режиссером прежде всего
как материал, подлежащий обработке. Обратим внимание,, наконец, на то,
что даже каждый актер по отдельности, в реальных условиях воспринимаемый
как нечто целое, как фигура человека, движения которого воспринимаются как
одновременная, связная работа всех частей его тела,— таковой человек часто
не существует на экране. В монтаже режиссер строит иногда не только
сцену, но и отдельного человека. Вспомните, как часто в картинах мы видим и
запоминаем отдельный персонаж, несмотря на то, что мы видели только его
голову и отдельно его же руку. В своих экспериментальных лентах Лев Кулешов
пробовал снимать движущуюся женщину, причем снимал руки, ноги, глаза и
голову от разных женщин, в результате же монтажа получилось впечатление
работы одного и того же человека. Конечно, этот пример не указывает на особый
прием возможного создания в действительности несуществующего человека,
но он чрезвычайно ярко подчеркивает утверждение, что образ актера даже и
121
в пределах его короткой индивидуальной работы вне связи с другими актерами
все же рождается не в отдельном моменте работы, не в съемке отдельного куска,
а только в том монтажном соединении, которое эти куски сольют в экранное
целое. Отсюда снова утверждение неизбежности точной работы и снова
утверждение примата мыслимого монтажного образа над каждым отдельным
элементом реальной работы перед объективом, и, естественно, конечно,— примата
режиссера, носителя образа общего построения картины, над актером, дающим
материал для этого построения.
Актер в кадре
Актер и экранное изображение
Я уже говорил о необходимости постоянного учета той прямоугольной
рамки экрана, которая всегда включает любое снятое движение. Движения актера
в реальном трехмерном пространстве опять-таки служат режиссеру только лишь
материалом для выбора из них нужных элементов к построению будущего,
плоского, вкомпонованного в точную рамку кадра изображения. Режиссер
никогда не видит актера как реального человека, он мыслит и видит будущее
экранное изображение и тщательно выбирает для него материал, заставляя двигаться
актера так или иначе и различно меняя положение аппарата относительно него.
Та же разрывность, как и во всем в кинематографе. Ни на минуту перед
режиссером нет живого человека, всегда перед ним есть только ряд возможных
элементов для будущего экранного построения. Этим отнюдь не утверждается
какое-либо умерщвление, механизация актера. Он может быть насколько
угодно непосредственным, и он совершенно не должен нарушать естественной
слитности своих движений, но режиссер, управляющий аппаратом, в силу
сущности кинематографического изложения, будет сам вырывать из слитной
массы работы живого человека нужные ему куски. В то время, когда Гриффит
снимал руки Мей Марш в сцене на суде, артистка, вероятно, плакала, когда щипала
свои руки; она жила полной и настоящей жизнью, была включена в круг
нужного переживания вся целиком, но режиссер для картины вырвал только руки.
Актер и свет
И еще один момент характерен для работы режиссера с актером — это свет,
тот свет, без которого ни вещь, ни человек, ничто не существует для
кинематографа.
Режиссер в ателье, управляющий светом, буквально творит, создает
будущую экранную форму. Ведь свет это — то единственное, что действует на
чувствительную пленку, только из света различной силы соткано то
изображение, тот образ, который мы видим на экране. И этот свет существует не только
для того, чтобы проявить — сделать видимыми— формы. Актер неосвещенный—
ничто. Актер, освещенный просто для того, чтобы сделать его видимым, есть
простая безразличная данность. Тот же свет можно видоизменить и построить
так, чтобы он вошел органическим компонентом в работу актеру. Композиция
света может многое удалить, многие подчеркнуть и выявить с такой силой
выразительную работу актера, что становится понятным, что свет не просто
условие для фиксации выразительной работы актера, но он сам является частью
122
этой выразительной работы. Вспомните лицо священника в «Броненосце
«Потемкин», освещенное снизу. Итак, работа актера над созданием экранного
образа заключена в технически сложную рамку условий, специфически
свойственных кинематографу. Глубокое знание этих условий принадлежит прежде
всего режиссеру, и актер только тогда может достаточно широко и глубоко
творчески включиться в работу создания картины, если он явится достаточно
сильным и органически спаянным членом коллектива, то есть если его работа
будет достаточно глубоко включена в круг предварительной работы
сценариста и режиссера. Мы пришли в конце этой главы к тому же выводу
неизбежности органического коллектива.
Режиссер и оператор
Оператор и аппарат
Когда выбраны и утверждены актеры, когда точно монтажно разработаны
сцены,— приступают к фактической съемке. И в работу входит новое
лицо — человек, вооруженный аппаратом, производящий самую съемку,—
оператор. Здесь режиссер должен преодолеть новое препятствие: между
набранным и приготовленным материалом и между будущим
произведением искусства стоит съемочный аппарат и управляющий им человек. Все
то, что было сказано о композиции движения в пространстве кадра, о свете,
выявляющем кадр, о выразительном свете,— все это должно быть реально
сближено с техническими возможностями съемки. Аппарат, появившийся на
съемке, впервые вносит реальную условность в кинематографическую работу.
Прежде всего — угол его зрения. Обычный взгляд человека охватывает лежащее перед
ним пространство под углом, немного меньшим ста восьмидесяти градусов,
то есть человек может видеть почти половину окружающего его горизонта;
поле же зрения объектива значительно меньше. Угол его зрения равен
приблизительно сорока пяти градусам, и вот уже режиссеру приходится отходить
от обычного восприятия реального пространства. Направленный объектив
съемочного аппарата уже в силу этой особенности не охватывает
пространства, а выхватывает из него лишь часть, элемент, так называемый
«кадр».
При помощи целого ряда приспособлений при аппарате может быть
достигнуто еще большее сужение этого поля зрения; может быть изменена самая рамка,
окружающая изображение,— это делают так называемые «каше». Мало того,
что малый угол зрения ограничивает пространство, на котором развертывается
действие в ширину и высоту, особым свойством съемочного объектива
ограничена также и глубина захватываемого пространства. Актер, снимаемый очень
близко, не только должен укладывать свои движения в тесные рамки кадра,
опасаясь выйти за его границы, он должен также помнить о том, что нельзя
отойти в глубину или приблизиться, потому что выйдешь из фокуса и
изображение будет неясным. В том же съемочном аппарате помимо границ,
стесняющих движение снимаемого материала, есть целый ряд приспособлений,
которые не ограничивают, а, наоборот, расширяют возможность режиссерской
работы. Вспомните хотя бы кадры Гриффита — лирические, нежные моменты,
видимые как бы сквозь легкую дымку. Прием, несомненно, усиливающий
впечатление снимаемой сцены, а это делается исключительно оператором, снимаю-
123
щим либо сквозь полупрозрачную легкую материю, либо специально
сконструированным объективом: Вспомните исключительно впечатляющий кусок из
«Броненосца «Потемкин», когда падающему, раненному на лестнице человеку
вдруг летят навстречу каменные ступени; этого эффекта нельзя было бы
достигнуть, не сделав специального приспособления к аппарату, позволяющего
быстро повертывать его сверху вниз в течение съемки. В руках оператора
находятся те реальные технические возможности, при помощи которых можно
осуществить отвлеченный замысел режиссера. А эти возможности бесчисленны.
Аппарат и «точка зрения»
Когда аппарат стоит на месте, готовый к съемке, режиссер уже не только
ориентируется на будущее экранное изображение, как он это делал, работая
со сценарием или выбирая и подготавливая актера. Здесь он не только
предполагает, воображает его. Смотря в «глазок» (специальное приспособление в
съемочном аппарате), режиссер может реально видеть в уменьшенном виде то
будущее изображение, которое впоследствии будет отброшено на экран. Сценарий
написан, отдельные его задачи точно формулированы, план съемки каждой
сцены, учитывающий ее пластическое и ритмическое содержание, готов,
актеры выбраны и готовы в работе, вся предварительная работа закончена, и
подготовленный материал должен быть заснят на пленке. Аппарат, готовый
к съемке, олицетворяет собой ту точку зрения, с которой будет воспринимать
экранное изображение будущий зритель. Эта точка зрения может быть
различна. На любой объект можно смотреть, а следовательно, можно и снимать его
<5 тысячи различных мест, и выбор какого-то одного определенного не может и
не должен быть случайным. Этот выбор всегда связан со всей полнотой
содержания той задачи, которую ставит себе режиссер, задавшийся целью так или
иначе впечатлить зрителя. Будем сначала говорить хотя бы о простом показе
формы. Предположим, что мы хотим снять папиросу, лежащую на краю стола.
Можно так поставить съемочный аппарат, что отверстие мундштука папиросы
будет точно глядеть в объектив, ив результате съемки на экране папиросы не
окажется — зритель увидит полосу ребра стола и на ней черный кружок,
отверстие мундштука, обведенное белой каймой картона. Значит, для того чтобы
дать возможность зрителю видеть папиросу, нужно, чтобы и объектив
съемочного аппарата «видел» ее. Нужно для съемки выбрать такое положение
относительно объекта, при котором его форма в целом была бы видима наиболее ясно
и отчетливо. Если нужно снять сломанную папиросу, оператор так ставит
аппарат, чтобы объектив, а вместе с ним и глаз будущего зрителя, ясно видел
надрыв бумаги и торчащий из него табак. Пример с папиросой элементарен —
он только грубо определяет существенное значение выбора определенного
положения аппарата относительно снимаемого объекта. Задачи, разрешаемые
этим выбором, на самом деле весьма разнообразны и составляют одну из
важнейших сторон совместной работы режиссера с оператором. Перейдем к более
сложному. В задачу режиссера может входить не только простой показ формы
данного предмета, но и его относительное положение в том или другом куске
пространства. Положим, что нужно не только снять стенные часы, но и показать,
что они висят очень высоко. Здесь задача выбора кадра усложнена новым
требованием, оператор, выбирая положение для аппарата, либо отходит очень
далеко, стараясь захватить часть пола и таким образом показать высоту, либо сни-
124
мает часы, подойдя близко и снизу, подчеркивая их положение острым
перспективным сокращением. Если принять во внимание, что материал, снимаемый
кинорежиссером, может быть исключительно сложным по своей форме, то
становится понятным, какую огромную роль играет выбор положения аппарата.
Хорошо снять паровоз — это значит суметь выбрать такую точку зрения, с
которой сложная его форма будет наиболее полной и яркой. Верно найденная
точка зрения определяет выразительность будущего изображения. Все, что
говорилось до сих пор, относилось к съемке неподвижных объектов, не
меняющих своего положения относительно аппарата.
Съемка движения
Работа еще усложняется, когда вводится момент движения. Объект не только
имеет форму, но эта форма на изображении меняется в зависимости от его
движений, и, кроме того, самое движение его имеет форму и также служит
объектом съемки. Прежнее требование остается в силе. Аппарат должен быть так
поставлен, чтобы все происходящее перед ним было видимо в форме, наиболее
ясной и выразительной. Почему так ярко впечатляет съемка парада войск,
снятая сверху? Потому что именно сверху наиболее ясно и отчетливо можно
наблюдать стройное передвижение масс войска. Почему так остро воспринимается
несущийся поезд или гоночный автомобиль, снятый так, что он, показавшись
вдали, приближается прямо на аппарат и пролетает близко от него? Потому что
в перспективном вырастании приближающейся машины наиболее ярко
схвачена скорость движения. Если нужно снять автомобиль и сидящего в нем
шофера, оператор ставит аппарат на землю вблизи машины. Если же нужно
снять тот же автомобиль лавирующим среди экипажей по улице, оператор
взберется на третий этаж, чтобы лучше схватить форму и смысл движения. Выбор
положения аппарата может углублять выразительность снятого изображения
во многих направлениях. Съемка паровоза, налетающего на объектив,
исключительно передает мощность огромной машины. В «Броненосце «Потемкин» дуло
орудия, смотрящее прямо на зрителя, исключительно грозно. В «Нищей
Стамбула» 15 скачущие лошади сняты оператором из придорожной канавы снизу
вверх, так, что вздымающиеся копыта проносятся как бы над головой зрителя,
и впечатление бешеной скачки усиливается до максимума. Здесь работа
оператора уже не является простой фиксацией постановки независимо от него
работающего режиссера. Качество будущей картины зависит не только от того,
«что снять», ко и от того, «как снять». Это «как» должно быть направлено
режиссером и осуществлено оператором.
Аппарат заставляет зрителя
видеть так,
как этого хочет режиссер
Выбирая положение аппарата, режиссер и оператор ведут за собой будущего
зрителя. Точка зрения аппарата почти никогда не бывает точкой зрения
обычного наблюдателя. Сила кинорежиссера в том, что он может заставить зрителя
видеть предмет не так, как его легче всего увидеть. Аппарат, меняющий точку
зрения, как бы «ведет» себя определенным образом. Он как бы заряжен
определенным отношением к снимаемому, он проникнут то повышенным интересом,.
125
впиваясь в деталь, то созерцанием общей картины. Он становится иной раз на
место героя и снимает то, что тот видит, иной раз даже «ощущает» вместе с
героем. Так, в «Кожаных перчатках» аппарат смотрит глазами побитого боксера,
охваченного головокружением, и показывает вертящуюся затуманенную
картину цирка. Аппарат может «ощущать» и вместе со зрителем. Здесь мы
сталкиваемся с чрезвычайно интересным приемом киноработы. С совершенной
несомненностью можно сказать, что человек по-разному воспринимает окружающий
его мир в зависимости от своего душевного состояния. Целый ряд попыток
кинорежиссера был направлен к тому, чтобы путем особых приемов съемки
вызывать определенную настроенность зрителя и тем усиливать впечатление от
сцены. Гриффит начал снимать все печальное слегка затуманенным, объясняя
это желанием заставить зрителя смотреть как бы сквозь слезы.
В картине «Стачка» есть интересный кусок. Рабочие на прогулке за городом.
Впереди группы гуляющих гармонист. За первым планом, на котором ясно
видна растягивающаяся и сжимающаяся гармонь, следует ряд кусков, в которых
гуляющие сняты с различных точек зрения, иногда очень далеких. Но играющая
гармонь остается во всех кадрах, она сделалась едва видимой, прозрачной.
Пейзаж и идущая вдали группа видны сквозь нее. Здесь решена своеобразная
задача. Режиссеру хотелось, развертывая картину прогулки, вводя ее в
широкую обстановку пейзажа, сохранить вместе с тем характерный ритм издали
доносящейся музыки. И это удалось. Удалось благодаря тому, что оператор
сумел найти конкретный прием для осуществления мысли режиссера. Для
съемки этой сцены пришлось оклеивать гармонь черным бархатом, пришлось иметь
дело с точным учетом относительной экспозиции при съемке пейзажа и отдельно
гармони. Нужно было произвести ряд расчетов, требующих специального
знания операторского искусства и технической изобретательности. Здесь полное
слияние режиссера и оператора было неизбежно, и оно обусловило успех
достижения16. Мысль режиссера в его работе над выразительностью экранного
образа получает конкретное осуществление только тогда, когда технические
знания и творческая изобретательность оператора идут в постоянном контакте,
иначе говоря, тогда, когда оператор является органической частью
производственного коллектива и принимает участие в создании киноленты с начала до
конца.
Оформление кадра
Выбор точки зрения аппарата является частным моментом в работе выбора
места съемки. При работе на натуре (а в среднем 50% каждой съемки ведется
вне ателье) оператору с режиссером приходится прежде всего выбирать тот
кусок пространства, на котором будет развертываться сцена. Этот выбор, как
и все в киноработе, не должен быть случайным. Натура в кадре никогда не
должна служить только фоном для снимаемой сцены, она должна
органически входить в ее целое, должна сделаться частью ее содержания. Всякий
самодовлеющий фон для «фона» противен самой сущности кинематографа. Если
режиссеру в данном куске нужен только актер и его работа, всякий фон, кроме
ровной, не привлекающей внимания поверхности, будет только красть часть
внимания зрителя и тем самым уничтожать, обесценивать, по существу,
основной прием киноискусства. Если кроме актера в кадр вводится еще что-то, то
это что-то должно быть связано с общим заданием сцены. Когда в «Водопаде
щизни» Гриффит показывает юношу Бартельмеса по колено в густой траве,
126
окруженного дрожащими, колеблющимися от ветра белыми цветами ромашки,
в этом кадре кусок натуры не служит случайным фоном, он, правда, в
сентиментальном плане, но ярко дополняет и усиливает поданный образ. Работа над
«смысловым» оформлением кадра, необходимость органической связи между
развертывающейся сценой и ее окружением настолько необходимы, что одним
из сложнейших моментов предварительной работы оператора и режиссера
является отыскание и фиксация нужных мест для натурной съемки.
Одним из первых требований, которые предъявляются к постановочной
работе кинорежиссера, является точность. Если им задуман экранный образ
сцены, если он хочет, снимая, получить тот материал, из которого он сможет создать
задуманное, он неизбежно должен о каждом снимаемом им куске думать, как об
элементе будущего монтажного построения, и чем точнее будет его работа в
пределах каждого снимаемого элемента, тем совершеннее, тем ближе подойдет он
к возможности существления своего замысла. Отсюда же вытекает
своеобразное отношение кинорежиссера к актеру, вещам, ко всему реальному, с чем он
работает в процессе постановки. Каждый отдельный кусок пленки, который
использует режиссер для съемки нужного ему элемента сцены, должен быть
использован так, чтобы его длина точно соответствовала тому общему заданию,
которое лежит в основе экранной трактовки данной сцены. В каждом снимаемом
куске начинается какое-то движение, доходит до известной нужной точки, и
время, которое нужно для этого движения, должно быть точно установлено
режиссером. Если движение ускорилось или замедлилось, полученный кусок
будет больше или меньше нужной длины. Элемент сцены, отойдя от заданной
ему величины, впоследствии, в процессе монтажа, нарушит стройность
задуманного экранного образа. Все, что случайно, не организовано, все то, что не
приведено в строгое подчинение монтажному построению, которое мыслит
режиссер, представляя себе экранное изображение каждой данной сцены,— все это
неизбежно приведет к неясности, нечистоте в окончательной работе монтажного
оформления сцены. Сцена впечатляет с экрана только тогда, когда она хорошо
смонтирована. Хороший монтаж получится только тогда, когда в нем верно
будет найден ритм, а этот ритм зависит от относительной длины кусков, длина
же кусков находится в органической зависимости от содержания каждого
отдельного куска. Поэтому-то режиссер и должен все снимаемое им заключать
в жесткие, строгие временные рамки.
Предположим, что мы монтажно снимаем сцену с актером. Сцена такова:
актер сидит в кресле в напряженном ожидании возможного ареста, он слышит,
что к двери кто-то подошел; напряженно всматриваясь, видит, как ручка двери
начинает шевелиться. Актер медленно высвобождает револьвер, засунутый
между спинкой и сиденьем кресла, дверь начинает отворяться, актер быстро
направляет револьвер, но неожиданно входит вместо ожидаемых агентов
ребенок со щенятами (кусок из картины «Вне закона»17). Монтаж намечен так:
1) актер, сидящий в кресле, меняет положение, услышав стук; 2) его
напряженное, всматривающееся лицо; 3) снята отдельно шевелящаяся ручка двери;
4) крупно — рука актера, медленно ощупывающая и вытягивающая ручку
револьвера; 5) приоткрывшаяся дверь; 6) актер направляет револьвер;
7) в дверь входит мальчик со щенятами. Элементы сцены, в которой внимание
зрителя перебрасывается то на человека, то на дверь, сосредоточивается то на
движущейся ручке, то на руке актера или револьвере, в конце концов должны
слиться на экране в единый образ непрерывно развивающейся сцены. Несом-
127
ненно, что для создания.резкого перелома между медленно нарастающим напряг
жением и неожиданно быстрым разрядом режиссером, должен быть задан
определенный, творчески найденный ритм монтажа. Каждый элемент сцены нужно
снимать отдельно. То, что делает актер при съемке каждого куска, должно быть
точно ограничено временем. Но мало установить временные границы, в этих
границах актер должен сделать ряд движений, насытить каждый кусок ясным
и выразительным пластическим содержанием. Если оставить место случайности
в работе актера, то не только пауза, замедление, но и лишнее движение,
сделанное актером, уже нарушит те временные границы, которые непременно должны
быть поставлены режиссером. Это нарушение, как мы уже говорили, изменит
длину куска и тем самым нарушит стройность целого построения сцены. Мы
видим, таким образом, что не только временные границы должны быть точно
установлены, но также и сама форма движения, уложенная в них; само
пластическое содержание работы актеров в каждой отдельной сцене должно быть
выполнено точно, если режиссер хочет достигнуть какого-то результата в
создании того окончательного образа сцены, который будет впечатлять зрителя,
проходя на экране уже не в действительной, а кинематографической форме.
Точность работы в пространстве и во времени является тем неизбежным
условием, выполняя которое, работник кинематографа сможет овладеть ясным и
ярко впечатляющим экранным изложением. То же стремление к точности
должно управлять режиссером и оператором не только при построении сцены, но
и при выборе кусков натуры, из которых будет создано пространство на экране.
Казалось бы, если для съемки нужны река или лес, достаточно отыскать
«красивую» реку, и можно начинать съемку. На самом же деле режиссер никогда
не ищет ни реки, ни леса, он ищет «нужные кадры». Эти «нужные кадры», точно
отвечающие заданиям каждой сцены, могут оказаться разбросанными по
десятку различных рек, но в картине они будут соединены в одно. Режиссер не
«снимает натуру», он использует ее для будущей монтажной композиции.
Композиционные задания могут быть настолько строги, что режиссер и оператор
иногда насильственно деформируют, перестраивают кусок натуры, стремясь
найти нужную форму. Обломить мешающие ветви, спилить лишнее дерево,
пересадить его туда, где оно необходимо, запрудить реку, наполнить ее
льдинами — все это характерно для работника кино, всегда, всеми способами
использующего натурный материал для построения нужного экранного образа.
Использование натуры как материала достигает крайнего своего выражения
в постройке натурных кадров в ателье, когда из настоящей земли, настоящих
камней, песка, живых деревьев и воды точно «строятся» в ателье именно те
формы, которые нужны режиссеру. Выбор места съемки и установка точки
зрения аппарата, в целом технически определяемые как выбор кадра, всегда
усложнены еще одним условием. Это условие — свет. Выше уже говорилось об
огромной роли света. Он создает в конце концов ту форму, которая переносится на
экран. Только когда объект освещен нужным образом и с нужной силой, он
готов для съемки. Изображение на пленке, отброшенное на экране, есть лишь
комбинация светлых и темных пятен. На экране нет ничего, кроме света
различной силы, и понятно поэтому, что, управляя светом на съемке, мы совершаем
фактическую работу оформления будущего изображения. Вместе с тем
ощущение качества и интенсивности света, учет непосредственной связи между
объектом и возможным его изображением на пленке связаны исключительно с
техникой оператора.
128
Лаборатория
Все, что было сказано в плане необходимости тесной связи всех работающих
в производстве кинокартины, относится в полной мере и к оператору. Через
режиссера, работу которого над процессами, протекающими в
действительности, он превращает в материал кинематографический, оператор связывается
с другими членами производственного коллектива: с актером и сценаристом.
Он же, в свою очередь, служит связующим звеном между режиссером и
работниками лаборатории, которая является ближайшим этапом обработки
материала кинокартины, непосредственно следующим за съемкой.
Только после проявления негатива и печатания позитива режиссер
наконец получает в чистом виде кинематографический материал, из которого он может
строить свое произведение. Так же, как и любой этап кинопроизводства,
лаборатория включает в себя не только простое, механическое проведение
шаблонных процессов (химической обработки снятой пленки). Ее задания часто служат
продолжением мысли, родившейся у сценариста, прошедшей через режиссера
и оператора. Гриффитовские сумерки в «Америке» не были бы осуществлены
без проявителя нужного состава и качества. Только тогда, когда появляются
на свет все куски, необходимые для создания картины, уже в виде изображений,
напечатанных на лентах позитивной пленки, только тогда кончается
органическая связь между всеми работниками кинопроизводства, которая
обусловливала единственную возможность создания настоящего, полноценного
произведения.
Режиссер приступает к комбинированию, склейке разрозненных кусков
в целое. Он остается наедине с монтажом, с основным творческим процессом,
о котором говорилось в начале книги.
Коллективизм —
база киноработы
Книга о кинорежиссере охватила всех работников кинопроизводства. Это
и не могло быть иначе. Фабрика кинолент обладает всеми свойствами,
присущими индустриальному производству. Руководящий инженер не сможет сделать
ничего без мастеров и рабочих. И их совместные усилия не приведут к хорошему
результату, если каждый работник ограничится лишь механическим
исполнением своей узкой функции. Коллективизм — это то, что делает каждую, даже
самую незначительную часть работы живой и органически связанной с общей
задачей. Кинематографическая работа такова, что чем меньшее количество людей
принимает в ней непосредственное органическое участие, чем разрозненнее
их работа, тем хуже получится окончательный продукт производства —
кинокартина.
1926 г.
5 в. Пудовкин, т. 1
Предисловие
[к немецкому изданию книги
«Кинорежиссер и киноматериал»]
Основа киноискусства — монтаж. Вооруженное этим лозунгом, молодое
киноискусство Советской России начало свой успешный путь. Он и на
сегодняшний день не утратил своего значения и силы.
Нужно иметь в виду, что сущность слова «монтаж» не всегда правильно
толкуют и понимают. Одни наивно полагают, что этим термином обозначается
простая склейка кусков пленки в соответствующей временной последовательности.
Другим известны лишь два вида монтажа — быстрый и медленный. Но они при
этом забывают или никогда не знали, что ритм (т. е. эффект, создаваемый
в монтаже чередованием более длинных и коротких кусков пленки) ни в коей
мере не исчерпывает всех возможностей монтажа. Чтобы пояснить свою мысль
и безошибочно донести до читателя значение монтажа со всеми его
потенциальными возможностями, я использую аналогию с другой формой искусства —
литературой. Для поэта или писателя отдельные слова подобны сырому материалу.
Они имеют широчайший и самый разнообразный смысл, обретающий точность
в зависимости от их места в фразе. Поскольку слово является самостоятельной
частью фразы, его значение и смысл можно варьировать до тех пор, пока оно
не получит определенного места в организованной художественной форме.
Для кинорежиссера каждый кадр законченного фильма служит той же цели,
что слово для поэта. Режиссер стоит перед отдельными кадрами сомневаясь,
выбирая, отбрасывая и вновь подбирая куски пленки. Только путем осмысления
художественного построения на этой стадии постепенно складываются
монтажные фразы, сцены и эпизоды, из которых шаг за шагом возникает законченное
произведение — фильм..
Выражение фильм «снимается», как совершенно неверное, следовало бы
исключить из обихода. Фильм не снимают, а строят. Строят из отдельных кусков
пленки, служащих для него строительным материалом. Если писателю
понадобится какое-нибудь слово, например б у к,— то взятое в отдельности оно
является лишь каркасом смысла, так сказать, понятием, лишенным сущности и не
конкретным. Только в сочетании с другими словами, поставленными в
определенном сложном порядке, искусство наделяет его жизнью и реальностью. Я
открываю наудачу лежащую передо мной книгу и читаю: «.. .нежная зелень
молодого бука». Это, конечно, не очень выдающаяся проза, но как пример она со всей
130
полнотой и ясностью показывает разницу между отдельным-словом и словесным
понятием и становится частью определенной литературной формы. Мертвое
слово ожило при помощи искусства.
Я утверждаю, что каждый объект, снятый с определенной точки и
показанный на экране, является мертвым объектом, даже если он двигался перед
аппаратом. Движение самого объекта перед аппаратом еще не дает динамики на
экране; оно не больше чем материал для монтажного построения будущего,
движения, выраженного сочетанием различных кусков пленки. Только когда объект
помещен среди многих других, когда он является частью синтеза различных
зрительных образов, он наделен экранной жизнью. Видоизменяясь, подобно слову
букв нашей аналогии, он превращается в процессе монтажа из абстрактной
фотографической"копии природы в часть кинематографической формы.
Каждый объект нужно при помощи монтажа показать на экране так, чтобы
он обладал не фотографической, а обязательно кинематографической сущностью.
Таким образом, очевидно, что значение монтажа и тех проблем, которые
в связи с ним возникают перед режиссером, ни в коей мере не исчерпывается
логической временной последовательностью кадров или установкой ритма.
Монтаж является основным творческим орудием, силой которого бездушные
фотографии (отдельные кадры) организуются в живую кинематографическую форму.
Типично, что при построении этой формы может использоваться материал,
в действительности имеющий совершенно иной характер, чем то обличье, в
котором он затем появляется на экране. Я возьму пример из своего последнего
фильма .«Конец Санкт-Петербурга».
В начале той части, где изображается война, я хотел показать ужасный
взрыв. Чтобы создать абсолютно правдоподобное впечатление такого взрыва,
я велел зарыть в землю большое количество динамита и взорвать его. Это засняли.
Взрыв был поистине грандиозен, но кинематографически он ничего собой не
представлял. На экране получилось медленное, безжизненное движение. Позже,
в результате многочисленных проб и экспериментов, мне удалось «смонтировать»
взрыв со всеми нужными мне эффектами, и к тому же я не использовал ни
единого куска снятой до того сцены. Я снял огнемет, изрыгающий клубы дыма.
Чтобы создать эффект взрыва, я вмонтировал в него короткие куски вспышек
магния, ритмично чередуя свет и мрак. В середину я вмонтировал кадр реки,
снятый ранее и казавшийся мне подходящим по тональности светотеней. Таким
образом, передо мной постепенно возникал нужный мне зрительный эффект.
В конце концов на экране был взрыв бомбы, но в действительности в нем
сочеталось все, что угодно, кроме настоящего взрыва.
Подкрепив свои доводы этим примером, я еще раз повторяю: монтаж — это
творческая сила кинематографической реальности, и природа представляет лишь
сырой материал, с которым он работает. Вот точное определение связи между
действительностью и кинематографом.
Эти замечания полностью относятся и к актерам. Снимающийся актер —
это лишь сырой материал для построения его будущего экранного образа,
творимого в монтаже.
Когда в фильме «Конец Санкт-Петербурга» мне нужно было показать
крупного промышленника, я пытался решить эту задачу, монтируя его планы вместе
с кадрами Медного всадника. Я утверждаю, что полученная композиция
обладает впечатляющей реальностью, совершенно отличной от той, которая создается
актерским позированием, почти всегда отдающим театральщиной.
5*
131
В своем более раннем фильме — «Мать» — я пытался воздействовать на
зрителя не психологической игрой актера, а пластическим синтезом, созданным при
помощи монтажа. Сын сидит в тюрьме. Неожиданно он получает переданную
тайком записку, из которой узнает, что на следующий день его должны
освободить. Задача заключается в том, как кинематографически выразить эту радость.
Снять его озаряющееся радостью лицо было бы неинтересно и невыразительно.
Поэтому я показываю нервные движения его рук и очень крупный план
нижней половины лица — уголки улыбающегося рта. В эти кадры я врезал другой
разнообразный материал — кадры ручья, вздувшегося от весенних вод,
солнечного света, играющего на поверхности деревенского пруда, и, наконец,
смеющегося ребенка. Путем сочетания этих компонентов сформулировалось нужное
нам выражение «радости узника». Я не знаю, как реагировал на мой эксперимент
зритель. Я лично глубоко убежден в его впечатляющей силе.
Кинематограф быстрыми шагами идет вперед. Его возможности
неисчерпаемы. Но не следует забывать, что он найдет путь к настоящему искусству, только
освободившись от диктата чужой ему формы искусства — театра.
Кинематограф стоит сейчас в преддверии своих собственных методов.
Попытка воздействовать с экрана на чувства и мысли зрителей посредством
монтажа имеет решающее значение, ибо это попытка отказа от театральных
методов. Я твердо убежден, что именно на этом пути великое
интернациональное искусство кинематографа добьется дальнейших успехов.
1928 г.
К вопросу
звукового начала
в фильме
О возможностях, которые открываются сочетанием изображений на экране
со снятым и подчиняющимся монтажу звуком, я думал уже давно.
Еще в прошлом году вместе с Эйзенштейном, установив, что наши взгляды
на звуковое кино совпадают, мы пробовали теоретически разобраться в тех
возможных путях, по которым пойдет новое изобретение1.
Сразу стало ясно, что говорящая фильма будущего не
имеет2. Подобные картинки, может быть, будут иметь известный
коммерческий успех первое время, собирая публику как новинка.
Повторится приблизительно первое время изобретения кинематографа,
когда движущийся на экране поезд или бегущая собака вызывали восторг зрителей.
Любопытство к новинке будет использовано коммерчески, и неизбежно рынок
заполнится водевилями, танцами, маленькими драмами. Вылезут театральные
актеры со своими голосами и дикцией. Размноженная фотография театральных
представлений разного вида и сорта будет иметь временный успех и спрос.
Кажется, эта полоса уже началась. Именно по такому направлению идут сейчас
немецкие и американские фирмы. Часть работы упадет на засъемку хроники.
Здесь результаты будут по-настоящему интересны.
Хроникальные куски, фиксирующие и собирающие
фактические события, снабженные звуковой записью,
сделаются еще важнее, еще значительнее. Установка хроники
на точную запись реального факта сделается еще острей
и совершенней.
Мы, работники так называемой «художественной» фильмы, работаем по своим
принципам. Для нас звучащие, кричащие и говорящие изображения на экране
имеют только относительную ценность. Полное совпадение изображения и
издаваемого им звука является только частным случаем среди многочисленных
возможностей сочетания изображения и звука.
Первым и самым важным открытием, двинувшим немое кино на путь
искусства, было, несомненно, открытие монтажа. Работая над проблемами монтажа,
кинематографисты отошли от простой фотографической фиксации процесса,
происходящего перед объективом.
Они научились относиться к снятым кускам как к сырому материалу, из
которого следует строить картину, то есть монтировать ее.
Это, конечно, имело громное значение для кинематографа как для
искусства. Само понятие монтажа было не ново — оно означает, в сущности, начало
133
точного сочетания, композиции, существующее во всех известных нам
искусствах. Но все дело в том, что кинематограф довольно большое время ухитрялся
существовать и без осознанного монтажа. Режиссеры занимались композицией
движения перед объективом по театральным или живописным принципам и
совершенно не занимались композицией действительного киноматериала, то есть
кусков заснятой пленки. В этот период кинематограф не считали искусством,
называя его плохим суррогатом театра, и были правы. Теперь появление звука
снова толкает нас по линии наименьшего сопротивления к суррогату театра.
Вооруженные уже опытом и знанием, мы должны все наши усилия направить
в противоположную сторону. Во всяком случае, так нужно делать вначале.
Мы должны принять звук как новый материал для
композиции. Мы должны помнить, что не важно для нас снять и показать
плачущего ребенка так, чтобы зритель одновременно видел ребенка, слышал его
плач и говорил: «Ах, как похоже на настоящего ребенка».
Для нас важно иметь возможность зафиксировать на пленке и
воспроизводить в зрительном зале плач ребенка как звуковое раздражение, вызывающее
определенные и точные ассоциации, и притом сочетать этот звук с любым
выбранным зрительным раздражением. Дело все в том, что впечатление, которое
получает аудитория кинематографа, строится не на последовательности
показываемых кусков, а на их столкновении, на их конфликте.
Это первый отчетливо формулировал С.М.Эйзенштейн3. Он глубоко прав:
Наличие конфликта, столкновения определяет выразительность каждой
данной комбинации. Оно прежде всего рождает некую новую третью величину,
не существовавшую ни в первой, ни во второй из данностей, приведенных
:б конфликт.
Если мы будем монтировать ряд снятых кусков так, что каждый
последующий будет естественным продолжением предыдущего, то у нас получится
продетое описание (фиксация) снятого материала. Поясняю примером: во многих
картинах можно встретить ряд движений какого-нибудь актера, снятых
последовательно на разных кусках с разных точек зрения аппарата и смонтированных
на экране так, что движение актера, начавшееся в одном куске, продолжается
ъ другом. Его рука, протянувшаяся к стакану на общем плане в следующем
"куске, снятом крупно, продолжая движение, берет стакан и т. д. Каждый кусок
служит лишь продолжением предыдущего. Монтаж непрерывно скользит по
снятому материалу, достигая лишь описательного эффекта.
Возьмем более сложный пример. Можно снять и смонтировать отход поезда
таким же последовательным рядом продолжающих друг друга кусков. Скажем
так: 1) рука машиниста тянет рычаг, 2) свисток, 3) пар из цилиндров, 4) начало
движения колес паровоза, 5) буфера вагонов, 6) колеса паровоза, 7) колеса
вагонов и т. д. Снова получим монтажную связь кусков, дающую описательный
эффект. Мы можем пойти далее и найти те же признаки голой описательности
в конструкции целых картин, воздействие которых на зрителя опирается на
сюжетное построение, состоящее из ряда событий, последовательно
вытекающих одно из другого.
Но как только нарушается формальная преемственность между двумя
кусками "или между эпизодами картины, как только эти куски, фразы или эпизоды,
вместо того чтобы вытекать один из другого, приходят в некое противоречие,
сталкиваются'между собою, мы сейчас же получаем вместо описательного иной
эффект. В картине «Потомок Чингис-хана» есть такой момент: ряд торжествен-
134
ных надписей и торжественных кадров подготавливают зрителя к тому, что ему
будет показан «Великий бессмертный, мудрый лама», и вдруг, в последний
момент «великий» оказывается крошечным ребенком. Если бы вслед за
торжественной подготовкой было показано действительно нечто великое, все
построение свелось бы к простому описанию. Столкновение же величавой подготовки
с незначительностью показа впечатляет зрителя по некоей новой третьей
линии. Оно заставляет зрителя усомниться в священности ламы и важности всей
процедуры приема в храме. В торжественности подготовительных кусков, где
были сняты медленные процессии, оркестр, курения и статуя Будды, не было
ничего иронического. Также ничего иронического нельзя найти по
отдельности в кадрах улыбающегося, голого ребенка, на которого просто приятно
смотреть, как на всех здоровых улыбающихся детей.
Из столкновения родилась ирония — интеллектуальный толчок,
обусловливающий сомнение в осмысленности всего показанного, и эмоциональный
толчок, вызывающий смех. Здесь дело идет уже не об описании, а о передаче
зрителю отношения к описываемому. Я еще раз подчеркиваю, что со включением
в композиционную работу конфликта, столкновения, работа режиссера выходит
из рамок простого обозначения, описания. Оно получает возможность передачи
зрителю отвлеченного понятия. Таким образом, с установлением
конфликта кусков, эпизодов, частей картин как метода
впечатления зрителя мы приходим к новому этапу оформ-
ления киноязыка.
В кинематографе описательного типа моменты передачи зрителю обобщенных
отвлеченных понятий, внутренних критических установок сводились
исключительно к сложным длинным надписям и к драматургической конструкции снит
маемого сценария.
Новый же метод работы, воздействующий на эмоции и интеллект зрителя
рассчитанным результатом столкновения кадров, фраз, эпизодов и частей,
открывает огромные перспективы, в которых надпись и сложное построение
приобретают новую, органически более близкую в кинематографии форму.
В том же порядке должен быть включен в материал
киноискусства и звук, Если звук будет лишь новым при помощи
съемки фиксируемым признаком снимаемой вещи или человека (звучащий
предмет или говорящий человек), то этот звук даст лишь плюс моменту
описательному и только. Никакого влияния на развитие и углубление киноязыка
оно иметь не будет. А ведь вся наша работа направлена сейчас на это углубление
и совершенствование киноязыка.
Мы хотим выбиться из рамок простого описания и получить возможность
выражения отвлеченной мысли, понятия, отношения к описываемому. Этого мы
достигаем, повторяю, приводя в столкновение отдельные элементы картины.
Звук, вводимый как новый элемент в построении картины, должен также не
сопутствовать, а приходить в ту или иную форму столкновения с зрительным
образом, с которым он формально (в монтаже) соединяется.
- Попробую привести нарочито примитивный пример. Плач ребенка, который
зритель слышит, одновременно видя на экране плачущего ребенка, даст лишь
описательный эффект. Если зритель видит на экране мать, сидящую с пустыми
раскрытыми руками (ее взрослый сын недавно умер) и слышит плач ребенка, он
получает эмоциональный толчок, и ему передается характерное для материнское
го инстинкта ощущение сына прежде всего как своего, ею рожденного ребенка.
135
Пример элементарен и груб, но он достаточно вскрывает ту внутреннюю
смысловую значительность, которую получает звук, вводимый в картину не при помощи
одновременной, точно синхронизированной съемки вещи или человека и
создаваемого им звука, а путем творчески найденного конфликта между звуком и
зрительным образом.
В разговорах о звуковой фильме мне приходилось встречаться с мнением,
что антиподом говорящей фильмы должна явиться фильма «шумовая», то есть
такая, где звуковым материалом являются различные шумы и частично
музыкальные звуки. Это неверно. Человеческая речь — тоже звуковой материал.
Дело лишь в том, что эта речь не произносится каким-либо человеком,
одновременно видимым на экране. Слова, как и всякий шум или музыка, могут
свободно монтироваться с любым нужным зрительным образом на экране. Более
того, можно включить в картину и говорящего человека и свистящий паровоз,
но это совпадение звука и образа должно быть лишь частичным случаем среди
огромного количества иных возможностей одновременной подачи звука и
зрительного образа. Совпадение можно использовать, но лишь с точным учетом
производимого им описательного эффекта, а не утверждать совпадение с основным
принципом, на котором строится вся вещь.
Это приводит, как я говорил уже выше, лишь к изготовлению новых
суррогатов театральных постановок. Нужно сказать, что огромные усилия западных
и американских изобретателей были направлены на усовершенствование
именно этой синхронности. Изобретения запатентованы, образованы крупные
концерны, эксплуатирующие звуковые аппараты. Когда я, будучи в Лондоне,
пробовал говорить с представителями англо-американского общества, владеющего
лучшими патентами, о возможности приобретения аппаратов для СССР, были
названы такие цены и условия, что стало совершенно ясно — у нас путь один:
пойти по пути изобретения и конструирования своего аппарата. Если мы пойдем
по тому пути, который предлагается в этой статье, у нас отпадает одна из
главных трудностей, на которую в конструировании теперь существующих
аппаратов была потрачена огромная работа. Эта трудность — абсолютная
синхронизация одновременной съемки звука и сцены. Нам синхронизация звука и
зрительного материала не нужна. Зато наши работы должны форсированно
двигаться в направлении, по которому на Западе как будто делается очень
мало. Это — область деформации звука.
Если мы берем звук не как лишний признак снимаемой реальной вещи,
а как самостоятельный материал, нас, естественно, должны интересовать все
возможности получения новых видов этого материала. Из практики съемки
немой картины нам известны такие технические приемы, как ускоренная или
замедленная съемка, при которой мы получаем на экране снятое движение либо
необычайно быстрым, либо необычайно медленным. Мы пользуемся съемкой не
в фокусе, наплывом, затемнением, даже искажениями, которые нам дают
особые положения аппарата по отношению к снимаемому объекту.
В применении к оптической записи звука все эти приемы в соответствующем,
конечно, изменении могут дать замечательные результаты. Введение звука —
нового материала — в построение кинокартины имеет огромное будущее. Оно
невероятно расширяет возможности углубления киноязыка, позволит ему
передавать аудитории сложные отвлеченные понятия и этим выведет кинематограф
из уже намечающегося тупика, в который упираются наши лучшие мастера.
1929 г.
136
[Разговор с Пудовкиным
о звучащем кино]
Пудовкин, как и Эйзенштейн, является горячим сторонником звучагцего1
кино.
— Мне кажется,— говорит он,— что звуковое кино сможет вывести
киноискусство из некоторого кризиса, в который мы вступили. При всем обилии
выразительных средств кино — я говорю о немом кино — не обладает достаточным
количеством этих средств. Это прежде всего относится к передаче в кино
абстрактных идей и понятий. Само собой разумеется, что термин «абстрактный»
я употребляю здесь не в философском, а в кинематографическом смысле. Что
такого рода идеи весьма трудно передаются посредством немого кино,—
доказательством этому может служить целый ряд ухищрений, применяемых в
картинах наших передовых мастеров. Укажу хотя бы на «богов» в эйзенштейнов-
ском «Октябре». Надо сказать, что обилие этих ухищрений иногда приводит
к тому, что кинозритель, в то время как он смотрит кинокартину, обращает
внимание на отдельные приемы, ухищрения, чем внимание его отвлекается.
Я считаю это недопустимым. Кинозритель должен воспринимать
кинозрелище в целом. Отдельные детали, те места картины, которые автор картины
хочет особенно подчеркнуть,— все они должны «доходить» до зрителя
непременно без навязывания их его сознанию...
.гА KCLK ь/#Со с надписями? Считаете ли вы надписи органическим элементом
кино?
— Необходимость и громадное будущее звучащего кино станут как раз
легко понятными, если мы серьезно разберем вопрос о надписях в кино. Главное
зло надписей я усматриваю в том, что они являются элементом, не подлежащим
точному учету. Я говорю о ритме картины, без которого ни одна настоящая
кинокартина немыслима. Надписи перебивают ритм. Их читают не все
одинаково: одни быстрее, другие медленнее, и поэтому даже длину (метраж) надписей
нельзя рассчитать точно. Ритм зрительных образов перебивается в немом кино
чтением надписей. Достоинство звучащего кино уже в том, что надпись
(говорящая надпись) доходит здесь до зрителя так же быстро, как и зрительный
образ. При этом в звуковом кино надпись может быть построена совершенно
ритмически — в немом кино это невозможно. Я уже не говорю об усилении
эффекта надписи путем того, что ей в звуковом кино придается та или иная тональ-
137
ность, что надпись может быть сообщена громко или тише и т. п. Важность всего
этого станет вполне понятной, если привести пример стихов и их чтение.
Совершенно, например, иначе «звучат» стихи Маяковского, когда мы их читаем в
газете или в книге, и совершенно по-другому мы чувствуем ритм тех же стихов
при их громком чтении.
Если немые надписи и возможны в звучащем кино, то я смотрю на них
только как на, так сказать, отрицательный эффект. В тех или иных случаях может
показаться нужной немая надпись для того, чтобы вызвать эффект
отрицательного порядка.
— Но ведь имеются картины без надписей. Некоторые из этих картин
сделаны настолько великолепно, что они заставляют задуматься: не являются ли
вообще надписи в картинах лишними? Не надо ли стремиться к созданию картин
без надписей, не в этом ли будущее кино? Конечно, все эти вопросы очень спорны.
Но они, повторяю, напрашиваются сами собой, когда смотришь такую хотя бы
картину, как работу Лупу Пика «Шербен»2...
— Я не думаю, что кино может обойтись без надписей вообще. Во всяком
случае, у нас в Советском Союзе — при том громадном значении, которое мы
придаем кино, при его действительной массовости, и принимая во внимание те
крупнейшие задачи, которые ставит перед собой кино в нашем Союзе,— это
невозможно. Но я полагаю, что не только у нас, но и везде кино без надписей
обойтись не может.
Кривые, косые надписи, надписи вертящиеся, надписи, напечатанные
маленькими или большими буквами, все это — попытки решить вопрос о надписях
б немом кино. Но, очевидно, все это только паллиативы. Радикально же
вопрос может быть решен только в звучащем кино.
Ведь слова и буквы,— добавляет Пудовкин,— еще не изображение фраз и
мыслей. Японские иероглифы изображают чувства и мысли, радость или горе —
изображают путем чрезвычайно сложных, но все же чисто зрительных знаков.
Но наш алфавит не обладает этим качеством. Вообще говоря, изучение
китайских и японских иероглифов представляет весьма значительный интерес для
кинематографии. Кое-какие мысли и идеи в отношении этого зародились
у меня во время последней работы, в Монголии3. Однако это не имеет
непосредственного отношения к звучащему кино.
Наш разговор с Пудовкиным коснулся в дальнейшем способов включения звука
в кинокартину.
— Звук,— говорит Пудовкин,— должен быть включен в кинокартину как
монтажный элемент, причем как новый, чрезвычайно сильный элемент
непосредственного воздействия на зрителя. Конечно, речь может идти только о
сочетании, а не о совпадении звука с действием.
В нашей «Заявке» 4 мы говорим о полном несовпадении звука с действием.
Это необходимо на первых порах для того, чтобы проверить опыт воздействия на
зрителя определенных сочетаний звуков и образов. Пока что никакого опыта
в этом отношении мы еще не имеем.
'•г' Как, исходя из каких соображений, мы будем учитывать этот опыт? Конечно,
кардинальнейшим вопросом, исходной точкой здесь должен быть принцип не-
138
ожиданного «нападения» на зрителя. В немом кино эти способы и средства.;в,
некоторой мере известны. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы найти пути:
непривычных в реальной обстановке сочетаний звука и зрительного образа. ;
— Исключаете ли вы вообще возможность совпадения звука с действием в-
звучащем кино?
— Конечно нет. Но такое совпадение — только частный случай. Здесь,—
продолжает Пудовкин,— применимо, как мне кажется, сравнение с лите^-
ратурой. (В смысле несовпадения звука с действием.) В литературе мы-
сплошь и рядом встречаем приравнение, скажем, человека к неодушевленному
предмету, речь приравнивается к воде, лозунг к взрыву и т. п. При этом чем
новее, чем свежее такого рода сравнения, тем сильнее действуют они на'чита-"
теля. Ведь совершенно ясно, что старые, избитые сравнения не достигают
никакого эффекта. («Обухом по голове» или что-нибудь в этом роде.) -
Точно так же иные звуковые сравнения (в отношении зрительного образа)
в звучащем кино могут и будут иметь чрезвычайно большое эмоциональное и
интеллектуальное воздействие.
Мне кажется также,— добавляет Пудовкин,— что звучащие картины будут
гораздо насыщеннее, содержательнее картин немого кино. Дело в том, что
сейчас для объяснения той или иной идеи, чтобы довести до сведения и сознания
зрителя какое-либо понятие, мы должны загромождать картины множеством
зрительных знаков. Все это окажется лишним в звучащем кино.
Все это поясняет в достаточной мере, почему я являюсь сторонником
звучащего кино. Но мне хотелось бы сказать больше: я думаю, что перспективы
киноискусства в связи с изобретением звучащего кино чрезвычайно широки,
что звучащее кино может даже поднять кино, если так можно выразиться, «над
литературой»...
— Как вам кажется: будут ли звучащие ленты в начале развития звучащего
кино абсолютно или только частично звуковыми? Ведь до сих пор еще нет ни
одной абсолютно звуковой кинокартины...
— Конечно, на ближайшее время нельзя и ожидать появления абсолютно
звуковых картин, построенных на совершенно новых принципах. Совершенно
естественно, что на первых порах будет всячески использоватся интерес публики
к звучащему кино вообще, будут ставиться коротенькие водевили, звучащее кино
будет подражать опере или оперетте и т. п., будут делаться частично звуковые
ленты. Но экспериментальная работа должна идти
по линии абсолютно звукового кино.
Из истории кино мы знаем, что теоретические предпосылки осуществляются
в кино вообще очень медленно. Но они все же осуществляются и неминуемо
должны осуществляться. Это целиком и полностью применимо к звучащему
кино...
— А как вы смотрите на вопрос о музыке в звучащем кино? Вернее, о чисто
музыкальных кусках, с записью на пленке или граммофонной пластинке
обыкновенной, «старой» музыки? Такого рода куски имеются в частично звуковых
картинах, и их в такого рода картинах несравненно больше, нежели «чисто»
звуковых, «чисто» шумовых кусков...
— Эти куски имеют то преимущество, что звуковая запись на ленте или
граммофонной пластинке точно подогнана к зрительным образам. Мы имеем здесь дело
139
е навсегда зафиксированной музыкой. Таким образом, музыка не ставится в
зависимость от отдельных оркестров, отдельных музыкантов и т. п. Конечно здесь
налицо лишь использование «старой» музыки. Но это все же лучше, нежели
полнейший произвол, полнейшая анархия в этой области, с которыми нам надо
считаться в новом кино.
— Еще одно,., задавал я этот вопрос также и Эйзенштейну. Кем, каким
направлением в нашей кинематографии может лучше всего быть использовано
звучащее кино? Сторонниками актерской или неактерской кинематографии?
— Конечно, корень вопроса здесь в точке зрения на монтаж, а не на
актерскую или неактерскую кинематографию. Я, как и Эйзенштейн, рассматриваю
монтаж, как самый сильный элемент киноискусства. Звук должен войти в
монтажное построение как новый, повторяю, элемент.
1929 г.
140
Творчество
кинорежиссера
Нельзя закрывать глаза яа то, что наша советская кинематография в
значительной мере обязана своим ростом и своими достижениями тем чисто
формальным открытиям и изобретениям, которые сделали наши мастера и
работники теории.
Сейчас, в связи с развитием широкой общественной критики новых работ
кинорежиссеров, растут нападки на «экспериментаторств о».
Нападки эти часто лишены смысла.
Нужно понимать, что никакой прогресс, никакое
д в и ж е н и е вперед без эксперимента немыслимы.
Даже если дело идет о выпуске стандартных средних фильм, о которых
теперь много говорят, то ведь в понятие стандарта входит какая-то выработанная
и установленная доброкачественная форма.
Эту форму надо найти, и поиски будут опять-таки неизбежно связаны с
экспериментом. Сейчас можно отметить несомненное повышение среднего
качества советских картин и при внимательном формальном анализе можно
констатировать, что это повышение идет за счет использования результатов, сделанных
большими мастерами в их формально-экспериментаторских работах.
Нужно условиться в одном. Формальная работа над поиском новых приемов
изложения, новых методов впечатления зрителя всегда имеет дело с какой-либо
определенной темой. Выработка приема изложения безотносительно к характеру
излагаемой темы для нас бессмысленна.
Наша новая советская тематика именно благодаря своей новизне требует
особого напряжения в области изобретательства.
На Западе экспериментальных работ мало, потому что давно пережеваны и
уяснены коммерчески полезные темы и успех картины определяется главным
образом количеством денег, которые платит мещанский зритель за «развлечение».
У нас экспериментаторства много вовсе не потому, что мы распустили
вожжи и позволяем бесконтрольно тратить большие деньги, а потому, что
беспрерывно вырастающие актуальные задачи требуют новых и новых поисков в
области приемов изложения. .
Сказанное Эйзенштейном о предположении к постановке «К апитала»1
является вовсе не демагогической угрозой, как некоторые склонны, думать,
а организованной атакой.
141
«Капитал» — огромная экспериментальная задача, поставленная мастером
самому себе, охватывающая не только частную тему, но и вообще возможности
подхода кинематографа к подобного рода темам.
Возможно, что будет ряд неудач разного порядка.
Возможно, что будет сделан ряд частных достижений, но не получится
картина в целом (это часто бывает с экспериментальными картинами).
Вот тут самое главное.
Нельзя нападать на работника за неудачу, если взятая им на обработку тема
нужна и усилия, потраченные им, дали хотя бы частично положительные
результаты.
«О к т я б р ь» Эйзенштейна, несмотря на ряд блестящих формальных
открытий и изображений (тесно связанных с советской
тематикой), получился неудачным как целая картина.
Мастера чуть не загрызли.
Теперь из «С т а р о г о и нового»2 он, развивая методы «Октября»,
сделал картину, блестящую во всех отношениях.
- В целом ряде работ молодых режиссеров можно видеть использование
приемов, данных «Октябрем».
Из всего сказанного выводы следующие.
Формальные эксперименты в области отыскивания
новых приемов и методов (конечно, не отделенные
от советской тематики) не излишество и не
эстетство, а необходимая, нужная ра б о та, требующая от
общественности не борьбы с ней, а поддержки.
Подходя к оценке любой экспериментальной кинокартины, общественность
должна учиться широко оценивать значение картины не только с точки зрения
важности ее для повышения формального качества будущих работ. (Эти две
величины могут не совпадать. Пример: «Октябрь», «Новый Вавилон»3.)
-. Нельзя же забывать, что характерным и важным для СССР является то, что
мы не только производим картины, но и строим советскую кинематографию.
-." Наша кинематография уже имеет свою историю, правда, очень короткую.
"'. Разбираясь в ней с точки зрения формальной, мне пришлось натолкнуться на
очень интересные моменты, которые, по-моему, позволяют рассматривать по-
новому работы наших крупнейших мастеров, положивших начало этой истории.
Если мы вспомним 1920 год, когда начал работать Кулешов, окруженный
группой молодых энтузиастов,-то увидим, что они оказались перед полнейшим
хаосом, перед полнейшим отсутствием каких бы то ни было установленных
приемов, имевших право на название кинематографических приемов.
Старый режиссер4 упорно не понимал основного: того, что картина делается
из кусков снятой пленки:, а не из сцен, поставленных перед аппаратом; того,
что впечатление от сцены, проведенной перед аппаратом, отнюдь не идентично
тому впечатлению, которое получит зритель, если сцена будет просто подряд
зафиксирована на пленке и потом показана на экране. Он не понимал, что
для того, чтобы впечатлить зрителя толпой, ревущей «ура», недостаточно
собрать кучу людей, заставить их кричать «ура», эту кучу заснять и показать.
Ряд деформаций, которые приносят специфические особенности съемочного
и проекционного аппаратов, бесцветность и плоскость изображения,
отсутствие звука так видоизменяют подобие действительности, что на экране
получается никак не впечатляющая дрянь.
142
На этой дряни и работали, отыгрываясь главным образом на сюжете (лиге*
ратурно-театрального порядка;.
От понимания ускользало самое главное— то, что режиссер не снимает.пьесу,
разыгрываемую перед аппаратом, а строит картину из, специально снятых для
этой постройки кусков.
Этот-то основной принцип и был пойман н.ак:ан.ец
Кулешовым.
Он же и положил начало нашей кинематографии.
Но одного принципа, мало.
Нужно было добиться реального осуществления.
Какими же приемами работать?
Если дело в сочетании кусков снятой пленки, как же их сочетать?
Как подчинять снимаемый материал тем законам, которыми обусловлены
впечатления, получаемые зрителем с экрана?
Технические, формальные вопросы были настолько сухи и остры, что
мыслям о теме, о «содержании». экспериментальной работы не было места. Дело
как будто бы шло об упражнении с алфавитом. Нужно было пробовать
составлять ничего не обозначающие слога, а начинать с осмысленных слов было
невозможно.
И вот два талантливых человека почти одновременно, не только не
сговариваясь между собою, но даже враждуя и ссорясь, начали работать по двум
формальным линиям.
Я говорю о Кулешове и Вертове5.
Интересно, что семь-восемь лет тому назад эти два человека воспринимались
другими (да и сами себя считали) полной и непримиримой противоположностью
друг друга. Кулешов исторически отрицал, что говорил Вертов, а Вертов
отрицал все, что говорил Кулешов.
Кулешов все строил на максимальной организации внутри кадра, Вертов
все строил на отсутствии какой бы то ни было организации внутри кадра.
Вертов утверждал, что режиссер не должен даже минимально вмешиваться
в происходящее перед съемочным аппаратом (жизнь как рна есть).
Кулешов отказывался снимать кусок, который целиком, до мельчайшей
детали не построен режиссером.
Казалось бы, что обозначались два явно несовместимых самостоятельных
направления в кино.
Но это было неверно.
У истоков искусства все направления вливаются в главный поток.
Если мы внимательно проанализируем сущность работ упомянутых двух
мастеров, мы увидим, что они, в сущности, работали по одному направлению,
только в двух разделах.
В самом деле, теперь мы хорошо знаем, что кинематограф — искусство
пространственно-временное. Построение киновещи развивается как по категории
пространства, так и по категории времени.
Зрительные впечатления от разных кадров (пространственных форм) и их
сочетаний неразрывно связаны также с известным ритмическим построением,
зависящим от соединения кусков пленки различной длины.
Римт этот весьма сложен, и волнение, вызываемое им у зрителя, не менее
значительно и важно, чем впечатление от сочетания зрительных образов. Это
мы знаем теперь, а раньше этога- известно не было.
143
Существовали нелепейшие термины — «американский» (т. е. быстрый) и
«русский» (т. е. медленный) монтаж. Это было все, что знали о ритме.
Кулешов и Вертов (может быть, сами того как следует не сознавая) пошли
каждый по своему самостоятельному разделу. Экспериментальная работа
прежде всего требует четкости задач, а следовательно, и известного самоограничения.
И Кулешов и Вертов — оба честные и настоящие экспериментаторы — взялись
каждый за свою частность, и естественным психологически являлось их взим-
ное отрицание, так как фанатическая сосредоточенность и уверенность в
максимальном значении своей работы свойственны всегда каждому исследователю.
Объективное примирение и слияние остается или дилетанту-наблюдателю или
наследнику мастеру, который творчески соединит результаты предшествующих
работ. Кулешов, пришедший, кстати, от живописи, взялся за работу по линии
пространственной. Имейте в виду, что он первый начал работать над
построением картины из кусков. Он первый понял, что снимаемый кусок будет
впоследствии помещен в некий впечатляющий ряд кусков и поэтому он не может
рассматриваться в отдельности, а только при полном учете его места в будущем
сложном построении.
Отсюда что выходило? Такой несамостоятельный кусок не имеет ни начала,
ни конца (начало и конец были в старых картинах, где снимали целыми
сценами). Такой кусок должен иметь прежде всего ясные места для соединения с
предыдущим и последующим кусками.
Если в одном куске начинается какое-то движение, а в другом оно
продолжается, в третьем кончается (ну, скажем: 1) общий план — человек подходит
к столу, 2) крупно — протягивает руку и берет стакан, 3) средне — подносит
стакан ко рту и пьет), то для того, чтобы при последовательной склейке кусков
не произошло несовпадений форм движений, нужно, три раза снимая
аппаратом с разных точек, три раза точно повторить одни и те же движения.
Если при съемке второго куска стакан будет стоять не на том же точно
месте, если в первом куске актер возьмет стакан левой рукой, а во втором правой,
если, наконец, самая форма движения руки будет иной или количество шагов,
от которых зависит окончательное положение актера перед столом, будет не
точно повторено во всех этих случаях, при подгонке кусков друг к другу
окажутся скачки, несовпадения, уничтожающие чистоту, а подчас и самую
возможность композиционной работы с кусками.
Композиционная же работа (названная тогда же «монтажом») лежала в
основе. Именно для исследования ее возможностей и были направлены все усилия.
Отсюда вышло и все учение Кулешова об актере, которого он правильно, со
своей точки зрения, назвал натурщиком. Подчеркиваю еще раз, что его работа
над монтажом (композицией кусков) шла по линии пространственных
построений. Он открыл и изучал способы связи кусков только по пространственным
формальным признакам, проще говоря — по движению. Движение
осуществлялось главным образом актерами (натурщиками).
Для того чтобы работа исследования была возможно ясна и проста,
требовались ясность и простота от движения актера. Отсюда все учение Кулешова о
построении движения натурщика. Тонкость, а иногда и неповторимость внешних
выражений глубоких, сложных эмоций (переживание) было отнесено в графу
пороков.
Все, что не могло быть разложено, точно построено, заучено, а главное,
любое количество раз повторено,— не годилось для его работы. Первоначальные
144
эксперименты по изучению законов связи кусков по движению внутри кадра
требовали максимальной простоты, ясности, в конце концов схематичности этого
движения. Поэтому натурщик Кулешова был прост, ясен и схематичен, он был
лишь знаком для составления элементарного слога.
Так же, как и форма, должен был быть прост, ясен и схематичен ритм его
движения, потому что соединение двух кусков требовало от двух, в разное
время снятых движений совпадения не только формы, но и скорости.
Из этих предпосылок, необходимых для осуществления самой возможности
экспериментировать с соединением кусков по внешнему признаку движения,
и вытекал основной принцип, выдвинутый Кулешовым,— «точность во
времени и пространстве».
Теперь о Вертове. Вся работа его была направлена, как это теперь легко
можно видеть, на исследование ритмической стороны монтажа.
Так же, как и Кулешов, работая над пространственными построениями, он
тщательно очищал внешнюю форму движения от всех влияний и примесей,
могущих сделать ее менее четкой и ясной.
Вертов яростно отметал от себя все, что могло стеснить его, помешать ему
придать любому куску любую желаемую им длину. Если бы он, как Кулешов,
занимался организацией движения внутри кадра, ему пришлось бы поневоле
подчинять при монтаже длину куска его заранее организованному содержанию.
Длину кусков уж, так сказать, устанавливали бы (хотя бы приблизительно) при
написании сценария.
Но так как никаких настоящих экспериментов над сочетанием кусков
разной длины (ритм монтажа) никогда до Вертова не производилось, то он и не
мог заранее ничего рассчитывать.
Для его изысканий, для его проб различных ритмических построений из
кусков пленки требовался такой материал, который он мог бы кромсать
ножницами как угодно.
Таким наиболее удобным материалом являлась «жизнь как она есть» —
случайные куски, в которых ничего не построено, которые снимаются разными
людьми в разных местах. В большей своей части этот материал представлял
собою снятые, равномерные, повторные процессы: работа людей, работа
машины, движения масс и т. п.
Подобный кусок вы можете резать где угодно. Любой отрезок покажет вам
то же содержание, и длина этого отрезка изменяет только ритмическую
конструкцию монтируемой фильмы.
Не случайно, что первые удачные эксперименты Вертова были связаны
с монтажом машины. Машины своим неизменным, периодическим ходом давали
идеальный материал для ритмического монтажа. Совершенно нелепо считать
Вертова «документалистом». Документальность требует очень простого и очень
бережного отношения к снятому хроникальному материалу.
Э. Шуб6, часто склеивающая два хроникальных куска, сохраняя целиком
их часто случайную длину, является истинной работницей документальной
фильмы, показывающей зрителю снятые «факты» и позволяющей ему спокойно
разобраться в демонстрируемом материале.
Монтаж же Вертова в «Одиннадцатом»7, где жаркий юг скачет вперебивку
с обледенелым севером, июльские купальщики сталкиваются с белыми
медведями, вызывает физиологическую встряску, совершенно выключающую ясное
представление о медведе и о купальщиках.
145
Работами Кулешова и Вертова (их совместными
усилиями) была пробита первая брешь, открывшая
путь,к созданию киноязыка.
Первый установил исходные принципы примитивного, описательного
монтажа, в котором снимаемое явление может быть снято разными планами
(крупными, общими, средними) и вместе с тем все куски могут быть связаны в одно
непрерывное целое по их простейшему признаку — по форме движения.
Второй дал обширный материал примеров разнообразных ритмических
построений.
Соединяя случайные куски, не связанные между собой заранее построенным
движением, Вертов вместе с тем показал примеры такого монтажа, в котором
отдельные куски соединяются не по внешнему, а по их внутреннему,
смысловому содержанию.
Правда, это происходило у Вертова чисто стихийным порядком.
Единственной его твердой формальной установкой был ритм, освобожденный
от каких бы то ни было стесняющих условий иного порядка.
В пробитую брешь вошел человек, которому принадлежит часть начала
работы уже не над слогом, а над словообразованием — над киноязыком.
Этот человек — С. М. Эйзенштейн.
Его «Броненосец» (я сознательно начинаю с него, потому что «Стачка» была
лишь беспорядочным собранием предварительных опытов) был построен в
результате прямой преемственности работ двух предыдущих мастеров.
Пользуясь экспериментальным материалом, данным ими, Эйзенштейн мог
уже сознательно строить свою вещь, учитывая и пространственный и временной
ход.
Его львы в «Броненосце» являются неожиданным синтезом каменного
натурщика и оживляющего его неистового ритма смены коротких кусков.
Нельзя, конечно, говорить, что Эйзенштейн вышел из Кулешова и
Вертова — он просто и естественно пошел дальше их. Его монтаж — прежде всего
монтаж, идущий по смысловой линии.
Кулешовская пространственная связь между кусками превратилась в
частный случай простого описательного приема.
Случайные сочетания случайных кусков Вертов а стали организованным
столкновением тщательно построенных внутри кусков. Если нужно было хорошо
показать зрителю белого медведя, то он показывался внимательно
обработанным описательным приемом (возьмем хотя бы толпу, идущую на мол в
«Броненосце», или разведение моста в «Октябре»).
Если нужная встряска, то она будет создана хотя бы и из белого медведя на
льду и купающихся баб; такая встряска могла быть направлена как
эмоциональный удар на любое место картины, требующее встряски (таковые
вертящиеся амуры и вскакивающие львы при взрыве ворот в «Потемкине»).
Монтаж у Эйзенштейна стал обозначаться как язык, выявляющий не только
форму вещей, но и отвлеченные понятия.
А это имеет необычайно важное значение.
Результатом работ Эйзенштейна явилось определение монтажа как ряда
конфликтов-столкновений между отдельными кусками-кадрами. Из этих
конфликтов неизбежно диалектически рождаются у зрителя эмоциональные состояния
и интеллектуальные понятия. Дело идет уже не о последовательном сцеплении
параллельно (по одному направлению) идущих кадров, как это было, например,
146
у Кулешова, когда ряд смонтированных кусков давал лишь яркое, но в конце
концов натуралистическое описание какого-либо. зрительного явления
(например, наводнение в «По закону»8).
Эйзенштейн берет ряд кадров одного направления, например, негритянских
богов в «Октябре», ведя зрителя по линии смеха, и сталкивает их с
благоговейно-торжественными кадрами православного религиозного фетишизма,
результат — нужное понятие о. боге как о фетише.
В «Старом и новом» он ведет эпизод по линии нарастания сомнения и
недоверия в крестьянах, ждущих результатов от молебна о дожде, и вдруг без
всякого сюжетного перехода тех .же крестьян с теми же лицами переводит в
помещение, где испытывается молочный сепаратор. Понятно, в появлении дождя от
молебна зритель убежденно сомневается вместе с крестьянами. Неожиданное
столкновение с появившимся сепаратором делает инерцию этого сомнения
совершенно -ощутимой, и этим великолепно подготовлен новый эффект появления
сгустившегося молока, которым зритель при простой демонстрации сепаратора,
может быть, и не интересовался бы. Из этих примеров виден ход развития
монтажа, переходящего от описательного эффекта к эффекту выразительному.
Сам Эйзенштейн очень удачно указывает на параллель в развитии
иероглифического письма (у японцев). Первичные иероглифы, изображавшие просто
отдельные предметы, животных или части их, в дальнейшем развитии
комбинировались каждая в комбинации начертания, обозначающие понятия (например,
глаз и вода — плач и т. д.).
Понятие конфликта как сущности, обусловливающей создание киноязыка,
может быть, конечно, как угодно распространено вглубь и вширь. Монтаж,
соединяющий, сталкивающий отдельные куски, является лишь развитием
конфликтов, зафиксированных внутри кадра.
Конфликт света и формы (искусственное освещение снимаемого объекта),
пространственной формы и ее восприятия (ракурс), состояния человека и
жеста, его выражающего (игра актера), и т. д. уже внутри кадра начинают ряд
впечатляющих эмоционально-интеллектуальных столкновений. Конфликт
содержания отдельных кусков продолжает этот ряд, распространяющийся на
столкновение эпизодов, частей и даже, наконец, на столкновение названия картины
с ее комплексным содержанием.
Все открытия/сделанные Кулешовым и Вертовым в области формальных
приемов организации внутрикадрового материала и волнений, вызываемых
ритмическими монтажными построениями, нашли у Эйзенштейна дальнейшее
творческое развитие и породили зачатки выразительного киноязыка,
формирующего все более и более сложные построения, охватывающего все больший и больший
ряд до сих пор кинематографически невыразимых понятий.
Нужно сказать, что понятие конфликта опасно понимать буквально как
«столкновение».
Эйзенштейн, делая первые, опять-таки экспериментальные работы,
отличается обычной для исследователя ограниченной заостренностью. Как в свое
время Кулешов и Вертов, он сужает поле своего материала для того, чтобы
результаты были яснее. Прямое столкновение есть такой же частный случай,
как и последовательное сцепление, катящееся по одному направлению. Между
этими двумя полюсами лежат тысячи других, промежуточных форм конфликта,
двух или нескольких сходящихся направлений. Но, конечно, учиться их
сознательному использованию нужно на простейших случаях, что и делается.
147
Лишь впоследствии будут рождаться новые отчетливые приемы работы с этими
промежуточными случаями и наступит время использования ряда приемов уже
как самостоятельного материала (сочетание-столкновение приемов).
Теперь я хочу сказать об одном интересном признаке, свойственном до
сих пор работам всех трех мастеров и как будто бы на первый взгляд не
обязательном для некоторых из них. Я говорю о непременной реальности
снимаемого материала (нужно оговориться для точности, что в этом последующем
отрывке статьи я буду под словом «материал» подразумевать не куски снятой
пленки, а самый снимаемый объект).
Все — и Кулешов, и Вертов, и Эйзенштейн — требуют для себя
непременной реальности материала, аргументируя это по-разному.
Бутафория недопустима, грим невозможен и не нужен, искусственная
замена реальных, выработанных действительной жизнью признаков человека и
его поведения условной игрой театрального порядка яростно изгоняются.
Правда, есть у всех (даже у Вертова) отклонения. Кулешов слегка
гримирует, Эйзенштейн строит деревянные броненосцы в Сандуновских банях и
фанерные фермы, Вертов заставляет танцевать нанятых девиц, чтобы показать,
как разлагается буржуазия.
Но все это в порядке компромисса с принципиальной установкой.
Мне думается, что корни этой установки лежат вне кинематографа, тем
более что, например, вся линия, занятая Эйзенштейном, переносящая
воздействие на зрителя с непосредственного впечатления от простого показа снятого
материала на результат взаимодействия двух или нескольких показов, не
только не требует единообразия материала, но даже должна развиваться в
сторону поиска нового, разнообразного, хотя бы и условного матя^ зала.
В чем же дело?
Я полагаю, что в характерных особенностях эпохи, которую переживает
наша страна.
Западному режиссеру, работающему на стабилизованные потребности
своего зрителя, очень хорошо известно, как и что он должен делать.
Если ему нужен сосновый лес или ферма, он не задумываясь строит их
в ателье, потому что это дешевле и потому что он либо видел сосновый лес и
ферму, либо слышал или читал о них как раз то, что нужно будущему зрителю.
Культура его класса выработала и зафиксировала такой комплекс знаний,
что ему не нужно идти дальше библиотеки и коллекции фотографий.
Мы в ином положении. Революция перевернула все установки, все точки
зрения. Знания оказались неточными. Вещи, которые раньше видели и знали,
теперь оказываются другими. Надо снова их видеть, надо накоплять новые
внания. Ни режиссер, ни актер не могут имитировать того, чего не знают.
Реальности материала требует честность работника, не удовлетворяющегося
ограниченными операциями с пустым, ничем не насыщенным условным
материалом. Работа с условным материалом (имитацией) — дело будущего. Она
вполне возможна и не противоречит (как некоторые утверждают) природе
кинематографа. Хороший пример этому — картины Чаплина. Они, как бы в
прямой противоположности нашим картинам, построены только на условном
материале. Возьмем хотя бы знакомую нам «Парижанку»9. Декорации
сделаны подчеркнуто бутафорски. Часто это разрисованные задники.
Знаменитый подход поезда к станции, показанный только проползанием светлых пятен
от вагонных окон по стене,— замечательная замена реального поезда с pea ль-
148
ным стальным паровозом, который был бы просто немыслим в картине с такой
чистой установкой на условность материала.
Попробуйте себе представить в «Парижанке» такой настоящий поезд, и вы
почувствуете немыслимость его включения в эту картину. Единственный
реальный пейзаж, снятый в «Парижанке» по необходимости для встречи двух
автомобилей, выбран так, что на нем ничего не видно, кроме линии горизонта
и телеграфного столба.
Простота пейзажа — не эстетство, это просто выключение из него всех
деталей, могущих явной реальностью нарушить стиль работы.
В «3 о л о т о й горячке»10 вы встретите подчеркнуто искусственные
гримы и даже большую, в человеческий рост, курицу, сделанную из материала.
Интересно, что, работая исключительно с условным материалом (сюда же
относится и тонкая сложная «игра» специалистов актеров), Чаплин
органически отличается от нас и в монтаже.
Наши быстрые смены кусков, проистекающие отчасти от невозможности
заставить сыграть длинную, сложную сцену реальных (не актеров) людей,
Чаплину несвойственны. Чаплин не пришел к сложному монтажу
взаимодействующих, простых по содержанию кусков потому, что он работает с высокой
техникой мимики имитирующего актера, не требующей помощи света,
аппарата и кадромонтажа.
Его стиль — работа с чисто условным материалом, и он делает хорошие
картины.
Интересно, что Кулешов, делая «По закону» и работая с людьми
(американские золотоискатели), о которых он только читал или знакомился по
фотографиям, сейчас же неизбежно включился в условный материал (имитация),
и его картина получила все признаки чаплинских работ, вплоть до съемки
длинными актерскими сценами.
В конце концов и реальный и условный материалы могут служить для
построения картины, важен только сознательный учет их воздействия на
зрителя.
Большинство наших режиссеров этого совершенно не понимают. Они
мешают актеров с наклеенными бородами с настоящими крестьянами, пуская
гулять накрашенных людей под настоящими деревьями, сталкивают условные
жесты и мимику «играющих» статистов и героев с настоящими поездами и
машинами. Они не отдают себе отчета в том, что такие «столкновения», не
рассчитанные ни на какое определенное воздействие, а просто «допущенные»,
вызывают неизбежно в зрителе неорганизованное раздражение, физиологически
так же неприятное, как дурной запах или привкус.
Я хочу в заключение этой статьи указать на огромное поле для новой
работы, которая заключается в возможности использования приема как
материала.
Сознательное использование целых монтажных рядов, сделанных
различными приемами, может привести к значительным результатам.
Условная работа некоторых эпизодов, сводимая с отчетливой реалистиче-
кой трактовкой других, заставляет открыть новые возможности в построении
картины.
Интересно, что уже нащупываются пути к творческому использованию
приема временной деформации снимаемых процессов («лупа времени» — цайт-
лупа)п.
149
В «Потомке Чингис-хана» я пробовал монтировать угрожающий поворот
солдат с винтовками из кусков, снятых замедленной и ускоренной съемкой.
Теперь мне ясно, что за использованием этого приема большое будущее.
Монтажный описательный ряд, в котором отдельные кадры выделены не
только пространственным укрупнением, но и временным замедлением или
ускорением, приобретает особую силу.
Монтажное столкновение, в котором основные признаки кадров усилены
и выделены тем же ускорением или замедлением движения, дает новую
выразительную форму.
Еще раз повторяю, что кинематограф сейчас находится
в такой стадии развития, когда не может
существовать отдельных законченных направлений. Все
хорошие работы экспериментальны, и их
результаты беспрерывно, часто бессознательно
ассимилируются новыми и новыми работниками, совместно
создающими будущее искусство кино.
1929 г.
Время крупным планом
Когда-то, на заре кинематографии, американец Гриффит изобрел так
называемый «крупный план»1. Тот самый крупный план, без которого не обходится
сейчас ни одна картина. В чем был его смысл? Смысл его был в том,.что
аппарат, приближаясь к снимаемому актеру или вещи, позволял фиксировать
внимание зрителя на какой-либо подробности. Подробность эта могла бы
ускользнуть от внимания зрителя (то есть исчезнуть и из произведения искусства) в том
случае, если бы она была не специально показана, а просто включена в
действие «общего плана». Вновь открытый прием оказался органически
свойственным кинематографу. Он видоизменил его язык и придал кинокартине особый,
четкий и сильно впечатляющий ритм, создаваемый частой сменой отдельных
коротких кусков. Умение владеть этим ритмом, умение доводить его до
музыкальной выразительности стало за последнее время признаком истинного
мастерства кинорежиссера (не могу удержаться от попутного замечания, что ритм
этот совершенно утерян в современных тонфильмах2). Во время работы над
одной из последних картин3 мне пришла мысль, что фиксирование внимания
зрителя на выделенной детали можно производить не только в области
пространственных построений, но также в области построений временных. Давно
изобретенная так называемая «цайт-лупа» натолкнула меня на практическое
осуществление задуманного приема.
Как-то летом тридцатого года я был в Москве на заседании во Дворце труда.
Работа кончилась. На улице шел сильный дождь, и нужно было переждать его.
Сидя в комнате я смотрел на окно, открытое в сад, и наблюдал, как
великолепные мощные струи воды, ровные и спокойные, разбивались о каменный
подоконник. Вверх, невысоко подскакивали круглые капли, то крупные, блестящие
и переливающиеся, то мелкие, исчезающие в воздухе. Они двигались, подлетая
и падая по разнообразным кривым в сложном, но ясном ритме. Иногда
несколько струй дождя, вероятно сбитые ветром, соединялись в одну. Вода, ударяясь
о камень, разбрасывалась прозрачным веером, падала, и снова круглые
блестящие капли подскакивали, пересекаясь с мелкими разлетающимися брызгами.
Замечательный дождь! Я не только смотрел на него, но со всей полнотой
ощущал его свежесть, влажность, его великолепное изобилие. Ячувствовал
себя погруженным в него. Он лился на мою голову, на мои плечи. Земля
вероятно перестала впитывать его, переполненная до краев. Дождь кончился, как
это часто бывает летом, почти внезапно, роняя свои последние капли уже под
151
солнцем. Я вышел из здания и, проходя по саду, остановился посмотреть на
человека, работавшего косой. Он был обнажен до пояса. Мускулы его спины
сокращались и растягивались при равномерных взмахах. Мокрое лезвие косы,
взлетая вверх, попадало в солнечный свет и на мгновение вспыхивало острым
ослепительным пламенем. Я подошел ближе. Коса погружалась в высокую
влажную траву, и она, подрезанная, медленно ложилась на землю
непередаваемым гибким движением. Светящиеся на сквозном солнце капли воды дрожали
на кончиках острых, изогнутых листьев, скатывались и падали. Человек косил,
я стоял и смотрел. И снова меня охватило необычайное волнующее ощущение
великолепия зрелища. Я никогда не видел такой замечательной мокрой травы!
Я никогда не видел, как скатываются капли по желобкам ее узких листьев!
Я в первый раз увидел, как падают ее стебли, срезанные косой! И как всегда,
по моей постоянной привычке (вероятно, всем кинорежиссерам это знакомо)
я попытался представить себе все это на экране.
Я вспомнил десятки раз снятую и показанную во многих картинах косьбу
и остро почувствовал все убожество этих дрянных фотографий в сравнении
с изумительной насыщенностью и богатством увиденного мною. Стоит только
представить себе плоского, серого человека, махающего длинной палкой всегда
в несколько убыстренном темпе, представить себе траву, снятую сверху,
похожую на сухое путаное мочало, как становится ясным, насколько все это
бедно и примитивно. Я вспоминаю даже великолепно технически сделанную
картину Эйзенштейна «Старое и новое», где показано сложно монтажно
разработанное состязание в косьбе. Я ничего не помню оттуда, кроме людей, быстро
размахивающих плохо различимыми косами.
Как схватить, как передать то полное и глубокое ощущение действительных
процессов, которое дважды поразило меня сегодня? Я мучился по дороге домой,
бросаясь мыслью из стороны в сторону, схватывая и отбрасывая, пробуя и
разочаровываясь. И вдруг наконец нашел! Я понял, что всматривающийся,
изучающий, впитывающий в себя человек прежде всего в своем восприятии
изменяет действительные пространственные и временные соотношения: он
приближает к себе далекое и задерживает быстрое. Я
могу, внимательно всматриваясь в далекий предмет, видеть его лучше, чем
близкий. Так пришел в кино крупный план, отбрасывающий лишнее и
сосредоточивающий внимание на нужном. Так же можно поступить и со
временем. Сосредоточиваясь на детали процесса, я относительно замедляю ее
скорость в своем восприятии. Вспомните многочисленные описания ощущения
людей, внезапно столкнувшихся с быстро приближающейся к ним опасностью.
Налетающий поезд кажется в последний момент на мгновение застывшим или
необычайно медленно двигающимся. «Минута, тянущаяся часами» — всем
знакомое выражение. Когда режиссер снимает сцену, он меняет положение
аппарата, то приближая, то отдаляя его от актера, в зависимости от того, на чем
он сосредоточивает внимание зрителя — на общем ли движении, или на
отдельном лице. Так овладевает он пространственным построением сцены.
Почему же не делать того же и со временем? Почему не выдвинуть на мгновение
какую-либо деталь движения, замедлив ее на экране и сделав ее, таким
образом, особенно выпуклой и невиданно ясной? Разве дождь, разбивающийся
о камень подоконника, и трава, падающая на землю, не были мною задержаны
обостренным вниманием? Разве не благодаря этому заостренному вниманию
я увидел гораздо больше, чем видел всегда?
152
Я попробовал мысленно снять и смонтировать косьбу травы примерно так:
1. Стоит человек, обнаженный по пояс. В его руках коса. Пауза. Он
взмахивает косой (все движение идет быстро, то есть снято с нормальной быстротой).
2. Взмах косы продолжается. Спина и плечи человека. Медленно
переливаются, напрягаясь, мускулы. (Снято «цайт-лупой» очень быстро, отчего
движение на экране получается чрезвычайно медленным.)
3. Лезвие косы на кульминационной точке медлительно переворачивается.
Солнечный луч загорается и тухнет. (Съемка «цайт-лупой».)
4. Летит вниз лезвие (нормальная скорость).
5. Весь человек с нормальной быстротой провел косой по траве. Взмахнул—
провел. Взмахнул — провел. Взмахнул... И в момент, когда лезвие косы
коснулось травы...
6. Медлительно («цайт-лупа») подрезанная трава качается, падает,
изгибаясь и роняя блестящие капли.
7. Медленно разжимаются мускулы спины и уходит плечо.
8. Снова медленно падает, ложится трава.
9. Быстро уходит коса с земли.
10. Так же быстро взмахивает косой человек. Косит и взмахивает.
11. Нормально быстро косят много людей, одновременно взмахивая косами.
12. В затемнение уходит медленно поднимающий косу человек.
Это очень приблизительный эскиз. После фактической съемки я монтировал
иначе — много сложнее, работая с кусками, снятыми с очень разнообразной
скоростью. Внутри отдельных планов были новые, более тонкие градации
скоростей. Рассматривая уже снятое на экране, я понял, что мысль была
правильная. Новый, своеобразный ритм, получающийся из комбинации съемок
с различными скоростями, давал углубленное, я бы сказал чрезвычайно
обогащенное ощущение показанного на экране. Случайные зрители, незнакомые
с сущностью приема, признавались, что получали почти физическое ощущение
влажности, веса и силы.
Я пробовал снять и смонтировать так же и дождь. Я снимал общие и
крупные планы с различными скоростями «цайт-лупой». Медлительные удары
первых тяжелых капель о сухую пыль. Они падают, раскатываясь отдельными
темными шариками. Падение капли на поверхность воды: быстрый удар,
вскакивает прозрачный столбик, медленно уменьшается и расходится медленными
же кругами. Нарастание скорости идет параллельно с усилением дождя и с
расширением плана. Большой широкий охват частой сетки сильного дождя, и
вдруг резко крупный план струй, разбивающихся о каменную балюстраду.
Подскакивают блестящие капли; их движение чрезвычайно медленно — можно
видеть всю сложную, удивительную игру их непрекращающихся полетов.
Снова ускоряется движение, но уже уменьшается дождь. Последними идут
планы мокрой травы под солнцем. Ее колеблет ветер, она медлительно
качается, капли отделяются и падают вниз. Это движение, снятое с большой
скоростью «цайт-лупой», показало мне впервые, что можно снять и показать
движение травы от ветра. В прежних картинах я видел только с у-
хую, истерически треплющуюся пеньку.
Я глубоко убежден в нужности и действенности нового приема.
Чрезвычайно важно понять со всей глубиной сущность съемки «цайт-лупой» и
пользоваться ею не как трюком, а как возможностью сознательно, в нужных
местах, в любой степени замедлять или ускорять движение. Нужно
153
уметь использовать все возможные скорости, от самой большой, дающей
чрезвычайную медленность движения, и до самой малой, дающей на экране
невероятную быстроту. Иногда очень небольшое замедление съемкой
простой походки человека придает ей тяжесть и
значительность, которую не сыграешь. Я пробовал монтировать взрыв
снаряда, склеивая его из кусков различной скорости. Медленное начало;
очень быстрый взлет, слегка замедленный рост; медленно опускается земля, и
вдруг на зрителя летят куски земли очень быстро; на мгновение резкой сменой
летят они медленно, тяжело и страшно, потом так же внезапно летят они снова
быстро. Получилось здорово.
Съемка «цайт-лупой» практикуется уже давно. Волнующее своеобразие
замедленного на экране движения, возможность увидеть обычно неощутимые,
невидимые, но вместе с тем реально существующие формы настолько сильно впечатляют
зрителя, что куски, снятые «цайт-лупой», часто вставлялись режиссерами
в картины. (Кстати сказать, обаяние талантливо «схваченного» движения в
рисунке часто зависит от того же эффекта «цайт-лупы», только ее роль здесь
играет глаз художника.) Но все режиссеры, пользовавшиеся замедлением
движения, не делали одного, с моей точки зрения, самого важного. Они не включали
замедленного движения в монтаж — в общий ритмический ход картины. Если
снималась «цайт-лупой» скачка лошадей, то она снималась целиком и так же
целиком вставлялась в картину, как целый «вводный» эпизод. Я слышал, что
Жан Эпштейн снял «цайт-лупой» целую картину (кажется, «Падение дома Эшер»
по рассказу Э. По), используя эффект замедленного движения для придания
мистической окраски сценам. Я говорю не о том. Я говорю о различной степени
замедления скорости движения, включенной в построение монтажной фразы.
Короткий кусок, снятый «цайт-лупой», может помещаться между двумя
длинными нормальными кусками, сосредоточивая на момент в нужном месте
внимание зрителя. «Цайт-лупа» в монтаже не искажает действительного процесса.
Она показывает его углубленно и точно, сознательно руководя вниманием
зрителя. Это всегда характерно для кинематографа. Я попробовал смонтировать
удар кулака по столу так: кулак быстро летит к столу, и в тот момент, когда
он касается его, следующий кусок показывает рядом стоящий стакан, который
медленно подпрыгивает, качается и падает. Из этого сочетания быстрого и
медленного кусков получился почти слышимый, чрезвычайно остро ощущаемый
тяжелый удар.
Длительные процессы, показанные на экране монтажом кусков, снятых
с различной скоростью, получают своеобразный ритм, какое-то особое дыхание.
Они делаются живыми, потому что им придается живое биение оценивающей
и усваивающей мысли. Они не скользят, как пейзаж в окне вагона под
равнодушным взглядом привыкшего к этой дороге пассажира. Они развертываются
и растут, как рассказ талантливого наблюдателя, увидевшего вещь или
процесс так ясно, как никто до него еще его не видел. Я уверен, что прием этот можно
распространить на съемку человека — его мимики, его жестикуляции. Я уже
знаю по опыту, какой драгоценный материал представляет собой улыбка
человека, снятая «цайт-лупой». Я вырезывал из такого куска замечательные паузы,
где смеялись только глаза, а губы еще не начинали улыбаться. У «крупного
плана времени» огромная будущность. Особенно в тонфильме, где ритм,
уточненный и усложненный сочетанием со звуком, особенно важен.
1932 г.
Роль звукового кино
Творческая работа над созданием звуковых кинокартин началась
значительно позднее, чем соответствующие технические изыскания, и развивается в силу
многих условий медленнее. Ряд вопросов, теоретически более или менее ясных,
либо не получил совсем практического разрешения, либо находится еще в
первоначальном, зачаточном состоянии. Применение звука должно существенно
изменить немую кинокартину. Звук отнюдь не является простым механическим
придатком к зрительному изображению, лишь увеличивающим его
натуральность. Роль звука в кинокартине значительно перерастает примитивные
установки грубого натурализма. Он в огромной степени увеличивает смысловую
нагрузку кинокартины и позволяет, в сравнении с немой картиной, при затрате
одного и того же времени глубже и шире передать зрителю мысль художника.
Отсюда огромное общественно-политическое значение творческого включения
звука в дело создания кинокартин всех видов.
Звук, введенный в кинокартину, прежде всего приносит с собой живое
полноценное слово (немое кино пользовалось обедненным словом — надписью).
Голосовая интонация и речевое ударение, выделяющие то или иное в делой
фразе, углубляют и обогащают смысловое содержание слова. Вместе с тем
появляется и более свободное, более легкое усвоение зрителем передаваемого
ему зрелища, а следовательно, и большая сила воздействия на него этого
зрелища. Возьмем простейший схематический пример учебной ленты, не ставящей
себе сложных художественных задач. Предположим, демонстрируется трудная
хирургическая операция, требующая подробного объяснения. Звуковое кино
позволяет попутно с детальным зрительным показом операции при помощи
крупных планов вести одновременно словесное разъяснение важнейших
манипуляций.
В то время как в действительности занятый операцией хирург не может
давать окружающим подробных разъяснений, в звуковой картине, где речь
может быть снята отдельно, он может соединить ясную картину своей работы
с обдуманным и проверенным словом. Введение звука (прежде всего живого
слова) в научно-учебную картину безусловно значительно повышает ее
культурно-просветительную ценность. Звуковой учебной картине предстоит
сыграть важнейшую роль в деле воспитания широчайших масс. С ее развитием
дело заочного обучения может быть поднято на новую, невиданную высоту.
455
Так же обстоит дело и с так называемой хроникой, то есть с такими картинами,
которые фиксируют интереснейшие и важнейшие события текущего момента",
как это делает иллюстрированный журнал или газета. Пути развития хроники
с появлением звука лежат также по линии использования живого слова для
расширения и углубления смыслового содержания ленты. Особенно большое
значение приобретает звуковая хроника при проведении ударных
политических кампаний; широкая агитационная демонстрация показательных
достижений и характерных недостатков работы при умелом использовании слова
может достигнуть яркости и силы воздействия, немому кинематографу
совершенно недоступных. Нет никакого сомнения, что ближайшие этапы развития
звуковой кинохроники будут стоять в тесной связи с развитием
радиопередачи и телевидения.
Иначе и гораздо сложнее обстоит дело с так называемой «художественно-
игровой» картиной. Введение звука в картину вступает в известные
противоречия с целым рядом специфических приемов, уже выработанных и
канонизированных искусством немого кино. Главным приемом, обусловливающим силу
специфического воздействия кинокартины на зрителя, явилось искусство
ритмической и смысловой композиции отдельно снятых, различных по содержанию
и форме кусков — так называемый киномонтаж. Искусство киномонтажа,
доведенное отдельными мастерами до высокой степени виртуозности, позволяло
путем быстрой, творчески осмысленной смены сравнительно коротких кусков
насыщать картину исключительным богатством зрительных образов, оставляя
в этом отношении далеко за собой театральное зрелище. Что же принес с собой
звук? Прежде всего нужно отметить, что наш слух, воспринимая смену
различных звуков, гораздо менее гибок и подвижен, чем глаз, следующий за
сменой зрительных образов: ритм хода изменяющегося звука должен быть
значительно медленнее ритма смены зрительных изображений. Отсюда явствует, что
в построении звукового кино нельзя идти путем механического присоединения
соответствующего звукового сопровождения к каждому зрительному куску.
Отказаться же от приемов монтажа немой картины в смысле быстрого
чередования зрительных образов — значит превратить ритмическую смену планов
в длительные сцены с одной точки, где действие развивается не монтажом,
а главным образом за счет словесного диалога театрального характера. Это
путь неименынего сопротивления, приводящий к театрализации кино в
дурном смысле слова, путь несомненного регресса, отнимающий у кинозрелища
завоеванные им достоинства более широкого и глубокого охвата
действительности и превращающий его в фотографический суррогат театра. В обоих
указанных случаях предполагается непременная натуралистическая связь между
изображением и звуком. Звук в этой концепции является лишь придатком к
изображению и ничем более.
Подлинное развитие звукового кино возможно лишь на основе
самостоятельности ритмических ходов звука и изображения, связанных между собой
тем смысловым результатом, который получается из их взаимодействия. Слова
действующего лица, которое мы увидели лишь в начале его речи, могут
продолжаться, в то время как на экране идет смена новых зрительных образов,
имеющих уже новую, непрямую связь с говорящим человеком. Любой звук, речь,
шум или музыка может идти длительным, сплошным куском, в то время как
зрительные образы сменяются в более быстром монтаже коротких кусков.
В свою очередь, зрительный кусок может быть длительным, в то время как зву-
156
ковые куски, соединенные с ним, могут меняться в своем ритме. Шум улицы
или журчание воды можно соединить с изображением человека, погибающего
в пустыне, если режиссеру это нужно для передачи состояния этого человека.
Единство звука и изображения осуществляется через смысловое их
взаимодействие вне примитивного натуралистического единства. Само собой
разумеется, не исключена возможность показа на экране предмета или человека в
сопровождении точно свойственного ему в реальности звука. Но это лишь
частный случай в общем ходе свободной композиции звука и изображения.
Развиваясь по этому пути, звуковое кино действительно может
рассматриваться как высший этап развития театрального зрелища. Обладая недоступным
театру охватом широчайших масс зрителей, оно освобождается вместе с тем от
характерного для театра условного сосредоточения действия только на диалоге
действующих лиц, равно как и от неподвижных, редко сменяющихся
декораций, превращающих мир явлений, окружающих человека, в условный, часто
ненужный фон. Интересно и важно отметить, что развитие кино на Западе в
условиях капиталистического строя пошло как раз по линии наименьшего
сопротивления, да и не могло пойти иначе. Будучи еще новинкой, звуковое кино
вызывало любопытство публики самым фактом своего существования.
Достаточно было выпустить картину любого, самого примитивного вида, и
стихийный наплыв любопытных зрителей был обеспечен. Для того чтобы придать
элементарный интерес зрелищу, легче всего было использовать испытанные в
театре шаблонные аттракционы — мелодичную песенку, декламацию известного
актера и т. д.; из таких аттракционов легко слепить простенький сюжетец, и
получение дохода с проката фильма обеспечено.
Неизбежная при капитализме конкуренция молниеносно нивелировала
художественные требования, предъявляемые к творящим работникам их
хозяевами, и превращала работу над произведением искусства в погоню за наиболее
дешевым и быстрым изготовлением заданных шаблонов.
Капиталистическое кино не может ставить себе задачу повышения
художественного качества картины, если это не связано с непосредственным увеличением
дохода. Более того, единичное появление художественного произведения
высокого уровня ставит под удар налаженный сбыт низкопробной халтуры.
Художники Запада оказались под тяжелейшим, неодолимым прессом воли
капиталиста-хозяина. Звуковые картины превратились в оперетки, ревю, сладкие
мелодрамы с пением, сделанные сугубо театральными приемами (так как иные
приемы требовали бы большой, невыгодной экспериментальной работы). Сила
воздействия немой картины была утеряна. Налицо явилось катастрофическое
падение киноискусства. Сейчас на Западе раздаются голоса, утверждающие
ненужность звукового кино, высказывающиеся за возврат к немой картине.
Смысл этого утверждения оправдан, конечно, только в условиях
капиталистических стран.
Советское звуковое кино ставит перед собой прежде всего задачу роста
художественно-идеологического качества картины. Оно должно будет развиваться
по пути свободной композиции зрительного образа и звука, по пути, ставящему
звуковую картину на высшую ступень сравнительно с немой, по пути, на
котором наследие театра и немого -кино не уничтожается и не связывает, а
диалектически переходит в новые приемы нового мощного искусства, являющегося частью
в многообразной творческой действительности пролетариата...
1933 г.
А синхронность
как принцип
звукового кино
Техническое изобретение звука в кино давно завершено, и в области
звукозаписи проделано много блестящих экспериментов.
Эту техническую сторону производства звуковых фильмов можно признать
относительно совершенной, во всяком случае в Америке. Но между
техническими успехами звука и его успехами в качестве средства выражения имеется
огромный разрыв. Выразительные достижения звука все еще значительно ниже
его технических возможностей. Я утверждаю, что многие теоретические
вопросы, ответы на которые нам ясны, на практике все еще решаются только
самым примитивным образом. Теоретически мы в Советском Союзе опередили
Западную Европу и США.
Наш первый вопрос — какое новое содержание можно придать
кинематографу с помощью звука? Глубоко неверным было бы считать, что звук явяется
только механическим средством, позволяющим усилить естественность образа.
.Вот примеры таких примитивнейших звуковых эффектов: в немом
кинематографе мы могли показать автомобиль, в звуковом можно дабавить к его изображению
запись свойственных ему звуков, или в немом кино слова говорящего человека
ассоциировались с надписью, теперь же мы слышим его голос. Та роль, которую
звук должен играть в кино, гораздо значительнее рабского подражания
натурализму; главное назначение звука — усилить потенциальную
выразительность содержания ф ил ь м а.
Сравнивая звуковой фильм с немым, мы видим, что звуковой позволяет
глубже раскрыть зрит.елю содержание фильма при относительно той же затрате
времени. Ясно, что такое, более глубокое проникновение в содержание фильма
нельзя дать зрителю, просто добавив натуралистический звук в виде
аккомпанемента; нужно сделать нечто большее. Это большее заключается в
организации изобразительного и звукового ряда по двум самостоятельным ритмическим
линиям. Их связь между собой должна быть результатом не натуралистического
подражания, а взаимосвязи действия. Только этим методом мы сможем найти
новуюj более богатую форму, чем та, которая была доступна немому
кинематографу. Единство звука и изображения достигается смысловой взаимосвязью, в
результате которой, как мы сейчас покажем, получается более точное
изображение природы, чем при ее поверхностном копировании. Монтируя различные
изображения в немом кинематографе, мы стали добиваться единства и свободы,
158
которые в природе реализуются только путем ее абстрагирования человеческим
разумом. Теперь в звуковом кино мы можем, в пределах той же целлулоидной лен-.
ты не только монтировать различные моменты в пространстве, но и вводить по
ассоциации с изображением отобранные звуки, раскрывающие и усиливающие
характеристики того и другого ряда. Там, где в немом кино мы имели
столкновение только двух противоположных элементов, теперь у нас могут
сталкиваться четыре.
Примитивным примером использования звука для раскрытия внутреннего
содержания может послужить изображение горожанина, оказавшегося в
глубине пустыни. В немом кинематографе нам пришлось бы вставить кадр города;
теперь, в звуковом, мы можем ввести в пустыню звуки, ассоциирующиеся с
городом, и вмонтировать их вместо естественных звуков пустыни. Такое
использование звука уже знакомо режиссерам Западной Европы, но не все признают,
что основным элементом звукового кино является именно асинхронность, а не
синхронность; и более того — что синхронная звуковая запись практически
лишь в виде исключения совпадает с естественным восприятием человека. Это
не теоретический домысел, как может показаться на первый взгляд, а вывод,
сделанный путем наблюдения.
Например, в реальной жизни вы, читатель, можете внезапно услышать
крик о помощи. Вы видите только окно; затем вы можете выглянуть и сначала
не увидеть ничего, кроме уличного движения. Но вы не слышите
звуков, естественных для этих автомобилей и
автобусов: вместо них вам все еще слышится крик, испугавший вас вначале.
Наконец, вы глазами находите то место, откуда донесся крик; там собралась
толпа и кто-то поднимает раненого. Он теперь молчит. И тут, глядя
на него, вы начинаете воспринимать грохот уличного движения, и среди этого
шума постепенно растет пронзительный сигнал автомобиля «скорой помощи».
При этом ваше внимание привлекает одежда пострадавшего: на нем костюм,
похожий на тот, что носит ваш брат, и, как вы теперь вспоминаете, он должен был
зайти к вам в два часа. В огромном напряжении, в тревоге и сомнении — не
может ли этот, по-видимому, умирающий человек действительно быть вашим
братом — вы перестаете слышать всякое зув у ч а н и е, и для
вашего восприятия наступает полная тишина. Может быть, уже два часа? Вы
смотрите на стенные часы и одновременно слышите их тикание. Это первый
синхронизированный момент изображения и
мотивированного им звука с тех пор, как вы услышали крик.
Всегда существуют два ритма: ритмический ход объективного мира и темп
и ритм, в котором человек наблюдает этот мир. Мир — это цельный ритм, тогда
как человек получает только частичные впечатления об этом мире посредством
глаз, ушей и в меньшей степени — кожным покровом. Темп впечатлений
человека меняется в зависимости от возбуждения или успокоения его эмоций, тогда
как ритм воспринимаемого им объективного мира сохраняет свой неизменный
темп.
Ход человеческих восприятий подобен монтажу, в построении которого мож
но делать всевозможные вариации в скорости как со звуком, так и с
изображением. Поэтому звуковой фильм может решаться одновременно в соответствии
с объективным миром и с человеческим восприятием этого мира. Изображение
может сохранять темп действительности, а звуковой ряд следовать
переменному ритму хода восприятий человека, или же наоборот.
159
Теперь рассмотрим вопрос прямого диалога в звуковом фильме. Во всех
виденных мною фильмах разговаривающие люди были показаны одним из двух
способов. Либо режиссер мыслил всецело языком театра и снял всю группу
собеседников в одном кадре с движения — тем самым он использовал экран в
качестве примитивного средства фиксации естественного явления, как это
практиковалось в ранних немых фильмах до открытия технических возможностей
кинематографа, сделавших его искусством; или же, наоборот, режиссер пытался
использовать лучший опыт немого кино — искусство монтажа, строя диалог
из отдельных кадров, позволяющих ему свободно монтировать. Но и в этом,
последнем случае достигнутый эффект был так же ограничен, как и при кадре,
снятом движущимся аппаратом, потому что режиссер просто давал серию
крупных планов говорящего человека, позволяя ему закончить данную фразу на
его изображении, и вслед за этим ставил план одного из отвечающих. Действуя
таким образом, режиссер превращал монтажное построение в бесстрастную
передачу, переключая внимание зрителя от одного собеседника к другому без
сколько-нибудь достаточного эмоционального или смыслового оправдания.
Теперь в звуковом кино посредством монтажа сцена, в которой
разговаривают трое или больше, может решаться множеством различных способов.
Например, можно фиксировать интерес зрителя на речи первого собеседника и,
владея зрительским вниманием, продолжать его крупный план, в то время как
он закончил свою речь и голос отвечающего ему второго собеседника слышен
еще до перехода на его изображение. Таким образом, мы видим второго
собеседника лишь после того, как услышали его голос. Здесь звук опережает
изображение.
Или, наоборот, можно построить диалог так: когда речь кончается
вопросом и зрителя интересует ответ, сразу показать ему человека, к которому
обратились, и лишь на его изображении будет слышен ответ. Или же зритель,
уловив смысл речи, может заинтересоваться ее воздействием. В этом
случае, пока речь еще продолжается, зрителю можно показать одного из
слушающих или даже подряд всех присутствующих, чтобы он увидел их реакции.
Эти примеры ясно показывают, каким образом режиссер посредством
монтажа может эмоционально или интеллектуально воздействовать на зрителей,
чтобы они ощущали особый ритм, соответствующий эпизоду, идущему на экране.
Но такое взаимоотношение между монтирующим режиссером и его
будущими зрителями может быть установлено, только если режиссер способен
проникнуть в психологию своей аудитории и предугадать ее отношение к
содержанию данного материала.
Например, если в диалоге захватывает внимание зрителя первый
собеседник, то второму придется сказать немало слов, прежде чем они настолько
подействуют на сознание зрителя, что он перебросит все свое внимание на него.
И, наоборот, если в данный момент вмешательство второго собеседника более
существенно для сцены, чем впечатление, производимое первым, то все
внимание зрителя будет немедленно приковано ко второму. Я уверен даже, что можно
построить драматический эпизод с записанной на пленку речью и
изображением неговорящего слушателя, где реакция последнего — самая значительная
эмоция в сцене. Разве режиссер, обладающий малейшим воображением, при
решении сцены в суде, когда человека приговаривают к смерти, стал бы
снимать судью, зачитывающего приговор? Разве он не предпочел бы зрительно
зафиксировать непосредственную реакцию осужденного?
160
В финальных сценах моего первого звукового фильма, «Дезертир», герой1
рассказывает аудитории о том, какие силы привели его в Советский Союз. На
протяжении всего фильма дурная сторона его натуры пыталась подавить
желание освободиться от этих сил, поэтому момент, когда ему наконец удалось
одержать победу над ними и он хочет рассказать о своей трусости товарищам по
работе, является кульминацией его эмоциональной жизни. Так как герой--не
умеет говорить по-русски, его приходится переводить, и в начале сцены в
довольно продолжительных кадрах мы видим и слышим сперва выступающего
героя, потом его переводчика.
По мере развития эпизода кадры переводчика становятся короче и
большинство его слов звучит на изображении героя в соответствии с тем, что интерес
зрителей автоматически сосредоточивается на психологическом состоянии
последнего. Мы можем считать, что композиция звука в этом примере совпадает
с объективным ритмом и зависит от фактически существующего временнбго
взаимоотношения между говорящими. Более длинные или короткие паузы
между голосами обусловлены исключительно готовностью или нерешительностью
следующего оратора сказать то, что он хочет. Но изображение вводит новый
элемент — субъективную эмоцию зрителя и ее протяженность. Будет ли
изображение на экране длиннее или короче, зависит не от говорящего, а от желания
зрителя смотреть на него в течение более длинного или короткого времени.
Здесь звук носит объективный характер, тогда как изображение обусловлено
субъективной оценкой.
Может быть и наоборот — субъективный звук и объективное изображение.
В качестве примера такого сочетания я укажу на эпизод демонстрации в
последней части «Дезертира»; здесь у меня звучит только музыка. Я утверждаю,
что музыка в звуковом фильме никогда не должна быть
аккомпанементом. Она должна держаться своей собственной линии.
В этой части «Дезертира» сначала показаны широкие улицы
западноевропейской столицы; учтивые полицейские направляют движение роскошных авто;
все благопристойно; размеренно течет устоявшаяся жизнь. Характеристика
этого вступления — покой до момента, когда его нарушает приближение
демонстрации рабочих с высоко поднятым флагом. Улицы быстро пустеют
перед демонстрацией, ее ряды ширятся с каждым мгновением. Дух демонстрантов
крепок, и по мере продвижения вперед растут их надежды. Наше внимание
переключается на приготовления полицейских: они съезжаются на лошадях и
автомобилях, их вмешательство становится неминуемым. Вот грызущие удила
кони ринулись на демонстрантов, чтобы копытами сломить их ряды.
Демонстранты сопротивляются изо всех сил, и борьба становится особенно ожесточенной
вокруг рабочего знамени. Это — бой, в котором вся физическая сила на стороне
полиции; она уже берет верх, и кажется, что дух демонстрантов вот-вот будет
сломлен, затем ход событий меняется, и демонстранты вновь на гребне волны...
В конце концов их знамя втоптано в уличную пыль и истерзано в клочья под
копытами коней, полицейские арестовывают рабочих; все, кажется, потеряно,
раздавлено; ожесточение битвы замирает; на фоне отчаяния побежденных
рабочих мы возвращаемся к холодной благопристойности начальной сцены...
Вдруг неожиданно перед глазами полицейского офицера вновь взметнулось
рабочее знамя, и в глубине улицы толпа снова строится в шеренги.
Ход изображения извилист и делает повороты вместе с взлетом или
падением эмоциональности действия. Если бы мы использовали музыку как а к-
6 В. Пудовкин, т. 1
161
ком пане мент изображения, следовало бы начать со спокойной
мелодии, соответствующей размеренному уличному движению; с появлением
демонстрации музыка переходила бы в марш; новый переход пришлось бы
сделать на приготовлениях полиции, создающих опасность для рабочих,— здесь
в музыке звучала бы угроза; а когда между рабочими и полицией завязывается
бой — трагический момент для демонстрантов,— музыка следовала бы
настроению изобразительного ряда, падая до темы отчаяния. Только при воскрешении
знамени в музыке могла бы зазвучать надежда.
При таком использовании музыки она освещала бы лишь внешнее
содержание сцены, при этом выпадали бы все полутона ее смысла; поэтому я предложил
композитору Шапорину2 создать музыку, в которой доминирующей
эмоциональной темой на всем протяжении были бы мужество и уверенность
в конечной победе. От начала до конца музыка должна развиваться в
постепенном нарастании силы. Эту прямую, неразрывную тему я связал со сложными
поворотами изображения. Чередование зрительных образов дает нам сначала
чувство надежды, сменяющееся сознанием надвигающейся опасности, затем рост
духа сопротивления рабочих, сперва успешного, потом сломленного, и, наконец,
перед нами мобилизация всех внутренних сил, снова сплоченность и подъем
знамени. Изображение идет по кривой, как на температурном листке больного,
тогда как музыка в прямом контрасте с изображением держится твердой и
устойчивой линии. Когда сцена начинается мирно, музыка воинственна; когда
появляется демонстрация, музыка вводит зрителей прямо в ее ряды. Во время
избиения демонстрантов полицией зрители ощущают воодушевление рабочих;
захваченные их чувствами, они сами эмоционально восприимчивы к пинкам и
ударам полицейских. По мере того как рабочие отступают перед полицией, в
музыке растет утверждение победы; когда рабочие избиты и разогнаны, музыка
становится еще более мощной и в ней звучит тот же победный восторг; а когда
в конце эпизода рабочие вновь поднимают знамя, музыка достигает
кульминации и только теперь, в финале, ее дух наконец.совпадает с содержанием
изображения.
Какую роль здесь играет музыка? Так как изображение дает объективное
восприятие событий, музыка выражает субъективную оценку этой
объективности. Звук напоминает зрителям о том, что с каждым поражением боевой двух
рабочих получает лишь новый импульс к борьбе за окончательную победу в
будущем.
Нужно будет учесть, что данный случай, где звук играет субъективную
роль, а изображение объективную, только один из многих способов, которыми
выразительные средства звукового кинематографа позволяют нам построить
контрапункт; и я утверждаю, что только подобным контрапунктом можно пойти
дальше примитивного натурализма. Только так можно обнаружить и раскрыть
богатые глубины смысла, потенциально заложенные в творчески решенном
звуковом кинематографе.
1934 г.
Проблема ритма
в моем первом
звуковом фильме
Грустно видеть, что с приходом звука в кино и преобладанием говорящих
фильмов режиссеры Запада и Советского Союза внезапно утратили чувство
динамического ритма, которое выработалось у них за последние годы немого
кино. Сегодня почти невозможно найти фильм, обладающий четким
драматическим ритмом, каким, например, были пронизаны эпизод одесской лестницы
в «Потемкине» или некоторые эпизоды в старой картине «Нетерпимость»,
относящейся к тому раннему периоду, когда прежде механическая фиксация на
пленку превратилась в средство художественного выражения. Для
большинства последних звуковых фильмов характерны чрезмерно медленное развитие
темы и диалоги с бесконечными паузами. Многие режиссеры разрабатывают
«говорящий» стиль, требующий словесного пояснения того, что следовало бы
решить в пластических образах. Этот стиль вносит элементы театра в искусство,
в котором они неуместны. Театр имеет свою технику, опирающуюся на силу
живого слова, поскольку он не может дать быстрой смены зрительных образов,
тогда как кинематограф основан на возможности разнообразить зрительные
впечатления во времени и пространстве, отличные от тех, которые
существовали в заснятом подлинном материале.
Я не верю, что изменение метода указывает на какие-либо изменения вкусов
публики. Я думаю, что настоящая причина такого положения вещей
заключается в том, что режиссеры не решаются экспериментировать со звуком и
особенно — не решаются монтировать фонограмму.
Многие придерживаются того взгляда, что с появлением звука приемы
монтажа, разработанные в период развития немого кино, должны быть выброшены
за борт. Разработка конструктивного монтажа с частыми сменами планов
позволила в немом кино добиться огромного богатства зрительной формы.
Человеческий глаз способен легко и мгновенно воспринимать содержание быстрой
смены изобразительных кадров, тогда как ухо, говорят они, не может столь же
мгновенно уловить смысл перемен в звуковой записи. Поэтому, утверждают
они, ритм звуковых перемен должен быть значительно медленнее ритма смены
зрительных образов. Они правы лишь тогда, когда это касается сочетания ряда
коротких кадров изображения с серией столь же коротких звуковых эффектов,
подобранных к ним в чисто натуралистической связи. Конечно, нельзя было
бы скомпоновать короткие кадры эйзенштейновского эпизода одесской лестни-
6*
163
цы в «Броненосце «Потемкин» — стреляют солдаты, кричит женщина, плачут
дети — со звуком, смонтированным параллельно. Следовательно, полагают
они, мы должны делать каждое изображение длиннее, тем самым уменьшая
богатство зрительной формы; быстрый монтаж немого кино должен уступить
место более неторопливым сценам, снятым с заранее продуманного расстояния и с
относительно неподвижной точки, так как построение фильма связывается
живым словом, а не последовательной сменой динамически смонтированных
образов.
Я утверждаю, что такая установка — линия наименьшего сопротивления и,
вместо того чтобы двигать кино вперед, она тянет его назад, вынуждая снова
занять примитивную позицию простого фотографирования материала, скорее
подходящего для театра. С моей точки зрения, нет необходимости начинать
звук там, где впервые появляется соответствующее ему изображение, и обрезать
его там, где это изображение кончается. Каждый кусок звуковой записи, будь
то речь или музыка, может идти без изменений, в то время как зрительные
образы появляются и исчезают в сцене, смонтированной из коротких кадров.
Или же наоборот; когда изображение идет в более длинных кусках, звуковой
ряд может изменяться самостоятельно, в своем собственном ритме.
Я думаю, что, только идя в этом направлении, кинематограф может
освободиться от подражания театру и пойти дальше его пределов. Театр навсегда
ограничен главенством живого слова, тем, что декорации и реквизит
использованы только в одном выразительном положении, тем, что и действие и
внимание зрителей полностью зависят от актера, а также тем, что весь огромный
земной шар сводится в нем до пределов комнаты, лишенной четвертой стены.
Одну из самых серьезных проблем в моем «Дезертире» представляли
массовые сцены — митинги, демонстрации и т. п. Прежде всего нужно понимать,
что масса никогда не была и не будет только количеством; масса — это и
качество, собрание индивидуальностей, совершенно отличное от их суммы.
Масса состоит из групп, каждая группа из отдельных лиц. Их может объединить
одно чувство и одна мысль, ив этом случае масса представляет величайшую силу
в мире. Противоречивые процессы, действующие внутри групп, представляют
лежащий на поверхности драматический материал: акцент на характеристиках
отдельных личностей является существенной частью создания на экране живой
массы. Каков же может быть подлинно творческий метод изображения массы
отдельных людей, если не метод монтирования крупными планами? Я видел
немецкий фильм, в котором показан выступающий перед гражданами Парижа
Дантон; его поставили у окна, и все, что мы сумели узнать о его слушателях,—
это голос массы, подобный традиционным «голосам за сценой». Такие кадры в
фильме — не что иное, как фотографии плохого театра.
В первой части «Дезертира» у меня есть митинг, на котором выступают три
человека подряд, вызывая сложные реакции у аудитории. Каждый выступает
против двух других; иногда кто-то из толпы прерывает оратора, иногда между
двумя или тремя слушателями возникает минутный спор. Вся сцена в целом
должна следовать колебаниям настроений толпы, нужно показать
столкновения противоположных желаний. Чтобы добиться таких результатов, я резал
звук так же свободно, как изображение. Я использовал три отчетливо разных
элемента: первый"—речи, второй —-. звуковые крупные планы перебивок:
слова и обрывки фраз, сказанных в толпе, и третий — общий гул толпы, гул
различной силы, записанный независимо от изображения.
164
Я стремился скомпоновать эти элементы по системе монтажа. Я брал куски
фонограммы и резал их так, чтобы оратор был прерван на полуслове, затем
чтобы голос человека, перебившего оратора, в свою очередь заглушался шумом
толпы, и оратор опять становился слышен и т. д. Каждый звук резался
отдельно, и ассоциирующиеся с ним образы были иногда значительно короче
соответствующего куска фонограммы, а иной раз они по длине равнялись двум звуков
вым кускам — с голосом оратора и прервавшего его человека, например, там,
где я показываю ряд индивидуальных реакций слушателей. Иногда с помощью
ножниц я вставлял в фразу шум толпы. Я обнаружил, что при сопоставлении
различных звуков, монтируемых таким образом, можно создать ясный и
определенный, почти музыкальный ритм, ритм, который вырабатывается и
усиливается от одного короткого кадра до другого, -пока не достигнет высшей точки
эмоционального воздействия, нарастающего, как волны в море.
Я утверждаю, что режиссерам не придется бояться резать фонограмму, если
они признают принцип построения звука в определенной четкой композиции.
Если различные звуки соединять в монтаже с ясным представлением о
поставленной перед собой цели, то их можно монтировать друг с другом точно так же,
как и изображение. Вспомните ранние дни кинематографа, когда режиссеры
боялись резать на куски видимое на экране движение и когда введенный Гриффитом
крупный план был не понят и многими заклеймен как метод неестественный и,
следовательно, неприемлемый. В те дни зрители даже кричали: «Где их ноги?»
Монтаж был тем усовершенствованием, которое в первую очередь
превратило кинематограф из механического процесса в творческий. Лозунг «режьте!»
в равной мере необходим и теперь, с приходом звукового кино. Я думаю, что
звуковой фильм подойдет ближе к подлинно музыкальному ритму, чем когда-
либо подходил немой. Этот ритм должен устанавливаться не только от
движения, актера и предметов на экране, но также — что имеет для нас важнейшее
значение на сегодняшний день — от точного монтирования звука и
организации кусков звуковой записи в отчетливом контрапункте с изображением.
В хорошем ритме, соответствующем звуковому фильму, я разработал
особую музыкальную композицию для первомайской демонстрации в «Дезертире».
Сто тыЪяч человек на улицах, воздух напоен .громкими звуками сборных
оркестров, поднимающих настроение масс до бьющего через край веселья. В это
смешение звуков врываются пение и звуки баянов, гудки автомобилей,
обрывки радиопередач, восклицания и крики «ура!», мощный гул аэропланов.
Конечно, глупо было бы пытаться создать такую звуковую сцену в павильоне
студии с оркестрами и массовкой. Чтобы дать своим будущим зрителям
верное представление о гигантской перспективе массовых звуков, об их
сложных и многочисленных отголосках, я записал подлинный материал.
Чтобы получить различные звуки, необходимые мне в дальнейшем для
монтажа, я использовал две московские демонстрации одного года —
майскую и ноябрьскую.' Я записал куски разнообразной музыки и звуков
различной громкости: переходы от оркестров на шум толпы, от криков
«ура!» — на рев аэропланных пропеллеров, лозунги, раздающиеся из
громкоговорителя, и обрывки наших песен. Совершенно так же, как снимались
общие и крупные планы в немом кинематографе. Затем предстояла задача
смонтировать тысячу метров звуковой записи, чтобы создать стометровую
ритмическую композицию. Я пробовал использовать куски как отдельные
инструменты, комбинации которых образуют оркестр. Я записал два шагающих ор-
165
кестра и для монтажного перехода от одного к другому врезал между ними
какой-нибудь доминирующий звук, вроде массового «ура» или рева пропеллера.
Я старался ввести куски, уже обладающие своим собственным ритмом, в новый
монтажный сверхритм.
Зрительные образы, идущие под этот звуковой ряд, смонтированы с той же
точностью; это — улыбающиеся рабочие, весело шагающая молодежь,
красивый моряк и заигрывающие с ним девушки. Но такое чередование зрительных
образов — лишь одна из ритмических линий, составляющих цельную
композицию. Музыка — не аккомпанемент, а отдельный элемент контрапункта. Звук,
как и изображение, сохраняет свою собственную линию.
Пожалуй, более чистый пример установки ритма в звуковом фильме
встречается в другой части «Дезертира» (сцена в доках). Здесь я также использовал
естественные звуки: удары тяжелых молотов, визг пневматических сверл,
работающих на разной высоте, более слабый звук крепления заклепки, голоса
сирен и нарастающий грохот падающей цепи. Все эти звуки я записал на пленку
в доках и скомпоновал на монтажном столе, используя куски разной длины, как
музыкальные ноты. Финалом сцены в доках я в изображении дал в ускоренном
темпе полу символический рост корабля, тогда как звук в сложных синкопах
поднимается к величественной кульминации. Здесь у меня была подлинно
музыкальная задача, и я обязан был «чувствовать» длину каждого куска, как
музыкант «чувствует» акцент, необходимый каждой ноте.
Я использовал только реальные звуки, ибо, по моему мнению, звук, как и
изобразительный материал, должен быть богат ассоциациями, чего не может
быть у воссозданного звука. Я утверждаю, что нельзя искусственно придать
звуку перспективу: например, нельзя получить реальный эффект отдаленного
гудка при относительной близости источника звука от микрофона. Отдаленный
гудок, полученный слабым звуком в павильоне, никогда не создаст такого
реального эффекта, как громкий гудок, записанный на открытом воздухе с
расстояния в полкилометра.
Для симфонии гудков, которыми начинается «Дезертир», в Ленинградском
порту гудели сирены шести пароходов на пространстве полутора километров.
Они гудели по разработанному плану, а мы работали ночью, чтобы запись
происходила в тишине.
Теперь, когда я закончил «Дезертира», я убежден, что звуковой фильм
потенциально является искусством будущего. Это не оркестровое произведение,
в центре которого музыка, и не театральный спектакль, где доминирующий
фактор — актер; фильм даже не сродни опере. Это — синтез каждого и всякого
элемента: словесного, зрительного и философского. В наших возможностях
передать мир во всех его очертаниях и оттенках в новой форме искусства, которое
наследует и переживет все другие искусства, ибо оно является высочайшим
средством художественного выражения, позволяющим показать сегодняшний
и завтрашний день.
1934 г.
[О монтаже]
То, что картины состоят из большого количества отдельно снятых,
сравнительно коротких кусков, склеенных между собой, известно каждому. То, что
обычный зритель кинотеатра не замечает разрезов, склеек между отдельными
кусками, на которые разбивается киносцена при ее съемке, тоже является
общеизвестным фактом.
Кинозрелище воспринимается как непрерывное действие, несмотря на то,
что изображения, пролетающие на экране, резко разделены между собой либо
пространственными, либо временными пропусками. Ребенок, слушающий
учителя в начальной школе, через долю секунды уже юношей получает
университетский диплом. Он прощается с любимой девушкой в Москве и через долю
секунды пожимает руки людям, встречающим его на вокзале Владивостока.
Более того, человек надевает шляпу перед зеркалом в своей квартире и через
долю секунды снимает ее, раскланиваясь со знакомым на улице. Более того,
подсудимый, оправдывая свое поведение, начинает фразу: «Я бы никогда не
поступил бы так, если бы...», и через долю секунды он же, отнесенный на десять
лет назад и на тысячу километров к северу или к югу, своим поведением
доказывает несправедливость обвинения. Возврат в зал суда к окончанию фразы
совершается снова стремительным скачком через время и пространство.
Всюду разделы, пропуски самого различного вида, иногда измеренные
минутами и метрами, иногда тысячами километров и десятками лет. Разделы и
пропуски проникают очень глубоко. Самое, казалось бы, простое действие или
движение актера может оказаться разделенным на части. Актер повернул
голову для того, чтобы взглянуть на человека, стоящего рядом. Поворот головы
начинается на одном куске, где видны оба актера, а внимательный взгляд уже
на другом, где крупное изображение головы актера позволяет особенно хорошо
рассмотреть выражение его глаз. Актер начинает говорить. Первые слова его
фразы связаны с его же изображением, и вдруг окончание фразы только
слышно, а на экране виден уже другой актер — не говорящий, а слушающий.
В среднем в кинокартинах можно встретить от сотен до тысяч разрезов, но
вместе с тем, если картина делается хорошими мастерами, зритель воспринимает
ее движение как непрерывное целое. Только неудача или неумение могут дать
ощущение разрыва движения при резкой смене времени и места действия.
Искусство соединять отдельные, снятые куски так, чтобы зритель в результате
167
получил впечатление целого, непрерывного, продолжающегося движения, мы
привыкли называть монтажом. Англичане называют его проще и грубее —
cutting, то есть резка. В сущности и тот и другой термин стали одинаково
неудачными теперь, когда пятидесятилетний опыт развивающегося киноискусства
показал, что процесс создания непрерывного целого картины из отдельно
снятых в разных местах и в разное время кусков вовсе не является механической
стройкой или склейкой, требующей только ремесленного навыка и умения.
Слова «monter» — строить, собирать, и «cut» — резать, определяющие только
технический смысл составления картины из кусков, относятся к тому времени,
когда кинематограф не был достаточно глубоко понят и проанализирован как
своеобразное и, главное, прогрессивное искусство, обладающее не только
новизной, но и громадными перспективами в будущем.
Попробуем последовательно разобраться в сущности работы монтажа (или
cutting) уже снятых, проявленных и напечатанных кусков будущей картины.
Для того чтобы на экране один кусок следовал непосредственно за другим без
ощущения провала, скачка или любого вида бессмысленного раздражения,
нужно, чтобы непременно существовала ясно различаемая связь между этими
кусками. Эта связь может быть глубоко смысловой, основанной на желании
передать отвлеченную мысль. Пример — зал суда; несправедливо обвиняемый
слушает жестокий приговор; внезапно на экране появляется изображение
истинных обстоятельств преступления, полностью оправдывающих обвиняемого.
Правда фактов развертывается под звучащими словами ложного приговора.
Явное противоречие связанных кусков вскрывает отвлеченную мысль о
пристрастности суда. Связь между кусками может быть и чисто формальной, внешней
связью. Например, выстрел из ружья в одном куске и попадание пули в цель
в другом.
Между глубокой идейно-философской связью и связью внешне формальной
может существовать бесчисленное множество промежуточных форм связи, но
все они непременно должны присутствовать в соединяемых кусках для того,
чтобы монтаж (или cutting) создал на экране непрерывно развивающееся,
понятное и насыщенное смыслом действие. Два куска, если один из них не
представляет в каком-то смысле или с какой-то стороны непосредственного
продолжения другого, не могут быть склеены вместе. Здесь, конечно, подразумевается
самый широкий диапазон форм связи вплоть до резкого контраста или
противоречия, иногда являющихся наиболее яркой формой объединения двух или
нескольких кусков в непрерывном развитии единой идеи. Кстати сказать,
рыхлое, невнятное, иногда почти бессмысленное соединение кусков в монтаже
кинокартины вовсе не такое уж редкое явление, особенно в области монтажа так
называемых документальных фильмов и хроники (real-news).
Таким образом, основное, необходимое для создания цельной непрерывно
развивающейся картины,— внутренняя связь между отдельными кусками —
как бы уходит из рук человека, занятого склейкой. Он не является творцом
этой связи и не является ее хозяином. Творческое рождение и формальное
утверждение этой связи происходят гораздо раньше. Первое — при написании
сценария, второе — при режиссерской съемке картины. Я полагаю, что при
теоретическом разборе того, что мы недостаточно удачно называем монтажом,
следует заниматься, конечно, не приемами склейки, а тем, что эти приемы
диктуют. Я вынужден пока пользоваться термином «монтаж», но только считаю
необходимым предпослать содержание, которое я в этот термин вкладываю.
168
Монтаж в моем временном определении обозначает не сборку целого из
частей, не склейку картины из кусков, не резку снимаемой сцены на куски и не
подмену этим словом довольно расплывчатого формального понятия
«композиция». Монтаж я определяю для себя как всестороннее,
осуществляемое,всевозможными приемами раскрытие и разъяснение в произведениях искусства
кино связей между явлениями реальной жизни. Монтаж картины в этом смысле
определяет уровень общей культуры режиссера, позволяющий ему не только
знать, но и правильно понимать жизнь. Он определяет также его способность
наблюдать жизнь, разбираться в наблюдениях и самостоятельно мыслить о
них. Он определяет, наконец, степень его одаренности как художника,
позволяющую превратить внутреннюю, скрытую связь реальных явлений в связь
как бы обнаженную, ясно видимую, непосредственно воспринимаемую без
объяснений. Когда на экране рядом с горами сжигаемой из коммерческих
соображений пшеницы появляются истощенные голодом дети разорившихся
фермеров,— это монтаж. Вскрытая разумом, связь поражает непосредственным
зрелищем безобразного противоречия (Paul Rotha1). Когда в эпизоде,
изображавшем первую мировую войну («Конец Санкт-Петербурга»), появлялись
короткие сцены бешеного ажиотажа на бирже, то и дело сменявшиеся
трагическими кусками гибели солдат, идущих в отчаянную атаку,— это был монтаж.
Связь между интересами Фондовой биржи царской России и
империалистическими целями войны раскрывалась в стремительной смене коротких кусков, и
гневный вопль армии: «За что воюем!?» — вырастал из них как органический
неизбежный вывод. Когда действие картины внезапно останавливается, уходит в
далекое прошлое для того, чтобы немедленно снова вернуться к настоящему и
идти дальше,— это тоже монтаж. Раскрыта и сделана ясной связь поведения
героя в настоящем, с реальными обстоятельствами его прошлой жизни.
Когда в одном куске бледный от волнения человек стоит на борту парохода,
отплывающего от острова на Ледовитом океане, во втором — он же,
похудевший и небритый, сидит в кабине самолета, пересекающего горный хребет, а в
третьем, непосредственно следующем,— тот же человек с отросшей щетиной
бороды стремительно распахивает дверь в комнату больной дочери,— это тоже
монтаж, поднимающий над всей сложностью, может быть, очень долгого
путешествия единое, непрерывное, а потому все связывающее желание человека
вовремя поспеть к умирающей дочери. Любые формы движения людей,
животных или вещей могут быть описаны приемами монтажного изложения. Скачка
лошади, крушение поезда или прыжок парашютиста могут быть разложены
в процессе съемки на отдельные куски, которые затем склеятся в определенном
порядке для получения наиболее яркого впечатления. Любое явление природы:
статический пейзаж, гроза, дождь, утро, ночь или сумерки могут быть
изображены на экране лучше или хуже в зависимости от того, какой прием монтажа
будет найден режиссером при творческом создании плана съемки. Формально-
описательный монтаж является самым элементарным видом монтажа, но и он
несет в себе все тот же обязательный признак — отыскание и утверждение
ясной связи если не между крупными отдельными явлениями, то между
отдельными сторонами или деталями одного и того же явления. Если режиссер не
сумеет, пусть интуитивно, проанализировать явление, которое он хочет снять,
не сумеет проникнуть в его глубину, схватить детали и одновременно понять
взаимную связь, сливающую их в органическое целое, он не сумеет создать
ясного, и яркого изображения этого явления на экране.
169
Основную связь, обусловливающую определенную форму и направление
любого развивающегося процесса, мы называем его законом. Можно с
достаточным основанием сказать, что, для того чтобы хорошо смонтировать, то есть
правильно снять отдельные куски любого явления, нужно ясно понять законы
его развития. Можно и не заниматься анализом, отысканием деталей и связей.
Заниматься, так сказать, простой, честной фотографией того, что могут увидеть
глаза любого человека, не склонного к размышлению. Ежели надо изобразить
вечер,— можно снять всем знакомое солнце на горизонте, сияющую дорожку
на воде и черные силуэты деревьев на первом плане.
Ежели нужно снять разговор двух людей, можно посадить или поставить
их перед аппаратом — пусть говорят, пока не кончат. Чтобы не было уж очень
скучно, можно заставить говорящих людей подниматься или спускаться по
лестнице, или проходить по красиво обставленным комнатам, или изобрести
прогулку по лесу и при этом следить за актером сложно движущимся
аппаратом. Съемка движущимся аппаратом, так называемая «панорамная съемка»,
многими наивными режиссерами искренне считается даже более совершенной
заменой монтажа отдельных кусков. За такой «непрерывной» съемкой можно
спрятаться с таким же успехом, как за так называемым «общим планом». И в
том и в другом случае поведение режиссера одинаково. Оно сводится к
нежеланию усложнять съемочную работу разбиванием сцены на куски для того,
чтобы впоследствии снова склеивать эти куски, добиваясь единства и
непрерывности восприятия. Зачем это делать, если непрерывность действия уже
существует в поставленной сцене? Нужно просто постараться снять ее целиком так,
чтобы было все хорошо видно. Казалось бы, рассуждение весьма разумно, но,
к сожалению, его разумность становится очень сомнительной, если относиться
к киноискусству достаточно серьезно и глубоко, если считать кипематограф
искусством в первую очередь прогрессивным, предназначенным играть в
культурной жизни человечества не меньшую, а значительно большую роль, чем
любое другое из существующих искусств, будь то живопись, музыка,
литература или театр.
Мы часто забываем, что кинематограф действительно является передовым,
прогрессивным искусством. Он должен быть таким прежде всего в силу своего
недавнего происхождения и колоссальной быстроты развития. Появление и
развитие кинематографа тесно связано с самыми высокими, с самыми
последними достижениями человеческой философской мысли и самыми последними
достижениями технической изобретательности. Большая ошибка думать, что
кинематограф является каким-то «синтетическим», вернее, суммарным
искусством, объединяющим в себе, как птиц в клетке, различные искусства в лице
их представителей.
Архитектура и живопись — художник; музыка — композитор;
литература — сценарист; театр — актер и т. д. Работа над кинокартиной действительно
соединяет этих людей, но ни один из них, по существу, не может и не должен
оставаться простым исполнителем, механически переносящим традиции
своего искусства на экран. Их можно назвать, если угодно, лишь носителями этих
традиций, подвергающихся в практике кино коренной ломке, глубокому качест-
ственному изменению, при которых сохраняются лишь общие признаки,
свойственные всем искусствам вообще. Такие, например, как: органическая
цельность, правдивость, ритмическая и гармоническая стройность и т. д.
Кинематограф как бы питается традициями других искусств, превращая их в
170
собственные, новые. Так как человек, поедая животных и растения, превращает
их тела в ткани своего собственного тела, я не думаю, что было бы верным
определить чье-нибудь тело как синтез коровы и картофеля на том основании, что
он питается бифштексами. Кинематограф обладает, вернее — может обладать
своим собственным, новым поведением в области искусства. Кинематограф уже
обладает, правда в зачаточной форме, своим собственным, новым методом
раскрытия реальной действительности как путем внешнего описания, так и путем
глубокого внутреннего исследования. Именно в области развития этого метода,
в области беспрерывного изобретения новых приемов, расширяющих
возможности этого метода, и лежит громадное, еще только начинающееся будущее
киноискусства. Суть этого метода я в начальных своих определениях подвел
под термин — монтаж. Повторяю, что этот термин благодаря новому,
расширенному содержанию приобретает совершенно иное, непривычное содержание.
Монтаж есть новый, найденный и развиваемый киноискусством метод
выявления и ясного показа всех, от поверхностных до самых глубоких, связей,
существующих в реальной действительности. Снять любое действие, сцену или
пейзаж с одного места, целиком, так, как их мог бы увидеть просто созерцающий
зритель,— значит использовать кинематограф для примитивной, чисто
технической, так сказать, протокольной записи, и только. Но можно и должно
отойти от бездейственного созерцания, происходящего в реальной жизни. Можно
попытаться увидеть больше, чем можно увидеть с одной точки. Можно, так
сказать, не только смотреть, но и рассматривать, не только видеть, но и понимать,
не только узнавать, но и познавать. Вот здесь и приходят на помощь приемы
монтажа. Представьте себе такую сцену: человек рассказывает о трагической
гибели незнакомой ему женщины, случайным свидетелем которой он был. Его
молчаливый слушатель узнает в описании погибшей свою дочь, приезда
которой он давно ждет. Предположим, что по сюжету картины гибель дочери
играет решающую роль в судьбе отца. Как только режиссер захочет вести
зрителя по этой скрытой в глубине действия линии сюжета, он сможет
воспользоваться обычным приемом монтажного разреза сцены.
Рассказывающий человек будет появляться только для того, чтобы убедить
зрителя в полном своем неведении страшного значения рассказа.
Появляющийся на экране крупный план слушающего ведет и развивает драму. Сцена,
естественно, разбивается на куски не потому, что любопытно посмотреть на того и на
другого в течение разговора, а для того, чтобы отчетливо раскрывать единую
связующую линию сюжета. Это очень простой пример, но и в нем видно, что
монтажная трактовка и съемка сцены являются результатом ее определенного
осмысливания. Монтаж неотделим от мысли. Мысли анализирующей, мысли
критической, мысли синтезирующей, объединяющей и обобщающей.
Здесь мы подходим к самому существенному, что следует вскрыть в
природе монтажа. Если мы определяем монтаж в самом общем виде как раскрытие
внутренних связей, существующих в реальной действительности, мы тем
самым как бы ставим знак равенства между ним и вообще всяким процессом
мышления в любой области. Разве не являются связная человеческая речь и
идентичный ей процесс человеческого мышления прямым воспроизведением явлений
реальной действительности прежде всего в их взаимной связи? Разве не является
основным признаком высокого произведения любого искусства его идейность,
то есть опять-таки глубокое раскрытие связей, законов, существующих в
жизни? Да, на эти вопросы, следует ответить утвердительно. Самое общее опреде-
171
мление монтажа оказывается применимым к любой области работы
человеческого познания и творческого оформления его результатов. Эйзенштейн прав,
когда, рассуждая о природе киномонтажа, берет в качестве примеров стихи
Пушкина и картины Леонардо да Винчи2. Я думаю, что примеры можно брать
и дальше, за пределами искусства, хотя бы из области чисто научных
исследований. Мы имеем право определить искусство с одной из его сторон, как акт
коллективного познания действительности. Я говорю «коллективного познания»
потому, что произведение искусства начинает полностью существовать только
тогда, когда результат индивидуальных усилий художника становится
достоянием тех многих, для кого он свое произведение создал.
Художник творит для того, чтобы связать, объединить многих с собою и
между собою. Объективный смысл его творчества тот же, что содержится в
процессе появления и развития человеческой речи — мышления. Именно потому
мы находим тесную, как бы генетическую связь в ряду: речь — мышление —
монтаж. Самое общее определение монтажа устанавливает глубину его
происхождения. Но оно требует дальнейшего развития для того, чтобы выяснить
сущность практически найденных приемов монтажа, связанных
непосредственно только с кинематографом и с путями его будущего развития. Я не имею
возможности за недостатком места аргументировать целый ряд необходимых
положений и поэтому вынужден высказывать их в форме голых тезисов.
Наиболее совершенной формой мышления, выработанной человечеством до
настоящего времени, является диалектическое мышление. Оно является наиболее
полным отражением всех известных нам процессов, происходящих в
объективной действительности.
Одним из основных свойств диалектического мышления является
следующее: всякое явление рассматривается прежде всего в его движении, в его
непрерывном развитии, то есть каждое явление в его настоящем делается поистине
понятным только тогда, когда оно рассматривается как часть его собственной
истории, имеющей прошлое и будущее. Это во-первых. Во-вторых, всякое
явление рассматривается диалектическим мышлением в непосредственной,
органической связи по возможности со всеми окружающими его явлениями. Всякая
частность только тогда приобретает ясный, реальный смысл, когда она будет
понятна как выражение общего. Совершенно так же любое обобтцение приобрет
тает реальный смысл, только будучи выраженным в частности. Я сознательно
не касаюсь сейчас другого основного свойства диалектического мышления —
анализа природы всякого процесса развития. Размеры статьи вынуждают меня
указывать лишь на то, что мне необходимо для выяснения строго определенных
качеств киноискусства. Мы уже условились, что речь — мысль — искусство
является законным, реально существующим в истории человечества рядом.
Мы так же условились, что искусство (так же, как и речь) является актом
коллективного познания действительности, требующим непременно передачи
художником результата своего мышления многим другим. Теперь с этих позиций
можно рассмотреть ряд различных искусств, и кинематограф в их числе. В
процессе отражения объективной действительности в сознании человека играет
огромную роль зрение — непосредственное видение любого явления. Охват
явления живым единым взглядом есть как бы прообраз обобщения, то есть
утверждения явления в его непрерывной цельности. Исторически зрительный
образ соответствует, с одной стороны, образным формам примитивного
мышления у истоков развития человечества, и, с другой стороны, зрительный образ
172
существует до Сих пор, особенно в искусстве, как непосредственный
чувственный импульс, придающий убедительность реальности любой абстракции.
В искусстве сделать мыслительный процесс и его результат полностью
чувственно ощутимым, а в особенности видимым, значит создать цолноценное
произведение. В этом, смысле живопись и скульптура достигли многого,
изображая осознанную и обдуманную художником действительность. Но и живопись и
скульптура дают как бы тонкий разрез изображаемого явления в его течении
во времени. Картина и статуя не могут изобразить движение во времени.
Прошлое и будущее сцены, изображенной художником, только домысливаются — их
не видно. Для того чтобы полностью воспринять содержание «Тайной вечери»
Леонардо или «Моисея» Микеланджело, нужно знать Библию. Для того чтобы
репинское «Убийство Иваном Грозным сына» было воспринято не только как
драматизированная напряженной красочной гаммой выразительная группа,
нужно знать историю или услышать соответствующее объяснение к картине.
На помощь приходит речь. Недаром и картина и скульптура всегда имеют
неотделимое от них название, восполняющее то, что нельзя ввести в изображение.
Живопись и скульптура дают обобщенный образ без его движения во
времени. Почти полярна по отношению к живописи музыка. Ее стихия — время в
чувственном выражении его движения, в ритме. Если в живописи не
изображается движение во-времени, то в музыке'только оно и изображается..
Зрительное, видимое обобщение в ней отсутствует. Оно может.рождаться только
как резонанс, так же как в живописи может рождаться резонанс
музыкальной гармоничности. Музыка живет и развивается в области, выработанной
человеческим мышлением и называется абстракцией, в области сознательного
отхода от реальных наблюдений для попытки их обобщения. Музыка дает исто^
рию человеческих чувств и мыслей без реальных предметов, которые эти
чувства и мысли вызывают. Музыка, в отличие от живописи, дает
непосредственное ощущение движения во времени, историю, без реальных,
пространственных образов, которые только домысливаются.
- Теперь литература. В основе литературы, лежит человеческая речь,, то есть
то, что, в сущности, генетически полностью идентично мышлению. Литература
при помощи описания создает как бы окидываемые единым взглядом,
становящиеся видимыми-образы. Литература, развивая сюжет, создает, как
бы.непосредственно наблюдаемое движение людей и событий во времени. Литература,
наконец, компонуя рассуждение и описание, может ясно раскрывать связь
частного и общего, закона и случая, то есть.в конце концов изображать все то,
что составляет полноту содержания жизни. Но все дело в дважды повторенном
мною выражении «как бы».
Обобщенный образ, создаваемый литературным описанием, невидим
непосредственно. Движение во времени не наблюдается непосредственно, а
возникает в результате добавочного мыслительного процесса. То же можно сказать
и о раскрытии всеобщих связей в единстве живой действительности. Литература
полностью лишена возможности использовать непосредственные восприятия
явлений действительности в той их цельности, какую дает наблюдающий
человеческий взгляд. Недаром иногда талантливые иллюстрации к книге являются
для нее ценным дополнением. Прямое совпадение литературы с речью
одновременно служит грандиозному расширению возможностей литературы в полноте
передачи мысли в сравнении с живописью, музыкой и скульптурой, но
одновременно отсутствие видимых образов ограничивает возможности литературы
173
в области непосредственной, чувственной передачи изображаемого читателю
или слушателю.
Я перехожу к театру. Театральное зрелище обладает очень большим
арсеналом изобразительных средств. Прежде всего его непосредственно
воспринимают глаз и ухо. Спектакль видим, как видится живая действительность. Живое
человеческое слово слышно со всеми тончайшими интонациями, которые в
литературе только описываются. Не только зрелище действия воспринимает
зритель, но и все объясняющую, раскрывающую и уточняющую человеческую
речь. Театр не только описывает, но и непосредственно показывает живое
движение во времени, живую историю. Разрезы между актами позволяют
охватывать огромные промежутки времени. В современном театре делаются даже
попытки свободного движения во времени, так сказать, повороты во времени для
более глубокой и точной передачи основной идеи (Пристли3).
В театре литература как бы обрастает живой плотью видимой и слышимой
реальности. Идеи, воплощенные в театральном зрелище, обладают огромной
силой непосредственного чувственного воздействия на зрителя, подобного
воздействию картины или скульптуры, но вместе с тем они уточняются и
углубляются, во-первых, движением во времени, во-вторых, объясняющей
человеческой речью. Театр как бы расширяет границы живописи и скульптуры.
Видимые образы движутся во времени. Приемы музыки, связанные с ритмом,
естественно входят в приемы построения театрального зрелища. Наконец,
живое слово вносит в театр возможность прямого изложения мысли, свойственного
литературе. Если вспомнить то, что я говорил выше о диалектическом
мышлении, оказывается, что театр со своими возможностями наиболее близко
подходит к изображению действительности во всей полноте ее существования,
раскрываемого именно диалектическим мышлением. Связь любого явления с его
развитием во времени и связь любого явления с окружающим миром могут быть
раскрыты и показаны в театре. От картины к картине, от акта к акту мы видим —
идет действие во времени. Мы можем, если нужно, вернуться в прошлое или
заглянуть в будущее. Одна картина может идти в Москве, а следующая —
в Америке.
Мы раскрываем и показываем связь между тем, что происходит в разных
местах, разделенных огромным пространством. Спектакль может быть
построен так, что перед зрителем будет развертываться жизнь, не только
увиденная художником, но и глубоко исследованная им, исследованная так, как
позволяет это сделать самый прогрессивный метод исследования —
диалектический метод. Но возможности театра все же ограничены. Театр может показать
далеко не все. О многом он должен только рассказывать при помощи слова,
как это делает литература. Главным выразителем содержания спектакля на
театре всегда будет действующий и говорящий актер. Главным образом через
него, через его речь зритель узнает обо всем, что нужно для полноты
изображения жизни и вместе с тем не может быть непосредственно показано.
В греческом театре существовали традиционные вестники, назначение
которых было сообщать о событиях, важных для развития сюжета, но не
показываемых на сцене. Теперь этих вестников нет, но необходимость их функций
неизбежно осталась. В современном спектакле рассказ о том, что не может быть
показано, передается различным действующим лицам, письмам,
телеграммам, телефонным звонкам и т. д. Развивающийся театр стремился расширить
свои возможности непосредственного показа не только игры актера, но и всего
174
богатства жизни, богатства объективных событий, окружающих актера,
связанных с его внутренней жизнью и обусловливающих ее. Театр уничтожил
единство времени и места, ввел сложные декорации. При помощи всевозможных
технических ухищрений ввел быструю смену их, но все же границы его
возможностей становятся все отчетливей. Если пьеса говорит только о людях, об их
внутреннем мире, об их взаимоотношениях, театр может создать совершенный
спектакль. Но попробуйте расширить богатство и полноту описания жизни
так, как это делает в литературе жанр романа.
Попробуйте ввести множество действующих лиц, из которых каждый живет
своей жизнью в разных местах, в своих особых условиях: один на севере,
другой на юге, третий за границей, четвертый на фронте и т. д. Все они не
встречаются друг с другом в каком-либо определенном месте. Все они связаны
только течением общей мысли автора. Попробуйте ввести в действие живое дыхание
природы: зимний мороз, жару лета, ранние утра, сумерки, грозы и ливни, море
и реки, горы и равнины — все, что неизбежно присутствует в едином,
широком течении романа. Театр этого не выдержит. Он может только ограничиться
намеками на это реальное богатство жизни в условных декорациях или заменить
его изображение словесным рассказом. Для театра всегда останется
действительным лозунг — показывать все через человека, через его отношения к
другим, через его личное отношение к окружающему его миру.Объективный взгляд
на всю сложность мира, в котором человек борется, познавая и переделывая
его, невозможен для театра в полной мере.
В сравнении с литературой театр более выразителен, его непосредственно
впечатляющая сила больше, но широта охвата всего богатства реальной жизни
у театра меньше, чем у литературы. Следующий шаг к максимально
впечатляющему в плане искусства и вместе с тем к максимально широкому охвату
объективной действительности делает кинематограф.
Я подвожу итог схематическим определениям возможностей разных искусств.
Живопись и скульптура — сила непосредственного воздействия зрительного
образа, но нет движения и развития его во времени.
Музыка — сила непосредственного ощущения движения и развития во
времени, но нет зрительных образов.
Литература — исчерпывающая полнота отражения действительного мира
со всеми его связями — законами развития, но нет непосредственного
воздействия ни зрительным образом, ни звуковой интонацией живой речи.
Театр — зрительный образ, живая речь, но резко ограничены возможности
полного показа объективной действительности.
Теперь кинематограф. Каковы его возможности? Он в полной мере обладает
силой непосредственного впечатления зрительным образом. Его свободное
движение во времени может в полной мере использовать и развивать формы ритма,
установленные музыкой и поэзией. Он в полной мере может изображать всю
сложность мира, делать ясными глубокие связи между явлениями, легко
переносясь в пространстве и легко поворачиваясь во времени. Он одинаково
отчетливо видит и деталь и то общее, чему она принадлежит.
Широкий охват объективной действительности, возможный для
литературного романа, полностью возможен и для кинематографа. Более того,
непосредственность восприятия зрительного образа (вместо его литературного описания)
и гибкость приемов монтажа позволяют кинематографу легко справляться с
задачами, почти неодолимыми для литературы.
175
Кинематограф в полной мере владеет живым, видимым человеком с его
живой интонированной речью. Поэтому все возможности театра находятся в, его
распоряжении, причем показ всего через человека или при помощи человека,
в отличие от театра, не является для кинематографа обязательным.
Кинематограф обладает всеми возможностями театрального зрелища плюс
новые огромные технические и творческие возможности, позволяющие
развернуть это зрелище до предельного объема содержания литературного или даже
научного сочинения. Таков кинематограф в своих возможностях. Он вмещает
в себе все возможности всех до сих пор созданных искусств.
Если снова вернуться к диалектическому мышлению, оказывается, что
именно кинематограф может дать на экране полную, непосредственно
впечатляющую картину жизни, изображая ее как диалектический процесс
величайшей сложности.
Зритель, смотрящий идейно-содержательную картину, как бы переживает
мыслительный процесс гения. Точно видит детали и охватывает единым
взглядом общее, отмечает взаимную связь частного с частным и частного с общим,
видит изменение и чувствует его закон, возвращается в прошлое, чтобы его
проверить, и уходит в будущее, чтобы утвердить закон окончательно. Такое
полное изображение действительности и такое всестороннее раскрытие
закономерных связей осуществляется в кинематографе при помощи приемов монтажа.
Я обещал выше дать более частное, связанное только с киноискусством
определение содержания монтажа вместо самого общего определения, которое, как
выяснилось, можно отнести и к другим искусствам и к процессу мышления
вообще. Теперь это можно сделать. Вскрытие и разъяснение закономерных
связей, существующих в живой действительности, свойственно всем
искусствам, но, если проследить весь упомянутый мною ряд искусств от живописи до
кинематографа, можно увидеть, как изменяется, развиваясь, метод
изображения этих связей. В живописи и скульптуре они остаются слитными в одно
непрерывное целое, причем эта непрерывность остается видимой, то есть
непосредственно ощущаемой непрерывностью. В музыке эта непосредственно
ощущаемая непрерывность уже нарушается. В наиболее сложных формах музыки,
например в симфонии, появляются разделы, разрезы. Симфония состоит из
частей. В местах разрезов, так сказать, физическое ощущение непрерывности
заменяется непрерывностью, воспринимаемой интеллектуально. Внешняя,
поверхностная связь как бы углубляется. В месте раздела как бы обнажается
мыслимая внутренняя связь. В литературе этот метод разреза, раздела для
обнаружения найденных связей идет еще далее. Роман разделяется на части и на
множество глав. Роман, изображая действительность, делит ее и во времени и в
пространстве. В местах разрезов он стремится обнажить многочисленные связи
частных явлений между собою и связь их с большими общими законами
движущейся жизни.
В кинематографе метод раздела, разреза достигает своих наиболее
совершенных форм.
Благодаря техническим возможностям кинематографа все может быть
разделено и все может быть соединено для целей разъяснения и непосредственного
показа живых связей, существующих в действительности. Где бы ни была
обнаружена художником такая связь, он может,'сделав разрез, непосредственно
показать ее зрителю. Он может взять факт, случившийся сегодня в Париже, и
факт, случившийся десять лет тому назад в Вашингтоне, и, сдинув их вместе
176
до прямого соседства,»показать их внутреннюю связь. Он может взять целое
явление, выделить в нем только то, что наиболее точно определяет внутренний
закон его развития, и, соединив вырезанные куски, непосредственно передать
мысль зрителю. Например, взять промышленный город, показать великолепие
вещей, изготовляемых рабочими, и поставить рядом нищенское убожество того,
чем рабочие вынуждены пользоваться сами. Или взять движущуюся по улице
толпу людей и, выделив десяток типичных представителей различных групп,
определить и ее состав и цель ее движения. Или взять разговор двух людей и
вскрыть истинное его содержание, показывая не то, что они видят друг у друга,
а то, что они друг от друга скрывают.
Этого можно достигнуть, врезывая отдельно снятые детали, например
сжимающийся кулак, спрятанный за спиной, или взгляд, направленный на
револьвер, лежащий в стороне.
Метод раздела и соединения, развиваемый техническими возможностями
кинематографа до высоких форм совершенства, мы и называем киномонтажом.
Стремление режиссера при обработке сценария и при съемке сцен
осмысленно и целеустремленно делить действие на отдельно снятые куски, является
стремлением прогрессивным, непосредственно связанным и с культурой
режиссера, со степенью его одаренности, а главное, со степенью желания наиболее
полно отразить живую действительность со всем ее глубоким внутренним
содержанием.
Самых больших результатов искусство киномонтажа достигло в области
монтажа зрительных изображений. Это, конечно, объясняется длительным
существованием периода немого кино. Достаточно вспомнить некоторые из
крупнейших немых картин, вроде «Броненосца «Потемкин», чтобы понять, какой
огромный идейный заряд и какую силу осмысленного зрительного воздействия
они несли в своей бессловесной, но до предела насыщенной живой мыслью форме.
С монтажом звуковой картины дело обстоит уже гораздо хуже. В лучших
картинах звукового периода, таких как «Чапаев»4 или некоторые работы Дж.
Форда5, сохранились и использовались традиционные приемы немого периода.
Но, к сожалению, в большинстве картин даже и старые, хорошо известные
формы применения монтажа стали исчезать с экрана.
Чем это объясняется? Конечно, не тем, что монтаж изживает себя и
заменяется чем-то другим, более значительным. Природа монтажа свойственна
всем искусствам, и в кинематографе она приобрела лишь более совершенные
формы и неизбежно будет развиваться далее. Остановка в развитии монтажных
приемов объясняется иначе. Дело в том, что вместе со звуком на экран пришло
театральное зрелище со своими традициями, со своими актерами и со своими
возможностями показа жизни.
Театральный спектакль, разыгрываемый на сцене, может быть
великолепным произведением театрального искусства, но, механически перенесенный на
экран, он произведением киноискусства не станет. Первоклассный автомобиль
может великолепно ездить по земле, но, если приделать к нему крылья и винт,
он не полетит. Я уже говорил, что театр имеет свои возможности и свои пределы.
У кинематографа возможности больше и пределы шире. Если их не
использовать, киноискусство перестает быть искусством и превращается только в
систему для записи результатов другого искусства.
Театрализация киноискусства особенно ярко заметна в огромном по объему
американском производстве. Появляется множество картин, целиком берущих
177
пьесу вместе с ее сценической постановкой. Зачем, на самом деле, тратить силы
на какую-то переделку, если театр уже сделал все необходимое, чтобы пьеса
хорошо смотрелась, интересовала и волновала? Правда, мысли автора
раскрываются чисто театральными методами. Главным образом говорят, обо всем
рассказывают и мало показывают. Но ведь в конце концов зритель будет смотреть
не метод, а пьесу.
Все как будто разумно, главным образом с коммерческой точки зрения.
Появляется нечто вроде коммерчески выгодной экономии творческой мысли и
творческих сил. Но такое положение остаться не может и не останется. Если
кинорежиссер желает довольствоваться механическим переносом театрального
спектакля на экран с прибавлением десятка натуральных пейзажей вместо
декораций, он становится ремесленником и в счет не идет. Если режиссер желает
зарабатывать деньги, снимая картинки для пустого развлечения мещанской
публики типа музыкально-танцевальных или глупо-комических, то, конечно,
для таких картинок никакого умного монтажа не нужно. Такой режиссер
может довольствоваться шаблонами ранее найденных приемов, то есть стать тем
же ремесленником. Он в счет тоже не идет.
Если же режиссер поставит перед собой задачи, объединенные высокой
идеей, и если он захочет разработать их так, как позволяет современная,
передовая человеческая мысль, он непременно обратится к мощному методу монтажа.
Чем шире идея, чем глубже ее разработка, тем более будет потребность
не только использовать уже найденные приемы монтажа, но также изобретать
новые. Рамки театральных условностей будут для него невыносимо тесны.
Только актер и его игра не смогут вместить всего, что он хочет раскрыть перед
зрителем в изображаемой им жизни.
Использование приемов монтажа и изобретение новых тесно связаны с
работой познающей мысли режиссера и творческим стремлением передать ее
результаты зрителю в наиболее ясной, сильно впечатляющей форме.
Развитие монтажа — это путь в будущее киноискусства. Многое сказанное
мною относится гораздо больше к этому будущему, чем к опыту, накопленному
до сих пор. Много придется работать с цветом. В области целеустремленного,
смыслового монтажа цветных кусков еще не сделано буквально ничего. Можно
в заключение сказать только одно: чем более культурными, чем более
насыщенными передовыми идеями будут становиться задачи, разрешаемые
киноискусством, тем более важным, богатым и совершенным будет становиться арсенал
приемов мощного метода киноискусства — монтажа.
1949 г.
МАСТЕРСТВО
КИНОАКТЕРА
Натурщик вместо актера
Актер в фильме
Реализм, натурализм и «система»
Станиславского
Предисловие
[к книге М. Алейникова
«Пути советского кино
и МХАТ»]
Идеи Станиславского и кино
Работа актеров кино
и «система» Станиславского
О творческом воспитании
1929 г.
1934 г,
1939 гв
1946 г.
1948 г.
1952 г.
1952 г,
Натурщик вместо актера
Прежде всего позвольте мне от имени русских киноработников
приветствовать в лице вас то общество (Film Society)1, которое первым взяло на себя
задачу познакомить английскую публику с нашими картинами.
Я прошу извинить меня за плохую английскую речь. К сожалению, мое
знакомство с языком настолько мало, что я должен не говорить, а читать, и то очень
плохо. Я попробую в своей краткой речи познакомить вас с некоторыми
принципами, которые мы кладем в основу нашей работы. Когда я говорю «мы», я,
конечно, подразумеваю режиссеров так называемого левого направления2.
Я начал свою работу в области кинематографа почти случайно. До 1920 года
я был специалистом-химиком и, по правде сказать, презирал кинематограф,
несмотря на то, что любил другие виды искусства. Я, как и многие другие, не мог
согласиться называть кинематограф искусством. Я считал его плохим
суррогатом театра и только.
Это мнение не было удивительным, так как картины, которые нам
показывали в то время, были невероятным хламом. Таких картин очень много и сейчас —
их называют «kitsch».
<Это примитивные сюжеты, рассчитанные на дурной вкус среднего
обывателя,— дешевое развлечение, которое прежде всего гарантирует хорошую
прибыль владельцу кинотеатра, но в конечном счете деморализует зрителей.
Методы изготовления подобных фильмов ничего общего с искусством не
имеют. Их постановщики думают только об одном: как бы наснимать побольше
смазливых девушек со всевозможных точек зрения, обеспечить герою как можно
больше побед в драках и завершить все это наиболее эффектным поцелуем «в
диафрагму». Не приходится удивляться, что такие фильмы не могли привлечь
к себе сколько-нибудь серьезного внимания.
Однако случайная встреча с молодым художником и теоретиком кино
Кулешовым дала мне возможность ознакомиться с его идеями, заставившими меня
полностью изменить свои взгляды. От него я впервые узнал значение слова
«монтаж» — слова, сыгравшего огромную роль в развитии нашего
киноискусства.
С современной точки зрения идеи Кулешова были на редкость просты. Все,
что он говорил, сводилось к следующему: в каждом искусстве должен быть,
во-первых, материал и, во-вторых, особый, соответствующий > данному
искусству способ композиции этого материала.
181
Музыкант имеет материалом звуки и сочетает (компонирует) их во времени.
Материал художника — краски, он сочетает их на поверхности полотна или
бумаги и т. д. Каков же материал кинематографического режиссера и каков
метод композиции этого материала?
Кулешов утверждал, что материалом в кинематографе являются снятые
куски пленки, а композиционным методом будет склейка этих кусков в
определенном, творчески найденном порядке. Он утверждал, что искусство в
кинематографе начинается не с игры актера и не со съемки его (это только
подготовка нужного материала). Искусство начинается с того момента, когда режиссер
начинает сочетать и склеивать различные куски. Он соединяет их в
различных комбинациях, в различном порядке и получает различный смысл.
Ведь в самом деле, если мы имеем, например, три таких куска: на одном снято
испуганное лицо, на другом — улыбающееся лицо, а на третьем —
направленный на кого-то револьвер. Мы скомбинируем куски двумя разными
способами. Предположим, в первом случае мы показываем сначала улыбающееся лицо,
потом револьвер, потом испуганное лицо; во втором случае, наоборот,—
сначала испуганное лицо, потом револьвер, потом улыбающееся. В первом
случае получится трус, а во втором — храбрец. Конечно, это грубый пример, но в
современных картинах мы видим, как только благодаря талантливой
комбинации кусков зритель получает сильнейшее впечатление.
Нами совместно с Кулешовым был проделан интересный эксперимент3.
Мы взяли из какой-то картины снятое крупным планом лицо известного
русского актера Мозжухина. Мы нарочно выбрали спокойное, ничего не
выражающее лицо. Мы склеили это лицо с другими кусками в трех различных
комбинациях. В первой комбинации сейчас же за лицом Мозжухина следовала тарелка
супа, стоящая на столе. Выходило, конечно, так, что Мозжухин смотрит на
этот суп. Во второй комбинации лицо Мозжухина было склеено с гробом, в
котором лежит умершая женщина. В третьей, наконец, за лицом следовала
маленькая девочка, играющая очень смешным игрушечным медведем. Когда мы
показали все три комбинации неподготовленной публике, результат оказался
потрясающим. Зрители восхищались тонкой игрой артиста. Они отмечали его
тяжелую задумчивость над забытым супом. Трогались глубокой печалью глаз,
смотрящих на покойницу, и восторгались легкой улыбкой, с которой он
любовался играющей девочкой. Мы же знали, что во всех трех случаях лицо было
одно и то же. Такова сила воздействия монтажа.
Но мало одного сочетания кусков в различном порядке. Кроме того, нужно
уметь управлять относительной длиной этих кусков. Соединзние кусков
различной длины так же, как в музыке сочетание звуков разной длительности,
создает ритм картины и различно воздействует на зрителя. Быстрые короткие
куски волнуют, длинные успокаивают. Уметь находить нужный порядок
кусков и нужный ритм в их сочетании — в этом заключается главная задача
искусства режиссера. Это искусство мы называем монтажом. Только при помощи
монтажа мне удается разрешать такую трудную задачу, как работа с актером.
Дело в том, что я считаю главной опасностью для человека, снимающегося
для фильма, так называемую «актерскую игру». Я хочу работать только с
реальным материалом — это мой принцип. Я утверждаю, что показывать рядом
с настоящей водой, с настоящим деревом и травой прикленную бороду,
нарисованные морщины и театральную игру невозможно, это противоречит самому
элементарному представлению о стиле.
182
Но как же поступить? G театральным актером работать очень трудно.
Исключительные таланты, могущие жить, а не играть, попадаются крайне редко,
а если попросить среднего актера просто сидеть спокойно и не играть, то он будет
вам играть, что он не играет.
Я попробовал работать с людьми, никогда не видевшими ни сцены, ни
кинематографа, и мне удалось при помощи монтажа достигнуть некоторых
результатов. Правда, здесь нужно быть очень изворотливым. Приходится изобретать
тысячи способов вызвать в человеке нужное состояние и вовремя снять его.
Например, в картине «Sturm over Asia» * мне нужна была толпа монголов,
с восторгом смотрящая на драгоценный мех лисы. Я пригласил китайского
фокусника и снял лица монголов, смотрящих на его чудеса. Когда я склеил этот
кусок с мехом в руках продавца, получилось то, что нужно. Однажды я долго
бился с актером, желая получить его добродушную улыбку. Она не выходила.
Актер все время ее «играл». Тогда я улучил минуту и снял его лицо,
улыбающееся на мою шутку, когда он был уверен, что съемка уже кончилась.
Я все время работаю над совершенствованием этого метода и верю в его
будущее. Конечно, так можно снимать только короткие куски отдельных лиц, и
дело искусства режиссера суметь при помощи монтажа сделать из этих кусков
целую живущую фигуру.
Я не раскаиваюсь во взятом мною направлении. Я все чаще и больше работаю
со случайными людьми и доволен результатами. В последней картине я
встретился с монголами, некультурными людьми, которые не понимали даже моего
языка, и, несмотря на это, монголы в картине могут поспорить с лучшими
актерами.
В заключение мне хочется поделиться с вами моей точкой зрения на
чрезвычайно острый вопрос, с которым мы все столкнулись в последнее время. Я
говорю о «Sound-Film»**.
Я полагаю, что будущее его огромно. Но когда я говорю о «Sound-Film»,
я никоим образом не подразумеваю говорящую фильму, то есть такую, где
человеческая речь и различные звуки точно совпадают с изображением на
экране. Такие фильмы являются не чем иным, как фотографической
разновидностью театра. Они, конечно, любопытны и первое время будут привлекать
публику, но это ненадолго. Настоящее будущее за иным. Я мыслю себе фильму,
в которой звуки и человеческая речь сочетаются с изображением на экране
подобно тому, как две или несколько самостоятельных мелодий могут сочетаться
в оркестре. Звук соответствует картине так, как теперь соответствует музыка.
Разница только в том, что режиссер будет иметь звуки в своих собственных
руках, а не в руках дирижера оркестра. И богатство этих звуков будет
необычайно. Все звуки всего мира—начиная с шепота человека, крика ребенка и
кончая взрывом фугаса. Выразительность картины может достигнуть невероятных
высот. Я смогу соединять гнев человека с ревом льва. Язык кинематографа
достигнет силы языка кинематографа***. Но никогда не надо показывать на эк-
* «Буря над Азией» — так назывался в зарубежном прокате фильм В. Пудовкина
«Потомок Чингис-хана». (Прим. сост.)
** Sound-Film — звуковой фильм. (Прим. сост.)
*** В английском варианте статьи эта фраза имеет такую редакцию: «Язык
кинематографа достигнет силы языка литературы», что больше соответствует общему содержанию
мысли Пудовкина. Видимо, в рукопись автора в этом месте вкралась ошибка. (Прим. сост.)
183
ране человека и воспроизводить его слова, точно совпадающие с движением его
губ. Это дешевая имитация, никому не нужный трюк.
Один из берлинских интервьюеров спросил меня: «Не думаете ли вы, что
было бы хорошо в картине «Мать» слышать плач, когда мать сидит у трупа
умершего мужа?» Я ответил следующее. Если бы это было возможно, я сделал
бы так: мать сидит у трупа и зритель слышит только звуки капающей воды.
Следующим куском идет молчащая голова покойника с горящей свечой, и здесь
вы слышите заглушённое рыдание. Так я мыслю себе звучащий фильм. Должен
сказать, что такой фильм будет оставаться интернациональным. Слышимые
слова, благодаря тому что они не имеют на экране соответствующего изображения,
можно переводить на все языки и заменять куски для каждой страны.
Позвольте мне в заключение поблагодарить вас за любезное внимание, с
которым вы выслушали мою речь.
1929 г.
Актер в фильме
Театр и кино
Споры о взаимоотношении кинематографа и театра, о необходимости
всестороннего освоения кинематографом театральной культуры, о проблеме
актера в театре и кино большей частью разрешались неправильно потому, что в
основу этих споров не ставилось единственно правильное понимание
возникновения кинематографа как момента развития театра.
Для того чтобы правильно разобраться в том, что мы должны отбросить,
что сохранить и видоизменить в театральном наследии, учитывая новую
природу и новые возможности кинематографа, мы должны в первую очередь уяснить
себе, какие новые технические возможности принес с собой кинематограф.
Я говорю именно о возможностях и подчеркиваю это слово потому, что
многие теоретики и практические работники кино сбиваются на неверный путь,
считаясь с кинематографом только как с фотографией, механически
фиксирующей спектакль, который, по существу, может оставаться настоящим
театральным спектаклем со всеми его специфическими техническими условиями.
Подлинное развитие самого кинематографа будет только тогда полноценно,
когда мы пойдем по пути максимального использования его новой технической
базы не только для фиксации уже найденных театром форм, но и для
нахождения новых, иногда более глубоких, более выразительных средств передачи
зрителю творческого замысла. Возможность использовать.кинематограф только
как фотографию театрального зрелища, конечно, всегда останется, и такая
служебная работа киноаппарата может иметь некоторое значение в области
культурной работы. Но еще я раз повторяю, что развитие кинематографа как
искусства никак не может быть отождествлено с механическим перенесением
на экран театральной культуры со всей суммой обусловленных ею приемов.
Борьба против театральности в кинематографе ни в коей мере не означает
отрицания самого театра; она лишь ясно и твердо ставит вопрос о
необходимости, тщательно исследуя противоречия, неизбежно возникающие в процессе
развития театра, находить разрешение их в кинематографе, пользуясь его
новыми техническими возможностями. Конечно, этот процесс неизбежно
приводит к отрицанию ряда театральных приемов и нахождению и утверждению
специфических кинематографических приемов.
Ясно, что и частную проблему техники работы киноактера мы не можем
решить без предварительного знакомства с основными противоречиями, воз-
185
никающими в работе актера театрального. Мы не можем решить этой проблемы
и без ясного представления о различии материально-технической базы
кинематографа и материально-технической базы театра.
Какие основные противоречия театра снимает кинематограф? В отношении
каждого произведения искусства мы можем сказать, что оно является актом
коллективного познания и изменения действительности. Это значит, что по
существу своему каждое произведение искусства представляет собою в своей
целостности не только двусторонний акт — художник и создаваемое им
произведение искусства,— но более сложный процесс, имеющий три стороны:
художника, произведение искусства, зрителя.
Акт познания действительности, зафиксированный самим художником в
его произведении, продолжает жить и повторяться в многочисленных
зрителях. Совместно с художником зритель участвует в акте познания
действительности и тем самым превращает произведение искусства в определенный
общественно-исторический процесс, то есть делает это произведение действительно
реальным.
Театральный спектакль, как и всякое произведение искусства, начинает
полноценно существовать лишь с момента контакта его со зрителем. Для
советского художника этот зритель обладает особым качеством, рождающимся из
его огромного количества. Наш зритель — это все население Союза, а
впоследствии — все население мира. Что представляет собою каждый данный
театральный спектакль со стороны степени охвата им массового зрителя? Средний
количественный охват спектаклем, даваемым в одном театре в течение года,
будет приблизительно сто тысяч человек. Мы можем расширить этот охват путем
повторения спектакля в ряде других театров. Но и при наличии очень высокого
развития театральной сети спектакли, даваемые в Москве, будут отличаться
качеством от спектаклей одесского, тульского и казанского театров. Они
неизбежно будут идти под коэффициентами режиссеров, различных по методам и
качеству постановки, различных актеров и различных технических средств.
Даже в одном городе качественное различие постановок одной и той же пьесы
в разных театрах несомненно. Если идти далее и учесть необходимый охват
многомиллионного колхозного зрителя, мы получим чрезвычайно
убедительную разницу в постановках МХАТ и колхозного театра1, который немыслимо
обслужить первоклассными актерскими силами при любом совершенстве
организации гастролей.
Таким образом, расширение сети театров неизбежно входит в противоречие
с высотою качества спектакля. Для театра возможен еще один технический путь
к расширению своей аудитории — это увеличение театрального помещения.
Но и здесь существует определенный предел, за которым остро возникает
противоречие, скрытое в самой сущности театрального зрелища. Играющий актер
прежде всего должен быть хорошо виден и слышен. Для того чтобы быть ясно
воспринятым большим количеством зрителей, актер занимается дикцией,
ставит голос, учится делать свой жест широким и ясным, сохраняя вместе с тем его
внутренний смысл; он учится двигаться и говорить так, чтобы его можно было
хорошо видеть и слышать с последнего ряда галереи.
Но чем шире актерский жест, тем меньше возможностей его нюансировать.
Чем напряженнее приходится актеру говорить, тем сложнее становится
задача передать зрителю тонкие оттенки голоса. И то и другое влечет актера к
обобщающим формам, которые в конце концов неизбежно переходят в становящую-
186
ся все более холодной и сухой схему. Глубина и реалистичность образа,
создаваемого актером, входят в неизбежное противоречие с ростом количества
зрителей, смотрящих спектакль. Расширение театрального здания имеет свои
пределы, за которыми оно требует уже видоизменения самого спектакля и его
перехода в особую форму массового зрелища — в народные празднества,
карнавалы, парады.
Таким образом, мы видим, что искусство театра, развиваясь в наших
условиях, выявляет противоречия, рождающиеся из количественного роста
зрителя и качественного роста спектакля.
Как же снимаются эти противоречия в кинематографе? Вопрос о ценности
и высококачественности произведения искусства разрешается раз навсегда
при постановке картины. Достигнутый максимум в неизменном виде может
быть передан зрителю при помощи высокоразвитой сети кинотеатров. Степень
охвата этого зрителя разрешается чисто техническим путем. Количественно
зритель может быть доведен до всего населения земного шара. Качество
спектакля на любой, самой отдаленной от центра точке зависит лишь от высоты
технического оборудования кинотеатра, являющегося моментом стандартным.
В будущем мы, вероятно, будем иметь киноустановки в каждом жилище, и
усовершенствование трансляционного телевидения2, связанного с
радиопередачей, даст возможность одновременной демонстрации кинокартины во всех
мыслимых точках земного шара.
Можно было бы сказать, что и театральный спектакль в будущем можно
будет транслировать повсюду как для слуха, так и для зрения. Но за кино
всегда останется возможность повторения спектакля в едином, раз
достигнутом максимальном качестве.
Разрешается в кино также и второй момент упомянутого выше
противоречия между актером и величиной аудитории. Фактически величина киноактера
при наличии неограниченной возможности увеличения экрана и количества
звуковых репродукторов может быть доведена до любого размера. Вместе с тем
снимающийся актер может говорить без малейшего напряжения, оставаться
свободным в выборе тончайшей нюансировки как в области голоса, так и в
области жеста и мимики. Ниже нам придется специально говорить о значении
этого обстоятельства для работы киноактера.
Я перехожу к новому противоречию, возникающему в процессе развития
театрального зрелища в наших современных условиях. Художнику,
включающему зрителя в процесс познания действительности путем создания
произведений искусства, свойственно стремление к максимально широкому и
глубокому охвату этой действительности. Особенно в такую эпоху, как наша,
естественно стремление к реалистическому показу бесчисленных, вновь
открывающихся сторон этой действительности, бурно развивающейся, сплошь и
рядом обгоняющей человеческую обобщающую мысль.
Жадное стремление увидеть за всяким обобщением живую сложность жизни,
все время новую и новую, неизбежно рождает желание включить в
произведение искусства максимальное количество явлений, непосредственно
показанных за счет максимального расширения охвата пространства и времени.
Но для того чтобы расширять в каждом произведении этот
пространственный и временной охват действительности, в каждом искусстве существуют
свои приемы, связанные с определенной техникой. На театре, например,
основным приемом этого рода является разрез спектакля на отдельные акты и кар-
187
тины. Одноактный спектакль с двумя разговаривающими людьми, длящийся
без перерыва в течение одного часа, фактически охватывает лишь часовой
разговор двух людей на одном месте и только его. Для того чтобы охватить
большее количество времени, мы можем разделить акт на две картины. Первая
может быть проведена весной в Берлине, а вторая летом в Москве. Этим делением
акта на части мы получим возможность охватить большее время и большее
пространство.
Мейерхольд 3 в своих постановках классических пьес стремился влить в них
современное содержание, и поэтому он не мог не выходить из тех
ограниченных рамок, приближающихся к единству времени и места, к которым были
приспособлены старые пьесы. Стремясь зрелищным путем вызвать в зрителе
необходимое ощущение диалектической сложности явления, Мейерхольд
обрамлял каждый акт такими сценическими моментами, назначение которых
было вскрыть театральным путем новое содержание, какого требует от познания
действительности современный зритель, а вместе с ним и художник.
Отсюда дробление Мейерхольдом спектакля не только на картины, но и на
многочисленные эпизоды внутри картин. Интересно вспомнить первый акт
«Леса», где Мейерхольд проводит двух актеров, не сходящих со сцены, путем
этого дробления, буквально через целую губернию.
Но, если мы будем развивать этот прием, оставаясь в пределах техники
театральной сцены, мы в конце концов неизбежно придем к неразрешимому
противоречию технического порядка. Представить себе театральный спектакль,
разрезанный на минутные и двухминутные куски,, немыслимо. Здесь
потребуются какие-то новые изобретения, которые могли бы осуществлять
молниеносно быструю перемену обстановки, позволили бы зрителю быстро и легко
переносить свое внимание с одной точки пространства на другую.
Охлопков в постановке «Разбега» 4 пробовал разбрасывать отдельные
короткие сцены по всему пространству театрального здания, причем зрителю при
смене эпизодов нужно было поворачивать голову вправо, влево, вверх, а
иногда и назад. Понятно, что если бы можно было устроить такое механически
совершенное кресло, которое избавило бы зрителя от ненужной усталости,
вызываемой постоянно навязываемым ему движением, то задача постановки
подобного спектакля была бы разрешена в пользу зрителя. Но едва ли стоит
изобретать такое кресло, когда техническая база кинематографа с совершеннейшей
простотой и легкостью разрешает эту задачу.
Самый древний кинематограф сугубо театрального периода, когда
кинокартина мыслилась только как простая съемка театрально поставленной пьесы,
уже оперировал отдельными сценами, длительность которых не превышала
пяти минут, то есть, иначе говоря, самые длинные сцены кинематографа при
его рождении были равны кратчайшим сценам театра.
Возможность молниеносной смены места, где развивается действие,
опять-таки уже в самый младенческий период кинематографа была освоена и применена.
Возможность почти беспредельного расширения пространственного и
временного охвата действительности в короткий определенный срок, отведенный
для спектакля, была также сразу принята и освоена в самых первых работах
серьезных мастеров киноискусства.
Таким образом, мы видим, что дробление театрального зрелища на куски,
исходящее из естественной потребности широкого пространственного и
временного охвата познаваемой действительности, на определенном этапе становится
188
неприемлемым для театра и одновременно становится исходным пунктом для
развития кинематографа. Если для театра трехминутный кусок —
немыслимый предел быстроты смены, то для кино это — последний предел
медленности.
Что же представляет собой эта новая техническая база, снимающая в
кинематографе указанное выше противоречие, выявляющееся в процессе развития
театра? В основном эта новая техника определяется, во-первых, наличием
подвижного съемочного аппарата, представляющего собою как бы до максимума
технического совершенства доведенный глаз зрителя. Этот глаз может
отдаляться от объекта на любое расстояние для того, чтобы охватить возможно
большее поле зрения, может приближаться к мельчайшей детали для того,
чтобы только на ней собрать все свое внимание. Этот глаз может перебрасываться
с любого места пространства на другое, причем вся эта сумма движений не
потребует в будущем от зрителя никаких физических усилий. Во-вторых, сюда
относится обладающий почти такой же степенью подвижности микрофон,
представляющий собою внимательное ухо, могущее с одинаковой легкостью
улавливать едва слышный шепот человека и мощный рев сирены, отдаленной от
него на километры.
В этой работе я хочу первоначально наметить основные моменты влияния
этой новой технической базы на работу одного из главных творческих
работников киноискусства — актера.
Нельзя, конечно, думать, что новая техника кино лишь облегчает работу
актера, снимая с него необходимость преодоления ряда специфических
театральных условий, о которых я говорил выше (например, напряжение голоса и
преувеличение жеста для преодоления пространства, отделяющего актера от
зрителя).
Новая техническая база кинематографа приносит с собою вместе с
моментами, облегчающими работу актера, также и многие трудности, не
существовавшие в театре или существовавшие там в гораздо более мягкой, гибкой форме.
Прежде чем говорить об этой специфике работы киноактера в кинематографе,
я хочу остановиться на тех общих моментах в работе актера в театре и в кино,
которые, конечно, не могут не существовать.
Противоречия в работе актера
В основе работы актера как в театре, так и в кино лежит работа над
созданием целостного, живого образа. С самого начала своей работы актер должен
идти по линии освоения, понимания этого образа, производя сложную работу
над собою в течение репетиции в театре или в так называемый
«подготовительный» период в кино.
Как в сценической, так и в экранной работе актер должен исходить из
глубокого освоения образа в его целеустремленности и идеологичности в
настоящем смысле этого слова. Эта работа, конечно, глубочайшим образом
обусловлена не только объективными, но и субъективными моментами;
Мыслимый образ связывается не только с той задачей, которую ставит пьеса
в целом, но также и с самим собою, с актером, как определенной индивидуальной
личностью. Все вопросы перевоплощения, как бы их ни толковали, не могут
быть никоим образом оторваны от наличия постоянного реального существова-
вания актера как определенного индивидуума со всеми данными характера
189
и культуры, которые в нем имеются. Особенно в начале работы основной акцент
лежит на связи образа с актером как с живым индивидуумом. Этот акцент лежит
на моменте эмоционального к нему отношения, на нащупывании в образе каких-
то таких специфических сторон, которые, непосредственно увлекая актера,
могут и должны сделаться исходным опорным пунктом в его будущей работе
над образом. Лишь затем, исходя уже из освоения и глубокого понимания всей
вещи, актер начинает наполнять свою работу над образом идеологическим
содержанием. Задача расширяется, включая в себя наиболее общие проблемы,
которые ставит пьеса.
Таким образом, работа актера над образом непременно двусторонняя. В
процессе роста и продвижения этой работы актер, опираясь на себя как на
определенную личность со всеми своими индивидуальными свойствами, будет
строить свое новое поведение в образе как результат взаимодействия этого
личного с тем, что требует от него понятая и освоенная общая задача пьесы.
В конечном счете задачей спектакля и актера в нем является передача
зрителю некоего реального человека, существующего или могущего существовать
в действительности. Во всем процессе творческой работы над ролью актер не
может не оставаться живым, органически единым человеком. Когда актер
выходит на сцену, ничто из того, что есть в нем, не уничтожается. Если он добрый
человек и играет негодяя, то он и остается добрым человеком, играющим
негодяя. Поэтому и построение образа должно у него идти не через механический
показ неприсущих ему свойств, а через преодоление присущих ему свойств.
Он будет приближаться к образу только тогда, когда ряд движений,
внутренних или внешних, которые нужны для пьесы, будет найден актером не через
механическое повторение продиктованных или придуманных слов, движений
и интонаций, а тогда, когда все это найдено через преодоление его самого как
живого человека. Этот характер работы необходим для того, чтобы сыгранная
роль получила нужную органичность и целостность, которой, конечно, она
иметь не может, будучи оторванной от органичности и целостности живой
личности актера.
Двусторонность процесса творческой работы над созданием образа по
существу отражает в себе двусторонность любого процесса нашего познания
действительности и, я бы сказал, любого практического столкновения человека
с любым явлением. Например, в области политической работы, которая, как
всякий труд, имеет в себе всегда творческое начало, мы знаем хорошо о
необходимости увязки теории с практикой. Мы знаем, что теория должна
проверяться практикой, а практика должна обобщаться теорией, что только тогда
действительный процесс будет двигаться правильно вперед. Также эмоциональная
сторона и сторона логическая представляют собой двусторонний процесс в
построении образа актера. Логика этого построения должна неизбежно
проверяться в личном эмоциональном волнении и приобретать органическую
целостность живого построения, и вместе с тем эмоциональные посылы должны
непременно проверяться и опираться на логику пьесы. Поэтому актер, как в
театре, так и в кинематографе, никогда не может явиться голым понятием
«натурщика», как это неоднократно утверждалось.
Понимание работы актера, как работы натурщика, покоится на нелепом
представлении о деятельности актера как о некоем механическом процессе,
который можно разложить на отдельные, не связанные между собою куски;
оно покоится на полном отрицании актера как цельной живой личности, ли-
190
шенной какого бы то ни было представления о внутреннем смысле своей работы,
и, естественно, делает невозможным создание на сцене или на экране
целостных реалистических, живых фигур.
Таким образом, мы твердо устанавливаем наше основное положение о
работе актера как в театре, так и в кино. Процесс борьбы за целостность,
жизненную органичность создаваемого образа определяет собою сущность
техники актера.
Технические условия как сцены, так и экранной работы непременно
предъявляют ряд требований к работе актера, которые неизбежно нарушают
целостность и непрерывность его существования в роли.
Разрывность, раздельность спектакля на акты, сцены и явления и еще
большая разрывность, раздельность работы актера во время съемки картины
создают целый ряд препятствий, через которые весь творческий коллектив в
целом (актер и режиссер — в театре; актер, режиссер и оператор — в кино)
должен пронести органическое единство создаваемого образа.
Неизбежная прерывность актерской игры входит в противоречие с
потребностью актера сохранять себя в этой игре цельным и нераздельным. Это
действительно и для театра и для кино. Актер играет на сцене кусками. Между
двумя выходами, между отдельными спектаклями он продолжает существовать,
фактически не играя.
Это противоречие между механической разрывностью, которую диктуют
условия театра, и между потребностью актера жить непрерывно в образе
устраняется плохими актерами и плохими теоретиками тем, что они утверждают
возможность простого механического заучивания нужных для роли движений
и слов.
В уродливой трактовке актера как натурщика, механически повторяющего
только внешне трактованные движения, разрыв между отдельными кусками
игры представляется буквально как пустота, не требующая заполнения живой
связующей тканью не только в самом спектакле или процессе съемки, но также
и во всей предварительной работе над ролью.
Этот уродливый подход к работе актера особенно сильно выражен в
кинематографе. В действительной работе прерывность игры актера должна
трактоваться как трудность, которую нужно преодолеть в сторону ее уничтожения.
Нужно сказать, что дробление игры актера на отдельные куски в течение
спектакля на театре существует далеко не в такой мере, как в кинематографе.
Условия театральной работы предоставляют актеру возможность более длительного
существования в данном образе. Вместе с тем система работы театрального
актера над образом идет всячески к тому, чтобы создать максимум условий,
позволяющих связывать куски роли в единое целое внутри самого актера.
Прежде всего помогает этому в театре репетиционная работа. Во время
репетиционной работы театральный актер не связывает себя с жесткими условиями
текста пьесы. Актеры школы Станиславского на репетициях играют не только
куски роли, но и куски, не существующие фактически в пьесе и нужные
актеру для нахождения полного ощущения себя в роли.
Вся репетиционная работа такого рода служит для того, чтобы актер мог
в любых направлениях, определяющих задуманный им образ, ощутить себя
свободно и цельно двигающимся. В сущности, это есть та работа, которая
связывает отдельные куски его игры в непрерывное ощущение единого образа
живого человека.
191
Глубочайший смысл такой репетиционной работы заключается в том, что
она отвлеченные мысли, общие установки актера, трактующие образ,
превращает на какой-то момент в конкретно им совершаемые действия и поступки.
Если актер хотя бы на мгновение останется в своей творческой работе
только мыслителем, он перестанет быть актером. Если актер решит, что человек,
роль которого он играет в пьесе, между первым и вторым актом пьесы может
убить человека, то он не только должен включить это возможное убийство как
отвлеченное понятие в трактовку своей игры во втором акте. Актер
непременно должен суметь сыграть это несуществующее в пьесе возможное убийство
для того, чтобы ощутить в себе не только мысль о поступке, но и возможность
самого поступка во всей его конкретности. Такого рода репетиционную
работу, стремящуюся всю сложность объективно задуманного образа связать
конкретно с живой личностью актера, со всем богатством его индивидуального
характера и культуры, можно назвать процессом освоения роли.
Станиславский в одной из своих заметок говорит об искусстве переживания
и искусстве представления, подразумевая под этими двумя понятиями два
типа актеров, из которых первый исходит из внутреннего посыла, а второй
идет от внешних театрализованных форм.
Станиславский говорит: «В то время как искусство «переживания»
стремится ощущать чувства роли каждый раз и при каждом творчестве, а искусство
«представления» стремится пережить роль дома лишь однажды, для того чтобы
сначала познать и потом подделать форму, выражающую духовную суть
каждой роли, актеры ремесленного типа, забыв о переживании, стремятся
выработать однажды и навсегда готовые формы выражения чувств и
сценической интерпретации для всех ролей и направлений в искусстве. Другими
словами, в искусстве «переживания» и «представления» процесс переживания
неизбежен. В ремесле он не нужен и лишь попадается случайно».
Здесь, в сущности, нужно было бы один раз заменить слово «переживание»
словом «освоение», потому что именно этот процесс глубокой внутренней
связи субъективного, личного, принадлежащего актеру, с объективным,
необходимым, принадлежащим пьесе и суждению актера о пьесе, эта связь и
конкретизируется в процессе правильной работы над образом; связь эта должна
непременно присутствовать у настоящего актера, не «ремесленника», как
называет Станиславский третий, правильно изгоняемый им из искусства тип
работника сцены.
Можно соглашаться или не соглашаться с нужностью переживания роли
в том сложном и подробном смысле, который вкладывают в это слово актеры
школы МХАТ, но в обоих случаях органическая связь личности актера с
каждым моментом жизни играемого им образа необходима.
Эта связь является прежде всего первым условием реалистичности образа.
Конечно, все, что относится к органической связности и целостности роли,
должно относиться также к органической связности и целостности всего спектакля.
Поэтому основные положения Станиславского о нахождении так называемого
«сквозного действия» являются также существенным моментом работы актера
над ролью.
Интересно, что момент личного освоения объективно задуманного образа
является необходимым условием работы не только в театре или в кино. Я думаю,
этот процесс конкретного ощущения личной связи с творимыми образами
является законным и необходимым для творческого процесса в любом искусстве.
192
Мы знаем из интересных высказываний писателей о своей работе, как они
сплошь и рядом бормочут слова персонажей своих произведений, чтобы через
конкретное, личное ощущение найти нужные интонации, слова, фразы.
Мы знаем высказывания Гоголя, который утверждал, что все действущие
лица «Мертвых душ» являются, в сущности, теми темными сторонами его
личной натуры, которые он хотел бы уничтожить в себе.
Создавая систему и метод репетиций, театр всесторонне помогает актеру
в его борьбе за целостное и глубокое освоение роли.
Прерывность актерской работы
в кино
Все сказанное о необходимости и смысле работы над целостностью образа
в театре, конечно, целиком относится и к основным задачам искусства актера
кино. Можно сказать, что реалистичность, а следовательно, и целостность
образа для актера кино являются сравнительно с театром еще более острой и
насущной проблемой. Если в театре все же возможны спектакли, построенные на
гипертрофии условности театрального зрелища, спектакли, носящие
отвлеченно эстетический характер, максимально удаленные от прямого отражения
действительности, то кинематограф нужно считать искусством, которое дает
наибольшие возможности приближения к реалистическому воспроизведению
действительности.
Мне все время приходится подчеркивать слово «возможность» для того,
чтобы направлять внимание читателя на то, что нашей задачей является не
утверждение кинематографа как некоего статичного, комплекса приемов,
которые должны быть узаконены для всех раз и навсегда. Конечно, и в
кинематографе возможны условные постановки, абстрагированные от прямого
показа действительности; конечно, и в кинематографе момент обобщения можно
довести до любых пределов, вплоть до показа супрематических комбинаций
чёрного и белого. Но вместе с тем тот же кинематограф представляет огромные
возможности для приближения искусства в максимальному охвату живой
действительности в прямом ее показе.
Вопрос о степени обобщения — это вопрос того чувства меры, которое
определяет качество художника-мастера и которое почувствует по окончании
произведения искусства зритель, реагирующий на него либо настоящим
волнением— а для произведения искусства это высшая оценка,— либо холодом и
отказом.
Говоря о возможностях, этим самым я стремлюсь определить ту тенденцию
развития данного вида искусства, над которой, в сущности, и надо работать
мастерам в процессе личного совершенствования.
В кино, так же как и в театре, мы в первую очередь упираемся в проблемы
прерывности актерской работы, входящей в противоречие с потребностью
непрерывного творческого вживания, освоения играемого образа.
В силу специфических условий кинематографа, о которых я скажу ниже,
вопрос этот приобретает еще более острый характер, чем в театре. Если мы
разберемся в том материале, который дают нам рассказы отдельных театральных
актеров об их случайной работе в кинематографе, то мы столкнемся с целым
рядом нападок и протестов, подчас даже ругательств по поводу этой
пресловутой гипертрофированной разрывности игры кинематографического актера.
7 В. Пудовкин, т. 1
193
Актеры утверждают, что им либо приходится в крайней степени
абстрактно представлять себе играемый образ, ограничиваясь лишь поверхностным
чтением сценария, либо просто отдавать себя в распоряжение режиссера и его
помощника, становясь безвольным рабом, которого рядом окриков и
приказаний заставляют исполнять непонятную для него механическую работу.
Актеры утверждают, что они теряют всякую возможность ощущения цельности
образа, всякую возможность ощущения в процессе съемки себя как живого
человека, потому что сегодня им приходится играть конец роли, завтра —
начало, послезавтра — середину. Куски перепутаны, куски страшно коротки;
иной раз снимается взгляд, который относится к тому, что актер сделает через
месяц, когда будет сниматься соответствующее этому взгляду движение руки.
Разбитый на мельчайшие части образ, создаваемый актером, лишь
впоследствии собирается в какое-то целое, причем даже этот единственный процесс
собирания делает не он, а режиссер, который по большей части не допускает актера
к какой бы то ни было форме наблюдения за этой работой или хотя бы просто
для связи с ней. Таково в среднем содеря^ание протеста театрального актера,
работающего в кино.
- Но действительно ли кинематограф в силу своих технических особенностей
так неумолимо диктует необходимость уничтожения возможности конкретного
ощущения актером, целого своей роли? Действительно ли неизбежно нужно
заставлять актера работать в таких неприемлемых для него, как художника,
условиях? Конечно, это не так. Нужно признать, что система работы с актером,
существовавшая у большинства мастеров, до сих пор не только несовершенна,
но и попросту неправильна. И мы должны суметь найти те пути, которые, так
же как и в театре (я уже упоминал, что в театре наличие разрывности игры
актера тоже имеет* место, но, конечно, в значительно меньшей степени, чем в
кино), позволили бы нам создать актеру условия работы, в которых он смог бы
осуществить необходимый процесс освоения роли.
Здесь нужно непременно сказать, что, конечно, от дробления игры актера
в самом процессе съемки мы не только не избавимся, но и не должны
избавляться, если мы правильно понимаем сущность того направления, по которому кино
мол-сет и должно развиваться. Мы должны лишь говорить о сущности тех
технических приемов, которыми актер должен бороться с той разрывностью игры
во время съемки за создание и сохранение внутри себя целостного ощущения
всей суммы отдельных моментов игры как единого, органически с ним слитого
образа. Театр помогает актеру, развивая и разрабатывая методику репетиций.
Мы в кинематографе, вероятно, прежде всего должны пойти также по этому
пути.
Я хочу сначала разобраться в том, откуда получилась уродливая система
работы с актером в кино, о которой я только что упоминал. Утверждение необ-.
ходимости дробления игры актера на монтажные куски началось с
узкотехнической режиссерской трактовки приемов, которые релшссер кино использовал:
для создания картины вообще. С первого момента появления кинематографа,
наиболее глубоко и наиболее серьезно занялись им как искусством прежде
всего, режиссеры, и не удивительно, что наши первые значительные
кинопроизведения развивались под знаком резкого уклона в сторону режиссерского
оформления картины.
Режиссеры искали и действительно находили в кинематографе
специфические возможности, которые позволяли им именно через кино и только через не-
194
го воздействовать на зрителя особенно сильно, иной раз сильнее, чем через
какое бы то ни было другое искусство.
Ими была найдена особая форма композиции зрительных, а впоследствии
частично и звуковых образов, которая в кинематографе была названа
монтажом. Ритмическая композиция кусков, непременно свойственная всякому
искусству, в кинематографе приобрела особенно острое значение, поскольку она
могла быть соединена с невозможным для любого другого искусства (кроме,
может быть, литературы) охватом богатого действительного мира.
Понимание и ощущение киноаппарата и микрофона как некоего идеально
подвижного в пространстве и времени наблюдателя давало этим первым
картинам эпический характер и вместе с тем, естественно, на какое-то время
отвлекало режиссера и идущего с ним сценариста от правильного понимания
значения живого индивидуума — человека как личности, с ее глубиной и
сложностью.
Возможность перебрасывать съемочный аппарат на бесчисленное количество
различных пространственных точек, связывать их вместе в процессе монтажа,
возможность выбрасывать действие из картины через известные промежутки
времени, как бы сокращая или расширяя самое время,— эти возможности
привели к тем результатам, которые определили кино как передовое искусство
в плане широчайшего познавательного охвата действительного мира. Однако
процесс этих поисков привел режиссера на определенном этапе развития к
тому, что он начал пользоваться живым человеком, актером как компонентом
картины, которым можно пользоваться наравне с другими компонентами как
равноценным материалом, подлежащим лишь монтажной композиции в конце
творческой работы над картиной.
Актер, так сказать, спутывался, смешивался с аэропланом, автомобилем,
деревом. Режиссер в поисках приемов построения кинематографического
зрелища не сумел понять, что для полноценного кинематографического спектакля
живой человек должен быть в процессе съемки не уничтожен и даже не
сохранен, а выявлен; причем если это выявление не будет реалистичным, то есть
целостным и живым, то человек в фильме в конце концов окажется хуже
аэроплана и автомобиля, что, нужно сказать, и оказывалось в картинах некоторых
режиссеров. С актером, которого использовали как машину, механическим
путем, были связаны все случайные теоретические высказывания, основанные
на идее механического перенесения приемов монтажного чередования длинных
и коротких кусков в технику актерской работы. Все эти теоретические
высказывания нельзя даже назвать теорией, поскольку они являлись лишь
отдельными оправданиями эмпирии, экспериментов, касавшихся главным образом
общих задач композиции в кинокартине.
Ход мысли был приблизительно таков. На экране мы имеем крупные и об-т
щие планы. Следовательно, актер должен уметь правильно приспосабливать
свое поведение перед аппаратом к задачам этих крупных и общих планов. На
экране мы имеем несомненное взаимное действие двух соседних кусков, причем
первый из этих кусков может быть куском актерской игры, а второй — любым
явлением, нужным режиссеру или сценаристу и находящимся в любой, может
быть, весьма отдаленной от актера точке пространства. Следовательно, актер
должен уметь сыграть короткий кусок без начала и конца и без наличия того,
что, по замыслу режиссера и сценариста, должно воздействовать на этого
актера в процессе игры. .--.._■
7*
195
На экране мы можем перебросить играющего актера с хмолниеносной
быстротой с одной точки времени или пространства на другую, в любой степени
отдаленную. В реальной съемке мы этого непосредственно сделать не можем.
Следовательно, актер должен уметь играть отдельные куски, разделенные между
собой любым временным промежутком, целиком доверяя их связанность
только режиссеру, представляющему себе будущую картину уже в смонтированном
виде.
Так представлялась в схематических чертах сумма технических требований,
предъявляемых актеру. В этом механическом представлении отсутствовало
основное понимание того, что творческий процесс актера и техника этого
процесса есть выработка приемов борьбы за ощущение живой ткани образа, при
которой любой отдельный поступок, как бы он ни был оторван от другого, будет
все же связан внутри самого актера. Никакой помощи в этой борьбе актеру не
оказывалось, и тем самым в сущности техника актерской игры в кино
находилась на низком уровне.
Еще раз должен подчеркнуть, что, говоря о технике актера и цельности
образа, я ни в коей мере не отрицаю и не отвожу неизбежности наличия в
процессе съемки кинокартины отдельных коротких кусков. Существует тенденция
помочь актеру, переведя его работу на длинные куски и общие планы. Эта
тенденция, по существу, есть ход по линии наименьшего сопротивления,
протаскивающая в кинематограф природу и технику театра. Тенденция эта —
игнорирование огромных возможностей кинематографа, поставивших его на особое
место в ряду других искусств, которое, как я говорил уже, непосредственно
связано с короткостью, а следовательно, и многочисленностью составляющих
кинокартину кусков. Путь по этой линии никому не закрыт. Картина «Гроза»5,
являющаяся с этой точки зрения, в сущности, реакционной, в конце концов
имеет несомненное и крупное культурное значение, поскольку она чуть ли
не впервые позволяет актеру чувствовать себя живым человеком в процессе
игры.
Но, конечно, не эта линия сведения кинозрелища к сценическому
ограничению времени и места есть путь кинематографа. Нам нужно с боем идти по той
генеральной линии, которая включает в себя все богатство возможностей,
даваемых кино, и на которой, конечно, как закон встречается и будет встречаться
максимальное количество препятствий.
Теоретические предпосылки
прерывности
Задачей театра, как и всякого искусства, повторяю, является коллективное
познание и изменение действительности через отражение ее в произведении
искусства. В арсенале приемов, которыми театр располагает для этого процесса,
актерский диалог занимает единственное основное место. Максимальный охват
действительности, являющийся задачей художника в театре, в основном мыслим
только через актера, через человека, через его движения, слово, через его связь
с другими людьми в диалоге.
Правда, в театральное действие вводится помимо человека также и
вещественное оформление спектакля, задачей которого иной раз является прямой и
непосредственный показ зрителю действительности, находящейся вне актера.
Но природа театра все же такова, что основным началом, разворачивающим
196
содержание спектакля, является говорящий человек, то есть актер, связанный
с другими актерами в едином действии.
Показ действительности, находящейся вне актера, в высокой степени
ограничен техникой театра. Бывают случаи, когда в театре вещественному
оформлению придают большую роль. Но, если театр развивается в этом направлении,
он быстро исчерпывает свои возможности. Поэтому широкий, всесторонний
показ явлений, окружающих любой момент деятельности человека, возможен
только путем внесения описания их в текст, то есть опять-таки через
человеческую речь на сцене, через актера.
Непосредственный показ события, органически связанного с действием, но
пространственно или временно оторванного от него, можно в пьесе заменить
рассказом об этом событии. Вестник, «ведущий», конферансье, так часто
вводимые теперь в спектакль, являются характерными театральными приемами.
Мир действительности, который собирает художник в творческом акте своего
познания, может проникнуть на театральную сцену главным образом через
актера, его слово, жест, движение, поведение. Это является характерным для
театра.
С кинематографом дело обстоит иначе. То, о чем в театре можно только
рассказывать, здесь можно непосредственно показать. Особая техническая база
кинематографа, о которой я говорил уже, обладает замечательной возможностью
непосредственного показа, непосредственной передачи зрителю любого явления
действительности.
Можно было бы возразить, что этот непосредственный показ не обязателен
и даже не нужен. В процессе обобщения, который непременно свойствен всякому
творческому акту, особенно в искусстве, можно оставить непосредственный
показ частных явлений, разбросанных по времени и пространству, и собрать их
в одно обобщающее целое, которое воля художника может поместить в любое
единое место. Что касается необходимости обобщения в творческом процессе,
с этим нельзя не согласиться. Но развитие этого положения до идеалистического
приспособленчества к удобным старым формам, к отказу от использования
новых, не существовавших до сих пор возможностей, я думаю,^нужно считать
неправильным и по существу реакционным.
Мне пришлось говорить с драматургом6, который честно признался, что, *
собираясь писать драму на материале авиации, он ясно почувствовал, что
этот материал гораздо яснее, гораздо легче и выразительнее для него
уложился бы в форму кинокартины. *
Здесь на конкретном примере становится понятным, как значительное,
большее явление нашей действительности, каким является мировое развитие
авиации, обусловливающее изменение и развитие психики людей, может быть во
всей своей полноте охвачено и передано зрителю только при наличии
широчайшего разворота и непосредственного показа фактов, происходящих в таких
пространствах, которые для театральной сцены неодолимы.
На театре актер расскажет о полете, в литературе писатель прибавит к этому
рассказу свое описание того, что было вне внутренних переживаний летящего
человека, и только кинематограф соединит для зрителя непосредственное и
полное ощущение того и другого.
Нечего и говорить, что непосредственный показ отличается всегда особой
силой воздействия. Недаром театральное зрелище по силе своего воздействия
на зрителя стоит впереди всех других искусств. Если же мы примем во внимание,
197
что в кино можно ввести в порядке непосредственного воздействия неизмеримо
больший материал, чем это может сделать театр, нам станет понятно, что по
богатству этих возможностей кино приближается к литературе, становясь тем
самым искусством, исключительным по возможной мощи своего воздействия.
Кинематограф является своеобразным отражателем диалектической
сложности явлений в цельности их непосредственного показа. В этом акте есть
глубокий момент, неодолимо вовлекающий самого зрителя в творческий процесс.
Непосредственный показ материала в кино, не снимая момента обобщения,
который всегда обусловливает его композицию, вместе с тем заставляет зрителя
активно мыслить в самом процессе демонстрации картины.
Замечательно, что Ленин с всегдашней, свойственной ему необычайной
простотой и ясностью понимания вещей сразу же в случайной, технического
характера записке7 определил кинематограф прежде всего как мощное средство
широчайшего познавательного охвата действительности и передачи его
многомиллионным массам.
Я говорю об известной программе для кинотеатров, в которой Ленин
подчеркнул значение замечательной способности кинематографа показать мир,
познакомить широчайшие крестьянские и рабочие массы с другими странами и т. д.
Наше кино в лице своих лучших мастеров разворачивалось и разворачивается
в значительной мере в направлении насыщения картины максимальным
богатством непосредственного показа разнообразия явлений действительности,
иногда за счет наличия нужных моментов обобщения.
Мне кажется, что это явление нельзя просто объяснять индивидуальными
вкусами мастеров. Мне кажется, нужно правильно учесть то, что наша эпоха,
наша живая действительность наступает на нас в таком тысячестороннем росте,
что сплошь и рядом встречаешь ее и передаешь зрителю, не успевая целиком
слить ее сложность в малое число обобщений.
Мы хорошо знаем, какое количество догм было снесено и уничтожено за
революцию. Продолжающаяся борьба против догматики с пережитками
капиталистического сознания часто выражается в том, что вместо формулы художник
дает ее живое содержание, как бы апеллируя к самому зрителю,
долженствующему обобщенно осознать показанную ему сложность.
Мне хочется привести один пример, имеющий лишь косвенное отношение к
разбираемому вопросу. Лев Толстой, создавший изумительное по своей
живописи, по бесконечной насыщенности реальным материалом произведение «Война
и мир», в процессе своего физического роста (постарения) написал «Воскресение»,
где страницы и страницы, главы и главы содержат в себе обобщения,
рассуждения,-выводы, где люди меньше двигаются, меньше поступают, где и вообще
самих-то людей и мест разворота романа гораздо меньше.
Тот же Толстой в конце своей жизни писал лишенные всякой жизни и живых
людей философские трактаты.
То, что я сказал сейчас о Толстом, конечно, ни в какой мере не является
настоящей оценкой его творчества. Я лишь хотел отметить, как молодое
восприятие действительности может в творческом напряжении создавать целостные и
значительные произведения искусства, вместе, с тем не отказываясь от
широчайшего непосредственного показа ее бесчисленных отдельных моментов.
Появление обобщений, перерастающих в догмы, есть, конечно, путь развития,
но в определенном моменте несомненно переходящий в постарение, в уход от
волнующего искусства к холодной и сухой проповеди.
198
Вот почему, думая о путях кино, я не могу не сравнивать его возможностей
с тем, что сделал необычайный талант Толстого в «Войне и мире», и не могу не
бояться образа того же таланта, замерзшего и закристаллизованного в
идеалистической догматике.
Не нужно пугаться изобилия материала в наших картинах. Мне часто
приходилось встречаться с яростными защитниками знаменитой картины Чаплина
«Парижанка». Эта картина действительно является образцом высокого
режиссерского и актерского мастерства, но дело в том, что защитники не только
оценивают эту картину как образец мастерства, но желают возвести ее приемы,
которыми она сделана, в образец, определяющий собою сущность
киноискусства. Картина развернута в глубоко интимном плане. Действие по большей части
не выходит за пределы двух-трех комнат. Единственный пейзаж, встречающийся
в картине, изображает собою кусочек дороги, на которой действующие лица в
последний раз встречаются и разъезжаются в разные стороны.
Пристальное внимание автора-режиссера сосредоточено на тончайших
деталях маленькой драмы, развивающейся в интимном кругу между четырьмя-
пятыо лицами. Все это хорошо и, казалось бы, совершенно возможно и
приемлемо для нас. Картина «Гроза» очень похожа по своей кинематографической
трактовке на чаплиновскую картину.
Мне кажется такой характер киноработы не только неприемлемым для
многих наших советских художников, но и вообще уводящим кинематограф от его
особенных, исключительных и мощных возможностей.
Для Чаплина все богатство явлений, связанное со сложной жизнью
человеческого общества, было не нужно, потому что эти явления буржуазной мыслью
давно превращены в ряд мертвых догм. Чаплин, живущий в буржуазной среде,
легко отрывает узкий мирок четырех человек от всего «остального», потому что
это все «остальное» и для него и для того зрителя, на которого он рассчитывает,
есть мир готовых представлений, неизменных и неинтересных. Общепринятые
понятия и нормы для буржуазного зрителя являются той самой стеной, которой
он отгородил себя от опасности развивающегося общества, и дело художника—
сохранить эту стену непоколебимой. Связь со всем богатством внешнего мира
неизбежно должна пугать буржуазного художника. И, конечно, для нашего
зрителя и художника это совсем не так.
Органическая связь между напряженной, сложной жизнью нашей эпохи и
формой кинопроизведения несомненна. Стремление к максимальному охвату
действительности, к использованию возможности непосредственного показа
этой действительности на экране с неизбежностью приводит нас к специфической
особенности киноискусства — к монтажу коротких кусков.
Необходимо упомянуть еще об одной специфической возможности
кинематографа, которая приводит нас также к неизбежности механического дробления
актерской игры в съемочном процессе.
Представим себе актера, говорящего патетическую речь перед большой
аудиторией. Слушающая толпа реагирует на слова оратора. Она аплодирует,
перебивает его отдельными выкриками. Если мы хотим показывать толпу не как
тысячеголовую безликую массу; а как многообразное единство, если поймем,
что масса только тогда получает свое настоящее значение и реальное содержание,
когда в ней можно рассмотреть отдельные группы, а в каждой группе
определенные индивидуумы, то мы должны будем непременно перебрасывать аппарат
с места на место, должны будем в течение речи переходить то на общий план,
199
захватывая оратора и слушающих вместе, то внедряться в гущу толпы,
выхватывая или нескольких, или одного, реагирующего жестом либо выкриком. Мы
неизбежно должны будем разделить целостную речь оратора на куски для того,
чтобы слить их уже в процессе монтажа с отдельными кусками реагирующих
на эту речь слушателей и тем самым получить целое в единстве многообразных
частностей.
Можно было бы возразить, что для такого монтажа совсем не обязательно
снимать целую речь оратора отдельными кусками. Достаточно снять все целиком
и лишь впоследствии, уже на столе механически разрезать целое на части и
вставить между этими частями нужные куски слушателей. Но кинорежиссеры,
правильно стремящиеся использовать возможности, даваемые техникой киног
поступают иначе. От говорящего оратора они берут не только слова. Мы знаем,
какое огромное значение для полноты образа действующего человека имеет
его жест, его мимика, связанная со словом. Эта мимика, подчас тончайшая и
сложнейшая, играет роль не меньшую, чем голосовая интонация.
Иногда полное значение сказанного слова или фразы сосредоточивается в
движении руки, иногда закрытые глаза придают неожиданный патетический
смысл другому слову или фразе. Только кинематограф благодаря своему
подвижному аппарату может так вести взволнованное внимание зрителя, что в
каждый момент игры актер как бы поворачивается к зрителю самой своей
острой, самой выразительной стороной.
Вот такой-то путь доведения игры актера до зрителя и требует неизбежно
дробления единого процесса речи на отдельные съемочные куски.
В определенном моменте речи мы видим лицо оратора с закрытыми глазами.
В другом — мы видим оратора целиком вытянувшимся, с поднятыми руками.
На какой-то момент мы ловим его взгляд, устремленный прямо на зрителя.
Неверное движение рук, спрятанных за спиною, может тоже послужить острой
и нужной краской, характеризующей говорящего человека.
Получить такой материал можно только снимая куски речи отдельно со
сменой положения аппарата и микрофона. Одновременной съемкой несколькими
аппаратами, установленными в разных точках, мы настоящей острой и яркой
монтажной трактовки на экране не получим, потому что аппарат, установленный
для крупного плана, непременно будет мешать одновременной съемке общего.
Раздельность, раздробленность съемки неизбежна.
Вопрос может быть поставлен лишь так: нужно ли богатейшие возможности,
даваемые кинематографом для углубленной и проникновенной монтажной
трактовки игры актера, принести в жертву естественной потребности актера
целостно, непрерывно, максимально долго пребывать в образе или же нужно
искать те пути, которые позволили бы сохранить и максимально использовать
эти возможности.
Трудность разрешения этого вопроса является, в сущности, основной
трудностью для актера кино, и методы ее преодоления определяют содержание
техники киноактера.
Трудность эта, как я уже говорил, существует, конечно, и в театре. Разрыв
между двумя выходами актера на сцену по природе своей не отличается от
разрыва между двумя фразами, который может иметь место в кино.
Все содержание театральной пьесы можно в конце концов при желании
превратить в единую связную, цельную речь, которую произнесет один
актер-декламатор, не сходя с эстрады. Но, однако, театр превращает содержание пьесы в
200
действие, вводя в него многих и многих действующих лиц, показывая поступки
и события, а не рассказывая о них. Он дробит течение пьесы на акты,
выбрасывая из него куски времени.
Актер мог бы оставаться в течение всего акта на сцене, ни на минуту не
выключаясь из хода действия, но театр уводит его за кулисы, потому что
реалистическая насыщенность действия требует введения новых и новых лиц, причем
эти лица не только оттесняют кого-то на второй план, но иногда и вытесняют
его целиком из поля внимания зрителя. И тогда актер должен стоять за
кулисами, дожидаясь момента, когда развивающееся целое пьесы снова втянет его
в свою орбиту.
Я повторяю, что этот процесс разрывной жизни актера на сцене не отличается
по природе своей от разрывной игры актера в процессе киносъемки.
Противоречие между личностью актера, стремящегося и в процессе своей
игры оставаться целостным и неразрывным, с теми условиями, в которых
осуществляется широкий эпический разворот реалистической пьесы, противоречие
это является действительным не только для кино и театра, но и вообще для
всех искусств.
Повторяю, что вопрос преодоления данного противоречия лежит в
правильном понимании смысла техники актера и в нахождении ее методов.
Репетиционная работа
Каковы основные методы актерской техники? Я уже говорил, что театр идет
на помощь актеру в его борьбе за целостность и органичность образа путем
тщательной разработки методики репетиций.
Именно в репетициях, где волей актера и режиссера могут быть на время
удалены жесткие условия композиции пьесы, и развертывается та целостная
непрерывная работа, которая позволяет актеру связать свою живую личность с
играемым им образом в любых возможных и нужных ему направлениях.
На репетициях актер, не стесненный ни временем, ни композиционными
разрывами, может соединять отдельные куски роли в одно целое, может конкретно
вживаться в роль, проверять себя на ряде кусков, не имеющихся в пьесе, но,
несомненно, принадлежащих органике развития его образа.
Одним словом, на репетициях он может проделать всю ту работу, которая
позволит ему впоследствии ощущать каждый отдельный кусок роли; как бы
механически он ни был оторван от непрерывности в течение всего спектакля, как
свой, принадлежащий ему, включенный если не в физическую непрерывность
пребывания на сцене, то во внутреннюю непрерывность целостного ощущения и
понимания им этой роли.
Что же делается у нас в кино по линии этой необходимой технической
помощи актеру в его сложной творческой работе? Нужно сказать, что эта помощь,
если она и имела место в работе съемочных коллективов, проводилась в формах
почти что уродливых. В этом направлении были лишь попытки предварительной
проработки сценария режиссером совместно с актером. Роль обсуждалась, о
роли говорилось много, имели место так называемые актерские и режиссерские
экспликации роли. Подобие так называемой работы за столом (работы,
предшествующей в театре репетициям) тоже проводилось в кино в большей или
меньшей степени. Но практической предварительной работы актера над связью по-
201
нимания образа, найденного за столом, с его внешним выражением, то есть, в
сущности, основного момента работы, в которой мыслитель превращается в
действительного актера, не производилось.
Актер в своей предварительной работе над образом в самой нелепой форме
был механически оторван от практики, от конкретной работы с собой, как с
живым, связно и цельно двигающимся и говорящим человеком. Актер подходил к
съемочной работе, то есть фактически к той работе, которая уже требовала
технически твердого и ясного выполнения, беспомощным, лишь схоластически,
отвлеченно представляющим себе общий смысл своей роли, никак не связанной
с его живой конкретной личностью. Это в лучших случаях, а в худших же —
актер попросту ничего не знал о своей роли, кроме суммы указаний режиссера,
которые касались данного снимаемого куска. Конечно, каждой съемке
предшествовало какое-то подобие репетиций, но нельзя говорить об этих репетициях
серьезно, поскольку они не имели и не могли иметь никакой внутренней связи
с целостностью актерского образа.
Именно из этого неправильного отношения к задачам актерской работы и
родилась псевдотеория монтажного образа (которая, я заявляю, не имеет
конкретного автора). Теория эта утверждала, что образ актера может быть составлен
механически, путем склейки отдельных, внутренне в самом актере не связанных
кусков.
Настоящее понятие монтажного образа совершенно иное, оно имеет очень
большое значение для киноактера, о нем я буду говорить ниже.
Вопрос о методике репетиции, так же как и в театре, имеет в кино решающее
для актера значение.
Я уже говорил, что в кинематографе эта методика имеет более острое и
важное значение, поскольку разрывность актерской работы во время съемки
требует особо ясного, особо четкого и детального освоения актером целого
роли.
Мы имеем в кинематографе опыты проведения систематической
репетиционной работы, предшествующей процессу съемки картины.
Я не могу говорить о работе «фэксов»8, поскольку ими не дан материал по
этому вопросу ни в письменной, ни в устной форме. Я разберу опыт Л. Кулешова
в его картине «Великий утешитель»9.
Л. Кулешовым был написан точно разработанный монтажный сценарий.
Все куски этого сценария, сохраняя свою нумерацию и порядок, были
перенесены на маленькую сценическую площадку. Фактически перед началом съемки
картины был разыгран спектакль, состоявший из очень коротких сцен, по своей
длине идентичных будущим монтажным кускам. Л. Кулешов по возможности
разыгрывал каждую сцену на сценической площадке таким образом, чтобы ее
было можно, тщательно срепетировав, непосредственно перенести без изменений
в съемочную работу.
Смысл его репетиций был троякий. Во-первых, провести предварительную,
максимально глубокую работу с актером. Во-вторых, дать возможность
руководству как бы увидеть картину до ее съемки и произвести нужную переработку,
если таковая понадобилась бы. И, в-третьих, наконец, довести до минимума
трату времени на подготовку к съемке в течение самого съемочного периода,
время которого, как известно, стоит очень дорого.
Все эти три момента в совокупности придали кулешовской работе несколько
своеобразный вид.
202
Прежде всего, стремясь непременно сделать репетиционный спектакль
точным подобием будущей картины, Л. Кулешов, несомненно, не только
устраивал репетицию для актера, но также и картину старался приспособить
к наиболее удобному и простому проведению репетиции.
Не случайно, что в картине Л. Кулешова очень мало действующих лиц. Не
случайно, что у Л. Кулешова нет ни одной массовки. Не случайно, что
чрезвычайно ограниченные натурные кадры имеют вид либо пустынных дорог, либо
городских улиц, на которых не встречается никого, кроме двух или трех
действующих лиц.
Л. Кулешов, конечно, так написал сценарий, выбрал такое место действия,
такое количество актеров и такой сюжет, чтобы иметь возможность легко и
быстро уложиться в рамки театрального спектакля, проводимого на
специальной, примитивно приспособленной сцене.
Я не думаю, чтобы можно было назвать эту работу Л. Кулешова
принципиально неправильной. Его опыт является несомненно интереснейшим
экспериментом. Неправилен не его опыт, а неправильными могут стать те механические
вбгводы, которые можно сделать из этого опыта в плане превращения его в
догматический рецепт, который должен непременно применяться при съемке любой
картины.
Ясно, конечно, что задача заключается в том, чтобы найти такие пути, такие
формы и такие методы репетиционного периода, которые ничего не отнимали бы
от кинокартины в плане возможности ее широкого и богатого разворота.
Перед нами стоит вопрос, как организовать подготовительный
репетиционный период в работе над картиной, в которой имеется определенная и четкая
устремленность к ее кинематографическому развороту, то есть над такой
картиной, в которой имеется ряд сцен, охватывающих большое пространство, такие
места и такие условия, которые не могут быть воспроизведены на
репетиционной сцене.
Мы, конечно, не можем и не должны, в угоду непременному желанию
изобразить будущую картину целиком на сцене, выбрасывать такие моменты,
которые, не имея прямой физической связи с играющим актером, вместе с тем дают
картине мощь и богатство истинного кинопроизведения.
Я думаю, что правильную постановку вопроса о методах репетиционного
периода мы получим только тогда, когда уясним себе основную его цель.
Конечно, эта цель — работа актера над образом. Все остальное: и демонстрация
целой картины руководству, и предварительное заучивание мизансцен, по
существу, никогда невозможное в законченном виде, если только картина не
ограничивает свое съемочное пространство пространством ателье, должно быть
подчинёно максимальному развороту условий, которые должны быть предоставлены
актеру для разрешения его основной технической задачи — освоения играемого
образа.
Каковы же основные предпосылки методики репетиционного периода?
Прежде всего мы сталкиваемся с композиционной структурой монтажных листов
сценария. Монтажные листы сценария представляют собою ряд отдельных
коротких кусков. Почти каждый момент поведения актера, будучи связан
внутренним ходом действия, перебит многочисленными вводными кусками,
показывающими зрителю то параллельное действие других актеров, находящихся в
другом месте, то эпически разворачивающиеся моменты событий, в которые
актер включен развитием, общего действия.
203
Представим себе такую сцену: человек в комнате, разговаривая с кем-то,
взволнованно ожидает свидания со своим братом. Этот последний должен
прилететь на аэроплане. Взволнованное ожидание прерывается телефонным
звонком. Сообщают, что аэроплан идет на посадку. На экране действие
перебрасывается на аэродром, где мы видим снижающийся аэроплан и внезапную
катастрофу, повлекшую за собою смерть прибывшего. Следующим куском на экране
идет ожидающий брат, уже получивший страшное известие10.
Нужно ли в репетиционном периоде стремиться к тому, чтобы показать на
сцене два отдельных куска состояния ожидающего, разделенные условным
изображением падения аэроплана?
Для работы с актером это не только не нужно, но даже вредно. Единственно
правильным будет соединить оба куска вместе, создавши актеру возможность
непрерывного пребывания в образе, и заменить специфически экранный момент
показа катастрофы телефонным сообщением о несчастье.
Если на экране актер, спасаясь от преследования, переплывает реку и на
другом берегу встречает человека, которого он искал, чтобы передать ему
поручение, конечно, было бы глупо и бесцельно заниматься в репетиционном периоде
условным изображением переплывания реки. На репетиции для актера имеет
смысл лишь наличие тяжелого препятствия, которое ему нужно преодолеть и
включить эту победу над препятствием в полноту ощущения себя во время
разговора со встреченным им человеком. В условиях репетиции река может быть
заменена любым физическим препятствием, ну хотя бы окном, в которое нужно
влезть, или дверью, которую нужно взломать для того, чтобы проникнуть в
комнату.
Я нарочно беру очень грубые примеры, чтобы сделать ясной простую мысль
о том, что монтажные листы киносценария, разделенные и разбитые на куски,
наполненные многочисленными моментами, которые не могут быть
воспроизведены на сцене, должны быть, по существу, превращены в какой-то новый вид,
приспособленный специально для того, чтобы актер во время репетиции мог
сосредоточить всю свою работу над освоением целостности образа.
Я называю эту новую форму сценария актерским сценарием. В актерском
сценарии разделенные куски соединены прежде всего по линии сохранения для
актера длительности и непрерывности игры. Здесь возможно точное сохранение
содержания монтажных режиссерских листов. Эти листы могут быть лишь
сведены к такому порядку, чтобы сблизить разбросанные куски и получить для
актера максимально длинные отрезки единого внутреннего хода.
Конечно, это сведение отдельных разрозненных кусков потребует в
некоторых случаях замены одних моментов другими, как это было в приведенном
мною примере с телефоном и аэропланом.
Я думаю, что работа сведения монтажных листов к актерскому сценарию
есть прежде всего работа, требующая большого практического опыта. Но
основная ее задача ясна.
Несомненно, что театральная практика,, в особенности практика школы
Станиславского, вводящая работу над «сопутствующими кусками», о которых
выше говорилось, должна играть в наших репетициях большую и серьезную
роль.
Режиссер Г. Козинцев11 прямо утверждает, что на репетициях к своей
последней работе «Юность Максима» он работал с актерами только над теми кусками,
внешнее содержание которых не имело места в картине.
204
Точный смысл его слов, конечно, таков — основная задача режиссера и
актера сводится к тому, чтобы найти во время репетиций внутреннюю целостность
данного куска и связь его с целым роли.
Для того чтобы не запутать актера во время репетиций чуждыми
кинематографу театральными условностями, режиссер во время репетиции обставляет
актера теми реальными условиями, которые мыслимы в пределах комнаты или
сцены. Чтобы не заставлять актера во время репетиции тратить энергию на
воображение реки, которую во время съемки он встретит в реальном виде,
режиссер вместе с актером создает такой репетиционный кусок, в котором
внутреннее содержание поведения актера не изменяется от того, что река, которую он
должен переплыть, заменяется любым другим препятствием, о которых я уже
говорил. Я хочу еще раз подчеркнуть чрезвычайную опасность внесения в
репетиционную работу специфически театральных условностей, в которых при
съемке никакой нужды не будет.
Постановка вопроса Л. Кулешовым о непременном изображении будущей
картины на сцене12 именно и представляет такую опасность.
И еще раз заявляю, что названный мною актерский сценарий требует
внимательной и глубокой, вероятно, совместно с актером произведенной работы
над заменой реальных условий, намеченных в монтажных листах, другими
реальными условиями, которые мы можем найти на сцене.
Мы бы подошли к вопросу неправильно, если бы исключили из всего
описанного процесса момент творческой работы над сценарием самого актера.
Вся старая система работы была построена так, что актерская работа
сводилась в конечном счете к почти механическому копированию твердого задания,
исходившего от режиссера. Мы никогда не уйдем от старого подхода к актеру,
как к вещи, натурщику, если не поставим вопроса о формах творческого
взаимодействия актера и режиссера в самом начале работы над картиной,
предшествующем съемочному периоду.
До сих пор актер, встречаясь со сложно сработанными монтажными листами
режиссера, рассуждая о будущей своей работе лишь отвлеченно, был лишен
возможности толково и конкретно определить те или иные расхождения с
режиссерским замыслом роли. Я думаю, что актерский сценарий и репетиционная
работа над ним дадут как раз ту самую конкретную почву, на которой сможет по-
настоящему определиться упомянутое мною творческое взаимодействие актера
и режиссера.
Режиссер со своею потребностью и волей к максимальному развороту
целого кинокартины работает над монтажными листами, используя в них все
богатство специфических приемов, даваемых ему техникой кинематографа.
Затем он сводит эти монтажные листы в репетиционный (актерский) сценарий.
Этот новый, репетиционный сценарий является осуществлением не только
задач, которые разрешались в монтажных листах, но и конкретным
осуществлением тех требований, которые может предъявить актер к целостности и ясности
своего образа. На материале этого сценария в процессе репетиционной работы
могут быть получены какие-то новые данные, которые уже, в свою очередь,
неизбежно, закономерно и творчески целостно будут изменять монтажные
листы. И только в этом последнем новом качестве монтажные листы пойдут для
съемки.
Именно таким путем, мне кажется, можно будет действительно осуществить
настоящее слияние актера со всем целым работы съемочного коллектива.
205
Монтажный образ
Я перехожу сейчас к понятию так называемого «монтажного образа». Это
понятие, вызывающее столько возражений и прямых нападок, глубочайшим
образом связано с новой, отличной от театра, природой кино.
Когда актер театра работает над внутренним освоением образа, он не может
отделять эту работу, во-первых, от поисков внешних форм выражения (голос,
жест, мимика) и, во-вторых, от ясного учета той общей идеологической
направленности его роли, которая связывает его работу со всем целым спектакля и с
каждой его деталью в отдельности.
Разберем сначала первый момент. Работая над внешней своей
выразительностью, актер театра неизбежно весь процесс своей игры вливает в ритмическую
форму. Его речь получает интонационные и силовые акценты и ослабления в
зависимости от того, какой смысловой или эмоциональной стороной содержания
своей, речи хочет он захватить и увлечь зрителя. В форме своих движений и
жестов он также создает моменты подъема и падения, яркости и сдержанности,
силы и ослабления. Но актер, движущийся и говорящий на сцене, всегда
остается на одном, постоянном расстоянии от зрителя и в среднем в. одном и том же
положении относительно него в пространстве. Чтобы зритель увидел его руку,
он должен показать ее; чтобы зритель увидел его лицо, он должен повернуться
к нему; чтобы зритель услышал его шепот, он должен довести его до силы
звучания громкого голоса.
В кинематографе подобный ритм внешне выразительных форм может
создаваться иным путем. Я уже говорил о том, как подвижные съемочный аппарат и
микрофон подходят и удаляются от актера, наблюдают тончайшие движения
его тела и подслущивают интонации его голоса. Отсюда игра актера,
трактованная общими и крупными планами, взятая с различных точек зрения, становится
особо яркой и выразительной.
Если актер театра, работая над внешней выразительностью своей роли,
хочет, чтобы в какой-то момент спектакля все внимание зрителя было собрано
на его улыбке, следуемой, положим, за словом «нет», он прекрасно знает, что
ему нужно не только хорошо сказать слово и хорошо улыбнуться, но нужно
также и то, чтобы зритель особенно ясно эту улыбку увидел и слово
услышал.
Актер пользуется для сценической «подачи» своей роли всей сложностью
-театральной техники. Он может использовать мизансцены, отводя внимание
зрителя от своих партнеров и фиксируя его в нужный момент только на себе.
Он может использовать будущую паузу, все — вплоть до прожекторов,
сосредоточивающих свой свет только на нем.
В кинематографе вся эта сложная система приемов может быть сведена к
простой съемке крупным планом. Этот крупный план кинематографа
неразрывно связан с ритмом внешне выразительной игры актера.
Монтаж отдельных планов в кино является более яркой и выразительной
заменой той техники, которая заставляет актера сцены, внутренне освоившего
образ, «театрализовать» внешние его формы.
Актер кино должен ясно понимать, что движущийся аппарат не является
орудием для осуществления чисто режиссерских приемов. Понимание и
ощущение возможностей съемки отдельными планами должны быть органически
включены в процесс работы самого актера над внешним оформлением роли.
206
Актер кино должен чувствовать потребность и необходимость определенного
положения аппарата в момент съемки любого куска своей роли так же, как
актер театра чувствует необходимость в какой-то определенный момент
разворота роли сделать подчеркнуто широкий жест, подойти к рампе или подняться
на две ступени сценической конструкции.
Актер должен понимать, что именно в этом движущемся аппарате скрыта
та необходимая патетика, которая уводит всякую работу в искусстве от
бесформенного натурализма.
Актер театра в процессе работы над образом, как бы глубоко ни вживался в
свою роль, никогда не может и не должен отделять эту работу от объективного
представления и оценки окончательного результата, который будет
представлять собой его актерское поведение уже на сцене в момент спектакля,
показываемого зрителю. Глубоко освоенный актером образ не может существовать в
спектакле отдельно. Связанный с ходом развития действия, он
подчиняется сложному взаимодействию всех сил, образующих театральное зрелище в
целом.
Важнейшая социально-классовая направленность игры актера определяется
только в целом спектакля. Ни один момент этого спектакля, будь то игра
партнера или даже вещественное оформление сцены, не может не быть связан с
окончательной формой любой роли. Даже в самые первичные моменты работы над
образом, когда актер только отыскивает и нащупывает пути связи себя, как
определенной личности, с тем образом, который он намеревается сыграть, он
ясно сознает и представляет себе как цель, к которой стремится, ту живую
фигуру, которая обрисована текстом драмы и которая будет впоследствии
двигаться и говорить на сцене. Он понимает, что представляет собой будущий
сценический образ, включенный в целое спектакля. Но в театре актер, ищущий и
оформляющий роль, остается в окончательно найденном и оформленном спектакле
все тем же самым живым человеком. Найденный и утвержденный им в себе и в
спектакле образ он никогда не отделяет от себя, как от живого, двигающегося,
чувствующего и разговаривающего человека.
В кино это не так. Понятие сценического образа, как последнего
кульминационного достижения работы актера в кино превращается в нечто другое.
Появляется монтажный образ — экранное изображение актера, раз навсегда
зафиксированное на пленке, максимальное достижение его работы, подвергнутое кроме
всего такой технической обработке в плане его выразительности, которую
немыслимо применять к живому человеку.
Подобно тому как в целом спектакля образ актера становится во всей
полноте своего содержания в сложном взаимодействии всех сил, составляющих
театральное зрелище, так и в кино куски снятой игры актера сливаются в
единый образ, единство и направленность которого обусловлены не только
единством, найденным актером внутри себя, но также и тем сложнейшим
взаимодействием многочисленных кусков, в которых скрываются иные, вне данного актера
лежащие явления.
Наиболее общие, наиболее глубокие линии, определяющие содержание
образа, раскрываются, конечно, только при наличии общей композиции картины.
Я уже говорил, что богатство явлений действительного мира в кинематографе
охватывается гораздо шире, чем в театре. Если взаимоотношения отдельного
актера и целого спектакля в театре определяются главным образом во встрече
актера с партнером, таким же актером, в диалоге, то в кинематографе актер
207
встречается не только с человеком. Огромная сложность объективной
действительности приходит в законченной картине во взаимодействие с играющим
актером и тем самым ставит его в положение, приближающееся скорее к герою
литературного романа, чем к действующему лицу в театральной драме.
Таким образом, понятие монтажного образа вовсе не является (как это
некоторые пробовали заявлять) отрицанием необходимости целостной работы
актера над ролью. Понятие монтажного образа не является утверждением
учения о киноактере как о натурщике, дающем кусочный материал для
механического составления псевдоцелого в процессе монтажа.
Это понятие, аналогичное сценическому образу, требует от актера кино, во-
первых, умения сознательно использовать многопланность съемки для своей
работы над внешним оформлением роли, а во-вторых, ясного творческого учета
монтажной композиции целого картины для понимания и выявления самых
глубоких и общих установок своей игры.
В театральной работе существует четкое и ясное понятие ансамбля; в
создании этого ансамбля принимает участие не только режиссер, но и каждый актер
в отдельности, строящий свою работу в непосредственной связи с целым
спектаклем. В кинематографе понятие это в своем оформлении доведено почти до
предельной технической четкости. Ясность и острота ритмической конструкции
кинокартины, включающей в себя игру актеров, могут быть доведены до четкости
ритмической конструкции музыкального произведения. Отсюда вытекают особо
жесткие требования, которые непременно должны предъявлять к своей работе
в плане внешнего ее оформления актеры кино, дорожащие не только своей
ролью, но и всей картиной в целом.
Актер театра хорошо знает, что неудачно выбранной или скверно
исполненной музыкой, предшествующей его словам, можно не только испортить, но
исказить создаваемую им роль. Актер кино должен понимать, что куски пейзажа
или какого-либо другого явления, предшествующего или следуемого за куском
его игры, входят несомненным компонентом в жизнь того образа, который
будет восприниматься зрителем с экрана.
Монтажный образ есть та самая окончательная форма, которая приходит
во взаимодействие с третьим элементом, составляющим произведение
искусства,— со зрителем. Этот образ, в отличие от театрального, отделен от живого
актера, и именно поэтому, для того чтобы он не потерял своей реалистической
целостности, он должен мыслиться актером, начиная с самых первых этапов
работы над собою и над ролью.
Если в театре актер может, уточняя, находить свое место в спектакле в
самом процессе повторного показа его зрителю, то в кинематографе этой
возможности нет. Работа актера в плане острейшего ощущения целого картины в кино
гораздо сложнее и труднее. Поэтому особенно уродливым нужно считать
тот факт, что работа эта до сих пор в театре проводилась гораздо глубже, чем в
кино.
Здесь следует упомянуть еще об одной трудности, связанной с работой
киноактера.
В театре существует так называемая живая связь между играющим
актером и взволнованным зрителем. Известно, что спектакли идут по-разному в
зависимости от различного состава аудитории. Есть целый ряд рассказов
крупных актеров о том, как живая реакция зрителя заставляла их иногда находить
новые формы трактовки своей роли или отбрасывать уже найденные.
208
Все театральные актеры утверждают, что настоящий высокий подъем,
необходимый для полноценной игры, они получают только при ощущении
взволнованного зрительного зала.
В кинематографе мы сталкиваемся с совершенно особым явлением: никогда,,
ни в один момент своей игры, даже в самый ответственный, когда актер
находится перед съемочным аппаратом, фиксирующим кульминационные его
достижения, он не имеет возможности непосредственно ощущать реакцию зрителя.
Его зритель мыслится им только как будущий зритель.
В живой связи актера со зрителем нужно различать два момента, которые я.
разберу по отношению к кинематографу в отдельности.
Эти два момента следующие: во-первых, та общая взволнованность и подъем,
которые получает театральный актер, ощущая тысячи глаз, направленных на.
него, ощущая тысячекратное внимание, сосредоточенное на его игре, и,
во-вторых, наличие живой реакции зрительного зала, как бы принимающего
участие в самом творческом процессе развития роли и этим помогающего игре
актера.
Первый момент непосредственного ощущения актером многочисленного
зрителя в кинематографе как бы целиком отсутствует. В момент съемки актер
видит перед собою только немые механизмы съемочного и звукозаписывающего
аппаратов. Система осветительных аппаратов, окружающих актера, как бы
нарочно изолирует его в небольшой, отведенной для съемки части пространства,
иногда настолько малой, что актер даже лишен возможности видеть целиком ту
комнату, в которой развивается действие.
Но можно ли сказать, что ощущение зрителя и творческое волнение и
подъем, которые вызываются зрителем, должны быть целиком исключены в работе
киноактера? Я думаю, что это неверно. Правда, это ощущение зрителя может
появиться только в новом, своеобразном качестве.
Я вспоминаю свой разговор с покойным В. В. Маяковским. Однажды он
рассказывал мне об ощущениях, которые он испытывал, декламируя свои стихи
в революционные годы на площади с балкона Моссовета перед огромной
собравшейся толпой.
В. В. жаловался на то, что ему теперь не приходится испытывать того
огромного подъема, который он испытал тогда. Только в одном случае, говорил
он, испытываю я такой же силы волнение, если не больше: это тогда, когда мне
приходится говорить по радио.
Я утверждаю, что Маяковский был целиком искренен. Интересно, что у
такого человека, как он, несомненно органически жившего и питавшего свое
творчество резонансом массовой аудитории, ощущение кабины радиовещания
никак не походило на ощущение одиночной камеры, изолирующей его от
слушателя. Та творческая фантазия, которая присуща каждому большому художнику,
которая роднит и сближает его со всем действительным миром, позволила ему
не только понимать, но и непосредственно ощущать, как сказанные в микрофон
слова разлетаются но гигантскому пространству и воспринимаются миллионами,
внимательных слушателей.
Я повторяю еще раз, что Маяковский говорил не о понимании значения
радио, а о непосредственном волнении и подъеме, которые вызывал в нем
направленный на него работающий микрофон. Еще раз повторяю, что Маяковский
сравнивал это волнение с тем, которое он чувствовал, видя непосредственно
слушающую его тысячную толпу.
209
Я думаю, что и для киноактера, по-настоящему живущего своим
искусством, путь к этому волнению не закрыт. В театре актер играет перед сотнями
зрителей, в кино — перед миллионами. Здесь количество, перерастая в
качество, порождает новую форму волнения, не менее реальную и, конечно, не
менее значительную.
Перехожу ко второму моменту. Сотворчество зрителя, живая его реакция
на игру, оценка и поддержка удачного и верного, холодное неприятие ошибки —
все это тоже не может существовать на съемке.
Поэтому я утверждаю, что на кинорежиссере, являющемся единственным
свидетелем игры актера во время съемки, лежит особая, в театре в такой степени
не существующая, ответственность. Одиночество актера во время съемки
тяжело для него. Именно режиссер, если он стремится к максимальной помощи
актеру, к созданию для него наилучших условий для свободной, легкой и
искренней игры, должен суметь так зажечься работой актера, чтобы служить для
него тонким, чутким и отзывчивым единственным зрителем.
Я серьезно ставлю вопрос об умении режиссера заставить актера верить себе
не только как теоретику, мыслителю, руководителю, но и как непосредственно
волнующемуся, то восторженному, то разочаровывающемуся зрителю.
Нахождение этого внутреннего контакта между режиссером и актером,
установление глубокого взаимного доверия и уважения является серьезнейшим
вопросом техники работы киноколлектива.
Из своей практики работы с актером, которую, нужно сказать, до настоящего
времени я не могу уложить в какие-либо связные и цельные формы, могущие
быть названными в той или иной степени системой, я воспринимаю почти все
важнейшие моменты актерской игры непременно связанными с этим доверием
ко мне актера.
Я вспоминаю, как, пользуясь немотою кино, я буквально не мог удержать
слов взволнованного одобрения, которые доходили до актера и поднимали его
в процессе игры, потому что были действительно искренни.
Интересно, что В.Барановская13, играя в «Матери»,буквально категорически
заявила мне (это было уже в середине работы), что она не может играть, если
я не нахожусь на своем постоянном точном месте у аппарата. Я отношу это
заявление опять-таки к подтверждению того, что присутствие режиссера,
взволнованно воспринимающего игру актера, является для этого актера органической
необходимостью. Вспоминаю, что со всеми актерами, исполнявшими главные
роли в моих картинах,- я непременно до начала съемочного периода старался
установить помимо работы над ролью возможно более близкие личные
отношения. Мне всегда казалось необходимым завоевать глубокое доверие актера, для
того чтобы впоследствии он мог опереться на это доверие и не чувствовать себя
одиноким.
Многие говорят о неизбежности раздвоения актера во время игры, когда он
одной своей стороной живет и играет в образе, а другой как бы объективно
контролирует эту игру. Я думаю, что эта вторая, контролирующая сторона вовсе не
является каким-то зрителем, находящимся внутри самого актера. Эта вторая
сторона, конечно, неизбежно опирается на живого, существующего вне актера
зрителя, она учитывает и слушает его реакцию и, в сущности, в этом процессе
и осуществляет свое назначение, иначе актер замкнулся бы в свой объективный
индивидуальный круг и превратился бы действительно в холодный, отвлеченный
фантом.
210
Думаю, что такая часто встречающаяся у нас в кинематографе холодность и
внешняя схематичность игры актеров во многих случаях объясняется
холодностью и схематичностью приемов режиссерской работы с актером во время
съемок.
Я подчеркиваю, что этот момент, именно в степени остроты своей, специфичен
для киноработы и в театре в такой степени не присутствует.
Здесь нужно отметить еще одну характерную разницу между театральной
и кинематографической техникой работы актера.
В театре актер обязан не только найти образ, освоить его, подойти к внешним
формам его выявления, ощутить необходимые ритмические формы игры и связь
свою с целым спектаклем, он кроме всего этого должен еще в повторных
репетициях утвердить, законсервировать эти формы. Хотя и несомненно то, что в
повторных спектаклях актер продолжает развивать свою роль, но все же момент
заучивания, зафиксирования, консервирования своей игры неизбежно
присутствует в театре в очень значительной степени. Поэтому театральный режиссер в
определенный момент уступает место зрителю, и спектакль доходит до своей
совершенной формы уже без его непосредственного участия.
В кинематографе момент консервирования, заучивания снимается с актера
и режиссера механизмом съемочного аппарата и лабораторией, размножающей
экземпляры, снятые с негатива. Фактически до последнего кульминационного
момента творческой работы актер и режиссер в кинематографе идут в самом
непосредственном живом контакте.
Диалог
Перехожу к следующему моменту работы киноактера, представляющему
для него особую трудность. Это возможность отсутствия партнера в диалоге.
Мы не можем представить себе в театре такого случая, когда актеру придется
говорить с фактически не присутствующим партнером. В кинематографе это
может случиться в силу тех технических трудностей, которые создает желание
использовать возможности монтажной трактовки диалога.
Конечно, и в театре существует так называемый монолог, где партнером для
актера служит непосредственно зритель. Но в кинематографе может быть иное.
Грубо говоря, возьмем, например, такую сцену, где актер говорит с толпою
монголов, отвечая на ее реакцию. Возможно, что съемку слов актера придется
произвести отдельно в Москве, для того чтобы впоследствии соединить эти куски
с кусками, которые будут сняты потом в Сибири.
Конечно, по отношению к этому примеру будут действительно возражения,
отрицающие необходимость такого разрыва живой связи участников общего
действия. Но я утверждаю, что в менее грубой форме все же такие разрывы в
киноработе неизбежны. Возьмем хотя бы повторные съемки крупными планами
отдельных моментов диалога, когда актер вместо связного развития этого
диалога получает только короткую начальную реплику.
Если очистить эту работу от многочисленных технических затруднений,
вытекающих из плохой организации производства, я думаю, мы сумеем и должны
найти путь, где бы мы, не упуская из рук богатства приемов монтажной
трактовки диалога, смогли бы осуществить все возможности, которые позволили
бы актеру не отрываться от живого общения со своим партнером.
В немом кино это было несколько легче. Там можно было создать вокруг
актера, снимавшегося крупным планом, любую сложнейшую обстановку.
211
которая для него была необходима, не снимая при этом всей обстановки,
а направляя съемочный аппарат только на актера.
В звуковом кино дело обстоит как будто труднее. Микрофон не обладает
возможностью точно ограничивать поле своего восприятия. Микрофон
захватывает все звуки, какие возникают вокруг него на любом от него расстоянии, и
поэтому изолировать актера в крупном плане можно, только фактически
уничтожая всякое наличие каких-либо иных звуков, не предназначенных для
данного куска. В немом кино мы могли удалять все постороннее, требовавшееся
актеру только для помощи в его игре, не только путем изолирующего кадр
съемочного аппарата, но также и с помощью ножниц режиссера, просто
отрезавших, скажем, ту вступительную часть, которая нужна была актеру для того,
чтобы подойти к нужному моменту своей игры. В звуковом кино как будто и
эта возможность отсутствует, по крайней мере на первый взгляд. Однако
практика работы вскрывает неправильность этого положения.
В среднем звуковую съемку можно вести так же, как и немую, с расчетом
на возможное изменение полученного материала на монтажном столе. Слова
партнера, режиссера, все то, что понадобится актеру для живого общения с
окружающими его в процессе съемки игры людьми, может быть удалено
ножницами при условии правильной и точной организации материала во время
снимаемой сцены.
Монтажный кусок, заключающий в себе на экране короткий момент игры
актера, может быть и в звуковом кино снят, как длительный кусок актерской
игры, где нужный для монтажа момент является лишь кульминационным
пунктом. Начало его и конец могут быть отрезаны ножницами.
Я повторяю, что выработка методов такой работы является вопросом
развертывания практики. Нужно лишь направлять эту практику по основной линии
ее смысла, по линии всяческой помощи актеру возможно длительно и связно
быть в образе. Звуковая запись в кинокартине является таким же гибким
материалом, как и пленка, на которой снято изображение. Эту запись можно
резать и монтировать, более того — иногда ее нужно резать и монтировать.
Возьмем, например, паузы, разделяющие отдельные моменты диалога двух
или нескольких актеров. Не всегда эти паузы могут быть реально снятыми.
Разберем еще раз тот пример, который я приводил выше.
Оратор говорит перед слушающей его толпой. Его слова прерываются
общим шумом, аплодисментами и отдельными выкриками. При съемке такой сцены
даже режиссер, наиболее склонный к театральной трактовке кинематографа,
отрицающий ведущую роль монтажа, не сможет обойтись только одним общим
планом, на котором вся сцена может быть заснята целиком, без переброски
аппарата то на говорящего оратора, то на отдельных реагирующих слушателей.
Но при такой съемке отдельными кусками пауза, которая отделяет законченную
или незаконченную фразу оратора от крика слушающих или их аплодисментов,
не может быть снята. Поскольку два куска сняты отдельно и должны быть
соединены вместе только на монтажном столе, длина этой паузы будет зависеть от
того, сколько режиссер оставит пустой пленки после окончания слов оратора и
перед началом слов кричащего слушателя.
На этом примере мы видим, как в процессе кинематографического монтажа
неизбежно появляется необходимость создания отдельных моментов, входящих
в живую ткань игры актера. Мы увидим впоследствии, как та же самая пауза,
огромное значение которой знает каждый театральный актер, неизбежно оказы-
212
вается зависимой от ножниц режиссера и, следовательно, от его глубочайшего
чутья и умения. Это еще раз подчеркивает необходимость и важность
непосредственного участия самого актера в процессе монтажа картины.
Работа над монтажом, над разрезыванием и склеиванием пленки включает
в себя тончайшие творческого порядка моменты ощущения ритма диалога.
Теоретически не исключены такие моменты, когда актер совместно с режиссером
может окончательно отделывать свою игру на экране, оперируя уже только
своим изображением и речью, снятыми на пленку.
Работа настоящего актера должна продолжаться в процессе монтажа. Актер
должен принимать в этом непосредственное творческое участие, он должен
отчетливо ощущать монтаж как процесс окончательной отделки формы. Я так
упорно подчеркиваю необходимость этого участия актера в монтаже потому,
что до сих пор это практиковалось в чрезвычайно малой степени и в конечном
счете приводило часто к неверным определениям монтажа как периода, в
течение которого режиссер-диктатор портит и уродует живую работу актера в угоду
своим формалистическим выдумкам.
Нужно, чтобы актер был так же близок к монтажу, как и режиссер. Он
должен уметь опираться на него во всем процессе своей работы. Он должен любить
его так же, как театральный актер любит окончательное оформление целого
спектакля, волнуется за успех и связывает его качество с каждым моментом
своей игры.
Я хочу снова вернуться к тому, что говорилось о живой связи зрителя с
актером в театре.
Взволнованный зритель только тогда правильно и глубоко воспринимает
спектакль, когда режиссеру и актеру путем всестороннего использования своей
техники удается правильно вести внимание зрителя. Если зритель в
определенный момент спектакля, когда действие сосредоточено на словах героя, будет
смотреть не на этого героя, а почему-либо на второстепенный персонаж,
находящийся в другом углу сцены, то ход спектакля будет нарушен. Зритель получит
не то впечатление, которое было задумано автором, режиссером и актером.
Техника театра делает все для того, чтобы вести взволнованное внимание
зрителя только по тому руслу, которое творчески задумано и найдено как форма
раскрытия сущности спектакля. И каждый отдельный актер, ведя свою роль,
знает, что его сценическая техника должна помогать ему сосредоточивать
внимание зрителя в определенный момент только на себе, а иной раз только на
какой-то детали своей игры или, наоборот, актер должен суметь убрать себя и тем
перенести внимание зрителя на своего партнера.
Весь этот процесс обусловливает ритм спектакля, тот самый ритм, который
является всегда как бы дыханием произведения искусства, ритм, увлекающий
зрителя и составляющий в конце концов сущность того волнения зрителя, без
которого никакое произведение искусства реально существовать не может.
В театре вовлечение зрителя в ритм спектакля является одной из самых
трудных технических задач. В кинематографе на помощь разрешению этой
задачи приходит техника того же самого монтажа.
Я хочу рассказать о тех принципах, на которых я пробовал строить экранный
диалог в «Дезертире». Представьте себе, что в комнате сидят четыре человека.
Они говорят между собою. Мы знаем, что когда зритель видит на сцене четырех
людей, расположенных в пространстве сцены, то его взволнованное внимание
всегда переходит с одного действующего лица на другое в определенном, законо-
213
мерном порядке, который диктуется ритмом этого волнения заинтересованного
зрителя. Он может смотреть иногда на говорящего, иногда на слушающих или
на одного из них. Эта переброска внимания зрителя, в сущности, диктуется ему
внутренней смысловой линией сцены. Каждый из четырех актеров имеет
определенное значение в развивающемся действии. Взаимные их связи, зависимость
возможных поступков одного от слов другого—все это заставляет зрителя
перебрасывать свое внимание с одного действующего лица на другое, и временной
и пространственный рисунок этого колебания будет, конечно, в прямой
зависимости от того значения, которое зритель ощущает за каждым из действующих
лиц.
Мы знаем, что кинематограф со своим движущимся аппаратом и
создаваемым им крупным планом имеет возможность выбирать лишь нужные объекты,
как бы сосредоточивая только на них все внимание зрителя. Этот движущийся
аппарат как бы берет на себя точную функцию диктовки зрителю именно того
ритма переброски внимания, который задуман автором, режиссером и актером.
Кинематограф не оставляет зрителя в такой степени свободным, как это бывает
в театре.
Ритмическая конструкция эпизода, монтажно снятого и показанного на
экране, обладает предельной четкостью и остротой, которая может быть сравнена
только с ясностью и четкостью музыки.
Я возьму три случая возможного монтажного диалога (их может быть и
больше).
Представим себе, что один из четырех актеров говорит. Мы видим на экраве
только его и слышим задаваемый им вопрос. Зритель ждет ответа на этот вопрос.
В театре он бы повернул голову, взглянул на того, кто должен ответить. В
кинематографе режиссер, ощущающий неизбежность этой потребности, молниеносно
сменяет изображение задавшего вопрос изображением того, кто должен на этот
вопрос ответить. Зритель сначала видит этого актера, потом он действительно
слышит нужный ответ. В монтаже звуковой картины здесь появившееся новое
изображение актера несколько опережает его слова.
Возьмем второй случай. Говорит человек, мы видим его на экране. Он
кончил говорить, но интерес зрителя все еще сосредоточен на нем, он, быть может,
ждет продолжения речи. Но в это время вмешивается другой, мы слышим его
слова, еще не видя его, и только тогда, когда эти слова, дошедшие до сознания
зрителя, вызвали в нем интерес к говорящему их, он поворачивает голову и
смотрит на него. В монтаже звуковой картины это получится так, что какая-то
часть слов второго актера попадает на изображение первого, и лишь только
после какого-то определенного промежутка времени появится изображение этого
второго актера, несколько запоздавшее. Здесь звук опережает изображение.
Возьмем случай третий. Говорит актер, зритель заинтересован тем, как
реагируют на эту речь остальные актеры. Он смотрит на них, продолжая слушать
говорящего. Снова и снова внимание зрителя может переноситься то на
говорящего, то на слушающего. В звуковом монтаже вы будете видеть то
говорящего актера, то на слова этого актера будут попадать изображения слушающих.
Если мы внимательно разберемся в сущности этих простейших примеров
монтажного диалога, мы увидим, что здесь имеются в наличии как бы два связно
идущих ритма. Первым является ритм звукового диалога, где слова сменяются
паузами, на вопрос приходит ответ. Эти паузы и речь сменяют друг друга так,
как это происходит в живой объективной действительности. Таким образом, на
214
звуковой ленте как бы записан диалог таким, каким он мог бы иметься и на
театральной сцене.
Но чем же является второй ритмический ход смены изображений отдельных
актеров?
Мы уже говорили о том, что эта смена изображений не совпадает со сменой
голосов различных актеров. Изображение то опережает появление нового
голоса, то опаздывает, то, наконец, ритмически меняется в то время, как говорит
один и тот же голос. Эта смена изображений в своей сущности представляет
собой эмоциональную и интеллектуальную оценку зрителем содержания этого
диалога, связываемого им с оценкой содержания каждой отдельной роли,
каждого из актеров, участвующих в этой сцене.
На самом деле, когда режиссер монтирует кусок, он думает о том, насколько
слова должны опередить изображение или изображение — слова. Ведь если
значение актера, только что кончившего говорить, велико, то зрителю нужно
будет услышать много слов другого актера, прежде чем он оторвет свое внимание
от первого и перенесет его на нового говорящего.
Если же, наоборот, возражение второго ожидается взволнованным
зрителем и это возражение ощущается им как значительное и важное в ходе развития
действия, то достаточно, может быть, будет одной гласной для того, чтобы
зритель перебросил свое внимание и целиком сосредоточил его на новом говорящем.
Мы видим, таким образом, что процесс такого монтажа не является простой
механической сцепкой отдельных изображений. Соединение двух ритмов —
объективно зафиксированного разговора и смонтированного изображения —
дает в результате раскрытие полного содержания сцены, где зрителю
монтирующим режиссером как бы инспирируются определенные отношения к сцене,
раскрывающие ее внутреннее содержание и связывающие это содержание сцены
со всем целым картины.
Таким образом, соотношение длины кусков, находимое в монтажной
трактовке сцены, не является простой механической задачей. Это задача глубочайшего
обобщения содержания сцены. Здесь должно быть учтено относительное
значение всех действующих лиц, и, самое главное,— тот интерес взволнованного
зрителя, который превращается в ритмический ход его внимания и
обусловливает в конечном счете целостность и ясность, восприятия им картины.
Двойной ритм звука
и изображения
Одним из основных моментов разрешения проблемы звукового кино
является умение овладеть возможностями, которые раскрывает существование в
кинематографе двойного ритма — звука и изображения. Монтирующий
режиссер является как бы первым, основным и ведущим зрителем. Ясно, конечно,
что только тогда актерская работа может быть доведена до необходимого
совершенства, если и самый актер будет включен в эту работу монтажа. Здесь в
чистом и ясном виде отделяется для конкретной и совершенной работы в искусстве
та самая вторая сторона актера, наблюдающая себя, оценивающая себя с
точки зрения зрителя, которая присутствует и на театре.
В кинематографе актер может и должен не только сыграть роль, но он
должен суметь вместе с режиссером задуманную монтажную трактовку образа
осуществить в процессе монтажа и тем самым заставить зрителя воспринять эту
215
роль опять-таки в творчески найденном определенном значении. Находя формы
ритмической смены кусков изображения и звука, актер неодолимо вовлекает
каждого зрителя в отдельности в определенную внутреннюю оценку своей игры
и сцены в целом.
Хотя дальнейшее и не имеет прямого отношения к актерской работе в кино,,
я все же хочу привести еще один пример монтажа в «Дезертире», который
показывает, что две ритмические линии — звука и изображения — могут быть
объединены в различных трактовках.
Когда я говорил о монтаже простейших моментов диалога, то оказывалось,
что в звуке как бы объективно фиксировалась реальность, в изображении же
имело место раскрытие субъективного отношения зрителя к этой реальности.
Можно сделать наоборот: объективно фиксировать действительность
изображения, а в звуке дать субъективную, относящуюся к каждому зрителю в
отдельности оценку этой действительности.
В последней части «Дезертира» показывается демонстрация рабочих в
Берлине и разгон ее полицией. Как она сделана? Я прослежу сначала ход
изображения.
Спокойные улицы Берлина, движение авто; дирижирует полицейский.
Вдруг появляются признаки беспокойства. Взгляд полицейского ловит
появившееся вдали знамя. Паника на улице. Улицы пустеют. Демонстрация
приближается, ее ход тверд и уверен. Толпа рабочих растет, новые и новые отряды
вливаются из боковых улиц. Вызванные тревожными сигналами, несутся
мотоциклетки и автомобили с полицейскими отрядами. Встреча. Демонстрация
остановилась. Конные и пешие полицейские бросаются на рабочих, завязывается
бой, сосредоточивающийся в конце концов вокруг красного знамени, которое
несли впереди. Знамя падает, но его снова и снова подхватывают. Бой идет с
переменным успехом, но становится все труднее и труднее — полиция
побеждает. Демонстрация разбита. Знамя рухнуло на землю вместе с героем и
вцепившимися в него полицейскими. Бьют и тащат арестованных. И вдруг, в последний
момент, когда поражение рабочих уже задавило зрителя своей несомненностью,
знамя, вырванное из рук врага, снова взлетает над толпой и уходит все дальше
и дальше, передаваемое из рук в руки, определяющее если не физическую, то
моральную победу демонстрации.
Таков ход изображения. Если рассматривать его со стороны
эмоционального воздействия, он представляет собою сложную кривую с подъемом вначале,
с относительным падением в середине, колебанием, глубоким падением и,
наконец, с окончательным подъемом в заключение.
Но с этими изображениями в картине связан и звуковой ход. Я решил дать
в звуке только музыку. Обычно музыка в наших звуковых картинах
трактуется только как аккомпанемент, идущий в неизбежном монотонном
параллелизме с изображением.
Если бы я вздумал связывать музыку с изображением в описанном эпизоде
таким именно обычным образом, пришлось бы сделать приблизительно
следующее. Вальс при демонстрации улиц Берлина; бодрый марш связать с победным
ходом демонстрации; ввести в музыку тему опасности и беспокойства, когда
появляется полиция; усилить тему врага, когда падает знамя; ввести победные
фанфары, когда знамя снова поднимается; уронить музыку в глубины
отчаяния, когда демонстрация разбита, и снова вынести ее к победным аккордам7
когда знамя снова взвилось над толпой.
216
Я решил вместе с композитором Шапориным пойти по другому пути. Музыка
была написана, продирижирована и снята для всей части целиком, как единый
кусок сурового и уверенного в своей победе рабочего марша, непрерывно и
твердо нарастающего в своей силе от самого начала до самого конца,
Каков был смысл этой установки? Мы хотели во второй линии — в звуке —
дать субъективную, каждому отдельному зрителю внушаемую глубокую оценку
всего происходящего в изображении.
Марксисты знают, что в каждом поражении рабочих скрыт шаг к победе.
Историческая неизбежность повторных и повторных классовых боев связана с
исторической же неизбежностью роста силы пролетариата и разложения
буржуазии. Эта мысль и продиктовала нам линию твердого роста к неизбежной
победе, которую мы в музыке проводим сквозь сложность и противоречивость
событий, показываемых в изображении.
Музыка вела линию смыслового раскрытия внутреннего показа того
неизбежного исторического хода, ведущего к победе, который неотделим от нас, от
восприятия рабочего, идущего в бой. Что получилось на экране? Идут
спокойные улицы Берлина и одновременно вы слышите в музыке еще тихие, но твердые
звуки рабочего марша. Зритель получает некое странное ощущение
несоответствия между этой музыкой и видом блестящих автомобилей, скользящих мимо
роскошных магазинов. Когда показывается флаг демонстрации, все более
выявляющаяся музыка сразу становится понятной и вовлекает зрителя в единый
ход с рабочими массами, твердо марширующими по опустевшим широким
улицам.
Налетела полиция, завязался бой, но мужественная, все время ощущаемая
как революционный дух, движущий рабочих и связывающий вместе с ними
зрителя, музыка продолжает расти. Знамя упало, а музыка растет. Рабочим
приходится все хуже и хуже, а музыка растет. Демонстрация разбита, герой
погибает, а музыка растет. Разгром рабочих и победа полиции заполнила все, а
музыка растет. И вдруг в последний момент вновь вспыхнувшее над толпою знамя
совпадает в финале с максимально напряженной в своей патетической силе
кодой и завершает в едином высочайшем напряжении весь эпизод и картину в
целом.
При демонстрации этого куска, особеннно в отдельности от картины, я имел
возможность наблюдать случаи больших эмоциональных потрясений, особенно
у тех людей, жизнь которых глубоко связана с делом борьбы рабочего класса.
Мне было ясно, что эту взволнованность зрителя нельзя было разбить на
отдельные моменты, захватывая удачным монтажом изображения и высоким
достоинством музыкальной работы Шапорина. Дело, конечно, объяснялось более
глубокими моментами, появившимися как результат связного хода двух линий:
объективного показа действительности в изображении и вскрытия глубокого
внутреннего смысла этой действительности в звуке.
Этот последний пример не относится непосредственно к актерской работе, но
он показывает всю важность и значительность трактовки звука и изображения не
в их примитивной натуралистической связи, а в более глубокой, я бы сказал,
реалистической связи, которая помогает творческому работнику кинематографа
раскрыть любое явление не только в прямом его показе, но и в глубочайшей
его обобщенности. Только тогда, когда мы в каждом случае сумеем ощущать
звук и изображение в самостоятельных ритмических ходах, сумеем нагружать
их той второй стороною, которая вскрывает диалектическое понимание любого
217
явления, мы получим то настоящее и исключительное по силе воздействие, для
создания которого кинематограф дает так много технических средств.
Мы не должны отказываться ни в один момент нашей работы от этой
мощной возможности кино. Поэтому мы, говоря об актере, должны точно поставить
вопрос о расширении необходимой ему культуры.
Если в немом кино мы еще могли терпеть положение, когда актер был
совершенно отделен от монтажа как в процессе съемки, так и в самом процессе
склейки, то в звуковом кино такое положение становится немыслимым.
Возможности актера звукового кино чрезвычайно расширены в плане
остроты и точности подачи своей работы зрителю. В его руках, если он овладеет
правильным ощущением и пониманием искусства монтажа, находится
возможность безошибочного управления волнением и интересом зрителя. Эти
возможности связаны с монтажом отдельных планов, следовательно, влекут за собою
все большую разрывность его игры во время съемки. Новые возможности
создают неизбежно и новые трудности.
Актеры и теоретики актерской игры в кино должны наконец понять, что
нужно рассматривать проблему нес одной лишь стороны. Увлекаясь желанием
создать для актера наиболее удобные и легкие условия к длительному
пребыванию в роли, мы потащим за собою неизбежно театрализацию кино в дурном
смысле этого понятия. Длинные куски, съемка сцен общими планами, где два или
несколько актеров, беспрерывно находясь на экране, разыгрывают свою сцену
так, как это бывает в театре, заставляя зрителя, так же как и на сцене, самому
выбирать то, на что он должен смотреть и что он должен слушать, все это явится
неверным и ошибочным путем в развитии кино, потому что таким образом мы,
идя по линии наименьшего сопротивления, не используем того положительного,
что дает нам кинематограф и что может дать только он.
Техника актера только тогда будет понята правильно, если мы определим
ее, как орудие борьбы в процессе его творческой работы. Борьбы за что? Я
отвечаю — за реалистическую целостность образа. Разрывность игры в кино,
создающую в своем результате глубоко воздействующий на зрителя монтажный
образ, нужно не механически уничтожать длинными сценами, а нужно при
помощи техники актера, методики его работы уничтожать возможное плохое
влияние этой разрывности на целостность играемого образа.
Разрывности съемочной работы нужно противопоставить целостность работы
р епетиционной.
Цельность, найденная актером внутри себя в репетиционный период, должна
предотвратить механическую изолированность отдельных кусков, с которыми
актер будет иметь дело при съемке.
Дикция, грим, жест
На театре мы имеем три основных момента приложения актерской техники:
это — голос, жест и грим. Каждый из этих моментов определяется, как я уже
говорил, самой сущностью понятия техники, которая была определена мною, как
осуществление борьбы актера против жестких условий, предъявляемых ему
механической базой театра, за реалистическую цельность его образа.
Когда актер работает над постановкой своего голоса и дикции, то этого
требует не сущность его роли, а то расстояние, которое отделяет сцену от зрителя.
Актер на сцене шепчет громко, входя в .противоречие с самым смыслом раз-
218
говора шепотом. Пусть этот смысл требует, чтобы шепот не был услышан близко
стоящим партнером. Нужды нет. Шепот во что бы ни стало должен быть
услышан зрителем, сидящим на балконе четвертого яруса.
Когда актер работает над пластикой и выразительностью своего жеста, он
делает его широким и обобщенным, убирая детали не потому, что человек, образ
которого он показывает, сделал бы этот жест таким широким, а потому, что этот
жест должен быть увиден самым отдаленным зрителем.
Актер накладывает яркий румянец и проводит черту грима опять-таки для
того, чтобы формы и движения его лица были бы ясно видны с того
максимального расстояния, которое механически обусловлено размерами театра. Но и жест,
и голос, и грим включают в себя понятие техники. Исчерпывающим это
понятие станет тогда, когда мы поймем, что актер, усиливая свой голос, вместе с тем
стремится не превратить слова в фальшивую декламацию; увеличивая размеры
жеста, стремится сохранить его реалистическую форму; работая над гримом, не
отрывается от реальных данных своего живого человеческого лица.
Вся сумма работы театрального актера над голосом, жестом и гримом
объединяется в понятии «театрализации» внешней формы играемого образа. Она не
может быть, конечно, определена только как голая техника. Эта техника является
вместе с тем особым моментом театрального искусства. Но ведь вообще, во
всяком искусстве техника оформления не может рассматриваться как нечто
отдельное, самостоятельное, изолированное от целого процесса творчества.
Я хочу лишь подчеркнуть, что эта сторона работы актера непосредственно
связана со специфическими условиями театрального зрелища, которые
являются отличными от условий кино.
«Театрализацию» актерской игры нельзя рассматривать изолированно, как
некое «искусство» вообще. Она обусловлена стремлением художника сделать
свое произведение наиболее ярким и впечатляющим, и если говорить о
реалистическом искусстве, то ода связана также с борьбой художника за сохранение
изображений сложности и живости того действительного явления, которое
художник отражает в условиях театра.
Термину «театрализации» образа в кинематографе должно бы соответствовать
понятие «кинематографизация». Я думаю, что это понятие стоит ввести, так как
наша работа дает для него определенное содержание.
Если «театрализация» заключает в себе повышенно яркую и впечатляющую
подачу слова, жеста и мимики, которая производится самим актером, его
волевым усилием, видоизменяющим свой обычный, не театральный голос, жест и
мимику, то в кинематографе тот же процесс увеличения яркости и
выразительности может быть создан подвижным аппаратом при помощи крупного плана,
ракурса, света, приближенного и отдаленного микрофона— следовательно,
«кинематографизация» связана главным образом со знанием монтажа и умением
использовать его принципы.
Всякое выразительное движение человека всегда обусловлено борьбою двух
моментов: внутренним посылом, стремящимся максимально развернуть
движение, и тормозом воли, которое это движение сдерживает, придавая ему этим
самым выразительную форму.
Существует известная норма, определяющая формы движения человека в
обычных условиях действительной жизни. На сцене эта форма движения
изменяется за счет некоторого растормаживания сдерживающей движения воли.
Этим путем, растормаживая и ослабляя сдерживающую волю, актер театра,
219
сохраняя внутренний смысл жеста, сохраняя его внутренний посыл, вместе с
тем увеличивает его размах и делает его ясно и отчетливо видимым зрительному
залу.
Кинематограф не требует от актера этого растормаживания. Внутреннее
движение, сдержанное в любой степени, может быть и увидено и услышано
зрителем при помощи приближенного аппарата или микрофона.
Мы и в театре знаем такие попытки приближения к реалистичности игры,
которыми определялась работа главным образом К. С. Станиславского и его
студии.
Эти попытки получили осуществление в наиболее яркой форме в ранних
работах Первой студии14, когда театр почти не превышал размеров большой
комнаты, где зритель был максимально приближен к актеру. Но подобная
работа в театре сразу же создавала неизбежный интим, входивший в противоречие
с потребностью каждого искусства — захватить и увлечь максимальное
количество зрителей.
Протест против превращения театра в интимный кружок «переживания»
неизбежно вылился в требование театрализации игры актера и спектакля в
целом, протест, родившийся даже у ближайших учеников К. С. Станиславского,
каким являлся Е. Б. Вахтангов15.
Как я уже говорил, крупный план кинематографа снимает противоречие
между реалистичностью игры актера и потребностью максимальной аудитории.
Какие же новые задачи ставятся в связи с этим перед актером кино? Во-
первых, в связи с возможностью приближения аппарата к актеру отпадает
необходимость искусственного повышения звучания голоса и масштаба движения
тела и лица. Практически отпадает момент специальной работы над дикцией и
силой голоса, которая киноактеру нужна только для преодоления того
расстояния, которое отделяет его от партнера, то есть, иначе говоря, ставит
киноактера в реальные условия.
(Я повторяю, что актер на сцене силу своего голоса дает, руководствуясь
не тем расстоянием, какое отделяет его от зрителя, сидящего на галерее.)
Бессмысленным становится также и театрализованный грим с его
схематической грубостью. В кинематографе качество грима, если нужность такого
следует все же принимать, связано с сохранением всей тончайшей сложности
движений живого человеческого лица. Наклеенная щека или черта,
проведенная вместо несуществующей морщины, в кинематографе попросту глупы,
поскольку они, лишаясь своего театрального смысла, помогающего актеру в
его выразительности, в кинематографе, наоборот, становятся препятствием,
уничтожая как раз эту самую выразительность, особенно яркую в крупном
плане.
Загримировав актера в театральном порядке, пришлось бы при съемке его
отставить аппарат подальше, на такое расстояние, чтобы детали движения лица
не доходили бы до зрителя.
Схематизм грима неизбежно потребует от кинематографа отказа от его
собственных методов работы и перехода к простой фиксации театрального зрелища
с точки зрения зрителя, сидящего в зале. Все «театрализованное» в работе
актера отпадает в кино.
Работа актера в момент игры перед аппаратом может быть максимально
приближена к реалистичности. Актер кино, играя на натуре, в настоящем саду,
рядом с настоящим деревом, настоящей рекой, не должен чувствовать себя чуж-
220
дым и отличным от окружающей реальности. Условность его работы выражается
в той условности, которой требует кинематографический монтаж. Творческая
работа в этих условиях требует не меньшего напряжения, не меньшей техники,
чем театрализация игры актера сцены.
В книге «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станиславский рассказываетг как
однажды, во время одной из провинциальных гастролей, группа актеров,
прогуливаясь по парку, случайно оказалась в обстановке, очень похожей на
декорацию 2-го акта тургеневской пьесы «Месяц в деревне»16.
Актерам понравилась мысль разыграть в реальной обстановке
импровизированный спектакль.
К. С. Станиславский так рассказывает об этой попытке: «Подошел мой
выход: мы с О. Л. Книппер, как полагается по пьесе, пошли вдоль длинной,
длинной аллеи, говоря свои реплики, потом сели на скамью, по нашей привычной
мизансцене, заговорили и... остановились, так как не были в силах продолжать.
Моя игра в обстановке живой природы казалась мне ложью. А еще говорят, что
мы довели простоту до натурализма! Как условно оказалось то, что мы привыкли
делать на сцене!»
Я думаю, что как раз основным моментом в игре кинематографического
актера должно являться то, что он без всякого ощущения лжи и разлада должен
суметь пройти со своей партнершей по дорожке настоящего реального сада и
продолжать начатый разговор, сидя на настоящей скамейке под настоящим деревом.
Съемка на натуре была всегда сугубо характерной для стиля настоящего
кинематографического произведения, и я думаю, что она останется таковой и в
будущем.
Интересно, что театрализованная постановка «Грозы» неодолимо превращает
небольшое количество снятых там натурных кадров в расписные декоративные
задники.
Ощущение лжи у К. С. Станиславского произошло, вероятно, потому, что
восприятие реальной окружающей обстановки возвращало его к потребности
во всей полноте чувствовать жизненную реальность его партнерши, потребность
говорить и двигаться так, чтобы быть связанным только с нею, не повышать
голоса больше, чем того требует близко к нему стоящий человек, садиться на
скамью так, чтобы ему было удобно, поворачиваться к тому, с кем он говорит,
не думая о зрителе, смотрящем на него с определенного места и требующем не
только движения, но и подчеркнутого показа его.
Несмотря на то, что К. С. Станиславский стремился неудержимо к тому,
чтобы создать реалистический театр, перенести на сцену и воспитать прежде
всего себя как актера, именно в плане полного отрешения от зрительного зала,
включить себя в жизнь на сцене, в связь с партнером без ощущения
специального «показа» своего поведения,— он при первом же столкновении с живой
реальной обстановкой сразу почувствовал неизбежность влияния театральных
условий на формы творческой работы актера.
Когда мы говорим об излишней театральности игры актера на экране, мы
говорим это не потому, что в самой театральности есть что-либо нехорошее или
неприятное. Мы просто констатируем неприятное ощущение бессмысленности,
а следовательно, и лживости напряжения человека, преодолевающего
несуществующее препятствие.
Дикционная ясность произнесенного слова, театральная громкость
поставленного голоса, даже слегка подчеркнутый и обобщенный жест, встречаясь в
221
крупном экранном плане вплотную с приближенным к актеру зрителем, создают
непременно ощущение ненужной и глупой фальши.
Но та же декорация, тот же жест в условиях театра, реально направленные
на преодоление реально существующих в театре условий, становятся высоким
искусством и волнуют зрителя.
В театральной школе работа над дикцией и постановкой голоса — основа
техники актера. Сейчас в звуковом кино есть попытки такого же рода, но, к
сожалению, они основаны на механическом перенесении в кинематограф
театральной практики.
Я думаю, что американцы, бросившие все силы на усовершенствование
микрофона и на создание таких аппаратов, которые могут исправлять недостатки
речи на заснятой уже фонограмме, стоят на более правильном пути.
Вопрос о дикции и голосе в звуковом кино напоминает нам старый, в свое
время нелепо поставленный вопрос о фотогении, когда работники кино
утверждали, что актер должен обладать какими-то особыми качествами лица и тела,
рождающими совершенное и выразительное изображение на экране. Мы хорошо
знаем, что практика, связанная с усовершенствованием техники освещения и
съемки, показала, что со всякого человека можно получить прекрасное
изображение. Нужно только уметь его снять.
Реализм актерского образа
Из всего сказанного выше можно заключить, что техника
кинематографического актера должна быть сосредоточена на двух основных моментах: во-первых,
на овладении и подчинении творческим задачам искусства монтажной трактовки
своей игры и, во-вторых, на умении целостно и органически «осваивать»
играемый образ.
Здесь мы сталкиваемся с вопросом о том, какую роль играет в работе
киноактера то, что на обывательском языке называют искренностью,
непосредственностью, естественностью. Известно, что в кинематографе, в отличие от театра,
в целом ряде конкретных случаев мы встречались с актерами, играющими самих
себя. Отдельные эпизодические роли, сыгранные людьми, не имевшими никогда
никакого отношения к актерской работе, вместе с тем не только создавали
впечатляющие, сильные образы, но и не выпадали из стиля всей картины, в
которой принимали участие также и актеры.
В театральном спектакле этого не могло бы быть. Живая собака в «Чудаке»
и грохочущие на деревянном полу сцены живые лошади в «Гамлете»17
отвратительны и никак не укладываются в целое спектакля. Вместе с тем нельзя
назвать почти ни одной кинокартины, в которой наряду с играющими актерами мы
бы не видели животных и детей, ни в какой мере не разрушающих ощущения
стилистической целостности произведения.
Можно много спорить против того, что случайный человек с улицы,
«неактер», может играть в кино большую сложную роль. Но нельзя без теоретического
шулерства спорить против того, что этот случайный «неактер» в маленьком
эпизоде или даже просто в одном портретном куске, поставленный в картине рядом
с хорошим киноактером, не вызывает в зрителе того же ощущения разнобоя,
нескладицы, какое вызывает в нем любое нетеатральное поведение отдельного
персонажа на сцене, как это, например, имело место в описанном случае с
собакой, лошадью и как это бывает, например, с детьми, вводимыми иногда в спек-
222
такль. Тот же К. С. Станиславский, доводивший в начале своей работы
сценическую игру актера до натурализма, должен был отказаться от возможности
ввести в спектакль настоящую старуху крестьянку18, хотя она и казалась ему
совершенством правды и выразительности.
Нельзя, конечно, киноактера ограничить лишь возможностью один или
несколько раз сыграть в картине самого себя. Ведь даже если бы он играл
самого себя, ему пришлось бы как-то видоизменить свое поведение, подчиняя его
той задаче, которая ставится всем произведением в целом, и этим самым дать
роли какую-то основную идеологическую направленность. Конечно, ни в
одном случае образ, появляющийся в картине, не будет и не может быть простой
копией данной личности со всеми ее индивидуальными признаками. В
конечном счете и случайный «неактер», или, как его достаточно глупо называют,
«типаж», в какой-то мере подчиняясь воле режиссера, играет.
Актеру кино в процессе своей длительной работы в различных картинах
приходится работать над созданием различных образов, в сильной степени
отличных от его индивидуальной характеристики. Вопрос о так называемом
перевоплощении, как бы его ни трактовали, непременно возникает.
Актер в творческом процессе познает действительность вместе со зрителем,
и в силу специфических особенностей своего искусства он выражает вовне
результат своего познания, как вновь организуемое им новое искусственное свое
поведение. В этой работе он непременно стремится сохранить в живом,
неразрушенном виде личное существование, стремится продолжать чувствовать себя
перед аппаратом цельным, живым человеком, а не механизированным подобием
такового, и если мы стоим на точке зрения отрицания механической
конструкции работы актера, я думаю, этим самым мы до известной степени уже признаем
необходимость «перевоплощения».
Я сейчас не буду говорить о самом процессе вживания в образ, освоения
образа. Для этого существует целый ряд приемов, объединенных в сложную
методологию, глубоко разработанную театральными мастерами. Об ее значении
для нас я буду говорить ниже.
Отметим сейчас только то, что нужно считать это освоение образа
превращением актером поведения человека в роли в свое личное поведение, необходимое
для того, чтобы получить в результате органически целостный, реалистически
впечатляющий зрителя живой образ. Условившись на этом, мы отметим, что в
театре актер неизбежно сталкивается с моментом театрализации форм
поведения освоенного им образа. В кинематографе же необходимость этого момента
театрализации уничтожается наличием подвижного аппарата и микрофона,
обусловливающих возможность монтажной съемки актера. Таким образом, у
киноактера при снятии момента театрализации остается только момент максимального
приближения его к реалистичности.
В каком процессе мы познаем любое явление все более и более реальным?
В процессе приближения к нему, в процессе изучения его во всей глубине, во
всем его богатстве, во всей сложности его связей с другими явлениями.
В искусстве образом реалистическим мы называем изображение объективной
действительности, отображенное с максимальной точностью, с максимальной
ясностью, с максимальным углублением и с максимальным охватом его
сложности. Здесь как будто бы такое часто употребительное слово «максимальный»
толкает нас к определению натурализма как высшей формы реалистической
тенденции в искусстве. ,
223
- Но снова и снова приходится повторять, что натурализм, реализм,
идеализм в искусстве не являются отдельными и изолированными формами,
могущими существовать вне зависимости друг от друга.
Натурализм и идеализм являются оба гипертрофированными формами,
оторванными в своем развитии от правильного хода познающей мысли, всегда
возвращающейся от абстрактного общения к живой конкретности, для того чтобы
снова эту живую конкретность, обобщая, двинуть вперед.
Натурализм, идеализм и реализм в искусстве относятся друг к другу так же,
как механицизм и идеализм относятся к диалектическому материализму в
философии.
Натуралисты, копируя явление действительности и не обобщая его, создают
холодную механику без внутренних связей, имеющихся внутри этого явления,
и тех отношений, которые связывают это явление как частность с целым.
Реализм изображения идет по пути приближения к сложности объекта, по
пути углубленной его детализации, но вместе с тем он изображает его как часть
общего.
Реалистическая работа только тогда не впадает в натурализм, если в
изображении явления будут в наличии та общая связь и те внутренние обобщающие
моменты, которые превращают данное явление в часть, связанную с целым.
Связывая сказанное здесь с работой актера, мы должны сказать, что
реалистическая направленность в искусстве будет толкать его к необходимости в
какой-то части своей работы объединять отдельные разорванные куски его игры
перед аппаратом в целое, неразрывно связанное с целым спектакля и вообще с
местом этого спектакля в нашей развивающейся общественной жизни.
Старый парадокс Дидро19, устанавливающий возможность такого
самочувствия актера во время игры, которое позволяет ему одновременно заставлять
плакать зрителя от прекрасно выполненной роли и тут же смешить партнера,
стоящего за кулисами, комической гримасой, устанавливая как будто бы
возможность отдельного существования механически разделенного поведения
актера как живой личности и его поведения в игре, все-таки не снимает
необходимости существования в какой-то момент работы актера над ролью целостного и
органического единства этих двух поведений.
В этом смысле глубоко правильным и честным является в своих основах
учение К. С. Станиславского. Пусть на сцене во время спектакля актер не
живет единой жизнью с играемой им ролью. Но если во впечатлении, которое
получает зритель, имеет место ощущение живого, реалистического единства образа,
то это единство не может получиться из ничего.
В творческом процессе работы актера над ролью где-то это единство должно
возникнуть. Коклен и Каратыгин20, «показывавшие» свою игру, создавали
где-то и когда-то содержание этого показа.
Пользуясь примером кинематографа, можно сделать сказанное мною еще
более ясным. Ведь, действительно, те серо-белые тени, которые движутся на
экране, ничего не переживают. Они как бы технически выполняют раз заданные
им фрагментарные, раздельные движения, но все же у зрителя создается
целостный образ. Почему? Потому что в основу выбора этих отдельных движений была
положена органическая целостность того реального явления, которое снималось.
В кинематографе мы встречаемся с интересной особенностью, которая
позволяет актеру остановиться в своей работе на том моменте, когда найденная им
форма игры еще не превратилась в заученную привычку.
224
Мы знаем, что в театре существует опасность так называемого «заигрывания»
роли.
К. С. Станиславский в одном месте своих записок, сравнительно оценивая
сво-ю игру в роли доктора Штокмана 2l в раннее и позднейшее время, пишет
так: «Шаг за шагом я просматривал прошлое и все яснее и яснее сознавал, что
то внутреннее содержание, которое вкладывалось мною в роли при первом их
создании, и та внешняя форма, в которую эти роли вырождались с течением
времени, далеки друг от друга как небо и земля. Прежде все шло от красивой,
волнующей внутренней правды. Теперь от нее осталась лишь выветрившаяся
скорлупа, труха, сор, застрявшие в душе и теле от разных случайных причин, не
имеющих ничего общего с подлинным искусством».
Я думаю, что это выветривание внутренней правды произошло у К. С.
Станиславского не только от многочисленных повторов роли. Конечно, оно
произошло потому, что сам К. С. Станиславский изменялся и те внутренние
органическое моменты, которые связывали его с образом Штокмана раньше, в
позднейшее время перестали существовать.
Я взял этот пример потому, что он контрастом своим подчеркивает
особенность работы киноактера, жизненная, реальная связь которого с играемым
образом прекращается гораздо раньше, чем это имеет место в театре, и, самое
главное, прекращается тем сознательным путем, которым художник любого другого
искусства, кроме театрального, кладет предел окончательной отделке своего
произведения.
Киноактер должен быть правдив, искренен в своем стремлении к
реалистичности образа, должен быть естествен. Эта естественность у него не нарушается
необходимостью театрализации. Напротив, она требует непременного наличия
предварительной большой работы над внутренним освоением играемого
образа.
Все это сближает самые коренные утверждения школы К. С. Станиславского
с теми основными требованиями, которые мы ставим перед актером кино.
Я считаю целый ряд методов, принятых в мхатовской школе, наиболее
близкими, наиболее полезными для освоения при создании школы киноактера.
Конечно, нужно суметь отделить от основ, заложенных в эти методы К. С.
Станиславским, все те моменты театрализации, которые, конечно, в театральной
школе не могут не существовать.
Я думаю, что нужно говорить скорее не о школе МХАТ в том виде, в
котором она сейчас существует, а нужно говорить о тех мыслях К. С.
Станиславского о правдивости актерской игры, которые в конечном счете не были им
осуществлены и не могли осуществиться, потому что он, работая в театре, не мог,
конечно, уничтожить требования его условностей.
Чрезвычайно интересны в воспоминаниях К. С. Станиславского те моменты,
когда он сталкивался с необходимостью «безжестия», неподвижности актера,
для того чтобы сосредоточить все внимание зрителя на переживании.
К. С. Станиславскому казалось, что актер, стремящийся к правдивости,
сможет обойтись без момента показа своего состояния, что в какой-то момент
полумистического общения актер сумеет передать зрителю всю полноту
содержания играемого образа. Он, конечно, натолкнулся на невыполнимость этой
задачи в театре.
Замечательно то, что эта задача не только выполнима в кинематографе, но
сплошь и рядом чрезвычайная скупость жеста, доходящая до абсолютного без-
8 В. Пудовкин, т. 1
225
жестия», бывает в кинематографе необходима.. Приходится применять все тот
же крупный план, в котором жест уже не нужен постольку, поскольку тела
актера просто не видно.
Работа с «неактером»
Говоря о реалистичности работы актера кино, необходимо указать на
огромное значение того опыта, который был в свое время проведен в кинематографе
в работе с так называемыми «неактерами» (сознательно избегаю нелепого
термина «типаж»). Я далек от мысли давать почву какой бы то ни было теории,
утверждающей, что кино не требует специально воспитанного актера. Создание
такой теории в свое время старательно приписывали мне, несмотря на то, что
весь мой практический опыт в кинематографе был связан буквально в каждой
картине с участием в работе не только специально воспитанных
кинематографических актеров, но и старых актеров театра.
Речь идет не об этих, упомянутых мною «теоретических загибах», а о том, как
на отдельных примерах работы с «неактером» мы сталкивались и проверяли на
опыте, почему моменты реального поведения человека, не воспитанного ни в
какой театральной школе, оказываются уместными в кинокартине и иной раз
могут служить образцом для подражания опытному актеру.
Мне кажется, что этот опыт указывает прежде всего на то, что киноактер
должен и в целом и особенно во фрагментах своей работы каждый раз
увязывать свое поведение с реальным, конкретным ощущением той цели, к которой
он стремится в каждом отдельном куске. Причем нужно сказать, что в
кинематографе эта цель почти всегда имеет реальные, во всей полноте реальности
ощутимые формы. Вся обстановка характерной для кинематографа натурной
съемки показывает это.
Каким образом я работал в своих картинах со случайными людьми,
«неактерами»? Мой прием заключался в том, что я создавал на данный кусок для
«неактера» такие реальные условия, реакции на которые являлись тем самым
моментом, который был мне нужен для картины.
Возьмем, например, комсомольца и кусок его игры на заседании в
последнем акте «Дезертира». Мальчик, снимавшийся в этой роли, был человеком
чрезвычайно легко смущающимся, и естественно, что обстановка съемки и
предчувствие тех требований, которые будут ему предъявлены режиссером, заставляли
его одновременно и волноваться и беспрерывно чувствовать связывающее его
смущение.
Я нарочно усиливал эту смущавшую его обстановку именно потому, что это
создавало нужную мне краску. Когда я заставил его встать на аплодисменты и
начал безудержно и восторженно хвалить его прекрасную игру, парень не мог
удержать, хотя всячески и удерживал, роскошную улыбку полного
удовлетворения, которая в результате и дала мне великолепный кусок. Я считаю этот
кусок одним из самых удачных в картине в плане, если здесь так можно
выразиться, актерской игры.
Здесь все реальные условия съемки, в сущности, совпадали с теми
условиями, которые впоследствии появились на экране: и смущение комсомольца,
неожиданно выбранного в президиум огромного собрания, и неудержимая радость
его, когда это огромное собрание встретило единодушными аплодисментами его
объявленное имя.
226
Конечно, это не была актерская игра, поскольку момент сознательного
творчества у мальчика, игравшего комсомольца, был исключен. Но этот опыт может
быть повернут своей практической стороной в помощь актеру, когда он захочет
вместе с режиссером найти для своего состояния реальную опору вовне.
Я еще раз повторяю, что в театре эту реальную опору в большинстве случаев
приходится либо воображать, либо заменять ее магическим «если бы»,
изобретенным К. С. Станиславским.
Об этом «если бы» К. С. Станиславский пишет так: «Актер говорит себе:
«Все эти декорации, вещи, гримы, костюмы, публичность творчества и проч.—
сплошная ложь. Я знаю это, и мне до них нет дела. Мне не важны вещи... Но...
если бы все, что меня окружает на сцене, была правда, то вот что бы я сделал,
вот как бы я отнесся к такому-то или иному явлению».
С этого магического «если бы», по мнению К. С. Станиславского,
начинается истинная творческая жизнь актера. Может быть, в театре это — правда,
поскольку театрализация поведения актера является неотъемлемой стороной
его искусства. В кинематографе если и существует это «если бы», то в совершенно
иной форме и, вероятно, связано, как почти все обобщающие моменты, главным
образом с монтажной трактовкой роли.
Я вспоминаю еще один характерный случай работы с «неактером»,
имевший место на съемке «Простого случая» («Очень хорошо живется»).
Там была такая сцена: встретились отец и маленький сын его, пионер, давно
не видавшие друг друга. Раннее утро. Мальчик только что встал с постели. Он
потягивается, расправляя мускулы после сна. На вопрос отца: «Как живешь,
Ваня?» — он поворачивается к нему и вместо ответа посылает милую, немного
смущенную улыбку.
Задание было сложно, и вместе с тем снимать приходилось, конечно,
десятилетнего мальчика, потому что в кинематографе даже сугубо реакционный
режиссер театрального толка не рискнет снимать взрослого актера или женщину,
загримированную под мальчика, как это бывает возможно на сцене.
Работая с «неактером», опираться на репетицию нельзя. Механически
заученные движения вообще не годны. Творчески найти нужную форму и, раз
найденную, повторить ее — для человека без специальной школы, конечно, тоже
немыслимо. Следовательно, нужно даже и в таком сложном случае суметь,
учитывая возможно тонко и чутко характер снимающегося, создать для него
такие условия, в которых те движения которые требуются режиссеру, явились
бы естественной и неизбежной реакцией на толчок, полученный извне.
Я придумал следующее: я решил прежде всего заставить его, этого мальчика,
испытать настоящее удовольствие от процесса потягивания, потребность в этом
потягивании. Для этого я предложил ему согнуться, взять руками ступни своих
ног и так держать их до тех пор, пока я не позволю ему выпрямиться.
«Тогда,— сказал я ему — ты действительно с настоящим удовольствием,
потянешься, расправляя мускулы, а это-то как раз мне и нужно».
Я нарочно разъяснил ему смысл всего задания, рассчитывая на то, что он
заинтересуется этим экспериментом. Именно эта заинтересованность и нужна
мне была для того, чтобы удался и второй момент задания.
Мальчик действительно заинтересовался, я это почувствовал. Теперь, далее,
я рассчитывал так: когда я позволю ему выпрямиться и он действительно с
настоящим удовольствием потянется, я прерву его движение вопросом: «Ну как
Ваня, ведь верно — приятно?»
8*
227
Говорить во время съемки нельзя, это мальчику было хорошо известно.
Характер его я знаю и был уверен, что он должен ответить мне как раз нужной
улыбкой, утвердительной улыбкой и немного смущенной необычайностью
положения.
Я повторяю, что репетировать было нельзя, хотелось поймать именно
свежесть этой продуманной возможности реакции.
Съемка началась. Мальчик долго стоял согнувшись. Я позволил ему
выпрямиться, он потянулся, я увидел на его лице удовлетворение и от физического
удовольствия и от того, что предложенная игра действительно вышла. Я задал
ему вопрос и получил в ответ нужную мне прекрасную улыбку.
Могло, конечно, не выйти, но я был убежден, что выйдет, и не ошибся.
Работа со случайным человеком в кино, конечно, требует специальной
мудреной и трудной выдумки от режиссера. Ее конечно, нельзя превращать в
какой-то общий принцип работы вообще с актером. Конечно, нельзя также
превращать приемы работы с «неактером» в какую бы то ни было школьную систему.
Но я думаю, что из опыта этой работы можно получить многое для практики
процесса освоения образа, для поисков внешнего выражения внутренних
состояний.
Момент создания условий для вызова естественной реакции иногда может
оказать большую помощь в поисках формы игры и для профессионального
актера, особенно в условиях натурной съемки.
Разбирая вопрос о «неактере», нужно сказать также и следующее: если
нельзя предлагать заменить опытного, специально воспитанного актера
случайным человеком в кинокартине, то также нельзя поставить кинокартину со всем
огромным количеством персонажей, участвующих в ней, только с одними
актерами. Ставить вопрос так, чтобы в будущей съемке совершенно отказаться от
возможности работать со случайным человеком, не имеющим специальной
школы, нельзя. Это видно по простому подсчету: количество небольших
эпизодических ролей в театре равно в среднем 15—20; в кинокартине мы имеем в
среднем 60—80—100 отдельных небольших съемок различных людей, из которых
каждая имеет достаточно серьезное значение. Крошечные эпизодические роли,
занимающие очень небольшие кусочки времени, от двадцати секунд до одной
минуты, вместе с тем разрешают иногда очень сложные и серьезные задачи и
требуют высокого качества в плане выразительности.
Масса, толпа, остающаяся на сцене театра в конце концов чем-то
общим, нераздельным, в кинематографе, как мы знаем, разбивается на
крупные планы. Содержание толпы как общего вскрывается через частности. При
съемке крупным планом от таких отдельных персонажей требуется не меньшая
правдивость, чем от актера, ведущего главную роль.
Если на сцене малый эпизод может нести только частичную нагрузку, может
оказаться только соединительным штрихом, а иной раз даже фоном, то в
кинематографе при постоянной сосредоточенности на каждом кадре полного внимания
зрителя таких проходных, соединительных моментов не существует.
В кинокартине от каждого, даже самого маленького кусочка при четкой
ритмической конструкции картины мы должны требовать стопроцентной
содержательности. Нужно соединить это высокое требование, предъявляемое к самому
даже малому эпизоду, с теми требованиями, которые предъявляет сама
организация кинопроизводства, не имеющая возможности держать у себя
бесчисленное количество эпизодических актеров. Могут указать на Голливуд22, который
228
использует для своих картин тысячи статистов, живущих постоянно в
киногородке. Не думаю, чтобы эта система могла привиться у нас. При том
правильном направлении развития кинематографа как искусства, долженствующего r
своей работе максимально охватывать действительность, при непременном
росте числа натурных съемок, связанных с выездами съемочных групп в различные
места нашей страны, конечно, нельзя рассчитывать на возможность перевозить,
с собою громадную группу актеров, предназначенных для съемок в
одноминутном куске.
Мы будем всегда стоять перед необходимостью умения режиссера
использовать для съемки тех людей, которых он сумеет набрать на месте съемки,
отдаленном от центра.
Я думаю, что с этим вопросом связана также и неприемлемость грубого
грима, который в театре может превратить молодого Н. П. Хмелева в старика
дворника 23.
Конечно, не закрыт путь приспособления сценария к той группе актеров,,
которая имеется в распоряжении фабрики. Такую систему работы склонен
проповедовать, например, Л. Кулешов, сам пишущий свои сценарии. Мне это не-
кажется исчерпывающим огромные возможности кинематографа, а, напротив,,
закрывающим его настоящее глубокое развитие.
В этом случае вопрос касается уже самого стиля работы. Если мы могли,
учитывая одного или двух ведущих актеров, потратить большие усилия для того,,
чтобы придать задуманному содержанию сценария соответствующую форму,,
то это немыслимо сделать по отношению к сотне эпизодов. Я думаю, что
подобная работа была бы бессмысленна хотя бы потому, что, как показал опыт,
дорога к полноценному использованию случайного человека в кино практически
не закрыта.
Я утверждаю, что эту дорогу можно закрыть, только схоластически
утверждая отвлеченный принцип «кинематограф для актера».
Выбор роли
Я снова возвращаюсь к вопросу о работе киноактера над ролью и хочу
остановиться на самом первичном моменте, на моменте выбора этой роли.
Киноактер, как и любой художник в любом искусстве, исходит из глубокого
освоения образа со стороны его целеустремленности, идеологичности в настоящем
смысле этого слова. В этом процессе неизбежно присутствуют не только
объективные, но и глубоко субъективные моменты.
Если задуманный образ вы свяжете только с этой задачей, которую имеет
перед собою пьеса или сценарий в целом, и в выполнении этой задачи вы не
будете лично глубочайшим образом заинтересованы, то произведения искусства
не будет.
Если пьеса в целом и роль в пьесе решают что-то, что является чуждым,
отделенным от внутреннего мира самого художника, произведения искусства не
будет. Только в том случае, если пьеса и роль говорят в какой-то степени то,
что хотел бы сам художник с глубочайшей искренностью и страстностью
сказать, только в этом случае можно быть уверенным в том, что работа этого
художника будет настоящей творческой работой в искусстве.
Я утверждаю, что в самом начале, в самом первичном моменте встречи актера
с ролью должен играть момент глубокой внутренней заинтересованности актера.
229
Но помимо этой общей внутренней заинтересованности в самом начале
работы актер непременно должен ясно ощутить и продумать свои возможности
для совершенного выполнения будущей работы. Роль, заинтересовавшая актера,
конечно, не может касаться его только лишь своим идеологическим содержанием.
Неизбежен момент нащупывания в этой роли каких-то специфических сторон,
которые могут быть связаны с личными данными характера и культуры актера
и могут сделаться исходными опорными пунктами для его будущей конкретной
работы по освоению образа.
В момент первой своей встречи с ролью актер воспринимает ее также и
эмоционально, в ее единичности помимо общих ее связей с целым сценария. Этот
первичный момент предчувствия полноты и реалистичности образа может или
принадлежать непосредственно самому актеру, или же находиться с помощью
режиссера.
Но и в том и в другом случае необходим момент глубокого увлечения
возможностями будущей работы, обусловливающий выбор определенной роли.
На вопросе о выборе роли нужно остановиться подробнее, потому что в нашей
практике до сих пор еще имеет место механическое распределение ролей между
актерами, иногда без учета их личных индивидуальных качеств и всегда почти
без учета полноты и знания их творческой заинтересованности.
Ясно, что работа актера над ролью только тогда сможет дать хорошие
результаты, если этой работе предшествовал момент выбора, момент желания и
потребности актера играть именно эту роль.
Актер в кинематографе в этом смысле находится в гораздо менее
благоприятных условиях, чем актер театра. В кинематографе нет или, вернее,
чрезвычайно мало крепко сколоченных актерских коллективов, и, как правило,
сценарий часто пишется для определенного режиссера, но без всякого учета каких
бы то ни было актеров, которые подбираются лишь впоследствии.
Возможности выбора роли актером в кино почти не существует. Она
выражается разве только в согласии или несогласии взять на себя предложенное.
Нужно сказать, что в этом положении виновата не только организация
производства, не только отсутствие соответствующей инициативы у режиссеров и
сценаристов. Я думаю, что здесь играет очень большую роль и вопрос
кинематографической культуры самих актеров.
Разберемся внимательно в том, что может представлять собою то первичное
увлечение ролью, которое должно по существу решить выбор актером той или
другой роли.
Прежде чем начать работать над образом, актер должен (на то он и
художник) суметь как-то охватить всю эту будущую работу в общих чертах, в
целом.
Здесь должны присутствовать и его интересы и взволнованность общими
задачами; здесь же непременно должно присутствовать ясное ощущение тех
возможностей внешней трактовки образа, которые связаны со знанием личных качеств
своего характера и со знанием той техники, которою актер обладает.
Мы знаем, что в театре часто комики желали играть Гамлета, но они либо
этого никогда не делали, либо, если делали, то убеждались в неполноценности
и неверности этого увлечения. Актер-мастер не может быть увлечен только
отвлеченной идеей образа. Его настоящее увлечение должно питаться также и теми
конкретными данными, слагаемыми из характера и техники, которыми он
обладает.
23.0
Быстрый охват всех возможностей, которые дает будущая роль, у актера
должен существовать. Это есть необходимая, во всякой работе существующая,
первичная общая проектировка, учитывающая полностью задачу, стоящую
перед человеком, в результате которой человек сознательно идет на работу илиг
наоборот, удерживает себя от нее. У актера в основе этого первичного ощущения
роли лежит, как я говорил, помимо общей идейности, заинтересованности
суммарный учет и ощущение своих сил и возможностей, своих актерских данныхг
приемов, которыми он владеет, своего характера, темперамента, всей суммы
своих психофизических данных.
Театральный актер, когда подходит к предварительному общему ощущению
образа, к учету своего желания или нежелания над ним работать, пользуется
при этом своим знанием специфики театральной работы.
Я говорил, что актер кино по системе его воспитания ближе всего должен
стоять к школе К.. С. Станиславского. Поэтому основные моменты его первичного
увлечения должны опираться главным образом на внутреннее содержание
образа. Но было бы глубоко неверно и недопустимо оторвать это содержание от
тех внешних форм, в которых оно будет передаваться зрителю с экрана.
К сожалению, полнота знания этих форм до сих пор у нас принадлежала
только режиссеру, актер же этим знанием не обладал совсем или в чрезвычайно
малой, недостаточной степени. Таким образом, оказывалось, что увлечение
киноактера ролью в большинстве случаев было стихийным, неорганизованным и
во многих случаях могло оказаться желанием комика сыграть Гамлета, как я
выше говорил. В организованном увлечении взволнованный актер
притягивается к роли потому, что он даже в этом первичном ощущении уже понимает, что
каждый данный заинтересовавший его в роли момент не только волнует и
интересует, но вместе с тем и ощущается им возможным к оформлению. Задачи
лтогут быть какими угодно трудными, но возможными — в этом все дело.
И вот для такого полноценного первичного увлечения ролью несомненно
необходимо наличие у актера полноценного, всестороннего знания техники
своего искусства. Нужно быть во всеоружии техники для того, чтобы уверенно
сказать, что увлечение ролью приведет к настоящему, нужному результату.
Театральный актер, знающий свою сцену, своего режиссера, своих
партнеров, техническую базу своего театра, может довести первичный охват своей
будущей игры до представления себя находящимся на сцене перед зрителем.
Актер кино в среднем не представляет себе, какими возможностями обладает
он для создания окончательной формы своего образа на экране, а без этого
представления актеру обойтись нельзя. До сих пор это представление составляло
прерогативу исключительно режиссера. Он является тем самым человеком,
который будет существовать на экране для зрителя, и этому же режиссеру нужно
было вводить в субъективный мир живого актера созданное им представление.
Конечно, киноактер не виноват в том, что общая организация нашего
производства мешала его возможности достаточно глубоко освоить культуру
киноискусства. Но так или иначе, благодаря этому он был поставлен в такие условия,
при которых полноценной ответственности в подборе роли актер нести не мог.
Он был механически отделен от той области монтажа, которая отводилась только
режиссеру, тогда как на самом деле знание этой области должно прежде всего
обусловливать полноту культуры именно актера.
В итоге поставленный вопрос о первичном увлечении ролью практически
оборачивается так, что актер непременно должен обладать гораздо более широ-
231
кой и глубокой культурой, чтобы этот момент увлечения не был только
стихийным толчком, а закономерным моментом в творческом процессе работы над
образом.
Творческий коллектив
Обсуждая вопрос о необходимости активного участия актера в выборе роли,
одно время думали найти выход в организации так называемых актерских
заявок на роли. Необходимость таких заявок обосновывалась сложными
рассуждениями о том, что тематические планы фабрик должны быть конкретными
выражениями творческих чаяний не только сценаристов и режиссеров, но также и
актеров, которые должны делать заявки на определенные избираемые ими образы.
Я думаю, что такая система работы может создать только совершенно ненужный
и нелепый механический подбор заявлений. Никакое чтение заявок и записок,
конечно, не может заменить режиссеру и сценаристу необходимого полноценного
знания и ощущения живого актера.
Для того чтобы актер был по-настоящему понят и оценен режиссером,
нужны не записки и не встречи, а глубокое взаимное изучение. Нужно прямо
сказать, что при теперешнем положении дела большинство режиссеров и актеров,
несмотря на сравнительно небольшое их количество, попросту друг с другом
незнакомы. Поэтому вопрос о съемочных коллективах стоит сейчас даже ниже
самой первой ступени возможного его развития.
Уже рассказывая о своем личном опыте, я говорил о том, какой степени
внутреннего контакта с актером должен достигнуть режиссер для того, чтобы
съемочная работа происходила в атмосфере взаимной помощи и доверия,
необходимой для полноты творческой работы.
Наши съемочные коллективы не имеют даже времени для того, чтобы
создаться и укрепиться по-настоящему, хотя бы для проведения одной картины.
У нас, как правило, даже с ведущими актерами режиссер по-настоящему
знакомится только к концу постановки.
Я должен, опять-таки из своего личного опыта, сказать, что с В. Барановской
у меня настоящий внутренний контакт появился только в середине картины.
С актером Б. Ливановым 24 было даже хуже — мы взаимно творчески поняли
друг друга только к концу картины.
Такое незнакомство с актером — вещь, конечно, недопустимая, и она
требует самых решительных организационных мероприятий.
Я не думаю, что создание постоянных творческих коллективов совершенно
исчерпает этот вопрос. Снова и снова приходится утверждать, что огромный
состав актеров при ограниченной возможности менять свой внешний облик в
кинематографе, конечно, непременно будет связывать творческий размах главным
образом сценариста, то есть, иначе говоря, нанесет удар самому существенному
в картине — ее идейному содержанию.
Но, конечно, организацию таких постоянных коллективов, которые находят
возможным центр тяжести работы переносить на полноту творческой
спаянности отдельных работников, нужно всячески поддерживать и развивать хотя
бы в целях педагогических, для поднятия общей кинематографической
культуры того же актера.
Я думаю, что помимо создания постоянных коллективов нам нужно также
думать и об условиях, которые позволили бы актеру и режиссеру, соединившим-
232
ся для постановки одной или двух картин, осуществить глубокое внутреннее
знакомство и спайку друг с другом в максимальной степени.
Мы знаем, что единственной базой для образования такого творческого
коллектива является прежде всего органическое соучастие в творческом процессе
всех работников, общность их взглядов, общность методов работы, общая
кинематографическая культура.
Настоящая работа коллектива и, если хотите, даже сама возможность
образования такого коллектива может появиться только в том случае, если
работники съемочной группы начинают вести работу в общем контакте с возможно
более начальных ее моментов. При таком подходе к делу с неизбежностью
возникает вопрос об участии актера в работе над сценарием. Мы говорили о том
случае, когда актер сталкивается с уже готовым сценарием, готовой ролью,
когда он ищет в этой роли такие моменты, которые увлекли бы его, обусловили бы
полноту и содержательность его будущей творческой работы.
Возможен случай, когда сценарист пишет сценарий в расчете на
определенного актера. Это в том случае, если сценарист его знает, если имеется налицо
определенный постоянный коллектив.
Но может быть также и такой случай, когда актер, вовлеченный в работу
режиссером и сценаристом, вовлеченный в самый процесс писания сценария,
может оказывать какое-то влияние на создаваемую роль. Тут получается сложный
контакт — сценарист, сценарий, роль, актер, режиссер. Эта система может быть
создана еще до твердого оформления написанного сценария в монтажные листы.
К сожалению, ничего похожего в нашей кинематографической практике мы до
сих пор не имели.
Если существовала связь режиссера с актерами и режиссера со сценаристом,
то такого полного контакта между актером, сценаристом и режиссером у нас
не существовало никогда.
Лично у меня никогда не было своего коллектива, и в процессе свой работы
я втягивал актера в творческую работу над созданием целого картины
чрезвычайно скупо и мало. Этому способствовала в значительной мере обстановка
производства, не оставлявшая времени для настоящего глубокого общения
работников съемочного коллектива между собой.
Создавать настоящий контакт в процессе самой съемочной работы уже
поздно и в большинстве случаев невозможно. Можно вызвать больший или меньший
интерес актера к работе, большую или меньшую увлеченность каждым
отдельным куском, но настоящей спайки достигнуть нельзя. Совершенно понятно
поэтому, что актер выпадал и из важнейшего периода работы над картиной —
из периода монтажа. Он уходил в сторону и возвращался только для того, чтобы
увидеть картину в совершенно готовом виде, когда уже он был лишен всякой
возможности изменить то, что было сделано режиссером.
Почему получалась такая нервозность, перенапряженность в съемочном
периоде? Главным образом потому, что всегда приходилось вступать в работу с
незаконченным сценарием, с полным отсутствием подготовительного периода.
Почти вся энергия режиссера во время съемочного периода уходила на работу
над монтажными листами, и он успевал знакомить коллектив с важнейшими
моментами творческой работы за день, а иной раз за час до съемки.
Это было, конечно, чрезвычайно плохим методом включения актера в
творческую работу коллектива. Во время съемочной работы настоящий коллектив,
создаться не может. Основное, конечно, подготовительный период.
233
Только в подготовительном периоде имеются все данные для того, чтобы на'
метились общие пути к пониманию друг друга. Только в подготовительный
период может нащупываться направление, может зарождаться школа, могут
появляться настоящие возможности полноценного роста.
Мы уже констатировали ущербное положение киноактера в нашем
производстве. Если режиссер кинематографа имеет возможность ясно сказать о том,
что именно он хочет сделать, может найти для осуществления задуманного им
соответствующего сценариста и подобрать актеров, то киноактер не имеет пока
никаких путей к тому, чтобы претендовать на возможность работать в
определенном, им выбранном направлении.
Некоторые предлагают в качестве выхода дать возможность киноактерам в
течение подготовительного периода, который проводит режиссер, испробовать
себя в качестве дублера и попробовать доказать свое преимущество в данной
роли. С практической стороны это предложение неудачно. Для того чтобы иметь
возможность выбора, нужно иметь в наличии то, из чего выбирать. Дается ли
эта возможность сейчас актеру? Нет, она не дается, потому что самый процесс
написания сценария, который приводит уже к окончательной форме, где
появляются уже отточенные индивидуальные черты, почти указывающие на
определенного актера, происходит совершенно отделенно от актерской массы. Как
только сценарист и режиссер переходят от либретто, где лишь намечены общие
черты будущих образов, к разработке сценария и монтажных листов, они уже
фактически забирают в свои руки все возможности выбора актером роли.
Если бы еще только задуманный сценарий, когда он находится в первичном
состоянии либретто, широко оглашался среди актерского состава, то при такой
постановке дела актеры действительно могли бы, заинтересовавшись и
задумавшись над своими возможностями, выбирать режиссера и сценарии и в
дальнейшем своем контакте осуществлять возможность совместной творческой
работы. Это было бы первым настоящим шагом к организации в творческий
коллектив.
При практическом разрешении этого вопроса, я думаю, придется столкнуться
с серьезными затруднениями. Обычно актерский состав отдельной фабрики
является в значительной мере ограниченным. Таким же ограниченным является
и режиссерский ее состав. Если говорить о возможности широкого
использования всех сил для создания творческих коллективов, вероятно, нужно говорить
о возможности хотя бы на первое время уничтожить разобщенность отдельных
фабрик.
Я думаю, что на замкнутость, отделенность кинематографическая фабрика
может претендовать только в том случае, если она имеет какое-то определенное
творческое лицо, если, по существу, отдельные спаянные съемочные коллективы
в целом составляют также некий коллектив второго порядка, также творчески
спаянный. Но таких фабрик у нас пока нет. Актерские и режиссерские силы
распределены случайно,,вне всякой связи со стилем их работы, с так называемым
«направлением» в искусстве. Если это так, а мы стремимся произвести какую-то
перегруппировку именно по признаку общности стиля или направления
отдельных творческих работников, я думаю, мы должны иметь в виду возможность
какого-то широкого обмена творческими работниками между отдельными
фабриками.
Широкое оглашение либретто и основных установок отдельных картин, я,
думаю, должно проводиться в пределах не одной только фабрики, а нескольких,
234
для того чтобы взаимный подбор режиссера и актера был поставлен в настоящие,
наилучшие конкретные условия.
В прямой связи со всем сказанным стоит вопрос относительно так
называемого «амплуа» актера, то есть относительно тех границ, которые в кинематографе
в значительной мере превращаются в чисто физические, связанные с внешней
выразительностью актера, моменты.
Возможность видоизменения внешности актера в кино ограничена в
значительно большей степени, чем в театре.
ЧвхМ глубже трактован образ, чем органичнее и живее актер входит в его
жизнь, тем больше должен он использовать детальность и реалистичность
подачи этого образа в кино. Образ, который строит киноактер, гораздо ближе
связывается с его личным характером, с его темпераментом, с его физическими
данными, чем в театре.
В плане реалистической работы здесь почти безнадежно отняты возможности
искусственного грима, при котором пропадает главным образом всякое
видоизменение трехмерной формы при помощи двухмерного рисунка. Нарисовать,
как в театре, выпуклость лицаг в кинематографе нельзя, потому что
колеблющийся контрастный свет в своем движении всегда обнаружит фальшивую
неподвижность наложенной тени и превратит ее просто в пятно грязи. Несуществующую
выпуклость лица в кинематографе нарисовать нельзя, ее нужно сделать
трехмерной, а сделанная и наклеенная выпуклость, если она не превышает
определенного, очень малого размера, перестанет быть живой, потому что
выключается из тонкой живой игры мускулатуры человеческого лица.
Все это возможно в театре, потому что ровный свет рампы и софитов не дает
теней, и зрителю, сидящему на большом расстоянии, не режет глаза грубая
неподвижность нагримированного пятна.
Разнообразие ролей актера в кино растет главным образом за счет
внутреннего рисунка, за счет различного поведения его в новых условиях, которые
создаются новыми картинам. В кино один и тот же актер с неизменной внешностью
и даже с неизменным характером может сыграть в очень многих картинах.
Мы знаем, как Чаплин, например, оставаясь в одном и том же гриме,
сохраняя один и тот же характер, дал огромнейший собирательный образ, проходя-,
щий через целый ряд его картин 25.
Я думаю, что именно так нужно рассматривать вопрос об ограничении
актерских возможностей в кино.
Здесь как будто бы выплывает вопрос о «звездах». Как создается и
используется актерская «звезда» в буржуазном мире? Если какой-то актер в картине,
был принят публикой за свою наружность, за свою манеру игры, сводящуюся
в большинстве случаев к формам трюка, производство делает все возможное
к тому, чтобы тщательно сохранить в актере все понравившееся публике и
приспособить к этим данным любым способом любой материал, лишь бы только этот
материал был связным и занятным. По существу, к найденной в определенной
форме «звезде» подставляется режиссером под диктовку предпринимателей
различный фон. Таким мы видим, например, Адольфа Менжу26, блестяще
сыгравшего у Чаплина. В целом ряде других, уже глупейших картин он,
механически сохраняя свою внешность и схему своего поведения, понемногу
превратился во все более и более неинтересную пустую куклу.
Я думаю, что такой метод повторного показа любимого зрителем актера
неприемлем для нас, да и вообще неприемлем для работы в искусстве..
235
Повторное появление актера на экране в новой картине должно делаться
не потому, что нужно снова показать его в неизменном виде, а потому, что
актер должен и может сделать новый шаг в том направлении, по которому он
пошел. Он должен, так сказать, развить дальше тот образ, над которым он начал
работать, провести его через новый отрезок действительности.
Менжу демонстрировался постоянно повторяющимся и, в сущности, с
постоянным признаком падения своего мастерства, потому что картина делалась
вокруг него, а он в картину эту не входил.
Чаплин как будто бы тоже сохраняет один и тот же образ, но вместе с тем
в каждой картине он нов и интересен, потому что он проходит через новые и
новые разрезы действительности и создает, таким образом, ряд действительно
органически цельных произведений искусства.
Картины с повторяющимся актером должны представлять собой некий
процесс развития, закономерный процесс, превращающий повторность актера в
путь все большего и большего раскрытия играемого образа.
Личный опыт
В заключение я хочу сказать несколько слов об опыте моей личной актерской
работы. Мне думается, что на этом опыте отразилась вся та неясность и путан-
ность внутренних установок, которая до сих пор обусловливает почти полное
отсутствие какой бы то ни было школы у киноактера. Мои первые роли были
связаны с методикой работы у Л. Кулешова. Единственным содержанием
актерской игры там являлась внешняя выразительность, трактуемая лишь как
механическая последовательность иногда выбранных актером, иногда
продиктованных режиссером движений.
Монтажный образ актера на экране строился также путем чисто
механической склейки кусков, связанных между собой только временной композицией
схематизированных движений. Даже моменты крупного плана, которые,
казалось бы, должны были требовать от актера большой внутренней работы, в
среднем сводились к тому, чтобы заучить разложенные на элементы движения
лица. Команда режиссера — выдвинуть вперед челюсть, расширить глаза,
наклонить или поднять голову — была обычной в процессе съемки.
Как будто бы говорилось о том, что можно и нужно опереть эти движения на
что-то внутреннее, но это «что-то» никак и никем не определялось.
Я помню, что иногда это «что-то» было просто радостью, что здорово и гладко
проходит заученная схема. Иногда же испытывал какой-то в полной степени
неопределенный подъем, который трудно было отделить от ощущения общего
физического напряжения, связанного с сознанием важности совершаемого дела.
Так я работал в «Мистере Весте» и в «Луче смерти»27.
Нужно сказать, что огромную роль в этой работе сыграло то, что Л.
Кулешов при наличии своего большого педагогического таланта ввел меня целиком
в работу, и сценарную и монтажную, позволяя мне даже не только самому
играть, но также и ставить отдельные куски другим актерам.
Полнота охвата всего процесса создания картины со всех его сторон
приучила меня ощущать себя не только в работе перед аппаратом, но также и в ходе
тех будущих изображений, которые появятся в результате монтажа.
Я думаю, что кулешовская школа, несмотря на всю механистичность его
тогдашнего подхода к театру, принесла все же огромную пользу всем членам
236
его коллектива, и недаром из этого коллектива вышли такие прекрасные
актеры, как В. Фогель28 и С. Комаров29.
Я пробовал в тогдашней своей работе опереться на внутреннее состояние,
находить какую-то связь внутри себя, которая бы позволила мне ощущать себя
в момент игры в полном живом состоянии. Но возможности по-настоящему
развивать это во время работы у Л. Кулешова я не имел. Лишь сразу перейдя к
самостоятельной работе в Межрабпоме30, я получил возможность иначе
подойти к работе актера, правда, уже в процессе режиссерской работы. Но каждый
раз в каждой картине я все же пробовал брать на себя хотя бы маленькую роль.
Мне кажется относительно удачным сыгранный мною кусок в «Матери», где
я играл офицера, полицейскую крысу, пришедшего для обыска в квартире
Павла. Я помню, что в этой работе я еще, по, старой привычке, опирался
главным образом на внешний образ. Я начал с того, что обстриг свои волосы под
«бобрик», отпустил усы, нашел очки, которые, как мне казалось, особенно
подчеркивали в контрасте с военной формой, придающей всегда известную
бравость и мужественность носящему ее человеку, хилый, дрянной характер
канцелярской полицейской крысы.
Я помню, что единственным внутренним состоянием, на которое я пробовал
опереться в игре, было состояние кислого уныния и скуки, которые, мне
казалось, должны были вызывать у зрителя особенно острое ощущение жесткого
полицейского механизма, неумолимо уродующего всякий проблеск живой
мысли и чувства.
Я помню, что вся работа над этой небольшой ролью была теснейшим образом
связана с монтажной ее разработкой. Сонная, скучающая фигура околоточного,
разработанная на общих и средних планах, сознательно была переведена на
крупные и крупнейшие, когда у меня по роли должен был проявиться проблеск
интереса ищейки к учуянному ею следу.
. Моей единственной большой актерской работой была роль Феди в «Живом
трупе»31. Здесь уже режиссировал не я. Задача была сложной и большой.
Нужно было, в сущности, во весь рост поставить вопрос и о целостности и
о целеустремленности образа, о месте его в картине и о значении картины в
целом. Нужно честно сказать, что ничего из этого сделано не было.
Работа в этой картине, в силу создавшихся условий, вообще шла главным
образом под знаком необходимости отдыха от режиссерской работы. Я отдавал
себя целиком в распоряжение режиссера, сознательно решив, что, играя Федю,
я в каждом отдельном куске не буду выходить ни из своих внешних данных,
ни из данных моего личного характера.
В сущности, вопрос о создании цельного образа я отдал в руки режиссера.
Монтажного образа в целом я не мыслил. Было лишь только представление
о монтажной трактовке отдельных кусков. Общим связующим моментом я
оставил целиком самого себя; говоря попросту, я играл этого самого себя.
В каждом отдельном моменте игры я целым рядом индивидуальных, только
что применяемых приемов доводил себя до такого состояния, которое позволило
бы мне в порядке личной искренности и цельности личного моего характера
сделать какой-то ряд движений, совершить какой-то заданный сценарием и
режиссером поступок.
Я вспоминаю сцену, где я стою с револьвером у печки и выглядываю оттуда,
показывая полусумасшедшее лицо человека, находящегося на граня
самоубийства.
237
Я помню, что для этого куска я, спрятавшись от аппарата за печку и держа
револьвер у сердца, повторял беспрерывно взятую из «Бесов» Ф. Достоевского
фразу Кириллова: «В себя, в себя, в себя». И довел, наконец, себя почти до
полуобморочного состояния, в котором и выглянул из-за угла.
Вспоминаю другую, характерную в этом смысле сцену. В пустом вестибюле,
перед тем как покинуть дом и оставить жену, я прощаюсь с ее сестрой. Я помню7
что мне было очень легко вызвать в себе ощущение чрезвычайной бережности
и нежности к той девушке, которая играла эту сестру. Она мне нравилась как
человек и в жизни. Ощутить, что я должен уйти от нее навсегда, оставить ее
одну в этом пустом доме, вызвать в себе желание как-то помочь ей, приласкать
ее и вместе с тем нежно отвести ее от себя, было легко и просто, потому что это
не только не расходилось, а просто совпадало со всеми реальными данными
моего характера. Вообще работа в «Живом трупе» была проведена как будто бы
на больших и глубоких внутренних состояниях, при большой эмоциональной
нагрузкеj но вся эта работа никогда не давала мне ощущения, что я мог бы
сыграть какую-либо иную роль, связанную с образом человека, не
совпадающим полностью с моим личным, обычно в жизни проявляющимся
характером. Мой опыт работы в «Живом трупе» никоим образом, конечно, не может
служить примером для работы актера.
Внутреннее сцепление, внутренняя органика была построена не путем
преодоления себя, а путем прямого выявления себя. В каждом данном куске я был
в самом буквальном смысле слова самим собою. Новое и непохожее на меня
создавалось только в результате монтажа. То есть, образ Феди сделан только
с помощью сценарных положений: он не создан творчески как характер.
Я думаю, что основным и решающим качеством этой работы являлась та
моя личная незаинтересованность в целом образе, которая заставила меня
подойти к работе, как к- путешествию по картине без всякой попытки подчинить
себя образу целеустремленному, такому, который не только дает актеру
удовлетворение от его технического выполнения, но также и разрешает какие-то
идейные задачи, поставленные целым картины, и не только для зрителя, но
также и для самого актера, мыслящего, живущего и развивающегося.
Думаю, что при теперешнем состоянии нашей теории и практики в области
кино еще невозможно говорить о какой-либо системе работы актера и системе
его воспитания. Эти системы должны нами создаваться, и первое, с чего мы
должны начать, это создание необходимых условий для самой возможности
организации такой системы.
Сейчас я должен ограничиться только простой передачей эмпирического
опыта своей и чужой работы.
Заключение
Подведем итоги и суммируем наши выводы.
1. Новая техническая база кинематографа (подвижные съемочный аппарат
и микрофон) делает не только ненужной, но и бессмысленной для актера всю
ту техническую работу, которая связана в театре с наличием большого
расстояния, отделяющего сцену от неподвижного зрителя. Отпадают: специально
театральная постановка голоса, театрализованная дикция, театрализованный
жест, рисованный грим.
2. В связи с этим видоизменяется театральное понятие «амплуа» актера.
Разнообразие играемых им ролей в кино обусловливается, во-первых, разнообра-
238
зием характеров при сохранении в основном одной и той же внешности (Штро-
гейм)32 и, во-вторых, развитием одного и того же характера в разнообразной
обстановке (Чаплин).
3. Теряя возможность создавать «типичное» при помощи театральных
приемов: схематизированного грима, обобщенного жеста, подчеркнутой
выразительности голоса и т. д., киноактер приобретает немыслимые для театра возможности
тончайшей реалистической трактовки образа, в своей игре максимально
приближаясь к естественному поведению живого человека в каждой данной
обстановке. «Тип» в кино создается в значительной мере за счет общего действия, за
счет богатого разворота поведения человека в разнообразных обстоятельствах
(сравните развитие «типа» в романе и драме; кинематограф в данном случае
ближе к литературе, чем к театру).
4. Из культуры работы театрального актера целиком переносится в кино
все, что связано с процессом создания целостного образа и «освоения» его
актером, все, что предшествует отысканию «сценических», «театрализованных»
форм игры. (Конечно, на практике резкого раздела этих двух периодов не
существует. Ощущение «сценической» формы у театрального актера есть всегда,
но все же некоторое разграничение произвести можно.) Вот почему школа
К. С. Станиславского, делающая (вернее, делавшая) особый акцент на
первоначальном процессе глубокого «освоения» образа актером даже в ущерб
«театральности» его трактовки, ближе всего стоит к киноактеру. Интимность игры актера1
школы К. С. Станиславского, приводившая иногда спектакли к чрезмерной
перегрузке малозаметными деталями и лишавшая эту игру блеска
«театральности», в кинематографе может получить необходимое и замечательное развитие.
5. Все те средства, которые культура театра создала для того, чтобы помочь
актеру целостно «освоить» образ, данный в пьесе разорванными кусками,
должны быть перенесены в практику кинематографа. В первую очередь
репетиционная работа, развиваемая прежде всего по линии создания для актера всех
возможных условий для длительного, непрерывного существования в образе
(репетиционный сценарий).
6. Монтажная трактовка игры актера (композиция на экране отдельно
снятых кусков игры) вовсе не является режиссерским «трюком», подменяющим игру
актера. Она является новым, мощным, кинематографу свойственным приемом
подачи этой игры. Овладение ею для киноактера так же важно, как важно для
актера сцены овладение техникой «театральной», «сценичной» подачи своей игры.
7. Отсюда следует, что необходимая культура киноактера только тогда
достигнет нужной высоты, когда в нее будет включено глубокое знание искусства
монтажа и отдельных его приемов. Область эта до сих пор неправильно
относилась только к работе режиссера.
8. Рост киноактера не может быть оторван от практики работы над картиной,
поэтому актер должен быть связан с нею начиная с отделки сценария в
процессе репетиций и не отрываться от нее в период монтажа.
9. Работая в звуковом кино, культурный актер должен стремиться отыскать
приемы игры и монтажа ее, которые развивали бы мощно впечатляющие формь\,
найденные в свое время немым кино. Он не должен поддаваться реакционной
силе, толкающей его вместе с режиссерами-приспособленцами к механическому
использованию чуждых кинематографу театральных приемов.
1934 г.
Реализм^ натурализм
и «система»
Станиславского
Два человека, работавшие в различных, хотя и близких, областях искусства,
всегда остаются для меня соединенными в единый образ. Это — Лев Толстой и
К. Станиславский.
Оба великих художника были великими реалистами. Огромное внимание к
окружающей действительности, тщательнейшее присматривание к каждому ее
явлению вплоть до разбора мельчайших его деталей и одновременно —
гениальная способность ни на секунду не упускать главного, «сквозного», что делает
это явление живым и развивающимся, того, что органически связывает воедино
любую деталь с общим ходом целого,— в равной мере характерными для
Толстого и для Станиславского.
Когда я в десятый, в двадцатый раз встречаюсь с романом Толстого, я не
могу сказать, что я его «перечитываю». Я вхожу в книгу, как вхожу в дом,
в город, в местность, где уже когда-то бывал, но еще не успел за короткое время
все осмотреть и со всеми познакомиться, где все живет своей самостоятельной
жизнью со всей сложностью и неисчисленным количеством подробностей. Я
брожу по роману, изредка останавливаясь, чтобы еще раз подольше посмотреть
с горы на широкий пейзаж, чтобы еще раз поговорить со знакомыми любимыми
людьми, и иногда, свернув с обычной дороги, я вижу то, что раньше не замечал,
подслушиваю и понимаю то, чего раньше не умел различить.
Я выхожу из романа счастливый и обогащенный, полный собственных
мыслей, ощущений и желаний, не взятых у кого-то в готовом виде, но рожденных во
мне самом в результате глубокого общения с великолепно цветущей жизнью.
Воспоминания о прочитанной книге Толстого делаются совершенно
подобными воспоминаниям о своем прошлом, где каждая деталь, каждая мелочь,
всплывающая как будто бы одиноко, всегда, однако, только потому и возникает перед
тобой, что за ней встает большой и значительный кусок жизни. Такова огромная
сила реализма в искусстве.
Когда знакомишься со всем объемом работы Константина Сергеевича
Станиславского, со всей его упорной, глубоко принципиальной борьбой за реализм
в искусстве театра, испытываешь, как художник, то же чувство волнения от
близости единственно верного и точно указываемого пути в искусстве, как и при
чтении романов и повестей Толстого.
Вместе с тем Станиславский с его режиссерской и актерской работой, с его
педагогической системой воспитания.актера до самого последнего времени да-
240
леко не являлся общепризнанным авторитетом в среде «специалистов» от
искусства. Сколько обвинений в смертном грехе «натурализма» сыпалось на
голову Станиславского со стороны эстетизированных скептиков! Сколько
ругательств, вроде знаменитого «психоложества», направлялось на его «систему»
работы над ролью!
Эта своеобразная полемика не вполне иссякла. Поэтому стоит несколько
остановиться на ее аргументации.
Термин «натурализм», имея в сущности очень определенное содержание,
употребляется многими в особом (я сказал бы, в «защитном») значении.
«Не заходите слишком далеко в своем приближении к реальной
действительности,— говорят эти люди,— вы впадете в натурализм! Ах! Ваше изображение
слишком похоже на реальность — это натурализм! Смешно и ненужно для
искусства заниматься воспроизведением бесконечного количества подробностей—
это натурализм!» Так восклицают эти охранители чистоты искусства, не понимая
по существу и по непониманию своему уничтожая главный смысл мастерства
в искусстве.
Именно величайшие мастера в искусстве могли почти неограниченно
приближаться в своем творчестве к действительности. Леонардо да Винчи
выписывал мельчайшие артерии на глазном яблоке человека... На статуях Микеланд-
жело можно изучать анатомию мышц без боязни разойтись с живой природой.
По романам Льва Толстого можно исследовать эпоху не хуже, чем по
документам. И вместе с тем ни одного из трех гениев нельзя назвать натуралистом.
Люди, превращающие «натурализм» в защитный термин, попусту пытаются
оправдать дилетантское стремление щегольнуть наброском, эскизом,
«талантливым намеком». Они оперируют понятием «чувства меры» не как философским
понятием правильного отражения действительных соотношений, но как неким
требованием «умеренности», запрещающим заходить слишком далеко. Конечно,
подлинная суть всех этих псевдопринципиальных фраз заключается просто
в сознании собственной беспомощности, недостаточного мастерства, которое
сразу дает себя знать, когда от общего очерка, от эскиза, от наброска начинаешь
все больше углубляться в существо работы, которая становится все сложнее
и сложнее, требует все большего упорства, все большего знания и умения, для
того чтобы мелкие и мельчайшие детали не оторвать от целого.
Грех «натурализма» заключается- вовсе не в том, что он тщательно и точно
воспроизводит какую-нибудь сторону действительного явления, и не в том, что
он углубляется в мельчайшие его детали, а только в том, что он изображает это
явление в целом неверно. Мы хорошо знаем, что всякое явление
действительного мира обладает прежде всего содержанием, то есть тем, что делает его, во-
первых, движущимся и развивающимся, а во-вторых, связанным со всем миром
окружающих его явлений (сама этимология слова «явление» указывает на это
содержание). Вот в изображении этого-то содержания и врет натуралист. Когда
художник работает над портретом, или литератор над образом, или актер над
ролью, будь он натуралистом, реалистом или самым злостным формалистом, он
всегда неизбежно будет исходить из одной и той же объективно существующей
действительности. Весь вопрос только в том, как эти художники будут в ней
разбираться.
В совершенно законном стремлении подойти в своем изображении возможно
ближе к действительности художник-реалист может в зависимости от степени
своего мастерства как угодно глубоко уходить в проработку мельчайших дета-
241
лей. но всегда его изображение будет подчинено, если можно так выразиться,
«познавательной перспективе» — самое важное, самое характерное неизменно
будет впереди, менее характерное, и более случайное будет отдаляться. Эта
«познавательная перспектива», дающая художественному образу истинную
пластику, принадлежит реалистическому искусству.
Более того, нужно еще раз повторить, что художник-реалист в своем
изображении действительности не только расположит внешние признаки,
означающие внутреннюю сущность явления, в «познавательной перспективе», но он так
же тщательно будет стремиться к тому, чтобы воспроизвести живую,
органическую, непрерывную связь всех этих признаков между собой. Он постарается
сообщить своему произведению то внутреннее непрерывное движение, развитие
одного из другого, взаимную обусловленность одного другим, которые прежде
всего свойственны всякому реальному явлению. Гоголь в «Портрете» чудесно
выразил характер восприятия зрителем картины гениального живописца:
«...властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе
самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем
постигнут закон и внутренняя сила, везде уловлена была эта плывучая
округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз
художника-создателя и которая выходит углами у копииста».
Огромная сила мастерства Леонардо да Винчи в том именно и заключается,
что глаз зрителя, схватив вначале самые общие контуры фигур, связанных
в гармоничное единство, и постепенно углубляясь во все мелкие подробности
картины, ни разу не ощущает провала, остановки, скачка в сторону, нарушающих
непрерывность восприятия художественного произведения. Широкие движения
кисти, создавшей складки одежды «Джоконды», как бы рождают мощную
музыкальную волну, естественно затихающую в едва слышном пианиссимо, в
тончайших колебаниях той же кисти, выписывающей кончики полуопущенных
ресниц.
Реализм — прежде всего в глубочайшем познании движения в живой
действительности и в точнейшем изображении его в произведении искусства.
. Натурализм тоже как будто стремится к точному изображению
действительности. Но, лишенный основного стремления, определяющего истинного
художника, лишенный стремления к познанию действительности в ее движении и
развитии, натуралист не в состоянии верно ее изображать. Натуралист тоже
выбирает подробности, но он исходит только из того впечатления, какое эти
подробности производят «сами по себе».
Когда на сцене или на экране умирает человек, то, казалось бы, самым
важным в этом явлении должно быть то характерное, что обусловлено местом этого
человека в общем течении событий, то, что связано с его характером, с его
судьбой и с судьбой людей, его окружающих. Другой точки зрения держится
натуралист. Кровь, хлещущая из горла, предсмертные хрипы и конвульсии
увлекают его прежде всего потому, что они «сами по себе», безотносительно к
содержанию данного явления, сильно воздействуют на зрителя. Натуралист всегда
стремится к сильно впечатляющим сторонам явления, но стороны эти не
связаны и не подчинены ничему, кроме желания беспрерывно воздействовать на
зрителя или читателя, и потому в конце концов набор их становится бессмысленным.
Зритель проходит через ужас, испуг, смех, слезы, но ничего кроме
воспоминания о ряде механически сцепленных между собой потрясений он от такого
«произведения искусства» не уносит.
242
Ведь в конце концов с кровью и конвульсиями умирает и подстреленный тигр
и раненный во время побега враг, диверсант. Там, где начинается механическое
перечисление внешних признаков, взятых не для раскрытия единого движения
развития образа или пьесы, где начинается изображение «вообще» волнующих
или любопытных сторон явления, там и начинается чистокровный
натурализм*. Это изображение, особенно если оно сделано с тщательностью и силой,
немедленно становится ненужным, путающим, уводящим в сторону,
бессмысленным, оторванным от действительности коллекционированием сильно
действующих «аттракционов».
Натуралист отличается от реалиста тем же, чем отличается зевака от
наблюдателя. Натуралист тщательнейше корпит над точным копированием отдельных
деталей, но они остаются у него безжизненными, не связанными ни между собой,
ни с произведением в целом. «Ах,— говорит зритель о таком произведении,—
как замечательно нарисована сбруя у лошади, совершенно как настоящая!»
Но ведь эту сбрую, ни с чем не связанную, ничто не вызывающую, кроме
удивления перед тщательностью ее отделки, зритель может посмотреть с не
меньшим успехом и в окне магазина.
Реализм дает полное и потому верное отражение действительности, кладя
в основу изображения каждого явления его движение, его развитие, его
внутренние противоречия, его непрерывную связь как с каждой деталью, так и со всем
миром окружающих явлений. Реалист — всегда по природе своей диалектик,
сознательный или стихийный. Натуралист же дает неполную, однобокую,
разорванную и потому неверную «копию» действительности, не умея или не желая
познавать ее в движении. Натуралист — всегда по природе своей механист.
Эмиль Золя, в значительной степени подверженный греху натурализма,
получил блестящую отповедь от Толстого. «Непонимание жизни и интересов
рабочего народа и представление людей из него в виде полуживотных, движимых
только чувственностью, злобой и корыстью, составляет один из главных и очень
важных недостатков большинства новейших французских авторов... Если
существует Франция такая, какою мы ее знаем, с ее истинно великими людьми...
и теми великими вкладами, которые сделали эти великие люди в науку,
искусство, гражданственность и нравственное совершенствование человечества, то
и тот рабочий народ, который держал и держит на своих плечах эту Францию
с ее великими людьми, состоит не из животных, а из людей с великими душевными
качествами, и потому я не верю тому, что мне пишут в романах, как «Земля»...
так же, как не поверил бы тому, что бы мне ни рассказывали про существование
прекрасного дома, стоящего без фундамента; писатель, описывающий народ
только так... делает большую ошибку в художественном отношении, потому
что описывает предмет только с одной, самой неинтересной, физической стороны
и совершенно упускает из виду другую, самую важную, духовную сторону,
составляющую сущность предмета».
Вот в таком-то «натурализме», пытающемся построить «дом без фундамента»,
было бы более чем глупо обвинять Станиславского. Во-первых, Станиславский
свою систему режиссерской работы и воспитания актера построил на принципе
подчинения всех частностей до самой мельчайшей детали спектакля или
поведения актера найденному и установленному прежде всего единому «сквоз-
* В своей посмертной книге «Работа актера над собой» К. С. Станиславский это
«вообще» считает главным врагом искусства.
243
ному» ходу развития. Во-вторых, Станиславский с первых же шагов в
театральной работе непримиримо и глубоко принципиально боролся со всем, что
подходило под его определение «штампа». Это слово понималось Станиславским
чрезвычайно широко. Словом «штамп» клеймил он не только заезженные
приемы актеров-ремесленников, бьющих себя в грудь в трагедиях и
прикладывающих руку к сердцу, объясняясь в любви. Станиславский называл «штампом»
всякий момент игры актера, который пришел случайно, «со стороны», вне
органической связи с самим актером, непосредственно «живущим» в образе. Он
называл «штампом» все заимствованное и выдуманное актером как отдельный
трюк, оторванный от живого развития его поведения в роли. Такой момент в игре
актера Станиславский встречал знаменитым своим режиссерским «не верю!».
Более того, каждый момент, уже найденный в игре актера, если он
оторвался от непрерывной жизни в роли, заучивался, затверживался им
отдельно, мог оторваться от живого развития образа, омертветь, превратиться в
«штамп».
Вспомните хотя бы, с какой горечью Станиславский описывает, как
созданный и много раз сыгранный им образ доктора Штокмана после большого
перерыва потерял свою основу — «жизнь в роли», как бы выветрился и
превратился в сухой скелет внешней схемы, в «штамп».
Отрицание «штампа» означало для Станиславского невозможность
превращения непрерывно развивающейся «жизни в роли» в мертвую комбинацию
эффективных актерских трюков. Оно означало принципиальный отказ великого
мастера театра заменять в игре актера близость к действительной жизни любой
механической схемой, хотя бы и очень занятной и внешне блестящей. Отсюда
следует, что Станиславский всей своей теоретической и практической работой
боролся за реализм, против натурализма.
Основным и решающим положением «системы» Станиславского в
театральной работе, суммарно говоря, является, во-первых, необходимость вскрытия и
установления в пьесе основного смыслового хода ее развития и установления
направления этого развития, цели, к которой оно стремится; во-вторых,
необходимость вскрытия и установления линий развития каждого отдельного образа,
выведенного в пьесе, взаимная связь и взаимное подчинение этих линий и,
наконец, общее подчинение линий развития отдельных образов «сквозному
действию» пьесы в целом. Такой истинно реалистической и глубоко диалектической
является основная установка «системы». Замечательной ее особенностью
является также то, что она не остается только теорией, но претворена
Станиславским в точное, проверенное на длительном и многообразном опыте
практическое руководство.
Принципиальные положения «системы» действительны и важны для любого
искусства, практические формы их осуществления, найденные Станиславским,
особо важны именно для нас, работников кинематографии. Каждый режиссер
и актер кино прекрасно знает, что, в силу своеобразных и очень сложных
технических условий съемки, игра актеров перед съемочным аппаратом всегда
разбивается на мелкие и мельчайшие кусочки. При этом куски эти расположены
во времени так, что иной раз даже приблизительную их последовательность,
позволяющую актеру играть, следуя естественному развитию поведения
живого человека, соблюдать невозможно. Сегодня снимается конец пьесы, завтра —
ее начало, через месяц — середина. Даже внутри одной сцены могут быть
многочисленные разрывы и перестановки.
244
Предположим, что снимается такая сцена: герой отправляется в опасное
путешествие, прощается перед отъездом с семьей и друзьями. Прощание
происходит в одной из комнат его квартиры. На несколько минут герой уходит
в другую комнату, чтобы проститься с больной матерью, лежащей в постели,
затем снова возвращается и после прощальных коротких приветствий выходит
на улицу. Несколько слов, крикнутых вышедшей на балкон жене,— и героя
увозит автомобиль.
Актер, играющий героя, эту сцену, могущую реально продолжаться 15—
20 минут, легче всего может сыграть, как говорят, «на одном дыхании», то есть
при непрерывном пребывании его в условиях естественно развивающейся
сцены с начала до конца. В театре, конечно, это так и происходит. В кино — иначе.
Очень возможно, что последние слова, крикнутые героем вышедшей на балкон
жене, пришлось бы снимать в первую очередь, потому что они требуют особых
условий съемки на «натуре», то есть на настоящей улице, где стоит автомобиль.
Очень возможно, что только через большой промежуток времени, когда вся
съемочная работа по окончании «натуры» перейдет к съемкам в ателье, будет
€нят сначала кусочек прощания героя с больной матерью только потому, что
декорацию комнаты матери выгоднее поставить в первую очередь. И, наконец,
еще через некоторый промежуток — в новой декорации большой комнаты —
будут сниматься два куска прощания героя с друзьями, разделенные его уходом
в другую комнату.
Вся работа киноактера наполнена такими разрывами и перестановками.
Какой же ясностью и прочностью должна обладать найденная актером
внутренняя линия образа, его поведения, чтобы не искривиться, не сломаться, не
потеряться во всех этих сложных и запутанных внешних условиях! Как же
глубоко должны быть погружены корни, питающие создаваемый актером образ,
чтобы он не забыл своего внутреннего состояния в сцене, начатой месяц назад
и продолженной сегодня! С какой отчетливостью надо воспроизводить
внутреннее состояние актера в двух отдельно снимаемых моментах, чтобы два куска
механически склеиваемой пленки слить в единое непрерывное, естественно
развивающееся живое поведение живого человека!
Именно для этих жестких условий работы, условий, гораздо более жестких,
чем в театре, практическая часть «системы» Станиславского незаменима и
драгоценна. Любую вещь можно разбить и снова восстановить, если известен план
и принцип, по которому вещь эта создавалась. Любое явление можно
расчленить и снова возвратить к жизни, если понятно, по какому закону и по какому
плану оно развивалось. «Система» Станиславского в первую очередь воспитывает
в актере умение в каждый момент работы над ролью сосредоточить свое
внимание и силы на внутренней линии ее развития, на том, что Константин Сергеевич
называл «переживанием». Она учит и помогает актеру запомнить особой
внутренней «полной» памятью то, что заставило его делать определенные поступки,
а не те внешние особенности этих поступков, которые могут быть записаны и на
бумаге. В сущности, «система» Станиславского учит запоминать игру в роли
так, как мы запоминаем свои личные поступки, совершенные в реальной жизни,
в которой мы часто не можем точно вспомнить слова, сказанные под влиянием
чувства, но самое чувство помним очень хорошо и долго.
Здесь актер в кино обладает преимуществами по сравнению с актером в
театре. Все, что в игре театрального актера обусловлено техническими
особенностями сцены, направлено в основном к преодолению расстояния, отделяющего
245
актера на сцене от зрителя: театрализованная речь (дикция),
театрализованный жест, театрализованная мимика лица, условный грим и прочее и прочее.
В кино все это не нужно и даже вредно. Для актера кино не существует
портала сцены, к которому должна быть обращена «лицом» его игра,— аппарат
может следить за его игрой с любой удобной для него точки. Комната для актера
кино всегда имеет четыре стены, он может и должен думать только о партнере-
Для голоса актера кино не существует иного расстояния, кроме реального
расстояния до партнера. Записывающий речь микрофон может быть помещен как
угодно близко. То же можно сказать о жесте и мимике лица: малейшее движение,
вплоть до легкого вздрагивания ресниц, может быть зафиксировано аппаратом,
а следовательно, и увидено зрителем. Внешняя выразительность актера кино
не должна переходить порога выразительности человека в реальной обстановке.
Все эти особенности работы актера в кино ни в какой степени не противоречат
принципиальной стороне методики Станиславского — они отличаются только
от некоторых сторон практического применения методов Станиславского на
театральной сцене.
Интересно вспомнить, что сам К. С. Станиславский еще в начале своей
деятельности сталкивался с известным противоречием между своими
стремлениями и их осуществлением на сцене. Когда Первая студия МХАТ сдавала свой
первый спектакль х, Станиславский был взволнован неподдельной атмосферой
искренности, тончайшей правдивости и необычайной близости к действительной
жизни. Она частично создавалась, очевидно, за счет реальной близости
актеров, игравших в маленькой комнате на крошечной сцене без рампы. Однако вся
прелесть спектакля исчезла, едва он был перенесен на большую сцену
настоящего театра.
Теперь мьт можем сказать, что там, где кончились возможности театра (в
смысле сохранения прелести тончайших оттенков реальной жизни), там начались
возможности кинематографии. Крупный план и микрофон уничтожили зияющий
провал зрительного зала и превратили зал кино со всеми его сотнями и тысячами
зрителей в интимную комнату, где видно легчайшее движение и слышен самый
тихий шепот.
Из сказанного ясно, что первое положение «системы» Станиславского,
направляющее режиссера и актеров к созданию реалистического единства
спектакля, целиком может и должно быть применено в практике киноработы.
Станиславский придавал огромное значение воспитанию актера, то есть
работе актера не только над ролью, которую он готовит, но и над его отношением
к этой работе.
Будучи сам прекрасным актером, Станиславский, как никто другой, хорошо
учитывал две важнейшие трудности во всякой актерской работе. Первая
трудность состоит в том, что между «пониманием» актерской задачи, в котором может
участвовать только разум, и конкретным воплощением ее в живое «поведение»
на сцене, в котором участвует человек целиком со всеми своими чувствами и
эмоциями, лежит глубокая, часто трудно переходимая пропасть. Вторая
трудность — в том, что, какой бы образ ни создавал актер, как далеко ни отстоял бы
характер этого образа от подлинного характера самого актера, все же актер
должен оставаться самим собой — поступать, двигаться, чувствовать, жить на
сцене, «переживая», а не внешне «изображая» жизнь. К упорной, непримиримой
борьбе с этими трудностями и направлена «система» Станиславского в
воспитательной ее части. Содержание этой борьбы в основном можно определить как
246
стремление воспитать в актере чувство «правды в искусстве» и максимальное
приближение этой «правды искусства» к «правде жизни».
Здесь очень резко сказывается острое отрицание К. С. Станиславским всех
и всяческих формалистических тенденций в искусстве. Ведь сущность любого
формалистического течения заключается именно в выдумывании «правды
искусства», возможно, более далекой от «правды жизни». Формалист делает все,
чтобы оторвать искусство от конкретной действительности и освободить поле
для глубоко субъективных блужданий, ничем не ограниченных, кроме
псевдозаконов, самим же автором выдуманных.
У Ленина встречаем блестящую формулировку, целиком определяющую суть
идеализма: «Диалектика как живое, многостороннее (при вечно
увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения
к действительности (с философской системой, растущей в целое из каждого
оттенка) — вот неизмеримо богатое содержание по сравнению с «метафизическим»
материализмом, основная беда коего есть неумение применить диалектики
к Bildertheorie, к процессу и развитию познания.
Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения
материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки
зрения диалектического материализма философский идеализм есть
одностороннее, преувеличенное, tiberschwengliches (Dietzgen)
развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней
NB I! познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обоже-
<сей ствленный. Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм фило-
афо- софский есть («в ер и ее» и «кроме того») дорога к попов-
ризм щине через одгьы xts оттенков бесконечно сложного
|| п озмаигья (диалектического) человека.
Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая
линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок,
обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне
превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями
не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет
классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность,
деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота —
voila гносеологические корни идеализма» *.
Формалист по природе своей прежде всего идеалист. Он создает религии
«кубизма» или другого «изма», в которых ищет не жизнь создающего. Большей
частью этим богом оказывается сам художник, замкнутый в свой выдуманный,
хилый и бедный мирок.
Свою систему воспитания актора Станиславский сводит в основном к
отрицанию формалистических тенденций в работе актера, к тому, чтобы направлять
актера на постоянную проверку себя и своей игры живым ощущением правды
(конечно, правды живой действительности, а не выдуманной поповской
правды). Станиславский стремится воспитать в актере безошибочное чутье реальной
жизни со всей ее сложной и вместе с тем отчетливой устремленностью к
конкретной цели, с ее непрерывностью, с ее закономерностью, ведущей человека от по-
* В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 321—322.
247
требности к желанию, от желания к чувству, к мысли, к действию, к поступку.
Для К. С. Станиславского мало объективированной оценки актером своей игры,
только рассудочным путем отмечающей необходимость или выразительность
тех или иных движений или интонаций. Станиславский требует от актера и
глубокой внутренней субъективированной оценки, в которой должен участвовать
весь человек со всеми своими чувствами, мыслями и ощущениями. Станиславский
требует воспитания того полноценного, всецело жизненного критерия, но
которому актер смог бы узнать, остается ли он постоянно связанным с жизнью,
живет ли он на сцене так же непрерывно и реально, как живет и развивается
реальная действительность. Этот живой критерий Станиславский называет
«самочувствием» актера на сцене. Воспитание правильного самочувствия является
одновременно и воспитанием жесткой самокритики.
Вспомним, как Станиславский в своей книге рассказывает о своих ошибках,
когда он принимал свое общее возбуждение и риторический подъем за хорошее
самочувствие, но потом убеждался, что зритель оставался нетронутым и
холодным. Правильное самочувствие ощущается не только субъективно — оно
проверяется и объективно на зрителе. Оно соединяет яркость и выразительность
передачи образа с искренностью, отсутствием фальши, с уходом от
формалистических вывертов.
В кино, как нигде, нужно именно такое воспитание актера. Если в театре
сцена, отдаленная от зрителя, еще позволяет актеру условную, схематическую
мимику, позволяет ему, оставаясь холодным, впечатлять зрителя
рассчитанными, эффектными жестами, то крупный план экрана, где малейшая фальшь в
выражении глаз или рта ясно видны, заставляет актера и режиссера искать
наибольшей искренности, простоты и жизненной правдивости игры. В кино
«художественная правда» в игре актера по своей природе и по форме
необычайно близка к правде реальной жизни.
Хочу остановиться еще на одном разделе «системы», над которым
преимущественно работал Станиславский в последние годы своей жизни.
Раздел этот имеет особо важное значение для перехода той пропасти между
пониманием актерской задачи и ее конкретным выполнением, о которой
говорилось выше. Я говорю об области физического движения, объединяющей в себе
все, чем человек выражает себя внешне, исключая слово, то есть о мимике
лица, привычных, постоянных движениях, походке, манере вставать, садиться и
т. д. До сих пор большинство работников театра считали физическое движение,
в особенности мимику лица и жест, чем-то в большей или меньшей степени
сопровождающим слово, усиливающим, иллюстрирующим, раскрывающим
и т. п.
На этой основе, первичной и исходной, строится обычно работа актера над
словом, над выразительной речью. Основа выразительной речи — интонация —
искалась главным образом исходя из отвлеченного смысла фразы, физическое
же движение искалось из содержания, уже переданного в словах. Такая точка
зрения на физическое движение представляется мне неверной.
Первой ступенью в пути от внутреннего состояния к его внешнему
выражению является физическое движение. Жест предшествует слову — это заметил
еще Дельсарт2. Попробуйте сначала сказать «ступайте вон!» и затем укажите
на дверь — всегда выйдет фальшиво. Один актер создал убедительный образ
ненормального, умалишенного человека на том, что постоянно запаздывал с
жестом. В истории развития форм общения человека с человеком выразительное
248
движение предшествовало появлению речи, можно сказать, что жест рождает
интонацию, а не наоборот.
Еще в начале своей педагогической деятельности Станиславский,
основываясь главным образом на своем личном опыте и на наблюдении игры крупных
актеров, придавал огромное значение тому, что он называл «мускульной
свободой»; он имел в виду отсутствие той спазматической связанности, которая
делает тело актера жестким, трудно подчиняющимся внутренним посылам и
потому невыразительным. Уже тогда Станиславский как бы предчувствовал
величайшую важность движения тела для всей работы актера. Движение тела
наиболее непосредственно выражает внутреннее состояние человека. Как часто
мы встречаемся в жизни с тем, что человек, желая скрыть свое внутреннее
состояние, говорит лживые слова, но выдает себя выражением глаз, дрожанием
руки, случайным жестом.
Станиславский почувствовал, что жесткое, связанное тело становится как
бы глухой стеной между чувством и речью. В этой стенке угасает посыл,
идущий изнутри, и речь становится холодной, мертвой, интонации — грубыми и
случайными. Найти верную интонацию слова, даже если найдено верное
чувство, при отсутствии верного жеста так же трудно, как точно подогнать
вращение одного колеса к другому, вертя каждое из них совершенно самостоятельно.
Перекиньте между колесами приводной ремень — и они завертятся без особых
усилий, точно отвечая друг другу. Именно таким приводным ремнем,
связывающим чувство и выразительную речь, является движение.
Станиславский очень четко формулировал свое отношение к телодвижению,
утверждая, что пока актер не сможет проиграть любого куска своей роли
пантомимически, не произнося ни одного слова, вся его дальнейшая работа не
будет стоить ничего, а главное — правда — в его игре не будет найдена.
К области выразительных телодвижений относятся не только движения,
передающие отдельные чувства и состояние человека, но также и форма
привычных движений, связанных с его возрастом, темпераментом, с родом труда.
Такое сложное и постоянное движение, как походка, непосредственно связано с
характером человека и со всей его жизнью, определившей этот характер.
Недавно в метро я увидел пожилого седобородого человека в очках. Плечи
его были слегка сгорблены, но голова, как бы не желая подчиняться силе,
сгибающей плечи, держалась прямо, пожалуй, даже с некоторой заносчивостью.
Что-то в его внешности показалось мне чрезвычайно характерным, и я думал:
вероятно, род труда заставил его постоянно сгибаться; может быть ему
приходится много читать или писать, сгибаясь над столом, но вместе с тем что-то
заставляет его привычно подчеркивать внешне достойную позу — возможно,
чтение лекций перед большой аудиторией. Воображение сделало вывод: вероятно,
этот человек — профессор истории или лингвистики. Я набрался смелости,
заговорил со стариком и убедился в своих детективных способностях: он оказался
востоковедом, постоянно читающим лекции.
Когда актер начинает подходить к «освоению» намеченного им образа, когда
он пробует превращать поступки и слова пьесы в собственные поступки и слова,
он обычно начинает прежде всего с физических движений. Может быть, походка
и манера держаться, грим и костюм могут являться первыми находками,
которые позволят актеру начать «жить» в роли. Нельзя, конечно, как
общеобязательное правило всегда начинать работу над ролью с грима и костюма. Работа
актера, как и всякая творческая работа, идет комплексно; последующее часто
249
бессознательно находится лить после прояснения предыдущего. Мне кажется,
что работу следует строить так, чтобы первые поиски правды шли в области
физического движения, и, лишь укрепившись в нем, можно идти к слову в его
интонации, в живой естественной речи. Это особенно важно для актеров кино,
где выразительное телодвижение важно не только как единственно правильный
путь к выразительной интонации речи, но также и само по себе. Выразительное
физическое движение в кино, увеличенное и подчеркнутое экраном, играет
сравнительно с театром огромную роль в создании актерского образа.
Нельзя забывать, что в свое время кино было немым и вместе с тем давало
изумительные по глубине, тонкости и внутреннему богатству моменты актерской
игры, доходившие до зрителя во всей своей сложности. И теперь, когда
звучащее слово заменило надпись, сила воздействия экрана остается неразрывно
связанной с особой яркостью зрительных образов.
Кусок из романа Льва Толстого — «Анна шла, опустив голову и играя
кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском, но блеск этот был
невеселый,— он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидев
мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.
— Ты не в постели? Вот чудо,— сказала она...» — лежит ближе к
киносценарию, чем монолог Отелло или Хлестакова.
Киноактер связан со зрительно воспринимаемым выразительным
телодвижением в гораздо большей степени, чем актер сцены. В кино, в сущности, мы
только начинаем серьезную работу с актером как в области углубленной
подготовки к съемке, так и в области воспитания актерской молодежи.
Ведущий и основной стиль нашего советского искусства —
социалистический реализм. Лучшим оружием борьбы с чуждыми формалистическими и
натуралистическими тенденциями в искусстве является живая практика реализма.
Этой живой практикой как раз и является «система» Станиславского.
Станиславский указывает нам путь воспитания в актере неутомимого стремления подойти
со своей художественной правдой как можно ближе к правде жизни. Он учит
бояться не этого приближения, а отрыва от жизни, от ее движения, от законов
ее развития.
В киноискусстве, глубоко реалистическом по своей природе, «система»
Станиславского должна стать руководящей в режиссерской и актерской работе.
1939 г.
Предисловие
[к книге М. Алейникова
«Пути советского кино
и МХАТ»]
Период становления и развития советского кинематографа был ознаменован
не только упорной работой и смелыми поисками новых приемов, но яростными
спорами и дискуссиями по различным вопросам только-только зарождавшейся
теории киноискусства. Особенно страстные споры разыгрались вокруг вопроса
о взаимоотношении театра и кино.
Театр обладает культурой, создававшейся столетиями. Актер и режиссер
театра владеют опытом, накопленным поколениями. Не следует ли считать
киносъемку лишь техническим изобретением, позволяющим раз навсегда
зафиксировать театральную игру и многократно показывать ее в тысячах
кинотеатров? Или это не так, и нужно считать кинематограф новым, самостоятельным
искусством, со своими особыми задачами, со своими, отличными от театра
требованиями, предъявляемыми к актеру, к пьесе, к режиссеру?..
В первые годы кинематографическая молодежь жадно ухватилась за
своеобразные изобретения экранного искусства (крупный план, возможность
использовать съемку живой природы, молниеносно перебрасывать действие в любое
место земного пространства) и резко отрицала какую бы то ни было связь кино
с театром. Все, что принадлежало театру, начиная с декораций и бутафории и
кончая актером с его театральными приемами внешнего изображения
внутренней жизни, объявлялось ненужным, подлежащим уничтожению и замене
особым, принадлежащим только кино арсеналом средств, приемов, материалов и
людей, называвшихся (в отличие от театральных актров) кинонатурщиками.
Теоретические положения аргументировались своеобразными
«экспериментами». Я помню один из них1.
Из какой-то картины брали крупный план киноактера Мозжухина на что-то
смотрящего. Того, на что он смотрит, на экране не было видно. Кусок был
выбран потому, что лицо актера ничего особенного не выражало: смотрит, и все.
Затем начинался своеобразный монтаж, то есть склейка в одну ленту
разнообразных кусков.
Вначале показывалось лицо Мозжухина. Сейчас же за ним в другом куске —
тарелка с супом. Потом опять лицо Мозжухина. Таким образом получалось, что
Мозжухин смотрит на суп.
В следующих комбинациях то же лицо актера связывалось с раскрытой
книгой, со смеющимся ребенком и, наконец, с лежащим в гробу покойником.
251
Авторы эксперимента торжественно уверяли, что неподготовленные зрители
видят на лице сложную и тонкую игру чувств: глубокую грусть, нежное веселье,
жадный аппетит голодного.
Эксперимент должен был доказать ненужность в кино «переживающего»
(подразумевалось, театрального) актера. Самым важным утверждалось
физическое действие персонажей картины. Это позволяло насыщать фильм внешней
динамикой; следовательно, не только использовать уже найденные, но
изобретать новые формально-изобразительные приемы.
Всякое сосредоточение на внутренней жизни актеравоспринималось как
лишняя и досадная задержка стремительного развития сюжета фильма. Психология
человека обзывалась ругательным словом «психоложество». Кинонатурщик
должен был уметь прыгать с моста на идущий поезд и изображать простейшие
человеческие чувства при помощи мимических знаков: страх — широко
раскрытые глаза; гнев — сжатые челюсти, раздувающиеся ноздри и тяжелое дыхание
и т. д. Сейчас все это кажется немного смешным. Но было бы глубоко ошибочным
считать практику этого ушедшего в историю периода только вредным
заблуждением. Резкое отрицание всего театрального и увлечение внешней динамикой
физического действия имели в те времена существенный практический смысл.
Когда строились первые аэропланы, их изобретатели с отчаянной смелостью
ставили рекорды на состязаниях, рискуя жизнью ради трюка, казавшегося иной
раз бессмысленным. Они впервые в истории человечества учились летать
подобно птицам. Именно благодаря их головоломным опытам практически
наметились законы, приведшие в конце концов к созданию современной транспортной
и боевой авиации. Первые летчики-спортсмены, вероятно, были бы оскорблены
предложением заняться безопасной перевозкой грузов для пассажиров.
Эксперименты пионеров кинематографа чем-то напоминали эти смелые опыты
первых спортсменов воздуха...
Молодые режиссеры, увлекаясь техникой и формой, добились ряда
изобретений, прочно вошедших в практику последующих работ и сохранивших свое
значение до сих пор. Ошибочными оказались их теоретические обобщения; в
полемическом задоре они принимали временные, ими же самими выдуманные
ограничения, нужные для эксперимента, за общие, незыблемые законы
киноискусства и даже законы искусства вообще.
Естественно, что эти теоретические обобщения просуществовали недолго.
Формальные поиски, отслужив свою службу, быстро уступили ведущее место
требованиям глубокого идейного содержания, рождавшегося в процессе
социалистического государства. Рос новый опыт. В процессе этого опыта становилось
ясным решение вопросов, вызывавших прежде яростные споры.
Неизбежная глубокая связь и прямая преемственность между высокой
культурой театра и только что нарождавшейся культурой кино становилась
очевидной.
Киноискусство утверждалось как вполне самостоятельное искусство, но
его правильное развитие не могло быть оторвано от драгоценных источников
культуры: театрального искусства, литературы, живописи, музыки.
Опыт кино отрицал не театр и театрального актера в целом, а лишь то, что
и в самом театре считалось фальшью и дурным штампом.
Опыт кино отрицал также все то, что принадлежало специфике театральной
сцены (а не театру вообще): неизбежно приподнятый громкий голос, нужный
для обширного зрительного зала, собственно отчетливый, широкий жест, яр-
252
кий грим, резкая мимика, одним словом, все то, что, оставаясь правдивым и
искренним, вместе с тем отливается в особо яркие формы для того, чтобы быть
увиденным и услышанным с большого расстояния, разделяющего зрителя и актера
в театральном зале.
Вот здесь-то именно и определилась в процессе растущего опыта
органическая связь требований культуры кино с передовыми течениями в искусстве
театра (я подразумеваю реалистическую школу МХАТ, которую мы привыкли
связывать с именем К. С. Станиславского).
Хочется рассказать о двух случаях, не имеющих, правда, прямого
отношения к истории кино, но, по-моему, хорошо иллюстрирующих высказанные
положения.
В дореволюционное время великий певец и великий актер Ф. И. Шаляпин
согласился увековечить на экране одну из созданных им на сцене ролей. Был
выбран образ Ивана Грозного в «Псковитянке»2. Кино было немым;
следовательно, дело шло только о мимике лица, о жесте, о движениях. Шаляпин имел
абсолютное и бесспорное право предложить свое мимическое искусство как
драгоценность, достойную увековечения. Помню, как, впервые увидев Федора
Ивановича в «Борисе Годунове», я был потрясен силой и выразительностью его
внешнего облика.
Под перезвон колоколов раскрылись двери Успенского собора, и
непомерного роста человек в золотой одежде, с величественно закинутой головой и с
рукой, высоко положенной на грудь, медленно двинулся, спускаясь со ступеней,
прямо на зрительный зал. Я буквально замер, охваченный чувством, похожим
на ужас: те самые мурашки, о которых говорят люди, пережившие большой
страх, побежали по спине; еще не слыхав ни одной ноты пения, я был покорен
полностью.
«Псковитянку» Шаляпин совершенно справедливо считал одной из своих
удач именно в плане мимическом.
Съемка была произведена под диктовку великого певца, который стремился
сохранить полностью свою свободу в привычной, выработанной упорным
трудом роли. Казалось, съемочному аппарату остается лишь точно зафиксировать
мимическую игру артиста так, как это делает граммофонная пластинка,
записывая пение. Аппарат именно это и сделал, но результат оказался совершенно
неожиданным.
При просмотре на экране вместо грандиозного по силе образа Ивана
Грозного, созданного Шаляпиным по сцене, появился человек с грубо выпачканным
черной и белой краской лицом. Мимика оказалась рядом гримас, жесты —
диким размахиванием руками и ногами. Вся работа глубокого, умного и
вдохновенного артиста оказалась как будто бы издевательски изуродованной кривым
зеркалом.
Что же произошло? Конечно, Шаляпин не был виноват ни в чем. Он был и
остался гениальным мимическим актером. Однако его игра, приспособленная
для огромного зала оперного театра, оказалась неизменной и тогда, когда, в
силу условий киноспектакля, зритель приблизился к актеру почти вплотную.
Попробуйте представить себе того же Ивана Грозного — Шаляпина, играющего
с той же внешней силой и размахом, как на сцене, перенесенным в маленькую
комнату, где вы в качестве зрителя находитесь от него в двух метрах. Получится
то же самое, что случилось при просмотре «Псковитянки»: вместо резких,
точных форм грима, сливающихся издали в благородную форму, вы видите выпач-
253
канное лицо; жесты и мимика лица как бы теряют смысл; человек делает
широкие движения и кричит, а его собеседник стоит рядом и вы тут же рядом.
Зачем же и для чего кричать? Смысл пропадает, все начинает казаться фальшивым.
Ошибка произошла только вследствии незнания условностей кинозрелища,
резко отличных от зрелища театрального.
Теперь другой пример, прямо противоположный по смыслу. Станиславский
в книге «Моя жизнь в искусстве», говоря о своей системе воспитания актера,
рассказывает о возникновении и развитии Первой студии МХТ.
Группа молодежи, воспитанная по «системе», самостоятельно подготовила и
показала спектакль в крошечном, имевшемся в ее распоряжении помещении
величиной с большую комнату. Впечатление от спектакля (по словам
Станиславского) было неожиданным и весьма сильным. Сама пьеса, говорит
Станиславский, «требовала не простой актерской игры, а какой-то особенной, интимной,
прямо льющейся в сердце зрителя». Пьеса была сыграна так, что «обнаружилась
в игре артистов особая, дотоле неведомая нам простота и углубленность
передачи».
Крошечный размер помещения играл, по-видимому, значительную роль.
Станиславский определяет ее так: «Близость артистов и зрителей сливала их.
Смотрящим казалось, что они помещены в самую комнату, в которой живут
действующие лица, и что случайно присутствуют при том, что совершается».
Впечатление было настолько значительным и полным новизны, что многим
почудилось появление своеобразного, высшего этапа в развитии театра вообще.
Но вышло иначе.
Прелесть интимной интонации спектакля оказалась тесно связанной с
маленькими размерами зрительного зала, то есть чрезвычайной, необычной для
театра приближенностью зрителя к актеру. Когда тот же спектакль без
изменения попробовали перенести на большую сцену, в обычные условия обширного
зала, очарование тонкости и глубины актерской игры исчезло3. По определению
Станиславского: «Эти тонкости затеривались и не доходили до зрителя в большем
пространстве малоуютного, многолюдного театра, где актерам приходится
возвышать и направлять голос и по-театральному подчеркивать игру».
Эти два случая неожиданных неудач, мне кажется, достаточно определяют,
с одной стороны, резкую разницу в требованиях, предъявляемых кино и
театрам к актерскому выполнению игры, и, с другой стороны,— глубокую
органическую связь между культурой киноактера и культурой актера театрального,
воспитанного в лучших традициях передовой реалистической школы.
Кинотеатр всегда создает любую степень физической приближенности
зрителя к показываемому действию и к играющему актеру. Никакое «театральное
подчеркивание игры», о котором говорил Станиславский, киноактеру не только
не нужно, но вредно, звучит фальшью и воспринимается как неприятный
наигрыш. Зритель кино будет тем более покорен и увлечен, чем более тонко,
интимно и сдержанно будет выявлена правда внутренней жизни актера.
Недаром человеческие глаза (способные дать прочитать даже то, что хотят
скрыть) играют такую огромную роль в искусстве киноактера! Недаром до сих
пор, несмотря на речь, появившуюся на экране, те моменты, когда актер молчит,
а зритель, всматриваясь в близкое лицо его, уже видит нарастающее чувство,
уже ждет действия и не сомневается в нем, являются наиболее сильными,
наиболее запоминающимися и, я бы сказал, наиболее точно определяющими
своеобразную, отличную от театра силу воздействия киноискусства.
254
Естественно, что школа МХАТ в практике постановок многочисленных
кинофильмов самыми различными по вкусам и стилю режиссерами все же
определилась сначала как ведущая, а впоследствии как основная по своим
принципам актерская школа в кино. Для актера этой школы «сценическая» сила, блеск
и выразительность являются лишь необходимой надстройкой, результатом
особой работы по внешней отделке найденной сначала правды «переживания» роли.
Уберите в любой степени эту внешнюю отделку — правда внутренней жизни,
раз найденная, остается.
Я позволю себе привести пример из моей практики, иллюстрирующий
сказанное. В моей постановке «Мать» (по Горькому) мы с М. И. Доллером4 выбрали
для главной роли артистку МХАТ Барановскую. Оба мы были еще очень
молоды и никаким режиссерским авторитетом не обладали. Несмотря на это
отчаянная преданность кинематографу, вера в его будущее дали нам силу для
твердых требований, которые мы резко предъявляли уже немолодой и очень опытной
актрисе.
Помню съемку сцены, являвшейся для нас исключительно важной. Мать,
забитое, робкое существо, потрясена неожиданным страшным открытием: она
нагпла спрятанный ее сыном под полом сверток. В нем оказалось оружие —
револьвер, патроны, то есть то, что угрожало сыну судом, каторгой, гибелью. За
первым потрясением сразу следует другое. Стук в дверь, чужие голоса,
страшный сверток судорожно спрятан по-прежнему под полом. Мать поднимается и
видит, что в открытую толчком дверь вносят кого-то ногами вперед. Это ее
муж, убитый случайным выстрелом. Она не сразу узнает его, но что-то
пронзительно знакомое в беспомощно повисшем на чужих руках теле заставляет ее
угадать надвигающееся новое несчастье.
Вот этот кусок игры матери, ошеломленной, еще не понимающей, но уже
потрясенной огромным горем, и нужно было снять. Как соединить в игре актера
страшное по силе чувство с предельным по скупости внешним его выражением,
что, по моему глубокому убеждению, требовалось для кино?
Мы приступили к работе со свойственной молодости прямолинейностью.
Прежде всего мы предложили актрисе свободно играть кусок так, как она хочет,
как она привыкла делать для сцены. Я предполагал, что полная свобода должна
быть необходима ей для того, чтобы найти, проверить и укрепить в себе
правдивое внутреннее состояние.
Как я и ожидал, внешние формы выражения, несмотря на безусловную
правоту внутреннего волнения, были для нас неприемлемы. Актриса отступала,
приближалась, закрывала лицо руками, отдергивала их, открывая расширенные,
ужасом глаза, но ничего из этого я снимать не мог. Все эти жесты и метания лишь
помогали актрисе глубже и полнее зажить страшным по силе чувством.
Я отметил для себя лишь один важный признак, который все время
чувствовался во всех репетиционных эскизах: актриса как бы не хотела верить тому,
что видела: она по-детски наивно отрицала то, что уже случилось; она мотала
головой и закрывала глаза, беспомощно защищаясь от надвигающегося
несчастья. Я понял, что это настоящая правда. Именно так должна была вести
себя слабая женщина перед лицом грозной опасности, по-детски не верить ей,
отрицать ее, говорить: «Не хочу... не хочу!» На этом окончился первый этап
работы.
Следующий этап потребовал проявления режиссерской воли. Я поставил
условием полное повиновение моим указаниям; актриса пошла на это. Я за-
255
претил ей какое бы то ни было физическое движение: чувство должно было быть
не меньшим по силе, но ни одного жеста, хотя бы самого незаметного; лицо и
тело в мертвом покое. Это был странный эксцеримент, более похожий на пытку,
чем на творческие поиски. Актриса в буквальном смысле мучилась, сковывая
потребность движения. Но я добился для себя удивительного результата:
внутренняя жизнь актрисы не умирала, несмотря на полную неподвижность тела.
Тогда наступил третий этап.
Я «позволил» актрисе жест, только один, очень скупой, но по моему
тогдашнему убеждению вполне исчерпывающий сложность ее внутреннего состояния.
Я предложил ей легко, едва заметно отмахнуться рукой от того, что она видит
и что не может принять. Случилось чудо, о котором я мечтал: вся сила
пережитого чувства выливалась через эту беспомощную, по-детски протестующую руку.
Мы были вполне удовлетворены снятым куском. По-моему, такое же чувство
удачи было и у актрисы.
Конечно, описанный случай не может служить примером методики работы с
актером. Приемы, примененные мной, были грубы и примитивны, но
рассказанное свидетельствует о том, что именно школа МХАТ, воспитывающая у актера
правдивость внутренней жизни, ведущая от внутренней правды к внешнему
ее выражению, а не наоборот,— жизненно необходима в кино. Именно эта школа
позволила отказаться от всего, что принадлежало условно театральной «подаче»
актерской игры, и позволила сохранить и развить то, что принадлежало
театральной культуре реалистического переживания роли.
В этой книге рассказывается о влиянии мастеров МХАТ на развитие
советского киноискусства.
Материал ограничен только периодом немого кино, но это нисколько не
снижает значения книги. Именно в эти первые годы становления советского
киноискусства попытка группы киноработников, возглавляемых автором книги,
перекинутьвмостик между киностудией и МХАТ, приобретает особый интерес.
Книга М. Н. Алейникова убеждает богатством фактов и их связью между
собой. Основная мысль автора никогда не высказывается в навязчивой форме,
она только предлагает оценивать факты с определенной стороны.
В конце концов логика связи этих фактов заставляет читателя
сформулировать свой собственный ясный вывод, естественно вытекающий из обильного,
данного практикой материала. Это и является большим достоинством книги.
1946 г.
Идеи ОфаНисдавского
и кино
Многие из нас до сих пор не представляют себе в полной мере, какую
огромную роль сыграл Московский Художественный театр в развитии не только
русского и мирового сценического искусства, но также в развитии других искусств
и в особенности — кинематографии.
Кинематограф родился за три года до того, как в первый раз раскрылся,
занавес Московского Художественно-общедоступного театра1. Но искусством
кинематограф стал много позднее. Понадобились десятилетия, понадобилась
Великая Октябрьская социалистическая революция, вырвавшая кинематограф
в нашей стране из рук торгашей и спекулянтов, чтобы он стал искусством.
Только советский кинематограф поставил перед собой важную и благородную
задачу — подхватить великие прогрессивные идеи, питающие творчество
лучших представителей народа, развивать и пропагандировать эти идей, нести их
в широкие массы зрителя.
Теперь каждому ясно, что установление тесных творческих связей взаимно
обогащает кинематограф и театр. Однако в предреволюционные годы
взаимоотношения между театром и кино были иные.
Многие работники театра вообще не считали кино искусством. Культура LTe-
атра, говорили они, создавалась столетиями. Актеры и режиссеры театра
владеют опытом, накопленным поколениями. Киносъемка же — лишь техническое
изобретение, позволяющая раз навсегда зафиксировать театральную игру и
многократно показывать ее.
Только деятели передового Художественного театра иначе отнеслись, к
самому молодому искусству. К.С. Станиславский еще в 1914 году говорил: «Многие
опасаются победы кинематографа над театром, волнуются этим, пишут и спорят,
но никто не пытается изучить кинематограф. Ведь мы совершенно не знаем ни
его средств, ни его возможностей, не знаем, есть ли игра актера для экрана
искусство или ремесло, или это что-нибудь третье, иное, чего прежде не могло
быть».
Еще более определенно и уверенно высказался тогда же один из крупнейших
актеров MX AT Л. М. Леонидов2. «Я,— сказал он,—в одинаковой степени
люблю кинематограф и театр, если в них, или, вернее, в игре актеров,
наблюдается высокое творчество, искреннее, продуманное и яркое служение
искусству». И далее: «Кинематограф предъявляет, как это ни странно, одно очень
9 В. Пудовкин, т. I
257
серьезное и, несомненно, ценное требование к актеру: это — совершенство
техники, которое едва ли может быть доступно всякому драматическому актеру
на нашем современном театре».
Такие голоса раздавались, однако, пожалуй, только из МХАТ. Для
большинства же театральных деятелей вопрос о природе и качествах кино как
искусства являлся в лучшем случае спорным.
В свою очередь, многие работники кино не только считали кинематограф
новым, самостоятельным искусством, но и стремились его всячески обособить
от искусства театра, даже противопоставить театру.
В процессе развития социалистической культуры стали очевидными
необходимость и неизбежность глубокой связи и прямой преемственности между
высокой культурой театра и нарождающейся культурой кино. Естественно, что
такая органическая связь кино с другими искусствами возникла и окрепла в
первую очередь под благотворным влиянием самого передового течения в
искусстве театра — реалистической школы МХАТ, неотделимой от ее
родоначальника — великого теоретика и практика театрального искусства —
Константина Сергеевича^Станиславского. \\ " —-
.Принципиальные основы.«системы» Станиславского действительны и важны
для любого-искусства, практические.же формы «системы» имеют особенно
важное значение для работников кинематографии. Известно, что в силу
своеобразных и еложных технических: условий съемки игра актера в кино разбивается
на ряд 'отдельных мелких и даже мельчайших кусочков. Причем отдельные
отрывки роли исполняются вне той последовательности, в которой раскрывается
образ и развивается действие произведения. Часто конец фильма снимается
раньше, чем его начало, и события, явившиеся следствием какого-либо
поступка или факта, изображаются исполнителями прежде, чем этот поступок или факт
совершился.
• Вся работа актера в кино наполнена разрывами и перестановками. Какой
же ясностью и прочностью должна обладать найденная актером внутренняя
линия образа, его поведения, чтобы не искривиться, не сломаться, не потеряться
во всех этих сложных и запутанных внешних условиях! С какой отчетливостью
должен он воспроизводить свое внутреннее состояние, чтобы два куска пленки,
снятые в разное время и механически склеенные вместе, воспроизвели бы на
экране.единое, непрерывное, естественно развивающееся живое поведение
живого человека!
«Система» Станиславского, воспитывающая в актере умение в каждый момент
работы над ролью сосредоточивать все свое внимание и силы на внутренней
линии ее развития, на том, что Константин Сергеевич назвал «переживанием»,
оказывает неоценимую помощь актеру в своеобразных условиях работы для
кино. Больше того, немыслимо полноценное актерское творчество для экрана вне
этой «системы», которая учит актера запоминать особой, внутренней, «полной»
памятью не внешние особенности его поступков, а то, что заставляет его делать
эти поступки. И естественно, что школа МХАТ в практической работе по
постановке многочисленных фильмов самыми различными режиссерами все же
определилась вначале как ведущая, а затем как основная актерская школа в кино.
Этому способствовало и непосредственное участие в съемках фильмов ряда
крупных артистов Художественного театра. Достаточно вспомнить хотя бы игру
Москвина в «Поликушке» и «Коллежском регистраторе», Леонидова в картинах
«Крылья холопа», «Гобсек» и других, Баталова в «Матери»,^«Путевке в жизнь»,
258
Качалова в «Белом орле», Тарханова в «Иудушке Головлеве», «Гррзе»* «ДОности
Максима»; Хмелев, Добронравов, Станицын, Боголюбов, -Ливанов и другие
артисты MX AT, участвуя в фильмах,Протазанова, Юткевича,
Петрова,.Козинцева и Трауберга, Эрмлера, Савченко и многих других мастеров кино, несли в
кинематографию творческую практику Художественного театра, способствуя
утверждению «системы» Станиславского не только в актерской, но и в
режиссерской работе кинематографистов.
Для кинорежиссуры имеет исключительное значение провозглашенный
Станиславским принцип подчинения всех частностей, вплоть до мельчайшей
детали спектакля или поведения актера, единому «сквозному» ходу развития
действия. Для работы в кино сохранило полную силу решающее положение
«системы» Станиславского о необходимости, во-первых, вскрытия и установления
основного смыслового хода развития произведения в целом, во-вторых,
вскрытия и установления линий развития каждого отдельного образа, в-третьих, их
подчинение «сквозному действию» всей пьесы в целом.
Такая «система», по самой сути своей, не могла не быть истинно
реалистической, враждебной как натурализму, так и проявлению формалистических
тенденций. Попытки обвинить МХАТ в натурализме были явно несостоятельными.
Ведь порочность натурализма заключается не в том,, что он тщательно и точно
воспроизводит какую-нибудь сторону явления и углубляется в его мельчайшие
детали, а в том именно, что он изображает:это явление в.целом неверно,
отрываясь от идейного содержания явления и нарушая его связи с окружающими;.
Художник-реалист в своем стремлении как можно^ ближе подойти к
отображению действительности может KaKi угодно глубоко уходить в проработку
мельчайших деталей, но всегда его изображение будет подчинено, если можно так
выразиться, «познавательной перспективе»: самое важное, самое характерное
неизменно будет впереди, менее характерное или случайное будет отдаляться.
Именно это мы и видим в творческой практике МХАТ, ничего общего не имеющей
с натурализмом.
Лучшим оружием борьбы с чуждыми нам формалистическими и
натуралистическими тенденциями является-живая практика реалистического искусства,
нашедшая свое великолепное воплощение в «системе» Станиславского. Она учит
нас воспитывать в себе и в актере неутомимое стремление подойти со своей
художественной правдой как можно ближе к правде жизни. И нам надо бояться
не этого приближения, а отрыва от жизни, от ее движения, от законов ее
развития.
В развитии советского киноискусства, в творчестве его художников
передовые традиции лучшего нашего театра имеют важное.прогрессивное значение..
1948 г.
9*
Работа актера в кино
и «система» Станиславского
Развитие нашей кинематографии на протяжении всей своей истории было
связано с великими традициями русской литературы, живописи и театра,
определявшими русское искусство как искусство передовое, живущее прежде всего
интересами и будущим своего родного народа. Даже в самом начальном периоде,
когда все мы только еще учились технике нового искусства и подчас
заимствовали отдельные приемы зарубежной кинематографии, развитие нашего
киноискусства никак не определялось этими заимствованиями.
"Некоторые ранние картины советских режиссеров, носившие
формалистический характер, приводили отдельных критиков к неверным заключениям о
влиянии зарубежной кинематографии на наше киноискусство в целом, но эти
ранние работы оказались в результате чисто наносным явлением, не имевшим
существенного значения для развития советского киноискусства.
Истинной движущей силой в искусстве советского кинематографа были
именно те глубоко реалистические, тесно связанные4 с народной жизнью
традиции русского искусства, и в первую очередь русской литературы, которые
неотделимы от великих.имен Пушкина, Белинского, Тургенева, Толстого, Чехова
и Горького.
Следует вспомнить, что даже в мрачные времена царизма, когда условия
капитализма во всем мире делали кинематографы второсортным зрелищем,
именно у нас в--России появились такие картины, как «Пиковая дама» Протазанова,
и были сделаны попытки инсценировать «Войну и мир» и «Анну Каренину»1.
Величие и место в искусстве настоящего художника всегда определяется
его способностью к видению будущего. Говоря в «Памятнике» о будущем своих
творений, Пушкин, в сущности, предсказывает будущее своего народа.
Любовь к народу и видение его будущего неотделимы. Они делают художника
подлинным реалистом и ведут его по единственному пути, достойному высокого
искусства.
К людям, шедшим по этому пути, принадлежит и Константин Сергеевич
Станиславский.
Если говорить о Станиславском с позиций исторических, следует начинать
не с изложения его творческих положений, составляющих основу работы по
воспитанию актера, а с того, откуда шли и к чему вели эти его положения.
260
Создавая вместе с В. И. Немировичем-Данченко свой театр, Станиславский
хотел назвать его «Народным общедоступным художественным театром», и лишь
по соображениям цензурного порядка (трудность разрешения ряда пьес для
представления в народных театрах) Константин Сергеевич согласился назвать
свой театр просто «Общедоступным», сохранив, однако, и в этом названии
стремление связать искусство и народ.
Стремление Станиславского сделать искусство прежде всего достоянием
народа дает ключ к пониманию мощного и бессмертного начала, заложенного в
его многолетнем труде, продолжающем до сих пор давать драгоценные плоды не
только в искусстве советского театра, но и в искусстве вообще.
Станиславский, мечтал создать и создал реалистический театр. Все его
замыслы, вся интуиция художника были направлены к тому, чтобы найти пути к
глубокой и прочной связи искусства с жизнью, с ее действительными, важными
для родного народа задачами. Станиславский никогда не был лишь
отвлеченным теоретиком театрального искусства. Все его теоретические, положения
вытекали из живой практики, проверялись и подтверждались ею. Одной из важг-
нейших практических задач в борьбе за реалистическое искусство явилась
необходимость уничтожения так называемых «штампов» актерской игры. Тех
штампов, которые создавались, с одной стороны, механическим повторением уже
устаревших приемов, потерявших связь с жизнью и потому ставших чисто
формальными, с другой стороны, неверными методами работы актера над ролью,
часто сводившимися к простому заучиванию текста пьесы.
Многие театры изживали себя, питаясь уже не живымитистоками
действительности, а арсеналом накопленных долговременной практикой голых «приемов».
Эти приемы актерской игры являлись набором мертвых экспонатов, похожих
на жизнь так же, как похож порой музейный зал на ту часть действительности,
которую он представляет.
Станиславский занимался разбором и критикой этих мертвых приемов не
для того, чтобы отобрать для себя наиболее приемлемые, как делали это другие
режиссеры, создавая механическими комбинациями таких заимствований
различные «направления» и «стили» игры.
Он поставил перед собой задачу отыскать такие пути актерской работы,
которые всегда приводили бы к живому отображению действительности.
Для этого всю силу своего творческого анализа Станиславский направил на
строгое исследование источников, которые лежат в основе работы актера над
ролью и над самим собой в процессе создания сценического образа.
До Станиславского если кто-либо и занимался подобными вопросами, то в
подавляющем большинстве случаев ограничиваясь либо личными
субъективными воспоминаниями, либо общими положениями, носившими более
поэтический, чем научный характер. .
Огромное достоинство всей работы Станиславского заключается именно в
ее научности, в том, что положения, выведенные Станиславским из работы
.теоретической мысли, всегда связанной с тщательной проверкой на живом опыте:,
дали в результате ряд объективных положений, могущих служить основой для
плодотворной работы каждого актера и каждого режиссера, независимо от
индивидуальных особенностей его характера и таланта.
Важно отметить, что Станиславский никогда не отрицал того
положительного* что было создано до него в старом театре,,Он часто приводил в качестве
примеров прекрасную игру отдельных актеров старой школы.
261
Собирая и исследуя примеры выдающейся театральной игры, Станиславский
старался вскрыть сущность и причины отдельных удач и вывести из этого
исследования объективные законы, уже пригодные для систематического
воспитания всех актеров вообще.
Таким образом, Станиславский никогда не занимался пустым новаторством
ради новаторства. Все его работы прочными корнями связаны не только с
историей нашего театра, но и с историей русского искусства в целом. Школу,
которую создал Станиславский, можно и должно назвать прежде всего
реалистической.
Именно благодаря своей исторической обусловленности теоретическая и
практическая работа Станиславского продолжает закономерно развиваться и
теперь, после его смерти.
Кинематограф, тесно связанный как с театральным искусством, так и с
литературой и живописью, естественно, впитал в себя основные положения
учения Станиславского. Как раз то, что внес Станиславский в культуру театра,
подняв его на высшую ступень развития, сделав его подлинно народным
зрелищем, и легло в основу нового искусства — кинематографа. Ряд задач,
намеченных им в театральной практике, получил свое полное разрешение именно в
киноискусстве.
В этой связи вспоминается рассказ Станиславского в книге «Моя жизнь в
искусстве», о глубоком впечатлении, которое произвел на него показ первой
работы Первой студии Художественного театра2. Пьеса «Гибель «Надежды»
была поставлена и сыграна в первый раз в зрительном зале, настолько
маленьком, что зритель оказывался в такой непосредственной близости к играющим
актерам, как будто бы они находились с ним в одной комнате.
Все полутона и тончайшие нюансы актерской игры приобрели неожиданно
решающее значение. Внешняя подчеркнутость театрального жеста и
интонаций, в силу сближенности зрителей и актеров, исчезли.
Необычное для театра интимное общение актера со зрителем давало новое,
особое ощущение глубокой задушевности и простоты. Актеры как бы получили
возможность вести себя так, как ведут себя люди в реальной обстановке живой
действительности. Станиславский вспоминает, что спектакль поразил его
именно этой предельной приближенностью к реальной жизни. Он как бы открыл ему
новые возможности изменения прежних театральных форм, возможности нового
шага в сторону превращения театрального зрелища в более непосредственное
отражение жизни.
Станиславский хотел перенести опыт Первой студии на большую сцену
Художественного театра. Но неожиданно это оказалось невозможным. Студийный
спектакль, созданный в маленьком помещении, буквально перестал быть
слышимым и видимым в обширном зрительном зале Художественного театра,
рассчитанном на сотни зрителей. Прелесть интимного общения со зрителем не могла
возникнуть в большом зале, требовавшем повышенного напряжения голоса и
подчеркнутой яркости жеста.
Этот случай как бы указал Станиславскому те границы, которые нельзя
переступить, отображая жизнь в ^искусстве в форме массового театрального
зрелища.
Станиславский решил искать пути полного слияния живого реалистического
поведения актера на сцене с неизбежно подчеркнутой, «театральной» его
выразительностью. , . ..."
262
Стремление Станиславского приблизить искусство актера к возможно более
верной и точной передаче жизни человека не однажды сталкивало его с
ограниченностью возможностей театрального зрелища.
Константин Сергеевич рассказывает, как однажды он, увлеченный
желанием вести себя на сцене совсем так, как в жизни, попробовал ввести в свою игру
долго длившуюся паузу, наполненную сложной внутренней жизнью. Он
вспоминает, как долгое время просидел на скамье, находившейся на первом плане
у самой рампы, и искренно пережил и перечувствовал многое.
Но, конечно, зритель почти ничего не узнал об этом многом. Зрителю
помешало пространство, отделявшее его от актера.
Станиславский всегда очень остро чувствовал и понимал то, что мы теперь
называем диалектикой любого живого явления действительности, то есть
глубокую связь любой частности с общим широким течением жизни. В работе он
всегда искал эту связь и, отыскав, утверждал ее как основной критерий
правдивости отражения реальной жизнш.
Стремление создать декорацию и обстановку наиболее похожими на
реальную действительность часто ставилось Станиславскому в вину, как ненужное
внесение в театр излишнего натурализма. Это обвинение неверно по существу.
Станиславский, как великий художник, всегда стремился в своем
художественном обобщении слить жизнь людей в одно целое с окружающей их
действительностью. Реалистичность игры актера требовала от Станиславского непременной,
возможно большей реалистичности окружающей обстановки.
Но свойственным ему острым чутьем художника Станиславский понимал и
невозможность для театра идти по этому пути дальше тех границ, которые перед
ним ставили опять-таки чисто технические возможности сцены. . . . .•
В воспоминаниях Станиславского есть рассказ о том, как, приехав с труппой
в Крым и гуляя однажды в парке, он увидел в одном из его уголков почти точное
подобие декорации одной из сцен «Месяца в деревне». Станиславскому и Книп-
пер захотелось сыграть свою сцену в подлинной жизненной обстановке3. Но,
произнеся первые фразы, оба вдруг остановились. Театрально-условная игра,
которую они выработали на сцене, пришла в такое резкое противоречие с
реальной обстановкой, что тонкие художники сразу почувствовали невозможность
продолжать ее.
Здесь снова можно сказать, что Станиславский в своих устремлениях
художника-реалиста столкнулся с границами, определяющими возможности
театра. Новые возможности в этой области лежали уже за границами театрального
зрелища, на будущих путях развития кинематографа, который сближает
зрителя с актером и одновременно расширяет зрительный зал до объемов видения
целого мира. В кинематографе игра актера, приближаясь к жизненному
поведению человека, может быть органически слита с естественностью реального
пейзажа, точно передаваемого экраном.
Пути, обусловленные техникой кинематографа, дали художнику-реалисту
множество новых возможностей к более непосредственному и полному
отображению живой действительности, чем это было возможно на театральной сцене.
Мы полагаем, что кинематограф, непосредственно рождаясь из театрального
искусства, вместе с тем в своем развитии отходит от драматического жанра и
приближается, по существу, к литературному роману.
Большое количество действующих лиц, из которых каждое может быть
легко выдвинуто на первый план; легкая и быстрая смена места и времени дейст-
263
вия; отсутствие необходимости о многом рассказывать, что неизбежно в драме,
возможность все непосредственно показывать; включение в действие живого,
динамического пейзажа, создающего глубоко реалистическую среду для
действующих лиц,— все это указывает на близкое родство кинокартин с
литературным романом..
Но если многое из театральной культуры, связанное с техническими
условиями сцены, оказалось непригодным для кинематографа, имеющего свои особые
кинематографические условности, то одну область театральной культуры можно
называть полностью общей как для театра, так и для кино. Это — область
работы актера над собой и над ролью, над ее идейным содержанием, над ее связью
с идейным устремлением пьесы или сценария в целом, над
превращением'описанного автором образа в полностью живое, действующее лицо.
Именно эту область особенно глубоко и последовательно разрабатывал
Станиславский в своем многолетнем труде.
Я уже говорил, что Станиславского можно назвать первым ученым в области
реалистического театра.
Эпиграфом к своей книге о «системе» Станиславского В.Топорков4 поставил
слова Константина Сергеевича: «С актерами нельзя говорить сухим научным
языком, да и я сам не человек от науки и поэтому не смог бы взяться не за
свое дело.
Моя задача говорить с актером его языком. Не философствовать об
искусстве... а открывать в простой форме практически необходимые ему приемы
психотехники, главным образом во внутренней области артистического
переживания и перевоплощения».
Эти скромные слова Станиславского как раз и изобличают в нем истинного
ученого. Вооружив и себя и актеров мощным методом глубокого и острого
анализа, Станиславский был первым ученым в театре, соединившим глубокую
аналитическую работу с правильным и последовательным экспериментом.
Аналитическая работа в области театра производилась театральными
критиками и теоретиками и раньше. Но каждое аналитическое исследование бывает
плодотворным только тогда, когда оно синтезируется в живом эксперименте и
проверяется этим экспериментом.
Абстрактные построения, добытые аналитическим путем, непременно
должны проверяться живым опытом. Это и делал Станиславский. Как истинный
ученый, Станиславский никогда не отрывал абстрактной работы мыслителя от
проверки живой практикой, и внутри практики актера он находил новые
отправные пункты для теоретической работы.
Его исследование актерской работы над образом является бессмертным,
поскольку оно не было отвлеченной выдумкой, не было исканием каких-либо
формально новых приемов игры, а результатом планомерной работы в области
живой практики.
Можно сказать, что в области театра Станиславский оказался ученым
такого же типа, каким являлись в физиологии И. П. Павлов, в биологии И. В.
Мичурин.
Эти великие ученые вложили в руки людей точный и ясный метод
исследовательской работы, научили им пользоваться не только для того, чтобы разрешать
те задачи, которые вставали перед ними самими, но и для того, чтобы дать их
последователям опору для исследования и разрешения задач более сложных,
которые неизбежно возникнут в будущем.
264
Вот почему Станиславский так настаивал на том, чтобы каждый из его
учеников никогда не прерывал работы над собой, чтобы он всегда продолжал
экспериментальную работу, непременно связанную с найденными им методами.
Говоря о том, что актер должен непрерывно работать, Станиславский вовсе
не подразумевал под словом работать слово играть. Одна игра не
охватывала всей непрерывной практической деятельности, которой требовал
Станиславский. Он требовал от актера беспрерывного совершенствования себя во
всех формах творческой деятельности, в том числе и в исследовательской, в
том числе и в общественной.
Если открытие Павлова, раскрывающее природу условных рефлексов,
оказалось столь важным в нашем познании законов высшей нервной деятельности
человека, то открытие Станиславским значения переживания,
устанавливающего органическую связь будущего произведения искусства с личным опытом
художника, оказалось не менее важным не только для актера и режиссера
театра, но и для работников всех областей искусства. Оно раскрыло природу
перехода художника от своего личного внутреннего мира к жизни образа,
созданного его воображением.
Исследуя этот переход, Станиславский ввел понятие «переживания» и
доказал на опыте необходимость и плодотворность его для работы любого актера над
любой ролью.
Учение Станиславского о переживании оказалось не частным приемом
театральной игры, а методологическим законом огромной важности,
пронизывающим всю театральную работу. ~
Не менее важными закономерностями, установленными Станиславским,
являются понятия «сквозного действия» и «сверхзадачи».
Значение закономерностей, установленных Станиславским, особенно велико
потому, что они дают возможность путем сознательной систематической
работы приходить к тем результатам, к которым в прошлом приходили только
исключительно одаренные люди чисто интуитивным путем.
Таким образом, огромная ценность учения Станиславского заключается в
том, что оно может стать достоянием широких масс творческих работников.
Работа Станиславского, в которую он вовлек огромное количество своих
учеников, оказалась необычайно плодотворной не только для театра, но и для
смежных искусств, в частности и для кинематографа. Методы Станиславского
драгоценны для искусства кино, которое только еще начинает овладевать
богатыми ресурсами.
Однако методика Станиславского в кинематографе должна быть не прямым
заимствованием результатов, достигнутых в области театра, а дальнейшим их
развитием в новых технических условиях, значительно более сложных и
богатых.
Непосредственная встреча искусства кинематографа с театром должна была
произойти и произошла естественным путем прежде всего через актера. Так
произошла и лично моя непосредственная встреча с театральным искусством в
самом начале моей самостоятельной режиссерской деятельности.
Среди большого количества актеров различных; театральных школ актеры,
воспитанные Станиславским, оказались для меня наиболее близкими. В них
я увидел то, что мне казалось самым важным для реалистического искусства.
Встреча с ними была для меня знаменательной. Результаты глубоких;
поисков Станиславского в области реалистического театра обащалж-мне существенз*
265
ную и уже тогда несомненную для меня помощь в моих первых шагах в новом
искусстве кинематографа с его своеобразными возможностями.
Должен сказать, что два человека, творившие в различных, хотя и близких
областях искусства, соединены для меня в единый образ. Это — Лев Толстой и
К. С. Станиславский.
Оба они были великими реалистами.
Огромное внимание к окружающей действительности, к каждому ее
явлению, вплоть до разбора мельчайших деталей, и одновременно гениальная
способность ни на секунду не упускать главного, «сквозного», того, что делает
явление живым и развивающимся, что органически связывает воедино любую
деталь с общим ходом целого,— характерны и для Толстого и для Станиславского.
Толстой всегда был для меня живым миром, в котором я чувствовал себя,
как в мире реальном. Читая его романы, я ощущал ту же радость, какую
ощущал, выходя на улицу в весенний день. Они были одинаковы для меня
—радость ощущать живую жизнь и радость читать Толстого. Толстой для меня не
просто любимый писатель — это область искусства, в которой я чувствую себя
особенно ясно воспринимающим жизнь.
Я перечитывал «Войну и мир» больше тридцати раз для того, чтобы снова
пожить жизнью людей, описанных в романе. Каждый раз я вхожу в книгу,
как вхожу в дом, в город, в местность, где я уже когда-то бывал, но еще не
успел за короткое время все осмотреть и со всеми хорошо познакомиться, где
все живет своей самостоятельной жизнью со всей ее сложностью и неисчислен-
ным количеством подробностей. Бродишь по роману, изредка останавливаясь,
чтобы еще раз подольше посмотреть с горы на широкий пейзаж, чтобы еще раз
поговорить со знакомыми любимыми людьми, и иногда, свернув с обычной
дороги, видишь то, чего раньше не замечал, подслушиваешь и понимаешь то,
чего раньше не умел различать. Выходишь из романа обогащенный, полный
мыслей, ощущений и желаний, не взятых у кого-то в готовом виде, но
рожденных в тебе самом в результате глубокого общения с великолепно цветущей
жизнью.
Романы Толстого расширяли круг моего знакомства с живыми людьми.
Толстой был для меня огромной решающей школой, которая воспитала во мне
умение видеть людей глазами художника, помогла мне понять, до какой
глубины и точности совпадения с реальной жизнью может художник довести образ,
рожденный его искусством. Гигантская сила объективности Толстого сказалась
в том, что каждый его персонаж живет жизнью и мыслями не Толстого, а
своими собственными. Персонажи, рожденные художником, отделены от него, как
существа самостоятельно мыслящие и существующие.
Когда я юам пошел по пути художника-реалиста и попытался придать
образам, зародившимся в моем воображении, убедительность, отдельность и
самостоятельность существования, то оказалось, что великий реалист,
работающий в области театрального искусства,— К. С. Станиславский дал мне в руки
для этого свой метод.
Слияние опыта двух великих реалистов в области литературы и театра
вооружило меня для моих первых опытов. Конечно, я не мог тогда еще
определить свое стремление к реализму, как к искусству, которое не только
отражает действительную жизнь, но и принимает непосредственное активное участие
в переделке этой жизни, то еотъ стремление к тому, что мы называем
социалистическим. реализмом*
266
Следует сказать, что к самому началу моей самостоятельной работы я пришел
уже с внутренним. ощущением того, что кинематограф обладает способностью
точного отражения действительности в воссоздаваемой в кадрах. фильма
атмосфере действия. .. - ;'-
Вот почему мои первые поиски в кинематографе были направлены к тому,
чтобы всячески избавляться от ненужных киноактеру приемов, выдвигаемых
условиями театрального спектакля, и приближаться к предельной правдивости и
естественности и в области актерского,исполнения. Только «система»
Станиславского, в которой воспитание актера шло по пути поиска реального, жизненного,
лишенного формалистических условностей отображения жизни, оказалась той
школой, которая органически связывала для меня искусство театра с
искусством кинематографа.
Моя тяга к реализму сказалась в стремлении добиться от актера того, чтобы
мое восприятие его игры не шло вразрез с .тем ощущением правды, которое
мне давало видение живой действительности. * . _-.
В тот момент, когда у меня в руках оказался киноаппарат, очень важной
для меня стала живая среда, которая окружает человека. С первых шагов
я почувствовал неприязнь к искусственно построенной декорации,- увидев
в кинематографе его способность творчески вбирать в себя: прелесть богатства
реальной среды, в которой могут действовать актеры — живые люди.
Когда перед режиссером кино появляется живой пейзаж, который так ее?
тественно, просто и легко отражается на экране, перед ним встает, задача
ввести туда актера так, чтобы его игра не противоречила безусловной живости
окружающей среды. Но как добиться того, чтобы правда игры актера воспри--
нималась зрителем так же непосредственно и просто, как воспринимается им
плавное течение реки, качающиеся от ветра деревья, лошадь, пасущаяся на лугу?
Вначале я руководствовался только тем чутьем, которым, по-моему, должен
обладать каждый художник,— чутьем правды, болезненно отзывающимся на
всякую фальшь, на всякое нарушение живой непрерывной связности в .изобра-г
жении любого жизненного явления.
Помню, что в ту пору меня тянуло не строить что-либо, подобное
действительности, а выбирать из всего ее богатства самое ценное, самое выразительное
и непосредственно переносить это на экран.. Для меня и сейчас необходимость
построить в павильоне кусочек пейзажа является жестоким нарушением цель^
ности кинематографического зрелища. Использование всякой возможности
приблизить кинокартину к непосредственному отражению неисчерпаемого богата
ства реальности было моим всегдашним стремлением.
Из своего и чужого опыта я видел, что в кино непосредственное отражение
действительности не угрожает нищетой и поверхностностью натурализма. На^
оборот, любая самая искусная постройка всегда, оказывалась .менее выразитель--
ной, чем точно выбранная натура. Мысль должна руководить выбором, и среди
неисчерпаемого богатства действительной жизни режиссер всегда найдет то>
что совпадает с его художественным замыслом.
Поиски путей к предельно реалистическому зрелищу, в которое игра актера
должна входить как основная, органическая его часть, столкнули меня сначала
с актерами MX AT, а потом и с основными принципами их школы.
Как и-все москвичи, я часто бывал в Художественном театре. Как рядовой
зржтелк я уносил с собой общее сильное, впечатление, созданное правдивой,;
полной тонких оттенков игрой актеров.
267
Но только встретившись с актерами MX AT в первых моих работах над
кинокартинами, я узнал, как рождается эта игра, столь отличающаяся от игры
актеров других школ. Тогда я понял, в чем была сила Художественного театра,
приводившая каждого актера при всей условности театральной сцены к
возможности просто, без надуманных эффектов создавать образы людей, близких
и понятных каждому, живущих на сцене полной и несомненной жизнью.
Я познакомился с методом воспитания актера, созданным Станиславским,
и понял, что этот метод следует отделять от суммы приемов, которые он рождал
в связи с особыми условиями театра. Многие специфически театральные приемы
оказались чуждыми природе кинематографа, но существо самого метода
Станиславского, именно и определившее роль Станиславского как великого
художника-реалиста, оказалось полностью необходимым для искусства
кинематографа.
Основой этого метода является прежде всего' практическое разрешение
задачи неразрывной связи создаваемого актером образа с реальным внутренним
миром актера как живой личности.
Никем не изученный и поэтому непонятный процесс, якобы свойственный
только гениальным людям и обозначаемый чрезвычайно отвлеченным словом
«перевоплощение», был подвергнут Станиславским глубокому анализу.
Результатом этого анализа, связанного с беспрерывной проверкой живым
опытом, явилось то, что режиссер и актер смогли сознательно, путем
тщательной работы приближаться к той великой правде актерской игры, всегда
покоряющей зрителя, которая ранее связывалась со случаем либо с божественным
вдохновением, свойственным только исключительным людям.
К тому времени, когда я начинал работать в кинематографе, учение
Станиславского и его школа достигли уже высокого развития. Мои первые шаги
были, по существу, лишь дилетантской попыткой применить в кино основные
принципы работы Станиславского с актером. Очень часто в период постановки
моей первой картины, сталкиваясь с какой-либо частной задачей, я вдруг
понимал, что попытка решить эту задачу открывала передо мной существенную
необходимость применить в искусстве кино еще одно новое для меня положение
Станиславского, относящееся к театральной работе.
Прежде всего мне пришлось заняться одной из основ «системы»
Станиславского — учением о переживании. Мне было ясно, что термин «переживание»
означает реальную связь между личным, внутренним миром художника, который
он ощущает как живую реальность, и теми чувствами и мыслями, которыми
должен быть наполнен создаваемый им образ.
Под переживанием Станиславский подразумевал полностью реальный
процесс, протекающий во внутреннем мире актера. Он превосходно знал, какая
глубокая пропасть существует между тем умозрительным описанием:
внутренней жизни образа, которое создается режиссером и актером в процессе
обдумывания роли, и фактом живой игры на сцене; между хотя бы и очень ясным
представлением о том, что нужно сделать, и самой игрой.
Каждый актер и каждый режиссер знают, как труден первый шаг от
воображаемого к реальному, как труден переход от представления о том, что нужно
сделать, к тому, как это сделать. Гений Станиславского проложил
методологические пути для этого перехода от «что сделать» к тому, «как это сделать». Он
утверждал необходимость нахождения для этого возможности реального
переживания каждого куска роли.
268
Но как прийти к этому переживанию? Станиславский требовал, чтобы актер
жил в роли так, как он жил бы в жизни, если бы он был тем самым человеком,
образ которого он должен создать. Понимание.актером роли должно быть
превращено в непосредственное ощущение себя в образе. Мысли, определяющие
чувства, должны быть превращены в самое чувство.
Естественно, что первые шаги, которые может сделать актер в этом
направлении, должны быть связаны с миром от его личного опыта, личных чувств,
личных воспоминаний о том, как он себя вел в тех или иных случаях жизни,
подобных изображаемым.
Первые поиски в области своего внутреннего опыта, проще говоря, своих
личных воспоминаний не только удобны, но и закономерно необходимы как
для воспитания актера вообще, так и для каждого данного конкретного случая
работы над ролью. - ,
Связать мир своего внутреннего опыта хотя бы первичными, пусть
временными связями с тем, чем должен жить задуманный образ,— совершенно
закономерный и необходимый процесс, который перебрасывает первый мост между
задуманным образом и работающим над собой актером.
Почувствовать хотя бы частично, хотя бы в отдельные, пусть разорванные
моменты, что ты со всей полнотой своего индивидуального характера принял
и пережил кусок роли так, как его должен переживать играемый образ,—
значит сделать первый шаг к превращению задуманного образа в живую
реальность.
Если актер хоть на мгновение полностью зажил каким-то куском своей роли,
он непременно испытает радость удачи, столь необходимую наряду с
объективной, оценкой всякому художнику для того, чтобы двигаться вперед.
Радость удачи появляется у актера всегда, когда он чувствует, хоть на
краткий момент, что он обрел то полное ощущение свободы, которое дается полное
ценной жизнью на сцене.
Самый простой путь к этой радости лежит через поиски в жизни
задуманного образа моментов, совпадающих с индивидуальным, личным миром актера
и не требующих работы воображения. Прямое личное воспоминание, введенное
в жизнь образа, дает эти опорные пункты. -.
Именно в такие моменты актер получает живой пример того, как он должен
чувствовать себя во всей роли. Затем начинается большая и трудная работа.
Для того чтобы наполнить всю роль реально ощутимой жизнью, нужно
преодолеть множество препятствий,, лежащих между личным, внутренним миром^
актера и играемым образом.
Глубокий смысл всей работы Станиславского, направленной к поискам и
освоению реального переживания каждого момента роли, заключается в том,
что она устанавливает основную опору, исходную точку для последующей
работы.
Нужно сказать, что бесчисленное количество формалистических течений
в искусстве вообще и в искусстве театра, в частности, сознательно
игнорировало необходимость глубокого переживания роли актером, полагая, что внешние
«выразительные» формы, найденные любым путем, могут заменить цепью
заученных движений и зафиксированных формальной памятью интонаций живое,
неразрывное течение реалистической игры, в которой внутренняя память
актера удерживает в.себе не внешние формы, а только живой источник
найденной правды переживаний. .- ^
269
Станиславский был* -исчерпывающе точен, когда он всем своим учением
утверждал; что началом и конечной целью для актера является не простое
формальное запоминание, а глубокое освоение им мира мыслей и чувств играемого
образа1, то есть их превращение в свои, глубоко личные мысли и чувства.
Вся дальнейшая работа над образом, связанная с внешней выразительностью
игры, должна заключаться только в том, чтобы весь путь от внутреннего
процесса мысли и чувства к любым моментам активного действия, выражающегося
вовне; был всегда едиными и непрерывным.
Острая и постоянная забота о сохранении цельности этого пути и составляет
цельи смысл всей воспитательной работы Станиславского, а также и содержание
того множества приемов, которые он предлагал для последовательной работы
над ролью. " i -
Единство, цельность всего процесса, которым овладевает актер, работая
над тем, чтобы воображаемое перевести в действительное, и обусловили
открытие Станиславским тех реально существующих связей, которые могут
чисто методологически помогать актерской работе.
Верно найденное чувство в первый раз, может быть, откликнется лишь
тенью верного жеста, окрасит слово правдивой интонацией. Действителен и
образный ход — как будто бы случайно намеченный жест вдруг откликнется
правдивым чуством, которого ранее не хватало.
Именно в такие моменты режиссер, который является первым зрителем,
отзывается словом «верю». В сущности, это «верю» относится не к отдельному
жесту или интонации актера, а именно к реальности, жизненности,
действенности связи между чувством и его внешним выражением.
Правда целого — вот к чему глубоко верно направлял Станиславский все,
что он делал, все, что он говорил об истинной природе реалистического искусства
актера. Эта правда целого, которая неизбежно должна обладать наличием всего
богатства реальных внутренних связей, существующих в живом поведении
всего человека, должна быть распространена на все формы поведения актера,
играющего роль. Ничто не должно нарушать эти связи, обусловливающие
всякий живой процесс.
Актер, поистине овладевший ролью, непременно чувствует, как каждое
его' движение, каждое его слово как бы независимо от его воли рождает и
двигает следующее, как его мысли и чувства, не вспоминаемые, а непосредственно
возникающие в нём, заставляют его как бы забыть о теле, свободно живущем
слитно с каждым из его внутренних движений.
Это значит, что он существует целиком, в буквальном смысле этого слова,
в когда-то воображенном, а теперь уже реально существующем образе.
Первыми актерами МХАТ, с которыми мне пришлось столкнуться в моей
работе над постановкой кинокартины «Мать», были В. Барановская и Н.
Баталов 5 — ученики и воспитанники К. С. Станиславского.
Вначале нам было очень трудно. Трудности были на пути необходимого
близкого знакомства друг с другом, на пути завоевания полного взаимного
Доверия, без которого совместная работа актеров и режиссера попросту невозт
можна.
Но на чем же могло быть основано это доверие? У меня еще не было тогда
какого-либо запаса режиссерских приемов. Более того, та учеба, которую я
йолучил ранее в кино, была связана с формалистическим, очень внешним
подходом к актеру.
270
Нужно вспомнить, что именно тогда слово «психология» кто-то из
формалистов заменил словом «психоложество», определив, таким образом, как бы
преступное содержание этого слова в применении к искусству.
Как найти путь к уму и сердцу людей, которыми я должен был управлять,
которых я должен был привести к созданию образов, существовавших пока
еще только в моем воображении? Как найти с ними общий язык? Это была та
трудность, которая вставала передо мной. Перед актерами МХАТ стояла
другая трудность; это были законченные артисты, которые обладали уже
техникой театральной игры, обладали теми ее приемами, которые выработаны в
тесной связи с условностями сцены. Как режиссер, я внутренне не принимал
целого ряда из этих выработанных на сцене приемов; и дело было вовсе не в том,
что мне мешала какая-либо фальшь этих актеров или «театральщина», о которой
так много и так неправильно тогда говорили. Никакой фальши, связанной
с отсутствием правды внутренней жизни, у актеров не было. Были только
ненужные для кинематографа чисто внешние особенности игры. В театре актер
и шептать должен так, чтобы его было слышно в последнем ряду. В кинематог
графе, где и аппарат и микрофон приближены к актеру, ему нет никакой
надобности заставлять себя выходить из того реального состояния, когда человек
хочет, чтобы его услышал только его собеседник.
Этот пример можно отнести к сравнению всего поведения актера на сцене
и на киносъемке. Самая реалистическая манера игры в театре, даже такая, как
в МХАТ, все равно не могла отказаться от театральной речи, театрального
жеста — театрального поведения актера, которое должно быть «приподнято» для
того, чтобы быть увиденным, услышанным всеми зрителями, отделенными от
актера огромным пространством зрительного зала..
Вот это «театральное поведение» опытных актеров, не рождавшее на сцене
ощущения фальши, в кинематографе сразу же ощущалось мной как полностью
неприемлемое, потому что экран не предъявлял к актеру тех требований,
которые предъявлял к нему зрительный зал театра.
Я чувствовал, что чем больше игра актера приближается к самому простому,
реальному поведению человека в жизни, тем ближе подходит эта игра к тому,
что требует кинематографа тем ближе связывается она с безусловной
реальностью окружающей среды, в которой в кинематографе говорит и действует
актер. ' ' ' -- ■ -
Первым требованием, которое я поставил перед собой и перед актерами,
было требование поиска непосредственной и предельной простоты в игре.
Конечно, было ясно, что кинематографу, как и сцене, как и любому другому
искусству, недостаточно поверхностного, натуралистического отображения
жизни. Мысль и темперамент художника должны сделать любое изображаемое
явление более яркими отчетливым настолько, чтобы заставить зрителя собрать и
сосредоточить свое внимание на самом главном, составляющем суть этого
явления, на том, что-раскрывает его внутреннее содержание в предельно
выразительной форме. Иначе говоря, задача художника часто состоит в том, чтобы
покатать реальное явление более выразительным, чем это бывало в жизни;.
Эта приподнятая и усиленная выразительность должна непременно войти в
задачу художника. И кинематограф обладает в этой области особыми
возможностями, отличающими его от театра. ^
""•-Если в театре актёру, для того чтЬбы приподнять жест до нужной степени
яркости «-выразительности,- необходимееувеличите его в масштабе, то в кине-
271
матографе можно сделать предельно выразительным даже еле заметное
дрожание руки, приблизив киноаппарат к актеру и снимая так называемый «крупный
план».
Область незаметного, скрываемого человеком, глубоко интимного вдруг
оказалась в кинематографе возможной для непосредственного восприятия
зрителем. У кинематографа появились новые возможности для того, чтобы игра
актера поднималась до высот яркой выразительности, необходимой для
искусства.
Техника актера, связанная с выразительностью театральной, оказалась
в некоторых ее сторонах ненужной в кинематографе в связи с возможностью
для актера приблизиться к зрителю и позволить ему читать тончайшие оттенки
мысли и чувства изображаемого персонажа.
Стало ясным, что для работы с актером, снимаемым крупным планом, то
есть с предельным приближением его к зрителю, требовалась прежде всего
полная «естественность» игры, не затрудняемая никакими требованиями
повышенной выразительности.
Слово «переживание» пришло ко мне не только как один из терминов мха-
товской школы. Оно родилось в творческой встрече с актерами благодаря
нашему общему пониманию тех. требований, которые предъявляло нам новое
искусство кинематографа.
Когда цель сделалась для меня и актеров ясной, начались поиски общего
языка. Глубокая связь работы над ролью с поисками искреннего переживания
каждого момента этой роли оказалась не только понятной и близкой актерам
MX AT, но, как это выяснилось в процессе работы, была основой, заложенной
в них всей воспитательной работой Станиславского. Вот здесь-то и был найден
общий язык. -
Первые мои опыты режиссерской работы встретили очень искренний
творческий ответ, и я понял, что начало полному взаимному доверию положено.
Дружба может возникать, развиваться и крепнуть только тогда, когда есть
общая цель. А общая цель была найдена — внутренняя правда в любом
моменте поведения актера, та правда, из которой вырастают внешние формы ее
выражения, не искаженные, не преувеличенные ничем, что могло бы идти от
требований условности театральной сцены.
Помню первые шаги, которые были связаны с непосредственными
практическими поисками этих новых для меня и актеров, внешне скромных, но
внутренне выразительных моментов игры. Эти поиски были связаны, как я уже
говорил, с борьбой с театральными навыками актеров.
Одна из первых сцен, которую я снимал с Барановской, была такой: мать
находит под полом спрятанное сыном оружие. Это неожиданное открытие
указывает на страшную опасность, нависшую над сыном. Это — угроза тюрьмы,
каторги, гибели. Держа оружие в руках, мать на коленях стоит на полу.
Раздается стук. Она поднимает голову. Дверь открывается, и первое, что
видит мать,— это обращенные к ней подошвы человека, которого несут на
руках. Еще не понимая, что произошло, она угадывает огромное несчастье.
Как всегда в кинематографе, вся сцена показывалась не с какой-то одной
точки. Тот прием, который отличает кинематограф от театрального зрелища,
позволяет переносить взволнованное внимание зрителя с одного действующего
лица на другое, оставляя каждый раз на экране только того человека,
поведение которого в данный момент раскрывает.основное содержание сцены.
272
Я снимал отдельный план матери, смотрящей на только что открывшуюся
дверь, на людей, втаскивающих в комнату чье-то тело, в котором она
постепенно узнает своего мужа.
Задача и для актрисы и для молодого неопытного режиссера была
исключительно трудной. Я и боялся и не хотел давать актрисе какой-либо заранее
мной выдуманной или представленной в воображении формы игры. Хотелось
вместе с ней добраться до смутно мерещившейся мне формы внешнего выражения
великого смятения человека, пораженного неожиданным ударом.
В этих поисках крепла моя уже тогда создавшаяся убежденность в огромной
ценности того, что закладывалось Станиславским в каждого актера.
Верилось, что актриса в своих поисках верной игры этого куска если и не
найдет сразу нужных мне форм, то, во всяком случае, исходить будет из
внутренней правды, глубокой искренности переживания, без которого ученики
Станиславского не начинают своей работы. Эта уверенность меня не
обманула.
Я прежде всего предоставил ей полную свободу в игре этого куска.
Естественно, она стала пробовать играть его так, как играла бы в театре.
Помню женщину, стремящуюся разбудить в себе искреннее, правдивое,
слитое с ее реальной жизнью чувство, выражая его только жестами. Она
отступала, хваталась за голову, делала множество движений, из которых каждое
ужасало меня своими преувеличенными формами.
Все, что она ни делала, я воспринимал как. невозможный для меня
театральный нажим. Нужно помнить, что я стоял рядом с ней, а. не был отдаленным
зрителем театрального зала и вся ненужность специфически театральной
выразительности в игре буквально мучила меня. Было ясно, что это все ненужно,
но что было нужно, я еще не знал, а только верил и чувствовал, что в основе
всего этого множества ненужных для меня движений все же лежит постепенно
избираемое, развивающееся и крепнущее искреннее чувство.
Тогда я начал убирать все казавшееся мне лишним и преувеличенным и
наконец решился на поступок, который сейчас меня удивляет своей смелостью,
когда я вспоминаю, что я был значительно моложе актрисы и бесконечно
беднее ее опытом работы в искусстве.
Я предложил сыграть этот кусок, не делая ни одного движения и ни одного
жеста и сохраняя при этом найденное внутреннее состояние.
Конечно, рискнуть пойти на такой эксперимент можно было только при
наличии отчаянной смелости, свойственной молодости, со стороны режиссера
и глубоко освоенной школы Станиславского со стороны актрисы.
Актриса попробовала это сделать, и я был свидетелем зрелища, которое
помню во всех подробностях до сих пор. Полная скованность человека, умеющего
поднять в себе волну искреннего чувства, создавала у нее почти физическое
ощущение страдания. Тогда я решился на дальнейший шаг и позволил ей
сделать только один жест, подмеченный мной среди множества движений,
которыми она сопровождала свои опыты театральной игры этого куска, одно движение
рукой, которое сделал бы человек, наивно отмахиваясь от чего-то страшного,
надвигающегося на него.
В этом жесте меня поразила какая-то большая его правда, связанная с той
почти детской наивностью, с которой часто ведет себя человек, оглушенный
ударом неожиданного, угрожающего ему события. Отмахивающаяся рука
словно говорила: «Неправда, этого не может быть, не должно быть!»
273
В этом слабом движении выражал ось огромное внутреннее смятение,
связанное с первым моментом надвигающейся драмы, когда рассудок еще не отдает
себе отчета в произошедшем, а чувство стремится избежать удара.
Мое глубокое убеждение в том, что найденная внутренняя правда
переживания получит точное выражение именно в этом избранном жесте, было так
сильно, что я рискнул снимать этот кусок сразу, без предварительной
репетиции, чтобы не потерять свежести найденного.
И я не ошибся. Этот кусок на экране оказался и для меня и для актрисы
подтверждением верности того пути, по которому мы шли в нашей совместной
творческой работе.
Так открывалась для меня ценность актерского умения наживать чувство,
которое воспитывал в актерах Станиславский. Этот опыт ширился и
разрастался в работах с другими актерами, в особенности в работе с Баталовым.
Помню, как мы с Николаем Баталовым, тратя очень много времени,
тщательно, разрешали каждый из кусочков, на которые распадается работа
киноактера. Это были поиски верного чувства, внутреннего основания для каждого
движения. Ни один кусочек роли Павла не был для нас не важным или, как
говорят, «проходным». Каждое появление Баталова на экране было моментом
не внешнего поведения, нужного только для развития сюжета, а прежде
всего новым моментом раскрытия внутреннего мира актера.
Вспоминая Баталова, я всегда вижу его взгляд. Все обаяние созданного
им образа было связано именно с глазами. Меня все время тянуло снимать его
крупным планом, так, чтобы зритель мог следить за внутренним миром человека,
отраженным в его глазах.
Еще раз я понял огромное значение для решения образа правды внутренней
жизни актера и своеобразных возможностей кинематографа приблизить
зрителя к непосредственному восприятию тончайших форм, внешне выражающих
эту правду мысли и чувства.
Еще раз подтвердилось, что крупный план в кинематографе — это особый
художественный прием, недоступный театру, который придает правде
необходимую выразительность, нужную для искусства.
Я могу перечислить ряд планов Баталова в «Матери», где внешняя
неподвижность тела, казалось бы, делавшая план статичным, вместе с тем заключала
в себе огромную динамику внутренней жизни.
Помню глаза Баталова, когда он заступается за мать, когда в глазах его
вспыхивает чувство гнева на отца, поднявшего на нее руку. Все, что рождает
в человеке искреннюю выразительную интонацию гневного слова: молодое
возмущение, безудержный протест, готовность пожертвовать собой, чтобы
прекратить несправедливость,— все это так ясно читалось в глазах Баталова, что
мертвые слова короткой надписи: «Не смей мать бить!» — следовавшие за
крупным планом, сразу зазвучали живой, непосредственной интонацией гнева.
Помню другой взгляд Баталова, когда он смотрел на офицера, только что
ударившего его по лицу, помню этот взгляд человека со связанными руками,
человека оскорбленного и возмущенного, но не беспомощного; человека,
который знает, что получает удар не от победителя, а от того, чей конец уже
близится. Это сознание позволяло Баталову смотреть в лицо офицеру с тем великим
презрением, с которым смотрело в лицо врагу множество мужественных
советских людей в дни Великой Отечественной войны, зная, что за ними идет
победа, что народ наш непобедим.
274
Конечно, Баталов не играл в этом куске того сложного результата, о
котором я говорю сейчас, вспоминая. Взгляд был простым, но в нем был найден
покой сильного человека, который, будучи лишен возможности прямого
действия сейчас, уверен все же, что это действие он совершит в будущем и ничто
не сможет тогда его удержать.
Удивительно, что при наличии зрелой внутренней силы чувства мы видели
вместе с тем в этом плане Баталова юношу, жестоко и незаслуженно
оскорбленного. Эта его юность в соединении со зрелой мужественной силой тоже
читалась в глазах.
Помню еще один кусок, который я считаю лучшим в роли Баталова,
которым я гордился вместе с ним. Он относится к сцене суда, где Павлу выносится
жестокий приговор, осуждающий его на каторгу.
Баталов не слушает того, что говорят судьи и прокурор, он ищет глазами
мать и наконец находит ее среди публики. Теплый огонь, зажегшийся в его
глазах, показал такую убедительность правдивого чувства актера, живущего
в образе, о которой может только мечтать режиссер.
Отыскивая все время пути для воссоздания на экране атмосферы живой
действительности, я в порядке эксперимента пробовал снимать в отдельных
эпизодах «Матери» не в ролях, а именно в качестве элемента, характеризующего
среду, в которой разворачивается действие, людей, не являвшихся актерами.
Многие думали тогда, что я пытался заменить актера неактером, так
называемым типажом, да и сам я по неопытности иногда говорил нечто подобное,
но на деле среди заблуждений, допущенных мною на том или ином этапе
творческого пути, никогда не было тяготения к подмене актерского образа
натуралистическими деталями поведения живого человека, механически подогнанными
под ситуации сюжета.
Неактер никогда не противопоставлялся мною актеру и не сосуществовал
с ним в моей практике органически.
Солдат, охраняющий вход в тюремную камеру, женщина, встречающаяся
с матерью на улице в весенний день, когда мать возвращается из тюрьмы после
свидания с сыном, были лишь случайными удачами на моем пути поисков
художественной правды.
Однако они сыграли для меня, режиссера, весьма положительную роль
в том смысле, что еще и еще раз заставили задуматься над проблемами актерского
творчества, понять те законы поведения человека, без которых немыслима
работа с актером над формированием того или иного образа.
Прежде всего я понял, что Баталов, например, убедителен именно потому,
что его игра не отличается по правдивости от естественного поведения человека,
того поведения, которое в реальной жизни определяется средой, профессией,
привычками и характером.
Как достичь этой степени правдивости с каждым актером, в каждом фильме?
Начав работать с неактером, я сразу же понял, что перед ним на съемке
немедленно возникает ряд препятствий, которые могут уничтожить драгоценную
правду его поведения. -• - -,- - _
Необычность обстановки, условные требования, которые предъявляет ему
режиссер, диктуя ту или иную задачу, наличие киноаппарата — все это
выбивает человека из привычных жизненных условий и создает у него подчас
неосознаваемую им самим связанность и скованность, от которых нужно ему
помочь избавиться.
275
Здесь я нашел для себя целый ряд приемов, поняв решающее значение
наличия простой физической задачи, которая целиком собирает внимание человека
и тем самым освобождает его от скованности и судороги. Очень важно заставить
человека поверить в реальность предложенной ему задачи.
Суть этих приемов легче всего пояснить на простом примере. Нужно было
снимать старика, который выходит из двери на крыльцо, подходит к перилам
и смотрит наверх.
Несмотря на крайнюю примитивность этой задачи, старик все же не мог ее
выполнить. Предлагаемые для выполнения движения, очевидно, оставались
для него неоправданными и отвлеченными. Он двигался на прямых ногах,
как солдат на параде, по-солдатски останавливался у перил, приставляя ногу
к ноге, и подымал голову вверх резким рывком.
Я думал о том, как перевести этого человека в реальный мир простых,
свойственных ему в жизни движений, и придумал следующее. Я сказал ему, что
снимать мы будем не подход к перилам, а то, как он стоит у перил и смотрит
вверх, а затем поворачивается и уходит в дверь. Это действие по-прежнему
представляло собой ту отвлеченную задачу, которую он неизбежно
механически выполнял мертвыми движениями скованного тела.
Мы не тушили света, приготовленного для съемки, говорили, что съемка
окончена, и просили старика вернуться к перилам, чтобы повторить съемку.
И вот тут-то отвлеченная задача заменялась для исполнителя реальной
задачей — вернуться к исходному положению, чтобы повторить игру. Старик
подходил к перилам своей естественной походкой, спокойно останавливался и
поднимал голову. Это я и снимал.
Конечно, прием был груб и примитивен в соответствии с той простой
задачей, которая ставилась перед исполнителем, но принципиально он был очень
верной находкой на пути работы с неактерами. Перед человеком ставилась такая
физическая задача, которая заставляла его принять ее разрешение, как свою
собственную потребность.
В работе с неактерами я открыл и понял, что погружение в мир простых,
реальных задач, освобожденных от отвлеченности, необходимо и для работы
с любым актером самой высокой техники.
Ведь простая физическая задача погружает каждого человека в мир
реальных поступков и часто позволяет актеру освободиться от связанности,
появляющейся от условных требований, предъявляемых к нему.
Почему же появляется эта связанность, неспособность вести себя так, как
обычно ведет себя в жизни человек? Почему она является тогда, когда вы
предлагаете человеку совершить что-либо по условному заданию? Почему, в
сущности, старик не мог сделать простого движения, когда я предложил ему
подойти к перилам и посмотреть вверх? Не нужно думать, что только потому,
что ему мешал свет или шум аппарата.
Для того чтобы совершить движение по заданию, а не по собственной
потребности, у человека непременно должно заработать воображение. В данном
случае по сигналу режиссера старик должен был вообразить, что ему нужно
подойти к перилам, то есть вообразить ту потребность, которой у него самого
не было.
Для человека, не обладающего врожденным актерским талантом, всегда
связанным с сильным и гибким воображением, эта задача очень трудна. На
примере старика я убедился, что она непреодолима.
276
Когда же воображаемая задача заменялась для старика реальной
потребностью вернуться на место, ничто не помешало ему сделать это естественно.
На таких практических уроках работы со случайными людьми, которые
были мне необходимы по ходу съемок, я убедился в одном — чем больше я
убирал задач, требовавших от неактера работы воображения, тем легче я мог
получать простое и естественное поведение человека.
И я понял впоследствии глубокий смысл воспитательной «системы»
Станиславского, одной из основ которой являлось развитие воображения у актера.
Многие думают, что замечательные приемы работы Константина
Сергеевича с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах — его
знаменитые «если бы», что все это может быть заменено какими-то другими
приемами воспитания актера. Это глубоко неверно.
Положение Станиславского, утверждающее, что основой работы актера
является его способность к воображению, может быть отнесено не только к
театральному искусству, но и к работе художника во всех областях
искусства.
Вспомним, как описывает Толстой воображаемый им пейзаж Бородинского
поля, когда Пьер смотрит на этот пейзаж накануне сражения.
Толстой видел этот пейзаж лет через семьдесят после описанных им
событий, но он заставил жить пейзаж Бородина в своем воображении той минутой,
в какую его видел Пьер, и описал его с точностью, с таким изобилием
реалистических подробностей, с какими он описывал реальный пейзаж в момент его
непосредственного наблюдения. Толстой описывает воображенное им событие —
начало Бородинского боя — с большей точностью, чем мог бы рассказать
обыкновенный человек об явлении, происходившем перед его глазами.
Существует в воспоминаниях рассказ о том, как пришедший однажды к
Бальзаку приятель услыхал через дверь, что Бальзак с кем-то бешено
ссорится и кричит: «Мерзавец, я тебе покажу!» Открыв дверь, приятель увидел, что
Бальзак в комнате один. Бальзак кричал на одного из своих персонажей,
которого изобличил в подлости.
Так велика была сила воображения писателя, сила его видения и ощущения
живого персонажа.
Наличие дара воображения определяет собой человека искусства, и
развитие этого дара является основой воспитания всякого художника.
Станиславский со свойственной ему научной точностью в изучении
каждого вопроса разработал целую систему, направленную к развитию у актера
способности воображения.
Но если по отношению к неактеру искусственное создание режиссером
естественной обстановки, могущей вызвать в нем нужную форму поведения без
участия его воображения, и служит иногда единственным путем к достижению
цели, то по отношению к актеру такой прием никак не может стать основой
в работе.
Если в отдельных случаях попытки подменить игру актера натуральной
разрядкой и бывали успешны, успех этих отдельных моментов никак не
разрешает задачу созданию целостного образа, который только и может быть
реалистическим во всей своей целостности и который способен создать только
подлинный, наделенный даром воображения художник.
В картине «Простой случай» нужно было снять очень сложный по
техническим условиям выполнения кусок. Сцена была такая: женщина сидит у постели
277
смертельно больного мужа6. Кризис только что миновал. Больной впервые
приходит в сознание и узнает жену. Потрясенная женщина начинает плакать.
Слезы мешаются с улыбкой счастья.
Сцена сменилась крупным планом, и, следовательно, кусок должен был
быть пережит и сыгран с предельной искренностью. Я хотел попробовать
снимать так, чтобы актриса не повторяла перед аппаратом заученную на
репетициях игру.
Нужно сказать, что кинематограф обладает очень ценной возможностью
зафиксировать раз и навсегда еще не заученный, непосредственный разряд
чувств актера, часто обладающий драгоценной свежестью, полнотой
естественного поведения.
Я долго думал о том, как снять этот кусок, и, наконец, решился снимать
его без предварительных репетиций.
Картина была немая. Все было приготовлено к съемке, точно установлены
аппарат и свет. Актриса заняла нужное положение. Я уселся рядом и в полной
тишине стал говорить с ней.
Говорили мы очень долго. Все свои силы и способности к образному
рассказу я употребил на то, чтобы с возможной точностью описать внутреннее
состояние, которое нужно было вызвать в ней. Я говорил о том, как дорог ей
муж, как страшно было ее состояние во время его болезни, с какой верой,
борясь с отчаянием, она ждала хотя бы малейшего проблеска надежды на тоу
что любимый человек уйдет от смерти.
Я говорил об ее нечеловеческой усталости, описывал ее бессонные ночи,,
то приглушенную, то снова возрождающуюся острую боль при мысли о
возможности страшного конца, стремясь точно описать симптомы
непрекращающейся душевной боли и силой внушения заставить ощутить ее. Именно
ощутить, а не только понять.
Вовлекая актрису в круг воображаемых ощущений, я видел, как
постепенно это удавалось.
Под конец я стал говорить тоном гипнотизера о том, как сжимается ее
горло, как к нему подкатывается клубок, как уже нельзя удержать слез... И вдруг
актриса действительно разразилась слезами.
Немедленно началась съемка. Актриса почти не сознавала того, что
происходит. Она рыдала не потому, что заставляла себя плакать, а потому, что не
могла удержать естественного разряда накопленного внутреннего волнения.
А я приказывал: «Улыбайтесь! Улыбайтесь же!» Она отвечала мне
отчаянной улыбкой сквозь непрерывно текущие слезы.
В сущности все это. сложное поведение актрисы, которое мне удалось
вызвать-, полностью решало стоявшую перед нами задачу. Ведь женщина не в сит
лах сдержать рыданий, она, усилием воли заставляет себя улыбаться, чтобы
не напугать мужа. Здесь только я заменил волю актрисы своей волей.
Конечно, этот случай никак нельзя брать за образец в работе с актером
над ролью. Во всей моей дальнейшей практике мне ни разу не довелось ни
прибегать к этому,:ни встретиться с. чем-либо подобным. Это было лишь
случайным совпадением характера актрисы с моей способностью к образному
рассказу. Но для себя из. этого эпизода я сделал .важные, принципиальные
выводы.
Я. убедился,- что. к правде актерской игры ведет путь через разбуженное
и ла: полной;.ошш работающее воображение. „В данном, случае, была попытка
278
разбудить воображение актрисы, поддержать его и развить его работу до
нужного предела.
Впоследствии я все более и более убеждался, что, помогая актеру в его
поисках правды в игре, режиссер должен делать все для того, чтобы убирать
препятствия, могущие помешать свободной работе воображения, и, более того,
помогать ему, создавая ряд толчков, поддерживающих и развивающих это
воображение.
Чем меньше приходится актеру затрачивать силу своего воображения на
представление внешней обстановки, тем легче и свободнее он сосредоточивается
на внутренней жизни образа.
В силу изобилия чисто внешних условностей обстановки сценического
действия (писаные декорации, бутафорские вещи и т. д.), воображение театрального
актера требует особого воспитания и своеобразной тренировки.
Вот почему в воспитании Станиславским актера игре с воображаемыми
предметами придается такое большое значение.
Нужно сказать, что в работе актера кино игра с воображаемыми предметами
в воображаемых условиях внешней обстановки почти исключается. Это во
многих случаях облегчает работу воображения актера в кино, но, конечно, пи
в какой мере не устанавливает принципиальной разницы между игрой актера
на сцене и перед киноаппаратом.
Сила и плодотворность воображения актера остается решающей силой как
в театре, так и в кинематографе.
Быть до конца увлеченным своим воображением — это и есть то великое
состояние вдохновения, которое связывается всеми художниками с лучшими
моментами их творческой жизни.
Воспитать воображение — это значит создать в художнике необходимые
условия для осуществления вдохновенной творческой работы.
Станиславский часто говорил о том, что он не может своей школой
обеспечить каждому ученику будущее гениального актера. Задача его школы
заключается лишь в том, чтобы проложить верные пути, на которых каждый актер
в меру своей одаренности мог бы сознательно совершенствовать свои данные.
Эти пути идут прежде всего через систематическое воспитание творческого
воображения.
Я хочу условно и временно разделить две области работы творческого
воображения, которые в действительности слиты между собой,— на область,
связанную с внешним поведением актера, и на область, связанную с его
внутренним состоянием.
Если говорить о внешнем поведении актера, мы придем к тому участку
работы над ролью, который Станиславский и его ученики называли «физическим
действием».
Стремление к цельности жизни актера в роли заставило Станиславского
на последних этапах его работы обратить особое внимание на эту область.
Человек становится выразительным, то есть ярко й ясно впечатляющим,
тогда, когда он деятелен, активен, когда он разрешает не только внутренние
задачи, которые ставятся перед его мыслью, но и внешние физические задачи,
на которые наталкиваются его воля и желание.
Понятие физической задачи не просто формальное определение нужности
того или другого поступка актера. Разрешение физической задачи, в
правильном понимании Станиславского, является как 6bi завершением внутреннего
279
процесса, родившегося в человеке. Оно органически должно быть включено
в цельность жизни актера в роли. Его следует определить как
целеустремленный поступок человека, движимого мыслью и чувством.
В силу зрелищности искусства театра и кинематографа нас особенно
интересуют те формы человеческих поступков, которые носят ярко выраженный
зримый характер.
Искусство актера немого кинематографа росло прежде всего в области
физического действия. Лишенный слова, он должен был вместе с режиссером
направлять все свои силы на отыскание правды и выразительности физического
поступка.
Мысли и практика Станиславского оказались исключительно
плодотворными в немом кино. Практика же немого кинематографа, в свою очередь,
оказалась длительной по времени и очень важной по своим возможностям
экспериментальной, работой такого масштаба, которого на театре нельзя было
осуществить.
В немом кинематографе слово вводилось только в виде надписи,
передающей его смысл и лишенной живой, звуковой интонации.
В игре актера немой картины слова надписи являлись как бы конечным
результатом глубокой и тонкой игры жеста, в-которой полностью
раскрывалось внутреннее состояние актера.
Кинематограф, естественно, явился широким полем для поисков в области
бессловного, немого выражения внутренней жизни человека.
Однако здесь важно отметить, что кинематограф не пошел по пути
пантомимы, то есть такого искусства, в котором изобретались условные знаки,
заменяющие слово, вроде тех движений руки, прикладываемой к сердцу и
затем направляемой к объекту любви, которые до сих пор живут в балете.
Кинематограф шел по другому пути. Благодаря приближению актера к
зрителю, дающему возможность видеть тончайшие внешние выражения
человеческого чувства — игру глаз, скрытую улыбку, едва уловимое движение руки,
кинематограф не испытывал нужды в изобретении ярких условных знаков.
Он воспитывал в актере естественные формы выражения внутреннего
состояния, вплоть до самых тонких оттенков его проявления.
Очень часто понятие выразительного жеста связывается с сознательно
усиленным внешним выражением состояния человека или с различными
движениями рук и лица, резко подчеркивающими образную речь. Выразительным
жестом называют, скажем, движение рук, охвативших голову в порыве
отчаяния, руки, указывающей на дверь со словами: «Подите вон!»
Позволю себе придать понятию жеста более общее значение. Условимся
называть жестом всякую форму внешнего проявления человеком его
внутреннего состояния, вольную или невольную, от тончайшего изменения выражения
глаз до руки, размахнувшейся для того, чтобы ударить врага.
В этом, широком содержании понятия жеста он и разрабатывался в течение
многих лет в немом кинематографе.
Здесь я должен сказать несколько слов о том, что я знаю и думаю о
природе жеста.
В непосредственном внешнем разряде внутреннего состояния человека жест
всегда предшествует речи.
Попробуйте, например, сказать: «Ступайте вон!» — и только после - этих
слов указать на дверь. Вы сразу ощутите, что ваш жест оторвался от чувства
280
и связался с чисто рассудочным деловым моментом указания на определенную
дверь. У вас получится: «Ступайте вон» — жест — «в ту дверь».
И, наоборот, попробуйте сначала указать рукой и только после того
крикнуть: «Ступайте вон!» — ваш жест непосредственно свяжется с чувством. Он
будет обозначать только ваше гневное желание избавиться от присутствия
собеседника.
Думаю, что цепь — мысль, чувство, жест, речь — является прямым
отражением естественных связей, существующих в реальном поведении каждого
человека. Жест (повторяю, что я включаю сюда и мимику) ближе всего,
непосредственнее всего связан с эмоцией, с чувством. Именно он является первичным
внешним выразителем эмоционального состояния. Человеческая речь может
быть лишена эмоциональной окраски и передавать только словесное
содержание мысли, ну, скажем, когда вы читаете вслух научную статью или
повторяете таблицу умножения, но как только в человеке рождается чувство, связанное
с мыслью, неизбежно появляется жест, и именно через него приходит
эмоциональная окраска произнесенного слова, называемая интонацией.
Живая и правдивая интонация речи требует для своего появления наличия
правдивого, непосредственно из чувства родившегося жеста.
Неразрывная цельность поведения человека в его общении с другими
аналитически может рассматриваться как последовательность — мысль, чувство,
жест, речь. Эта связная последовательность может быть наблюдаема во
множестве форм поведения современного человека.
В результате активное поведение человека в реальной жизни идет от
внутреннего состояния, складывающегося из мыслей и чувства, к внешнему его
выражению через жест внутренний или внешний и переходит в ту или иную
форму активного физического действия, связанного уже с внешней средой,
с окружающими человека предметами и людьми.
Движимый чувством человек может действовать и не говоря ни слова. Но
если появляется необходимость речи, то слово всегда будет рождаться после
жеста, который непосредственно связывает речь с мыслью и чувством и, таким
образом, окрашивает его тем, что называют интонацией.
Первое требование, которое актер предъявляет к себе (на этом всегда
настаивал Станиславский),— это превращение с помощью воображения себя, своих
личных свойств, данных своего характера в нечто другое, принадлежащее
уже не самому актеру, а тому образу, который он создает.
Актер, работающий над ролью и играющий ее затем на сцене или перед
объективом киноаппарата, прежде всего сталкивается с этим требованием,
которое предъявляет к художнику всякое искусство,— он должен выйти из
привычной ему обстановки реальной действительности и перейти в мир новых
условий, создаваемых его воображением.
Важно в процессе этого перехода от себя к изображаемому человеку, от
индивидуальности актера к индивидуальности изображаемого персонажа не
потерять своей цельности как живого существа, оставаться и в воображаемых
условиях живым человеком, мыслящим, движущимся и действующим с такой
же цельностью, как это бывает с реальным человеком в реальной жизни, не
порвать и не растерять внутренних связей, обусловливающих цельность
реального поведения человека.
Задача всякого художника-реалиста — передать своим произведением ряд
идей, раскрывая их в отраженной реальной действительности. Это значит, что
281
актер, как и всякий художник, действуя в мире воображаемых условий, дол-т
жен прежде всего заботиться о том, чтобы непрерывность, связность,
естественная закономерная последовательность, свойственная живому процессу,
сохранялась в его игре в воображаемых условиях так же незыблемэ, как и в
любом реальном процессе действительной жизни.
Вот почему основой искусства актера должно быть умение отыскивать,
сохранять и укреплять внутренние связи, делающие любой момент поведения
актера на сцене -непрерывным и реальным.
Умение почувствовать, когда эти связи разрываются, умение восстановить
их создает то необходимое содружество актера и режиссера, которое ведет
к главной цели — сделать играемый образ живым.
Режиссер, оставаясь объективным наблюдателем, имеет возможность
непосредственно ощутить каждый разрыв этой естественной связности в
играемом куске роли. Он может остановить актера в тот момент, когда вслед за
разрывом неизбежно, как результат пойдет фальшь и неправда.
Знаменитое «не верю!» Станиславского, которым он так часто и внезапно
останавливал актера, как будто полностью увлеченного игрой, всегда имело
этот глубокий смысл и возвращало актера к тщательной, глубокой проверке
реальности и верности связи между чувством и речью в момент, когда выпадал
жест и слово начинало существовать отдельно от чувства, когда физическое
действие отрывалось от своего источника — от внутренней задачи, законченно
созревшей во внутреннем мире актера.
Вся методика работы Станиславского воспитывает в актере острое чутье
к малейшему нарушению естественной слитности, связности его поведения.
Именно развитие такого чутья и ведет актера к свободному, полноценному
самочувствию на сцене. -
Это тот путь, который открывает возможность для так называемой
вдохновенной игры, в процессе которой не участвует ни формальная память,- ни
заученная последовательность раз навсегда зафиксированных форм.
Это тот путь, который позволяет сделать идейную «сверхзадачу» спектакля
не предметом отвлеченного созерцания, а живой целью живого поведения
группы людей.
Разрыв в связности поведения актера в воображаемых или, как выражается
Станиславский, в «предлагаемых» обстоятельствах — причина всех неудач,
всех трудностей, которые часто приводят к фальши, к механическому штампу,
к холодной формальной игре.
Внутренняя жизнь воображаемого, а затем и воплощенного в игру образа,
как мы уже говорили, должна быть прежде всего цельной, непрерывной,
связной, существующей по тем же законам, по которым, не отдавая себе в том
отчета, живет актер в реальной жизни.
В процессе создания образа характер жестикуляции, форма речи и тембр
голоса, манера изложения и поступки — все это может отличаться от личных,
индивидуальных свойств актера. Но связи, которые обусловливают не
механическую смесь, а. органическую цельность действия актера в образе, должны
быть неизменными, ибо именно эти связи и обусловливают то главное, что
должно быть достигнуто в реалистическом искусстве,— жизнь образа.
Перейти в образ живым, жить, действуя в образе,— это значит сохранять
в игре те внутренние связи, которые обусловливают цельность поведения
реального человека в реальной жизни. ;
282
Когда неопытный актер, выходя на сцену, не знает, что ему дёяать со
своими руками й ногами,— это значит, что он потерял лживую связь между"
внутренним состоянием играемого им образа и своим телом. Это значит, что область
жеста оторвалась от внутренней его жизни. Тело сделалось мертвым, оно
подчиняется не посылам внутренней жизни актера в образе, а чуждым этой тжйзни
образа рефлексам, рождающимся от внешних раздражителей —увиденного
зрительного зала, публики, условного света, декораций и т. п.
Обрести то, что Станиславский называет верным самочувствием актера на
сцене,— это значит прочно удерживать связь жизни своего тела с внутренней
жизнью играемого образа. Потерять эту связь — значит, сДелать играемый
образ нереалистическим, фальшивым.
В открытии основных связей, обусловливающих как закон живое поведение
человека, в умении найти и развить методы воспитания в актере способности
беречь эти связи, пользоваться ими как путями к отысканию приемов работы
над ролью заключается грандиозная научная и методологическая ценность
работы Станиславского. ' "У ч •
Можно сказать, что вся огромная работа Станиславского была направлена
в конечном счете к созданию реалистической цельности в поведении актера и
действии его в образе так же, как и живой реалистической цельности в
развитии всего спектакля. *
Эту цельность обусловливают живые связи отдельных сторон, отдельных
моментов, на которые в процессе аналитической работы всегда распадается
любое явление, к которому с творческими целями подходит человек.
Одной из важнейших связей, обусловливающих живое, реалистическое
поведение актера, является связь его внутренней жизни с внешним ее выражением,
с тем последовательным рядом, о котором я говорил выше,— мысль, чувство,
жест, речь. Этот закон так глубоко связан с природой человека, что жест
может оказаться и не прямым движением тела, но даже может быть и не
совершен человеком, остаться потенциальным, но все же он будет
присутствовать уже как внутренний жест, как потребность совершить его, без которой
речь не родится в своей живой, полностью выразительной форме.
То, что называется интонацией речи, рождается, только пройдя через жест
внешний или внутренний.
Всем известно тяжкое состояние актера, когда он пытается найти нужную
интонацию, пробуя произнести слово на разные манеры. Но даже если какая-
либо найденная таким путем интонация и покажется ему или режиссеру
удачной, то актер оказывается совершенно неспособным ни запомнить, ни
повторить ее, потому что работать, опираясь на случайность, ни в искусстве, ни в
жизни нельзя.
Для того чтобы укрепить интонацию, нужно непременно найти ее в общей
связи — мысль, чувство, жест, речь. Этот неразделимый в жизни комплекс
должен запоминаться актером не внешней, формальной памятью, а
осваиваться им как полноценный реальный поступок.
Только при этих условиях найденное им в жизни играемого образа станет
частью живого поведения, а не разложенной аналитическим путем цепью
отдельных действий, механически связанных формальной памятью.
Путь, ведущий к нахождению и укреплению этих прямых связей,
обусловливающих неразрывность, естественную закономерность ряда -— мысль,
чувство, жест, речь,— ведет к реалистическому искусству.
283
Ощущение закономерной неизбежности последовательности — жест, речь —
встречается не только в практике театральной игры. Интересно, например,
вспомнить высказывание А. Н. Толстого, в котором он говорит о том, что
живую речь своих персонажей он не может ощутить прежде, чем не найдет путем
воображения внешний либо внутренний жест своего героя.
«В человеке я стараюсь увидеть жест,— говорит А. Н. Толстой в статье
«Как мы пишем», обращенной к молодым писателям,— характеризующий его
душевное состояние, и жест этот подсказывает мне глагол, чтобы дать
движение, вскрывающее психологию... Я всегда ищу движения, чтобы мои персонажи
сами говорили о себе языком жестов. Моя задача — создать мир и впустить
туда читателя, а там уже он сам будет общаться с персонажами не моими
словами, а теми не написанными, не слышимыми, которые сам поймет из языка
жестов *.
Говоря об «алмазном» языке, к которому должен стремиться настоящий
художник, А. Н. Толстой в статье «К молодым писателям» пишет: «Речь
человеческая есть завершение сложного духовного и физического процесса. В мозгу
и в теле человека движется непрерывный поток эмоций, чувств, идей и
следуемых за ними физических движений. Человек непрерывно жестикулирует. Не
берите этого в грубом смысле слова. Иногда жест — это только
неосуществленное или сдержанное желание жеста. Но жест всегда должен быть предугадай
(художником) как результат душевного движения.
За жестом следует слово. Жест определяет фразу. И если вы, писатель,
почувствовали, предугадали жест персонажа, которого вы описываете (при
одном непременном условии, что вы должны ясно видеть этот персонаж), вслед
за угаданным вами жестом последует та единственная фраза, с той именно
расстановкой слов, с тем именно выбором слов, с той именно ритмикой, которые
соответствуют жесту вашего персонажа, то есть его душевному состоянию
в данный момент» **.
Если вы внимательно станете перечитывать произведения великих наших
писателей, вы всегда обнаружите наличие жеста, причем жеста именно
характерного. Вспомните хотя бы бесчисленное количество малых персонажей в
«Войне и мире», где каждый из них обрисован гениальным автором в
непременной связи с характерным, острозапоминающимся жестом.
Живая, неизбежно связанная последовательность ряда — мысль, чувство,
жест, речь — образует как бы органически живущий и цельный комплекс.
Он обладает своеобразной чувствительностью, передающей свои сигналы в ту
или другую сторону.
Если режиссеру удается привести актера к нужному чувству, возникают
верные и правдивые контуры жеста. Если актер в своих поисках сумеет найти или
режиссер сумеет подсказать ему верный, соответствующий найденному
воображением образу жест, отзовется чувство.
Вся суть методологии Станиславского раскрывается в том, что во всех своих
упражнениях, во всех частях своей «системы» он стремился не.отрывать друг
от друга области чувства, жеста и речи.
Только тогда, когда все связано, одно будит другое, и работа по созданию
реалистического образа идет успешно.
* А. Т. о л с той, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 569.
** Там же, стр. 413.
284
В конце своей жизни Константин Сергеевич, как мы уже говорили,
сосредоточил внимание исследователя и педагога на области так называемого
«физического действия».
Этот термин следует понимать широко. То, что я определил как понятие
жеста, включается в область физического действия актера как его
неотъемлемая часть, непосредственно ив первую очередь связанная с внутренним миром
актера, с его переживанием роли.
Актер, как и всякий человек в реальной жизни, не только чувствует,
мыслит, не только выражает свои мысли и чувства в движениях своего тела, не
только говорит, но и действует в прямом смысле этого слова, разрешая
конкретные физические задачи, которые ставит перед ним его партнер в живом
развивающемся действии пьесы. Он ходит, садится, встает — вся его игра наполнена
осмысленным и целесообразным движением и работой.
Органическая связь между чувством и жестом как бы продолжается
дальше, захватывая не только речь, но и всю область физического движения
актера.
Физическое действие, если оно существует на сцене как момент
реалистического произведения искусства, непременно должно быть увязано в
упомянутый уже мной единый комплекс.
Здесь уже жест и речь, не разрывая своей связности, как бы сливаются
в общий комплекс, который можно назвать поведением актера на сцене.
Единство этого комплекса и привело Станиславского к совершенно правильному
и плодотворному утверждению об огромном значении работы над физическим
действием актера при создании цельного, реалистического, живого образа.
Кажущееся на первый взгляд парадоксальным требование
Станиславского, которое он применял как прием воспитания актера,— суметь сыграть
любой кусок роли, разрешая его только как физическое действие,— несет в себе
глубочайшее понимание реальной природы поведения человека в жизни.
Если распространить эти положения Станиславского на область
кинематографа, то окажется, что весь период работы немого кинематографа был в
значительной мере разработкой и развитием школы актерской игры, связанной
с поисками правды физического действия.
И нужно сказать, что в этом смысле период немого кино дал все основное
и необходимое для дальнейших этапов развития кинематографа, в который
пришел звук, а вместе с ним живое человеческое слово.
Даже и сейчас можно встретить теоретиков кинематографа и просто
почитателей этого искусства, которые жалеют о конце немого кино, считая, что в
звуковом кинематографе утеряна какая-то своеобразная прелесть
кинематографического зрелища.
Конечно, эта точка зрения глубоко ошибочна. Появление живой речи
подняло искусство кинематографа на новую, высшую ступень, приблизив его
к более полному и глубокому отображению действительности. То, что было
найдено в немом кинематографе, не только не потерялось с приходом звука,
но послужило и продолжает служить прочной основой, объединяющей
систему воспитания киноактера с методологией Станиславского, созданной им
в области театра. -
Комплекс «чувство — физическое действие», включающее в себя и область
жеста, слившись в звуковом кино с речью, раскрыл еще большее поле для роста
и развития реалистического искусства. ,с ,T,',/,
285
Другое дело, что некоторые наши-режиссеры часто забывают об огромном
и решйющек! значении-физическЬгъ поведения актера. Они слишком полагав
ются на возможность выразить все при помощи одного только слова. Они за^
бывают, что достаточно утерять, пропустить неизбежное звено жеста,
соединяющего' чувство с речью, как вся работа актера становится мертвенной.
Они' забывают',' что немой кинематограф действительно во многих случаях
дал великолепные образцы правды в игре актера постольку, поскольку естест1
венная, непосредственная связь чувства и физического поведения
осуществлялась там полностью. Звуковой кинематограф принес с собой новую
трудность разрыва цельности существования актера и образа.
Именно здесь следует еще раз сказать об огромном значении системы
Станиславского для звукового кино. Физическое поведение актера, связанное
с его переживанием и порождающее точную, правдивую интонацию речи,
должно быть тем ключом, который ^открывает основные пути совместной работы
актера и режиссера в звуковом кинематографе. ;
Вспоминается один из первых опытов работы с актером, который должен
был заговорить с экрана.
Я начал работать над постановкой «Анны Карениной»7, которая не была
доведена до экранного воплощения в силу целого ряда объективных
обстоятельств. Я занимался с актрисой, готовившейся к роли Долли.
В качестве пробной сцены мы взяли довольно длинный монолог Долли,
встретившейся с Карениным, чтобы попробовать убедить его простить Анну.
В этой сцене, в сущности почти лишенной активного физического действия,
Долли пробует только словами растрогать сухого чиновника, всем существом
своим застывшего в традиционных предрассудках своего общества.
Ни я, ни актриса не знали сначала, как приступить к игре в этом куске, не
имея, в сущности, возможности освоить образ Долли так, как это можно было
бы сделать, работая над пьесой в целом и используя для начала более легкие
куски.
Правильный путь в работе открылся несколько неожиданно для меня,
причем хорошую службу сослужила как раз практика немого кино.
Я попробовал представить себе Долли, как женщину с выработавшейся у
нее естественной характерностью жеста. Все последние годы своей жизни
Долли связала с детской. Дети — вот кто были почти единственными ее
собеседниками. Она, как подчеркивает Толстой, потеряла связь со «светом», почти не
встречаясь с посторонними людьми.
Естественный разряд ее чувств, стало быть, связывался главным образом
с ее маленькими детьми, которых она ежедневно порицала, хвалила, толкала
на те или иные поступки. В ней должна была вырасти та непосредственная
искренность, простота и ласка, без которых немыслимо общение с ребенком.
Я представил себе Долли увлеченной искренней, глубокой потребностью
поколебать холодную убежденность сидящего перед ней Каренина и
естественно входящей в ту область привычных движений, которые обычно сопутствовали
ее беседам со своими детьми — желание привлечь к себе, вызвать необходимое
доверие, погладить по голове, может быть, поцеловать.
Все это было для Долли привычным, необходимым в общении с детьми, и
по мере того как искреннее чувство вливалось в ее речь, эти привычные жесты
должны были возникнуть, являясь первым прямым выражением ее чувств и
стремлений.
286
. Рассказав обо все этом актрисе, я предложил ей вести себя с Карениным
так, как будто бы он был ее ребенком, забыть о его возрасте, обо всем, что
отделяло его от нее, обо всем, чтр делало его непохожим на Гришу или Соню,
отдаться -непосредственно свободно рождающимся движениям, которые
отвечали бы прямой потребности жеста ласки и нежной внимательности.
Мы проделали с ней вместе странный опыт, когда Долли, не стесняясь,
говорила и ласкала Каренина, как маленького Гришу, совершившего проступок
и не понимающего своей вины. _ -~ -
. Появились те теплые, непосредственные, наивные интонации, которые
сразу же дали актрисе и мне первое ощущение жизни в роли, несмотря на внешнюю
страннрсть получившегося зрелища.
Далее наша работа перешла на следующий этап. При всей своей
взволнованности Долли все же не могла не оставаться светской женщиной, воспитанной
в условиях, предписывающих совершенно определенные формы внешнего
поведения. Как светская женщина, Долли, разумеется, не могла ни погладить
Каренина по голове, ни, тем более, поцеловать его.
Жест, непосредственно рожденный чувством, должен был встретить
препятствие, запрещающее его. Физическое поведение актрисы должно было
приобрести гораздо более сложные формы, рождающиеся из борьбы
непосредственной потребности с невозможностью ее осуществления.
Я предложил актрисе беречь найденный ею комплекс чувств и жеста, но
запретил ей свободу физического действия: наложил запрет на жест,
превращая его, таким образом, во внутренний жест, в желание его совершить и
вместе с тем в невозможность сделать это.
Дуть оказался верным. Руки Долли, тянущиеся к Каренину, чтобы
приласкать его, встречали внутренний отказ. Появилось своеобразное движение —
Долли сжимала одну руку другой, как бы сливая вместе свое желание
протянуть руку Каренину с тем, чтобы удержать в себе это желание.
Связь правдивых интонаций с внутренним ходом переживаний актрисы
сохранилась благодаря раз найденному верному жесту, хотя и превратившемуся
во внутренний. Посылы чувства легко проходили через этот верный жест,
интонационно окрашивали слово.
Когда после репетиционной работы я заглянул в роман, то вдруг по-новому
прочел ранее мной не осознанные по-настоящему строки. Вот короткая цитата,
которая еще раз убедила меня в гениальной точности описания великого
реалиста и в правдивости того режиссерского приема, с которым я попробовал
подойти к работе с говорящим киноактером: «Я не верю, не верю, не могу верить
этому,— сжимая перед собой свои костлявые руки, с энергичным жестом
проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою -руку на рукав Алексея
Александровича». - -
Вся моя работа с говорящим актером, наши совместные поиски живости
поведения актера, то есть реалистичности его игры, подтверждали, что именно
в работе над жестом, то есть первичным физическим движением, рожденным
непосредственно эмоцией, и находится та область, где техника актера должна
непрерывно совершенствоваться.
Я понял, что внимательная совместная работа режиссера с актером в области
жеста дает возможность точной и глубокой проверки правды игры.
Раз найденная связь между чувством и жестом сразу открывает перед
актером и режиссером плодотворный путь работы. Она сохраняет необходимую
287
актеру свободу, хорошее самочувствие и в конце концов живое, реалистическое
поведение во всей роли.
Нужно только сохранять в своей памяти не отдельно найденный жест? не
отдельно найденное чувство, а поддерживать постоянно существование живой
связи между ними. Тогда жест всегда вызовет чувство, а чувство будет жить
своим внешним выражением в естественном жесте.
Внешний облик актера, его мимика, движения могут быть доведены до
любых, самых ярких форм внешней выразительности, иногда требуемых
условиями театральной сцены, и будут оставаться правдивыми, если они ни на
секунду не будут отрываться от порождающего их чувства.1 -_ . .
Стало ясно, что именно пугало меня в игре театральных актеров, не
принадлежавших к школе Станиславского. Театрализованный жест был у них
сильнее чувства, а в самых тяжелых случаях штампа раз найденный жест уже
просто лишался какой бы то ни было связи с чувством.
То, что жест отрывался от чувства, во многих театрах являлось
результатом требований, которые предъявляла театральная сцена. Стремясь быть
увиденным, актер придавал своему жесту преувеличенно яркие формы, уже не
заботясь о том, чтобы сохранить его живую связь с чувством.
Для школы Станиславского характерно то, что в ней ни при каких условиях
не допускается такая дурная театрализация поведения актера на сцене, не
допускается переход выразительного жеста в эффектную позу, живой речи — в
декламацию с чисто формалистическими нажимами.
Задачей Станиславского в последних стадиях работы над ролью, когда актер
должен был переходить на большую сцену, предполагающую большое
количество отдаленных от актера зрителей, всегда являлось сохранение
реалистической связи, движения и речи.
При переносе репетиций на большую сцену Константин Сергеевич всегда
находил те пределы, в которых актер, оставаясь видимым и доходчивым до
далекого зрителя, вместе с тем не отрывал переживаемое чувство от внешнего
его выражения.
В искусстве кинематографа существует особая возможность, которая
позволяет актеру довести жест до предельной сдержанности. Верно найденное
чувство может выливаться в скупой жест, делая его особо выразительным
именно благодаря его сдержанности.
В реальной жизни поведение человека складывается из действенного
соотношения двух сил — эмоции, стремящейся к выявлению, и той волевой
сдержанности, которая организует поведение человека.
Рассматривая условно и односторонне все человеческие характеры, можно
сказать, что соотношение силы воли и силы чувства всегда присутствует как
один из определителей разнообразия характеров.
Когда воля растормаживается и эмоция выливается полностью, мы имеем
в предельном случае истерический припадок. Полное подавление эмоции волей
дает крайнюю форму невыразительности.
Реальное поведение здорового человека лежит между этими двумя точками
и определяет (разумеется, только односторонне) разнообразие человеческих
характеров, вырабатываемых жизненными условиями.
Когда актер играет на сцене, реальные условия большого зрительного зала
заставляют его растормаживать сдерживающую волю для того, чтобы стать
достаточно выразительным.
288
Реальные же условия киносъемки таковы, что актер может вести себя по
отношению к зрителю так же, как он вел себя, беседуя с рядом стоящим
человеком.
Киноактер может ничего не «показывать». Он может предоставить зрителю
возможность наблюдать себя, заботясь только о том, чтобы быть искренним,
живым в своем поведении и не думать, что нужно что-то сделать более ярким,
более сильным только для того, чтобы быть увиденным или услышанным.
Но та же особенность требует от киноактера огромного внимания и полной
правды самых тончайших внешних выражений его внутреннего состояния.
В основе литературного произведения, над которым работают совместно
режиссер и актеры и в театре и в кинематографе, то есть в основе драмы или
сценария, всегда лежит какое-то жизненное явление, раскрывающееся в форме
борьбы.
Эта борьба в сценарии или пьесе дается в наиболее выразительных
зрелищных формах.
Для того чтобы стать театральным или кинематографическим зрелищем,
каждое движение мысли и чувства должно быть доведено до его возможно более
полного и яркого выражения во вне, что и приводит актера к необходимости
привести внутреннюю жизнь героев драмы к физическим поступкам.
Идея произведения в целом и внутренние драмы каждого персонажа только
тогда становятся зрелищем, когда они находят свое прямое выражение в
физических поступках героев и их слышимой речи.
По отношению к театральному и кинематографическому зрелищу
справедливо будет сказать, что каждая мысль и чувство персонажа непременно должны
привести его к физическому действию. Речь, выражающая содержание мысли,
должна органически сливаться с физическим действием и не должна
существовать без него. Таков закон всякого выразительного зрелища — сценического или
кинематографического.
Таким образом, область физического действия, являющегося результатом
внутренней жизни актера, можно и нужно считать важнейшей, а в большинстве
случаев и решающей областью актерской работы, правдой которой должны
с самого начала заниматься актер и режиссер.
Физическое действие в жизни неизбежно целеустремленно. У него всегда
есть конкретная задача, которая принадлежит мысли действующего лица,
области его желания и воли.
Например, я могу действовать, желая избавиться от чьего-то присутствия
или желая привлечь чье-то внимание, желая окончить разговор или, наоборот,
во что бы то ни стало начать его.
Всякое физическое действие неизбежно окрашивается чувством, и это глубоко
сливает его с областью жеста, непосредственно и органически связанного, как
я уже говорил, с эмоцией и служащего мостом от эмоции к речи и к поступку.
Человек в состоянии гнева иначе возьмет предмет, иначе поставит его на
место, иначе укажет на дверь, предлагая своему собеседнику уйти с глаз долой.
Все это он сделает не так, как сделает те же самые движения человек,
подавленный горем, хотя ими обоими будет двигать одна и та же мысль — желание
избавиться от собеседника.
Рабочий, с детства трудившийся в шахтах, и пойдет и сядет не так, как
офицер, выросший в армии. Физическое поведение человека насыщено множеством
характерных особенностей, делающих его непохожим на других.
10 В. Пудовкин, т. 1
289
Можно сказать, что в поиске правды физического действия может постепенно
разрешиться весь комплекс задач, связанных с реалистическим подходом к
жизни актера в образе.
При глубоко разработанном физическом поведении актера речь, прямо
выражающая мысль, приходит уже с живой интонацией, рождаемой жестом,
окончательно завершая игру актера во всей ее живой характерности.
Вот почему Станиславский так пристально сосредоточивал внимание
именно на физическом действии, как на наиболее удобном исходном моменте в
работе актера над освоением роли.
Мне в своем творческом опыте часто приходилось сталкиваться с
непосредственными практическими подтверждениями этих установок. Одним из очень
убедительных примеров в этом плане служит для меня работа над образом
Суворова8.
Люди, встречавшиеся с ним, солдаты и офицеры, служившие под его
началом, всегда рисуют его в движении. Вспоминают Суворова, влезшего на дерево,
чтобы окинуть взглядом поле будущего сражения; вспоминают Суворова,
идущего рядом с войсками и показывающего тем самым пример мужества в
нечеловечески тяжелых переходах через снеговые перевалы Альп; Суворова,
стремительно идущего вдоль рядов выстроенных войск и поздравляющего их с
победой. С резким движением руки он выкрикивает названия взятых городов. За ним
и впереди него катится громовое «ура!».
Неукротимая энергия этого человека не оставляла его и в тяжкие годы
изгнания, когда он был, как казалось тогда, навсегда оторван от родной ему
военной деятельности. Она выражалась подчас в своеобразных формах,
казавшихся его современникам просто чудачеством. Рассказывают, например, что
семидесятилетний Суворов в изгнании играл с мальчишками в бабки и снежки,
катался со снежных гор с искренним и непосредственным азартом.
В результате, когда указ Павла вызвал его из изгнания и отдал ему в руки
русскую армию, посланную в Италию, он оказался тем же Суворовым, ясным
и точным в решениях, стремительным в их выполнении, не утратившим ни
единой капли из того, что делало его гениальным полководцем.
Когда мне пришлось знакомиться с .отрывками из речей Суворова,
сохраненными для нас его современниками, он возникал в моем воображении в
движении, с живым жестом, неотделимым от своеобразной формы речи. Вот
пример точно записанной его фразы, определяющей задачу каждого солдата в
учебе и в бою: «Выбери себе героя! Следуй за ним! Догони! Обгони! Слава тебе!»
Какая ясная образность речи, доводящая отвлеченную мысль до
конкретных, ясных зрительных представлений! Кажущаяся отрывистость фраз
органически соответствует цельности и законченности последовательных задач.
Каждое слово как бы наполнено физическим движением.
Динамика фраз Суворова настолько же относится к мысли, насколько и к
чувственному конкретному порыву человека, увлекающего других людей в
прямое физическое действие. Так командир бросается вперед, увлекая солдат
одновременно и словом и делом.
Образ Суворова складывался у меня как образ человека, внешне
необычайно выразительного, причем я очень отчетливо чувствовал, что между его
мыслью, чувством и поступками путь был чрезвычайно коротким.
Такое представление об образе Суворова ставило первым требованием
начинать работу с актером с поисков внешней характерности.
290
Помню свою первую встречу с актером Черкасовым9 в то время, когда
выбирался актер для исполнения роли Суворова. В этой первой встрече Черкасов
поразил меня своеобразием своего поведения. Посредине довольно длинного
разговора о сценарии, об образе Суворова, о тех требованиях, которые я
предъявлял к нему, Черкасову, что-то не понравилось, он вдруг решительно
встал и начал со мной прощаться, даже не объясняя причины своего
внезапного ухода. Мне стоило большого труда удержать его буквально у входной
двери и убедить продолжить наш разговор.
Решительность отчетливого вывода, который сделал Черкасов для себя из
моих слов, немедленное превращение внутреннего решения в не менее
решительный, отчетливый физический поступок, сразу же заставили меня ощутить
характер этого человека, как совпадающий в значительной мере с
великолепным темпераментом, насыщавшим иногда мгновенные, но всегда точные
действия великого полководца.
Вероятно, именно этот внезапный поступок Черкасова дал силу и
убедительность моей речи, потому что переговоры наши в конце концов пришли к
благополучному результату. Впоследствии я убедился, что выбор мой был
совершенно правильным.
Вся работа над ролью Суворова сразу встала на прочную основу, опираясь
на естественные, реальные данные актера.
Физический ритм движений, определявший походку, помогал определить
и характерность речи. Живые воспоминания современников, воспроизводившие
характерную, отрывистую и вместе с тем до предела точную, суворовскую речь,
легко воскресали в своей живой форме, связанные с найденной характерностью
его физических движений.
Мимика Черкасова — от улыбки до гнева, его жесты — от руки,
посылающей войска на неприятеля, до руки, поглаживающей собаку в сцене,
связанной с годами изгнания, свободно укладывалась в тот рисунок, который в
общих контурах органически возник в первых поисках таких, казалось бы,
общих характерных особенностей физического поведения человека, как походка.
Вся первичная работа над образом Суворова, счастливо опиравшаяся на
присущие актеру физические данные, в начальном периоде сводилась к работе
над жестом, который должен был стать для него абсолютно органичным.
Каждый раз, начиная работу с актером над будущим образом, я приходил к
заключению, что, прежде чем не нащупаешь в этом воображаемом, пока еще
строящемся образе характерных моментов физического поведения, скажем,
таких, как походка, манера сидеть, стоять, того, что в общежитии называется
манерой «держать себя», никогда не удается приблизиться к живому поведению
актера в образе.
В этих поисках приходится иметь дело прежде всего с умением ясно
вообразить себе биографию изображаемого человека.
Глубоко вкоренившиеся профессиональные привычки, связанные с
трудовой деятельностью человека, всегда играют здесь решающую роль и, как
правило, приводят к правильным первым, еще эскизным, наметкам характерного
физического поведения актера.
Изучая текст роли или отдельной сцены и работая над раскрытием ее
содержания, режиссер всегда обязан найти для каждого актера физическую
задачу, побуждающую его к физическому действию, пусть иногда даже и к такому,
которое не может быть совершено в силу препятствующих тому обстоятельств.
16*
291
Найти физическую задачу — это всегда значит найти источник для живой
реалистической игры актера, избавиться от риторики и пустой декламации в
речи, помочь актеру не просто произносить слова, а полностью жить их
содержанием.
Работу над любым куском легко начинать с работы над физическим
действием благодаря его конкретности и прямой понятности для актера. Физическим
действием актеру легко увлечься, в него легко поверить и таким образом
получить первичное ощущение свободной жизни в образе.
Когда физическая задача и связанное с ней физическое действие верно
найдены по тексту роли, они становятся прочной опорой для открытия и развития
всех выразительных форм актерской игры, от самых тонких до самых широких
и сильных.
Борьба желания совершить физическое действие с волей, удерживающей
от немедленного его совершения, неизбежно рождает у актера выразительный
жест, который в свою очередь окрашивает слово выразительной интонацией.
Одна из труднейших форм актерской игры — это монолог, речь, которую
он должен произносить без прямой поддержки своих партнеров, без тех толчков
извне, которые могли бы ему непосредственно помочь в развитии его мысли,
могли бы давать ему непосредственное ощущение связи с окружающей
действительностью. В монологе актеру легко оторваться от живого ощущения
окружающей его реальности, от людей, к которым направлена его речь (будь это
даже зрительный зал).
Все это тянет актера к пустой декламации, к слову, которое ни к кому не
обращено, не связано ни с чем, кроме его внутренних, субъективных ощущений.
В такой речи, отрываясь от своих партнеров и окружающей его воображаемой
действительности, актер может оторваться и от зрителя.
Мне часто приходилось сталкиваться с этой трудностью в работе актера,
и каждый раз мне помогало упорное стремление связать речь актера с пусть
неосуществляемыми, но все же непременно существующими потребностью и
желанием выполнить некоторую физическую задачу, связанную с живым
движением, с работой тела.
Хочется привести пример работы над одним, оказавшимся очень трудным
монологом. Помню, мы работали над речью Суворова, обращенной к солдатам
в решительный, переломный момент нечеловечески тяжелого перехода через
снеговые вершины Альп. Среди предельно измученных солдат поднялся ропот
и слышались уже отдельные голоса, требовавшие отказа от продолжения
похода. Суворов вышел к ним с твердым решением изменить общее настроение.
Он обратился к солдатам с длинной речью.
Автором сценария был написан текст, почти без изменений взятый из
материалов воспоминаний. Но оказалось, что произнести его, не впадая в чисто
риторический пафос, было очень трудно.
В первых опытах актера слова звучали то со слезливой сентиментальностью,
то с наигранным величием. Если и удавались отдельные фразы, то они никак
не связывались в целое. Глубокого увлечения, могущего создать непрерывное,
целостное наращивание эмоционального волнения актера, получить никак не
удавалось.
Очевидно, одного желания убедить солдат еще раз собраться с силами
и преодолеть кажущееся неодолимым препятствие было мало. Для актера,
игравшего Суворова, образ человека, всегда жившего прямым видением ясной
292
физической задачи и стремлением к немедленному ее осуществлению, именно
этой задачи в данном случае и не хватало. Не было ясного решения, полной
готовности к совершению конкретного ближайшего поступка.
С момента, когда это решение было найдено, работа сразу наладилась. Это-
решение было отыскано в словах, сохраненных для нас солдатской легендой:
«Похороните здесь нашу славу боевую только вместе со мной! Седины свои
позору не дам! Сдаваться не стану! Ройте мне могилу, похороните меня
здесь!»
Мы поняли, что с этими словами можно было связать прямую физическую
задачу. Актеру нужно было только поверить в то, что могила, о которой
говорил Суворов, была для него не пышной фразой, не риторическим оборотом, а
действительно ямой, которую сейчас должны вырыть по его приказанию
солдаты; ямой, в которую он действительно ляжет мертвым, прежде чем сделает
хоть малейшую уступку страху перед будущим. Актер должен был поверить,
что могила, о которой он говорит,— не условный образ, сопровождаемый
жестом, брошенным в пустое пространство, а что она здесь, что до нее несколько-
шагов.
Мы поняли, что именно это решение Суворова совершить конкретный
поступок и несло в себе основное содержание, которое можно было бы выразить
словами: «Вы всегда верили мне, и вместе с вами я неизменно приходил к
победам. Сейчас вы перестали мне верить, моя жизнь стала ненужной вам, она не
нужна и мне».
Когда актер поверил в возможное реальное действие, а не только в слова,
сразу же появилось то, что мы называем на своем языке ритмом игры,
появилась стремительная походка человека, несущего твердое решение, появился
жест четкий и точный, далекий от сентиментальной взволнованности и ложной
величавости.
Жест шел от чувства, обращенного пе к себе, а к ним, к тем, которым он
приказывал. Внутреннее решение превратилось в прямой приказ: «Ройте мне
могилу!»
Верно найденное поведение Суворова естественно родило и правильное
разрешение поведения солдат. Они не могли выполнить такого приказа, ибо не
мыслили себя без Суворова, армии без Суворова, и слова полководца как бы
раскрыли перед каждым из них предательскую сущность бунта.
Непосредственным продолжением взрыва чувства явилось бурное
физическое действие — нарушая строй, солдаты бросились к полководцу.
Найденное превращение мысли и чувства в физическое действие, таким
образом, привело к хорошим результатам не только в работе над монологом, но
и над всей сценой в целом.
Вспоминаю еще одну сцену, которую стоит привести как пример скрытого
физического действия, пример того, как желание и потребность физического
действия, сдерживаемого и подавляемого волей, дает актеру опору для
выразительной игры.
Суворов появляется перед Павлом, вызвавшим его из изгнания. Павел хочет
предложить Суворову взять на себя командование армией при условии полного
подчинения той нелепой прусской системе воспитания солдат, которая была
для Суворова невыносимой.
Суворов появляется перед императором еще глубоко взволнованным своей
встречей с войсками, изуродованными павловской псевдодисциплиной.
293
Ненависть и презрение к глупцу в короне вместе с ясным пониманием
невозможности изменить своими силами что-либо в новой глупой системе
воспитания армии диктуют Суворову единственную необходимую и желанную для
него задачу — немедленно повернуться и уйти, отказавшись от всего, что
будет ему предложено.
Но просто уйти нельзя, не позволяет субординация, внушенная с детства.
Отсюда рождается мышечная скованность, столь несвойственная Суворову,
подчеркнутая неподвижность собранного усилием воли тела, связанного борьбой
против желания повернуться к импературу спиной, подчеркнутая солдатская
неподвижность, явно искусственная и потому раздражающая Павла.
Живыми у Суворова остаются только глаза. Именно в них сосредоточивается
непосредственное отражение всего сложного хода внутренних переживаний
актера. Ирония, презрение, бешенство, смех, непрерывное развитие мысли и
чувства отражаются в этом единственном источнике, оставшемся свободным от
скованности волей.
Почти вся сцена строилась так, что говорящий Павел и редко отвечающий
Суворов снимались отдельными планами. Но в то время, как Павел появлялся
на экране во весь рост, Суворов снимался очень крупно, так что на экране
было видно только его лицо и живые, всегда говорящие глаза.
Так же, как когда-то в «Матери», в том эпизоде, когда актриса, увидев тело
убитого мужа и еще не осознав огромности своего горя, делает свой
единственный, по-детски беспомощный жест рукой, словно отмахиваясь от несчастья,
я вновь убедился, что сила прочно найденного внутреннего переживания актера,
когда убраны почти все возможности внешнего его выражения, делает этот
единственно разрешенный, скупой жест предельно выразительным. У матери
был взмах руки, у Суворова оставались только глаза.
Сцена оканчивалась неожиданным, чисто суворовским поступком. Суворов
не выдержал — потребность уйти, нараставшая в нем в течение всей сцены,
вылилась наконец в прямое, уже ничем не сдерживаемое физическое действие.
С нарочитой наивностью, превратившей это действительное событие в
анекдот, Суворов неожиданно схватывается за живот, заявляя о припадке
расстройства желудка, и попросту убегает из императорской приемной.
На первый взгляд может показаться странным предложение взять в качестве
ведущей задачи в такой сложной и богатой переживаниями сцене
анекдотический трюк с расстройством желудка. Но именно такая постановка задачи
помогла мне вместе с актером найти верный, легкий и удобный для актера путь
к настоящей, увлеченной и полноценной игре.
Потребность физического действия — уйти во что бы то ни стало —
оказалась тем ключом к внешней выразительности поведения, который позволил
связно и цельно разрешить игру всего куска.
Все, что было сказано о значении работы над физическим действием в
совместной работе режиссера и актера над ролью, сводится, таким образом, к
утверждению цельности и непрерывности в актерской игре, к ее постоянной
связанности как с внутренним миром актера, так и с внешними
обстоятельствами.
Стремление к созданию и сохранению этой цельности означает стремление
к реалистичности игры, к совпадению с той непрерывностью и
взаимозависимостью всех сторон поведения человека, которые реально существуют в
действительности.
294
Цельность и непрерывность движения в росте и развитии такого
произведения искусства, как театральный спектакль или кинокартина, должна
существовать не только в отдельных кусках или сценах.
Действия отдельных актеров движут создаваемые образы через всю пьесу
и приводят судьбу героев к завершению, скрывающему в себе конечную цель
общего движения, развития пьесы или картины и окончательную
формулировку заложенных в них идей.
Сделать это общее движение целеустремленным и непрерывным — значит-
сделать пьесу реалистичной, сделать ее прямым отражением живых
процессов действительности.
В общем целеустремленном движении действия пьесы или картины для
каждого актера должна существовать его личная основная ведущая цель, к:
которой он приходит в момент завершения пьесы.
Стремление его воли, встречающееся с обстоятельствами окружающей его
среды, то помогающей, то препятствующей достижению конечной цели,
обусловливает то, что Станиславский называл сквозным действием актера'
в пьесе.
Важнейшим требованием, которое должно быть предъявлено к
реалистическому осуществлению в актерской игре этого сквозного действия, будет
постоянная, внимательная проверка его связности, непрерывности.
Последовательность поступков должна быть такова, чтобы каждый отдельный момент-
поведения естественно возникал из предыдущего.
Для актера важно глубоко ощутить неизбежность каждого своего поступка,,
полностью обусловленного окружающими его обстоятельствами.
Для актера театра овладение органикой сквозного действия легче, чем для
актера кино. Театральный спектакль может быть проигран в порядке
репетиции целиком. Кроме того, играя в уже готовом спектакле, актер может
совершенствоваться, непосредственно находя для себя сквозную непрерывность своей
жизни в образе, проходящую через все целое пьесы.
В кинематографе чисто технические условия съемки делают эту
возможность почти неосуществимой. Репетирование сценария в целом, подобно
театральной пьесе, в подавляющем большинстве случаев невозможно. Почти всегда
репетируются лишь отдельные сцены. Во время съемки актер действует в
коротких кусках, которые должны будут превратиться в целое роли только после
окончания всей работы, в процессе монтажа, то есть склейки отдельно снятых
кусков в целую, непрерывную ленту.
Съемка отдельных кусков в большинстве случаев производится
беспорядочно в силу множества чисто технических условий, связанных главным образом
с экономным отношением к денежным затратам, которые в киноискусстве
чрезвычайно велики.
Если съемочная группа выезжает в экспедицию, ей приходится работать
в этот период съемки над всеми сценами, связанными с данной местностью,
независимо от того, играет актер начало, конец или середину роли. Часто актер,
находящийся в экспедиции, играет непосредственное продолжение того куска,
который будет сниматься только впоследствии, когда будет построена
соответствующая декорация в ателье.
При постановке «Адмирала Нахимова» актеру А. Дикому10 пришлось
сталкиваться с такими съемками в течение всего времени работы на корабле,
плававшем в Черном море.
295
Но вместе с тем глубокая и внимательная работа над вскрытием и
реализацией сквозного действия, о котором так много говорил Станиславский,
необходима для актера кино в такой же степени, как и для актера театра, как и
вообще для любого художника в любой области искусства.
Нужно помнить, что правильно найденное сквозное действие прежде
всего помогает раскрыть идейное содержание, связанное с данным образом. Но
вместе с тем это не только отвлеченное понятие, не только ориентирующая
сила, дающая направление последовательным поступкам актера в течение
пьесы.
Сквозное действие должно иметь отчетливо выраженную форму. Оно
должно иметь свои моменты спада и подъема, ведущие к конечной кульминации. Оно
должно быть целостным и непрерывным.
Актер может увлечься отдельным куском своей роли. Развязанная сила
темперамента может заставить его дать в какой-либо сцене, лежащей в начале
картины, такие яркие краски, что они уже не оставят возможности для еще более
мощного разворота внутренних сил, необходимого в конечной
кульминационной точке роли.
Эту опасность знает каждый певец. Для того чтобы выдержать финальное
форте, он должен заботливо сдерживать силу своего голоса в подходе к этому
форте.
Чувство целого, ясное представление постепенного хода развития образа
необходимо и для актеров театра и для актеров кино.
Но в кинематографе сохранение целостности и непрерывности развития
жизни актерского образа ложится в значительной мере на режиссера.
Оно требует, во-первых, полноценной работы воображения, умеющего
всегда воспроизвести всю будущую картину в ее целом, не в виде отвлеченных
положений и задач, а в виде живых, зримых и слышимых сцен; во-вторых,
безукоризненной образной памяти, позволяющей удерживать в живых
представлениях все, что было уже сыграно актером.
Только обладая этими способностями и постоянно развивая их, режиссер
кино сможет помогать актеру в той сложной обстановке киносъемочной работы,
которая заставляет актера играть разрозненные куски роли без
непосредственного ощущения их естественной последовательности.
Помню, как, снимая картину «Мать», я сознательно начал работу с
финального куска картины, требовавшего максимального напряжения сил актрисы.
Это был тот кусок, где мать, оторвавшись от тела убитого сына, поднимает над
головой красное знамя и идет навстречу несущейся на нее лавине озверевших
казаков.
Эта съемка обозначала и для меня и для актрисы самую высокую точку роли.
В дальнейшей работе и в начале и в середине картины встречались сцены,
требовавшие от актрисы большого внутреннего подъема. В сцене суда, когда мать
слышит жестокий приговор, посылающий сына на каторжные работы, она
поднимается, потрясенная великим гневом. Вслед за ее крупно снятым во весь
экран лицом вспыхивает надпись: «Правда где?»
Было ясно, что этот кусок нельзя делать равным по силе своей внешней
выразительности с финальным куском, и думаю, что я был прав, когда волей
режиссера сдержал степень взрыва темперамента актрисы.
Я сделал это тем более уверенно, что имел возможность увидеть вместе с
актрисой на экране уже снятые куски ее игры в финале.
296
Задача сохранения цельности и целеустремленности сквозного действия
каждого актера, нахождения отчетливых его форм, обусловливающих
наибольшую выразительность, должна, как я уже говорил, связываться с
закономерным течением и развитием всей пьесы или сценария, включающих в себя
игру всех актеров.
В этой необходимой работе вступает в силу решающая роль ведущих идей
пьесы или сценария, то есть глубокое идеологическое содержание реализуемого
произведения искусства.
Станиславский называет конечный вывод, к которому стремится идейное
содержание пьесы, ее сверхзадачей.
Сверхзадача должна непременно существовать в каждом истинном
произведении искусства. В пьесе или сценарии ей должны быть подчинены в конечном
счете все движения, все поступки действующих лиц.
Поверхностность, неспособность художника проникнуть в глубину
наблюдаемого им явления порождали и порождают в искусстве все недостатки и
уродливости натурализма, означающего изображение только внешних сторон
жизни и создающего в результате коллекцию мертвых копий живых процессов.
Та же неспособность художника охватить жизненное явление в целом,
понять его во всех живых связях с громадными, всеобъемлющими процессами
общественной жизни всегда приводила и будет приводить художника к
формалистическим искажениям действительности, носящим, как это указал товарищ
Жданов в своем выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК
ВКП(б), «ярко выраженный антинародный характер»11.
Мир, изображаемый формалистами,— однобокий, уродливый мир, в
котором субъективный «вкус» художника раздувает, уродливо преувеличивает
какую-нибудь одну сторону действительности и делает ее главной, в сущности,
только потому, что художник ошибочно или с целью искажения
действительности ограничивает себя показом именно этой одной ее стороны.
В искусстве актера и режиссера формализм особенно страшен. Он может
дать на сцене и на экране живые примеры уродливого поведения человека.
Заразительная сила талантливой актерской игры, лишенной глубокого
идейного содержания, может в самом буквальном смысле этих слов разложить и
изуродовать сознание зрителя сильнее, чем какой-либо другой вид искусства.
Только реализм, стремящийся к полному отображению действительности
во всем ее богатстве, способен стать искусством, не разрушающим, а
помогающим творческой, созидательной работе человечества.
Художник-реалист отображает жизнь не для того, чтобы создать ее
мертвую копию, не для того, чтобы упереться в одну из сторон и создать из нее
препятствия, заслоняющие целое. Он стремится отобразить жизнь прежде всего
как единый, связанный и неизбежно целеустремленный процесс.
Понимание целей, лежащих в будущем, для художника-реалиста
необходимо потому, что всякое жизненное явление всегда развивается в определенном
направлении, независимо от субъективных вкусов наблюдателя.
Для художника-реалиста понять явление — значит увидеть направление,,
в котором оно развивается, узнать и понять законы, которые управляют этим
развитием, ясно увидеть все стороны явления в их общей связности, то есть
охватить это явление в его действительной, неразрывной цельности.
Отображая жизнь в ее цельности и неразрывном движении,
художник-реалист не отрывает зрителя от действительности, а, наоборот, помогает глубже*
297
и точнее разобраться в ней, побуждает человеческую волю и разум к
творческой деятельности, не к бесплодному созерцанию выдуманного мира, а к
практической переделке мира живого и действительного.
Реалистическое искусство становится, таким образом, активным и
плодотворным участником общего творческого труда человечества.
Именно к такому реалистическому искусству и прокладывал пути
Станиславский, открывая реальные, живые закономерности, лежащие в основе
поведения актера на сцене, и создавая, таким образом, свой метод воспитательной
работы.
Учение, ведущее актера от практических поисков живой связи своего
личного и внутреннего мира с чувствами и поступками намечаемого образа к
ясному пониманию тех конечных целей, которые должны дать играемому образу
'естественное, реалистическое, жизненно полнокровное развитие, и, наконец,
к совместному стремлению всего ансамбля играющих актеров к разрешению
идейного содержания всей пьесы в целом, определяет Станиславского как
художника, целиком проникнутого духом реалистического искусства.
В нашей стране, в первом в-истории человечества социалистическом
обществе, искусство, естественно, складывалось и существует как часть общей
созидательной трудовой деятельности народа.
В частности, кинематограф развивался в особо тесной связи с ростом
общественной мысли и общественного созидательного труда.
Школа Станиславского, его метод работы с актером, его взгляды на
сущность режиссерского творчества, на цели искусства не могли не вылиться в
глубоко реалистическую природу киноискусства.
В своей книге «К. С. Станиславский на репетиции». В. Топорков приводит
замечательные слова Константина Сергеевича о высоком искусстве:
«Чем больше я занимаюсь вопросами нашего искусства,— сказал однажды
Станиславский,— тем в более краткие формулы укладывается мое определение
высокого искусства. Если вы спросите меня, как я его определяю, я вам
отвечу: «Это такое искусство, в котором есть сверхзадача и
сквозное действие. А плохое искусство — где нет сверхзадачи и сквозного
действия».
«Это говорит о том,— в свою очередь прибавляет Топорков,— что главным
требованием к искусству у Станиславского было требование идейности его
содержания».
В советском искусстве понятие реализма получило свое дальнейшее
развитие и создало новое, глубокое, всеобъемлющее понятие социалистического
реализма, то есть такого искусства, которое сознательно ставит своей целью
«знать жизнь, чтобы уметь ее правдиво изобразить в художественных
произведениях, изобразить не схоластически, не мертво, не просто как
«объективную реальность», а изобразить действительность в ее революционном
развитии.
При этом правдивость и творческая конкретность художественного
изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания
трудящихся людей в духе социализма».
Каждый из нас по личному опыту уже точно знает, что безыдейность,
субъективная вкусовщина, формалистические выверты, отрыв от общей народной
жизни, от творческой общенародной деятельности означают смерть искусства
и гибель таланта художника.
298
То, что Станиславский условно называет абстрактным термином
сверхзадача, стало для нас вполне конкретной частью практической
общественной деятельности.
Когда, работая над первым вариантом «Адмирала Нахимова», я потерпел
неудачу, партия разъяснила мне неверно понятую, а следовательно, и
неверно разрешенную сверхзадачу картины12.
Относясь поверхностно к главной цели — показать народу Нахимова как
великого флотоводца, определившего развитие русского военного флота на
далекие годы вперед,— я увлекся выдумкой фактически не существовавших
моментов его частной жизни только потому, что хотел сделать картину внешне
занимательной.
Всю переделку картины мы решили повести не по пути частных мелких
исправлений, а путем поворота направления всего действия картины в целом.
Мы не только выбрасывали ставшее ненужным, но и снимали совершенно
новые сцены, кардинально изменявшие образ Нахимова, и сумели в конце
концов правильно поставить и разрешить сверхзадачу.
Когда мы приступили к работе над последней картиной — об отце русской
авиации Жуковском13, мы знали, что труднейшая задача рассказа зрителю
о жизни и работе творца аэродинамики может быть разрешена более или менее
успешно только в том случае, если мы твердо возьмем на прицел конечную цель
всей картины.
Нам казалось самым важным передать зрителю суть и смысл
математической работы Жуковского так, чтобы его значение в развитии русской и мировой
авиации было не просто упоминанием факта, а раскрытием действительной,
реальной картины мощи русской научной мысли.
Общей целью всей картины должно было явиться прямое участие
кинокартины в важнейшем деле проведения в широкие народные массы научных
знаний, не искаженных псевдопопуляризаторским упрощением.
Ясно понятая и прочно утвержденная нами идейная устремленность
картины — сверхзадача — неизбежно помогала нам в разрешении, всех
частных задач. Не только трактовка характеров действующих лиц, но и
выделение, подчеркивание их отдельных черт подчинялось у нас главной цели —
разъяснить содержание, величие и точность творческой мысли гениального
математика, соединявшего теорию и практику в мощную силу, создавшую в
конце концов то, что мы называем сейчас лучшей в мире советской авиацией.
Может показаться на первый взгляд, что те общие задачи, связанные с
идейной направленностью пьесы или сценария, о которых я говорил, должны
принадлежать только литературному таланту автора сценария или пьесы.
На практике это оказывается далеко не верным. Снова приходится говорить
о необходимой цельности реалистического произведения искусства, о том, что
идея картины должна, в сущности, быть движущей силой каждой сцены, жить
в каждой детали.
Это может быть достигнуто только тогда, когда вся роль, вся картина всегда
ощущается режиссером и актерами как цельное, непрерывное движение,
когда в этом движении нет разрывов ни между чувством и жестом любого актера,
ни между жестом и речью, ни между текстом и лежащей внутри его мыслью,
превращающейся в физическое действие, ни между физическим действием и его
прямой целью — его физическим объектом, ни между этой частной целью и
общей главной целью, к которой направлено все действие в целом.
299
Такие разрывы могут встречаться даже в очень талантливых пьесах или
сценариях, написанных на бумаге. Эти разрывы обнаруживаются иногда при
прямом испытании живым опытом репетирующего актера и внимательным
наблюдением режиссера-реалиста, являющегося как бы первым зрителем будущего
спектакля или картины.
В работе над спектаклем или кинокартиной могут быть два случая: либо
режиссер и актер отыскивают скрытую, но действительно существующую в
сцене жизненную правду, либо они вносят неизбежное и необходимое для
плодотворной работы направление, подсказанное их чутьем к правде, воспитанным
практическим опытом реалистической игры. И в том и в другом случае
необходим ясный и отчетливый метод в работе.
Этот метод был открыт и начат в прямом его практическом осуществлении
Станиславским в области театрального искусства.
В искусстве кинематографа он получил огромные новые возможности для
своего плодотворного развития.
Великий художник-реалист, исследователь и педагог Константин
Сергеевич Станиславский шел по верному пути, на котором благородные
реалистические тенденции русского искусства превращаются теперь в живую практику
нового широкого течения, называемого социалистическим реализмом.
1952 г.
О творческом
воспитании
Успех всякого подлинного произведения искусства решает талант.
Произведение, в котором не чувствуется таланта автора, находится вне пределов
искусства. Но талант — это только движущая сила, и она может быть растрачена
впустую, если художник не найдет ей правильной точки приложения, не
сумеет верно направить.
А чтобы драгоценная сила таланта была целенаправленна, чтобы она из
личного достояния художника превратилась в общенародное богатство, всякий
талант должен быть воспитан.
Понять это могут, конечно, и в капиталистической стране. Однако условия,
существующие там, таковы, что талант вынужден сам пробивать себе дорогу:
в буржуазном обществе его не растят, не воспитывают, а покупают.
Непризнанный, погибший талант — такова типичная для капитализма судьба людей
искусства.
Только в нашей стране воспитание таланта стало предметом особой заботы
государства. У нас перед всеми талантливыми людьми открывается широкая
дорога. Партия и государство указывают им путь, помогают стать
общественными деятелями, участниками процесса созидания общенародной культуры.
Решающим в воспитании советского художника является ясное понимание
им своих общественных задач, которое дается изучением марксизма-ленинизма.
Только в нашей стране актеры получают высшее образование, включающее
в себя обширный комплекс научных дисциплин.
Воспитание, которое дает наше государство молодым актерам, высокий
уровень получаемых знаний не только помогают им, но и накладывают серьезные
обязанности.
Талант не рождается в школе. Школа может только раскрыть талант, помочь
ему развиться. Но для настоящего, большого художника школа не кончается
получением диплома. Пройдя курс учения, актер обычно не обладает еще
глубоким знанием жизни, не знает своих возможностей. Жизненный и
профессиональный опыт будет накапливаться с годами, постепенно. И чем крупнее
художник, тем дольше он сохраняет способность учиться, расти.
В конце своей замечательной книги «Моя жизнь в искусстве» Станиславский
говорит: «Когда я оглядываюсь теперь на пройденный путь, на всю мою жизнь
в искусстве, мне хочется сравнить себя с золотоискателем, которому сперва.
301
приходится долго странствовать по непроходимым дебрям, чтобы открыть
места нахождения золотой руды, а потом промывать сотни пудов песку и камней,
чтобы выделить несколько крупинок благородного металла».
Так подводит итоги своей работы в искусстве настоящий большой художник.
Станиславский умел пронести до конца своей жизни тот творческий огонь,
который не только давал ему возможность создавать замечательные
произведения искусства, но и толкал его все время к накоплению новых и новых знаний,
к отысканию новых и новых путей, к постоянной переоценке и критике
достигнутого.
Верно направленный школой, ясно понимающий цели своей работы, неуто-
мимо впитывающий в себя живую жизнь, приобретающий все новые и новые
знания, талантливый человек сможет создать ценности в искусстве и тем внести
вклад в развитие культуры страны.
Первые шаги молодого актера являются для него самыми ответственными.
Я бы сказал, что первые две-три роли обычно определяют, насколько он может
и хочет идти вперед. Для настоящего художника, особенно в кинематсграфе,
именно первые роли могут в будущем стать опорой взыскательного отношения
к своему творчеству и помогать в наметке новых путей.
Актер при первых выступлениях должен использовать поддержку, которую
ему оказывает уже не преподаватель, а зритель.
Отклик зрителя — это важнейшее, серьезнейшее испытание художника.
Нигде зритель не воспринимает так остро всякую фальшь, как в
кинематографе. Более того, в результате почти предельного приближения к актеру,
возможного только в кинематографе, зритель безошибочно угадывает внутреннее
содержание не только образа, но и самого актера, его воплощающего.
Культура киноактера или, наоборот, его некультурность, его жизненный
опыт, полнота или скудость его духовного мира, способность любить и
ненавидеть или равнодушие холодного созерцания — словом, все, что определяет,
богата или бедна внутренняя жизнь человека, будет — хочет того актер или
не хочет — распознано зрителями по тончайшим внешним проявлениям игры,
главным образом по его глазам.
Правда актерской игры связана с правдой внутреннего мира актера. В
кинематографе эти две правды живут рядом.
При передаче зрителю правды экранного образа решающим порой является
не поступок и не слово героя, а именно та проверка человека с глазу на глаз,
которая не так часто бывает в жизни, а в кинематографе с его крупным планом
существует как один из сильнейших приемов донесения правды внутренней
жизни актеров. В кинематографе не существует возможности обмануть зрителя
внешними приемами игры, которые все же встречаются на театральных
подмостках.
Богатство внутреннего содержания человека накапливается не столько в
результате увеличения количества событий, в которых он был участником или
зрителем, сколько за счет глубины их переживания и понимания. Это
углубленное понимание приходит с годами, как итог наслаивающихся воспоминаний
пережитого, итог личного внимательного, пристального наблюдения за жизнью,
наконец, как итог изучения опыта человечества, сохраненного в великих
творениях искусства и литературы.
Богатство внутренней жизни никогда не бывает достаточным. Оно должно
все время расти — и никогда не остается оно незамеченным зрителями.
302
Как только актер остановится в своем внутреннем росте, как только его
тронет яд успокоения, уверенности в том, что он уже все может и знает,
неизбежно изменяется сила и убедительность его игры.
Экран сразу раскроет его оскудевшее содержание, как потухшие глаза и
морщины раскрывают наступающую дряхлость человека.
Если человеку пришлось многое пережить и перечувствовать еще до того,
как он стал актером, это богатство жизни всегда скажется в его работах в
искусстве.
Во всех ролях, которые сыграл Сергей Бондарчук1, чувствуется большое
актерское обаяние. Неотделимыми от этого обаяния являются именно
вдумчивость Бондарчука, глубина и серьезность жизненного содержания, отраженные
в его глазах.
Любопытно, что роли молодых людей ему удаются меньше, чем роли людей,
в которых зритель ощущает жизненный опыт актера. Тутаринов в «Кавалере
Золотой Звезды» менее интересен, чем даже Валько в «Молодой гвардии», и еще
менее, чем Шевченко. И даже в пределах этой одной роли Бондарчук менее
впечатляет в образе молодого Шевченко, чем в образе зрелого и пожилого
человека.
А ведь Бондарчук еще молодой человек, ровесник Тутаринова, и внешне
он выглядит совсем молодым.
Не подлежит сомнению, что существенную, если не решающую роль в
актерских удачах Бондарчука играет не только прекрасная школа, выработавшая
большое профессиональное мастерство, но и характерная биография актера,
предшествовавшая обучению в институте кинематографии.
Ребенком Бондарчук видел большую и трудную жизнь и работу своего
отца — рабочего таганрогского завода, в годы коллективизации посланного
партией в Ейский район на борьбу с кулачеством и ставшего там председателем
колхоза. Сам Бондарчук участвовал в Отечественной войне. У него была жизнь,
богатая событиями, он их пережил, запомнил, многое понял и осознал.
Конечно, не у всякого молодого человека объективные обстоятельства
складываются так, что он уже в самом юном возрасте приобретает богатый
жизненный опыт. Для многих, вернее, даже для большинства накопление жизненного
опыта, рост внутреннего богатства начинаются позже и являются важнейшей
задачей их повседневной самостоятельной деятельности.
Какими же путями идти к знанию жизни молодому человеку, у которого нет
за плечами богатой событиями биографии? Очевидно, он должен сознательно
идти теми путями, которые на долю других иной раз выпадают случайно.
Как человек, любящий свою Родину, идет на войну добровольцем, так и
художник, которому дорога правда его искусства, должен не по призыву, не
дожидаясь того, как сложатся обстоятельства, а по личному почину смело
входить в гущу жизненных событий и стараться активно в них участвовать.
По выходе из школы актеру надо стать хозяином собственной биографии
и помнить, что без обогащения своего жизненного опыта ему не прийти к
большой, настоящей правде создаваемых образов. Роли, которые он будет
стремиться создавать только на основе профессиональной техники, может быть, будут
в лучшем случае занимательными, но никогда не завоюют сердце зрителя,
никогда не дадут актеру возможности достигнуть вершин творческой работы.
Путь к изображению жизни лежит через глубины самой жизни, и нельзя
всю огромную работу переживания, наблюдения, сочувствования оставлять
303
на долю автора и режиссера, а самому актеру только технически изображать то,
что найдено и пережито другими.
И если актер, как это часто заявляют, действительно хочет стать решающим
фактором спектакля или фильма, ему надо помнить, что право на это он должен
приобретать не только своими способностями к профессиональной игре, но той
степенью знания и понимания жизни, которая только и может осветить,
углубить любую роль, наполнить творимый образ подлинной правдой.
Истинный художник не просто наблюдает любое событие — он переживает
его. Без эмоционального восприятия жизни художник не существует.
Но эмоции вырастают, приобретают силу и возможности выражения в
художественном образе только на основе жизненного опыта актера.
Художник, в особенности актер, должен обладать способностью к страстной
наблюдательности, то есть наблюдательности, обогащенной переживанием.
Для того чтобы изобразить что-то в искусстве с силой и убедительностью,
нужно полюбить или возненавидеть изображаемое, а для этого нужно его
узнать полностью, узнать до таких глубин, пока не почувствуешь, что либо
полюбил, либо отверг.
Именно в этой страстной наблюдательности скрыты все возможности
создания ярких образов, положительных или отрицательных.
Наблюдать нашу жизнь во всем богатстве ее проявления, и не просто
наблюдать любопытные, интересные события, встречаться с людьми, изучать их
поступки, а постоянно стремиться осознать, понять, углубиться в причины
этих поступков, кроющихся как в характерах людей, так и в общественных
условиях жизни, складывающих эти характеры,— это значит искать
типическое, проникать в самую суть, в движение нашей жизни.
Эту страстную наблюдательность особенно важно выработать в себе
молодежи, потому что она находится в том периоде роста, когда все приобретаемое
органически, глубоко запоминается всем существом.
Известно, что иностранный язык, выученный в детстве, очень прочно
усваивается человеком, а изучение в зрелом возрасте дается с гораздо большим
трудом.
То же самое происходит и с непосредственными жизненными
впечатлениями. В зрелом возрасте они проникают в сознание с трудом и не так
запоминаются; в молодости же бывают богаче, сильнее и прочнее.
Вот почему всю энергию молодости актеру следует бросать на это жадное
питание себя жизнью и не жалеть на это времени и сил. Не следует стремиться
как можно скорее сыграть большую роль. Куда важнее вобрать в себя как
можно больше жизненного опыта, работая даже над незначительной ролью.
В кинематографе это особенно важно, потому что даже маленький эпизод
может стать настоящим актерским достижением. В фильме «Возвращение
Василия Бортникова» Нонна Мордюкова2 сыграла крошечный эпизод с большой
силой убедительности и высоким актерским темпераментом. Она выросла в
колхозе и свое глубокое знание крестьянской жизни принесла в эту небольшую
роль. А если бы ей пришлось в таком же маленьком эпизоде играть не
колхозную трактористку, а, скажем, научного работника, ей нужно было бы собрать
и впитать в себя как можно больше новых впечатлений, которые обогатили бы
ее так же, как обогатило ее детство для образа трактористки.
Это положение, конечно, действительно по отношению к каждому актеру
любого возраста. Но если пожилому приходится работать над изучением жизни
304
лишь в скромную меру его возрастных возможностей, то молодой должен
отдавать этому изучению большую часть своих свежих сил.
Пусть даже многое из того, что он узнает, с чем познакомится, не будет им
непосредственно использовано в данной небольшой роли, но все накопленное
пойдет впрок. Такая работа и будет той большой школой, школой высшего
мастерства, о которой нельзя забывать, если хочешь расти.
Кинематограф необычайно помогает актеру в изучении жизни тем, что
картины (за исключением, может быть, только исторических), как правило,
снимаются в том месте, где происходит действие по сценарию. В киноэкспедициях
люди попадают в живую среду, в окружение тех людей, которых изображают.
Но встретить любопытный человеческий характер, записать его в своей
внутренней памяти — это только часть большого дела и к тому же не очень
значительная. Разобраться же в том, как сложился этот характер в нашей
действительности, почему он стал таким, а не другим, каково его будущее,
зависящее не только от самого носителя этого характера, но также и от условий
жизни, в которых он находится и будет находиться,— это значит завершить
большую работу проникновения художника в создаваемый образ.
Превосходный педагог С. Герасимов3 очень правильно понял, как важно
для молодого актера накапливать жизненный опыт, обогащать создаваемый им
образ в результате прикосновения к действительности, погружаться в
атмосферу, в которой этот образ вырастал.
По рассказам актеров, участников фильма «Молодая гвардия»4, об
экспедиции в Краснодон, где они прожили несколько месяцев, по волнению, с
которым они говорили о встречах с родными и близкими молодогвардейцев, можно
понять, какое громадное значение имели для молодых актеров впечатления
этого прямого столкновения с жизнью своих героев. Живые и непосредственные
впечатления стали основой правды экранных образов.
Постановка «Молодая гвардия», начатая еще как учебная и законченная
как дипломная работа выпускников ВГИКа, может и должна служить
конкретным примером того, как нужно работать и в будущем со студентами актерского
факультета.
Правильность педагогической системы герасимовской школы
подтвердилась и значительным количеством хороших киноактеров, которых дал этот
выпуск. С первых шагов своей самостоятельной работы личная одаренность,
талант этих молодых актеров были верно направлены не по линии
профессионально-исполнительской, а именно по линии творческой, связанной с
глубоким освоением и пониманием жизни. Дальнейшая судьба каждого зависит от
того, насколько он твердо и убежденно будет продолжать верно начатый путь
в искусстве.
Я говорил здесь только о том, как может актер обогатить свой внутренний
мир, повысить свою внутреннюю культуру, получить право играть роль. Мне
хочется прибавить еще несколько слов об общении со зрителем, о передаче ему
того, что хочет сказать актер в образе.
Когда-то Горький в отзыве о пьесе начинающего драматурга сказал: «А
писать нужно просто, как будто беседуя по душе с милейшим другом, с лучшим
человеком, от которого ничего не хочется скрыть, который все поймет, все
оценит с полуслова».
Здесь Горький с гениальной точностью определяет природу истинно
художественного творчества.
305
Задача искусства заключается в поучении и воспитании людей, и решать
ее нужно через глубокое общение с людьми. Самый страшный враг искусства —
любая форма резонерства, то есть форма холодного, рассудочного общения с
человеком.
Если художник заботится не о том, как бы выразиться поинтересней,
пооригинальней, непохоже на других, а стремится лишь передать во всей полноте
свое понимание и свое чувство так, будто он обращается к очень дорогому для
него человеку, непонимание которого принесло бы ему обиду, а несогласие с
которым для него недопустимо, значит, художник любит не только созданный им
образ, но и своего читателя, зрителя.
Когда любишь человека, не сомневаешься в нем. Веришь в тонкость его
натуры, в его способность все понять и хочешь лишь заставить его не только
понять рассказанное, но и пережить вместе с тобой, а для этого невольно
мобилизуешь все свои внутренние силы. Такая мобилизация внутренних сил,
вероятно, и есть обаяние.
Ошибочно думать, будто актер должен только изображать. Ему нужно
еще заставить зрителя — самого дорогого для него человека — это изображение
смотреть и запоминать; нужно выработать такое отношение к зрителю, какое
было у Горького к читателю. И тогда актер будет подмечать каждую свою
неточность, будет воспринимать ее болезненно, потому что его неправильно
может понять близкий ему человек.
Советские актеры должны стать поэтами той действительности, которую
изображают. А истинные поэты всегда любят и ненавидят. Потому-то актер и
должен участвовать в жизни, накопляя в себе чувства ненависти,к плохому и
.любви к прекрасному.
1952 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
«Шахматная горячка»
(Сценарий)
«Потомок Чингис-хана»
(Режиссерский план)
«Смоленская дорога»
(Литературный сценарий)
Шахматная горячка
(Сценарий)
1. В кадре, наполовину задиафрагмированном с левой стороны, половина
фигуры: черный лакированный ботинок, рука человека, одетого в черный
костюм, передвинула хищническим хватом черного ферзя. Постукивают пальцы
по столу.
2. В кадре, наполовину задиафрагмированном с правой стороны, половина
фигуры: нога без ботинка, рука в белой рубашке переставила белую туру.
3. Замедленная съемка. Сцена 1-я.
4. Замедленная съемка. Сцена 2-я.
5. Надпись: ИГРА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ...
6. Общий план. Галадрев в одном ботинке, надев пиджак на одну руку,
перебегает от одной стороны стола к другой, делая ходы то белыми, то черными.
Немного замедленная съемка.
7. Крупно. Озадаченный Галадрев. Робкий ход белыми: слегка подвинул
пешку.
8. Галадрев проходит по комнате, за ним волочится шнурок, за которым
бегает котенок.
9. Крупно. Саркастический Галадрев. Делает ход черными—не ход, а удар
рапирой.
10. Котенок тянет шнурок. Оторвал.
11. Галадрев бежит за котенком.
12. Котенок взобрался на карниз. На конце шнурка привязана записка.
Галадрев берет ее. Разворачивает.
2-й вариант сцен 10—12.
10. Крупно. Сиденье стула. На нем любовно выглаженный стоячий
воротничок, аккуратно сложены брюки.
11. Общий план. Галадрев задумался, стоя у стола. Неожиданно быстро
сел на стул. Вскочил.
12. Крупно. Руки разглаживают помятый воротничок. Вынимают записку.
13. Текст записки. Надпись: КАК БЫ НЕ ЗАБЫТЬ. МОЯ СВАДЬБА
СЕГОДНЯ В 12 ЧАСОВ...
14. Галадрев мечется по комнате. Подбежал к столу.
15. Замедленная съемка. Сцена 7-я.
309
16. Замедленная съемка. Сцена 9-я.
17. Крупно. Руки берут ботинок, постепенно натягивают его. Нога не
лезет; засунул руку, вытянул из ботинка белого котенка. Швырнул.
18. В углу на подстилке кошка. Упал белый котенок. Кошка его
облизывает.
19. Галадрев натягивает второй рукав пиджака — из нижнего отверстия
рукава вылезает черный котенок.
20. У зеркала. Завязывание шахматного галстука. Завязывание не
спорится. Галадрев закручивает до конца один конец галстука и получившуюся
«бомбу» прикалывает булавкой.
21. Надевает пальто. Засунул руки в карманы. Вынул из каждого кармана
по котенку.
22. Рука осторожно вынимает неизбежного котенка из шляпы, но
вытягивает только подкладку.
23. У зеркала. Галадрев отряхивает пылинки с рукава шахматным носовым
платком.
24. Взял с подзеркальника лупу. Рассматривает в лупу пылинку. Смахнул
платком.
25. Крупно. Руки раскрывают папиросную коробку, на которой портрет
Капабланки и надпись: «Папиросы «Капабланка». 1-й сорт».
26. Дверь на улицу. Галадрев открыл ее. Отражение Галадрева в двери.
Он смотрит в него, сощелкивает пылинку.
27. Надпись: ШАХ.
28. Выходит из двери — немедленное столкновение с грузчиком, несущим
куль муки. Куль падает. Галадрев в муке.
29. Крупно. Лицо извергающего проклятия грузчика.
30. Надпись: МАТ.
31. Галадрев снял пальто и вытряхивает из него муку на проходящих.
32. Комната наполнена дымом. В кадре неясные очертания двух сидящих
за столом фигур.
33. Коридор. Галадрев открыл дверь. Из комнаты повалил дым. Галадрев
отскочил.
34. Кашляет. Задумался. Вынул папиросу. Закурил. Открыл дверь. Смело
входит, не обращая внимания на дым.
35. Галадрев ощупью бредет в дыму по комнате.
36. Крупно. Рука наткнулась на стекло. Разбила его.
37. Окно. Валит дым.
38. Просветлевшая комната. Двое юнцов с сигарами а-ля Ласкер. Один
сидит на спинке кресла, другой — глубоко в кресле. На столе шахматы.
39. Надпись: — СЕЙЧАС ЖЕ ИДЕМ В ЗАГС — ВЫ БУДЕТЕ МОИМИ
СВИДЕТЕЛЯМИ... У МЕНЯ НЕТ НИ СЕКУНДЫ ВРЕМЕНИ.
40. Галадрев теребит сидящего на спинке кресла и неожиданно садится
в другое кресло и делает ход.
41. Галадрев снимает пальто, делает уничтожающий ход.
42. Надпись: ЧЕРЕЗ ЧАС.
43. Галадрев снимает пиджак. Кадр заволокло дымом.
44. Галадрев вынул папиросы «Капабланка». Держит записку. Вскочил.
45. Галадрев выбегает из комнаты, одеваясь на ходу. Из двери вслед за
ним облако дыма.
310
46. Галадрев идет мимо магазина — в витрине выставлены шахматные
доски. Он остановился на момент, потом зашагал быстрее.
47. Проходит мимо двери магазина. Его втягивает в дверь — идет задом.
(Обратная съемка),
48. Галадрев выходит из магазина — карманы распухли.
49. Надпись: ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК - РЕЗУЛЬТАТЫ XIII ТУРА.
50. Галадрев покупает у мальчишки бюллетень.
51. Крупно. Галадрев читает бюллетень. Порыв ветра вырывает листок из
его рук.
52. Галадрев покупает бюллетень у другого мальчишки.
53. Сцена 51-я.
54. Сцена 52-я.
55. Галадрев подошел к расклейщице афиш. Намазал бюллетень
клейстером.
56. Крупно, Спина мужчины в шубе. Галадрев наклеил бюллетень. Шагает
за мужчиной нога в ногу, засунув руки в карманы.
57. Мужчина-столб идет, читая бюллетень. Ветер вырвал бюллетень...
58. Мужчина бежит. За ним — Галадрев. Читает, водя пальцами по
строкам.
59. Надпись: ...АНАЛИЗ ПАРТИИ ТОРЕ — ЛАСКЕ Р.
60. Галадрев бежит за мужчиной-столбом. Читает вслух.
61. Крупно. Лицо Галадрева. Он читает. Отрывается от чтения, делает
комментарии.
62. Крупный план. Улыбка на лице мужчины-столба. Слушает, делает
замечания.
63. Пустынная улица. Галадрев остановился. Оглядывается по сторонам.
64. Надпись: ОПОЗДАЛ.
65. Замедленная съемка. Галадрев мчится посредине мостовой.
66. Галадрев обогнал автобус.
67. Обогнал мотоциклет.
68. Останавливается, ухватившись за столб. Вертится вокруг столба по
инерции.
69. Бежит обратно, забегает в парадный ход.
70. Верочка перед трельяжем. Плачет, пудрится, слезы текут, она опять
пудрится.
71. Щель в дверях. Просовывается два пальца.
72. Крупно. Улыбка на лице Верочки.
73. В щель двери просовывается лицо Галадрева.
74. Галадрев вертится вокруг отворачивающейся от него невесты. Обратил
внимание на отражение ее лица в зеркале. Обращается к нему. На лице у
невесты улыбка.
75. Галадрев собирается встать на колени. Опомнился. Вынимает из
кармана шахматный платок. Стал на колени на платке.
76. Надпись: ОПЯТЬ ЗАЕЛО.
77. Крупно. Галадрев целует руку невесты. Из кармана торчит книжка. Он
вынул. Читает.
78. Затылок Галадрева. Надпись: ИНДИЙСКАЯ ПАРТИЯ.
79. Крупно. Улыбка счастья угрожающе застывает на лице невесты.
80. Невеста вырвала у Галадрева книгу.
311
81. Выбрасывает книгу в форточку.
82. Галадрев вынул книгу из другого кармана.
83. Невеста опустошает карманы Галадрева. Всюду книги.
84. Выталкивает его за дверь.
85. Галадрев бредет по улице.
86. Невеста выбрасывает из окна книги.
87. Галадрев идет по улице. На него дождь из книг. Он подымает книгу»
Читает. Уныло побрел дальше.
88. Руль автомобиля. Падает книга.
89. Лоток моссельпромщика. Падает книга.
90. Милиционер на углу регулирует движение.
91. Панорамой. Телега, груженная ящиками. На верхнем ящике мрачного
вида грузчик.
92. Крупно. На ящик упала книга. Грузчик подхватил ее. Вынимает из
валенка шахматную доску и начинает решать задачу.
93. Милиционер увлекся чтением. Поднял руку.
94. Панорамой. Остановка движения.
95. Крупно. Милиционер застыл в позе останавливающего движения. В
кадр вошел печальный Галадрев. Не глядя на милиционера, опустил ему руку.
Пошел дальше.
96. Автомобиль едет задним ходом, юлит среди уличного движения.
97. Крупно. Задумавшийся шофер — погрузился в исследование хода.
98. В комнату Веры входят бабушка и дедушка. Вера плачет, стоя у окна.
99. Надпись: ...СВАДЕБНЫЙ ТОРТ.
100. Вера открывает коробку. Умиленные лица бабушки и дедушки.
101. Первый план. Руки снимают крышку. Торт в виде шахматной доски
с фигурами.
102. Надпись: — ОТЕЦ, МЫ РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ.
103. Отец' утешает Верочку. Вынул из кармана шахматную доску и
вручает ей.
104. Детская. Двое малышей, сидя на горшочках, играют в шахматы. Около
них стоит няня. Наблюдает.
105. Вера остановилась в. дверях. Заломила в ужасе руки.
106. Первый план. Улыбающееся лицо няни. Говорит.
107. Надпись: — ВЕРА НИКОЛАЕВНА, КАКОЙ КОЛЮШКА
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ СЕЙЧАС СДЕЛАЛ!
108. Аптека. Длинный высохший аптекарь мефистофельского вида играет
в шахматы с толстяком.
109. Аптекарь сделал уничтожающий ход. Торжествует.
110. Толстяк схватился за голову. Опустил медленно руки. Побледневшее,
изменившееся лицо.
111. Толстяк делает отчаянный ход. Теперь он торжествует.
112. Крупно. Аптекарь выпучил глаза от неожиданности. Пот струями
льется по лбу.
113. К стойке подходит Верочка. Обращается к аптекарю.
114. Надпись: - ДАЙТЕ МНЕ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОБОЛЬШЕ И ПОЯДО-
ВИТЕЙ.
115. Крупно. Аптекарь не глядя заворачивает баночку с лекарством.
Передает Верочке.
312
116. Галадрев идет к Москве-реке. Еще шаг — и ступит в воду.
Остановился.
117. Надпись: НА БЕРЕГУ ПУСТЫННЫХ ВОЛН СТОЯЛ ОН, ДУМ
ПЕЧАЛЬНЫХ ПОЛИ.
118. Крупно, Галадрев в наполеоновской позе. Вынул из кармана
шахматный платок. Бросает в воду. Снял галстук — кидает в воду. Вынул из кармана
пиджака пачку книг — в воду, из заднего кармана брюк шахматную доску —^
кинул в воду. Уходит мрачным Наполеоном. Диафрагма.
119. Панель. Верочка прислонилась к фонарю.
120. Закатила глаза в предсмертной муке.
121. Руки разворачивают сверток с ядом. Вынимают оттуда ферзя.
122. Подъехал автомобиль к плачущей Верочке.
123. Из автомобиля вышел Капабланка. Разговор с плачущей Верочкой.
Она показывает ему ферзя.
124. Капабланка уходит, взяв Верочку под руку.
125. Надпись: В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...
126. Панорамой. Общий вид зала шахматного турнира.
127. Крупно. Капабланка играет. В первом ряду за барьером сидит
грустная Верочка.
128. Галадрев сидит на трубке фонтана. Записывает ходы. Углубился.
Неожиданно струя подбрасывает егб вверх.
129. В брызгах фонтана делает очередной ход.
130. Галадрев у барьера. Перелез.
131. Подходит к Ласкеру. Недоволен ходом. Советует.
132. Подошел к Капабланке. Смотрит игру. Подставил фигуру на доске
Капабланки.
133. Невеста вскочила со скамьи. Бросилась вперед.
134. Галадрев обернулся. Лицо счастливого влюбленного идиота.
135. Капабланка улыбается.
136. Галадрев и Верочка беседуют. Он выворачивает карманы:
показывает, что нет ни одной книги, ни одной доски.
137. Крупно. Опечаленное лицо невесты.
138. Надпись: - КАК ЖАЛЬ, А Я ХОТЕЛА С ТОБОЙ СЫГРАТЬ ПАР-
ТИЮ. ВЕДЬ Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО ЭТО ТАКАЯ ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ИГРА.
139. Галадрев ничего не понимает. Медленно опускается на колени соседу
Верочки. Тот сбросил его, возмущенно вскочил. Галадрев сел на его место.
140. Снимает брелок. Раскрывает его.
141. Крупно. Рука Галадрева. На ладони раскрытый брелок. Это
миниатюрные шахматы. Счастливые лица влюбленных. Рука Веры делает ход.
Диафрагма.
Потомок Чингис-хана
(Режиссерский план)
Часть первая
Ндп.: — ОБШИРНЫ И ПУСТЫННЫ
СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
Пейзаж. Голые горы.
Наплыв, в
Горы, горы.
Дикий зверек.
Вдали какая-то возвышенность.
Наплыв.
Ближе возвышенность.
Наплыв.
Еще ближе. Это сложенная из камней
могила.
Какая-то надпись на камнях.
Убежал зверек.
Пустынный пейзаж. На первом плане — камни.
Наплыв.
10. Общ. 2 Пустыня — камни.
Наплыв.
11. Общ. 2 Пустыня.
12. Общ. 2 По пустыне движется караван — двое
верховых, впереди телеги.
Наплыв.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Общ. д.*
Общ. д.
Кр.
Общ. д.
Общ. д.
Общ.
Дет.
(Пр. 3)
Общ. д.
I1/*
2 У.
1
1У2
1У«
1%
1У4
у2
1У2
* Технические пометки влева от текста обозначают: первая цифра — порядковый номер
монтажного куска; далее следуют указания крупности изображения (общ.— общий план,
общ. д.— общий дальний, дальн.— дальний, ср.— средний, кр.— крупный, дет.— деталь);
последняя цифра — длина монтажного куска, выраженная в метрах или количестве кадри-
ков в монтажном куске (к др.).
Иногда вместо указания крупности плана в скобках отмечено (Пр.) продолжение и
номер продолжающегося и уже частично использованного ранее кадра.
Встречаются в тексте и другие сокращения: ндп.— надпись, титр; зтм.— затемнение.
В некоторых случаях В. Пудовкиным опущены указания крупности планов или длины
кусков, есть пропуски в порядковых номерах, повторы номеров и т. д. (Прим. сост.)
314
Кр.
Кр.
Общ. д.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр.
Ср.
Ср.
(Пр. 20)
Ср.
Кр.
Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Кр.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
1У2
2
2
2%
1
2
1
у4
У4
10 кдр
У2
у4 -
У*
1
1У4
у4
2У2
2
1У2
2У2
1У4
1
у4
1
1У4
1%
1У2
1У4
У2
1
1У2
1У4
1
2
4
2
2У2
1У4
1У2
1У2
1
Ста рый монг о л.
На телеге курит трубку другой.
Юрта в степи
Наплыв
Ближе юрта.
Юрта. Возле — лошади.
Подъезжает к юрте караван.
Вскочила собака.
Забеспокоилась привязанная к столбу лошадь.
Бьется другая.
Мечется лошадь.
Собака пробежала мимо юрты.
Рвутся у привязи две собаки.
Бьются у привязи лошади.
Двое конных и две телеги, запряженные
быками.
Монгол в телеге приподнялся, позвал.
Зашевелилась кошка у входа.
Из юрты показалась женщина.
Вышла из юрты.
Смотрит.
Вылез из юрты мальчишка.
За ним второй.
Кланяется женщина.
Старый монгол спросил:
Ндп.: - ГОТОВ ХОЗЯИН НА БАЗАР?
Женщина ответила:
Ндп.: - ХОЗЯИН БОЛЕН.
Говорит женщина.
Сзади нее мальчишка и еще одна женщина,
вылезшая из юрты.
Повернулся монгол, что-то сказал.
Спешились конные.
Слез монгол с телеги.
Держит женщина рвущуюся собаку.
Рвутся собаки на привязи.
Приехавшие вошли в юрту.
Больной повернул голову.
Идут (к больному) гости.
Подошли к больному, сели.
Вошли мальчишки, разделись, легли на
«постель».
Повернулся больной.
Двое гостей. Набивают трубки.
Старый монгол что-то сказал.
Ответил больной, показал на грудь.
Читает молитвы монах.
Над юртой — флаг.
Ндп.: ФЛАГ ПОКАЗЫВАЕТ...
315
Дет.
(Пр. 54)
(Пр. 52)
Кр.
Дет.
Дет.
(Пр. 58)
(Пр. 59)
Кр.
Кр.
(Пр. 62)
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 65)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 71)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Дет.
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 81)
(Пр. 71)
(Пр. 81)
(Пр. 83)
(Пр. 84)
(Пр. 83)
(Пр. 84)
Va
ХА
1х/2
1
д.
д.
Va
М>
Уг
Va
1
Yi
3-7=
V,
Wa
Va
Va
2Va
1
Wa
1
1
Wa
Va
2-V,
1Уг
1
Wz
Va
AVa
2
2Va
Wa
2
Va
Развевается флаг.
#д/г.:...ЧТООЗДРАВИИХОЗЯИНАЮРТЫ...
Вьется флаг.
Ндп.: ... МОЛИТСЯ ЛАМА...
Читает молитвы, потрясая колокольчиком и
погремушкой, монах.
Трясет.погремушкой монах.
Погремушка.
Колокольчик.
Погремушка.
Колокольчик.
Ндп.: УЧЕНЫЙ МОНАХ — ЦЕЛИТЕЛЬ.
С закрытыми глазами бормочет монах.
Трясет колокольчиком,
бормочет монах
Ндп.: ... СБОРЩИК ПОДАТЕЙ НА
МОНАСТЫРЬ...
Молится монах.
Сидят гости у больного. Говорит старик.
Слушает монгол.
Плохо больному.
Сказал монах:
Ндп.: — ОЧЕНЬ БОЛЕН!
Повернулся старик.
Больной с трудом сказал:
Ндп.:— НА БАЗАР ПОЕДЕТ СЫН...
Говорит больной.
Сидит старуха.
Бьет в тарелки монах, посматривая по
сторонам.
В юрту вошел парень.
Ндп.: СЫН.
Сын (Инкижинов) 1 раздевается. Бросил...
... сумку...
Поставил в угол ружье и пошел...
к гостям. Сел возле отца. Подошла мать.
Отец сказал:
Ндп.: — СОБИРАЙСЯ НА БАЗАР!
Сын повернулся, сказал молодой женщине:
Ндп.: — СЕДЛАЙ ЛОШАДЬ!
Женщина вышла.
Больной с трудом приподнялся, полез в
изголовье постели.
Смотрит сын.
Ндп.: МЕХА НА ПРОДАЖУ.
Больной достал связку мехов, бросил ее ...
... сыну. Рассматривает сын меха.
Роется больной в изголовье постели.
Разбирает сын меха. Поднял голову.
316
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
ИЗ.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
(Пр. 83)
(Пр. 84)
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 91)
(Пр. 92)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 92)
(Пр. 93)
Ср.
(Пр. 97)
(Пр. 92)
(Пр. 93)
Дет.
(Пр. 92)
(Пр. 93)
Дет.
Дет.
Кр.
Кр.
Кр.
(Пр. 100)
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
(Пр. 117)
(Пр. 118)
Кр. Ср.
Ср.
Кр.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 125)
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
1
V*
IV,
1/4 1
У* Г
\Уг
\Уг
2У2
1%
У4 \
у* \
1
IV,
3 \
1 Г
1 ^
1/2 1
1/4
% )
V,
Уа
V, 1
V, Г
1/4 1
У* f
1У4
у2
1У2
%
У4
2/з
2/
/з
у4
1%
%
1%
У4
1
й
1У4
60 кдр
1
2
1
Роется больной.
Сын поднялся...
... подошел к отцу. Старик передал ему шкуру.
Оживились монголы.
Сын взял шкуру, вышел.
Монгол. Смотрит.
Рассматривает сын шкуру.
Смотрит, доволен, отец.
Смотрят монголы.
Шкура в руках сына.
Сияет больной.
Улыбаются монголы.
Переливается мех на шкуре
Говорит монгол:
Ндп.: — ХОРОША ШКУРА!
Смеется другой.
Переливается мех на шкуре.
Хвалят шкуру монголы.
Молится монах. Открыл глаза.
Шкура в руках сына.
Молится, поглядывая, монах.
Ндп.: — МУКА БУДЕТ!..
Смеется отец.
Смеется мать.
Ндп.: — КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОРОШО ЕСТЬ
БУДЕМ!..
Смеется отец.
Смеется мать.
Смеется мальчишка из кровати.
Показывает гостям шкуру сын.
Смеется отец.
Рассматривают шкуру гости.
Говорит отец:
Ндп.: — ПЯТЬСОТ СЕРЕБРОМ!
Говорит отец.
Замер монах. Широко открылись глаза.
Колокольчик и погремушка в его руках.
Молится, поглядывая, монах.
Седлает женщина коня.
Прикрепила седло.
Поправляет сбрую.
317
Кр. Ср.
(Пр. 133)
(Пр. 133)
Ср.
(Пр. 133)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 139)
Кр.
(Пр. 139)
(Пр. 139)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 144)
(Пр. 145)
(Пр. 144)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
up.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
(Пр. 153)
(Пр. 155)
Ср.
Общ.
Дет.
Общ.
Дет.
(Пр. 161)
(Пр. 162)
(Пр. 161)
Общ.
(Пр. 166)
Ср.
Общ.
Ср.
Общ. д.
(Пр. 170)
Общ.
\Уа
2-1/,
3
3
6
3
2
4%
Уг
Уг
\Уг
\Уг
Уа
2Уа
Уа
V,
У* '
V.
1
1/
/з
Ух
У*
V,
Уг
Уа
Уг
1й
Уа
Уа
Уг
V.
Уг
Уг
Уа
V,
V.
1Уг
Уг
2Уг
3
1Уа
Монах кончил молиться.
Ндп.: ЗА ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛА...
Вертит четки в руках.
Ндп.: ... И ДУШИ...
Закончил,
Ндп.: ... ПОСИЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Мать полезла в сундук, что-то достала,
понесла...
... к монаху. Недоволен монах. Собирает свои
вещи. Кланяется мать.
Кланяется мать.
Монах, рассматривая вещь:
Ндп.: — МАЛОВАТО!
Но все же спрятал. Смотрит.
Мех в руках сына.
Повторил:
Ндп.: — МАЛОВАТО!
Оделся, двинулся...
... к сыну. Взял шкуру.
Смотрит старик — гость.
Монах вырвал шкуру.
Замер монгол.
Кинулся сын за монахом.
Схватил его.
Смотрит мать.
Борются монах с сыном.
Смотрят гости.
Вырвал сын шкуру ...
Упал на землю монах ...
В ужасе встала мать.
Рассматривает сын мех.
В ужасе мать. Подбежала ...
... к сыну, бьет палкой.
Поднялся монах, выскочил из юрты.
Лежит на полу сумочка.
Подошла мать, смотрит.
Лежит сумочка.
Наклонилась.
Взяла.
Поднялась.
Ндп.: — ЛАМА ПОТЕРЯЛ...
Лама вскочил на лошадь, поскакал.
Мать бросилась...
... из юрты. Кричит.
Удаляется лама.
Смотрит мать.
Совсем далеко лама.
Мать приложила сумочку ко лбу, пошла ...
... за юрту.
318
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
Кр. Ср.
Кр.
Дет.
(Пр. 174)
Кр.
(Пр. 174)
Ср.
Кр.
Общ.
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Кр.
Общ.
Общ. д.
Общ.
Д-
Общ.
Общ. д.
Дальн.
1
Уг
Уг
3
2J4
1
2>/2
У.1 )
У* 1
Уг )
1%
У*
2
ЪУх
\Уг
ЪУг
3
2
1К
3
3
3%
Остановилась.
Сумочка в руках.
Сумочка.
Ндп.: СВЯЩЕННЫЙ АМУЛЕТ.
Достала из-за пазухи коробочку ...
... бережно спрятала амулет.
И, сунув коробочку за пазуху, пошла.
Из юрты вышли гости и сын.
Лают собаки.
Сели в телеги и на лошадей, поехали.
Кричит мать.
Сын соскочил с лошади, к нему подбежала
мать.
Ндп.: — НА ДОРОГУ.
Сняла с шеи ладанку.
Спрятала ему за пазуху.
Сын вскочил на лошадь, уехал. Мать смотрит
вслед.
Сын догнал попутчиков.
Пошла мать к юрте.
Удаляются уехавшие.
Стоит мать у юрты.
Наплыв.
Дальше юрта.
Наплыв.
Совсем далеко.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Общ. д.
Общ.
Общ.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
(Пр. 8)
(Пр. 9)
(Пр. 4)
Общ.
2
\у2
3%
1
1%
1
1Уг
1%
Уа
1
1J4
2У2
2
Часть вторая
Ндп.: БАЗАР.
Базар. Съезжаются монголы
Едут монголы (полон кадр).
Едут.
У дверей барака стоят двое европейцев
(англичан).
Наплыв.
Англичанин с сигарой.
Ндп.: ТЕ, КТО ОХРАНЯЕТ ...
Солдаты (со спины).
Ндп.: ... ИНТЕРЕСЫ КАПИТАЛА.
Промаршировали солдаты.
Смотрит англичанин.
Остановились солдаты.
Смотрит англичанин.
Солдаты стали «вольно». Офицер ...
... подошел к англичанам.
(Со спины). Идут толпой монголы.
319
72 Подходят к палаткам.
3 Собираются толпами.
1 Море голов.
2Уг Инкижинов показывает свою шкуру.
34 Заинтересованы монголы.
J.,1 Рассматривают с восторгом шкуру.
1/2 J
134 К англичанам подбежал слуга.
34 Повернулся к нему англичанин.
34 Кланяется слуга.
34 Смотрит англичанин.
34 Говорит слуга:
Ндп.: — НА БАЗАРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЛИСА.
7з Говорит слуга.
Vs Сказал англичанин.
34 Ответил, кланяясь, слуга.
34 Англичанин.
134 Англичанин полез в карман.
34 Бросил монету у своих ног.
Уг Слуга нагнулся ...
1/3 ... взял монету ...
3 ... убежал. Помощник англичанина пошел на
134 ... базар. Остановился среди монголов,
1 ... смотрит. Увидел.
1% Пошел дальше.
134 Подошел к Инкижинову.
2 Прошли среди монголов.
Ндп.: ЗДЕСЬ СКУПАЮТ МЕХА
234 У барака с вывеской — монголы. Входят и
выходят.
1 Уг Монголы у барака.
1/4 Вошли в дверь два монгола.
134 Прошли по обширному бараку, наполненному
монголами.
1 Монголы в бараке.
2% Англичанин рассматривает связку мехов.
1 Идет монгол.
134 Англичанин бросил связку ...
2 ... в кучу других связок.
Другие руки берут оттуда связки.
/4 Англичанин повернулся к кассе ...
34 ... достал несколько монет ...
134 ... и бросил ...
234 ... на прилавок монголу.
Считает монгол.
1 Записывает в книгу конторщик.
134 Недовольный уходит монгол.
1 Идет англичанин.
320
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Общ.
Ср.
Кр.
Кр.
(Пр. 62)
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 65)
Ср.
Ср.(Пр.53)
(Пр. 65)
Кр. Ср.
(Пр. 68)
Кр. Ср.
(Пр. 68).
(73)
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Кр.
(Пр. 85)
(Пр. 45)
Кр.
(Пр. 83)
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Дет.
Кр.
1%
3
2Уг
1Уг
ЗУ2
1У2
у2
У2
1
1%
1У2
зу2
4
1
1%
5У2
2У4.
1
1
1
1
4У2
У4
1Ух
1
1У4
Уа
2
1У4
% )
% 1
1 )
1—3/
1
1
%
%
3/4
%
1%
Другой монгол достал из мешка связку
мехов, подал.
Считает деньги, пробует зубом монгол.
К бараку подошли англичанин и Инкижинов.
Вошли в дверь.
Прошли, расталкивая людей.
Подошли к прилавку.
Смотрит англичанин.
Сделал ему знак глазами помощник.
Смотрит англичанин.
Недоверчив Инкижинов.
Идет англичанин.
Инкижинов снял мешок с плеча, достал одну
связку мехов, другую, отдал. Ждет.
Англичанин просмотрел меха, бросил в кучу,
крикнул.
Записал конторщик.
Достал англичанин деньги, бросил.
Считает Инкижинов деньги. Помощник спросил,
взялся за мешок его. Не дает Инкижинов.
Англичанин показал на висящие возле него
меха, спросил.
Инкижинов достал свою лису, развернул.
Загорелись глаза у англичан.
Перебирает мех Инкижинов.
Смотрит монгол.
Смотрят другие монголы.
Рассматривает англичанин мех.
Смотрят монголы.
Заинтересовались, подходят другие.
Подходят еще.
Двинулись все к прилавку.
Восторг на лицах.
Рассматривает мех англичанин.
Горд Инкижинов.
Восторг на лицах монголов.
Мех у англичанина.
Ндп.: - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСТЬ БУДЕМ.
Улыбается Инкижинов.
Не бросая мех, полез в кассу англичанин.
Рука зачерпнула горсть денег.
Ждет Инкижинов.
Ждут ...
... монголы.
Англичанин бросил деньги на прилавок ...
... мех в кучу.
Инкижинов.
11 В. Пудовкин, т. 1
321
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
ИЗ.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Kp.
Кр.
Кр.
Дет.
(Пр. 101)
Кр.
(Пр. 100)
(Пр. 101)
(Пр. 53)
Кр.
Кр.
(104)
(109)
Ср.
Кр.
Дет.
(Пр. 114)
(Пр. 113)
(Пр. 114)
Кр.
(Пр. ИЗ)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
—
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
Дет.
Ср.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Дет.
Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
Кр.
Общ.
Общ.
Общ.
. 1У4
У*
Уг '
у2
1
%
1
1У4
у4
%
V,
у2
у4
у4
у4
20 кдр
5 кдр.
5 кдр.
5 —
12 кдр.
17 кдр.
У*
Уг
7з
Ух
у2
%
1%
Уг
18 кдр.
22 кдр.
V,
V,
1
1У4
у4
Уг
60 кдр.
56 кдр.
Монгол.
Другой.
Инкижинов опустил глаза:
несколько монет на прилавке.
Смотрит Инкижинов.
Англичанин крикнул:
Ндп.: — СЛЕДУЮЩИЙ!
Ждет
Инкижинов.
Смотрит конторщик.
Смотрит монгол...
Инкижинов ...
Крикнул англичанин. .
Инкижинов рванулся вперед...
... к англичанину
Лицо англичанина.
Рука Инкижинова вцепилась в рукав его
куртки.
Ндп.: — ОТДАЙ ЛИСУ!
Рука вцепилась в куртку англичанина.
Лицо англичанина.
Рука.
Кричит Инкижинов.
Ярость у англичанина.
Взмах ...
... еще (с другой точки).
Движение в кадре (удар).
Движение (удар).
С табуретки упал англичанин.
Посыпались деньги.
Катятся по полу.
Испуганные ...
... монголы ...
... бросились из барака.
Инкижинов заглянул за прилавок.
Среди мехов катается англичанин.
Выскакивают из барака монголы,
бегут мимо аппарата.
Пробегаюг ноги.
Толпятся монголы у двери ...
Бегут ...
Выскакивают на улицу ...
Катается на полу англичанин.
С ужасом смотрит помощник.
Инкижинов мечется у прилавка — заглядывает
за него.
Сбегают с лестницы, пробегают через кадр
пешие и конные монголы.
Разбегаются от барака.
322
(Пр. 139)
Общ..
Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Кр.
Кр.
Кр.
Дет.
Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
Дет.
(Пр. 158)
Ср.
Дет.
—
—
—
—
—
—
Дет,
Дет.
Дет.
»
»
Кр.
Кр.
Дет.
(Пр. 174)
(Пр. 162)
Дет.
Кр.
Кр. Ср.
—
(Пр. 180)
(Пр. 181)
—
Дальн.
Общ.
Общ.
Va
%
Va
Vs
1% ■
Yi
%
75
у2
%
%
Va
1
1%
у2
%
Va
%
1
1М>
10 кдр
1 »
2 »
2 »
1 »
7 »
1
11 кдр
9 кдр.
8 кдр.
2
1
2
Va
Va
7 кдр.
у4
Vs
1У4
Vs
1%
у4
1%
V3 \
у*; -
Бросился вперед помощник,
перескочил через прилавок,
сцепился с Инкижиновым.
Борьба.
Остановился англичанин, встает.
Дерутся Инкижинов с помощником.
Разбежались от барака последние монголы.
Ндп.: — ПУСТИ!
Горло Инкижинова сжали руки помощника.
Колотит его головой об стену.
Бьется голова Инкижинова.
Инкижинов вытащил нож.
Упал помощник. Выбежал Инкижинов.
Англичанин освободился от своей куртки,
встал на четвереньки.
Убегает по бараку Инкижинов.
Выскочил на улицу.
Помощник держится за руку.
Льется кровь из руки
Ндп.: КРОВЬ БЕЛОГО ПРОЛИТА!
Бросился помощник вперед.
Выскочил на крыльцо.
Окровавленная рука.
Взрыв.
Черный.
Белый.
Черный.
Белый.
Взрыв.
Бьют палочки в барабан.
(Вверх ногами). Барабан-палочки.
Барабан.
(Вверх ногами). Барабан.
Бьет барабан.
В остервенении кричит англичанин.
Бьет барабан.
Бьет барабан.
Кричит англичанин.
Окровавленная рука.
Барабан.
Скомандовал офицер.
Прошли через кадр солдаты.
(Через кадр). Барабан крупно, барабан мелко.
Командует офицер.
Прошли солдаты.
(То же — на глянец).
Паника на базаре. .ч _
Паника на базаре.
323
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Общ.
Дет.
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 203)
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 203)
Кр.
Кр.
(Пр. 203)
Кр.
(Пр. 203)
Общ.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Общ.
Общ.
Кр.
М •
к}
1У4
1и
1
%
1
зн
У%
%■
%
1
2У4
V,
2
%
%
1
у2
%
1%
1
1
1У2
У2
1
2У2
1У4
2/8
2/з
У*
/з
1
у2
V,
V»
2У2
1й
у2
о
«запирают лавки.
Прячут товары.
Опускают щиты.
Бегут монголы fwa аппарат).
Окровавленная рука.
Шеренга солдат. Ружья «на прицел».
Бегут монголы — за ними шеренгами солдаты.
Бьют прикладами в спины.
Прошли (бегом) ноги солдат (от аппарата).
То же в другую сторону (на аппарат).
Проскакали кавалеристы.
Инкижинов перелез через забор.
Кавалерист. Выехал из. кадра.
Проскакали кавалеристы.
В закоулках прячутся монголы.
Выходят.
Ндп.: — УХОДИ!
Старик монгол говорит Инкижинову:
Ндп.: — БЕГИ!
Отходит Инкижинов.
Смотрит монгол.
Старик снял шапку, пошел ...
... к Инкижинову.
Надел ему свою шапку.
Другой старик ...
... дал ему табак.
Монгол достал трубку.
Отдал тоже. Прощаются.
Генерал на коне.
Ндп.: — ЕСЛИ В 24 ЧАСА ...
Генерал.
Генерал.
Ндп.: ...ПРЕСТУПНИК НЕ БУДЕТ
ВЫДАН ВЛАСТЯМ ...
Ноги генерала на коне.
Наплыв.
Ноги и корпус.
Наплыв.
Генерал (без головы).
Ндп • ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ...
Генерал — стек вперед.
То же.
То же.
Шеренга солдат. Повернулись.
Пошли на аппарат. Повернулись. Стали.
Ружья к ноге и «на прицел».
Ндп.: ...БУДЕТ ПРИМЕРНО НАКАЗАНО...
Генерал со стеком.
324
Общ.
Кр. Ср.
Дет.
Общ.
Общ.
Общ. д.
Дальн.
1Уг
1
2%
5
2%
5
7 Уз
Ндп.:... И ОШТРАФОВАНО.
Шеренга солдат. Ружья в руках.
Генерал со стеком.
Барабан. (В зтм.)
По песчаному бугру пробирается Инкижинов.
Бежит по болотной местности.
Ндп.: В ТАЙГУ.
Где разливы реки ...
... вдоль берега ...
Затемнение.
Дальн.
Общ. д.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
2У2
1гЛ
1
1У4
1У2
3
Общ.
Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
(Пр. 18)
Ср.
(Пр. 18)
Общ.
Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
1й
2Уг
2
1
13 кдр.
9 кдр.
2
VA
Уа
2/з
1Уа
13 кдр
%
V,
1й
VA
VA
1
1*4 '
Часть третья
Яз жж. Прибой.
Ядп.: В 1920-м ГОДУ ...
Сосновый лес. Река.
Ндп.:... В ГОРАХ ...
... И ЛЕСАХ СИБИРИ ...
Каменные глыбы.
Каменистые горы.
Еще горы.
Ндп.: ... ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ ...
В гору бежит человек. Упал. Пробежал второй.
Третий тащит на спине товарища.
Ндп.: ... БИЛИСЬ ПАРТИЗАНЫ.
Ползет раненый. Изнемогает.
Ндп.: — ОКРУЖАЮТ!
В лесу делают перебежку люди.
Стреляет из винтовки солдат.
Перебежка.
Солдаты устанавливают пулемет.
Стреляет солдат.
Выстрел.
Убегают двое, за ними — третий.
Один несет раненого. Товарищ помог сиять
раненого со спины. Легли.
Стреляет партизан.
Другой.
Идут цепочкой солдаты.
Выстрелил партизан.
Упал солдат.
Выстрелил другой партизан.
Падают солдаты.
Пробираются лесом люди.
Ползет раненый.
Перебежка.
Ндп.: — НАДО УХОДИТЬ!
Монгол зарядил шомполку.
Целится русский.
325
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63,
64.
65.
66.
67.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 39)
(Пр. 40)
(Пр. 39)
Ср.
(Пр.44)
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 46)
Ср.
Общ.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Кр.
Ср.
Кр.
Ср.
Кр.
Кр.
У*
VA
Vi ■
•3
2У2
1
1
1
у4
3%
2У4
у4
%
У4
10 кдр.
*7,
2V,
2*4
у4
Уг
7з
7 кдр.
9 »
8 »
10 »
Уг
Уг
2
1
%
У4
2
V,
У4
1
2/3
.. Уг.
1%
зи
Уг
Выстрелил другой монгол.
Перебежка солдат.
Ндп.: - ПРОРВАТЬСЯ БЫ! '
ОКРУЖАЮТ!
Солдаты в лесу.
Бегут партизаны.
Ползет на аппарат раненый.
Ндп.: НАЧАЛЬНИК.
Партизан под деревом. Всматривается.
Ндп.: ШАХТЕР С ДАЛЕКОГО ДОНБАССА.
Смотрит.
Солдаты у пулемета.
Насторожился начальник.
Один солдат пошел на разведку — другой
остался у пулемета.
Ндп.: — БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ШУМА ...
... ЗАХВАТИТЬ ПУЛЕМЕТ.
Начальник приподнялся.
Солдат с пулеметом.
Начальник.
Солдат стреляет.
Начальник упал.
Солдат у пулемета увидел.
Кто-то в монгольском платье ползет в горах
(со спины).
Ндп.: СЛУЧАЙНЫЙ ЗРИТЕЛЬ.
Осторожно наблюдает ...
... из-за камней ...
Солдат у пулемета.
Вскочил начальник.
Испуг у солдата.
Начальник к нему,
руками за горло.
Упали.
Покатились.
Душит солдата.
Катаются в борьбе.
Смотрит Инкижинов.
Борьба ...
... на краю утеса ...
Борьба.
Нога столкнула камень.
Борьба.
Оперлась о камень нога партизана.
Упали оба.
Инкижинов.
Борются на краю пропасти.
Солдат сверху.
Страшно напряжено лицо партизана.
326
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
108.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
ИЗ.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
(Пр. 64)
Ср.
Общ.
Кр.
Дет.
Кр. Ср.
Дет.
Кр.
Дет-
Дет.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Кр.
Кр.
(Пр. 84)
Кр.
(Пр. 84)
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 90)
(Пр. 91)
(Пр. 89)
Ср.
Дет.
—
—
(Пр. 100)
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
(Пр. 109)
Кр.
(Пр. 109)
Общ.
Общ.
—
—
Дет.
—
2/з
Уг
Уг
Уг
у2
%
V,
2/
'3
1
Уг
Уг
у2
9 кдр.
Уг
3
Уг
1
Уг
1
1%
3
2
1Ух
Уг
Уг
%
Уг
Уг
2 кдр.
5 »
1 »
2 »
1 »
1 »
5 кдр.
7 »
13 »
Уа
Уг
V,
V.
10 кдр
V,
3 кдр.
3 »
V,
3 кдр.
Инкижинов.
Ноги борющихся висят над пропастью.
Борьба на скале.
Солдат на партизане.
Вцепилась рука партизана в камень.
Смотрит Инкижинов.
Рука, вцепившаяся в камень.
Пересиливает солдат.
Все ниже свисают ноги.
Обрывается камень.
Инкижинов бросился вперед ...
... подскочил к дерущимся ...
... оторвал от партизана солдата
и сбросил его.
Помог влезть наверх партизану.
Лицо Инкижииова.
Говорит партизан:
Ндп.: - СПАСИБО, ТОВАРИЩ!
Говорит он.
Улыбается Инкижинов ...
... помогает ему ...
... влезть окончательно на скалу.
Вдруг партизан бросился к пулемету ..
... возится над ним. Позвал ...
... Инкижинова.
Зовет еще.
Побежал Инкижинов.
Помогает партизану.
Целится солдат.
Ндп.: — БЕРЕГИСЬ!
Черно-белое пятно посредине.
Бело. Клубы дыма.
Черно.
Фуражка солдата.
Черно.
Бело.
Выстрел.
(Крупнее). Второй ...
Выронил партизан патронный ...
... ящик ...
Упал партизан.
Инкижинов испуган.
Приподнялся раненый партизан.
Солдат стреляет сидя.
Стоя.
Выстрел ...
... белых.
Рука показывает ...
Выстрел ...
327
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
—
—
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
Общ.
(Пр. 128)
Кр.
Кр.
Ср.
—
Общ.
Кр.
Общ.
Общ.
Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
Дет.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
д.
Общ.
Общ.
Ср.
Общ.
3 кдр
1 »
1У4
1
У4
3
1
1
У4
1*4
у4
у2
У4
у2
3 кдр.
4 кдр.
V,
8 кдр.
3
Уг
2/з
у4
у4
7.
7.
у4
1
у4
1У2
у4
у2
V,
Уг
1й
%
2У2
2У4
1У4
7У2
3
17,
... белых.
Дым.
Пополз солдат.
Ползет ...
Ндп.: — БЕРЕГИСЬ!
Бежит на аппарат какой-то партизан.
Бегут на аппарат Инкижинов и начальник с
пулеметом.
Бегут два солдата.
Бегут другие двое.
Ндп.: — БЕРЕГИСЬ!
Целится солдат.
Спрятались беглецы за камни.
Целится солдат.
Целится партизан.
Целится солдат.
Прицелился бежавший на помощь партизан.
(Темные с белыми пятнами).
(Белые).
Упал солдат.
Начальник и Инкижинов лежат.
Подскочил к ним партизан — стреляет.
Они уходят с пулеметом.
Падает другой солдат.
Упал третий.
Убегают Инкижинов и начальник.
Стреляет солдат.
Другой.
Третий.
Четвертый.
Бежит солдат.
Еще двое.
Пробегают солдатские ноги.
Еще солдат.
Упал один,
прячется другой.
Бегут солдаты.
Убегают партизаны
Ндп.: - НАДО УХОДИТЬ!
Пробегают их ноги.
Убегают партизаны — уже их несколько.
Убегают.
Бегут (на аппарат).
В прикрытии четыре лошади, на одну из них
посадили начальника (Инкижинов и
партизан).
Плохо начальнику. Еле сидит. Двинулся.
Проехал конный. За ним начальник, потом еще
конный.
328
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
Общ.
Кр.
Кр.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Дальн.
Дальн.
Общ.
Кр. Ср.
(Пр. 176)
Дальн.
Дальн.
Кр. Ср.
Общ.
Дальн.
Общ.
Дальн.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. с
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Общ.
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
1
у4
У4
у4
У4
V,
V,
2
2У2
1
2У4
1
1У4
1У4
2J4
1У2
1У4
2У2
4
1У4
ЪУг
1У2
1У2
1
2У4
8У2
3
2У2
1У2
V,
%
У*
1У2
1У4
у2
у2
%
%
%
Проехали (через кадр).
Еще.
Еще.
Ндп.: НЕТ КОНЯ.
Смотрит вслед Инкижинов.
Последний всадник остановился.
Ндп.: - САДИСЬ!
Кричит партизан.
Инкижинов побежал.
Вскочил сзади него на коня. Поскакали.
Скачут партизаны в горах.
В лесу на горе.
В ущелье.
На скале — береза.
Наплыв.
Горы.
Наплыв.
Лесистая вершина.
Едет начальник. Склонился ...
... на шею лошади. Оправился
Поехал дальше.
Едут партизаны.
Едут по скалам.
Двое в кадре. Спешиваются.
Спешился партизан.
Спускаются с горы.
Ндп.: СТАН.
Одинокая сосна на скале.
Под скалой — стан.
Спешился партизан.
Спешился второй. Прислонился к лошади.
Повел ее.
Двое помогли слезть начальнику, повели его
под руки.
Ведут.
Сидят в кругу партизан.
Монгол подкладывает в костер, под котелок,
дрова.
Старик русский.
Другой.
Третий.
Двое в кадре.
Подходит партизан с Инкижиновым.
Повернулся один партизан,
другой...
Что-то сказал партизан Инкижинову.
Улыбается старик.
Улыбается монгол.
329
210. (Пр. 207) 1 Ушел партизан. К Инкижинову подошел
старик.
211. Кр. % Улыбается другой.
212. Ср. 1% Окружили Инкижинова.
213. Кр. Ср. * ■ гА Улыбается партизан., :
214. Кр. Ср.. 2 Разговаривает с монголами Инкижинов.
215. Кр. 114 Сидит партизан. Что-то держит в руках.
216. Ср. 23/4 Рассказывает Инкижинов, сидя в кружке
монголов. Повернулись.
217. , Кр. С!р. .214 Партизан держит ребенка. Расстегнул тулуп.
Начал... кормить его грудью.
218. (Пр. 216) % Смотрят монголы.
219. (Пр. 217) 1 Растерян Инкижинов.
220. (Пр. 217) % Кормит мать.
221. (Пр. 219) 2/з Инкижинов.
222. (Пр. 216) 14 Смеются монголы.
223. Кр. 1% Смеется старый партизан.
224. Кр. % Растерян Инкижинов.
225. Кр. ., 14 - Смеется другой партизан.
226. Кр. ",... % Смеется монгол.
227. Кр. Ср. % Повернулась, смотрит мать.
228. Кр. 14 Растерян Инкижинов.
229. Кр. 3 Улыбается, смеется мать.
230. (Пр. 228). % Улыбнулся Инкижинов.
:?' т^Р' о/ \ Смеются партизаны.
232. Кр. 73 /
233. Кр. 1J4 Смеется Инкижинов.
234. \
~*?' ™ 2 У Смеются бородачи-партизаны.
237^ 3 J
238. Кр. Ср. 154 Ребенок на руках матери.
239. Кр. 1 Хохочет Инкижинов.
240. Общ. 1/4 Среди скал показывается человек.
Стал.
241. Кр. 1/3 Хохот Инкижинова.
Из! Кр! V,} Партизаны ...
244. Ср. 1 ... хохочут.
245. (Пр. 240) % Человек среди скал.
246. Кр. 114 Сурово крикнул.
247. Кр. Ср. гА Повернулся старик.
248. Кр. 2 Повернулся, перестал смеяться Инкижинов.
249. Кр. Ср, 114 Смотрит старый партизан.
250. Кр. Ср. 1 Смотрят партизаны.
251. Кр. 14 Сбежала улыбка у матери.
252. Общ. 414 На носилках несут начальника.
253. Кр. Ср. 214 Начальник на носилках.
254. Кр. 2 Сурово лицо матери.
330
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
Кр.
Дальн.
(Пр. 255)
Кр.
Ср. • - •
(Пр. 255)
1*4
2У2
IV,
1У2\
1У2/
1%
IV.
262. (Пр. 255) 1
263. Кр.
264. Кр.
265. Кр. Ср. 2%
267. (Пр.. 255) 2
1К\
1%/
268.
269.
270. .
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
(Пр. 267)
Кр. Ср.
(Пр. 255)
Кр.
(Пр. 255)
Кр. .
Ср.
.:.кР. .. :-.
Кр. .
(Пр. 274)
КР.
(Пр. 274)
Кр.
(Пр. 274)
Кр.
Общ.
Кр.
Дет.
°Р-
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Дет.
Дет.
Уа
2 У,
2Уг
У*
1%
у4
1
1
■1%
. 1Й
%'
8
1
1%
ЗУ»
2У2
1х/4
ЗУ4
5
2
2
Уг
1У2
1%
5
Неподвижен начальник.
Садится солнце за гору.
Неподвижен начальник.
Суровые лица партизане
Неподвижны монголы.
Начальник сказал:
Ндп.: — ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ ...
Говорит начальник.
Ндп.: '.[. С КРАСНОЙ АРМИЕЙ.
Слушают партизаны.
Переводят на ухо Инкижинову.
Говорит начальник.
Ндп.: — СЛУШАЙТЕ!
Начальник.
Переводят Инкижинову.
Начальник.
Старик партизан.
Начальник.
Двинулся старик.
Подошел к начальнику, наклонился.
Суровые лица ...
... партизан.
Пожал партизан руку начальника.
Смотрит Инкижинов.
Подходят пожать руку партизаны.
Смотрит Инкижинов.
Прощается монгол.
Темнеет лицо начальника.
Одинокая сосна на скале.
Все темнеет лицо начальника.
Гладит его руку монгол.
Вдруг оглянулся на товарищей. Потом на
начальника. Бережно опустил его руку.
Лица ...
... партизан.
Ндп.: - СЛУШАЙ ...
... МОСКВУ.
Инкижинов.
Оперся на ружье партизан.
Пулемет.
Зашло солнце за гору.
Затемнение.
Общ.
Часть четвертая
Всевозможная (преимущественно
лакированная) обувь.
331
Туалетные принадлежности, среди них
драгоценности.
Они отражаются в зеркале.
Намыленная правая щека генерала.
Рука намыливает другую щеку.
Намыливает правую щеку.
Женские волосы. Завивка.
Колышутся волосы.
Генерал — мыло.
Волосы.
Генерала бреют.
Волосы.
Бреют генерала.
Солдатские руки начищают сапог.
Сияет сапог.
Бреют генерала.
Начищают руки сапог.
Бреют генерала.
Ндп.: ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ С
НАСЕЛЕНИЕМ ...
Солдат чистит генеральский костюм, надетый
на манекен.
Ндп.: ... НАЧАЛЬНИК ОККУПАЦИИ ...
Льется вода на голову генерала.
Растирает он голую грудь.
Ноги в тазу.
Растирает генерал грудь.
Ндп.: ... И ЕГО ЖЕНА ...
Рука взяла на палец крема из банки.
Ладони растерли крем.
Массируют руку генеральши.
Начищают сапог солдатские руки.
Завивают волосы генеральши.
Чистят сапог.
Девушка пудрит плечи генеральши.
Пуховка пудрит руку.
Девушка пудрит плечи генеральши.
Ндп.: ... СО ШТАБОМ ...
Рука натягивает перчатку.
Руки сняли с головы волосодержатель, открыв
седые волосы.
Руки сняли другой волосодержатель.
Безукоризненный пробор.
Ндп.: ... СОБИРАЮТСЯ ПОСЕТИТЬ
БОЛЬШОЙ МОНАСТЫРЬ.
Общ.
Общ.
Дет.
Дет.
Дет.
Общ.
Общ.
Кр.
Общ.
(Пр. 47)
Общ.
Дет.
»
»
»
»
Дет.
Дет.
Кр. Ср.
Дет.
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
(Пр. 61)
Дет.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
»
»
Дет.
»
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 82)
74
% \
1%
2 )
1%
1%
%
1%
1
1
У4
У4
1%
%
2У4
У*
%
%
%
У4 '
1%
1%'
/4
1%
У4
1%
1
fife наплыва в наплыв). Храм и его детали.
Храм с фронтона.
Ндп.: ДИПЛОМАТИЯ ТРЕБУЕТ ...
Монах чистит щеткой громадную статую Будды.
Другой монах руководит.
Чистит Будду монах.
Руководит другой.
Начищают корону на голове Будды.
Ндп.: ... ОСОБЫХ ФОРМ ...
Рука
встряхнула
пуховку
Руки начищают сапоги.
Ндп.: ... И ПРИГОТОВЛЕНИЙ.
Женские руки натянули чулок.
Мужские руки надели брюки.
Горничная затягивает корсет на генеральше.
Забинтовывают живот генералу.
Вращается генерал вокруг своей оси,
закатываясь в ленту-корсет.
Женские руки поправили чулок ...
... поправили платье.
Ножки. Упало платье, скрыв их.
Сияет платье ...
На монаха надели «рясу»,
•.. драгоценности.
Надевают ожерелье на шею генеральши.
Надевают драгоценности на монаха.
Надевают драгоценности на генеральшу.
Застегивает генерал мундир.
Поправляют платье на монахе.
Надели монаху головной убор ...
диадему генеральше,
ордена генералу,
кольцо на палец,
орден-звезду генералу,
кольца на пальцы генеральше.
Закуталась она в меха.
Надели на монаха страшную маску.
Ндп.: ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ.
Генерал у стола. Что-то достал из ящика,
Вошел офицер.
Генерал у стола.
333
(Пр. 83) % Пошел офицер.
(Пр. 82) 2гЛ Подошел к генералу, тот передал ему пакет.
Вышел офицер.
(Пр. 83) 2 Ушел за дверь.
Ср. 2J4 Солдат с кошкой на руках очищает присохшую
, : к сапогу грязь.
Ср. 1% В дверь вошел другой.
(Пр. 88) 1% Солдат очищает грязь.
(Пр. 89) 4^2 Вошедший увидел. Начал старательно выти^
рать ноги. Пошел.
Общ. 21А Подошел к сидящему ...
Кр. Ср. 5/4 ... положил ему на стол пакет и начал
закуривать.
Кр. Ср. % Сидящий повернулся. ;
(Пр. 93) 1гА Набивает трубку пришедший.
(Пр. 94) 2У2 Смотрит;
(Пр. 93) % Пришедший говорит:
Ндп.: — НАЧАЛЬНИК ПРИКАЗАЛ
НЕМЕДЛЕННО СОБРАТЬ ДВЕСТИ ГОЛОВ СКОТА
С БЛИЖАЙШИХ ПОСЕЛКОВ.
(Пр. 93) J4 Говорит солдат.
(Пр. 94) 2/4 Взял пакет, литает
(Пр. 93) % j Пришедший сказал:
Ндп.: гг- ВЫСТУПАТЬ СЕЙЧАС ЖЕ!
(Пр. 100) Уг ц1. и начал набивать трубку.
(Пр. 94) 2гА\ Прочел тот приказ, бросил его на стол, швыр-
,нул ...
Дет. % .,, ... котенка ...
(Пр. 94) V3 ... и встал.
Ср. 2 Выругался и выскочил из кадра.
Кр. Ср. 1гА Надел френч.
(Пр. 93) 3 Смотрит на него, набивая трубку, пришедший.
Ндп.: ОТ ГОРОДА ДО МОНАСТЫРЯ
ДАЛЕКО ...
Ср. 2/4 По проселку едут авто.
Общ. 134 Кавалеристы на бугре.
Кр. 1/4 Смотрит кавалерист.
Общ. 4% Едут машины.
Дет. 1 . Бежит дорога среди песков.
Общ. 1 Мелькают тощие кустики.
Общ. 2% Едут машины.
Даль. 2 Кавалерист в степи.
. Ндп.: СВЯЗЬ НАМЕЧАЕТСЯ.
Общ. 1 . , Ворота храма. Лев у ворот.
Наплыв.
Кр. 1% Лев. . ,
Общ- ifcl.- Крыша храма.
Общ. 1% ,г На галерее, у гонга — монах.
334
Трубит в огромную трубу монах на крыше.
Бьет в гонг монах.
Бьет в огромный гонг другой монах.
Из здания выходит процессия монахов.
Идут на _аппарат монахи.
Играет на дудке монах.
Бьет в тарелки другой.
Дудит в дудку.
Гудят в огромные трубы. гч -'-
Въехали в монастырь авто.
Подъехали кмонахам, выстроившимся во дворе.
Бьют в тарелки.
Тарелки; " '' 1
Дудят в трубы. - . . .
Стоят главные монахи.
Монах.
Другой.
Третий.
Уехали машины. Гости пошли к храму. -
Ндп.: СВЯЗЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ.
Гости проходят мимо «оркестра».
Генерал здоровается с монахом*
Монахи..
Монах взял у другого сверток, . В свертке
статуэтка. Передал генералу.
Гудят. :_
Бьют в гонг.
Дудят в огромные трубы.
Генерал повесил монаху медаль-;-
Другому — поменьше.
Третьему — еще меньше.
Четвертому — совсем маленькую.
Ндп.: СВЯЗЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ
ФАКТИЧЕСКИ
Монгол.
Степь.
Увидел монгол:
что-то приближается по степи.
Монгол сказал одному:
Ндп.: — СКАЧИ И СКАЖИ, ЧТО ИДУТ
СОЛДАТЫ...
Монгол вскочил на /коня и поскакал.
Приближаются по степи какие-то точки.
Овцы. -".
Гонят их солдаты. ,
335
WJJ.
Общ.
Kp.
Кр.
(Пр. 166)
(Пр. 167)
Общ.
Кр.
(Пр. 170)
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Дет.
Дет.
Дальн.
Общ.
1
у2
%
Уа
1
2
1
%
2
1
1
1й
1
1У2
3J4
зу4
Гонят солдаты коров.
Солдат перед монголом.
Ндп.: — ДО ЗАХОДА СОЛНЦА ВЕСЬ
УГНАННЫЙ СКОТ СОБРАТЬ ЗДЕСЬ _
Говорит солдат.
Слушает монгол.
Ндп.: ... ИЛИ ...
Солдат выхватил револьвер.
Кланяется монгол.
Ндп.: ЗВЕРИНОЙ ТРОПОЙ.
Скачет всадник.
Смотрит монгол.
Скачет.
Скачет.
Часть пятая
Статуя Будды.
Другая.
Третья.
Лицо Будды ...
... другого.
Ндп.: ПРИГОТОВЬТЕСЬ ...
Идут монахи по двору.
Ндп.: ... ГОВОРИТЬ ОТ ЛИЦА ИМПЕРИИ ...
Проходят мимо аппарата.
Ндп.: ... С ВЕЛИКИМ, БЕССМЕРТНЫМ
ЛАМОЙ ...
(Пр. 6) 2 Идут монахи.
Ндп.: ... ДУША КОТОРОГО ВЕЧНО
ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ ИЗ УМЕРШЕГО ТЕЛА В
НОВОЕ.
Ср. \гА Идут монахи (со спины).
Общ. 1% Входят в храм.
Общ. 1 Уч Несколько всадников-монголов спешилось.
Общ. 2Ы Идут ущельем, ведя в поводу лошадей.
Общ. 2Уа Гонят солдаты стада.
Общ. 1% Прячась, перебегают люди.
™ { К Выглядывают из-за скал,
гхр. % /
Общ. 1/4 Гонят солдаты ...
Общ. lVz ... стадо.
Общ. 2 ... Еще стадо.
Общ. 2 Гонят солдаты скот*
Кр. 34 Солдаты
(Пр. 20) 1У2 Гонят скот ...
Целятся из ружей
Кр. Ср. 73 [ монголы.
336
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
90.
91.
92.
93.
94.
Ср.
СР.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр.
Ср.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
(Пр. 50)
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 91)
У*
Чг
у4
У4
% л
%
У4 f
у4 )
% I
V,
V, J
у2
V,
1
■V* )
Уг \
vj
6 кдр. \
Ю кдр.|
9 кдр. I
12 кдр. )
1%
V.
1У2
у2
1
у2
1У2
3
5
2
2
1У2
1У2
1
1У4
1У4
1
Выстрелил один.
Упал солдат.
Обернулись
солдаты.
Стреляют
монголы.
Спешились солдаты.
Бежит солдат. Упал.
Спешиваются солдаты.
Спешиваются, бегут за прикрытие, пад
даты.
Паника среди скота.
► Стреляют партизаны.
Скачут конные.
Упал солдат.
Бегут, падают солдаты.
Скачут конные партизаны.
Бегут солдаты, лошади.
Скачут солдаты. Упал с лошади один
Скачут партизаны.
Из зтм. Горят жертвенники.
Наплыв.
Сквозь дым чуть видно лицо статуя,
■Ндп.: ...ПРИГОТОВЬТЕСЬ!
Генерал со свитой.
Ндп.: ... САМ ...
Сквозь дым — Будда.
Наплыв.
Жертвенники у статуи.
Ндп.: ... ВЕЛИКИЙ ...
Жертвенники.
Наплыв.
... ближе.
Ндп.: ... БЕССМЕРТНЫЙ
Генерал с генеральшей.
Ндп.: ... МУДРЫЙ ...
Генерал со свитой.
Жертвенники у Будды. В зтм.
Ндп.: ...ЛАМА.
337
Общ. 334 Из зтм. У статуи сидит ребенок.
Ср. 134 Ребенок.
Кр. Ср. 34 Генерал.
КР- % I Офицеры. ' ' ; :
(Пр. 96) 1У2 Ребенок — -лама.
Ндп.: ДУША ЛАМЫ НЕДАВНО
ПЕРЕСЕЛИЛАСЬ В НОВОЕ ТЕЛО ...
Ср. 134 Лама.
Кр. 1% Генерал.
Кр. Ср. 1 Монах говорит.
Ндп.: ХОТЯ ВЕЛИКИЙ НЕ ГОВОРИТ, НО
ВСЕ ПОНИМАЕТ.
(Пр. 101) 1У4 Лама.
Кр. Ср. 1 Генерал.
Кр. Ср. % Ребенок смотрит на ...
Дет. 1% ... четки монаха.
Кр. 1% Ножки ребенка. Шевелит пальчиками.
Кр. 134 Ручки. Зашевелились.
Кр. Ср. 2 Генерал поклонился.
Ср. 1 Монахи.
(Пр. 110) 2 Выпрямился генерал.
Ндп.: ДИПЛОМАТИЯ ТРЕБУЕТ
ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ.
(Пр. 110) 234 Говорит генерал.
Ср. 334 > Слушают монахи.
134 J
Кр. 1 Рука у уха. Слушает монах.
(Пр. 110) 34 Говорит генерал.
Ндп.: МОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕСЬМА
СОЖАЛЕЕТ О ВАШЕЙ НЕДАВНЕЙ
КОНЧИНЕ ...
(Пр. 118) % Генерал склонил голову.
Кр. \У2 - Ребенок.
(Пр. 118) % Говорит генерал.
Ндп.: ... И РАДОСТНО ПРИВЕТСТВУЕТ
ВАШЕ НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ...
Кр. 34 Генерал поклонился,
Дет. % приложив руку к сердцу.
Дет. 1 Сверкает его лысина.
Кр. Ср. 134 Поклонилась генеральша.
Кр. Ср. 134 Смотрит ребенок, смеется.
У?' з/ \ Смеются офицеры.
Ср. 1 Улыбаются монахи.
Общ. д. 234 К воротам храма подскакал кавалерист.
» 2 ' Бежит по двору.
338
132.
133.
134.
135.
136.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 134)
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 138)
(Пр. 137)
(Пр. 138)
Ср.
Кр.
(Пр. 142)
214
Г
1
1%
1й
1У4
1%
3/4
%
1й
4Й
1%
154
2
145.
Кр.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
Кр. Ср.
" Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср..
(Пр. 145)
Дет.
(Пр. 161)
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
У*
у2
V*
У*
V,
1
%
Уг
3%,
iVi
%
%
1
. 1%
%
1У4
1
Оттолкнув монаха, вбежал в храм;
Остановился. Смотрит.
Один из свиты заметил.
Приехавший делает знаки.
Пошел к нему заметивший его офицер.
Приехавший доложил.
Оглянулся монах.
Говорит:
Ндп.: — ДОРОГА ОПАСНА ...
... ПОЯВИЛИСЬ КРАСНЫЕ ...
НЕМЕДЛЕННО УЕЗЖАЙТЕ ...
Офицер обернулся.
Уже два монаха обернулись.
Офицер повернулся к прибывшему и,
улыбаясь, начал разговаривать.
Тот тоже улыбается.
Офицер, простившись, ушел ...
...Подошел к генералу, улыбаясь сказал.
Улыбается генеральша.
Улыбаясь, продолжает разговор генерал.
Кончил.
Говорит:
Ндп.: — ИМПЕРИЯ УВЕРЕНА В КРЕПКОЙ
ДРУЖБЕ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА.
Стреляют партизаны.
Стреляют солдаты из пулемета.
Скот в панике.
Стреляет солдат из ручного пулемета.
Сцепились двое...
...катятся по земле.
Борьба.
Катаются по земле.
Говорит генерал:
Ндп.: — МЫ БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ...
Рука на сердце.
Ндп.: ... НА ВЗАИМНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ
НАШИХ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ.
Рука на сердце.
Смеется лама.
Слушают монахи.
Бог с музыкальным инструментом.
339
1И> Статуя Будды в дыму.
Наплыв,
(Пр. 166)
кр. Ср.
Кр.
(Пр. 169)
Кр.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
(Пр. 175)
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
(Пр. 185)
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
(Пр. 190)
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Ср.
(Пр. 190)
(Пр. 195)
(Пр. 190)
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
1
1
Уг
3*4
IV,
1
2%
37з
1У*
2Уг
7М>
%
Уг
%
Уг .
\Уг
Зх/2
3
2%
4
%
1J4
3
1х/2
%
2
1%
1%
V,
%
2J4
%
%
3Л
7
2
8
Бог с инструментом.
Офицер шепнул, улыбаясь, генералу:
Ндп.: - НУЖНО ТОРОПИТЬСЯ ...
ОЧЕНЬ ОПАСНО ...
Улыбаясь, ответил генерал.
Офицер с улыбкой позвал товарищей, и они
вышли.
Улыбается генеральша.
Офицеры выскочили из храма ...
... бегут по двору.
Выходят из храма.
Офицеры сели на сиденье авто.
Монахи выстроились шпалерами у храма.
Играют на разных инструментах.
Генерал и главные монахи проходят мимо них.
Играют музыканты.
Генерал с генеральшей сели в авто.
Храм (уходит в зтм.).
Едут машины в сопровождении всадника.
Ндп.: НА СЛУЧАЙ ВСТРЕЧИ С
ДРУЖЕСТВЕННЫМ НАРОДОМ.
Генерал проверил револьвер.
Авто по степи.
Трясется по ухабам.
Генерал выглянул.
Всадники в степи.
Едут авто. Стали.
Офицеры достали револьверы.
Ждут.
Генерал — револьвер наготове.
Скачут всадники.
Офицер подошел к авто.
Сказал:
Ндп.: — УСПОКОЙТЕСЬ! СВОИ!
Подскакали всадники.
ОЛицер говорит:
Ндп.: — ВВИДУ СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ
МЫ ВЫСЛАЛИ КОНВОЙ.
Отошел от авто ...
... вскочил на коня.
Авто в сопровождении солдат двинулись дальше.
Дремлет генерал с женой.
Вся процессия.
Затемнение.
340
Часть шестая
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 2)
Ср.
1
Уг
\Уг
5
Общ. 234 К штабу подошли генерал с адъютантом.
Прошли в дверь.
Генерал вошел в дверь.
Вскочил офицер.
Генерал прошел в комнату.
Подошел к столу. Он и офицер сели. Генерал
рассматривает на столе вещи. Офицер говорит:
Ндп.: — ЗАХВАЧЕН МОНГОЛ ИЗ
ПАРТИЗАН.
Кр. Ср. гА Говорит офицер:
Ндп.:— ЭТО НАЙДЕННЫЕ У НЕГО ВЕЩИ.
Рассматривает генерал вещи.
Среди вещей — ладанка.
Генерал ...
... придвинул к себе вещи.
Перебирает их генерал, отбрасывая
неинтересное. Остановился на ладанке.
К штабу подвели Инкижинова со связанными
руками.
В дверь вошел солдат. Доложил.
Генерал приказал.
Докладывает солдат.
Генерал рассматривает содержание ладанки*
Брезгливо вытер платком руки.
Ввели монгола.
Смотрят генерал
и офицер.
Смотрит монгол.
Генерал спросил ...
... офицера. Тот ответил.
Стоит монгол.
Офицер спросил:
Ндп.: — ПАРТИЗАН?
Говорит офицер.
Отвечает монгол, не понимая.
Говорит офицер:
Ндп.: — КРАСНЫЙ?
Офицер.
Монгол (это Инкижинов).
Генерал вытирает руки.
Говорит офицер:
Ндп.: — МОСКВА?
Генерал повернул голову.
Понял Инкижинов, закивал головой.
Генерал дал распоряжение.
Подошел солдат.
Говорит генерал:
Кр. Ср.
Дет.
(Пр. 7)
Дет.
(Пр. 7)
(Пр. 1)
Ср.
(Пр. 7)
(Пр. 13)
(Пр. 7)
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 18)
(Пр. 19)
(Пр. 20)
(Пр. 19)
(Пр. 24)
(Пр. 20)
(Пр. 19)
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 7)
(Пр. 19)
(Пр. 18)
(Пр. 29)
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 34)
3'/4
у2
Уг
%
4У2
ЗУ4
1%
2/5
1
ЗУ4
4 У,
1У4
1
%
1
1
1
у2
Уг
1У2
1
%
1У2
%
Уг
Уг
1У4
у4
%
Уг
341
37.
.38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
49.
50.
51;
52.
.53...
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
(Пр. 35)
Кр. Ср.
(Пр. 34)
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 45)
Ср. .
Кр. Ср.
(Пр. 53)
(Пр. 64)
Ср.
(Пр. 54)
Кр. Ср.
(Пр. 54)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 61)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 61)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 67)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 67)
Ср.
%
1Уг
2
3
%
\Уа
\%
Уг
1У4
2Уг
%
Уг
Х/з
1
%
Уг
Уг
2
1%
у2
%
1
2
%
3
7
1*4
6%
Уг
1У4
2 У.
3 .
Уг
. 1Уг
1
1
Уг
1Уг
74. Ср.
Ндп.: — ПРИСТРЕЛИТЬ ЭТО ЖИВОТНОЕ!
Солдат козырнул ...
... подтолкнул Инкижинова к двери.
Переложил револьвер и кобуру в карман.
Генерал кончил чистить ногти.
В казарме отдыхают солдаты.
Читает, один.
Спит другой.
Двое играют.
Сложены в пирамиду винтовки.
Ест солдат.
Солдат ввел Инкижинова.
Оглянулись солдаты.
Смотрят
улыбаясь.
Конвоир сказал что-то.
Встал обедавший.
Застегнул куртку, подошел к ...
конвоиру и Инкижинову.
Конвоир говорит:
Ндп.:—ВЫВЕДИ ЗАГОРОД И ПРИСТРЕЛИ.
Сбежала улыбка у солдата.
Конвоир вышел.
Смотрит солдат.
Ушел конвоир.
Посмотрел солдат на ...
... монгола ..;
... вышел из кадра.
Солдату вешалки. Надевает ремень с
револьвером.- Посмотрел на монгола.
Смотрит монгол.
Одевается дальше.
Наблюдает солдат.
Играют в карты.
Солдат оделся, вышел.
Подошел к пирамиде. Взял винтовку,
проверил. Посмотрел на ...
... монгола ...
... и отвернулся.
Спит солдат.
Читает журнал другой.
Солдат надел на ремень винтовку, пошел к
... Инкижинову. Знаками показал, что надо
идти. Оба вышли.
Затемнение.
Генерал и офицер за столом. Генерал пишет.
Офицер заинтересовался ...
342
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
Дет.
(Пр. 74)
Кр. Ср.
(Пр. 74)
(Пр. 77)
(Пр. 79)
(Пр. 79)
Общ.
Кр. Ср.
Дет.
(Пр. 83)
Ср.
-Общ. д.
Ср.
Дет.
Кр.
(Пр. 89)
Общ.
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 93)
(Пр. 94)
(Пр. 93)
Ср.
(Пр. 93)
Кр.
(Пр. 93)
Ср.
Дет.
(Пр. 103)
(Пр. 93)
(Пр. 102)
(Пр. 93)
(102)
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
1
1%
1%
1У2
У*
1
\У2
10 У2
кУг
3
8 У*
3
4
\У2
1%
1
■1У*
5%
1У4
8%
1Уг
9
1%
5%
\у2
1
1%
4'
%
8Уг
VA
\Уг
1
ЪУг
\у2\
2%/
18,4
%
-щ
... ладанкой.
К нему подошел другой офицер.
Пишет генерал.
Офицер обратился к ...
... генералу.
Показывает ему что-то.
Ответил генерал, пишет дальше.
По улице, обходя грязь, идут солдат и Инки-
жинов. -
Другой офицер достал ножик, передал первому.
Тот ...
... распорол ладанку, вытащил
... из нее какой-то свиток. Обратился
... к генералу. Тот заинтересовался.
Ведет солдат Инкижинова за городом.
Склонились над свитком генерал и офицеры.
Ндп.: ПЕРЕВОДЧИК.
Рассматривает свиток офицер:
Генерал смотрит.
Офицер поднял голову,
Ндп.: - ЭТО ИЛИ ШИФР, ИЛИ НАПИСАНО
НА ДРЕВНЕМ ЯЗЫКЕ, Я НЕ МОГУ
ПОНЯТЬ ...
Идут солдат и Инкижинов. Остановились.
Инкижинов.
Солдат достал кисет и трубку.
Инкижинов.
Солдат ищет спички. Свернул папиросу.
Инкижинов.
Передает папиросу Инкижинову.
Смеется Инкижинов.
Солдат.
Инкижинов.
Солдат дает папиросу. Тот не берет. Смотрит
солдат ...
• -... связаны руки.
Сунул ему в рот папиросу, дал прикурить.
Выпустил папиросу из губ Инкижинов.
Солдат посмотрел на упавшую папиросу.
Смеется Инкижинов.
Солдат повернул его, толкнул в спину. Пошли.
Идут "...
Ндп.: МИССИОНЕР — СПЕЦИАЛИСТ НО
ДРЕВНЕМОНГОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ.
Разбирает миссионер свиток.
Ждет генерал и офицер.
Миссионер разобрал. Говорит:
Ндп.: — ЭТО ...
343
114. (Пр. ИЗ)
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Общ. д.
Дет.
Ср.
Кр.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Кр.
Дет.
Кр.
(Пр. 128)
(Пр. 127)
Кр.
Общ.
Общ.
Дальн.
Ср.
Кр.
Дет.
Дет.
Общ.
Дальн.
Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
(Пр. 151)
(Пр. 152)
(Пр. 153)
4%
%
%
1
1У4
1х/2
1У2
V, )
у* )
2Уг
%
%
4
2
ЗУ,
%
1У2
Ндп.: ... СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧАЙНЫЙ
ДОКУМЕНТ!
Идут над обрывом. Остановился солдат,
... достал револьвер.
Идет Инкижинов.
Целится солдат.
Идет Инкижинов.
Целится солдат.
Говорит миссионер:
Ндп.: — ГРАМОТА УКАЗЫВАЕТ НА ТО,
ЧТО ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ ...
Говорит миссионер:
Ндп.: ... ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ ПОТОМКОМ
ЧИНГИС-ХАНА
Миссионер с грамотой.
Выстрелил солдат.
Закачался Инкижинов, обернулся.
Сорвал винтовку солдат. Целится.
Генерал:
Ндп.: — ВЕРНУТЬ!
Вскочил генерал.
Выскочил в дверь офицер.
Миссионер с грамотой.
Целится солдат.
Инкижинов ...
... закричал от боли.
Упал в овраг.
Покатился под откос.
Стоит солдат.
Смотрит.
Грязь.
Солдат вытер пот со лба. Пошел ..♦
... прочь
Ндп.: - ВЕРНУТЬ!
Солдат выскочил в дверь.
Пробегают ноги солдата.
Идет по липкой грязи солдат.
Идут навстречу солдаты.
Солдат поправляет обмотку.
Солдаты заметили его ...
Поправляет обмотку.
344
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
1.
2.
3.
4.
Общ.
Общ.
Ср.
Кр.
(Пр. 158)
(Пр. 159)
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 158)
(Пр. 158)
Общ.
Общ.
Кр.
Кр.
Общ.
Общ.
Общ.
(Пр. 171)
Кр.
(Пр. 172)
(Пр. 171)
Общ.
Общ.
Дет.
Ср.
Дальн.
Дальн.
Общ.
Дальн.
(Пр. 184)
(Пр. 183)
Дальн.
Кр.
(Пр. 183)
Общ.
Дальн.
Кр. Ср.
Общ.
Дет.
Кр.
1'/4
1
%
у2
1%
Уг
Уг
1
1
1%
1
1
у2
2
%
%
Уг
Уа
%
1
1%
2Уг
У*
V,
Уг
\Уг
1
1Ух
1
4
1Уг
1Уг
4Уг
2%
6
ЪУг
\Уг
Уг
%
Пошли солдаты.
Через громадную лужу.
Заматывает обмотку.
Кричит ему солдат.
Поднял голову.
Кричит солдат.
Слушает.
Кричит другой солдат.
Выпрямился солдат.
Ндп.: — МОЖЕТ БЫТЬ, ЖИВ!
Вскинул винтовку на ремень, побежал.
Бежит.
Пошли за ним солдаты.
Генерал говорит по телефону ...
... с женой.
Кучка сосен.
Солдат подбежал к обрыву.
Никого.
Наклонился.
Смотрит.
Никого.
Полез в овраг
Идут солдаты.
Солдат съехал вниз.
Ндп.: — ТРУПА НЕТ!
Изрытый песок.
Солдаты над обрывом.
Кричит им:
Ндп.: — ЖИВ, ЖИВ!
Солдаты.
Лежит Инкижинов.
Спускается к нему солдат.
Ндп.: — ЖИВ!
Спускается.
Подбежал к Инкижинову, наклонился, смотрит,
Спускаются солдаты.
Лицо Инкижинова.
Подошли солдаты. Подняли Инкижинова, по
несли.
Несут ...
Несут ...
Затемнение.
Часть седьмая
Генерал рассматривает свиток.
Встал. Офицеры смотрят.
Свиток.
Генерал сказал.
345
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
КР.
Кр.
Кр.
(Пр. 4)
Кр. Ср.
(Пр. 4)
Дет.
Кр.
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
Ср.
Общ.
(Пр. 13)
Кр. Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Кр.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
3/4
У*
%
%
%
%
1
у2
1%
%
%
%
%
ЪУг
1У4
1
4У2
2
2
1У4
1У2
1
1
2
2%
1
2
2У4
1%
1
Слушают офицеры.
Один зевнул.
Говорит генерал:
Ндп.: — МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ
СИЛЫ ...
Офицер и монах.
Переводчик и штатский.
Говорит генерал:
Ндп.: ... ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЧАСТЛИВУЮ НАХОДКУ...
Свисток.
Ндп.: — МЫ СДЕЛАЕМ ИЗ НЕГО
ВЛАСТИТЕЛЯ СТРАНЫ.
И, улыбаясь, выпустив дым:
Ндп.: — ЧЕРЕЗ НЕГО УКРЕПИМ НАШУ
ВЛАСТЬ.
Офицер сказал:
Ндп.: — ПОПРОБУЕМ!
Статуэтка в руках.
Ндп.:- ДУХОВЕНСТВО НАС ПОДДЕРЖИТ.
Флаги.
Танцует в маске монах.
Проходят с музыкальными инструментами
разодетые для священных танцев монахи.
Говорит генерал.
Доктор вытерся полотенцем, сказал:
Ндп.: — ГОТОВ!
Вошли генерал со свитой. Вышел вперед
монах.
Вошли дамы.
Смотрят генерал со свитой.
Весь забинтованный лежит Инкижинов.
Ндп.: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ...
Доктор моет руки.
Ндп.: ... АЗИЯ ...
Забинтованный Инкижинов.
Генерал, дамы, монах.
Ндп.: ... ПОД МОЩНЫМ
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЯ!
Забинтованная голова.
Уходит в затемнение,
Ндп.: ВЛАСТИТЕЛЬ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ.
Переводчик впустил в комнату дам.
Дамы остановились. Он прошел.
Инкижинов в кресле и монах. Монах встал.
Дамы сели в кресла.
Кланяется монах.
Улыбаются дамы.
346
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 33)
(Пр. 36)
Кр. Ср.
(Пр. 33)
Ср.
Ср.
(Пр. 42)-
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 47)
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 49)
Ср.
(Пр. 50)
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 52)
(Пр. 49)
Ср.
Кр.
(Пр. 56)
(Пр. 58)
(Пр. 58)
(Пр. 58)
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
1У*
1
%
• 13/4
1
1%
ЗУ2
2
2У2
2
2
Ь/г
2
Уг
3
1%
2
\Уг
Уг
1У4
1
\Уг
1
1
1У4
2У4
1У2
Уг
2%
1Уг
\Уа
%
\Уг
\Уг
1
2
%
1
Одна обратилась к переводчику.
Он ответил, указав на больного.
Слушают дамы.
Монах и больной.
Говорит переводчик:
Ндп.: — ВОСПИТЫВАЕМ ДУШУ
БУДУЩЕГО ПРАВИТЕЛЯ!
Умиляются дамы.
Монах оделся, ушел.
Дамы проводили его взглядами.
Монах раскланялся, вышел.
Дамы повернулись к ...
... больному.
Дама подошла к переводчику.
Показала ему журнал.
Ндп,: - ОБЪЯСНИТЕ, ЧТО ОН СТАЛ
ЗНАМЕНИТЫМ.
Переводчик пошел.
Показал больному журнал.
Шепчутся дамы.
К двери подошли офицеры и генерал.
Войдя, генерал поклонился.
Смотрит.
Переводчик поспешил к нему.
Генерал говорит:
Ндп.: - ПЕРЕВЕДИТЕ, ЧТО ЯВИЛИСЬ
ПОСЛАННЫЕ ОТ ВЛАДЕТЕЛЬНЫХ
КНЯЗЕЙ.
Переводчик пошел.
Дамы встали.
Улыбаются генералы и офицеры.
Дамы сели.
Переводчик объяснил больному.
Вошел монгол. Смотрит.
Генерал указал ему.
Монгол достал из-за пазухи что-то.
Ндп.: — МОЙ КНЯЗЬ ...
Развернул длинный шарф ...
Ндп.: ... ШЛЕТ СВОЮ ПОКОРНОСТЬ ...
и, поклонившись, добавил:
Ндп.: ... И ДВЕ ТЫСЯЧИ
ВСАДНИКОВ ...
Монгол двинулся к...
... больному. Преклонил колени.
В восторге дамы.
Инкижинов
... невозмутим. Переводчик взял шарф.
Генерал и офицеры.
Монгол поднялся с колен.
347
(Пр. 66)
(Пр. 68)
Общ.
(Пр. 68)
(Пр. 70)
Кр.
Ср.
Ср.
(Пр. 74)
(Пр. 75)
(Пр. 74)
(Пр. 75)
(Пр. 74)
Кр.
(Пр. 74)
Кр.
(Пр. 74)
Кр. Ср.
(Пр. 74)
(Пр. 85)
(Пр. 87)
Ср.
Ср.
(Пр. 89)
(Пр. 90)
(Пр. 89)
Кр. Ср.
(Пр. 89)
Кр.
Общ.
(Пр. 90)
(Пр. 89)
(Пр. 90)
Кр. Ср.
КР.
(Пр. 101)
(Пр. 102)
(Пр. 101)
(Пр. 102)
1
ЗУ4
1
1У4
2Уг
1%
1
2
2
1%
3
1
2
1
1
%
8
у>
1
1
1
4
1
1У4
1J4
2
%
1
%
2У2
1У2
2У2
23/4
1%
у2
У2
У*
1
1
Генерал спросил:
#<9«.: - ПОЖАЛУЙ, ДЕЛО НАЛАДИТСЯ?
Офицер подтвердил.
Монгол вышел.
Генерал двинулся,
... и они вышли из комнаты.
Ндп.: ВЛАСТИТЕЛЬ ВЫЗДОРОВЕЛ.
Инкижинову поправляют брюки (внизу).
Портной у его ног.
Генерал со свитой наблюдают.
Портной доволен брюками.
Генерал что-то сострил.
Одевают фрак.
Свита.
Инкижинов готов.
Смеется офицер.
Инкижинов. Фрак не по нем.
Смеется генерал.
Фрак сняли. Надели другой.
Генерал дает советы.
Инкижинов один.
Говорит генерал:
Ндп.: - ПУСТЬ ПРОЙДЕТСЯ.
Генерал.
Переводчик перевел.
Смеется свита.
Смотрит на них Инкижинов.
Свита.
Инкижинов.
Говорит ему переводчик.
Инкижинов.
Смеется офицер.
Стоит Инкижинов.
Свита поощряет его.
Инкижинов.
Генерал, посоветовавшись, встал.
Переводчик уговаривает.
Генерал сказал.
Переводчик повернулся.
Генерал говорит:
Ндп.: — ПРЕДУПРЕДИТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ
ВЕЧЕРОМ МЫ ЕГО ПОКАЗЫВАЕМ.
Переводчик поклонился.
Генерал вышел.
Часть восьмая
Ндп.: ИЗ ГЛУБИНЫ СТРАНЫ. ПОСЛЕ
УДАЧНОЙ ТОРГОВЛИ...
Дальн. 3 Едет автомобиль (на аппарат).
348
Общ. Уъ Едет машина по улице.
Ндп.: ... НАКОНЕЦ-ТО ...
... К КУЛЬТУРНЫМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ.
Подъехала к двухэтажному дому.
Из машины вылез ...
... уже знакомый нам англичанин. Отряхнул
пыль, пошел в дом.
Поднялся на второй этаж. Позвонил. Дверь
открыл ...
... монгол ...
Спросил его. Ответил монгол:
Ндп.: — ХОЗЯИНА НЕТ ДОМА.
Говорит монгол.
Англичанин спросил.
Ответил монгол.
Англичанин ...
... отбросил его, вошел в квартиру.
Вошел в переднюю.
Окликнул:
Ндп.: — ЭЙ, ЕСТЬ ЗДЕСЬ ЛЮДИ?
Ждет.
Из двери вышел солдат.
Спросил его.
Ответил солдат:
Ндп.: — ГОСПОДИН ЛЕЙТЕНАНТ В
СОБРАНИИ.
Солдат вызвал по телефону, передал ему
трубку.
У телефона офицер.
Англичанин.
Офицер.
Англичанин.
Офицер:
Ндп.: — ПЕРЕОДЕВАЙТЕСЬ И
ПРИЕЗЖАЙТЕ.
Офицер оторвался от трубки.
По комнате идет девушка.
Офицер говорит в трубку:
Ндп.: — ОДНУ МИНУТУ ...
и передает трубку ...
... девушке.
Англичанин.
Девушка.
Англичанин.
Общ.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 9)
(Пр. 8)
(Пр. 9)
(Пр. 8)
(Пр. 6)
Ср.
Кр.
(Пр. 16)
Ср.
(Пр. 16)
(Пр. 18)
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 26)
Общ.
(Пр. 26)
Дет.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
1У4
2У2
5
4У2
%
Уг
У*
у4
Уг
1%
7,
%
\Уг
1
%
1х/4
1%
Уг
5
' %
Уг
Уг
%
Уг
1У4
1
Уг
1
1У4
Уг
%
1Уг
349
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Кр.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
д.
Кр.
Кр.
Дет.
Кр.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Дет.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Общ.
Кр. Ср.
(Пр. 67)
(Пр. 67)
Кр. Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Общ.
2/з 1
?/з
1
у2
1
у2
%
У2 J
1
ЪУг
1У2
2
1
1%
%
%
%
1У2'
Разговор по телефону.
5 затемнение.
Ндп.: В СОБРАНИИ.
#3 затемнения. Сидят офицеры. Встг
при появлении девушки.
На диване сидит знакомая нам девушка.
Вошел ...
... англичанин. Увидел ...
.. . девушку.
Ндп.: СМЕЛЫЙ ОХОТНИК...
Он.
Она.
Он.
Ндп.: ... ИЗ ДИКИХ СТЕПЕЙ ...
% \ Пейзажи (степь).
1
% '
%.
%
VA
1
7У2
1У4
4У2
6
1
У2
1
1%
у2
1%
1
у2
1У2
1%
1
У2
6
1
Он.
Она.
Ндп.: ... СО ШКУРОЙ УБИТОГО ЗВЕРЯ
Шкура лисы в руках.
Девушка.
Он подошел ...
... к ней, поздоровались. Он ...
... сел рядом.
Деталь потолка. Бьет фонтан.
Наплыв.
Он передал ей шкуру.
Она примерила.
Он.
Она.
Прошел офицер.
Она оглянулась.
Пробежали офицер, потом дама.
. Ндп.: ПРИВЕЗЛИ!
Прошли два офицера.
Смотрят англичанин и девушка.
Офицер посмотрел, быстро ушел.
Девушка говорит ему.
Встала.
Он за ней.
Девушка стала в проходе.
350
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
(Пр. 78)
Кр. Ср.
(Пр. 78)
Кр.
Кр.
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 88)
Общ.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Дет.
Кр.
Кр.
Дет.
Кр.
Дет.
(Пр. 101)
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Общ.
Кр. Ср.
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 110)
(Пр. 108)
Ср.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
6
1й
4
%
3
%
%
Уг
у2
Уг
1
%
Уг
Уг
%
%)
уЛ
Уг)
7,
%
Уг
Уг
- Уг
1
7,
V,
Уг
Уг
Уа
Уг
V,
1/4 \
7а
V.
Va
V,
%
%
Уг
2Уг
В сопровождении генерала с женой и свиты
вошел Инкижинов.
Ждет девушка.
Идут. Вдруг Инкижинов остановился.
Девушка.
Смотрит Инкижинов на ...
... девушку.
Смотрит англичанин.
Инкижинов ...
... девушка.
Смотрят
гости (свита).
Инкижинов ...
... англичанин.
Инкижинов пошел ...
... к девушке.
Смотрит на ...
... мех у девушки на шее.
Девушка.
Инкижинов.
Англичанин.
Инкижинов.
Поднялась рука.
Испугана девушка.
Дотронулся до меха.
Кричит девушка.
Рука сорвала мех.
Отскочила ...
... убежала девушка.
Бросился англичанин...
... к Инкижинову.
Кричит ...
... Инкижинову ...
... замахнулся.
Разняли их,
... оттащили англичанина.
Успокаивают его.
Инкижинов.
Рыдает девушка. Ее успокаивают.
Ндп.: - Я ТРЕБУЮ ...
Общ. 1 Уг Пробежал англичанин. За ним остальные.
Ндп.: ...ЧТОБЫ ДОСТОИНСТВО БЕЛЫХ...
Кр. Ср. 1 Уг Говорит англичанин.
Ндп.: ...ОХРАНЯЛОСЬ ОТ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ ЦВЕТНЫХ НЕГОДЯЕВ.
(Пр. 119) 1 Кричит англичанин. Остановился.
351
Смотрит на него генерал.
Застыл англичанин.
Генерал.
Англичанин.
Генерал в ореоле (условный кадр).
Ндп.: - ИМЕНЕМ ВРУЧЕННОЙ МНЕ
ВЛАСТИ...
Генерал в ореоле:
Ндп.: ... Я ПРИКАЗЫВАЮ ...
... ВАМ ...
... УДАЛИТЬСЯ!
Генерал.
Англичанин.
Переводчик успокаивает Инкижинова.
В затемнение. Всхлипывающая девушка.
(Иззтм). Рука вколачивает молотком гвоздь.
Наплыв.
Приколачивает материю солдат.
Наплыв.
Натягивают материю.
Ндп.: НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬСЯ ...
Руки украшают ...
... стену. Это солдаты. Они прибивают флаги.
Ндп.: ... К ТОРЖЕСТВЕННОМУ
ЗАСЕДАНИЮ И ...
Работают солдаты.
Наплыв.
Наблюдает генерал с офицерами.
Ндп.: ... К ПОДПИСАНИЮ ДОГОВОРА.
Солдаты устанавливают крытый сукном стол.
Печатает на пишущей машинке офицер.
Ндп.: — ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ.
143. Кр. Ср. 1М> Офицер чистит револьвер.
Ндп.: — ВЛАСТИТЕЛЬ СТРАНЫ
ОБЯЗУЕТСЯ УСТУПИТЬ НАМ ...
Диктует генерал.
Говорит англичанин.
Слушает офицер.
Диктует генерал.
Ндп.: ... НАИЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО
НАИМЕНЬШЕЙ ЦЕНЕ...
Печатает офицер.
. Украшают солдаты.
Одевают в роскошный халат ...
... Инкижинова. Наблюдают ...
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Кр.
(Пр. 119)
(Пр. 121)
(Пр. 119)
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 126)
(Пр. 125)
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Дет.
Ср.
Ср.
Дет.
Дет.
Дет.
Общ.
Общ.
Общ.
(Пр. 139)
Кр. Ср.
%
Уг
1
%
VA
Уг
1/2 1
У*(
%
\Уг
1
2Уг
2М>
2
\УгЛ
Уг \
у2 J
\Уг
%
1%
2Уг
Уг
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Кр.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 144)
Кр. Ср.
Кр.
Ср.
Общ.
12/з
\Уг
1
1
Уг
1
\Уг
3
ЧУг
352
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
163.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
12 в.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
(Пр. 156)
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 161)
Кр. Ср.
Ср.
Общ.
Кр.
Кр.
(Пр. 167)
(Пр. 166)
(Пр. 165)
Кр.
Кр.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
(Пр. 176)
Дет.
Дет.
Кр.
Кр.
Кр.
Дет.
Общ.
(Пр. 181)
(Пр. 185)
Общ.
Общ.
Пудовкин, т. 1
%
1й
у2
5
1%
1
%
1
3
%
%
\Уг
2У2
%
1
Уг
у2
%
1
1%
3
%
\уг
%
Уг
Уг
У*
Уг
У»
Уг
Уг
%
2
Уг
\Уг
1%
\Уг
... жена генерала и девушка.
Диктует генерал:
Ндп.: - ИМПЕРИЯ ОБЯЗУЕТСЯ ...
Печатает офицер.
Ндп.: УКРЕПИТЬ ЕГО ВЛАСТЬ ...
На Инкижинова надели шапку.
Жена генерала дает указания портному.
Портной снял с него шапку, поправляет.
Диктует генерал:
Ндп.: — ... НЕУСЫПНО ЗАБОТИТЬСЯ О
БЛАГЕ НАРОДА ...
Печатает офицер.
Офицер, чистивший револьвер, сказал:
Ндп.: — ПРИБАВЬТЕ: СВЯТО СОБЛЮДАЯ
ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ...
Говорит с револьвером в руках офицер.
Потирает лоб другой.
Генерал повернулся к офицеру за машинкой.
Диктует. Вошел...
... солдат.
Ндп.: — АРЕСТОВАННЫЙ В ПОДВАЛЕ.
Гененал *
Ндп.: — Я ЖЕ РАСПОРЯДИЛСЯ ...
И отвернулся.
Солдат козырнул, повернулся... 1_;
... и вышел.
Диктует генерал:
Ндп.: — СВЯТО СОБЛЮДАЯ ВЗАИМНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ.
Печатает офицер.
Солдат спустился в подвал.
Арестованный монгол.
Подошли солдаты.
Испуган монгол.
Солдат.
Монгол.
Солдатские ноги.
Рука на револьвере.
Монгол:
Ндп.: - МЕНЯ НЕ НАДО СТРЕЛЯТЬ,..
Монгол.
Солдат.
Ноги двинулись.
Солдат подошел к монголу, тащит его.
Вторые ноги двинулись.
Подбежал второй солдат на помощь.
Ндп.: — НЕ НАДО СТРЕЛЯТЬ!
Потащили монгола.
Вырвался монгол.
353
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Кр. Ср.
(Пр. 197)
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
(Пр. 202)
(Пр. 204)
Общ.
(Пр. 204)
Кр.. Ср.
Дет.
(Пр. 209)
(Пр. 209)
Общ.
Дет.
Кр.
Кр.
Кр.
Общ.
(Пр. 217)
Кр.
КР.
(Пр. 218)
Кр.
(Пр. 218)
(Пр. 215)
(Пр. 218)
Общ.
Кр.
Кр.
Ср.
у2
1
1
%
%
2/
/з
3
1%
у2
у2
%
Уг
%
V,
IV,
1
%
1
1
%
V,
. V.
7з
% '
у4
Уг
v,
8 кдр.
%
Уа
Уг
V,
У*
%
у%
У*
1%
%
Уа
%
Уг
Бежит по лестнице.
Солдаты ...
...за ним.
Монгол вбежал в дверь.
Пробежал через комнату.
Выбежал из двери.
Ндп.: — НЕ НАДО!
Бежит по коридору. В дверь — заперта.
Дальше. За ним — солдат.
Бежит по лестнице. Солдаты — за ним.
Кричит сержант:
Ндп.: — ПРИСТРЕЛИТЕ ЕГО!
Бегут по лестнице.
Пробежал солдат по лестнице.
Обернулись генеральша и девушка.
Вбежал монгол.
Обернулся портной.
Забился монгол в угол.
Вбежали солдаты ...
... к монголу.
Смотрят Инкижинов и женщины.
Борется солдат с ...
... монголом.
Ноги борющихся.
Борются.
Ндп.: — КУСАЕТСЯ!
Схватился солдат за руку.
Вырвался монгол.
Забился в угол.
Ндп.:— ЧЕРТ!
Разбитый цветок.
Инкижинов.
Кричит сержант:
Ндп.: — СТРЕЛЯЙ ЖЕ!
Отвернулся солдат.
Закрыл голову монгол.
Стреляет солдат.
Кричит женщина.
Обернулся сержант:
Ндп.: — ВИНОВАТ, МАДАМ!
Обмяк, падает монгол.
Стреляет, солдат.
Лежит монгол.
Инкижинов.
Лежит монгол.
Подбежали солдаты.
Закричал Инкижинов.
Обернулся ...
...сержант. Подскочил к нему Инкижинов.
354
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
Общ.
Кр.
Кр. Ср.
Ср.
Кр.
Кр.
Кр. Ср.
(Пр. 234)
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
Общ.
Кр. Ср.
Общ.
Дет.
Дет.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Дет.
Кр.
Дет.
Общ.
Кр. Ср.
Ср.
Кр.
Кр.
—
—
V»
Уг
%
Уг
%
%
% 1
А
1/2
v, J
Уг
Уг
Уг
У*
%
7 кдр. "1
9 »
10 » >
7 »
12 » J
%
Уг
у2
2
\Уг
%
Уг
Уг
ч
V.
7.
v3
IV,
1/41
Уг )
Уг
2/з \
У* /
8 кдр.
2 »
1 »
3 »
2 »
3 »
Обернулись солдаты.
Портной — ужас.
Сержант и Инкижинов.
Солдаты.
Инкижинов ...
... и сержант.
Мотает Инкижинов сержанта.
Солдаты — на помощь.
Инкижинов и сержант.
Упал сержант на руки солдат.
С генеральшей обморок. Кричит в
вушка.
Упал за диван портной
Летит ...
... падает на пол ...
мебель.
Солдаты борются с Инкижиновым
Их ноги.
Упал стол. Вывалились ящики.
В борьбе вывалились за дверь.
Борьба.
Сломали перила лестницы
Обрушилось что-то.
Ноги борющихся.
Драка.
Ноги.
Драка.
Ноги.
Упал солдат в пролет.
Драка.
Катятся солдаты по лестнице ...
... по ступенькам.
Ндп.: ДОЛОЙ ГРАБИТЕЛЕЙ!
Взрыв.
Черных,
Светлый.
Черных.'
Светлых.
Черных.
12*
355
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
319.
320.
321.
322.
323.
—
—
—
—
Общ.
Ср.
Ср.
Общ.
Ср.
—
—
Общ.
Ср.
Кр. Ср.
Кр.
Кр.
Кр.
Общ.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Дет.
Кр. Ср.
Дет.
Дет.
Кр.
Кр.
Кр.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Общ.
Общ.
Общ.
Общ.
Кр.
3 кдр.
6 »
2 »
1 »
1%
Уг
1
%
Уг
Уг
V,
6 кдр.
х/2
2/з
V,
lU)
1
>
V.J
7,
7,
V,
7,
%
Уг
3 кдр.
2 »
4 »
3 »
5 кдр.
4 кдр.
5 кдр. t
1 кдр.
1 »
1 '»
7,
7,
%
1Х/4
%
ltt
х/4
й
%
й
V,
Взрыв.
Черных.
Взрыв.
Черный.
Инкижинов с саблей в руках на сломанной
площадке лестницы.
Бежит вниз по лестнице.
Лежащие внизу солдаты.
Вбежал в вестибюль солдат.
В ужасе.
Вскочили офицеры.
Упал солдат.
Инкижинов ...
... соскочил сверху.
Смотрит (на офицера).
В ужасе ...
... офицеры.
Инкижинов.
Бегут от него офицеры.
Кричит
Инкижинов.
Перевернул стол.
Упал стол.
Машет саблей Инкижинов.
)
V Сверкает клинок.
J
Ндп.: — ДОЛОЙ!
)
} Клинок.
)
Темный.
Светлый.
Темный.
Ндп.: ... БАНДИТОВ!..
Инкижинов.
Офицер.
Кричит Инкижинов.
Машет саблей.
Инкижинов
в неистовстве.
Крошит саблей
что ни попало —
мебель,
стены.
Рубит
356
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Ср.
Кр.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
Дет.
Ср.
Общ.
(Пр. 337)
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Общ.
Ср.
Кр. Ср.
(Пр. 347)
Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
Ср.
Кр.
Кр.
Кр.
Общ.
Дет.
Уг
2/3
у2
V,
у2
1
9 кдр
%
2/5
8 кдр
у2
у4
х4
%
%
%
Уг
у2
Уг
У* )
Уг \
VA)
1У4
Уг
Уа
Уг
\УЛ
Уг \
Уг )
1Уг
1
1
Уг
Чь
Уг
2
\Уг
362.
Дет.
саблей
вокруг себя.
Упал офицер.
Упал другой.
Через кадр — кричит Инкижинов ...
Ндп.: - ДОЛОЙ...
Через кадр — машет шашкой,
Ндп.: ... ВОРОВ!
Схватил солдата.
Бьет.
Падают солдаты.
Упал солдат.
Поднимается — бежит.
Взрыв.
Уползает солдат.
Летит, ломается мебель.
Падает солдат.
Ударился в дверь европеец ...
Вывалился за дверь.
Через кадр — сверкающий клинок,
Инкижинов размахивает саблей.
1 кдр.—кегли, 1 кдр. — семь сверкающих
клинков.
1 кдр.—Инкижинов машет саблей и т. д.
(кегли, клинки, Инкижинов).
Офицер среди разбитой мебели стреляет из
револьвера.
Убегают ...
... по полутемным коридорам ...
... белые.
Инкижинов, вскочив на окно ...
... фехтует.
Выпрыгнул из окна ...
... на улицу.
Взрывы — один за другим,
все укрупняясь.
Проскакал (на аппарат) Инкижинов.
Пробирается среди мебели генерал.
Встает офицер.
Потрясая руками, кричит генерал:
Ндп.: - К ОРУЖИЮ!
То же в другую сторону.
Офицер:
Ндп.: — ПОЙМАТЬ!
Хватают солдаты винтовки из пирамиды.
Пробегают солдатские ноги...
Ндп.: - УНИЧТОЖИТЬ!
... ноги (мимо аппарата и на аппарат).
357
363.
364.
365.
366.
367.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
Дет.
—
—
—
Ср.
Дальн.
»
Дет.
д.
Общ.
Дет.
Общ.
Общ.
Дальн.
—
Общ.
Дет.
Дет.
—
(Пр. 382)
(Пр. 383)
(Пр. 383)
—
—
(Пр. 383)
Ср.
Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
Кр. Ср.
—
Дет.
Ср.
Кр. Ср.
Общ.
Кр. Ср.
Дет.
Общ.
1
11 кдр
3 кдр.
4 »
1%
1%
\Уг
Уг
1У4
\Уг
VA
1
V,
8/«
V,
%
1%
1Х/2
1
%
%
%
Уг
7,
1
1
2/з
V.
V,
Уг
Уг \
Уг )
Уг
Уг
V,
7,
.Уг
Уг
У, \
И )
Уг
%
1/4 1
Уа )
Уг
Уг
... ноги лошадей — через кадр.
Взрыв.
Темное, светлое пятно.
Засвеченных.
Скачет на аппарат Инкижинов.
Скачут через кадр конные.
Скачет Инкижинов среди конных монголов.
Наплыв.
Ноги коней — на аппарат.
Инкижинов среди монголов.
Наплыв.
Скачут монголы.
Несется на аппарат лавина.
Бегут от аппарата солдаты.
Пробегают их ноги.
Облака (тучи).
Солдаты.
Облака (тучи).
Ноги мимо аппарата.
Лавина конных уже близко.
Понес ветер пыль.
Качает деревья.
Несет ветер всякую дрянь.
Проносятся кони (крупно).
Качается дерево.
Несет ветер листья.
Кони.
Дерево.
Ветка.
Дерево.
Пыль.
Летит всякая дрянь.
Дерево.
Солдаты против урагана.
Грозит кулаком генерал.
Сдул ветер фуражку с солдата.
Угрожает генерал.
Борется солдат с ураганом.
Пыль, листья.
Скачут кони (крупно).
Ветер пересиливает солдат.
Смело генерала.
Летят фуражки, упал солдат.
Летят солдаты.
Морды коней.
Гнутся деревья.
358
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
Дет.
Дет.
Кр.
Ср.
Кр. Ср.
Ср.
Дет.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Дет.
Ср.
Ср.
Ср.
Общ.
Ср.
Общ.
Общ.
Ср.
73
V,
1
1
у2
у4
Уг -
10 кдр.
5 »
4 »
2 »
1 »
V,
у4
у4
ХА
Уг
У*
7з
%
7 кдр.
Уг
1У2
Уг
%
8 кдр.
Уг
Уг
V.
1Уг\
1%)
1Уг\
2 /
2
154
1%
Уг
Уг
v, ч
V, 1
;
3/4
%
1%
3/4
V,
Мчатся кони (крупно) .
Несет ветер банки, фураж*
Морды коней.
Упал от ветра генерал.
Пытается встать.
Бегут солдаты.
Морды ...
... ноги коней.
Вспышки.
Темно.
Белое пятно.
Темно.
Взрыв.
Дерево.
Пыль, летят вещи.
Дерево.
Ветка.
Пыль, летят вещи.
Тучи.
Дерево.
Гнутся деревья.
Дерево.
Ноги и крупы коней.
Бегут солдаты.
Лежит генерал.
Ноги лошадей.
Летит дрянь.
Ноги коней.
Покатился генерал ...
... через голову.
Катятся солдаты.
Несет их ветер со всякой д
Летят солдаты.
Катится всякая дрянь.
Катятся жестянки,
котелки и фуражки,
банки.
Летят винтовки.
Летят банки.
Катятся жестянки.
Летят винтовки и солдаты.
Скачут монголы.
Скачет Инкижинов.
359
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
Ср.
Дет.
Дет.
Общ.
Дет.
Общ.
Дет.
Общ.
Общ.
Дальн.
Общ.
Дальн.
V» \
Уг \
V.J
V,
8 кдр.
1/41 '
V,
Уа
У*
Уг
Уа
%
%
3
Катятся солдаты.
Скачут кони.
Морда лошади
Катятся солдаты.
Морды лошадей.
Солдаты.
Морды лошадей.
Солдаты.
Скачут — на аппарат
конные ...
конные ...
Ндп.: — ДОЛОЙ ...
... СОБАК ...
... ИМПЕРАЛИЗМА!
Скачут конные.
Ндп.: КОНЕЦ.
«Смоленская дорога.
(Литературный сценарий)
1. Вокзал первых дней войны. Перрон. У перрона отправляющийся поезд.
На две трети он составлен из классных вагонов, на одну треть из теплушек.
Через открытые двери теплушек видны столпившиеся там красноармейцы.
У классных вагонов давка. Уезжающие командиры и штатская толпа
провожающих.
Обрывки разговоров:
— А может быть, в тот вагон лучше?
— Да нет, тут же вещи.
— Мы с полковником оба едем до Белостока.
— Куда писать? Куда же писать?
— Я тебе напишу, куда писать.
— Но все-таки?
— Я же говорю, напишу.
Решетчатая ограда, отделяющая перрон от других вокзальных помещений.
У вокзала толпа народа. Железнодорожные служащие не пускают.
— Поезд уже отправляется. Провожающих пускать не приказано.
Около ограды, расположившись на вещевых мешках, перекуривает большая
группа красноармейцев.
— Кончай курить! Стройся! — командует командир.
Гремя винтовками и котелками, все поднимаются.
Поезд трогается.
Какая-то женщина стучит на ходу в стекло и что-то кричит командиру. Тот
в движущемся окне показывает руками, что ничего не слышит.
2. Обычная московская комната. Следы спешных сборов. Наташа и Павлов,
который надевает в эту минуту шинель.
Наташа. А она будет длинная, как ты думаешь?
Павлов. Не знаю.
Он никак не может заправить отстающую горбом на спине шинель.
Наташа. На тебе как-то сложно сидит форма.
Павлов. Не удивительно, я ее никогда раньше не надевал.
361
Н а т а пт а. Но почему в первый же день именно ты? Почему Сергеев не едет,
Федоров? Почему сам Терехов не едет?
Павлов. Все поедут.
3. Ночь. Большой железнодорожный узел в районе Минска. Подъездные
пути. Огромное скопление сбившихся составов.
Воздушная тревога. Оглушительно, со всех сторон, пуская белый пар, ревут
десятки паровозов. Где-то вблизи слышен грохот бомбежки, но рев паровозов
гораздо страшнее и оглушительнее.
Пробираясь между составами, по путям идут несколько военных. Они
огибают один за другим составы, спрашивая сидящих и стоящих около них
проводников и просто случайных людей:
— Этот на Минск идет?
— Не идет.
— А куда идет?
— Не знаю.
— А вам куда?
— На Минск.
— Мне тоже.
— А мне в штаб фронта.
— А где он?
— Не знаю, где он. А вам?
— Мне в 3-ю армию.
— Так куда же вы едете?
— В Москве сказали, что в Гродно.
Один из едущих неожиданно присвистывает: — Гродно!
— Говорят, что какой-то эшелон пойдет на Витебск.
— Нет. Я был на станции. Говорят, там путь разбит. Разбили поезд со
снарядами. Но на Могилев пойдет.
— А зачем вам на Могилев?
— Надо же куда-то ехать. Все-таки вперед.
— Как вы думаете? — обращается Павлов к идущему с ним рядом
артиллерийскому полковнику.— Где может быть хотя бы редакция фронтовой газеты?
— А вы кто? — спрашивает артиллерийский полковник.
— Я газетчик.
Полковник (насмешливо). Газетчик? Трудное ваше теперь дело.
Попробуйте-ка, опишите все это в газете.
Павлов. Когда-нибудь попробую.
Полковник. Вот именно: когда-нибудь. Я не понимаю, как могли
пустить столько людей в летний отпуск? Все-таки разведка должна была
знать, что война на носу. Если бы я был сейчас со своими пушками!..
— А где ваши пушки?
— В Брест-Литовске.
— Так он же взят.
— Не верю.
— Как так — не верите?
— А вот так и не верю. Черт! По крайней мере был бы там — дрался бы,
умер бы в бою. А тут ползаешь как мышь.
362
В разговор вступает кто-то третий.
— Там, на перроне, я видел в капитанской форме одного. Выглядит
подозрительно. Похож на диверсанта.
— А, бросьте,— говорит Павлов.
— Что — бросьте?
— Ходит человек такой же растерянный, как и мы с вами/ Вы на себя
посмотрите: вы сейчас, наверное, тоже похожи на диверсанта.
Вся группа подходит к следующему составу,
— Этот идет?
— Вроде идет,— лениво отвечает проводник.
— Куда?
— Куда дойдет.
— До Могилева пойдет?
— Может, и дальше. Куда пойдет...
— В общем, на запад,—говорит артиллерийский полковник.— Полезли.
Но они не успевают сесть. Над самыми путями с ревом проносится немецкий
самолет. Его гудение все усиливается. Все ложатся на землю! Полковник в
ярости выхватывает из кобуры маленький пистолет и ожесточённо стреляет из
него вверх, в темноту. Грохот взрыва.
4. Продолжающиеся отголоски взрывов. Широкое Минское шоссе, идущее
между перелесками. С запада на восток беспрерывно идут машины. Бредут
беженцы. Навстречу этому потоку, на запад, изредка пролетают отдельные
машины и спешат люди, в большинстве молодые парни в штатском.
Останавливается грузовик, переполненный беженцами. Шофер вылезает из
грузовика. Крутит ручку. Близкие взрывы. На горизонте дым. Шофер, еще
несколько раз отчаянно крутанув ручку, оставляет ее в машине, подходит к
кабине, берет кепку, нахлобучивает ее, достает из-под сиденья сверток с
хлебом, засовывает его в карман, в другой карман сует кисет с махоркой и, ничего
не сказав пассажирам, молча идет по дороге дальше пешком.
В машине суета. Беженцы постепенно вылезают из кузова. .
— Куда же он ушел? Товарищ, товарищ!
Шофер уходит не поворачиваясь.
— Неужели дальше не поедет?
— Не поедет. Видите, сломалась.
— Неужели так до Москвы — пешком?
— До Москвы далеко, а куда-нибудь и пешком дойдете.
Женщины постепенно отходят от машины. Около нее остается молодая
женщина с ребенком на руках. Она никак не может просунуть руки в лямки
большого вещевого мешка. Растерянно оглядываясь, кладет ребенка прямо на шоссе.
В эту минуту к ней подходит Павлов, идущий навстречу общему потоку.
— Подождите, я вам помогу.
Он помогает ей надеть мешок.
— Вы издалека? — спрашивает он ее.
— Из Белостока.
— Из самого Белостока?
.. _ •_ — Из самого.
— А кто вы?
363
— Я жена командира.
— А где же ваш муж?
— Не знаю,— говорит женщина.
Приспособившись к мешку, она поднимает с шоссе ребенка и, не
оглядываясь, считая разговор оконченным, равнодушно идет дальше.
Павлов, поглядев ей вслед, идет в обратном направлении. Через несколько
шагов он нагоняет двух рослых парней в штатском с вещевыми мещками.
— Куда идете? — спрашивает Павлов.
— Известно куда. В военкомат.
— В какой?
— В Минский.
— Так ведь...
— Что?
— Долго вам идти.
— Что же делать. Поезда-то не ходят.
— Но, может быть, уже там, в Минске...
Парень, разговаривающий с Павловым, отвечает почти так же, как
артиллерийский полковник.
— Не может быть. Не верю. Говорят, но я не верю. Надо идти.
Павлов. Может быть, лучше в какой-нибудь другой военкомат. Тут же
тоже могут мобилизовать.
Но парень решительно отвечает:
— Я иду, куда приказано. Там же ждать будут. Там же списки. Там же меня
за дезертира будут считать.
Они двигаются дальше. Павлов, который налегке, обгоняет их.
Снова грохот отдаленной бомбежки. По обочинам шоссе то там, то здесь
лежат неубранные трупы штатских людей, мужчин и женщин, и по-прежнему
бесконечно пролетают с запада на восток свистящие грузовики.
5. Деревянный мост через неширокую реку. Начало моста. Заминка. Пробка
из скопившихся машин. Ругань.
На мосту стоит в гимнастерке с расстегнутым воротом, без головного убора,
потный, растрепанный немолодой командир с наганом в руке.
— Не пущу! — вне себя кричит он отчаянным, хриплым голосом.— Так и
знайте: старший политрук Афонин или умрет, или остановит здесь армию!
Мимо него по мосту прокатываются грузовики и «эмки», идут пешие. Он то
бросается к кабине шофера и стучит в стекло наганом, то, хватая за грудь кого-
то одного, останавливает и поворачивает. Тот, кого он остановил, покорно
поворачивается назад, делает несколько шагов, но, как только политрук
подбегает к другому, тот, которого он остановил, снова поворачивается и,
незамеченный, спокойно проходит мимо него. Все его усилия бесполезны. Общий поток
протекает мимо как вода сквозь пальцы.
Павлов подходит к политруку сзади.
— Слушайте.
Тот, повернувшись, безумными глазами смотрит на Павлова.
— Не пущу! — кричит он, хватая Павлова за гимнастерку.
— Да нет, я как раз туда иду,— показывает Павлов вперед.— Слушайте,
пойдемте,— говорит он успокоительно.
364
— Что — пойдемте?
— Бросьте вы тут. Идемте со мной.
Но политрук с нормальных слов снова переходит на крик.
— Я остановлю здесь армию! — И, мгновенно забыв о Павлове, он бросается
к какой-то машине с криком: — Стой! Стой!!
Павлов спрашивает у идущего навстречу красноармейца:
— Город близко?
— Нет, далеко.
— Как — далеко? Он же за рекой.
— Так он не за этой рекой, он за той.
Павлов идет через мост, навстречу общему потоку. Перейдя мост, он видит
стоящую неподалеку от моста пятитонку, шофер которой яростно и безнадежно
крутит ручку. Машина не заводится.
Павлов. До города далеко?
— Я считаю, верст двадцать — говорит шофер.
Павлов. А вы с кем едете?
Шофер. Многие на мне ехали, а как машина стала, так пешком пошли.
Помогите, товарищ начальник, завести. Подсобите, а я крутану.
Павлов влезает в кабину, берется за подсос. Шофер крутит. Машина
заводится. Шофер садится в кабину рядом с Павловым, но Павлов не собирается
вылезать. Некоторое время они смотрят друг на друга.
— Так вот, значит,— говорит Павлов,— поедем в город.
— Так там же немцы,— с полным незнанием, но тем не менее с полной
убежденностью говорит шофер.
— Нет, там нет немцев.
— Так у меня же бензину нету. Бензину всего на десять километров.
— А где бензозаправка?
— Да километров пять туда,— показывает шофер на запад.
— Ну вот и поедем туда.
— Так там же немцы, там же немцы,— повторяет шофер.
— Нет там немцев. Едем.
Шофер пожимает плечами, потом поворачивает машину, и они едут по дороге.
— Вы до армии где работали? — спрашивает Павлов.
— Возможно, вас возил.
— Меня?
— Ну да. Я же в Московском автобусном парке на шестой линии работал.
Знаете шестую линию? Смоленская — Савеловский.
Над шоссе проходит немецкий самолет, строча из пулемета. У шофера
делаются безумные глаза, и он с ходу, загромождая на дороге движение, начинает
разворачивать машину.
Павлов {хватается за руль). Стоп!
Шофер отталкивает его локтем и продолжает разворачивать машину.
Павлов. Верти назад. Застрелю.
Шофер смотрит на него, одновременно открывая дверцу кабины.
Павлов. А выскакивать из кабины не пробуй. Все равно застрелю и без
тебя поеду. Я сам машину вожу. Понял?
Шофер со вздохом захлопывает дверцу и, еще не нажимая на стартер,
говорит Павлову:
— Вы, конечно, можете... я подчиняюсь. Но, простите, не вижу смысла.
365
Он вопросительно смотрит на Павлова. Павлов молчит.
Пожав плечами, шофер разворачивает машину и едет дальше. Снова
отдаленный грохот бомбежки.
6. Плашкоутный мост через довольно широкую реку. На конце его стоит
часовой. Абсолютная тишина. За мостом, на том берегу, виднеется город.
Машина Павлова въезжает на мост.
— И вода тихая,— мечтательно говорит шофер.
Вдруг вдалеке короткий свист самолета. Несколько пулеметных очередей
снизу. Павлов и шофер поворачиваются. Вдалеке резко вниз идет самолет.
Сначала кажется, что он пикирует, но потом он падает все более и более отвесно
и свечкой уходит в воду.
— Это да,— говорит шофер.— Это, я считаю, в мотор попал.
— Почему именно в мотор? — улыбнувшись, спрашивает Павлов.
— Я так считаю,— убежденно повторяет шофер.
Конец моста. Въезд в город. Машину останавливает часовой.
— Ваши документы.
Павлов улыбается:
— Что?
— Документы,— повторяет часовой.
Павлов. Наконец-то у меня спрашивают документы.
Часовой (отдавая документы). Можете ехать. Комендант — прямо
налево, вторая улица, четвертый дом на правой руке.
Павлов. Вот как. Даже комендант есть.
7. Два дома. Двор с обращенным на улицу выломанным забором. Один из
домов разбит бомбежкой, другой цел. У машины стоят Павлов и комендант.
— Так если вы к полковнику Кутепову,— говорит комендант, передавая
Павлову документы,— вам боец покажет. Но я попрошу тут заодно немца
довезти. Как вы?
— Давайте,— не дав ответить Павлову, с готовностью говорит шофер.—
Я считаю, мы его вполне можем доставить.
— Так как, товарищ капитан? — словно не заметив слов шофера,
обращается комендант к Павлову. .-• .
— Да,— говорит Павлов.
Из караульного помещения выводят немца. Это молодой немецкий летчик-
офицер. Он держится чрезвычайно надменно, вызывающе. Единственное, что
мешает тому, чтобы у него был вид, всецело исполненный собственного
достоинства,— это то, что он абсолютно мокрый.
— Тот,— говорит шофер,— тот, который в воду...
Он подскакивает к немцу.
— Мотор, правда? Мотор, а?
Он старается показать на пальцах и выяснить у немца, действительно ли ему
попало в мотор.
Немец надменно смотрит на него сверху вниз и, отодвинувшись, начинает
громко и брезгливо говорить что-то по-немецки, путая немецкую речь с
попадающимися русскими словами. : .
366
— Офицер... имею право... ваш генерал.
Эти слова беспрерывно повторяются в его речи.
Комендант знаком показывает ему на машину. Он подходит к кабине,
намереваясь сесть туда. Но шофер, энергично оттолкнув его, показывает ему
пальцем наверх, на кузов и приглашает Павлова:
— Товарищ начальник.
Немец, подойдя к кузову, все с той же надменностью показывает пальцем,
чтобы ему открыли борт: он не хочет лезть через борт.
— Отстегни ему,— говорит красноармейцу комендант.
Красноармеец отстегивает борт. Немец садится в кузов на лежащие там
запасные скаты. Красноармеец садится рядом с немцем. Тот брезгливо
отодвигается и начинает что-то злобно говорить по-немецки.
Шофер в кабине обращается к Павлову:
— Вас как зовут, товарищ начальник?
— Николай Иванович.
— А меня Леша. Вы уж простите,— подмигнув, говорит Леша,—
потерпите: я тряхану его.
Он резко разворачивает машину и вылетает на улицу нарочно через ухабы.
Машина прыгает вверх и вниз, немец в кузове, не докончив начатой фразы,
падает со ската на спину, задрав ноги.
8. Откос железнодорожной насыпи. Внизу слева расходящиеся пути.
Впереди водокачка. Справа далеко уходящие ходы сообщения. Каменная будка
станционного типа с выбитыми окнами. Под нею виден выход из блиндажа.
Глубокий окоп.
У будки стоят Павлов, немец и полковник Кутепов — очень высокого роста
худой человек, несколько нескладный, с некрасивым, но запоминающимся
лицом. Немец, так же как и в машине, продолжает ожесточенно говорить, чаще
всего повторяя из русских слов слова «ваш генерал», «ваш маршал».
— Он говорит...— начинает Павлов.
Но Кутепов перебивает его:
— Я приблизительно понимаю. Скажите ему, что если его друзья не
разбомбят сзади меня мост через Днепр, то я его допрошу и утром отправлю к
генералу.
Павлов переводит.
Немец говорит несколько отрывистых слов.
— Он говорит, что его не касается ваш мост,— переводит Павлов.
— Скажите ему...— говорит Кутепов.— Нет, ничего не говорите ему. Он же
дурак. Он думает, что мы с ним вежливо разговариваем оттого, что мы их боимся.
Уведите,— кивает он красноармейцу.
— А что же вы будете делать с ним,— говорит Павлов, — если правда
мост...
— Если правда мост... Если меня окружат, я его расстреляю. Вот и все.
Кутепов и Павлов идут по окопам, останавливаются у глубоко врытого в
землю грузовика, на котором в уровень с землей стоит замаскированная
ветками счетверенная зенитная пулеметная установка. Кутепов похлопывает по
стволам пулеметов.
— Ну, как стрелялось? — спрашивает он у пулеметчиков.
367
— Хорошо, товарищ полковник.
— Много накосили?
— Да, сотни две будет.
Удивленное лицо Павлова.
Кутепов смеется: — Нет, не самолетов. Они же у меня по пехоте теперь
стреляют. У меня четыре таких. Я их сперва к мосту поставил, а вчера плюнул
и сюда забрал.
— А что же на мосту? — спрашивает Павлов.
— А ничего,— спокойно говорит Кутепов.— Они мне тут нужнее. А мост —
что же. Всех, кого надо было пропустить назад по мосту, я пропустил, а мы
через него обратно переходить все равно не будем. Пусть бомбят.
— И все это, что там сейчас идет, вы пропустите через мост?
— Да.
— Неужели нельзя было их остановить?
— Нет, нельзя. Их остановят там, потом, сзади. Я и не должен был их
остановить. Но немцев, немцев мы попробуем остановить именно здесь.
Кутепов молча передает Павлову бинокль. Павлов смотрит в него. В бинокле
впереди ржаное поле, на котором несколько пятен сожженных танков и мелкие
точки разбросанных по полю трупов.
— Судя по этому,— говорит Павлов,— вы их сегодня уже остановили.
— Это только первый вал,— говорит Кутепов.— А их будет, может быть,
девять, а может быть, девятнадцать.
— Как вы думаете, как все это дальше обернется? — спрашивает Павлов.
— Не знаю. Предсказание общего хода войны не входит в мои прямые
обязанности,— чуть заметно улыбается Кутепов.— Что до меня, то я сделаю здесь
свое дело, и все. Могу повторить одно: если мы умрем, то умрем только на этом
берегу реки. Остальное зависит не от меня.
Они идут дальше по окопам.
— Жаль, что вы не приехали с утра. Мы в общем сожгли здесь двадцать
девять -танков. Ничего для первой встречи?
Он замечает вопросительный взгляд Павлова.
— Ну, да-да, первой. Я же тоже до сих пор видел их только на маневрах.
Они продолжают идти по глубокому ходу сообщения. Кутепов говорит,
проходя мимо бойцов:
— Вот сначала обижались, говорили: «Ух, полковник — зверь, в пот
вгоняет».
— Что вы, товарищ полковник! ^-вскакивает какой-то старшина.
— Говорили, говорили,— усмехается Кутепов.— А сегодня довольны.
Окопчики не подвели. Как говорил-Суворов: «Больше пота — меньше крови».
И потом, я внушил им убеждение, что отступать все равно не будем. Сужу по
себе: то, что я это знаю,— мне помогает.. Должно быть, и им тоже.
Они идут по окопу и вдруг на изгибе его натыкаются прямо вплотную на
немецкий танк, стоящий над окопом, накрыв его словно крышей.
Павлов в первую секунду отшатывается.
— Здесь? — говорит он.
— Здесь. На полкилометра дальше, чем мои первые окопы. Как видите,
весь вопрос не в том, докуда прорвутся немецкие танки, а в том, когда начинают
считать, что все пропало. Вот он,— кивает Кутепов на бойца, сидящего в окопе
и связывающего пять гранат в одну связку,— вот он не считал,,что все пропало.
368
Кутепов берет из рук бойца связку гранат:
— А в сущности, простая штука. Вот такая же, какую он готовит на завтра.
— Хорошо у вас,— вдруг убежденно говорит Павлов.
— Что хорошо?
— Хорошо. Покойно. И на душе хорошо.
— Что же, может быть,— соглашается Кутепов.— Это ведь так же,—
говорит он, все еще не выпуская из рук связки гранат,— одна не берет, а все
вместе...— Он приподнимает связку в руке. — Все вместе — чувствуете?
Подбегает взволнованный лейтенант.
— Товарищ полковник...
— Ну?
— Скорее...
— Что — скорее?
— Скорее...— Он тянет Кутепова за руку.— Там Сталин будет говорить...
Вход в землянку. Деревья. Небольшая лужайка. У корневищ дуба стоит
полевой радиоприемник. Сбежавшиеся к нему люди. В приемнике легкое
потрескивание, разряды. Потом голос:
— «Дорогие друзья мои...»
Землянка. Вход в нее завешен плащ-палаткой. На земляных приступках,
накрытых шинелями, сидят Кутепов, Павлов и еще несколько командиров.
— «Друзья...» — задумчиво повторяет Кутепов.— «Друзья». «Товарищи»—
хорошее слово, верно? А во время войны — «друзья», именно «друзья». Вот вы
говорили,— обращается он к Павлову,— о потоке отступающих. А все-таки
и они друзья. Когда человек испугался, это еще не значит, что он трус. Они —
жертвы быстроты событий, неожиданного оборота войны. Их остановят,
приведут в порядок, и они еще умрут грудью вперед, помяните мое слово. А еще
вчера, если бы я даже захотел, я бы не мог их здесь остановить.
— Знаете что? — неожиданно обращается он к Павлову. — Поезя^айте,
голубчик, сегодня ночью. По моим расчетам, они с утра все-таки разбомбят сзади
нас мост.
— Я останусь с вами,— говорит Павлов.
— Поезжайте, голубчик, поезжайте,— как бы не слыша его возражений,
говорит Кутепов.—Вы все-таки человек штатский, мы—другое дело... А вы
поезжайте. Учтите, что через реку не один мост, и я не знаю, что слева от меня
и что справа. Не обижайтесь. Поезжайте.
9. Пыльная дорога. Впереди стоит женщина и машет руками. Грузовик
Павлова останавливается. Женщина заглядывает в кабину и, задыхаясь, быстро
говорит:
— Не ездите, милые, не ездите. Тут ихние мотоциклы проехали.
— Много? — спрашивает Павлов.
— Видимо-невидимо. Вон еще пыль стоит.— Она показывает на горизонт,
где действительно стоит пелена пыли.
— Как же на шоссе-то выехать? — спрашивает Леша.
369
— А влево возьмите, через Никитовку.
Машина разворачивается и свертывает на другую дорогу.
— Что же это, а, Николай Иванович? — говорит Леша.— Ведь пять-десять
километров от передовой уже отъехали. Как вы считаете?
— Не знаю,— говорит Павлов.
— "Я считаю, — говорит Леша,— что это десант, потому что они мотоциклы
безусловно могут в самолеты грузить.
Другая дорога. Она поднимается на косогор, от которого идет поперечное
шоссе. Там видны клубы пыли.
Леша. Неужто танки, Николай Иванович? Как вы считаете?
Павлов. Мне кажется, просто пыль вьется.
Леша. А если танки? Я считаю, лучше повернуть.
Павлов молчит.
Лепта трогает машину. Они выезжают на косогор. Павлов высовывается
из машины, смотрит вперед и кричит: «Дай задний ход!» Машина дает
задний ход.
Впереди по поперечной дороге проносятся один за другим немецкие танки.
— Где же это они прошли-то? — спрашивает Леша, разворачивая машину.
Павлов молчит.
— Где мы вчера были, там не прошли ведь, а, Николай Иванович?
— Нет,— отвечает Павлов.
— Я думаю, с левого фланга обошли,— говорит Леша.
— Почему с левого? — усмехается Павлов.— А может быть, с правого.
— Нет, с левого,— убежденно отвечает Леша.
Третья дорога, идущая вдоль опушки леса. Вдалеке слышатся
артиллерийские выстрелы. Из леса навстречу машине на дорогу выходят двое молодых
деревенских парней, ведя третьего, почти мальчика, с окровавленной ногой. Они
останавливаются около машины.
— Что такое? — спрашивает Павлов.
— А вот, ранили,— говорит, захлебываясь, один из парней.
— Мы из истребительного отряда. Нам сказали: два танка идут. Мы с
бутылками легли в канаву. А их двадцать. Как мы побежали, они по нас из
пулеметов. Вот.— Он показывает на раненого.
— Нате,— достает Павлов из кармана индивидуальный пакет.—
Перевяжите. Как на шоссе выехать?
— Не знаю,— говорит парень.— Они кругом идут. Если только прямиком,
лесом.
Кабина машины. Машина идет бешеными рывками — вверх, вниз, влево,
вправо. Павлов и Леша колотятся то о борта машины, то о крышу. Машина идет
прямиком, без дороги, по кочкам, по рубленому лесу.
— Хоть бы до своих добраться,— говорит Леша.— Верно, Николай
Иванович?
— Верно.
— Только бы до своих, а там ладно. Будь что будет.
370
Деревенская изба.
За окном видна впритык стоящая машина. Павлов и Леша сидят за столом,
пьют молоко. В углу, под образами, на скамейке неподвижно сидит белый как
лунь старик в длинной чистой посконной рубахе.
У стола хлопочет маленькая старушка, повязанная большим платком так,
что лица ее почти не видно.
— Давеча трое проехали,—говорит старуха, очевидно, отвечая на вопрос —
Черные, с крестами. Остановки не делали.
Леша. Николай Иванович, может быть, поедем? А то застигнут тут.
— Ну их к черту,— говорит Павлов,— все равно. Пока не выпью молоко,
не поеду. Хорошее молоко,— обращается он к бабке.
— Свое,— говорит старуха,— все тут свое. Когда же они теперь совсем-то
придут?
— Не знаю,— говорит Павлов.— Наверное, скоро.
Издалека доносится ноющий женский плач с причитаниями.
— Соседка горюет,— говорит бабка.— Мужики-то все ушли.
— А вы остаетесь? — спрашивает Леша.
— А куда же нам, сынок? Остаемся. Пейте, пейте. Акимыч, может, выпьешь
молочка? — обращается она к старику.
Старик молчит.
— И слова сказать не хочет,— сокрушенно замечает бабка.— Который день
молчит. Куда же идти? Некуда идти-то.
— Ну, спасибо,— говорит Павлов вставая.
— Уж не прогневайтесь. Что есть,— говорит бабка.
И вдруг, когда они уже совсем в дверях, по-прежнему неподвижно сидящий
старик глухо и коротко спрашивает:
— Придете?
— Что? — переспрашивает Павлов.
— Когда обратно придете? — строго спрашивает старик.
— Не знаю,— говорит Павлов и, нагнувшись в дверях, нахлобучив
фуражку, быстро выходит.
Машина выезжает из деревни. У околицы из кустарника выскакивает сразу
несколько человек:
— Стой!
Машина останавливается. Ее окружают восемь-десять человек, все
вооруженные. Один из них — лейтенант, остальные бойцы. Двое или трое
перевязаны, с пятнами крови на самодельных повязках.
— Куда едете? — спрашивает лейтенант.
— На шоссе,— говорит Павлов.— На шоссе, а оттуда будем пробиваться
на Смоленск. А вы?
— Из окружения,— сумрачно отвечает лейтенант.— Ну что же, поедем,
пока можно ехать,— добавляет он, не спрашивая согласия Павлова.— У вас
карта есть?
Павлов. Есть.
— А то могу дать свою.
— Нет, есть.
Бойцы грузятся на машину.
Машина едет по лесной дороге. Мотор беспрерывно чихает. Леша газует с
отчаянным выражением лица.
371
— Что, кончается твоя машина? — спрашивает Павлов.
— Да разве же по таким дорогам, по пням можно? — сокрушенно говорит
Леша.— Эх!
Они выезжают на самый косогор, за которым сразу идет крутой спуск. Леша
резко тормозит. Спуск. С двух сторон спуска — лес. Внизу — мост через овраг.
По мосту навстречу им, поднимаясь в гору, едет колонна немецких
мотоциклов.
Лейтенант стучит в стекло кабины. Откинув задний борт и прямо через
борта выскакивают из машины красноармейцы.
Вслед за ними вылезают Павлов и Леша.
— Можно развернуть,— говорит Леша.
— Куда же развернуть? — отвечает лейтенант.— Некуда! Сволочи! —
кричит он, потрясая кулаком. Обращается к красноармейцам: — Ложись!
Надоело ездить. Убьем сколько сможем, а там — мать их так. Верно? —
обращается он к Павлову.
— Хорошо,— говорит Павлов, вытаскивая из-за сиденья кабины
винтовку-— Куда ты? — обращается он к Леше, заметив, что тот, открыв дверь
кабины, наполовину влез в нее.
— Сейчас,— говорит Леша,— сейчас, Николай Иванович.
Продолжая стоять одной ногой на подножке, другой он нажимает на
акселератор, и машина трогается. Вот она на самом гребне. Леша нажимает на
акселератор изо всей силы. Машина рвется вперед, и он на ходу выскакивает, падая в
траву. Машина, дребезжа и громыхая полуоткрытыми бортами, с ревом летит
вниз по косогору.
Немцы, соскакивая с мотоциклеток и сворачивая в стороны от дороги,
начинают стрелять по пустой машине.
Она со все нарастающей скоростью летит вниз и на мосту, ломая перила,
врезается в несколько столпившихся там мотоциклов. Грохот.
Наверху, на косогоре, по сторонам от дороги, за деревьями и пнями, лежат
сошедшие с машины люди. Снизу слышится частая автоматная стрельба. Они
отвечают на нее одиночными винтовочными выстрелами.
Лейтенант лежит рядом с Павловым. Он говорит:
— Может, и можно уйти, но надоело. Понимаешь, надоело уходить. Чтобы
их разорвало, сволочей.
Он загоняет новую обойму, прикладывается и, долго целясь, стреляет.
— А все-таки с людьми-то лучше,— говорит Леша, лежащий слева от
Павлова.— Как вы считаете, а, Николай Иванович?
— Да,— говорит Павлов стреляя.
10. Квартира Павлова. Звонок. Сонная Наташа, что попало накинув на
плечи, шлепая босыми ногами, открывает дверь.
В дверях стоит Павлов, в солдатской шинели не по плечу, грязный,
небритый, усталый. На плече у него винтовка.
— Коля.
— Я.
Наташа прижимается к его шинели.
— Ты надолго?
— Не знаю. Наверное, нет.
372
— Ну как там?
Она поднимает голову и внимательно смотрит ему в лицо.
— Ничего,— говорит Павлов,— ничего.
Газета. Кабинет заведующего военным отделом Терехова.
Терехов — плотный, самоуверенного вида человек с громким голосом. Одет
в штатское. Это человек, которому всегда все ясно, который если и задает людям
вопросы, то только в ожидании того, чтобы они подтвердили собственные его
умозаключения.
Павлов сидит перед ним в кресле уже побритый, переодетый, вновь
приобретший человеческий вид.
— Мы вызвали тебя, потому что связь не работает,— говорит Терехов.—
Надеюсь, статей пять напишешь. Материалу, наверное, через голову.
— Да,— говорит Павлов со странным выражением лица,— через голову.
— Ты где был-то? — спрашивает Терехов.
— В разных местах.
— Ну, как же?
— Ничего.
— Здорово там наши дерутся, правда?
— Да, — говорит Павлов.
С явным нежеланием продолжать разговор он берет со стола блокнот и
обрывает открывшего было рот для нового вопроса Терехова:
— Можно у тебя блокнот взять?
— Конечно.
— Я пойду к машинисткам, диктовать,— говорит Павлов.
Павлов выходит из подъезда редакции. Садится в машину. Его
останавливает знакомый.
— Коля, здравствуй. Ты с фронта?
— Да.
— Ну как там дела идут?
— Ничего.
— Ты сколько из штаба фронта добирался?
— Вчера вечером из Вязьмы выехал.
— Как, из Вязьмы выехал?
— То есть...— Раньше Павлов говорил правду, теперь он лжет. — То
есть я ночевал в Вязьме, хотел я сказать.
— А-а,— понимающе замечает собеседник.— А ты не знаешь, говорят тут,
к Минску наши отступили, но зато южнее, говорят, контрудар наносят на
Варшаву и Краков. Не слышал? Правда это?
— Не знаю,— говорит Павлов.
Кафе «Москва» на Пушкинской площади. Павлов обедает вдвоем с Наташей.
— А все-таки, наверное, с непривычки очень страшно на фронте,— говорит
Наташа.
— Видишь ли, фронт — это понятие очень растяжимое.
373
Человек, сидящий за соседним столиком, обращается к Павлову:
— Простите, товарищ, вы с фронта?
— Нет,— говорит Павлов.
— Мне показалось, вы говорили...
— Нет, вам это показалось.
Ночь. Комната Павлова. Наташа и Павлов вдвоем.
— Ну скажи мне, как там все? — говорит Наташа.— Как Минск? Правду
говорят, что немцы его обошли? Ты же там был.
Павлов вскакивает. G неожиданной яростью:
— Какой Минск? Немцы взяли Бобруйск, понимаешь? И Шклов. И Оршу.
Какой Минск?
— А мне говорили...
— Что тебе говорили? Не слушай, что тебе говорят. Вот я тебе говорю.
Я приехал из Вязьмы, понимаешь? И не спрашивай меня, пожалуйста, ни о чем.
Я уже сегодня с ума сошел от этих вопросов: как Минск, как Бобруйск, как
Могилев, здорово ли воюют? Фронт под Ельней, понимаешь? А я приехал из
Вязьмы. Но я этого не могу сказать. Я должен лгать, потому что никто не
выдержит сразу всей правды. А может быть, и нельзя ее сразу говорить. Да, да,
здорово дерутся. И умирают. Умирают, умирают. Но хотя бы ты не спрашивай
мепя об этом. Ты спросила, какой был у меня самый тяжелый день за это время?
Так я тебе скажу: сегодняшний. Сегодняшний, потому что мне задают слишком
много вопросов, на которые я не могу ответить.
Наташа (после паузы). Но Ельня — это же все-таки еще далеко от
Москвы.
Павлов. Да, конечно, еще далеко. Но...
За окном оглушительный грохот бомбежки.
11. Ночь. Бомбежка. В большом редакционном помещении с
разбросанными на столах ручками и бумагами, с заложенными в машинки листами за одним
из столов сидят трое — Павлов и еще двое военных корреспондентов. Один из
них печатает на машинке, другой что-то пишет. Павлов пьет чай. Глухой взрыв.
— Где-нибудь около МОГЭСа,— говорит Павлов. *
— Да, где-то там, на Якиманке или на Балчуге.
— Между нами говоря,— говорит один из корреспондентов, — как по-
твоему, когда же наконец их остановят?
— Когда? Не знаю,— говорит Павлов.— У меня были минуты, когда я
думал, что никогда.
. Он подходит к карте:
— Я был вот здесь, вот здесь, вот здесь,— показывает он на карте двумя
пальцами.— Маленькие отрезочки пространства. И почти всюду здорово
дрались, и казалось, что не пройдут. А потом я отъезжал за пятьдесят километров
в тыл, и немцы там оказывались раньше меня. Но когда я отъехал совсем далеко,
я увидел леса, побитые войсками, и линию окопов за сто километров от боев.
И вот тогда мне показалось, что остановят. Хотя за эти двое суток...
— Да,— отрывается от машинки один из корреспондентов.— Эти двое суток
принесли неважные новости.
374
— Когда я увидел эти войска,— продолжает Павлов,— мне показалось, что
у нас нашли силу и выдержку пожертвовать многими из тех, кто там дерется
и гибнет впереди, ничего не добавить туда, ничего не бросить в эту мясорубку,
оставить их там, пусть даже на произвол судьбы, но зато когда немцы все это
прорвут, они вдруг наткнутся на неожиданную новую стену. Мне хочется верить,
что это так. Очень хочется верить. А твои неважные новости как раз меня не
волнуют. Во-первых, потому, что для меня они уже давно не новости, а
во-вторых, потому, что дело не в том, что отдали еще три каких-то города.
— А ты когда едешь?
— Очевидно, завтра,—отвечает Павлов.
В дверях появляется запыхавшаяся секретарша.
— Товарищ Павлов, вас к Терехову.
— Куда?
— Туда, вниз.
Бомбоубежище редакции. Низкий подвал, где в тесноте течет обычная
редакционная жизнь. Стучат машинки. Приходят работники с корректурами.
Сидят за столами, почти рядом друг с другом, завотделами.
— Садись,— говорит Терехов Павлову.— Почему тебя приходится искать
наверху? Ты что, не знаешь, что есть приказ по редакции: во время бомбежки
спускаться сюда. Это приказ для...
— Знаю,— отвечает Павлов.
— И незачем щеголять.
— Хорошо,— соглашается Павлов.
— Так вот, утром ты поедешь в район Могилева. Насколько я понимаю,
там должны разыграться наиболее интересные бои.
— Могилев? — переспрашивает Павлов.
— Да. А что?
— Могилев... Правда, когда я там был... Но за это время... Боюсь, что
сейчас...
Терехов подходит к висящей на стене у его стола карте.
— Нет,— говорит он убежденно,— напрасно: как раз там и должны быть
самые интересные бои. Вот Порхов. Вот Гомель.— Он показывает две точки на
карте и, соединяя их пальцем прямой линией, на которой Могилев оказывается
позади линии фронта, ближе к нам, добавляет:— Здесь водный рубеж,
плацдарм, на котором, я думаю, развернется длительная оборона. Так что ты
напрасно.
Долгая пауза.
Вздохнув, Павлов внимательно смотрит на Терехова. Чувствуется — он
решил, что с этим человеком бесполезно спорить.
— Ну, так что? — спрашивает Терехов, заметив его взгляд.
— Ничего. Могилев так Могилев. Выписывай командировку.
12. Шоссе. По сторонам побитый, расщепленный бомбежками лес. Справа
мелькнула поляна с исковерканными стволами зенитных орудий. Потом —
мертвец, лежащий у дороги с раскинутыми руками. Верстовой столб. «Эмка»,
375
в которой сидят Павлов и Леша, резко тормозит. Леша подает машину назад, к
столбу.
Павлов открывает дверцу и смотрит на столб.
На столбе указательная надпись: «До Могилева — 62 км».
— Поехали,— говорит Павлов.
Мост через узкую реку. На мосту возятся саперы, подвязывая к фермам
ящики с толом. Леша тормозит:
— Николай Иванович.
— Что?
— Мост.
— Ну?
— Так минируется ведь мост.
— Поехали.
— Николай Иванович, вы, конечно, как хотите, но я считаю со своей
стороны, что ехать дальше нет смысла.
Павлов молчит.
Леша продолжает, отвечая самому себе:
— Почему? Потому что мост минируют. Зачем минируют? Чтобы взорвать.
Можем ли мы знать, когда они взорвут? Не можем. Я считаю нецелесообразным
ехать, Николай Иванович, а?
Павлов сидит, отвернувшись в другую сторону. -
— Я уже сказал,— тихо говорит он.
— Как хотите,— говорит Леша с огорчением, нажимая на стартер.
Машина проезжает мост и идет дальше. Они проезжают еще некоторое
расстояние и останавливаются.
У дороги, в кустах, стоят броневик и мотоцикл с коляской. Впереди
пригорок, заросший кустарником. На гребне пригорка стоят двое — один в
генеральской, другой в полковничьей форме — и рассматривают бьющуюся на
ветру развернутую карту.
Павлов вылезает из машины и идет к военным.
Один из них в это время уже свертывает карту.
Павлов, подойдя, неловко козыряет.
— Товарищ генерал...
— Кто вы такой? — спрашивает генерал.
— Я корреспондент «Известий».
— Здравствуйте,— говорит генерал, протягивая ему руку. Потом, отпустив
руку, резко спрашивает: — Как вы сюда попали?
— Мы...— говорит Павлов.
— Сейчас же в машину и обратно через мост. Уезжайте отсюда к чертовой
матери, — говорит генерал.
Павлов, вынимая блокнот, спокойно:
— Но я хотел бы пять минут...
— Что? — Генерал смотрит на него с искренним удивлением.— Здесь
немцы,— говорит он.— Понимаете, немцы. Я в последний раз проверяю здесь поля
заградительного огня. Сейчас я вернусь, и мост за мной взорвут. Поняли?
Карта у вас есть?
— Есть,— говорит Павлов.
376
Тогда совершенно спокойным тоном генерал говорит ему:
— Я приму вас через час в роще, что западнее деревни Гребенки,— и
поворачивается к полковнику.
Павлов переезжает обратно через мост. Там стоят саперы со шнурами в
руках. Через триста метров его с грохотом обгоняют мотоциклетка, в коляске
которой сидит генерал, и броневик. Сзади, где был мост,— оглушительный
взрыв.
Леша (торжествующе). Я же говорил вам, что там немцы.
Роща. В ней размещается штаб армии — так, как тогда размещались почти
все штабы. Замаскированные палатки, шалаши, сложенные из сплетенных
еловых^ веток, в земле щели. Тут же медсанбатовские палатки с красными крестами.
Машина Павлова останавливается неподалеку. Леша начинает рубить ветки,
чтобы ее замаскировать. Павлов подходит к одной из палаток.
— Вы не знаете, где штаб? — спрашивает он врача.
— Где-то здесь, в лесу,— говорит врач.
В это время, ломая ветки, у самой палатки тормозит большой грузовик в
котором сидят грязные, запыленные, обросшие люди. Они соскакивают с
машины. Пока один кричит: «Где тут врач? Врач где?» — другие открывают борт
грузовика и снимают оттуда раненых — одного, потом другого, третьего,—
лежащих там на сплетенных из еловых веток носилках. Их кладут на землю, под
деревья.
— Врача! Врача! — опять кричит кто-то.
— Авдеев, не шуми,— говорит голос, на который Павлов невольно
оборачивается. Он встречается глазами с раненым — это Кутепов, с ввалившимися
щеками, обросший бородой, по-прежнему в обмундировании с полковничьими
петлицами.
— Здравствуйте,— невольно говорит Павлов.
— Да, я вас помню. Вы у меня были,— говорит Кутепов.
— Откуда вы? — спрашивает Павлов.
— Из окружения вынесли,— говорит Кутепов, кивнув на бойцов. И,
слабым движением руки показывая на то, что внизу на носилках накрыто
шинелью, говорит:
— Ног нету.
Мимо проходят красноармейцы и командиры.
— Вот умираю,— говорит Кутепов.— Тяжело, но не обидно. Мы сделали
свое дело. Теперь дело за ними,— кивает он на проходящих.
Павлов стоит на небольшой полянке перед разбитой в глубине палаткой.
Поодаль от Павлова — Леша, перед Павловым — адъютант.
— Корреспондент? — спрашивает он.
— Да.
— Генерал спит. Он сказал, что примет вас через пятнадцать минут.
Павлов смотрит на часы.
Стрелки на его часах проделывают пятнадцатиминутный путь.
Из палатки выходит генерал. Взгляд в сторону адъютанта. Адъютант
подходит, держа под мышкой два раскладных полотняных стула. Быстро ставит их.
377
— Прошу,— говорит генерал так, как будто все это происходит в кабинете.
Они оба садятся.
Павлов. Я хотел спросить вас, товарищ генерал, относительно общего
положения на фронте.
— Так,— говорит генерал. ,
г— Потом, мне хотелось бы, чтобы вы указали мне героев последних боев,
чтобы я мог к ним съездить.
— Так.
— Ну, еще мне хотелось бы принять участие в какой-нибудь ночной, может
быть, разведовательной операции, чтобы описать все не с чужих слов, а так,
как я видел своими глазами.
— Так. Все?
— Все.
— Так вот,— говорит гецерал, вставая и закладывая руки за спину.— Во-
первых, я вам категорически запрещаю ездить куда-либо далее штаба полка.
Вам так же нет необходимости ходить в разведку, как мне писать статьи. Во-
вторых, немцы прорвались сквозь отступающие передо мной наши части и
вступили в соприкосновение с моей резервной армией вчера. Об отваге и
геройстве вы писали в газетах уже много, излишне много. Обратите внимание на
управление боем, на то, как у нас командуют. В-третьих...— Он вдруг
поворачивается к стоящему неподалеку с заинтересованным видом Леше.— Что вы тут
делаете, товарищ боец?
— Это мой шофер,— говорит Павлов.
— Вы что, вдвоем пишете?
— Нет,— улыбается Павлов.
— Идите к своей машине, товарищ боец. Так вот, в-третьих,—
поворачивается генерал к Павлову,— вы поедете в 188-ю отдельную бригаду к
подполковнику Балашову.
13. Павлов идет в сопровождении лейтенанта вдоль опушки леса по
направлению к двум маленьким домикам, похожим на охотничьи избушки, скрытым
за деревьями.
— А вот и он сам,— показывает лейтенант на подполковника, в
сопровождении двух или трех бойцов широким шагом идущего по полю к опушке.
Павлов идет ему навстречу.
Подполковник обливается потом. Фуражка у него сбита на затылок, ворот
расстегнут, наган засунут за пояс.
Лейтенант, сделав два шага вперед, что-то говорит ему.
— А...— говорит подполковник и, ничего больше не спросив, не
представляясь, сует руку Павлову. Он, очевидно, разгорячен боем.—Пять атак отбил,
мать их так... Сам три раза водил, мать их так... Двух адъютантов убили,
сволочи. Антипов!
— Да? — говорит лейтенант.
— Адъютантом у меня будешь теперь. Так что вам?—говорит Балашов.—
Рассказать?
— Рассказать,— говорит Павлов.
— Сейчас пойдем в избу.
378
Они уже сидят в избе.
— Ну вот,— говорит Балашов.— Все.
— Я бы хотел подробнее,— говорит Павлов.
— Подробнее некогда. Езжайте. Сейчас тут у меня горячка будет.
— Ну, я подожду.
— Чего подождешь? У меня долго горячка будет, до завтра.
— Ну, до завтра,— говорит Павлов.
Балашов неожиданно широко улыбается: — Не уезжаешь?
— Нет,— говорит Павлов.
— Со мной тут будешь?
— Да,— говорит Павлов.
— Антипов. Дай нам фляжку. Дай закусить.
Они сидят за столом. На столе лежит фляжка, немудреная закуска. В
стаканчиках налита водка.
— Я тоже москвич,— говорит Балашов, продолжая разговор.
Близкие минные разрывы. Входит капитан.
— Товарищ подполковник.
— Ну?
— Засекли. Мины бросают. Надо командный пункт перенести.
;— Погоди. Видишь, недопили,— говорит Балашов, встряхивая фляжку.—
Вот допьем—и перенесем. Иди-иди. Я тоже москвич,— повторяет он.— Это
хорошо. Особенно хорошо, что свой же собственный город защищать
приходится.
— Ну, о защите Москвы еще рано говорить.
— Лучше рано, чем поздно,— говорит Балашов. И, словно удивляясь,
переспрашивает: — Рано? Я от самого Минска Москву спиной чувствую.
Отступаю и чувствую. Стою и чувствую. Ну,— он наливает остаток водки,— за
Москву!
Они выпивают. За стеной тихо. Снова входит давешний капитан.
— Ну как? — спрашивает Балашов, улыбаясь.— Кончили налет?
— Да. .
— Вот и допили, и КП менять не приходится,— говорит Балашов.— Так
что же? Пойдем в батальон?
— Пойдем,— говорит Павлов.
«Эмка» останавливается в лесу. Близкая пулеметная трескотня.
— Ну, отсюда придется пешком,— говорит Балашов, вылезая из машины.
Павлов вылезает вслед за ним.
— Разрешите спросить? — робко спрашивает Леша.
— Ну? — отзывается Балашов.
— Вы далеко отсюда идете?
— Нет, недалеко. А что?
— Может, на машине проскочим, а, Николай Иванович? — говорит Леша.
— Нельзя,— говорит Балашов.
— Тогда я с вами, разрешите. Я считаю, что лучше с вами уж.
379
В его словах смешанное чувство: ему боязно идти вперед и в то же время
еще больше не хочется здесь оставаться одному.
— Нет, ты уж сиди в машине,— говорит Балашов.— У меня такие орлы:
увидят машину без призора—раз-два, и уведут... А ты винтовку возьми. Все-
таки мало ли что,— обращается он к Павлову.
Павлов берет винтовку, вскидывает на плечо, смотрит на Лешу, говорит:
— Товарищ подполковник, может быть, взять его все-таки?
Леша умоляюще смотрит на Балашова.
— Только ключ от машины с собой возьми,— говорит Балашов.— Ну,
пошли.
Они идут по перелеску, потом выходят на поле, кое-где покрытое редким
кустарником. Это большая поляна, впереди переходящая в низкие холмы.
— Не все рядом. Не все рядом,— говорит Балашов. —А то еще ахнет всех
вместе.
Они расходятся на несколько шагов друг от друга: Павлов, Балашов, его
адъютант и Леша.
Впереди все учащающаяся пулеметная трескотня.
— Это далеко,— говорит Балашов, когда над головой со свистом
пролетает снаряд и все пригибаются.— И этот тоже. А вот этот... Ложись! —кричит он.
Они бросаются на землю. С небольшим перелетом позади них разрывается
мина.
— Теперь пошли,— говорит Балашов,— пошли, пошли. Это не по нас бьют.
Это туда, где мы были,— по моему штабу бьют. Случайный недолет. Если от
такого пропасть, так, значит, считай, что не повезло.
— Как люди держатся? — спрашивает на ходу Павлов.
— Второй день на одном месте. Ничего. Сильно нервничают. Иногда кое-
кто, бывает, не выдерживает, но... поможешь — возвращаются. Там, куда мы
идем, хороший командир батальона — Кузьмин. Умеет держать в руках...
Это опять далеко,— говорит Балашов, когда все пригибаются.
И вдруг впереди, на поле, спускаясь с холма, появляются фигурки. Их все
больше и больше. Они идут и бегут по полю справа налево, наискось.
Балашов, резко меняя направление, неожиданно поворачивает и быстрым
шагом идет им наперерез. Остальные, еще не понимая, в чем дело, идут за ним.
И вот они уже сошлись вплотную с идущими и бегущими навстречу людьми.
— Стой!— говорит Балашов прямо набежавшим на него красноармейцам.
Сейчас Балашов, все это время разговаривавший оживленно и громко, вдруг
начинает выговаривать слова медленно и тихо, и именно в этом чувствуется
сила.
— Куда идешь?
Над головой проносится снаряд. Красноармеец вздрагивает и нагибается.
Балашов продолжает стоять.
— Куда идешь? — спрашивает он.
— Туда приказали перейти,— указывает красноармеец на лес сзади.
— Кто приказал?
— Командир.
— А ну,— говорит Балашов,— беги назад. Найди мне его, где он. Ну,
скорей. И с ним придешь.
Красноармеец бежит назад.
Балашов продолжает останавливать идущих и бегущих на него людей:
380
— Стой!
Когда красноармеец останавливается, Балашов уже не спрашивает его, а
приказывает:
— Ложись!
— Да там... Да мы...
— Ложись!
Так он кладет на землю всех, кто пробегает мимо него.
Адъютант, так же как и Балашов, начинает останавливать идущих.
Павлов сначала стоит, не зная, что ему делать, потом делает то же самое.
К Балашову подбегает потный, взволнованный лейтенант вместе с
красноармейцем, которого за ним посылал Балашов.
— В чем дело? — строго, но все же так же тихо спрашивает Балашов.—
Где Кузьмин?
— Убит,— говорит лейтенант.
— Куда вы ведете людей?
— Немцы окопы заняли,— говорит лейтенант.— С двух сторон зашли.
Я позицию решил переменить.
— Позицию переменить? — спрашивает Балашов.— Что же, там позиция
лучше?
— Да тут на поле...— начинает лейтенант, но Балашов его перебивает:
— Я тут на поле вас не ставил. Я вас вон где ставил. А где я вас поставил,
там и лучшая позиция. Понятно вам?
— Понятно,— запинаясь, говорит лейтенант.
— Остановите ваших людей. Кладите их здесь, где остановите. Всех
остановите. Соберите всех, кто под рукой. Поставьте заградительную цепь, и всех
остановите, чтобы ни один черт не прошел дальше этого места.
И вот они лежат на этом заросшем кустарником поле в цепи — Балашов,
Павлов, адъютант Балашова, Леша и сотня или полторы бойцов, широко
рассыпавшись по полю, в пяти-десяти шагах друг от друга. Над их головами со
свистом проносятся немецкие мины.
— Все? — спрашивает Балашов у подошедшего к нему лейтенанта.
— Все.
— Все знают задачу?
— Все.
— Ну что же. Идите налево, я буду тут. Придется идти в атаку,— говорит
Балашов, поворачиваясь к Павлову.
Павлов молча смотрит на него.
— Пойдем, что ли? — говорит Балашов.— А, корреспондент?
— Пойдем,— после некоторой паузы говорит Павлов. Он в свою очередь
поворачивается к Леше.
— Я считаю, Николай Иванович...— говорит Леша.
— Ну, что ты считаешь?
— Боюсь, машину уведут.
— Ну так иди к ней,— говорит Павлов.
— Да нет,— говорит Леша.
В эту минуту Балашов поднимается и, не сказав ни слова, взяв только в
левую руку свой автомат, крупными неторопливыми шагами идет вперед.
381
За ним начинают подниматься ближайшие к нему бойцы — один, потом
другой, и так по всему полю.
Среди поднявшихся вслед за Балашовым — Павлов и Леша.
Так они идут в молчании сорок, пятьдесят, восемьдесят шагов. Над полем
абсолютная тишина. Они идут вперед, и к ним приближаются холмы с окопами,
занятыми немцами.
— Хоть бы начали,— говорит Балашов.
— Что? — переспрашивает не расслышавший Павлов.
— Хоть бы стрелять начали, говорю. Все-таки спокойнее,— говорит
Балашов. Но немцы продолжают молчать.
Красноармейские цепи идут дальше. Люди кажутся очень маленькими на
этом большом поле. Они идут не плечом к плечу. Каждый из них идет отдельно,
и поэтому каждому из них страшно. Они идут все выше и выше, все ближе
к гребню холмов.
И вдруг сразу раздается несколько резких пулеметных очередей. Все падают
и утыкаются в землю.
Павлов лежит, уткнувшись лицом в землю. После длинных пулеметных
очередей короткая пауза. Павлов поворачивает лицо и видит, что на поле
неподалеку стоит всего один человек — Балашов.
— Ну что же? — говорит Балашов, поворачиваясь спиной к немцам и
лицом к залегшим бойцам.— Ну что же, землячки?
И, словно считая вопрос исчерпанным, он снова поворачивается лицом к
немцам и делает первые два шага.
Павлов смотрит на него. Ему очень трудно и страшно подняться. Он сначала
поднимает голову, потом встает на четвереньки. Ему страшно. Но в то же время
зрелище одного стоящего человека, тогда как другие лежат, невыносимо для
Павлова. И вот, пригнувшись, он встает, поднимается почти во весь рост и так,
еще не совсем выпрямившись, делает несколько шагов вслед Балашову.
Подобно Павлову, поднимаются Леша и еще несколько человек слева
неправа и идут вперед. Но когда они встали, в их душе просыпается обида на то, что
другие, в то время как они встали, все еще лежат.
— Эй, землячок! — кричит Леша слова Балашова, вставая и дергая вверх
вздувшуюся пузырем рубаху лежащего рядом с ним красноармейца.
Красноармеец тоже понемногу поднимается.
Павлов яростно трясет за плечо залегшего рядом с ним бойца.
— Вставай! Вставай!
Боец встает. Они идут дальше еще десяток шагов.
И снова пулеметная очередь. Кто-то падает навзничь, раскинув руки, кто-то
падает вперед, уткнувшись лицом в землю. Остальные ложатся.
И снова, когда Павлов поднимает голову, Балашов стоит. Но он стоит не
один. Стоят еще два или три человека.
— Вперед,— говорит Балашов, опять поворачиваясь.— Вперед.
На этот раз Павлов вскакивает сразу, и тоже быстрее, чем в первый раз,
вскакивают другие бойцы, и все они теперь уже не идут, а перебегают вперед
вслед за Балашовым.
Снова сухие автоматные и пулеметные очереди. Снова падают люди, снова
встают и снова бегут. На третьей или четвертой перебежке Павлов оказывается
рядом с Балашовым.
— А-а, здесь,— говорит Балашов.— Еще немного осталось. Давай, давай!
382
Голос у него неожиданно охрипший, прерывающийся.
Последняя перебежка. Все бегут прямо на окопы, уже не ложась на землю,
хотя пулеметы впереди непрерывно строчат. Слева и справа от Павлова падают
люди. Словно достигнув наконец желанной пристани, Павлов с облегчением
вскакивает в немецкий окоп.
Слева от него красноармеец, взмахнув винтовкой, ударяет в окопе по кому-
то невидимому, должно быть, по немцу. Когда Павлов спрыгивает, перед
ним, свесившись всем телом вниз и задрав ноги наружу, лежит мертвый
немец.
— Вперед! — кричит Балашов.— Вперед! Немцы бегут! Вперед!
Перепрыгнув через бруствер окопа, Балашов бежит дальше. За ним
выскакивают Павлов и другие и снова бегут дальше.
Сухая трескотня пулеметов.
14. Перрон одного из московских вокзалов. У перрона стоит санитарный
поезд. Суета. Проходят врачи, сестры. В один из вагонов грузят раненых.
По перрону идут Терехов и Наташа.
— Насколько мы знаем, он должен быть именно в этом поезде,— говорит
Терехов.
— Но разрешат или не разрешат взять его, как по-вашему? — говорит
Наташа. - .
— Не знаю,— говорит Терехов. - г
Они натыкаются на идущего им навстречу военного врача.
— Где нам найти начальника поезда? — спрашивает Наташа.
— Я.
— Нам нужно отыскать,— говорит Терехов,— нашего военного
корреспондента капитана Павлова. Он должен быть у вас в поезде.
— Павлов, Павлов...— вспоминает врач.— Павлов. Подождите. У него
.тяжелое ранение в ногу, да?
— Кажется, да,— говорит Наташа.
— Там, в конце,— говорит врач,— вагон для тяжелораненых. Наверное,
он там. Только торопитесь. Поезд через десять минут уходит.
— Я хотела...— говорит Наташа.
— Что вы хотели?
— Я хотела попросить, может быть, его можно оставить дома, в Москве.
Я его жена.
— Об этом не может быть и речи,— сухо говорит врач.— Поезд идет по
месту назначения. Мы никого не можем здесь оставить.
Он проходит дальше.
Пригаровский вагон для тяжелораненых. Узкий проход, по обеим сторонам
которого вдоль вагонов подвешены в два этажа койки с ранеными.
Наташа идет через вагон, заглядывая в лица. Вдруг она останавливается
около койки, на которой спит человек, повернувшись лицом к окну и затылком
к ней.
— Коля,— говорит она.— Боже мой!
Человек медленно начинает поворачивать голову.
383
Два лица: Наташи и Павлова.
Он на койке, повернув к ней голову.
Она стоит рядом.
Они, очевидно, продолжают начатый разговор.
— А самое главное,— говорит Павлов,— самое главное, что я тебе хотел
сказать,—это то, что хорошо. Понимаешь, еще не совсем хорошо, нет, не совсем
хорошо, но хорошо... Ты помнишь, я тебе говорил тогда ночью... Тогда было
очень плохо, а все думали, что хорошо. А сейчас... Сейчас читают все еще
плохие сводки и думают, что очень плохо. Но сейчас на самом деле гораздо лучше,
гораздо. Пойми меня. Сейчас уже не бегут, сейчас уже совладали со своим
первым страхом, я по себе знаю. Я знаю, что тебе говорю...
Вестибюль вокзала. По нему идут Терехов и Наташа.
— Но почему все-таки? — говорит Наташа.— Почему они не могли сделать
исключение, оставить его тут?
Из радиорупора, висящего на одной из колонн вестибюля, доносятся
обрывки радиопередачи:
— «Фашисты оставили на поле боя до двух тысяч трупов. После
длительных и ожесточенных боев нашими войсками вчера оставлен город Смоленск».
Пауза.
Терехов обращается к Наташе:
— Теперь вы понимаете, почему они не могли даже для него сделать
исключение.
15. Печатная машина в типографии. Один за другим она оттискивает листы
газеты. На первой полосе приказ:
«17 октября 1941 года. Город Москва объявляется на угрожаемом положении.
Командующими войсками назначаются...»
На листах мелькают фамилии Жукова, Артемьева, Синилова и подпись:
«Верховный Главнокомандующий».
Кабинет Терехова. Входит секретарь.
— Вот газета,— говорит секретарь, кладя перед Тереховым свежий номер.
— Да,— говорит Терехов.— Ну, что еще?
— Сергеев пропал без вести в районе Вязьмы,— говорит секретарь.
Терехов задумывается:
— Сколько времени Павлов уже лечится?
— Месяца полтора,— говорит секретарь.
— Он где? В Куйбышеве, кажется?
— Да.
— Адрес нам известен?
— Да.
— Как бы это поделикатнее сделать,— задумчиво говорит Терехов,— как
бы поделикатнее... Погодите. Сейчас я напишу телеграмму, вы проставите в
ней адрес и отправите.
Терехов пишет телеграмму Павлову:
384
«Товарищи передают вам привет. Желаем скорейшего выздоровления.
Сообщите, как ваше здоровье?»
16. И сразу же Павлов в поезде. Прихрамывая, он идет по коридору мягкого
вагона, в котором едут всего двое или трое пассажиров. Навстречу мелькают
бесконечные эшелоны, груженные троллейбусами, автобусами, оборудованием,
людьми, едущими в теплушках, в тамбурах, на крышах — всюду.
Ночь. Дождь. Слякоть. Какая-то станция. Встречный эшелон. Очередь за
кипятком. Разговоры:
— И до каких же пор это будет?
— Ничего. Доедем — вот и кончится.
— Двести верст пятые сутки тащимся.
— Впереди, говорят, эшелон разбомбили.
— И мы дождемся.
— Они на стоянках больше всего и бомбят.
— Вы давно из Москвы? — спрашивает Павлов какого-то человека
неопределенного вида, только что говорившего насчет стоянок.
— Пять суток.
— Как там Москва?
— Что Москва? — вдруг злобно говорит человек.— Что Москва? Немцы
в Химках. Все бежали. Власти бежали. И войск нет. Ничего нет.
— Кто бежал? — говорит Павлов.
— Все бежали.
— Так-таки все? — говорит Павлов.
Но человека больше не нужно расспрашивать. Захлебываясь, он уже
говорит сам.
— И милиция убежала.
— Так.
— И все директора убежали.
— Так.
— И правительство тоже уехало.
— Правительство? — переспрашивает Павлов.
— Да. Сам видел. Состав специальный, весь из международных, весь.
— Видели?
— Видел. И Сталин уехал.
— Сталин? — медленно переспрашивает Павлов и молча, развернувшись,
метким ударом бьет говорившего в лицо. Тот падает. Павлов поворачивается,
доходит до подножки своего вагона, еще раз оборачивается, ожидая, не ответит
ли тот ему чем-нибудь. Но человека уже не видно. Павлов влезает в вагон.
Поезд подъезжает к Москве. Вместе с Павловым в купе еще какой-то
военный.
— В Александровске четыре часа стояли,— говорит военный.— Здесь три
часа. Черт его знает.
Поезд трогается.
13 в. Пудовкин, т. I 385
— Что, уже Люберцы?
— Да. Десять километров.
Они сидят у окна. У обоих тревожные лица.
— Может, кипяточку, чайку хотите? — спрашивает проводник.
— Нет,— говорит Павлов.
Они опять прильнули к окну. За окном вспышки.
— Что это? — говорит Павлов. И вдруг вся тревога, внушенная ему
встречными эшелонами, разговорами — всем, с чем он пытался душевно бороться,—
сейчас охватывает его.
— Не знаю,— говорит военный.
— Зенитки? — спрашивает Павлов.
— Нет, если бы зенитки, разрывы были бы в небе. На тяжелые похоже.
Они оба тревожно всматриваются во вспышки, и вдруг Павлов начинает
хохотать. Он неудержимо хохочет, хлопает себя по больному колену, морщится
и снова хлопает.
Проводник подскакивает:
— Что с вами?
— Дурак! Дурак! Трамвай...— хохочет Павлов, тыча пальцем в окно.—
Трамвай,— повторяет он, рыдая от смеха.
Павлов входит с небольшим чемоданчиком в пустой Северный вокзал. Здесь
пустота, чистота — ни узлов, ни людей. Гулко ступая ногами, ходят двое;
дежурный железнодорожник и милиционер.
— Товарищ милиционер,— обращается Павлов.
— Слушаю вас,— козыряет милиционер.
— Вы не скажете, где теперь «Известия» помещаются?
— Где были, там и помещаются,— говорит милиционер.
— И телефон прежний? — с сомнением спрашивает Павлов.
— А чего же ему сделается,— говорит милиционер.
Павлов подходит к автомату, роется в кармане, потом оглядывается и
говорит:
— Товарищ милиционер.
— Да?
— Нет ли у вас гривенника?
Милиционер роется в карманах и дает ему гривенник.
Павлов выходит на Комсомольскую площадь. Со скрипом тормозит «эмка».
— Леша?
— Я, Николай Иванович.
Павлов садится в машину.
— Ну, рассказывай, что во-первых, что во-вторых, что в-третьих.
— Во-первых, Николай Иванович...
Машина идет по пустой ночной Москве, фонарик патруля. Двое патрульных:
один — красноармеец, другой—в гражданском, с винтовкой. Он козыряет
Павлову.
— Разрешите ваши документы.
— Пожалуйста,— протягивает Павлов документы.
386
В это время их лица освещает вспышка проходящего трамвая. Павлов,
вспомнив поезд, улыбается.
— Что вы смеетесь? — говорит патрульный.
— Так, ничего. Хорошо. Рад, что приехал в Москву. Понимаете?
— Понимаю,— серьезно говорит патрульный.
17. Кабинет редактора газеты. Редактор, Терехов, Павлов. Кабинет
маленький, явно наскоро приспособленный.
— Ну как? — говорит редактор.— Нашли все на старом месте?
— Да,— говорит Павлов,— но только вы...
— Я? — усмехается редактор.— В моем кабинете теперь сквозная
вентиляция весом в сто пятьдесят килограммов. Хорошо, что я пунктуальный
человек и вовремя уехал обедать. Как ваша нога? Как ваше здоровье?
— Ничего. Могу ехать.
— Ну что же,— говорит редактор.— Ездить теперь уже не так далеко
стало. Но, во всяком случае, подождите пару дней, осмотритесь, отдохните.
Хотя... Кто должен сегодня в МК ехать? — обращается он к Терехову.
— Аникин.
— Отменить,— говорит редактор.— Сегодня,— обращается он к Павлову,—
я, пожалуй, попрошу вас до поездки на фронт съездить здесь в Москве на один
завод. Там сегодня выпустили первые в Москве свои автоматы.— Редактор
смотрит на часы.— Через полчаса за вами пришлют машину. Поедете в МК,
там вам скажут, с кем вы отправитесь на завод. Может быть, даже с самим
«хозяином». Это очень важное дело, им очень интересуются.
Ночь. Москва. Едет машина. Человек, сидящий впереди рядом с шофером,
полуобернувшись разговаривает с Павловым.
— Так, значит, после долгого отсутствия вас удивил прежний порядок в
Москве.
— Даже больше, чем прежний,— говорит Павлов.— Гораздо больший.
— Ну что же. Это не удивительно. Порядок здесь сейчас нам еще нужнее,
чем когда бы то ни было.
— Да,— говорит Павлов.— Я был сегодня радостно поражен. Особенно
после того, как по пути я встречал эшелоны с эвакуированными. Ну и было
много всяких разговоров, которые было тяжело слышать.
— Это понятно,— говорит сидящий впереди.— Вместе с теми, кого мы
эвакуировали по приказу, поддавшись панике уехали некоторые из тех, кому никто
не приказывал уезжать, и, чтобы оправдать собственную панику, они,
несомненно, старались распускать слухи об общей панике.
— Да, я встретил одного, по-моему, именно такого,— говорит Павлов.
— Ну и вы что ему сказали?
— Ничего.
— Ничего?
— Ничего. Я просто...— с некоторой запинкой говорит Павлов,— просто
дал ему в морду, и все.
— И правильно сделали.— Сидящий впереди обращается к шоферу: —
Нет, нет, не езди. Здесь баррикады.
13*
387
— Так я же вчера ездил.
— Так это вчера. А сегодня здесь уже должны быть построены баррикады.
Сворачивай направо.
Машина сворачивает направо.
Завод, где делают автоматы. Большой цех. По нему идут секретарь МК, вслед
за ним — Павлов и директор завода. С двух сторон прохода — станки, около
которых очень мало взрослых работниц, а почти исключительно дети тринадца-
ти-пятнадцати лет. В зависимости от своего роста они стоят на более низких
или более высоких деревянных подставках.
— Если бы когда-нибудь ввели медаль «За оборону Москвы»,— говорит
секретарь МК, обращаясь к Павлову,— вот им,— он кивает на детей,— им бы
я дал ее в первую очередь, наравне с их отцами, которые воюют сейчас под
Можайском.
Он останавливается около одного особенно маленького мальчика, стоящего
на высокой подставке.
— Сколько тебе лет? — спрашивает секретарь МК.
— Четырнадцатый.
— Где отец?
— На войне.
— Кто он?
— Автоматчик.
— Пишет?
— Нет.
— Значит, для него делаешь? — кивает секретарь МК на вертящуюся на
станке деталь.
— Для него,— серьезно говорит мальчик.— У меня и брат здесь,— вдруг
оживленно добавляет он.
— Где — здесь?
— В стрелковом цехе. Я тоже туда хотел, но меня не взяли.
— Стрелковый цех,— поясняет директор завода,— это там, где
пристреливают автоматы.
Отчетливая автоматная трескотня. Длинная комната с барьером. За барьером
большое пространство, в конце которого мишень.
Пятнадцатилетние мальчишки стоят у прицельных станков и с
увлечением пристреливают автоматы. Рядом с ними на специальных козлах стоит ряд
готовых автоматов.
— Вот один из них,— говорит секретарь МК, беря автомат в руки и
протягивая Павлову.— А ведь завод был эвакуирован и работает. А здесь —
снова завод. Был один — стало два. Матери уехали, отцы на фронт, а эти вот
здесь.
— Да... В этом большая философия войны,— говорит Павлов.
— И победы,— добавляет секретарь МК.— И главное — победы. Москву
защищает вся страна. Но и она сама, как видите,— он кивает на автоматы,—
она сама тоже неплохо защищает себя. Я советую вам написать об этом.
Мимо них проходит какой-то человек.
388
Секретарь МК обращается к нему:
— Здравствуйте, товарищ Андреев.
— Здравствуйте,— останавливается тот.
— Ну, как ваши ружья?
— Через два дня покажем первые экземпляры.
— Хорошо.
— Какие ружья? — спрашивает Павлов.
— Один новый вид оружия,— говорит секретарь МК,— который мы начали
изготовлять здесь. Вы собираетесь ехать на фронт?
— Да-
— Через неделю, очевидно, увидите, как он работает там, на фронте.
18. Леша и Павлов в «эмке» едут по холодному ночному шоссе где-то, судя
по пейзажу, довольно далеко от Москвы.
— В-четвертых, Николай Иванович, я, между прочим, считаю, что в
последнее время как там ни на есть, а люди стали спокойнее,— говорит Леша.
— По-моему, это уже будет в-пятнадцатых,— говорит Павлов.
Они останавливаются перед регулировщиком.
— На Волоколамск? — спрашивает Павлов.
— На Волоколамск налево,— козыряет регулировщик.— Двадцать семь
километров.— И сигналит флажками.
Машина поворачивает.
Изба. Большой стол застлан картой. Тот же раскладной полотняный стул,
какой мы уже видели летом у генерала. Генерал поворачивается к дверям.
В дверь входит Павлов.
— Здравствуй,— говорит генерал.— Антипов!
Входит Антипов со вторым, таким же складным стулом.
— Прошу,— говорит генерал.— Давно не были.
Он смотрит, как Павлов неловко отставляет ногу, садится на стул.
— Были ранены?
— Да.
— Слушаю вас.
— У меня нет к вам вопросов,— говорит Павлов.— У меня только одна
просьба.
— Да?
— Скажите мне все, что считаете нужным, и пошлите туда, где мне нужно
быть.
Генерал встает и, прохаживаясь по комнате, отрывисто говорит:
— Что люди дерутся как львы, что они герои, что они делают чудеса — все
это так, все это вы знаете. Но я вам не это хочу сказать. Я скажу лишь
следующее. До Москвы девяносто два километра, у меня в полках вдвое меньше
людей, чем тогда, а у немцев вдвое больше. У нас с каждым днем все меньше людей,
но мы отступаем все медленнее. Человек, который хочет написать о(б армии,
должен понять, почему это происходит. Поезжайте и попробуйте понять.
— А куда ехать?
— В балашовский полк.
13* в. Пудовкин, т. I
389
— К Балашову? — переспрашивает Павлов.— Он здесь?
— Нет, его уже нет. Там теперь полковник Фомин. Но они по-прежнему
называют себя балашовцами.
Холодный день поздней осени. Снега еще нет, но на лужах ледяная корка.
Сильный ветер.
Павлов идет по искромсанной артиллерийским обстрелом деревне. Над
головой с большим перелетом, со звуком, похожим на звук льющейся из узкого
горлышка бутылки воды, идут снаряды немецких гаубиц.
Изба, где в первой комнате на одной большой кровати, рядом с которой весь
пол заняли спящие красноармейцы, ютится крестьянская семья, несколько
совершенно голых ребятишек.
В соседней комнате штаб Фомина. Стол и несколько табуреток. Теснота.
В углу стоит пленный немец.
— Товарищ Павлов? — поднимается Фомин.
— Да-
— Здравствуйте. Командующий звонил, что вы приедете. Садитесь.
Фомин — плотный, рыжеватый, с бычьим лицом и шеей человек, обросший,
весь очень тяжелый и крепкий, такой, какого, кажется, ничто не может
прошибить. Однако, как это выясняется впоследствии, он находится на последней
грани усталости и напряжения.
— Первый пленный за неделю,— говорит Фомин, с недоброй усмешкой
кивая на немца.— Драгоценность.
— Не сдаются? — спрашивает Павлов.
— Не сдаются, а главное — наши не берут,— говорит Фомин.— Не могу
заставить их брать.
— Не можете?
— А как я могу? — вдруг ожесточенно кричит Фомин.— Как я могу, когда
до Москвы осталось девяносто верст, когда немцы прут, когда деревни горят,
когда нет кругом ни одного теплого жилья, когда руки костенеют и нет отдыха
у людей уже пятый месяц, когда на танки с гранатами идут. Как же я их
заставлю вот это беречь? Ишь...— Он подходит к немцу вплотную, смотрит ему
в лицо, потом, резко повернувшись, говорит:— Думает, что Москву возьмет,
сволочь...
Входит врач.
— Товарищ полковник, разбило дом. Куда же раненых?
— «Куда», «куда»!.. Я же сказал: сюда,— раздраженно говорит Фомин.—
Куда же.
— Тесно.
— Нам с ними вот на земле тесно,— злобно кивает Фомин на немца.— А со
своими нам не тесно. Ну, что стоишь? — гаркает он на адъютанта.— Освободи
помещение, двигай стол. Только вот так кладите, так больше уместится —
поперек. Да, я забыл,— с неожиданной любезностью обращается он к Павлову,—
вам, как газетчику, наверное, будет интересно поговорить с ним.
— Нет,— говорит Павлов, смерив взглядом немца,— мне уже давно совсем
не интересно с ними говорить.
390
Фомин, его адъютант и Павлов, в раздувающихся от сильного, ураганного
ветра шинелях, идут по полю где-то около переднего края. Близкий свист мины.
Павлов нагибается, Фомин — нет.
— Это далеко,— говорит он.
— Отвык,— говорит Павлов.
— А к этому привыкнуть нельзя,— говорит Фомин.
Близкий разрыв мины. Теперь они ложатся все трое.
— Давно Балашова нет? — спрашивает Павлов.
— Давно и далеко,— говорит Фомин.— Еще с Вязьмы... Пошли.
Они поднимаются. Фомин, идя, натыкается на маленький холмик с упавшей
на землю дощечкой со звездой.
— Ураган,— говорит он и, опустившись на одно колено, размахнувшись,
втыкает дощечку в землю.— Только вчера похоронили здесь командира
батальона, и вот уже... У самой деревни похоронили. Еще вчера цела была.—
И он рукой показывает налево, на развалины изб.
Они идут дальше.
— Я, когда в школе учился,— говорит вдруг Фомин,— думал, что
отступают так: плечом к плечу, штыки вперед и пятятся. И вы тоже, наверное, так
себе представляли? — спрашивает он Павлова.
— Так.
— Нет, не так,— говорит Фомин.— Не так и гораздо тяжелее.
Они влезают в окоп на краю разрушенной деревни. Идут по ходу сообщения.
— Давно уже здесь стоите? — спрашивает Павлов, оглядывая более или
менее прилично оборудованные окопы.
— Уже два дня,— говорит Фомин.— Если бы у нас было хоть немного
больше людей, хоть немного добавили бы, не так все бы было. Да... Ну, ладно.
Вот что я вам хотел показать,— вдруг говорит он.
В окопе лежат несколько бойцов с противотанковыми ружьями, которые мы
в картине и Павлов видим впервые.
— Что это? — спрашивает Павлов.
— Это? Вот, смотрите.
Фомин показывает вперед, где на пригорке видим стоящие там два или три
сожженных немецких танка.
— Вот. Они — этим,— показывает он на оружие.— Вчера.
Из земляной ямки, невидимой раньше, появляется неожиданный в этой
обстановке человек в валенках и пальто, в штатской черной шапке с
опущенными ушами, которого мы уже видели на заводе говорившим о ружьях с
секретарем МК.
— Здравствуйте,— говорит Фомин.— Знакомьтесь.
— А мы уже знакомы,— говорит человек.
— Вот с нами воюет,— говорит Фомин.— Прислан сюда с завода
Московским Комитетом. Наблюдает действие своих игрушек.
— Ну и как? — спрашивает Павлов.
— Пока неплохо. «Ребята, не Москва ль за нами?» — неожиданно
улыбнувшись, говорит Фомин и вдруг добавляет совсем серьезно: — «Умрем же под
Москвой». Эх, скинуть бы все это,— он распахивает полушубок,— скинуть бы
все это и в театр сходить, а? Театры-то играют в Москве?
— Некоторые играют,— говорит Павлов,— но из-за бомбежек только днем.
— Это не важно. Днем так днем. Лишь бы играли.
13**
391
Павлов возится с противотанковым ружьем. Бронебойщик показывает, как
оно действует. Инженер отошел. Фомин тоже наклоняется вместе с Павловым.
Он говорит:
— Пока у меня их всего шесть штук. Первые, опытные. Москва интересуется
ими. Знаете, кто сюда звонил? — Он наклоняется к уху Павлова.— Поняли?
Павлов опять приникает к ружью. Смотрит в прицел. Вместе с ним в прицеле
мы видим три сожженных немецких танка, высовывающихся из-за пригорка.
И вот вдруг там их уже не три, а много больше, и они начинают двигаться.
Грохот начавшейся канонады сотрясает' окоп и все кругом.
19. Театр. На сцене идет «Дворянское гнездо». Актеры одеты в легкие,
летние цлатья. Идет конец пятой картины. Несколько последних реплик.
В зале загорается свот. Теперь мы видим зал. Он переполнен. Все в нем сидят
одетые. Очень холодно, и над рядами поднимается сплошной пар от дыхания.
Среди других людей, одетых в шинели и полушубки, сидят Павлов и Наташа.
— А тебя не вызовут? — спрашивает Наташа.
— Да. нет, до завтра не должны трогать,— говорит Павлов.
Вдруг он замечает какого-то человека, сидящего через два ряда.
— Полковник Денисов! — кричит он.— Полковник Денисов! — И
поднимается, чтобы его лучше было видно.
— А-а, товарищ Павлов.
И они так, поднявшись, переговариваются, потому что пройти через все
полушубки по рядам невозможно.
— Ты как сюда? — спрашивает Павлов.
Полковник хлопает себя по груди, очевидно, имея в виду получение ордена.
— Надолго?
Полковник показывает палец.
— Я завтра еду к вам,— говорит Павлов.
— Можем вместе,— говорит полковник.
В дверях появляется администратор театра с запиской в руке.
— Майора Гращенко машина ждет, его шофер вызывает.— Кто-то
поднимается.— Капитана Ильина просят, за ним приехали. Товарища Павлова
вызывают в МК партии.
Павлов удерживает Наташу за локоть.
— Ты посмотри, может быть, я вернусь к следующему акту.
— Я с тобой.
— Нет.
— Вернешься?
— Наверное,— говорит Павлов.— Ну, на всякий случай.— Он
наклоняется и целует ее.— Если даже еду, то к двум часам ночи вернусь, не позже.
— Непременно,— говорит Наташа.
— Непременно. Теперь ведь близко.
В их разговоре чувствуется привычка к частым отъездам и приездам.
Павлов проталкивается по рядам через полушубки.
20. Кабинет секретаря МК. За столом секретарь МК, рядом с ним редактор
газеты Терехов, двое или трое корреспондентов. Последним входит Павлов.
392
— Ну вот,— говорит секретарь МК,— теперь все. Я вызвал вас, чтобы
спросить, как вы думаете делать очередной, праздничный номер.
— Праздничный номер? — несколько удивленно спрашивает Терехов.
—. Да, конечно, праздничный номер. Через пять дней ведь Седьмое ноября.
У вас есть план номера?
— Честно говоря,— говорит редактор,— мы в нынешних тяжелых
обстоятельствах еще не думали о праздничном номере.
— Напрасно. Нынешние обстоятельства остаются нынешними
обстоятельствами, а годовщина Октябрьской революции остается годовщиной
Октябрьской революции. У меня к вам есть несколько предложений...— после некоторой
паузы говорит секретарь МК.— Одно из них—не терпящее отлагательства.
Товарищ Павлов, вы бывали когда-нибудь на Северном участке фронта?
— На Волоколамском? — спрашивает Павлов.
— Нет, на Мурманском.
— Нет,— говорит Павлов.
— Тем лучше. У вас будут свежие впечатления. Не знаю, известно ли вам
это, но там, на побережье Баренцева моря, есть единственный на всем фронте
участок, где бои по-прежнему идут непосредственно на старой границе, и я
думаю, что материал о боях на границе очень подойдет для праздничного
номера. Как по-вашему?
— Мне кажется, что это интересно,— говорит Павлов.
— Да, интересно. И важно. Я думаю, нет смысла объяснять, какое это имеет
моральное значение в нынешних, как вы выражаетесь,— обращается он к
редактору,— в нынешних трудных обстоятельствах. Так вы готовы туда лететь?—
снова обращается он к Павлову.
— Готов,— говорит Павлов. ■ -
Секретарь МК нажимает кнопку звонка. В дверях появляется его помощник.
— Отправьте, пожалуйста, товарища Павлова на аэродром.— Он смотрит
на часы.— Самолет там должен быть уже готов.
21. Баренцево маре. Мотовский залив. Дикая качка. Держась за поручни,
«травят» в океан люди в белых халатах. Некоторые лежат в проходах между
каютами, через них иногда перехлестывает вода. ;
В тесной каюте «морского охотника», где на полу тоже лежит несколько
человек в белых халатах, на узком диванчике, поджав по-турецки ноги, потому
что их некуда опустить, сидят майор Рудин и Павлов.
Павлов вынимает из кармана пачку документов и передает Рудину.
Рудин. Все?
Павлов. Все.
Рудин. И орден свинтите. Все-таки в тыл к врагу...
Павлов. А вы свои?
Рудин. Я в Мурманске отвинтил.
Приоткрывает ватник. На его гимнастерке видны пять выцветших следов от
орденов.
Павлов. У вас уже восемнадцатый поход?
— Что—поход? Что—поход?—говорит Рудин. Поет сильным
басом:—«Любви все возрасты покорны. Ее порывы благотворны...» Вы мне про Москву лучше
расскажите. Поход... Как они, близко? .......
393
— Очень,— говорит Павлов.
— Ох и паршивые последние сводки, черт бы их драл. Хотя бы наврали что-
нибудь приятное. Отступают все-таки, да?
Павлов делает утвердительный жест.
— А Музыкальный театр Станиславского, судя по газетам, играет?
— Играет.
Р у д и н (поет). «О, дайте, дайте мне свободу...». Восемнадцатый раз
занимаюсь этой ерундой. (Поет.) «Я не мельник, я ворон...». Пятый раз вот рапорта
подаю о том, чтобы под Москву. Номы сегодня все-таки устроим им
иллюминацию к празднику. Подумать только: шестое ноября... Что там, в Москве...
Вечер. Москва. Бомба попадает в дом. Взрыв. По городу летят машины.
Бухают зенитки.
В руке у патрульного пропуск. Лучом фонарика на нем освещаются слова:
«Центральный Комитет ВКП(б) совместно с Московским Советом
приглашает вас сегодня, 6 ноября...»
Опять бомба. Летящие машины.
Снова пропуск: «...в 18 час. 30 мин. на заседание...» .
Голос. Пройдите, товарищ. Прямо, первый поворот налево.
Бухают зенитки. Темнота берега. Вспышки немецких орудий. Свист
снарядов. Перекатывающиеся океанские волны. Капитанский мостик. Капитан за
штурвалом. -
— Только бы пройти Пикмуев мыс. Самое клятое место.
...•Над головой со свистом проходит снаряд.
,__ Катер.
Дверь в каюту с треском распахивается, и в нее, наступая на спящих людей,
буквально падает на Павлова и Рудина радист. Рудин схватывает его в
объятия.
— «Ты за час до обрученья дверь не отворяй»,— поет он.— Ну, что
скажешь?
Радист (оставаясь в объятиях). Сталин.
— Что — Сталин?
— Сталин говорит. Заседание Моссовета.
— Как в мирное время,— с восторгом говорит Рудин.
Радиорубка. На палубе кругом у входа в радиорубку толпятся люди.
Некоторые из них втиснулись в радиорубку, других (тех, которые не влезли)
обдает волнами. В радиорубке плохо слышный, прерываемый атмосферными
разрядами голос Сталина.
Капитанский мостик. Штурвальный. Рядом с ним капитан. Слова команды:
— Лево руля. Еще лево руля. Так держать. Право руля.
-. Судя по командам, катер стремительно маневрирует. От времени до времени
над мостиком свист перелетающих снарядов.
394
Какой-то человек, поднявшись снизу на одну ступеньку к мостику, кричит
капитану:
— Он говорит, что...
Говорящий повторяет несколько фраз из речи Сталина в своем вольном
пересказе, прерываемых порывами ветра, волнами, свистом снарядов и командами
то слушающего, то отрывающегося для подачи команд капитана.
Катер у берега. Между ним и берегом пять или шесть метров мелкой воды.
Четверо матросов без шапок, с растрепанными по ветру волосами, в
распахнутых бушлатах, один—просто в тельняшке, захлестываемые волнами, берут
разведчиков по одному прямо с палубы и переносят их на руках, чтобы они не
вымокли. Разведчики в маскировочных халатах похожи на больших младенцев.
Один из них — Павлов.
Скалистый берег, идущий прямым откосом прямо к морю. Море абсолютно
черное, а берег белый, кое-где с пятнами выступов скал.
Карабкаясь по краю этого берега, идут разведчики в громыхающих, как
жесть, и колом стоящих белых халатах. Где-то выше возня на снегу. Оттуда
отделяются двое, и остается распростертое черное тело.
Рудин догоняет ползущего Павлова.
— Чертовы места. Одно утешение—что убитый немец всюду есть убитый
немец. Ничего. Москвичи сделают им и здесь, на краю света, сегодня
праздничный подарок. А? — обращается он к Павлову.
— А иллюминация будет? — спрашивает Павлов.
— Будет. Все будет.
Сразу вспыхнувшая впереди автоматная трескотня. Люди, бегущие по снегу
к двум или трем зданиям норвежского типа.
Выстрелы.
Несколько темных тел на снегу. Один из разведчиков подкладывает обломки
досок к порогу дома.
Рудин. Ничего, довольно. Склады и без этого всегда хорошо горят.
Павлов обращается к Рудину:
— Ну, можно?
— Давай.
Павлов бросает зажигательную бутылку в кучу дров и досок, сложенных у
дома. Туда же летит еще одна бутылка. Взрыв.
Почти по горло в воде подходят к катеру разведчики. Один за другим они
взбираются на борт. Рудин, уже схватившись за поручни и подтягиваясь,
поворачивает голову: там, сзади, виден высоко поднимающийся кверху столб огня.
Рудин, помогая Павлову подняться из воды, поет:
— «Если б милые девицы все могли летать, как птицы...» Давайте руку.—
Потом добавляет, показывая на пожар:— Это мы в отместку за московское
затемнение. Авансом.
395
Павлов поднимается на палубу. Он совершенно мокрый, с него ручьями
стекает вода.
Рудин смотрит на часы.
— Шесть часов. В Москве, бывало, уже в это время перед парадом танки у
Охотного ряда стояли.
— И по Тверской,— добавляет Павлов.
— И по Тверской.
Москва. Темно. На улице Горького, притулившись к тротуарам, стоят танки.
Около них танкисты в полушубках. У танкистов непраздничный, усталый
фронтовой вид.
Какой-то человек в накинутом поверх белья пальто выходит из
парадного.
— Товарищ танкист, простите,— робко спрашивает он,— неужели парад
будет?
— Не знаю, гражданин,— официально отвечает танкист.
Ночь. Комната Павлова. Наташа, Леша и фотокорреспондент.
Леша. Как вы считаете, когда Николай Иванович-то вернется?
Наташа. Не знаю. А вы?
Леша. Я считаю, что скоро. Почему? Потому что общее положение
говорит за этот факт.
Фотокорреспондент. Мне нужно шубу. По возможности какую-
нибудь черную.
Наташа приносит ему с вешалки шубу. Он, просунув руки через рукава,
заряжает под ней пленку в аппарат.
Наташа. Неужели все-таки будет парад?
Фотокорреспондент. Но как же это может быть? Сегодня, как
назло, такая хорошая погода. Могут же всех разбомбить.
Она подходит к выключателю, выключает свет, поднимает штору.
— Нет, звезды...— говорит она в темноте.
В Московском Комитете партии. В комнате, в которой собрались синоптики.
Обрывки разговоров:
— Кривая изотермов исключает выпадение осадков ранее чем через три
дня. '
— А ваше мнение?
— Возможны отклонения.
— Ни в коем случае.
Секретарский кабинет. Слева комната, где сидят синоптики. Справа,
очевидно, сидит «сам». У стола с телефонами сидит помощник секретаря
Московского Комитета.
Входит какой-то военный работник.
— Ну, что говорит твой?
396
— Пока ничего. Он говорил с самим «хозяином».
— Ну?
Помощник пожимает плечами.
— Тот говорит, что погода будет хорошая. То есть, что погода будет плохая,
нелетная.
— А что говорят синоптики?
— Они говорят наоборот.
— А он знает?
— Знает. Но он говорит, что все равно будет хорошая.
Башня танка. Высунувшийся из люка танкист, глядящий в небо. На его
лицо падают первые снежинки. Потом снег идет все чаще. Начинается сплошная
метель. Из этой метели возникает знакомое перекатывающееся «ура» Красной
площади, которое ни с чем нельзя спутать.
На Мавзолей очень быстро поднимается Сталин и говорит первое слово:
— Товарищи...
В Мурманске. Матросский кубрик. Вповалку лежат измученные, спящие
люди. Кое-кто снял автоматы и положил к стенке, у некоторых автоматы лежат
под головами. Среди этих людей Рудин и Павлов. Все крепко спят. Репродуктор
на стене начинает речь Сталина:
— Товарищи...
Океан с продолжающимся пожаром на горизонте.
Снова кубрик Последние слова речи Сталина. Люди уже не спят. Они
слушают, еще не понимая, откуда он говорит и что происходит. И вдруг за словами
Сталина: «Смерть немецким оккупантам!» — салют. Раскаты «ура», и на
продолжающемся шуме в громкоговорителе Рудин кричит:
— Это же парад! Ей-богу, это парад! Парад!
На грохоте танков кто-то еще раз повторяет убежденно и радостно:
— Да, парад.
Грохот танков переходит в оглушительный, близкий их рев.
22. Прямо на нас, издалека, со все увеличивающимся грохотом, по полям,
по заснеженной земле ползут немецкие танки.
В снегу глубокие окопы. Окопы уходят влево и вправо. В них в поле нашего
зрения несколько бойцов с противотанковыми ружьями и политрук. Все они
напряженно смотрят в ту сторону, откуда слышится грохот немецких танков.
Танки еще довольно далеко. Черными пятнами они ползут по снегу. Один из
бойцов прикладывается к противотанковому ружью.
— Подожди,— говорит политрук.
Он всматривается опять в даль.
Боец снова делает движение к ружью.
397
— Еще подожди,— говорит политрук.
Внутренность немецкого танка. Механик-водитель нажимает на рычаги.
Танк сотрясается на третьей скорости. Командир танка поворачивает башню,
смотрит в панораму.
В узком поле зрения поворачивающейся панорамы видны слева и справа
идущие соседние танки и потом впереди черный гребешок окопов, смутные
точки людских голов и стволов противотанковых ружей.
— Файер,— хрипло говорит немец и ногой нажимает на педаль. Танк
содрогается от выстрела.
Снова окопы. Впереди, обдавая сидящих снежной пылью, взрывается
снаряд. Красноармеец прикладывается к ружью.
— И еще подожди,— говорит политрук.
Молчание.
Все смотрят вперед.
— Седьмое ноября,— говорит политрук.— Раньше, бывало, в это время мы
у себя в Алма-Ате слушали, как передавали по радио парад на Красной
площади. Ты бывал в Москве? — обращается он к красноармейцу.
Но тот не успевает ответить. Теперь, с перелетом, позади них разрывается,
взметая снег, еще один снаряд. Они пригибаются.
— Я говорю, ты бывал когда-нибудь в Москве? — поднимаясь, снова
спрашивает политрук.
— Никогда,— отвечает красноармеец.
— Я тоже никогда не бывал,— говорит политрук.
Он припадает к козырьку окопа, потом приподнимается и, подняв руку,
кричит:
— За Москву! Огонь!
Первый выстрел.
Те же окопы. Метель.
Прямо, взгромоздившись на козырек окопа, стоит заметаемый снегом
взорванный немецкий танк. Из-под его гусениц торчат ноги раздавленного
красноармейца.
В окопах, поодаль друг от друга, несколько, тоже уже наполовину
заметенных снегом, мертвецов.
Раненый политрук, подтягиваясь на руках, ползет по окопу*
— Товарищи,— говорит он тихо.— Товарищи...
Молчание.
— Товарищи... Вы герои... Я доложу... вас всех представлю к Героям. Всех
до одного. Мне поверят. Что же вы молчите, товарищи...
Он подползает к одному из мертвых, берет его за плечи.
— Васильев,— шепотом, совсем близко в мертвое лицо говорит он, —
Васильев, слышишь, что я тебе говорю?
Обессилев, он падает в снег рядом с мертвым, почти обнявшись с ним.
Молчание.
Окопы все сильнее и сильнее заметает метель, превращающаяся в сплошную
снежную стену...
398
23. Сквозь такую же метель пробивается Павлов. Он откидывает
плащ-палатку и вместе с ветром и снегом вваливается в блиндаж.
Это блиндаж командира того полка, в котором дрались люди, только что
виденные нами.
Навстречу Павлову встает молодой капитан.
— Здравствуйте. Павлов — корреспондент «Известий».
— Здравствуйте. Капитан Соловьев.
— А где командир полка, товарищ капитан?
— Я командир полка,— говорит Соловьев.— Третий за неделю,—
добавляет он с горечью.— Так, слушаю вас, товарищ Павлов.
— Ведь это у вас тридцать человек задержали немецкую танковую атаку?
— Двадцать восемь,— говорит Соловьев.— Да, у меня.
— И сожгли и подбили пятьдесят немецких танков?
— Пятьдесят один,— поправляет Соловьев.
— У нас узнали об этом и прислали меня поговорить с этими людьми.
— Но разве вы не знаете...
— Да, но не все же?
— Все.
— Но кто-то ведь вам рассказал?
— Последний.
— А где он?
— Умер. Рассказал, умирая.
— Но, может быть, можно хоть посмотреть то место, где это было?
— Пока нельзя,— отвечает Соловьев.
— Почему «пока»?
— Пока не вернемся туда.
Они выходят из блиндажа. Окопы. Метель. Далекая снежная пелена.
— Это там,— говорит Соловьев.— Там. Уже двадцать километров отсюда.
Они умерли, но не отступили. Но мы... мы отступили. Что же было делать?—
вдруг хватая Павлова за обшлаг шинели, яростно говорит, почти кричит он.—
Вы говорите, у меня полк, да? У меня сейчас меньше людей, чем тогда, когда
я был лейтенантом и командовал ротой. Полк! У меня пять километров фронта
и по десять человек в роте. Это только называется полком. Но я должен
защищаться так, как будто я — полк. Мне говорят: «Ваш полк должен отстоять то-то
и то-то». Трудно, товарищ Павлов, очень трудно,— вдруг другим голосом
говорит он.— То, что вы не застали этих двадцать восемь героев,— ничего. Я вам
расскажу о них. И потом... почему писать непременно о тех, кто уже был героем,
пишите о тех, кто будет им.— Он показывает вперед.— Там лежат мои
противотанковые расчеты, пойдите туда. Может быть, сегодня ночью или завтра
утром они так же будут драться, как те двадцать восемь, и вы с ними
поговорите не после смерти, а перед смертью.
Они оба скрываются в ходу сообщения.
Тот же блиндаж, в котором мы недавно видели Павлова и командира полка.
Они оба входят в него. С ними в блиндаж врывается снег. Горит одна коптилка.
Войдя, они щурятся, стараясь разглядеть, кто в блиндаже.
За столом в блиндаже в полушубках и не сняв шапок сидят генерал и
командир дивизии.
399
— Командир 93-го полка капитан Соловьев,— разглядев командующего,
говорит командир полка.
— Здравствуйте. Садитесь,.— говорит генерал.— Мы вас ждали. Сколько
вам нужно времени для того, чтобы целиком снять свой полк с позиций,
передать позиции другим частям, а самим сосредоточиться вот здесь,— он
показывает на карте,— для дальнейшего движения? Ответьте.
Соловьев смотрит на карту, что-то прикидывает в уме, потом говорит:
— От двух до двух с половиной часов.
— Значит, два часа. Вот видите: два, а не четыре,— многозначительно
взглянув на командира дивизии, говорит генерал.— Вот командир батальона
94-го полка,— снова обращается он к Соловьеву.— Он станет на ваше место.
Немедленно начинайте сдавать ему участок.
— Разрешите идти? — спрашивает Соловьев.
— Идите.
Соловьев и командир батальона выходят.
— Товарищ командующий,— хриплым, взволнованным голосом говорит
командир дивизии, вставая,—приказ есть приказ, но разрешите доложить...
— Слушаю вас.
— Разрешите доложить,— стоя навытяжку, волнуясь, говорит командир
дивизии,— вы меня давно знаете, я с вами со Смоленска воюю...
* — Да,— говорит генерал.
— У меня в полках по сто штыков, товарищ командующий.
— Знаю.
— Если вы у меня заберете полк и у меня на пятнадцать километров
останется два полка по сто штыков, немцы смогут обойти и обойдут.
— Если они вас обойдут,— ледяным тоном говорит генерал,— я вас отдам
под суд.
— Нет, товарищ командующий, вы меня не отдадите под суд. Я умру здесь,
и вы меня не отдадите под суд. Но разве в этом дело? Я вам хочу сказать только,
что если случится несчастье, что если немцы обойдут, то я...
Генерал встает.
— Какие могут быть «если»! — свирепо, сквозь зубы говорит он.—
Неужели вы не понимаете, что не может быть никаких «если», когда до Москвы
осталось тридцать четыре километра. Растяните свой 94-й полк,— сухо
добавляет он.— Замените его правофланговым батальоном позиции 93-го, а 93-й
чтобы ровно в 18.00 был вот здесь, в моем распоряжении,— стучит он пальцем
по карте.— Выполняйте приказ.— Он смотрит на полковника, потом
протягивает руку и говорит:—Желаю вам боевого счастья, Александр Григорьевич,—
и идет к выходу.— Здравствуйте,— говорит он Павлову, словно только что
его заметил.—Вы обратно в Москву?
— Да-
— Могу вас подвезти часть дороги.
По шоссе проносятся одна за другой две машины — генерала и Павлова.
Павлов сидит в первой машине вместе с генералом.
— Вам хорошо, наверное, там, в газете,— с горечью говорит генерал.— Не
напечатают статью или исправят в ней что-нибудь против вашего желания,
все можно объяснить: как, что и почему. А?
400
— Да, более или менее,— говорит Павлов.
— У меня труднее. Я не могу каждый раз все объяснить. Когда вечером я
отбираю у командира дивизии очень нужный ему полк и отдаю соседу, я не
всегда могу ему объяснить, что утром командующий фронтом отобрал у меня
до зарезу нужную мне дивизию и тоже отдал ее соседу не потому, что он любит
моего соседа больше, чем меня, а потому, что там она еще нужнее... Надолго в
Москву?
— Нет,— говорит Павлов.
— К рассвету я предвижу у себя серьезные события,— говорит генерал.—
Возвращайтесь.
— Хорошо.
— Наверное, не успели договорить тут в полку, а?
— Да, не все успел.
— Ничего, утром поедете со мной на тот фланг. Там, очевидно, будет самая
горячка, и вы встретите этот полк там. Тогда и договорите.
Шофер тормозит машину.
— Ну, здесь мне направо,— говорит генерал. Он указывает на поворот.—
Сто метров вправо деревня Потапово, вернее, все, что от нее осталось. Мой
дом — третий слева. Приезжайте.
Павлов пересаживается в свою машину.
Машина генерала сворачивает вправо.
Машина Павлова идет прямо.
— Николай Иванович,—говорит Леша,— вы как, Наталью Алексеевну из
Москвы не вывозите?
— Нет,— говорит Павлов,— пока не собираюсь.
— А я своих к старикам в Пензу отправил вчера. Так хоть на душе легче.
А мы с вами, если что, в партизаны подадимся, Николай Иванович. Как вы
считаете?
— Надеюсь, что все-таки не придется,— серьезно говорит Павлов.
24. Комната Павлова. Павлов говорит по телефону:
— Нет, лучше назовите просто «Двадцать восемь». И потом почитайте с
машинки, я не успел выправить... Да. Сейчас еду.
Он кладет телефонную трубку и берется за недопитый чай.
Наташа. А если утром поехать?
П а в л о в. Нельзя. Я через час должен быть в армии.
Наташа. Неужели ты доедешь за час?
Павлов. К сожалению, да.
Наташа. Боже мой. Час... Но это ведь и им тоже оттуда сюда доехать
час...
Павлов. Да, но...
Наташа. Конечно. Но все-таки это страшно. Да?
Павлов. Да.
Наташа. Мне сегодня что-то тревожно. Мне сегодня на работе
говорили... нет, ты не подумай... я просто рассказываю тебе.
Павлов. Тревожно? Ты что, боишься бомбежки или того, что подойдут
так близко, что будут стрелять по Москве из пушек? Ты этого боишься?
Наташа. Нет, не боюсь. Не знаю...
401
Павлов. Значит, ты боишься того, что могут прийти немцы? Да?
Наташа. Да. Что ты скажешь об этом?
Павлов. Ничего. И не слушай, что говорят другие. Слишком хорошо
говорят — не верь, слишком плохо говорят — не верь. Верь только одному —
своему сердцу. Спроси себя, когда будет тяжело на душе: ехать или не ехать?
И сама себе ответь и сама себя послушай. Себя и больше никого.
25. Та же дорога. Бьет тяжелая артиллерия. Машина Павлова сворачивает
туда, куда несколько часов тому назад свернул генерал. Проезжает сто метров.
Деревня горит. Машина подъезжает к третьему дому слева. Это уже не дом,
а обломки дома, разбитого артиллерией. Мимо него через улицу перекатывают
противотанковую пушку и устанавливают ее среди развалин.
Возгласы:
— Давай ее сюда, налево! Они отсюда пойдут!
Близкий грохот боя. У развалин третьего дома неподвижно стоит озябший
красноармеец.
Павлов вопросительно смотрит на него. Красноармеец делает шаг к машине.
— Товарищ Павлов?
— Да.
— Командующий приказал встретить вас и проводить к нему. Разрешите
сесть в машину?
— Садитесь,— говорит Павлов.
Подмосковная дача. Очень хорошая. Со стенными книжными шкафами,
с какими-то дипломами, висящими на стенах. Видимо, это дача какого-нибудь
крупного ученого.
Генерал ходит по большому холлу. Изо рта идет пар.
Красноармеец возится у камина, растапливая его.
— Вот печка чудная, товарищ командующий,— говорит он.
— Камин,— говорит генерал, продолжая ходить.
На ходу он читает какую-то бумагу, потом останавливается у книжной
полки, подписывает бумагу и говорит стоящему в дверях адъютанту:
— Возьмите. Стойте...
Он останавливается посредине комнаты. Слышно, как наверху кто-то
надсадно барабанит на рояле: «Чижик, чижик, где ты был?», «Чижик, чижик, где
ты был?» И опять: «Чижик, чижик, где ты был?»...
— Что такое? — прислушиваясь, говорит генерал.— Я ведь приказал,
чтобы никто ничего не трогал на этой даче. Она переполнена ценностями. Десять
суток ареста тому, кто играет.
— Товарищ генерал,— говорит адъютант,— так все равно же... если
отойдем — сгорит.
— Если отойдем — сгорит. А пока десять суток,— говорит генерал.— Связь
установили?
— Устанавливают,— говорит адъютант.
Генерал до сих пор был еще в полушубке. Теперь он его снимает и бросает
на стул.
Входит Павлов, запорошенный снегом.
402
— Нашел вас мой ординарец? — спрашивает генерал.
— Да.
— А то я за вас беспокоился.
Павлов с немым вопросом смотрит на него. Теперь они уже вдвоем в комнате.
Красноармеец растопил камин и вышел.
— Дачное место,— кивает генерал за окно.— В выходной день сюда
ездило пол-Москвы. Да, так вы спрашиваете,— заметив немой вопрос на лице
Павлова,— почему я перебрался? Когда расставался с вами, не предполагал.
Немцы прорвались у Апрелевки, сейчас затыкаем брешь. Через полчаса я
поеду туда. Поедете со мной?
— Да,— говорит Павлов.— Товарищ генерал..»
— Ну?
— Как общий ход вещей? Как вы оцениваете его?
— Есть такие шахматные этюды: положение как будто выигрышное для
черных, а под этюдом надпись: «Белые ходят и выигрывают». И действительно
они выигрывают. Но как? Понимаете, ходят и при правильном ходе
непременно в конце концов выигрывают, но как — в этом весь вопрос. Сейчас мы с вами
поедем. Но слушайте, у меня к вам просьба. Я потом, в горячке, забуду вам
сказать и скажу сейчас. Вы, наверное, завтра будете возвращаться в Москву?
— Да,— говорит Павлов.
— То, что я вам скажу, не тайна для вас. Я знаю вас с начала войны и
доверяю вам. Вы были во многих моих частях. Вы видели — мне уже месяц не
дают пополнения, ни одного солдата, у меня по десять человек в роте. Моя армия
обливается кровью. Я просил — мне отказали. Наверное, так и надо. Но у меня
есть личный, мучающий меня вопрос. Почему мне не дают людей? Я хочу знать,
почему? Потому ли, что готовят резервы, или потому, что их нет. Нет, этого
не может быть. Но я хочу знать. Вы поедете в Москву. Завтра к ночи вы
вернетесь сюда, да?
— Да-
— Когда поедете в Москву, сверните одним-другим проселком в лес и
посмотрите, внимательно посмотрите. Они должны там стоять в лесах. Должны.
Я хочу это знать. Странная просьба, да?
— Нет,— говорит Павлов.
26. «Эмка» едет к Москве. День. Павлов спит, ударяясь головой о борт
машины.
— Скоро Москва,— говорит Леша, будя его.
— Сворачивай,— говорит Павлов, заметив перекресток.
— Зачем?
— Сворачивай.
Они сворачивают. Павлов смотрит по сторонам.
Вдоль снежной дороги все время идут свежесрубленные из бревен съезды в
глубокие колеи, то танковые, то машинные, уходящие куда-то в неизвестность,
в лес, прямо в чащу.
— И все в лес,— говорит Леша, указывая на колеи.
Павлов, развернув каргу, говорит:
— Сейчас свернешь направо. Тут есть поперечная дорога на
Волоколамское шоссе.
403
Действительно, вскоре показывается поворот направо, идущий через лес.
Поворот хорошо изъезжен. Леша сворачивает машину. Они проезжают шагов
десять, и из-за деревьев появляется здоровенная фигура часового в большом
дубленом полушубке, в валенках, в ушанке.
— Стой!
Павлов приоткрывает дверцу.
— Куда едете?
— На Волоколамское шоссе.
— Проезда нет,— говорит часовой.
— Как—нет? Всегда езжу,— говорит Павлов.
— Товарищ лейтенант! — кричит часовой.
Появляется лейтенант, такой же здоровенный, в таком же дубленом
полушубке.
— В чем дело? — говорит он.
— Вот, проехать хотят,— говорит часовой.
— Ваши документы? — говорит лейтенант.
Павлов протягивает командировку.
Лейтенант читает.
— Это вы, товарищ Павлов, в «Известиях» пишете? — спрашивает он.
— Да.
— Читал много раз,— говорит лейтенант.
Леша, считая, что разговор окончен, нажимает на стартер.
— Вы что хотите, товарищ Павлов?
— Хочу проехать кратчайшим путем на Волоколамское шоссе.
— Здесь нельзя проехать,— твердо говорит лейтенант. -
— А где можно? — спрашивает Павлов, глядя на карту.— Через два
километра еще одна дорога идет,— там можно?
— Не знаю,— говорит лейтенант. — Я не здешний. Но думаю, что тоже
нельзя.
Машина разворачивается.
27. Павлов поднимается по лестнице к себе домой. Дойдя до двери, он
видит, что какой-то человек в таком же полушубке, какие он только что видел,
тарабанит кулаками в его двери.
— Кто это? — спрашивает Павлов в полутьме.
Человек поворачивается.
— Алешка! — говорит Павлов.
Они обнимаются.
Комната.
— Сестренка где? — спрашивает Алеша.
— Скоро придет с работы. Вот удачная встреча,— говорит Павлов.— Я ведь
только на десять минут. Ватник поддеть. Мороз сегодня ударил, ай!
#— Да,— говорит. Алеша.
— А я Наташе все говорю: где твой дальневосточник? Что он там все
околачивается? Пора.
— Это верно, пора,— говорит Алеша.
404
— Когда прибыл? Сегодня? — спрашивает Павлов.
• — Между нами говоря, месяц,— говорит Алеша.
— Месяц? — удивленно переспрашивает Павлов.— А где стоите?
— Между нами говоря, здесь недалеко, в лесу,— виновато говорит Алеша.—
Все слышим, все знаем и стоим.
В это время Павлов, сняв валенки, надевает поверх галифе ватные штаны,
натягивает ватник, сверху надевает полушубок и валенки.
— Замерз,— говорит он.— Как вдруг ударило! С ночи еще ничего не было.
Думал хоть два часа поспать, не выходит.
Внизу гудки машины.
— Вот — уже,— говорит Павлов.
— Куда же ты? — спрашивает Алеша.
— Туда, где вас нет. Немцы Яхрому взяли, переправились через канал
«Москва — Волга».
— Что?
— То, что ты слышишь.
— Канал «Москва — Волга»,— сокрушенно повторяет Алеша. Видимо это
известие его ошеломило. Он не представлял себе, что немцы уже так близко к
Москве.
.Павлов быстро вынимает из стенного шкафа.бутылку и два стакана:
— Ну а водки выпью перед дорогой. Хочешь?
— Да, хочу,— говорит Алеша.— Мы же не фронтовики, нам водки не дают.
Павлов наливает себе и ему. Они выпивают.
Нахлобучив шапку, Павлов говорит:
— Подожди ее здесь. А это в твоем распоряжении,— добавляет он,
показывая на бутылку,— чтобы не скучно было ждать.
— Нет,— говорит Алеша, наливая второпях еще полстакана и выпивая.—
Я тоже пойду. Черт! «Москва — Волга»,— в третий раз огорченно повторяет
он.— Может, нас хоть туда...
28. Берег канала «Москва — Волга» в районе Яхромы. Разбитая
артиллерийским огнем деревня. , Вдалеке на горизонте высятся шлюзовые
сооружения.
Около избы с выбитыми окнами Павлов и несколько военных. Среди них
незнакомый полковник, по-видимому командир дивизии.
— Что значит — просачивается? — кричит на какого-то капитана
командир дивизии,— Вы должны были не пускать.
— Нечем не пускать, товарищ полковник. Хоть расстреливайте, нечем.
У меня сорок человек в полку осталось.
— Сам ляг костьми, а не пусти.
— Сам лягу — через меня перейдут.
— Бери мою комендантскую роту и иди. И чтобы дальше их не пустил.
Больше ничего нет, последнее отдаю. Иди,— говорит полковник.— С начальником
артиллерии соединились? — кричит он в избу.
— Соединились,— отвечают через выбитое окно.
— Подготовили огонь по третьему шлюзу?
— Подготовили.
Подъезжает мотоциклетка. Запыхавпгайся мотоциклист докладывает:
405
— Майор Бехтяев приказал доложить, что немцы переправились у второго
шлюза.
— И у второго?— говорит полковник.— Пусть подготовят огонь по второму
шлюзу! — кричит он в окно.— Ну что, товарищ Павлов? Чего приехали?
Чего вы тут хорошего увидите? Ничего хорошего не увидите. Приехали на
позор на мой смотреть?— И вдруг другим голосом:— А я не виноват.—Тихо:—
Ей-богу, не виноват. Я за два дня предупреждал, я позавчера просил, я вчера
умолял: хоть батальон мне, хоть шестьсот человек. Не пустил бы их через
канал ни за что.
— Огонь подготовлен...— кричат через окно.
— И ничего не обещают? — говорит Павлов.
— Ничего. Я сегодня просто плакал в телефон. Ничего, ни одного человека.
Не знаю, что такое. А Москва — вот она,— говорит полковник.— Огонь по
третьему шлюзу! — кричит он в окно.
Слышно, как в избе повторяют:
— Приказано открыть огонь по третьему шлюзу.
Кто-то командует.
Снаряды рвутся среди шлюзовых построек. Один из них попадает в лед и
черная вода высоким фонтаном взлетает к небу.
30. Москва. Комната Павлова. Наташа и ее мать — закутанная в платок
старушка.
— Может быть, тебе чаю вскипятить, мама? — говорит Наташа.
— Не хочу. Что же делать-то, Наташенька? За Дорогомиловской уже
слыхать, как пушки бьют.
— Это наши пушки,— говорит Наташа.— Они бьют в ту сторону.
— Так все равно, пушки все-таки,— говорит мать.— Неужели же немцы
будут здесь?
— Нет, не будут,— говорит Наташа.— Не знаю... Нет, не будут.
— Теперь к нашему дому-то и не пройти, всю улицу перегородили,—
говорит мать.
Наташа выглядывает в окно.
Перед самым домом перегораживают улицу готовые баррикады,-за которыми
в это время устанавливают орудия.
— Видишь,— говорит мать.— Что тебе хоть Николай Иванович сказал,
что посоветовал?
— Ничего,— говорит Наташа.—У нас на работе сегодня уезжает машина в
Горький, вывозит последние архивы. Меня вчера уговаривали, чтобы и я выехала
туда.
— Ну и что же ты?
— Не знаю.
Стук в дверь.
Входит человек средних лет, видимо, очень деловой и торопящийся.
— Машина внизу,— говорит он не здороваясь.— Вы что, еще не
уложились?
— Здравствуйте,— говорит Наташа.
— Здравствуйте, Наталья Алексеевна,— говорит он, спохватившись.—
Здравствуйте. Ну что же, забирать вас с собой или не забирать?
406
— А работа? — говорит Наташа нерешительно.
— Какая работа? — говорит он.— Вы же сами знаете, что мы с вами за
сторожей остались. Сейчас я вывожу последнее — сторожить уже нечего. Честное
слово, я просто не знаю, что вы тут будете делать.
— Да,— говорит Наташа задумчиво.— Это верно.
— Ну? — торопливо говорит он, ожидая согласия.
Наташа смотрит в окно, на баррикады, потом на мать и растерянно
говорит:
— Знаете, Анатолий Васильевич, я, пожалуй, не поеду.— И вдруг с силой
повторяет: — Не поеду.
— Наталья Алексеевна!
— Вот, не поеду.
— Ну хорошо, как хотите. До свидания,— говорит он, пожимая ей руку,
и выходит.
Наташа провожает его до дверей, возвращается, садится, смотрит на мать.
— Как же поедем? Да, мама?
Стук в дверь. Входят один военный и трое или четверо людей из
истребительного отряда, одетых в штатское, но вооруженных.
— Здравствуйте,— говорит первый из них.— Балкон как раз у вас, да?
— У нас,— говорит Наташа.
— Вы извините, нам нужно пройти на балкон посмотреть.
— Пожалуйста,— говорит Наташа, идя к балконной двери.
— На всякий случай. Может быть, и не понадобится, но все-таки...—
говорит вошедший.
— Пожалуйста, пожалуйста,— говорит Наташа и открывает дверь.
В комнату врываются морозные клубы воздуха.
Люди выходят на балкон.
За ними, накинув на плечи платок, идет Наташа. Стоит в дверях.
— Вот сюда и на парапет,— переговариваются между собой люди.
— Треногу сюда можно опереть,— говорит один.
— Да, в случае необходимости можно будет и здесь,— говорит другой.
— А под треногу — табуретку, и все.
— Подождите,— говорит Наташа оживленно.— Вот давайте рояль
отодвинем, можно тут дверь открыть.
Она берется за рояль.
— Нет,— говорит военный.— Потом, если нужно будет, отодвинем.
— А еще лучше,— говорит Наташа,— я могу ту комнату открыть.— Она
подходит к дверям, повертывает ключ.— Там тоже дверь на балкон.
Они проходят в соседнюю комнату, открывают там балконную дверь.
Смотрят вниз.
— Да, можно и здесь,— говорит военный.
Наташа смотрит на них, потом вниз, на баррикаду, за которую накатывают
пушки.
Холодный ветер врывается снаружи в комнату и сдувает с плеч Наташи
платок.
Внизу тот человек, который только что приходил за Наташей, садится в
грузовик и, взглянув наверх, замечает Наташу.
— Может, все-таки поедете? — говорит он, сложив руки рупором.
— Не поеду! — громко, почти весело кричит вниз Наташа.
407
31. Лесная опушка. Холод. На деревьях иней, снежные сережки.
Оглушительный грохот залпа. Сережки сбрасываются и падают вниз. С деревьев
сыплется снег.
На горизонте пожары — один, другой, третий.
Деревня. Мы видим ее все ближе. Она горит. Через нее проходит дорога. По
дороге идут немецкие машины, грузовики, танки. Один из танков
разворачивается, дает несколько выстрелов назад, снова выезжает на дорогу и двигается
дальше.
Немецкие факельщики поджигают дома. Они бегут по обеим сторонам
деревни и жгут дом за домом. Разрывы снарядов тяжелой артиллерии. Один из
разрывов рядом с факельщиками. Они падают.
Дорога. По дороге мчится немецкая автоколонна. Шоссейный мост через
реку. Последняя из немецких машин останавливается, из нее выскакивают
несколько немцев, привязывают к мосту ящик с толом, поджигают фитиль,
вскакивают на машину. Уезжают...
Мост взлетает на воздух.
Идет следующая колонна немецких машин. Первая машина — огромный
транспортер—с ходу въезжает на взорванный мост; перевернувшись в воздухе,
летит вниз, в реку и вверх колесами тонет, проламывая ледяную корку.
Ночь. На горизонте сначала далекие, потом все приближающиеся зарева
пожаров.
Сожженная деревня. Дотлевающие, обваливающиеся балки избы.
Перекресток снежных дорог. По дороге идет пехота. На самом перекрестке
стоит несколько человек в полушубках. Мимо них по спуску к мосту движутся
машины.
На машине подъезжает Павлов. Выскакивает.
— Товарищи командиры,— говорит он, подходя сзади к группе стоящих.—
Скажите, где штаб армии?
— Здесь,— говорит один из командиров и повертывается к Павлову. Это
генерал. — Здесь,— повторяет он.— Здравствуйте,— говорит он, увидев
Павлова, и сейчас же отворачивается к тому командиру, с которым он
разговаривал.
— Если машина не проходит, идите пешком,— возбужденно говорит он.—
Богородицк уже горит,— показывает он вперед на зарево,— а вы еще не знаете,
что там.
408
— Раз горит, значит, наверное, отходят,— говорит стоящий перед ним
полковник.
— Очень плохо!— весело и яростно кричит генерал.— Плохо, что отходят,—
должны бежать. Плохо, что горит,— не должны успевать поджечь.
Отправляйтесь и узнайте — взят Богородицк или не взят. Если не взят, возьмите! Вот,—
показывает он на Павлова,— корреспондент центральной прессы. Через час,—
генерал смотрит на часы,— через час я пришлю его к вам, чтобы он написал
статью о том, как был взят Богородицк. И попробуйте мне его не взять. Черт
знает что! Третьи сутки наступления, а Богородицк еще не взят^ Позор.
Идите.
Полковник, сделав несколько шагов, возвращается.
— Товарищ командующий, разрешите узнать сегодняшний пропуск.
— Пропуск — «Богородицк», сегодня пропуск — «Богородицк». Идите. Что
за часть? — кричит он проходящим людям.
— 986-й полк,— говорит лейтенант, тот самый, которого мы видели в лесу
разговаривающим с Павловым.
— Куда идете?
— На Богородицк,— отвечает лейтенант.— Разрешите, товарищ генерал,
узнать маршрут.
— Видите зарево? — спрашивает генерал.
— Вижу.
— Прямо на зарево. И чем скорей, тем лучше. Вот вам и весь маршрут.
На ведущей под уклон узкой дороге, около которой стоит генерал со штабом,
автомобильная пробка. Машины вплотную наехали одна на другую, водители
яростно сигналят, но от этого положение не меняется. Генерал обращает на это
внимание.
— Начальника колонны ко мне! — кричит он.— Скорей!
Подбегает запыхавшийся лейтенант.
— Почему стоят машины?
— Мост впереди провалился,— говорит лейтенант.
— Надо развернуть машины и ехать в объезд, другой дорогой.
— Никак не развернешь, товарищ генерал. Посмотрите, дорога-то... Где же
развернуть?
Дорога действительно узкая и по обеим сторонам ее идут высокие сугробы.
— Черт бы вас подрал! — вдруг кричит генерал.— Белоручки! Маменькины
сынки! Машины развернуть не могут. Вас бы вот в шахту загнать, как меня
когда-то. Десять лет бы вам вагонетки своими руками потаскать. Тогда бы
знали, как машины развернуть. Черт их дери,— поворачивается генерал к
Павлову.— Машины развернуть не могут. Шоферов из кабин собрать. Что они
там задницы просиживают. По двадцать человек на передний мост, по двадцать
человек на задний. Поднять каждую машину и перевернуть.
— Как? — спрашивает лейтенант.
— Как? Вам еще объяснять как. Руки помозолить, вот как! Вот стояла
носом сюда — перевернуть, чтобы стояла носом туда. Сначала одну, потом
другую, потом третью. И так все. А потом поедете другой дорогой. И, черт вас
еозьми, если через полчаса вы не перевернете мне всю колонну, я сам займусь
этим делом, я сам буду перевертывать машины, а вас заставлю смотреть. А по-
14 В. Пудовкин, т. 1
409
том разжалую в красноармейцы. Идите. Идите и помните, что мы наступаем,
нам некогда терять время!
Смотрит на Павлова, неожиданно улыбается. Павлов тоже улыбается.
— Не думал я,— говорит Павлов,— что вы десять лет вагонетки таскали,
— А я, когда таскал, тоже не думал, что генералом буду,— говорит генерал
улыбаясь.— Ну как,— весело говорит он,— вы меня, товарищ корреспондент,
кажется, недавно спрашивали об общем ходе вещей?
— А вы мне, товарищ командующий,— улыбаясь, отвечает Павлов,—
помнится, что-то говорили насчет резервов.
И они оба хохочут.
Близкие разрывы немецких снарядов.
— Укройтесь, товарищ генерал, тут погреб есть,— говорит адъютант.
— Что—укройтесь! Машину мне! Поедем со мной,— обращается генерал к
Павлову.— Вперед поедем. Тогда перелеты будут. Приедет начальник штаба,
будет меня искать,— поворачивается он на ходу к одному из ординарцев,—
скажете ему, что командующий поехал вперед. Пусть догоняет.
32. Снежный косогор, на вершине которого окраина деревни. По косогору,
по снежной дороге, буксуя, влезает тяжелый немецкий транспортер с пехотой.
Он переполнен солдатами. Сзади грохот выстрелов. Один из немцев
говорит:
— Через десять минут они будут здесь.
— Что же ты не едешь? — стучит кто-то в кабину шофера.
Шофер вылезает и начинает копаться. Машина не идет.
— Бензина нет,— говорит он.
Сзади подходит немецкий броневик.
— Стой! — выскакивают из транспортера солдаты и преграждают дорогу.
Броневик останавливается. Открываются люки. Солдаты истерически
кричат, требуя, чтобы им дали бензин с броневика. Команда броневика
отказывается. Кто-то из солдат начинает отвинчивать крышку бака. Башенный
стрелок броневика, высунувшись, ударяет его кулаком. В ответ один из солдат
стреляет по башенному стрелку. Водитель рвет рычаги и пытается ехать.
Вскочивший на броневик немец засунул руку под крышку люка, не давая его
закрыть. Водитель тянет крышку к себе, прищемив руку солдата. Тот дико кричит.
Двое других открывают крышку люка и стреляют внутрь, в водителя. Кто-то
уже тащит из транспортера ведро и шланг. Тут же, среди всей этой сутолоки,
шофер транспортера начинает тянуть бензин через шланг. Струя бензина бьет
в ведро.
Бензин налит. Транспортер трогается, буксует.
Подъезжает еще один транспортер, тоже буксует и заваливается в кювет.
Соскочившие с него солдаты бегут к уже двинувшемуся первому транспортеру.
Некоторые на него вскакивают, другие пытаются вскочить, бегут за ним.
— Нельзя, перегружено! — кричат с транспортера.
Солдаты все-таки пробуют догнать его, вскакивают на крылья, на заднюю
подножку. Здоровый немец, один из вскочивших вначале, бьет автоматом по
рукам тех, кто цепляется за транспортер. Несколько человек отстает. Один
падает плашмя и неподвижно лежит на снегу. По откосу, громыхая, поднимается
русский танк. Он переезжает через немца. Отставшие солдаты бегут в стороны,
410
по изгородяхЛ! деревни. Один из ехавших на танке автоматчиков соскакивает и
гонится за ближайшим немцем. Немец поворачивается, у него только автомат.
Он несколько раз щелкает им и бежит дальше. Он добегает до забора,
поворачивается. Наш автоматчик подбегает к немцу в упор и вдруг отчаянным жестом7
швырнув на землю автомат, хватает немца за горло, трясет его из стороны в
сторону, потом яростно, продолжая держать его за горло, ударяет о забор.
Забор с треском проламывается, и немец, а сверху него автоматчик летят на
землю.
33. Страшное пепелище. Среди него одна целая изба при дороге. В избу
входит Павлов. Там полно народу. Вповалку лежат женщины и дети, рядом с
ними у стен сидят отдыхающие, греющиеся бойцы. Топится печка. Древняя,
но еще крепкая старуха стоит у загнетки и, вытащив из печки котел с
картошкой, задвигает туда ухватом другой.
— Кушайте,— говорит она, чистя картошку, и вычищенную дает прямо в
руки красноармейцам.
— И всё идут, всё идут, всё идут,— говорит старуха, чистя картофель.—
И всё варю, всё варю. И всё идут,— говорит она, не обращаясь ни к кому.
— Можно погреться? — спрашивает Павлов.
— Иди-иди,— говорит старуха.—И всё идут, и всё идут,— повторяет она.—
Покушать хочешь?
— Спасибо,— говорит Павлов и, взяв из котла картошку, обжигаясь, сидя
на скамейке, чистит ее.
Дверь открывается. Клубы морозного пара. Врывается большой, шумный
человек в полушубке.
— Можно погреться? — спрашивает он.
Павлов поворачивается на голос.
— Балашов! — кричит он.
— Я,— говорит Балашов.
— Откуда ты? Ты же был убит?
— Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены,— говорит
Балашов.— Ты, я вижу, тоже жив?
— Жив,— говорит Павлов.
— Давно не видались,— говорит Балашов.
— Давно.
— Со Смоленска,— говорит Балашов.
— Со Смоленска,— подтверждает Павлов.
— Есть хочешь? — спрашивает Балашов.
— Хочу,— говорит Павлов.
Балашов вытаскивает из кармана газету, в которую что-то завернуто, и хочет
положить на стол.
— Не клади,— говорит старуха.— Он поганый. Я сейчас поскребу его. Они
тут голой задницей сидели, вшей давили. Дай поскребу.
Балашов развертывает пакет на коленях. Там какая-то снедь. Он делится
ею с Павловым.
— А водки нет? — спрашивает Павлов.
— Отстала. У меня все тылы отстали. Все отстало,— говорит Балашов.—
Разве поспеть?
14*
411
Старуха скребет ножом стол и опять повторяет:
— И всё идут, всё идут. Кладите.— Отложив нож, встает у печки и
по-матерински ласково смотрит, как Балашов и Павлов едят.
— Всё идут, всё идут,— повторяет она.— Позвольте спросить вас,
сыночки...
— Что?—говорит Балашов жуя.
— До Смоленска-то много идти?— спрашивает старуха.
— Много,— говорит Балашов.
— А после Смоленска еще далеко наша земля идет? — спрашивает старуха.
— Еще Борисов, Минск,— говорит Павлов.— Всего от Москвы километров
девятьсот.
— А на версты-то?—деловито спрашивает старуха.— На версты-то
сколько будет?
— Верст восемьсот,— говорит Балашов.
Старуха, внимательно глядя на них, после небольшой паузы убежденно
говорит:
— Ох и далеко же вам еще идти, бедные.
Примечания
Указатель имен
Указатель фильмов
Примечания
О КИНОСЦЕНАРИИ
О сценарной форме
Самая ранняя из известных теоретических работ В. Пудовкина о киноискусстве. На
машинописной копии рукописи, хранящейся в архиве кабинета истории советского кино ВГИКа,
поставлена дата: «25 декабря 1920 г.». Статья написана в период работы над постановкой
фильма «Серп и молот» в мастерской В. Гардина в Госкиношколе.
В комментариях к первой публикации (см. «Искусство кино», 1958, № 7, стр. 102—104)
указывается, что этот текст, очевидно, был прочитан Пудовкиным на Всероссийской
конференции заведующих подотделами искусств губнарообразов, происходившей 19—27 декабря
1920 г. Однако в журнале, который велся в классе В. Гардина (см. архив кабинета истории
советского кино ВГИКа), 24 декабря 1920 г. отмечено, что А. Горчилин и В. Пудовкин
направляются коллективом Госкиношколы на заседание конференции с сообщением о работе
школы и с просьбой о содействии, то есть по совсем иному поводу. В прессе, дававшей
информацию о конференции, упоминаний о выступлении Пудовкина нет.
В протоколе же от 15 октября 1920 г. заседания исполкома класса В. Гардина,
председателем которого был Пудовкин, говорится: «Существование в школе различных методов
обучения безусловно нежелательно... необходимо выступить со связным изложением того
материала, который накопился за время существования мастерской. Для этого конкретно
обязать каждого постановщика (мастерская В. Гардина делилась на «натурщиков» —
актеров и «постановщиков» — режиссеров.— Прим. сост.) изложить основу методики и приемы
педагогической работы мастерской». Среди тем, предложенных студентам, значится: «О нашей
рабочей форме сценария». Вероятно, статья «О сценарной форме» и является выполнением
этого задания. Скорее всего, она была прочитана как устный доклад перед студентами. Однако
статья выходит за рамки учебной работы и дает возможность ознакомиться с теми исходными
позициями, с которых началось формирование взглядов Пудовкина на роль сценария в кино.
Стремление обобщить свой практический опыт, страстная убежденность в высоком назначении
киноискусства — принципиальны для режиссера. В этом выступлении намечены и многие из
тех проблем, которые режиссер будет разрабатывать в последующих статьях (о ритме,
монтаже, репетиционном методе и т. д.).
Печатается по тексту первой и единственной публикации.
1 {{...перед вертящим съемщиком...» — в
начале 20-х гг. кинокамеры были без мотора, оператор при съемке вращал ручку киноаппарата.
2 «Здесь на досках — большие
разграфленные листы...»— При подготовке к съемкам фильма «Серп и молот» осенью 1920 г. сценарий,
разбитый на кадры, с указанием плана, метража, действующих лиц, был на больших щитах
выставлен в Госкиношколе для всеобщего ознакомления и обсуждения. В создании этого
первого в истории советского кино режиссерского сценария активнейшее участие принимал
Пудовкин.
Принципы сценарной техники
По свидетельству профессора Н. А. Лебедева — первого редактора «Киножурнала
АРК» — статья написана В. Пудовкиным по предложению редакции журнала на основе
доклада, сделанного им в конце 1924 г. на научной секции АРК, возглавляемой В. К. Туркиным.
В это время Пудовкин вместе с Л. В. Кулешовым завершал работу над фильмом «Луч
смерти».
414
В статье очевидно влияние тогдашних взглядов Кулешова, в коллективе которого^
Пудовкин учился и работал в 1920—1925 гг. Однако Пудовкин не только по-своему излагает
положения Кулешова о киноактере и о роли монтажа, но и затрагивает ряд новых проблем,
существенных для теории кино вообще и для дальнейшего развития теоретических взглядов
режиссера особенно: о необходимости в киноискусстве «мыслить кадрами», о специфических
режиссерских требованиях к сценарию, о совпадении понятий «ясность» и «выразительность»
и -т. д.
Печатается по тексту первой и единственной публикации — в «Киножурнале АРК»,
М., 1925, № 1, стр. 17—19.
1 Кулешов Лев Владимирович (1899—1970) —
советский кинорежиссер, теоретик кино и педагог. Один из основоположников советского
киноискусства.
Упоминаемые Пудовкиным монтажные эксперименты разобраны Л. Кулешовым в его
книгах «Искусство кино» (М., «Теа-кинопечать», 1929, стр. 24—26) и «Практика
кинорежиссуры» (М., Гослитиздат, 1935, стр. 16—17). См. также статью В. Пудовкина «Натурщик
вместо актера» (стр. 181 настоящего издания), где подробно описан один из подобных
экспериментов.
2 Максимов Владимир Васильевич (1880 —
1937) — русский театральный актер. Начал сниматься в кино с 1911 г. и скоро стал одним из
«королей экрана» русского дореволюционного кино, приобретя особую популярность в
салонных мелодрамах. В 1922—1926 гг. снимался в советских фильмах.
Киносценарий
В декабре 1925 — апреле 1926 г. В. Пудовкин прочел курс лекций на тему: «Монтаж и
пластический материал в кино» в Государственном техникуме кинематографии и на сценарных
курсах АРК. На основе этого курса Пудовкиным были написаны книги «Кинорежиссер и
киноматериал» (см. стр. 95 настоящего издания) и «Киносценарий»; вторая работа как бы
дополняет первую, раскрывая связь творчества сценариста и режиссера.
Одновременно с Пудовкиным теорию драматургии кино читал на тех же курсах Н. Зархи,
взгляды которого на сценарий в это время в значительной степени разделяет Пудовкин,
работавший с Зархи с конца 1925 г. над сценарием фильма «Мать».
«Киносценарий» — наиболее значительная в кинолитературе 20-х гг. теоретическая
работа по кинодраматургии. Пудовкин первым среди советских кинорежиссеров-теоретиков
того времени обратился к проблеме сценария. Он ясно определил органичную
диалектическую противоречивость сценарной формы: литературный характер средств выражения, с
одной стороны, и предназначенность для будущего пластического экранного воплощения —
с другой. Исходя из этого, он делает много практических выводов, весьма ценных для создания
сценариев немых фильмов.
Книга для своего времени имела огромное значение и была переведена на многие языки.
Некоторые ее положения сохранили свою актуальность и поныне.
К сценарной проблеме Пудовкин обращается во многих своих работах. То он
утверждает, что сценаристы не должны перекладывать на режиссера разработку детального
кинематографического оформления и требует от них «железного сценария», то предлагает им дать
лишь «ряд толчков, эмоциональных зарядов», которые может использовать режиссер.
Внешние, кажущиеся противоречия, изменения его точки зрения можно объяснить поисками
разрешения вскрытого им в настоящей работе дуализма, то есть двойственности сценарной формы.
Впервые работа «Киносценарий» была издана отдельной брошюрой в 1926 г. (М.,
Киноиздательство РСФСР. Кинопечать). Впоследствии фрагменты этой книги были включены в
сборник В. Пудовкина «Избранные статьи» (М., «Искусство», 1955).
Печатается по тексту первого издания.
1 «Нетерпимость» («Intolerance») —
американский фильм, реж. Д. У. Гриффит, 1916 г.
2 Балаш (Baldzs) Бела (1884—1949) —
венгерский писатель, теоретик кино, сценарист. Его книга «Культура кино» была издана в
СССР на русском языке в 1925 г.
3 «Вечно чужие» («В золотой клетке») —
русские прокатные названия американского фильма «Saturday night» («Субботняя ночь»),
реж. Сесил ь Де Мил ль, 1924 г.
4 «...лш отсылаем читателя к краткому
указателю литературы, помещенному в конце книги».— Указателя в конце книги «Киносце-
415
нарий» нет. В архиве Пудовкина сохранился рукописный листок, содержащий, видимо,
набросок плана лекции на сценарных курсах АРК, где есть ссылка на статью Н. Зархи
«Драматургические основы сценария» («Киножурнал АРК», 1925, № 10).
5 «Приключения мистера Веста» —
сокращенное название фильма реж. Л. Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в
стране большевиков» (1924), в котором Пудовкин был художником и исполнителем роли
авантюриста Жбана.
6 Гриффит Дэвид Уорк (1875—1948) —
американский кинорежиссер, творчество которого сыграло большую роль в развитии
мирового киноискусства.
7 «Нападение на Виргинскую почгу» —
русское прокатное название американского фильма «Toll'able David», («Кроткий Дэвид»),
реж. Генри Кинг, 1921 г.
8 «Кожаные перчатки» («Leather pusher»)—
американский фильм, реж. Гарри Поллард, 1923 г. Русское прокатное название — «Под
чужим именем».
9 «Голод» — агитфильм, реж. А. Иванов-
Гай, 1921 г.
10 «Стачка» — первый фильм реж.
С. Эйзенштейна, 1924 г.
О языке сценария
В своей первой и единственной публикации (журн. «Советский экран», 1928, № 48,
стр. 6—7) статья имеет подзаголовок — «беседа». Кто вел и записал беседу с Пудовкиным —
не установлено.
Кроме выявления взглядов Пудовкина на общие сценарные проблемы статья интересна
как первый отклик в советской печати на сценарии А. Ржешевского^ с которыми Пудовкин
познакомился осенью 1928 г. в сценарном отделе «Межрабпомфильма». Написанные
риторической ритмизированной прозой, лишенные, как правило, драматической фабулы, они тем не
менее привлекли внимание кинематографистов, так как резко отличались от ремесленных
«технологических» сценариев, бытовавших в те годы на кинопроизводстве.
Ряд выступлений Пудовкина в печати, предваряющих данную беседу, свидетельствуют,
что сценарии Ржешевского вызвали живейший интерес Пудовкина не случайно, так как
были принципиальным, практическим доказательством возможности создания сценария
такого типа, о котором думал Пудовкин, постоянно подчеркивая противоречивость сценарной
формы.
Неудовлетворенность распространенной в то время на производстве формой сценария
была особенно остро выражена в ответе В. Пудовкина на анкету журнала «Кино-фронт»
(1926, № 9—10, стр. 12), где он писал:
«Для того чтобы написать железный сценарий, подробно и точно учитывающий и
определяющий все моменты постановочной и съемочной работы, нужно обладать большим стажем
непосредственной связи с кинопроизводством. Пока таким стажем обладают лишь режиссеры.
Поэтому все поступающие извне сценарии обязательно должны быть обработаны режиссером.
Кустарные попытки малоопытных сценаристов подавать свои работы в детально
разработанном виде неизбежно идут по линии наименьшего сопротивления и создают залежи ненужного
хлама. Сценариев поступает множество и нельзя отказываться от этого массового
предложения, но нужно создать благоприятные условия для правильного их использования.
Присылаться должны темы и краткие либретто с указанием общей установки сценариста на
предлагаемую им вещь. Нужно подчеркнуть, что от массового предложения требуется не
мастерство, этого требовать нельзя, а материал для возможного использования техники
мастеров. Считаю совершенно нелепым определять нужный сценарий по признакам приема,
которым обрабатывается тема (неигровая, игровая фильма, сюжетная, без героев и т. п.).
Опыт производства показывает, что отдавать предпочтение определенной форме картины —
преступление против нужных, насущных задач широко общественного порядка.
«Броненосец» и «Шестая часть» ни в коей мере не исключают друг друга.
Вопрос об идеологии — острый вопрос, на котором многие срываются. Нужно понимать
одно. Идеологическая ценность появляется не в выборе материала, а в установке на этот
материал, поэтому в девяносто девяти случаях из ста за идеологию ответствен режиссер».
В 1927 г. в статье «Режиссер» («Советский экран», № 8—9, стр. 14—15) Пудовкин
уточняет свое отношение к сценарию: «Сценарист своим материалом ничего не показывает режис-
416
серу, а только чрезвычайно полно и с соответствующим настроением рассказывает, то есть
литературно излагает события и явления. Дело же режиссера, мыслящего пластично и мон-
тажно, выявить зрительные образы, которые в плане кинематографическом воздействуют
на зрителя так же сильно».
Беседу «О языке сценария» редакция журнала снабдила примечанием: «По сценарию
«В город входить нельзя» снимает фильму режиссер-оператор Ю. Желябужский; по сценарию
того же автора «Очень хорошо живется» будет в ближайшее время ставить фильму В.
Пудовкин». Работу над этим фильмом В. Пудовкин начал в 1929 г., на экраны фильм вышел
после нескольких переделок в 1932 г. под названием «Простой случай».
Печатается по тексту первой и единственной публикации.
1 «Три года тому назад я... пытался учить
начинающих сценаристов «мыслить зрительными образами...»— речь идет о лекциях,
прочитанных Пудовкиным на сценарных курсах АР К в декабре 1925 — апреле 1926 г. (см.
примеч. к статье «Киносценарий»).
2 «Потемкин» — фильм «Броненосец
«Потемкин» реж. С. Эйзенштейна, 1925 г.; «Октябрь» — фильм реж. С. Эйзенштейна, 1927 г.
3 Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—
1948) — крупнейший советский кинорежиссер, теоретик кино и педагог.
4 «Луч смерти» — фильм реж. Л.
Кулешова, 1925 г. Пудовкин был автором сценария этого фильма, художником (совместно с
В. Рахальсом), одним из ассистентов режиссера и исполнителем роли фашиста — патера Рево:
5 Ржешевский Александр Георгиевич
(1903—1967) — советский драматург. Родоначальник и единственный в 20-е гг. представитель
«эмоционального направления» в кинодраматургии. Термин «эмоциональный сценарий»
появился после статьи С. Эйзенштейна «О форме сценария» (1929), направленной против
ремесленной драматургии и утверждавшей, что сценарий — лишь «стенограмма эмоционального
порыва».
«В город входить нельзя» — фильм по сценарию А. Ржешевского реж. Ю.
Желябужского, 1929 г.
6 «Материал для большой работы,
которую я сейчас веду...»—Пудовкин, очевидно,говорит о статье «О кинематографическом сценарии
и о Ржешевском», опубликованной им в 1929 г. (см. прим. к статье «Творчество
литератора в кино. О кинематографическом сценарии Ржешевского».)
Творчество литератора в кино.
О кинематографическом
сценарии Ржешевского
Основываясь на последнем абзаце статьи-беседы «О языке сценария» (см. стр. 78 настоящего
издания), можно считать, что Пудовкин начал работать над статьей «О кинематографическом
сценарии Ржешевского» в конце 1928 — начале 1929 г.
Впервые статья была опубликована под названием «О кинематографическом сценарии и о
Ржешевском» в «Кпнотехническом бюллетене «Межрабпомфильма» N° 2—3 за 1929 г.
(машинописная копия этой рукописи, датированная «Москва, 1929, сентябрь», хранится в ЦГАЛИ,
ф. 631, оп. № 3, ед. хр. 133, л. 3—17). В 1930 г. журнал «На литературном посту» в № 5—6
перепечатывает эту статью, снабдив ее дополнительным заголовком — «Творчество литератора
в кино» и несколько видоизменив первоначальное название: «О кинематографическом
сценарии Ржешевского». Текст повторной публикации мало отличается от первой — в нем
произведена незначительная стилистическая правка и сделано три сокращения:
1. В цитате из сценария «26 бакинских коммунаров» после слов «только лица людей,
бойцов-красноармейцев» (см. стр. 80 настоящего издания) шли следующие два абзаца:
« — Стонали пулеметы красных, а невдалеке от аппарата лежал страшно, смешно
раскинувшись уже мертвый красногвардеец и около него знакомый нам раненый парень,
Суровый, как бы ушедший в себя, смотрел, уставившись на убитого товарища, тяжело думал ив
обращении к белым дальше писал...
СОВЕСТЬ МЕНЯ МОЯ ЗАМУЧИЛА, ЧТО ДОВЕЛИ ВЫ
МЕНЯ ДО ТОГО, ЧТО ПЕРСОНАЛЬНО В ОТДЕЛЬНОСТИ
ПРОТИВ ВАС КАЖДОГО НИЧЕГО НЕ.ИМЕЮ!.. :.. .
— А на насыпи командир орал». .. '. . _, . . "' г .
417
2. После слов «Отсюда такие определения, какие он дает иной раз действующим лицам»
(см. стр. 84 наст, изд.) опущен следующий пример:
Из сценария «Очень хорошо живется»
Часть первая
Д а з д равствует
С о ю з
Советских
Социалистических
Республик!
Да здравствуе т...
— (Из затемнения)... Когда над торжественной, как будто кованой землей,
пробуждается рассвет...
— На какой-то изумительной столбовой широкой дороге...
— стоял измученный пришедший человек.
— Замечательный человек...
— Человек, прошедший через подполье, каторгу, эпоху гражданской войны, и все-таки
пришедший в новую жизнь черт знает с какими надеждами... Человек устало взял с земли
походный вещевой мешок, старый, надел его на спину, медленно снял с головы шапку, вытер
измученное лицо платком, посмотрел... и, усталый, удивительно улыбнулся...
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
— Когда над торжественной, как будто кованой землей пробуждается рассвет... то той
же (только в другом месте) знакомой нам... изумительной, широкой столбовой дорогой
— Отчаянно...
— Бежала вдали, удаляясь в сторону от аппарата, какая-то, кажется, пожилая
женщина...
У. Уитмен
ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА ПРЕКРАСНЫХ МУЖЕЙ ПРЕДСТАЛА СЕЙЧАС ПЕРЕДО МНОЙ,
ЭТО НЕ УДИВИЛО БЫ МЕНЯ.
ЕСЛИ БЫ ТЫСЯЧА КРАСИВЕЙШИХ ЖЕН ЯВИЛАСЬ СЕЙЧАС ПЕРЕД МНОЮ, ЭТО
НЕ ИЗУМИЛО БЫ МЕНЯ.
ТЕПЕРЬ Я ПОСТИГ, КАК СОЗДАТЬ САМЫХ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ!
— Когда над торжественной, как будто кованой землей пробуждается рассвет... той же
(только в другом месте), нам знакомой, изумительной, широкой, столбовой дорогой.
— Дальше... видим мы, как шел вдали усталый человек...
— И шел человек в другом кадре...
— На той же самой изумительной широкой столбовой дороге, когда над торжественной,
как будто кованой землей пробуждается рассвет,— к знакомому нам, застывшему вдали на
дороге с растопыренными руками замечательному человеку,— совсем издали, бежала
навстречу...
— та пожилая женщина,
— долго бежала, не могла бежать...
— уже, шатаясь, шла, и видно, как подняла свою руку рыдающая женщина и слышно,
как неистово прокричала:
— Живой муж мой, отец моего сына...
ПРИШЕЛ!
— Когда над торжественной, как будто кованой землей пробуждается рассвет... на той же
самой, изумительной широкой столбовой дороге... два существа».
3. Вместо слов: «Александр Ржешевский талантливый и в известном смысле первый сце-
парист. Он глубоко и по-настоящему включен в современность» (см. стр. 84 наст, изд.) в
первом варианте было напечатано:
«Я несколько раз называл Ал. Ржешевского первым сценаристом.
Я не отказываюсь от этого слова и подчеркиваю его еще раз, учитывая глубокую и
настоящую включенность этого мастера в современность. Советский Союз для Ржешевского все».
Далее, со слов «Он неспособен писать так» — тексты совпадают.
Журнал «На литературном посту» сопроводил статью Пудовкина замечанием «От
редакции»: «Основные положения статьи, определяющие взгляд т. Пудовкина на сценарий как на
литературное произведение, совпадают с точкой зрения редакции. Здесь при дальнейшей
расшифровке проблемы сценария могли бы появиться отдельные мелкие и по преимуществу
418
терминологические расхождения. Что же касается оценки сценариев т. Ржегаевского, то
редакция, поскольку сценарии эти нигде не опубликованы и еще не осуществлены в кино,
оставляет ее на ответственности автора».
Следует отметить, что фильмы, поставленные по «эмоциональным сценариям» А. Ржешев-
ского крупнейшими мастерами советского кино, не имели счастливой экранной судьбы. Фильм
«Двадцать шесть комиссаров», поставленный в 1933 г. режиссером Н. Шенгелая, вызвал
большие споры в критике, не имел успеха у зрителя. С. Эйзенштейну, взявшемуся за постановку
сценария «Бежин луг», после долгих переделок так и не удалось завершить работу над
картиной. В. Пудовкин ставил фильм «Простой случай» по сценарию «Очень хорошо живется»
более двух лет. Фильм был холодно принят критикой и зрителем и не удовлетворил режиссера,
в чем тот сам признавался в более поздних статьях (см. т. 2 настоящего Собр. соч.).
Тем не менее Пудовкин никогда не перекладывал вины за неудачу фильма на А. Ржешев-
ского, а стремление сценариста к остро впечатляющей литературной форме положительно
оценивал вплоть до последних лет.
Так, например, на заседании Художественного совета Комитета кинематографии при
СНК СССР 28 декабря 1944 г., когда режиссер Г. Александров критиковал невыразительные,
серые сценарии о Великой Отечественной войне, говоря: «Что там написано? «Идут жаркие
бои», «Идут танки», «Стреляют пушки». Но нигде не сказано как у Пушкина: «Есть упоение в
бою». Если бы было так написано... был бы творческий ключ», В. Пудовкии подает реплику:
«Так Ржешевский писал!» (Стенограмма заседания.— ЦГАЛИ, ф. 2456, оп. 1, ед. хр. 960).
Статья печатается по тексту последней прижизненной публикации — в журнале «На
литературном посту», 1930, № 5—6, стр. 84—88.
1 Осуждая установившуюся практику
взаимоотношений режиссера и сценариста, бытовавшую в то время на кинофабриках, и ратуя в
своих статьях за тесное сотрудничество этих основных создателей фильма, Пудовкин в
практической деятельности всегда оставался верен своим убеждениям: он участвовал
непосредственно в работе над сценариями всех своих фильмов — с Н. Шпиковским («Шахматная
горячка»), с Н. Зархи («Мать», «Конец Санкт-Петербурга»), с О. Бриком («Потомок
Чингисхана»), оговаривая решение каждого эпизода, каждой сцены.
2 В печати утверждение Пудовкина о том,
что сценаристу необходимо мыслить зрительными образами или «последовательностью
кинематографических кадров», появилось впервые в статье «Принципы сценарной техники» в 1925 г;
(см. стр. 49 настоящего издания).
Кинорежиссура
Время в кинематографе
Первое наиболее крупное выступление В. Пудовкина в печати по вопросам
кинематографии. Статья поднимает ряд вопросов, возникавших, видимо, в процессе экспериментов
мастерской Л. Кулешова, в коллектив которой Пудовкин входил с момента начала занятий в
мастерской, то есть с мая 1920 г. С января 1923 г. она стала называться «Экспериментальной
кинолабораторией Л. Кулешова» и начала регулярную производственную работу.
В своих выступлениях и теоретических работах в этот период Кулешов и Пудовкин
касались разных аспектов режиссуры: Кулешов публикует статьи о монтажном образе в
кино и о воспитании «актера-натурщика», Пудовкина интересует проблема ритмической
организации экранного действия и метрики монтажа. Важно отметить, что для Пудовкина
поиски различных ритмических форм определяются прежде всего содержанием эпизода. Таким
образом, уже в этой ранней работе режиссер выступает как убежденный сторонник
реалистического искусства.
Печатается по тексту первой и единственной публикации — в журнале «Кино», М., 1923,
№ 2/6, стр. 7—10.
1 «Если разобраться во всем написанном о
кинематографе за последнее время, то, вероятно, больше половины упадет на долю рассуждений
о музыке и кино...» — Статьи о «музыкальной природе» кинематографа можно найти уже в
дореволюционной прессе. В первые же годы существования советской кинематографии к этому
вопросу было привлечено большое внимание (см., например, доклады А. Д. Анощенко
«Контрапункт психологических мелодий в сюжете.кинопьесы», и «О музыкальной кинодраме»,
которые оп делал в Обществе кинодеятелей в 1919 и 1921 гг., а также его статью «О
киномузыкальном спектакле», напечатанную в № 15 журнала «Кино» за 1923 г.). Однако чаще всего
эти статьи дальше общих рассуждений о сходстве двух «временных» искусств — музыки и.
419
кино — не шли. Статья Пудовкина — первая серьезная теоретическая работа,
рассматривающая природу протяженности во времени двух разных искусств — кино и музыки — п
делающая из этой аналогии практические выводы для молодого искусства кинематографа,
лишь отыскивающего свои выразительные возможности.
2 «...воспитание актерского материала в
плане точной работы во времени...» — задача, которую ставила перед собой мастерская
Кулешова и которая явилась одним из основных требований так называемой школы «актера-
натурщика». Взгляд на киноактера, как на инструмент, точно и четко выполняющий все
указания режиссера, которые исповедовал в те годы Кулешов, разделял какое-то время и
Пудовкин.
3 «...отыскание возмооюностей и законов
ритмического монтажа путем заснятия экспериментальных кусков специально
схематического содержания...-» — В. Пудовкин уже в то время резко отделяет «схематизм» эксперимент
от полноценной творческой работы (см. последние абзацы статьи).
Фотогения
Одна из ранних теоретических статей В. Пудовкина, написанная в начале 1925 г., до
первой самостоятельной постановки. Появление ее было связано с выходом в русском переводе
книги французского кинорежиссера и теоретика кино Луи Деллюка «Фотогения» (М., изд-во
«Новые вехи», 1924). В том же номере «Киножурнала АР К», где была опубликована статья
Пудовкина, в библиографическом разделе помещена и краткая аннотация-рецензия Л. Ро-
зенталя на книгу Деллюка, в которой автор, отдавая должное журналистскому блеску и
пародийности письма Деллюка, оценивает книгу как трудную, местами путаную и не вносящую
ясность в сложный вопрос о фотогеничности.
Статья Пудовкина, хотя и написана по поводу работы Деллюка, на самом деле далеко
выходит за рамки обычной рецензии. В ней раскрываются оригинальные и совершенно
самостоятельные взгляды будущего режиссера на киноискусство, на некоторые важные его
стороны, такие, как содержание киноматериала, его структура, ритм. (Позже эти проблемы
нашли дальнейшее развитие в книге «Кинорежиссер и киноматерпал».)
Что же касается основы фотогеничности, о чем в то время много спорили в
кинематографических кругах, то Пудовкин определил ее следующим образом, обозначив реалистическую
природу своих позиций в искусстве: «Все, что просто, ясно и отчетливо в своей
пространственной ритмической конструкции, всякое движение, ясно и просто организованное в
пространстве и времени, будут непременно фотогеничны, потому что они действительно отвечают
основному свойству фильма». Такая точка зрения не могла быть бесспорной в период острых
поисков выразительных средств и увлечения всякого рода эксцентрическими экспериментами.
Журнал сопроводил эту статью следующим вступлением: «Редакция не согласна с
большинством положений настоящей статьи. Однако, считая вопрос о «фотогеничном» одним из наиболее
серьезных вопросов теории кино, мы находим возможным помещение ее в порядке
дискуссионном.
В ближайших номерах «Киножурнала АРК» будет помещен ряд статей других
авторов, посвященных этому же вопросу». Уже в следующем (6—7) номере журнала появилась
статья Лео Мура «Фотогения». Дискуссия была продолжена.
Печатается по тексту первой публикации — в «Киножурнале АРК», М., 1925, № 4—5,
стр. 9—12.
1 «Моника Лербье» — русское прокатное
название французского фильма «La garconne»;(«Xoлocтячкa»),peж. Арман дю Плесси, 1923 г.
2 «Найденыш Джудди», «Длинноногий
дядюшка» — русские прокатные названия американского фильма «Daddy long legs»
(«Длинноногий папочка»), реж. Маршал Иейлан, 1919 г.
3 «Розита» — американский фильм «Rosita»,
реж. Эрнст Любич, 1923 г.
Кинорежиссер и киноматериал
Первая теоретическая книга В. Пудовкина, изданная в 1926 г., которую вкупе с
вышедшей в том же году книгой «Киносценарий» принято считать изложением творческого кредо
режиссера в 20-е гг.
Работу над книгой Пудовкин начал в 1925 г., дспользуя материал своих ранних статей
и-курса ^лекций «Мрнтаж и пластический материал в кино», прочитанного им в декабре 1925 —
420
апреле 1926 г. в Государственном техникуме кинематографии (ГТК) и на сценарных курсах
АРК. Завершил работу над книгой Пудовкин после постановки фильма «Мать».
Определение содержания кинематографического искусства, соотношение снятого на
пленку материала с действительностью, последовательное описание всех стадий работы и всех
проблем, встающих перед кинорежиссером,,в отличие от режиссера театрального, и, наконец,
четкое и последовательное изложение теории монтажа — таково в основном содержание этой
работы.
Книга сыграла большую роль в утверждении принципов реализма в советском
киноискусстве.
В течение многих лет она использовалась как учебное пособие при подготовке кино-
специалистов. Уже в 1937 г. профессор Н. Иезуитов писал: «Изложенное в этой книге учение
о монтаже не только не может вызвать каких-либо возражений, но должно быть признано и
теперь наиболее правильным из существующих взглядов на монтаж».
Книга уже вскоре после ее выхода была переведена на несколько европейских языков и
японский. Соединенная вместе с брошюрой «Киносценарий» она выдержала за рубежом
несколько изданий. К первому — немецкому — изданию В. Пудовкин написал в 1928 г.
специальное предисловие (см. стр. 130 настоящего издания).
Сокращенный вариант этой работы был помещен в книге В. Пудовкина «Избранные
статьи».
Печатается по тексту первой публикации — книге «Кинорежиссер и киноматериал», М.,
«Кинопечать», 1926.
1 «...в виде эксперимента...»— см. прим. 1
к статье «Принципы сценарной техники».
2 «Сын маэстро» — русское прокатное
название американского фильма «Daddy» («Папочка»), реж. Мэдок Хоппер, 1923 г.
3 Тиссэ Эдуард Казимирович (1897—1961)—
известный советский кинооператор и. педагог. Оператор большинства фильмов С. М.
Эйзенштейна.
4 Взгляды Пудовкина на сценарий как
основу кинофильма со временем подверглись некоторым изменениям. Первоначальное
требование к сценаристу дать «железный», «стальной» сценарий, высказываемое в ранних
работах, постепенно «смягчается», и в начале 30-х гг. он приходит к признанию «эмоционального
сценария», дающего режиссеру, по мнению Пудовкина, литературными средствами
эмоциональный заряд для фантазии (см. стр. 81 настоящего издания).
5 «Обломки крушения» — русское
прокатное название американского фильма «Male and Female» («Самец и самка»), реж. Сесиль де
Милль. 1919 г.
6 «Америка» — американский фильм
«America», реж. Д. Гриффит, 1924 г.
? «Водопад жизни», «Далеко на Востоке» —
русские прокатные названия американского фильма «Way dawn East» («Путь на восток»), реж.
Д. Гриффит, 1920 г. Главные роли исполняли актеры Лилиан Гиш и Роберт Бартельмес.
8 «Луч смерти» — см. прим. 4 к статье
«О языке сценария».
9 и 10 Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс,
Мэри Пикфорд, Гарольд Ллойд, Мей Марш — популярнейшие актеры, «звезды»
американского немого кино.
11 Видимо, имеется в виду требование
Кулешова к механическому движению актера, точно рассчитанному в плоскости экрана (см.
книгу Л. Кулешова «Искусство кино»).
14 «Две сиротки» — русское прокатное
название американского фильма «Orphans of the storm» («Сиротки бури»), реж. Д. Гриффит, 1922 г.
13 «Остров погибших кораблей» —
американский фильм «The island of lost ships», реж. Морис Турнер, 1923 г.
14 «Станционный смотритель» — так
Пудовкин называет фильм «Коллежский регистратор», поставленный по повести А. Пушкина
«Станционный смотритель», режиссеры Ю. Желябужский и И. Москвин, в заглавной роли
И. Москвин, 1925 г.
15 «Нищая Стамбула», «Нищая из
Стамбула» — русские прокатные названия американского фильма «Virgin of Stamboul»
(«Девственница из Стамбула»), реж. Тод Браунинг, 1920 г.
424
16 «...оно обусловило успех достижения».—
«Стачка» (1924) — первая совместная работа режиссера С. Эйзенштейна и оператора Э. Тиссэ,
до этого снимавшего документальные фильмы.
17 «Вне закона» — американский фильм
«Outside the law», реж. Тод Браунинг, 1921 г. Русское прокатное* название — «Черный
Билль».
Предисловие
[к немецкому изданию книги
«Кинорежиссер и киноматериал»]
Статья написана Пудовкиным для немецкого издания книги «Кинорежиссер и
киноматериал» (Берлин, «Veriag der Lichtbildbiihne», 1928).
По всей вероятности, Предисловие написано Пудовкиным по просьбе издательства в
конце 1928 г.— во время его пребывания в Берлине или накануне поездки.
В том же 1928 г. (29 октября) Предисловие как самостоятельная статья было
опубликовано в «Film Weekly» в переводе на английский, авторизованном Пудовкиным. В 1935 г.
эта статья была включена переводчиком и составителем книги Айвором Монтегю в сборник
работ Пудовкина «Film Technique», изданный лондонским издательством «Джордж Ньюнес».
Оригинал статьи, видимо, утерян, и русскому читателю она долгое время была неизвестна.
В период подготовки настоящего издания Д. Ф. Соколовой был сделан для данного тома
перевод Предисловия с лондонского издания 1935 г.
В 1971 г. эта статья была опубликована в сб. «Из истории кино», вып. 8 (М.,
«Искусство», 1971) под названием «Кинорежиссер и киноматериал».
Составителям настоящего издания удалось получить из Берлина, при любезном
содействии Лилли Кауфман, копию более раннего, немецкого варианта статьи Пудовкина. Сделав
сверку, мы убедились, что английский текст точно соответствует немецкому и нет
необходимости вводить в обращение перевод с немецкого варианта.
Печатается по тексту перевода с английского Д. Соколовой, осуществленного
специально для настоящего издания.
К вопросу
звукового начала в фильме
Статья написана после возвращения Пудовкина из поездки в Германию, Голландию,
Англию в конце 1928 — начале 1929 г. и, видимо, под впечатлением просмотра ряда
немецких, английских и американских звуковых фильмов. Впервые была опубликована в журнале
«Кино и культура» (1929, № 5—6, стр. 3—5). В августе того же года в «Кинотехническом
бюллетене «Межрабпомфильма» № 1 (о звуковом кино) на стр. 7—13 эта же статья была помещена
под названием «Звуковое начало в кинематографическом произведении».
Печатается по тексту первой публикации.
1 Имеется в виду статья «Будущее
звуковой фильмы. Заявка», подписанная С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным и Г. Александровым
и опубликованная в№ 32 журнала «Советский экран» за 1928 г.,— своеобразный манифест
do поводу прихода в кино звука (см. т. 3 настоящего Собр. соч.).
2 « Сразу стало ясно, что говорящая фильма
будущего не имеет...»—под «говорящей фильмой» подразумевается, очевидно, в первую
очередь синхронно снятое театральное зрелище.
3 «Это первый отчетливо формулировал
С. Эйзенштейн...» — речь идет, очевидно, о статьях С. Эйзенштейна «Бела забывает
ножницы» (1926), «За кадром» (1929), где дается изложение Эйзенштейновской теорип монтажа.
Разговор с Пудовкиным
о звучащем кино
В 1929 году в издательстве «Теа-кинопечать» вышла книга В. Сольского «Звучащее
кино», в которой автор довольно подробно разбирает причины кризиса в мире немого
кино, причины и историю возникновения кино звукового и делает попытку наметить, пусть
и приблизительно, пути, по которым может и должно пойти развитие этого нового вида
искусства.
422
Две последние главы своей книги В. Сольский посвящает выяснению точки зрения на
звучащее кино наших крупнейших режиссеров и называет эти главы «Разговор с
Эйзенштейном о звучащем кино» и «Разговор с Пудовкиным о звучащем кино». Эти главы поданы в
форме интервью. Однако техническое расположение текстов и пунктуация в них таковы, что
не всегда оказывается возможным отличить текст вопросов В. Сольского от
воспроизводимых им ответов интервьюируемых.
Печатается по книге В. Сольского «Звучащее кино» (М^ «Теа-кинопечать», 1929), с
точным сохранением пунктуации.
1 В период прихода в кино звука
терминология нового искусства еще не устоялась, звуковые фильмы назывались «тонфильмами»,
«говорящими», «звучащими». В предисловии к своей книге В. Сольский пишет: «В моей
книжке под звучащим кино я понимаю совокупность звукового и говорящего кино. Термин
«звуковое кино» я употребляю в противовес «говорящему кино». Заметим, что под «говорящими»
фильмами В. Сольский имеет в виду картины, где звучит лишь человеческий голос, а
«звуковыми», где изображение сопровождается лишь музыкой и шумами. Этой терминологией
автор пользуется и в «Разговоре с Пудовкиным».
2 «Шербен» («Scherben»)— немецкий фильм
реж. Лупу Пика, 1923 г.
3 «...во время последней работы в
Монголии» — имеется в виду поездка Пудовкина с оператором А. Головней в 1928 г. в Монголию,
где они снимали фильм «Потомок Чингис-хана».
4 «В нашей заявке».,,— См. прим. 1 к
статье «К вопросу звукового начала в фильме».
Творчество кинорежиссера
Статья написана в 1929 г. в разгар работы над фильмом «Простой случай» по сценарию
А. Ржешевского (первый вариант фильма был закончен Пудовкиным к декабрю того же года).
Во второй половине 20-х гг. в немом кино, достигшем к этому времени своей зрелости,
широко развернулись поиски новых форм и средств выражения для передачи глубоких
философских проблем. Эксперименты шли как в области сценарной техники, так и в режиссуре и в
освоении нового выразительного материала. Именно в этот период родились термины
«интеллектуальное кино», «эмоциональный сценарий», «понятийный кинематограф» и т. д. Во многом
способствовал активизации поисков обновления киноязыка и неумолимо надвигающийся
приход в кино звука. Пудовкин активно участвует в этих поисках как своими теоретическими
работами (см., например, его статьи «О языке сценария»—стр.75 настоящего издания, и «К
вопросу звукового начала в фильме»—стр. 133 настоящего издания), так и
практически—взявшись за постановку фильма по «эмоциональному сценарию» Ржешевского. В данной статье
он теоретически обосновывает и утверждает необходимость и право экспериментаторства в
творчестве кинорежиссера.
Печатается по тексту первой и единственной публикации—в журнале «Кино и культура»,
М., 1929, № 7—8, стр. 10—16.
1 «Сказанное Эйзенштейном о
предположении к постановке «Капитала»...»— В газете «Кино» 13 марта 1928 г. была опубликована
статья С. Эйзенштейна «Наш «Октябрь» (По ту сторону игровой и неигровой)», в которой
автор впервые сформулировал свою теорию «интеллектуального кино» и намечал для себя
возможный путь дальнейших поисков в области «экранизации понятий». Говоря о своей
«следующей плановой капитальной работе», он, в частности, писал: «Капитальный» этот труд
будет делаться по «либретто»... К. Маркса и будет именоваться — «Капитал». Хотя теория
«интеллектуального кино» практически не оказалась плодотворной и замысел
«экранизировать» «Капитал» не был Эйзенштейном осуществлен, его разработки в этой области
сыграли заметную роль-в осознании киномастерами неисчерпаемых возможностей своего
искусства.
2 «Старое и новое» — фильм реж. С.
Эйзенштейна, 1929 г.
3 «Новый Вавилон» — фильм реж. Г.
Козинцева и И. Трауберга, 1929 г.
4 «Старый режиссер...» — так Пудовкин
именовал режиссеров дореволюционного кинематографа.
5 Вертов Дзига (Денис Аркадьевич Кауф*
май) (1899—1954) — один из основоположников советского документального кино.
423
6 Шуб Эсфирь Ильинична (1894—1959) —
советский кинорежиссер-документалист, положившая начало жанру исторического
монтажного фильма своими картинами «Падение династии Романовых» (1927), «Великий путь» (1927),
«Россия Николая II и Лев Толстой» (1928) и др.
I «Одиннадцатый» — фильм реж. Д.
Вертова, 1928 г.
8 «По закону» — фильм реж. Л.
Кулешова, 1926 г.
9 «Парижанка» («A Woman of Paris») —
американский фильм, реж. Ч. Чаплин, 1923 г.
10 «Золотая горячка» («The Gold Rush») —
наиболее распространенное у нас название «Золотая лихорадка» — американский фильм,
реж. Ч. Чаплин, 1925 г.
II «Цайт-лупа», «лупа времени» — (zeit-
lupe) — ускоренная съемка, дающая на экране эффект замедленного движения. Как
художественный прием была широко использована Пудовкиным в картине «Простой случай».
Подробно об этом техническом приеме, который позволяет добиться нового художественного
эффекта, см. в статье Пудовкина «Время крупным планом» (стр. 151 настоящего издания).
Время крупным планом
Статья написана в конце 1931 г. после завершения работы над фильмом «Простой
случай», где Пудовкин широко использовал прием смены ритмов движения
киноизображения во времени, так называемую съемку «цайт-лупой».
«Цайт-лупа», или ускоренная съемка, была известна давно. Пудовкиным и оператором
А. Головней этот прием уже использовался в фильме «Потомок Чингис-хана» в кадре, где
шеренга солдат оккупационных войск медленно, угрожающе поворачивается лицом к
зрителю (см. об этом у Пудовкина в статье «Творчество кинорежиссера», стр. 150). В фильме
«Простой случай» Пудовкин экспериментировал с этим приемом очень широко: «цайт-лупой»
сняты многие сцены — взрывы на поле боя, встреча мужа и жены и др.
Настоящей статьей Пудовкин как бы подводит итог своим экспериментам и впервые в
теоретической кинолитературе связывает этот технический прием с возможностью новой
художественной выразительности — «фиксированием внимания зрителя на выделенной
детали... в области построений временных». Позже Пудовкин рассматривает возможности
ритмического построения звукового ряда фильма, соотнесенного с изобразительным. «Всегда
существуют два ритма,— пишет он в статье «Асинхронность как принцип звукового кино»,—
ритмический ход объективного мира и темп и ритм, в котором человек наблюдает этот
мир». Из этой разницы ритмов, по мнению автора статьи, киноискусство может и должно
извлечь новые средства своей образной выразительности.
Вопросы ритма в кинопроизведениях занимали Пудовкина всю жизнь, о чем
свидетельствуют многочисленные высказывания, рассыпанные по многим его статьям вплоть до
последних лет, и различны е разрозненные заметки, сохранившиеся в его архиве.
Впервые статья была опубликована в журнале «Пролетарское кино» № 1 за 1932 г. Она
была переведена на многие языки и неизменно включалась наряду с книгой «Кинорежиссер
и киноматериал» и рядом других статей в сборники теоретических трудов режиссера.
В сб. «Избранные статьи» статья была напечатана с незначительными сокращениями.
Печатается по тексту первой публикации.
1 «Когда-то, на заре кинематографии,
американец Гриффит изобрел так называемый «крупный план...» — в 30-е гг. в истории кино это
утверждение было широко распространено. Ныне, при более глубоком изучении истории
киноискусства, выяснилось, что «крупный план» стали применять режиссеры в ряде картин
начала века в разных странах независимо друг от друга.
2 Тонфильма — звуковой фильм, название,
распространенное в СССР в конце 20-х — начале 30-х гг.
3 «Во время работы над одной из последних
картин...» — речь идет о работе над фильмом по сценарию А. Ржешевского «Очень хорошо
живется» (прокатное название картины «Простой случай»).
" •-- 4Эпштейн Жан (1897—1953)—французский
режиссер и теоретик кино, придававший большое значение экспериментам в области
киноязыка. Наиболее известные фильмы: «Пастер» (1922), «Прекрасная Нивернезка» (1923),
«Падение дома Эшер» (1928), «Мор Вран» (1929), «Хозяин ветров» (1947).
424
Роль звукового кино
В XXVI томе Большой Советской Энциклопедии (первое издание) под рубрикой
{{Звуковое кино» были помещены две статьи крупных киноработников, освещающие разные аспекты
этого нового явления в киноискусстве. Вслед за статьей А. Шорина — инженера,
изобретателя одного из известных видов звукозаписи, в которой он подробно рассказывает о технике
звукозаписи на кинопленку и оборудовании залов в звуковых кинотеатрах, идет статья В.
Пудовкина «Роль звукового кино», где анализируются уже творческие проблемы, встающие перед
киномастерами в связи с приходом в кино звука, и намечаются различные пути его
использования.
По сравнению с ранними работами мысли Пудовкина, высказанные в этой статье,
охватывают более широкий круг возможностей и форм применения звука в художественной
кинематографии.
Статья написала до начала работы над первым звуковым фильмом «Дезертир».
Печатается по тексту БСЭ, т. XXVI, М., 1933, стр. 482—484.
Асинхронно сть
как принцип звукового кино
Эта статья, так же как и следующая — «Проблема ритма в моем первом звуковом
фильме», написана Пудовкиным в 1934 г. после окончания работы над его первым звуковым
фильмом «Дезертир» и впервые опубликована на английском языке в сборнике его статей «Film
Technique», вышедшем в 1935 г. в Лондоне в издательстве «Джордж Ньюнес».
Впервые в Англии сборник трудов В. Пудовкина был издан в 1929 г. и содержал работы
«Киносценарий», «Кинорежиссер и киноматериал» и ряд статей. В последующие издания
включались и новые работы режиссера. Для издания 1935 г. Пудовкин специально написал статьи
«Асинхронность как принцип звукового кино» и «Проблема ритма в моем первом звуковом
фильме». Русскому читателю эти работы не были известны.
На русском языке обе статьи были впервые опубликованы в сб. «Вопросы киноискусства»
(М., Изд-во АН СССР, 1958, перевод с английского Д. Ф. Соколовой).
Печатается по тексту сборника «Вопросы киноискусства».
1 Главный герой фильма «Дезертир» —
немецкий рабочий Карл Ренн (арт. Б. Ливанов) в трудный для немецкого пролетариата
момент классовой борьбы (действие фильма происходит в 1932 г.) покидает своих товарищей и,
приехав в составе рабочей делегации в Советский Союз, изъявляет желание остаться здесь
работать. Постепенно, под воздействием ряда причин он осознает свою ошибку и
возвращается на родину, чтобы вместе со своими братьями по классу принять участие в острых
политических боях.
2 Шапорин Юрий Александрович (1887 —
1966) — советский композитор, много и плодотворно сотрудничавший в кино. Его первая
работа в кино — музыка к фильму «Дезертир». Он автор музыки и к другим фильмам
Пудовкина: «Победа» (1938), «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940).
Проблема ритма
в моем первом звуковом фильме
См. комментарий к статье «Асинхронность как принцип звукового кино».
0 монтаже
Точная дата написания статьи не установлена. Судя по упоминанию в тексте статьи о
пятидесятилетии существования кинематографа (см. стр. 168 настоящего издания), она
написана после 1945 г. Рукопись статьи хранилась у Е. Н. Фосса и была в 1954 г. передана в
архив А. Н. Пудовкиной.
Впервые опубликована в книге В. Пудовкина «Избранные статьи».
Печатается по тексту этой публикации.
1 Рота Пол (Rotha Paul) (p. .1907) —
английский режиссер-документалист, историк кино, кинокритик." Пример, приведенный
Пудовкиным о сопоставлении кадров пшеницы и изможденных голодом детских лиц, взят из
фильма Рота «Мир изобилия» (1943). -_----. .:
425
2 «Эйзенштейн прав, когда он, рассуждая о
природе киномонтажа, берет в качестве примеров стихи Пушкина и картины Леонардо да
Винчи»,— Сопоставление монтажных приемов в киноискусстве с поэзией Пушкина и
картинами различных художников, в том числе и Леонардо да Винчи, имеется в многих работах
С. Эйзенштейна.
3 Пристли Джон Бойнтон (р. 1894)—
английский писатель и драматург, новатор в области формы театрального спектакля.
В своих пьесах «Опасный поворот», «Время и семья Конвей» и др. он свободно вводит в
действие пьесы прошлое, будущее, иногда дает несколько возможных вариантов одного и того
же события. Эту сторону его драматургии, видимо, и имеет в виду Пудовкин.
4 «Чапаев» — фильм реж. Г. Н. и С. Д.
Васильевых, 1934 г.
$ Форд Джон (1895—1973)—американский
кинорежиссер, представитель школы «американского реализма». Наиболее известные фильмы:
«Потерянный патруль» (1934), «Осведомитель» (1935), «Ураган» (1937), «Юный мистер
Линкольн» (1939), «Гроздья гнева» (1940), «Табачная дорога» (1941), «Как зелена была моя
долина» (1942).
Мастерство киноактера
Натурщик вместо актера
Статья представляет собой текст доклада, прочитанного В. Пудовкиным по-английски
на заседании Кинообщества в Лондоне 3 февраля 1929 г. Позже под названием «Натурщик
вместо актера», она была включена Айвором Монтегю в сборник работ Пудовкина «Film
Technique», изданный в 1935 г. издательством «Джордж Ньюнес» в Лондоне. При жизни
Пудовкина на русском языке не публиковалась.
В 1971 г. эта статья в переводе с английского, осуществленном Д. Ф. Соколовой, была
напечатана под названием «Типаж вместо актера» в сборнике «Из истории кино», вып. 8
(М., «Искусство», 1971).
В домашнем архиве А. Н. Пудовкиной составителями был обнаружен рукописный текст
Пудовкина (без заглавия) на русском языке, почти совпадающий с переводом статьи,
опубликованном в «Вопросах киноискусства». Видимо, это и есть русский текст доклада, который
Пудовкин произносил по-английски (см. 2-й абзац статьи). Расхождения текстов в
большинстве случаев лишь стилистические. И все же составители реши ли в настоящем издании
опубликовать подлинный текст Пудовкина, который точнее передает характер и стиль его речи.
В рукописи Пудовкина имеется пропуск — по всей видимости, утеряна стр. 2
оригинала. Составители позволили себе привести пропущенный текст по переводу с английского
из сб. «Из истории кино». Этот текст, помещенный на стр. 181, заключен в угловые скобки.
Составители сочли необходимым сохранить в названии статьи слово «натурщик», что,
с одной стороны, соответствует более точному переводу (в первоначальном переводе Д. Ф.
Соколовой статья, переданная составителям настоящего издания, называлась «Натурщик
вместо актера»), а с другой стороны, точнее отвечает терминологии Пудовкина, который не раз
в своих статьях протестовал против слова «типаж» и требовал замены его термином
«натурщик» или «неактер». Сошлемся хотя бы на один пример: в книге «Актер в фильме» в главе
«Работа с неактером» Пудовкин пишет: «...сознательно избегаю нелепого термина «типаж»
(см. стр. 226 настоящего издания).
Печатается по тексту рукописного экземпляра, хранящегося в архиве В. И. Пудовкина;
копия текста находится у составителей.
1 «Film Society» — Лондонское
кинематографическое общество было основано Айвором Монтегю в 1925 г. с целью помочь
кинематографистам и зрителям Англии познакомиться с достижениями мирового кино.
В ноябре 1928 г. Пудовкин уехал в Германию, где снимался в фильме «Живой труп»
режиссера Ф. Оцепа. В это время он получил приглашение кинообщества посетить Лондон,
где с успехом шла его картина «Мать» и впервые показывался обществом фильм «Конец Санкт-
Петербурга». В письме от 28 января 1929 г. он писал в редакцию газеты «Кино»: «Думаю
обязательно воспользоваться приглашением в Лондон (визу уже дали, но только на три дня).
По возвращении сразу еду в Москву» (газ. «Кино», 1929, 12 февраля). В Москву Пудовкин
вернулся 28 февраля 1929 г.
Во время этой поездки в Лондон у Пудовкина было несколько встреч с английскими
кинематографистами и зрителями, на одной из которых он прочел данный доклад.
2 В число «левых» кинематографистов в то
время зачисляли, как правило, молодых режиссеров, отвергавших старые способы работы над
426
фильмом, активно экспериментирующих, ищущих новый художественный метод советской
кинематографии (С. Эйзенштейн, Д. Ветров, Л. Кулешов и др.).
3 Этот эксперимент описан также Лг
Кулешовым в его книге «Искусство кино» (М., «Кинопечать», 1929).
4 Мозжухин Иван Ильич (1888—1939) —
один из наиболее популярных актеров русского дореволюционного кино.
Актер в фильме
Над книгой «Актер в фильме» Пудовкин начал работать по предложению Ленинградской
секции киноведения Государственной Академии, искусствознания (ГАИС) осенью 1933 г.
Э. Арнольди в статье «Из воспоминаний о первых шагах нашего киноведения» в сборнике
«Из истории «Ленфильма», вып. 1 (Л., «Искусство», 1968) пишет: «История появления этой
книги довольно необычна. Пудовкин, как известно, написал книги о режиссуре и о сценарии,
в которых излагал свои творческие принципы и обобщал собственный опыт. Н. М. Иезуитов
(киновед, большой друг Пудовкина, автор книги о нем.— Прим. сост.) не раз убеждал
Всеволода Илларионовича написать еще одну работу— об актере. Она завершила бы
рассмотрение творческого треугольника создания фильма... Не торопясь создавался план работы над
книгой... Прежде всего Пудовкин обязался придумать и наметить главные тезисы и
помаленьку брать на заметку требуемый для разработки материал, факты и наблюдения...
Пудовкин наконец сообщил, что в течение педели он сможет освободиться от срочных дел... и
приехал в Ленинград... Первый набросок книги он не писал, а рассказывал... на заседаниях
киносекции, превратившихся в своеобразную сессию. Книга возникала в присутствии
собравшихся киноведов и искусствоведов».
Описываемые заседания происходили в декабре 1933 г. в течение четырех дней
(стенограмма хранится в архиве Ленинградского института театра, музыки и кино).
План-вопросник был разработан Пудовкиным совместно с Н. Иезуитовым. В качестве оппонента
по просьбе Пудовкина был приглашен актер Ф. Никитин. Обработка стенограмм для
книги, опубликованной в 1934 г., проводилась И. Ростовцевым.
Вопросы актерского искусства были одной из центральных проблем звукового кино
начала 30-х гг., и они широко обсуждались в среде кинематографистов. Теоретическое значение
работы Пудовкина было очень велико — она сразу привлекла внимание широких кругов не
только кинематографистов, но и литераторов, искусствоведов. Книга сыграла большую роль
в освоении «системы» Станиславского в кино. Н. Иезуитов, высоко оценивая эту работу
Пудовкина как большой вклад в кинонауку, писал, что «это действительная теория актерской игры
в кино» («Пудовкин», М.— Л., «Искусство», 1937, стр. 201). Книга была переведена на
английский, итальянский, японский и другие языки. В 1955 г. она была полностью включена в
сборник В. Пудовкина «Избранные статьи».
Печатается по тексту первой публикации — книге «Актер в фильме», Л., изд-во ГАИС?
1934.
1 Колхозные театры или
колхозно-совхозные были созданы в начале 30-х гг. для обслуживания колхозов и совхозов. Наряду с
профессиональными актерами в их труппы входили участники самодеятельности. В 1934 г.
в стране существовало 23 таких театра. Количество их быстро увеличивалось: в 1937 г. их
было уже 277. В послевоенные годы сельское население стали обслуживать городские и
районные стационарные театры, систематически выезжающие на гастроли.
2 Первые телевизионные радиопередачи в
Москве состоялись в 1931 г. С октября 1931 г. по июнь 1941-го телевизионные передачи из
Москвы транслировались регулярно.
3 Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—
1940) — советский режиссер, актер, теоретик театра. В Театре РСФСР, которым он руководил
с 1920 г. и который носил с 1923 г. его имя, было поставлено много спектаклей по пьесам
русской классики; наиболее известные из этих постановок — «Маскарад» Лермонтова,
«Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина, «Доходное место» и «Лес» А. Островского, «Ревизор»
Гоголя, «Горе уму» по Грибоедову.
4 Охлопков Николай Павлович (1900 —
1967) — советский актер и режиссер театра и кино. Постановка «Разбега» по пьесе В. Став-
ского — одна из ранних работ Охлопкова, осуществленная им в 1932 г. в Реалистическом
театре.
5 «Гроза» — фильм по одноименной пьесе
А. Островского, поставленный в 1934 г. режиссером В. Петровым.
427
6 «Мне пришлось говорить с
драматургом., л— речь идет о Н. Зархи, который в 1933 г. начал работу над сюжетом, впоследствии
легшим в основу сценария «Самый счастливый», по которому Пудовкин в 1938 г. поставил
фильм «Победа».
7 См. директивы В. И. Ленина по кино делу
от 17 января 1922 г. в сб. «Самое важное из всех искусств. Ленин о кино» (М., «Искусство»,
1973, стр. 42).
8 ФЭКС — Фабрика эксцентрического
актера — творческая мастерская, созданная Г. Козинцевым, Л. Траубергом и С. Юткевичем
в Ленинграде в 1921 г. Позже «факсами» стали называть режиссеров Козинцева и Трауберга,
которые с участием актеров этой мастерской поставили фильмы «Похождения Октябрины»
(1924), «Мишка против Юденича» (1925), «Чертово колесо» (1926), «Шинель» (1926), «С. В. Д.»
(1927), «Новый Вавилон» (1929). В 1929 г. мастерская распалась.
9 «Великий утешитель» — фильм реж.
Л. Кулешова, 1933 г.
10 Рассказанный Пудовкиным сюжет
напоминает один из эпизодов сценария Н. Зархи «Самый счастливый», по которому был
поставлен Пудовкиным фильм «Победа» (1938).
11 Козинцев Григорий Михайлович (1905—
1973) — советский кинорежиссер. Фильм «Юность Максима» поставлен им и режиссером
Л. Траубергом в 1935 г.
12 «Постановка вопроса Л. Кулешовым о
непременном изображении будущей картины на сцене.,.» — Пудовкин, проработавший почти
пять лет в коллективе Кулешова, говорит о его отношении к репетициям на основе глубокого
знания творческой практики режиссера. В книге «Репетиционный метод в кино», вышедшей
через год после пудовкинского «Актера в фильме», Л. Кулешов подробно разворачивает свою
формулу репетиционного метода, как бы подтверждая слова Пудовкина. На стр. 22—23 он
пишет: «Развитие нашего коллектива во всех своих стадиях было связано с репетиционным
методом. Спектакли в школе, репетиции «Мистера Веста», проработка сцен накануне съемок
«По закону» послужили базой для создания репетиционного метода... Параллельно с нами
никто за исключением «факсов» репетиционным методом не работал... У них происходила
работа по поводу данного материала, по поводу данной картины, то есть брался какой-то
персонаж, с ним делались сцены, которые не входили в картину. Велась работа в плане лучшего
выяснения образа актера... Метод буквальных репетиций, конкретных репетиций самой вещи
дает гораздо большие и лучшие результаты» (Л. Кулешов, «Репетиционный метод в кино»,
М., Кинофотоиздат, 1935).
13 Барановская Вера Всеволодовна (? —
1935) — актриса школы Московского Художественного театра, снималась у Пудовкина в
фильме «Мать» (1926) в роли Ниловны.
14 «...в ранних работах Первой студии» —
Речь идет о Первой студии МХАТ, образованной в 1921 г. См. К. С. Станиславский,
Собрание сочинений в 8-ми томах, т. I, Мм 1954, стр. 247—251.
15 Вахтангов Евгений Богратионович
(1883—1922) — советский режиссер, актер, театральный деятель. С 1911 г. работал во МХАТ.
В 1921 г. открылась театральная студия Е. Вахтангова (3-я студия МХАТ), после 1926 г.
получившая название Театра имени Евг. Вахтангова.
16 Спектакль «Месяц в деревне» по пьесе
И. С. Тургенева был поставлен Станиславским во МХТ в 1909 г. Станиславский играл в нем
роль Ракитина, О. Книппер-Чехова — Натальи Петровны. См. К. С. Станислав-
с к и й, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. I, стр. 243.
17 «Живая собака в «Чудаке» и грохочущие
на деревянном полу лошади в «Гамлете»...» — Пудовкин, видимо, имеет в виду спектакли
МХАТ по пьесе А. Афиногенова «Чудак» (1931) и Театра имени Вахтангова «Гамлет» (1932,
реж. Н. Акимов).
18 Попытка поручить одну из ролей в
спектакле «Власть тьмы» по пьесе Л. Толстого не актрисе, а настоящей старухе-крестьянке,
подходящей по типажным данным, была предпринята Станиславским в 1902 г. в МХТ.
См. К. С. Станиславский, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. I, стр. 261.
19 «Старый парадокс Дидро...» — см.
книгу французского писателя-просветителя, теоретика искусства Д. Дидро (1713—1784)
«Парадокс об актере», сыгравшую большую роль в развитии театрального искусства.
428
20 Коплен Бену а Констан (1841—1909) —
выдающийся актер французского театра. Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) —
известный русский актер-трагик. Оба актера принадлежали к тому направлению в
сценическом искусстве, которое Станиславский называл «искусством представления»,
противопоставляя его «искусству переживания».
21 Доктор Штокман — главный герой
одноименной пьесы Г. Ибсена. Эту роль Станиславский играл на протяжении многих лет, со
дня первой постановки во МХТ в 1900 г. См.: К. С. Станиславский, Собрание
сочинений в 8-ми томах, т. I, стр. 247—251.
22 Голливуд — центр американской
кинопромышленности, где сконцентрировано большинство ведущих кинофирм США. Вокруг
киностудий вырос город, где живут актеры и другие киноработники.
23 Хмелев Николай Павлович (1901—1945) —
актер MX AT. Будучи совсем молодым, он сыграл в 1926 г. роль старика сторожа в пьесе
A. Н. Островского «Горячее сердце».
24 Ливанов Борис Николаевич (1904—1972) —
актер MX AT, в фильме Пудовкина «Дезертир» (1933) исполнял главную роль — немецкого
рабочего Карла Ренна.
25 Чаплин Чарльз Спенсер (р. 1889) —
известнейший режиссер и актер, работает в кино с 1913 г. как актер, а с 1914 г.— как
режиссер. Во всех поставленных им фильмах до 1941 г. (кроме «Парижанки») главным героем
был маленький смешной неудачник Чарли, роль которого исполнял он сам.
26 Менжу Адольф (1890—1963) —
американский киноактер. Популярность приобрел после участия в фильме Чаплина «Парижанка»,
где создал образ «светского льва», завсегдатая парижских кабаков Пьера Ревеля. Ничего
более значительного в последующих фильмах не создал, повторяя из фильма в фильм
однажды найденную маску.
27 В фильме Л. Кулешова «Необычайные
приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924) Пудовкин играл роль авантюриста
Жбана, в «Луче смерти» (1925) — фашиста патера Рево.
28 Фогель Владимир Петрович (1902—
1929) — советский киноактер, ученик мастерской Кулешова. Активно снимался в 20-х гг.
у разных режиссеров. Играл в фильмах «По закону» (реж. Л. Кулешов, 1926), «Третья
Мещанская» (реж. А. Роом, 1927), «Дом на Трубной» (реж. Б. Барнет, 1928).
29 Комаров Сергей Петрович (1891—1957)—•
советский актер и режиссер; работал в мастерской Кулешова, снимался в кино с 1921 г.:
«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (реж. Л. Кулешов, 1924),
«По закону» (реж. Л. Кулешов, 1926), «Окраина» (реж. Б. Барнет, 1933), «Минин и
Пожарский» (реж. В. Пудовкин, 1939) и др. Поставил ряд фильмов: «Поцелуй Мэри Пикфорд»
(1927), «Кукла с миллионами» (1928) и др.
30 Первую самостоятельную постановку
B. Пудовкин осуществил на киностудии «Межрабпом-Русь»: в 1925 г. он поставил фильм
«Шахматная горячка» по сценарию Н. Шпиковского.
31 Роль Федора Протасова Пудовкин играл
в фильме «Живой труп» (реж. Ф. Оцеп, 1929) по пьесе Л. Толстого, который ставился
совместно студией «Межрабпомфильм» и немецкой фирмой «Прометеусфильм».
32 Штрогейм Эрих фон (1885—1957) —
американский кинорежиссер и актер, начавший работать в кино с 1915 г. Острокритическая
направленность его фильмов «Слепые мужья» (1919), «Глупые жены» (1922), «Алчность»
(1923), «Свадебный марш» (1928) сделала невозможной продолжение его режиссерской
деятельности в Америке, и он покидает США. После возвращения (1940) к режиссуре не
обращается. Для актерской игры Штрогейма характерны острый внешний рисунок и глубокая
достоверность образа. Имея характерную внешность, он всегда оставался узнаваемым в
самых различных ролях и сделал это принципом своей актерской работы.
Реализм, натурализм
и «система» Станиславского
Проблемой использования «системы» Станиславского в киноискусстве Пудовкин
практически начал заниматься с 1925 г., когда, работая над фильмом «Мать», впервые пригласил на
главные, роли актеров МХАТ. В 30-е гг. им написано много работ, посвященных этой теме:
429
«Актер в фильме» (1934), «По «системе» Станиславского» (1935), «О внутреннем и введшем в
воспитании актера» (1938) и др. Данная статья вбирает в себя, обобщая, конкретные примеры
и теоретический материал предшествующих публикаций и, развивая его, открывает целый
цикл дальнейших исследований режиссером этой проблемы.
Впервые статья была опубликована в журнале «Искусство кино» (1939, № 2). В 1951 г.
в № 4 и № 5 этого же журнала был опубликован сокращенный вариант этой статьи под
названием «Система» Станиславского в кино». Позже она была включена в книгу В.
Пудовкина «Избранные статьи» (М., «Искусство», 1955).
Печатается по тексту первой публикации.
1 Речь идет о спектакле, поставленном
К. Станиславским в 1913 г. в Первой студии МХТ, «Гибель «Надежды» по драме
голландского драматурга Г. Хейерманса, написанной в 1900 г. Об этой постановке см.: К.
Станиславский, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. I, стр. 353.
2 Делъсарт Франсуаз Александр Никола
Шери (1811—1871) — известный французский педагог в области сценического движения.
Сформулированные им на основе изучения проблем пластики и ритма «законы
выразительности и гармоничности» имели большое распространение, но они не были зафиксированы.
Последователи Дельсарта собрали его заметки и записи, изложили его теоретические взгляды.
В России пропагандой системы Дельсарта занимался театральный деятель С. Волконский
(см. его книгу «Выразительный человек», Спб., 1912).
Предисловие
[к книге М. Н. Алейникова
«Пути советского кино и МХАТ»]
Написано В. Пудовкиным в 1946 г. по просьбе М. Н. Алейникова специально для его
книги.
М. Н. Алейников (1885—1964) — организатор русского кинопроизводства и редактор.
Один из бессменных руководителей художественного киноколлектива «Русь» (1918—1923),
преобразованного в 1923 г. в акционерное общество «Межрабпом-Русь», а позже — «Межраб-
помфильм» (1928—1936). Работал также на киностудиях «Совкино», «Союзкино», «Мосфильм».
С 1945 г. занимался только литературной деятельностью.
В период руководства киностудией «Межрабпом-Русь» Алейников привлек к работе
режиссеров Л. Кулешова, В. Пудовкина, Б. Барнета, 10. Райзмана. С Пудовкиным его
связывали теплые дружеские отношения.
Печатается по тексту первой публикации—в книге М. Н. Алейникова «Пути советского
кино и МХАТ» (М., Госкиноиздат, 1947, стр. 5—12).
1 Этот эксперимент описан Пудовкиным
ранее в других работах, например, «Натурщик вместо актера» (см. стр. 182 настоящего
издания, а также примечания к статье).
2 Опера «Псковитянка» Н. Римского-Кор-
сакова с Ф. Шаляпиным в главной роли была экранизирована в 1915 г. фирмой «Шарез»,
специально организованной для этой постановки Шаляпиным. Фильм режиссера А. Иванова-
Гай назывался «Царь Иван Васильевич Грозный».
3 Этот пример приводился Пудовкиным
ранее в статье «Реализм, натурализм и «система» Станиславского» (см. стр. 246 настоящего
издания и примечания к статье).
4 Доллер Михаил Иванович (1889—1952) —
советский кинорежиссер, работавший с Пудовкиным над многими фильмами («Мать», 1926;
«Конец Санкт-Петербурга», 1927; «Простой случай», 1932; «Минин и Пожарский», 1939;
«Суворов», 1940; «Пир в Жирмунке», 1941) сначала как ассистент, потом сорежиссер. По
свидетельству самого Пудовкина, Доллер, «всегда ставивший в основу картины актерскую игру»,
часто занимался подбором актеров для будущей картины. Им была предложена на роль
Ни л овны в фильме «Мать» актриса В. Барановская, а позже найден актер Н. Черкасов
(Сергеев) на роль Суворова.
По поводу работы с М. Доллером и Н. Зархи, которых Пудовкин называл «близкими
друзьями моими», он в 1949 г. писал: «Наши взаимоотношения в работе я определил бы
словами: органическое слияние» (см. статью Пудовкина «Как я стал режиссером» в т. 2
настоящего издания). •
430
Идеи Станиславского и кино
Статья написана в 1948 г. в связи с пятидесятилетием Московского Художественного
академического театра.
Печатается по тексту единственной публикации в газете «Советское искусство» от 23
октября 1948 г.
1 Так назывался будущий MX AT с 1898
по 1920 г.
2 Леонидов Леонид Миронович (1873—-
1941) — актер МХАТ. Много и плодотворно работал в кино (с 1917 г.), снявшись в фильмах
«Крылья холопа» (1926), «В город входить нельзя» (1929), «Гобсек» (1937) и др.
Работа актера в кино и
«система» Станиславского
Впервые статья напечатана в сборнике «Вопросы мастерства в советском киноискусстве»
(М.. Госкиноиздат, 1952).
Текст статьи полностью включает работу Пудовкина «Система» Станиславского в кино»,
опубликованную в 1951 г. в журнале «Искусство кино» (№ 4 и № 5) в разделе «История и
совр еменность».
Печатается по тексту первой публикации.
1 «Пиковая дама» — экранизация повести
Пушкина, осуществленная режиссером Я. Протазановым в 1916 г.— один из лучших фильмов
русского дореволюционного кино. Попытки экранизировать «Войну и мир» и «Анну Каре-
пину» Л. Толстого были предприняты в русском дореволюционном кино несколько раз:
на экран вышли фильмы «Война и мир», реж. В. Гардин и Я. Протазанов, 1914; «Наташа
Ростова», реж. П. Чардынин, 1915; «Анна Каренина», реж. В. Гардин, 1914.
2 См. об этом спектакле примеч. 1-е к
работе «Реализм, натурализм и «система» Станиславского» (стр. 246 настоящего издания).
3 Этот пример у Пудовкина повторяется во
многих статьях. См. прим. 16 к работе «Актер в фильме».
4 Топорков Василий Осипович(1889—1970)—
актер МХАТ, автор книги «К. С. Станиславский на репетиции» (М., «Искусство», 1950).
5 Баталов Николай Петрович (1899—
1937) — актер МХАТ; с 1924 г. активно снимается в кино — «Аэлита» (1924), «Путевка в
жизнь» (1931), «Три товарища» (1935) и др. В фильме Пудовкина «Мать» (1926) сыграл роль
Павла Власова.
6 В описываемой Пудовкиным сцене из
фильма «Простой случай», над которым режиссер работал с 1929 по 1932 г., роль жены героя
исполняла Е. Рогулина, которая затем снялась еще в нескольких фильмах.
7 Пудовкин приступил к работе над
фильмом Анна Каренина в 1937 г. Сценарий был написан Н. Волковым. Пудовкин закончил
режиссерскую разработку; шел подбор актеров, репетировались отдельные сцены. В середине года
работа была прервана, так как Пудовкин принял предложение ставить фильм «Минин и
Пожарский». Позже к работе над «Анной Карениной» режиссер не возвращался.
8 Над картиной «Суворов» В. Пудовкин
работал в 1939—1940 гг., фильм вышел на экран в 1940 г.
9 Черкасов (Сергеев) Николай Петрович
(1884—1944) — советский театральный актер, впервые снялся в фильме «Джульбарс» (реж.
В. Шнейдеров, 1936). Успех в кино принесло ему исполнение роли Суворова в фильме
Пудовкина (1940). После этого снялся еще в двух фильмах.
10 Дикий Алексей Денисович (1889—1955) —
советский режиссер и актер театра и кино. Снимался в фильмах с 1919 г. В картине Пудовкина
«Адмирал Нахимов» (1946) исполнял заглавную роль.
11 См. брошюру «Совещание деятелей
советской музыки в ЦК ВКП(б)» (М., 1948).
12 Пудовкин имеет в виду постановление
ЦК ВКП(б) «О кинофильме «Большая жизнь» от 4 сентября 1946 г. См. статью Пудовкина
«Уроки постановки фильма «Адмирал Нахимов» во втором томе настоящего Собр. соч.
13 К работе над съемкой фильма «Жуков-
ский» Пудовкин приступил в 1949 г.
431
О творческом воспитании
Последняя по времени написания известная статья Пудовкина. Напечатанная в журнале
«Искусство кино» (1953, № 8), она увидела свет, когда Пудовкина уже не было в живых.
Написана в связи с постановкой его последнего фильма «Возвращение Василия Бортникова».
В 1955 г. опубликована полностью в сб. «Избранные статьи».
Печатается по тексту первой публикации.
1 Бондарчук Сергей Федорович (р. 1920) —'
советский актер и режиссер кино. Окончил ВГИК (мастерскую С. Герасимова) в 1948 г.
Сыграл роли: Валько в «Молодой гвардии» (1949), Тараса Шевченко в одноименном фильме
(1951), Дымова в «Попрыгунье» (1955), Отелло в одноименном фильме (1956), Андрея Соколова
в «Судьбе человека» (1959), Пьера Безухова в «Войне и мире» (1965—1969). Поставил фильмы
«Судьба человека» (1959), «Война и мир» (1965—1969), «Ватерлоо» (1971).
2 Мордюкова Нонна Викторовна (р. 1925) —
советская киноактриса. Окончила ВГИК в 1950 г. Дебютировала в фильме режиссера
С. Герасимова «Молодая гвардия» (1948), снялась более чем в двадцати фильмах.
В фильме Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова» (1953) исполняла роль
трактористки Огородников ой.
3 Герасимов Сергей Аполлинаръевич
(р. 1906) — советский кинорежиссер, сценарист, актер. Профессор ВГИКа, многие годы
руководит кафедрой режиссуры, художественного фильма, актерской и режиссерской мастерской.
В его мастерской и в его фильмах начинали путь многие ныне известные актеры кино
(С. Бондарчук, Н. Мордюкова, И. Макарова, Ж. Болотова, Н. Губенко, Н. Белохвости-
кова и др.).
4 «Молодая гвардия» — фильм режиссера
С. Герасимова (1949), в котором почти все главные роли исполняли студенты и выпускники
ВГИКа. Сначала «Молодая гвардия» с этими же участниками была поставлена Герасимовым
как своеобразный киноспектакль во ВГИКе, перенесенный позже на сцену Театра студии
киноактера. Съемки фильма в основном проходили в городе Краснодоне, на месте подлинных
исторических событий.
Приложения
«Шахматная горячка»
Один из вариантов литературного сценария первого игрового короткометражного фильма
Пудовкина, поставленного им после ухода из мастерской Л. Кулешова.
В ноябре - декабре 1925 г. в Москве происходил Международный шахматный
турнир, и руководство «Межрабпом-Руси» приняло решение снять комедию о повальном
увлечении шахматами по либретто Н. Шпиковского, молодого журналиста, впоследствии
профессионального сценариста и режиссера советского кино. В. Пудовкин и А. Головня, прервав
работу над фильмом «Механика головного мозга», вместе с Н. Шпиковским за две недели
осуществили постановку картины. В титрах фильма как автор сценария назван один Н. Шпи-
ковский, но, по его свидетельству, сценарий был написан им вместе с В. Пудовкиным.
Часть эпизодов фильма снималась документально в помещении, где происходил чемпионат
(гостиница «Метрополь»), и на улицах Москвы. Актерские сцены вводились в реальную среду.
В одном из эпизодов фильма снялся чемпион мира по шахматам Х.-Р. Капабланка. Изменения
в сценарий вносились в процессе съемок. Об истории постановки фильма см. статью Р. Юре-
нева, опубликованную в журнале «Советский экран», № 14 за 1959 г.
Сценарий печатается по машинописному экземпляру из архива А. II. Пудовкиной.
Подлинность текста подтверждена составителям Н. Шпиковским.
«Потомок Чингис-хана»
Монтажные листы фильма «Потомок Чингис-хана» написаны, по свидетельству А. Головни,
В. Пудовкиным в Улан-Удэ во время работы над картиной. В 20-е годы термин «монтажные
листы» употреблялся в значении современного понятия «режиссерский сценарий» и текст их,
как правило, принадлежал режиссеру.
В журнале «Советский экран» (1928, № 46, стр. 12—13) были опубликованы
«Режиссерские, монтажные листы В.И.Пудовкина по сценарию О. Брика на тему романа И. Ново-
432
кшонова (из 7-й части)». Эти «листы» в чуть измененной литературной редакция соответствуют
8-й части публикуемого сценария (кадры № 173—354), что служит еще одним доказательством
принадлежности текста Пудовкину.
Сценарий О. Брика, лежащий в основе работы В. Пудовкина, был написан в марте
1928 года и представлял собой двадцать страниц машинописного текста, кратко излагающего
сюжет будущего фильма (сценарий-либретто хранится в архиве кабинета истории советского
кино ВГИКа). Об истории создания сценария О. Брик написал в статье «Из теории и
практики сценариста» (Сб. статей «Как мы работаем над сценарием», М., Кинофотоиздат, 1936,
стр. 48—53). Случай, использованный в сюжете сценария, был рассказан О. Брику писателем
И. Новокшоновым (1895—1943), сообщившим, что на эту тему он пишет повесть.
Произведение И. Новокшонова «Потомок Чингис-хана» было опубликовано посмертно в 1966 году в
Москве (изд-во «Советский писатель») и в 1969 году в Улан-Удэ (в последнем издании жанр
произведения был определен как роман). Подробности сюжета, стилистика, характер героя
книги резко отличны и от либретто Брика и от фильма Пудовкина. Общей является лишь
основная ситуация — попытка колонизаторов-англичан использовать в своих интересах
найденный у одного из простых монголов документ о том, что он является потомком
Чингисхана, объявив его «правителем Монголии».
Таким образом, режиссерский сценарий В. Пудовкина — работа авторская, написанная
им при участии А. Головни, осуществлявшего в это время выбор натуры для съемок и
предложившего ввести ряд документальных эпизодов. Консультировал Пудовкина и Головню
опытный партийный работник Александр Иванович Оширов (умер в 1932 г.), хорошо знавший
местные условия, быт, нравы.
Сценарий публикуется впервые по машинописному экземпляру, хранящемуся в архиве
кабинета истории советского кино ВГИКа.
«Смоленская дорога»
Сценарий «Смоленская дорога» — последняя работа В. Пудовкина как драматурга.
Написан в 1943 году в соавторстве с К. Симоновым. Первые варианты литературного
сценария носили названия «Военный корреспондент», «Москва».
В. Пудовкин, как правило, принимал активнейшее участие в работе над сценариями
своих фильмов. Но имя его редко появлялось рядом с именем драматурга в титрах фильма
или на обложке рукописи; в звуковом кино только дважды: в экранизации пьесы К. Симонова
«Русские люди» и в «Смоленской дороге».
К. Симонов в письме к Т.Е. Запасник — одному из составителей данного издания —
рассказывает: «Сценарий этот интересен потому, что хотя в основу сценария положены мои
военные дневники, но каждый абзац этого сценария писался действительно вместе — вдвоем.
Кроме того, и сама идея написать сценарий по дневникам, с минимумом выдуманных ситуаций
всецело принадлежала Пудовкину. Он, а не я, был инициатором создания сценария именно
такого типа».
Сценарий не был запущен в производство, авторам было предложено переработать
его, по сути дела отказавшись от первоначального замысла, изменив его характер.
«Пудовкин очень любил этот сценарий, очень хотел снимать эту картину и очень тяжело
переживал, что это намерение оказалось невозможным осуществить»,— вспоминает К.
Симонов.
В архиве В. Пудовкина сохранился черновик письма, написанного им в защиту
«Смоленской дороги». Приводим это письмо с небольшими сокращениями:
«Когда я впервые знакомился с этими дневниками, меня взволновала ясно мною
увиденная в описанных Симоновым людях та покойная, упрямая, часто даже ясно не сознаваемая,
уверенность в своем конечном превосходстве над врагом (причем непременно «в целом»,
«вместе»), которая всегда приводила нас к верной и прочной победе. Все это, по-моему, есть и в
сценарии Симонова, причем написано это просто и скромно — так, как нужно, чтобы
получились живые люди без фальшивой риторики. Мне по моей индивидуальной природе именно
такая манера работы в искусстве особенно близка и дорога. Я принимал участие в писании
сценария, потому что рассчитывал непременно его ставить. Но получилось иначе.
Руководство нашло сценарий хотя и интересным в литературном смысле, но ненужным для
постановки. Мотивировка—отсутствие в нем широкой разработки темы обороны Москвы и раскрытия
стратегического смысла победы над немцами. Вероятно, нашей ошибкой было
первоначальное название «Москва», которое мы дали сценарию. В сценарии действительно описаны
не события, а только люди, которые в этих событиях принимали участие. В этом его своеобра-
433
зие, которое, я повторяю, мне как художнику особенно дорого. Я не могу оставаться без
работы и поэтому по предложению Комитета занялся сценарием «Адмирал Нахимов». Но я так
глубоко привязался к «Смоленской дороге», что сразу примириться с невозможностью
осуществить ее на экране я не могу».
Впервые сценарий был опубликован с небольшими сокращениями в журнале
«Искусство кино» № 2 за 1968 г.
В этой публикации перед сценарием было вставлено вступительное слово от авторов.
«То, что мы предлагаем, это предварительный вариант-сценария, но при отсутствии
окончательной разработки он кажется нам в то же время принципиально верным. В этом
сценарии мы не искали ретроспективного, исторического взгляда на вещи, взгляда, которым
бы прошлое оценивалось целиком, сразу, с точки зрения событий сегодняшнего дня. Конечно,
возможен и такой путь. Но мы избрали противоположный.
В сценарии мы старались понимать и осмысливать вещи, но в той последовательности,
в которой их понимали и осмысливали люди, начавшие войну 22 июня на Западном фронте.
Мы провели своих героев через разочарования первых дней, через ошибки, неудачи, через
минуты и дни недоумения и горя — через все то, что пришлось пережить в действительности
рядовым бойцам и командирам этой войны, перед которыми война — весь смысл и ход ее —
раскрывалась постепенно.
С этой точки зрения нам хотелось, чтобы сценарий и фильм выглядели двойником войны,
а не ее впоследствии написанной историей.
Вторая особенность сценария та, что мы не искали в нем сюжета в обычном понимании
этого слова, не искали семейных и дружеских связей, придуманного сюжетного построения
событий. Сюжет сценария — это ход битвы за Москву, начавшейся с первых дней войны и
достигшей своей кульминации в декабре 1941 года.
В фильме много главных героев. Главные герои его — это люди, на разных этапах и по-
разному защищавшие Москву в течение этих месяцев. Для того чтобы скрепить сюжет и
связать этих героев между собой, не придумывая нарочитых семейных и дружеских связей и
прочих драматургических случайностей, мы нашли единственный, показавшийся нам в этом
случае верным, способ: мы заставили знакомиться, говорить, встречаться с этими героями
сценария одного человека — военного корреспондента, который, естественно, по долгу своей
службы мог бывать всюду, начиная от окопа на переднем крае и кончая штабом армии и
Москвой. И хотя благодаря тому, что им скреплен сюжет, военный корреспондент занимает
территориально большое место в сценарии, тем не менее, как это явствует из сценария,
коллективным героем фильма будет не он, а те, с кем он встречается.
Вот те два основных соображения, которые мы хотели высказать, прежде чем предложить
вашему вниманию сценарий.
Кроме того, еще одно примечание: в сценарии не уточнены еще окончательно некоторые
цифры, числа, места действий и цитаты».
В настоящем издании сценарий публикуется полностью по тексту копии, хранящейся в
ЦГАЛИ (ф. 619, оп. 1, ед. хр. 1623).
Указатель имен
Акимов Н. П.— 428
Алейников М._ Н.— 180, 251, 256, 430
Александров Г. В.— 39, 419, 422
Анощенко А. Д.—419
Ариольди Э. М.—427
Артемьев, П. А.— 384....
Афиногенов А. Н.— 428
Балаш Б.— 56, 415
Бальзак О.— 277
Барановская В. В.—21, 23,-24,-210; 232,
255—256, 270, 272, 274, 428, 430
Барбаро У.— 44
Барнет Б. В.— 13, 429, 430 -
Бартельмес Р.— 115, 126—127, 421
Баталов II. П.— 21, 24, 258, 270, 274—
275, 431
Белинский В. Г.— 260
Белохвостикова Н.— 432
Боголюбов Н. И.— 259
Болотова Ж. А.— 432
Бондарчук С. Ф.— 303, 432
Браунинг Т.—421, 422
Брик О. М.— 10, 419,-432, 433
Васильевы братья — 13, 426
Вахтангов Е. Б.— 220, 428
Вертов Дзига — 6, 29, 36, 143—148, 423,
424, 427 \- .
Волков Н. Д.— 431
Волконский С. М,— 430
Гардин В. Р.— 24, 414, 431
Герасимов С. А.— 9, 305, 432 .
Гиш Л.— 115, 119, 421
Гоголь Н. В.— 193, 242
Головня А. Д.— 9, 10, 11, 12, 18, 29, 30,
31, 423, 424, 432, 433
Горчилин А.— 414
Горький М.— 19, 20, 21, 22, 28, 30, 255,
260, 305, 306
Гринберг А. Д.— 9
Гриффит Д. У.— 60, 61, 101, 109, 114, 115,
117, 119, 122, 123, 126, 151, 165, 415,
416, 421
Грошев А. Н.— 9
Деллюк Л.-- 37,. 90,- 420
Дельсарт Ф.— 248, 430
Де Милль С— 415, 421
Дидро Д.—,224, 428
Дикий А. Д.— 295, 431
Добронравов Б. Г.— 259
Довженко А. П.— 6, 12, 15, 28, 29
Долинский И. Л.— 7, И
Доллер М. И.— 255, 430 - -
Достоевский Ф. М,— 20, 22, 238
Дю Плесси А.— 420
Жданов А. А:— 298
Желябужский Ю. А.— 417, 421
Жуков Г. К.— 384
Жуковский Н. Е.— 13, 299
Зархи Н. А.— 9, 12, 19, 20, 21, 29, 31, 415,
416, 419, 428, 430
Золя Э.— 19, 243
435
Ибсен Г.— 429
Иванов-Гай А. И.— 416, 430
Иезуитов Н. М.— 421, 427
Инкижинов В. И.— 316, 320—331, 341—
348, 351—359
Капаблаика X. Р.— 310, 313, 432
Каратыгин В. А.— 224, 429
Кауфман Л.— 422
Качалов В. И.— 259
Кинг Г.— 416
Клер Р.— 28
Книппер-Чехова О. Л.— 221, 263, 428
Коваль-Самборский И. И.— 23, 24
Козинцев Г. М.— 6, 12, 14, 204—205,
259, 428
Коклен Б.-К.— 224, 429
Комаров С. П.— 237, 429
Кракауэр 3.— 35
Кулешов Л. В.— 6, 12, 13, 24, 28, 35, 36,
39, 51, 76, 98—99, 121, 142—148, 149,
181—182, 202—203, 205, 229, 236, 237,
415, 416, 417, 419, 420, 421, 424, 427,
428, 429, 430, 432
Ласкер Э.— 310, 311, 313
Лебедев В. В.— 13
Лебедев Н. А.— 414
Ленин В. И.— 198, 247, 428
Леонардо да Винчи — 172, 173, 241, 242,
426
Леонидов Л. М.— 257—258, 431
Ливанов Б. Н.— 232, 259, 425, 429
Лидзани К.— 29
Ллойд Г.— 117, 421
Любич Э.— 420
Макарова И. В.— 432
Максимов В. В.— 52, 415
Марш М.— 117, 119, 122, 421
Маяковский В. В.— 138, 209
Мейерхольд В. Э.— 188, 427
Менжу А.— 235, 429
Микеланджело — 173, 241
Мичурин И. В.— 264
Мозжухин И. И.— 182, 251—252, 427
Монтегю А.— 422, 426
Мордюкова Н. В.— 304, 432
Москвин И. М.— 258, 421
Мур Л.— 420
Нахимов П. С— 13, 18, 299
Нейлан М.— 420
Немирович-Данченко В. И.— 261
Никитин Ф. М.—427
Николаева Г. Е.— 25
Новокшенов И. М.— 30, 432—433
Олеша Ю. К.— 14, 20
Островский А. Н.— 429
Охлопков Н. П.— 188, 427
Оцеп Ф. А.— 426, 429
Оширов А. И.— 433
Павел I — 290, 293, 294
Павлов И. П.— 264, 265
Петров В. М.— 259, 427
Пик Л.— 138, 423
Пикфорд М.— 14, 117, 421
По Э.— 154
Поллард Г.— 416
Пристли Д. В.— 174, 426
Протазанов Я. А.— 259, 260, 431
Пудовкина А. Н.— 7, 8, 11, 425, 426, 432
Пудовкина Ю. И.— И
Пушкин А. С— 172, 260, 419, 426
Райзман Ю. Я.— 430
Рахальс В. А.— 417
Ренуар Ж.— 28
Репин И. Е.— 173
Ржешевский А. Г.— 38, 42—43, 46, 76—
78, 79—84, 416, 417, 418, 419, 423, 424
Рогулина Е. И.— 431
Роден О,— 21
Розенталь Л.— 420
Ромм М. И.— 6
Роом А. М,— 12, 429
Ростовцев И. Г.—427
Рота П.— 169, 425
Рубинштейн Ю. Г — 8
Савченко И. А.— 259
Сергеев Н. П.— см. Черкасов Н. П.
Симонов К. М.— 9, 10, 433
Синилов — 384
Соколова Д. Ф.— 422, 425, 426
Сольский В. А.— 422, 423
Сталин И. В.— 298, 369, 394—395, 397
Станиславский К. С.— 10, 11, 16, 21—23,
24, 32, 33, 40, 41, 180, 191—192, 220—
221, 223, 224—225, 227, 231, 239, 240—
436
250, 253, 254, 257—272, 273, 274, 277,
279—280, 281, 282—283, 284—285, 288,
290, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301—
302, 427, 428, 429, 430, 431.
Станицын В. Я.— 259
Суворов А. В.— 13, 17, 290—294, 368,
430, 431
Тарханов М. М.— 259
Теплиц Е.— 29
Тиссэ Э. К.— 109, 421, 422
Толстой А. Н.— 284
Толстой Л. Н.— 20, 22, 198—199, 240,
241, 243, 250, 260, 266, 277, 428
Топорков В. О.— 264, 298, 431
Торре Э.— 311
Трауберг Л. 3.— 6, 12, 14, 259, 428
Тургенев И. С— 22, 260, 428
Туркин В. К.— 6, 414
Турнер М.— 421
Уитмен У.— 418
Фербенкс Д.— 14, 117, 421
Фогель В. П.— 237, 429
Форд Д.— 177, 426
Фосс Е. Н.— 425
Хейерманс Г.— 430
Хмелев Н. П.— 229, 259, 429
Хоппер М,— 421
Чаплин Ч. С—4, 28, 117, 148—149, 199,
235, 239, 421, 424, 429
Чардынин П. И.—431
Черкасов (Сергеев) Н. П.—17, 291—294,
430, 431
Чехов А. П.—22, 260
Чистяков А. П.— 24
Шаляпин Ф. И.— 253, 430
Шапорин Ю. А.— 162, 217, 425
Шевченко Т. Г.— 303, 432
Шекспир У.— 20
Шенгелая Н. М.— 419
Шкловский В. Б.— 31
Шнейдеров В. А.— 431
Шорин А. Ф.— 425
Шпиковский Н. Г.— 9, 10, 419, 429, 432
Штрогейм Э.— 239, 429
Шуб Э. И.— 145, 424
Эйзенштейн С. М.— 6, 12, 13, 28, 29, 36,
39, 76, 101, 110, 133, 134, 137, 140, 141—
142, 146—148, 152, 172, 416, 417, 419,
422, 423, 426, 427
Эпштейн Ж.— 154, 424
Эрмлер Ф. М.— 6, 259
Юренев Р. Н.— 432
Юткевич С. И.— 6, 259, 428
Указатель фильмов
Адмирал Нахимов — 13, 18, 31, 295, 296,
299, 431, 434
Алчность — 429
Америка — 114, 119, 129, 421
Анна Каренина (фильм В. Гардина) — 431
Анна Каренина (неосуществленный фильм
В. Пудовкина) — 286—287, 431
Аэлита — 431
Бежин луг — 419
Белый орел — 259
Броненосец «Потемкин» — 12, 14, 29, 75,
76, 101, 109, 110, 114, 121, 123, 124,
125, 146, .163, 164, 177, 416, 417
Буря над Азией (см. Потомок Чингис-хана)
В город входить нельзя — 417, 431
В золотой клетке — (см. Субботняя ночь)*
Ватерлоо — 432
Великий путь — 424
Великий утешитель — 202, 428
Вечно чужие (см. Субботняя ночь)
Виргинская почта (см. Кроткий Дэвид)
Вне закона (Черный Билль) — 127, 422
Водопад жизни (см. Путь на Восток)
Возвращение Василия Бортникова — 13,
16, 25, 31—32, 304, 432
Во имя Родины — 13
Война и мир (фильм С. Бондарчука) — 432
* На. все зарубежные фильмы ссылки
даются по оригинальным названиям
Война и мир (фильм В. Гардина и Я.
Протазанова) — 431
Глупые жены — 429
Гобсек — 258, 431
Голод — 67, 416
Гроза — 196, 199, 259, 427
Гроздья гнева — 426
Груня Корнакова (Соловей-соловушко) —
34
Далеко на Востоке (см. Путь на Восток)
Двадцать шесть бакинских комиссаров
(см. 26 комиссаров)
Двадцать шесть бакинских коммунаров
(см. 26 комиссаров)
26 комиссаров — 80—83, 417, 419
Две сиротки (см. Сиротки бури)
Девственница из Стамбула (Нищая из
Стамбула, Нищая Стамбула) — 125, 421
Дезертир — 13, 18, 31, 38, 39, 161—162,
164—166, 213—214, 216—217, 226—227,
425, 429
Джульбарс — 431
Длинноногий дядюшка (см. Длинноногий
папочка)
Длинноногий папочка (Длинноногий
дядюшка, Найденыш Джудди) — 94, 420
Дом на Трубной — 429
Живой труп — 237, 238, 426, 429
Жуковский — 10, 13, 31, 299, 431
Золотая горячка (см. Золотая лихорадка)
438
Золотая лихорадка — 149, 424
Иудушка Головлев — 259
Кавалер Золотой Звезды — 303
Как зелена была моя долина — 426
Кожаные перчатки (Под чужим именем) —
65, 94, 126, 416
Коллежский регистратор (Станционный
смотритель) — 120—121, 258, 421
Конец Санкт-Петербурга — 9, 12, 14, 20—
21, 30, 31, 38, 131, 169, 419, 426, 430
Кроткий Дэвид (Виргинская почта,
Нападение на Виргинскую почту) — 64—65,
66, 113—114, 116, 120, 416
Крылья холопа — 258, 431
Кукла с миллионами — 429
Луч смерти — 76, 116, 236, 415, 417, 421,
429
Мать — 6, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 28, 29—
30, 31, 38, 132, 184, 210, 237, 255, 258,
270, 272—277, 294, 296, 415, 419, 421,
426, 428, 429, 430, 431
Механика головного мозга — 10, 13, 16,
432
Минин и Пожарский — 13, 31, 425, 429,
430, 431
Мир изобилия — 425
Мишки против Юденича — 428
Молодая гвардия — 303, 305, 432
Моника Лербье (см. Холостячка)
Найденыш Джудди (см. Длинноногий
папочка)
Нападение на Виргинскую почту (см.
Кроткий Дэвид)
Наташа Ростова — 431
Необычайные приключения мистера Веста
в стране большевиков (Приключения
мистера Веста) — 13, 60,. 236, 416, 428,
429
Нетерпимость — 56, 60—61, 73—74, 101,
119, 163, 415
Нищая из Стамбула (см. Девственница из
Стамбула)
Нищая Стамбула (см. Девственница из
Стамбула)
Новый Вавилон — 14, 19, 142, 423, 428
Обломки крушения (см. Самец и самка)
Одиннадцатый — 145, 424
Окраина — 13, 429
Октябрь — 75, 137, 142, 146, 147, 417
Осведомитель — 426
Остров погибших кораблей — 120, 421
Отелло — 432
Очень хорошо живется (см. Простой
случай)
Падение династии Романовых — 424
Падение дома Эшер — 154, 424
Папочка (Сын маэстро) — 102, 421
Парижанка — 148—149, 199, 424, 429
Пиковая дама — 260, 431
Пир в Жирмунке — 13, 31, 430
Победа — 31, 425, 428
Под чужим именем (см. Кожаные перчатки)
По закону — 147, 149, 424, 428, 429
Поликушка — 258
Попрыгунья — 432
Потерянный патруль — 426
Потомок Чингис-хана (Буря над Азией) —
9, 10, 12, 17, 30, 38, 134—135, 150,
183, 314-360, 419, 423, 424, 432, 433
Похождения Октябрины — 428
Поцелуй Мэри Пикфорд — 429
Приключения мистера Веста (см.
Необычайные приключения мистера Веста в
стране большевиков)
Простой случай (Очень хорошо живется) —
13, 31, 38, 43, 83, 227—228,. 277—278,
417, 418, 419, 423, 424, 430, 431
Псковитянка (см. Царь Иван Васильевич
Грозный)
Путевка в жизнь — 258, 431
Путь на Восток (Водопад жизни, Далеко
на Востоке) — 115, 126—127, 421
Розита — 94, 420
Россия Николая II и Лев Толстой — 424
Русские люди — 31
Самец и самка (Обломки крушения) —
114, 421
Свадебный марш — 429
С. В. Д.— 428
Серп и молот — 414
Сиротки бури (Две сиротки) — 119, 421
439
Слепые мужья — 429
Смоленская дорога (неосуществленный
фильм В. Пудовкина) — 10, 361—412,
433—434
Соловей-соловушко (см. Груня Корнакова)
Станционный смотритель (см. Коллежский
регистратор)
Старое и новое — 142, 147, 152, 423
Стачка — 73, 126, 146, 416, 422
Субботняя ночь (В золотой клетке, Вечно
чужие) — 58—59, 415
Суворов — 13, 16—17, 31, 290—294, 425,
430, 431
Судьба человека — 432
Сын маэстро (см. Папочка)
Табачная дорога — 426
Тарас Шевченко — 303, 432
Третья Мещанская — 429
Три товарища — 431
Ураган — 426
Холостячка (Моника Лербье) — 93—94, 420
Хорошо живется (см. Простой случай)
Царь Иван Васильевич Грозный
(Псковитянка) — 253, 430
Чапаев — 177, 426
Черный Билль (см. Вне закона)
Чертово колесо — 428
Шахматная горячка — 10, 13, 308—313,
419, 429
Шербен — 138, 423
Шестая часть мира — 416
Шинель — 428
Юность Максима — 204—205, 259, 428
Юный мистер Линкольн — 426
Иллюстрации
Содержание
От составителей
С, Герасимов
Слово о Пудовкине
A, Трошев
Творческое наследие
B. И. Пудовкина
О КИНОСЦЕНАРИИ
О сценарной форме
Принципы
сценарной техники
Киносценарий
(Теория сценария)
О языке сценария
(Беседа)
Творчество литератора
в кино.
О кинематографическом
сценарии Рясешевского
КИНОРЕЖИССУРА
Время в кинематографе
Фотогения
Кинорежиссер
и киноматериал
Предисловие
[К немецкому изданию книги
«Кинорежиссер и киноматериал»]
К вопросу
звукового начала
в фильме
[Разговор с Пудовкиным
о звучащем кино]
Творчество кинорежиссера
Время крупным планом
5
12
28
47
49
53
75
79
Роль звукового кино
Асинхровжость
как принцип звукового
кино
Проблема ритма
в моем первом
звуковом фильме
[О монтаже]
МАСТЕРСТВО КИНОАКТЕРА
Натурщик вместо актера
Актер в фильме
Реализм, натурализм
и «система» Станиславского
Предисловие
Гтг тгаюта Л/Г А паптгюпслъа
155
158
163
167
181
185
240
251
87
90
95
130
133
137
141
151
«Пути советского кино
иМХАТ»]
Идеи Станиславского
и кино
Работа актера в кино
и «система» Станиславского.
О творческом воспитании
ПРИЛОЖЕНИЯ
«Шахматная горячка»
(Сценарий)
«Потомок Чингис-хана»
(Режиссерский план)
«Смоленская дорога»
(Литературный сценарий)
Примечания*
Указатель имен
Указатель фильмов
257
260
301
309
314
361
413
435
438
Пудовкин В. И.
П88 Собрапие сочинений. В 3-х т. Вступигг. статьи
G. Герасимова' и А. Грошева. Т. I. О киносценарии.
Кинорежиссура. Мастерство киноактера. Примеч.
Т. Запасник и А. Петрович. М., «Искусство», 1974.
440 с; 35 л. ид.
Всеволод Илларионович Пудовкин — выдающийся советский
кинорежиссер. Его * замечательные фильмы «Мать», «Конец Санкт-
Петербурга», «Потомок Чинтис-хана», «Суворов» до сих пор с
успехом идут на экранах. Истинно народный, глубоко партийный
и высокоидейный художник, Пудовкин был не только талантливым
режиссером, но и глубоким теоретиком «важнейшего из искусств».
Первый том предпринимаемого издания — самого обширного до сих
пор собрания сочинений Пудовкина — включает все его наиболее
крупные теоретические труды. Том иллюстрирован фотографиями
В. И. Пудовкина и кадрами из его фильмов.
тт 80106-149 778С
П u хчи подписное
025(01)-74
В. ПУДОВКИН
Собрание сочинений в трех томах
Том 1.
Составители и авторы примечаний
Татьяна Евгеньевна Запасник,
Ади Яновна Петрович
Редактор И. Н. Владимирцева. Художник Г. В. Дмитриев.
Художественный редактор Г. К. Александров* Технический редактор
Я. Г. Карпушкина. Корректор В. П. Назимова. Сдано в набор
23/VIII 1973 г. Подписано к печати 17/VI 1974 г. АО9603. Формат
бумаги 70X90Vie. Бумага типографская ЛЪ 1 и тифдручная.
Усл. печ. л. 37,44. Уч.-изд. л. 39,962. Изд. N* 15434. Тираж 25 000 экзу
Заказ № 648. Цена 3 р. 10 к. Издательство «Искусство», 103051,
Москва, Цветной бульвар, 25. Ордена Трудового Красного Знамени
1-я Образцовая типография имени А. А. Жданова «Союзполиграф-
прома» при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
113054, Валовая ул., 28. Иллюстрации отпечатаны в Московской
типографии №2 «Союзполиграфпрома», проспект Мира, 105. 3. 2614.








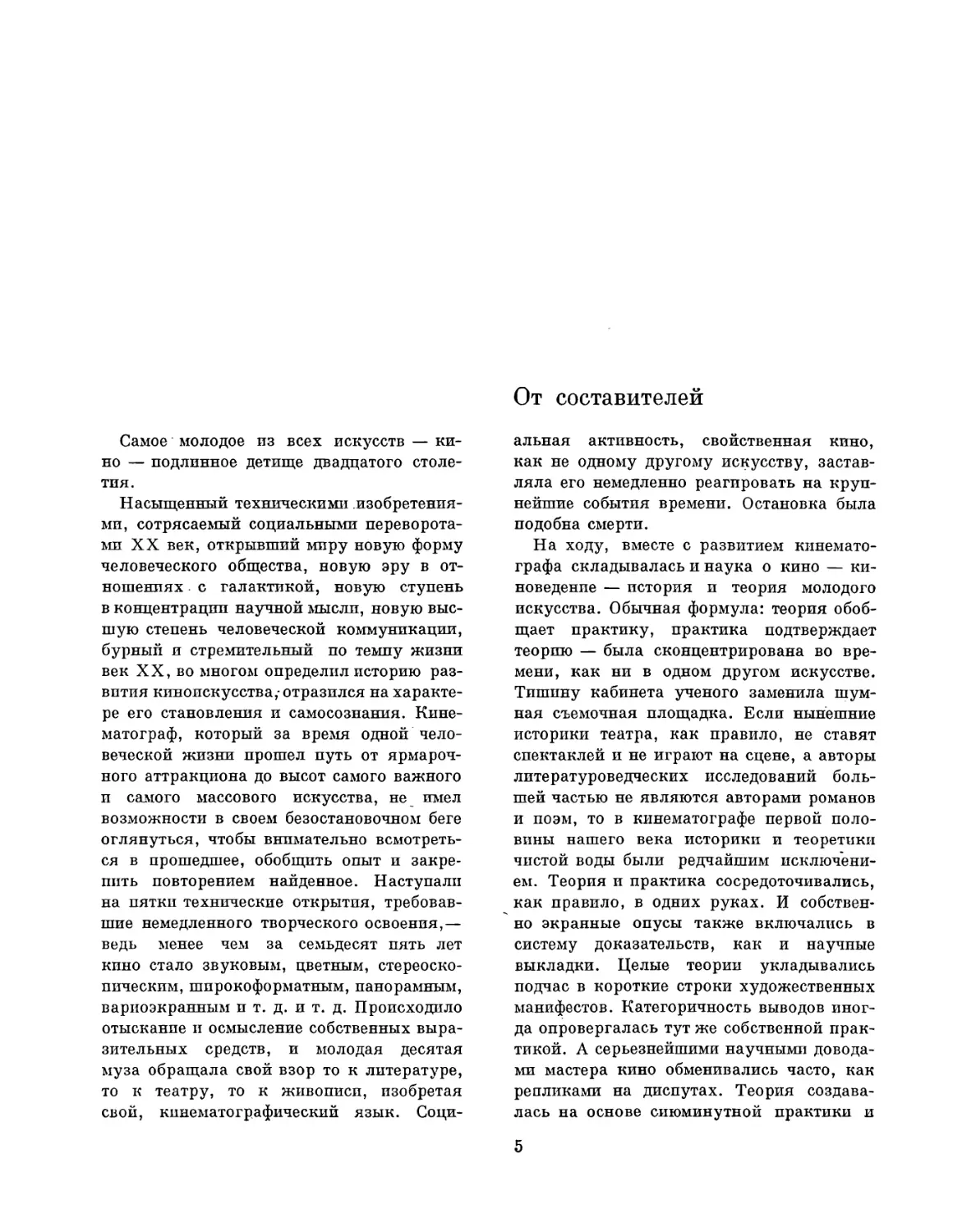






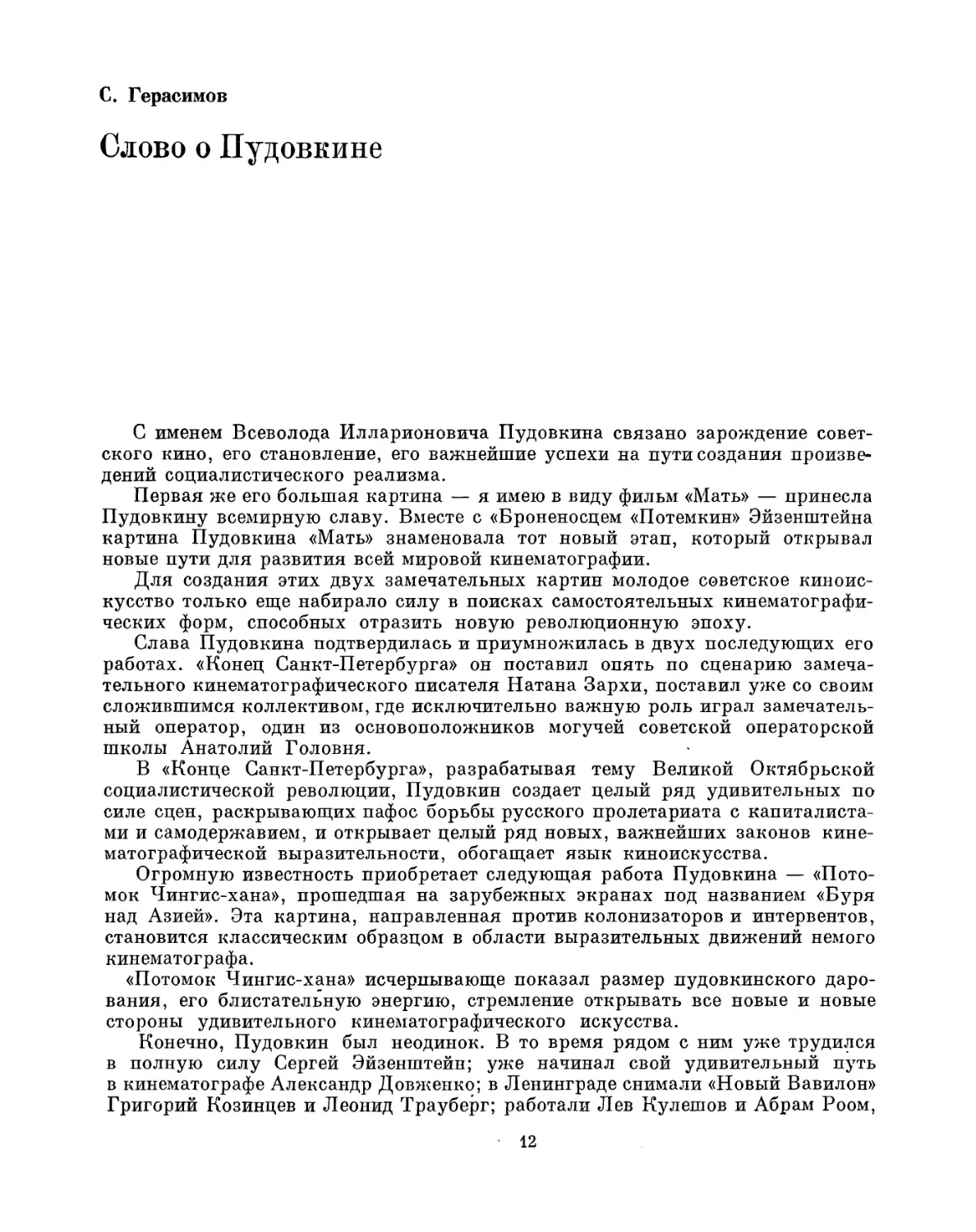





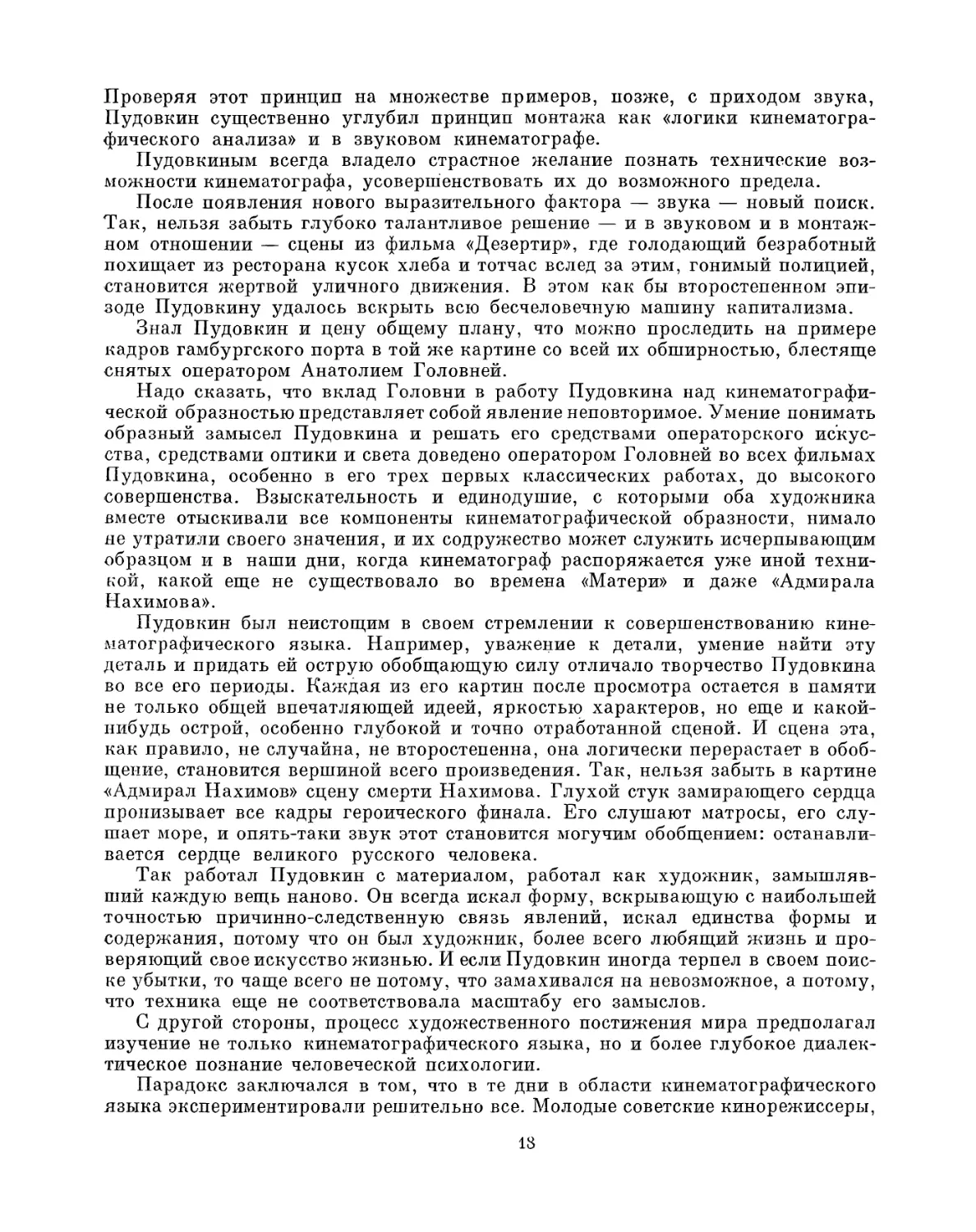









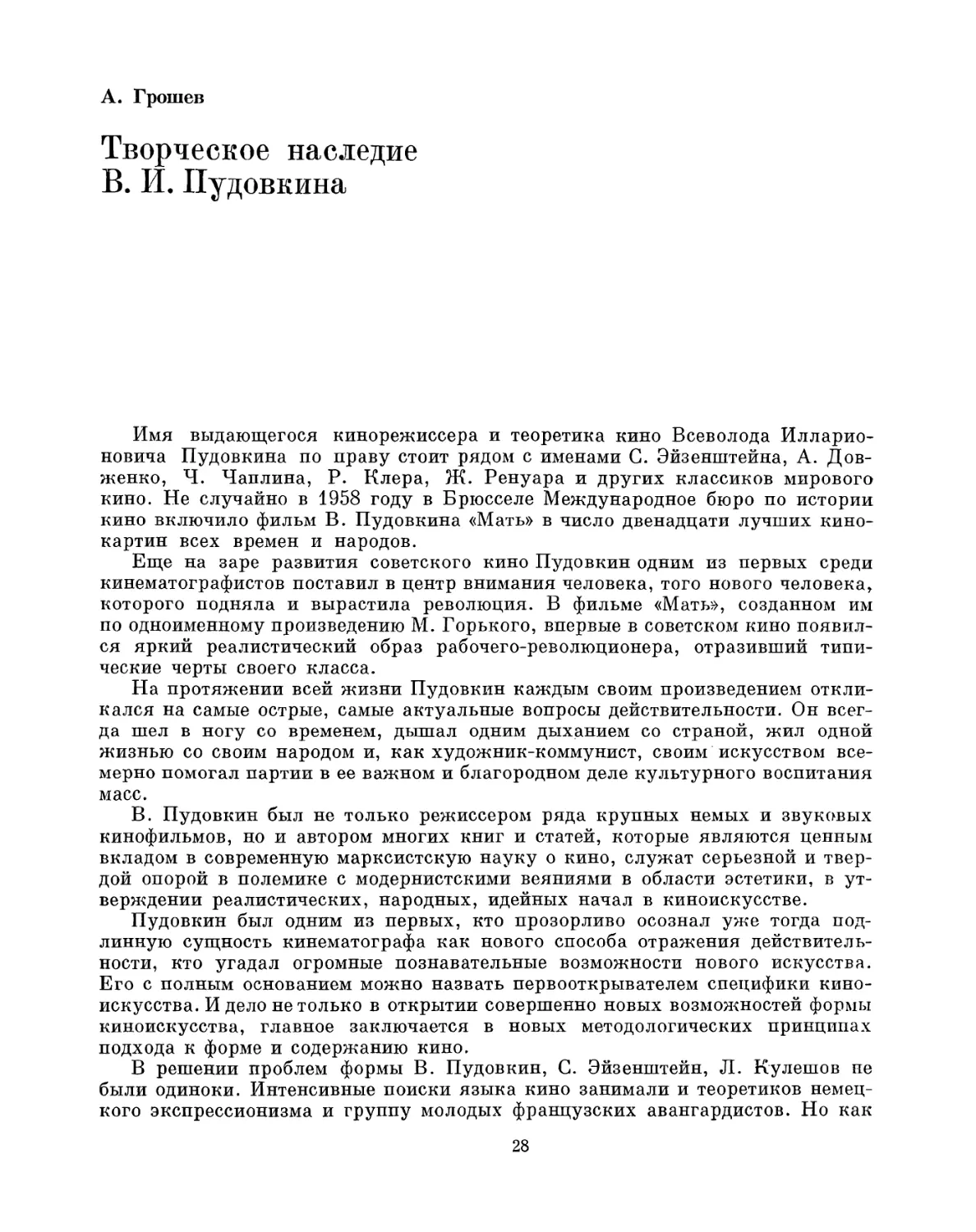
















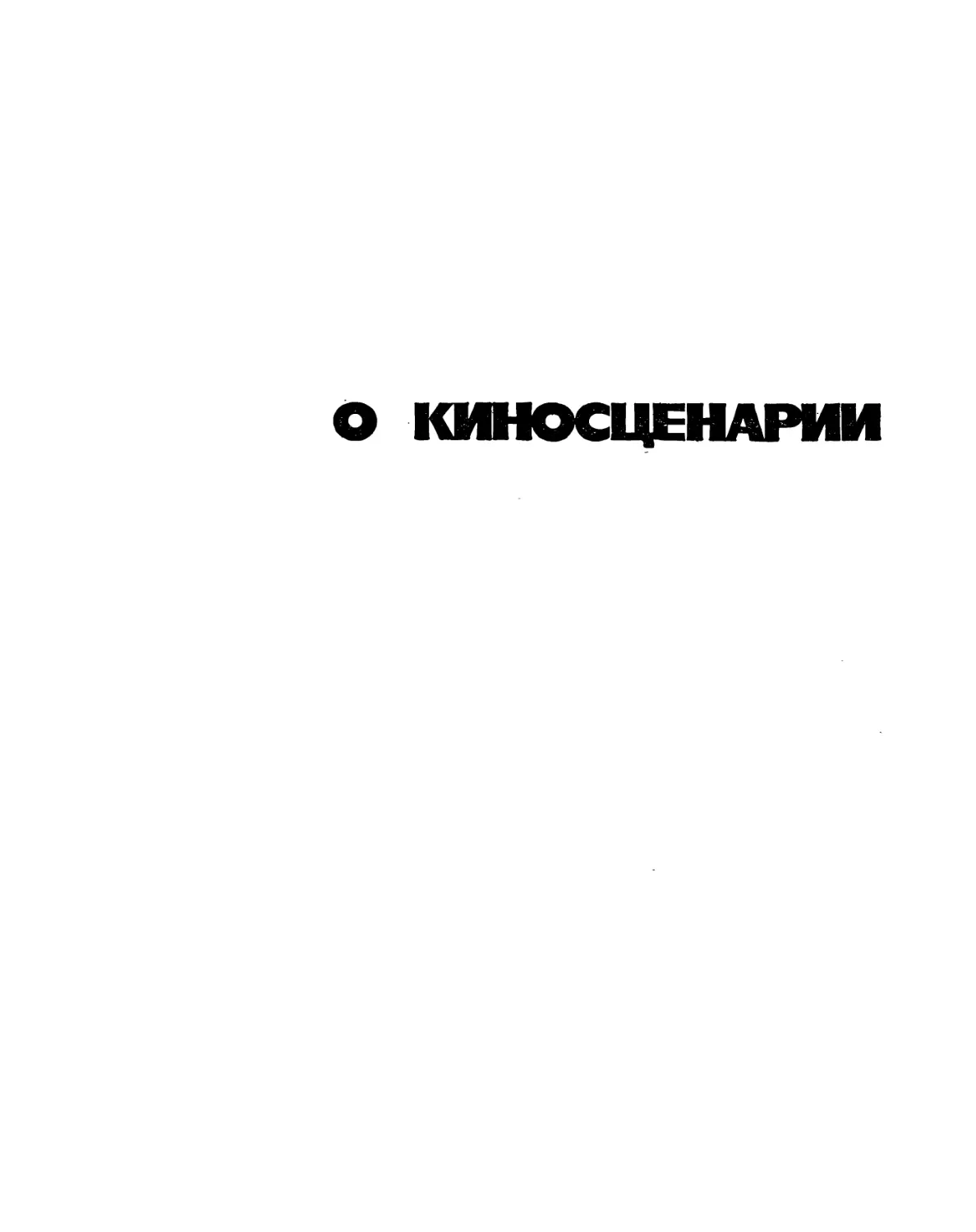



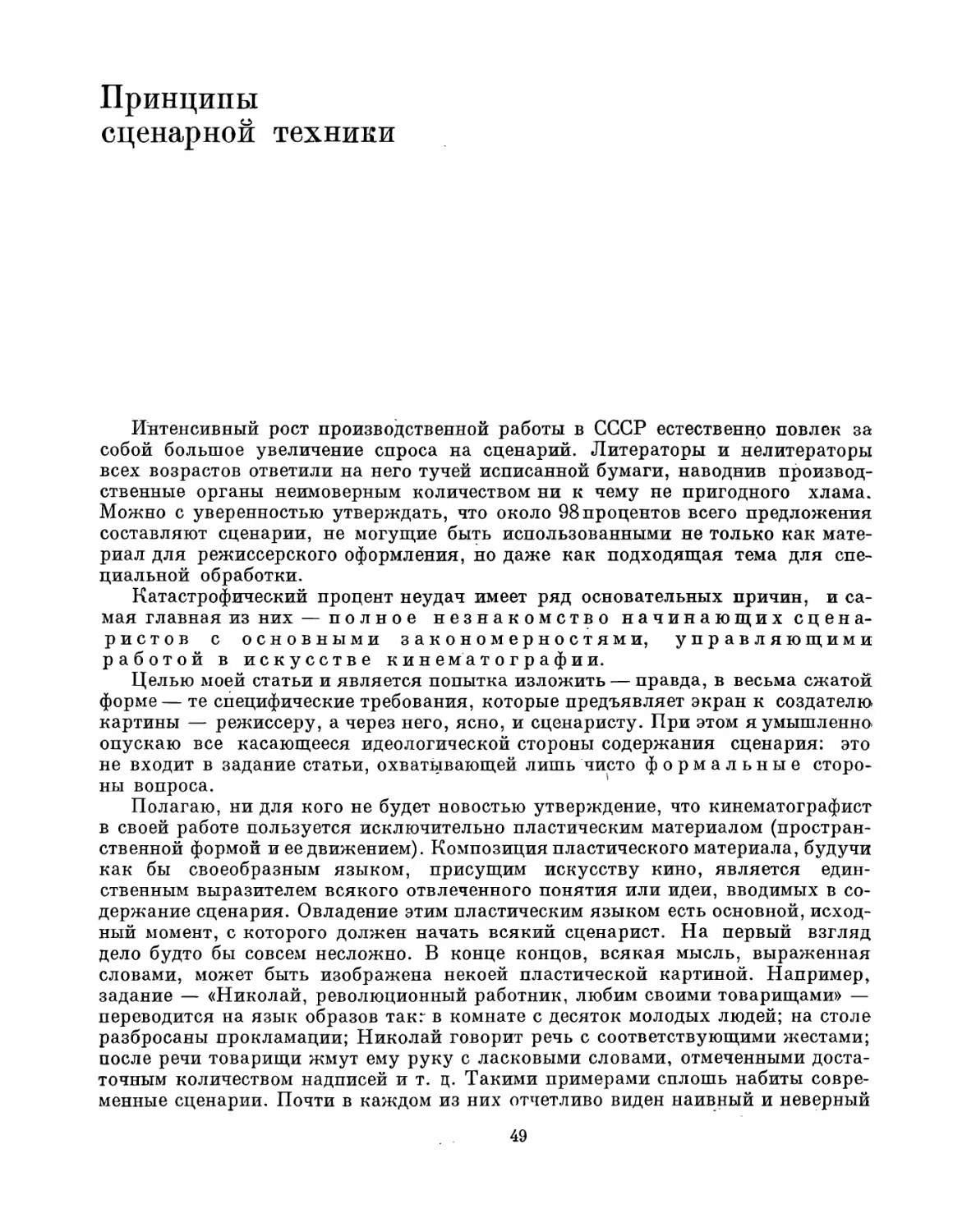






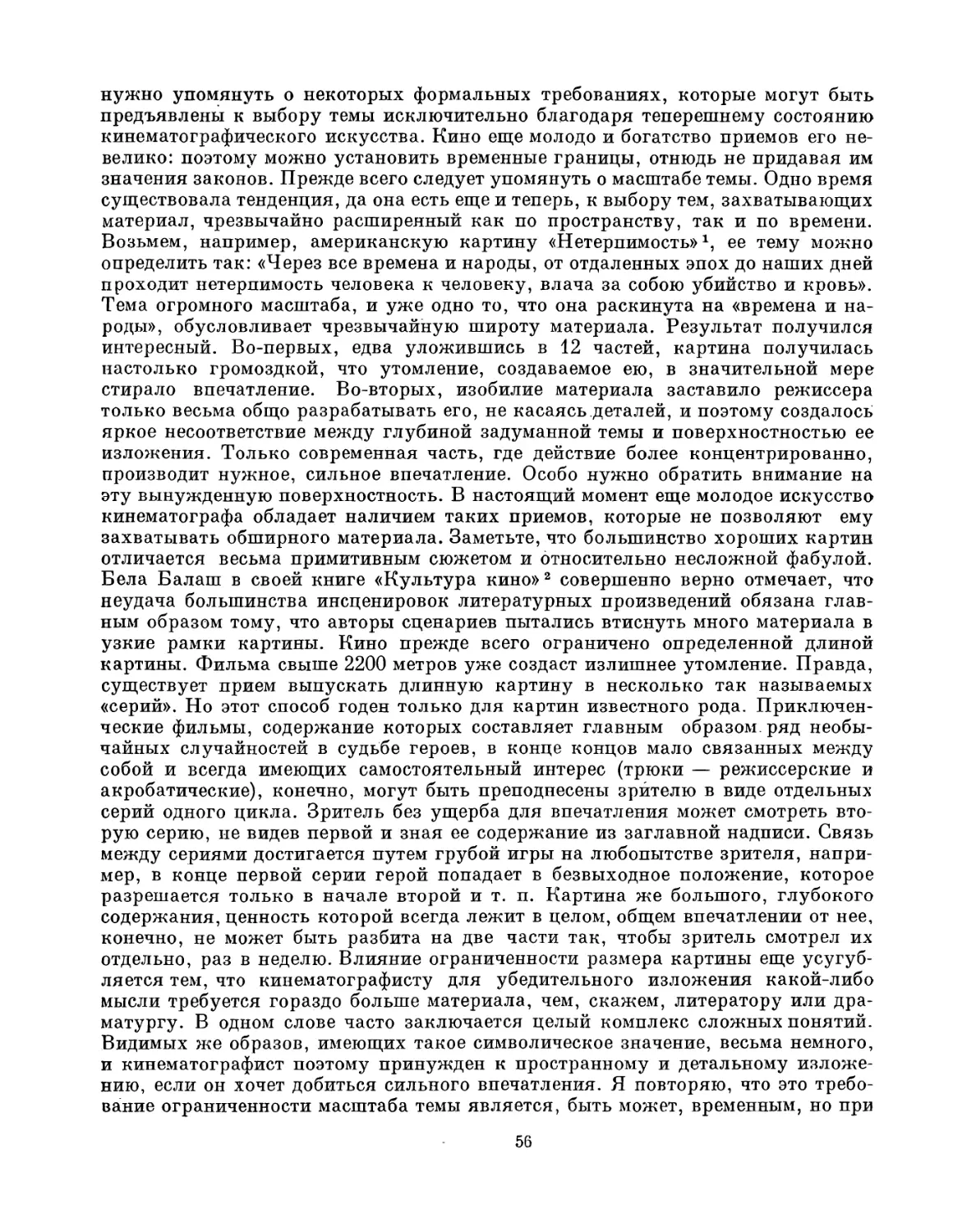
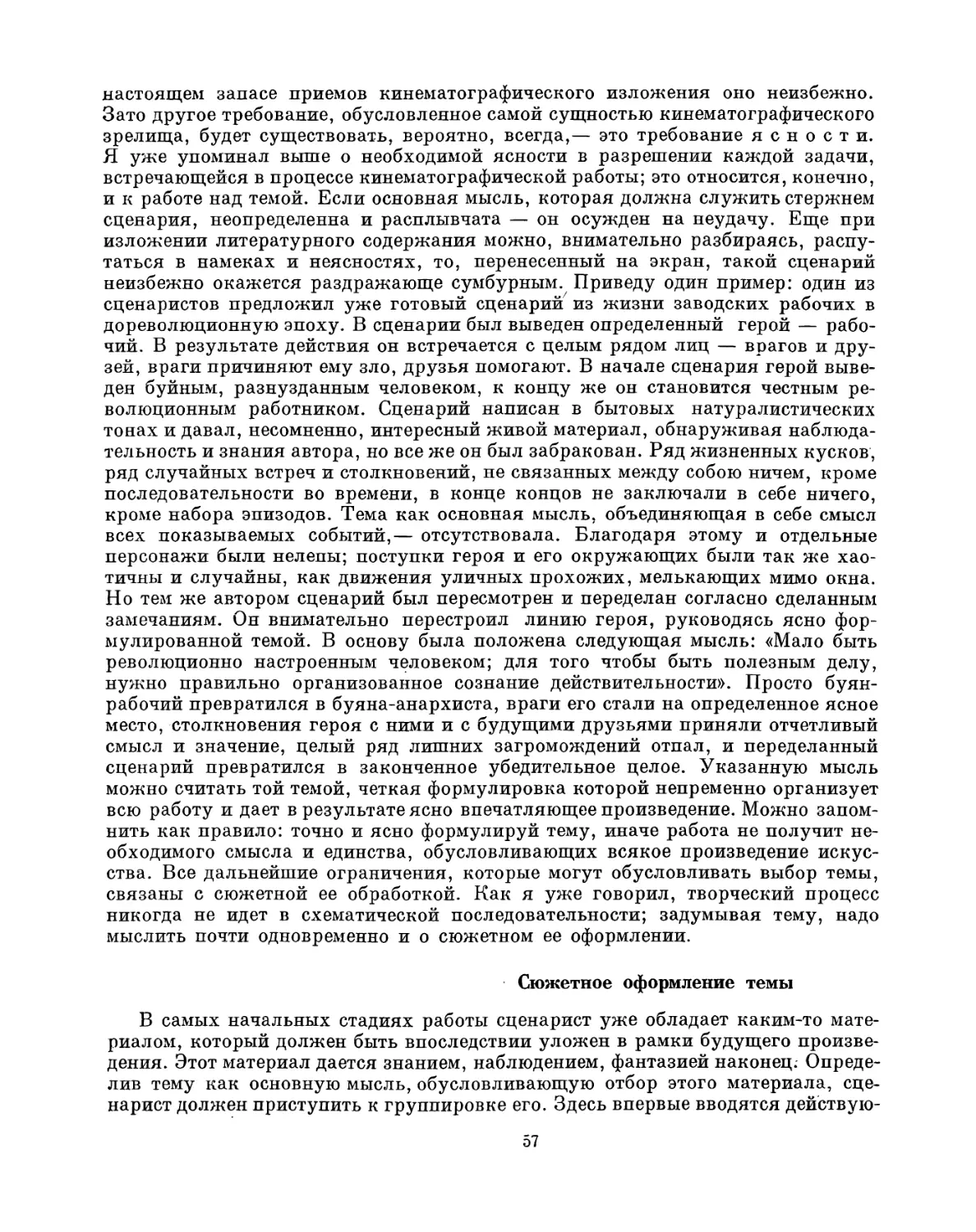











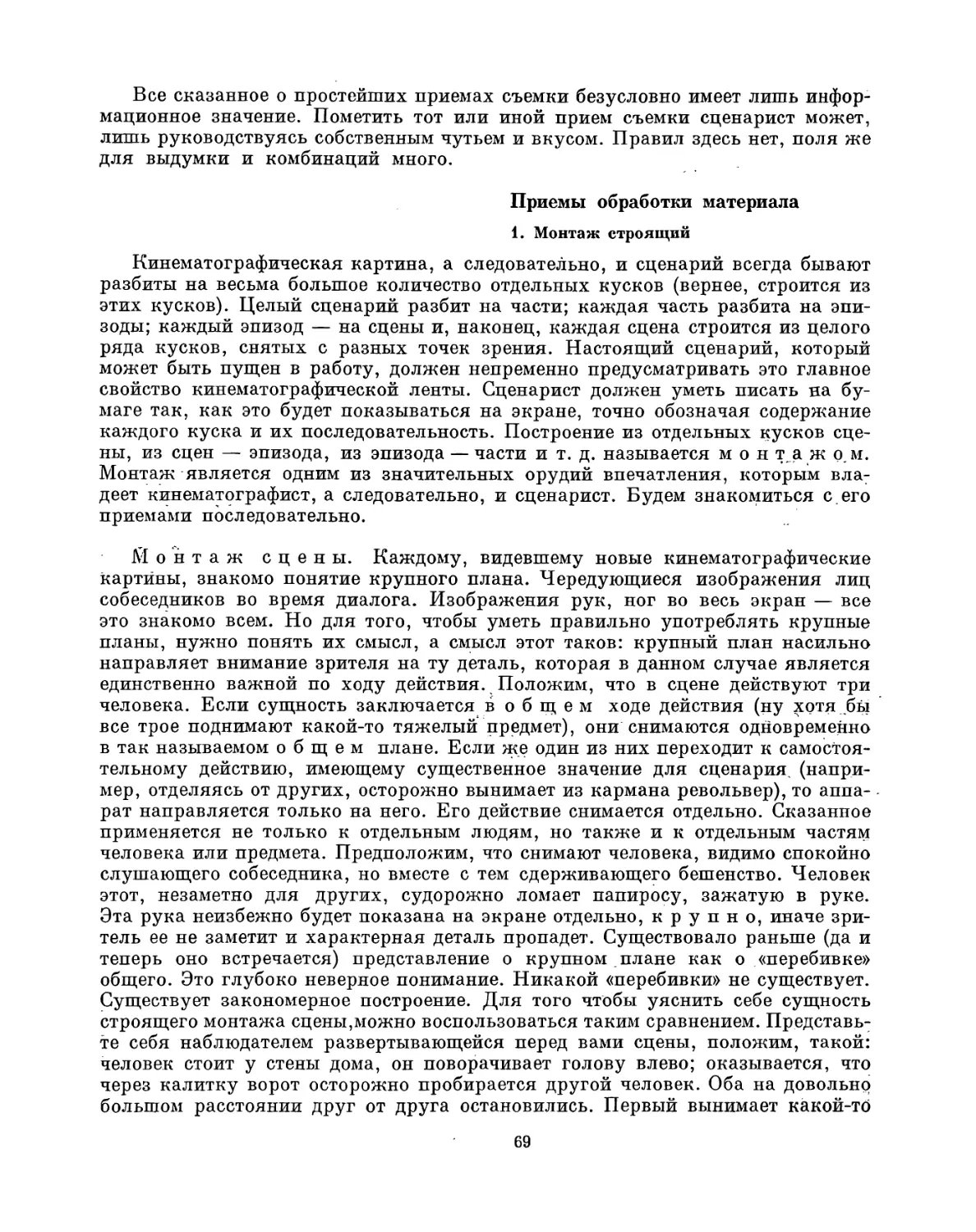









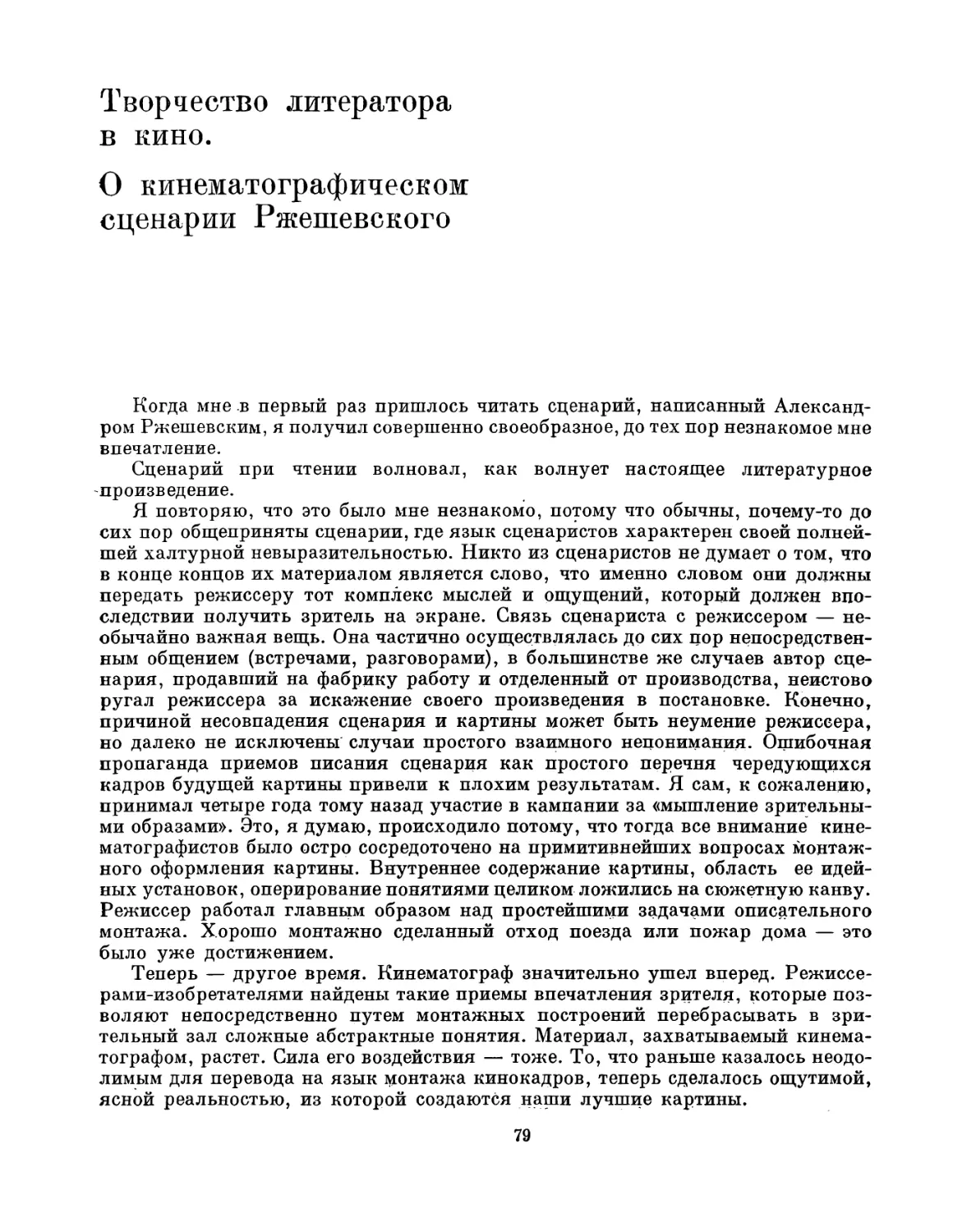







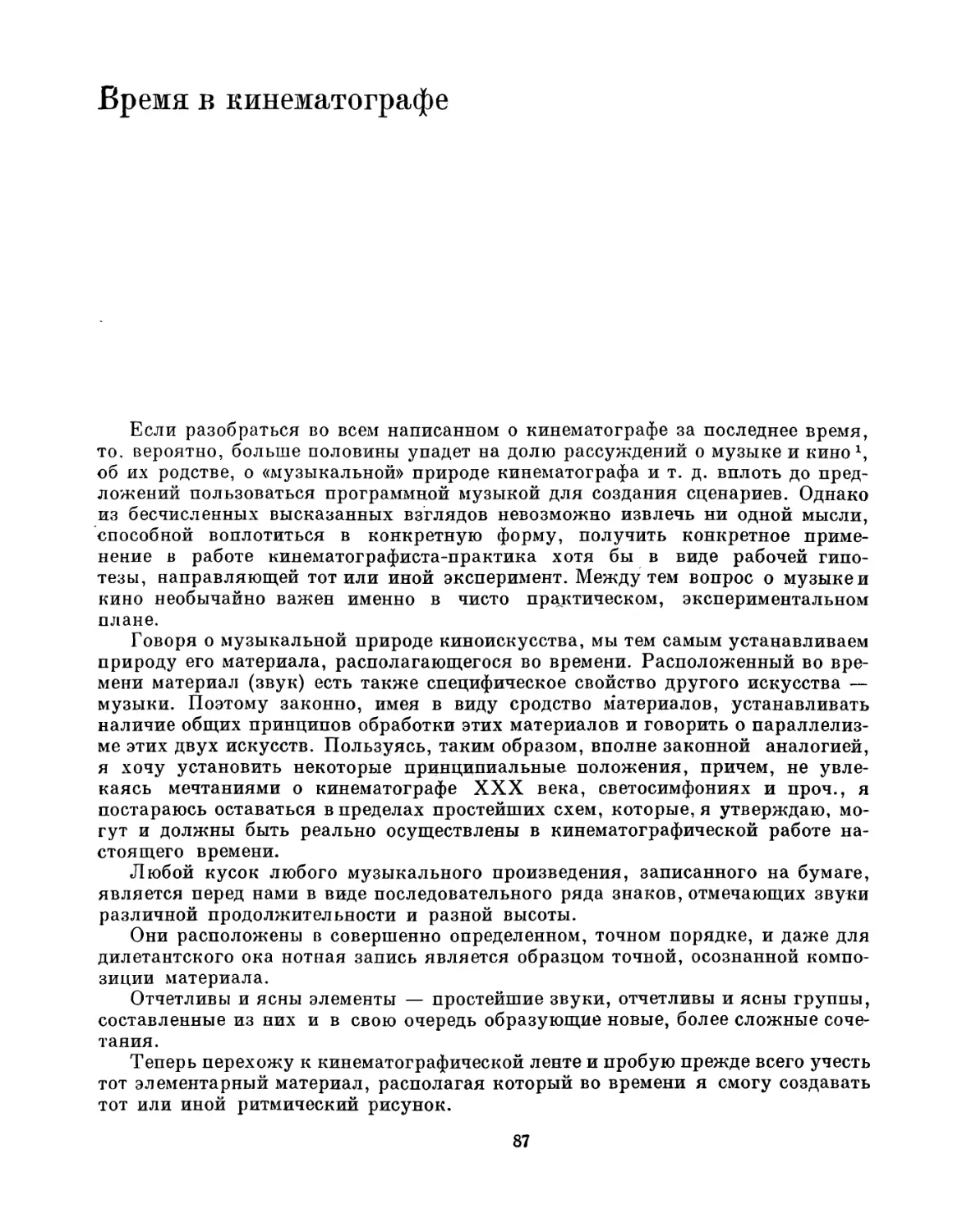


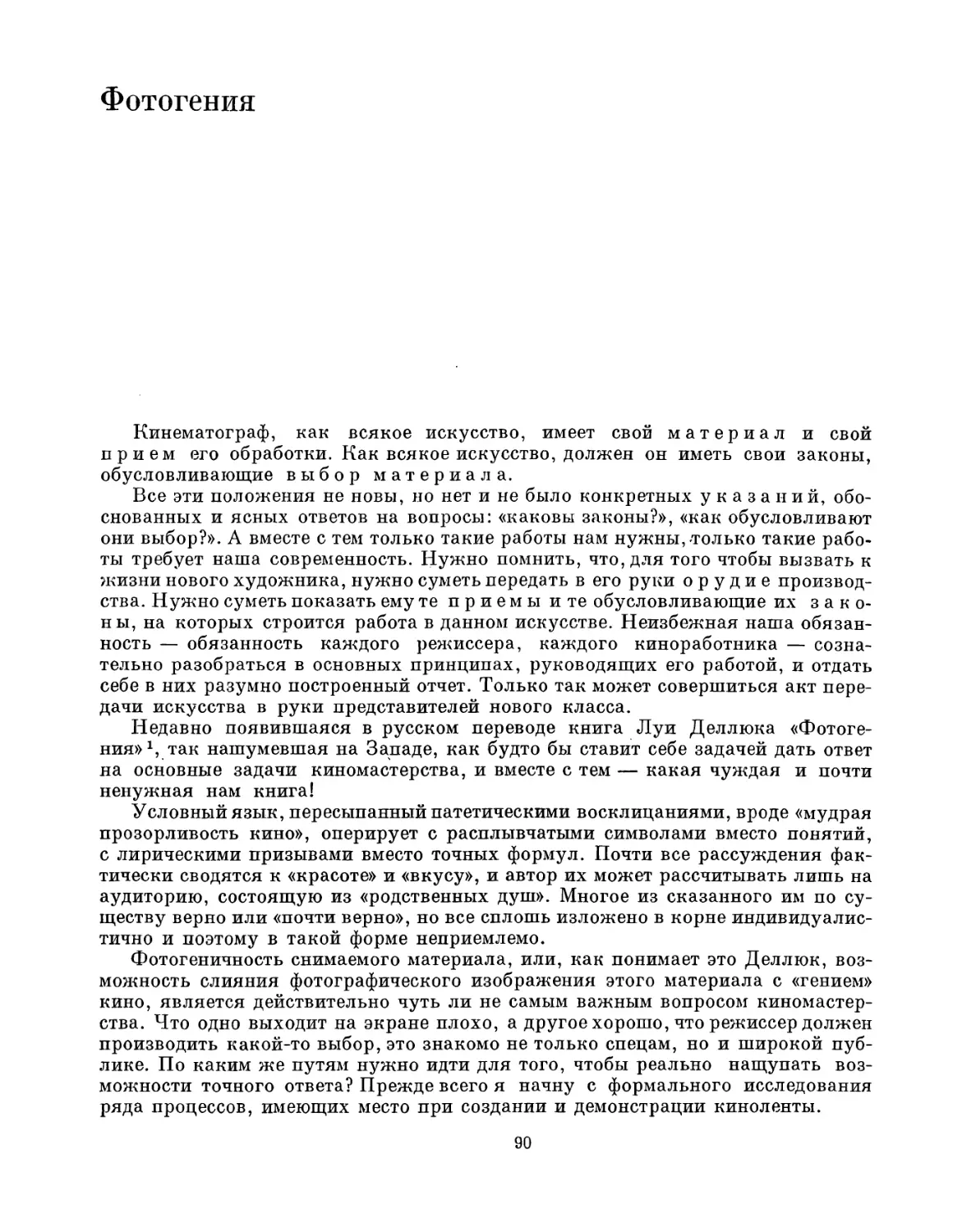




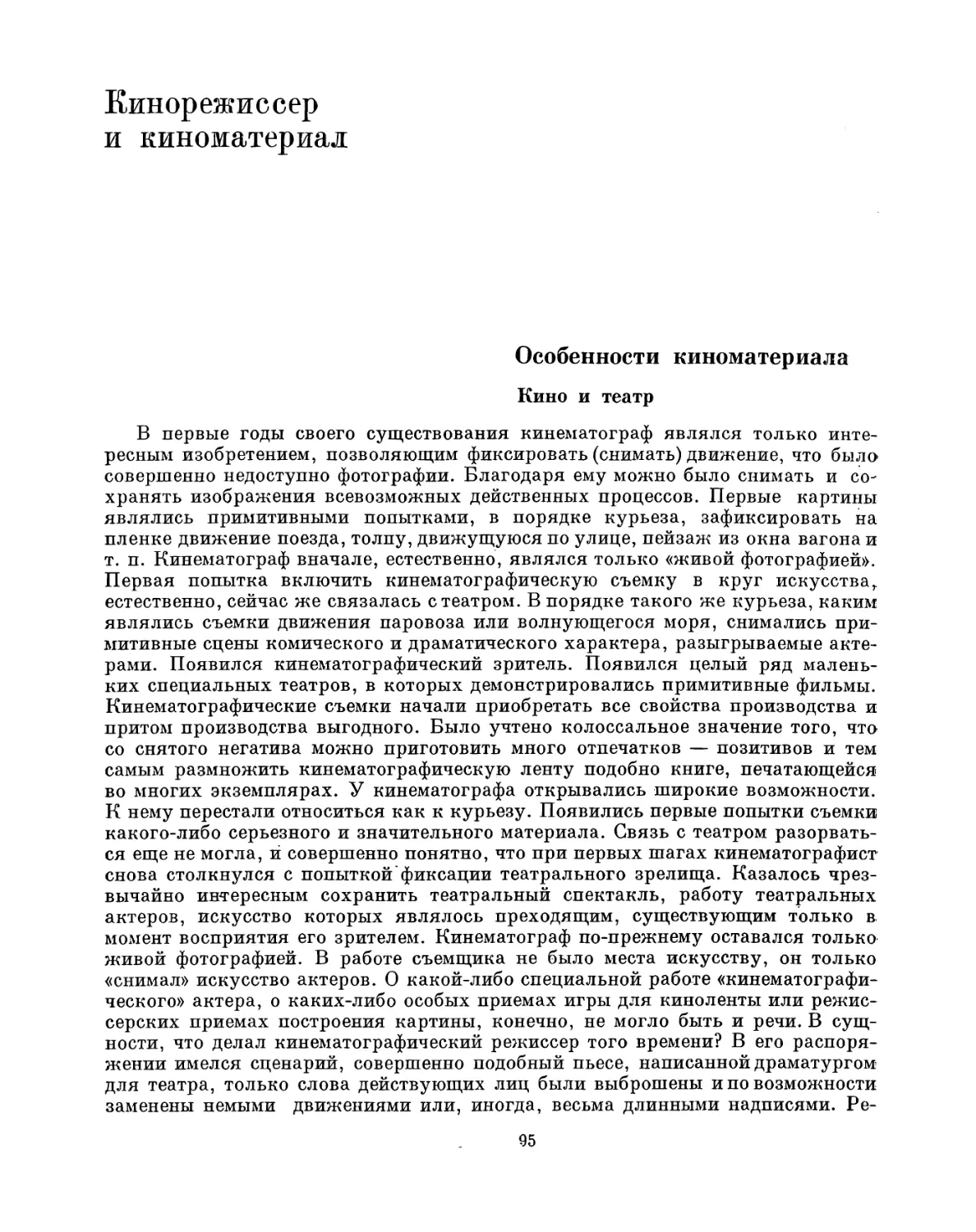











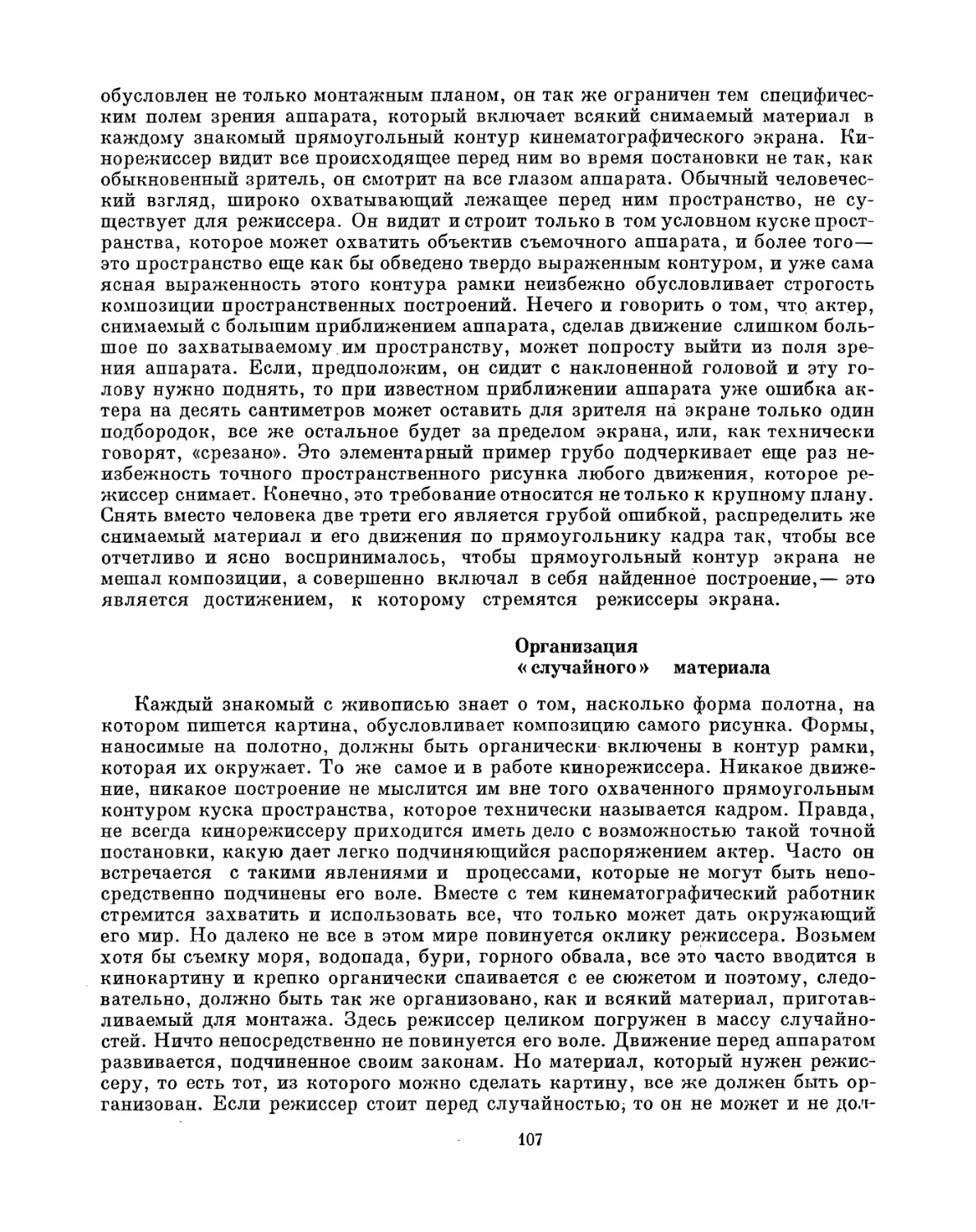



















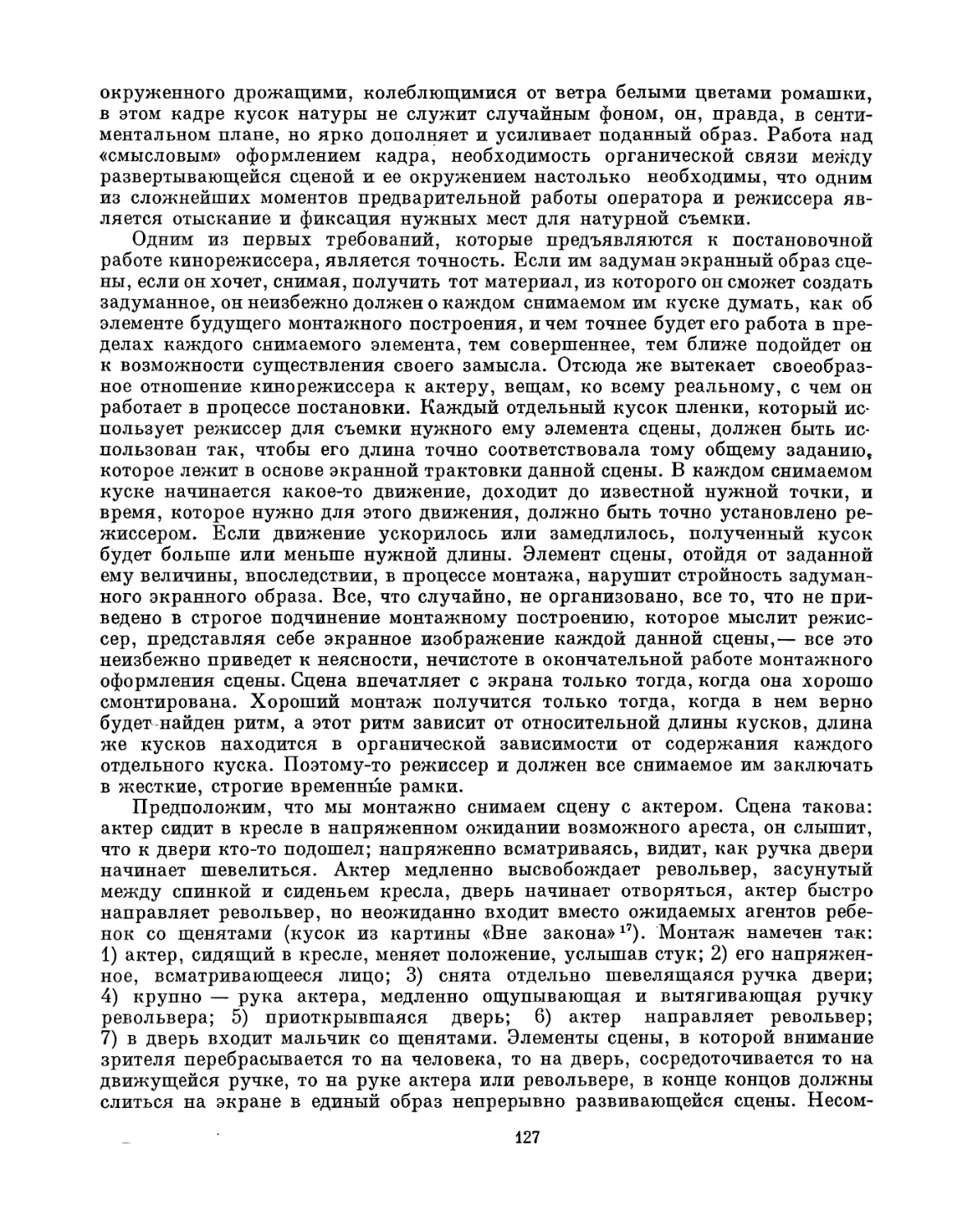


![Предисловие [к немецкому изданию книги «Кинорежиссер и киноматериал»]](https://djvu.online/jpg1/u/M/3/uM39hn0Z9pIKO/134.webp)


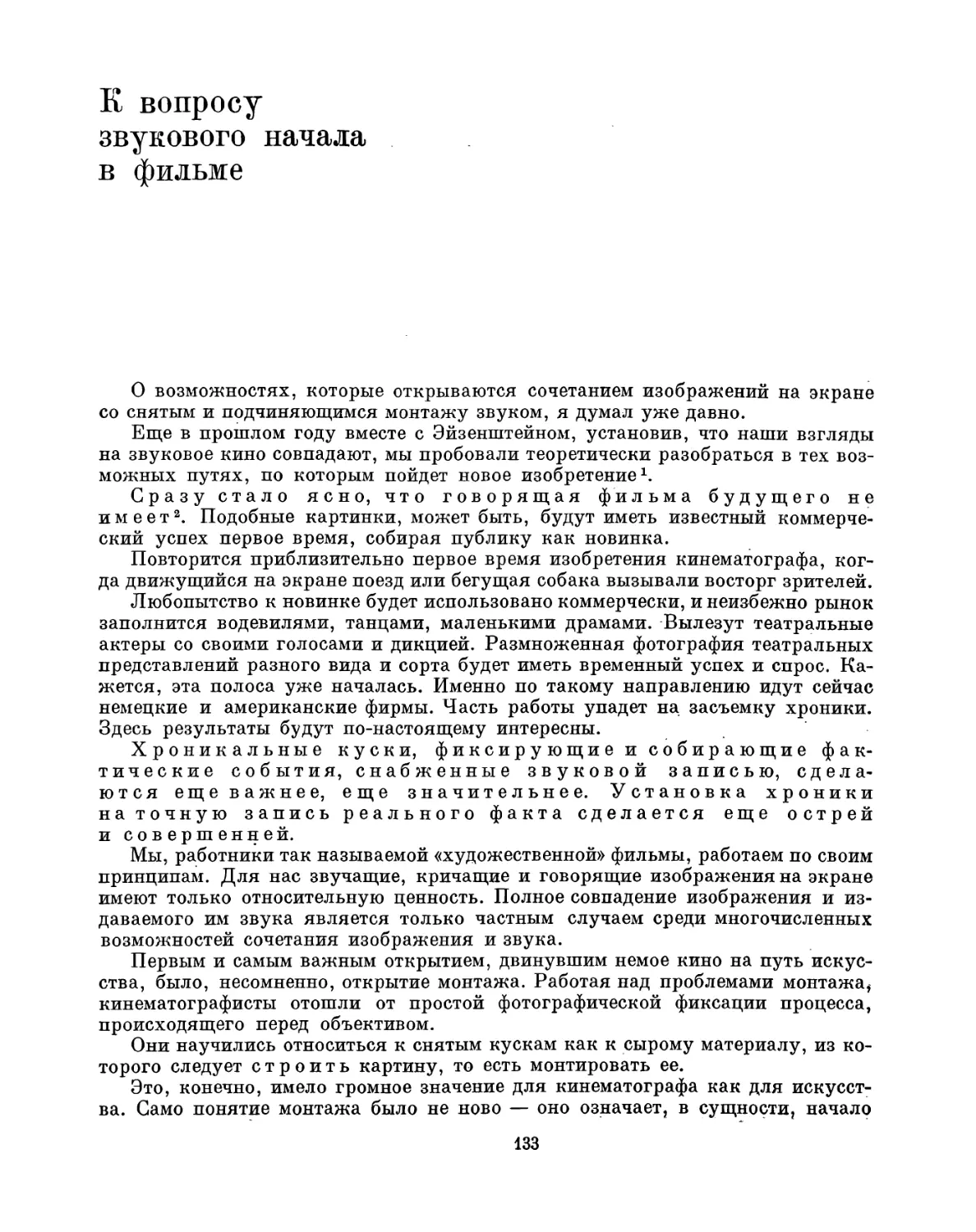



![[Разговор с Пудовкиным о звучащем кино]](https://djvu.online/jpg1/u/M/3/uM39hn0Z9pIKO/141.webp)



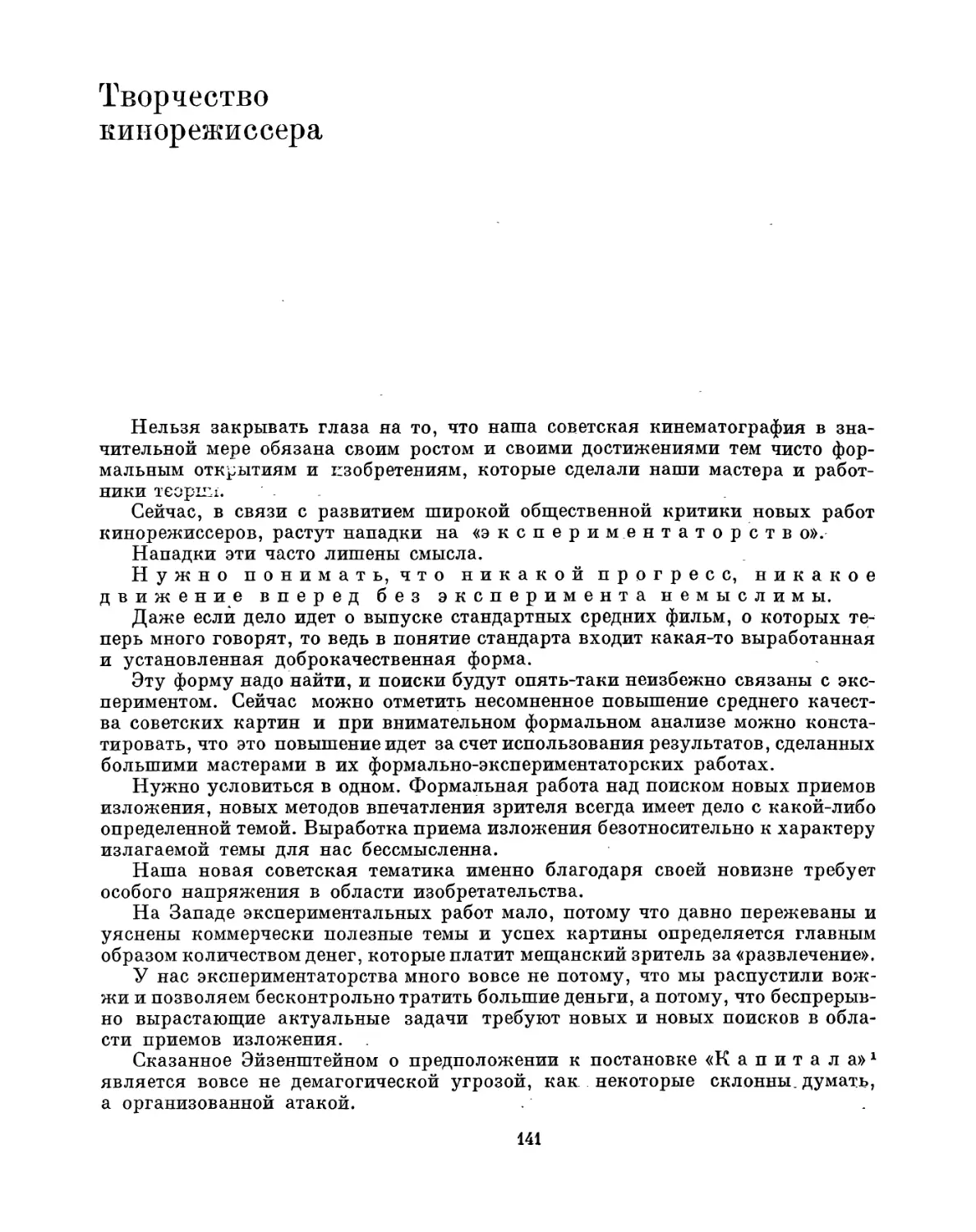




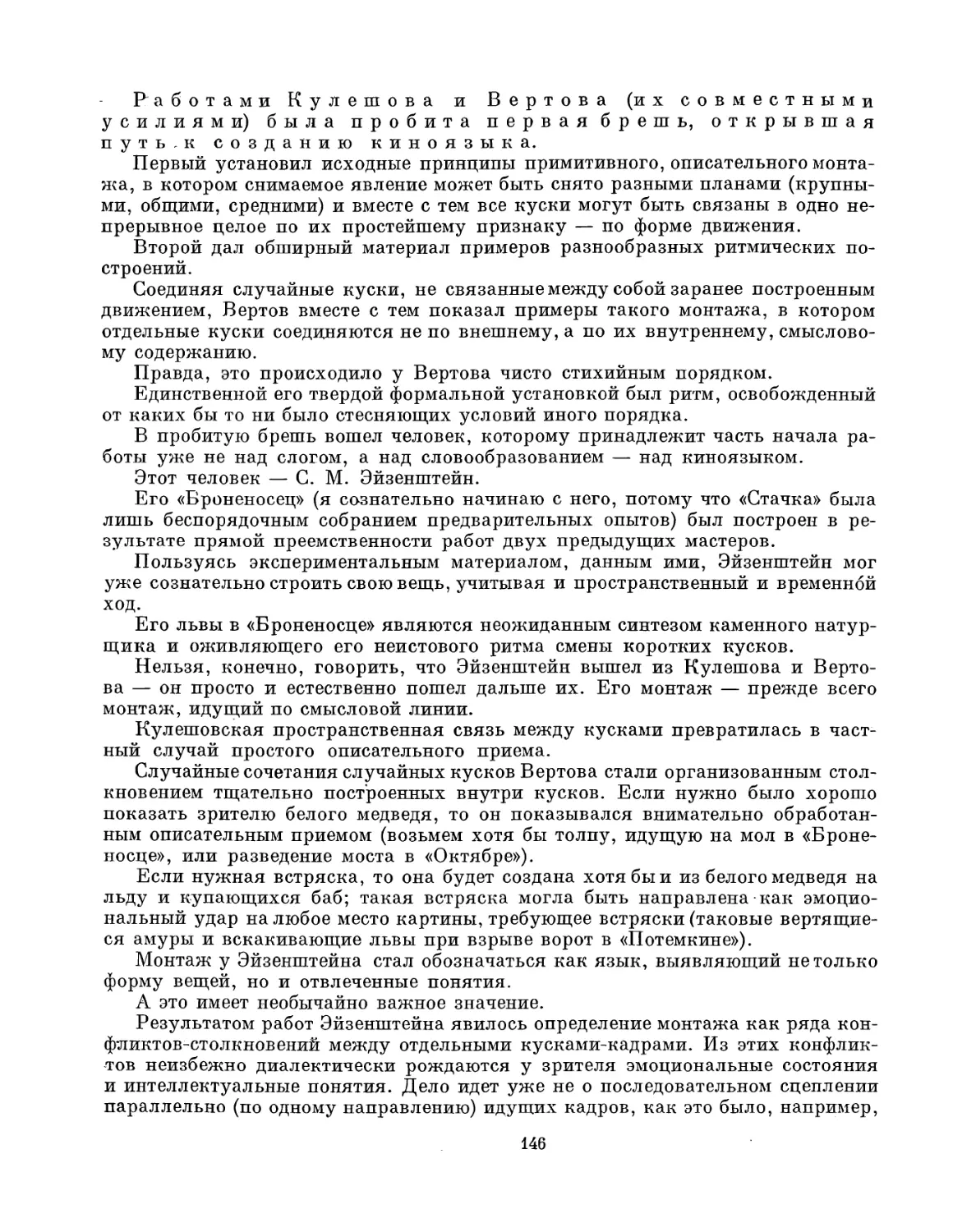

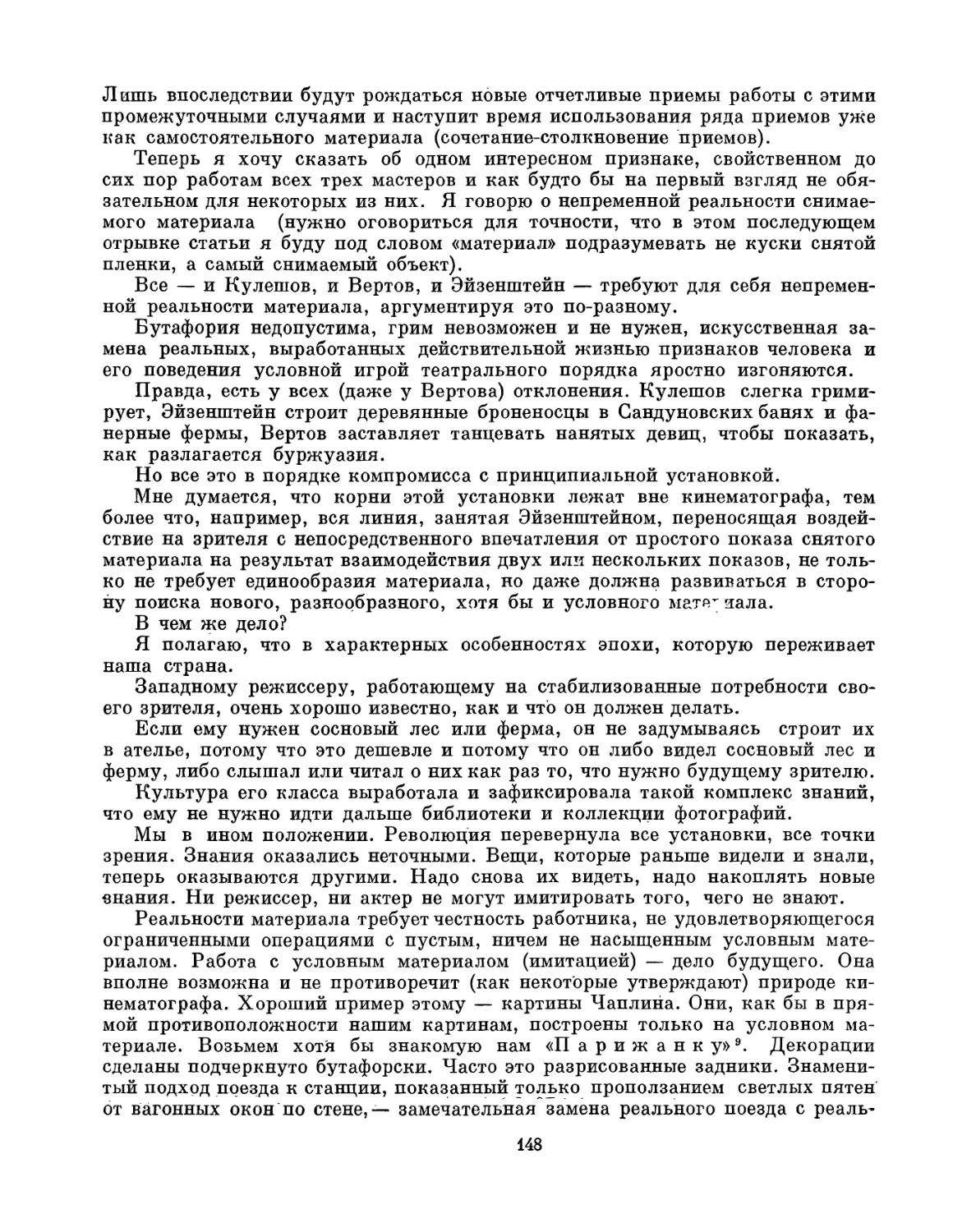


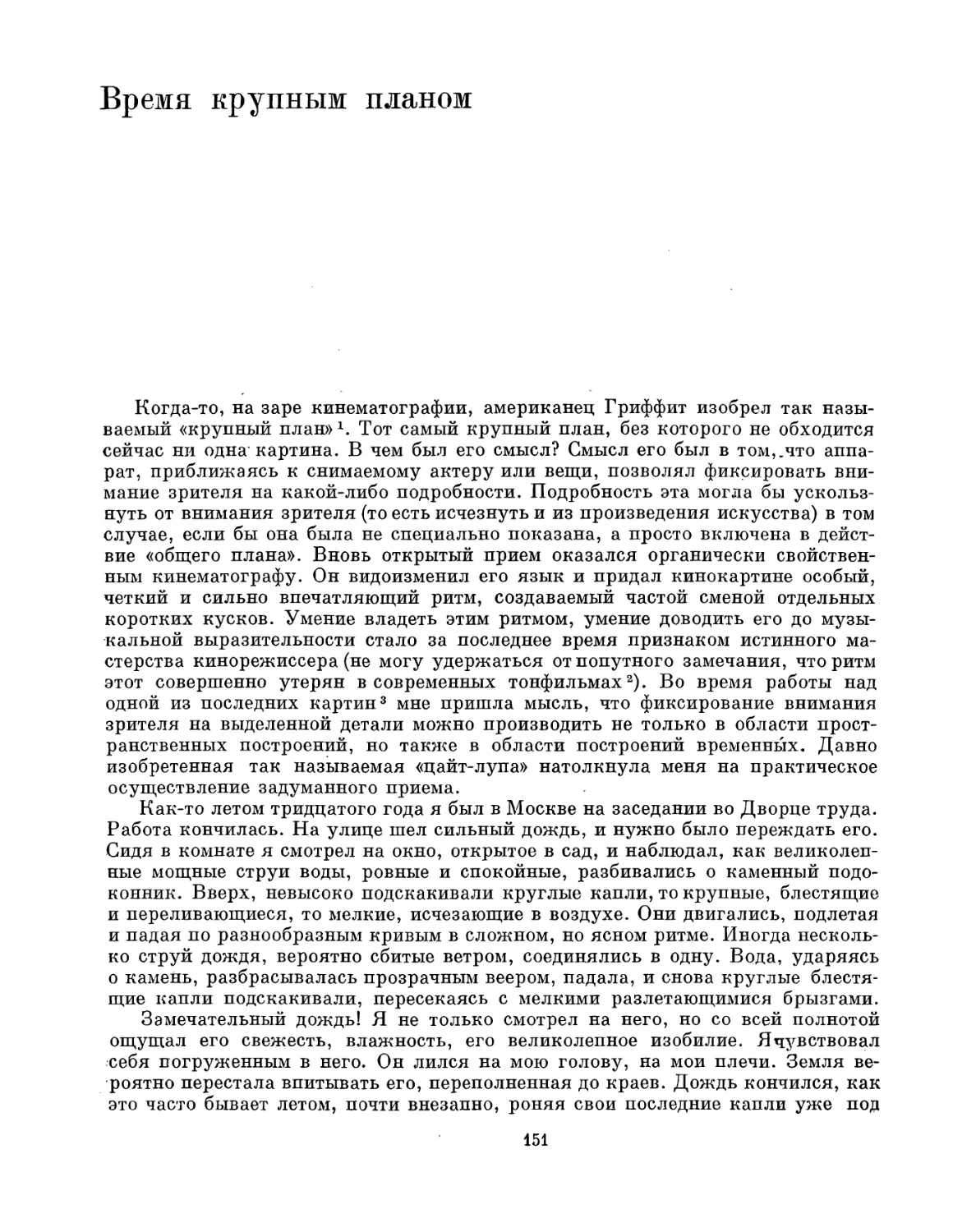
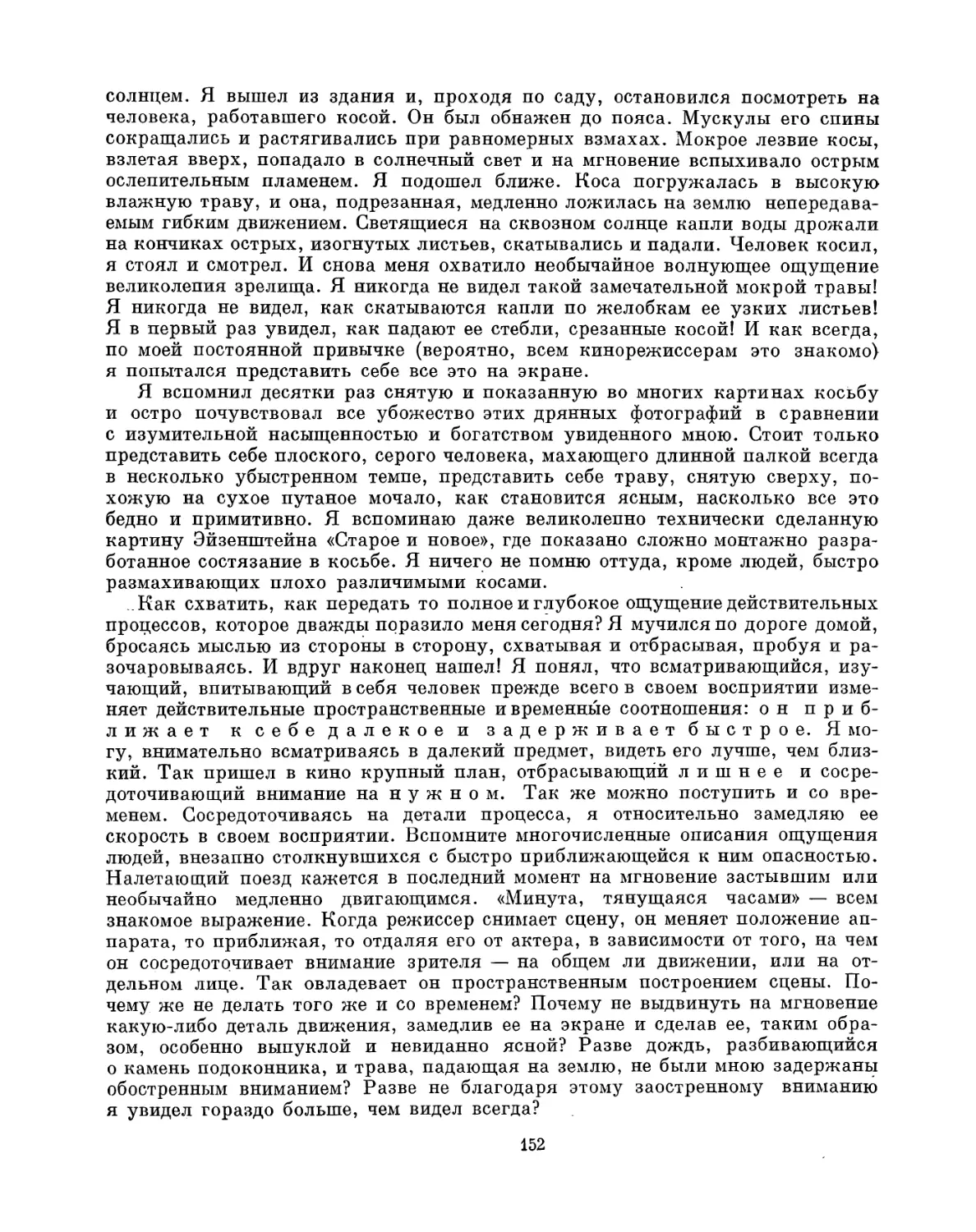


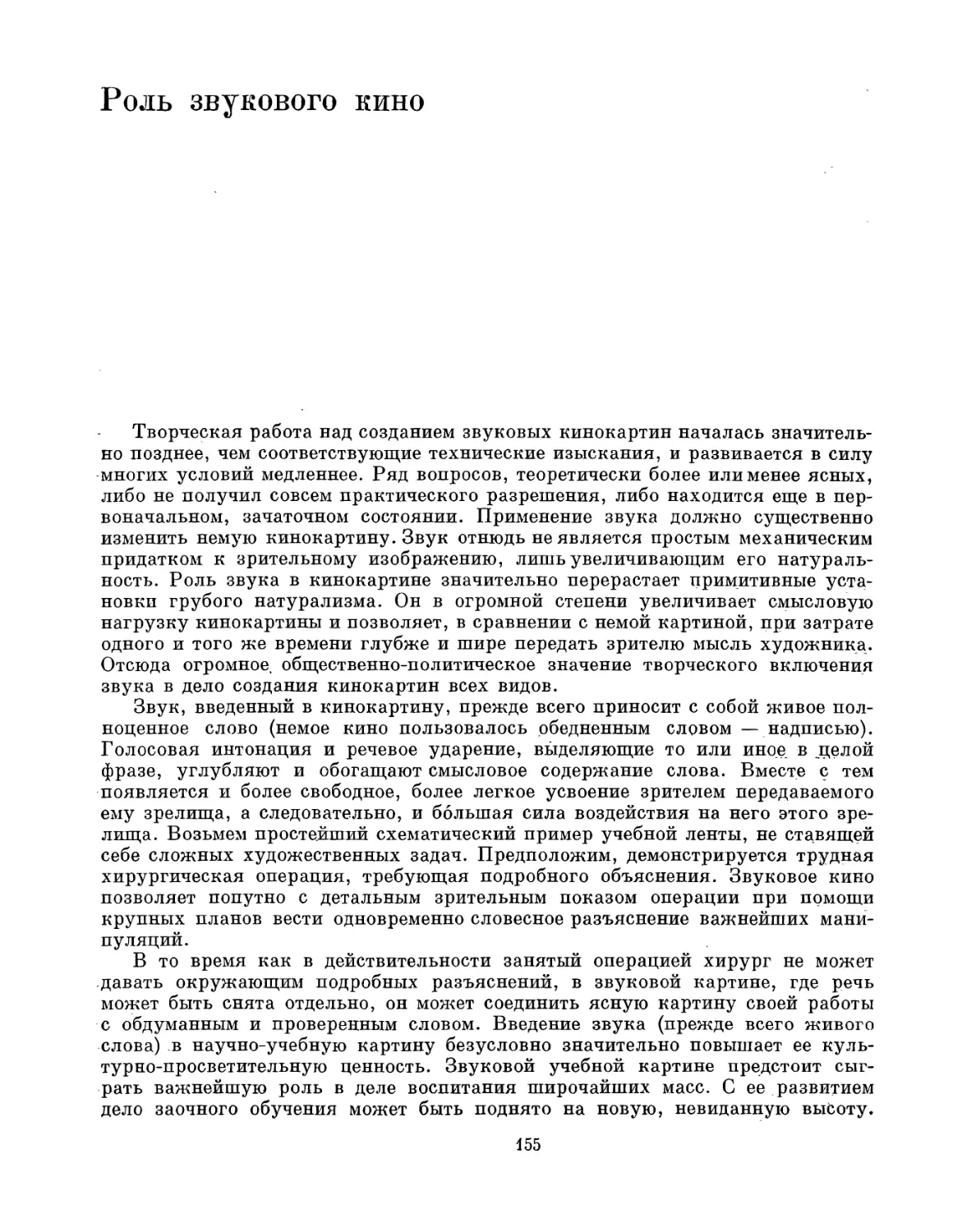


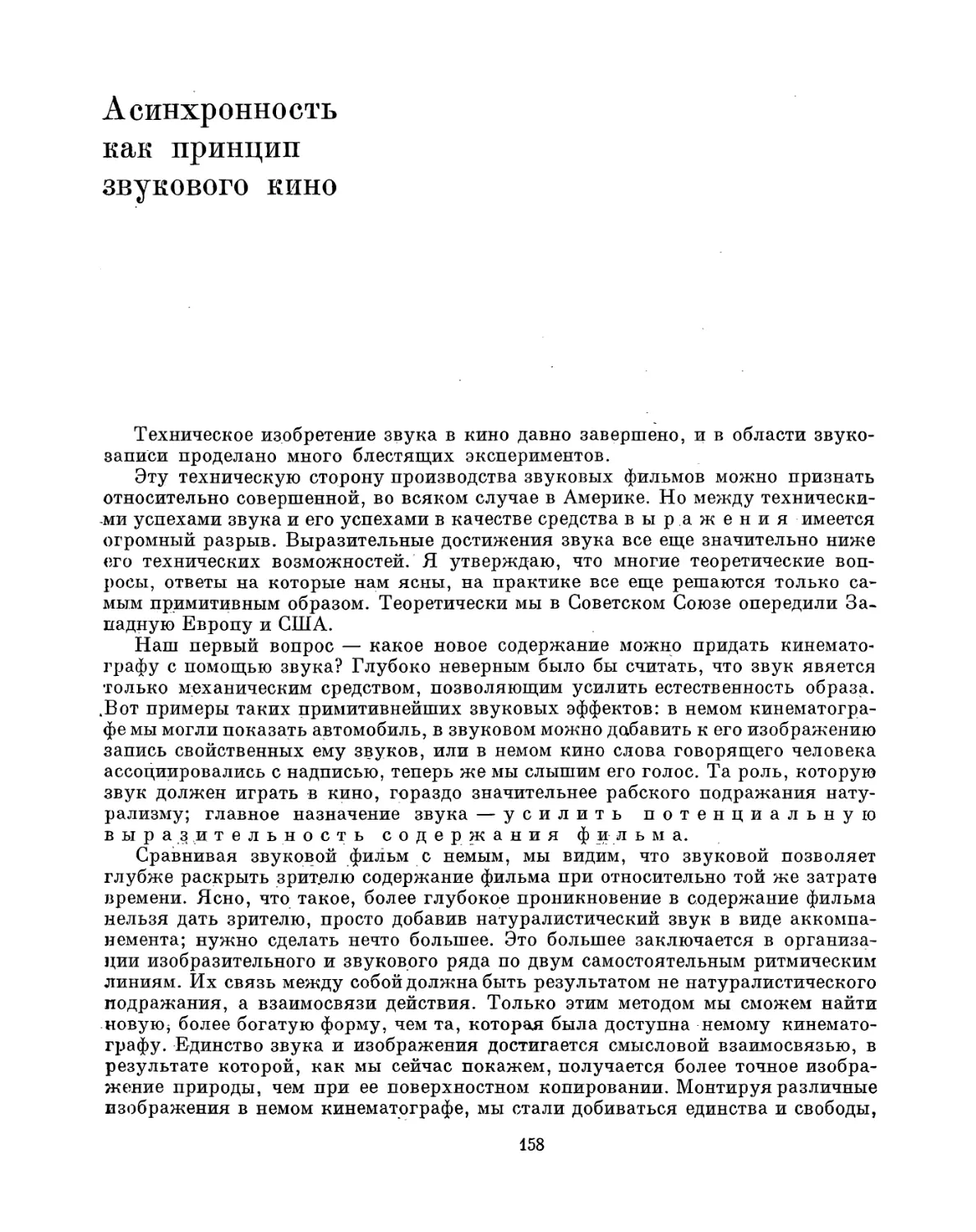




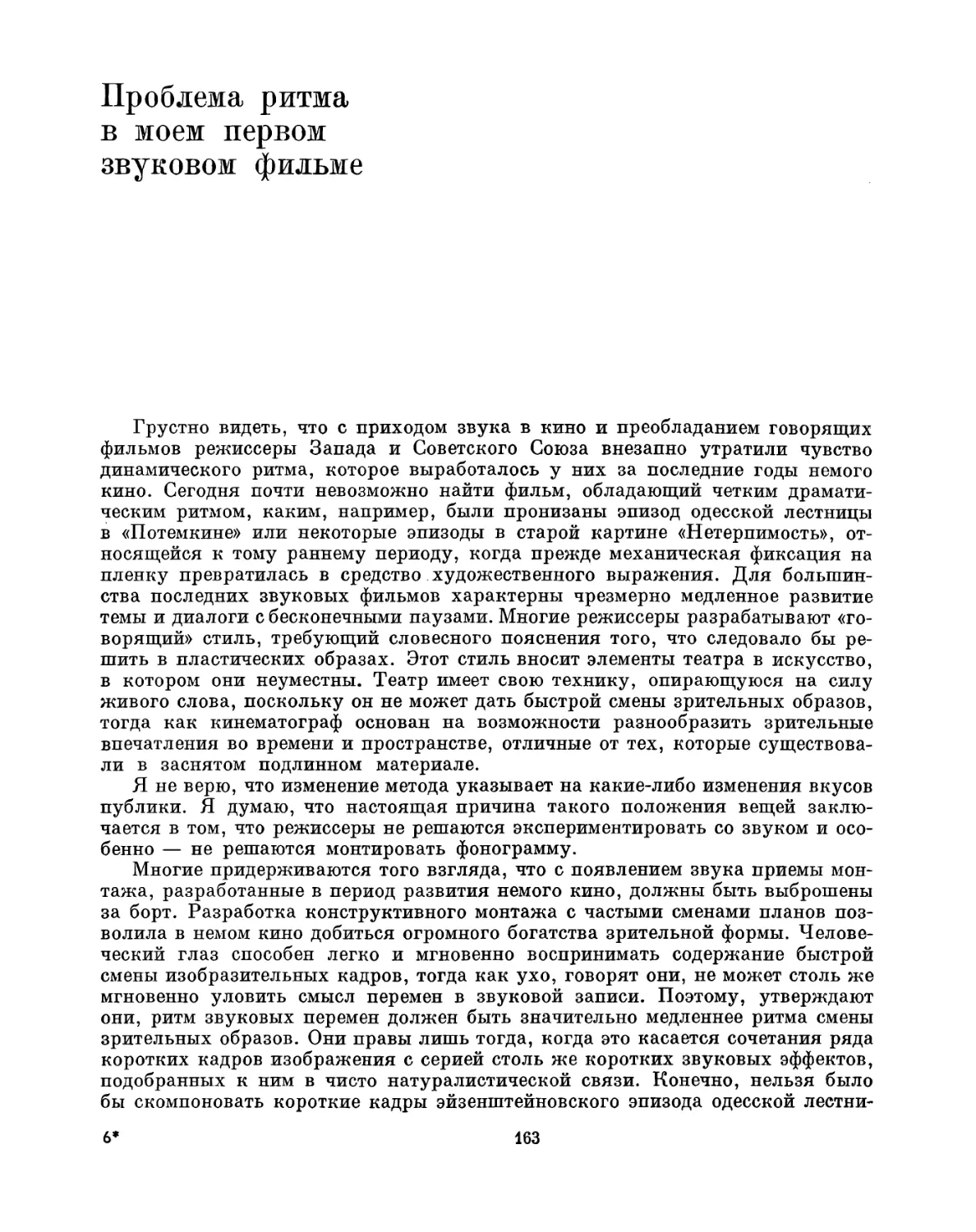



![[О монтаже]](https://djvu.online/jpg1/u/M/3/uM39hn0Z9pIKO/171.webp)


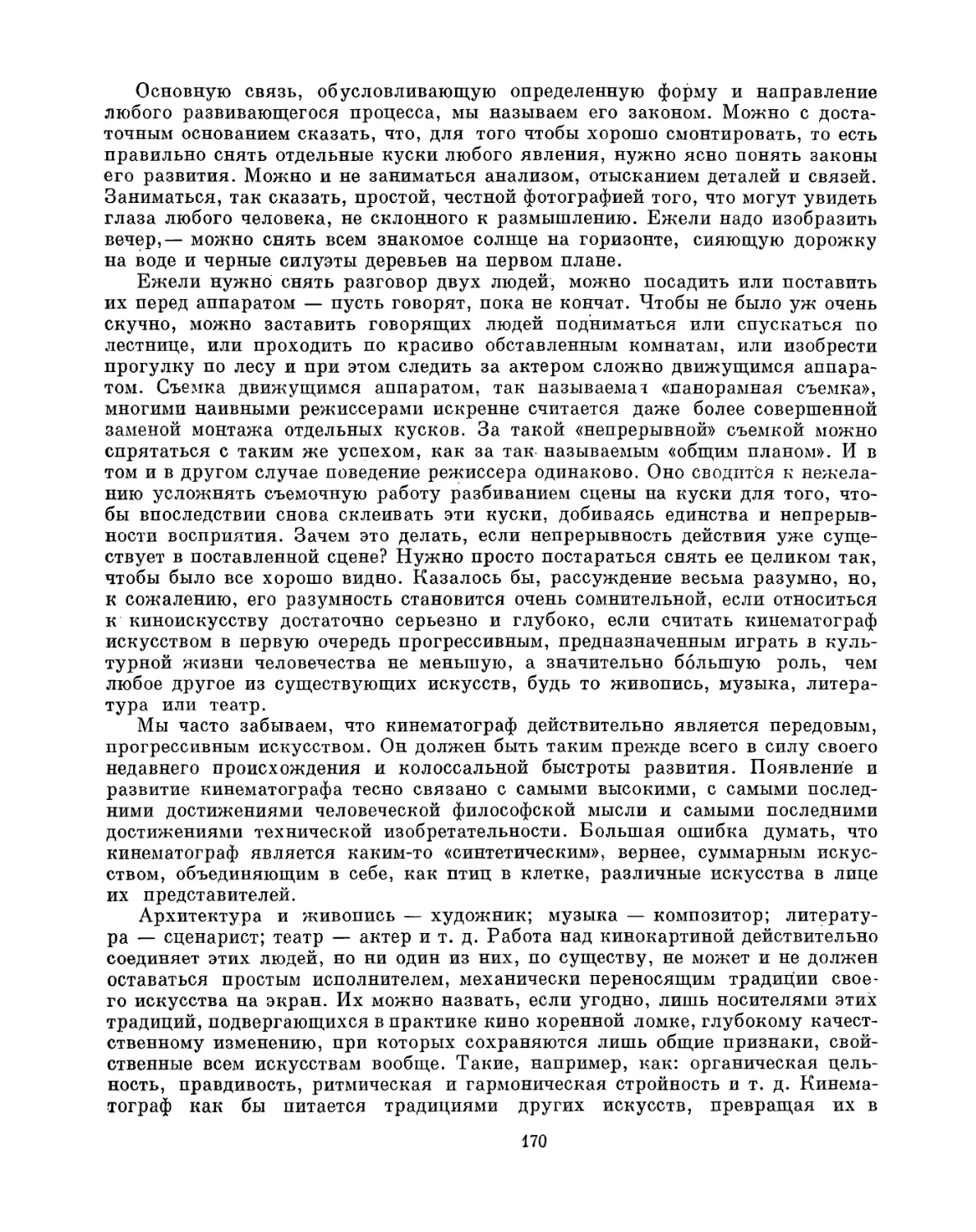






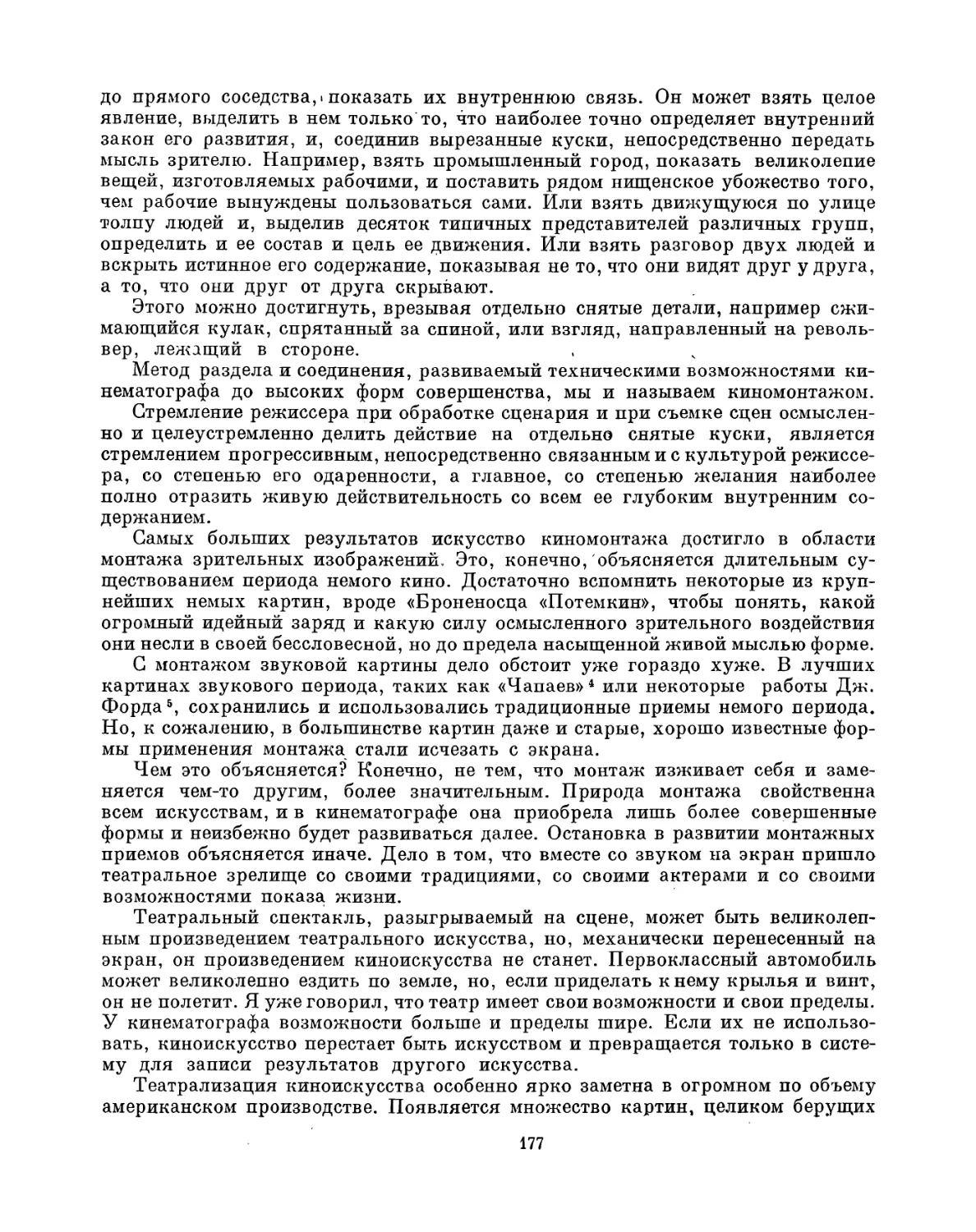






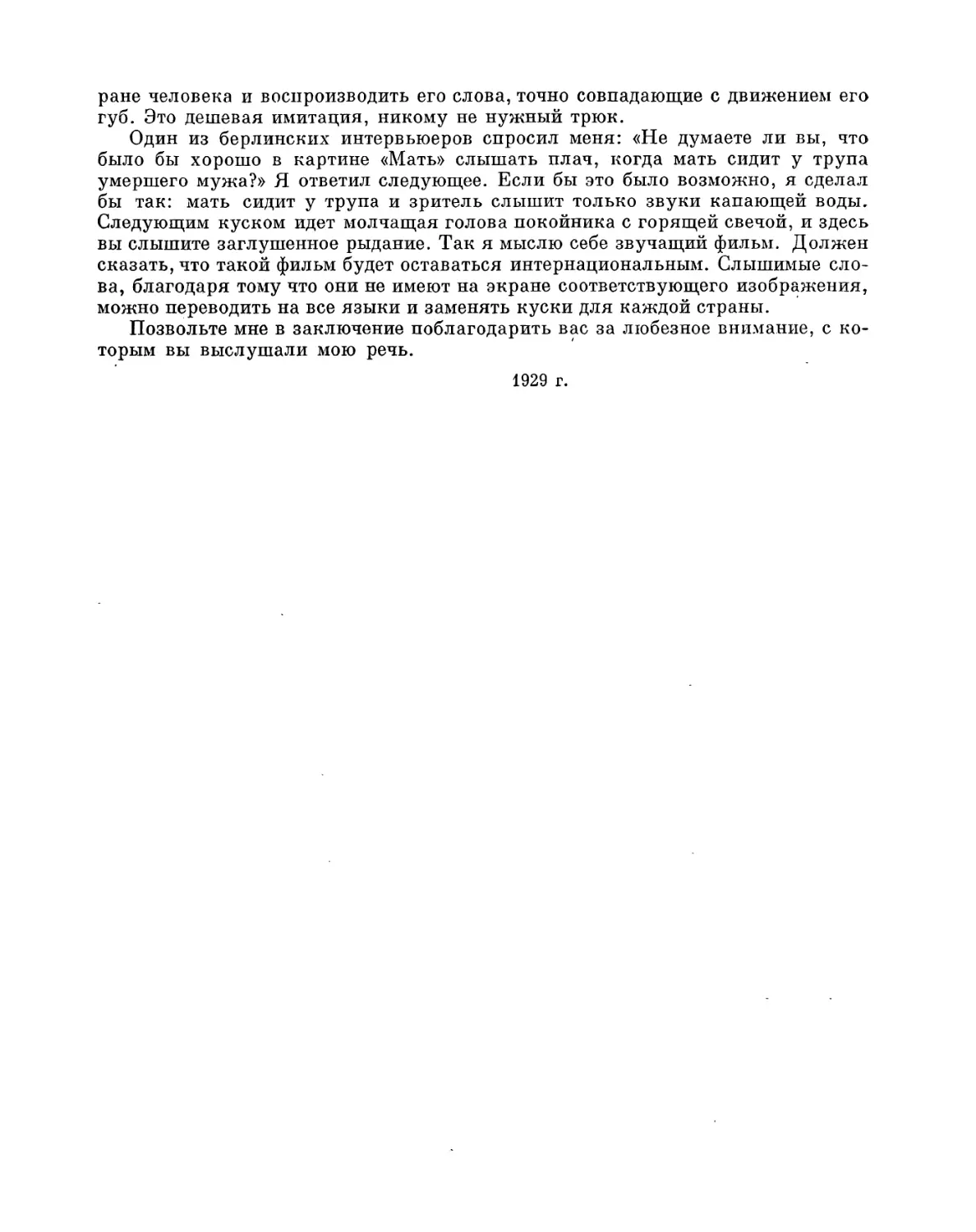
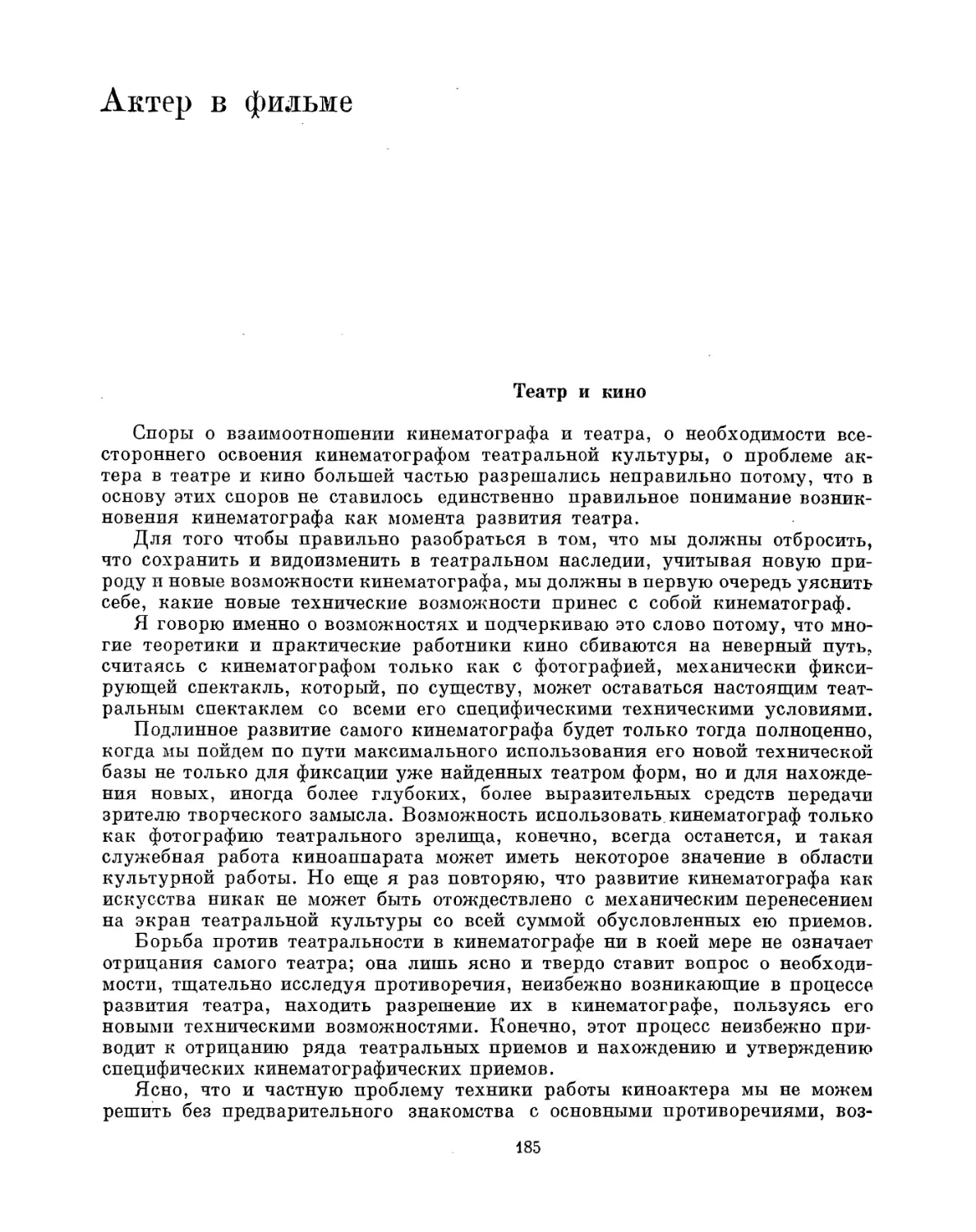











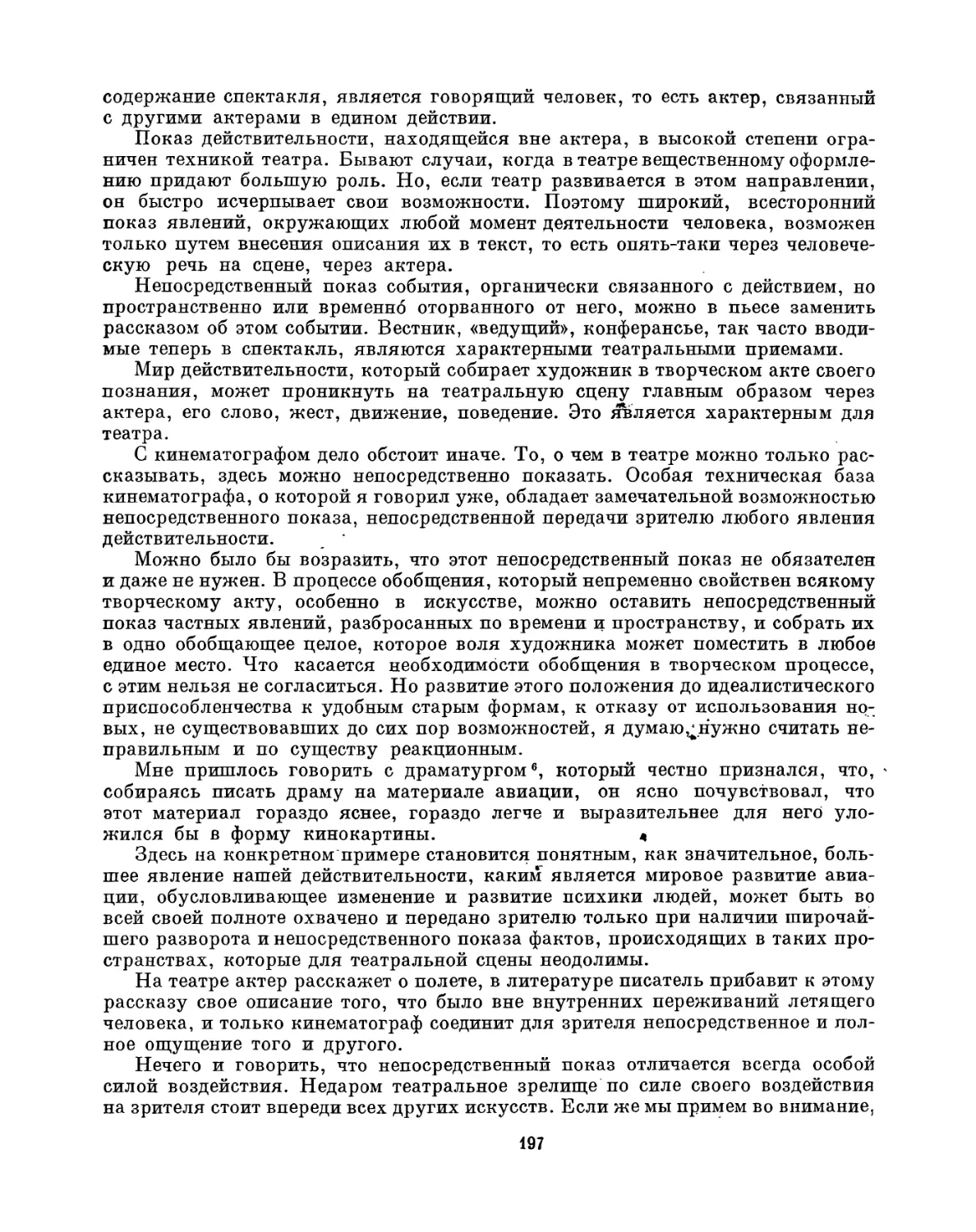





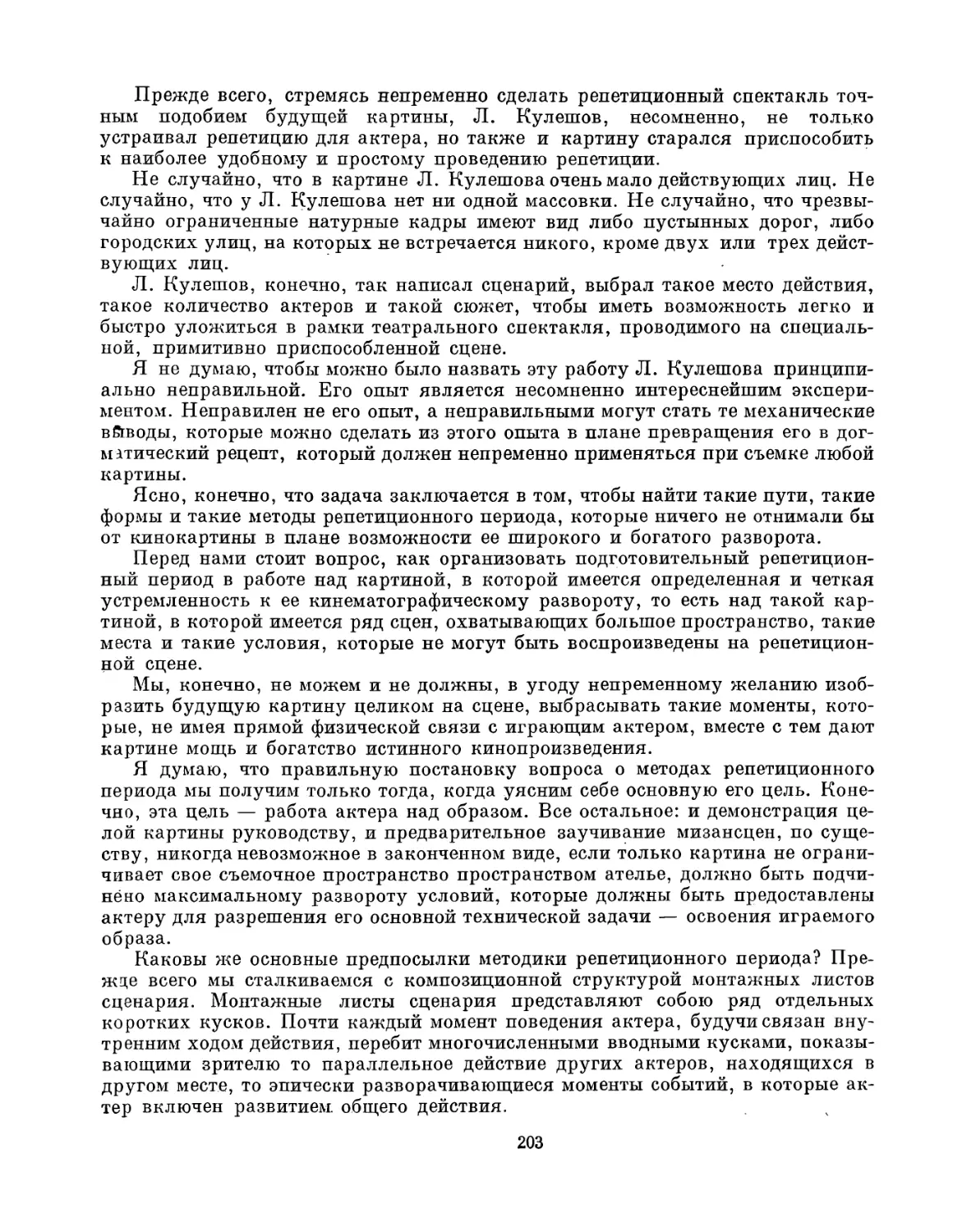



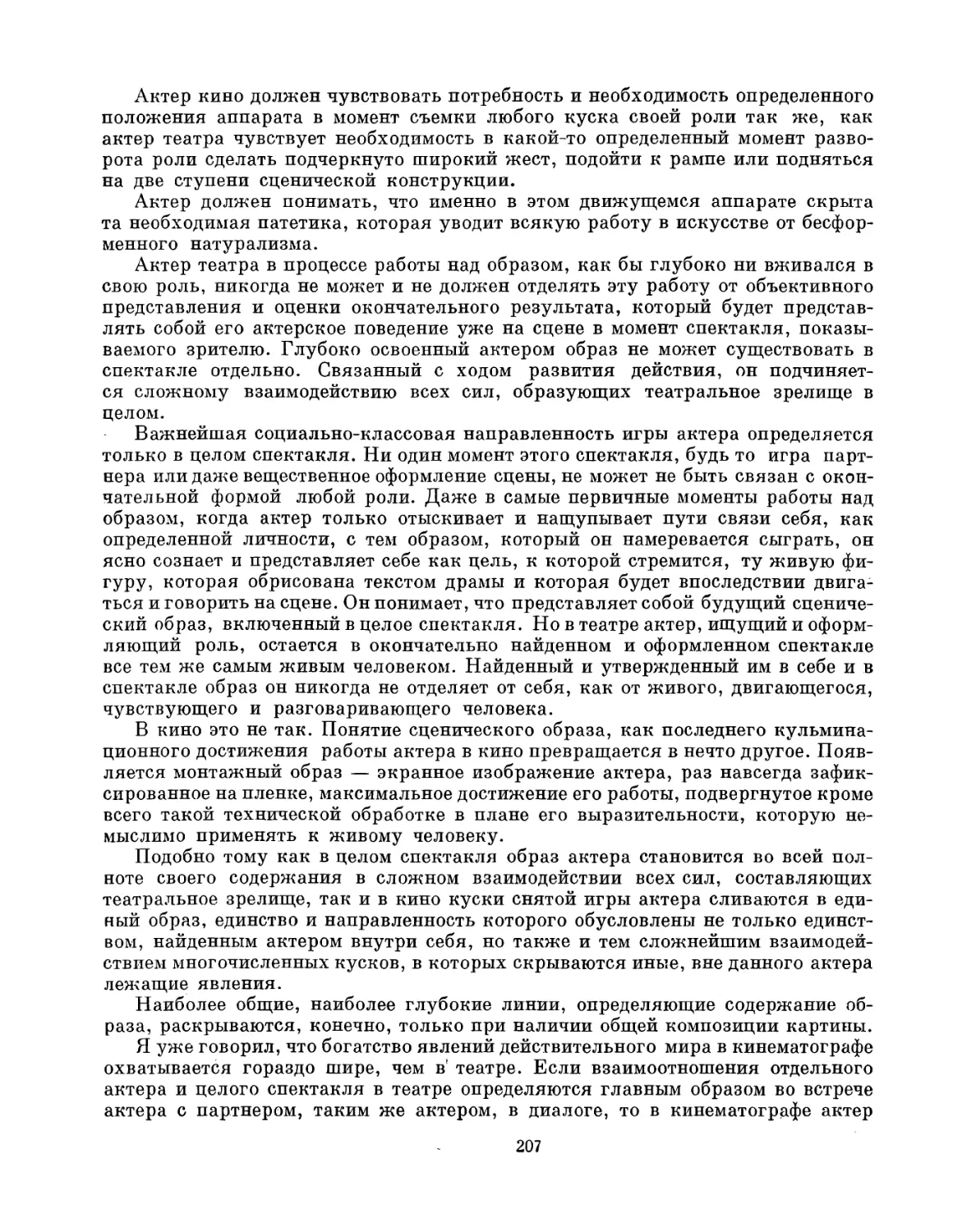



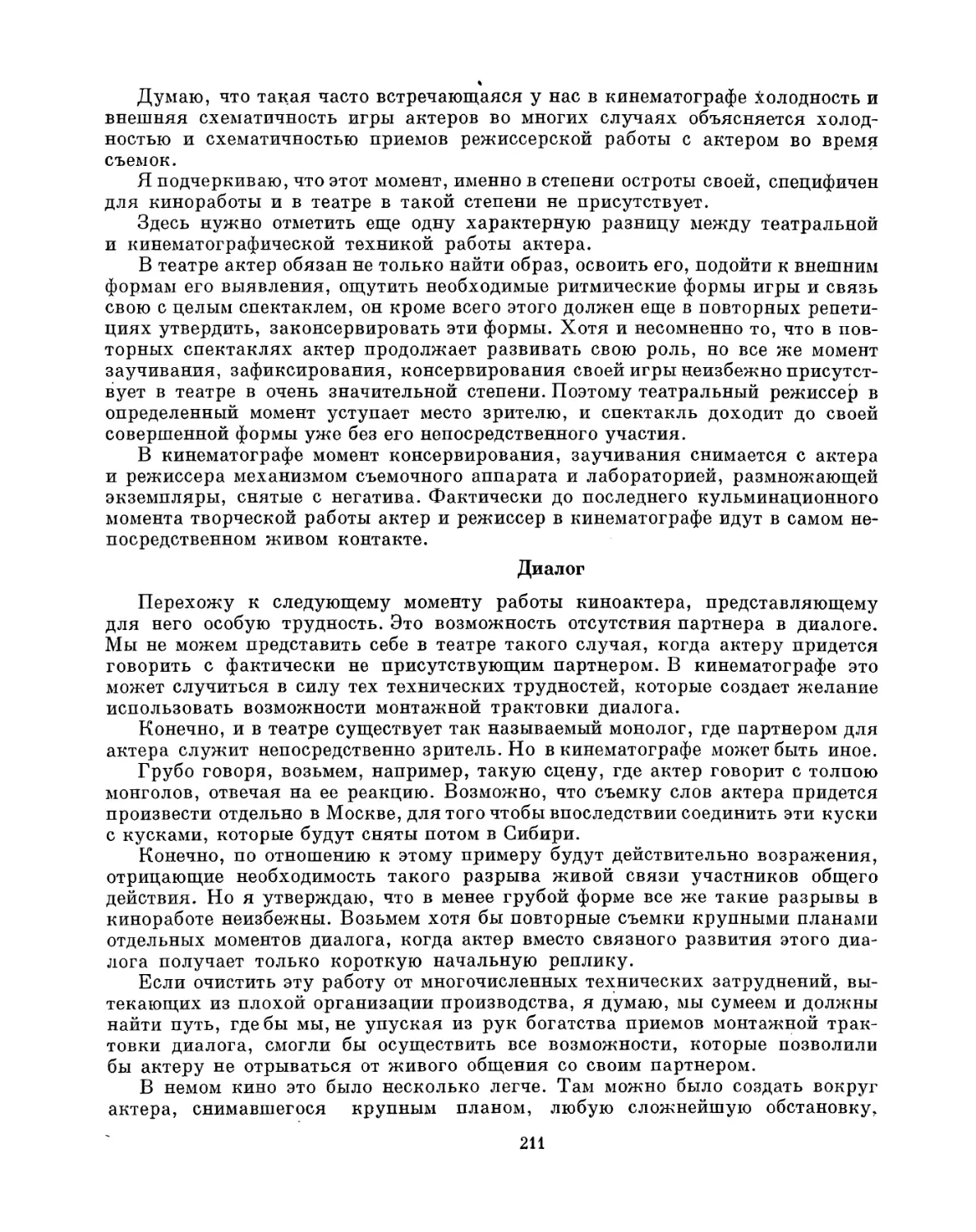




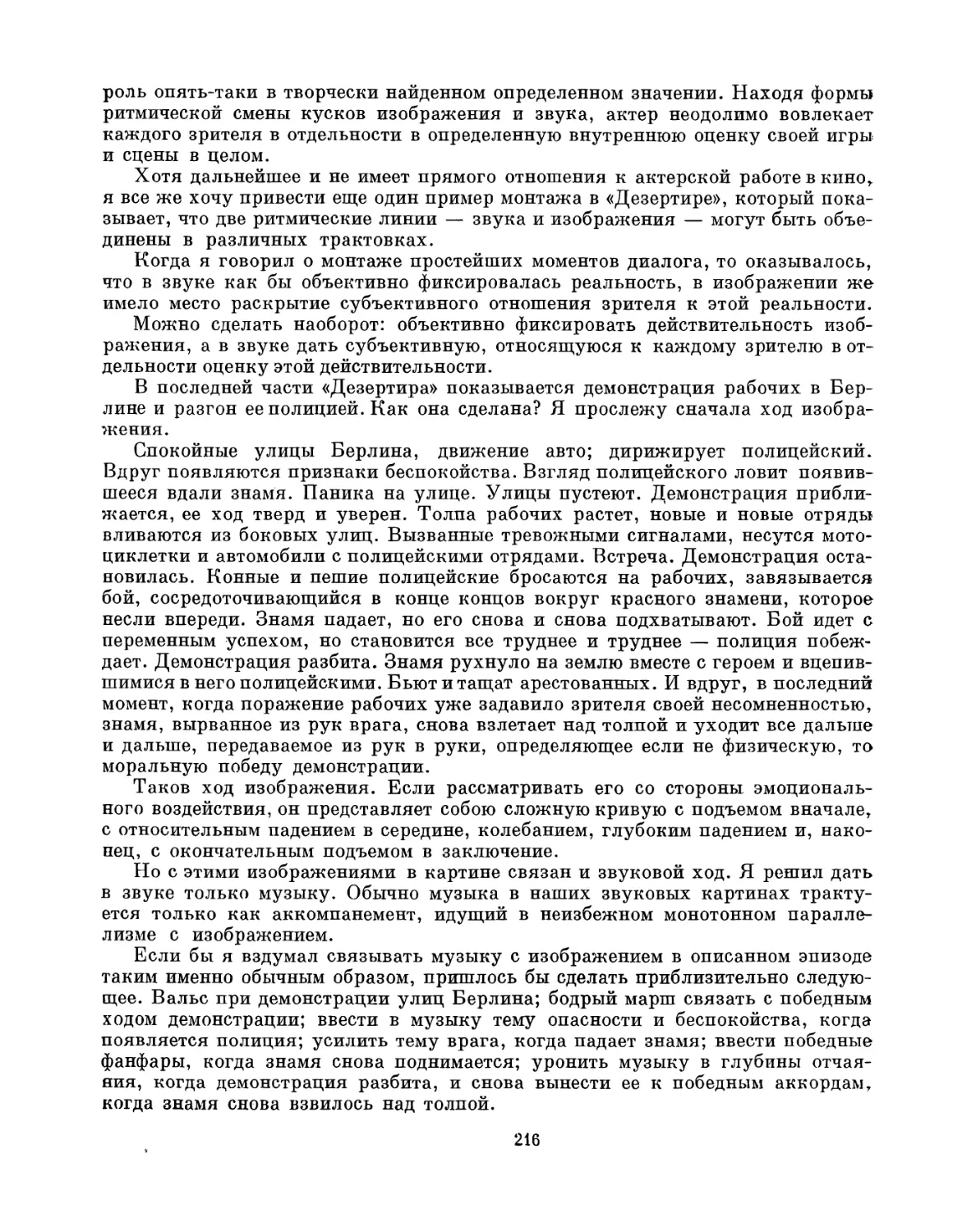

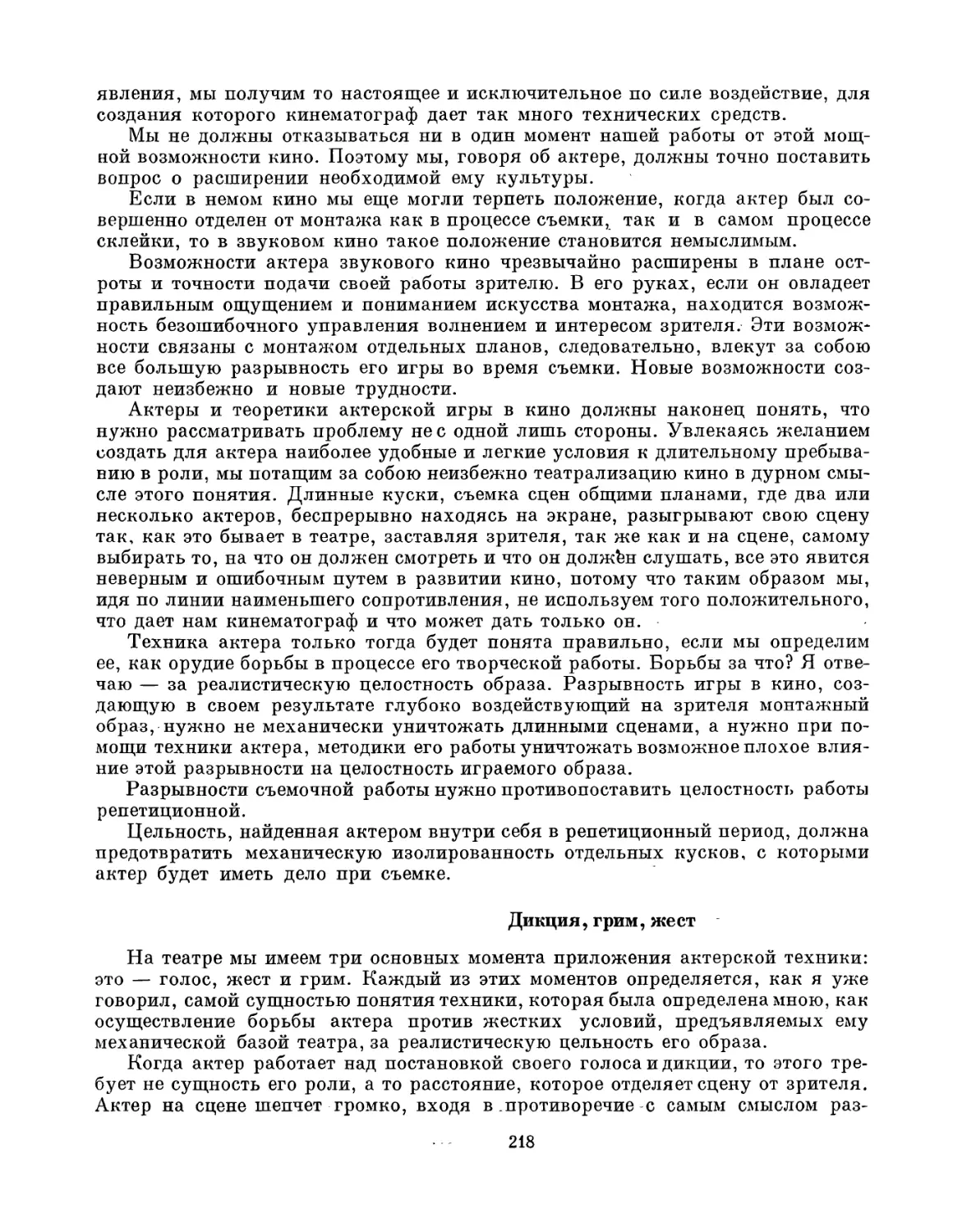


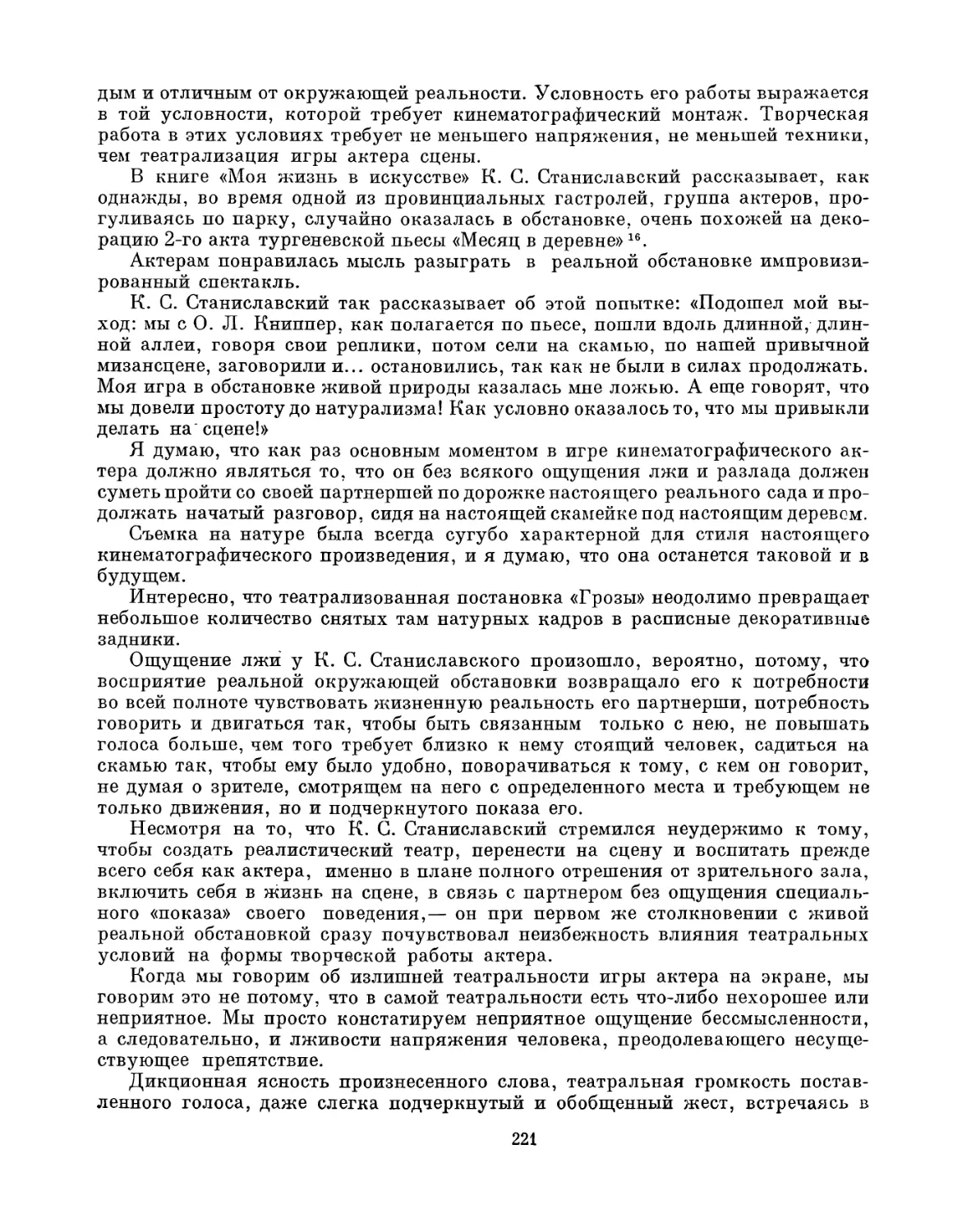

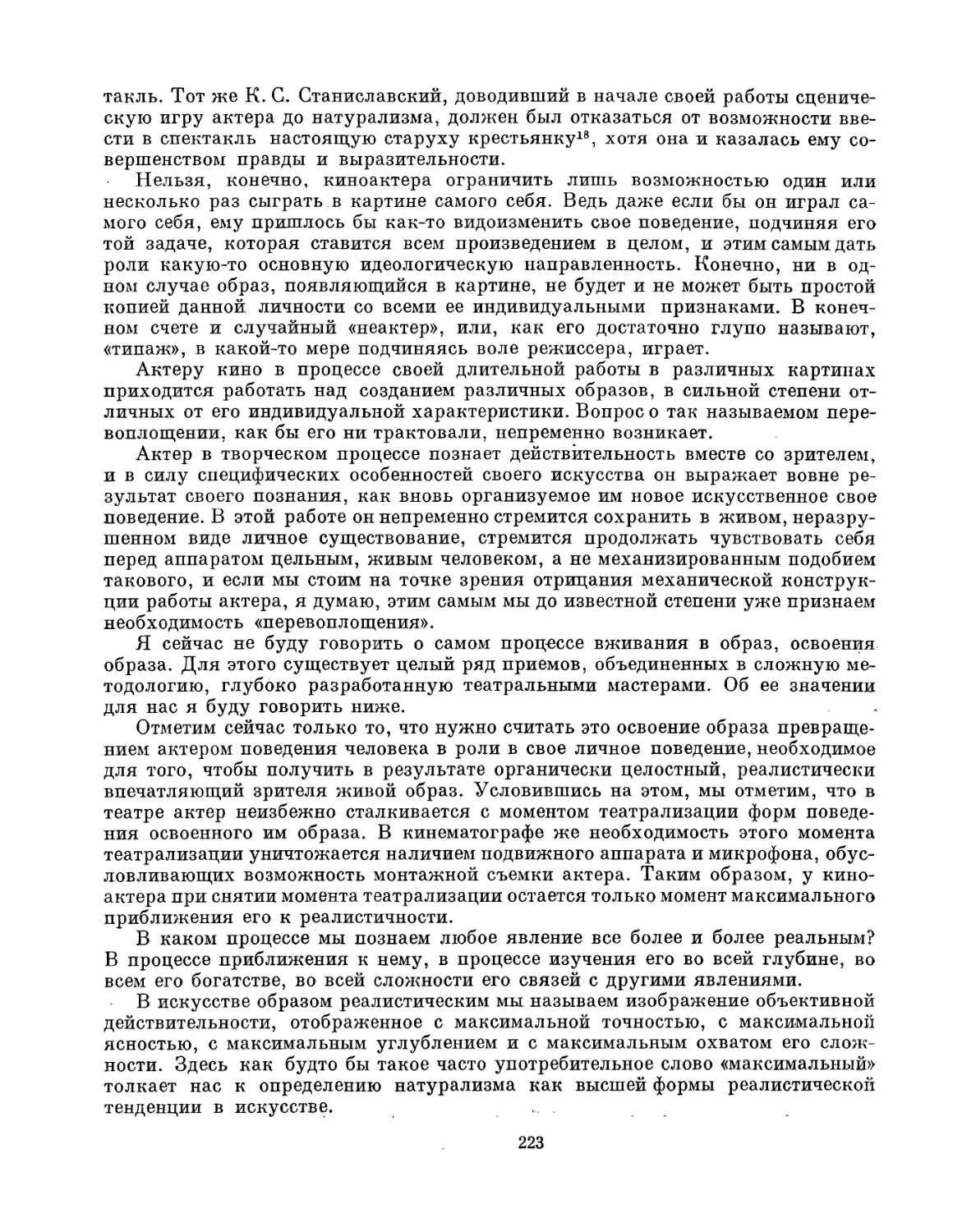









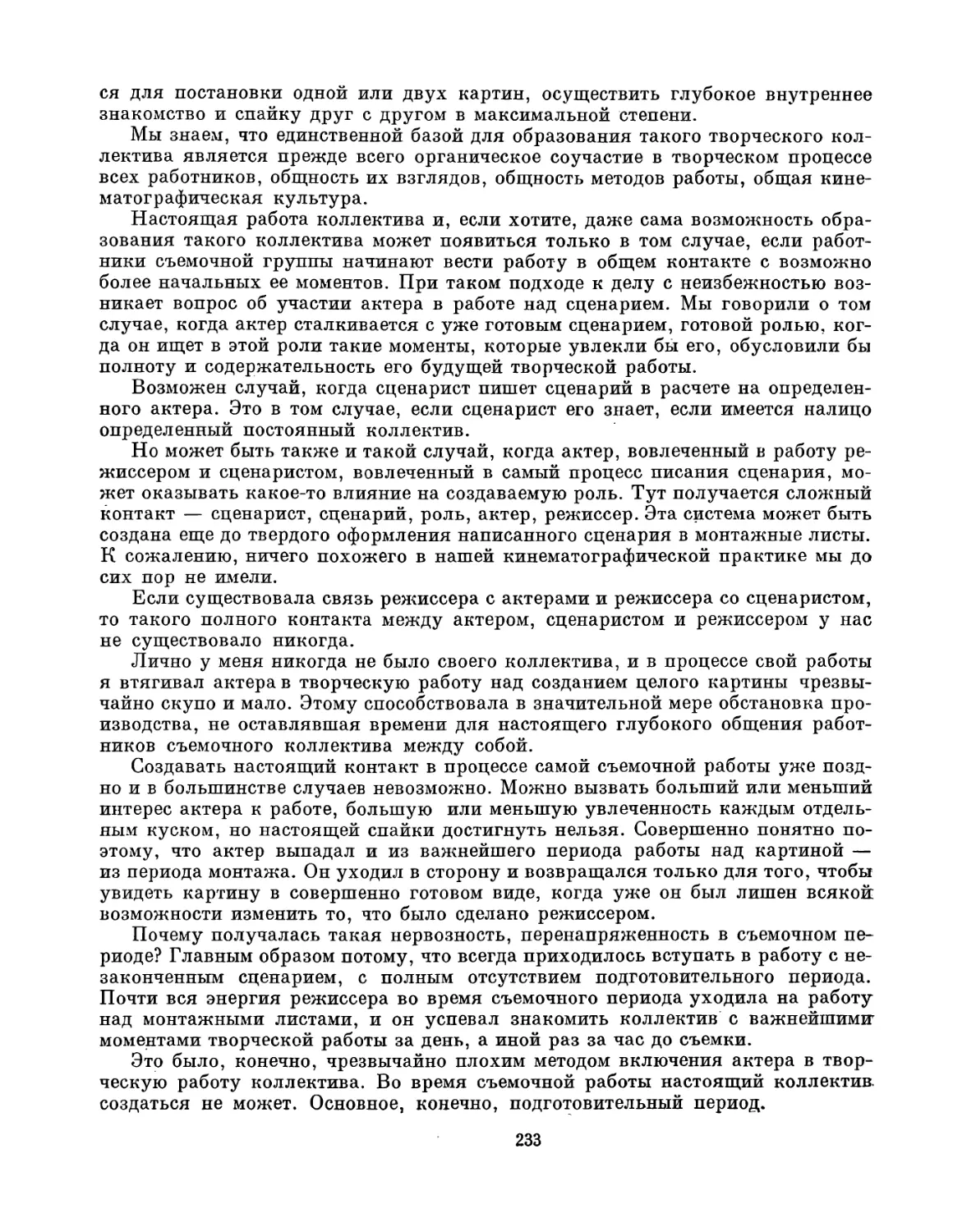


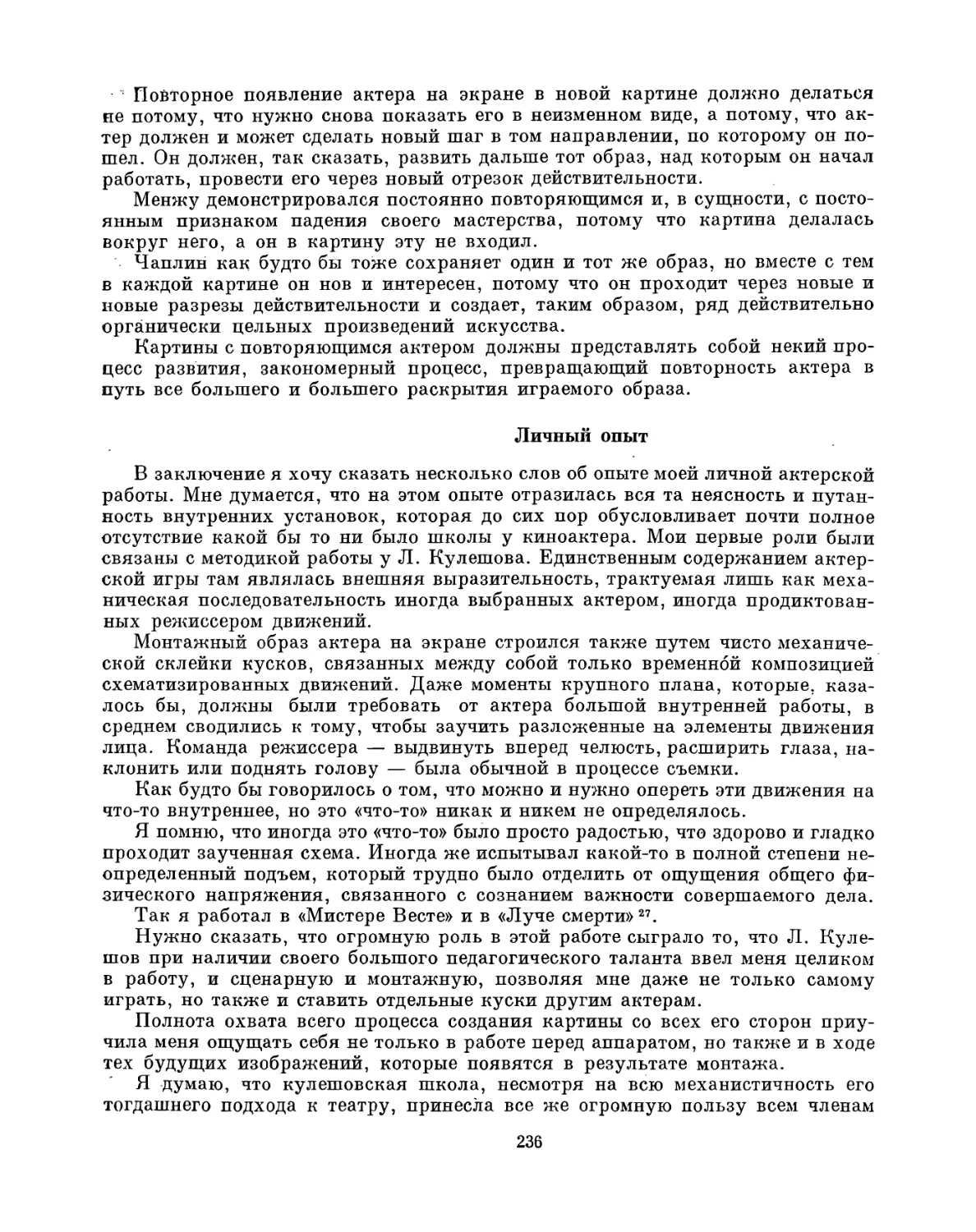



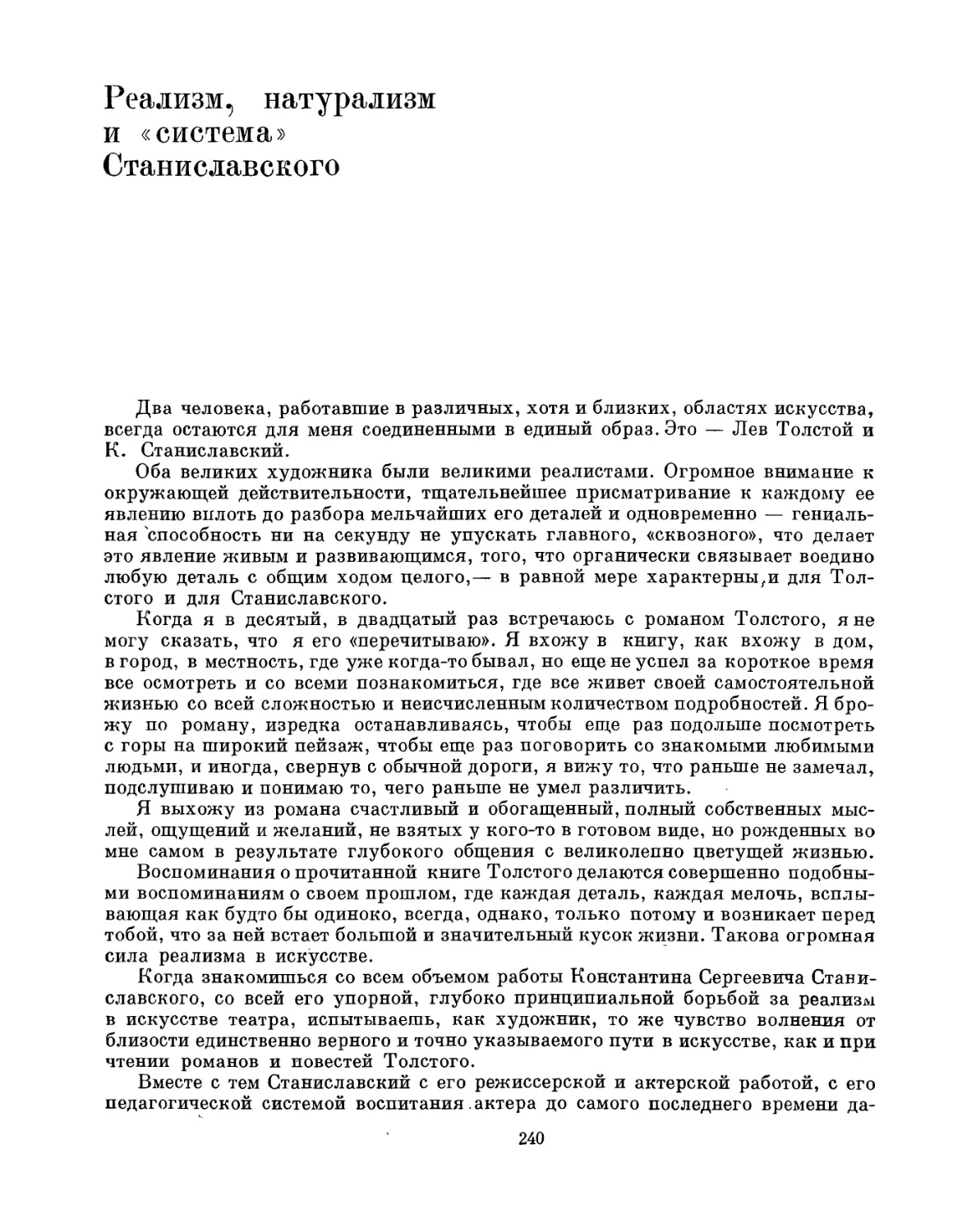


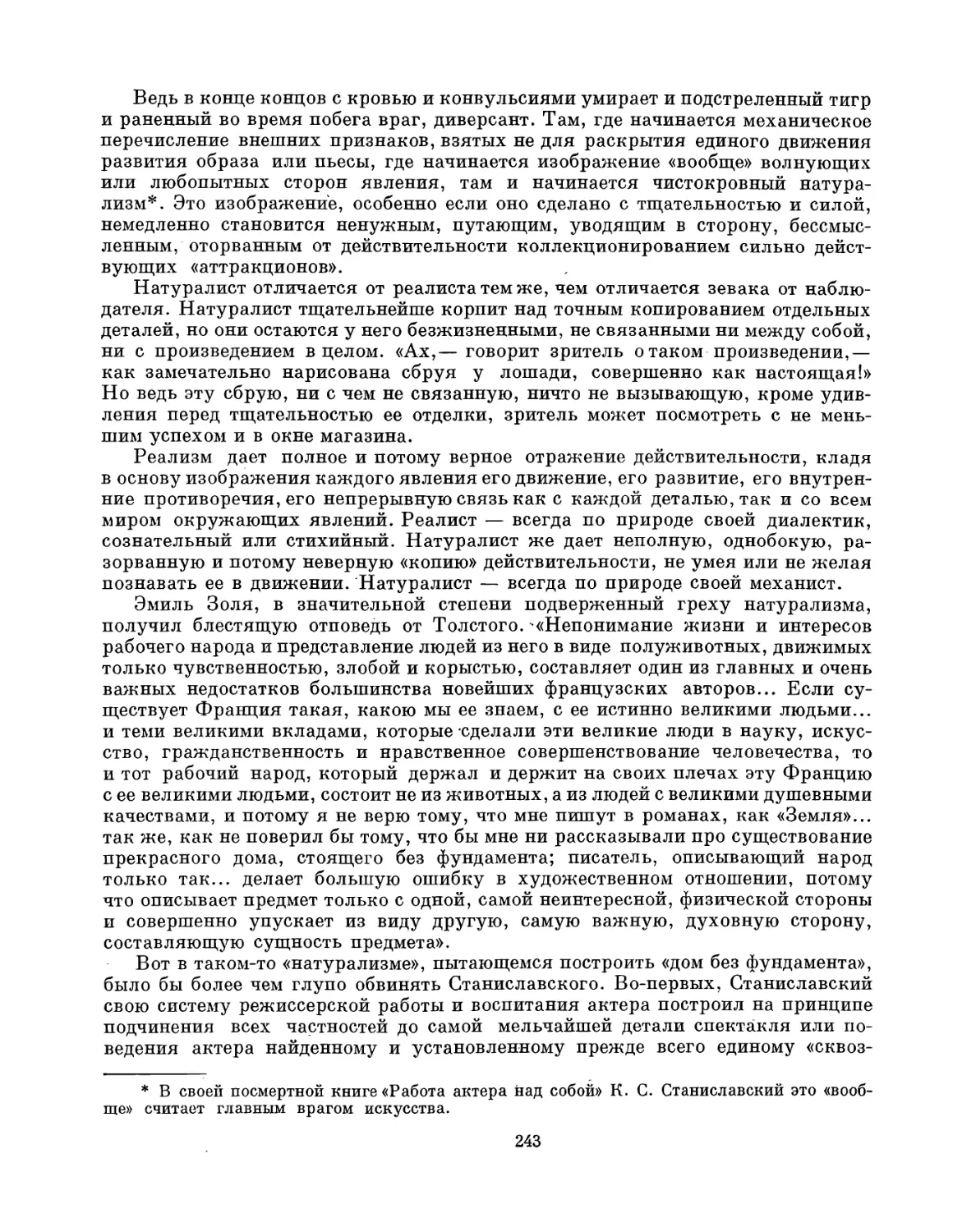
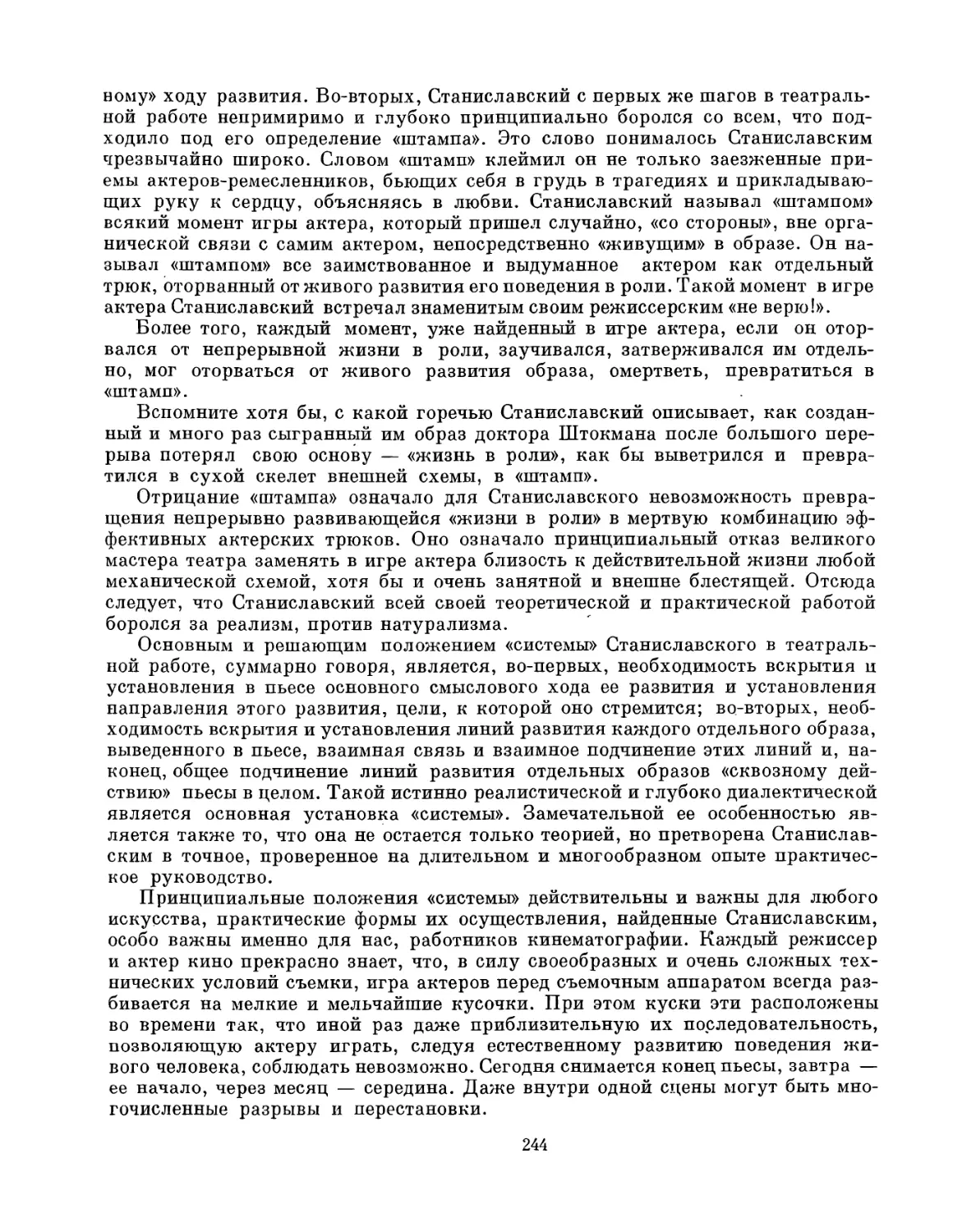





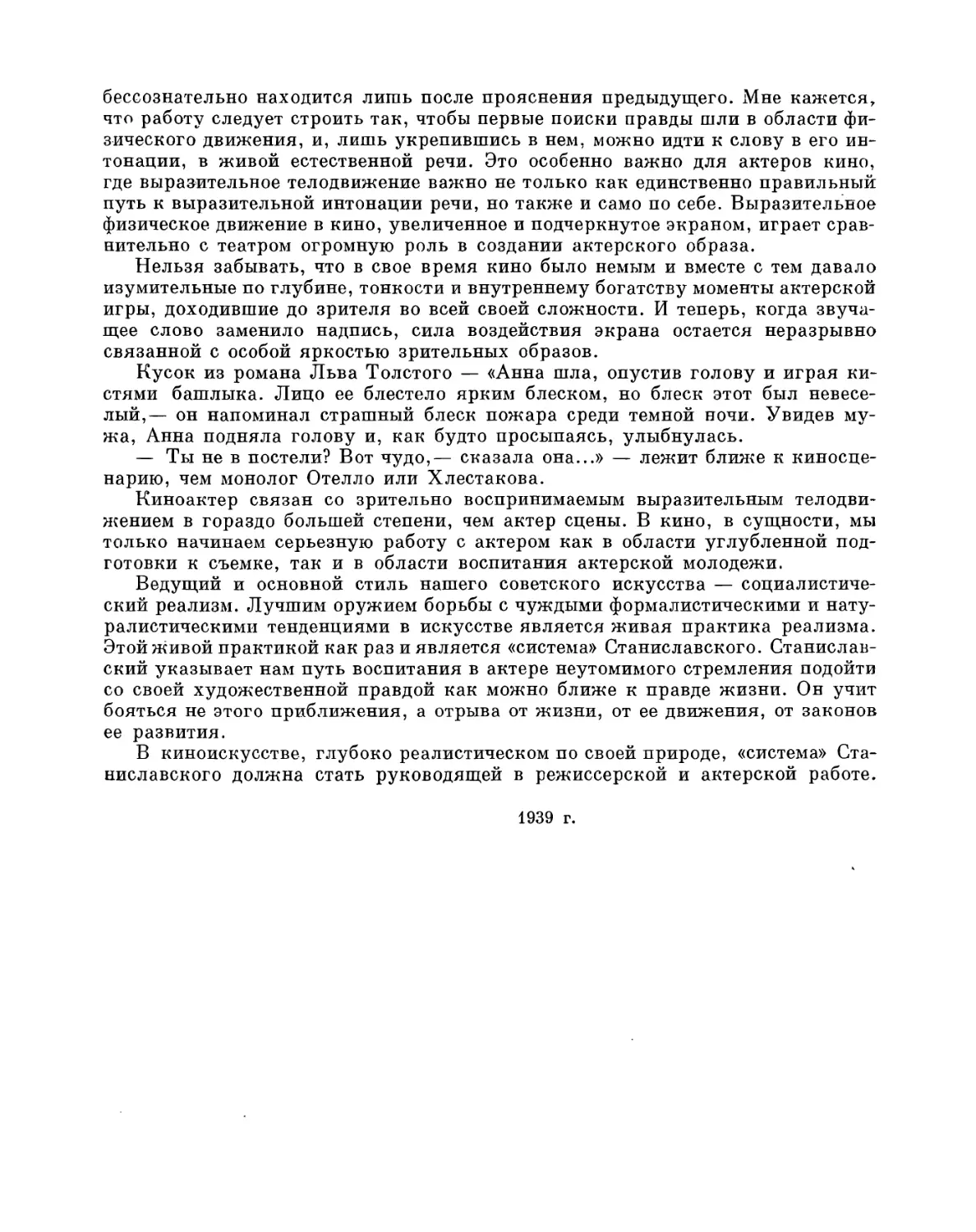
![Предисловие [к книге М. Алейникова «Пути советского кино и МХАТ»]](https://djvu.online/jpg1/u/M/3/uM39hn0Z9pIKO/255.webp)