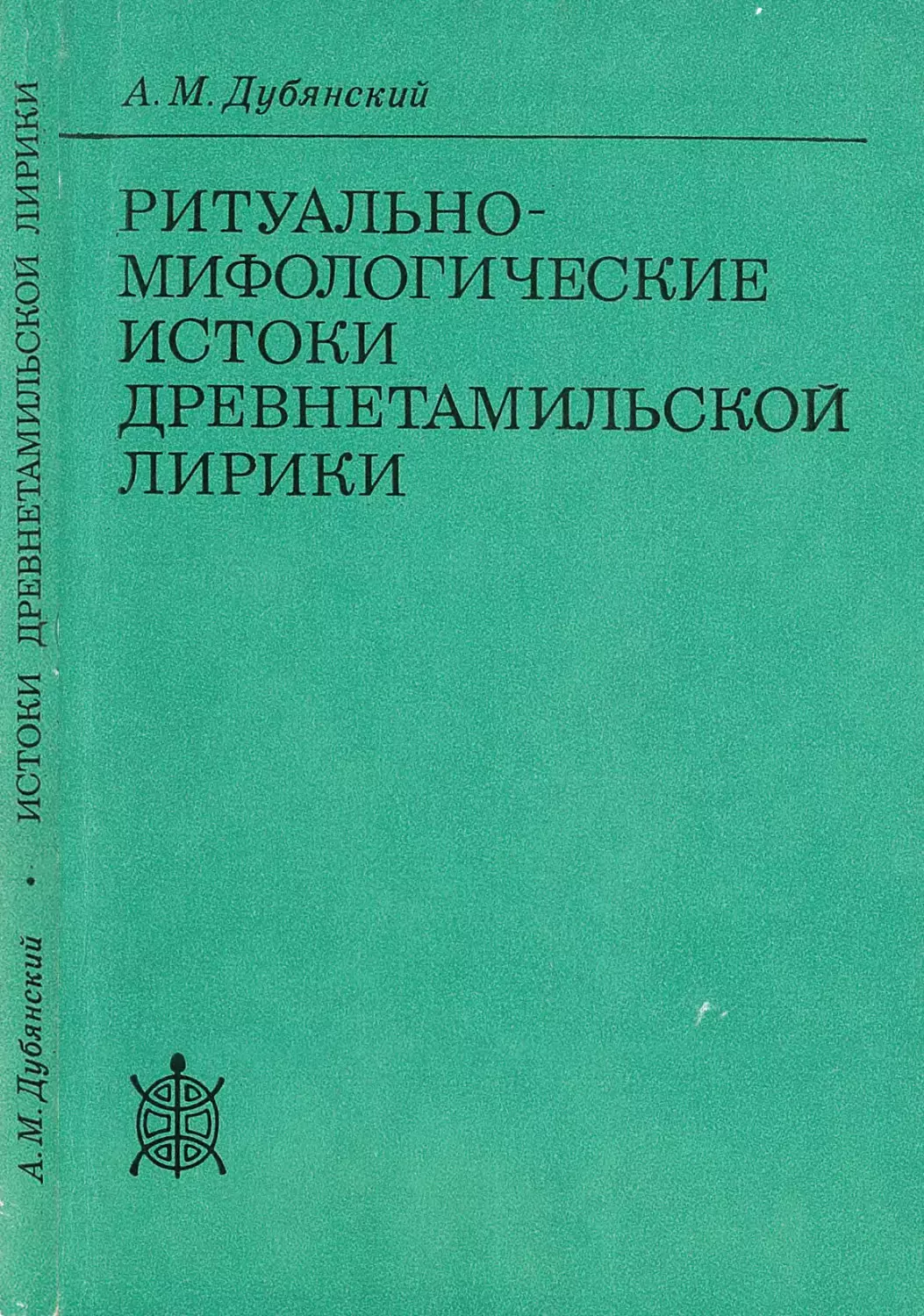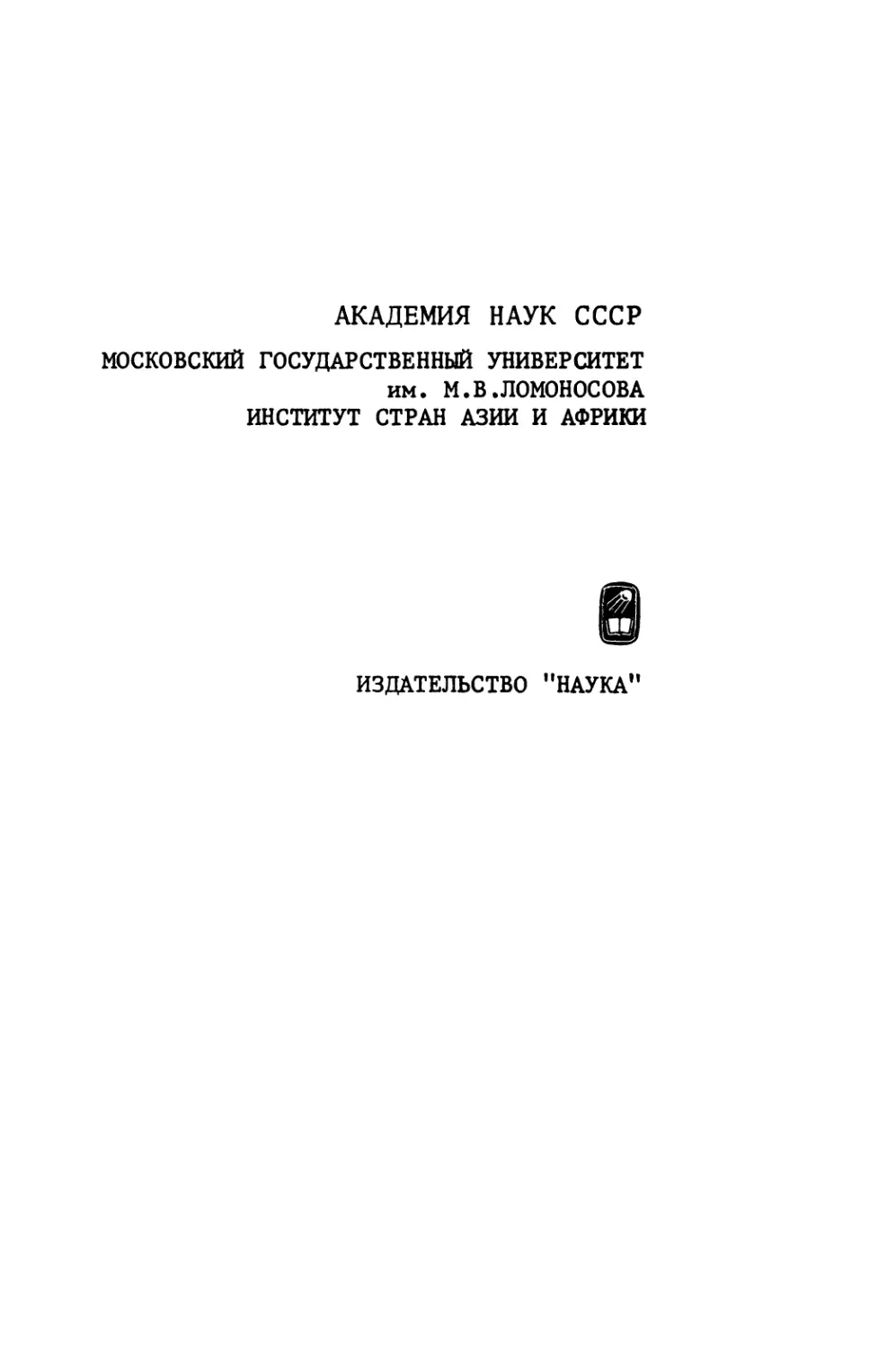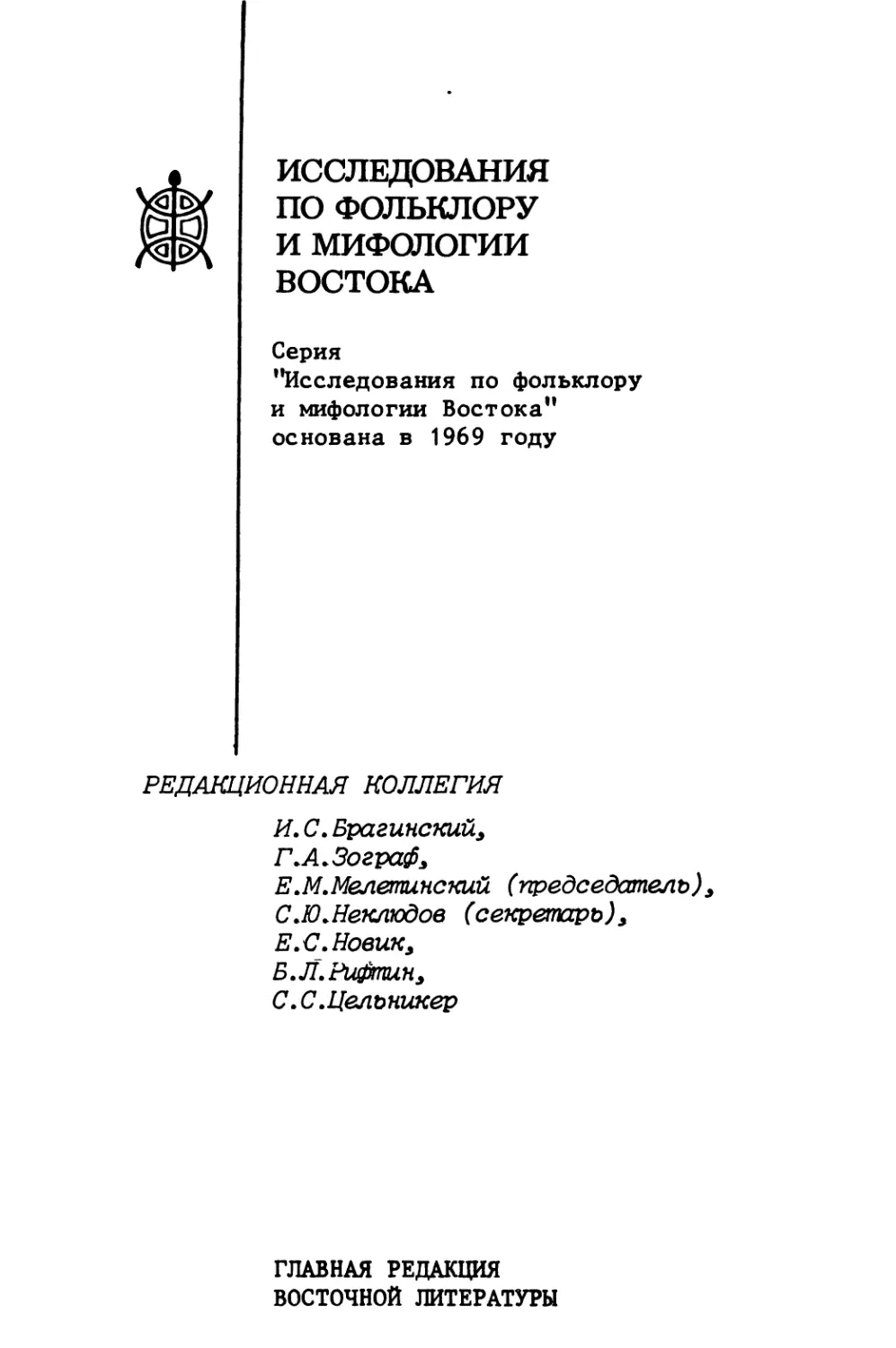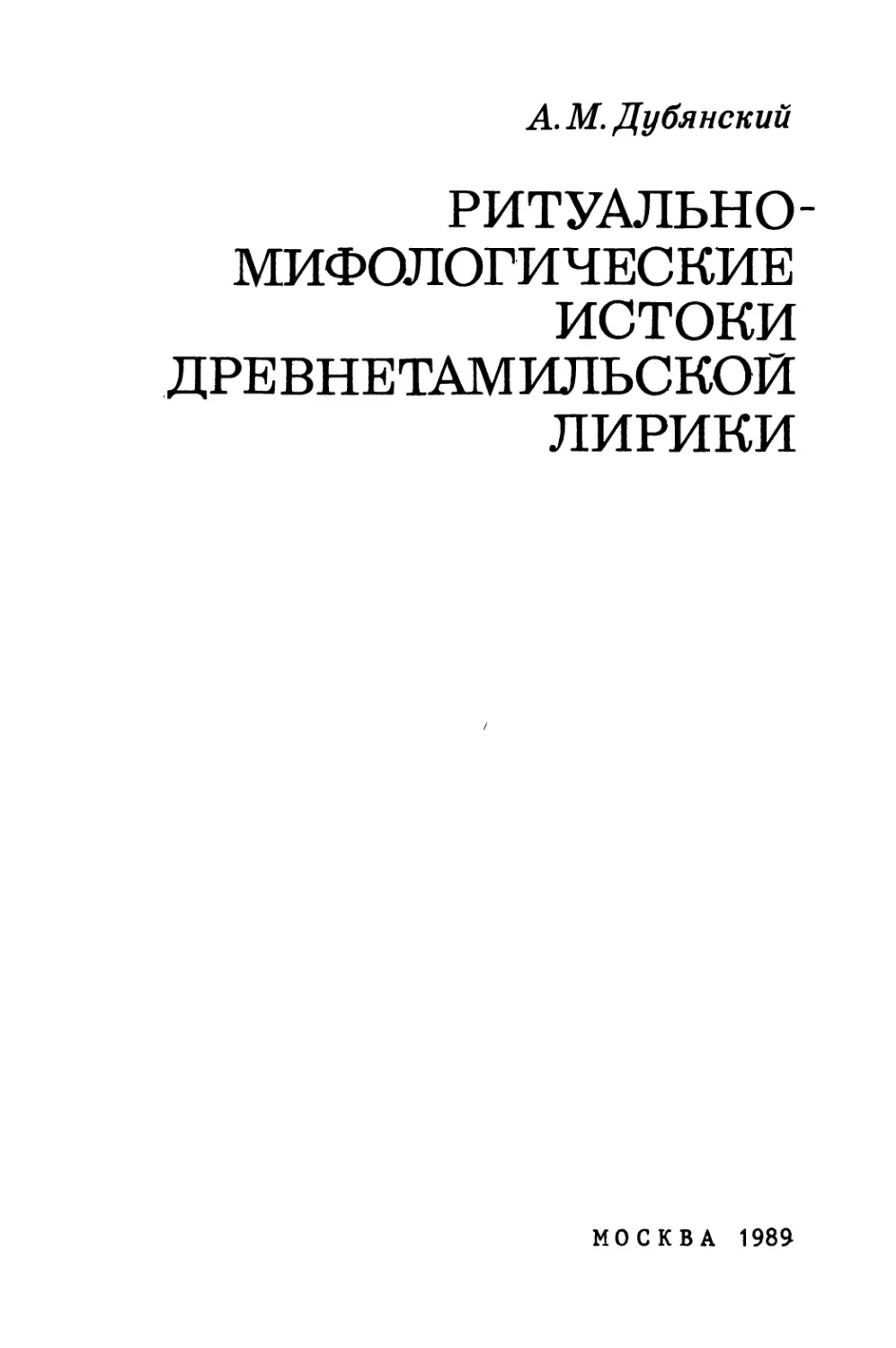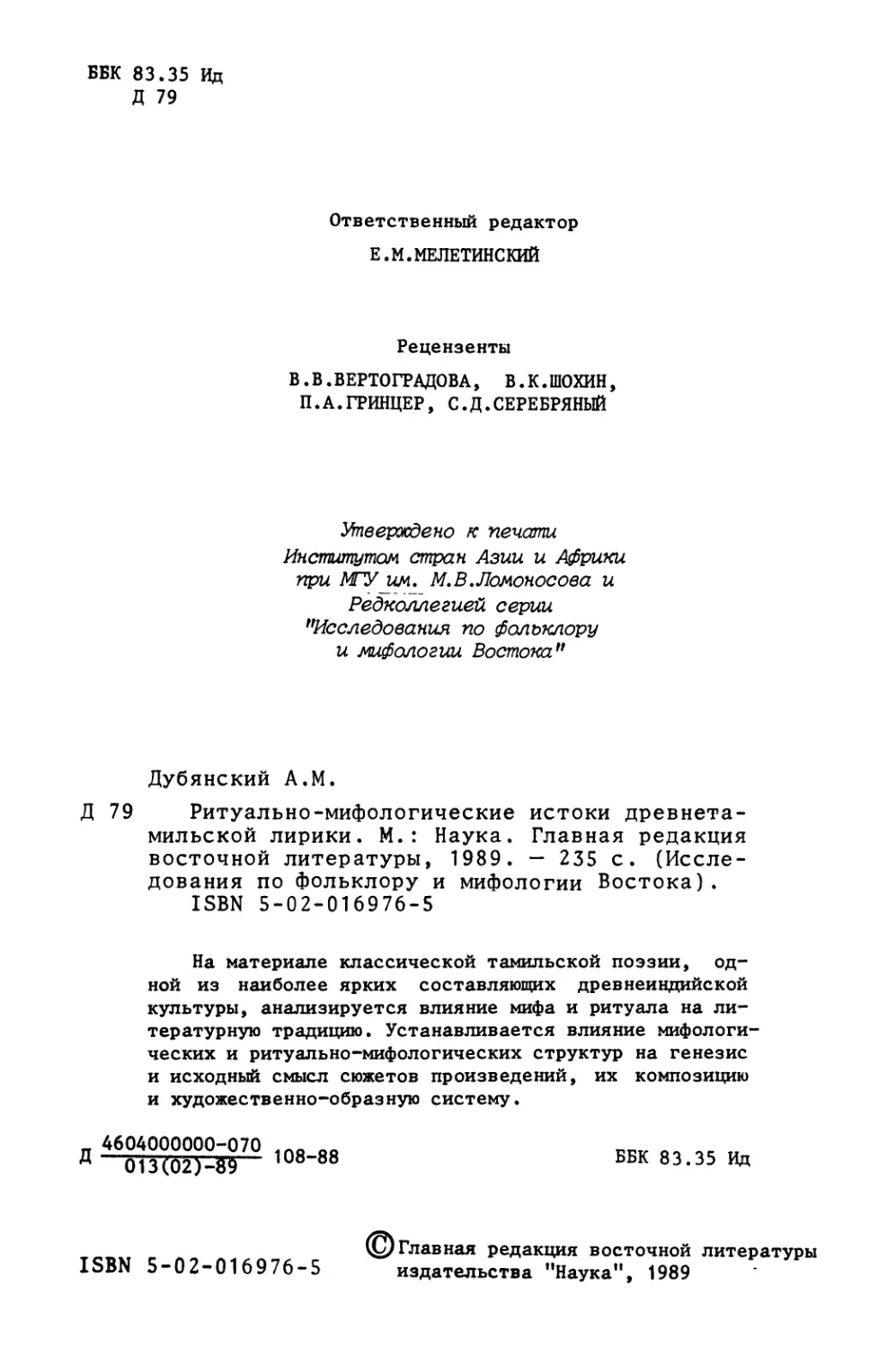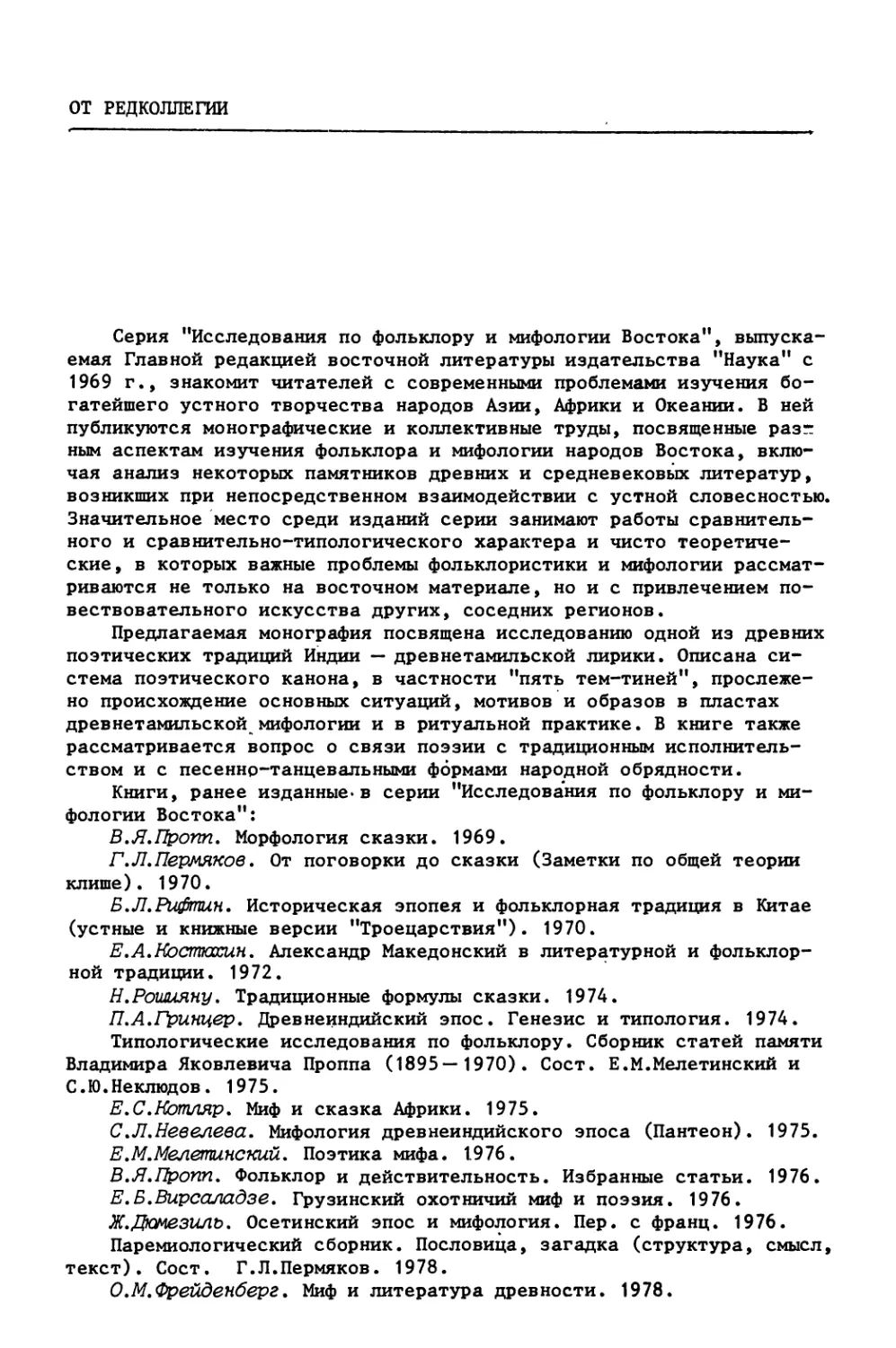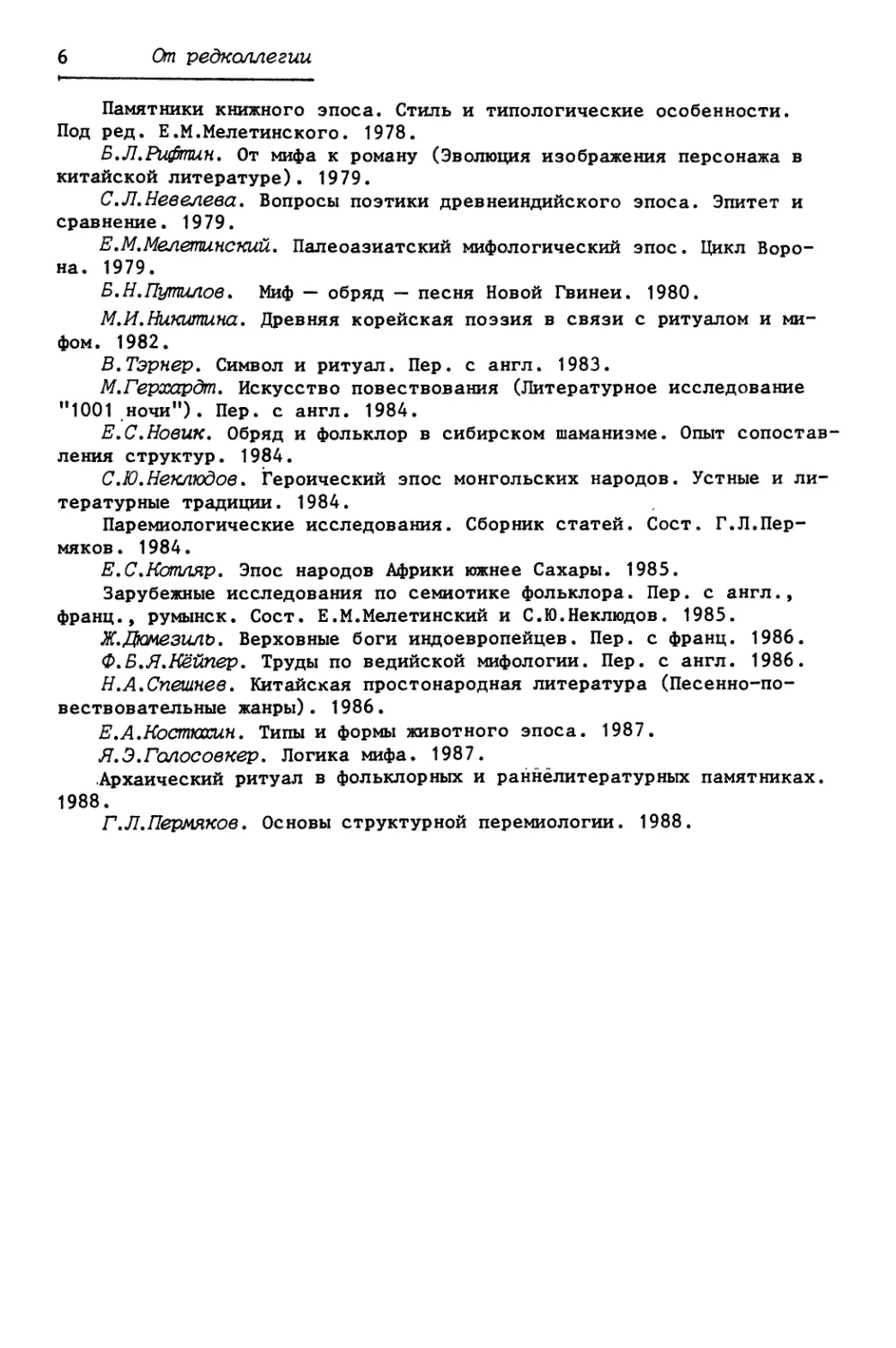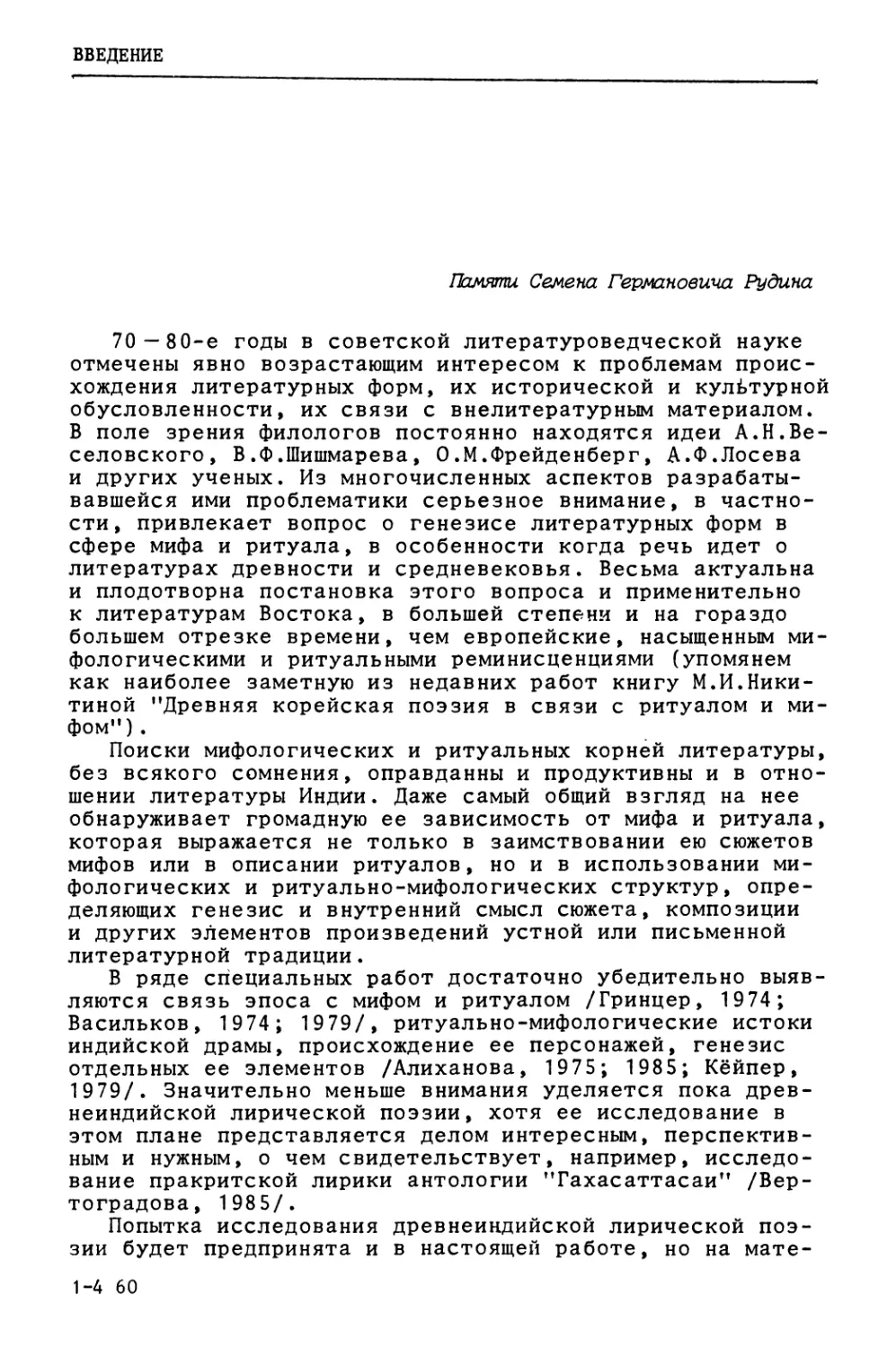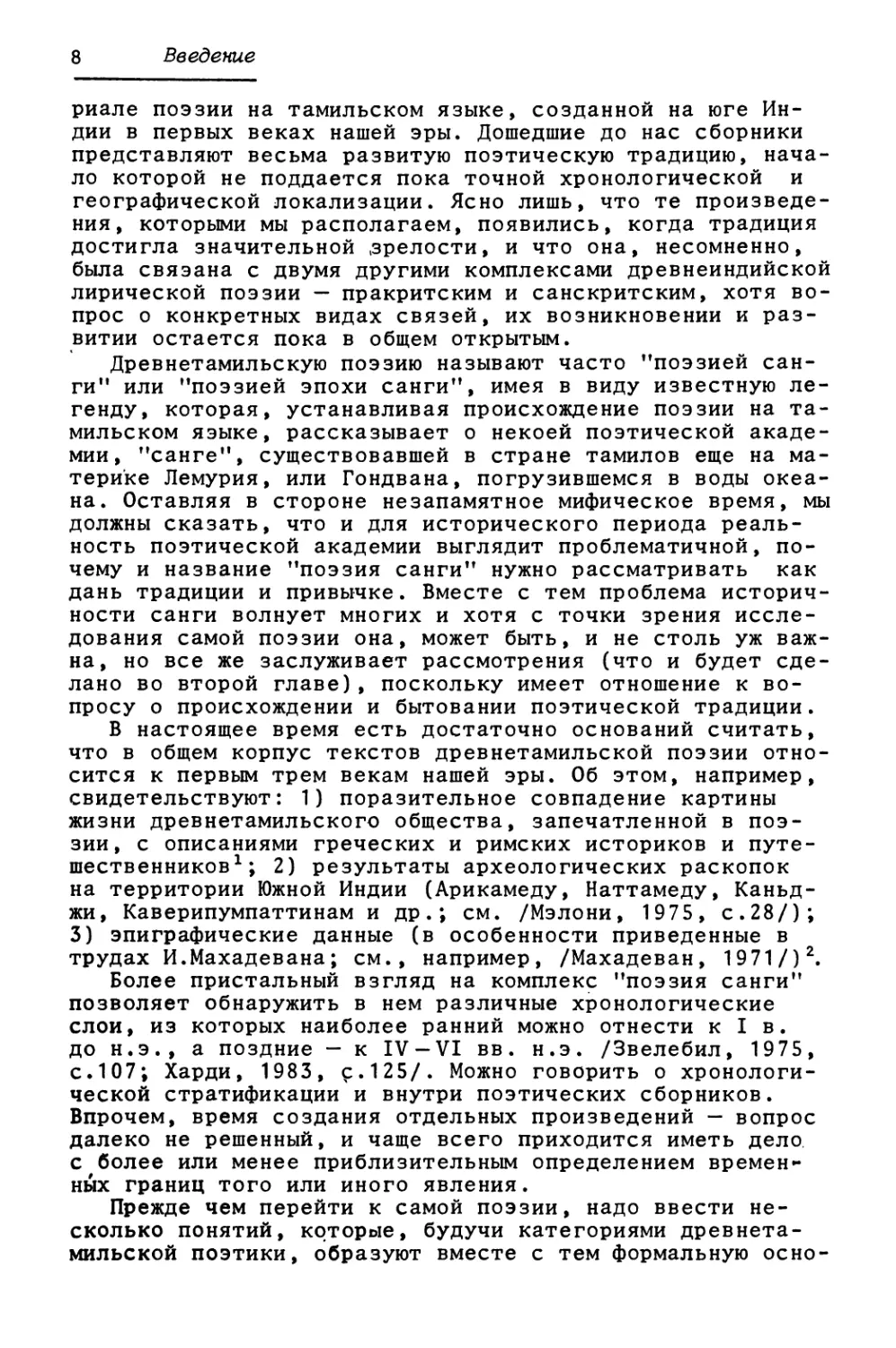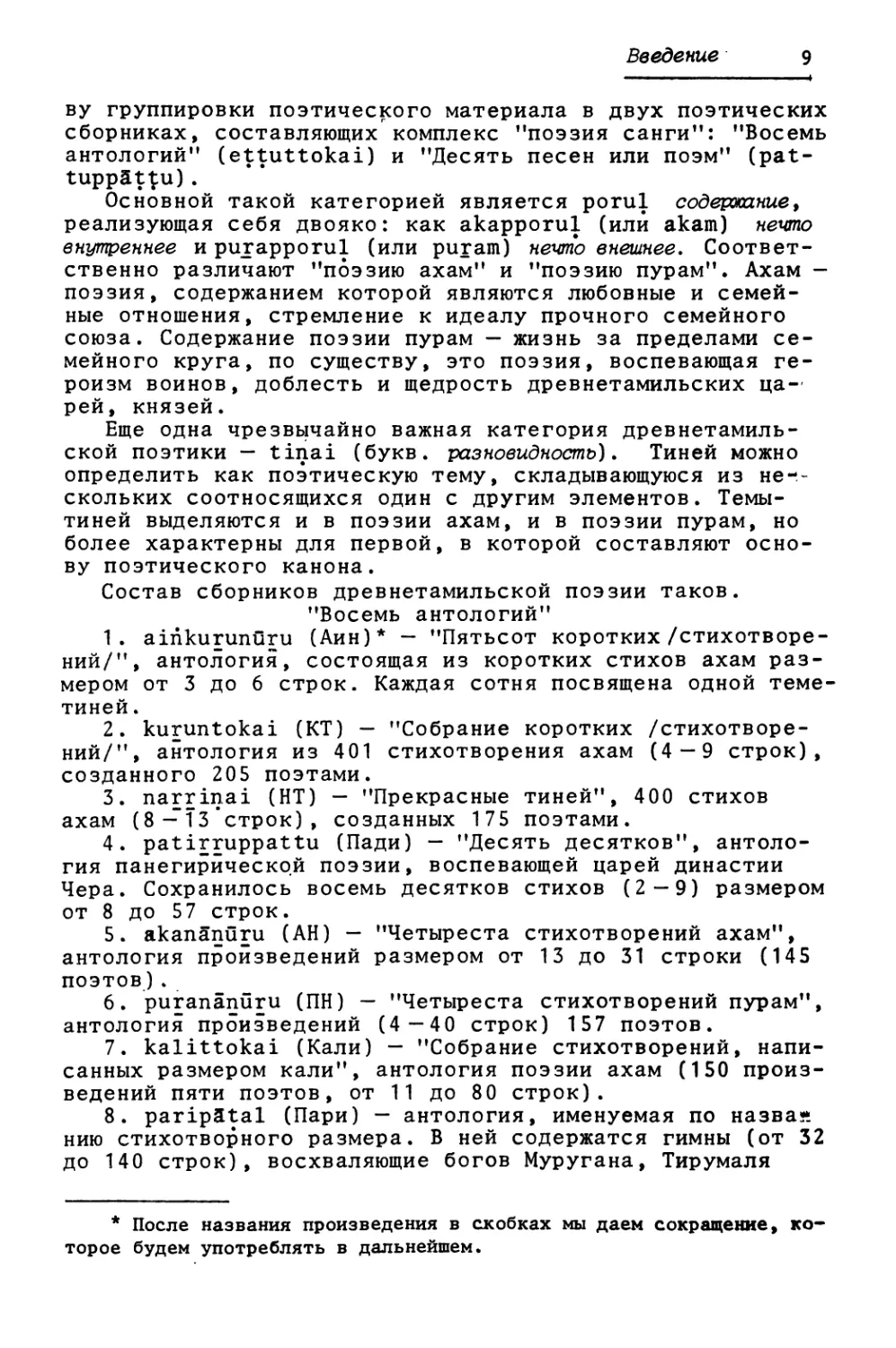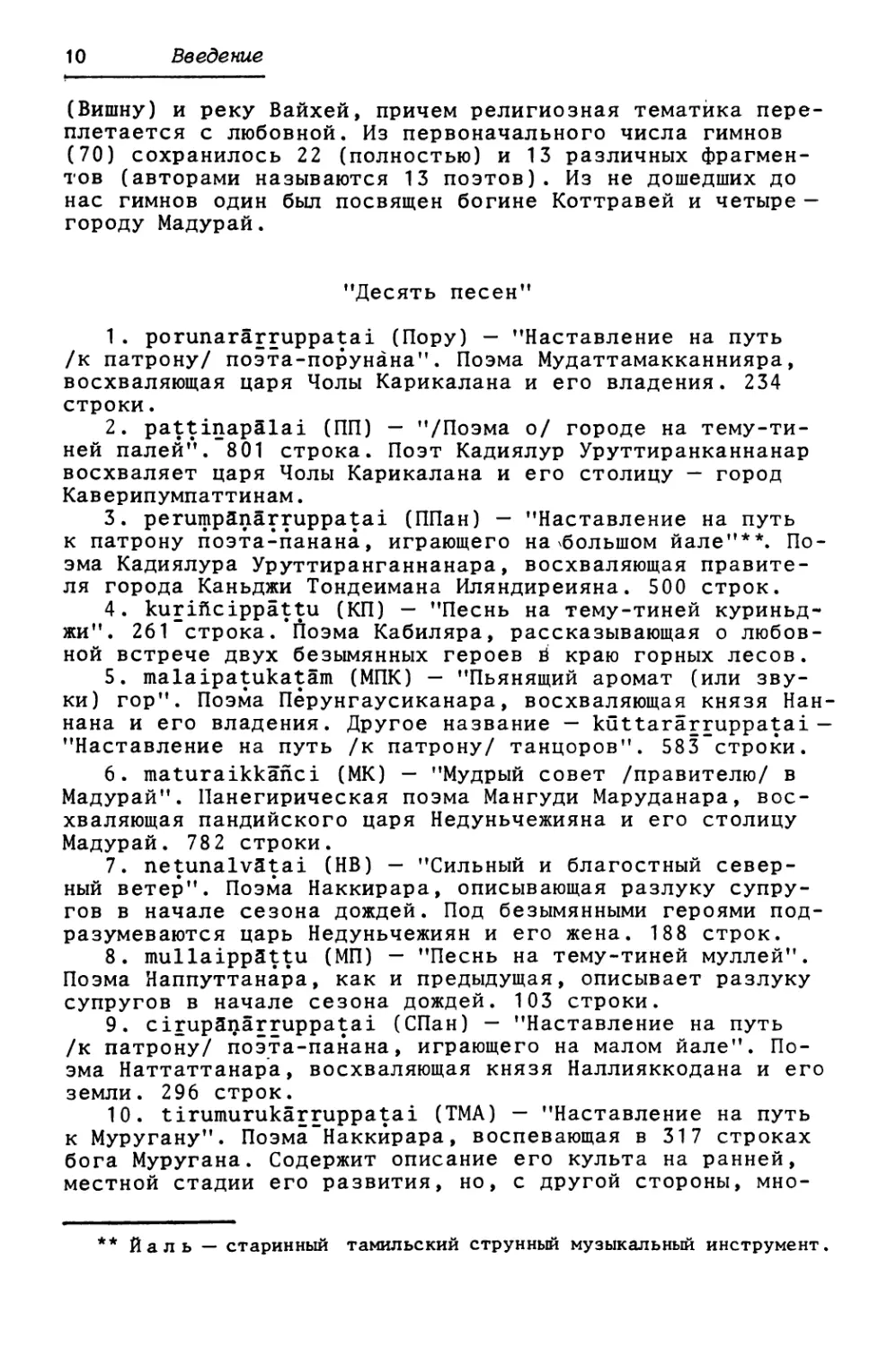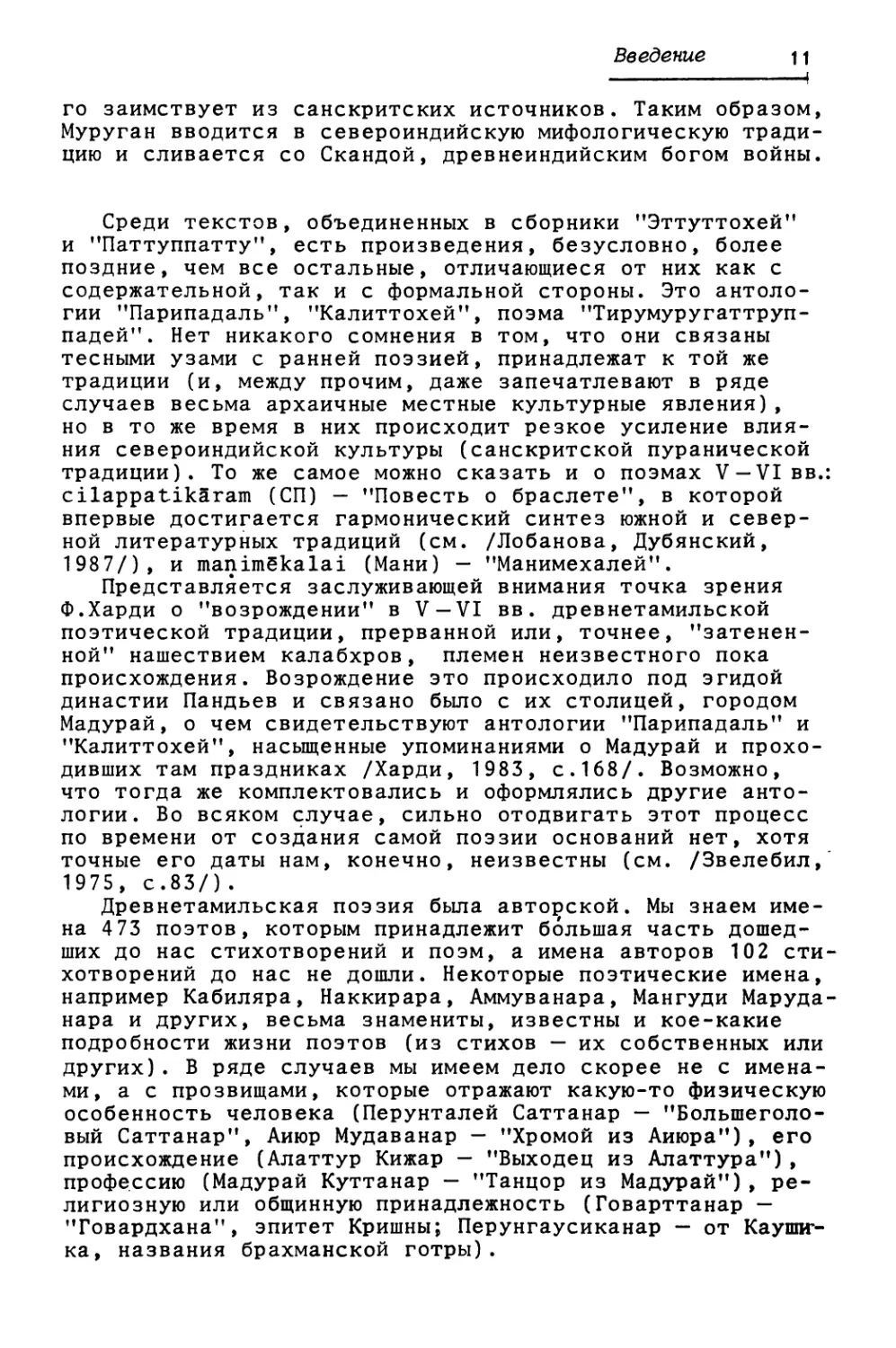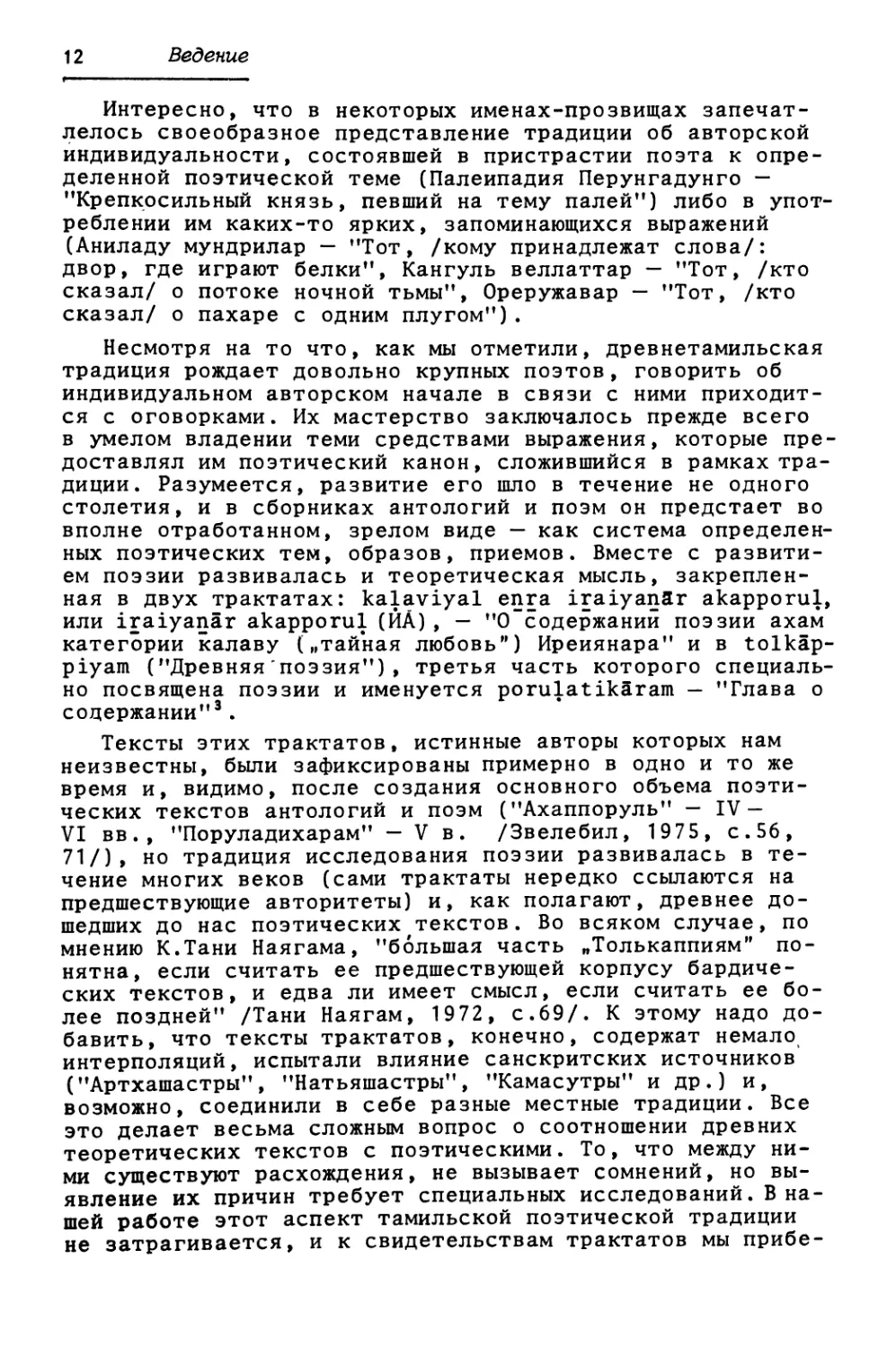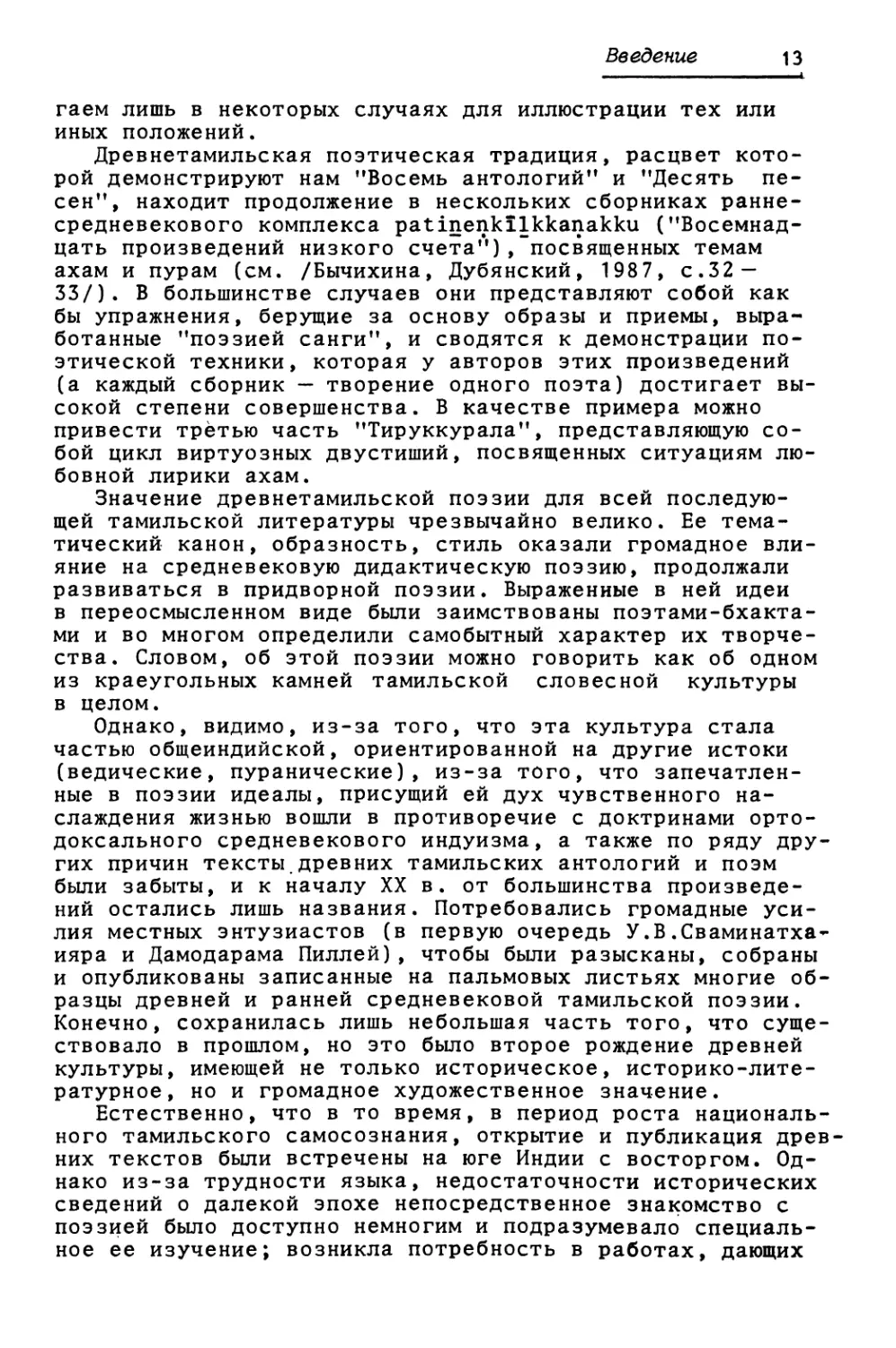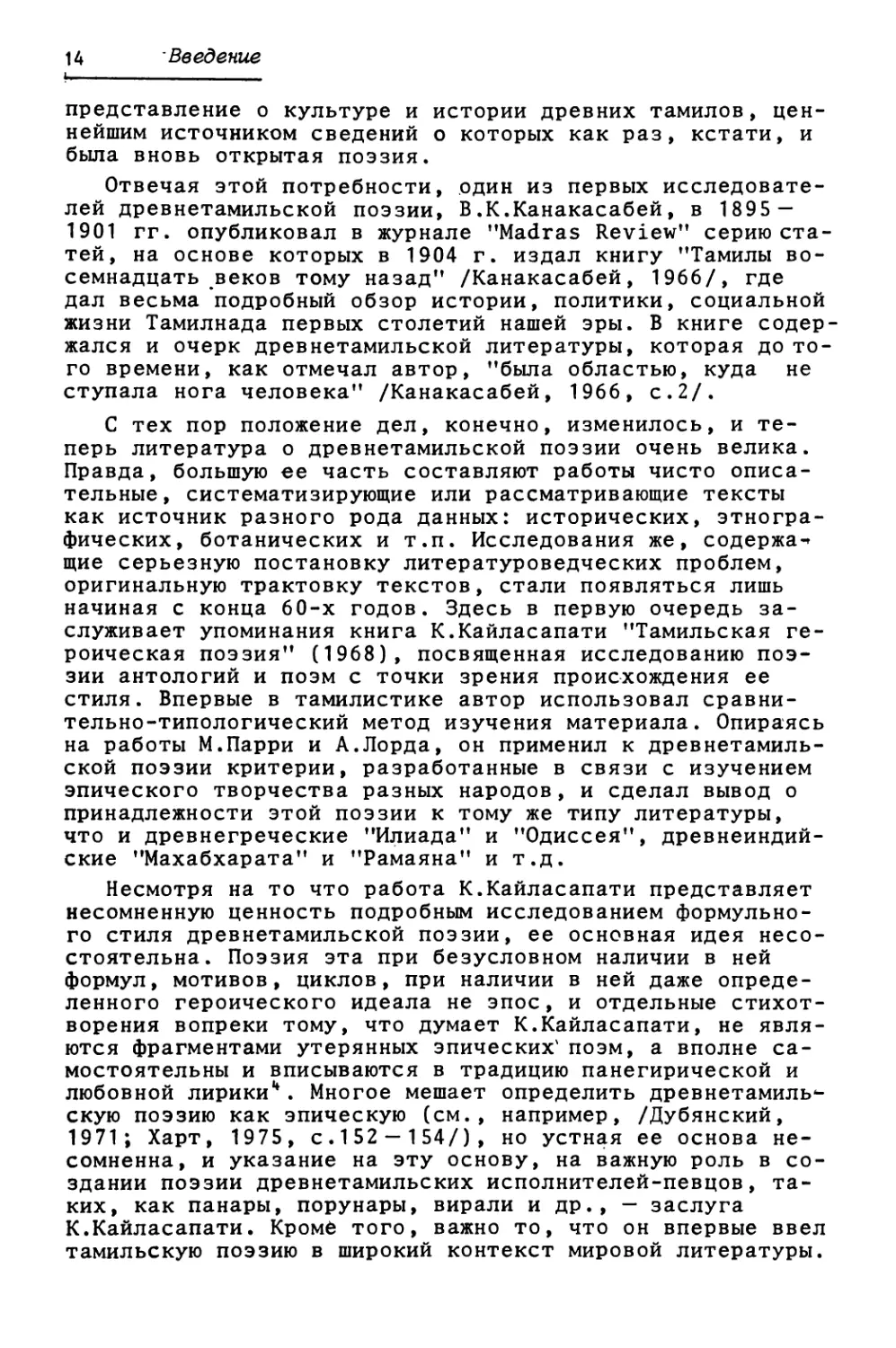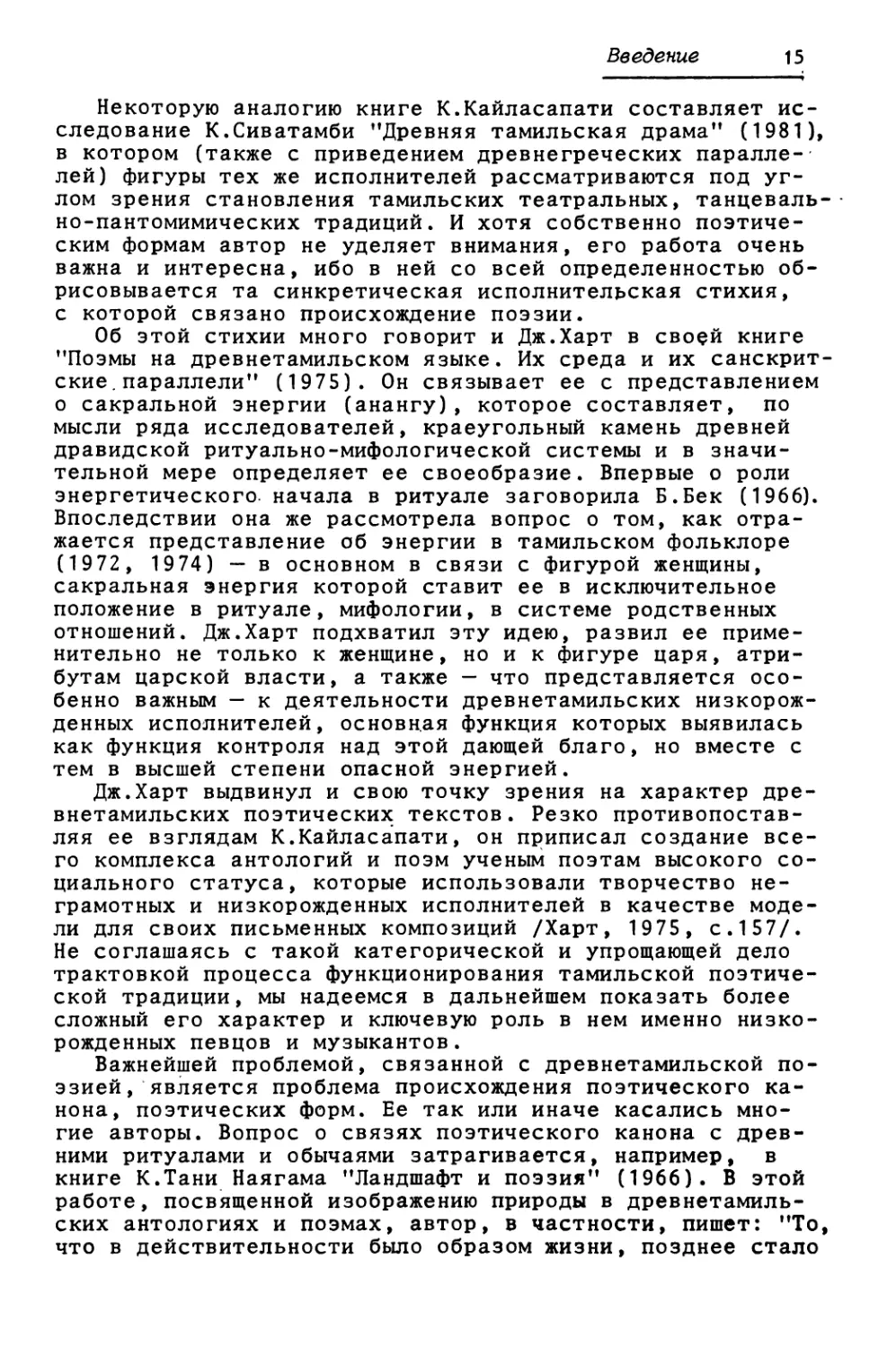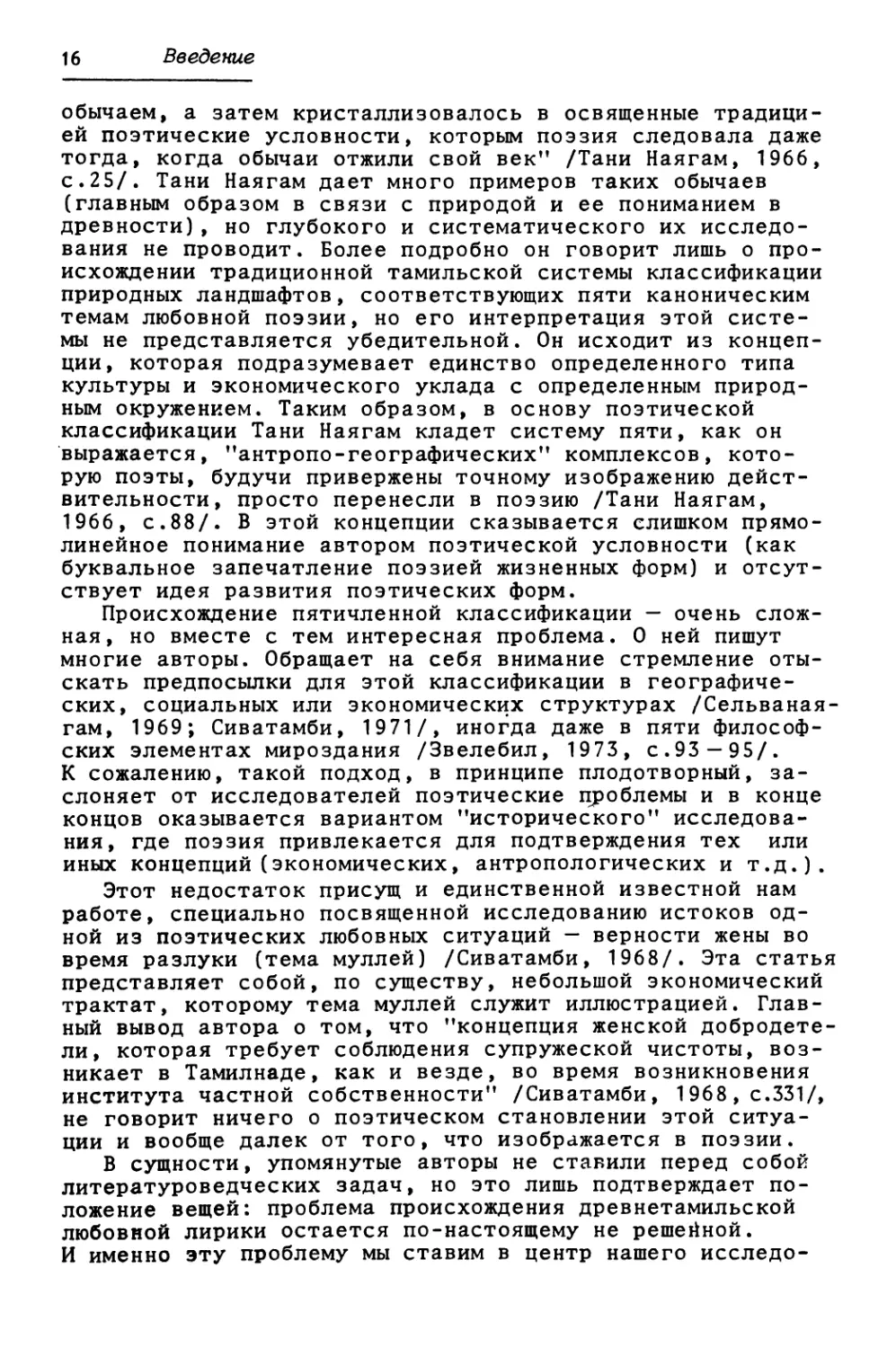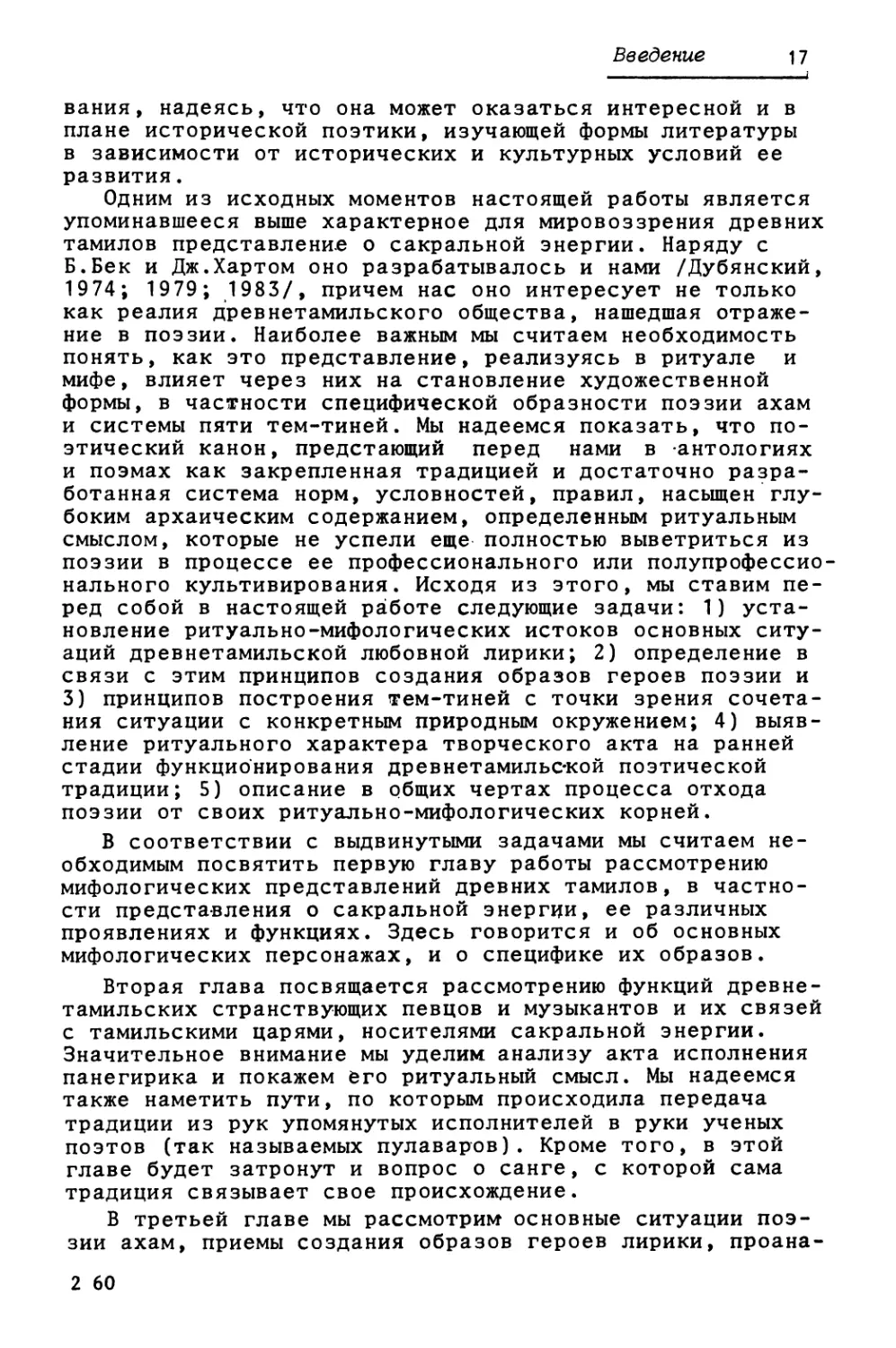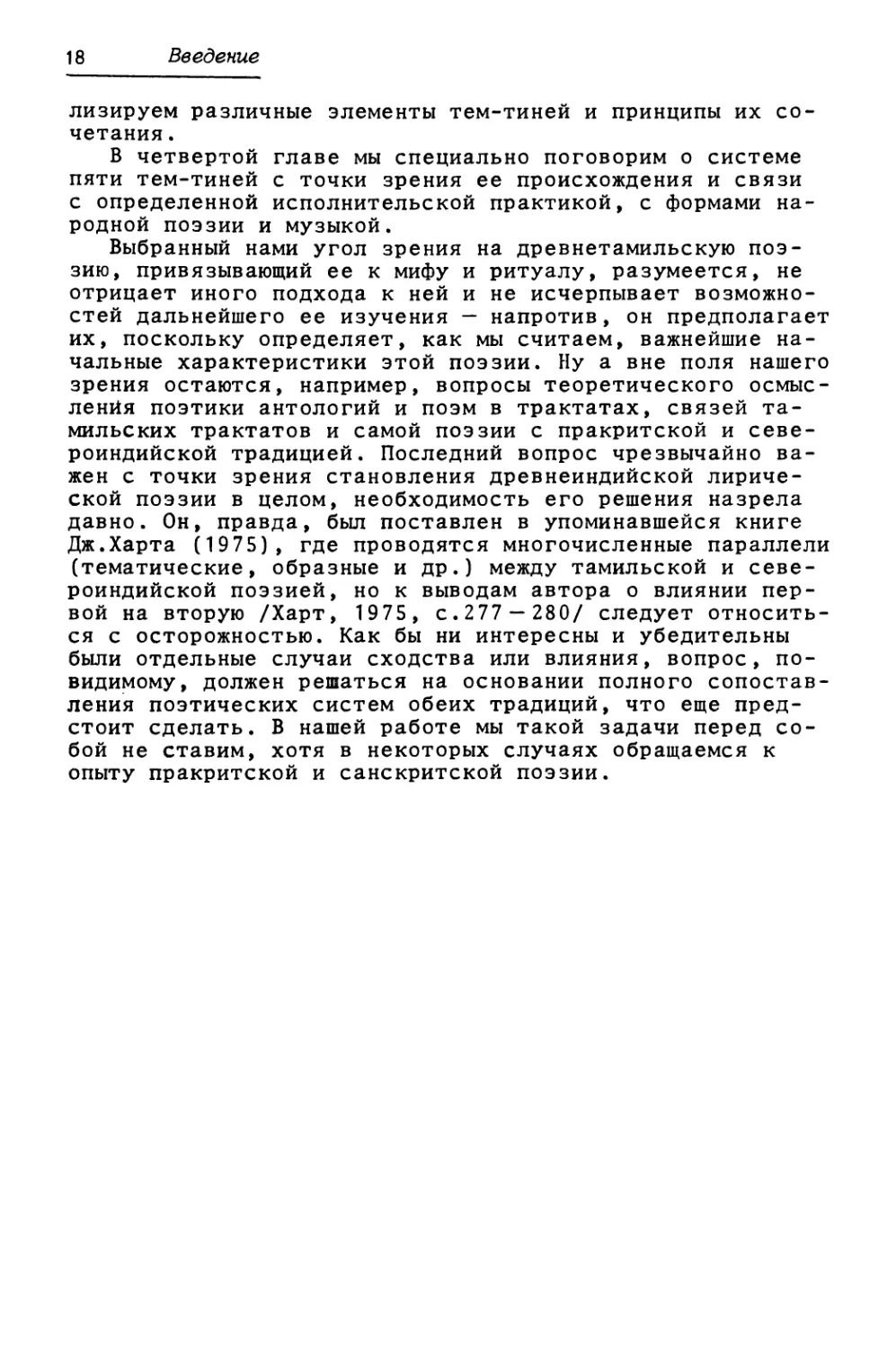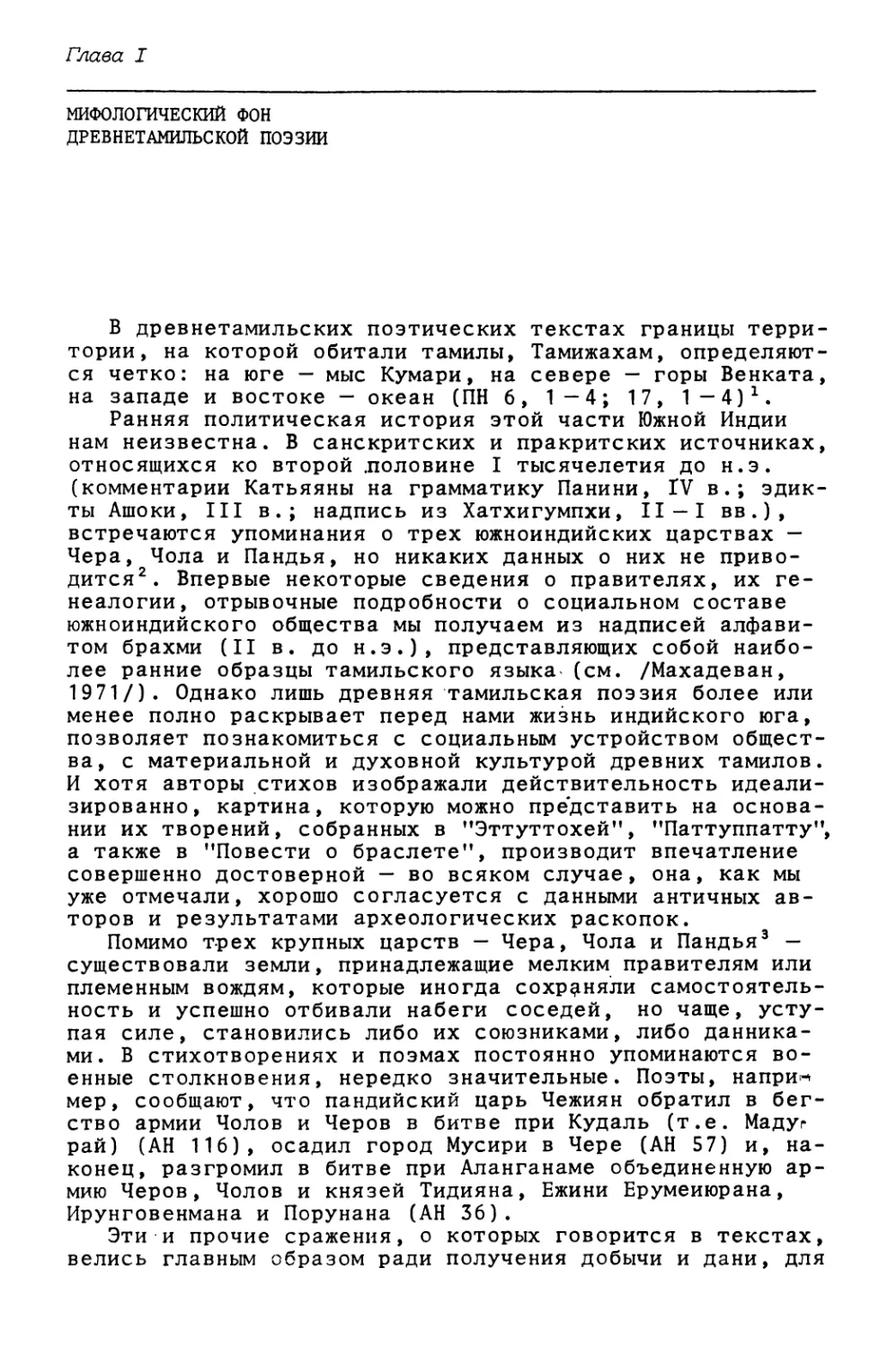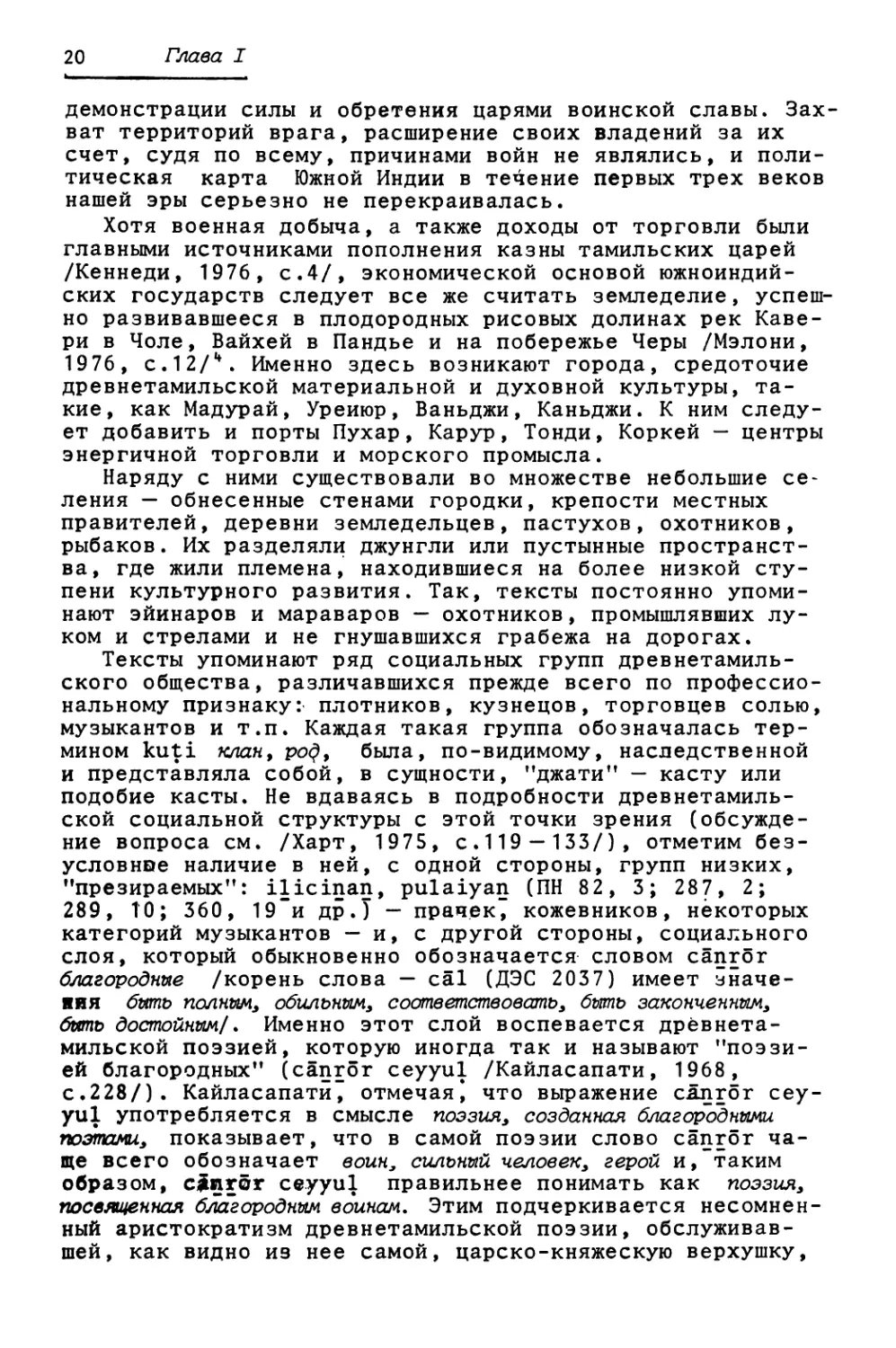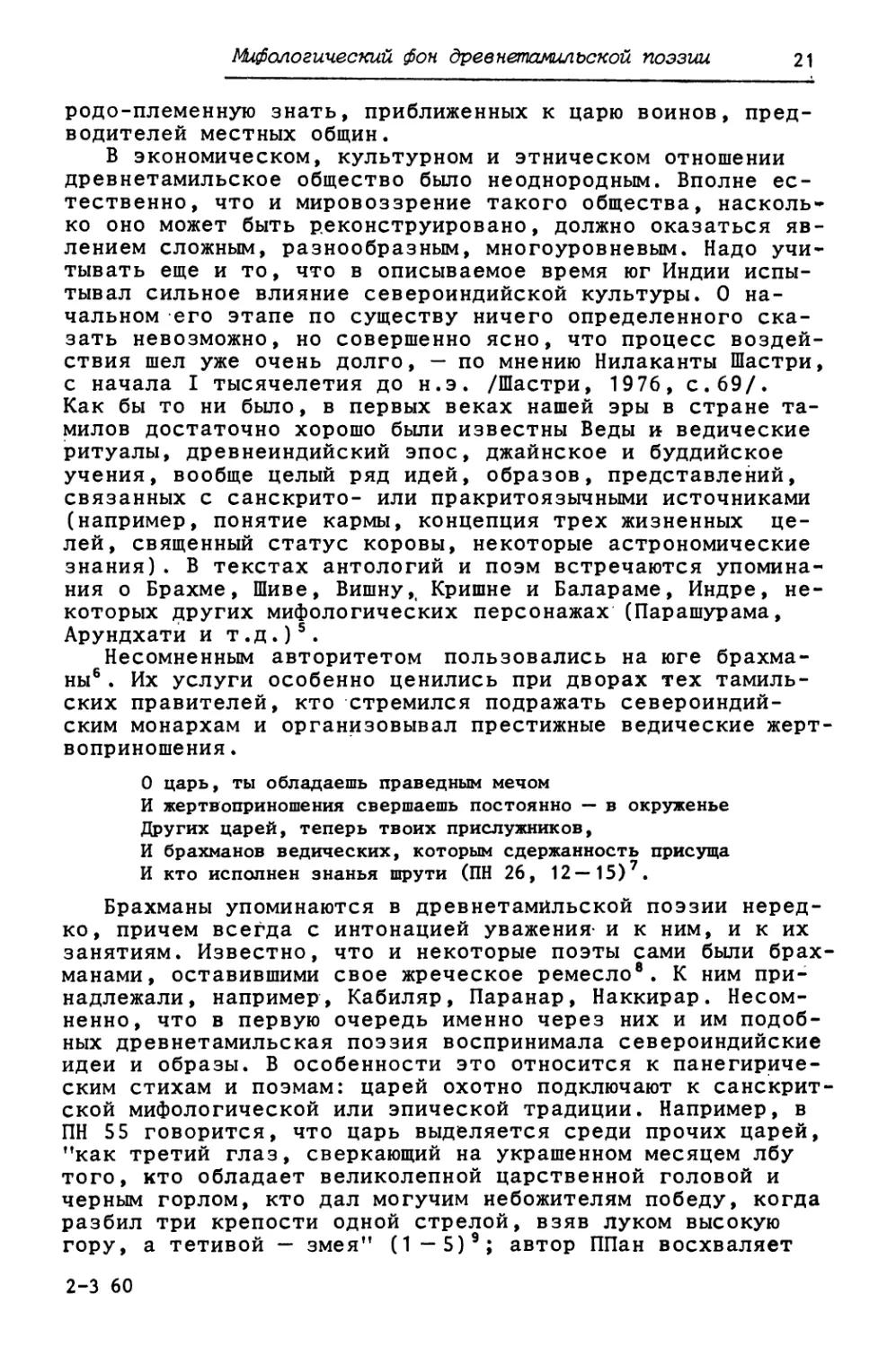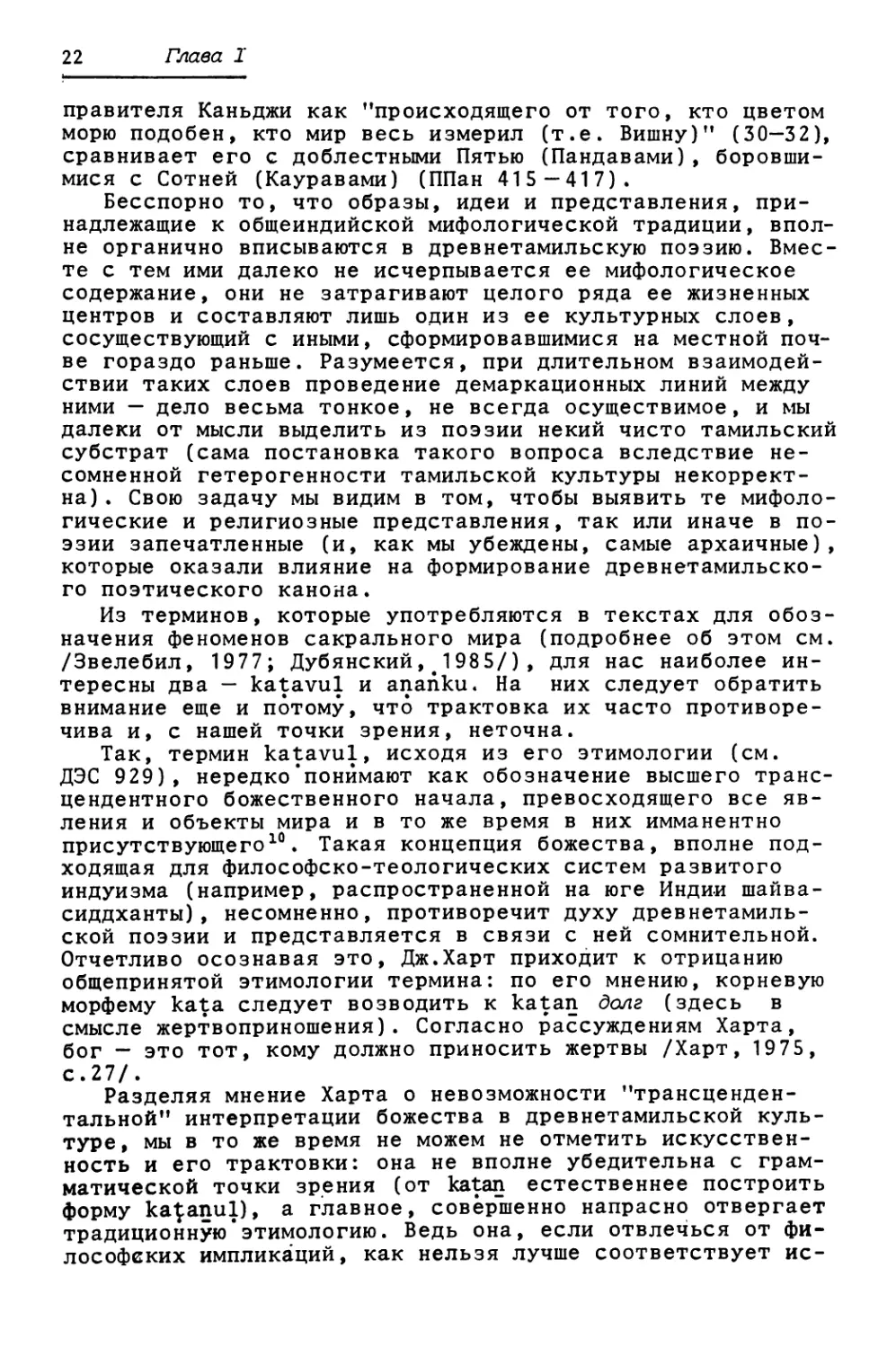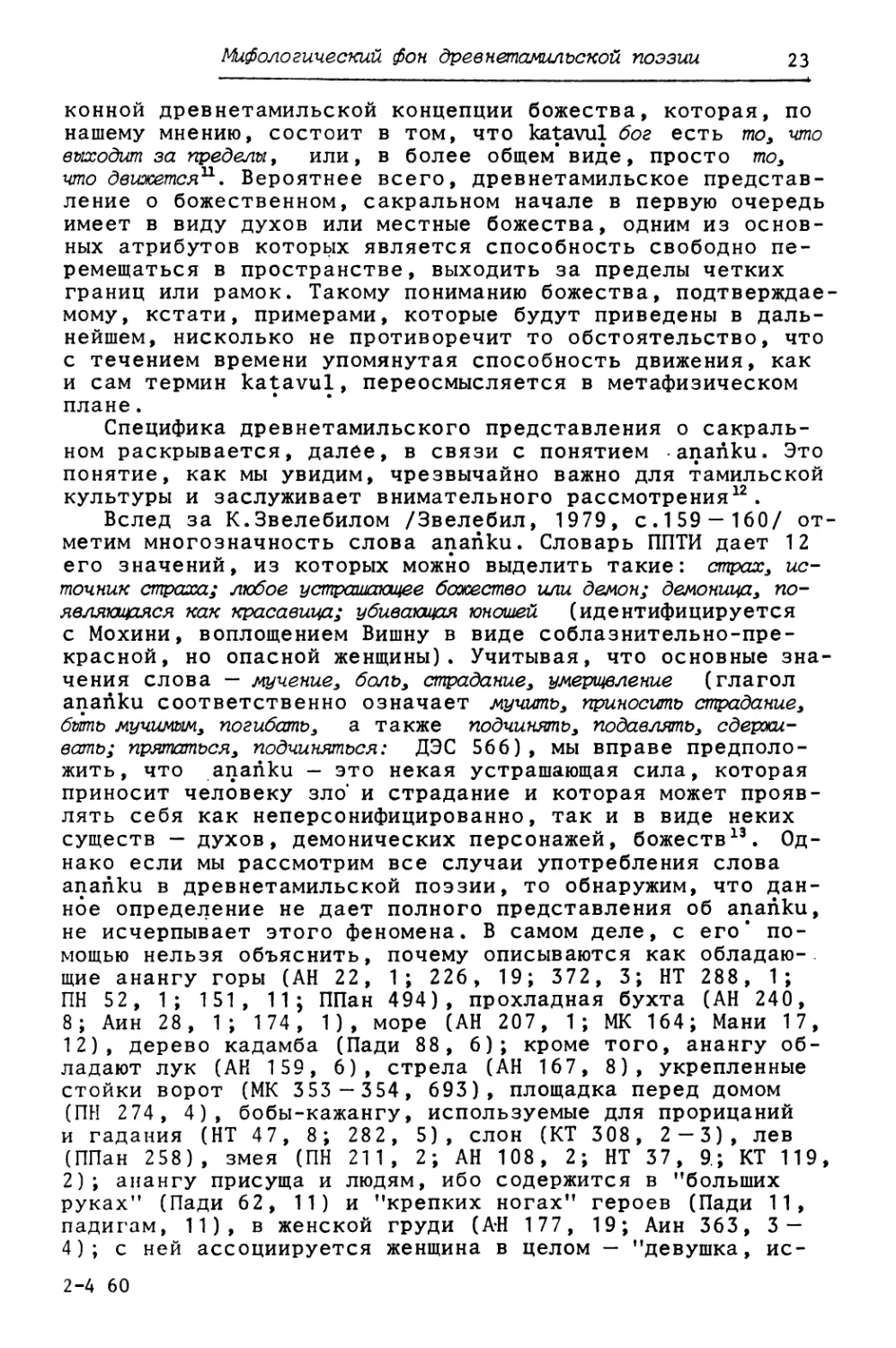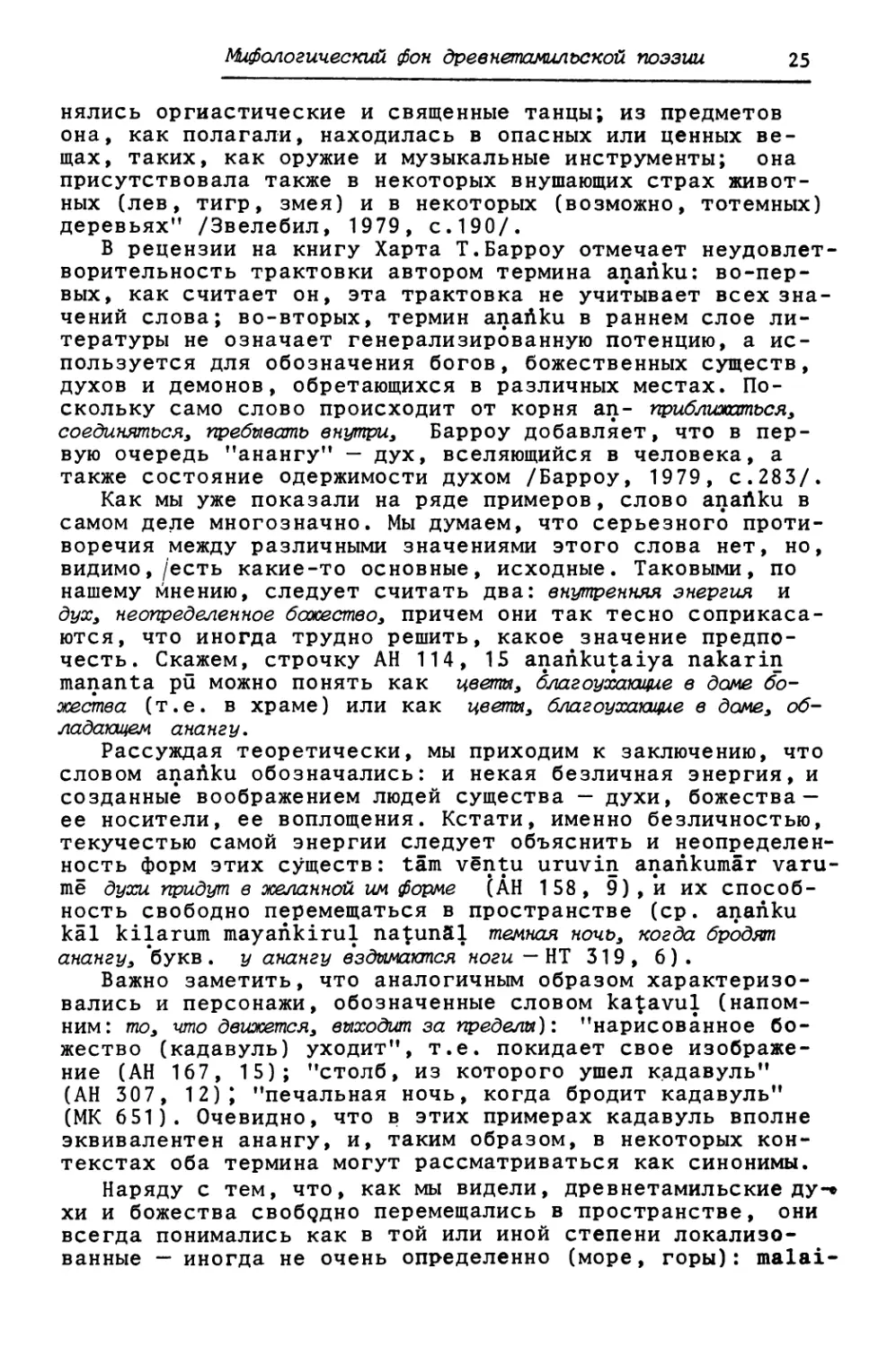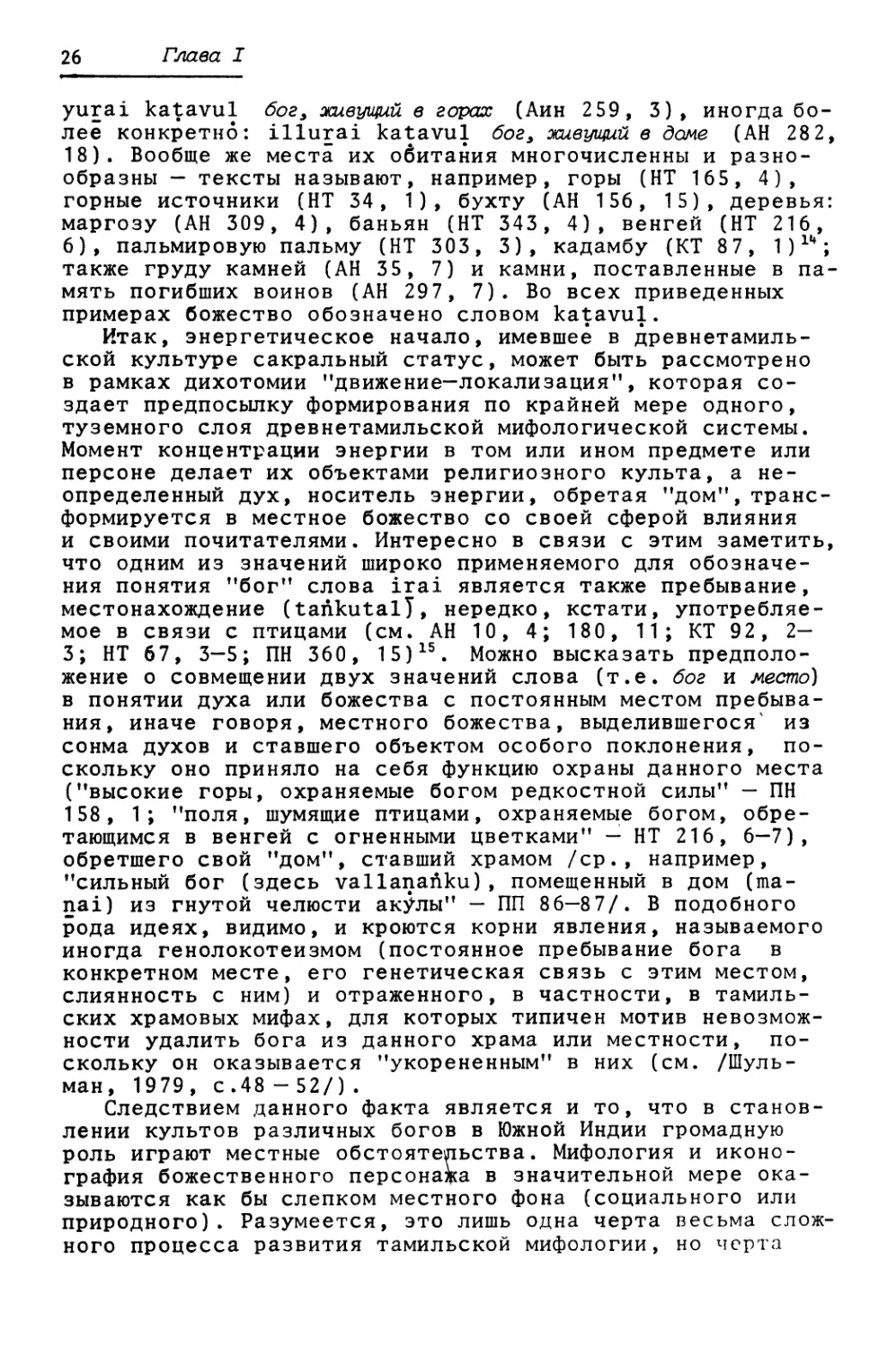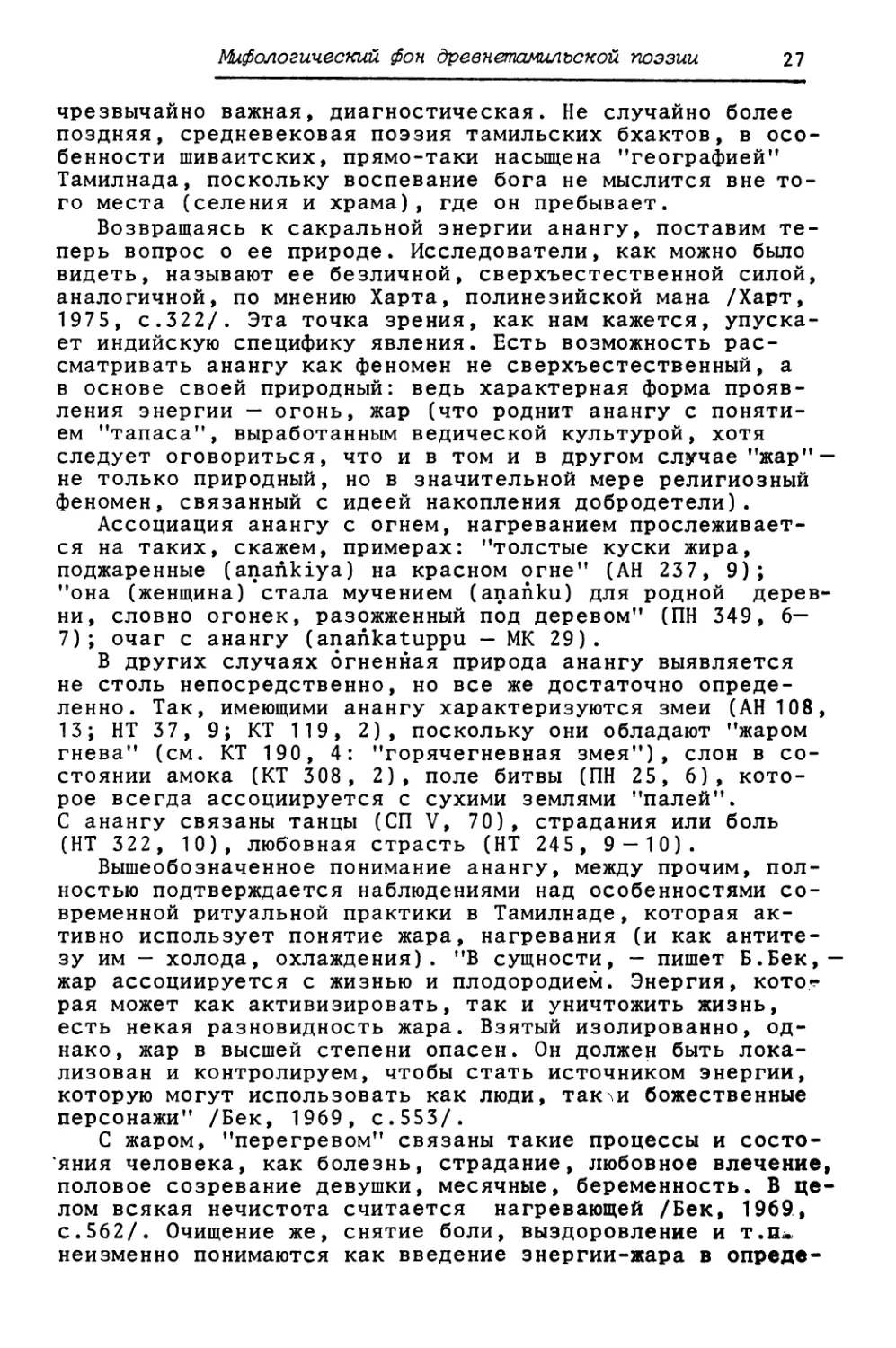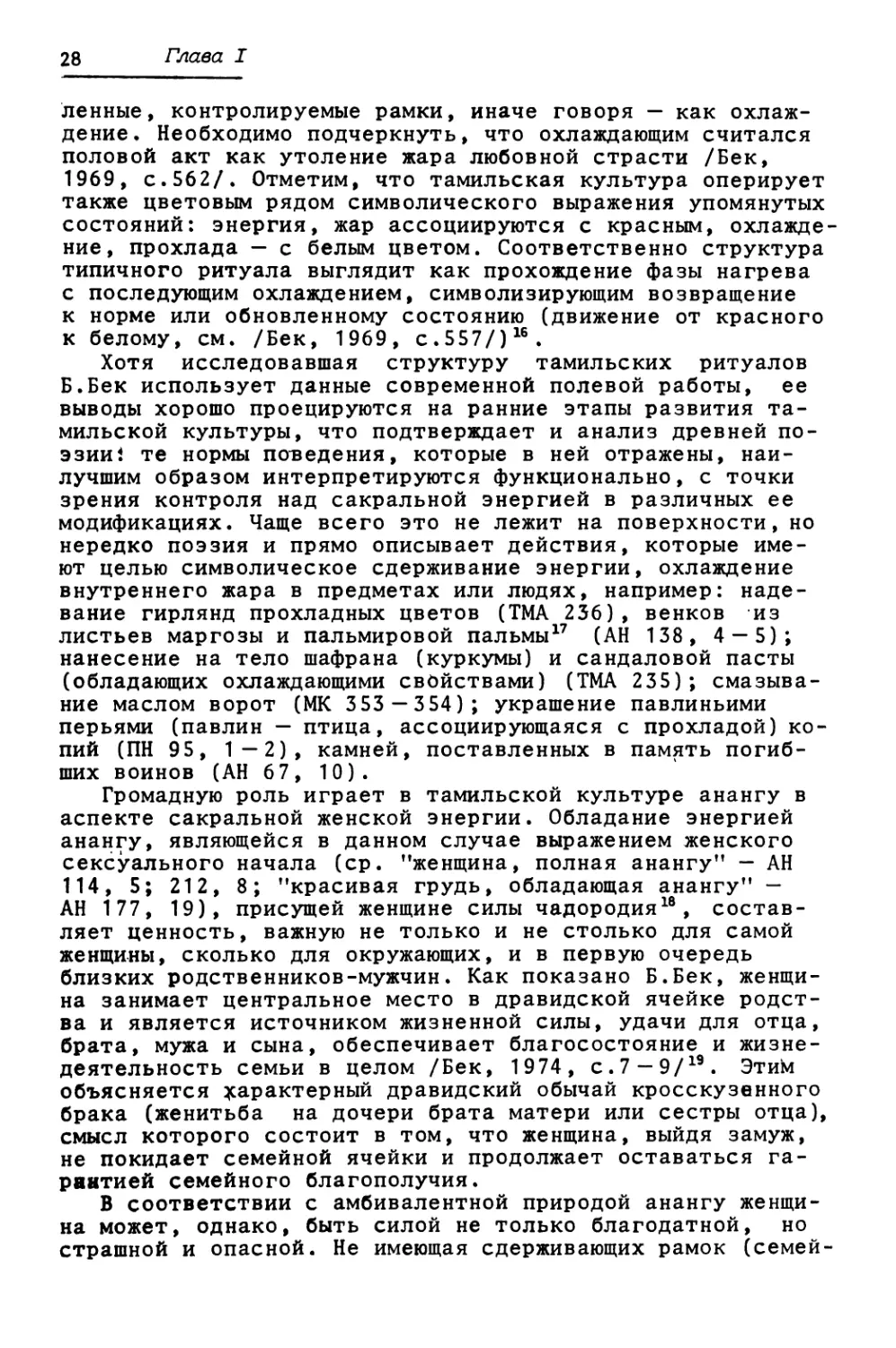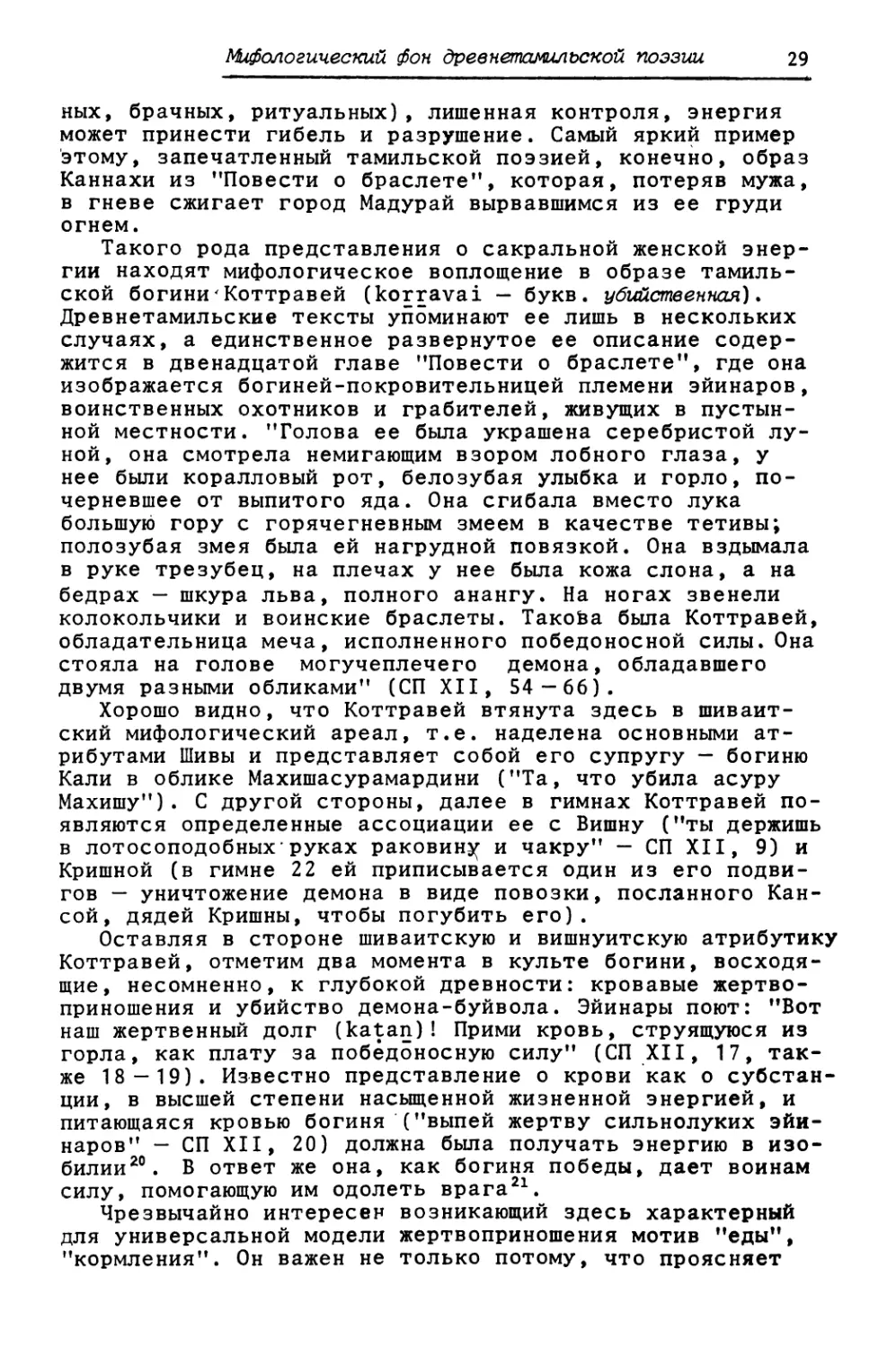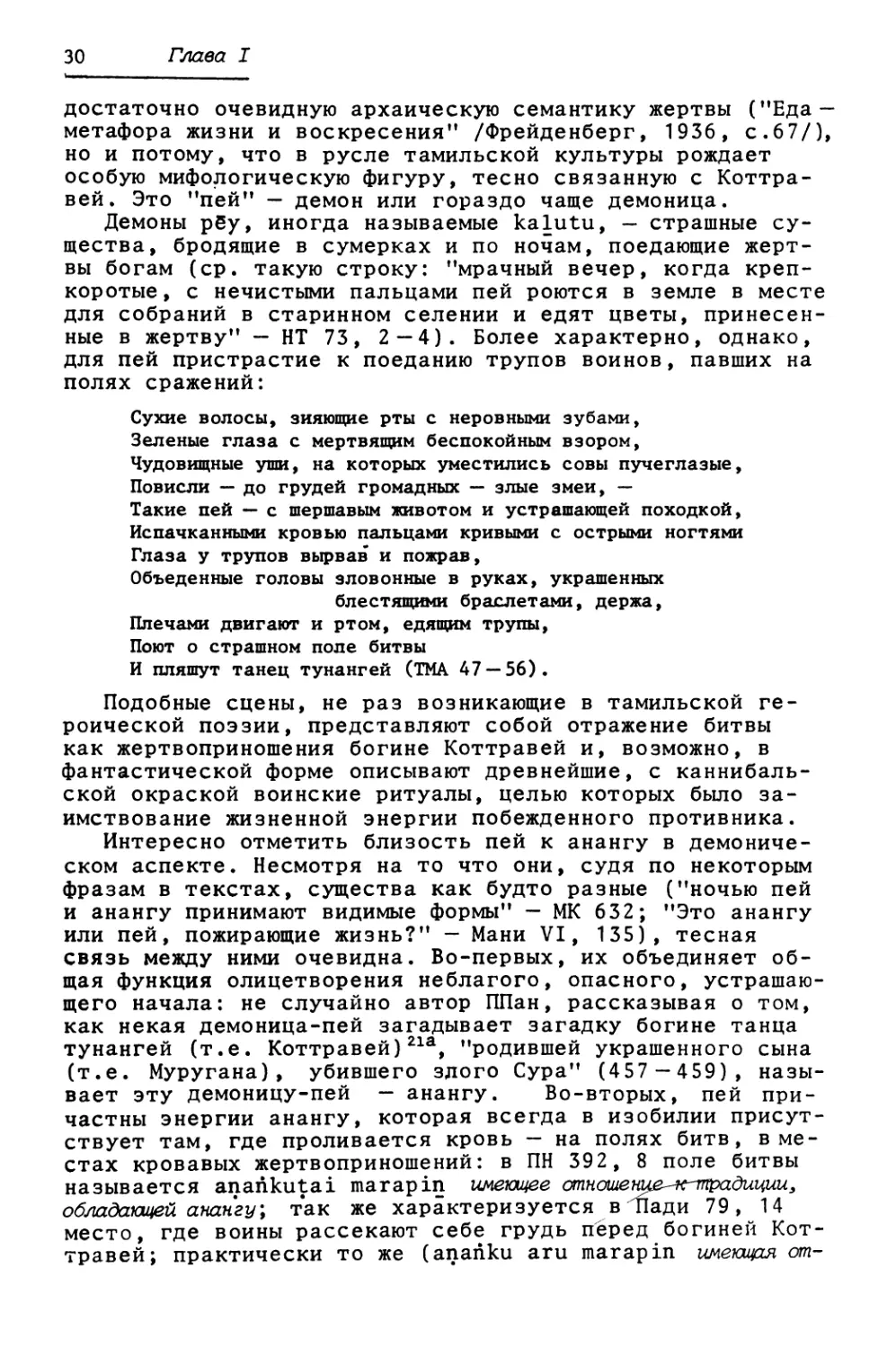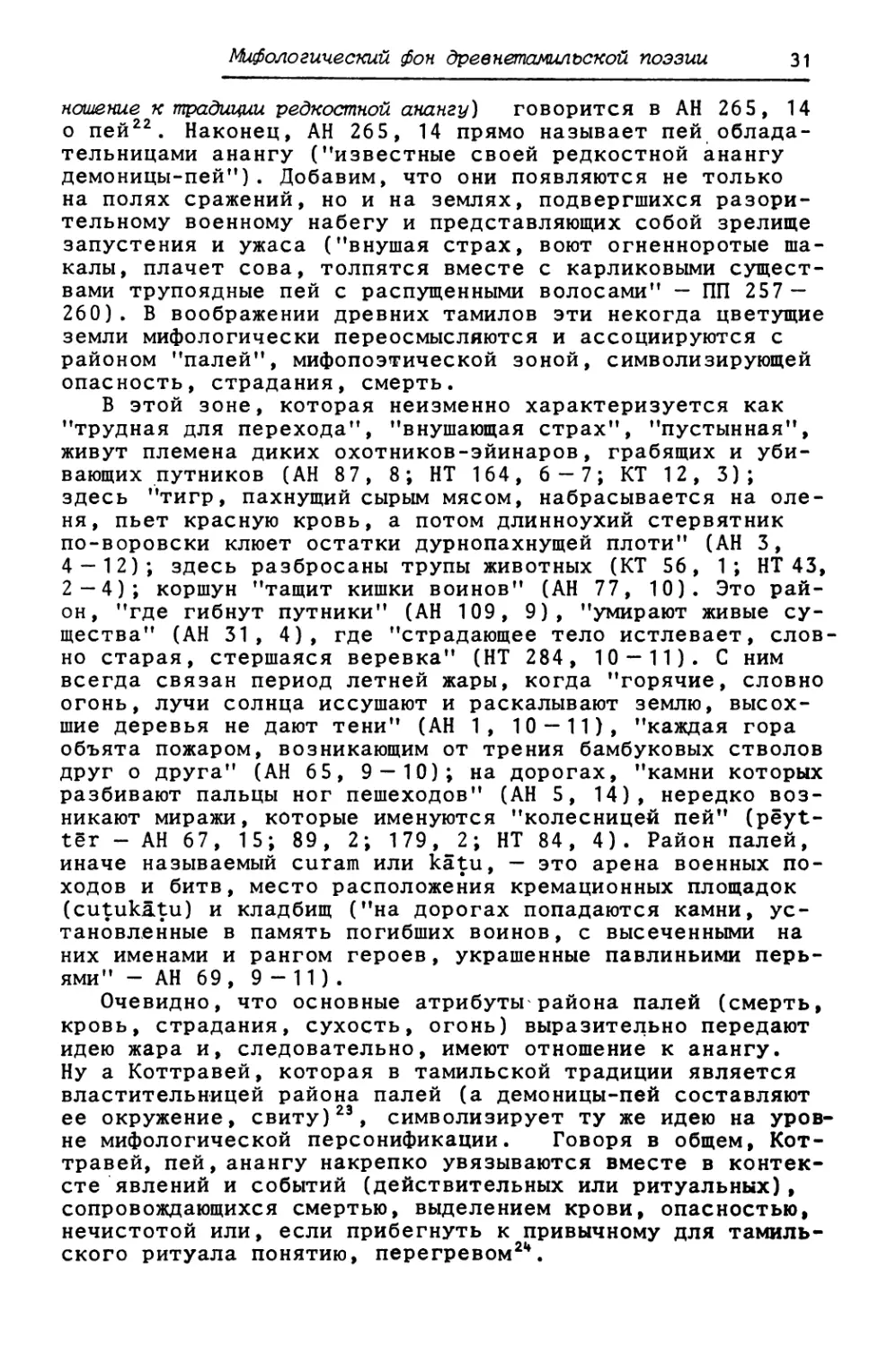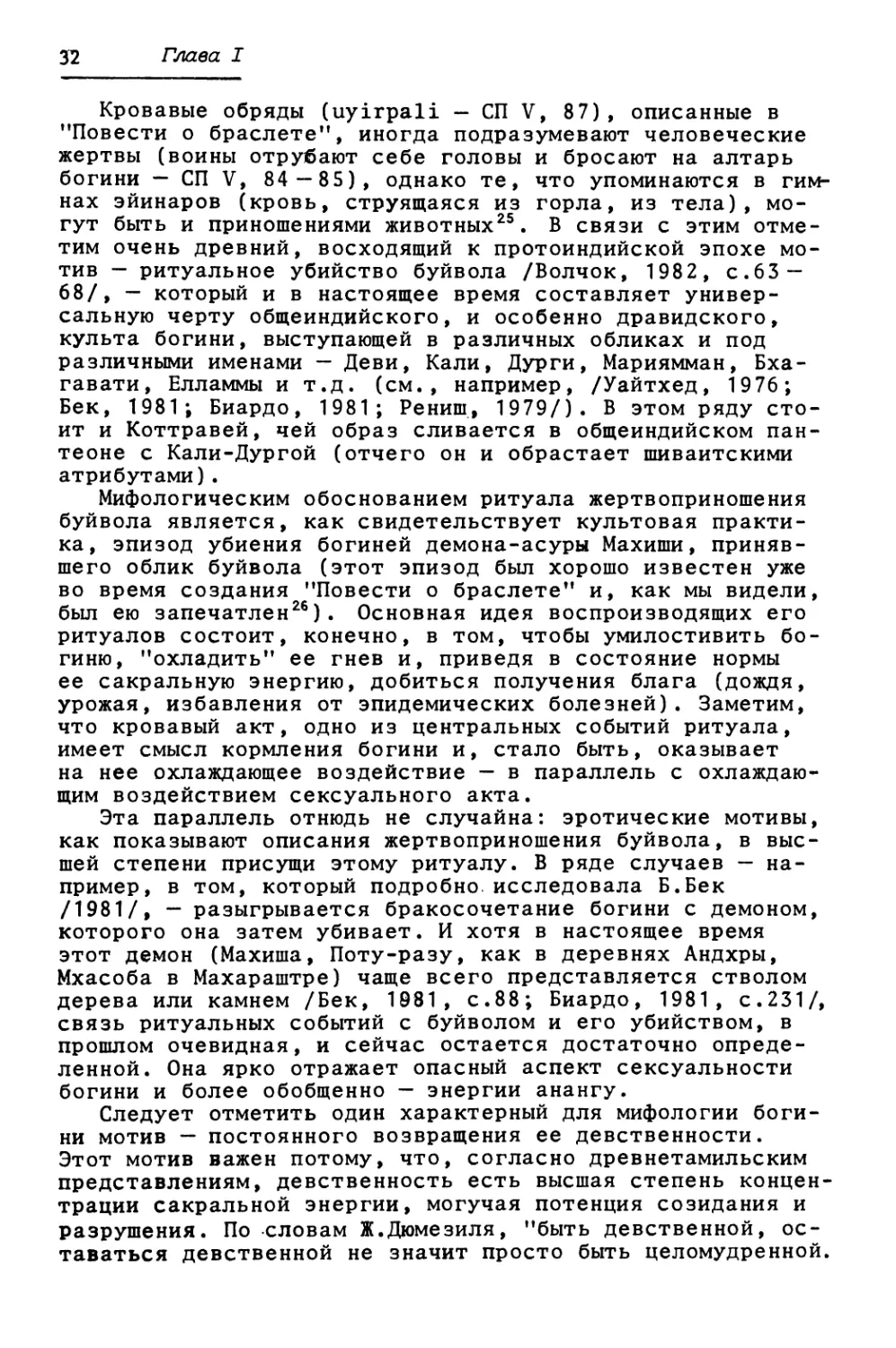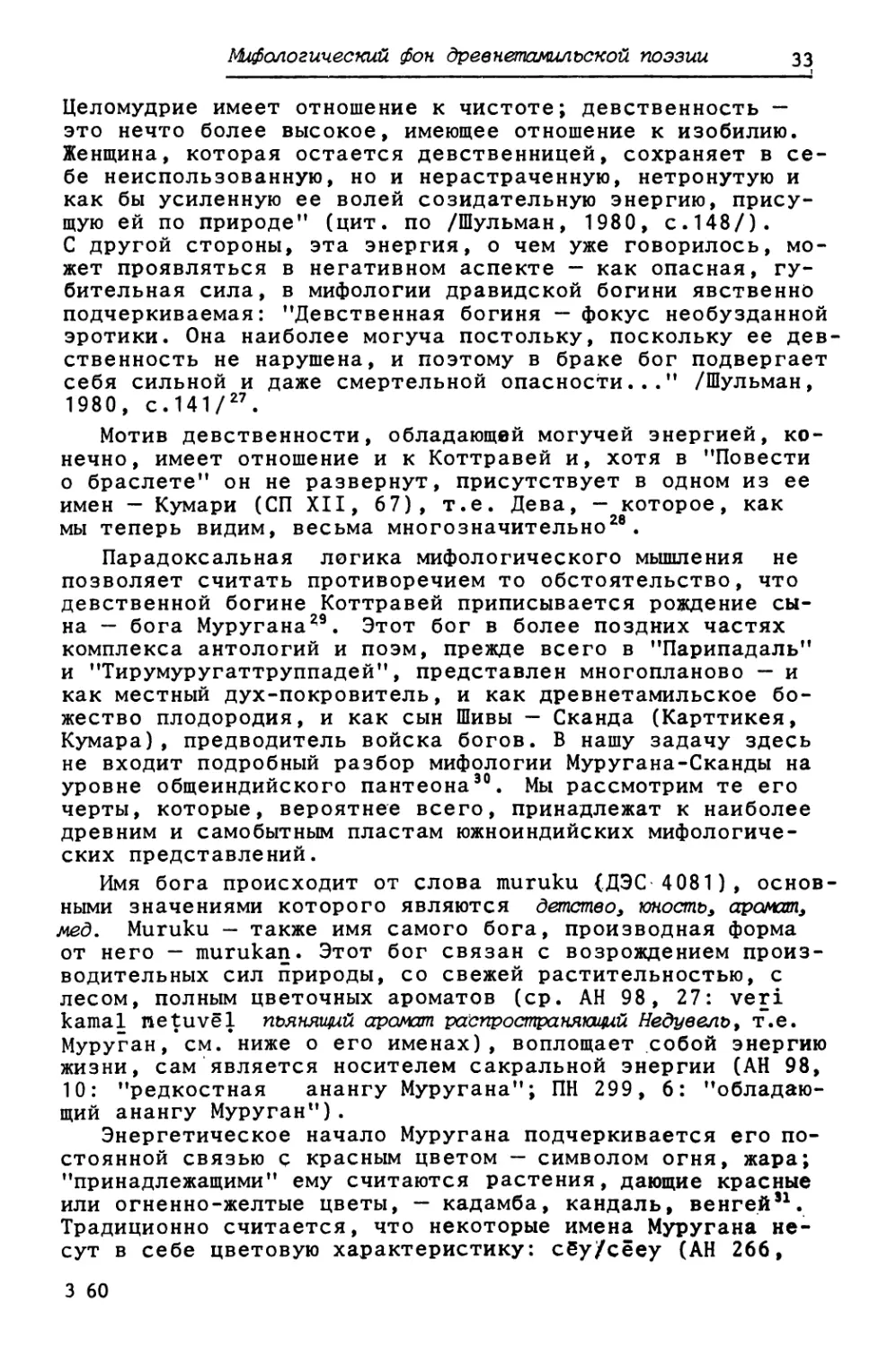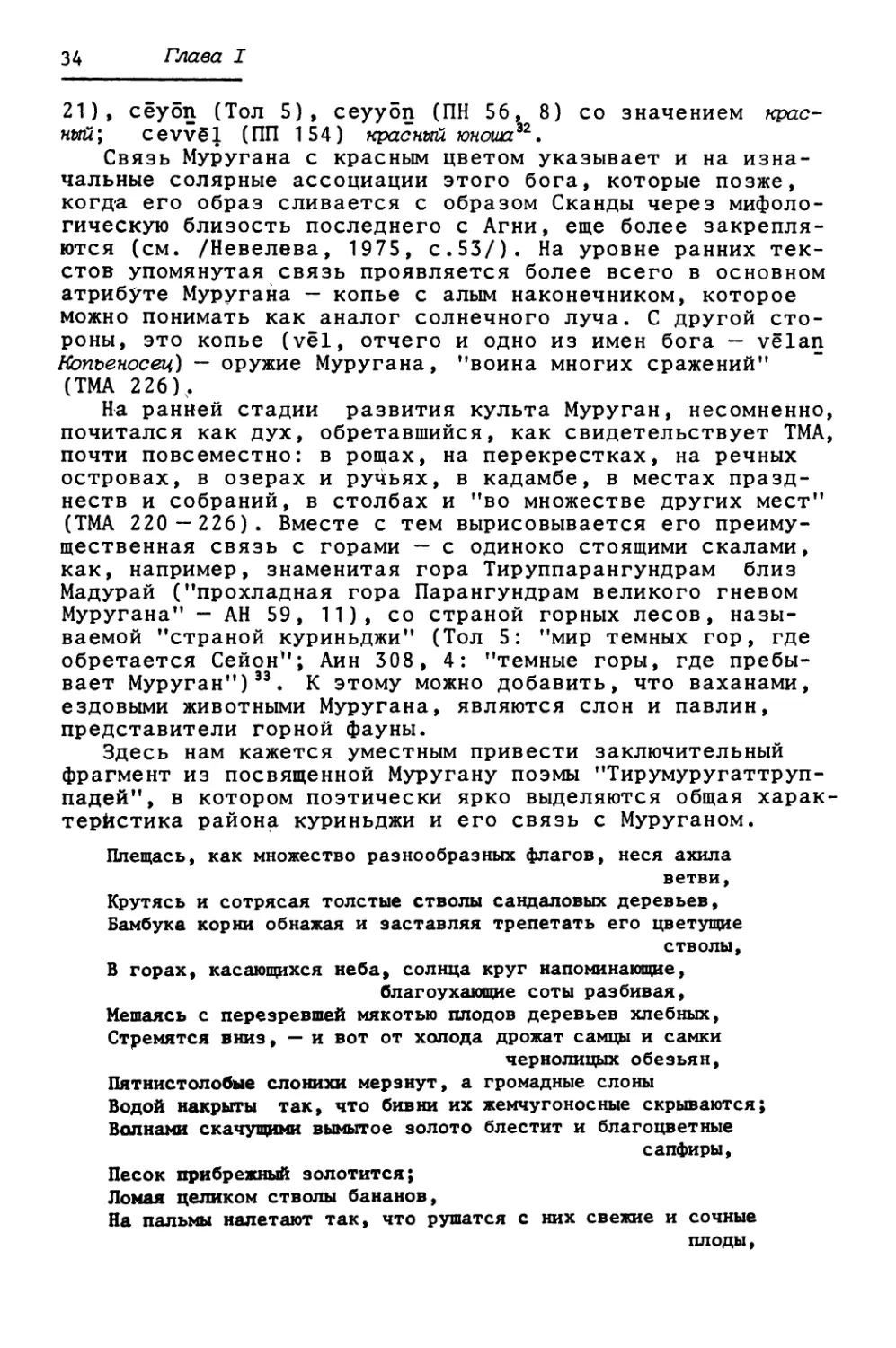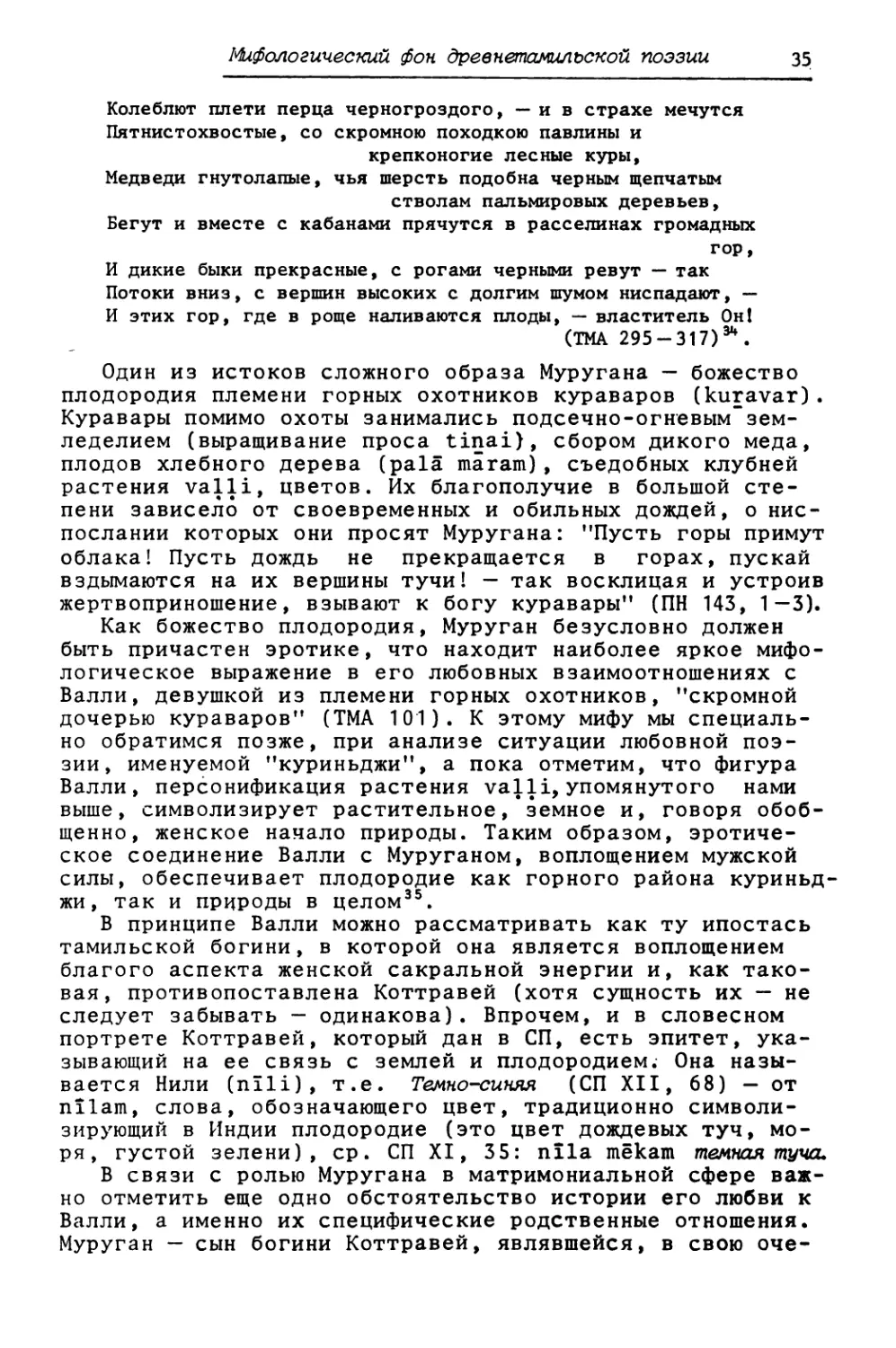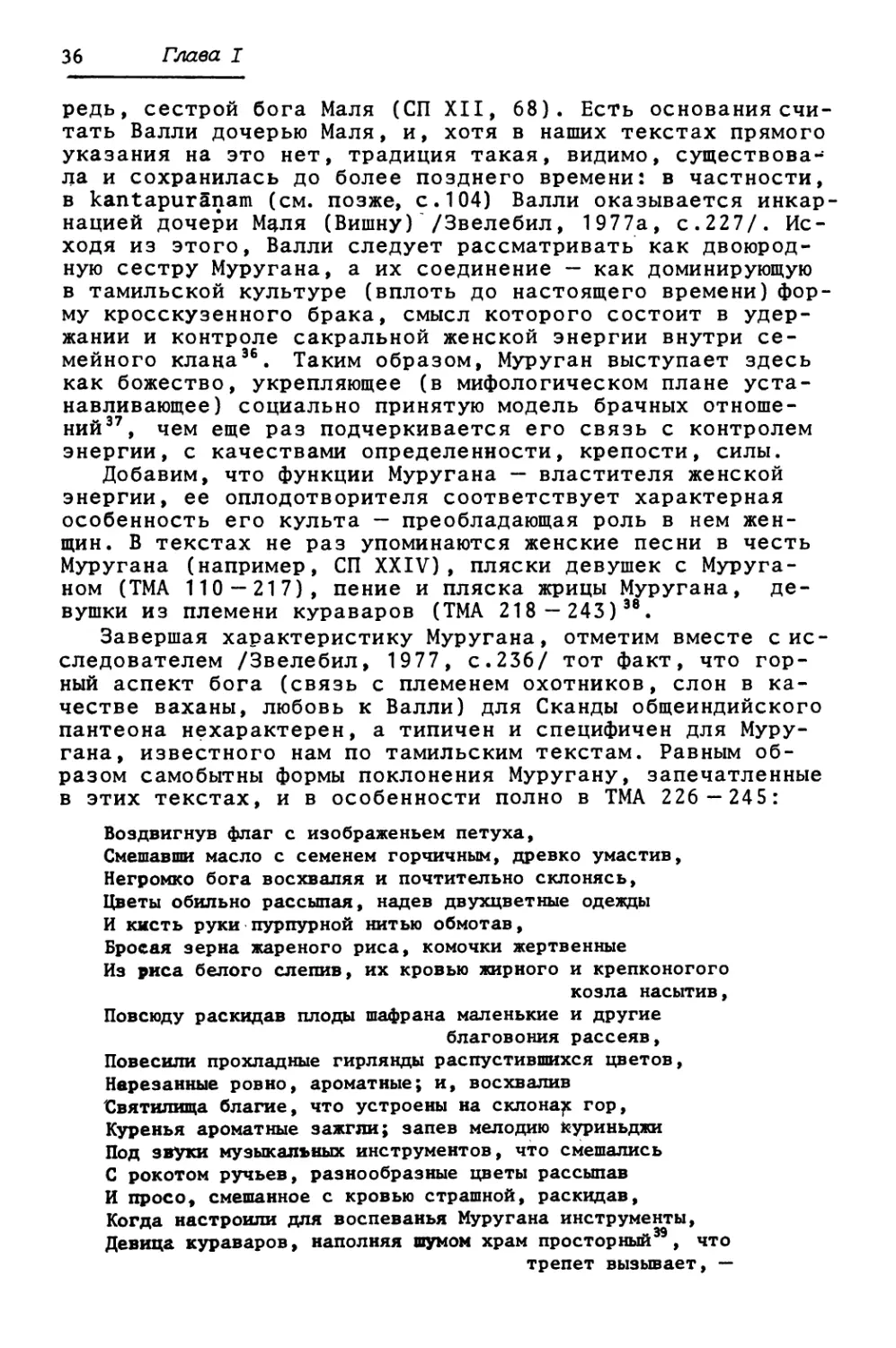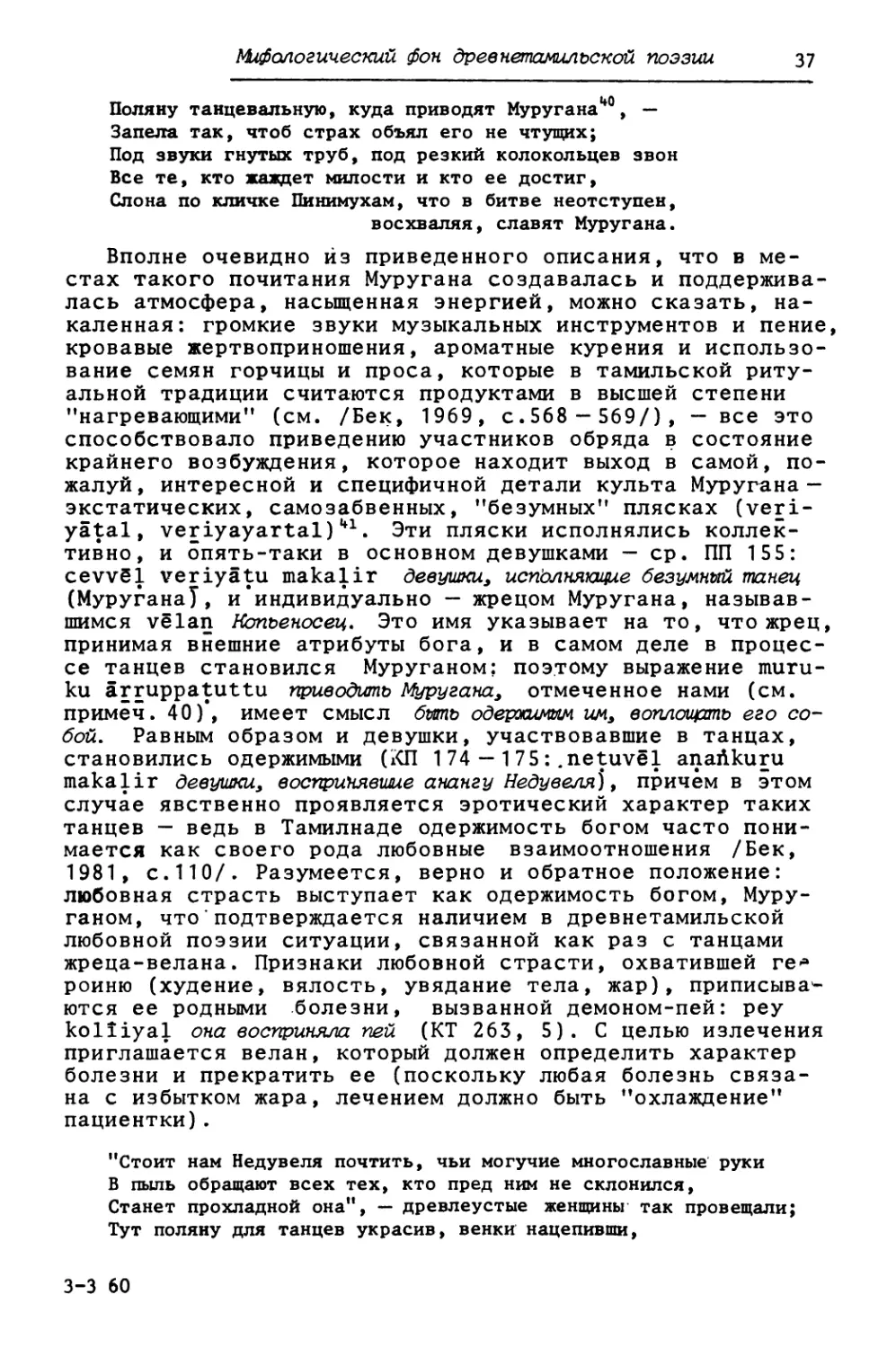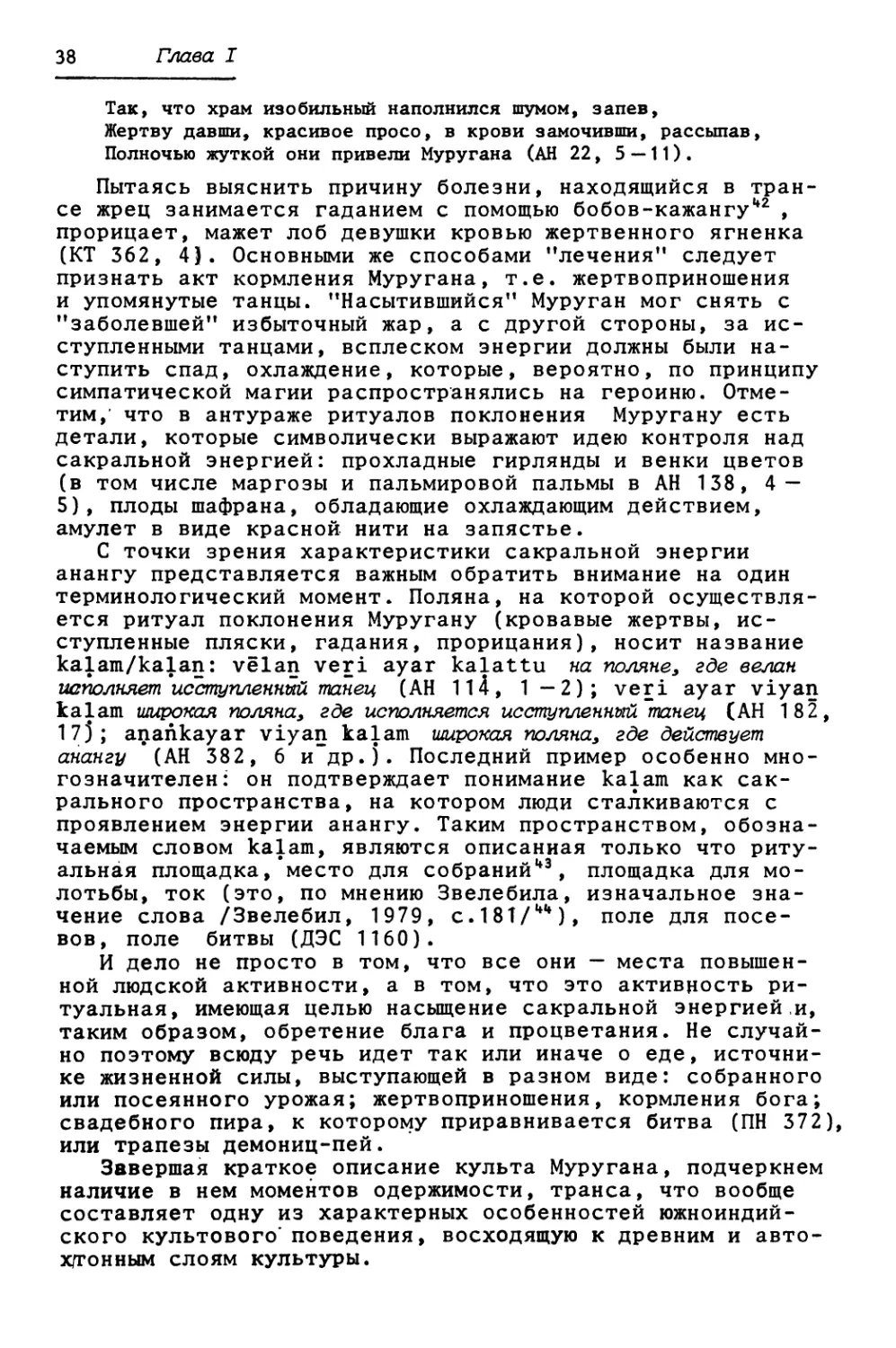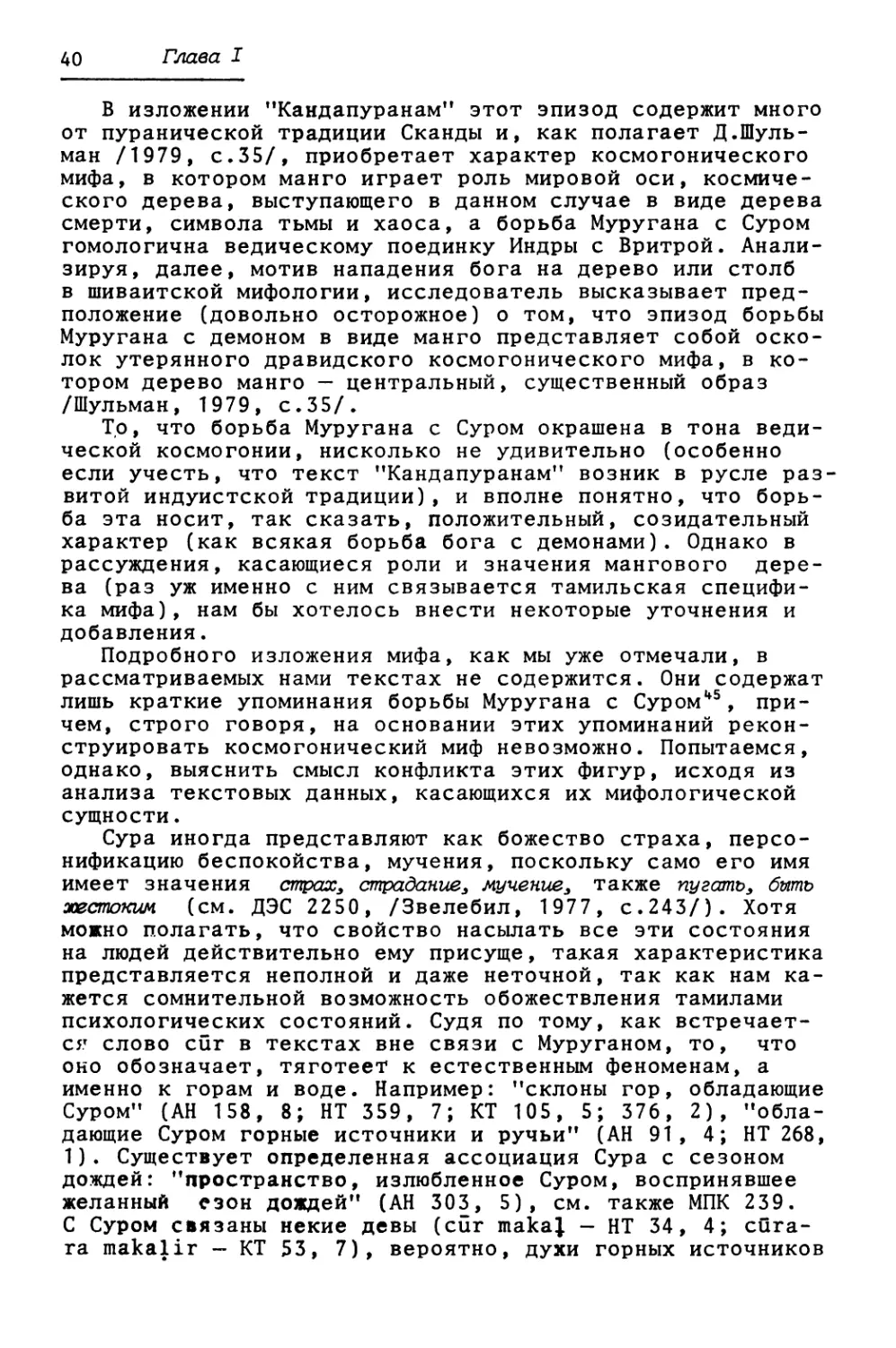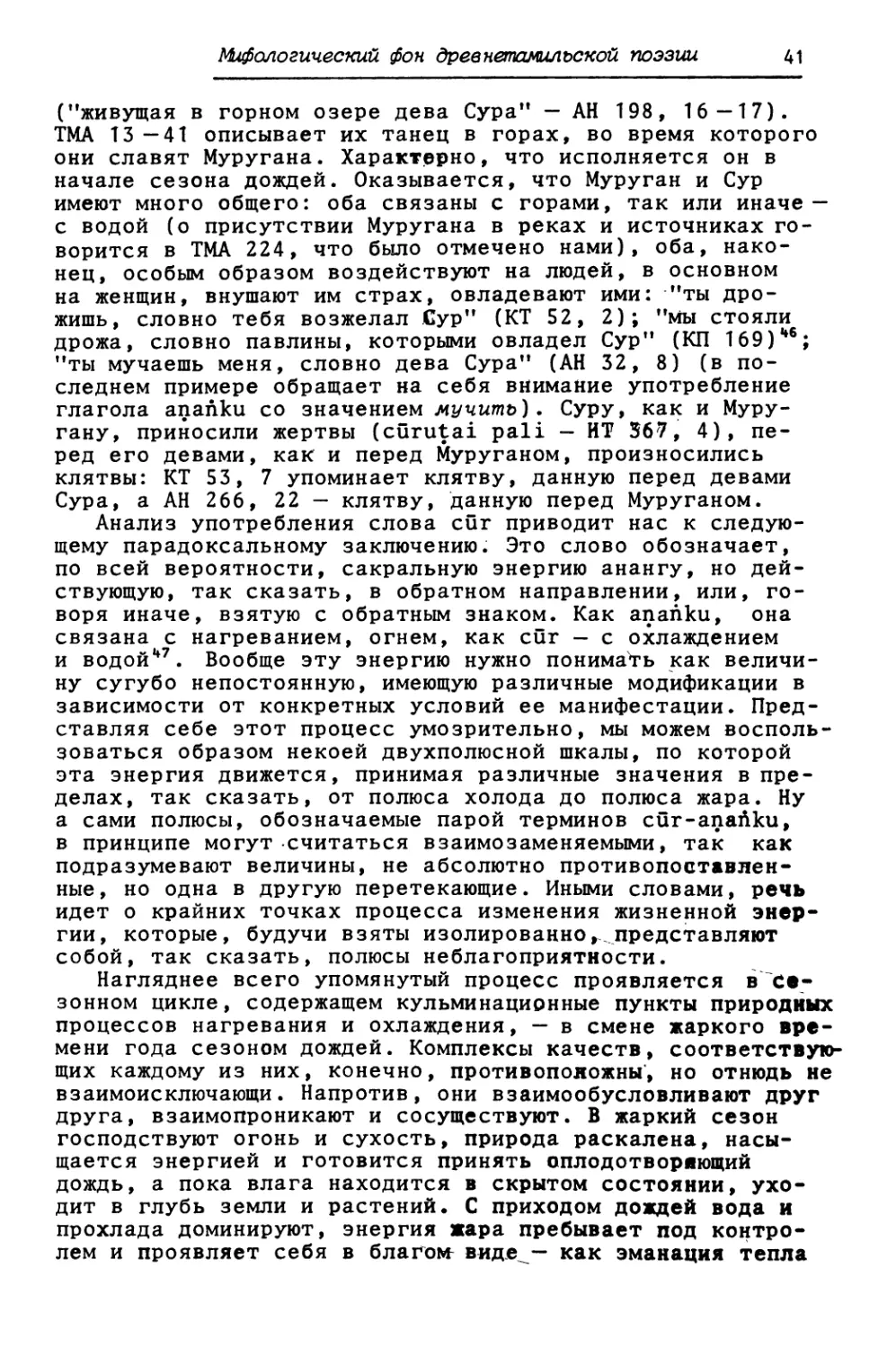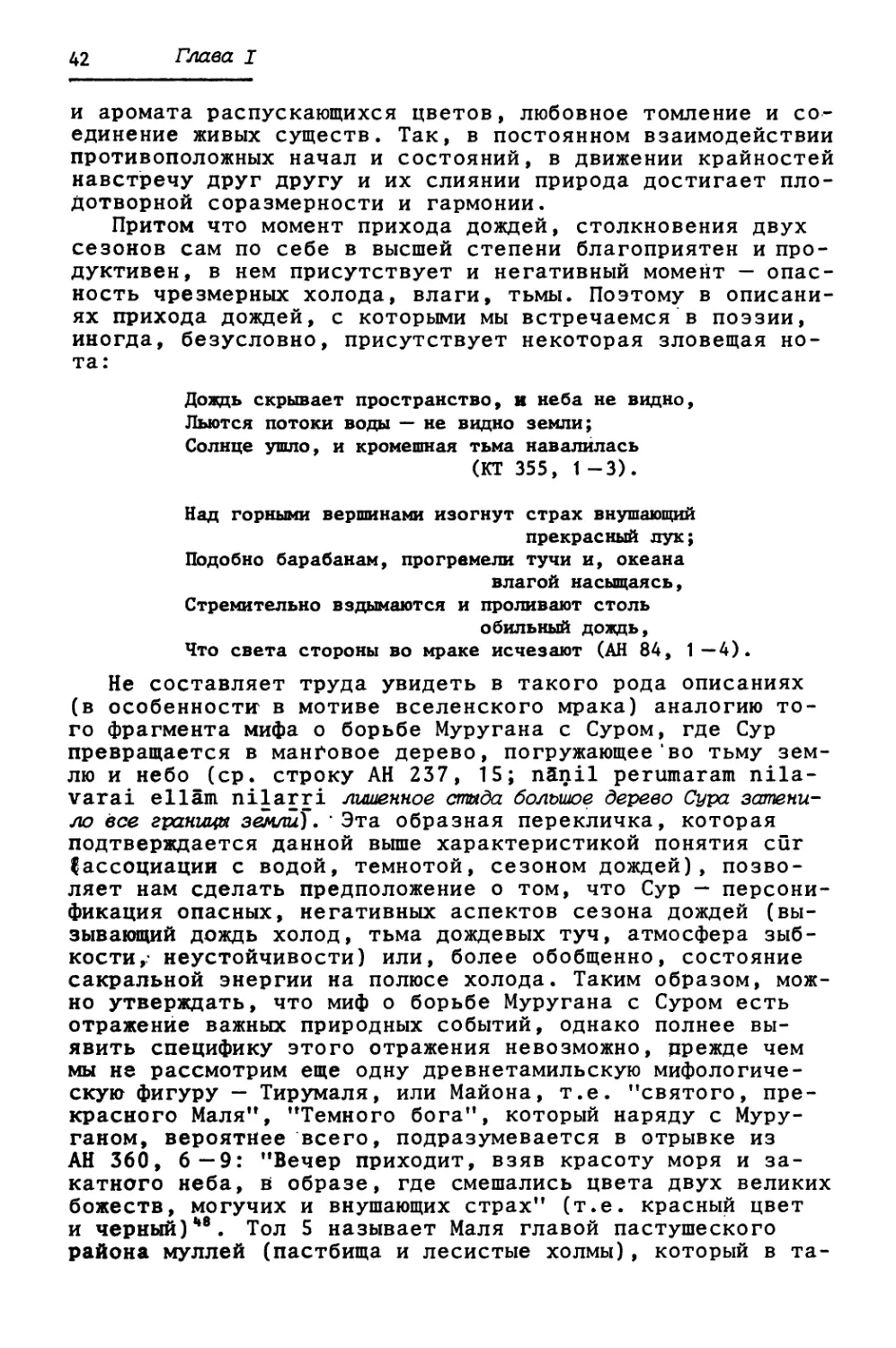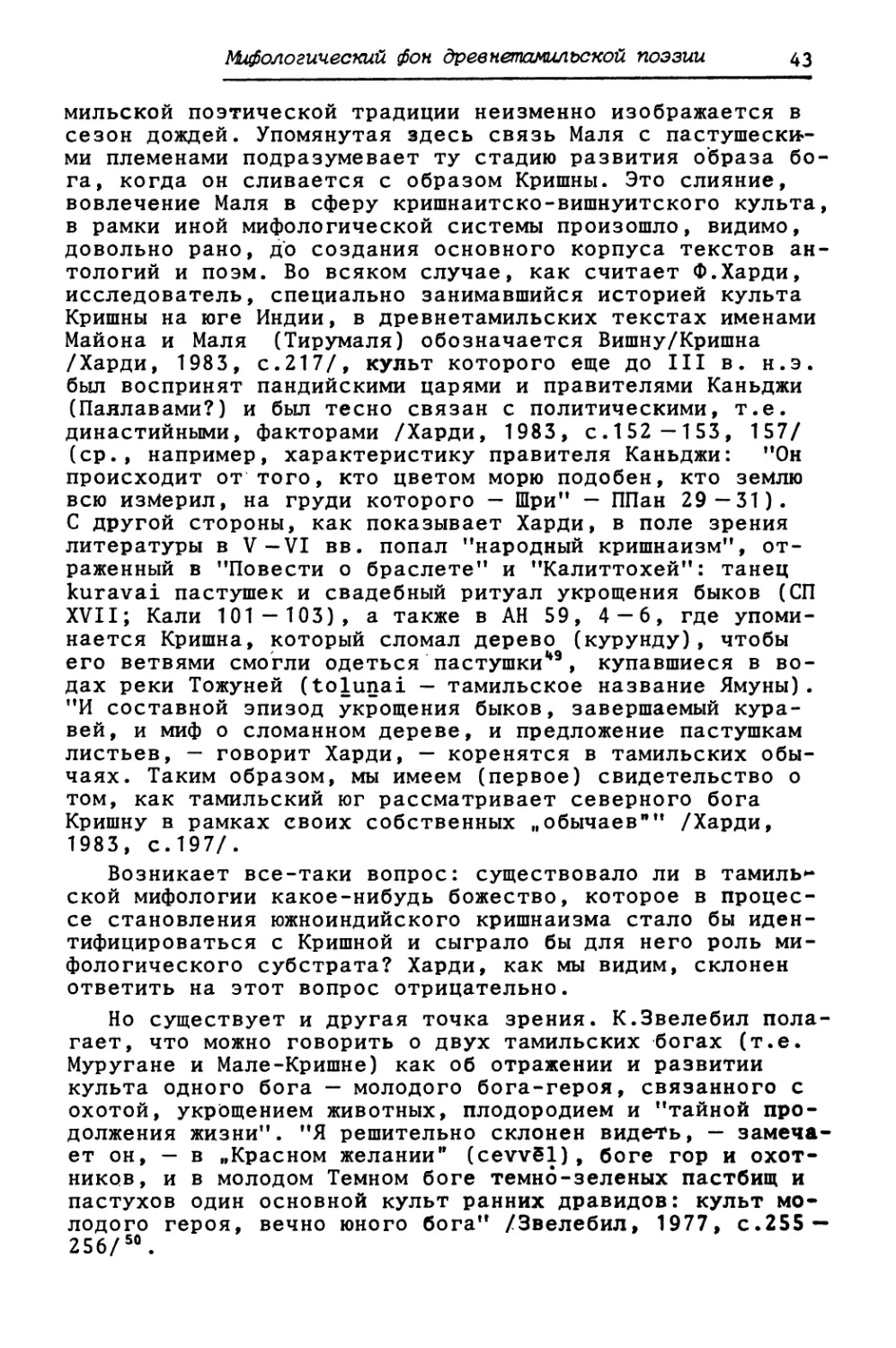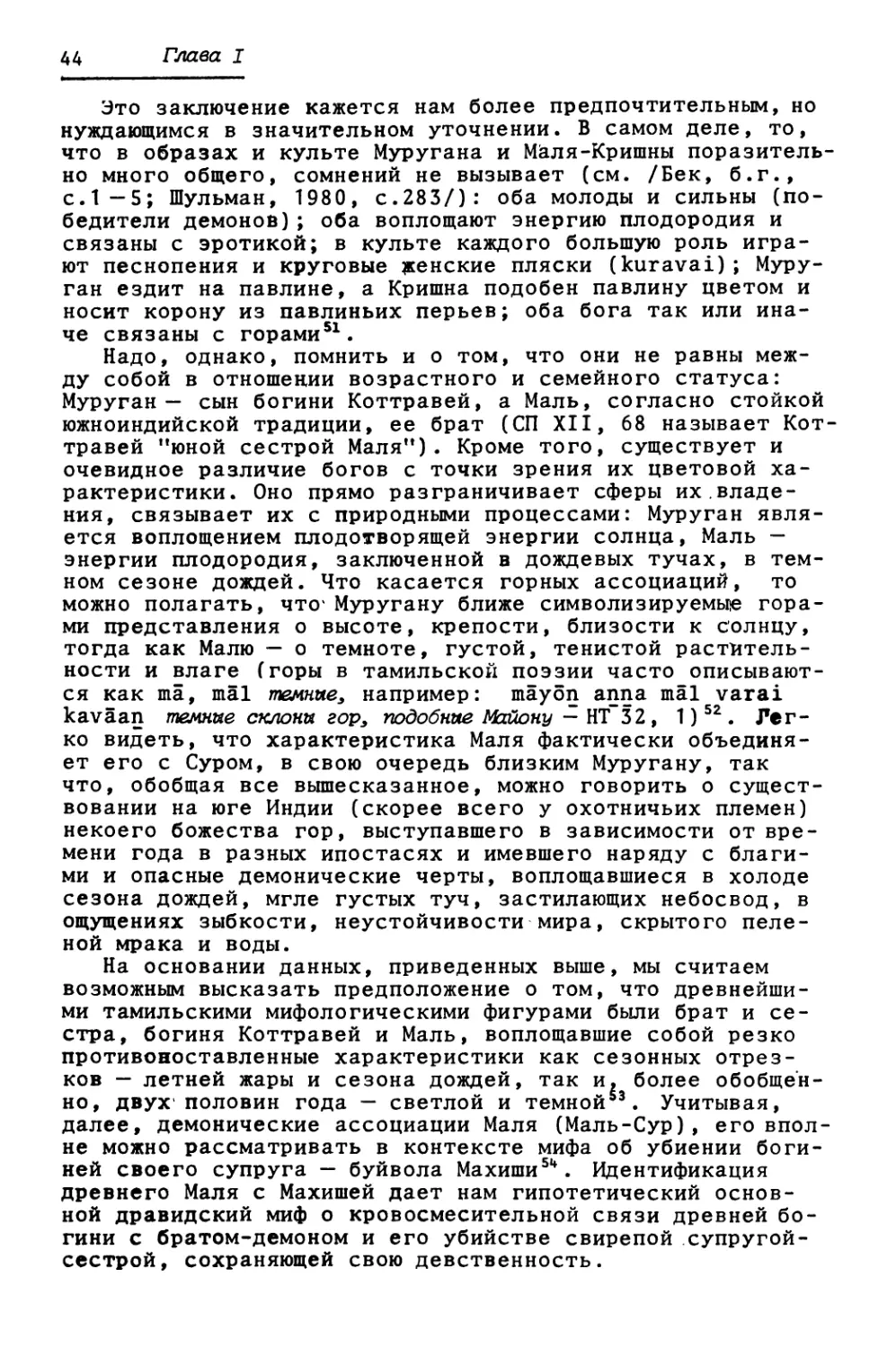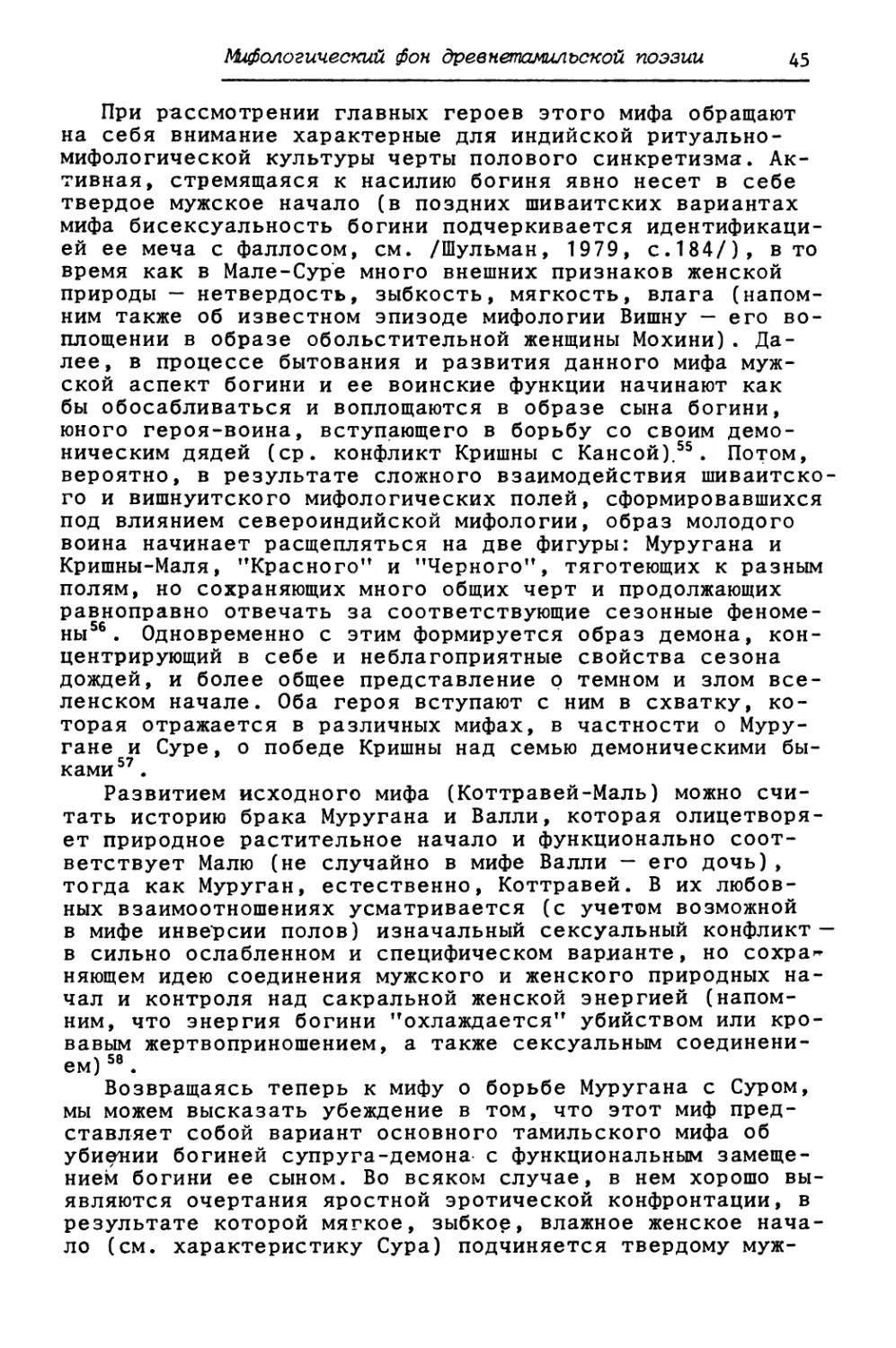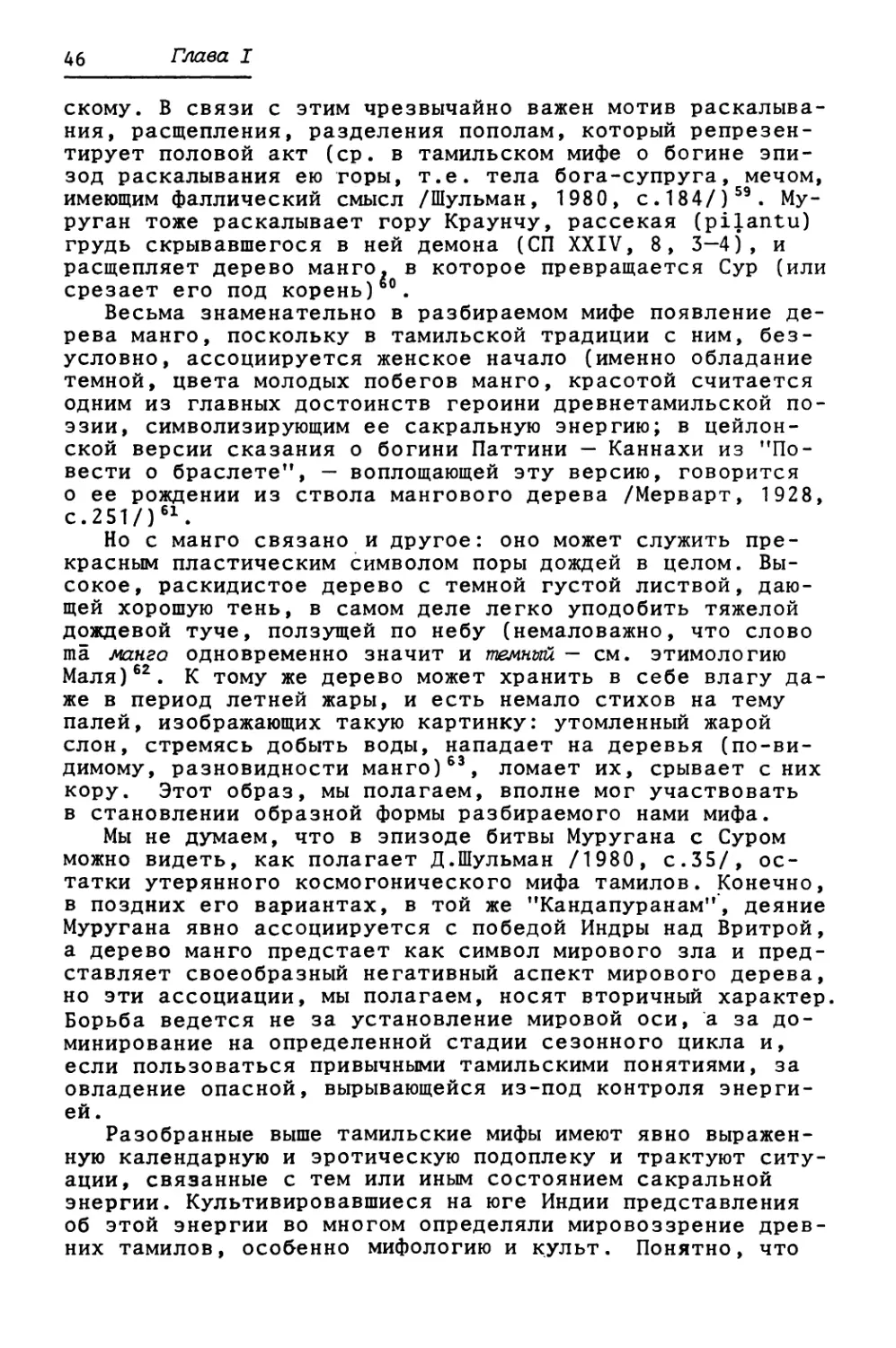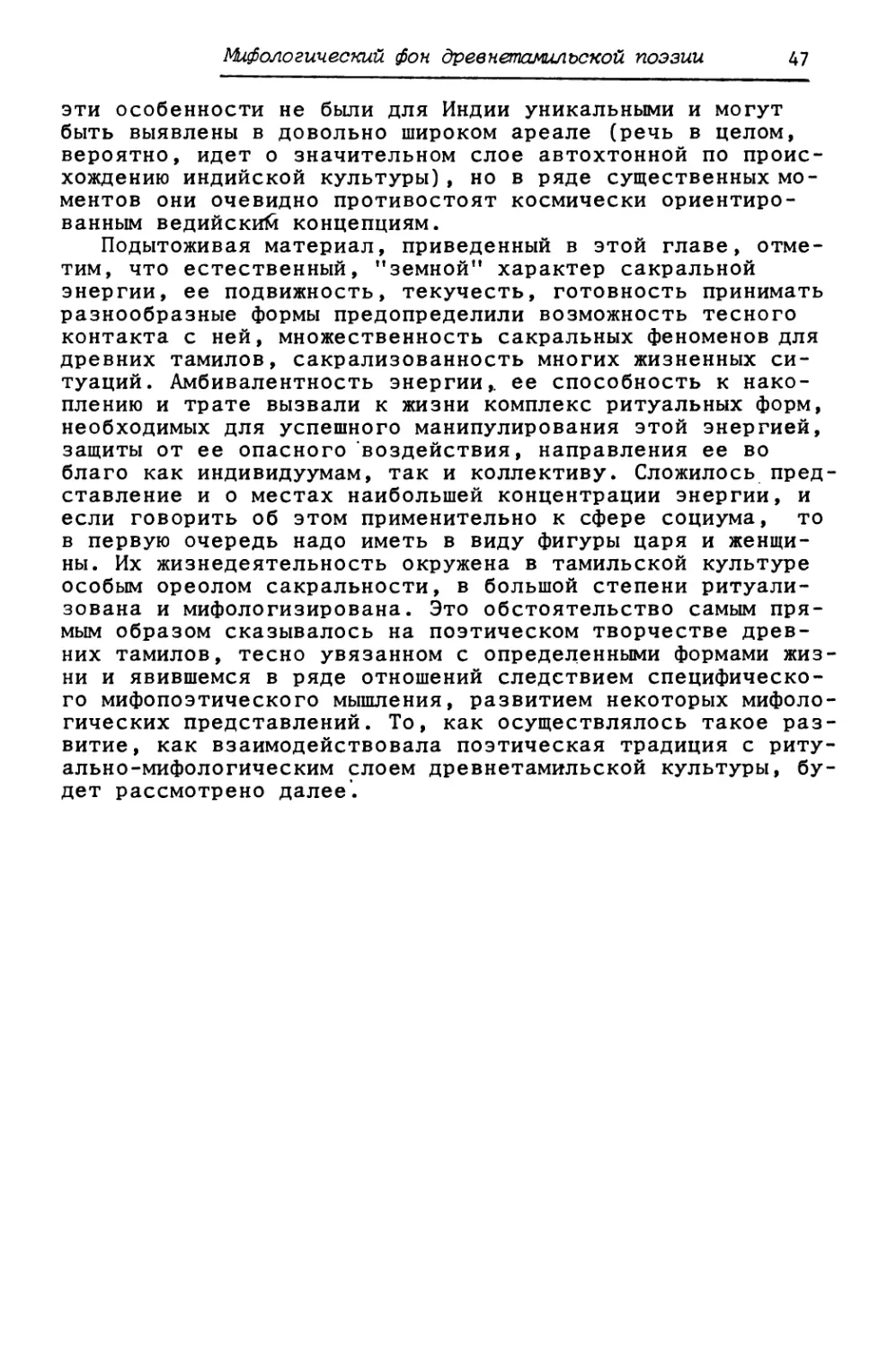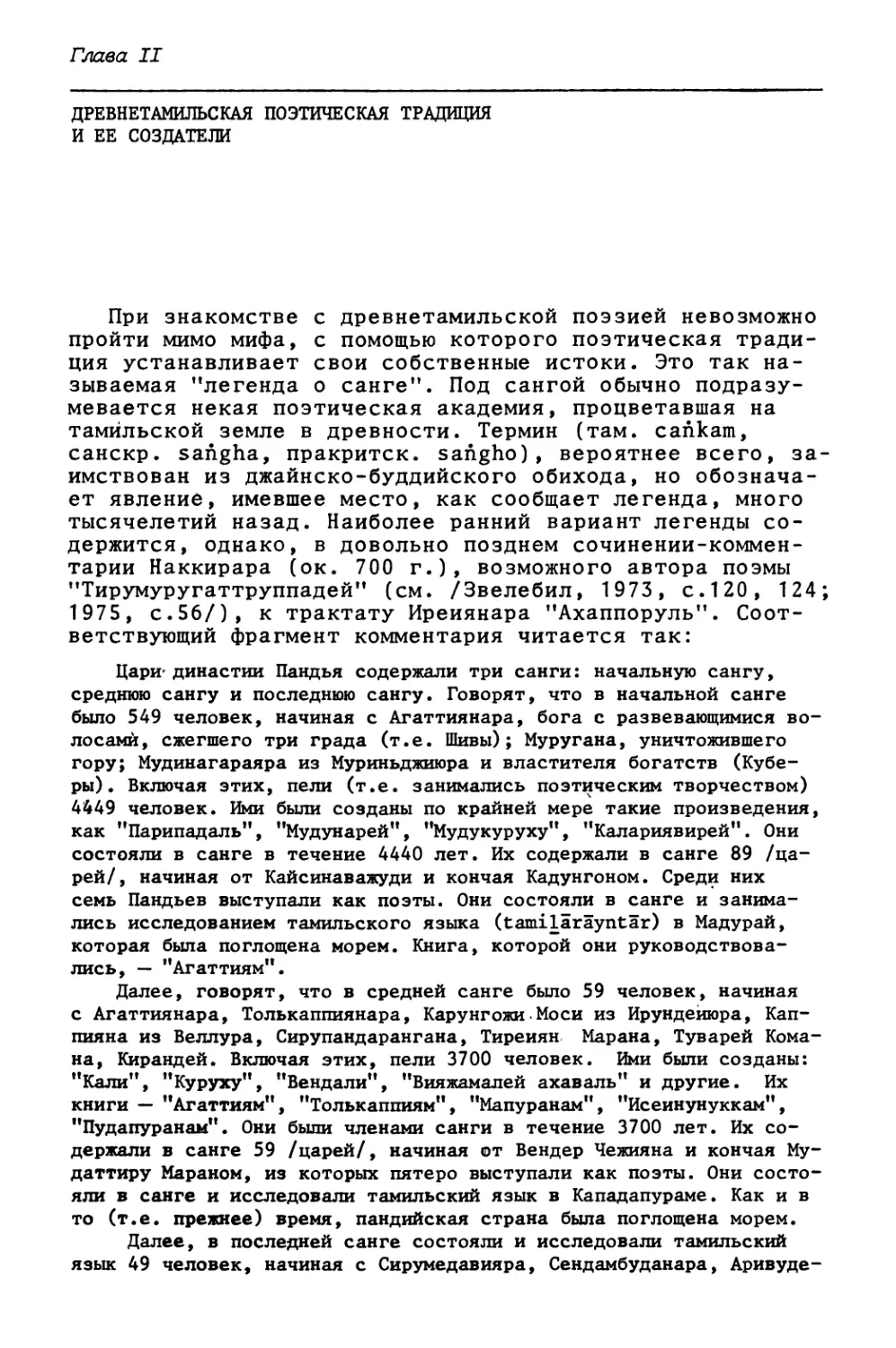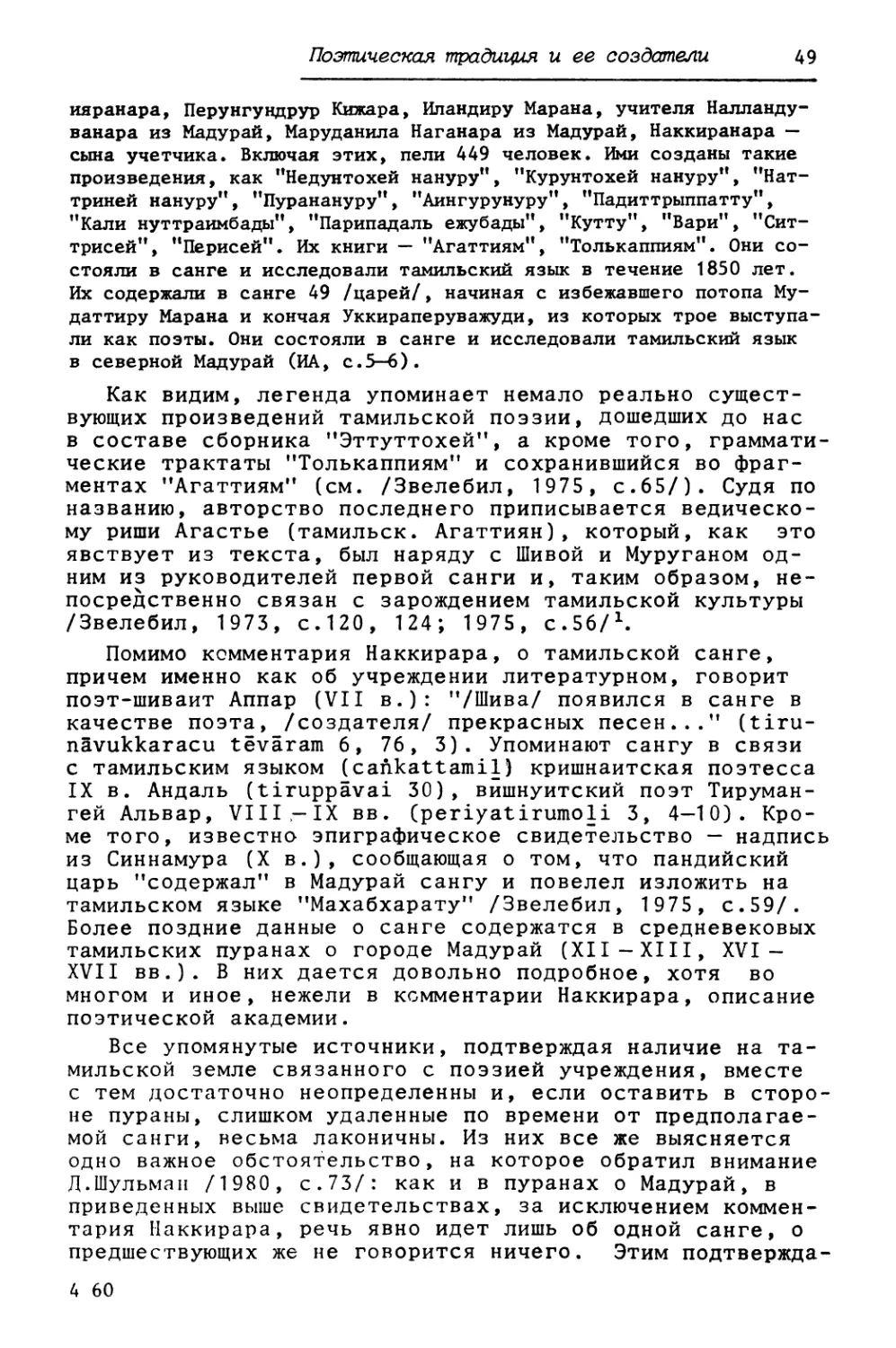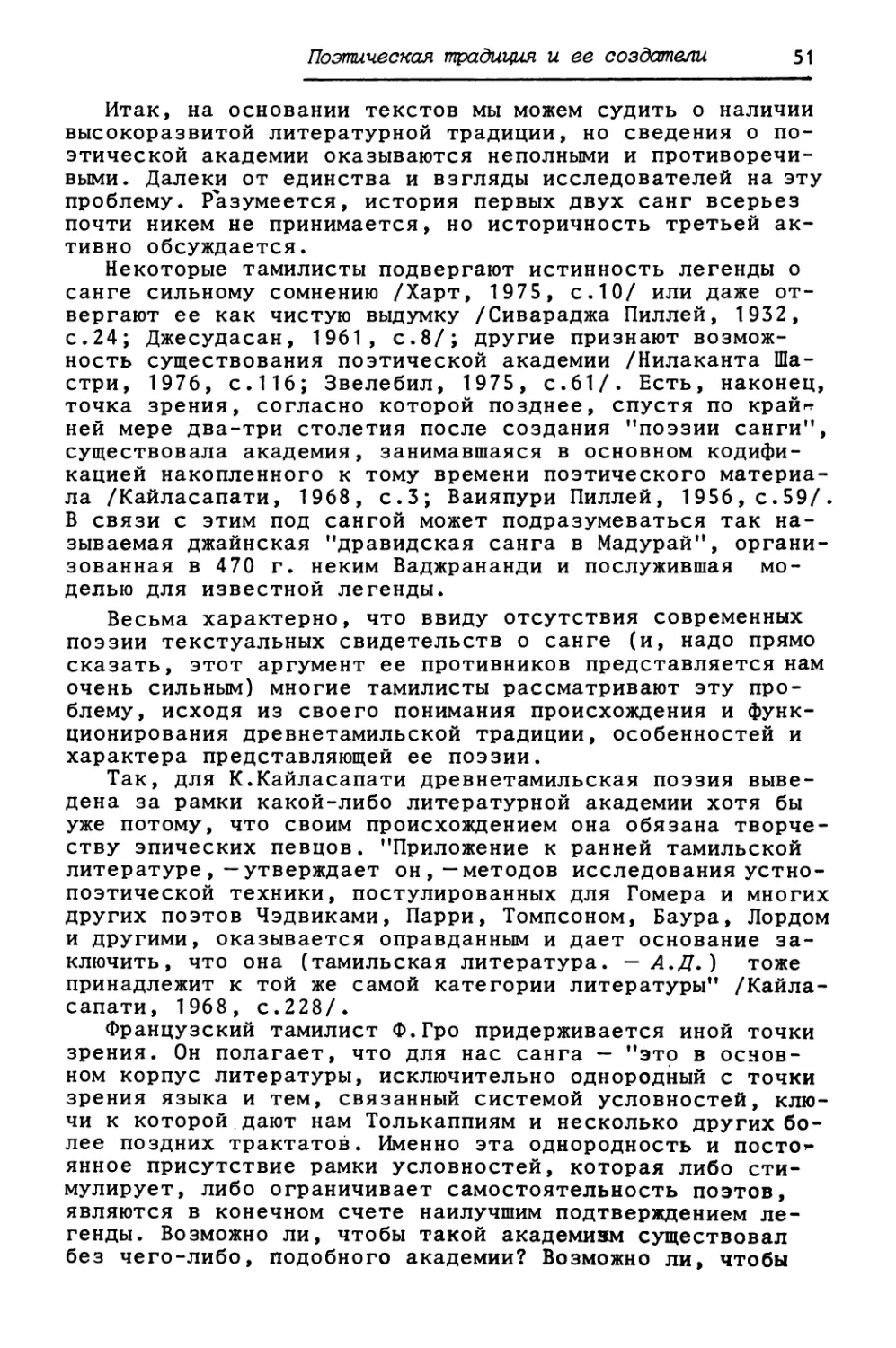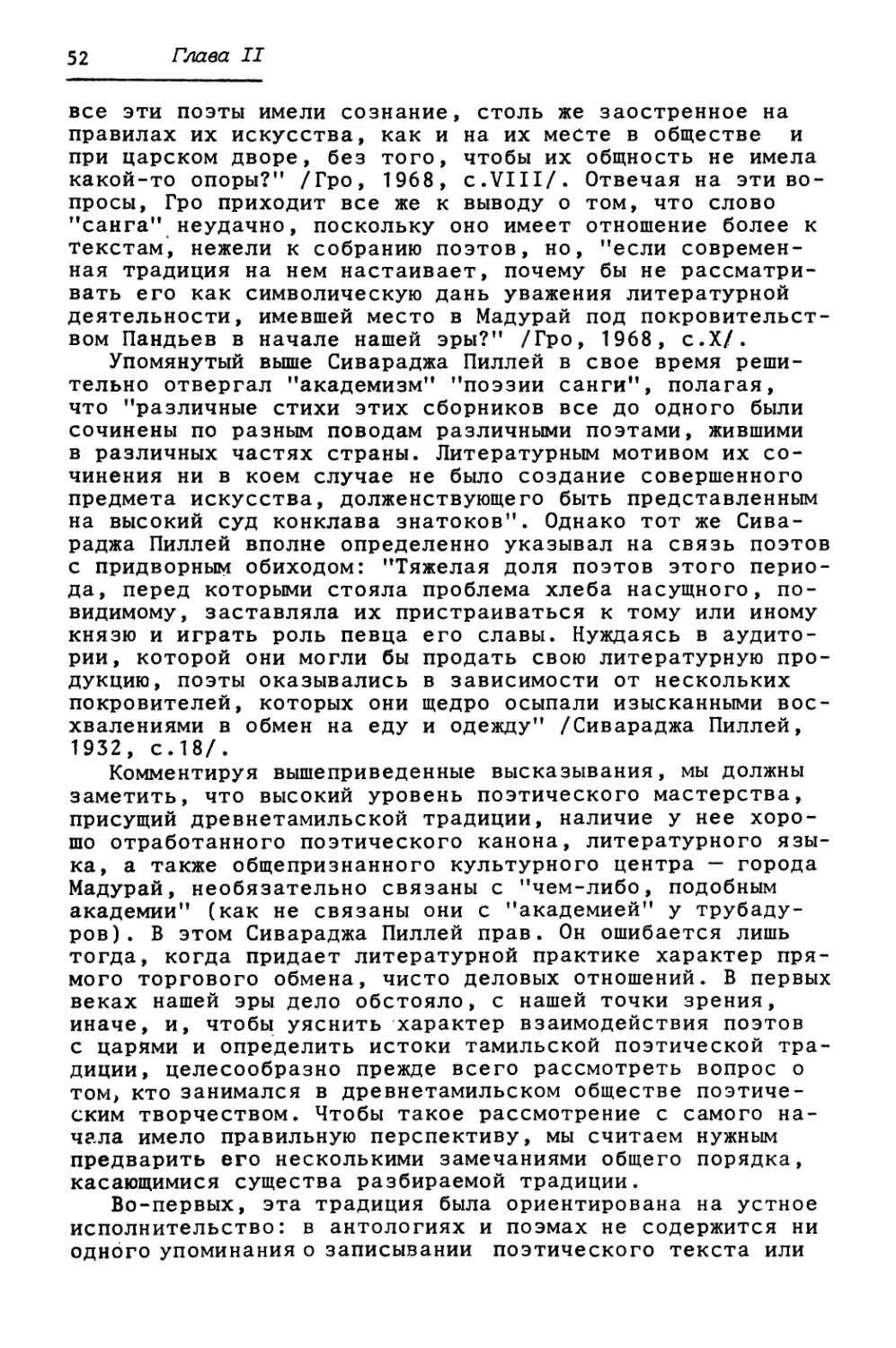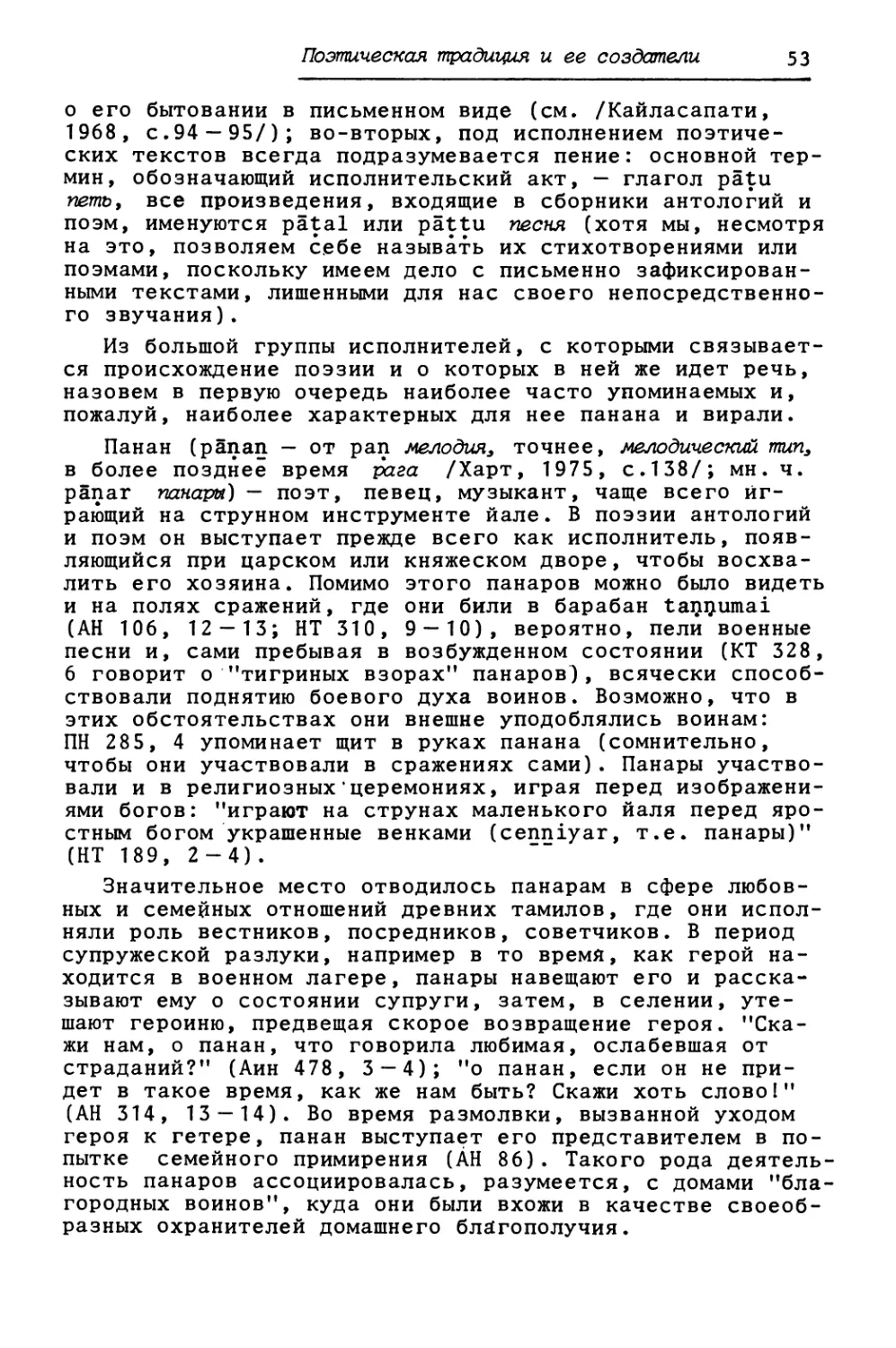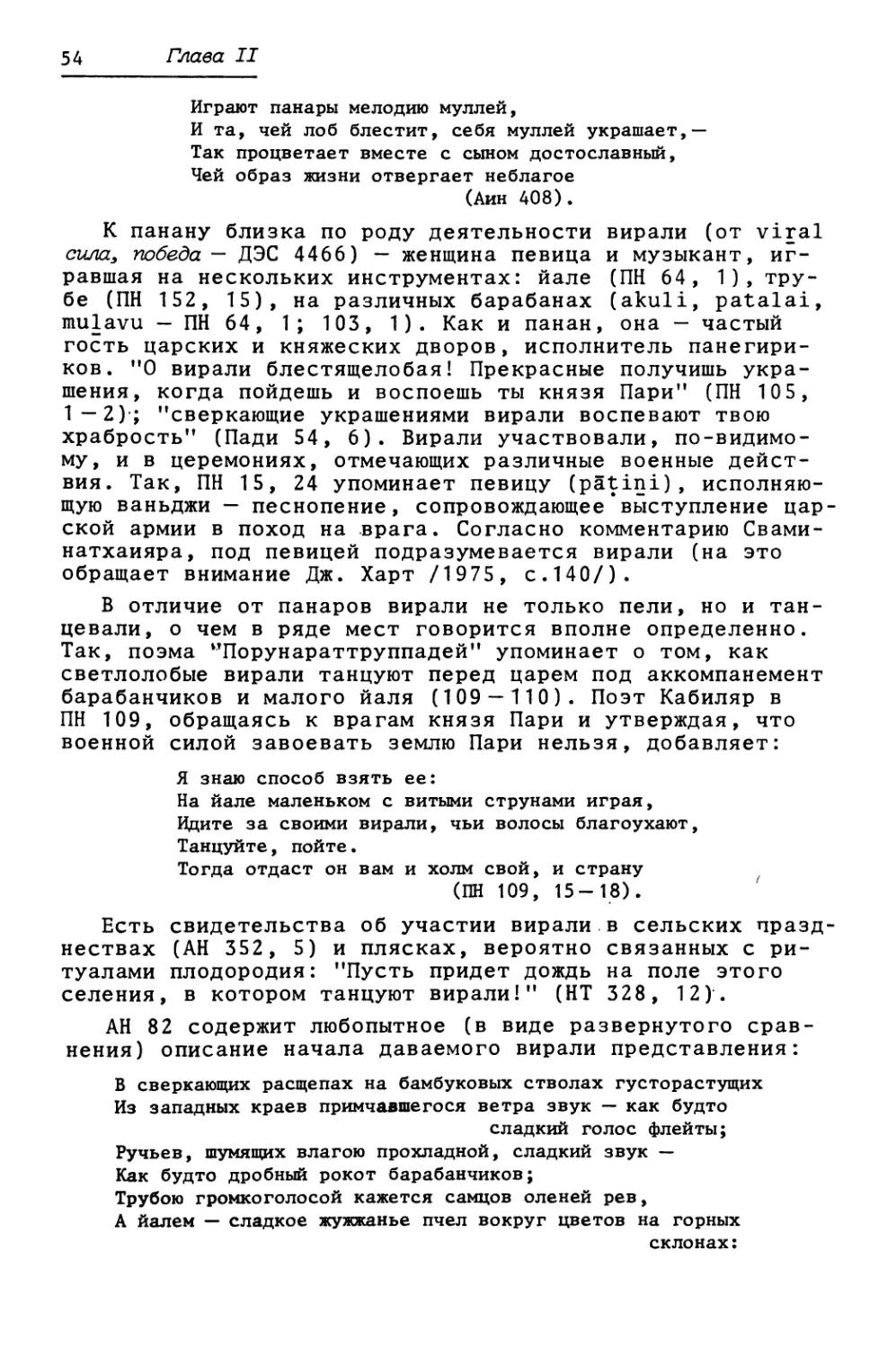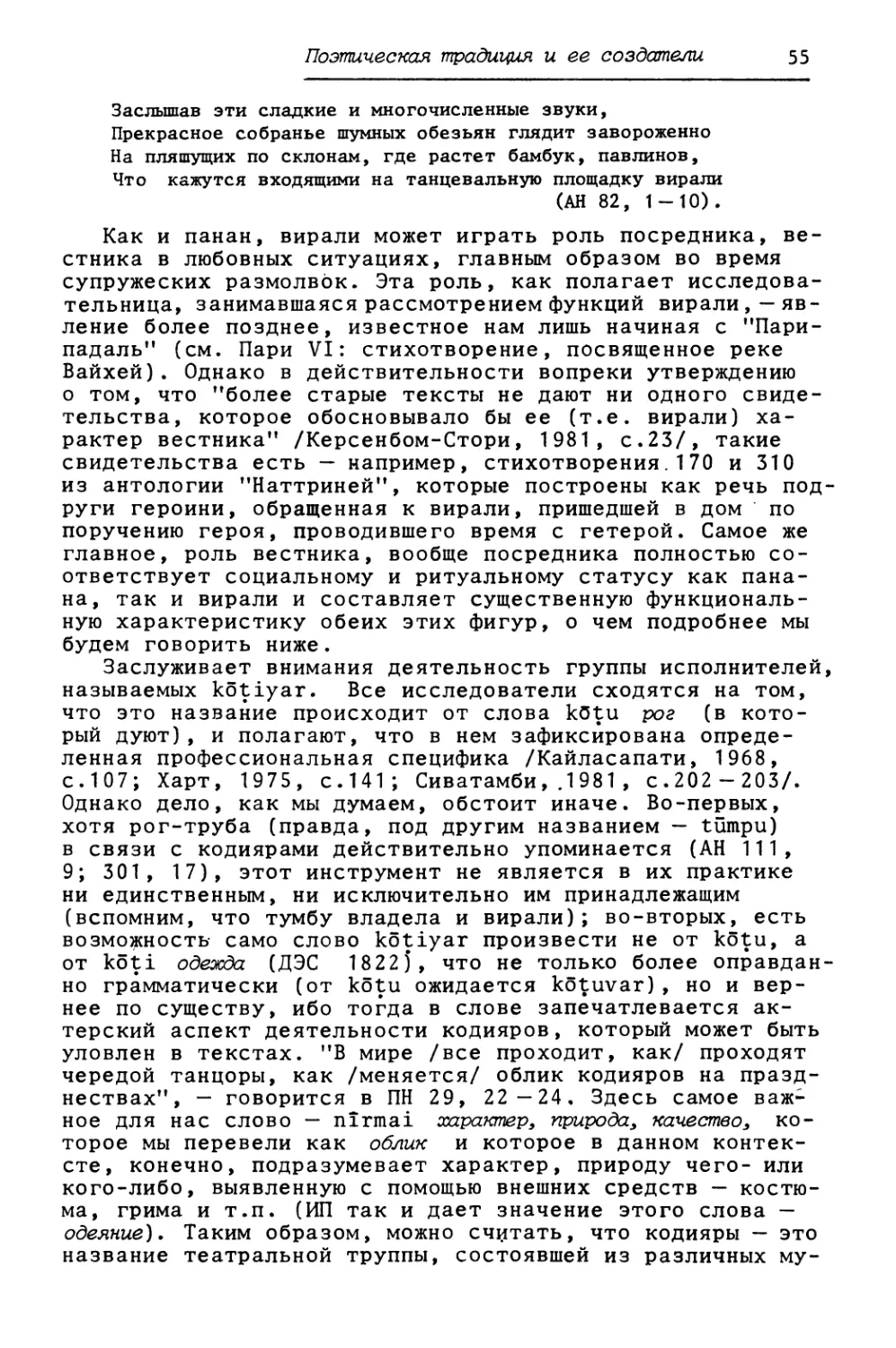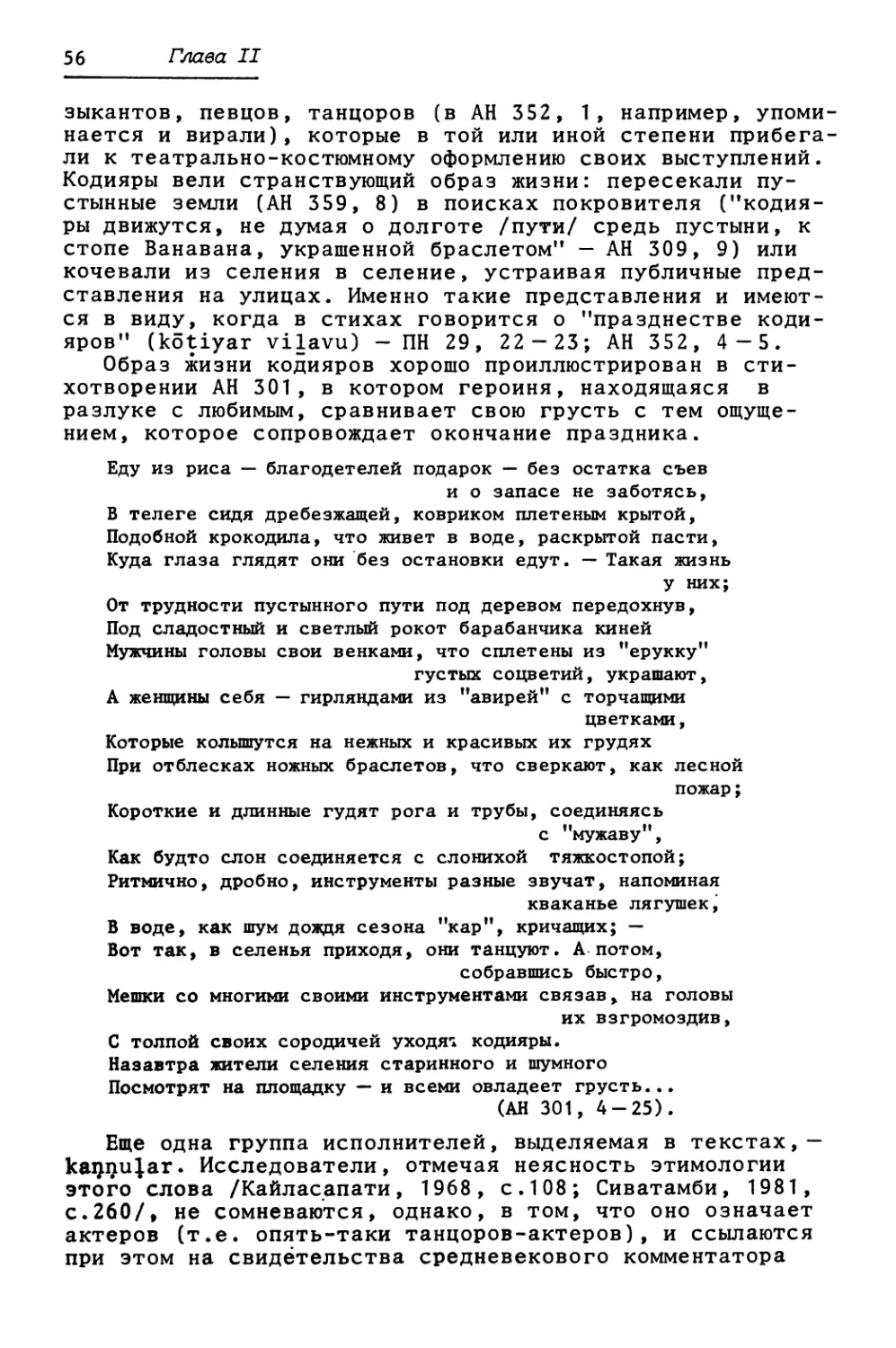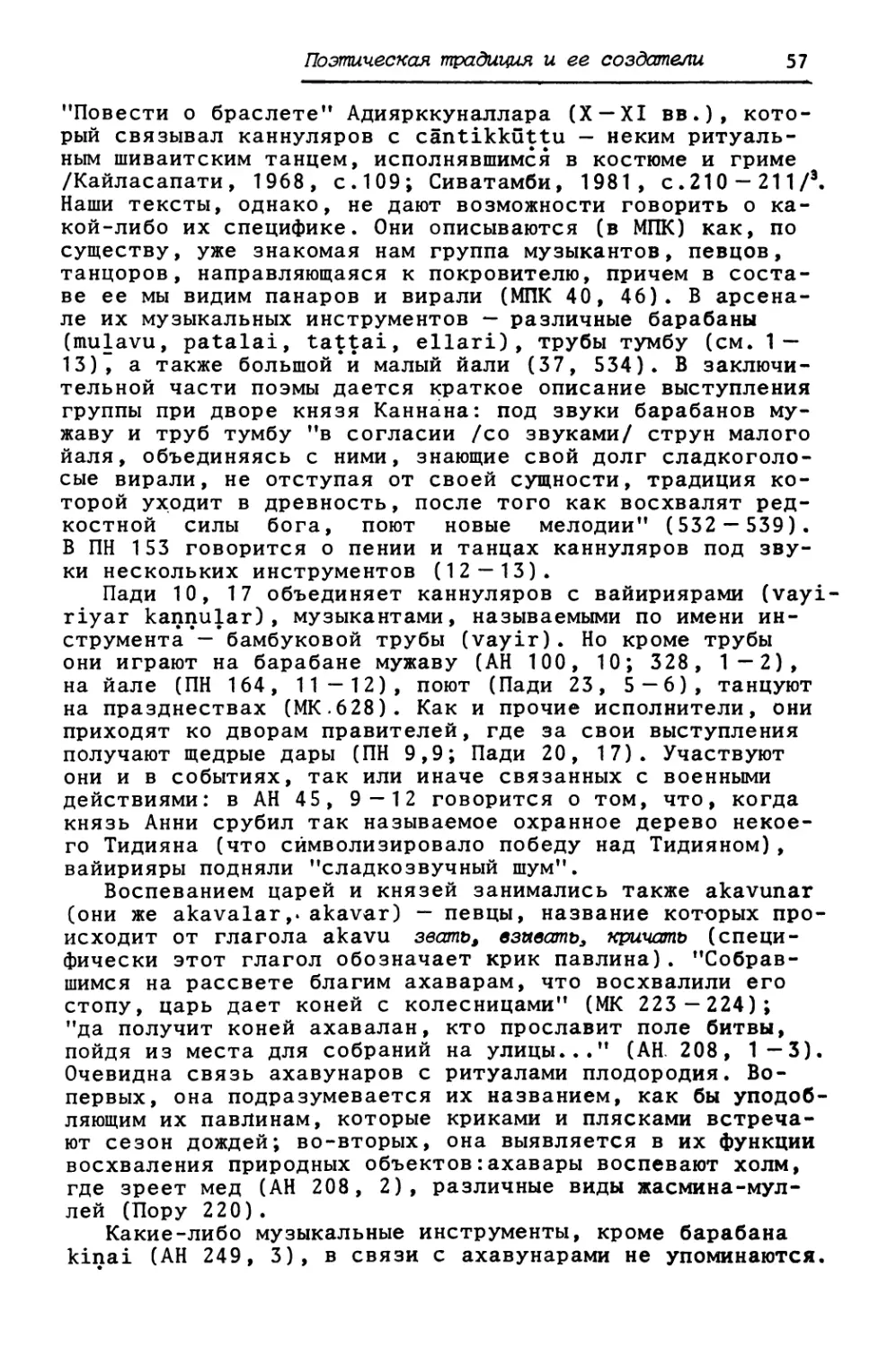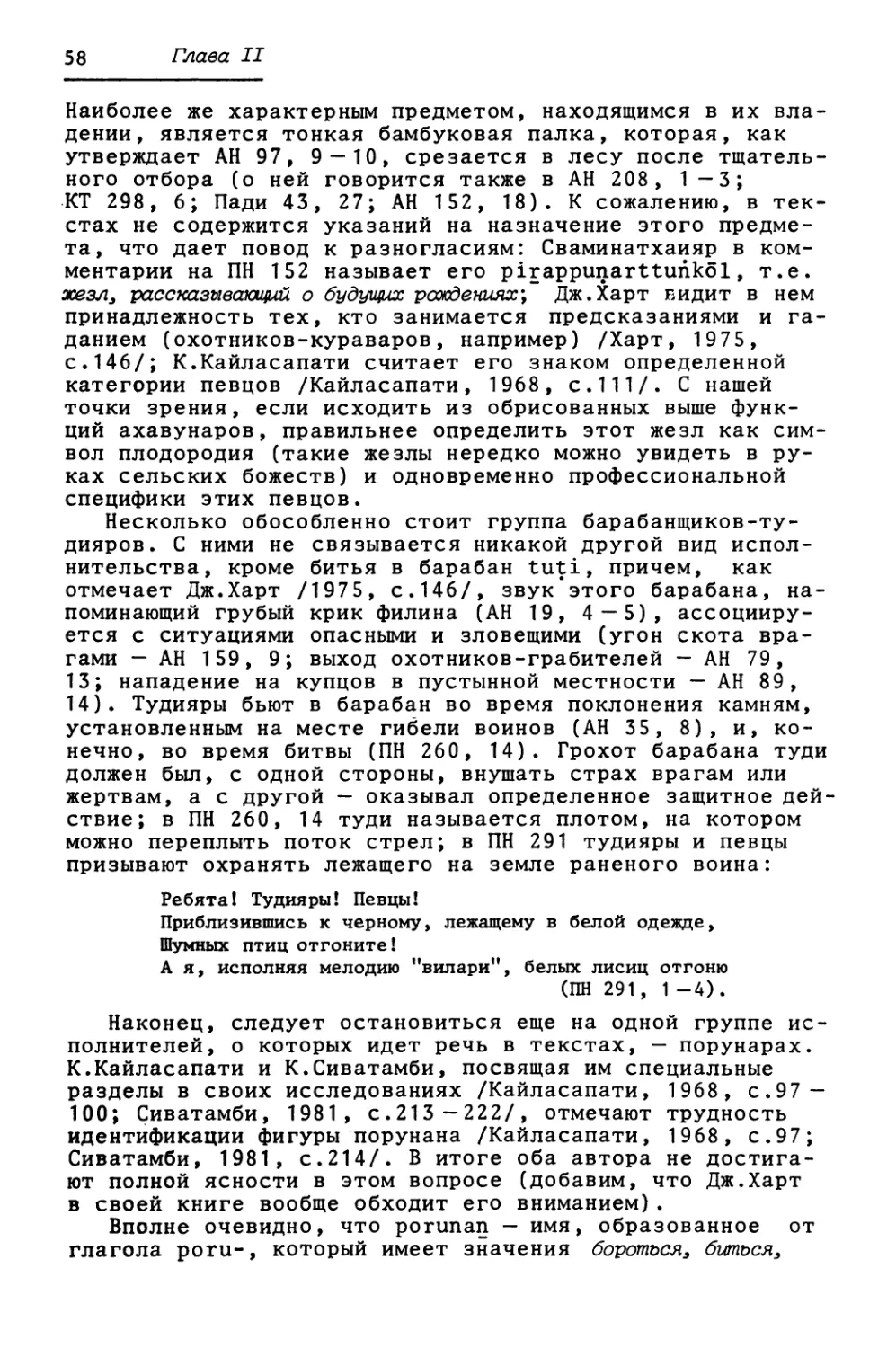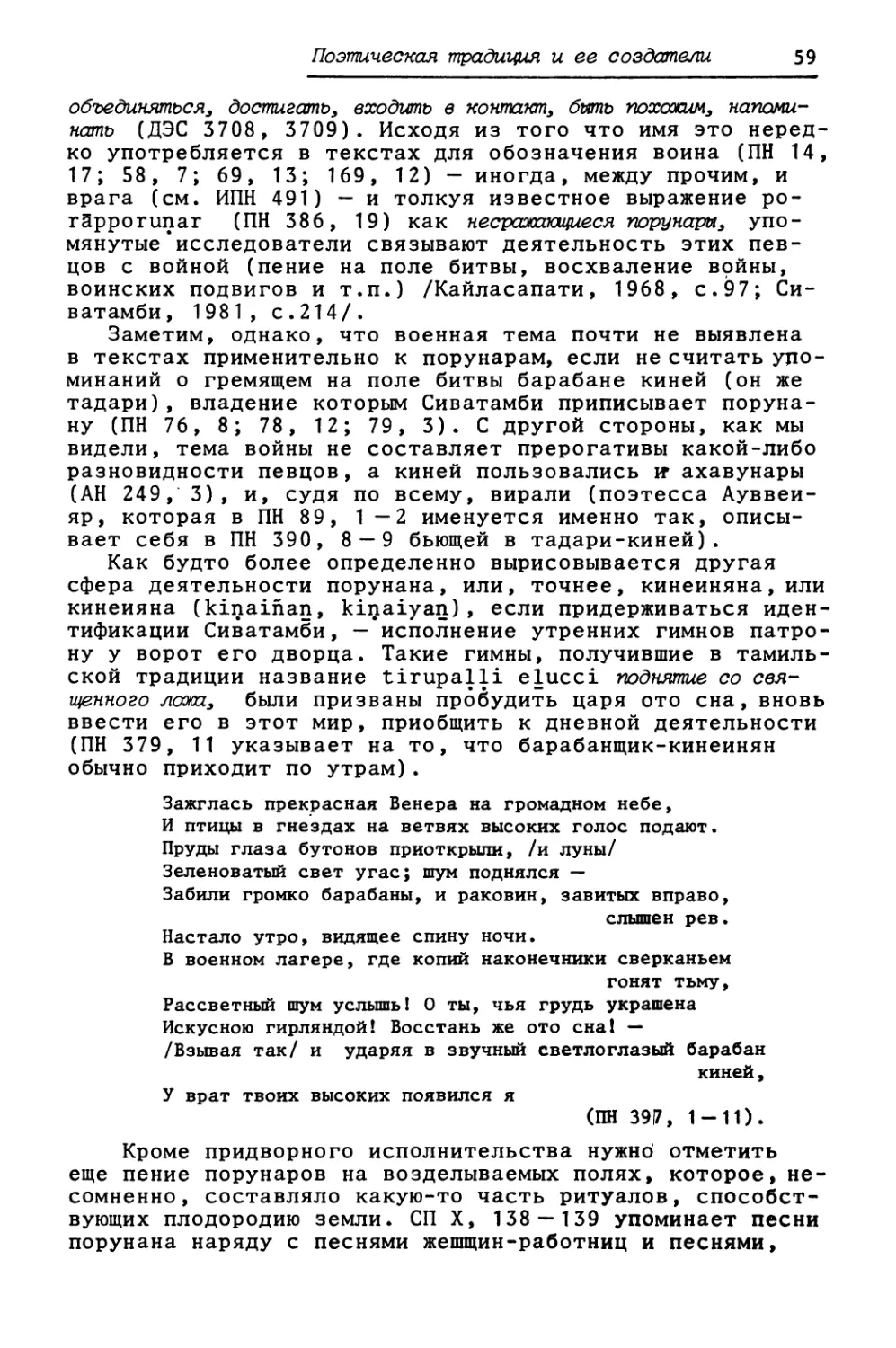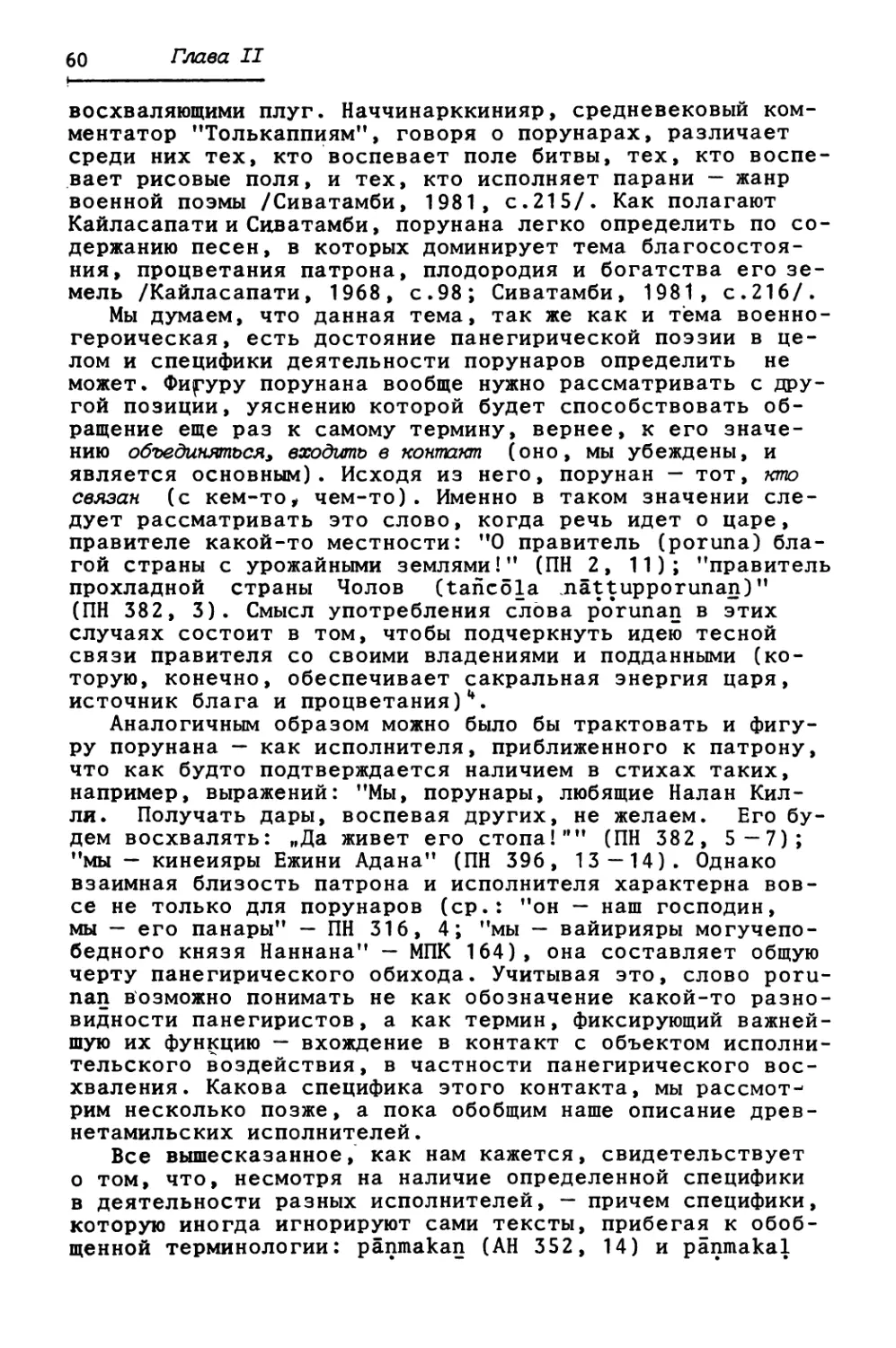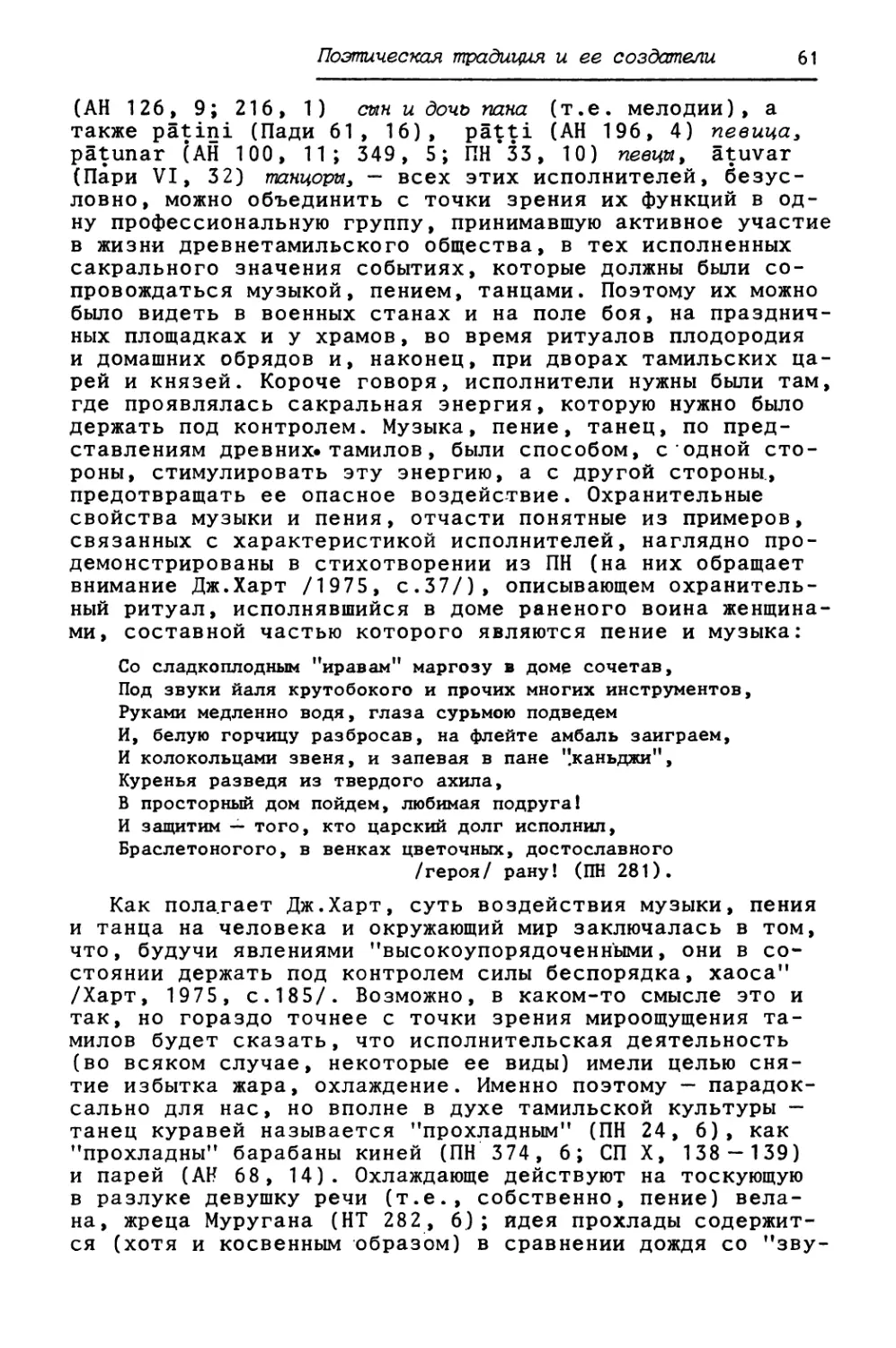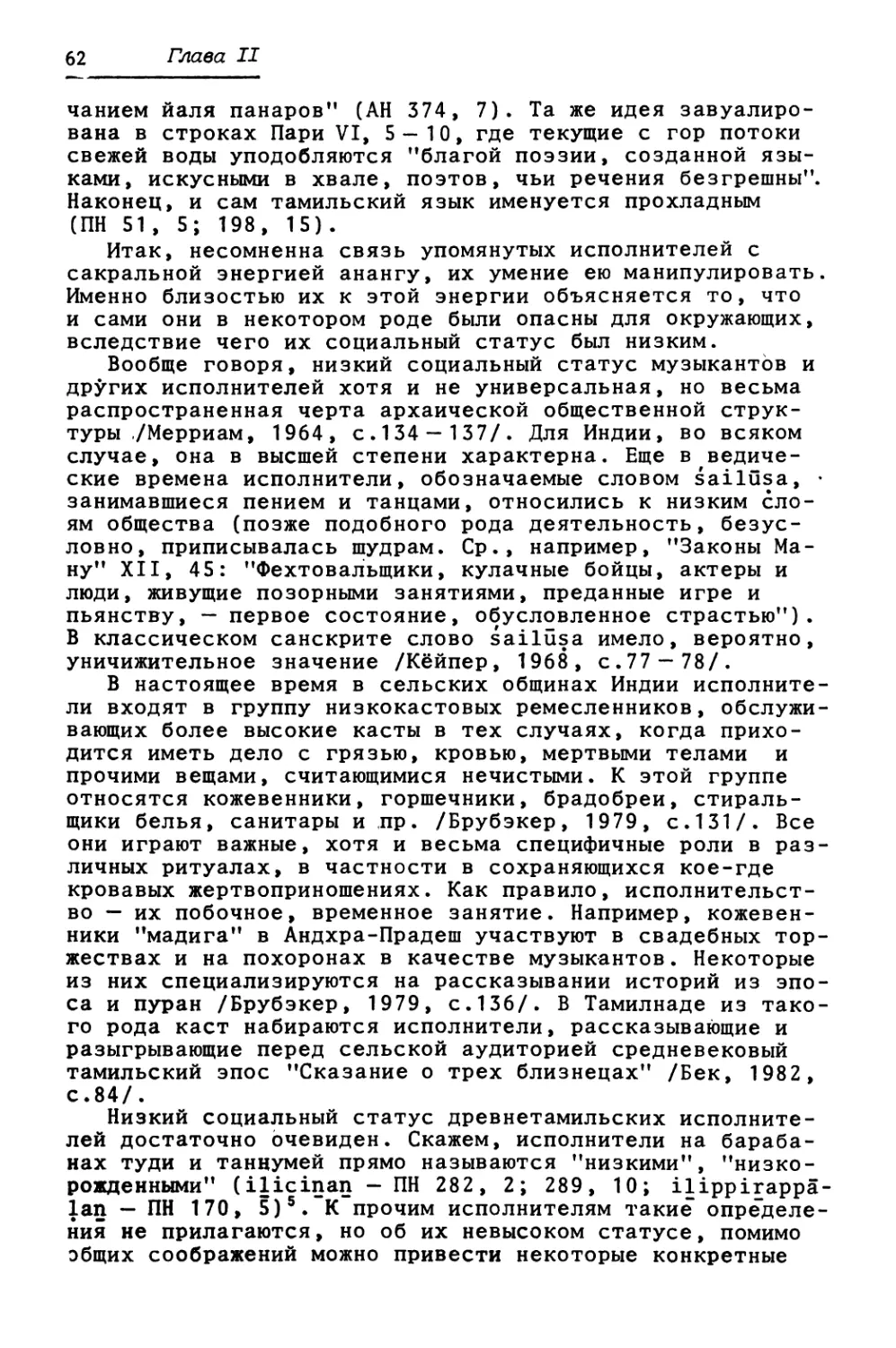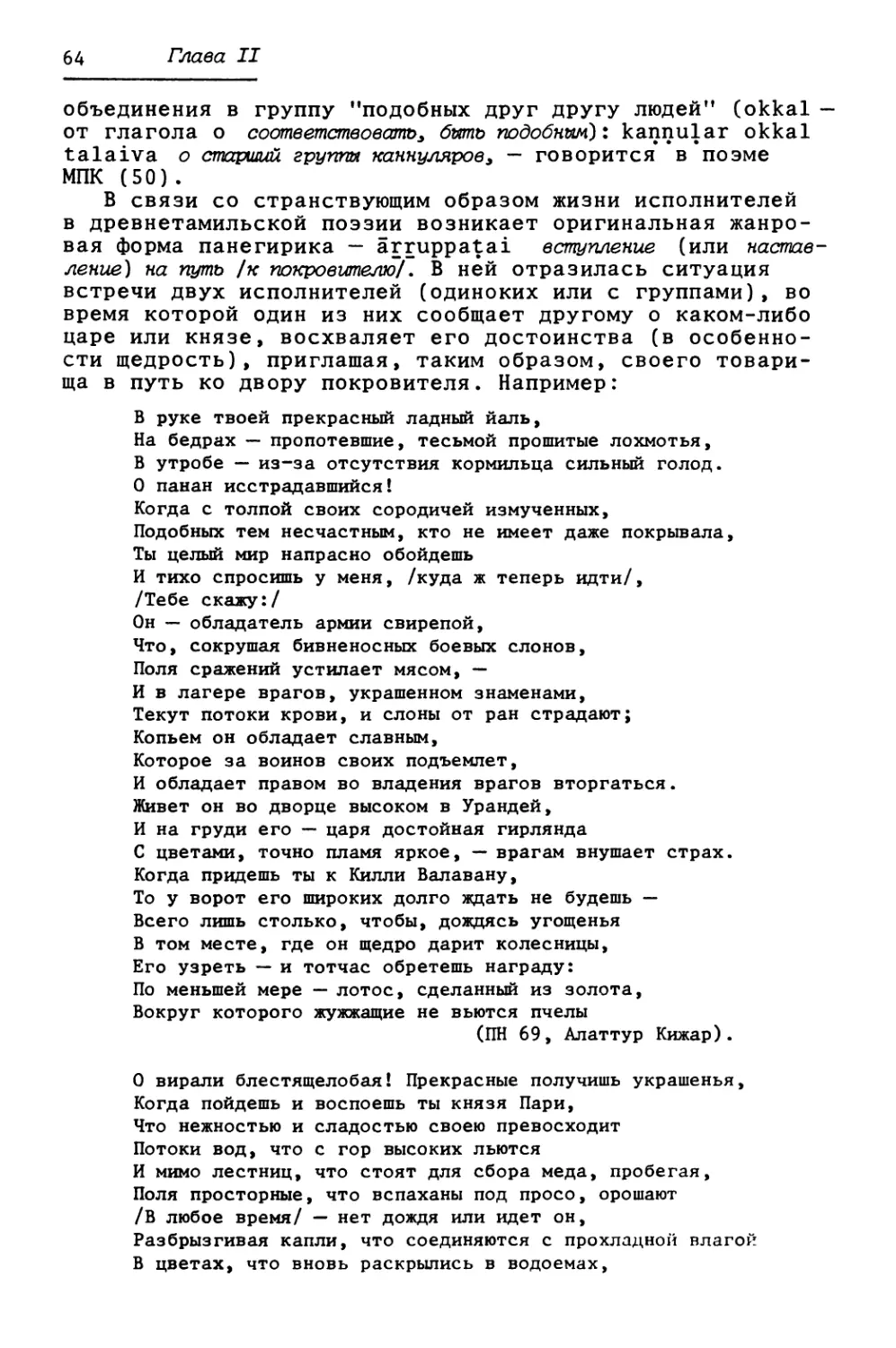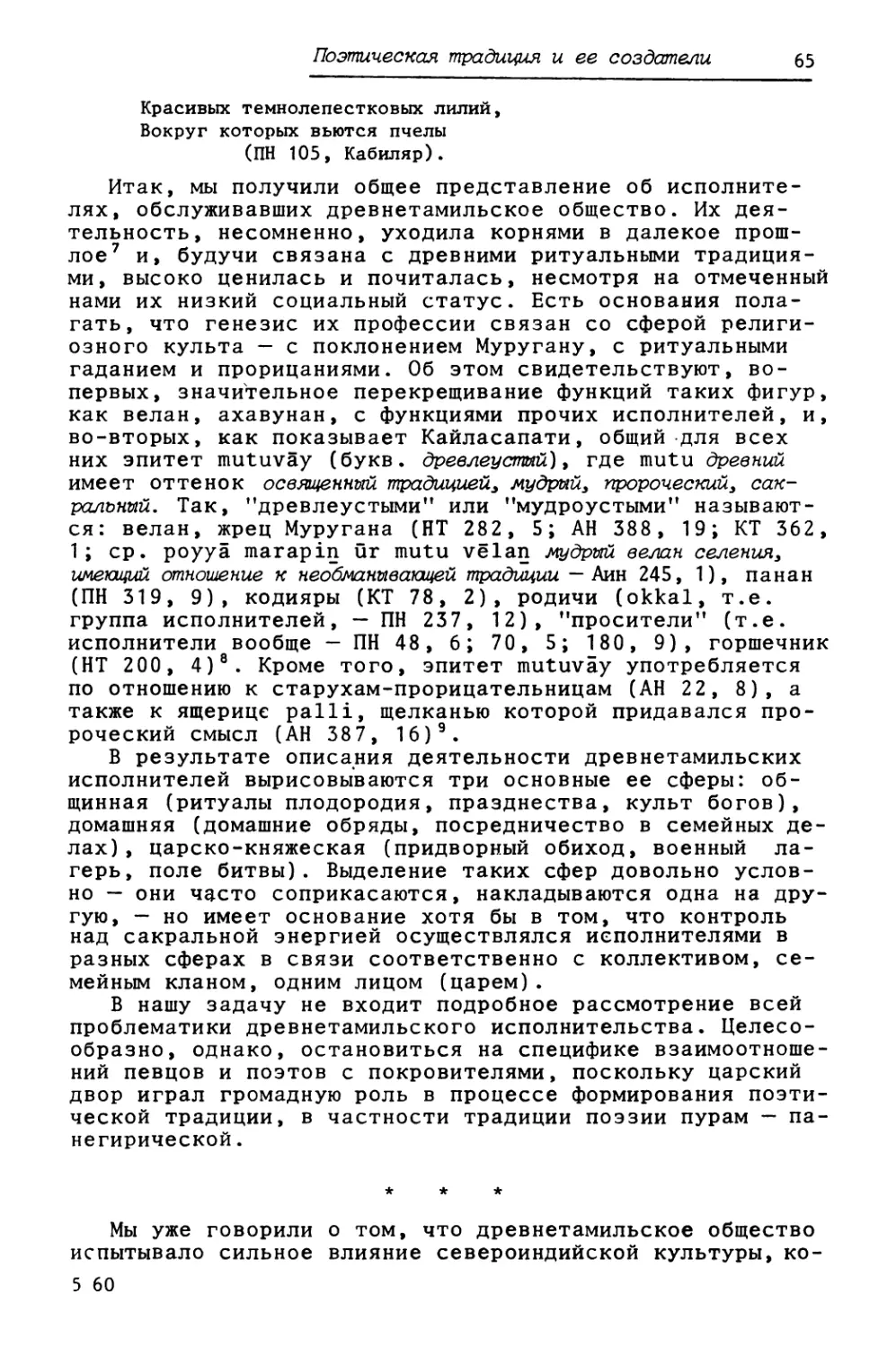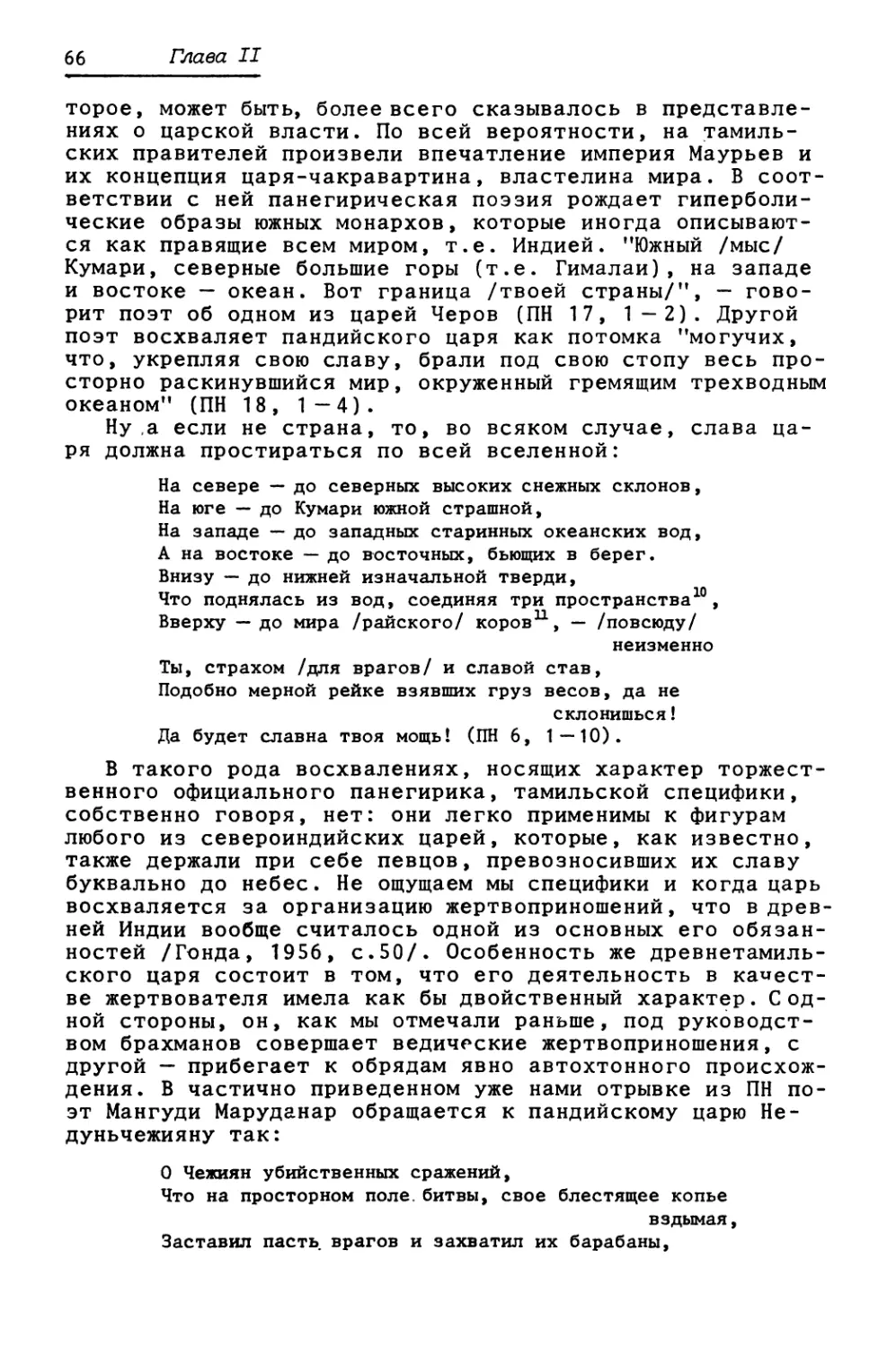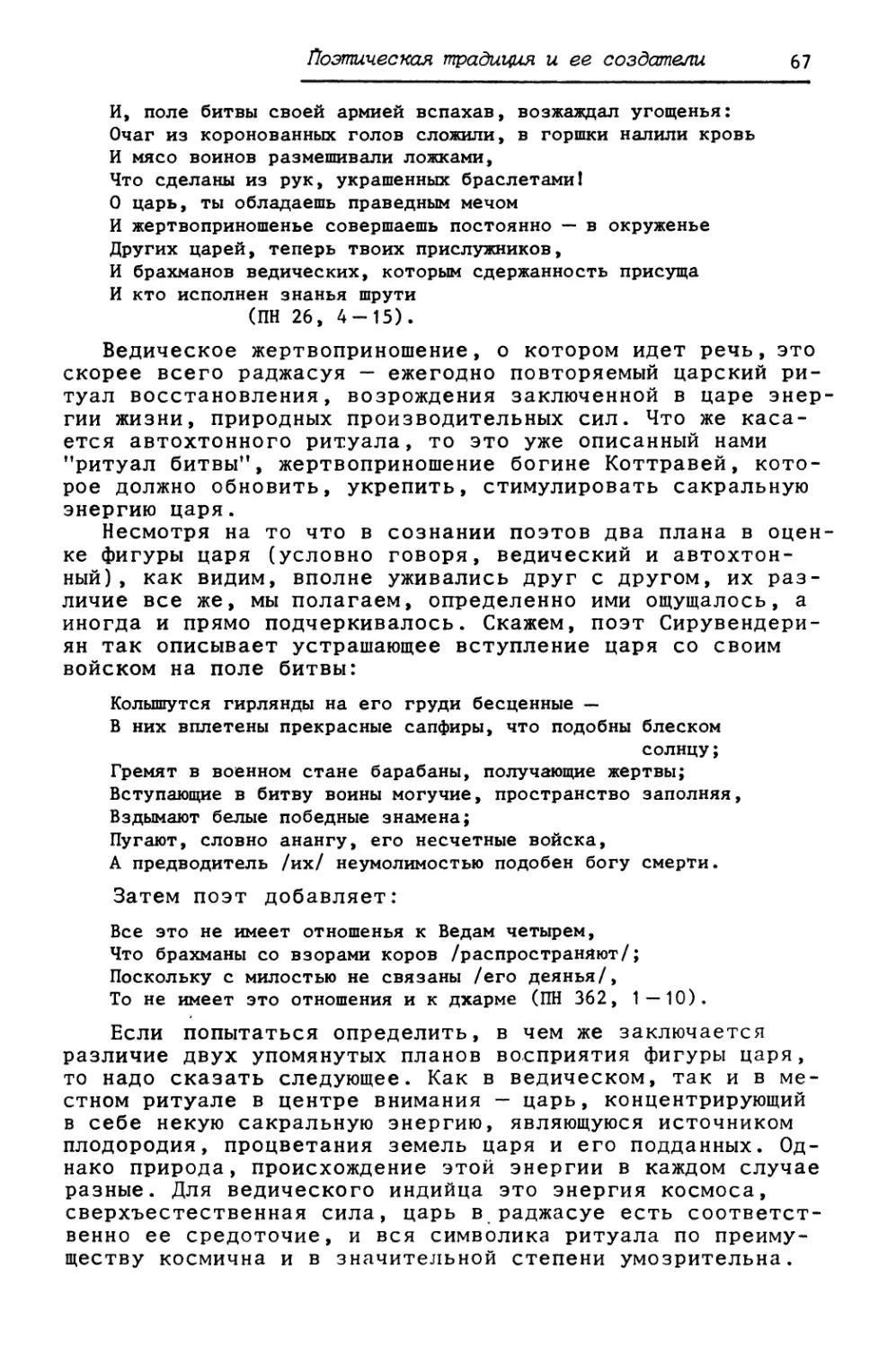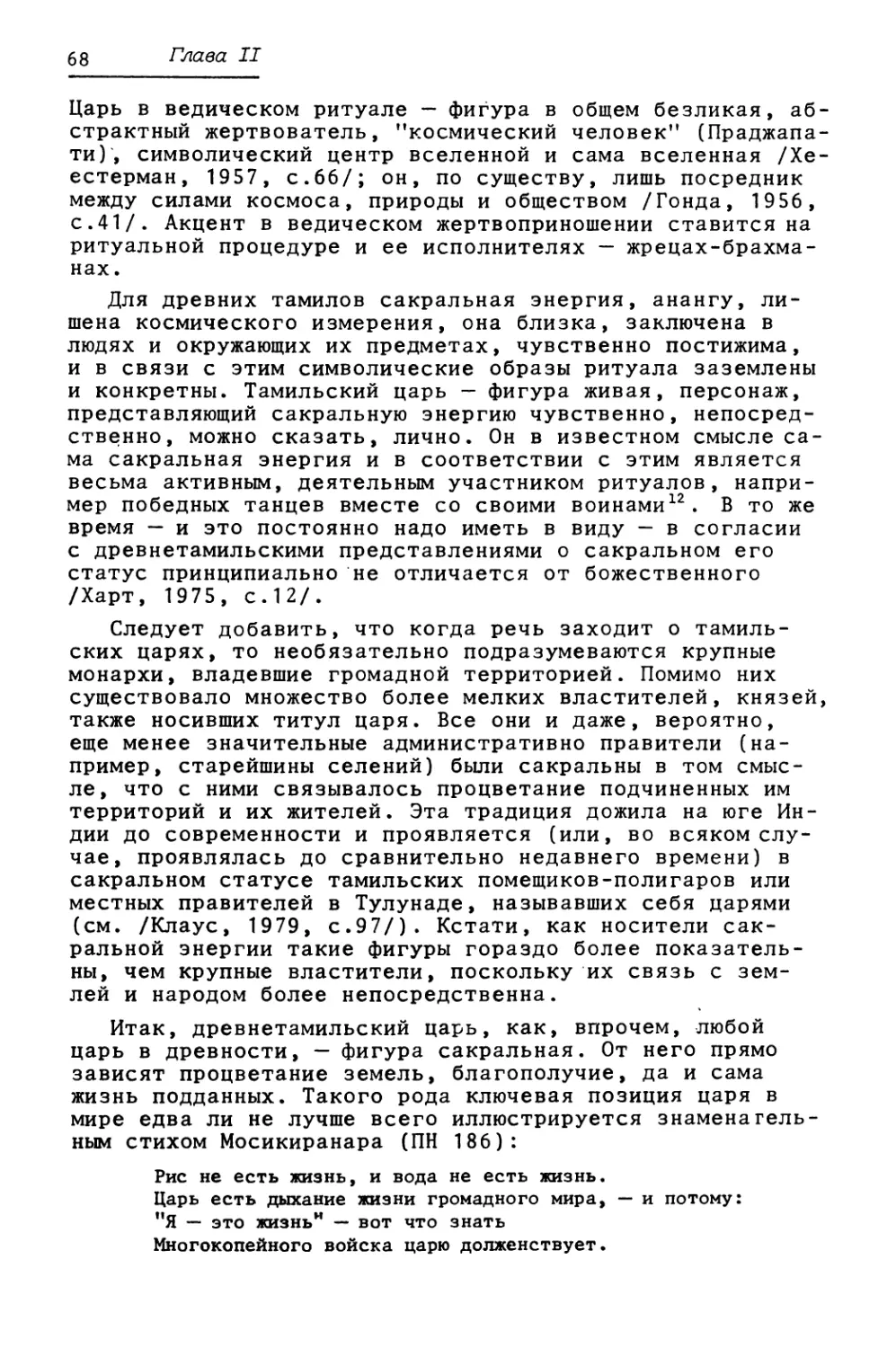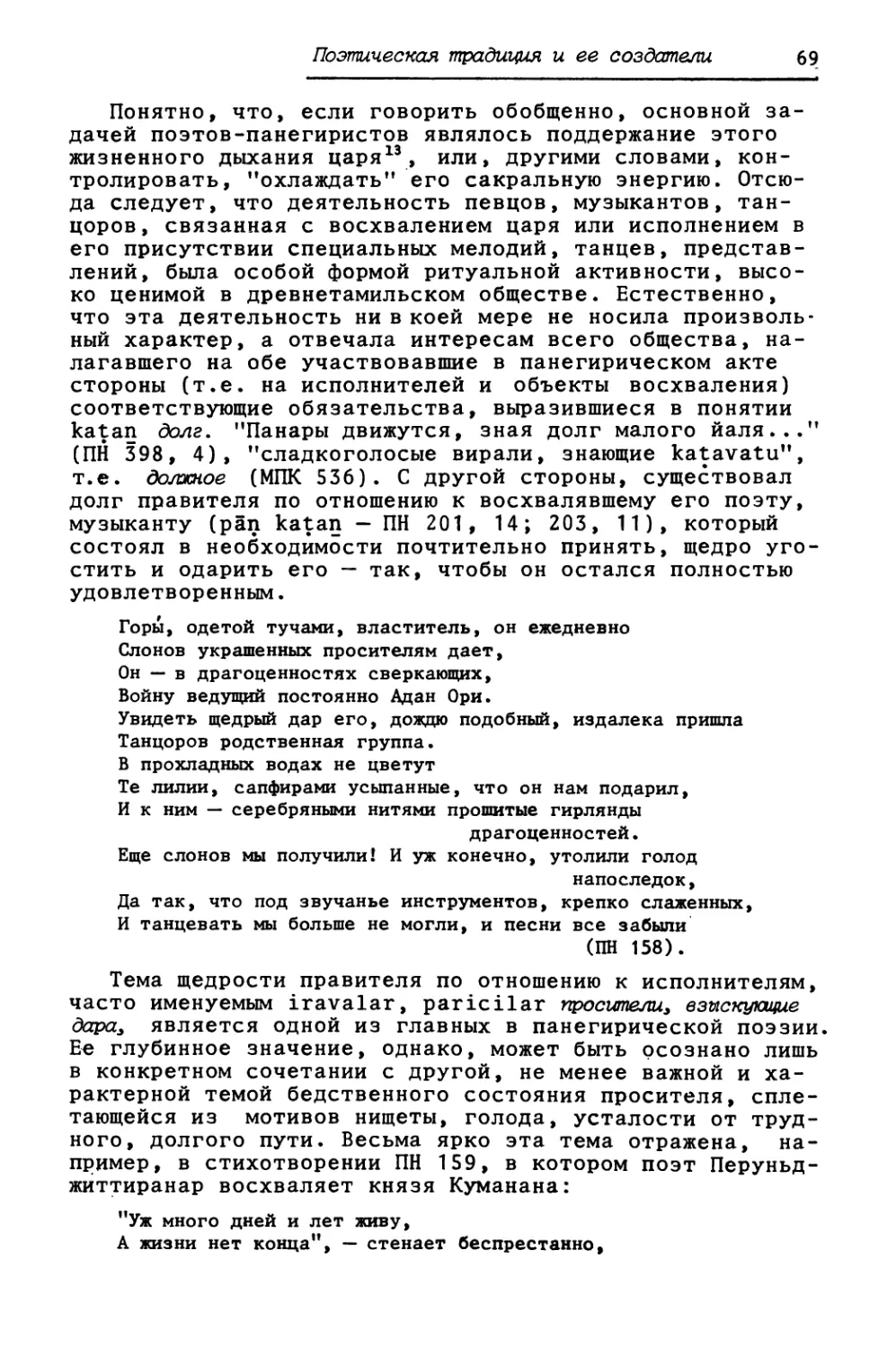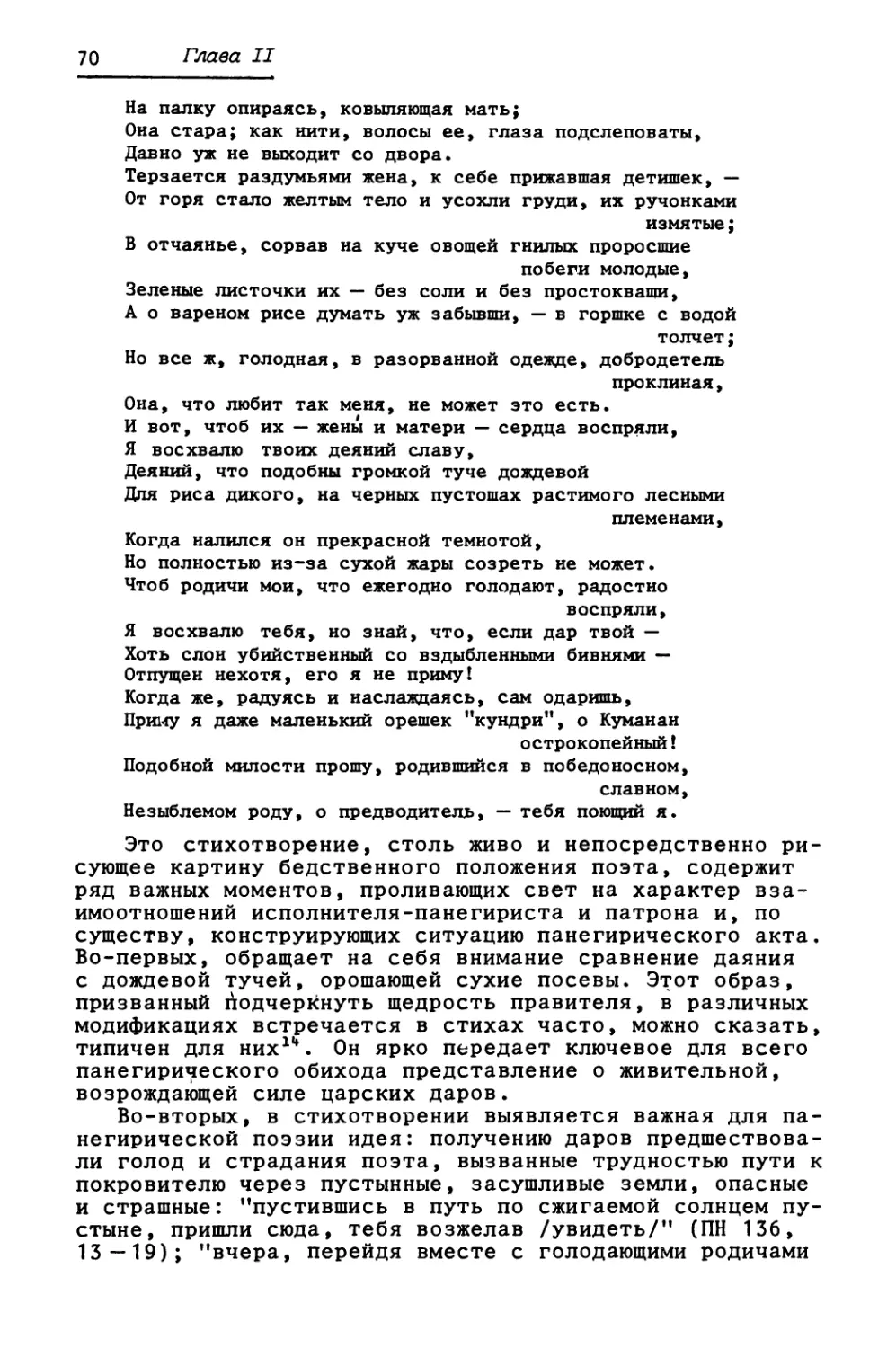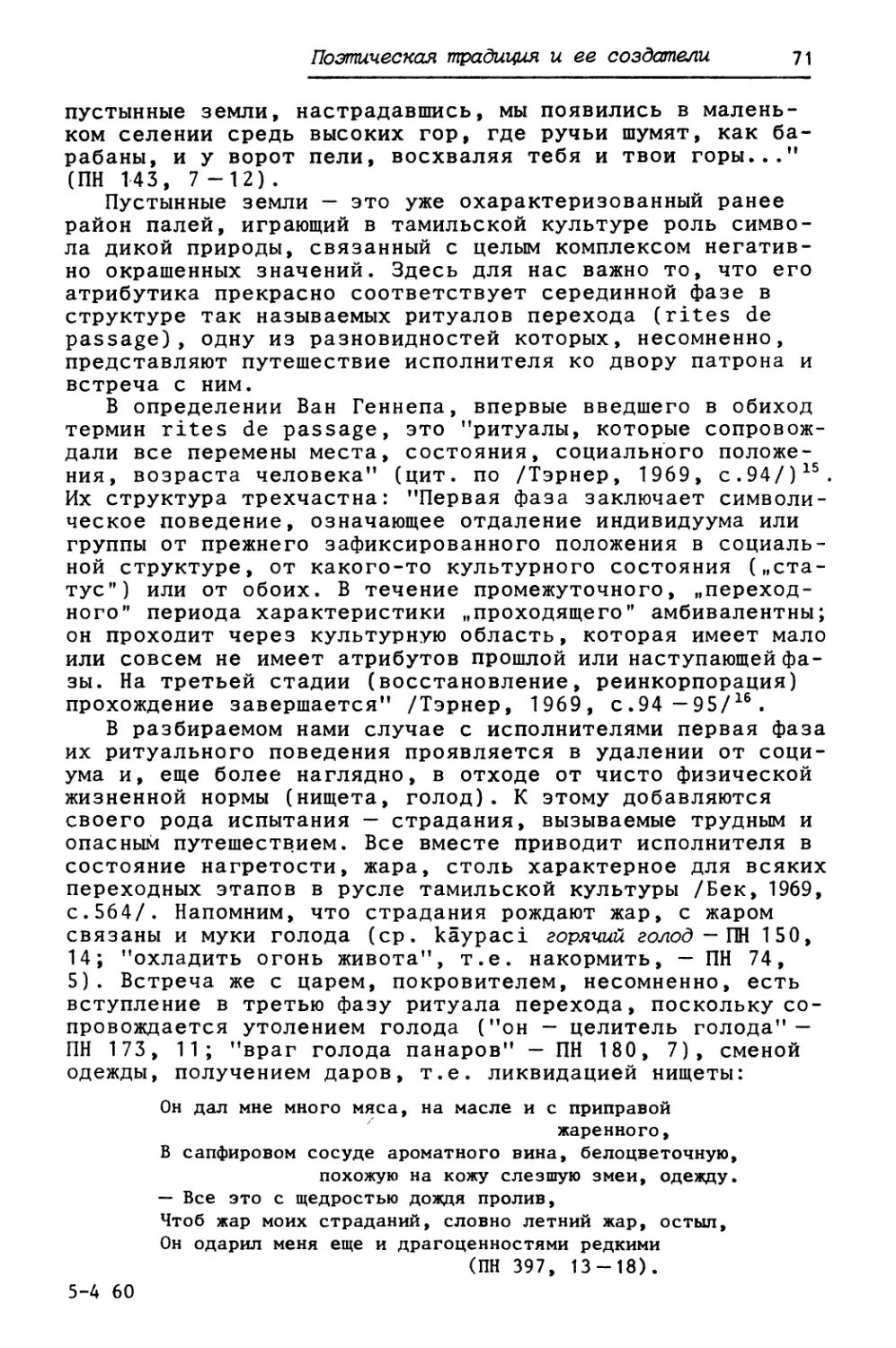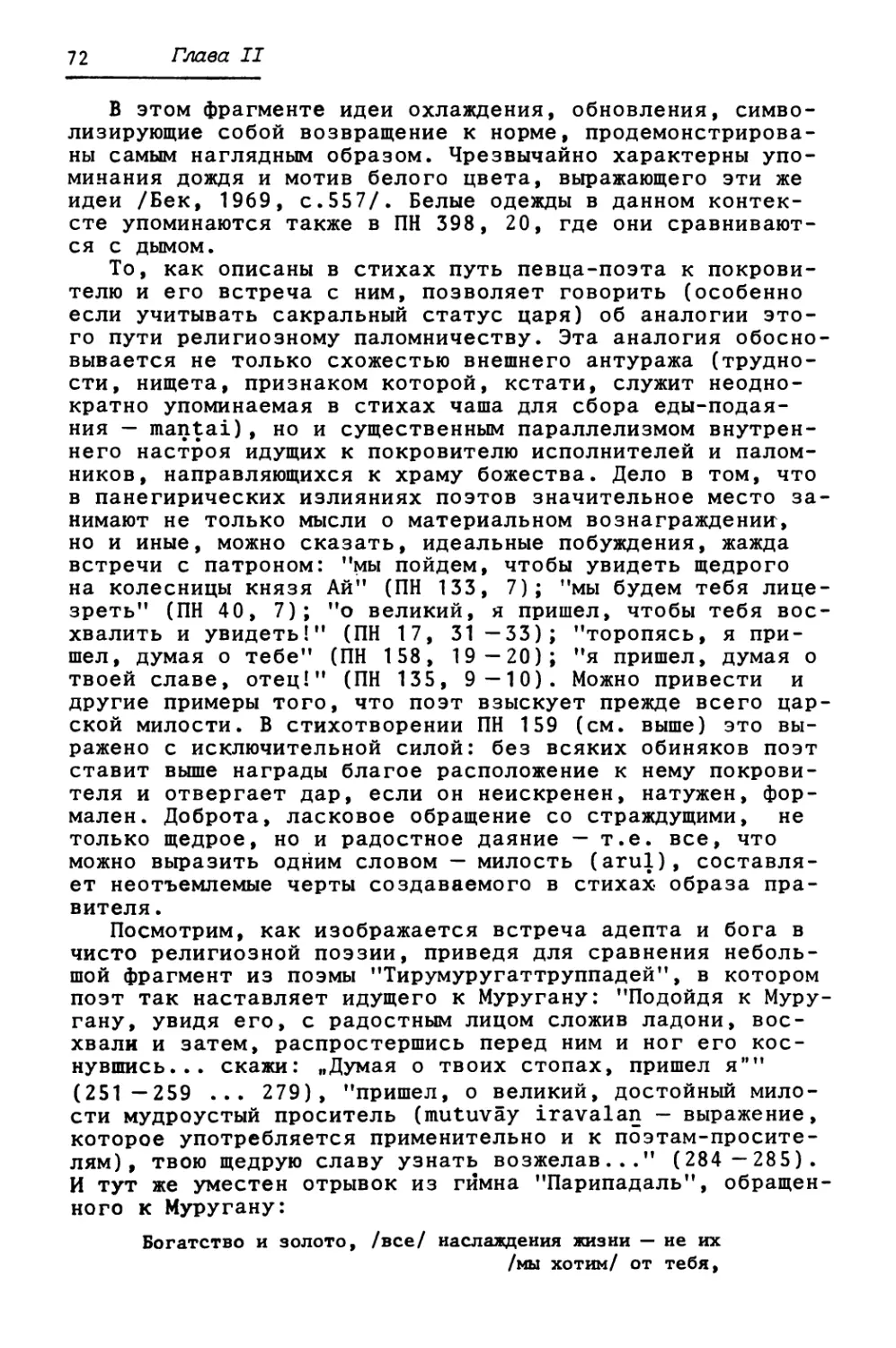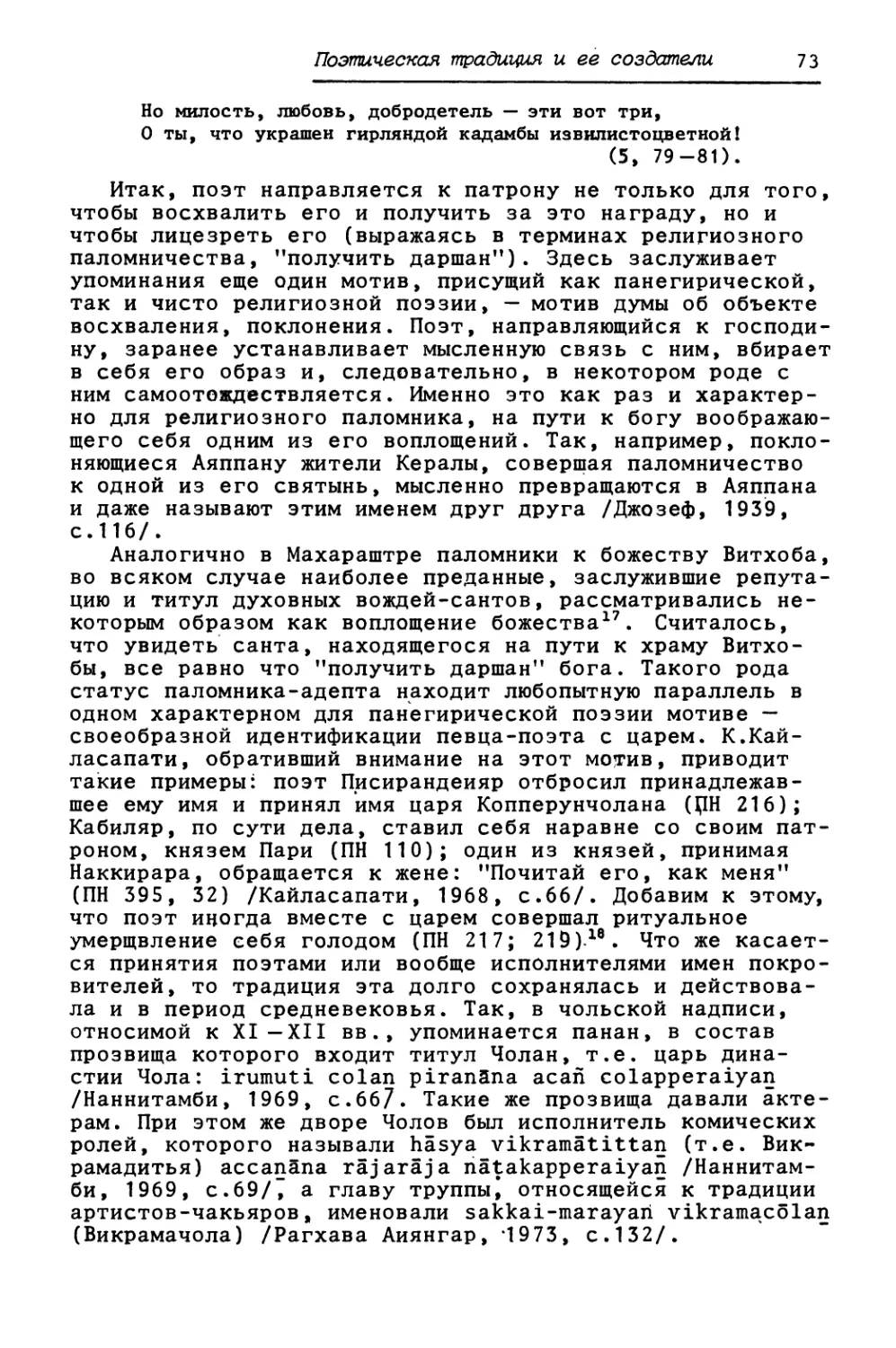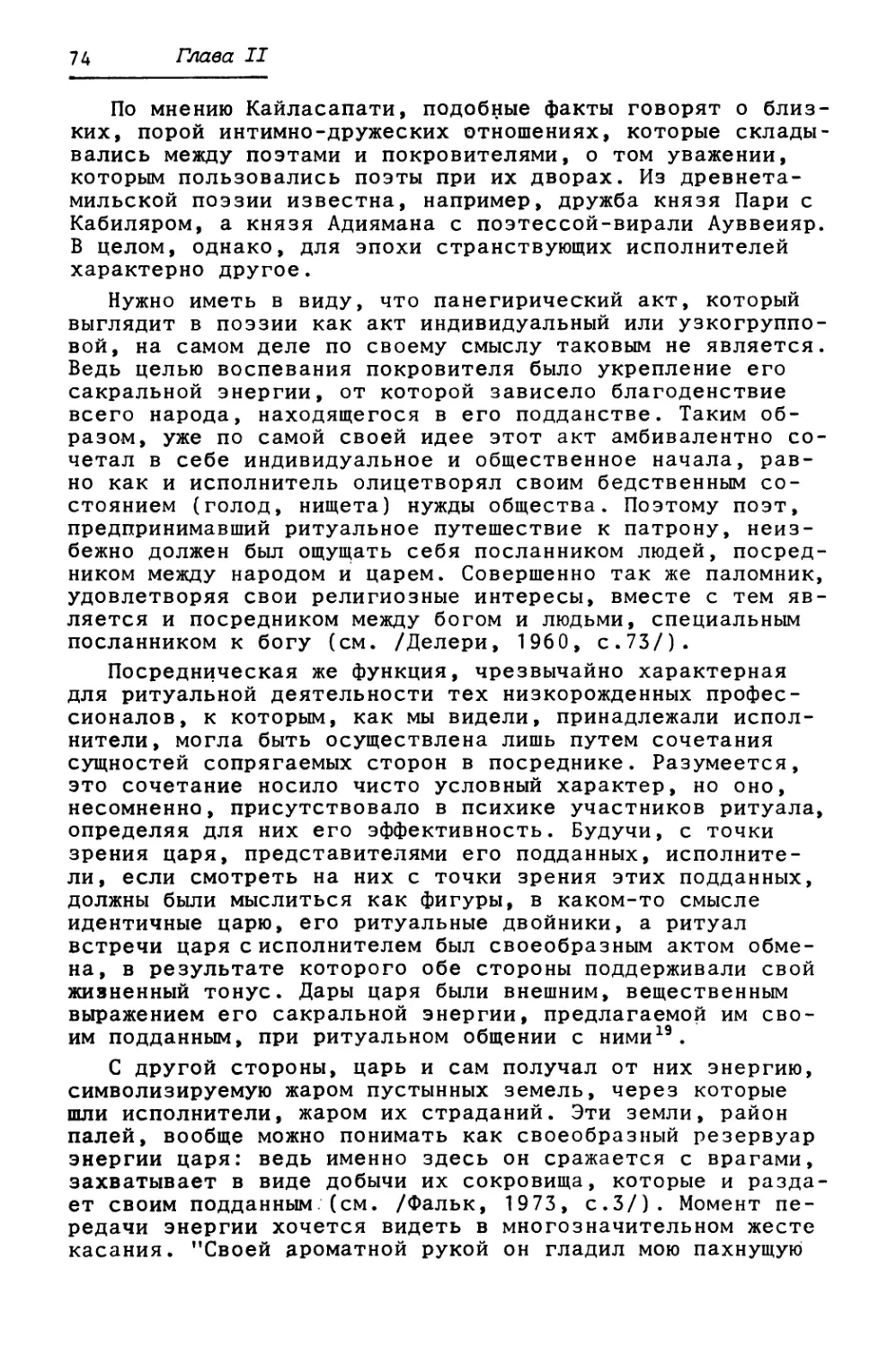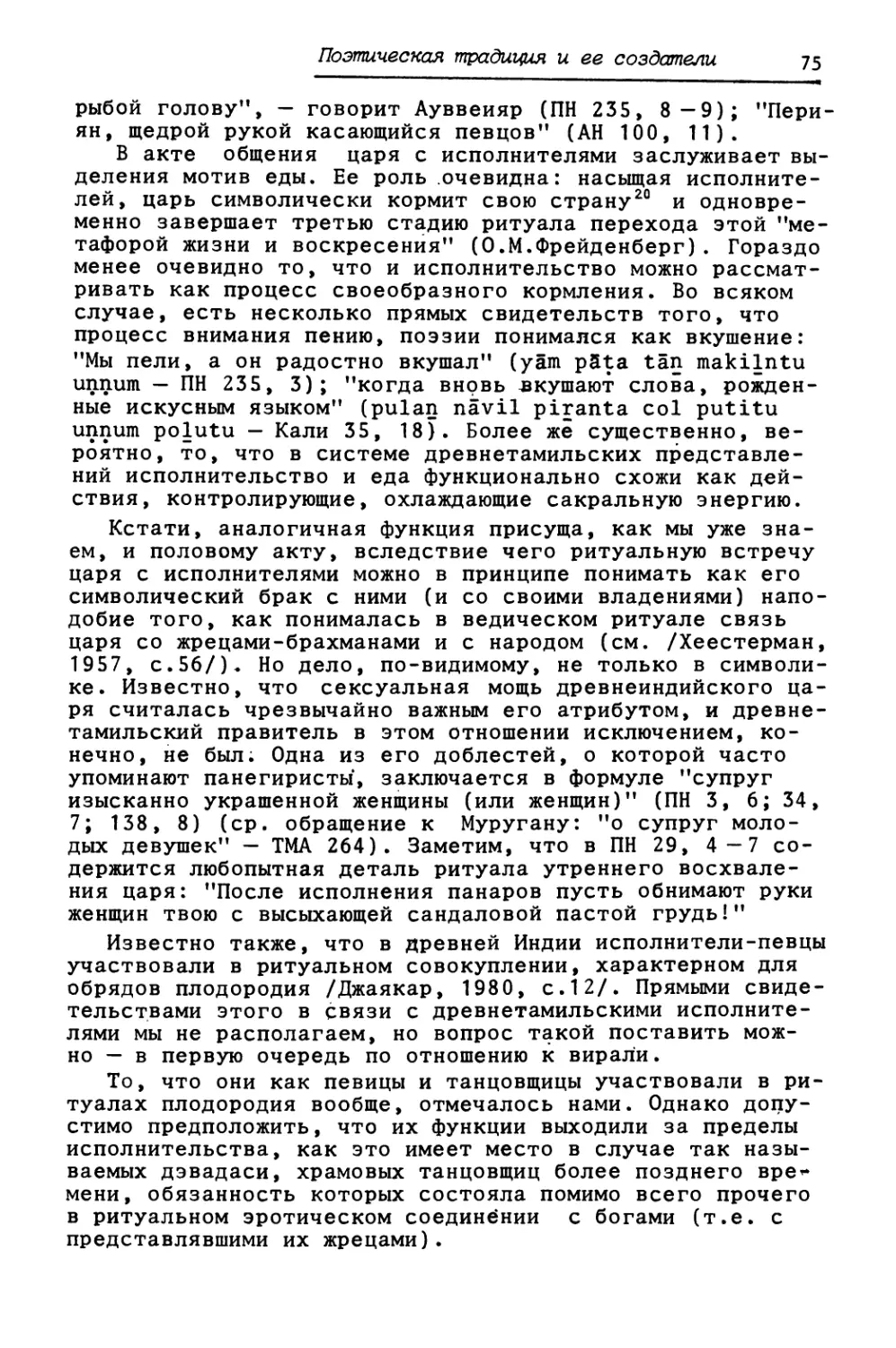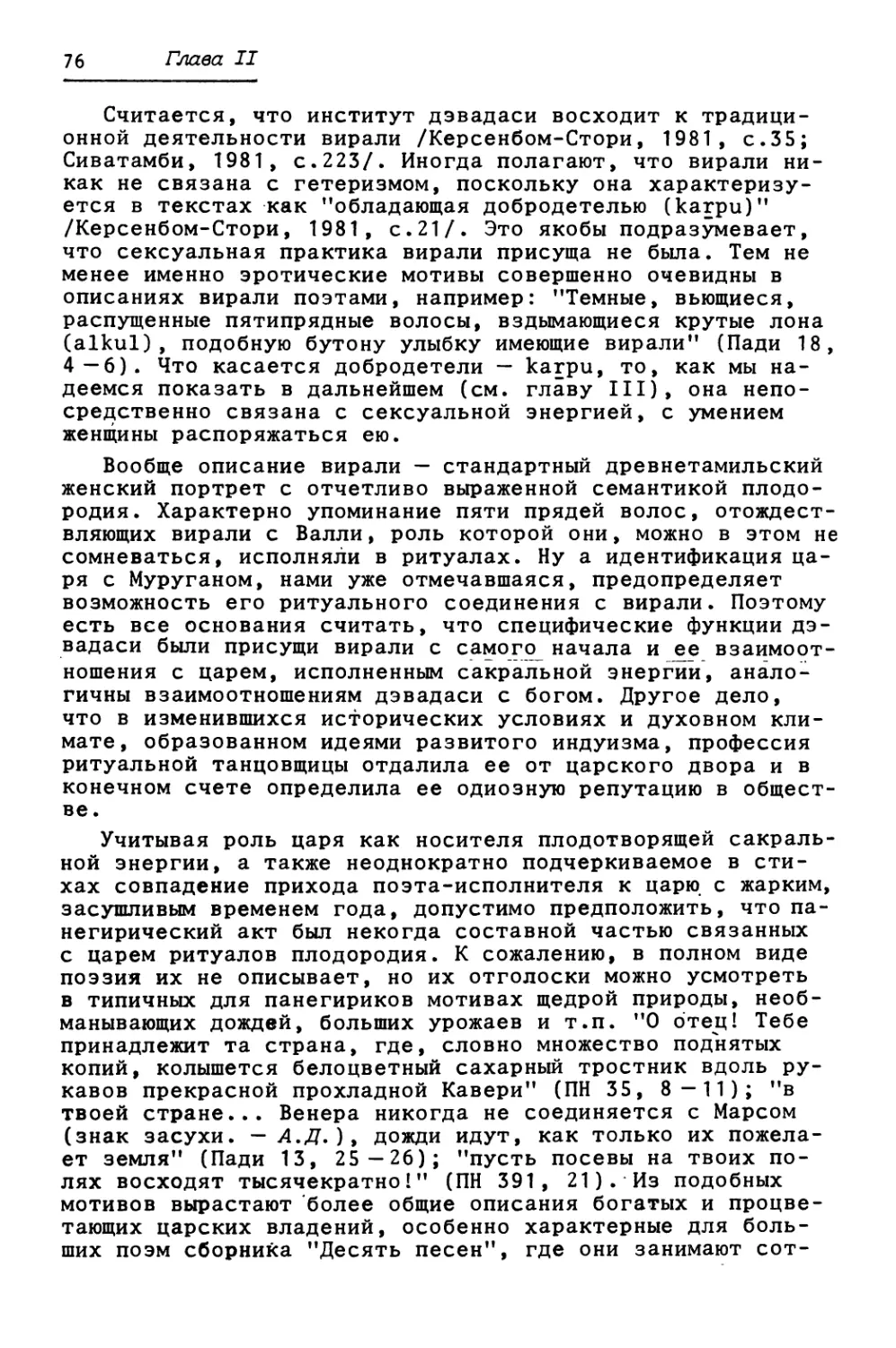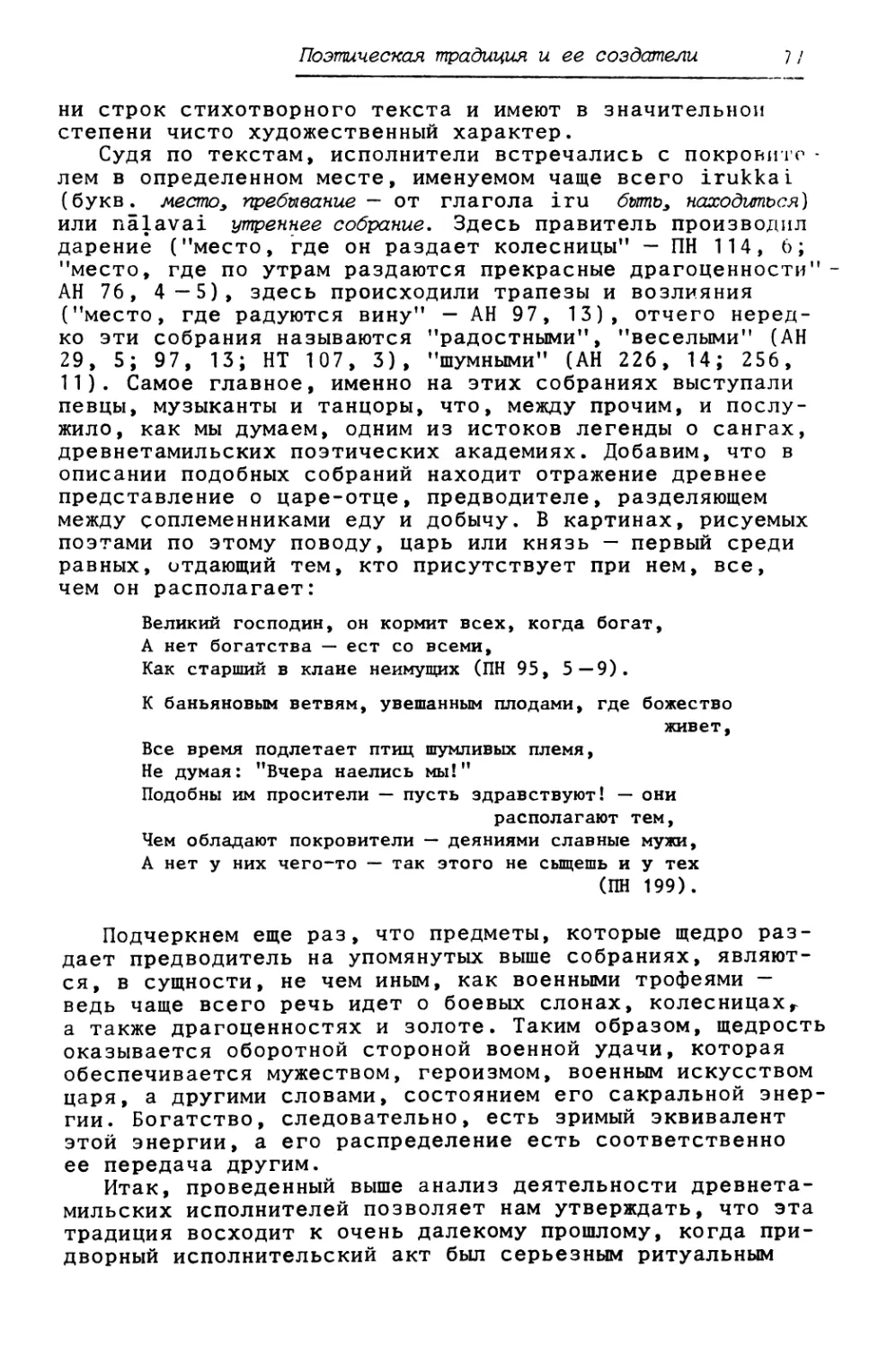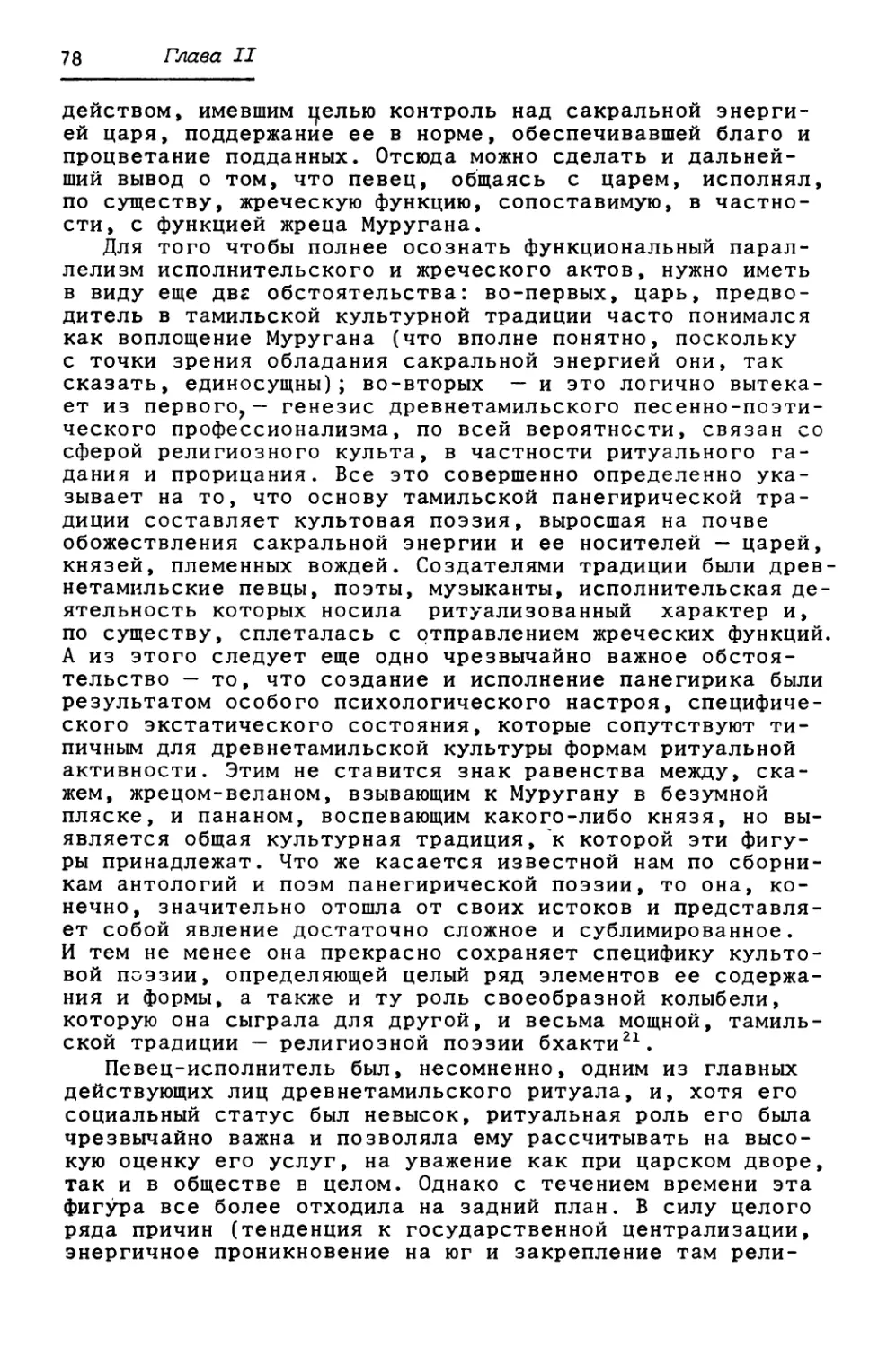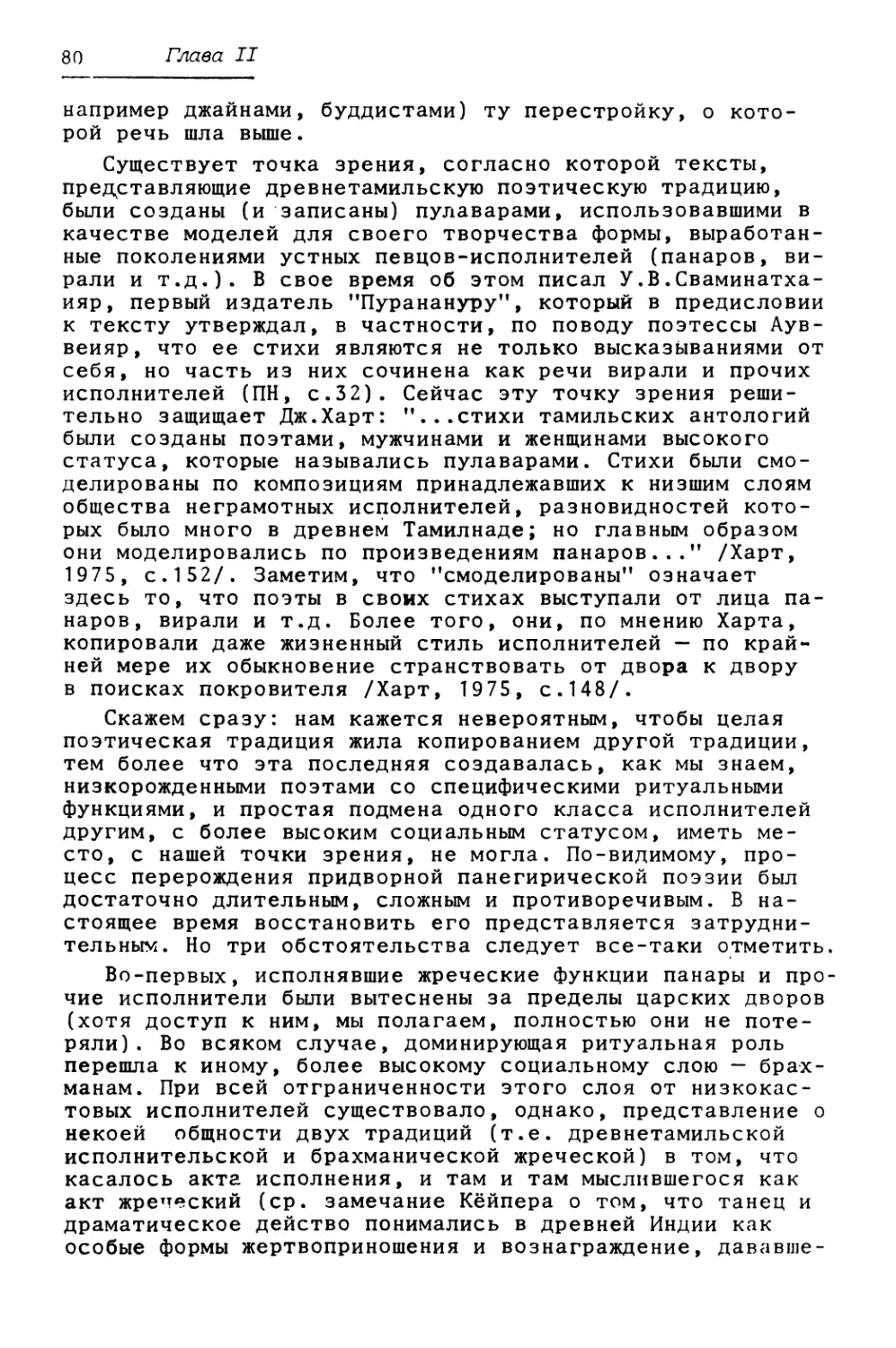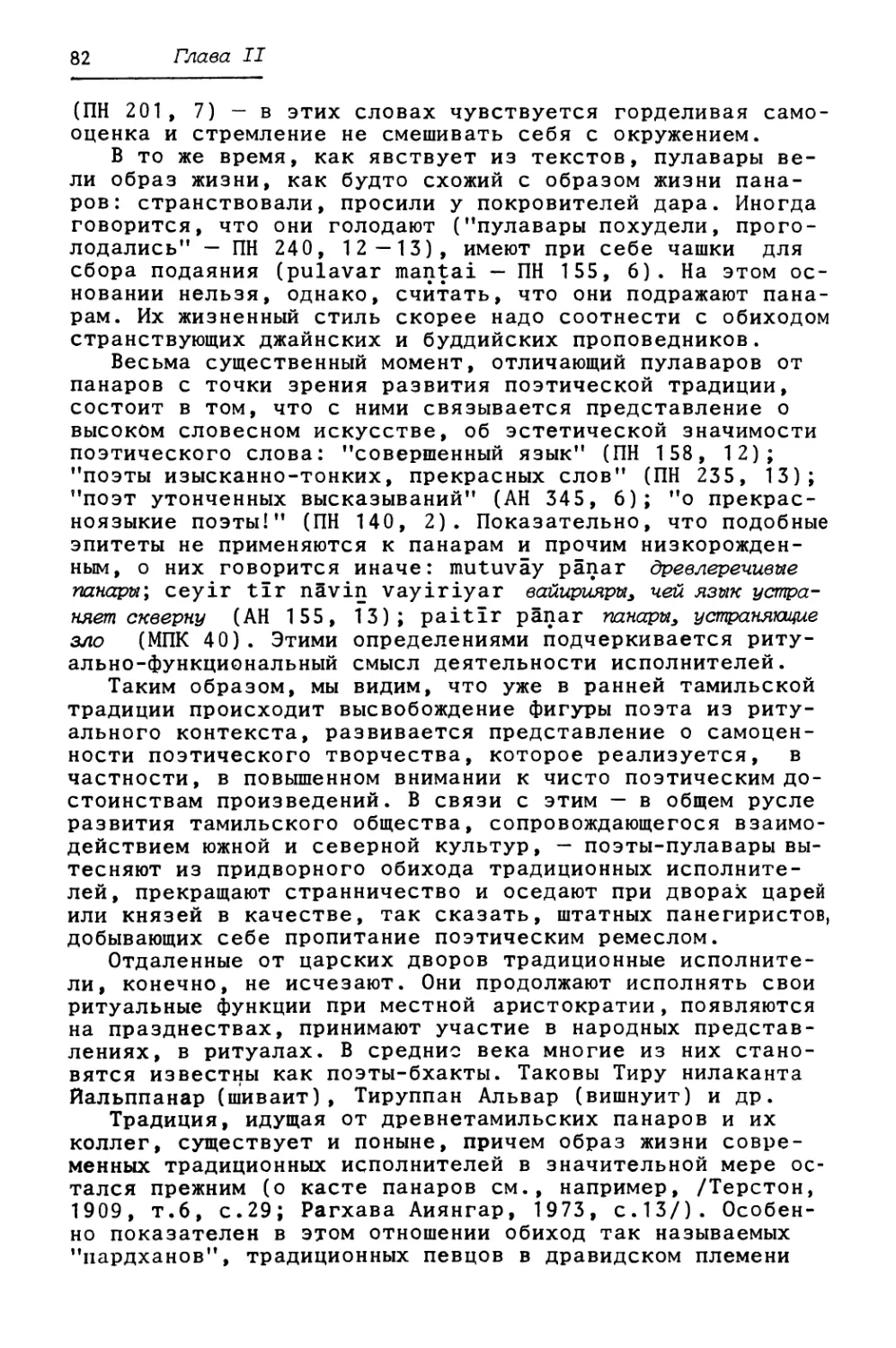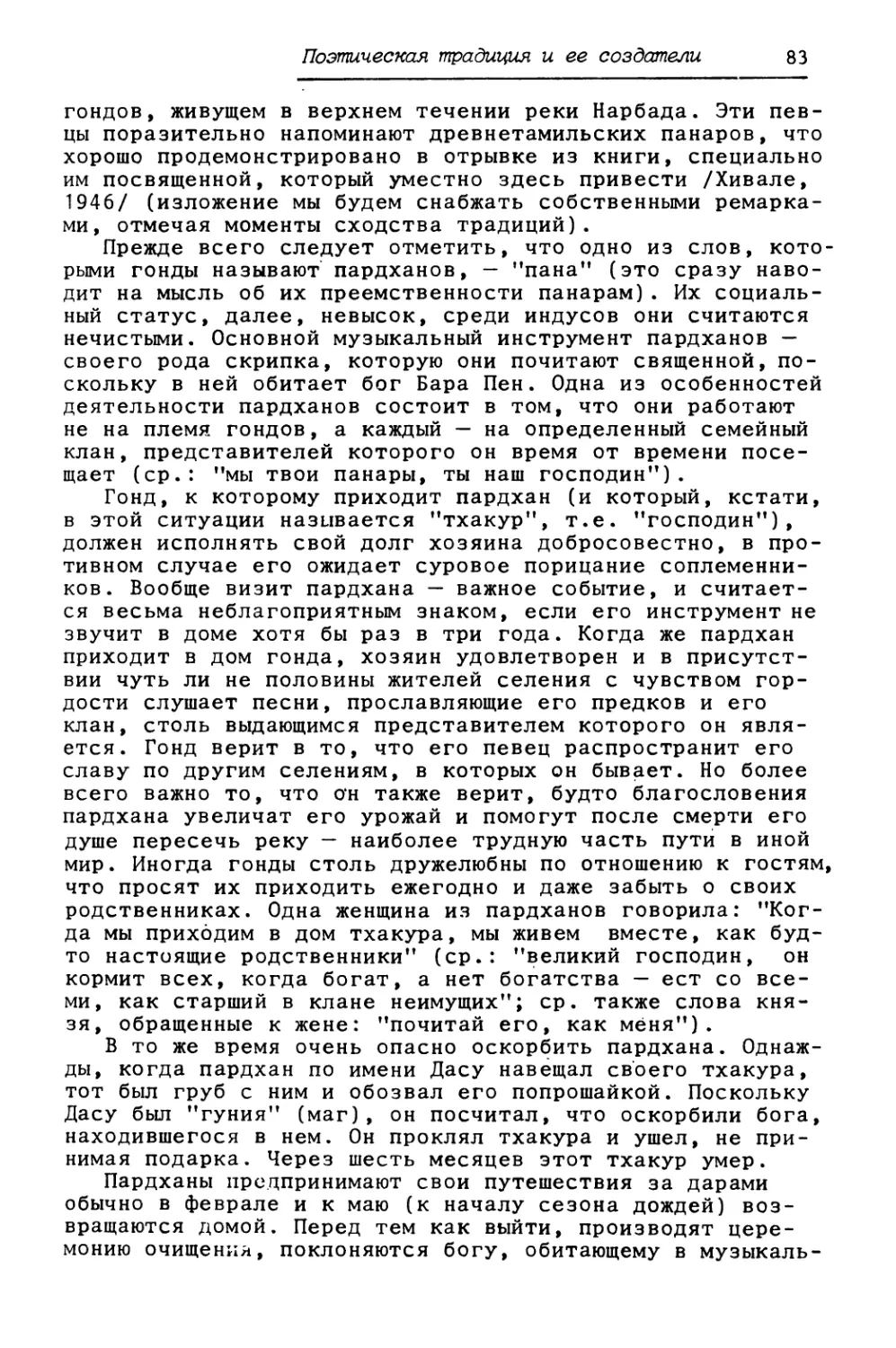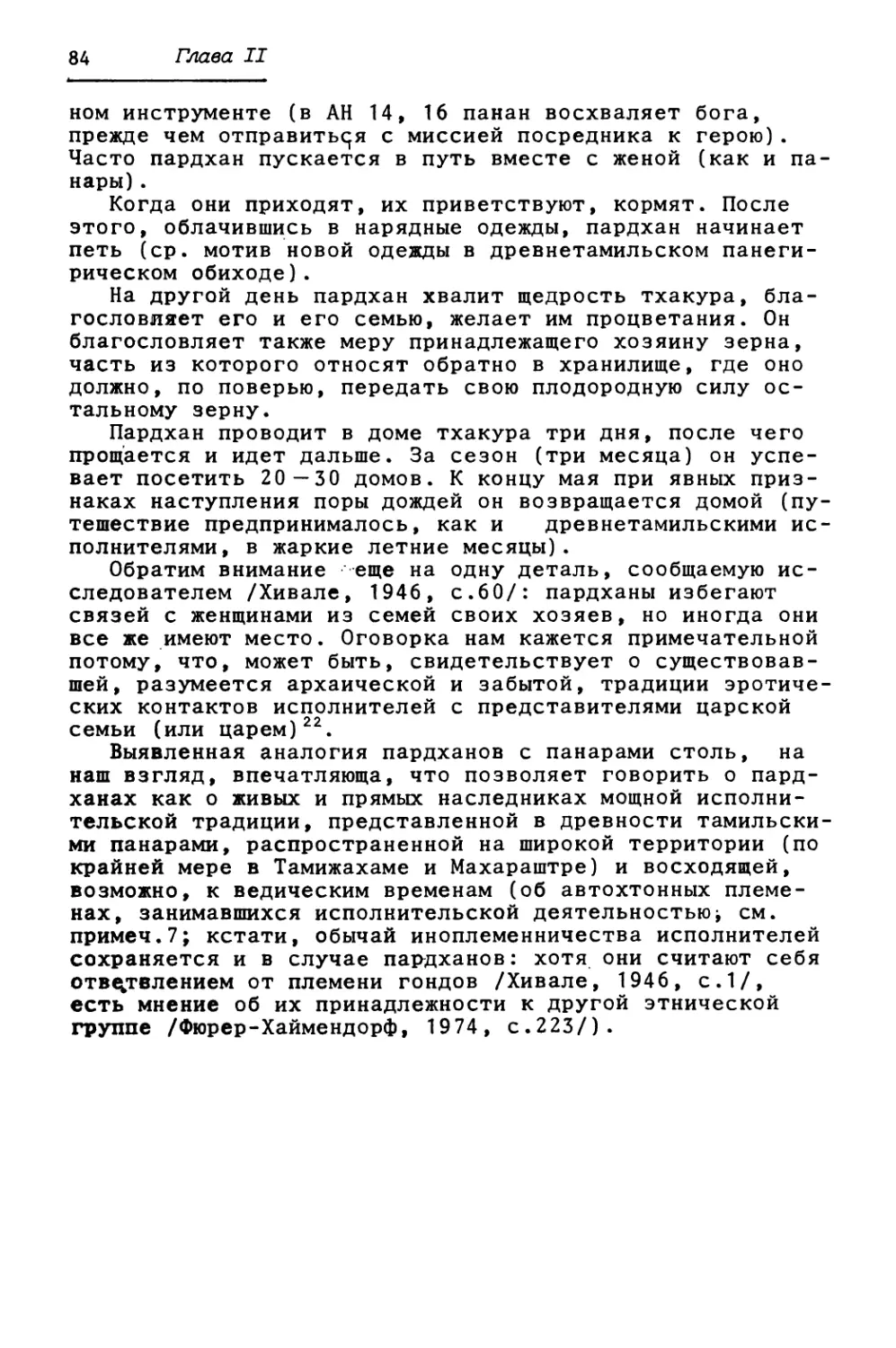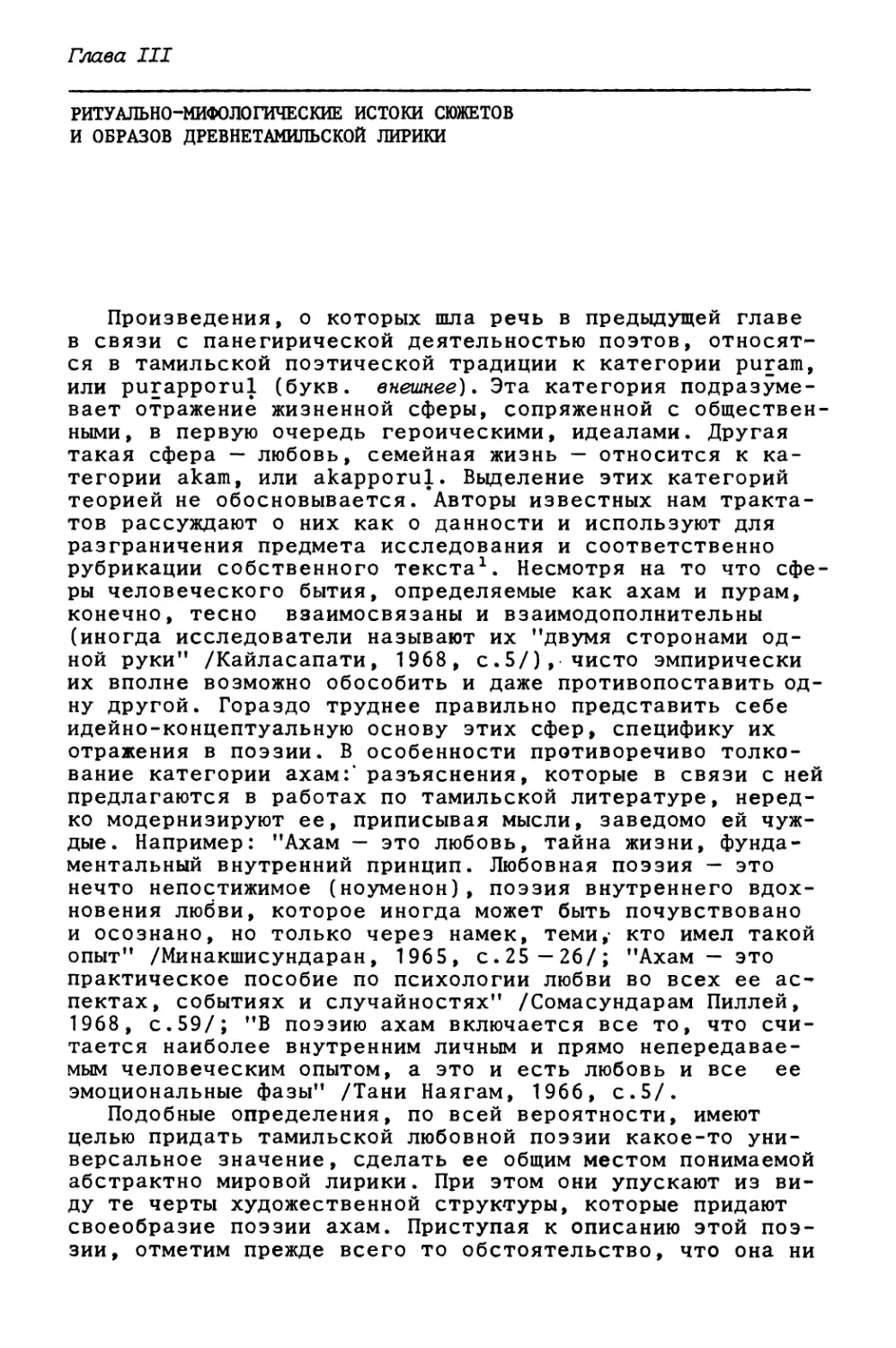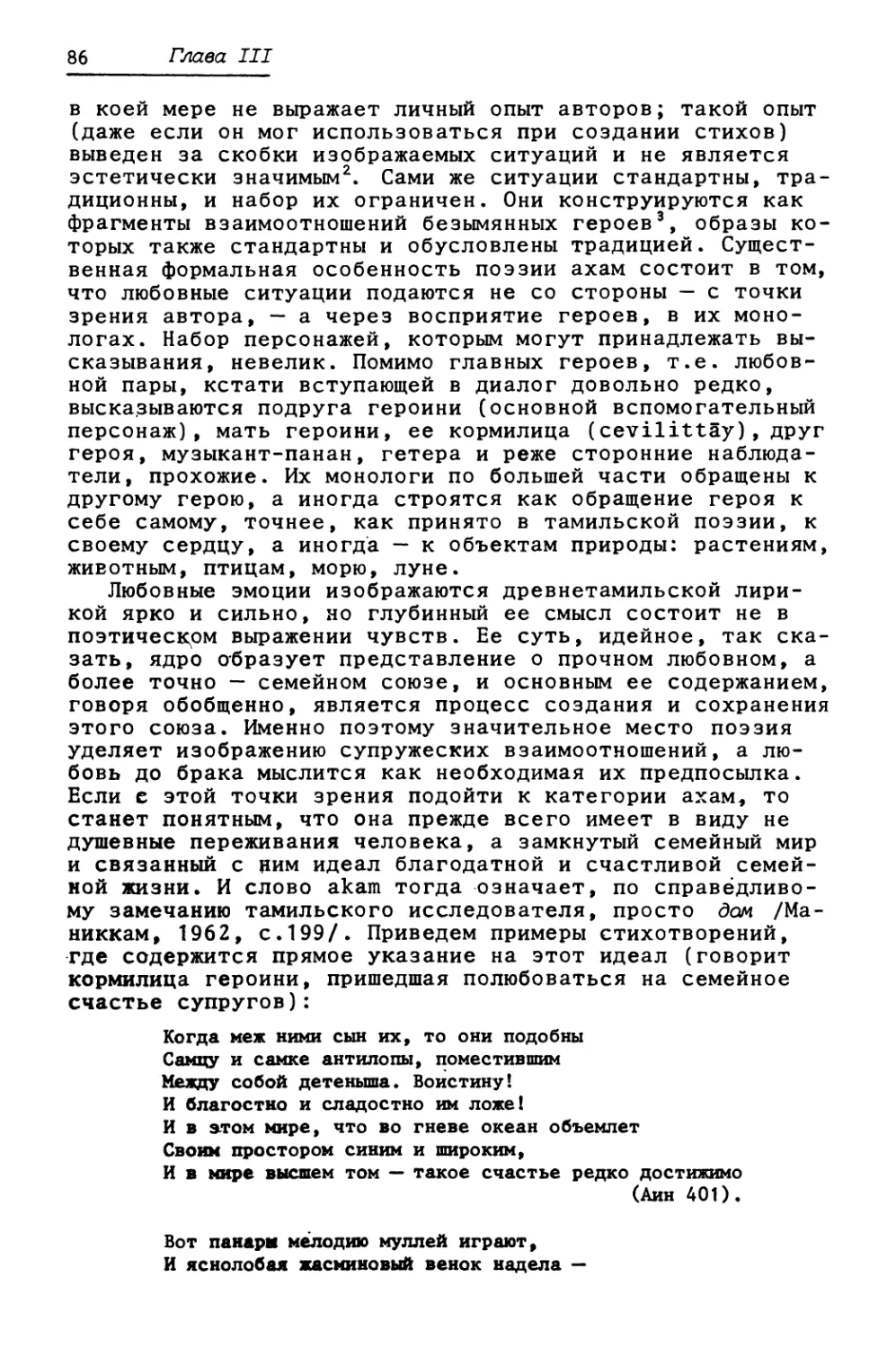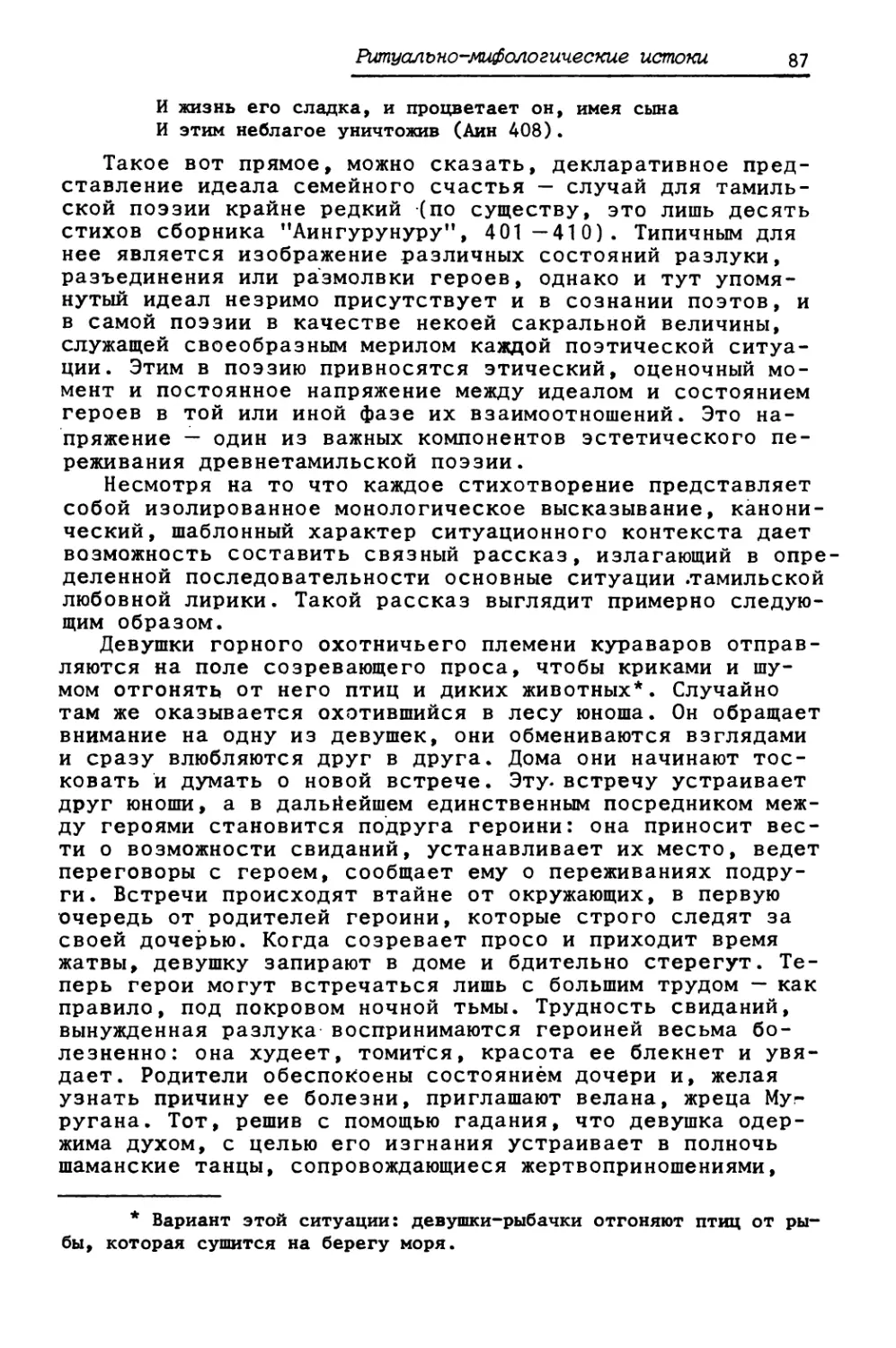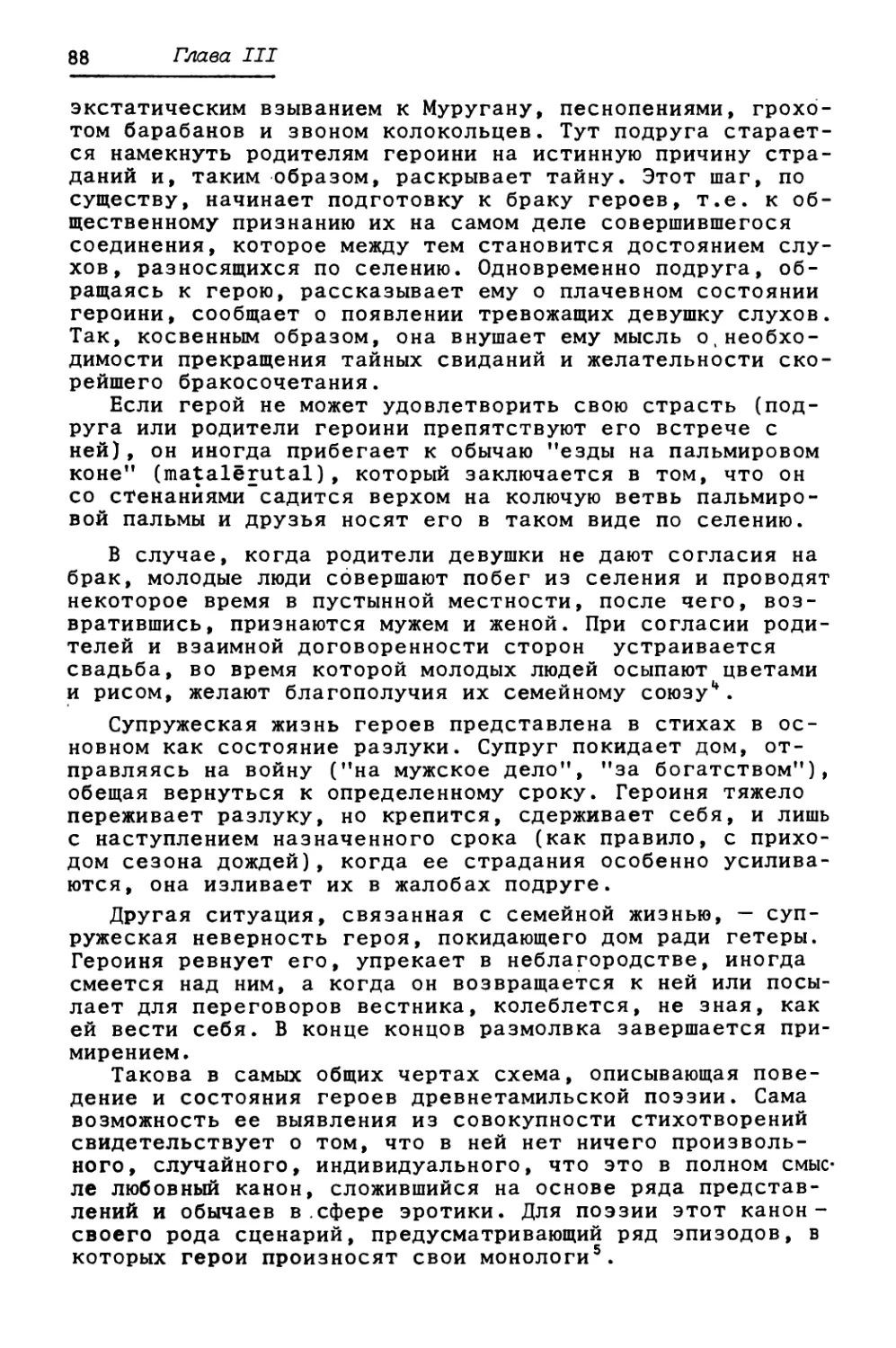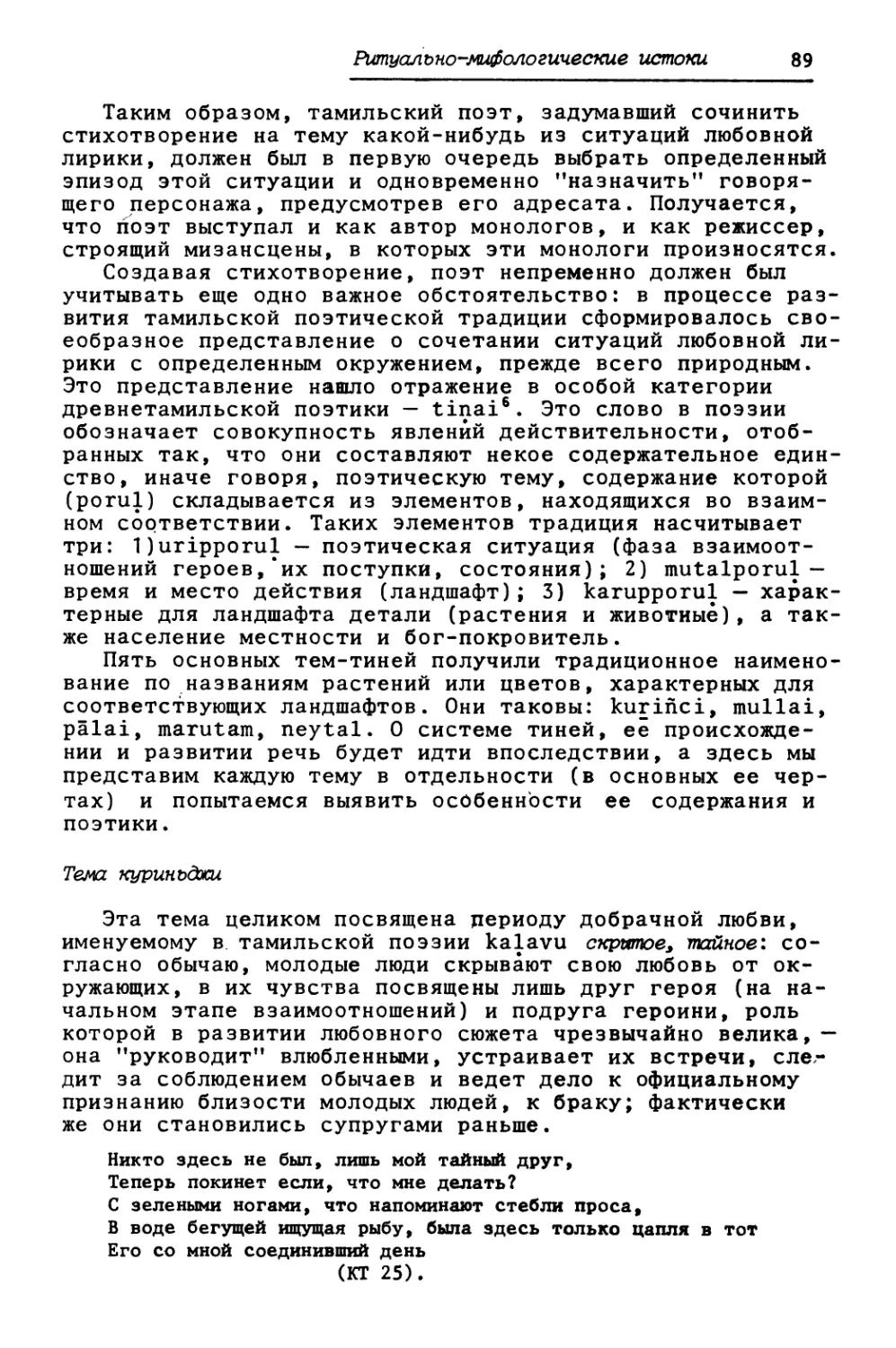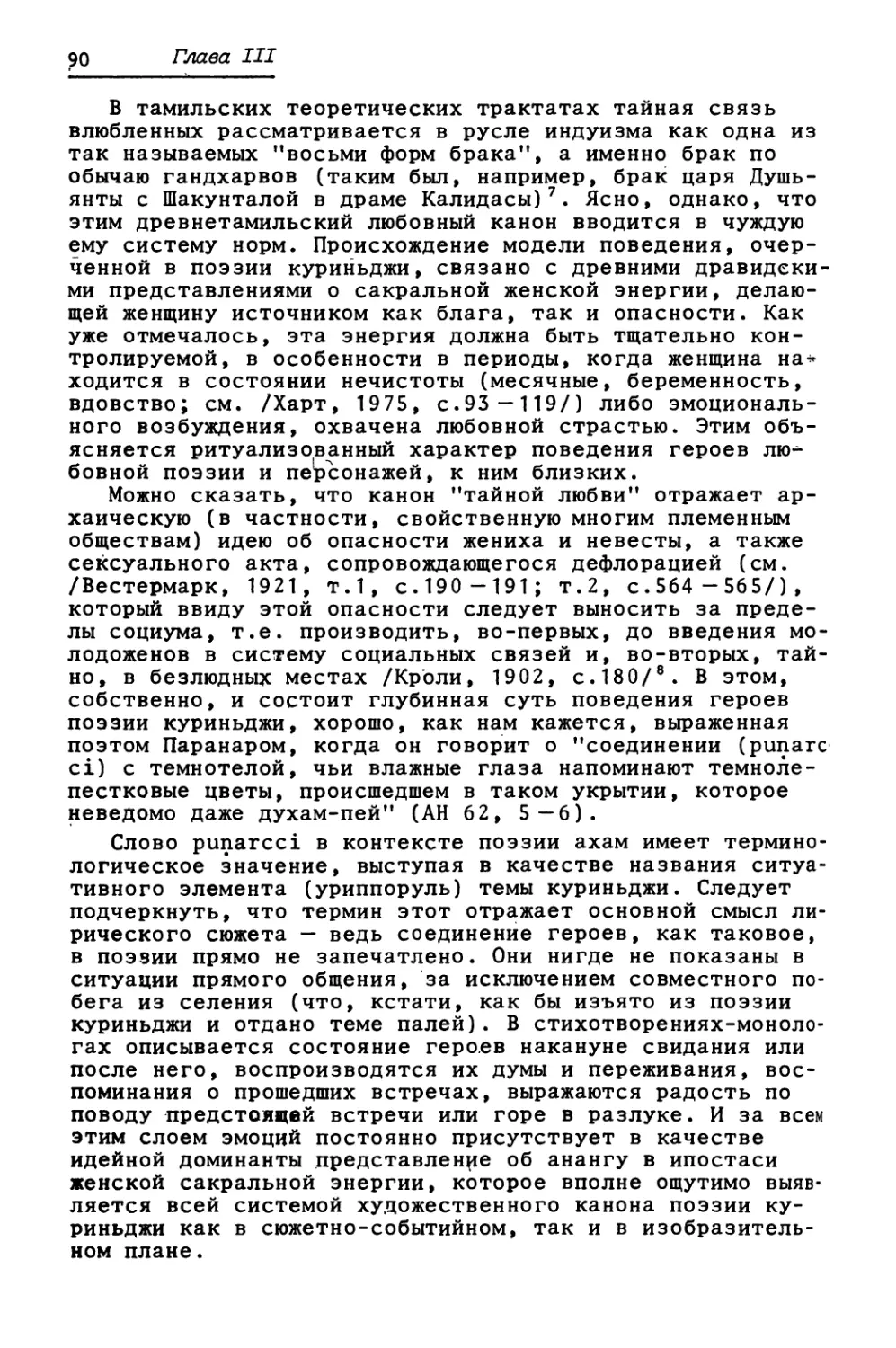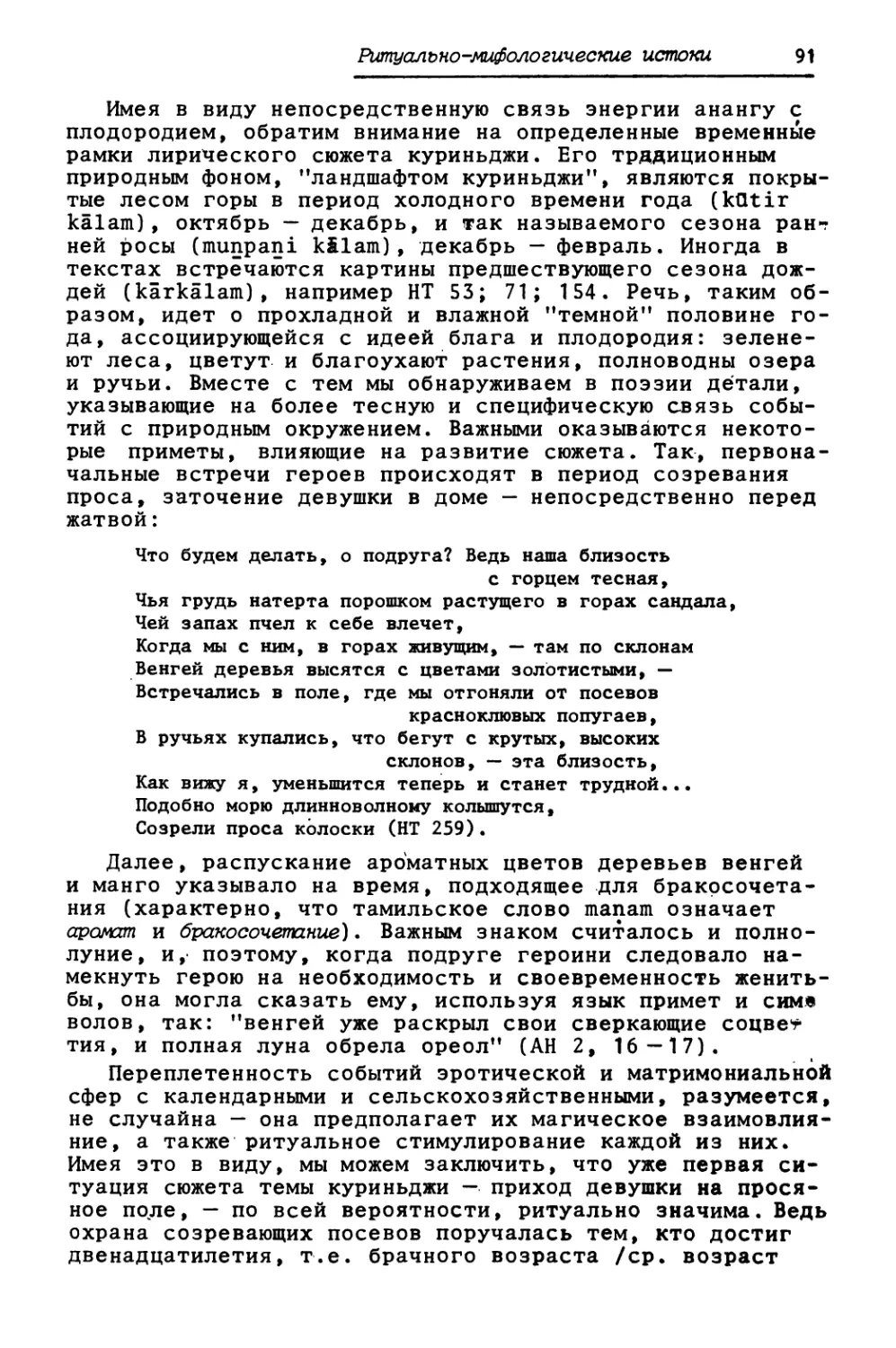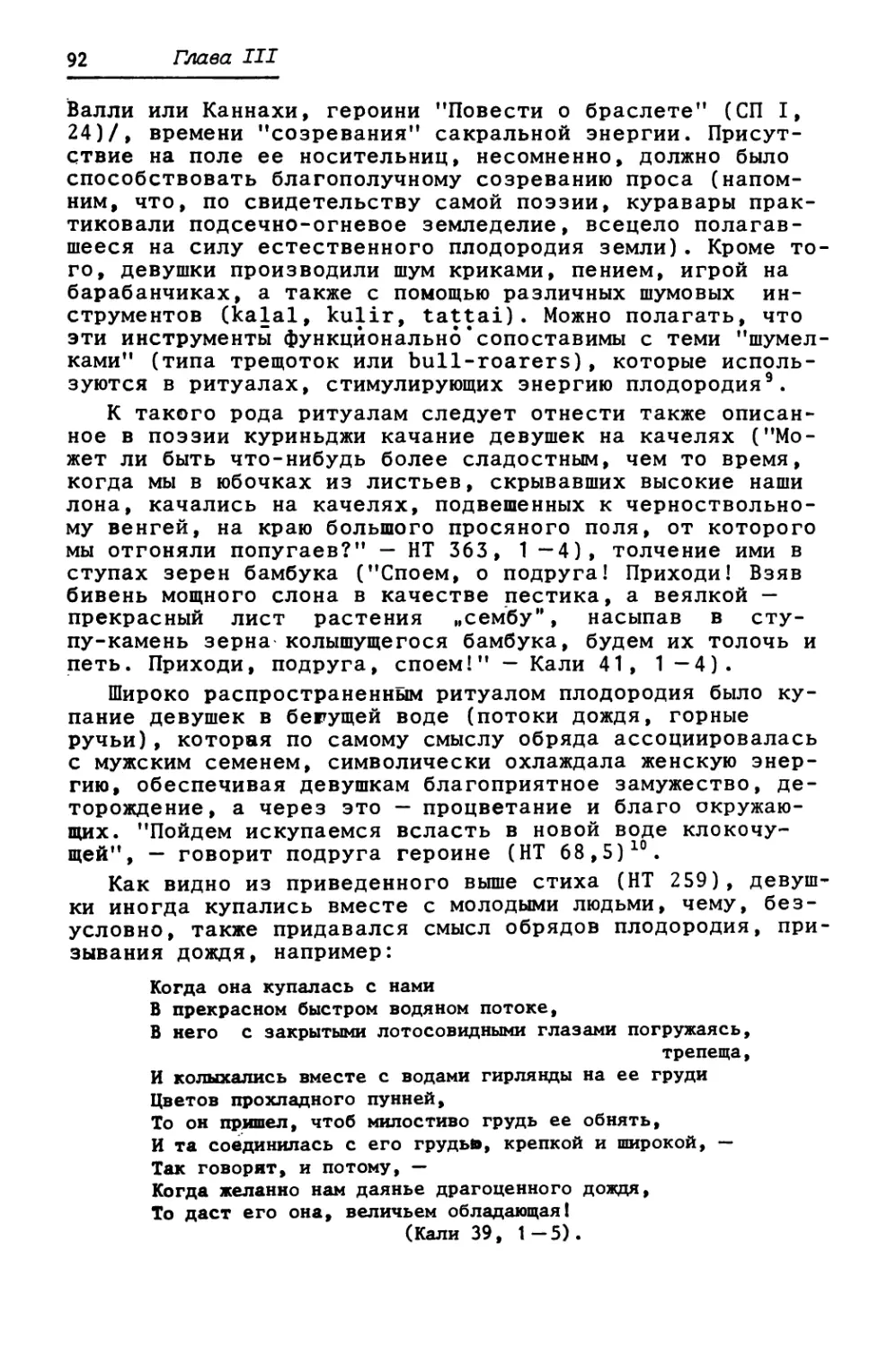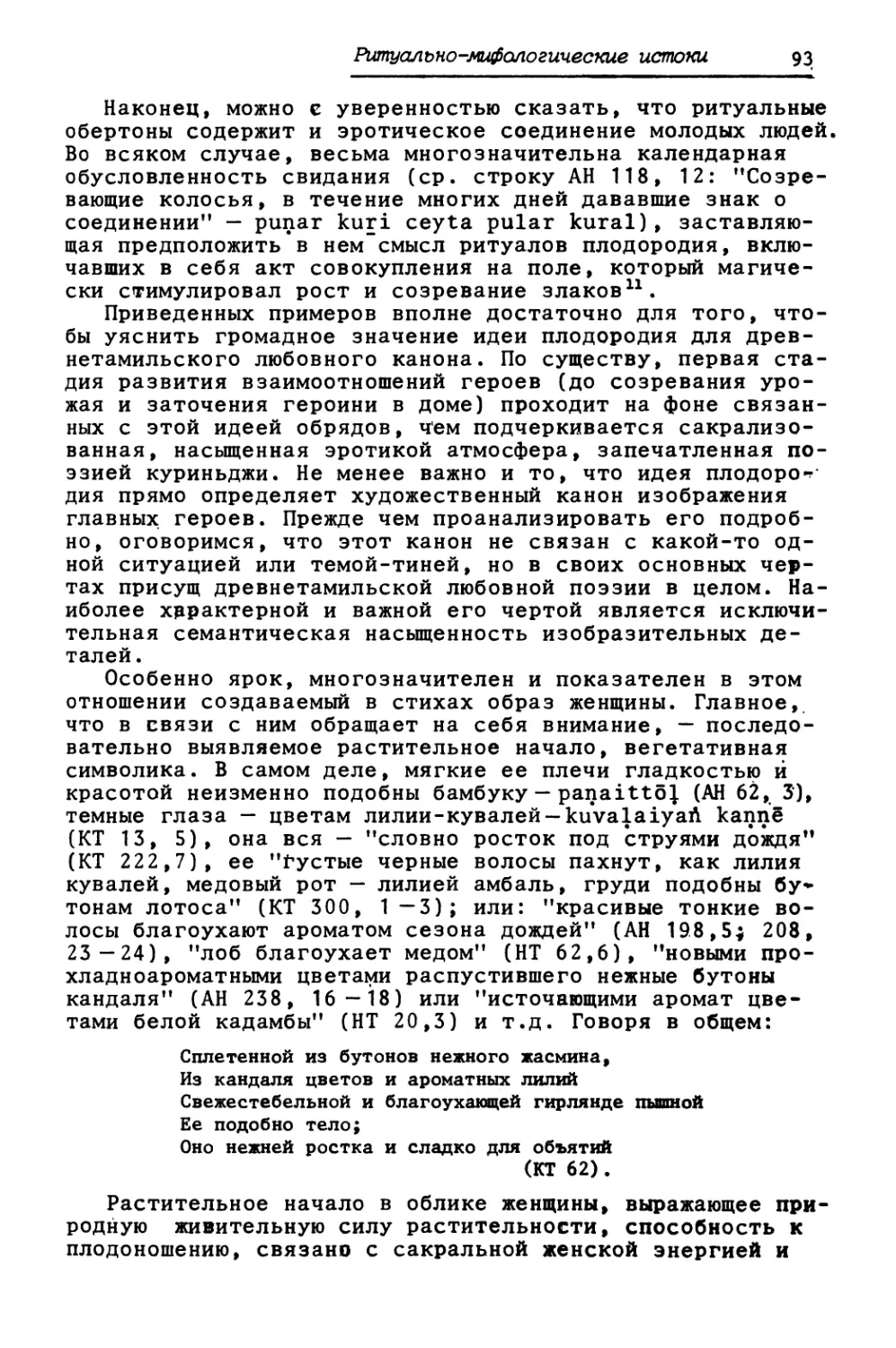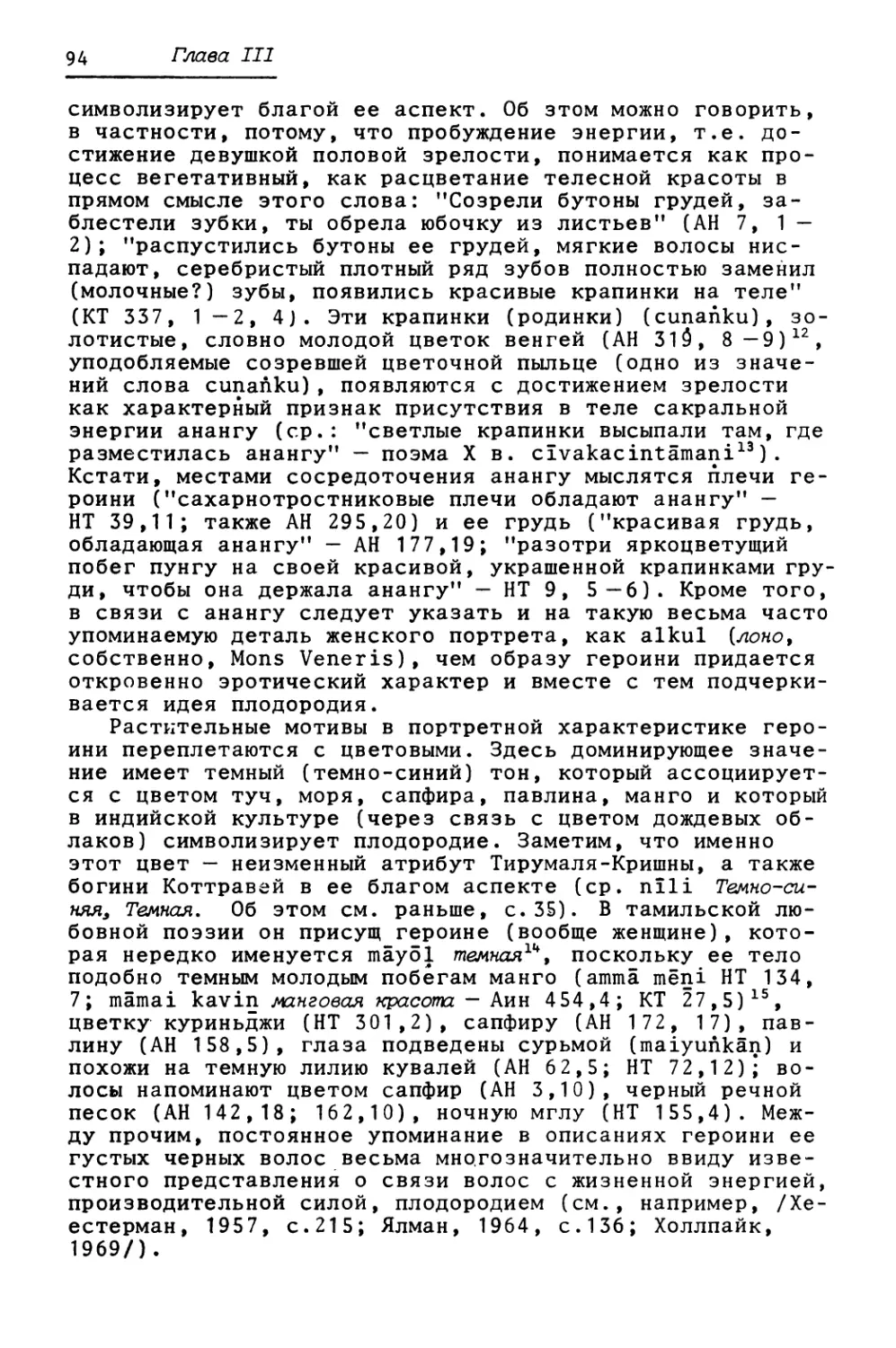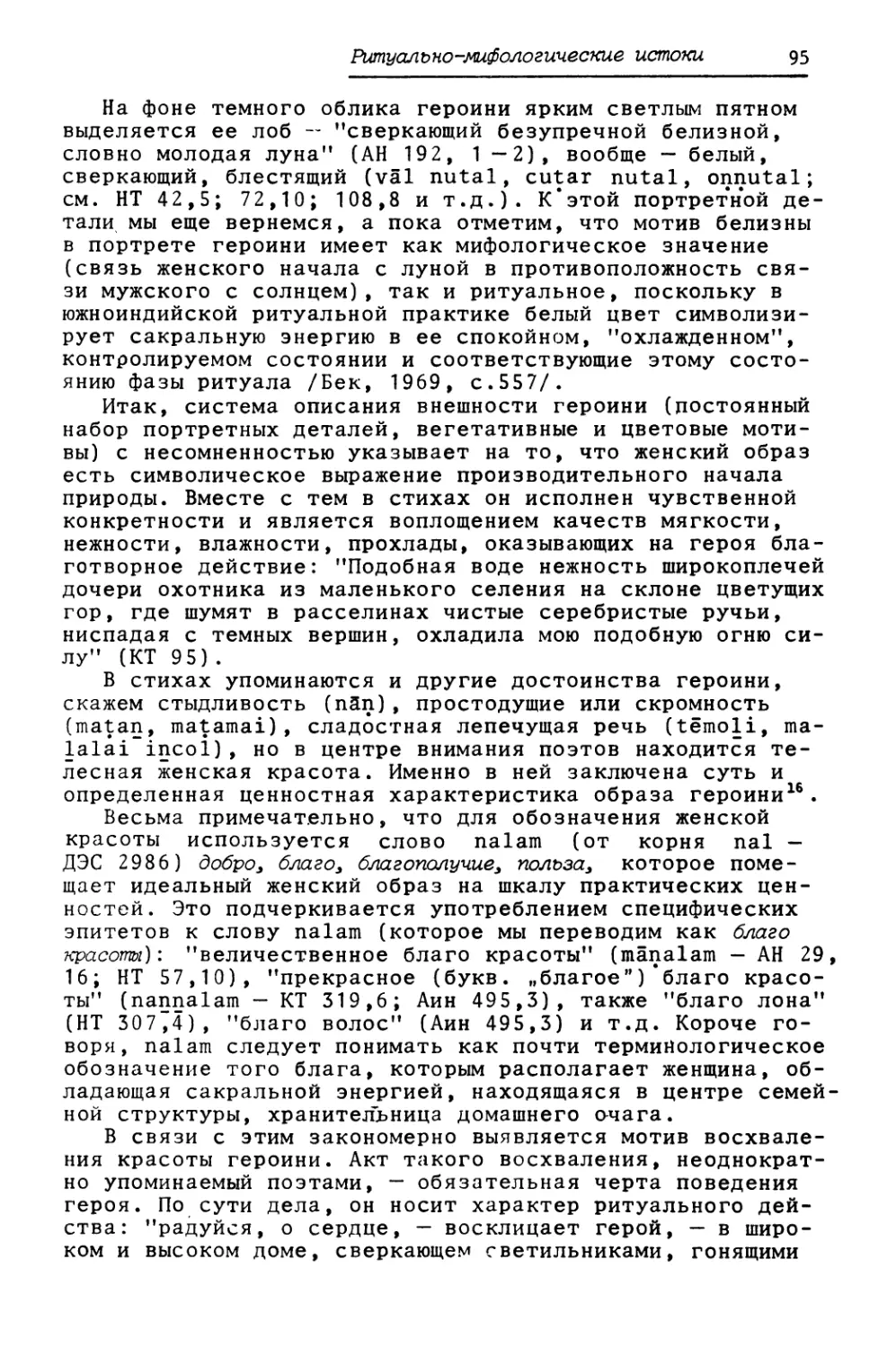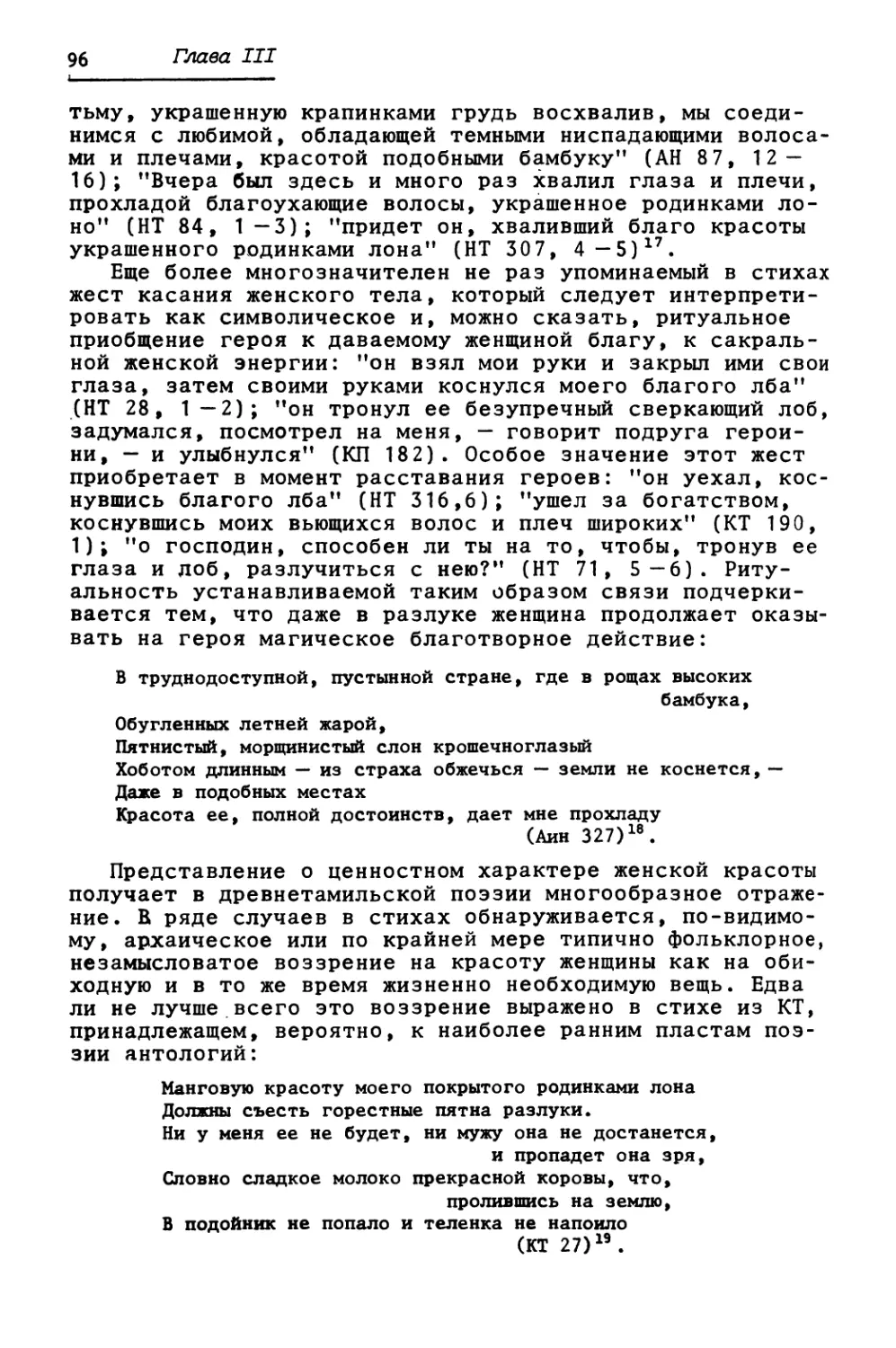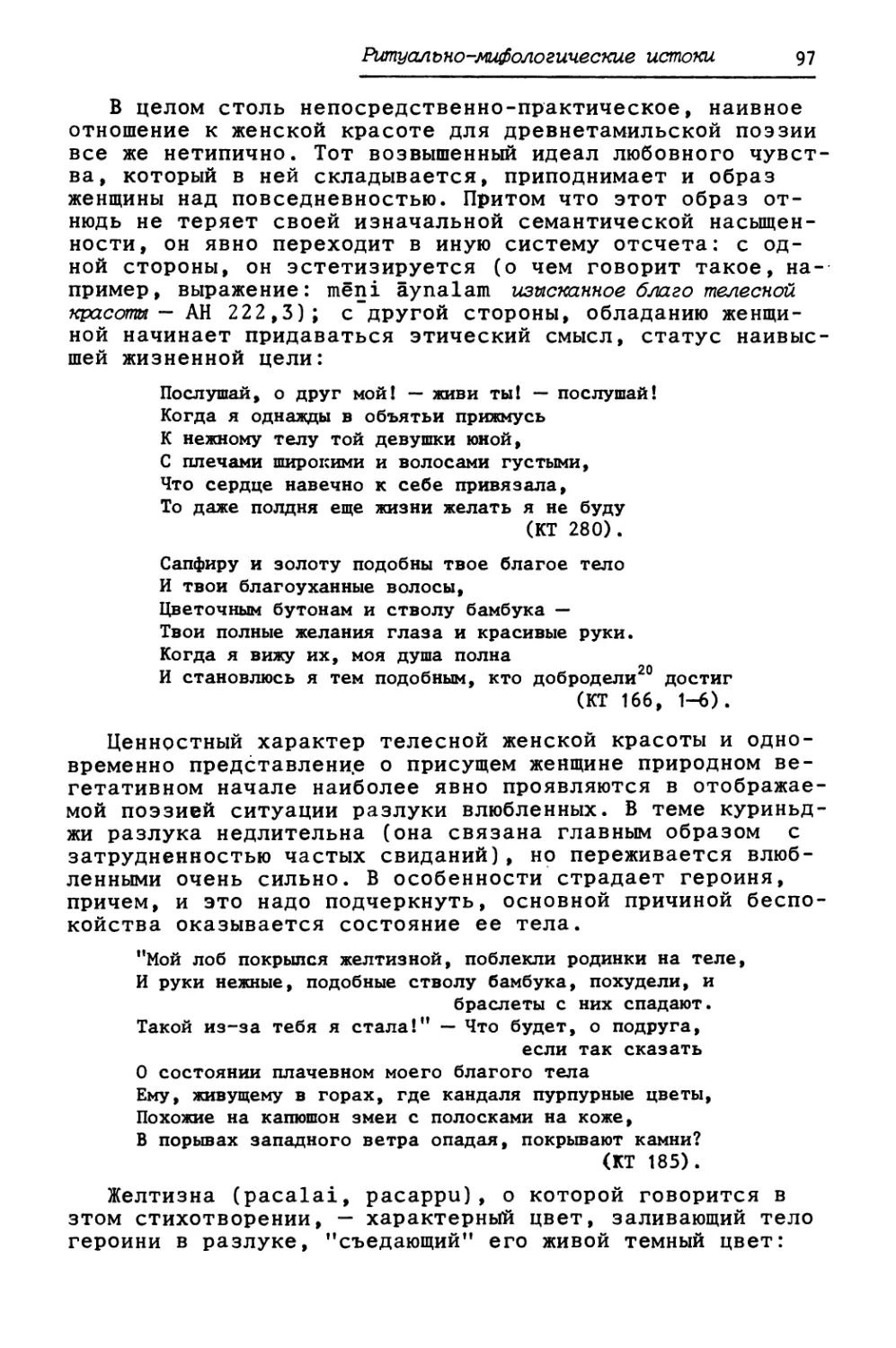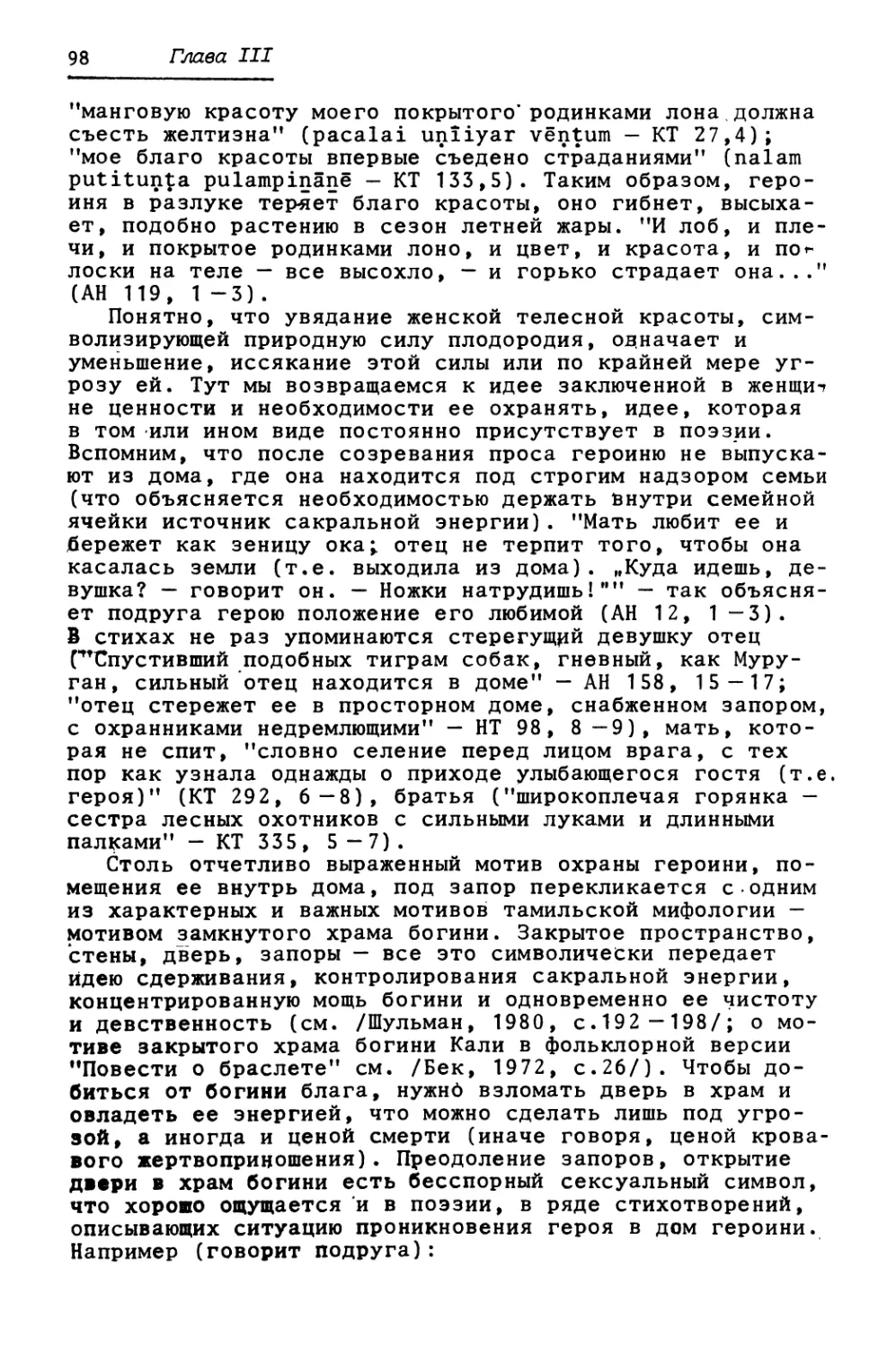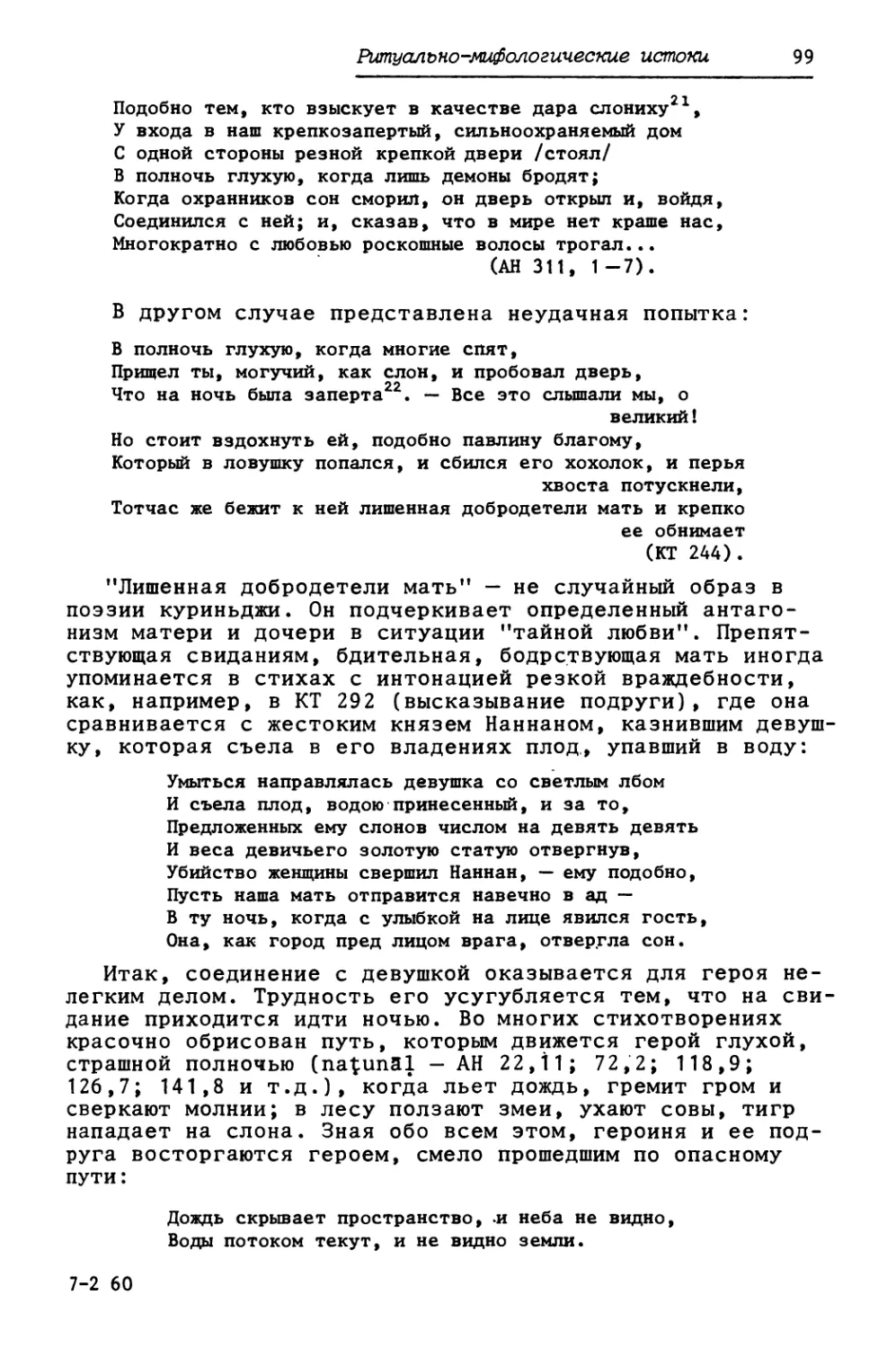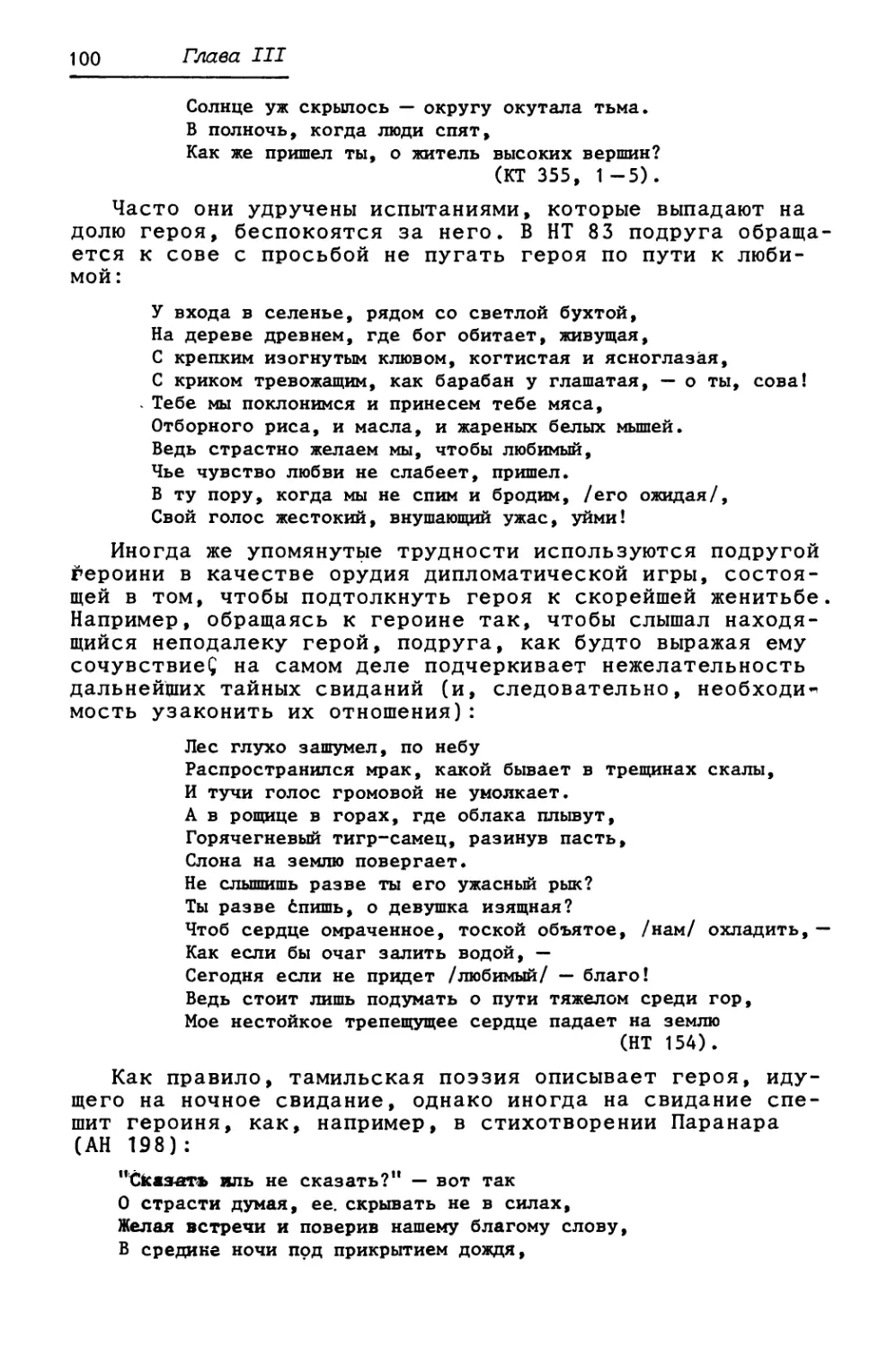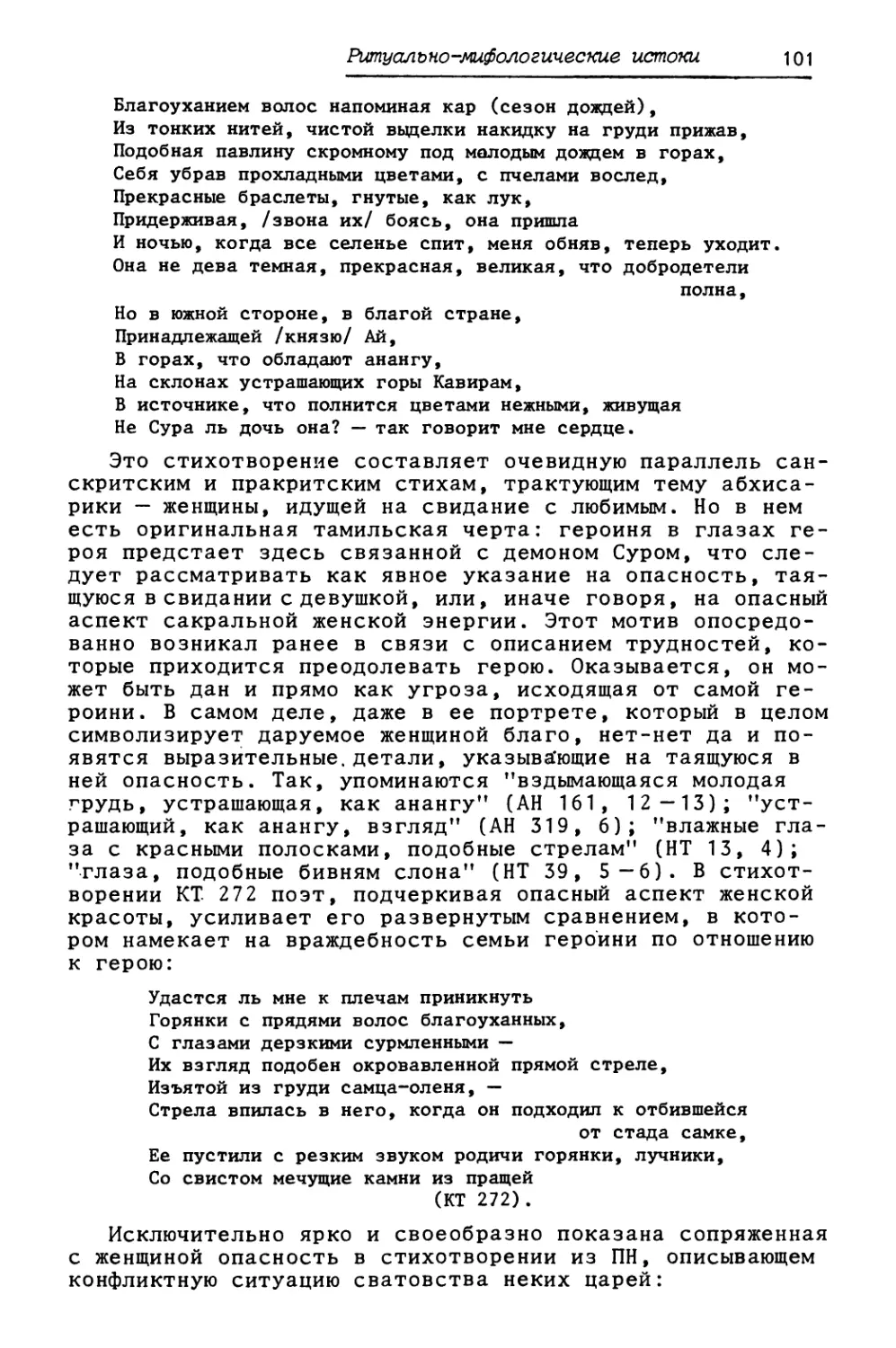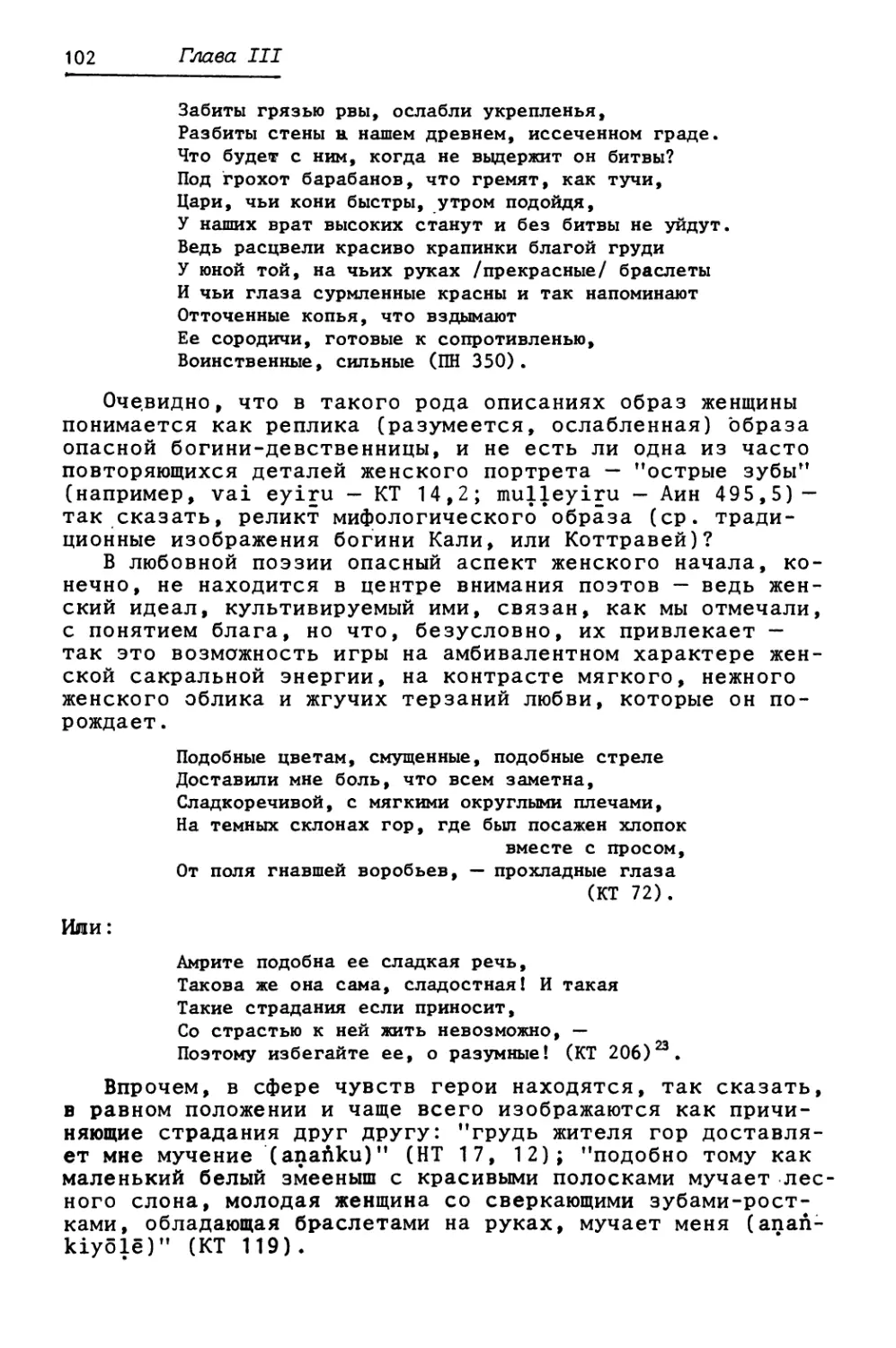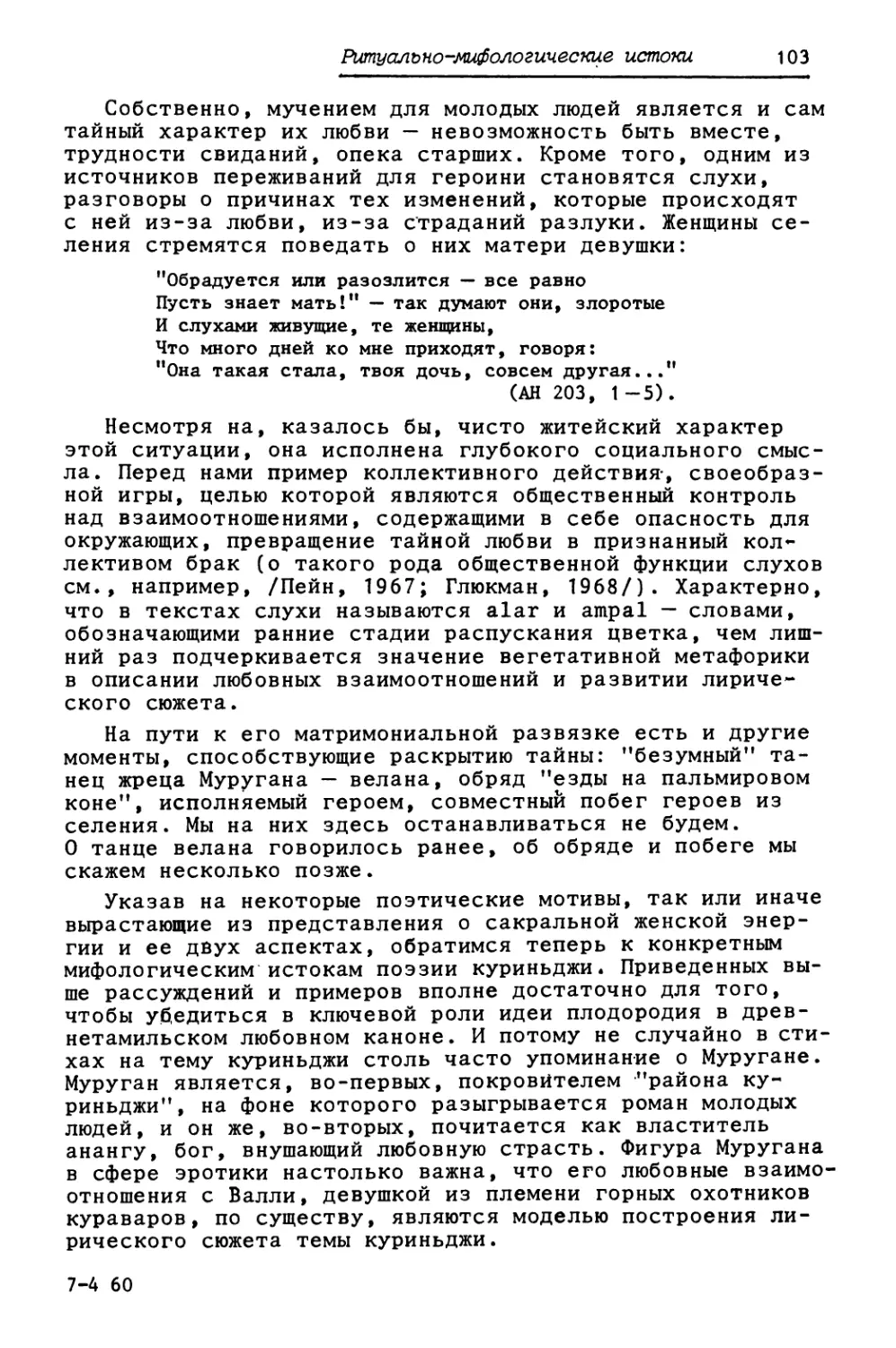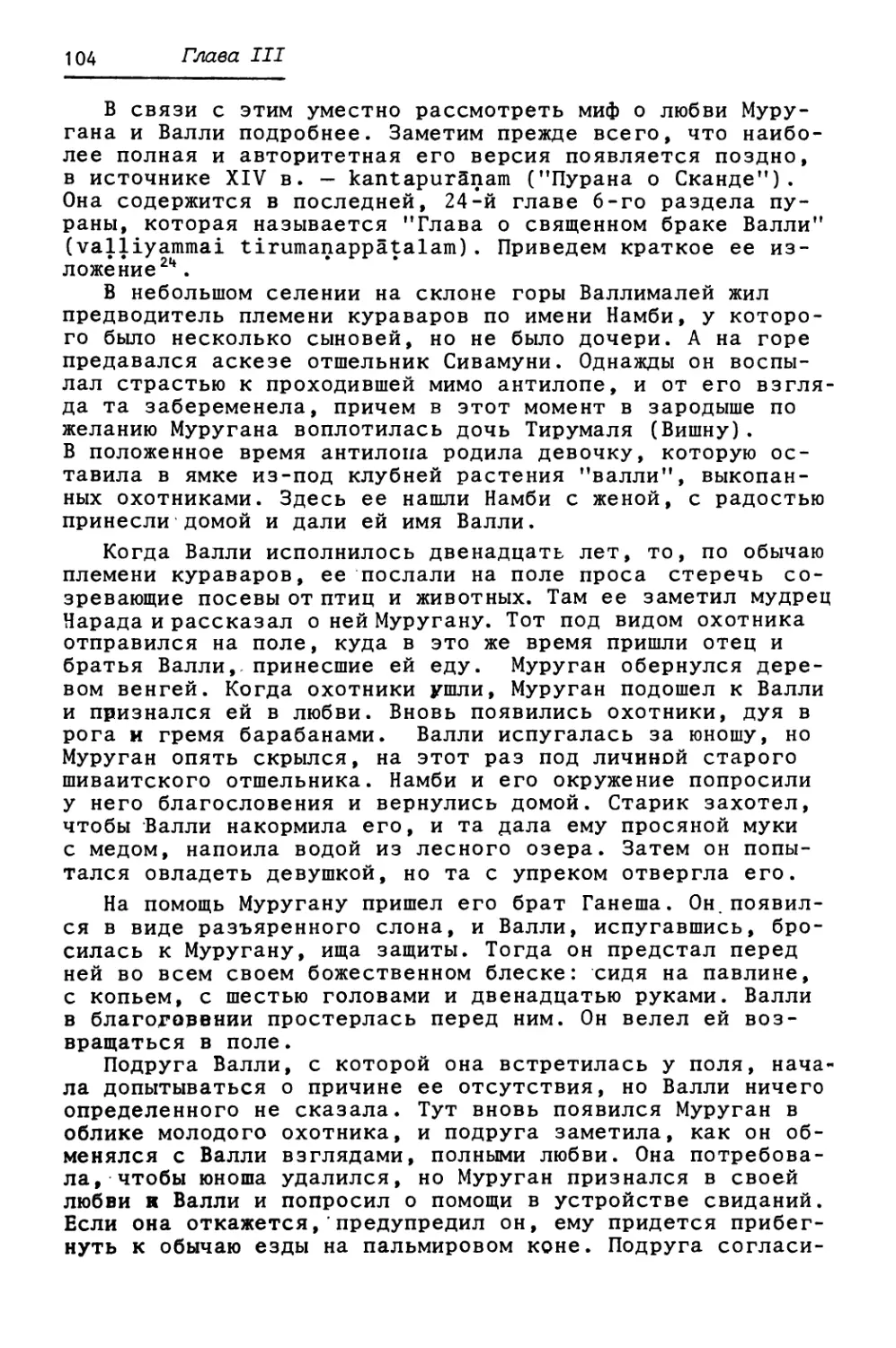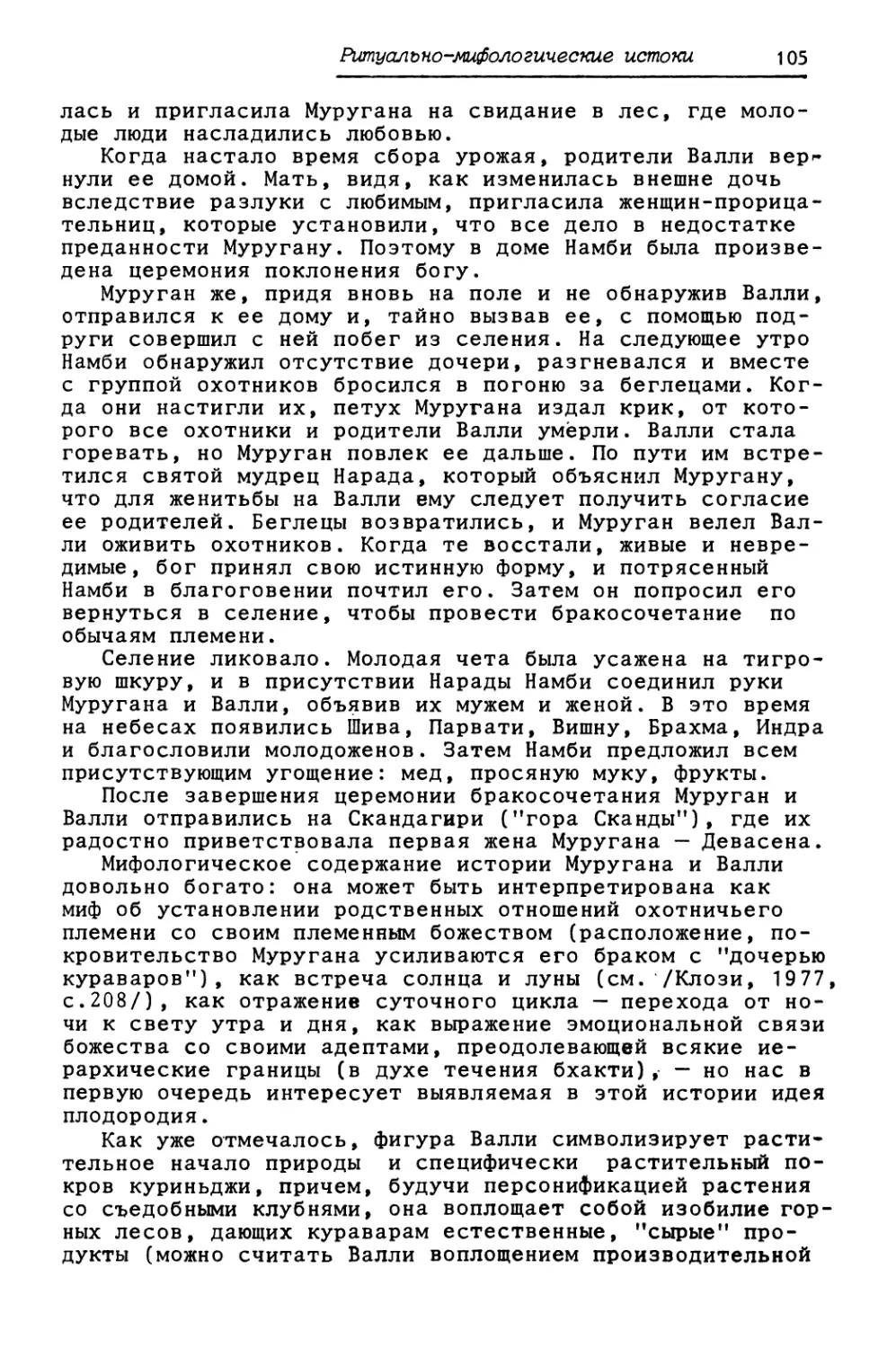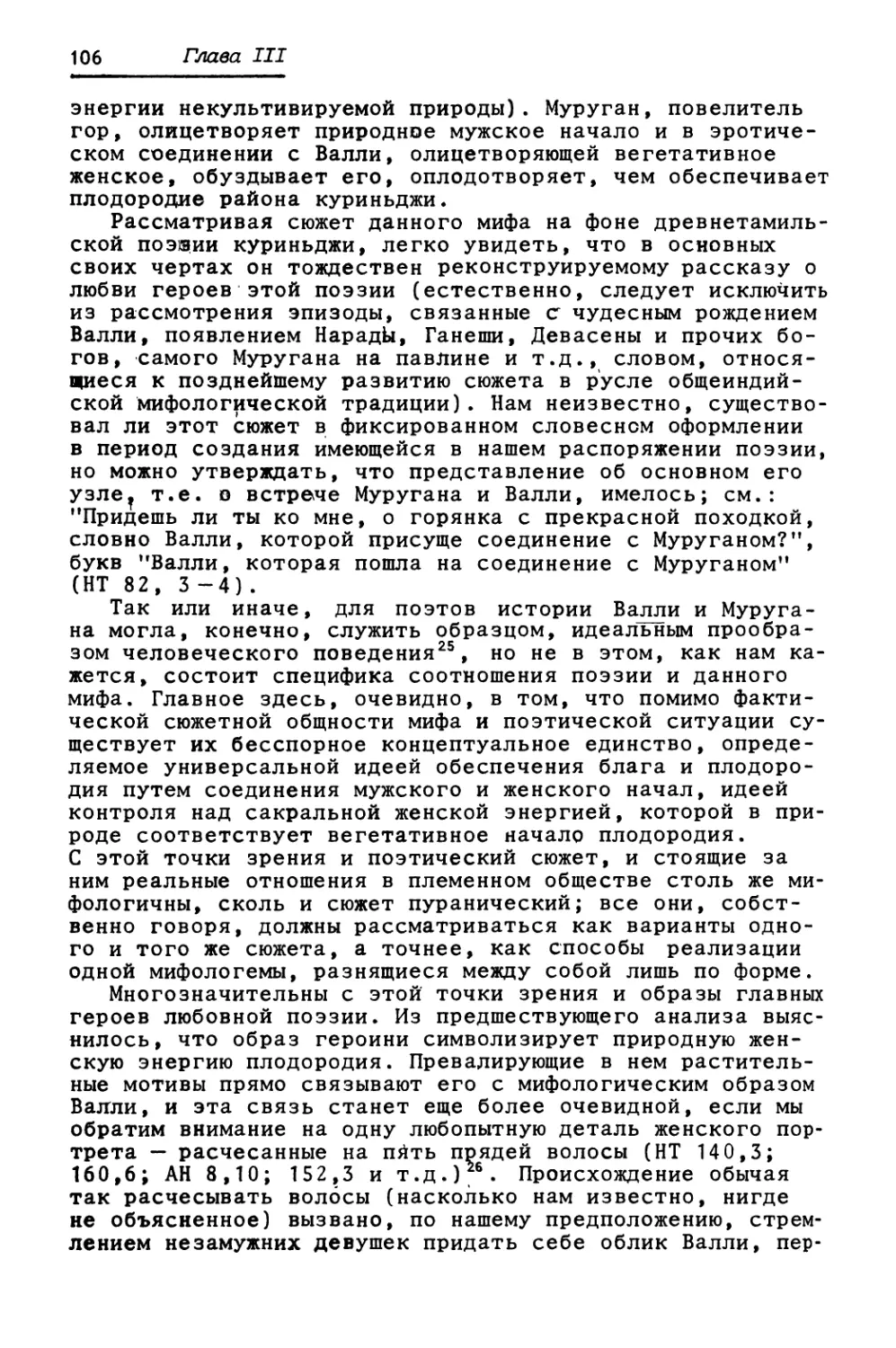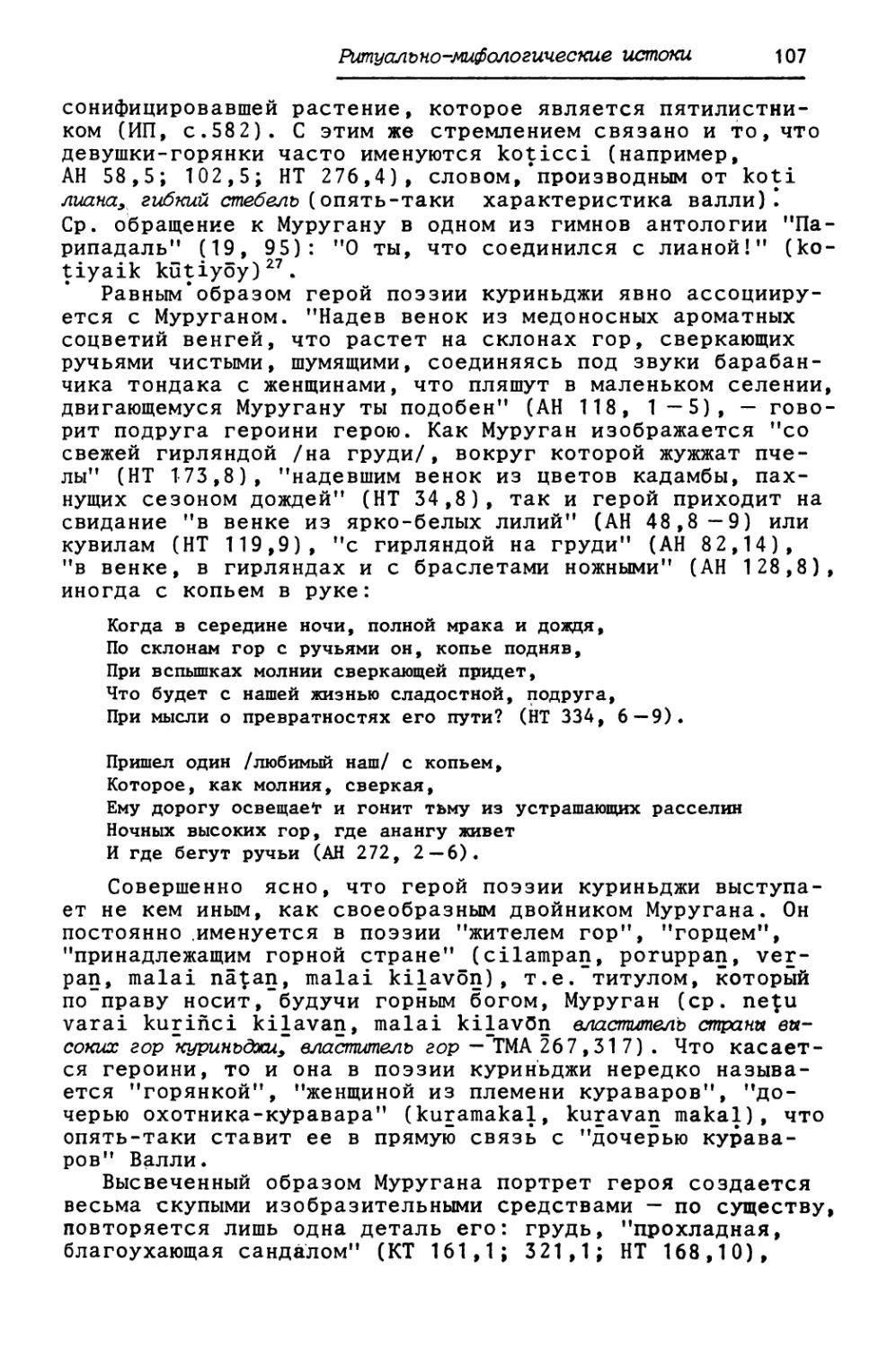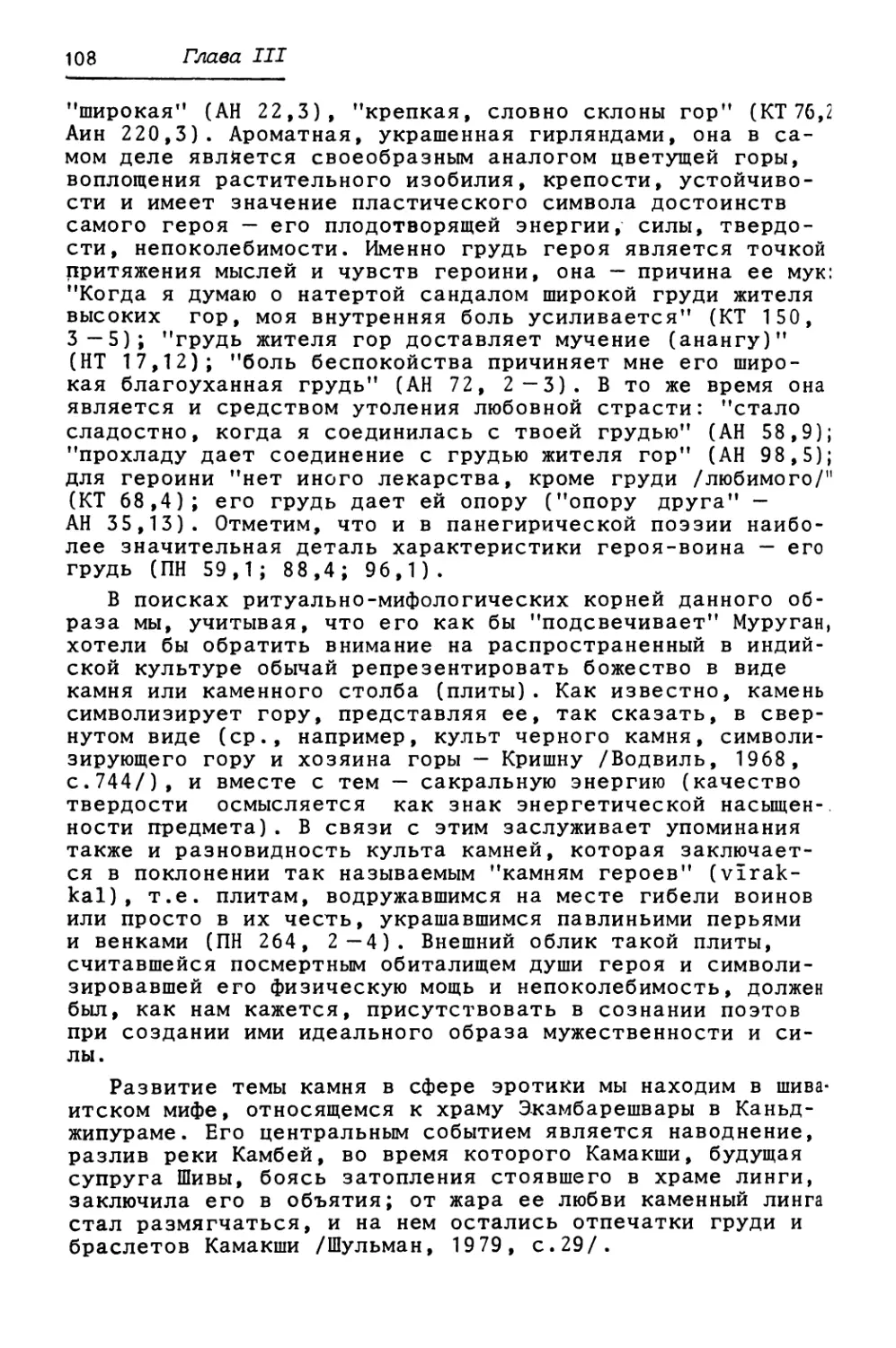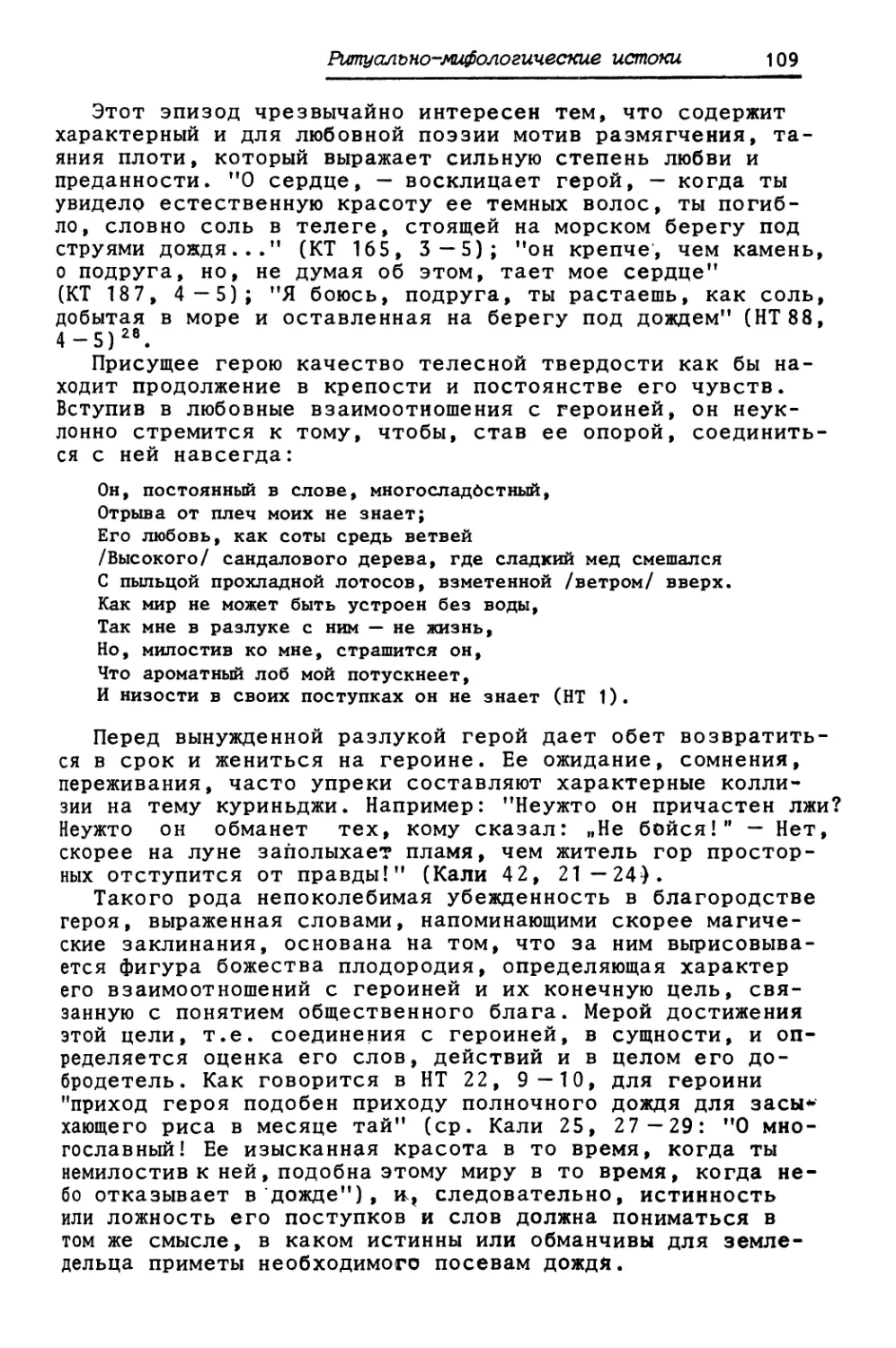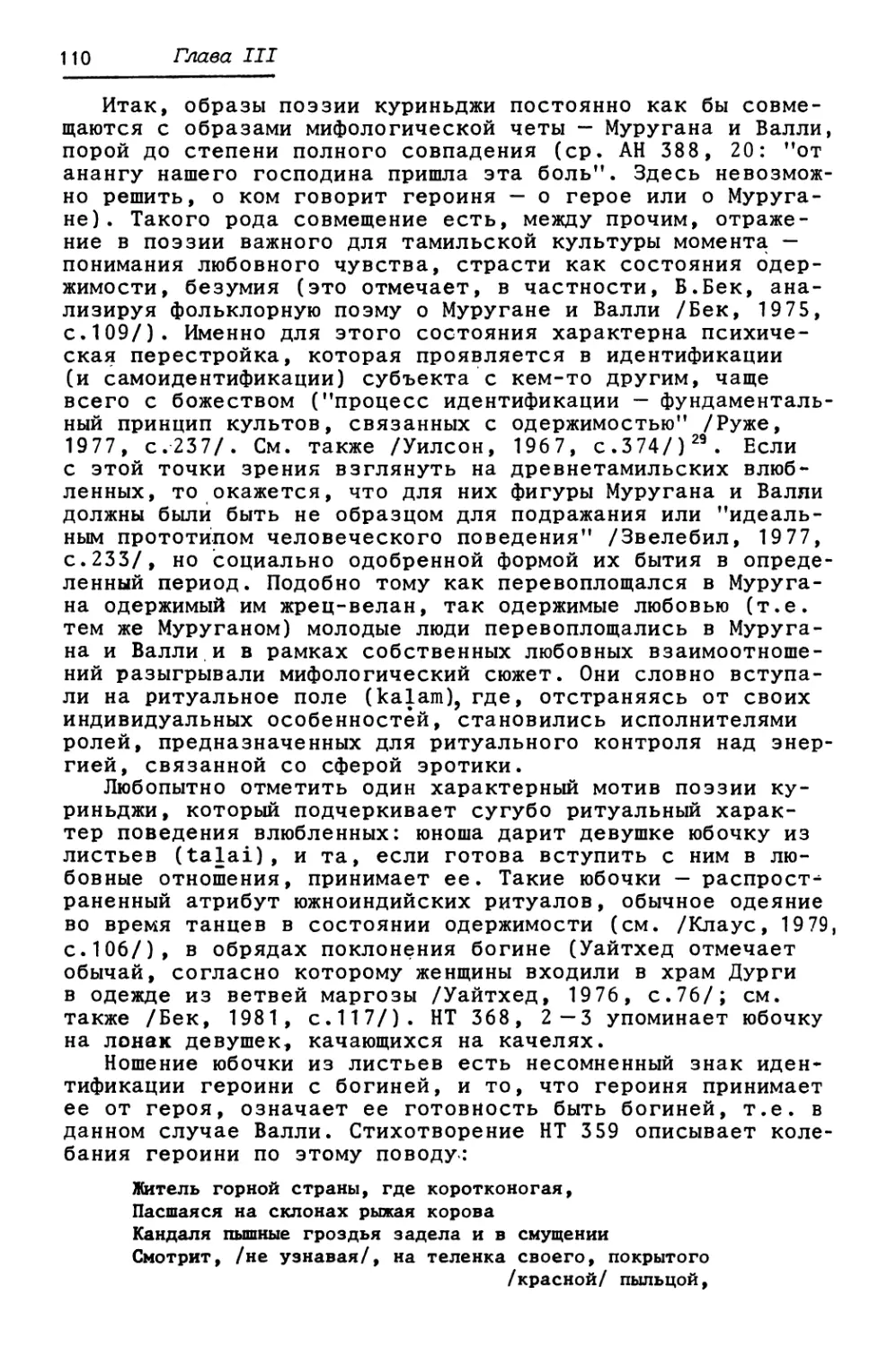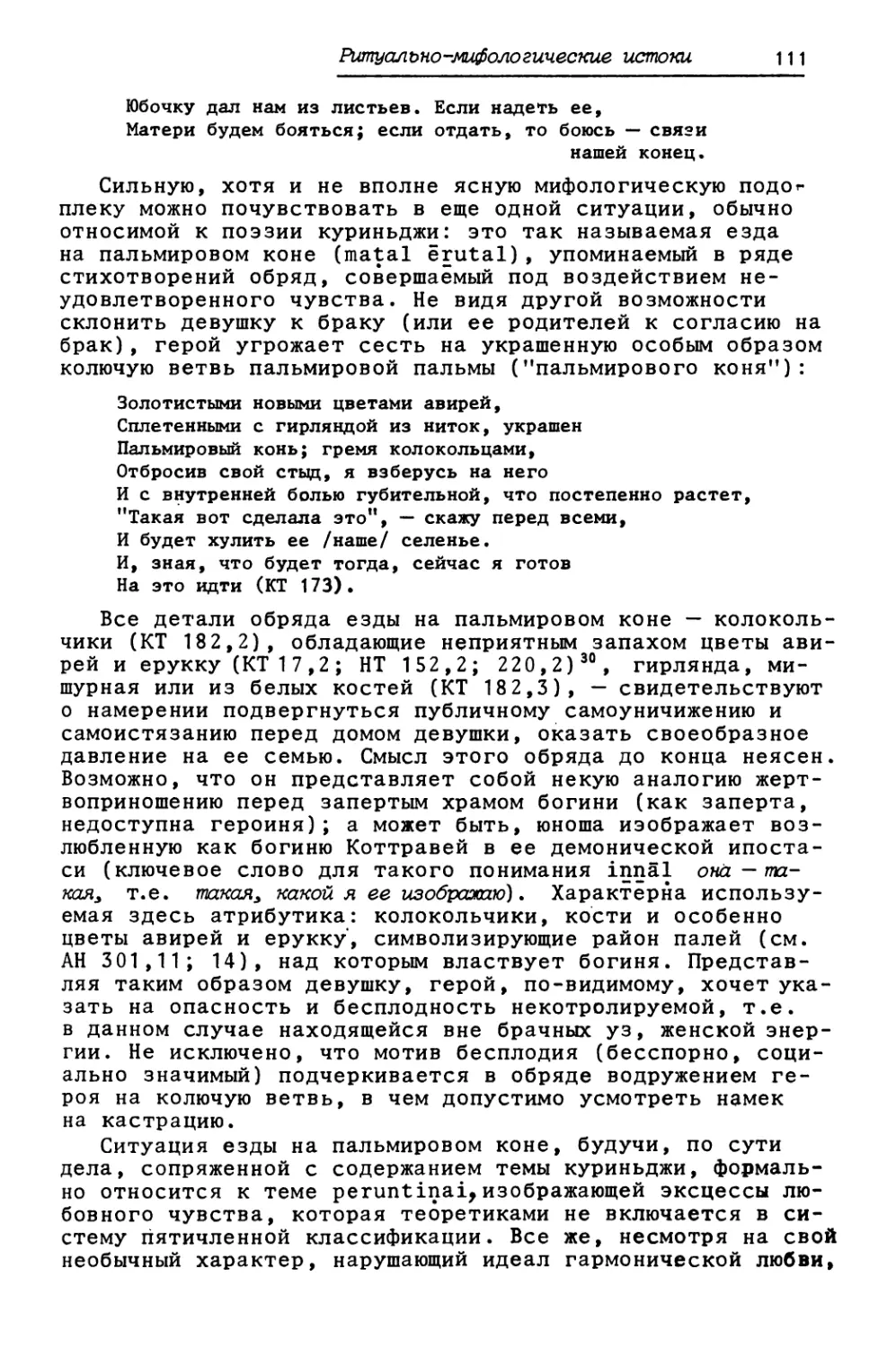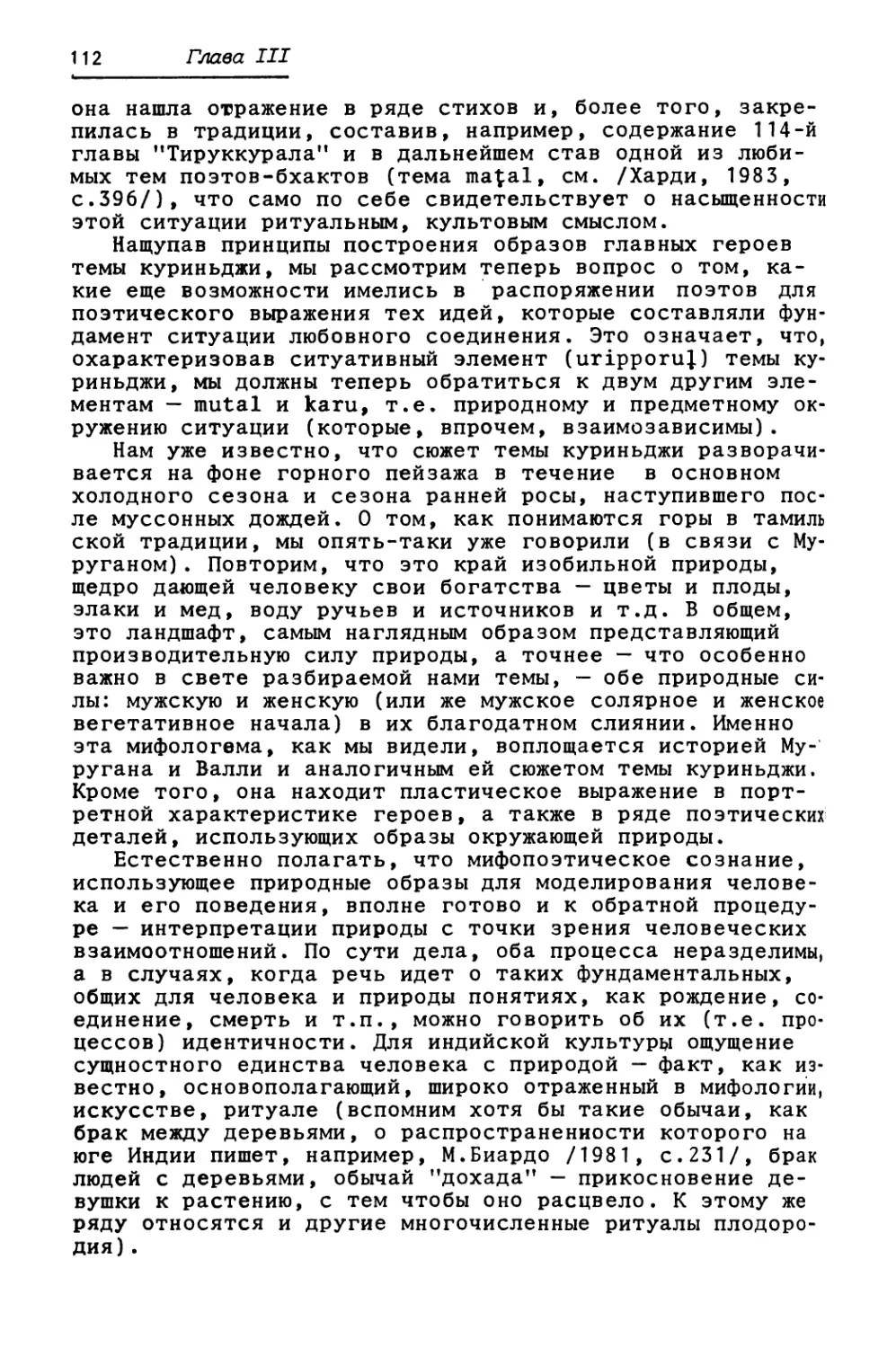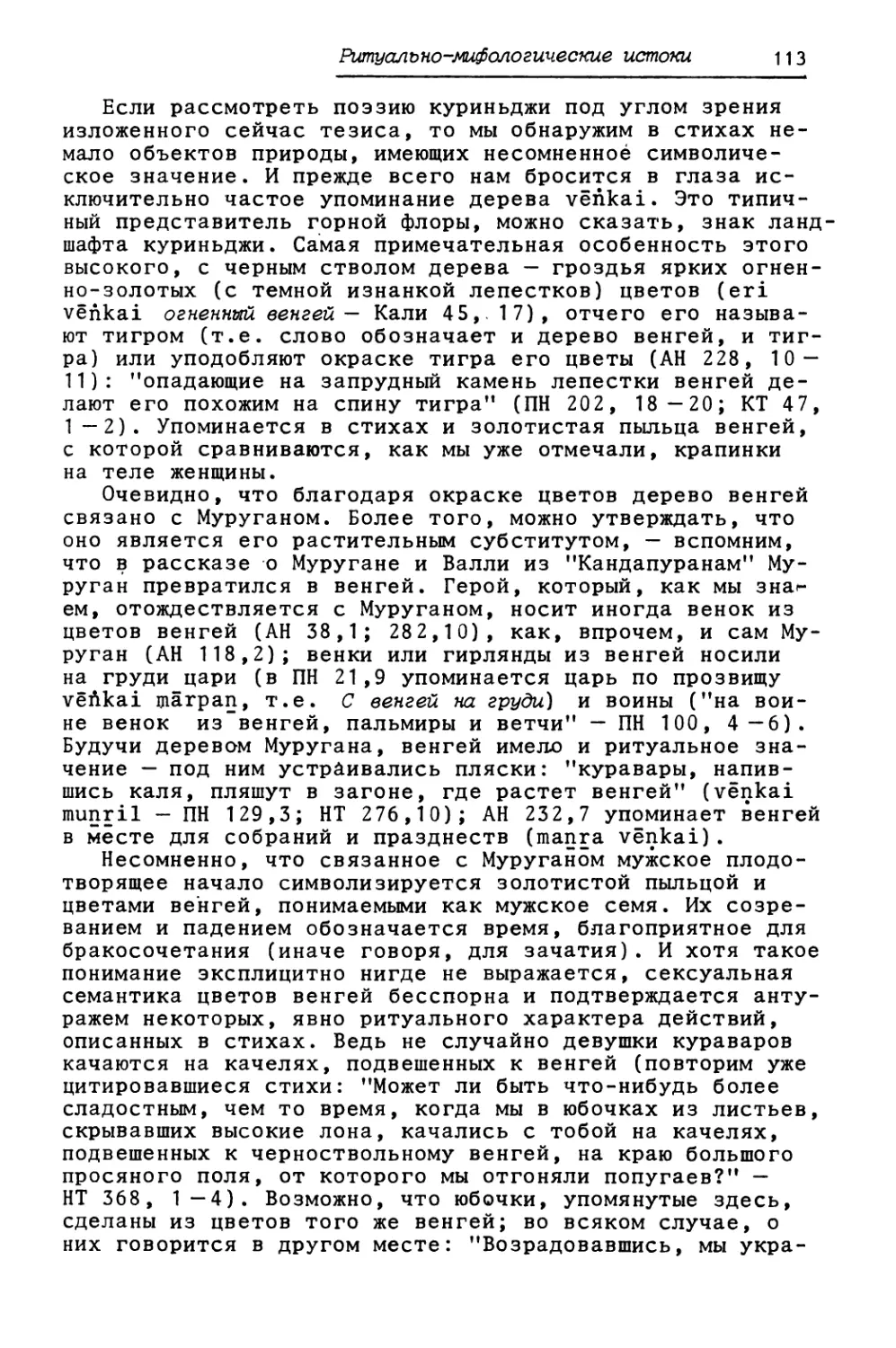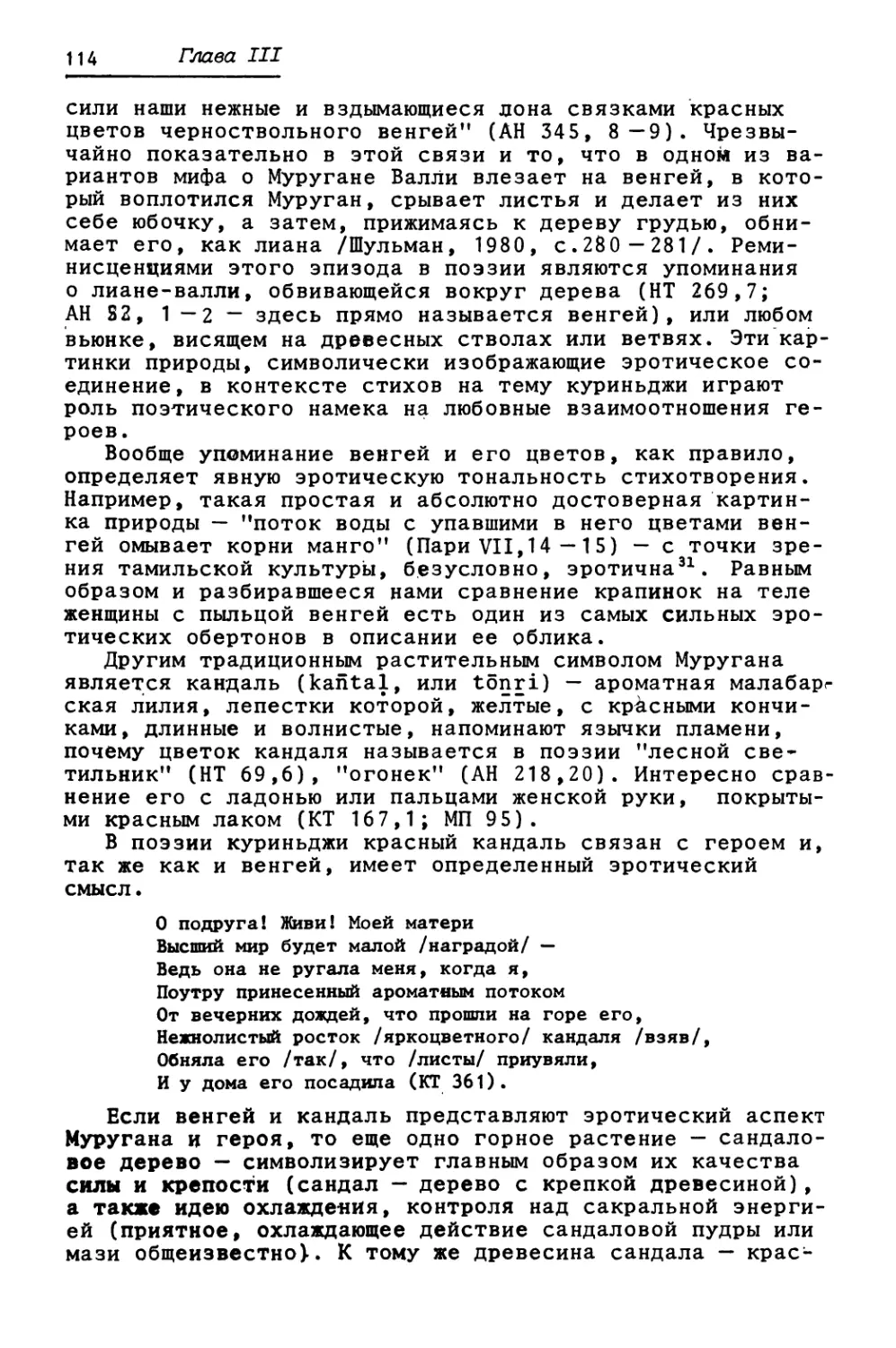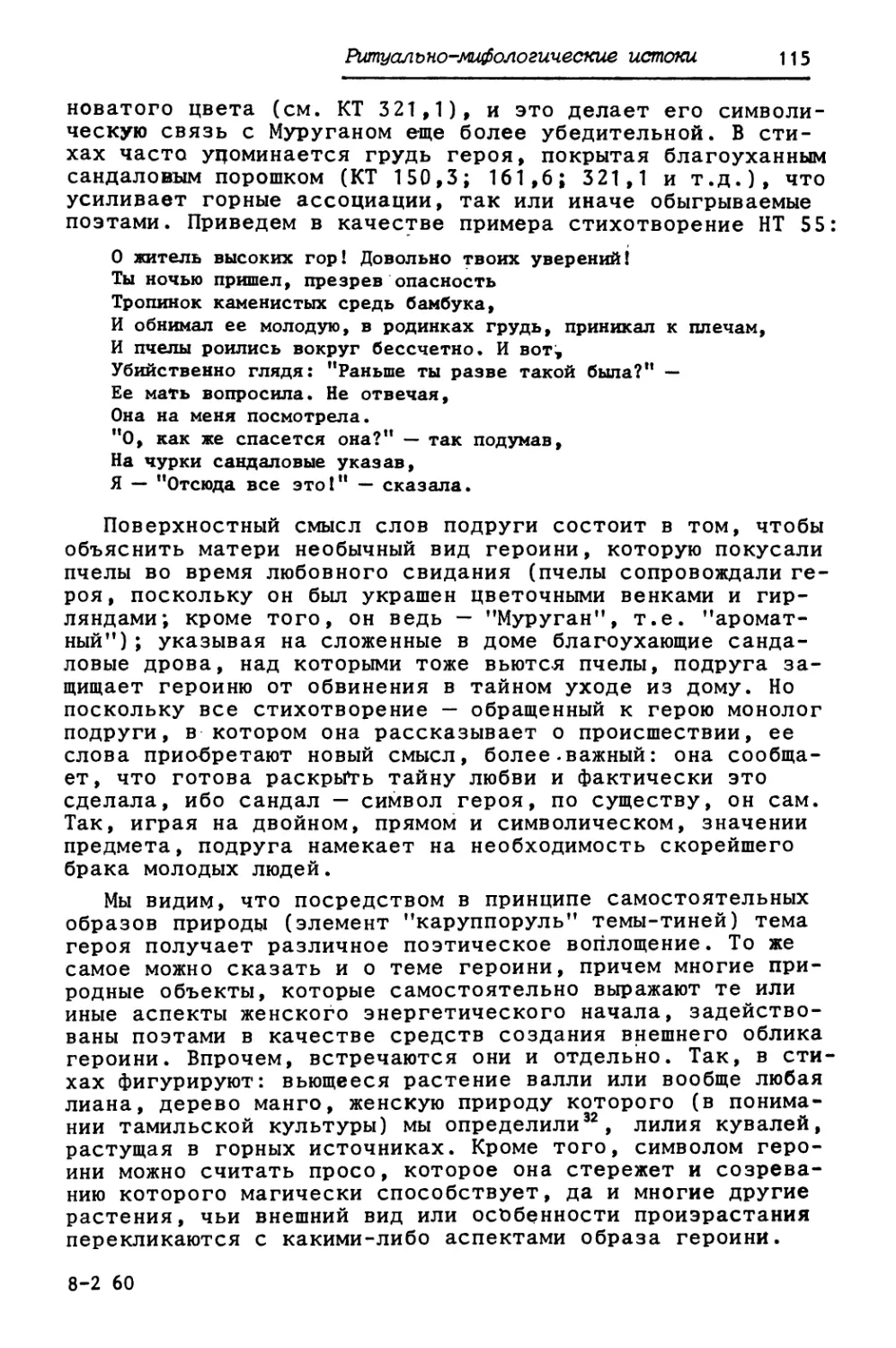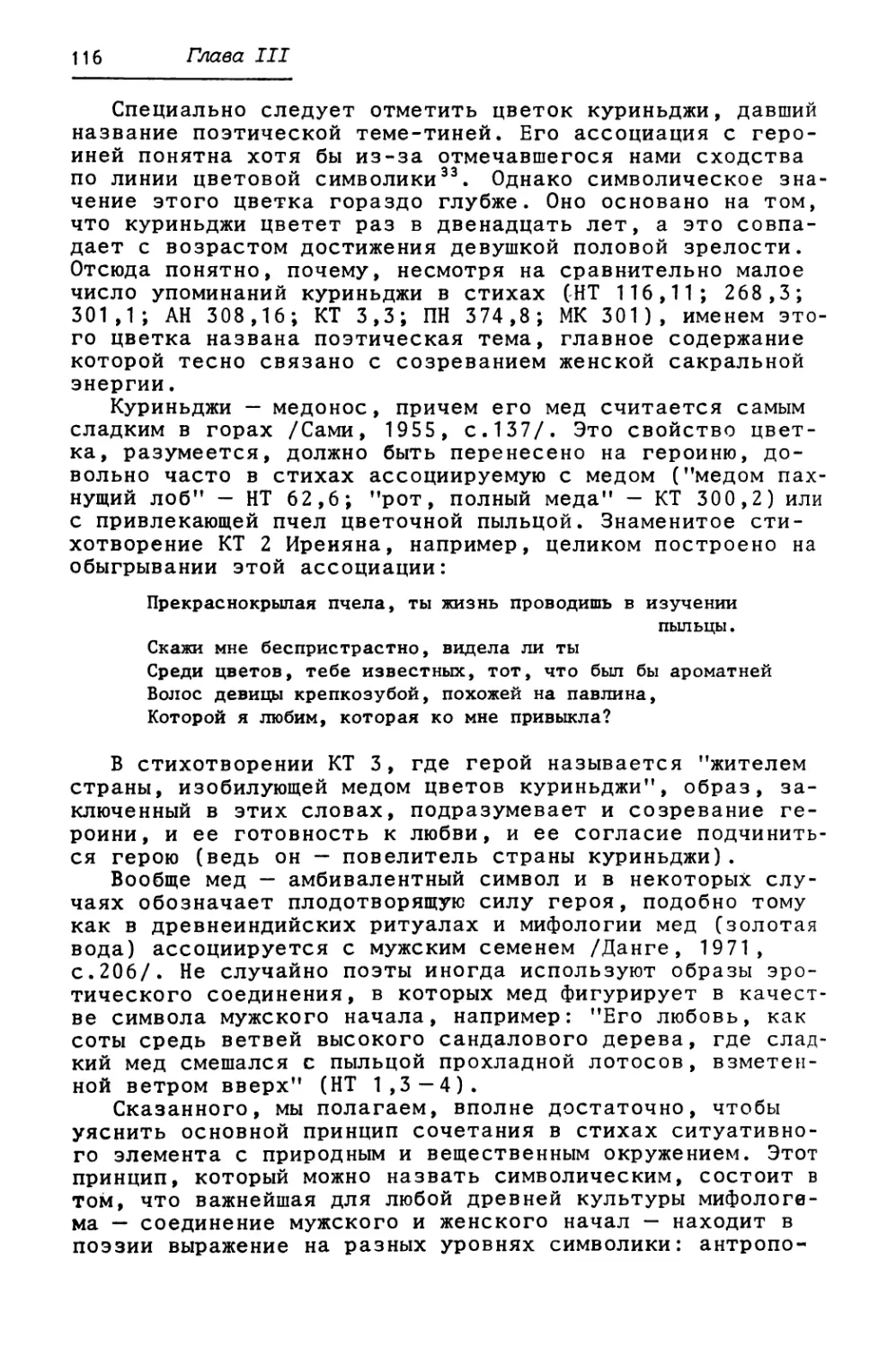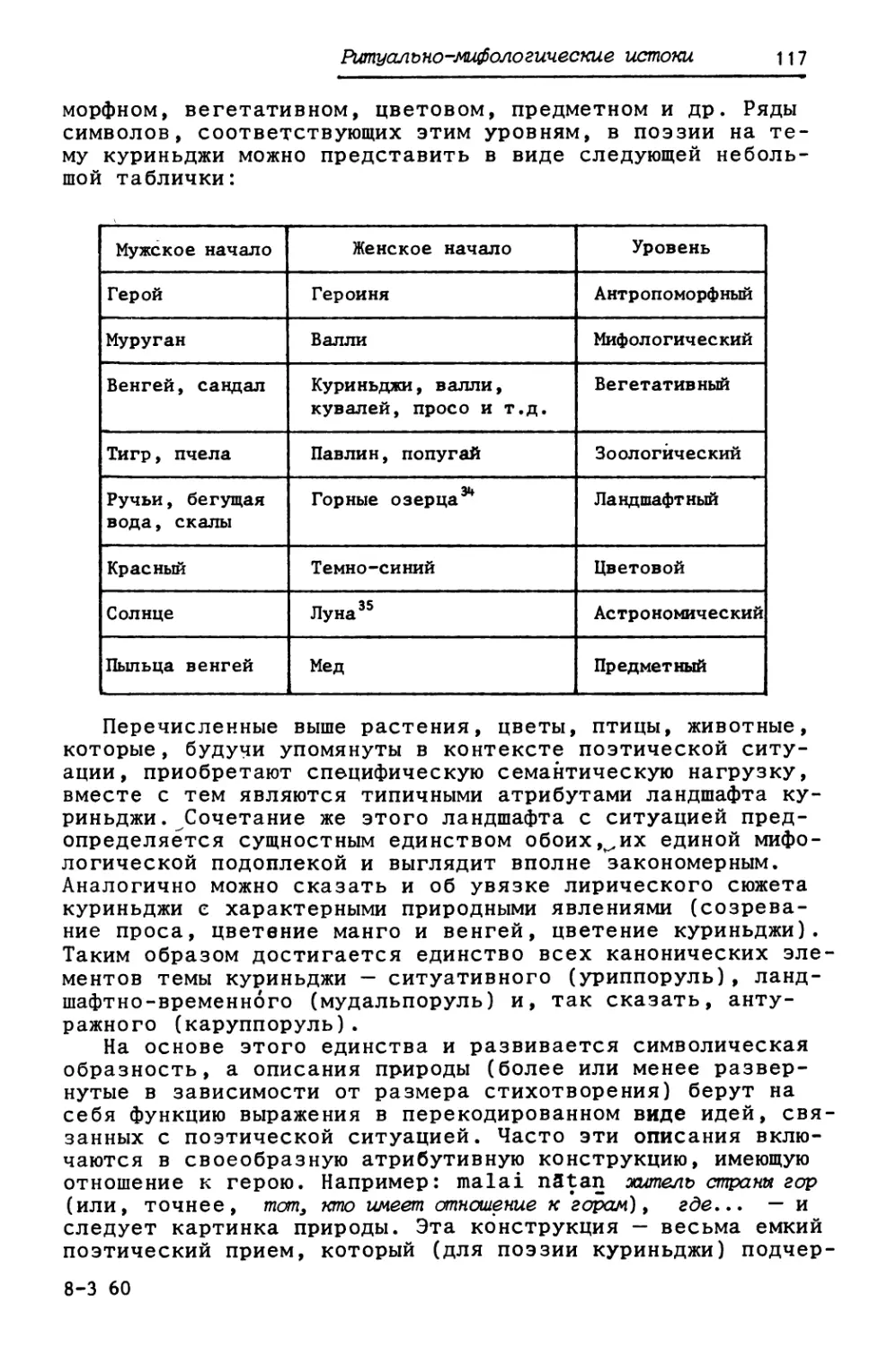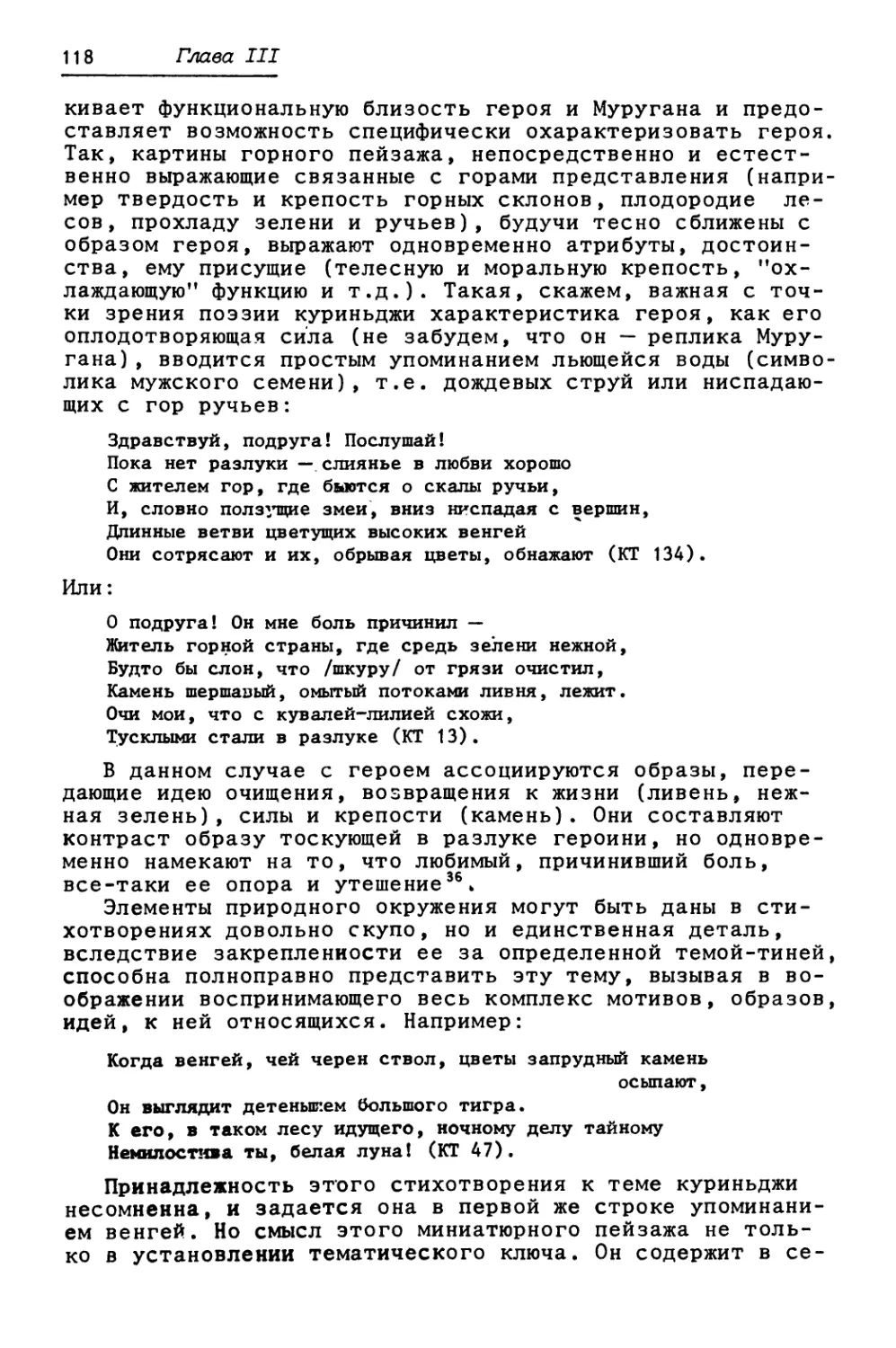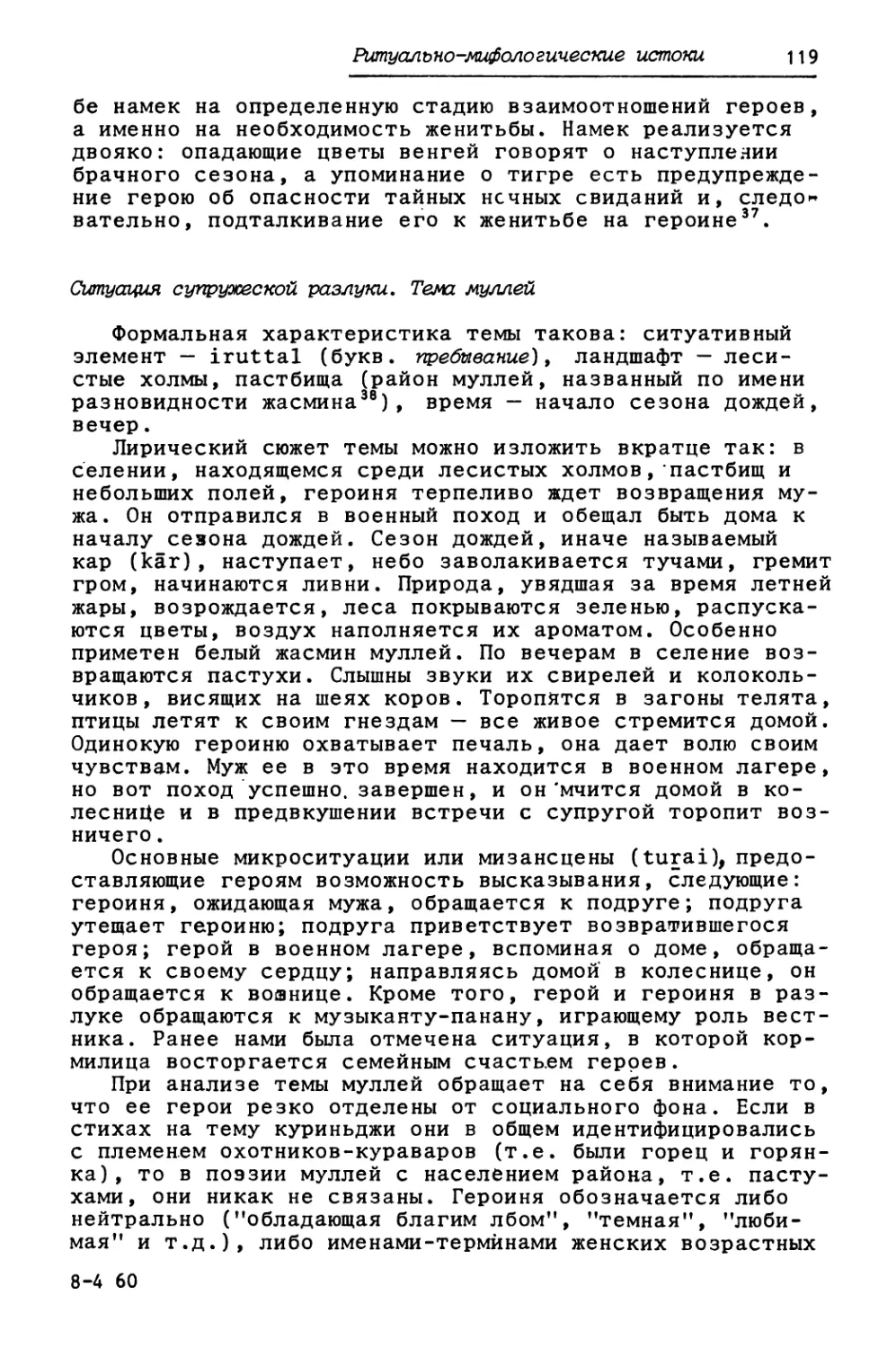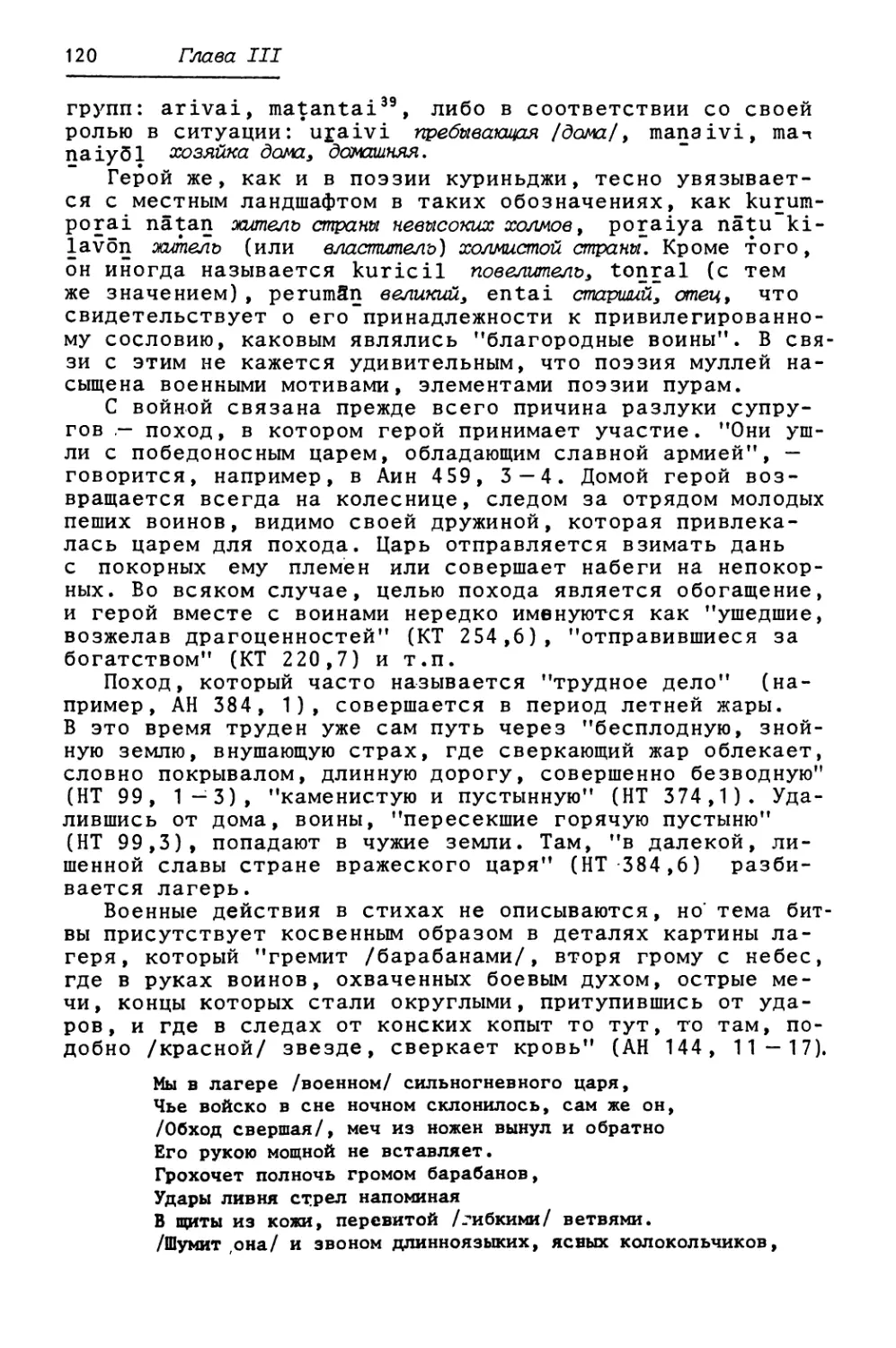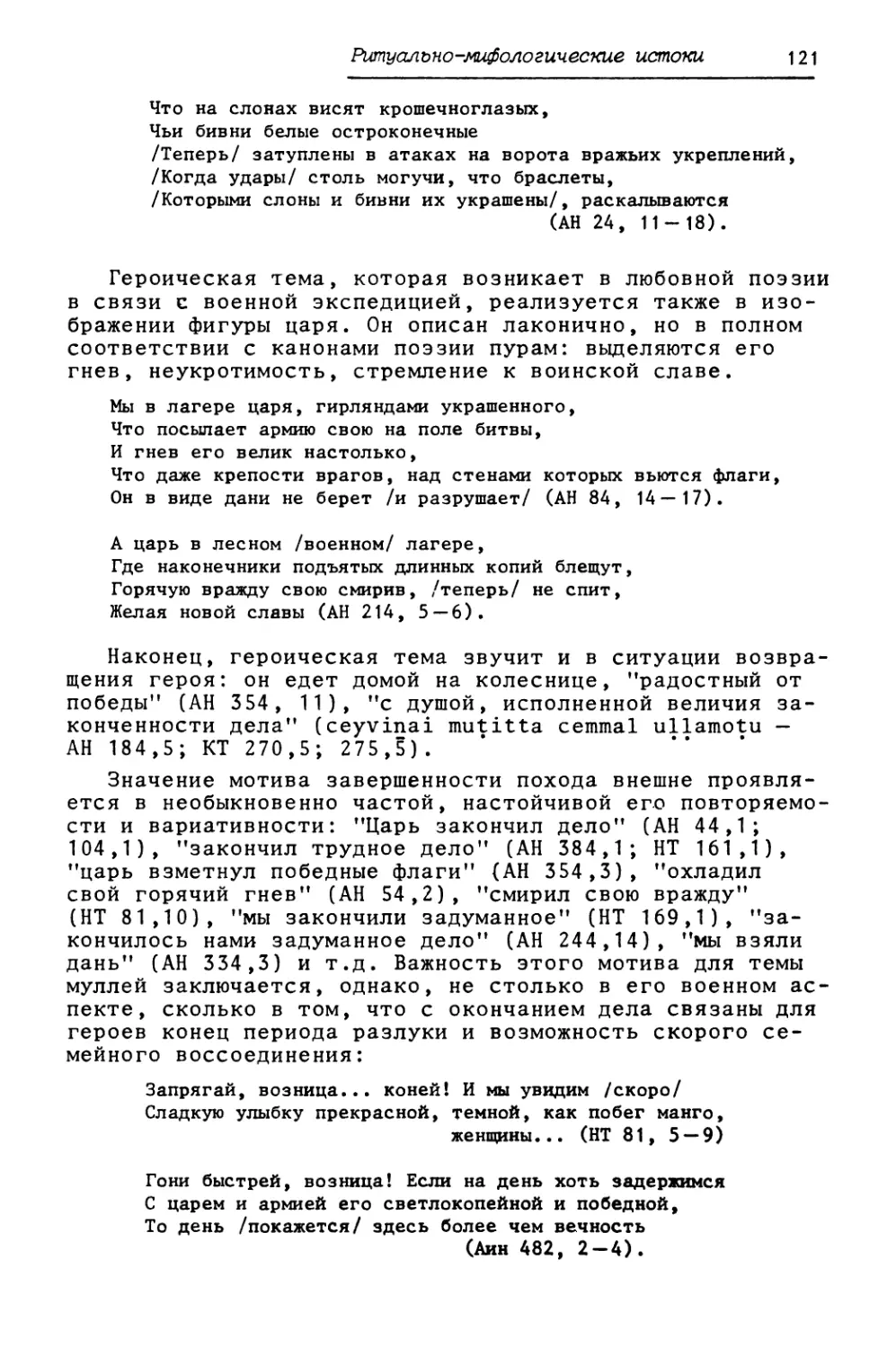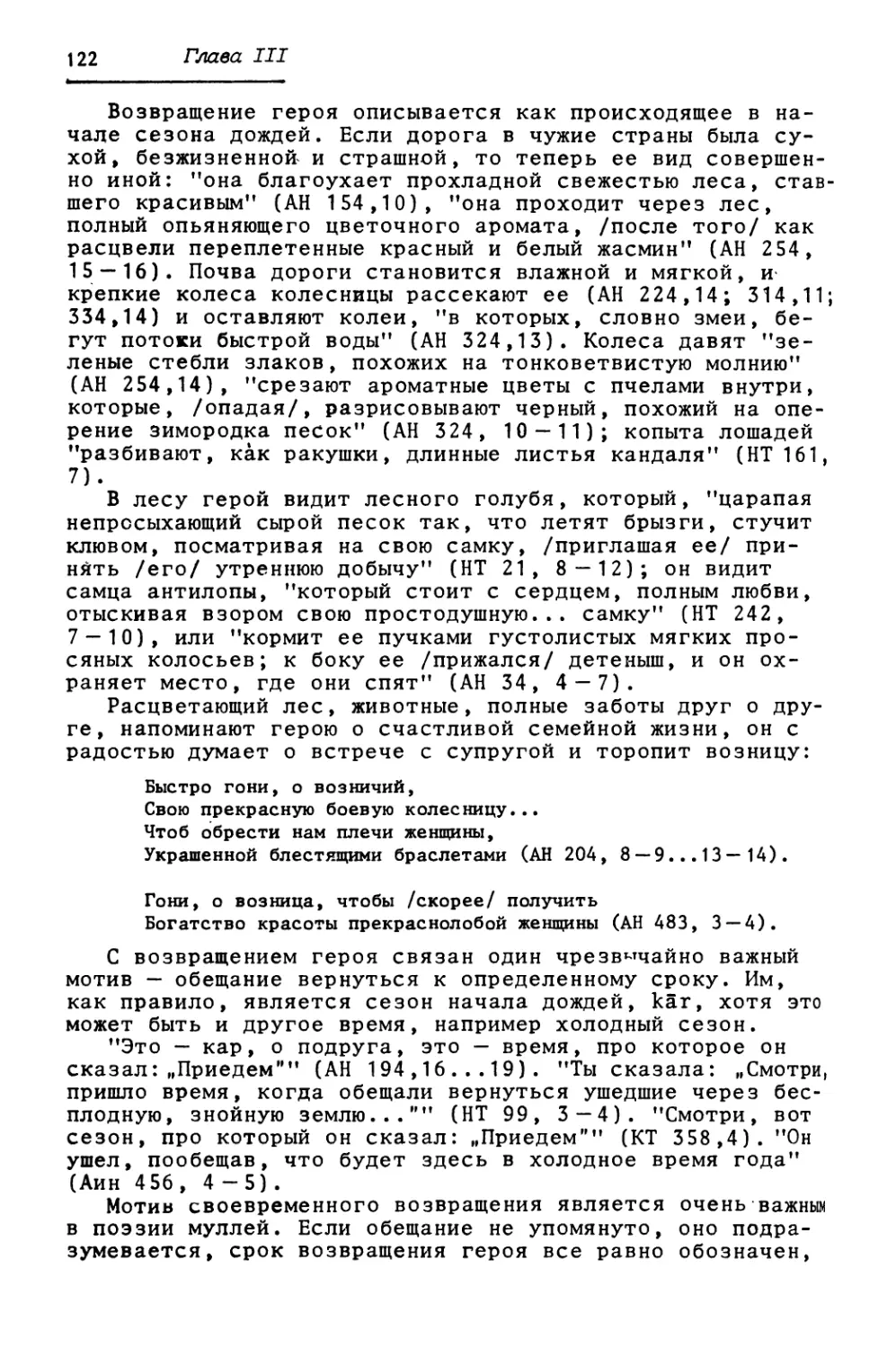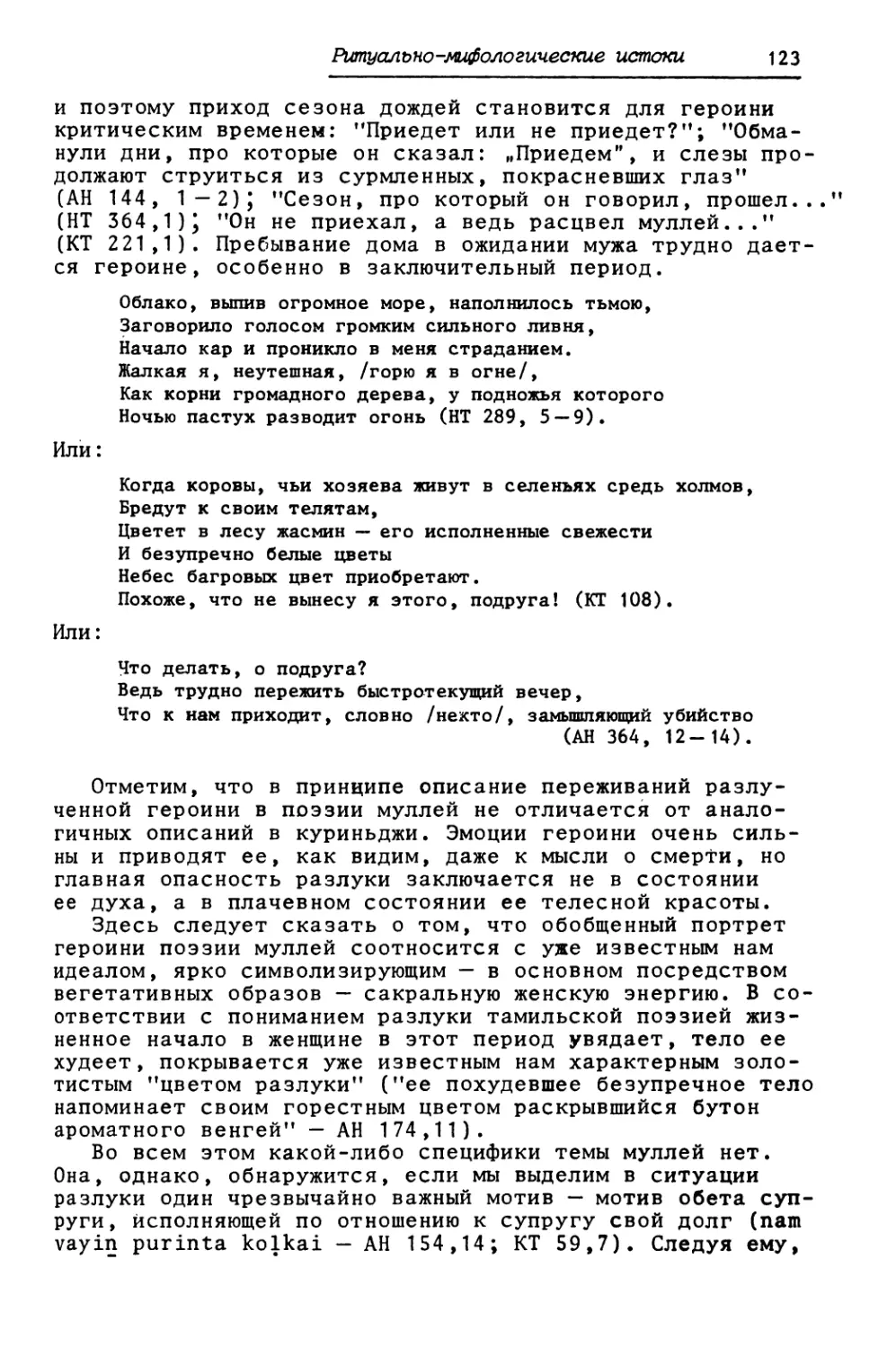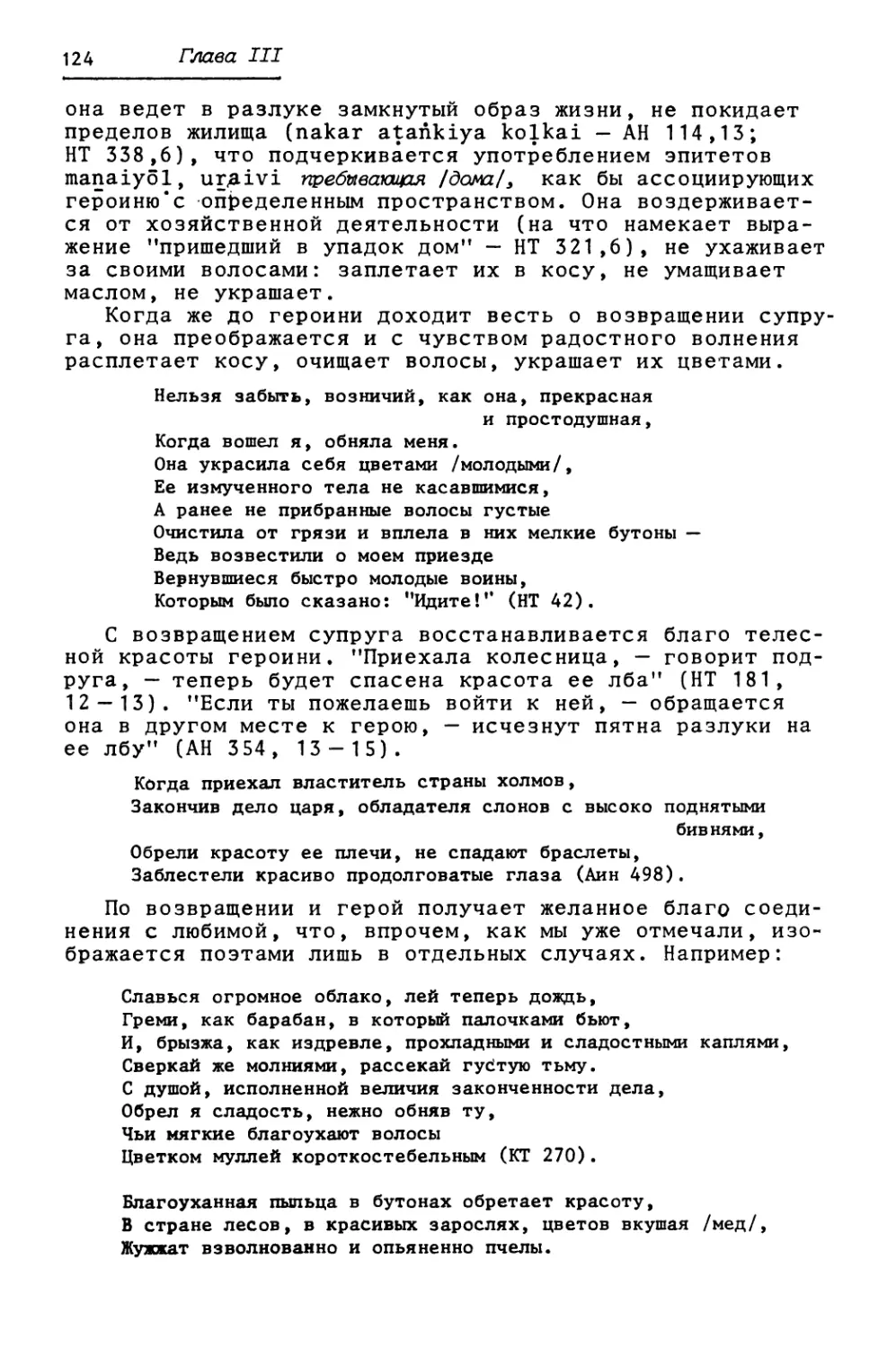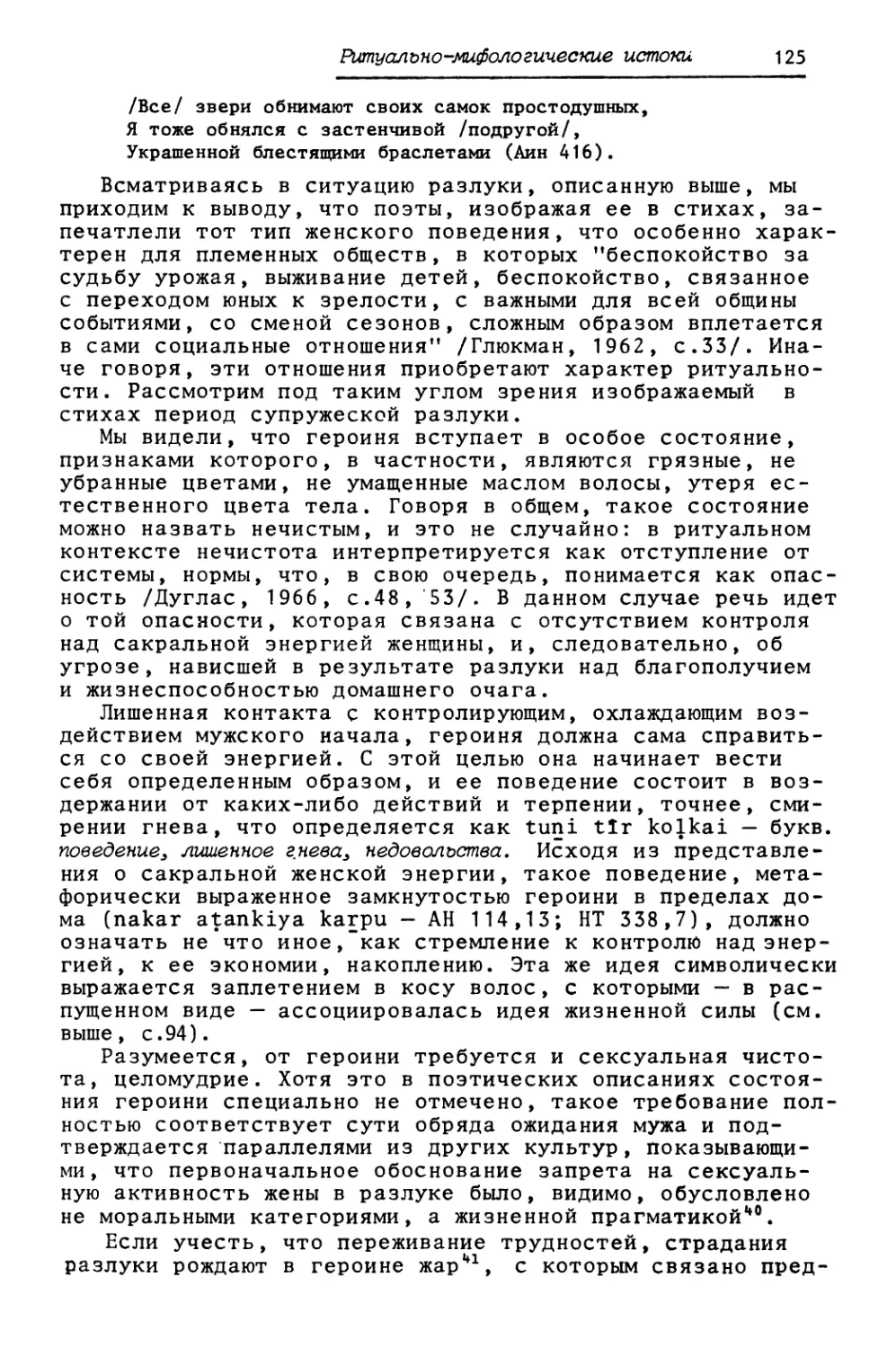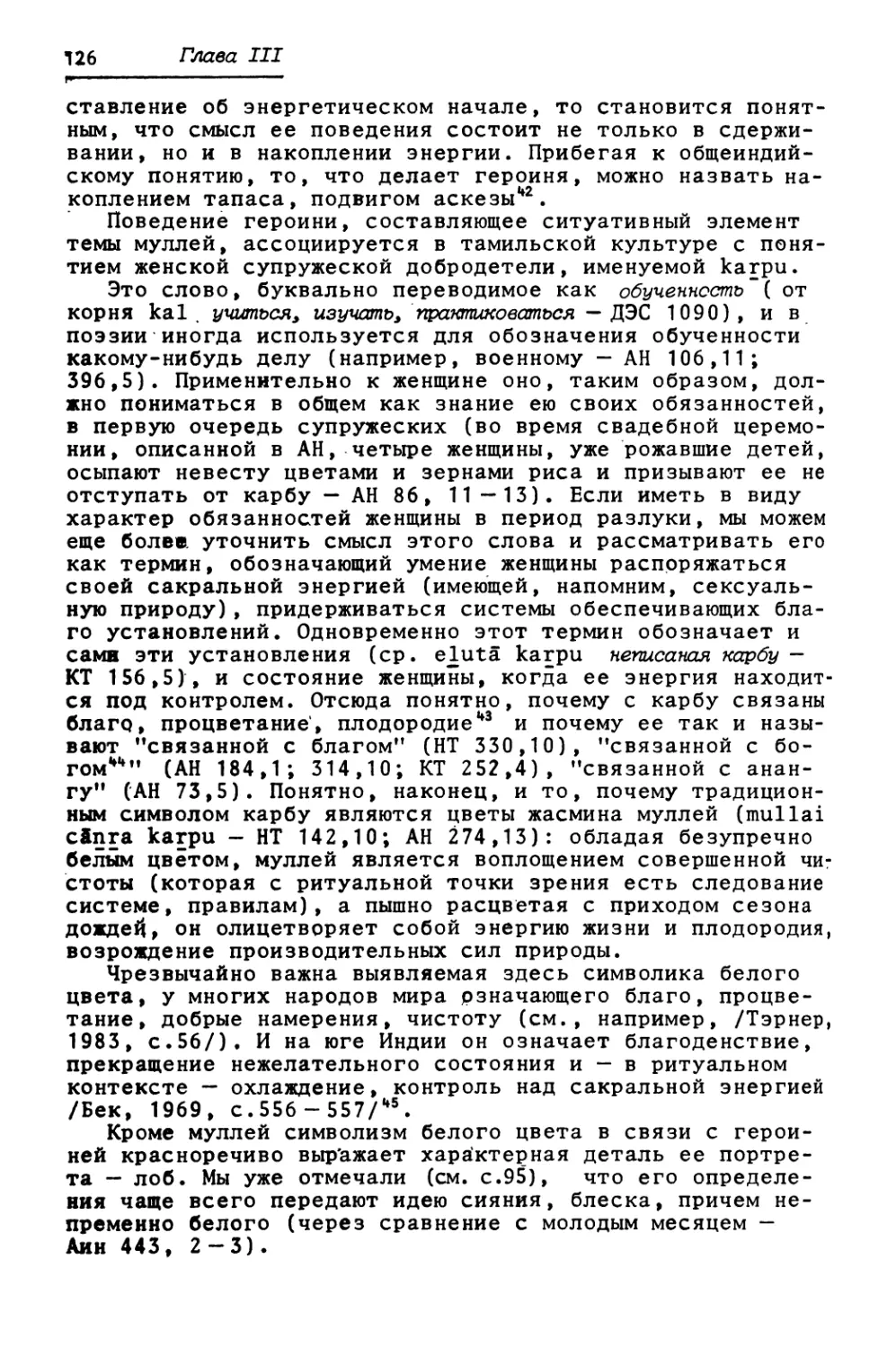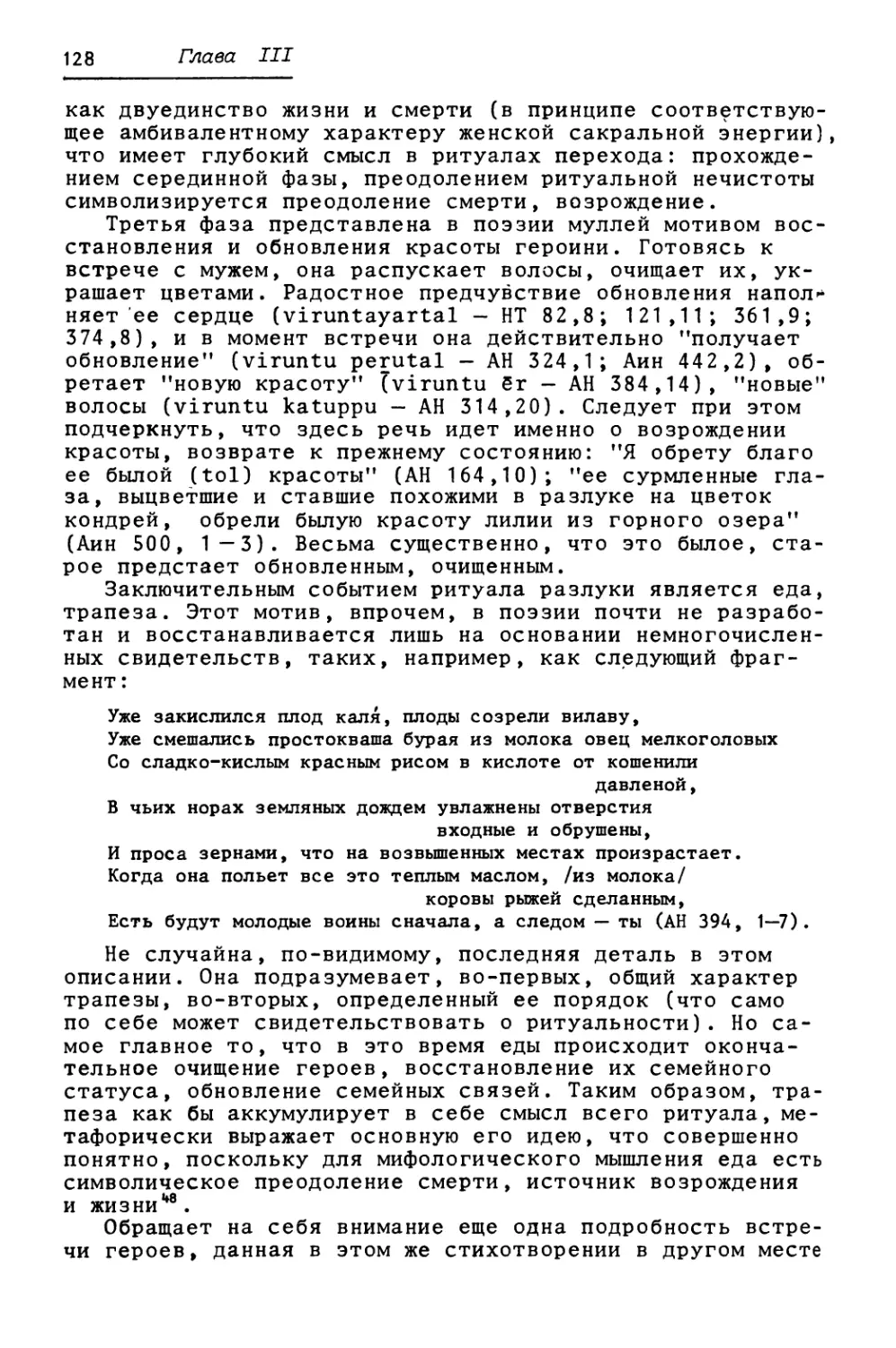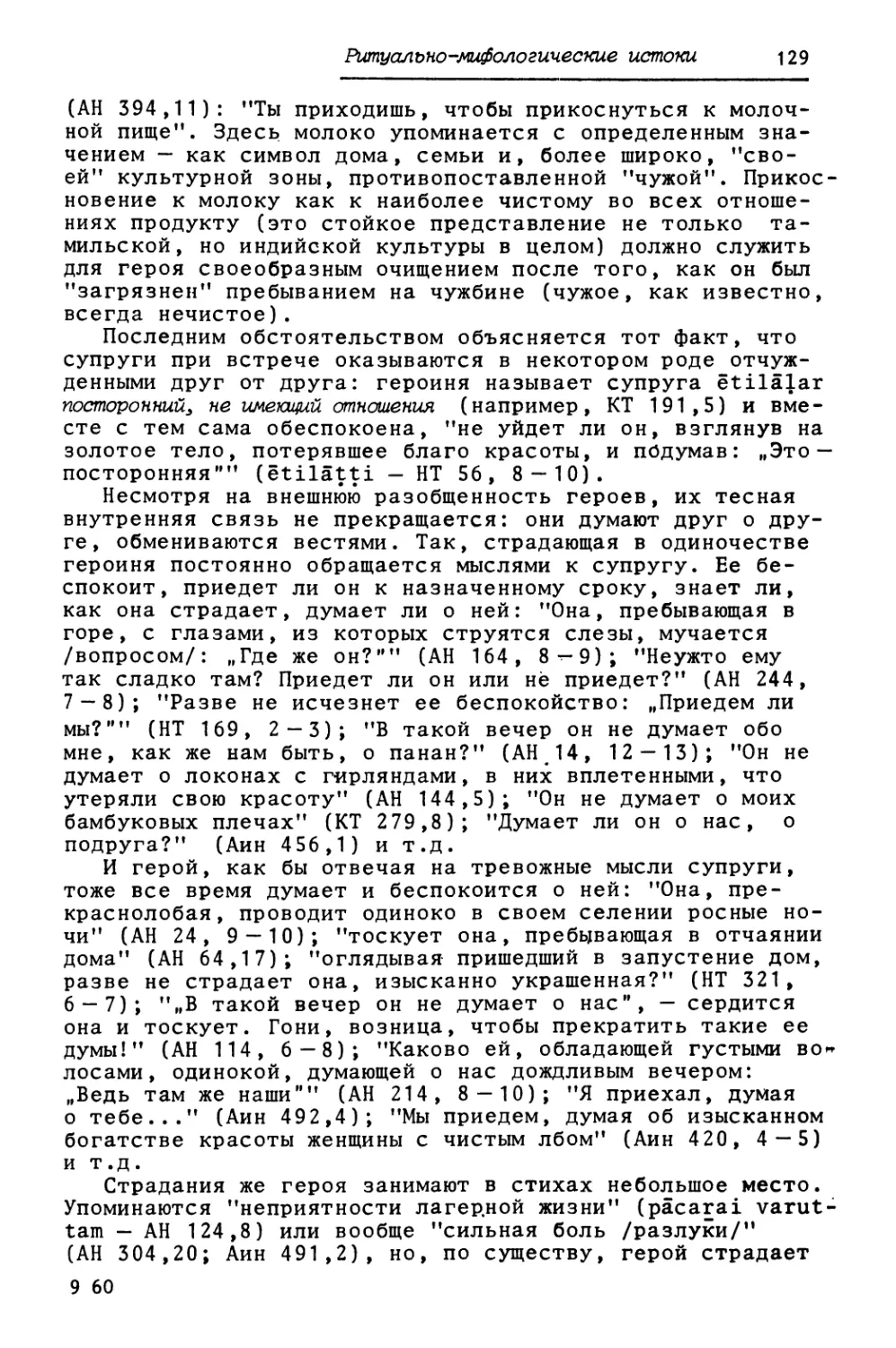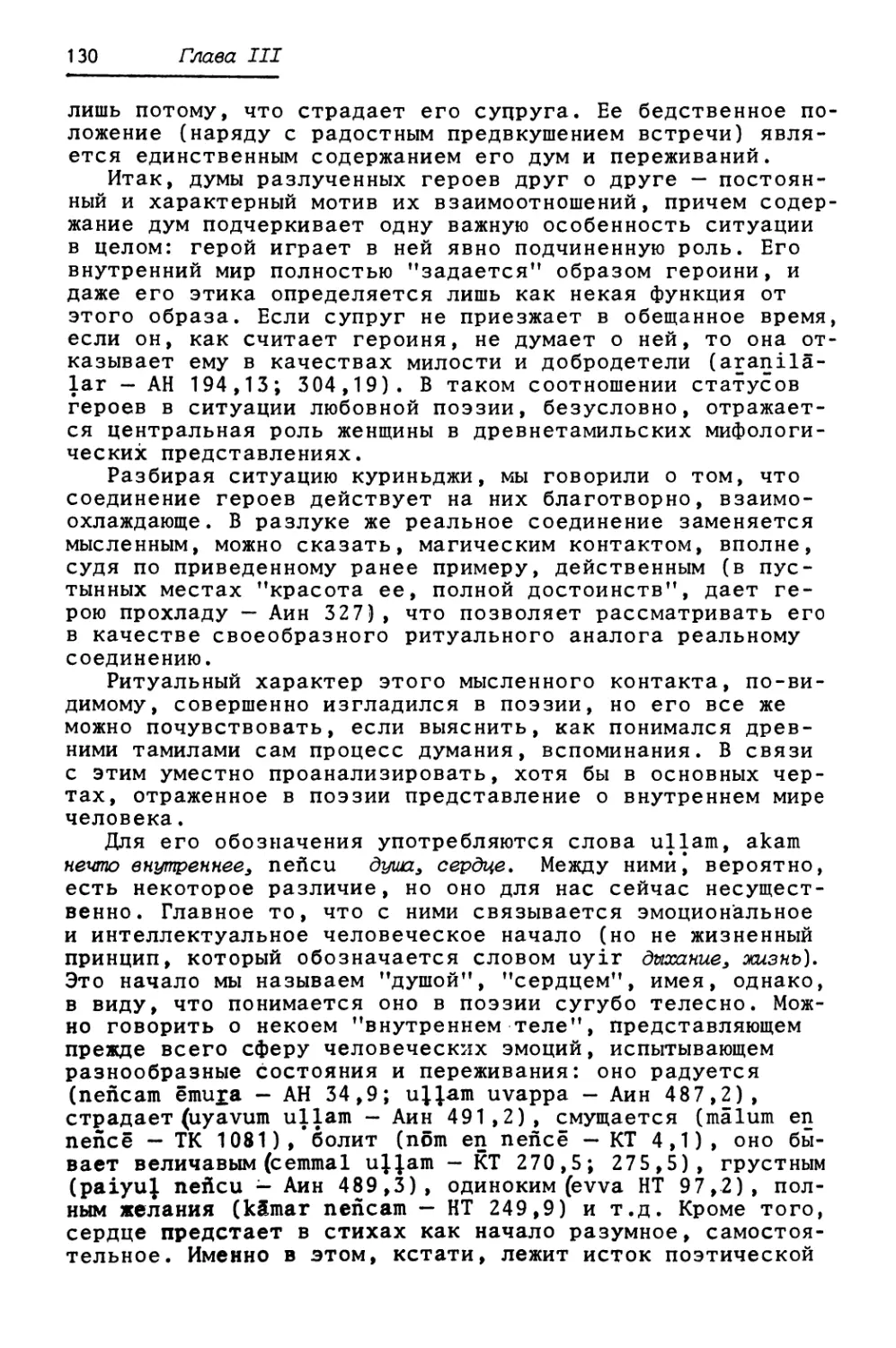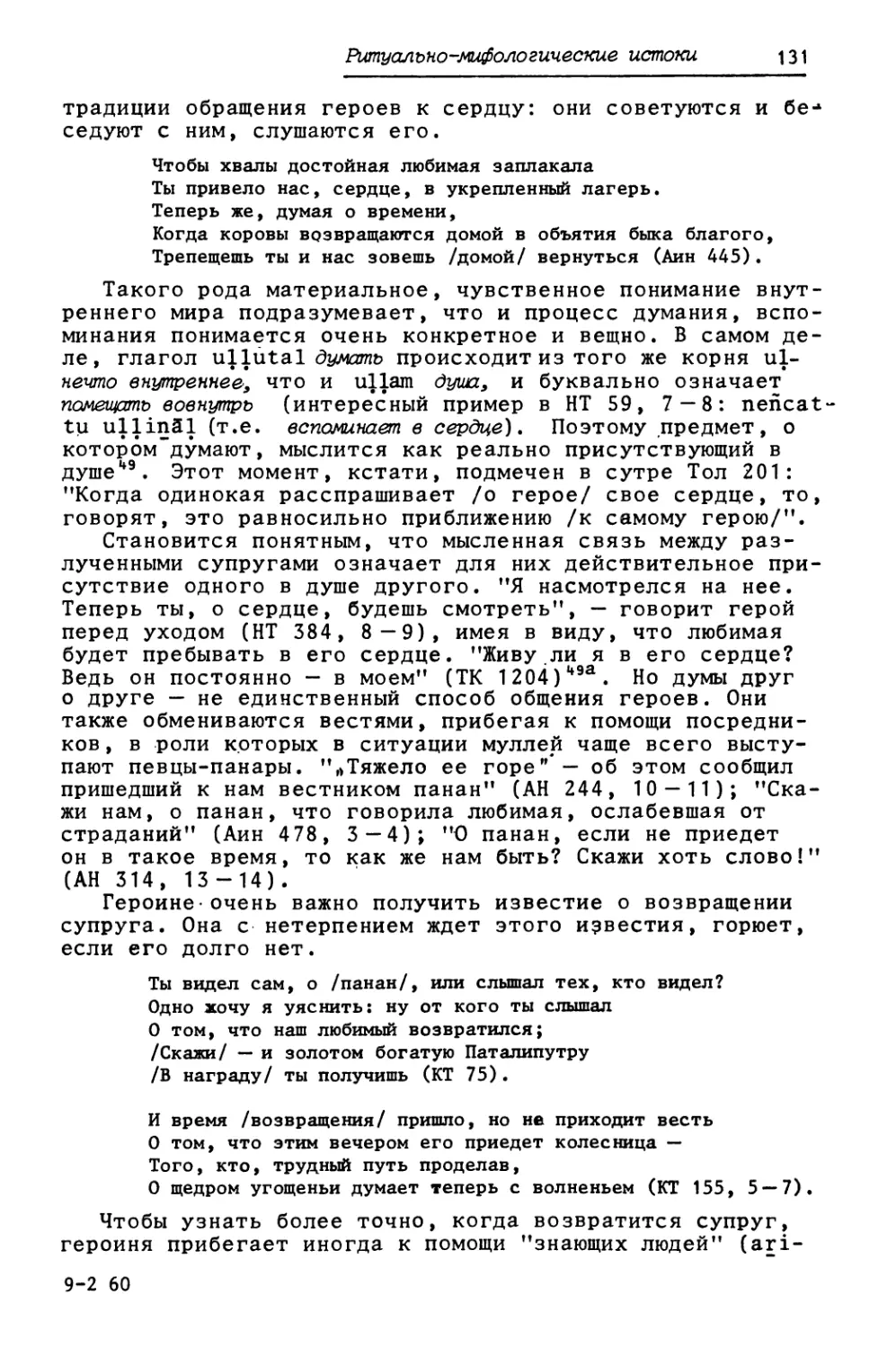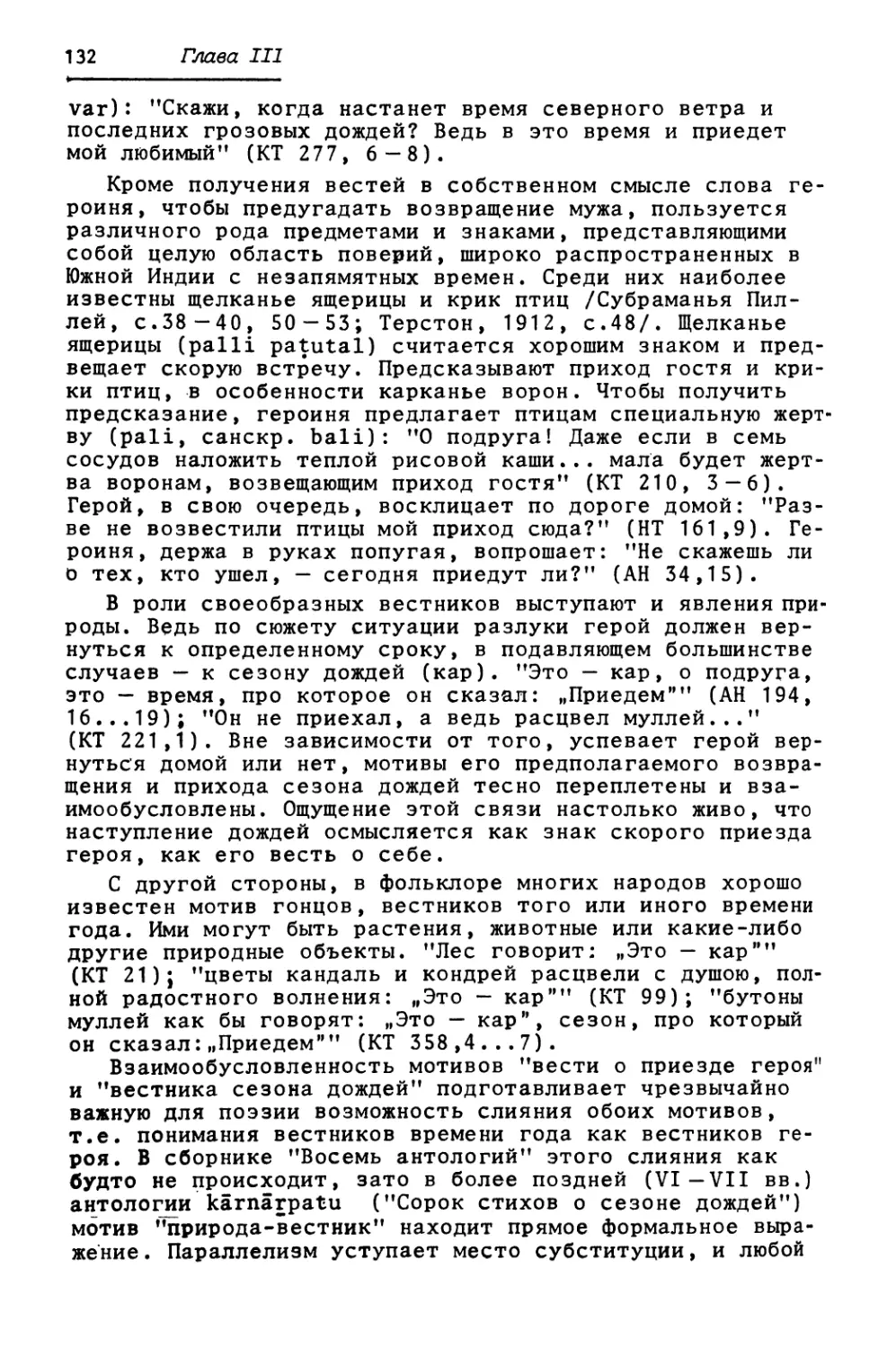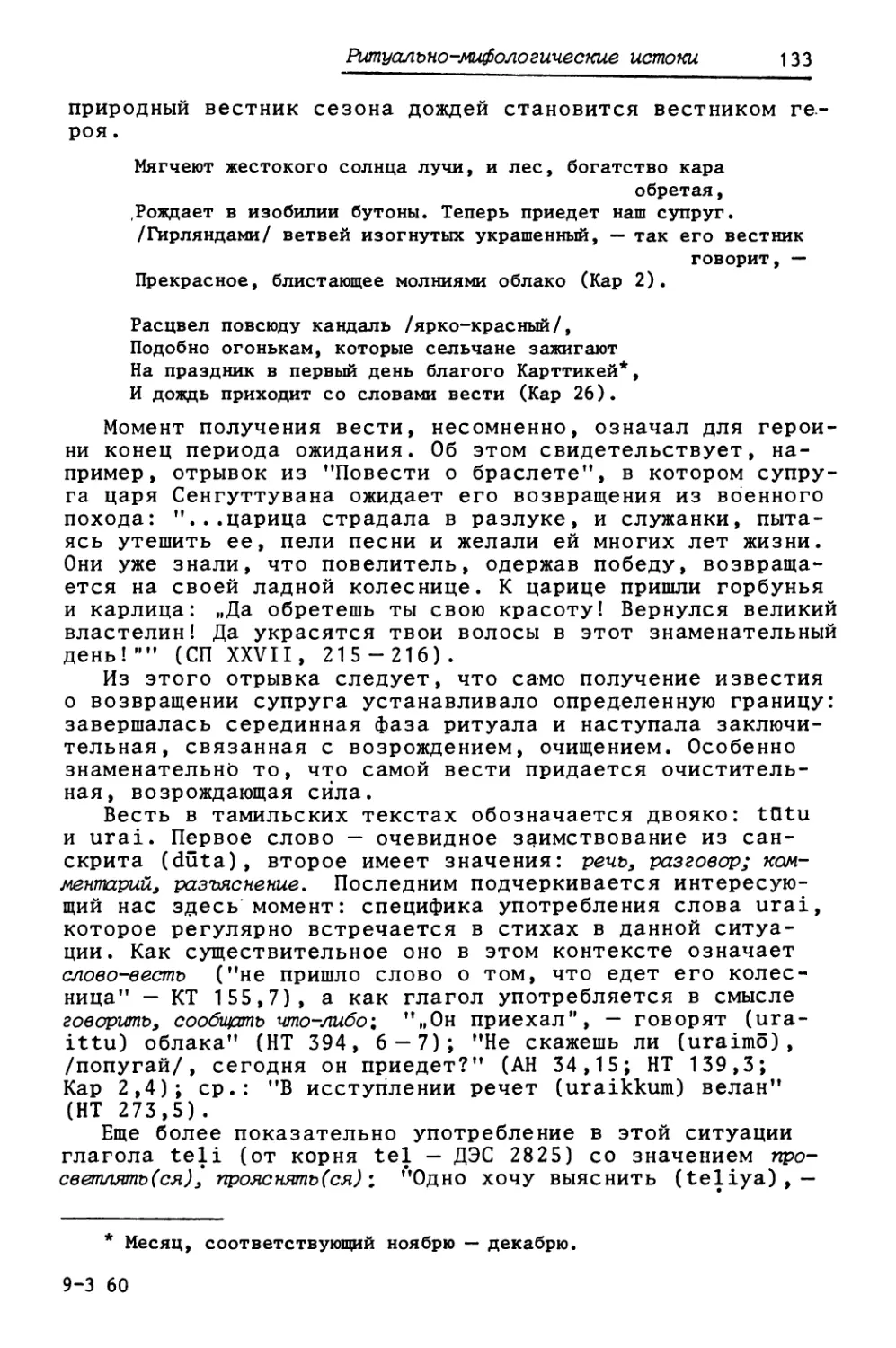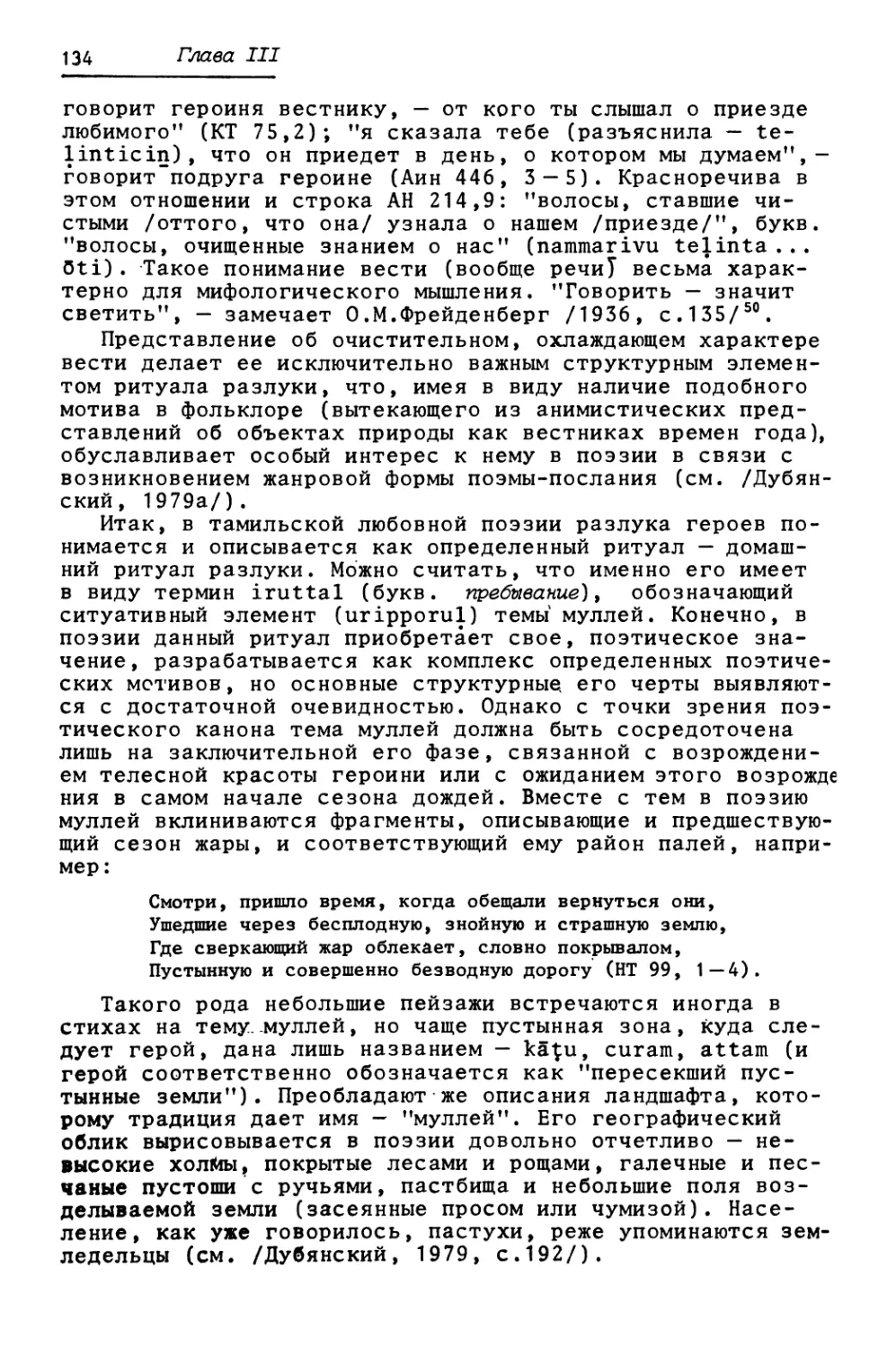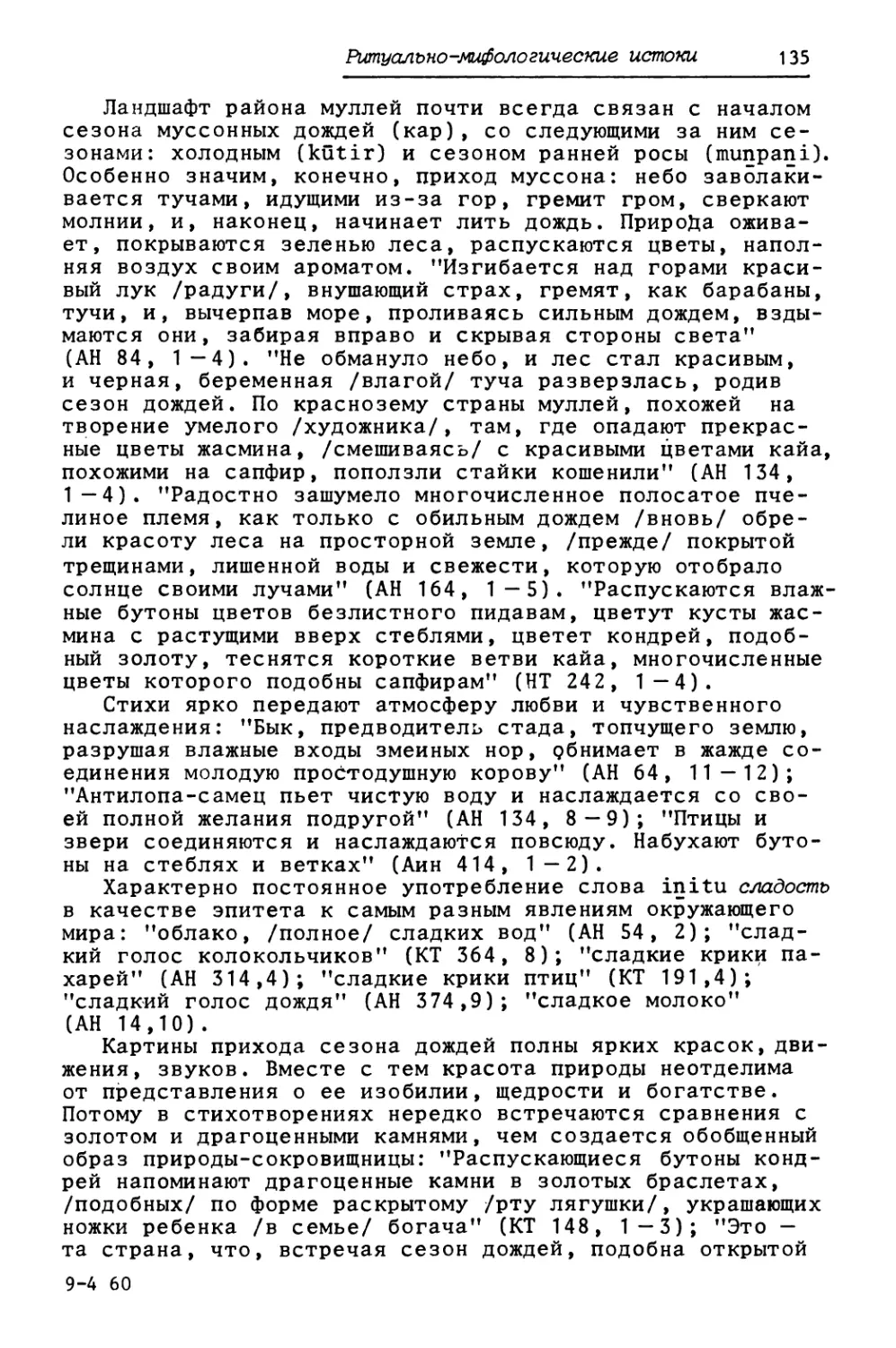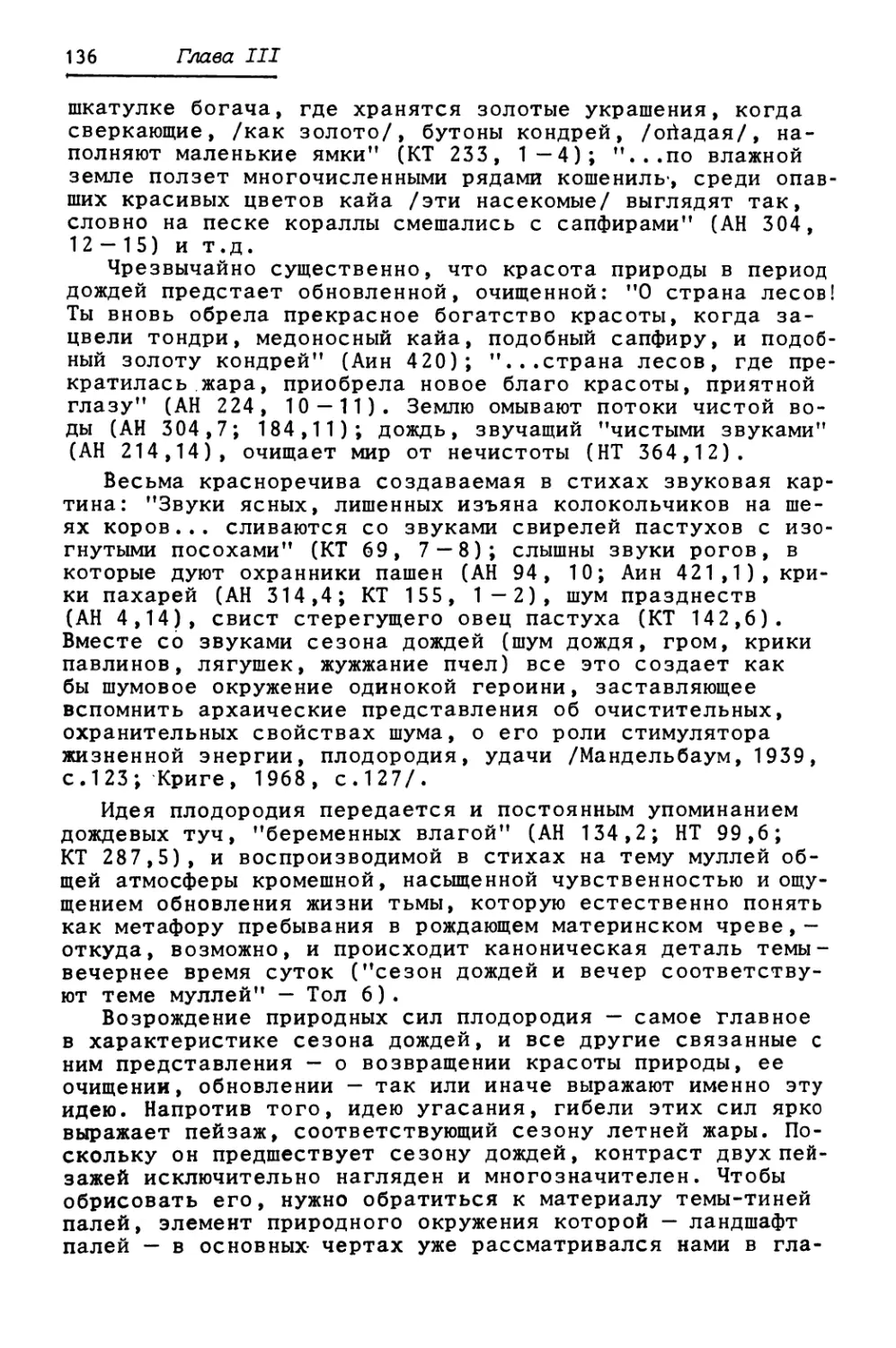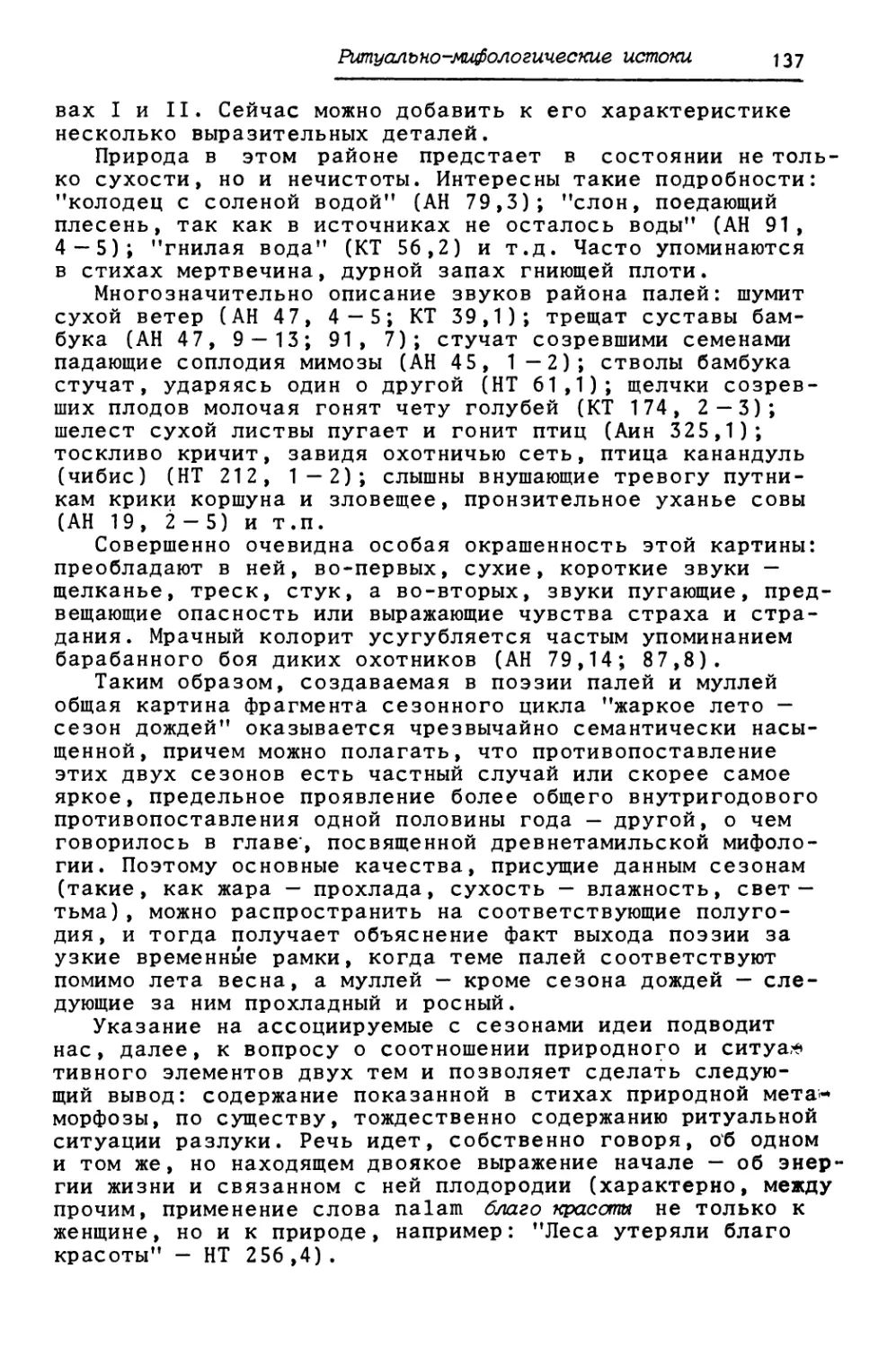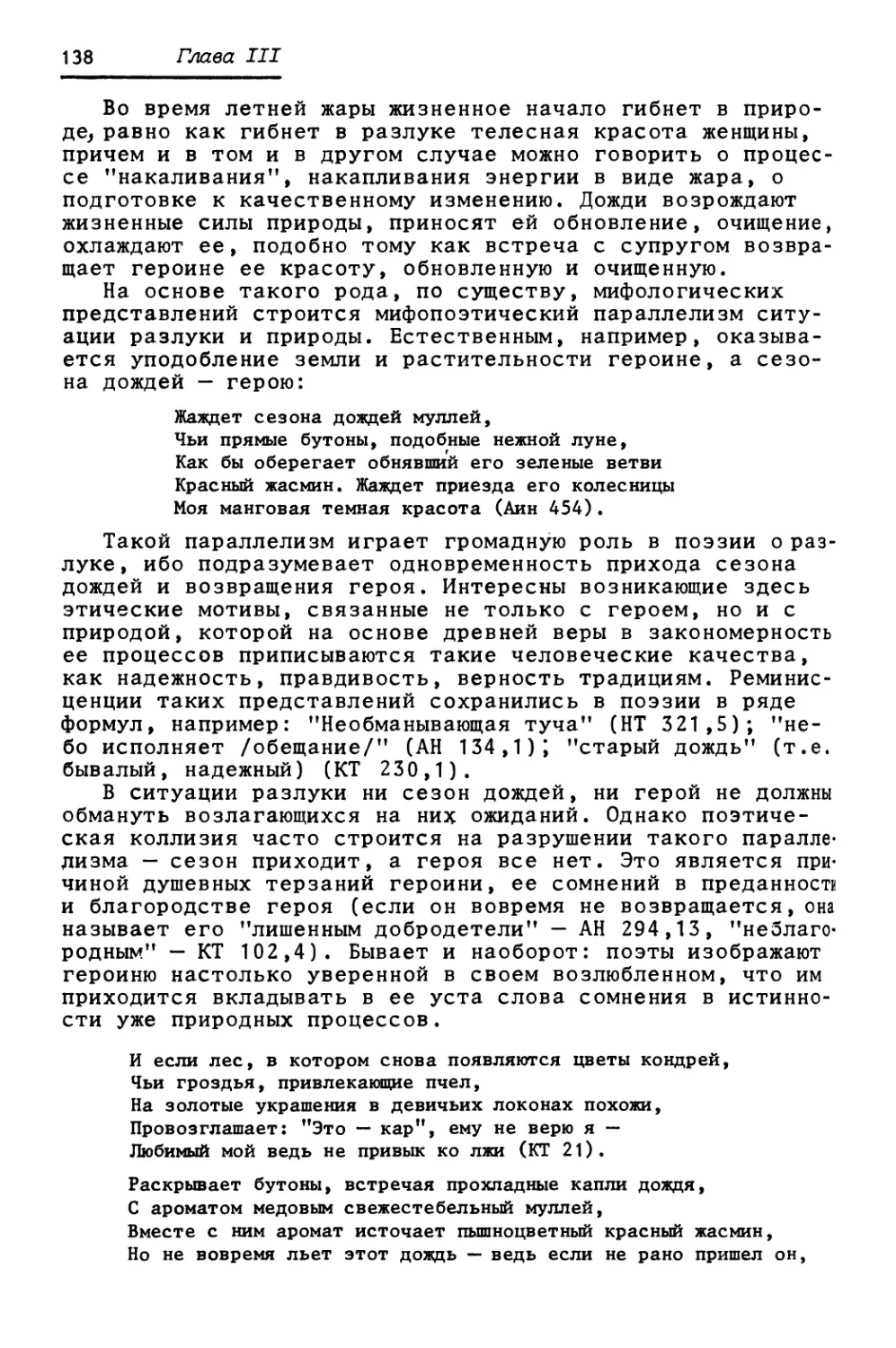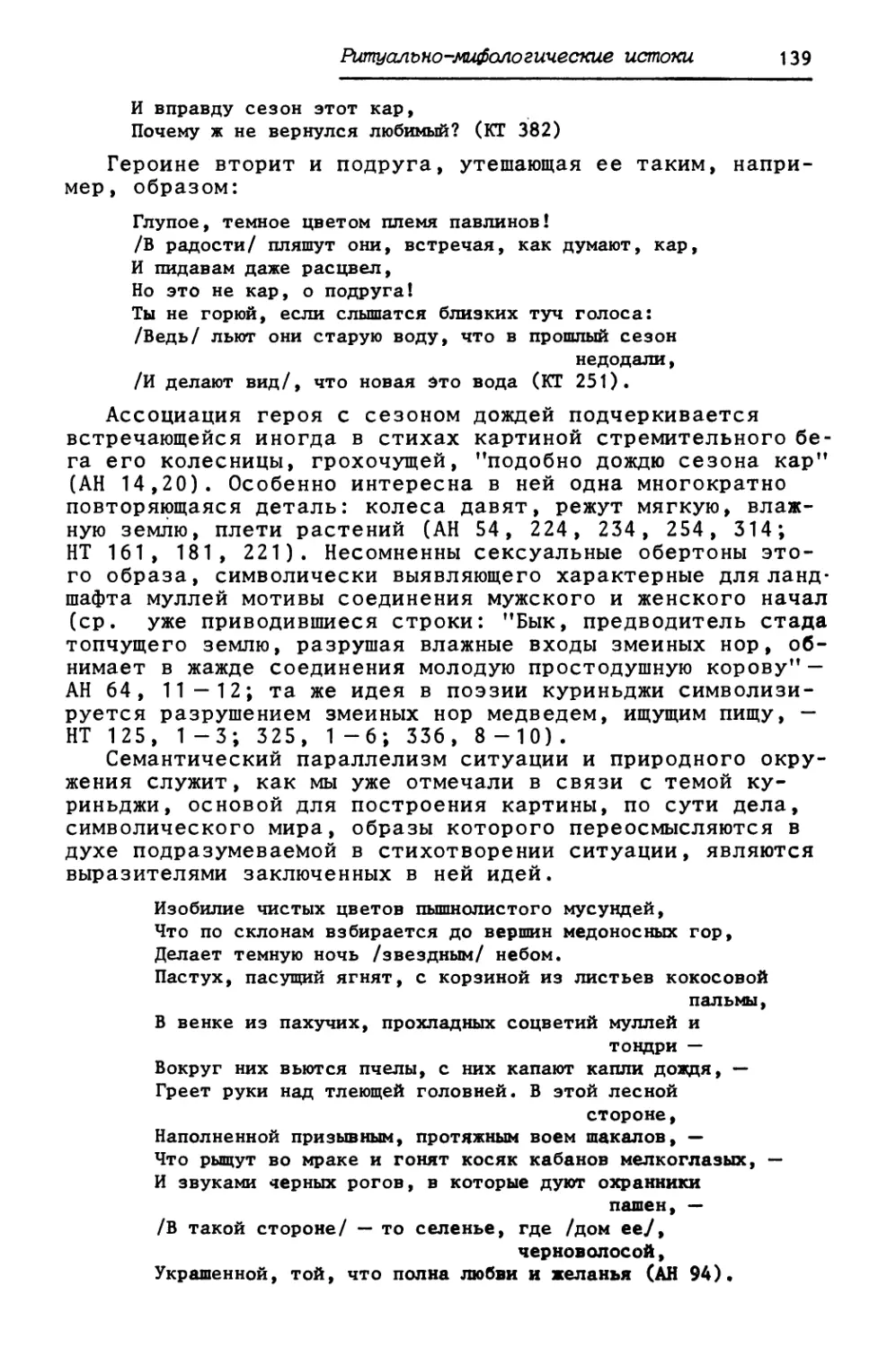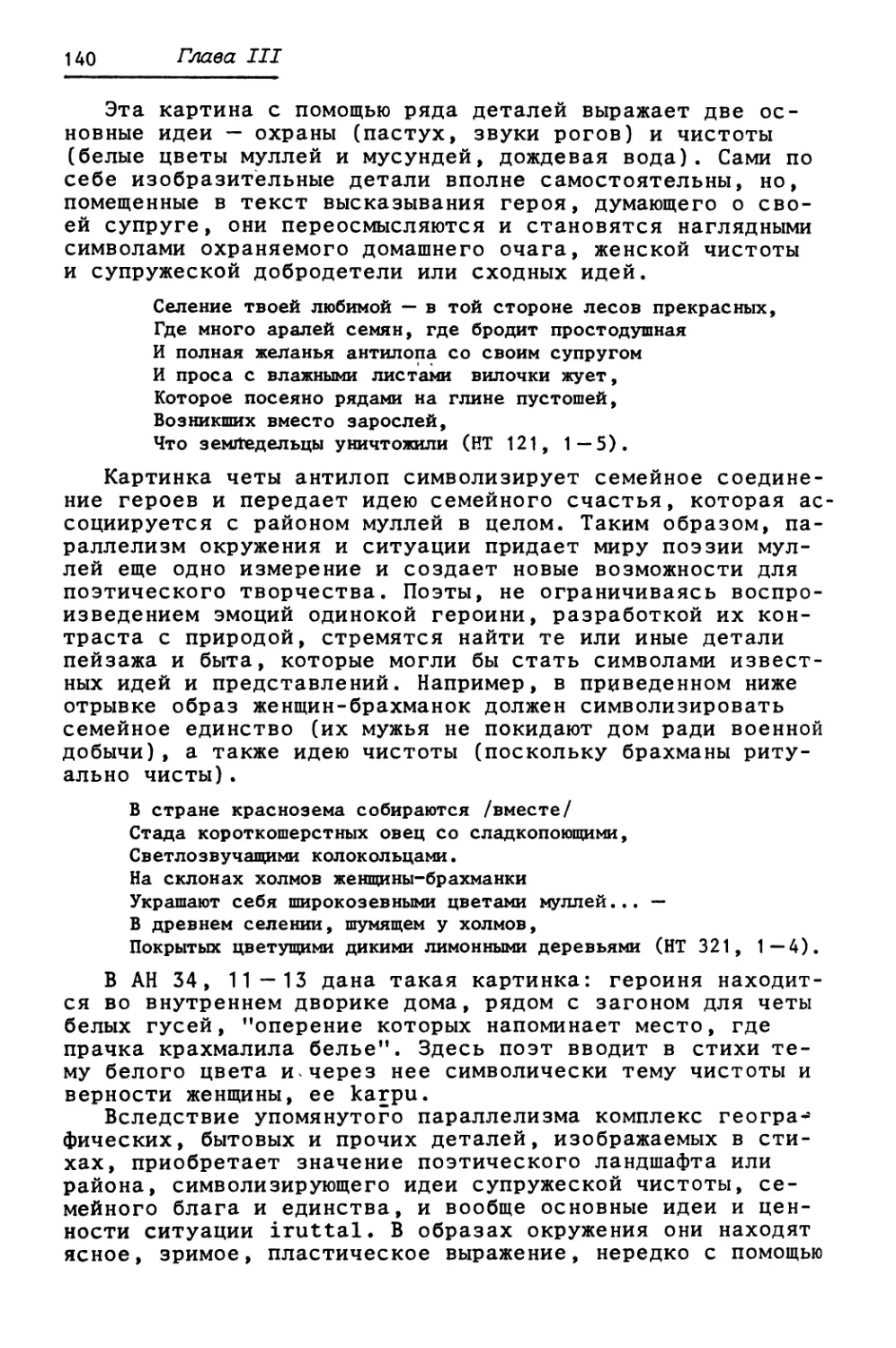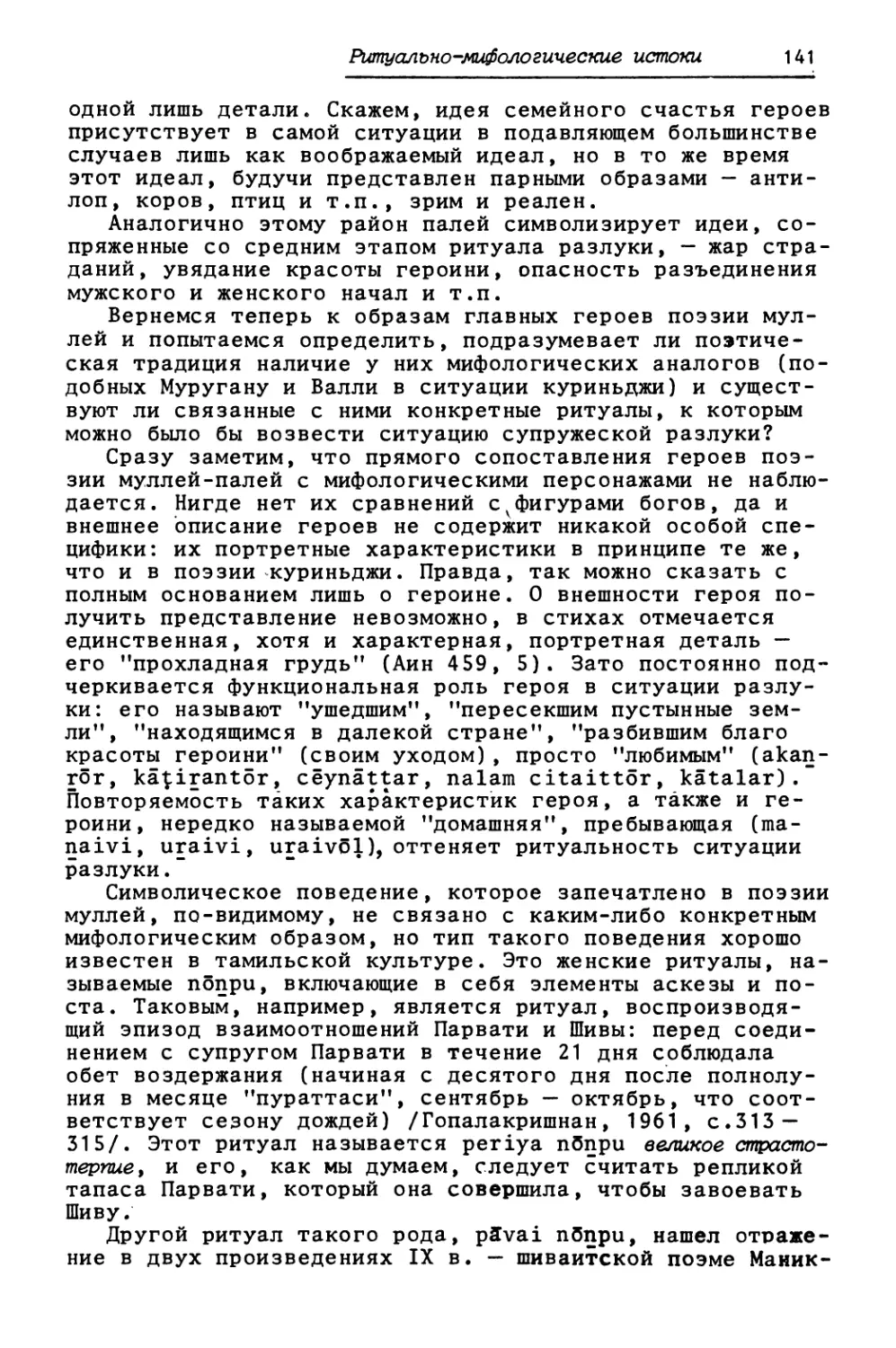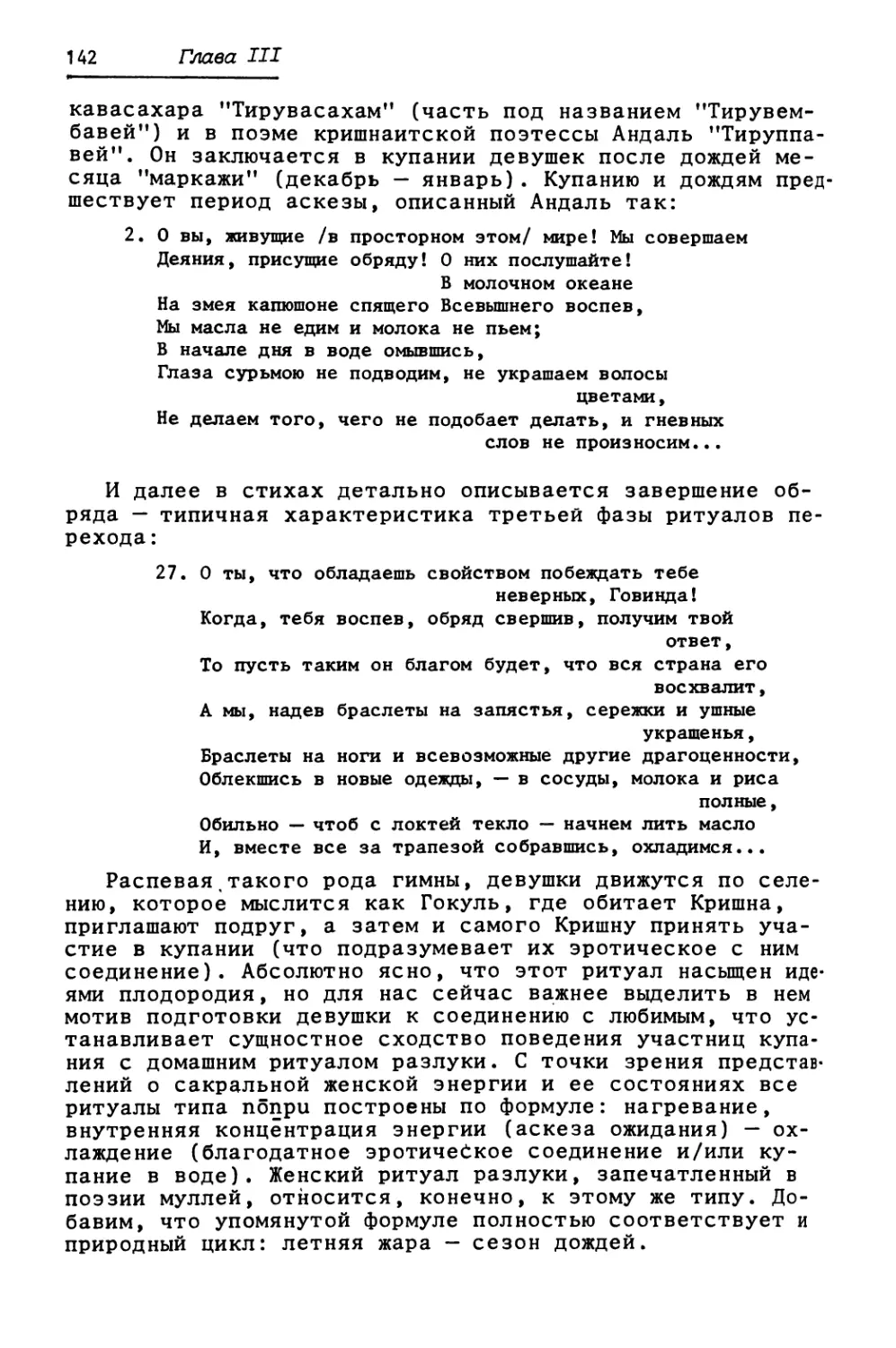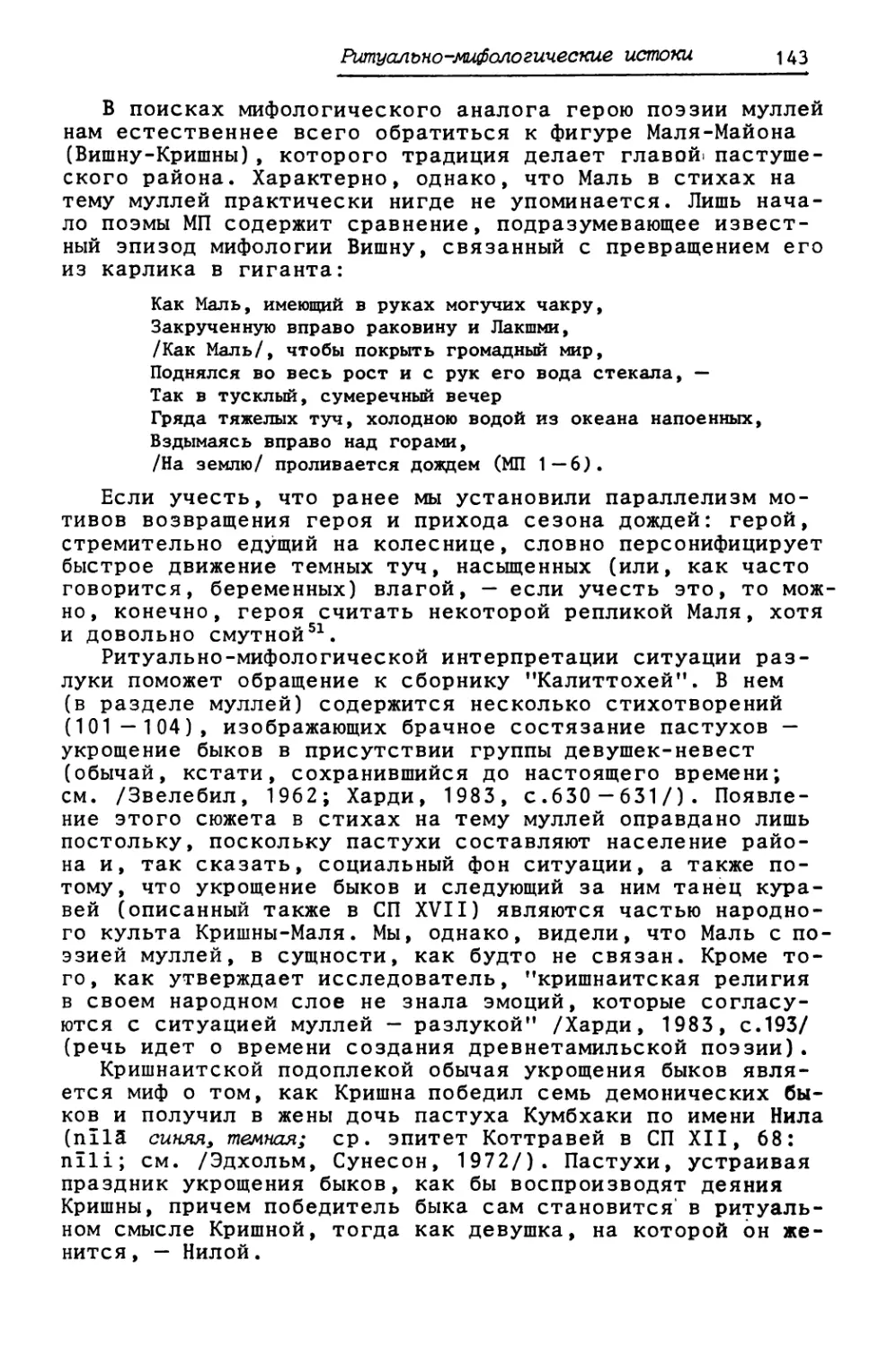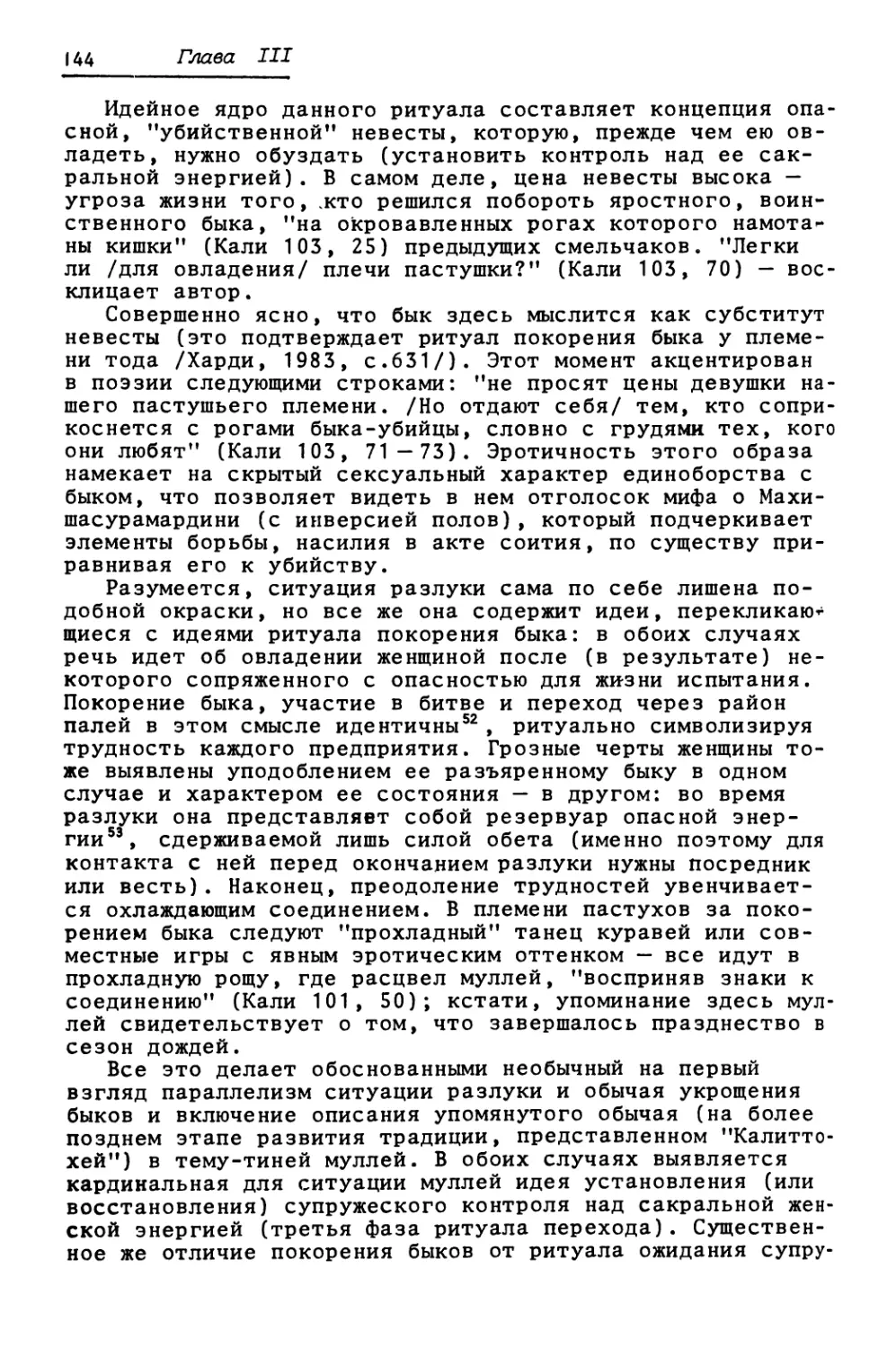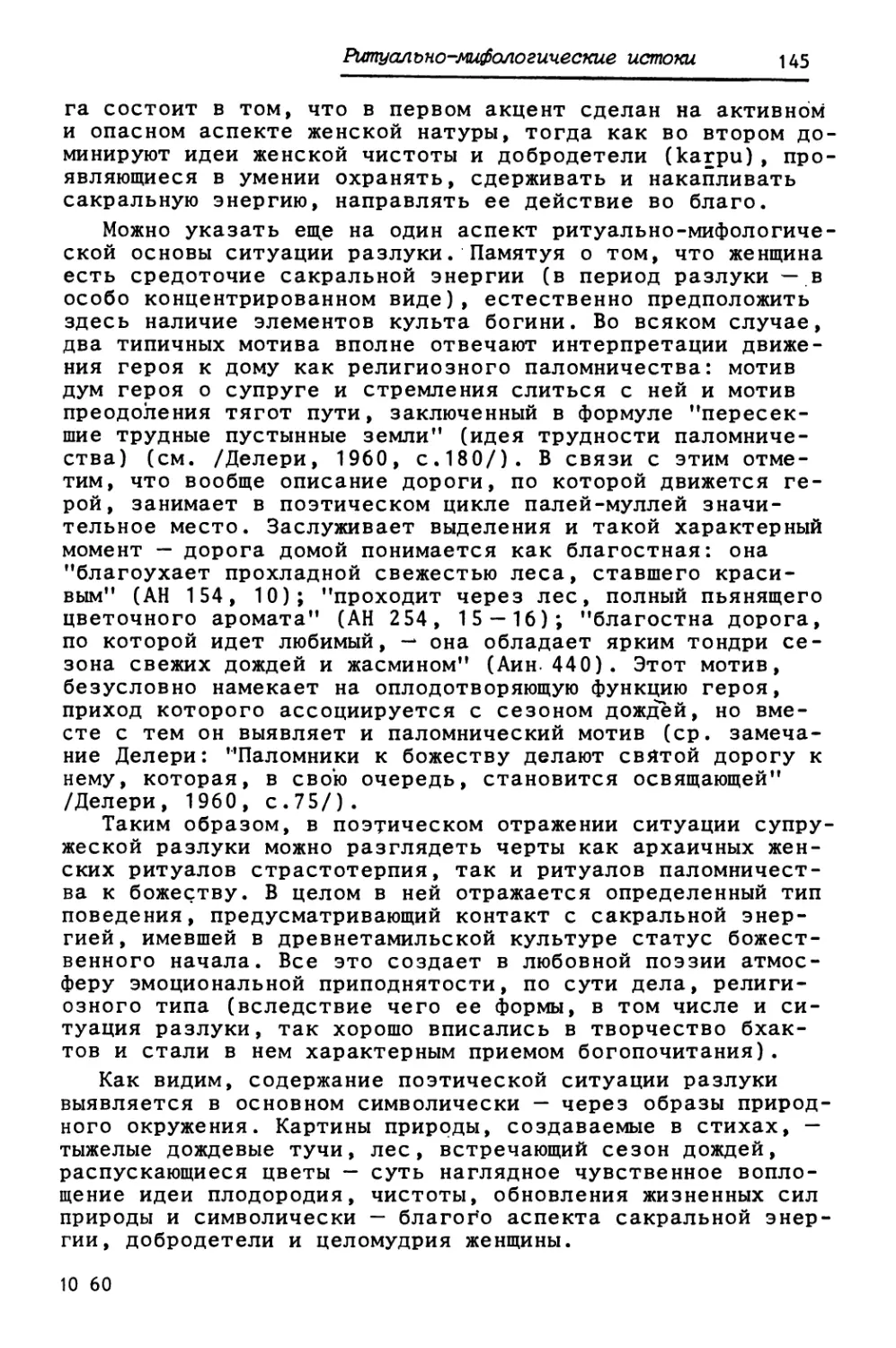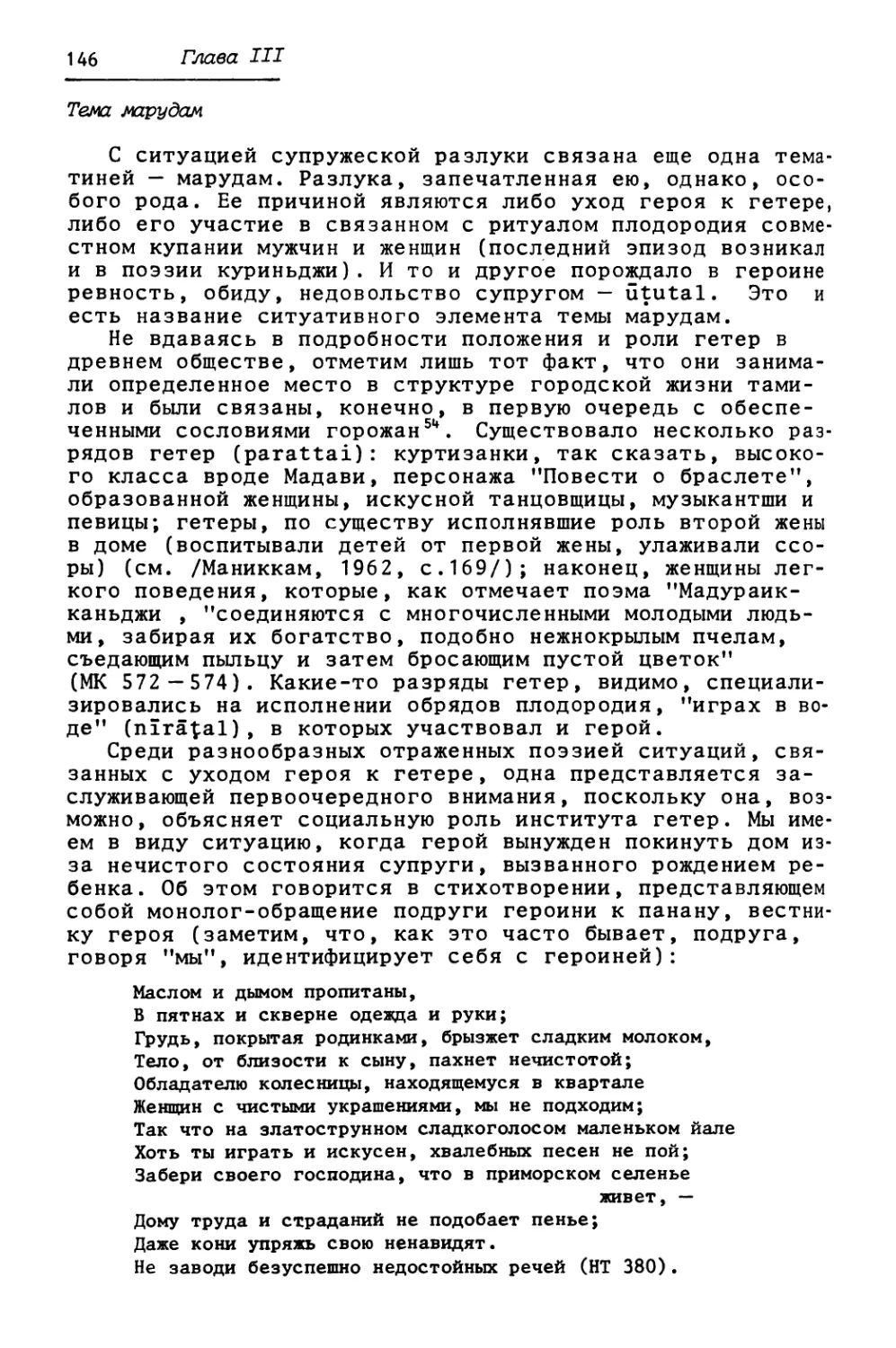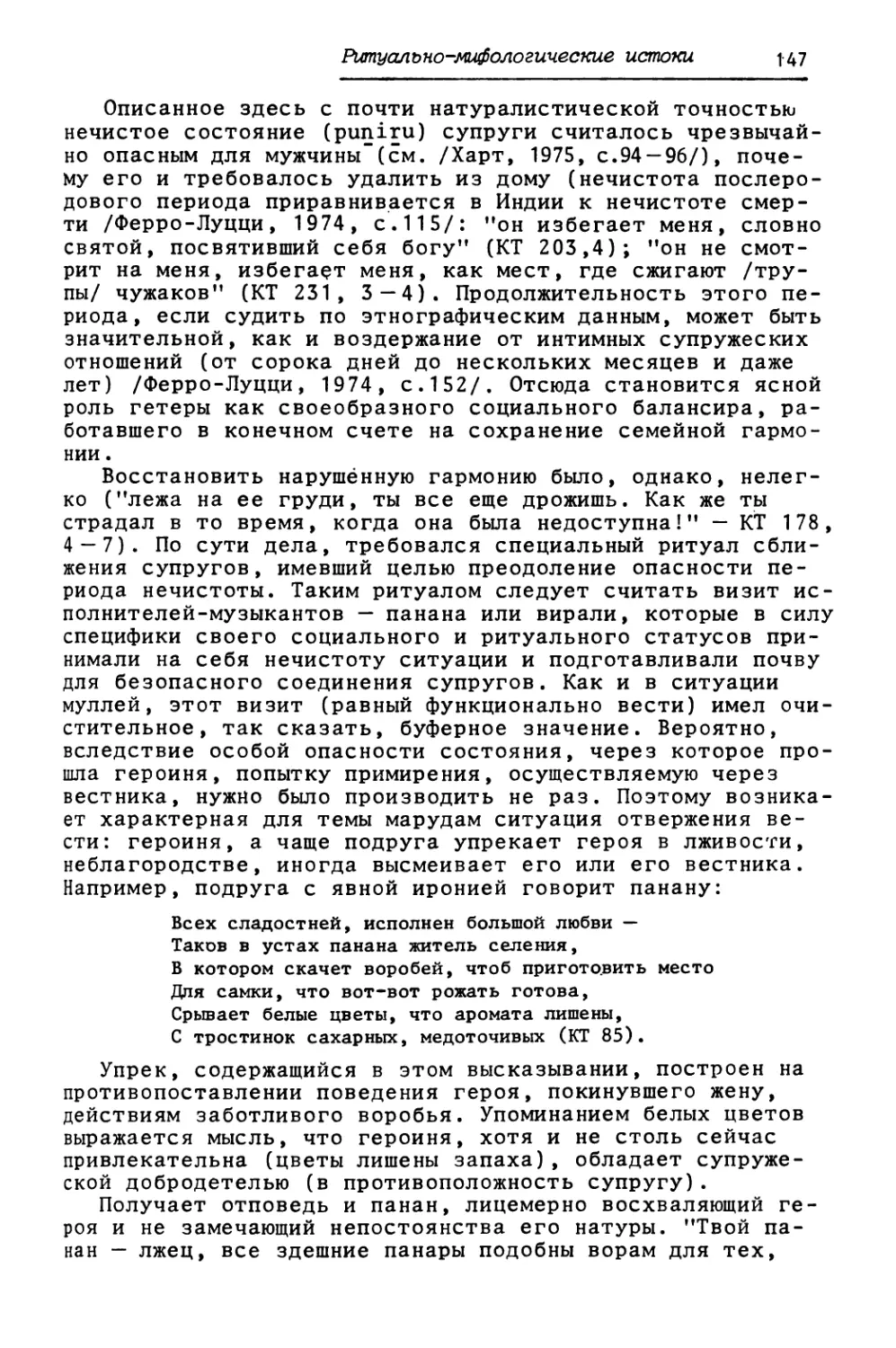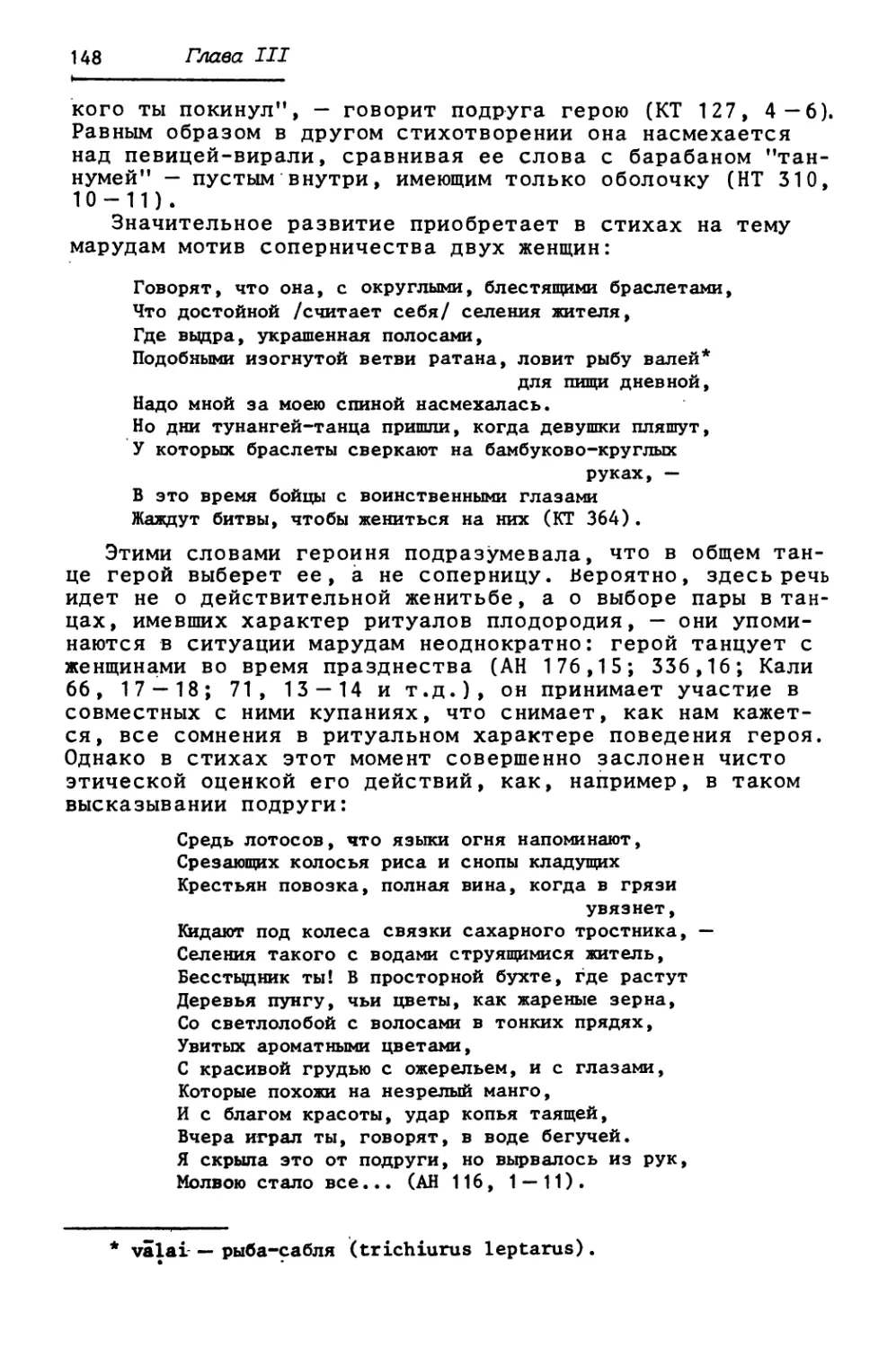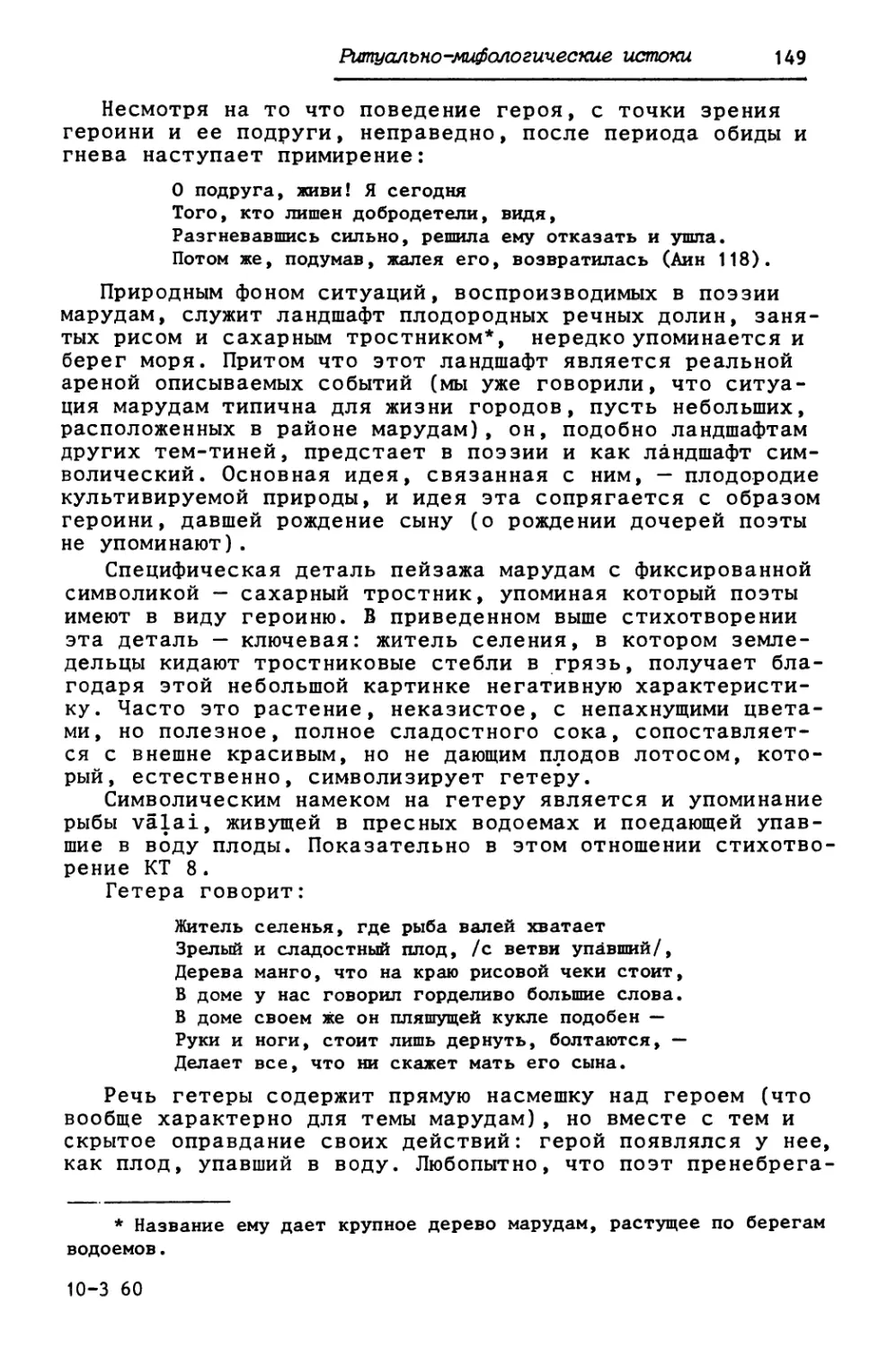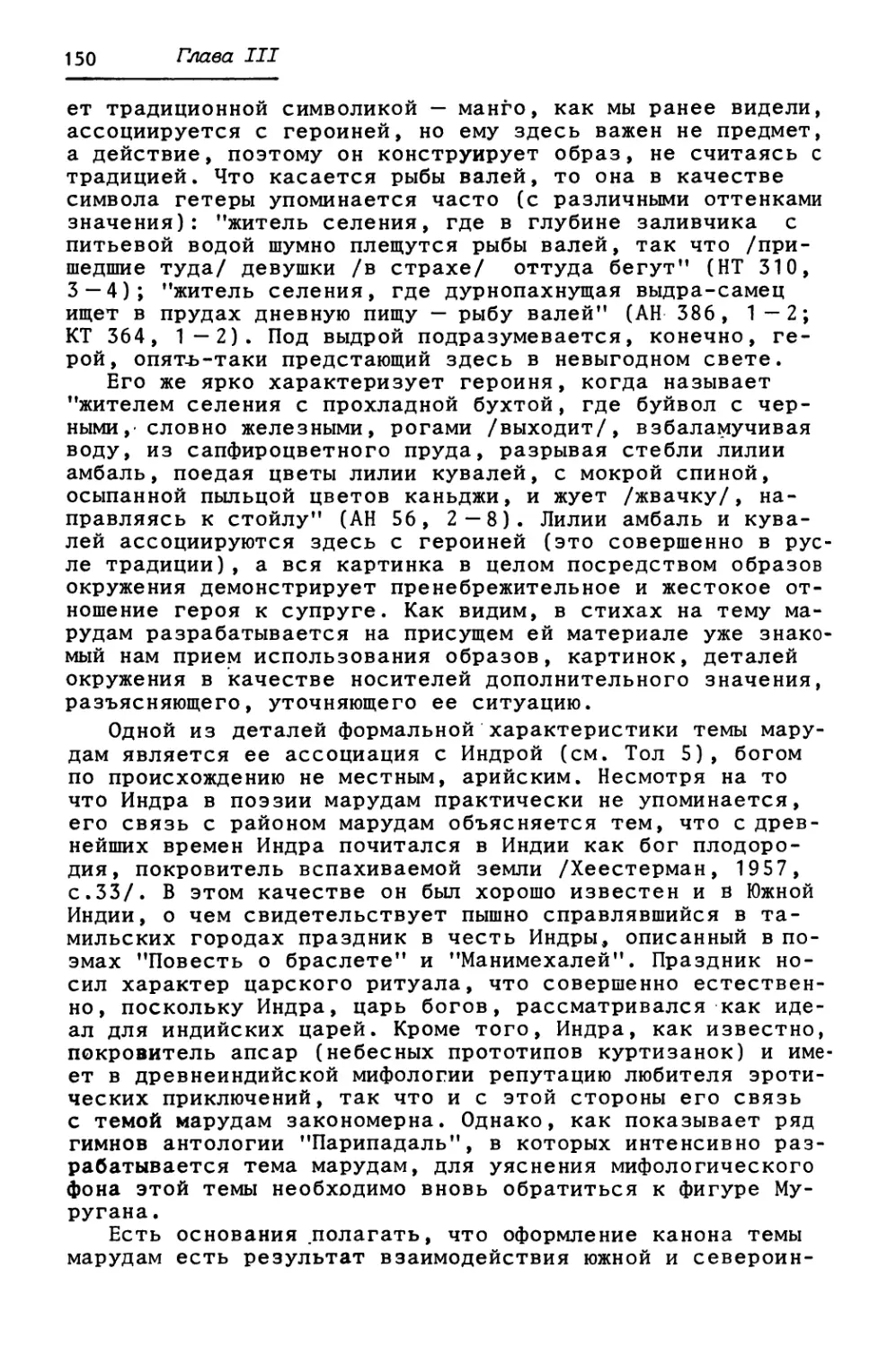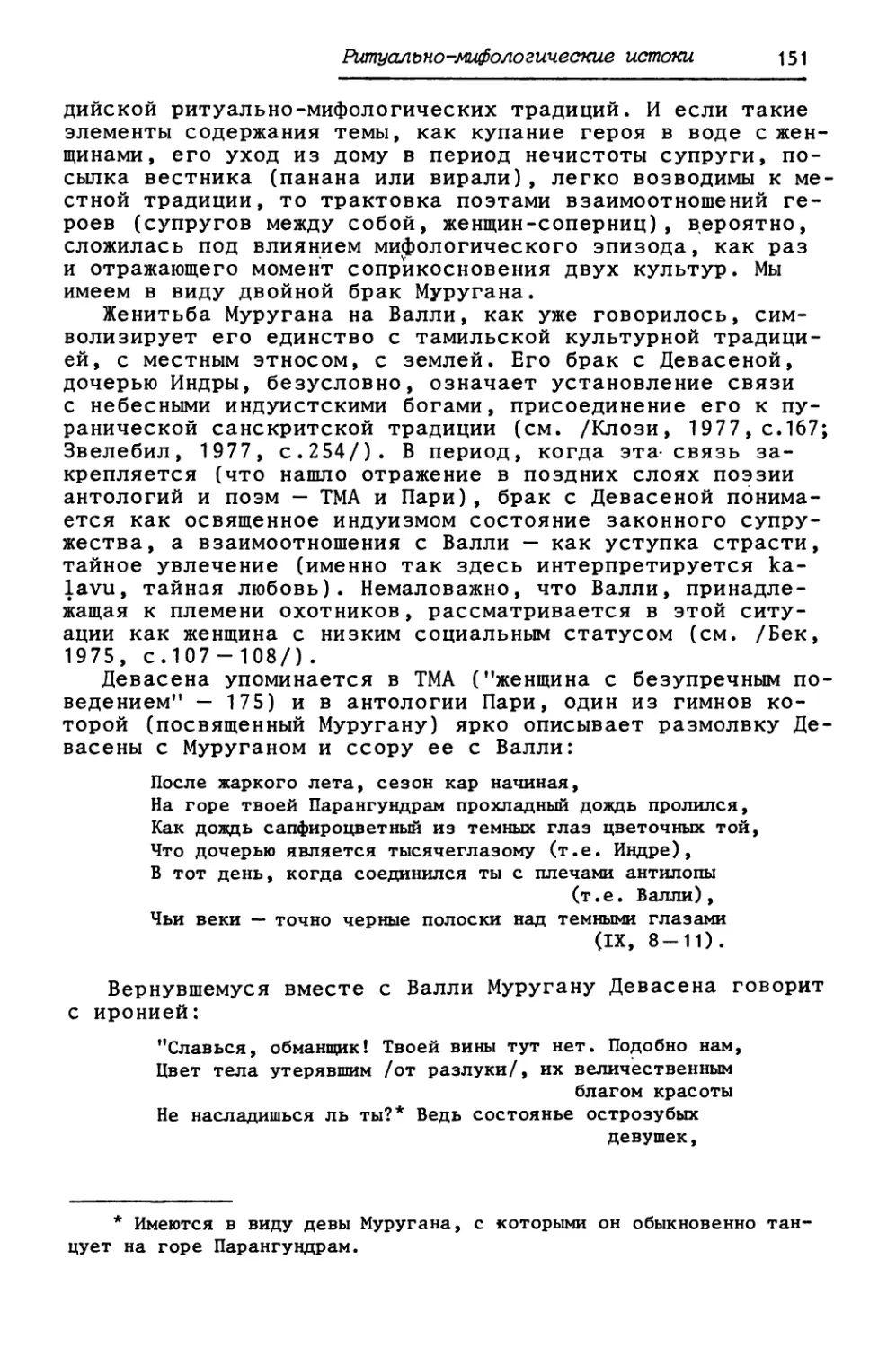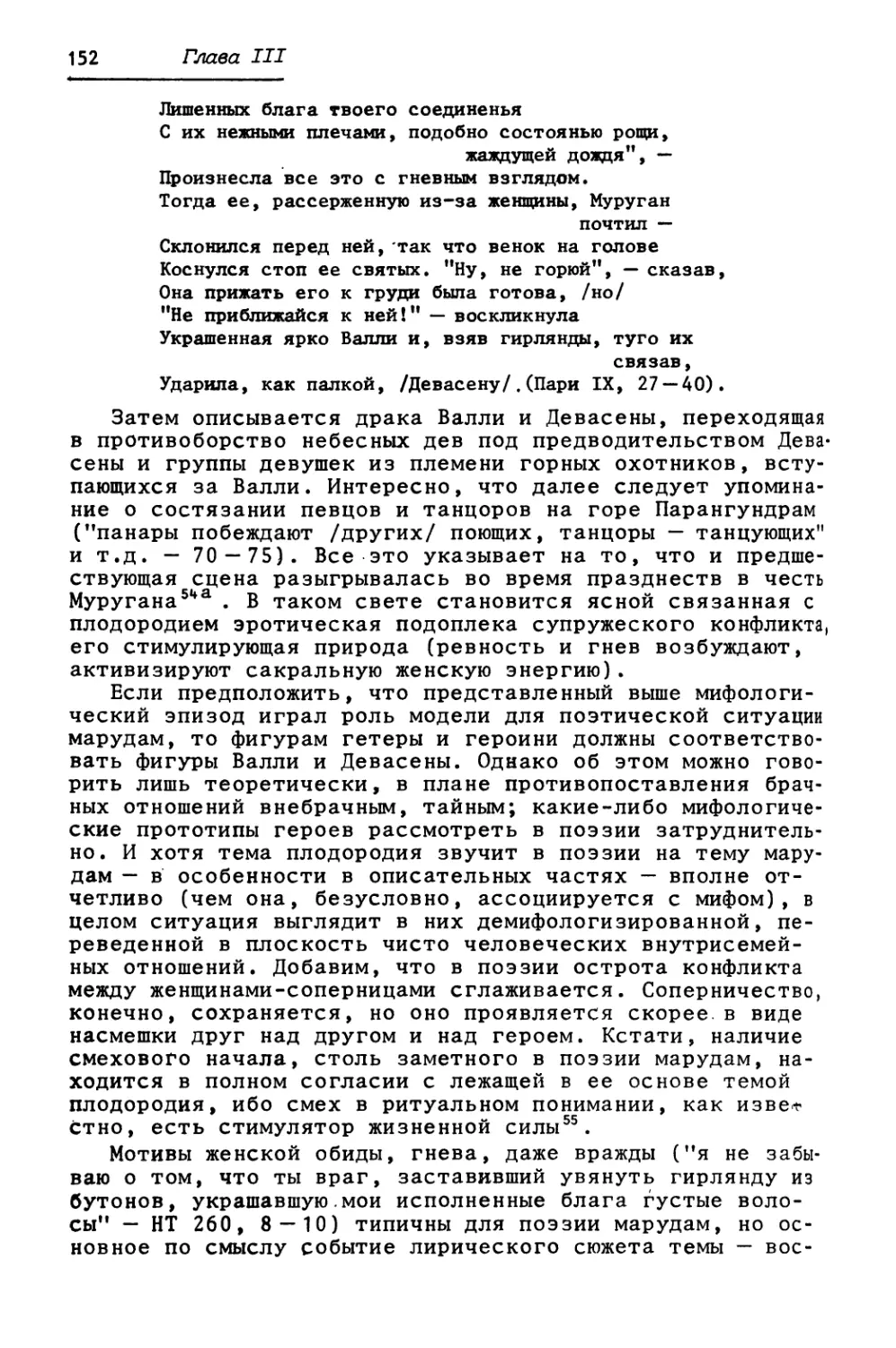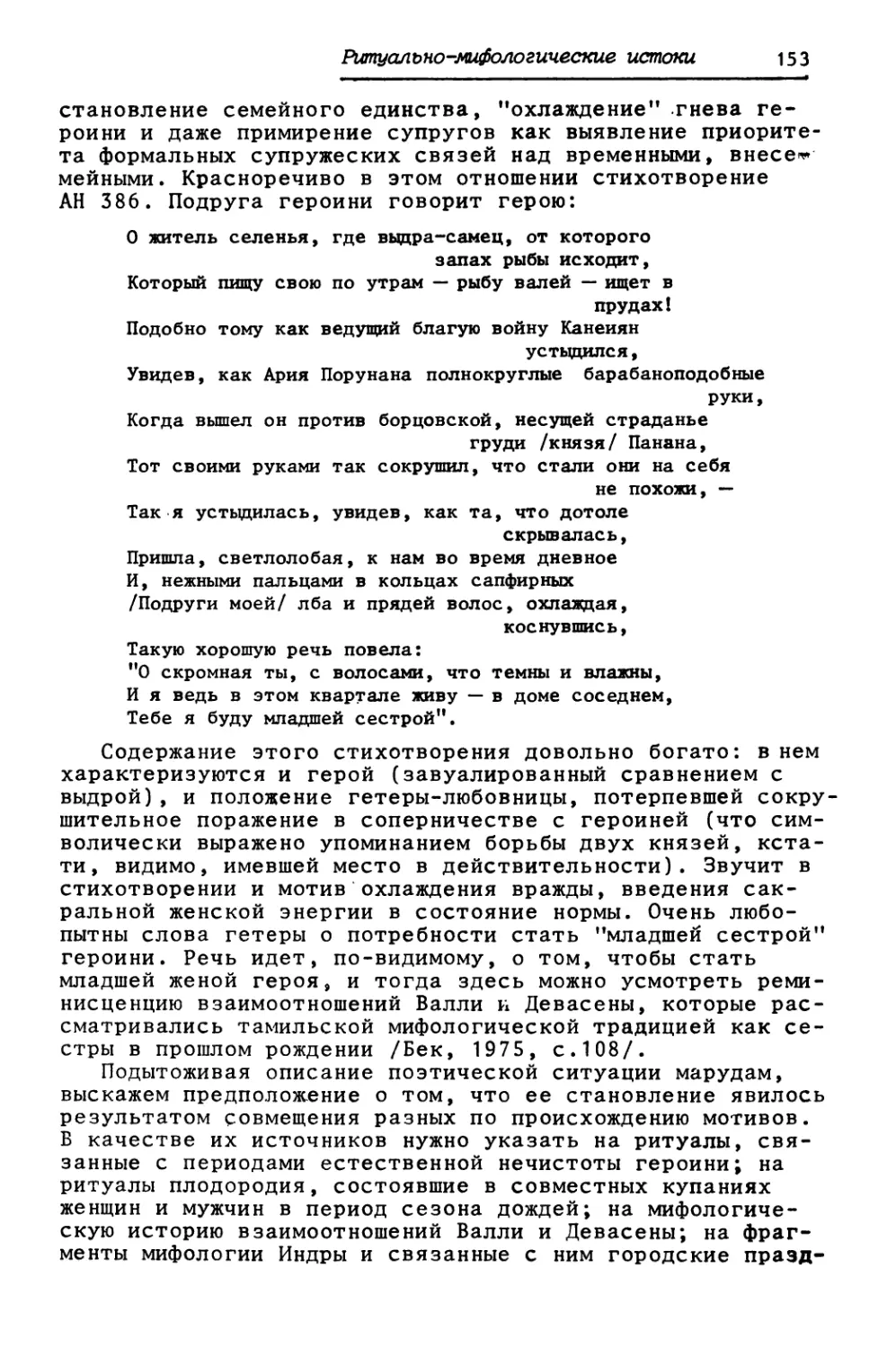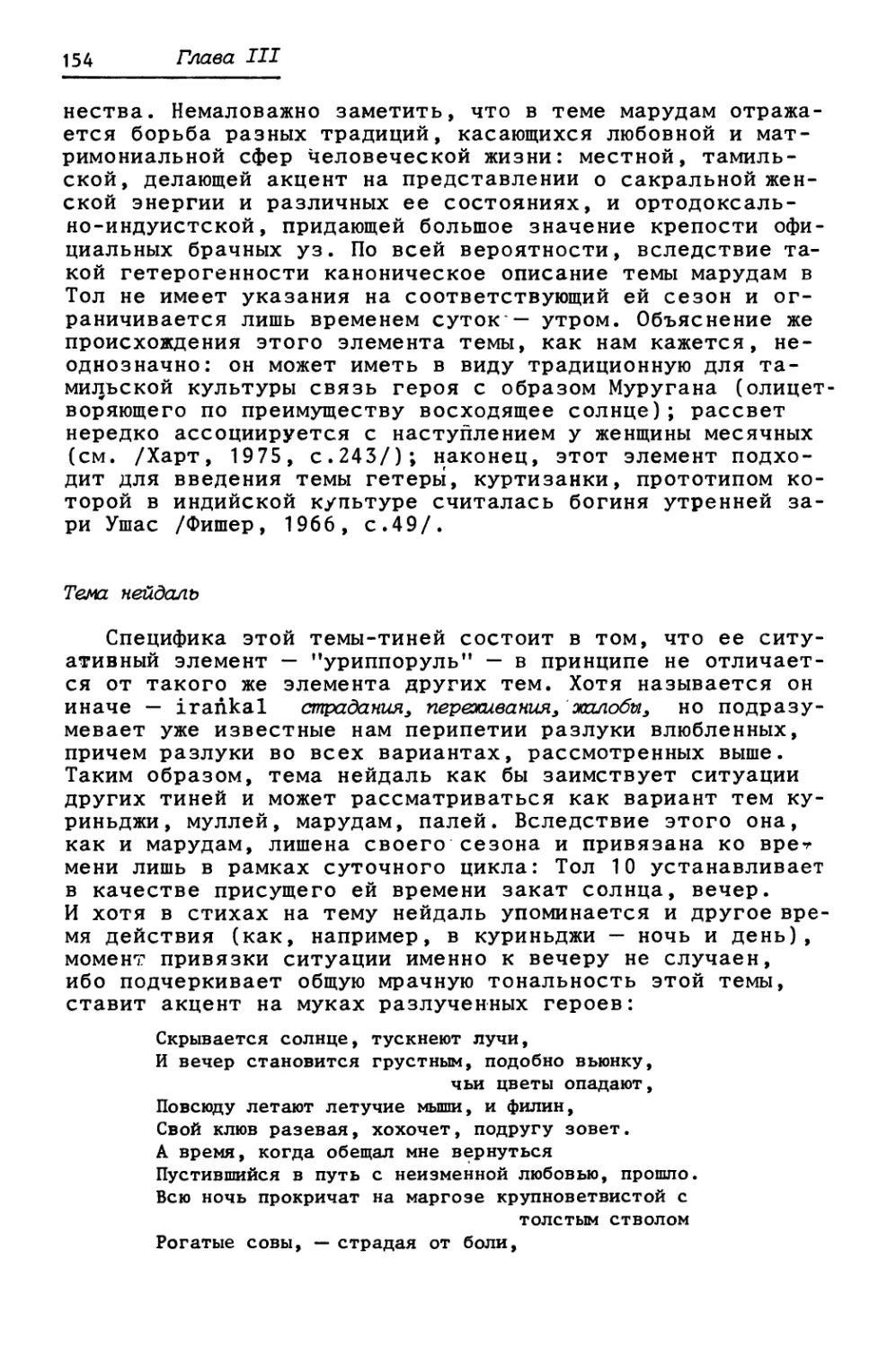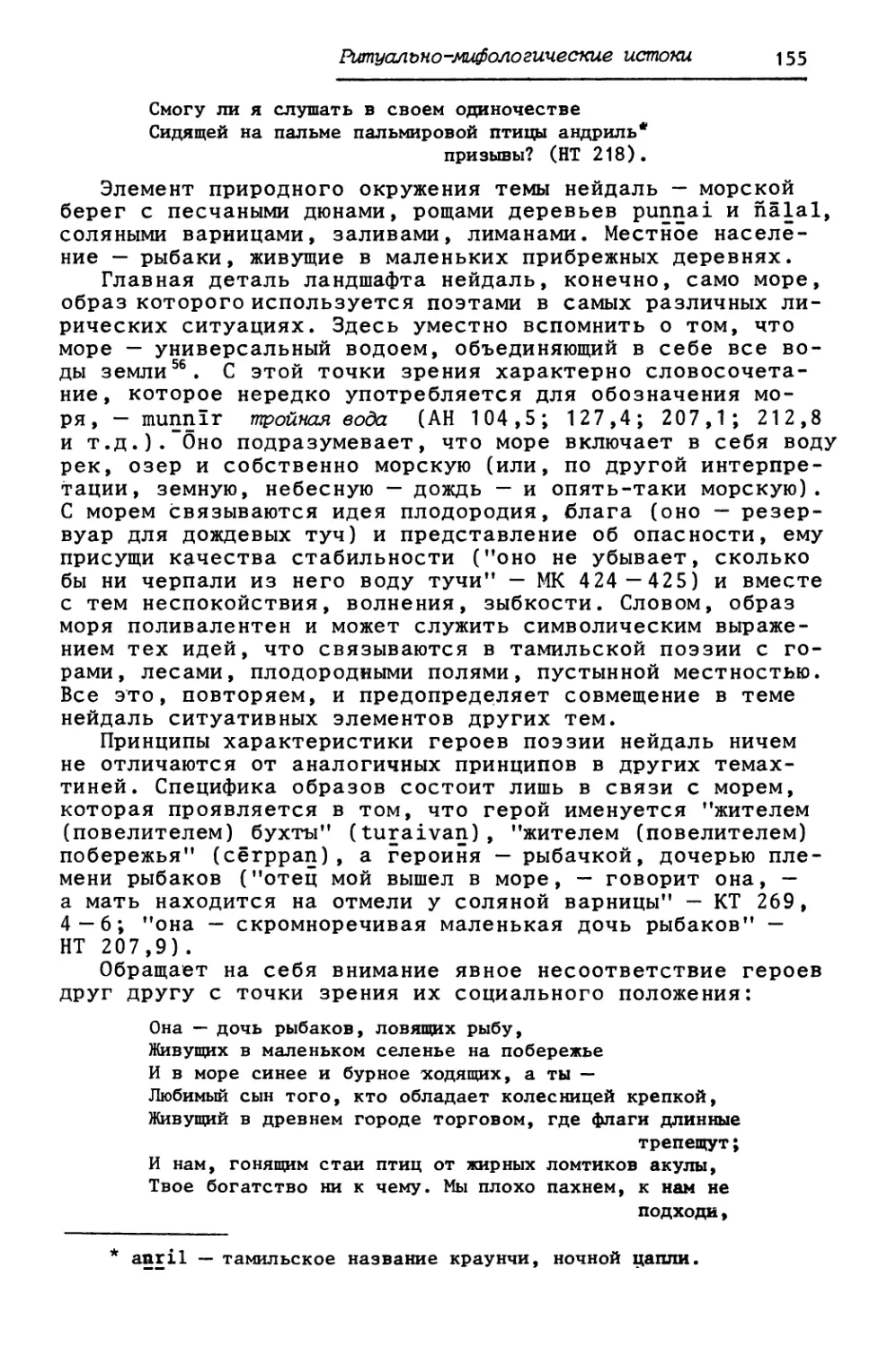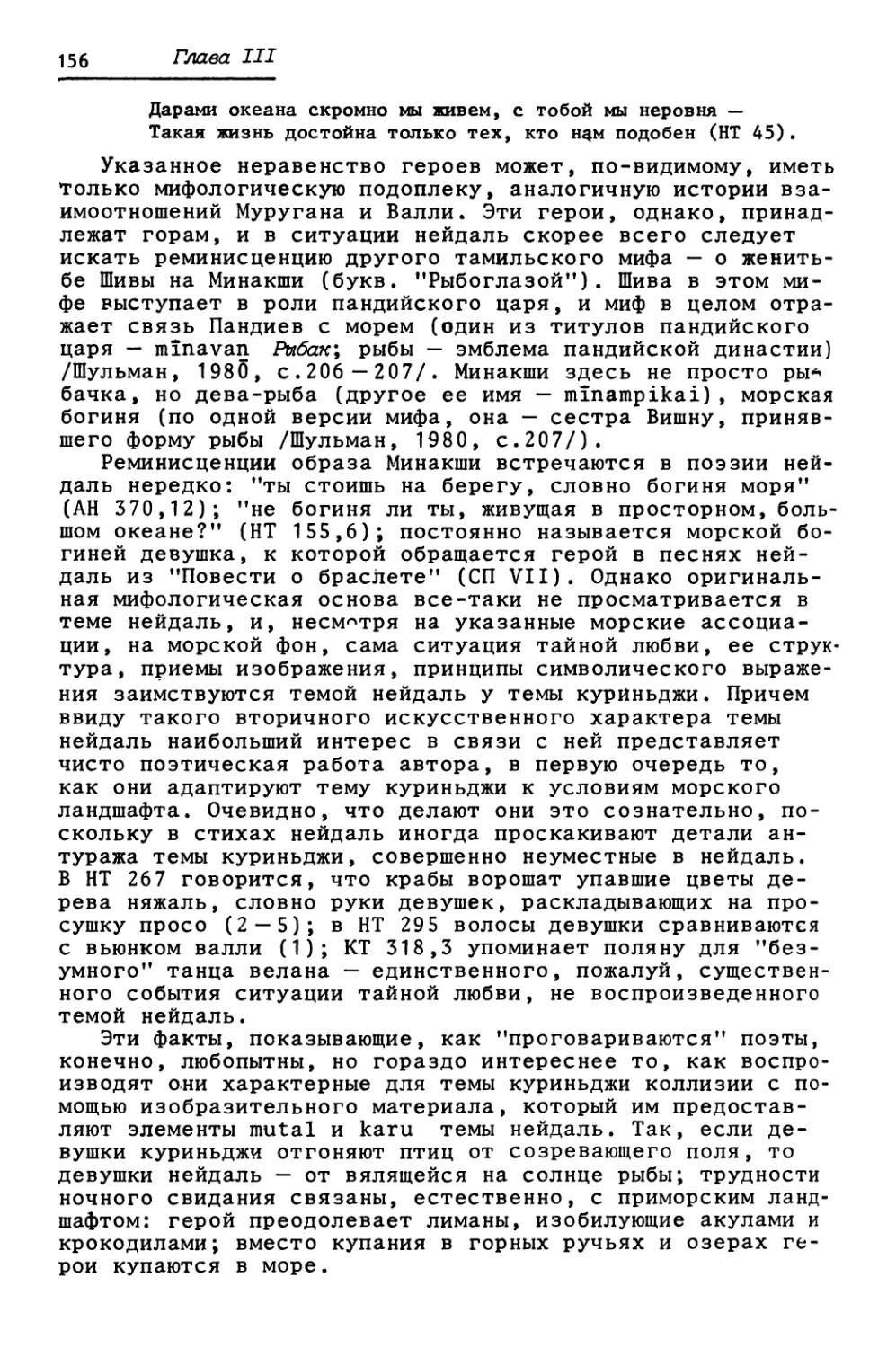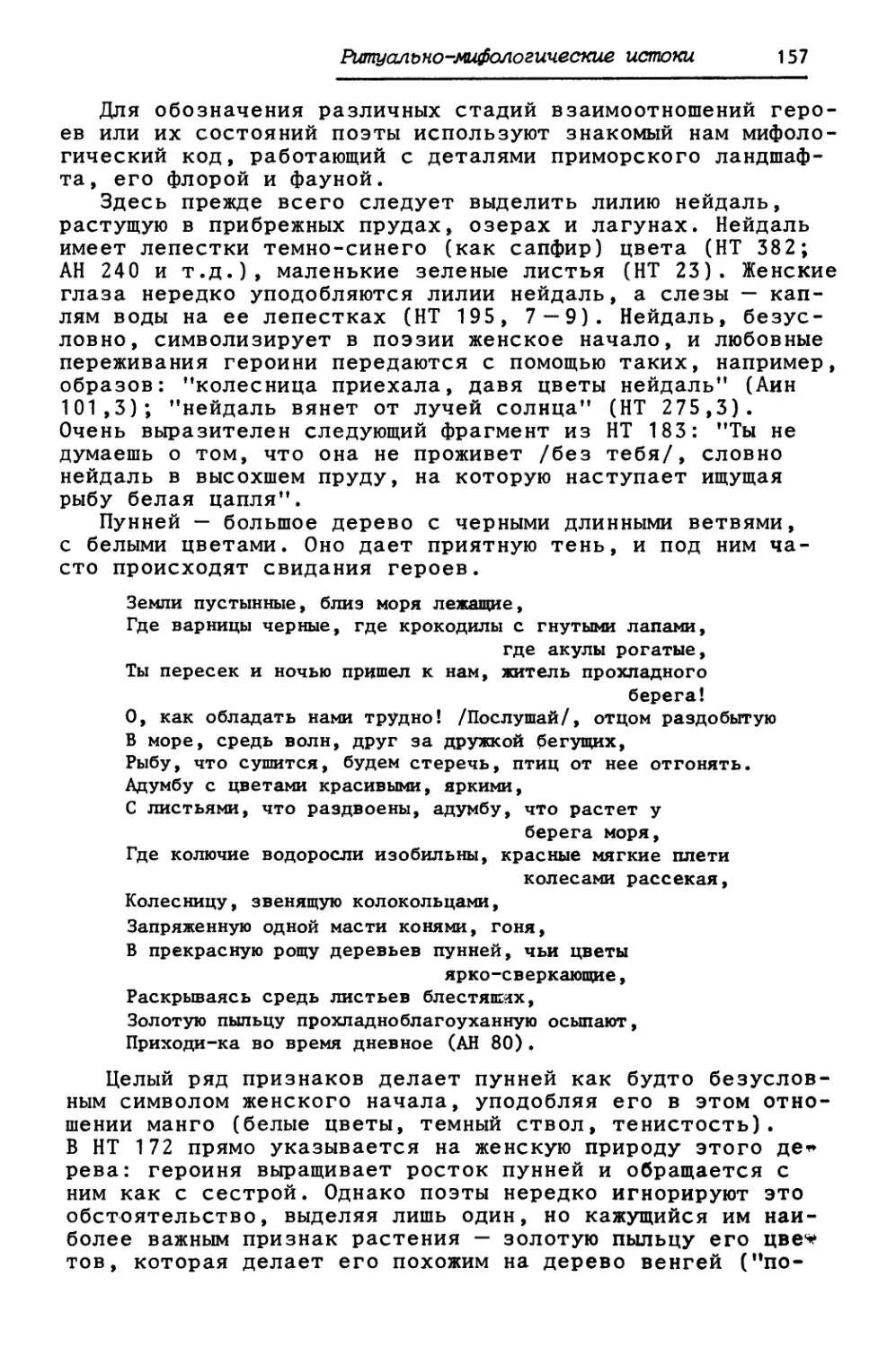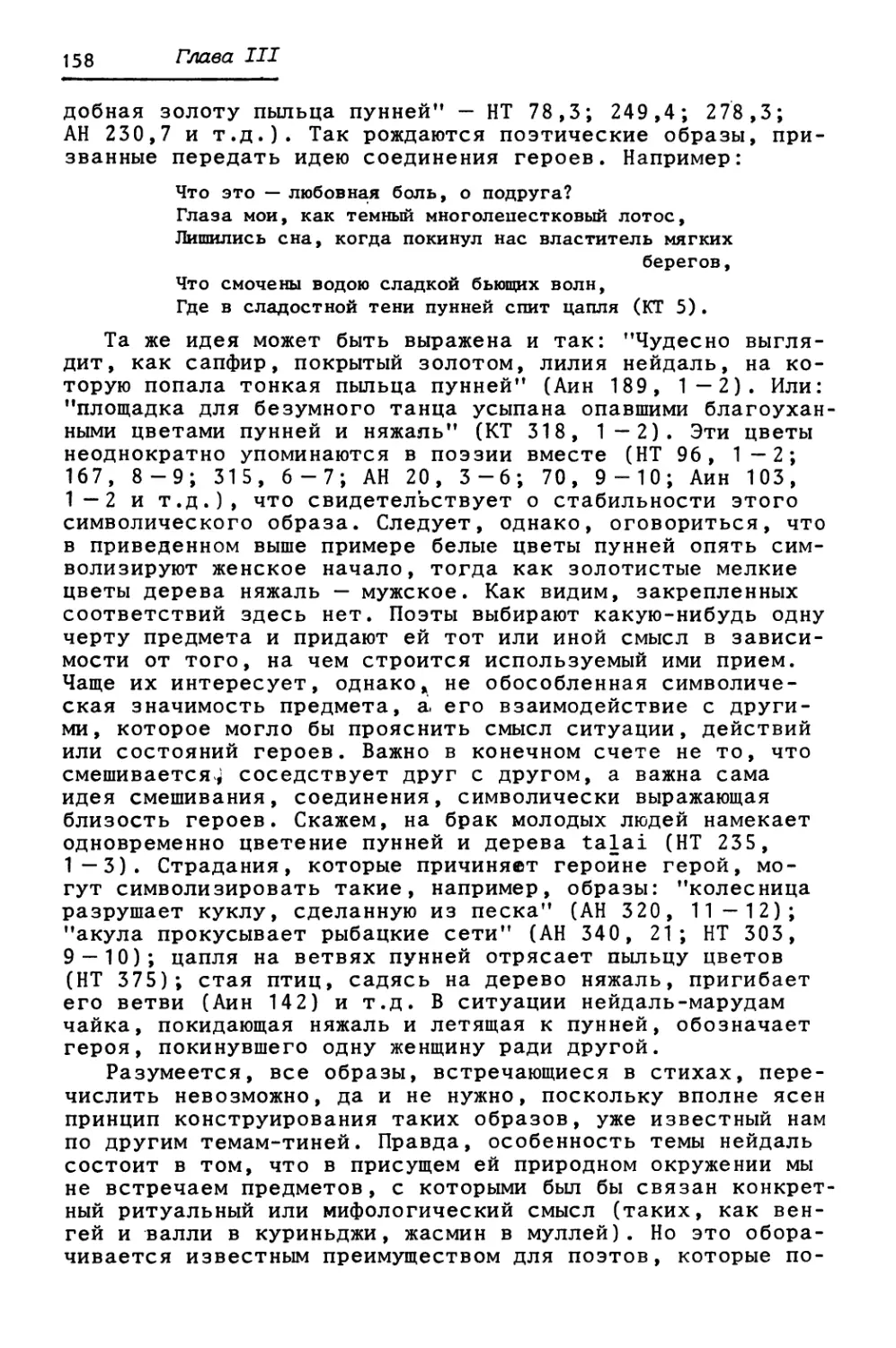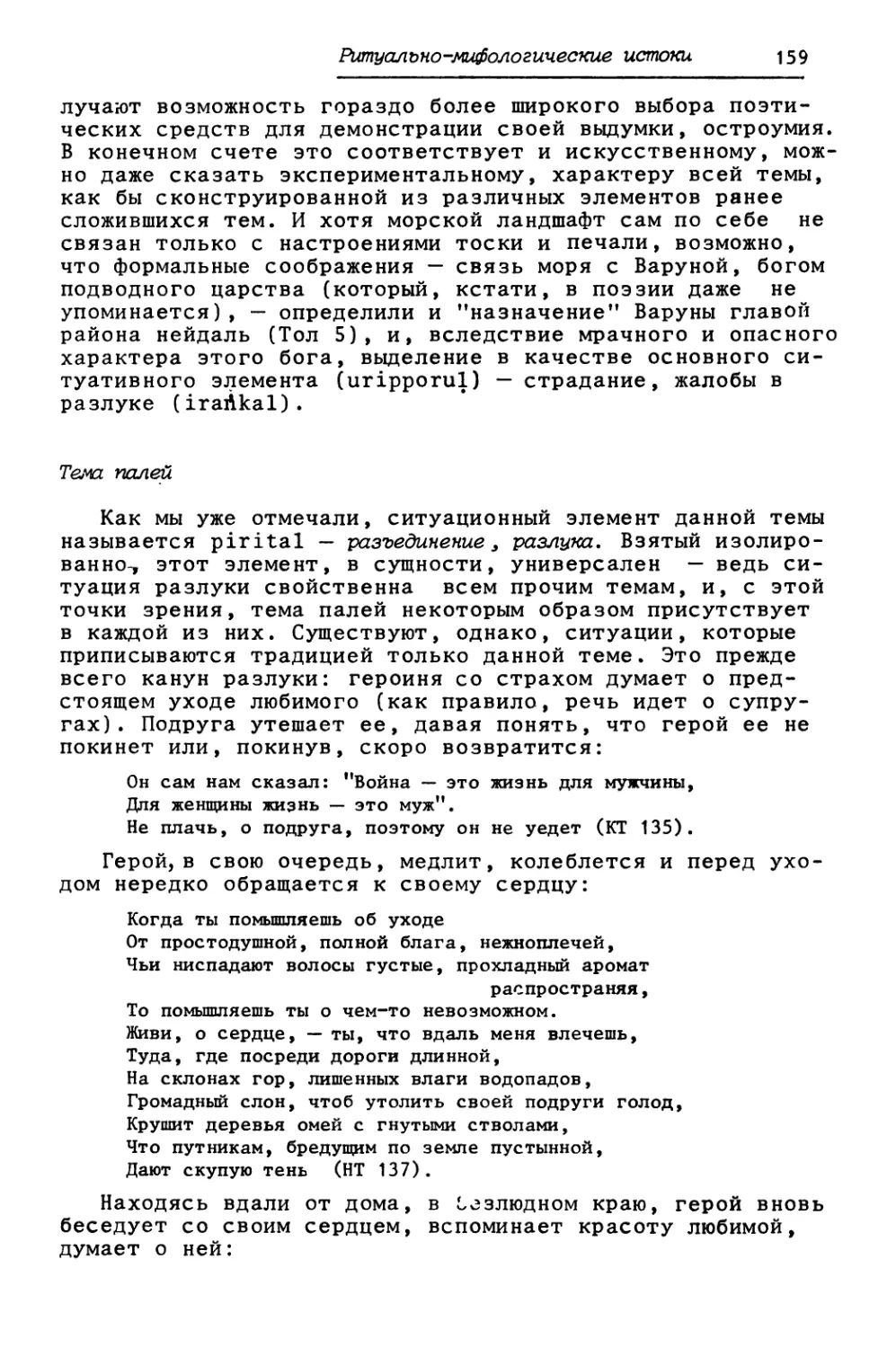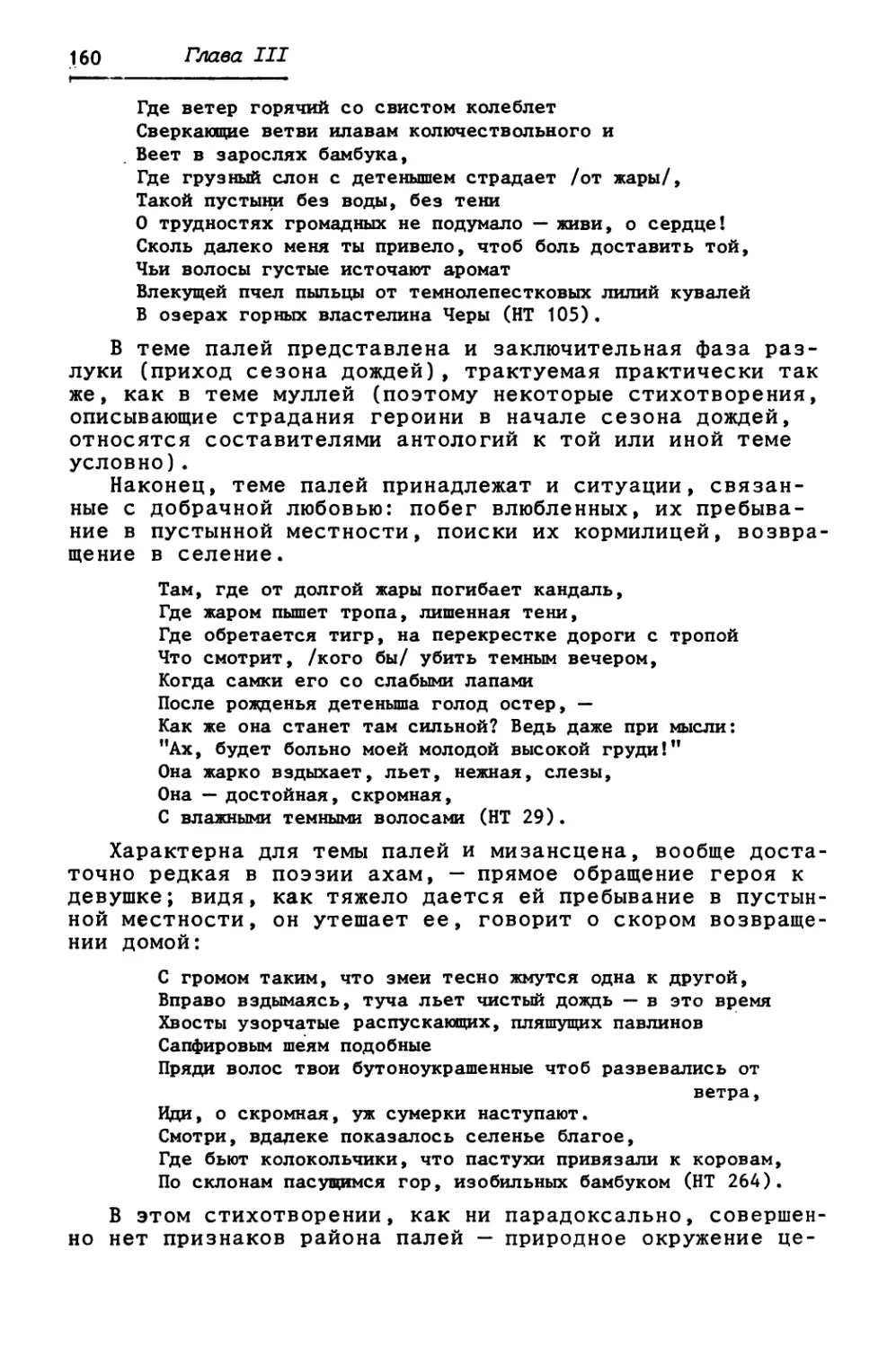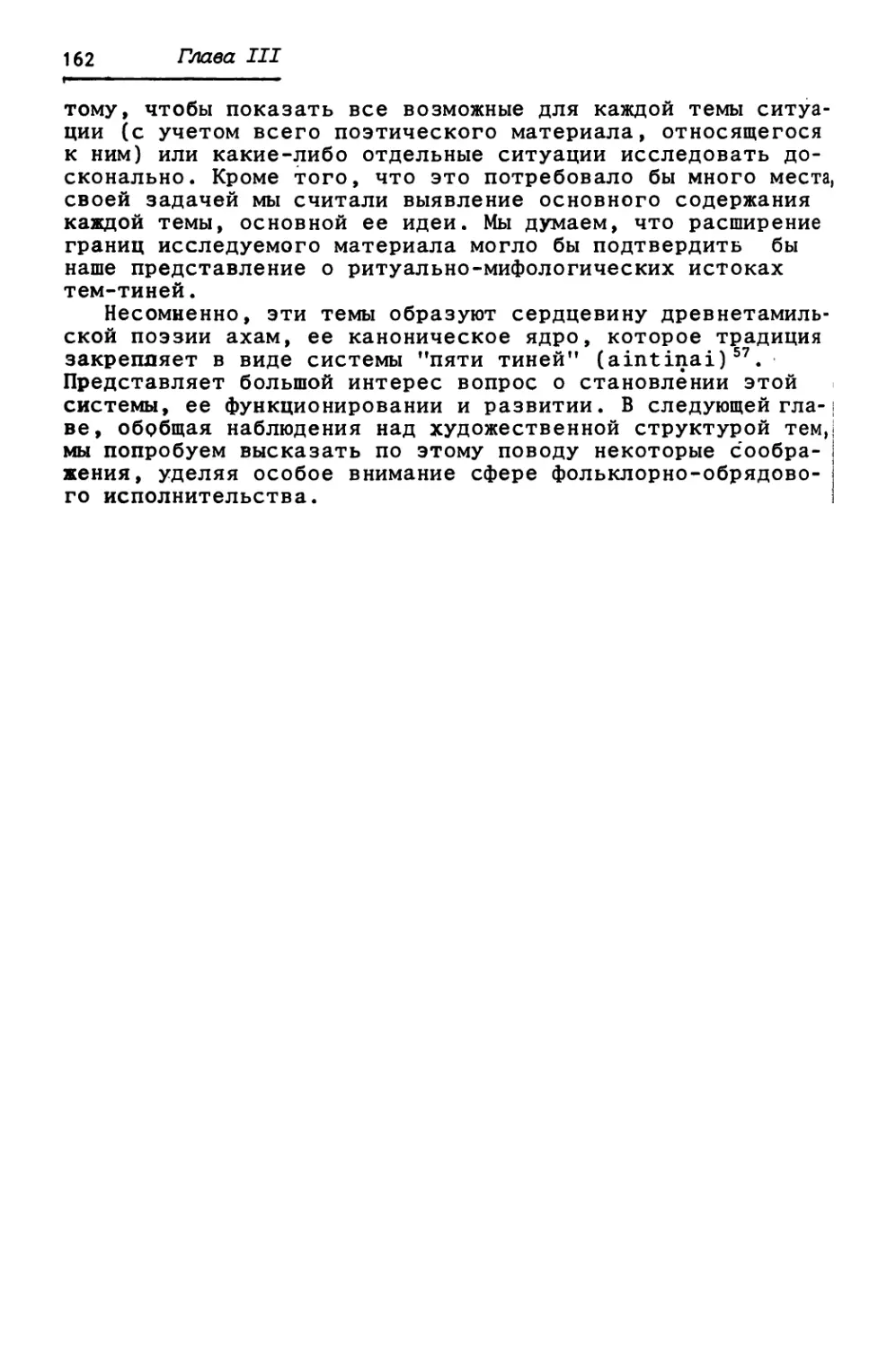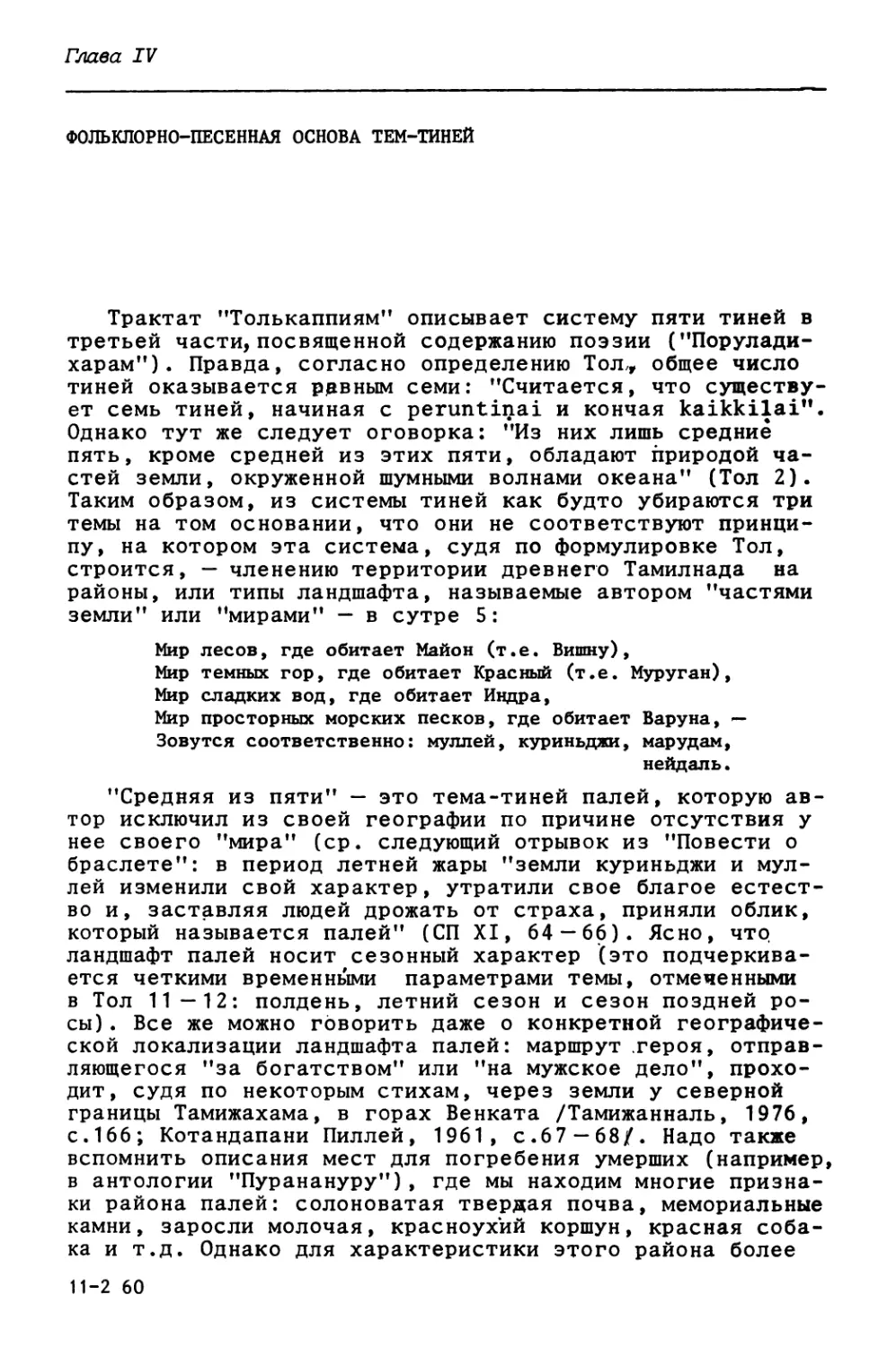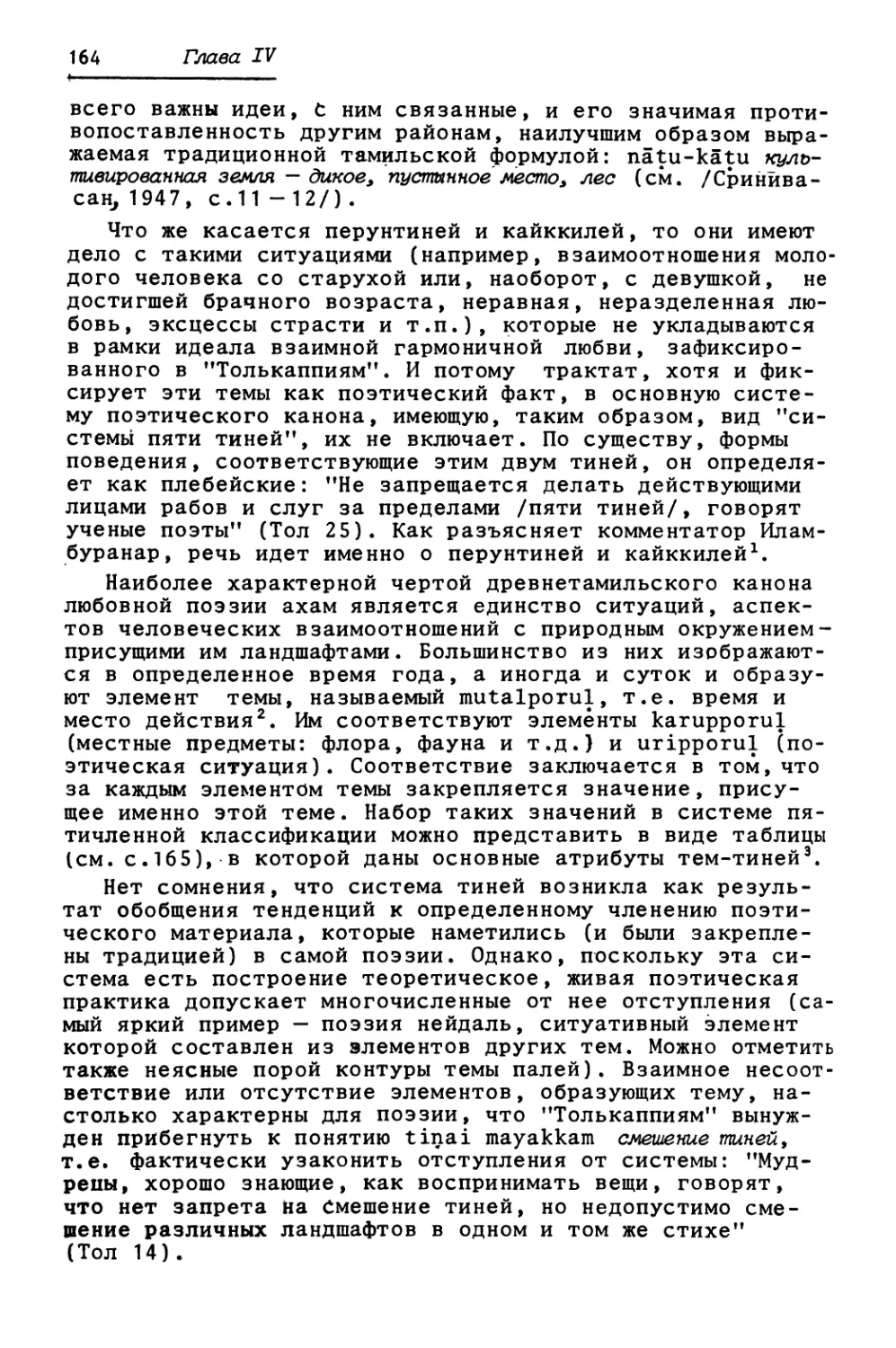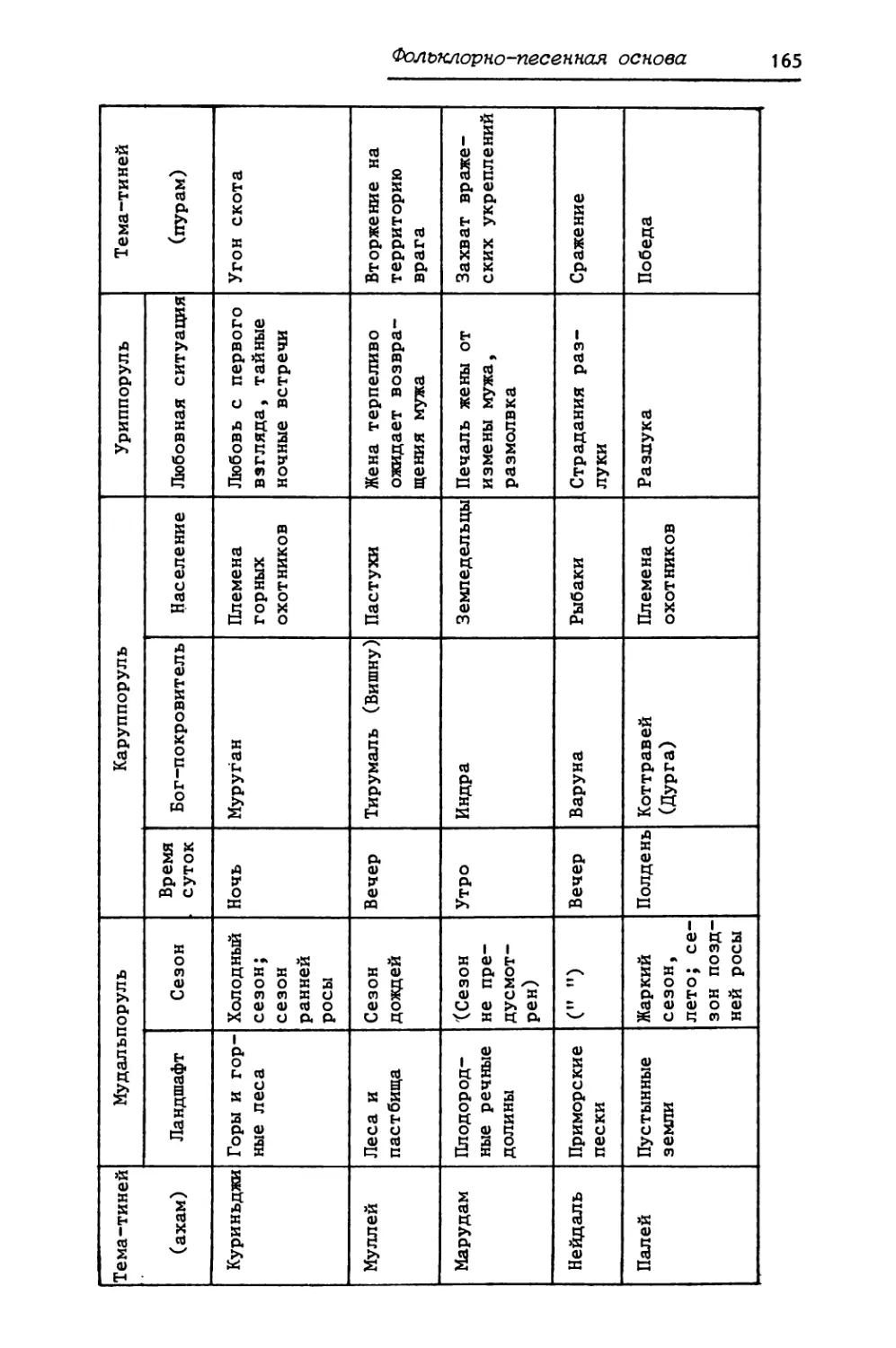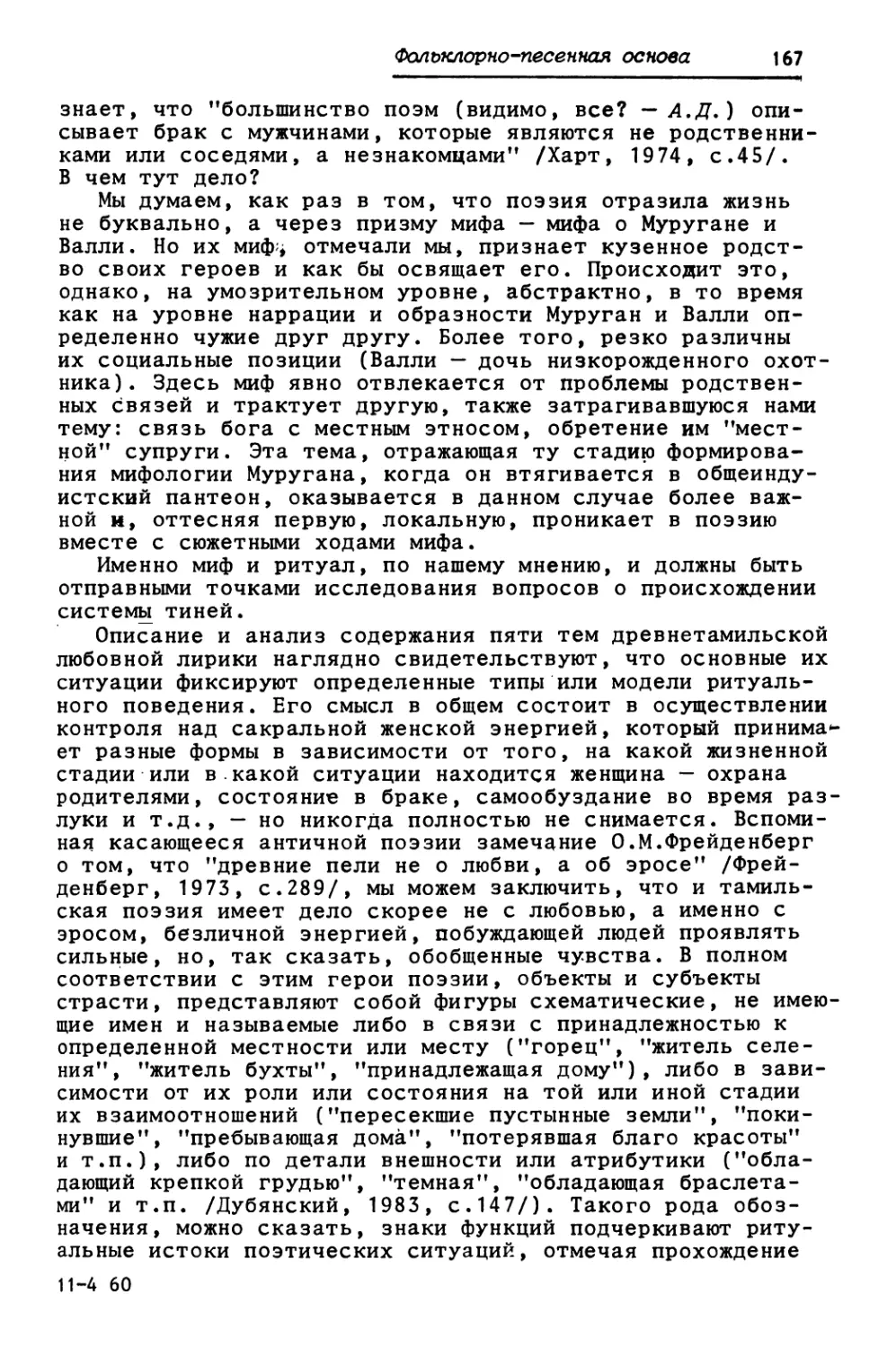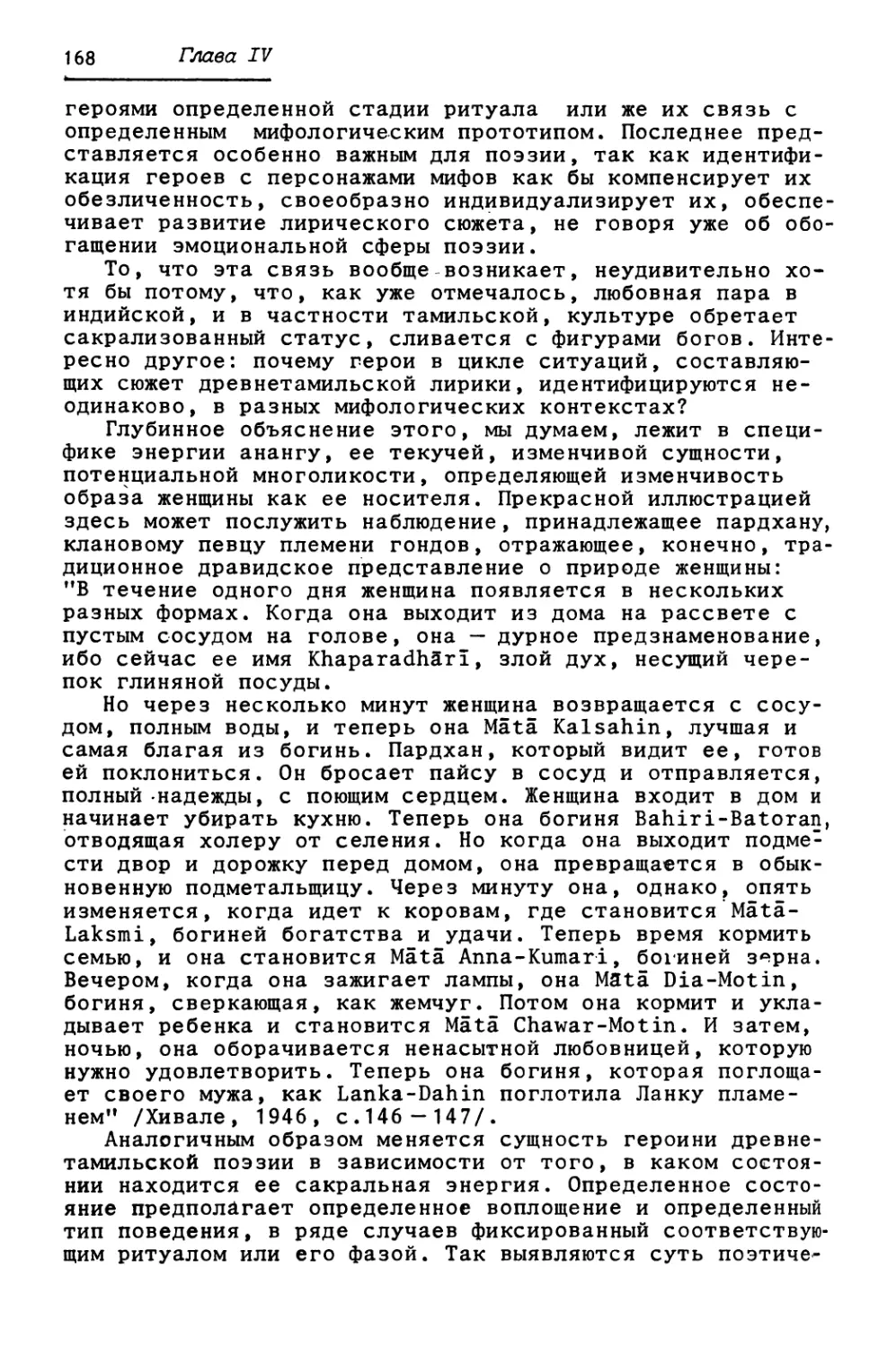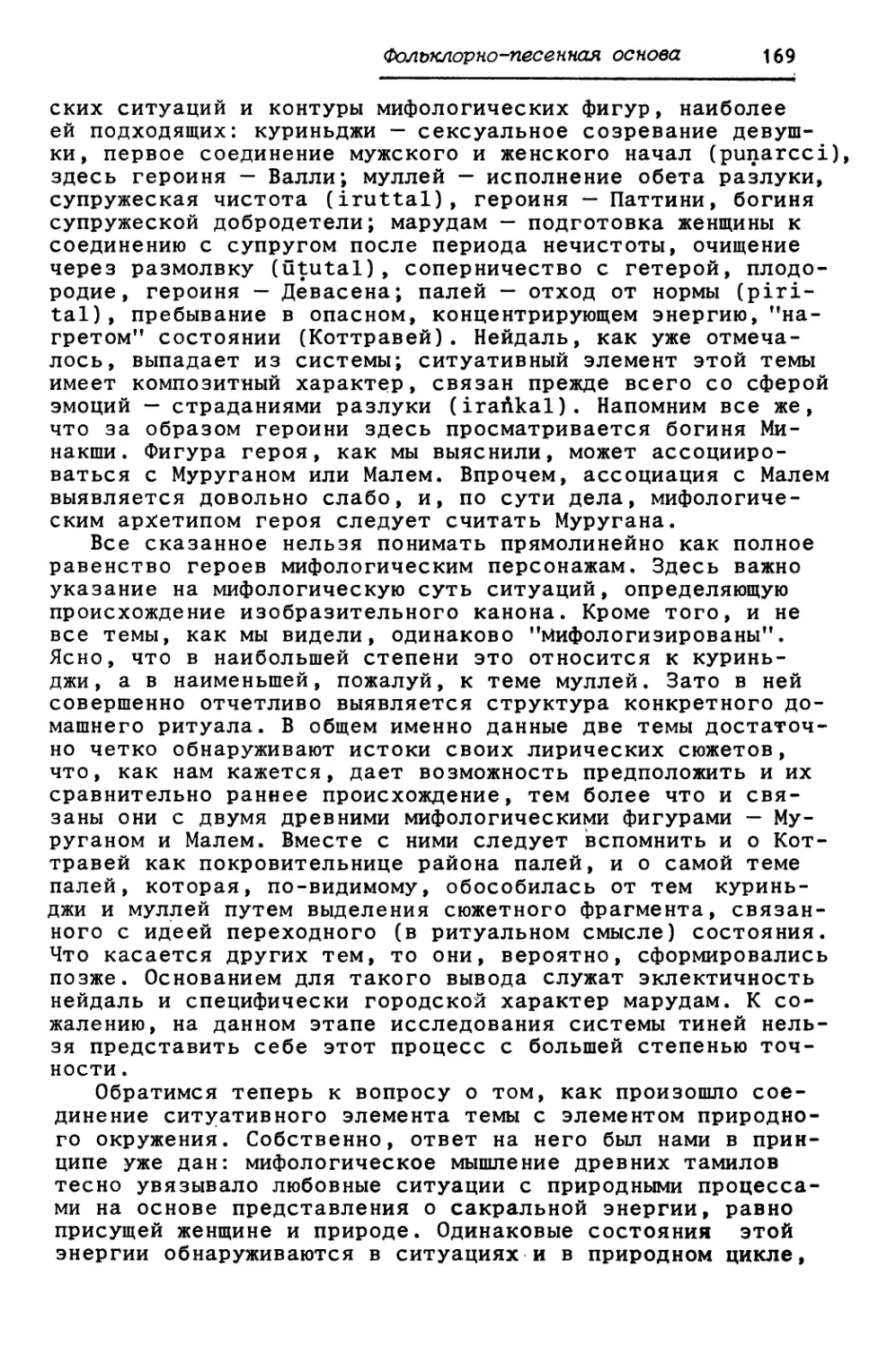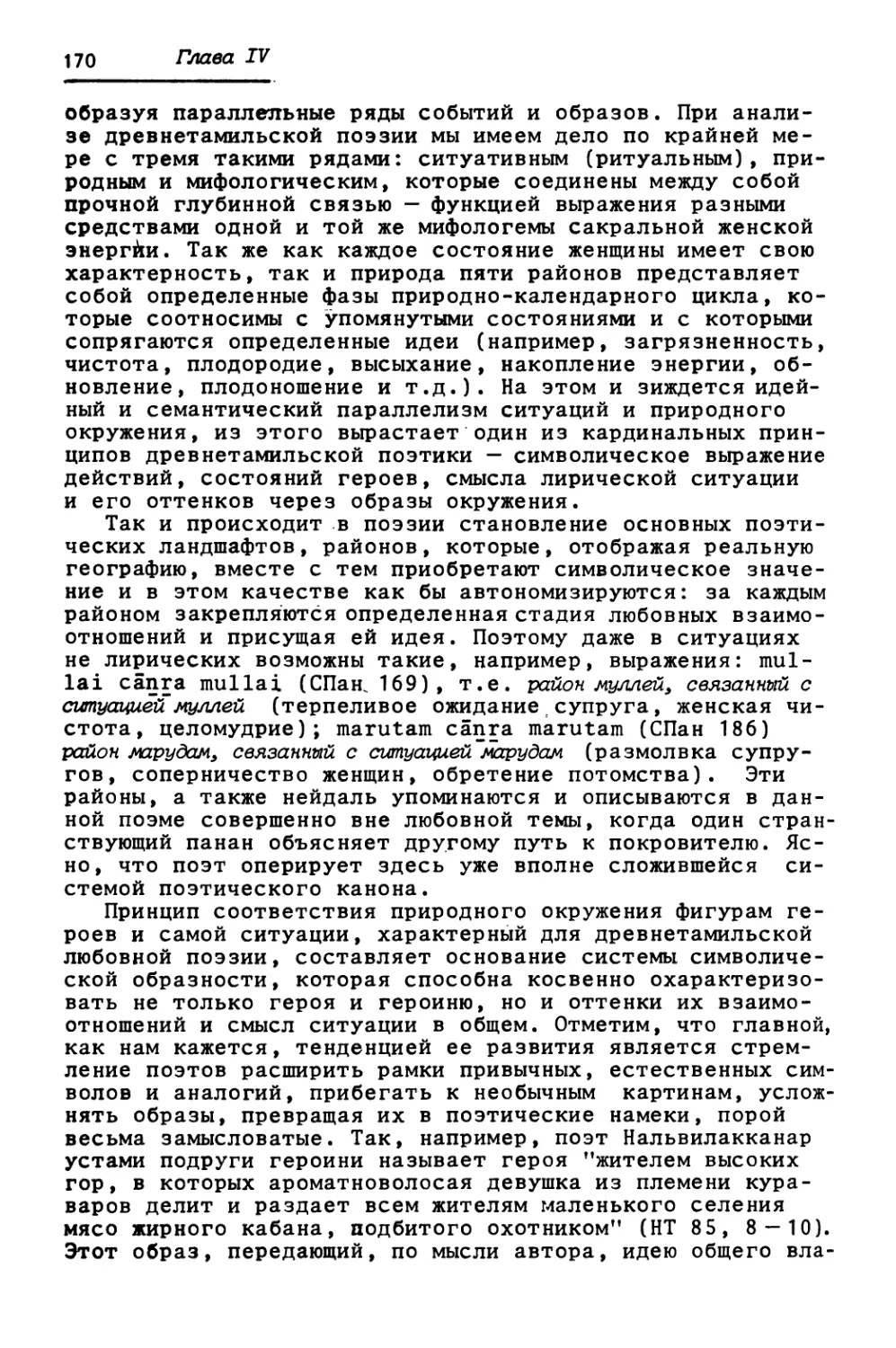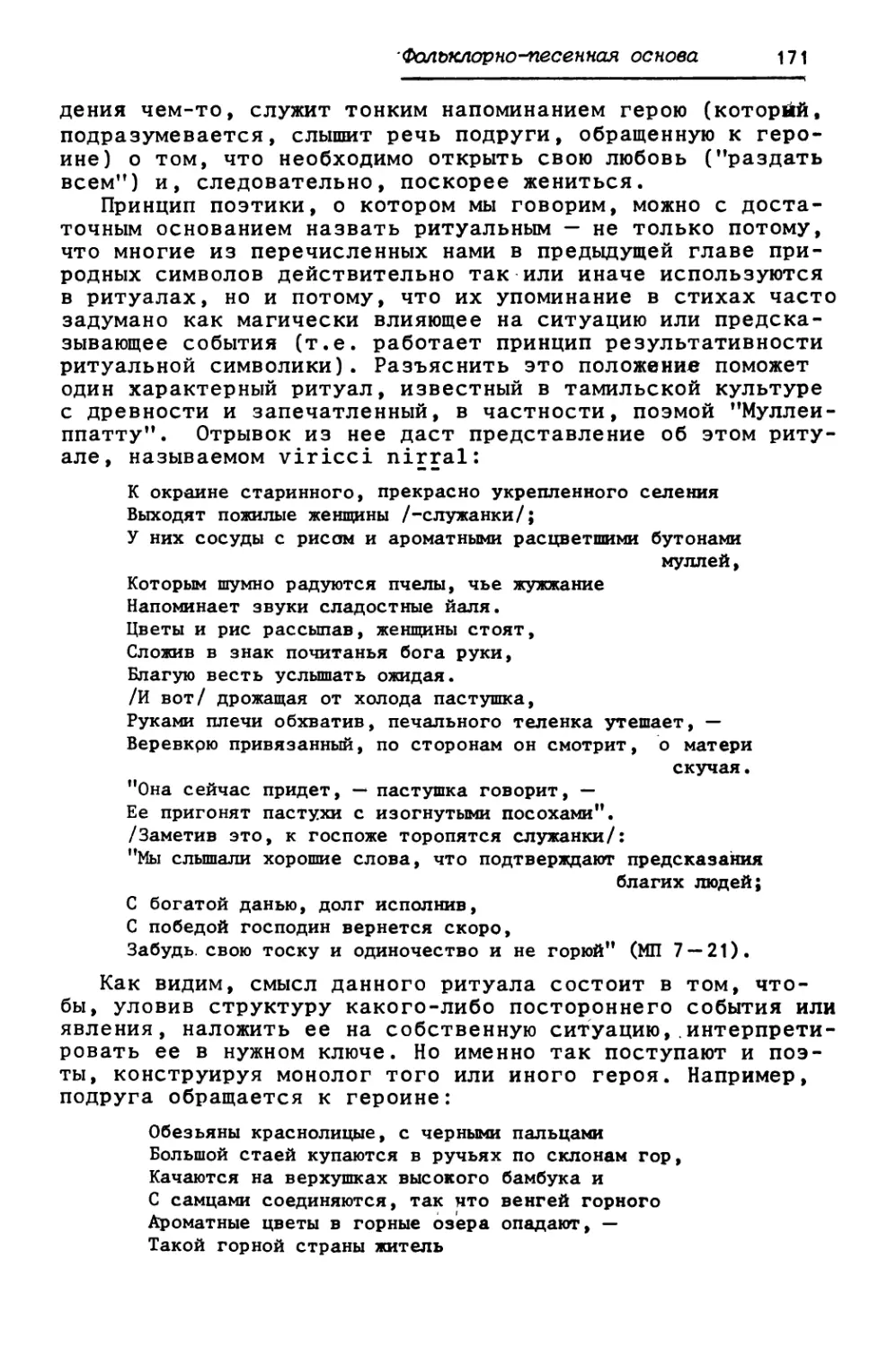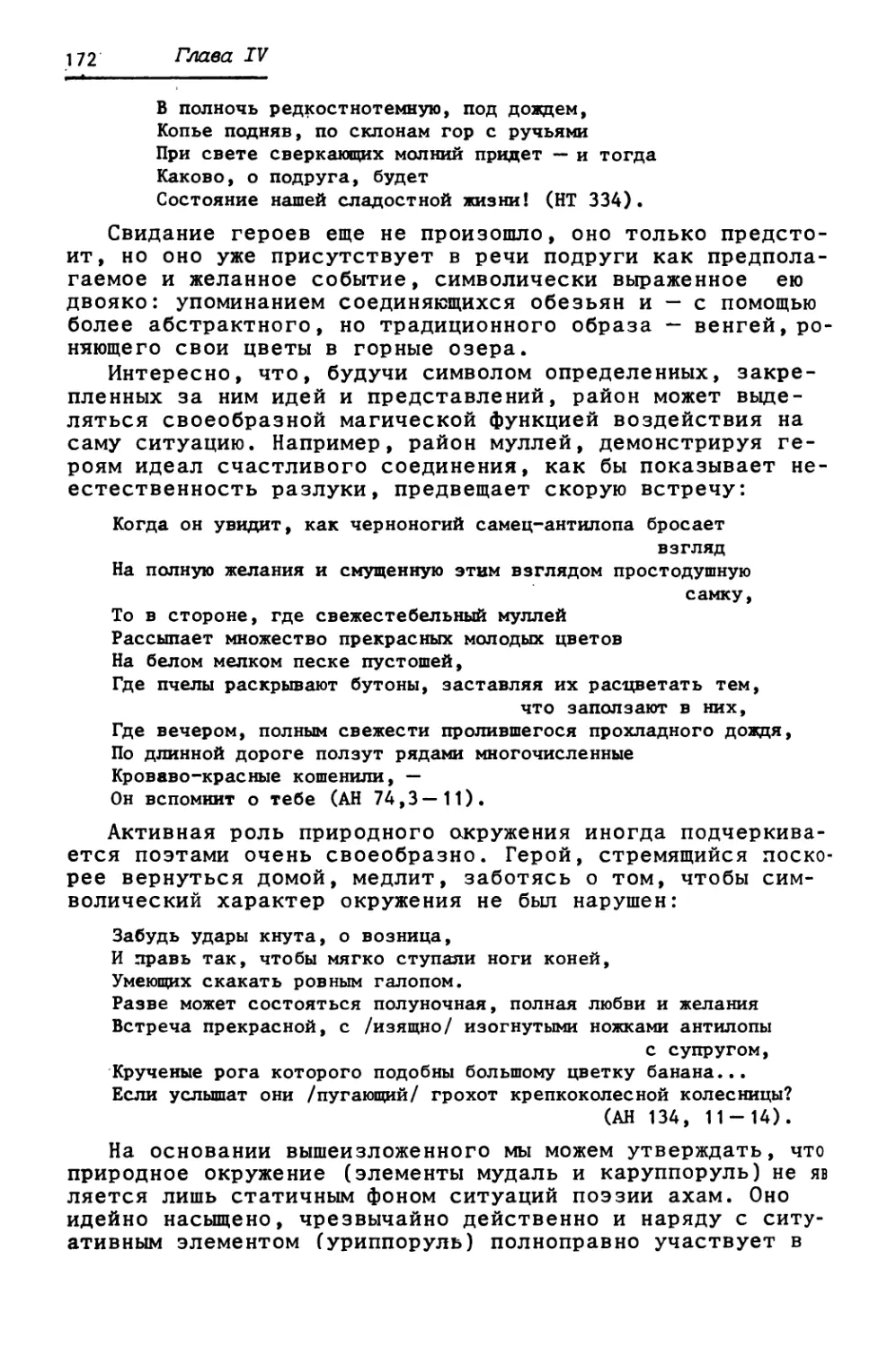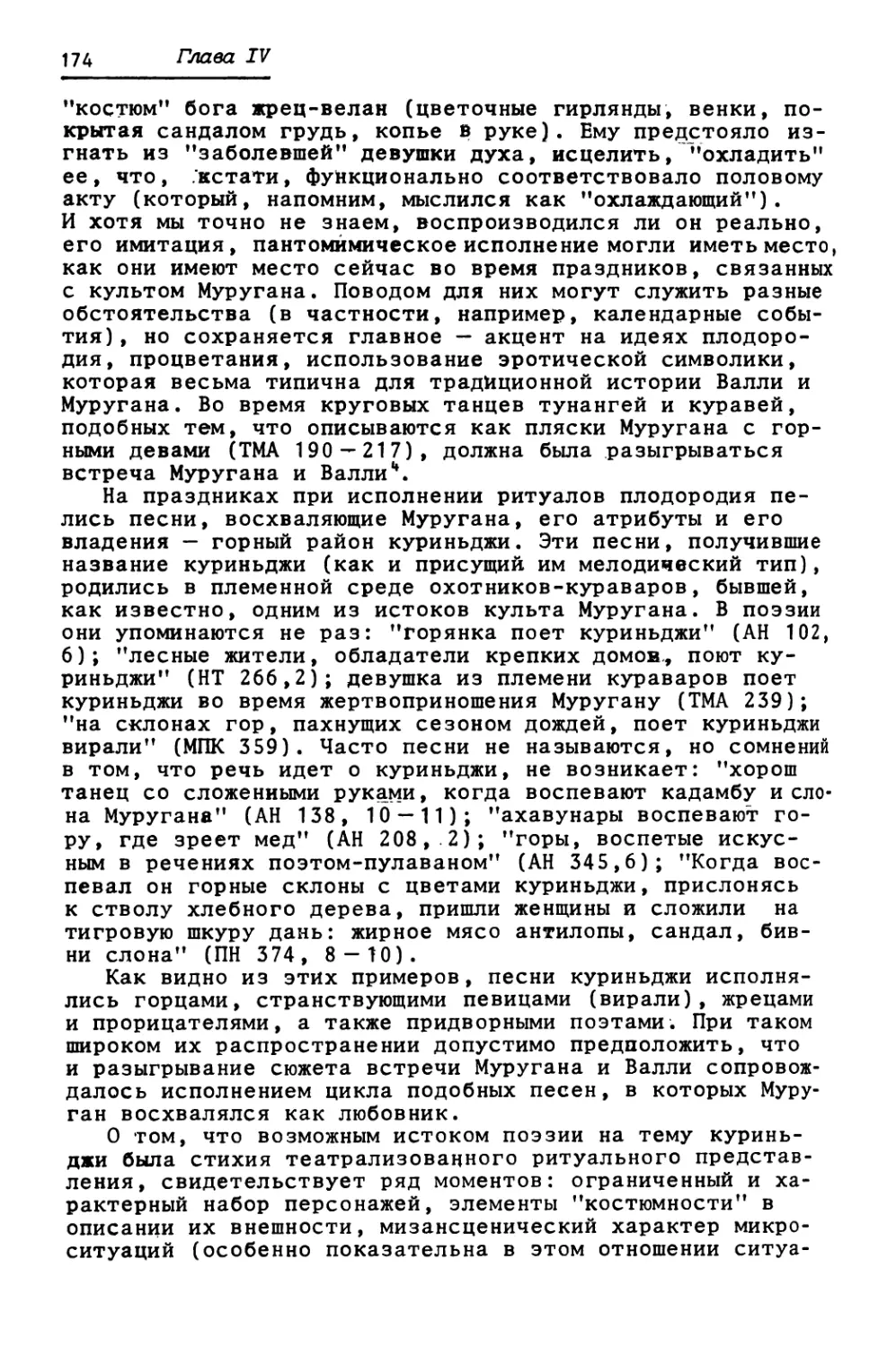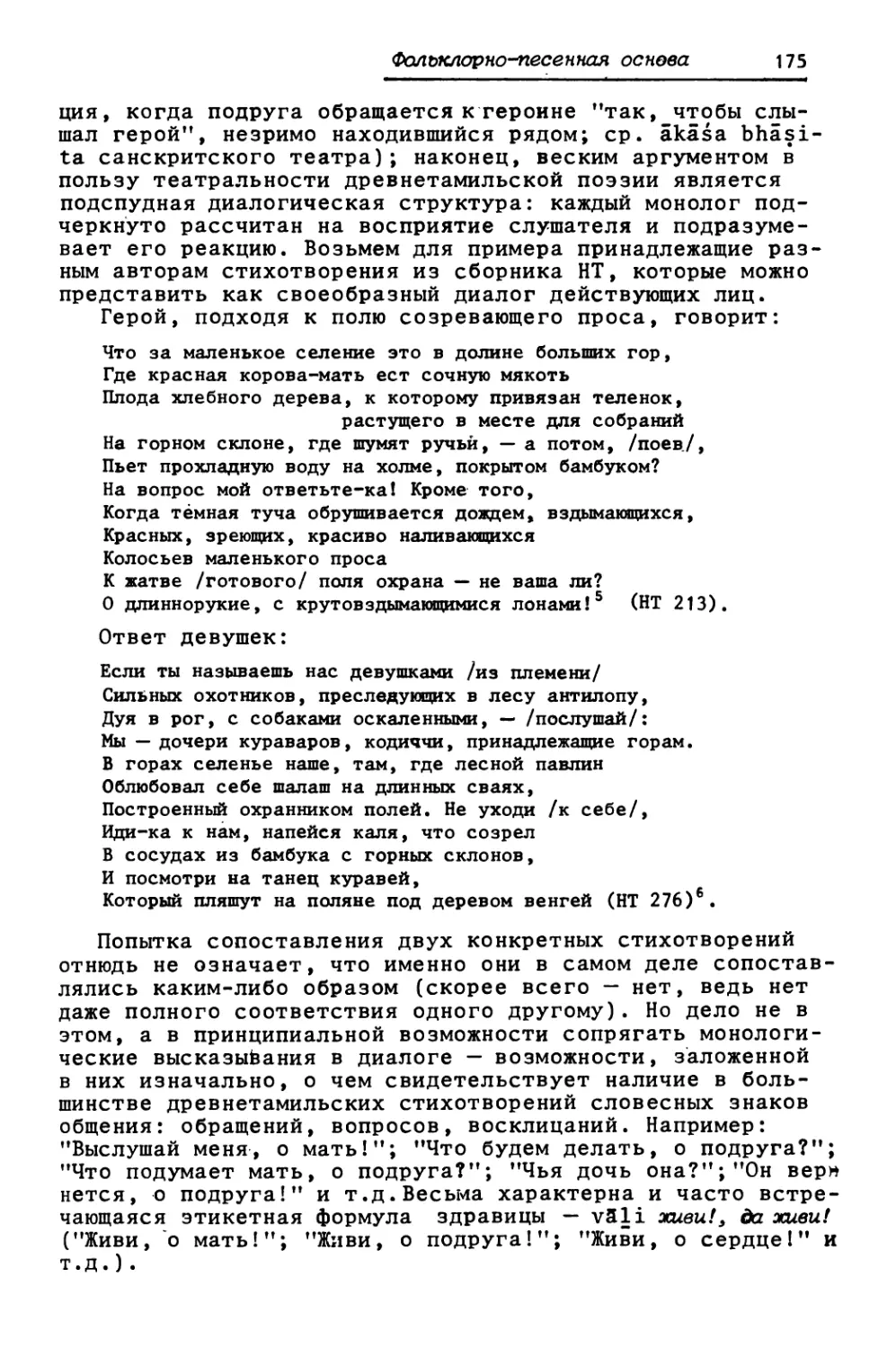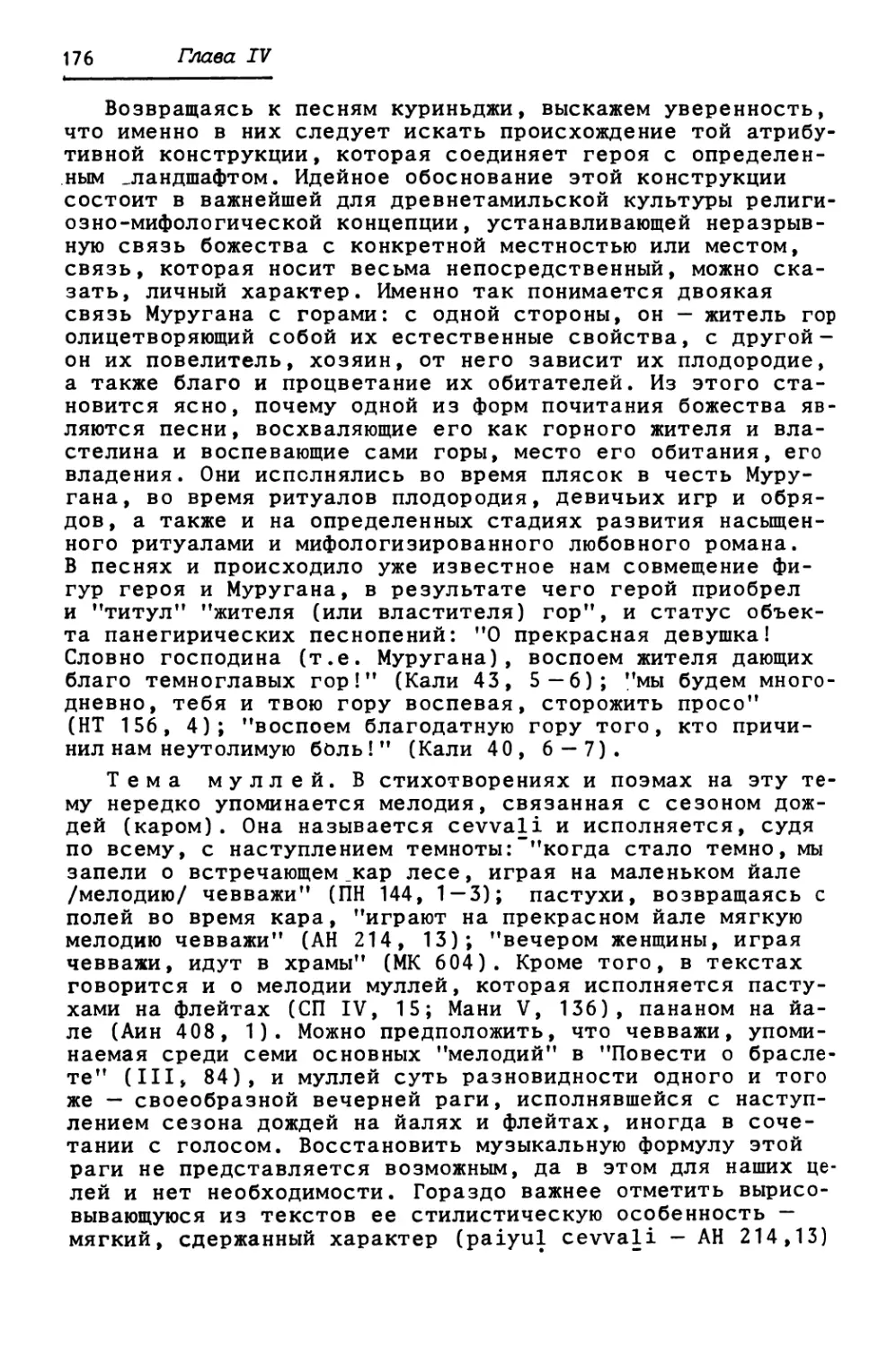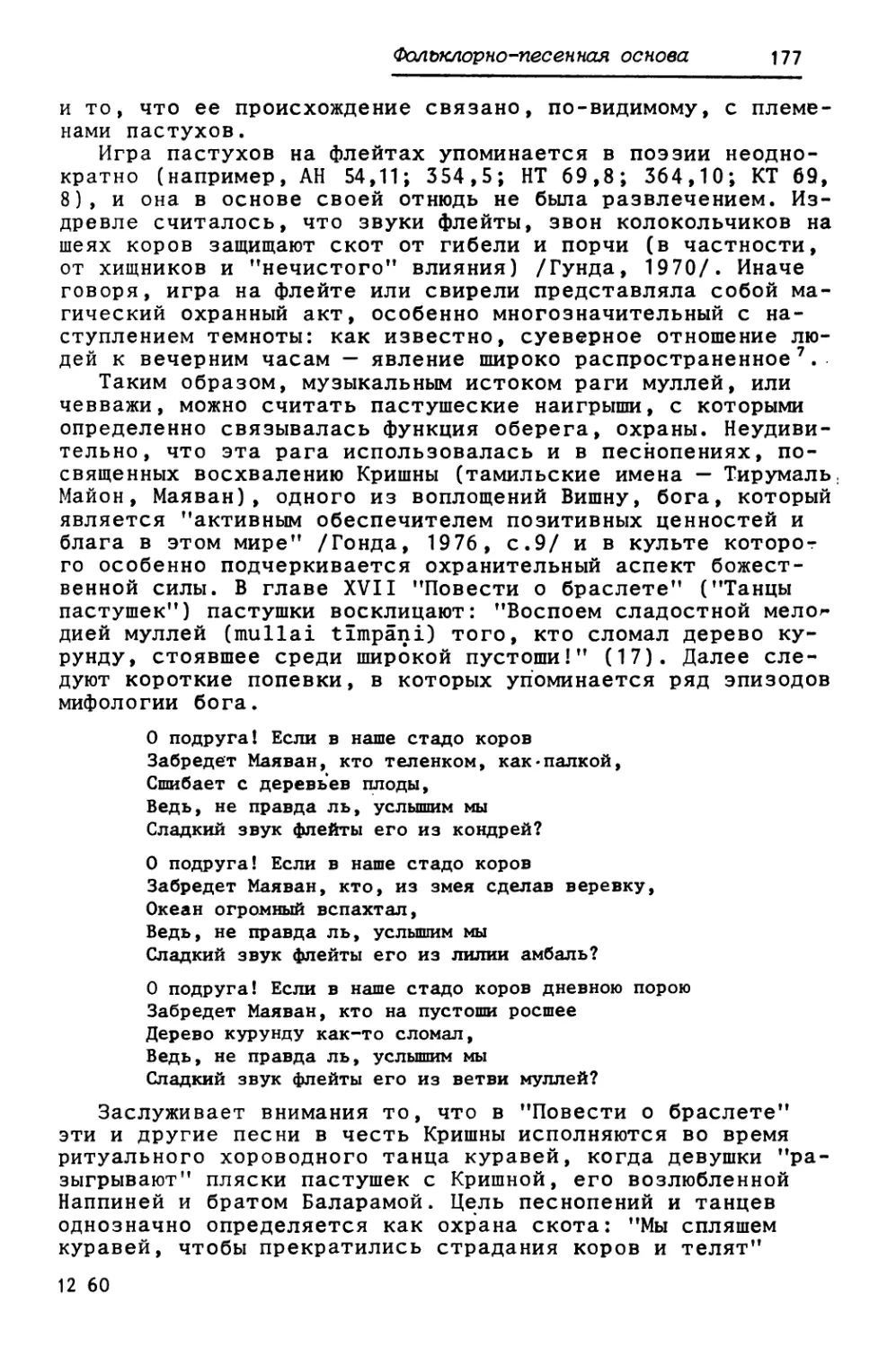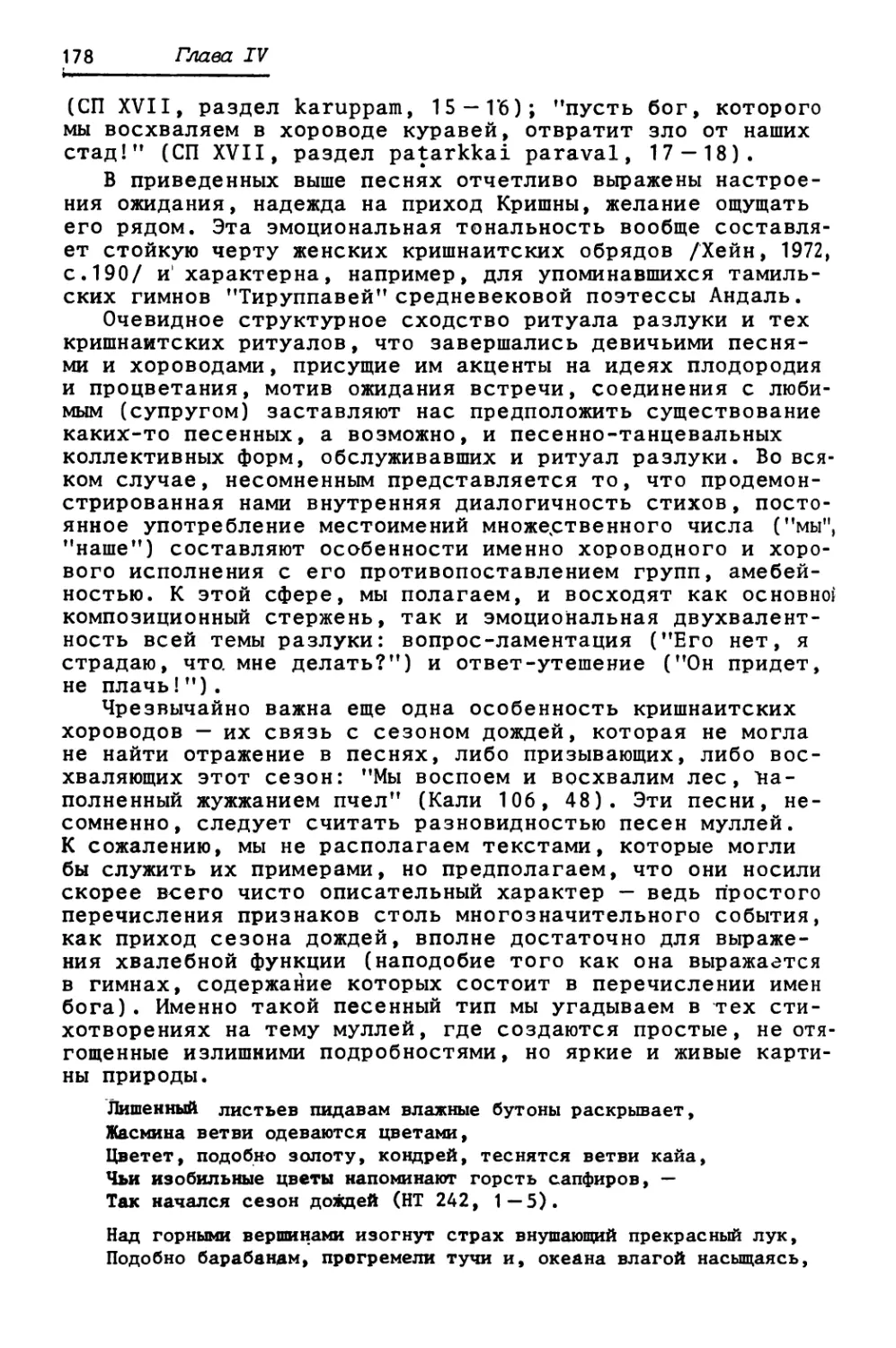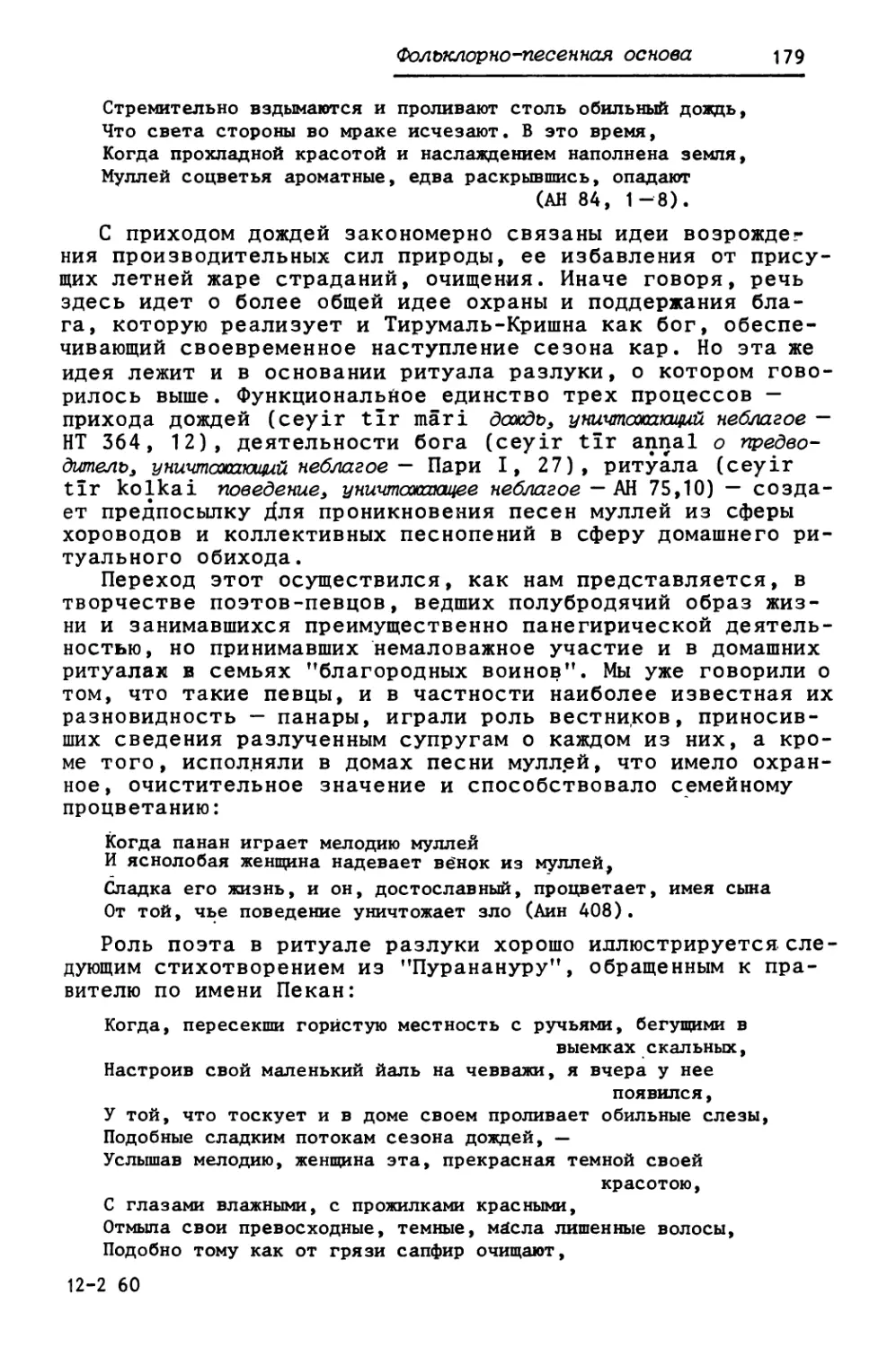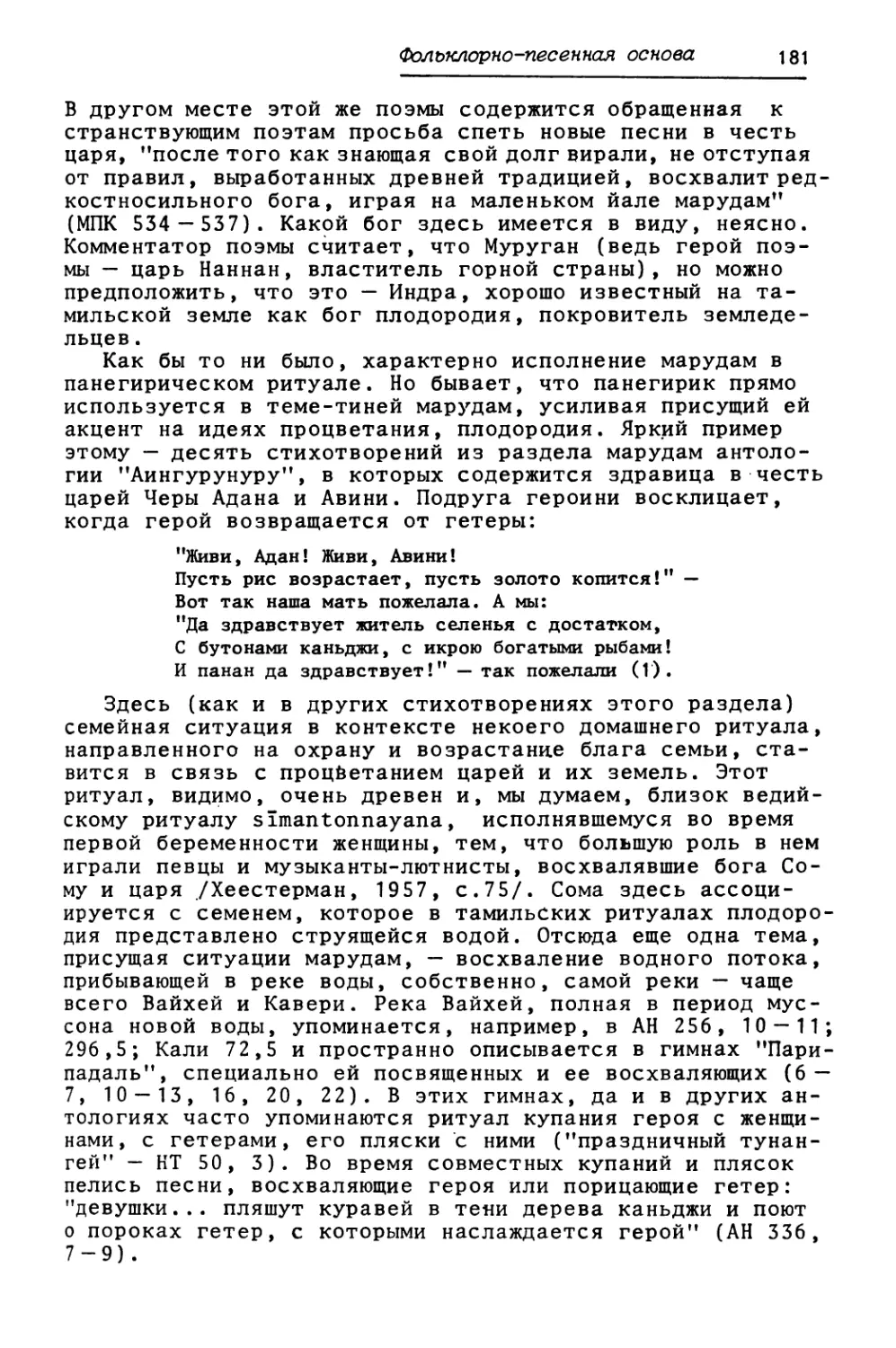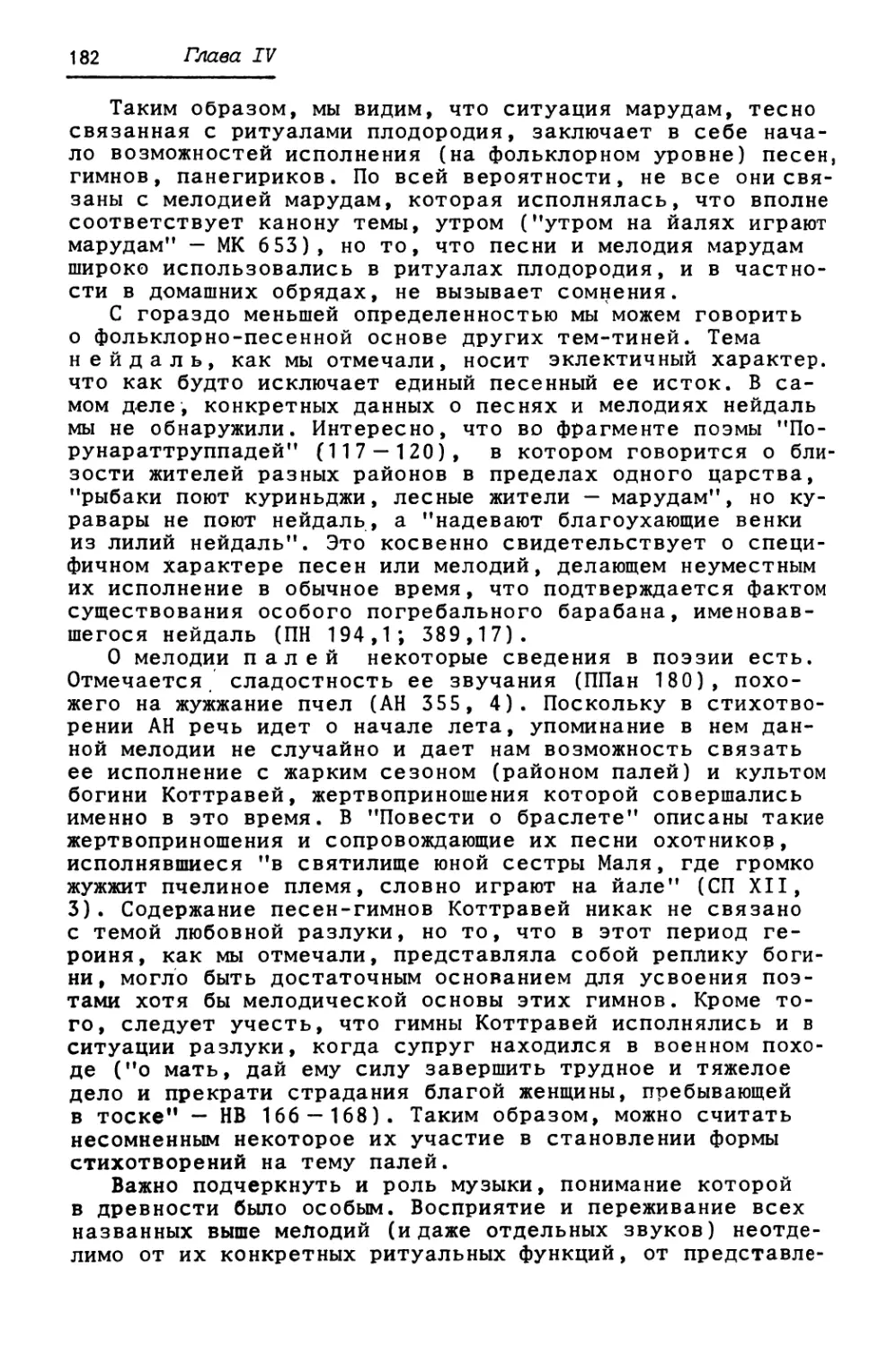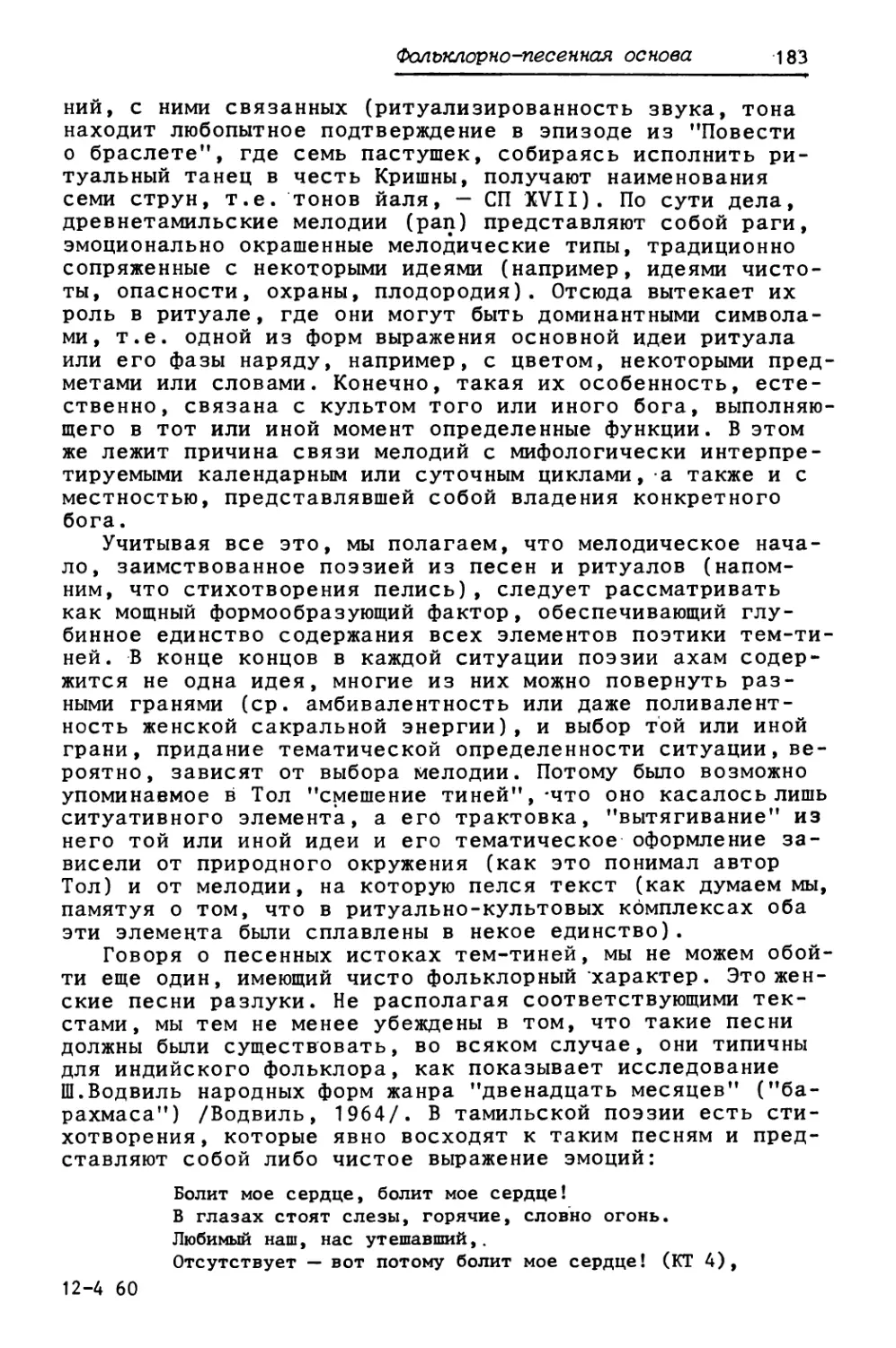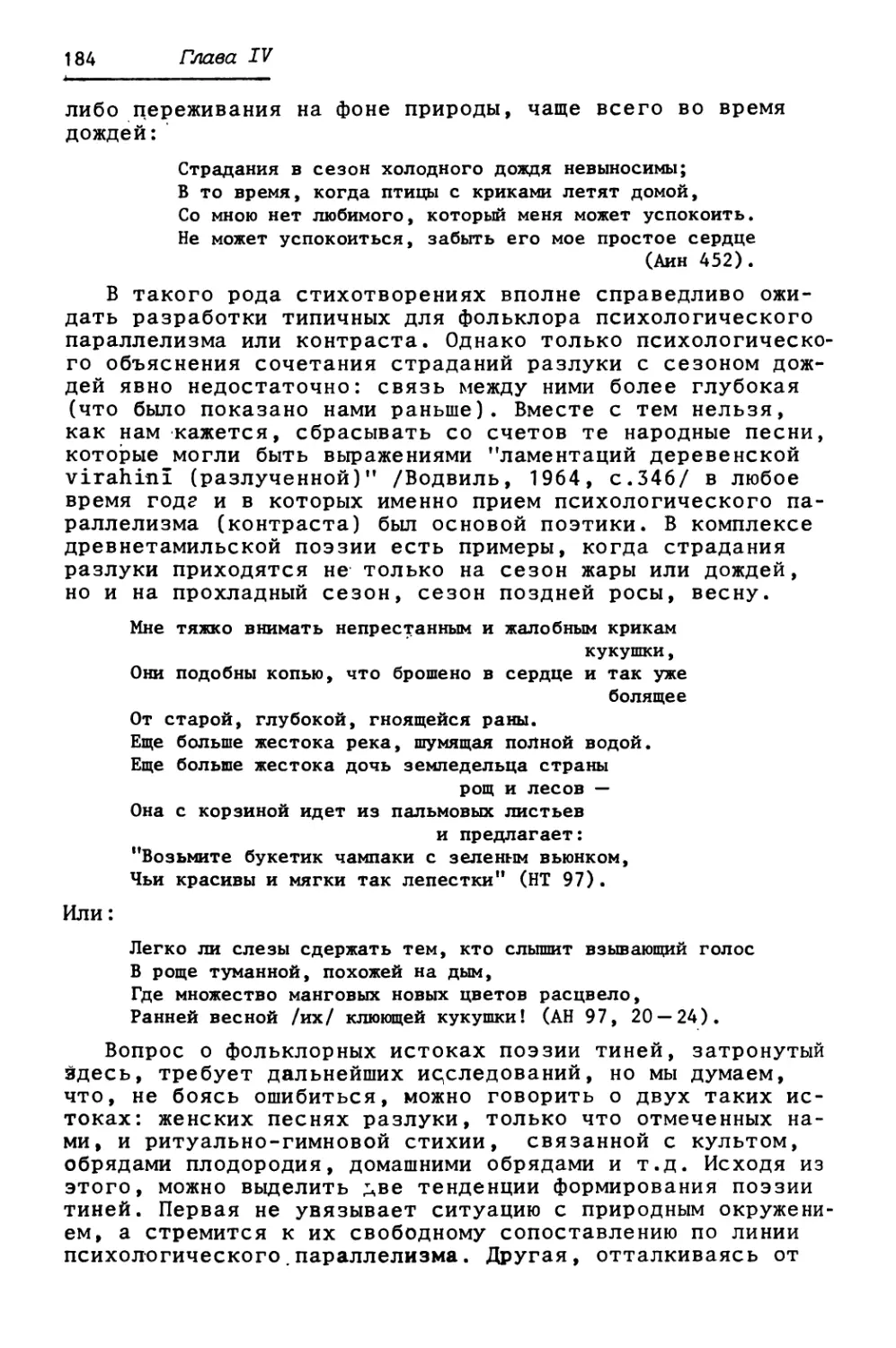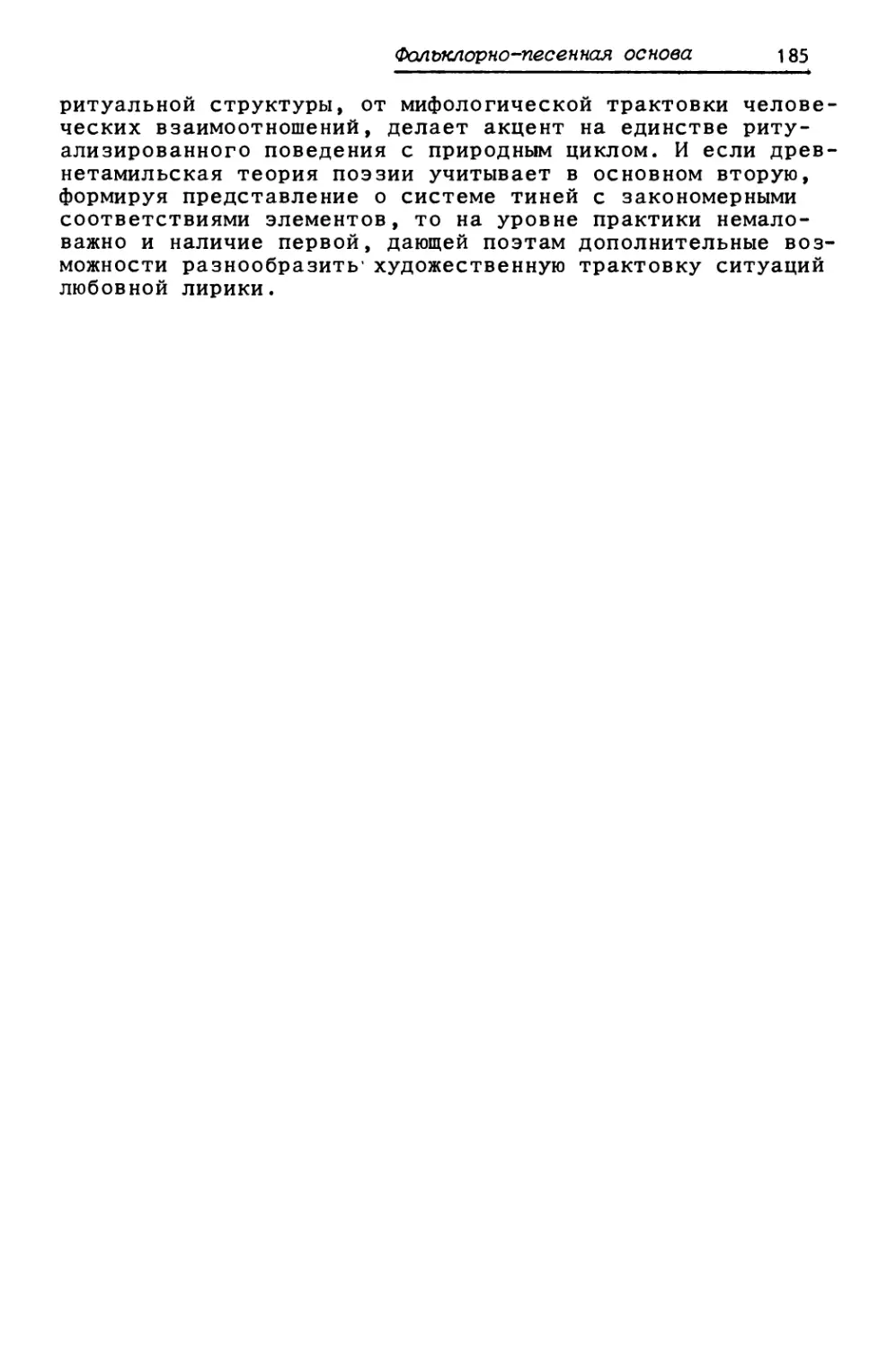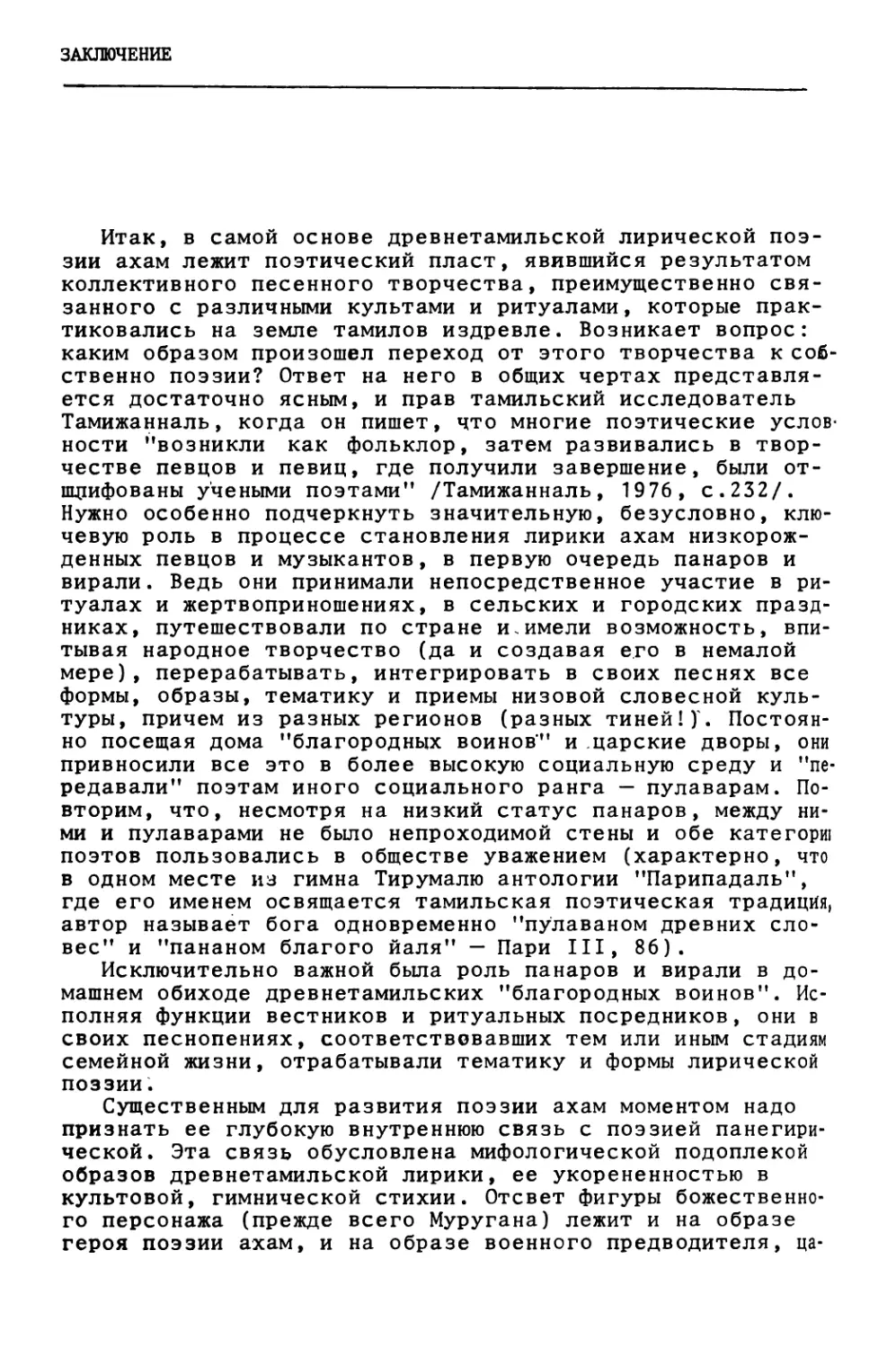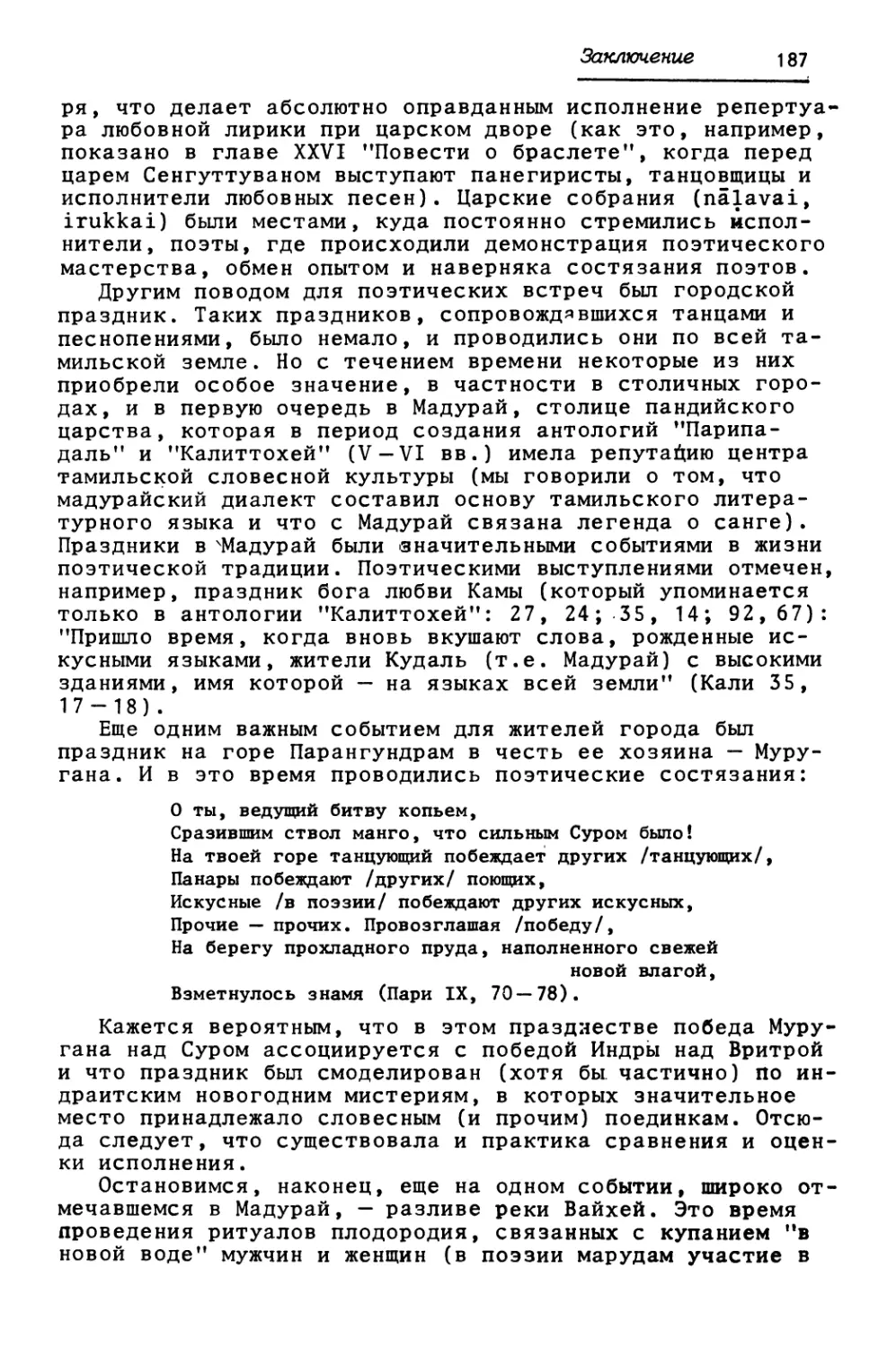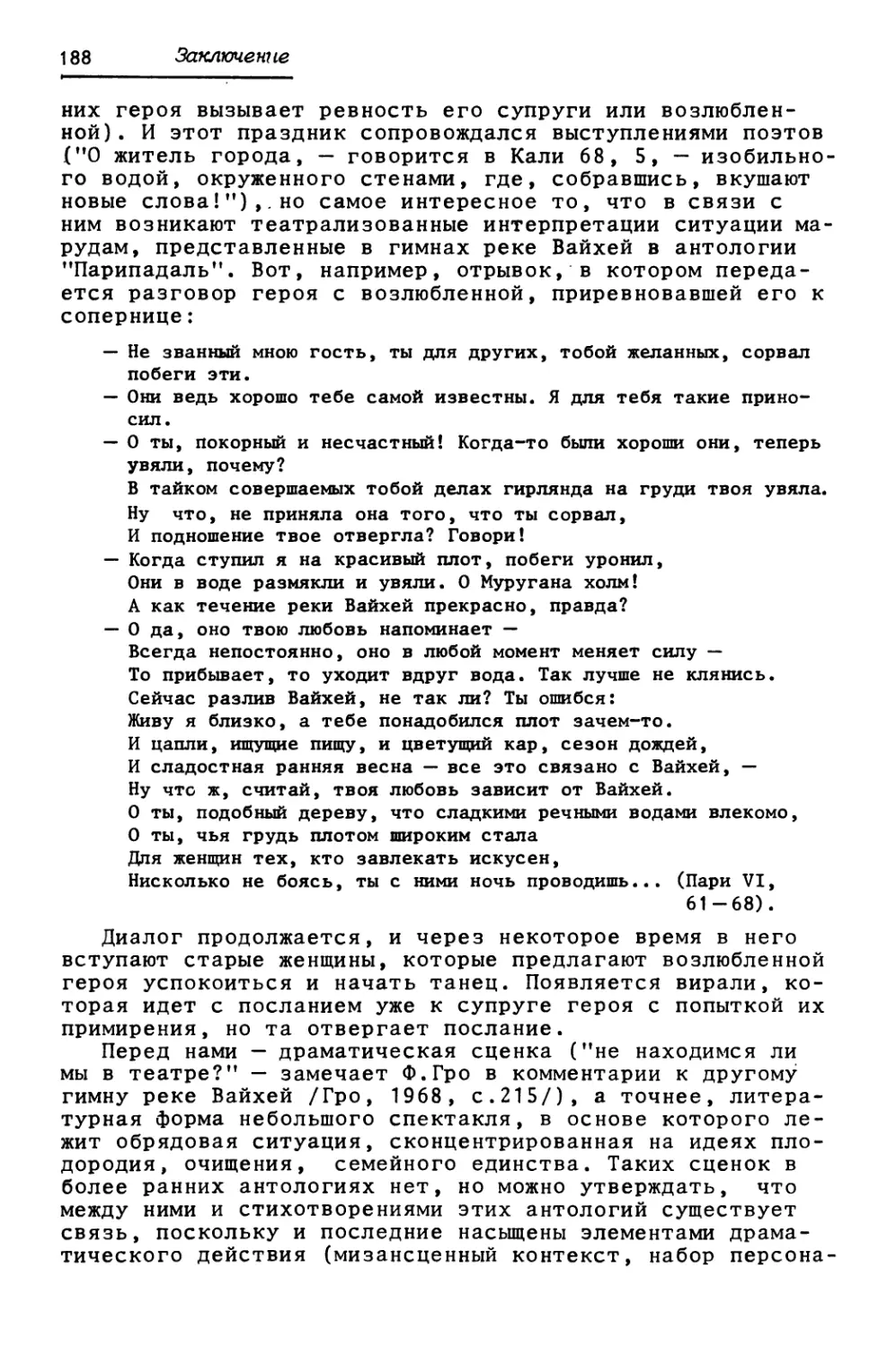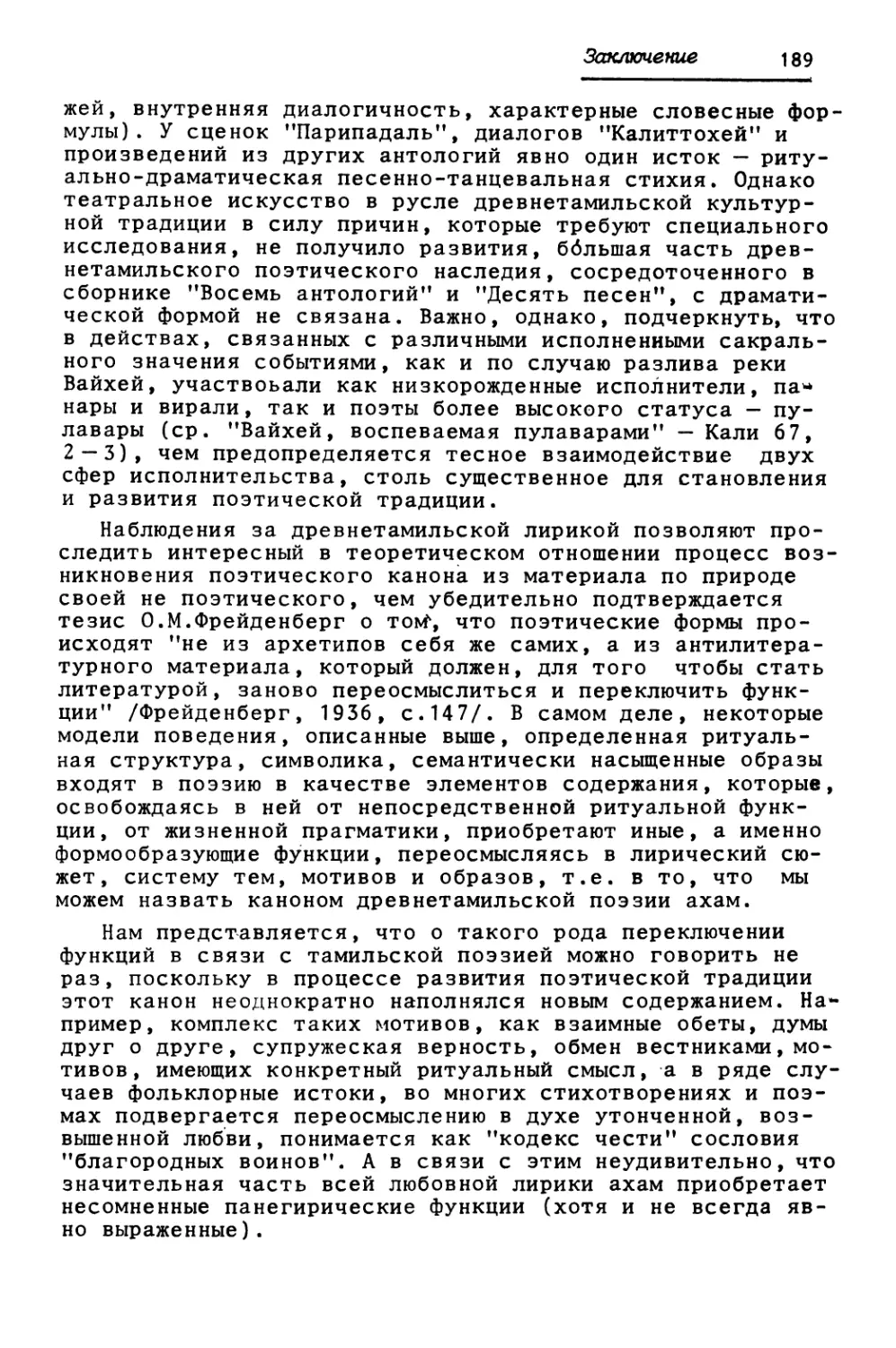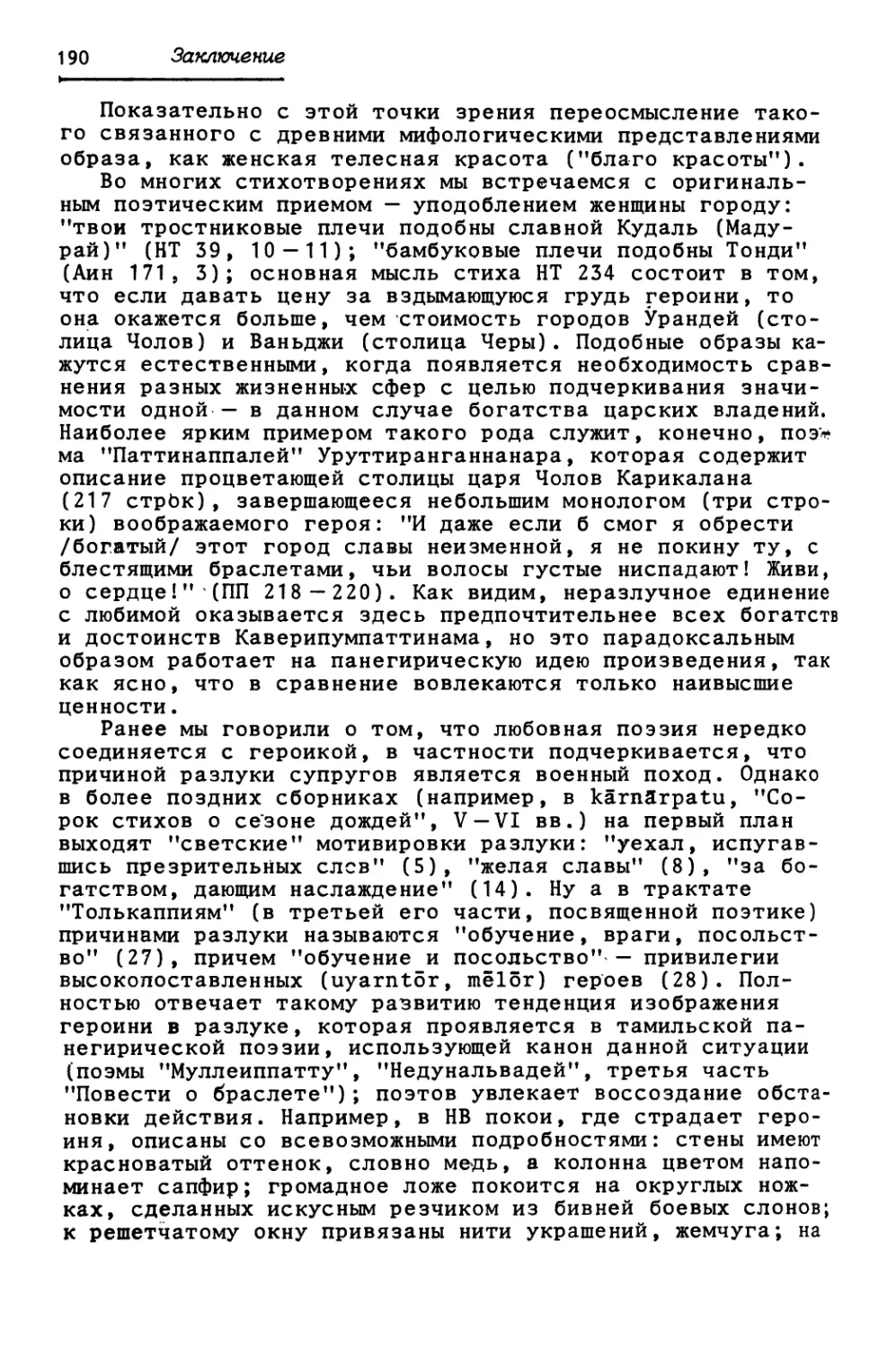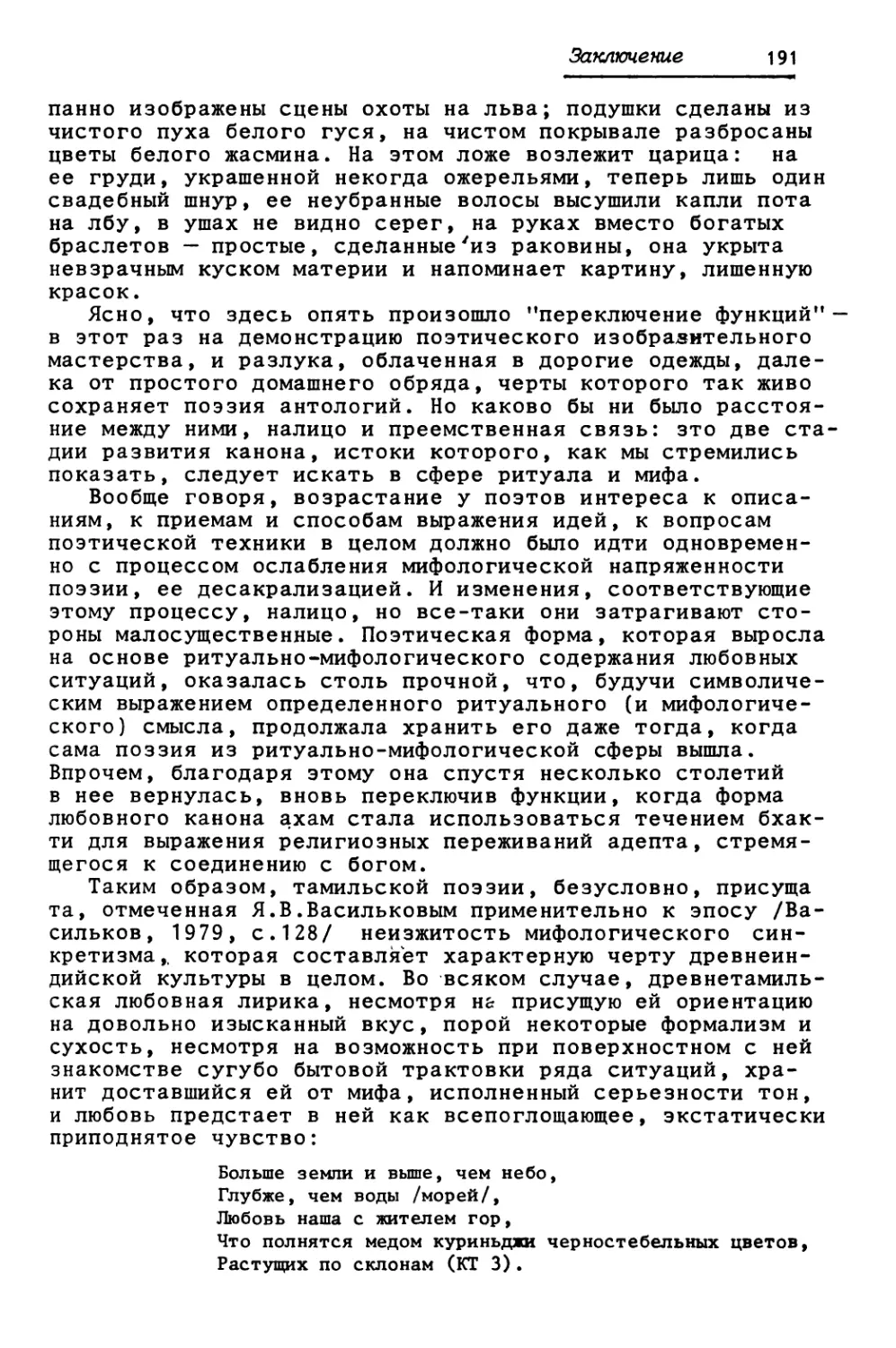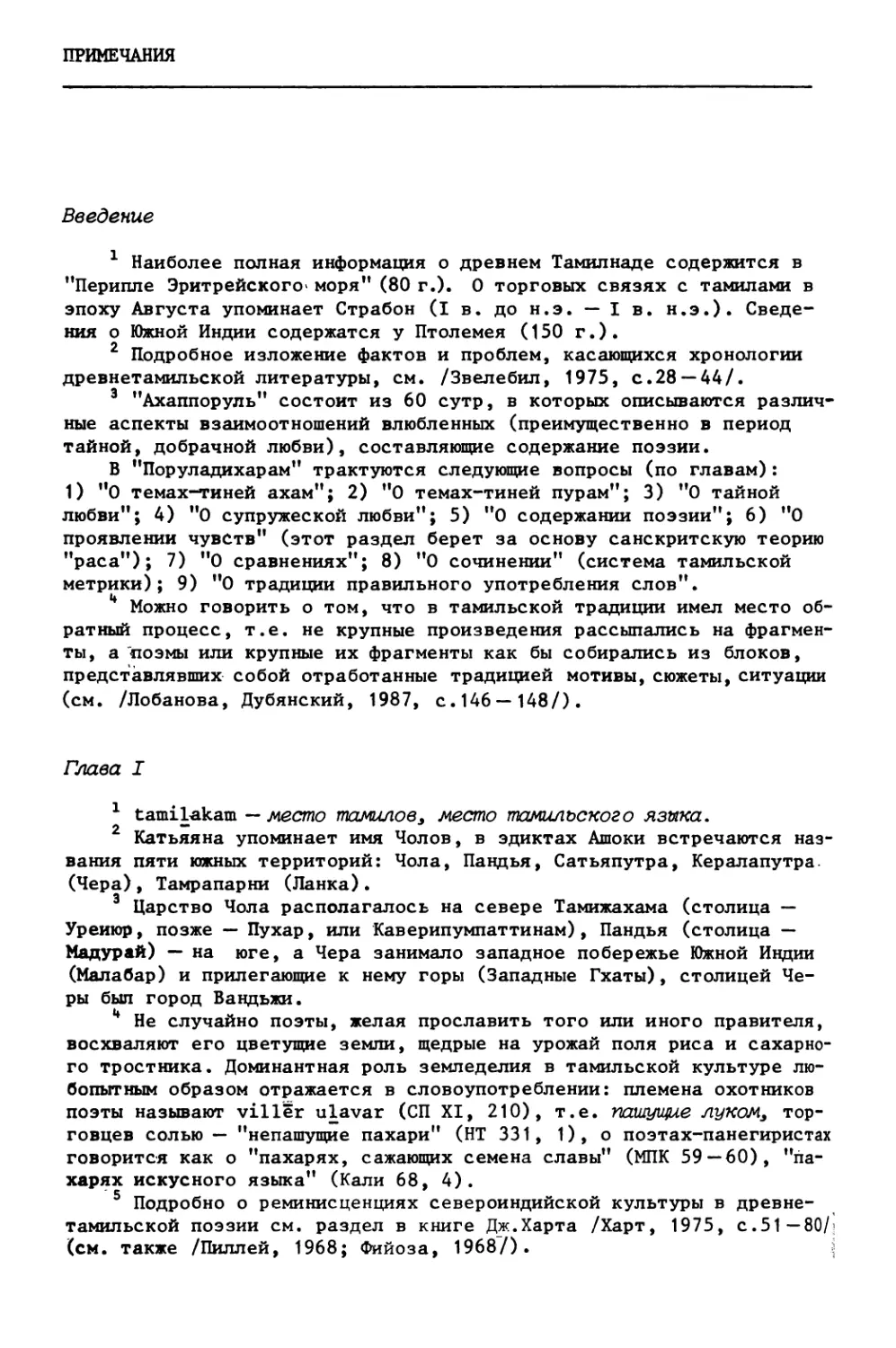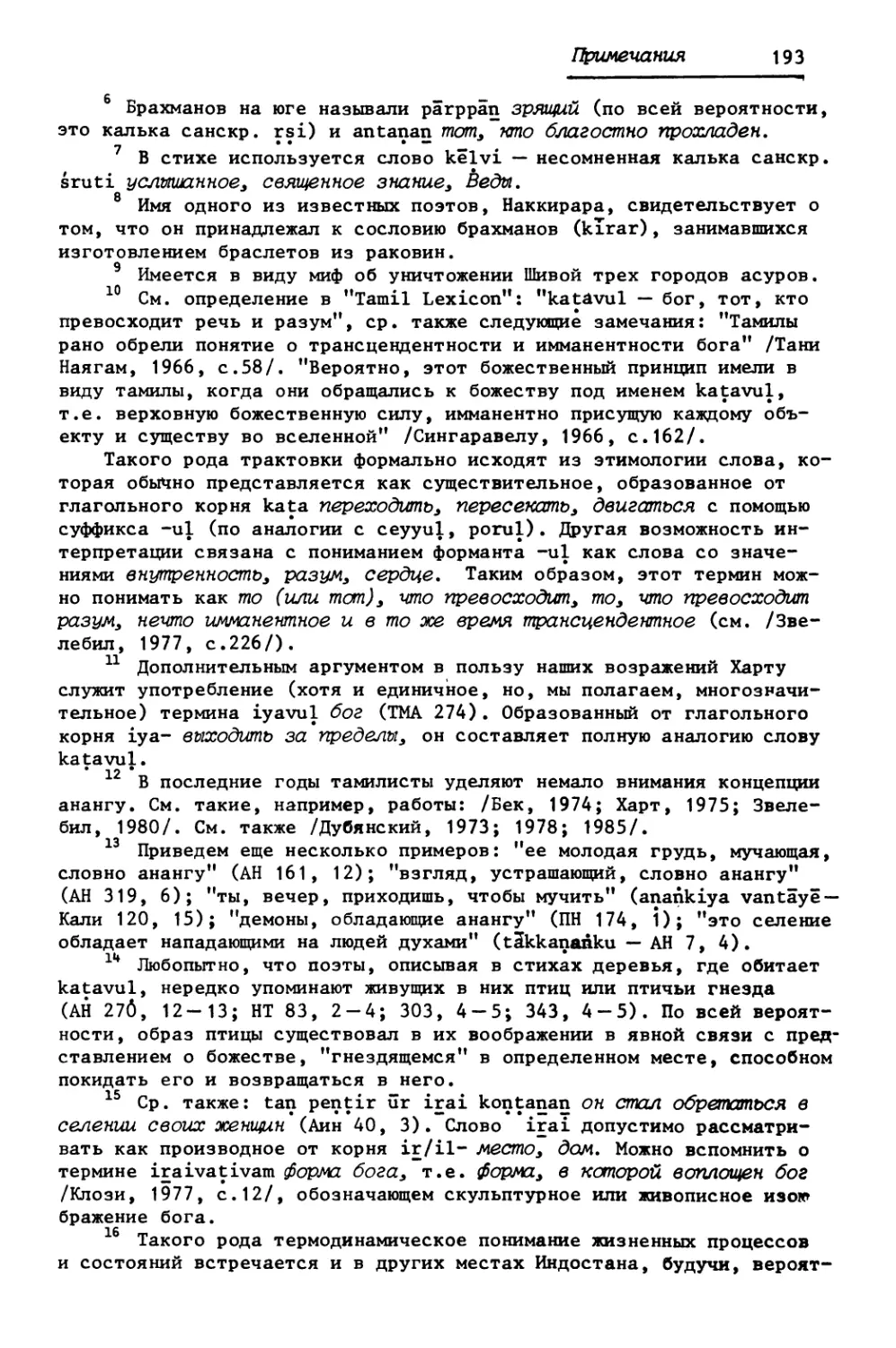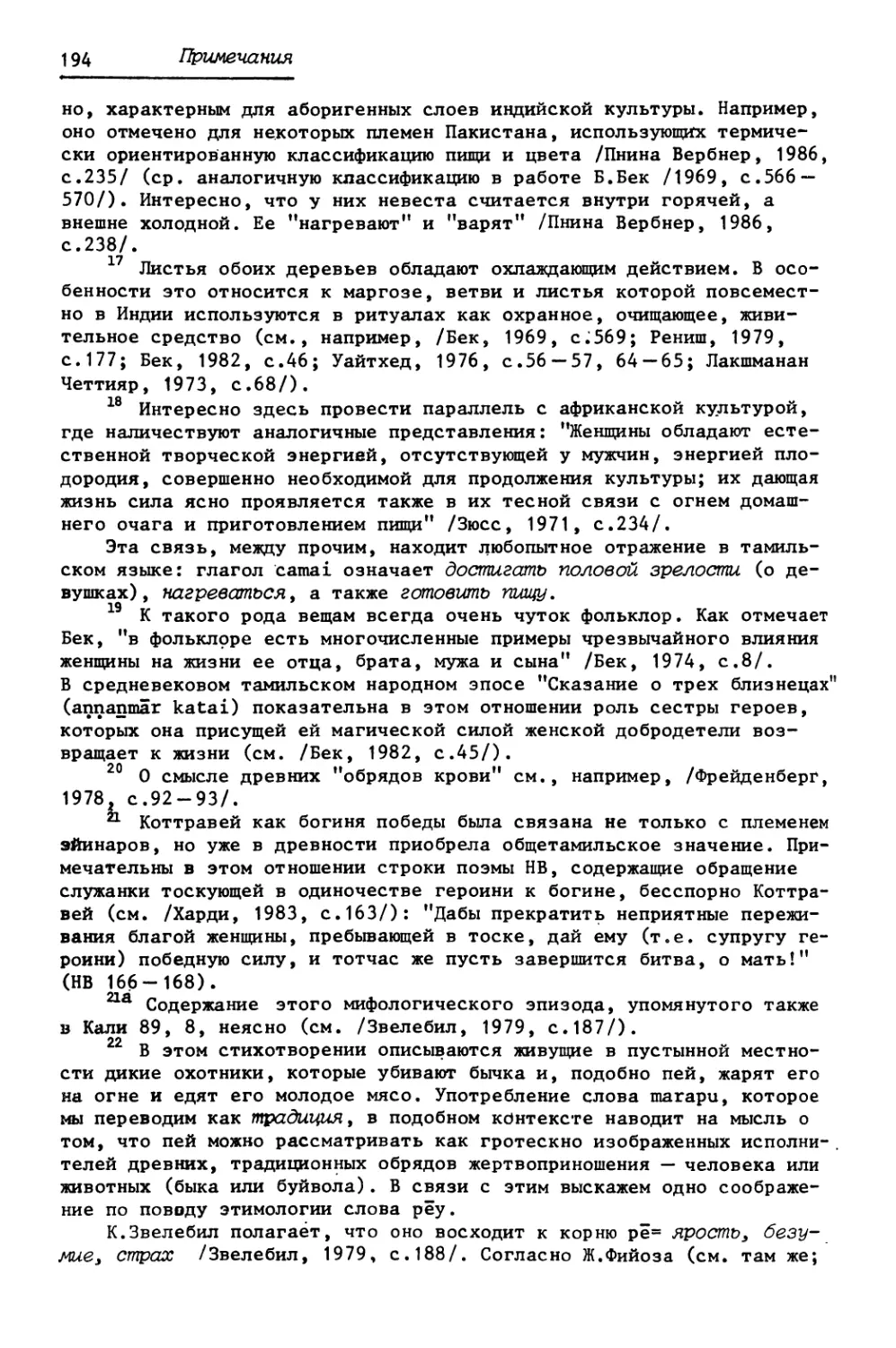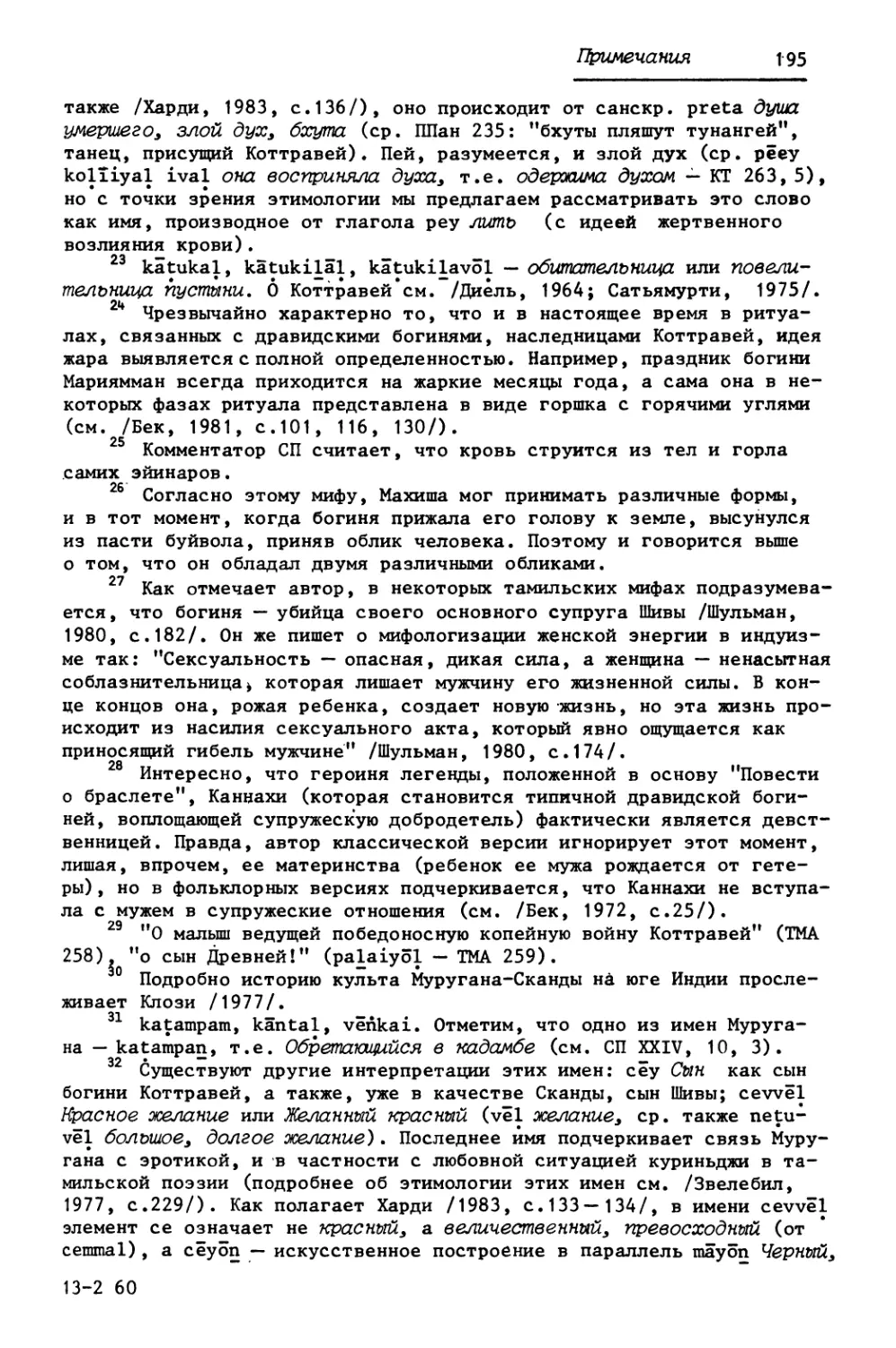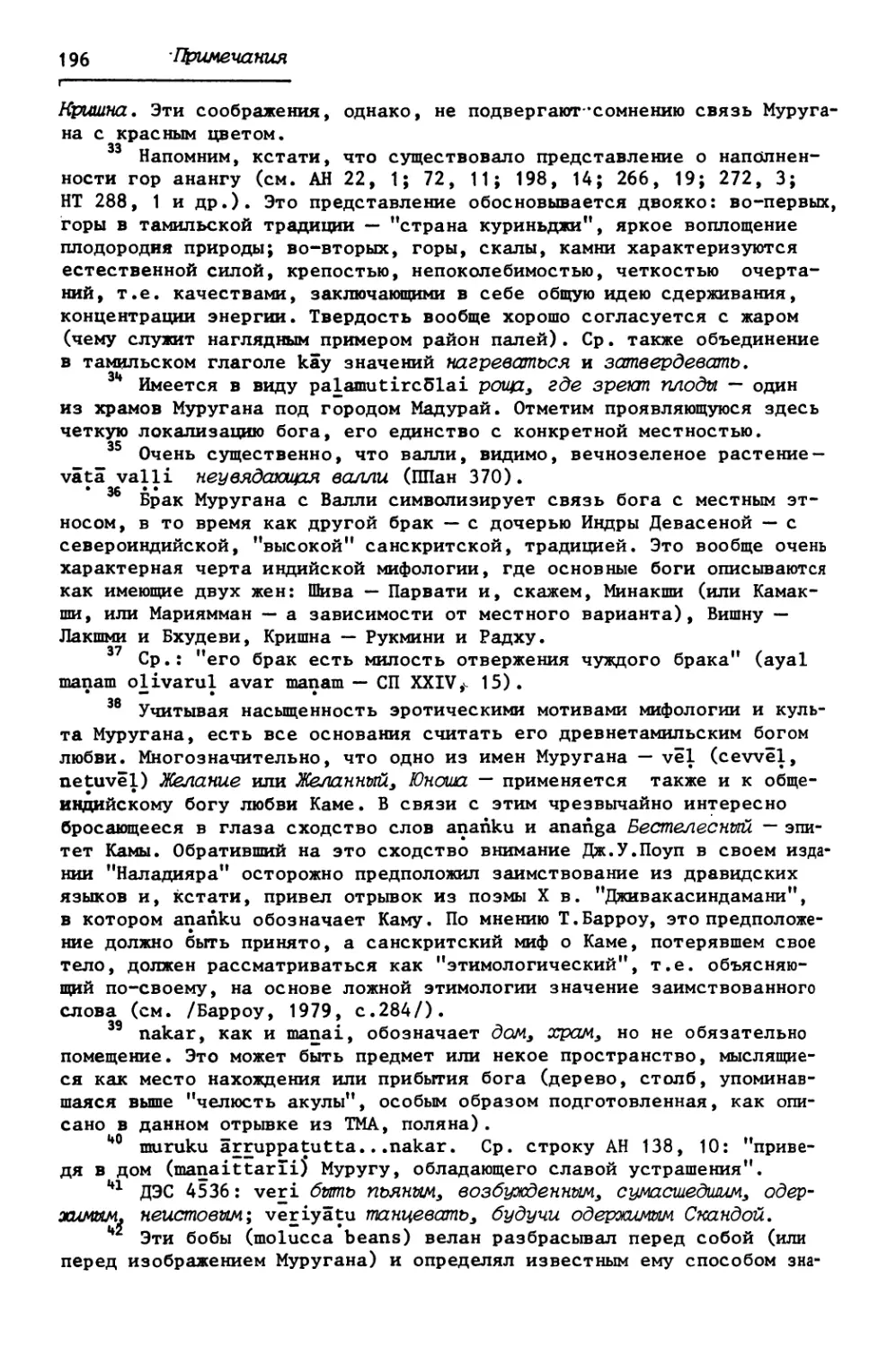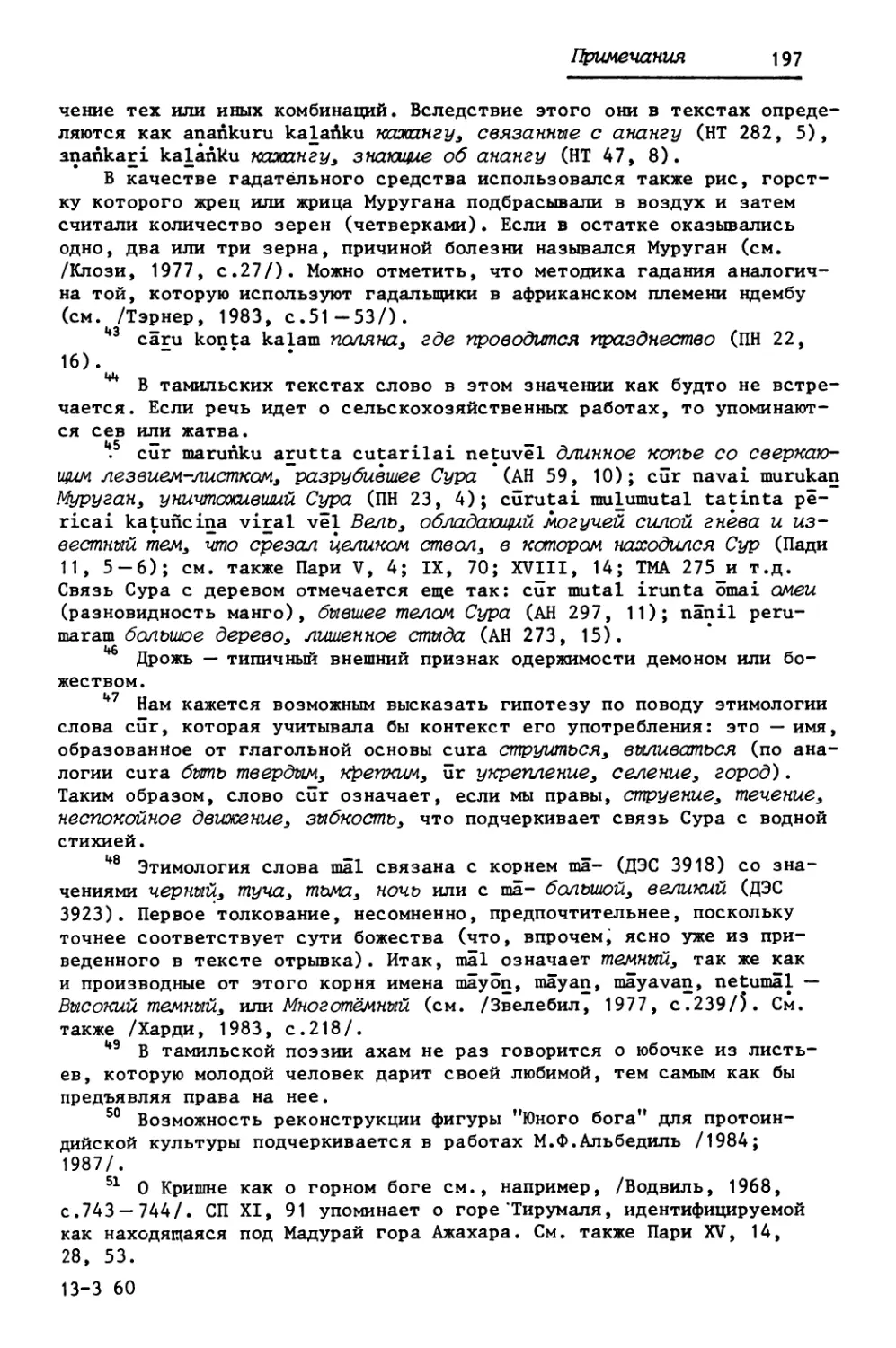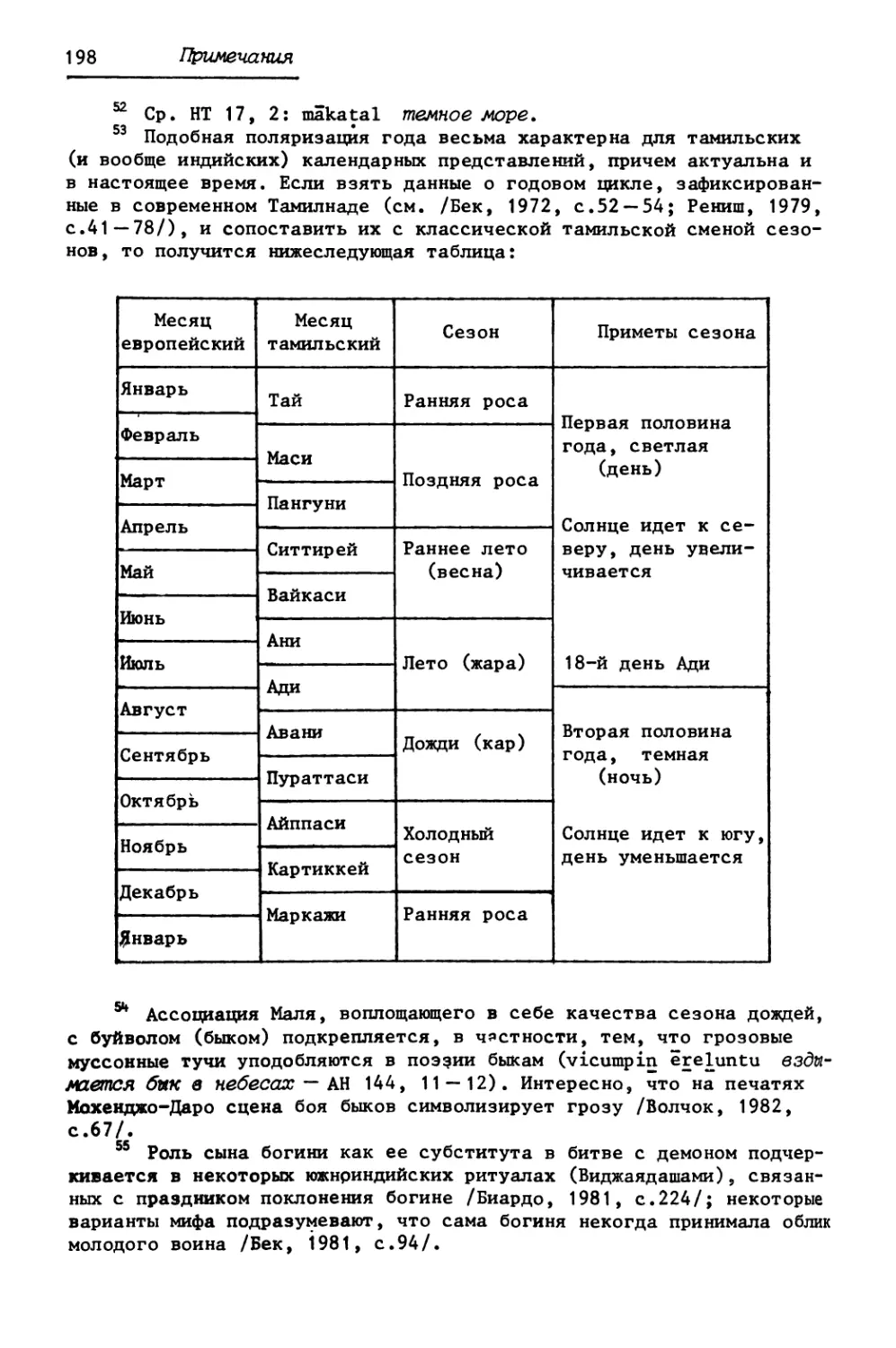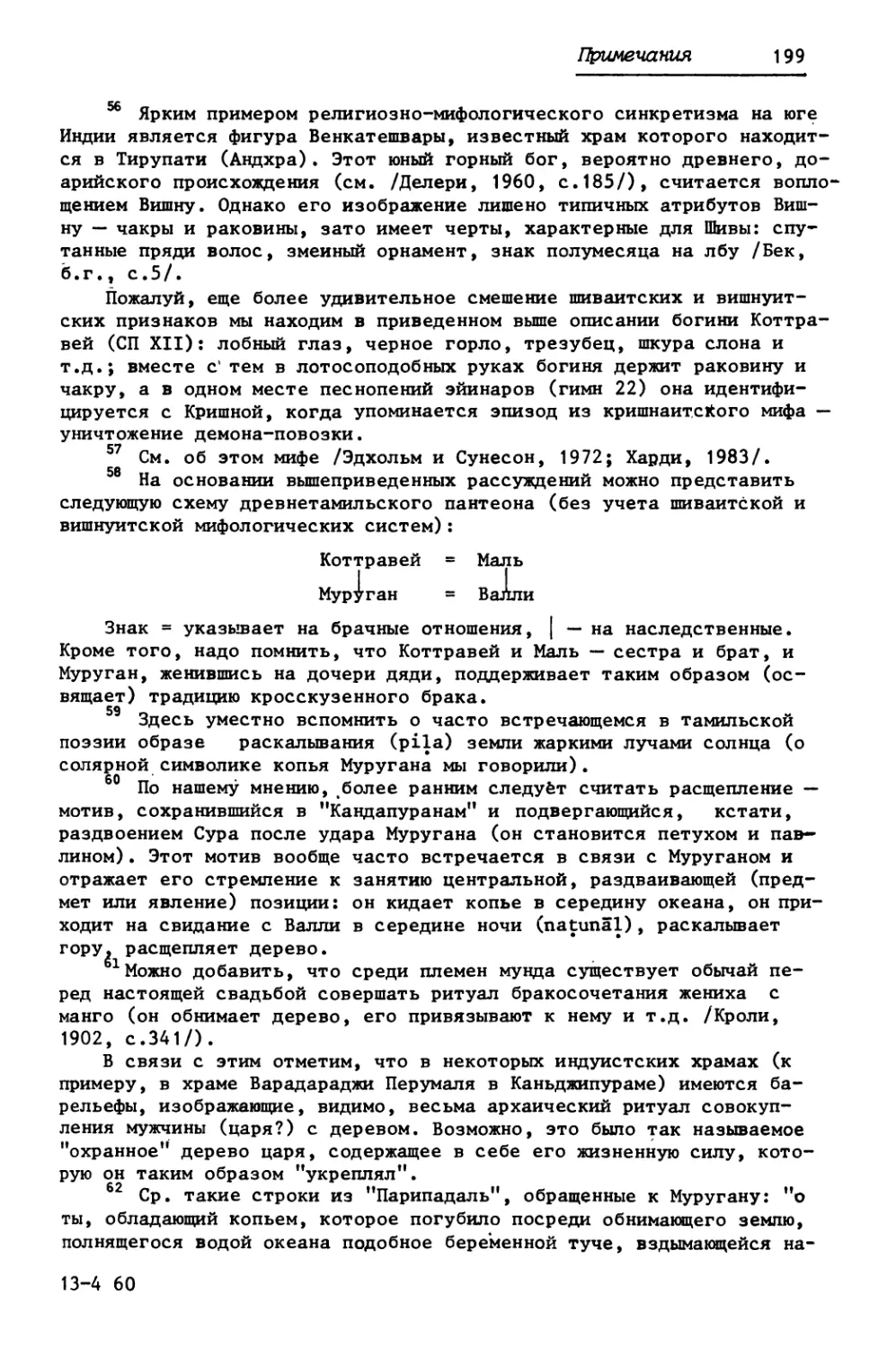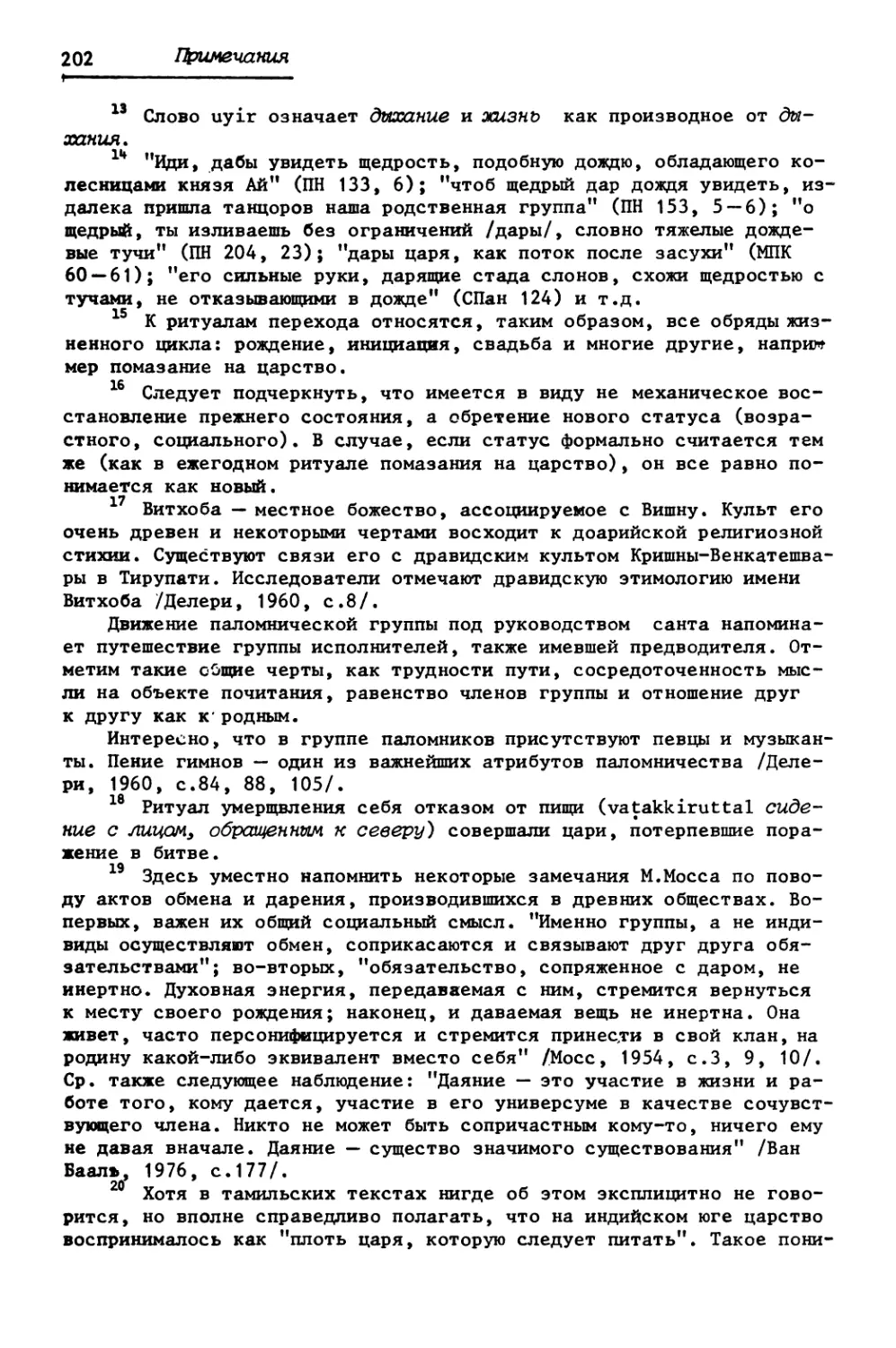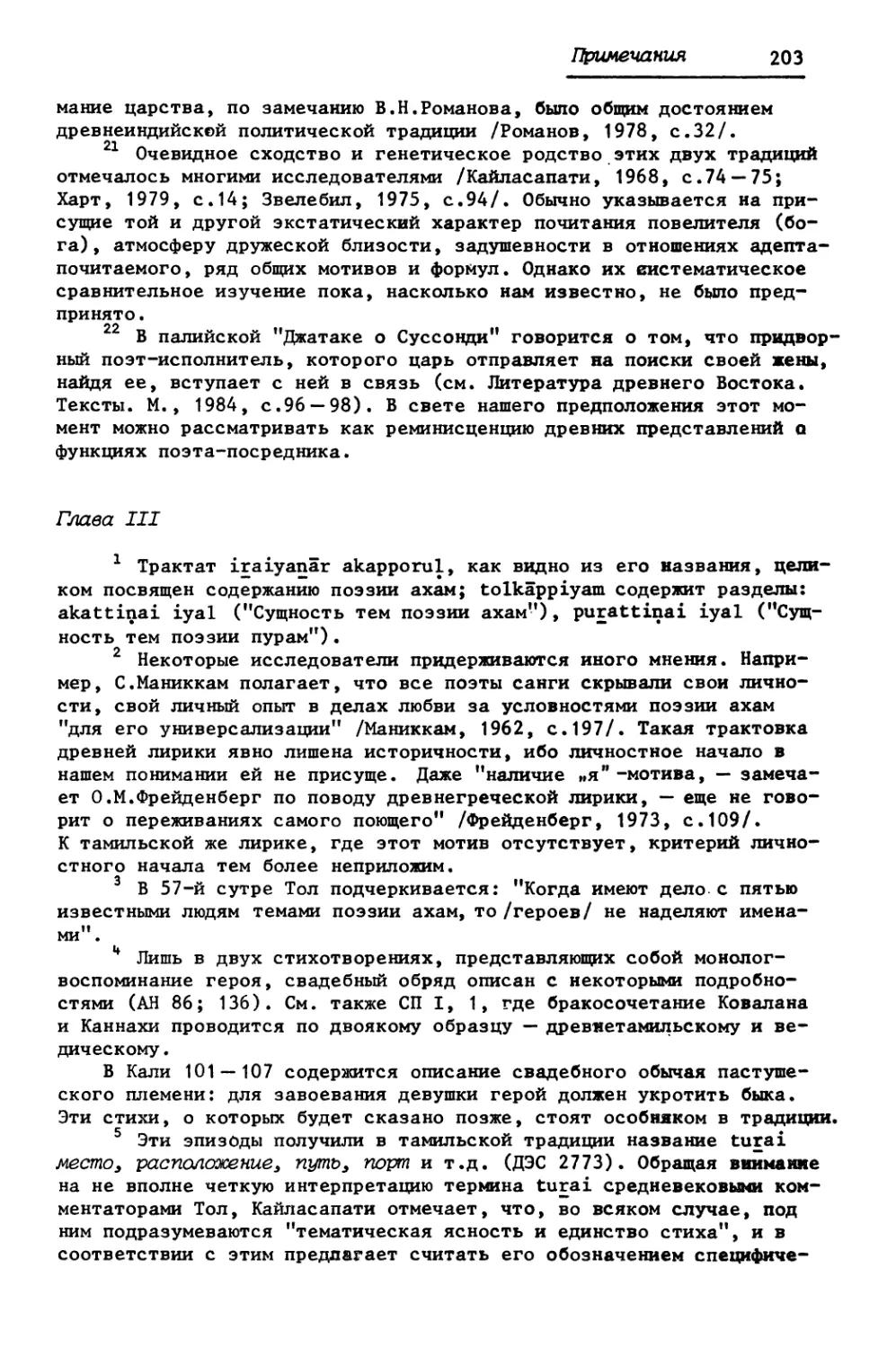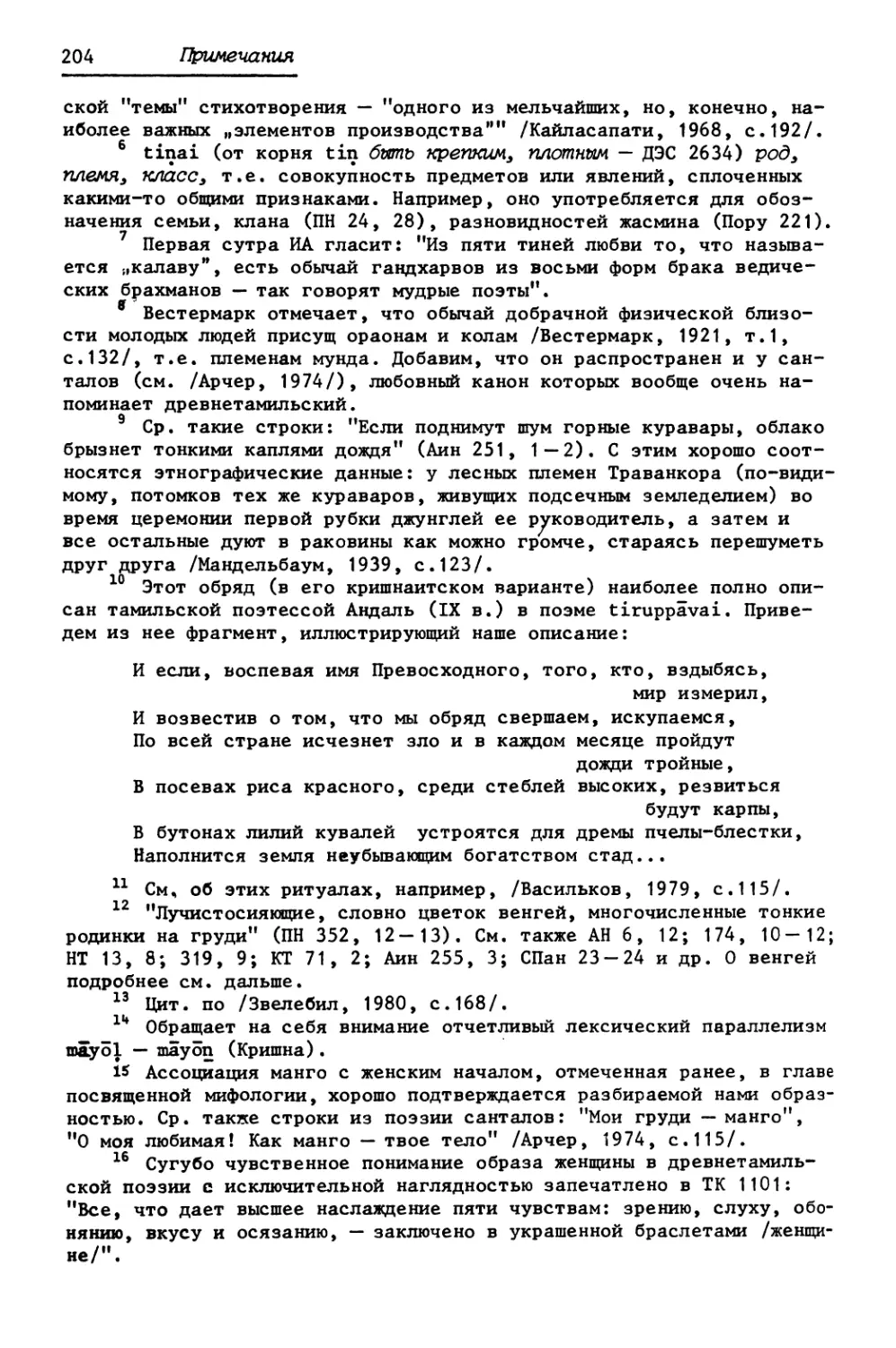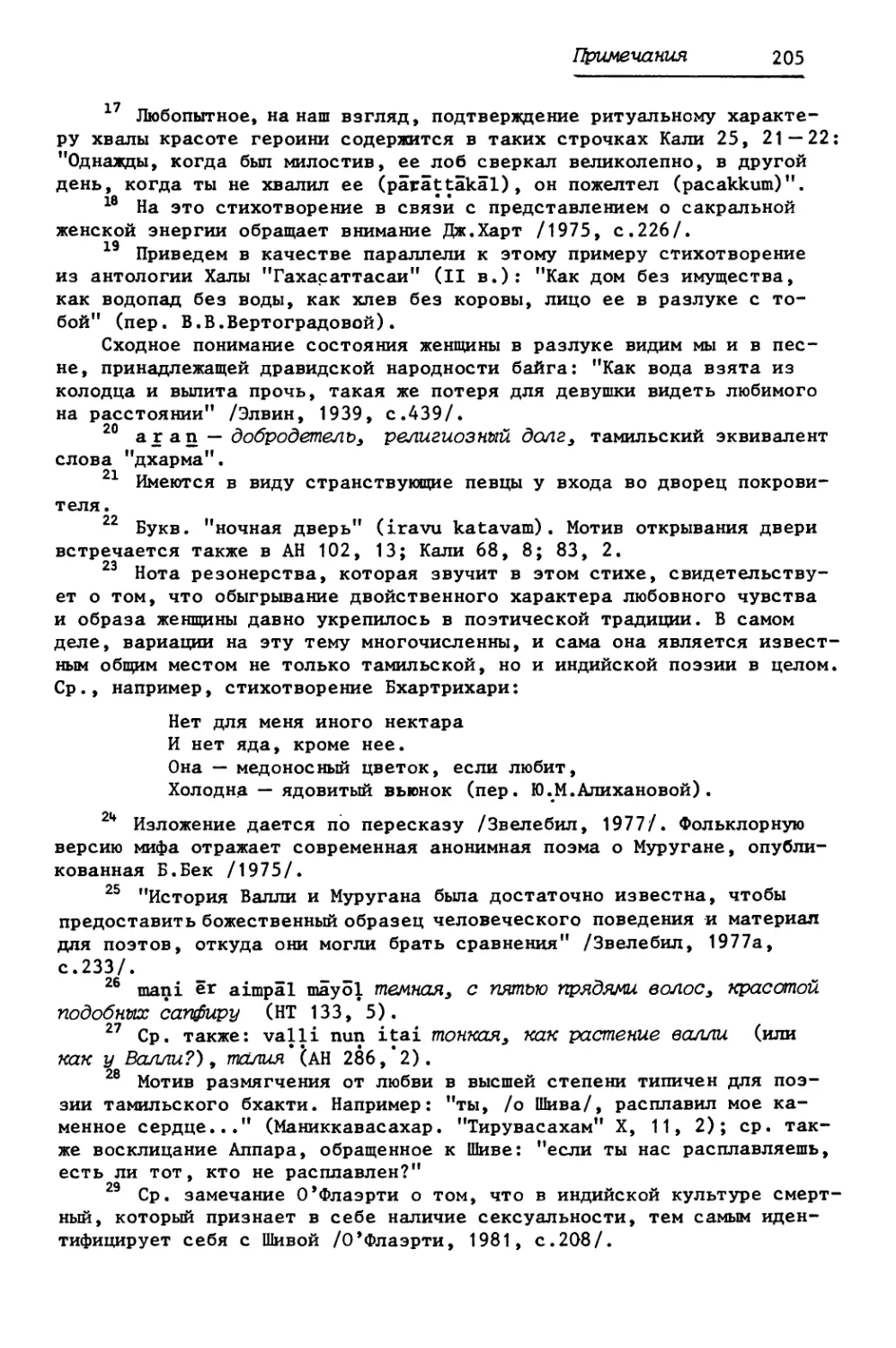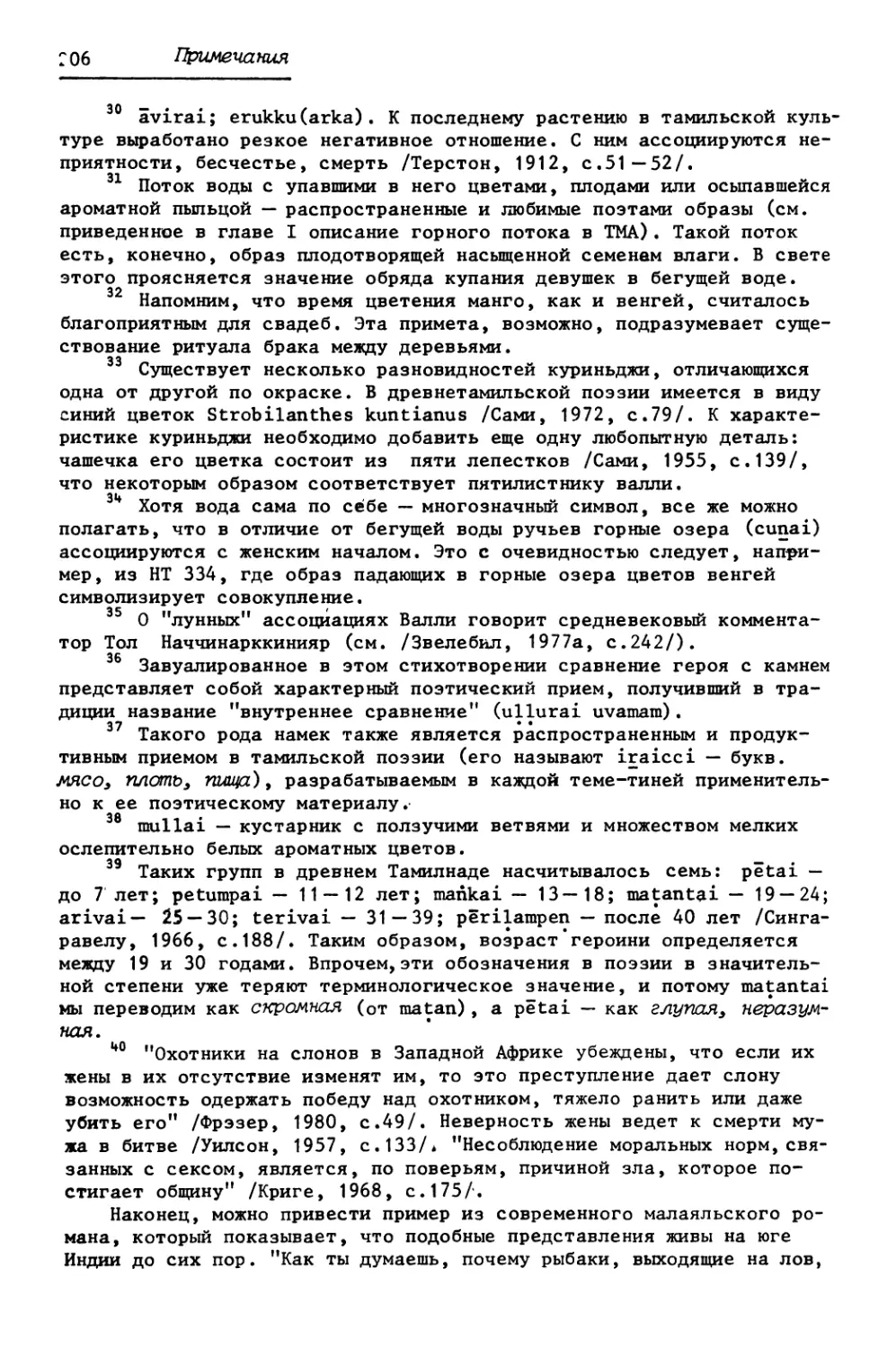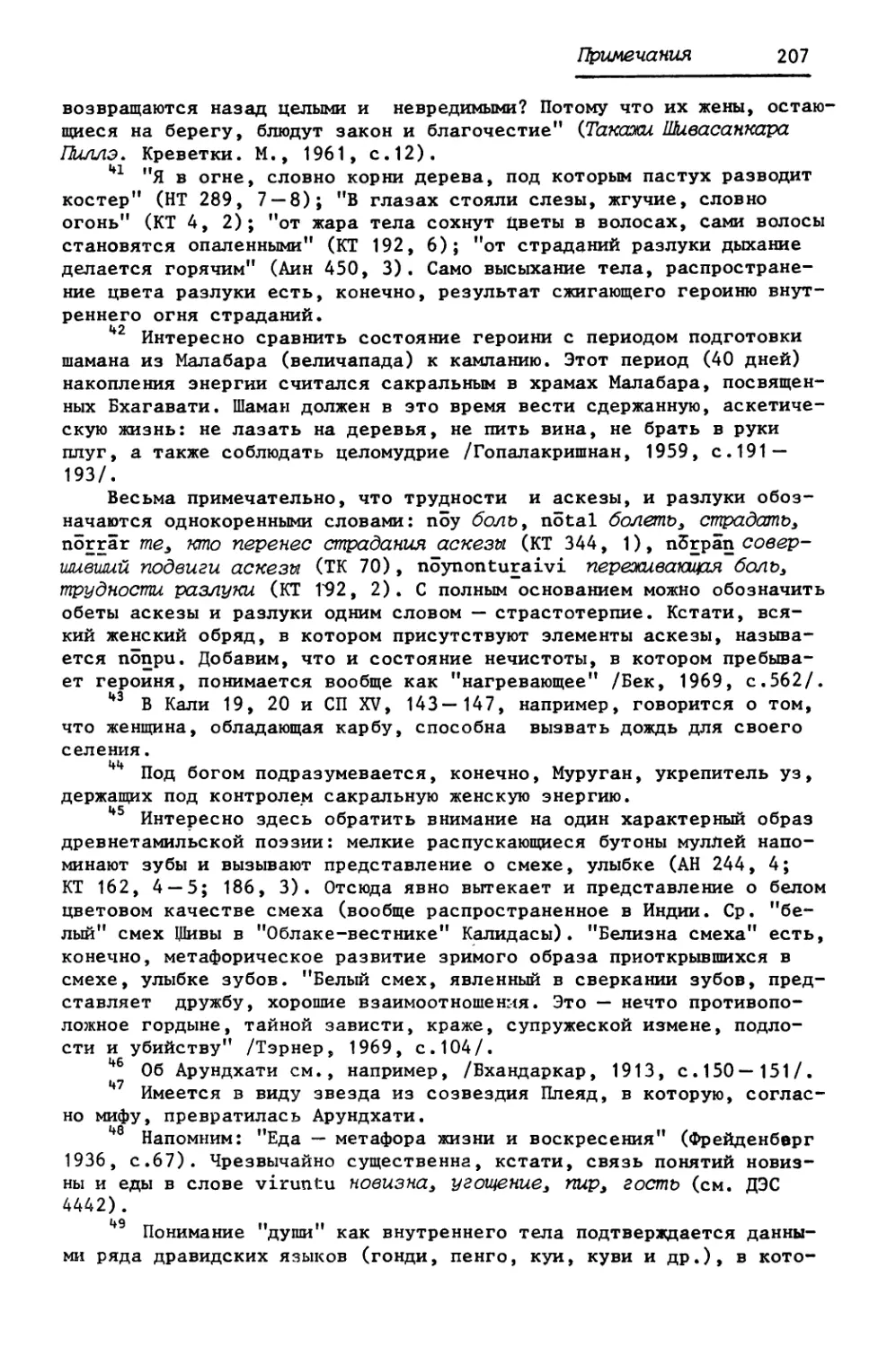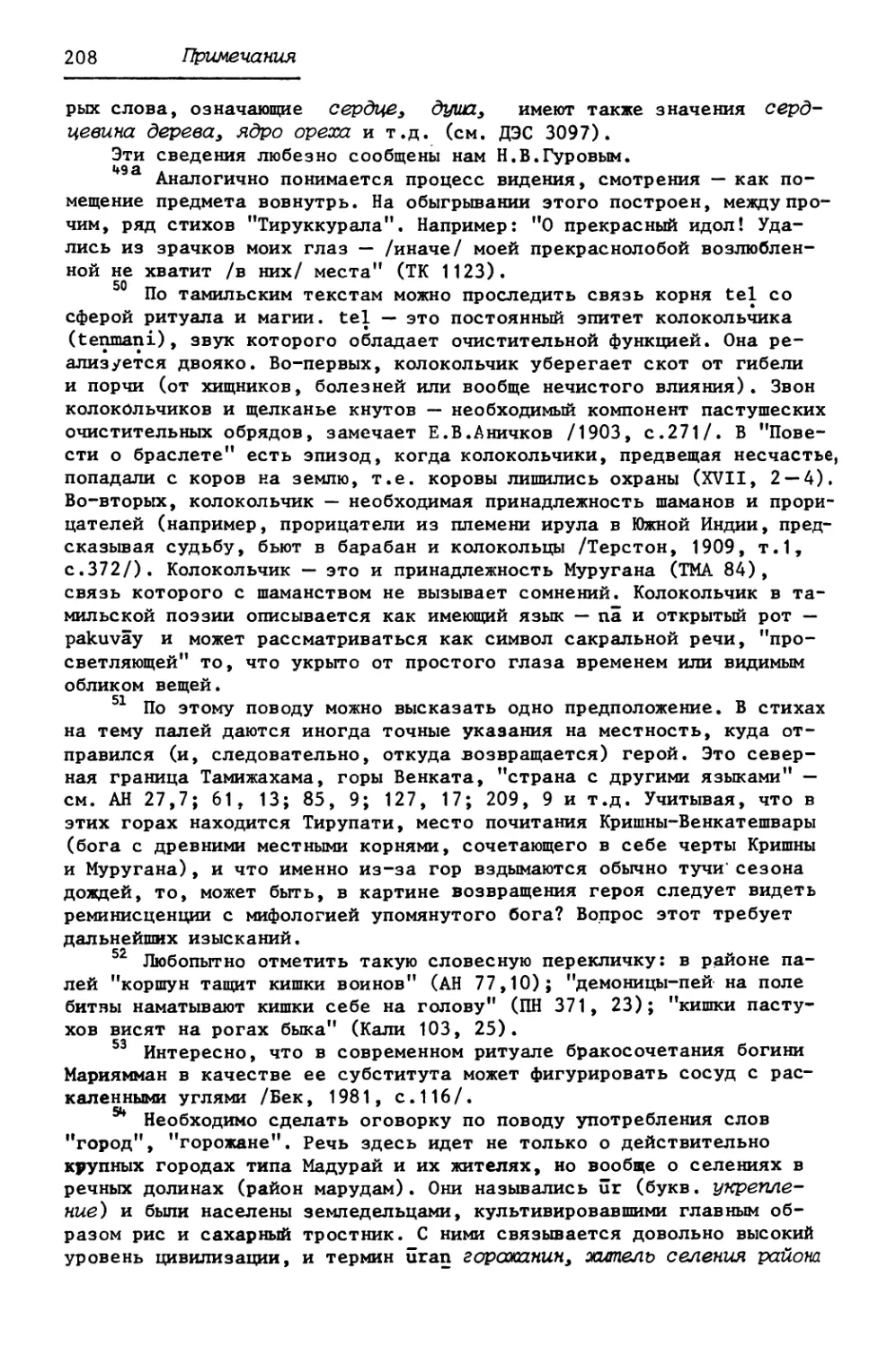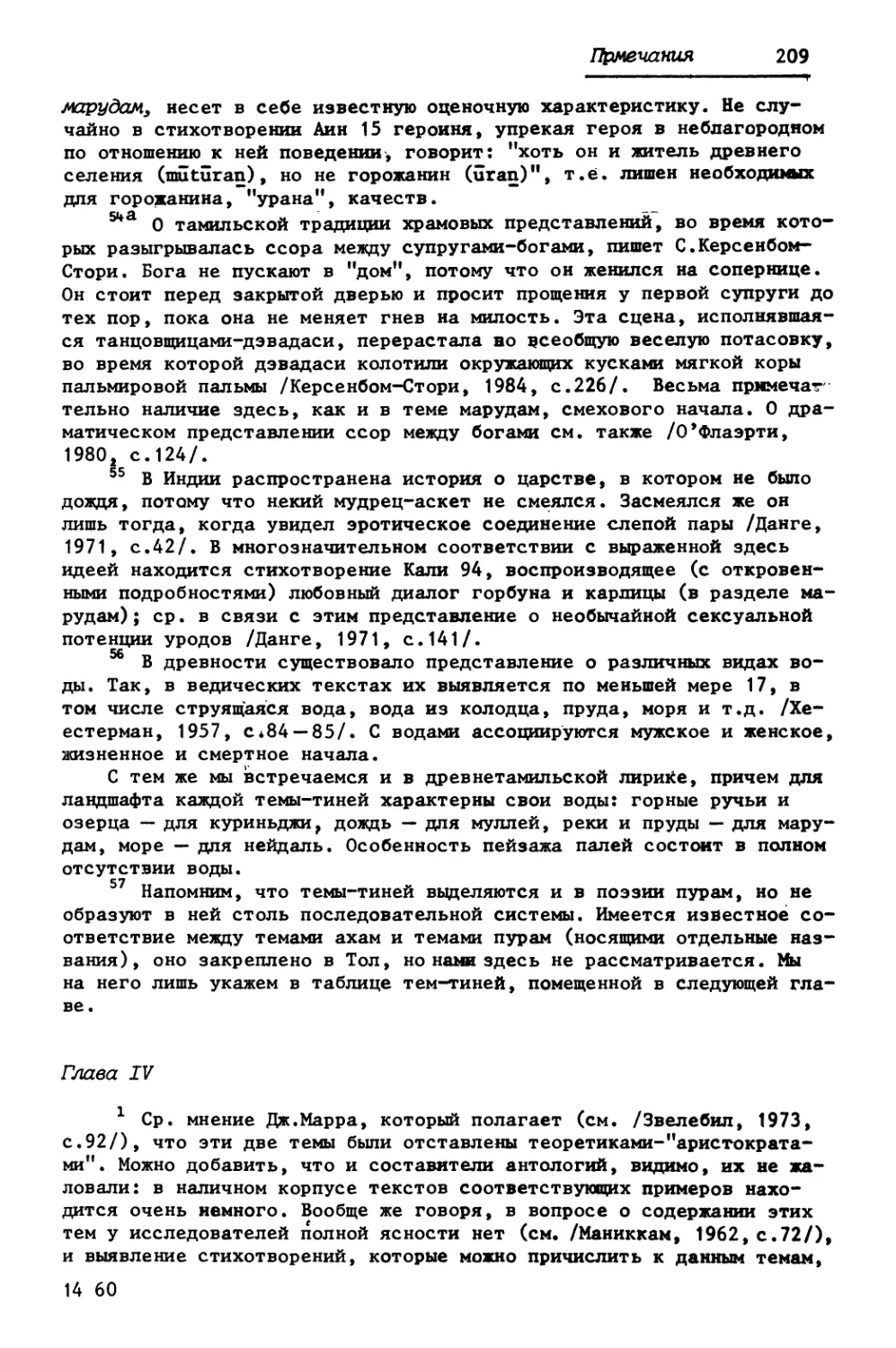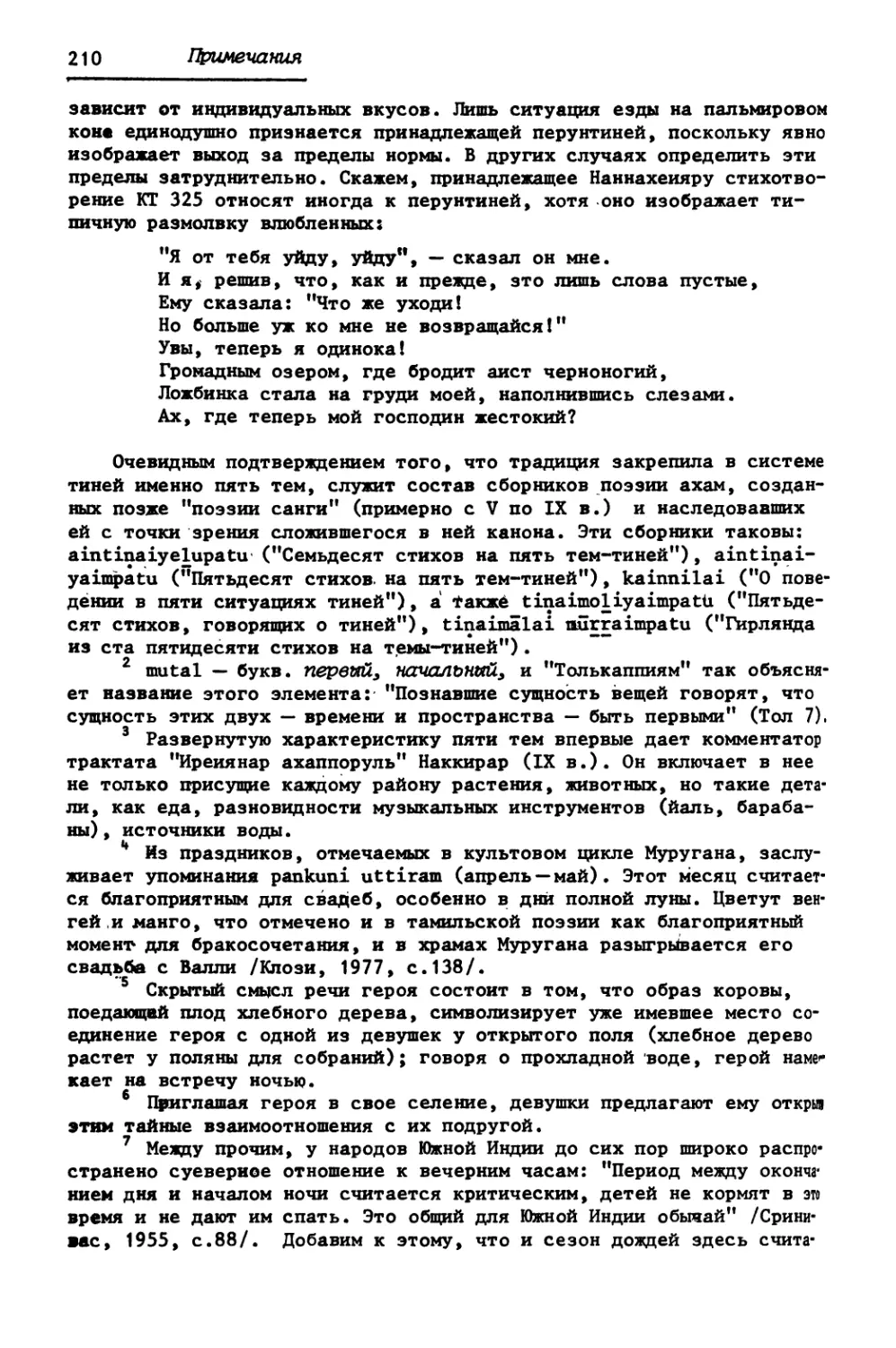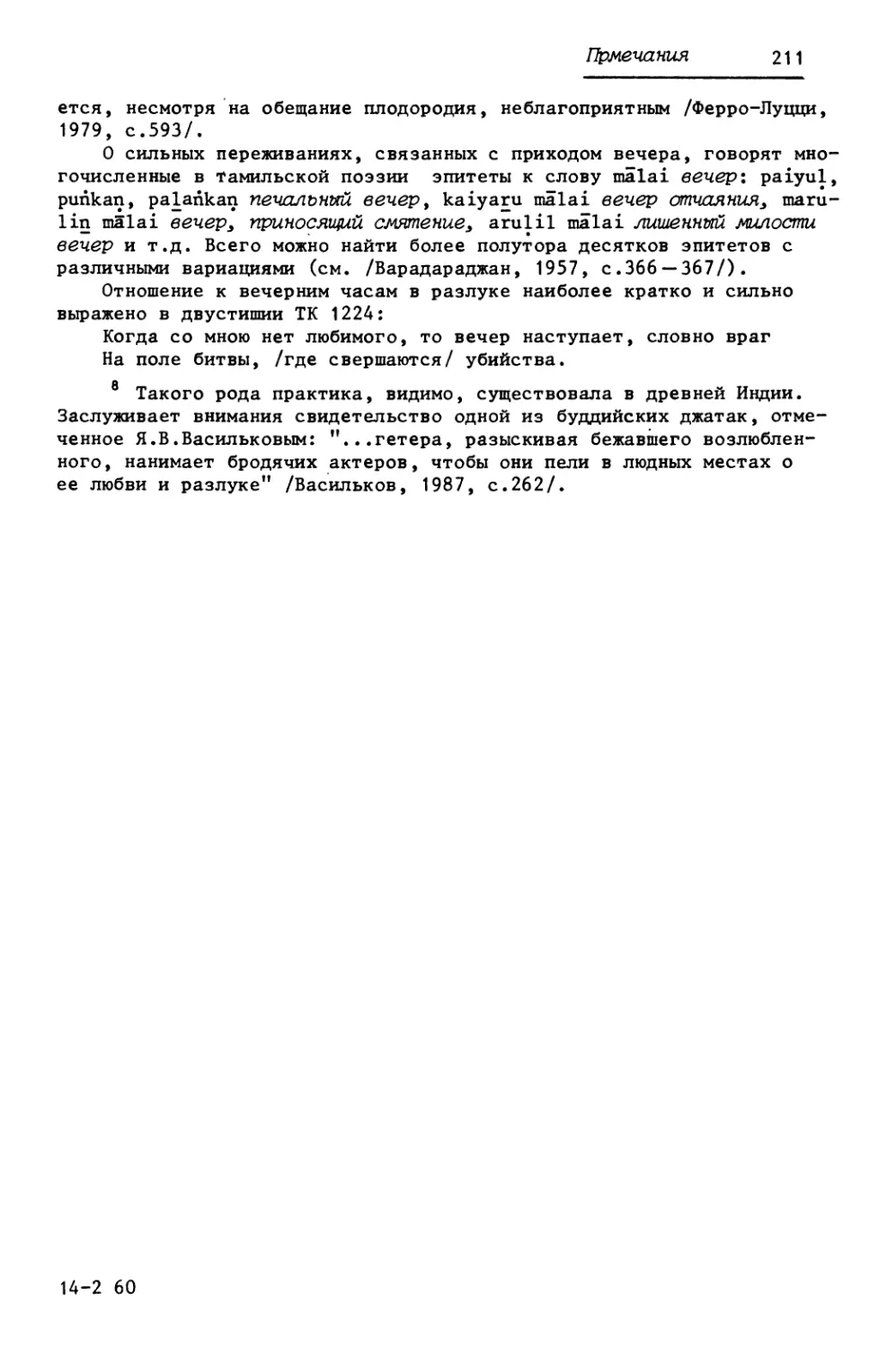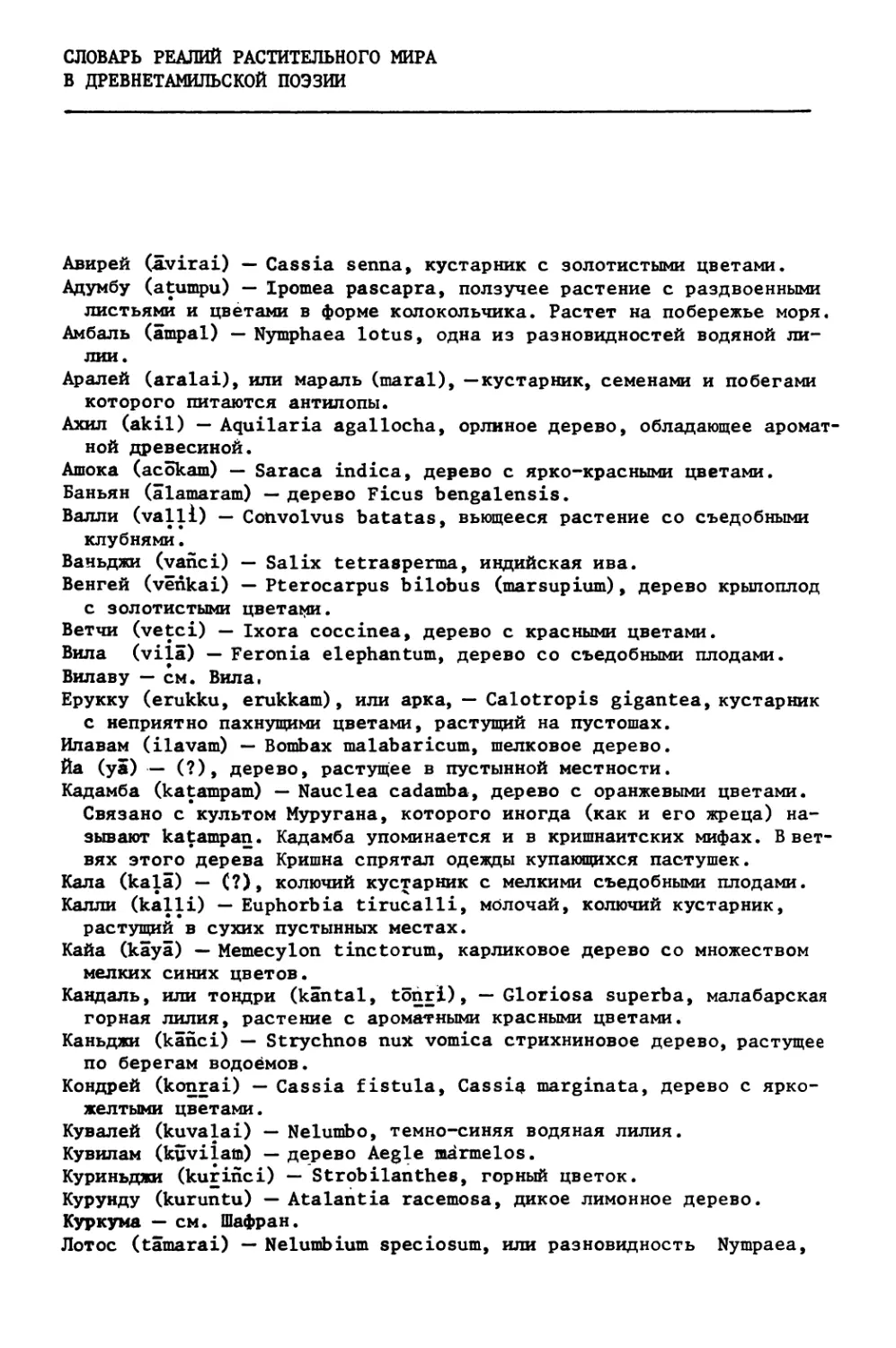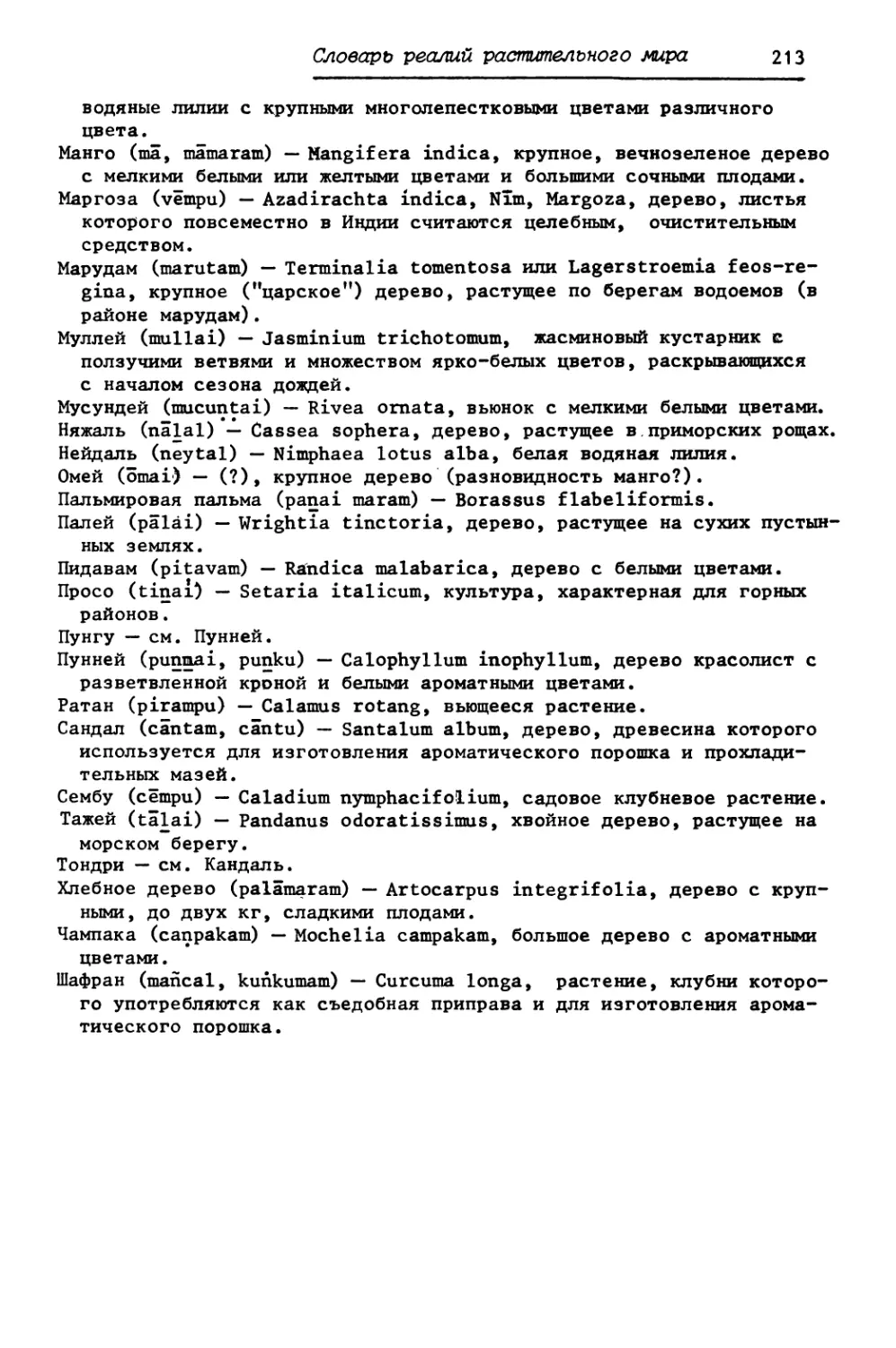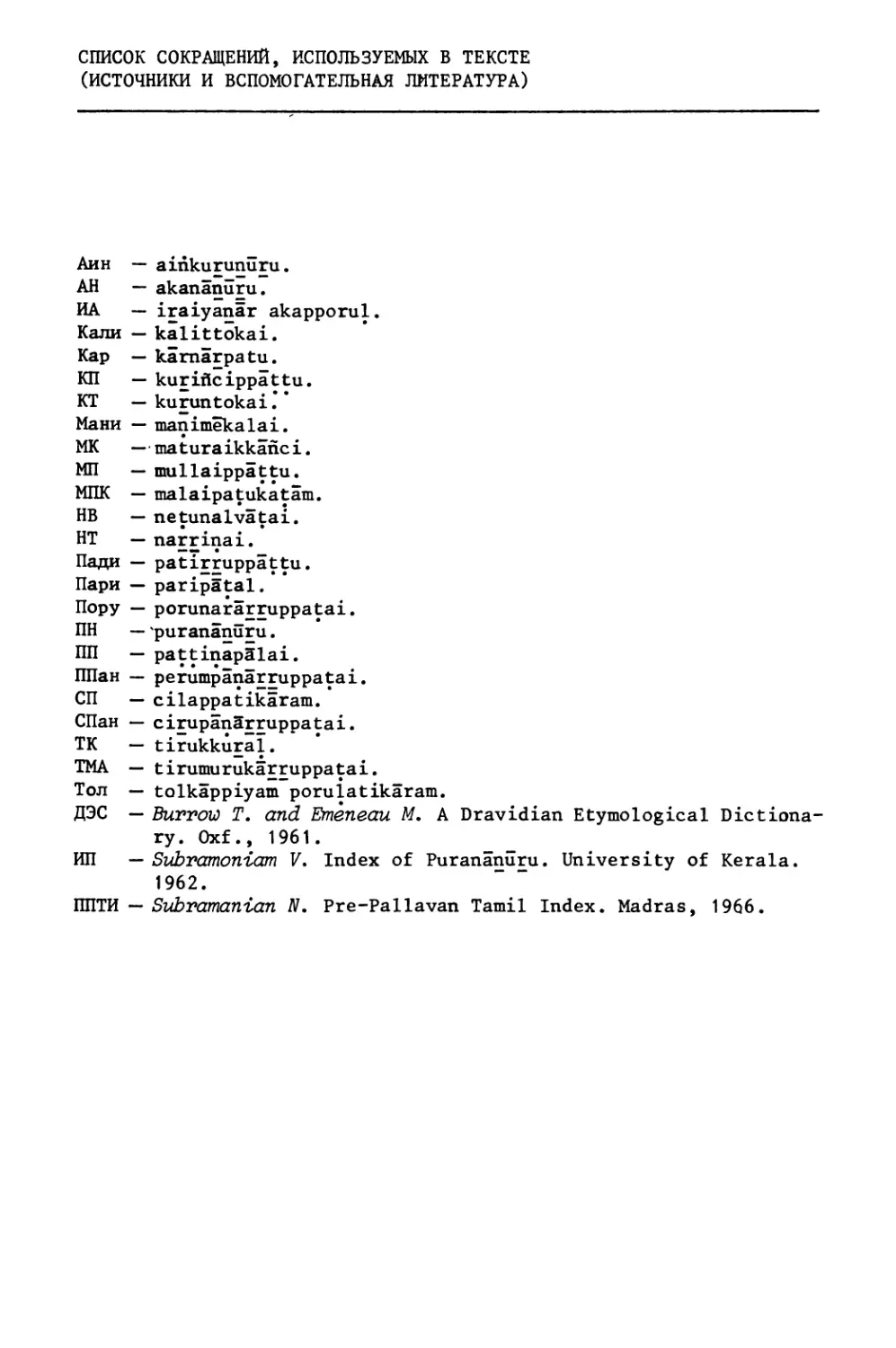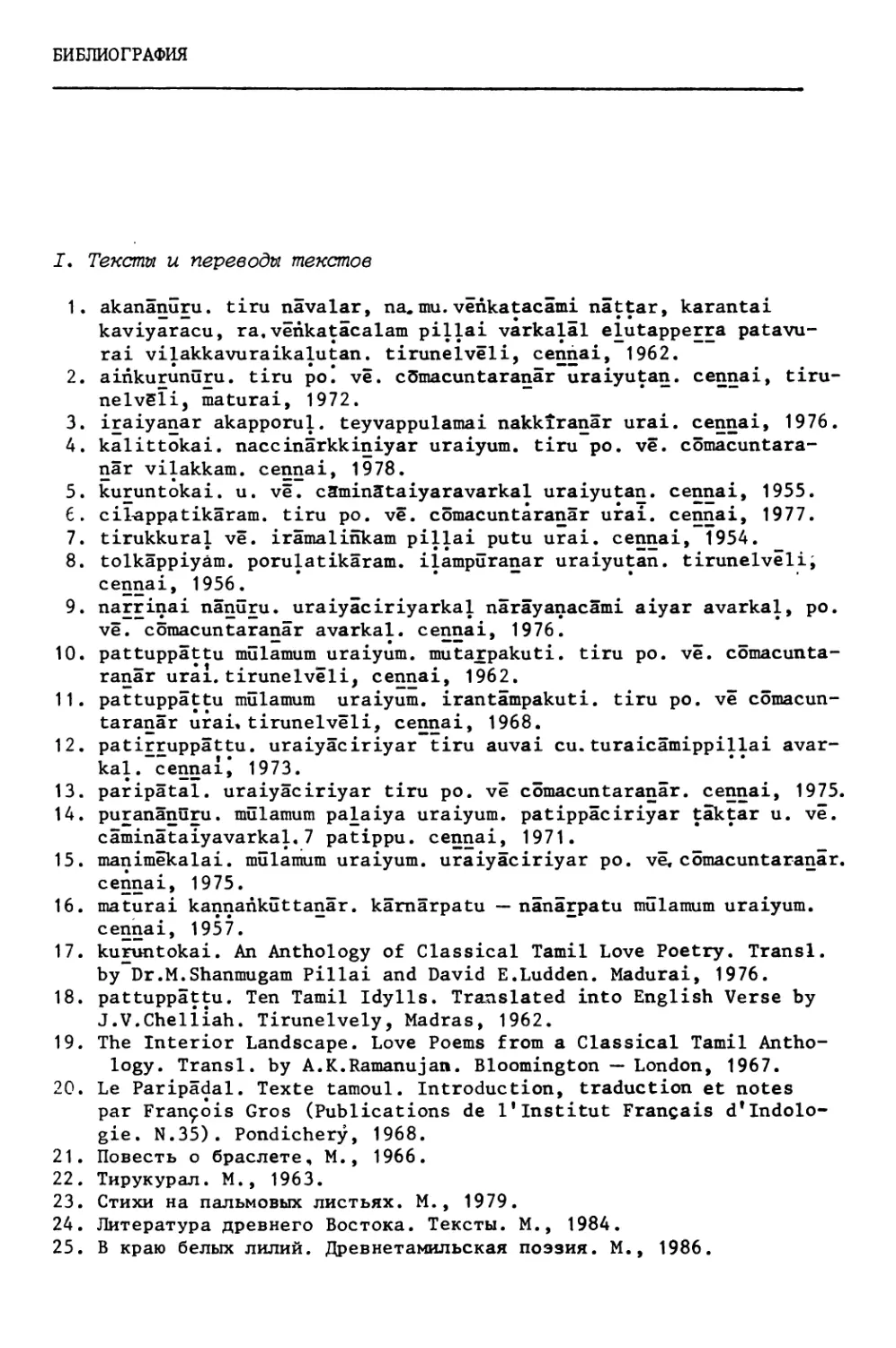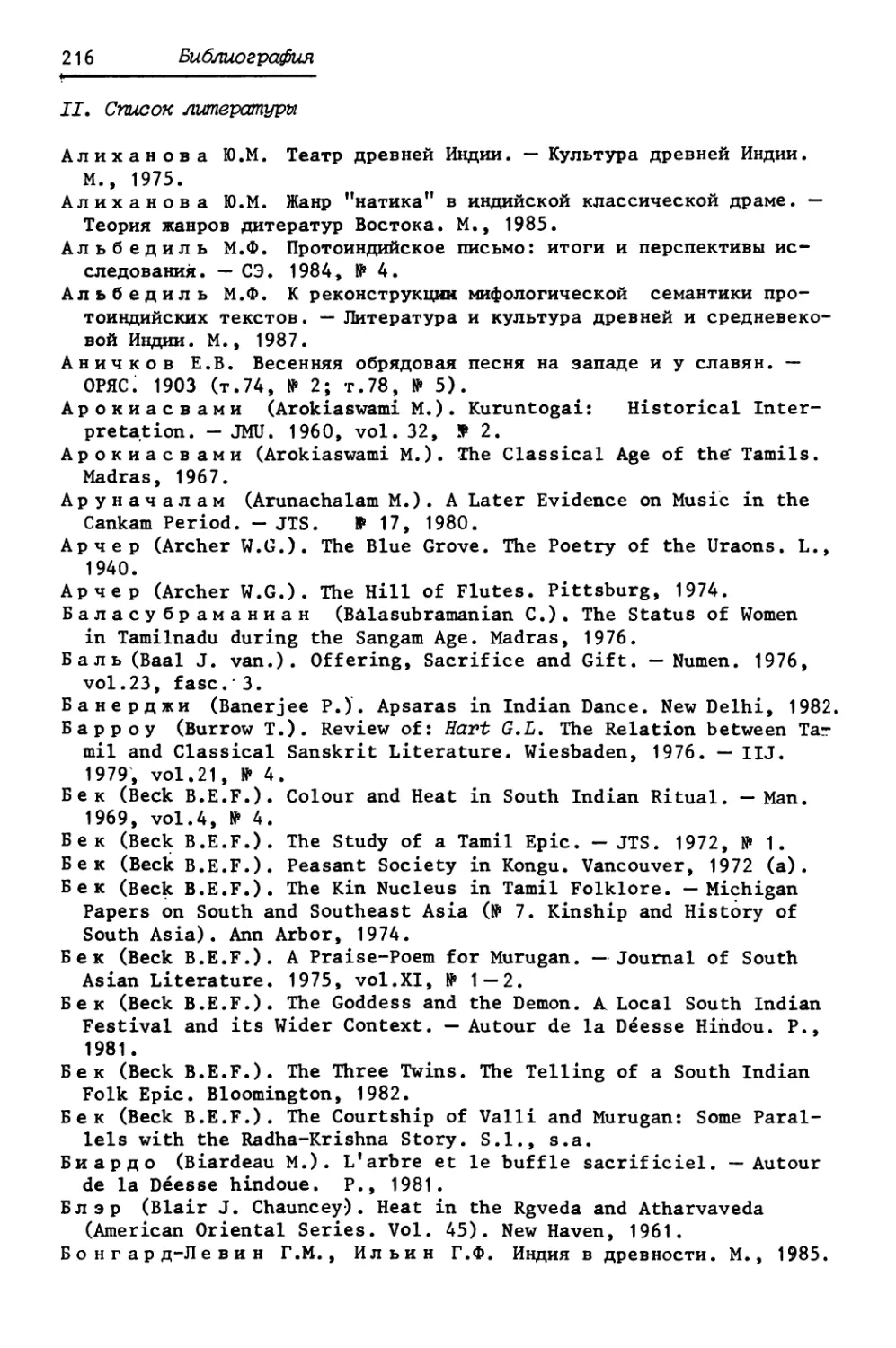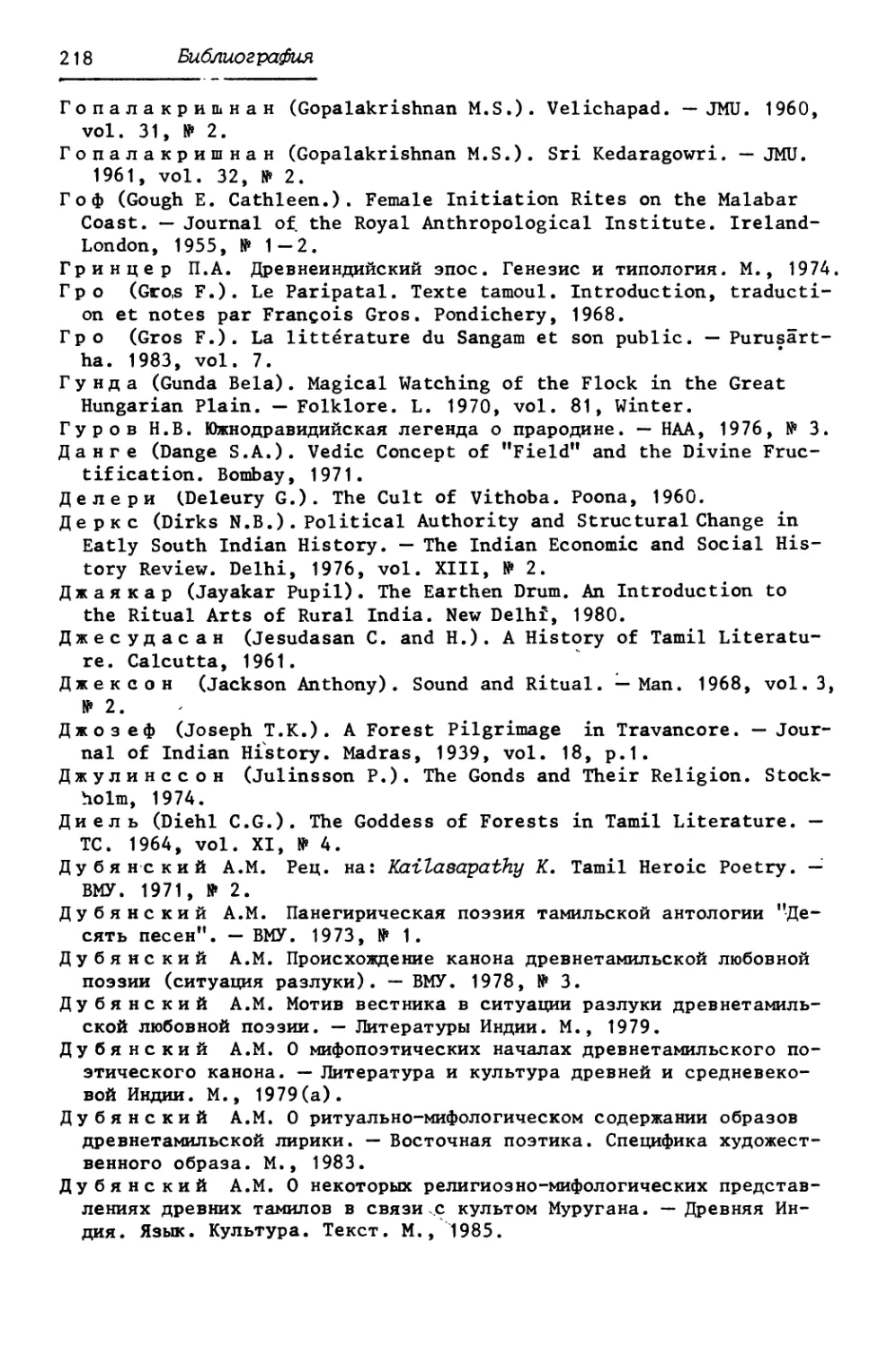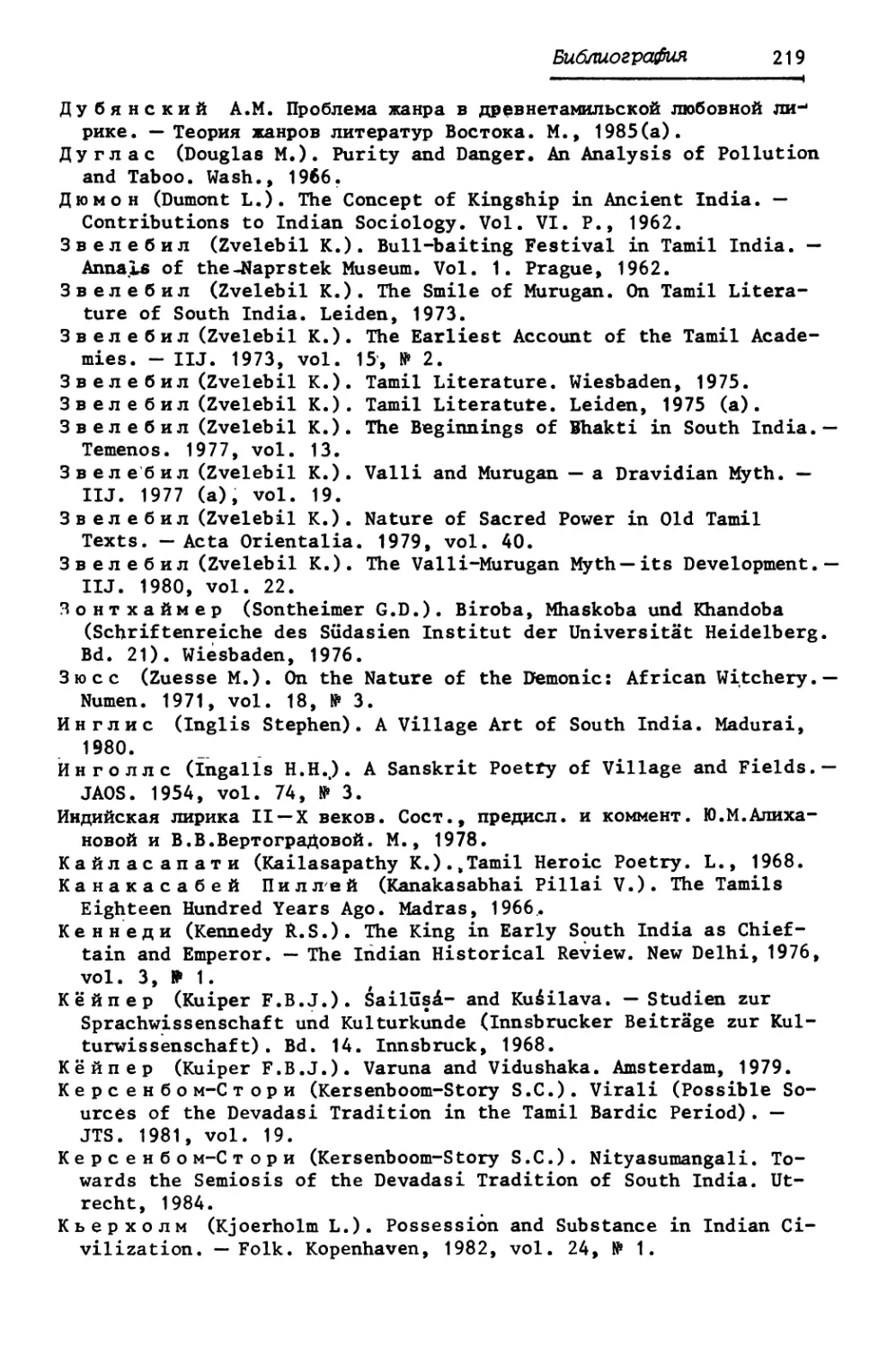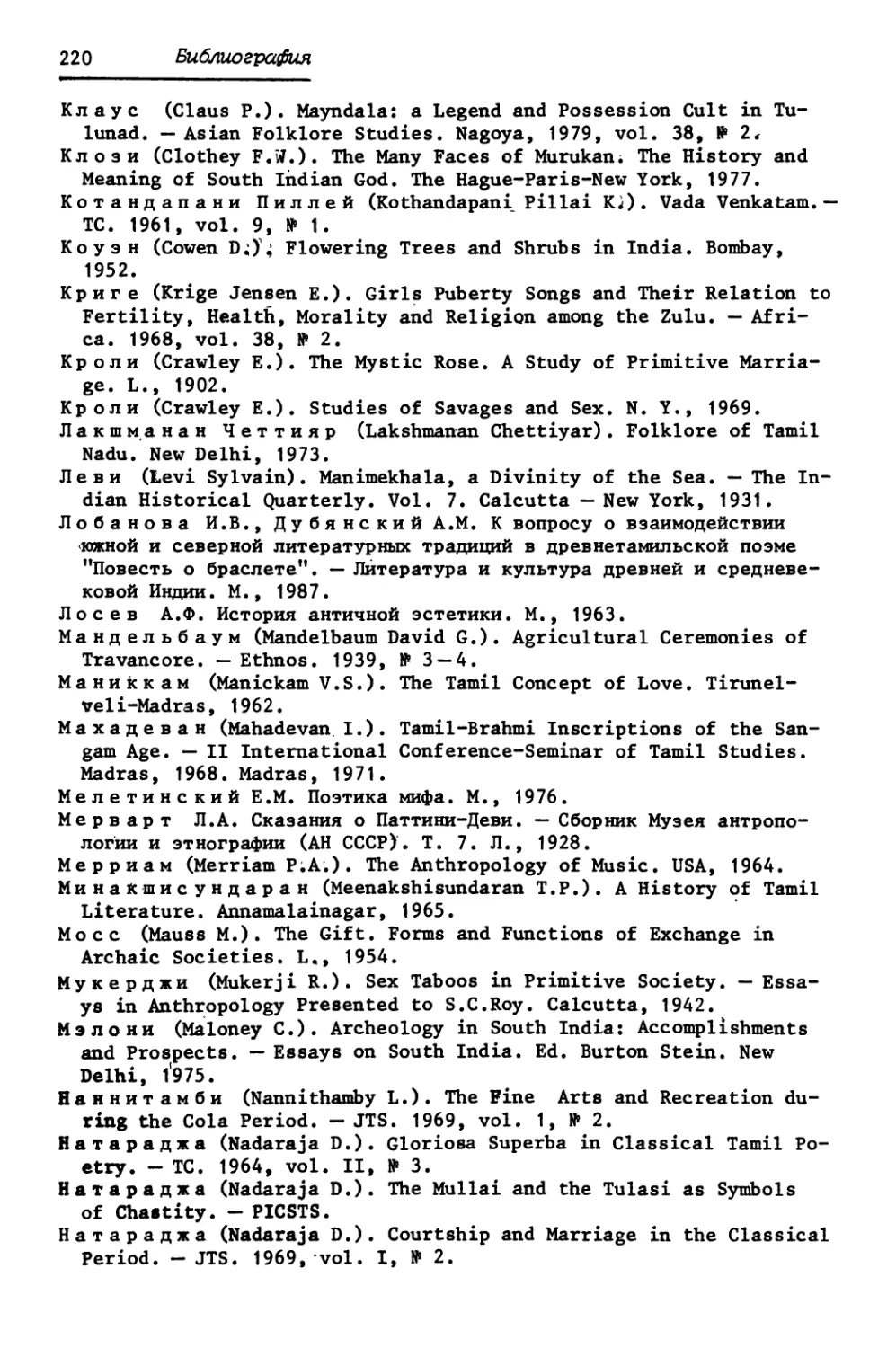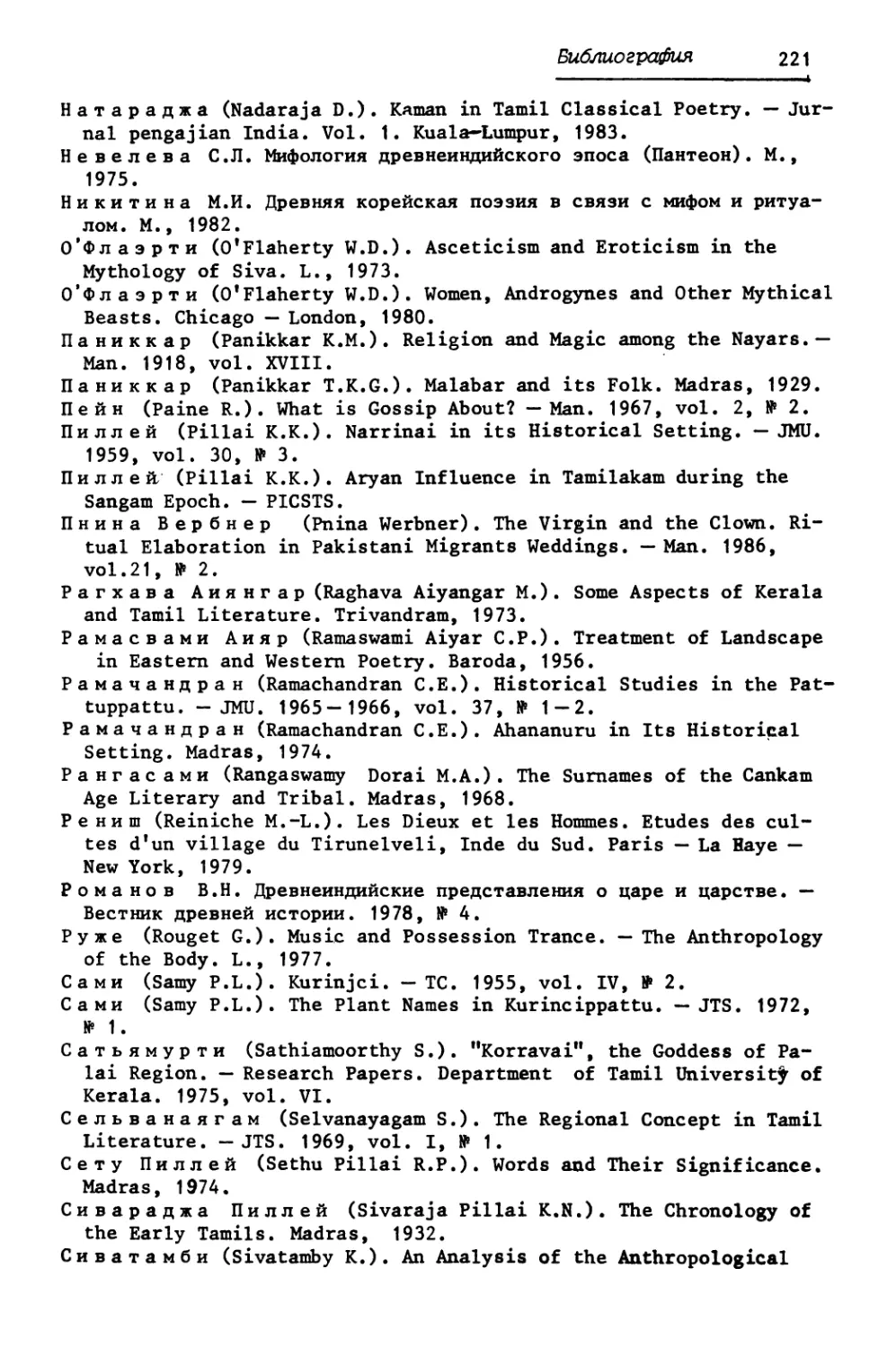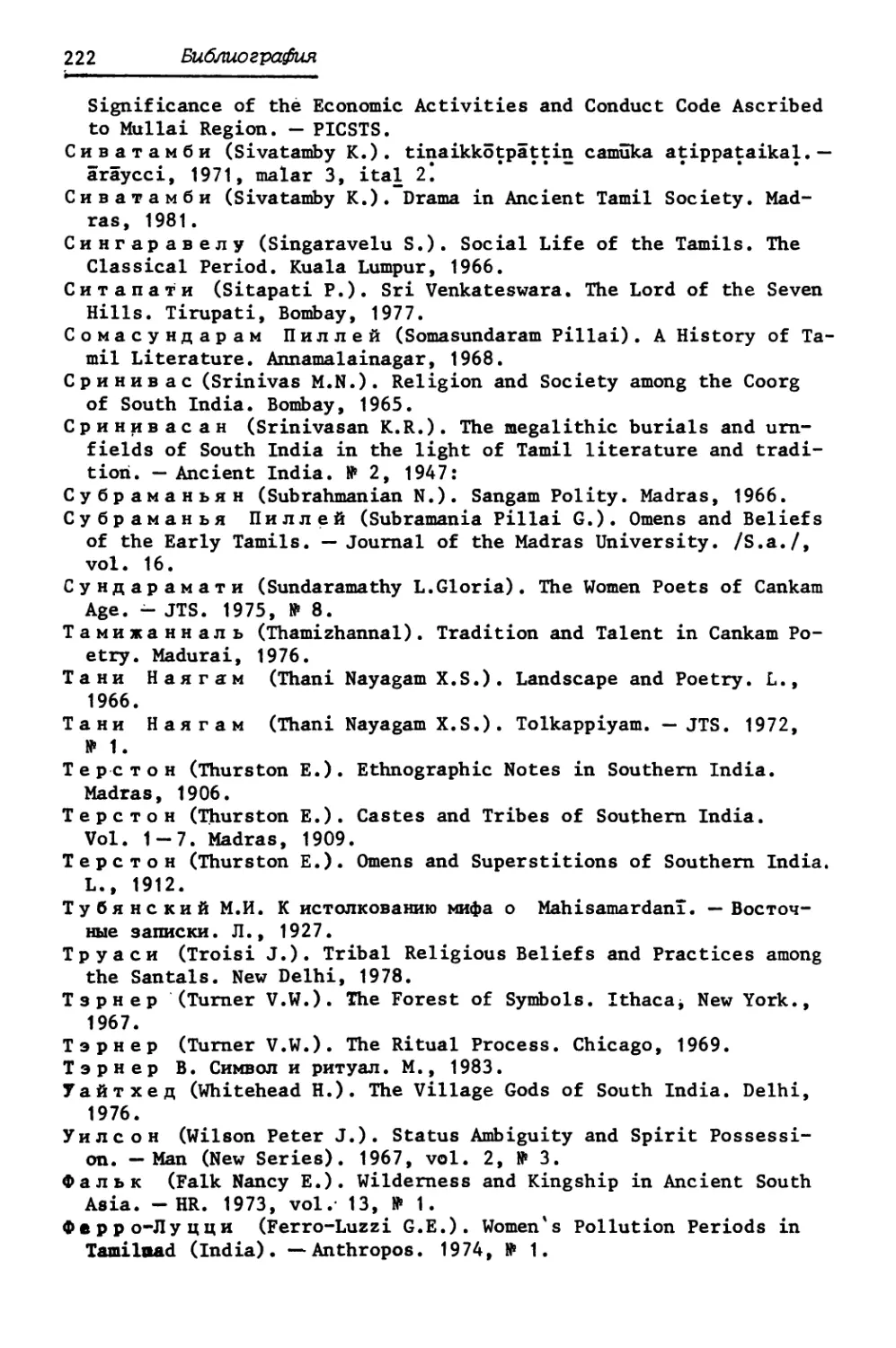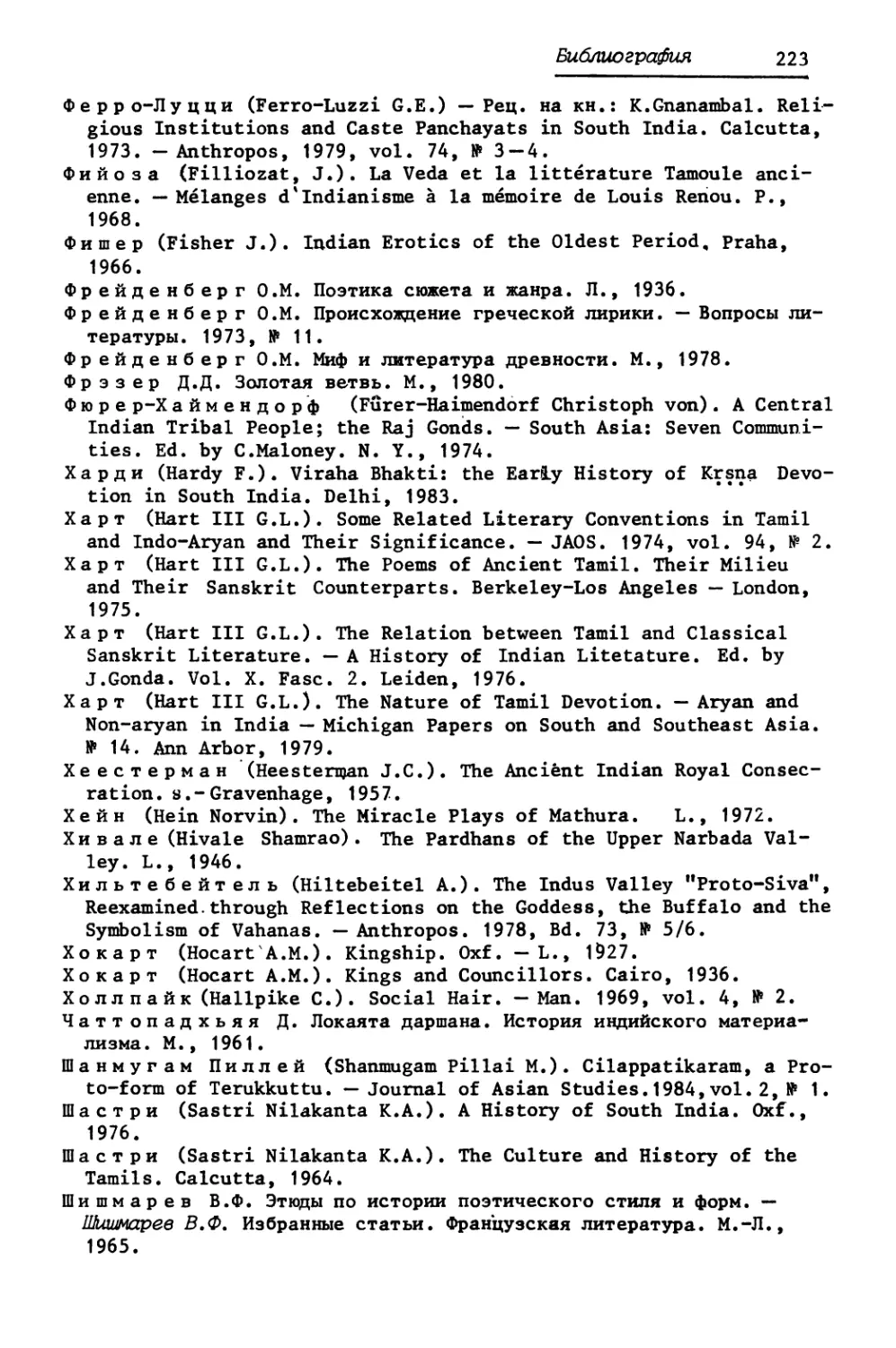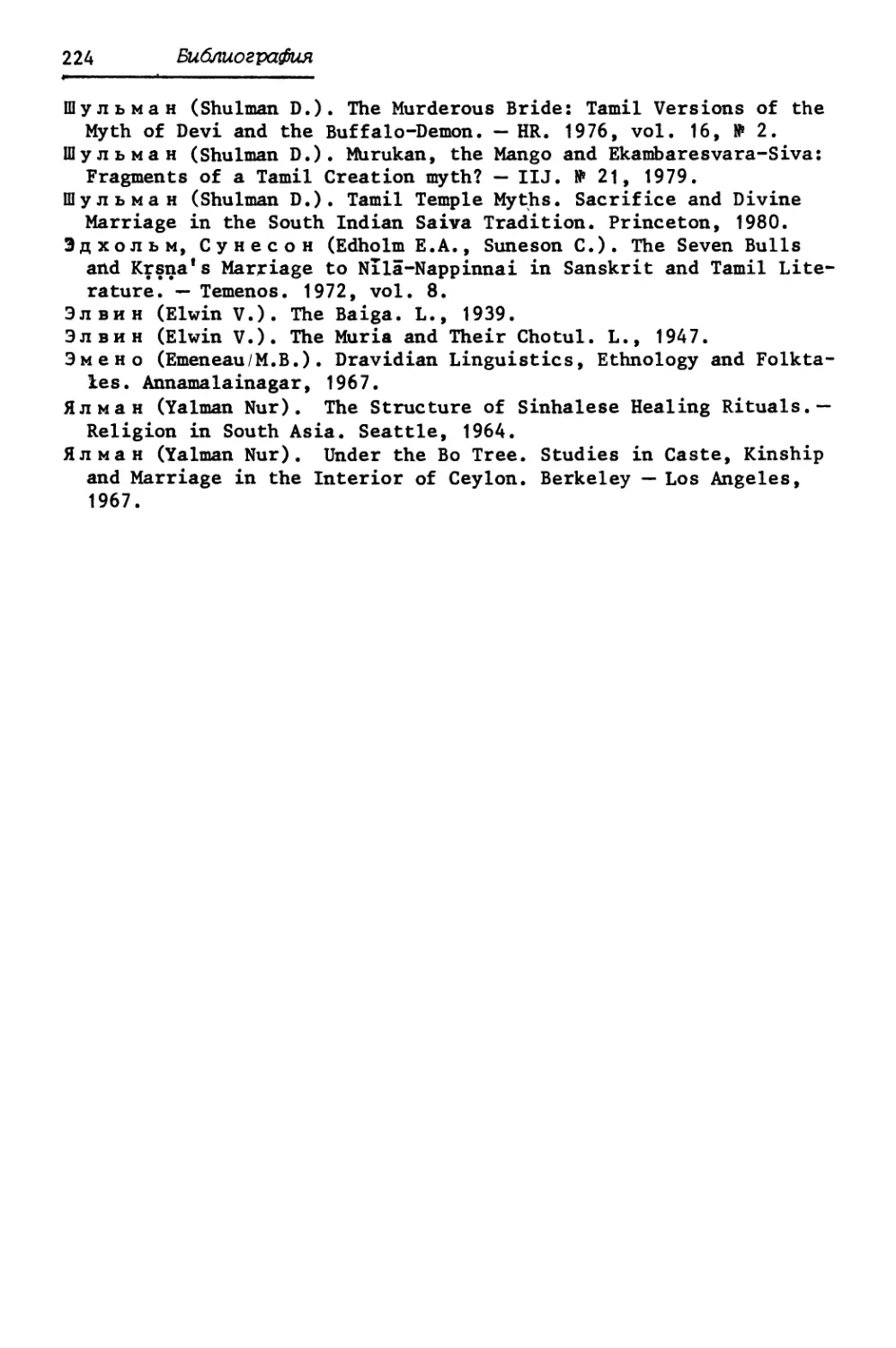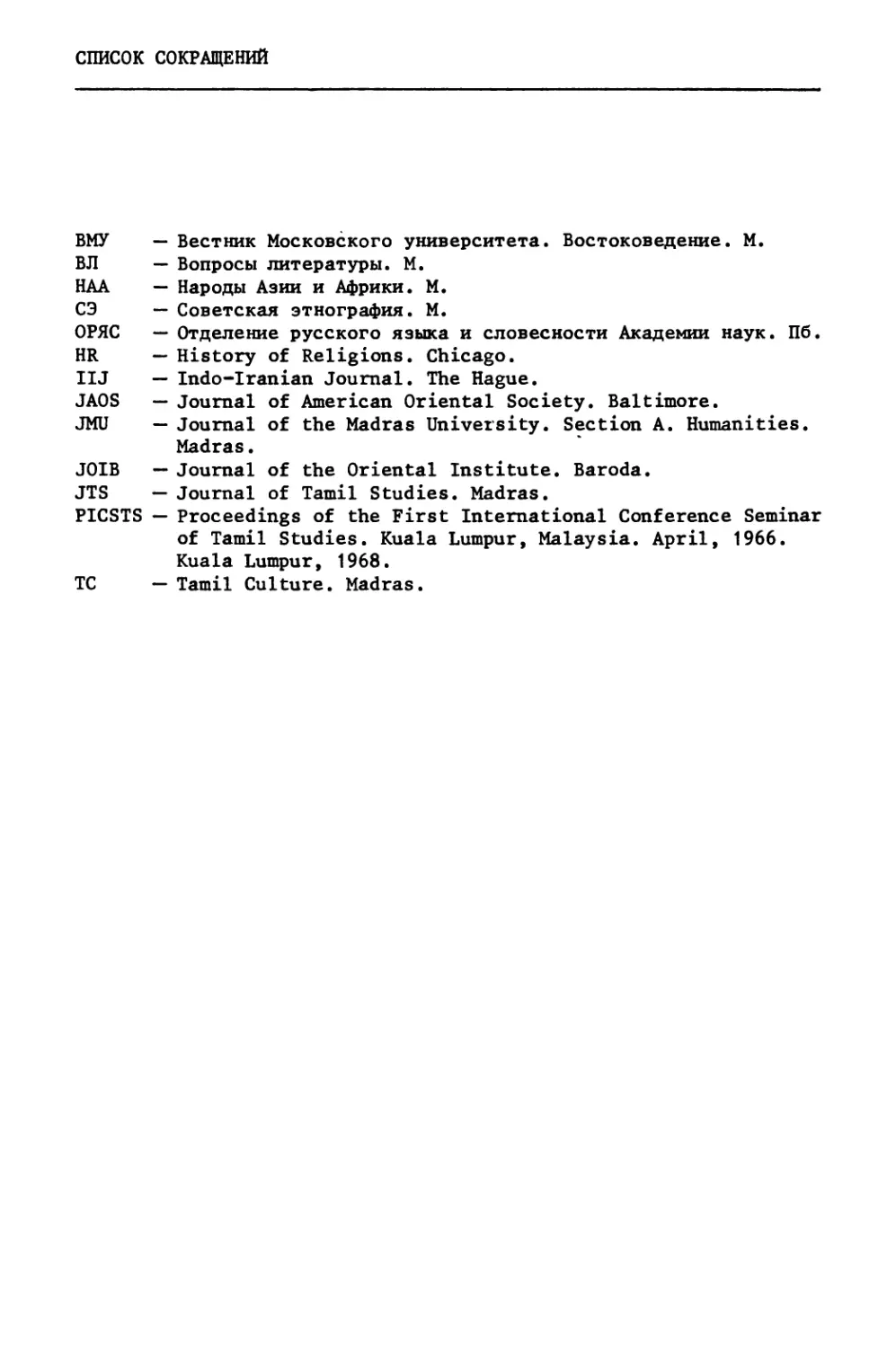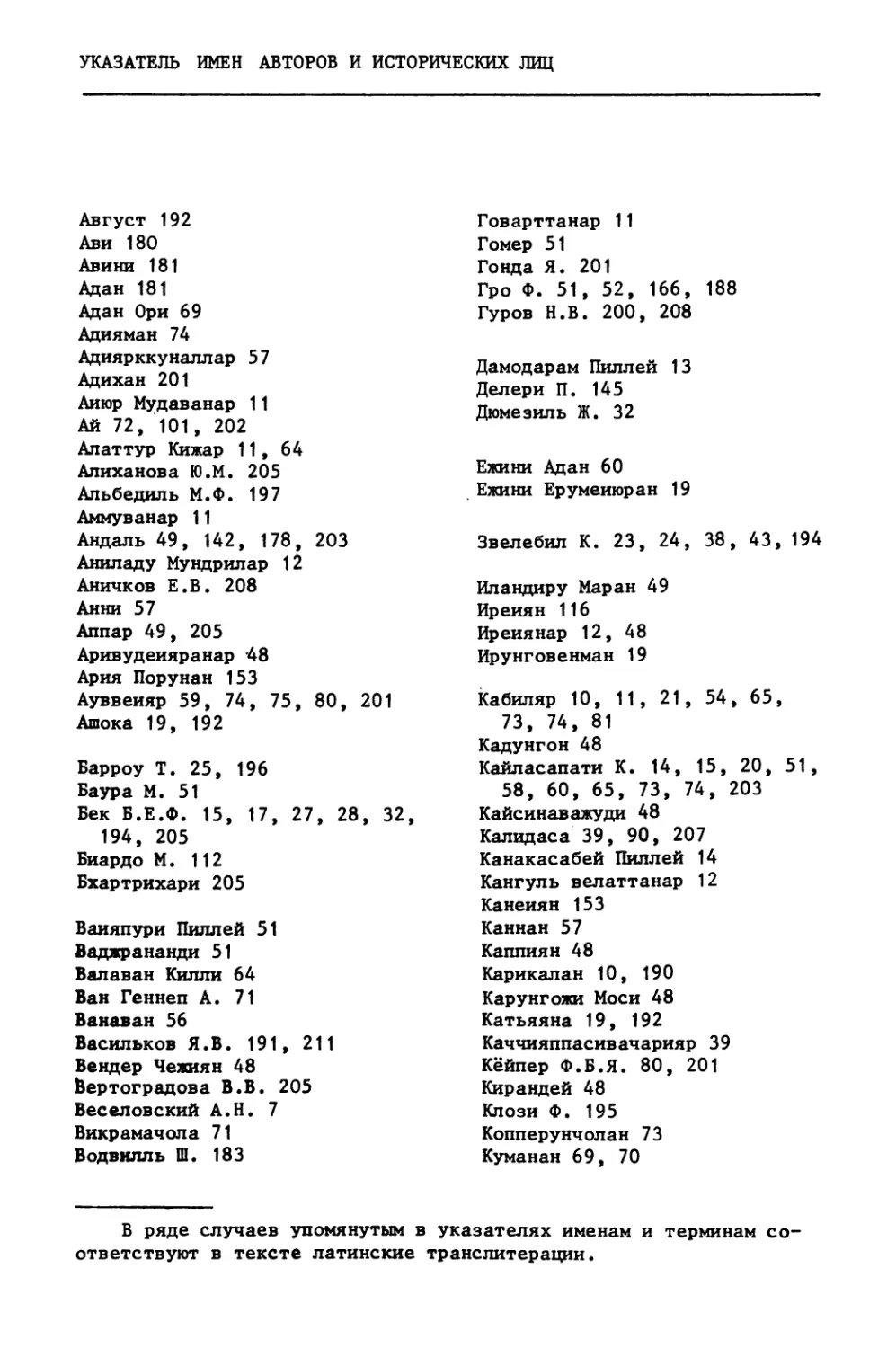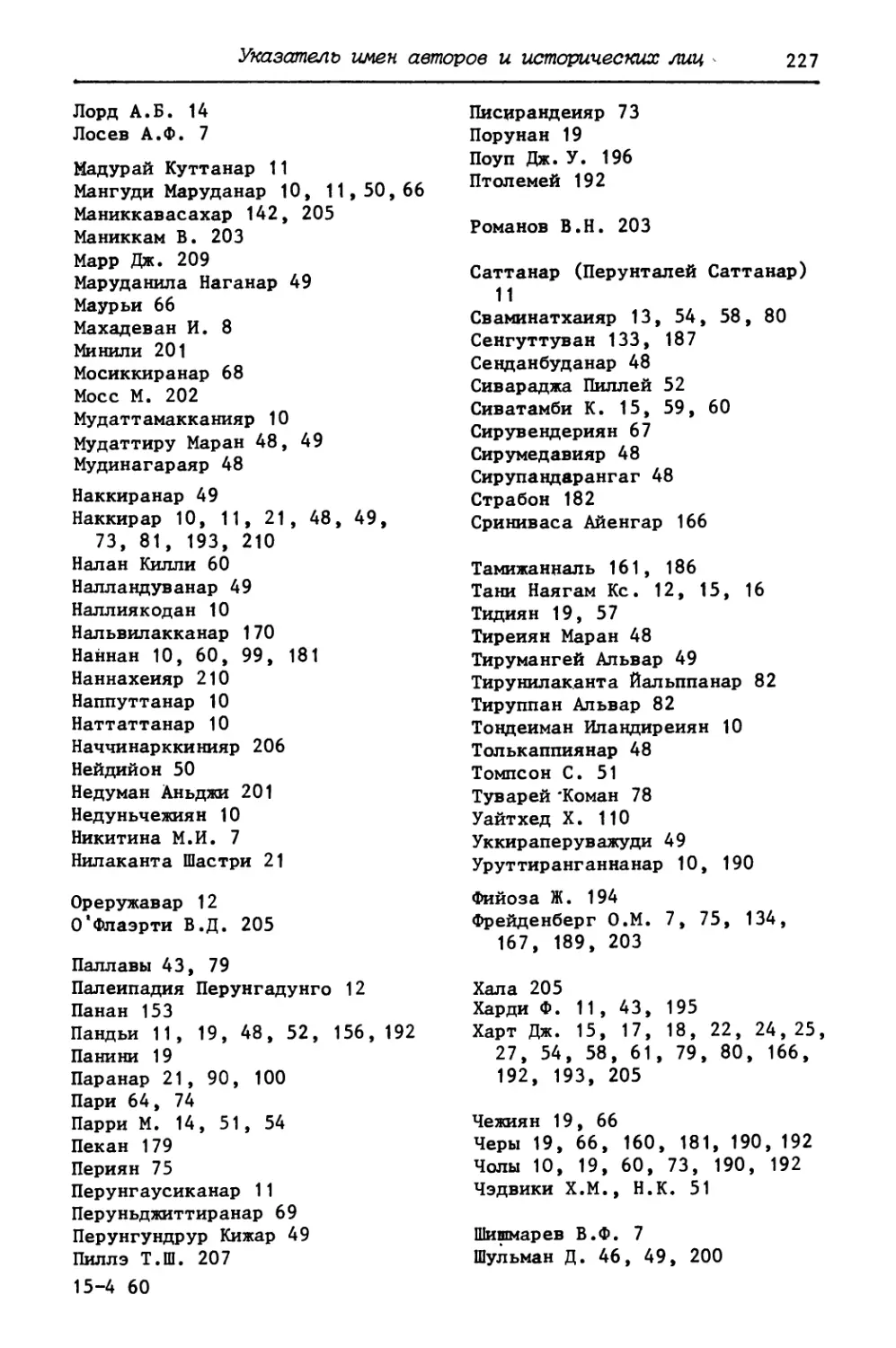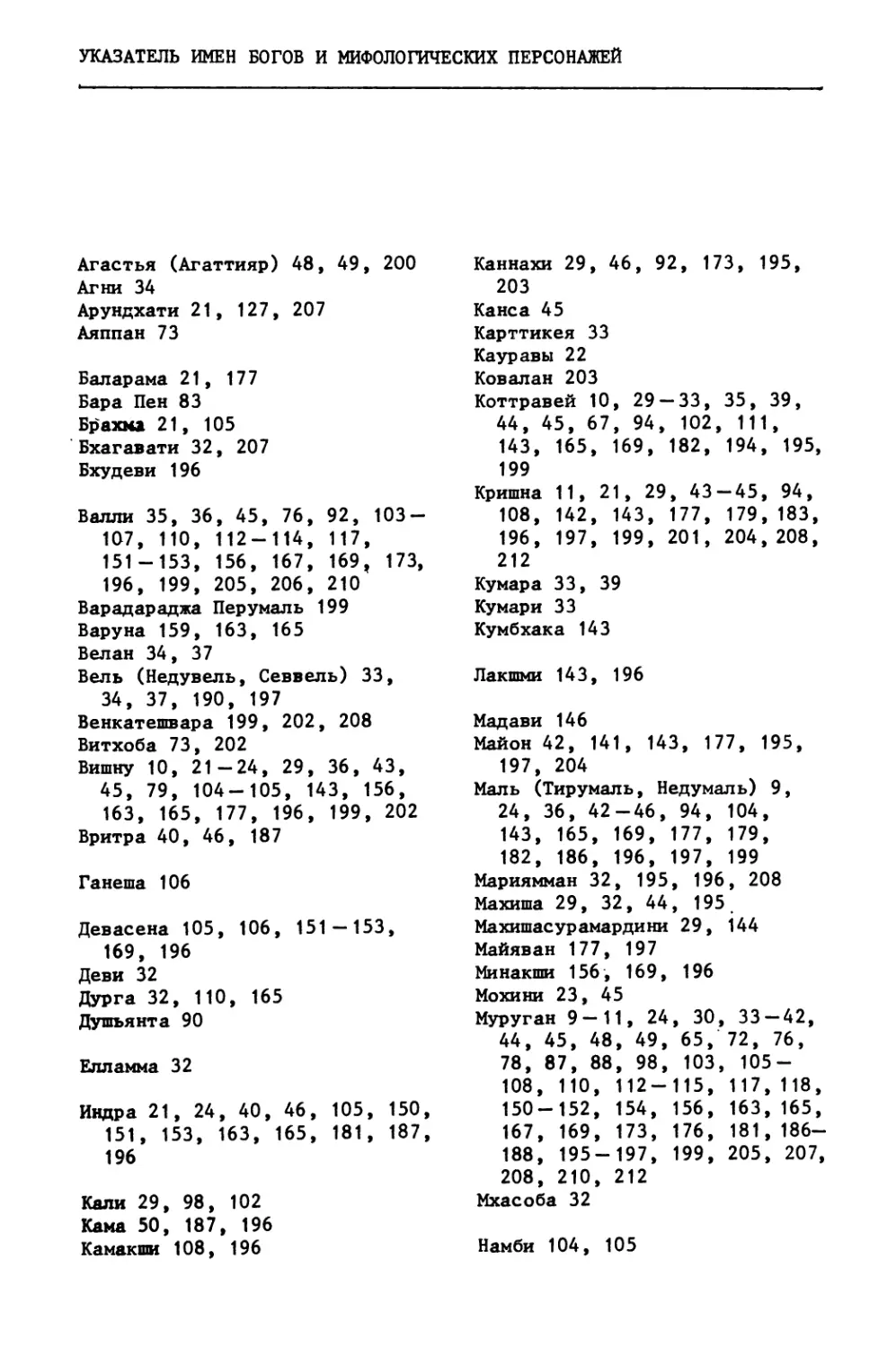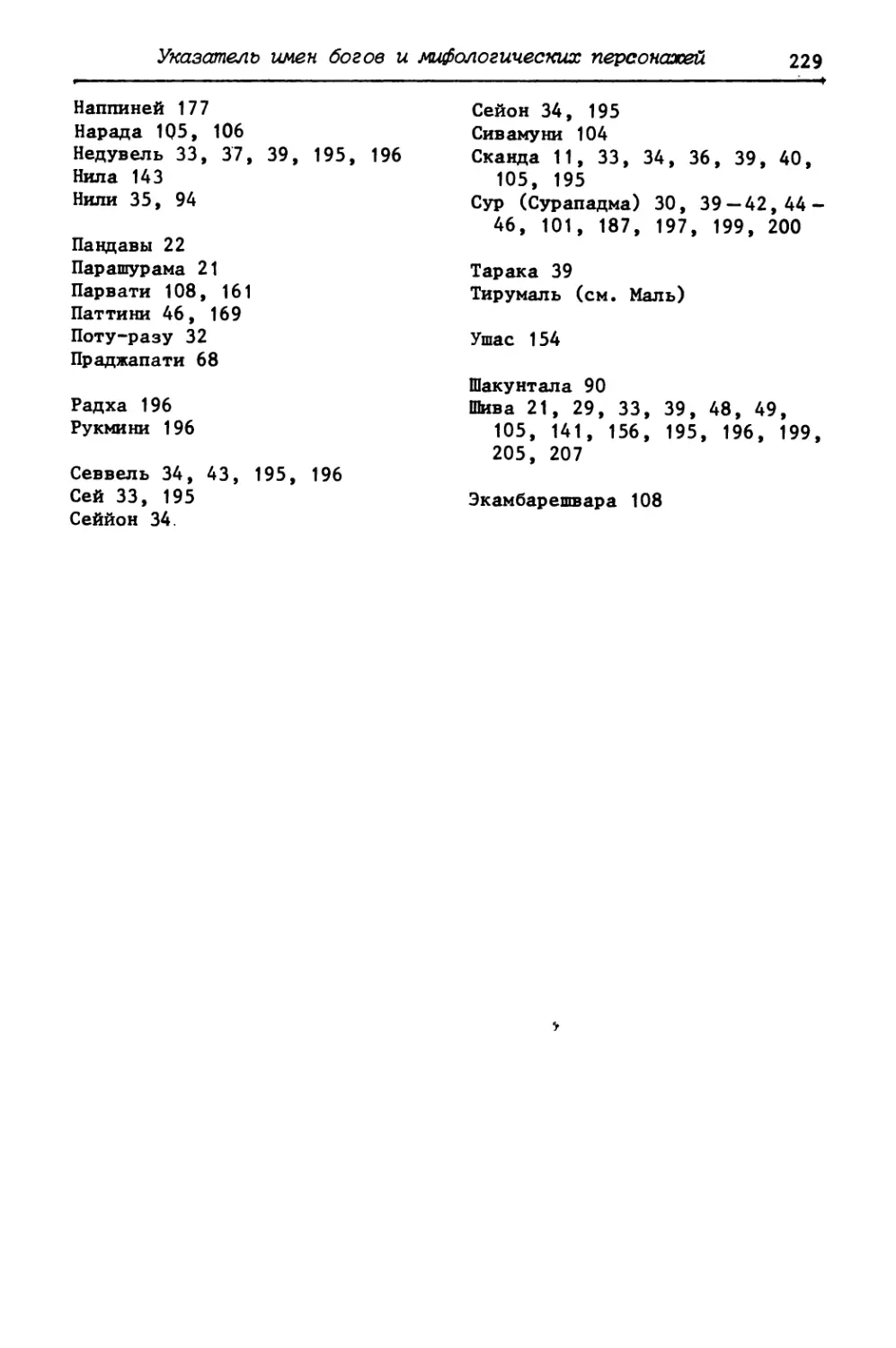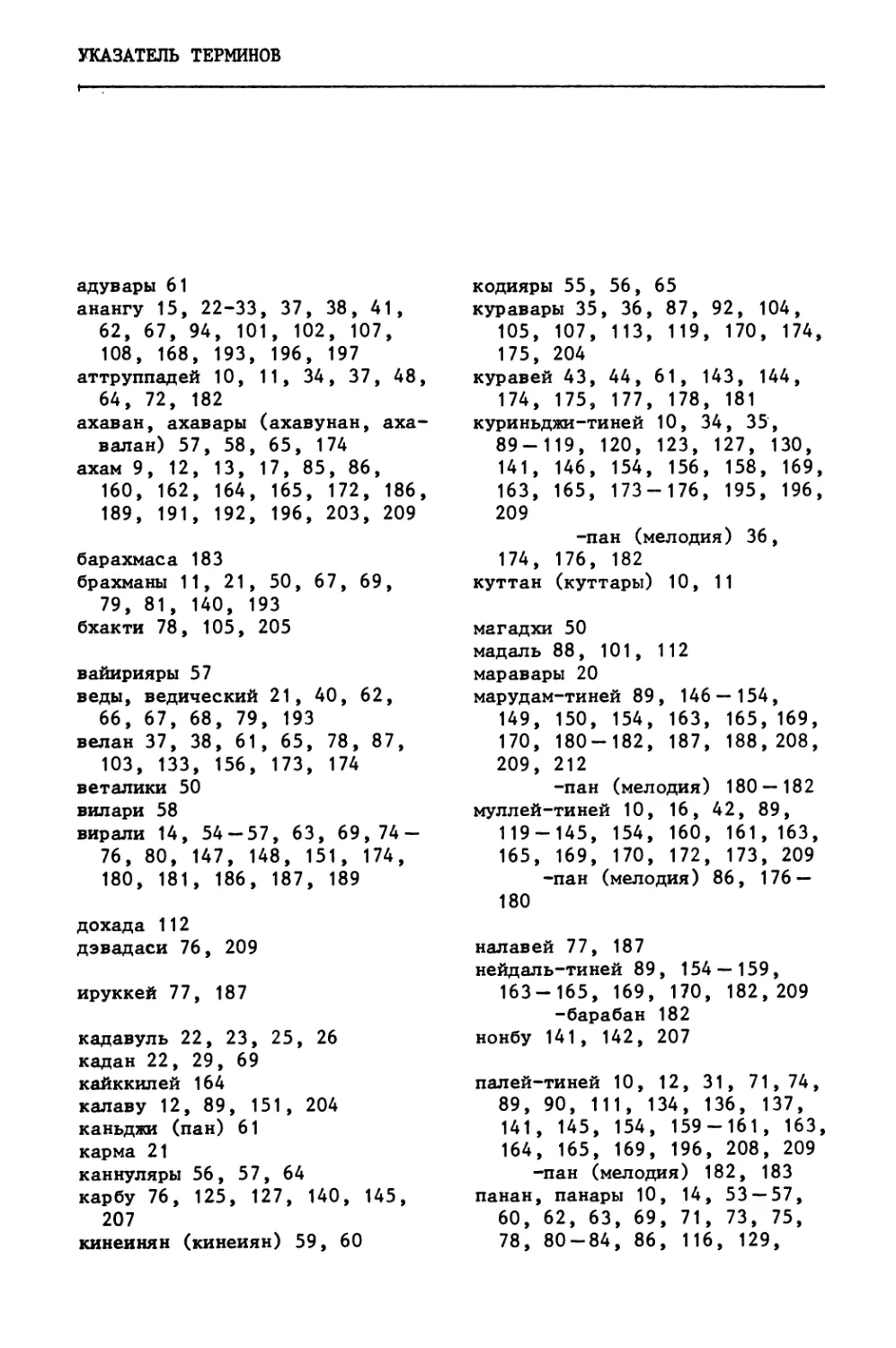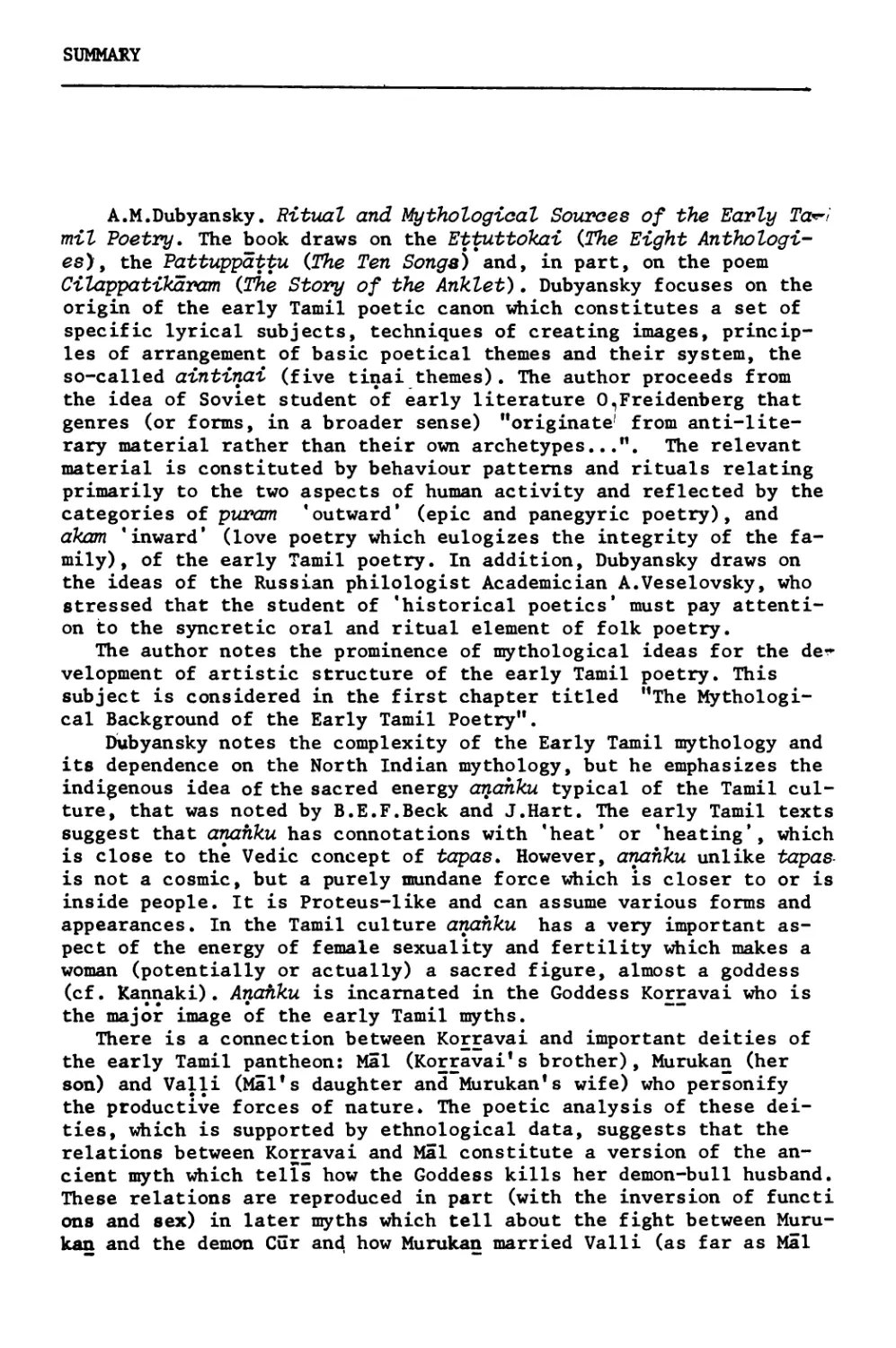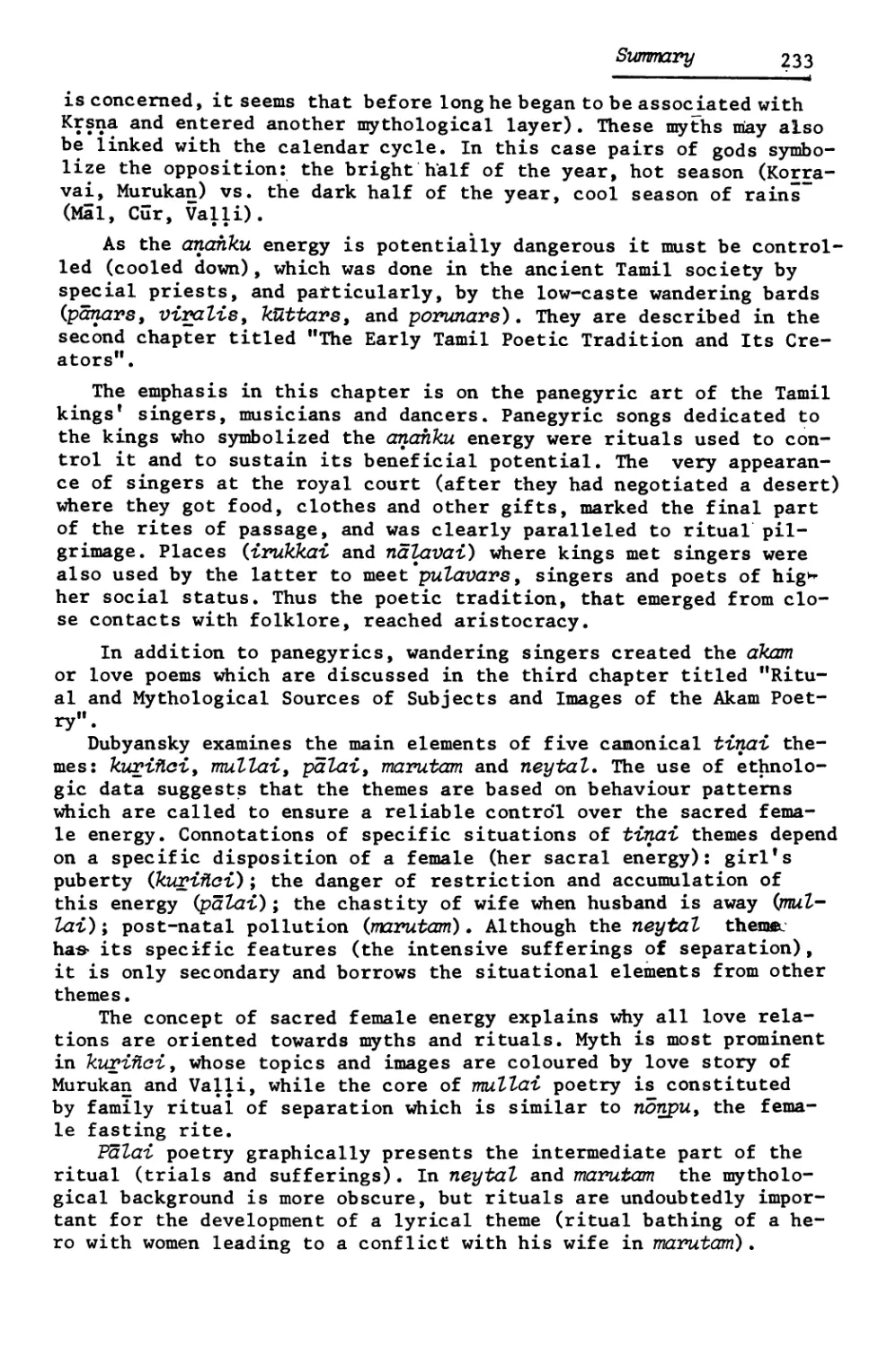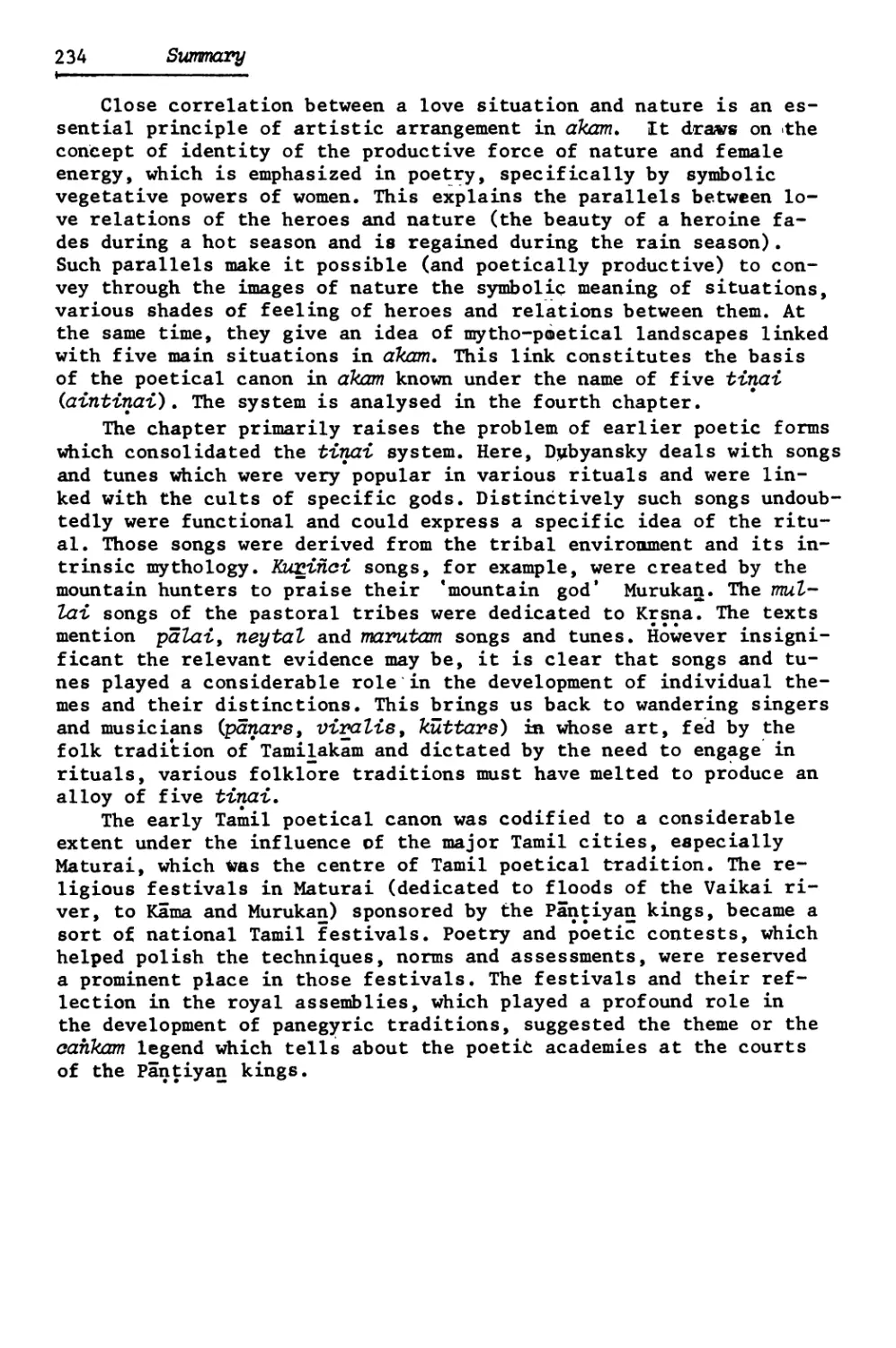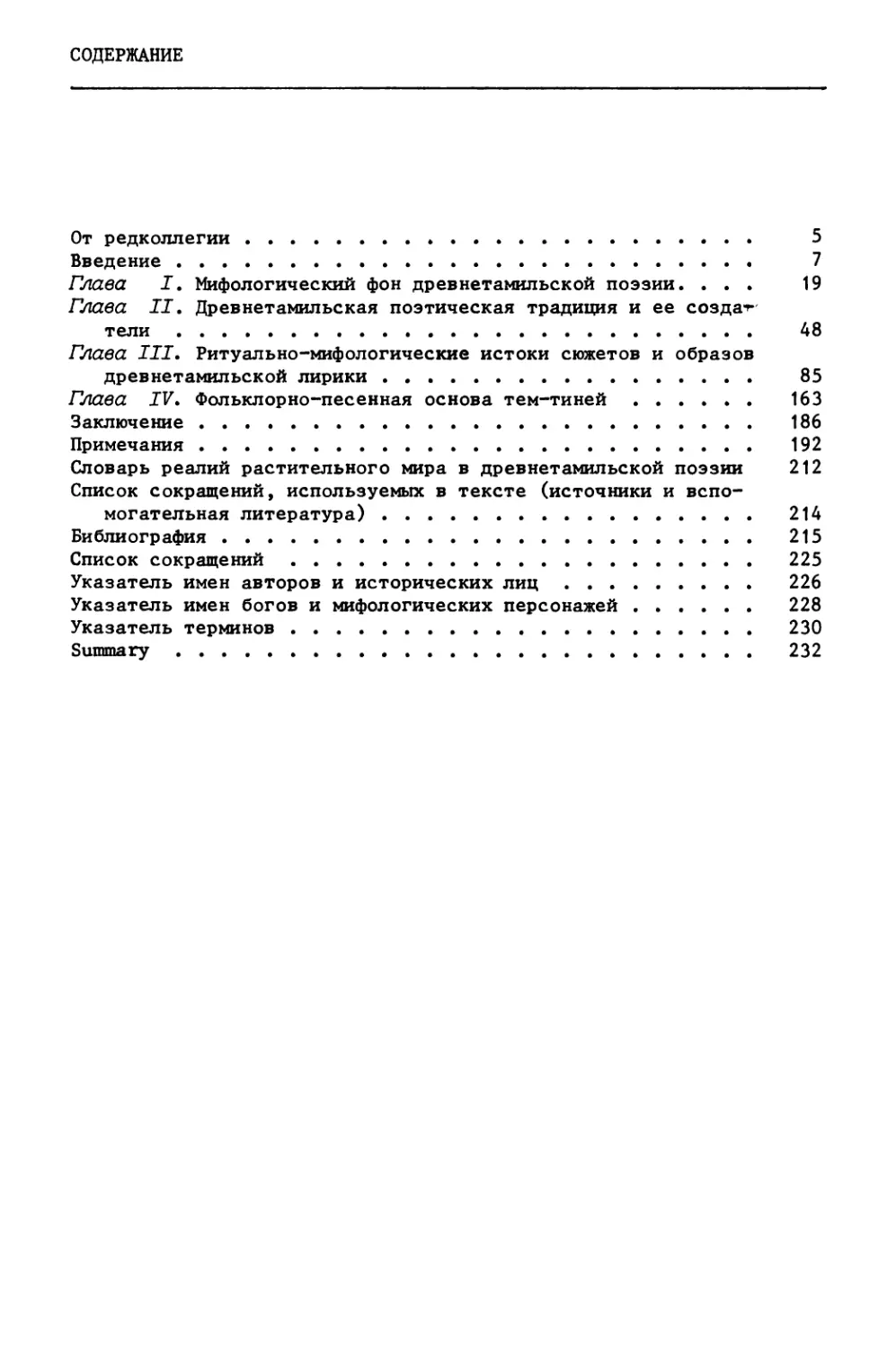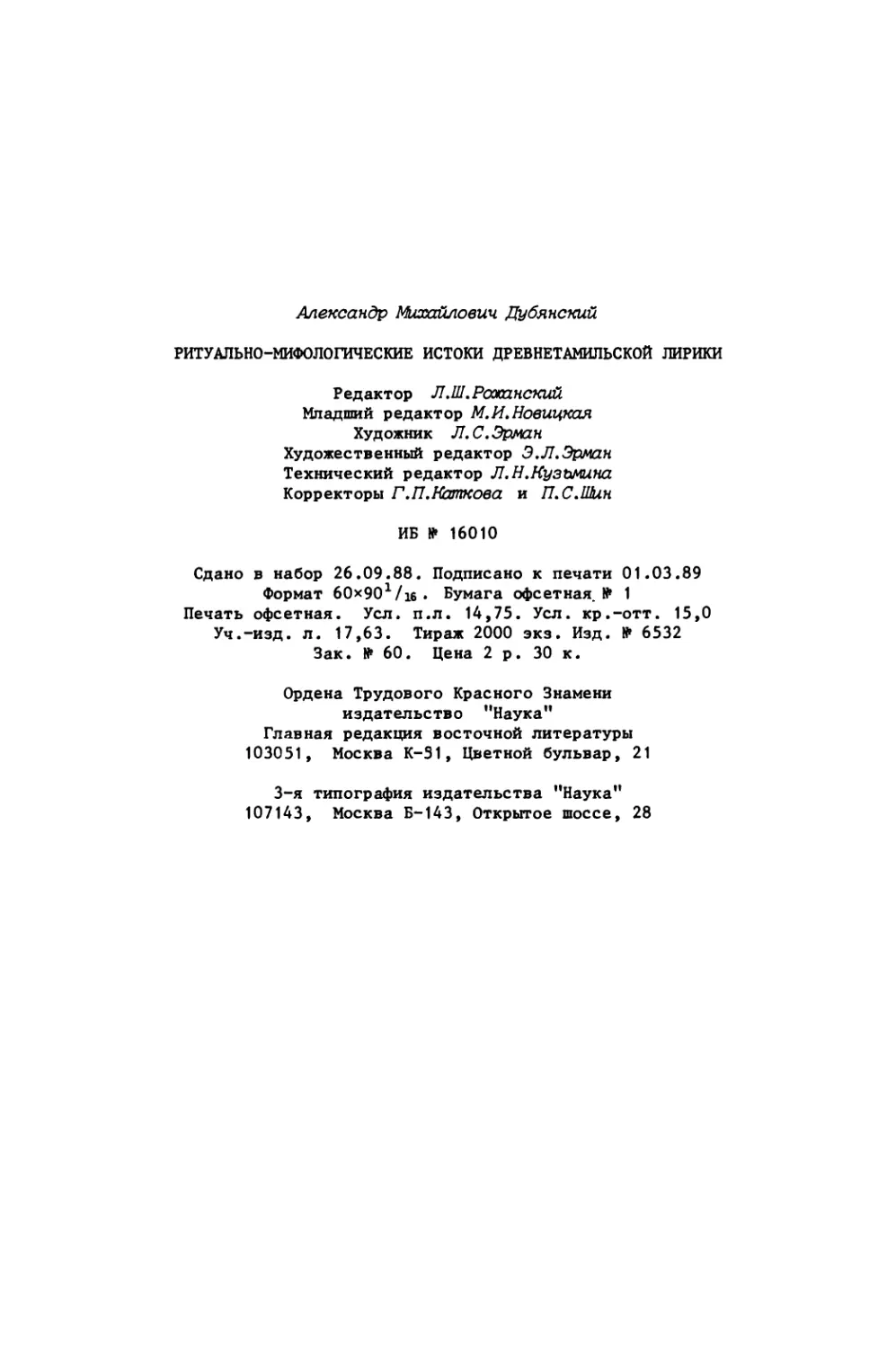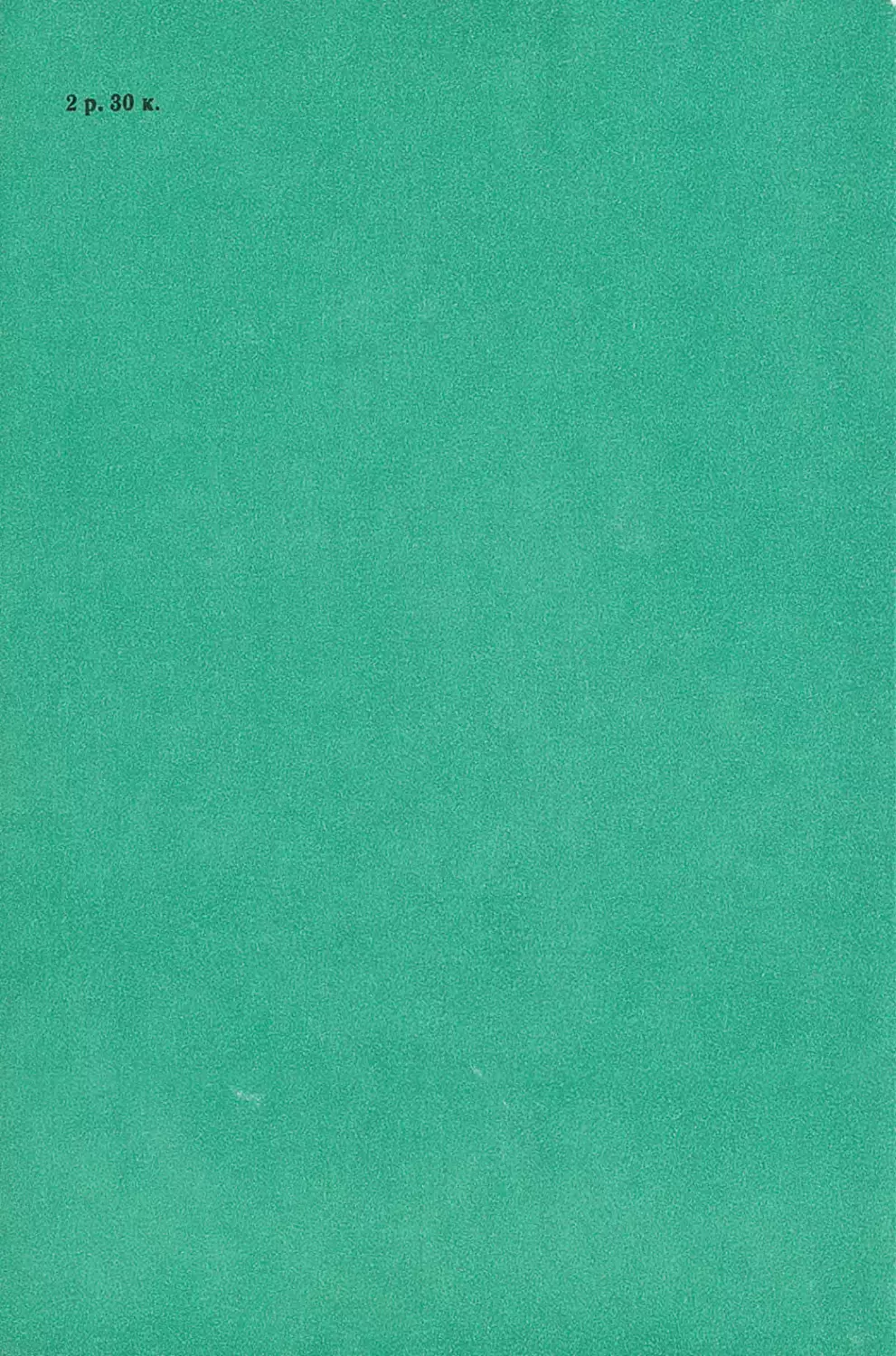Автор: Дубянский А.М.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран мифы фольклор издательство наука главная редакция восточной литературы фольклористика
ISBN: 5-02-016976-5
Год: 1989
Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В.ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ФОЛЬКЛОРУ
И МИФОЛОГИИ
ВОСТОКА
Серия
"Исследования по фольклору
и мифологии Востока11
основана в 1969 году
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
И. С. Брагинский,
ГЛ.Зограф,
Е.М.Мелетинский (председатель),
СЮ.Неклюдов (секретарь),
Е.С. Новик,
Б.Л.Рифтин,
С.С.Цельнихер
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
A. M. Дубянский
РИТУАЛЬНО
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСТОКИ
ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ
ЛИРИКИ
МОСКВА 1989
ББК 83.35 Ид
Д 79
Ответственный редактор
Е.М.МЕЛЕТИНСКИЙ
Рецензенты
В.В.ВЕРТОГРАДОВА, В.К.ШОХИН,
П.А.ГРИНЦЕР, С.Д.СЕРЕБРЯНЫЙ
Утверждено к печати
Институтом стран Азии и Африки
при ЖУ им1 М.В.Ломоносова и
Редколлегией серии
"Исследования по фольклору
и мифологии Востока"
Дубянский А.М.
Д 79 Ритуально-мифологические истоки древнета-
мильской лирики. М.: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1989. — 235 с. (Иссле-
дования по фольклору и мифологии Востока).
ISBN 5-02-016976-5
На материале классической тамильской поэзии, од-
ной из наиболее ярких составляющих древнеиндийской
культуры, анализируется влияние мифа и ритуала на ли-
тературную традицию. Устанавливается влияние мифологи-
ческих и ритуально-мифологических структур на генезис
и исходный смысл сюжетов произведений, их композицию
и художественно-образную систему.
4604000000-070
Д 013(Ô2)-S9— 108~88 ББК 83.35 Ид
(Q)Главная редакция восточной литературы
ISBN 5-02-016976-5 издательства "Наука", 1989
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Серия "Исследования по фольклору и мифологии Востока", выпуска-
емая Главной редакцией восточной литературы издательства "Наука" с
1969 г., знакомит читателей с современными проблемами изучения бо-
гатейшего устного творчества народов Азии, Африки и Океании. В ней
публикуются монографические и коллективные труды, посвященные раз-
ным аспектам изучения фольклора и мифологии народов Востока, вклю-
чая анализ некоторых памятников древних и средневековых литератур,
возникших при непосредственном взаимодействии с устной словесностью.
Значительное место среди изданий серии занимают работы сравнитель-
ного и сравнительно-типологического характера и чисто теоретиче-
ские, в которых важные проблемы фольклористики и мифологии рассмат-
риваются не только на восточном материале, но и с привлечением по-
вествовательного искусства других, соседних регионов.
Предлагаемая монография посвящена исследованию одной из древних
поэтических традиций Индии — древнетамильской лирики. Описана си-
стема поэтического канона, в частности "пять тем-тиней", прослеже-
но происхождение основных ситуаций, мотивов и образов в пластах
древнетамильской мифологии и в ритуальной практике. В книге также
рассматривается вопрос о связи поэзии с традиционным исполнитель-
ством и с песеннр-танцевальными формами народной обрядности.
Книги, ранее изданные«в серии "Исследования по фольклору и ми-
фологии Востока":
В.Л.Пропп. Морфология сказки. 1969.
Г.Л.Пермяков. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории
клише). 1970.
Б.Л.Рифтин. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае
(устные и книжные версии "Троецарствия"). 1970.
Е.А.Косгтасин. Александр Македонский в литературной и фольклор-
ной традиции. 1972.
Н.Рошияну. Традиционные формулы сказки. 1974.
П.А.Гринцер. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. 1974.
Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти
Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970). Сост. Е.М.Мелетинский и
С.Ю.Неклюдов. 1975.
Е.С.Котляр. Миф и сказка Африки. 1975.
С.Л.Невелева. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). 1975.
Е.М.Мелетинский. Поэтика мифа. 1.976.
В.Л.Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. 1976.
Е.Б.Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. 1976.
Ж.Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. Пер. с франц. 1976.
Паремиологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл,
текст). Сост. Г.Л.Пермяков. 1978.
О.М.Фрейденберг. Миф и литература древности. 1978.
От редколлегии
Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности.
Под ред. Е.М.Мелетинского. 1978.
Б.Л.Рифтин. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в
китайской литературе). 1979.
С.Л.Невелева. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и
сравнение. 1979.
Е.М.Мелетинский. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Воро-
на. 1979.
Б.Н.Путилов. Миф — обряд - песня Новой Гвинеи. 1980.
М.И.Никитина. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми-
фом. 1982.
В.Тэрнер. Символ и ритуал. Пер. с англ. 1983.
М.Герхардт. Искусство повествования (Литературное исследование
"1001 ночи"). Пер. с англ. 1984.
Е.С.Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопостав-
ления структур. 1984.
С.Ю.Неклюдов. Героический эпос монгольских народов. Устные и ли-
тературные традиции. 1984.
Паремиологические исследования. Сборник статей. Сост. Г.Л.Пер-
мяков. 1984.
Е.С.Нотляр. Эпос народов Африки южнее Сахары. 1985.
Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Пер. с англ.,
франц., румынск. Сост. Е.М.Мелетинский и С.Ю.Неклюдов. 1985.
Ж.Дюмезилъ. Верховные боги индоевропейцев. Пер. с франц. 1986.
Ф.Б.Я.Нёйпер. Труды по ведийской мифологии. Пер. с англ. 1986.
H.A.Спешнее. Китайская простонародная литература (Песенно-по-
вествовательные жанры). 1986.
Е.А.Костюхин. Типы и формы животного эпоса. 1987.
Я.Э.Голосовкер. Логика мифа. 1987.
Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках.
1988.
Г.Л.Пермяков. Основы структурной перемиологии. 1988.
ВВЕДЕНИЕ
Памяти Семена Германовича Рудина
70—80-е годы в советской литературоведческой науке
отмечены явно возрастающим интересом к проблемам проис-
хождения литературных форм, их исторической и культурной
обусловленности, их связи с внелитературным материалом.
В поле зрения филологов постоянно находятся идеи А.Н.Ве-
селовского, В.Ф.Шишмарева, О.М.Фрейденберг, А.Ф.Лосева
и других ученых. Из многочисленных аспектов разрабаты-
вавшейся ими проблематики серьезное внимание, в частно-
сти, привлекает вопрос о генезисе литературных форм в
сфере мифа и ритуала, в особенности когда речь идет о
литературах древности и средневековья. Весьма актуальна
и плодотворна постановка этого вопроса и применительно
к литературам Востока, в большей степени и на гораздо
большем отрезке времени, чем европейские, насыщенным ми-
фологическими и ритуальными реминисценциями (упомянем
как наиболее заметную из недавних работ книгу М.И.Ники-
тиной "Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми-
фом11) .
Поиски мифологических и ритуальных корней литературы,
без всякого сомнения, оправданны и продуктивны и в отно-
шении литературы Индии. Даже самый общий взгляд на нее
обнаруживает громадную ее зависимость от мифа и ритуала,
которая выражается не только в заимствовании ею сюжетов
мифов или в описании ритуалов, но и в использовании ми-
фологических и ритуально-мифологических структур, опре-
деляющих генезис и внутренний смысл сюжета, композиции
и других элементов произведений устной или письменной
литературной традиции.
В ряде специальных работ достаточно убедительно выяв-
ляются связь эпоса с мифом и ритуалом /Гринцер, 1974;
Васильков, 1974; 1979/, ритуально-мифологические истоки
индийской драмы, происхождение ее персонажей, генезис
отдельных ее элементов /Алиханова, 1975; 1985; Кёйпер,
1979/. Значительно меньше внимания уделяется пока древ-
неиндийской лирической поэзии, хотя ее исследование в
этом плане представляется делом интересным, перспектив-
ным и нужным, о чем свидетельствует, например, исследо-
вание пракритской лирики антологии мГахасаттасаим /Вер-
тоградова, 1985/.
Попытка исследования древнеиндийской лирической поэ-
зии будет предпринята и в настоящей работе, но на мате-
1-4 60
8 Введение
риале поэзии на тамильском языке, созданной на юге Ин-
дии в первых веках нашей эры. Дошедшие до нас сборники
представляют весьма развитую поэтическую традицию, нача-
ло которой не поддается пока точной хронологической и
географической локализации. Ясно лишь, что те произведе-
ния, которыми мы располагаем, появились, когда традиция
достигла значительной зрелости, и что она, несомненно,
была связана с двумя другими комплексами древнеиндийской
лирической поэзии — пракритским и санскритским, хотя во-
прос о конкретных видах связей, их возникновении и раз-
витии остается пока в общем открытым.
Древнетамильскую поэзию называют часто "поэзией сан-
гим или ипоэзией эпохи сангим, имея в виду известную ле-
генду, которая, устанавливая происхождение поэзии на та-
мильском языке, рассказывает о некоей поэтической акаде-
мии, "санге", существовавшей в стране тамилов еще на ма-
терике Лемурия, или Гондвана, погрузившемся в воды океа-
на. Оставляя в стороне незапамятное мифическое время, мы
должны сказать, что и для исторического периода реаль-
ность поэтической академии выглядит проблематичной, по-
чему и название мпоэзия санги11 нужно рассматривать как
дань традиции и привычке. Вместе с тем проблема историч-
ности санги волнует многих и хотя с точки зрения иссле-
дования самой поэзии она, может быть, и не столь уж важ-
на, но все же заслуживает рассмотрения (что и будет сде-
лано во второй главе), поскольку имеет отношение к во-
просу о происхождении и бытовании поэтической традиции.
В настоящее время есть достаточно оснований считать,
что в общем корпус текстов древнетамильской поэзии отно-
сится к первым трем векам нашей эры. Об этом, например,
свидетельствуют: 1) поразительное совпадение картины
жизни древнетамильского общества, запечатленной в поэ-
зии, с описаниями греческих и римских историков и путе-
шественников1; 2) результаты археологических раскопок
на территории Южной Индии (Арикамеду, Наттамеду, Каньд-
жи, Каверипумпаттинам и др.; см. /Мэлони, 1975, с.28/);
3) эпиграфические данные (в особенности приведенные в
трудах И.Махадевана; см., например, /Махадеван, 1971/)2.
Более пристальный взгляд на комплекс мпоэзия санги'1
позволяет обнаружить в нем различные хронологические
слои, из которых наиболее ранний можно отнести к I в.
до н.э., а поздние — к IV —VI вв. н.э. /Звелебил, 1975,
с.107; Харди, 1983, с.125/. Можно говорить о хронологи-
ческой стратификации и внутри поэтических сборников.
Впрочем, время создания отдельных произведений — вопрос
далеко не решенный, и чаще всего приходится иметь дело
с более или менее приблизительным определением времен-
ных границ того или иного явления.
Прежде чем перейти к самой поэзии, надо ввести не-
сколько понятий, которые, будучи категориями древнета-
мильской поэтики, образуют вместе с тем формальную осно-
Введение 9
ву группировки поэтического материала в двух поэтических
сборниках, составляющих комплекс "поэзия санги": "Восемь
антологий" (ettuttokai) и "Десять песен или поэм" (pat-
tuppät^u).
Основной такой категорией является porul содерокххние9
реализующая себя двояко: как akapporul (или akam) нечто
внутреннее и purapporul (или puram) нечто внешнее. Соответ-
ственно различают "поэзию ахам" и "поэзию пурам". Ахам —
поэзия, содержанием которой являются любовные и семей-
ные отношения, стремление к идеалу прочного семейного
союза. Содержание поэзии пурам — жизнь за пределами се-
мейного круга, по существу, это поэзия, воспевающая ге-
роизм воинов, доблесть и щедрость древнетамильских ца-
рей, князей.
Еще одна чрезвычайно важная категория древнетамиль-
ской поэтики — tinai (букв, -разновидность). Тиней можно
определить как поэтическую тему, складывающуюся из не--
скольких соотносящихся один с другим элементов. Темы-
тиней выделяются и в поэзии ахам, и в поэзии пурам, но
более характерны для первой, в которой составляют осно-
ву поэтического канона.
Состав сборников древнетамильской поэзии таков.
"Восемь антологий"
1. ainkurunüru (Айн)* — "Пятьсот коротких/стихотворе-
ний/", антология, состоящая из коротких стихов ахам раз-
мером от 3 до 6 строк. Каждая сотня посвящена одной теме-
тиней.
2. kuruntokai (KT) — "Собрание коротких /стихотворе-
ний/", антология из 401 стихотворения ахам (4 — 9 строк),
созданного 205 поэтами.
3. narrinai (HT) — "Прекрасные тиней", 400 стихов
ахам (8 -^Тз"строк), созданных 175 поэтами.
4. patirruppattu (Пади) — "Десять десятков", антоло-
гия панегирической поэзии, воспевающей царей династии
Чера. Сохранилось восемь десятков стихов (2—9) размером
от 8 до 57 строк.
5. akanânûru (АН) — "Четыреста стихотворений ахам",
антология произведений размером от 13 до 31 строки (145
поэтов)»
6. puranänüru (ПН) - "Четыреста стихотворений пурам",
антология произведений (4—40 строк) 157 поэтов.
7. kalittokai (Кали) — "Собрание стихотворений, напи-
санных размером кали", антология поэзии ахам (150 произ-
ведений пяти поэтов, от 11 до 80 строк).
8. paripätal (Пари) — антология, именуемая по назва*
нию стихотворного размера. В ней содержатся гимны (от 32
до 140 строк), восхваляющие богов Муругана, Тирумаля
* После названия произведения в скобках мы даем сокращение» ко-
торое будем употреблять в дальнейшем.
10 Введение
(Вишну) и реку Вайхей, причем религиозная тематика пере-
плетается с любовной. Из первоначального числа гимнов
(70) сохранилось 22 (полностью) и 13 различных фрагмен-
тов (авторами называются 13 поэтов). Из не дошедших до
нас гимнов один был посвящен богине Коттравей и четыре -
городу Мадурай.
"Десять песен"
1. porunarärruppatai (Пору) — "Наставление на путь
/к патрону/ поэта-порунана". Поэма Мудаттамакканнияра,
восхваляющая царя Чолы Карикалана и его владения. 234
строки.
2. pattinapälai (ПП) — "/Поэма о/ городе на тему-ти-
ней палей"."8 01 строка. Поэт Кадиялур Уруттиранканнанар
восхваляет царя Чолы Карикалана и его столицу — город
Каверипумпаттинам.
3. perumpänärruppatai (ППан) — "Наставление на путь
к патрону поэта-панана, играющего на ^бoльшoм йале"**. По-
эма Кадиялура Уруттиранганнанара, восхваляющая правите-
ля города Каньджи Тондеимана Иляндиреияна. 500 строк.
4. kurincippâttu (КП) — "Песнь на тему-тиней куриньд-
жи". 261 строка. Поэма Кабиляра, рассказывающая о любов-
ной встрече двух безымянных героев й краю горных лесов.
5. malaipatukatâm (МПК) — "Пьянящий аромат (или зву-
ки) гор". Поэма Перунгаусиканара, восхваляющая князя Нан-
нана и его владения. Другое название — kûttarârruppatai -
"Наставление на путь /к патрону/ танцоров". 583~строки.
6. maturaikkânci (MK) — "Мудрый совет /правителю/ в
Мадурай". Панегирическая поэма Мангуди Маруданара, вос-
хваляющая пандийского царя Недуньчежияна и его столицу
Мадурай. 78 2 строки.
7. netunalvätai (HB) — "Сильный и благостный север-
ный ветер". Поэма Наккирара, описывающая разлуку супру-
гов в начале сезона дождей. Под безымянными героями под-
разумеваются царь Недуньчежиян и его жена. 188 строк.
8. mullaippättu (МП) — "Песнь на тему-тиней муллей".
Поэма Наппуттанара, как и предыдущая, описывает разлуку
супругов в начале сезона дождей. 103 строки.
9. cirupänärruppatai (СПан) — "Наставление на путь
/к патрону/ поэта-панана, играющего на малом йале". По-
эма Наттаттанара, восхваляющая князя Наллияккодана и его
земли. 296 строк.
10. tirumurukärruppatai (TMA) — "Наставление на путь
к Муругану". Поэма~Наккирара, воспевающая в 317 строках
бога Муругана. Содержит описание его культа на ранней,
местной стадии его развития, но, с другой стороны, мно-
Й а л ь — старинный тамильский струнный музыкальный инструмент.
Введение 11
го заимствует из санскритских источников. Таким образом,
Муруган вводится в североиндийскую мифологическую тради-
цию и сливается со Скандой, древнеиндийским богом войны.
Среди текстов, объединенных в сборники "Эттуттохей"
и "Паттуппатту", есть произведения, безусловно, более
поздние, чем все остальные, отличающиеся от них как с
содержательной, так и с формальной стороны. Это антоло-
гии "Парипадаль", "Калиттохей", поэма "Тирумуругаттруп-
падей". Нет никакого сомнения в том, что они связаны
тесными узами с ранней поэзией, принадлежат к той же
традиции (и, между прочим, даже запечатлевают в ряде
случаев весьма архаичные местные культурные явления),
но в то же время в них происходит резкое усиление влия-
ния североиндийской культуры (санскритской пуранической
традиции). То же самое можно сказать и о поэмах V-VIbb.:
cilappatikäram (СП) — "Повесть о браслете", в которой
впервые достигается гармонический синтез южной и север-
ной литературных традиций (см. /Лобанова, Дубянский,
1987/), и manimëkalai (Мани) — "Манимехалей".
Представляется заслуживающей внимания точка зрения
Ф.Харди о "возрождении" в V —VI вв. древнетамильской
поэтической традиции, прерванной или, точнее, "затенен-
ной" нашествием калабхров, племен неизвестного пока
происхождения. Возрождение это происходило под эгидой
династии Пандьев и связано было с их столицей, городом
Мадурай, о чем свидетельствуют антологии "Парипадаль" и
"Калиттохей", насыщенные упоминаниями о Мадурай и прохо-
дивших там праздниках /Харди, 1983, с. 168/. Возможно,
что тогда же комплектовались и оформлялись другие анто-
логии. Во всяком случае, сильно отодвигать этот процесс
по времени от создания самой поэзии оснований нет, хотя
точные его даты нам, конечно, неизвестны (см. /Звелебил,
1975, с.83/).
Древнетамильская поэзия была автосской. Мы знаем име-
на 4 73 поэтов, которым принадлежит большая часть дошед-
ших до нас стихотворений и поэм, а имена авторов 102 сти-
хотворений до нас не дошли. Некоторые поэтические имена,
например Кабиляра, Наккирара, Аммуванара, Мангуди Маруда-
нара и других, весьма знамениты, известны и кое-какие
подробности жизни поэтов (из стихов — их собственных или
других). В ряде случаев мы имеем дело скорее не с имена-
ми, а с прозвищами, которые отражают какую-то физическую
особенность человека (Перунталей Саттанар — "Большеголо-
вый Саттанар", Аиюр Мудаванар — "Хромой из Аиюра"), его
происхождение (Алаттур Кижар — "Выходец из Алаттура"),
профессию (Мадурай Куттанар — "Танцор из Мадурай"), ре-
лигиозную или общинную принадлежность (Говарттанар —
"Говардхана", эпитет Кришны; Перунгаусиканар — от Кауши*-
ка, названия брахманской готры).
12 Ведение
Интересно, что в некоторых именах-прозвищах запечат-
лелось своеобразное представление традиции об авторской
индивидуальности, состоявшей в пристрастии поэта к опре-
деленной поэтической теме (Палеипадия Перунгадунго —
"Крепкосильный князь, певший на тему палей"') либо в упот-
реблении им каких-то ярких, запоминающихся выражений
(Аниладу мундрилар - "Тот, /кому принадлежат слова/:
двор, где играют белки", Кангуль веллаттар — "Тот, /кто
сказал/ о потоке ночной тьмы", Ореружавар — "Тот, /кто
сказал/ о пахаре с одним плугом").
Несмотря на то что, как мы отметили, древнетамильская
традиция рождает довольно крупных поэтов, говорить об
индивидуальном авторском начале в связи с ними приходит-
ся с оговорками. Их мастерство заключалось прежде всего
в умелом владении теми средствами выражения, которые пре-
доставлял им поэтический канон, сложившийся в рамках тра-
диции. Разумеется, развитие его шло в течение не одного
столетия, и в сборниках антологий и поэм он предстает во
вполне отработанном, зрелом виде — как система определен-
ных поэтических тем, образов, приемов. Вместе с развити-
ем поэзии развивалась и теоретическая мысль, закреплен-
ная в двух трактатах: kalaviyal enra iraiyanâr akapporul,
или iraiyanâr akapporul(ЙА), — "О'содержаний поэзии ахам
категории калаву („тайная любовь") Иреиянара" и в tolkäp-
piyam ("Древняя поэзия"), третья часть которого специаль-
но посвящена поэзии и именуется porulatikäram — "Глава о
содержании"3.
Тексты этих трактатов, истинные авторы которых нам
неизвестны, были зафиксированы примерно в одно и то же
время и, видимо, после создания основного объема поэти-
ческих текстов антологий и поэм ("Ахаппоруль" — IV —
VI вв., "Поруладихарам" - V в. /Звелебил, 1975, с. 56,
71/), но традиция исследования поэзии развивалась в те-
чение многих веков (сами трактаты нередко ссылаются на
предшествующие авторитеты) и, как полагают, древнее до-
шедших до нас поэтических текстов. Во всяком случае, по
мнению К.Тани Наягама, "большая часть „Толькаппиям" по-
нятна, если считать ее предшествующей корпусу бардиче-
ских текстов, и едва ли имеет смысл, если считать ее бо-
лее поздней" /Тани Наягам, 1972, с.69/. К этому надо до-
бавить, что тексты трактатов, конечно, содержат немало
интерполяций, испытали влияние санскритских источников
("Артхашастры", "Натьяшастры", "Камасутры" и др.) и,
возможно, соединили в себе разные местные традиции. Все
это делает весьма сложным вопрос о соотношении древних
теоретических текстов с поэтическими. То, что между ни-
ми существуют расхождения, не вызывает сомнений, но вы-
явление их причин требует специальных исследований. В на-
шей работе этот аспект тамильской поэтической традиции
не затрагивается, и к свидетельствам трактатов мы прибе-
Введение \з
гаем лишь в некоторых случаях для иллюстрации тех или
иных положений.
Древнетамильская поэтическая традиция, расцвет кото-
рой демонстрируют нам "Восемь антологий11 и "Десять пе-
сен", находит продолжение в нескольких сборниках ранне-
средневекового комплекса patinenkîlkkanakku ("Восемнад-
цать произведений низкого счета")»"посвященных темам
ахам и пурам (см. /Бычихина, Дубянский, 1987, с.32 —
33/). В большинстве случаев они представляют собой как
бы упражнения, берущие за основу образы и приемы, выра-
ботанные "поэзией санги", и сводятся к демонстрации по-
этической техники, которая у авторов этих произведений
(а каждый сборник — творение одного поэта) достигает вы-
сокой степени совершенства. В качестве примера можно
привести третью часть "Тируккурала", представляющую со-
бой цикл виртуозных двустиший, посвященных ситуациям лю-
бовной лирики ахам.
Значение древнетамильскои поэзии для всей последую-
щей тамильской литературы чрезвычайно велико. Ее тема-
тический канон, образность, стиль оказали громадное вли-
яние на средневековую дидактическую поэзию, продолжали
развиваться в придворной поэзии. Выраженные в ней идеи
в переосмысленном виде были заимствованы поэтами-бхакта-
ми и во многом определили самобытный характер их творче-
ства. Словом, об этой поэзии можно говорить как об одном
из краеугольных камней тамильской словесной культуры
в целом.
Однако, видимо, из-за того, что эта культура стала
частью общеиндийской, ориентированной на другие истоки
(ведические, пуранические), из-за того, что запечатлен-
ные в поэзии идеалы, присущий ей дух чувственного на-
слаждения жизнью вошли в противоречие с доктринами орто-
доксального средневекового индуизма, а также по ряду дру-
гих причин тексты.древних тамильских антологий и поэм
были забыты, и к началу XX в. от большинства произведе-
ний остались лишь названия. Потребовались громадные уси-
лия местных энтузиастов (в первую очередь У.В.Сваминатха-
ияра и Дамодарама Пиллей), чтобы были разысканы, собраны
и опубликованы записанные на пальмовых листьях многие об-
разцы древней и ранней средневековой тамильской поэзии.
Конечно, сохранилась лишь небольшая часть того, что суще-
ствовало в прошлом, но это было второе рождение древней
культуры, имеющей не только историческое, историко-лите-
ратурное, но и громадное художественное значение.
Естественно, что в то время, в период роста националь-
ного тамильского самосознания, открытие и публикация древ-
них текстов были встречены на юге Индии с восторгом. Од-
нако из-за трудности языка, недостаточности исторических
сведений о далекой эпохе непосредственное знакомство с
поэзией было доступно немногим и подразумевало специаль-
ное ее изучение; возникла потребность в работах, дающих
14 Введение
представление о культуре и истории древних тамилов, цен-
нейшим источником сведений о которых как раз, кстати, и
была вновь открытая поэзия.
Отвечая этой потребности, один из первых исследовате-
лей древнетамильскои поэзии, В.К.Канакасабей, в 189 5 —
1901 гг. опубликовал в журнале "Madras Review" серию ста-
тей, на основе которых в 1904 г. издал книгу "Тамилы во-
семнадцать веков тому назад" /Канакасабей, 1966/, где
дал весьма подробный обзор истории, политики, социальной
жизни Тамилнада первых столетий нашей эры. В книге содер-
жался и очерк древнетамильскои литературы, которая до то-
го времени, как отмечал автор, "была областью, куда не
ступала нога человека" /Канакасабей, 1966, с.2/.
С тех пор положение дел, конечно, изменилось, и те-
перь литература о древнетамильскои поэзии очень велика.
Правда, большую ее часть составляют работы чисто описа-
тельные, систематизирующие или рассматривающие тексты
как источник разного рода данных: исторических, этногра-
фических, ботанических и т.п. Исследования же, содержа-*
щие серьезную постановку литературоведческих проблем,
оригинальную трактовку текстов, стали появляться лишь
начиная с конца 60-х годов. Здесь в первую очередь за-
служивает упоминания книга К.Кайласапати "Тамильская ге-
роическая поэзия" (1968), посвященная исследованию поэ-
зии антологий и поэм с точки зрения происхождения ее
стиля. Впервые в тамилистике автор использовал сравни-
тельно-типологический метод изучения материала. Опираясь
на работы М.Парри и А.Лорда, он применил к древнетамиль-
скои поэзии критерии, разработанные в связи с изучением
эпического творчества разных народов, и сделал вывод о
принадлежности этой поэзии к тому же типу литературы,
что и древнегреческие "Илиада" и "Одиссея", древнеиндий-
ские "Махабхарата" и "Рамаяна" и т.д.
Несмотря на то что работа К.Кайласапати представляет
несомненную ценность подробным исследованием формульно-
го стиля древнетамильскои поэзии, ее основная идея несо-
стоятельна. Поэзия эта при безусловном наличии в ней
формул, мотивов, циклов, при наличии в ней даже опреде-
ленного героического идеала не эпос, и отдельные стихот-
ворения вопреки тому, что думает К.Кайласапати, не явля-
ются фрагментами утерянных эпических' поэм, а вполне са-
мостоятельны и вписываются в традицию панегирической и
любовной лирики1*. Многое мешает определить древнетамиль*-
скую поэзию как эпическую (см., например, /Дубянский,
1971; Харт, 1975, с.152 —154/), но устная ее основа не-
сомненна, и указание на эту основу, на важную роль в со-
здании поэзии древнетамильских исполнителей-певцов, та-
ких, как панары, порунары, вирали и др., — заслуга
К.Кайласапати. Кроме того, важно то, что он впервые ввел
тамильскую поэзию в широкий контекст мировой литературы.
Введение 15
Некоторую аналогию книге К.Кайласапати составляет ис-
следование К.Сиватамби "Древняя тамильская драма11 (1981),
в котором (также с приведением древнегреческих паралле-
лей) фигуры тех же исполнителей рассматриваются под уг-
лом зрения становления тамильских театральных, танцеваль-
но-пантомимических традиций. И хотя собственно поэтиче-
ским формам автор не уделяет внимания, его работа очень
важна и интересна, ибо в ней со всей определенностью об-
рисовывается та синкретическая исполнительская стихия,
с которой связано происхождение поэзии.
Об этой стихии много говорит и Дж.Харт в своей книге
"Поэмы на древнетамильском языке. Их среда и их санскрит-
ские, параллели11 (1975). Он связывает ее с представлением
о сакральной энергии (анангу), которое составляет, по
мысли ряда исследователей, краеугольный камень древней
дравидской ритуально-мифологической системы и в значи-
тельной мере определяет ее своеобразие. Впервые о роли
энергетического начала в ритуале заговорила Б.Бек (1966).
Впоследствии она же рассмотрела вопрос о том, как отра-
жается представление об энергии в тамильском фольклоре
(1972, 1974) — в основном в связи с фигурой женщины,
сакральная энергия которой ставит ее в исключительное
положение в ритуале, мифологии, в системе родственных
отношений. Дж.Харт подхватил эту идею, развил ее приме-
нительно не только к женщине, но и к фигуре царя, атри-
бутам царской власти, а также — что представляется осо-
бенно важным — к деятельности древнетамильских низкорож-
денных исполнителей, основная функция которых выявилась
как функция контроля над этой дающей благо, но вместе с
тем в высшей степени опасной энергией.
Дж.Харт выдвинул и свою точку зрения на характер дре-
внетамильских поэтических текстов. Резко противопостав-
ляя ее взглядам К.Кайласапати, он приписал создание все-
го комплекса антологий и поэм ученым поэтам высокого со-
циального статуса, которые использовали творчество не-
грамотных и низкорожденных исполнителей в качестве моде-
ли для своих письменных композиций /Харт, 1975, с. 157/.
Не соглашаясь с такой категорической и упрощающей дело
трактовкой процесса функционирования тамильской поэтиче-
ской традиции, мы надеемся в дальнейшем показать более
сложный его характер и ключевую роль в нем именно низко-
рожденных певцов и музыкантов.
Важнейшей проблемой, связанной с древнетамильской по-
эзией, является проблема происхождения поэтического ка-
нона, поэтических форм. Ее так или иначе касались мно-
гие авторы. Вопрос о связях поэтического канона с древ-*
ними ритуалами и обычаями затрагивается, например, в
книге К.Тани Наягама "Ландшафт и поэзия" (1966). В этой
работе, посвященной изображению природы в древнетамиль-
ских антологиях и поэмах, автор, в частности, пишет: "То,
что в действительности было образом жизни, позднее стало
16 Введение
обычаем, а затем кристаллизовалось в освященные традици-
ей поэтические условности, которым поэзия следовала даже
тогда, когда обычаи отжили свой векм /Тани Наягам, 1966,
с.25/. Тани Наягам дает много примеров таких обычаев
(главным образом в связи с природой и ее пониманием в
древности), но глубокого и систематического их исследо-
вания не проводит. Более подробно он говорит лишь о про-
исхождении традиционной тамильской системы классификации
природных ландшафтов, соответствующих пяти каноническим
темам любовной поэзии, но его интерпретация этой систе-
мы не представляется убедительной. Он исходит из концеп-
ции, которая подразумевает единство определенного типа
культуры и экономического уклада с определенным природ-
ным окружением. Таким образом, в основу поэтической
классификации Тани Наягам кладет систему пяти, как он
выражается, мантропо-географическихм комплексов, кото-
рую поэты, будучи привержены точному изображению дейст-
вительности, просто перенесли в поэзию /Тани Наягам,
1966, с.88/. В этой концепции сказывается слишком прямо-
линейное понимание автором поэтической условности (как
буквальное запечатление поэзией жизненных форм) и отсут-
ствует идея развития поэтических форм.
Происхождение пятичленной классификации — очень слож-
ная, но вместе с тем интересная проблема. О ней пишут
многие авторы. Обращает на себя внимание стремление оты-
скать предпосылки для этой классификации в географиче-
ских, социальных или экономических структурах /Сельваная-
гам, 1969; Сиватамби, 1971/, иногда даже в пяти философ-
ских элементах мироздания /Звелебил, 19 73, с.93 —95/.
К сожалению, такой подход, в принципе плодотворный, за-
слоняет от исследователей поэтические проблемы и в конце
концов оказывается вариантом "исторического" исследова-
ния, где поэзия привлекается для подтверждения тех или
иных концепций (экономических, антропологических и т.д.).
Этот недостаток присущ и единственной известной нам
работе, специально посвященной исследованию истоков од-
ной из поэтических любовных ситуаций — верности жены во
время разлуки (тема муллей) /Сиватамби, 1968/. Эта статья
представляет собой, по существу, небольшой экономический
трактат, которому тема муллей служит иллюстрацией. Глав-
ный вывод автора о том, что "концепция женской добродете-
ли, которая требует соблюдения супружеской чистоты, воз-
никает в Тамилнаде, как и везде, во время возникновения
института частной собственности" /Сиватамби, 1968, с.331/,
не говорит ничего о поэтическом становлении этой ситуа-
ции и вообще далек от того, что изображается в поэзии.
В сущности, упомянутые авторы не ставили перед собой
литературоведческих задач, но это лишь подтверждает по-
ложение вещей: проблема происхождения древнетамильской
любовной лирики остается по-настоящему не решенной.
И именно эту проблему мы ставим в центр нашего исследо-
Введение \7
вания, надеясь, что она может оказаться интересной и в
плане исторической поэтики, изучающей формы литературы
в зависимости от исторических и культурных условий ее
развития.
Одним из исходных моментов настоящей работы является
упоминавшееся выше характерное для мировоззрения древних
тамилов представление о сакральной энергии. Наряду с
Б.Бек и Дж.Хартом оно разрабатывалось и нами /Дубянский,
1974; 1979; 1983/, причем нас оно интересует не только
как реалия древнетамильского общества, нашедшая отраже-
ние в поэзии. Наиболее важным мы считаем необходимость
понять, как это представление, реализуясь в ритуале и
мифе, влияет через них на становление художественной
формы, в частности специфической образности поэзии ахам
и системы пяти тем-тиней. Мы надеемся показать, что по-
этический канон, предстающий перед нами в антологиях
и поэмах как закрепленная традицией и достаточно разра-
ботанная система норм, условностей, правил, насыщен глу-
боким архаическим содержанием, определенным ритуальным
смыслом, которые не успели еще полностью выветриться из
поэзии в процессе ее профессионального или полупрофессио-
нального культивирования. Исходя из этого, мы ставим пе-
ред собой в настоящей работе следующие задачи: 1) уста-
новление ритуально-мифологических истоков основных ситу-
аций древнетамильскои любовной лирики; 2) определение в
связи с этим принципов создания образов героев поэзии и
3) принципов построения тем-тиней с точки зрения сочета-
ния ситуации с конкретным природным окружением; 4) выяв-
ление ритуального характера творческого акта на ранней
стадии функционирования древнетамильс-кой поэтической
традиции; 5) описание в общих чертах процесса отхода
поэзии от своих ритуально-мифологических корней.
В соответствии с выдвинутыми задачами мы считаем не-
обходимым посвятить первую главу работы рассмотрению
мифологических представлений древних тамилов, в частно-
сти представления о сакральной энергии, ее различных
проявлениях и функциях. Здесь говорится и об основных
мифологических персонажах, и о специфике их образов.
Вторая глава посвящается рассмотрению функций древне-
тамильских странствующих певцов и музыкантов и их связей
с тамильскими царями, носителями сакральной энергии.
Значительное внимание мы уделим анализу акта исполнения
панегирика и покажем его ритуальный смысл. Мы надеемся
также наметить пути, по которым происходила передача
традиции из рук упомянутых исполнителей в руки ученых
поэтов (так называемых пулаваров). Кроме того, в этой
главе будет затронут и вопрос о санге, с которой сама
традиция связывает свое происхождение.
В третьей главе мы рассмотрим основные ситуации поэ-
зии ахам, приемы создания образов героев лирики, проана-
2 60
18 Введение
лизируем различные элементы тем-тиней и принципы их со-
четания .
В четвертой главе мы специально поговорим о системе
пяти тем-тиней с точки зрения ее происхождения и связи
с определенной исполнительской практикой, с формами на-
родной поэзии и музыкой.
Выбранный нами угол зрения на древнетамильскую поэ-
зию, привязывающий ее к мифу и ритуалу, разумеется, не
отрицает иного подхода к ней и не исчерпывает возможно-
стей дальнейшего ее изучения — напротив, он предполагает
их, поскольку определяет, как мы считаем, важнейшие на-
чальные характеристики этой поэзии. Ну а вне поля нашего
зрения остаются, например, вопросы теоретического осмыс-
ления поэтики антологий и поэм в трактатах, связей та-
мильских трактатов и самой поэзии с пракритской и севе-
роиндийской традицией. Последний вопрос чрезвычайно ва-
жен с точки зрения становления древнеиндийской лириче-
ской поэзии в целом, необходимость его решения назрела
давно. Он, правда, был поставлен в упоминавшейся книге
Дж.Харта (1975), где проводятся многочисленные параллели
(тематические, образные и др.) между тамильской и севе-
роиндийской поэзией, но к выводам автора о влиянии пер-
вой на вторую /Харт, 1975, с.277—280/ следует относить-
ся с осторожностью. Как бы ни интересны и убедительны
были отдельные случаи сходства или влияния, вопрос, по-
видимому, должен решаться на основании полного сопостав-
ления поэтических систем обеих традиций, что еще пред-
стоит сделать. В нашей работе мы такой задачи перед со-
бой не ставим, хотя в некоторых случаях обращаемся к
опыту пракритской и санскритской поэзии.
Глава I
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН
ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
В древнетамильских поэтических текстах границы терри-
тории, на которой обитали тамилы, Тамижахам, определяют-
ся четко: на юге — мыс Кумари, на севере — горы Венката,
на западе и востоке - океан (ПН 6, 1-4; 17, 1-4)1.
Ранняя политическая история этой части Южной Индии
нам неизвестна. В санскритских и пракритских источниках,
относящихся ко второй .половине I тысячелетия до н.э.
(комментарии Катьяяны на грамматику Панини, IV в.; эдик-
ты Ашоки, III в.; надпись из Хатхигумпхи, II-I вв.),
встречаются упоминания о трех южноиндийских царствах —
Чера, Чола и Пандья, но никаких данных о них не приво-
дится2. Впервые некоторые сведения о правителях, их ге-
неалогии, отрывочные подробности о социальном составе
южноиндийского общества мы получаем из надписей алфави-
том брахми (II в. до н.э.), представляющих собой наибо-
лее ранние образцы тамильского языка (см. /Махадеван,
1971/). Однако лишь древняя тамильская поэзия более или
менее полно раскрывает перед нами жизнь индийского юга,
позволяет познакомиться с социальным устройством общест-
ва, с материальной и духовной культурой древних тамилов.
И хотя авторы стихов изображали действительность идеали-
зированно, картина, которую можно представить на основа-
нии их творений, собранных в "Эттуттохей", "Паттуппатту",
а также в "Повести о браслете", производит впечатление
совершенно достоверной — во всяком случае, она, как мы
уже отмечали, хорошо согласуется с данными античных ав-
торов и результатами археологических раскопок.
Помимо трех крупных царств — Чера, Чола и Пандья3 —
существовали земли, принадлежащие мелким правителям или
племенным вождям, которые иногда сохраняли самостоятель-
ность и успешно отбивали набеги соседей, но чаще, усту-
пая силе, становились либо их союзниками, либо данника-
ми. В стихотворениях и поэмах постоянно упоминаются во-
енные столкновения, нередко значительные. Поэты, наприн
мер, сообщают, что пандийский царь Чежиян обратил в бег-
ство армии Чолов и Черов в битве при Кудаль (т.е. Мадуг
рай) (АН 116), осадил город Мусири в Чере (АН 57) и, на-
конец, разгромил в битве при Аланганаме объединенную ар-
мию Черов, Чолов и князей Тидияна, Ежини Ерумеиюрана,
Ирунговенмана и Порунана (АН 36).
Эти и прочие сражения, о которых говорится в текстах,
велись главным образом ради получения добычи и дани, для
20 Глава I
демонстрации силы и обретения царями воинской славы. Зах-
ват территорий врага, расширение своих владений за их
счет, судя по всему, причинами войн не являлись, и поли-
тическая карта Южной Индии в течение первых трех веков
нашей эры серьезно не перекраивалась.
Хотя военная добыча, а также доходы от торговли были
главными источниками пополнения казны тамильских царей
/Кеннеди, 1976, с.4/, экономической основой южноиндий-
ских государств следует все же считать земледелие, успеш-
но развивавшееся в плодородных рисовых долинах рек Каве-
ри в Чоле, Вайхей в Пандье и на побережье Черы /Мэлони,
1976, с. 12/ч• Именно здесь возникают города, средоточие
древнетамильской материальной и духовной культуры, та-
кие, как Мадурай, Уреиюр, Ваньджи, Каньджи. К ним следу-
ет добавить и порты Пухар, Карур, Тонди, Коркей — центры
энергичной торговли и морского промысла.
Наряду с ними существовали во множестве небольшие се-
ления — обнесенные стенами городки, крепости местных
правителей, деревни земледельцев, пастухов, охотников,
рыбаков. Их разделяли джунгли или пустынные пространст-
ва, где жили племена, находившиеся на более низкой сту-
пени культурного развития. Так, тексты постоянно упоми-
нают эйинаров и мараваров — охотников, промышлявших лу-
ком и стрелами и не гнушавшихся грабежа на дорогах.
Тексты упоминают ряд социальных групп древнетамиль-
ского общества, различавшихся прежде всего по профессио-
нальному признаку: плотников, кузнецов, торговцев солью,
музыкантов и т.п. Каждая такая группа обозначалась тер-
мином kuti клан, ро$, была, по-видимому, наследственной
и представляла собой, в сущности, "джати" — касту или
подобие касты. Не вдаваясь в подробности древнетамиль-
ской социальной структуры с этой точки зрения (обсужде-
ние вопроса см. /Харт, 1975, с. 119 —133/), отметим без-
условное наличие в ней, с одной стороны, групп низких,
"презираемых": ilicinan, pulaiyan (ПН 82, 3; 287, 2;
289, ТО; 360, 19~и др.У — прачек7 кожевников, некоторых
категорий музыкантов — и, с другой стороны, социального
слоя, который обыкновенно обозначается словом cânrôr
благородные /корень слова — cäl (ДЭС 2037) имеет значе-
ния быть полным, обильным, соответствовать, быть законченным,
быть достойным/. Именно этот слой воспевается древнета-
мильской поэзией, которую иногда так и называют "поэзи-
ей благородных" (cânrôr ceyyul /Кайласапати, 1968,
С.228-/). Кайласапати^ отмечая) что выражение cänror cey-
yul употребляется в смысле поэзия, созданная благородными
поэтами, показывает, что в самой поэзии слово cânrôr ча-
ще всего обозначает воин, сильный человек, герой и,"таким
образом, сДпгот ceyyul правильнее понимать как поэзия,
посвященная благородным воинам. Этим подчеркивается несомнен-
ный аристократизм древнетамильской поэзии, обслуживав-
шей, как видно из нее самой, царско-княжескую верхушку,
Мифологический фон древнетамильской поэзии 21
родо-племенную знать, приближенных к царю воинов, пред-
водителей местных общин,
В экономическом, культурном и этническом отношении
древнетамильское общество было неоднородным. Вполне ес-
тественно, что и мировоззрение такого общества, насколь*
ко оно может быть реконструировано, должно оказаться яв-
лением сложным, разнообразным, многоуровневым. Надо учи-
тывать еще и то, что в описываемое время юг Индии испы-
тывал сильное влияние североиндийской культуры. О на-
чальном его этапе по существу ничего определенного ска-
зать невозможно, но совершенно ясно, что процесс воздей-
ствия шел уже очень долго, — по мнению Нилаканты Шастри,
с начала I тысячелетия до н.э. /Шастри, 19 76, с.69/.
Как бы то ни было, в первых веках нашей эры в стране та-
милов достаточно хорошо были известны Веды и ведические
ритуалы, древнеиндийский эпос, джайнское и буддийское
учения, вообще целый ряд идей, образов, представлений,
связанных с санскрито- или пракритоязычными источниками
(например, понятие кармы, концепция трех жизненных це-
лей, священный статус коровы, некоторые астрономические
знания). В текстах антологий и поэм встречаются упомина*
ния о Брахме, Шиве, Вишну,( Кришне и Балараме, Индре, не-
которых других мифологических персонажах (Парашурама,
Арундхати и т.д.)5.
Несомненным авторитетом пользовались на юге брахма-
ны6 . Их услуги особенно ценились при дворах тех тамиль-
ских правителей, кто стремился подражать североиндий-
ским монархам и организовывал престижные ведические жерт-
воприношения .
О царь, ты обладаешь праведным мечом
И жертвоприношения свершаешь постоянно — в окруженье
Других царей, теперь твоих прислужников,
И брахманов ведических, которым сдержанность присуща
И кто исполнен знанья шрути (ПН 26, 12—15)7.
Брахманы упоминаются в древнетамильской поэзии неред-
ко, причем всегда с интонацией уважения- и к ним, и к их
занятиям. Известно, что и некоторые поэты сами были брах-
манами, оставившими свое жреческое ремесло8. К ним при-
надлежали, например, Кабиляр, Паранар, Наккирар. Несом-
ненно, что в первую очередь именно через них и им подоб-
ных древнетамильская поэзия воспринимала североиндийские
идеи и образы. В особенности это относится к панегириче-
ским стихам и поэмам: царей охотно подключают к санскрит-
ской мифологической или эпической традиции. Например, в
ПН 55 говорится, что царь выделяется среди прочих царей,
"как третий глаз, сверкающий на украшенном месяцем лбу
того, кто обладает великолепной царственной головой и
черным горлом, кто дал могучим небожителям победу, когда
разбил три крепости одной стрелой, взяв луком высокую
гору, а тетивой — змея" (1—5)9; автор ППан восхваляет
2-3 60
22 Глава I
правителя Каньджи как "происходящего от того, кто цветом
морю подобен, кто мир весь измерил (т.е. Вишну)" (30—32),
сравнивает его с доблестными Пятью (Пандавами), боровши-
мися с Сотней (Кауравами) (ППан 415—417).
Бесспорно то, что образы, идеи и представления, при-
надлежащие к общеиндийской мифологической традиции, впол-
не органично вписываются в древнетамильскую поэзию. Вмес-
те с тем ими далеко не исчерпывается ее мифологическое
содержание, они не затрагивают целого ряда ее жизненных
центров и составляют лишь один из ее культурных слоев,
сосуществующий с иными, сформировавшимися на местной поч-
ве гораздо раньше. Разумеется, при длительном взаимодей-
ствии таких слоев проведение демаркационных линий между
ними — дело весьма тонкое, не всегда осуществимое, и мы
далеки от мысли выделить из поэзии некий чисто тамильский
субстрат (сама постановка такого вопроса вследствие не-
сомненной гетерогенности тамильской культуры некоррект-
на) . Свою задачу мы видим в том, чтобы выявить те мифоло-
гические и религиозные представления, так или иначе в по-
эзии запечатленные (и, как мы убеждены, самые архаичные),
которые оказали влияние на формирование древнетамильско-
го поэтического канона.
Из терминов, которые употребляются в текстах для обоз-
начения феноменов сакрального мира (подробнее об этом см.
/Звелебил, 1977; Дубянский, 1985/) , для нас наиболее ин-
тересны два — katavul и ananku« На них следует обратить
внимание еще и потому, что трактовка их часто противоре-
чива и, с нашей точки зрения, неточна.
Так, термин katavul, исходя из его этимологии (см.
ДЭС 929), нередко'понимают как обозначение высшего транс-
цендентного божественного начала, превосходящего все яв-
ления и объекты мира и в то же время в них имманентно
присутствующего10. Такая концепция божества, вполне под-
ходящая для философско-теологических систем развитого
индуизма (например, распространенной на юге Индии шайва-
сиддханты), несомненно, противоречит духу древнетамиль-
ской поэзии и представляется в связи с ней сомнительной.
Отчетливо осознавая это, Дж.Харт приходит к отрицанию
общепринятой этимологии термина: по его мнению, корневую
морфему kata следует возводить к katan долг (здесь в
смысле жертвоприношения). Согласно рассуждениям Харта,
бог — это тот, кому должно приносить жертвы /Харт, 19 75,
с.27/.
Разделяя мнение Харта о невозможности "трансценден-
тальной" интерпретации божества в древнетамильской куль-
туре, мы в то же время не можем не отметить искусствен-
ность и его трактовки: она не вполне убедительна с грам-
матической точки зрения (от katan естественнее построить
форму kaÇaiiul), a главное, соверЪенно напрасно отвергает
традиционную"этимологию. Ведь она, если отвлечься от фи-
лософских импликаций, как нельзя лучше соответствует ис-
Мифологический фон древнетамильской поэзии 23
конной древнетамильской концепции божества, которая, по
нашему мнению, состоит в том, что katavul бог есть то, что
выходит за пределы у или, в более общем" виде, просто то,
что движется21. Вероятнее всего, древнетамильское представ-
ление о божественном, сакральном начале в первую очередь
имеет в виду духов или местные божества, одним из основ-
ных атрибутов которых является способность свободно пе-
ремещаться в пространстве, выходить за пределы четких
границ или рамок. Такому пониманию божества, подтверждае-
мому, кстати, примерами, которые будут приведены в даль-
нейшем, нисколько не противоречит то обстоятельство, что
с течением времени упомянутая способность движения, как
и сам термин katavul, переосмысляется в метафизическом
плане.
Специфика древнетамильского представления о сакраль-
ном раскрывается, далее, в связи с понятием •ananku. Это
понятие, как мы увидим, чрезвычайно важно для тамильской
культуры и заслуживает внимательного рассмотрения12.
Вслед за К.Звелебилом /Звелебил, 1979, с. 159 —160/ от-
метим многозначность слова ananku. Словарь ППТИ дает 12
его значений, из которых можно выделить такие: страх, ис-
точник страха; любое устрашающее божество или демон; демоница, по-
являющаяся как красавица; убивающая юношей (идентифицируется
с Мохини, воплощением Вишну в виде соблазнительно-пре-
красной, но опасной женщины). Учитывая, что основные зна-
чения слова — мучение, боль, страдание, умерщвление (глагол
ananku соответственно означает мучить, приносить страдание,
быть мучимым, погибать, а также подчинять, подавлять, сдержи-
вать; прятаться, подчиняться: ДЭС 566), мы вправе предполо-
жить, что ananku - это некая устрашающая сила, которая
приносит человеку зло' и страдание и которая может прояв-
лять себя как неперсонифицированно, так и в виде неких
существ — духов, демонических персонажей, божеств13. Од-
нако если мы рассмотрим все случаи употребления слова
ananku в древнетамильской поэзии, то обнаружим, что дан-
ное определение не дает полного представления об ananku,
не исчерпывает этого феномена. В самом деле, с его" по-
мощью нельзя объяснить, почему описываются как обладаю--
щие анангу горы (АН 22, 1; 226, 19; 372, 3; HT 288, 1;
ПН 52, 1; 151, 11; ППан 494), прохладная бухта (АН 240,
8; Айн 28, 1; 174, 1), море (АН 207, 1; МК 164; Мани 17,
12), дерево кадамба (Пади 88, 6); кроме того, анангу об-
ладают лук (АН 159, 6), стрела (АН 167, 8), укрепленные
стойки ворот (МК 353-354, 693), площадка перед домом
(ПИ 274, 4), бобы-кажангу, используемые для прорицаний
и гадания (HT 47, 8; 282, 5), слон (КТ 308, 2-3), лев
(ППан 258), змея (ПН 211, 2; АН 108, 2; HT 37, 9.; КТ 119,
2); анангу присуща и людям, ибо содержится в "больших
руках" (Пади 62, 11) и "крепких ногах" героев (Пади 11,
падигам, 11), в женской груди (АН 177, 19; Айн 363, 3 —
4); с ней ассоциируется женщина в целом — "девушка, ис-
2-4 60
24 Глава I
полненная анангум (ananku cäl arivai — АН 14, 15; 181,
25; 212, 8). С анангу связываются даже абстрактные поня-
тия ("время, наполненное анангу" — ПН 369, 6; "исполнен-
ное анангу целомудрие" — АН 73, 5; клятва — HT 386, 6);
анангу, наконец, обладают боги: Муруган ("редкостная
анангу Муругана" — АН 86, 10; "обладающий анангу Муру-
ган" - ПН 299, 6), Тирумаль-Вишну ("редкостная сила Ти-
румаля, обладающая анангу" — Пари I, 43; "диск Тирумаля,
наполненный анангу" — Пари XIII, 6), а в одном случае
(Кали 105, 15) обладающим анангу называется Индра.
Как видно из этого списка примеров, причем далеко не
исчерпывающего, анангу, во-первых, не всегда злое, опас-
ное начало, часто оно ассоциируется с богами, борющими-
ся против демонов (см. /Звелебил, 1979, с.167/), с каче-
ствами силы, надежности, блага (в АН 20, 11 она так и
называется nallananku, т.е. благая анангу) ; во-вторых, не-
смотря на то что словом ananku называются духи и божест-
ва, оно в первую очередь подразумевает некую энергию,
связанную с разнообразными предметами и явлениями мира.
"Эта энергия... — пишет Харт, — была потенциально
опасной сакральной силой, которая предполагалась нали-
чествующей в любом объекте или человеке, по тем или иным
причинам обладавшим, как считали, особой потенцией. Со
всем, где она содержалась, нужно было обращаться осторож-
но, иначе энергия выходила из-под контроля и приводила к
катастрофе. Но если „анангу" находилась в надлежащем ме-
сте и под контролем, она сообщала вещам сакральную пра-
вильность, надежность, и это было важнейшим критерием
отношения к ним человека. Среди объектов, содержавших
эту энергию, были целомудренная жена, царь, некоторые
виды барабанов, специальные столбы, мемориальные камни
с душами павших героев в них, мертвые тела, вдовы, жен-
щины во время месячных и в послеродовой период. Кое-где
она потенциально менее стабильна, но в любом случае дол-
жна быть тщательно контролируема" /Харт, 1976, с.321/.
Добавим к словам Дж.Харта определение К.Звелебила:
"Сакральное понималось как сила, присущая некоторым ме-
стам, объектам, существам, а не как владение вполне оп-
ределенных трансцендентных богов. Термин, применявшийся
для обозначения сакрального, был „анангу", первоначально
мыслившийся как обозначение внушающей благоговение
сверхъестественной энергии, безличной, анонимной силы,
находящейся внутри ряда феноменов, но не идентифицируе-
мой и не смешиваемой ни с одним из них. Сакральная энер-
гия была столь независима от определенных вещей или лиц,
в которых она, как полагали, обреталась, что она дол-
жна была предшествовать или переживать их. Она была без-
личной, капризной, опасной, сама по себе ни благой, ни
неблагой, она обнаруживалась пребывающей в местах, вы-
зывающих благоговение, — горах, море, на поле битвы, на
току, который использовался в качестве места, где испол-
Мифологический фон древнетамильской поэзии 25
нялись оргиастические и священные танцы; из предметов
она, как полагали, находилась в опасных или ценных ве-
щах, таких, как оружие и музыкальные инструменты; она
присутствовала также в некоторых внушающих страх живот-
ных (лев, тигр, змея) и в некоторых (возможно, тотемных)
деревьях" /Звелебил, 1979, с.190/.
В рецензии на книгу Харта Т.Барроу отмечает неудовлет-
ворительность трактовки автором термина ananku: во-пер-
вых, как считает он, эта трактовка не учитывает всех зна-
чений слова; во-вторых, термин ananku в раннем слое ли-
тературы не означает генерализированную потенцию, а ис-
пользуется для обозначения богов, божественных существ,
духов и демонов, обретающихся в различных местах. По-
скольку само слово происходит от корня an- приближаться,
соединяться, пребывать внутри, Барроу добавляет, что в пер-
вую очередь "анангу" — дух, вселяющийся в человека, а
также состояние одержимости духом /Барроу, 1979, с.283/.
Как мы уже показали на ряде примеров, слово ananku в
самом деле многозначно. Мы думаем, что серьезного проти^-
воречия между различными значениями этого слова нет, но,
видимо,/есть какие-то основные, исходные. Таковыми, по
нашему мнению, следует считать два: внутренняя энергия и
дух, неопределенное божество, причем они так тесно соприкаса-
ются, что иногда трудно решить, какое значение предпо-
честь. Скажем, строчку АН 114, 15 anankutaiya nakarin
manant a pü можно понять как цветы, благоухающие в доме бо-
жества (т.е. в храме) или как цветы, благоухающие в доме, об-
ладающем анангу.
Рассуждая теоретически, мы приходим к заключению, что
словом ananku обозначались: и некая безличная энергия, и
созданные воображением людей существа — духи, божества —
ее носители, ее воплощения. Кстати, именно безличностью,
текучестью самой энергии следует объяснить и неопределен-
ность форм этих существ : tâm vêntu uruvin anarikumär varu-
më духи придут в желанной им форме (АН 158, 9) , и их способ-
ность свободно перемещаться в пространстве (ср. ananku
käl kilarum mayankirul na^unäl темная ночь, когда бродят
анангу, 'букв . у анангу вздымаются ноги — HT 319, 6 ) .
Важно заметить, что аналогичным образом характеризо-
вались и персонажи, обозначенные словом ka^avul (напом-
ним: то, что движется, выходит за пределы): "нарисованное бо-
жество (кадавуль) уходит", т.е. покидает свое изображе-
ние (АН 167, 15); "столб, из которого ушел кадавуль"
(АН 307, 12); "печальная ночь, когда бродит кадавуль"
(МК 651). Очевидно, что в этих примерах кадавуль вполне
эквивалентен анангу, и, таким образом, в некоторых кон-
текстах оба термина могут рассматриваться как синонимы.
Наряду с тем, что, как мы видели, древнетамильские ду-*
хи и божества свободно перемещались в пространстве, они
всегда понимались как в той или иной степени локализо-
ванные — иногда не очень определенно (море, горы): malai-
26 Глава I
yurai katavul бог, живущий в горах (Айн 259, 3), иногда бо-
лее конкретно: illurai katavul богЛ ошвущий в доме (АН 28 2,
18). Вообще же места их обитания многочисленны и разно-
образны — тексты называют, например, горы (HT 165, 4),
горные источники (HT 34, 1), бухту (АН 156, 15), деревья:
маргозу (АН 309, 4), баньян (HT 343, 4), венгей (HT 216,
6), пальмировую пальму (HT 303, 3), кадамбу (КТ 87, 1)1Ц ;
также груду камней (АН 35, 7) и камни, поставленные в па-
мять погибших воинов (АН 29 7, 7). Во всех приведенных
примерах божество обозначено словом katavul.
Итак, энергетическое начало, имевшее в древнетамиль-
ской культуре сакральный статус, может быть рассмотрено
в рамках дихотомии "движение—локализация", которая со-
здает предпосылку формирования по крайней мере одного,
туземного слоя древнетамильской мифологической системы.
Момент концентрации энергии в том или ином предмете или
персоне делает их объектами религиозного культа, а не-
определенный дух, носитель энергии, обретая "дом", транс-
формируется в местное божество со своей сферой влияния
и своими почитателями. Интересно в связи с этим заметить,
что одним из значений широко применяемого для обозначе-
ния понятия "бог" слова irai является также пребывание,
местонахождение (tankutall, нередко, кстати, употребляе-
мое в связи с птицами (см. АН 10, 4; 180, 11; КТ 92, 2-
3; HT 67, 3—5; ПН 360, 15)15. Можно высказать предполо-
жение о совмещении двух значений слова (т.е. бог и место)
в понятии духа или божества с постоянным местом пребыва-
ния, иначе говоря, местного божества, выделившегося' из
сонма духов и ставшего объектом особого поклонения, по-
скольку оно приняло на себя функцию охраны данного места
("высокие горы, охраняемые богом редкостной силы" — ПН
158, 1; "поля, шумящие птицами, охраняемые богом, обре-
тающимся в венгей с огненными цветками" — HT 216, 6—7),
обретшего свой "дом", ставший храмом /ср., например,
"сильный бог (здесь vallananku), помещенный в дом (та-
nai) из гнутой челюсти ак^лы" — ПП 86—87/. В подобного
рода идеях, видимо, и кроются корни явления, называемого
иногда генолокотеизмом (постоянное пребывание бога в
конкретном месте, его генетическая связь с этим местом,
слиянность с ним) и отраженного, в частности, в тамиль-
ских храмовых мифах, для которых типичен мотив невозмож-
ности удалить бога из данного храма или местности, по-
скольку он оказывается "укорененным" в них (см. /Шуль-
ман, 1979, с.48 -52/) .
Следствием данного факта является и то, что в станов-
лении культов различных богов в Южной Индии громадную
роль играют местные обстоятельства. Мифология и иконо-
графия божественного персонажа в значительной мере ока-
зываются как бы слепком местного фона (социального или
природного). Разумеется, это лишь одна черта весьма слож-
ного процесса развития тамильской мифологии, но черта
Мифологический фон древнетамилъской поэзии 27
чрезвычайно важная, диагностическая. Не случайно более
поздняя, средневековая поэзия тамильских бхактов, в осо-
бенности шиваитских, прямо-таки насыщена "географией"
Тамилнада, поскольку воспевание бога не мыслится вне то-
го места (селения и храма), где он пребывает.
Возвращаясь к сакральной энергии анангу, поставим те-
перь вопрос о ее природе. Исследователи, как можно было
видеть, называют ее безличной, сверхъестественной силой,
аналогичной, по мнению Харта, полинезийской мана /Харт,
1975, с.322/. Эта точка зрения, как нам кажется, упуска-
ет индийскую специфику явления. Есть возможность рас-
сматривать анангу как феномен не сверхъестественный, а
в основе своей природный: ведь характерная форма прояв-
ления энергии — огонь, жар (что роднит анангу с поняти-
ем "тапаса", выработанным ведической культурой, хотя
следует оговориться, что и в том и в другом случае "жар" —
не только природный, но в значительной мере религиозный
феномен, связанный с идеей накопления добродетели).
Ассоциация анангу с огнем, нагреванием прослеживает-
ся на таких, скажем, примерах: "толстые куски жира,
поджаренные (anankiya) на красном огне" (АН 237, 9);
"она (женщина)'стала мучением (ananku) для родной дерев-
ни, словно огонек, разожженный под деревом" (ПН 349, 6—
7); очаг с анангу (anankatuppu - МК 29).
В других случаях огненная природа анангу выявляется
не столь непосредственно, но все же достаточно опреде-
ленно. Так, имеющими анангу характеризуются змеи (АН 108,
13; HT 37, 9; КТ 119, 2), поскольку они обладают "жаром
гнева" (см. КТ 190, 4: "горячегневная змея"), слон в со-
стоянии амока (КТ 308, 2), поле битвы (ПН 25, 6), кото-
рое всегда ассоциируется с сухими землями "палей".
С анангу связаны танцы (СП V, 70), страдания или боль
(HT 322, 10), любовная страсть (HT 245, 9-10).
Вышеобозначенное понимание анангу, между прочим, пол-
ностью подтверждается наблюдениями над особенностями со-
временной ритуальной практики в Тамилнаде, которая ак-
тивно использует понятие жара, нагревания (и как антите-
зу им — холода, охлаждения). "В сущности, — пишет Б. Бек,—
жар ассоциируется с жизнью и плодородием. Энергия, котот
рая может как активизировать, так и уничтожить жизнь,
есть некая разновидность жара. Взятый изолированно, од-
нако, жар в высшей степени опасен. Он должен быть лока-
лизован и контролируем, чтобы стать источником энергии,
которую могут использовать как люди, такли божественные
персонажи" /Бек, 1969, с.553/.
С жаром, "перегревом" связаны такие процессы и состо-
яния человека, как болезнь, страдание, любовное влечение,
половое созревание девушки, месячные, беременность. В це-
лом всякая нечистота считается нагревающей /Бек, 1969,
с.562/. Очищение же, снятие боли, выздоровление и т.ш*
неизменно понимаются как введение энергии-жара в опредв-
28 Глава I
ленные, контролируемые рамки, иначе говоря — как охлаж-
дение. Необходимо подчеркнуть, что охлаждающим считался
половой акт как утоление жара любовной страсти /Бек,
1969, с.562/. Отметим, что тамильская культура оперирует
также цветовым рядом символического выражения упомянутых
состояний: энергия, жар ассоциируются с красным, охлажде-
ние, прохлада — с белым цветом. Соответственно структура
типичного ритуала выглядит как прохождение фазы нагрева
с последующим охлаждением, символизирующим возвращение
к норме или обновленному состоянию (движение от красного
к белому, см. /Бек, 1969, с.557/)16.
Хотя исследовавшая структуру тамильских ритуалов
Б.Бек использует данные современной полевой работы, ее
выводы хорошо проецируются на ранние этапы развития та-
мильской культуры, что подтверждает и анализ древней по-
эзии i те нормы поведения, которые в ней отражены, наи-
лучшим образом интерпретируются функционально, с точки
зрения контроля над сакральной энергией в различных ее
модификациях. Чаще всего это не лежит на поверхности, но
нередко поэзия и прямо описывает действия, которые име-
ют целью символическое сдерживание энергии, охлаждение
внутреннего жара в предметах или людях, например: наде-
вание гирлянд прохладных цветов (ТМА 236), венков из
листьев маргозы и пальмировой пальмы17 (АН 138, 4 — 5);
нанесение на тело шафрана (куркумы) и сандаловой пасты
(обладающих охлаждающими свойствами) (ТМА 235); смазыва-
ние маслом ворот (МК 353 — 354); украшение павлиньими
перьями (павлин — птица, ассоциирующаяся с прохладой) ко-
пий (ПН 95, 1—2), камней, поставленных в память погиб-
ших воинов (АН 67, 10).
Громадную роль играет в тамильской культуре анангу в
аспекте сакральной женской энергии. Обладание энергией
анангу, являющейся в данном случае выражением женского
сексуального начала (ср. "женщина, полная анангум — АН
114, 5; 212, 8; "красивая грудь, обладающая анангу" —
АН 177, 19), присущей женщине силы чадородия18, состав-
ляет ценность, важную не только и не столько для самой
женщины, сколько для окружающих, и в первую очередь
близких родственников-мужчин. Как показано Б.Бек, женщи-
на занимает центральное место в дравидской ячейке родст-
ва и является источником жизненной силы, удачи для отца,
брата, мужа и сына, обеспечивает благосостояние и жизне-
деятельность семьи в целом /Бек, 1974, с. 7— 9/19. Этим
объясняется характерный дравидский обычай кросскузенного
брака (женитьба на дочери брата матери или сестры отца),
смысл которого состоит в том, что женщина, выйдя замуж,
не покидает семейной ячейки и продолжает оставаться га-
рянтией семейного благополучия.
В соответствии с амбивалентной природой анангу женщи-
на может, однако, быть силой не только благодатной, но
страшной и опасной. Не имеющая сдерживающих рамок (семей-
Мифологический фон древнетамияьской поэзии 29
ных, брачных, ритуальных), лишенная контроля, энергия
может принести гибель и разрушение. Самый яркий пример
этому, запечатленный тамильской поэзией, конечно, образ
Каннахи из "Повести о браслете", которая, потеряв мужа,
в гневе сжигает город Мадурай вырвавшимся из ее груди
огнем.
Такого рода представления о сакральной женской энер-
гии находят мифологическое воплощение в образе тамиль-
ской богини"Коттравей (korravai - букв, убийственная).
Древнетамильские тексты упоминают ее лишь в нескольких
случаях, а единственное развернутое ее описание содер-
жится в двенадцатой главе "Повести о браслете", где она
изображается богиней-покровительницей племени эйинаров,
воинственных охотников и грабителей, живущих в пустын-
ной местности. "Голова ее была украшена серебристой лу-
ной, она смотрела немигающим взором лобного глаза, у
нее были коралловый рот, белозубая улыбка и горло, по-
черневшее от выпитого яда. Она сгибала вместо лука
большую гору с горячегневным змеем в качестве тетивы;
полозубая змея была ей нагрудной повязкой. Она вздымала
в руке трезубец, на плечах у нее была кожа слона, а на
бедрах — шкура льва, полного анангу. На ногах звенели
колокольчики и воинские браслеты. Такова была Коттравей,
обладательница меча, исполненного победоносной силы. Она
стояла на голове могучеплечего демона, обладавшего
двумя разными обликами" (СП XII, 54—66).
Хорошо видно, что Коттравей втянута здесь в шиваит-
ский мифологический ареал, т.е. наделена основными ат-
рибутами Шивы и представляет собой его супругу — богиню
Кали в облике Махишасурамардини ("Та, что убила асуру
Махишу"). С другой стороны, далее в гимнах Коттравей по-
являются определенные ассоциации ее с Вишну ("ты держишь
в лотосоподобных*руках раковину и чакру" — СП XII, 9) и
Кришной (в гимне 22 ей приписывается один из его подви-
гов — уничтожение демона в виде повозки, посланного Кан-
сой, дядей Кришны, чтобы погубить его).
Оставляя в стороне шиваитскую и вишнуитскую атрибутику
Коттравей, отметим два момента в культе богини, восходя-
щие, несомненно, к глубокой древности: кровавые жертво-
приношения и убийство демона-буйвола. Эйинары поют: "Вот
наш жертвенный долг (katan)! Прими кровь, струящуюся из
горла, как плату за победоносную силу" (СП XII, 17, так-
же 18 — 19). Известно представление о крови как о субстан-
ции, в высшей степени насыщенной жизненной энергией, и
питающаяся кровью богиня ("выпей жертву сильнолуких эйи-
наров" — СП XII, 20) должна была получать энергию в изо-
билии20. В ответ же она, как богиня победы, дает воинам
силу, помогающую им одолеть врага21.
Чрезвычайно интересен возникающий здесь характерный
для универсальной модели жертвоприношения мотив "еды",
"кормления". Он важен не только потому, что проясняет
30 Глава I
достаточно очевидную архаическую семантику жертвы ("Еда —
метафора жизни и воскресения" /Фрейденберг, 1936, с.67/),
но и потому, что в русле тамильской культуры рождает
особую мифологическую фигуру, тесно связанную с Коттра-
вей. Это "пей" — демон или гораздо чаще демоница.
Демоны рбу, иногда называемые kalutu, - страшные су-
щества, бродящие в сумерках и по ночам, поедающие жерт-
вы богам (ср. такую строку: "мрачный вечер, когда креп-
коротые, с нечистыми пальцами пей роются в земле в месте
для собраний в старинном селении и едят цветы, принесен-
ные в жертву" — HT 73, 2—4). Более характерно, однако,
для пей пристрастие к поеданию трупов воинов, павших на
полях сражений:
Сухие волосы, зияющие рты с неровными зубами,
Зеленые глаза с мертвящим беспокойным взором,
Чудовищные уши, на которых уместились совы пучеглазые,
Повисли — до грудей громадных — злые змеи, —
Такие пей — с шершавым животом и устрашающей походкой,
Испачканными кровью пальцами кривыми с острыми ногтями
Глаза у трупов вырвав и пожрав,
Объеденные головы зловонные в руках, украшенных
блестящими браслетами, держа,
Плечами двигают и ртом, едящим трупы,
Поют о страшном поле битвы
И пляшут танец тунангей (ТМА 47 — 56).
Подобные сцены, не раз возникающие в тамильской ге-
роической поэзии, представляют собой отражение битвы
как жертвоприношения богине Коттравей и, возможно, в
фантастической форме описывают древнейшие, с каннибаль-
ской окраской воинские ритуалы, целью которых было за-
имствование жизненной энергии побежденного противника.
Интересно отметить близость пей к анангу в демониче-
ском аспекте. Несмотря на то что они, судя по некоторым
фразам в текстах, существа как будто разные ("ночью пей
и анангу принимают видимые формы" — МК 632; "Это анангу
или пей, пожирающие жизнь?" — Мани VI, 135), тесная
связь между ними очевидна. Во-первых, их объединяет об-
щая функция олицетворения неблагого, опасного, устрашаю-
щего начала: не случайно автор ППан, рассказывая о том,
как некая демоница-пей загадывает загадку богине танца
тунангей (т.е. Коттравей)21а, "родившей украшенного сына
(т.е. Муругана) , убившего злого Сура" (457—459), назы-
вает эту демоницу-пей — анангу. Во-вторых, пей при-
частны энергии анангу, которая всегда в изобилии присут-
ствует там, где проливается кровь — на полях битв, в ме-
стах кровавых жертвоприношений: в ПН 392, 8 поле битвы
называется anaiîkutai marapin имекщее отношете^к-традиции^
обладающей анангу; так же характеризуется в "Пади 79, 14
место, где воины рассекают себе грудь перед богиней Кот-
травей; практически то же (anaiiku aru marapin имеющая от-
Мифологический фон древ нетамильской поэзии 31
ношение к традиции редкостной анангу) говорится в АН 265, 14
о пей22. Наконец, АН 265, 14 прямо называет пей облада-
тельницами анангу ("известные своей редкостной анангу
демоницы-пейм). Добавим, что они появляются не только
на полях сражений, но и на землях, подвергшихся разори-
тельному военному набегу и представляющих собой зрелище
запустения и ужаса ("внушая страх, воют огненноротые ша-
калы, плачет сова, толпятся вместе с карликовыми сущест-
вами трупоядные пей с распущенными волосами" — ПП 257 —
260). В воображении древних тамилов эти некогда цветущие
земли мифологически переосмысляются и ассоциируются с
районом "палей", мифопоэтической зоной, символизирующей
опасность, страдания, смерть.
В этой зоне, которая неизменно характеризуется как
•»трудная для перехода", "внушающая страх", "пустынная",
живут племена диких охотников-эйинаров, грабящих и уби-
вающих путников (АН 87, 8; HT 164, 6-7; КТ 12, 3);
здесь "тигр, пахнущий сырым мясом, набрасывается на оле-
ня, пьет красную кровь, а потом длинноухий стервятник
по-воровски клюет остатки дурнопахнущей плоти" (АН 3,
4 — 12); здесь разбросаны трупы животных (КТ 56, 1; HT 43,
2-4); коршун "тащит кишки воинов" (АН 77, 10). Это рай-
он, "где гибнут путники" (АН 109, 9), "умирают живые су-
щества" (АН 31, 4), где "страдающее тело истлевает, слов-
но старая, стершаяся веревка" (HT 284, 10 — 11). С ним
всегда связан период летней жары, когда "горячие, словно
огонь, лучи солнца иссушают и раскалывают землю, высох-
шие деревья не дают тени" (АН 1, 10 — 11), "каждая гора
объята пожаром, возникающим от трения бамбуковых стволов
друг о друга" (АН 65, 9 — 10); на дорогах, "камни которых
разбивают пальцы ног пешеходов" (АН 5, 14), нередко воз-
никают миражи, которые именуются "колесницей пей" (pêyt-
têr - АН 67, 15; 89, 2; 179, 2; HT 84, 4). Район палей,
иначе называемый curam или kätu, — это арена военных по-
ходов и битв, место расположения кремационных площадок
(cutukâtu) и кладбищ ("на дорогах попадаются камни, ус-
тановленные в память погибших воинов, с высеченными на
них именами и рангом героев, украшенные павлиньими перь-
ями" - АН 69, 9-11).
Очевидно, что основные атрибуты района палей (смерть,
кровь, страдания, сухость, огонь) выразительно передают
идею жара и, следовательно, имеют отношение к анангу.
Ну а Коттравей, которая в тамильской традиции является
властительницей района палей (а демоницы-пей составляют
ее окружение, свиту)23, символизирует ту же идею на уров-
не мифологической персонификации. Говоря в общем, Кот-
травей, пей, анангу накрепко увязываются вместе в контек-
сте явлений и событий (действительных или ритуальных),
сопровождающихся смертью, выделением крови, опасностью,
нечистотой или, если прибегнуть к привычному для тамиль-
ского ритуала понятию, перегревом21*.
32 Глава I
Кровавые обряды (uyirpali - СП V, 87), описанные в
"Повести о браслете1', иногда подразумевают человеческие
жертвы (воины отрубают себе головы и бросают на алтарь
богини — СП V, 84—85), однако те, что упоминаются в гим-
нах эйинаров (кровь, струящаяся из горла, из тела), мо-
гут быть и приношениями животных25. В связи с этим отме-
тим очень древний, восходящий к протоиндийской эпохе мо-
тив — ритуальное убийство буйвола /Волчок, 1982, с. 63 —
68/, — который и в настоящее время составляет универ-
сальную черту общеиндийского, и особенно дравидского,
культа богини, выступающей в различных обликах и под
различными именами — Деви, Кали, Дурги, Мариямман, Бха-
гавати, Елламмы и т.д. (см., например, /Уайтхед, 1976;
Бек, 1981; Биардо, 1981; Рениш, 1979/). В этом ряду сто-
ит и Коттравей, чей образ сливается в общеиндийском пан-
теоне с Кали-Дургой (отчего он и обрастает шиваитскими
атрибутами).
Мифологическим обоснованием ритуала жертвоприношения
буйвола является, как свидетельствует культовая практи-
ка, эпизод убиения богиней демона-асуры Махиши, приняв-
шего облик буйвола (этот эпизод был хорошо известен уже
во время создания "Повести о браслете11 и, как мы видели,
был ею запечатлен26). Основная идея воспроизводящих его
ритуалов состоит, конечно, в том, чтобы умилостивить бо-
гиню, "охладить" ее гнев и, приведя в состояние нормы
ее сакральную энергию, добиться получения блага (дождя,
урожая, избавления от эпидемических болезней). Заметим,
что кровавый акт, одно из центральных событий ритуала,
имеет смысл кормления богини и, стало быть, оказывает
на нее охлаждающее воздействие — в параллель с охлаждаю-
щим воздействием сексуального акта.
Эта параллель отнюдь не случайна: эротические мотивы,
как показывают описания жертвоприношения буйвола, в выс-
шей степени присущи этому ритуалу. В ряде случаев — на-
пример, в том, который подробно исследовала Б.Бек
/1981/, — разыгрывается бракосочетание богини с демоном,
которого она затем убивает. И хотя в настоящее время
этот демон (Махиша, Поту-разу, как в деревнях Андхры,
Мхасоба в Махараштре) чаще всего представляется стволом
дерева или камнем /Бек, 1981, с.88; Биардо, 1981, с.231/,
связь ритуальных событий с буйволом и его убийством, в
прошлом очевидная, и сейчас остается достаточно опреде-
ленной. Она ярко отражает опасный аспект сексуальности
богини и более обобщенно — энергии анангу.
Следует отметить один характерный для мифологии боги-
ни мотив — постоянного возвращения ее девственности.
Этот мотив важен потому, что, согласно древнетамильским
представлениям, девственность есть высшая степень концен-
трации сакральной энергии, могучая потенция созидания и
разрушения. По словам Ж.Дюмезиля, "быть девственной, ос-
таваться девственной не значит просто быть целомудренной.
Мифологический фон древнетамипьской поэзии 33
Целомудрие имеет отношение к чистоте; девственность —
это нечто более высокое, имеющее отношение к изобилию.
Женщина, которая остается девственницей, сохраняет в се-
бе неиспользованную, но и нерастраченную, нетронутую и
как бы усиленную ее волей созидательную энергию, прису-
щую ей по природе" (цит. по /Шульман, 1980, с.148/).
С другой стороны, эта энергия, о чем уже говорилось, мо-
жет проявляться в негативном аспекте — как опасная, гу-
бительная сила, в мифологии дравидской богини явственно
подчеркиваемая: "Девственная богиня — фокус необузданной
эротики. Она наиболее могуча постольку, поскольку ее дев-
ственность не нарушена, и поэтому в браке бог подвергает
себя сильной и даже смертельной опасности..." /Шульман,
1980, с.141/27.
Мотив девственности, обладающей могучей энергией, ко-
нечно, имеет отношение и к Коттравей и, хотя в "Повести
о браслете" он не развернут, присутствует в одном из ее
имен — Кумари (СП XII, 6 7), т.е. Дева, —которое, как
мы теперь видим, весьма многозначительно28.
Парадоксальная логика мифологического мышления не
позволяет считать противоречием то обстоятельство, что
девственной богине Коттравей приписывается рождение сы-
на — бога Муругана29. Этот бог в более поздних частях
комплекса антологий и поэм, прежде всего в "Парипадаль"
и "Тирумуругаттруппадей", представлен многопланово — и
как местный дух-покровитель, и как древнетамильское бо-
жество плодородия, и как сын Шивы — Сканда (Карттикея,
Кумара), предводитель войска богов. В нашу задачу здесь
не входит подробный разбор мифологии Муругана-Сканды на
уровне общеиндийского пантеона30. Мы рассмотрим те его
черты, которые, вероятнее всего, принадлежат к наиболее
древним и самобытным пластам южноиндийских мифологиче-
ских представлений.
Имя бога происходит от слова muruku (ДЭС 4081), основ-
ными значениями которого являются детство, юность, аромат,
мед. Muruku — также имя самого бога, производная форма
от него — murukan. Этот бог связан с возрождением произ-
водительных сил природы, со свежей растительностью, с
лесом, полным цветочных ароматов (ср. АН 98, 27: veri
kamal netuvël пьянящий аромат распространяющий Недувель, т~.е.
Муруган, см. ниже о его именах), воплощает собой энергию
жизни, сам является носителем сакральной энергии (АН 98,
10: "редкостная анангу Муругана"; ПН 299, 6: "обладаю-
щий анангу Муруган").
Энергетическое начало Муругана подчеркивается его по-
стоянной связью ç красным цветом — символом огня, жара;
"принадлежащими" ему считаются растения, дающие красные
или огненно-желтые цветы, — кадамба, кандаль, венгей31.
Традиционно считается, что некоторые имена Муругана не-
сут в себе цветовую характеристику: сбу/сёеу (АН 266,
3 60
34 Глава I
21), cëyôn (Тол 5), ceyyön (ПН 56, 8)
ный\ cevvê"! (ПП 154) красный юноша32.
со значением крас-
cevvël
Связь Муругана с красным цветом указывает и на изна-
чальные солярные ассоциации этого бога, которые позже,
когда его образ сливается с образом Сканды через мифоло-
гическую близость последнего с Агни, еще более закрепля-
ются (см. /Невелева, 1975, с.53/). На уровне ранних тек-
стов упомянутая связь проявляется более всего в основном
атрибуте Муругана — копье с алым наконечником, которое
можно понимать как аналог солнечного луча. С другой сто-
роны, это копье (vêl, отчего и одно из имен бога — vêlan
Копьеносец) — оружие Муругана, "воина многих сражений"
(ТМА 226).
На ранйей стадии развития культа Муруган, несомненно,
почитался как дух, обретавшийся, как свидетельствует ТМА,
почти повсеместно: в рощах, на перекрестках, на речных
островах, в озерах и ручьях, в кадамбе, в местах празд-
неств и собраний, в столбах и "во множестве других мест"
(ТМА 220 — 226). Вместе с тем вырисовывается его преиму-
щественная связь с горами — с одиноко стоящими скалами,
как, например, знаменитая гора Тируппарангундрам близ
Мадурай ("прохладная гора Парангундрам великого гневом
Муругана" — АН 59, 11), со страной горных лесов, назы-
ваемой "страной куриньджи" (Тол 5: "мир темных гор, где
обретается Сейон*'; Айн 308, 4: "темные горы, где пребы-
вает Муруган")33. К этому можно добавить, что ваханами,
ездовыми животными Муругана, являются слон и павлин,
представители горной фауны.
Здесь нам кажется уместным привести заключительный
фрагмент из посвященной Муругану поэмы "Тирумуругаттруп-
падей", в котором поэтически ярко выделяются общая харак-
теристика района куриньджи и его связь с Муруганом.
Плещась, как множество разнообразных флагов, неся ахила
ветви,
Крутясь и сотрясая толстые стволы сандаловых деревьев,
Бамбука корни обнажая и заставляя трепетать его цветущие
стволы,
В горах, касающихся неба, солнца круг напоминающие,
благоухающие соты разбивая,
Мешаясь с перезревшей мякотью плодов деревьев хлебных,
Стремятся вниз, — и вот от холода дрожат самцы и самки
чернолицых обезьян,
Пятнистолобые слонихи мерзнут, а громадные слоны
Водой накрыты так, что бивни их жемчугоносные скрываются;
Волнами скачущими вымытое золото блестит и благоцветные
сапфиры,
Песок прибрежный золотится;
Ломая целиком стволы бананов,
На пальмы налетают так, что рушатся с них свежие и сочные
плоды,
Мифологический фон древнетамилъской поэзии 35
Колеблют плети перца черногроздого, — и в страхе мечутся
Пятнистохвостые, со скромною походкою павлины и
крепконогие лесные куры,
Медведи гнутолапые, чья шерсть подобна черным щепчатым
стволам пальмировых деревьев,
Бегут и вместе с кабанами прячутся в расселинах громадных
гор,
И дикие быки прекрасные, с рогами черными ревут — так
Потоки вниз, с вершин высоких с долгим шумом ниспадают, —
И этих гор, где в роще наливаются плоды, — властитель 0н1
(ТМА 295-317)3\
Один из истоков сложного образа Муругана — божество
плодородия племени горных охотников кураваров (kuravar)•
Куравары помимо охоты занимались подсечно-огневым'зем-
леделием (выращивание проса tinai), сбором дикого меда,
плодов хлебного дерева (palâ mâram), съедобных клубней
растения valli, цветов. Их благополучие в большой сте-
пени зависело от своевременных и обильных дождей, о нис-
послании которых они просят Муругана: "Пусть горы примут
облака! Пусть дождь не прекращается в горах, пускай
вздымаются на их вершины тучи! — так восклицая и устроив
жертвоприношение, взывают к богу куравары" (ПН 143, 1—3).
Как божество плодородия, Муруган безусловно должен
быть причастен эротике, что находит наиболее яркое мифо-
логическое выражение в его любовных взаимоотношениях с
Валли, девушкой из племени горных охотников, "скромной
дочерью кураваров" (ТМА 101). К этому мифу мы специаль-
но обратимся позже, при анализе ситуации любовной поэ-
зии, именуемой "куриньджи", а пока отметим, что фигура
Валли, персонификация растения valli, упомянутого нами
выше, символизирует растительное, земное и, говоря обоб-
щенно, женское начало природы. Таким образом, эротиче-
ское соединение Валли с Муруганом, воплощением мужской
силы, обеспечивает плодородие как горного района куриньд-
жи, так и природы в целом35.
В принципе Валли можно рассматривать как ту ипостась
тамильской богини, в которой она является воплощением
благого аспекта женской сакральной энергии и, как тако-
вая, противопоставлена Коттравей (хотя сущность их — не
следует забывать - одинакова). Впрочем, и в словесном
портрете Коттравей, который дан в СП, есть эпитет, ука-
зывающий на ее связь с землей и плодородием. Она назы-
вается Нили (nïli), т.е. Темно-синяя (СП XII, 68) — от
nîlam, слова, обозначающего цвет, традиционно символи-
зирующий в Индии плодородие (это цвет дождевых туч, мо-
ря, густой зелени), ср. СП XI, 35: nîla mëkam темная тучей
В связи с ролью Муругана в матримониальной сфере важ-
но отметить еще одно обстоятельство истории его любви к
Валли, а именно их специфические родственные отношения,
Муруган — сын богини Коттравей, являвшейся, в свою оче-
36 Глава I
редь, сестрой бога Маля (СП XII, 68). Есть основания счи-
тать Валли дочерью Маля, и, хотя в наших текстах прямого
указания на это нет, традиция такая, видимо, существова-
ла и сохранилась до более позднего времени: в частности,
в kantapurânam (см. позже, с. 104) Валли оказывается инкар-
нацией дочери Маля (Вишну) /Звелебил, 1977а, с.227/. Ис-
ходя из этого, Валли следует рассматривать как двоюрод-
ную сестру Муругана, а их соединение — как доминирующую
в тамильской культуре (вплоть до настоящего времени) фор-
му кросскузенного брака, смысл которого состоит в удер-
жании и контроле сакральной женской энергии внутри се-
мейного клана36. Таким образом, Муруган выступает здесь
как божество, укрепляющее (в мифологическом плане уста-
навливающее) социально принятую модель брачных отноше-
ний37, чем еще раз подчеркивается его связь с контролем
энергии, с качествами определенности, крепости, силы.
Добавим, что функции Муругана — властителя женской
энергии, ее оплодотворителя соответствует характерная
особенность его культа — преобладающая роль в нем жен-
щин. В текстах не раз упоминаются женские песни в честь
Муругана (например, СП XXIV), пляски девушек с Муруга-
ном (ТМА 110 — 217), пение и пляска жрицы Муругана, де-
вушки из племени кураваров (ТМА 218 —243)зе.
Завершая характеристику Муругана, отметим вместе с ис-
следователем /Звелебил, 1977, с.236/ тот факт, что гор-
ный аспект бога (связь с племенем охотников, слон в ка-
честве ваханы, любовь к Валли) для Сканды общеиндийского
пантеона нехарактерен, а типичен и специфичен для Муру-
гана, известного нам по тамильским текстам. Равным об-
разом самобытны формы поклонения Муругану, запечатленные
в этих текстах, и в особенности полно в ТМА 226—245:
Воздвигнув флаг с изображеньем петуха,
Смешавши масло с семенем горчичным, древко умастив,
Негромко бога восхваляя и почтительно склонясь,
Цветы обильно рассыпая, надев двухцветные одежды
И кисть руки пурпурной нитью обмотав,
Бросая зерна жареного риса, комочки жертвенные
Из риса белого слепив, их кровью жирного и крепконогого
козла насытив,
Повсюду раскидав плоды шафрана маленькие и другие
благовония рассеяв,
Повесили прохладные гирлянды распустившихся цветов,
Нарезанные ровно, ароматные; и, восхвалив
Святилища благие, что устроены на склонах гор,
Куренья ароматные зажгли; запев мелодию Куриньджи
Под звуки музыкальных инструментов, что смешались
С рокотом ручьев, разнообразные цветы рассыпав
И просо, смешанное с кровью страшной, раскидав,
Когда настроили для воспеванья Муругана инструменты,
Девица кураваров, наполняя шумом храм просторный39, что
трепет вызывает, —
Мифологический фон древ нетамильской поэзии 37
Поляну танцевальную, куда приводят Муругана1*0, —
Запела так, чтоб страх объял его не чтущих;
Под звуки гнутых труб, под резкий колокольцев звон
Все те, кто жаждет милости и кто ее достиг,
Слона по кличке Пинимухам, что в битве неотступен,
восхваляя, славят Муругана.
Вполне очевидно из приведенного описания, что в ме-
стах такого почитания Муругана создавалась и поддержива-
лась атмосфера, насыщенная энергией, можно сказать, на-
каленная: громкие звуки музыкальных инструментов и пение,
кровавые жертвоприношения, ароматные курения и использо-
вание семян горчицы и проса, которые в тамильской риту-
альной традиции считаются продуктами в высшей степени
"нагревающими11 (см. /Бек, 1969, с.568 —569/), —все это
способствовало приведению участников обряда в состояние
крайнего возбуждения, которое находит выход в самой, по-
жалуй, интересной и специфичной детали культа Муругана —
экстатических, самозабвенных, "безумных" плясках (veri-
yâtal, veriyayartal)41. Эти пляски исполнялись коллек-
тивно, и опять-таки в основном девушками — ср. ПП 155:
cevvëj veriyätu makalir девушки, испЬлнякщие безумный танец
(МуруганаТ, и"индивидуально — жрецом Муругана, называв-
шимся vêlan Копьеносец. Это имя указывает на то, что жрец,
принимая внешние атрибуты бога, и в самом деле в процес-
се танцев становился Муруганом; поэтому выражение muru-
ku ârruppatuttu приводить Муругана, отмеченное нами (см.
примеч. 40)', имеет смысл быть одержимым им, воплощать его со-
бой. Равным образом и девушки, участвовавшие в танцах,
становились одержимыми (x<Jl 174 — 175 :.netuvêl anankuru
makalir девушки, воспринявшие анангу Недувеля), причем в этом
случае явственно проявляется эротический характер таких
танцев — ведь в Тамилнаде одержимость богом часто пони-
мается как своего рода любовные взаимоотношения /Бек,
1981, с.110/. Разумеется, верно и обратное положение:
любовная страсть выступает как одержимость богом, Муру-
ганом, что'подтверждается наличием в древнетамильской
любовной поэзии ситуации, связанной как раз с танцами
жреца-велана. Признаки любовной страсти, охватившей ге*
роиню (худение, вялость, увядание тела, жар), приписыва>-
ются ее родными болезни, вызванной демоном-пей: реу
kolîiyal она восприняла пей (КТ 263, 5). С целью излечения
приглашается велан, который должен определить характер
болезни и прекратить ее (поскольку любая болезнь связа-
на с избытком жара, лечением должно быть "охлаждение"
пациентки).
"Стоит нам Недувеля почтить, чьи могучие многославные руки
В пыль обращают всех тех, кто пред ним не склонился,
Станет прохладной она11, — древлеустые женщины так провещали;
Тут поляну для танцев украсив, венки нацепивши,
3-3 60
38 Глава I
Так, что храм изобильный наполнился шумом, запев,
Жертву давши, красивое просо, в крови замочивши, рассыпав,
Полночью жуткой они привели Муругана (АН 22, 5 — 11).
Пытаясь выяснить причину болезни, находящийся в тран-
се жрец занимается гаданием с помощью бобов-кажангу42 ,
прорицает, мажет лоб девушки кровью жертвенного ягненка
(КТ 362, 4J. Основными же способами "лечения" следует
признать акт кормления Муругана, т.е. жертвоприношения
и упомянутые танцы. "Насытившийся" Муруган мог снять с
"заболевшей" избыточный жар, а с другой стороны, за ис-
ступленными танцами, всплеском энергии должны были на-
ступить спад, охлаждение, которые, вероятно, по принципу
симпатической магии распространялись на героиню. Отме-
тим,' что в антураже ритуалов поклонения Муругану есть
детали, которые символически выражают идею контроля над
сакральной энергией: прохладные гирлянды и венки цветов
(в том числе маргозы и пальмировой пальмы в АН 138, 4 —
5), плоды шафрана, обладающие охлаждающим действием,
амулет в виде красной нити на запястье.
С точки зрения характеристики сакральной энергии
анангу представляется важным обратить внимание на один
терминологический момент. Поляна, на которой осуществля-
ется ритуал поклонения Муругану (кровавые жертвы, ис-
ступленные пляски, гадания, прорицания), носит название
kalam/kalan: vêlan veri ayar kalattu на поляне, где велан
исполняет исступленный танец (АН 114, 1 —2); veri ayar viyan
kalam широкая поляна, где исполняется исступленный танец (АН 182,
173; anankayar viyan kalam широкая поляна, где действует
анангу (АН 382, 6 и~др.). Последний пример особенно мно-
гозначителен: он подтверждает понимание kalam как сак-
рального пространства, на котором люди сталкиваются с
проявлением энергии анангу. Таким пространством, обозна-
чаемым словом kalam, являются описанная только что риту-
альная площадка, 'место для собраний1*3, площадка для мо-
лотьбы, ток (это, по мнению Звелебила, изначальное зна-
чение слова /Звелебил, 1979, с. 18Î/****), поле для посе-
вов, поле битвы (ДЭС 1160).
И дело не просто в том, что все они — места повышен-
ной людской активности, а в том, что это активность ри-
туальная, имеющая целью насыщение сакральной энергией,и,
таким образом, обретение блага и процветания. Не случай-
но поэтому всюду речь идет так или иначе о еде, источни-
ке жизненной силы, выступающей в разном виде: собранного
или посеянного урожая; жертвоприношения, кормления бога;
свадебного пира, к которому приравнивается битва (ПН 372),
или трапезы демониц-пей.
Завершая краткое описание культа Муругана, подчеркнем
наличие в нем моментов одержимости, транса, что вообще
составляет одну из характерных особенностей южноиндий-
ского культового" поведения, восходящую к древним и авто-
хтонным слоям культуры.
Мифологический фон древнетамильской поэзии 39
Обратимся теперь к другому важному аспекту мифологии
Муругана — воинскому. Будучи сыном Коттравей, богини вой^
ны и победы, Муруган, естественно, перенимает эти ее
функции и выступает в древнетамильских текстах как "по-
бедоносный Недувель" (КТ 111, 2), "воин многих сражений"
(ТМА 226), "ведущий благую войну" (АН 1, 3). Для тамиль-
ских царей и князей Муруган-воин служил образцом силы,
мужества, неукротимости ("сила, подобная силе Муругана" —
АН 181, 6; "мощь ярости, словно у Муругана" — АН 158, 16;
"предводитель, обладающий устрашающей силой гнева Муру-
гана" — Пору 131 и т.д.)* Но если для них возможность
продемонстрировать воинскую доблесть была связана с ре-
альными земными сражениями, то сам Муруган ведет борьбу
с демонами, покушающимися на власть богов. В этом он
полностью ассоциируется со Скандой, и тамильские тексты,
упоминающие эту борьбу, отражают синкретический общеин-
дийский образ Муругана-Сканды, запечатленный, например,
в "Махабхарате", пуранах, поэме Калидасы "Рождение Кума-
ры". Вместе с тем конкретные формы борьбы, которые име-
ют в виду тексты, связаны с оригинальной тамильской ми-
фологической традицией (см. /Шульман, 1979, с.30/).
Основной враг Муругана, согласно этой традиции, демон
Сур, или Сурападма. Эпизод борьбы Муругана с Суром в
сколько-нибудь развернутом виде в текстах антологий и
поэм не содержится; полное и стандартное его изложение
принадлежит гораздо более позднему времени и содержится
в kantapuranam ("Пуране о Сканде"), переложении санскрит-
ской "Скандапураны" (с добавлением значительного количе-
ства местного материала), сделанном в XIV в. поэтом по
имени kacciyappaciväcäriyar. Эпизод этот в общих чертах
выглядит следующим образом.
Демон Сур, или Сурападма, со своими братьями восхва-
лил Шиву и получил от него власть над вселенной. Унижен-
ные боги обратились за помощью к тому же Шиве, и тот со-
гласился родить сына, который уничтожит демонов. Рожден-
ный из семени Шивы Муруган вступил в борьбу с ними, по-
разил демона Тараку, расколов копьем гору Краунчу, в ко-
торой тот скрывался, убил других, а затем начал битву с
Суром. В течение битвы Сур принимал различные формы: бу-
шующих вод, огня, смерти, горы, облака и др. Он произвел
сонм теней, среди которых прятался, и наконец обратился
в громадное дерево манго, стоявшее посередине океана:
его ветви достигли границ вселенной и погрузили во тьму
землю, небо и океан, от их колебания звезды слетали с
небес, переворачивались горы. Огненное копье Муругана
сначала осушило океан вокруг дерева, а затем срезало его
ствол под корень. Но Сур не был еще побежден — он раско-
лолся надвое, причем половины его приняли формы петуха
и павлина. Муруган взял петуха для изображения на своем
знамени, а павлина сделал своей ваханой.
3-4 60
40 Глава I
В изложении "Кандапуранам" этот эпизод содержит много
от пуранической традиции Сканды и, как полагает Д.Шуль-
ман /1979, с.35/, приобретает характер космогонического
мифа, в котором манго играет роль мировой оси, космиче-
ского дерева, выступающего в данном случае в виде дерева
смерти, символа тьмы и хаоса, а борьба Муругана с Суром
гомологична ведическому поединку Индры с Вритрой. Анали-
зируя, далее, мотив нападения бога на дерево или столб
в шиваитской мифологии, исследователь высказывает пред-
положение (довольно осторожное) о том, что эпизод борьбы
Муругана с демоном в виде манго представляет собой оско-
лок утерянного дравидского космогонического мифа, в ко-
тором дерево манго — центральный, существенный образ
/Шульман, 1979, с-35/.
То, что борьба Муругана с Суром окрашена в тона веди-
ческой космогонии, нисколько не удивительно (особенно
если учесть, что текст "Кандапуранам" возник в русле раз-
витой индуистской традиции), и вполне понятно, что борь-
ба эта носит, так сказать, положительный, созидательный
характер (как всякая борьба бога с демонами). Однако в
рассуждения, касающиеся роли и значения мангового дере-
ва (раз уж именно с ним связывается тамильская специфи-
ка мифа), нам бы хотелось внести некоторые уточнения и
добавления.
Подробного изложения мифа, как мы уже отмечали, в
рассматриваемых нами текстах не содержится. Они содержат
лишь краткие упоминания борьбы Муругана с Суром**5, при-
чем, строго говоря, на основании этих упоминаний рекон-
струировать космогонический миф невозможно. Попытаемся,
однако, выяснить смысл конфликта этих фигур, исходя из
анализа текстовых данных, касающихся их мифологической
сущности.
Сура иногда представляют как божество страха, персо-
нификацию беспокойства, мучения, поскольку само его имя
имеет значения страхЛ страданиеЛ мучение> также пугать, быть
жгстоюж (см. ДЭС 2250, /Звелебил, 1977, с.243/). Хотя
можно полагать, что свойство насылать все эти состояния
на людей действительно ему присуще, такая характеристика
представляется неполной и даже неточной, так как нам ка-
жется сомнительной возможность обожествления тамилами
психологических состояний. Судя по тому, как встречает-
С5.т слово сиг в текстах вне связи с Муруганом, то, что
оно обозначает, тяготеет к естественным феноменам, а
именно к горам и воде. Например: "склоны гор, обладающие
Суром11 (АН 158, 8; HT 359, 7; КТ 105, 5; 376, 2), "обла-
дающие Суром горные источники и ручьи11 (АН 91, 4; HT 268,
1). Существует определенная ассоциация Сура с сезоном
дождей: "пространство, излюбленное Суром, воспринявшее
желанный езон дождей" (АН 303, 5), см. также МПК 239.
С Суром связаны некие девы (спг makaj — HT 34, 4; cûra-
ra makalir - KT 53, 7), вероятно, духи горных источников
Мифологический фон древнетамильской поэзии 41
("живущая в горном озере дева Сура11 — АН 198, 16—17).
ТМА 13—41 описывает их танец в горах, во время которого
они славят Муругана. Характерно, что исполняется он в
начале сезона дождей. Оказывается, что Муруган и Сур
имеют много общего: оба связаны с горами, так или иначе —
с водой (о присутствии Муругана в реках и источниках го-
ворится в ТМА 224, что было отмечено нами), оба, нако-
нец, особым образом воздействуют на людей, в основном
на женщин, внушают им страх, овладевают ими: "ты дро-
жишь, словно тебя возжелал Сур" (КТ 52, 2); "мы стояли
дрожа, словно павлины, которыми овладел Сур11 (КП 169) ч6;
"ты мучаешь меня, словно дева Сура" (АН 32, 8) (в по-
следнем примере обращает на себя внимание употребление
глагола ananku со значением мучить). Суру, как и Муру-
гану, приносили жертвы (cürutai pali — HT 367, 4), пе-
ред его девами, как и перед Муруганом, произносились
клятвы: КТ 53, 7 упоминает клятву, данную перед девами
Сура, а АН 266, 22 — клятву, данную перед Муруганом.
Анализ употребления слова сйг приводит нас к следую-
щему парадоксальному заключению. Это слово обозначает,
по всей вероятности, сакральную энергию анангу, но дей-
ствующую, так сказать, в обратном направлении, или, го-
воря иначе, взятую с обратным знаком. Как ananku, она
связана с нагреванием, огнем, как сйг — с охлаждением
и водой1*7. Вообще эту энергию нужно понимать как величи-
ну сугубо непостоянную, имеющую различные модификации в
зависимости от конкретных условий ее манифестации. Пред-
ставляя себе этот процесс умозрительно, мы можем восполь-
зоваться образом некоей двухполюсной шкалы, по которой
эта энергия движется, принимая различные значения в пре-
делах, так сказать, от полюса холода до полюса жара. Ну
а сами полюсы, обозначаемые парой терминов cûr-ananku,
в принципе могут считаться взаимозаменяемыми, так как
подразумевают величины, не абсолютно противопоставлен-
ные, но одна в другую перетекающие. Иными словами, речь
идет о крайних точках процесса изменения жизненной энер-
гии, которые, будучи взяты изолированно, представляют
собой, так сказать, полюсы неблагоприятности.
Нагляднее всего упомянутый процесс проявляется в Се-
зонном цикле, содержащем кульминационные пункты природных
процессов нагревания и охлаждения, — в смене жаркого вре-
мени года сезоном дождей. Комплексы качеств, соответствую-
щих каждому из них, конечно, противоположны, но отнюдь не
взаимоисключающи. Напротив, они взаимообусловливают друг
друга, взаимопроникают и сосуществуют. В жаркий сезон
господствуют огонь и сухость, природа раскалена, насы-
щается энергией и готовится принять оплодотворяющий
дождь, а пока влага находится в скрытом состоянии, ухо-
дит в глубь земли и растений. С приходом дождей вода и
прохлада доминируют, энергия жара пребывает под контро-
лем и проявляет себя в благом—виде — как эманация тепла
42 Глава I
и аромата распускающихся цветов, любовное томление и со-
единение живых существ. Так, в постоянном взаимодействии
противоположных начал и состояний, в движении крайностей
навстречу друг другу и их слиянии природа достигает пло-
дотворной соразмерности и гармонии.
Притом что момент прихода дождей, столкновения двух
сезонов сам по себе в высшей степени благоприятен и про-
дуктивен, в нем присутствует и негативный момент — опас-
ность чрезмерных холода, влаги, тьмы. Поэтому в описани-
ях прихода дождей, с которыми мы встречаемся в поэзии,
иногда, безусловно, присутствует некоторая зловещая но-
та:
Дождь скрывает пространство, и неба не видно,
Льются потоки воды — не видно земли;
Солнце ушло, и кромешная тьма навалилась
(КТ 355, 1 -3).
Над горными вершинами изогнут страх внушающий
прекрасный лук;
Подобно барабанам, прогремели тучи и, океана
влагой насыщаясь,
Стремительно вздымаются и проливают столь
обильный дождь,
Что света стороны во мраке исчезают (АН 84, 1—4).
Не составляет труда увидеть в такого рода описаниях
(в особенности в мотиве вселенского мрака) аналогию то-
го фрагмента мифа о борьбе Муругана с Суром, где Сур
превращается в манговое дерево, погружающее'во тьму зем-
лю и небо (ср. строку АН 237, 15; nänil perumaram nila-
varai elläm nilarri лишенное стада большое дерево Сура затени-
ло все границы земли). Эта образная перекличка, которая
подтверждается данной выше характеристикой понятия сйг
Îассоциации с водой, темнотой, сезоном дождей), позво-
ляет нам сделать предположение о том, что Сур — персони-
фикация опасных, негативных аспектов сезона дождей (вы-
зывающий дождь холод, тьма дождевых туч, атмосфера зыб-
кости,- неустойчивости) или, более обобщенно, состояние
сакральной энергии на полюсе холода. Таким образом, мож-
но утверждать, что миф о борьбе Муругана с Суром есть
отражение важных природных событий, однако полнее вы-
явить специфику этого отражения невозможно, прежде чем
мы не рассмотрим еще одну древнетамильскую мифологиче-
скую фигуру — Тирумаля, или Майона, т.е. мсвятого, пре-
красного Маля", "Темного бога11, который наряду с Муру-
ганом, вероятнее всего, подразумевается в отрывке из
АН 360, 6—9: "Вечер приходит, взяв красоту моря и за-
катного неба, в образе, где смешались цвета двух великих
божеств, могучих и внушающих страх11 (т.е. красный цвет
и черный) цв. Тол 5 называет Маля главой пастушеского
района муллей (пастбища и лесистые холмы), который в та-
Мифологический фон древнетсишпьской поэзии 43
мильской поэтической традиции неизменно изображается в
сезон дождей. Упомянутая здесь связь Маля с пастушески-
ми племенами подразумевает ту стадию развития образа бо-
га, когда он сливается с образом Кришны. Это слияние,
вовлечение Маля в сферу кришнаитско-вишнуитского культа,
в рамки иной мифологической системы произошло, видимо,
довольно рано, до создания основного корпуса текстов ан-
тологий и цоэм. Во всяком случае, как считает Ф.Харди,
исследователь, специально занимавшийся историей культа
Кришны на юге Индии, в древнетамильских текстах именами
Майона и Маля (Тирумаля) обозначается Вишну/Кришна
/Харди, 1983, с.217/, культ которого еще до III в. н.э.
был воспринят пандийскими царями и правителями Каньджи
(Паллавами?) и был тесно связан с политическими, т.е.
династийными, факторами /Харди, 1983, с.152—153, 157/
(ср., например, характеристику правителя Каньджи: "Он
происходит от того, кто цветом морю подобен, кто землю
всю измерил, на груди которого — Шри" — ППан 29—31).
С другой стороны, как показывает Харди, в поле зрения
литературы в V —VI вв. попал "народный кришнаизм", от-
раженный в "Повести о браслете" и "Калиттохей": танец
kuravai пастушек и свадебный ритуал укрощения быков (СП
XVII; Кали 101-103), а также в АН 59, 4-6, где упоми-
нается Кришна, который сломал дерево (курунду), чтобы
его ветвями смогли одеться пастушки1*9, купавшиеся в во-
дах реки Тожуней (tolunai — тамильское название Ямуны).
"И составной эпизод укрощения быков, завершаемый кура-
вей, и миф о сломанном дереве, и предложение пастушкам
листьев, — говорит Харди, — коренятся в тамильских обы-
чаях. Таким образом, мы имеем (первое) свидетельство о
том, как тамильский юг рассматривает северного бога
Кришну в рамках своих собственных „обычаев"" /Харди,
1983, с.197/.
Возникает все-таки вопрос: существовало ли в тамиль*-
ской мифологии какое-нибудь божество, которое в процес-
се становления южноиндийского кришнаизма стало бы иден-
тифицироваться с Кришной и сыграло бы для него роль ми-
фологического субстрата? Харди, как мы видим, склонен
ответить на этот вопрос отрицательно.
Но существует и другая точка зрения. К.Звелебил пола-
гает, что можно говорить о двух тамильских богах (т.е.
Муругане и Мале-Кришне) как об отражении и развитии
культа одного бога — молодого бога-героя, связанного с
охотой, укрощением животных, плодородием и "тайной про-
должения жизни". "Я решительно склонен видеть, — замеча-
ет он, — в „Красном желании" (cevvël), боге гор и охот-
ников, и в молодом Темном боге темно-зеленых пастбищ и
пастухов один основной культ ранних дравидов: культ мо-
лодого героя, вечно юного бога" /Звелебил, 1977, с.255 —
256/50.
44 Глава I
Это заключение кажется нам более предпочтительным, но
нуждающимся в значительном уточнении. В самом деле, то,
что в образах и культе Муругана и Маля-Кришны поразитель-
но много общего, сомнений не вызывает (см. /Бек, б.г.,
с.1 —5; Шульман, 1980, с.283/): оба молоды и сильны (по-
бедители демонов); оба воплощают энергию плодородия и
связаны с эротикой; в культе каждого большую роль игра-
ют песнопения и круговые женские пляски (kuravai); Муру-
ган ездит на павлине, а Кришна подобен павлину цветом и
носит корону из павлиньих перьев; оба бога так или ина-
че связаны с горами51.
Надо, однако, помнить и о том, что они не равны меж-
ду собой в отношении возрастного и семейного статуса:
Муруган — сын богини Коттравей, а Маль, согласно стойкой
южноиндийской традиции, ее брат (СП XII, 68 называет Кот-
травей "юной сестрой Маля"). Кроме того, существует и
очевидное различие богов с точки зрения их цветовой ха-
рактеристики. Оно прямо разграничивает сферы их.владе-
ния, связывает их с природными процессами: Муруган явля-
ется воплощением плодотворящей энергии солнца, Маль —
энергии плодородия, заключенной в дождевых тучах, в тем-
ном сезоне дождей. Что касается горных ассоциаций, то
можно полагать, что* Муругану ближе символизируемые гора-
ми представления о высоте, крепости, близости к солнцу,
тогда как Малю — о темноте, густой, тенистой раститель-
ности и влаге (горы в тамильской поэзии часто описывают-
ся как mä, mal темные, например: mâyôn anna mal varai
kaväan темные склоны горЛ подобные Майону.— НТ~32 , 1 )52 . Лег-
ко видеть, что характеристика Маля фактически объединя-
ет его с Суром, в свою очередь близким Муругану, так
что, обобщая все вышесказанное, можно говорить о сущест-
вовании на юге Индии (скорее всего у охотничьих племен)
некоего божества гор, выступавшего в зависимости от вре-
мени года в разных ипостасях и имевшего наряду с благи-
ми и опасные демонические черты, воплощавшиеся в холоде
сезона дождей, мгле густых туч, застилающих небосвод, в
ощущениях зыбкости, неустойчивости мира, скрытого пеле-
ной мрака и воды.
На основании данных, приведенных выше, мы считаем
возможным высказать предположение о том, что древнейши-
ми тамильскими мифологическими фигурами были брат и се-
стра, богиня Коттравей и Маль, воплощавшие собой резко
противоноставленные характеристики как сезонных отрез-
ков — летней жары и сезона дождей, так и, более обобщен-
но, двух половин года — светлой и темной". Учитывая,
далее, демонические ассоциации Маля (Маль-Сур), его впол-
не можно рассматривать в контексте мифа об убиении боги-
ней своего супруга — буйвола Махиши5". Идентификация
древнего Маля с Махишей дает нам гипотетический основ-
ной дравидский миф о кровосмесительной связи древней бо-
гини с братом-демоном и его убийстве свирепой супругой-
сестрой, сохраняющей свою девственность.
Мифологический фон древнетамипьской поэзии 45
При рассмотрении главных героев этого мифа обращают
на себя внимание характерные для индийской ритуально-
мифологической культуры черты полового синкретизма. Ак-
тивная, стремящаяся к насилию богиня явно несет в себе
твердое мужское начало (в поздних шиваитских вариантах
мифа бисексуальность богини подчеркивается идентификаци-
ей ее меча с фаллосом, см. /Шульман, 1979, с.184/), в то
время как в Мале-Суре много внешних признаков женской
природы — нетвердость, зыбкость, мягкость, влага (напом-
ним также об известном эпизоде мифологии Вишну — его во-
площении в образе обольстительной женщины Мохини). Да-
лее, в процессе бытования и развития данного мифа муж-
ской аспект богини и ее воинские функции начинают как
бы обосабливаться и воплощаются в образе сына богини,
юного героя-воина, вступающего в борьбу со своим демо-
ническим дядей (ср. конфликт Кришны с Кансой).55. Потом,
вероятно, в результате сложного взаимодействия шиваитско-
го и вишнуитского мифологических полей, сформировавшихся
под влиянием североиндийской мифологии, образ молодого
воина начинает расщепляться на две фигуры: Муругана и
Кришны-Маля, "Красного" и "Черного", тяготеющих к разным
полям, но сохраняющих много общих черт и продолжающих
равноправно отвечать за соответствующие сезонные феноме-
ны56. Одновременно с этим формируется образ демона, кон-
центрирующий в себе и неблагоприятные свойства сезона
дождей, и более общее представление о темном и злом все-
ленском начале. Оба героя вступают с ним в схватку, ко-
торая отражается в различных мифах, в частности о Муру-
гане и Суре, о победе Кришны над семью демоническими бы-
ками 57.
Развитием исходного мифа (Коттравей-Маль) можно счи-
тать историю брака Муругана и Валли, которая олицетворя-
ет природное растительное начало и функционально соот-
ветствует Малю (не случайно в мифе Валли — его дочь),
тогда как Муруган, естественно, Коттравей. В их любов-
ных взаимоотношениях усматривается (с учетом возможной
в мифе инверсии полов) изначальный сексуальный конфликт —
в сильно ослабленном и специфическом варианте, но сохра^
няющем идею соединения мужского и женского природных на-
чал и контроля над сакральной женской энергией (напом-
ним, что энергия богини "охлаждается" убийством или кро-
вавым жертвоприношением, а также сексуальным соединени-
ем) 58.
Возвращаясь теперь к мифу о борьбе Муругана с Суром,
мы можем высказать убеждение в том, что этот миф пред-
ставляет собой вариант основного тамильского мифа об
убиении богиней супруга-демона с функциональным замеще-
нием богини ее сыном. Во всяком случае, в нем хорошо вы-
являются очертания яростной эротической конфронтации, в
результате которой мягкое, зыбкое, влажное женское нача-
ло (см. характеристику Сура) подчиняется твердому муж-
46 Глава I
скому. В связи с этим чрезвычайно важен мотив раскалыва-
ния, расщепления, разделения пополам, который репрезен-
тирует половой акт (ср. в тамильском мифе о богине эпи-
зод раскалывания ею горы, т.е. тела бога-супруга, мечом,
имеющим фаллический смысл /Шульман, 1980, с.184/) 9. Му-
руган тоже раскалывает гору Краунчу, рассекая (pilantu)
грудь скрывавшегося в ней демона (СП XXIV, 8, 3—4), и
расщепляет дерево манго, в которое превращается Сур (или
срезает его под корень)60.
Весьма знаменательно в разбираемом мифе появление де-
рева манго, поскольку в тамильской традиции с ним, без-
условно, ассоциируется женское начало (именно обладание
темной, цвета молодых побегов манго, красотой считается
одним из главных достоинств героини древнетамильскои по-
эзии, символизирующим ее сакральную энергию; в цейлон-
ской версии сказания о богини Паттини — Каннахи из "По-
вести о браслете11, — воплощающей эту версию, говорится
о ее рождении из ствола мангового дерева /Мерварт, 1928,
с.251/)61.
Но с манго связано и другое: оно может служить пре-
красным пластическим символом поры дождей в целом. Вы-
сокое, раскидистое дерево с темной густой листвой, даю-
щей хорошую тень, в самом деле легко уподобить тяжелой
дождевой туче, ползущей по небу (немаловажно, что слово
та манго одновременно значит и темный — см. этимологию
Маля)62. К тому же дерево может хранить в себе влагу да-
же в период летней жары, и есть немало стихов на тему
палей, изображающих такую картинку: утомленный жарой
слон, стремясь добыть воды, нападает на деревья (по-ви-
димому, разновидности манго)63, ломает их, срывает с них
кору. Этот образ, мы полагаем, вполне мог участвовать
в становлении образной формы разбираемого нами мифа.
Мы не думаем, что в эпизоде битвы Муругана с Суром
можно видеть, как полагает Д.Шульман /1980, с.35/, ос-
татки утерянного космогонического мифа тамилов. Конечно,
в поздних его вариантах, в той же "Кандапуранам", деяние
Муругана явно ассоциируется с победой Индры над Вритрой,
а дерево манго предстает как символ мирового зла и пред-
ставляет своеобразный негативный аспект мирового дерева,
но эти ассоциации, мы полагаем, носят вторичный характер.
Борьба ведется не за установление мировой оси, а за до-
минирование на определенной стадии сезонного цикла и,
если пользоваться привычными тамильскими понятиями, за
овладение опасной, вырывающейся из-под контроля энерги-
ей.
Разобранные выше тамильские мифы имеют явно выражен-
ную календарную и эротическую подоплеку и трактуют ситу-
ации, связанные с тем или иным состоянием сакральной
энергии. Культивировавшиеся на юге Индии представления
об этой энергии во многом определяли мировоззрение древ-
них тамилов, особенно мифологию и культ. Понятно, что
Мифологический фон древнетамильской поэзии 47
эти особенности не были для Индии уникальными и могут
быть выявлены в довольно широком ареале (речь в целом,
вероятно, идет о значительном слое автохтонной по проис-
хождению индийской культуры), но в ряде существенных мо-
ментов они очевидно противостоят космически ориентиро-
ванным ведийский концепциям.
Подытоживая материал, приведенный в этой главе, отме-
тим, что естественный, "земной11 характер сакральной
энергии, ее подвижность, текучесть, готовность принимать
разнообразные формы предопределили возможность тесного
контакта с ней, множественность сакральных феноменов для
древних тамилов, сакрализованность многих жизненных си-
туаций. Амбивалентность энергии,, ее способность к нако-
плению и трате вызвали к жизни комплекс ритуальных форм,
необходимых для успешного манипулирования этой энергией,
защиты от ее опасного воздействия, направления ее во
благо как индивидуумам, так и коллективу. Сложилось пред-
ставление и о местах наибольшей концентрации энергии, и
если говорить об этом применительно к сфере социума, то
в первую очередь надо иметь в виду фигуры царя и женщи-
ны. Их жизнедеятельность окружена в тамильской культуре
особым ореолом сакральности, в большой степени ритуали-
зована и мифологизирована. Это обстоятельство самым пря-
мым образом сказывалось на поэтическом творчестве древ-
них тамилов, тесно увязанном с определенными формами жиз-
ни и явившемся в ряде отношений следствием специфическо-
го мифопоэтического мышления, развитием некоторых мифоло-
гических представлений. То, как осуществлялось такое раз-
витие, как взаимодействовала поэтическая традиция с риту-
ально-мифологическим слоем древнетамильской культуры, бу-
дет рассмотрено далее*.
Глава II
ДРЕВНЕТАМИЛЬСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ
При знакомстве с древнетамильскои поэзией невозможно
пройти мимо мифа, с помощью которого поэтическая тради-
ция устанавливает свои собственные истоки. Это так на-
зываемая "легенда о санге". Под сангой обычно подразу-
мевается некая поэтическая академия, процветавшая на
тамильской земле в древности. Термин (там. cankam,
санскр. sangha, пракритск. sangho), вероятнее всего, за-
имствован из джайнско-буддийского обихода, но обознача-
ет явление, имевшее место, как сообщает легенда, много
тысячелетий назад. Наиболее ранний вариант легенды со-
держится, однако, в довольно позднем сочинении-коммен-
тарии Наккирара (ок. 700 г.), возможного автора поэмы
'Тирумуругаттруппадей11 (см. /Звелебил, 1973, с. 120, 124;
1975, с.56/), к трактату Иреиянара мАхаппорульм. Соот-
ветствующий фрагмент комментария читается так:
Цари династии Пандья содержали три санги: начальную сангу,
среднюю сангу и последнюю сангу. Говорят, что в начальной санге
было 549 человек, начиная с Агаттиянара, бога с развевающимися во-
лосами, сжегшего три града (т.е. Шивы); Муругана, уничтожившего
гору; Мудинагараяра из Муриньджиюра и властителя богатств (Кубе-
ры)• Включая этих, пели (т.е. занимались поэтическим творчеством)
4449 человек. Ими были созданы по крайней мере такие произведения,
как "Парипадаль", "Мудунарей", "Мудукуруху", "Калариявирей11. Они
состояли в санге в течение 4440 лет. Их содержали в санге 89 /ца-
рей/, начиная от Кайсинаважуди и кончая Кадунгоном. Среди них
семь Пандьев выступали как поэты. Они состояли в санге и занима-
лись исследованием тамильского языка (tamiläräyntär) в Мадурай,
которая была поглощена морем. Книга, которой они руководствова-
лись, .— "Агаттиям".
Далее, говорят, что в средней санге было 59 человек, начиная
с Агаттиянара, Толькаппиянара, Карунгожи.Моей из Ирундеиюра, Кап-
пияна из Веллура, Сирупандарангана, Тиреиян Марана, Туварей Кома-
на, Кирандей. Включая этих, пели 3700 человек. Ими были созданы:
"Кали", "Куруху", "Вендали", "Вияжамалей ахаваль11 и другие. Их
книги — "Агаттиям11, "Толькаппиям", "Мапуранам", "Исеинунуккам",
"Пудапуранам". Они были членами санги в течение 3700 лет. Их со-
держали в санге 59 /царей/, начиная от Вендер Чежияна и кончая Му-
даттиру Мараном, из которых пятеро выступали как поэты. Они состо-
яли в санге и исследовали тамильский язык в Кападапураме. Как и в
то (т.е. прежнее) время, пандийская страна была поглощена морем.
Далее, в последней санге состояли и исследовали тамильский
язык 49 человек, начиная с Сирумедавияра, Сендамбуданара, Аривуде-
Поэтическая традиция и ее создатели 49
ияранара, Перунгундрур Кижара, Иландиру Марана, учителя Налланду-
ванара из Мадурай, Маруданила Наганара из Мадурай, Наккиранара —
сына учетчика. Включая этих, пели 449 человек. Ими созданы такие
произведения, как "Недунтохей нануру", "Курунтохей нануру", "Нат-
триней нануру", "Пуранануру", "Аингурунуру", "Падиттрыппатту",
"Кали нуттраимбады", "Парипадаль ежубады", "Кутту", "Вари", "Сит-
трисей", "Перисей". Их книги — "Агаттиям", "Толькаппиям". Они со-
стояли в санге и исследовали тамильский язык в течение 1850 лет.
Их содержали в санге 49 /царей/, начиная с избежавшего потопа Му-
даттиру Марана и кончая Уккираперуважуди, из которых трое выступа-
ли как поэты. Они состояли в санге и исследовали тамильский язык
в северной Мадурай (ИА, с.5—6).
Как видим, легенда упоминает немало реально сущест-
вующих произведений тамильской поэзии, дошедших до нас
в составе сборника "Эттуттохей", а кроме того, граммати-
ческие трактаты "Толькаппиям" и сохранившийся во фраг-
ментах "Агаттиям" (см. /Звелебил, 1975, с.65/). Судя по
названию, авторство последнего приписывается ведическо-
му риши Агастье (тамильск. Агаттиян), который, как это
явствует из текста, был наряду с Шивой и Муруганом од-
ним из руководителей первой санги и, таким образом, не-
посредственно связан с зарождением тамильской культуры
/Звелебил, 1973, с.120, 124; 1975, с.56/1.
Помимо комментария Наккирара, о тамильской санге,
причем именно как об учреждении литературном, говорит
поэт-шиваит Аппар (VII в.): "/Шива/ появился в санге в
качестве поэта, /создателя/ прекрасных песен..." (tiru-
nâvukkaracu têvaram 6, 76, 3). Упоминают сангу в связи
с тамильским языком ^cankattamil) кришнаитская поэтесса
IX в. Андаль (tiruppâvai 30), вишнуитский поэт Тируман-
гей Альвар, VIII—IX вв. (periyatirumoli 3, 4—10). Кро-
ме того, известно эпиграфическое свидетельство — надпись
из Синнамура (X в.), сообщающая о том, что пандийский
царь "содержал" в Мадурай сангу и повелел изложить на
тамильском языке "Махабхарату" /Звелебил, 1975, с.59/.
Более поздние данные о санге содержатся в средневековых
тамильских пуранах о городе Мадурай (XII-XIII, XVI-
XVII вв.). В них дается довольно подробное, хотя во
многом и иное, нежели в комментарии Наккирара, описание
поэтической академии.
Все упомянутые источники, подтверждая наличие на та-
мильской земле связанного с поэзией учреждения, вместе
с тем достаточно неопределенны и, если оставить в сторо-
не пураны, слишком удаленные по времени от предполагае-
мой санги, весьма лаконичны. Из них все же выясняется
одно важное обстоятельство, на которое обратил внимание
Д.Шульман /1980, с. 73/: как и в пуранах о Мадурай, в
приведенных выше свидетельствах, за исключением коммен^
тария Наккирара, речь явно идет лишь об одной санге, о
предшествующих же не говорится ничего. Этим подтвержда-
4 60
50 Глава II
ется тот факт, очевидный, впрочем, a priori, что рассказ
о двух первых сангах носит чисто мифологический харак-
тер2. Отсюда понятно, что обсуждать вопрос об исторично-
сти санги можно лишь в отношении третьей, с деятельностью
которой, как правило, и связывается дошедшая до нас поэ-
зия антологий и поэм, часто так и называемая — "поэзия
санги".
Весьма интересно и многозначительно, однако, то, что
в самой этой поэзии прямых данных о какой-либо поэтиче-
ской академии не содержится. Те выдержки из текстов, ко-
торые иногда приводятся в пользу ее существования, слиш-
ком неопределенны и зачастую имеют в виду что-то другое.
Например, то, что говорится в МК 761—763: "Недийон, об-
ладавший славным достоинством вкушения /плодов/ собрания
(punarkutçu) благих учителей древних заветов" — подразу-
мевает скорее не литературное собрание, а группу придвор-
ных советников, вероятнее всего брахманов. Правда, в од-
ном из стихотворений ПН мы обнаруживаем не вполне ясное
указание именно на группу поэтов при дворе пандийского
царя Недуньчежияна. Этот царь, будучи, как считается,
автором данного стихотворения, восклицает: "Если я не
разобью врага... пусть покинут пределы моей страны и
не воспевают /меня/ хвалимые многими и обладающие все-
мирной славой поэты во главе с достославным и высокооб-
разованным Мангуди Маруданаром! " (ПН 72, 13 — 16). Можно
добавить, что сам Мангуди Маруданар воспел своего патро-
на и его столицу, город Мадурай, в большой поэме "Маду-
раикканьджи", в которой он, между прочим, отмечает при-
сутствие при дворе царя северных певцов и панегиристов —
сут, магадхов, веталиков (МП 670 — 671). Они же упомина-
ются при описании царских дворов Чолы и Черы автором
"Повести о браслете" (СП V, 48; XXVI, 74-75), что сви-
детельствует о высоком уровне литературной активности,
по крайней мере в столицах трех крупнейших тамильских
царств. Но пальму первенства в этом отношении следует
отдать все же Мадурай, пандийской столице. Даже если не
принимать пока во внимание легенду о санге, можно найти
в текстах немало свидетельств того, что именно Мадурай
принадлежит особая роль в культивировании тамильского
языка и поэзии: "Кудаль (древнее название Мадурай), где
сверкает тамильский язык..." (ПН 58, 13); "Мадурай, ко-
торой принадлежит славная традиция укрепления тамильско-
го языка" (СПан 66 — 67); "Мадурай, уничтожающая скверну,
расположенная в благой стране южного тамильского языка"
(tentamil nannâttu tîtu tir maturai - СП X, 58). В "Ka-
литтохей" есть строки, которые указывают на то, что с
наступлением весны (на празднике Камы) в Мадурай было
принято исполнять новые поэтические произведения (веро-
ятно, на поэтических состязаниях): "Это ли не время, ког-
да вновь вкушаются слова, рожденные поэтической мудростью
(pulavinäl) жителей Кудаль с высокими дворцами, имя ко-
торой на устах по всей земле!" (Кали 35, 17 — 18).
Поэтическая традиция и ее создатели 51
Итак, на основании текстов мы можем судить о наличии
высокоразвитой литературной традиции, но сведения о по-
этической академии оказываются неполными и противоречи-
выми. Далеки от единства и взгляды исследователей на эту
проблему. Разумеется, история первых двух санг всерьез
почти никем не принимается, но историчность третьей ак-
тивно обсуждается.
Некоторые тамилисты подвергают истинность легенды о
санге сильному сомнению /Харт, 1975, с.10/ или даже от-
вергают ее как чистую выдумку /Сивараджа Пиллей, 1932,
с.24; Джесудасан, 1961, с.8/; другие признают возмож-
ность существования поэтической академии /Нилаканта Ша-
стри, 1976, с.116; Звелебил, 1975, с.61/. Есть, наконец,
точка зрения, согласно которой позднее, спустя по край*
ней мере два-три столетия после создания "поэзии сангии,
существовала академия, занимавшаяся в основном кодифи-
кацией накопленного к тому времени поэтического материа-
ла /Кайласапати, 1968, с.З; Ваияпури Пиллей, 1956, с.59/.
В связи с этим под сангой может подразумеваться так на-
зываемая джайнская "дравидская санга в Мадурай", органи-
зованная в 470 г. неким Ваджрананди и послужившая мо-
делью для известной легенды.
Весьма характерно, что ввиду отсутствия современных
поэзии текстуальных свидетельств о санге (и, надо прямо
сказать, этот аргумент ее противников представляется нам
очень сильным) многие тамилисты рассматривают эту про-
блему, исходя из своего понимания происхождения и функ-
ционирования древнетамильской традиции, особенностей и
характера представляющей ее поэзии.
Так, для К.Кайласапати древнетамильская поэзия выве-
дена за рамки какой-либо литературной академии хотя бы
уже потому, что своим происхождением она обязана творче-
ству эпических певцов. "Приложение к ранней тамильской
литературе, —утверждает он, —методов исследования устно-
поэтической техники, постулированных для Гомера и многих
других поэтов Чэдвиками, Парри, Томпсоном, Баура, Лордом
и другими, оказывается оправданным и дает основание за-
ключить, что она (тамильская литература. — А,Д. ) тоже
принадлежит к той же самой категории литературы" /Кайла-
сапати, 1968, с.228/.
Французский тамилист Ф.Гро придерживается иной точки
зрения. Он полагает, что для нас санга — "это в основ-
ном корпус литературы, исключительно однородный с точки
зрения языка и тем, связанный системой условностей, клю-
чи к которой дают нам Толькаппиям и несколько других бо-
лее поздних трактатов. Именно эта однородность и постов
янное присутствие рамки условностей, которая либо сти-
мулирует, либо ограничивает самостоятельность поэтов,
являются в конечном счете наилучшим подтверждением ле-
генды. Возможно ли, чтобы такой академиям существовал
без чего-либо, подобного академии? Возможно ли, чтобы
52 Глава II
все эти поэты имели сознание, столь же заостренное на
правилах их искусства, как и на их месте в обществе и
при царском дворе, без того, чтобы их общность не имела
какой-то опоры?11 /Гро, 1968, с.VIII/. Отвечая на эти во-
просы, Гро приходит все же к выводу о том, что слово
"санга" неудачно, поскольку оно имеет отношение более к
текстам, нежели к собранию поэтов, но, "если современ-
ная традиция на нем настаивает, почему бы не рассматри-
вать его как символическую дань уважения литературной
деятельности, имевшей место в Мадурай под покровительст-
вом Пандьев в начале нашей эры?м /Гро, 1968, с.Х/.
Упомянутый выше Сивараджа Пиллей в свое время реши-
тельно отвергал "академизм11 "поэзии санги", полагая,
что "различные стихи этих сборников все до одного были
сочинены по разным поводам различными поэтами, жившими
в различных частях страны. Литературным мотивом их со-
чинения ни в коем случае не было создание совершенного
предмета искусства, долженствующего быть представленным
на высокий суд конклава знатоков". Однако тот же Сива-
раджа Пиллей вполне определенно указывал на связь поэтов
с придворным обиходом: "Тяжелая доля поэтов этого перио-
да, перед которыми стояла проблема хлеба насущного, по-
видимому, заставляла их пристраиваться к тому или иному
князю и играть роль певца его славы. Нуждаясь в аудито-
рии, которой они могли бы продать свою литературную про-
дукцию, поэты оказывались в зависимости от нескольких
покровителей, которых они щедро осыпали изысканными вос-
хвалениями в обмен на еду и одежду" /Сивараджа Пиллей,
1932, с.18/.
Комментируя вышеприведенные высказывания, мы должны
заметить, что высокий уровень поэтического мастерства,
присущий древнетамильской традиции, наличие у нее хоро-
шо отработанного поэтического канона, литературного язы-
ка, а также общепризнанного культурного центра — города
Мадурай, необязательно связаны с "чем-либо, подобным
академии" (как не связаны они с "академией" у трубаду-
ров) . В этом Сивараджа Пиллей прав. Он ошибается лишь
тогда, когда придает литературной практике характер пря-
мого торгового обмена, чисто деловых отношений. В первых
веках нашей эры дело обстояло, с нашей точки зрения,
иначе, и, чтобы уяснить характер взаимодействия поэтов
с царями и определить истоки тамильской поэтической тра-
диции, целесообразно прежде всего рассмотреть вопрос о
том, кто занимался в древнетамильском обществе поэтиче-
ским творчеством. Чтобы такое рассмотрение с самого на-
чала имело правильную перспективу, мы считаем нужным
предварить его несколькими замечаниями общего порядка,
касающимися существа разбираемой традиции.
Во-первых, эта традиция была ориентирована на устное
исполнительство: в антологиях и поэмах не содержится ни
одного упоминания о записывании поэтического текста или
Поэтическая традиция и ее создатели 53
о его бытовании в письменном виде (см. /Кайласапати,
1968, с.94—95/); во-вторых, под исполнением поэтиче-
ских текстов всегда подразумевается пение: основной тер-
мин, обозначающий исполнительский акт, — глагол pâtu
петь, все произведения, входящие в сборники антологий и
поэм, именуются pâtal или pättu песня (хотя мы, несмотря
на это, позволяем себе называть их стихотворениями или
поэмами, поскольку имеем дело с письменно зафиксирован-
ными текстами, лишенными для нас своего непосредственно-
го звучания).
Из большой группы исполнителей, с которыми связывает-
ся происхождение поэзии и о которых в ней же идет речь,
назовем в первую очередь наиболее часто упоминаемых и,
пожалуй, наиболее характерных для нее панана и вирали.
Панан (pänan — от pan мелодия, точнее, мелодический тип,
в более позднее время рага /Харт, 1975, с.138/; мн. ч.
pänar панары) — поэт, певец, музыкант, чаще всего иг-
рающий на струнном инструменте йале. В поэзии антологий
и поэм он выступает прежде всего как исполнитель, появ-
ляющийся при царском или княжеском дворе, чтобы восхва-
лить его хозяина. Помимо этого панаров можно было видеть
и на полях сражений, где они били в барабан tannumai
(АН 106, 12 — 13; HT 310, 9 — 10), вероятно, пели военные
песни и, сами пребывая в возбужденном состоянии (КТ 328,
6 говорит о "тигриных взорах" панаров), всячески способ-
ствовали поднятию боевого духа воинов. Возможно, что в
этих обстоятельствах они внешне уподоблялись воинам:
ПН 285, 4 упоминает щит в руках панана (сомнительно,
чтобы они участвовали в сражениях сами). Панары участво-
вали и в религиозных церемониях, играя перед изображени-
ями богов: "играют на струнах маленького йаля перед яро-
стным богом украшенные венками (cenniyar, т.е. панары)"
(HT 189, 2-4) .
Значительное место отводилось панарам в сфере любов-
ных и семейных отношений древних тамилов, где они испол-
няли роль вестников, посредников, советчиков. В период
супружеской разлуки, например в то время, как герой на-
ходится в военном лагере, панары навещают его и расска-
зывают ему о состоянии супруги, затем, в селении, уте-
шают героиню, предвещая скорое возвращение героя. "Ска-
жи нам, о панан, что говорила любимая, ослабевшая от
страданий?" (Айн 478, 3 — 4); "о панан, если он не при-
дет в такое время, как же нам быть? Скажи хоть слово Iм
(АН 314, 13 — 14). Во время размолвки, вызванной уходом
героя к гетере, панан выступает его представителем в по-
пытке семейного примирения (АН 86). Такого рода деятель-
ность панаров ассоциировалась, разумеется, с домами "бла-
городных воинов", куда они были вхожи в качестве своеоб-
разных охранителей домашнего благополучия.
54 Глава II
Играют панары мелодию муллей,
И та, чей лоб блестит, себя муллей украшает,—
Так процветает вместе с сыном достославный,
Чей образ жизни отвергает неблагое
(Айн 408).
К панану близка по роду деятельности вирали (от viral
сила, победа- ДЭС 4466) — женщина певица и музыкант, иг-
равшая на нескольких инструментах: йале (ПН 64, 1), тру-
бе (ПН 152, 15), на различных барабанах (akuli, patalai,
mulavu — ПН 64, 1; 103, 1). Как и панан, она — частый
гость царских и княжеских дворов, исполнитель панегири-
ков. "О вирали блестящелобая! Прекрасные получишь укра-
шения, когда пойдешь и воспоешь ты князя Пари" (ПН 105,
1—2); "сверкающие украшениями вирали воспевают твою
храбрость" (Пади 54, 6). Вирали участвовали, по-видимо-
му, и в церемониях, отмечающих различные военные дейст-
вия. Так, ПН 15, 24 упоминает певицу (pätini), исполняю-
щую ваньджи — песнопение, сопровождающее выступление цар-
ской армии в поход на врага. Согласно комментарию Свами-
натхаияра, под певицей подразумевается вирали (на это
обращает внимание Дж. Харт /1975, с.140/).
В отличие от панаров вирали не только пели, но и тан-
цевали, о чем в ряде мест говорится вполне определенно.
Так, поэма "Порунараттруппадей" упоминает о том, как
светлолобые вирали танцуют перед царем под аккомпанемент
барабанчиков и малого йаля (109 — 110). Поэт Кабиляр в
ПН 109, обращаясь к врагам князя Пари и утверждая, что
военной силой завоевать землю Пари нельзя, добавляет:
Я знаю способ взять ее:
На йале маленьком с витыми струнами играя,
Идите за своими вирали, чьи волосы благоухают,
Танцуйте, пойте.
Тогда отдаст он вам и холм свой, и страну
(ПН 109, 15-18). '
Есть свидетельства об участии вирали в сельских празд-
нествах (АН 352, 5) и плясках, вероятно связанных с ри-
туалами плодородия: "Пусть придет дождь на поле этого
селения, в котором танцуют вирали!" (HT 328, 12).
АН 82 содержит любопытное (в виде развернутого срав-
нения) описание начала даваемого вирали представления:
В сверкающих расщепах на бамбуковых стволах густорастущих
Из западных краев примчавшегося ветра звук — как будто
сладкий голос флейты;
Ручьев, шумящих влагою прохладной, сладкий звук —
Как будто дробный рокот барабанчиков;
Трубою громкоголосой кажется самцов оленей рев,
А йалем — сладкое жужжанье пчел вокруг цветов на горных
склонах:
Поэтическая традиция и ее создатели 55
Заслышав эти сладкие и многочисленные звуки,
Прекрасное собранье шумных обезьян глядит завороженно
На пляшущих по склонам, где растет бамбук, павлинов,
Что кажутся входящими на танцевальную площадку вирали
(АН 82, 1-10).
Как и панан, вирали может играть роль посредника, ве-
стника в любовных ситуациях, главным образом во время
супружеских размолвок. Эта роль, как полагает исследова-
тельница, занимавшаяся рассмотрением функций вирали,—яв-
ление более позднее, известное нам лишь начиная с "Пари-
падаль" (см. Пари VI: стихотворение, посвященное реке
Вайхей). Однако в действительности вопреки утверждению
о том, что "более старые тексты не дают ни одного свиде-
тельства, которое обосновывало бы ее (т.е. вирали) ха-
рактер вестника" /Керсенбом-Стори, 1981, с.23/, такие
свидетельства есть — например, стихотворения.170 и 310
из антологии "Наттриней", которые построены как речь под-
руги героини, обращенная к вирали, пришедшей в дом по
поручению героя, проводившего время с гетерой. Самое же
главное, роль вестника, вообще посредника полностью со-
ответствует социальному и ритуальному статусу как пана-
на, так и вирали и составляет существенную функциональ-
ную характеристику обеих этих фигур, о чем подробнее мы
будем говорить ниже.
Заслуживает внимания деятельность группы исполнителей,
называемых kötiyar. Все исследователи сходятся на том,
что это название происходит от слова kötu рог (в кото-
рый дуют), и полагают, что в нем зафиксирована опреде-
ленная профессиональная специфика /Кайласапати, 1968,
с.107; Харт, 1975, с.141; Сиватамби, .1981 , с.202-203/.
Однако дело, как мы думаем, обстоит иначе. Во-первых,
хотя рог-труба (правда, под другим названием — tümpu)
в связи с кодиярами действительно упоминается (АН 111,
9; 301, 17), этот инструмент не является в их практике
ни единственным, ни исключительно им принадлежащим
(вспомним, что тумбу владела и вирали); во-вторых, есть
возможность само слово kötiyar произвести не от kötu, а
от köti одежда (ДЭС 1822), что не только более оправдан-
но грамматически (от kötu ожидается kötuvar), но и вер-
нее по существу, ибо тогда в слове запечатлевается ак-
терский аспект деятельности кодияров, который может быть
уловлен в текстах. "В мире /все проходит, как/ проходят
чередой танцоры, как /меняется/ облик кодияров на празд-
нествах", — говорится в ПН 29, 22—24, Здесь самое важ-
ное для нас слово — nîrmai характер, природа, качество, ко-
торое мы перевели как облик и которое в данном контек-
сте, конечно, подразумевает характер, природу чего- или
кого-либо, выявленную с помощью внешних средств — костю-
ма, грима и т.п. (ИП так и дает значение этого слова —
одеяние). Таким образом, можно считать, что кодияры — это
название театральной труппы, состоявшей из различных му-
56 Глава II
зыкантов, певцов, танцоров (в АН 352, 1, например, упоми-
нается и вирали), которые в той или иной степени прибега-
ли к театрально-костюмному оформлению своих выступлений.
Кодияры вели странствующий образ жизни: пересекали пу-
стынные земли (АН 359, 8) в поисках покровителя ("кодия-
ры движутся, не думая о долготе /пути/ средь пустыни, к
стопе Ванавана, украшенной браслетом" —АН 309, 9) или
кочевали из селения в селение, устраивая публичные пред-
ставления на улицах. Именно такие представления и имеют-
ся в виду, когда в стихах говорится о "празднестве коди-
яров" (kötiyar vilavu) -ПН 29, 22-23; АН 352, 4-5.
Образ жизни кодияров хорошо проиллюстрирован в сти-
хотворении АН 301, в котором героиня, находящаяся в
разлуке с любимым, сравнивает свою грусть с тем ощуще-
нием, которое сопровождает окончание праздника.
Еду из риса — благодетелей подарок — без остатка съев
и о запасе не заботясь,
В телеге сидя дребезжащей, ковриком плетеным крытой,
Подобной крокодила, что живет в воде, раскрытой пасти,
Куда глаза глядят они без остановки едут. — Такая жизнь
у них;
От трудности пустынного пути под деревом передохнув,
Под сладостный и светлый рокот барабанчика киней
Мужчины головы свои венками, что сплетены из "ерукку"
густых соцветий, украшают,
А женщины себя — гирляндами из "авирей" с торчащими
цветками,
Которые колышутся на нежных и красивых их грудях
При отблесках ножных браслетов, что сверкают, как лесной
пожар ;
Короткие и длинные гудят рога и трубы, соединяясь
с "мужаву",
Как будто слон соединяется с слонихой тяжкостопой;
Ритмично, дробно, инструменты разные звучат, напоминая
кваканье лягушек,
В воде, как шум дождя сезона "кар", кричащих; —
Вот так, в селенья приходя, они танцуют. А потом,
собравшись быстро,
Мешки со многими своими инструментами связав, на головы
их взгромоздив,
С толпой своих сородичей уходя-i кодияры.
Назавтра жители селения старинного и шумного
Посмотрят на площадку — и всеми овладеет грусть...
(АН 301, 4-25).
Еще одна группа исполнителей, выделяемая в текстах,—
ka^nujar. Исследователи, отмечая неясность этимологии
этого слова /Кайласапати, 1968, с. 108; Сиватамби, 1981,
с.260/, не сомневаются, однако, в том, что оно означает
актеров (т.е. опять-таки танцоров-актеров), и ссылаются
при этом на свидетельства средневекового комментатора
Поэтическая традиьсля и ее создатели 57
"Повести о браслете" Адиярккуналлара (X—XI вв.)» кото-
рый связывал каннуляров с cäntikküttu — неким ритуаль-
ным шиваитским танцем, исполнявшимся в костюме и гриме
/Кайласапати, 1968, с.109; Сиватамби, 1981, с.210-211/3.
Наши тексты, однако, не дают возможности говорить о ка-
кой-либо их специфике. Они описываются (в МПК) как, по
существу, уже знакомая нам группа музыкантов, певцов,
танцоров, направляющаяся к покровителю, причем в соста-
ве ее мы видим панаров и вирали (МПК 40, 46). В арсена-
ле их музыкальных инструментов — различные барабаны
(mulavu, patalai, tattai, ellari), трубы тумбу (см. 1 —
13)7 а также большойи малый йали (37, 534). В заключи-
тельной части поэмы дается краткое описание выступления
группы при дворе князя Каннана: под звуки барабанов му-
жаву и труб тумбу "в согласии /со звуками/ струн малого
йаля, объединяясь с ними, знающие свой долг сладкоголо-
сые вирали, не отступая от своей сущности, традиция ко-
торой уходит в древность, после того как восхвалят ред-
костной силы бога, поют новые мелодии" (532 — 539).
В ПН 153 говорится о пении и танцах каннуляров под зву-
ки нескольких инструментов (12 — 13).
Пади 10, 17 объединяет каннуляров с вайириярами (vayi-
riyar kannular), музыкантами, называемыми по имени ин-
струмента—бамбуковой трубы (vayir). Но кроме трубы
они играют на барабане мужаву (АН 100, 10; 328, 1—2),
на йале (ПН 164, 11—12), поют (Пади 23, 5 — 6), танцуют
на празднествах (МК.628). Как и прочие исполнители, они
приходят ко дворам правителей, где за свои выступления
получают щедрые дары (ПН 9,9; Пади 20, 17). Участвуют
они и в событиях, так или иначе связанных с военными
действиями: в АН 45, 9 — 12 говорится о том, что, когда
князь Анни срубил так называемое охранное дерево некое-
го Тидияна (что символизировало победу над Тидияном),
вайирияры подняли "сладкозвучный шум".
Воспеванием царей и князей занимались также akavunar
(они же akavalar,»akavar) — певцы, название которых про-
исходит от глагола akavu звать, взывать, кричать (специ-
фически этот глагол обозначает крик павлина). "Собрав-
шимся на рассвете благим ахаварам, что восхвалили его
стопу, царь дает коней с колесницами" (МК 223 — 224);
"да получит коней ахавалан, кто прославит поле битвы,
пойдя из места для собраний на улицы..." (АН. 208, 1-3).
Очевидна связь ахавунаров с ритуалами плодородия. Во-
первых, она подразумевается их названием, как бы уподоб-
ляющим их павлинам, которые криками и плясками встреча-
ют сезон дождей; во-вторых, она выявляется в их функции
восхваления природных объектов:ахавары воспевают холм,
где зреет мед (АН 208, 2), различные виды жасмина-мул-
лей (Пору 220).
Какие-либо музыкальные инструменты, кроме барабана
kinai (АН 249, 3), в связи с ахавунарами не упоминаются.
58 Глава II
Наиболее же характерным предметом, находящимся в их вла-
дении, является тонкая бамбуковая палка, которая, как
утверждает АН 97, 9 — 10, срезается в лесу после тщатель-
ного отбора (о ней говорится также в АН 208, 1—3;
КТ 298, 6; Пади 43, 27; АН 152, 18). К сожалению, в тек-
стах не содержится указаний на назначение этого предме-
та, что дает повод к разногласиям: Сваминатхаияр в ком-
ментарии на ПН 152 называет его pirappunarttunkôl, т.е.
осезЛу расстсазывакщий о будущих рождениях; Дж.Харт видит в нем
принадлежность тех, кто занимается предсказаниями и га-
данием (охотников-кураваров, например) /Харт, 1975,
с. 146/; К.Кайласапати считает его знаком определенной
категории певцов /Кайласапати, 1968, с. 111/. С нашей
точки зрения, если исходить из обрисованных выше функ-
ций ахавунаров, правильнее определить этот жезл как сим-
вол плодородия (такие жезлы нередко можно увидеть в ру-
ках сельских божеств) и одновременно профессиональной
специфики этих певцов.
Несколько обособленно стоит группа барабанщиков-ту-
дияров. С ними не связывается никакой другой вид испол-
нительства, кроме битья в барабан tuti, причем, как
отмечает Дж.Харт /1975, с.146/, звукэтого барабана, на-
поминающий грубый крик филина (АН 19, 4 — 5), ассоцииру-
ется с ситуациями опасными и зловещими (угон скота вра-
гами — АН 159, 9; выход охотников-грабителей — АН 79,
13; нападение на купцов в пустынной местности — АН 89,
14). Тудияры бьют в барабан во время поклонения камням,
установленным на месте гибели воинов (АН 35, 8), и, ко-
нечно, во время битвы (ПН 260, 14). Грохот барабана туди
должен был, с одной стороны, внушать страх врагам или
жертвам, а с другой — оказывал определенное защитное дей-
ствие; в ПН 260, 14 туди называется плотом, на котором
можно переплыть поток стрел; в ПН 291 тудияры и певцы
призывают охранять лежащего на земле раненого воина:
Ребята! Тудияры! Певцы!
Приблизившись к черному, лежащему в белой одежде,
Шумных птиц отгоните!
А я, исполняя мелодию "вилари", белых лисиц отгоню
(ПН 291, 1 -4).
Наконец, следует остановиться еще на одной группе ис-
полнителей, о которых идет речь в текстах, — порунарах.
К.Кайласапати и К.Сиватамби, посвящая им специальные
разделы в своих исследованиях /Кайласапати, 1968, с.97 —
100; Сиватамби, 1981 , с.213—222/, отмечают трудность
идентификации фигуры порунана /Кайласапати, 1968, с.97;
Сиватамби, 1981, с.214/. В итоге оба автора не достига-
ют полной ясности в этом вопросе (добавим, что Дж.Харт
в своей книге вообще обходит его вниманием).
Вполне очевидно, что porunan — имя, образованное от
глагола poru-, который имеет значения бороться* биться*
Поэтическая традиция и ее создатели 59
объединяться* достигать, входить в контакт, быть похожим* напоми-
нать (ДЭС 3708, 3709). Исходя из того что имя это неред-
ко употребляется в текстах для обозначения воина (ПН 14,
17; 58, 7; 69, 13; 169, 12) - иногда, между прочим, и
врага (см. ИПН 491) — и толкуя известное выражение ро-
räpporunar (ПН 386, 19) как несрашющиеся порунары, упо-
мянутые исследователи связывают деятельность этих пев-
цов с войной (пение на поле битвы, восхваление войны,
воинских подвигов и т.п.) /Кайласапати, 1968, с.97; Си-
ватамби, 1981 , с.214/.
Заметим, однако, что военная тема почти не выявлена
в текстах применительно к порунарам, если не считать упо-
минаний о гремящем на поле битвы барабане киней (он же
тадари), владение которым Сиватамби приписывает поруна-
ну (ПН 76, 8; 78, 12; 79, 3). С другой стороны, как мы
видели, тема войны не составляет прерогативы какой-либо
разновидности певцов, а киней пользовались и* ахавунары
(АН 249, 3), и, судя по всему, вирали (поэтесса Ауввеи-
яр, которая в ПН 89, 1—2 именуется именно так, описы-
вает себя в ПН 390, 8 — 9 бьющей в тадари-киней).
Как будто более определенно вырисовывается другая
сфера деятельности порунана, или, точнее, кинеиняна, или
кинеияна (kinainan, kinaiyan), если придерживаться иден-
тификации Сиватамби, —'исполнение утренних гимнов патро-
ну у ворот его дворца. Такие гимны, получившие в тамиль-
ской традиции название tirupalli elucci поднятие со свя-
щенного лот, были призваны пробудить царя ото сна, вновь
ввести его в этот мир, приобщить к дневной деятельности
(ПН 379, 11 указывает на то, что барабанщик-кинеинян
обычно приходит по утрам).
Зажглась прекрасная Венера на громадном небе,
И птицы в гнездах на ветвях высоких голос подают.
Пруды глаза бутонов приоткрыли, /и луны/
Зеленоватый свет угас; шум поднялся —
Забили громко барабаны, и раковин, завитых вправо,
слышен рев.
Настало утро, видящее спину ночи.
В военном лагере, где копий наконечники сверканьем
гонят тьму,
Рассветный шум услышь! О ты, чья грудь украшена
Искусною гирляндой! Восстань же ото сна! —
/Взывая так/ и ударяя в звучный светлоглазый барабан
киней,
У врат твоих высоких появился я
(ПН 397, 1-11).
Кроме придворного исполнительства нужно отметить
еще пение порунаров на возделываемых полях, которое, не-
сомненно , составляло какую-то часть ритуалов, способст-
вующих плодородию земли. СП X, 138 — 139 упоминает песни
порунана наряду с песнями жешщин-работниц и песнями»
60 Глава II
восхваляющими плуг. Наччинарккинияр, средневековый ком-
ментатор мТолькаппиямм, говоря о порунарах, различает
среди них тех, кто воспевает поле битвы, тех, кто воспе-
вает рисовые поля, и тех, кто исполняет парани — жанр
военной поэмы /Сиватамби, 1981, с.215/. Как полагают
КайласапатииСкватамби, порунана легко определить по со-
держанию песен, в которых доминирует тема благосостоя-
ния, процветания патрона, плодородия и богатства его зе-
мель /Кайласапати, 1968, с.98; Сиватамби, 1981, с.216/.
Мы думаем, что данная тема, так же как и тема военно-
героическая, есть достояние панегирической поэзии в це-
лом и специфики деятельности порунаров определить не
может. Фигуру порунана вообще нужно рассматривать с дру-
гой позиции, уяснению которой будет способствовать об-
ращение еще раз к самому термину, вернее, к его значе-
нию объединяться* входить в контакт (оно, мы убеждены, и
является основным). Исходя из него, порунан — тот, кто
связан (с кем-то, чем-то). Именно в таком значении сле-
дует рассматривать это слово, когда речь идет о царе,
правителе какой-то местности: "О правитель (poruna) бла-
гой страны с урожайными землями!" (ПН 2, 11); "правитель
прохладной страны Чолов (tancôla nâttupporunan)"
(ПН 382, 3). Смысл употребления слова porunan в этих
случаях состоит в том, чтобы подчеркнуть идею тесной
связи правителя со своими владениями и подданными (ко-
торую, конечно, обеспечивает сакральная энергия царя,
источник блага и процветания)1*.
Аналогичным образом можно было бы трактовать и фигу-
ру порунана — как исполнителя, приближенного к патрону,
что как будто подтверждается наличием в стихах таких,
например, выражений: "Мы, порунары, любящие Налан Кил-
ли. Получать дары, воспевая других, не желаем. Его бу-
дем восхвалять: „Да живет его стопа!"" (ПН 38 2, 5—7);
"мы — кинеияры Ежини Адана" (ПН 396, 13—14). Однако
взаимная близость патрона и исполнителя характерна вов-
се не только для порунаров (ср.: "он — наш господин,
мы — его панары" — ПН 316, 4; "мы — вайирияры могучепо-
бедного князя Наннана" — МПК 164), она составляет общую
черту панегирического обихода. Учитывая это, слово poru-
nan возможно понимать не как обозначение какой-то разно-
видности панегиристов, а как термин, фиксирующий важней-
шую их функцию — вхождение в контакт с объектом исполни-
тельского воздействия, в частности панегирического вос-
хваления. Какова специфика этого контакта, мы рассмот-
рим несколько позже, а пока обобщим наше описание древ-
нетамильских исполнителей.
Все вышесказанное, как нам кажется, свидетельствует
о том, что, несмотря на наличие определенной специфики
в деятельности разных исполнителей, — причем специфики,
которую иногда игнорируют сами тексты, прибегая к обоб-
щенной терминологии: pänmakan (АН 352, 14) и pänmakal
Поэтическая традиция и ее создатели 61
(АН 126, 9; 216, 1) сын и дочь пана (т.е. мелодии), а
также pätini (Пади 61, 16), pâtti (АН 196, 4) певица,
pätunar (АН 100, 11; 349, 5; ПН'ЗЗ, 10) певцы, ätuvar
(Пари VI, 3 2) танцоры* - всех этих исполнителей, безус-
ловно, можно объединить с точки зрения их функций в од-
ну профессиональную группу, принимавшую активное участие
в жизни древнетамильского общества, в тех исполненных
сакрального значения событиях, которые должны были со-
провождаться музыкой, пением, танцами. Поэтому их можно
было видеть в военных станах и на поле боя, на празднич-
ных площадках и у храмов, во время ритуалов плодородия
и домашних обрядов и, наконец, при дворах тамильских ца-
рей и князей. Короче говоря, исполнители нужны были там,
где проявлялась сакральная энергия, которую нужно было
держать под контролем. Музыка, пение, танец, по пред-
ставлениям древних«тамилов, были способом, с одной сто-
роны, стимулировать эту энергию, а с другой стороны,
предотвращать ее опасное воздействие. Охранительные
свойства музыки и пения, отчасти понятные из примеров,
связанных с характеристикой исполнителей, наглядно про-
демонстрированы в стихотворении из ПН (на них обращает
внимание Дж.Харт /1975, с.37/), описывающем охранитель-
ный ритуал, исполнявшийся в доме раненого воина женщина-
ми, составной частью которого являются пение и музыка:
Со сладкоплодным "нравам" маргозу в доме сочетав,
Под звуки йаля крутобокого и прочих многих инструментов,
Руками медленно водя, глаза сурьмою подведем
И, белую горчицу разбросав, на флейте амбаль заиграем,
И колокольцами звеня, и запевая в пане "каньджи",
Куренья разведя из твердого ахила,
В просторный дом пойдем, любимая подруга!
И защитим — того, кто царский долг исполнил,
Браслетоногого, в венках цветочных, достославного
/героя/ рану! (ПН 281).
Как полагает Дж.Харт, суть воздействия музыки, пения
и танца на человека и окружающий мир заключалась в том,
что, будучи явлениями "высокоупорядоченными, они в со-
стоянии держать под контролем силы беспорядка, хаоса"
/Харт, 19 75, с.185/. Возможно, в каком-то смысле это и
так, но гораздо точнее с точки зрения мироощущения та-
милов будет сказать, что исполнительская деятельность
(во всяком случае, некоторые ее виды) имели целью сня-
тие избытка жара, охлаждение. Именно поэтому — парадок-
сально для нас, но вполне в духе тамильской культуры — '
танец куравей называется "прохладным" (ПН 24, 6), как
"прохладны" барабаны киней (ПН 374, 6; СП X, 138-139)
и парей (АН 68, 14). Охлаждающе действуют на тоскующую
в разлуке девушку речи (т.е., собственно, пение) вела-
на, жреца Муругана (HT 282, 6); идея прохлады содержит-
ся (хотя и косвенным образом) в сравнении дождя со "зву-
62 Глава II
чанием йаля панаров11 (АН 374, 7). Та же идея завуалиро-
вана в строках Пари VI, 5 — 10, где текущие с гор потоки
свежей воды уподобляются "благой поэзии, созданной язы-
ками, искусными в хвале, поэтов, чьи речения безгрешны".
Наконец, и сам тамильский язык именуется прохладным
(ПН 51, 5; 198, 15).
Итак, несомненна связь упомянутых исполнителей с
сакральной энергией анангу, их умение ею манипулировать.
Именно близостью их к этой энергии объясняется то, что
и сами они в некотором роде были опасны для окружающих,
вследствие чего их социальный статус был низким.
Вообще говоря, низкий социальный статус музыкантов и
других исполнителей хотя и не универсальная, но весьма
распространенная черта архаической общественной струк-
туры /Мерриам, 1964, с.134 —137/. Для Индии, во всяком
случае, она в высшей степени характерна. Еще в ведиче-
ские времена исполнители, обозначаемые словом sailüsa, •
занимавшиеся пением и танцами, относились к низким сло-
ям общества (позже подобного рода деятельность, безус-
ловно, приписывалась шудрам. Ср., например, "Законы Ма-
ну" XII, 45: "Фехтовальщики, кулачные бойцы, актеры и
люди, живущие позорными занятиями, преданные игре и
пьянству, — первое состояние, обусловленное страстью").
В классическом санскрите слово sailüsa имело, вероятно,
уничижительное значение /Кёйпер, 1968, с.77—78/.
В настоящее время в сельских общинах Индии исполните-
ли входят в группу низкокастовых ремесленников, обслужи-
вающих более высокие касты в тех случаях, когда прихо-
дится иметь дело с грязью, кровью, мертвыми телами и
прочими вещами, считающимися нечистыми. К этой группе
относятся кожевенники, горшечники, брадобреи, стираль-
щики белья, санитары и пр. /Брубэкер, 1979, с.131/. Все
они играют важные, хотя и весьма специфичные роли в раз-
личных ритуалах, в частности в сохраняющихся кое-где
кровавых жертвоприношениях. Как правило, исполнительст-
во — их побочное, временное занятие. Например, кожевен-
ники "мадига" в Андхра-Прадеш участвуют в свадебных тор-
жествах и на похоронах в качестве музыкантов. Некоторые
из них специализируются на рассказывании историй из эпо-
са и пуран /Брубэкер, 1979, с. 136/. В Тамилнаде из тако-
го рода каст набираются исполнители, рассказывающие и
разыгрывающие перед сельской аудиторией средневековый
тамильский эпос "Сказание о трех близнецах" /Бек, 1982,
с.84/.
Низкий социальный статус древнетамильских исполните-
лей достаточно очевиден. Скажем, исполнители на бараба-
нах туди и танцумей прямо называются "низкими", "низко-
рожденными" (ilicinan - ПН 282, 2; 289, 10; ilippirappâ-
lan — ПН 170, 5)5."К прочим исполнителям такие определе-
ния не прилагаются, но об их невысоком статусе, помимо
общих соображений можно привести некоторые конкретные
Поэтическая традиьсия и ее создатели 63
данные. Например, характерной чертой образа жизни пана-
ров и вирали, красноречиво говорящей об их социальном
положении, является то, что они помимо музыкального ис-
полнительства добывали себе пропитание рыбной ловлей6 —
занятием, которое в древнетамильском обществе не счита-
лось чистым. "Неприятна стала (pulaväki) нам жизнь, —
говорит женщина в разлуке, — словно сосуд со свежей ры-
бой в руках панаров. Да сгинет онаIм (КТ 169, 4 — 6).
Примечательной особенностью древнетамильских исполни-
телей, далее, следует считать странничество. Оно отнюдь
не означает их бездомности (упоминаются, например, квар-
талы панаров — МК 268 — 269; танцоров — Пари VII, 31 -32;
брахманов, утерявших свой статус из-за занятий музыкой,—
СП XIII, 33 — 34), но составляет необходимый компонент их
профессиональной деятельности, в частности панегириче-
ской. В самом деле, как показывают тексты, встреча испол-
нителя с царем или князем обыкновенно понимается как ко-
нечный момент и желанная цель утомительного путешествия.
"Множество холмов и гор оставив позади, я пришел"
(ПН 203, 1—2); "Тебя увидеть пришел через пустынные,
безлюдные земли" (ПН 23, 17... 22).
Хотя многие исполнители, в частности панары и вира-
ли, могли выступать индивидуально, они нередко путешест-
вовали вместе (см., например, описание странствующей че-
ты — панана и вирали — в начале поэмы СПан, см. также
Пору) и, что важнее, образовывали исполнительские груп-
пы, часто весьма многочисленные, включавшие в свой со-
став разного рода музыкантов, певцов, танцоров, актеров.
Таким группам было, видимо, доступно осуществление до-
вольно сложных исполнительских задач, но, к сожалению,
полного представления об их совместных выступлениях из
имеющихся описаний (см. выше фрагменты из АН 82 и 301)
мы не получаем.
Интересно упоминание о наличии в группах неких моло-
дых людей, исполнявших обязанности слуг: в СПан 33 — 34
говорится,- что они растирают ноги уставших вирали, в
Пади 41, 3 — 6—0 том, что они носят в сильных руках
мешки с музыкальными инструментами. Вполне вероятно,
что эти юноши находились на положении учеников и, путе-
шествуя вместе со старшими, постепенно приобщались к ис-
полнительскому ремеслу /Кайласапати, 1968, с. 105; Сива-
тамби, 1981, с.196/.
Более или менее развернутое описание странствующей
группы дается в поэзии редко (можно назвать начальные
фрагменты тех же поэм СПан, Пору, стихи антологий —
АН 301, Пади 41). Чаще же сопровождающие основных испол-
нителей лица обобщенно называются okkal, katumpu, cur-
ram — словами со значением родичи. Употребление этих"
слов в отношении исполнителей свидетельствует о том,
что между ними могли существовать родственные связи,
однако важнее, мы полагаем, факт их профессионального
64 Глава II
объединения в группу "подобных друг другу людей" (okkal ■
от глагола о соответствовать Л быть подобным): kannular okkal
talaiva о старший группы каннулярову — говорится в поэме
МПК (50).
В связи со странствующим образом жизни исполнителей
в древнетамильскои поэзии возникает оригинальная жанро-
вая форма панегирика — ârruppatai вступление (или настав-
ление) на путь /к покровителюГ. В ней отразилась ситуация
встречи двух исполнителей (одиноких или с группами), во
время которой один из них сообщает другому о каком-либо
царе или князе, восхваляет его достоинства (в особенно-
сти щедрость), приглашая, таким образом, своего товари-
ща в путь ко двору покровителя. Например:
В руке твоей прекрасный ладный йаль,
На бедрах — пропотевшие, тесьмой прошитые лохмотья,
В утробе — из-за отсутствия кормильца сильный голод.
О панан исстрадавшийся!
Когда с толпой своих сородичей измученных,
Подобных тем несчастным, кто не имеет даже покрывала,
Ты целый мир напрасно обойдешь
И тихо спросишь у меня, /куда ж теперь идти/,
/Тебе скажу:/
Он — обладатель армии свирепой,
Что, сокрушая бивненосных боевых слонов,
Поля сражений устилает мясом, —
И в лагере врагов, украшенном знаменами,
Текут потоки крови, и слоны от ран страдают;
Копьем он обладает славным,
Которое за воинов своих подъемлет,
И обладает правом во владения врагов вторгаться.
Живет он во дворце высоком в Урандей,
И на груди его — царя достойная гирлянда
С цветами, точно пламя яркое, — врагам внушает страх.
Когда придешь ты к Килли Валавану,
То у ворот его широких долго ждать не будешь —
Всего лишь столько, чтобы, дождясь угощенья
В том месте, где он щедро дарит колесницы,
Его узреть — и тотчас обретешь награду:
По меньшей мере — лотос, сделанный из золота,
Вокруг которого жужжащие не вьются пчелы
(ПН 69, Алаттур Кижар).
О вирали блестящелобая! Прекрасные получишь украшенья,
Когда пойдешь и воспоешь ты князя Пари,
Что нежностью и сладостью своею превосходит
Потоки вод, что с гор высоких льются
И мимо лестниц, что стоят для сбора меда, пробегая,
Поля просторные, что вспаханы под просо, орошают
/В любое время/ — нет дождя или идет он,
Разбрызгивая капли, что соединяются с прохладной влагой
В цветах, что вновь раскрылись в водоемах,
Поэтическая традиция и ее создатели 65
Красивых темнолепестковых лилий,
Вокруг которых вьются пчелы
(ПН 105, Кабиляр).
Итак, мы получили общее представление об исполните-
лях, обслуживавших древнетамильское общество. Их дея-
тельность, несомненно, уходила корнями в далекое прош-
лое7 и, будучи связана с древними ритуальными традиция-
ми, высоко ценилась и почиталась, несмотря на отмеченный
нами их низкий социальный статус. Есть основания пола-
гать, что генезис их профессии связан со сферой религи-
озного культа — с поклонением Муругану, с ритуальными
гаданием и прорицаниями. Об этом свидетельствуют, во-
первых, значительное перекрещивание функций таких фигур,
как велан, ахавунан, с функциями прочих исполнителей, и,
во-вторых, как показывает Кайласапати, общий для всех
них эпитет mutuväy (букв, древлеустый), где mutu древний
имеет оттенок освященный традицией, мудрый, пророческий, сак-
ральный. Так, мдревлеустымим или ммудроустымим называют-
ся: велан, жрец Муругана (HT 282, 5; АН 388, 19 ; КТ 362,
1; ср. poyyâ marapin ür mutu vêlan мудрый велан селения,
имеющий отношение к необманывакгцей традиции —Айн 245, 1), панан
(ПН 319, 9), кодияры (КТ 78, 2), родичи (okkal, т.е.
группа исполнителей, —ПН 237, 12), "просители" (т.е.
исполнители вообще — ПН 48, 6; 70, 5; 180, 9), горшечник
(HT 200, 4)8. Кроме того, эпитет mutuväy употребляется
по отношению к старухам-прорицательницам (АН 22, 8), а
также к ящерице palli, щелканью которой придавался про-
роческий смысл (АН 38 7, 16)9.
В результате описания деятельности древнетамильских
исполнителей вырисовываются три основные ее сферы: об-
щинная (ритуалы плодородия, празднества, культ богов),
домашняя (домашние обряды, посредничество в семейных де-
лах) , царско-княжеская (придворный обиход, военный ла-
герь, поле битвы). Выделение таких сфер довольно услов-
но — они часто соприкасаются, накладываются одна на дру-
гую, — но имеет основание хотя бы в том, что контроль
над сакральной энергией осуществлялся исполнителями в
разных сферах в связи соответственно с коллективом, се-
мейным кланом, одним лицом (царем).
В нашу задачу не входит подробное рассмотрение всей
проблематики древнетамильского исполнительства. Целесо-
образно, однако, остановиться на специфике взаимоотноше-
ний певцов и поэтов с покровителями, поскольку царский
двор играл громадную роль в процессе формирования поэти-
ческой традиции, в частности традиции поэзии пурам — па-
негирической .
Мы уже говорили о том, что древнетамильское общество
испытывало сильное влияние североиндийской культуры, ко-
5 60
66 Глава II
торое, может быть, более всего сказывалось в представле-
ниях о царской власти. По всей вероятности, на тамиль-
ских правителей произвели впечатление империя Маурьев и
их концепция царя-чакравартина, властелина мира. В соот-
ветствии с ней панегирическая поэзия рождает гиперболи-
ческие образы южных монархов, которые иногда описывают-
ся как правящие всем миром, т.е. Индией. "Южный /мыс/
Кумари, северные большие горы (т.е. Гималаи), на западе
и востоке — океан. Вот граница /твоей страны/", - гово-
рит поэт об одном из царей Черов (ПН 17, 1 — 2). Другой
поэт восхваляет пандийского царя как потомка "могучих,
что, укрепляя свою славу, брали под свою стопу весь про-
сторно раскинувшийся мир, окруженный гремящим трехводным
океаном" (ПН 18, 1 -4) .
Ну а если не страна, то, во всяком случае, слава ца-
ря должна простираться по всей вселенной:
На севере — до северных высоких снежных склонов,
На юге — до Кумари южной страшной,
На западе — до западных старинных океанских вод,
А на востоке — до восточных, бьющих в берег.
Внизу — до нижней изначальной тверди,
Что поднялась из вод, соединяя три пространства10,
Вверху — до мира /райского/ коров11, — /повсюду/
неизменно
Ты, страхом /для врагов/ и славой став,
Подобно мерной рейке взявших груз весов, да не
склонишься !
Да будет славна твоя мощь! (ПН 6, 1—10).
В такого рода восхвалениях, носящих характер торжест-
венного официального панегирика, тамильской специфики,
собственно говоря, нет: они легко применимы к фигурам
любого из североиндийских царей, которые, как известно,
также держали при себе певцов, превозносивших их славу
буквально до небес. Не ощущаем мы специфики и когда царь
восхваляется за организацию жертвоприношений, что в древ-
ней Индии вообще считалось одной из основных его обязан-
ностей /Гонда, 1956, с.50/. Особенность же древнетамиль-
ского царя состоит в том, что его деятельность в качест-
ве жертвователя имела как бы двойственный характер. С од-
ной стороны, он, как мы отмечали раньше, под руководст-
вом брахманов совершает ведические жертвоприношения, с
другой — прибегает к обрядам явно автохтонного происхож-
дения. В частично приведенном уже нами отрывке из ПН по-
эт Мангуди Маруданар обращается к пандийскому царю Не-
дуньчежияну так:
О Чежиян убийственных сражений,
Что на просторном поле.битвы, свое блестящее копье
вздымая,
Заставил пасть врагов и захватил их барабаны,
Поэтическая традиция и ее создатели 67
И, поле битвы своей армией вспахав, возжаждал угощенья:
Очаг из коронованных голов сложили, в горшки налили кровь
И мясо воинов размешивали ложками,
Что сделаны из рук, украшенных браслетами!
О царь, ты обладаешь праведным мечом
И жертвоприношенье совершаешь постоянно — в окруженье
Других царей, теперь твоих прислужников,
И брахманов ведических, которым сдержанность присуща
И кто исполнен знанья шрути
(ПН 26, 4-15).
Ведическое жертвоприношение, о котором идет речь, это
скорее всего раджасуя - ежегодно повторяемый царский ри-
туал восстановления, возрождения заключенной в царе энер-
гии жизни, природных производительных сил. Что же каса-
ется автохтонного ритуала, то это уже описанный нами
"ритуал битвы", жертвоприношение богине Коттравей, кото-
рое должно обновить, укрепить, стимулировать сакральную
энергию царя.
Несмотря на то что в сознании поэтов два плана в оцен-
ке фигуры царя (условно говоря, ведический и автохтон-
ный), как видим, вполне уживались друг с другом, их раз-
личие все же, мы полагаем, определенно ими ощущалось, а
иногда и прямо подчеркивалось. Скажем, поэт Сирувендери-
ян так описывает устрашающее вступление царя со своим
войском на поле битвы:
Колышутся гирлянды на его груди бесценные —
В них вплетены прекрасные сапфиры, что подобны блеском
солнцу ;
Гремят в военном стане барабаны, получающие жертвы;
Вступающие в битву воины могучие, пространство заполняя,
Вздымают белые победные знамена;
Пугают, словно анангу, его несчетные войска,
А предводитель /их/ неумолимостью подобен богу смерти.
Затем поэт добавляет:
Все это не имеет отношенья к Ведам четырем,
Что брахманы со взорами коров /распространяют/;
Поскольку с милостью не связаны /его деянья/,
То не имеет это отношения и к дхарме (ПН 362, 1—10).
Если попытаться определить, в чем же заключается
различие двух упомянутых планов восприятия фигуры царя,
то надо сказать следующее. Как в ведическом, так и в ме-
стном ритуале в центре внимания - царь, концентрирующий
в себе некую сакральную энергию, являющуюся источником
плодородия, процветания земель царя и его подданных. Од-
нако природа, происхождение этой энергии в каждом случае
разные. Для ведического индийца это энергия космоса,
сверхъестественная сила, царь в раджасуе есть соответст-
венно ее средоточие, и вся символика ритуала по преиму-
ществу космична и в значительной степени умозрительна..
68 Глава II
Царь в ведическом ритуале — фигура в общем безликая, аб-
страктный жертвователь, "космический человек" (Праджапа-
ти), символический центр вселенной и сама вселенная /Хе-
естерман, 1957, с.66/; он, по существу, лишь посредник
между силами космоса, природы и обществом /Гонда, 19 56,
с.41/. Акцент в ведическом жертвоприношении ставится на
ритуальной процедуре и ее исполнителях — жрецах-брахма-
нах.
Для древних тамилов сакральная энергия, анангу, ли-
шена космического измерения, она близка, заключена в
людях и окружающих их предметах, чувственно постижима,
и в связи с этим символические образы ритуала заземлены
и конкретны. Тамильский царь — фигура живая, персонаж,
представляющий сакральную энергию чувственно, непосред-
ственно, можно сказать, лично. Он в известном смысле са-
ма сакральная энергия и в соответствии с этим является
весьма активным, деятельным участником ритуалов, напри-
мер победных танцев вместе со своими воинами12. В то же
время — и это постоянно надо иметь в виду — в согласии
с древнетамильскими представлениями о сакральном его
статус принципиально не отличается от божественного
/Харт, 1975, с.12/.
Следует добавить, что когда речь заходит о тамиль-
ских царях, то необязательно подразумеваются крупные
монархи, владевшие громадной территорией. Помимо них
существовало множество более мелких властителей, князей,
также носивших титул царя. Все они и даже, вероятно,
еще менее значительные административно правители (на-
пример, старейшины селений) были сакральны в том смыс-
ле, что с ними связывалось процветание подчиненных им
территорий и их жителей. Эта традиция дожила на юге Ин-
дии до современности и проявляется (или, во всяком слу-
чае, проявлялась до сравнительно недавнего времени) в
сакральном статусе тамильских помещиков-полигаров или
местных правителей в Тулунаде, называвших себя царями
(см. /Клаус, 1979, с.97/). Кстати, как носители сак-
ральной энергии такие фигуры гораздо более показатель-
ны, чем крупные властители, поскольку их связь с зем-
лей и народом более непосредственна.
Итак, древнетамильский царь, как, впрочем, любой
царь в древности, — фигура сакральная. От него прямо
зависят процветание земель, благополучие, да и сама
жизнь подданных. Такого рода ключевая позиция царя в
мире едва ли не лучше всего иллюстрируется знаменатель-
ным стихом Мосикиранара (ПН 186):
Рис не есть жизнь, и вода не есть жизнь.
Царь есть дыхание жизни громадного мира, — и потому:
"Я — это жизнь" — вот что знать
Многокопейного войска царю долженствует.
Поэтическая традиция и ее создатели 69
Понятно, что, если говорить обобщенно, основной за-
дачей поэтов-панегиристов являлось поддержание этого
жизненного дыхания царя13, или, другими словами, кон-
тролировать, "охлаждать11 его сакральную энергию. Отсю-
да следует, что деятельность певцов, музыкантов, тан-
цоров, связанная с восхвалением царя или исполнением в
его присутствии специальных мелодий, танцев, представ-
лений, была особой формой ритуальной активности, высо-
ко ценимой в древнетамильском обществе. Естественно,
что эта деятельность ни в коей мере не носила произволь-
ный характер, а отвечала интересам всего общества, на-
лагавшего на обе участвовавшие в панегирическом акте
стороны (т.е. на исполнителей и объекты восхваления)
соответствующие обязательства, выразившиеся в понятии
katan долг. "Панары движутся, зная долг малого йаля..."
(ПН 398, 4), "сладкоголосые вирали, знающие katavatu",
т.е. должное (МПК 536). С другой стороны, существовал
долг правителя по отношению к восхвалявшему его поэту,
музыканту (pän katan - ПН 201, 14; 203, 11), который
состоял в необходимости почтительно принять, щедро уго-
стить и одарить его — так, чтобы он остался полностью
удовлетворенным.
Горы, одетой тучами, властитель, он ежедневно
Слонов украшенных просителям дает,
Он — в драгоценностях сверкающих,
Войну ведущий постоянно Адан Ори.
Увидеть щедрый дар его, дождю подобный, издалека пришла
Танцоров родственная группа.
В прохладных водах не цветут
Те лилии, сапфирами усыпанные, что он нам подарил,
И к ним — серебряными нитями прошитые гирлянды
драгоценностей•
Еще слонов мы получили! И уж конечно, утолили голод
напоследок,
Да так, что под звучанье инструментов, крепко слаженных,
И танцевать мы больше не могли, и песни все забыли
(ПН 158).
Тема щедрости правителя по отношению к исполнителям,
часто именуемым iravalar, paricilar просители* езыскукщие
дара> является одной из главных в панегирической поэзии.
Е^ глубинное значение, однако, может быть осознано лишь
в конкретном сочетании с другой, не менее важной и ха-
рактерной темой бедственного состояния просителя, спле-
тающейся из мотивов нищеты, голода, усталости от труд-
ного, долгого пути. Весьма ярко эта тема отражена, на-
пример, в стихотворении ПН 159, в котором поэт Перуньд-
життиранар восхваляет князя Куманана:
"Уж много дней и лет живу,
А жизни нет конца11, — стенает беспрестанно,
70 Глава II
На палку опираясь, ковыляющая мать;
Она стара; как нити, волосы ее, глаза подслеповаты,
Давно уж не выходит со двора.
Терзается раздумьями жена, к себе прижавшая детишек, —
От горя стало желтым тело и усохли груди, их ручонками
измятые ;
В отчаянье, сорвав на куче овощей гнилых проросшие
побеги молодые,
Зеленые листочки их — без соли и без простокваши,
А о вареном рисе думать уж забывши, — в горшке с водой
толчет;
Но все ж, голодная, в разорванной одежде, добродетель
проклиная,
Она, что любит так меня, не может это есть.
И вот, чтоб их — жены и матери — сердца воспряли,
Я восхвалю твоих деяний славу,
Деяний, что подобны громкой туче дождевой
Для риса дикого, на черных пустошах растимого лесными
племенами,
Когда налился он прекрасной темнотой,
Но полностью из-за сухой жары созреть не может.
Чтоб родичи мои, что ежегодно голодают, радостно
воспряли,
Я восхвалю тебя, но знай, что, если дар твой —
Хоть слон убийственный со вздыбленными бивнями —
Отпущен нехотя, его я не приму!
Когда же, радуясь и наслаждаясь, сам одаришь,
Приму я даже маленький орешек "кундри", о Куманан
острокопейный!
Подобной милости прошу, родившийся в победоносном,
славном,
Незыблемом роду, о предводитель, — тебя поющий я.
Это стихотворение, столь живо и непосредственно ри-
сующее картину бедственного положения поэта, содержит
ряд важных моментов, проливающих свет на характер вза-
имоотношений исполнителя-панегириста и патрона и, по
существу, конструирующих ситуацию панегирического акта.
Во-первых, обращает на себя внимание сравнение даяния
с дождевой тучей, орошающей сухие посевы. Этот образ,
призванный подчеркнуть щедрость правителя, в различных
модификациях встречается в стихах часто, можно сказать,
типичен для них11*. Он ярко передает ключевое для всего
панегирического обихода представление о живительной,
возрождающей силе царских даров.
Во-вторых, в стихотворении выявляется важная для па-
негирической поэзии идея: получению даров предшествова-
ли голод и страдания поэта, вызванные трудностью пути к
покровителю через пустынные, засушливые земли, опасные
и страшные: "пустившись в путь по сжигаемой солнцем пу-
стыне, пришли сюда, тебя возжелав /увидеть/11 (ПН 136,
13—19); "вчера, перейдя вместе с голодающими родичами
Поэтическая традиция и ее создатели 71
пустынные земли, настрадавшись, мы появились в малень-
ком селении средь высоких гор, где ручьи шумят, как ба-
рабаны, и у ворот пели, восхваляя тебя и твои горы..."
(ПН 143, 7 -12) .
Пустынные земли — это уже охарактеризованный ранее
район палей, играющий в тамильской культуре роль симво-
ла дикой природы, связанный с целым комплексом негатив-
но окрашенных значений. Здесь для нас важно то, что его
атрибутика прекрасно соответствует серединной фазе в
структуре так называемых ритуалов перехода (rites de
passage), одну из разновидностей которых, несомненно,
представляют путешествие исполнителя ко двору патрона и
встреча с ним.
В определении Ван Геннепа, впервые введшего в обиход
термин rites de passage, это "ритуалы, которые сопровож-
дали все перемены места, состояния, социального положе-
ния, возраста человека" (цит. по /Тэрнер, 1969, с.94/)15.
Их структура трехчастна: "Первая фаза заключает символи-
ческое поведение, означающее отдаление индивидуума или
группы от прежнего зафиксированного положения в социаль-
ной структуре, от какого-то культурного состояния („ста-
тус") или от обоих. В течение промежуточного, „переход-
ного" периода характеристики „проходящего" амбивалентны;
он проходит через культурную область, которая имеет мало
или совсем не имеет атрибутов прошлой или наступающей фа-
зы. На третьей стадии (восстановление, реинкорпорация)
прохождение завершается" /Тэрнер, 1969, с.94—95/16.
В разбираемом нами случае с исполнителями первая фаза
их ритуального поведения проявляется в удалении от соци-
ума и, еще более наглядно, в отходе от чисто физической
жизненной нормы (нищета, голод). К этому добавляются
своего рода испытания — страдания, вызываемые трудным и
опасным путешествием. Все вместе приводит исполнителя в
состояние нагретости, жара, столь характерное для всяких
переходных этапов в русле тамильской культуры /Бек, 1969,
с. 564/. Напомним, что страдания рождают жар, с жаром
связаны и муки голода (ср. kâypaci горячий голод — ПН 150,
14; "охладить огонь живота", т.е. накормить, — ПН 74,
5). Встреча же с царем, покровителем, несомненно, есть
вступление в третью фазу ритуала перехода, поскольку со-
провождается утолением голода ("он — целитель голода" —
ПН 173, 11; "враг голода панаров" — ПН 180, 7), сменой
одежды, получением даров, т.е. ликвидацией нищеты:
Он дал мне много мяса, на масле и с приправой
жаренного,
В сапфировом сосуде ароматного вина, белоцветочную,
похожую на кожу слезшую змеи, одежду.
— Все это с щедростью дождя пролив,
Чтоб жар моих страданий, словно летний жар, остыл,
Он одарил меня еще и драгоценностями редкими
(ПН 397, 13-18).
5-4 60
72 Глава II
В этом фрагменте идеи охлаждения, обновления, симво-
лизирующие собой возвращение к норме, продемонстрирова-
ны самым наглядным образом. Чрезвычайно характерны упо-
минания дождя и мотив белого цвета, выражающего эти же
идеи /Бек, 1969, с.557/. Белые одежды в данном контек-
сте упоминаются также в ПН 398, 20, где они сравнивают-
ся с дымом.
То, как описаны в стихах путь певца-поэта к покрови-
телю и его встреча с ним, позволяет говорить (особенно
если учитывать сакральный статус царя) об аналогии это-
го пути религиозному паломничеству. Эта аналогия обосно-
вывается не только схожестью внешнего антуража (трудно-
сти, нищета, признаком которой, кстати, служит неодно-
кратно упоминаемая в стихах чаша для сбора еды-подая-
ния — mantai), но и существенным параллелизмом внутрен-
него настроя идущих к покровителю исполнителей и палом-
ников, направляющихся к храму божества. Дело в том, что
в панегирических излияниях поэтов значительное место за-
нимают не только мысли о материальном вознаграждении,
но и иные, можно сказать, идеальные побуждения, жажда
встречи с патроном: "мы пойдем, чтобы увидеть щедрого
на колесницы князя Айм (ПН 133, 7); "мы будем тебя лице-
зреть" (ПН 40, 7); "о великий, я пришел, чтобы тебя вос-
хвалить и увидеть!" (ПН 17, 31—33); "торопясь, я при-
шел, думая о тебе" (ПН 158, 19—20); "я пришел, думая о
твоей славе, отец!11 (ПН 135, 9—10). Можно привести и
другие примеры того, что поэт взыскует прежде всего цар-
ской милости. В стихотворении ПН 159 (см. выше) это вы-
ражено с исключительной силой: без всяких обиняков поэт
ставит выше награды благое расположение к нему покрови-
теля и отвергает дар, если он неискренен, натужен, фор-
мален. Доброта, ласковое обращение со страждущими, не
только щедрое, но и радостное даяние — т.е. все, что
можно выразить одним словом — милость (arul), составля-
ет неотъемлемые черты создаваемого в стихах образа пра-
вителя.
Посмотрим, как изображается встреча адепта и бога в
чисто религиозной поэзии, приведя для сравнения неболь-
шой фрагмент из поэмы "Тирумуругаттруппадеи", в котором
поэт так наставляет идущего к Муругану: "Подойдя к Муру-
гану, увидя его, с радостным лицом сложив ладони, вос-
хвали и затем, распростершись перед ним и ног его кос-
нувшись... скажи: „Думая о твоих стопах, пришел я""
(251-259 ... 279), "пришел, о великий, достойный мило-
сти мудроустый проситель (mutuvây iravalan - выражение,
которое употребляется применительно и к поэтам-просите-
лям) , твою щедрую славу узнать возжелав..." (284—285).
И тут же уместен отрывок из гимна "Парипадаль", обращен-
ного к Муругану:
Богатство и золото, /все/ наслаждения жизни — не их
/мы хотим/ от тебя,
Поэтическая традиция и ее создатели 73
Но милость, любовь, добродетель — эти вот три,
О ты, что украшен гирляндой кадамбы извилистоцветной!
(5, 79-81).
Итак, поэт направляется к патрону не только для того,
чтобы восхвалить его и получить за это награду, но и
чтобы лицезреть его (выражаясь в терминах религиозного
паломничества, "получить даршанм). Здесь заслуживает
упоминания еще один мотив, присущий как панегирической,
так и чисто религиозной поэзии, — мотив думы об объекте
восхваления, поклонения. Поэт, направляющийся к господи-
ну, заранее устанавливает мысленную связь с ним, вбирает
в себя его образ и, следовательно, в некотором роде с
ним самоотождествляется. Именно это как раз и характер-
но для религиозного паломника, на пути к богу воображаю-
щего себя одним из его воплощений. Так, например, покло-
няющиеся Аяппану жители Кералы, совершая паломничество
к одной из его святынь, мысленно превращаются в Аяппана
и даже называют этим именем друг друга /Джозеф, 1939,
с.116/.
Аналогично в Махараштре паломники к божеству Витхоба,
во всяком случае наиболее преданные, заслужившие репута-
цию и титул духовных вождей-сантов, рассматривались не-
которым образом как воплощение божества17. Считалось,
что увидеть санта, находящегося на пути к храму Витхо-
бы, все равно что "получить даршан" бога. Такого рода
статус паломника-адепта находит любопытную параллель в
одном характерном для панегирической поэзии мотиве —
своеобразной идентификации певца-поэта с царем. К.Кай-
ласапати, обративший внимание на этот мотив, приводит
такие примеры: поэт Писирандеияр отбросил принадлежав-
шее ему имя и принял имя царя Копперунчолана (ЦН 216);
Кабиляр, по сути дела, ставил себя наравне со своим пат-
роном, князем Пари (ПН 110); один из князей, принимая
Наккирара, обращается к жене: "Почитай его, как меня"
(ПН 395, 32) /Кайласапати, 1968, с.66/. Добавим к этому,
что поэт иногда вместе с царем совершал ритуальное
умерщвление себя голодом (ПН 217; 219 )18. Что же касает-
ся принятия поэтами или вообще исполнителями имен покро-
вителей, то традиция эта долго сохранялась и действова-
ла и в период средневековья. Так, в чольской надписи,
относимой к XI—XII вв., упоминается панан, в состав
прозвища которого входит титул Чолан, т.е. царь дина-
стии Чола: irumuti colan piranäna acan colapperaiyan
/Наннитамби, 1969, с.66/• Такие же прозвища давали акте-
рам. При этом же дворе Чолов был исполнитель комических
ролей, которого называли häsya vikramätittan (т.е. Вик-
рамадитья) accanâna râjarâja nâtakapperaiyan /Наннитам-
би, 1969, с.69/7 а главу труппы) относящейся к традиции
артистов-чакьяров, именовали sakkai-marayari vikramacölan
(Викрамачола) /Рагхава Аиянгар, 1973, с. 132/.
74 Глава II
По мнению Кайласапати, подобные факты говорят о близ-
ких, порой интимно-дружеских отношениях, которые склады-
вались между поэтами и покровителями, о том уважении,
которым пользовались поэты при их дворах. Из древнета-
мильской поэзии известна, например, дружба князя Пари с
Кабиляром, а князя Адиямана с поэтессой-вирали Ауввеияр.
В целом, однако, для эпохи странствующих исполнителей
характерно другое.
Нужно иметь в виду, что панегирический акт, который
выглядит в поэзии как акт индивидуальный или узкогруппо-
вой, на самом деле по своему смыслу таковым не является.
Ведь целью воспевания покровителя было укрепление его
сакральной энергии, от которой зависело благоденствие
всего народа, находящегося в его подданстве. Таким об-
разом, уже по самой своей идее этот акт амбивалентно со-
четал в себе индивидуальное и общественное начала, рав-
но как и исполнитель олицетворял своим бедственным со-
стоянием (голод, нищета) нужды общества. Поэтому поэт,
предпринимавший ритуальное путешествие к патрону, неиз-
бежно должен был ощущать себя посланником людей, посред-
ником между народом и царем. Совершенно так же паломник,
удовлетворяя свои религиозные интересы, вместе с тем яв-
ляется и посредником между богом и людьми, специальным
посланником к богу (см. /Делери, 1960, с.73/).
Посредническая же функция, чрезвычайно характерная
для ритуальной деятельности тех низкорожденных профес-
сионалов, к которым, как мы видели, принадлежали испол-
нители, могла быть осуществлена лишь путем сочетания
сущностей сопрягаемых сторон в посреднике. Разумеется,
это сочетание носило чисто условный характер, но оно,
несомненно, присутствовало в психике участников ритуала,
определяя для них его эффективность. Будучи, с точки
зрения царя, представителями его подданных, исполните-
ли, если смотреть на них с точки зрения этих подданных,
должны были мыслиться как фигуры, в каком-то смысле
идентичные царю, его ритуальные двойники, а ритуал
встречи царя с исполнителем был своеобразным актом обме-
на, в результате которого обе стороны поддерживали свой
жизненный тонус. Дары царя были внешним, вещественным
выражением его сакральной энергии, предлагаемой им сво-
им подданным, при ритуальном общении с ними19.
С другой стороны, царь и сам получал от них энергию,
символизируемую жаром пустынных земель, через которые
шли исполнители, жаром их страданий. Эти земли, район
палей, вообще можно понимать как своеобразный резервуар
энергии царя: ведь именно здесь он сражается с врагами,
захватывает в виде добычи их сокровища, которые и разда-
ет своим подданным (см. /Фальк, 19 73, с.З/). Момент пе-
редачи энергии хочется видеть в многозначительном жесте
касания. "Своей ароматной рукой он гладил мою пахнущую
Поэтическая традиция и ее создатели 75
рыбой голову11, - говорит Ауввеияр (ПН 235, 8-9); "Пери-
ян, щедрой рукой касающийся певцов" (АН 100, 11).
В акте общения царя с исполнителями заслуживает вы-
деления мотив еды. Ее роль очевидна: насыщая исполните-
лей, царь символически кормит свою страну20 и одновре-
менно завершает третью стадию ритуала перехода этой "ме-
тафорой жизни и воскресения" (О.М.Фрейденберг). Гораздо
менее очевидно то, что и исполнительство можно рассмат-
ривать как процесс своеобразного кормления. Во всяком
случае, есть несколько прямых свидетельств того, что
процесс внимания пению, поэзии понимался как вкушение:
"Мы пели, а он радостно вкушал" (yâm päta tän makilntu
unnum — ПН 235, 3); "когда вновь вкушают слова, рожден-
ные искусным языком" (pulan nâvil piranta col putitu
unnum polutu — Кали 35, 18). Более же существенно, ве-
роятно, то, что в системе древнетамильских представле-
ний исполнительство и еда функционально схожи как дей-
ствия, контролирующие, охлаждающие сакральную энергию.
Кстати, аналогичная функция присуща, как мы уже зна-
ем, и половому акту, вследствие чего ритуальную встречу
царя с исполнителями можно в принципе понимать как его
символический брак с ними (и со своими владениями) напо-
добие того, как понималась в ведическом ритуале связь
царя со жрецами-брахманами и с народом (см. /Хеестерман,
1957, с.56/)* Но дело, по-видимому, не только в символи-
ке. Известно, что сексуальная мощь древнеиндийского ца-
ря считалась чрезвычайно важным его атрибутом, и древне-
тамильский правитель в этом отношении исключением, ко-
нечно, не был; Одна из его доблестей, о которой часто
упоминают панегиристы', заключается в формуле "супруг
изысканно украшенной женщины (или женщин)" (ПН 3, 6; 34,
7; 138, 8) (ср. обращение к Муругану: "о супруг моло-
дых девушек" - ТМА 264). Заметим, что в ПН 29, 4-7 со-
держится любопытная деталь ритуала утреннего восхвале-
ния царя: "После исполнения панаров пусть обнимают руки
женщин твою с высыхающей сандаловой пастой грудь!"
Известно также, что в древней Индии исполнители-певцы
участвовали в ритуальном совокуплении, характерном для
обрядов плодородия /Джаякар, 1980, с. 12/. Прямыми свиде-
тельствами этого в связи с древнетамильскими исполните-
лями мы не располагаем, но вопрос такой поставить мож-
но—в первую очередь по отношению к вирали.
То, что они как певицы и танцовщицы участвовали в ри-
туалах плодородия вообще, отмечалось нами. Однако допу-
стимо предположить, что их функции выходили за пределы
исполнительства, как это имеет место в случае так назы-
ваемых дэвадаси, храмовых танцовщиц более позднего вре>*
мени, обязанность которых состояла помимо всего прочего
в ритуальном эротическом соединении с богами (т.е. с
представлявшими их жрецами).
76 Глава II
Считается, что институт дэвадаси восходит к традици-
онной деятельности вирали /Керсенбом-Стори, 1981, с.35;
Сиватамби, 1981, с.223/. Иногда полагают, что вирали ни-
как не связана с гетеризмом, поскольку она характеризу-
ется в текстах как "обладающая добродетелью (karpu)"
/Керсенбом-Стори, 1981, с.21/. Это якобы подразумевает,
что сексуальная практика вирали присуща не была. Тем не
менее именно эротические мотивы совершенно очевидны в
описаниях вирали поэтами, например: "Темные, вьющиеся,
распущенные пятипрядные волосы, вздымающиеся крутые лона
(alkul), подобную бутону улыбку имеющие вирали11 (Пади 18,
4—6). Что касается добродетели — karpu, то, как мы на-
деемся показать в дальнейшем (см. главу III), она непо-
средственно связана с сексуальной энергией, с умением
женщины распоряжаться ею.
Вообще описание вирали — стандартный древнетамильский
женский портрет с отчетливо выраженной семантикой плодо-
родия. Характерно упоминание пяти прядей волос, отождест-
вляющих вирали с Валли, роль которой они, можно в этом не
сомневаться, исполняли в ритуалах. Ну а идентификация ца-
ря с Муруганом, нами уже отмечавшаяся, предопределяет
возможность его ритуального соединения с вирали. Поэтому
есть все основания считать, что специфические функции дэ-
вадаси были присущи вирали с самого начала и ее взаимоот-
ношения с царем, исполненным сакральной энергии, анало-
гичны взаимоотношениям дэвадаси с богом. Другое дело,
что в изменившихся исторических условиях и духовном кли-
мате, образованном идеями развитого индуизма, профессия
ритуальной танцовщицы отдалила ее от царского двора и в
конечном счете определила ее одиозную репутацию в общест-
ве.
Учитывая роль царя как носителя плодотворящей сакраль-
ной энергии, а также неоднократно подчеркиваемое в сти-
хах совпадение прихода поэта-исполнителя к царю с жарким,
засушливым временем года, допустимо предположить, что па-
негирический акт был некогда составной частью связанных
с царем ритуалов плодородия. К сожалению, в полном виде
поэзия их не описывает, но их отголоски можно усмотреть
в типичных для панегириков мотивах щедрой природы, необ-
манывающих дождей, больших урожаев и т.п. "О отец! Тебе
принадлежит та страна, где, словно множество поднятых
копий, колышется белоцветный сахарный тростник вдоль ру-
кавов прекрасной прохладной Кавери" (ПН 35, 8—11); "в
твоей стране... Венера никогда не соединяется с Марсом
(знак засухи. - А.Д. ), дожди идут, как только их пожела-
ет земля" (Пади 13, 25-26); "пусть посевы на твоих по-
лях восходят тысячекратно!" (ПН 391, 21). Из подобных
мотивов вырастают более общие описания богатых и процве-
тающих царских владений, особенно характерные для боль-
ших поэм сборника "Десять песен11, где они занимают сот-
Поэтическая традиция и ее создатели ? /
ни строк стихотворного текста и имеют в значительной
степени чисто художественный характер.
Судя по текстам, исполнители встречались с покровите-
лем в определенном месте, именуемом чаще всего irukkai
(букв, место, пребывание— от глагола iru бътъ3 находиться)
или nâlavai утреннее собрание. Здесь правитель производил
дарение ("место, где он раздает колесницы" — ПН 114, 6;
"место, где по утрам раздаются прекрасные драгоценности" -
АН 76, 4—5), здесь происходили трапезы и возлияния
("место, где радуются вину" — АН 97, 13), отчего неред-
ко эти собрания называются "радостными", "веселыми" (АН
29, 5; 97, 13; HT 107, 3), "шумными" (АН 226, 14; 256,
11). Самое главное, именно на этих собраниях выступали
певцы, музыканты и танцоры, что, между прочим, и послу-
жило, как мы думаем, одним из истоков легенды о сангах,
древнетамильских поэтических академиях. Добавим, что в
описании подобных собраний находит отражение древнее
представление о царе-отце, предводителе, разделяющем
между соплеменниками еду и добычу. В картинах, рисуемых
поэтами по этому поводу, царь или князь — первый среди
равных, отдающий тем, кто присутствует при нем, все,
чем он располагает:
Великий господин, он кормит всех, когда богат,
А нет богатства — ест со всеми,
Как старший в клане неимущих (ПН 95, 5—9).
К баньяновым ветвям, увешанным плодами, где божество
живет,
Все время подлетает птиц шумливых племя,
Не думая: "Вчера наелись мы!"
Подобны им просители — пусть здравствуют! — они
располагают тем,
Чем обладают покровители — деяниями славные мужи,
А нет у них чего-то — так этого не сыщешь и у тех
(ПН 199).
Подчеркнем еще раз, что предметы, которые щедро раз-
дает предводитель на упомянутых выше собраниях, являют-
ся, в сущности, не чем иным, как военными трофеями —
ведь чаще всего речь идет о боевых слонах, колесницахг
а также драгоценностях и золоте. Таким образом, щедрость
оказывается оборотной стороной военной удачи, которая
обеспечивается мужеством, героизмом, военным искусством
царя, а другими словами, состоянием его сакральной энер-
гии. Богатство, следовательно, есть зримый эквивалент
этой энергии, а его распределение есть соответственно
ее передача другим.
Итак, проведенный выше анализ деятельности древнета-
мильских исполнителей позволяет нам утверждать, что эта
традиция восходит к очень далекому прошлому, когда при-
дворный исполнительский акт был серьезным ритуальным
78 Глава II
действом, имевшим целью контроль над сакральной энерги-
ей царя, поддержание ее в норме, обеспечивавшей благо и
процветание подданных. Отсюда можно сделать и дальней-
ший вывод о том, что певец, общаясь с царем, исполнял,
по существу, жреческую функцию, сопоставимую, в частно-
сти, с функцией жреца Муругана.
Для того чтобы полнее осознать функциональный парал-
лелизм исполнительского и жреческого актов, нужно иметь
в виду еще две обстоятельства: во-первых, царь, предво-
дитель в тамильской культурной традиции часто понимался
как воплощение Муругана (что вполне понятно, поскольку
с точки зрения обладания сакральной энергией они, так
сказать, единосущны); во-вторых — и это логично вытека-
ет из первого,— генезис древнетамильского песенно-поэти-
ческого профессионализма, по всей вероятности, связан со
сферой религиозного культа, в частности ритуального га-
дания и прорицания. Все это совершенно определенно ука-
зывает на то, что основу тамильской панегирической тра-
диции составляет культовая поэзия, выросшая на почве
обожествления сакральной энергии и ее носителей — царей,
князей, племенных вождей. Создателями традиции были древ-
нетамильские певцы, поэты, музыканты, исполнительская де-
ятельность которых носила ритуализованный характер и,
по существу, сплеталась с отправлением жреческих функций.
А из этого следует еще одно чрезвычайно важное обстоя-
тельство — то, что создание и исполнение панегирика были
результатом особого психологического настроя, специфиче-
ского экстатического состояния, которые сопутствуют ти-
пичным для древнетамильской культуры формам ритуальной
активности. Этим не ставится знак равенства между, ска-
жем, жрецом-веланом, взывающим к Муругану в безумной
пляске, и пананом, воспевающим какого-либо князя, но вы-
является общая культурная традиция, к которой эти фигу-
ры принадлежат. Что же касается известной нам по сборни-
кам антологий и поэм панегирической поэзии, то она, ко-
нечно, значительно отошла от своих истоков и представля-
ет собой явление достаточно сложное и сублимированное.
И тем не менее она прекрасно сохраняет специфику культо-
вой поэзии, определяющей целый ряд элементов ее содержа-
ния и формы, а также и ту роль своеобразной колыбели,
которую она сыграла для другой, и весьма мощной, тамиль-
ской традиции — религиозной поэзии бхакти21.
Певец-исполнитель был, несомненно, одним из главных
действующих лиц древнетамильского ритуала, и, хотя его
социальный статус был невысок, ритуальная роль его была
чрезвычайно важна и позволяла ему рассчитывать на высо-
кую оценку его услуг, на уважение как при царском дворе,
так и в обществе в целом. Однако с течением времени эта
фигура все более отходила на задний план. В силу целого
ряда причин (тенденция к государственной централизации,
энергичное проникновение на юг и закрепление там рели-
Поэтическая традиция и ее создатели 79
гиозных концепций, представлений, социальных институтов,
сформировавшихся на индийском севере) в Тамижахаме про-
исходила перестройка структуры царской власти и соответ-
ствующих ей концепций, В результате этого процесса ав-
тохтонные религиозные идеи, культ сакральной энергии в
различных ее манифестациях потеряли свое, так сказать,
государственное значение, и на верхних этажах власти по-
степенно сформировался образ царя как воплощения бога
(в основном Вишну), имевший, как и в ведическом ритуале,
космические параметры, но переосмысленные в духе индуиз-
ма. Живая, непосредственная связь царя со своими владе-
ниями и подданными, которую как раз и обслуживал древне-
тамильский ритуал, оказалась разорванной и замещенной
системой посредников, среди которых главенствующую роль
играли все более набиравшие силу индуистские храмы и
брахманы. В этих условиях изменился и смысл церемонии
дарения: дар, как отмечает историк Южной Индии, "оказал-
ся теперь больше выражением власти, а не плодотворящего
принципа, заключенного в нем" /Деркс, 1976, с.145/. Ос-
новными получателями даров, в частности и земель, стали
опять-таки брахманы и храмы.
Процесс изменения системы царской власти, обрисован-
ный здесь весьма кратко и схематично, шел, разумеется,
долго и привел к более или менее решительным результатам
(к VIII в. н.э.), пожалуй, лишь в государстве Паллавов.
Но ранний его этап можно проследить в поэзии антологий
и поэм, свидетельствующей об уже отпеченной нами двойст-
венности образа царя. Что же касается панегирического
обихода, то тут тенденции отхода от традиционных форм
ритуала отвечает появление особой категории поэтов, на-
зываемых пулаварами (ед. ч. pulavan - букв, мудрый, знаю-
щий) .
Мы до сих пор не упоминали этого термина, сознатель-
но сосредоточившись на песенно-исполнительской традиции.
Фигура же пулавана, стадиально более позднего происхож-
дения, во многих отношениях этой традиции противостоит.
Пулавары имели более высокий социальный статус, были
грамотны (заметим, что письмо брахми использовалось на
юге по крайней мере с III в. до н.э.), не были тесно
связаны с музыкой и танцем /Кайласапати, 1968, с.13/.
Говоря в общем, их возникновение соотносится с развити-
ем образованности в высших сословиях тамильского обшест-
ва, которая, без всякого сомнения, предполагала не толь-
ко грамотность, но и знание североиндийской культуры
(не случайно поэтому среди пулаваров было немало брах-
манов: по оценке Дж.Харта /1979, с.149/, брахманы состав-
ляли десятую часть от общего числа древнетамильских поэ-
тов). Фактически они были ее проводниками и пропаганди-
стами на юге Индии и тем самым осуществляли в области
идеологии (разумеется, наряду с прочими проповедниками,
80 Глава II
например джайнами, буддистами) ту перестройку, о кото-
рой речь шла выше.
Существует точка зрения, согласно которой тексты,
представляющие древнетамильскую поэтическую традицию,
были созданы (и записаны) пулаварами, использовавшими в
качестве моделей для своего творчества формы, выработан-
ные поколениями устных певцов-исполнителей (панаров, ви-
рали и т.д.). В свое время об этом писал У.В.Сваминатха-
ияр, первый издатель "Пуранануру", который в предисловии
к тексту утверждал, в частности, по поводу поэтессы Аув-
веияр, что ее стихи являются не только высказываниями от
себя, но часть из них сочинена как речи вирали и прочих
исполнителей (ПН, с.32). Сейчас эту точку зрения реши-
тельно защищает Дж.Харт: "... стихи тамильских антологий
были созданы поэтами, мужчинами и женщинами высокого
статуса, которые назывались пулаварами. Стихи были смо-
делированы по композициям принадлежавших к низшим слоям
общества неграмотных исполнителей, разновидностей кото-
рых было много в древнем Тамилнаде; но главным образом
они моделировались по произведениям панаров..." /Харт,
1975, с. 152/. Заметим, что "смоделированы" означает
здесь то, что поэты в своих стихах выступали от лица па-
наров, вирали и т.д. Более того, они, по мнению Харта,
копировали даже жизненный стиль исполнителей — по край-
ней мере их обыкновение странствовать от двора к двору
в поисках покровителя /Харт, 1975, с.148/.
Скажем сразу: нам кажется невероятным, чтобы целая
поэтическая традиция жила копированием другой традиции,
тем более что эта последняя создавалась, как мы знаем,
низкорожденными поэтами со специфическими ритуальными
функциями, и простая подмена одного класса исполнителей
другим, с более высоким социальным статусом, иметь ме-
сто, с нашей точки зрения, не могла. По-видимому, про-
цесс перерождения придворной панегирической поэзии был
достаточно длительным, сложным и противоречивым. В на-
стоящее время восстановить его представляется затрудни-
тельным. Но три обстоятельства следует все-таки отметить.
Во-первых, исполнявшие жреческие функции панары и про-
чие исполнители были вытеснены за пределы царских дворов
(хотя доступ к ним, мы полагаем, полностью они не поте-
ряли) . Во всяком случае, доминирующая ритуальная роль
перешла к иному, более высокому социальному слою — брах-
манам. При всей отграниченности этого слоя от низкокас-
товых исполнителей существовало, однако, представление о
некоей общности двух традиций (т.е. древнетамильскои
исполнительской и брахманической жреческой) в том, что
касалось акта исполнения, и там и там мыслившегося как
акт жреческий (ср. замечание Кёйпера о том, что танец и
драматическое действо понимались в древней Индии как
особые формы жертвоприношения и вознаграждение, дававше-
Поэтическая традиция и ее создатели 81
еся актерам, можно сравнить с дакщиной жрецов-брахманов
/Кёйпер, 1979, с.123/).
Во-вторых, надо учитывать то, что шел постоянный про-
цесс ассимиляции брахманского сословия с местной куль-
турной средой, в результате которого многие брахманы ли-
шались своего статуса и могли приобщиться к традиционно-
му исполнительству. Как раз такие брахманы упомянуты
в СП XIII, 33—34: пте, кто носил шнур, /но/ запятнал
Веды исполнением песен". В АН 24, 1 упоминается vêla
pärrpän брахман, не совершающий /ведических/ жертвоприношений.
К ним,"в частности, относились так называемые kîrar -
брахманы-ремесленники, занимавшиеся изготовлением бра-
слетов из раковин (к ним, видимо, принадлежал знаменитый
древнетамильскии поэт Наккирар — Влагой кирар).
В-третьих, известно, что многие брахманы происходили
из местного населения и, хотя их статус был выше, чем
статус традиционных исполнителей, все же он оставался
сравнительно невысоким, и они, конечно, были ближе к
местной культуре, чем арийские брахманы.
Таким образом, предпосылки для перехода сложившейся
на базе традиционного исполнительства поэзии в руки пред-
ставителей более высоких сословий имелись. И хотя, повто-
рим, процесс этот не может быть зафиксирован во всех де-
талях и с полной достоверностью, мы все же рискнем пред-
положить, что дошедшая до нас древняя поэзия есть в це-
лом результат переходного периода. Этим и объясняется то,
что она, с одной стороны, сохраняет такую живую наполнен-
ность ритуальным смыслом, ощущением близости сакральных
величин, а с другой стороны, демонстрирует черты нового
этапа развития, на котором эти смысл и ощущение ослабе-
вают, начинают выхолащиваться. Одновременно происходит
идеологическая переориентация поэзии, усиливается ее за-
висимость от брахманизма, джайнизма, буддизма, отчего в
ней появляется тенденция к проповеди, морализаторству,
да и сам панегирик включается в иную, чем прежде, систе-
му ценностей.
Меняется отношение и к исполнительской технике. Ко-
нечно, и панары, и прочие исполнители были, видимо, ква-
лифицированными профессионалами, но смысл их деятельно-
сти состоял прежде всего в их ритуальной функции, кото-
рой поэтическое искусство было подчинено. С этой точки
зрения весьма показательны такие встречающиеся в поэзии
высказывания: мБудь милостив в отношении тех, кто пришел
к тебе, страдая, — независимо от того, искусны они или
неискусны" (ПН 28, 15-17; см. также ПН 57, 1-2). Этот
пассаж не нуждается в комментариях, но значение его воз-
растает, если мы сопоставим его со словами известного
поэта Кабиляра, буквально: "Не смотри на всех поэтов
одинаково", т.е. одаривай их в соответствии с их досто-
инствами (ПН 121, 5). Кабиляр прекрасно осознавал свой
высокий статус в обоих отношениях. "Я брахман и пулаван"
6 60
82 Глава II
(ПН 201, 7) — в этих словах чувствуется горделивая само-
оценка и стремление не смешивать себя с окружением.
В то же время, как явствует из текстов, пулавары ве-
ли образ жизни, как будто схожий с образом жизни пана-
ров: странствовали, просили у покровителей дара. Иногда
говорится, что они голодают ("пулавары похудели, прого-
лодались" — ПН 240, 12—13), имеют при себе чашки для
сбора подаяния (pulavar mantai — ПН 155, 6). На этом ос-
новании нельзя, однако, считать, что они подражают пана-
рам. Их жизненный стиль скорее надо соотнести с обиходом
странствующих джайнских и буддийских проповедников.
Весьма существенный момент, отличающий пулаваров от
панаров с точки зрения развития поэтической традиции,
состоит в том, что с ними связывается представление о
высоком словесном искусстве, об эстетической значимости
поэтического слова: "совершенный язык" (ПН 158, 12);
"поэты изысканно-тонких, прекрасных слов" (ПН 235, 13);
"поэт утонченных высказываний" (АН 345, 6); "о прекрас-
ноязыкие поэты!" (ПН 140, 2). Показательно, что подобные
эпитеты не применяются к панарам и прочим низкорожден-
ным, о них говорится иначе: mutuväy pänar древлёречивые
панары; ceyir tîr nävin vayiriyar вайириярыл чей язык устра-
няет скверну (АН 155, 13); paitïr pânar панары* устраняющие
зло (МПК 40). Этими определениями подчеркивается риту-
ально-функциональный смысл деятельности исполнителей.
Таким образом, мы видим, что уже в ранней тамильской
традиции происходит высвобождение фигуры поэта из риту-
ального контекста, развивается представление о самоцен-
ности поэтического творчества, которое реализуется, в
частности, в повышенном внимании к чисто поэтическим до-
стоинствам произведений. В связи с этим — в общем русле
развития тамильского общества, сопровождающегося взаимо-
действием южной и северной культур, - поэты-пулавары вы-
тесняют из придворного обихода традиционных исполните-
лей, прекращают странничество и оседают при дворах царей
или князей в качестве, так сказать, штатных панегиристов,
добывающих себе пропитание поэтическим ремеслом.
Отдаленные от царских дворов традиционные исполните-
ли, конечно, не исчезают. Они продолжают исполнять свои
ритуальные функции при местной аристократии, появляются
на празднествах, принимают участие в народных представ-
лениях, в ритуалах. В средние века многие из них стано-
вятся известны как поэты-бхакты. Таковы Тиру нилаканта
Йальппанар (шиваит), Тируппан Альвар (вишнуит) и др.
Традиция, идущая от древнетамильских панаров и их
коллег, существует и поныне, причем образ жизни совре-
менных традиционных исполнителей в значительной мере ос-
тался прежним (о касте панаров см., например, /Терстон,
1909, т.6, с.29; Рагхава Аиянгар, 1973, с.13/). Особен-
но показателен в этом отношении обиход так называемых
"нардханов", традиционных певцов в дравидском племени
Поэтическая традиция и ее создатели 83
гондов, живущем в верхнем течении реки Нарбада. Эти
цы поразительно напоминают древнетамильских панаров, что
хорошо продемонстрировано в отрывке из книги, специально
им посвященной, который уместно здесь привести /Хивале,
1946/ (изложение мы будем снабжать собственными ремарка-
ми, отмечая моменты сходства традиций).
Прежде всего следует отметить, что одно из слов, кото-
рыми гонды называют пардханов, — "пана" (это сразу наво-
дит на мысль об их преемственности панарам). Их социаль-
ный статус, далее, невысок, среди индусов они считаются
нечистыми. Основной музыкальный инструмент пардханов —
своего рода скрипка, которую они почитают священной, по-
скольку в ней обитает бог Бара Пен. Одна из особенностей
деятельности пардханов состоит в том, что они работают
не на племя гондов, а каждый — на определенный семейный
клан, представителей которого он время от времени посе-
щает (ср.: "мы твои панары, ты наш господин").
Гонд, к которому приходит пардхан (и который, кстати,
в этой ситуации называется "тхакур", т.е. "господин"),
должен исполнять свой долг хозяина добросовестно, в про-
тивном случае его ожидает суровое порицание соплеменни-
ков. Вообще визит пардхана — важное событие, и считает-
ся весьма неблагоприятным знаком, если его инструмент не
звучит в доме хотя бы раз в три года. Когда же пардхан
приходит в дом гонда, хозяин удовлетворен и в присутст-
вии чуть ли не половины жителей селения с чувством гор-
дости слушает песни, прославляющие его предков и его
клан, столь выдающимся представителем которого он явля-
ется. Гонд верит в то, что его певец распространит его
славу по другим селениям, в которых он бывает. Но более
всего важно то, что он также верит, будто благословения
пардхана увеличат его урожай и помогут после смерти его
душе пересечь реку — наиболее трудную часть пути в иной
мир. Иногда гонды столь дружелюбны по отношению к гостям,
что просят их приходить ежегодно и даже забыть о своих
родственниках. Одна женщина из пардханов говорила: "Ког-
да мы приходим в дом тхакура, мы живем вместе, как буд-
то настоящие родственники" (ср.: "великий господин, он
кормит всех, когда богат, а нет богатства — ест со все-
ми, как старший в клане неимущих"; ср. также слова кня-
зя, обращенные к жене: "почитай его, как меня").
В то же время очень опасно оскорбить пардхана. Однаж-
ды, когда пардхан по имени Дасу навещал своего тхакура,
тот был груб с ним и обозвал его попрошайкой. Поскольку
Дасу был "гуния" (маг), он посчитал, что оскорбили бога,
находившегося в нем. Он проклял тхакура и ушел, не при-
нимая подарка. Через шесть месяцев этот тхакур умер.
Пардханы предпринимают свои путешествия за дарами
обычно в феврале и к маю (к началу сезона дождей) воз-
вращаются домой. Перед тем как выйти, производят цере-
монию очищения, поклоняются богу, обитающему в музыкаль-
84 Глава II
ном инструменте (в АН 14, 16 панан восхваляет бога,
прежде чем отправиться с миссией посредника к герою).
Часто пардхан пускается в путь вместе с женой (как и па-
нары) .
Когда они приходят, их приветствуют, кормят. После
этого, облачившись в нарядные одежды, пардхан начинает
петь (ср. мотив новой одежды в древнетамильском панеги-
рическом обиходе).
На другой день пардхан хвалит щедрость тхакура, бла-
гословляет его и его семью, желает им процветания. Он
благословляет также меру принадлежащего хозяину зерна,
часть из которого относят обратно в хранилище, где оно
должно, по поверью, передать свою плодородную силу ос-
тальному зерну.
Пардхан проводит в доме тхакура три дня, после чего
прощается и идет дальше. За сезон (три месяца) он успе-
вает посетить 20—30 домов. К концу мая при явных приз-
наках наступления поры дождей он возвращается домой (пу-
тешествие предпринималось, как и древнетамильскими ис-
полнителями, в жаркие летние месяцы).
Обратим внимание еще на одну деталь, сообщаемую ис-
следователем /Хивале, 1946, с.60/: пардханы избегают
связей с женщинами из семей своих хозяев, но иногда они
все же имеют место. Оговорка нам кажется примечательной
потому, что, может быть, свидетельствует о существовав-
шей, разумеется архаической и забытой, традиции эротиче-
ских контактов исполнителей с представителями царской
семьи (или царем)22.
Выявленная аналогия пардханов с панарами столь, на
наш взгляд, впечатляюща, что позволяет говорить о пард-
ханах как о живых и прямых наследниках мощной исполни-
тельской традиции, представленной в древности тамильски-
ми панарами, распространенной на широкой территории (по
крайней мере в Тамижахаме и Махараштре) и восходящей,
возможно, к ведическим временам (об автохтонных племе-
нах, занимавшихся исполнительской деятельностью; см.
примеч.7; кстати, обычай иноплеменничества исполнителей
сохраняется и в случае пардханов: хотя они считают себя
ответвлением от племени гондов /Хивале, 1946, с.1/,
есть мнение об их принадлежности к другой этнической
группе /Фюрер-Хаймендорф, 1974, с.223/).
Плава III
РИТУАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ СЮЖЕТОВ
И ОБРАЗОВ ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ ЛИРИКИ
Произведения, о которых шла речь в предыдущей главе
в связи с панегирической деятельностью поэтов, относят*-
ся в тамильской поэтической традиции к категории puram,
или purapporul (букв, внешнее). Эта категория подразуме-
вает отражение жизненной сферы, сопряженной с обществен-
ными, в первую очередь героическими, идеалами. Другая
такая сфера — любовь, семейная жизнь — относится к ка-
тегории akam, или akapporul. Выделение этих категорий
теорией не обосновывается. Авторы известных нам тракта-
тов рассуждают о них как о данности и используют для
разграничения предмета исследования и соответственно
рубрикации собственного текста1. Несмотря на то что сфе-
ры человеческого бытия, определяемые как ахам и пурам,
конечно, тесно взаимосвязаны и вэаимодополнительны
(иногда исследователи называют их "двумя сторонами од-
ной руким /Кайласапати, 1968, с.5/), чисто эмпирически
их вполне возможно обособить и даже противопоставить од-
ну другой. Гораздо труднее правильно представить себе
идейно-концептуальную основу этих сфер, специфику их
отражения в поэзии. В особенности противоречиво толко-
вание категории ахам:' разъяснения, которые в связи с ней
предлагаются в работах по тамильской литературе, неред-
ко модернизируют ее, приписывая мысли, заведомо ей чуж-
дые. Например: "Ахам — это любовь, тайна жизни, фунда-
ментальный внутренний принцип. Любовная поэзия — это
нечто непостижимое (ноуменон), поэзия внутреннего вдох-
новения любви, которое иногда может быть почувствовано
и осознано, но только через намек, теми,- кто имел такой
опыт" /Минакшисундаран, 1965, с. 25—26/; "Ахам — это
практическое пособие по психологии любви во всех ее ас-*
пектах, событиях и случайностях" /Сомасундарам Пиллей,
1968, с.59/; "В поэзию ахам включается все то, что счи-
тается наиболее внутренним личным и прямо непередавае-
мым человеческим опытом, а это и есть любовь и все ее
эмоциональные фазы" /Тани Наягам, 1966, с.5/.
Подобные определения, по всей вероятности, имеют
целью придать тамильской любовной поэзии какое-то уни-
версальное значение, сделать ее общим местом понимаемой
абстрактно мировой лирики. При этом они упускают из ви-
ду те черты художественной структуры, которые придают
своеобразие поэзии ахам. Приступая к описанию этой поэ-
зии, отметим прежде всего то обстоятельство, что она ни
86 Глава III
в коей мере не выражает личный опыт авторов; такой опыт
(даже если он мог использоваться при создании стихов)
выведен за скобки изображаемых ситуаций и не является
эстетически значимым2. Сами же ситуации стандартны, тра-
диционны, и набор их ограничен. Они конструируются как
фрагменты взаимоотношений безымянных героев3, образы ко-
торых также стандартны и обусловлены традицией. Сущест-
венная формальная особенность поэзии ахам состоит в том,
что любовные ситуации подаются не со стороны — с точки
зрения автора, — а через восприятие героев, в их моно-
логах. Набор персонажей, которым могут принадлежать вы-
сказывания, невелик. Помимо главных героев, т.е. любов-
ной пары, кстати вступающей в диалог довольно редко,
высказываются подруга героини (основной вспомогательный
персонаж), мать героини, ее кормилица (cevilittäy), друг
героя, музыкант-панан, гетера и реже сторонние наблюда-
тели, прохожие. Их монологи по большей части обращены к
другому герою, а иногда строятся как обращение героя к
себе самому, точнее, как принято в тамильской поэзии, к
своему сердцу, а иногда — к объектам природы: растениям,
животным, птицам, морю, луне.
Любовные эмоции изображаются древнетамильскои лири-
кой ярко и сильно, но глубинный ее смысл состоит не в
поэтическом выражении чувств. Ее суть, идейное, так ска-
зать, ядро образует представление о прочном любовном, а
более точно — семейном союзе, и основным ее содержанием,
говоря обобщенно, является процесс создания и сохранения
этого союза. Именно поэтому значительное место поэзия
уделяет изображению супружеских взаимоотношений, а лю-
бовь до брака мыслится как необходимая их предпосылка.
Если е этой точки зрения подойти к категории ахам, то
станет понятным, что она прежде всего имеет в виду не
душевные переживания человека, а замкнутый семейный мир
и связанный с ним идеал благодатной и счастливой семей-
ной жизни. И слово akam тогда означает, по справедливо-
му замечанию тамильского исследователя, просто дом /Ма-
никкам, 1962, с.199/. Приведем примеры стихотворений,
где содержится прямое указание на этот идеал (говорит
кормилица героини, пришедшая полюбоваться на семейное
счастье супругов):
Когда меж ними сын их, то они подобны
Самцу и самке антилопы, поместившим
Между собой детеныша. Воистину!
И благостно и сладостно им ложе!
И в атом мире, что во гневе океан объемлет
Своим простором синим и широким,
И в мире высшем том — такое счастье редко достижимо
(Айн 401).
Вот панарм мелодию муллей играют,
И яснолобая жасминовый венок надела —
Ритуально-мифологические истоки 87
И жизнь его сладкау и процветает он, имея сына
И этим неблагое уничтожив (Айн 408).
Такое вот прямое, можно сказать, декларативное пред-
ставление идеала семейного счастья — случай для тамиль-
ской поэзии крайне редкий (по существу, это лишь десять
стихов сборника "Аингурунуру", 401-410). Типичным для
нее является изображение различных состояний разлуки,
разъединения или размолвки героев, однако и тут упомя-
нутый идеал незримо присутствует и в сознании поэтов, и
в самой поэзии в качестве некоей сакральной величины,
служащей своеобразным мерилом каждой поэтической ситуа-
ции. Этим в поэзию привносятся этический, оценочный мо-
мент и постоянное напряжение между идеалом и состоянием
героев в той или иной фазе их взаимоотношений. Это на-
пряжение — один из важных компонентов эстетического пе-
реживания древнетамильской поэзии.
Несмотря на то что каждое стихотворение представляет
собой изолированное монологическое высказывание, канони-
ческий, шаблонный характер ситуационного контекста дает
возможность составить связный рассказ, излагающий в опре-
деленной последовательности основные ситуации .тамильской
любовной лирики. Такой рассказ выглядит примерно следую-
щим образом.
Девушки горного охотничьего племени кураваров отправ-
ляются на поле созревающего проса, чтобы криками и шу-
мом отгонять от него птиц и диких животных*. Случайно
там же оказывается охотившийся в лесу юноша. Он обращает
внимание на одну из девушек, они обмениваются взглядами
и сразу влюбляются друг в друга. Дома они начинают тос-
ковать и думать о новой встрече. Эту. встречу устраивает
друг юноши, а в дальнейшем единственным посредником меж-
ду героями становится подруга героини: она приносит вес-
ти о возможности свиданий, устанавливает их место, ведет
переговоры с героем, сообщает ему о переживаниях подру-
ги. Встречи происходят втайне от окружающих, в первую
очередь от родителей героини, которые строго следят за
своей дочерью. Когда созревает просо и приходит время
жатвы, девушку запирают в доме и бдительно стерегут. Те-
перь герои могут встречаться лишь с большим трудом — как
правило, под покровом ночной тьмы. Трудность свиданий,
вынужденная разлука воспринимаются героиней весьма бо-
лезненно: она худеет, томится, красота ее блекнет и увя-
дает. Родители обеспокоены состоянием дочери и, желая
узнать причину ее болезни, приглашают велана, жреца Муг
ругана. Тот, решив с помощью гадания, что девушка одер-
жима духом, с целью его изгнания устраивает в полночь
шаманские танцы, сопровождающиеся жертвоприношениями,
* Вариант этой ситуации: девушки-рыбачки отгоняют птиц от ры-
бы, которая сушится на берегу моря.
88 Глава III
экстатическим взыванием к Муругану, песнопениями, грохо-
том барабанов и звоном колокольцев. Тут подруга старает-
ся намекнуть родителям героини на истинную причину стра-
даний и, таким образом, раскрывает тайну. Этот шаг, по
существу, начинает подготовку к браку героев, т.е. к об-
щественному признанию их на самом деле совершившегося
соединения, которое между тем становится достоянием слу-
хов, разносящихся по селению. Одновременно подруга, об-
ращаясь к герою, рассказывает ему о плачевном состоянии
героини, сообщает о появлении тревожащих девушку слухов.
Так, косвенным образом, она внушает ему мысль о,необхо-
димости прекращения тайных свиданий и желательности ско-
рейшего бракосочетания.
Если герой не может удовлетворить свою страсть (под-
руга или родители героини препятствуют его встрече с
ней), он иногда прибегает к обычаю мезды на пальмировом
коне" (matalërutal), который заключается в том, что он
со стенанйями'садится верхом на колючую ветвь пальмиро-
вой пальмы и друзья носят его в таком виде по селению.
В случае, когда родители девушки не дают согласия на
брак, молодые люди совершают побег из селения и проводят
некоторое время в пустынной местности, после чего, воз-
вратившись, признаются мужем и женой. При согласии роди-
телей и взаимной договоренности сторон устраивается
свадьба, во время которой молодых людей осыпают цветами
и рисом, желают благополучия их семейному союзу1*.
Супружеская жизнь героев представлена в стихах в ос-
новном как состояние разлуки. Супруг покидает дом, от-
правляясь на войну ("на мужское дело", "за богатством"),
обещая вернуться к определенному сроку. Героиня тяжело
переживает разлуку, но крепится, сдерживает себя, и лишь
с наступлением назначенного срока (как правило, с прихо-
дом сезона дождей), когда ее страдания особенно усилива-
ются, она изливает их в жалобах подруге.
Другая ситуация, связанная с семейной жизнью, — суп-
ружеская неверность героя, покидающего дом ради гетеры.
Героиня ревнует его, упрекает в неблагородстве, иногда
смеется над ним, а когда он возвращается к ней или посы-
лает для переговоров вестника, колеблется, не зная, как
ей вести себя. В конце концов размолвка завершается при-
мирением.
Такова в самых общих чертах схема, описывающая пове-
дение и состояния героев древнетамильскои поэзии. Сама
возможность ее выявления из совокупности стихотворений
свидетельствует о том, что в ней нет ничего произволь-
ного, случайного, индивидуального, что это в полном смыс-
ле любовный канон, сложившийся на основе ряда представ-
лений и обычаев в сфере эротики. Для поэзии этот канон-
своего рода сценарий, предусматривающий ряд эпизодов, в
которых герои произносят свои монологи5.
Ритуально-мифологические истоки 89
Таким образом, тамильский поэт, задумавший сочинить
стихотворение на тему какой-нибудь из ситуаций любовной
лирики, должен был в первую очередь выбрать определенный
эпизод этой ситуации и одновременно "назначить11 говоря-
щего персонажа, предусмотрев его адресата. Получается,
что поэт выступал и как автор монологов, и как режиссер,
строящий мизансцены, в которых эти монологи произносятся.
Создавая стихотворение, поэт непременно должен был
учитывать еще одно важное обстоятельство: в процессе раз-
вития тамильской поэтической традиции сформировалось сво-
еобразное представление о сочетании ситуаций любовной ли-
рики с определенным окружением, прежде всего природным.
Это представление нашло отражение в особой категории
древнетамильской поэтики — tinai6. Это слово в поэзии
обозначает совокупность явлений действительности, отоб-
ранных так, что они составляют некое содержательное един-
ство, иначе говоря, поэтическую тему, содержание которой
(porul) складывается из элементов, находящихся во взаим-
ном соответствии. Таких элементов традиция насчитывает
три: 1)uripporul — поэтическая ситуация (фаза взаимоот-
ношений героев,"их поступки, состояния); 2) mutalporul —
время и место действия (ландшафт); 3) karupporul — харак-
терные для ландшафта детали (растения и животные), а так-
же население местности и бог-покровитель.
Пять основных тем-тиней получили традиционное наимено-
вание по названиям растений или цветов, характерных для
соответствующих ландшафтов. Они таковы: kurinci, mullai,
pliai, marutam, neytal. 0 системе тиней, её происхожде-
нии и развитии речь будет идти впоследствии, а здесь мы
представим каждую тему в отдельности (в основных ее чер-
тах) и попытаемся выявить особенности ее содержания и
поэтики.
Тема тсуринъдаси
Эта тема целиком посвящена периоду добрачной любви,
именуемому в тамильской поэзии kalavu скрытое, тайное: со-
гласно обычаю, молодые люди скрывают свою любовь от ок-
ружающих, в их чувства посвящены лишь друг героя (на на-
чальном этапе взаимоотношений) и подруга героини, роль
которой в развитии любовного сюжета чрезвычайно велика, —
она "руководит" влюбленными, устраивает их встречи, сле-
дит за соблюдением обычаев и ведет дело к официальному
признанию близости молодых людей, к браку; фактически
же они становились супругами раньше.
Никто здесь не был, лишь мой тайный друг,
Теперь покинет если, что мне делать?
С зелеными ногами, что напоминают стебли проса,
В воде бегущей ищущая рыбу, была здесь только цапля в тот
Его со мной соединивший день
(КТ 25).
90 Глава III
В тамильских теоретических трактатах тайная связь
влюбленных рассматривается в русле индуизма как одна из
так называемых "восьми форм брака", а именно брак по
обычаю гандхарвов (таким был, например, брак царя Душь-
янты с Шакунталой в драме Калидасы)7. Ясно, однако, что
этим древнетамильскии любовный канон вводится в чуждую
ему систему норм. Происхождение модели поведения, очер-
ченной в поэзии куриньджи, связано с древними дравидски-
ми представлениями о сакральной женской энергии, делаю-
щей женщину источником как блага, так и опасности. Как
уже отмечалось, эта энергия должна быть тщательно кон-
тролируемой, в особенности в периоды, когда женщина на*
ходится в состоянии нечистоты (месячные, беременность,
вдовство; см. /Харт, 19 75, с.93—119/) либо эмоциональ-
ного возбуждения, охвачена любовной страстью. Этим объ-
ясняется ритуализованный характер поведения героев лю-
бовной поэзии и персонажей, к ним близких.
Можно сказать, что канон "тайной любви" отражает ар-
хаическую (в частности, свойственную многим племенным
обществам) идею об опасности жениха и невесты, а также
сексуального акта, сопровождающегося дефлорацией (см.
/Вестермарк, 1921, т.1, с. 190-191; т. 2, с. 564-565/) ,
который ввиду этой опасности следует выносить за преде-
лы социума, т.е. производить, во-первых, до введения мо-
лодоженов в систему социальных связей и, во-вторых, тай-
но, в безлюдных местах /Кроли, 1902, с. 18 О/8. В этом,
собственно, и состоит глубинная суть поведения героев
поэзии куриньджи, хорошо, как нам кажется, выраженная
поэтом Паранаром, когда он говорит о "соединении (punarc
ci) с темнотелой, чьи влажные глаза напоминают темноле-
пестковые цветы, происшедшем в таком укрытии, которое
неведомо даже духам-пей" (АН 62, 5—6).
Слово punarcci в контексте поэзии ахам имеет термино-
логическое значение, выступая в качестве названия ситуа-
тивного элемента (уриппоруль) темы куриньджи. Следует
подчеркнуть, что термин этот отражает основной смысл ли-
рического сюжета — ведь соединение героев, как таковое,
в поэзии прямо не запечатлено. Они нигде не показаны в
ситуации прямого общения, за исключением совместного по-
бега из селения (что, кстати, как бы изъято из поэзии
куриньджи и отдано теме палей). В стихотворениях-моноло-
гах описывается состояние героев накануне свидания или
после него, воспроизводятся их думы и переживания, вос-
поминания о прошедших встречах, выражаются радость по
поводу предстоящей встречи или горе в разлуке. И за всем
этим слоем эмоций постоянно присутствует в качестве
идейной доминанты представление об анангу в ипостаси
женской сакральной энергии, которое вполне ощутимо выяв-
ляется всей системой художественного канона поэзии ку-
риньджи как в сюжетно-событийном, так и в изобразитель-
ном плане.
Ритуально-мифологические истоки 91
Имея в виду непосредственную связь энергии анангу с
плодородием, обратим внимание на определенные временные
рамки лирического сюжета куриньджи. Его традиционным
природным фоном, "ландшафтом куриньджи11, являются покры-
тые лесом горы в период холодного времени года (kütir
kälam) > октябрь — декабрь, и так называемого сезона ран-г
ней росы (munpani kälam), декабрь — февраль. Иногда в
текстах встречаются картины предшествующего сезона дож-
дей (kârkâlam), например HT 53; 71; 154. Речь, таким об-
разом, идет о прохладной и влажной "темной" половине го-
да, ассоциирующейся с идеей блага и плодородия: зелене-
ют леса, цветут и благоухают растения, полноводны озера
и ручьи. Вместе с тем мы обнаруживаем в поэзии детали,
указывающие на более тесную и специфическую связь собы-
тий с природным окружением. Важными оказываются некото-
рые приметы, влияющие на развитие сюжета. Так, первона-
чальные встречи героев происходят в период созревания
проса, заточение девушки в доме — непосредственно перед
жатвой :
Что будем делать, о подруга? Ведь наша близость
с горцем тесная,
Чья грудь натерта порошком растущего в горах сандала,
Чей запах пчел к себе влечет,
Когда мы с ним, в горах живущим, — там по склонам
Венгей деревья высятся с цветами золотистыми, —
Встречались в поле, где мы отгоняли от посевов
красноклювых попугаев,
В ручьях купались, что бегут с крутых, высоких
склонов, — эта близость,
Как вижу я, уменьшится теперь и станет трудной...
Подобно морю длинноволному колышутся,
Созрели проса колоски (HT 259).
Далее, распускание ароматных цветов деревьев венгей
и манго указывало на время, подходящее для бракосочета-
ния (характерно, что тамильское слово manam означает
аромат и бракосочетание). Важным знаком считалось и полно-
луние, и, поэтому, когда подруге героини следовало на-
мекнуть герою на необходимость и своевременность женить-
бы, она могла сказать ему, используя язык примет и сими
волов, так: "венгей уже раскрыл свои сверкающие соцве-г
тия, и полная луна обрела ореол" (АН 2, 16—17).
Переплетенность событий эротической и матримониальной
сфер с календарными и сельскохозяйственными, разумеется,
не случайна — она предполагает их магическое взаимовлия-
ние, а также ритуальное стимулирование каждой из них.
Имея это в виду, мы можем заключить, что уже первая си-
туация сюжета темы куриньджи —■ приход девушки на прося-
ное поле, — по всей вероятности, ритуально значима. Ведь
охрана созревающих посевов поручалась тем, кто достиг
двенадцатилетия, т.е. брачного возраста /ср. возраст
92 Глава III
Валли или Каннахи, героини "Повести о браслете" (СП I,
24)/, времени "созревания" сакральной энергии. Присут-
ствие на поле ее носительниц, несомненно, должно было
способствовать благополучному созреванию проса (напом-
ним, что, по свидетельству самой поэзии, куравары прак-
тиковали подсечно-огневое земледелие, всецело полагав-
шееся на силу естественного плодородия земли). Кроме то-
го, девушки производили шум криками, пением, игрой на
барабанчиках, а также с помощью различных шумовых ин-
струментов (kalal, kulir, tattai). Можно полагать, что
эти инструменты функционально'сопоставимы с теми "шумел-
ками" (типа трещоток или bull-roarers), которые исполь-
зуются в ритуалах, стимулирующих энергию плодородия9.
К такого рода ритуалам следует отнести также описан-
ное в поэзии куриньджи качание девушек на качелях ("Мо-
жет ли быть что-нибудь более сладостным, чем то время,
когда мы в юбочках из листьев, скрывавших высокие наши
лона, качались на качелях, подвешенных к черноствольно-
му венгей, на краю большого просяного поля, от которого
мы отгоняли попугаев?" — HT 363, 1 —4), толчение ими в
ступах зерен бамбука ("Споем, о подруга! Приходи! Взяв
бивень мощного слона в качестве пестика, а веялкой —
прекрасный лист растения „сембу", насыпав в сту-
пу-камень зерна колышущегося бамбука, будем их толочь и
петь. Приходи, подруга, споем!" — Кали 41, 1—4).
Широко распространенным ритуалом плодородия было ку-
пание девушек в бегущей воде (потоки дождя, горные
ручьи), которая по самому смыслу обряда ассоциировалась
с мужским семенем, символически охлаждала женскую энер-
гию, обеспечивая девушкам благоприятное замужество, де-
торождение, а через это — процветание и благо окружаю-
щих. "Пойдем искупаемся всласть в новой воде клокочу-
щей", — говорит подруга героине (HT 68,5)10.
Как видно из приведенного выше стиха (HT 259), девуш-
ки иногда купались вместе с молодыми людьми, чему, без-
условно, также придавался смысл обрядов плодородия, при-
зывания дождя, например:
Когда она купалась с нами
В прекрасном быстром водяном потоке,
В него с закрытыми лотосовидными глазами погружаясь,
трепеща,
И колыхались вместе с водами гирлянды на ее груди
Цветов прохладного пунней,
То он пришел, чтоб милостиво грудь ее обнять,
И та соединилась с его груды», крепкой и широкой, —
Так говорят, и потому, —
Когда желанно нам даянье драгоценного дождя,
То даст его она, величьем обладающая!
(Кали 39, 1-5).
Ритуально-мифологические истоки 93
Наконец, можно с уверенностью сказать, что ритуальные
обертоны содержит и эротическое соединение молодых людей.
Во всяком случае, весьма многозначительна календарная
обусловленность свидания (ср. строку АН 118, 12: "Созре-
вающие колосья, в течение многих дней дававшие знак о
соединении" — punar kuri ceyta pular kural), заставляю-
щая предположить в нем"смысл ритуалов плодородия, вклю-
чавших в себя акт совокупления на поле, который магиче-
ски стимулировал рост и созревание злаков11.
Приведенных примеров вполне достаточно для того, что-
бы уяснить громадное значение идеи плодородия для древ-
нетамильского любовного канона. По существу, первая ста-
дия развития взаимоотношений героев (до созревания уро-
жая и заточения героини в доме) проходит на фоне связан-
ных с этой идеей обрядов, чем подчеркивается сакрализо-
ванная, насыщенная эротикой атмосфера, запечатленная по-
эзией куриньджи. Не менее важно и то, что идея плодоро-?
дия прямо определяет художественный канон изображения
главных героев. Прежде чем проанализировать его подроб-
но, оговоримся, что этот канон не связан с какой-то од-
ной ситуацией или темой-тиней, но в своих основных чер-
тах присущ древнетамильскои любовной поэзии в целом. На-
иболее характерной и важной его чертой является исключи-
тельная семантическая насыщенность изобразительных де-
талей.
Особенно ярок, многозначителен и показателен в этом
отношении создаваемый в стихах образ женщины. Главное,
что в связи с ним обращает на себя внимание, — последо-
вательно выявляемое растительное начало, вегетативная
символика. В самом деле, мягкие ее плечи гладкостью и
красотой неизменно подобны бамбуку — panaittöj (АН 62, 3),
темные глаза — цветам лилии-кувалей —kuvalaiyan kannë
(КТ 13, 5), она вся — "словно росток под струями дождя"
(КТ 222,7), ее "Густые черные волосы пахнут, как лилия
кувалей, медовый рот — лилией амбаль, груди подобны бу*
тонам лотоса" (КТ 300, 1 —3); или: "красивые тонкие во-
лосы благоухают ароматом сезона дождей" (АН 198,5; 208,
23—24), "лоб благоухает медом" (HT 62,6), "новыми про-
хладноароматными цветами распустившего нежные бутоны
кандаля" (АН 238, 16—18) или "источающими аромат цве-
тами белой кадамбы" (HT 20,3) и т.д. Говоря в общем:
Сплетенной из бутонов нежного жасмина,
Из кандаля цветов и ароматных лилий
Свежестебельной и благоухающей гирлянде пышной
Ее подобно тело;
Оно нежней ростка и сладко для объятий
(КТ 62).
Растительное начало в облике женщины, выражающее при-
родную живительную силу растительности, способность к
плодоношению, связано с сакральной женской энергией и
94 Глава III
символизирует благой ее аспект. Об этом можно говорить,
в частности, потому, что пробуждение энергии, т.е. до-
стижение девушкой половой зрелости, понимается как про-
цесс вегетативный, как расцветание телесной красоты в
прямом смысле этого слова: "Созрели бутоны грудей, за-
блестели зубки, ты обрела юбочку из листьев" (АН 7, 1 —
2); "распустились бутоны ее грудей, мягкие волосы нис-
падают, серебристый плотный ряд зубов полностью заменил
(молочные?) зубы, появились красивые крапинки на теле"
(КТ 337, 1—2, 4J. Эти крапинки (родинки) (cunanku), зо-
лотистые, словно молодой цветок венгей (АН 31Ö, 8—9)12,
уподобляемые созревшей цветочной пыльце (одно из значе-
ний слова cunanku), появляются с достижением зрелости
как характерный признак присутствия в теле сакральной
энергии анангу (ср.: "светлые крапинки высыпали там, где
разместилась анангу" — поэма X в. cïvakacintâmani13 ) .
Кстати, местами сосредоточения анангу мыслятся плечи ге-
роини ("сахарнотростниковые плечи обладают анангу" —
HT 39,11; также АН 29 5,20) и ее грудь ("красивая грудь,
обладающая анангу" — АН 177,19; "разотри яркоцветущий
побег пунгу на своей красивой, украшенной крапинками гру-
ди, чтобы она держала анангу" — HT 9, 5—6). Кроме того,
в связи с анангу следует указать и на такую весьма часто
упоминаемую деталь женского портрета, как alkul (лоно,
собственно, Mons Veneris), чем образу героини придается
откровенно эротический характер и вместе с тем подчерки-
вается идея плодородия.
Растительные мотивы в портретной характеристике геро-
ини переплетаются с цветовыми. Здесь доминирующее значе-
ние имеет темный (темно-синий) тон, который ассоциирует-
ся с цветом туч, моря, сапфира, павлина, манго и который
в индийской культуре (через связь с цветом дождевых об-
лаков) символизирует плодородие. Заметим, что именно
этот цвет — неизменный атрибут Тирумаля-Кришны, а также
богини Коттравей в ее благом аспекте (ср. nïli Темно-си-
няяЛ Темная. Об этом см. раньше, с. 35). В тамильской лю-
бовной поэзии он присущ героине (вообще женщине), кото-
рая нередко именуется mäyöl темная11*, поскольку ее тело
подобно темным молодым побегам манго (ammä mëni HT 134,
7; mämai kavin мхнговая красота - Айн 454,4; КТ 27,5)15,
цветку куриньджи (HT 3 01,2), сапфиру (АН 172, 17), пав-
лину (АН 158,5), глаза подведены сурьмой (maiyunkän) и
похожи на темную лилию кувалей (АН 6 2,5; HT 72,12); во-
лосы напоминают цветом сапфир (АН 3,10), черный речной
песок (АН 142,18; 162,10), ночную мглу (HT 155,4). Меж-
ду прочим, постоянное упоминание в описаниях героини ее
густых черных волос весьма многозначительно ввиду изве-
стного представления о связи волос с жизненной энергией,
производительной силой, плодородием (см., например, /Хе-
естерман, 1957, с.215; Ялман, 1964, с.136; Холлпайк,
1969/).
Ритуалъно-мифологичестше истоки 95
На фоне темного облика героини ярким светлым пятном
выделяется ее лоб — "сверкающий безупречной белизной,
словно молодая луна" (АН 19 2, 1—2), вообще — белый,
сверкающий, блестящий (val nutal, cutar nutal, onnutal;
см. HT 42,5; 72,10; 108,8 и т.д.). К'этой портретной де-
тали мы еще вернемся, а пока отметим, что мотив белизны
в портрете героини имеет как мифологическое значение
(связь женского начала с луной в противоположность свя-
зи мужского с солнцем), так и ритуальное, поскольку в
южноиндийской ритуальной практике белый цвет символизи-
рует сакральную энергию в ее спокойном, "охлажденном",
контролируемом состоянии и соответствующие этому состо-
янию фазы ритуала /Бек, 1969, с.557/.
Итак, система описания внешности героини (постоянный
набор портретных деталей, вегетативные и цветовые моти-
вы) с несомненностью указывает на то, что женский образ
есть символическое выражение производительного начала
природы. Вместе с тем в стихах он исполнен чувственной
конкретности и является воплощением качеств мягкости,
нежности, влажности, прохлады, оказывающих на героя бла-
готворное действие: "Подобная воде нежность широкоплечей
дочери охотника из маленького селения на склоне цветущих
гор, где шумят в расселинах чистые серебристые ручьи,
ниспадая с темных вершин, охладила мою подобную огню си-
лу" (КТ 95).
В стихах упоминаются и другие достоинства героини,
скажем стыдливость (пап), простодушие или скромность
(matan, matamai), сладостная лепечущая речь (têmoli, ma-
lalai incol), но в центре внимания поэтов находится те-
лесная женская красота. Именно в ней заключена суть и
определенная ценностная характеристика образа героини16 .
Весьма примечательно, что для обозначения женской
красоты используется слово nalam (от корня nal -
ДЭС 2986) добро* благо* благополучие* польза* которое поме-
щает идеальный женский образ на шкалу практических цен-
ностей. Это подчеркивается употреблением специфических
эпитетов к слову nalam (которое мы переводим как благо
красоты): "величественное благо красоты" (mänalam - АН 29,
16; HT 57,10), "прекрасное (букв, „благое")'благо красо-
ты" (nannalam - КТ 319,6; Айн 495,3), также "благо лона"
(HT 30 774) , "благо волос" (Айн 495,3) и т.д. Короче го-
воря, nalam следует понимать как почти терминологическое
обозначение того блага, которым располагает женщина, об-
ладающая сакральной энергией, находящаяся в центре семей-
ной структуры, хранительница домашнего ачага.
В связи с этим закономерно выявляется мотив восхвале-
ния красоты героини. Акт такого восхваления, неоднократ-
но упоминаемый поэтами, — обязательная черта поведения
героя. По сути дела, он носит характер ритуального дей-
ства: "радуйся, о сердце, — восклицает герой, — в широ-
ком и высоком доме, сверкающем светильниками, гонящими
96 Глава III
■
тьму, украшенную крапинками грудь восхвалив, мы соеди-
нимся с любимой, обладающей темными ниспадающими волоса-
ми и плечами, красотой подобными бамбуку" (АН 87, 12 —
16); мВчера был здесь и много раз хвалил глаза и плечи,
прохладой благоухающие волосы, украшенное родинками ло-
но11 (HT 84, 1 —3); "придет он, хваливший благо красоты
украшенного родинками лона'1 (HT 307, 4—5)17.
Еще более многозначителен не раз упоминаемый в стихах
жест касания женского тела, который следует интерпрети-
ровать как символическое и, можно сказать, ритуальное
приобщение героя к даваемому женщиной благу, к сакраль-
ной женской энергии: "он взял мои руки и закрыл ими свои
глаза, затем своими руками коснулся моего благого лба"
(HT 28, 1 —2); "он тронул ее безупречный сверкающий лоб,
задумался, посмотрел на меня, — говорит подруга герои-
ни, — и улыбнулся" (КП 18 2). Особое значение этот жест
приобретает в момент расставания героев: "он уехал, кос-
нувшись благого лба" (HT 316,6); "ушел за богатством,
коснувшись моих вьющихся волос и плеч широких" (КТ 190,
1); "о господин, способен ли ты на то, чтобы, тронув ее
глаза и лоб, разлучиться с нею?" (HT 71, 5—6). Риту-
альность устанавливаемой таким образом связи подчерки-
вается тем, что даже в разлуке женщина продолжает оказы-
вать на героя магическое благотворное действие:
В труднодоступной, пустынной стране, где в рощах высоких
бамбука,
Обугленных летней жарой,
Пятнистый, морщинистый слон крошечноглазый
Хоботом длинным — из страха обжечься — земли не коснется,—
Даже в подобных местах
Красота ее, полной достоинств, дает мне прохладу
(Айн 327) ".
Представление о ценностном характере женской красоты
получает в древнетамильской поэзии многообразное отраже-
ние. R ряде случаев в стихах обнаруживается, по-видимо-
му, архаическое или по крайней мере типично фольклорное,
незамысловатое воззрение на красоту женщины как на оби-
ходную и в то же время жизненно необходимую вещь. Едва
ли не лучше всего это воззрение выражено в стихе из КТ,
принадлежащем, вероятно, к наиболее ранним пластам поэ-
зии антологий:
Манговую красоту моего покрытого родинками лона
Должны съесть горестные пятна разлуки.
Ни у меня ее не будет, ни мужу она не достанется,
и пропадет она зря,
Словно сладкое молоко прекрасной коровы, что,
пролившись на землю,
В подойник не попало и теленка не напоило
(КТ 27)19.
Ритуально-мифологические истоки 97
В целом столь непосредственно-практическое, наивное
отношение к женской красоте для древнетамильскои поэзии
все же нетипично. Тот возвышенный идеал любовного чувст-
ва, который в ней складывается, приподнимает и образ
женщины над повседневностью. Притом что этот образ от-
нюдь не теряет своей изначальной семантической насыщен-
ности, он явно переходит в иную систему отсчета: с од-
ной стороны, он эстетизируется (о чем говорит такое, на-
пример, выражение: mëni äynalam изысканное благо телесной
красоты — АН 222,3); с'другой стороны, обладанию женщи-
ной начинает придаваться этический смысл, статус наивыс-
шей жизненной цели:
Послушай, о друг мой! — живи ты! — послушай!
Когда я однажды в объятьи прижмусь
К нежному телу той девушки юной,
С плечами широкими и волосами густыми,
Что сердце навечно к себе привязала,
То даже полдня еще жизни желать я не буду
(КТ 280).
Сапфиру и золоту подобны твое благое тело
И твои благоуханные волосы,
Цветочным бутонам и стволу бамбука —
Твои полные желания глаза и красивые руки.
Когда я вижу их, моя душа полна
И становлюсь я тем подобным, кто добродели20 достиг
(КТ 166, 1-6).
Ценностный характер телесной женской красоты и одно-
временно представление о присущем женщине природном ве-
гетативном начале наиболее явно проявляются в отображае-
мой поэзией ситуации разлуки влюбленных. В теме куриньд-
жи разлука недлительна (она связана главным образом с
затрудненностью частых свиданий), но переживается влюб-
ленными очень сильно. В особенности страдает героиня,
причем, и это надо подчеркнуть, основной причиной беспо-
койства оказывается состояние ее тела.
"Мой лоб покрылся желтизной, поблекли родинки на теле,
И руки нежные, подобные стволу бамбука, похудели, и
браслеты с них спадают.
Такой из-за тебя я стала!" — Что будет, о подруга,
если так сказать
О состоянии плачевном моего благого тела
Ему, живущему в горах, где кандаля пурпурные цветы,
Похожие на капюшон змеи с полосками на коже,
В порывах западного ветра опадая, покрывают камни?
(КТ 185).
Желтизна (pacalai, pacappu), о которой говорится в
этом стихотворении, — характерный цвет, заливающий тело
героини в разлуке, "съедающий11 его живой темный цвет:
98 Глава III
"манговую красоту моего покрытого'родинками лона должна
съесть желтизна" (pacalai unîiyar vêntum — КТ 27,4);
"мое благо красоты впервые съедено страданиями" (nalam
putitunÇa pulampinânê - КТ 133,5). Таким образом, геро-
иня в разлуке терцет благо красоты, оно гибнет, высыха-
ет, подобно растению в сезон летней жары. "И лоб, и пле-
чи, и покрытое родинками лоно, и цвет, и красота, и по*
лоски на теле — все высохло, — и горько страдает она..."
(АН 119, 1 -3).
Понятно, что увядание женской телесной красоты, сим-
волизирующей природную силу плодородия, означает и
уменьшение, иссякание этой силы или по крайней мере уг-
розу ей. Тут мы возвращаемся к идее заключенной в женщи-т
не ценности и необходимости ее охранять, идее, которая
в том или ином виде постоянно присутствует в поэзии.
Вспомним, что после созревания проса героиню не выпуска-
ют из дома, где она находится под строгим надзором семьи
(что объясняется необходимостью держать внутри семейной
ячейки источник сакральной энергии). "Мать любит ее и
бережет как зеницу ока; отец не терпит того, чтобы она
касалась земли (т.е. выходила из дома). „Куда идешь, де-
вушка? — говорит он. — Ножки натрудишь!"" — так объясня-
ет подруга герою положение его любимой (АН 12, 1—3).
В стихах не раз упоминаются стерегущей девушку отец
Напустивший подобных тиграм собак, гневный, как Муру-
ган, сильный отец находится в доме" — АН 158, 15—17;
"отец стережет ее в просторном доме, снабженном запором,
с охранниками недремлющими" — HT 98, 8—9), мать, кото-
рая не спит, "словно селение перед лицом врага, с тех
пор как узнала однажды о приходе улыбающегося гостя (т.е.
героя)" (КТ 29 2, 6—8), братья ("широкоплечая горянка -
сестра лесных охотников с сильными луками и длинными
палками" - КТ 335, 5-7).
Столь отчетливо выраженный мотив охраны героини, по-
мещения ее внутрь дома, под запор перекликается с-одним
из характерных и важных мотивов тамильской мифологии —
мотивом замкнутого храма богини. Закрытое пространство,
стены, дверь, запоры — все это символически передает
идею сдерживания, контролирования сакральной энергии,
концентрированную мощь богини и одновременно ее чистоту
и девственность (см. /Шульман, 1980, с.192 -198/; о мо-
тиве закрытого храма богини Кали в фольклорной версии
"Повести о браслете" см. /Бек, 1972, с.26/). Чтобы до-
биться от богини блага, нужно взломать дверь в храм и
овладеть ее энергией, что можно сделать лишь под угро-
зой, а иногда и ценой смерти (иначе говоря, ценой крова-
вого жертвоприношения). Преодоление запоров, открытие
двери в храм богини есть бесспорный сексуальный символ,
что хорошо ощущается и в поэзии, в ряде стихотворений,
описывающих ситуацию проникновения героя в дом героини.
Например (говорит подруга):
Рытуально-МАфологичестше истоки 99
Подобно тем, кто взыскует в качестве дара слониху21,
У входа в наш крепкозапертый, сильноохраняемый дом
С одной стороны резной крепкой двери /стоял!
В полночь глухую, когда лишь демоны бродят;
Когда охранников сон сморил, он дверь открыл и, войдя,
Соединился с ней; и, сказав, что в мире нет краше нас,
Многократно с любовью роскошные волосы трогал...
(АН 311, 1-7).
В другом случае представлена неудачная попытка:
В полночь глухую, когда многие спят,
Пришел ты, могучий, как слон, и пробовал дверь,
Что на ночь была заперта22. — Все это слышали мы, о
великий!
Но стоит вздохнуть ей, подобно павлину благому,
Который в ловушку попался, и сбился его хохолок, и перья
хвоста потускнели,
Тотчас же бежит к ней лишенная добродетели мать и крепко
ее обнимает
(КТ 244).
"Лишенная добродетели мать" — не случайный образ в
поэзии куриньджи. Он подчеркивает определенный антаго-
низм матери и дочери в ситуации "тайной любви". Препят-
ствующая свиданиям, бдительная, бодрствующая мать иногда
упоминается в стихах с интонацией резкой враждебности,
как, например, в КТ 292 (высказывание подруги), где она
сравнивается с жестоким князем Наннаном, казнившим девуш-
ку, которая съела в его владениях плод, упавший в воду:
Умыться направлялась девушка со светлым лбом
И съела плод, водою принесенный, и за то,
Предложенных ему слонов числом на девять девять
И веса девичьего золотую статую отвергнув,
Убийство женщины свершил Наннан, — ему подобно,
Пусть наша мать отправится навечно в ад —
В ту ночь, когда с улыбкой на лице явился гость,
Она, как город пред лицом врага, отвергла сон.
Итак, соединение с девушкой оказывается для героя не-
легким делом. Трудность его усугубляется тем, что на сви-
дание приходится идти ночью. Во многих стихотворениях
красочно обрисован путь, которым движется герой глухой,
страшной полночью (па£ип31 -АН 22,11; 72,2; 118,9;
126,7; 141,8 и т.д.), когда льет дождь, гремит гром и
сверкают молнии; в лесу ползают змеи, ухают совы, тигр
нападает на слона. Зная обо всем этом, героиня и ее под-
руга восторгаются героем, смело прошедшим по опасному
пути:
Дождь скрывает пространство, .и неба не видно,
Воды потоком текут, и не видно земли.
7-2 60
100 Глава III
Солнце уж скрылось — округу окутала тьма.
В полночь, когда люди спят.
Как же пришел ты, о житель высоких вершин?
(КТ 355, 1-5).
Часто они удручены испытаниями, которые выпадают на
долю героя, беспокоятся за него. В HT 83 подруга обраща-
ется к сове с просьбой не пугать героя по пути к люби-
мой:
У входа в селенье, рядом со светлой бухтой,
На дереве древнем, где бог обитает, живущая,
С крепким изогнутым клювом, когтистая и ясноглазая,
С криком тревожащим, как барабан у глашатая, — о ты, сова!
- Тебе мы поклонимся и принесем тебе мяса,
Отборного риса, и масла, и жареных белых мышей.
Ведь страстно желаем мы, чтобы любимый,
Чье чувство любви не слабеет, пришел.
В ту пору, когда мы не спим и бродим, /его ожидая/,
Свой голос жестокий, внушающий ужас, уйми!
Иногда же упомянутые трудности используются подругой
героини в качестве орудия дипломатической игры, состоя-
щей в том, чтобы подтолкнуть героя к скорейшей женитьбе.
Например, обращаясь к героине так, чтобы слышал находя-
щийся неподалеку герой, подруга, как будто выражая ему
сочувствиеС на самом деле подчеркивает нежелательность
дальнейших тайных свиданий (и, следовательно, необходим
мость узаконить их отношения):
Лес глухо зашумел, по небу
Распространился мрак, какой бывает в трещинах скалы,
И тучи голос громовой не умолкает.
А в рощице в горах, где облака плывут,
Горячегневый тигр-самец, разинув пасть,
Слона на землю повергает.
Не слышишь разве ты его ужасный рык?
Ты разве бпишь, о девушка изящная?
Чтоб сердце омраченное, тоской объятое, /нам/ охладить,—
Как если бы очаг залить водой, —
Сегодня если не придет /любимый/ — благо!
Ведь стоит лишь подумать о пути тяжелом среди гор,
Мое нестойкое трепещущее сердце падает на землю
(HT 154).
Как правило, тамильская поэзия описывает героя, иду-
щего на ночное свидание, однако иногда на свидание спе-
шит героиня, как, например, в стихотворении Паранара
(АН 198):
"Сказать иль не сказать?" — вот так
О страсти думая, ее. скрывать не в силах,
Желая встречи и поверив нашему благому слову,
В средине ночи под прикрытием дождя,
Ритуально-мифологические истоки Ю1
Благоуханием волос напоминая кар (сезон дождей),
Из тонких нитей, чистой вьщелки накидку на груди прижав,
Подобная павлину скромному под молодым дождем в горах,
Себя убрав прохладными цветами, с пчелами вослед,
Прекрасные браслеты, гнутые, как лук,
Придерживая, /звона их/ боясь, она пришла
И ночью, когда все селенье спит, меня обняв, теперь уходит.
Она не дева темная, прекрасная, великая, что добродетели
полна,
Но в южной стороне, в благой стране,
Принадлежащей /князю/ Аи,
В горах, что обладают анангу,
На склонах устрашающих горы Кавирам,
В источнике, что полнится цветами нежными, живущая
Не Сура ль дочь она? — так говорит мне сердце.
Это стихотворение составляет очевидную параллель сан-
скритским и пракритским стихам, трактующим тему абхиса-
рики — женщины, идущей на свидание с любимым. Но в нем
есть оригинальная тамильская черта: героиня в глазах ге-
роя предстает здесь связанной с демоном Суром, что сле-
дует рассматривать как явное указание на опасность, тая-
щуюся в свидании с девушкой, или, иначе говоря, на опасный
аспект сакральной женской энергии. Этот мотив опосредо-
ванно возникал ранее в связи с описанием трудностей, ко-
торые приходится преодолевать герою. Оказывается, он мо-
жет быть дан и прямо как угроза, исходящая от самой ге-
роини. В самом деле, даже в ее портрете, который в целом
символизирует даруемое женщиной благо, нет-нет да и по-
явятся выразительные, детали, указывающие на таящуюся в
ней опасность. Так, упоминаются "вздымающаяся молодая
грудь, устрашающая, как анангу" (АН 161, 12—13); "уст-
рашающий, как анангу, взгляд" (АН 319, 6); "влажные гла-
за с красными полосками, подобные стрелам" (HT 13, 4);
"глаза, подобные бивням слона" (HT 39, 5—6). В стихот-
ворении КТ 272 поэт, подчеркивая опасный аспект женской
красоты, усиливает его развернутым сравнением, в кото-
ром намекает на враждебность семьи героини по отношению
к герою:
Удастся ль мне к плечам приникнуть
Горянки с прядями волос благоуханных,
С глазами дерзкими сурмленными —
Их взгляд подобен окровавленной прямой стреле,
Изъятой из груди самца-оленя, —
Стрела впилась в него, когда он подходил к отбившейся
от стада самке,
Ее пустили с резким звуком родичи горянки, лучники,
Со свистом мечущие камни из пращей
(КТ 272).
Исключительно ярко и своеобразно показана сопряженная
с женщиной опасность в стихотворении из ПН, описывающем
конфликтную ситуацию сватовства неких царей:
102 Глава III
Забиты грязью рвы, ослабли укрепленья,
Разбиты стены в. нашем древнем, иссеченном граде.
Что будет с ним, когда не выдержит он битвы?
Под грохот барабанов, что гремят, как тучи,
Цари, чьи кони быстры, утром подойдя,
У наших врат высоких станут и без битвы не уйдут.
Ведь расцвели красиво крапинки благой груди
У юной той, на чьих руках /прекрасные/ браслеты
И чьи глаза сурмленные красны и так напоминают
Отточенные копья, что вздымают
Ее сородичи, готовые к сопротивленью,
Воинственные, сильные (ПН 350).
Очевидно, что в такого рода описаниях образ женщины
понимается как реплика (разумеется, ослабленная) образа
опасной богини-девственницы, и не есть ли одна из часто
повторяющихся деталей женского портрета — "острые зубым
(например, vai eyiru - КТ 14,2; mulleyiru - Айн 495,5)-
так сказать, реликт мифологического'образа (ср. тради-
ционные изображения богини Кали, или Коттравей)?
В любовной поэзии опасный аспект женского начала, ко-
нечно, не находится в центре внимания поэтов — ведь жен-
ский идеал, культивируемый ими, связан, как мы отмечали,
с понятием блага, но что, безусловно, их привлекает —
так это возможность игры на амбивалентном характере жен-
ской сакральной энергии, на контрасте мягкого, нежного
женского облика и жгучих терзаний любви, которые он по-
рождает.
Подобные цветам, смущенные, подобные стреле
Доставили мне боль, что всем заметна,
Сладкоречивой, с мягкими округлыми плечами,
На темных склонах гор, где был посажен хлопок
вместе с просом,
От поля гнавшей воробьев, — прохладные глаза
(КТ 72).
Или:
Амрите подобна ее сладкая речь,
Такова же она сама, сладостная! И такая
Такие страдания если приносит,
Со страстью к ней жить невозможно, —
Поэтому избегайте ее, о разумные! (КТ 206)23.
Впрочем, в сфере чувств герои находятся, так сказать,
в равном положении и чаще всего изображаются как причи-
няющие страдания друг другу: "грудь жителя гор доставля-
ет мне мучение (ananku)" (HT 17, 12); "подобно тому как
маленький белый змееныш с красивыми полосками мучает лес-
ного слона, молодая женщина со сверкающими зубами-рост-
ками, обладающая браслетами на руках, мучает меня (апап-
kiyôlê)" (КТ 119).
Ритуально-мифологические истоки ЮЗ
Собственно, мучением для молодых людей является и сам
тайный характер их любви — невозможность быть вместе,
трудности свиданий, опека старших. Кроме того, одним из
источников переживаний для героини становятся слухи,
разговоры о причинах тех изменений, которые происходят
с ней из-за любви, из-за страданий разлуки. Женщины се-
ления стремятся поведать о них матери девушки:
"Обрадуется или разозлится — все равно
Пусть знает мать!" —. так думают они, злоротые
И слухами живущие, те женщины,
Что много дней ко мне приходят, говоря:
"Она такая стала, твоя дочь, совсем другая..."
(АН 203, 1-5).
Несмотря на, казалось бы, чисто житейский характер
этой ситуации, она исполнена глубокого социального смыс-
ла. Перед нами пример коллективного действия-, своеобраз-
ной игры, целью которой являются общественный контроль
над взаимоотношениями, содержащими в себе опасность для
окружающих, превращение тайной любви в признанный кол-
лективом брак (о такого рода общественной функции слухов
см., например, /Пейн, 1967; Глюкман, 1968/). Характерно,
что в текстах слухи называются alar и ampal — словами,
обозначающими ранние стадии распускания цветка, чем лиш-
ний раз подчеркивается значение вегетативной метафорики
в описании любовных взаимоотношений и развитии лириче-
ского сюжета.
На пути к его матримониальной развязке есть и другие
моменты, способствующие раскрытию тайны: "безумный" та-
нец жреца Муругана — велана, обряд "езды на пальмировом
коне", исполняемый героем, совместный побег героев из
селения. Мы на них здесь останавливаться не будем.
О танце велана говорилось ранее, об обряде и побеге мы
скажем несколько позже.
Указав на некоторые поэтические мотивы, так или иначе
вырастающие из представления о сакральной женской энер-
гии и ее двух аспектах, обратимся теперь к конкретным
мифологическим истокам поэзии куриньджи. Приведенных вы-
ше рассуждений и примеров вполне достаточно для того,
чтобы убедиться в ключевой роли идеи плодородия в древ-
нетамильском любовном каноне. И потому не случайно в сти-
хах на тему куриньджи столь часто упоминание о Муругане.
Муруган является, во-первых, покровителем "района ку-
риньджи", на фоне которого разыгрывается роман молодых
людей, и он же, во-вторых, почитается как властитель
анангу, бог, внушающий любовную страсть. Фигура Муругана
в сфере эротики настолько важна, что его любовные взаимо-
отношения с Валли, девушкой из племени горных охотников
кураваров, по существу, являются моделью построения ли-
рического сюжета темы куриньджи.
7-4 60
104 Глава III
В связи с этим уместно рассмотреть миф о любви Муру-
гана и Валли подробнее. Заметим прежде всего, что наибо-
лее полная и авторитетная его версия появляется поздно,
в источнике XIV в. — kantapuränam ("Пурана о Сканде").
Она содержится в последней, 24-й главе 6-го раздела пу-
раны, которая называется "Глава о священном браке Валли"
(valliyammai tirumanappätalam). Приведем краткое ее из-
ложение24.
В небольшом селении на склоне горы Валлималей жил
предводитель племени кураваров по имени Намби, у которо-
го было несколько сыновей, но не было дочери. А на горе
предавался аскезе отшельник Сивамуни. Однажды он воспы-
лал страстью к проходившей мимо антилопе, и от его взгля-
да та забеременела, причем в этот момент в зародыше по
желанию Муругана воплотилась дочь Тирумаля (Вишну).
В положенное время антилона родила девочку, которую ос-
тавила в ямке из-под клубней растения "валли", выкопан-
ных охотниками. Здесь ее нашли Намби с женой, с радостью
принесли домой и дали ей имя Валли.
Когда Валли исполнилось двенадцать лет, то, по обычаю
племени кураваров, ее послали на поле проса стеречь со-
зревающие посевы от птиц и животных. Там ее заметил мудрец
Чарада и рассказал о ней Муругану. Тот под видом охотника
отправился на поле, куда в это же время пришли отец и
братья Валли,. принесшие ей еду. Муруган обернулся дере-
вом венгей. Когда охотники ушли, Муруган подошел к Валли
и признался ей в любви. Вновь появились охотники, дуя в
рога и гремя барабанами. Валли испугалась за юношу, но
Муруган опять скрылся, на этот раз под личиной старого
шиваитского отшельника. Намби и его окружение попросили
у него благословения и вернулись домой. Старик захотел,
чтобы Валли накормила его, и та дала ему просяной муки
с медом, напоила водой из лесного озера. Затем он попы-
тался овладеть девушкой, но та с упреком отвергла его.
На помощь Муругану пришел его брат Ганеша. Он.появил-
ся в виде разъяренного слона, и Валли, испугавшись, бро-
силась к Муругану, ища защиты. Тогда он предстал перед
ней во всем своем божественном блеске: сидя на павлине,
с копьем, с шестью головами и двенадцатью руками. Валли
в благоговении простерлась перед ним. Он велел ей воз-
вращаться в поле.
Подруга Валли, с которой она встретилась у поля, нача-
ла допытываться о причине ее отсутствия, но Валли ничего
определенного не сказала. Тут вновь появился Муруган в
облике молодого охотника, и подруга заметила, как он об-
менялся с Валли взглядами, полными любви. Она потребова-
ла, чтобы юноша удалился, но Муруган признался в своей
любви к Валли и попросил о помощи в устройстве свиданий.
Если она откажется, предупредил он, ему придется прибег-
нуть к обычаю езды на пальмировом коне. Подруга согласи-
Ритуапьно-мифологичестале истоки Ю5
лась и пригласила Муругана на свидание в лес, где моло-
дые люди насладились любовью.
Когда настало время сбора урожая, родители Валли вер>*
нули ее домой. Мать, видя, как изменилась внешне дочь
вследствие разлуки с любимым, пригласила женщин-прорица-
тельниц, которые установили, что все дело в недостатке
преданности Муругану. Поэтому в доме Намби была произве-
дена церемония поклонения богу.
Муруган же, придя вновь на поле и не обнаружив Валли,
отправился к ее дому и, тайно вызвав ее, с помощью под-
руги совершил с ней побег из селения. На следующее утро
Намби обнаружил отсутствие дочери, разгневался и вместе
с группой охотников бросился в погоню за беглецами. Ког-
да они настигли их, петух Муругана издал крик, от кото-
рого все охотники и родители Валли умерли. Валли стала
горевать, но Муруган повлек ее дальше. По пути им встре-
тился святой мудрец Нарада, который объяснил Муругану,
что для женитьбы на Валли ему следует получить согласие
ее родителей. Беглецы возвратились, и Муруган велел Вал-
ли оживить охотников. Когда те восстали, живые и невре-
димые, бог принял свою истинную форму, и потрясенный
Намби в благоговении почтил его. Затем он попросил его
вернуться в селение, чтобы провести бракосочетание по
обычаям племени.
Селение ликовало. Молодая чета была усажена на тигро-
вую шкуру, и в присутствии Нарады Намби соединил руки
Муругана и Валли, объявив их мужем и женой. В это время
на небесах появились Шива, Парвати, Вишну, Брахма, Индра
и благословили молодоженов. Затем Намби предложил всем
присутствующим угощение: мед, просяную муку, фрукты.
После завершения церемонии бракосочетания Муруган и
Валли отправились на Скандагири ("гора Сканды"), где их
радостно приветствовала первая жена Муругана — Девасена.
Мифологическое содержание истории Муругана и Валли
довольно богато: она может быть интерпретирована как
миф об установлении родственных отношений охотничьего
племени со своим племенным божеством (расположение, по-
кровительство Муругана усиливаются его браком с "дочерью
кураваров"), как встреча солнца и луны (см. /Клози, 1977,
с.208/), как отражение суточного цикла — перехода от но-
чи к свету утра и дня, как выражение эмоциональной связи
божества со своими адептами, преодолевающей всякие ие-
рархические границы (в духе течения бхакти), — но нас в
первую очередь интересует выявляемая в этой истории идея
плодородия.
Как уже отмечалось, фигура Валли символизирует расти-
тельное начало природы и специфически растительный по-
кров куриньджи, причем, будучи персонификацией растения
со съедобными клубнями, она воплощает собой изобилие гор-
ных лесов, дающих кураварам естественные, "сырые" про-
дукты (можно считать Валли воплощением производительной
106 Глава III
энергии некультивируемой природы). Муруган, повелитель
гор, олицетворяет природное мужское начало и в эротиче-
ском соединении с Валли, олицетворяющей вегетативное
женское, обуздывает его, оплодотворяет, чем обеспечивает
плодородие района куриньджи.
Рассматривая сюжет данного мифа на фоне древнетамиль-
ской поэшии куриньджи, легко увидеть, что в основных
своих чертах он тождествен реконструируемому рассказу о
любви героев этой поэзии (естественно, следует исключить
из рассмотрения эпизоды, связанные с чудесным рождением
Валли, появлением Нарады, Ганеши, Девасены и прочих бо-
гов, самого Муругана на павлине и т.д., словом, относя-
щиеся к позднейшему развитию сюжета в русле общеиндий-
ской мифологической традиции). Нам неизвестно, существо-
вал ли этот сюжет в фиксированном словесном оформлении
в период создания имеющейся в нашем распоряжении поэзии,
но можно утверждать, что представление об основном его
узле? т.е. о встрече Муругана и Валли, имелось; см.:
"Придешь ли ты ко мне, о горянка с прекрасной походкой,
словно Валли, которой присуще соединение с Муруганом?",
букв "Валли, которая пошла на соединение с Муруганом11
(HT 82, 3-4).
Так или иначе, для поэтов истории Валли и Муруга-
на могла, конечно, служить образцом, идеальным прообра-
зом человеческого поведения25, но не в этом, как нам ка-
жется, состоит специфика соотношения поэзии и данного
мифа. Главное здесь, очевидно, в том, что помимо факти-
ческой сюжетной общности мифа и поэтической ситуации су-
ществует их бесспорное концептуальное единство, опреде-
ляемое универсальной идеей обеспечения блага и плодоро-
дия путем соединения мужского и женского начал, идеей
контроля над сакральной женской энергией, которой в при-
роде соответствует вегетативное начало плодородия.
С этой точки зрения и поэтический сюжет, и стоящие за
ним реальные отношения в племенном обществе столь же ми-
фологичны, сколь и сюжет пуранический; все они, собст-
венно говоря, должны рассматриваться как варианты одно-
го и того же сюжета, а точнее, как способы реализации
одной мифологемы, разнящиеся между собой лишь по форме.
Многозначительны с этой точки зрения и образы главных
героев любовной поэзии. Из предшествующего анализа выяс-
нилось, что образ героини символизирует природную жен-
скую энергию плодородия. Превалирующие в нем раститель-
ные мотивы прямо связывают его с мифологическим образом
Ваяли, и эта связь станет еще более очевидной, если мы
обратим внимание на одну любопытную деталь женского пор-
трета — расчесанные на пить прядей волосы (HT 14 0,3;
160,6; АН 8,10; 152,3 и т.д.)*6. Происхождение обычая
так расчесывать волосы (насколько нам известно, нигде
не объясненное) вызвано, по нашему предположению, стрем-
лением незамужних девушек придать себе облик Валли, пер-
Ритуально-мифологические истоки Ю7
сонифицировавшей растение, которое является пятилистни-
ком (ИП, с.582). С этим же стремлением связано и то, что
девушки-горянки часто именуются koticci (например,
АН 58,5; 102,5; HT 276,4), словом,"производным от koti
лиана^ гибкий стебель (опять-таки характеристика валли) \
Ср. обращение к Муругану в одном из гимнов антологии "Па-
рипадаль" (19, 95): м0 ты, что соединился с лианой!" (ко-
tiyaik kütiyoy)27 .
Равным'образом герой поэзии куриньджи явно ассоцииру-
ется с Муруганом. "Надев венок из медоносных ароматных
соцветий венгей, что растет на склонах гор, сверкающих
ручьями чистыми, шумящими, соединяясь под звуки барабан-
чика тондака с женщинами, что пляшут в маленьком селении,
двигающемуся Муругану ты подобен" (АН 118, 1—5), — гово-
рит подруга героини герою. Как Муруган изображается "со
свежей гирляндой /на груди/, вокруг которой жужжат пче-
лы" (HT 173,8), "надевшим венок из цветов кадамбы, пах-
нущих сезоном дождей" (HT 34,8), так и герой приходит на
свидание "в венке из ярко-белых лилий" (АН 48,8—9) или
кувилам (HT 119,9), "с гирляндой на груди" (АН 82,14),
"в венке, в гирляндах и с браслетами ножными" (АН 128,8),
иногда с копьем в руке:
Когда в середине ночи, полной мрака и доящя,
По склонам гор с ручьями он, копье подняв,
При вспышках молнии сверкающей придет,
Что будет с нашей жизнью сладостной, подруга,
При мысли о превратностях его пути? (HT 334, 6—9).
Пришел один /любимый наш/ с копьем,
Которое, как молния, сверкая,
Ему дорогу освещает и гонит тьму из устрашающих расселин
Ночных высоких гор, где анангу живет
И где бегут ручьи (АН 272, 2-6).
Совершенно ясно, что герой поэзии куриньджи выступа-
ет не кем иным, как своеобразным двойником Муругана. Он
постоянно именуется в поэзии "жителем гор", "горцем",
"принадлежащим горной стране" (cilampan, poruppan, ver-
pan, malai nätan, malai kilavôn), т.е."титулом, который
по~праву носит,"будучи горным богом, Муруган (ср. neÇu
varai kurinci kilavan, malai kilavön властитель страны вы-
соких гор куриньаШу властитель гор — ТМА 267,31 7) . Что касает-
ся героини, то и она в поэзии куриньджи нередко называ-
ется "горянкой", "женщиной из племени кураваров", "до-
черью охотника-куравара" (kuramakal, kuravan makal), что
опять-таки ставит ее в прямую связь с "дочерью курава-
ров" Валли.
Высвеченный образом Муругана портрет героя создается
весьма скупыми изобразительными средствами — по существу,
повторяется лишь одна деталь его: грудь, "прохладная,
благоухающая сандалом" (КТ 161,1; 3 21,1; HT 168,10),
108 Глава III
"широкая11 (АН 22,3), "крепкая, словно склоны гор" (КТ 76,2
Айн 220,3). Ароматная, украшенная гирляндами, она в са-
мом деле является своеобразным аналогом цветущей горы,
воплощения растительного изобилия, крепости, устойчиво-
сти и имеет значение пластического символа достоинств
самого героя — его плодотворящей энергии, силы, твердо-
сти, непоколебимости. Именно грудь героя является точкой
притяжения мыслей и чувств героини, она — причина ее мук:
"Когда я думаю о натертой сандалом широкой груди жителя
высоких гор, моя внутренняя боль усиливается" (КТ 150,
3—5); "грудь жителя гор доставляет мучение (анангу)"
(HT 17,12); "боль беспокойства причиняет мне его широ-
кая благоуханная грудь" (АН 72, 2—3). В то же время она
является и средством утоления любовной страсти: "стало
сладостно, когда я соединилась с твоей грудью" (АН 58,9);
"прохладу дает соединение с грудью жителя гор" (АН 98,5);
для героини "нет иного лекарства, кроме груди /любимого/"
(КТ 68,4); его грудь дает ей опору ("опору друга" —
АН 35,13). Отметим, что и в панегирической поэзии наибо-
лее значительная деталь характеристики героя-воина — его
грудь (ПН 59,1; 88,4; 96,1) .
В поисках ритуально-мифологических корней данного об-
раза мы, учитывая, что его как бы "подсвечивает" Муруган,
хотели бы обратить внимание на распространенный в индий-
ской культуре обычай репрезентировать божество в виде
камня или каменного столба (плиты). Как известно, камень
символизирует гору, представляя ее, так сказать, в свер-
нутом виде (ср., например, культ черного камня, символи-
зирующего гору и хозяина горы — Кришну /Водвиль, 1968,
с.744/), и вместе с тем — сакральную энергию (качество
твердости осмысляется как знак энергетической насыщен-
ности предмета). В связи с этим заслуживает упоминания
также и разновидность культа камней, которая заключает-
ся в поклонении так называемым "камням героев" (vïrak-
kal), т.е. плитам, водружавшимся на месте гибели воинов
или просто в их честь, украшавшимся павлиньими перьями
и венками (ПН 264, 2—4). Внешний облик такой плиты,
считавшейся посмертным обиталищем души героя и символи-
зировавшей его физическую мощь и непоколебимость, должен
был, как нам кажется, присутствовать в сознании поэтов
при создании ими идеального образа мужественности и си-
лы.
Развитие темы камня в сфере эротики мы находим в шива-
итском мифе, относящемся к храму Экамбарешвары в Каньд-
жипураме. Его центральным событием является наводнение,
разлив реки Камбей, во время которого Камакши, будущая
супруга Шивы, боясь затопления стоявшего в храме линги,
заключила его в объятия; от жара ее любви каменный линга
стал размягчаться, и на нем остались отпечатки груди и
браслетов Камакши /Шульман, 19 79, с.29/.
Ритуапьно-мифо/югичестсие истоки Ю9
Этот эпизод чрезвычайно интересен тем, что содержит
характерный и для любовной поэзии мотив размягчения, та-
яния плоти, который выражает сильную степень любви и
преданности. "О сердце, — восклицает герой, — когда ты
увидело естественную красоту ее темных волос, ты погиб-
ло, словно соль в телеге, стоящей на морском берегу под
струями дождя..." (КТ 165, 3—5); "он крепче, чем камень,
о подруга, но, не думая об этом, тает мое сердце"
(КТ 18 7, 4—5); "Я боюсь, подруга, ты растаешь, как соль,
добытая в море и оставленная на берегу под дождем" (HT 88,
4-S)28.
Присущее герою качество телесной твердости как бы на-
ходит продолжение в крепости и постоянстве его чувств.
Вступив в любовные взаимоотношения с героиней, он неук-
лонно стремится к тому, чтобы, став ее опорой, соединить-
ся с ней навсегда:
Он, постоянный в слове, многосладостный,
Отрыва от плеч моих не знает;
Его любовь, как соты средь ветвей
/Высокого/ сандалового дерева, где сладкий мед смешался
С пыльцой прохладной лотосов, взметенной /ветром/ вверх.
Как мир не может быть устроен без воды,
Так мне в разлуке с ним — не жизнь,
Но, милостив ко мне, страшится он,
Что ароматный лоб мой потускнеет,
И низости в своих поступках он не знает (HT 1).
Перед вынужденной разлукой герой дает обет возвратить-
ся в срок и жениться на героине. Ее ожидание, сомнения,
переживания, часто упреки составляют характерные колли-*
зии на тему куриньджи. Например: "Неужто он причастен лжи?
Неужто он обманет тех, кому сказал: „Не бойся!" — Нет,
скорее на луне заполыхает пламя, чем житель гор простор-
ных отступится от правды!" (Кали 42, 21—24).
Такого рода непоколебимая убежденность в благородстве
героя, выраженная словами, напоминающими скорее магиче-
ские заклинания, основана на том, что за ним вырисовыва-
ется фигура божества плодородия, определяющая характер
его взаимоотношений с героиней и их конечную цель, свя-
занную с понятием общественного блага. Мерой достижения
этой цели, т.е. соединения с героиней, в сущности, и оп-
ределяется оценка его слов, действий и в целом его до-
бродетель. Как говорится в HT 22, 9—10, для героини
"приход героя подобен приходу полночного дождя для засы*
хающего риса в месяце тай" (ср. Кали 25, 2 7—29: "О мно-
гославный! Ее изысканная красота в то время, когда ты
немилостив к ней, подобна этому миру в то время, когда не-
бо отказывает в дожде"), и^ следовательно, истинность
или ложность его поступков и слов должна пониматься в
том же смысле, в каком истинны или обманчивы для земле-
дельца приметы необходимого посевам дождя.
11 о Глава III
Итак, образы поэзии куриньджи постоянно как бы совме-
щаются с образами мифологической четы — Муругана и Валли,
порой до степени полного совпадения (ср. АН 388, 20: "от
анангу нашего господина пришла эта боль". Здесь невозмож-
но решить, о ком говорит героиня — о герое или о Муруга-
не). Такого рода совмещение есть, между прочим, отраже-
ние в поэзии важного для тамильской культуры момента —
понимания любовного чувства, страсти как состояния одер-
жимости, безумия (это отмечает, в частности, Б.Бек, ана-
лизируя фольклорную поэму о Муругане и Валли /Бек, 1975,
с. 109/). Именно для этого состояния характерна психиче-
ская перестройка, которая проявляется в идентификации
(и самоидентификации) субъекта с кем-то другим, чаще
всего с божеством ("процесс идентификации — фундаменталь-
ный принцип культов, связанных с одержимостью" /Руже,
1977, с.237/. См. также /Уилсон, 1967, с.374/)29. Если
с этой точки зрения взглянуть на древнетамильских влюб-
ленных, то окажется, что для них фигуры Муругана и Валли
должны были быть не образцом для подражания или "идеаль-
ным прототипом человеческого поведения" /Звелебил, 19 77,
с. 233/, но социально одобренной формой их бытия в опреде-
ленный период. Подобно тому как перевоплощался в Муруга-
на одержимый им жрец-велан, так одержимые любовью (т.е.
тем же Муруганом) молодые люди перевоплощались в Муруга-
на и Валли и в рамках собственных любовных взаимоотноше-
ний разыгрывали мифологический сюжет. Они словно вступа-
ли на ритуальное поле (kalam), где, отстраняясь от своих
индивидуальных особенностей, становились исполнителями
ролей, предназначенных для ритуального контроля над энер-
гией, связанной со сферой эротики.
Любопытно отметить один характерный мотив поэзии ку-
риньджи, который подчеркивает сугубо ритуальный харак-
тер поведения влюбленных: юноша дарит девушке юбочку из
листьев (talai), и та, если готова вступить с ним в лю-
бовные отношения, принимает ее. Такие юбочки — распрост-1
раненный атрибут южноиндийских ритуалов, обычное одеяние
во время танцев в состоянии одержимости (см. /Клаус, 19 79,
с. 106/), в обрядах поклонения богине (Уайтхед отмечает
обычай, согласно которому женщины входили в храм Дурги
в одежде из ветвей маргозы /Уайтхед, 19 76, с. 76/; см.
также /Бек, 1981, с. 117/). HT 368, 2-3 упоминает юбочку
на лонак девушек, качающихся на качелях.
Ношение юбочки из листьев есть несомненный знак иден-
тификации героини с богиней, и то, что героиня принимает
ее от героя, означает ее готовность быть богиней, т.е. в
данном случае Валли. Стихотворение HT 3 59 описывает коле-
бания героини по этому поводу:
Житель горной страны, где коротконогая,
Пасшаяся на склонах рыжая корова
Кандаля пышные гроздья задела и в смущении
Смотрит, /не узнавая/, на теленка своего, покрытого
/красной/ пыльцой,
Ритуально-мифологичестасе истоки 111
Юбочку дал нам из листьев. Если надеть ее,
Матери будем бояться; если отдать, то боюсь — связи
нашей конец.
Сильную, хотя и не вполне ясную мифологическую подог
плеку можно почувствовать в еще одной ситуации, обычно
относимой к поэзии куриньджи: это так называемая езда
на пальмировом коне (matai ërutal), упоминаемый в ряде
стихотворений обряд, совершаемый под воздействием не-
удовлетворенного чувства. Не видя другой возможности
склонить девушку к браку (или ее родителей к согласию на
брак), герой угрожает сесть на украшенную особым образом
колючую ветвь пальмировой пальмы ("пальмирового коня"):
Золотистыми новыми цветами авирей,
Сплетенными с гирляндой из ниток, украшен
Пальмировый конь; гремя колокольцами,
Отбросив свой стыд, я взберусь на него
И с внутренней болью губительной, что постепенно растет,
"Такая вот сделала это", — скажу перед всеми,
И будет хулить ее /наше/ селенье.
И, зная, что будет тогда, сейчас я готов
На это идти (КТ 173).
Все детали обряда езды на пальмировом коне — колоколь-
чики (КТ 182,2), обладающие неприятным запахом цветы ави-
рей и ерукку (КТ 17,2 ; HT 152,2; 220,2)30, гирлянда, ми-
шурная или из белых костей (КТ 18 2,3), — свидетельствуют
о намерении подвергнуться публичному самоуничижению и
самоистязанию перед домом девушки, оказать своеобразное
давление на ее семью. Смысл этого обряда до конца неясен.
Возможно, что он представляет собой некую аналогию жерт-
воприношению перед запертым храмом богини (как заперта,
недоступна героиня); а может быть, юноша изображает воз-
любленную как богиню Коттравей в ее демонической ипоста-
си (ключевое слово для такого понимания innäl она — та-
каяу т.е. такая, какой я ее изображаю). Характерна использу-
емая здесь атрибутика: колокольчики, кости и особенно
цветы авирей и ерукку, символизирующие район палей (см.
АН 3 01,11; 14), над которым властвует богиня. Представ-
ляя таким образом девушку, герой, по-видимому, хочет ука-
зать на опасность и бесплодность некотролируемой, т.е.
в данном случае находящейся вне брачных уз, женской энер-
гии. Не исключено, что мотив бесплодия (бесспорно, соци-
ально значимый) подчеркивается в обряде водружением ге-
роя на колючую ветвь, в чем допустимо усмотреть намек
на кастрацию.
Ситуация езды на пальмировом коне, будучи, по сути
дела, сопряженной с содержанием темы куриньджи, формаль-
но относится к теме peruntinai,изображающей эксцессы лю-
бовного чувства, которая теоретиками не включается в си-
стему пятичленной классификации. Все же, несмотря на свой
необычный характер, нарушающий идеал гармонической любви,
112 Глава III
она нашла отражение в ряде стихов и, более того, закре-
пилась в традиции, составив, например, содержание 114-й
главы мТируккуралам и в дальнейшем став одной из люби-
мых тем поэтов-бхактов (тема ma^al, см. /Харди, 1983,
с.396/), что само по себе свидетельствует о насыщенности
этой ситуации ритуальным, культовым смыслом.
Нащупав принципы построения образов главных героев
темы куриньджи, мы рассмотрим теперь вопрос о том, ка-
кие еще возможности имелись в распоряжении поэтов для
поэтического выражения тех идей, которые составляли фун-
дамент ситуации любовного соединения. Это означает, что,
охарактеризовав ситуативный элемент (uripporuj) темы ку-
риньджи, мы должны теперь обратиться к двум другим эле-
ментам — mutai и kam, т.е. природному и предметному ок-
ружению ситуации (которые, впрочем, взаимозависимы).
Нам уже известно, что сюжет темы куриньджи разворачи-
вается на фоне горного пейзажа в течение в основном
холодного сезона и сезона ранней росы, наступившего пос-
ле муссонных дождей. О том, как понимаются горы в тамиль
ской традиции, мы опять-таки уже говорили (в связи с Му-
руганом). Повторим, что это край изобильной природы,
щедро дающей человеку свои богатства — цветы и плоды,
злаки и мед, воду ручьев и источников и т.д. В общем,
это ландшафт, самым наглядным образом представляющий
производительную силу природы, а точнее — что особенно
важно в свете разбираемой нами темы, — обе природные си-
лы: мужскую и женскую (или же мужское солярное и женское
вегетативное начала) в их благодатном слиянии. Именно
эта мифологема, как мы видели, воплощается историей Му-
ругана и Валли и аналогичным ей сюжетом темы куриньджи.
Кроме того, она находит пластическое выражение в порт-
ретной характеристике героев, а также в ряде поэтических
деталей, использующих образы окружающей природы.
Естественно полагать, что мифопоэтическое сознание,
использующее природные образы для моделирования челове-
ка и его поведения, вполне готово и к обратной процеду-
ре — интерпретации природы с точки зрения человеческих
взаимоотношений. По сути дела, оба процесса неразделимы,
а в случаях, когда речь идет о таких фундаментальных,
общих для человека и природы понятиях, как рождение, со-
единение, смерть и т.п., можно говорить об их (т.е. про-
цессов) идентичности. Для индийской культуры ощущение
сущностного единства человека с природой — факт, как из-
вестно, основополагающий, широко отраженный в мифологии,
искусстве, ритуале (вспомним хотя бы такие обычаи, как
брак между деревьями, о распространенности которого на
юге Индии пишет, например, М.Биардо /1981, с.231/, брак
людей с деревьями, обычай мдохадам — прикосновение де-
вушки к растению, с тем чтобы оно расцвело. К этому же
ряду относятся и другие многочисленные ритуалы плодоро-
дия) .
Ритуально-мифологические истоки 113
Если рассмотреть поэзию куриньджи под углом зрения
изложенного сейчас тезиса, то мы обнаружим в стихах не-
мало объектов природы, имеющих несомненное символиче-
ское значение. И прежде всего нам бросится в глаза ис-
ключительно частое упоминание дерева vënkai. Это типич-
ный представитель горной флоры, можно сказать, знак ланд-
шафта куриньджи. Самая примечательная особенность этого
высокого, с черным стволом дерева — гроздья ярких огнен-
но-золотых (с темной изнанкой лепестков) цветов (eri
vënkai огненный вен гей — Кали 45,. 17), отчего его называ-
ют тигром (т.е. слово обозначает и дерево венгей, и тиг-
ра) или уподобляют окраске тигра его цветы (АН 228, 10 —
11): "опадающие на запрудный камень лепестки венгей де-
лают его похожим на спину тигра11 (ПН 202, 18—20; КТ 47,
1—2). Упоминается в стихах и золотистая пыльца венгей,
с которой сравниваются, как мы уже отмечали, крапинки
на теле женщины.
Очевидно, что благодаря окраске цветов дерево венгей
связано с Муруганом. Более того, можно утверждать, что
оно является его растительным субститутом, — вспомним,
что в рассказе о Муругане и Валли из "Кандапуранам" Му-
руган превратился в венгей. Герой, который, как мы зна<-
ем, отождествляется с Муруганом, носит иногда венок из
цветов венгей (АН 38,1; 28 2,10), как, впрочем, и сам Му-
руган (АН 118,2); венки или гирлянды из венгей носили
на груди цари (в ПН 21,9 упоминается царь по прозвищу
vënkai märpan, т.е. С венгей на груди) и воины ("на вои-
не венок из~венгей, пальмиры и ветчи" — ПН 100, 4—6).
Будучи деревом Муругана, венгей имело и ритуальное зна-
чение — под ним устраивались пляски: "куравары, напив-
шись каля, пляшут в загоне, где растет венгей" (vënkai
munril - ПН 129,3; HT 276,10); АН 232,7 упоминает венгей
в месте для собраний и празднеств (manra vënkai).
Несомненно, что связанное с Муруганом мужское плодо-
творящее начало символизируется золотистой пыльцой и
цветами венгей, понимаемыми как мужское семя. Их созре-
ванием и падением обозначается время, благоприятное для
бракосочетания (иначе говоря, для зачатия). И хотя такое
понимание эксплицитно нигде не выражается, сексуальная
семантика цветов венгей бесспорна и подтверждается анту-
ражем некоторых, явно ритуального характера действий,
описанных в стихах. Ведь не случайно девушки кураваров
качаются на качелях, подвешенных к венгей (повторим уже
цитировавшиеся стихи: "Может ли быть что-нибудь более
сладостным, чем то время, когда мы в юбочках из листьев,
скрывавших высокие лона, качались с тобой на качелях,
подвешенных к черноствольному венгей, на краю большого
просяного поля, от которого мы отгоняли попугаев?" —
HT 368, 1 —4). Возможно, что юбочки, упомянутые здесь,
сделаны из цветов того же венгей; во всяком случае, о
них говорится в другом месте: "Возрадовавшись, мы укра-
114 Глава III
сили наши нежные и вздымающиеся лона связками красных
цветов черноствольного венгей" (АН 345, 8—9). Чрезвы-
чайно показательно в этой связи и то, что в одном из ва-
риантов мифа о Муругане Валли влезает на венгей, в кото-
рый воплотился Муруган, срывает листья и делает из них
себе юбочку, а затем, прижимаясь к дереву грудью, обни-
мает его, как лиана /Шульман, 1980, с.280 -281/. Реми-
нисценциями этого эпизода в поэзии являются упоминания
о лиане-валли, обвивающейся вокруг дерева (HT 269,7;
АН S2, 1 — 2 ~ здесь прямо называется венгей), или любом
вьюнке, висящем на древесных стволах или ветвях. Эти кар-
тинки природы, символически изображающие эротическое со-
единение, в контексте стихов на тему куриньджи играют
роль поэтического намека на любовные взаимоотношения ге-
роев.
Вообще упоминание венгей и его цветов, как правило,
определяет явную эротическую тональность стихотворения.
Например, такая простая и абсолютно достоверная картин-
ка природы — "поток воды с упавшими в него цветами вен-
гей омывает корни манго" (Пари VII,-14 — 15) — с точки зре-
ния тамильской культуры, безусловно, эротична31. Равным
образом и разбиравшееся нами сравнение крапинок на теле
женщины с пыльцой венгей есть один из самых сильных эро-
тических обертонов в описании ее облика.
Другим традиционным растительным символом Муругана
является кандаль (kantal, или tönri) — ароматная малабарг
екая лилия, лепестки которой, желтые, с красными кончи-
ками, длинные и волнистые, напоминают язычки пламени,
почему цветок кандаля называется в поэзии "лесной све-
тильник" (HT 69,6), "огонек" (АН 218,20). Интересно срав-
нение его с ладонью или пальцами женской руки, покрыты-
ми красным лаком (КТ 16 7,1; МП 95).
В поэзии куриньджи красный кандаль связан с героем и,
так же как и венгей, имеет определенный эротический
смысл.
О подруга! Живи! Моей матери
Высший мир будет малой /наградой/ —
Ведь она не ругала меня, когда я,
Поутру принесенный ароматным потоком
От вечерних дождей, что прошли на горе его,
Нежнолистый росток /яркоцветного/ кандаля /взяв/,
Обняла его /так/, что /листы/ приувяли,
И у дома его посадила (КТ 361).
Если венгей и кандаль представляют эротический аспект
Муругана и героя, то еще одно горное растение — сандало-
вое дерево — символизирует главным образом их качества
силы и крепости (сандал - дерево с крепкой древесиной),
а также идею охлаждения, контроля над сакральной энерги-
ей (приятное, охлаждающее действие сандаловой пудры или
мази общеизвестно).. К тому же древесина сандала — крас-
Ритуально-мифологические истоки 115
новатого цвета (см. КТ 321,1), и это делает его символи-
ческую связь с Муруганом еще более убедительной. В сти-
хах часто уцоминается грудь героя, покрытая благоуханным
сандаловым порошком (КТ 150,3; 161,6; 321,1 и т.д.), что
усиливает горные ассоциации, так или иначе обыгрываемые
поэтами. Приведем в качестве примера стихотворение HT 55:
О житель высоких гор ! Довольно твоих уверений!
Ты ночью пришел, презрев опасность
Тропинок каменистых средь бамбука,
И обнимал ее молодую, в родинках грудь, приникал к плечам,
И пчелы роились вокруг бессчетно. И вот,
Убийственно глядя: "Раньше ты разве такой была?" —
Ее мать вопросила. Не отвечая,
Она на меня посмотрела.
"О, как же спасется она?" — так подумав,
На чурки сандаловые указав,
Я — "Отсюда все это!" — сказала.
Поверхностный смысл слов подруги состоит в том, чтобы
объяснить матери необычный вид героини, которую покусали
пчелы во время любовного свидания (пчелы сопровождали ге-
роя , поскольку он был украшен цветочными венками и гир-
ляндами; кроме того, он ведь — "Муруган", т.е. "аромат-
ный"); указывая на сложенные в доме благоухающие санда-
ловые дрова, над которыми тоже вьются пчелы, подруга за-
щищает героиню от обвинения в тайном уходе из дому. Но
поскольку все стихотворение — обращенный к герою монолог
подруги, в котором она рассказывает о происшествии, ее
слова приобретают новый смысл, более.важный: она сообща-
ет, что готова раскрыть тайну любви и фактически это
сделала, ибо сандал — символ героя, по существу, он сам.
Так, играя на двойном, прямом и символическом, значении
предмета, подруга намекает на необходимость скорейшего
брака молодых людей.
Мы видим, что посредством в принципе самостоятельных
образов природы (элемент "каруппоруль" темы-тиней) тема
героя получает различное поэтическое воплощение. То же
самое можно сказать и о теме героини, причем многие при-
родные объекты, которые самостоятельно выражают те или
иные аспекты женского энергетического начала, задейство-
ваны поэтами в качестве средств создания внешнего облика
героини. Впрочем, встречаются они и отдельно. Так, в сти-
хах фигурируют: вьющееся растение валли или вообще любая
лиана, дерево манго, женскую природу которого (в понима-
нии тамильской культуры) мы определили32, лилия кувалей,
растущая в горных источниках. Кроме того, символом геро-
ини можно считать просо, которое она стережет и созрева-
нию которого магически способствует, да и многие другие
растения, чьи внешний вид или особенности произрастания
перекликаются с какими-либо аспектами образа героини.
8-2 60
116 Глава III
Специально следует отметить цветок куриньджи, давший
название поэтической теме-тиней. Его ассоциация с геро-
иней понятна хотя бы из-за отмечавшегося нами сходства
по линии цветовой символики33. Однако символическое зна-
чение этого цветка гораздо глубже. Оно основано на том,
что куриньджи цветет раз в двенадцать лет, а это совпа-
дает с возрастом достижения девушкой половой зрелости.
Отсюда понятно, почему, несмотря на сравнительно малое
число упоминаний куриньджи в стихах (HT 116,11; 268,3;
301,1; АН 308,16; КТ 3,3; ПН 374,8; МК 301), именем это-
го цветка названа поэтическая тема, главное содержание
которой тесно связано с созреванием женской сакральной
энергии.
Куриньджи — медонос, причем его мед считается самым
сладким в горах /Сами, 1955, с.137/. Это свойство цвет-
ка, разумеется, должно быть перенесено на героиню, до-
вольно часто в стихах ассоциируемую с медом (ммедом пах-
нущий лоб" - HT 62,6; "рот, полный меда" - КТ 300,2) или
с привлекающей пчел цветочной пыльцой. Знаменитое сти-
хотворение КТ 2 Иреияна, например, целиком построено на
обыгрывании этой ассоциации:
Прекраснокрылая пчела, ты жизнь проводишь в изучении
пыльцы.
Скажи мне беспристрастно, видела ли ты
Среди цветов, тебе известных, тот, что был бы ароматней
Волос девицы крепкозубой, похожей на павлина,
Которой я любим, которая ко мне привыкла?
В стихотворении КТ 3, где герой называется "жителем
страны, изобилующей медом цветов куриньджи", образ, за-
ключенный в этих словах, подразумевает и созревание ге-
роини, и ее готовность к любви, и ее согласие подчинить-
ся герою (ведь он — повелитель страны куриньджи).
Вообще мед — амбивалентный символ и в некоторых слу-
чаях обозначает плодотворящую силу героя, подобно тому
как в древнеиндийских ритуалах и мифологии мед (золотая
вода) ассоциируется с мужским семенем /Данге, 1971,
с. 206/. Не случайно поэты иногда используют образы эро-
тического соединения, в которых мед фигурирует в качест-
ве символа мужского начала, например: "Его любовь, как
соты средь ветвей высокого сандалового дерева, где слад-
кий мед смешался с пыльцой прохладной лотосов, взметен-
ной ветром вверх" (HT 1,3—4).
Сказанного, мы полагаем, вполне достаточно, чтобы
уяснить основной принцип сочетания в стихах ситуативно-
го элемента с природным и вещественным окружением. Этот
принцип, который можно назвать символическим, состоит в
том, что важнейшая для любой древней культуры мифологе-
ма — соединение мужского и женского начал — находит в
поэзии выражение на разных уровнях символики: антропо-
Ритуально-мифологические истоки
117
морфном, вегетативном, цветовом, предметном и др. Ряды
символов, соответствующих этим уровням, в поэзии на те-
му куриньджи можно представить в виде следующей неболь-
шой таблички:
Мужское начало
Герой
Муруган
Венгей, сандал
Тигр, пчела
Ручьи, бегущая
вода, скалы
Красный
Солнце
Пыльца венгей
Женское начало
Героиня
Валли
Куриньджи, валли,
кувалей, просо и т.д.
Павлин, попугай
Горные озерца31*
Темно-синий
Луна35
Мед
Уровень
Антропоморфный
Мифологический
Вегетативный
Зоологический
Ландшафтный
Цветовой
Астрономический
Предметный
Перечисленные выше растения, цветы, птицы, животные,
которые, будучи упомянуты в контексте поэтической ситу-
ации, приобретают специфическую семантическую нагрузку,
вместе с тем являются типичными атрибутами ландшафта ку-
риньджи. Сочетание же этого ландшафта с ситуацией пред-
определяется сущностным единством обоих ,^их единой мифо-
логической подоплекой и выглядит вполне закономерным.
Аналогично можно сказать и об увязке лирического сюжета
куриньджи с характерными природными явлениями (созрева-
ние проса, цветение манго и венгей, цветение куриньджи).
Таким образом достигается единство всех канонических эле-
ментов темы куриньджи — ситуативного (уриппоруль), ланд-
шафтно-временного (мудальпоруль) и, так сказать, анту-
ражного (каруппоруль).
На основе этого единства и развивается символическая
образность, а описания природы (более или менее развер-
нутые в зависимости от размера стихотворения) берут на
себя функцию выражения в перекодированном виде идей, свя-
занных с поэтической ситуацией. Часто эти описания вклю-
чаются в своеобразную атрибутивную конструкцию, имеющую
отношение к герою. Например: malai nätan житель страны гор
(или, точнее, тот3 кто имеет отношение к горам), где.,. — и
следует картинка природы. Эта конструкция — весьма емкий
поэтический прием, который (для поэзии куриньджи) подчер-
8-3 60
118 Глава III
кивает функциональную близость героя и Муругана и предо-
ставляет возможность специфически охарактеризовать героя.
Так, картины горного пейзажа, непосредственно и естест-
венно выражающие связанные с горами представления (напри-
мер твердость и крепость горных склонов, плодородие ле-
сов, прохладу зелени и ручьев), будучи тесно сближены с
образом героя, выражают одновременно атрибуты, достоин-
ства, ему присущие (телесную и моральную крепость, "ох-
лаждающую" функцию и т.д.)« Такая, скажем, важная с точ-
ки зрения поэзии куриньджи характеристика героя, как его
оплодотворяющая сила (не забудем, что он — реплика Муру-
гана) , вводится простым упоминанием льющейся воды (симво-
лика мужского семени), т.е. дождевых струй или ниспадаю-
щих с гор ручьев:
Здравствуй, подруга! Послушай !
Пока нет разлуки —. слиянье в любви хорошо
С жителем гор, где бьются о скалы ручьи,
И, словно ползущие змеи, вниз ниспадая с вершин,
Длинные ветви цветущих высоких венгей
Они сотрясают и их, обрывая цветы, обнажают (КТ 134)i
Или:
О подруга! Он мне боль причинил —
Житель горной страны, где средь зелени нежной,
Будто бы слон, что /шкуру/ от грязи очистил,
Камень шершавый, омытый потоками ливня, лежит.
Очи мои, что с кувалей-лилией схожи,
Тусклыми стали в разлуке (КТ 13).
В данном случае с героем ассоциируются образы, пере-
дающие идею очищения, возвращения к жизни (ливень, неж-
ная зелень), силы и крепости (камень). Они составляют
контраст образу тоскующей в разлуке героини, но одновре-
менно намекают на то, что любимый, причинивший боль,
все-таки ее опора и утешение36*
Элементы природного окружения могут быть даны в сти-
хотворениях довольно скупо, но и единственная деталь,
вследствие закрепленности ее за определенной темой-тиней,
способна полноправно представить эту тему, вызывая в во-
ображении воспринимающего весь комплекс мотивов, образов,
идей, к ней относящихся. Например:
Когда венгей, чей черен ствол, цветы запрудный камень
осыпают,
Он выглядит детенышем большого тигра.
К его, в таком лесу идущего, ночному делу тайному
Немилостива ты, белая луна! (КТ 47).
Принадлежность этого стихотворения к теме куриньджи
несомненна, и задается она в первой же строке упоминани-
ем венгей. Но смысл этого миниатюрного пейзажа не толь-
ко в установлении тематического ключа. Он содержит в се-
Ритуально-мифологические истоки 119
бе намек на определенную стадию взаимоотношений героев,
а именно на необходимость женитьбы. Намек реализуется
двояко: опадающие цветы венгей говорят о наступлении
брачного сезона, а упоминание о тигре есть предупрежде-
ние герою об опасности тайных нсчных свиданий и, следом
вательно, подталкивание его к женитьбе на героине37.
Ситуация супружеской разлуки. Тема муллей
Формальная характеристика темы такова: ситуативный
элемент — iruttal (букв, пребывание), ландшафт — леси-
стые холмы, пастбища (район муллей, названный по имени
разновидности жасмина38), время — начало сезона дождей,
вечер.
Лирический сюжет темы можно изложить вкратце так: в
селении, находящемся среди лесистых холмов, пастбищ и
небольших полей, героиня терпеливо ждет возвращения му-
жа. Он отправился в военный поход и обещал быть дома к
началу сезона дождей. Сезон дождей, иначе называемый
кар (kär), наступает, небо заволакивается тучами, гремит
гром, начинаются ливни. Природа, увядшая за время летней
жары, возрождается, леса покрываются зеленью, распуска-
ются цветы, воздух наполняется их ароматом. Особенно
приметен белый жасмин муллей. По вечерам в селение воз-
вращаются пастухи. Слышны звуки их свирелей и колоколь-
чиков, висящих на шеях коров. Торопится в загоны телята,
птицы летят к своим гнездам — все живое стремится домой.
Одинокую героиню охватывает печаль, она дает волю своим
чувствам. Муж ее в это время находится в военном лагере,
но вот поход успешно, завершен, и он'мчится домой в ко-
лесниЦе и в предвкушении встречи с супругой торопит воз-
ничего .
Основные микроситуации или мизансцены (turai), предо-
ставляющие героям возможность высказывания, следующие:
героиня, ожидающая мужа, обращается к подруге; подруга
утещает героиню; подруга приветствует возвратившегося
героя; герой в военном лагере, вспоминая о доме, обраща-
ется к своему сердцу; направляясь домой в колеснице, он
обращается к вошнице. Кроме того, герой и героиня в раз-
луке обращаются к музыканту-панану, играющему роль вест-
ника. Ранее нами была отмечена ситуация, в которой кор-
милица восторгается семейным счастьем героев.
При анализе темы муллей обращает на себя внимание то,
что ее герои резко отделены от социального фона. Если в
стихах на тему куриньджи они в общем идентифицировались
с племенем охотников-кураваров (т.е. были горец и горян-
ка), то в поэзии муллей с населением района, т.е. пасту-
хами, они никак не связаны. Героиня обозначается либо
нейтрально ("обладающая благим лбом", "темная", "люби-
мая" и т.д.), либо именами-терминами женских возрастных
8-4 60
120 Глава III
групп: arivai, matantai39, либо в соответствии со своей
ролью в ситуации: ujraivi пребывающая /дома/, manaivi, тат
naiyöl хозяйка дома, домашняя.
Герой же, как и в поэзии куриньджи, тесно увязывает-
ся с местным ландшафтом в таких обозначениях, как kurum-
porai nätan житель страны невысоких холмов, poraiya nâtu ki-
lavön оштель (или властитель) холмистой страны. Кроме того,
он иногда называется kuricil повелитель, tonral (с тем
же значением) , perumSn великий, entai старший", отец, что
свидетельствует о его принадлежности к привилегированно-
му сословию, каковым являлись "благородные воины11. В свя-
зи с этим не кажется удивительным, что поэзия муллей на-
сыщена военными мотивами, элементами поэзии пурам.
С войной связана прежде всего причина разлуки супру-
гов .— поход, в котором герой принимает участие. "Они уш-
ли с победоносным царем, обладающим славной армией", —
говорится, например, в Айн 459, 3—4. Домой герой воз-
вращается всегда на колеснице, следом за отрядом молодых
пеших воинов, видимо своей дружиной, которая привлека-
лась царем для похода. Царь отправляется взимать дань
с покорных ему племен или совершает набеги на непокор-
ных. Во всяком случае, целью похода является обогащение,
и герой вместе с воинами нередко именуются как "ушедшие,
возжелав драгоценностей" (КТ 254,6), "отправившиеся за
богатством" (КТ 220,7) и т.п.
Поход, который часто называется "трудное дело" (на-
пример, АН 384, 1), совершается в период летней жары.
В это время труден уже сам путь через "бесплодную, зной-
ную землю, внушающую страх, где сверкающий жар облекает,
словно покрывалом, длинную дорогу, совершенно безводную"
(HT 99, 1-3), "каменистую и пустынную" (HT 374,1). Уда-
лившись от дома, воины, "пересекшие горячую пустыню"
(HT 99,3), попадают в чужие земли. Там, "в далекой, ли-
шенной славы стране вражеского царя" (HT 384,6) разби-
вается лагерь.
Военные действия в стихах не описываются, но' тема бит-
вы присутствует косвенным образом в деталях картины ла-
геря, который "гремит /барабанами/, вторя грому с небес,
где в руках воинов, охваченных боевым духом, острые ме-
чи, концы которых стали округлыми, притупившись от уда-
ров, и где в следах от конских копыт то тут, то там, по-
добно /красной/ звезде, сверкает кровь" (АН 144, 11—17).
Мы в лагере /военном/ сильногневного царя,
Чье войско в сне ночном склонилось, сам же он,
/Обход свершая/, меч из ножен вынул и обратно
Его рукою мощной не вставляет.
Грохочет полночь громом барабанов,
Удары ливня стрел напоминая
В щиты из кожи, перевитой /гибкими/ ветвями.
/Шумит она/ и звоном длинноязыких, ясных колокольчиков,
Ритуалъно-мифологичес'кие истоки 121
Что на слонах висят крошечноглазых,
Чьи бивни белые остроконечные
iTexi&ç'bI затуплены в атаках на ворота вражьих укреплений,
/Когда удары/ столь могучи, что браслеты,
/Которыми слоны и бивни их украшены/, раскалываются
(АН 24, 11-18).
Героическая тема, которая возникает в любовной поэзии
в связи с военной экспедицией, реализуется также в изо-
бражении фигуры царя. Он описан лаконично, но в полном
соответствии с канонами поэзии пурам: выделяются его
гнев, неукротимость, стремление к воинской славе.
Мы в лагере царя, гирляндами украшенного,
Что посылает армию свою на поле битвы,
И гнев его велик настолько,
Что даже крепости врагов, над стенами которых вьются флаги,
Он в виде дани не берет /и разрушает/ (АН 84, 14—17).
А царь в лесном /военном/ лагере,
Где наконечники подъятых длинных копий блещут,
Горячую вражду свою смирив, /теперь/ не спит,
Желая новой славы (АН 214, 5 — 6).
Наконец, героическая тема звучит и в ситуации возвра-
щения героя: он едет домой на колеснице, "радостный от
победы" (АН 354, 11), "с душой, исполненной величия за-
конченности дела" (ceyvinai mutitta cemmal ullamotu —
АН 184,5; KT 270,5; 275,5).
Значение мотива завершенности похода внешне проявля-
ется в необыкновенно частой, настойчивой его повторяемо-
сти и вариативности: "Царь закончил дело" (АН 44,1;
104,1), "закончил трудное дело" (АН 384,1; HT 161,1),
"царь взметнул победные флаги" (АН 354,3), "охладил
свой горячий гнев" (АН 54,2), "смирил свою вражду"
(HT 81,10), "мы закончили задуманное" (HT 169,1), "за-
кончилось нами задуманное дело" (АН 244,14), "мы взяли
дань" (АН 334,3) и т.д. Важность этого мотива для темы
муллей заключается, однако, не столько в его военном ас-
пекте, сколько в том, что с окончанием дела связаны для
героев конец периода разлуки и возможность скорого се-
мейного воссоединения:
Запрягай, возница... коней! И мы увидим
Сладкую улыбку прекрасной, темной, как побег манго,
женщины... (HT 81, 5-9)
Гони быстрей, возница! Если на день хоть задержимся
С царем и армией его светлокопейной и победной,
То день /покажется/ здесь более чем вечность
(Айн 482, 2-4).
122 Глава III
Возвращение героя описывается как происходящее в на-
чале сезона дождей. Если дорога в чужие страны была су-
хой, безжизненной и страшной, то теперь ее вид совершен-
но иной: "она благоухает прохладной свежестью леса, став-
шего красивым11 (АН 154,10), иона проходит через лес,
полный опьяняющего цветочного аромата, /после того/ как
расцвели переплетенные красный и белый жасмин'1 (АН 254,
15 — 16). Почва дороги становится влажной и мягкой, и
крепкие колеса колесницы рассекают ее (АН 224,14; 314,11;
334,14) и оставляют колеи, "в которых, словно змеи, бе-
гут потоки быстрой воды" (АН 324,13). Колеса давят "зе-
леные стебли злаков, похожих на тонковетвистую молнию"
(АН 254,14), "срезают ароматные цветы с пчелами внутри,
которые, /опадая/, разрисовывают черный, похожий на опе-
рение зимородка песок" (АН 324, 10 — 11); копыта лошадей
"разбивают, как ракушки, длинные листья кандаля" (HT 161,
7).
В лесу герой видит лесного голубя, который, "царапая
непросыхающий сырой песок так, что летят брызги, стучит
клювом, посматривая на свою самку, /приглашая ее/ при-
нять /его/ утреннюю добычу" (HT 21, 8 — 12); он видит
самца антилопы, "который стоит с сердцем, полным любви,
отыскивая взором свою простодушную... самку" (HT 242,
7 — 10), или "кормит ее пучками густолистых мягких про-
сяных колосьев; к боку ее /прижался/ детеныш, и он ох-
раняет место, где они спят" (АН 34, 4 — 7).
Расцветающий лес, животные, полные заботы друг о дру-
ге, напоминают герою о счастливой семейной жизни, он с
радостью думает о встрече с супругой и торопит возницу:
Быстро гони, о возничий,
Свою прекрасную боевую колесницу...
Чтоб обрести нам плечи женщины,
Украшенной блестящими браслетами (АН 204, 8 — 9...13—14).
Гони, о возница, чтобы /скорее/ получить
Богатство красоты прекраснолобой женщины (АН 483, 3 — 4).
С возвращением героя связан один чрезвычайно важный
мотив — обещание вернуться к определенному сроку. Им,
как правило, является сезон начала дождей, kär, хотя это
может быть и другое время, например холодный сезон.
"Это — кар, о подруга, это — время, про которое он
сказал:„Приедем"" (АН 194,16...19). "Ты сказала: „Смотри,
пришло время, когда обещали вернуться ушедшие через бес-
плодную, знойную землю..."" (HT 99, 3—4). "Смотри, вот
сезон, про который он сказал: „Приедем"" (КТ 358,4). "Он
ушел, пообещав, что будет здесь в холодное время года"
(Айн 456, 4-5) .
Мотиъ своевременного возвращения является очень важным
в поэзии муллей. Если обещание не упомянуто, оно подра-
зумевается, срок возвращения героя все равно обозначен,
Ритуально-мифологические истоки 123
и поэтому приход сезона дождей становится для героини
критическим временем: "Приедет или не приедет?11; "Обма-
нули дни, про которые он сказал: „Приедем", и слезы про-
должают струиться из сурмленных, покрасневших глаз"
(АН 144, 1—2); "Сезон, про который он говорил, прошел..,
(HT 364,1)J м0н не приехал, а ведь расцвел муллей..."
(КТ 221,1). Пребывание дома в ожидании мужа трудно дает-
ся героине, особенно в заключительный период.
Облако, выпив огромное море, наполнилось тьмою,
Заговорило голосом громким сильного ливня,
Начало кар и проникло в меня страданием.
Жалкая я, неутешная, /горю я в огне/,
Как корни громадного дерева, у подножья которого
Ночью пастух разводит огонь (HT 289, 5 — 9).
Или:
Когда коровы, чьи хозяева живут в селеньях средь холмов,
Бредут к своим телятам,
Цветет в лесу жасмин — его исполненные свежести
И безупречно белые цветы
Небес багровых цвет приобретают.
Похоже, что не вынесу я этого, подруга! (КТ 108).
Или:
Что делать, о подруга?
Ведь трудно пережить быстротекущий вечер,
Что к нам приходит, словно /некто/, замышляющий убийство
(АН 364, 12-14).
Отметим, что в принципе описание переживаний разлу-
ченной героини в поэзии муллей не отличается от анало-
гичных описаний в куриньджи. Эмоции героини очень силь-
ны и приводят ее, как видим, даже к мысли о смерти, но
главная опасность разлуки заключается не в состоянии
ее духа, а в плачевном состоянии ее телесной красоты.
Здесь следует сказать о том, что обобщенный портрет
героини поэзии муллей соотносится с уже известным нам
идеалом, ярко символизирующим — в основном посредством
вегетативных образов — сакральную женскую энергию. В со-
ответствии с пониманием разлуки тамильской поэзией жиз-
ненное начало в женщине в этот период увядает, тело ее
худеет, покрывается уже известным нам характерным золо-
тистым "цветом разлуки" (мее похудевшее безупречное тело
напоминает своим горестным цветом раскрывшийся бутон
ароматного венгей" — АН 174,11).
Во всем этом какой-либо специфики темы муллей нет.
Она, однако, обнаружится, если мы выделим в ситуации
разлуки один чрезвычайно важный мотив — мотив обета суп-
руги, исполняющей по отношению к супругу свой долг (пат
vayin purinta kolkai — АН 154,14; КТ 59,7). Следуя ему,
124 Глава III
она ведет в разлуке замкнутый образ жизни, не покидает
пределов жилища (nakar atankiya kolkai - АН 114,13;
HT 338,6), что подчеркивается употреблением эпитетов
manaiyöl, ui\aivi пребывающая /дома/Л как бы ассоциирующих
героиню'с определенным пространством. Она воздерживает-
ся от хозяйственной деятельности (на что намекает выра-
жение "пришедший в упадок дом" — HT 321,6), не ухаживает
за своими волосами: заплетает их в косу, не умащивает
маслом, не украшает.
Когда же до героини доходит весть о возвращении супру-
га, она преображается и с чувством радостного волнения
расплетает косу, очищает волосы, украшает их цветами.
Нельзя забыть, возничий, как она, прекрасная
и простодушная,
Когда вошел я, обняла меня.
Она украсила себя цветами /молодыми/,
Ее измученного тела не касавшимися,
А ранее не прибранные волосы густые
Очистила от грязи и вплела в них мелкие бутоны —
Ведь возвестили о моем приезде
Вернувшиеся быстро молодые воины,
Которым было сказано: "Идите!1' (HT 42).
С возвращением супруга восстанавливается благо телес-
ной красоты героини, "Приехала колесница, — говорит под-
руга, — теперь будет спасена красота ее лба" (HT 181,
12 — 13). "Если ты пожелаешь войти к ней, — обращается
она в другом месте к герою, — исчезнут пятна разлуки на
ее лбу" (АН 354, 13-15) .
Когда приехал властитель страны холмов,
Закончив дело царя, обладателя слонов с высоко поднятыми
бивнями,
Обрели красоту ее плечи, не спадают браслеты,
Заблестели красиво продолговатые глаза (Айн 498).
По возвращении и герой получает желанное благо соеди-
нения с любимой, что, впрочем, как мы уже отмечали, изо-
бражается поэтами лишь в отдельных случаях. Например:
Славься огромное облако, лей теперь дождь,
Греми, как барабан, в который палочками бьют,
И, брызжа, как издревле, прохладными и сладостными каплями,
Сверкай же молниями, рассекай густую тьму.
С душой, исполненной величия законченности дела,
Обрел я сладость, нежно обняв ту,
Чьи мягкие благоухают волосы
Цветком муллей короткостебельным (КТ 270).
Благоуханная пыльца в бутонах обретает красоту,
В стране лесов, в красивых зарослях, цветов вкушая /мед/,
Жужжат взволнованно и опьяненно пчелы.
Ритуально-мифологические истоки 125
/Все/ звери обнимают своих самок простодушных,
Я тоже обнялся с застенчивой /подругой/,
Украшенной блестящими браслетами (Айн 416).
Всматриваясь в ситуацию разлуки, описанную выше, мы
приходим к выводу, что поэты, изображая ее в стихах, за-
печатлели тот тип женского поведения, что особенно харак-
терен для племенных обществ, в которых "беспокойство за
судьбу урожая, выживание детей, беспокойство, связанное
с переходом юных к зрелости, с важными для всей общины
событиями, со сменой сезонов, сложным образом вплетается
в сами социальные отношения" /Глюкман, 1962, с.33/. Ина-
че говоря, эти отношения приобретают характер ритуально-
сти. Рассмотрим под таким углом зрения изображаемый в
стихах период супружеской разлуки.
Мы видели, что героиня вступает в особое состояние,
признаками которого, в частности, являются грязные, не
убранные цветами, не умащенные маслом волосы, утеря ес-
тественного цвета тела. Говоря в общем, такое состояние
можно назвать нечистым, и это не случайно: в ритуальном
контексте нечистота интерпретируется как отступление от
системы, нормы, что, в свою очередь, понимается как опас-
ность /Дуглас, 1966, с.48, '53/. В данном случае речь идет
о той опасности, которая связана с отсутствием контроля
над сакральной энергией женщины, и, следовательно, об
угрозе, нависшей в результате разлуки над благополучием
и жизнеспособностью домашнего очага.
Лишенная контакта с контролирующим, охлаждающим воз-
действием мужского начала, героиня должна сама справить-
ся со своей энергией. С этой целью она начинает вести
себя определенным образом, и ее поведение состоит в воз-
держании от каких-либо действий и терпении, точнее, сми-
рении гнева, что определяется как tuni tir kolkai — букв.
поведение, лишенное гнева, недовольства. Исходя из представле-
ния о сакральной женской энергии, такое поведение, мета-
форически выраженное замкнутостью героини в пределах до-
ма (nakar atankiya karpu - АН 114,13; HT 338,7), должно
означать не"что иное,"как стремление к контролю над энер-
гией, к ее экономии, накоплению. Эта же идея символически
выражается заплетением в косу волос, с которыми — в рас-
пущенном виде — ассоциировалась идея жизненной силы (см.
выше, с.94).
Разумеется, от героини требуется и сексуальная чисто-
та, целомудрие. Хотя это в поэтических описаниях состоя-
ния героини специально не отмечено, такое требование пол-
ностью соответствует сути обряда ожидания мужа и под-
тверждается параллелями из других культур, показывающи-
ми, что первоначальное обоснование запрета на сексуаль-
ную активность жены в разлуке было, видимо, обусловлено
не моральными категориями, а жизненной прагматикой1*0.
Если учесть, что переживание трудностей, страдания
разлуки рождают в героине жар1*1, с которым связано пред-
126 Глава III
ставление об энергетическом начале, то становится понят-
ным, что смысл ее поведения состоит не только в сдержи-
вании, но и в накоплении энергии. Прибегая к общеиндий-
скому понятию, то, что делает героиня, можно назвать на-
коплением тапаса, подвигом аскезы1*2.
Поведение героини, составляющее ситуативный элемент
темы муллей, ассоциируется в тамильской культуре с поня-
тием женской супружеской добродетели, именуемой karpu.
Это слово, буквально переводимое как обученнссть"( от
корня kal . учиться, изучать, практиковаться — ДЭС 1090) , ив
поэзии иногда используется для обозначения обученности
какому-нибудь делу (например, военному — АН 106,11;
396,5). Применительно к женщине оно, таким образом, дол-
жно пониматься в общем как знание ею своих обязанностей,
в первую очередь супружеских (во время свадебной церемо-
нии, описанной в АН, четыре женщины, уже рожавшие детей,
осыпают невесту цветами и зернами риса и призывают ее не
отступать от карбу — АН 86, 11—13). Если иметь в виду
характер обязанностей женщины в период разлуки, мы можем
еще более; уточнить смысл этого слова и рассматривать его
как термин, обозначающий умение женщины распоряжаться
своей сакральной энергией (имеющей, напомним, сексуаль-
ную природу), придерживаться системы обеспечивающих бла-
го установлений. Одновременно этот термин обозначает и
сами эти установления (ср. elutä karpu неписаная карбу -
КТ 156,5), и состояние женщины, когда ее энергия находит-
ся под контролем. Отсюда понятно, почему с карбу связаны
благо, процветание, плодородие1*3 и почему ее так и назы-
вают "связанной с благом11 (HT 330,10), "связанной с бо-
гом1*" (АН 184,1; 314,10; КТ 252,4), "связанной с анан-
гу" (АН 73,5). Понятно, наконец, и то, почему традицион-
ным символом карбу являются цветы жасмина муллей (mullai
cänra karpu - HT 142,10; АН 274,13): обладая безупречно
белым цветом, муллей является воплощением совершенной чи-
стоты (которая с ритуальной точки зрения есть следование
системе, правилам), а пышно расцветая с приходом сезона
дождей, он олицетворяет собой энергию жизни и плодородия,
возрождение производительных сил природы.
Чрезвычайно важна выявляемая здесь символика белого
цвета, у многих народов мира рзначающего благо, процве-
тание, добрые намерения, чистоту (см., например, /Тэрнер,
1983, с.56/), И на юге Индии он означает благоденствие,
прекращение нежелательного состояния и — в ритуальном
контексте — охлаждение, контроль над сакральной энергией
/Бек, 1969, с.556-557/1*5.
Кроме муллей символизм белого цвета в связи с герои-
ней красноречиво выр'ажает характерная деталь ее портре-
та — лоб. Мы уже отмечали (см. с.95), что его определе-
ния чаще всего передают идею сияния, блеска, причем не-
пременно белого (через сравнение с молодым месяцем —
Айн 443, 2-3).
Ритуально-мифологические истоки 127
Насколько большое значение придается этой детали при
описании героини, свидетельствуют эпитеты nal, связанный
с nal am {благо красоты героини), и tiru удача3 красотаЛ бо-
жественностЬу святость^ не применяющийся, по нашим наблюде-
ниям, ни к какой другой части ее тела (titunutal -
АН 354,14). Это позволяет заключить, что лоб играет роль
своеобразной эмблемы женской добродетели, знака„ее карбу
(ср. karpin väl nutal сияющий лоб добродетели — АН 9,24). Сле-
дует подчеркнуть, что, хотя карбу обыкновенно понимает-
ся именно как супружеская добродетель и сам термин тра-
диционно обозначает состояние супружества, допустимо при-
ложение его и к женщине, не вступившей в брак. Ведь, по
существу, он обозначает благотворную полноту сакральной
энергии. Такая трактовка подтверждается употреблением
этого термина в связи с героиней поэзии куриньджи: änra
karpil cänra.;. arivai девушках удостоенная полнота карбу
(АН 198, Ï2 —13). Кроме того, и это даже более показа-
тельно, сверкающий лоб, символ карбу, — такая же принад-
лежность девушки, как и замужней женщины. Не случайно
ведь существовали обряды, посвященные первому цветению
муллей, подобные обрядам, сопровождавшим вступление де-
вушки в возраст половой зрелости /Натараджа, 1968, с.315/.
Цветы жасмина и сейчас используются в Южной Индии в та-
ких обрядах, например у наяров /Терстон, 1909, т.5,
с.337/.
Предложенное здесь понимание карбу связывает этот тер-
мин с достаточно архаичным прагматическим взглядом на
женщину как на источник жизненных благ, который в поэзии
заслоняется идеальными представлениями о супружеском це-
ломудрии, навеянными североиндийской мифологией, в част-
ности образом Арундхати, символом женской чистоты, став-
шим общеиндийским1*6. Отсюда — нередкое в древнетамильской
поэзии сравнение героини с Арундхати: "подобная Арундхати,
обладающая карбу мать сына" (Айн 442,4), "благоухающий
лоб карбу, напоминающий маленькую звезду" (ППан 301)Ц7.
Возвращаясь к состоянию и поведению героини во время
разлуки, констатируем тот факт, что они, безусловно, ри-
туальны, поскольку исполнены определенного символическо-
го смысла и преследуют определенную цель. Анализ ситуации
разлуки приводит к выводу, что перед нами один из уже
упоминавшихся ритуалов перехода (см. с.71). В самом деле,
расставание героев означает отход от состояния нормы,
утерю "статуса". Следующая фаза представлена состоянием
героини, которое носит очевидный амбивалентный характер:
с одной стороны, оно нечистое, с другой —напротив, выс-
шее выражение чистоты, karpu (героиня исполняет обет и
следует тому, что ей предписано); она внешне пассивна,
но в то же время накапливает в себе энергию; ее состоя-
ние опасно и приводит ее на край гибели, но оно же явля-
ется залогом благополучия и жизнеспособности семьи. Го-
воря в общем, состояние героини можно охарактеризовать
128 Глава III
как двуединство жизни и смерти (в принципе соответствую-
щее амбивалентному характеру женской сакральной энергии),
что имеет глубокий смысл в ритуалах перехода: прохожде-
нием серединной фазы, преодолением ритуальной нечистоты
символизируется преодоление смерти, возрождение.
Третья фаза представлена в поэзии муллей мотивом вос-
становления и обновления красоты героини. Готовясь к
встрече с мужем, она распускает волосы, очищает их, ук-
рашает цветами. Радостное предчувствие обновления напол^
няет ее сердце (viruntayartal - HT 82,8; 121,11; 361,9;
374,8), и в момент встречи она действительно "получает
обновление" (viruntu perutal - АН 324,1; Айн 442,2), об-
ретает "новую красоту" (viruntu er - АН 384,14), "новые"
волосы (viruntu katuppu — АН 314,20). Следует при этом
подчеркнуть, что здесь речь идет именно о возрождении
красоты, возврате к прежнему состоянию: "Я обрету благо
ее былой (toi) красоты" (АН 164,10); "ее сурмленные гла-
за, выцветшие и ставшие похожими в разлуке на цветок
кондрей, обрели былую красоту лилии из горного озера"
(Айн 500, 1—3). Весьма существенно, что это былое, ста-
рое предстает обновленным, очищенным.
Заключительным событием ритуала разлуки является еда,
трапеза. Этот мотив, впрочем, в поэзии почти не разрабо-
тан и восстанавливается лишь на основании немногочислен-
ных свидетельств, таких, например, как следующий фраг-
мент:
Уже закислился плод каля, плоды созрели вилаву,
Уже смешались простокваша бурая из молока овец мелкоголовых
Со сладко-кислым красным рисом в кислоте от кошенили
давленой,
В чьих норах земляных дождем увлажнены отверстия
входные и обрушены,
И проса зернами, что на возвышенных местах произрастает.
Когда она польет все это теплым маслом, /из молока/
коровы рыжей сделанным,
Есть будут молодые воины сначала, а следом — ты (АН 394, 1—7).
Не случайна, по-видимому, последняя деталь в этом
описании. Она подразумевает, во-первых, общий характер
трапезы, во-вторых, определенный ее порядок (что само
по себе может свидетельствовать о ритуальности). Но са-
мое главное то, что в это время еды происходит оконча-
тельное очищение героев, восстановление их семейного
статуса, обновление семейных связей. Таким образом, тра-
пеза как бы аккумулирует в себе смысл всего ритуала, ме-
тафорически выражает основную его идею, что совершенно
понятно, поскольку для мифологического мышления еда есть
символическое преодоление смерти, источник возрождения
и жизни48.
Обращает на себя внимание еще одна подробность встре-
чи героев, данная в этом же стихотворении в другом месте
Ритуально-мифологические истоки 129
(АН 394,11): "Ты приходишь, чтобы прикоснуться к молоч-
ной пище". Здесь молоко упоминается с определенным зна-
чением — как символ дома, семьи и, более широко, "сво-
ей" культурной зоны, противопоставленной "чужой". Прикос-
новение к молоку как к наиболее чистому во всех отноше-
ниях продукту (это стойкое представление не только та-
мильской, но индийской культуры в целом) должно служить
для героя своеобразным очищением после того, как он был
"загрязнен" пребыванием на чужбине (чужое, как известно,
всегда нечистое).
Последним обстоятельством объясняется тот факт, что
супруги при встрече оказываются в некотором роде отчуж-
денными друг от друга: героиня называет супруга êtilâlar
посторонний^ не имеющий отношения (например, КТ 191,5) и вме-
сте с тем сама обеспокоена, "не уйдет ли он, взглянув на
золотое тело, потерявшее благо красоты, и подумав: „Это —
посторонняя"" (êtilâtti - HT 56, 8-10).
Несмотря на внешнюю разобщенность героев, их тесная
внутренняя связь не прекращается: они думают друг о дру-
ге, обмениваются вестями. Так, страдающая в одиночестве
героиня постоянно обращается мыслями к супругу. Ее бе-
спокоит, приедет ли он к назначенному сроку, знает ли,
как она страдает, думает ли о ней: "Она, пребывающая в
горе, с глазами, из которых струятся слезы, мучается
/вопросом/: „Где же он?"" (АН 164, 8^-9); "Неужто ему
так сладко там? Приедет ли он или не приедет?" (АН 244,
7-8); "Разве не исчезнет ее беспокойство: „Приедем ли
мы?"" (HT 169, 2-3); "В такой вечер он не думает обо
мне, как же нам быть, о панан?" (АН 14, 12 — 13); "Он не
думает о локонах с гирляндами, в них вплетенными, что
утеряли свою красоту" (АН 144,5); "Он не думает о моих
бамбуковых плечах" (КТ 279,8); "Думает ли он о нас, о
подруга?" (Айн 456,1) и т.д.
И герой, как бы отвечая на тревожные мысли супруги,
тоже все время думает и беспокоится о ней: "Она, пре-
краснолобая, проводит одиноко в своем селении росные но-
чи" (АН 24, 9 — 10); "тоскует она, пребывающая в отчаянии
дома" (АН 64,17); "оглядывая пришедший в запустение дом,
разве не страдает она, изысканно украшенная?" (HT 321,
6-7); "„В такой вечер он не думает о нас", - сердится
она и тоскует. Гони, возница, чтобы прекратить такие ее
думы!" (АН 114, 6—8); "Каково ей, обладающей густыми во*
лосами, одинокой, думающей о нас дождливым вечером:
„Ведь там же наши"" (АН 214, 8-10); "Я приехал, думая
о тебе..." (Айн 492,4); "Мы приедем, думая об изысканном
богатстве красоты женщины с чистым лбом" (Айн 420, 4 — 5)
и т.д.
Страдания же героя занимают в стихах небольшое место.
Упоминаются "неприятности лагерной жизни" (päcarai varut-
tam — АН 124,8) или вообще "сильная боль /разлуки/"
(АН 304,20; Айн 491,2), но, по существу, герой страдает
9 60
130 Глава III
лишь потому, что страдает его супруга. Ее бедственное по-
ложение (наряду с радостным предвкушением встречи) явля-
ется единственным содержанием его дум и переживаний.
Итак, думы разлученных героев друг о друге — постоян-
ный и характерный мотив их взаимоотношений, причем содер-
жание дум подчеркивает одну важную особенность ситуации
в целом: герой играет в ней явно подчиненную роль. Его
внутренний мир полностью "задается" образом героини, и
даже его этика определяется лишь как некая функция от
этого образа. Если супруг не приезжает в обещанное время,
если он, как считает героиня, не думает о ней, то она от-
казывает ему в качествах милости и добродетели (aranilä-
lar — АН 194,13; 304,19). В таком соотношении статусов
героев в ситуации любовной поэзии, безусловно, отражает-
ся центральная роль женщины в древнетамильских мифологи-
ческих представлениях.
Разбирая ситуацию куриньджи, мы говорили о том, что
соединение героев действует на них благотворно, взаимо-
охлаждающе. В разлуке же реальное соединение заменяется
мысленным, можно сказать, магическим контактом, вполне,
судя по приведенному ранее примеру, действенным (в пус-
тынных местах "красота ее, полной достоинств", дает ге-
рою прохладу — Айн 327) , что позволяет рассматривать его
в качестве своеобразного ритуального аналога реальному
соединению.
Ритуальный характер этого мысленного контакта, по-ви-
димому, совершенно изгладился в поэзии, но его все же
можно почувствовать, если выяснить, как понимался древ-
ними тамилами сам процесс думания, вспоминания. В связи
с этим уместно проанализировать, хотя бы в основных чер-
тах, отраженное в поэзии представление о внутреннем мире
человека.
Для его обозначения употребляются слова ullam, akam
нечто внутреннее^ пейси душ3 сердце. Между ними) вероятно,
есть некоторое различие, но оно для нас сейчас несущест-
венно. Главное то, что с ними связывается эмоциональное
и интеллектуальное человеческое начало (но не жизненный
принцип, который обозначается словом uyir дыхание^ ошзнь).
Это начало мы называем "душой", "сердцем", имея, однако,
в виду, что понимается оно в поэзии сугубо телесно. Мож-
но говорить о некоем "внутреннем теле", представляющем
прежде всего сферу человеческих эмоций, испытывающем
разнообразные состояния и переживания: оно радуется
(nencam ëmuia - АН 34,9; иЦаш uvappa - Айн 487,2),
страдает (uyavum ullam — Айн 491,2), смущается (mälum en
nencê - ТК 1081),"болит (nom en nencë - KT 4,1), оно бы-
вает величавым (cemmal иЦат - КТ 270,5; 275,5), грустным
(paiyuj. пейси - Айн 489,3), одиноким (evva HT 97,2), пол-
ным желания (kämar nencam - HT 249,9) и т.д. Кроме того,
сердце предстает в стихах как начало разумное, самостоя-
тельное. Именно в этом, кстати, лежит исток поэтической
Ритуально-мифологические истоки 131
традиции обращения героев к сердцу: они советуются и бе-
седуют с ним, слушаются его.
Чтобы хвалы достойная любимая заплакала
Ты привело нас, сердце, в укрепленный лагерь.
Теперь же, думая о времени,
Когда коровы возвращаются домой в объятия быка благого,
Трепещешь ты и нас зовешь IromoVl/ вернуться (Айн 445) .
Такого рода материальное, чувственное понимание внут-
реннего мира подразумевает, что и процесс думания, вспо-
минания понимается очень конкретное и вещно. В самом де-
ле, глагол ullütal думать происходит из того же корня ul-
нечто внутреннее, что и ullam душл и буквально означает
помещать вовнутрь (интересный пример в HT 59, 7 — 8: nencat>
tu ullinäl (т.е. вспоминает в сердце). Поэтому предмет, о
которбм'думают, мыслится как реально присутствующий в
душе1*9. Этот момент, кстати, подмечен в сутре Тол 201:
"Когда одинокая расспрашивает /о герое/ свое сердце, то,
говорят, это равносильно приближению /к самому герою/11.
Становится понятным, что мысленная связь между раз-
лученными супругами означает для них действительное при-
сутствие одного в душе другого. "Я насмотрелся на нее.
Теперь ты, о сердце, будешь смотреть", — говорит герой
перед уходом (HT 384, 8—9), имея в виду, что любимая
будет пребывать в его сердце. "Живу ли я в его сердце?
Ведь он постоянно — в моем" (ТК 1204 ) **эа. Но думы друг
о друге — не единственный способ общения героев. Они
также обмениваются вестями, прибегая к помощи посредни-
ков, в роли которых в ситуации муллеи чаще всего высту-
пают певцы-панары. ",>Тяжело ее горе"'— об этом сообщил
пришедший к нам вестником панан" (АН 244, 10 — 11); "Ска-
жи нам, о панан, что говорила любимая, ослабевшая от
страданий" (Айн 478, 3—4); "О панан, если не приедет
он в такое время, то как же нам быть? Скажи хоть слово!"
(АН 314, 13-14).
Героине-очень важно получить известие о возвращении
супруга. Она с нетерпением ждет этого известия, горюет,
если его долго нет.
Ты видел сам, о /панан/, или слышал тех, кто видел?
Одно хочу я уяснить: ну от кого ты слышал
О том, что наш любимый возвратился;
/Скажи/ — и золотом богатую Паталипутру
/В награду/ ты получишь (КТ 75).
И время /возвращения/ пришло, но не приходит весть
О том, что этим вечером его приедет колесница —
Того, кто, трудный путь проделав,
О щедром угощеньи думает теперь с волненьем (КТ 155, 5 — 7).
Чтобы узнать более точно, когда возвратится супруг,
героиня прибегает иногда к помощи "знающих людей" (ari-
9-2 60
132 Глава III
var): "Скажи, когда настанет время северного ветра и
последних грозовых дождей? Ведь в это время и приедет
мой любимый" (КТ 277, 6-8).
Кроме получения вестей в собственном смысле слова ге-
роиня, чтобы предугадать возвращение мужа, пользуется
различного рода предметами и знаками, представляющими
собой целую область поверий, широко распространенных в
Южной Индии с незапямятных времен. Среди них наиболее
известны щелканье ящерицы и крик птиц /Субраманья Пил-
лей, с.38-40, 50-53; Терстон, 1912, с.48/. Щелканье
ящерицы (palli patutal) считается хорошим знаком и пред-
вещает скорую встречу. Предсказывают приход гостя и кри-
ки птиц, в особенности карканье ворон. Чтобы получить
предсказание, героиня предлагает птицам специальную жерт-
ву (pâli, санскр. bali): "О подруга! Даже если в семь
сосудов наложить теплой рисовой каши... мала будет жерт-
ва воронам, возвещающим приход гостя*1 (КТ 210, 3 — 6).
Герой, в свою очередь, восклицает по дороге домой: "Раз-
ве не возвестили птицы мой приход сюда?" (HT 161,9). Ге-
роиня, держа в руках попугая, вопрошает: "Не скажешь ли
о тех, кто ушел, — сегодня приедут ли?" (АН 34,15).
В роли своеобразных вестников выступают и явления при-
роды. Всдь по сюжету ситуации разлуки герой должен вер-
нуться к определенному сроку, в подавляющем большинстве
случаев — к сезону дождей (кар). "Это — кар, о подруга,
это — время, про которое он сказал: „Приедем"" (АН 194,
16...19); "Он не приехал, а ведь расцвел муллей..."
(КТ 221,1). Вне зависимости от того, успевает герой вер-
нуться домой или нет, мотивы его предполагаемого возвра-
щения и прихода сезона дождей тесно переплетены и вза-
имообусловлены. Ощущение этой связи настолько живо, что
наступление дождей осмысляется как знак скорого приезда
героя, как его весть о себе.
С другой стороны, в фольклоре многих народов хорошо
известен мотив гонцов, вестников того или иного времени
года. Ими могут быть растения, животные или какие-либо
другие природные объекты. "Лес говорит: „Это — кар""
(КТ 21); "цветы кандаль и кондрей расцвели с душою, пол-
ной радостного волнения: „Это — кар"" (КТ 99); "бутоны
муллей как бы говорят: „Это — кар", сезон, про который
он сказал:„Приедем"" (КТ 358,4...7).
Взаимообусловленность мотивов "вести о приезде героя"
и "вестника сезона дождей" подготавливает чрезвычайно
важную для поэзии возможность слияния обоих мотивов,
т.е. понимания вестников времени года как вестников ге-
роя. В сборнике "Восемь антологий" этого слияния как
будто не происходит, зато в более поздней (VI—VII вв.)
антологии kärnärpatu ("Сорок стихов о сезоне дождей")
мотив "природа-вестник" находит прямое формальное выра-
жение. Параллелизм уступает место субституции, и любой
Ритуально-мифологические истоки 133
природный вестник сезона дождей становится вестником ге-
роя .
Мягчеют жестокого солнца лучи, и лес, богатство кара
обретая,
.Рождает в изобилии бутоны. Теперь приедет наш супруг.
/Гирляндами/ ветвей изогнутых украшенный, — так его вестник
говорит, —
Прекрасное, блистающее молниями облако (Кар 2).
Расцвел повсюду кандаль /ярко-красный/,
Подобно огонькам, которые сельчане зажигают
На праздник в первый день благого Карттикей*,
И дождь приходит со словами вести (Кар 26).
Момент получения вести, несомненно, означал для герои-
ни конец периода ожидания. Об этом свидетельствует, на-
пример, отрывок из "Повести о браслете11, в котором супру-
га царя Сенгуттувана ожидает его возвращения из военного
похода: "...царица страдала в разлуке, и служанки, пыта-
ясь утешить ее, пели песни и желали ей многих лет жизни.
Они уже знали, что повелитель, одержав победу, возвраща-
ется на своей ладной колеснице. К царице пришли горбунья
и карлица : „Да обретешь ты свою красоту! Вернулся великий
властелин! Да украсятся твои волосы в этот знаменательный
день!"" (СП XXVII, 215-216).
Из этого отрывка следует, что само получение известия
о возвращении супруга устанавливало определенную границу:
завершалась серединная фаза ритуала и наступала заключи-
тельная, связанная с возрождением, очищением. Особенно
знаменательно то, что самой вести придается очиститель-
ная, возрождающая сила.
Весть в тамильских текстах обозначается двояко: tatu
и urai. Первое слово — очевидное заимствование из сан-
скрита (düta), второе имеет значения: речь, разговор; ком-
ментарий, разъяснение. Последним подчеркивается интересую-
щий нас здесь момент: специфика употребления слова urai,
которое регулярно встречается в стихах в данной ситуа-
ции. Как существительное оно в этом контексте означает
слово-весть ("не пришло слово о том, что едет его колес-
ница" — КТ 155,7), а как глагол употребляется в смысле
говорить, сообщать что-либо; "„Он приехал", — говорят (ura-
ittu) облака" (HT 394, 6-7); "Не скажешь ли (uraimô) ,
/попугай/, сегодня он пр>иедет?" (АН 34,15; HT 139,3;
Кар 2,4); ср.: "В исступлении речет (uraikkum) велан"
(HT 273,5).
Еще более показательно употребление в этой ситуации
глагола teli (от корня tel — ДЭС 2825) со значением про-
светлять (ся)1 прояснять(ся) ; '"'Одно хочу выяснить (teliya) ,—
* Месяц, соответствующий ноябрю — декабрю.
9-3 60
134 Глава III
говорит героиня вестнику, — от кого ты слышал о приезде
любимого" (КТ 75,2); "я сказала тебе (разъяснила — te-
linticin), что он приедет в день, о котором мы думаем",-
говорит'подруга героине (Айн 446, 3 — 5). Красноречива в
этом отношении и строка АН 214,9: "волосы, ставшие чи-
стыми /оттого, что она/ узнала о нашем /приезде/", букв,
"волосы, очищенные знанием о нас" (nammarivu telinta . . .
öti). Такое понимание вести (вообще речиТ весьма харак-
терно для мифологического мышления. "Говорить — значит
светить", - замечает О.М.Фрейденберг /1936, с.135/50.
Представление об очистительном, охлаждающем характере
вести делает ее исключительно важным структурным элемен-
том ритуала разлуки, что, имея в виду наличие подобного
мотива в фольклоре (вытекающего из анимистических пред-
ставлений об объектах природы как вестниках времен года),
обуславливает особый интерес к нему в поэзии в связи с
возникновением жанровой формы поэмы-послания (см. /Дубян-
ский, 1979а/).
Итак, в тамильской любовной поэзии разлука героев по-
нимается и описывается как определенный ритуал — домаш-
ний ритуал разлуки. Можно считать, что именно его имеет
в виду термин iruttal (букв, пребывание), обозначающий
ситуативный элемент (uripporul) темы муллей. Конечно, в
поэзии данный ритуал приобретает свое, поэтическое зна-
чение, разрабатывается как комплекс определенных поэтиче-
ских мотивов, но основные структурны^ его черты выявляют-
ся с достаточной очевидностью. Однако с точки зрения поэ-
тического канона тема муллей должна быть сосредоточена
лишь на заключительной его фазе, связанной с возрождени-
ем телесной красоты героини или с ожиданием этого возрожде
ния в самом начале сезона дождей. Вместе с тем в поэзию
муллей вклиниваются фрагменты, описывающие и предшествую-
щий сезон жары, и соответствующий ему район палей, напри-
мер:
Смотри, пришло время, когда обещали вернуться они,
Ушедшие через бесплодную, знойную и страшную землю,
Где сверкающий жар облекает, словно покрывалом,
Пустынную и совершенно безводную дорогу (HT 99, 1—4).
Такого рода небольшие пейзажи встречаются иногда в
стихах на тему, муллей, но чаще пустынная зона, куда сле-
дует герой, дана лишь названием — kâÇu, curam, attam (и
герой соответственно обозначается как "пересекший пус-
тынные земли"). Преобладают же описания ландшафта, кото-
рому традиция дает имя - "муллей". Его географический
облик вырисовывается в поэзии довольно отчетливо — не-
высокие холмы, покрытые лесами и рощами, галечные и пес-
чаные пустоши с ручьями, пастбища и небольшие поля воз-
делываемой земли (засеянные просом или чумизой). Насе-
ление, как уже говорилось, пастухи, реже упоминаются зем-
ледельцы (см. /Дубянский, 1979, с.192/).
Ритуааъно-мифологичес'кие истоки 135
Ландшафт района муллей почти всегда связан с началом
сезона муссонных дождей (кар), со следующими за ним се-
зонами: холодным (kütir) и сезоном ранней росы (munpani).
Особенно значим, конечно, приход муссона: небо заволаки-
вается тучами, идущими из-за гор, гремит гром, сверкают
молнии, и, наконец, начинает лить дождь. Природа ожива-
ет, покрываются зеленью леса, распускаются цветы, напол-
няя воздух своим ароматом. "Изгибается над горами краси-
вый лук /радуги/, внушающий страх, гремят, как барабаны,
тучи, и, вычерпав море, проливаясь сильным дождем, взды-
маются они, забирая вправо и скрывая стороны света"
(АН 84, 1—4). "Не обмануло небо, и лес стал красивым,
и черная, беременная /влагой/ туча разверзлась, родив
сезон дождей. По краснозему страны муллей, похожей на
творение умелого /художника/, там, где опадают прекрас-
ные цветы жасмина, /смешиваясь/ с красивыми цветами кайа,
похожими на сапфир, поползли стайки кошенили" (АН 134,
1—4). "Радостно зашумело многочисленное полосатое пче-
линое племя, как только с обильным дождем /вновь/ обре-
ли красоту леса на просторной земле, /прежде/ покрытой
трещинами, лишенной воды и свежести, которую отобрало
солнце своими лучами" (АН 164, 1—5). "Распускаются влаж-
ные бутоны цветов безлистного пидавам, цветут кусты жас-
мина с растущими вверх стеблями, цветет кондрей, подоб-
ный золоту, теснятся короткие ветви кайа, многочисленные
цветы которого подобны сапфирам" (HT 242, 1—4).
Стихи ярко передают атмосферу любви и чувственного
наслаждения: "Бык, предводитель стада, топчущего землю,
разрушая влажные входы змеиных нор, обнимает в жажде со-
единения молодую простодушную корову" (АН 64, 11—12);
"Антилопа-самец пьет чистую воду и наслаждается со сво-
ей полной желания подругой" (АН 134, 8—9); "Птицы и
звери соединяются и наслаждаются повсюду. Набухают буто-
ны на стеблях и ветках" (Айн 414, 1—2).
Характерно постоянное употребление слова initu сладость
в качестве эпитета к самым разным явлениям окружающего
мира: "облако, /полное/ сладких вод" (АН 54, 2); "слад-
кий голос колокольчиков" (КТ 364, 8); "сладкие крики па-
харей" (АН 314,4); "сладкие крики птиц" (КТ 191,4);
"сладкий голос дождя" (АН 374,9); "сладкое молоко"
(АН 14,10).
Картины прихода сезона дождей полны ярких красок, дви-
жения, звуков. Вместе с тем красота природы неотделима
от представления о ее изобилии, щедрости и богатстве.
Потому в стихотворениях нередко встречаются сравнения с
золотом и драгоценными камнями, чем создается обобщенный
образ природы-сокровищницы: "Распускающиеся бутоны конд-
рей напоминают драгоценные камни в золотых браслетах,
/подобных/ по форме раскрытому /рту лягушки/, украшающих
ножки ребенка /в семье/ богача" (КТ 148, 1—3); "Это —
та страна, что, встречая сезон дождей, подобна открытой
9-4 60
136 Глава III
шкатулке богача, где хранятся золотые украшения, когда
сверкающие, /как золото/, бутоны кондрей, /опадая/, на-
полняют маленькие ямки11 (КТ 233, 1—4); "...по влажной
земле ползет многочисленными рядами кошениль, среди опав-
ших красивых цветов кайа /эти насекомые/ выглядят так,
словно на песке кораллы смешались с сапфирами" (АН 304,
12-15) и т.д.
Чрезвычайно существенно, что красота природы в период
дождей предстает обновленной, очищенной: МО страна лесов!
Ты вновь обрела прекрасное богатство красоты, когда за-
цвели тондри, медоносный кайа, подобный сапфиру, и подоб-
ный золоту кондрейм (Айн 4 20); "...страна лесов, где пре-
кратилась жара, приобрела новое благо красоты, приятной
глазу" (АН 224, 10 — 11). Землю омывают потоки чистой во-
ды (АН 304,7; 184,11); дождь, звучащий "чистыми звуками"
(АН 214,14), очищает мир от нечистоты (HT 364,12).
Весьма красноречива создаваемая в стихах звуковая кар-
тина: "Звуки ясных, лишенных изъяна колокольчиков на ше-
ях коров... сливаются со звуками свирелей пастухов с изо-
гнутыми посохами" (КТ 69, 7 — 8); слышны звуки рогов, в
которые дуют охранники пашен (АН 94, 10; Айн 421,1), кри-
ки пахарей (АН 314,4; КТ 155, 1—2), шум празднеств
(АН 4,14), свист стерегущего овец пастуха (КТ 142,6).
Вместе со звуками сезона дождей (шум дождя, гром, крики
павлинов, лягушек, жужжание пчел) все это создает как
бы шумовое окружение одинокой героини, заставляющее
вспомнить архаические представления об очистительных,
охранительных свойствах шума, о его роли стимулятора
жизненной энергии, плодородия, удачи /Мандельбаум, 1939,
с, 123; Криге, 1968, с. 127/.
Идея плодородия передается и постоянным упоминанием
дождевых туч, "беременных влагой" (АН 134,2; HT 99,6;
КТ 287,5), и воспроизводимой в стихах на тему муллей об-
щей атмосферы кромешной, насыщенной чувственностью и ощу-
щением обновления жизни тьмы, которую естественно понять
как метафору пребывания в рождающем материнском чреве, -
откуда, возможно, и происходит каноническая деталь темы-
вечернее время суток ("сезон дождей и вечер соответству-
ют теме муллей" — Тол 6).
Возрождение природных сил плодородия — самое главное
в характеристике сезона дождей, и все другие связанные с
ним представления — о возвращении красоты природы, ее
очищении, обновлении — так или иначе выражают именно эту
идею. Напротив того, идею угасания, гибели этих сил ярко
выражает пейзаж, соответствующий сезону летней жары. По-
скольку он предшествует сезону дождей, контраст двух пей-
зажей исключительно нагляден и многозначителен. Чтобы
обрисовать его, нужно обратиться к материалу темы-тиней
палей, элемент природного окружения которой — ландшафт
палей - в основных- чертах уже рассматривался нами в гла-
Ритуально-мифологические истоки i37
вах I и II. Сейчас можно добавить к его характеристике
несколько выразительных деталей.
Природа в этом районе предстает в состоянии не толь-
ко сухости, но и нечистоты. Интересны такие подробности:
иколодец с соленой водой" (АН 79,3); "слон, поедающий
плесень, так как в источниках не осталось воды" (АН 91,
4 — 5); "гнилая вода" (КТ 56,2) и т.д. Часто упоминаются
в стихах мертвечина, дурной запах гниющей плоти.
Многозначительно описание звуков района палей: шумит
сухой ветер (АН 47, 4 — 5; КТ 39,1); трещат суставы бам-
бука (АН 47, 9 — 13; 91, 7); стучат созревшими семенами
падающие соплодия мимозы (АН 45, 1—2); стволы бамбука
стучат, ударяясь один о другой (HT 61,1); щелчки созрев-
ших плодов молочая гонят чету голубей (КТ 174, 2—3);
шелест сухой листвы пугает и гонит птиц (Айн 325,1);
тоскливо кричит, завидя охотничью сеть, птица канандуль
(чибис) (HT 212, 1—2); слышны внушающие тревогу путни-
кам крики коршуна и зловещее, пронзительное уханье совы
(АН 19, 2-5) и т.п.
Совершенно очевидна особая окрашенность этой картины:
преобладают в ней, во-первых, сухие, короткие звуки —
щелканье, треск, стук, а во-вторых, звуки пугающие, пред-
вещающие опасность или выражающие чувства страха и стра-
дания. Мрачный колорит усугубляется частым упоминанием
барабанного боя диких охотников (АН 79,14; 87,8).
Таким образом, создаваемая в поэзии палей и муллей
общая картина фрагмента сезонного цикла "жаркое лето —
сезон дождей" оказывается чрезвычайно семантически насы-
щенной, причем можно полагать, что противопоставление
этих двух сезонов есть частный случай или скорее самое
яркое, предельное проявление более общего внутригодового
противопоставления одной половины года — другой, о чем
говорилось в главе*, посвященной древнетамильской мифоло-
гии. Поэтому основные качества, присущие данным сезонам
(такие, как жара — прохлада, сухость — влажность, свет —
тьма), можно распространить на соответствующие полуго-
дия , и тогда получает объяснение факт выхода поэзии за
узкие временные рамки, когда теме палей соответствуют
помимо лета весна, а муллей — кроме сезона дождей — сле-
дующие за ним прохладный и росный.
Указание на ассоциируемые с сезонами идеи подводит
нас, далее, к вопросу о соотношении природного и ситуа*
тивного элементов двух тем и позволяет сделать следую-
щий вывод: содержание показанной в стихах природной мета-»
морфозы, по существу, тождественно содержанию ритуальной
ситуации разлуки. Речь идет, собственно говоря, об одном
и том же, но находящем двоякое выражение начале — об энер-
гии жизни и связанном с ней плодородии (характерно, между
прочим, применение слова nalam благо красоты не только к
женщине, но и к природе, например: "Леса утеряли благо
красоты" - HT 256,4).
138 Глава III
Во время летней жары жизненное начало гибнет в приро-
де, равно как гибнет в разлуке телесная красота женщины,
причем и в том и в другом случае можно говорить о процес-
се "накаливания", накапливания энергии в виде жара, о
подготовке к качественному изменению. Дожди возрождают
жизненные силы природы, приносят ей обновление, очищение,
охлаждают ее, подобно тому как встреча с супругом возвра-
щает героине ее красоту, обновленную и очищенную.
На основе такого рода, по существу, мифологических
представлений строится мифопоэтический параллелизм ситу-
ации разлуки и природы. Естественным, например, оказыва-
ется уподобление земли и растительности героине, а сезо-
на дождей — герою:
Жаждет сезона дождей муллей,
Чьи прямые бутоны, подобные нежной луне,
Как бы оберегает обнявший его зеленые ветви
Красный жасмин. Жаждет приезда его колесницы
Моя манговая темная красота (айн 454).
Такой параллелизм играет громадную роль в поэзии о раз-
луке, ибо подразумевает одновременность прихода сезона
дождей и возвращения героя. Интересны возникающие здесь
этические мотивы, связанные не только с героем, но и с
природой, которой на основе древней веры в закономерность
ее процессов приписываются такие человеческие качества,
как надежность, правдивость, верность традициям. Реминис-
ценции таких представлений сохранились в поэзии в ряде
формул, например: "Необманывающая туча" (HT 321,5); "не-
бо исполняет /обещание/" (АН 134,1); "старый дождь" (т.е.
бывалый, надежный) (КТ 230,1).
В ситуации разлуки ни сезон дождей, ни герой не должны
обмануть возлагающихся на них ожиданий. Однако поэтиче-
ская коллизия часто строится на разрушении такого паралле-
лизма — сезон приходит, а героя все нет. Это является при-
чиной душевных терзаний героини, ее сомнений в преданности
и благородстве героя (если он вовремя не возвращается, она
называет его "лишенным добродетели" — АН 294,13, "неблаго-
родным" — КТ 102,4). Бывает и наоборот: поэты изображают
героиню настолько уверенной в своем возлюбленном, что им
приходится вкладывать в ее уста слова сомнения в истинно-
сти уже природных процессов.
И если лес, в котором снова появляются цветы кондрей,
Чьи гроздья, привлекающие пчел,
На золотые украшения в девичьих локонах похожи,
Провозглашает: "Это — кар", ему не верю я —
Любимый мой ведь не привык ко лжи (КТ 21).
Раскрывает бутоны, встречая прохладные капли дождя,
С ароматом медовым свежестебельный муллей,
Вместе с ним аромат источает пышноцветный красный жасмин,
Но не вовремя льет этот дождь — ведь если не рано пришел он,
Ритуально-мифологические истоки 139
И вправду сезон этот кар,
Почему ж не вернулся любимый? (КТ 382)
Героине вторит и подруга, утешающая ее таким, напри-
мер, образом:
Глупое, темное цветом племя павлинов!
/В радости/ пляшут они, встречая, как думают, кар,
И пидавам даже расцвел,
Но это не кар, о подруга!
Ты не горюй, если слышатся близких туч голоса:
/Ведь/ льют они старую воду, что в прошлый сезон
недодали,
/И делают вид/, что новая это вода (КТ 251).
Ассоциация героя с сезоном дождей подчеркивается
встречающейся иногда в стихах картиной стремительного бе-
га его колесницы, грохочущей, "подобно дождю сезона карм
(АН 14,20). Особенно интересна в ней одна многократно
повторяющаяся деталь: колеса давят, режут мягкую, влаж-
ную землю, плети растений (АН 54, 224, 234, 254, 314;
HT 161, 181, 221). Несомненны сексуальные обертоны это-
го образа, символически выявляющего характерные для ланд-
шафта муллей мотивы соединения мужского и женского начал
(ср. уже приводившиеся строки: "Бык, предводитель стада
топчущего землю, разрушая влажные входы змеиных нор, об-
нимает в жажде соединения молодую простодушную корову"—
АН 64, 11—12; та же идея в поэзии куриньджи символизи-
руется разрушением змеиных нор медведем, ищущим пищу, —
HT 125, 1-3; 325, 1-6; 336, 8-10).
Семантический параллелизм ситуации и природного окру-
жения служит, как мы уже отмечали в связи с темой ку-
риньджи, основой для построения картины, по сути дела,
символического мира, образы которого переосмысляются в
духе подразумеваемой в стихотворении ситуации, являются
выразителями заключенных в ней идей.
Изобилие чистых цветов пышнолистого мусундей,
Что по склонам взбирается до вершин медоносных гор,
Делает темную ночь /звездным/ небом.
Пастух, пасущий ягнят, с корзиной из листьев кокосовой
пальмы,
В венке из пахучих, прохладных соцветий муллей и
тондри —
Вокруг них вьются пчелы, с них капают капли дождя, —
Греет руки над тлеющей головней. В этой лесной
стороне,
Наполненной призывным, протяжным воем шакалов, —
Что рыщут во мраке и гонят косяк кабанов мелкоглазых, —
И звуками черных рогов, в которые дуют охранники
пашен, —
/В такой стороне/ — то селенье, где /дом ее/,
черноволосой,
Украшенной, той, что полна любви и желанья (АН 94).
140 Глава III
Эта картина с помощью ряда деталей выражает две ос-
новные идеи — охраны (пастух, звуки рогов) и чистоты
(белые цветы муллей и мусундей, дождевая вода). Сами по
себе изобразительные детали вполне самостоятельны, но,
помещенные в текст высказывания героя, думающего о сво-
ей супруге, они переосмысляются и становятся наглядными
символами охраняемого домашнего очага, женской чистоты
и супружеской добродетели или сходных идей.
Селение твоей любимой — в той стороне лесов прекрасных,
Где много аралей семян, где бродит простодушная
И полная желанья антилопа со своим супругом
И проса с влажными листами вилочки жует,
Которое посеяно рядами на глине пустошей,
Возникших вместо зарослей,
Что земледельцы уничтожили (HT 121, 1—5).
Картинка четы антилоп символизирует семейное соедине-
ние героев и передает идею семейного счастья, которая ас-
социируется с районом муллей в целом. Таким образом, па-
раллелизм окружения и ситуации придает миру поэзии мул-
лей еще одно измерение и создает новые возможности для
поэтического творчества. Поэты, не ограничиваясь воспро-
изведением эмоций одинокой героини, разработкой их кон-
траста с природой, стремятся найти те или иные детали
пейзажа и быта, которые могли бы стать символами извест-
ных идей и представлений. Например, в приведенном ниже
отрывке образ женщин-брахманок должен символизировать
семейное единство (их мужья не покидают дом ради военной
добычи), а также идею чистоты (поскольку брахманы риту-
ально чисты).
В стране краснозема собираются /вместе/
Стада короткошерстных овец со сладкопоющими,
Светлозвучащими колокольцами.
На склонах холмов женщины-брахманки
Украшают себя широкозевными цветами муллей... —
В древнем селении, шумящем у холмов,
Покрытых цветущими дикими лимонными деревьями (HT 321, 1—4).
В АН 34, 11—13 дана такая картинка: героиня находит-
ся во внутреннем дворике дома, рядом с загоном для четы
белых гусей, "оперение которых напоминает место, где
прачка крахмалила белье". Здесь поэт вводит в стихи те-
му белого цвета и через нее символически тему чистоты и
верности женщины, ее karpu.
Вследствие упомянутого параллелизма комплекс геогра-*
фических, бытовых и прочих деталей, изображаемых в сти-
хах, приобретает значение поэтического ландшафта или
района, символизирующего идеи супружеской чистоты, се-
мейного блага и единства, и вообще основные идеи и цен-
ности ситуации iruttal. В образах окружения они находят
ясное, зримое, пластическое выражение, нередко с помощью
Ритуально-мифологические истоки 141
одной лишь детали. Скажем, идея семейного счастья героев
присутствует в самой ситуации в подавляющем большинстве
случаев лишь как воображаемый идеал, но в то же время
этот идеал, будучи представлен парными образами — анти-
лоп, коров, птиц и т.п., зрим и реален.
Аналогично этому район палей символизирует идеи, со-
пряженные со средним этапом ритуала разлуки, — жар стра-
даний, увядание красоты героини, опасность разъединения
мужского и женского начал и т.п.
Вернемся теперь к образам главных героев поэзии мул-
лей и попытаемся определить, подразумевает ли поэтиче-
ская традиция наличие у них мифологических аналогов (по-
добных Муругану и Валли в ситуации куриньджи) и сущест-
вуют ли связанные с ними конкретные ритуалы, к которым
можно было бы возвести ситуацию супружеской разлуки?
Сразу заметим, что прямого сопоставления героев поэ-
зии муллей-палей с мифологическими персонажами не наблю-
дается. Нигде нет их сравнений суфигурами богов, да и
внешнее описание героев не содержит никакой особой спе-
цифики: их портретные характеристики в принципе те же,
что и в поэзии куриньджи. Правда, так можно сказать с
полным основанием лишь о героине. О внешности героя по-
лучить представление невозможно, в стихах отмечается
единственная, хотя и характерная, портретная деталь —
его "прохладная грудь" (Айн 459, 5). Зато постоянно под-
черкивается функциональная роль героя в ситуации разлу-
ки: его называют "ушедшим", "пересекшим пустынные зем-
ли", "находящимся в далекой стране", "разбившим благо
красоты героини" (своим уходом), просто "любимым" (akan-
rôr, kâçirantôr, cëynâttar, nalam citaittör, kätalar)."
Повторяемость таких характеристик героя, а также и ге-
роини, нередко называемой "домашняя", пребывающая (та-
naivi, uraivi, uraivôl), оттеняет ритуальность ситуации
разлуки."
Символическое поведение, которое запечатлено в поэзии
муллей, по-видимому, не связано с каким-либо конкретным
мифологическим образом, но тип такого поведения хорошо
известен в тамильской культуре. Это женские ритуалы, на-
зываемые nönpu, включающие в себя элементы аскезы и по-
ста. Таковым, например, является ритуал, воспроизводя-
щий эпизод взаимоотношений Парвати и Шивы: перед соеди-
нением с супругом Парвати в течение 21 дня соблюдала
обет воздержания (начиная с десятого дня после полнолу-
ния в месяце "пураттаси", сентябрь — октябрь, что соот-
ветствует сезону дождей) /Гопалакришнан, 1961, с.313 —
315/. Этот ритуал называется periya nönpu великое страсто-
терпие, и его, как мы думаем, следует считать репликой
тапаса Парвати, который она совершила, чтобы завоевать
Шиву.
Другой ритуал такого рода, pävai nönpu, нашел отраже-
ние в двух произведениях IX в. - шиваитской поэме Маник-
142 Глава III
кавасахара "Тирувасахам" (часть под названием "Тирувем-
бавей") и в поэме кришнаитской поэтессы Андаль "Тируппа-
вей". Он заключается в купании девушек после дождей ме-
сяца "маркажи" (декабрь — январь). Купанию и дождям пред-
шествует период аскезы, описанный Андаль так:
2. О вы, живущие /в просторном этом/ мире! Мы совершаем
Деяния, присущие обряду! О них послушайте!
В молочном океане
На змея капюшоне спящего Всевышнего воспев,
Мы масла не едим и молока не пьем;
В начале дня в воде омывшись,
Глаза сурьмою не подводим, не украшаем волосы
цветами,
Не делаем того, чего не подобает делать, и гневных
слов не произносим...
И далее в стихах детально описывается завершение об-
ряда — типичная характеристика третьей фазы ритуалов пе-
рехода:
27. О ты, что обладаешь свойством побеждать тебе
неверных, Говинда!
Когда, тебя воспев, обряд свершив, получим твой
ответ,
То пусть таким он благом будет, что вся страна его
восхвалит,
А мы, надев браслеты на запястья, сережки и ушные
украшенья,
Браслеты на ноги и всевозможные другие драгоценности,
Облекшись в новые одежды, — в сосуды, молока и риса
полные,
Обильно — чтоб с локтей текло — начнем лить масло
И, вместе все за трапезой собравшись, охладимся...
Распевая,такого рода гимны, девушки движутся по селе-
нию, которое мыслится как Гокуль, где обитает Кришна,
приглашают подруг, а затем и самого Кришну принять уча-
стие в купании (что подразумевает их эротическое с ним
соединение). Абсолютно ясно, что этот ритуал насыщен иде-
ями плодородия, но для нас сейчас важнее выделить в нем
мотив подготовки девушки к соединению с любимым, что ус-
танавливает сущностное сходство поведения участниц купа-
ния с домашним ритуалом разлуки. С точки зрения представ^
лений о сакральной женской энергии и ее состояниях все
ритуалы типа nönpu построены по формуле: нагревание,
внутренняя концентрация энергии (аскеза ожидания) — ох-
лаждение (благодатное эротическое соединение и/или ку-
пание в воде). Женский ритуал разлуки, запечатленный в
поэзии муллей, относится, конечно, к этому же типу. До-
бавим, что упомянутой формуле полностью соответствует и
природный цикл: летняя жара — сезон дождей.
Ритуально-мифологические истоки 143
В поисках мифологического аналога герою поэзии муллей
нам естественнее всего обратиться к фигуре Маля-Майона
(Вишну-Кришны), которого традиция делает главой; пастуше-
ского района. Характерно, однако, что Маль в стихах на
тему муллей практически нигде не упоминается. Лишь нача-
ло поэмы МП содержит сравнение, подразумевающее извест-
ный эпизод мифологии Вишну, связанный с превращением его
из карлика в гиганта:
Как Маль, имеющий в руках могучих чакру,
Закрученную вправо раковину и Лакшми,
/Как Маль/, чтобы покрыть громадный мир,
Поднялся во весь рост и с рук его вода стекала, —
Так в тусклый, сумеречный вечер
Гряда тяжелых туч, холодною водой из океана напоенных,
Вздымаясь вправо над горами,
/На землю/ проливается дождем (МП 1—6).
Если учесть, что ранее мы установили параллелизм мо-
тивов возвращения героя и прихода сезона дождей: герой,
стремительно едущий на колеснице, словно персонифицирует
быстрое движение темных туч, насыщенных (или, как часто
говорится, беременных) влагой, — если учесть это, то мож-
но, конечно, героя считать некоторой репликой Маля, хотя
и довольно смутной51.
Ритуально-мифологической интерпретации ситуации раз-
луки поможет обращение к сборнику мКалиттохейм. В нем
(в разделе муллей) содержится несколько стихотворений
(101—104), изображающих брачное состязание пастухов —
укрощение быков в присутствии группы девушек-невест
(обычай, кстати, сохранившийся до настоящего времени;
см. /Звелебил, 1962; Харди, 1983, с. 630— 631/). Появле-
ние этого сюжета в стихах на тему муллей оправдано лишь
постольку, поскольку пастухи составляют население райо-
на и, так сказать, социальный фон ситуации, а также по-
тому, что укрощение быков и следующий за ним танец кура-
вей (описанный также в СП XVII) являются частью народно-
го культа Кришны-Маля. Мы, однако, видели, что Маль с по-
эзией муллей, в сущности, как будто не связан. Кроме то-
го, как утверждает исследователь, "кришнаитская религия
в своем народном слое не знала эмоций, которые согласу-
ются с ситуацией муллей — разлукой" /Харди, 1983, с.193/
(речь идет о времени создания древнетамильской поэзии).
Кришнаитской подоплекой обычая укрощения быков явля-
ется миф о том, как Кришна победил семь демонических бы-
ков и получил в жены дочь пастуха Кумбхаки по имени Нила
(nïla синяяу темная; ср. эпитет Коттравей в СП XII, 68:
nïli; см. /Эдхольм, Сунесон, 1972/). Пастухи, устраивая
праздник укрощения быков, как бы воспроизводят деяния
Кришны, причем победитель быка сам становится1 в ритуаль-
ном смысле Кришной, тогда как девушка, на которой он же-
нится, — Нилой.
I44 Глава III
Идейное ядро данного ритуала составляет концепция опа-
сной, "убийственной" невесты, которую, прежде чем ею ов-
ладеть, нужно обуздать (установить контроль над ее сак-
ральной энергией). В самом деле, цена невесты высока —
угроза жизни того, .кто решился побороть яростного, воин-
ственного быка, мна окровавленных рогах которого намота-
ны кишки" (Кали 103, 25) предыдущих смельчаков. "Легки
ли /для овладения/ плечи пастушки?" (Кали 103, 70) — вос-
клицает автор.
Совершенно ясно, что бык здесь мыслится как субститут
невесты (это подтверждает ритуал покорения быка у племе-
ни тода /Харди, 1983, с.631/). Этот момент акцентирован
в поэзии следующими строками: "не просят цены девушки на-
шего пастушьего племени. /Но отдают себя/ тем, кто сопри-
коснется с рогами быка-убийцы, словно с грудями тех, кого
они любят" (Кали 103, 71—73). Эротичность этого образа
намекает на скрытый сексуальный характер единоборства с
быком, что позволяет видеть в нем отголосок мифа о Махи-
шасурамардини (с инверсией полов), который подчеркивает
элементы борьбы, насилия в акте соития, по существу при-
равнивая его к убийству.
Разумеется, ситуация разлуки сама по себе лишена по-
добной окраски, но все же она содержит идеи, перекликаю*
щиеся с идеями ритуала покорения быка: в обоих случаях
речь идет об овладении женщиной после (в результате) не-
которого сопряженного с опасностью для жизни испытания.
Покорение быка, участие в битве и переход через район
палей в этом смысле идентичны52 , ритуально символизируя
трудность каждого предприятия. Грозные черты женщины то-
же выявлены уподоблением ее разъяренному быку в одном
случае и характером ее состояния — в другом: во время
разлуки она представляет собой резервуар опасной энер-
гии53, сдерживаемой лишь силой обета (именно поэтому для
контакта с ней перед окончанием разлуки нужны посредник
или весть). Наконец, преодоление трудностей увенчивает-
ся охлаждающим соединением. В племени пастухов за поко-
рением быка следуют "прохладный" танец куравей или сов-
местные игры с явным эротическим оттенком — все идут в
прохладную рощу, где расцвел муллей, "восприняв знаки к
соединению" (Кали 101, 50); кстати, упоминание здесь мул-
лей свидетельствует о том, что завершалось празднество в
сезон дождей.
Все это делает обоснованными необычный на первый
взгляд параллелизм ситуации разлуки и обычая укрощения
быков и включение описания упомянутого обычая (на более
позднем этапе развития традиции, представленном "Калитто-
хей") в тему-тиней муллей. В обоих случаях выявляется
кардинальная для ситуации муллей идея установления (или
восстановления) супружеского контроля над сакральной жен-
ской энергией (третья фаза ритуала перехода). Существен-
ное же отличие покорения быков от ритуала ожидания супру-
Ритуально-мифологические истоки 145
га состоит в том, что в первом акцент сделан на активном
и опасном аспекте женской натуры, тогда как во втором до-
минируют идеи женской чистоты и добродетели (karpu), про-
являющиеся в умении охранять, сдерживать и накапливать
сакральную энергию, направлять ее действие во благо.
Можно указать еще на один аспект ритуально-мифологиче-
ской основы ситуации разлуки. Памятуя о том, что женщина
есть средоточие сакральной энергии (в период разлуки —:.в
особо концентрированном виде), естественно предположить
здесь наличие элементов культа богини. Во всяком случае,
два типичных мотива вполне отвечают интерпретации движе-
ния героя к дому как религиозного паломничества: мотив
дум героя о супруге и стремления слиться с ней и мотив
преодоления тягот пути, заключенный в формуле "пересек-
шие трудные пустынные земли" (идея трудности паломниче-
ства) (см. /Делери, 1960, с.180/). В связи с этим отме-
тим, что вообще описание дороги, по которой движется ге-
рой, занимает в поэтическом цикле палей-муллей значи-
тельное место. Заслуживает выделения и такой характерный
момент — дорога домой понимается как благостная: она
"благоухает прохладной свежестью леса, ставшего краси-
вым" (АН 154, 10); "проходит через лес, полный пьянящего
цветочного аромата" (АН 254, 15 — 16); "благостна дорога,
по которой идет любимый, — она обладает ярким тондри се-
зона свежих дождей и жасмином" (Айн. 440). Этот мотив,
безусловно намекает на оплодотворяющую функцию героя,
приход которого ассоциируется с сезоном дождей, но вме-
сте с тем он выявляет и паломнический мотив (ср. замеча-
ние Делери: "Паломники к божеству делают святой дорогу к
нему, которая, в свою очередь, становится освящающей"
/Делери, 1960, с.75/).
Таким образом, в поэтическом отражении ситуации супру-
жеской разлуки можно разглядеть черты как архаичных жен-
ских ритуалов страстотерпия, так и ритуалов паломничест-
ва к божеству. В целом в ней отражается определенный тип
поведения, предусматривающий контакт с сакральной энер-
гией, имевшей в древнетамильской культуре статус божест-
венного начала. Все это создает в любовной поэзии атмос-
феру эмоциональной приподнятости, по сути дела, религи-
озного типа (вследствие чего ее формы, в том числе и си-
туация разлуки, так хорошо вписались в творчество бхак-
тов и стали в нем характерным приемом богопочитания).
Как видим, содержание поэтической ситуации разлуки
выявляется в основном символически — через образы природ-
ного окружения. Картины природы, создаваемые в стихах, —
тыжелые дождевые тучи, лес, встречающий сезон дождей,
распускающиеся цветы — суть наглядное чувственное вопло-
щение идеи плодородия, чистоты, обновления жизненных сил
природы и символически — благого аспекта сакральной энер-
гии, добродетели и целомудрия женщины.
10 60
146 Глава III
Тема марудам
С ситуацией супружеской разлуки связана еще одна тема-
тиней — марудам. Разлука, запечатленная ею, однако, осо-
бого рода. Ее причиной являются либо уход героя к гетере,
либо его участие в связанном с ритуалом плодородия совме-
стном купании мужчин и женщин (последний эпизод возникал
и в поэзии куриньджи). И то и другое порождало в героине
ревность, обиду, недовольство супругом — ûtutal. Это и
есть название ситуативного элемента темы марудам.
Не вдаваясь в подробности положения и роли гетер в
древнем обществе, отметим лишь тот факт, что они занима-
ли определенное место в структуре городской жизни тами-
лов и были связаны, конечно, в первую очередь с обеспе-
ченными сословиями горожан51*. Существовало несколько раз-
рядов гетер (parattai): куртизанки, так сказать, высоко-
го класса вроде Мадави, персонажа "Повести о браслете",
образованной женщины, искусной танцовщицы, музыкантши и
певицы; гетеры, по существу исполнявшие роль второй жены
в доме (воспитывали детей от первой жены, улаживали ссо-
ры) (см. /Маниккам, 1962, с.169/); наконец, женщины лег-
кого поведения, которые, как отмечает поэма "Мадураик-
каньджи , "соединяются с многочисленными молодыми людь-
ми, забирая их богатство, подобно нежнокрылым пчелам,
съедающим пыльцу и затем бросающим пустой цветок"
(Ж 572—574). Какие-то разряды гетер, видимо, специали-
зировались на исполнении обрядов плодородия, "играх в во-
де" (nïrâtal), в которых участвовал и герой.
Среди разнообразных отраженных поэзией ситуаций, свя-
занных с уходом героя к гетере, одна представляется за-
служивающей первоочередного внимания, поскольку она, воз-
можно, объясняет социальную роль института гетер. Мы име-
ем в виду ситуацию, когда герой вынужден покинуть дом из-
за нечистого состояния супруги, вызванного рождением ре-
бенка. Об этом говорится в стихотворении, представляющем
собой монолог-обращение подруги героини к панану, вестни-
ку героя (заметим, что, как это часто бывает, подруга,
говоря "мы", идентифицирует себя с героиней):
Маслом и дымом пропитаны,
В пятнах и скверне одежда и руки;
Грудь, покрытая родинками, брызжет сладким молоком,
Тело, от близости к сыну, пахнет нечистотой;
Обладателю колесницы, находящемуся в квартале
Женщин с чистыми украшениями, мы не подходим;
Так что на златострунном сладкоголосом маленьком йале
Хоть ты играть и искусен, хвалебных песен не пой;
Забери своего господина, что в приморском селенье
живет, —
Дому труда и страданий не подобает пенье;
Даже кони упряжь свою ненавидят.
Не заводи безуспешно недостойных речей (HT 380).
Ритуально-мифологические истоки 147
Описанное здесь с почти натуралистической точностью
нечистое состояние (puniru) супруги считалось чрезвычай-
но опасным для мужчины (см. /Харт, 1975, с.94 —96/), поче-
му его и требовалось удалить из дому (нечистота послеро-
дового периода приравнивается в Индии к нечистоте смер-
ти /Ферро-Луцци, 1974, с. 115/: мон избегает меня, словно
святой, посвятивший себя богум (КТ 203,4); мон не смот-
рит на меня, избегает меня, как мест, где сжигают /тру-
пы/ чужаков" (КТ 231, 3-4). Продолжительность этого пе-
риода, если судить по этнографическим данным, может быть
значительной, как и воздержание от интимных супружеских
отношений (от сорока дней до нескольких месяцев и даже
лет) /Ферро-Луцци, 1974, с. 152/. Отсюда становится ясной
роль гетеры как своеобразного социального балансира, ра-
ботавшего в конечном счете на сохранение семейной гармо-
нии .
Восстановить нарушенную гармонию было, однако, нелег-
ко ("лежа на ее груди, ты все еще дрожишь. Как же ты
страдал в то время, когда она была недоступна!" — КТ 178,
4 — 7). По сути дела, требовался специальный ритуал сбли-
жения супругов, имевший целью преодоление опасности пе-
риода нечистоты. Таким ритуалом следует считать визит ис-
полнителей-музыкантов — панана или вирали, которые в силу
специфики своего социального и ритуального статусов при-
нимали на себя нечистоту ситуации и подготавливали почву
для безопасного соединения супругов. Как и в ситуации
муллей, этот визит (равный функционально вести) имел очи-
стительное, так сказать, буферное значение. Вероятно,
вследствие особой опасности состояния, через которое про-
шла героиня, попытку примирения, осуществляемую через
вестника, нужно было производить не раз. Поэтому возника-
ет характерная для темы марудам ситуация отвержения ве-
сти: героиня, а чаще подруга упрекает героя в лживости,
неблагородстве, иногда высмеивает его или его вестника.
Например, подруга с явной иронией говорит панану:
Всех сладостней, исполнен большой любви —
Таков в устах панана житель селения,
В котором скачет воробей, чтоб пригото.вить место
Для самки, что вот-вот рожать готова,
Срывает белые цветы, что аромата лишены,
С тростинок сахарных, медоточивых (КТ 85).
Упрек, содержащийся в этом высказывании, построен на
противопоставлении поведения героя, покинувшего жену,
действиям заботливого воробья. Упоминанием белых цветов
выражается мысль, что героиня, хотя и не столь сейчас
привлекательна (цветы лишены запаха), обладает супруже-
ской добродетелью (в противоположность супругу).
Получает отповедь и панан, лицемерно восхваляющий ге-
роя и не замечающий непостоянства его натуры. "Твой па-
нан — лжец, все здешние панары подобны ворам для тех,
148 Глава III
кого ты покинул11, - говорит подруга герою (КТ 127, 4-6).
Равным образом в другом стихотворении она насмехается
над певицей-вирали, сравнивая ее слова с барабаном "тан-
нумейп — пустым внутри, имеющим только оболочку (HT 310,
10-11).
Значительное развитие приобретает в стихах на тему
марудам мотив соперничества двух женщин:
Говорят, что она, с округлыми, блестящими браслетами,
Что достойной /считает себя/ селения жителя,
Где выдра, украшенная полосами,
Подобными изогнутой ветви ратана, ловит рыбу валей*
для пищи дневной,
Надо мной за моею спиной насмехалась.
Но дни тунангей-танца пришли, когда девушки пляшут,
У которых браслеты сверкают на бамбуково-круглых
руках, -
В это время бойцы с воинственными глазами
Жаждут битвы, чтобы жениться на них (КТ 364).
Этими словами героиня подразумевала, что в общем тан-
це герой выберет ее, à не соперницу, вероятно, здесь речь
идет не о действительной женитьбе, а о выборе пары в тан-
цах, имевших характер ритуалов плодородия, — они упоми-
наются в ситуации марудам неоднократно: герой танцует с
женщинами во время празднества (АН 176,15; 336,16; Кали
66, 17 — 18; 71, 13 — 14 и т.д.), он принимает участие в
совместных с ними купаниях, что снимает, как нам кажет-
ся, все сомнения в ритуальном характере поведения героя.
Однако в стихах этот момент совершенно заслонен чисто
этической оценкой его действий, как, например, в таком
высказывании подруги:
Средь лотосов, что языки огня напоминают,
Срезающих колосья риса и снопы кладущих
Крестьян повозка, полная вина, когда в грязи
увязнет,
Кидают под колеса связки сахарного тростника, —
Селения такого с водами струящимися житель,
Бесстыдник ты! В просторной бухте, где растут
Деревья пунгу, чьи цветы, как жареные зерна,
Со светлолобой с волосами в тонких прядях,
Увитых ароматными цветами,
С красивой грудью с ожерельем, и с глазами,
Которые похожи на незрелый манго,
И с благом красоты, удар копья таящей,
Вчера играл ты, говорят, в воде бегучей.
Я скрыла это от подруги, но вырвалось из рук,
Молвою стало все... (АН 116, 1 — 11).
* vâlai- ■— рыба-сабля (trichiurus leptarus).
Ритуально-мифологические истоки 149
Несмотря на то что поведение героя, с точки зрения
героини и ее подруги, неправедно, после периода обиды и
гнева наступает примирение :
О подруга, живи! Я сегодня
Того, кто лишен добродетели, видя,
Разгневавшись сильно, решила ему отказать и ушла.
Потом же, подумав, жалея его, возвратилась (Айн 118).
Природным фоном ситуаций, воспроизводимых в поэзии
марудам, служит ландшафт плодородных речных долин, заня-
тых рисом и сахарным тростником*, нередко упоминается и
берег моря. Притом что этот ландшафт является реальной
ареной описываемых событий (мы уже говорили, что ситуа-
ция марудам типична для жизни городов, пусть небольших,
расположенных в районе марудам), он, подобно ландшафтам
других тем-тиней, предстает в поэзии и как ландшафт сим-
волический. Основная идея, связанная с ним, — плодородие
культивируемой природы, и идея эта сопрягается с образом
героини, давшей рождение сыну (о рождении дочерей поэты
не упоминают).
Специфическая деталь пейзажа марудам с фиксированной
символикой — сахарный тростник, упоминая который поэты
имеют в виду героиню. В приведенном выше стихотворении
эта деталь — ключевая: житель селения, в котором земле-
дельцы кидают тростниковые стебли в грязь, получает бла-
годаря этой небольшой картинке негативную характеристи-
ку. Часто это растение, неказистое, с непахнущими цвета-
ми, но полезное, полное сладостного сока, сопоставляет-
ся с внешне красивым, но не дающим плодов лотосом, кото-
рый, естественно, символизирует гетеру.
Символическим намеком на гетеру является и упоминание
рыбы välai, живущей в пресных водоемах и поедающей упав-
шие в воду плоды. Показательно в этом отношении стихотво-
рение КТ 8.
Гетера говорит:
Житель селенья, где рыба валей хватает
Зрелый и сладостный плод, /с ветви упавший/,
Дерева манго, что на краю рисовой чеки стоит,
В доме у нас говорил горделиво большие слова.
В доме своем же он пляшущей кукле подобен —
Руки и ноги, стоит лишь дернуть, болтаются, —
Делает все, что ни скажет мать его сына.
Речь гетеры содержит прямую насмешку над героем (что
вообще характерно для темы марудам), но вместе с тем и
скрытое оправдание своих действий: герой появлялся у нее,
как плод, упавший в воду. Любопытно, что поэт пренебрега-
* Название ему дает крупное дерево марудам, растущее по берегам
водоемов.
10-3 60
150 Глава III
ет традиционной символикой — манго, как мы ранее видели,
ассоциируется с героиней, но ему здесь важен не предмет,
а действие, поэтому он конструирует образ, не считаясь с
традицией. Что касается рыбы валей, то она в качестве
символа гетеры упоминается часто (с различными оттенками
значения): "житель селения, где в глубине заливчика с
питьевой водой шумно плещутся рыбы валей, так что /при-
шедшие туда/ девушки /в страхе/ оттуда бегут'1 (HT 310,
3—4); "житель селения, где дурнопахнущая выдра-самец
ищет в прудах дневную пищу — рыбу валей" (АН 386, 1—2;
КТ 364, 1—2). Под выдрой подразумевается, конечно, ге-
рой, опять-таки предстающий здесь в невыгодном свете.
Его же ярко характеризует героиня, когда называет
"жителем селения с прохладной бухтой, где буйвол с чер-
ными,- словно железными, рогами /выходит/, взбаламучивая
воду, из сапфироцветного пруда, разрывая стебли лилии
амбаль, поедая цветы лилии кувалей, с мокрой спиной,
осыпанной пыльцой цветов каньджи, и жует /жвачку/, на-^
правляясь к стойлу" (АН 56, 2—8). Лилии амбаль и кува-
лей ассоциируются здесь с героиней (это совершенно в рус-
ле традиции), а вся картинка в целом посредством образов
окружения демонстрирует пренебрежительное и жестокое от-
ношение героя к супруге. Как видим, в стихах на тему ма-
рудам разрабатывается на присущем ей материале уже знако-
мый нам прием использования образов, картинок, деталей
окружения в качестве носителей дополнительного значения,
разъясняющего, уточняющего ее ситуацию.
Одной из деталей формальной характеристики темы мару-
дам является ее ассоциация с Индрой (см. Тол 5), богом
по происхождению не местным, арийским. Несмотря на то
что Индра в поэзии марудам практически не упоминается,
его связь с районом марудам объясняется тем, что с древ-
нейших времен Индра почитался в Индии как бог плодоро-
дия, покровитель вспахиваемой земли /Хеестерман, 19 57,
с.33/. В этом качестве он был хорошо известен и в Южной
Индии, о чем свидетельствует пышно справлявшийся в та-
мильских городах праздник в честь Индры, описанный в по-
эмах "Повесть о браслете" и "Манимехалей". Праздник но-
сил характер царского ритуала, что совершенно естествен-
но, поскольку Индра, царь богов, рассматривался как иде-
ал для индийских царей. Кроме того, Индра, как известно,
покровитель апсар (небесных прототипов куртизанок) и име-
ет в древнеиндийской мифологии репутацию любителя эроти-
ческих приключений, так что и с этой стороны его связь
с темой марудам закономерна. Однако, как показывает ряд
гимнов антологии "Парипадаль", в которых интенсивно раз-
рабатывается тема марудам, для уяснения мифологического
фона этой темы необходимо вновь обратиться к фигуре Му-
ругана.
Есть основания .полагать, что оформление канона темы
марудам есть результат взаимодействия южной и североин-
Ритуально-мифологические истоки \ь\
дийской ритуально-мифологических традиций. И если такие
элементы содержания темы, как купание героя в воде с жен-
щинами, его уход из дому в период нечистоты супруги, по-
сылка вестника (панана или вирали), легко возводимы к ме-
стной традиции, то трактовка поэтами взаимоотношений ге-
роев (супругов между собой, женщин-соперниц), вероятно,
сложилась под влиянием мифологического эпизода, как раз
и отражающего момент соприкосновения двух культур. Мы
имеем в виду двойной брак Муругана.
Женитьба Муругана на Валли, как уже говорилось, сим-
волизирует его единство с тамильской культурной традици-
ей, с местным этносом, с землей. Его брак с Девасеной,
дочерью Индры, безусловно, означает установление связи
с небесными индуистскими богами, присоединение его к пу-
ранической санскритской традиции (см. /Клози, 1977, с.167;
Звелебил, 1977, с.254/). В период, когда эта- связь за-
крепляется (что нашло отражение в поздних слоях поэзии
антологий и поэм — ТМА и Пари), брак с Девасеной понима-
ется как освященное индуизмом состояние законного супру-
жества, а взаимоотношения с Валли — как уступка страсти,
тайное увлечение (именно так здесь интерпретируется ка-
lavu, тайная любовь). Немаловажно, что Валли, принадле-
жащая к племени охотников, рассматривается в этой ситу-
ации как женщина с низким социальным статусом (см. /Бек,
1975, с.107-108/) .
Девасена упоминается в ТМА (мженщина с безупречным по-
ведением11 — 175) и в антологии Пари, один из гимнов ко-
торой (посвященный Муругану) ярко описывает размолвку Де-
васены с Муруганом и ссору ее с Валли:
После жаркого лета, сезон кар начиная,
На горе твоей Парангундрам прохладный дождь пролился,
Как дождь сапфироцветный из темных глаз цветочных той,
Что дочерью является тысячеглазому (т.е. Индре),
В тот день, когда соединился ты с плечами антилопы
(т.е. Валли),
Чьи веки — точно черные полоски над темными глазами
(IX, 8-11).
Вернувшемуся вместе с Валли Муругану Девасена говорит
с иронией:
"Славься, обманщик! Твоей вины тут нет. Подобно нам,
Цвет тела утерявшим /от разлуки/, их величественным
благом красоты
Не насладишься ль ты?* Ведь состоянье острозубых
девушек,
* Имеются в виду девы Муругана, с которыми он обыкновенно тан-
цует на горе Парангундрам.
152 Глава III
Лишенных блага твоего соединенья
С их нежными плечами, подобно состоянью рощи,
жаждущей дождя", —
Произнесла все это с гневным взглядом.
Тогда ее, рассерженную из-за женщины, Муруган
почтил —
Склонился перед ней, так что венок на голове
Коснулся стоп ее святых. "Ну, не горюй", — сказав,
Она прижать его к груди была готова, /но/
"Не приближайся к ней!" — воскликнула
Украшенная ярко Валли и, взяв гирлянды, туго их
связав,
Ударила, как палкой, /Девасену/. (Пари IX, 27 — 40).
Затем описывается драка Валли и Девасены, переходящая
в противоборство небесных дев под предводительством Дева-
сены и группы девушек из племени горных охотников, всту-
пающихся за Валли. Интересно, что далее следует упомина-
ние о состязании певцов и танцоров на горе Парангундрам
(мпанары побеждают /других/ поющих, танцоры — танцующих"
и т.д. — 70 — 75). Все это указывает на то, что и предше-
ствующая сцена разыгрывалась во время празднеств в честь
Муругана***а . В таком свете становится ясной связанная с
плодородием эротическая подоплека супружеского конфликта,
его стимулирующая природа (ревность и гнев возбуждают,
активизируют сакральную женскую энергию).
Если предположить, что представленный выше мифологи-
ческий эпизод играл роль модели для поэтической ситуации
марудам, то фигурам гетеры и героини должны соответство-
вать фигуры Валли и Девасены. Однако об этом можно гово-
рить лишь теоретически, в плане противопоставления брач-
ных отношений внебрачным, тайным; какие-либо мифологиче-
ские прототипы героев рассмотреть в поэзии затруднитель-
но. И хотя тема плодородия звучит в поэзии на тему мару-
дам — в особенности в описательных частях — вполне от-
четливо (чем она, безусловно, ассоциируется с мифом), в
целом ситуация выглядит в них демифологизированной, пе-
реведенной в плоскость чисто человеческих внутрисемей-
ных отношений. Добавим, что в поэзии острота конфликта
между женщинами-соперницами сглаживается. Соперничество,
конечно, сохраняется, но оно проявляется скорее.в виде
насмешки друг над другом и над героем. Кстати, наличие
смехового начала, столь заметного в поэзии марудам, на-
ходится в полном согласии с лежащей в ее основе темой
плодородия, ибо смех в ритуальном понимании, как изве*
стно, есть стимулятор жизненной силы55.
Мотивы женской обиды, гнева, даже вражды ("я не забы-
ваю о том, что ты враг, заставивший увянуть гирлянду из
бутонов, украшавшую.мои исполненные блага густые воло-
сы" — HT 260, 8 — 10) типичны для поэзии марудам, но ос-
новное по смыслу событие лирического сюжета темы — вое-
Ритуально-мифологические истоки 153
становление семейного единства, "охлаждение11 гнева ге-
роини и даже примирение супругов как выявление приорите-
та формальных супружеских связей над временными, внесем
мейными. Красноречиво в этом отношении стихотворение
АН 386. Подруга героини говорит герою:
О житель селенья, где выдра-самец, от которого
запах рыбы исходит,
Который пищу свою по утрам — рыбу валей — ищет в
прудах!
Подобно тому как ведущий благую войну Канеиян
устыдился,
Увидев, как Ария Порунана полнокруглые барабаноподобные
руки,
Когда вышел он против борцовской, несущей страданье
груди /князя/ Панана,
Тот своими руками так сокрушил, что стали они на себя
не похожи, —
Так я устыдилась, увидев, как та, что дотоле
скрывалась,
Пришла, светлолобая, к нам во время дневное
И, нежными пальцами в кольцах сапфирных
/Подруги моей/ лба и прядей волос, охлаждая,
коснувшись,
Такую хорошую речь повела:
"О скромная ты, с волосами, что темны и влажны,
И я ведь в этом квартале живу — в доме соседнем,
Тебе я буду младшей сестрой11.
Содержание этого стихотворения довольно богато: в нем
характеризуются и герой (завуалированный сравнением с
выдрой), и положение гетеры-любовницы, потерпевшей сокру-
шительное поражение в соперничестве с героиней (что сим-
волически выражено упоминанием борьбы двух князей, кста-
ти, видимо, имевшей место в действительности). Звучит в
стихотворении и мотив охлаждения вражды, введения сак-
ральной женской энергии в состояние нормы. Очень любо-
пытны слова гетеры о потребности стать "младшей сестрой"
героини. Речь идет, по-видимому, о том, чтобы стать
младшей женой героя, и тогда здесь можно усмотреть реми-
нисценцию взаимоотношений Валли и Девасены, которые рас-
сматривались тамильской мифологической традицией как се-
стры в прошлом рождении /Бек, 1975, с.108/.
Подытоживая описание поэтической ситуации марудам,
выскажем предположение о том, что ее становление явилось
результатом совмещения разных по происхождению мотивов.
В качестве их источников нужно указать на ритуалы, свя-
занные с периодами естественной нечистоты героини; на
ритуалы плодородия, состоявшие в совместных купаниях
женщин и мужчин в период сезона дождей; на мифологиче-
скую историю взаимоотношений Валли и Девасены; на фраг-
менты мифологии Индры и связанные с ним городские празд-
154 Глава III
нества. Немаловажно заметить, что в теме марудам отража-
ется борьба разных традиций, касающихся любовной и мат-
римониальной сфер человеческой жизни: местной, тамиль-
ской, делающей акцент на представлении о сакральной жен-
ской энергии и различных ее состояниях, и ортодоксаль-
но-индуистской, придающей большое значение крепости офи-
циальных брачных уз. По всей вероятности, вследствие та-
кой гетерогенности каноническое описание темы марудам в
Тол не имеет указания на соответствующий ей сезон и ог-
раничивается лишь временем суток— утром. Объяснение же
происхождения этого элемента темы, как нам кажется, не-
однозначно: он может иметь в виду традиционную для та-
мильской культуры связь героя с образом Муругана (олицет-
воряющего по преимуществу восходящее солнце); рассвет
нередко ассоциируется с наступлением у женщины месячных
(см. /Харт, 1975, с.243/); наконец, этот элемент подхо-
дит для введения темы гетеры, куртизанки, прототипом ко-
торой в индийской к/пьтуре считалась богиня утренней за-
ри Ушас /Фишер, 1966, с.49/.
Тема нейдаль
Специфика этой темы-тиней состоит в том, что ее ситу-
ативный элемент — "уриппоруль" — в принципе не отличает-
ся от такого же элемента других тем. Хотя называется он
иначе — irankal страдания^ переживаниял жалобы^ но подразу-
мевает уже известные нам перипетии разлуки влюбленных,
причем разлуки во всех вариантах, рассмотренных выше.
Таким образом, тема нейдаль как бы заимствует ситуации
других тиней и может рассматриваться как вариант тем ку-
риньджи, муллей, марудам, палей. Вследствие этого она,
как и марудам, лишена своего сезона и привязана ко врет
мени лишь в рамках суточного цикла: Тол 10 устанавливает
в качестве присущего ей времени закат солнца, вечер.
И хотя в стихах на тему нейдаль упоминается и другое вре-
мя действия (как, например, в куриньджи — ночь и день),
момент привязки ситуации именно к вечеру не случаен,
ибо подчеркивает общую мрачную тональность этой темы,
ставит акцент на муках разлученных героев:
Скрывается солнце, тускнеют лучи,
И вечер становится грустным, подобно вьюнку,
чьи цветы опадают,
Повсюду летают летучие мыши, и филин,
Свой клюв разевая, хохочет, подругу зовет.
А время, когда обещал мне вернуться
Пустившийся в путь с неизменной любовью, прошло.
Всю ночь прокричат на маргозе крупноветвистой с
толстым стволом
Рогатые совы, — страдая от боли,
Ритуально-мифологические истоки 155
Смогу ли я слушать в своем одиночестве
Сидящей на пальме пальмировой птицы андриль*
призывы? (HT 218).
Элемент природного окружения темы нейдаль — морской
берег с песчаными дюнами, рощами деревьев punnai и nâlal,
соляными варницами, заливами, лиманами. Местное населе-
ние — рыбаки, живущие в маленьких прибрежных деревнях.
Главная деталь ландшафта нейдаль, конечно, само море,
образ которого используется поэтами в самых различных ли-
рических ситуациях. Здесь уместно вспомнить о том, что
море — универсальный водоем, объединяющий в себе все во-
ды земли56. С этой точки зрения характерно словосочета-
ние, которое нередко употребляется для обозначения мо-
ря, - munnîr тройная вода (АН 104,5; 127,4; 207,1; 212,8
и т.д.). Оно подразумевает, что море включает в себя воду
рек, озер и собственно морскую (или, по другой интерпре-
тации, земную, небесную — дождь — и опять-таки морскую).
С морем связываются идея плодородия, блага (оно — резер-
вуар для дождевых туч) и представление об опасности, ему
присущи качества стабильности ("оно не убывает, сколько
бы ни черпали из него воду тучи" — МК 424—425) и вместе
с тем неспокойствия, волнения, зыбкости. Словом, образ
моря поливалентен и может служить символическим выраже-
нием тех идей, что связываются в тамильской поэзии с го-
рами, лесами, плодородными полями, пустынной местностью.
Все это, повторяем, и предопределяет совмещение в теме
нейдаль ситуативных элементов других тем.
Принципы характеристики героев поэзии нейдаль ничем
не отличаются от аналогичных принципов в других темах-
тиней. Специфика образов состоит лишь в связи с морем,
которая проявляется в том, что герой именуется "жителем
(повелителем) бухты" (turaivan), "жителем (повелителем)
побережья" (cêrppan), а героиня — рыбачкой, дочерью пле-
мени рыбаков ("отец мой вышел в море, — говорит она, —
а мать находится на отмели у соляной варницы" — КТ 269,
4 — 6; "она — скромноречивая маленькая дочь рыбаков" —
HT 207,9) .
Обращает на себя внимание явное несоответствие героев
друг другу с точки зрения их социального положения:
Она — дочь рыбаков, ловящих рыбу,
Живущих в маленьком селенье на побережье
И в море синее и бурное -ходящих, а ты —
Любимый сын того, кто обладает колесницей крепкой,
Живущий в древнем городе торговом, где флаги длинные
трепещут ;
И нам, гонящим стаи птиц от жирных ломтиков акулы,
Твое богатство ни к чему. Мы плохо пахнем, к нам не
подходи,
* anril — тамильское название краунчи, ночной цапли.
156 Глава III
Дарами океана скромно мы живем, с тобой мы неровня —
Такая жизнь достойна только тех, кто н$м подобен (HT 45).
Указанное неравенство героев может, по-видимому, иметь
только мифологическую подоплеку, аналогичную истории вза-
имоотношений Муругана и Валли. Эти герои, однако, принад-
лежат горам, и в ситуации нейдаль скорее всего следует
искать реминисценцию другого тамильского мифа — о женить-
бе Шивы на Минакши (букв. "Рыбоглазойм). Шива в этом ми-
фе выступает в роли пандийского царя, и миф в целом отра-
жает связь Пандиев с морем (один из титулов пандийского
царя — mînavan Рыбак\ рыбы — эмблема пандийской династии)
/Шульман, 198б, с.206 — 207/. Минакши здесь не просто ры*
бачка, но дева-рыба (другое ее имя — mïnampikai), морская
богиня (по одной версии мифа, она — сестра Вишну, приняв-
шего форму рыбы /Шульман, 1980, с.207/).
Реминисценции образа Минакши встречаются в поэзии ней-
даль нередко: "ты стоишь на берегу, словно богиня моря"
(АН 370,12); "не богиня ли ты, живущая в просторном, боль-
шом океане?" (HT 155,6); постоянно называется морской бо-
гиней девушка, к которой обращается герой в песнях ней-
даль из "Повести о браслете" (СП VII). Однако оригиналь-
ная мифологическая основа все-таки не просматривается в
теме нейдаль, и, несмотря на указанные морские ассоциа-
ции, на морской фон, сама ситуация тайной любви, ее струк-
тура, приемы изображения, принципы символического выраже-
ния заимствуются темой нейдаль у темы куриньджи. Причем
ввиду такого вторичного искусственного характера темы
нейдаль наибольший интерес в связи с ней представляет
чисто поэтическая работа автора, в первую очередь то,
как они адаптируют тему куриньджи к условиям морского
ландшафта. Очевидно, что делают они это сознательно, по-
скольку в стихах нейдаль иногда проскакивают детали ан-
туража темы куриньджи, совершенно неуместные в нейдаль.
В HT 267 говорится, что крабы ворошат упавшие цветы де-
рева няжаль, словно руки девушек, раскладывающих на про-
сушку просо (2 — 5); в HT 295 волосы девушки сравниваются
с вьюнком валли (1); КТ 318,3 упоминает поляну для "без-
умного" танца велана — единственного, пожалуй, существен-
ного события ситуации тайной любви, не воспроизведенного
темой нейдаль.
Эти факты, показывающие, как "проговариваются" поэты,
конечно, любопытны, но гораздо интереснее то, как воспро-
изводят они характерные для темы куриньджи коллизии с по-
мощью изобразительного материала, который им предостав-
ляют элементы mutai и karu темы нейдаль. Так, если де-
вушки куриньджи отгоняют птиц от созревающего поля, то
девушки нейдаль — от вялящейся на солнце рыбы; трудности
ночного свидания связаны, естественно, с приморским ланд-
шафтом: герой преодолевает лиманы, изобилующие акулами и
крокодилами; вместо купания в горных ручьях и озерах ге-
рои купаются в море.
Ритуально-млфааогичестсие истоки 157
Для обозначения различных стадий взаимоотношений геро-
ев или их состояний поэты используют знакомый нам мифоло-
гический код, работающий с деталями приморского ландшаф-
та, его флорой и фауной.
Здесь прежде всего следует выделить лилию нейдаль,
растущую в прибрежных прудах, озерах и лагунах. Нейдаль
имеет лепестки темно-синего (как сапфир) цвета (HT 382;
АН 240 и т.д.), маленькие зеленые листья (HT 23). Женские
глаза нередко уподобляются лилии нейдаль, а слезы — кап-
лям воды на ее лепестках (HT 195, 7—9). Нейдаль, безус-
ловно, символизирует в поэзии женское начало, и любовные
переживания героини передаются с помощью таких, например,
образов: мколесница приехала, давя цветы нейдаль11 (Айн
101,3); "нейдаль вянет от лучей солнца11 (HT 275,3).
Очень выразителен следующий фрагмент из HT 183: мТы не
думаешь о том, что она не проживет /без тебя/, словно
нейдаль в высохшем пруду, на которую наступает ищущая
рыбу белая цапля".
Пунней — большое дерево с черными длинными ветвями,
с белыми цветами. Оно дает приятную тень, и под ним ча-
сто происходят свидания героев.
Земли пустынные, близ моря лежащие,
Где варницы черные, где крокодилы с гнутыми лапами,
где акулы рогатые,
Ты пересек и ночью пришел к нам, житель прохладного
берега!
О, как обладать нами трудно! /Послушай/, отцом раздобытую
В море, средь волн, друг за дружкой бегущих,
Рыбу, что сушится, будем стеречь, птиц от нее отгонять.
Адумбу с цветами красивыми, яркими,
С листьями, что раздвоены, адумбу, что растет у
берега моря,
Где колючие водоросли изобильны, красные мягкие плети
колесами рассекая,
Колесницу, звенящую колокольцами,
Запряженную одной масти конями, гоня,
В прекрасную рощу деревьев пунней, чьи цветы
ярко-сверкающие,
Раскрываясь средь листьев блестящих,
Золотую пыльцу прохладноблагоуханную осыпают,
Приходи-ка во время дневное (АН 80).
Целый ряд признаков делает пунней как будто безуслов-
ным символом женского начала, уподобляя его в этом отно-
шении манго (белые цветы, темный ствол, тенистость).
В HT 172 прямо указывается на женскую природу этого де*
рева: героиня выращивает росток пунней и обращается с
ним как с сестрой. Однако поэты нередко игнорируют это
обстоятельство, выделяя лишь один, но кажущийся им наи-
более важным признак растения — золотую пыльцу его цве*
тов, которая делает его похожим на дерево венгей ("по-
158 Глава III
добная золоту пыльца пунней" — HT 78,3; 249,4; 2 78,3;
АН 230,7 и т.д.)« Так рождаются поэтические образы, при-
званные передать идею соединения героев. Например:
Что это — любовная боль, о подруга?
Глаза мои, как темный многолепестковый лотос,
Лишились сна, когда покинул нас властитель мягких
берегов,
Что смочены водою сладкой бьющих волн,
Где в сладостной тени пунней спит цапля (КТ 5).
Та же идея может быть выражена и так: "Чудесно выгля-
дит, как сапфир, покрытый золотом, лилия нейдаль, на ко-
торую попала тонкая пыльца пунней" (Айн 189, 1—2). Или:
"площадка для безумного танца усыпана опавшими благоухан-
ными цветами пунней и няжаль" (КТ 318, 1—2). Эти цветы
неоднократно упоминаются в поэзии вместе (HT 96, 1—2;
167, 8-9; 315, 6-7; АН 20, 3-6; 70, 9-10; Айн 103,
1—2 и т.д.), что свидетельствует о стабильности этого
символического образа. Следует, однако, оговориться, что
в приведенном выше примере белые цветы пунней опять сим-
волизируют женское начало, тогда как золотистые мелкие
цветы дерева няжаль — мужское. Как видим, закрепленных
соответствий здесь нет. Поэты выбирают какую-нибудь одну
черту предмета и придают ей тот или иной смысл в зависи-
мости от того, на чем строится используемый ими прием.
Чаще их интересует, однако% не обособленная символиче-
ская значимость предмета, ai его взаимодействие с други-
ми, которое могло бы прояснить смысл ситуации, действий
или состояний героев. Важно в конечном счете не то, что
смешивается; соседствует друг с другом, а важна сама
идея смешивания, соединения, символически выражающая
близость героев. Скажем, на брак молодых людей намекает
одновременно цветение пунней и дерева talai (HT 235,
1—3). Страдания, которые причиняет героине герой, мо-
гут символизировать такие, например, образы: "колесница
разрушает куклу, сделанную из песка" (АН 320, 11—12);
"акула прокусывает рыбацкие сети" (АН 340, 21; HT 303,
9 — 10); цапля на ветвях пунней отрясает пыльцу цветов
(HT 375); стая птиц, садясь на дерево няжаль, пригибает
его ветви (Айн 142) и т.д. В ситуации нейдаль-марудам
чайка, покидающая няжаль и летящая к пунней, обозначает
героя, покинувшего одну женщину ради другой.
Разумеется, все образы, встречающиеся в стихах, пере-
числить невозможно, да и не нужно, поскольку вполне ясен
принцип конструирования таких образов, уже известный нам
по другим темам-тиней. Правда, особенность темы нейдаль
состоит в том, что в присущем ей природном окружении мы
не встречаем предметов, с которыми был бы связан конкрет-
ный ритуальный или мифологический смысл (таких, как вен-
гей и валли в куриньджи, жасмин в муллей). Но это обора-
чивается известным преимуществом для поэтов, которые по-
Ритуально-мифологические истоки 159
лучают возможность гораздо более широкого выбора поэти-
ческих средств для демонстрации своей выдумки, остроумия.
В конечном счете это соответствует и искусственному, мож-
но даже сказать экспериментальному, характеру всей темы,
как бы сконструированной из различных элементов ранее
сложившихся тем. И хотя морской ландшафт сам по себе не
связан только с настроениями тоски и печали, возможно,
что формальные соображения — связь моря с Варуной, богом
подводного царства (который, кстати, в поэзии даже не
упоминается), — определили и "назначение" Варуны главой
района нейдаль (Тол 5), и, вследствие мрачного и опасного
характера этого бога, выделение в качестве основного си-
туативного элемента (uripporul) — страдание, жалобы в
разлуке (iraÀkal).
Тема палей
Как мы уже отмечали, ситуационный элемент данной темы
называется pirital — разъединение, разлука. Взятый изолиро-
ванно-, этот элемент, в сущности, универсален — ведь си-
туация разлуки свойственна всем прочим темам, и, с этой
точки зрения, тема палей некоторым образом присутствует
в каждой из них. Существуют, однако, ситуации, которые
приписываются традицией только данной теме. Это прежде
всего канун разлуки: героиня со страхом думает о пред-
стоящем уходе любимого (как правило, речь идет о супру-
гах) . Подруга утешает ее, давая понять, что герой ее не
покинет или, покинув, скоро возвратится:
Он сам нам сказал: "Война — это жизнь для мужчины,
Для женщины жизнь — это муж".
Не плачь, о подруга, поэтому он не уедет (КТ 135).
Герой, в свою очередь, медлит, колеблется и перед ухо-
дом нередко обращается к своему сердцу:
Когда ты помышляешь об уходе
От простодушной, полной блага, нежноплечей,
Чьи ниспадают волосы густые, прохладный аромат
распространяя,
То помышляешь ты о чем-то невозможном.
Живи, о сердце, — ты, что вдаль меня влечешь,
Туда, где посреди дороги длинной,
На склонах гор, лишенных влаги водопадов,
Громадный слон, чтоб утолить своей подруги голод,
Крушит деревья омей с гнутыми стволами,
Что путникам, бредущим по земле пустынной,
Дают скупую тень (HT 137).
Находясь вдали от дома, в безлюдном краю, герой вновь
беседует со своим сердцем, вспоминает красоту любимой,
думает о ней :
160 Глава III
Где ветер горячий со свистом колеблет
Сверкающие ветви илавам колючествольного и
Веет в зарослях бамбука,
Где грузный слон с детенышем страдает /от жары/,
Такой пустыни без воды, без тени
О трудностях громадных не подумало — живи, о сердце!
Сколь далеко меня ты привело, чтоб боль доставить той,
Чьи волосы густые источают аромат
Влекущей пчел пыльцы от темнолепестковых лилий кувалей
В озерах горных властелина Черы (HT 105).
В теме палей представлена и заключительная фаза раз-
луки (приход сезона дождей), трактуемая практически так
же, как в теме муллей (поэтому некоторые стихотворения,
описывающие страдания героини в начале сезона дождей,
относятся составителями антологий к той или иной теме
условно).
Наконец, теме палей принадлежат и ситуации, связан-
ные с добрачной любовью: побег влюбленных, их пребыва-
ние в пустынной местности, поиски их кормилицей, возвра-
щение в селение.
Там, где от долгой жары погибает кандаль,
Где жаром пышет тропа, лишенная тени,
Где обретается тигр, на перекрестке дороги с тропой
Что смотрит, /кого бы/ убить темным вечером,
Когда самки его со слабыми лапами
После рожденья детеныша голод остер, —
Как же она станет там сильной? Ведь даже при мысли:
"Ах, будет больно моей молодой высокой груди!"
Она жарко вздыхает, льет, нежная, слезы,
Она — достойная, скромная,
С влажными темными волосами (HT 29).
Характерна для темы палей и мизансцена, вообще доста-
точно редкая в поэзии ахам, — прямое обращение героя к
девушке; видя, как тяжело дается ей пребывание в пустын-
ной местности, он утешает ее, говорит о скором возвраще-
нии домой:
С громом таким, что змеи тесно жмутся одна к другой,
Вправо вздымаясь, туча льет чистый дождь — в это время
Хвосты узорчатые распускающих, пляшущих павлинов
Сапфировым шеям подобные
Пряди волос твои бутоноукрашенные чтоб развевались от
ветра,
Иди, о скромная, уж сумерки наступают.
Смотри, вдалеке показалось селенье благое,
Где бьют колокольчики, что пастухи привязали к коровам,
По склонам пасущимся гор, изобильных бамбуком (HT 264).
В этом стихотворении, как ни парадоксально, совершен-
но нет признаков района палей — природное окружение це-
Ритуально-мифологические истоки iei
ликом заимствовано у темы муцлей (в сравнение вводятся
сезон дождей и павлины, упоминаются пастухи, вечернее
время), что подчеркивает близость этих тем (хотя они и
ярко контрастны) и глубинную связь ситуации побега и
ситуации разлуки.
Эта связь на самом деле далеко не очевидна. "Стоит
задуматься, — замечает тамильский исследователь Тамижан-
наль, — над тем, почему побег приписывается теме палей,
имеющей дело с разлукой. Хотя этот побег ни в коем слу-
чае не разлука влюбленных, героиня все же оставляет сво-
их родителей, служанок, селение. Отсюда в ее душе на-
строение разлуки" /Тамижанналь, 1976, с. 164/. Такое обы-
денное толкование ситуации, конечно, здесь не подходит.
Дело не в эмоциях героини, а в смысле описанного в сти-
хах события. Подчеркнем, что совместный побег влюбленных
представляет собой принятый у многих народов* обычай, имеж
ющий характер инициационного испытания, предшествующего
браку /Вестермарк, 1921, т.2, с.564-565; Кроли, 1902,
с.368; Элвин, 1947, с.96; Джулинссон, 1974, с. 161/. По-
следний автор, например, пишет о гондах: "Молодая пара
может убежать в джунгли и должна быть возвращена родст-
венниками. Если строгие правила клана вообще допускают
их брак, молодые люди после этого считаются мужем и же-
ной". Участие родственников в ритуале побега тамильской
пары отмечено ролью кормилицы (или родной матери, отправ-
ляющейся на поиски героев).
Из вышесказанного ясно, что ситуационный элемент те-
мы палей следует интерпретировать с позиций ритуальной
структуры — как отход от нормы, вступление в особое про-
межуточное состояние .перед новым жизненным периодом (или
возвращением к прежнему, но обновленному состоянию). Та-
ким образом, традиционное обозначение этого элемента сло-
вом pirital разъединение, разлука можно признать терминоло-
гически четким указанием на среднюю фазу ритуала перехода
или на вступление в эту фазу, которая как раз и характе-
ризуется отлучением от привычного состояния, преодолением
трудностей, испытаниями. В поэзии испытаниями для героев
являются либо их разлука (невозможность свиданий, уход
героя "за богатством" или на битву — до брака или после),
либо совместное пребывание героев в районе палей. Этот
район, который был во всех основных чертах уже нами пред-
ставлен, имеет определенную географическую, главным обра-
зом сезонную, коннотацию, и, подобно другим районам, при-
обретает в поэзии ярко выраженное символическое значение,
как нельзя лучше соответствующее серединной фазе ритуалов
перехода.
Предложенное выше описание тем древнетамильской любов-
ной лирики не является исчерпывающим. Мы не стремились к
162 Глава III
тому, чтобы показать все возможные для каждой темы ситуа-
ции (с учетом всего поэтического материала, относящегося
к ним) или какие-либо отдельные ситуации исследовать до-
сконально. Кроме того, что это потребовало бы много места,
своей задачей мы считали выявление основного содержания
каждой темы, основной ее идеи. Мы думаем, что расширение
границ исследуемого материала могло бы подтвердить бы
наше представление о ритуально-мифологических истоках
тем-тиней.
Несомненно, эти темы образуют сердцевину древнетамиль-
ской поэзии ахам, ее каноническое ядро, которое традиция
закрепляет в виде системы ипяти тиней" (aintinai)57.
Представляет большой интерес вопрос о становлении этой
системы, ее функционировании и развитии. В следующей гла-j
ве, обобщая наблюдения над художественной структурой тем,
мы попробуем высказать по этому поводу некоторые сообра-
жения, уделяя особое внимание сфере фольклорно-обрядово-
го исполнительства.
Глава IV
ФОЛЬКЛОРНО-ПЕСЕННАЯ ОСНОВА ТЕМ-ТИНЕЙ
Трактат "Толькаппиям" описывает систему пяти тиней в
третьей части, посвященной содержанию поэзии ("Порулади-
харамм). Правда, согласно определению Тол,, общее число
тиней оказывается рдвным семи: "Считается, что существу-
ет семь тиней, начиная с peruntinai и кончая kaikkilai11.
Однако тут же следует оговорка: мИз них лишь средние
пять, кроме средней из этих пяти, обладают природой ча-
стей земли, окруженной шумными волнами океана11 (Тол 2).
Таким образом, из системы тиней как будто убираются три
темы на том основании, что они не соответствуют принци-
пу, на котором эта система, судя по формулировке Тол,
строится, — членению территории древнего Тамилнада на
районы, или типы ландшафта, называемые автором "частями
земли" или "мирами" — в сутре 5:
Мир лесов, где обитает Майон (т.е. Вишну),
Мир темных гор, где обитает Красный (т.е. Муруган),
Мир сладких вод, где обитает Индра,
Мир просторных морских песков, где обитает Варуна, —
Зовутся соответственно: муллей, куриньджи, марудам,
нейдаль.
"Средняя из пяти" — это тема-тиней палей, которую ав-
тор исключил из своей географии по причине отсутствия у
нее своего "мира" (ср. следующий отрывок из "Повести о
браслете": в период летней жары "земли куриньджи и мул-
лей изменили свой характер, утратили свое благое естест-
во и, заставляя людей дрожать от страха, приняли облик,
который называется палей" (СП XI, 64 — 66). Ясно, что
ландшафт палей носит сезонный характер (это подчеркива-
ется четкими временнь1ми параметрами темы, отмеченными
в Тол 11—12: полдень, летний сезон и сезон поздней ро-
сы) . Все же можно говорить даже о конкретной географиче-
ской локализации ландшафта палей: маршрут героя, отправ-
ляющегося "за богатством" или "на мужское дело", прохо-
дит, судя по некоторым стихам, через земли у северной
границы Тамижахама, в горах Венката /Тамижанналь, 1976,
с. 166; Котандапани Пиллей, 1961, с.67—68/. Надо также
вспомнить описания мест для погребения умерших (например,
в антологии "Пуранануру"), где мы находим многие призна-
ки района палей: солоноватая твердая почва, мемориальные
камни, заросли молочая, красноухий коршун, красная соба-
ка и т.д. Однако для характеристики этого района более
11-2 60
164 Глава IV
всего важны идеи, С ним связанные, и его значимая проти-
вопоставленность другим районам, наилучшим образом выра-
жаемая традиционной тамильской формулой: nâtu-kâtu куль-
тивированная земля — дикоел пустынное место, лес (см. /Сринйва-
сан, 1947, с.11 -12/).
Что же касается перунтиней и кайккилей, то они имеют
дело с такими ситуациями (например, взаимоотношения моло-
дого человека со старухой или, наоборот, с девушкой, не
достигшей брачного возраста, неравная, неразделенная лю-
бовь, эксцессы страсти и т.п.), которые не укладываются
в рамки идеала взаимной гармоничной любви, зафиксиро-
ванного в мТолькаппиямм. И потому трактат, хотя и фик-
сирует эти темы как поэтический факт, в основную систе-
му поэтического канона, имеющую, таким образом, вид "си-
стемы пяти тинейм, их не включает. По существу, формы
поведения, соответствующие этим двум тиней, он определя-
ет как плебейские: иНе запрещается делать действующими
лицами рабов и слуг за пределами /пяти тиней/, говорят
ученые поэты11 (Тол 25). Как разъясняет комментатор Илам-
буранар, речь идет именно о перунтиней и кайккилей1.
Наиболее характерной чертой древнетамильского канона
любовной поэзии ахам является единство ситуаций, аспек-
тов человеческих взаимоотношений с природным окружением-
присущими им ландшафтами. Большинство из них изображают-
ся в определенное время года, а иногда и суток и образу-
ют элемент темы, называемый mutalporul, т.е. время и
место действия2. Им соответствуют элементы karupporul
(местные предметы: флора, фауна и т.д.) и uripporul (по-
этическая ситуация). Соответствие заключается в том, что
за каждым элементом темы закрепляется значение, прису-
щее именно этой теме. Набор таких значений в системе пя-
тичленной классификации можно представить в виде таблицы
(см. с.165), в которой даны основные атрибуты тем-тиней3.
Нет сомнения, что система тиней возникла как резуль-
тат обобщения тенденций к определенному членению поэти-
ческого материала, которые наметились (и были закрепле-
ны традицией) в самой поэзии. Однако, поскольку эта си-
стема есть построение теоретическое, живая поэтическая
практика допускает многочисленные от нее отступления (са-
мый яркий пример — поэзия нейдаль, ситуативный элемент
которой составлен из элементов других тем. Можно отметить
также неясные порой контуры темы палей). Взаимное несоот-
ветствие или отсутствие элементов, образующих тему, на-
столько характерны для поэзии, что "Толькаппиям" вынуж-
ден прибегнуть к понятию tinai mayakkam смешение тиней,
т.е. фактически узаконить отступления от системы: "Муд-
рецы, хорошо знающие, как воспринимать вещи, говорят,
что нет запрета на Смешение тиней, но недопустимо сме-
шение различных ландшафтов в одном и том же стихе"
(Тол 14).
Тема-тиней
(ахам)
Куриньджи
Мулл ей
Марудам
Нейдаль
Палей
Мудальпоруль
Ландшафт
Горы и гор-
ные леса
Леса и
пастбища
Плодород-
ные речные
долины
Приморские
пески
Пустынные
земли
Сезон
Холодный
сезон;
сезон
ранней
росы
Сезон
дождей
(Сезон
не пре-
дусмот-
рен)
(" ")
Жаркий
сезон,
лето; се-
зон позд-
ней росы
Каруппоруль
Время
суток
Ночь
Вечер
Утро
Вечер
Полдень
Бог-покровитель
Муруган
Тирумаль (Вишну)
Индра
Варуна
Коттравей
(Дурга)
Население
Племена
горных
охотников
Пастухи
Земледельцы
Рыбаки
Племена
охотников
Уриппоруль
Любовная ситуация
Любовь с первого
в s гляда, т айные
ночные встречи
Жена терпеливо
ожидает возвра-
щения мужа
Печаль жены от
измены мужа,
размолвка
Страдания раз-
луки
Разлука
Тема-тиней
(пурам)
Угон скота
Вторжение на
территорию
врага
Захват враже-
ских укреплений
Сражение
Победа
166 Глава IV
Естествен вопрос о происхождении системы тиней, ее
становлении, развитии. Вадно, в частности, понять, как
возникло представление о мпяти ландшафтах (районах, ми-
рах)" и как они связаны с лирическими ситуациями. По
мнению многих исследователей, в текстах антологий и поэм
природа отражена настолько точно, что существует возмож-
ность отождествления поэтических картин с некоторыми ре-
альными географическими регионами Южной Индии /Тани Ная-
гам, 1966, с. 76; Сельванаягам, 1969, с.161—163/. Разви-
вая эту идею, авторы утверждают, что уже в древности на
юге Индии сложилось несколько "антропогеографических"
или "экологических" регионов, в которых природные факто-
ры составляют основание определенных видов человеческой
деятельности /Тани Наягам, 1966, с.10; Сельванаягам,
1969, с. 157 —159/. Иногда эти регионы соотносят со ста-
диями культурного и экономического развития общества в
целом. Так, Сриниваса Айенгар говорит о том, что система
тиней схематично отражает последовательное освоение та-
милами южноиндийских земель — от горной зоны до зоны при-
брежных песков — и овладение теми видами производственной
деятельности, которые соответствовали природной специфи-
ке этих зон (т.е. охота, скотоводство, земледелие, рыбо-
ловство) . Одновременно вырабатывались и определенные ти-
пы культуры /Сриниваса Айенгар, 1929, с.4 — 5, 12; Рама-
чандра Дикшитар, 1936, с.178; Тани Наягам, 1966, с.39,
86; Сингаравелу, 1966, с.18; см. также Сиватамби, 1968/.
По поводу такого рода рассуждений мы должны заметить,
присоединяясь к высказыванию Ф.Гро /1983, с.100/, что при
всей достоверности созданных древнетамильскими поэтами
поэтических картин и точности (часто скрупулезной) их де-
талей антологии и поэмы суть тексты поэтические, а не гео
графические, экономические, социологические и т.д. При-
ведем лишь один, но весьма показательный пример того, ка-
ким изменениям может подвергаться в древнетамильской поэ-
зии жизненная реальность.
Как известно, доминирующей у дравидов формой брака яв-
ляется до сих пор брак кросскузенный, основанный на пред-
ставлении о женщине как носительнице сакральной энергии
(см. главу I, С.28). Учитывая это, Дж.Харт пытался найти
примеры такого брака в древнетамильской поэзии, для кото-
рой упомянутое представление весьма важно. В частности,
на обычай родственного брака указывает, по его мнению
/Харт, 1974, с.39/, известное стихотворение КТ 40:
Кем были твоя мать и моя мать?
В каком отношении родства были мой отец и твой отец?
Я и ты — как мы узнали друг друга?
Но, как красная земля и дождевая вода,
Смешались наши сердца, полные любви.
Совершенно очевидно, что это стихотворение говорит
совсем о другом, и сам Харт через некоторое время при-
Фолъкаорно-песенная основа 167
знает, что "большинство поэм (видимо, все? — А.Д. ) опи-
сывает брак с мужчинами, которые являются не родственни-
ками или соседями, а незнакомцами" /Харт, 19 74, с.45/.
В чем тут дело?
Мы думаем, как раз в том, что поэзия отразила жизнь
не буквально, а через призму мифа — мифа о Муругане и
Валли. Но их миф;*" отмечали мы, признает кузенное родст-
во своих героев и как бы освящает его. Происходит это,
однако, на умозрительном уровне, абстрактно, в то время
как на уровне наррации и образности Муруган и Валли оп-
ределенно чужие друг другу. Более того, резко различны
их социальные позиции (Валли — дочь низкорожденного охот-
ника) . Здесь миф явно отвлекается от проблемы родствен-
ных связей и трактует другую, также затрагивавшуюся нами
тему: связь бога с местным этносом, обретение им "мест-
ной" супруги. Эта тема, отражающая ту стадию формирова-
ния мифологии Муругана, когда он втягивается в общеинду-
истский пантеон, оказывается в данном случае более важ-
ной н, оттесняя первую, локальную, проникает в поэзию
вместе с сюжетными ходами мифа.
Именно миф и ритуал, по нашему мнению, и должны быть
отправными точками исследования вопросов о происхождении
системы тиней.
Описание и анализ содержания пяти тем древнетамильской
любовной лирики наглядно свидетельствуют, что основные их
ситуации фиксируют определенные типы или модели ритуаль-
ного поведения. Его смысл в общем состоит в осуществлении
контроля над сакральной женской энергией, который принима*-
ет разные формы в зависимости от того, на какой жизненной
стадии или в.какой ситуации находится женщина — охрана
родителями, состояние в браке, самообуздание во время раз-
луки и т.д., — но никогда полностью не снимается. Вспоми-
ная касающееся античной поэзии замечание О.М.Фрейденберг
о том, что "древние пели не о любви, а об эросе" /Фрей-
денберг, 1973, с.289/, мы можем заключить, что и тамиль-
ская поэзия имеет дело скорее не с любовью, а именно с
эросом, безличной энергией, побуждающей людей проявлять
сильные, но, так сказать, обобщенные чувства. В полном
соответствии с этим герои поэзии, объекты и субъекты
страсти, представляют собой фигуры схематические, не имею-
щие имен и называемые либо в связи с принадлежностью к
определенной местности или месту ("горец", "житель селе-
ния", "житель бухты", "принадлежащая дому"), либо в зави-
симости от их роли или состояния на той или иной стадии
их взаимоотношений ("пересекшие пустынные земли", "поки-
нувшие", "пребывающая дома", "потерявшая благо красоты"
и т.п.), либо по детали внешности или атрибутики ("обла-
дающий крепкой грудью", "темная", "обладающая браслета-
ми" и т.п. /Дубянский, 1983, с.147/). Такого рода обоз-
начения, можно сказать, знаки функций подчеркивают риту-
альные истоки поэтических ситуаций, отмечая прохождение
11-4 60
168 Глава IV
героями определенной стадии ритуала или же их связь с
определенным мифологическим прототипом. Последнее пред-
ставляется особенно важным для поэзии, так как идентифи-
кация героев с персонажами мифов как бы компенсирует их
обезличенность, своеобразно индивидуализирует их, обеспе-
чивает развитие лирического сюжета, не говоря уже об обо-
гащении эмоциональной сферы поэзии.
То, что эта связь вообще возникает, неудивительно хо-
тя бы потому, что, как уже отмечалось, любовная пара в
индийской, и в частности тамильской, культуре обретает
сакрализованный статус, сливается с фигурами богов. Инте-
ресно другое: почему герои в цикле ситуаций, составляю-
щих сюжет древнетамильской лирики, идентифицируются не-
одинаково, в разных мифологических контекстах?
Глубинное объяснение этого, мы думаем, лежит в специ-
фике энергии анангу, ее текучей, изменчивой сущности,
потенциальной многоликости, определяющей изменчивость
образа женщины как ее носителя. Прекрасной иллюстрацией
здесь может послужить наблюдение, принадлежащее пардхану,
клановому певцу племени гондов, отражающее, конечно, тра-
диционное дравидское представление о природе женщины:
"В течение одного дня женщина появляется в нескольких
разных формах. Когда она выходит из дома на рассвете с
пустым сосудом на голове, она — дурное предзнаменование,
ибо сейчас ее имя Khaparadhârï, злой дух, несущий чере-
пок глиняной посуды.
Но через несколько минут женщина возвращается с сосу-
дом, полным воды, и теперь она Mätä Kalsahin, лучшая и
самая благая из богинь. Пардхан, который видит ее, готов
ей поклониться. Он бросает пайсу в сосуд и отправляется,
полный надежды, с поющим сердцем. Женщина входит в дом и
начинает убирать кухню. Теперь она богиня Bahiri-Batoran,
отводящая холеру от селения. Но когда она выходит подме-
сти двор и дорожку перед домом, она превращается в обык-
новенную подметальщицу. Через минуту она, однако, опять
изменяется, когда идет к коровам, где становится Mâtâ-
Laksmi, богиней богатства и удачи. Теперь время кормить
семью, и она становится Mätä Anna-Kumari, богиней зерна.
Вечером, когда она зажигает лампы, она Mätä Dia-Motin,
богиня, сверкающая, как жемчуг. Потом она кормит и укла-
дывает ребенка и становится Mätä Chawar-Motin. И затем,
ночью, она оборачивается ненасытной любовницей, которую
нужно удовлетворить. Теперь она богиня, которая поглоща-
ет своего мужа, как Lanka-Dahin поглотила Ланку пламе-
нем" /Хивале, 1946, с. 146-147/.
Аналогичным образом меняется сущность героини древне-
тамильской поэзии в зависимости от того, в каком состоя-
нии находится ее сакральная энергия. Определенное состо-
яние предполагает определенное воплощение и определенный
тип поведения, в ряде случаев фиксированный соответствую-
щим ритуалом или его фазой. Так выявляются суть поэтиче-
Фолъклорно-песенная основа 169
ских ситуаций и контуры мифологических фигур, наиболее
ей подходящих: куриньджи — сексуальное созревание девуш-
ки, первое соединение мужского и женского начал (punarcci),
здесь героиня — Валли; муллей — исполнение обета разлуки,
супружеская чистота (iruttal), героиня — Паттини, богиня
супружеской добродетели; марудам — подготовка женщины к
соединению с супругом после периода нечистоты, очищение
через размолвку (ututal), соперничество с гетерой, плодо-
родие, героиня — Девасена; палей — отход от нормы (piri-
tal), пребывание в опасном, концентрирующем энергию, "на-
гретом" состоянии (Коттравей). Нейдаль, как уже отмеча-
лось, выпадает из системы; ситуативный элемент этой темы
имеет композитный характер, связан прежде всего со сферой
эмоций — страданиями разлуки (irankal). Напомним все же,
что за образом героини здесь просматривается богиня Ми-
на кши . Фигура героя, как мы выяснили, может ассоцииро-
ваться с Муруганом или Малем. Впрочем, ассоциация с Малем
выявляется довольно слабо, и, по сути дела, мифологиче-
ским архетипом героя следует считать Муругана.
Все сказанное нельзя понимать прямолинейно как полное
равенство героев мифологическим персонажам. Здесь важно
указание на мифологическую суть ситуаций, определяющую
происхождение изобразительного канона. Кроме того, и не
все темы, как мы видели, одинаково "Мифологизированы".
Ясно, что в наибольшей степени это относится к куринь-
джи, а в наименьшей, пожалуй, к теме муллей. Зато в ней
совершенно отчетливо выявляется структура конкретного до-
машнего ритуала. В общем именно данные две темы достаточ-
но четко обнаруживают истоки своих лирических сюжетов,
что, как нам кажется, дает возможность предположить и их
сравнительно раннее происхождение, тем более что и свя-
заны они с двумя древними мифологическими фигурами — Му-
руганом и Малем. Вместе с ними следует вспомнить и о Кот-
травей как покровительнице района палей, и о самой теме
палей, которая, по-видимому, обособилась от тем куринь-
джи и муллей путем выделения сюжетного фрагмента, связан-
ного с идеей переходного (в ритуальном смысле) состояния.
Что касается других тем, то они, вероятно, сформировались
позже. Основанием для такого вывода служат эклектичность
нейдаль и специфически городской характер марудам. К со-
жалению, на данном этапе исследования системы тиней нель-
зя представить себе этот процесс с большей степенью точ-
ности .
Обратимся теперь к вопросу о том, как произошло сое-
динение ситуативного элемента темы с элементом природно-
го окружения. Собственно, ответ на него был нами в прин-
ципе уже дан: мифологическое мышление древних тамилов
тесно увязывало любовные ситуации с природными процесса-
ми на основе представления о сакральной энергии, равно
присущей женщине и природе. Одинаковые состояния этой
энергии обнаруживаются в ситуациях и в природном цикле,
170 Глава IV
образуя параллельные ряды событий и образов. При анали-
зе древнетамильской поэзии мы имеем дело по крайней ме-
ре с тремя такими рядами: ситуативным (ритуальным), при-
родным и мифологическим, которые соединены между собой
прочной глубинной связью — функцией выражения разными
средствами одной и той же мифологемы сакральной женской
энергии. Так же как каждое состояние женщины имеет свою
характерность, так и природа пяти районов представляет
собой определенные фазы природно-календарного цикла, ко-
торые соотносимы с упомянутыми состояниями и с которыми
сопрягаются определенные идеи (например, загрязненность,
чистота, плодородие, высыхание, накопление энергии, об-
новление, плодоношение и т.д.). На этом и зиждется идей-
ный и семантический параллелизм ситуаций и природного
окружения, из этого вырастает один из кардинальных прин-
ципов древнетамильской поэтики — символическое выражение
действий, состояний героев, смысла лирической ситуации
и его оттенков через образы окружения.
Так и происходит в поэзии становление основных поэти-
ческих ландшафтов, районов, которые, отображая реальную
географию, вместе с тем приобретают символическое значе-
ние и в этом качестве как бы автономизируются: за каждым
районом закрепляются определенная стадия любовных взаимо-
отношений и присущая ей идея. Поэтому даже в ситуациях
не лирических возможны такие, например, выражения: mul-
lai cänra mullai (СПан„ 169), т.е. район мулаей, связанный с
ситуацией мулпей (терпеливое ожидание t супруга, женская чи-
стота, целомудрие); marutam cänra marutam (СПан 186)
район /трудам^ связанный с сгтуацией'марудам (размолвка супру-
гов, соперничество женщин, обретение потомства). Эти
районы, а также нейдаль упоминаются и описываются в дан-
ной поэме совершенно вне любовной темы, когда один стран-
ствующий панан объясняет другому путь к покровителю. Яс-
но, что поэт оперирует здесь уже вполне сложившейся си-
стемой поэтического канона.
Принцип соответствия природного окружения фигурам ге-
роев и самой ситуации, характерный для древнетамильской
любовной поэзии, составляет основание системы символиче-
ской образности, которая способна косвенно охарактеризо-
вать не только героя и героиню, но и оттенки их взаимо-
отношений и смысл ситуации в общем. Отметим, что главной,
как нам кажется, тенденцией ее развития является стрем-
ление поэтов расширить рамки привычных, естественных сим-
волов и аналогий, прибегать к необычным картинам, услож-
нять образы, превращая их в поэтические намеки, порой
весьма замысловатые. Так, например, поэт Нальвилакканар
устами подруги героини называет героя "жителем высоких
гор, в которых ароматноволосая девушка из племени кура-
варов делит и раздает всем жителям маленького селения
мясо жирного кабана, подбитого охотником11 (HT 85, 8 — 10).
Этот образ, передающий, по мысли автора, идею общего вла-
Фолъкаорно-песенная основа 171
дения чем-то, служит тонким напоминанием герою (которйй,
подразумевается, слышит речь подруги, обращенную к геро-
ине) о том, что необходимо открыть свою любовь ("раздать
всем") и, следовательно, поскорее жениться.
Принцип поэтики, о котором мы говорим, можно с доста-
точным основанием назвать ритуальным — не только потому,
что многие из перечисленных нами в предыдущей главе при-
родных символов действительно так или иначе используются
в ритуалах, но и потому, что их упоминание в стихах часто
задумано как магически влияющее на ситуацию или предска-
зывающее события (т.е. работает принцип результативности
ритуальной символики). Разъяснить это положение поможет
один характерный ритуал, известный в тамильской культуре
с древности и запечатленный, в частности, поэмой "Муллеи-
ппатту". Отрывок из нее даст представление об этом риту-
але, называемом viricci nirral:
К окраине старинного, прекрасно укрепленного селения
Выходят пожилые женщины /-служанки/;
У них сосуды с рисом и ароматными расцветшими бутонами
муллей,
Которым шумно радуются пчелы, чье жужжание
Напоминает звуки сладостные йаля.
Цветы и рис рассыпав, женщины стоят,
Сложив в знак почитанья бога руки,
Благую весть услышать ожидая.
/И вот/ дрожащая от холода пастушка,
Руками плечи обхватив, печального теленка утешает, —
Веревкрю привязанный, по сторонам он смотрит, о матери
скучая.
"Она сейчас придет, — пастушка говорит, —
Ее пригонят пастухи с изогнутыми посохами11.
/Заметив это, к госпоже торопятся служанки/:
"Мы слышали хорошие слова, что подтверждают предсказания
благих людей;
С богатой данью, долг исполнив,
С победой господин вернется скоро,
Забудь, свою тоску и одиночество и не горюй" (МП 7 — 21).
Как видим, смысл данного ритуала состоит в том, что-
бы, уловив структуру какого-либо постороннего события или
явления, наложить ее на собственную ситуацию, интерпрети-
ровать ее в нужном ключе. Но именно так поступают и поэ-
ты, конструируя монолог того или иного героя. Например,
подруга обращается к героине:
Обезьяны краснолицые, с черными пальцами
Большой стаей купаются в ручьях по склонам гор,
Качаются на верхушках высокого бамбука и
С самцами соединяются, так что венгей горного
Ароматные цветы в горные озера опадают, —
Такой горной страны житель
172 Глава IV
В полночь редкоетнотемную, под дождем,
Копье подняв, по склонам гор с ручьями
При свете сверкающих молний придет — и тогда
Каково, о подруга, будет
Состояние нашей сладостной жизни! (HT 334).
Свидание героев еще не произошло, оно только предсто-
ит, но оно уже присутствует в речи подруги как предпола-
гаемое и желанное событие, символически выраженное ею
двояко: упоминанием соединяющихся обезьян и — с помощью
более абстрактного, но традиционного образа — венгей, ро-
няющего свои цветы в горные озера.
Интересно, что, будучи символом определенных, закре-
пленных за ним идей и представлений, район может выде-
ляться своеобразной магической функцией воздействия на
саму ситуацию. Например, район муллей, демонстрируя ге-
роям идеал счастливого соединения, как бы показывает не-
естественность разлуки, предвещает скорую встречу:
Когда он увидит, как черноногий самец-антилопа бросает
взгляд
На полную желания и смущенную этим взглядом простодушную
самку,
То в стороне, где свежестебельный муллей
Рассыпает множество прекрасных молодых цветов
На белом мелком песке пустошей,
Где пчелы раскрывают бутоны, заставляя их расцветать тем,
что заползают в них,
Где вечером, полным свежести пролившегося прохладного дождя,
По длинной дороге ползут рядами многочисленные
Кроваво-красные кошенили, —
Он вспомнит о тебе (АН 74,3—11).
Активная роль природного окружения иногда подчеркива-
ется поэтами очень своеобразно. Герой, стремящийся поско-
рее вернуться домой, медлит, заботясь о том, чтобы сим-
волический характер окружения не был нарушен:
Забудь удары кнута, о возница,
И правь так, чтобы мягко ступали ноги коней,
Умеющих скакать ровным галопом.
Разве может состояться полуночная, полная любви и желания
Встреча прекрасной, с /изящно/ изогнутыми ножками антилопы
с супругом,
Крученые рога которого подобны большому цветку банана...
Если услышат они /пугающий/ грохот крепкоколесной колесницы?
(АН 134, 11-14).
На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что
природное окружение (элементы мудаль и каруппоруль) не яв
ляется лишь статичным фоном ситуаций поэзии ахам. Оно
идейно насыщено, чрезвычайно действенно и наряду с ситу-
ативным элементом (уриппоруль) полноправно участвует в
Фольклорно-песенная основа 173
оформлении поэтической темы. Более того, его роль следу-
ет здесь считать ведущей. Природа, взятая как определен-
ный регионально-календарный пейзаж, будучи мифопоэтиче-
ским воплощением энергии плодородия, способна выразить
состояния и идеи пластически зримо, разнообразно, подчерк
кивая и усиливая их. Скажем, представление об амбивалент*
ном характере сакральной энергии — благом и разрушитель-
ном — в поэзии можно передать сюжетно (история Каннахи,
героини "Повести о браслете11), но можно и символически —
через пейзажи районов муллей и куриньджи в их противопо-
ставленности району палей. Как раз эта возможность и раз-
рабатывается в древнетамильских антологиях поэзии ахам.
И не случайно Тол говорит о недопустимости смешения раз-
личных ландшафтов в одном стихе (14) и указывает на то,
что определяющим в теме-тиней является именно природное
окружение: "При исследовании того, что встречается в сти-
хах, важна, когда говорят о содержании, такая последова-
тельность его элементов: мудаль, кару, урим (3).
Если считать, что генезис содержания древнетамильской
лирики нам в общих чертах понятен, то остается пока неяс-
но, существуют ли какие-либо литературные или долитера-
турные формы, к которым можно было бы возвести поэзию пя-
ти тем-тиней. Иначе говоря, важно знать, где она родилась
и как развивалась.
Можно сказать a priori, что для решения подобных вопро-
сов уместно обратиться к фольклору, но, к сожалению, вви-
ду отсутствия необходимого материала сделать это затруд-
нительно. Кое-что, однако, дает нам сама поэзия, позволяя
разобрать каждую тему под соответствующим углом зрения.
Тема куриньджи. Мы знаем, что ситуативным ее
элементом является "соединение героев", а в качестве эле-
мента природного окружения фигурирует район горных лесов
в холодное время года. Время суток, которое канон припи-
сывает теме куриньджи,—полночь ("холодный сезон и пол-
ночь — куриньджи" — Тол 6). Возникает вопрос, почему это
так. Известно ведь, что свидания героев, в том числе пер-
вое, в течение какого-то времени происходят днем (у про-
сяного поля). Дело здесь, как нам кажется, в чрезвычай-
ной важности именно ночной встречи влюбленных, наиболее
опасном и ритуально насыщенном моменте их взаимоотноше-
ний, моменте их наибольшего совпадения с образами Муру-
гана и Валли. Не случайно в описании этой встречи так
ощутим отголосок ритуала, связанного с призыванием Муру-
гана жрецом-веланом во время его экстатической пляски.
Темная полночь — настойчиво и многозначительно повторяю-
щийся в поэзии куриньджи момент прихода героя на тайное
свидание — это и время устроения таких плясок, сопровожу
дающихся жертвоприношениями, обращениями к Муругану и его
"появлением" ("страшная полночь, когда привели Муруга-
на" — АН 92, 11). Как герой являлся на свидание в облике
Муругана, так выходил на ритуальную поляну облаченный в
174 Глава IV
"костюм" бога жрец-велан (цветочные гирлянды, венки, по-
крытая сандалом грудь, копье в руке). Ему предстояло из-
гнать из "заболевшей" девушки духа, исцелить, "охладить"
ее, что, "кстати, функционально соответствовало половому
акту (который, напомним, мыслился как "охлаждающий").
И хотя мы точно не знаем, воспроизводился ли он реально,
его имитация, пантомимическое исполнение могли иметь место,
как они имеют место сейчас во время праздников, связанных
с культом Муругана. Поводом для них могут служить разные
обстоятельства (в частности, например, календарные собы-
тия) , но сохраняется главное — акцент на идеях плодоро-
дия, процветания, использование эротической символики,
которая весьма типична для традиционной истории Валли и
Муругана. Во время круговых танцев тунангей и куравей,
подобных тем, что описываются как пляски Муругана с гор-
ными девами (ТМА 190 — 217), должна была разыгрываться
встреча Муругана и Валли1*.
На праздниках при исполнении ритуалов плодородия пе-
лись песни, восхваляющие Муругана, его атрибуты и его
владения — горный район куриньджи. Эти песни, получившие
название куриньджи (как и присущий им мелодический тип),
родились в племенной среде охотников-кураваров, бывшей,
как известно, одним из истоков культа Муругана. В поэзии
они упоминаются не раз: "горянка поет куриньджи" (АН 102,
6); "лесные жители, обладатели крепких домов, поют ку-
риньджи" (HT 266,2); девушка из племени кураваров поет
куриньджи во время жертвоприношения Муругану (ТМА 239);
"на склонах гор, пахнущих сезоном дождей, поет куриньджи
вирали" (МПК 359). Часто песни не называются, но сомнений
в том, что речь идет о куриньджи, не возникает: "хорош
танец со сложенными руками, когда воспевают кадамбу и сло-
на Муругана" (АН 138, 10 — 11); "ахавунары воспевают го-
ру, где зреет мед" (АН 208,.2); "горы, воспетые искус-
ным в речениях поэтом-пулаваном" (АН 345,6); "Когда вос-
певал он горные склоны с цветами куриньджи, прислонясь
к стволу хлебного дерева, пришли женщины и сложили на
тигровую шкуру дань: жирное мясо антилопы, сандал, бив-
ни слона" (ПН 374, 8 -10) .
Как видно из этих примеров, песни куриньджи исполня-
лись горцами, странствующими певицами (вирали), жрецами
и прорицателями, а также придворными поэтами. При таком
широком их распространении допустимо предположить, что
и разыгрывание сюжета встречи Муругана и Валли сопровож-
далось исполнением цикла подобных песен, в которых Муру-
ган восхвалялся как любовник.
О том, что возможным истоком поэзии на тему куринь-
джи была стихия театрализованного ритуального представ-
ления, свидетельствует ряд моментов: ограниченный и ха-
рактерный набор персонажей, элементы "костюмности" в
описании их внешности, мизансценический характер микро-
ситуаций (особенно показательна в этом отношении ситуа-
Фолькпорно-песенная основа 175
ция, когда подруга обращается к героине "так, чтобы слы-
шал герой11, незримо находившийся рядом; ср. âkâsa bhâsi-
ta санскритского театра); наконец, веским аргументом в
пользу театральности древнетамильскои поэзии является
подспудная диалогическая структура: каждый монолог под-
черкнуто рассчитан на восприятие слушателя и подразуме-
вает его реакцию. Возьмем для примера принадлежащие раз-
ным авторам стихотворения из сборника HT, которые можно
представить как своеобразный диалог действующих лиц.
Герой, подходя к полю созревающего проса, говорит:
Что за маленькое селение это в долине больших гор,
Где красная корова-мать ест сочную мякоть
Плода хлебного дерева, к которому привязан теленок,
растущего в месте для собраний
На горном склоне, где шумят ручьи, — а потом, /поев/,
Пьет прохладную воду на холме, покрытом бамбуком?
На вопрос мой ответьте-ка! Кроме того,
Когда темная туча обрушивается дождем, вздымающихся,
Красных, зреющих, красиво наливающихся
Колосьев маленького проса
К жатве /готового/ поля охрана — не ваша ли?
О длиннорукие, с крутовздымакщимися лонами!5 (HT 213).
Ответ девушек:
Если ты называешь нас девушками /из племени/
Сильных охотников, преследующих в лесу антилопу,
Дуя в рог, с собаками оскаленными, — /послушай/:
Мы — дочери кураваров, кодиччи, принадлежащие горам.
В горах селенье наше, там, где лесной павлин
Облюбовал себе шалаш на длинных сваях,
Построенный охранником полей. Не уходи /к себе/,
Иди-ка к нам, напейся каля, что созрел
В сосудах из бамбука с горных склонов,
И посмотри на танец куравей,
Который пляшут на поляне под деревом венгей (HT 276)6.
Попытка сопоставления двух конкретных стихотворений
отнюдь не означает, что именно они в самом деле сопостав-
лялись каким-либо образом (скорее всего — нет, ведь нет
даже полного соответствия одного другому). Но дело не в
этом, а в принципиальной возможности сопрягать монологи-
ческие высказывания в диалоге — возможности, заложенной
в них изначально, о чем свидетельствует наличие в боль-
шинстве древнетамильских стихотворений словесных знаков
общения: обращений, вопросов, восклицаний. Например:
"Выслушай меня, о матьIм; мЧто будем делать, о подруга?1';
"Что подумает мать, о подруга?"; "Чья дочь она?"; "Он вер*
нется, о подруга!" и т.д.Весьма характерна и часто встре-
чающаяся этикетная формула здравицы — väli живи!, да живи!
("Живи, о мать!"; "Живи, о подруга!"; "Живи, о сердце!" и
т.д.) .
176 Глава IV
Возвращаясь к песням куриньджи, выскажем уверенность,
что именно в них следует искать происхождение той атрибу-
тивной конструкции, которая соединяет героя с определен-
ным .ландшафтом. Идейное обоснование этой конструкции
состоит в важнейшей для древнетамильской культуры религи-
озно-мифологической концепции, устанавливающей неразрыв-
ную связь божества с конкретной местностью или местом,
связь, которая носит весьма непосредственный, можно ска-
зать, личный характер. Именно так понимается двоякая
связь Муругана с горами: с одной стороны, он — житель гор
олицетворяющий собой их естественные свойства, с другой-
он их повелитель, хозяин, от него зависит их плодородие,
а также благо и процветание их обитателей. Из этого ста-
новится ясно, почему одной из форм почитания божества яв-
ляются песни, восхваляющие его как горного жителя и вла-
стелина и воспевающие сами горы, место его обитания, его
владения. Они исполнялись во время плясок в честь Муру-
гана, во время ритуалов плодородия, девичьих игр и обря-
дов, а также и на определенных стадиях развития насыщен-
ного ритуалами и мифологизированного любовного романа.
В песнях и происходило уже известное нам совмещение фи-
гур героя и Муругана, в результате чего герой приобрел
и "титул" "жителя (или властителя) гор11, и статус объек-
та панегирических песнопений: м0 прекрасная девушка!
Словно господина (т.е. Муругана), воспоем жителя дающих
благо темноглавых гор!" (Кали 43, 5—6); "мы будем много-
дневно, тебя и твою гору воспевая, сторожить просо"
(HT 156, 4); "воспоем благодатную гору того, кто причи-
нил нам неутолимую боль!" (Кали 40, 6 — 7).
Тема муллей. В стихотворениях и поэмах на эту те-
му нередко упоминается мелодия, связанная с сезоном дож-
дей (каром). Она называется cevvali и исполняется, судя
по всему, с наступлением темноты:""когда стало темно, мы
запели о встречающем_кар лесе, играя на маленьком йале
/мелодию/ чевважи" (IÎH 144, 1—3); пастухи, возвращаясь с
полей во время кара, "играют на прекрасном йале мягкую
мелодию чевважи" (АН 214, 13); "вечером женщины, играя
чевважи, идут в храмы" (МК 604). Кроме того, в текстах
говорится и о мелодии муллей, которая исполняется пасту-
хами на флейтах (СП IV, 15; Мани V, 136), пананом на йа-
ле (Айн 408, 1). Можно предположить, что чевважи, упоми-
наемая среди семи основных "мелодий" в "Повести о брасле-
те" (III, 84), и муллей суть разновидности одного и того
же — своеобразной вечерней раги, исполнявшейся с наступ-
лением сезона дождей на йалях и флейтах, иногда в соче-
тании с голосом. Восстановить музыкальную формулу этой
раги не представляется возможным, да в этом для наших це-
лей и нет необходимости. Гораздо важнее отметить вырисо-
вывающуюся из текстов ее стилистическую особенность —
мягкий, сдержанный характер (paiyul cevvali - АН 214,13)
Фольклорно-песенная основа 177
и то, что ее происхождение связано, по-видимому, с племе-
нами пастухов.
Игра пастухов на флейтах упоминается в поэзии неодно-
кратно (например, АН 54,11; 354,5; HT 69,8; 364,10; КТ 69,
8), и она в основе своей отнюдь не была развлечением. Из-
древле считалось, что звуки флейты, звон колокольчиков на
шеях коров защищают скот от гибели и порчи (в частности,
от хищников и "нечистого" влияния) /Гунда, 1970/. Иначе
говоря, игра на флейте или свирели представляла собой ма-
гический охранный акт, особенно многозначительный с на-
ступлением темноты: как известно, суеверное отношение лю-
дей к вечерним часам — явление широко распространенное7.
Таким образом, музыкальным истоком раги муллей, или
чевважи, можно считать пастушеские наигрыши, с которыми
определенно связывалась функция оберега, охраны. Неудиви-
тельно, что эта para использовалась и в песнопениях, по-
священных восхвалению Кришны (тамильские имена — Тирумаль,
Майон, Маяван), одного из воплощений Вишну, бога, который
является "активным обеспечителем позитивных ценностей и
блага в этом мире" /Гонда, 19 76, с.9/ и в культе которот
го особенно подчеркивается охранительный аспект божест-
венной силы. В главе XVII "Повести о браслете" ("Танцы
пастушек") пастушки восклицают: "Воспоем сладостной мело^-
дней муллей (mullai tîmpâni) того, кто сломал дерево ку-
рунду, стоявшее среди широкой пустоши!" (17). Далее сле-
дуют короткие попевки, в которых упоминается ряд эпизодов
мифологии бога.
О подруга! Если в наше стадо коров
Забредет Маяван, кто теленком, как-палкой,
Сшибает с деревьев плоды,
Ведь, не правда ль, услышим мы
Сладкий звук флейты его из кондрей?
О подруга! Если в наше стадо коров
Забредет Маяван, кто, из змея сделав веревку,
Океан огромный вспахтал,
Ведь, не правда ль, услышим мы
Сладкий звук флейты его из лилии амбаль?
О подруга! Если в наше стадо коров дневною порою
Забредет Маяван, кто на пустоши росшее
Дерево курунду как-то сломал,
Ведь, не правда ль, услышим мы
Сладкий звук флейты его из ветви муллей?
Заслуживает внимания то, что в "Повести о браслете"
эти и другие песни в честь Кришны исполняются во время
ритуального хороводного танца куравей, когда девушки "ра-
зыгрывают" пляски пастушек с Кришной, его возлюбленной
Наппиней и братом Баларамой. Цель песнопений и танцев
однозначно определяется как охрана скота: "Мы спляшем
куравей, чтобы прекратились страдания коров и телят"
12 60
178 Глава IV
(СП XVII, раздел karuppam, 15 — 116); "пусть бог, которого
мы восхваляем в хороводе куравей, отвратит зло от наших
стад!'1 (СП XVII, раздел patarkkai par-aval, 17 — 18).
В приведенных выше песнях отчетливо выражены настрое-
ния ожидания, надежда на приход Кришны, желание ощущать
его рядом. Эта эмоциональная тональность вообще составля-
ет стойкую черту женских кришнаитских обрядов /Хейн, 1972,
с.190/ и1 характерна, например, для упоминавшихся тамиль-
ских гимнов "Тируппавей" средневековой поэтессы Андаль.
Очевидное структурное сходство ритуала разлуки и тех
кришнаитских ритуалов, что завершались девичьими песня-
ми и хороводами, присущие им акценты на идеях плодородия
и процветания, мотив ожидания встречи, соединения с люби-
мым (супругом) заставляют нас предположить существование
каких-то песенных, а возможно, и песенно-танцевальных
коллективных форм, обслуживавших и ритуал разлуки. Во вся-
ком случае, несомненным представляется то, что продемон-
стрированная нами внутренняя диалогичность стихов, посто-
янное употребление местоимений множественного числа ("мы",
"наше") составляют особенности именно хороводного и хоро-
вого исполнения с его противопоставлением групп, амебей-
ностью. К этой сфере, мы полагаем, и восходят как основной
композиционный стержень, так и эмоциональная двухвалент-
ность всей темы разлуки: вопрос-ламентация ("Его нет, я
страдаю, что. мне делать?") и ответ-утешение ("Он придет,
не плачь!").
Чрезвычайно важна еще одна особенность кришнаитских
хороводов — их связь с сезоном дождей, которая не могла
не найти отражение в песнях, либо призывающих, либо вос-
хваляющих этот сезон: "Мы воспоем и восхвалим лес, "На-
полненный жужжанием пчел" (Кали 106, 48). Эти песни, не-
сомненно, следует считать разновидностью песен муллей.
К сожалению, мы не располагаем текстами, которые могли
бы служить их примерами, но предполагаем, что они носили
скорее всего чисто описательный характер — ведь простого
перечисления признаков столь многозначительного события,
как приход сезона дождей, вполне достаточно для выраже-
ния хвалебной функции (наподобие того как она выражается
в гимнах, содержание которых состоит в перечислении имен
бога). Именно такой песенный тип мы угадываем в тех сти-
хотворениях на тему муллей, где создаются простые, не отя-
гощенные излишними подробностями, но яркие и живые карти-
ны природы.
Лишенный листьев пидавам влажные бутоны раскрывает,
Жасмина ветви одеваются цветами,
Цветет, подобно золоту, кондрей, теснятся ветви кайа,
Чьи изобильные цветы напоминают горсть сапфиров, —
Так начался сезон дождей (HT 242, 1—5).
Над горными вершинами изогнут страх внушающий прекрасный лук,
Подобно барабанам, прогремели тучи и, океана влагой насыщаясь,
Фольклорно-песенная основа 179
Стремительно вздымаются и проливают столь обильный дождь,
Что света стороны во мраке исчезают. В это время,
Когда прохладной красотой и наслаждением наполнена земля,
Муллей соцветья ароматные, едва раскрывшись, опадают
(АН 84, 1-8).
С приходом дождей закономерно связаны идеи возрожден
ния производительных сил природы, ее избавления от прису-
щих летней жаре страданий, очищения. Иначе говоря, речь
здесь идет о более общей идее охраны и поддержания бла-
га, которую реализует и Тирумаль-Кришна как бог, обеспе-
чивающий своевременное наступление сезона кар. Но эта же
идея лежит и в основании ритуала разлуки, о котором гово-
рилось выше. Функциональное единство трех процессов —
прихода дождей (ceyir tir mari дождь, уничтожающий неблагое —
HT 364, 12), деятельности бога (ceyir tir annal о предво-
дитель, уничтожакхций неблагое — Пари I, 27), ритуала (ceyir
tïr kolkai поведение, уничтожающее неблагое — АН 75,10) — созда-
ет предпосылку Для проникновения песен муллей из сферы
хороводов и коллективных песнопений в сферу домашнего ри-
туального обихода.
Переход этот осуществился, как нам представляется, в
творчестве поэтов-певцов, ведших полубродячий образ жиз-
ни и занимавшихся преимущественно панегирической деятель-
ностью, но принимавших немаловажное участие и в домашних
ритуалах в семьях "благородных воинов". Мы уже говорили о
том, что такие певцы, и в частности наиболее известная их
разновидность — панары, играли роль вестников, приносив-
ших сведения разлученным супругам о каждом из них, а кро-
ме того, исполняли в домах песни муллей, что имело охран-
ное, очистительное значение и способствовало семейному
процветанию:
Когда панан играет мелодию муллей
И яснолобая женщина надевает венок из муллей,
Сладка его жизнь, и он, достославный, процветает, имея сына
От той, чье поведение уничтожает зло (Айн 408).
Роль поэта в ритуале разлуки хорошо иллюстрируется, сле-
дующим стихотворением из "Пуранануру", обращенным к пра-
вителю по имени Пекан:
Когда, пересекши гористую местность с ручьями, бегущими в
выемках скальных,
Настроив свой маленький йаль на чевважи, я вчера у нее
появился,
У той, что тоскует и в доме своем проливает обильные слезы,
Подобные сладким потокам сезона дождей, —
Услышав мелодию, женщина эта, прекрасная темной своей
красотою,
С глазами влажными, с прожилками красными,
Отмыла свои превосходные, темные, масла лишенные волосы,
Подобно тому как от грязи сапфир очищают,
12-2 60
180 Глава IV
И новым цветком их украсила. И если сегодня ты к ней
соберешься идти,
То лучшей награды за службу мою мне не надо, о князь
рода Ави! (ПН 147).
Отрывок из стихотворения АН 14 дает нам пример речи
панана, предназначенной для слуха одинокой супруги героя:
На йале превосходном я стал играть мелодию чевважи
И, тихо бога восхвалив, телесные страдания ее умерил.
Ведь я, к нему ходящий, видел: быстро скачут подгоняемые
кони,
И колесница длинная, красивая, принадлежащая владельцу
прекрасного селения,
Несется по камням, и многоспицые колеса производят грохот,
Подобный шуму ливня наступившего сезона кар (АН 14, 15 — 21).
Помимо того что, будучи посредником между разлученны-
ми супругами, панан сообщал каждому из них, в каком со-
стоянии находится другой, он исполнял, как мы отмечали
выше, и более общую функцию ритуальной охраны домашнего
очага и в пределах этой функции, используя различные те-
мы и мотивы муллей, варьировал старые. Так мог быть на-
щупан новый принцип подачи материала — драматургический:
песни стали исполняться как бы от лица героев ситуации
разлуки и сопутствующих им персонажей. Не исключена воз-
можность и того, что панары драматически разыгрывали си-
туацию разлуки со своими помощниками, в частности вира-
ли, с которыми они бродили по дорогам8.
К сожалению, со всей определенностью зафиксировать
процесс перехода от фольклорных форм творчества к про-
фессиональным и от коллективных к индивидуальным пока
представляется затруднительным. Как бы то ни было, не-
сомненно, что именно в творчестве панаров (и других им
подобных певцов-поэтов) произошел, так сказать, синтез
темы мулле*й, становление ее канонической поэтики, за-
имствованной ими из обрядовых кришнаитских песен;
Подытоживая характеристику этих песен, отметим как
специфическую черту их формы связь с темброво и эмоцио-
нально окрашенной мелодической моделью (рагой) , обладаю-
щей определенной ритуальной функцией и через это увя-
занной с вишнуитской культовой зоной. Все прочие поэти-
ческие элементы песен муллей — ситуативные, образные,
изобразительные — накладываются на эту модель, подсвечи-
ваются ею и ею обусловливаются.
Тема мдрудам. Ситуация темы связана с чадороди-
ем, соотнесенным с плодородием земли. Поэтому естествен-
но предположить существование песнопений или мелодий,
использовавшихся в соответствующих ритуалах. Во всяком
случае, строки изпоэмыМПК 469—470: "Сыграй марудам на
йале /в лад/ со звуками, которые производят пахари11 —
свидетельствуют о связи этой мелодии с земледелием.
Фольклорно-песенная основа i81
В другом месте этой же поэмы содержится обращенная к
странствующим поэтам просьба спеть новые песни в честь
царя, "после того как знающая свой долг вирали, не отступая
от правил, выработанных древней традицией, восхвалит ред-
костносильного бога, играя на маленьком йале марудам"
(МПК 534 — 537). Какой бог здесь имеется в виду, неясно.
Комментатор поэмы считает, что Муруган (ведь герой поэ-
мы — царь Наннан, властитель горной страны), но можно
предположить, что это — Индра, хорошо известный на та-
мильской земле как бог плодородия, покровитель земледе-
льцев.
Как бы то ни было, характерно исполнение марудам в
панегирическом ритуале. Но бывает, что панегирик прямо
используется в теме-тиней марудам, усиливая присущий ей
акцент на идеях процветания, плодородия. Яркий пример
этому — десять стихотворений из раздела марудам антоло-
гии "Аингурунуру", в которых содержится здравица в честь
царей Черы Адана и Авини. Подруга героини восклицает,
когда герой возвращается от гетеры:
"Живи, Адан! Живи, Авини!
Пусть рис возрастает, пусть золото копится!" —
Вот так наша мать пожелала. А мы:
"Да здравствует житель селенья с достатком,
С бутонами каньджи, с икрою богатыми рыбами!
И панан да здравствует!" — так пожелали (1).
Здесь (как и в других стихотворениях этого раздела)
семейная ситуация в контексте некоего домашнего ритуала,
направленного на охрану и возрастание блага семьи, ста-
вится в связь с процветанием царей и их земель. Этот
ритуал, видимо, очень древен и, мы думаем, близок ведий-
скому ритуалу sïmantonnayana, исполнявшемуся во время
первой беременности женщины, тем, что большую роль в нем
играли певцы и музыканты-лютнисты, восхвалявшие бога Со-
му и царя /Хеестерман, 1957, с. 75/. Сома здесь ассоци-
ируется с семенем, которое в тамильских ритуалах плодоро-
дия представлено струящейся водой. Отсюда еще одна тема,
присущая ситуации марудам, — восхваление водного потока,
прибывающей в реке воды, собственно, самой реки — чаще
всего Вайхей и Кавери. Река Вайхей, полная в период мус-
сона новой воды, упоминается, например, в АН 256, 10 — 11;
296,5; Кали 72,5 и пространно описывается в гимнах "Пари-
падаль", специально ей посвященных и ее восхваляющих (6 —
7, 10 — 13, 16, 20, 22). В этих гимнах, да и в других ан-
тологиях часто упоминаются ритуал купания героя с женщи-
нами, с гетерами, его пляски с ними ("праздничный тунан-
гей" — КТ 50, 3). Во время совместных купаний и плясок
пелись песни, восхваляющие героя или порицающие гетер:
"девушки... пляшут куравей в тени дерева каньджи и поют
о пороках гетер, с которыми наслаждается герой" (АН 336,
7-9).
182 Глава IV
Таким образом, мы видим, что ситуация марудам, тесно
связанная с ритуалами плодородия, заключает в себе нача-
ло возможностей исполнения (на фольклорном уровне) песен,
гимнов, панегириков. По всей вероятности, не все они свя-
заны с мелодией марудам, которая исполнялась, что вполне
соответствует канону темы, утром ("утром на йалях играют
марудам" — МК 6 53), но то, что песни и мелодия марудам
широко использовались в ритуалах плодородия, и в частно-
сти в домашних обрядах, не вызывает сомнения.
С гораздо меньшей определенностью мы можем говорить
о фольклорно-песенной основе других тем-тиней. Тема
ней да ль, как мы отмечали, носит эклектичный характер.
что как будто исключает единый песенный ее исток. В са-
мом деле, конкретных данных о песнях и мелодиях нейдаль
мы не обнаружили. Интересно, что во фрагменте поэмы "По-
рунараттруппадей" (117 — 120), в котором говорится о бли-
зости жителей разных районов в пределах одного царства,
"рыбаки поют куриньджи, лесные жители — марудам", но ку-
равары не поют нейдаль, а "надевают благоухающие венки
из лилий нейдаль". Это косвенно свидетельствует о специ-
фичном характере песен или мелодий, делающем неуместным
их исполнение в обычное время, что подтверждается фактом
существования особого погребального барабана, именовав-
шегося нейдаль (ПН 194,1; 389,17).
О мелодии палей некоторые сведения в поэзии есть.
Отмечается сладостность ее звучания (ППан 180), похо-
жего на жужжание пчел (АН 355, 4). Поскольку в стихотво-
рении АН речь идет о начале лета, упоминание в нем дан-
ной мелодии не случайно и дает нам возможность связать
ее исполнение с жарким сезоном (районом палей) и культом
богини Коттравей, жертвоприношения которой совершались
именно в это время. В "Повести о браслете" описаны такие
жертвоприношения и сопровождающие их песни охотников,
исполнявшиеся "в святилище юной сестры Маля, где громко
жужжит пчелиное племя, словно играют на йале" (СП XII,
3). Содержание песен-гимнов Коттравей никак не связано
с темой любовной разлуки, но то, что в этот период ге-
роиня, как мы отмечали, представляла собой реплику боги-
ни, могло быть достаточным основанием для усвоения поэ-
тами хотя бы мелодической основы этих гимнов. Кроме то-
го, следует учесть, что гимны Коттравей исполнялись и в
ситуации разлуки, когда супруг находился в военном похо-
де ("о мать, дай ему силу завершить трудное и тяжелое
дело и прекрати страдания благой женщины, пребывающей
в тоске11 — НВ 166 — 168). Таким образом, можно считать
несомненным некоторое их участие в становлении формы
стихотворений на тему палей.
Важно подчеркнуть и роль музыки, понимание которой
в древности было особым. Восприятие и переживание всех
названных выше мелодий (и даже отдельных звуков) неотде-
лимо от их конкретных ритуальных функций, от представле-
Фольклорно-песенная основа 183
ний, с ними связанных (ритуализированность звука, тона
находит любопытное подтверждение в эпизоде из "Повести
о браслете", где семь пастушек, собираясь исполнить ри-
туальный танец в честь Кришны, получают наименования
семи струн, т.е. тонов йаля, - СП XVII). По сути дела,
древнетамильские мелодии (pan) представляют собой раги,
эмоционально окрашенные мелодические типы, традиционно
сопряженные с некоторыми идеями (например, идеями чисто-
ты, опасности, охраны, плодородия). Отсюда вытекает их
роль в ритуале, где они могут быть доминантными символа-
ми, т.е. одной из форм выражения основной идеи ритуала
или его фазы наряду, например, с цветом, некоторыми пред-
метами или словами. Конечно, такая их особенность, есте-
ственно, связана с культом того или иного бога, выполняю-
щего в тот или иной момент определенные функции. В этом
же лежит причина связи мелодий с мифологически интерпре-
тируемыми календарным или суточным циклами, а также и с
местностью, представлявшей собой владения конкретного
бога.
Учитывая все это, мы полагаем, что мелодическое нача-
ло, заимствованное поэзией из песен и ритуалов (напом-
ним, что стихотворения пелись), следует рассматривать
как мощный формообразующий фактор, обеспечивающий глу-
бинное единство содержания всех элементов поэтики тем-ти-
ней. В конце концов в каждой ситуации поэзии ахам содер-
жится не одна идея, многие из них можно повернуть раз-
ными гранями (ср. амбивалентность или даже поливалент-
ность женской сакральной энергии), и выбор той или иной
грани, придание тематической определенности ситуации, ве-
роятно, зависят от выбора мелодии. Потому было возможно
упоминаемое в Тол "смешение тиней",*что оно касалось лишь
ситуативного элемента, а его трактовка, "вытягивание" из
него той или иной идеи и его тематическое оформление за-
висели от природного окружения (как это понимал автор
Тол) и от мелодии, на которую пелся текст (как думаем мы,
памятуя о том, что в ритуально-культовых комплексах оба
эти элемента были сплавлены в некое единство).
Говоря о песенных истоках тем-тиней, мы не можем обой-
ти еще один, имеющий чисто фольклорный характер. Это жен-
ские песни разлуки. Не располагая соответствующими тек-
стами, мы тем не менее убеждены в том, что такие песни
должны были существовать, во всяком случае, они типичны
для индийского фольклора, как показывает исследование
Ш.Водвиль народных форм жанра "двенадцать месяцев" ("ба-
рахмаса") /Водвиль, 1964/. В тамильской поэзии есть сти-
хотворения, которые явно восходят к таким песням и пред-
ставляют собой либо чистое выражение эмоций:
Болит мое сердце, болит мое сердце!
В глазах стоят слезы, горячие, словно огонь.
Любимый наш, нас утешавший,.
Отсутствует — вот потому болит мое сердце! (КГ 4),
12-4 60
184 Глава IV
либо цереживания на фоне природы, чаще всего во время
дождей:
Страдания в сезон холодного дождя невыносимы;
В то время, когда птицы с криками летят домой,
Со мною нет любимого, который меня может успокоить.
Не может успокоиться, забыть его мое простое сердце
(Айн 452).
В такого рода стихотворениях вполне справедливо ожи-
дать разработки типичных для фольклора психологического
параллелизма или контраста. Однако только психологическо-
го объяснения сочетания страданий разлуки с сезоном дож-
дей явно недостаточно: связь между ними более глубокая
(что было показано нами раньше). Вместе с тем нельзя,
как нам кажется, сбрасывать со счетов те народные песни,
которые могли быть выражениями "ламентаций деревенской
virahinï (разлученной)1' /Водвиль, 1964, с.346/ в любое
время года и в которых именно прием психологического па-
раллелизма (контраста) был основой поэтики. В комплексе
древнетамильской поэзии есть примеры, когда страдания
разлуки приходятся не только на сезон жары или дождей,
но и на прохладный сезон, сезон поздней росы, весну.
Мне тяжко внимать непрестанным и жалобным крикам
кукушки,
Они подобны копью, что брошено в сердце и так уже
болящее
От старой, глубокой, гноящейся раны.
Еще больше жестока река, шумящая полной водой.
Еще больше жестока дочь земледельца страны
рощ и лесов —
Она с корзиной идет из пальмовых листьев
и предлагает:
"Возьмите букетик чампаки с зеленым вьюнком,
Чьи красивы и мягки так лепестки11 (HT 97) .
Или:
Легко ли слезы сдержать тем, кто слышит взывающий голос
В роще туманной, похожей на дым,
Где множество манговых новых цветов расцвело,
Ранней весной /их/ клюющей кукушки! (АН 97j 20 — 24).
Вопрос о фольклорных истоках поэзии тиней, затронутый
здесь, требует дальнейших исследований, но мы думаем,
что, не боясь ошибиться, можно говорить о двух таких ис-
токах: женских песнях разлуки, только что отмеченных на-
ми, и ритуально-гимновой стихии, связанной с культом,
обрядами плодородия, домашними обрядами и т.д. Исходя из
этого, можно выделить две тенденции формирования поэзии
тиней. Первая не увязывает ситуацию с природным окружени-
ем, а стремится к их свободному сопоставлению по линии
психологического.параллелизма. Другая, отталкиваясь от
Фолькпорно-песенная основа 185
ритуальной структуры, от мифологической трактовки челове-
ческих взаимоотношений, делает акцент на единстве риту-
ализированного поведения с природным циклом. И если древ-
нетамильская теория поэзии учитывает в основном вторую,
формируя представление о системе тиней с закономерными
соответствиями элементов, то на уровне практики немало-
важно и наличие первой, дающей поэтам дополнительные воз-
можности разнообразить1 художественную трактовку ситуаций
любовной лирики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в самой основе древнетамильской лирической поэ-
зии ахам лежит поэтический пласт, явившийся результатом
коллективного песенного творчества, преимущественно свя-
занного с различными культами и ритуалами, которые прак-
тиковались на земле тамилов издревле. Возникает вопрос:
каким образом произошел переход от этого творчества к соб-
ственно поэзии? Ответ на него в общих чертах представля-
ется достаточно ясным, и прав тамильский исследователь
Тамижанналь, когда он пишет, что многие поэтические услов-
ности "возникли как фольклор, затем развивались в твор-
честве певцов и певиц, где получили завершение, были от-
шлифованы учеными поэтами" /Тамижанналь, 19 76, с.232/.
Нужно особенно подчеркнуть значительную, безусловно, клю-
чевую роль в процессе становления лирики ахам низкорож-
денных певцов и музыкантов, в первую очередь панаров и
вирали. Ведь они принимали непосредственное участие в ри-
туалах и жертвоприношениях, в сельских и городских празд-
никах, путешествовали по стране и.имели возможность, впи-
тывая народное творчество (да и создавая его в немалой
мере), перерабатывать, интегрировать в своих песнях все
формы, образы, тематику и приемы низовой словесной куль-
туры, причем из разных регионов (разных тиней!)\ Постоян-
но посещая дома "благородных воинов" и ,царские дворы, они
привносили все это в более высокую социальную среду и "пе-
редавали" поэтам иного социального ранга — пулаварам. По-
вторим, что, несмотря на низкий статус панаров, между ни-
ми и пулаварами не было непроходимой стены и обе категорш
поэтов пользовались в обществе уважением (характерно, что
в одном месте из гимна Тирумалю антологии "Парипадаль",
где его именем освящается тамильская поэтическая традиция,
автор называет бога одновременно "пулаваном древних сло-
вес" и "пананом благого йаля" — Пари III, 86).
Исключительно важной была роль панаров и вирали в до-
машнем обиходе древнетамильских "благородных воинов". Ис-
полняя функции вестников и ритуальных посредников, они в
своих песнопениях, соответствовавших тем или иным стадиям
семейной жизни, отрабатывали тематику и формы лирической
поэзии.
Существенным для развития поэзии ахам моментом надо
признать ее глубокую внутреннюю связь с поэзией панегири-
ческой. Эта связь обусловлена мифологической подоплекой
образов древнетамильской лирики, ее укорененностью в
культовой, гимнической стихии. Отсвет фигуры божественно-
го персонажа (прежде всего Муругана) лежит и на образе
героя поэзии ахам, и на образе военного предводителя, ца-
Заключение \87
ря, что делает абсолютно оправданным исполнение репертуа-
ра любовной лирики при царском дворе (как это, например,
показано в главе XXVI "Повести о браслете11, когда перед
царем Сенгуттуваном выступают панегиристы, танцовщицы и
исполнители любовных песен). Царские собрания (nälavai,
irukkai) были местами, куда постоянно стремились испол-
нители, поэты, где происходили демонстрация поэтического
мастерства, обмен опытом и наверняка состязания поэтов.
Другим поводом для поэтических встреч был городской
праздник. Таких праздников, сопровождавшихся танцами и
песнопениями, было немало, и проводились они по всей та-
мильской земле. Но с течением времени некоторые из них
приобрели особое значение, в частности в столичных горо-
дах, и в первую очередь в Мадурай, столице пандийского
царства, которая в период создания антологий "Парипа-
даль" и "Калиттохей" (V —VI вв.) имела репутацию центра
тамильской словесной культуры (мы говорили о том, что
мадурайский диалект составил основу тамильского литера-
турного языка и что с Мадурай связана легенда о санге).
Праздники в чМадурай были 'Значительными событиями в жизни
поэтической традиции. Поэтическими выступлениями отмечен,
например, праздник бога любви Камы (который упоминается
только в антологии "Калиттохей": 27, 24; 35, 14; 92,67):
"Пришло время, когда вновь вкушают слова, рожденные ис-
кусными языками, жители Кудаль (т.е. Мадурай) с высокими
зданиями, имя которой — на языках всей земли" (Кали 35,
17-18) .
Еще одним важным событием для жителей города был
праздник на горе Парангундрам в честь ее хозяина — Муру-
гана. И в это время проводились поэтические состязания:
О ты, ведущий битву копьем,
Сразившим ствол манго, что сильным Суром было!
На твоей горе танцующий побеждает других /танцующих/,
Панары побеждают /других/ поющих,
Искусные /в поэзии/ побеждают других искусных,
Прочие — прочих. Провозглашая /победу/,
На берегу прохладного пруда, наполненного свежей
новой влагой,
Взметнулось знамя (Пари IX, 70 — 78).
Кажется вероятным, что в этом празднестве победа Муру-
гана над Суром ассоциируется с победой Индры над Вритрой
и что праздник был смоделирован (хотя бы частично) по ин-
драитским новогодним мистериям, в которых значительное
место принадлежало словесным (и прочим) поединкам. Отсю-
да следует, что существовала и практика сравнения и оцен-
ки исполнения.
остановимся, наконец, еще на одном событии, широко от-
мечавшемся в Мадурай, — разливе реки Вайхей. Это время
проведения ритуалов плодородия, связанных с купанием "в
новой воде" мужчин и женщин (в поэзии марудам участие в
188 Заключение
них героя вызывает ревность его супруги или возлюблен-
ной) . И этот праздник сопровождался выступлениями поэтов
{м0 житель города, — говорится в Кали 68, 5, — изобильно-
го водой, окруженного стенами, где, собравшись, вкушают
новые слова!"),.но самое интересное то, что в связи с
ним возникают театрализованные интерпретации ситуации ма-
рудам, представленные в гимнах реке Вайхей в антологии
"Парипадаль". Вот, например, отрывок, в котором переда-
ется разговор героя с возлюбленной, приревновавшей его к
сопернице :
— Не званный мною гость, ты для других, тобой желанных, сорвал
побеги эти.
— Они ведь хорошо тебе самой известны. Я для тебя такие прино-
сил.
— О ты, покорный и несчастный! Когда-то были хороши они, теперь
увяли, почему?
В тайком совершаемых тобой делах гирлянда на груди твоя увяла.
Ну что, не приняла она того, что ты сорвал,
И подношение твое отвергла? Говори!
— Когда ступил я на красивый плот, побеги уронил,
Они в воде размякли и увяли. О Муругана холм!
А как течение реки Вайхей прекрасно, правда?
— О да, оно твою любовь напоминает —
Всегда непостоянно, оно в любой момент меняет силу —
То прибывает, то уходит вдруг вода. Так лучше не клянись.
Сейчас разлив Вайхей, не так ли? Ты ошибся:
Живу я близко, а тебе понадобился плот зачем-то.
И цапли, ищущие пишу, и цветущий кар, сезон дождей,
И сладостная ранняя весна — все это связано с Вайхей, —
Ну что ж, считай, твоя любовь зависит от Вайхей.
О ты, подобный дереву, что сладкими речными водами влекомо,
О ты, чья грудь плотом широким стала
Для женщин тех, кто завлекать искусен,
Нисколько не боясь, ты с ними ночь проводишь... (Пари VI,
61-68).
Диалог продолжается, и через некоторое время в него
вступают старые женщины, которые предлагают возлюбленной
героя успокоиться и начать танец. Появляется вирали, ко-
торая идет с посланием уже к супруге героя с попыткой их
примирения, но та отвергает послание.
Перед нами — драматическая сценка ("не находимся ли
мы в театре?" — замечает Ф.Гро в комментарии к другому
гимну реке Вайхей /Гро, 1968, с. 215/), а точнее, литера-
турная форма небольшого спектакля, в основе которого ле-
жит обрядовая ситуация, сконцентрированная на идеях пло-
дородия, очищения, семейного единства. Таких сценок в
более ранних антологиях нет, но можно утверждать, что
между ними и стихотворениями этих антологий существует
связь, поскольку и последние насыщены элементами драма-
тического действия (мизансценный контекст, набор персона-
Заключение 189
жей, внутренняя диалогичность, характерные словесные фор-
мулы). У сценок мПарипадаль", диалогов мКалиттохейм и
произведений из других антологий явно один исток — риту-
ально-драматическая песенно-танцевальная стихия. Однако
театральное искусство в русле древнетамильскои культур-
ной традиции в силу причин, которые требуют специального
исследования, не получило развития, большая часть древ-
нетамильского поэтического наследия, сосредоточенного в
сборнике "Восемь антологий" и "Десять песен", с драмати-
ческой формой не связана. Важно, однако, подчеркнуть, что
в действах, связанных с различными исполненными сакраль-
ного значения событиями, как и по случаю разлива реки
Вайхей, участвоьали как низкорожденные исполнители, па*
нары и вирали, так и поэты более высокого статуса — пу-
лавары (ср. "Вайхей, воспеваемая пулаварами" —Кали 67,
2—3), чем предопределяется тесное взаимодействие двух
сфер исполнительства, столь существенное для становления
и развития поэтической традиции.
Наблюдения за древнетамильскои лирикой позволяют про-
следить интересный в теоретическом отношении процесс воз-
никновения поэтического канона из материала по природе
своей не поэтического, чем убедительно подтверждается
тезис О.М.Фрейденберг о том4, что поэтические формы про-
исходят "не из архетипов себя же самих, а из антилитера-
турного материала, который должен, для того чтобы стать
литературой, заново переосмыслиться и переключить функ-
ции" /Фрейденберг, 1936, с.147/. В самом деле, некоторые
модели поведения, описанные выше, определенная ритуаль-
ная структура, символика, семантически насыщенные образы
входят в поэзию в качестве элементов содержания, которые,
освобождаясь в ней от непосредственной ритуальной функ-
ции, от жизненной прагматики, приобретают иные, а именно
формообразующие функции, переосмысляясь в лирический сю-
жет, систему тем, мотивов и образов, т.е. в то, что мы
можем назвать каноном древнетамильскои поэзии ахам.
Нам представляется, что о такого рода переключении
функций в связи с тамильской поэзией можно говорить не
раз, поскольку в процессе развития поэтической традиции
этот канон неоднократно наполнялся новым содержанием. На*-
пример, комплекс таких мотивов, как взаимные обеты, думы
друг о друге, супружеская верность, обмен вестниками, мо-
тивов, имеющих конкретный ритуальный смысл, а в ряде слу-
чаев фольклорные истоки, во многих стихотворениях и поэ-
мах подвергается переосмыслению в духе утонченной, воз-
вышенной любви, понимается как "кодекс чести" сословия
"благородных воинов". А в связи с этим неудивительно, что
значительная часть всей любовной лирики ахам приобретает
несомненные панегирические функции (хотя и не всегда яв-
но выраженные).
190 Заключение
Показательно с этой точки зрения переосмысление тако-
го связанного с древними мифологическими представлениями
образа, как женская телесная красота ("благо красоты1').
Во многих стихотворениях мы встречаемся с оригиналь-
ным поэтическим приемом — уподоблением женщины городу:
"твои тростниковые плечи подобны славной Кудаль (Маду-
рай)" (HT 39, 10-11); "бамбуковые плечи подобны Тонди"
(Айн 171, 3); основная мысль стиха HT 234 состоит в том,
что если давать цену за вздымающуюся грудь героини, то
она окажется больше, чем стоимость городов Урандей (сто-
лица Чолов) и Ваньджи (столица Черы). Подобные образы ка-
жутся естественными, когда появляется необходимость срав-
нения разных жизненных сфер с целью подчеркивания значи-
мости одной — в данном случае богатства царских владений.
Наиболее ярким примером такого рода служит, конечно, поэ*
ма "Паттинаппалей" Уруттиранганнанара, которая содержит
описание процветающей столицы царя Чолов Карикалана
(217 строк), завершающееся небольшим монологом (три стро-
ки) воображаемого героя: "И даже если б смог я обрести
/богатый/ этот город славы неизменной, я не покину ту, с
блестящими браслетами, чьи волосы густые ниспадают! Живи,
о сердце!" (ПП 218 — 220). Как видим, неразлучное единение
с любимой оказывается здесь предпочтительнее всех богатств
и достоинств Каверипумпаттинама, но это парадоксальным
образом работает на панегирическую идею произведения, так
как ясно, что в сравнение вовлекаются только наивысшие
ценности.
Ранее мы говорили о том, что любовная поэзия нередко
соединяется с героикой, в частности подчеркивается, что
причиной разлуки супругов является военный поход. Однако
в более поздних сборниках (например, в kärnärpatu, "Со-
рок стихов о сезоне дождей", V —VI вв.) на первый план
выходят "светские" мотивировки разлуки: "уехал, испугав-
шись презрительных слов" (5), "желая славы" (8), "за бо-
гатством, дающим наслаждение" (14). Ну а в трактате
"Толькаппиям" (в третьей его части, посвященной поэтике)
причинами разлуки называются "обучение, враги, посольст-
во" (27), причем "обучение и посольство" — привилегии
высокопоставленных (uyarntôr, mëlôr) героев (28). Пол-
ностью отвечает такому развитию тенденция изображения
героини в разлуке, которая проявляется в тамильской па-
негирической поэзии, использующей канон данной ситуации
(поэмы "Муллеиппатту", "Недунальвадей", третья часть
"Повести о браслете"); поэтов увлекает воссоздание обста-
новки действия. Например, в НВ покои, где страдает геро-
иня, описаны со всевозможными подробностями: стены имеют
красноватый оттенок, словно медь, а колонна цветом напо-
минает сапфир; громадное ложе покоится на округлых нож-
ках, сделанных искусным резчиком из бивней боевых слонов;
к решетчатому окну привязаны нити украшений, жемчуга; на
Заключение 191
панно изображены сцены охоты на льва; подушки сделаны из
чистого пуха белого гуся, на чистом покрывале разбросаны
цветы белого жасмина. На этом ложе возлежит царица: на
ее груди, украшенной некогда ожерельями, теперь лишь один
свадебный шнур, ее неубранные волосы высушили капли пота
на лбу, в ушах не видно серег, на руках вместо богатых
браслетов — простые, сделанные'из раковины, она укрыта
невзрачным куском материи и напоминает картину, лишенную
красок.
Ясно, что здесь опять произошло Переключение функций"
в этот раз на демонстрацию поэтического изобразительного
мастерства, и разлука, облаченная в дорогие одежды, дале-
ка от простого домашнего обряда, черты которого так живо
сохраняет поэзия антологий. Но каково бы ни было расстоя-
ние между ними, налицо и преемственная связь: это две ста-
дии развития канона, истоки которого, как мы стремились
показать, следует искать в сфере ритуала и мифа.
Вообще говоря, возрастание у поэтов интереса к описа-
ниям, к приемам и способам выражения идей, к вопросам
поэтической техники в целом должно было идти одновремен-
но с процессом ослабления мифологической напряженности
поэзии, ее десакрализацией. И изменения, соответствующие
этому процессу, налицо, но все-таки они затрагивают сто-
роны малосущественные. Поэтическая форма, которая выросла
на основе ритуально-мифологического содержания любовных
ситуаций, оказалась столь прочной, что, будучи символиче-
ским выражением определенного ритуального (и мифологиче-
ского) смысла, продолжала хранить его даже тогда, когда
сама поэзия из ритуально-мифологической сферы вышла.
Впрочем, благодаря этому она спустя несколько столетий
в нее вернулась, вновь переключив функции, когда форма
любовного канона ахам стала использоваться течением бхак-
ти для выражения религиозных переживаний адепта, стремя-
щегося к соединению с богом.
Таким образом, тамильской поэзии, безусловно, присуща
та, отмеченная Я.В.Васильковым применительно к эпосу /Ва-
сильков, 1979, с.128/ неизжитость мифологического син-
кретизма,, которая составляет характерную черту древнеин-
дийской культуры в целом. Во всяком случае, древнетамиль-
ская любовная лирика, несмотря на присущую ей ориентацию
на довольно изысканный вкус, порой некоторые формализм и
сухость, несмотря на возможность при поверхностном с ней
знакомстве сугубо бытовой трактовки ряда ситуаций, хра-
нит доставшийся ей от мифа, исполненный серьезности тон,
и любовь предстает в ней как всепоглощающее, экстатически
приподнятое чувство:
Больше земли и выше, чем небо,
Глубже, чем воды /морей/,
Любовь наша с жителем гор,
Что полнятся медом куриньджи черноетебельных цветов,
Растущих по склонам (КТ 3).
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Наиболее полная информация о древнем Тамилнаде содержится в
"Перипле Эритрейского* моря" (80 г.). О торговых связях с тамилами в
эпоху Августа упоминает Страбон (I в. до н.э. — I в. н.э.). Сведе-
ния о Южной Индии содержатся у Птолемея (150 г•)•
2 Подробное изложение фактов и проблем, касающихся хронологии
древнетамильской литературы, см. /Звелебил, 1975, с.28—44/.
3 "Ахаппоруль" состоит из 60 сутр, в которых описываются различ-
ные аспекты взаимоотношений влюбленных (преимущественно в период
тайной, добрачной любви), составляющие содержание поэзии.
В "Поруладихарам" трактуются следующие вопросы (по главам):
1) "О темах-тиней ахам"; 2) "О темах-тиней пурам"; 3) "О тайной
любви"; 4) "О супружеской любви"; 5) "О содержании поэзии"; 6) "О
проявлении чувств" (этот раздел берет за основу санскритскую теорию
"раса"); 7) "О сравнениях"; 8) "О сочинении" (система тамильской
метрики); 9) "О традиции правильного употребления слов".
** Можно говорить о том, что в тамильской традиции имел место об-
ратный процесс, т.е. не крупные произведения рассыпались на фрагмен-
ты, а поэмы или крупные их фрагменты как бы собирались из блоков,
представлявших собой отработанные традицией мотивы, сюжеты, ситуации
(см. /Лобанова, Дубянский, 1987, с. 146 -148/).
Глава I
1 tamilakam — место тамилов3 место тамильского языка.
2 Катьяяна упоминает имя Чолов, в эдиктах Ашоки встречаются наз-
вания пяти южных территорий: Чола, Пандья, Сатьяпутра, Кералапутра.
(Чера), Тамрапарни (Ланка).
3 Царство Чола располагалось на севере Тамижахама (столица —
Уреиюр, позже — Пухар, или Каверипумпаттинам), Пандья (столица —
Мадурай) — на юге, а Чера занимало западное побережье Южной Индии
(Малабар) и прилегающие к нему горы (Западные Гхаты), столицей Че-
ры был город Вандьжи.
** Не случайно поэты, желая прославить того или иного правителя,
восхваляют его цветущие земли, щедрые на урожай поля риса и сахарно-
го тростника. Доминантная роль земледелия в тамильской культуре лю-
бопытным образом отражается в словоупотреблении: племена охотников
поэты называют villêr ulavar (СП XI, 210), т.е. пашущие лукомЛ тор-
говцев солью — "непашущие пахари" (HT 331, 1), о поэтах-панегиристах
говорится как о "пахарях, сажающих семена славы" (МПК 59—60), "па-
харях искусного языка" (Кали 68, 4).
5 Подробно о реминисценциях североиндийской культуры в древне-
тамильской поэзии см. раздел в книге Дж.Харта /Харт, 1975, с.51— 80/j
(см. также /Пиллей, 1968; Фийоза, 19687). \
Примечания 193
6 Брахманов на юге называли plrppln зрящий (по всей вероятности,
это калька санскр. г si) и antanan тот, кто благостно прохладен.
7 В стихе используется слово këlvi — несомненная калька санскр.
sruti услышанное, священное знание, Веды.
8 Имя одного из известных поэтов, Наккирара, свидетельствует о
том, что он принадлежал к сословию брахманов (kîrar), занимавшихся
изготовлением браслетов из раковин.
9 Имеется в виду миф об уничтожении Шивой трех городов асуров.
10 См. определение в "Tamil Lexicon": "katavul — бог, тот, кто
превосходит речь и разум", ср. также следующие замечания: "Тамилы
рано обрели понятие о трансцендентности и имманентности бога" /Тани
Наягам, 1966, с.58/. "Вероятно, этот божественный принцип имели в
виду тамилы, когда они обращались к божеству под именем katavul,
т.е. верховную божественную силу, имманентно присущую каждому объ-
екту и существу во вселенной" /Сингаравелу, 1966, с.162/.
Такого рода трактовки формально исходят из этимологии слова, ко-
торая обычно представляется как существительное, образованное от
глагольного корня kata переходить, пересекать, двигаться с помощью
суффикса -ul (по аналогии с ceyyul, porul). Другая возможность ин-
терпретации связана с пониманием форманта -ul как слова со значе-
ниями внутренность, разум, сердце. Таким образом, этот термин мож-
но понимать как то (или тот), vmo превосходит, то, vmo превосходит
разум, неуто имманентное и в то же время трансцендентное (см. /Зве-
лебил, 1977, с.226/).
11 Дополнительным аргументом в пользу наших возражений Харту
служит употребление (хотя и единичное, но, мы полагаем, многозначи-
тельное) термина iyavul бог (ТМА 274). Образованный от глагольного
корня iya- выходить за пределы, он составляет полную аналогию слову
katavul.
12 В последние годы тамилисты уделяют немало внимания концепции
анангу. См. такие, например, работы: /Бек, 1974; Харт, 1975; Звеле-
бил, 1980/. См. также /Дубянский, 1973; 1978; 1985/.
13 Приведем еще несколько примеров: "ее молодая грудь, мучающая,
словно анангу" (АН 161, 12); "взгляд, устрашающий, словно анангу"
(АН 319, 6); "ты, вечер, приходишь, чтобы мучить" (anankiya vantâyë —
Кали 120, 15); "демоны, обладающие анангу" (ПН 174, Î); "это селение
обладает нападающими на людей духами" (tlkkananku — АН 7, 4).
14 Любопытно, что поэты, описывая в стихах деревья, где обитает
katavul, нередко упоминают живущих в них птиц или птичьи гнезда
(АН 27Ô, 12-13; HT 83, 2-4; 303, 4-5; 343, 4-5). По всей вероят-
ности, образ птицы существовал в их воображении в явной связи с пред-
ставлением о божестве, "гнездящемся" в определенном месте, способном
покидать его и возвращаться в него.
15 Ср. также: tan pentir ûr irai kontanan он стал обретаться в
селении своих з/сенщин (Айн 40, 3). Слово irai допустимо рассматри-
вать как производное от корня ir/il- место, дом. Можно вспомнить о
термине iraivativam форма бога, т.е. форма, в которой воплощен бог
/Клози, 1977, с.12/, обозначающем скульптурное или живописное изо»
бражение бога.
16 Такого рода термодинамическое понимание жизненных процессов
и состояний встречается и в других местах Индостана, будучи, вероят-
194 Примечания
но, характерным для аборигенных слоев индийской культуры. Например,
оно отмечено для некоторых племен Пакистана, использующих термиче-
ски ориентированную классификацию пищи и цвета /Пнина Вербнер, 1986,
с.235/ (ср. аналогичную классификацию в работе Б.Бек /1969, с. 566 —
570/). Интересно, что у них невеста считается внутри горячей, а
внешне холодной. Ее "нагревают" и "варят" /Пнина Вербнер, 1986,
с.238/.
17 Листья обоих деревьев обладают охлаждающим действием. В осо-
бенности это относится к маргозе, ветви и листья которой повсемест-
но в Индии используются в ритуалах как охранное, очищающее, живи-
тельное средство (см., например, /Бек, 1969, с.569; Рениш, 1979,
с. 177; Бек, 1982, с.46; Уайтхед, 1976, с.56 —57, 64-65; Лакшманан
Четтияр, 1973, с.68/).
18 Интересно здесь провести параллель с африканской культурой,
где наличествуют аналогичные представления: "Женщины обладают есте-
ственной творческой энергией, отсутствующей у мужчин, энергией пло-
дородия, совершенно необходимой для продолжения культуры; их дающая
жизнь сила ясно проявляется также в их тесной связи с огнем домаш-
него очага и приготовлением пищи" /Зюсс, 1971, с.234/.
Эта связь, между прочим, находит любопытное отражение в тамиль-
ском языке: глагол camai означает достигать половой зрелости (о де-
вушках), нагреваться, а также готовить пищу.
19 К такого рода вещам всегда очень чуток фольклор. Как отмечает
Бек, "в фольклоре есть многочисленные примеры чрезвычайного влияния
женщины на жизни ее отца, брата, мужа и сына" /Бек, 1974, с.8/.
В средневековом тамильском народном эпосе "Сказание о трех близнецах"
(annanmâr katai) показательна в этом отношении роль сестры героев,
которых она присущей ей магической силой женской добродетели воз-
вращает к жизни (см. /Бек, 1982, с.45/).
20 О смысле древних "обрядов крови" см., например, /Фрейденберг,
1978, с.92-93/.
** Коттравей как богиня победы была связана не только с племенем
эйинаров, но уже в древности приобрела общетамильское значение. При-
мечательны в этом отношении строки поэмы НВ, содержащие обращение
служанки тоскующей в одиночестве героини к богине, бесспорно Коттра-
вей (см. /Харди, 1983, с.163/): "Дабы прекратить неприятные пережи-
вания благой женщины, пребывающей в тоске, дай ему (т.е. супругу ге-
роини) победную силу, и тотчас же пусть завершится битва, о мать!"
(НВ 166-168).
21а Содержание этого мифологического эпизода, упомянутого также
в Кали 89, 8, неясно (см. /Звелебил, 1979, с.187/).
22 В этом стихотворении описываются живущие в пустынной местно-
сти дикие охотники, которые убивают бычка и, подобно пей, жарят его
на огне и едят его молодое мясо. Употребление слова marapu, которое
мы переводим как традиция, в подобном контексте наводит на мысль о
том, что пей можно рассматривать как гротескно изображенных исполни-.
телей древних, традиционных обрядов жертвоприношения — человека или
животных (быка или буйвола). В связи с этим выскажем одно соображе-
ние по поводу этимологии слова рёу.
К.Звелебил полагает, что оно восходит к корню рё= ярость, безу-
мие, страх /Звелебил, 1979, с.188/. Согласно Ж.Фийоза (см. там же;
Примечания 195
также /Харди, 1983, с.136/), оно происходит от санскр. prêta душа
умершего* злой дух* бхута (ср. ППан 235: "бхуты пляшут тунангей",
танец, присущий Коттравей). Пей, разумеется, и злой дух (ср. рёеу
kolïiyal ival она восприняла духа* т.е. одержима духом — КТ 263, 5),
но с точки зрения этимологии мы предлагаем рассматривать это слово
как имя, производное от глагола реу лить (с идеей жертвенного
возлияния крови).
23 kâtukal, kâtukilâl, kltukilavôl — обитательница или повели-
тельница пустыни. Ô Коттравей'см."/Диель, 1964; Сатьямурти, 1975/.
2Ц Чрезвычайно характерно то, что и в настоящее время в ритуа-
лах, связанных с дравидскими богинями, наследницами Коттравей, идея
жара выявляется с полной определенностью. Например, праздник богини
Мариямман всегда приходится на жаркие месяцы года, а сама она в не-
которых фазах ритуала представлена в виде горшка с горячими углями
(см. /Бек, 1981, с.101, 116, 130/).
25 Комментатор СП считает, что кровь струится из тел и горла
самих эйинаров.
26 Согласно этому мифу, Махиша мог принимать различные формы,
и в тот момент, когда богиня прижала его голову к земле, высунулся
из пасти буйвола, приняв облик человека. Поэтому и говорится выше
о том, что он обладал двумя различными обликами.
27 Как отмечает автор, в некоторых тамильских мифах подразумева-
ется, что богиня — убийца своего основного супруга Шивы /Шульман,
1980, с. 182/. Он же пишет о мифологизации женской энергии в индуиз-
ме так: "Сексуальность — опасная, дикая сила, а женщина — ненасытная
соблазнительница» которая лишает мужчину его жизненной силы. В кон-
це концов она, рожая ребенка, создает новую жизнь, но эта жизнь про-
исходит из насилия сексуального акта, который явно ощущается как
приносящий гибель мужчине" /Шульман, 1980, с.174/.
28 Интересно, что героиня легенды, положенной в основу "Повести
о браслете", Каннахи (которая становится типичной дравидской боги-
ней, воплощающей супружескую добродетель) фактически является девст-
венницей. Правда, автор классической версии игнорирует этот момент,
лишая, впрочем, ее материнства (ребенок ее мужа рождается от гете-
ры), но в фольклорных версиях подчеркивается, что Каннахи не вступа-
ла с мужем в супружеские отношения (см. /Бек, 1972, с.25/).
29 "О малыш ведущей победоносную копейную войну Коттравей" (ТМА
258). "о сын Древней!" (palaiyöl - ТМА 259).
Подробно историю культа Муругана-Сканды на юге Индии просле-
живает Клози /1977/.
31 katampam, kântal, vënkai. Отметим, что одно из имен Муруга-
на — katampan, т.е. Обретающийся в кадамбе (см. СП XXIV, 10, 3).
32 Существуют другие интерпретации этих имен: сёу Сын. как сын
богини Коттравей, а также, уже в качестве Сканды, сын Шивы; cewël
Красное желание или Желанный красный (vël желание* ср. также netu-
vël большое* долгое желание). Последнее имя подчеркивает связь Муру-
гана с эротикой, и в частности с любовной ситуацией куриньджи в та-
мильской поэзии (подробнее об этимологии этих имен см. /Звелебил,
1977, с.229/). Как полагает Харди /1983, с.133-134/, в имени cewël
элемент се означает не красный* а величественный* превосходный (от
cemmal), a cëyôn — искусственное построение в параллель mâyôn Черный*
13-2 60
196 Примечания
Кришна» Эти соображения, однако, не подвергают*сомнению связь Муруга-
на с красным цветом.
33 Напомним, кстати, что существовало представление о наполнен-
ности гор анангу (см. АН 22, 1; 72, 11; 198, 14; 266, 19; 272, 3;
HT 288, 1 и др.). Это представление обосновывается двояко: во-первых,
горы в тамильской традиции — "страна куриньджи", яркое воплощение
плодородия природы; во-вторых, горы, скалы, камни характеризуются
естественной силой, крепостью, непоколебимостью, четкостью очерта-
ний, т.е. качествами, заключающими в себе общую идею сдерживания,
концентрации энергии. Твердость вообще хорошо согласуется с жаром
(чему служит наглядным примером район палей). Ср. также объединение
в тамильском глаголе käy значений нагреваться и затвердевать.
зц Имеется в виду palamutire51ai рощх, где зреют плоди — один
из храмов Муругана под городом Мадурай. Отметим проявляющуюся здесь
четкую локализацию бога, его единство с конкретной местностью.
35 Очень существенно, что валли, видимо, вечнозеленое растение—
vata valli неувядающая валпи (ППан 370).
36 Брак Муругана с Валли символизирует связь бога с местным эт-
носом, в то время как другой брак — с дочерью Индры Девасеной — с
североиндийской, "высокой" санскритской, традицией. Это вообще очень
характерная черта индийской мифологии, где основные боги описываются
как имеющие двух жен: Шива — Парвати и, скажем, Минакши (или Камак-
ши, или Мариямман — а зависимости от местного варианта), Вишну —
Лакшми и Бхудеви, Кришна — Рукмини и Радху.
37 Ср.: "его брак есть милость отвержения чуждого брака" (ayal
manam olivarul avar manam — СП XXIV+ 15).
38 Учитывая насыщенность эротическими мотивами мифологии и куль-
та Муругана, есть все основания считать его древнетамильским богом
любви. Многозначительно, что одно из имен Муругана — vil (cewêl,
netuvêl) Желание или Желанный, Юноша — применяется также и к обще-
индийскому богу любви Каме. В связи с этим чрезвычайно интересно
бросающееся в глаза сходство слов ananku и ananga Бестелесный — эпи-
тет Камы. Обративший на это сходство внимание Дж.У.Поуп в своем изда-
нии "Наладияра" осторожно предположил заимствование из дравидских
языков и, кстати, привел отрывок из поэмы X в. "Дживакасиндамани",
в котором ananku обозначает Каму. По мнению Т.Барроу, это предположе-
ние должно быть принято, а санскритский миф о Каме, потерявшем свое
тело, должен рассматриваться как "этимологический", т.е. объясняю-
щий по-своему, на основе ложной этимологии значение заимствованного
слова (см. /Барроу, 1979, с.284/).
39 nakar, как и manai, обозначает дом, храм, но не обязательно
помещение. Это может быть предмет или некое пространство, мыслящие-
ся как место нахождения или прибытия бога (дерево, столб, упоминав-
шаяся выше "челюсть акулы", особым образом подготовленная, как опи-
сано в данном отрывке из ТМА, поляна).
**° muruku ärruppatutta.. .nakar. Ср. строку АН 138, 10: "приве-
дя в дом (manaittarii) Муругу, обладающего славой устрашения".
41 ДЭС 4536: veri быть пьяным, возбужденным, сумасшедшим, одер-
жимом, неистовым; veriyâtu танцевать, будучи одероалмым Скиндой.
Эти бобы (molucca beans) велан разбрасывал перед собой (или
перед изображением Муругана) и определял известным ему способом зна-
Примечания 197
чение тех или иных комбинаций. Вследствие этого они в текстах опреде-
ляются как anankuru kalanku шшнгу, связанные с анангу (HT 282, 5),
anankari kalânku шшнгу, знающе об анангу (HT 47, 8).
В качестве гадательного средства использовался также рис, горст-
ку которого жрец или жрица Муругана подбрасывали в воздух и затем
считали количество зерен (четверками). Если в остатке оказывались
одно, два или три зерна, причиной болезни назывался Муруган (см.
/Клози, 1977, с.27/). Можно отметить, что методика гадания аналогич-
на той, которую используют гадальщики в африканском племени ндембу
(см. /Тэрнер, 1983, с.51 -53/).
1+3 câru konta kalam поляна, где проводится празднество (ПН 22,
16).
^ В тамильских текстах слово в этом значении как будто не встре-
чается. Если речь идет о сельскохозяйственных работах, то упоминают-
ся сев или жатва.
**.5 спг marunku arutta cutarilai netuvêl длинное копье со сверкаю-
щим лезвием-листком, разрубившее Сура (АН 59, 10); ciïr navai murukan
Муруган, уничтоживший Сура (ПН 23, 4); cûrutai mulumutal tatinta рё-
ricai katuncina viral vël Вель, обладающий могучей силой гнева и из-
вестный тем, что срезал целиком ствол, в котором находился Сур (Пади
11, 5-6); см. также Пари V, 4; IX, 70; XVIII, 14; ТМА 275 и т.д.
Связь Сура с деревом отмечается еще так: cur mutai irunta ômai омеи
(разновидность манго), бывшее телом Сура (АН 297, 11); nânil peru-
maram большое дерево, лишенное стыда (АН 273, 15).
Дрожь — типичный внешний признак одержимости демоном или бо-
жеством.
47 Нам кажется возможным высказать гипотезу по поводу этимологии
слова cûr, которая учитывала бы контекст его употребления: это — имя,
образованное от глагольной основы cura струиться, выливаться (по ана-
логии cura быть твердым, крепким, ûr укрепление, селение, город).
Таким образом, слово спг означает, если мы правы, струение, течение,
неспокойное движение, зыбкость, что подчеркивает связь Сура с водной
стихией.
48 Этимология слова mal связана с корнем та- (ДЭС 3918) со зна-
чениями черный, туча, тьма, ночь или с та- большой, великий (ДЭС
3923). Первое толкование, несомненно, предпочтительнее, поскольку
точнее соответствует сути божества (что, впрочем, ясно уже из при-
веденного в тексте отрывка). Итак, mil означает темный, так же как
и производные от этого корня имена miyôn, mâyan, mâyavan, netumâl —
Высокий темный, или Многотемный (см. /Звелебил, 1977, с.239/5. См.
также /Харди, 1983, с.218/.
**9 В тамильской поэзии ахам не раз говорится о юбочке из листь-
ев, которую молодой человек дарит своей любимой, тем самым как бы
предъявляя права на нее.
50 Возможность реконструкции фигуры "Юного бога" для протоин-
дийской культуры подчеркивается в работах М.Ф.Альбедиль /1984;
1987/.
51 0 Кришне как о горном боге см., например, /Водвиль, 1968,
с.743 —744/. СП XI, 91 упоминает о горе Тирумаля, идентифицируемой
как находящаяся под Мадурай гора Ажахара. См. также Пари XV, 14,
28, 53.
13-3 60
198
Примечания
52 Ср. HT 17, 2: mlkatal темное море.
53 Подобная поляризация года весьма характерна для тамильских
(и вообще индийских) календарных представлений, причем актуальна и
в настоящее время. Если взять данные о годовом цикле, зафиксирован-
ные в современном Тамилнаде (см. /Бек, 1972, с.52 —54; Рениш, 1979,
с.41—78/), и сопоставить их с классической тамильской сменой сезо-
нов, то получится нижеследующая таблица:
Месяц
европейский
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Месяц
тамильский
Тай
Маси
Пангуни
Ситтирей
Вайкаси
Ани
Ади
Авани
Пураттаси
Айппаси
Картиккей
Маркажи
Сезон
Ранняя роса
Поздняя роса
Раннее лето
(весна)
Лето (жара)
Дожди (кар)
Холодный
сезон
Ранняя роса
Приметы сезона
Первая половина
года, светлая
(день)
Солнце идет к се-
веру, день увели-
чивается
18-й день Ади
Вторая половина
года, темная
(ночь)
Солнце идет к югу,
день уменьшается
54 Ассоциация Маля, воплощающего в себе качества сезона дождей,
с буйволом (быком) подкрепляется, в частности, тем, что грозовые
муссонные тучи уподобляются в поэзии быкам (vicumpin ereluntu взды-
мается бык в небесах — АН 144, 11 — 12). Интересно, что на печатях
Мохенджо-Даро сцена боя быков символизирует грозу /Волчок, 1982,
с.67/.
55 Роль сына богини как ее субститута в битве с демоном подчер-
кивается в некоторых южнриндийских ритуалах (Виджаядатами), связан-
ных с праздником поклонения богине /Биардо, 1981, с.224/; некоторые
варианты мифа подразумевают, что сама богиня некогда принимала облик
молодого воина /Бек, 1981, с.94/.
Примечания 199
56 Ярким примером религиозно-мифологического синкретизма на юге
Индии является фигура Венкатешвары, известный храм которого находит-
ся в Тирупати (Андхра). Этот юный горный бог, вероятно древнего, до-
арийского происхождения (см. /Делери, 1960, с.185/), считается вопло-
щением Вишну. Однако его изображение лишено типичных атрибутов Виш-
ну — чакры и раковины, зато имеет черты, характерные для Шивы: спу~
тайные пряди волос, змеиный орнамент, знак полумесяца на лбу /Бек,
б.г., с.5/.
Пожалуй, еще более удивительное смешение шиваитских и вишнуит-
ских признаков мы находим в приведенном выше описании богини Коттра-
вей (СП XII): лобный глаз, черное горло, трезубец, шкура слона и
т.д.; вместе с1 тем в лотосоподобных руках богиня держит раковину и
чакру, а в одном месте песнопений эйинаров (гимн 22) она идентифи-
цируется с Кришной, когда упоминается эпизод из кришнаитского мифа —
уничтожение демона-повозки.
57 См. об этом мифе /Эдхольм и Сунесон, 1972; Харди, 1983/.
58 На основании вышеприведенных рассуждений можно представить
следующую схему древнетамильского пантеона (без учета шиваитской и
вишнуитской мифологических систем):
Коттравей = Маль
= Валли
Mypjr
Знак = указывает на брачные отношения, | — на наследственные.
Кроме того, надо помнить, что Коттравей и Маль — сестра и брат, и
Муруган, женившись на дочери дяди, поддерживает таким образом (ос-
вящает) традицию кросскузенного брака.
59 Здесь уместно вспомнить о часто встречающемся в тамильской
поэзии образе раскалывания (pila) земли жаркими лучами солнца (о
солярной символике копья Муругана мы говорили).
По нашему мнению, более ранним следует считать расщепление —
мотив, сохранившийся в "Кандапуранам" и подвергающийся, кстати,
раздвоением Сура после удара Муругана (он становится петухом и пав-
лином) . Этот мотив вообще часто встречается в связи с Муруганом и
отражает его стремление к занятию центральной, раздваивающей (пред-
мет или явление) позиции: он кидает копье в середину океана, он при-
ходит на свидание с Валли в середине ночи (natunal), раскалывает
гору, расщепляет дерево.
Можно добавить, что среди племен мунда существует обычай пе-
ред настоящей свадьбой совершать ритуал бракосочетания жениха с
манго (он обнимает дерево, его привязывают к нему и т.д. /Кроли,
1902, с.341/).
В связи с этим отметим, что в некоторых индуистских храмах (к
примеру, в храме Варадараджи Перумаля в Каньджипураме) имеются ба-
рельефы, изображающие, видимо, весьма архаический ритуал совокуп-
ления мужчины (царя?) с деревом. Возможно, это было так называемое
"охранное" дерево царя, содержащее в себе его жизненную силу, кото-
рую он таким образом "укреплял".
62 Ср. такие строки из "Парипадаль", обращенные к Муругану: "о
ты, обладающий копьем, которое погубило посреди обнимающего землю,
полнящегося водой океана подобное беременной туче, вздымающейся на-
13-4 60
200 Примечания
встречу сезону доящей, манго, которым обернулся, покрывая /мир/,
Сур" (Пари XVIII, 2-4).
63 В стихах упоминаются деревья ornai и yä*. Они не имеют удовлет-
ворительной идентификации, но мы полаяаем, что речь идет именно о
манго, ср. АН 297, 11: "дерево омей, в стволе которого был Сур".
Дерево йа ассоциируется с манго косвенно: в АН 337, 1—2 говорится
о том, что тело героини напоминает влажный побег йа (обыкновенно
используется сравнение с ростком или побегом манго).
В нескольких случаях речь идет о густой тени от йа: "тень, по-
добная дому, от широких ветвей дерева йа с красивыми побегами" (АН
343, 10—11), "тень черноствольного йа" (Айн 388, 2; также КТ 232,
5).
Глава II
* Ассоциация Агастьи с началом тамильской культуры, его роль
учителя и даже создателя тамильского языка, отца тамильской грамма-
тики и другие подобного рода "культуртрегерские" мотивы весьма ха-
рактерны для многих средневековых тамильских мифов. Пришедший с се-
вера мудрец выступает в них как своеобразный культурный герой, но-
ситель идеи "арьянизации" юга. И хотя существуют гипотезы, указы-
вающие на автохтонное происхождение Агастьи, объективный смысл упо-
мянутых мотивов, без сомнения, состоит в том, что южная традиция
не только восприняла влияние северной, но и в какой-то момент (в
средние века, во всяком случае) сочла необходимым само свое начало
Посвятить" приобщением к последней или даже происхождением из нее.
Об Агастье см., например, /Звелебил, 1975, с.62—67; Шульман, 1980,
с.6, 64-65/.
2 Согласно гипотезе Н.В.Гурова (см. /Гуров, 1974/), легенда о
сангах, как и ряд других легенд и мифов дравидских народов, где
упоминаются потоп, затопление или, наоборот, освобождение земли из-
под власти океана, отражает в мифологизированном виде некий архетип,
который можно условно назвать "южнодравидской легендой о прародине11,
и вместе с тем реальные события — наводнения, послужившие причиной
гибели Мохенджо-Даро и других городов протоиндийской цивилизации.
Как нам кажется, этой гипотезе можно противопоставить некоторые со-
ображения, связанные с типологией мифотворчества. По мнению Д.Шуль-
мана, автора книги о тамильских храмовых мифах, которое нам кажется
убедительным, "история первых двух санг есть разрастание раннего ми-
фа о происхождении, в центре которого — Мадурай. Подобно тамильским
храмам, Мадурай рассматривает себя как несокрушимый центр вселенной,
место творения, выживающее в мировом потопе (санскр. pralaya); в до-
бавление к этому Мадурай претендовала на роль древней родины тамиль-
ской поэзии, места, где располагалась „академия", настойчиво связы-
ваемая традицией с первым расцветом тамильской культуры. Происхожде-
ние литературы было описано в терминах, заимствованных из космогони-
ческого мифа" /Шульман, 1980, с.74/.
3 Вполне вероятно, что этот танец связан с тамильским ритуалом,
существующим сейчас под названием kirâmam cânti успокоение селения.
Он состоит в изгнании духов, считающихся "нагревающими" /Бек, 1969,
Примечания 201
с.536/. Возможно, сходным с ним был умилостивительный древнеиндий-
ский обряд (санскр. cânti), который упоминает Я.Гонда /Гонда, 1956,
с.134/.
4 Подтверждение этому мы видим в наличии в текстах совершенно
аналогичных приведенным атрибутивных конструкций, расширенных за
счет употребления глагола atu, здесь синонимичного poru связывать,
соединяться: tontiyôr atu pôruna (ПН 17, 13; Пади 88, 21) о прави-
тель жителей Тонди! koliiyôr atu poruna (ПН 22, 27) о правитель жи-
телей гор Колли! Тавтологичность конструкции верифицирует и усили-
вает идею связи.
5 Характерно, что позднее, с развитием на юге кастовой струк-
туры, барабанщики перешли в разряд неприкасаемых. Как известно, сло-
во "пария" произошло от тамильск. paraiyan тот, /кто бьет/ в бара-
бан "парей".
6 mîn cîvum pânciri селение панаров, добывающих рыбу (МК 268 —
269; ПН 348, 4); mïn kol plnmakal дочь панана, ловящая рыбу (АН 216,
1); ПН 399, 15—16 говорит об исполнительнице на барабане киней,
держащей в руках удочку. Любопытна строка из стихотворения знамени-
той поэтессы Ауввеияр, созданного на смерть ее покровителя, князя
Недумана Аньджи: "Он гладил мою пахнущую рыбой (pulavu nârum) голо-
ву" (ПН 235, 9).
Pulavu означает неприятный запах, главным образом запах сы-
рой рыбы или мяса. Он присущ дикой природе и ассоциируется, как пра-
вило, с опасными для человека зонами — с пустынной местностью или
морем. Так пахнущими называются, например, морской песок (ПП 64),
волны моря (HT 123, 9), пустыня (curam) (АН 35, 10), поле битвы
(АН 249, 14), тигр (АН 3, 9).
7 Ф.Б.Я.Кёйпер, анализируя термины, обозначавшие в древней Ин-
дии исполнителей, показывает, что многие из них, по-видимому, были
связаны с дравидским ареалом и были названиями старых местных пле-
мен. Интересно, что среди них были рыбаки (mainâla от mîn — тамильск.
рыба) /Кёйпер, 1968, с.79/, к которым, можно предположить, и восхо-
дит исполнительская традиция, представленная панарами.
8 Употребление эпитета mutuvly по отношению к горшечникам под-
черкивает отмечавшуюся нами значительную роль в ритуалах некоторых
ремесленников. Горшечники и сейчас на юге Индии нередко выступают в
качестве жрецов, производят жертвоприношения, участвуют в похоронных
церемониях /Брубэкер, 1979, с.131/.
9 Здесь уместно обратить внимание на то, что наиболее характер-
ный для ранней тамильской поэзии размер akaval (букв, взывание) вос-
ходит к различным формам песнопений, сопровождавших акты гадания,
прорицания, экзорцизма (см. /Кайласапати, 1968, с.66—67/).
10 muppunar atukkiya — букв, упорядочившая, поставившая в ряд
тройное соединение. Это, по всей вероятности, реминисценция веди-
ческого мифа о творении, согласно которому так называемая изначаль-
ная скала, плававшая в первобытных водах, после того как Индра раз-
делил землю и небо, стала пониматься как соединяющая их мировая ось
(третье пространство — между ними).
11 Голока — так называемый "рай коров", принадлежащий Кришне.
12 В АН 142, 11 — 13 говорится о князе Минили, который танцевал
некий танец ol val amalai в день, когда он в битве убил Адихана.
202 Примечания
13 Слово uyir означает дыхание и жизнь как производное от ды-
хания.
1Ц "Иди, дабы увидеть щедрость, подобную дождю, обладающего ко-
лесницами князя Аи" (ПН 133, 6); "чтоб щедрый дар дождя увидеть, из-
далека пришла танцоров наша родственная группа" (ПН 153, 5—6); "о
щедрый, ты изливаешь без ограничений /дары/, словно тяжелые дожде-
вые тучи" (ПН 204, 23); "дары царя, как поток после засухи" (МПК
60—61); "его сильные руки, дарящие стада слонов, схожи щедростью с
тучами, не отказывающими в дожде" (СПан 124) и т.д.
15 К ритуалам перехода относятся, таким образом, все обряды жиз-
ненного цикла: рождение, инициация, свадьба и многие другие, напри»
мер помазание на царство.
16 Следует подчеркнуть, что имеется в виду не механическое вос-
становление прежнего состояния, а обретение нового статуса (возра-
стного, социального). В случае, если статус формально считается тем
же (как в. ежегодном ритуале помазания на царство), он все равно по-
нимается как новый.
1 Витхоба — местное божество, ассоциируемое с Вишну. Культ его
очень древен и некоторыми чертами восходит к доарийской религиозной
стихии. Существуют связи его с дравидским культом Кришны-Венкатешва-
ры в Тирупати. Исследователи отмечают дравидскую этимологию имени
Витхоба /Делери, 1960, с.8/.
Движение паломнической группы под руководством санта напомина-
ет путешествие группы исполнителей, также имевшей предводителя. От-
метим такие общие черты, как трудности пути, сосредоточенность мыс-
ли на объекте почитания, равенство членов группы и отношение друг
к другу как к' родным.
Интересно, что в группе паломников присутствуют певцы и музыкан-
ты. Пение гимнов — один из важнейших атрибутов паломничества /Деле-
ри, 1960, с.84, 88, 105/.
18 Ритуал умерщвления себя отказом от пищи (vatakkiruttal сиде-
ние с лицомл обращенным к северу) совершали цари, потерпевшие пора-
жение в битве.
19 Здесь уместно напомнить некоторые замечания М.Мосса по пово-
ду актов обмена и дарения, производившихся в древних обществах. Во-
первых, важен их общий социальный смысл. "Именно группы, а не инди-
виды осуществляют обмен, соприкасаются и связывают друг друга обя-
зательствами"; во-вторых, "обязательство, сопряженное с даром, не
инертно. Духовная энергия, передаваемая с ним, стремится вернуться
к месту своего рождения; наконец, и даваемая вещь не инертна. Она
живет, часто персонифицируется и стремится принести в свой клан, на
родину какой-либо эквивалент вместо себя" /Мосс, 1954, с.З, 9, 10/.
Ср. также следующее наблюдение: "Даяние — это участие в жизни и ра-
боте того, кому дается, участие в его универсуме в качестве сочувст-
вующего члена. Никто не может быть сопричастным кому-то, ничего ему
не давая вначале. Даяние — существо значимого существования" /Ван
Баал*, 1976, с.177/.
20 Хотя в тамильских текстах нигде об этом эксплицитно не гово-
рится, но вполне справедливо полагать, что на индийском юге царство
воспринималось как "плоть царя, которую следует питать". Такое пони-
Примечания 203
мание царства, по замечанию В.Н.Романова, было общим достоянием
древнеиндийской политической традиции /Романову 1978, с.32/.
21 Очевидное сходство и генетическое родство этих двух традиций
отмечалось многими исследователями /Кайласапати, 1968, с.74—75;
Харт, 1979, с. 14; Звелебил, 1975, с.94/. Обычно указывается на при-
сущие той и другой экстатический характер почитания повелителя (бо-
га) , атмосферу дружеской близости, задушевности в отношениях адепта-
почитаемого, ряд общих мотивов и формул. Однако их систематическое
сравнительное изучение пока, насколько нам известно, не было пред-
принято .
22 В палийской "Джатаке о Суссонди" говорится о том, что придвор-
ный поэт-исполнитель, которого царь отправляет на поиски своей жены,
найдя ее, вступает с ней в связь (см. Литература древнего Востока.
Тексты. М., 1984, с.96—98). В свете нашего предположения этот мо-
мент можно рассматривать как реминисценцию древних представлений о
функциях поэта-посредника.
Глава III
1 Трактат iraiyanâr akapporul, как видно из его названия, цели-
ком посвящен содержанию поэзии ахам; tolkäppiyam содержит разделы:
akattinai iyal ("Сущность тем поэзии ахам11), purattinai iyal ("Сущ-
ность тем поэзии пурам").
2 Некоторые исследователи придерживаются иного мнения. Напри-
мер, С.Маниккам полагает, что все поэты санги скрывали свои лично-
сти, свой личный опыт в делах любви за условностями поэзии ахам
"для его универсализации" /Маниккам, 1962, с.197/. Такая трактовка
древней лирики явно лишена историчности, ибо личностное начало в
нашем понимании ей не присуще. Даже "наличие „я" -мотива, — замеча-
ет О.М.Фрейденберг по поводу древнегреческой лирики, — еще не гово-
рит о переживаниях самого поющего" /Фрейденберг, 1973, с.109/.
К тамильской же лирике, где этот мотив отсутствует, критерий лично-
стного начала тем более неприложим.
3 В 57-й сутре Тол подчеркивается: "Когда имеют дело с пятью
известными людям темами поэзии ахам, то /героев/ не наделяют имена-
ми".
ц Лишь в двух стихотворениях, представляющих собой монолог-
воспоминание героя, свадебный обряд описан с некоторыми подробно-
стями (АН 86; 136). См. также СП I, 1, где бракосочетание Ковалана
и Каннахи проводится по двоякому образцу — древяетамильскому и ве-
дическому .
В Кали 101—107 содержится описание свадебного обычая пастуше-
ского племени: для завоевания девушки герой должен укротить быка.
Эти стихи, о которых будет сказано позже, стоят особняком в традиции.
5 Эти эпизоды получили в тамильской традиции название turai
местом распааооюение, путь, порт и т.д. (ДЭС 2773). Обращая внимание
на не вполне четкую интерпретацию термина turai средневековыми ком-
ментаторами Тол, Кайласапати отмечает, что, во всяком случае, под
ним подразумеваются "тематическая ясность и единство стиха", и в
соответствии с этим предлагает считать его обозначением специфике-
204 Примечания
ской "темы" стихотворения — "одного из мельчайших, но, конечно, на-
иболее важных „элементов производства"" /Кайласапати, 1968, с.192/.
6 tinai (от корня tin бшпь крепким, плотным — ДЭС 2634) род,
племя, класс, т.е. совокупность предметов или явлений, сплоченных
какими-то общими признаками. Например, оно употребляется для обоз-
начения семьи, клана (ПН 24, 28), разновидностей жасмина (Пору 221).
7 Первая сутра ИА гласит: "Из пяти тиней любви то, что называ-
ется ;,калаву", есть обычай гандхарвов из восьми форм брака ведиче-
ских брахманов — так говорят мудрые поэты".
9 Вестермарк отмечает, что обычай добрачной физической близо-
сти молодых людей присущ ораонам и колам /Вестермарк, 1921, т.1,
с.132/, т.е. племенам мунда. Добавим, что он распространен и у сан-
талов (см. /Арчер, 1974/), любовный канон которых вообще очень на-
поминает древнетамильский.
Ср. такие строки: "Если поднимут шум горные куравары, облако
брызнет тонкими каплями дождя" (Айн 251, 1—2). С этим хорошо соот-
носятся этнографические данные: у лесных племен Траванкора (по-види-
мому, потомков тех же кураваров, живущих подсечным земледелием) во
время церемонии первой рубки джунглей ее руководитель, а затем и
все остальные дуют в раковины как можно громче, стараясь перешуметь
друг друга /Мандельбаум, 1939, с.123/.
10 Этот обряд (в его кришнаитском варианте) наиболее полно опи-
сан тамильской поэтессой Андаль (IX в.) в поэме tirupplvai. Приве-
дем из нее фрагмент, иллюстрирующий наше описание:
И если, воспевая имя Превосходного, того, кто, вздыбясь,
мир измерил,
И возвестив о том, что мы обряд свершаем, искупаемся,
По всей стране исчезнет зло и в каждом месяце пройдут
дожди тройные,
В посевах риса красного, среди стеблей высоких, резвиться
будут карпы,
В бутонах лилий кувалей устроятся для дремы пчелы-блестки,
Наполнится земля неубывающим богатством стад...
11 См, об этих ритуалах, например, /Васильков, 1979, с.115/.
12 "Лучистосияющие, словно цветок венгей, многочисленные тонкие
родинки на груди" (ПН 352, 12-13). См. также АН 6, 12; 174, 10-12;
HT 13, 8; 319, 9; КТ 71, 2; Айн 255, 3; СПан 23-24 и др. О венгей
подробнее см. дальше.
13 Цит. по /Звелебил, 1980, с. 168/.
14 Обращает на себя внимание отчетливый лексический параллелизм
roâyôl — miyôn (Кришна).
1* Ассоциация манго с женским началом, отмеченная ранее, в главе
посвященной мифологии, хорошо подтверждается разбираемой нами образ-
ностью. Ср. также строки из поэзии санталов: "Мои груди — манго",
"О моя любимая! Как манго — твое тело" /Арчер, 1974, с.115/.
16 Сугубо чувственное понимание образа женщины в древнетамиль-
ской поэзии с исключительной наглядностью запечатлено в ТК 1101:
"Все, что дает высшее наслаждение пяти чувствам: зрению, слуху, обо-
нянию, вкусу и осязанию, — заключено в украшенной браслетами /женщи-
не/".
Примечания 205
1 Любопытное, на наш взгляд, подтверждение ритуальному характе-
ру хвалы красоте героини содержится в таких строчках Кали 25, 21—22:
"Однажды, когда был милостив, ее лоб сверкал великолепно, в другой
день, когда ты не хвалил ее (plplttlkäl), он пожелтел (pacakkum)".
18 На это стихотворение в связи с представлением о сакральной
женской энергии обращает внимание Дж.Харт /1975, с.226/.
19 Приведем в качестве параллели к этому примеру стихотворение
из антологии Халы "Гахасаттасаи" (II в.): "Как дом без имущества,
как водопад без воды, как хлев без коровы, лицо ее в разлуке с то-
бой" (пер. В.В.Вертоградовой).
Сходное понимание состояния женщины в разлуке видим мы и в пес-
не, принадлежащей дравидской народности байга: "Как вода взята из
колодца и вылита прочь, такая же потеря для девушки видеть любимого
на расстоянии" /Элвин, 1939, с.439/.
20 а г ап — добродетель, религиозный долг, тамильский эквивалент
слова "дхарма".
21 Имеются в виду странствующие певцы у входа во дворец покрови-
теля.
22 Букв, "ночная дверь" (iravu katavam). Мотив открывания двери
встречается также в АН 102, 13; Кали 68, 8; 83, 2.
23 Нота резонерства, которая звучит в этом стихе, свидетельству-
ет о том, что обыгрывание двойственного характера любовного чувства
и образа женщины давно укрепилось в поэтической традиции. В самом
деле, вариации на эту тему многочисленны, и сама она является извест-
ным общим местом не только тамильской, но и индийской поэзии в целом.
Ср., например, стихотворение Бхартрихари:
Нет для меня иного нектара
И нет яда, кроме нее.
Она — медоносный цветок, если любит,
Холодна — ядовитый вьюнок (пер. Ю.М.Алихановой).
2Ц Изложение дается по пересказу /Звелебил, 1977/. Фольклорную
версию мифа отражает современная анонимная поэма о Муругане, опубли-
кованная Б.Бек /1975/.
25 "История Валли и Муругана была достаточно известна, чтобы
предоставить божественный образец человеческого поведения и материал
для поэтов, откуда они могли брать сравнения" /Звелебил, 1977а,
с.233/.
26 mani ër aimpll mayôl темная, с пятью прядями волос, красотой
подобных сапфиру (HT 133, 5).
27 Ср. также: valli nun itai тонкая, как растение валли (или
как у Валли?) 9 талия*"(АН 286,*2).
28 Мотив размягчения от любви в высшей степени типичен для поэ-
зии тамильского бхакти. Например: "ты, /о Шива/, расплавил мое ка-
менное сердце..." (Маниккавасахар. "Тирувасахам" X, 11, 2); ср. так-
же восклицание Аппара, обращенное к Шиве: "если ты нас расплавляешь,
есть ли тот, кто не расплавлен?"
29 Ср. замечание О'Флаэрти о том, что в индийской культуре смерт-
ный, который признает в себе наличие сексуальности, тем самым иден-
тифицирует себя с Шивой /О'Флаэрти, 1981, с.208/.
:06 Примечания
30 âvirai; erukku(arka). К последнему растению в тамильской куль-
туре выработано резкое негативное отношение. С ним ассоциируются не-
приятности, бесчестье, смерть /Терстон, 1912, с.51—52/.
31 Поток воды с упавшими в него цветами, плодами или осыпавшейся
ароматной пыльцой — распространенные и любимые поэтами образы (см.
приведенное в главе I описание горного потока в ТМА). Такой поток
есть, конечно, образ плодотворящей насыщенной семенем влаги. В свете
этого проясняется значение обряда купания девушек в бегущей воде.
32 Напомним, что время цветения манго, как и венгей, считалось
благоприятным для свадеб. Эта примета, возможно, подразумевает суще-
ствование ритуала брака между деревьями.
33 Существует несколько разновидностей куриньджи, отличающихся
одна от другой по окраске. В древнетамильской поэзии имеется в виду
синий цветок Strobilanthes kuntianus /Сами, 1972, с.79/. К характе-
ристике куриньджи необходимо добавить еще одну любопытную деталь:
чашечка его цветка состоит из пяти лепестков /Сами, 1955, с. 139/,
что некоторым образом соответствует пятилистнику валли.
34 Хотя вода сама по себе — многозначный символ, все же можно
полагать, что в отличие от бегущей воды ручьев горные озера (cunai)
ассоциируются с женским началом. Это с очевидностью следует, напри-
мер, из HT 334, где образ падающих в горные озера цветов венгей
символизирует совокупление.
35 О "лунных" ассоциациях Валли говорит средневековый коммента-
тор Тол Наччинарккинияр (см. /Звелебил, 1977а, с.242/).
36 Завуалированное в этом стихотворении сравнение героя с камнем
представляет собой характерный поэтический прием, получивший в тра-
диции название "внутреннее сравнение" (ullurai uvamam).
37 Такого рода намек также является распространенным и продук-
тивным приемом в тамильской поэзии (его называют iraicci — букв.
мясо, плоть, пища), разрабатываемым в каждой теме-тиней применитель-
но к ее поэтическому материалу.
38 mullai — кустарник с ползучими ветвями и множеством мелких
ослепительно белых ароматных цветов.
39 Таких групп в древнем Тамилнаде насчитывалось семь: pêtai —
до 7 лет; petumpai — 11 — 12 лет; mankai — 13—18; matantai — 19 — 24;
arivai— 25 — 30; terivai — 31—39; pêrilampen — после 40 лет /Синга-
равелу, 1966, с.188/. Таким образом, возраст"героини определяется
между 19 и 30 годами. Впрочем,эти обозначения в поэзии в значитель-
ной степени уже теряют терминологическое значение, и потому matantai
мы переводим как скромная (от matan), a pêtai — как глупая, неразум-
ная.
40 "Охотники на слонов в Западной Африке убеждены, что если их
жены в их отсутствие изменят им, то это преступление дает слону
возможность одержать победу над охотником, тяжело ранить или даже
убить его" /Фрэзер, 1980, с.49/. Неверность жены ведет к смерти му-
жа в битве /Уилсон, 1957, с.133/* "Несоблюдение моральных норм, свя-
занных с сексом, является, по поверьям, причиной зла, которое по-
стигает общину" /Криге, 1968, с.175/.
Наконец, можно привести пример из современного малаяльского ро-
мана, который показывает, что подобные представления живы на юге
Индии до сих пор. "Как ты думаешь, почему рыбаки, выходящие на лов,
Примечания 207
возвращаются назад целыми и невредимыми? Потому что их жены, остаю-
щиеся на берегу, блюдут закон и благочестие" (Такаош Шивасанкара
Пилпэ. Креветки. М., 1961, с. 12).
Ц1 "Я в огне, словно корни дерева, под которым пастух разводит
костер" (HT 289, 7—8); "В глазах стояли слезы, жгучие, словно
огонь" (КТ 4, 2); "от жара тела сохнут Цветы в волосах, сами волосы
становятся опаленными" (КТ 192, 6); "от страданий разлуки дыхание
делается горячим" (Айн 450, 3). Само высыхание тела, распростране-
ние цвета разлуки есть, конечно, результат сжигающего героиню внут-
реннего огня страданий.
**2 Интересно сравнить состояние героини с периодом подготовки
шамана из Малабара (величапада) к камланию. Этот период (40 дней)
накопления энергии считался сакральным в храмах Малабара, посвящен-
ных Бхагавати. Шаман должен в это время вести сдержанную, аскетиче-
скую жизнь: не лазать на деревья, не пить вина, не брать в руки
плуг, а также соблюдать целомудрие /Гопалакришнан, 1959, с. 191 —
193/.
Весьма примечательно, что трудности и аскезы, и разлуки обоз-
начаются однокоренными словами: поу боль у notai болеть Л страдать^
nôrrâr те3 кто перенес страдания аскезы (КТ 344, 1), пБтграп совер-
шивший подвиги аскезы (ТК 70), nôynonturaivi переживахщхя боль*
трудности разлуки (КТ 1"92, 2). С полным основанием можно обозначить
обеты аскезы и разлуки одним словом — страстотерпие. Кстати, вся-
кий женский обряд, в котором присутствуют элементы аскезы, называ-
ется попри. Добавим, что и состояние нечистоты, в котором пребыва-
ет героиня, понимается вообще как "нагревающее" /Бек, 1969, с.562/.
43 В Кали 19, 20 и СП XV, 143—147, например, говорится о том,
что женщина, обладающая карбу, способна вызвать дождь для своего
селения.
Под богом подразумевается, конечно, Муруган, укрепитель уз,
держащих под контролем сакральную женскую энергию.
45 Интересно здесь обратить внимание на один характерный образ
древнетамильской поэзии: мелкие распускающиеся бутоны муллей напо-
минают зубы и вызывают представление о смехе, улыбке (АН 244, 4;
КТ 162, 4 — 5; 186, 3). Отсюда явно вытекает и представление о белом
цветовом качестве смеха (вообще распространенное в Индии. Ср. "бе-
лый" смех Щивы в "Облаке-вестнике" Калидасы). "Белизна смеха" есть,
конечно, метафорическое развитие зримого образа приоткрывшихся в
смехе, улыбке зубов. "Белый смех, явленный в сверкании зубов, пред-
ставляет дружбу, хорошие взаимоотношения. Это — нечто противопо-
ложное гордыне, тайной зависти, краже, супружеской измене, подло-
сти и убийству" /Тэрнер, 1969, с.104/.
46 Об Арундхати см., например, /Бхандаркар, 1913, с.150 — 151/,
47 Имеется в виду звезда из созвездия Плеяд, в которую, соглас-
но мифу, превратилась Арундхати.
це Напомним: "Еда — метафора жизни и воскресения" (Фрейденберг
1936, с.67). Чрезвычайно существенна, кстати, связь понятий новиз-
ны и еды в слове viruntu новизна^ угощение^ пирл гость (см. ДЭС
4442).
49 Понимание "души" как внутреннего тела подтверждается данны-
ми ряда дравидских языков (гонди, пенго, куй, куви и др.), в кото-
208 Примечания
рых слова, означающие сердце, душа, имеют также значения серд-
цевина дерева, ядро ореха и т.д. (см. ДЭС 3097).
Эти сведения любезно сообщены нам Н.В.Гуровым.
а Аналогично понимается процесс видения, смотрения — как по-
мещение предмета вовнутрь. На обыгрывании этого построен, между про-
чим, ряд стихов "Тируккурала". Например: f'0 прекрасный идол! Уда-
лись из зрачков моих глаз — /иначе/ моей прекраснолобой возлюблен-
ной не хватит /в них/ места" (ТК 1123).
По тамильским текстам можно проследить связь корня tel со
сферой ритуала и магии, tel — это постоянный эпитет колокольчика
(tenmani), звук которого обладает очистительной функцией. Она ре-
ализуется двояко. Во-первых, колокольчик уберегает скот от гибели
и порчи (от хищников, болезней или вообще нечистого влияния). Звон
колокольчиков и щелканье кнутов — необходимый компонент пастушеских
очистительных обрядов, замечает Е.В.Аничков /1903, с.271/. В "Пове-
сти о браслете" есть эпизод, когда колокольчики, предвещая несчастье,
попадали с коров на землю, т.е. коровы лишились охраны (XVII, 2—4).
Во-вторых, колокольчик — необходимая принадлежность шаманов и прори-
цателей (например, прорицатели из племени ирула в Южной Индии, пред-
сказывая судьбу, бьют в барабан и колокольцы /Терстон, 1909, т.1,
с.372/). Колокольчик — это и принадлежность Муругана (ТМА 84),
связь которого с шаманством не вызывает сомнений. Колокольчик в та-
мильской поэзии описывается как имеющий язык — па и открытый рот —
pakuvây и может рассматриваться как символ сакральной речи, "про-
светляющей" то, что укрыто от простого глаза временем или видимым
обликом вещей.
51 По этому поводу можно высказать одно предположение. В стихах
на тему палей даются иногда точные указания на местность, куда от-
правился (и, следовательно, откуда возвращается) герой. Это север-
ная граница Тамижахама, горы Венката, "страна с другими языками" —
см. АН 27,7; 61, 13; 85, 9; 127, 17; 209, 9 и т.д. Учитывая, что в
этих горах находится Тирупати, место почитания Кришны-Венкатешвары
(бога с древними местными корнями, сочетающего в себе черты Кришны
и Муругана), и что именно из-за гор вздымаются обычно тучи' сезона
дождей, то, может быть, в картине возвращения героя следует видеть
реминисценции с мифологией упомянутого бога? Вопрос этот требует
дальнейших изысканий.
52 Любопытно отметить такую словесную перекличку: в районе па-
лей "коршун тащит кишки воинов" (АН 77,10); "демоницы-пей на поле
битвы наматывают кишки себе на голову" (ПН 371, 23); "кишки пасту-
хов висят на рогах быка" (Кали 103, 25).
53 Интересно, что в современном ритуале бракосочетания богини
Мариямман в качестве ее субститута может фигурировать сосуд с рас-
каленными углями /Бек, 1981, с.116/.
** Необходимо сделать оговорку по поводу употребления слов
"город", "горожане". Речь здесь идет не только о действительно
крупных городах типа Мадурай и их жителях, но вообще о селениях в
речных долинах (район марудам). Они назывались ûr (букв. укрепле-
ние) и были населены земледельцами, культивировавшими главным об-
разом рис и сахарный тростник. С ними связывается довольно высокий
уровень цивилизации, и термин пгап горожанин, житель селения района
Прмечакия 209
марудам* несет в себе известную оценочную характеристику. Не слу-
чайно в стихотворении Айн 15 героиня, упрекая героя в неблагородном
по отношению к ней поведении, говорит: "хоть он и житель древнего
селения (mütüran), но не горожанин (пгап)", т.е. лишен необходимых
для горожанина, "урана11, качеств.
51*а 0 тамильской традиции храмовых представлений, во время кото-
рых разыгрывалась ссора между супругами-богами, пишет С.Керсенбом-
Стори. Бога не пускают в "дом", потому что он женился на сопернице.
Он стоит перед закрытой дверью и просит прощения у первой супруги до
тех пор, пока она не меняет гнев на милость. Эта сцена, исполнявшая-
ся танцовщицами-дэвадаси, перерастала во всеобщую веселую потасовку,
во время которой дэвадаси колотили окружающих кусками мягкой коры
пальмировой пальмы /Керсенбом-Стори, 1984, с.226/. Весьма примечат
тельно наличие здесь, как и в теме марудам, смехового начала. 0 дра-
матическом представлении ссор между богами см. также /О'Флаэрти,
1980, с.124/.
55 В Индии распространена история о царстве, в котором не было
дождя, потому что некий мудрец-аскет не смеялся. Засмеялся же он
лишь тогда, когда увидел эротическое соединение слепой пары /Данге,
1971, с.42/. В многозначительном соответствии с выраженной здесь
идеей находится стихотворение Кали 94, воспроизводящее (с откровен-
ными подробностями) любовный диалог горбуна и карлицы (в разделе ма-
рудам) ; ср. в связи с этим представление о необычайной сексуальной
потенции уродов /Данге, 1971, с.141/.
56 В древности существовало представление о различных видах во-
ды. Так, в ведических текстах их выявляется по меньшей мере 17, в
том числе струящаяся вода, вода из колодца, пруда, моря и т.д. /Хе-
естерман, 1957, с«84 —85/. С водами ассоциируются мужское и женское,
жизненное и смертное начала.
С тем же мы встречаемся и в древнетамильской лирике, причем для
ландшафта каждой темы-тиней характерны свои воды: горные ручьи и
озерца — для куриньджи, дождь — для муллей, реки и пруды — для мару-
дам, море — для нейдаль. Особенность пейзажа палей состоит в полном
отсутствии воды.
57 Напомним, что темы-тиней выделяются и в поэзии пурам, но не
образуют в ней столь последовательной системы. Имеется известное со-
ответствие между темами ахам и темами пурам (носящими отдельные наз-
вания), оно закреплено в Тол, но нами здесь не рассматривается. Мы
на него лишь укажем в таблице тем-тиней, помещенной в следующей гла-
ве.
Глава IV
1 Ср. мнение Дж.Марра, который полагает (см. /Звелебил, 1973,
с.92/), что эти две темы были отставлены теоретиками-"аристократа-
ми". Можно добавить, что и составители антологий, видимо, их не жа-
ловали: в наличном корпусе текстов соответствующих примеров нахо-
дится очень немного. Вообще же говоря, в вопросе о содержании этих
тем у исследователей полной ясности нет (см. /Маниккам, 1962, с.72/),
и выявление стихотворений, которые можно причислить к данным темам,
14 60
210 Примечания
зависит от индивидуальных вкусов. Лишь ситуация езды на пальмировом
коне единодушно признается принадлежащей перунтиней, поскольку явно
изображает выход за пределы нормы. В других случаях определить эти
пределы затруднительно. Скажем, принадлежащее Наннахеияру стихотво-
рение КТ 325 относят иногда к перунтиней, хотя оно изображает ти-
пичную размолвку влюбленных:
МЯ от тебя уйду, уйду", — сказал он мне.
И я, решив, что, как и прежде, это лишь слова пустые,
Ему сказала: "Что же уходи!
Но больше уж ко мне не возвращайся!11
Увы, теперь я одинока!
Громадным озером, где бродит аист черноногий,
Ложбинка стала на груди моей, наполнившись слезами.
Ах, где теперь мой господин жестокий?
Очевидным подтверждением того, что традиция закрепила в системе
тиней именно пять тем, служит состав сборников поэзии ахам, создан-
ных позже "поэзии санги" (примерно с V по IX в.) и наследовавших
ей с точки зрения сложившегося в ней канона. Эти сборники таковы:
aintinaiyelupatu ("Семьдесят стихов на пять тем-тиней"), aintinai-
yaimpatu ("Пятьдесят стихов, на пять тем-тиней"), kainnilai ("О пове-
дении в пяти ситуациях тиней"), а также tinaimoliyaimpatü ("Пятьде-
сят стихов, говорящих о тиней"), tinaimilai nûrraimpatu ("Гирлянда
из ста пятидесяти стихов на темы-тиней").
2 mutai — букв, первый^ наиапьнай9 и "Толькаппиям" так объясня-
ет название этого элемента: "Познавшие сущность вещей говорят, что
сущность этих двух — времени и пространства — быть первыми" (Тол 7).
3 Развернутую характеристику пяти тем впервые дает комментатор
трактата "Иреиянар ахаппоруль" Наккирар (IX в.). Он включает в нее
не только присущие каждому району растения, животных, но такие дета-
ли, как еда, разновидности музыкальных инструментов (йаль, бараба-
ны), источники воды.
ц Из праздников, отмечаемых в культовом цикле Муругана, заслу-
живает упоминания pankuni uttiram (апрель — май) • Этот месяц считает-
ся благоприятным для свадеб, особенно в дни полной луны. Цветут вен-
гей и манго, что отмечено и в тамильской поэзии как благоприятный
момент для бракосочетания, и в храмах Муругана разыгрывается его
свадьба с Валли /Клози, 1977, с.138/.
Скрытый смысл речи героя состоит в том, что образ коровы,
поедающей плод хлебного дерева, символизирует уже имевшее место со-
единение героя с одной из девушек у открытого поля (хлебное дерево
растет у поляны для собраний); говоря о прохладной воде, герой наме»-
кает на встречу ночью.
6 Приглашая героя в свое селение, девушки предлагают ему открыв
этим тайные взаимоотношения с их подругой.
7 Между прочим, у народов Южной Индии до сих пор широко распро-
странено суеверное отношение к вечерним часам: "Период между оконча-
нием дня и началом ночи считается критическим, детей не кормят в это
время и не дают им спать. Это общий для Южной Индии обычай" /Срини-
вас, 1955, с.88/. Добавим к этому, что и сезон дождей здесь счита-
Прмечания 211
ется, несмотря на обещание плодородия, неблагоприятным /Ферро-Луцци,
1979, с.593/.
О сильных переживаниях, связанных с приходом вечера, говорят мно-
гочисленные в тамильской поэзии эпитеты к слову milai вечер: paiyul,
punkan, palankan печальный вечер, kaiyaru milai вечер отчаяния, maru-
lin mâlai вечеру приносящий смятение, arulil milai лишенный милости
вечер и т.д. Всего можно найти более полутора десятков эпитетов с
различными вариациями (см. /Варадараджан, 1957, с.366 —367/).
Отношение к вечерним часам в разлуке наиболее кратко и сильно
выражено в двустишии ТК 1224:
Когда со мною нет любимого, то вечер наступает, словно враг
На поле битвы, /где свершаются/ убийства.
8 Такого рода практика, видимо, существовала в древней Индии.
Заслуживает внимания свидетельство одной из буддийских джатак, отме-
ченное Я.В.Васильковым: "...гетера, разыскивая бежавшего возлюблен-
ного , нанимает бродячих актеров, чтобы они пели в людных местах о
ее любви и разлуке" /Васильков, 1987, с.262/.
14-2 60
СЛОВАРЬ РЕАЛИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
В ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
Авирей (Uvirai) — Cassia senna, кустарник с золотистыми цветами.
Адумбу (atumpu) — Ipomea pascapra, ползучее растение с раздвоенными
листьями и цветами в форме колокольчика. Растет на побережье моря.
Амбаль (âmpal) — Nymphaea lotus, одна из разновидностей водяной ли-
лии.
Ар алей (aralai), или мараль (maral), —кустарник, семенами и побегами
которого питаются антилопы.
Ахил (akil) — Aquilaria agallocha, орлиное дерево, обладающее аромат-
ной древесиной.
Ашока (acôkam) — Saraca indica, дерево с ярко-красными цветами.
Баньян (âlamaram) —дерево Ficus bengalensis.
Валли (valll) — Cotivolvus batatas, вьющееся растение со съедобными
клубнями.
Ваньджи (vanci) — Salix tetrasperma, индийская ива.
Венгей (vënkai) — Pterocarpus bilobus (marsupium), дерево крыпоплод
с золотистыми цветами.
Ветчи (vetci) — Ixora coccinea, дерево с красными цветами.
Вила (vili) — Feronia éléphantum, дерево со съедобными плодами.
Вилаву — см. Вила.
Ерукку (erukku, erukkam), или арка, — Calotropis gigantea, кустарник
с неприятно пахнущими цветами, растущий на пустошах.
Илавам (ilavam) — Bombax malabaricum, шелковое дерево.
Йа (у!) — (?), дерево, растущее в пустынной местности.
Кадамба (katampam) — Nauclea cadamba, дерево с оранжевыми цветами.
Связано с культом Муругана, которого иногда (как и его жреца) на-
зывают katampan. Кадамба упоминается и в кришнаитских мифах. В вет-
вях этого дерева Кришна спрятал одежды купающихся пастушек.
Кала (kall) — (?), колючий кустарник с мелкими съедобными плодами.
Калли (kalli) — Euphorbia tirucalli, молочай, колючий кустарник,
растущий в сухих пустынных местах.
Кайа (kâyâ) — Memecylon tinctorum, карликовое дерево со множеством
мелких синих цветов.
Кандаль, или тондри (klntal, tönri), — Gloriosa superba, малабарская
горная лилия, растение с ароматными красными цветами.
Каньджи (kânci) — Strychnoe nux vomica стрихниновое дерево, растущее
по берегам водоемов.
Кондрей (konrai) — Cassia fistula, Cassia marginata, дерево с ярко-
желтыми цветами.
Кувалей (kuvalai) — Nelutnbo, темно-синяя водяная лилия.
Кувилам (kuviîam) — дерево Aegle mârmelos.
Куриньджи (kurinci) — Strobilanthes, горный цветок.
Курунду (kuruntu) — Atalantia racemosa, дикое лимонное дерево.
Куркума — см. Шафран.
Лотос (tâmarai) — Nelumbium speciosum, или разновидность Nympaea,
Словарь реалий растительного мера 213
водяные лилии с крупными многолепестковыми цветами различного
цвета.
Манго (mi, mimaram) — Mangifera indica, крупное, вечнозеленое дерево
с мелкими белыми или желтыми цветами и большими сочными плодами.
Маргоза (vëmpu) — Azadirachta indica, Nïm, Margoza, дерево, листья
которого повсеместно в Индии считаются целебным, очистительным
средством.
Марудам (marutam) — Terminalia tomentosa или Lagerstroemia feos-re-
gina, крупное ("царское") дерево, растущее по берегам водоемов (в
районе марудам).
Муллей (mullai) — Jasminium trichotomum, жасминовый кустарник с
ползучими ветвями и множеством ярко-белых цветов, раскрывающихся
с началом сезона дождей.
Мусундей (mucuntai) — Rivea ornata, вьюнок с мелкими белыми цветами.
Няжаль (nälal)#— Cassea sophera, дерево, растущее в.приморских рощах.
Нейдаль (neytal) — Nimphaea lotus alba, белая водяная лилия.
Омей (ornai) — (?), крупное дерево (разновидность манго?).
Пальмировая пальма (panai maram) — Borassus flàbeliformis.
Палей (pâlài) — Wrightia tinctoria, дерево, растущее на сухих пустын-
ных землях.
Пидавам (pitavam) — Rändica malabarica, дерево с белыми цветами.
Просо (tinai) — Setaria italicum, культура, характерная для горных
районов.
Пунгу — см. Пунней.
Пунней (punmai, punku) — Calophyllum inophyllum, дерево красолист с
разветвленной кроной и белыми ароматными цветами.
Ратан (pirampu) — Calamus rotang, вьющееся растение.
Сандал (eintarn, eintu) — Santalum album, дерево, древесина которого
используется для изготовления ароматического порошка и прохлади-
тельных мазей.
Сембу (cêmpu) — Caladium nymphacifolium, садовое клубневое растение.
Тажей (tâlai) — Pandanus odoratissimus, хвойное дерево, растущее на
морском берегу.
Тондри — см. Кандаль.
Хлебное дерево (palämaram) — Artocarpus integrifolia, дерево с круп-
ными, до двух кг, сладкими плодами.
Чампака (canpakam) — Mochelia campakam, большое дерево с ароматными
цветами.
Шафран (mancal, kunkumam) — Curcuma longa, растение, клубни которо-
го употребляются как съедобная приправа и для изготовления арома-
тического порошка.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ
(ИСТОЧНИКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)
Айн — ainkurunüru.
АН — akanänüru.
ИА — iraiyanâr akapporul.
Кали — kâlittôkai.
Кар — klrnlrpatu.
КП - kuriflcipplttu.
КТ — kuruntokai."
Мани - manimêkalai.
МК — ma t ura ikkâfic i.
МП — mullaipplttu.
МПК — malaipatukatlm.
HB — netunalvâtai.
HT — narrinai.
Пади — patirrupplttu.
Пари — paripâtal.
Пору — porunarärruppatai.
ПН — 4puranânûru.
ПП — pattinâpllai.
ППан — perumpanarruppatai.
СП — cilappatikâram.
СПан — ciruplnärruppatai.
TK - tirukkûrâî.
TMA — tirumurukarruppatai.
Тол — tolkappiyam porulatikâram.
ДЭС — Burrow T. and Emeneau M, A Dravidian Etymological Dictiona-
ry. Oxf., 1961.
ИП — Subramoniam V. Index of Puranlnûru. University of Kerala.
1962.
ППТИ — Subramanian N. Pre-Pallavan Tamil Index. Madras, 1966.
БИБЛИОГРАФИЯ
J. Тексты и переводы текстов
1. akanânûru. tiru nâvalar, па. mu.vênkatacâmi nâttar, karantai
kaviyaracu, ra,vênkatlcalam pillai varkalâl elutapperra patavu-
rai vilakkavuraikalutan. tirunelvêli, cennai, 1962.
2. ainkurunûru. tiru po! vê. comacuntaranâr uraiyutan. cennai, tiru-
nelvëïi, maturai, 1972.
3. iraiyanar akapporul. teyvappulamai nakkîranâr urai. cennai, 1976.
4. kalittokai. naccinârkkiniyar uraiyum. tiru po. vê. cômacuntara-
nâr vilakkam. cennai, 1978.
5. kuruntokai. u. vê. caminätaiyaravarkal uraiyutan. cennai, 1955.
6. cil-appatikâram. tiru po. vê. cômacuntaranâr urai. cennai, 1977.
7. tirukkural vê. irâmalinkam pillai putu urai. cennai, 1954.
8. tolkâppiyâm. porulatikâram. ilampûranar uraiyutan. tirunelvili;
cennai, 1956.
9. narrinai nânûru. uraiylciriyarkal nârâyanacâmi aiyar avarkal, po.
vê. cômacuntaranâr avarkal. cennai, 1976.
10. pattuppâttu mûlamum uraiyum. mutarpakuti. tiru po. vê. cômacunta-
ranâr urai. tirunelvêli, cennai, 1962.
11. pattuppâttu mûlamum uraiyum. irantlmpakuti. tiru po. vê cômacun-
taranâr urai» tirunelvêli, cennai, 1968.
12. patirruppâttu. uraiyâciriyar tiru auvai eu.turaiclmippillai avar-
kal. cennai) 1973.
13. paripâtal. uraiyâciriyar tiru po. vê cômacuntaranlr. cennai, 1975.
14. puranânûru. mûlamum palaiya uraiyum. patipplciriyar tlktar u. vê.
cäminätaiyavarkal.7 patippu. cennai, 1971.
15. manimêkalai. mûlamum uraiyum. uraiyâciriyar po. vê, cômacuntaranlr.
cennai, 1975.
16. maturai kannankûttanâr. kârnârpatu — nlnirpatu mûlamum uraiyum.
cennai, 1957.
17. kuruntokai. An Anthology of Classical Tamil Love Poetry. Transi.
by Dr.M.Shanmugam Pillai and David E.Ludden. Madurai, 1976.
18. pattuppâttu. Ten Tamil Idylls. Translated into English Verse by
J.V.Cheliiah. Tirunelvely, Madras, 1962.
19. The Interior Landscape. Love Poems from a Classical Tamil Antho-
logy. Transi, by A.K.Ramanujan. Bloomington .— London, 1967.
20. Le Paripâdal. Texte tamoul. Introduction, traduction et notes
par François Gros (Publications de l'Institut Français dfIndolo-
gie. N.35). Pondichery, 1968.
21. Повесть о браслете, M., 1966.
22. Тирукурал. M., 1963.
23. Стихи на пальмовых листьях. М., 1979.
24. Литература древнего Востока. Тексты. М., 1984.
25. В краю белых лилий. Древнетамильская поэзия. М., 1986.
216 Библиография
II. Список литературы
Алиханова Ю.М. Театр древней Индии. —Культура древней Индии.
М., 1975.
Алиханова Ю.М. Жанр "натика" в индийской классической драме. —
Теория жанров литератур Востока. М., 1985.
Альбедиль М.Ф. Протоиндийское письмо: итоги и перспективы ис-
следования. — СЭ. 1984, № 4.
Альбедиль М.Ф. К реконструкции мифологической семантики про-
тоиндийских текстов. — Литература и культура древней и средневеко-
вой Индии. М., 1987.
Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. —
ОРЯС. 1903 (т.74, № 2; т.78, №5).
Арокиасвами (Arokiaswami M. ) . Kuruntogai: Historical Inter-
pretation. - JMU. 1960, vol. 32, W 2.
Арокиасвами (Arokiaswami M.). The Classical Age of the* Tamils.
Madras, 1967.
Аруначалам (Arunachalam M.). A Later Evidence on Music in the
Cankam Period. - JTS. I» 17, 1980.
Арчер (Archer W.G.). The Blue Grove. The Poetry of the Uraons. L.,
1940.
Арчер (Archer W.G.) . The Hill of Flûtes. Pittsburg, 1974.
Баласубраманиан (Bâlasubramanian С. ) . The Status of Women
in Tamilnadu during the Sangam Age. Madras, 1976.
Баль (Baal J. van.). Offering, Sacrifice and Gift. — Numen. 1976,
vol.23, fasc. 3.
Банерджи (Banerjee P.). Apsaras in Indian Dance. New Delhi, 1982.
Барроу (Burrow T.). Review of: Hart G.L. The Relation between Тат
mil and Classical Sanskrit Literature. Wiesbaden, 1976. — IIJ.
1979, vol.21, № 4.
Бек (Beck B.E.F.). Colour and Heat in South Indian Ritual. —Man.
1969, vol.4, № 4.
Бек (Beck B.E.F.). The Study of a Tamil Epic. — JTS. 1972, № 1.
Бек (Beck B.E.F.). Peasant Society in Kongu. Vancouver, 1972 (a).
Бек (Beck B.E.F.). The Kin Nucleus in Tamil Folklore. —Michigan
Papers on Soüth and Southeast Asia (№ 7. Kinship and History of
South Asia). Ann Arbor, 1974.
Бек (Beck B.E.F.). A Praise-Poem for Murugan. — Journal of South
Asian Literature. 1975, vol.XI, № 1-2.
Бек (Beck B.E.F.). The Goddess and the Démon. A Local South Indian
Festival and its Wider Context. — Autour de la Déesse Hindou. P.,
1981.
Бек (Beck B.E.F.). The Three Twins. The Telling of a South Indian
Folk Epic. Bloomington, 1982.
Бек (Beck B.E.F.). The Courtship of Valli and Murugan: Some Paral-
lel s with the Radha-Krishna Story. S.I., s.a.
Биардо (Biardeau M.). L'arbre et le buffle sacrificiel. —Autour
de la Déesse hindoue. P., 1981.
Блэр (Blair J. Chauncey) . Heat in the Rgveda and Atharvaveda
(American Oriental Séries. Vol. 45). New Haven, 1961.
Бо h г ар д-Л е в и н Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985.
Библиография г 17
Брубэкер (Brubacker R.L.). Barbers, Washermen and Other Priests:
Servants of the South Indian Village and its Goddess. HR. 1979,
vol. 19, № 2.
Брубэкер (Brubacker R.L.). Lustful Woman, Chaste Wife, Ambiva-
lent Goddess. A South Indian Myth. —Anima. 1977, vol. III, № 2.
Бычихина Л.В., Дубянский А.М. Тамильская литература. Крат-
кий очерк. М., 1987.
Бэбб (Babb L.). The Divine Hierarchy: Populär Hinduism in Central
India. N. Y. - L#% -1975.
Ваияпури Пиллей (Vaiyapuri Pillai). Histpry of Tamil Langua-
ge and Literature. Madras, 1956.
Ванамамалей (vanamamalai na. ) . paripâtalil muruka vanakkam. —
ârlycci. 1971, malar 3, ital 2.
Ванамамалей (Vanamamalai N.). Него Stones and Folk Belief s. —
JTS. 1972, vol. 2.
Варадараджан (Varadarajan M. ) . The Treatment of Nature in
Sangam Literature. Tirunelvely-Madras, 1957.
Варапанде (Varapande M.L.) .Religion~and Théâtre. New Delhi, 1983.
Васильков Я.В. Происхождение сюжета Кайратапарвы. — Проблемы
истории языков и культуры народов Индии. М., 1974.
Васильков Я.В. Земледельческий миф в древнеиндийском эпосе
(Сказание о Ришьяшринге). — Литература и культура древней и сред-
невековой Индии. М., 1979.
Васильков Я.В. Индийский эпос и рыцарский роман Европы: сход-
ные мотивы. —Индия 1985—1986. Ежегодник. М., 1987.
Васуки (Vasuki M.). Variety of Hair-dos in Ancient Tamil Nadu. —
JTS. 1976, № 9.
Вертоград о в а В.В. К истокам пракритской поэзии (охотничьи пес-
ни) . — Древняя Индия. Язык. Культура. Текст. М., 1985.
Вестермарк (Westermarck Е.) . The History of Human Marriage.
Vol. 1-2. L., 1921.
Веселовский A.H. Историческая поэтика. Л., 1940.
Вод в иль (Vaudeville Ch.). A Note on the Ghatakarpara and the Meg-
haduta. - JOIB. 1959, vol. 9, № 2.
Вод в иль (Vaudeville Ch.). Barahmasa: a Comparative Study. —JOIB.
1964, vol; 13, № 4.
Водвиль (Vaudeville Ch.). Krsna-gopala dans l'Inde ancienne. —
Mélanges d'Indianisme à la mémoire de Louis Renou. P., 1968.
Волчок Б.Я. К проблеме интерпретации протоиндийских изображений
и символов. — СЭ. 1982, № 3.
Вьенно (Viennot О.). Le culte de l'arbre dans l'Inde ancienne.
P., 1954.
Глюк ма h (Gluckman M.). Les Rites de Passage. — Essays on the Ri-
tual of Social Relations. Manchester, 1962.
Глюкман (Gluckman M.). Psychological, Sociological and Anthropo-
logical Explanations of Whitchcraft and Gossip: a Clarification,—
Man. 1968, vol. 3, № 1.
Гонда (Gonda J.). Ancient Indian Kingship from the Religious Point
of View. - Numen. 1956, vol. III. .
Гонда (Gonda J.). Visnuism and Sivaism. A Comparison. New Delhi,
1976.
218 Библиография
Гопалакришнан (Gopalakrishnan M.S.). Velichapad. — JMU. 1960,
vol. 31, № 2.
Гопалакришнан (Gopalakrishnan M. S.). Sri Kedaragowri. —JMU.
1961, vol. 32, № 2.
Гоф (Gough E. Cathleen.). Female Initiation Rites on the Malabar
Coast. — Journal of the Royal Anthropological Institute. Ireland-
London, 1955, № 1-2.
Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974.
Гро (Gro,s F.). Le Paripatal. Texte tamoul. Introduction, traducti-
on et notes par François Gros. Pondichery, 1968.
Гро (Gros F.). La littérature du Sangam et son public. — Purusârt-
ha. 1983, vol. 7.
Гунда (Gunda Bêla). Magical Watching of the Flock in the Great
Hungarian Plain. —Folklore. L. 1970, vol. 81, Winter.
Гуров Н.В. Южнодравидийская легенда о прародине. — НАА, 1976, № 3.
Данге (Dange S.A.). Vedic Concept of "Field" and the Divine Fruc-
tification. Bombay, 1971.
Делери (.Deleury G.). The Cuit of Vithoba. Poona, 1960.
Деркс (Dirks N.B.) . Political Authority and Structural Change in
Eatly South Indian History. — The Indian Economie and Social His-
tory Review. Delhi, 1976, vol. XIII, № 2.
Джаякар (Jayakar Pupil) . The Earthen Drum. An Introduction to
the Ritual Arts of Rural India. New Delh£, 1980.
Джесудасан (Jesudasan C. and H.). A History of Tamil Literatu-
re. Calcutta, 1961.
Джексон (Jackson Anthony). Sound and Ritual. —Man. 1968, vol.3,
№ 2.
Джозеф (Joseph Т.К.). A Forest Pilgrimage in Travancore. —Jour-
nal of Indian History. Madras, 1939, vol. 18, p.1.
Джулинссон (Julinsson P.). The Gonds and Their Religion. Stock-
holm, 1974.
Диель (Diehl CG.). The Goddess of Forests in Tamil Literature. —
TC. 1964, vol. XI, № 4.
Дубя некий A.M. Рец. на: Kailasapathy К. Tamil Heroic Poetry. —
ВМУ. 1971, № 2.
Дубянский A.M. Панегирическая поэзия тамильской антологии "Де-
сять песен". - ВМУ. 1973, № 1.
Дубянский А.М. Происхождение канона древнетамильской любовной
поэзии (ситуация разлуки). — ВМУ. 1978, № 3.
Дубянский А.М. Мотив вестника в ситуации разлуки древнетамиль-
ской любовной поэзии. — Литературы Индии. М., 1979.
Дубянский А.М. О мифопоэтических началах древнетамильского по-
этического канона. — Литература и культура древней и средневеко-
вой Индии. М., 1979(а).
Дубянский А.М. О ритуально-мифологическом содержании образов
древнетамильской лирики. — Восточная поэтика. Специфика художест-
венного образа. М., 1983.
Дубянский А.М. О некоторых религиозно-мифологических представ-
лениях древних тамилов в связи с культом Муругана. — Древняя Ин-
дия. Язык. Культура. Текст. М., 1985.
Библиография 219
Дубянский A.M. Проблема жанра в древ нетамильской любовной ли-'
рике. —Теория жанров литератур Востока. М., 1985(а).
Дуглас (Douglas M.). Purity and Danger. An Analysis of Pollution
and Taboo. Wash., 1966.
Дюмон (Dumont L.). The Concept of Kingship in Ancient India. —
Contributions to Indian Sociology. Vol. VI. P., 1962.
Звелебил (Zvelebil К.). Bull-baiting Festival in Tamil India. —
Annais of the-Naprstek Museum. Vol. 1. Prague, 1962.
Звелебил (Zvelebil К.). The Smile of Murugan. On Tamil Litera-
ture of South India. Leiden, 1973.
Звелебил (Zvelebil K.). The Earliest Account of the Tamil Acadé-
mies. - IIJ. 1973, vol. 15, № 2.
3 в ел еб ил (Zvelebil К.). Tamil Literature. Wiesbaden, 1975.
3 в ел e б ил (Zvelebil К.). Tamil Literatute. Leiden, 1975 (a) .
Звелебил (Zvelebil K.). The Beginnings of Bhakti in South India.-
Temenos. 1977, vol. 13.
Звелебил (Zvelebil K.). Valli and Murugan — a Dravidian Myth. —
IIJ. 1977 (a), vol. 19.
Звелебил (Zvelebil K.). Nature of Sacred Power in Old Tamil
Texts. — Acta Orientalia. 1979, vol. 40.
3 в ел е б ил (Zvelebil К.). The Valli-Murugan Myth—its Development .-
IIJ. 1980, vol. 22.
Яонтхаймер (Sontheimer G.D. ). Biroba, Mhaskoba und Khandoba
(Schriftenreiche des Südasien Institut der Universität Heidelberg.
Bd. 21). Wiesbaden, 1976.
Зюсс (Zuesse M.). On the Nature of the Demonic: African Witchery.-
Numen. 1971, vol. 18, № 3.
Инглис (Inglis Stephen). A Village Art of South India. Madurai,
1980.
Инголлс (Ingalis H.H.,). A Sanskrit Poetty of Village and Fields.-
JAOS. 1954, vol. 74, № 3.
Индийская лирика II—X веков. Сост., предисл. и коммент. Ю.М.Апиха-
новой и В.В.ВертограДовой. М., 1978.
Кайласапати (Kailasapathy К.)..*Tamil Heroic Poetry. L., 1968.
Канакасабей Пиллей (Kanakasabhai Pillai V.). The Tamils
Eighteen Hundred Years Ago. Madras, 1966.
Кеннеди (Kennedy R.S.). The King in Early South India as Chief-
tain and Emperor. — The Indian Historical Review. New Delhi, 1976,
vol. 3, № 1.
Кейпер (Kuiper F.B.J.). SailGsâ- and Kuéilava. — Studien zur
Sprachwissenschaft und Kulturkunde (innsbrucker Beiträge zur Kul-
turwissenschaft) . Bd. 14. Innsbruck, 1968.
Кёйпер (Kuiper F.B.J.). Varuna and Vidushaka. Amsterdam, 1979.
Керсенбом-Стори (Kersenboom-Story S.C.). Virali (Possible So-
urces of the Devadasi Tradition in the Tamil Bardic Period). —
JTS. 1981, vol. 19.
Керсенбо м-С тори (Kersenboom-Story S. С.) . Nityasumangali. То-
wards the Semiosis of the Devadasi Tradition of South India. Ut-
recht, 1984.
Кь ер холм (Kjoerholm L.). Possession and Substance in Indian Ci-
vilization. —Folk. Kopenhaven, 1982, vol. 24, № 1.
220 Библиография
Клаус (Claus P.). Mayndala: a Legend and Possession Cuit in Tu-
lunad. — Asian Folklore Studies. Nagoya, 1979, vol. 38, № 2,
Клози (Clothey F.SJ.). The Many Faces of Murukan; The History and
Meaning of South Indian God. The Hague-Paris-New York, 1977.
Котандапани Пиллей (Kothandapani Pillai К) ). Vada Venkatam. —
ТС. 1961, vol. 9, № 1.
Коуэн (Cowen D;)\ Flowering Trees and Shrubs in India. Bombay,
1952.
Крите (Krige Jensen E.). Girls Puberty Songs and Their Relation to
Fertility, Health, Morality and Religion among the Zulu. — Afri-
ca. 1968, vol. 38, № 2.
Кроли (Crawley E.). The Mystic Rose. A Study of Primitive Marria-
ge. L., 1902.
Кроли (Crawley E.). Studies of Savages and Sex. N. Y., 1969.
Лакшманан Четтияр (Lakshmanan Chettiyar) • Folklore of Tamil
Nadu. New Delhi, 1973.
Леви (Levi Sylvain). Manimekhala, a Divinity of the Sea. — The In-
dian Historical Quarterly. Vol. 7. Calcutta — New York, 1931.
Лобанова И.В., Дубянский А.М. К вопросу о взаимодействии
южной и северной литературных традиций в древнетамильской поэме
"Повесть о браслете". —Литература и культура древней и средневе-
ковой Индии. М., 1987.
Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1963.
Мандельбаум (Mandelbaum David G.). Agricultural Cérémonies of
Travancore. — Ethnos. 1939, № 3 — 4.
Маниккам (Manickam V.S.). The Tamil Concept of Love. Tirunel-
veli-Madras, 1962.
Махадеван (Mahadevan I.) . Tamil-Brahmi Inscriptions of the San-
gam Age. — II International Conference-Seminar of Tamil Studies.
Madras, 1968. Madras, 1971.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. M., 1976.
Мерварт Л.А. Сказания о Паттини-Деви. — Сборник Музея антропо-
логии и этнографии (АН СССР). Т. 7. Л., 1928.
Мерриам (Merriam P.A.). The Anthropology of Music. USA, 1964.
Минакшисундаран (Meenakshisundaran T. P. ). A History of Tamil
Literature. Annamalainagar, 1965.
Mo с с (Mau s s M.). The Gift. Foras and Functions of Exchange in
Archaic Societies. L,, 1954.
Мукерджи (Mukerji R.). Sex Taboos in Primitive Society. —Essa-
ys in Anthropology Preeented to S.C.Roy. Calcutta, 1942.
Мэлони (Maloney C). Archeology in South India: Accomplishments
and Prospects. — Essays on South India. Ed. Burton Stein. New
Delhi, 1975.
Наннитамби (Nannithamby L.). The Fine Arts and Récréation du-
ring the Cola Period. - JTS. 1969, vol. 1, № 2.
На та раджа (Nadaraja D.). Gloriosa Superba in Classical Tamil Po-
etry. - TC. 1964, vol. II, № 3.
Натараджа (Nadaraja D.). The Mullai and the Tulasi as Symbols
of Chaetity. - PICSTS.
Натараджа (Nadaraja D.). Courtship and Marriage in the Classical
Period. -JTS. 1969, vol. I, № 2.
Библиография 221
Натараджа (Nadaraja D.). Kaman in Tamil Classical Poetry. — Jur-
nal pengajian India. Vol. 1. Kuala—Lumpur, 1983.
Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). М.,
1975.
Никитина М.И. Древняя корейская поэзия в связи с мифом и ритуа-
лом. М., 1982.
О'Флаэрти (O'Flaherty W.D.). Asceticism and Eroticism in the
Mythology of Siva. L., 1973.
О'Флаэрти (O'Flaherty W.D.). Women, Androgynes and Other Mythical
Beasts. Chicago — London, 1980.
Паниккар (Panikkar K.M.). Religion and Magic among the Nayars.—
Man. 1918, vol. XVIII.
Паниккар (Panikkar T.K.G.). Malabar and its Folk. Madras, 1929.
Пей h (Paine R.). What is Gossip About? -Man. 1967, vol. 2, № 2.
Пиллей (Pillai К.К.). Narrinai in its Historical Setting. — JMÜ.
1959, vol. 30, № 3.
Пиллей, (Pillai К.К.). Aryan Influence in Tamilakam during the
Sangam Epoch. — PICSTS.
Пнина Вербнер (Pnina Werbner) . The Virgin and the Clown. Ri-
tual Elaboration in Pakistani Migrants Weddings. —Man. 1986,
vol.21, № 2.
Рагхава Аиянгар (Raghava Aiyangar M.) . Some Aspects of Kerala
and Tamil Literature. Trivandram, 1973.
Рамасвами Аи яр (Ramaswami Aiyar С ,P. ) . Treatment of Landscape
in Eastern and Western Poetry. Baroda, 1956.
Рамачандран (Ramachandran C.E.) . Historical Studies in the Pat-
tuppattu. - JMU. 1965-1966, vol. 37, № 1-2.
Рамачандран (Ramachandran C.E.). Ahananuru in Its Historieal
Setting. Madras, 1974.
Рангасами (Rangaswamy Dorai M.A.) . The Surnames of the Cankam
Age Literary and Tribal. Madras, 1968.
Рениш (Reiniche M.-L.). Les Dieux et les Hommes. Etudes des cul-
tes d'un village du Tirunelveli, Inde du Sud. Paris — La Haye —
New York, 1979.
Романов В.H. Древнеиндийские представления о царе и царстве. —
Вестник древней истории. 1978, № 4.
Руже (Rouget G.). Music and Possession Trance. — The Anthropology
of the Body. L., 1977.
Сами (Samy P.L.). Kurinjci. - TC. 1955, vol. IV, № 2.
Сами (Samy P.L.). The Plant Names in Kurincippattu. — JTS. 1972,
№ 1.
Сатьямурти (Sathiamoorthy S.). "Korravai", the Goddess of Pa-
lai Region. — Research Papers. Department of Tamil Université of
Kerala. 1975, vol. VI.
Сельванаягам (Selvanayagam S.) . The Regional Concept in Tamil
Literature. -JTS. 1969, vol. I, № 1.
Сету Пиллей (Sethu Pillai R.P.). Words and Their Significance.
Madras, 1974.
Сивараджа Пиллей (Sivaraja Pillai K.N.). The Chronology of
the Early Tamils. Madras, 1932.
Сиватамби (Sivatamby K.). An Analysis of the Anthropological
222 Библиография
Significance of thé Economie Activities and Conduct Code Ascribed
to Mullai Region. - PICSTS.
Сиватамби (Sivatamby K.). tinaikkôtpâttin camûka atippataikal.—
ârlycci, 1971, malar 3, ital l\
Сиватамби (Sivatamby K,) . Drama in Ancient Tamil Society. Mad-
ras, 1981.
Сингаравелу (Singaravelu S.). Social Life of the Tamils. The
Classical Period. Kuala Lumpur, 1966.
Сит а пат и (Sitapati P.). Sri Venkateswara, The Lord of the Seven
Hills. Tirupati, Bombay, 1977.
Сомасундарам Пиллей (Somasundaram Pillai). A History of Ta-
mil Literature. Annamalainagar, 1968.
Сринивас (Srinivas M.N.). Religion and Society among the Coorg
of South India. Bombay, 1965.
Сринивасан (Srinivasan K.R.). The megalithic burials and urn-
fields of South India in the light of Tamil literature and tradi-
tion. — Ancient India. № 2, 1947:
Субраманьян (Subrahmanian N. ) . Sangam Polity. Madras, 1966.
Субраманья Пиллей (Subramania Pillai G.). Omens and Belief s
of the Early Tamils. — Journal of the Madras University. /S.a./,
vol. 16,
Сундарамати (Sundaramathy L.Gloria) . The Women Poets of Cankam
Age. - JTS. 1975, № 8.
Тамижанналь (Thamizhannal). Tradition and Talent in Cankam Po-
etry. Madurai, 1976.
Тани Наягам (Thani Nayagam X.S.) . Landscape and Poetry. L.,
1966.
Тани Наягам (Thani Nayagam X.S.) . Tolkappiyam. — JTS. 1972,
№ 1.
Терстон (Thurston E.). Ethnographie Notes in Southern India.
Madras, 1906.
Терстон (Thurston E.). Castes and Tribes of Southern India.
Vol. 1-7. Madras, 1909.
Терстон (Thurston E.). Omens and Superstitions of Southern India.
L., 1912.
Тубянский M.И. К истолкованию мифа о Mahisamardanï. —Восточ-
ные записки. Л., 1927.
Тру а си (Troisi J.). Tribal Religious Belief s and Practices among
the Santals. New Delhi, 1978.
Тэрнер (Turner V.W.). The Forest of Symbols. Ithaca* New York.,
1967.
Тэрнер (Turner V.W.). The Ritual Process. Chicago, 1969.
Тэрнер В. Символ и ритуал. M., 1983.
Уайтхед (Whitehead H.). The Village Gods of Soüth India. Delhi,
1976.
Уилсон (Wileon Peter J.). Status Ambiguity and Spirit Possessi-
on. -Man (New Séries). 1967, vol. 2, № 3.
Фальк (Falk Nancy E.). Wilderness and Kingship in Ancient South
Asia. -HR. 1973, vol. 13, № 1.
Ферро-Луцци (Ferro-Luzzi G.E.). Women4s Pollution Periods in
Tamiliiad (India). — Anthropos. 1974, № 1.
Библиография 223
Ферро-Луцци (Ferro-Luzzi G.E.) — Рец. на кн.: K.Gnanambal. Reli-
gious Institutions and Caste Panchayats in South India. Calcutta,
1973. -Anthropos, 1979, vol. 74, № 3-4.
Фийоза (Filliozat, J.). La Veda et la littérature Tamoule anci-
enne. — Mélanges d * Indianisme à la mémoire de Louis Renou. P.,
1968.
Фишер (Fisher J.). Indian Erotics of the Oldest Period, Praha,
1966.
Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.
Фрейденберг О.М. Происхождение греческой лирики. — Вопросы ли-
тературы. 1973, »11.
Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1980.
Ф ю р е р-Х аймендорф (Furer-Haimendorf Christoph von) . A Central
Indian Tribal People; the Raj Gonds. — South Asia: Seven Communi-
ties. Ed. by C.Maloney. N. Y., 1974.
Харди (Hardy F.). Viraha Bhakti: the Eariy History of Krsna Devo-
tion in South India. Delhi, 1983.
Харт (Hart III G.L.). Some Related Literary Conventions in Tamil
and Indo-Aryan and Their Significance. — JAOS. 1974, vol. 94, № 2,
Харт (Hart III G.L.). The Poems of Ancient Tamil. Their Milieu
and Their Sanskrit Counterparts. Berkeley-Los Angeles — London,
1975.
Харт (Hart III G.L.). The Relation between Tamil and Classical
Sanskrit Literature. — A History of Indian Litetature. Ed. by
J.Gonda. Vol. X. Fase. 2. Leiden, 1976.
Харт (Hart III G.L.). The Nature of Tamil Devotion. — Aryan and
Non-aryan in India — Michigan Papers on South and Southeast Asia.
№ 14. Ann Arbor, 1979.
Хеестерман (Heesterman J.C.). The Anciênt Indian Royal Conséc-
ration, s. - Gravenhage, 1957.
Хейн (Hein Norvin) . The Miracle Plays of Mathura. L., 1972.
Хивале (Hivale Shamrao) . The Pardhans of the Upper Narbada Val-
ley. L., 1946.
Хильтебейтель (Hiltebeitel A.). The Indus Valley "Proto-Siva",
Reexamined. through Reflections on the Goddess, the Buffalo and the
Symbolism of Vahanas. —Anthropos. 1978, Bd. 73, № 5/6.
Хокарт (HocartA.M.). Kingship. Oxf. -L., 1927.
Хокарт (Hocart A.M.). Kings and Councillors. Cairo, 1936.
Холлпайк (Hallpike C). Social Hair. -Man. 1969, vol. 4, № 2.
Чаттопадхьяя Д. Локаята даршана. История индийского материа-
лизма. М., 1961.
Шанмугам Пиллей (Shanmugam Pillai M.). Cilappatikaram, a Pro-
to-form of Terukkuttu. —Journal of Asian Studies. 1984, vol. 2, № 1.
Шастри (Sastri Nilakanta K.A.). A History of South India. Oxf.,
1976.
Шастри (Sastri Nilakanta K.A.). The Culture and History of the
Tamils. Calcutta, 1964.
Ши шмар ев В.Ф. Этюды по истории поэтического стиля и форм. —
Шишмарев В.Ф. Избранные статьи. Французская литература. М.-Л.,
1965.
224 Библиография
Шульман (Shulman D.). The Murderous Bride: Tamil Versions of the
Myth of Devi and the Buffalo-Demon. — HR. 1976, vol. 16, № 2.
Шульман (Shulman D.). Murukan, the Mango and Ekambaresvara-Siva:
Fragments of a Tamil Création myth? — IIJ. № 21, 1979.
Шульман (Shulman D.). Tamil Temple Myths. Sacrifice and Divine
Marriage in the South Indian Saiva Tradition. Princeton, 1980.
Эдхольм, Сунесон (EdholmE.A., S une son C). The Seven Bulls
and Krsna's Marriage to Nilï-Nappinnai in Sanskrit and Tamil Lite-
ratur e. — Temenos. 1972, vol. 8.
Элвин (Elwin V.). The Baiga. L., 1939.
Элвин (Elwin V.). The Muria and Their Chotul. L., 1947.
Эмено (Emeneau/M.B.) . Dravidian Linguistics, Ethnology and Folkta-
les. Annamalainagar, 1967.
Ялман (Yalman Nur). The Structure of Sinhalese Healing Rituals.—
Religion in South Asia. Seattle, 1964.
Ялман (Yalman Nur). Under the Во Tree. Studies in Caste, Kinship
and Marriage in the Interior of Ceylon. Berkeley — Los Angeles,
1967.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВМУ —Вестник Московского университета. Востоковедение. M.
ВЛ — Вопросы литературы. М.
НАЛ — Народы Азии и Африки. М.
СЭ — Советская этнография. М.
ОРЯС — Отделение русского языка и словесности Академии наук. Пб.
HR — History of Religions. Chicago.
IIJ — Indo-Iranian Journal. The Hague.
JAOS — Journal of American Oriental Society. Baltimore.
JMU — Journal of the Madras University. Section A. Humanities.
Madras.
JOIB — Journal of the Oriental Institute. Baroda.
JTS — Journal of Tamil Studies. Madras.
PICSTS — Proceedings of the First International Conference Seminar
of Tamil Studies. Kuala Lumpur, Malaysia. April, 1966.
Kuala Lumpur, 1968.
TC — Tamil Culture. Madras.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦ
Август 192
Ави 180
Авини 181
Адан 181
Адан Ори 69
Адияман 74
Адиярккуналлар 57
Адихан 201
Аиюр Мудаванар 11
Аи 72, 101, 202
Алаттур Кижар 11, 64
Алиханова Ю.М. 205
Альбедиль М.Ф. 197
Аммуванар 11
Андаль 49, 142, 178, 203
Аниладу Мундрилар 12
Аничков Е.В. 208
Анни 57
Алпар 49, 205
Аривудеияранар -48
Ария Порунан 153
Ауввеияр 59, 74, 75, 80, 201
Ашока 19, 192
Барроу Т. 25, 196
Баура М. 51
Бек Б.Е.Ф. 15, 17, 27, 28, 32,
194, 205
Биардо М. 112
Бхартрихари 205
Ваияпури Пиллей 51
Ваджрананди 51
Валаван Килли 64
Ван Геннеп А. 71
Ванаван 56
Васильков Я.В. 191, 211
Вендер Чежиян 48
Ьертоградова В.В. 205
Веселовский А.Н. 7
Викрамачола 71
Водвилль Ш. 183
Говарттанар 11
Гомер 51
Гонда Я. 201
Гро Ф. 51, 52, 166, 188
Гуров Н.В. 200, 208
Дамодарам Пиллей 13
Делери П. 145
Дюмезиль Ж. 32
Ежини Адан 60
Ежини Ерумеиюран 19
Звелебил К. 23, 24, 38, 43, 194
Иландиру Маран 49
Иреиян 116
Иреиянар 12, 48
Ирунговенман 19
Кабиляр 10, 11, 21, 54, 65,
73, 74, 81
Кадунгон 48
Кайласапати К. 14, 15, 20, 51,
58, 60, 65, 73, 74, 203
Кайсинаважуди 48
Калидаса 39, 90, 207
Канакасабей Пиллей 14
Кангуль велаттанар 12
Канеиян 153
Каннан 57
Каппиян 48
Карикалан 10, 190
Карунгожи Моей 48
Катьяяна 19, 192
Каччияппасивачарияр 39
Кёйпер Ф.Б.Я. 80, 201
Кираидей 48
Клози Ф. 195
Копперунчолан 73
Куманан 69, 70
В ряде случаев упомянутым в указателях именам и терминам со-
ответствуют в тексте латинские транслитерации.
Указатель имен авторов и исторических лиц
227
Лорд А.Б. 14
Лосев А.Ф. 7
Мадурай Куттанар 11
Мангуди Маруданар 10, 11, 50, 66
Маниккавасахар 142, 205
Маниккам В. 203
Марр Дж. 209
Маруданила Наганар 49
Маурьи 66
Махадеван И. 8
Минили 201
Мосиккиранар 68
Мосс М. 202
Мудаттамакканияр 10
Мудаттиру Маран 48, 49
Мудинагараяр 48
Наккиранар 49
Наккирар 10, 11, 21, 48, 49,
73, 81, 193, 210
Налан Килли 60
Налландуванар 49
Наллиякодан 10
Нальвилакканар 170
Наннан 10, 60, 99, 181
Наннахеияр 210
Наппуттанар 10
Наттаттанар 10
Наччинарккинияр 206
Нейдийон 50
Недуман Аньджи 201
Недуньчежиян 10
Никитина М.И. 7
Нилаканта Шастри 21
Ореружавар 12
О'Флаэрти В.Д. 205
Паллавы 43, 79
Палеипадия Перунгадунго 12
Панан 153
Пандьи 11, 19, 48, 52, 156, 192
Панини 19
Паранар 21, 90, 100
Пари 64, 74
Парри М. 14, 51, 54
Пекан 179
Периян 75
Перунгаусиканар 11
Перуньджиттиранар 69
Перунгундрур Кижар 49
Пиллэ Т.Ш. 207
15-4 60
Писирандеияр 73
Порунан 19
Поуп Дж. У. 196
Птолемей 192
Романов В.Н. 203
Саттанар (Перунталей Саттанар)
11
Сваминатхаияр 13, 54, 58, 80
Сенгуттуван 133, 187
Сенданбуданар 48
Сивараджа Пиллей 52
Сиватамби К. 15, 59, 60
Сирувендериян 67
Сирумедавияр 48
Сирупандарангаг 48
Страбон 182
Сриниваса Айенгар 166
Тамижанналь 161, 186
Тани Наягам Кс. 12, 15, 16
Тидиян 19, 57
Тиреиян Маран 48
Тирумангей Альвар 49
Тирунилаканта Йальппанар 82
Тируппан Альвар 82
Тондеиман Иландиреиян 10
Толькаппиянар 48
Томпсон С. 51
Туварей 'Коман 78
Уайтхед X. 110
Уккираперуважуди 49
Уруттиранганнанар 10, 190
Фийоза Ж. 194
Фрейденберг О.М. 7, 75, 134,
167, 189, 203
Хала 205
Харди Ф. 11, 43, 195
Харт Дж. 15, 17, 18, 22, 24, 25,
27, 54, 58, 61, 79, 80, 166,
192, 193, 205
Чежиян 19, 66
Черы 19, 66, 160, 181, 190, 192
Чолы 10, 19, 60, 73, 190, 192
Чэдвики Х.М., Н.К. 51
Шишмарев В.Ф. 7
Шульман Д. 46, 49, 200
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН БОГОВ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
Агастья (Агаттияр) 48, 49, 200
Агни 34
Арундхати 21, 127, 207
Аяппан 73
Баларама 21, 177
Бара Пен 83
Брахма 21, 105
Бхагавати 32, 207
Бхудеви 196
Валли 35, 36, 45, 76, 92, 103-
107, 110, 112-114, 117,
151-153, 156, 167, 169, 173,
196, 199, 205, 206, 210
Варадараджа Перумаль 199
Варуна 159, 163, 165
Велан 34, 37
Вель (Недувель, Севвель) 33,
34, 37, 190, 197
Венкатешвара 199, 202, 208
Витхоба 73, 202
Вишну 10, 21-24, 29, 36, 43,
45, 79, 104-105, 143, 156,
163, 165, 177, 196, 199, 202
Вритра 40, 46, 187
Ганеша 106
Девасена 105, 106, 151-153,
169, 196
Деви 32
Дурга 32, 110, 165
Душьянта 90
Елламма 32
Индра 21, 24, 40, 46, 105, 150,
151, 153, 163, 165, 181, 187,
196
Кали 29, 98, 102
Кама 50, 187, 196
Камакши 108, 196
Каннахи 29, 46, 92, 173, 195,
203
Канса 45
Карттикея 33
Кауравы 22
Ковалан 203
Коттравей 10, 29-33, 35, 39,
44, 45, 67, 94, 102, 111,
143, 165, 169, 182, 194, 195,
199
Кришна 11, 21, 29, 43-45, 94,
108, 142, 143, 177, 179, 183,
196, 197, 199, 201, 204, 208,
212
Кумара 33, 39
Кумари 33
Кумбхака 143
Лакшми 143, 196
Мадави 146
Майон 42, 141, 143, 177, 195,
197, 204
Маль (Тирумаль, Недумаль) 9,
24, 36, 42-46, 94, 104,
143, 165, 169, 177, 179,
182, 186, 196, 197, 199
Мариямман 32, 195, 196, 208
Махиша 29, 32, 44, 195.
Махишасурамардини 29, 144
Майяван 177, 197
Минакши 156, 169, 196
Мохини 23, 45
Муруган 9-11, 24, 30, 33-42,
44, 45, 48, 49, 65, 72, 76,
78, 87, 88, 98, 103, 105-
108, 110, 112-115, 117, 118,
150-152, 154, 156, 163, 165,
167, 169, 173, 176, 181, 186—
188, 195-197, 199, 205, 207,
208, 210, 212
Мхасоба 32
Намби 104, 105
Указатель имен богов и мифологических персонажей
229
Наппиней 177
Нарада 105, 106
Недувель 33, 37, 39, 195, 196
Нила 143
Нили 35, 94
Пандавы 22
Парашурама 21
Парвати 108, 161
Паттини 46, 169
Поту-разу 32
Праджапати 68
Радха 196
Рукмини 196
Севвель 34, 43, 195, 196
Сей 33, 195
Сеййон 34.
Сейон 34, 195
Сивамуни 104
Сканда 11, 33, 34, 36, 39, 40,
105, 195
Сур (Сурападма) 30, 39-42,44-
46, 101, 187, 197, 199, 200
Тарака 39
Тирумаль (см. Маль)
Ушас 154
Шакунтала 90
Шива 21, 29, 33, 39, 48, 49,
105, 141, 156, 195, 196, 199,
205, 207
Экамбарешвара 108
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
адувары 61
анангу 15, 22-33, 37, 38, 41,
62, 67, 94, 101, 102, 107,
108, 168, 193, 196, 197
аттруппадей 10, 11, 34, 37, 48,
64, 72, 182
ахаван, ахавары (ахавунан, аха-
валан) 57, 58, 65, 174
ахам 9, 12, 13, 17, 85, 86,
160, 162, 164, 165, 172, 186,
189, 191, 192, 196, 203, 209
барахмаса 183
брахманы 11, 21, 50, 67, 69,
79, 81, 140, 193
бхакти 78, 105, 205
вайирияры 57
веды, ведический 21, 40, 62,
66, 67, 68, 79, 193
велан 37, 38, 61, 65, 78, 87,
103, 133, 156, 173, 174
веталики 50
вилари 58
вирали 14, 54-57, 63, 69,74-
76, 80, 147, 148, 151, 174,
180, 181, 186, 187, 189
дохада 112
дэвадаси 76, 209
ируккей 77, 187
кадавуль 22, 23, 25, 26
кадан 22, 29, 69
каиккилей 164
калаву 12, 89, 151, 204
каньджи (пан) 61
карма 21
каннуляры 56, 57, 64
карбу 76, 125, 127, 140, 145,
207
кинеинян (кинеиян) 59, 60
кодияры 55, 56, 65
куравары 35, 36, 87, 92, 104,
105, 107, 113, 119, 170, 174,
175, 204
куравей 43, 44, 61, 143, 144,
174, 175, 177, 178, 181
куриньджи-тиней 10, 34, 35,
89-119, 120, 123, 127, 130,
141, 146, 154, 156, 158, 169,
163, 165, 173-176, 195, 196,
209
-пан (мелодия) 36,
174, 176, 182
куттан (куттары) 10, 11
магадхи 50
мадаль 88, 101, 112
маравары 20
марудам-тиней 89, 146 — 154,
149, 150, 154, 163, 165, 169,
170, 180-182, 187, 188, 208,
209, 212
-пан (мелодия) 180-182
муллей-тиней 10, 16, 42, 89,
119-145, 154, 160, 161, 163,
165, 169, 170, 172, 173, 209
-пан (мелодия) 86, 176 —
180
налавей 77, 187
нейдаль-тиней 89, 154-159,
163-165, 169, 170, 182,209
-барабан 182
нонбу 141, 142, 207
палей-тиней 10, 12, 31, 71,74,
89, 90, 111, 134, 136, 137,
141, 145, 154, 159-161, 163,
164, 165, 169, 196, 208, 209
-пан (мелодия) 182, 183
панан, панары 10, 14, 53 — 57,
60, 62, 63, 69, 71, 73, 75,
78, 80-84, 86, 116, 129,
Указатель терминов
231
131, 146, 147, 151, 170, 179,
180, 186, 187, 189, 201
пан 53, 60, 61, 69, 183, 201
пардханы 82-84, 168
пей 30, 31, 38, 90, 194, 195
перунтиней 111, 163, 210
порунан, порунары 10, 14, 58 —
60
пулаван, пулавары 17, 79 — 82,
174, 186, 189
пурам 9, 85, 120, 121, 165, 192,
203, 209
раджасуя 67
санга 8, 9, 13, 48-52, 77, 187,
200, 210
суты 50
тапас 27, 126
тиней 9, 10, .16, 17, 18, 89,
93, 115, 116, 158, 162-165,
183, 184, 185, 186, 192, 203,
204, 206, 209, 210
тудияры 58
тунангей 30, 174, 181, 195
чевважи (см. муллей-пан)
шайлуша 62
шрути 21, 67, 193
эйинары 20, 29, 194, 195, 199
SUMMARY
A.M.Dubyansky. Ritual and Mythological Sources of the Early
mil Poetry. The book draws on the Ettuttokai (The Eight Anthologi-
es) , the Pattuppàttu (The Ten Songe) and, in part, on the poem
Cilappatikâram (The Story of the Anklet). Dubyansky focuses on the
origin of the early Tamil poetic canon which constitutes a set of
spécifie lyrical subjects, techniques of creating images, princip-
les of arrangement of basic poetical thèmes and their System, the
so-called aintinai (five tinai thèmes). The author proceeds from
the idea of Soviet student of early literature O^Freidenberg that
genres (or forms, in a broader sensé) "originate' from anti-lite-
rary material rather than their own archétypes...11. The relevant
material is constituted by behaviour patterns and rituals relating
primärily to the two aspects of human activity and reflected by the
catégories of puram 'outward' (epic and panegyric poetry), and
akam 'inward * (love poetry which eulogizes the integrity of the fa-
mily), of the early Tamil poetry. In addition, Dubyansky draws on
the ideas of the Russian philologist Academician A.Veselovsky, who
stressed that the student of 'historical poetics* must pay attenti-
on to the syncretic oral and ritual élément of folk poetry.
The author notes the prominence of mythological ideas for the de^
velopment of artistic structure of the early Tamil poetry. This
subject is considered in the first chapter titled MThe Mythologi-
cal Background of the Early Tamil Poetry11.
Dubyansky notes the complexity of the Early Tamil mythology and
its dependence on the North Indian mythology, but he emphasizes the
indigenous idea of the sacred energy anahku typical of the Tamil cul-
ture, that was noted by B.E.F.Beck and J.Hart. The early Tamil texts
suggest that anahku has connotations with 'heat' or 'heating', which
is close to the Vedic concept of tapas. However, anahku unlike tapas-
is not a cosmic, but a purely mundane force which is closer to or is
inside people. It is Proteus-like and can assume various forms and
appearances. In the Tamil culture anahku has a very important as-
pect of the energy of female sexuality and fertility which makes a
woman (potentially or actually) a sacred figure, almost a goddess
(cf. Kannaki). Anahku is incarnated in the Goddess Korravai who is
the major image of the early Tamil myths.
There is a connection between Korravai and important deities of
the early Tamil panthéon: Mil (Korravai1s brother), Murukan (her
son) and Valli (Mil1s daughter and Murukan1s wife) who personify
the productive forces of nature. The poetic analysis of thèse dei-
ties, which is supported by ethnological data, suggests that the
relations between Korravai and Mil constitute a version of the an-
cient myth which telïs how the Goddess kills her demon-bull husband.
These relations are reproduced in part (with the inversion of functi
ons and вех) in later myths which tell about the fight between Muru-
kan and the démon Cûr and how Murukan married Valli (as far as Mil
Summary 233
is concernée, it seems that bef ore long he began to be associated with
Krsna and entered another mythological layer). These myths may also
be linked with the calendar cycle. In this case pairs of gods symbo-
lize the opposition: the bright half of the year, hot season (Korra-
vai, Murukan) vs. thie dark half of the year, cool season of rains"
(Mil, Cûr, Valli).
As the anahku energy is potentiaîly dangerous it must be control-
led (cooled down), which was done in the ancient Tamil society by
spécial priests, and particularly, by the low-caste wandering bards
(pânars, viralis, kûttars, and porunars). They are described in the
second chapter titled "The Early Tamil Poetic Tradition and Its Cre-
ators".
The emphasis in this chapter is on the panegyric art of the Tamil
kings' singers, musicians and dancers. Panegyric songs dedicated to
the kings who symbolized the anahku energy were rituals used to con-
trol it and to sustain its bénéficiai potential. The very appearan-
ce of singers at the royal court (after they had negotiated a désert)
where they got food, clothes and other gifts, marked the final part
of the rites of passage, and was clearly paralleled to ritual pil-
grimage. Places (irukkai and nâlavai) where kings met singers were
also used by the latter to meet'pulavars, singers and poets of hig*
her social status. Thus the poetic tradition, that emerged from clo-
se contacts with folklore, reached aristocracy.
In addition to panegyrics, wandering singers created the akam
or love poems which are discussed in the third chapter titled "Ritu-
al and Mythological Sources of Subjects and Images of the Akam Poet-
ГУ".
Dubyansky examines the main éléments of f ive camonical tinai thè-
mes: kuriflei> mullai, pâlai, marutam and neytal. The use of ethnolo-
gie data suggests that the thèmes are based on behaviour patterns
which are called to ensure a reliable contro'l over the sacred fema-
le energy. Connotations of spécifie situations of binai, thèmes dépend
on a spécifie disposition of a female (her sacral energy): girl's
puberty (kuriftei) ; the danger of restriction and accumulation of
this energy (pâlai) ; the chastity of wif e when husband is away Qnul-
lai) ; post-natal pollution {marutam) . Although the neytal thème,
has- its spécifie features (the intensive sufferings of séparation),
it is only secondary and borrows the situational éléments from other
thèmes.
The concept of sacred female energy explains why ail love rela-
tions are oriented towards myths and rituals. Myth is most prominent
in kurinoi, whose topics and images are coloured by love story of
Murukan and Valli, while the core of imitai poetry is constituted
by family ritual of séparation which is similar to nônpu, the fema-
le fasting rite.
Pâlai poetry graphically présents the intermediate part of the
ritual (trials and sufferings). In neytal and marutam the mytholo-
gical background is more obscure, but rituals are undoubtedly impor-
tant for the development of a lyrical thème (ritual bathing of a he-
ro with women leading to a conflict with his wife in marutam).
234 Summary
Close corrélation between a love situation and nature is an es-
sential principle of artistic arrangement in akam. It draws on the
concept of identity of the productive force of nature and female
energy, which is emphasized in poetry, specifically by symbolic
vegetative powers of women. This explains the parallele between lo-
ve relations of the heroes and nature (the beauty of a heroine fa-
des during a hot season and is regained during the rain season).
Such parallele make it possible (and poetically productive) to con-
vey through the images of nature the symbolic meaning of situations,
various shades of feeling of heroes and relations between them. At
the same time, they give an idea of mytho-pàetical landscapes linked
with five main situations in àkam. This link constitutes the basis
of the poétical canon in akam known under the name of f ive binai,
(aintinai). The System is analysed in the fourth chapter.
The chapter primarily raises the problem of earlier poetic forms
which Consolidated the tinai System. Hère, Dubyansky deals with songs
and tunes which were very populär in various rituais and were lin-
ked with the cuits of spécifie gods. Distinctively such songs undoub-
tedly were functional and could express a spécifie idea of the ritu-
al. Those songs were derived from the tribal environment and its in-
trinsic mythology. Kuzinci songs, for example, were created by the
mountain hunters to praise their 'mountain god* Murukan. The mul-
lai songs of the pastoral tribes were dedicated to Krsna. The texts
mention pâlai, neytal and marutam songs and tunes. However insigni-
ficant the relevant évidence may be, it is clear that songs and tu-
nes played a considérable rôle in the development of individual thè-
mes and their distinctions. This brings us back to wandering singers
and musicians (pânare, viralis, kuttars) in whose art, fed by the
folk tradition of Tamilakâm and dictated by the need to engage in
rituals, various folklore traditions must hâve melted to produce an
alloy of five binai.
The early Tamil poétical canon was codified to a considérable
extent under the influence pf the major Tamil cities, eapecially
Maturai, which Was the centre of Tamil poétical tradition. The re-
ligious festivals in Maturai (dedicated to floods of the Vaikai ri-
ver, to Kima and Murukan) sponsored by the Pântiyan kings, became a
sort of national Tamil festivals. Poetry and poetic contests, which
helped polish the techniques, noms and assessments, were reserved
a prominent place in those festivals. The festivals and their ref-
lection in the royal assemblies, which played a profound rôle in
the development of panegyric traditions, suggested the thème or the
cahkam legend which tells about the poetic académies at the courts
of the Plntiyan kings.
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии 5
Введение 7
Глава I. Мифологический фон древнетамильской поэзии. ... 19
Глава II. Древнетамильская поэтическая традиция и ее создаг
тели 48
Глава III. Ритуально-мифологические истоки сюжетов и образов
древнетамильской лирики 85
Глава IV. Фольклорно-песенная основа тем-тиней 163
Заключение 186
Примечания 192
Словарь реалий растительного мира в древнетамильской поэзии 212
Список сокращений, используемых в тексте (источники и вспо-
могательная литература) 214
Библиография 215
Список сокращений 225
Указатель имен авторов и исторических лиц 226
Указатель имен богов и мифологических персонажей 228
Указатель терминов 230
Summary 232
Александр Михайлович Дубянский
РИТУАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ДРЕВНЕТАМИЛЬСКОЙ ЛИРИКИ
Редактор Л.Ш.Рошнский
Младший редактор M .И, Новицкая
Художник Л. С. Эрман
Художественный редактор Э.Л,Эрман
Технический редактор Л.Н.Кузьмина
Корректоры Г.П.Каткова и П.С.Шин
ИБ № 16010
Сдано в набор 26.09.88. Подписано к печати 01.03.89
Формат 60x901/i6. Бумага офсетная. № 1
Печать офсетная. Усл. п.л. 14,75. Усл. кр.-отт. 15,0
Уч.-изд. л. 17,63. Тираж 2000 экз. Изд. № 6532
Зак. № 60. Цена 2 р. 30 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-31, Цветной бульвар, 21
3-я типография издательства "Наука"
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28