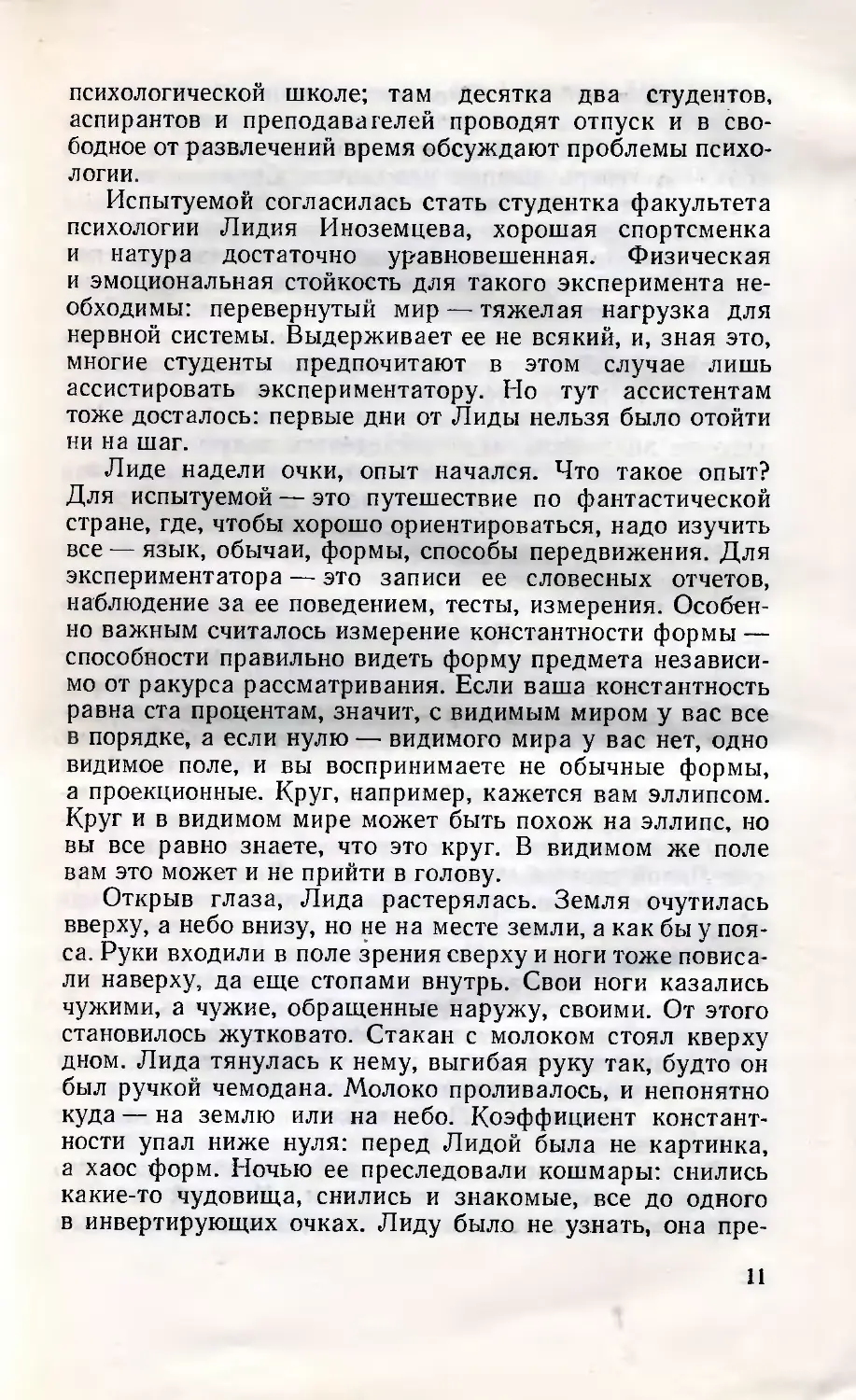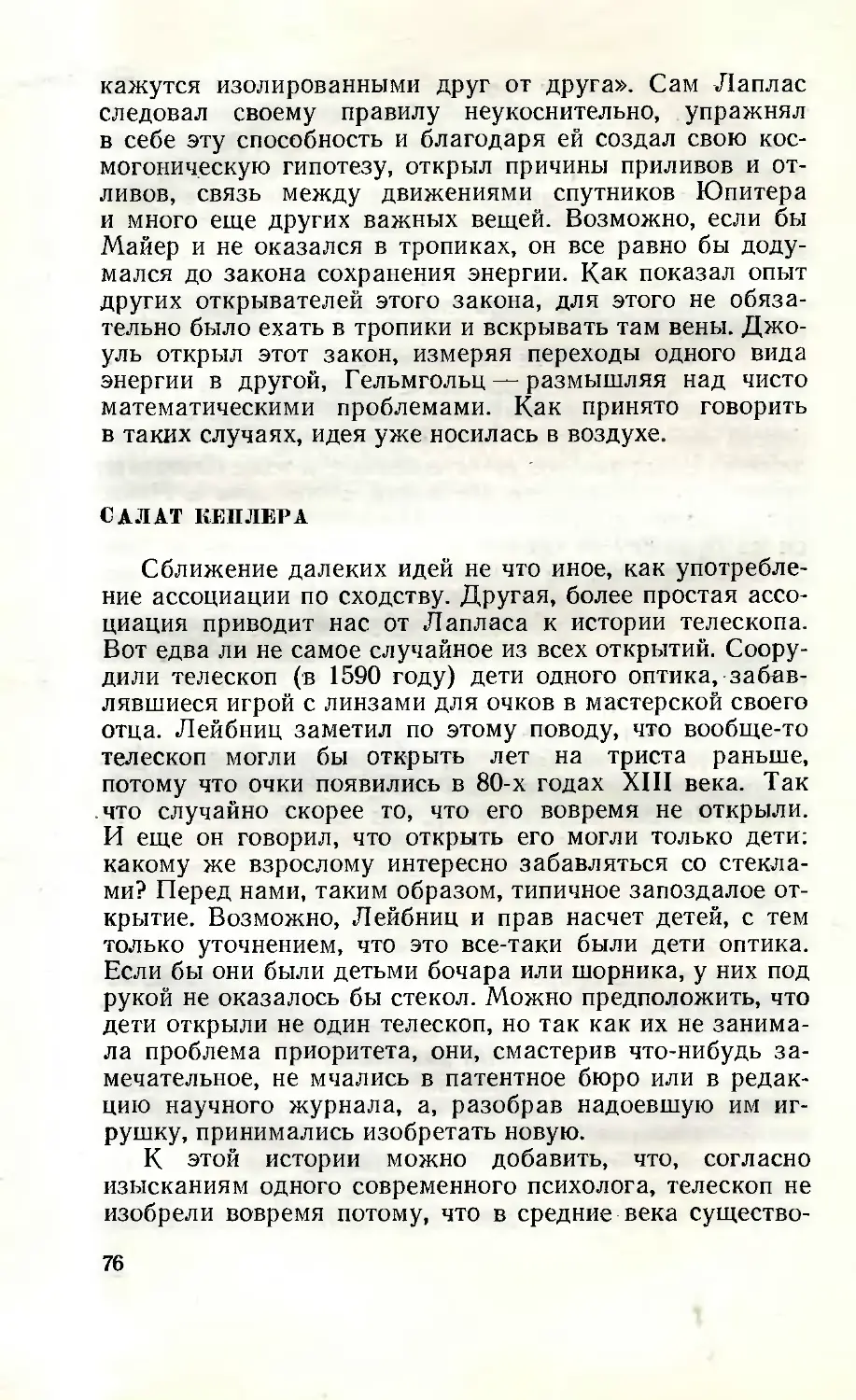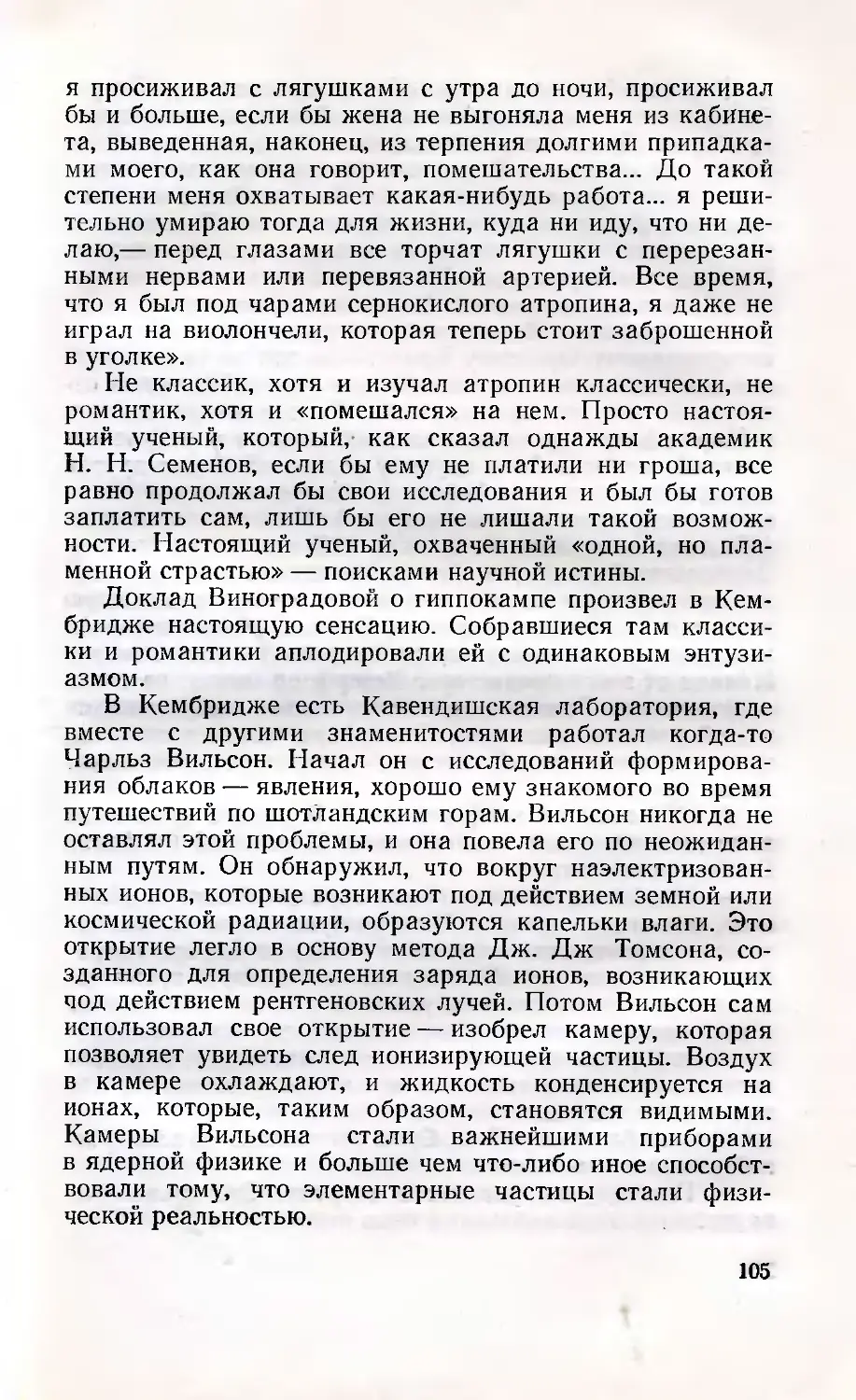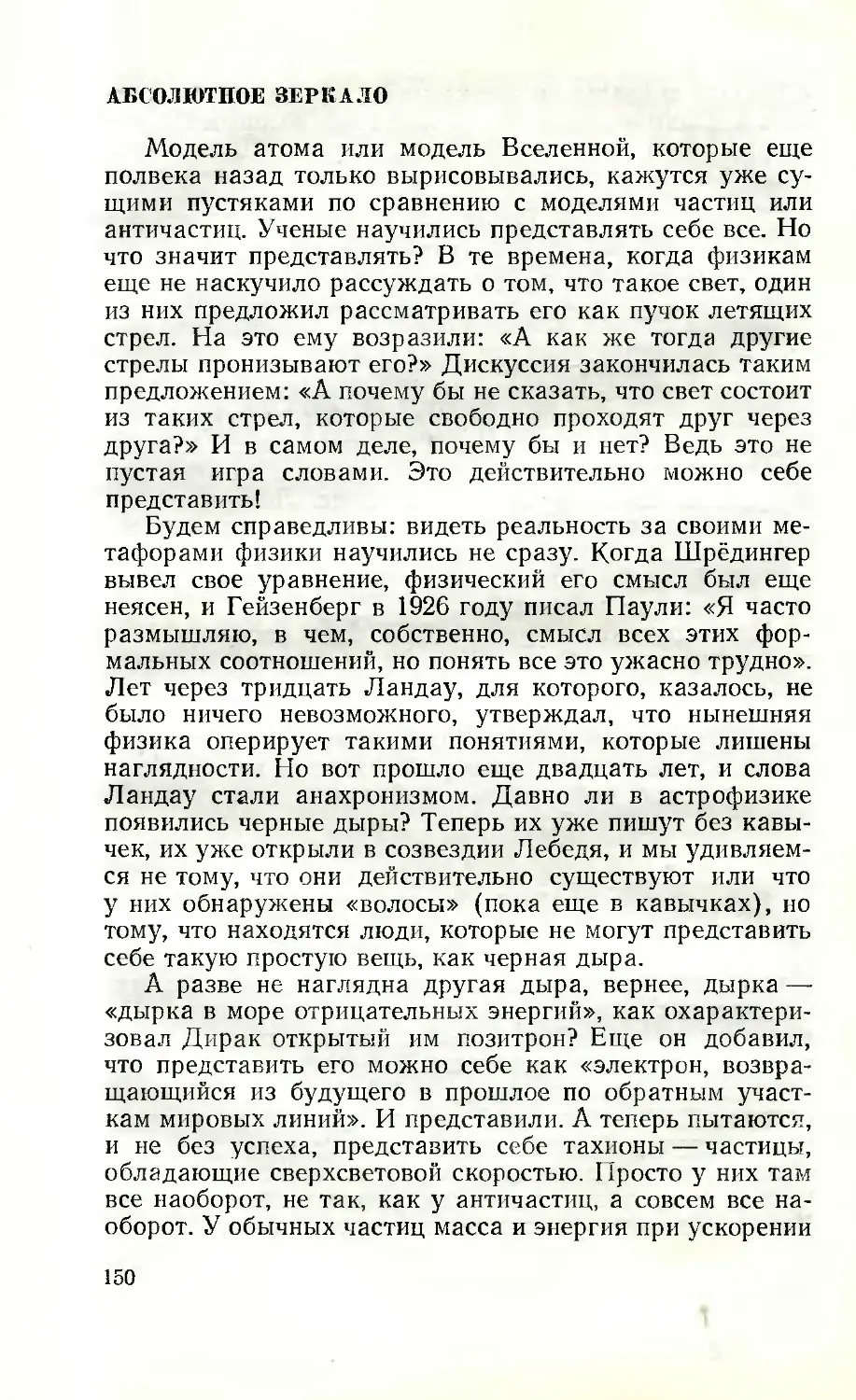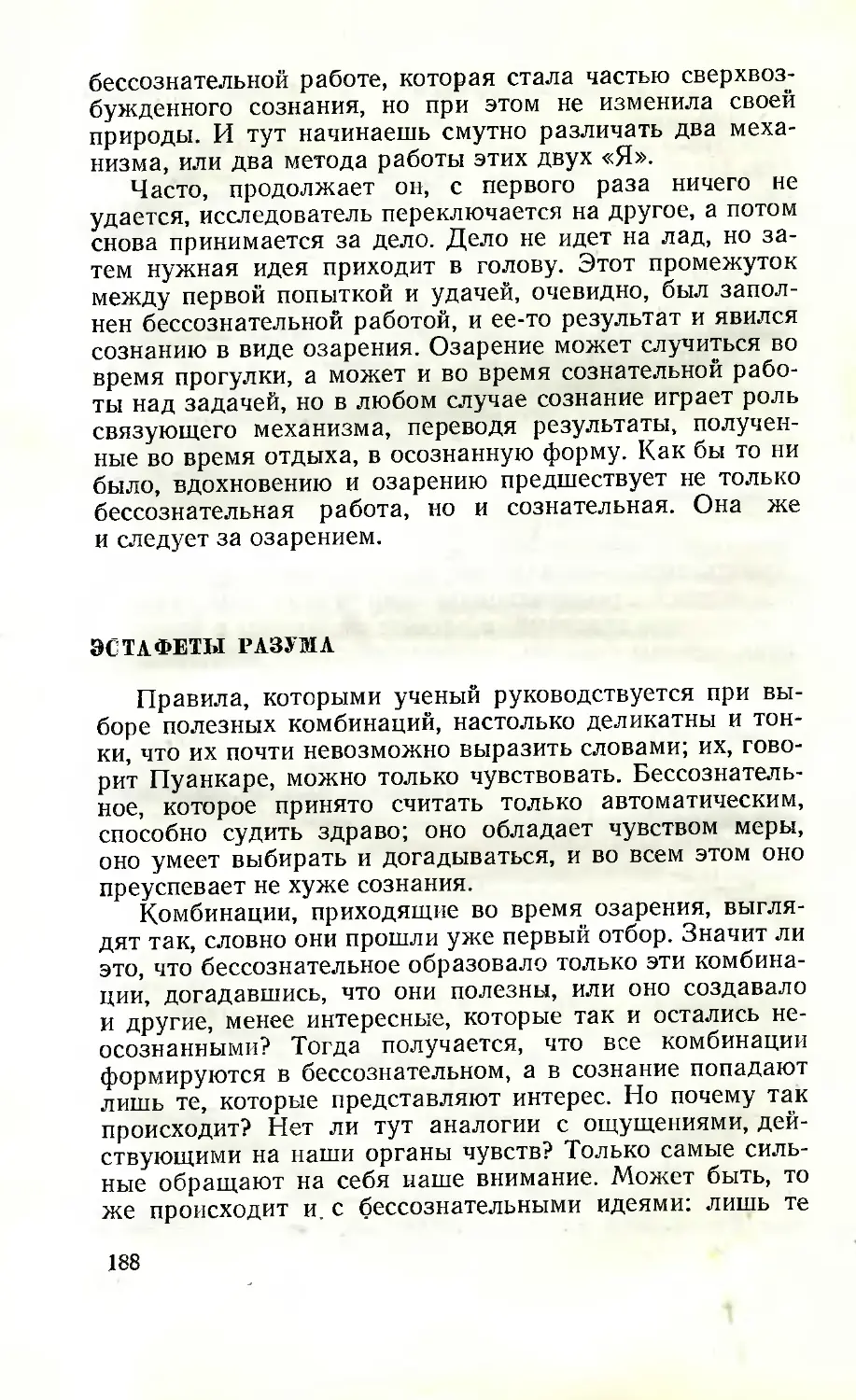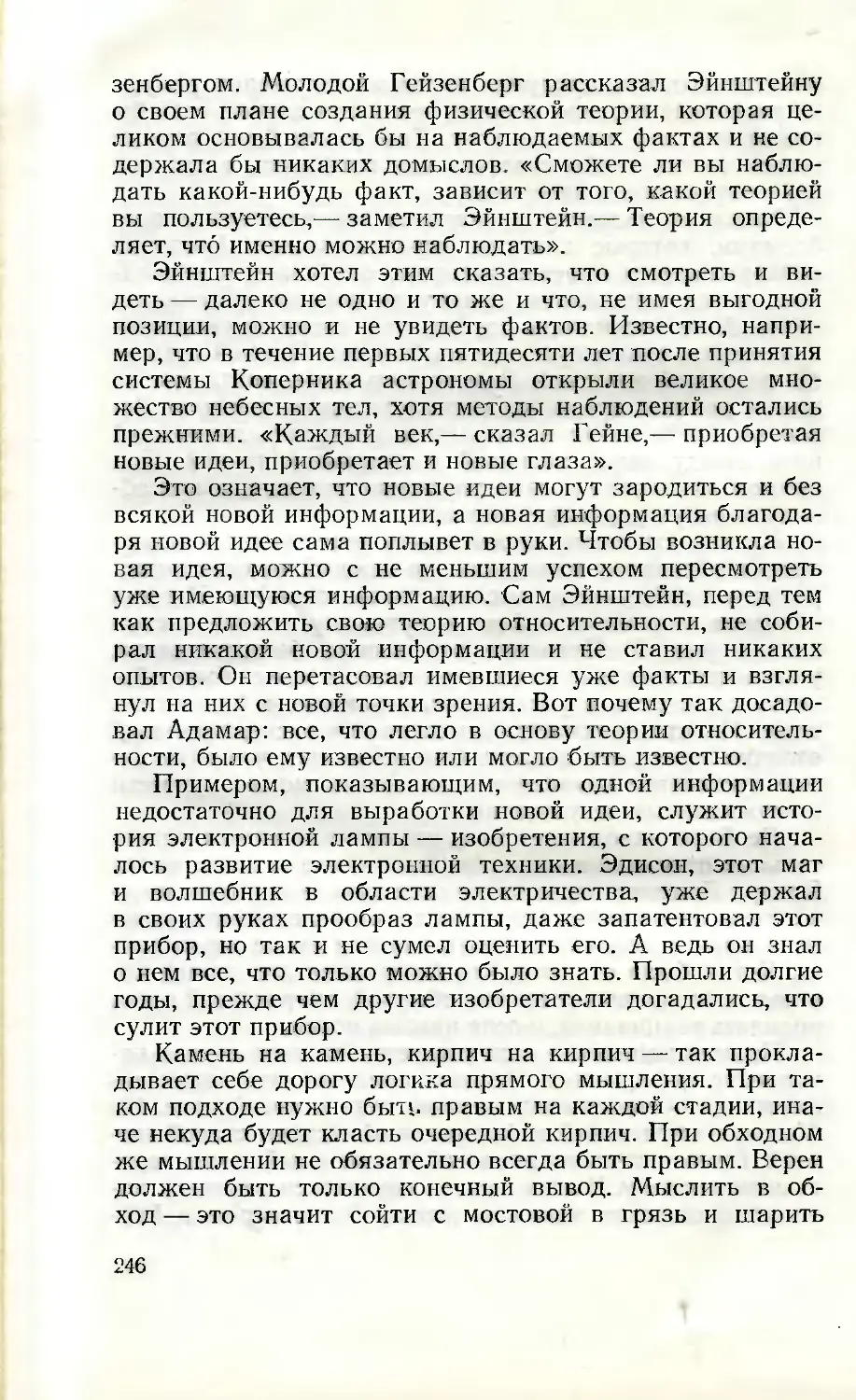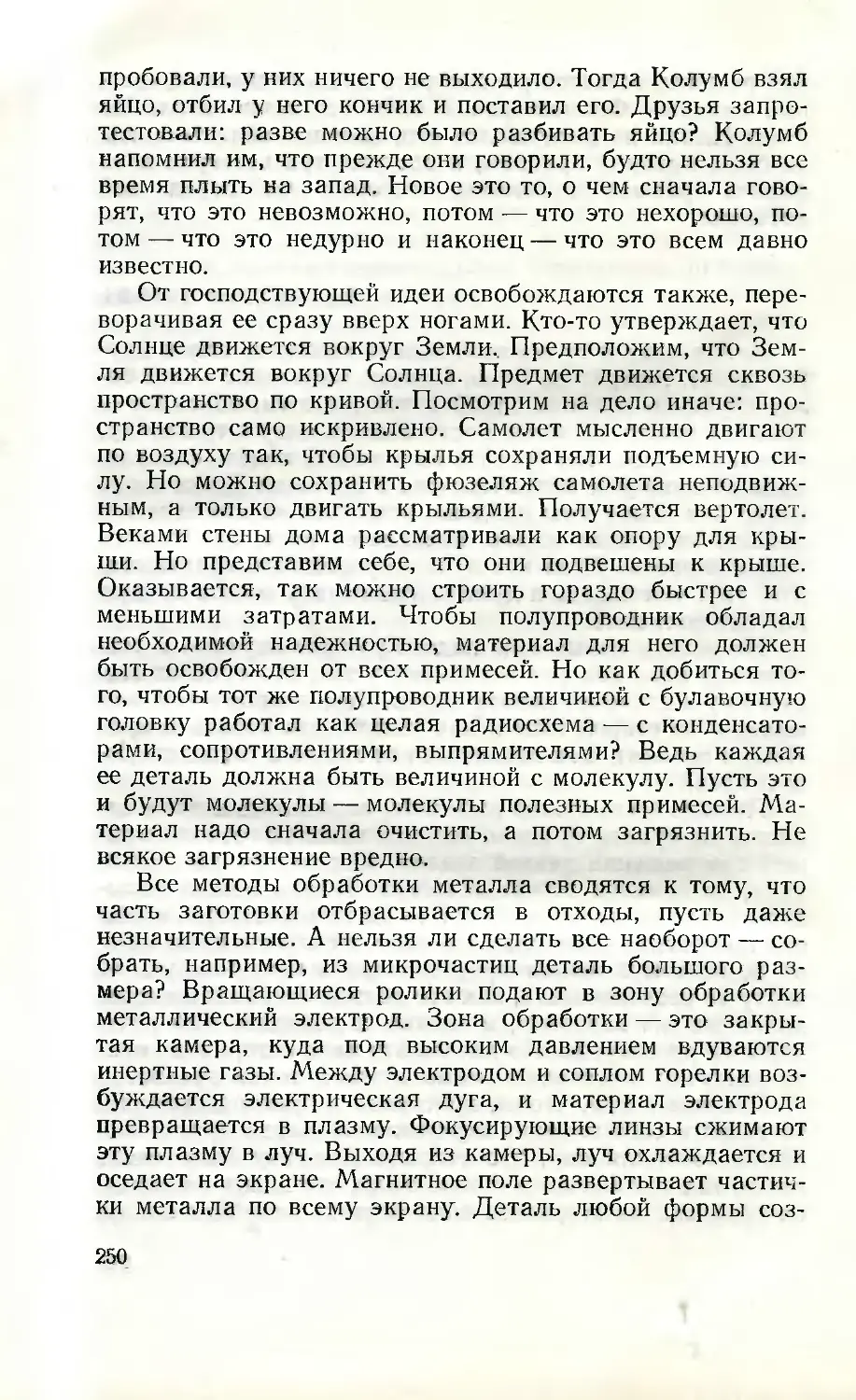Текст
НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
70803—472 „
И М101 (03)76 462 76
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1976 г,
Оформление Н. Антокольской
МИР ВВЕРХ НОГАМИ
Была минута, когда Лида почувствовала
вдруг кощунственную зависть к слепым.
Лучше уж ничего не видеть, чем видеть,
как под тобой дыбом встает земля и, ког-
да ты инстинктивно отшатываешься от
нее, устремляется к тебе, будто вскипев-
шее молоко. Спуститься с крыльца — все
равно что шагнуть в пропасть За сто-
лом — мука мученическая: рука — мимо
ложки, ложка — мимо рта. Хоть бы аппе-
тит пропал, но тут хоть и жара, а есть
хочется, как в поезде. «Ах, сосны, ах, де-
льфины!..» Помешались все на этих де-
льфинах! А как отличишь их от волн, ког-
да море висит над головой, и не над
головой даже, а вообще непонятно где ви-
сит. И еще одиннадцать дней такой жиз-
ни. Лечь бы, закрыть глаза и пролежать
бы все одиннадцать дней. Нельзя. Ничего
нельзя, все расписано. Вот и сейчас надо
браться за карандаш и рисовать А ка-
рандаш, конечно, на полу, а пол неиз-
вестно где. Но, может, не одиннадцать,
может, только пять, ну шесть, и все пой-
дет как по маслу. Только надо вести себя
хорошо, не капризничать, слушаться
старших... «Держись, Лида, ты же пер-
вая женщина, увидевшая перевернутый
мир!» — «Держусь, Саша. Скорей бы
только он перевернулся обратно».
Такне же ощущения испытывал лет
восемьдесят назад и первый мужчина,
попытавшийся привыкнуть к жизни в пе-
ревернутом мире. Это был американский
психолог Стрэттон. Стрэттону, правда,
было легче, чем Лиде: он не знал, пере-
вернется мир обратно или нет, и разза-
доренное любопытство скрашивало ему
все невзгоды. Стрэттон искал ответа на
вопрос, который уже давно занимал пси-
хологов. Вопрос этот возник, едва только
5
анатомы разобрались в устройстве глаза. Устрой-
ство их поразило. С какой целью природа распо-
рядилась так, чтобы на сетчатке возникало не прямое,
а перевернутое изображение предметов? Для чего нужна
эта система «хрусталик — сетчатка»? Вот если бы за сет-
чаткой был еще один хрусталик, тогда все стало бы на
свои места. За сетчаткой никакого хрусталика не оказа-
лось. Да и странно было бы, если бы он оказался: приро-
да расточительна, но не настолько. Выходило, что сетча-
точное изображение переворачивается обратно где-то
в мозгу.
Хорошо. Но зачем мозгу лишние хлопоты? Вон у на-
секомых нет никакой сетчатки и никакого хрусталика.
Правда, со своими фасеточными глазами они дальше соб-
ственного носа не видят. Но что, скажите на милость,
видим мы? Целую систему фильтров проходит зритель-
ная информация, путаясь по нервным каналам да по
разным зонам мозговой коры. С этими фильтрами сорев-
нуется память, распоряжающаяся восприятием без зазре-
ния совести. В восприятие вечно суются наши установки
и мотивы, по чьей милости мы то закрываем глаза на
очевидные вещи и видим все в розовом свете, то, наобо-
рот, принимаем муху за слона. Так мало нам всего этого:
надо еще ставить мир с головы на ноги!
На это можно, конечно, возразить. Можно доказать,
что для обработки зрительной информации ничего лучше
корковых зон не придумаешь. Что без памяти мы бы
и шагу не могли ступить. Что мотивы и установки подви-
гают нас на достижение благородных целей, а заодно
придают каждому из нас столь нам любезную неповтори-
мость. Все это исполнено глубочайшего смысла.
Да, все, кроме перевернутого изображения. Пусть мы
выразились неточно, сказав, что мозг его переворачивает
обратно. Мозг, судя по всему, извлекает информацию
прямо из перевернутого изображения. Но это не меняет
дела. Почему из перевернутого? Что означает этот кап-
риз природы? Или это не каприз, а неведомая нам еще
необходимость?
Вот этот вопрос и задавал себе Стрэттон, готовясь
к своему необыкновенному эксперименту. Стрэттон на-
дел очки с инвертирующими призмами, которые выпол-
няли ту же роль, что и хрусталик, открыл глаза и увидел
мир, стоящий на голове. Изображение на сетчатке стало
6
прямым, а изображение в сознании перевернулось. Меха-
низм извлечения информации работал по привычной схе-
ме. Перестроится эта схема или не перестроится? Стрэт-
тон не снимал очков восемь дней. На шестой день он за-
метил, что мир возвращается в прежнее положение. Сняв
очки, Стрэттон объявил, что хотя он и не совсем приспо-
собился к инверсии сетчаточных изображений, но при-
способление развивалось настолько успешно, что его
можно смело считать состоявшимся. Окончательная
адаптация, по-видимому, дело времени: кто походит
в инвертирующих очках недели две, в этом убедится.
А раз так, то правильное видение не зависит от ориента-
ции образа на сетчатке.
Ответ был найден: не необходимость, а каприз. Но
это же противоречит здравому смыслу. За всеми каприза-
ми всегда кроется какая-нибудь подоплека. Да полно, не
ошибся ли Стрэттон? Может, ему только показалось, что
он адаптировался? Хотя, если ему показалось, то он уже
адаптировался... Словом, опыт надо повторить.
Опыт повторили. Эверт, соотечественник Стрэттона,
надевал инвертирующие очки и себе и своим испытуе-
мым, и они в течение двух недель наблюдали переверну-
тый мир. Они не почувствовали никакой адаптации. То
есть было что-то, но никак не адаптация. Мир становился
иногда на ноги, но это был какой-то ненастоящий мир,
привыкнуть к нему было невозможно. Стрэттон, должно
быть, ошибся, принял, наверно, желаемое за действи-
тельное.
Это звучало странно. Что значит ошибся? Ведь Стрэт-
тон ориентировался в перевернутом мире. Опыты повто-
рили еще раз. Повторяли их лет двадцать, и всё без тол-
ку. У одних получалась адаптация, у других нет. Одни
считали, что прав был Стрэттон, другие — что Эверт. Мо-
жет быть, правы были оба? Может быть, они ощущали
одно и то же, но истолковывали свои ощущения по-раз-
ному?
Психолог Снайдер ходил в инвертирующих очках це-
лый месяц. На тридцатый день, когда он уже чувствовал
себя в перевернутом мире как рыба в воде, его спросили,
какими он видит предметы — перевернутыми или нор-
мальными. Снайдер задумался и ответил: «Пока меня об
этом никто не спрашивал, предметы казались мне нор-
мальными. Но теперь, когда я вспоминаю, как они выгля-
7
дели прежде, я вижу их перевернутыми. Чертовщина ка-
кая-то!»
Сторонники Эверта могли торжествовать. Ощущение
иллюзорности не покидало Эверта ни на минуту. «Стоило
мне как следует всмотреться в предметы,— говорил он,—
как я убеждался в том, что они перевернуты». Но что же
тогда произошло со Стрэттоном? Если сравнить то, что
писал Стрэттон о своих ощущениях, с тем, что писали его
противники, обнаружится множество совпадений. Пред-
меты вернулись в обычное положение, но выглядели ина-
че, чем до опыта. Мир казался привычным и непривыч-
ным одновременно. Стрэттон приписал это тому, что
адаптация еще не закончилась, а Эверт — тому, что она
и не начиналась. Получилось, как в анекдоте об актере-
оптимисте и актере-пессимисте: первый утешался тем,
что зал был наполовину полон, второй сокрушался о том,
что зал был наполовину пуст. Противоречие действитель-
но коренилось не в ощущениях, а в их истолковании.
Стрэттона, как представителя классической психологии,
более всего занимало то, о чем говорило ему сознание,
и с этой точки зрения адаптация казалась ему реальной.
Эверт же, представитель бихевиоризма — направления,
для которого единственной реальностью было поведение,
а сознание фикцией, в основном следил за тем, как выра-
батывались у него навыки, и с этой точки зрения адапта-
ция казалась ему иллюзорной. Такова власть господ-
ствующих представлений. Современному психологу ясно,
что противоречие во многом было мнимым.
Во многом, но не во всем. Власть установки распрост-
раняется не только на истолкование опыта, но и на мето-
дику его проведения. Стрэттона интересовало одно,
Эверта другое, а раз так, то видеть в перевернувшемся
мире они должны были не совсем одно и то же. В чем же
заключалась разница? И почему пристальное вглядыва-
ние в предметы переворачивало их обратно или, во
всяком случае, заставляло сомневаться в том, что они
стоят, как им и положено?
Чтобы разобраться в этом, нам придется познако-
миться с открытием, которое сделал еще один американ-
ский психолог—Гибсон. Гибсон не надевал никаких оч-
ков, а просто сидел однажды в задумчивости, вперив
взгляд в одну точку, и вдруг глазам его представилась
необычная картина. Если вы посмотрите на свою комна-
8
ту, говорил он потом, вы увидите обычную сцену, где
большие предметы выглядят большими, квадратные —
квадратными, а горизонтальные — горизонтальными.
Это то, что мы условимся называть видимым миром. Те-
перь взгляните на комнату не как на комнату, а как на
нечто, состоящее из свободных пространств или кусочков
цветных поверхностей, отделенных друг от друга конту-
рами. Если вы будете упорны, сцена станет похожа на
картинку. Вы заметите, что она отличается от предыду-
щей сцены. Это то, что мы условимся называть видимым
полем.
Видимое поле и вправду похоже на картинку. Види-
мый мир безграничен: он впереди нас, сбоку, сзади —
везде. Видимое поле ограничено; оно имеет форму овала
и у своих границ расплывчато. Если мы наклоним голо-
ву, мир останется на месте, а поле наклонится вместе
с нами. В видимом мире мы воспринимаем трехмерные
формы, а в видимом поле проекционные — не то чтобы
плоские, но и не то чтобы глубокие.
- Все это очень похоже на те странные картины, кото-
рые возникали перед Стрэттоном, Эвертом и Снайдером,
когда они вглядывались в предметы, пытаясь сообразить,
перевернуты они или нет. На это совпадение обратили
внимание молодые психологи из Московского универси-
тета Александр Логвиненко и Владимир Столин. Может
быть, когда человек надевает инвертирующие очки, он
прощается с видимым миром и остается наедине с види-
мым полем? Но что такое это поле и в каких отношениях
состоит оно с видимым миром? Логвиненко и Столин
предположили, что это две стадии построения зрительно-
го образа — начальная и конечная. У образа много уров-
ней. Самый нижний уровень жестко связан с сетчаткой.
Это чувственные формы, которые мы видим в вещах, не
зная еще ничего об этих вещах: плоскости, углы, цвет,
тени. Над этим уровнем надстраивается множество дру-
гих, наполненных уже содержанием и смыслом. Их коли-
чество зависит от нашего знания о мире, от точек зрения,
от воображения. Сначала строится чувственная ткань
образа, или видимое поле, а затем на нем конструируется
предметное содержание, или видимый мир. И нужно осо-
бое усилие сознания, чтобы разглядеть нижний этаж об-
раза — видимое поле.
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ СТРАНЕ
Увидеть мир как картинку — значит увидеть не то,
что мы бессознательно ожидаем увидеть, а то, что пока-
зывается нам независимо от нашего знания об окружаю-
щем. Это значит забыть о том, что вот это стол, а это
книга, и представить себе, что это большой прямоуголь-
ник, а на нем прямоугольник поменьше. Никаких пред-
метов — только формы! Все на свете должно начаться
сначала. И тогда все извлекаемые из памяти представле-
ния о вещах, с которыми наше восприятие сравнивает то,
что попадается ему на пути, отступят назад, поводья, ко-
торые держит в руках память, ослабеют, и получившее
свободу восприятие увидит незнакомый мир. На эти
мгновения мы превратимся в детей, еще не обремененных
грузом понятий и изучающих каждую вещь как диковин-
ку. Для нас с вами стол это подробность мебели. Ребенок
же не знает категории мебели, он не уверен даже в том,
что «вот это стол — за ним едят». Для него стол огромен,
таинствен и одушевлен. За ним едят, но под ним мож-
но и жить и построить город, в сумраке он может стать
и чудовищем. Его назначение еще не установилось, не
стало достоянием автоматизма привычки. Наполовину он
принадлежит еще видимому полю.
Испытуемому, надевшему инвертирующие очки, пред-
стоит, как ребенку, наполнить видимое поле содержани-
ем — построить видимый мир заново. Бывает, впрочем,
и взрослые оказываются в подобном положении. Опера-
тор, остающийся наедине с мнемосхемой или экраном ло-
катора, всматривается в комбинации колеблющихся
стрелок, мигающих лампочек, светящихся пятен и, пре-
вращая их мысленно в комбинации поездов, самолетов,
потоков энергии, строит cBoii видимый мир — образ
управляемых объектов. Но наш испытуемый в особом по-
ложении: видимое-то поле у него перевернуто! Как же
возводить второй этаж, когда у первого потолок и пол
поменялись местами? Тут либо они должны поменяться
местами снова, либо второй этаж будет возведен на пере-
вернутом первом.
Какое из этих предположений правильно, может по-
казать только эксперимент. Эксперимент проходил в Пи-
цунде, на берегу Черного моря, где расположен спортив-
ный лагерь университета. Часть лагеря отводится летней
10
психологической школе; там десятка два студентов,
аспирантов и преподавателей проводят отпуск и в сво-
бодное от развлечений время обсуждают проблемы психо-
логии.
Испытуемой согласилась стать студентка факультета
психологии Лидия Иноземцева, хорошая спортсменка
и натура достаточно уравновешенная. Физическая
и эмоциональная стойкость для такого эксперимента не-
обходимы: перевернутый мир — тяжелая нагрузка для
нервной системы. Выдерживает ее не всякий, и, зная это,
многие студенты предпочитают в этом случае лишь
ассистировать экспериментатору. Но тут ассистентам
тоже досталось: первые дни от Лиды нельзя было отойти
ни на шаг.
Лиде надели очки, опыт начался. Что такое опыт?
Для испытуемой — это путешествие по фантастической
стране, где, чтобы хорошо ориентироваться, надо изучить
все — язык, обычаи, формы, способы передвижения. Для
экспериментатора — это записи ее словесных отчетов,
наблюдение за ее поведением, тесты, измерения. Особен-
но важным считалось измерение константности формы —
способности правильно видеть форму предмета независи-
мо от ракурса рассматривания. Если ваша константность
равна ста процентам, значит, с видимым миром у вас все
в порядке, а если нулю — видимого мира у вас нет, одно
видимое поле, и вы воспринимаете не обычные формы,
а проекционные. Круг, например, кажется вам эллипсом.
Круг и в видимом мире может быть похож на эллипс, но
вы все равно знаете, что это круг. В видимом же поле
вам это может и не прийти в голову.
Открыв глаза, Лида растерялась. Земля очутилась
вверху, а небо внизу, но не на месте земли, а как бы у поя-
са. Руки входили в поле зрения сверху и ноги тоже повиса-
ли наверху, да еще стопами внутрь. Свои ноги казались
чужими, а чужие, обращенные наружу, своими. От этого
становилось жутковато. Стакан с молоком стоял кверху
дном. Лида тянулась к нему, выгибая руку так, будто он
был ручкой чемодана. Молоко проливалось, и непонятно
куда — на землю или на небо. Коэффициент констант-
ности упал ниже нуля: перед Лидой была не картинка,
а хаос форм. Ночью ее преследовали кошмары: снились
какие-то чудовища, снились и знакомые, все до одного
в инвертирующих очках. Лиду было не узнать, она пре-
11
вратилась в ребенка. Она стала капризной, раздражи-
тельной, у нее появилась склонность'к уменьшительным
суффиксам. «Надо почистить зубки,— уговаривала она
себя.— А теперь вымоем ноженьки». Странное получи-
лось существо, сочетавшее в себе и дитя и няньку.
Адаптация была медленной и мучительной. Сначала
Лида решила не замечать хаоса и действовать, как
в темноте, на ощупь. Попытка провалилась. Слух и ося-
зание не помогали, обстановка не запоминалась. Дело
окончилось эмоциональным взрывом и переходом к но-
вой тактике. Лида с головой окунулась в хаос и стала
тянуться ко всему, что ни попадалось на глаза, без раз-
думья. Снова неудача, снова эмоциональный взрыв. Ни-
чего не попишешь, надо исследовать новую страну по
всем правилам — действовать, запоминать, думать. Лида
стала взрослеть, хаос уступал место порядку, а порядок
мало-помалу начал становиться на ноги.
На девятый день адаптация завершилась. Пол был
там, где и положено быть полу, и лежал неподвижно.
Стакан стоял на столе краями кверху. Волан от бадмин-
тона летел к цели. Дельфин описывал дугу над морем.
Лида вбегала в море и плыла к дельфину. Коэффициент
константности возрастал не по дням, а по часам. Перед
Лидой был видимый мир — мир, наполненный содержа-
нием. А видимое поле, что произошло с ним? Оно как
было, так и осталось перевернутым. Когда призмы были
сняты и сетчаточное изображение вернулось в свое нор-
мальное, перевернутое положение, все предметы оста-
лись стоять на ногах, но константность резко упала: пе-
ред Лидой снова было видимое поле. Видимый мир вер-
нулся к ней часов через двадцать — после того, как она
вспомнила прежние свои навыки и снова построила над
обнажившимся первым этажом второй. А еще раньше, на
десятый день опыта, ее попросили всмотреться в окру-
жающие предметы «по Гибсону». Всмотревшись, она об-
наружила, что предметы перевернуты. Еще секунду
назад они стояли на ногах, и вот уж они на голове. Лида
даже приуныла: неужели все придется начинать снача-
ла? Зато обрадовался Логвиненко: так и есть, видимое
поле перевернуто!
Теперь ясен источник той двойственности, которую
ощущали американские психологи. Каждый из них
непроизвольно и неосознанно соприкасался с видимым
12
полем, и Эверт, конечно, чаще, чем Стрэттон. При инвер-
сии сетчаточных изображений видимое поле это не про-
сто картинка, висящая вверх ногами, а нечто вовсе утра-
тившее предметность, лишившееся верха и низа, скопище
бесформенностей. И на этом скопище строится видимый
мир. Зыбкое основание, что и говорить! Адаптация на-
ступает, но уж очень непрочная адаптация. Предметы не
выдерживают пристального взгляда и, сбрасывая с себя
черты реальности, обнаруживают свою истинную при-
роду.
И все-таки это адаптация, а не иллюзия адаптации.
Построив, хотя бы с грехом пополам, видимый мир, ис-
пытуемый ориентируется в нем не хуже, чем в том, к ко-
торому привык с детства. Новый видимый мир, плод его
умственной работы, независим от ориентации видимого
поля. Кому, кроме нас с вами, свойственна такая гиб-
кость зрительной и нервной системы, кто еще обладает
такой властью над внешней реальностью! Птицы, эти об-
щепризнанные рекордсмены зоркости, не могут приспо-
собиться к такому пустяку, как сдвиг зрительного поля
на несколько градусов. Даже наш ближайший родствен-
ник, шимпанзе (о мартышках и говорить нечего!), надев
инвертирующие очки, впадает в полуобморочное состоя-
ние, а в лучшем случае — в детство, и выбраться оттуда
ему так и не удается. Странности нашей оптической
системы с лихвой возмещаются изощренностью нашей
психики, которой нипочем, даже если все вокруг перевер-
нется вверх дном.
Теперь, пожалуй, можно задать вопрос: для чего же
нам эта система, почему мы обязаны идти у нее на пово-
ду и, получая довольно скудные сведения об окружаю-
щем, ставить их еще на ноги и наполнять содержанием?
Сведения-то и впрямь скудные. На сетчатке отражается
не то, что ей показывается, а то, что она в состоянии от-
разить. У нее есть участки с хорошей чувствительностью,
а есть и с никудышной. Спектр импульсов, которые полу-
чает от нее мозг, беден и однообразен. Когда нейрофизио-
логи рассмотрели его, они глазам своим не поверили:
непонятно, как мы вообще что-нибудь видим.
Тем не менее мы видим, и видим прекрасно. Видим,
потому что думаем! Что нам за дело до нашей несовер-
шенной сетчатки! Строго говоря, неизвестно, откуда взя-
лась у нас система из сетчатки и хрусталика. Так получи-
13
лось. Многое на свете так получилось. Спросите у любого
физика, отчего скорость света — около трехсот тысяч ки-
лометров в секунду, а не около четырехсот, и он ответит:
«Так получилось». К сожалению, такие простые ответы
нас не устраивают. Нам хочется знать, какой высший
смысл скрывается за физическим явлением. Что ж, нам
ничто не мешает сказать себе, что природа в своей беско-
нечной мудрости наградила нас сетчаткой с хрустали-
ком, велела извлекать смысл из перевернутых изобра-
жений и строить видимые миры по видимым полям, что-
бы уберечь от прозябания наш ум и наше воображение.
ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ НАС
Мы сравнили построение видимого мира с деятель-
ностью оператора, который переводит символику инфор-
мационных моделей на язык наглядных представлений
и логических связей. Но безупречно ли наше сравнение?
Всякая символика — это вторичное, третичное, а то
и четвертичное отображение действительности. Лишь
тот, кто специально учил язык символов, поймет, что
кроется за светлым пятнышком, появившимся на экране
локатора.
Только зрительный образ можно назвать первичным
отображением действительности. Правда, он содержит
далеко не все признаки предмета. Отражение в зеркале
или точная копия предмета были бы куда первичнее. Но
что проку в искусственных отражателях: они отражают,
и только. Они не имеют никакого представления о мире,
им нечего делать со своим отражением. Представление
имеет лишь тот, кто смотрит, вглядывается, у кого образ
возникает не механически, а в ходе активного восприя-
тия. Этот образ может проиграть в точности подобия, но
зато он выиграет в другом. У него обнаружатся связи
с другими элементами действительности и с личностью.
Он будет не простым отражением, а моделью, которая
впитает в себя и то, что человек увидит непосредственно,
и то, что он подумает о виденном. Наша аналогия с опе-
раторской моделью вполне уместна; все мы имеем дело
с моделями, а не только операторы, и вопрос о первич-
ности не так уж тут и важен.
И
В ходе экспериментов, с которыми мы познакомились
в предыдущих главах, было сделано два важных откры-
тия: обнаружено видимое поле и выяснилось, как строит-
ся зрительный образ. Растянув процесс этого построения
искусственно, психологи смогли разглядеть каждый его
этап и определить, что делает человек, превращающий
хаос в осмысленную гармонию, и что делается при этом
с самим человеком.
Вместе с психологами наблюдали этот процесс и мы
с вами, и он не мог не затронуть нашего воображения.
Воображение говорит нам, что, может быть, врожденная
способность к построению видимых миров у всех у нас
развита неодинаково и что один, допустим, предпочитает
жить с раз и навсегда построенным видимым миром, дру-
гой же строит всё новые и новые миры, находя в своем
видимом поле неиссякаемый материал для строительст-
ва, а в этом занятии — острейшую потребность и вели-
чайшее наслаждение.
Но откуда берется такая потребность? В чем заклю-
чается это строительство? Если мы вдумаемся во всю
эту историю с перевернутым миром, мы неизбежно при-
дем к пониманию восприятия как творчества, как умст-
венной работы, в ходе которой рождается новое
ощущение мира, новый взгляд на мир, новое отношение
к нему.
Когда Лида надела инвертирующие очки, ее восприя-
тие не превратилось в абсолютно чистый лист бумаги, на
котором окружающий ее мир должен был оставить свой
отпечаток. Она знала, каким должен быть этот мир, она
помнила, каким он был до эксперимента. Ей помогала
память, помогал весь прошлый опыт. И все-таки на вре-
мя она превратилась в ребенка. Голос памяти долго то-
нул в ошеломляющей незнакомости представшего. Неве-
домо куда запропастились навыки двигательной ориен-
тировки, рассудительность, выдержка — весь арсенал
средств, с которыми мы приступаем к решению жизнен-
ных задач и которые приобретаются с годами. Все при-
шлось начинать сызнова. Лист не был чист, но строчки,
написанные на нем прежде, покрылись пленкой; поверх
едва проступавших слов можно было писать новые. До
эксперимента на море и сосны глядела одна личность, во
время эксперимента — другая, искусственно созданная,
похожая и не похожая на первую, после же эксперимен-
15
та — снова первая, но со следами пронесшихся в душе
эмоциональных встрясок.
Но можно ли найти чистое восприятие, такое чистое,
чтобы не проступали на нем ни отпечатки опыта и зна-
ний, ни знаки личности со всеми ее притязаниями, ни
нотки практической заинтересованности? Недаром Лида
превращалась в ребенка, вела себя, как ребенок. Дет-
ство —вот где естественно и непринужденно начинается
строительство видимого мира, начинается творчество.
Вот откуда берут свои истоки исследование и воображе-
ние, ищущая мысль и трепетное чувство, сопровождаю-
щие каждый шаг познания.
Неспроста грустим мы о невозвратной поре дет-
ства — мы грустим об утерянной свежести восприятия.
Эта грусть звучит в словах Генриха Гейне: «В сказках
лопата и метла, стоя на крыльце, ссорятся и дерутся,
а соломинка и уголек хотят переправиться через ручей...
В детстве нашем... все одинаково важно для нас, мы все
слушаем, на все смотрим, все наши впечатления равно-
мерны. Но в последующие годы в наших действиях уже
больше преднамеренности, мы по преимуществу заняты
чем-нибудь одним, мы... меняем чистую золотую монету
созерцания на бумажные деньги книжных определений
и выигрываем в широте жизни то, что теряем в глубине
ее». Поэту вторит художник. «Человечество слепнет,—
пишет Петров-Водкин,— принимая на слово видимое, че-
ловечество разучивается осмысливать до конца, ощупы-
вать сущности, поступающие через глаз». И если ребе-
нок, продолжает он, благодаря спасительному атавизму
еще способен воспринимать странности предметов, то по-
том эта способность, увы, заменяется «умозрением
жизни».
Но ведь не все разучиваются созерцать, не все теряют
этот «спасительный атавизм» — врожденную способ-
ность к непосредственному постижению предметов. Ина-
че не было бы у нас ни искусств, ни наук. Кто грустит
о такой утрате, еще не все потерял. Многие, конечно, рас-
ставшись с детством, плывут по течению повседневных
забот и привычного уклада жизни, не проявляя к внеш-
нему своему окружению особенного интереса. Многие,
да не все. Нет-нет да и вглядится человек с детским лю-
бопытством в соломинку или в уголек и увидит вдруг
в этих простых вещах бесконечность и красоту мира. Но
16
что же именно врождено нашему восприятию? Прежде
чем строить видимый мир на видимом поле, мы ведь долж-
ны уметь разбираться в этом поле, отличать одну его
форму от другой, хотя бы инстинктивно сознавать, что за
материал перед нами.
Мир и ум развивались одновременно и не могли не
приспособиться друг к другу, сказал один мудрый психо-
лог почти сто лет назад. С тех пор наука накопила нема-
ло сведений, подтверждающих эту простую мысль. Мно-
го ли знаний понадобилось нам, чтобы решить на экзаме-
не задачу из трехмерной геометрии? Гораздо меньше,
чем той информации, которой мы воспользовались
бессознательно, говорит английский кибернетик Эшби.
У нас был опыт детства, когда мы учились двигаться
в трехмерном пространстве и обращаться с трехмерными
предметами. Но и это пустяки: у нас за плечами были
миллиарды лет эволюции, протекавшей в трехмерном
мире.
Трехмерность мира не могла не отразиться на струк-
туре мозга. Целые группы специализированных нервных
клеток открыты в мозгу. Каждая из них нацелена на то,
чтобы воспринимать один из элементов трехмерного ми-
ра. Одни нейроны реагируют только на вертикали, дру-
гие — только на горизонтали, третьи — на округлые фор-
мы, четвертые — на острые углы. У биолога Жака Моно
есть все основания утверждать, что понятия элементар-
ной геометрии содержатся не столько в самих предметах,
сколько в наших чувствительных анализаторах — в зри-
тельных зонах коры, где информация, поступающая от
сетчатки, подвергается анализу и синтезу. Формы окру-
жающего мира нам не в диковинку с самого начала; мы
готовы к ним и ничего иного от мира и не ожидаем. Не
оттого ли даже искушенному математику так трудно
представить себе четырехмерное пространство, хотя тео-
ретически он уже давно свыкся с ним?
Возможно, понятиями элементарной геометрии не ис-
черпывается наша врожденная приспособленность к ми-
ру. Естественно думать, что все наши инстинкты и по-
требности, способы восприятия и мышления развились
и достигли нынешнего состояния в единстве с окружаю-
щей средой и приноровились к ней так, чтобы мы могли
с пользой воспринимать ее воздействия и в свою оче-
редь воздействовать на нее. Когда мы появляемся на
17
свет, наш взгляд не выражает еще ничего. Но это отсут-
ствие выражения — всего лишь тонкая пленка, за кото-
рой уже теплится готовность к восприятию окружающе-
го, уже пробуждается первое чувство и первая мысль.
Такая готовность детского восприятия нисколько не
мешает его чистоте и свежести. Не мешает потому, что
в нем наряду с сильнейшим любопытством ко всему, что
творится вокруг, долго еще уживается та незаинтересо-
ванность, та равномерная впечатлительность, которая
объясняется только одним — отсутствием жестко закреп-
ленного образа видимого мира, его осознанной модели.
Образ еще строится, его этажи, едва возведенные, под-
вергаются переделке, одни части здания остаются в не-
прикосновенности, другие сносятся до основания, чтобы
уступить место новым. И вот тут чуткая душа, соприка-
саясь с видимым полем, с формами и красками мира, мо-
жет ощутить неизъяснимую радость от этих соприкосно-
вений и заставить себя не спешить с окончательной
отделкой здания. Пусть будет остов, будут этажи и пере-
крытия, потолки и стены, но пусть все будет устроено
так, чтобы в дом беспрепятственно входили все краски,
звуки и запахи мира и не смешивались вмиг с тем, что
уже устоялось.
НЕЗРИМЫЙ РОЙ ГОСТЕЙ
Что же дает уму и сердцу этот отказ от торопливости,
это умение взглянуть на то, к чему уже привык и чего не
замечаешь, как на то, что видишь впервые и хочешь рас-
смотреть во всех подробностях? На этот вопрос отвечает
нам в своих «Воспоминаниях» великий поэт Рабиндранат
Тагор:
«Однажды в позднее пополуденное время я расхажи-
вал по террасе нашего дома... Солнце зашло, и сияние
закатного неба, смешиваясь с бледными сумерками, при-
давало наступившему вечеру особую привлекательность.
Даже стены соседнего дома, казалось, сияли новой кра-
сотою. Какая сила совлекла с мира повседневных вещей
покров обыденности? •— думал я. Магия вечернего осве-
щения? Нет!
И вдруг я увидел, что то просто была красота вечера,
18
вошедшая в меня: в его тенях стушевалось мое «Я».
В блеске дня «Я» господствовало безудержно; все, что
я воспринимал, было пронизано, окутано им. Теперь оно
отступило в сторону, и я мог созерцать мир в его истин-
ном облике. А в этом его облике обыденности нет
и следа; он исполнен красоты и радости.
С тех пор я неоднократно повторял опыт сознательно-
го подавления своего «Я» и созерцания мира как бы со
стороны и неизменно бывал вознаграждаем ощущением
своеобразного наслаждения».
Тагор вспоминает и другой случай. Однажды утром
он стоял на веранде и смотрел в сторону школы, распо-
ложенной рядом с его домом. Солнце поднималось за по-
крытыми листвою вершинами деревьев. «Я все смот-
рел — и вдруг будто пелена упала с моих глаз: весь мир
передо мною омыт был чудесным сиянием, и со всех сто-
рон вздымались волны радости и красоты. Сияние это
мгновенно пронизало складки печали и уныния, собрав-
шиеся на моем сердце, и наводнило его безбрежным
светом.
В тот же день поэма «Пробуждение Водопада» изли-
лась и потекла настоящим каскадом. Поэма была мною
закончена, но зрелище радостного мира, открывшееся
мне, не прерывалось падением занавеса. И стало так, что
ни один человек и ни одна вещь не казались мне обыден-
ными или уродливыми... Я почувствовал, что избавился
от каких-то пут лжи, причинявших мне ненужные
неудобства и страдания... До того я никогда не замечал
игры поверхностей и линий, всегда сопровождающих ма-
лейшее движение человека; теперь я был совершенно за-
чарован их богатством и разнообразием, расцветавшим
навстречу мне со всех сторон в каждое мгновенье.
...Двое друзей радостно хохочут, мать ласкает своего
ребенка, корова трется боком о другую и лижет ее,—
неизмеримость всего, что позади этого, воочию предстает
моему духу как потрясение, граничащее с болью... Я дол-
го созерцал мир одним лишь внешним зрением и не ви-
дел его радостного облика. Когда же внезапно из глубин
моего существа прорвался наружу луч света, он осветил
мне весь мир, который с тех пор уже не был для меня
подобен нагромождению разрозненных вещей и событий,
но раскрылся моему взору как единое целое»
Психолог сказал бы, что Тагор, подобно Гибсону,
19
невзначай столкнулся с видимым полем и потом развил
в себе способность видеть по желанию мир как картинку.
Разница в их реакции на открытие естественна. Тагор
был поэт, к тому же пребывавший тогда в состоянии
юношеского экстаза и инстинктивных поисков самовыра-
жения, а Гибсон был ученый, которого открытие не сто-
лько потрясло и очаровало, сколько заинтриговало. Один
сел сочинять стихи, другой принялся за исследования
и измерения.
Но и тот и другой очутились на пороге эстетического
восприятия, которому свойственно извлекать смысл из
увиденного, прежде чем рассудок успеет на все наклеить
ярлыки значений. На пороге, говорим мы, потому что тут
есть порог, и лишь тот перешагивает его, кто умеет преж-
де задержаться на нем. Философ Шопенгауэр заметил,
что перед художественным произведением нужно вести
себя, как в присутствии короля: ждать молча, пока оно
не заговорит само, иначе рискуешь не получить ответа.
Психолог В. П. Зинченко рассуждает в том же духе: «По
сравнению с повальным увлечением быстрым чтением
старые уроки медленного смотрения картин и медленно-
го чтения кажутся верхом разумности». Со времен Шо-
пенгауэра королей поубавилось, но законы эстетического
восприятия не изменились, будь то восприятие произве-
дений искусства или природы.
Тагор рассказывает нам, как стушевалось и отступи-
ло в сторону его «Я». Что это значит? Ничего более, как
уже известное нам из знакомства с видимым полем
отступление памяти, отключение аппарата узнавания,
сопоставляющего увиденное с уже сформированными
образцами-мерками, с которыми мы бессознательно под-
ходим ко всему. Но почему Тагор связывает это с избав-
лением от пут лжи, причинявших ему неудобства и стра-
дания? Разве ложными были сложившиеся у него пред-
ставления о мире? В буквальном смысле, конечно, нет.
И все же они были ложными для него, потому что
невольно претендовали на законченность, а значит, и на
непререкаемость. Они мешали ему разглядеть всю пере-
менчивость мира, всю глубину, таящуюся за фасадом
обыденного. Они мешали излиться «Пробуждению Водо-
пада». Вот зачем Тагор научился сознательно подавлять
свое «Я». Ему необходимо было уметь всматриваться
в мир, смывши с него налет предвзятости и готовых оце-
20
нок, порожденных «умозрением жизни». От этого его «Я»
только становилось богаче. Оно вновь обретало детскую
восприимчивость и способность вбирать в себя окружаю-
щее как единое целое, а не как случайное дополнение
к уже построенному.
Умение задерживать вмешательство этих образцов-
мерок, или эталонов, как предпочитают выражаться пси-
хологи,— важнейшее условие любого творчества. Вот по-
чему похвалу вдумчивому созерцанию мы находим не
только у поэтов или художников, но и у ученых. «Бли-
жайшее подобие зарождения разума (и в человеческом
роде и в особи),—-говорит один известный энтомолог,—
мне кажется, можно найти в том дивном толчке, когда,
глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь,
что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на
самом деле птица'или насекомое. Для того чтобы объяс-
нить начальное цветение человеческого рассудка, мне ка-
жется, следует предположить паузу в эволюции природы,
животворную минуту лени и неги». И добавляет: «Ста-
рые книги ошибаются. Мир был создан в день отдыха».
И этот энтомолог, и все его собратья отлично знают цену
труду, без которого не мыслят своего существования.
И, говоря об отдыхе, они воздают хвалу не блаженному
ничегонеделанию: минуту лени недаром называют они жи-
вотворной. Они имеют в виду особое состояние сосредо-
точенности и отрешенности, когда ум и чувства собира-
ются с силами, чтобы приготовиться к вдохновению. Вдо-
хновение же, как говорил Пушкин, «есть расположение
души к живейшему принятию впечатлений и соображе-
нию понятий, следственно, к объяснению оных». Пушкин
и рассказал нам в бессмертной своей «Осени», что следу-
ет за животворной минутой лени и неги:
X
И забываю мир — ив сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне.
Излиться наконец свободным проявленьем —
21
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
XI
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
XII
Плывет. Куда ж нам плыть?..................
АНГЛИЧАНИН В ШВЕЙЦАРИИ
Ребенок сродни поэту в миг вдохновения, сродни уче-
ному в час открытия; ребенок—в непрерывном твор-
честве. Как губка, впитывает он новые впечатления, не
подозревая о том, что уже формируются у него преобла-
дающие способы восприятия и своя манера мыслить —
намеки на род будущей деятельности. Психика ребен-
ка — кладезь ответов на множество вопросов психологии;
к ней обращаются все, кто исследует восприятие, память,
мышление, эмоции. Вот почему и мы возвращаемся
к ней. То, что у взрослого уже приспособилось к привыч-
ным делам и оттого как бы свернулось в клубок
и опустилось в глубины автоматизма, то у ребенка еще
ожидает приспособления, еще развернуто на поверх-
ности и медленно созревает, открывая наблюдателю все
свои оттенки.
Знаток детской психологии А. В. Запорожец, характе-
ризуя человеческую психику вообще, пользуется все тем
же образом здания. Здание построено из многих над-
страивающихся друг над другом психофизиологических
22
уровней-этажей. В подвальных этажах протекают ин-
стинктивные процессы, связанные с безусловными реф-
лексами. На первых этажах образуются ощущения и на-
чинается координация простых чувств и движений. Выше
складывается восприятие пространства и времени
и формируются механизмы управления сложными дви-
жениями. Над этим надстраивается этаж наглядного
мышления и управления игровой и творческой деятель-
ностью. А самая верхушка — этаж знаковых логических
операций и высших инстанций управления сложными
актами труда.
В развитом виде вся эта система работает как единое
целое, согласованно и взаимосвязанно. В неразвитом же
виде нет ни согласованности, ни целостности, и все эта-
жи видны невооруженным глазом. Каждый этаж, гово-
рит Запорожец, возводится у ребенка в свой час, и вос-
питатель не должен торопиться возводить следующий
этаж, если предыдущий не достроен. Сказано это было по
поводу, прямо относящемуся к нашей теме. У психоло-
гов, связанных с педагогикой, вызвало тревогу то, что
предпоследний этаж — этаж наглядного, чувственного
мышления и основ эстетической культуры — был при-
знан низшим в буквальном смысле, второстепенным эта-
жом, а вместилищем мысли и всего подлинно челове-
ческого объявлен был верхний этаж, этаж чистой логики.
Развитие чувственного, эстетического восприятия стало
рассматриваться лишь как развлечение, как отдых
для ума.
Человек с неразвитым чувственным восприятием по-
добен тому анекдотическому англичанину, о котором
рассказывает психолог Фрэнсис Гальтон. Вернувшись из
путешествия по Швейцарии, этот уроженец плоской Анг-
лии заявил, что если бы можно было сбросить все ее го-
ры в ее озера, то удалось бы избавиться сразу от двух
недоразумений. Легко заметить, что этот англичанин был
не только слеп и глух к очарованию красоты, но и, мягко
выражаясь, неумен.
«Всякое человеческое познание,— писал философ
Кант,— начинает с созерцаний, переходит от них к поня-
тиям и заканчивает идеями». Исследовав этаж созерца-
ний, этаж наглядного, чувственного восприятия, психоло-
ги нашли, что по насыщенности интеллектуальными опе-
рациями он не уступает этажу логики и что полноценное
23
развитие последнего этажа зависит от развития предпос-
леднего. И тот и другой должны быть развиты одинаково
хорошо. Есть ли нужда в сотый раз ссылаться на Дарви-
на, который в своей «Автобиографии» скорбел об утрате
эстетического чувства как об утрате счастья, или приво-
дить примеры из жизни знаменитых ученых, отдававших
искусству дань, намного превышающую потребность
в отдыхе и развлечении?
Долго рассказывать, как возникло это странное про-
тивопоставление ума и чувств, мышления и восприятия.
Для объяснения этого парадокса пришлось бы переписы-
вать всю историю европейской философии. А это дей-
ствительно парадокс, потому что никто никогда не отри-'
цал, что чувственное восприятие — питательная среда
искусства, а искусство — сокровищница человеческой
культуры. Никто не отрицает и того, что чувственный
опыт служит источником открытий и изобретений. Над
утверждением этого парадокса потрудился и кое-кто из'
греческих философов, полагавших чувственный опыт ил-
люзией, и философы-сенсуалисты, которые хотя и тверди-
ли, что интеллект питается только показаниями чувств,
тем не менее считали работу чувств черной и второсорт-
ной, и философы-рационалисты, по мнению которых
восприятие поставляет нам один хаос, а приводить его в
порядок должен разум, обязанный не слишком доверять
увлекающимся чувствам.
Во всем этом была своя логика. Не так просто оспо-
рить Демокрита, говорившего, что так как мед одним ка-
жется сладким, а другим горьким, то горечи и сладости
нет вообще, а есть одно мнение. И все многообразие цве-
товых тонов и оттенков тоже мнение. Да и мнения,
в сущности-то, нет, а есть одни атомы и пустота. Правда,
Демокрит, как добросовестный искатель истины, не удер-
жался и приписал однажды органам чувств такие слова:
«Злая мысль, ты, что получаешь свидетельства от нас, не
собираешься ли ты свергнуть нас? Наше свержение ста-
нет твоим падением!» Но на эти слова внимания не обра- тр
тили. Недаром у греков бытовала легенда, будто Демо-
крит выжег себе глаза, чтобы преодолеть ложь обще-
доступной очевидности и прийти от зрения к умозрению.
Мудрец в понимании грека должен быть слеп. Благодаря
своей отрешенности он видит невидимое — суть вещей.
Самое поразительное, что так думал и Гомер, который
24.
заставил феакийского певца Демодока разделить свою
судьбу:
Муза его при рождении злом и добром одарила:
Очи затмила его, даровала зато сладкопенье.
Сомнительно, правда, чтобы сам Гомер был слеп от
рождения. Если бы это было так, он мог бы еще воспеть
гнев Ахиллеса, но уж никак не его знаменитый щит, вы-
кованный Гефестом. Судьба Демодока — уступка обще-
му заблуждению. К счастью, заблуждение, хотя и по-
здновато, рассеялось. Первыми выступили против него те
же поэты. Отрешенность Пушкина в «Осени» не имеет
ничего общего с отрешенностью греческих певцов и фи-
лософов, а само это стихотворение — торжество чувст-
венного восприятия и зрительного воображения. Вспом-
ним и «Пророка», где шестикрылый серафим, приступая
к преображению поэта, первым делом открывает ему
глаза:
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Вещие зеницы — значит зеницы, которым все ведомо,
мудрые зеницы. Их речь — речь мысли. И это не приви-
легия пророков, а свойство развитого восприятия вооб-
ще, то, что Гоголь назвал «живописным соображени-
ем», а современные психологи называют визуальным,
зрительным мышлением.
А может ли быть мышление слуховое или осязатель-
ное? Конечно. Но мы умолчим о них. И не только потому,
что зрение доставляет нам львиную долю сведений о ми-
ре, но и потому, что зрительный образ отличается от лю-
бого другого широтой и одномоментностью охвата.
Благодаря этому мы можем в мгновение ока оценивать
положение дел.
Как же формируется зрительный образ? Как мы ви-
дим вещи такими, какими они существуют в действи-
тельности?
Всякое восприятие начинается с движений; в нем
участвуют все органы — от кончика мизинца до кончика
25
языка, от глаза до ступни. Это работа, а не отдых для
ума и не развлечение. Когда ребенок играет, он работа-
ет — он знакомится с миром, он создает его образ. Неда-
ром психологи помещают творчество и игру на один
этаж. Играют, полностью сознавая, что это игра, только
взрослые, да и то не всегда. В движении руки, ощупыва-
ющей предмет, в движении глаза, обегающего контур,
в движении гортани, воспроизводящей звук, создается
копия, сопоставляемая с оригиналом. Сигналы о несов-
падении, поступая в мозг, корректируют работу мотор-
ных механизмов. Это, как принято говорить теперь, ти-
пичная обратная связь: восприятие приспосабливается
к объекту. Тут еще далеко до мышления словами; на-
звания предметов — пока еще только названия, понятия-
ми они станут позже.
Ребенок следует по пути, по которому шли все су-
щества. По-видимому, самым первым из органов чувств
развилось осязание; потом оно уступило свое первенство
зрению, умеющему исследовать предметы с безопасного
расстояния. Все мы, повторяя опыт далеких предков, на-
чинаем с ощупывания, с хватания, с сования в рот, а уж
потом в игру вступают глаза, уши, нос. Некоторое время
вся эта компания играет на равных, но глаза быстро на-
чинают верховодить. Роль эта принадлежит им по праву
еще и потому, что они ловчее и проворнее выполняют те
же самые задачи, которые до них выполняли руки и ноги.
Мы ощупываем предмет как бы в уме и соображаем, что
нашему пониманию доступны такие вещи, до которых
невозможно да и нет смысла тянуться рукой: солнце,
облака, гряда гор. Потом уж нам достаточно беглого
взгляда, чтобы догадаться, что перед нами.
Изощренность приходит, конечно, не сразу. Восприя-
тию нужно еще многому учиться, прежде чем его ориен-
тировочная, «ощупывающая» деятельность превратится
в мыслительную. Превращение происходит тогда, когда
мы научаемся манипулировать образами с такой же не-
принужденностью, как и обычными предметами. Теперь
мы приобретаем способность быстро переходить от непо-
средственно воспринимаемых свойств объектов к их
скрытым свойствам, к истинному знанию о вещах и к
творчеству в любой его форме. Так на чувственной осно-
ве вырабатываются первые навыки предметного модели-
рования действительности, навыки визуального мышле-
26
ния — создания зрительных форм, несущих смысловую
нагрузку.
Бывает, что эти навыки превращаются в болезненную
склонность, и человек оказывается во власти грез и гал-
люцинаций. Но бывает и так, что навыки эти не получа-
ют должного развития, и человек пытается мыслить
одной сухой логикой. И то и другое одинаково плохо.
Иногда человеку приходится нагонять то, что упущено
было в детстве. Немецкий психолог Макс Вертхаймер
месяца полтора специально упражнялся, развивая у себя
способность к визуализации пространственных образов,
и лишь после этого смог решить геометрическую задачу.
Решение пришло к нему только тогда, когда он смог про-
никнуть взглядом в структуру внутренних связей зада-
чи — увидеть эти связи как единое целое.
ГДЕ РОЖДАЕТСЯ МЫСЛЬ
Мы манипулируем образами, трансформируем их, ле-
пим из них видимый мир. Это строительный материал,
который мы черпаем в видимом поле, а поле является
нам после того, как нам удастся отстраниться от готовых
оценок увиденного. Конечно, материал этот может состо-
ять не только из форм, находящихся перед глазами, но
и из фрагментов, извлеченных из памяти. Ведь если у нас
есть уже какой-то опыт, заставить память замолчать
невозможно. Ассоциации начнут возникать у нас сами
собой, хотим мы этого или не хотим. И к чистым зритель-
ным образам будут неизбежно примешиваться образы из
других чувств, а главное, представления и понятия (кон-
цепты), выраженные в словах и логических связях. Вот
почему психологи иногда употребляют вместо термина
«видимое поле» термин «образно-концептуальная мо-
дель».
Психологи сравнивают трансформацию зрительного
образа с созданием картины. Теми же манипуляциями
ведь занят и художник, перебирая множество вариантов
замысла и вариантов внутри замысла, выдвигая на пер-
вый план то одного героя, то другого, перекраивая ком-
позицию, переиначивая колористические решения. Мо-
жет быть, художники, непосредственно наблюдающие
предмет и показывающие нам порой неожиданные сторо-
27
ны его образа, которые они увидели со столь же неожи-
данной точки зрения, работают только в видимом поле.
Может быть, и писатели, когда они отыскивают средства
выразительности и испытывают муки слова, тоже рабо-
тают в видимом поле. И ученые — тоже. Зинченко дума-
ет, что ученый испытывает эти муки не оттого, что ему не
хватает какой-то чисто рациональной, умозрительной
идеи, а оттого, что он не в силах визуализировать ее,
представить себе ее решение воочию. Отчасти он, по-ви-
димому, прав. Можно ли истолковать иначе известное
признание Менделеева: «Все в голове сложилось, а вы-
разить таблицей не могу» или слова Гаусса: «Я уже
знаю свои результаты, но еще не знаю, как к ним
прийти»?
Один и тот же объект может стать прототипом многих
чувственных образов. Ведь мы рассматриваем его с раз-
ных точек зрения, и всякий раз движения наших воспри-
нимающих органов складываются по-разному. Это
и придает нашим образам отпечаток пристрастности,
субъективности. Даже если бы Стрэттон и Эверт смотре-
ли на одни и те же предметы, они бы, исходя из разных
установок, а значит, и из разных двигательных задач, все
равно восприняли бы их неодинаково. Добавим к этому,
что у каждого из нас воспринимающие системы отлича-
ются друг от друга подобно голосам или походке. Как же
мы ухитряемся видеть в основном одно и то же и как
понимаем друг друга? К счастью, у образов есть такие
свойства, которые не зависят от точек зрения, и наше
восприятие умеет их извлекать. У нас может сколько
угодно меняться представление о каком-нибудь человеке,
но мы всегда будем знать, что это человек, а не пришелец
с иной планеты. Встречаясь с ним и присматриваясь
к нему, мы сумеем разобраться не только в особенностях
его внешности и манер, но и в чертах его характера, ума,
темперамента. То же сделает и другой, и хотя его пред-
ставление об этом человеке будет отличаться от нашего,
многое в них совпадет.
Разбираться во всем этом нам помогает система
врожденных мерок — чувственных (сенсорных) этало-
нов. У нас есть готовность к восприятию трехмерных
форм, есть оптимальный участок в спектре световых
волн, мы все более или менее одинаково различаем звуки
и запахи. Во всем этом благодаря профессиональной тре-
28
нировке мы можем достигнуть необычайной изощрен-
ности, но никогда не научимся, например, ориентиро-
ваться по поляризованному свету или улавливать запах
за десять километров, на что способны некоторые насе-
комые. У насекомых иная система сенсорных этало-
нов. Чувства наши достаточно гибки, но развиваться
и совершенствоваться они могут лишь в определенных
рамках. К врожденным эталонам добавляются и при-
обретенные, например фонетическая система родного
языка, и все вместе они служат нам для анализа окру-
жающего мира и для приведения в порядок чувственных
впечатлений.
На основе сенсорных эталонов мы вырабатываем
свои перцептивные эталоны — оперативные единицы
восприятия. Это наши внутренние инструменты познания,
элементы, из которых складывается стиль восприятия,
мышления, речи. По сравнению с сенсорными эталонами
они более индивидуальны, у каждого из нас они свои. Но
так как основа у них общая, чувственно-двигательная,
общего много и у них. Вот как описывает работу одной
из систем перцептивных эталонов американский психо-
лог Уильям Джемс.
Какого рода, спрашивает он, должно быть то душев-
ное состояние, которое мы переживаем, намереваясь
что-нибудь сказать? Это совершенно особенное состоя-
ние сознания, а между тем много ли входит в него пред-
метных или словесных образов? Почти никаких. Подо-
ждите чуть-чуть, и к вам явятся слова и образы, но то
состояние уже исчезнет: сознание уже поглощено выбо-
ром слов для выражения мысли. Это предварительное
состояние сознания может быть названо только намере-
нием сказать нечто. Добрых две трети душевной жизни
состоят именно из этих предварительных схем мыслей, не
облеченных в слова. Каким образом человек, читая вслух
незнакомую книгу, способен придавать своему чтению
правильную интонацию? Очевидно, читая первую фразу,
он уже получает смутное представление о форме второй
фразы, которое сливается с пониманием смысла первой.
Это-то и порождает нужную интонацию. Слияние форм
й смыслов определяется грамматической конструкцией.
Если мы читаем «не более», то ожидаем «чем», если чи-
таем «хотя», то знаем, что за этим последует «однако»,
«тем не менее», «все-таки». Это предчувствие приближа-
29
ющейся словесной или синтаксической схемы до
того безошибочно, что, даже если мы и не понимаем
в книге ничего, мы будем читать ее выразительно и
осмысленно.
Что же такое эти не облеченные в слова предвари-
тельные схемы мыслей или предчувствия граммати-
ческих конструкций? Это и есть оперативные единицы
восприятия, формы познавательных действий, уходящие
своими корнями в системы столь же привычных движе-
ний. Движения же эти, в свою очередь, связаны с об-
ластью мотивов, куда входит все — от осознанных задач
до смутных намерений и влечений, окрашивающих созна-
ние вечно колеблющимся узором тонов и оттенков.
«Мысль не последняя инстанция,— писал психолог
Л. С. Выготский,— Сама мысль рождается не из другой
мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, ко-
торая охватывает наши влечения и потребности, наши
интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За
мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только
она может дать ответ на последние «почему» в анализе
мышления». Стоит ли удивляться бесконечному разнооб-
разию мыслей и образов, возникающих у разных людей
по поводу одного и того же явления? На вкус и на цвет
товарища нет, потому что нет одинаковых мотивирую-
щих сфер.
Скажи мне, что ты видишь, и я скажу, кто ты. На
этом постулате основаны такие знаменитые психологи-
ческие тесты, как тест Роршаха. Экспериментатор демон-
стрирует вам чернильные кляксы причудливой формы
и спрашивает, что они вам напоминают. Он надеется, что
визуализация пятен, совершенная вами, откроет ему
стиль вашего мышления, ваши способы восприятия и ва-
шу мотивационную сферу. Иногда это ему удается,
а иногда нет, но, даже если и не удастся, вы можете и не
догадаться об этом: не только ведь чужая душа потемки,
но и своя.
Дж. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам, авторы кни-
ги «Планы и структура поведения», предлагают нам
иной способ добраться до последних «почему». Они вво-
дят в наш обиход два понятия, Образ и План, и пишут их
с большой буквы. Образ означает у них все накопленные
и приведенные в систему знания организма о мире и о
самом себе. Это близко к нашему понятию видимого ми-
30
ра или модели. План же это всякий систематизирован-
ный процесс, контролирующий тот порядок, в котором
совершаются наши действия. Если План осознается, он
становится частью Образа. Вместе с тем части Образа
входят в План. Приняв эту простую схему, нетрудно
представить себе, например, что такое намерение.
Это невыполненная часть Плана, осуществление ко-
торого уже началось или насчет которого уже принято
решение.
Одни Планы включают в себя события, которые про-
изойдут через годы, другие рассчитаны на секунды. Ко-
нечно, события отдаленного будущего интересуют всех
по-разному. Один человек намечает только общую стра-
тегию своих Планов и потом приступает к их выполне-
нию; другой не приступит к делу, пока не разработает
и тактику — все детали Плана. Стиль планирования мо-
жет многое сказать о характере человека. Детализатор,
по-видимому, человек придирчивый и педант, хотя это
вовсе не означает, что всякий придира — детализатор.
У придиры может и не быть никаких Планов. С другой
стороны, тот же детализатор, склонный составлять и об-
думывать перечни всего, что он намерен сделать, чаще
всего обладает гибким мышлением. Он легко перестраи-
вает свои перечни, приводя их в соответствие с реальны-
ми возможностями. У стратега же, не склонного к разра-
ботке тактики, и Планы жесткие и мышление жесткое.
Жизнь кажется ему рядом причинно-следственных отно-
шений; для внесения поправок в План ему требуется
много времени; неожиданности выбивают его из колеи,
ковать железо, пока горячо, он не умеет. Зато он непре-
клонный человек. В зависимости от обстоятельств одно
и то же свойство характера может быть и недостатком
и достоинством.
Составлять перечни и разрабатывать тактику тоже
можно по-разному. Одни записывают свои Планы и под-
планы, другие держат их в голове. Одни их скрывают,
другие рассказывают первому встречному. Одни увере-
ны, что все задуманное будет выполнено, другие знают,
что из их затей ничего не выйдет, но гонят от себя эту
мысль. Одни расстраиваются, если выполнение Плана
идет не так, как хотелось бы, другие относятся к неуда-
чам философски, даже беспечно: не вышло — не надо.
Есть люди, строящие несколько независимых друг от
31
друга Планов. Это те, например, кто, живя на окраине,
совершает в день три поездки в центр города за покупка-
ми. Они вовсе не глупы — они так устроены. Всякий спо-
соб планирования отражает сложившуюся структуру
мышления и структуру личности. Все черты личности
можно выразить языком Планов. Можно, например, ска-
зать, что в стремлении верховодить отражается потреб-
ность приобщать к своим Планам других. А что такое
любовь к порядку, как не желание сохранить в непри-
косновенности тот Образ, который лег в основу Плана,
и сделать так, чтобы внимание не отвлекалось от выпол-
нения задуманного? В основе же этого желания, возмож-
но, лежит неуверенность в своей памяти или в себе.
МГНОВЕНИЯ ОКА
О мотивационной сфере можно рассуждать до беско-
нечности, но нам пора вернуться к образам с маленькой
буквы. Вспомним, как воспринимающие системы под-
страиваются к объекту, а механизм обратной связи регу-
лирует эту работу. В эти мгновения человек пытается со-
здать в своем сознании подобие объекта. Из подобия
нужно построить образ. А для этого необходимо прежде
всего сообразить, что находится перед взором и отражает-
ся на сетчатке. Можно ли понять, как человек опознает
объект, если все это происходит за тысячные доли секун-
ды? Но для психологов нет ничего невозможного. Воору-
жившись электронной аппаратурой, они сумели зафикси-
ровать каждое движение глаза и догадаться, что оно
означает. Весь процесс зрительного восприятия предстал
перед ними в мельчайших подробностях.
В течение некоторого времени сетчатка хранит все,
что на ней отразилось. Но это все, как правило, нам не
нужно. Что бы мы ни увидели, абсолютной новизны
в этом не будет. И воспринимающие системы начинают
всячески избавляться от лишней информации и отбирать
себе те полезные элементы, из которых можно построить
образ. Для этого и существуют оперативные единицы
восприятия, механизмы опознания, сличения, классифи-
кации.
Механизмы эти работают автоматически, независимо
от наших намерений и воли. Таков, например, гиппо-
32
ками — отдел так называемой лимбической системы моз-
га, сравнивающий поступающий извне сигнал со всеми
хранящимися в памяти образами, которые могут быть
похожи на этот сигнал. Другие механизмы занимаются
оценкой важности сигнала. Объект может быть совер-
шенно незнаком, но, если мозг решит, что он не интере-
сен, внимание на нем не сосредоточится, и он пройдет
мимо сознания. Однако мозг может решить, что объект
хоть и не нов, но важен, и тогда восприятие отнесется
к нему с подобающим вниманием. Все эти решения дик-
туются сферой мотивов и потребностей. Житель равнин-
ной Англии, которого раздражал швейцарский
ландшафт, разумеется, заметил все его неровности. Если
бы он их не заметил, они бы не раздражали его. Но он
постарался забыть их как можно скорее и преуспел
в этом. Несомненно также, что в своем раздражении он
не разглядел и половины тех подробностей, которые уви-
дел бы человек, неравнодушный к красоте природы
и менее консервативный в своей восприимчивости но-
визны.
Полная противоположность этому англичанину —
молодой Тагор, который не уставал находить новое
в ландшафте, знакомом ему с детства. Можно сказать,
что новизна заключена не во внешнем мире, а во внут-
реннем, в нас самих, в наших потребностях, заставляю-
щих наше восприятие каждый раз смотреть на вещи так,
словно их сущность неисчерпаема.
Из всего сказанного нетрудно заключить, что даже
такой, казалось бы, механический акт, как опознание, не
свободен от пристрастности. Мы видим не то, что нам
показывают, а то, что хотим увидеть. И запоминаем то,
что хотим запомнить. И забываем то, что хотим забыть.
Все наши механизмы восприятия с годами настраивают-
ся на то, что хочется нашему «Я», и оперативные едини-
цы восприятия тоже начинают служить нашему «Я».
Этому противится здравый смысл, не желающий, чтобы
мы коснели в раз и навсегда построенном видимом мире,
в оковах предвзятых мнений, чтобы мы растеряли све-
жесть мысли и находили удовольствие только в равнин-
ных ландшафтах. В ходе этого противоборства у нас
может выработаться несколько систем оперативных еди-
ниц, не совпадающих друг с другом. Само по себе это
неплохо: мы не торопимся со скороспелыми суждениями.
2 Формула открытия
33
узнаем истинную цену вещам, умеем смотреть на них
с разных точек зрения, понимаем, что никакое явление не
может быть только белым или только черным. Но если
противоречия начинают слишком раздирать нас, мы те-
ряем способность принимать решения и цепенеем
в бездействии. Все хорошо в меру. Жизнь требует, чтобы
мы видели то, что есть на самом деле, а не то, что нам
кажется. Сознательно или бессознательно мы отбрасыва-
ем варианты, не отвечающие истинному положению ве-
щей, преодолеваем возникающие при формировании об-
разов иллюзии, непрерывно подправляем строящийся ви-
димый мир. Иначе говоря, восприятие, даже на самых
своих начальных этапах, не имеет ничего общего со сле-
пым копированием действительности. Это настоящий
творческий процесс, в котором, как и во всяком творчест-
ве, присутствуют элементы фантазии и внезапных оза-
рений.
Как ни интересно само по себе видимое поле, одно
оно не может быть источником познания. Источником
служит взаимодействие видимого поля с нашей лич-
ностью, с эталонами восприятия и памяти. Видимое поле
входит в образ видимого мира, в нашу образно-концепту-
альную модель, а эталоны подвергаются воздействию но-
вых впечатлений. Мир и ум приспосабливаются друг
к другу. Наше восприятие подстраивается к объекту,
а объект, в свою очередь, подстраивается к восприятию.
Подобие объекта превращается в образ, принадлежащий
нашей личности.
Когда мы приспосабливаемся к объекту, обратная
связь направлена от образа к объекту. Когда же наш
мозг начинает сравнивать образы с эталонами, хранящи-
мися в памяти, обратная связь устремляется от задачи,
которую мы решаем, к образу. Эти потоки связей встре-
чаются в кратковременной памяти, где информация под-
вергается преобразованиям. Нейрофизиологи представ-
ляют себе этот процесс как циркуляцию нервных импуль-
сов, в ходе которой новые впечатления записываются
в долговременной памяти на языке молекулярных
перестроек. Психологи же, отвлекаясь от физической
природы процесса, говорят о превращениях информа-
ции, происходящих в условных блоках кратковремен-
ной памяти.
Сначала отражение объекта, или след, попадает
34
в блок сенсорной памяти. Пробыв там миллионные доли
секунды, след переходит в иконическую, то есть картин-
ную, память. Чтобы от наших манипуляций с образами
реальность не искажалась, мы должны иметь перед внут-
ренним взором стабильный контрольный образец. Таким
образцом, сохраняющим фотографическую точность,
и служит содержимое иконического блока, где след хра-
нится уже тысячную долю секунды.
Информация подвергается дальнейшей обработке
и попадает в блок опознания. Там начинается выделение
важных ее признаков, ее оценка и отбор, обусловленный
нашими задачами, установками и нашими оперативными
единицами восприятия. Все ненужное оставляется за
бортом. Часть информации должна получить форму, при-
годную для использования в речи или в других ответных
реакциях. Этим занимается блок формирования «мотор-
ных инструкций», адресованных блоку повторения, то
есть слуховой памяти. Но ведь от человека чаще всего не
требуется воспроизвести увиденное, а требуется только
узнать объект и оценить его. Информацией, не приняв-
шей словесную форму, занимается еще один блок —
блок-манипулятор. Чтобы сохранить ее для будущего, он
переводит ее с языка непосредственных зрительных впе-
чатлений на язык смысла. Само восприятие делает то,
что издавна считалось привилегией чистого мышления.
Сначала это было гипотезой. Чтобы проверить ее,
Зинченко провел такой опыт. Он взял группу испытуе-
мых, куда вошли операторы, знающие разные системы
счисления, владеющие навыками перекодирования. Испы-
туемым показывали по 18 двоичных цифр, причем время
показа было так мало, что обработать информацию
в слуховой памяти, то есть затвердить ее, было невоз-
можно. Тем не менее операторы очень хорошо воспроиз-
вели ее. Они успевали автоматически переводить цифры
из одной системы в другую и тем самым создавать из них
более компактные и удобные для запоминания группы.
Такого же успеха добились и художники. У них был свой
навык перекодирования: они видели нули как фон,
а единицы как фигуры, и это само собой уменьшало чис-
ло объектов запоминания.
Все это означало, что в восприятии есть еще и блок
смысловой обработки информации. У того, кто владеет
навыком перекодирования, он находится перед слуховой
35
памятью, а у того, кто не владеет, после нее. Иными сло-
вами, у опытного человека в слуховую память попадает
не исходная информация, данная в зрительной форме,
а только извлеченный из нее смысл. Исходная информа-
ция минует слуховую память, человек оценивает ситуа-
цию сразу, без расчлененного восприятия и постепенного
запоминания ее элементов. Вот почему, когда квалифи-
цированным шахматистам предъявляют на короткое вре-
мя сложные позиции и просят их воспроизвести, они не
могут вспомнить расположение фигур, но зато безоши-
бочно оценивают соотношение сил — смысл увиденного.
Когда мы будем обсуждать с вами, что такое интуиция,
вспомните об этих шахматистах.
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МЫСЛИ
Разобрались ли вы в блок-схеме? Поняли ли, как
формируется образная модель ситуации? Если не очень,
повторим самое главное. Информация попадает в эту мо-
дель из разных блоков зрительной и слуховой системы
в форме первичного, вторичного и «многоричного» ото-
бражения реальности. Это многоликое отображение на-
писано на разных языках, но первый из них — это язык
зрительного образа. Все объекты опознаются при на-
ибольшей активности зрительной системы, а механизм
речи, механизм затверживания, включается лишь к кон-
цу этого процесса. Только после того, как объект сличен
с эталоном, ум присваивает ему наименование. Работа
мышления начинается с образа.
Наблюдая за тем, как строится образ, Зинченко и его
сотрудники обратили внимание на особые движения глаз
с очень маленькой амплитудой. Глаза совершают их, ког-
да начинается сравнение образов с эталонами. В движе-
ниях этих явно отражалась динамика внутреннего взора,
стремящегося осмыслить информацию. Взор был дей-
ствительно внутренний: информация извлекалась не из
внешнего мира, а из следа, накопленного сетчаткой. Со-
вершая эти микродвижения, глаз ощупывает не реаль-
ные объекты, а их образы. Образ в отличие от своего
прототипа обладает большей гибкостью и податли-
востью, и внутренний взор манипулирует им весьма не-
36
принужденно, вычерпывая из него все необходимые све-
дения о прототипе.
Опыты были построены так, чтобы движения глаза
можно было зарегистрировать как в моменты сбора ин-
формации, так и в моменты кажущейся пассивности гла-
за. В это время испытуемые играли в любимую игру пси-
хологов — игру в «5» (подробнее о ней мы расскажем
потом). Выяснилось, что движения глаз проходят через
три фазы. Сначала глаз совершает движения большой
амплитуды. Это фаза знакомства с ситуацией, приспособ-
ления субъекта к объекту, формирования первого пред-
ставления о нем. Затем наступает вторая фаза. Глаз по-
долгу задерживается на объекте: он уже не ощупывает
его, а как бы задумывается о нем, отстраняясь от его
признаков. Недаром в это время зрачок то и дело расши-
ряется, отчего уменьшается его чувствительность. Глаз
совершает неопределенные, дрейфовые движения: идет
решение задачи во внутреннем плане, приспособле-
ние объекта к субъекту. Наконец третья фаза. С по-
мощью микродвижения восприятие манипулирует об-
разом, перестраивает его структуру в соответствии
с задачей.
Таков физический механизм решения умственной за-
дачи, условия которой даны в наглядной форме, а может
быть, и не только в наглядной. Представим себе, говорит
Зинченко, что чередование наших трех фаз — норма. Что
получится, если та или иная фаза выпадет из общего
цикла или будет выражена слабо? Если дело ограничит-
ся лишь фазой построения образа, который не будет как
следует визуализирован, то есть осмыслен, перед нами
признак тупости. Человек с таким изъяном слеп и глух
к очарованию переменчивости; его видимый мир постро-
ен раз и навсегда. Если же в восприятии преобладают
вторая и третья фазы, дело обстоит немногим лучше: у
человека нарушен контакт с реальностью. Явное преоб-
ладание микродвижений психологи наблюдали у шизоф-
реников и наркоманов, живущих в фантастическом мире.
У человека с нарушенной психикой эти микродвиже-
ния — норма и стиль поведения, а у человека с нормаль-
ной психикой — только фаза в процессе решения задач.
Но как же объяснить тогда работу воображения? Что
делает художник, когда к нему является «незримый рой
гостей»? Ведь манипулирует он этим «роем» с помощью
37
тех же микродвижений, и они, естественно, преобладают
над прочими. Да, это так, но художник отдает себе отчет
в том, что он делает, и не строит никаких иллюзий насчет
реальности «гостей». Включая фантастические образы
в произведение искусства, художник упорядочивает их
в такую систему, что восхищаешься порой не его фанта-
зией, а его мастерством и даже одним замыслом. Так
Пушкин назвал гениальным один только план Дантова
«Ада».
Отстранение от наглядной ситуации, которое начинает-
ся во второй фазе, необходимо для решения всякой ин-
теллектуальной задачи. Решение приходит не тогда, ког-
да все внимание сосредоточено на объекте, а во время
спокойного его созерцания как бы со стороны. Только
так за деревьями можно увидеть лес. Эксперимент под-
тверждает то, о чем говорили мы прежде: наши отстране-
ния и паузы, наши минуты «сладкого усыпления» запол-
нены работой мысли, операциями познания. Восприятие
интеллектуально по своей природе, так же как и зре-
ние— главный его инструмент. Зрение, говорит амери-
канский психолог Рудольф Арнхейм,— это основная сре-
да мысли, прототип мышления. Нет принципиальной
разницы между тем, что происходит, когда человек непо-
средственно смотрит на мир и когда он сидит с закрыты-
ми глазами и мыслит.
Несмотря на бытовавшее веками недоверие к воспри-
ятию и к показаниям чувств, умы наиболее проницатель-
ные догадывались о том, что мышление возникает не по-
сле восприятия, а вместе с ним. В диалоге «Тимей» Пла-
тон говорит, что глаз излучает поток света, отчего между
наблюдателем и предметом возникает мост, по которому
испускаемые предметом импульсы света направляются в
глаза, а оттуда в душу. Леонардо да Винчи спорит с теми
математиками, «которые утверждают, что глаз не обла-
дает духовной силой, распространяющейся из него».
Глаз, говорит он, движет человека в различные части ми-
ра, он государь математических наук; он измерил высоту
и величину светил, открыл стихии, дал возможность про-
рицать грядущее, породил архитектуру, перспективу
и живопись, изобрел мореплавание, открыл огонь.
Физиологи называют глаз частью мозга, вынесенной
на периферию. Часть мозга! Ведь это все равно что ска-
зать: зрение — часть мышления. Да так оно и есть. Как
38
замечает швейцарский психолог Жан Пиаже, все разви-
тие мыслительной деятельности связано с постепенно
возрастающим дальнодействием человека. Способность
чувствовать на расстоянии сделала человека независи-
мым от вещей. Человек научился исследовать вещи со
всех сторон, видеть дальше, чем позволяло непосредст-
венное ощупывание. В этом дальнодействии не только
залог безопасности, но и истоки размышления, отвлечен-
ного, теоретического видения, истоки предвосхищения,
предусмотрительности. Самое главное достижение чело-
веческого интеллекта называется словом, происходящим
от глагола «видеть»: ПРЕДВИДЕНИЕ.
Зрение — основная среда мысли, а мысль рождается
в восприятии. Арнхейм подкрепляет этот тезис неотрази-
мым аргументом. Все мы помним, как, готовя людей
к космическим полетам, врачи проверяли, что будет
с психикой при длительном сенсорном голодании, при
минимуме внешних впечатлений. Если бы восприятие бы-
ло всего лишь пассивным приемом информации, то мозг
бы не раздражался от перерывов в его работе, а был бы
рад отдохнуть. Не тут-то было! Когда человеку не остав-
ляли ничего, кроме стимулов, лишенных образности, кро-
ме рассеянного света и монотонного жужжания механиз-
мов, вся его умственная деятельность приходила в упа-
док. Человек пытался восполнить отсутствие внешних
образов воображаемыми, но этот «рой гостей» начинал
вести самостоятельную жизнь, становился неуправляе-
мым, превращался в галлюцинации. Без притока вне-
шних впечатлений и без реакций на них мозг нормально
работать не может.
Более всего мозг интересуется переменами в окружа-
ющей обстановке, пусть самыми незначительными, но пе-
ременами. В этом заложен глубокий смысл: сигналы
о переменах всегда несли информацию, необходимую
для выживания. Если нет перемен, люди перестают заме-
чать и то, что не меняется. Постоянные, примелькавшие-
ся стороны явлений чаще других ускользают от внима-
ния, а значит, и от понимания. Перемена это пища для
ума. Чтобы заметить, что говоришь прозой, полезно ино-
гда обратиться к стихам.
Глядя на мир, мы воспринимаем не просто вещи, но
типы вещей — понятия. Это и дает нам возможность
мыслить, а не реагировать на впечатления механически.
39
Самая первая наша реакция уже связана с выбором.’
Передавая в мозг сведения о цвете, глаз не посылает
сигнал о каждом из тысячи оттенков. Он ограничивает-
ся тремя основными цветами, а все прочие комбиниру-
ются из них. Видя во всех цветах сочетания немногих то-
нов, мы уже воспринимаем их как понятия. Это так же
врождено нам, как и элементы геометрии.
Той молниеносностью, с которой мы реагируем на
движение, даже очень слабое и удаленное от центра вни-
мания, мы обязаны специальным фоторецепторам сетчат-
ки, настроенным на то, чтобы выделять движение из непо-
движности. В том, что у сетчатки есть участки с хорошей
чувствительностью, а есть и с плохой, оказывается, нет
ничего дурного. Наоборот, благодаря этой неоднород-
ности внимание наше может фокусироваться на опреде-
ленных явлениях, оставляя в тени то, в чем нет пока нуж-
ды. Мы снова делаем выбор. Если бы все было иначе,
нам было бы гораздо труднее познавать мир.
СТО ОБЛИЧИЙ ЧЕРНОЙ КОШКИ
Образование понятия начинается с восприятия фор-
мы. На эту форму накладываются наши врожденные
и приобретенные в опыте геометрические эталоны, наши
оперативные мерки, и любой предмет воспринимается
лишь в той мере, в какой его можно подогнать под них.
Десятки вещей кажутся нам круглыми, хотя на самом
деле они только приближаются к кругу. Угол в 93° для
нас просто «неправильный», «плохой» прямой угол. Мы
удивляемся, когда нам говорят, что длинная планка это
прямоугольник, а не широкая линия. Наше восприятие
стремится к упрощению и обобщению форм, к их органи-
зации в легко опознаваемые структуры. Поэтому-то
художники в опытах Зинченко объединяли единицы и
нули в структуры, состоящие из фигуры и фона — взаимо-
связанных понятий.
Тяга к упорядоченности проявляется уже в сетчатке.
Она пронизывает все мышление, служит средством реше-
ния многих задач, задает тон в искусстве и науке.
В одной из статей о морфологии животных Гёте говорит:
«Когда мы рассматриваем предметы природы, особенно
40
живые, так, чтобы уразуметь взаимосвязь их сущности
и деятельности, то нам кажется, что мы лучше всего до-
стигнем такого познания путем разъединения частей;
и действительно, этот путь может вести нас очень дале-
ко... Однако эти разделяющие усилия... имеют и свои
недостатки. Живое разложено на элементы, но вновь со-
ставить его из них и оживить уже невозможно... Вот по-
чему у людей науки во все времена обнаруживалось
влечение познавать живые образования как таковые,
схватывать видимые, осязаемые части в их взаимо-
связи... и таким образом путем созерцания овладевать
целым. В какой мере эта научная потребность находит-
ся в родстве с художественным и подражательным
влечением, и говорить нечего».
Отвечая на вопрос, как можно было бы в двух словах
выразить нынешнее умонастроение ученых, один извест-
ный физиолог, не задумываясь, воскликнул: «Тоска по
синтезу!» За этими словами чувствовалась жизнен-
ная потребность, инстинктивное стремление организо-
вать все, с чем сталкивается наш ум, в единые струк-
туры.
В этом стремлении восприятие достигает удивитель-
ной изощренности и догадливости. Как нам удается без
труда дополнять видимую часть предмета до целого
и воспринимать, например, коробку, заслоненную цве-
точным горшком, как куб? Восприятие не ограничивает-
ся данным чувственным материалом, но с такой же легко-
стью оперирует невидимыми продолжениями предметов.
И мы вовсе не дополняем видимый фрагмент знаниями
о невидимом: тот же цветочный горшок виден как
объемный предмет. Ощущение его округленности
возникает в ходе самого восприятия как интуитивное
ощущение, а не как результат логического рас-
суждения.
Обычно у нас перед глазами несколько предметов,
и мы сосредоточиваемся на одном, воспринимая формы
остальных лишь частично. А можно ли эти предметы
организовать так, чтобы в их расположении угадывался
сразу определенный порядок, и можно ли придать этому
порядку особый смысл? Именно этим и озабочен живопи-
сец, располагающий предметы, цвета, линии так, чтобы
мы увидели в его картине нечто большее, чем то, что на-
писано на сопровождающем ее ярлыке. Когда, глядя на
41
картину, мы говорим, что-она внушает радость, успокое-
ние или тревогу, мы в известной мере отвлекаемся
от тех предметов, которые на ней изображены, и угады-
ваем в ней какой-то общий смысл, определяемый
всей ее структурой. Как нам удалось совершить этот
важный мыслительный акт, называемый абстрагирова-
нием?
Поразмыслим над нашими жестами, этими предшест-
венниками рисунка. Изображая какой-нибудь предмет,
событие или эмоциональное состояние жестом, мы берем
одно только свойство — большую или маленькую величи-
ну, четкость или неопределенность очертаний. Жест вы-
деляет самое главное, остальное легко дорисовывает
наше воображение. Передаваемая жестом огромность мо-
жет относиться к пойманной вчера рыбе, полученной по-
сылке, предстоящей работе. Жестами можно передать,
как толкают, преодолевают препятствия, вязнут, сталки-
ваются. Но жесты не обозначают тех предметов, с кото-
рыми это происходит. Столкновение автомобилей изобра-
жается как столкновение вообще. Одним и тем же
жестом кулака можно изобразить крепость постройки
и угрозу. Жест сродни метафоре — одному из самых
употребительных приемов искусства. Отчего мы столь
успешно изъясняемся жестами, а наш язык полон мета-
фор? Очевидно, и те и другие коренятся в инстинктивно
признаваемом нами сходстве между физическими
и нефизическими явлениями, огромной рыбой, например,
и огромной радостью.
Однако поиски сходства могут завести нас слишком
далеко, если мы забудем о том, что, кроме сходства, су-
ществует и разница, что все явления жизни отличаются
своей неповторимостью. Об этом напоминает нам в своем
фельетоне «Кто мыслит абстрактно?» величайший
мастер абстракции Гегель. В фельетоне описана такая
бытовая сценка: «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми
яйцами! — говорит покупательница торговке.— Что? —
кричит та.— Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне
смеешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего
ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с француза-
ми крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне! Ишь,
целую простыню на платок извела! Знаем небось, откуда
все эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щего-
лять тебе в нарядах! Порядочные-то за своим домом сле-
42
дят, а таким самое место в каталажке! Дырки бы на чул-
ках заштопала!» Эта торговка, говорит Гегель, «и крупи-
цы доброго в обидчице не замечает. Она мыслит абстрак-
тно и все — от шляпки до чулок, с головы до пят, вкупе
с папашей и остальной родней — подводит исключитель-
но под то преступление, что та нашла ее яйца тухлыми.
Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц, тогда как
те офицеры, которых она упоминала,— если они, конеч-
но, и впрямь имеют сюда какое-нибудь отношение, что
весьма сомнительно,— наверняка заметили в этой жен-
щине совсем иные детали».
Абстрактное само по себе ни хорошо, ни плохо.
С одинаковой легкостью оно может выражать и ум
и глупость. В одном случае оно оказывается могущест-
венным средством анализа, в другом — непроницаемой
ширмой, загораживающей действительность. В одном
случае это форма понимания вещей, в другом — средство
порабощения интеллекта. И эту двойственную природу
абстрактного надо всегда иметь в виду, чтобы не попасть
в ловушку, которую расставляет нам собственная мысль.
В этом смысл гегелевского фельетона.
«Абстрактной истины нет, истина всегда конкрет-
на»,— учат нас философы. То, что мы принимаем за аб-
стракцию, часто вполне конкретно, только лишено на-
глядности. Это просто обобщение — результат сортиров-
ки и классификации, которыми занимается ум независимо
от нашего желания. Философ Локк объяснял этот про-
цесс так. Органы чувств сначала впускают частные поня-
тия в пустовавшую до тех пор комнату сознания. После
этого ум, хозяин комнаты, намеревается получить пред-
ставление об этих частностях. Но перебирать их друг за
другом нелепо. Нужна система. И ум начинает раскла-
дывать предметы по сортам. Добыв сведения об одном
предмете, ум распространяет свое суждение на весь
сорт.
Какими же признаками руководствуется ум, присту-
пая к сортировке? На чем основана система? Локк умал-
чивает об этом. Все явления имеют между собой что-ни-
будь общее. Если бы любой общий признак заставлял
нас группировать вещи в одно понятие, мы жили бы сре-
ди бесконечного количества групп, и в каждую из этих
групп входила бы каждая вещь. Обыкновенная кошка
могла бы войти в группу явлений органического мира,
43
в группу животных, млекопитающих, черных предметов,
пушистых предметов, предметов искусства, предметов
суеверия, предметов поклонения у египтян, в группу пер-
сонажей снов, в группы потребителей молока, мяса, мы-
шей, кислорода, в группу любителей разгуливать по кры-
шам — и так до бесконечности. Что дало бы уму подоб-
ное обобщение?
Очевидно, дело происходит иначе. Но как? Что с чем
мы сравниваем? Считаем ли мы сначала сходные черты?
Никто не помнит себя за таким занятием. Чаще всего мы
создаем группу на основе одной черты. Например, горю-
чий — негорючий, все остальное не имеет значения. Ос-
тается предположить, что, приступая к исследованию, мы
уже заранее знаем, что искать, и обладаем признаками
для отбора. Откуда же мы это знаем и где берем эти
признаки? Ведь они — тоже абстракция.
МУЗЫКА СФЕР
Получается порочный круг: чтобы обобщать, нужно
сначала абстрагировать, а чтобы уметь абстрагировать,
нужно уметь обобщать. Такой же порочный круг откры-
ли еще греческие философы. Они спрашивали себя: «Как
мы можем искать то, чего не знаем, а если мы знаем, что
ищем, то что же нам искать?» Оба эти круга были разо-
рваны в конце XIX века философами-эволюционистами.
Мы всегда знаем, что ищем, говорили они. Даже когда
не знаем, что именно. Знаем потому, что восприятие на-
ше в ходе эволюции развилось так, чтобы инстинктивно
отличать все необходимое для выживания в этом мире.
У нас есть и врожденные критерии сортировки: мы ищем
не частные случаи, а виды и свойства вещей. Умом пра-
вит цель, организуя наши поиски в определенную
систему.
Никогда мы не накапливаем постепенно сведения
о частностях, ожидая, что они в один прекрасный момент
сольются в понятие о группе. Стремление к ясности
и упорядоченности побуждает нас любую новую ситуа-
цию перестроить так, чтобы ее значение стало для нас
видимым, превратить «плохую» структуру в «хорошую».
Наградой за такую работу служит понятие, освобожден-
ное от ненужных частностей, абстракция, которую можно
44
определить как меньшую величину, обладающую всеми
достоинствами большей.
Когда младенец останавливает свой взгляд на погре-
мушке, он одинаково отчетливо видит и ее, и держащую
ее руку, и стенку кроватки. Но все, кроме погремушки,—
для него ничего не значащий фон, подробности, которых
можно не принимать в расчет. Вот первый опыт абстра-
гирования — выделение из видимого поля элемента, необ-
ходимого для потребностей младенца, первое упражне-
ние для оперативных единиц восприятия, предназначен-
ных для подобного абстрагирования.
Но, подобно тому как замечание о тухлых яйцах не
дает торговке права судить о покупательнице, одна по-
гремушка не дает оснований судить обо всех погремуш-
ках. Образец — не более чем образец. Настоящая абст-
ракция — это символ, в котором сконцентрировано неви-
димое значение. Арнхейм говорит, что потерянные часы
не абстрактны для их владельца. Но стенд с покорежен-
ными часами в маленьком музее в Нагасаки — абстрак-
ция такой силы, от которой захватывает дух. В один из
августовских дней 1945 года все часы в этом городе оста-
новились на 11.02, и этот внезапный конец времени, вы-
раженный столь наглядно, производит более сильное
впечатление, чем самые страшные фотографии, выстав-
ленные в том же музее. За атомной катастрофой уже ни-
чего не будет — вот что хотели сказать и сказали устрои-
тели музея. Отвлекшись от частностей, известных из дру-
гих, «не окончательных» катастроф, они нашли символ
для выражения полного конца.
Выискивание общей черты у группы сходных предме-
тов — неплодотворное занятие. Эта черта может и не вы-
ражать их сущности, может оказаться неподходящей для
глубокого обобщения. Вместе с тем явление единичное,
каковым был день трагедии Нагасаки, способно привести
к такому обобщению. Дело не в количестве предметов,
подлежащих исследованию, и не в сортировке их призна-
ков, а в том, чтобы предметы предстали перед нами как
целое и чтобы одни их признаки заняли ключевые пози-
ции, а другие воспринимались как случайные. Что счи-
тать ключевым, а что случайным, будет зависеть от зада-
чи, которую поставит перед умом цель. Можно опреде-
лить человека как двуногое существо без оперения, и это
будет верно. Но можно определить его и как существо,
45
способное к творческому мышлению, и это тоже будет
верно. Но что вернее? Вернее всегда то, в чем более сущ-
ности, в том определении и в той абстракции, которую
можно развернуть в картину, более широкую, чем само
понятие.
Часто экспериментаторы дают своим испытуемым
списки признаков, по которым те должны воссоздать
картину личности. И оказывается, что такие, например,
определения, как вежливый и грубый, мало дают пищи
уму, а такие, как теплый и холодный, вызывают целый
поток ассоциаций. Если мы знаем, что такой-то человек
холоден, мы легко представляем себе, как он поведет се-
бя в тех или иных обстоятельствах. Так из общего рож-
дается частное. Увидеть такое общее сразу, не перебирая
остальных черт, значит составить верное суждение
о предмете. Мы можем, конечно, не заметить, что человек
холоден, даже съев с ним пуд соли, и назвать в качестве
главной его черты расторопность или математическую
жилку. Это будет означать, что мы плохо разбираемся
в людях или что люди нас мало интересуют. Мы дадим
повод кому-нибудь составить суждение и о нас, в данном
случае нелестное. Но и это суждение может оказаться
поспешным. Не так-то просто разобраться в человеке да
и в любом явлении. Ключевые черты не всегда лежат на
поверхности, часто они умело замаскированы второсте-
пенными. Позже мы увидим, что при определенных об-
стоятельствах ключевой чертой может стать второстепен-
ная и наоборот. «Хорошая» структура не всегда видна
сразу, и мысль, чтобы познать предмет, вынуждена
пускаться на разные ухищрения.
Сталкиваясь с какой-нибудь вещью, мы в большинст-
ве случаев сначала опознаем ее «среднеобщее» содержа-
ние, а уж потом направляемся к частному и «наиобще-
му». Труднее всего различить индивидуальность; нужно
обладать виртуозной наблюдательностью и опытом, что-
бы вытащить из сходного неприметную черточку разли-
чия. Нетрудно сообразить, что и воробей и овсянка
принадлежат к какой-то общности, еще легче просто от-
личить воробья от овсянки, но попробуйте отличить
воробья от воробья! Способность улавливать индивиду-
альное вырастает из умения созерцать и из искрен-
него интереса к миру, из чувства особой близости
к нему.
46
В познании мира, говорил физиолог Клод Бернар,
инициатива всегда принадлежит чувству. Из чувства
и рождается интуиция.
Посмотрим, как развивалось представление о пред-
мете, занимавшем умы с древних времен,— об устройст-
ве мира. Формы, с которыми сталкивался человек, всту-
пали во взаимодействие с эталонами, которые вырабаты-
вались в восприятии в ответ на житейский опыт. Сначала
человек представил себе самую понятную форму —
плоскость, ограниченную окружностью горизонта. Над
плоскостью возвышалась полусфера, усыпанная звезда-
ми, а вокруг плоскости было кольцо океана. Этот за-
мкнутый мир был прост, как детский рисунок.
Постепенно человек стал замечать, что корабль, уда-
ляющийся от берега, скрывается за горизонтом, что во
время лунного затмения Земля отбрасывает на Луну
круглую тень и что при переезде в другую страну видны
новые созвездия. Плоскую модель пора было заменять
сферической. Но не так-то просто было выйти за пределы
непосредственного восприятия и дать волю воображе-
нию. Анаксимандр пошел на компромисс. Земля у него
получила форму'цилиндра, глубина которого втрое мень-
ше его ширины. Она была похожа на колонку, люди хо-
дили по одной из ее плоских поверхностей. Небеса распа-
лись на несколько концентрических оболочек, каждая
несла по планете, а к последней были прикреплены
звезды.
Первые космогонические модели пронизаны антропо-
морфизмом: человек уподобляет отношения высших сил
своим отношениям. В греческих мифах Земля и Небо
вступают в брак. У Аристотеля небесные тела движутся
под действием своих внутренних сил и движутся по
окружностям, так как окружность — простейшая естест-
венная форма, соответствующая округлости самих тел.
Человеческий разум всегда был убежден в том, что про-
стейшие с точки зрения восприятия формы являются
и основными. Эта убежденность крайне неохотно сдава-
ла свои позиции. Именно поэтому Галилей отказался
признать открытие Кеплера, заявившего, что планеты
движутся по эллипсам, а Солнце находится в одном из
фокусов этих эллипсов. У Галилея Солнце находилось
в центре системы идеальных окружностей. Борьба за на-
учную истину велась между точным наблюдением
' 47
и стремлением к простой геометрии, то есть в области
восприятия.
Восприятие всегда стремится отыскать простейшую
композицию, подсказанную первыми впечатлениями от
объекта. Оно инстинктивно ищет «хорошую» структуру и с
трудом выходит за рамки непосредственного зрительного
опыта. Оно мыслит, но мыслит консервативно. Это пер-
вый инструмент познания, но инструмент противоречи-
вый, как и все на свете. Без эталонов мыслить нельзя, но
нельзя и мыслить одними эталонами. Геометрия Лобачев-
ского, говорил математик Анри Пуанкаре, показывает
нам, на что способен человеческий ум, когда он освобож-
дается от тирании внешнего мира. Однако от этой тира-
нии освобождаться не так-то легко.
Веками люди использовали простейший образ сферы
для описания самых разнообразных явлений. Философ
Фома Аквинский сравнивал всеобъемлющего бога с по-
верхностью шара, а человека — с точкой в центре шара.
Насчет взаимоотношений между этой поверхностью
и точкой спорили до XVII века, переходя то от теологии
к космологии, то от космологии к теологии. Тот же Кеп-
лер помещал бога-отца в центр сферы, бога-сына — на
наружную поверхность, а дух святой заключал в равен-
стве отношений между точкой и поверхностью. В полном
согласии с этой «моделью» все движущие силы планет-
ной системы были у Кеплера сконцентрированы в энер-
гии Солнца и проистекали из нее. Все эти рассуждения
были не чем иным, как визуализацией образов, попыткой
представить себе невидимое и усовершенствовать свои
эталоны. Со сферой мы не расстаемся ни в науке, ни
в быту. Сферой обозначают все, что имеет неопределен-
ную форму, разные формы или совсем не имеет формы.
Посмотрите вокруг себя, и вы увидите множество сфер
и кругов — монеты, значки, часы, пепельницы, блюдца,
люстры, купола, фонари, дорожные знаки, кастрюли,
сковородки.
Психологи считают, что все это неспроста, и старают-
ся докопаться до физической основы этого стремления
к простейшим формам. Они видят в нем проявление од-
ного из самых фундаментальных законов природы, кото-
рый повсюду требует равновесия, упорядоченности, на-
именьшей напряженности. Это знаменитый второй закон
термодинамики — первоисточник всех космологий, атом-
48
ных моделей, принципов архитектуры, того предпочте-
ния, которое мы отдаем «хорошей» структуре перед «пло-
хой», и относительного единодушия в оценке этих
структур.
Но мир, в котором мы ищем устойчивость, динамичен.
Об этом задумывался Гёте, подыскивая название-едино-
му целому и сетуя на то, что слово «гештальт», употреб-
ляемое немцами для обозначения такого целого, вызыва-
ет представление о чем-то закрепившемся окончательно.
Когда мы с вами будем знакомиться с идеями гештальт-
психологии и рассуждать о гештальтах, мы не должны
забывать об этой мысли Гёте. Наши модели, структуры,
образы и устойчивы и динамичны одновременно. Ведь
они передают не столько соотношение форм, сколько со-
отношение сил. Но силы наглядно не представишь, и
модели из-за этого всегда неполны. Они рассчитаны
на то, чтобы вызвать ощущение этих сил в нашем вос-
приятии.
Но может ли восприятие представить себе такую абст-
ракцию, как, например, взаимодействие, или такие про-
тиворечивые понятия, как множественность в единстве,
устойчивость в динамике? Ведь наглядный образ может
за один раз нести только одну нагрузку.
Вот почему неизменное восхищение у историков на-
уки вызывает способность Фарадея видеть силовые ли-
нии, пронизывающие пространство, там, где математики
видели только силовые центры. Таким же воображением
обладал и Нильс Бор, который видел атом и мыслил фи-
зическими образами там, где другие видели одни форму-
лы. О Пауле Эренфесте говорили, что для него физика
была не столько точной наукой, сколько драмой из жиз-
ни атомов и электронов. Но однажды ему не удалось
увидеть такой драмы, и он решил, что ее не существует.
Он обучил своего попугая фразе: «Но, господа, это. уже
не физика!» — и собирался выдвинуть его в председате-
ли на дискуссиях о квантовой механике... Бор рассказы-
вал, как Эйнштейн в 1920 году серьезно допрашивал его:
«Скажите, что же такое свет?» Бор не знал, что такое
свет, и ответил: «Обратитесь к немецкому правительству,
и пусть оно либо издаст постановление, что свет — это
волна, и запретит пользоваться фотоэлементами, либо
прикажет считать, что свет это частица, но тогда запре-
тит пользоваться дифракционными решетками». Нет,
49
нелегко представлять себе вещи в двух противополож-
ных формах; есть, очевидно, вещи, про которые можно
только знать.
ПРОИСШЕСТВИЕ В ГЕТТИНГЕНЕ
А можем ли мы представить себе бесконечность? Арн-
хейм утверждает, что мы испытываем безотчетный страх
перед ней, и ссылается на Гаусса, который протестовал
против применения бесконечных величин в математике.
Нам же кажется, что этот страх давно преодолен. Да
и был ли он? Греческие атомисты считали Вселенную од-
нородной и бесконечной. Выдающийся мыслитель XV ве-
ка Николай Кузанский говорил, что центр может быть
везде. В XVIII веке Кант доказывал, что солнечная
система — часть галактики, а пространство заполнено
другими такими же галактиками: «Конца нет, а есть
неизмеримая бездна...»
Космология Канта потребовала от восприятия реши-
тельной перестройки. Чтобы представить себе, как со-
лнечная система вплетена в Млечный Путь, и понять, что
туманность Андромеды — такая же галактика, нужно
было недюжинное воображение. Но воображению было
на что опираться. Центра действительно нет, но он был
когда-то: гигантская плотность послужила точкой для
распространения Вселенной. Старинный образ излучения
энергии из центра остался. Сегодня физики без труда
объясняют нам свою идею расширяющейся Вселенной.
Они сравнивают ее с воздушным шаром, на поверхность
которого нанесли точки, а потом стали надувать его до
бесконечных размеров. Из этого сравнения, опирающего-
ся на привычные простые формы, нам легко представить
себе, что мы не находимся в центре Вселенной, хотя
и видим, как удаляются от нас все галактики. Какую точ-
ку на шаре ни выберешь, все остальные будут удаляться
от нее. Центр был в одном месте, а теперь он везде
и нигде. Николай Кузанский мог бы узнать здесь свои
мысли.
Нет, бесконечность нас давно не смущает. Напротив,
когда нам пытаются доказать, что Вселенная конечна,
мы протестуем: этого не может быть, потому что этого
невозможно себе представить! Существуют вещи, кото-
50
рые мы представляем себе, но не понимаем их; существу-
ют также вещи, которых мы не понимаем, но знаем их —
понимаем частично. Это великие произведения искусст-
ва, в которых мы всякий раз обнаруживаем что-нибудь
новое. Соприкасаясь с ними, мы не заботимся ни
о наглядных представлениях, ни о понимании. Мы по-
гружаемся в них, а они в нас, вот и все.
Но мы говорим о научных истинах и о научном мыш-
лении, стремящемся все себе представить и все понять.
Образ, который складывается в мозгу ученого, должен
соответствовать действительному положению вещей, а не
вымышленному. Но как трудно создать такой образ, как
трудно отделить реальность от вымысла и побороть ил-
люзию, возникающую при визуализации образа!
Вот, например, какая забавная история приключи-
лась однажды в славном университетском городе Геттин-
гене.
Собрался в Геттингене международный конгресс пси-
хологов. И ничем бы этот конгресс не отличался от всех
прочих, если бы не одно маленькое происшествие. Пред-
ставьте себе старинную университетскую аудиторию. По-
лукружия амфитеатра сходятся к кафедре, как ребра
к грудной клетке. Стрельчатые окна. Очередной доклад-
чик рассказывает об очередных пытках, которым он под-
вергал своих испытуемых. Амфитеатр клюет носом
в предвкушении запланированных на вечер развлечений.
Конгресс как конгресс.
Внезапно в коридоре раздается шум, топот, дверь
распахивается, в аудиторию влетает человек в одежде
клоуна, за ним — негр с пистолетом, негр гонится за кло-
уном, тот мчится по аудитории, негр настигает его, ко-
роткая борьба, выстрел, клоун вырывается и устрем-
ляется к Двери, негр — за ним, затихающий топот в кори-
доре, тишина.
Остолбеневшие делегаты приходят в себя и с недо-
умением озираются вокруг, как бы спрашивая друг дру-
га, не сон ли это был.
Молчание прерывает председатель.
— Господа! — говорит он.— Прошу прощения за ма-
ленький спектакль. Вместе с моими коллегами, исследу-
ющими память, и при любезном содействии университет-
ской администрации мы решили превратить в испытуемых
вас. Клоун и негр — здешние студенты. Я прошу вас
51
взять бумагу и описать все, что вы только что увидели.
Как вы изволили заметить, условия эксперимента были
самые благоприятные. Сценка длилась двадцать се-
кунд — достаточно, чтобы заметить все, и не слишком
долго, чтобы что-нибудь позабыть. Схватка происходила
в центре зала — все было видно. Ситуация более чем эф-
фектная: клоун, негр, погоня... Испытуемые, то есть вы,
искушены в наблюдениях и в отчетах. Когда отчеты бу-
дут готовы, мы сверим их с действительностью: спек-
такль был тщательно отрепетирован и снят на пленку. За
дело, господа!
Перья заскрипели. Через час на стол председателя
легло сорок отчетов о происшествии. Для их анализа об-
щим голосованием была избрана беспристрастная ко-
миссия, которой поручили доложить о результатах
необычного эксперимента.
На другой день делегаты испытали еще большее по-
трясение. Из сорока описаний только одно содержало
менее 20% ошибок. В 14 описаниях доля ошибок колеба-
лась между 20 и 40%, в 12 — между 40 и 50%, а в 13 опи-
саниях ошибок было более 50%. В десяти описаниях
10% деталей было сплошным вымыслом: кому-то показа-
лось, что негр стрелял дважды, кому-то — что клоун
истекал кровью, а кому-то даже, что клоун преследовал
негра.
Этот маленький инцидент показывает нам, как нена-
дежна человеческая память и какую шутку она может
сыграть с формирующимся представлением. Без отстра-
нения от объекта невозможно осознать его, но осознание
неизбежно связано с трансформациями образа. Транс-
формации же — палка о двух концах. С одной стороны,
они закрепляют воспринятое в нашем сознании, с дру-
гой — искажают его. Об этом, кстати, во все века знали
служители правосудия, имевшие дело с показаниями
очевидцев, которые несли всякий вздор без какого-либо
злого умысла.
Но неужели нельзя составить о чем-нибудь ясное
и безошибочное представление и сохранить его в непри-
косновенности? В простом случае, конечно, можно. Се-
годня вы говорили по телефону с приятелем. О чем? Тему
вы оба безошибочно назовете. Это и есть «простой слу-
чай». Дальше начинаются сложности. Попробуйте
вспомнить, сколько минут длился разговор, и воспроиз-
52
ведите его в точности. Тщетно! Ах, вы и не собирались
ничего запоминать? В этом-то и дело!
Но одного намерения запомнить мало. Само по себе
оно годится тоже для простых вещей, вроде заучивания
текста или выработки какого-нибудь навыка. Если же вы
хотите запечатлеть в своей памяти картину художника,
диалог, сценку, выражение лиц, игру интонаций, вам
придется напрячь все свое внимание, чтобы от него не
ускользнули никакие детали. И все равно что-нибудь да
ускользнет, а что-нибудь смешается с вымыслом. Наблю-
дательность вырабатывается долгой тренировкой.
Стараясь запомнить деталь, вы концентрируете на
ней внимание. Тем временем другие детали и ускольза-
ют. Механизм повторения про себя играет предатель-
скую роль: твердя одно, вы заглушаете другое. А без
повторения вы рискуете остаться лишь с общим впечатле-
нием. Впрочем, это тоже немало; перефразируя Джемса,
можно сказать, что две трети нашей душевной жизни со-
стоят из общих впечатлений, а детали мы берем из наше-
го воображения, не ошибаясь в выборе только потому,
что воспринимаемое в основном состоит из сходных черт.
Не так уж часто в нашу жизнь врываются преследуемые
неграми клоуны, а если ворвутся, мы, хоть и с грехом
пополам, различим и клоунов и негров.
Но кто за кем гнался, кто в кого стрелял и стрелял
ли? Погодите, дайте подумать. Ага, первым вбежал кло-
ун. Как он был одет? Ну как.. Обыкновенно. На голове
колпак... Не было колпака? Как не было? Да я видел его
собственными глазами!
Начинается! Память подсовывает нам знакомый
с детства облик клоуна со всеми его клоунскими атрибу-
тами — со сваливающимися штанами, с набеленными
щеками, с колпаком. Мы дорисовываем и домысливаем
образ, не подозревая об этом.
Где четкая граница между восприятием и осмысли-
ванием, между запоминанием и воспроизведением? Ее
ведь нет, как нет и границы между прошлым и будущим.
Настоящее исчезает прежде, чем вы подумаете о нем,
и превращается в прошлое, как уже превратилась в про-
шлое вот эта только что прочитанная вами фраза. Любой
элемент воспринимаемого образа тотчас становится до-
стоянием прошедшего. Каким бы мгновенным ни было
наше восприятие, оно уже воспоминание. А раз так, оно
53
во власти памяти со всеми ее эталонами, опытом и фан-
тазией.
Вот отчего мы не в состоянии воспроизвести увиден-
ное с фотографической точностью. Мало того, что, вос-
принимая объект, мы не фиксируем все без исключения.
Осмысливая увиденное, мы десятки раз делаем выбор.
Строго говоря, мы вообще ничего не воспроизводим, мы
только реконструируем, внося в эту реконструкцию все,
на чем успело задержаться внимание, что успели повто-
рить мысленный взор и внутренняя речь, и дополняя их
упущения материалом воображения. И чем дальше мы
уходим от события, которое пытаемся вспомнить, тем
больше искажений в нашей реконструкции. То, что нам
когда-то казалось значительным, кажется теперь вто-
ростепенным. Изменился наш взгляд на мир, наши вкусы
и пристрастия, наши интересы. Десятки новых слоев ви-
димого мира напластовались над первоначальным впе-
чатлением; его уж и не видно под ними, а что еще можно
разглядеть, то видится совсем иначе, чем тогда. На образ
минувшего отбрасывают тень последующие образы; но-
вый привкус придает ему и то состояние, в котором мы
совершаем реконструкцию, и те задачи, которые мы ста-
вим перед собой, обращаясь к прошлому.
Когда мы с вами познакомимся с тем, что рассказы-
вают ученые о путях, приведших их к открытиям, и срав-
ним их воспоминания с документальными свидетельства-
ми, мы увидим вопиющие противоречия и искажения,
продиктованные самыми лучшими побуждениями. Что
там очевидцы! Сами участники событий часто не в со-
стоянии рассказать, как было дело.
Рассказать — ведь это значит перевести на язык слов
то, что думалось и делалось совсем на другом иногда
языке. Да и слова часто для одного означают одно, а для
другого другое.
ЗАКОЛДОВАННЫЕ ПОНЯТИЯ
Есть слова, которые мы употребляем так часто и в
таком различном смысле, что нелегко бывает определить,
что мы под ними подразумеваем. Обычно мы редко заду-
мываемся над значением отдельного слова. Нам важен
54
смысл сказанного, а он рождается из сочетаний слов, из
конструкций фраз, из интонации. Слово само по себе за-
интересовывает нас, когда оно нам незнакомо, когда мы
чувствуем, что ему придается особое значение, или когда
мы сами подыскиваем его, чтобы уточнить свою мысль.
«Как жизнь?» — спрашивает нас приятель, и мы отвеча-
ем: «Все в порядке». Но разве мы оба при этом думаем
о жизни? А что такое жизнь? Один поэт говорит нам, что
это «пустая и глупая шутка», другой — что она «прекрас-
на и удивительна». Мы соглашаемся то с тем, то с дру-
гим, но понимаем, что они выражают свое настроение,
а не ищут определений. Определениями занимаются уче-
ные. Лет десять назад ученые решили дать определение
жизни. В ходе страстной дискуссии было предложено де-
сятка полтора сносных формулировок.
И таких понятий, о которых лишь приблизительно из-
вестно, что за ними кроется, сколько угодно. «Нынешняя
физика не знает, что такое энергия»,— признается один
из крупнейших специалистов по квантовой электродина-
мике Ричард Фейнман. В романе «Люди или животные?»
писатель Веркор доказывает нам, что невозможно дать
определение понятию «человек». А что такое наука? «На-
ука,— говорит Эйнштейн,— это попытка привести хаоти-
ческое многообразие нашего чувственного опыта в соот-
ветствие с некоторой единой системой мышления». Пре-
восходно сказано! Но кто от изучения природы ждет не
освобождения от сумятицы земного бытия, как это было
с Эйнштейном, а ответа на чисто интеллектуальные во-
просы или решения практических задач, тот, может быть,
скажет проще: наука — это система знаний о природе.
Или, будучи в веселом расположении духа, согласится
с известным определением академика Л. А. Арцимовича:
«Наука — это способ удовлетворения своего любопытст-
ва за государственный счет».
В таком же положении и искусство. Хорошо сказал
один писатель: «Искусство — это память человечества
о самом себе». Но сказано это было по определенному
поводу — чтобы показать различия между наукой и ис-
кусством. Писатель этот хотел объяснить, почему искус-
ство не стареет, а наука стареет, почему до представле-
ний древних египтян об устройстве Вселенной нам почти
нет никакого дела, но зато нам всегда будет дело до
Нефертити и до Тутанхамона. У нас нет возражений про-
55
тив такого определения искусства, но мы чувствуем, что
оно однобоко и что можно найти немало других опреде-
лений, каждое из которых будет отражать ту или иную
сторону этого сложного явления. Можно ли найти уни-
версальное определение — вот в чем вопрос.
Уязвимое место всех этих определений в том, что одно
неизвестное выводится из другого неизвестного, про ко-
торое думают, будто оно известно. «Память о самом се-
бе». Но что такое память? Десятки философов и психо-
логов пытались придумать определение этому понятию,
которое существует во всех языках, но так ничего толком
и не придумали. Недаром авторы, пишущие о памяти,
вспоминают слова французского философа Мальбранша,
сказавшего, что нет нужды останавливаться на объясне-
нии памяти, ибо каждый, кто не поскупится на некоторое
усилие ума, может сделать это сам.
Но что такое ум, что такое мысль, что такое мышле-
ние? Снова заколдованный круг. Что имел в виду Эйн-
штейн, говоря о «единой системе мышления»? Многие еще
помнят бурную дискуссию «о возможном и невозможном
в кибернетике», в ходе которой выяснилось, что постро-
ить мыслящую машину, по-видимому, легче, чем опреде-
лить, что такое мышление. Теперь уже никто не говорит
о мыслящих машинах: решено, что они не мыслят, а ре-
шают задачи. Мышление же каждый толкует по-своему,
и тень Мальбранша продолжает показывать язык всем
охотникам до универсальных и окончательных формули-
ровок.
Судя по всему, за всеми этими неуловимыми поняти-
ями кроются явления, которые нельзя постичь до конца,
исчерпать до последней капли. А нельзя потому, что они
входят в беспрерывно развивающуюся и меняющуюся
систему наших представлений, нашего мироощущения,
всего нашего бытия, в систему, частью которой являемся
и мы сами с нашими попытками разложить все по полоч-
кам. Любое определение будет неполным, если дается
оно в пределах замкнутой системы и на ее языке. Дока-
зал это математик Курт Гёдель. И мы будем стремиться
к познанию таких явлений, то бросаясь в споры о терми-
нах, то отказываясь от них, до тех пор, пока не прекра-
тится жизнь. И формулировки вроде «по современным
представлениям» или «условимся называть» будут со-
провождать нас до скончания века, а если их вдруг не
об
станет, это будет означать не торжество знания, а тор-
жество самонадеянности. Как сказал тот же Фейнман,
каждый шаг в изучении природы — это всегда только
приближение к истине, вернее, к тому, что мы считаем
истиной. Все изучается лишь для того, чтобы снова стать
непонятным или в лучшем случае потребовать исправ-
ления.
Однако эта перспектива не должна нас обескуражи-
вать. Гёдель прав, но прав и Моно, заметивший, что мы
еще так мало знаем о мозге, даже о мозге лягушки, что
«проблема Гёделя» станет злободневной очень не скоро.
Когда Фейнман писал свои «Лекции по физике», он знал,
что те истины, которые ему известны сегодня, гораздо
«истиннее» тех истин, которые были известны его пред-
шественникам. Он знал, что все открытое им и его совре-
менниками никогда не будет упразднено, как не было
упразднено даже то, что было открыто во времена Тутан-
хамона. Люди не всегда ошибаются; просто то, что им
кажется окончательным, на самом деле не окончатель-
ное, это частность, которая войдет в более широкую
систему знаний. Сокровищница знаний, несмотря на ис-
правления, пополняется непрерывно; кроме того, позна-
вание истины не менее интересно, чем сама истина. Кто
занят им, может ничего не открыть важного в природе,
но он откроет немало интересного в самом себе и своими
занятиями, всем своим существованием внесет крупицу
ценного в культуру человечества.
«Я знаю себя как мысль, но я, безусловно, не знаю
себя как мозг»,— говорил Декарт. Сегодня, через три ве-
ка после Декарта, мы можем смело сказать, что нам все-
таки известно кое-что про мозг, а про мысль, возможно,
больше, чем Декарту. Три века не прошли даром. И хотя
нам могут встретиться разные определения мышления,
это не будет означать, что одно из них истиннее другого.
Просто одно из них будет отражать одну точку зрения,
а другое — другую. Если же ни одно из них не покажется
нам убедительным, у нас всегда останется про запас со-
вет Мальбранша.
Говорят, Эйнштейна спросили однажды, есть ли
у него специальная книжка для записывания мыслей.
Эйнштейн ответил, что такой книжки у него нет и он не
видит в ней никакой необходимости. Настоящие мысли
посещают его так редко, что их нетрудно и запомнить.
57
В шутке Эйнштейна не было преувеличения. У него
сложилось представление о том, что достойно называть-
ся мыслью, а что недостойно. Быть может, он и не осоз-
навал этого, пока ему не задали вопрос. А вообще-то
в обыденной жизни он, наверное, как и мы с вами, назы-
вал мыслью все, что ни приходило ему в голову. Так
поступают все, полагая, что мыслить о данной вещи зна-
чит сознавать ее каким-нибудь образом, независимо от
того, что это за вещь.
Просто и ясно. Если... если не считать того, что у нас
появилось еще одно неизвестное — «сознавать». Что та-
кое сознавать и что такое сознание? И будет ли конец
этим неизвестным?
Когда-то Уильям Джемс утверждал, что доказать су-
ществование сознания невозможно. Оно есть, все мы
ощущаем его присутствие, но оно подобно аксиоме: его
не из чего выводить. Про сознание лучше всего говорить
безлично: думается. Главу о сознании в своей «Психо-
логии» Джемс сравнил с наброском, который живо-
писец делает углем: контуры очерчены, а подробно-
стей нет.
Не появились подробности и сегодня, хотя и открыты
уже мозговые структуры, ведающие сознанием. Дин Вул-
дридж, автор книги «Механизмы мозга», назвал созна-
ние предметом неудобоваримым и приводящим в заме-
шательство ученого. Наука не в силах объяснить фено-
мен сознания; всякое объяснение напоминает попытку
поднять самого себя за волосы. Вулдридж предлагает
рассматривать сознание «как некий контрольный прибор
с неизвестными характеристиками, который включен
в интересующие нас сложные схемы неизвестным спосо-
бом, но тем не менее дает нам косвенные указания, воз-
можно, небесполезные для решения тех загадок, с кото-
рыми нам приходится иметь дело». Блестящий образец
научной щепетильности!
Нет смысла рассуждать об этом приборе ни в каких
терминах, кроме жьтейсккх, иначе мы никогда не выбе-
ремся из заколдованных кругов. Легче всего представить
себе, что сознание — это то, что в некоторых обстоятель-
ствах можно потерять. Это сразу проясняет картину. Мы
понимаем, например, что всякая мысль, независимо от
того, стал бы запоминать ее Эйнштейн или нет, принима-
ет отчетливую форму только в состоянии сознания.
ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ
Приглядимся к нашему сознанию поближе. Перед на-
ми причудливая смесь наглядных образов, обрывков
умозаключений, выраженных то в словесной, то в эмоци-
ональной форме, смесь самых разнообразных ощуще-
ний — решимости, радости, досады, сожаления. Смесь
эта в непрерывном движении, это поток, он течет, ничуть
нас не утомляя, до тех пор, пока наше внимание не оста-
новится на чем-нибудь определенном. Да и в тот момент,
когда внимание останавливается, поток не иссякает,
а скорее упорядочивается, входит в более узкое русло.
Поток то убыстряет, то замедляет свое течение. Созна-
ние подобно жизни птицы, которая то садится на ветку,
то взлетает. Остановки обычно заняты чувственными
впечатлениями, созерцанием, когда мысль уже работает,
но как бы подспудно: мы созерцаем, не ощущая при этом
ни цели, ни потребности осмыслить увиденное. Мы все
еще не думаем, а нам думается.
Между взлетами и остановками, замедлениями
и убыстрениями — десятки переходных состояний, неуло-
вимых ощущений, которые почти невозможно выразить
словами. «Мысль изреченная есть ложь»,— сказал Тют-
чев, а французский писатель Жорж Дюамель восклик-
нул: «Дерзну ли я написать самые прекрасные из моих
рассказов? Как отравленная стрела, перо ранит и рас-
тлевает все, к чему прикасается». Язык — величайшее
наше сокровище, без языка и речи человек не стал бы
человеком. В словах прошлый опыт концентрируется
в управляемые единицы. Но язык, увы, не само мышле-
ние, а лишь его инструмент, придающий мысли быстроту,
мощность, точность. Часто мысли рождаются как раз
в поисках слова. Но слов для передачи всех оттенков ду-
шевной жизни нам все равно не хватает. И беда не толь-
ко в этом. Подбирая слово, мы вмешиваемся в поток со-
знания своей волей, мы останавливаем его и начинаем
рассматривать. Мы начинаем мыслить о мыслях.
Это воздействие воли на сознание Бор сравнивал
с процессом измерения в квантовой системе, где невоз-
можно одновременно установить скорость и положение
частицы в пространстве: измеряется что-нибудь одно.
Кроме того, объект измерений так чувствителен, что воз-
действие прибора неизбежно искажает картину. Процесс
59
измерения отражается и на самом приборе. Слово отде-
ляет мысль от сопровождающих ее ассоциаций и оттен-
ков. Желая что-нибудь вспомнить или заставить вспом-
нить собеседника, мы уже «давим на психику». Извлекая
информацию из ЭВМ, мы точно знаем, в каком состоянии
была и осталась ее память; за работой машины можно
следить, не нарушая ее. С психикой все наоборот: извле-
кая из нее сведения, мы нарушаем ее работу и не знаем,
что в ней переменилось. Может быть, только язык кван-
товой теории позволит ученым сформулировать законо-
мерности мышления без недосказанностей и порочных
кругов.
Поток сознания это поток ассоциаций, в основном ас-
социаций по смежности во времени и в пространстве. Это
самые простые ассоциации, часто у людей они совпада-
ют. Когда Шерлок Холмс развлекается отгадыванием
мыслей своего друга Ватсона, он строит цепочку ассоци-
аций по смежности. Он знает Ватсона и легко угадывает,
о чем ему подумалось при виде того-то и того-то и куда
направилась его бесхитростная мысль. Сложнее ассоциа-
ции по сходству — по признаку, едва уловимому, разгля-
деть который способен лишь яркий ум, наделенный спо-
собностью сближать далекие понятия. Восстановить
такие ассоциации трудно, предсказать невозможно. Они
составляют основу поэтической выразительности, юмора;
нередко они приводят исследователя к открытию.
Мы глядим на закат и вспоминаем другой такой же
закат, которым любовались однажды с корабельной па-
лубы. В нашем сознании мелькают картинки путешест-
вия: теплоход, море, огни Ялты. Это типичная ассоциа-
ция по смежности. Какая огромная разница между обра-
зом корабля, пришедшим нам на память, и образом, кото-
рый мы встретили у Пушкина: «Так дремлет недвижим
корабль в недвижной влаге...» Это уже ассоциация по
сходству, это «настоящая» мысль. Но в чем разница
между этими ассоциациями? И то и другое — наглядный
образ. «Плывет. Куда ж нам плыть?..» В этих словах на-
чатой и драматически оборвавшейся двенадцатой стро-
фы — ответ на наш вопрос. Не в деталях одного и друго-
го образа разница между ними. Вчитайтесь в стихи. Что
такое корабль у Пушкина? Это он сам! Он и корабль,
и капитан, и матросы — все вместе. «Плывет. Куда ж
нам плыть?..»
60
Совсем другой корабль пришел нам на ум: наш соб-
ственный, конкретный, имевший название. Случайный
корабль. Случайный потому, что мог вспомниться и не
он, а что-нибудь иное: мало ли мы видели закатов! Ко-
рабль же «Осени» это корабль-символ, которого не могло
тут не быть: все предыдущие строфы неотвратимо вели
к нему. Если и бывают в поэзии открытия, то это одно из
прекраснейших.
Тут мы ощущаем разницу и между репродуктивным
и продуктивным мышлением. Некоторые психологи
склонны придерживаться такого деления. Репродуктив-
ное —- значит основанное на репродукции, на воспомина-
ниях, появляющихся в сознании по воле привычных ассо-
циаций. Ни к каким новым мыслям оно не приводит.
Продуктивное же мышление, обязанное своим существо-
ванием работе ума, должно непременно завершиться но-
вой идеей. Издавна новизна почиталась первым призна-
ком и результатом творчества. Очевидно, это так, но,
привыкши к заколдованным кругам, мы уже спрашиваем
себя: а что такое новизна? Разве наш сегодняшний поток
сознания похож на вчерашний и разве завтра он будет
таким же? Недаром говорил Гераклит, что нельзя два-
жды войти в одну и ту же реку.
С этой точки зрения позиция тех, кто делит мышление
на продуктивное и репродуктивное или на творческое
и нетворческое, уязвима. Конечно, наш корабль с пуш-
кинским не сравнишь. Но раз мы подумали о нем и он
вошел в наш поток сознания, он обусловил собой даль-
нейшее течение этого потока, он стал звеном в длинной
цепочке образов, которая наложила свой отпечаток на
развитие нашей личности и в конце концов привела нас
к тому, что мы все-таки осмеливаемся назвать мыслью.
Эта мысль не была открытием для других, но она была
открытием для нас. Границы творчества так же неопре-
деленны, как и границы между упорядоченным и неупо-
рядоченным мышлением. Человеку кажется иногда, что
сегодняшний день как две капли похож на вчерашний.
Но это не так. «Никому не проходит безнаказанно про-
гулка под пальмами»,— говаривал Гёте. Что понимать
под этим, как не то, что, выйдя из-под тени пальм, мы
уже не найдем себя такими, как были раньше? «Я прочи-
тал какую-нибудь книгу,— говорит французский писа-
тель Андре Жид,— прочитав, я ее закрыл; я поставил ее
61
обратно на полку моей библиотеки,— но в этой книге бы-
ли слова, которых я не могу забыть. Они так глубоко
в меня проникли, что я их больше не отличаю от моей
личности. Отныне я больше не такой, каким бы я был, не
зная их. Пусть я забуду книгу, где я прочитал эти слова,
пусть даже я забыл, что я ее читал; пусть я их запомнил
неточно... ну, так что ж? Я больше не могу стать тем,
кем я был до их прочтения... Могущество их обусловлено
тем, что они лишь раскрыли мне некоторую часть моего
«Я», еще неизвестную мне самому; они лишь послужили
для меня объяснением — да, объяснением меня самого...
Сколько спящих принцесс носим мы в себе, неведомых
нам, ожидающих только соприкосновения, созвучия, сло-
ва, чтобы проснуться!»
Принцесса проснулась, и человек уже не тот, каким
был до ее пробуждения. Затея, увлекавшая его вчера,
сегодня вызывает зевоту. Он сетует на себя за те обещания,
которые дал неделю назад, или за те резкости, которые
наговорил в пылу недавнего спора и только что осоз-
нал... Он стремится вновь увидеть места, чем-то поразив-
шие его однажды или связавшиеся в его памяти с ощу-
щениями необыкновенного счастья. Он приезжает в эти
места: куда же подевалось все? Вон тот же холм с об-
ветшавшим храмом времен Грозного, вон та же излучина
реки, и так же кричат в роще птицы, и, кажется, тот же
пастух гонит коров на луг. Но что-то переменилось в этой
картине, никакого очарования... Что за ребячество было
ехать сюда, какой романтический вздор!
Не в картине переменилось, а в нем самом. Оставаясь
самим собой, человек меняется, перерастает себя, вы-
растает из себя. И один и тот же предмет никогда не
вызовет одного и того же потока ассоциаций. В каждый
момент он нов, как всегда нова и неповторима комбина-
ция цветных стекол в калейдоскопе или силуэт облаков
над горизонтом.
Один поток сознания хаотичен, другой упорядочен —
он вертится вокруг одной идеи. Мысль стремится устано-
вить отношения между вещами, она оперирует не одними
наглядными представлениями, но и логическими связями.
Она развивает тему, отбирает факты, иногда выду-
мывает их, сочиняет; она хлопочет не о научной истин-
ности, а о выразительности, о стройности общего замыс-
ла. Это мышление художника. Настоящее ли оно? Безус-
62
ловно! От некоторых мыслей такого рода не отказался
бы и Эйнштейн, ведь он задумывался не только о физике,
но и о судьбах человека в этом мире и был весьма чуток
ко всем проявлениям художественного таланта, находя
его у некоторых своих коллег и у философов.
Еще один тип мышления существует в природе: это
уверенность, покоящаяся на каком-нибудь основании,
это знание о чем-нибудь, которое мы незаметно добыва-
ем из житейского опыта. Мы знаем или думаем, что Зем-
ля круглая, что дважды два четыре, и так далее. Это зна-
ние служит нам материалом для размышлений о том, че-
го мы еще не знаем, но хотим узнать. Само по себе такое
знание еще не настоящее мышление. Мышление начи-
нается тогда, когда мы устанавливаем факт, выводя его
из других фактов. Баснописец говорит нам: «Хоть я и не
пророк, но, видя мотылька, как он вкруг свечки вьется,
пророчество всегда мне удается». Это чистая логика, хо-
тя и выражена она стихами, это тип научной мысли, вер-
нее форма ее: содержание тут, конечно, шире, так как
речь идет не о мотыльках. Когда же вывод делается
только о мотыльках, или о вращении Земли, или о пове-
дении солей урана — перед нами научное мышление без
всяких оговорок. Вывод может быть банален, но может
быть и оригинален. Если он еще и верен, кто же не назо-
вет его настоящей мыслью?
ЧЕТЫРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЯБЛОКА
В прошлой главе мы решили, что вся-
кое мышление содержит в себе элементы
творчества. Даже если комбинации на-
ших случайных образов и смутных умо-
заключений новы только для нас самих,
они уже добавляют крупицу нового в на-
шу личность и в наш образ видимого ми-
ра. Подлинно новая, настоящая идея вы-
растает из этой почвы. В этом смысле мы
можем согласиться с психологами школы
С. Л. Рубинштейна, которые доказывают,
что чисто репродуктивного мышления не
бывает и даже самый пассивный процесс,
складывающийся из комбинаций готовых
элементов, всегда продуктивен. Комбина-
ции не повторяются. О чем бы нам ни ду-
малось, в каждый последующий миг нам
будет думаться не так, как в предыду-
щий. Течение эмоций окрасит предмет
наших мыслей или воспоминаний в новые
тона.
Новизна неизбежна. Дважды войти
в один и тот же поток ассоциаций никому
не дано. Но полагаться только на этот
поток и ждать от него счастливых озаре-
ний — занятие бесплодное. Озарения са-
ми не приходят. Их нужно уметь вызы-
вать, нужно комбинировать самим и раз-
мышлять над полученными комбинация-
ми, отбрасывая одно и припасая другое.
Дж. Миллер и его соавторы, рассуж-
дая о Планах, выделили две их разновид-
ности. Когда человек решает задачу, он
вырабатывает либо систематический, ли-
бо эвристический план. Как найти мяч
на лужайке? Самый верный способ —
систематически прочесать всю лужайку.
Но люди редко пользуются этим скучным
и неэффективным способом, они даже
высмеяли его в известном анекдоте: «Как
поймать льва в пустыне?» — «Очень про-
67
сто. Просеять весь песок через сито, и в сите останется
лев». Человеку более по душе эвристический план. Че-
ловек опирается на догадку и начинает с того, что сооб-
ражает, где в прошлый раз оказался мяч или куда он
скорее всего мог залететь. Систематический план — то
же, что и перебор вариантов, или метод проб и ошибок,—
занятие, которое люди предпочитают поручать машинам.
Следуя же эвристическим путем, мы делаем выбор. Ко-
нечно, мы рискуем, что вместе с десятками ненужных
комбинаций будут отброшены и нужные. Перед нами
всегда дилемма: медленно и верно или быстро, но с рис-
ком. И чаще всего мы выбираем второе, ибо, как утверж-
дают авторы теории планов, все мы игроки, и чаще даже
в большей степени, чем мы сами об этом подозреваем.
А как же алхимики? — слышим мы справедливые
возражения. Разве не систематически переплавляли они
в тиглях все, что ни попадалось им под руку, в надежде,
что в один прекрасный день им удастся найти философ-
ский камень? Ведь открыли же они при этом кое-какие
элементы и отработали технику эксперимента, чем нема-
ло способствовали рождению химии. Алхимик Бранд об-
наружил фосфор. Бертольд Шварц, смешав в ступке се-
ру, селитру и уголь, высек из огнива искру, чтобы зажечь
свечу. Случайно искра упала в ступку, раздался взрыв,
подбросивший в воздух лежавший в ступке пестик,
и благодарное человечество получило порох. А Эдисон!
«Это не человек, а пчела»,— говорил про него Тесла.
Злые языки утверждали, что в поисках нити накалива-
ния он перепробовал тысячи материалов, вплоть до со-
ломки от шляпок. Вот уж поистине просеивание песка че-
рез сито!
Да, было дело. И сейчас еще бывает. Нет-нет да
и пользуются изобретатели систематическим перебором,
когда ничего более путного не приходит в голову. Но
вдумаемся в слово «систематический». У него два значе-
ния: «постоянно повторяющийся» и «следующий опреде-
ленной системе». Эта двойственность отражает реальное
положение вещей, одно значение незаметно переходит
в другое. Вот поучительный пример, о котором рассказы-
вает химик Вильгельм Оствальд в одном из своих сочи-
нений по истории науки.
Исследуя водоросли, ботаник Пфеффер заметил, что
мужские цветки растений выделяют споры, которые уме-
68
ют двигаться в воде и безошибочно находят женские
цветки. Он задался вопросом, не направляются ли дви-
жения спор каким-нибудь веществом, выделяемым жен-
скими цветами. Пфеффер растер некоторое количество
этих цветов, насыпал порошок в стеклянную трубку
и убедился, что споры так же охотно и точно проникают
и в трубку. Но что же это за вещество? Предпринимать
непосредственный химический анализ — безнадежное де-
ло: цветы содержат десятки соединений; на их определе-
ние уйдут годы. Может быть, заняться не составом цветов,
а испытать известные вещества и найти, какое из них об-
ладает притягательной силой для спор? Веществ тысячи,
и испытывать каждое из них можно всю жизнь. Но нуж-
но ли испытывать каждое в отдельности? Пфеффер берет
все препараты, стоящие на верхней полке шкафа, смеши-
вает их и делает над смесью опыт. Никакого результата.
Берется вторая полка, за нею третья, четвертая, и вот на
смесь, взятую с пятой полки, споры начинают реагиро-
вать. Предположим, что на этой полке было сто препара-
тов. Искомое вещество одно из них. Как его найти?
Пфеффер делит эту сотню пополам — на левую половину
и на правую. В левой половине вещества не оказывается.
Значит, оно в правой. Пфеффер делит правую половину,
состоящую уже из пятидесяти препаратов, снова попо-
лам, и находит, в какой половине содержится вещество.
Кольцо смыкается, лев уже барахтается в сетях.
Оствальд говорит: «В этом методе разгадка всех откры-
тий».
Всех не всех, но, конечно, многих. Присутствовал ли
в этой истории перебор вариантов? Несомненно. Но как
отличается он от просеивания песка через сито или от
прочесывания лужайки! В нем прежде всего видна систе-
ма, граничащая с эвристическим Планом. Была своя
система и у алхимиков, ибо они знали, что искали, и тол-
кли в своих ступках не что попало. И Эдисон знал, что
искал, хотя искал и не лучшим образом. Если бы у него
не было системы, он бы не наизобретал столько всего. Он
умел наблюдать и делать выводы из своих наблюдений.
Послушаем его рассказ о том, как он изобрел фонограф:
«Я случайно напал на открытие, проделывая опыты
с совершенно другой целью. Я был занят прибором, кото-
рый автоматически передавал азбуку Морзе на другую
цепь, причем лента с оттисками букв проходила через ва-
69
лик под трассирующим штифтом. Я заметил, что при
быстром вращении валика слышался звук. Я пристроил
к аппарату диафрагму с особым приспособлением, кото-
рая могла бы воспринимать волны моего голоса и вы-
таскивала бы их на каком-нибудь материале, укреплен-
ном на валике. Я остановился на пропитанной парафи-
ном бумаге. При быстром вращении ролика оттиснутые
на нем знаки, по которым проходил штифт, повторяли
вибрации моего голоса, и через передающий прибор
с другой диафрагмой я явственно различал слова».
На сей раз материал не пришлось искать долго, пара-
финированная бумага быстро попала в поле зрения Эди-
сона. Но самое интересное в рассказе — это фраза, с ко-
торой он начинается. Случайность открытия поразила
Эдисона больше, чем оно само. Поразило его, вернее, то,
что он преследовал другую цель, искал одно, а нашел
другое. Это пересечение двух направлений мысли, рож-
дение одной идеи из другой, близкой или побочной, игра-
ет важную роль в творчестве и в эвристических методах
решения задач.
Бывает, что человек задается одной целью и достига-
ет ее. А бывает, что на пути к одной цели совершается
поворот к другой. К первой цели возвращаются потом,
а иногда и вовсе оставляют ее. Бывает всякое. Сначала
Пфеффер просто исследовал споры, почти без определен-
ной цели. Затем, после наблюдения за ними, у него мель-
кнула догадка: не вызывается ли поведение спор хими-
ческим веществом? Опыт подтвердил догадку. Следую-
щий вопрос возник сам собой: что за вещество? Тут уж
пришлось заняться поисками, построенными на методе,
который впоследствии был назван методом последова-
тельного приближения. Он лег в основу первых эвристи-
ческих программ для ЭВМ.
«Я случайно напал на открытие». Так ли уж оно слу-
чайно? Психологически, конечно, да, для самого Эдисона
безусловно да! Но, если бы он не занимался прибором,
который передавал азбуку Морзе, изобрел ли бы он фо-
нограф? Может быть, да, а может быть, и нет. Изобрета-
ет и открывает тот, кто напряженно думает и экспери-
ментирует, кто идет, а не стоит на месте, идет прямым ли,
окольным ли путем, к одной ли цели или к другой —
неважно. «На случай наталкиваются те, кто его заслужи-
вают»,— говорил математик Лагранж. В своей статье
70
«Луи Пастер» Тимирязев приводит аналогичные слова
биографа Пастера: «Это была одна из тех случайностей,
на которые наталкиваются именно те ученые, которые
делают все, чтобы на них наткнуться». Если кто-нибудь
скажет вам, что ему в голову внезапно пришла ориги-
нальная идея и идея действительно окажется оригиналь-
ной,— не верьте, что внезапно. Он просто забыл, что
предшествовало идее, чем он был занят, о чем думал. Где
мы найдем открытия, упавшие с неба, появившиеся ни
с того ни с сего?
Вот история одного из открытий Уатта.
Дело происходит зимой 1765 года в Глазго. Препода-
ватель физики в университете профессор Андерсон, гото-
вя для лекции модель водоотливной машины Ньюкоме-
на, замечает, что машина неисправна, и просит механика
Джемса Уатта починить ее. Уатт находит причину неис-
правности и решает придумать, как бы уменьшить в ма-
шине расход воды и пара. «Задача настолько овладела
моим умом,— рассказывает он,— что я не мог бросить
дела. Чтобы получить совершенную паровую машину,
необходимо, чтобы цилиндр был так же горяч, как и вхо-
дящий в него пар. Однако конденсация пара для образо-
вания вакуума должна происходить при температуре не
выше 30 градусов». Но как можно держать цилиндр все-
гда горячим и в то же время конденсировать в нем пар?
Уатт ломает голову над этим во время прогулки. «Я ми-
новал старый дом с прачечной. В это время мысли мои
были заняты машиной, и уже дошел я до хижины пасту-
ха, когда мне пришло в голову, что пар, будучи упругим
телом, мог бы ринуться в пустое пространство и при со-
общении между цилиндром и резервуаром хлынул бы
в резервуар и сгустился без охлаждения цилиндра».
Тысячи людей прогуливались мимо прачечных и ви-
дели клубы пара, вылетавшие из окон, и ни у кого из них
не рождались технические идеи. Но ведь Уатт прогули-
вался не просто так. Он думал о машине. В его мозгу
шла активная визуализация образа; его ум бессозна-
тельно вглядывался во все окружающее и только ждал
последней ассоциации, для того чтобы решение было
осознано. Эта прачечная не более случайна, чем ньюто-
ново яблоко. Ведь на падающие яблоки тоже глядели ты-
сячи людей, да и сам Ньютон видел их не однажды. Но
тогда он не размышлял о всемирном тяготении.
71
Социалист-утопист Шарль Фурье рассказывал, что
яблоко сыграло решающую роль и в той внезапной до;
гадке, которая привела его к экономической теории
групп и серий. Как-то, обедая в ресторане, Фурье заме-
тил, что ему поставили в счет 14 су за яблоко; сотня
таких же яблок стоила в соседней лавчонке те же 14 су.
Другой бы на месте Фурье пожал плечами и в следую-
щий раз поискал бы ресторан подешевле. Но не таков
был Фурье! «Это различие цен в двух местах того же
климата, как молния, осветило мне недостатки торгово-
промышленного механизма...» Вспомнив затем, что ябло-
ко сыграло столь же важную роль в судьбе Адама, Пари-
са и Ньютона, Фурье скромно добавил: «Разве эти четы-
ре яблока не заслуживают особого места в истории?»
ЦВЕТ КРОВИ В СУРАБАЙЕ
Предположим, все было так, как рассказывает Фурье.
Тогда и в его яблоке нет никакой случайности. Он и до
яблока размышлял о законах торговли. Яблоко только
осветило ему то, чего он еще не осознал. Но не имеем ли
мы тут дело со странствующим сюжетом? Задолго до
этого эпизода Байрон в «Дон-Жуане» сравнивал яблоко
Ньютона с яблоком Адама. Во Франции и в России рас-
сказывали анекдот об одном рассеянном математике, ко-
торый во время прогулки стал чертить мелом формулы
на черной плоскости. Не успел он закончить своих вычис-
лений, как плоскость, к его изумлению, стала от него
удаляться. Это была спинка кареты. Во Франции героем
этой истории был Ампер, а в России Остроградский. По-
добных сюжетов много. Иногда даже одно и то же от-
крытие излагается в двух версиях.
Химик Август Кекуле рассказывал о своем открытии
так: «Однажды вечером, будучи в Лондоне, я сидел
в омнибусе и раздумывал, как изобразить молекулу бен-
зола С6Н6 в виде структурной формулы... В это время
я увидел клетку с обезьянами, которые ловили друг дру-
га, то схватываясь между собою, то опять расцепляясь,
и один раз схватились так, что образовали кольцо. Каж-
дая одною заднею лапой держалась за клетку, а следу-
ющая держалась за другую ее заднюю лапу обеими пе-
редними, хвостами же они весело размахивали по возду-
72
ху... Пять обезьян составили круг, и у меня сразу же
блеснула мысль: вот изображение бензола».
Да, такое не придумаешь! Но мы бы не стали вспоми-
нать этих всем надоевших обезьян, если бы сам Кекуле
не описал в другом месте свое открытие иначе. Дело бы-
ло уже не в Лондоне, а в Генте. Кекуле писал учебник по
химии. Повернувшись к камину, он задремал. Образы
атомов заплясали перед его глазами. «Мое умственное
око, искушенное в видениях подобного рода, различало
теперь более крупные образования... Длинные цепочки,
все в движении, часто сближаются друг с другом, изви-
ваясь и вертясь, как змеи!.. Одна из змей ухватила свой
собственный хвост, и фигура эта насмешливо закружи-
лась перед моими глазами. Пробужденный как бы
вспышкой молнии, я провел остаток ночи, детально раз-
рабатывая следствия новой гипотезы. Если мы научимся
смотреть сны, господа, то обретем, быть может, истину...
Однако мы не должны предавать свои сны огласке, пре-
жде чем не подвергнем их проверке бодрствующего
ума».
Так как же было дело на самом деле? Обезьяны или
змеи? Вряд ли сам Кекуле мог ответить на этот вопрос;
об открытии вспоминал он через двадцать пять лет после
того, как совершил его. Может быть, было и то и другое,
и обезьяны и сон, а потом оба впечатления сгустились
в одно. Змеи не менее правдоподобны, чем обезьяны. Ке-
куле искал формулу десять лет. Странно было бы, если
бы она в конце концов ему не приснилась.
Во всем этом случайности нет и следа. Может быть,
нам продемонстрирует ее молодой химик Фальберг, ра-
ботавший в 1872 году в Балтиморе? Однажды он впопы-
хах забыл вымыть руки перед обедом и почувствовал во
рту сладкий вкус. Это его заинтересовало. Он поспешил
в лабораторию, начал исследовать вещества, с которыми
работал утром, и среди отбросов обнаружил сахарин.
Случай? Конечно. Не забудь Фальберг вымыть руки, не
видать нам сахарина, может, и по сей день. Но, с другой
стороны, опять перед нами «опыты с другой целью», хи-
мическое открытие делает химик, как ему и положено.
И заслуга этого химика не столь уж значительна: каж-
дый из нас, будучи на его месте, заинтересовался бы про-
исхождением сладкого вкуса. Вообще есть огромная
разница между историей с обезьянами (или змеями) и
73
эпизодом с сахарином. Там открывается нечто принципи-
ально новое, тут—одно из миллиона веществ, которые по-
наоткрывали химики за последние двести лет. И, если уж
на то пошло, перед едой надо мыть руки, особенно хи-
микам.
Давайте лучше вспомним об открытиях, которые со-
вершали люди, не причастные к тем областям, к которым
эти открытия относятся.
Осенним вечером 1795 года Алоизий Сенефельдер,
житель Праги, возвращался из театра после первого
представления его пьесы. Счастливый автор держал
в руках записку директора с распоряжением о выдаче
ему денег. Возвратившись домой, он должен был засесть
за свою обычную, «нетворческую» работу — переписыва-
ние чужих пьес. Положив драгоценный документ на стол,
Сенефельдер принялся за дело. Вдруг порыв ветра рас-
пахнул окно. Записка едва не вылетела на улицу. Сене-
фельдер подхватил ее уже на подоконнике, мокрую от
дождя. Закрыв окно, он расправил бумажку, положил на
нее оселок для бритвы и улегся спать. Наутро он прежде
всего взглянул на документ, прикрытый камнем, дабы
удостовериться, что то был не сон. Каково же было его
удивление, когда он увидел на директорской записке
свою личную печать. Откуда она взялась? Сенефельдер
взглянул на нижнюю поверхность оселка и увидел на ней
оттиск своей печати. Очевидно, камень впитал в себя
краску с какого-то ранее проштемпелеванного докумен-
та. В Сенефельдере проснулся исследователь. Он стал
изучать свойства оселка. Это оказался известняк, жадно
впитывающий жиры, а после очистки кислотой и воду.
Сенефельдер наносил на него текст чернилами, приготов-
ленными из воска, мыла и сажи, испытывал его и так
и сяк и в конце концов открыл способ печати, именуемый
литографией.
Перенесемся теперь из Праги в тропическую Сура-
байю, где судовой врач Роберт Майер делает обычную
в те времена операцию — пускает матросу кровь. Майер
вскрывает вену, и его охватывает ужас: слишком светла
кровь. Неужели он задел артерию? Нет, это вена. Потом
он делает еще несколько таких операций: снова из вен
течет алая кровь. Майер, потолковав со своими коллега-
ми с других судов, узнает, что под тропиками это обыч-
ное явление. Но что оно означает? Только одно: умень-
74
шение окислительных процессов. А это что означает? То-
же только одно: в жару организму для сохранения соб-
ственной теплоты нужно меньше «горения». Майер стал
размышлять о том, что произойдет, если тело будет, кро-
ме теплоты, производить еще и работу. «Иногда я чувст-
вовал прилив необычайного вдохновения... Некоторые
мысли пронизывали меня, подобно молнии...» Итогом
этих вспышек было открытие: «Энергия не появляется
и не исчезает, она лишь переходит из одной формы
в другую».
Вот они, чистейшие случайности. Человек, не имею-
щий ни малейшего отношения к полиграфии, открывает
благодаря неожиданному стечению обстоятельств новый
способ печати. Судовой врач формулирует один из фун-
даментальных законов естествознания, и тоже благодаря
стечению обстоятельств. Не пойди в тот день в Праге
дождь, не окажись пьеса Сенефельдера удачной, положи
он на бумажку не оселок, а еще что-нибудь — не было
бы и литографии. Не попади Майер в тропики и не забо-
лей на его судне матрос... Нет, тут что-то не то. Не мо-
жет быть, чтобы человечество без Майера не додумалось
до закона сохранения энергии. Годом позже, ну, десятью
годами, а закон кто-нибудь бы да открыл. Да и литогра-
фию, наверное бы, открыли. Но это не меняет дела. Оба
открытия были сделаны по воле случая.
Это так, но ни Майер, ни Сенефельдер не были слу-
чайными людьми! Они были теми, о ком говорил Ла-
гранж. Выяснилось, например, что Сенефельдер не раз
задавался вопросом, как бы найти способ размножать пье-
сы, не переписывая их, но и не прибегая к услугам типо-
графии. Увидев же печать на оселке, он принялся экспе-
риментировать с ним, как настоящий химик. Не каждый
сумел бы проделать эти эксперименты. Он был не только
драматург, но и прирожденный изобретатель. Что же ка-
сается Майера, то этот судовой врач обладал недюжин-
ными познаниями в физике и химии да к тому же мечтал
в детстве построить вечный двигатель, то есть нарушить
тот самый закон сохранения энергии, который он открыл.
Не он первый заметил, что венозная кровь в тропиках
светлее обычной, но только он сумел сделать то, что
французский математик Пьер Лаплас считал самым
главным в открытии: «сблизить идеи, которые соединены
по своей природе, но для неискушенного наблюдателя
75
кажутся изолированными друг от друга». Сам Лаплас
следовал своему правилу неукоснительно, упражнял
в себе эту способность и благодаря ей создал свою кос-
могоническую гипотезу, открыл причины приливов и от-
ливов, связь между движениями спутников Юпитера
и много еще других важных вещей. Возможно, если бы
Майер и не оказался в тропиках, он все равно бы доду-
мался до закона сохранения энергии. Как показал опыт
других открывателей этого закона, для этого не обяза-
тельно было ехать в тропики и вскрывать там вены. Джо-
уль открыл этот закон, измеряя переходы одного вида
энергии в другой, Гельмгольц — размышляя над чисто
математическими проблемами. Как принято говорить
в таких случаях, идея уже носилась в воздухе.
САЛАТ КЕПЛЕРА
Сближение далеких идей не что иное, как употребле-
ние ассоциации по сходству. Другая, более простая ассо-
циация приводит нас от Лапласа к истории телескопа.
Вот едва ли не самое случайное из всех открытий. Соору-
дили телескоп (в 1590 году) дети одного оптика, забав-
лявшиеся игрой с линзами для очков в мастерской своего
отца. Лейбниц заметил по этому поводу, что вообще-то
телескоп могли бы открыть лет на триста раньше,
потому что очки появились в 80-х годах XIII века. Так
.что случайно скорее то, что его вовремя не открыли.
И еще он говорил, что открыть его могли только дети;
какому же взрослому интересно забавляться со стекла-
ми? Перед нами, таким образом, типичное запоздалое от-
крытие. Возможно, Лейбниц и прав насчет детей, с тем
только уточнением, что это все-таки были дети оптика.
Если бы они были детьми бочара или шорника, у них под
рукой не оказалось бы стекол. Можно предположить, что
дети открыли не один телескоп, но так как их не занима-
ла проблема приоритета, они, смастерив что-нибудь за-
мечательное, не мчались в патентное бюро или в редак-
цию научного журнала, а, разобрав надоевшую им иг-
рушку, принимались изобретать новую.
К этой истории можно добавить, что, согласно
изысканиям одного современного психолога, телескоп не
изобрели вовремя потому, что в средние века существо-
76
вало скептическое отношение к линзам, основанное на
том самом скептическом отношении к показаниям чувств,
о котором мы рассказывали в первой части книги. Гали-
лею, одному из первых нашедших употребление телеско-
пу, еще приходилось доказывать своим противникам, что
приборы могут не только искажать, но и обострять вос-
приятие. Что касается детей, то они, естественно, были
еще лишены какого бы то ни было скепсиса.
Похоже на то, что чистой случайности не бывает. При
внимательном рассмотрении она оказывается переме-
шанной со столькими закономерностями, что случай-
ностью ее можно назвать разве что для удобства. При
желании случайность можно усмотреть во всем. Человек
искал одно, а нашел другое — вот уже и случайность.
Ничего человек не искал и вдруг нашел— тоже случай-
ность. Искал, искал и не нашел, а искомое было под но-
сом — опять случайность. Все зависит от того, как по-
смотреть на дело.
Александр Флеминг не мог в молодости получить ме-
дицинского образования: у него не было денег заплатить
за учение. Он жил в Лондоне и занимался чем придется.
Однажды ему пришлось играть в водное поло против
команды госпиталя Святой Марии. Когда он неожиданно
получил наследство, он, выбирая, где бы наконец полу-
чить образование, естественно, отправился именно в этот
госпиталь. В это время в госпитале работал талантливый
бактериолог Райт, который изучал, как организм борется
с инфекцией, и разрабатывал теорию прививок. Вскоре
Флеминг тоже заинтересовался этим и попал к Райту, са-
мому лучшему учителю, какой только был в этой об-
ласти. Началась первая мировая война. Флемингу при-
шлось немало поработать с ранеными; это помогло ему
разобраться во всех недостатках тогдашних дезинфици-
рующих средств, которые не разбирали, живая перед ни-
ми ткань или бактерии. Много лет спустя Флеминг ввел
культуру бактерий в каплю носовой жидкости и заметил,
что эта жидкость препятствует размножению микробов.
Так он открыл лизоцим — природный антибиотик, пра-
вда очень слабый.
Вот при каких предпосылках получилось так, что
однажды Флеминг заметил, что на чашку Петри, где раз-
водилась культура бактерий, попала какая-то плесень.
То было обычное, хотя и досадное происшествие, однако
77
Флеминг, вместо того чтобы вымыть чашку, поместил ее
под микроскоп и тотчас увидел, что около плесени бакте-
рии не растут. Случайность здесь состояла в том, что
плесень «пенициллиум нотатум» была одна из несколь-
ких сотен видов плесени, которые могли сесть на эту
чашку, но из которых ни одна не обладала бактерицид-
ным действием.
Однако цепь случайных событий на этом еще не об-
рывается. Флеминг заметил действие пенициллина на
возбудителей заразных болезней. Но у него не было необ-
ходимых знаний по химии, чтобы сделать полученное
лекарство подходящим для повсеместного применения.
И много воды утекло, прежде чем химик Чейм и его кол-
леги из Оксфордского университета решили исследовать
связанные с пенициллином химические проблемы. Вот
тогда все пошло быстрым ходом, а начавшаяся вторая
мировая война продемонстрировала необычайную эф-
фективность этого антибиотика.
Можно ли сказать, что, не будь матча в водное поло
и неожиданного наследства, которые привели Флеминга
к Райту, не будь Райта, не попади Флеминг на фронт, не
открой он лизоцим, не загрязнись чашка Петри самой
сильной антибиотической плесенью, не займись пеницил-
лином оксфордские химики,— не будь всего этого, не от-
крыл бы Флеминг пенициллин. Конечно, можно. Откры-
тию предшествовала целая цепь случайностей, и, порвись
в ней хоть одно звено, открытие бы не состоялось. Но это
вовсе не значит, что у нас не было бы антибиотиков. На-
ука шла к ним неуклонно. К ним приближались десятки
бактериологов, которым, как и Флемингу, были известны
недостатки существовавших лекарств. Эра антибиотиков
просто началась бы не с пенициллина.
История открытия пенициллина — это история слу-
чайностей, складывавшихся в закономерность. Главное
тут опять в том, что открыватель пенициллина не был слу-
чайный в науке человек. По этому поводу лучше всего
выразилась за триста с лишним лет до бесконечных спо-
ров о случайностях и закономерностях жена Кеплера.
Кеплер, которого тоже занимала эта проблема, спросил
ее как-то за обедом: «Как ты думаешь, дорогая, если бы
в мировом пространстве летало множество капелек мас-
ла, уксуса, частичек соли, сахару, перца, салата и всего
прочего, мог ли бы при их случайном столкновении обра-
78
зоваться такой салат, который сейчас стоит на столе?» —
«Нет»,— уверенно ответила жена. «Но отчего же? Со-
гласно законам...» — «Я не говорю,— перебила его же-
на,— что он не мог бы образоваться. Я говорю, что он не
был бы таким вкусным».
Однажды академик П. Л. Капица доказывал студен-
там Физико-технического института, что преподаватель-
ская деятельность, которая обычно не слишком увлекает
молодежь, может привести к большим открытиям. Боль-
ше того, открытия делаются даже во время экзаменов.
С этой точки зрения Капица посмотрел на открытие
периодической системы элементов. Менделеев искал, ка-
ким способом лучше всего объяснить студентам свойства
элементов, чтобы эти свойства могли восприниматься по
определенной системе. «Он распределял элементы по
карточкам, складывал эти карточки в разном порядке и,
наконец, нашел, что карточки, разложенные по возраста-
нию атомных весов элементов, образуют периодическую
систему». Таблица вошла как приложение во второй вы-
пуск «Основ химии», то есть «возникла из педагоги-
ческой деятельности Менделеева как профессора Петер-
бургского университета».
Геометрия Лобачевского того же происхождения.
В начале XIX века русское правительство решило, что
все чиновники должны иметь среднее образование. Тем,
у кого не было аттестата, предложили поступить на спе-
циальные курсы. Лобачевский преподавал на этих кур-
сах и объяснял престарелым чиновникам принципы евкли-
довой геометрии. А они никак не могли понять, откуда
берется аксиома о непересекаемости двух параллельных.
«Лобачевский,— говорит Капица,— долго бился над тем,
чтобы дать подходящее объяснение, но убедился, что та-
кого объяснения не существует. Он понял, что можно
построить такую геометрию, при которой линии всегда
пересекаются».
Следующий пример — история уравнений Шрёдинге-
ра. В Цюрихе преподавал физику профессор Дебай.
У него был молодой ученик, тоже преподаватель, Эрвин
Шрёдингер. Дебай познакомился с работой французско-
го физика Луи де Бройля, который доказывал, что при
некоторых условиях движение электрона можно предста-
вить себе как волновое. Идея эта казалась убедительной
не всем, Шрёдингер ее не разделял, и, когда Дебай по-
79
просил его рассказать о ней молодежи, он отказался. Де-
бай настоял на своем, и тогда Шрёдингер стал искать
способ изложить новую идею в более простой форме.
Когда форма была найдена, Дебай сказал: «Мой юный
друг, вы нашли такое уравнение, которое ляжет в основу
современной физики». Так оно и вышло.
Задумаемся над этими примерами. Речь идет о стече-
нии более или менее сходных обстоятельств, побуждаю-
щих или вынуждающих человека заняться решением
определенной проблемы. Решение приводит к открытию.
Но что значит стечение обстоятельств? Что было бы, если
бы не было этих обстоятельств? Открыл бы Менделеев
периодический закон, если бы он не писал учебник? «Вы
спрашиваете, как я его открыл? — воскликнул он однаж-
ды.— Да я думал над ним всю жизнь!» История подтвер-
ждает эти слова. Первая работа Менделеева, натолкнув-
шая его на поиски соотношений между элементами (ис-
следование изоморфизма), была сделана в 1854 году, за
пятнадцать лет до открытия. После этого он занимался
исследованием удельных объемов, работал над теорией
пределов, изучал атомные веса и их соотношения. Вместе
с первой работой эти исследования образуют, по словам
Менделеева, «четыре стороны дела». С этих четырех сто-
рон он приближался к открытию. С осени 1867 года, ког-
да он приступил к чтению лекций в университете и стал
перерабатывать их стенограммы в книгу, приближение
только ускорилось.
Он действительно шел к нему всю жизнь. И к нему
шла вся химия. После того как Менделеев разослал ве-
дущим химикам мира первое сообщение о своем откры-
тии, он сел писать статью о нем. Статья начиналась
словами: «Систематическое распределение элементов
подвергалось в истории нашей науки разнообразным пре-
вратностям». Лучше не скажешь. Количество элементов
росло не по дням, а по часам, и химики уже были готовы
повторить вслед за Фарадеем: «Было время, когда стре-
мились увеличить число металлов, теперь же нам хочется
его сократить». Элементы делили на металлы и неметал-
лы, и активный натрий соседствовал с инертным осмием,
а газообразный хлор — с кристаллическим кремнием. Их
группировали по валентности, и тогда в одной группе
оказывались ничего не имевшие общего кальций и ни-
кель. «Не лучше ли, господа, располагать элементы
80
в алфавитном порядке? — вопрошал на заседании Анг-
лийского химического общества профессор Фостер.—
Может быть, тогда выявится какая-нибудь закономер-
ность?»
Менделеев участвовал в поисках наравне со всеми.
Чему он обязан своим открытием, мы увидим в четвертой
части книги. Открытие Лобачевского — тоже далеко не
простое стечение «педагогических обстоятельств». Воз-
можно, непонятливость чиновников и послужила первым
толчком к разработке неевклидовой геометрии. Лобачев-
ский задумался: в самом деле, что за странная аксиома?
Но так же возможно, и скорее всего, он думал об этом
и прежде. Он не мог не знать, что в конце XVIII века
аксиома эта занимала многих математиков Европы. Мог
он задуматься об аксиоме и годом позже — без педагоги-
ческих нужд. Подобно закону сохранения энергии, пери-
одической системе, антибиотикам, идея неевклидовой ге-
ометрии уже созрела.
В одной из работ, написанной известным математи-
ком, мы находим такие слова:
«При поверхностном наблюдении математика кажет-
ся плодом трудов многих тысяч индивидуальностей, раз-
бросанных по континентам и тысячелетиям. Но внутрен-
няя логика ее развития гораздо больше напоминает ра-
боту одного интеллекта, систематически развивающего
свою мысль и использующего многообразие человеческих
личностей лишь как средство. Это похоже на исполнение
симфонии, когда тема переходит от одного инструмента
к другому. История математики знает много случаев,
когда открытие, сделанное одним ученым, остается неиз-
вестным, а позже с поразительной точностью воспроизво-
дится другим. В письме, написанном перед дуэлью,
Эварист Галуа высказал несколько утверждений исклю-
чительной важности об интегралах алгебраических функ-
ций. Двадцать с лишним лет спустя Риман, который не
знал о письме Галуа, вновь нашел и доказал те же утвер-
ждения. После того как Лобачевский и Больяи независи-
мо друг от друга положили начало неевклидовой геомет-
рии, выяснилось, что два человека, Гаусс и Швейкарт, за
десять лет до них пришли к тем же результатам. Стран-
ное чувство испытываешь, видя одни и те же чертежи,
как будто начертанные одной рукой, в трудах четырех
ученых, работавших независимо друг от друга».
СЛУЧАЙНЫЕ НЕОТКРЫТИЯ
Нет смысла обсуждать открытие, сделанное Шрёдин-
гером. Ему досталась трудная задача, он ее решил — на
то он и был Шрёдингер. Интереснее поразмыслить над
тем, почему Шрёдингер противился идее де Бройля. Все
на свете задачи возникают при различных обстоятельст-
вах. И, как всё на свете, эти обстоятельства можно под-
вергнуть классификации, разбить на группы по какому
угодно признаку. Как-то, рассуждая об этом, мы доволь-
но успешно оперировали с кошкой. Капица продемонст-
рировал нам «педагогическую группу». Идя по этому пу-
ти, мы можем все до единого открытия назвать случай-
ными на том хотя бы основании, что даже если их ав-
торы и знали, что ищут, то все равно все происходило не
совсем так, как они ожидали: прежде чем мозг озаряло
молнией, человек переживал и отчаяние, и досаду,
и ощущение тупика; разочарования переплетались с на-
деждами до самого конца пути. Ход мыслей и чувств
подвергался таким превратностям, что иногда ученый
бывал и сам потрясен, как же это все в конце концов
окончилось благополучно.
С другой стороны, все открытия мы можем признать
и закономерными. Открытие, говорили мы, награда за
упорство, за проницательность, за умение подмечать но-
вое, мыслить нешаблонно, сопоставлять далекие факты.
Говорили мы также, что рано или поздно открытие дол-
жно было состояться, и кто оказался первым, а кто вто-
рым -— не так уж важно. Было бы совсем невероятно, ес-
ли бы так называемые одновременные открытия совер-
шались в буквальном смысле одновременно.
Но не бесплодны ли все эти рассуждения, раз один
и тот же факт можно повернуть и так и этак? Нет, пожа-
луй. Ведь, разглядывая факт со всех сторон, мы глубже
постигаем и сущность самого факта, и сложность челове-
ческого мышления, которое идет к открытию, борясь
с самим собой, преодолевая заблуждения, лавируя меж-
ду Сциллой преждевременных надежд и Харибдой по-
спешных разочарований. Наш ум совершает работу, от-
даленно похожую на работу ума ученого. Классифика-
ция Капицы оказалась полезной не только для тех, кому
она была адресована, но и для нас с вами. Восприняв ее
всерьез, мы задумались над ней, а заодно и над теми от-
82
крытиями, о которых вспоминал Капица. А они стоят
того.
Для того же удобства разряд «случайные открытия»
следовало бы разбить на классы, подклассы, группы
и подгруппы, в которых учитывалась бы доля случай-
ности и закономерности, важность открытия, степень его
неизбежности. В особую группу можно было бы выде-
лить не только одновременные открытия, но и запозда
лые (телескоп), повторные (Америка, дифференциальное
исчисление), а также создать семейство преждевремен-
ных открытий, для понимания или реализации которых,
как принято думать, не было подходящих условий
К преждевременным открытиям относят обычно гениаль-
ные прозрения Николая Кузанского, который предсказал
интегральное исчисление, и францисканца Роджера Бэ-
кона, в XIII веке предвидевшего появление таких вещей,
как автомобиль, самолет, акваланг и тот же телескоп. Но
предсказание или предвидение все-таки не открытие.
Сколько таких открытий насовершали наши любимые
фантасты, начиная с Жюля Верна!
Всем известно, что радиоактивность открыл Анри
Беккерель. Но за тридцать восемь лет до Беккереля ту
же радиоактивность открыл его соотечественник Ньепс
де сен Виктор. Именно открыл: не предсказал, а наблю-
дал. Но, пронаблюдав, тем и ограничился. Пожал плеча-
ми, сказал что-нибудь вроде «Ишь ты!» и продолжил
свои занятия фотографией. Преждевременное это откры-
тие и открытие ли вообще? Мало ведь увидеть, надо еще
и догадаться, что увидел. То, что произошло с Ньепсом
де сен Виктором, мы можем смело поместить в разряд
«случайных неоткрытий». Туда же попадает и случай
с французским бактериологом, который за полгода до
Флеминга заметил действие некоторых видов плесени на
колонии бактерий, но не догадался, в чем тут дело.
Чаще всего человек, конечно, догадывается о бли-
зости открытия. Иногда сразу, как Беккерель или Фле-
минг, иногда немного погодя, как Девиссон и Джермер,
которые обнаружили дифракцию электронов
в кристаллах, но лишь впоследствии, познакомившись
с идеями де Бройля, поняли смысл своего открытия.
А бывает, человек проходит мимо открытия вовсе не по-
тому, что он недогадлив или оно не по его части. Нет,
причины коренятся в свойствах человеческой психики,
83
через которые не в состоянии переступить даже гений.
Менделеев открыл инертные газы и забыл об этом. По-
глощен был работой над таблицей, а про газы записал на
бумажке и сунул ее неведомо куда. И через тридцать лет
искренне поздравлял своих английских коллег, открыв-
ших аргон, неон, криптон и ксенон.
В работе «Покорение мира атомов» де Бройль задает-
ся вопросом: отчего Ампер упустил возможность от-
крыть электромагнитную индукцию, хотя и стоял на по-
роге этого открытия? Почти всегда в подобных случаях,
думает он, открытие не делается потому, что у того, кто
мог бы его сделать, существует некая предвзятая идея,
которая мешает ему представить себе ситуацию в истин-
ном свете. Ампер не открыл индукцию потому, что он
старался связать электрические явления с наличием маг-
нитного поля, а надо было связывать их с изменениями
магнитного поля. Можно ли сказать, что Ампер не от-
крыл индукцию потому, что, в отличие от Фарадея, от-
крывшего ее, не видел силовых линий умственным взо-
ром? Нет, он видел их, но видел иначе. Но кто из нас
видит вещи одинаково?
А почему не пришел к теории относительности гени-
альный математик Анри Пуанкаре? Ведь он прекрасно
знал все то, на что опирался Эйнштейн. Пуанкаре, гово-
рит де Бройль, скептически относился к физическим тео-
риям, считая, что существует бесчисленное множество
различных, но логически сходных точек зрения, которые
ученый выбирает лишь для удобства. Это помешало ему
понять, что среди них есть и такие, которые близки к фи-
зической реальности. Иначе говоря, причина случайного
неоткрытая может корениться в складе ума и в особом
характере восприятия мира. Она не имеет ничего общего
с консерватизмом, на который иногда сваливают всю ви-
ну историки науки.
Причины случайных неоткрытий послужили темой
специального семинара, который состоялся в 1937 году
в Париже. Там, между прочим, вспоминали о том, как
изобрели офтальмоскоп.
Немецкий физиолог Брюкке заинтересовался тем, как
сетчатка отражает свет, и сконструировал прибор для ее
освещения. А другой физиолог, Гельмгольц, подготавли-
вая этот прибор для демонстрации студентам (снова пе-
дагогическая деятельность!), неожиданно сообразил, что
84
лучи, отраженные сетчаткой, можно использовать, чтобы
разглядеть ее. Он смонтировал несколько зеркал, управ-
ляющих ходом лучей, и добавил линзу, формирующую
изображение.
Это была, по выражению математика Жака Адамара,
участника парижского семинара, «почти очевидная идея,
которую Брюкке не мог не заметить». Почему же он не
заметил? Гельмгольц объясняет это так: «Брюкке... не
задавался вопросом, какое изображение образуют лучи,
исходящие из глаза, освещенного пучком света. Для него
это не представляло интереса. Но заинтересуйся он этим,
он смог бы достичь такого же результата, как и я». Мож-
но ли винить Брюкке в слепоте? Кто не поглощен своей
задачей, тот рискует не решить ее. Если бы Менделеев
увлекся инертными газами, неизвестно, как пошло бы де-
ло с периодическим законом.
В своей знаменитой книге о психологии изобретений
в области математики Адамар рассказывает, почему он
сам не создал теории относительности. Перед ним стояла
задача — определить понятие кривизны в так называе-
мых гиперпространствах Римана. По ходу дела он дол-
жен был выбрать форму поверхности так, чтобы кри-
визна оказалась минимальной. «Я сумел показать, что
полученный... минимум был выражением Римана, но, ду-
мая над этим, не обратил внимания на обстоятельства,
при которых достигается этот минимум...» Не допусти он
этой оплошности, он пришел бы к так называемому
принципу абсолютного дифференциального исчисления,
а этот принцип уже тесно связан с теорией относитель-
ности. Упущение следовало за упущением: познакомив-
шись с этим принципом и с преобразованиями Лорен-
ца — основой теории относительности,— Адамар, подоб-
но Пуанкаре, решил, что все это «лишено физического
смысла».
Целую главу посвящает Адамар своим ошибкам.
И все они произошли, по его мнению, либо из-за чрезмер-
ной поглощенности одной задачей, мешающей видеть
дальше собственного носа, либо, наоборот, из-за разбро-
санности, из-за того, что он изменил выбранному направ-
лению. Решая какую-нибудь проблему, ученый обязан
держаться золотой середины, распределяя свое внимание
так, чтобы всегда быть готовым увидеть новое, которое
может обнаружиться и на прямом пути и на окольном.
85-
Один эпизод, впрочем, Адамар не смог уложить
в свою схему. Он проглядел в своих вычислениях деталь,
«которая освещала всю задачу, и оставил это открытие
более счастливым и вдумчивым исследователям». Как
это получилось, он не понимает. Но можно ли все много-
образие человеческих поступков втиснуть в схемы? Есть
вещи, по поводу которых остается только пожать плеча-
ми и утешиться тем, что и гении совершали необъясни-
мые промахи. Что и делает Адамар, вспоминая случай
с Паскалем.
В работе «Искусство убеждать» Паскаль выдвинул
основополагающий принцип: «Заменять то, что опре-
делено, его определением». Дальше он подчеркнул, что,
подобно тому как невозможно все доказать, невозможно
и все определить. Существуют первоначальные понятия,
которые определить нельзя. Об этих понятиях мы с вами
говорили в первой части книги. Если бы, считает Адамар,
Паскаль догадался расположить рядом эти два тезиса,
он бы очутился перед великой проблемой логики, реше-
ние которой приводит к признанию аксиоматических
определений. Так бы на триста лет раньше, чем это слу-
чилось, была совершена революция в логике. Отчего
Паскаль не сопоставил эти две идеи? Оттого ли, что его
мысли были слишком сконцентрированы на религиозных
проблемах, как считал один из друзей Адамара? Или от-
того, что он считал их взаимосвязь само собой разумею-
щейся и не пожелал заниматься ею? Мы этого никогда
не узнаем.
И прекрасно. Скучно было бы жить на свете, если бы
все явления укладывались в схемы, никто не совершал
промахов и открывал бы все, что можно было бы от-
крыть. Кто-то заметил, что, если бы у Тихо де Браге бы-
ли инструменты поточнее, Ньютону и Кеплеру нечего бы-
ло бы делать. Это было бы ужасно. Психология творчест-
ва лишилась бы своего стержня — легенды о яблоке.
О последствиях этой катастрофы страшно даже подумать.
ЭЙНШТЕЙН ПРОТИВ ВОРА
Нет, каждому свое. Кеплеру — движение планет,
Ньютону — закон всемирного тяготения, Адамару — за-
кон распределения простых чисел, Эйнштейну — теория
относительности. Нельзя объять необъятного. Эйнштейн
86
недаром скептически относился к своим мыслям: он хо-
рошо знал им цену. И не он один. Другой великий мате-
матик и философ говорил, что в его душевной жизни «яс-
ные и разумные мысли занимали самое ничтожное
место». Это был Декарт.
Так уж устроен человек. Даже если он понимает всю
важность выбранной им проблемы, если все его помыслы
и внимание сосредоточены наилучшим образом, он не за-
страхован от ошибок и упущений: ничто человеческое
ему не чуждо. Когда мы представляем себе, как Гэмфри
Дэви, открыв калий, пляшет в своей лаборатории, как
Джеймс Уотсон, бьющийся над структурой ДНК, мечта-
ет лишь об одном — чтобы их с Фрэнсисом Криком не
опередил идущий к той же цели Лайнус Полинг, или как
Менделеев разговаривает с формулой: «У, рогатая, пого-
ди, доберусь я до тебя!», или как Давид Гильберт отвеча-
ет на вопрос: «Что бы вы сделали, если бы ожили через
пятьсот лет?» — «Я бы спросил, доказал ли кто-нибудь
гипотезу Римана»,-— когда мы представляем себе всех
этих людей, педантичных и беззаботных, склонных
к юмору и мрачных, бескорыстных и завистливых, добро-
душных и черствых, спокойных и азартных, но живых,
живых людей, а не манекенов, мы понимаем, что их слу-
чайные неоткрытия не случайны, а естественны, что эти
неоткрытая даже еще более закономерны, чем открытия,
что вообще случайность или закономерность значат
в науке немногим больше, чем в любой другой области.
Они ошибались — на то они и люди. Но они всегда умели
учиться на ошибках. На то они были и ученые.
Бывают ошибки и ошибки. Человек, не пожелавший
открыть пенициллин, был, возможно, просто ограничен-
ным человеком. А как расценить знаменитую речь лорда
Кельвина, который в канун XX века выразил сочувствие
будущим поколениям физиков. Им, сказал он, остались
на долю лишь мелкие доделки в стройном здании науки,
воздвигнутом учеными XIX века. Правда, добавил он, на
ясном небосводе физики осталось только два облачка:
одно, связанное с опытом Майкельсона, и другое — с из-
лучением черного тела. Из этих облачков возникли потом
теория относительности и квантовая теория — хороши
доделки! Так что же, Кельвин проявил слепоту или про-
зорливость? И то и другое! Таков человек. И такова диа-
лектика научной мысли.
87
Может быть, в речи Кельвина все-таки больше слепо-
ты, но не слепоты обывателя, а слепоты великого челове-
ка, «в котором отразился век», избалованный каскадом
выдающихся открытий. В одной из своих статей акаде-
мик И. Е. Тамм анализирует «слепоту» Фарадея и Эйн-
штейна. Фарадей всю жизнь искал взаимосвязь между
различными физическими явлениями, он искал ее так
упорно, как, может быть, не снилось и Лапласу. В по-
исках связи между светом и магнетизмом он открыл вра-
щение плоскости поляризации света в намагниченных те-
лах. Он пытался обнаружить зависимость между тяготе-
нием к электричеством. Он писал, что различные формы,
в которых проявляются силы материи, «как бы могут
превращаться друг в друга». Оставалось дописать фра-
зу. Но фразу он не дописал. И когда ее дописали Майер,
Гельмгольц и другие, вернее, написали по-своему, Фара-
дей не принял закона сохранения энергии! «Как можно
говорить о сохранении силы,— писал он по поводу «фра-
зы» Гельмгольца,— если она меняется в четыре раза,
а расстояние всего в два?» Он не учел одной физической
тонкости — он просто ошибся. Просто, без всякой психо-
логической или «концептуальной» подоплеки.
Ошибка Эйнштейна сложнее. Она принесла физике
огромную пользу. Идеи Эйнштейна сыграли важную
роль в развитии квантовой теории. Тем не менее, позна-
комившись с первой работой Бора, Эйнштейн сказал:
«Такую работу, может быть, мог бы сделать и я сам, но
если она правильна, то это означает конец физики как
науки». До последних дней он считал, что вероятностное
описание явлений, свойственное квантовой теории, не мо-
жет быть исчерпывающим. «Ты веришь в то, что бог иг-
рает в кости,— писал он Максу Борну,— а я в полную
закономерность в мире объективной реальности...» Свои
собственные открытия он сделал с помощью того же ве-
роятностного метода; когда же его спросили, почему он
отвергает метод, которым сам же пользуется, он ответил:
«Использую его временно как некую необходимость, но
не делаю из этого, как иные, культа». Заблуждение? Сле-
пота? Ничего подобного! Склад ума. Так уж он был
устроен.
В течение многих лет Эйнштейн выступал с изложе-.
нием парадоксов, которые, как ему казалось, доказывали
несостоятельность квантовой механики, и спорил
88
с Нильсом Бором. Об этих спорах пятнадцать лет назад
Бор рассказывал в Москве. Каждый раз, изложив оче-
редной парадокс Эйнштейна, Бор приходил в волнение.
Его лицо вытягивалось, мрачнело, глаза беспомощно
устремлялись вверх, он говорил: «Это был трагический
момент. Ведь если бы Эйнштейн оказался прав, то все
рухнуло бы! Но нет, этого не произошло. Вот что прогля-
дел Эйнштейн»,— и Бор переходил к объяснению, а его
лицо расплывалось в счастливой улыбке. Затем следова-
ло изложение нового парадокса, и снова: «Это была
страшная ситуация!» — и палец тревожно поднят кверху,
а потом, после разъяснения, снова счастливая улыбка.
За дискуссией между Эйнштейном и Бором следила
вся физика. Эйнштейн прекрасно понимал квантовую ме-
ханику, но упрямо придумывал один мысленный экспери-
мент за другим, желая показать ограниченность кванто-
во-механического описания. Бор говорил: «...Мне хочется
сегодня, когда Эйнштейна уже нет с нами, сказать, как
много сделал для квантовой физики этот человек с его
вечным, неукротимым стремлением к совершенству,
к архитектурной стройности, к классической закончен-
ности теорий... В каждом новом шаге физики, который,
казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, он
отыскивал противоречия, и противоречия эти станови-
лись импульсом, толкавшим физику вперед. На каждом
новом этапе Эйнштейн бросал вызов науке, и, не будь
этих вызовов, развитие квантовой физики затянулось бы
надолго».
В этих словах Бора и набросок склада ума Эйнштей-
на, и глубочайшая признательность своему гениальному
оппоненту, который в конце концов всегда оказывался
неправ и признавал свои ошибки. Побольше бы таких
ошибок и таких оппонентов!
Весь мир облетела фраза Бора, сказанная им по по-
воду новой теории Гейзенберга: «Для подлинно новой те-
ории она недостаточно безумна». Теории Эйнштейна
и Бора были именно такими безумными теориями. Имен-
но благодаря их торжеству мы подходим теперь без пре-
дубеждений к любым смелым гипотезам. Без предубеж-
дений, но и без некритической восторженности. Этому то-
же учил Бор. Он вовсе не встречал с распростертыми
объятиями любую безумную идею. Он бы не возвестил
«конца физики», если бы оказалось, что чья-то идея, не
89
укладывавшаяся в рамки его представлений, неопровер-
жима. Но в роли строгого и даже грозного оппонента ему
выступать случалось. Эта роль Бора связана с историей
открытия нейтрино, на которой стоит остановиться под-
робнее. Она показывает и ту атмосферу, в которой проис-
ходит «драма идей», и неожиданные изгибы в мышлении
самых отчаянных интеллектуальных смельчаков.
Напомним читателю, что нейтрино — это частица без
электрического заряда, без магнитного момента и, по-ви-
димому, без массы. Она так слабо взаимодействует с ве-
ществом, что запросто пронзает и земную твердь, и Солн-
це, и звезды. Экспериментально нейтрино обнаружили
в 1956 году, а предсказали в 1930-м. И это предсказание
было совсем другого рода, нежели пророчества Роджера
Бэкона. Это настоящее научное предсказание, равно-
значное открытию. Его историю воссоздал недавно физик
В. С. Березинский, по стопам которого мы и последуем.
БОР ПРОТИВ ПАУЛИ
В январе 1925 года двадцатилетний американский фи-
зик Роберт Крониг приехал в немецкий городок Тюбин-
ген, в университет. Там ему сказали, что приехал он весь-
ма кстати, так как в Тюбинген прибывает и Вольфганг
Паули, занятый той же проблемой, что и Крониг. В ожи-
дании Паули Крониг размышлял об электроне. Крониг
предположил, что электрон непрерывно вращается во-
круг своей оси, как волчок, а значит, обладает враща-
тельным моментом — спином. При вычислении проекции
спина на ось вращения у Кронига получалось некое
квантовое число, которое могло быть и со знаком плюс
и со знаком минус.
К удивлению Кронига, Паули оказался не маститым
метром, а тоже молодым человеком. Он понял Кронига
с полуслова и уже по дороге с вокзала в гостиницу зате-
ял с ним спор. Вращающийся волчок? Нет, это слишком
традиционно и примитивно! Квантовое число? Да, оно
существует, но оно лишено физического смысла. Это про-
сто двузначность, не поддающаяся классическому описа-
нию. Обескураженный Крониг уехал из Тюбингена на
следующий же день.
Прошел год, в течение которого идея о волчке-элек-
90
троне угасала и вновь вспыхивала в среде физиков. В нее
начинал верить Бор, и Паули пользовался любым случа-
ем, чтобы поспорить с ним. Истина установилась в нача-
ле 1926 года. Правы оказались оба — Крониг и Паули.
Электрон обладал спином. Но своим происхождением
спин был обязан не простому вращению частицы, а внут-
реннему ее строению и в этом смысле действительно не
поддавался классическому описанию. Понятие спина
распространилось и на другую известную тогда части-
цу — протон, а также на атомные ядра.
В конце 1927 года Крониг получил письмо от Паули.
Паули заведовал кафедрой в Цюрихе, он приглашал
Кронига работать у него ассистентом. «Ваша задача бу-
дет состоять только в том, чтобы каждый раз, когда
я что-нибудь скажу, противоречить мне, тщательно все
обосновывая»,— писал Паули. Диалоги между Паули
и Кронигом велись на кафедре, в кондитерской и даже
в Цюрихском озере, где Паули, по словам Кронига, имел
как прекрасный пловец «дополнительное преимущество».
Крониг показал Паули вычисления, основанные на
измерениях спектра атома азота. Из них получалось, что
спин ядра азота должен был быть равен единице. Это
было странно. Из частиц тогда были известны положи-
тельно заряженные протоны и отрицательно заряженные
электроны, и у каждого из них спин равнялся 1/2. Ядра
считали построенными из них. Ядро азота было в 14 раз
тяжелее протона. Значит, оно должно было содержать
14 протонов (ничтожно малую массу электрона в расчет
не принимали). Но заряд ядра азота был равен не +14,
а +7. Следовательно, в ядре азота, кроме 14 протонов,
должно было быть еще 7 электронов, то есть всего
21 частица. Как же у этого ядра получался равный цело-
му числу спин, если у каждой из его частиц спин равнял-
ся 1/2?
Тем временем физики столкнулись еще с одной про-
блемой, которая ставила под сомнение закон сохранения
энергии. Это был бета-распад. Так называли превраще-
ния ядер, сопровождающиеся испусканием бета-лучей
(быстрых электронов). Если несколько одинаковых ядер,
выбрасывая электроны, превращаются в другие, тоже
одинаковые ядра, то, по закону сохранения энергии, все
испущенные электроны должны иметь одинаковую энер-
гию. А этого-то и не было. Электроны обладали самой
разнообразной энергией. Физики были в недоумении,
а Дебай сказал: «Об этом, как о новых налогах, лучше
и не думать».
Паули пришла в голову мысль, достойная Лапласа:
«азотная катастрофа» и бета-распад —- два проявления
одной загадки. Решив ее, можно убить двух зайцев. Если
допустить, что внутри ядра, кроме протонов, находятся
еще нейтральные частицы со спином 1/2, то полное число
частиц в ядре азота может оказаться четным, а спив яд-
ра целочисленным. Те же нейтральные частицы спасут
и закон сохранения энергии. Можно ведь предположить,
что при бета-распаде из ядра вместе с электроном выле-
тает нейтральная частица, которая уносит часть выделя-
ющейся энергии.
В декабре 1930 года Паули написал письмо в Тюбин-
ген, где в то время проходила конференция по радиоак-
тивности. В письме он изложил свои соображения насчет
придуманной им частицы и сообщил ее имя — нейтрон.
Нейтрон не заметили в опытах с бета-распадом, потому
что он слабо взаимодействует с веществом и может
беспрепятственно проходить через его толщу. Эта идея
делала гипотезу Паули неуязвимой. Но когда техника
эксперимента станет тоньше, а частицу не найдут, при-
дется утверждать, что ее проникающая способность еще
сильнее... В такую частицу никто не поверит. Понимая
это, Паули был осторожен в своих утверждениях. Он
признавал, что если бы нейтроны существовали, их бы
уже открыли. Но все-таки... Письмо было написано
в шутливом тоне, с обращением к «радиоактивным да-
мам и господам», со всеми приличествующими оговорка-
ми, и все-таки Паули не находил себе места. Опустив
письмо, он постучался к одному из своих цюрихских кол-
лег и сказал ему: «Я совершил сегодня ужасный просту-
пок. Физику-теоретику никогда не следует этого делать.
Я предположил то, чего никогда нельзя будет проверить
экспериментально». Он и верил и не верил в свою идею.
Реакция Тюбингена, вопреки ожиданиям, была благо-
приятной, Но Паули это нисколько не обрадовало. У него
уже родились новые сомнения и новые соображения.
Спустя полгода на заседании Американского физическо-
го общества он впервые публично сообщил о нейтраль-
ных частицах. Но он уже не считал их частями ядер
и никак их не называл. Нейтрон либо входит в ядро,.либо
92
не входит. Если входит, то он должен иметь большую
массу и сильно притягиваться к ядру, чтобы удерживать-
ся там. Такой тяжелый нейтрон был ключом к разгадке
«азотной катастрофы», но он ставил под угрозу закон со-
хранения энергии: не заметить такую частицу было
невозможно. Значит, он не входит?
Нет, надо оставить пока «азотную катастрофу» в по-
кое и спасать закон сохранения энергии. А это означало,
что в «азотной катастрофе» виновата одна частица, а в
бета-распаде другая. Она рождается при бета-распаде
одновременно с электроном и уносит часть энергии. До
распада ее в ядре не было, поэтому ей и не нужны были
мощные силы, притягивающие ее к ядру. Теперь можно
смело говорить и о колоссальной проникающей способ-
ности частицы, и о ее малой массе, и о том, что ее можно
не заметить в опытах.
В те годы считалось, что выдумывать новую частицу
можно лишь в крайнем случае, когда все остальные ва-
рианты исчерпаны. Одна частица еще куда ни шло, а тут
две. Это было бы прегрешение против хорошего вкуса,
пренебрежение к изяществу физических построений,
о котором любили потолковать физики и математики,
несмотря на призыв Лоренца оставить изящество порт-
ным и сапожникам. Паули колебался. Впрочем, в подоб-
ных случаях колебался не он один. Когда Поль Дирак
изобрел первую античастицу, он отнесся к ней с насторо-
женностью, достойной не изобретателя, а скорее патенто-
веда. Сделать два гениальных шага подряд Паули не
хватало решимости. Прямо из США, где его идеи нашли
прохладный прием, он приехал в Рим, на конгресс по
ядерной физике, и прежде всего рассказал обо всем Эн-
рико Ферми. Ферми сразу поверил в реальность второй
частицы, но согласился с Паули, что доклада о ней де-
лать пока не надо. Идею надо пока обсудить в кулуарах.
Когда через два года была открыта первая частица,
нейтрон, Ферми придумал название для второй —
«нейтрино», что значит «нейтральненький».
Не одна холодность американцев заставляла Паули
помалкивать в Риме. Он знал, что в Риме будет Нильс
Бор, которому вторая частица придется не по вкусу. Еще
в 1924 году Бор вместе с двумя копенгагенскими физика-
ми предположил, что закон сохранения энергии выпол-
няется не в каждом акте излучения и поглощения кванта
93
света, а лишь в большом числе таких актов. Эта ересь
вызвала бурю споров, бушевавшую до тех пор, пока не
было экспериментально доказано, что Бор неправ. Но во
время римского конгресса Бор еще не был уверен в том,
что он неправ. Объяснение бета-распада не нуждалось
в нейтрино: в каждом отдельном акте закон сохранения
энергии мог не выполняться, и все. Паули было, нечего
возразить Бору.
И все-таки он нашел выход из положения — приду-
мал эксперимент, который должен был помочь выяснить,
кто из них прав. При бета-распаде ядер определенного
сорта лишь небольшое число электронов имеет очень ма-
ленькие и очень большие энергии. Основная масса элек-
тронов вылетает с промежуточными энергиями. Если Бор
прав, то ничто не мешает электронам хотя бы изредка
вылетать из ядра с бесконечно большой энергией. А если
прав Паули и закон выполняется в каждом акте бета-
распада, то электрон и нейтрино вместе уносят опреде-
ленную порцию энергии и энергия отдельного электрона
никогда не превысит этой порции. Установить это Паули
попросил физика-экспериментатора Эллиса.
Между тем идея нейтрино получила косвенную под-
держку: Чэдвик открыл нейтрон. Не такой уж это дурной
тон — выдумывание новых частиц. Аналогия с нейтрино
напрашивалась сама собой. Но это была всего лишь ана-
логия. Чэдвик целый год искал нейтрино и не нашел.
Единственное, что сказал Чэдвик: если нейтрино и су-
ществует, то его проникающая способность еще больше,
чем думает Паули. Окончательного решения ожидали от
Сольвевского конгресса, который открывался в Брюсселе
в октябре 1933 года. Известие от Эллиса Паули получил
только накануне конгресса. Эксперимент удался, теперь
можно выступать против самого Бора! Начав свое вы-
ступление с чисто логических аргументов, Паули перешел
к результатам опытов Эллиса. Закон сохранения энергии
при бета-распаде оставался незыблем, а значит, только
нейтрино и крадет энергию при бета-распаде.
Но что было известно об этом нейтрино? Его не видел
никто, видели лишь результаты его деятельности. Масса
его либо очень мала, либо ее, как у фотона, нет совсем.
Теоретики знали о нейтрино многое, экспериментато-
ры — ничего. Они узнали о нем кое-что, обнаружив его
следы через двадцать три года. Сенсации это не произве-
94
ло; в существовании нейтрино никто уже не сомневался,
выдумывание новых частиц становилось признаком хоро-
шего тона.
Удалось ли тогда Паули переубедить Бора? Нет. Это
произошло позже. Но кто знает, как обернулось бы дело,
если бы Паули не стремился всеми силами его переубе-
дить? Изобрел ли бы он эксперимент, который провел
Эллис? Не бросил ли бы он закон сохранения энергии на
произвол судьбы? Нейтрино утвердилось в физике не
только благодаря догадке Паули, но и благодаря проти-
водействию Бора, сыгравшему в этой истории ту же
роль, что и Эйнштейн в истории квантовой теории. Свои-
ми возражениями Бор проверял на прочность каждое
звено в логических построениях Паули. Это было полез-
но и для Паули и для Бора. «Мы всегда извлекали поль-
зу из замечаний Паули,— говорил Бор,— даже когда
временно были с ним не согласны; если же он чувствовал
необходимость изменить свои взгляды, он признавал это
откровенно...»
НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ
История нейтрино поучительна в высшей степени. Ма-
ло сблизить два далеких факта. Мало убедиться в их
внутренней общности и решиться убеждать в этом дру-
гих. Нужно еще быть готовым к тому, что из их сближе-
ния может родиться новый, неожиданный факт, и снова
набраться духу убеждать в этом своих и без того скепти-
чески настроенных оппонентов. И нужно постоянно сов-
мещать две почти несовместимые вещи — уверенность
в своей правоте и готовность признать свою ошибку. Все
это называется стилем научного мышления.
Есть общий стиль, и есть стиль индивидуальный, про
который сказано: «Стиль — это человек». Историки на-
уки, а больше всего сами ученые не раз занимались клас-
сификацией научных умов, пытаясь разобраться в драме
идей с помощью драмы характеров. Де Бройль, напри-
мер, делил теоретиков на абстрактные умы, которые
предпочитают идти всегда от общего к частному, недо-
любливают наглядные образы и склонны преуменьшать
роль реальности внешнего мира, и на интуитивные умы,
склонные к образным представлениям и смелой индук-
ции и убежденные в реальности внешнего мира. Конечно,
95
можно обнаружить промежуточные звенья между этими
двумя категориями и раздробить каждую категорию на
более мелкие, но главные тенденции останутся все равно.
Оствальд тоже поделил всех ученых на две группы —
на классиков и романтиков. Классики — это маститые
ученые, знающие все, что было сделано в их области. Их
исследования строго продуманы. Они методичны и по-
следовательны. Их основной метод—логическое развитие
нового на основе старого, то есть вчерашнего нового.
Прекрасные экспериментаторы, они уверенно поднима-
ются по ступеням научного познания. Иногда целые об-
ласти науки разрабатываются руками одной класси-
ческой школы. Классики однолюбы: одной проблеме они
часто посвящают всю жизнь, и смена области исследова-
ния для них болезненна. У них велика сила инерции. Ро-
мантики — тип совершенно противоположный. Они часто
моложе классиков; они тоже много знают, но их знания
шире, они живо интересуются смежными, иногда весьма
отдаленными областями знаний. Это развивает у них во-
ображение и умение прибегать к неожиданным аналоги-
ям. Их исследования весьма самобытны. Ход их мысли
иногда проследить трудно, ибо новая мысль приходит
к ним по пути далеких ассоциаций. Экспериментируют
они смелее классиков. Редко случается, чтобы романтик
разработал целую область науки, но часто важнейшие ее
вехи ставятся руками романтиков. Романтики непоседы:
они переходят от одной области к другой с легкостью.
Классификация Оствальда похожа на классифика-
цию де Бройля. Психологически мы сближаем романти-
ков с интуитивными умами, а классиков с абстрактными.
Но это сближение обманчиво. Мы же знаем, что и
абстракции бывают наглядны. Кем мы назовем Эйн-
штейна, который долгие годы разрабатывал одну
проблему, ни секунды не сомневаясь в физической
реальности мира? А Бора?
Гениальным взлетом физической интуиции считал
Эйнштейн выдвинутую Бором модель атома, построен-
ную на основе отрывочных фактов. Он называл ее наи-
высшей музыкальностью в области мысли. Что это зна-
чит? Эйнштейн считал, что критериями выбора научной
теории должно быть «внешнее оправдание», согласие
между теорией и наблюдением, и «внутреннее совершен-
ство», предельная естественность, связь с исходными по-
96
сылками. Уже на первых стадиях построения теории ин-
туиция подсказывает, будет ли верен выбранный путь.
Эта исходная интуиция близка к тому моменту творчест-
ва, о котором говорил Моцарт, самый любимый компози-
тор Эйнштейна, «когда в одно мгновенье слышишь всю
еще не написанную симфонию». Но «наивысшая музы-
кальность в области мысли» — это говорилось о Боре.
Эйнштейн любовался в нем тем, чего ему самому, как он
думал, не хватало.
Как-то Л. Д. Ландау спросил Бора: «Каким вы обла-
дали секретом, который позволил вам в такой степени
сконцентрировать вокруг себя творческую теоретическую
молодежь?» Бор ответил: «Никакого секрета не было,
разве только то, что мы не боялись показаться глупыми
перед молодежью». Бор был не только гениальный уче-
ный, но и замечательный человек. Все бывали очарованы
его искренностью, общительностью и доброжелатель-
ностью, сочетавшейся с твердостью и непреклонностью
убеждений. Таков был, впрочем, и Эйнштейн, за исклю-
чением того, что молодежь не концентрировалась вокруг
него, хотя он тоже не боялся показаться глупым. Просто
по складу характера он не был учителем. Его любили так
же, как Бора, но его не побаивались. Когда физик
А. А. Фридман послал Эйнштейну письмо, в котором
выражал несогласие с некоторыми его идеями, он не ис-
пытывал того трепета, который испытывал Паули по
дороге в Рим.
Польский физик Инфельд сравнил Эйнштейна
с Ньютоном. Закон всемирного тяготения был итогом
пятнадцатилетних размышлений Ньютона и содержал
в себе окончательное решение проблемы на двести
с лишним лет вперед. Общая теория относительности, по-
сягнувшая на закон тяготения,— плод десятилетнего
труда Эйнштейна. И в ней тоже еще никто ничего не из-
менил.
Если Эйнштейна можно сравнить с Ньютоном, то Бор
похож на Фарадея. Фарадей создал принципиально но-
вые концепции в науке об электричестве. Благодаря
своей гениальной интуиции он понял, что для описания
явлений в этой области науки надо порвать с представ-
лениями классической механики. Бор понял, что класси-
ческая механика не годится для микромира, и, подобно
тому как Фарадей ввел в описание явлений электричест-
4 Формула открытия
9Z
ва понятие поля, применил квантовую теорию к описа-
нию строения атома. Оба они обладали воображением,
граничащим с ясновидением. Один видел силовые линии,
другой — атом. Оба оперировали простым математи-
ческим аппаратом. Но, признается Инфельд, так же как
вопрос, кто более велик, Ньютон или Фарадей, бессмыс-
лен, раскладывать по полочкам людей такого масштаба,
как Бор и Эйнштейн, занятие еще более наивное. Речь
идет лишь о контурах двух самых основных типов
мышления, накладывающих свой отпечаток на процесс
познания, на отношение к новым идеям, к науке вообще.
В сущности, Инфельд поддерживает классификацию
де Бройля, хотя всячески оговаривает ее условность. Бор
принадлежит к натурам интуитивным. Но интуиция свой-
ственна и Эйнштейну. Два типа интуиции? Эйнштейну
была близка формула Лейбница: «Музыка — наслажде-
ние души, которая вычисляет, сама того не зная». Интуи-
ция Эйнштейна похожа на предвосхищение вычислений,
которые ведутся по правилам, а интуиция Бора предвос-
хищала не только вычисления, но и все конструкции ра-
зума, нарушающие старые логические правила. Этого не
знала не только классическая физика, но и физика, про-
никнутая идеей относительности. И в этом смысле Эйн-
штейн был по преимуществу классик, а Бор романтик. По
преимуществу, но не целиком. Оба они хорошо понимали
незавершенность своих теорий и оба ощущали возмож-
ное их слияние в будущем. И многие думают, что насту-
пит время, когда физика перейдет от поправок, вносимых
одной теорией в другую, к их синтезу.
Современное науковедение относится к классифика-
циям Оствальда и де Бройля иронически: устарели. Уче-
ных делят уже на восемь типов. Тип первый — фанатик.
Наука для него — вся жизнь; он неутомим, любознате-
лен, требователен, часто плохо уживается с другими. Тип
второй — пионер. Это кладезь новых идей. Он охотно пе-
редает идеи другим, вдохновляет их, открывает новые
пути; он хороший организатор и учитель. Тип третий —
диагност. Это умный критик, способный сразу обнару-
жить сильные или слабые стороны научной работы. Тип
четвертый — эрудит. У него великолепная память и уме-
ние ориентироваться в различных областях знания, но он
натура нетворческая. Пятый — техник, человек, умею-
щий придать законченность чужой работе, неплохой ло-
68
гик и стилист, отлично уживающийся со своими коллега-
ми. Шестой — эстет, увлеченный изящными решениями,
интеллектуал с пренебрежительным отношением к «ра-
ботягам». Седьмой — методолог. Он любит выступать
и учить других, как надо работать, хотя его собственные
достижения не всегда интересны. Наконец, тип вось-
мой — независимый. Это индивидуалист, который тер-
петь не может административной работы; он увлечен
своими идеями, но не любит рассказывать о них и не про-
являет напористости при их внедрении в жизнь; он
упрям, уверен в себе, наблюдателен, отличается живым
умом и больше всего на свете не любит, чтобы ему ме-
шали.
Классификация вполне современна: это анализ науч-
ного коллектива, каждый из типов рассматривается
в отношениях с другими. Она может быть полезна для
руководителя, подбирающего сотрудников для решения
коллективной проблемы, да и то вряд ли. Ведь это про-
крустово ложе, а не классификация. Кто влезет в нее?
Любой незаурядный исследователь тяготеет сразу
к нескольким полюсам. Кем был Эйнштейн, если не фа-
натиком, пионером, диагностом, эстетом и независимым
в одно и то же время? А Бор? Пионер, диагност, техник...
Комментируя эту классификацию, которую если и мож-
но принять, то «для простоты», писатель Д. С. Данин
вспоминает, как П. Л. Чебышев читал в Париже лекцию
о математической теории конструирования одежды. По-
слушать знаменитого математика пришли лучшие за-
кройщики, модельеры и законодатели мод. Чебышев на-
чал лекцию так: «Господа, примем для простоты, что
человеческое тело имеет форму шара». Остальное он
договаривал в пустоту.
Интереснее проникать в склад ума и в глубины лич-
ности, а не только в поведение. Одно маленькое наблюде-
ние стоит здесь десятка классификаций. Эшби как-то
заметил, что, когда Ньютон был молод, он всегда пред-
ставлял себе любые явления как бы непрерывно проте-
кающими в чем-то другом. И не удивительно, что, когда
назрело открытие дифференциального исчисления, осно-
ванного на принципах непрерывности, Ньютон оказался
первым, кто его совершил. В начале же нашего века на-
ука буквально требовала человека, способного представ-
лять себе все явления в виде прерывистых скачков, ма-
99
леньких порций — квантов. Таким человеком был Макс
Планк, который и заложил основы квантовой теории.
Имей Ньютон несчастье родиться около 1900 года, он не
был бы Ньютоном, он даже мог бы не понять квантовой
теории.
Классик Ньютон... Кто он по восьмеричной классифи-
кации? Фанатик? Несомненно. Пионер? Нет! Диагност?
Да! Эрудит? Нет... Независимый? И да и нет. Он терпеть
не мог, чтобы ему мешали, но в борьбе за приоритет не
знал пощады. Всем известна его знаменитая фраза: «Ес-
ли я видел дальше других, это потому, что я стоял на
плечах гигантов». Гиганты — это древние философы. Фра-
за аттестует Ньютона наилучшим образом: скромность
без самоуничижения, великодушие в оценке предшест-
венников, понимание своего места в истории. Фраза эта
находится в письме Ньютона к Гуку. Он отвечал на лест-
ное письмо Гука, пребывая, однако, в состоянии застаре-
лого раздражения из-за некоторых справедливых претен-
зий Гука на приоритет. Природа обидела Гука ростом:
он был маленьким, скрюченным человечком. И в наших
глазах знаменитая фраза вдруг приобретает совсем иной
смысл: не намек ли эти «плечи гигантов» на рост Гука,
сводящий на нет его действительные заслуги? Какое уж
тут великодушие! Принимать такое толкование не хочет-
ся, говорит Д. С. Данин, но оно не менее правдоподобно,
чем любое другое. Великие люди — не ангелы.
„ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ПЛАСТИНКА"
Условность и ущербность классификаций признают
все, и, однако, ими не устают заниматься. Виноваты сами
ученые, вернее научное мышление, преобладающее в на-
ши дни. Как замечает член-корреспондент АН СССР
М. В. Волькенштейн, ученый сознательно или бессозна-
тельно классифицирует все явления — от своих знако-
мых до исторических событий. Те, кто близко знал Лан-
дау, помнят его манеру раскладывать все по полочкам.
В музее-квартире Менделеева в Ленинграде вы увидите
собственноручно составленный Менделеевым каталог его
библиотеки, каталог оттисков статей, которые присылали
ему химики всех стран, перечень присужденных ему на-
учных степеней и званий. Менделеев любил живопись,
100
даже публиковал рецензии о выставках и вклеивал
в альбомы все репродукции картин передвижников.
Никакая наука не может развиваться без классифи-
кации наблюдаемых явлений. Биология началась с клас-
сификации видов, составленной Линнеем. Без Линнея не
было бы Дарвина. Без Менделеева-классификатора не
было бы Менделеева — открывателя периодического за-
кона. Классики, в толковании Оствальда, это классифи-
каторы. Сами ученые и занимаются классифицированием
й подтрунивают над собой. Среди них и родился анекдот
об одном биологе, который всю жизнь изучал строение
дождевого червя и публиковал статью за статьей об од-
ном его сегменте за другим. Когда его спросили, скоро ли
он дойдет до хвостового сегмента, он, перефразируя ла-
тинскую поговорку «Жизнь коротка, а искусство вечно»,
ответил: «Жизнь коротка, а червяк длинен».
Классификация ведет к системе, а система к стройной
картине мира. Нельзя отдать предпочтение одному типу
ученого перед другим. Здание науки строится и класси-
ками и романтиками, и блестящими талантами и скром-
ными тружениками. Классик Эйнштейн жалел только
о том, что он недостаточно хороший классик Он завидо-
вал не романтику Бору, а другому классику, Максу Бор-
ну. «Если бы у меня был зад Макса Борна,— сказал
он,— я бы сделал много больше».
Недавно исполнилось восемьдесят лет главе совет-
ской школы молекулярной биологии, академику
В. А. Энгельгардту. По этому поводу было произнесено
немало речей. Сам юбиляр тоже сказал кое-что. И самое
интересное из того, что он сказал, было воспоминание об
уроке, который преподал ему полвека назад биохимик
А. Н. Бах. По совету Баха Энгельгардт занялся изучени-
ем иммунитета. Проработав некоторое время, он пришел
к Баху и сообщил ему, что у него появились очень инте-
ресные мысли: вырисовывается новая теория иммуните-
та. Бах покорно выслушал эти мысли и сказал: «Дорогой
мой, если б мне за это платили, я бы всю жизнь сидел
и выдумывал разные интересные мысли. Поработайте-ка
лучше еще за лабораторным столом». С тех пор, говорил
Энгельгардт, «я стараюсь уделять фактам чуть больше
внимания, чем замысловатым идеям... Но за фактами
все-таки так заманчиво увидеть идею, хоть это и не все-
гда возможно».
101
Энгельгардт привел пример такого факта:
«Я помню, как буквально подскочил в кресле, прочи-
тав, что фермент, которым мы много занимаемся, так на-
зываемая ревертаза, содержит атом цинка. Какие мы ро-
тозеи, что не додумались полученный нами химически
чистый препарат фермента сунуть в пламя горелки, не
посмотрели в спектроскоп и не увидели линию цинка...
Но остается вопрос: какое значение имеет обнаружение
цинка? В данный момент никакого. Это факт, голый
факт. Никакой идеи за ним не скрывается... И все же
позднее, может быть, какие-нибудь идеи из него и ро-
дятся».
Прочитав эти слова Энгельгардта, один наш знако-
мый из Института биофизики вспомнил, как его коллеги
так же подскочили на стуле, обнаружив цинк в одной из
мозговых структур. Там оказался не просто цинк,
а неправдоподобно много цинка. Мозговая структура,
о которой идет речь, называется гиппокамп. Первую мо-
дель гиппокампа нейрофизиолог О. С. Виноградова со-
здала лет семь назад. К тому времени было уже извест-
но, что гиппокамп — это оживленный перекресток, через
который проходят пути из глубинных отделов мозга
в кору, и что его поражение вызывает нарушения в эмо-
циональной сфере, неблагоприятно сказывающиеся на
памяти, а то и полную утрату памяти на происходящее.
Но какова истинная роль гиппокампа? Ответ на этот во-
прос могло дать лишь изучение реакций его нейронов.
Большинство из них оказалось нейронами новизны.
В отличие от специализированных нейронов, каждый из
которых откликается только на свой стимул — на свет,
на звук, на формы или виды движений,— нейроны новиз-
ны реагируют только на перемену в обстановке, незави-
симо от того, что в ней меняется. Идут одни и те же
вспышки света — реакция постепенно угасает, нейроны
теряют к ним интерес; меняется интенсивность вспы-
шек — реакция возникает вновь. Реакцию нейронов изу-
чали на кроликах, которые сидели в клетках и жевали
морковку, не обращая внимания на то, что в их гиппо-
кампы были вживлены регистрирующие электроды.
Нейроны гиппокампа вели себя так же, как и всякие
нейроны новизны, и вместе с тем как бы наоборот: при
появлении нового сигнала умолкали, а привыкая к нему,
оживали. Виноградова даже не сразу сообразила, что
102
умолкание и было их реакцией, а обычная фоновая ак-
тивность — ее отсутствием. Не кроется ли в этом пара-
доксе ключ к пониманию роли гиппокампа?
Виноградова решила посмотреть, чем заняты во вре-
мя молчания гиппокампа его соседи. Оказывается, в это
время активизируется ретикулярная формация — струк-
тура, управляющая уровнем внимания. Посылая потоки
импульсов в кору, она заставляет ее отделы изучать все,
что передают ей органы чувств, и запоминать происхо-
дящее.
Происходящее изучено — гиппокамп оживает. Ожи-
вает затем, чтобы притормозить активность ретикуляр-
ной формации. Выходит, гиппокамп — сравнивающее
устройство. Он сличает поступающий сигнал с храня-
щимся в памяти эталоном и решает, стоит его запоми-
нать или нет. Его интересует не содержание сигнала,
а разница между новым и старым: в записях, отражаю-
щих его активность, нет и намека на рисунок сигнала. Но
где же найти этот намек, где начинается циркуляция им-
пульсов — процесс запоминания?
Поиски увенчались успехом. Модель усложнилась.
Представьте себе два круга циркуляции импульсов, ле-
вый и правый, с нанизанными на них кружками помень-
ше, обозначающими отделы лимбической системы мозга,
куда входит и гиппокамп. Большие круги соприкасаются
друг с другом двумя маленькими кружками. Все это на-
поминает систему шестеренок. Правый кружок — это
и есть сравнивающее устройство, получающее сигналы
о новых событиях от ретикулярной формации и коман-
дующий ею по системе обратной связи. Так образуется
правый круг циркуляции. Если сигнал достоин запомина-
ния, правый кружок сообщает о нем левому. Начинается
циркуляция импульсов по левому кругу — к так называе-
мым мамиллярным телам и дальше — к коре. В импуль-
сах левого круга рисунок сигнала уже виден. Выясни-
лось и откуда поступает эталон для сравнения — через
зубчатую фасцию, крошечный отдел лимбической систе-
мы. Назначение зубчатой фасции раньше никому не бы-
ло известно. В больших волокнах зубчатой фасции и на-
капливается очень много цинка. Отчего это происходит
и зачем? Какая идея кроется за этим фактом? Этого по-
ка никто не знает. Соблазнительно было бы предполо-
жить, что между тем цинком, который нашли в реверта-
103
зе, и цинком зубчатой фасции существует какая-нибудь
связь. Пока что для такого предположения нет основа-
ний. Но кто знает, что будет дальше?
Когда была создана первая модель гиппокампа, мы
спросили Виноградову, чем она собирается заниматься
дальше. «Гиппокампом. Мы теперь все рабы гиппокам-
па,--сказала она, имея в виду сотрудников своей лабо-
ратории. — Рабы надолго, может быть, на всю жизнь».
Через шесть лет мы снова встретились с Виногра-
довой.
«Рабство принесло кое-какие плоды,— сказала она
и продемонстрировала нам новую модель, с шестеренка-
ми,— И рабство продолжается. Не для всех, конечно.
Некоторым оно стало в тягость, и они занялись другими
проблемами. Я же не оставлю гиппокамп до тех пор по-
ка не узнаю о нем ьсе, что о нем можно узнать. Может
быть, этого не произойдет никогда- гиппокамп не устает
загадывать загадку за загадкой».
Классик Виноградова или романтик? Отношения
у нее с мозгом — как у Менделеева с формулами Когда-
то она сказала: «Ненавижу мозжечок!» Вы могли бы
ненавидеть мозжечок или гипофиз? Или бета-распад?
Или теорему Ферма? Ученый может Он относится
к объектам своих исследований, как к живым людям.
«У, рогатая!» Конечно, рогатая. А какая же еще?
Несколько лет назад академик П. С Александров
вспоминал о своем учителе, выдающемся математике
Н. Н. Лузине: «Мне запомнилась его фраза, сказанная
при одной из наших многочисленных встреч: «Я дни
и ночи думаю над аксиомой Цермело... Ах, если бы кто-
нибудь знал, какая это замечательная вещь!»
Классик был Лузин или романтик? Разве не роман-
тична привязанность к одной проблеме? Можно ли клас-
сически изучить проблему, если не влюблен в нее, если не
считаешь себя ее рабом в самом романтическом смысле
этого слова?
Классик или романтик был великий врач Боткин? Вот
отрывок из его письма:
«Я взялся за лягушек и, сидя за ними, открыл новый
кураре в лице сернокислого атропина, надо было проде-
лать с ним все опыты, какие были сделаны с кураре. Но-
визна приемов работы... удачные результаты и поучи-
тельность самой работы до того увлекали меня, что
104
я просиживал с лягушками с утра до ночи, просиживал
бы и больше, если бы жена не выгоняла меня из кабине-
та, выведенная, наконец, из терпения долгими припадка-
ми моего, как она говорит, помешательства... До такой
степени меня охватывает какая-нибудь работа... я реши-
тельно умираю тогда для жизни, куда ни иду, что ни де-
лаю,— перед глазами все торчат лягушки с перерезан-
ными нервами или перевязанной артерией. Все время,
что я был под чарами сернокислого атропина, я даже не
играл на виолончели, которая теперь стоит заброшенной
в уголке».
Не классик, хотя и изучал атропин классически, не
романтик, хотя и «помешался» на нем. Просто настоя-
щий ученый, который, как сказал однажды академик
Н. Н. Семенов, если бы ему не платили ни гроша, все
равно продолжал бы свои исследования и был бы готов
заплатить сам, лишь бы его не лишали такой возмож-
ности. Настоящий ученый, охваченный «одной, но пла-
менной страстью» — поисками научной истины.
Доклад Виноградовой о гиппокампе произвел в Кем-
бридже настоящую сенсацию. Собравшиеся там класси-
ки и романтики аплодировали ей с одинаковым энтузи-
азмом.
В Кембридже есть Кавендишская лаборатория, где
вместе с другими знаменитостями работал когда-то
Чарльз Вильсон. Начал он с исследований формирова-
ния облаков — явления, хорошо ему знакомого во время
путешествий по шотландским горам. Вильсон никогда не
оставлял этой проблемы, и она повела его по неожидан-
ным путям. Он обнаружил, что вокруг наэлектризован-
ных ионов, которые возникают под действием земной или
космической радиации, образуются капельки влаги. Это
открытие легло в основу метода Дж. Дж Томсона, со-
зданного для определения заряда ионов, возникающих
под действием рентгеновских лучей. Потом Вильсон сам
использовал свое открытие — изобрел камеру, которая
позволяет увидеть след ионизирующей частицы. Воздух
в камере охлаждают, и жидкость конденсируется на
ионах, которые, таким образом, становятся видимыми.
Камеры Вильсона стали важнейшими приборами
в ядерной физике и больше чем что-либо иное способст-
вовали тому, что элементарные частицы стали физи-
ческой реальностью.
105
Вильсон был великолепный экспериментатор. Он ра-
ботал очень медленно и сам делал большую часть своих
приборов. Про него рассказывают такой анекдот. Один
физик попрощался с Вильсоном, шлифовавшим стеклян-
ную пластинку в своей комнате в Кавендише, и уехал на
три года. Когда он возвратился, он застал Вильсона за
тем же занятием. «Я понимаю ваше изумление,— сказал
Вильсон, улыбнувшись.— Но это уже другая пластинка».
«Я понимаю вас,— мог бы сказать и, возможно, гово-
рил сотрудник той же лаборатории Морис Уилкинс
нетерпеливому Фрэнсису Крику,— но это не та, это дру-
гая рентгенограмма, и на ней структура ДНК видна от-
четливей, чем на предыдущей». То же могла сказать
и Мария Кюри, проделавшая десять тысяч перекристал-
лизаций, чтобы добыть крупицу радия: «Это уже другая
перекристаллизация». Иначе не бывает в науке. Один
сегмент червя не похож на другой. Модель гиппокампа
1974 года не похожа на модель 1969 года. Как говорит
Волькенштейн, цитируя фразу Эйнштейна о Максе Бор-
не, просиженные штаны играют в науке не меньшую
роль, чем внезапные озарения. Правда, можно весь век
шлифовать пластинки, но не собрать из них камеры.
Именно от этого предостерег Резерфорд одного из своих
сотрудников. Заметив, что тот часто задерживается
в лаборатории допоздна, Резерфорд поинтересовался,
чем он занимается. «Работаю»,— сказал тот. «А когда
же вы думаете?»
В 1958 году на конференции в Боулдере произошло
одно драматическое столкновение. Известный биофизик
Сциллард сказал:
— Проблемы синтеза белка гораздо ближе к реше-
нию, чем многие думают. Если вы будете ставить опыт за
опытом и завершать один опыт в год, на все это потре-
буется пятьдесят лет. Но если вы на некоторое время от-
ложите эксперименты и задумаетесь над тем, как вообще
может синтезироваться белок, окажется, что существует
всего пять различных способов, а не пятьдесят. И потре-
буется всего несколько опытов, чтобы установить, как
происходит синтез.
Многие были смущены. Один специалист по электрон-
ной микроскопии сказал:
— Господа, вы уходите в сторону. Это философия
науки.
106
— Я спорю не с третьеразрядными, а с перворазряд-
ными учеными,— отпарировал Сциллард.
Тогда поднялся известный биолог и сказал:
— Нет двух клеток, обладающих одними и теми же
свойствами. Знаете ли, есть ученые и есть люди в науке,
которые просто работают над этими сверхупрощенными
моделями, например цепями ДНК.
— Есть два рода биологов,— ответил на это другой.—
Одни стараются увидеть, нет ли чего-нибудь такого, что
можно понять, а другие твердят, что все очень сложно
и понять ничего нельзя.
Когда участники спора покидали заседание, один из
них пробормотал:
— Что же, я, по мнению Сцилларда, должен покон-
чить с собой?
Многие из недавних триумфов в молекулярной биоло-
гии были достигнуты благодаря «сверхупрощенным мо-
делям» и тем методам к которым призывал Сциллард.
Эти триумфы достались не тем людям, которые утверж-
дали, что нет двух одинаковых клеток, хотя это и верно,
а тем, кто огляделся вокруг и постарался увидеть, нельзя
ли чего-нибудь понять. Это был старый вопрос: как пе-
рейти от перебора вариантов к системе, от просеивания
песка к настоящему планированию, как, шлифуя
пластинку за пластинкой, не забыть невзначай, для чего
они шлифуются,— не забыть, что за деревьями существу-
ет лес.
ВСТРЕЧА С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ
Правда, в лесу может попасться такое дерево, кото-
рое никак не ожидаешь увидеть, и тут уж самое глав-
ное— не пройти мимо. Каждому исследователю его от-
крытие кажется неожиданным: если бы то, что получи-
лось, ничем не отличалось от того, что ожидалось, не бы-
ло бы и открытия. Кто мог ожидать, что реакция нейро-
нов гиппокампа выразится в их умолкании? Но уж если
это обнаружилось, надо догадаться, для чего они умо-
лкают. Все, с чем неожиданно сталкивается ученый, тре-
бует от него ответа на вопрос: «Что это означает?» Но
неожиданность неожиданности рознь. Бывает принципи-
альная неожиданность — непредсказуемость.
У Капицы есть еще одна классификация; сообщил он
107
о ней в 1959 году, на Международном симпозиуме по
планированию и организации науки. Капица говорил об
открытиях самого высокого класса, которым случай бла-
гоприятствовал в такой же мере, как и закономерный ход
событий. «Я хотел бы определить новое явление как
естественное явление, которое нельзя ни предвидеть, ни
объяснить на основе имеющихся концепций»,— говорил
он. Таких явлений, по его мнению, за сто пятьдесят лет
было в физике всего семь.
Прежде всего Капица назвал открытие электрическо-
го тока, сделанное Гальвани в 1789 году. Затем — откры-
тие влияния электрического тока на магнитную стрелку,
сделанное в 1820 году Эрстедом. В том же, что Фарадей
открыл магнитную индукцию, не было ничего нового. Ее
можно было предугадать: она обратна тому, что открыл
Эрстед. Открытие Эрстеда привело к уравнениям Макс-
велла и ко многому другому, но все это было развитием
основного открытия, которое предсказать было невоз-
можно.
Третий пример нового явления — внешний фотоэф-
фект (истечение электронов из твердого тела под влияни-
ем света), открытый Генрихом Герцем. На основе этого
открытия Эйнштейн вывел свои уравнения. Получить
чисто теоретически эти уравнения было невозможно.
Квантовая теория тоже родилась из открытия фотоэф-
фекта. Затем следует открытие радиоактивности, сделан-
ное Беккерелем: радиоактивность нельзя было предуга-
дать на основе теории. С этой точки зрения открытию
электрона Капица в самостоятельности отказывает.
Непредвиденный результат принес эксперимент Май-
кельсона и Морли. Список непредсказуемых явлений за-
вершается открытием космических лучей и делением
ядра.
Жестокая классификация. Известно, например, что
Планк пришел к теории квантов, размышляя над пробле-
мой распределения энергии в спектре излучения абсо-
лютно черного тела. Но логика Капицы неумолима. То,
что Планк шел иным путем и исходил не из фотоэффек-
та, ничего не доказывает. Создание квантовой теории бы-
ло неизбежным и открытие фотоэффекта неизбежным, но
теорию квантов можно было предсказать, а фотоэффект
нельзя.
К сожалению, все это осмысливается задним числом.
108
В тот момент, когда исследователь сталкивается с не-
ожиданным явлением, в нем борются разные чувства. Он
недоумевает. Недоумение сменяется восторгом. А вос-
торг — привычным стремлением истолковать новое явле-
ние на основании того, что ему уже известно. Всякое но-
вое знание является нам в оболочке старых понятий,
приспособленных для объяснения прежнего опыта. Не
будь этой оболочки, открытие любого факта, не укла-
дывающегося в рамки существующих теорий, при-
водило бы к их немедленному пересмотру, а часто
и к ломке всего научного мировоззрения, и наука не мог-
ла бы развиваться нормально.
В принципе человек никогда не стремится к абсолют-
ной новизне. Охота к перемене мест, жажда приключе-
ний, желание познакомиться с новыми людьми — все это
стремление к расширению существующего кругозора,
к углублению существующих знаний, к ассимиляции но-
вого со старым. Эта ассимиляция и лежит в основе того
удовлетворения, которое получает человек от своей лю-
бознательности. Восприимчивость к новому равносильна
гибкости и готовности памяти. Недаром сказал поэт, что
читать по-настоящему можно только вспоминая. Черес-
чур новое явление может пройти мимо сознания, не оста-
вив в нем никакого следа: оболочка старых понятий
окажется слишком тесной, чтобы вместить его. Так
Ньепс, открыв радиоактивность, закрыл ее и заставил
дожидаться Беккереля. Но и с Беккерелем было все
не так-то просто.
Анри Беккерель был специалистом по фосфоресцен-
ции. В конце 1895 года весь ученый мир заинтересовался
открытием Рентгена. В его опытах лучи испускались
стенкой стеклянного сосуда в том месте, куда попадало
катодное излучение. Стенка фосфоресцировала. Бекке-
рель подумал, что фосфоресценция вообще связана
с лучами Рентгена, и решил исследовать, не испускают
ли их обычные тела, фосфоресцирующие после освеще-
ния. Беккерель интересовался тогда солями урана, по-
этому он решил испытать именно их.
Он выставил на солнце пластинки, покрытые урано-
вой солью, затем завернул их в черную бумагу и поло-
жил в кассету вместе с фотографической пластинкой.
Быть может, лучи Рентгена пройдут из фосфоресцирую-
щей соли сквозь черную бумагу и подействуют на фото-
109
пленку? Пластинка потемнела. Беккерель решил повто-
рить опыт. Он подготовил несколько кассет, поместил
в каждую фотопластинку и пластинку, покрытую солью
урана и завернутую в черную бумагу, и стал дожидаться
солнечного дня. Солнце появилось 1 марта 1896 года.
Беккерель достал кассеты, но, как и полагается добросо-
вестному экспериментатору, решил сначала проверить,
не произошло ли что-нибудь с пластинками. Каково же
было его удивление, когда он обнаружил, что фото-
пластинки потемнели. Значит, уран испускает проникаю-
щее излучение неизвестной природы. Так ученый, руко-
водствуясь неверной идеей, сделал открытие, создавшее
эпоху в истории человечества.
В известной степени Беккерель был готов к своему от-
крытию. После Рентгена все только и говорили об икс-
лучах. Беккерель уже не мог бы оказаться в положении
Ньепса. Не открой радиоактивность он, ее бы обнаружил
какой-нибудь метеоролог, изучающий ионизацию возду-
ха в ураноносных районах. И к сообщению метеоролога
отнеслись бы с таким же вниманием. Почва была подго-
товлена, случайность примеряла одежды необходимости.
И все же никто не мог подумать, что, кроме лучей Рент-
гена, существуют проникающие лучи иной природы.
Ровно через год, 1 марта 1897 года, Беккерель публи-
кует статью, в которой указывает на то, что урановые
лучи ионизируют воздух. В конце 1898 года Мария
и Пьер Кюри сообщают, что они открыли радий. Через
три недели Резерфорд доказывает, что лучи, испускае-
мые ураном, состоят из альфа-частиц и бета-частиц.
В октябре 1899 года Дебьерн открывает актиний... Все
идет своим чередом. Физики и химики отказываются от
представления о неделимых атомах, начинают понимать
природу внутриатомной энергии и, кажется, отдают себе
отчет в том, что продолжается не что иное, как знакомст-
во с новым явлением.
Но это только кажется. Физик Крукс, трубке которого
Рентген обязан открытием своих лучей и который мог бы
их открыть и сам, заявляет в 1898 году, что уран и тому
подобные «радианты» обладают способностью заимство-
вать энергию у тех частиц воздуха, которые ударяются
об их поверхность и обладают большим запасом энергии.
Энергию эту «радианты» отчасти запасают, а отчасти из-
лучают в виде очень коротких волн.
110
Через год Мария Кюри рассматривает несколько воз-
можных объяснений радиоактивности. «...Нет ничего
невероятного в том, что пространство является сферой
передачи энергии, о которой мы не имеем никакого пред-
ставления»,— говорит она, поддерживая предположение
Крукса.
В 1903 году в Лондоне читает доклад Пьер Кюри. Он
говорит, что, может быть, существует некий род лучей,
недоступных нашим чувствам. Может быть, радий спосо-
бен поглощать часть этих лучей и превращать их энер-
гию в энергию радиоактивных тел.
То же самое!
Тогда же Менделеев выпускает седьмое издание
«Основ химии» и пишет там, что он вовсе не склонен при-
знавать превращаемость элементов друг в друга и не ви-
дит происхождения радиоактивных веществ из урана.
В другой своей работе, которая называется «Попытка
химического понимания мирового эфира», Менделеев
выдвигает следующую гипотезу для объяснения радиоак-
тивности: «Представив вещество мирового эфира легчай-
шим газом х, лишенным, как гелий или аргон, способ-
ности образовывать стойкие... соединения, нельзя вооб-
разить, что этот газ будет лишен способности, так сказать,
растворяться или скопляться около больших центров
притяжения, подобных в мире светил — Солнцу, а в мире
атомов — урану и торию».
Через год с теми же соображениями выступает
московский физик Умов. Особенно его привлекает идея
Кюри, будто радиоактивный атом есть механизм, посто-
янно всасывающий извне энергию, а затем ее излучаю-
щий. Умов напоминает своим читателям, что того же
мнения держатся Лоренц и лорд Кельвин. Есть, правда,
и другая точка зрения, и Умов не обходит ее стороной.
Но говорит он о ней так: «Несмотря на простоту
и естественность мысли о превращении химических ато-
мов как о причине радиоактивности, колоссальное коли-
чество образующейся теплоты свидетельствует о том, что
эта гипотеза описывает лишь внешнюю, формальную сто-
рону явления».
Лорд Кельвин действительно поддерживает гипотезу
о притоке энергии извне. К нему присоединяется и Анри
Пуанкаре, который указывает на ее психологическое
происхождение. Радий, говорит он, поколебал принцип
Ш
сохранения энергии, и хотя тому было предложено нема-
ло объяснений, но пословица «много добра не надоест»
тут неуместна. Пока какое-нибудь из этих объяснений не
восторжествует над прочими, мы ни одно из них не мо-
жем считать удовлетворительным. Рамзай старался по-
казать, продолжает Пуанкаре, что радий подвержен пре-
вращению и что он заключает в себе огромный запас
энергии, который может истощиться лишь за 1250 лет.
«Это немного в сравнении с вечностью, но мы можем дер-
жаться своей точки зрения несколько столетий».
Через десять лет после публикации статьи Беккереля
выходит «Общая или неорганическая химия» Флавицко-
го, химика первостепенной величины. Флавицкий дока-
зывает, что радиоактивность объясняется аккумулирова-
нием энергии во внешней среде.
НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Почему же не могли сообразить, в чем дело, Крукс,
Менделеев, Умов и, что удивительнее всего, супруги Кю-
ри и лорд Кельвин? Ведь Кельвин имел возможность
каждый день обсуждать этот вопрос с теми, кто сразу же
понял, что такое радиоактивность,— с Резерфордом, Сод-
ди и Рамзаем.
Но, с другой стороны, почему они должны были все
понять? Тот же Резерфорд, как известно, не верил в прак-
тическое использование ядерной энергии, а Герц — в
использование открытых им же радиоволн. Люди столк-
нулись с принципиально новым явлением и стали
втискивать его в оболочку привычных понятий. В поня-
тии «атом» содержится представление об устройстве ми-
ра из неделимых частиц. Естественнее поискать энергию
в этом мире, чем признать неустойчивость атома. Под
угрозой, кроме того, оказывается все тот же закон сохра-
нения энергии, который через тридцать лет после этой
истории спасал Паули. Нет, обвинять в слепоте Кюри,
Кельвина или Менделеева не совсем справедливо.
Непредсказуемое появляется не каждый день.
Однако истории повторяются, и уроки прошлого не
всегда идут впрок. Посмотрим, как произошла встреча
еще с одним непредсказуемым — как восприняли ученые
расщепление ядра урана.
112
Позади было многое: открытие радиоактивности,
нейтрона и нейтрино. Многое было позади, а словно бы
ничего и не было.
Уран расщепили в 1934 году в Римском университете
под руководством Ферми. Расщепили и не поняли, в чем
дело. В 1936 году двое швейцарских физиков, повторяя
опыты Ферми, увидели на экране осциллографа высокие
пики: в камере шла сильная реакция. Физики решили,
что камера неисправна, и заменили ее другой. Точь-в-
точь как Крукс, который, увидев, как затуманились
пластинки, решил, что они-то и виноваты, а когда постав-
щики пластинок поклялись, что их товар безупре-
чен, принялся обследовать помещение, где пластинки
хранились.
В мае 1938 года реакцию наблюдала Ирен Жолио-
Кюри. При бомбардировке урана она получила лантан,
элемент, атомный вес которого на сто единиц меньше ве-
са урана. Неужели уран раскололся пополам? Мысль по-
казалась ей нелепой. Она стала доказывать самой себе,
что перед ней не лантан, а новый трансурановый
элемент. Никто не мог поверить в то, что на земле най-
дется сила, которая способна расщепить атом. Немецкие
физики Ган и Штрассман тоже долго не верили в
это. Но, с другой стороны, будучи химиками, они не сом-
невались, что полученные ими изотопы лантана, бария
и церия — результат бомбардировки урана. И в статье
о своем открытии воздержались от выводов.
Но еще до публикации Ган сообщил об эксперимен-
тах Лизе Мейтнер. Она эмигрировала из гитлеровской
Германии и жила в Швеции. Там ее застало письмо Га-
на. Лиза Мейтнер первой среди всех физиков поняла,
в чем дело. И когда к ней приехал ее племянник Отто
Фриш, тоже физик, стала убеждать его в том, что ядро
урана расщеплено. Убедила она его с большим трудом.
В Копенгагене Фриш рассказал обо всем Бору. «Как мы
могли не замечать этого так долго!» — воскликнул Бор.
Уроки с трудом идут впрок, но даром все-таки ничто
не проходит. Цепочки причин и следствий причудливы.
Те, кто пытался объяснить радиоактивность всасыванием
энергии из воздуха, привлекли внимание физиков к воз-
духу, что и увенчалось еще одним непредсказуемым от-
крытием.
Каждому, наверное, приходилось видеть действие
ИЗ
электроскопа с золотым листочком. Если вы потрете эбо-
нитовую палочку о кошачью шкурку и коснетесь ею
листочка, он получит одноименный заряд с опорой и от-
толкнется от нее. Потом листочек постепенно начнет при-
ближаться к опоре: произойдет утечка заряда. Заряд
стекает в воздух. На ионизацию воздуха и обратил глав-
ное внимание Беккерель в своей статье. После его откры-
тия физики стали исследовать естественную проводи-
мость воздуха. Они предположили, что урановые лучи,
подобно рентгеновским, тоже расщепляют некоторые
молекулы воздуха на две по-разному заряженные поло-
винки — ионы. Если электроскоп несет отрицательный
заряд, то он должен притягивать положительные
ионы, нейтрализующие его заряд, а отрицательные
ионы при этом будут отталкиваться.
Очевидно, скорость опадания листочка можно счи-
тать мерой числа присутствующих ионов. Но опыты на
открытом воздухе не давали четких результатов. Когда
же электроскоп стали помещать в замкнутые сосуды, фи-
зики обнаружили, что скорость опадания листочка
в большом сосуде выше, чем в маленьком. Это получа-
лось оттого, что в большом сосуде образуется больше
ионов и условия в нем благоприятствуют тому, чтобы все
ионы нужного знака попадали на листочек. Выяснилось,
что можно получить двадцать пар ионов на один куби-
ческий сантиметр в секунду. Это звучит солидно, пока не
подумаешь, что в кубическом сантиметре воздуха содер-
жится 2,7 X 1019 молекул. Но коль скоро можно изучить
процесс, при котором из такого фантастического числа
молекул разрушается только двадцать, значит, электри-
ческий способ регистрации ионов необыкновенно чувст-
вителен.
Правда, нельзя не принимать в расчет и материал, из
которого сделан прибор, и сами лаборатории. Хотя уран,
прародитель радия, крайне редкий элемент, в маленьком
количестве он содержится во многих горных породах,
в том числе и в строительных материалах. Поэтому сте-
ны лабораторий несут ответственность за расщепление
значительной доли тех двадцати молекул. Опасения
Крукса, Беккереля, швейцарских физиков да и многих
других экспериментаторов за чистоту материалов вполне
оправданны. Были времена, когда пренебрежение этим
важным обстоятельством даже приводило к великим от-
114
крытиям. Однажды Лавуазье вообразил, что вес спирта
и углекислоты, образующихся при брожении сахара, со-
ответствует весу сахара, и пришел к закону о постоянст-
ве вещества. Побочных продуктов он не заметил. Если
лабораторию уже использовали для опытов с радиоак-
тивностью, то скорее всего она загрязнена радиоактив-
ными веществами. Особенно часто это бывало в ранний
период, когда еще не понимали, насколько вредны эма-
нации — газы, которые выделяют радий и два других
элемента.
Ионизацию внутри сосуда удалось уменьшить, защи-
тив электроскоп толстым свинцом. Свинец поглощал
гамма-излучение, идущее от стенок и грунта. Но после
определенного предела толщина свинца уже не меняла
картины. Это означало одно из двух: либо существует из-
лучение с большей проникающей способностью, чем
у известных радиоактивных веществ, либо загрязнения
содержатся в самом свинце. Но только ли в загрязнениях
дело? Не виновата ли тут естественная радиоактивность
всех или большинства атомов, хоть и маленькая, но та-
кая же по своей природе, как у урана или тория? Вот
эту-то радиоактивность физики и начали искать.
Опыты проводили на вершинах башен, чтобы изба-
виться от радиации грунта. Но камни башен могли при-
обрести радиоактивные отложения из эманаций, выделя-
емых грунтом. С увеличением высоты скорость иониза-
ции уменьшалась, но не исчезала. И вот незадолго до
первой мировой войны группе австрийских физиков во
главе с Гессом приходит мысль оторваться от всех эма-
наций буквально — проверить, как пойдут дела на воз-
душном шаре. На высоте в тысячу футов ионизация
уменьшилась, но гораздо слабее, чем ожидалось. Очевид-
но, ионизационные камеры были сильно загрязнены. Но
чем? Гесс уже начинает догадываться, чем они загрязне-
ны, и поднимается на пять тысяч футов, чтобы проверить
свою догадку. Так и есть. На большой высоте ионизация
не падает, а растет, да еще как! И Гесс объясняет: свер-
ху вниз идет поток радиации неизвестной породы,
а наверху его легче обнаружить, чем внизу, потому
что, опускаясь, радиация поглощается воздухом.
Но это вовсе не загадочная энергия, о которой толко-
вали после открытия Беккереля. Это космические лучи.
Выяснилось, что состоят они главным образом из прото-
115
нов и альфа-частиц, то есть ядер гелия. А рождаются,
возможно, во время гигантских взрывов сверхновых
звезд и испускаются Солнцем во время солнечных бурь.
Сталкиваясь с космическими лучами, ядра атомов
воздуха расщепляются. Многие космические частицы то-
же. Столкновение порождает сильный поток радиации,
вроде жестких рентгеновских лучей, из которых, в свою
очередь, рождаются электроны с позитронами. Еще там
появляются мезоны разного типа и так называемые
странные частицы. Все это претерпевает беспрерывные
превращения, а в остатке, как предполагают, появляется
нейтрино. Открытие космических лучей повлекло за со-
бой десятки новых замечательных открытий, которым
конца пока не видно. Эти лучи продолжают исследовать
со спутников. В горах установлены сотни регистрацион-
ных камер. А на страницах научных журналов не пре-
кращается спор о том, что больше приносит физике инте-
ресных сведений — дешевые камеры в горах или басно-
словно дорогие ускорители.
И все это открыли люди, которые усомнились, будто
утечка зарядов в электроскопах полностью объясняется
уже знакомыми явлениями. Они надеялись открыть уни-
версальную радиоактивность, которой на самом деле не
существует, а вместо этого открыли космические лучи.
«Чтобы делать великие открытия, совсем не обязательно
знать, что именно хочешь открыть,— говорит по этому
поводу физик Д. Томсон.— Бывает это крайне редко, но
очень важно обладать хорошим чутьем, чтобы сразу за-
метить неладное».
ЗАТОНУВШИЙ ПЕРСТЕНЬ
Открытия, о которых рассказывалось в предыдущих
главах, совершались в разных обстоятельствах и по раз-
ному поводу. В поисках участвовали люди с разным
складом ума, воображением, темпераментом. Иногда они
сразу понимали, что перед ними, а иногда на то, чтобы
понять, уходили целые годы. Но у всех у них первый шаг
к открытию был одинаков. Этот шаг — удивление. Чело-
век останавливается и спрашивает себя: «Что сей сон
значит?» Почему так странно идет бета-распад? Отчего
потемнела пластинка? Что означает присутствие цинка
в ревертазе?
116
Бездумный поток случайных ассоциаций наталкивает-
ся на препятствие. Перед человеком встает задача, ко-
торую надо решить. Он может и отказаться от решения,
но решение отказаться все равно будет результатом
работы мысли. Если же решено действовать, мысль
начинает работать во всю силу.
Мышление начинается тогда, когда мы оказываемся
на распутье, или, как говорят психологи, в проблемной
ситуации, и нам нужно сделать выбор. Слово «интел-
лект» связано с латинским глаголом intelligo — выби-
рать среди. Процессом мышления руководит потребность
выйти из сомнения. Затруднение, из которого надо выпу-
таться, ставит перед интеллектом цель и направляет те-
чение мысли по определенному руслу. Как сказал один
психолог, «проблема устанавливает цель мысли, а цель
контролирует процесс мышления».
Вдумайтесь в историю любого открытия, и вы за каж-
дым из них увидите эту закономерность. Сомнение, рас-
путье, остановка на проторенном пути, а дальше — раз-
мышление о том, что делать и куда двигаться дальше.
Вы увидите, как ученый решает задачу, а в каждом
решении различите общие черты и тоже свои закономер-
ности. Это вполне естественно. Вся наша жизнь склады-
вается из решения больших или маленьких задач, и, если
мы сталкиваемся с неведомым и хотим его распознать,
мы решаем эту задачу в принципе так же, как и все
остальные. Вот это как раз и интересует психолога, изу-
чающего мышление. С равным интересом исследует, он
процессы открытия в физике и в математике, в химии
и географии, в археологии и истории, в технике и в специ-
ально придуманном эксперименте. По его мнению, разни-
цы во всем этом не больше, чем между открытием и изо-
бретением.
Принято думать, что открытие связано с тем, что уже
существовало, но было неизвестно: Колумб открыл Аме-
рику, но она существовала до него. Ньютон открыл закон
всемирного тяготения, но закон такой был, просто он не
был открыт. Франклин же изобрел громоотвод: громоот-
вода до Франклина не существовало. Так-то оно так, но
это различие менее очевидно, чем кажется на первый
взгляд. Торричелли заметил, что когда в чашку со
ртутью помещают сверху трубку, то ртуть поднимается
до определенного уровня. Это было открытие. Но, сделав
117
его, Торричелли изобрел барометр. С другой стороны,
когда и где существовали до Торричелли чашки
с ртутью, в которые были воткнуты трубки? Паули от-
крыл нейтрино, думая о бета-распаде, но этот бета-рас-
пад создали искусственно.
Глубокий смысл заложен в полушутливом замечании
Л. А. Арцимовича: «Физику высокотемпературной плаз-
мы не следует причислять к естественным наукам, пото-
му что предметом естественных наук являются объекты,
созданные природой, а предметом физики плазмы —
объекты, созданные экспериментаторами». Сегодня боль-
шинство открытий делается на таких объектах, и огром-
ное количество научных результатов в равной степени
можно назвать изобретениями и открытиями. Одно пере-
плетается с другим, одно вытекает из другого. Колумб,
открывая Америку, сначала изобрел ее в своем вообра-
жении в виде Индии, подобно тому как Гесс открыл кос-
мические лучи, погнавшись за призраком универсальной
радиоактивности. Тот, кто что-нибудь изобретает, уже
размышляет над средствами для достижения заранее
изобретенной цели.
Цель эта формируется в попытках утолить жажду по-
знания, просыпающуюся в человеке, возможно, благода-
ря избытку жизненных сил, не расходуемых целиком на
удовлетворение простых и насущных потребностей. Чело-
век получает наслаждение не только от обильной и вкус-
ной пищи или от уютного ночлега, но и от игры ума
и чувств, направленной на познание мира. Ребенок дони-
мает родителей бесконечными «почему». Он уже смутно
ощущает, что за фасадом вещей кроется таинственное
сплетение причин и следствий. В дальнейшем эти «поче-
му» могут иссякнуть и остаться лишь для незначитель-
ных житейских обстоятельств, а могут и сложиться в
целый характер — в характер исследователя, изобретате-
ля, творца. И не обязательно в науке или искусстве про-
явится этот характер. Прав французский психолог Рибо,
говоривший, что изобретение в науке и искусстве лишь
частный случай изобретательства вообще, что в изобре-
тениях механических, военных, практических, коммер-
ческих, общественных, политических, во всей жизни че-
ловеческий ум проявил одинаковое количество вообра-
жения. Из этого, правда, не следует, что все мы наделены
одинаковым воображением и в равных условиях прояв-
ив
ляем одинаковую находчивость. В связи с этим нам вспо-
минается один поучительный эпизод, рассказанный вен-
герским психологом Секеем. Это тоже открытие, но уже
в области психологии мышления. Забавно, что сделано
оно было тоже на экзаменах.
Дело было в Будапештском университете. Студенты
юридического факультета сдавали зачет по уголовному
праву. Разбиралась статья закона, гласившая: «Повреж-
дение или уничтожение собственности другого лица
с целью мести является преступлением и подлежит нака-
занию».
— Предположим, вы судья,— сказал экзаменатор
первому студенту,— вы должны вынести решение по сле-
дующему делу. Некто обвиняется в том, что он созна-
тельно, из мести, закинул чей-то перстень в реку.
— Я признал бы его виновным,— сказал первый сту-
дент.
— Но перстень не был поврежден или уничтожен,—
возразил экзаменатор.— Позвали водолаза, тот достал
перстень: он был в точности таким же, как и прежде.
Первый студент задумался, а второй сказал:
— Я бы оправдал обвиняемого. Ведь перстень остал-
ся невредимым.
— Что же, всякий может мстить кому угодно, швы-
ряя его вещи в реку, лишь бы они не испортились? И суд
будет признавать это нормальным?
Шесть или семь опрошенных не смогли разрешить этой
каверзной задачи. Наконец один студент нашелся:
— Действительно, перстень, как физический объект,
остался невредимым, попав в реку. Но он еще объект
стоимости. Его можно заложить или продать. Находясь
на дне реки, он потерял свою стоимость и вновь обрел ее,
когда его извлекли из воды. Извлек его водолаз, и его
труд подлежит оплате. Размеры этой оплаты, очевидно,
равноценны уничтожению или повреждению имущества,
о котором идет речь в статье закона. Кто закидывает
перстень в реку, вводит обладателя перстня в расход
и тем самым наносит ему ущерб.
Экзаменатор признал ответ правильным.
Задача, как мы видим, решалась лишь тогда, когда
перстень рассматривали с новой точки зрения — не как
физический предмет, а как предмет стоимости. Понятие
ущерба перешло из механической области в экономи-
119
ческую, а понятие перстня оказалось как бы реорганизо-
ванным, сменившим одну структуру на другую.
Есть ли что-нибудь необычное в представлении о пер-
стне как об объекте стоимости? Нет. Признак ценности
всегда входит в понятие о ювелирном изделии. Но в про-
цессе мышления мы прежде всего оперируем теми при-
знаками предмета, которые употребляются чаще других.
Статья закона, о которой шла речь, относилась в первую
очередь к механическому разрушению предметов соб-
ственности, и экзаменуемые начали рассматривать за-
дачу с этой точки зрения. Последний же студент усмот-
рел в задаче то, чего в ней непосредственно не дано,—
необходимость оплаты труда водолаза.
Здесь, говорит Секей, мы сталкиваемся с соотноше-
нием знания и мышления. Чтобы решить задачу, нужны
какие-то знания. И тем не менее далеко не все, кто обла-
дает этими знаниями, в состоянии ее решить. Секей за-
дается вопросом: каково же соотношение между опытом
и мышлением? Правы ли те, кто утверждает, что мышле-
ние целиком зависит от приобретенных прежде знаний,
или те, кто утверждает, что оно зависит по преимуществу
от решения задачи, а опыт играет скромную роль? Чтобы
выяснить это, Секей и другие психологи провели серию
экспериментов с задачами, подобными задаче о перстне.
С ними мы познакомимся в третьей части книги.
Первую ее часть мы посвятили восприятию и увидели,
что оно от начала до конца пронизано мыслью. Но вос-
приятие не исчерпывает собой мышления, так же как
и не исчерпывает его реконструирующая работа памяти.
История открытий показала нам, что бывают случаи, ког-
да есть что воспринимать, а бывают, когда воспринимать
нечего, а надо все вообразить, выдумать, а уж потом пре-
доставить дело мысленному взору. Видел ли Паули свои
частицы, выдумывая их? Скорее всего, нет. Он опериро-
вал понятиями, выраженными не в наглядной форме.
А история с перстнем? Видел ли студент, решивший за-
дачу, требующего деньги водолаза? Мыслил ли он обра-
зами или же бесплотными логическими категориями? Он
взглянул на ситуацию с непривычной точки зрения. Но
как он додумался до этой точки зрения — вот в чем во-
прос. Как его осенило? И есть ли это его, частное, откры-
тие или это общая закономерность в работе мысли, пы-
тающейся решить задачу?
вспышки молний
Мышление изучают разными способами. Авторы тео-
рии Планов замечают: «Обычно простейший способ
узнать, что делает человек,— это спросить его об этом.
Но психологи стали очень неохотно спрашивать людей
о том, что они делают, потому что, как они говорят, люди
фактически не знают, что они делают, и верить тому, что
они вам говорят, пустая трата времени. Во многих случа-
ях, в особенности связанных с эмоциями и мотивами,
этот скептицизм вполне оправдан. Но отказываться вы-
слушать человека при любых обстоятельствах, пожалуй,
нелепо. То, что он говорит, не всегда неверно. Более того,
это часто дает нам важный ключ к пониманию поступ-
ков, если только мы в состоянии понять истинное значе-
ние рассказа».
Сколько оговорок! Скептицизм оправдан в случаях,
связанных с эмоциями и мотивами. А есть ли случаи, не
связанные с ними? Кроме того, надо еще уметь понять
человека, то есть уловить смысл, который скрывается за
его словами и за тем, как они произнесены. По мнению
Дж. Миллера и его соавторов, во всем виновато свойст-
венное нам умение предвосхищать события. Предвосхи-
щение направляет наше внимание не столько на План,
который уже принят нами и утвержден, сколько на Об-
раз — на связанную с воображением сторону мыслитель-
ного процесса. А эта область гораздо доступнее созна-
нию, чем подспудная сфера мотивов, формирующая
План. Вот почему некоторые ограничиваются тем, что
создают ясный Образ ситуации, считая, что План придет
сам собой. Что уж говорить о пересказе состоявшегося,
да еще о пересказе не событий, а хода мысли. Разве
упомнишь, о чем думал, особенно если и запоминать-то
не собирался?
Однажды, во время войны еще, психолог А. А. Смир-
нов решил выяснить, что запоминают люди, не пытающи-
еся запоминать свои мысли. Испытуемыми были его кол-
леги — сотрудники Института психологии. Смирнов
предложил каждому из них рассказать, что произошло
с ним по дороге на работу и о чем он думал в это время.
Первый вспомнил, как в метро все досадовал на то, что
сел в последний вагон и не удастся теперь раньше всех
добежать до эскалатора... Какие-то люди регулировали
121
потоки пассажиров... Когда выходил из дому, спохватил-
ся, что забыл книжечку билетов... Хотел было стать
в очередь за газетой, но передумал. Больше ничего не
запомнилось. Никаких мыслей. Второй тоже начал свой
рассказ с того, что мешало идти: с толпы около ГУМа,
с потока машин. К счастью, Манежная площадь не была
завалена снегом, и ее удалось пересечь по диагонали. По
пути ни о чем не думал, кроме как о последней кинокоме-
дии, да и то, может, это было не по пути, а еще дома...
Третий столкнулся в метро с приятелем; они потолковали
о событиях на фронте и попытались прочесть военную
сводку, заглядывая через плечо к пассажирам, читавшим
газеты. У четвертого оборвался на ботинке шнурок, и в
рассказе появился чистильщик, у которого были куплены
новые шнурки, и гражданин в каракулевой шапке, зада-
вавший чистильщику какой-то вопрос Все в рассказе
вертелось вокруг шнурков, все помыслы были о них.
Что же запомнилось людям, не заботившимся о том,
чтобы запомнить? Только то, что мешало или что помога-
ло решать главную их задачу, а задача была одна — не
опоздать на работу. Память целиком подчинилась уста-
новке. Все вылетело из головы, кроме вех, отмечавших
этапы решения задачи,— толпы на углу, регулировщи-
ков, чистильщика. Смирнов говорит «Люди не думали
и шли, а шли и думали». Что было бы, если б они все
вышли из дому пораньше? У них не возникла бы установ-
ка не опоздать и они стали бы думать о чем-нибудь зна-
чительном? Сомнительно. Они не вспомнили бы и вовсе
ни о чем, как не помним и мы, о чем нам думалось во
время вчерашней прогулки У людей, опаздывавших на
работу, не было никаких мыслей, кроме одной, да и та
была далеко не нова: как бы не опоздать. Вот типичный
случай, когда преобладал бесформенный поток сознания,
изредка прерываемый досадой, и все действия сводились
к бессознательному автоматизму*
Но как бы автоматически ни действовали все эти лю-
ди, нельзя сказать, что их сознание было не упорядочено.
Кое о чем они все-таки думали Они решали задачу «на
неопоздание», а отсутствие мыслей, в которых они бы
могли дать себе отчет, свидетельствовало лишь о том, что
задача была для них привычной. Если бы среди них был
новичок, ему было бы что порассказать. И неспроста рас-
сказ человека, у которого оборвался шнурок, оказался
122
самым содержательным. Человек этот попал в непредви-
денное стечение обстоятельств, когда нас выручает не
привычка, а сообразительность. Он очутился в проблем-
ной ситуации, хотя и не очень сложной.
Однако следует ли из этого, что, попади он в сложную
проблемную ситуацию, в какое-нибудь почти безвыход-
ное положение, где уже надо проявлять не сообразитель-
ность, а изобретательность, он бы рассказал еще боль-
ше? Вовсе нет. Все мы по опыту знаем, что полная нео-
жиданность может не только выбить из колеи, но и
лишить памяти. Сильные эмоции способны произвести
в душе такую встряску, что, рассказывая о том, что при-
ключилось, не свяжешь и двух слов. Таким эмоциям
и обязаны, хотя бы отчасти, своими ошибками те, кто пи-
сал отчеты о происшествии в Геттингене.
Ненадежность, а иногда и пустота словесных отче-
тов — неувядающая проблема психологии. В самом деле,
много ли полезного может почерпнуть психолог из таких,
например, рассуждений, принадлежащих перу одного
знаменитого изобретателя?
«Как зарождается идея? Возможно, иногда она
и возникает подобно вспышке молнии, но обыкновенно
идея вырисовывается на фоне бесчисленных ошибок пос-
ле кропотливых изысканий»,—• пишет он. Опять мол-
ния! Кажется, мы встречаем ее в третий или четвертый
раз. Прямо навязчивый образ. Что это, отсутствие вооб-
ражения или бедность языка? А может быть, закономер-
ность?
Послушаем дальше: «Сравнительное исследование
постепенно отделяет существенное от несущественного
и сообщает исподволь чувствам все большую ясность, по-
ка наконец идея не предстанет перед сознанием в виде
четкой мысленной картины. Сама по себе идея рождает-
ся не из теории или логических выводов, а по наитию».
И снова в таком же духе: «Из непрестанной погони за
желанным результатом, из исследования отношений меж-
ду бесчисленными возможностями выросла наконец вер-
ная мысль, и меня наполнила невыразимая радость...
Изобретение — результат борьбы мысли с материальным
миром... А обосноваться в этом мире способна лишь
незначительная часть идей... Вот почему всякий изобре-
татель работает в окружении огромного количества от-
вергнутых идей, проектов и экспериментов...»
123
Все это верно, конечно; любой изобретатель, ученый,
писатель, художник — все подпишутся под этими слова-
ми. Человек, который никогда в жизни не решал никаких
задач, кроме задачи не опоздать на работу, и тот напи-
сал бы подобное рассуждение. Борьба мысли с матери-
альным миром! В чем заключается эта борьба — вот что
интересно.
Мало кто способен рассказать об этом. Вот почему
психологи предпочитают извлечению жемчужных зерен
из воспоминаний о вспышках молний хорошо поставлен-
ный эксперимент. В своей книге «Мысль в действии» пси-
холог К. А. Славская рассказывает, как она и ее коллеги
решили исследовать мышление заводских изобретателей.
Они пришли на завод, опросили нескольких изобретате-
лей и установили, что их рассказы не содержат в себе
ничего, кроме описания самого изобретения. «Мы имели
дело с уже закончившимся мыслительным процессом,—
говорит Славская.— Рабочий охотно рассказывал нам,
какую ручку он переместил, какие втулки заменил новы-
ми, но для исследования его мышления это ничего не да-
вало... Тогда мы создали экспериментальную ситуацию,
которая максимально приблизила бы нас к условиям
изобретения. Мы использовали патент на уже сделанное
изобретение и предложили его рабочим в виде четко
сформулированной задачи с очерченным кругом условий
и требований. В отличие от естественного хода откры-
тия... ответ был заранее известен экспериментатору, он
мог варьировать условия задачи, наметить вопросы, под-
сказки и т. д. Одним словом, сохраняя ситуацию откры-
тия (рабочим не было известно это изобретение), экспе-
риментатор создавал для себя возможность исследовать
мыслительный процесс..»
Выход из положения был найден. Но удалось ли пси-
хологам наблюдать мыслительный процесс в его чистом
виде? Ход событий действительно неестествен. Человек,
который знает, что за ним наблюдают, ведет себя иначе,
чем если бы он оставался наедине с собой. И думает ина-
че. Бессознательно он начинает «работать на публику».
Его просят рассуждать вслух. Он рассуждает охотно:
«Надо сделать то-то и то-то». Но он же понимает, что его
слушают, от него ждут «мышления вслух», и он мыслит
вслух — говорит или, вернее, приговаривает, решая зада-
чу. И часто слова начинают существовать независимо от
124
© 9 *
мысли и отражают ее течение отдаленно. Эксперимента-
тор вступает с испытуемым в диалог, поправляет его, они
думают вместе. Где и когда это бывает, кроме экспери-
мента?
Однако эксперимент отражает хотя бы часть действи-
тельного положения вещей. И, может быть, самую важ-
ную. Познакомившись с экспериментальными задачами
и с протоколами их решений, мы увидим, что дает психо-
логу мышление вслух. И мы можем заранее предполо-
жить, что дает оно больше, чем общие рассуждения о
борьбе мысли с материальным миром.
К счастью, не все воспоминания так бессодержатель-
ны. Кое-что ценное можно почерпнуть у Уатта, у Эдисо-
на, у современных ученых. Но вся беда в том, что это
воспоминания. Это реконструкция, которая при всей до-
бросовестности мемуариста будет все равно неточной.
Психолог или историк обязан сверять ее с другими фак-
тами, если они есть; например, с записями в дневниках.
МЕШОК С ДРОБЬЮ
В начале и в конце исследования мысль ученого дви-
жется разными, часто противоположными путями. Сна-
чала ученый стремится в глубь явления, отыскивая скры-
тые в нем связи и закономерности. В конце же, когда свя-
зи и закономерности найдены, их надо изложить
в стройной, логически последовательной форме, сделать
так, чтобы тебя поняли и с тобой согласились. Одна за-
дача накладывается на другую, и все перипетии первой
исчезают из памяти. Коллегам и оппонентам не так уж
важно, как был достигнут результат. Важно то, что было
достигнуто. Споря с Бором, Паули не рассказывал ему
о том, что он чувствовал, отправив письмо в Тюбинген,
да он и забыл о нем. Он не говорил даже об «азотной
катастрофе», хотя она имела непосредственное отноше-
ние к его мыслям: только бета-распад и его парадоксы
занимали его и Бора на стадии Сольвеевской дискуссии.
Когда поиски позади и ученому надо доказывать
свою правоту, все внимание переносится на логику. Уче-
ный сознает, что путь его к истине будет неясен другим,
да он и неясен теперь ему самому. Слишком много в нем
было всяких ассоциаций, аналогий, которые хоть и по-
125
могли ему, но теперь могут заслонить самое главное
в глазах тех, кто должен понять, в чем суть явления. До-
лой все эти ассоциации, кроме, может быть, одной, самой
яркой, долой все, что затемняет строгую последователь-
ность мысли! Этой последовательности не было и в поми-
не, когда шли поиски. Зато она должна быть теперь,
когда исследователь превращается в педагога. А что
получается из этого превращения, показывает нам на
примере Дальтона академик Б. М. Кедров, выдающий-
ся специалист по истории науки.
В большинстве случаев, говорит он, процесс исследо-
вания начинается с собирания отдельных фактов («еди-
ничное»), которые затем классифицируются в отдельные
группы («особенное»). После этого между группами об-
наруживается связь. Этой связью может оказаться но-
вый закон природы («всеобщее»). Получается простая
схема: Е->О->В. Схема эта, конечно, не универсальна.
Часто бывает, что всеобщее (В) витает перед мысленным
взором исследователя задолго до того, когда его догадка
превратится в уверенность. Так было, например, с атом-
ной гипотезой, когда всеобщее родилось в умах Левкип-
па и Демокрита за две с лишним тысячи лет до откры-
тия химической атомистики. Открытие же это соверши-
лось в сентябре 1803 года в Манчестере.
В течение многих лет Дальтон изучал атмосферу
и вел метеорологические наблюдения, записывая их ре-
зультаты в дневник. Больше всего его интересовало, по-
чему и каким образом газы диффундируют друг в друга,
образуя при этом однородную смесь. Ответ на этот во-
прос пытались дать французские химики во главе с Бер-
толле. Они говорили, что между газами существует хи-
мическое сродство и поэтому все газы способны в любых
отношениях растворять друг друга. Дальтон нашел это
объяснение неубедительным. Но тогда в чем причина
диффузии? В работах Ньютона он нашел намек: дело не
в притягивании одного газа другим, а наоборот — в от-
талкивании. Он предположил, что существует столько от-
талкивательных сил, сколько имеется разных газов и па-
ров. Химики единодушно не согласились с ним. Потом
ему пришло в голову, что к отталкивательным силам на-
до бы присоединить и тепло. Но из этой идеи тоже ничего
не получилось, и Дальтон отказался от нее.
А что, если размеры у разных частиц газов различны?
126
Тогда крупные частицы одного газа будут отталкиваться
друг от друга сами по себе, а мелкие — сами по себе.
Одни частицы будут проваливаться в промежутки, обра-
зованные другими, как мелкая дробь в мешке провали-
вается между крупными дробинками. Так появилась ме-
ханическая гипотеза диффузии. Но что понимать под раз-
мером газовой частицы? У атомов, думал Дальтон, как
и у Земли, есть своя атмосфера. Состоит она из тепла,
которое он в духе тогдашних идей представлял себе как
полужидкость-полугаз (теплород). Значит, в размер
частицы должен войти объем атома и объем его атмо-
сферы.
Дальтон ищет способ определить размер газовых
частиц. До сих пор он рассуждал как физик, теперь он
начинает рассуждать как химик. Ему приходится ввести
два новых представления — об атомном весе элемента
и о числе атомов в частице химического соединения. Что-
бы определить диаметр частицы, нужно разделить объ-
ем, занимаемый всем газом, на число его частиц, занима-
ющих этот объем. Но как узнать число частиц? Это мож-
но было бы сделать, если бы был известен вес отдельного
атома (частицы) данного газа. Тогда, разделив общий
вес газа, занимающего данный объем, на вес отдельного
атома, можно было бы решить задачу. А как взвесить
атом? Об этом нечего и мечтать! От безвыходности этой
рождается гениальная идея: исходить не из абсолютного,
а из относительного веса атома. Какой же вес принять за
единицу? Конечно, вес водорода. Теперь из весового со-
отношения частей соединения, например воды, можно бу-
дет выводить атомный вес элемента.
Уже известно, что в воде содержится 87,4% кислорода
и 12,6% водорода. Значит, если частица воды состоит из
двух атомов, то атомный (относительный) вес кислорода
будет приблизительно равен 7 (87,5:12,5). Но число
атомов в частице воды может быть и другим, и атомный
вес кислорода будет не 7, а 14, 21, и так далее. Но хоть
какое-нибудь соединение должно иметь простейший со-
став! Дальтон пытается на основании равного 7 веса кис-
лорода определить атомный вес азота в окиси азота,
которую он принимает за NO. Анализ, проведенный хими-
ками, давал 57,9% кислорода и 42,1 % азота, откуда полу-
чалось, что атомный вес азота равен 5. Если это так, то
по тем же химическим данным для закиси азота можно
127
было установить формулу N2O. Все сходилось. Дальтон
нашел формулы для других окислов азота и открыл тем
самым закон простых кратных отношений как основу
всей химической атомистики. Подобно Лавуазье, не
знавшему о существовании примесей, Дальтон не знал,
что все его расчеты покоятся на неверных цифрах. Более
того: на мифической теплородной гипотезе и на наивной
модели диффузии.
Еще раз посмотрим, как был открыт этот закон.
Дальтон искал размеры частиц. Следовательно, теорети-
ческое представление об атомах уже было. Атомы окру-
жены теплородом. Чтобы определить размеры теплород-
ных оболочек, надо измерить отношение между весом
атома каждого элемента и атома водорода. Дальтон вы-
ясняет, сколько и какие атомы могут соединиться
в одной частице сложного соединения. После этого он де-
лает вывод: так как атомы должны соединяться между
собой как неделимые частицы, то и между макроскопи-
ческими частями соединения должны существовать про-
стые кратные отношения: 1:1; 1:2; 2:3 и т. д. Это
должно проявляться и в весовых соотношениях частей,
которые можно измерить, что Дальтон и обнаружил,
проверяя результаты анализов окиси углерода, серного
ангидрида и других газов.
В отличие от подавляющего большинства беспечных
исследователей Дальтон записывал свои мысли в днев-
нике, благодаря чему мы точно знаем, как было дело, и
поражаемся шаткому основанию, по которому шла его
мысль. Дальтон еще не думал сделать свое открытие до-
стоянием других, он даже не понимал его значения. Он
полагал, что занимается одной диффузией газов. Он еще
чувствовал себя метеорологом. Но ему пришло в голову
проверить собственную гипотезу не чужими данными, а
своими. Взяв соединения углерода, метан и этилен, он
определил их химический состав и нашел, что в одном из
них на одно и то же количество водорода приходится
вдвое больше углерода. Это было прямым подтвержде-
нием гипотезы. Метан, или болотный газ, Дальтон соби-
рал в болотах под Манчестером. Состав его, как и состав
этилена (маслородного газа), был никому неведом.
В августе 1804 года Дальтона навестил химик Томсон,
который больше всех возражал против отталкиватель-
ных сил, изобретавшихся Дальтоном. Через три года
128
Томсон выпустил популярный учебник. В главе «Гипоте-
зы Дальтона о плотности атомов газов» он писал, что со-
держание главы «есть результат нескольких минут
беседы и наскоро сделанных заметок». За несколько ми-
нут Дальтон, конечно, не мог сообщить Томсону весь ход
своих мыслей — от мешка с дробью до анализа метана,
да и не собирался. Начал он с конца: с результатов опы-
та, подтвердившего, что у двух углеводородов найдены
такие свойства, которые показывают простые кратные
соотношения их элементов. Когда Томсон усвоил этот
факт, Дальтон его теоретически истолковал: соединение
определенного количества С и одной порции Н в масло-
родном газе и того же количества С с двумя такими же
порциями Н в болотном газе объясняется тем, что части-
цы этих газов образованы соединением атомов: в первом
случае одного атома С с одним атомом Н, а во втором —
одного атома С с двумя атомами Н. Между прочим,
в своих расчетах Дальтон принимал вес атома С за 6,
а не за 12, как полагается, и формула у этилена получи-
лась у него не С2Н4 а СН, а у метана не Clh, а СН2. Но
это не меняло дела.
По рассказу Томсона получалось, что, определив со-
став обоих газов и отнеся количество водорода к одному
и тому же количеству углерода, Дальтон сначала открыл
закон простых кратных отношений, а потом стал объяс-
нять эти отношения атомистикой. Против такого толко-
вания не возражал и сам Дальтон. Спустя двадцать пять
лет Томсон в своей работе по истории химии вспоми-
нал: «Мистер Дальтон рассказал мне, что атомисти-
ческая теория пришла ему в голову в момент его иссле-
дований над маслородным и болотным газами...» Там же
Томсон говорит, почему он сразу же сделался горячим
-поклонником воззрений Дальтона: «Эта счастливая
идея — изображать атомы и строение тел символами — и
придала столько ясности мысли Дальтона. Я был осве-
щен новым светом, озарившим мой ум, и с первого взгля-
да понял важность подобной теории...»
Вряд ли Томсон написал бы эти строки, если бы
Дальтон повел его за собой по всем перипетиям своей
мысли, которая блуждала в мифической сфере теплород-
ных оболочек. Дальтон оставил Томсону и всему ученому
миру только суть, которую все поняли и приняли безого-
ворочно. Схема была простой: Е->О->В, то есть от отдель-
£ Формула открытия
129
ных фактов химического анализа к особому закону со-
става особых веществ, состоящих из одних и тех же эле-
ментов, но в разных пропорциях, а от этого закона — к
общему представлению об атомистическом строении ве-
щества. В действительности же схема была иной: В->0->
Ученый шел от идеи о всеобщем через предвидение осо-
бого закона к проверке этого закона, а отсюда — к про-
верке общих атомистических представлений.
При встрече с Томсоном Дальтон не мог поступить
иначе. Логика его рассказа была построена в соответст-
вии с «нормальным» ходом научной мысли, открываю-
щей закон природы. Рассказ об открытии он приноровил
к общепринятому способу восприятия новых истин. Разу-
меется, он сознавал, что играет с ученым миром в затеян-
ную им самим игру. В 1810 году он прочитал в Лон-
донском королевском институте курс лекций, где расска-
зал о том, как было дело. Но ни на кого это не произвело
впечатления. Все верили не Дальтону, а Томсону. Через
сто лет после открытия были опубликованы дневники
Дальтона, полностью опровергавшие общепринятое тол-
кование. Но и это не произвело впечатления на химиков.
Так прочно входят в сознание те идеи, которые отвечают
преобладающей манере мышления; на факты, им проти-
воречащие, никто просто не обращает внимания.
Случай с Дальтоном типичен. В четвертой части кни-
ги мы познакомимся с историей открытия периодическо-
го закона, Ход его открытия соответствовал схеме
Е->О->В Но Менделеев рассказал о нем по схеме
Е->В-»О Зачем? Суть его открытия легче было понять
из схемы Е->В-»О. Общепринятое иногда имеет
свои отклонения от нормы, и Менделеев их прекрасно
уловил.
Как бы то ни было, принимать на веру рассказы от-
крывателей нельзя. Сознательно или бессознательно, но
они упрощают и искажают историю своих блужданий.
Существует версия о том, как тот же Дальтон открыл
дальтонизм. Пошел будто бы он по ягоды и вернулся
с пустым лукошком. А вся компания, с которой он ходил,
изнемогала под тяжестью полных корзин. И тогда Даль-
тон догадался, что он дальтоник, не различающий крас-
ного цвета. После этого он, очевидно, вспомнил, что есть
еще на свете такие же дальтоники, обобщил свои наблю-
дения и объявил, что существует дальтонизм. Легенда
130
основана на схеме Е-»О->В. Вспомните любую такую же
легенду, например о ньютоновом яблоке, и вы тотчас
узнаете эту привычную схему.
Существует версия... Существует рассказ... Часто эта
версия или этот рассказ не более чем легенда, созданная
самим исследователем, который руководствовался самы-
ми лучшими побуждениями. Исследователь ни в чем не
виноват. Разве мы с вами, говоря кому-нибудь, что нам
в голову пришла мысль, рассказываем, как она пришла?
Это все равно что в ответ на вопрос «Как поживаете?»
отвечать, как поживаешь.
Лучшие побуждения — это все та же мотивационная
сфера, о которой в свое время напоминал нам Выготский.
Это лежащие за вопросом «как?» вопросы «почему?»,
«для чего?». Но, кроме побуждений, есть еще и другие
причины, мешающие исследователю восстановить истин-
ный ход мысли, а психологу или историку — разобрать-
ся в нем. О некоторых мы уже упоминали, говоря, напри-
мер, о ненадежности памяти или о воздействии сильных
эмоций. О прочих же речь впереди.
г
РЕВЕЛЬСКАЯ АННА
Существует легенда о маленьком Га-
уссе, который впоследствии стал великим
Карлом-Фридрихом Гауссом и получил
титул короля математиков. Пересказы-
вая ее, Дьердь Црйа, тоже математик
и автор книг «Как решать задачу»
и «Математическое открытие», говорит,
что ему больше всего нравится версия,
которую он сам слышал в детстве, а во-
прос о ее достоверности беспокоит его
мало.
Это было на уроке арифметики. Учи-
тель задал нелегкую задачу: сложить
числа 1, 2, 3 и так до 20. Он надеялся
освободить себе немного времени, пока
ученики будут заняты сложением, а по-
сему был неприятно удивлен, когда Гаусс
шагнул вперед, в то время как остальные
еще только собирались приступить к ра-
боте, положил грифельную доску на кон-
торку и сказал: «Готово». Учитель даже
не взглянул на доску, так как был убеж-
ден, что ответ неверен, и собирался нака-
зать мальчика за нескромность. Дождав-
шись, пока остальные ученики выполни-
ли задание и сложили свои доски на доску
Гаусса, он вытащил ее и посмотрел.
Каково же было его удивление, когда он
обнаружил на доске одно-единственное
число, и притом верное.
Мы, конечно, не знаем, говорит Пока,
как Гаусс это сделал, и никогда не смо-
жем этого узнать. Но наше воображение
может кое-что предложить нам. Гаусс
был ребенком, но ребенком гениальным.
Возможно, ему удавалось более непо-
средственно, чем его сверстникам, улавли-
вать конечную цель задачи и сосредоточи-
вать внимание на самом главном. И он
вообразил, что ряд 1, 2, 3... 20 расположен
не по горизонтали, а по вертикали. Может
135
быть, даже он мысленно увидел фигуру, представляющую
собой последовательность пяти простых диаграмм — пя-
ти фаз открытия.
Представьте себе и вы эти диаграммы — пять верти-
кальных рядов. В первом ряду видно только начало ря-
да: 1, 2, 3. Справа от него — второй ряд. В нем виден
только конец ряда: 20, 19, 18. В третьем есть и начало
и конец: 1, 2, 3... и 20, 19, 18... Теперь ваше внимание не
могут не привлечь два крайних числа. Вы замечаете, что
между ними есть некая связь. Перед вами возникает чет-
вертый ряд. Он такой же, как и третий, только цифры 1
и 20 соединены стрелкой. Остается один шаг до гениаль-
ной идеи. Пятый ряд: стрелкой соединены 1 и 20, 2 и 19, 3
и 18. Любая пара чисел, одинаково удаленных от конца,
дает в сумме одно и то же число:
1 + 20 = 2 + 19 = 10 + 11 = 21. Сосчитаем число пар:
10 X 21 = 210.
Так ли рассуждал Гаусс? Пойа считает, что это са-
мый естественный путь. Он решил задачу благодаря то-
му, что в его сознании возникла пятая диаграмма и он
увидел результат ясно и четко. Разложив это решение на
пять фаз и повторив гипотетический путь Гаусса, Пойа
замечает, что сначала человек должен ощутить некото-
рое колебание между двумя противоположными подхо-
дами к решению (увидеть первый и второй ряд), которые
затем сольются в «более симметричный» подход (третий
ряд) После этого переход к основной идее (четвертый
ряд) совершится сам собой.
Психолог Макс Вертхаймер объясняет случай с Га-
уссом по-своему. В своей книге «Продуктивное мышле-
ние» он рассказывает эту историю так: «Однажды учи-
тель дал следующую задачу по арифметике: «Кто из вас
скорее сосчитает сумму 14-2 + 3... + 10?» Через некото-
рое время, когда все кругом еще считали, шестилетний
Гаусс поднял руку и сказал: «Я решил».— «Черт возьми,
как ты мог решить это так быстро?!» — воскликнул учи-
тель. Неизвестно, что ответил Гаусс, но, вероятно, он от-
ветил следующим образом: «Если бы я складывал
1+2 + 3, это было бы долго и можно было бы оши-
биться, но посмотрите: 1 + 10 =11, 2 + 9 = 11 и так да-
лее. Получается пять пар по 11, что составляет в сумме
55».
У Вертхаймера чисел вдвое меньше, но суть от этого
136
не меняется. Так же как и Пойа, он поставил себя на
место Гаусса. К каким выводам он пришел, мы узнаем
немного позже. А сейчас остановимся на том типе мыш-
ления, который неожиданно предстал перед нами у Пойа
и Вертхаймера. Оба они решали задачу, причем не сто-
лько математическую, сколько психологическую. Они
были заняты рассуждениями о рассуждениях, или тем,
что психологи называют рефлексивными играми. Этим
занимаемся и мы с вами, когда берем на себя смелость
думать, что думал Майер или Дальтон.
История этих игр уходит своими корнями в глубокую
древность, в эпоху изобретения шахмат и прочих
умственных забав, в эпоху первых войн и даже первых
сражений с какими-нибудь мамонтами, когда человек
учился прикидывать, что будет делать его противник,
и волей-неволей ставил себя на его место. К тому време-
ни, когда рефлексивные игры обратили на себя внимание
психологов, в них уже умели играть тысячи людей на
всем земном шаре. Вот типичная рефлексивная игра.
Дело было в первую мировую войну. Некий немецкий
офицер, служивший в одном прибалтийском городе, по-
знакомился с очаровательной кельнершей. Через некото-
рое время, когда они стали доверять друг другу, она пе-
редала офицеру портфель якобы ее бывшего возлюблен-
ного, русского офицера, бежавшего несколько месяцев
назад из города. Немецкий офицер обнаружил в нем
планы минных полей, преграждавших путь в Финский
залив. Он передал эти карты в свой штаб. Штаб решил
проверить документы и послал несколько судов по фар-
ватеру, обозначенному на карте. После того как суда
вернулись благополучно, в штабе поверили, что карты
подлинные. На основе этих карт была разработана опе-
рация по уничтожению российского флота. Ночью эскад-
ра немецких кораблей пошла по тому же фарватеру, но
неожиданно один за другим последовало несколько
взрывов. Сначала немцы подумали, что где-то побли-
зости объявилась русская подводная лодка или что это
случайность, и, несмотря на то что из строя были выведе-
ны три миноносца, продолжали идти вперед. Когда ко-
рабли вошли в Финский залив, оказалось, что флота, ко-
торый они собирались уничтожить, нет и в помине.
Обратно эскадра пошла тем же путем: командиры
продолжали верить в правильность карт и в случайность
137
взрывов. Не тут-то было. Немцы потеряли по дороге еще
четыре корабля. Тогда они поняли, что их обманули. Они
бросились арестовывать кельнершу, но ее и след про-
стыл. Как пишут историки, «русская разведчица по клич-
ке Ревельская Анна за одну ночь увлекла на дно семь
лучших кораблей кайзера».
Слово «рефлекс» означает отражение. В этом смысле
он и употребляется в термине «рефлексивные игры».
В своих рассуждениях мы отражаем рассуждения друго-
го. Когда мы говорим: «Я вижу его насквозь», или: «Я по-
нял, что он хотел этим сказать», мы мысленно воспроиз-
водим рассуждения или чувства другого человека. В ин-
тересной работе о рефлексивных играх ленинградские
психологи Е. Э. Смирнова и А. П. Сопиков приводят раз-
нообразные примеры таких отражений. Кроме Ревель-
ской Анны, они вспоминают разговор Гамлета с тенью
его отца из «Божественных историй» Феликса Кривина:
— Отец, быть или не быть?...
— Будь, Гамлет, будь... Но только старайся держать-
ся в тени. Если не будешь в тени, сам станешь тенью...
Это я говорю тебе как тень твоего отца.
— Ты говоришь как тень. А что бы сказал отец?
Слабая тень улыбки, тень вздоха и еле слышные тени
слов:
— Отец?.. О, отец! Он бы, конечно, сказал другое...
В тексте нет сведений о том, что сказал бы отец, но
нам ясно, что бы он сказал. Расчленяя вздохи тени на
этапы по методу Пойа, мы можем сказать, что тень отца
произвела рассуждения за отца и сделала из них вывод:
отец сказал бы другое.
Психологи подвергли рефлексию анализу и нашли
у нее несколько характеристик: глубину, обширность,
сложность, истинность. Что такое, например, глубина?
Если чей-то внутренний мир, который мы рассматриваем,
уже содержит в себе другой внутренний мир, глубина
рефлексии увеличивается. Число таких вложенных друг
в друга миров служит мерой глубины. Если рассуждение
имеет вид «Я ехала домой, я думала о вас»,— это первый
уровень глубины: один мир вложен в другой, и все. А ес-
ли «Я думаю, что ты будешь теперь обо мне плохо ду-
мать»,— тут уже второй уровень: два мира вложены друг
в друга. Третий уровень обнаруживается в последних
строчках известного английского стихотворения: «Он ду-
138
мал, что уснула я и все во сне стерплю, иль думал, что
я думала, что думал он: я сплю!»
Измерить глубину рефлексии можно при помощи ме-
тодики, прообразом которой служит известная загадка
о трех колпаках. Самый простой ее вариант такой. Игра-
ют двое. Ведущий говорит им, что у него есть три колпа-
ка, два белых и один красный, и добавляет: «Я вам сей-
час надену каждому белый или красный колпак, и вы не
будете знать, какой именно. Догадайтесь, какой колпак
на вас надет». Ведущий надевает на обоих белые колпа-
ки. Один рассуждает: «На нем белый, значит, на мне мо-
жет быть белый или красный». Другой рассуждает точно
так же. Пока ни тот, ни другой о своем колпаке ничего не
знают. Оба молчат. Наконец один восклицает: «На мне
белый!» Вы, конечно, догадались, как он догадался. Он
рассудил: «Раз другой молчит, значит, он видит на мне
не красный колпак — красный-то один. Значит, он видит
на мне белый». Это первый уровень глубины, и игра ча-
ще всего сводится к тому, кто воскликнет быстрее.
А вот задача посложнее. Трем людям с закрытыми
глазами надевают красные колпаки и говорят, что
у каждого на голове может оказаться либо красный, ли-
бо белый колпак. Затем этих людей просят открыть гла-
за и поднять руку, если они увидят хотя бы один красный
колпак, и выйти из комнаты, если они догадаются, какой
колпак на них. Руки поднимают все, потом все молчат,
и наконец один из них выходит из комнаты. Рассуждал
он так: «Может ли мой колпак быть белым? Нет. Если
бы он был белый, то левый игрок увидел бы, что у меня
белый, и подумал бы, что правый видит лишь на нем са-
мом красный и потому поднимает руку. Тогда левый дол-
жен выйти. Но он не выходит. Значит, у меня красный».
Этот игрок рассуждает за левого игрока, в то время
как в рассуждение левого включено рассуждение
правого.
ЩИТЫ ИЗ ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ
Глубина характеризует степень проникновения во
внутренний мир одного человека, когда в нем уже содер-
жатся миры других людей, а обширность отражает коли-
чество людей, чьи внутренние миры рассматриваются од-
139
повременно. Классический пример рефлексии за двоих
мы находим у Грибоедова:
Эй, Софья Павловна, беда.
Зашла беседа ваша за ночь;
Вы глухи? — Алексей Степаноч,
Сударыня!.. — И страх нх не берет!
И слышат, не хотят понять...
Бывает, человек рассуждает за других по очереди,
а бывает — за всех сразу. «Вот так же обо мне потом
заговорят»,— говорит Софья. Когда Фамусов беспокоит-
ся о мнении княгини Марьи Алексевны, он имеет в виду
определенное лицо. Когда же мы повторяем его слова,
ставшие крылатыми, мы уже уподобляемся Софье: что
станут говорить о нас все?
Что такое истинность рефлексии, показывает нам Ро-
берт Бернс. Вернее, он показывает искаженное рефлек-
сивное рассуждение:
Весной ко мне сватался парень один.
Твердил он: — Безмерно люблю, мол.—
А я говорю: — Ненавижу мужчин! —
И впрямь ненавижу, он думал...
Вот дурень, что так он подумал!
Если наше предположение о ходе мысли другого че-
ловека подтверждается, мы можем поздравить себя: мы
проницательны. Конечно, тут легко ошибиться: нельзя
мерить всех на свой аршин. Так что ставить себя на
место другого надо осторожно. И тем не менее, если мы
хотим понять других и быть поняты сами, лучше время
от времени позаниматься этой игрой, чем сидеть сложа
руки. Так мы меньше рискуем попасть впросак, подобно
жениху у Бернса.
Теперь, познав теоретические тонкости рефлексии, по-
думаем, как рассуждали русские и немецкие штабисты.
Русские, очевидно, рассуждали так: «Мы даем немцам
карту минных полей, и они думают, что мы не знаем, что
она им известна. Но это первый уровень рефлексии. Не
такие немцы дураки, чтобы попасться на эту удочку. Пе-
рейдем на второй уровень. Пусть немцы подумают, что
мы их обманываем, и проверят путь в минных полях. По-
140
этому временно мы его расчистим». Так и вышло. Немцы
проверили, убедились, что все в порядке, и русские снова
заминировали фарватер.
Тут, конечно, невозможно не вспомнить Шерлока
Холмса, который любил представлять себе, что сделают
его противники в ответ на такой-то или такой-то его ход.
Проиграв мысленно партию до конца, Холмс вскакивал
с кресла, вооружался стеком и приказывал Уотсону оде-
ваться. Особенно захватывает нас эта игра в «Последнем
деле Холмса», где знаменитый сыщик и его противник,
профессор Мориарти, не уступают друг другу в построе-
нии рефлективных цепочек. Естественно, что Конан
Дойл, решив отделаться от своего героя, должен был
противопоставить ему достойного врага. И столь же
естественно, что он сделал Мориарти незаурядным мате-
матиком.
Но больше всего подобных примеров в истории войн.
Психологи анализируют знакомый нам эпизод, когда
римляне загнали на гору Спартака с его отрядом. Рим-
ляне думали, что ему остается либо пробиваться вниз по
дорогам, которые они перекрыли, и быть разгромленным,
либо отсиживаться и умирать с голоду. Но Спартак за-
нялся рефлексией: «Они думают, что мы заперты на вер-
шине, и ждут нас лишь на дороге; поэтому я думаю, что
тылы их не защищены». И он велел своим воинам
сплести из ивовых лоз плети. Привязав их к отвесной
скале, воины спустились вниз, ударили по римлянам
с тыла и разбили их наголову.
В жизни встречаются случаи, когда выпутаться из
проблемной ситуации без рефлексии невозможно. Но да-
же тогда попытки разрешить проблему начинаются с от-
гадок, с проб, со случайных решений. Психологи объяс-
няют это тем, что по сравнению с другими видами мыш-
ления рефлексия очень трудоемка; она требует большого
напряжения и особого склада ума, которым обладает не
каждый. В тех же случаях, когда, как говорит Бунин, «в
жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя
бы значительное и требуется сделать из этого какой то
вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек
думает мало, охотнее отдается тайной работе души». Он
полагается на интуицию.
Глубина рефлексии... Все так просто: «Он думал, что
я думала». Но часто ли мы действительно прибегаем
141
к подобным рассуждениям? Не служат ли они нам лишь
словесной формой, в которую мы облекаем нашу мысль
уже после того, как она состоялась? Не выступаем ли мы
в своей рефлексии в роли Дальтона, объясняя другим,
а еще чаще самому себе, ход нашей мысли? Не случайно
же в обыденной речи мы редко прибегаем к рефлектив-
ным конструкциям, и звучит она у нас не как у героини
Бернса, а как у тени отца Гамлета. Рефлексия есть, но
она как бы свернута; чтобы ее разглядеть, надо ее раз-
вернуть.
Математик Клод Шеннон писал, что хороший шахма-
тист проверяет только несколько избранных вариантов
и просчитывает их на разумную глубину. Но что такое
эта разумная глубина? Очевидно, глубина рефлексии:
«Если он меня так, то я его этак...» Более подробное
разъяснение на этот счет принадлежит одному из выдаю-
щихся шахматистов, Рихарду Рети: «Профаны думают,
что превосходство шахматных мастеров заключается
в их способности рассчитывать не только на 3—4 хода,
но даже на 10 и на 20 ходов вперед. Они спрашивают
меня, на сколько ходов вперед я рассчитываю обычно
свои комбинации, и бывают очень удивлены, когда я иск-
ренне отвечаю им, что ни на один... Каждый шахматист
сознательно или бессознательно обладает известными
принципами, которыми он руководствуется в выборе хо-
дов». Рети не отрицает перебора вариантов, основанного
на рефлексии, но комбинировать и рассчитывать ходы
можно, по его словам, лишь тогда, когда количество ва-
риантов заведомо невелико, а это бывает в тех случаях,
когда ход противника содержит явную угрозу.
У Спартака вариантов было раз-два и обчелся. Ему
угрожал мат. Просчитывал ли он ходы? Нам кажется,
что если, анализируя случай с Ревельской Анной, наши
психологи были правы, то со Спартаком дело обстояло
иначе. Помня, как он спасся, они подумали, что он поду-
мал, что римляне подумают... Но вчитаемся повнима-
тельнее в те страницы романа Джованьоли, где все это
описано. Спартак шагал взад и вперед по площадке на
вершине горы и готовился дорого продать свою жизнь —
принять тот ход, который навязывали ему его противни-
ки. И вдруг он увидел, как его солдаты плетут из ивовых
прутьев щиты, чтобы обтянуть их потом кожей. Солдаты,
как и он, готовились к бою. И тут его осенило. «Мы спа-
142
сены!» — воскликнул он и приказал плести из прутьев
лестницы. Мысль о том, что тылы римлян не защищены
и можно будет не только ускользнуть из ловушки, но еще
и задать римлянам жару, должна была явиться после
мысли о спасении. Сначала перед его взором предстала
картина спасения: они спускаются с горы. А потом — по-
том они еще и сыграют с римлянами веселую шутку! Вот
тут только и могла начаться рефлексия: «Они подумают,
что я там сижу, а я тем временем...»
Сначала возникла идея, полуобраз-полуощущение,
которое если и можно было выразить, то только радост-
ным возгласом, но никак не логической конструкцией.
Этот полуобраз принял отчетливую форму связи между
щитом и лестницей, и произошло это так же быстро
и нерасчлененно на этапы, как и решение задачи у ма-
ленького Гаусса.
ЧАСТИЦА С ПОВАДКАМИ КОМЕТЫ
Мысленный образ — главный персонаж всех этих
историй. Он принимает обличье то реального лица, про
которое думает рефлексирующий, то нескольких лиц, то
события, то системы связей, устанавливающейся между
событиями. Система эта не видна мысленному взору, но
она ощущается умом как нечто вполне реальное
и бесспорное. Наше мышление оперирует не только непо-
средственными данными восприятия — видимым полем,
но и представлениями — видимым миром, комбинация-
ми чувственных элементов, прошедшими визуализацию
и получившими определенное значение.
В каждом образе, который приходит на ум, присутст-
вуют и следы чувственно воспринятых его физических
признаков, вроде формы, цвета или объема, и наше
суждение о нем. Благодаря соединению наглядности и зна-
чения в наших представлениях чувственные и интеллек-
туальные элементы выступают в нерасчлененном единст-
ве. Подхлестываемые воображением, эти образы-пред-
ставления находятся в непрерывном изменении. Без
воображения невозможно решить ни одной задачи; это
инструмент, которым мы преобразуем действительность,
подчиняя ее нашим задачам.
Немецким штабистам и начальникам римских легио-
нов не хватило воображения. Не хватает его и тем, кто
143
проходит мимо нового явления или упорно старается
уложить его в тесные рамки предвзятых представлений.
О роли воображения в науке лучше всех сказал знамени-
тый математик Давид Гильберт. Когда ему сообщили,
что некто оставил математику и сделался поэтом, он за-
метил: «Значит, ему не хватило воображения».
Слово «воображение» связано со словом «образ» са-
мыми тесными родственными узами. Немецкий психолог
Вундт говорил, что, прежде чем создать свои знаменитые
уравнения, Максвелл построил в своем воображении та-
кой механизм, который помог ему наглядно понять суть
электромагнитных взаимодействий. Механизм был не-
обычен. Сам Максвелл назвал его странным. Но он был
совершенно нагляден, «и если бы он не был таким, вряд
ли Максвелл пришел бы к своим уравнениям». Другой
психолог, Кюльпе, как бы полемизируя с Вундтом, пред-
лагал своим читателям произнести такую фразу из Геге-
ля: «Лавры чистой воли суть сухие листья, которые ни-
когда не зеленеют». Разве возникают у вас при этом ка-
кие-нибудь наглядные представления? — спрашивал он.
Нет, это слова, не более. Кюльпе прав, но лишь отчасти:
это не только слова; за ними кроется более глубокий, ме-
тафорический смысл. Достаточно представить себе этот
смысл, и в нашем воображении возникнет яркий образ,
совпадающий со словами так же, как остановившиеся
часы — с представлением о конце времени. Кто сказал,
что наглядность надо понимать буквально?
Споры о языке мышления велись в психологии деся-
тилетиями. И все чаще спорящие оглядывались не толь-
ко на самонаблюдение и на эксперимент, но и на данные
естественных наук, в особенности физики. После созда-
ния общей теории относительности воображение физиков
разыгралось так бурно, что философ Кассирер заявил:
наука становится полностью символической и отбрасы-
вает последние остатки наглядности. Сами физики сгоря-
ча согласились с этим. Ведь научное мышление, говорили
они, имеет дело не столько с явлениями, сколько с отно-
шениями, которые становятся на место явлений. А отно-
шения эти выражаются формулами и логическими кон-
струкциями, которые ничего не говорят чувствам.
Но так думали далеко не все. Сам создатель теории
относительности писал Адамару: «Слова, написанные
или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей роли
144
в механизме моего мышления. Психологическими эле-
ментами мышления являются некоторые более или менее
ясные знаки или образы». Слова, поясняет он, приходят
тогда, когда творческую мысль надо передать другим.
Образы же, которыми он мыслит, чаще всего зрительные
или двигательные. Иногда встречаются и слуховые. Что
касается «обычного» мышления, заключает он, то оно
мало чем отличается у него от «научного»: все те же зри-
тельные или двигательные образы.
Косвенно Эйнштейн подтверждает наше предположе-
ние о том, что словесная рефлексия возникает после рож-
дения мысли, а сама мысль первоначально облечена
в форму образа. В главе «Тоннель в песчаной почве» мы
убедимся в том, что большинство ученых стало на точку
зрения Эйнштейна.
На основании теоретических выкладок ученый созда-
ет наглядную модель объекта исследования. Когда физи-
ки занялись строением атома, они тотчас же задали себе
вопрос: атом нельзя увидеть, но как выглядел бы он, ес-
ли бы его можно было увидеть? И на помощь физикам
пришла верная служанка науки — аналогия. Одну из
первых моделей атома предложил в 1902 году лорд Кель-
вин. Атом был у него сферическим образованием, по все-
му объему которого равномерно распределялся положи-;
тельный заряд. Внутри сферы в статическом равновесии
находились отрицательно заряженные электроны. Через
девять лет Резерфорд предложил свою планетарную мо-
дель, напоминающую солнечную систему. В его модели
отражалось представление не только об электронах, но и
о ядре, которое он сам и открыл.
Резерфорд проводил опыт, бомбардируя альфа-части-
цами тонкую золотую фольгу. Фольга отражала их, и они
отклонялись в среднем на 2—3°. Но некоторые частицы
вели себя странно. Они отклонялись на 90° и больше,
а некоторые даже отскакивали назад. Получалось, будто
атомы тонкой пленки служили для них преградой. Но это
было невероятно; с таким же успехом можно было пред-
положить, что бумажная мишень способна остановить
снаряд,- Объяснить поведение частиц помог Резерфорду
образ, не имеющий, казалось бы, ничего общего с части-
цей. Резерфорд сравнил поведение частиц с поведением
кометы, попавшей в поле тяготения Солнца. Комета не
в состоянии преодолеть громадную силу притяжения,
145
траектория ее полета искажается, и она может, сделав
виток, удалиться от Солнца в самом неожиданном на-
правлении. Может быть, и альфа-частица как-то притя-
гивается атомом золота? Но гравитационное взаимодей-
ствие между такими массами настолько мало, что его ед-
ва ли можно принимать в расчет. Значит, здесь должны
действовать какие-то другие силы. Может быть, электри-
ческие? Альфа-частица заряжена положительно. Так что
же, атом должен нести отрицательный заряд? Но он
нейтрален. И тогда Резерфорда осенило: ведь комета
взаимодействует не со всей солнечной системой, а только
с ее центральным ядром — с Солнцем. Причину стран-
ных отклонений частиц нужно искать во внутреннем
устройстве атома. Хотя атом и нейтрален, он не одноро-
ден. Оба его заряда не распределены равномерно по его
объему. Так Резерфорд догадался, что у атома есть ядро,
а сам атом похож на планетарную систему. Электроны
вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца.
Но, излучая электромагнитные волны и непрерывно
теряя энергию, электроны должны неминуемо упасть на
ядро. Однако этого не происходит. Почему? Над этим за-
думался Нильс Бор. Очевидно, электроны излучают или
поглощают энергию не непрерывно, а порциями. Дви-
жутся же они не по всем орбитам, а по избранным.
Тут возник вопрос: как распределяются электроны по
своим орбитам? Размышляя над ним, Паули догадался,
что у орбиты есть свои уровни и каждый занят только
одним-единственным электроном. Заполнение уровней
начинается с внутренней, ближайшей к ядру орбиты. За-
тем электроны располагаются на второй орбите и так
далее. Сколько у орбиты электронных уровней, столько
у нее и вакантных мест для электронов, не больше. Таков
«запрет Паули». Первая орбита может вместить два
электрона, на второй уготованы места для восьми элек-
тронов. На третьей тоже, и так далее. По этим орбитам
не угадаешь, какой химический элемент перед тобой: за-
полнены они одинаково. Лишь на последней, наружной
орбите проявляется своеобразие каждого элемента.
У хлора, например, там семь электронов, у фосфора —
пять, у натрия — один. Наружные электроны — самые
активные. Поведение атома в химической реакции зави-
сит от того, сколько вакансий наружной орбиты запол-
нено электронами.
ЖИЗНЬ В ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ
От солнечной системы осталось немного. Но даже
в трактовке Паули мы представляем себе атом довольно
живо. Хотя и знаем, что электрон не похож на планету,
что он «состояние» и если уж на что и похож, то на раз-
мытое облако, обладающее сложными свойствами.
То, что сначала кажется непредставимым, с течением
времени входит в систему наших образов, нашего види-
мого мира. Ведь было время, когда мало кто верил, что
Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси и что
она шар. А теперь мы будто рождаемся с этим представ-
лением. Мы видим, как Солнце вращается вокруг Земли,
но знаем, что все обстоит как раз наоборот. И это проти-
воречие нам ничуть не мешает. Во всех случаях, когда
мы встречаемся с непривычным, мы мало-помалу прила-
гаем к нему мерки привычного, и непривычное теряет
свою непредставимость. Как говорил Макс Планк, полет
наших мыслей — это инструмент, которым можно изме-
рить расстояние в одну миллиардную микрона и в мил-
лиарды световых лет.
Ни Резерфорд, ни Бор не считали атом уменьшенной
копией солнечной системы. Знаменитое выражение
«Быть может, эти электроны — миры, где пять матери-
ков...» принадлежит не физику, а поэту. Им важно было
представить себе структуру атома и связь между его эле-
ментами. Образ солнечной системы послужил для этой
цели прекрасной аналогией. Ученый конструирует образ,
который отчасти изображает оригинал и вместе с тем
символизирует его смысловое содержание. А так как
с течением времени сведения об оригинале уточняются,
претерпевает постоянные уточнения и образ. Модель ато-
ма, бывшая в 1911 году откровением для всего мира,
осталась просто символом ядерной физики. Но осталась:
без моделей нам неуютно. Представлять себе то новое,
с чем сталкивает нас жизнь, наглядно — едва ли не пер-
вичная потребность нашего ума. Понимая это, Эйнштейн,
например, охотно объяснял своим читателям, что такое
бесконечность. Он говорил им: представьте себе мно-
жество одинаковых кубиков. Помещая их один на дру-
гой, один возле другого и один за другим, вы заполните
большую часть пространства. Но всегда останется место,
чтобы прибавить еще кубик.
147
Как просто и как ясно. Гораздо труднее выразить
в наглядном образе конечность пространства, которую
без труда представляли себе наши предки. Так и хочется
спросить: «А что же там, за границей пространства?»
Когда физики говорят нам, что Вселенная наша конеч-
на в том смысле, что за ней, может быть, и есть что-то,
но что именно, мы никогда не узнаем, так как живем в
других измерениях, нам становится обидно и верить в это
почему-то не хочется. Хочется верить в бесконечность на-
шего пространства и в бесконечность нашего времени.
Древние философы думали, что было время, когда ни-
чего не было — ни времени, ни пространства. Это была
гениальная догадка, на которые был так щедр древний
мир. Но всего-навсего догадка. И вот в XX веке появляет-
ся модель статической Вселенной, авторы которой, аст-
рофизики, доказывают, что действительно было время,
когда ничего не было — ни времени, ни пространства,
как мы их сейчас понимаем. Потом произошел первый
распад частицы — первое событие, первая причина, по-
влекшая за собой первое следствие. Появилось простран-
ство, а с ним и время — цепь событий, направленная в
одну сторону. Ученым, привыкшим думать, что начала
мира не было, было нелегко представить себе эту стати-
ческую Вселенную. Потом ничего — привыкли. Как при-
выкли и к модели пульсирующей Вселенной — к галакти-
кам, которые разбегаются, чтобы в один прекрасный день
повернуть обратно.
Наглядные образы обогащают и конкретизируют от-
влеченную мысль, придают ей убедительность и вырази-
тельность. На основе удачно найденных или специально
сконструированных наглядных образов было сделано
много открытий в познании тончайших структур мате-
рии. Когда у мысли есть чувственно-наглядная опора, ей
не требуется тратить силы на то, чтобы перебирать все
звенья длинной цепи логических рассуждений, испыты-
вая «муки слова». Образ, складывающийся из элементов
прежнего опыта и из новых знаний, служит нам той опе-
ративной единицей восприятия, тем эталоном, который
мы прикладываем к новому видимому полю, чтобы по-
строить на нем видимый мир.
Джеймс Уотсон, которому так хотелось опередить
Лайнуса Полинга в расшифровке структуры ДНК, пре-
жде всего учился у Полинга думать. В своей книге
148
«Двойная спираль» он рассказывает, что самым интерес-
ным для него оказался метод, пользуясь которым Полинг
открыл свою знаменитую альфа-спираль. Полинг опи-
рался больше на здравый смысл, чем на математические
выкладки. Он доверился простым законам структурной
химии. Он задал себе вопрос: какие атомы предпочитают
соседствовать друг с другом? Основными рабочими инст-
рументами Полинга были не бумага и карандаш, а набор
молекулярных моделей, напоминающих детские Иг-
рушки.
«Мы не видели,— пишет Уотсон,— что могло бы поме-
шать нам решить проблему ДНК тем же способом. Нуж-
но было только сконструировать набор молекулярных
моделей и начать играть ими. Если нам повезет, то иско-
мая структура окажется спиралью: ведь любая иная кон-
фигурация была бы намного сложнее. Ломать голову
над сложностями, не убедившись прежде, что простей-
ший ответ не годится, было бы непростительной глу-
постью. Если бы Полинг, выискивал сложности, он ни-
когда ничего не добился бы».
После того как структура ДНК была раскрыта, Уот-
сон вернулся к себе в США. Он занимается синтезом
белка и проблемой рака Крик остался в Кембридже,
в лаборатории молекулярной биологии, которая считает-
ся международной столицей этой науки. Он не участвует
теперь в экспериментальных работах, но он как бы акку-
мулирует всю информацию, добытую в молекулярной
биологии, и перерабатывает ее в модели, которые очень
часто подтверждаются экспериментально. Опыт работы
над двойной спиралью не прошел даром.
Крик воздвиг двойной спирали, этому выдающемуся
творению наглядного мышления, самый лучший памят-
ник, какой только можно придумать. Это дом самого
Крика, перестроенный по его проекту. Он соединил эта-
жи смежных домов двумя винтовыми лестницами. На
каждом этаже — по две большие комнаты и кое-где еще
по нескольку комнат поменьше. В нескольких местах обе
лестницы сообщаются между собой. Не дом, а двойная
спираль ДНК. При такой архитектуре гости, которые
часто живут у Криков, порой никак не могут отыскать
свою комнату и забредают к другим постояльцам. На-
пример, к японским студенткам, которые помогают жене
Крика по хозяйству и изучают английский язык.
АБСОЛЮТНОЕ ЗЕРКАЛО
Модель атома или модель Вселенной, которые еще
полвека назад только вырисовывались, кажутся уже су-
щими пустяками по сравнению с моделями частиц или
античастиц. Ученые научились представлять себе все. Но
что значит представлять? В те времена, когда физикам
еще не наскучило рассуждать о том, что такое свет, один
из них предложил рассматривать его как пучок летящих
стрел. На это ему возразили: «А как же тогда другие
стрелы пронизывают его?» Дискуссия закончилась таким
предложением: «А почему бы не сказать, что свет состоит
из таких стрел, которые свободно проходят друг через
друга?» И в самом деле, почему бы и нет? Ведь это не
пустая игра словами. Это действительно можно себе
представить!
Будем справедливы: видеть реальность за своими ме-
тафорами физики научились не сразу. Когда Шрёдингер
вывел свое уравнение, физический его смысл был еще
неясен, и Гейзенберг в 1926 году писал Паули: «Я часто
размышляю, в чем, собственно, смысл всех этих фор-
мальных соотношений, но понять все это ужасно трудно».
Лет через тридцать Ландау, для которого, казалось, не
было ничего невозможного, утверждал, что нынешняя
физика оперирует такими понятиями, которые лишены
наглядности. Но вот прошло еще двадцать лет, и слова
Ландау стали анахронизмом. Давно ли в астрофизике
появились черные дыры? Теперь их уже пишут без кавы-
чек, их уже открыли в созвездии Лебедя, и мы удивляем-
ся не тому, что они действительно существуют или что
у них обнаружены «волосы» (пока еще в кавычках), но
тому, что находятся люди, которые не могут представить
себе такую простую вещь, как черная дыра.
А разве не наглядна другая дыра, вернее, дырка —
«дырка в море отрицательных энергий», как охарактери-
зовал Дирак открытый им позитрон? Еще он добавил,
что представить его можно себе как «электрон, возвра-
щающийся из будущего в прошлое по обратным участ-
кам мировых линий». И представили. А теперь пытаются,
и не без успеха, представить себе тахионы — частицы,
обладающие сверхсветовой скоростью. Просто у них там
все наоборот, не так, как у античастиц, а совсем все на-
оборот. У обычных частиц масса и энергия при ускорении
150
возрастают, а у тахионов уменьшаются. Скатываясь
с горки, шарик из тахионного вещества будет замедлять-
ся. Следствие в мире тахионов может опережать свою
причину. Допустим, что охотник поражает тахионным
лучом сидящую на столбе ворону. Если бы пролетавший
мимо космический аппарат из нашего мира снял на кино-
пленку это событие, то мы бы потом на экране увидели,
как из вороны вылетел тахионный луч, который был пой-
ман ружьем охотника. Чудес в этом Зазеркалье было
бы немало, но разве нельзя их себе представить? Все дело
в привычке.
Кроме чтения Льюиса Кэрролла, которого невозмож-
но тут не вспомнить, в развитии таких привычек решаю-
щую роль играет то, что ученые называют мысленным
экспериментом. Отцом этого способа мышления принято
считать Галилея.
Когда мы еще ничего не слышали об античастицах,
а знакомились с основами механики, нас учили, что, если
тело не встречает сопротивления, оно будет двигаться
равномерно до бесконечности. Это и есть движение по
инерции, каковой факт, известный каждому ребенку, во
времена Галилея осознан еще не был. Люди еще не уме-
ли различать такие вещи, как скорость и ускорение,
и Галилей научил своих сограждан различать их, бросая
с высоты не слишком ценные предметы. Это видели все,
но как было увидеть равномерное бесконечное движе-
ние? Аристотель учил: нет и быть не может движения без
двигателя. Усомнившись в этом, Галилей попытался
представить себе такое движение — и представил.
Ничего другого ему не оставалось. Открыть чисто
логические принципы инерции он не мог. Для этого, кро-
ме скорости и ускорения, надо было ввести в рассужде-
ния массу тела как меру инерции. А такого понятия еще
не существовало. Оно и появилось как раз в результате
мысленного эксперимента.
Галилей рассматривал движение шара по наклонной
плоскости. Мысленно он сделал этот шар идеально круг-
лым, а плоскость — идеально гладкой и бесконечной. Это
было нужно, чтобы устранить влияние трения. Что будет
с таким шаром? Ясно, что он (в отличие от тахионного
шара) станет катиться вниз с возрастающей скоростью
и бесконечно долго. А если изменить условия? Галилей
мысленно прервал движение шара и толкнул его вверх.
151
Шар замедлил свое движение. Что отличает движение
вниз от движения вверх? Только направление. Значит,
ускорение и замедление движения зависят от угла накло-
на плоскости. Это единственное внешнее воздействие, ко-
торое испытает идеальный шар. Галилей устранил это
воздействие и расположил плоскость горизонтально.
И оказалось, что тогда шар останется в покое или сохра-
нит свою скорость и направление движения неизменным
до бесконечности.
Так был открыт первый закон механики — закон
инерции.
После этого мысленные эксперименты стали обычным
инструментом научного мышления. Представив себе иде-
альную паровую машину, Сади Карно доказал, что такой
машины быть не может, и внес этим неоценимый вклад
в развитие термодинамики. Фарадей и Максвелл опери-
ровали идеализированными представлениями о силовых
линиях и о зарядах. Так закладывались основы электро-
динамики. Принцип неразличимости сил тяжести и сил
инерции, увиденный Эйнштейном в мысленном экспери-
менте с лифтом, лег в основу общей теории относитель-
ности. Находясь в закрытом лифте, человек не в состоя-
нии определить, чем вызвано ускорение падающего
в лифте тела — внешним полем тяготения или ускорен-
ным движением самого лифта в противоположном на-
правлении.
После открытия электрона возник вопрос: обладает
ли он истинной инертной массой или вся его масса элек-
тромагнитного происхождения? Лоренц придерживался
последней точки зрения. А из нее получалось, что элект-
рон похож на заряженный шар, чья масса зависит от ско-
рости движения. Но с Лоренцем соглашались не все. Со-
мнение исчезло после мысленного эксперимента, который
поставил молодой венский физик Газенэрль.
Газенэрль вообразил себе полый цилиндр, внутренние
стенки которого представляют собой абсолютное зерка-
ло •— полностью отражают все падающие на них лучи.
На миг Газенэрль открыл в цилиндре небольшое отвер-
стие и впустил внутрь пучок света. Лучистая энергия по-
пала в ловушку. Она не может ни выйти наружу, ни по-
глотиться цилиндром: абсолютное зеркало ее отражает.
Цилиндр получает ускорение — толчок в любом направ-
лении. Что произойдет внутри? Очевидно, лучистая энер-
152
гия в передней части цилиндра окажется разреженной,
а в задней сгущенной. Сгущенная энергия должна да-
вить на заднюю стенку сильнее, а разреженная давить на
переднюю стенку слабее. Что это значит? То, что обра-
зуется некая добавочная сила, действующая в сторону,
противоположную направлению ускорения. Из-за этого
масса цилиндра как бы увеличится, а его ускорение,
естественно, уменьшится. Газенэрлю стало ясно, что
энергия, сообщенная какому-нибудь телу, увеличивает
его массу. Потом эта мысль была развита в законе экви-
валентности массы и энергии, который был сформулиро-
ван Эйнштейном.
Удалось поставить мысленный эксперимент и Гейзен-
бергу. Он представил себе идеальный микроскоп, в кото-
рый можно было бы разглядеть все, и попытался опреде-
лить положение и скорость электрона одновременно. Це-
лая серия опытов с этим воображаемым микроскопом по-
казала тщетность любых попыток решить такую задачу
применительно к микромиру. Этот отрицательный ре-
зультат (а отрицательные результаты играют в науке не
меньшую роль, чем положительные) привел к формули-
ровке одного из основных принципов квантовой тео-
рии — соотношения неопределенностей.
А теперь подумаем, что свойственно мысленному экс-
перименту, кроме того, что он мысленный. Прежде всего
в его основе лежит чувственно-наглядный образ, причем
экспериментатор всячески старается сделать его как
можно нагляднее. Это образ-обобщение: все, что отно-
сится к нему, должно относиться и к целому классу одно-
родных объектов — его прообразов. Он формируется ло-
гикой, все усилия которой направлены на идеализацию
предмета: идеальный шар и идеальная плоскость, иде-
альное зеркало, идеальный микроскоп. Без идеализации
не обойтись. Ведь то, что увидишь в идеальном зеркале,
никогда не увидишь в обычном, а то, что идеальных зер-
кал не бывает, не имеет значения.
В рассуждениях, относящихся к образу, имеются по-
сылки, истинность которых установлена (давление света,
например) и истинность которых гипотетична («при уве-
личении скорости системы возрастает ее масса»), А все
размышление сводится к преобразованиям мысленно
представляемого предмета: покатим шар, остановим
шар, изменим его направление, впустим свет в цилиндр,
153
толкнем цилиндр, и так далее. Чаще всего, как, напри-
мер, в опыте с тем же цилиндром, задача заключается
в том, чтобы истинные посылки и посылки гипотети-
ческие переработать в новую, синтетическую форму,
установив неведомые еще связи и отношения в объекте.
Исследователь оперирует в уме пространственными об-
разами, ставит объект в различные положения и подби-
рает такие ситуации, где должны проявиться наиболее
важные особенности изучаемого явления.
Мы познакомились с разными типами мышления —
от хаотического потока ассоциаций до строго логической
рефлексии, от узнавания по частному сходству до мыс-
ленного эксперимента. Каков же по преимуществу язык
мысли и в каких все-таки отношениях находится мысль
со словом? Посмотрим, что думают об этом ученые.
ТОННЕЛЬ В ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ
Жак Адамар, задавая себе тот же вопрос, вспоминает
психолога Бине, который наблюдал за шахматистами
и утверждал, что для них каждая партия имеет свое лицо
и думают они о ней как о едином целом. Он вспоминает
Родена, который говорил, что скульптор должен до кон-
ца удерживать в сознании общую идею ансамбля, чтобы
непрерывно пополнять ее деталями. Подобно этому, пи-
шет Адамар уже о себе, «всякое математическое рассуж-
дение, как бы сложно оно ни было, должно мне представ-
ляться чем-то единым; у меня нет ощущения, что я его
понял, пока я не почувствую его как единую, общую
идею». Это требует от него, как и от Родена, большого
усилия. Он считает, что творческая мысль должна пре-
жде всего опираться на ощущение единства идеи, а ощу-
щение это может быть еще далеко от своего словесного
или числового выражения.
Психолог Гальтон говорил, что иногда в процессе рас-
суждений ему слышен аккомпанемент слов, лишенных
смысла,— нечто подобное мелодии. Гальтон считает это
неудобством. Когда ему надо выразить мысль словами,
ему приходится совершать целую умственную перестрой-
ку. Выступление без подготовки для него мучение. Ада-
мар признается, что с ним происходит то же самое. Одна
из испытуемых Бине, тринадцатилетняя Арманд, объяс-
154
нила то, что ощущали Гальтон и Адамар. Она сказала,
что слово кажется ей самостоятельным образом, кото-
рый прерывает мысль: «Чтобы у меня появились образы,
нужно, чтобы мне не о чем было думать. Мысли и образы
никогда не приходят вместе». У Арманд три языка мыш-
ления: собственно мысли, собственно образы и образы,
вызываемые словами. Что такое собственно мысли? То-
же образы, но более тусклые, чем образы без мыслей;
они уже упорядочены и насыщены понятиями. А соб-
ственно образы — это грезы наяву.
Слова придают точную форму нашим чувствам
и мыслям. Они нужны для того, чтобы мы осознали свою
мысль. Когда мы задумываемся над тем, о чем же мы
думаем, форма мысли становится отчетливее. А что про-
исходит тогда, когда мы начинаем решать задачу и со-
средоточиваем свою мысль на одной проблеме? Адамар
рассказывает, что в этот момент все слова у него вылетают
из сознания и дожидаются, пока задача не будет ре-
шена. Он начинает думать пятнами неопределенной фор-
мы, которые, сочетаясь между собой и входя одно в дру-
гое, выражают этим процесс комбинирования идей. Что-
бы доказать, например, что существует простое число
больше 11, он рассматривает все простые числа от 2 до
И. В это время перед его взором неопределенная масса.
Потом числа надо перемножить друг на друга. Так как
их произведение большое число, он представляет себе
точку, удаленную от этой массы. Потом он прибавляет
к произведению единицу и видит вторую точку недалеко
от первой. Наконец перед его глазами возникает некое
место, расположенное между массой и первой точкой.
Это делитель — признак числа, полученного после сло-
жения.
Адамар не сомневается в том, что такой способ мыш-
ления полезен. Он помогает ему охватить единым взгля-
дом все элементы рассуждения, чтобы, подобно Родену,
не упустить из виду все звенья. Может быть, и Гаусс ре-
шал свою задачу подобным способом? Когда Адамару
пришлось рассмотреть сумму бесконечного числа слагае-
мых, он увидел не формулу, а место, которое она занима-
ла, если бы ее написали: некую ленту, более широкую
или более темную в тех местах, где должны были быть
самые важные члены формулы. Адамар считает, что уста-
лость от умственной работы — это усталость от усилий,
155
направленных на конструирование подобных структур.
Усилия эти у разных людей различны. Сам он принадле-
жит к слуховому типу, а у таких людей умственные пред-
ставления почти всегда визуальны и в то же время срав-
нительно неопределенны. «У меня очень плохая память
на лица, и я часто не узнаю людей...— признается он,—
К звучанию названий, напротив, я очень чувствителен,
и повидать такие реки, как Мохок или Маттавамкег, мне
хочется гораздо больше, чем они этого заслуживают;
одни их названия рождают в моем воображении картины
из жизни индейцев».
Адамару кажется, что в сознании господствуют обра-
зы, а слова приходят из подсознания, когда нужно закре-
пить мысль. Психологи согласны с этим, да и лингвисты
тоже. Выдающийся наш языковед Д. Н. Овсянико-Ку-
ликовский считал бессознательное складом слов-понятий
и усматривал в этом мудрость природы, устроившей так,
чтобы слова не мешали нам думать. Когда мысль будет
построена, она облечется в форму понятия, более эко-
номную, чем образ, и устроится на своей полочке
в бессознательном, ожидая, пока ее не позовут. За слова-
ми всегда кроется больше того, что они обозначают, це-
лые цепочки сгущенных образов и ассоциаций. Вот поче-
му они мешают думать, когда мышление только начи-
нается: они уводят мысль в сторону. Иное дело —конец
процесса. Закрепить придуманное может только знак —
слово, формула, фигура, ноты, рисунок.
Рассуждая на ту же тему, математик Гамильтон про-
сит своих читателей представить себе строительство тон-
неля в песчаной почве. Нельзя двигаться вперед, если не
укреплять каждый метр каменной кладкой. Речь в про-
цессе мышления — то же, что и каменная кладка при
строительстве тоннеля. Умение думать и умение копать
не зависят от слов и от каменной кладки, но без слов
и кладки мы бы не ушли далеко. Одна мысль может
прийти на смену другой, только если первая закреплена
словом.
Пойа соглашается с Гамильтоном. Идея, которая
приводит к решению проблемы, говорит он, часто связа-
на с хорошо выбранным словом и фразой. Слово или
фраза проясняют картину, дают вещам облик. Они могут
предшествовать решающей идее, могут следовать за ней
или появиться одновременно с ней. Точно подобранное
156
слово помогает восстановить математическую идею, мо-
жет быть, менее точно, чем чертеж, но подобным же об-
разом. Удачное обозначение, например, просто буква или
каламбур, плох он или хорош,— все годится в дело. Пре-
подавая в одном из швейцарских университетов, Пойа
обращал внимание своих студентов на то, что буквы z и
w являются начальными буквами немецких слов Zahl
(число) и Wert (значение) и точно отражают роль, кото-
рую z и w играют в его теории. Пойа, таким образом,
опирался на один из мнемонических приемов, которыми
пользуется каждый из нас, чтобы запомнить то, что запо-
минается с трудом.
Но Пойа, как и Адамар, думает не словами. Слова
помогают ему думать, а это не одно и то же. В книге
«Математика и правдоподобные рассуждения» он вспо-
минает, как в течение двадцати лет думал над одной тео-
ремой. Эти годы он делит на два периода—«созерца-
тельный» и «активный». В первый период он практически
ничего не делал, а «только любовался теоремой и время
от времени вспоминал ее в несколько забавной формули-
ровке». Потом ему пришла в голову идея доказательства,
но в течение нескольких дней он не мог облечь его
в окончательную форму. «...Меня преследовало слово
«пересадка». И действительно, это слово описывало ре-
шающую идею доказательства настолько точно, насколь-
ко возможно одним словом описать сложную вещь».
Что же такое эта «пересадка»? Это метафора, словес-
ное воплощение образа, пришедшее из подсознательного
лексикона и не сразу осознанное. Идея «пересадки» была
для Пойа чисто эстетической, интуитивной реакцией на
теорему, которой он долго любовался. Эстетическое чув-
ство охватывает ситуацию еще до того, как начинается
его анализ. Оно рождается первым — раньше слов и даже
раньше осознанных образов. Вслед за ним приходят об-
разы и последними — слова.
Многие ораторы не готовят свои речи в письменной
форме и не обдумывают их в словах. Слова появляются
в тот момент, когда их пора произносить. Существует,
правда, «типографский» тип мышления, который открыл
психолог Рибо и описал в книге «Эволюция общих идей».
Люди этого типа думают только словами, но слова пред-
стают перед ними в виде образов — напечатанными на
бумаге. Таким был один физиолог, которого Рибо хоро-
157
шо знал. Он жил среди собак, ставил над ними опыты, но
думать о собаке он мог, лишь видя слово «собака» напе-
чатанным. Рибо заметил, что люди типографского ти-
па не могут себе представить, что другие думают иначе.
Многие не могут себе этого представить. Адамар опи-
сывает случаи, когда люди, думавшие одним способом,
формулировали свои идеи так, что они не укладывались
в сознании тех, кто думал по-другому. Из-за этого, на-
пример, математик Кронекер помешал Георгу Кантору,
основателю теории множеств, занять вакансию в уни-
верситете. Обсуждая подобные случаи, Адамар старает-
ся быть терпимым, хотя и признается, что сам он тоже не
понимает, как можно думать иначе, чем он. Он не может
удержаться, чтобы не процитировать «Фауста»: «Бессо-
держательную речь всегда легко в слова облечь». Как
и большинство ученых, он говорит, что чем сложнее во-
прос, тем меньше мы можем доверять словам и тем стро-
же должны контролировать этого опасного союзника.
Заключая эту главу, мы можем сказать, что научная
мысль формулируется на двух языках •— на языке интуи-
ции (образа) и на языке логики (знака). Причем первый
чаще всего предшествует второму. Перевод с одного язы-
ка на другой связан с необходимостью привести в поря-
док свои мысли, придать им нужное направление и пере-
сказать их так, чтобы они стали понятнее самому и дру-
гим. Физик Э. Л. Андроникашвили говорил, что нет ниче-
го полезнее диалога: облекая свою мысль в слова, сразу
же чувствуешь, стоит эта мысль того, чтобы о ней узнали
твои коллеги, или не стоит.
А Г А -ПЕРЕ ЖИВ АНИЕ
Когда же приходит мысль, что порождает ее? Психо-
логи предлагают нам считать, что мысль рождается из
задачи, которую ставит перед нами жизнь. Уильям
Джемс говорит, что мышление выручает нас при непред-
виденном стечении обстоятельств, когда вся наша обы-
денная ассоциационная мудрость оказывается бессиль-
ной. Главная особенность настоящего мышления, по его
мнению,— это способность ориентироваться в новых для
нас условиях. Вот что выделяет мышление из обыкновен-
ных умственных процессов,
158
Кто не умеет мыслить, созерцает факт, но, ничего не
предпринимая, остается беспомощным перед ним. Кто
умеет, расчленяет этот факт и выделяет в нем какой-ни-
будь признак. Этот признак он принимает за сущность
факта, находит в нем разные свойства и выводит из него
следствия. Он как бы замещает факт его отвлеченным
признаком. А так как признак — одна из частей факта,
то мышление можно определить как замещение целого
его частями и связанными с ним свойствами и следстви-
ями. Тогда искусство мышления будет складываться из
двух вещей —• из проницательности, или умения увидеть
в целом факте его существенный признак, и из запаса
знаний и опыта, позволяющих быстро связать этот при-
знак со всем тем, что из него следует.
Чаще всего встречается обилие знаний, а не проница-
тельность. Умения заучивать факты добиться легче, чем
развить в себе способность смотреть на них с разных то-
чек зрения. В этом мы с вами убедились, присутствуя на
экзаменах в Будапештском университете.
Когда мы замещаем предмет его признаком и рас-
сматриваем, например, перстень как воплощение стои-
мости, все остальные признаки нас уже не интересуют.
Но ведь перстень не только воплощение стоимости. Он
становится им при особых обстоятельствах. В других об-
стоятельствах он может быть украшением, оправой для
печати, вместилищем яда, исторической находкой, ули-
кой, причиной семейного скандала. Все эти признаки
одинаково верны, и нет ни одного из них, который был
бы важнее прочих, как нет и самой важной точки зрения.
Все зависит от обстоятельств, ставящих предмет в такие
отношения со всем миром, при которых один из призна-
ков становится самым важным.
Пока я пишу, говорит Джемс, самое существенное
в бумаге для меня то, что на ней можно писать. Если бы
я захотел зажечь огонь и у меня под рукой не было бы
ничего, кроме бумаги, она стала бы прежде всего горю-
чим материалом. Помимо этого, она еще и органическое
соединение, и предмет длиной в десять и шириной в во-
семь вершков, и продукт, сделанный на такой-то фабри-
ке. Для фабриканта бумага будет товаром, на который
есть спрос. Так как мы можем определять бумагу каж-
дый раз только одним способом, наша точка зрения бу-
дет всегда односторонней. Чтобы познать вещь во всей ее
159
полноте, нужно рассмотреть ее с разных сторон, а для
этого совершить несколько мыслительных операций. И те
свойства, которые мы выделяем в вещи, больше характе-
ризуют нас, чем ее. Для Дальтона метан это предмет ис-
следования, а для шахтера — величайшая опасность. Мы
усматриваем в вещи то, что нам нужно для решения на-
ших задач.
Что же получается в результате такого усмотрения?
Свойство, извлеченное нами из факта, мы признаем рав-
нозначным всему факту. И это свойство сообщает наше-
му выводу такую очевидность, какой мы бы непосредст-
венно из факта извлечь не могли. Очевидность основы-
вается на том, что свойства, выделенные нами из предмета,
весьма малочисленны. Наше восприятие в состоянии
охватить их все сразу и выводы, к которым пришел наш
ум, тоже сразу.
Как же извлекаем мы нужные свойства из конкрет-
ных данных и почему во многих случаях надо ждать при-
шествия гения, который их извлечет? Джемс пытается
объяснить это. Он говорит, что сначала все наши знания
о вещах смутны и широки, вещи представляются нам
нерасчлененными единствами, но «сила анализа» вычле-
няет из них то, что нужно. Мирный обыватель, присутст-
вующий при кораблекрушении, сражении или пожаре,
беспомощен. Его внимание не может сосредоточиться на
той стороне события, которая помогла бы ему сообра-
зить, что следует делать. Моряк же, полководец или по-
жарный мигом разберутся в положении вещей и примут-
ся за дело. Их ум натренирован различать необходимые
свойства у подобных событий. У них развита сила анали-
за. Сила эта питается практическими и эстетическими
интересами. Ребенок, замечая клетку с птицей, оставляет
без внимания другие части комнаты: они не доставляют
ему столь живого удовольствия. Рыбак интересуется ве-
сом рыбы, а художник — переливами ее чешуи. Опыт
развивает силу анализа. Разнообразие интересов расши-
ряет ее применение.
Различать необходимые свойства помогают и ассоци-
ации по сходству. Без них ученый не мог бы группиро-
вать аналогичные случаи. Явления, отделенные друг от
друга в пространстве и во времени, объединяются в ода-
ренных умах мгновенно, и среди разнообразия окружаю-
щего обнаруживаются общие этим явлениям свойства,
160
которые уму, руководимому одними ассоциациями по
смежности, остались бы недоступны. Мысль эта нам зна-
кома: о сближении далеких понятий говорил Лаплас,
с ассоциацией по сходству мы встречались и еще встре-
тимся. Новое для нас у Джемса содержится в замечании
об одаренных умах: сближение далеких понятий проис-
ходит у них самопроизвольно. Умы, в которых преобла-
дает ассоциация по сходству, более всего способны
к мышлению в строгом смысле слова.
Ум гения так же относится к уму простого смертного,
как ум простого смертного — к уму животного. Предмет
напоминает животному другой такой же предмет, а не
предмет, сходный с первым лишь отчасти. Если бы самое
прозаическое человеческое существо могло переселиться
в душу собаки, оно пришло бы в ужас от царящего там
отсутствия воображения. Мысли стали бы вызывать в его
уме не сходные, а смежные с ними привычные мысли. За-
кат солнца напоминал бы ему не о смерти героев, а о
том, что пора ужинать. Чтобы удивляться, почему Все-
ленная такова, какова она есть, нужно иметь понятие
о том, что она могла бы быть иною. Животное не способ-
но к этому. Оно принимает мир как данное и никогда не
удивляется ему. Удивляется человек, и чем чаще он со-
поставляет общие и неповторимые признаки, тем больше
удивляется и настойчивее стремится удовлетворить свое
любопытство. Джемс возвращает нас к источнику твор-
ческой мысли — к удивлению.
Во всех этих рассуждениях много верного, но много
и недоговоренностей, много «набросков углем». Неясно,
например, что именно заставляет нас выделять только
одно из свойств, уместных для данной ситуации, и, самое
главное, как.происходит это выделение, сразу или по-
этапно. На эти вопросы попытались ответить представи-
тели гештальт-психологии, направления, которое разви-
лось в Европе в 20—30-х годах.
Одним из основоположников гештальт-психологии
был Вертхаймер. Разобрав все варианты задачи, кото-
рую решал Гаусс, он нашел в их решениях один общий
признак. Каким бы решением мы ни воспользовались, го-
ворит он, мы непременно прибегнем к методу перегруп-
пировки, или реорганизации рядов чисел. Перегруппи-
ровка же направляется нашим стремлением лонять отно-
шения между суммой рядов и их структурой. В процессе
g Формула открытия
161
перегруппировок отдельные составляющие получают но-
вое значение. Число 9, например, мы рассматриваем не
только как 8-}- 1, но и как 10—-1 или 11—-2.
Когда мы попадаем в проблемную ситуацию, у нас
прежде всего возникает ощущение того, что тут не все
ясно. Это и есть ощущение проблемы. Желание устра-
нить неясность и понять, в чем дело, приводит к тому, что
мы начинаем ставить перед собой вопросы. Эти вопросы,
подобно магнитам, извлекают из элементов ситуации са-
мые важные. Из них образуется фокус, или центр ситуа-
ции, и вокруг этого фокуса все элементы складываются
в структурное целое — гештальт. Так создается основа
для понимания ситуации, то есть для решения задачи.
В задаче, которую решал Гаусс, первоначальное ощуще-
ние неясности вызывалось сложностью последовательно-
го подсчета суммы. Неужели все числа надо складывать?
Нет ли у элементов суммы какого-нибудь признака, ко-
торый позволил бы обойтись без подсчета? Вот вопросы,
которые должен был задать себе Гаусс. 1 + 10=11,
2-f-9=ll... Ага! Вот он, фокус структуры. Этот момент
психолог Бюлер так и назвал: «Ага-переживание». Дру-
гие психологи предпочли ему термин «инсайт». В пере-
воде с английского «инсайт» означает проницательность,
проникновение, понимание, интуицию.
ЛИНЗА В ЖЕЛУДКЕ
Структура, приводящая к решению, может сформиро-
ваться сразу, но может и не сразу. Прежде чем возник-
нет «хороший» гештальт, человек может строить «пло-
хие» гештальты, не отражающие действительного поло-
жения вещей. У них тоже есть свои центры, и эти центры
мешают решению. Процесс творческого мышления сво-
дится к взаимоотношениям между «плохими» и «хоро-
шими» структурами. Школьнику предстоит вычислить
площадь параллелограмма. Ему удается решить эту за-
дачу лишь потому, что он видит в искаженной структуре
(параллелограмме) «хорошую» — прямоугольник. Он
как бы распознает в одной структуре другую. Такое рас-
познавание Вертхаймер считает закономерностью твор-
ческого мышления.
У Вертхаймера инсайт совпадает с моментом перехо-
162
да от одного видения ситуации к другому. Психологи-
чески причина такого перехода связана с перемещением
центра ситуации. Чтобы показать, как это происходит,
Вертхаймер рассказывает о решении задачи, которая
встала перед двумя мальчиками, игравшими в бад-
минтон.
Старший мальчик играл лучше и постоянно выигры-
вал. В конце концов младший не выдержал и отказался
продолжать игру. Поразмыслив, старший решил: игру
можно продолжить, если стремиться не к обычному вы-
игрышу, а к тому, чтобы волан как можно дольше нахо-
дился в воздухе. Младший согласился: это было ему по
силам. Вертхаймер выделяет следующие этапы твор-
ческого мышления старшего. Первый этап — возникнове-
ние проблемы. Старший хочет играть, он любит играть
и выигрывать, отказ младшего его возмущает. Второй
этап — преодоление эгоцентризма. Старший видит, что
младший расстроен, и жалеет его. Он понимает, что игра
бессмысленна: она интересна лишь тогда, когда встреча-
ются достойные противники. А нельзя ли так видоизме-
нить игру, чтобы интересно было обоим? Взглянув на
игру с новой точки зрения, старший приходит к правиль-
ному решению. Центр ситуации последовательно переме-
щается с одного объекта на другой. Вначале для старше-
го в центре он сам, его интересы. Затем в центр попадают
интересы младшего. Наконец в центр становится игра са-
ма по себе. Этот случай действительно характерен для
творческого мышления. Человек смотрит на факт с раз-
ных точек зрения, и факт поворачивается к нему то
одной, то другой стороной. Структура, которую он видит,
каждый раз иная.
Вертхаймер представлял себе творческий акт как ска-
чок от одной структуры к другой. А что происходит меж-
ду этими структурами? Почему «плохая» структура усту-
пает место «хорошей»? Какие процессы вызывают скачок
к «хорошей» структуре?
Психолог Дункер искал ответ на эти вопросы в экс-
периментальных задачах. Он старался построить экспе-
римент так, чтобы закономерности мышления выступали
как можно отчетливее, независимо от того, удастся испы-
туемому выразить словами все, что надо, или не удастся.
Предлагая испытуемому задачу и сообщив ему необхо-
димые сведения, он на разных этапах решения дополнял
163
эти сведения и отмечал, насколько они помогали движе-
нию мысли испытуемого. Он вел с испытуемым непри-
нужденную беседу, делая все, чтобы тот был больше за-
нят задачей, а не собой и не экспериментатором.
Неестественность, конечно, оставалась, но была сведена
к минимуму. Когда человек размышляет над какой-ни-
будь задачей, объект его мышления остается постоян-
ным, какие бы фантастические предположения ни прихо-
дили ему в голову. Меняются лишь стороны объекта,
освещаемого с разных точек зрения. Понять, как это про-
исходит, можно лишь из словесных отчетов, из мышле-
ния вслух — ничего другого все равно не придумаешь.
Самая известная задача Дункера—-задача с икс-лу-
чами. В желудке человека обнаружена опухоль; удалить
ее можно, только облучив ее икс-лучами. Но при той ин-
тенсивности, которая уничтожает опухоль, лучи разру-
шают здоровые ткани. Как их уберечь от разрушения?
Дункер вел протоколы решения этой задачи, записы-
вая предложения испытуемых и свои ответы на них. Вот
отрывок из одного такого протокола:
1. Пустить лучи через пищевод. (Экспериментатор:
«Нереально. Лучи распространяются прямолинейно,
а пищевод изогнут».)
2. Сделать здоровые ткани нечувствительными к лу-
чам, введя в них особые химические вещества.
3. Вывести желудок наружу.
4. Уменьшить интенсивность лучей, когда они прохо-
дят через здоровые ткани, например, полностью вклю-
чить лучи лишь тогда, когда они достигнут опухоли.
(Экспериментатор: «Неверное представление... Лучи не
шприц».)
5. Взять что-нибудь неорганическое, не пропускаю-
щее лучей, и защитить таким образом стенки желудка.
(Экспериментатор: «Надо защитить не только стенки же-
лудка».)
6. Что-нибудь одно: или лучи должны пройти внутрь,
или желудок должен быть снаружи. Может быть, можно
изменить местоположение желудка? Но как? Давлени-
ем? Нет...
7. Ввести в полость живота трубочку? (Эксперимен-
татор: «Что вообще делают, когда надо вызвать чем-ни-
будь на определенном месте такое действие, которого на-
до избежать на пути, ведущем к этому месту?»).
164
8. Нейтрализуют действие на этом пути. Я все время
стараюсь это делать.
9. Вывести желудок наружу. (Экспериментатор по-
вторяет задачу, подчеркивая слова при «той интенсив-
ности») .
10. Интенсивность должна быть такой, чтобы ее мож-
но было изменять.
11. Закалить здоровые части предварительным сла-
бым облучением. (Экспериментатор: «Как сделать, что-
бы лучи разрушали только часть опухоли?»)
12. Я вижу только две возможности: или защитить
здоровые ткани, или сделать лучи безвредными. (Экспе-
риментатор: «Как можно было бы уменьшить интенсив-
ность лучей на пути до желудка?»)
13. Как-нибудь отклонить их рассеянное излучение...
рассеять их... Стойте! Надо широкий и слабый пучок све-
та пропустить через линзу, чтобы опухоль оказалась
в фокусе и, следовательно, под сильным действием лучей.
Процесс решения задачи состоит из ряда предложе-
ний. Практически осуществимо лишь последнее. Все
остальные нереальны. Но среди них нет ни одного
бессмысленного. Если бы пищевод был прямым, можно
было бы принять первое предложение, а если бы имелось
вещество, делающее здоровые ткани нечувствительными,
можно было бы принять второе.
Дункер говорит: проблемная ситуация возникает тог-
да, когда у человека имеется определенная цель, а он не
знает, как ее достигнуть. Он согласен и с Джемсом и с
Вертхаймером, что проблемная ситуация —• источник
мыслительной деятельности. Но в ней он делает упор не
на ощущение неясности, а на преодоление конфликта
между тем, что есть, и тем, что требуется. Мышление, го-
ворит он, это процесс, который посредством инсайта (по-
нимания) проблемной ситуации приводит к необходи-
мым для преодоления конфликта ответным действиям.
Мышление выступает на сцену тогда, когда от данного
состояния к желаемому нельзя перейти непосредственно.
Понимание — вот главное в мышлении. Термином «пони-
мание» Дункер заменяет расплывчатую «проницатель-
ность» Джемса.
Каким образом приходит понимание? Человек пре-
жде всего постигает проблемную ситуацию, воспринима-
ет ее как целое, заключающее в себе конфликт, как еди-
1G5
ную структуру. После этого он принимает решение
и приступает к его реализации — к устранению кон-
фликта.
Не желая мириться с загадкой, ум начинает строить
опорные площадки, чтобы перекинуть мост от неизвест-
ного к известному. Строительство опорных площадок на-
чинается с анализа конфликта. В задаче на облучение
конфликт заключен в большой интенсивности пучка лу-
чей и в их контакте со здоровыми тканями. За анализом
конфликта обычно следует анализ цели. В ходе размыш-
ления человек задает себе вопросы: «Что же мне нуж-
но?», «Что делают в подобных случаях?», «Без чего
я могу обойтись?». Вопрос экспериментатора, последо-
вавший за седьмым предложением испытуемого, отно-
сился как раз к анализу цели. Благодаря таким вопро-
сам круг ситуаций, в которых можно искать решение, су-
жается и вычленяется очерченная область поисков реше-
ния. Человеку, который не умеет печатать на машинке,
захотелось изменить расстояние между строчками. Для
этого он не станет ни стучать в стенку, ни пытаться изме-
нить цвет машинки. Ему известно, что он должен «где-то
нажать или что-то покрутить». Он знает, что вообще ме-
ханических результатов добиваются механическими дей-
ствиями. Такое ограничение области поисков облегчает
работу мысли, но и таит в себе опасность: тому, кто ре-
шает задачу, не всегда легко выйти за пределы этой об-
ласти, а иногда это необходимо.
СВЕЧА И ЭФИР
Дункер предлагает нам проанализировать предложе-
ние: «Послать лучи через пищевод». Испытуемый здесь
ничего не говорит об устранении контакта со здоровыми
тканями или о пути, свободном от тканей. Но пищевод
все равно «получает характер решения проблемы». Ведь
его рассматривают не как мышечную трубку, например,
а как свободный от тканей путь в желудок. Это и есть
«функциональное значение» пищевода. Для Дункера
функциональное значение это принцип, суть дела, основ-
ное звено решения. Поняв это значение, мы поняли все
причинные связи, необходимые для решения. Это, конеч-
166
но, не значит, что мы поняли или осознали все законы,
управляющие событием. Когда мы раздуваем огонь, мы,
может быть, и понимаем, что это необходимо для того,
чтобы к тлеющему пламени подвести кислород. Но поче-
му соединение с кислородом порождает теплоту и пламя,
это уже не совсем понятно Над этим еще надо подумать.
Но думать над этим не обязательно. Понимать надо не
все до конца, а то, что нужно для решения.
Посмотрим еще раз на четвертое предложение. Сна-
чала у испытуемого возникает лишь очень общее реше-
ние: «Надо уменьшить интенсивность лучей на пути».
И все-таки это уже серьезное преобразование первона-
чальной задачи. Испытуемый ищет не просто «способ об-
лучения опухоли без разрушения здоровых тканей», как
было вначале, а еще и способ понизить интенсивность лу-
чей на пути к опухоли. Задача заострилась, «специализи-
ровалась», и именно как решение этой новой, преобразо-
ванной задачи возникает предложение — включить лучи
на полную мощность лишь после того, как они достигнут
опухоли. Из того же самого преобразования рождается
в конце концов правильное решение — сконцентрировать
на опухоли лучи.
За каждым предложением кроется то же самое —
преобразование первоначальной проблемы. Путь к окон-
чательному ответу ведет через промежуточные фазы.
Каждая из них по отношению к предыдущей фазе это
частное решение, а по отношению к последующей — оче-
редная проблема. Мы задаем вопрос, отвечаем на него,
но наш ответ содержит в себе следующий вопрос. И это
длится до тех пор, пока мы не находим окончательный
ответ.
Во время движения от фазы к фазе совершается пере-
мена и в точке зрения, и в материале мысли — в ге-
штальте. Решающие моменты «ага-переживаний» всегда
совпадают с внезапной перестройкой материала, когда
что-то переворачивается и становится на свое место. Что-
бы мыслить, надо уметь перестраивать ситуацию. А так
как каждая ее сторона сама по себе может быть источни-
ком решения, то чем больше разных сторон человек спо-
собен охватить взглядом сразу, без долгого анализа, тем
быстрее он найдет решение. Надо видеть сразу, что 9 это
не только 8+1, но еще и 10-1. И надо уметь отрываться
от стремящихся закрепиться в сознании чувственных
167
структур, служащих опорой памяти. Все начинается
с образа, но не все исчерпывается образом. В процессе
мышления объект исследования включается во всё новые
связи; их надо закрепить в новых понятиях, надо осоз-
нать. Когда содержание одной стороны объекта исчерпа-
но, а ответа нет, мысль, задав новый вопрос, переходит
к новым сторонам. Исчерпанность предыдущей структу-
ры — стимул к дальнейшему преобразованию.
Во многих опытах, поставленных Дункером, функции
различных предметов оказывались необычными. Сверло
надо было использовать в качестве недостающего гвоздя,
а часы — для забивания гвоздей. Выявить эти необычные
функциональные значения — вот истинно творческая за-
дача. Ведь это почти все равно что угадать в сцепив-
шихся обезьянах бензольное кольцо или в потемневшей
пластинке — следы неведомого излучения.
Увидеть, что сверло может быть гвоздем, а перстень
объектом стоимости, можно только тогда, когда вклю-
чишь свойства объекта в новые отношения и связи. Этот
процесс родствен не только поискам ассоциаций по
сходству, но и юмору. Нелепость, над которой мы смеем-
ся, часто заключается в том, что какое-нибудь понятие
включается в неожиданную систему связей. Юмор —
близкий родственник творческого мышления. Что было
хитрого в задаче с потонувшим перстнем? Ничего, если
не считать, что перстень надо было включить в новую
систему связей. К такому же типу задач относится и зна-
менитая задача о свече, придуманная Секеем.
Секей давал своим испытуемым несколько предметов,
в том числе свечу, спички и весы. Испытуемые должны
были с помощью этих предметов так уравновесить весы,
чтобы через некоторое время равновесие нарушилось са-
мо собой, без их вмешательства. Чтобы решить эту зада-
чу, нужно было догадаться зажечь свечу. Сгорая, она по-
теряет в весе, и равновесие нарушится само собой.
Здесь, как и в задаче с перстнем, испытуемым при-
шлось помучиться. И Секей решил, что у каждого пред-
мета есть сильные свойства, которые сразу характеризу-
ют его, и слабые, замаскированные. Их можно обнару-
жить с большим трудом. С отысканием таких свойств
и связано творческое мышление.
Решение этой задачи не требует от человека никаких
специальных знаний. И для него не секрет, что свеча при
168
горении может потерять в весе. Но формулировка задачи
не содержит в себе ничего такого, что навело бы испыту-
емого на эту мысль. Он видит два сильных свойства све-
чи — она может служить гирей и может освещать комна-
ту. То, что она способна потерять в весе, скрыто, за-
маскировано. Задача, где вместо свечи фигурировал
эфир, решалась быстрее. Эфир горит, как свеча. Но еще
и улетучивается. Это его сильное свойство. И оно сразу
бросалось в глаза испытуемым.
Секей говорил нам уже, что здесь мы сталкиваемся
со старой проблемой соотношения знания и мышления.
Чтобы решить задачу, нужны какие-то знания. Но дале-
ко не все, кто обладает знаниями, способны использовать
их продуктивно. Опыт со свечой показал, что у человека
существует некое исходное знание, например: «твердые
тела имеют неизменный вес». В процессе мышления оно
открыто не обнаруживается, но, несомненно, влияет на
него. Исходное знание содействует или препятствует вы-
бору верного направления для мысли.
Испытуемые часто говорили Секею, что сами не пони-
мают, как им удалось найти решение. Ничего удивитель-
ного тут нет. Понимание—это прежде всего переживание,
чувство, сознавание. Творческий же акт, вроде реор-
ганизации структуры знания, может быть и неосознавае-
мым. Сплошь да рядом мы не отдаем себе отчета в том,
как изменилось наше исходное знание. Бывает также,
что человек ничего не понял, а ему кажется, что понял.
О понимании можно судить лишь по результатам.
По результатам можно судить и об использовании
прошлого опыта. Дункер с сомнением относится ко всем
аналогиям и ассоциациям. Он говорит, что сходные слу-
чаи вспоминались чаще всего после решения, иногда од-
новременно с решением и очень редко до решения. Но,
может, они вспоминались неосознанно? К сожалению,
эта сторона дела мало интересовала гештальт-психо-
логию.
Психологи же последующих поколений занялись не-
осознаваемым всерьез. Они решили увидеть аналогии
и ассоциации в эксперименте и понять, какова их роль
в решении творческой задачи.
ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ
В нашей стране такие эксперименты ставили
Ю. Б. Гиппенрейтер и Я- А. Пономарев. От испытуемых
требовалось, например, построить из шести спичек четы-
ре равносторонних треугольника. Большинство пыталось
решить задачу, раскладывая спички на плоскости. А на
плоскости решить ее нельзя: нужно выйти в пространст-
во и построить тетраэдр — треугольную пирамиду. Твор-
чество именно в том и состоит, что открывается новый
принцип.
Когда экспериментатор видел, что у испытуемого ни-
чего не получается, он давал ему более легкую вспомо-
гательную задачу, для решения которой тоже требова-
лось выйти в пространство. Нужно было разместить на
заданной плоскости несколько высоких коробок одинако-
вой толщины, но с разными основаниями. Коробки не
размещались, но это испытуемого не обескураживало:
всем известно, как обращаются с коробками в подобных
случаях. Он быстро догадывался поставить их на ребро.
Вспомогательную задачу предлагали на разных этапах
решения основной. И тут обнаружилась интересная зако-
номерность. Если задачу с коробками давали до того,
как испытуемый принимался размышлять над спичками,
на ход этих размышлений она не влияла. Если же испы-
туемый уже помучился над основной задачей и лишь то-
гда ему предлагали переключиться на коробки, он, раз-
местив коробки, справлялся и со спичками.
Ту же методику Пономарев использовал и в своей из-
вестной задаче «Четыре точки».
Четыре точки расположены на плоскости так, что, ес-
ли вы соедините их четырьмя линиями, у вас получится
квадрат. Но соединить эти точки требуется не четырьмя,
а тремя линиями. И сделать это нужно, не отрывая ка-
рандаша от бумаги, да так, чтобы карандаш возвратился
в исходную точку. На все это вам дается десять минут.
Ничего у вас не получается. Вы чертите незавершенный
квадрат из трех сторон, потом букву «зет», потом тре-
угольник (одна точка остается в стороне). Вот уже деся-
ток фигур вы начертили, но ни одна из них не удовлетво-
ряет требованию задачи.
Тут приходит спасительная подсказка. Эксперимента-
тор предлагает вам простенькую задачу. Он дает вам па-
170
нель с гвоздиками, вбитыми в углах воображаемого
квадрата. Кроме того, он дает три планки, одну подлин-
нее и две покороче. В планках проделаны отверстия и с
одной стороны начерчены кривые линии. Нужно надеть
планки на гвоздики так, чтобы концы кривых линий сов-
пали и образовали овал. Составить овал из трех кри-
вых — дело минуты. Вы составляете его быстро, еще не
надевая планок на гвоздики. Перед вами две фигуры:
овал, составленный из трех кривых, и треугольник, обра-
зовавшийся из трех соединившихся планок.
Овал вы сознаете — вам он был задан. А треугольник
не сознаете. Это «побочный продукт» вашей деятель-
ности, фон для овала. Этот «продукт» остается у вас за
порогом сознания и выручает вас, когда вы возвращае-
тесь к основной задаче. Треугольник, образованный из
планок, и есть та фигура, которую вам надо начертить,
не отрывая карандаша от бумаги. Весь фокус в том, что
линии тут тоже как бы выходят в пространство, вернее,
далеко заходят за пределы воображаемого квадрата, из
которого вы не смогли до сих пор выбраться.
Опыт с четырьмя точками показал, что, во-первых,
без подсказки никто задачу за десять минут решить не
может и, во-вторых, что если подсказка дается до основ-
ной задачи, ее тоже почти никто решить не может. Если
же подсказка дается в процессе решения, задачу решает
каждый второй.
Как и в задаче на облучение, попытки соединить че-
тыре точки безуспешны, но не бессмысленны. Дункер,
кстати, тоже подсказывал испытуемым, направляя их по
верному пути. Взгляните на его реплики в ответ на седь-
мое и двенадцатое предложения. Попытки соединить че-
тыре точки без подсказки были необходимы: они создава-
ли у испытуемого особое эмоциональное состояние, кото-
рое Пономарев называет поисковой доминантой. Без
этого состояния невозможно решить никакую серьезную
задачу. Вот тут-то и важно уловить благоприятный мо-
мент, когда неправильные приемы уже исчерпаны, а до-
минанта еще не угасла — испытуемый еще не утратил
интереса к задаче.
«Перенося это положение в условия подлинного твор-
чества,— замечает Пономарев,— можно сказать, что
успех интуитивного решения зависит от того, насколько
исследователю удалось освободиться от шаблона, убе-
171
диться в непригодности ранее известных путей и, вместе
с тем, сохранить увлеченность проблемой».
Пономарев подчеркивает, что результаты его опытов
раскрывают лишь один из механизмов интуиции, одну
ее сторону. Подсказка — это та же ассоциация по сход-
ству, играющая огромную роль в узнавании. Но узнать
можно то, что знаешь. Часто исследователю нечего узна-
вать: то, с чем он столкнулся, не имеет аналогов. Мы зна-
ем это из истории непредсказуемых открытий. Создавая
новую теорию или формулируя новый закон, он не ждет
никаких «яблок»: он знает, что их не существует. Интуи-
ция проявляет себя в самых различных обстоятельствах.
По-латыни intuitio — созерцание. О созерцании мы
много говорили в первой части книги; мы знаем, что это
первый этап мышления, но что и на этом этапе можно
увидеть решение сразу. К этому выводу пришли еще
в XVII веке философы Декарт, Спиноза и Лейбниц. Они
обратили внимание на то, что есть истины, которые ум
обнаруживает не на основе логического доказательства,
а на основе непосредственного интеллектуального виде-
ния. Декарт полагал, что такими истинами являются
основные аксиомы науки. Человек открывает их не в ре-
зультате рассуждений, а прямым усмотрением разума.
В «Правилах для руководства ума» Декарт говорит, что
иногда «надлежит, отбросив все узы силлогизмов, вполне
довериться интуиции как единственному остающемуся
у нас пути».
Философы-рационалисты считали интуицию высшей
формой познания, высшим проявлением единства зна-
ния, и притом знания интеллектуального: в акте интуи-
ции, когда идея рождается, подобно Афине из головы
Зевса, разум одновременно и мыслит и созерцает. И это
созерцание имеет не только чувственную природу. Это
созерцание сущности вещей в их связях и взаимодейст-
виях. Декарт, как и Лейбниц, был выдающимся матема-
тиком и знал цену логике. Математиком был и Эйн-
штейн, разделявший взгляды Декарта на интуицию. Он
не сомневался в том, что мышление протекает в основном
бессознательно. Задача логического мышления, говорил
он, сводится к установлению соотношений между поняти-
ями и предложениями по твердым правилам логики. Но
сами понятия и предложения получают смысл лишь бла-
годаря их связи с непосредственным отображением ми-
172
ра. Эта связь интуитивна, и к ней не приложимы мерки
логики. Высший долг физиков — поиски тех законов, из
которых можно получить картину мира и к которым ве-
дет не логический путь, а только основанная на проник-
новении в суть опыта интуиция.
Интуиция стала предметом систематического иссле-
дования сравнительно поздно — в 50-х годах нашего ве-
ка. До тех пор это слово употреблялось лишь в его жи-
тейском смысле, хотя психологам и были известны сооб-
ражения ученых на этот счет, да и в своих экспериментах
они не раз наблюдали, как приходит к человеку внезап-
ное решение и он не знает, откуда оно пришло.
Отдельные этапы логического мышления человек
осознает и может выразить в речи. Он осознает и содер-
жание и ход мыслей. Мышление способно принять форму
стройного рассуждения от общего к частному или от
частного к общему. В интуитивном же мышлении нет
определенных этапов. Во всяком случае, их не видно. Ес-
ли у него и есть логика, то это не логика аналитического
рассуждения. Основной признак интуитивного мышле-
ния— свернутое восприятие всей проблемы сразу. И че-
ловек не знает того процесса, который привел его к отве-
ту. Даже материал задачи отражается неосознанно. Сам
же процесс мышления осуществляется в виде скачков,
отдельные его звенья выпадают.
Нам уже понятно, что интуиция тесно связана
с бессознательным. И мы уже видели это бессознатель-
ное: в нем пребывали треугольники и коробки вспомога-
тельных задач, позволявшие испытуемым внезапно
усматривать решение. С бессознательным связана и мо-
дель проблемной ситуации, в которой отражаются и эле-
менты задачи и процесс ее решения.
Решая задачу, мы обращаем внимание на одно и от-
влекаемся от остального. Мы осознаем свойства элемен-
та ситуации лишь потому, что нам удалось связать этот
элемент с другими. Но в элементах ситуации всегда име-
ются многочисленные свойства, которых мы в данный
момент не осознаем, но которые запечатлены в нашей па-
мяти вместе со всем объектом. Часто именно эти сначала
не осознаваемые свойства и определяют процесс реше-
ния. Можно предположить, что объекты, отраженные
в модели ситуации, продолжают взаимодействовать меж-
ду собой и тогда, когда наше внимание направлено на
173
другие, не связанные с проблемой предметы или ни на
что не направлено. Может быть, как раз тогда в мозгу
«сами собой» и устанавливаются новые связи и отноше-
ния. Потом, когда приходит время, эти связи становятся
достоянием сознания, и человек восклицает: «Эврика!»
Он чувствует, что перед ним нечто целое, что хаос усту-
пил место гармонии. В этом чувстве, в слиянии научного
и эстетического начал,— вся интуиция.
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ КИНОСЕАНС
Это было лет пятнадцать назад. Нейрохирург Пен-
филд экспериментировал в своей клинике в Монреале.
Пациенты Пенфилда страдали эпилепсией, которая вы-
зывается патологическими процессами в височных долях
коры. Удаляя под местным наркозом пораженный
участок коры, Пенфилд попутно исследовал соседние зо-
ны, управляющие речью. Его интересовало, что будет, ес-
ли приложить к речевой зоне электрод и пропустить че-
рез него слабый ток. Однажды, когда он подвел электрод
к одному участку височной доли левого полушария, боль-
ная, находившаяся в сознании и ничего не чувствовав-
шая, вскрикнула и улыбнулась. Она внезапно увидела
себя маленькой и снова пережила испугавшее ее в дет-
стве событие. Другая больная увидела себя с новорож-
денным ребенком на руках; ребенку этому в ту пору бы-
ло уже двадцать лет. Третья прослезилась от умиления,
очутившись в своей родной церкви в Голландии во время
рождественской службы.
Изумленный не меньше своих пациентов, Пенфилд
продолжал опыты. На одном из участков другого полу-
шария он обнаружил зону, которую назвал сравниваю-
ще-истолковывающей. Раздражение этой зоны вызывало
у больных оценку переживаемых ими ощущений. Может
быть, эта зона управляет отбором отрывков прошлой
жизни? У этих отрывков были свои особенности. Про-
шлое разворачивалось в сознании, как кинофильм, кадр
за кадром. Время в фильме всегда шло вперед с неиз-
менной скоростью. Оно не останавливалось и не переска-
кивало на другие периоды, как в настоящих фильмах.
Когда нейрохирург убирал электрод, фильм обрывался,
но, поднеся электрод снова, фильм можно было продол-
174
жить. Если же электрод попадал в другую точку, на эк-
ране сознания вспыхивали сцены другого периода жизни.
Открытие Пенфилда снова приковало внимание ис-
следователей к бессознательному. О бессознательном го-
ворили давно и подходили к нему с разных точек зрения.
О нем много писал австрийский психиатр Зигмунд
Фрейд. Фрейд считал, что мы не забываем ничего, а если
и не можем вспомнить, то лишь потому, что это нам не-
приятно: память не желает удерживать в сознании то,
что противоречит установкам личности. Если человек пе-
режил неприятное аффективное состояние, то торможе-
ние, вызванное личностной установкой, вытеснит память
о нем в сферу бессознательного. Вытеснением Фрейд
объяснял многие случаи забывания, замеченные им
у своих пациентов да и у самого себя. Как-то раз, про-
сматривая свою врачебную книгу, он наткнулся на имя
одного из пациентов, и, хотя пациент был недавний, он
никак не мог сообразить, кто это. Потом его осенило:
этому пациенту он поставил неточный диагноз, и его со-
знание поспешило расстаться с именем, ранившим его
самолюбие.
Фрейд исследовал одну причину забывания. Но у за-
бывания много причин, а у бессознательного много уров-
ней. Невропатологи наблюдали разнообразные случаи
раздвоения личности, при которых пациент, страдающий
особыми формами невроза, способен в один прекрасный
день проснуться другим человеком, с другим характером
и привычками, даже с новым именем, которое он сам се-
бе придумывает, и забыть другое свое «Я». Чтобы воз-
вратить ему прежнюю личность, невропатологи прибега-
ли к гипнозу. Тот же гипноз исцелял людей, страдавших
навязчивыми идеями, которые иногда, в основном под
влиянием страха, охватывали мозг и сознание с такой си-
лой, что человек был не в состоянии узнать своих близ-
ких и терял память на происходящее. В его мозгу как бы
пылал очаг, не дававший ему возможности сосредото-
читься ни на чем. Гипноз обнаруживал, что на самом де-
ле он все запоминает, но все его впечатления находятся
под порогом сознания. Осторожно, от сеанса к сеансу,
очаг погасал, порог сознания понижался, и человек обре-
тал свою память и самого себя.
С этими опытами перекликались и наблюдения рус-
ского психиатра С. С. Корсакова, который утверждал,
175
что следы прежних и настоящих впечатлений живут
своей «частной жизнью» под порогом сознания даже
у тех больных, чей мозг поражен алкоголем пли другим
ядом. Следы прошлого переваливали через порог под
влиянием сильной эмоции. Дело не в том, говорил Корса-
ков, что человек забыл, а в том, что он не может вспо-
мнить. А несколько лет назад сотрудникам Института
биофизики Академии наук СССР с помощью фармаколо-
гических средств, по-разному влияющих на ретикулярную
формацию, управляющую нашим бодрствованием и вни-
манием, удалось вызвать у крыс несколько разных «па-
мятей» — несколько противоречащих друг другу навы-
ков. Получилась модель раздвоения, растроения и даже
расчетверения личности. В одном эмоциональном состоя-
нии, связанном с одним химическим уровнем мозга кры-
са действовала так, а в другом иначе, совершенно не по-
мня о других своих навыках, но вспоминая их, как толь-
ко ей вводили в мозг вещество, при котором навык выра-
батывался.
Интересный факт открыли сотрудники Института экс-
периментальной медицины в Ленинграде. Оказывается,
в нашем мозгу есть своеобразный детектор ошибок,
о котором мы даже и не подозреваем. Детектор ошибок
нашли в хвостатом ядре таламуса — структуре, примы-
кающей к ретикулярной формации и гиппокампу. Элек-
троды, вживленные в ядро, зарегистрировали его особую
активность, проявляющуюся только тогда, когда испытуе-
мый во время решения задач ошибается, сам того не
сознавая. Член-корреспондент АН СССР Н. П. Бехте-
рева пишет, что в момент обнаружения ошибки нейроны
ядра становятся самыми активными среди других
нейронных сообществ и активизируют мозг, вызывая
у человека сначала состояние сомнения, затем повышен-
ного внимания и, наконец, осознание ошибки. Детектор
словно взывает к сознанию: «Внимание! Дело неладно!»
О существовании обширной бессознательной памяти
свидетельствовали и давно известные врачам случаи ги-
пермнезии, или сверхпамяти. Люди, спасшиеся после ко-
раблекрушений, рассказывали, как, погружаясь на дно,
они видели всю свою жизнь, проносившуюся перед их
глазами отдельными кадрами. На кадрах часто изобра-
жены были эпизоды детства, никогда прежде не вспоми-
навшиеся. Психологи наблюдали и людей, которые во
176
время горячки говорили на языках, им неизвестных: ока-
зывалось, что эти люди, чаще всего слуги, работали
в домах, где при них говорили на этих языках, и их под-
сознание автоматически регистрировало все сказанное
в их присутствии. Иногда язык был известен человеку, но
он не говорил на нем десятки лет и должен был бы за-
быть его до единого словечка, но вот случалась лихорад-
ка, человек терял сознание и в бреду говорил только на
языке своего детства.
Невропатологи сообразили, что гипермнезию можно
вызвать тем же . гипнозом, внушив взрослому, что ему,
например, пять лет: человек начинал играть в кубики,
к нему возвращались все утраченные сознанием повадки
ребенка. В 50-х годах на одном из психологических кон-
грессов рассказывалось о каменщике, описавшем под
гипнозом все щербинки в кирпичной стене, которую он
возводил за двадцать лет до гипнотического сеанса.
Рибо думал, что виновница гипермнезии — амнезия,
потеря сознательной памяти. Оживление детских воспо-
минаний в старости он объяснял тем, что амнезия, возни-
кающая в результате склероза, начинает свою разруши-
тельную работу со свежих приобретений памяти и посте-
пенно добирается до старых следов. Прежде чем погасить
их, она на время выставляет их перед сознанием.
Утопающие начинали видеть свои фильмы только тогда,
когда переставали помнить о настоящем и стремиться
к спасению. Гипермнезии у больных горячкой предшест-
вовало беспамятство. Тот, кто вспоминает свой родной
язык, забывает новый. Если амнезия и не виновница ги-
пермнезии — виновницей правильнее было бы назвать
болезнь или перемену в эмоциональном состоянии,— то
спутницей ее назвать можно.
Фильмы Пенфилда, однако, не сопровождались ника-
ким беспамятством. Правда, видят их только эпилепти-
ки, люди, чей мозг особенно возбудим и во время припад-
ков склонен к перемежающимся состояниям амнезии
и ясновидения. Но пациенты Пенфилда не воспринимали
свои видения как воспоминания. Они понимали, что на-
ходились на операционном столе, и у них было чувство
отчуждения: как будто они действительно смотрели сня-
тый в молодости фильм про себя. С гипермнезией эти
фильмы роднит другое. В них не найти обобщений, ха-
рактерных для сознательной памяти, образов, связанных
177
с выполнением работы, с принятием серьезных решений,
с пылкими чувствами, со всем тем, к чему сознание могло
вернуться хоть раз и на что повлиять при воспроизведе-
нии и оценке. Это нечто вроде фона, который окружает
человека в обыденной жизни, почти не вызывая реакций,
та часть жизни, которая проходит мимо сознания и бла-
годаря этому сохраняется в глубинах памяти во всей
своей неприкосновенности.
Конечно, многое из того, что видели пациенты Пен-
филда, не было им безразлично: видения сопровожда-
лись мыслями и чувствами, которые, как утверждали па-
циенты, испытывались ими и в прошлом. Может быть,
совершенно безразличное не откладывается ни в какой
памяти, а может быть, ошибались пациенты, принимая
свое теперешнее ощущение за минувшее: кого же оставят
равнодушными картины утраченного времени! Во всяком
случае, безразличия хватало на то, чтобы сознание боль-
ше не возвращалось к воспринятому. Что касается обыч-
ной гипермнезии, то и ее материал того же рода. Карти-
ны, которые проносились перед взором утопающих, были
тем же забытым и никогда не вспоминавшимся фоном.
И каменщик никогда не возвращался к своим щербин-
кам; и родной язык усваивается нами бессознательно,
автоматически, как стихия, в которой мы живем, а со-
знательно мы помним лишь грамматические правила да
примеры из учебника — то, что мы заучивали намеренно.
Так или иначе, наша память хранит во сто крат боль-
ше того, что мы воспроизводим в обычной жизни. Может
быть, она вообще хранит все, что попадалось нам на гла-
за и задерживалось хоть на тысячу микросекунд, все, что
хотя бы косвенно влияло на наше поведение. Но зачем ей
хранить весь этот законсервированный фон? Разве слу-
чайно сознание старается освободиться от неприятных
ощущений и переживаний? Отчего же бессознательное
хранит то, что как будто и не должно храниться? Или
в этом тоже заложен биологический смысл?
ВСЕ ЩЕРБИНКИ ФОНА
Психологи говорят: да, заложен. Из опытов с движе-
ниями глаз мы помним, что подсознание — непременный
участник восприятия: сравнение новых образов с этало-
178
нами происходит большей частью автоматически. Со-
поставим этот факт с обычным житейским наблюдением.
«Я только что думал о вас — легки на помине!» — вос-
клицаем мы, встретив знакомого, и не подозреваем о том,
что заметили его мигом раньше, но не успели еще это
осознать. Если же со знакомым случается то же самое,
нам обоим ничего не остается, как потолковать о телепа-
тии. Подсознание опережает сознание и, успевая воспри-
нять знакомое лицо, преподносит мысль о нем сознанию
как бы изнутри.
К ряду этих нехитрых феноменов можно отнести
и существование центрального и краевого зрения. Когда
мы останавливаем взгляд на каком-нибудь предмете, он
становится для нас фигурой, а все, что его окружает, фо-
ном. Внимание наше фоном не занято, и, однако, фон мы
воспринимаем и откликаемся на все перемены в нем.
Иногда краевое зрение, замечающее перемены в фоне,
бывает гораздо острее и тоньше центрального, устремлен-
ного на фигуру. Отчего же более острое зрение предназна-
чено второстепенным предметам, о которых мы даже не
думаем? Именно оттого, что не думаем. Ведь эти предме-
ты второстепенны только в данный момент, а в следующий
они могут стать первостепенными. Мы должны иметь
о них хотя бы общее представление. Наши предки никог-
да бы не выжили среди хищников, если бы не умели кра-
ешком глаза следить за тем, что делается вокруг. И этот
краешек должен был быть чувствительнее центра, чей
объект перед носом, а реакция на тревожный сигнал дол-
жна быть бессознательной, потому что бежать или на-
падать надо не раздумывая.
Глубокий смысл заложен в этом двойном отражении
среды! Не удивительно ни почему бессознательное спо-
собно опережать сознание, ни почему оно всегда участ-
вует в восприятии, ни откуда взялась интуиция -— непо-
средственное усмотрение, предшествующее неповоротли-
вой логике. Если наше сознание дремлет и внимание
рассеянно, образы среды все равно, хотя бы и смутно, от-
кладываются в памяти. Бессознательное, храня эти обра-
зы, вырабатывает из них эталоны и этим оказывает огром-
ную услугу сознанию. Когда же мы отвлекаемся от вне-
шних «фигур» и занимаемся внутренними или ничем не
занимаемся, бессознательное поддерживает нашу связь
с внешним миром, прежде всего со временем, и дает нам
179
ощущение непрерывности, устойчивости. Охватывая сфе-
ру памяти, восприятия, воображения, мышления, сферу
эмоций и мотивов, оно поддерживает наше ощущение се-
бя как личности, которая была вчера, есть сегодня и бу-
дет завтра. Без этого ощущения нам бы пришлось каж-
дое утро начинать жить заново.
Нужны ли нам все щербинки фона? Безусловно! Ин-
дийские психологи напоминают нам о главной разнице
между животным и человеком. Животное стеснено грани-
цами своих потребностей; почти все, что оно получает от
жизни, уходит на сохранение себя и вида. Человек же
получает много больше того, что он тратит, и этот избы-
ток позволяет ему не считаться с одними насущными
потребностями. И животное и человек для поддержания
жизни должны обладать знанием. Но, кроме удовлетво-
рения первичных нужд, человеку хватает знаний и на
удовлетворение любопытства, на наслаждение познани-
ем. Вот чисто человеческая эмоция! Всякий избыток
энергии животное тратит на игру. Игры животных, осо-
бенно в сообществах, традиционны и замысловаты. Ког-
да-то так же играли и наши предки. Но их высокоразви-
тый мозг быстро перешагнул через чисто физическое удо-
вольствие, которое получают от таких игр. Человек
увидел, что игра может давать наслаждение более тонким
чувствам и интеллекту, он стал изобретать новые игры
и изощрять свою способность к ним. Так образовалась
почва, на которой стали процветать наука и искусство.
Труд превратил прачеловека в человека. Но это пре-
вращение могло бы не состояться и человек недалеко
ушел бы от трудолюбивых своих собратьев, если бы
труд, кроме еды и питья, крыши над головой, орудий для
охоты, не побуждал бы его к мастерству, не вызывал бы
в нем любования делом своих рук, не открывал бы ему
тайн природы, не помогал бы ему познавать себя. Избы-
ток нашей эмоциональной энергии находит себе выход
в творчестве, а этот избыток должен питаться образами
всего мира. Ученому, художнику, философу мало одних
фигур, которые без фона будут лишены жизненной пра-
вды и сочности, им нужен весь мир, со всеми его краска-
ми, звуками и запахами, вся многоцветная картина бы-
тия, все связи между вещами.
Пушкин говорил: «Вдохновение есть расположение
души к живейшему принятию впечатлений и соображе-
180
нию понятий...» Психотерапевты из Софийского институ-
та суггестологии доказывают нам, что живейшее приня-
тие впечатлений зависит от слитной работы сознательно-
го и бессознательного.
Гипнотизер усыпляет человека так, чтобы он не видел
и не знал ничего, кроме гипнотизера и своей задачи. Суг-
гестолог не усыпляет. Он занят внушением в состоянии
бодрствования (в переводе с английского suggest значит
«внушать»). Его цель — вызвать у своих испытуемых
прилив вдохновения, прилив дремлющих жизненных сил.
В Институте суггестологии разрабатывают новые ме-
тоды преподавания. Трудно поверить в то, что за один
день можно выучить двести слов иностранного языка
и воспроизвести их назавтра. Но бывало и больше. Уди-
вительно? Да, если придерживаться представлений об
ограниченных возможностях нашей памяти, внушенных
нам традиционной педагогикой и нами самими. Раньше
в Болгарии при обучении иностранному языку существо-
вала норма 20—30 слов в день, рассказывает директор
института доктор Георгий Лозанов. С первого класса та-
кие нормы сопровождают человека, и постепенно у всех
создается впечатление об ограниченных возможностях
нашей психики. На чем основана дозировка, не помнит
уже никто. Так принято! В экспериментальных школах
отказались от этих норм при обучении всем предметам.
Будущее покажет, что получится из этого. Настоящее же
уже показывает, что получается, если использовать нашу
внушаемость в состоянии бодрствования.
Лозанов пришел к выводу, что проявление гипермне-
зии в исключительных обстоятельствах еще не свидетель-
ствует об исключительности самой гипермнезии. Сверх-
память кажется нам чудом лишь потому, что мы загип-
нотизированы представлениями об ограниченности
собственных возможностей. Когда не было еще учебников
с их параграфами-дозами, древнеиндийские учителя и их
ученики считали сверхпамять нормальным психическим
состоянием, а «просто память» — недоразвитой сверхпа-
мятью. У них была своя система «нормализации» памя-
ти, связанная с мнемотехникой: тексты из сотен тысяч
строк учили ведь наизусть. Лозанов и его сотрудники вы-
работали иную систему, основанную на особых контак-
тах между учеником и учителем и адресованную подсо-
знанию, которое в состоянии бодрствования впитывает
181
все сигналы среды. Мобилизация фонового восприятия —•
вот в чем суть техники болгарских педагогов.
Содержание слова попадает в центр сознания, где
и подвергается логической обработке. Но, внимая сло-
вам, мы реагируем не только на них, а и на весь комп-
лекс сопровождающих слово «раздражителей» — на кон-
текст, на жесты, интонацию, выражение глаз. Эти
раздражители остаются за порогом сознания, но потом
оказывается, что достаточно нам услышать знакомую ин-
тонацию или увидеть тот же жест, как со дна памяти
всплывают целые гирлянды слов и образов, связанных
с такой же интонацией или жестом.
Болгарские педагоги создают на уроках обстановку
непринужденности и раскрепощения. Звучит тихая музы-
ка, преподаватель расхаживает по комнате, разговари-
вая с вами только по-французски, и вы вдруг ощущаете,
что кое-что вы поняли и даже можете произнести. Потом
вы втягиваетесь в эту игру и ждете ее с нетерпением,
а игра идет уже настоящая: вместе со всеми вы готови-
тесь не к выпускному экзамену, а к выпускному спектак-
лю. Учить роль гораздо интереснее, чем учить билеты.
И никакого утомления; наоборот, ощущение отдыха,
ощущение избытка сил. Доверительная, приятная обста-
новка в сочетании с продуманной техникой общения пре-
подавателя с учениками устраняет у вас все представле-
ния о нормах, все опасения не запомнить, не вспомнить,
совершить ошибку, сказать глупость, гасит эти существу-
ющие во всех нас очаги торможения и расчищает место
для нового, благоприятного и ненавязчивого внушения,
благодаря которому рождается уверенность в себе, ощу-
щение собственной силы, вдохновение. Вдохновение еще
никого не тяготило, о его приходе только мечтали.
Во время уроков учитель создает у своих учеников со-
стояние расслабленности. Ни тени напряженности, сосре-
доточенного усердия; только дружеская беседа, улыбки,
ободряющие жесты. Но расслабленность эта кажущаяся,
она сродни тому псевдопассивному созерцанию и тому
отказу от ложного «Я», о котором говорил нам Тагор. За
расслабленностью кроется мобилизация всех интеллек-
туальных и эмоциональных сил. Отказ от «Я» — это от-
каз от ложных барьеров. Благодаря этому отказу у че-
ловека и вырастают крылья вдохновения. Он начинает
обнаруживать все свои дарования и прежде всего — уди-
182
вительную способность к непроизвольному воспроизведе-
нию воспринятого материала. Память перестает быть ка-
ким-то особым свойством, которому завидуют или кото-
рое противопоставляют способности суждения, Лозанов
не раз подчеркивал, что после занятий резко снижается
«фоновая внушаемость», та дурная внушаемость, кото-
рая направляет легковерных или ленивых на проторен-
ные пути, лишая их умения мыслить свежо и оригиналь-
но. Вместе с расцветом восприимчивости расцветает
и способность суждения, расцветает оттого, что все де-
лается с воодушевлением, без смущения и боязни. Группа
служит тем микроклиматом, в котором индивидуаль-
ность проявляется с максимальной полнотой. Человек не
думает о своей памяти и о своем мышлении — он просто
вспоминает и мыслит как личность творческая, не утра-
тившая непосредственности ребенка, но обогатившаяся
опытом и разумом взрослого.
В ОЖИДАНИИ АУДИЕНЦИИ
В существовании бессознательного не больше таинст-
венного, чем в существовании любой мысли, замечает
Адамар. «Когда я произношу фразу, где находится сле-
дующая? Очевидно, не в области моего сознания, кото-
рое занято первой фразой. Я о ней не думаю, и тем не
менее она готова появиться через мгновение, чего не мог-
ло бы произойти, если бы я о ней не думал бессозна-
тельно».
Адамар вспоминает описание «прихожей сознания»,
сделанное Гальтоном. Во время размышления ум похож
на зал для приемов, где сознанию представляют одно-
временно две-три идеи, а тем временем в прихожей тол-
пятся все прочие идеи, более или менее подходящие
к такому случаю. Они прибывают в зал, будучи ассоциа-
тивно связаны друг с другом, и по очереди получают
аудиенцию. Джемс называл это краевым сознанием. Но
это лишь его верхний слой: бессознательные процессы
протекают на разных уровнях. Сфера бессознательного
простирается далеко вширь и вглубь от ярко освещенной
рампы сознания, захватывая и не готовые к высказыва-
нию мысли, и все фигуры, которые оживут тогда, когда
наступит их черед, и весь фон с его щербинками, и все
183
навыки, которыми мы пользуемся автоматически, обле-
кая свои мысли в речь.
Выше или ниже бессознательное мышление созна-
тельного? Адам ар считает, что такой вопрос лишен смыс-
ла. Вопрос превосходства — ненаучный вопрос. «Когда
вы едете верхом, лошадь выше или ниже вас? Она силь-
нее и может бежать быстрее вас, и, однако, вы ее застав-
ляете делать то, что вы хотите... И правая нога не «вы-
ше» левой: при ходьбе они действуют совместно. То же
делают сознательное и бессознательное мышление».
Вопрос этот возник в начале нашего столетия, когда
были опубликованы работы невропатологов и психиат-
ров, описавших «темные» стороны бессознательного.
Бессознательное стали отождествлять с низшими инстин-
ктами и мотивами и противопоставлять его сознанию—
вместилищу светлого разума и морали. Но после того
как стала очевидной роль бессознательного в творческой
интуиции, противопоставление пошло на убыль. Некото-
рые психологи сравнивают весь ум со спектром электро-
магнитных волн, где видимый участок очень невелик,
а по обе его стороны располагаются волны разного
типа—ультрафиолетовые, инфракрасные и так далее. Ви-
димый участок -— это сознание, а оба невидимых — под-
сознание, вмещающее в себя инстинкты, и надсозна-
ние — источник творческой интуиции. Сравнение непло-
хое, но термин «надсознание» пока не прижился. Однако,
говоря о бессознательном, мы будем подразумевать под
ним именно «надсознание».
Некоторым людям удалось наблюдать работу этой
сферы, отраженную в сознании, и даже установить, на
какой стадии творческого процесса преобладает созна-
тельная работа, а на какой бессознательная. Одно из
свидетельств на эту тему принадлежит Чайковскому.
Чайковский никогда не ждал вдохновения свыше, а ра-
ботал, уповая на то, что вдохновение явится справедли-
вой наградой за труд. «Находясь в нормальном состоя-
нии духа,— писал он,— я сочиняю всегда, каждую минуту
дня и при всякой обстановке. Иногда я с любопытством
наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама со-
бой, независимо от предмета разговора, который я веду,
от людей, с которыми нахожусь, происходит в этой об-
ласти головы моей, которая отдана музыке... Иногда это
бывает какая-то подготовительная работа... а в другой
184
раз является совершенно новая самостоятельная музы-
кальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти. От-
куда это является — непроницаемая тайна».
Тайна эта смущала многих. Сократ говорил, что мыс-
ли диктовал ему его личный демон; итальянскому мате-
матику Кардано, изобретателю «карданова подвеса»
и мнимых чисел, нередко слышался таинственный внут-
ренний голос. Многие художники и поэты утверждали,
что их творения созданы как бы не ими. Это «как бы»
и было замеченной ими работой бессознательного. После
того как Пуанкаре прочел в 1907 году на заседании Пси-
хологического общества в Париже свой знаменитый до-
клад о математическом творчестве, в этом ни у кого не
осталось сомнения. Адамар нисколько не преувеличива-
ет, говоря, что наблюдения Пуанкаре пролили ослепи-
тельный свет на отношения между сознанием и бессоз-
нательным.
В начале доклада Пуанкаре рассуждает о том, как
появляются ошибки в математике. Разум не должен со-
вершать логической ошибки, но есть незаурядные умы,
которые не способны проделать без ошибки довольно
длинные математические доказательства. Почему это
происходит? Просто потому, что человек забывает к кон-
цу рассуждения то, что было в его начале. Считается, что
каждый хороший математик должен быть хорошим вы-
числителем. Но это исключение, а не правило. Пуанкаре
признается в том, что сам он часто делает ошибки в вы-
числениях. Но отчего память не подводит его в матема-
тическом рассуждении? Математическое рассуждение —
не простая совокупность силлогизмов. Они расположены
в определенном порядке, а порядок важнее самих эле-
ментов. Если он чувствует этот порядок, видя все рас-
суждение в целом, то ему не страшно забыть какой-ни-
будь элемент: когда понадобится, элемент станет на
место сам.
Здесь кроется различие в математических способ-
ностях. Очевидно, не каждому доступно интуитивное чув-
ство математического порядка, благодаря которому мы
угадываем гармонию и скрытые соотношения. Одни не
способны к нему вообще, память и внимание у них за-
урядны, и они не понимают серьезной математики. Дру-
гие обладают этим чувством в малой степени, но у них
превосходная память и обостренное внимание. Они пони-
185
мают математику, но они не умеют творить. Лишь те,
у кого развита эта интуиция, способны на открытия. От-
крытия же состоят не в том, чтобы создавать новые ком-
бинации из уже известных математических фактов,
а чтобы создавать полезные комбинации. Творить — это
уметь распознавать, уметь выбирать.
Вариантов в математике столько, что всей жизни не
хватит, чтобы их перебрать. К счастью, бесплодные ком-
бинации даже не приходят на ум ученому. В поле его
сознания попадают лишь полезные комбинации и неко-
торые другие, имеющие признаки полезных, которые он
затем отбрасывает. Все происходит так, как если бы он
был экзаменатором второго тура: ему предстоит экзаме-
новать лишь тех, кто прошел испытания в первом туре.
Кто же экзаменует кандидатов до второго тура?
Пуанкаре рассказывает, как он написал свою первую
работу о так называемых автоморфных функциях. В те-
чение двух недель он пытался доказать, что таких функ-
ций не существует. Каждый день он садился за стол, про-
водил за ним час или два, исследуя большое число ком-
бинаций, и не приходил ни к какому результату.
«Однажды вечером,— продолжает он,— вопреки
обыкновению, я выпил крепкого кофе. Я не мог заснуть;
идеи теснились в моей голове; я чувствовал, как они
сталкиваются, и вот две из них соединились, образовав
устойчивую комбинацию. К утру я установил существо-
вание одного класса этих функций... мне оставалось
лишь записать результаты, что заняло только несколько
часов. Я хотел представить эти функции в виде отноше-
ния двух рядов, и эта идея была совершенно сознатель-
ной и обдуманной; мною руководила аналогия с эллип-
тическими функциями. Я спрашивал себя, какими свойст-
вами должны обладать эти ряды, если они существуют,
и мне без труда удалось построить эти ряды...
В это время я покинул Кан, где жил тогда, чтобы при-
нять участие в геологической экскурсии, организованной
Горной школой. Перипетии этого путешествия заставили
меня забыть о моей работе. Прибыв в Кутанс, мы сели
в омнибус... Когда я стал на подножку, мне внезапно, без
всяких, казалось бы, предшествовавших раздумий, при-
шла в голову мысль о том, что преобразования, которые
я использовал, чтобы определить автоморфные функции,
были тождественны преобразованиям неевклидовой гео-
186
метрии... Я не сделал проверки, так как, протиснувшись
в омнибус, тотчас же продолжил прерванный разговор,
но я уже был уверен в правильности сделанного откры-
тия. По возвращении в Кан я на свежую голову и для
очистки совести проверил найденный результат».
В то время Пуанкаре занялся изучением теории чи-
сел, не подозревая, что это может иметь хоть малейшее
отношение к прежним исследованиям. Разочарованный
неудачами, он поехал провести несколько дней на море
и думал совсем о другом. Однажды, когда он прогули-
вался по берегу, ему так же внезапно пришла на ум
мысль, что преобразования квадратичных форм, которы-
ми он занимался, тоже сходны с преобразованиями неев-
клидовой геометрии. Что заставило его инстинктивно об-
ратиться к вспомогательной задаче, как не голос интуи-
ции, искавшей спасительную аналогию? Этот метод,
ставший потом сознательным приемом в научных иссле-
дованиях, психолог Поль Сурьё назвал «думать около».
Думать около — значит штурмовать проблему не в лоб,
а двигаться к решению окольными путями, часто занима-
ясь другими задачами, в расчете на то, что с какой-ни-
будь стороны крепость окажется уязвимой, или на то, что
основная задача решается как и побочная.
Будучи снова в Кане, Пуанкаре решил объединить
в одно целое все, что было сделано. Он предпринял
«систематическую осаду и успешно брал одно за другим
передовые укрепления. Оставалось, однако, еще одно;
оно держалось. Но его взятие означало бы падение всей
крепости». Пуанкаре лишь осознал как следует, в чем со-
стоит трудность проблемы.
Затем он переехал в Мон-Валериан, где должен был
проходить военную службу. «Однажды, во время прогул-
ки по бульвару, мне вдруг пришло в голову решение того
трудного вопроса, который меня останавливал. Я не стал
его развивать и занялся им лишь после окончания воен-
ной службы. У меня были все элементы, и мне остава-
лось лишь собрать их и привести в порядок. Поэтому
я сразу и без труда написал свою работу».
Пуанкаре говорит: «То, что вас удивит прежде всего,
это видимость внезапного озарения...» Удивительнее, по-
жалуй, его наблюдение над тем, как две идеи соедини-
лись, чтобы образовать комбинацию. «Кажется, что
в этих случаях присутствуешь при своей собственной
187
бессознательной работе, которая стала частью сверхвоз-
бужденного сознания, но при этом не изменила своей
природы. И тут начинаешь смутно различать два меха-
низма, или два метода работы этих двух «Я».
Часто, продолжает он, с первого раза ничего не
удается, исследователь переключается на другое, а потом
снова принимается за дело. Дело не идет на лад, но за-
тем нужная идея приходит в голову. Этот промежуток
между первой попыткой и удачей, очевидно, был запол-
нен бессознательной работой, и ее-то результат и явился
сознанию в виде озарения. Озарение может случиться во
время прогулки, а может и во время сознательной рабо-
ты над задачей, но в любом случае сознание играет роль
связующего механизма, переводя результаты, получен-
ные во время отдыха, в осознанную форму. Как бы то ни
было, вдохновению и озарению предшествует не только
бессознательная работа, но и сознательная. Она же
и следует за озарением.
ЭСТАФЕТЫ РАЗУМА
Правила, которыми ученый руководствуется при вы-
боре полезных комбинаций, настолько деликатны и тон-
ки, что их почти невозможно выразить словами; их, гово-
рит Пуанкаре, можно только чувствовать. Бессознатель-
ное, которое принято считать только автоматическим,
способно судить здраво; оно обладает чувством меры,
оно умеет выбирать и догадываться, и во всем этом оно
преуспевает не хуже сознания.
Комбинации, приходящие во время озарения, выгля-
дят так, словно они прошли уже первый отбор. Значит ли
это, что бессознательное образовало только эти комбина-
ции, догадавшись, что они полезны, или оно создавало
и другие, менее интересные, которые так и остались не-
осознанными? Тогда получается, что все комбинации
формируются в бессознательном, а в сознание попадают
лишь те, которые представляют интерес. Но почему так
происходит? Нет ли тут аналогии с ощущениями, дей-
ствующими на наши органы чувств? Только самые силь-
ные обращают на себя наше внимание. Может быть, то
же происходит и. с бессознательными идеями: лишь те
188
идеи попадают в сознание, которые сильнее других воз-
действуют на наши чувства. Но при чем тут чувства, если
речь идет о математических доказательствах, адресован-
ных интеллекту? В том-то и дело, что не только интеллек-
ту! Есть еще чувство математической красоты, чувство
гармонии чисел и форм, ощущение геометрической выра-
зительности. «Это настоящее эстетическое чувство, зна-
комое всем настоящим математикам,— восклицает Пу-
анкаре.— Воистину здесь налицо чувство!»
Пуанкаре предвосхищает многое из того, что было
сказано потом психологией восприятия. Что вызывает
в нас ощущение красоты и изящества? Такое расположе-
ние элементов, при котором ум в состоянии охватить их
все целиком, угадывая лишь детали. Эта гармония удов-
летворяет и нашим эстетическим чувствам и нашему уму,
служа для него поддержкой и руководством. Она помо-
гает ученому предчувствовать математический закон.
Полезные комбинации — это и самые красивые, это те,
которые находят отклик у нашего чувства математи-
ческой красоты.
Среди комбинаций, образованных в бессознательном,
большинство неинтересно и бесполезно. Они не могут по-
действовать на наше эстетическое чувство и никогда не
будут осознаны. Только гармоничные комбинации, кра-
сивые и полезные, способны возбудить нашу геометри-
ческую интуицию, которая привлечет наше внимание
и даст им возможность стать осознанными. Когда интуи-
тивная гипотеза не выдерживает проверки, про нее гово-
рят с сожалением: если бы она была верна, она бы удов-
летворила нашему чувству изящества. Эстетическое чув-
ство — своеобразный фильтр идей. Кто его лишен, никог-
да не станет творцом в математике.
Границы сознания узки, но границ бессознательного
мы не знаем. Мы можем предположить, что за короткое
время оно в состоянии образовать очень много комбина-
ций. Оно должно это делать: если бы оно создавало их
мало, вероятность появления удачной комбинации была
бы тоже мала. Все, что наука узнала о бессознательном,
только подтверждает гипотезу Пуанкаре: у бессозна-
тельного границ не видно.
Бессознательной работе предшествует сознательная.
Пуанкаре предлагает нам представить себе будущие эле-
менты наших комбинаций так, как Эпикур представлял
189
себе атомы, в виде крючочков. Когда мозг полностью от-
дыхает, эти крючочки неподвижны, они как будто при-
креплены к стене. Естественно, что при этом они не всту-
пают ни в какие сочетания. Во время же бессознательной
работы некоторые из них приходят в движение, отделя-
ются от стены и, столкнувшись, могут вступить в комби-
нации. Роль первоначальной сознательной работы сво-
дится к тому, чтобы привести в движение некоторые ато-
мы. Атомы эти больше не возвращаются к своим местам,
они продолжают свой танец, хотя сознание и не подозре-
вает об этом. А так как у сознания была цель, от некото-
рых из атомов можно ожидать пользы.
Идет ли речь о математике или о чем-нибудь другом,
говорит Адамар, открытие совершается сочетанием идей.
Неспроста латинский глагол cogito (думаю) этимо-
логически восходит к понятию «волноваться вместе»,
a intelligo означает «выбирать среди». Волнуются
они вместе — сознание и бессознательное, но выбор де-
лает второе. И оно тоже раздваивается. Адамар вспоми-
нает, что сказал поэт Поль Валери: чтобы изобретать, на-
до быть в двух лицах. Один образует сочетания, другой
выбирает то, что он считает важным. Гений — не тот, кто
комбинирует, а кто выбирает среди комбинаций. Выбо-
ром руководит эстетическое чувство. Бессознательное
и создает комбинации и выбирает среди них наиболее до-
стойные. Сознание — это экзаменатор второго тура.
Ученые и психологи много спорили о том, что пред-
шествует озарению. Одни выдвигали гипотезу отдыха:
озарение приходит, когда мозг отдохнет и ум приобретет
свежесть. Другие — гипотезу забывания: перед озарени-
ем ум избавляется от ложных идей, мешающих увидеть
истину. Для защиты гипотезы отдыха призывали автори-
тет Гельмгольца, который говорил, что счастливые идеи
не приходят к нему в минуты усталости и за письменным
столом. Но многие не любят сидеть за столом и считают,
что «ноги — колеса мысли». Тот же Гельмгольц замечает,
что озарение посещает его не тогда, когда ум отдыхает,
а час спустя — когда сознание снова принялось за ра-
боту. Один художественный критик говорил Адамару,
что вдохновение приходит к нему прямо после долгих со-
знательных усилий, когда он уже устал, то есть когда его
сознание ослабевает и как бы дает бессознательному вы-
рваться наружу.
190
Гипотеза отдыха не годится. Гипотеза забвения тоже.
Если бы мы забывали ложные идеи, мы должны были бы
хоть часть из них осознавать; сознание ведь получает не
одни удачные результаты. История Пуанкаре не укла-
дывается ни в ту, ни в другую гипотезу. В ней нам бро-
саются в глаза не только сами озарения, но и предваряю-
щая их сознательная работа, пускающая в ход атомы
Эпикура. Обе гипотезы не принимают ее в расчет или
считают ее бесплодной. Но ведь именно сознание и по-
рождает поисковую доминанту.
После озарения сознание снова берет в руки инициа-
тиву: надо проверить полученные результаты и точно их
выразить. Надо еще уточнить само математическое вы-
ражение. Некоторые его свойства, которые нельзя было
предвидеть, могут повлиять на дальнейший ход событий.
Так случилось с Пуанкаре, когда идея, родившаяся в бес-
сонную ночь, дала его мыслям новое направление.
Открытый Ньютоном закон, по которому каждая пла-
нета вращается вокруг Солнца, потому что она притяги-
вается к нему силой, обратно пропорциональной квадра-
ту расстояния, вытекал из первого и второго законов
Кеплера. Но у Ньютона есть еще один коэффициент —
отношение между силой притяжения и величиной, обрат-
ной квадрату расстояния. Он выводится из третьего за-
кона Кеплера, но лишь благодаря точному расчету.
Прийти к нему можно только с пером в руке. Если бы
этот расчет оказался неточным, последнего этапа откры-
тия могло и не быть. Тот же расчет понадобился и мате-
матику Кантору при проверке результата, о котором он
говорил так: «Я его вижу, но я ему не верю».
По мнению Адамара, каждый этап исследования дол-
жен сочленяться со следующим результатом, выражен-
ным в точной форме. Это результат-эстафета. Когда
удается достигнуть такого сочленения, нужно решить, в
каком направлении продолжать исследование. Все это
и делает сознание. Без результатов-эстафет и без точных
формулировок невозможно развитие математики. Если
пересечь треугольник прямой, параллельной одной из его
сторон, получится другой треугольник, подобный данно-
му. Факт этот очевиден сам по себе, но чтобы получился
длинный ряд следствий, которые из него вытекают; его
надо сформулировать очень строго.
7
СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
За последние четверть века централь-
ной фигурой на производстве, на тран-
спорте, в системах связи, в крупных на-
учных экспериментах, вроде космических
или геофизических, стал оператор. Так
называют человека, который занят пере-
работкой оперативной информации. Она
может поступать к нему от людей или от
машин, например от ЭВМ. Получив ин-
формацию, оператор раздумывает над
ней и в зависимости от ее характера при-
нимает решение — управляет машинами
и людьми.
В сущности, он решает те же задачи,
с которыми мы знакомы. Среди них есть
и головоломки, и задачи типа «свечи Се-
кея», и комбинаторные. Тысячи комбина-
ций видит на своем веку диспетчер аэро-
порта или железнодорожного узла, сотни
проблемных ситуаций возникают в цент-
рах управления космическими полетами,
на больших и малых стройках, на заво-
дах и фабриках. И каждый раз в знако-
мую как будто ситуацию вплетаются но-
вые элементы, каждый раз очередная
комбинация отличается от предыдущей,
и человеку приходится принимать реше-
ние, не имея инструкции, полагаясь на
свой опыт и интуицию.
Оператор комбинирует и делает вы-
бор. Как он это делает? Наблюдение за
ним ничего не дает психологу: оператор
смотрит на табло и нажимает кнопки.
Словесный отчет совсем не годится.
«Думать некогда, надо видеть!» — го-
ворят авиационные диспетчеры. Думать
некогда, не то что рассказывать. Но
можно рассказать потом, рассказать,
какие, например, бывают задачи. Не все
же они одинаковые. Нет, конечно, задача
задаче рознь. Вот идет обычная операция
195
по приему и отправлению транзитного поезда. Получив
по селектору запрос, дежурный проверяет, есть ли путь
для поезда, сравнивает длину поезда с длиной пути, про-
кладывает маршрут, открывает входной сигнал, следит
за движением поезда, проверяет, есть ли свободный уча-
сток за станцией... Все понятно. Дежурный занимается
оперативным планированием и немедленной реализацией
плана. Задача же не проблемная, не творческая — просто
задача. Сегодня такие задачи уже возложены на ЭВМ.
Но все меняется, как по мановению волшебной палоч-
ки, если поезд идет не по графику. Когда же появляется
вывозной поезд, собирающий со всех станций порожняк,
обстановка становится такой же напряженной, как
в аэропорту во время пурги, как во время потери связи
с космическим кораблем, как в городе, на который вне-
запно обрушивается ураган. Конечно, все эти события
неравноценны, но люди, от которых зависит ликвидация
катастроф, мыслят одинаково. Им нужно найти единст-
венно правильное решение в ситуации, когда все исчис-
ляется секундами.
Действия этих людей похожи и на действия полковод-
ца во время сражения. Оператор строит комбинации из
вагонов, самолетов, спасательных средств, как полково-
дец из дивизий и полков. Рефлексировать ему некогда,
он рассчитывает на интуицию. Сложно принять и про-
пустить порожняк. Сложно расформировать поезд, от-
правив сотню вагонов разным клиентам: одни — на со-
седний завод, другие — на стройку, третьи — на запас-
ную ветку для завтрашней разгрузки. Только начали
переводить отцепленные вагоны из одного парка в дру-
гой, как вклинивается пассажирский поезд. Дежурный
уже на грани нервного срыва. Тут он бросает свои табло
и микрофоны и бежит к окну: ему нужна наглядная кар-
тина, иначе интуитивное решение не придет.
Ясно, что это проблемные задачи: конфликт между
условиями и требованиями налицо. Оператору надо ра-
зобраться в этих условиях, обнаружить все свойства эле-
ментов, установить между ними связи и найти «хоро-
шую» структуру. Сколько ни наблюдай за оператором
и ни анализируй задачу, вскрыть механизм ее решения
невозможно. Но за оператором и не надо больше наблю-
дать! Всякая система управления носит по преимуществу
игровой характер. Дежурный на станции играет «в поез-
196
да», авиадиспетчер — «в самолеты». Всякий оператор за-
нят игрой. Его противник — среда, создающая проблем-
ные ситуации, его ход—часть плана. Игру эту можно
воспроизвести в лаборатории; оперативное мышление
проявляется при игре в «5».
Два ряда из трех клеток. В шести клетках — пять
пронумерованных фишек. Фишки надо расположить по
порядку: 1, 2, 3, 4, 5. Разрешимых ситуаций в этой игре
59. Если решать задачу простым перебором вариантов,
на это потребуется очень много времени. Но никому из
испытуемых и в голову не приходит просеивать песок.
Игроки ищут такие варианты, в которых было бы на-
именьшее количество ходов. И находят, потому что им
удается, подобно Гауссу, связать фишки в гештальт. Ин-
стинктивно они угадывают в «плохой» структуре «хоро-
шую».
Но игра в «5» принесла ответ лишь на часть вопросов.
Испытуемый узнал один из известных, пусть не ему,
а экспериментатору вариантов. Экспериментатор узнал,
что собой представляет такое узнавание, понял его внут-
реннюю логику. Но испытуемый не создал принципиально
нового варианта, не открыл нового принципа. Это равно-
ценно тому мышлению, которое сопровождает нас в по-
вседневной жизни, когда мы догадываемся, что из пунк-
та А в пункт Б лучше проехать через В, а не через Г. Нам
это было неизвестно, но вообще-то это было известно.
Это не «настоящая» мысль.
Настоящие мысли приходят во время игры в шахма-
ты, где вариантов не 59, а 10120 — число не астрономи-
ческое, а фантастическое. Но понять, что думает шахма-
тист, нелегко. Ни запись ходов, ни даже запись мышле-
ния вслух не отражают движения мысли. Остается
одно — кинорегистрация движений глаз. По этим движе-
ниям психолог видит, как глаз блуждает между элемен-
тами задачи — фигурами, как он возвращается к ним,
словно пытаясь обнаружить «слабые» признаки, не заме-
ченные прежде, как он старается до последней капли вы-
черпать из них всю информацию.
Постепенно из всех фигур выбираются такие, из кото-
рых и состоят условия задачи. Остальные глаз больше не
рассматривает. Он сосредоточился на пяти или шести
фигурах. Он оценивает несколько вариантов — два или
три. Они возникли как бы сами собой. Испытуемый шел
197
к цели не методом последовательного приближения («го-
рячо— холодно»), как действовали программы для
ЭВМ, и не отбрасывал заведомо негодные варианты.
Нет, он действовал противоположно — увеличивал число
новых вариантов. Типичное решение для задач с неопре-
деленной областью поиска, когда просеивать песок или
уповать на аналогии нет смысла.
Психологам хотелось понять, как решает задачи че-
ловек, чтобы научить решать задачи машину. Это было
время всеобщего увлечения эвристическим программиро-
ванием. Уже была создана знаменитая программа GPS,
действовавшая методом последовательного приближе-
ния и казавшаяся ее создателям способной решить все
задачи на свете. Программа эта действительно оказалась
способной на многое, но не на все. Играть в шахматы она
научилась быстро и играла недурно, но без воображения.
Она не перебирала вариант за вариантом, она шла к це-
ли, оценивая ситуацию, складывавшуюся после каждого
хода. Но это была машинная игра, а не человеческая.
Сегодняшние программы несравненно талантливее GPS.
Но играют они тоже по-машинному, хотя в своей области
и демонстрируют нам многие элементы творческого
мышления.
Ни одна машина не способна к интуитивному твор-
честву, в основе которого лежит непосредственное вос-
приятие структур. То, что видят машины, распознающие
образы, состоит из непрерывных элементов, вроде букв
или цифр, а человек видит и, главное, строит образ из
элементов разделенных, дискретных. Мы распознаем не
букву за буквой, а слово за словом, значение за значени-
ем. Элемент не просто кусочек образа. У него, как, на-
пример, у шахматной фигуры, есть свои изначальные при-
знаки. Слон ходит по диагонали, ладья — по горизонтали
и по вертикали, конь — буквой Г. Из этих признаков
складывается понятие фигуры. Признаки не зависят от
ее материальной основы, мы можем отвлечься от нее, мо-
жем взять вместо коня коробок спичек. Главное, чтобы
коробок ходил буквой Г. Это своеобразная визуализация
образа: построение видимого мира не по видимому полю,
а по воздвигнутой на этом поле воображаемой функции.
Вот наш конь или коробок делает свой Г-образный
ход, слон пересекает доску и съедает пешку, ладья объ-
являет королю шах. Свойственные фигурам изначальные
1S-8
признаки реализуются, и у каждой из них появляются
новые признаки, открывающиеся только в данной ситуа-
ции, как у свечи и перстня: конь угрожает ферзю,
ладья — королю, а слон, наоборот, обречен. Эти новые
признаки психологи называют актуальными. Иногда, как
у припертого к стенке слона, их может быть очень мало,
а иногда много. Конь может не только пойти на ту или
иную клетку, но и напасть на несколько фигур. Между
ним и этими фигурами устанавливаются новые связи.
Глаз, возвращавшийся к одной и той же фигуре, как раз
и устанавливал эти связи. Решая шахматную задачу, че-
ловек создает систему элементов из тех фигур, которые
в данный момент связаны с другими. И когда она созда-
на, она уже воспринимается как непрерывная.
Система эта служит шахматисту основой решения за-
дачи. Это оперативно-информационная модель проблем-
ной ситуации. Оперативная потому, что состоит из опера-
ций-ходов, а информационная потому, что содержит
в себе сведения о ходах-признаках. У любого исследова-
теля, решающего творческую задачу, условия которой
даны в наглядной форме, создается в голове такая же
модель. Вот почему шахматы так удобны для изучения
некоторых сторон психологии творчества.
Человек анализирует условия задачи. Элементы уточ-
няются, вступают в новые связи. Модель становится все
точнее, все «горячее», все ближе к конечной структуре.
Нам известно, что эта модель, вернее ее бессознательная
часть, способна к автономной работе. Она возбуждена,
она активно вглядывается в мир, отыскивая себе вспомо-
гательные задачи или ассоциации. Мы говорили
о бессознательном вообще, но оно велико и у него много
разных дел. Человек может думать над проблемой пят-
надцать лет, но не только над ней он думает все эти годы.
Сознание и бессознательное возвращаются к ней, потому
что в мозгу создана система связей, занимающаяся этой
проблемой и включающая в себя и чистую мысль, и раз-
нообразные эмоции, и глубинные мотивы. Это и есть по-
исковая доминанта.
Понятие это обязано своим происхождением учению
о доминанте, разработанному физиологом А. А. Ухтом-
ским. Доминанта, говорил он,— это мощный очаг в моз-
гу, рассматривающий все раздражители, которые попа-
дают в органы чувств, сквозь призму своей задачи: при-
199
годится или не пригодится? Человек может думать
о другом, но бессознательная часть доминанты о другом
не думает и сообщает сознанию самые удачные из своих
идей в виде озарений. Это не сочетание конкретных моз-
говых структур, а «сочетание сил».
МЫСЛЕННЫЙ ВЗОР
Заменив коня коробком, мы отвлеклись от физи-
ческих свойств вещи. Наш ум это делает постоянно. На-
чав свою жизнь в восприятии, мышление переходит
в сферу, где язык наглядности уступает место языку свя-
зей и отношений. Конфликт между условиями и требова-
ниями, который и составляет сущность проблемы, часто
возникает из-за того, что условия и требования сформу-
лированы на разных языках. Отсюда и то ощущение на-
пряжения, которое испытывает человек в проблемной си-
туации. Мышление начинается с поиска общего языка.
У человека, говорит профессор В. Н. Пушкин, есть
язык логики. На этом языке он рассуждает. У него есть
еще один язык — язык информационной модели. Он со-
стоит из заменителей предметов внешнего мира и таких
знаков, которые позволяют человеку превращать статику
в динамику — отражать перемены во внешнем мире и в
модели.
На языке логики удобно обозначать уже известные
связи между элементами, например, «конь напал на сло-
на». Но как он напал и что из этого вышло, какие новые
признаки и связи после этого образовались, на нем не
выразишь. Всю динамику можно выразить только на
языке модели. Это язык переходов от одной мысли, выра-
женной на языке логики, к другой. Как только нужно за-
фиксировать результат мышления, человек снова обра-
щается к языку логики: «слон съеден, королю шах». Так
язык модели порождает свойства, связи, отношения,
а язык логики оформляет, фиксирует образовавшуюся
структуру. Это единство двух языков — необходимость.
Если бы человек забыл язык логики, он бы не смог пла-
нировать свои действия. Он бы превратился в фантазера,
целиком поглощенного динамикой построения моделей.
А если бы у него выпал из памяти язык моделей, он пре-
шштился бы в машину, способную работать только по
200
программе. Ничего нового он бы никогда не открыл. Это
напоминает нам рассуждение Зинченко о фазах визуаль-
ного мышления. Очевидно, законы мышления справедли-
вы для всех стадий. Но каковы эти стадии? Что следует
за восприятием?
Приступая к решению задачи, человек исследует ее
условия — элементы ситуации. Повторные обращения
взора к элементам должны означать, что их свойства
остались не раскрыты. Реальным или мысленным взором
человек ощупывает эти элементы, стараясь извлечь из
них актуальные признаки. Это ощупывание Пушкин на-
звал гностической, то есть познавательной, динамикой.
Конечно, изучать эту динамику легче всего на тех за-
дачах, где условия представлены в наглядной форме.
Глаз — надежный индикатор мысли. Но для того, что
хотелось узнать Пушкину, кинорегистрация была грубова-
та. Тут уже требовалась электроокулограмма, позволяю-
щая регистрировать глазную динамику так же, как ре-
гистрируют биотоки мозга. И особая миниатюрная
присоска, которую прикрепляют к роговице глаза. На
присоске расположен излучатель электромагнитного по-
ля; все перемены в этом поле отмечает электронная аппа-
ратура.
С такой техникой Пушкин вернулся к игре в «5». Едва
начались опыты, сразу стало ясно, что далеко не все дви-
жения глаз связаны с чисто зрительным восприятием.
Одну и ту же структуру глаз может ощупывать долго,
а может и быстро покончить с ней. Если ощупывание за-
тягивается, значит затягивается и решение: глаз занят
установлением связей между элементами задачи, то есть
мышлением. Чем успешнее идет решение, тем меньше по-
второв в осматривании элементов. Повторные движения
глаз, по-видимому, выполняют чисто познавательную
роль.
А что будет, если дать испытуемому такую задачу,
элементы которой представлены уже не в наглядной фор-
ме, а, например, в речевой или символической? Если рас-
шевелить его воображение и проследить за динамикой не
реального взора, привязанного к определенным предме-
там, а мысленного?
Условия игры в «5» дали испытуемому на слух.
И глаза его стали совершать особые движения по гори-
зонтали. Пушкин установил, что направлены они были
2oi
на поиски связей между элементами исходной ситуации
с точки зрения конечной. Прежде испытуемый видел за-
дачу и пространственно и функционально, а теперь, ре-
шая ее в уме, только функционально. В этой разнице
и заключалось отличие «чистого» восприятия от «чисто-
го» мышления. Горизонтальные движения — вот она, ди-
намика познавания.
Опыты показали также, что познавательная динами-
ка — регулируемая часть мыслительного процесса. Что
же регулирует ее? От чего она зависит и чему подчи-
няется? Регулируют ее отношения между элементами ко-
нечной ситуации, та самая «хорошая» структура, кото-
рую ищет человек. Цель определяет ход поисков.
Регулируемая и регулирующая части мышления
в эксперименте отделены друг от друга. А хорошо бы
построить эксперимент так, чтобы можно было одновре-
менно регистрировать обе эти части. Исходную и конеч-
ную ситуацию показали испытуемому одновременно, на
одном листе бумаги. Исходная ситуация (расположение
фишек) была ему хорошо знакома, а конечная нет. И тем
не менее знакомую он изучал так же тщательно, как
и незнакомую. Он искал в ней те связи, которые должны
были привести к цели. Сначала он осмотрел условия за-
дачи, потом цель, а потом началось сопоставление того
и другого — повторяющиеся осмотры исходной ситуации
и переносы взгляда с исходной на конечную. Налицо бы-
ла, как говорят кибернетики, система саморегуляции. Ее
регулируемое звено — движения глаз по исходной ситуа-
ции, регулирующее — движения по элементам цели. По-
вторные осмотры означают одно — попытку обнаружить
те признаки, которые помогут превратить «плохую»
структуру в «хорошую».
В решении любой задачи психолог видит две сторо-
ны — результативную, выраженную во внешних операци-
ях, и познавательную, или интуитивную. Внешние опера-
ции подвергнуть количественному анализу нетрудно.
А внутренние, интуитивные? Пушкин решает попробо-
вать. Количественный анализ интуиции, святая святых
творческого мышления,— такого еще не было!
Каждую задачу игры в «5» можно решить оптималь-
ным числом ходов и неоптимальным. Отношение числа
задач к числу попыток, потребовавшихся для достиже-
ния оптимального варианта, можно сделать показателем
202
операционной стороны решения. А как получить такой
же показатель для интуиции? Лист бумаги с исходной
и конечной ситуациями подложили под лист картона,
в котором сделали отверстие — окно. Испытуемый пере-
мещал этот лист и последовательно рассматривал эле-
менты обеих ситуаций. Маршрут перемещения он запи-
сывал на том же листе. Каждый акт получения информа-
ции был зарегистрирован. Благодаря этому Пушкину
удалось вычислить и показатель анализа условий, и по-
казатель анализа цели, и другие показатели, то есть вы-
разить в числах познавательную деятельность и устано-
вить связь между операционной и интуитивной сторона-
ми мышления.
Показатели эти оказались пригодными для всех за-
дач, условия которых даны в виде совокупности опреде-
ленных элементов, перемещающихся в пространстве. Та-
кие задачи как раз и решают операторы.
Вслед за этим психолог В. М. Фетисов придумал це-
лую серию эквивалентных задач игры в «5», отличаю-
щихся друг от друга только расположением элементов
в исходной и конечной ситуациях. Восемнадцать испыту-
емых, участвовавшие в опытах с эквивалентными задача-
ми, вели себя по-разному. Семеро довольно быстро дога-
дались, что им предлагают одну и ту же задачу. Восемь
ни о чем не догадались и каждую задачу решали отдель-
но, как самостоятельную. Трое заявили, что поняли об-
щность задач, но все равно действовали, как и те, кто не
понял. Но самое интересное, что те, кто догадался, что
вторая задача подобна первой, осознали это не сразу.
Интуитивно они уже решали ее быстро, но осознание об-
щности пришло только при решении третьей задачи.
Бессознательное опередило сознание. Все это Фетисов
заметил, сопоставляя количественные показатели инту-
иции.
Так психологам стало окончательно ясно, как из сово-
купности элементов образуется гештальт и в какой фор-
ме человек видит условия задачи. У игры в «5» эта фор-
ма проста: пять фишек с пятью цифрами от 1 до 5. Эту
форму можно ухватить моментально. Но глаз движется
и движется по фишкам без конца. Значит, не в фишках
дело: человек строит систему отношений между элемен-
тами «плохой» структуры с точки зрения «хорошей».
А это уже не отражение наглядной, чувственной картин-
203
ки, а ее смысл, построенный умом. В шахматах происхо-
дит то же самое.
Наша попытка сыграть коробком спичек удалась
вполне. Шахматист и психолог II. В. Крогиус одобряет
и объясняет ее. «Истинный любитель шахмат,— говорит
он,— мысли которого целиком поглощены планом и ком-
бинациями, возникающими в процессе игры, видит не де-
ревянную фигуру с лошадиной головой, но фигуру, обла-
дающую присущим ей ходом коня, которая эквивалент-
на, например, трем пешкам, которая готовится начать
атаку и т. д. Любитель не видит деревянную куколку, не
видит, из чего она сделана, он видит только значение
этой фигуры как коня. Чем более мысль углубляется
в комбинацию, тем менее глаза замечают материал шах-
матной доски и фигур. Все внимание шахматиста сосре-
доточивается внутренне в нем самом, и его взгляд, кото-
рый случайно падает на внешние предметы, не отдает
себе отчета в их природе. Я не могу сказать, были ли
шахматные доски, употреблявшиеся на турнире с моим
участием в Дрездене, из дерева или из картона, но я могу
воспроизвести все партии, которые я там играл».
Таких свидетельств много. Один шахматист говорил
Бине: «Я вижу шахматную доску, как видят улицу, по
которой проходят, не обращая на нее внимания». Ссыла-
ясь на свидетельства шахматистов и на опыты с негисг-
рацией маршрута глаз, Пушкин утверждает: в деятель-
ности, носящей чисто зрительный характер, собственно
зрительное восприятие не играет решающей роли. Все
дело не в зрительном, а в функциональном анализе.
Но не противоречит ли это утверждение всему тому,
что мы говорили о восприятии как о мышлении? Нет.
Недаром функциональный анализ опирается на маршру-
ты глаз. Функция не возникает из ничего. Видимый мир
строится по видимому полю. Конь можно заменить ко-
робком, но его нельзя просто снять с доски и сказать:
вообразим, что здесь конь. В структуре получится зияю-
щий провал, перепутаются все связи. Конечно, после зри-
тельно воспринятой реальности в мозгу образуется иная
психологическая реальность, более широкая, чем первая,
содержащая и образы элементов, и их динамику, и все
связи. Но эта реальность, то есть модель, вырастает из
чувственной основы. Она относится к ней как мысленный
взор к обыкновенному.
СИСТЕМА РАЗДВАИВАЕТСЯ
Не раз было сказано: мышление начинается с запин-
ки, с замешательства, с ощущения тупика. Отчего возни-
кает тупик? Почему человек не видит тех признаков, ко-
торые ему нужны, хотя они у него и перед глазами? По-
чему задача решается не сразу, а иногда после мучитель-
ных поисков?
Какую бы работу мышления мы ни рассматривали,
мы все время сталкивались с двойственностью: два язы-
ка мысли, логика и интуиция, сознательное и бессозна-
тельное, мысль и мотив... Все говорит за то, что наша
мыслительная система состоит из двух уровней, и каж-
дый из них может работать самостоятельно, то опережая
соседа, то отставая от него. Вот сейчас мы познакоми-
лись с первым уровнем системы мозговой саморегуля-
ции — с познавательным. Какой же второй? Должен же
быть второй как непременное диалектическое дополне-
ние первого. Он и есть. Это личностный уровень, ответст-
венный за общую регуляцию поведения, за мотивы, за
постановку целей. Может быть, автономная работа
бессознательно это и есть работа познавательного уров-
ня. Мы знаем, что сознание и бессознательное работают
сообща и помогают друг другу. Но что значит помогать?
Иногда это значит — не мешать. Неспроста проблема ре-
шается скорее, когда давление личностного уровня, вы-
ражающееся в сосредоточенном размышлении, ослабева-
ет и человек то уходит в простое созерцание, а то и вовсе
думает о другом. И неспроста всем известный «мозговой
штурм» приносит такие плоды; у людей, собирающихся
в заведомо непринужденной обстановке найти решение,
раскован уровень познания. И не на этой ли раскован-
ности основана сверхвосприимчивость и сверхпамять ло-
зановских испытуемых?
До сих пор мы все говорили, что мышление направ-
ляется целью. Это так, но это лишь одна сторона дела, ка-
сающаяся больше личностного уровня, чем познаватель-
ного. А процесс познания может регулироваться не толь-
ко и не столько целью, сколько тем, что получается при
самом познании,— новыми сочетаниями элементов, са-
мой динамикой мысли, которая находит удовольствие
в открытии неведомого. Наслаждение познанием — са-
мое высшее наслаждение для истинного ученого.
205
То, что у нас два уровня саморегуляции, а не один, под-
тверждается данными нейропсихологии, нашедшей два
различных типа мозговых поражений. Если у человека
поражены задние отделы коры, где хранится информа-
ция, его личность не претерпевает изменений, он умеет
ставить перед собой задачи, старается решать их. Ему
это трудно, потому что его познавательная динамика ра-
ботает плохо; при всем желании он не найдет отношений
между элементами, представленными в наглядно-про-
странственной форме. Если же у человека поражены
лобные доли, управляющие его поведением, выработкой
планов и целей, то он может делать лишь то дело, к ко-
торому привык. Ни одна идея не придет ему в голову,
а если и придет, он либо забудет ее, либо не реализует.
Поражение лобных долей — это поражение личности, по-
ражение воли, а воля — это способность сосредоточивать
свои усилия и внимание па том, чего делать не хочется.
Нейропсихолог Г. В. Шавырина предложила сыграть
в «5» трем группам больных. В первую группу входили
те, у кого были поражены фронтальные отделы лобных
долей, во вторую — у кого были поражены базальные от-
делы, а в третью — больные с пораженной теменной
долей.
Первые соображали не так уж плохо. Иногда их было
нелегко отличить от здоровых испытуемых. Но свойст-
венная им тяга к стереотипному мышлению, доходящая
в особо тяжелых случаях до абсурда, проявилась у них
отчетливо. Такой больной может взять рубанок, начать
строгать доску и, выстругав ее всю, приняться строгать
верстак. Играя в «5», эти больные повторяли одни и те
же ходы без всякой надобности. Диагноз ясен: мышление
плохо регулируется.
Больные второй группы обычно ведут себя чересчур
импульсивно. Они чрезмерно оживлены, часто они совер-
шают бессмысленные поступки — могут, например, войти
в шкаф или в окно. Они плохо запоминают происходя-
щее, потому что в их душе царит эмоциональный хаос.
Решали они задачи не хуже, даже лучше здоровых: по-
знавательная динамика действовала у них безупречно.
Они даже сориентировались в опытах с эквивалентными
задачами, где надо было угадать общий принцип.
Больные с пораженными теменными долями, где син-
тезируется вся поступающая в мозг информация и раз-
206
розненные элементы складываются в единые образы, об-
наружили полную неспособность решать задачи. Они не
поняли даже, чего от них хотят. Личность у них была
в полной сохранности. У них отсутствовала способность
к познавательной динамике.
Человек может растерять всю свою личность, но это
не помешает ему решать зрительные задачи. Он может
в худшем случае забыть цель. Но он не забывает ни что
ему надо установить отношения между элементами зада-
чи, ни самих отношений, ни найденного им принципа. Его
познавательная функция не нарушена. И, наоборот,
больной с прекрасно сохранившейся личностью,
но с разрушенной познавательной функцией беспо-
мощен.
И все-таки это больные. Хорошо бы гипотезу о двух
уровнях проверить и на здоровых людях. Для этого мож-
но воспользоваться методом реоэнцефалографии — уста-
новить на голове электроды и зарегистрировать приток
крови в разные участки мозга, которые должны испыты-
вать разную нагрузку в зависимости от характера зада-
чи. Реограммы подтвердили гипотезу. Когда испытуемые
были заняты «настоящим» мышлением, у реограмм был
один рисунок, а когда решали задачи на чистое восприя-
тие, например на вычленение фигуры из фона,— другой.
В первом случае реограмма показала усиленную работу
лобных долей, а во втором — затылочных, с их зритель-
ными зонами.
Это, конечно, не означало, что, пока одни доли бодр-
ствовали, другие дремали. Любая проблемная задача
решается совместным усилием всей психики. Речь шла
только о преобладающем участии того или иного участка
мозга. По показаниям реоэнцефалографа можно судить
о том, как человек воспринимает задачу. Если кровь
устремилась во фронтальную область лобной доли, зна-
чит, возникла общеличностная напряженность. Обычно
ее испытывает тот, кто впервые участвует в опыте и
думает, что сейчас начнут определять его одаренность.
Напряжение в другой области коры показывает, что испы-
туемый поглощен уже самой задачей, захвачен процес-
сом ее решения. Иногда реограмма демонстрирует одина-
ковое напряжение — личностное и познавательное. На-
блюдая за тем, как человек решает задачи разного типа,
и сопоставляя наблюдения с реограммами, можно соста-
207
вить довольно верное суждение о его характере и типе
нервной системы.
Два уровня саморегуляции, личностный и познава-
тельный, существуют. Это так же бесспорно, как и то, что
в их взаимоотношениях отражаются взаимоотношения
между сознательным и бессознательным мышлением. Ес-
ли построение моделей отражено в лобной коре, познава-
тельный процесс идет осознанно, если нет — бессозна-
тельно. Работа познавательного уровня идет сама собой,
а регулятор личностного поведения ждет ее окончания,
зная, что утро вечера мудренее. Впрочем, и личностный
уровень может действовать сам по себе, и тогда это тоже
не осознается. Но как бы то ни было, надолго отрываться
одному уровню от другого нельзя. Все устроено так, что-
бы познавательный уровень время от времени доклады-
вал о своих находках личностному, а тот время от време-
ни направлял его по надлежащему пути.
Вот, пожалуй, и все, что может сегодня сказать экспе-
риментальная психология о механизмах интеллектуаль-
ной саморегуляции, о совместной работе сознания
и бессознательного, личностного и познавательного уров-
ней, о языках мысли, о взаимоотношениях между логикой
и интуицией. Теперь, во всеоружии психологических зна-
ний, мы можем вернуться к творчеству в его подлинном
виде и посмотреть, как работают все эти механизмы
и уровни, на самом поучительном примере, которым
только располагает история науки.
НЕ СДАВАЙТЕ НИЧЕГО В МАКУЛАТУРА!
В этот день, 17 февраля (1 марта) 1869 года, Менде-
леев должен был по просьбе Вольного Экономического
общества отправиться в Тверскую губернию осматривать
сыроварни. Уже были уложены вещи, подан экипаж, но
Менделеев так и не вышел из кабинета. Через несколько
дней ученым России и других стран было отправлено со-
общение под заглавием «Опыт системы элементов, осно-
ванный на их атомном весе и химическом свойстве».
Спустя пятьдесят три года в Петрограде вышла книга
профессора И. И. Лапшина «Философия изобретения
и изобретение в философии» — свод занимательных
и незанимательных фактов из истории изобретений и от-
208
крытий. В ту пору еще живы были многие, кто знал Мен-
делеева, в том числе и профессор геологии А. А. Ино-
странцев. Лапшин попросил его рассказать о том, как
был открыт периодический закон, и передал этот рассказ
в своей книге так:
«Однажды, уже будучи секретарем физико-математи-
ческого факультета, А. А. зашел проведать Менделеева,
с которым, как ученик и близкий друг, был в непрестан-
ном духовном общении. Видит: Д. И. стоит у конторки,
по-видимому, в мрачном, угнетенном состоянии.
— Чем вы заняты, Дмитрий Иванович?
Менделеев заговорил о том, что впоследствии вопло-
тил в периодическую систему элементов, но в ту минуту
закон и таблица еще не были сформулированы. «Все
в голове сложилось,— с горечью прибавил Менделеев,—
а выразить таблицей не могу». Немного позднее оказа-
лось следующее. Менделеев три дня и три ночи, не ло-
жась спать, проработал у конторки, пробуя скомбиниро-
вать результаты своей мысленной конструкции в табли-
цу, но попытки... оказались неудачными. Наконец под
влиянием крайнего утомления Менделеев лег спать
и тотчас заснул. «Вижу во сне таблицу, где элементы
расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на
клочке бумаги,— только в одном месте впоследствии
оказалась нужной поправка». «Возможно,— добавляет
профессор Иностранцев,— что этот клочок бумаги сохра-
нился и до настоящего времени. Менделеев нередко
пользовался для заметок неиспользованными полулисти-
ками почтовой бумаги от полученных им записок».
К сказанному в пояснение нужно добавить следующее,—
пишет Лапшин.— Д. И. принадлежал к ярко выраженно-
му типу зрительного воображения. Его «визуализация»
была исключительной силы. С этой чертой согласуется
его любовь к шахматной игре и к живописи. На журфик-
сах Менделеева собирались художники; здесь проф.
Иностранцев встречался с Шишкиным и Крамским.
Д. И. обладал совершенно исключительной работоспо-
собностью, причем он мог 2—3 суток не спать и не отры-
ваться от работы, как это было и в вышеприведенном
случае. Но зато он мог спать подряд богатырским сном
сутки».
Это было одно из немногих свидетельств о событиях
17 февраля. Потом появились и другие. Но рассказ Ино-
209
странцева занял главенствующее место в описаниях от-
крытия. Изредка упоминалась также привычка Менделе-
ева раскладывать пасьянс. Сновидение и пасьянс: напи-
сал названия элементов на карточках, раскладывал их
и так и сяк, утомился, заснул и увидел во сне правиль-
ный пасьянс. Так представляли себе открытие периоди-
ческого закона до середины 60-х годов, пока академик
Б. М. Кедров не опубликовал результаты своих расследо-
ваний.
Существуют два подхода к исследованию открытий,
пишет Кедров. Сторонники первого собирают сведения
об ученых — составляют анкеты с вопросами, ответы
подвергают статистической обработке. Но, как мы знаем,
полагаться на субъективные показания рискованно: уче-
ный редко может сказать что-нибудь о подсознательных
механизмах и чаще всего ссылается на внешние обстоя-
тельства. Непосредственные умозаключения, рождающие-
ся в напряженный момент работы мысли, почти не успе-
вают отложиться в памяти.
Кедров приводит в пример историю с инертными га-
зами, о которой мы вскользь упоминали. Готовя сообще-
ние о своем открытии для публикации, Менделеев на-
ткнулся на возможность сгруппировать элементы в два
столбца. В одном собрались все нечетноатомные, в дру-
гом — все четноатомные. Разность в атомном весе в обо-
их столбцах получилась одинаковой — около 4. Но во
втором столбце оказалось три пропуска: перед берилли-
ем, между кислородом и магнием и между серой и каль-
цием. В первом случае разность равнялась 6, а во втором
и третьем 8. Менделеев поставил там вопросительные
знаки. Он предположил, что между О = 16 и Mg = 24 не
хватает х = 20, а между S = 32 и Са = 40 не хватает х = 38.
Это были будущие неон и аргон. Между Н=1 и Li = 7, то
есть перед Be = 9,4, он условно вписал молекулярный во-
дород Нз = 2, предвидя, что тут должен быть какой-то
элемент, близкий к нему по свойствам. Это был гелий.
ЛАенделеев попытался определить атомность загадочных
элементов. Она получилась равной 0, и он бросил заня-
тие, показавшееся ему бесплодным. Между тем у инерт-
ных газов обнаружилась именно нулевая атомность (ва-
лентность), для них в периодической системе была обра-
зована нулевая группа.
Все эти выкладки возникали у Менделеева в процессе
210
напряженного поиска. Выкладки он записывал, но не за-
поминал, как не запоминаем мы промежуточные резуль-
таты любой задачи. Вот почему через двадцать пять лет,
когда были открыты инертные газы на Земле и когда об-
наружилась их инертность, Менделеев не мог вспомнить,
что он сам предсказывал атомный вес не открытых еще
элементов. Даже после того как Рамзай, ссылаясь на
менделеевский метод, предсказал элемент с атомным
весом 20 (будущий неон), Менделеев, услышав об этом,
не вспомнил, что предсказывал то же самое. Кедров счи-
тает, что, если бы выкладки оставили свой след в памяти
Менделеева, он рано или поздно вспомнил бы их. Вспом-
нил хотя бы тогда, когда несколько лет подряд обсуж-
дал вопрос об инертных газах. Нет, все фиксировалось
только на бумаге. Поистине прав был Платон, заметив-
ший, что изобретение письменности повредило челове-
ческой памяти.
Второй подход основан на анализе объективного ма-
териала, относящегося к открытию. Если такой материал
есть, его анализ может принести историку или психологу
во сто крат больше, нежели воспоминания ученых, гада-
ния о том, были обезьяны или их не было, и эксперимен-
ты со свечой на весах. Все это важно, но воссоздать ход
мысли полностью можно, только имея в руках объектив-
ный материал, относящийся к этим событиям. К счастью,
обо всем, что касалось 17 февраля, материал был.
Материал был, но его надо было собрать и осмыс-
лить. Четверть века назад Кедров приступил к изучению
архивов, хранящихся в Музее Менделеева. Музей распо-
ложен в той же квартире, где и было сделано открытие.
Помогала ему дочь Менделеева, Мария Дмитриевна, быв-
шая тогда директором музея. В первый же день Кедрова
поразило, что Менделеев собирал все рукописное и печат-
ное, что ни попадало в его руки: письма, записки, теат-
ральные афиши, ресторанные меню, проездные билеты,
счета из гостиниц. На обороте некоторых из них он де-
лал выкладки. Весь этот ворох бумажек Мария Дмитри-
евна бережно сохраняла. Кедров призывает нас следо-
вать ее примеру и примеру ее отца и никогда ничего не
выбрасывать и не сдавать в макулатуру, даже если в об-
мен на нее будут давать подписку на всего Дюма.
Творчество Менделеева, связанное с периодическим
законом, распадается на четыре стадии — на подготови-
211
тельную (1854—1869), на момент открытия, протекав-
ший один день, на разработку открытия (1869—1871)
и на его усовершенствование и утверждение в науке. Эта
стадия длилась больше тридцати лет, до самой смерти
автора в 1907 году. Все это стало ясно потом. А пока что
было известно, что сказал Иностранцев Лапшину, что
рассказывали сын Менделеева, Иван Дмитриевич, и друг
Менделеева, чешский химик Браунер. Рассказывали же
они то, что рассказывал и сам Менделеев.
В первой статье, написанной сразу же после откры-
тия, говорилось, будто сначала был составлен общий ряд
из всех элементов, расположенных по величине атомных
весов; затем в нем была обнаружена периодичность
в повторении свойств элементов, и этот ряд был разрезан
на отдельные куски (периоды). Куски были поставлены
один под другим, в результате чего и образовалась перио-
дическая система.
Менделеева не раз спрашивали, как он открыл закон.
В «Основах химии» возникает версия пасьянса. Менделе-
ев рассказывает, что написал на карточках сведения об
элементах и стал сопоставлять между собой элементы
с близкими атомными весами и вообще сходные элемен-
ты. Это быстро привело к мысли, что свойства элементов
стоят в периодической зависимости от их атомных весов.
Карточки не сохранились, так что представить себе, как
происходил этот пасьянс, было невозможно.
Но у Менделеева встречается мысль, что для сделан-
ного им открытия важным было одно — сопоставление
по величине атомного веса несходных элементов. До него
по этому признаку сопоставляли лишь сходные элементы
(внутри «естественных групп» — галоидов, щелочных ме-
таллов и так далее).
Вот и все, что было известно Кедрову, когда он по-
явился в доме Менделеева.
О ПОЛЬЗЕ СПЕШКИ
Кедров начал с того, что, выяснив точно день откры-
тия, стал искать в архиве ученого все, что лежало вокруг
этой даты. Он установил, что в начале марта 1869 года
Менделеев побывал на сыроварнях, и стал просматри-
вать бумаги, связанные с этим делом. Среди них ему по-
212
палось письмо секретаря Экономического общества
А. И. Ходнева, датированное 17 февраля. Ходнев спра-
шивал, нужно ли обратиться от имени общества к ректо-
ру университета с просьбой о предоставлении Менделее-
ву отпуска или не нужно. Нашлось и отпускное свиде-
тельство; значит, Менделеев действительно собирался
выехать на сыроварни как раз 17 февраля. По-видимо-
му, он ответил Ходневу с посыльным, принесшим письмо.
Из этого следовало, что в день открытия Менделеев со-
бирался уезжать, а не открывать закон природы. Заодно
он собирался заехать в Боблово, свое имение под
Клином.
И вот, когда все было готово к отъезду, у него внезап-
но родилась идея — принцип систематизации элементов
по атомным весам. Об этом свидетельствовали первые
выкладки, сделанные на обороте письма Ходнева. Пись-
мо сохранило начальный этап открытия.
Открытие началось в самый неблагоприятный мо-
мент: человек сидел на чемоданах буквально. И вдруг
его осеняет идея. Конечно, в таком положении он еще не
бросает намерения уехать. Он торопится записать и раз-
работать идею хотя бы вчерне. Начинается цейтнот, ког-
да приходится делать ходы молниеносно. А в таком со-
стоянии человек может прийти только к одной из двух
крайностей — либо бросить все, либо, напротив, обнару-
жить необычайный прилив умственных сил и совершить
невозможное. С Менделеевым случилось второе. В один
день, а не в три, как думал Иностранцев, он решил всю
проблему и успел отослать в типографию готовый к на-
бору экземпляр таблицы.
С наблюдательностью Шерлока Холмса Кедров заме-
чает на письме Ходнева след от кружки Менделеева.
Значит, он получил письмо рано утром, когда, готовясь
к отъезду, завтракал наспех. Сначала письмо послужило
подстилкой для кружки, а затем бумагой для первых вы-
кладок. Идея пришла за завтраком.
В дальнейшем были найдены более полные выкладки,
а также наброски таблицы с той же датой. С ними можно
было представить себе всю последовательность событий
дня. Цейтнот наложил свой отпечаток на все эти собы-
тия. Менделеев не давал своей мысли останавливаться
и расслабляться, застревать на вопросах, не относящих-
ся к делу. Очевидно, для кардинальных решений цейтнот
213
благоприятнее неомрачаемой сосредоточенности. Она хо-
роша для отшлифовки открытого, для отделки формули-
ровок. Мысль должна быть натянута, как струна. Все
второстепенное побоку! В «Опыте системы элементов»
Менделеев вынес за скобки семь малоизученных элемен-
тов, которым не находилось места в системе. Займись он
ими как следует, он бы, чего доброго, забыл главную
мысль.
В эти месяцы Менделеев работал над «Основами хи-
мии». Он писал и издавал их частями в течение 1869 го-
да. В архиве нашлись первоначальные планы книги. Из
них видно, что, приступая к ней, Менделеев руководство-
вался «типической теорией», созданной Жераром, чьим
последователем он себя считал. По этой теории хими-
ческие соединения должны группироваться по величине
атомности входящих в них элементов. У Менделеева
и шли вначале «типические элементы» в порядке воз-
растания их атомности — от одноатомного водорода до
четырехатомного углерода. Это была общая часть книги.
Затем шла систематическая часть — описание элементов
по их естественным группам. Снова в плане стояли одно-
атомные элементы — галоиды и щелочные металлы. Вто-
рой выпуск «Основ химии» Менделеев закончил главами
о галоидах. В январе 1869 года он приступил к третьему
выпуску. Выпуск начинался с щелочных металлов. Когда
с ними было покончено, перед Менделеевым возник во-
прос: про что писать дальше?
Можно было рассказывать про двухатомные элемен-
ты, например про щелочноземельные металлы, которые
по своим свойствам примыкают к щелочным. Но, если
строго следовать принципу атомности, надо было бы
между теми и другими поместить такие, которые ведут
себя то как одноатомные, то как двухатомные, например
ртуть и медь. Об этом-то, по-видимому, и размышлял
Менделеев, упаковывая чемоданы.
Тут приносят письмо от Ходнева. На его обороте Мен-
делеев сопоставляет сначала калий и хлор. За калием
идет несколько других элементов, а под конец по величи-
не атомных весов сопоставляются группа щелочных ме-
таллов и группа магния, кадмия и цинка. Это уже со-
поставление химически несходных элементов.
Сближение таких не похожих друг на друга элемен-
тов, как калий и хлор, могло стать отправным пунктом
214
всего открытия. Не было никакого «общего ряда» эле-
ментов, расположенных по возрастанию атомных весов.
Не отдельные элементы составлялись в общий ряд, а це-
лые группы. На письме Ходнева это пока две группы —
щелочные металлы и магний, кадмий, цинк, но на других
бумажках идут другие группы: идея групп завладела
Менделеевым.
Включение в общую таблицу нескольких групп приве-
ло к образованию вертикальных столбцов — будущих пе-
риодов. И не периоды возникли от разделения на части
общего ряда всех элементов, а, наоборот, сам ряд обра-
зовался после того, как один период был приставлен
к другому. Это Кедров увидел в одном из документов,
найденных в архиве.
Свободного места на письме Ходнева уже нет. Менде-
леев берет новый листок бумаги, ставит на нем дату
и начинает заносить на него целые группы элементов,
чтобы составить уже общую таблицу. На листке умести-
лись две такие таблицы — верхняя и нижняя. Но обе они
оказались неполными. Как же составить полную, как
охватить все элементы?
Так, возможно, думал Менделеев. А Кедров думал
о том, какая таблица появилась раньше, а какая позже.
Одни документы Менделеев датировал, другие нет — за-
бывал. У него вообще была плохая память на мелочи.
Эта плохая память сослужила Кедрову хорошую служ-
бу. Менделеев нетвердо помнил символы некоторых ма-
ло изученных тогда элементов. В черновиках он записы-
вал их по-своему, неверно. А потом, готовя таблицы
и статьи к печати, он исправлял обозначения в соответ-
ствии с общепринятыми. Например, в течение всего
17 февраля Менделеев обозначал бор через Во, а к концу
дня через В, и так уже осталось дальше. Родий весь день
был Ro и в таком виде просуществовал весь февраль.
В таблице, опубликованной 1 марта (по старому стилю)
родий стал Rh. До января 1871 года палладий обозначал-
ся через Р1 и только в гранках был исправлен на Pd. Так
Кедров нашел ключ к датировке документов. Другим
ключом послужило уточнение атомного веса некоторых
элементов. До ноября 1870 года Менделеев приписывал
вольфраму, висмуту, селену и алюминию одни веса, а за-
тем изменил их. Значит, таблицы с поправками должны
относиться к более позднему времени. В конце концов
215
Кедрову удалось датировать все содержание архива. Бла-
годаря этому стал виден логический ход мысли ученого.
Не хватало только карточек. Но в книге Менделеева,
которая печаталась в момент открытия и в которой были
по алфавиту напечатаны все известные тогда элементы,
были и все данные о них, а атомные веса написаны рукой
Менделеева на полях. Можно было предположить, что
все эти данные и были занесены им на карточки, после
чего начался знаменитый пасьянс.
Пасьянс был — это несомненно. Составлять таблицы
на бумаге без пасьянса трудно: если какой-нибудь эле-
мент не станет на уготованное ему место, ему надо по-
дыскать другое. Получались бы бесконечные перечерки-
вания, в которых сам черт ногу сломит. Никакой системы
не разглядишь.
Как же раскладывал его Менделеев? Характер запи-
сей на полной черновой таблице и их сопоставление с за-
писями на двух предыдущих неполных таблицах дают
основание предположить, что сначала Менделеев разбил
карточки всех 63 известных ему элементов на три боль-
шие кучки. В первую вошли 27 хорошо изученных эле-
ментов, во вторую 30 менее изученных и в третью
6 недавно открытых и совсем не изученных.
Каждый свой шаг Менделеев записывал на листке.
Если карточка передвигалась с места на место, ее обо-
значение на листке он вычеркивал и вписывал тоже
в другое место. Разместив первые 27 элементов, Менде-
леев записал на полях таблицы оставшиеся кучки. При
этом вторую кучку он разделил на две — на легкие и тя-
желые элементы. Как только карточку какого-нибудь
элемента он вытаскивал из кучки и включал в пасьянс,
она вычеркивалась из списка. Если он вытаскивал
несколько карточек, вычеркивались все сразу, одним рос-
черком пера. Последовательность вычеркиваний соответ-
ствует порядку включения карточек в пасьянс, а их по-
вторное вычеркивание, внутри черновой таблицы,— пере-
носу карточек в другое место.
Вот, например, бериллий. Сначала он был записан
в самом низу, в нижнем списке из 18 элементов. Менде-
леев вычеркнул его оттуда сразу, поставив его карточку
перед алюминием в верхней части черновой таблицы. За-
тем уже не чернилами, а карандашом он вычеркнул его
и отсюда и тоже карандашом записал под бором
216
(В =11). При этом он изменил формулу окиси бериллия
с ВеИЭз на ВеО и исправил атомный вес с 14 на 9,4.
Получилась логическая цепочка событий: 1) карточка
Be лежит в кучке; 2) ее положили с атомным весом 14
перед алюминием (А1 = 27,4); 3) атомный вес исправили
на 9,4; 4) карточка отправилась на окончательное место,
под бором. Таким способом Кедров устанавливал весь
ход пасьянса.
ТАИНСТВЕННЫЙ ХЕБСОН
Главная идея состояла в сопоставлении несходных
элементов по атомным весам. Так была преодолена пре-
града, мешавшая увидеть путь к решению задачи и даже
самую задачу: ведь задачи-то до письма Ходнева и не
было. Но само открытие, состоящее в том, что обнаруже-
на была периодичность изменения свойств элементов,
произошло позже, хотя и в тот же день.
По полной черновой таблице можно проследить, как
достраивались вертикальные столбцы, превращаясь
в будущие периоды. Сначала литий = 7 стоял в одной
строке с натрием = 23 и калием = 39. Затем под натрием
появился фтор = 19, а под калием хлор = 35,5. Ниже шли
кислород = 16 и сера = 32, а еще ниже азот = 14 и фос-
фор = 31; под ними углерод=12 и кремний = 28. Под угле-
родом стал бор, под ним бериллий, и тогда оказалось,
что бериллий прямо примкнул к литию. После переноса
бериллия в центр таблицы с ним вместе в соседний стол-
бец потянулся и алюминий, а под ним оказался попав-
ший туда еще раньше магний. В итоге получилось, что
и в соседнем столбце, начинавшемся с калия (над ним
стоял кальций = 40), произошло то же самое: нижний его
конец (магний = 24) прямо примкнул к верхнему концу
предыдущего столбца (натрий = 23). Все столбцы со-
мкнулись в единый ряд элементов, расположенных по ве-
личине атомного веса, причем их свойства периодически
повторялись. Сначала шел литий; через шесть элементов
стоял натрий, повторяющий свойства щелочного метал-
ла; еще через шесть стоял опять щелочной металл— ка-
лий. И хотя в дальнейшем картина усложнялась, можно
считать, что уже на этом этапе мысль о периодическом
законе сложилась, хотя и распространилась лишь на са-
мые изученные элементы.
217
Кедрову приходится расшифровывать и шарады.
Символ тербия стоял на полях таблицы, среди малоизу-
ченных элементов, а в самой таблице его не было. Зна-
чит, карточка на него в пасьянс не попала. Почему? На
полях под его символом были буквы: «не су по б». Так,
вопреки всем правилам, Менделеев сокращал слова. «Не
«су» это «не существует»,— догадывается Кедров. А «по
б» — это «по Бунзену». Менделеев несколько раз ссылал-
ся на Бунзена в работах того же периода да и на табли-
це. Бунзен считал, что никакого тербия не существует.
Другая шарада оказалась потруднее. Внизу таблицы
карандашом было написано следующее: «Невзо In Er Th
Yt». Последние три элемента были перечеркнуты. Кто та-
кой «невзо»? Невзоров? Или, может быть, Хебсон, если
это латинские буквы? Да это же опять сокращение на
гласной: «Не взошли». Так Менделеев говорил иногда
вместо «не вошли». Не вошли в пасьянс! Таинственный
Хебсон отразил собой работу над последними четырьмя
элементами.
Теперь надо проверить рассказ Иностранцева. Пась-
янс тот запомнил. Но Менделеев сказал ему, что в голове
все сложилось, а на бумаге не выходит. Дальше был сон,
где элементы были расставлены «как надо». Таблица вы-
шла так хорошо, что понадобилось сделать только одну
поправку. Было ли все так на самом деле?
Составляя таблицу, Менделеев более тяжелые эле-
менты писал сверху, а более легкие — под ними, как это
обычно делается в арифметических выкладках. В черно-
вой таблице элементы расположились «как не надо» —
по убыванию, а не по возрастанию атомных весов. Нет ли
еще документа, из которого было бы видно, что элементы
расставились как надо и что в одном месте была сделана
поправка? Кедров находит этот документ — беловой ори-
гинал, отправленный в типографию. В нем по сравнению
с отпечатанной таблицей только в одном месте сделано
исправление: сняты два предполагавшиеся вначале эле-
мента: ? = 8 и ? = 22. Так через сто лет после открытия
удалось установить, что сон был и что именно увидел
Менделеев во сне! Не закон он увидел, а более удачное
его выражение.
Теперь в распоряжении Кедрова было все, чтобы шаг
за шагом восстановить весь день 17 февраля. Не считая
свидетельств самого Менделеева, у него в руках было
218
пять расшифрованных документов. Документ № 1 —
письмо Ходнева, на обороте которого Менделеев сделал
первые выкладки. Документ № 2 — первые неполные
таблички, написанные на отдельном листе. Документ
№ 3 — список атомных весов, написанных на полях пер-
вого выпуска «Основ химии». Документ № 4 — черновик
полной таблицы элементов с поправками и перечеркива-
ниями, где зафиксирован процесс раскладывания пась-
янса. Документ № 5 — полная таблица, переписанная
набело для отправки в типографию, где все элементы
уже расставлены «как надо». Пять документов и два по-
казания Иностранцева: что было до сна и что было после
пробуждения.
Сложилась такая картина. Получив письмо (№1),
Менделеев делает на нем первые выкладки и интуитивно
находит ключ к открытию. Затем он пытается сразу со-
ставить таблицу, но дальше двух неполных табличек не
идет. В этот момент заходит Иностранцев и застает Мен-
делеева в угнетенном состоянии. Дальше возникает «тех-
ническая» идея пасьянса, и Менделеев заносит список
атомных весов в книгу (№ 3). Затем он делает карточки
и начинает раскладывать пасьянс, фиксируя каждый
свой шаг (№ 4). После нескольких часов напряженного
труда пасьянс был разложен, но так как с самого начала
искались разности в атомных весах, элементы в столбцах
стояли «как не надо». Менделеев ложится вздремнуть,
видит во сне таблицу с обратным порядком элементов и,
проснувшись, записывает ее (№ 5) и отправляет в ти-
пографию.
Подобно тому как мгновенно родилась у Менделеева
исходная мысль о сопоставлении калия и хлора, так
и после сопоставления двух неполных табличек мгновен-
но родилась мысль перейти от утомительного записыва-
ния элементов к пасьянсу. Мгновенно мог явиться во сне
и образ правильной таблицы — искомая «хорошая»
структура.
До получения ходневского письма Менделеев мог
размышлять о продолжении «Основ химии» от одного до
двух часов. Заполнял он письмо минут десять. На состав-
ление неполных табличек мог уйти час, на составление
карточек — не менее часа. Сам пасьянс длился часов
пять, переписка таблицы набело — час. Получается, что
весь процесс состоял из нескольких скачков — это со-
219
поставление калия и хлора, идея пасьянса, сновидение.
Скачками были и решение вопроса об атомном весе бе-
риллия, и мысль о существовании неведомых еще эле-
ментов, приходящихся на пустые места в таблице, и по-
мещение семи неясных элементов за пределами таблицы,
и другие частные решения. Если весь этот процесс изо-
бразить графически, получится ломаная линия, где боль-
шие зубцы складываются из зубчиков поменьше.
Открытие — не всегда вспышка молнии. Оно может
быть и процессом, растянутым во времени и имеющим
свои фазы. После пятнадцатилетней подготовки у Мен-
делеева блеснула мысль сопоставить несходные элемен-
ты, и он начал делать записи на письме Ходнева. Куль-
минационная фаза длилась несколько часов — от первых
записей на письме до момента включения в пасьянс всех
известных элементов вплоть до бериллия. Менделеев
увидел закон. Он стал доводить открытие до первого за-
вершения. Это заняло весь конец дня, пока не была ре-
шена судьба всех 63 карточек. За этим последовало
и длилось около десяти дней изложение открытия для
публикации... Не будь пятнадцатилетней подготовки, не
писались бы «Основы химии» и мысль о них не заставила
бы Менделеева написать на письме Ходнева про калий
и хлор.
Не одними архивными документами руководствовал-
ся Кедров в своих поисках. Встречались ему и загадки,
объяснение которым можно было найти только в опуб-
ликованных работах Менделеева.
На протяжении многих лет у Менделеева боролись
два стремления — к созданию таблицы, где были бы от-
ражены только самые главные связи между элементами
главных групп, и к созданию таблицы, где наряду
с главными учитывались бы и второстепенные связи.
Вторая таблица и стала классической. Элементы стоят
в ней либо в главных, либо в побочных группах. Ряды,
существовавшие в отвергнутой таблице, здесь как бы
сдвоены. Идея такого сдваивания отражена в одной
небольшой черновой табличке. Там зигзагообразная ли-
ния показывает, что медь и серебро должны стать около
щелочных металлов, а цинк и кадмий — около щелочно-
земельных. Один замеченный Кедровым значок раскры-
вает нам глубокий замысел Менделеева, на осуществле-
ние которого ушло около полутора лет (1869—1870).
220
Смысл всех почти записей Менделеева обнаруживает-
ся в его работах. Так было, например, со ссылкой на мне-
ние Бунзена. Но как же досконально надо было изучить
эти работы и вжиться в них, чтобы сопоставить шараду,
написанную на обложке книги, с тем, что напечатано
в той же книге на странице такой-то! Или еще пример:
изменение ВегОз на ВеО. Первая формула была образо-
вана по традиции и по аналогии с окисью алюминия. На
второй настаивал химик Авдеев, и Менделеев принял ее,
когда место над литием вверху черновой таблицы оказа-
лось подходящим для бериллия. Об этом рассказал сам
Менделеев через двадцать лет после открытия. На верх-
нем краю листа с черновой таблицей было написано:
«Надо теплоем Са Ва и Sr». Первоначальное место ще-
лочноземельных металлов в таблице намечалось в соот-
ветствии с их эквивалентными, а не истинными атомными
весами. Потом Менделеев их оттуда вычеркнул и сде-
лал надпись вверху. Почему? В «Основах химии» сказа-
но, что для установления истинных атомных весов дан-
ных металлов надо определить теплоемкость Са, Ва и Sr.
Тут даже порядок элементов (стронций стоит не между
кальцием и барием, как обычно, а после них) тот же, что
и на черновой таблице.
Такие сопоставления помогают не только раскрыть
ход мысли Менделеева, но и понять его до конца — по-
нять, что он думал, делая свои записи. Глубже проник-
нуть в творческую лабораторию ученого в напряженный
момент его умственной деятельности просто невозможно.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЧЕРТОЧКА
Кедров говорит: как хорошо было бы создать фильм,
где с помощью мультипликации можно было бы воссоз-
дать весь ход открытия. Тогда весь творческий акт пред-
стал бы перед нами не в виде ряда положенных друг за
другом документов, а в виде естественной динамики.
Дикторский же текст можно было бы составить из слов,
принадлежавших самому Менделееву: цитируя свои соб-
ственные работы, Менделеев пояснял бы смысл своих
шарад; от него самого мы бы узнали, кто такой Хебсон
и что означало «не су по бу». Это был бы замечательный
фильм, и назывался бы он «День великого открытия».
221
Но, кроме фильма, можно создать и нечто, быть мо-
жет, менее увлекательное, но не менее важное — логи-
ческую формулу открытия. Созданием такой формулы
увенчались многолетние разыскания Кедрова. Посмотри-
те еще раз главу «Мешок с дробью». Там мы говорили,
что открытие законов природы чаще всего протекает как
последовательное восхождение от единичных фактов (Е)
к разбивке их на особые группы (О) и далее — к всеоб-
щей закономерности (В). Даже если идея В и появляет-
ся первой и владеет умами хоть две с половиной тысячи
лет, превратиться в закон или в научную теорию из до-
гадки она может только после того, как стадии Е и О бу-
дут исчерпаны до конца. Так что схемуЕ->О ->В можно
признать универсальной.
Но это еще не живая схема. Из нее не видно ни как
формируется каждая из этих ступеней, ни как совер-
шается сам переход к открытию. Оживить эту схему мож-
но, опираясь на ту же историю с Менделеевым.
До второй половины XVIII века химические элементы
открывались как единичные, друг с другом не связанные
вещества. Это была стадия Е. Потом их стали открывать
группами. Так были открыты газообразные водород, кис-
лород, азот и хлор и члены семейства железа, сопровож-
дающие его в природе. Химики начинают подумывать о
возможности объединить элементы в особые, естествен-
ные группы по признаку их химического сходства. Появ-
ляется представление о щелочных металлах, о щелочно-
земельных, о галоидах. К началу второй четверти XIX ве-
ка укрепляется стадия О. И переход к ней совершается
довольно плавно, простым накоплением фактов и их
столь же простым обобщением •— методом индукции.
Но дальше дело застопоривается. Мышление химиков
закрепляется на стадии О. Разбивка и классификация
элементов по признаку особенного превращается в при-
вычку и закрывает от взоров ученых следующую ступень
познания — всеобщее, закон. Никому не приходит в го-
лову сблизить несходное, хотя Лаплас уже давно бросил
свой клич — сближать далекое. Но что значит далекое?
Нельзя же сближать все на свете. Нужен принцип для
сближения...
Принцип был, но его не видели. Получался заколдо-
ванный круг. Чтобы увидеть принцип, надо было как раз
сопоставить все элементы до единого. Это и сделал Мен-
222
делеев. Он решил сопоставить несходные в химическом
отношении элементы по величине их атомного веса. За
калием и хлором дело пошло как по маслу: К = 39,1
и С1 — 35,5; Na = 23 и F = 19; Rb = 85 и Вт — 80... Менде-
леев сам определил то главное препятствие, которое стоя-
ло на пути от О к В. В первой же статье, посвященной
только что открытому закону, он писал: «Цель моей ста-
тьи была бы совершенно достигнута, если бы мне удалось
обратить внимание исследователей на те отношения в ве-
личине атомного веса несходных элементов, на которые...
до сих пор не обращалось никакого внимания». Пред-
шественники Менделеева ограничивались разбивкой ана-
логичных элементов на обособленные группы, не выходя
из рамок О. Менделеев же сопоставил эти группы (О)
между собой, причем все группы, а значит, и все элемен-
ты. Иногда есть смысл сопоставлять все на свете!
Что подсказало Менделееву сблизить калий и хлор?
Неизвестно. Если о внешнем толчке, побудившем его пе-
рейти к пасьянсу, и догадываться нечего, то тут загадка
скрыта глубоко. Такими загадками полна история наук
и искусств. Если вы разгадаете ее, не забудьте записать
свою догадку на обороте какого-нибудь письма, про-
ставьте дату и положите письмо в сафьяновую папку.
Обратившись к другим выдающимся открытиям, мы
обнаружим ту же картину. В XVII веке в оптике сложи-
лось два течения. Одни трактовали свет как поток
частиц, другие как распространение волн в сплошной
среде — световом эфире. В XIX веке в физике одержала
верх волновая теория. Между тем в химии в то же время
прочно утвердилась атомистическая теория, рассматри-
вавшая вещество как построенное из разрозненных обра-
зований. Свет — непрерывен, вещество — прерывисто.
Это были точки зрения, пребывавшие в рамках О.
Но вот Планк проводит опыты над тепловым излуче-
нием абсолютно черного тела, отказывается от непрерыв-
ности и вводит в формулу излучения квант действия.
В оптике начинают сосуществовать две области: учение
об излучении и поглощении света, основанное на идее
прерывности, и учение о распространении света, основан-
ное на идее непрерывности. Это было сосуществование
двух О. Переход от О к В совершился лишь в 20-х годах,
когда де Бройль доказал единство волновой и корпуску-
лярной природы и у света и у микрочастиц вещества.
223
Прерывность и непрерывность, выступавшие отдельно
как особые характеристики физических процессов, про-
явились во внутреннем единстве как общее свойство лю-
бых микрообъектов, то есть как В.
Открытие Кекуле тоже переход от особенного к все-
общему, от О к В: атомы углерода могут соединяться лю-
бым способом. И переход этот Кекуле совершил, прорвав
преграду, стоявшую между О и В. Изобразим вслед за
Кедровым эту преграду вертикальной чертой:
f
Е О - | В
Преграда неизбежна. В любом движении челове-
ческой мысли, индивидуальной или коллективной, есть
периоды относительной устойчивости, сохранения достиг-
нутого. И развитие научной мысли, как и всякой другой,
совершается не по прямой, непрерывно восходящей ли-
нии, а по ступеням. Покуда достигнутая ступень позна-
ния не будет исчерпана и не возникнут условия для пере-
хода к следующей ступени, мысль занята исчерпыванием
достигнутого, отшлифовыванием традиций. Может быть,
существует даже такой особый психологический меха-
низм, который специально задерживает мысль на достиг-
нутой ступени, не давая ей совершать преждевременные
скачки, чтобы мысль не пронеслась мимо цели. Меха-
низм этот подобен шорам, которые не дают лошади от-
влекаться от прямой дороги. На первых порах он только
полезен. Предмет изучают со всех сторон в рамках Е или
О. Не изучив того, что в рамках, не увидишь и самих
рамок. Но вот наступает время выйти за рамки, пробить
скорлупу, и шоры, выполнявшие полезную роль, стано-
вятся тормозом. Механизм продолжает автоматически
держать мысль в рамках. Лошадь с надетыми на глаза
шорами не только не видит появившуюся сбоку дорогу,
на которую следует свернуть, но даже не подозревает
о ее существовании. Она бежит все вперед и вперед,
а дорога, по которой она бежит, уже не ведет никуда,
лошадь кружится по кругу. Давно пора сбросить шоры
и преодолеть барьер, стоящий между О и В. Вот так:
Е - О -Т В
224
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЫБЫ
Психологические барьеры возникают в тысячах жи-
тейских ситуаций, при решении самых обыденных задач.
Кедров по этому поводу вспоминает всем известные «по-
купки». «Покажите, как немой покупатель дает понять
продавцу, что ему нужен молоток». Тот, кому предлага-
ют эту задачу, ударяет кулаком по столу. «Хорошо.
А как слепой дает понять, что ему нужны ножницы».
Следует соответствующий жест средним и указательным
пальцами. Но зачем слепому объясняться жестами?
Мысль под влиянием примера с немым пошла по колее
жестов — барьер готов!
Показывают две руки с растопыренными пальцами
и спрашивают: «Сколько пальцев?» Ответ: «Десять».
Следующий вопрос: «А на десяти руках?» Ответ: «Сто».
Тот же барьер, связанный на этот раз с привычкой к вы-
числениям. Если при увеличении во столько-то раз назы-
вают число «десять», к предшествующему числу просто
прибавляют нуль. Если прямо спросить, чему равен угол
в квадрате, ответ будет один: 90°. Но если поступить ина-
че и сначала спросить, чему равна единица в квадрате,
потом — чему два в квадрате, потом — чему три, четыре,
пять и вдруг: «А чему угол в квадрате?», последует
контрвопрос: «Как это может быть — угол в квадрате?»
Человек не сразу поймет, что спрашивающий перешел от
одного О (числового) к другому О (геометрическому).
Такие задачи — хорошая тренировка гибкости мыш-
ления.
Преодолевают барьер чаще всего благодаря подсказ-
ке. Легко представить себе подсказку в задачах на коли-
чество пальцев и на угол в квадрате. Это наводящие во-
просы или особая интонация, например: «На двух руках
сколько пальцев?» Тут человека заставляют обратить
внимание на число два, а не на десять. Подсказку можно
рассматривать как своеобразный трамплин, помогающий
перепрыгнуть барьер. Изобразим его на нашей формуле
ломаной чертой, наподобие уступчика:
Е ~ О -ТВ
g Формула открытия
225
В более сложных случаях роль подсказки выполняет
ассоциация по сходству — обезьяны в клетке, падающее
яблоко, отрицательные рыбы. Отрицательные рыбы по-
могли Дираку открыть первую античастицу. Дирак
вспомнил задачу, которую решал когда-то на математи-
ческом конкурсе. Трое рыбаков, ловивших рыбу ночью,
были застигнуты бурей и остались на острове, чтобы до-
ждаться утра. Когда буря утихла, один из рыбаков ре-
шил покинуть остров, забрав треть улова. Он разделил
улов на три части, а одну оставшуюся рыбу выбросил
обратно в море. Затем проснулся второй рыбак и, ничего
не подозревая, тоже начал делить улов на три части, по-
сле чего у него тоже осталась одна рыба, и он тоже
выбросил ее в воду. То же сделал и третий рыбак. Участни-
ки конкурса должны были подсчитать число рыб, кото-
рое удовлетворяло бы условиям задачи. У Дирака полу-
чилось, что рыбаки выловили минус две рыбы. Ответ был
чисто формальным, но правильным. Этих отрицательных
рыб и вспомнил Дирак, когда решил, что электроны
с отрицательной энергией так же реальны, как и с поло-
жительной.
Открытие может совершаться при помощи индукции
и дедукции, то есть обыкновенного логического рассуж-
дения, подобного вычислению, но, если дело доходит до
преодоления барьера, до прорыва из одной области
в другую, тут индукция уступает место интуиции.
Как Эратосфен определял длину александрийского
меридиана? Он знал, что во время летнего солнцестояния
лучи солнца проникают в Сиене на дно самых глубоких
колодцев. Следовательно, в это время солнце стоит в зе-
ните. Он знал, что Сиена и Александрия находятся на
одном меридиане, что расстояние между ними — 5000
стадий и что солнце в Александрии во время летнего
солнцестояния находится ниже зенита на 7,5°. Имея
в руках эти данные, он сообразил, что дуга земного мери-
диана в 7,5° равна 5000 стадий, а, значит, длина всего
меридиана — 250 000 стадий. Знания, память, наблюда-
тельность, находчивость, умение логически рассуж-
дать — вот все, что понадобилось Эратосфену. Тут не бы-
ло никаких озарений, никаких переходов от Е к О или от
О к В. И никакой проблемы!
Но вот перед нами другая «египетская задача». Нача-
ло XIX века. Весь ученый мир занят расшифровкой зна-
226
менитого Розеттского камня. Древний автор Гораполлон
составил описание иероглифов: это рисуночное письмо.
С тех пор все пытаются разгадать символы, содержащие-
ся в иероглифах. Фантазия бьет через край. В иерогли-
фах находят отголоски астрологических учений, сельско-
хозяйственные советы, отрывки из Библии. Ученые всей
душой верят, что иероглифы — это письмо-рисунок: вол-
нистая линия — вода, знамя — бог, и так далее. В пра-
воте Гораполлона мог убедиться каждый: на Розеттском
камне одни рисунки.
А между тем тут требовалось решительно отказаться
от Гораполлона, тут нужна была безумная идея: иерог-
лифы не символы, а обозначения слогов! Когда у Шам-
польона блеснула эта чисто интуитивная догадка, он сна-
чала даже отказался от нее. Это был почти тот же слу-
чай, что и с Паули и с Дираком. К счастью, Шампольон
вернулся к своей идее. Как бы ни строптивился рассудок,
голос интуиции — высший авторитет для гения.
В поисках решения мысль работает в одном направ-
лении а. В тот момент, когда ничего, кажется, не предве-
щает успеха в поисках, внезапно и психологически слу-
чайно возникает другое направление мысли б, вызванное
посторонними событиями — подсказкой, ассоциацией,
размышлением «около». Направление б как бы пересе-
кается с первым. В момент пересечения и срабатывает
интуиция. Интуиция говорит: ключ к искомому решению
содержится в цепи событий б. Эта цепь и играет роль
трамплина для первой цепи. Нарисуем окончательный
вариант формулы:
9»
/
(а) Е -* О —/рВ
(6
Кедров говорит, что интуиция не даст плодотворного
результата без предшествующей работы мысли. Человек
должен изрядно помучиться над решением задачи, осоз-
нать ее целиком и вычерпать содержимое предшествую-
щих ступеней. Это совпадает с наблюдениями Пономаре-
ва: подсказка хороша к месту. Сама же интуиция рабо-
тает недолго. Это краткий момент в длинной цепи собы-
227
тий, похожий на переход от сна к бодрствованию. Никто
не может запомнить самого перехода из одного состоя-
ния в другое. Вот почему человек говорит об озарении
и вспышке молнии. Озарение, относящееся к определен-
ной цепи событий, трудно вспомнить вне этой цепи, когда
уже дело сделано. Наконец, внешний толчок (линия б)
может быть сам по себе не столь ярок, чтобы запомнить-
ся. Линия б играет всеми своими красками только крат-
кий миг — на пересечении с линией а, это действительно
озарение. Причин для того, чтобы не запомнить логику
пересечения линий, более чем достаточно.
Психологический барьер, преодолеваемый с помощью
интуиции, может возникнуть как между О и В, так
и между Е и О. Тогда и здесь для его преодоления нужна
интуиция. Разница только в том, что от Е к О можно
перейти и без интуиции, а от О к В нельзя. Слишком
труден этот переход, требующий сочетания индукции
с дедукцией, анализа — с синтезом, восхождения от кон-
кретного к абстрактному и от абстрактного к конкретно-
му. Весь этот узел разрубается только интуицией. Вот
где в интуиции совсем нет нужды, это в логическом изло-
жении результатов пройденного пути. Когда открытие
было сделано, Менделеев предложил расположить все
элементы подряд по величине их атомных весов, начиная
с водорода, но не сопоставляя между собой отдельные
группы, как это он делал сам. У элементов легко обнару-
живалась периодическая повторяемость свойств. Если
сам он шел по схеме Е->О->В, то другим он предложил
схему Е->В->О. Закон выводился уже из непосредствен-
ного сопоставления элементов, а группы получались ме-
ханическим разрезанием общего ряда на периоды. Тем,
кому была предназначена эта схема, не требовалось ни-
какой интуиции, чтобы ее понять.
Существуют две логики — логика совершения откры-
тия и логика его обработки. В логике открытия есть
и индукция и дедукция, но они скрываются за общей ра-
ботой интуиции; их последовательность и взаимосвязи
могут быть самыми причудливыми. Только при изложе-
нии состоявшегося все эти приемы выступают на первый
план и выстраиваются в таком порядке, который легче
всего воспринять и усвоить.
ЭЛЕКТРОНЫ В АВТОБУСАХ
У чешского писателя Карела Чапека есть любопытное
рассуждение об изобретениях. Чтобы сделать то, что де-
лает природа, говорит он, человек всегда поступал на-
оборот. В этом и заключается парадоксальность всех вы-
дающихся изобретений. Прежде человек жил в пещерах,
но, когда их стало не хватать, он и не подумал их рыть,
а начал строить дома — пещеры на земле. Решив воору-
житься, он не стал приделывать себе искусственные клы-
ки и рога, а взял их в руку. Потом он изобрел стрелы —
летающие зубы. Он придумал колесо, которого в природе
нет. Вздумай человек подражать пауку, он бы никогда не
сконструировал ткацкого станка. Но, вместо того чтобы
оценить по достоинству необычность своих изобретений,
люди все время стараются включить их в круг явлений
природы: самолет называют птицей, паровоз — сталь-
ным конем. А самолет —это не птица, а летающая ма-
шина. Умея изобретать, люди не умеют понять свои изо-
бретения.
С тех пор как это было написано, прошло полвека, но
положение не изменилось. Плазму называют солнцем
в руках физика или солнцем в руках сварщика, земле-
ройную машину — механическим кротом, аппарат для
подводных исследований — автоматическим крабом...
Когда явлений природы не хватает, понятия берут из
привычных областей науки и техники. Ультразвуковую
обработку металла называют то «резанием без резца»,
то «прокаткой без прокатки».
Все это вполне естественно и, как мы знаем из встреч
с непредсказуемым, неизбежно. И не было бы в том ни-
какой беды, если бы из-за стремления укладывать вся-
кую новую идею на полочку традиционных понятий не
возникал психологический барьер, мешающий идее про-
биться наружу и быть осознанной именно как новая
идея.
Барьер этот сбивает с толку тех, кто сталкивается
с необычным: вспомним хотя бы историю расщепления
ядра. Он затормаживает мысль и заставляет ее искать
проторенных путей. Пример тому — нерешительность
Паули. Идея уже окрепла, ее оценили, а сам ее автор все
пытается втиснуть ее в привычные рамки. Так Макс
Планк ввел в физику понятие «квант» и долгое время
229
старался приспособить его к классической теории.
Победителем, конечно, не судят, но сколько было тех, кто
мог бы победить, а не победил — отвернулся от принци-
па относительности, от расщепления ядра, не додумался
до антибиотиков. С ядром, конечно, спешить было неку-
да, но с пенициллином можно было бы и поспешить. До
телескопа тоже, пожалуй, следовало бы додуматься по-
раньше.
Случаев, когда открытие или изобретение запаздыва-
ет к сроку, сколько угодно. Вот типичный пример из об-
ласти техники. Строителям Усть-Илимской ГЭС понадо-
билось соорудить несколько водоводов — железобетон-
ных труб диаметром около десяти и длиной в сорок мет-
ров. Каждый водовод весит четыре тысячи тонн. Лечь он
должен на откос — угол в 45°. Лучше всего было бы
строить водоводы в вертикальном положении, а потом
опускать их на откос. Но для этого потребовалась бы
слишком сложная и дорогая система грузовых стрел, та-
лей и блоков. Пришлось сооружать их в наклонном поло-
жении, а это было очень неудобно и отняло много време-
ни. Когда водоводы были готовы, двое инженеров вы-
двинули блестящую идею. Жаль только, что она не
подоспела вовремя.
Что же помешало инженерам найти решение сразу?
Психологическая инерция терминов. Задача о водоводах
включена теперь в учебную программу Азербайджанско-
го общественного института изобретательского творчест-
ва. «Инженеры привыкли уважительно относиться к тер-
минологии,— рассказывает Г. С. Альтшуллер, автор кни-
ги «Алгоритм изобретения» и руководитель одного из се-
минаров в этом институте.— Размышляя о задаче, они
думают терминами. Между тем каждый термин отража-
ет старое, уже существующее. Термин стремится навя-
зать привычное представление об объекте». В безобид-
ной формулировке: «Как повысить скорость движения
ледокола сквозь лед?» — слово «ледокол» указывает
путь к решению. Надо КОЛОТЬ лед, ДРОБИТЬ лед,
ЛОМАТЬ лед. А может быть, лед надо растапливать? Но
это никому в голову не приходит.
На одном занятии решали задачу о переброске
нефтепровода через ущелье. В задаче было сказано:
«Найти такой способ переброски трубопровода, чтобы он
не прогибался». Все думали только об увеличении диа-
230
метра трубы. Но увеличение диаметра означало и увели-
чение веса, а это условиями задачи запрещалось. На сле-
дующем занятии слово «трубопровод» заменили словом
«нефтепровод». Маленькая поправка, но благодаря ей
мысль перестала крутиться вокруг одной трубы. Один из
участников семинара предложил сделать нефтепровод
в виде полого двутавра — двух труб меньшего диаметра,
чем основная, расположенных друг над другом и соеди-
ненных вертикальными связями. Такая конструкция про-
гибаться не будет. Нефтепровод не обязательно должен
быть трубопроводом, то есть одной трубой.
На другом занятии слушателям задали такую задачу:
«Триста электронов должны были несколькими группами
перейти с одного энергетического уровня на другой. Но
квантовый переход совершился числом групп на две
меньшим, поэтому в каждую группу вошло на пять элек-
тронов больше. Каково число электронных групп?»
Слушатели дружно запротестовали:
«Тут квантовая физика, а мы инженеры-производст-
венники!»
Тогда преподаватель взял задачник по алгебре
и прочитал: «Для отправки 300 пионеров в лагерь было
заказано несколько автобусов, но так как к назначенно-
му сроку два автобуса не прибыли, то в каждый автобус
посадили на 5 пионеров больше, чем предполагалось.
Сколько автобусов было заказано?»
Общий хохот.
Занятия продолжаются. Их цель — расшатать инер-
цию терминов. Слушателям предлагают заменять все
термины словом «штуковина». Оно играет ту же роль,
какую в математике играет «икс». Сначала инженеры по-
смеиваются, заменяя «штуковиной» привычные термины.
Потом смех умолкает: выясняется, что любую задачу
можно изложить без терминов.
Инерция отступает, но не сдается. Слов, навязываю-
щих привычные представления, уже нет, но зрительный
образ объекта остается. За всякой «штуковиной» все
равно стоит привычное представление об объекте. Тогда
в ход вступает оператор РВС (размеры, время, сто-
имость). Слушатели должны мысленно увеличить или
уменьшить размеры «штуковины», время ее изготовле-
ния, ее стоимость. Увеличивать и уменьшать можно, да-
же необходимо в самое немыслимое число раз. Идет уже
231
знакомый нам из главы «Абсолютное зеркало» мыслен-
ный эксперимент.
Экспериментируют с водоводами. Задача задана на
дом. Вот одна из домашних работ:
«1. Размеры бетонной штуковины увеличиваются
в сто раз. Громадина наподобие Останкинской башни.
Никакие краны не годятся. Как уложить махину высотой
в четыре километра и диаметром в километр? Нет, это
даже не башня: у башни диаметр мал сравнительно
с высотой. Это гора. Как уложить гору? Идеально было
бы, если бы гора легла сама. Но горы не падают. Задача
усложнилась.
2. Уменьшим размер штуковины в сто раз. Высота 40
см. Все очень просто: уложим штуковину вручную. Высо-
та 0,4 см. Снова вручную... Опять задача усложнилась.
3. Увеличиваем время. Сколько времени отводится на
спуск штуковины? Предположим, месяц. Увеличим в сто
раз. Восемь лет. Не вижу разницы. Увеличим до 8000
лет. Что будет? Осядет грунт, штуковина опустится сама.
А за 8 миллионов лет?
4. Уменьшаем время. Штуковина опускается за мину-
ту или за секунду. Это значит, что она падает. Чтобы
штуковина упала, центр ее тяжести должен изменить
свое положение.
Появилась идея, относящаяся к пункту 1. Есть горы,
которые падают сами. Это айсберги. Подтаивает основа-
ние, смещается центр тяжести, гора опрокидывается.
Пункт 3 тоже наводит на подобную мысль: за миллионы
лет могут выветриться самые твердые породы. Отсюда
идея...»
Далее идет описание. Можно ставить пятерку, заклю-
чает преподаватель. Описание совпадает с формулиров-
кой изобретения двух инженеров с Усть-Илимской ГЭС.
И там и тут говорится о способе монтажа тяжелых кон-
струкций, под которыми возводят колонны из льда пли
из соли. Колонны потом растапливают или растворяют
у основания, длина колонны уменьшается, и конструкция
сама опускается куда нужно.
Инерция, как мы видим, коренится не только в тер-
мине, но и в зрительном образе. И это не удивительно:
слово и образ — не только две формы мысли, но и две
стороны одного представления о предмете. Слово на-
столько закрепляет образ, что даже когда человек пы-
232
тается мыслить «штуковиной», образ, хотя и тускнеет,
остается без изменения. Нужны всяческие ухищрения,
чтобы сдвинуть его с места и придать ему необходимую
гибкость.
Чаще всего ученый или изобретатель справляется
с этим сам. Постепенно у него вырабатываются созна-
тельные или интуитивные методы расчистки пути для но-
вой идеи. О некоторых из них мы расскажем в двух по-
следних главах. Но вот идея блеснула Теперь надо дока-
зать всем, что она полезна, оригинальна, своевременна.
Но перед ней — новые психологические барьеры. Ведь
косность, которую преодолевал изобретатель в самом се-
бе, присуща не ему одному.
Самый простой и распространенный вид барьера опи-
сывают специалисты по изобретательству из ГДР
В. Гильде и К.-Д. Штарке в своей книге «Нужны идеи».
На металлургическом заводе созывают совещание.
Речь идет о строительстве новых подкрановых путей.
Уже уточнили трассу, грузоподъемность, сроки, сто-
имость. И в тот миг, когда директор открывает рот для
заключительного слова, некто Мюллер выпаливает: «Но
ведь мы катаем малогабаритный лист! Лучше ведь
вместо крана установить ленточный конвейер!» Еще не
закончив, он уже жалеет о сказанном. Его предложение
встречают в штыки. Директор — потому, что новая точка
зрения требует возобновления дискуссии. Главный кон-
структор — потому, что критикуется его проект. Началь-
ник транспортного цеха — потому, что Мюллер влез
в его епархию. Майер — потому, что, как он слышал,
ленточный конвейер трудно достать. Главный бухгал-
тер — потому, что его пугает удорожание проекта, хотя
все обстоит как раз наоборот. И, наконец, Шульце — по-
тому, что он не выносит Мюллера.
Каждый из участников совещания убежден в том, что
новые идеи ему всегда по душе. Ни один из них не заме-
тил, что занял оборонительную позицию.
Первый оратор был бы «за», но...
Второй отмечает, что на первый взгляд идея хо-
роша, но...
Третий выражается яснее: идея нехороша.
Четвертый соглашается с третьим и добавляет, что
Мюллер уже не впервые высказывает нелепые идеи...
Предложение Мюллера отвергается. Теперь идеи его
233
почти не осеняют. Возможно, они и появляются во время
прогулки или игры в кегли. Но об этом никто ничего не
узнает.
Это самый простой случай. Ленточный конвейер нико-
му тут не был в диковинку. Идея всем была одинаково
понятна. Сработала бюрократическая рутина. Но быва-
ют случаи посложнее, возникают барьеры, которые не
так легко объяснить.
КРИКИ БЕОТИЙЦЕВ
Стендаль говорил, что новая идея должна быть на
два или на три градуса выше общего умственного уров-
ня — не больше; если она оказывается на восемь граду-
сов выше, от нее у общества начинает болеть голова. «В
этих афоризмах, безусловно, есть доля правды,— заме-
чает в своей книге «Основные проблемы социологии
мышления» философ К. Р. Мегрелидзе.— Трагедия но-
вых, забегающих вперед изобретений, открытий, идей за-
ключается в том, что человечество, которое есть каждый
раз лишь общество определенной эпохи, с большими
трудностями осваивает их». Мегрелидзе вспоминает по
этому поводу Гаусса, который, как он сам признавался,
«боясь криков беотийцев», воздержался от публикации
своих идей, связанных с неевклидовой геометрией. Идеи
эти были в таком противоречии с господствующими
представлениями, что заведомо не могли встретить ни
одобрения, ни понимания.
Несмотря на грандиозные заслуги Гаусса в матема-
тике, мы вынуждены признать, что оглядка на «беотий-
цев», то есть нежелание дразнить гусей, не к лицу гению.
Нам по душе больше Лобачевский, которому и в голову
не пришло прятать те же самые идеи «до лучших вре-
мен», дожидаясь, пока общество не дорастет до их уразу-
мения. А ведь у него было гораздо больше оснований
бояться «криков беотийцев». Он не был ни королем мате-
матиков, ни даже признанным авторитетом. Он мог до-
гадываться, как воспримет его геометрию самая влия-
тельная в России петербургская школа математиков.
Школа эта во главе с Остроградским просто смеялась
над тем, что делал Лобачевский. Его идеи на восемь гра-
дусов были выше уровня петербургской школы.
234
Между тем Остроградский был великий математик.
Великими математиками были и другие петербуржцы —
Чебышев, Ляпунов, Марков, не признававшие Римана,
чьи идеи были отнюдь не на восемь градусов выше их
понимания, а всего на два или на три. Риман не создавал
совершенно нового мира, как Лобачевский, он просто
иначе смотрел на уже существующий мир. Нечто подоб-
ное нам уже встречалось: вспомним, какое великолеп-
ное созвездие имен не могло в течение десяти лет дать
правильную оценку явлению радиоактивности.
«Наука,— говорил Фрэнсис Бэкон,— часто смотрит
на мир взглядом, затуманенным всеми человеческими
страстями». В страстях, или, вернее, в эмоциях, нужно,
по мнению академика П. С. Александрова, искать объяс-
нение многим видам психологического барьера. Только
эмоции надо понимать в самом широком смысле слова.
С самыми простыми эмоциями мы встретились в пре-
дыдущей главе. Сказать, что идея Мюллера была хоть на
сотую долю градуса выше уровня тех, кто ее отверг, бы-
ло бы натяжкой. И, однако, от нее у всех «заболела го-
лова».
Чуть-чуть посложнее, но того же рода эмоции вызва-
ли к жизни фразу о «плечах гигантов». К эмоциям Нью-
тона отчасти примыкают и эмоции Гэмфри Дэви, кото-
рый изо всех сил пытался помешать избранию своего
ученика Фарадея в члены Королевского общества. Исто-
рики напоминают нам и о французском математике Ко-
ши, проявлявшем преступную невнимательность к от-
крытиям молодых ученых. Работы, которые они давали
ему, он просто терял. Его безразличие, граничащее
с умышленным пренебрежением, послужило косвенной
причиной гибели двух юных гениев — Галуа и Абеля.
Поистине трудно не согласиться с Фрейдом, утверждав-
шим, что, если мы что-нибудь теряем, значит, мы желаем
этой потери. Поведением Дэви и Коши руководила самая
обыкновенная зависть. Не без греха тут и сам король ма-
тематиков, отказавший в поддержке Больяи, который
прибыл к его величеству со своим проектом неевклидо-
вой геометрии.
И ведь как быстро забывается собственный горький
опыт! Тот же Коши пережил в молодости немало непри-
ятных минут, когда, построив вместе с двумя другими
математиками систему уравнений, описывающих равно-
235
весне и движение идеально упругих тел, узнал, что выда-
ющийся механик Пуансо произнес их работе безапелля-
ционно-уничижительный приговор: «У них там какое-то
косое давление!» Тут, правда, была не зависть, а такое
же непонимание, как и у петербургских академиков по
отношению к Лобачевскому и Риману, но это не меняет
дела. Точно так же Гельмгольц забыл, как однажды ре-
дактор одного научного журнала отказался печатать его
статью о скорости нервного импульса, и, уподобившись
этому редактору, не пожелал читать статью Макса
Планка о втором законе термодинамики. И тут не было
зависти, а была предвзятость или возрастная невоспри-
имчивость к новому. Но ведь можно же было хотя бы
прочитать статью!
Однако мы еще не упомянули о некоторых эмоциях
низшего порядка, рядом с которыми занятость Гельм-
гольца и даже рассеянность Коши кажутся верхом
невинности.
В первой половине XIX века в Европе свирепствовала
родильная горячка. В акушерских клиниках Вены поги-
бала иногда треть рожениц. Молодой венгерский врач
Игнац Земмельвейс догадался, отчего они погибают. По-
сле вскрытий врачи не отмывают рук и переносят труп-
ные частицы к здоровым женщинам. Чтобы проверить
свою догадку, Земмельвейс заставил врачей в своей кли-
нике мыть руки хлорной известью. За полгода смерт-
ность в клинике прекратилась совсем. Прекратилась
только потому, что врачи стали дезинфицировать руки не
только после операции, но и до операции.
Тринадцать лет Земмельвейс доказывал, что причина
родильной горячки кроется не в организме беременных
женщин, как думали всегда, а в трупных частицах и что
в руках врачей — простое и верное средство против нее.
Его отказывались слушать. Он написал книгу, пропаган-
дировавшую антисептический метод. Ее не пожелали чи-
тать. Он стал выступать с открытыми письмами, адресуя
их упорствующим профессорам и обвиняя их в гибели
своих пациенток. Глухая стена стояла перед Земмельвей-
сом. Он умер в психиатрической клинике. Сегодня его на-
зывают «спасителем матерей».
Откуда же взялась эта стена? Да, его метод был нов
и непривычен. У него не было теоретического обоснова-
ния: дело происходило до Пастера и до бактериологии.
236
Но метод был прост, а его эффективность доказана.
А для врачей всегда важнее полезность метода, а не по-
нимание механизма его действия. До сих пор неясно, по-
чему пирамидон помогает при головной боли, а горчич-
ники лечат бронхит.
Несколькими годами позже английский хирург
Листер, исходя из тех же соображений, что и Земмель-
вейс, предложил мыть руки перед всякой операцией
и получил от больничного начальства выговор за расход
мыла. Через двадцать лет после открытия Земмельвейса
Листер опубликовал статью «Об антисептическом прин-
ципе в практической хирургии», в которой уже ссылал-
ся на Пастера. И что же? Крупнейший хирург Англии
Симпсон, изобретатель нового способа остановки крово-
течений и хлороформенного наркоза, человек, которого
никак нельзя было назвать консерватором, выступил
против антисептики. Нет, теория тут ни при чем. И кос-
ность мышления тоже. Отъявленные враги Земмельвейса
потихоньку вводили антисептику, а снижение смертности
в своих больницах объясняли усовершенствованием
системы отопления и вентиляции.
Потихоньку! А как же иначе? Ведь если объявить
о введении антисептики во всеуслышание, значит, при-
дется признать правоту Игнаца Земмельвейса, обви-
нявшего тебя в преднамеренных убийствах. Поди дока-
зывай, что ты искренне заблуждался. У тех, кто воздвиг
стену перед Земмельвейсом, не хватило мужества при-
знать себя виновником гибели несчастных женщин. Спа-
сибо хоть за то, что ввели антисептику потихоньку. Куда
уж там Коши или Дэви с их примитивной завистью! На
сколько же градусов по шкале Стендаля идея Земмель-
вейса превосходила уровень его коллег? В смысле науч-
ной новизны не больше, чем на два. Но этически — не то
что на восемь, а на все шестнадцать.
Возможно, Земмельвейс и дожил бы до торжества
своей идеи, если бы его просто не понимали, а не делали
вид, что не понимают. Как не сойти с ума, зная, что тебя
не хотят слушать, а тем временем гибнут люди! Но часто
грань между искренним непониманием и нежеланием по-
нимать становится слишком расплывчатой, и для перво-
открывателей наступает тяжкая пора испытаний, когда
они готовы на все, лишь бы быть услышанными. Такие
•испытания пережили спустя много лет после истории
237
с Земмельвейсом представители зарождавшейся витами-
нологии. В те годы умами врачей уже полностью владели
бактериология и микробиология, и, когда несколько ме-
диков заявили, что такие болезни, как пеллагра и бе-
ри-бери, имеют неинфекционную природу, их подняли на
смех. Не в состоянии убедить своих оппонентов никакими
доводами, доведенные до отчаяния витаминологи стали
заражать себя испражнениями авитаминозных больных
и демонстрировали бактериологам свою невосприимчи-
вость к «инфекции». Что еще им оставалось делать? Ка-
ким способом можно было разрушить психологический
барьер, возникший без всяких дурных побуждений, но от
этого не ставший податливее? Ведь речь-то шла опять
о спасении жизней, и медлить было нельзя.
ИЗМЕНЧИВОСТЬ и постоянство
Не всем, конечно, открытиям или изобретениям, на
сколько градусов бы они ни превышали уровень общест-
ва, уготованы подобные превратности. Бывает, новая
идея, не получив должной оценки, спокойно дожидается
своего часа. Так случилось с генетическими законами, от-
крытыми Грегором Менделем в 1865 году. Большинство
ученых не поняло, о чем говорил этот скромный садовод,
а те, кто мог бы его понять, например Дарвин или Вейс-
ман, о его открытии не знали. У него не было противни-
ков, ни с кем у него не возникло конфликта. Его законы
через тридцать пять лет были заново открыты Де Фри-
зом, Коренсом и Чермаком, и все стало на свои места.
Иная судьба у другого кардинального открытия в ге-
нетике — у двойной спирали. О ДНК знали уже девя-
носто лет. Уотсон и Крик, в отличие от Менделя, исходи-
ли не столько из собственных экспериментов, сколько из
накопленных всей биологией данных. То, о чем они ска-
зали, было понятно всем. Они написали не первую, а по-
следнюю страницу в книге про ДНК- И хотя потом выяс-
нилось, что про ДНК надо еще писать и писать книги,
дело было сделано — завершена целая эра в молекуляр-
ной биологии. И завершения этого ждали все. Идея ни на
градус не превысила уровень общества.
Невозможно себе представить, чтобы Уотсон и Крик
натолкнулись на психологический барьер непонимания.
238
Историки науки говорят о барьерах, когда налицо яв-
ный конфликт. Когда же конфликта нет, напрашивается
более мягкое слово «недооценка». Никто не возражает,
все даже соглашаются с автором идеи. Просто ее не при-
нимают во внимание и забывают о ней —-до тех пор, по-
ка другой не откроет ее заново как раз тогда, когда при-
ходит пора оценить ее по достоинству.
Лет пятнадцать назад в научном обиходе прочно обо-
сновалось представление о саморегулирующихся систе-
мах. Этим термином пользуются физиологи, психологи,
кибернетики, инженеры. Воспользовались им и мы в гла-
ве «Система раздваивается», не особенно вдаваясь в его
объяснения.
Идею о том, что организм высшего животного можно
рассматривать как систему, способную к саморегуляции,
высказал в 1859 году великий физиолог Клод Бернар.
Идея основывалась на открытии постоянства температу-
ры тела; от него зависело постоянство и всей энергетики
организма. Уровни всех энергетических процессов регу-
лирует нервная система. Как только в крови понижается
содержание кислорода или сахара, мозг, получая об этом
сигнал, мобилизует дыхательный аппарат или резервы
печени, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Это
и есть саморегуляция.
Идея саморегуляции прошла мимо внимания совре-
менников. И это было естественно. В том же 1859 году
появилась книга Дарвина о происхождении видов, в ко-
торой преобладала мысль об изменчивости организмов,
а не о сохранении постоянства их функций. Кроме того,
в умах господствовало представление о животных как об
автоматах, приводимых в действие лишь внешними толч-
ками, то есть регулирующихся извне.
Интерес к идее саморегуляции вспыхнул лишь
в 20—30-х годах нашего столетия, после работ американ-
ского физиолога Уолтера Кеннона. Кеннон изучал влия-
ние эмоций на внутренние процессы и пришел к заклю-
чению, что существование организма зависит от такой
системы регуляции, которая должна поддерживать
постоянство всех факторов внутренней среды. Каждое
отклонение от нормы вызывает реакцию противополож-
ного характера. Эту реакцию называют теперь обратной
связью. Сам Кеннон не заметил, что открытый им прин-
цип гомеостазиса, то есть активного равновесия, про-
239
стирается далеко за пределы физиологии. Заметил это
его ученик Розенблют, заложивший вместе с Винером
основы кибернетики. Идея Бернара, заново переформу-
лированная Кенноном, нашла свое воплощение в авто-
матических системах.
Произошло то же, что и с открытием Менделя. Оба
открытия дождались благоприятных условий, при кото-
рых их поняли по-настоящему и нашли им подобающее
употребление.
Но можно ли сказать, что психологический барьер ис-
креннего непонимания, в чем бы оно ни проявлялось, воз-
никает лишь оттого, что общество не готово к этому по-
ниманию? Что открытие, как мы привыкли говорить, опе-
редило время?
Нам кажется, что сказать так — значит ничего не
сказать. Если бы Мендель выступил просто с гениальной
догадкой, тогда иное дело. Но он провел эксперименты
и представил на суд общества их результаты. Его не по-
няли, но, обладай он характером Уотсона или Земмель-
вейса и оповести он всех, кого следовало, его могли бы
понять.
Чтобы новую идею поняли, обществу вовсе не обяза-
тельно стоять вровень с автором идеи или даже на два
градуса ниже. Часто темперамент исследователя, его ав-
торитет, способы, которыми он убеждает публику,
и многие другие внешние обстоятельства важнее интел-
лектуальной подготовленности общества. Если бы это
было не так, общество не попадалось бы на удочку лож-
ных идей и псевдооткрытий, а такое случалось во все
времена. Ожидать, чтобы новая идея была подхвачена
всеми, кому следует ее подхватить, невозможно. Люди
заняты своими делами, в идеях особого недостатка нет.
Появляется еще одна, пусть даже революционная. Пре-
красно! Что с ней делать, будет видно. Спешить некуда,
не о спасении же человечества толкует этот садовод
в монашеском облачении...
Если мы возьмем любое открытие из тех, которые не
получили должного признания у современников, и попы-
таемся доказать, что оно опередило время, у нас ничего
не получится. Выяснится, что оно состоялось тогда, когда
и должно было состояться,— не раньше, не позже. Оно
опередило время лишь в том смысле, что не было услы-
шано как следует. Другое дело, что общество не прислу-
240
шалось к автору открытия. Вот тут мы можем говорить
о непонимании, о психологическом барьере.
В большинстве случаев барьер этот возникает из-за
того, что общество находится в плену господствующей
идеи — одной какой-нибудь точки зрения на те же самые
факты. И это вовсе не значит, что господствующая точка
зрения неверна. Еще вчера она была такой же новой
и прогрессивной. Просто она не единственная — вот
в чем дело! Когда она пробила себе дорогу и вытеснила
иные точки зрения, ее в силу той же психологической
инерции приняли за истину в последней инстанции, за-
быв о том, что таких истин не существует.
Теория эволюции, помешавшая физиологам заметить
открытие Клода Бернара, навсегда останется величай-
шим достижением человеческого разума. И открытие
Бернара вовсе не противоречило ей. Оно противоречило
упрощенному ее толкованию — абсолютизации идеи из-
менчивости. Никому не пришло в голову, что изменчи-
вость должна соседствовать с постоянством, что такова
вообще диалектика всякого явления.
Бактериологи доказали инфекционную природу мно-
гих болезней. Но кто сказал, что у всех болезней одна
природа? Витаминологи открыли, что не у всех. Умаляет
ли это значение бактериологии? Нисколько! Борьба ве-
лась ведь не против бактериологии, а против абсолюти-
зации ее идей, против одностороннего взгляда на вещи.
Барьер непонимания — это и есть односторонний взгляд
на вещи. Он вырастает чаще всего под влиянием пра-
вильных идей, которым придается универсальное зна-
чение.
Однако такое истолкование психологического барье-
ра было бы тоже односторонним и далеко не полным. Ка-
кая идея владела умами петербургских математиков, от-
вергавших Лобачевского? Абсолютизация евклидовой
геометрии? Ничего подобного. Оказывается, всей петер-
бургской школе было свойственно полное пренебрежение
к геометрической интуиции. Ярче всего это пренебреже-
ние проявлялось у П. Л. Чебышева и у его ученика
А. А. Маркова, который вообще не признавал геометрии.
Эрмит, учитель Адамара, тоже ее не признавал и однаж-
ды упрекнул Адамара в том, что тот опубликовал статью
по геометрии. Можно ли понять необычную геометрию,
если даже обычную считаешь пустой забавой?
24+
Никто, даже гений, не застрахован от психологи-
ческого окостенения. Гений подвержен этой болезни, по-
тому что он разрабатывает одну область, уходит в ней
далеко вперед, видит в ней далеко вперед и мало-помалу
перестает видеть, что делается в других областях. Он
уже слеп и глух к тому, что выходит за пределы его инте-
ресов, за пределы сформировавшегося у него способа
восприятия и мышления. Вспомним, как Галилей не же-
лал замечать законов Кеплера. С Кеплером Галилей был
в переписке, высоко ценил его дарование и его привер-
женность к Копернику. И Галилея ли подозревать в кон-
серватизме? И все же факт остается фактом: в течение
тридцати лет, с тех пор, как он узнал об открытии Кепле-
ра, Галилей, десятки раз писавший за это время об
устройстве солнечной системы, ни разу не обмолвился об
эллиптических орбитах и рассуждал" так, будто ничего
нового после его собственных идей не появилось.
Этот странный случай историки объясняют только
одним — несовместимостью открытой Кеплером эллип-
тичности со всей системой эстетических и научных взгля-
дов Галилея. Конечно, честность ученого должна заста-
вить его отказаться от своей теории, если факты проти-
воречат ей, и таких случаев было немало, но отказаться
от навыков мышления очень трудно. Ведь это все равно
что отказаться от самого себя, переделать самого себя.
Эйнштейн, выдвигавший один за другим аргументы про-
тив Бора, боролся, быть может, не столько с квантовой
теорией, сколько с самим собой, со своим привычным об-
разом мышления. Галилей в такую борьбу не вступил.
Не вступил в нее и Пуансо, ограничившись репликой на-
счет «косого давления», не вступили и петербургские ма-
тематики, оставшиеся глухими к идеям Лобачевского
и Римана.
Разбирая грехи петербургской школы, П. С. Алек-
сандров говорит о несовместимости систем мышления и о
своеобразной «реакции вытеснения» — вытеснения одно-
го таланта другим. Такую несовместимость можно найти
не только в науке, но и в искусстве. Брамс не признавал
Чайковского, Вагнера и Брукнера. Чайковский — Брам-
са и Мусоргского. Толстой не признавал Шекспира. По
мнению Александрова, основа этой несовместимости пре-
жде всего эмоциональная. Это эмоция непризнания че-
го-то «лежащего вне меня», подсознательное желание за-
242
полнить именно своим творчеством данную область де-
ятельности и не допускать существования в этой области
чего-то инородного.
Из «реакции вытеснения» вырастает неприятие, ино-
гда даже нетерпимость. Неважно, что человек сам не за-
нимается геометрией. Геометрия, по его убеждению,
несерьезное занятие. Он в плену не у господствующей
в обществе идеи, а у своей слепоты и глухоты. Он уже не
говорит, а вещает. И самое обидное в том, что он сам
яркий талант и что, отворачиваясь от свежих идей или
считая свое занятие самым достойным, он наносит свое-
му таланту вред.
К счастью, кроме постоянства, существует еще и из-
менчивость. Уроки не совсем проходят даром и отклады-
ваются в сознании поколений. Многое из того, что случа-
лось в прошлом веке, в нынешнем случиться не может.
Многое, но не все. Над новой геометрией смеяться не ста-
нут, но мимо открытия помельче могут и пройти. Наши
эмоции всегда с нами, а мышление по-прежнему предпо-
читает течь по привычному руслу. Надеяться на одни
лишь перемены в общей атмосфере восприимчивости
к новому нельзя. Можно сколько угодно восторгаться
«безумными» идеями, убеждать себя в том, что никогда
не поддашься гипнозу господствующего представления
и не окостенеешь в своем способе мышления, и все это
в один прекрасный день окажется пустым звуком, если
слова не будут подкреплены делом. Дело же заключает-
ся в том, чтобы выработать в себе привычку не бросаться
в объятия к новой идее (не все то золото, что блестит),
но и не отвергать ее с порога, а спокойно рассмотреть ее
со всех точек зрения. Не выработав в себе такой привыч-
ки, мы не научимся ни изобретать сами, ни оценивать чу-
жих изобретений.
КАМЕШКИ НА САДОВОЙ ДОРОЖКЕ
Много лет назад, когда человека, задолжавшего день-
ги, могли бросить в долговую тюрьму, жил-был в Лон-
доне один купец, занявший большую сумму у ростовщи-
ка. Старый и уродливый ростовщик сказал, что простит
долг, если купец отдаст за него свою красивую дочь.
Отец с дочерью пришли в ужас. Тогда коварный
ростовщик предложил, чтобы все решил жребий. Давай-
243
те; сказал он, положим в пустой кошелек два камешка —
черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них.
Если она вытащит черный, пойдет замуж, если белый —
останется с отцом. В обоих случаях долг будет считаться
погашенным. Если же девушка откажется тянуть жре-
бий, то ее отца бросят в долговую тюрьму, а сама она
станет нищей и умрет с голоду.
Купец и его дочь были вынуждены согласиться. Раз-
говор происходил в саду купца. Ростовщик наклонился,
чтобы подобрать с дорожки камешки. И тут девушка за-
метила, что он положил в кошелек два черных камешка.
Теперь, говорит английский психолог Эдвард де Боно,
автор книги «Новая идея», представьте себе, что это вы
стоите в саду и вам надо тянуть жребий. Что бы вы стали
делать, если бы оказались на месте девушки, или что бы
вы посоветовали ей делать?
Вы вправе утверждать, что с помощью тщательного
логического анализа можно найти решение задачи, если
оно существует. Этот тип мышления де Боно называет
прямым, отличая его от другого типа — обходного. Пря-
молинейно мыслящие люди вряд ли смогут помочь де-
вушке. Они скажут: либо девушке надо отказаться вы-
таскивать камешек и тогда отца ее бросят в тюрьму, ли-
бо она должна объявить, что в кошельке оба камешка
черные, и выставить таким образом ростовщика мошен-
ником, и отец ее все равно попадет в тюрьму, либо, на-
конец, ей придется вытащить камешек и, пожертвовав
собой, спасти отца от тюрьмы.
Все три варианта никуда не годятся.
Прямолинейно мыслящие люди все свое внимание со-
средоточат на камешке, который надо вытащить, а люди,
умеющие мыслить в обход, начнут думать о камешке, ко-
торый останется в кошельке. Они постараются взглянуть
на дело со всех точек зрения.
...Девушка сунула руку в кошелек, вытащила камень
и, не взглянув на него, выронила его как бы нечаянно на
дорожку, где он мгновенно затерялся среди подобных
ему камешков.
— Ах, какая досада! — воскликнула она.— Ну, это
поправимо. Мы можем узнать, какой камешек я выта-
щила, посмотрев, какой остался в кошельке.
Ростовщик, конечно, в мошенничестве не признался.
Девушка осталась с отцом, долг был погашен. Самое за-
244
мечательное, что, придумав выход из положения, девуш-
ка рисковала гораздо меньше, чем в том случае, если бы
ростовщик вел честную игру. Там у нее были равные
шансы на то, чтобы спастись или погибнуть, а тут она
действовала почти наверняка.
Каждому человеку приходится сталкиваться с про-
блемами, которые кажутся неразрешимыми. Внезапно
обнаруживается простое решение, оно кажется очевид-
ным, и все удивляются, почему до него не додумались
сразу. А не додумались потому, что, кроме прямолиней-
ной логики, существует еще и обходная. Прямой путь не
всегда самый короткий. Вместо того чтобы пойти шаг за
шагом прямым путем, вы занимаете новую позицию. За-
тем вы идете назад и стараетесь построить логический
путь между новой позицией и отправной точкой. При
прямом мышлении логика управляет разумом, а при об-
ходном разум управляет логикой.
Не так уж много людей имеет естественную склон-
ность к обходному мышлению, но каждый человек может
развить в себе умение мыслить таким способом. И тогда
обходное мышление войдет в привычку, станет частью
склада ума. У Пуанкаре это вышло бессознательно,
у студента, догадавшегося, что перстень может быть объ-
ектом стоимости, и у мальчика, игравшего в бадминтон,
тоже. Но кто занимается мысленными экспериментами,
отлично знают, что делают. Они понимают, что даже са-
мое пустяковое изменение угла зрения может привести
к неожиданным результатам.
Де Боно напоминает нам, что одно из самых удиви-
тельных открытий в медицине было сделано тогда, когда
Эдвард Дженнер переключил свое внимание с того, поче-
му люди заражаются оспой, на то, чтобы выяснить, поче-
му доярки и молочницы почти никогда ею не заражают-
ся. Когда было открыто, что безвредная для людей ко-
ровья оспа защищает против обычной, смертельной оспы,
родилась вакцинация, и оспе пришел конец.
Прямое мышление ориентируется на постепенное на-
копление информации. Человек полагает, что новая ин-
формация — единственно верный путь к новой идее. Но
большую часть новой информации объясняют старой тео-
рией, бессознательно приспосабливают к ней, и она теря-
ет свою новизну. В этом смысле поучителен разговор, ко-
торый произошел однажды между Эйнштейном и Гей-
245
зенбергом. Молодой Гейзенберг рассказал Эйнштейну
о своем плане создания физической теории, которая це-
ликом основывалась бы на наблюдаемых фактах и не со-
держала бы никаких домыслов. «Сможете ли вы наблю-
дать какой-нибудь факт, зависит от того, какой теорией
вы пользуетесь,— заметил Эйнштейн.— Теория опреде-
ляет, что именно можно наблюдать».
Эйнштейн хотел этим сказать, что смотреть и ви-
деть — далеко не одно и то же и что, не имея выгодной
позиции, можно и не увидеть фактов. Известно, напри-
мер, что в течение первых пятидесяти лет после принятия
системы Коперника астрономы открыли великое мно-
жество небесных тел, хотя методы наблюдений остались
прежними. «Каждый век,— сказал Гейне,— приобретая
новые идеи, приобретает и новые глаза».
Это означает, что новые идеи могут зародиться и без
всякой новой информации, а новая информация благода-
ря новой идее сама поплывет в руки. Чтобы возникла но-
вая идея, можно с не меньшим успехом пересмотреть
уже имеющуюся информацию. Сам Эйнштейн, перед тем
как предложить свою теорию относительности, не соби-
рал никакой новой информации и не ставил никаких
опытов. Он перетасовал имевшиеся уже факты и взгля-
нул на них с новой точки зрения. Вот почему так досадо-
вал Адамар: все, что легло в основу теории относитель-
ности, было ему известно или могло быть известно.
Примером, показывающим, что одной информации
недостаточно для выработки новой идеи, служит исто-
рия электронной лампы — изобретения, с которого нача-
лось развитие электронной техники. Эдисон, этот мат
и волшебник в области электричества, уже держал
в своих руках прообраз лампы, даже запатентовал этот
прибор, но так и не сумел оценить его. А ведь он знал
о нем все, что только можно было знать. Прошли долгие
годы, прежде чем другие изобретатели догадались, что
сулит этот прибор.
Камень на камень, кирпич на кирпич — так прокла-
дывает себе дорогу логика прямого мышления. При та-
ком подходе нужно быть правым на каждой стадии, ина-
че некуда будет класть очередной кирпич. При обходном
же мышлении не обязательно всегда быть правым. Верен
должен быть только конечный вывод. Мыслить в об-
ход — это значит сойти с мостовой в грязь и шарить
246
в ней до тех пор, пока не нащупаешь естественную мосто-
вую. Шансы на выигрыш на первый взгляд могут быть
невелики, но зато выигрыш бывает во сто крат больше,
чем при прямом мышлении.
Когда Маркони увеличил мощность своей радиоаппа-
ратуры, он увидел, что может посылать радиоволны все
дальше и дальше. В конце концов он разошелся до такой
степени, что стал подумывать о передаче сигналов через
Атлантический океан. Но специалисты, которые обо всем
знали лучше Маркони, высмеяли эту затею. Так как ра-
диоволны, подобно световым лучам, движутся по прямой
линии, говорили они, то сигналы не смогут обогнуть Зем-
лю, а просто уйдут в космическое пространство. Логи-
чески они были совершенно правы. Но Маркони пренеб-
рег их мнением и... установил радиосвязь через Атланти-
ческий океан. Ни он, ни специалисты не подозревали
о существовании ионосферы, отражающей радиоволны.
Если бы он не был так невежествен и упрям и если бы он
был во всем логичен, он ничего бы подобного не совер-
шил. Кстати, ионосфера была обнаружена задолго до
Маркони, но об этом мало кто знал, потому что ионосфе-
рой не интересовались. Когда же Маркони проделал свой
эксперимент, ему стали искать объяснение, и ионосферу
открыли во второй раз. Кем считать Маркони — одним
из пионеров радиосвязи или одним из открывателей
ионосферы?
Из этой истории вовсе не следует, что нужно пренеб-
регать мнением специалистов или фактами. Просто фак-
тов может оказаться недостаточно, а значит, основанное
на них мнение будет неполным. Радиосигнал действи-
тельно распространяется по прямой, но, может быть,
что-нибудь да и отразит его? Камешек, вынутый из ко-
шелька, наверняка окажется черным, но давайте лучше
подумаем, нельзя ли извлечь пользу из камешка, кото-
рый останется в кошельке, хотя, по утверждению специа-
листов, он тоже должен быть черным. Безвыходных ситу-
аций не бывает. Один известный певец, исполняя роль
Лоэнгрина, не успел вовремя подойти к проплывавшему
по сцене лебедю, и муляж уплыл без него. Зал замер.
Послышались смешки. Тогда певец подошел к кулисам
и пропел: «Простите, когда идет следующий лебедь?»
Зал разразился рукоплесканиями.
На одном заводе постоянно разрушались трубопрово-
247
ды из нержавеющей стали: их разъедала перекачивае-
мая по ним кислота. Найти выход из положения поручи-
ли одному химику, специалисту по коррозии металлов.
Тот принялся исследовать условия, при которых происхо-
дили разрушения, и в конце концов создал целый науч-
ный труд, из которого каждый мог узнать, отчего разру-
шается сталь. Другой специалист, занявшийся той же
проблемой, просто-напросто добыл справочник по пласт-
массам и отыскал там материал, способный противосто-
ять кислоте. На заводе установили пластмассовые трубы
и тем самым решили проблему.
Мысль о том, что если «мы всегда так делали», то,
значит, лучше и не придумаешь,— одна из самых люби-
мых уловок психологической инерции. Все должно быть
как раз наоборот: если мы что-то делали долго и всегда
одним способом, значит, настало время попробовать сде-
лать это по-другому.
В Центральном институте сварочной техники ГДР
провели такой эксперимент. Несколько групп электродов
роздали шести дипломированным сварщикам, чтобы они
определили их качество. Все электроды были одинаковы,
их лишь по-разному упаковали и снабдили этикетками
разных фирм. Пятеро сварщиков не только установили,
какие электроды лучше, но и объяснили почему. И толь-
ко один сварщик усомнился: «Возможно, я ничего не по-
нимаю, но не вижу между ними никакой разницы». Ана-
логичные эксперименты проводили со стиральными
порошками. Женщины точно знали, почему они предпочи-
тают тот или другой стиральный порошок.
Нет ничего коварнее такого точного знания. Когда мы
сталкиваемся с проблемной ситуацией, мы ощущаем не-
обходимость в новой идее. Но в истории с носом корабля
не было никакой проблемной ситуации. Возможно, гово-
рит де Боно, самая крупная проблема кроется там, где не
видно никакой проблемы. С этой точки зрения стоило бы
посмотреть на колесо и подумать насчет его рентабель-
ности. Не слишком ли гладко оно катится по ровной доро-
ге? И не слишком ли беспомощно оно там, где дороги
нет? Когда учитель Макса Планка, Филипп фон Жолли,
узнал о намерении своего ученика заняться теорети-
ческой физикой, он сказал ему: «Молодой человек, зачем
вы хотите испортить себе жизнь? Ведь теоретическая фи-
зика в основном завершена, дифференциальные уравне-
248
ния решены, остается рассмотреть лишь отдельные част-
ные случаи». Филипп фон Жолли все точно знал. Но
Макс Планк не послушался его, занялся областью, где
не было никаких проблем, и вот уже три четверти века
физика решает проблемы, которые он перед ней
поставил.
НАТЯНУТАЯ ТЕТИВА
Копая одну и ту же яму, нельзя выкопать яму в дру-
гом месте, говорит де Боно. Прямое мышление — это бо-
лее глубокое копание одной и той же ямы, обходное —
попытка копать в другом месте. Копать одну и ту же яму,
конечно, проще, чем бросить ее и начать копать сначала.
Ведь столько уже потрачено сил и времени! Даже когда
место для новой ямы найдено, решиться на это нелегко:
прощай спокойная жизнь, начинается риск, начинаются
новые хлопоты. Куда как лучше продолжать копать ста-
рую яму, чем сидеть и думать, где начать копать другую
или как ее копать.
Но копать новые ямы надо. Крупные научные и тех-
нические идеи как раз возникают у тех, кто бросает ста-
рую яму и начинает копать новую. Весь вопрос в том, как
вылезти из старой ямы и как узнать, где копать новую.
Иными словами, как избавиться от гипноза господствую-
щей идеи?
Прежде всего нужно выделить, определить и даже за-
писать на бумаге ту идею, которая кажется господствую-
щей при решении данной задачи. Как только идея опоз-
нана, ее влияние тотчас ослабеет. Теперь можно попы-
таться шаг за шагом исказить ее до такой степени, чтобы
она постепенно потеряла свое лицо. Искажать идею мож-
но по-всякому: можно преувеличивать какую-нибудь ее
черту до бесконечности, как это делали азербайджанские
инженеры на занятиях, а можно и доводить всю идею
целиком до абсурда. Но делать это надо осторожно, ина-
че рискуешь проскочить мимо нужной точки зрения.
Главное в том, чтобы, приступая к преобразованиям,
не ставить себе никаких ограничений. Когда друзья Ко-
лумба говорили ему, что открыть Америку было очень
легко, так как только и нужно было, что плыть на запад,
он попросил их поставить яйцо вертикально. Как они ни
249
пробовали, у них ничего не выходило. Тогда Колумб взял
яйцо, отбил у него кончик и поставил его. Друзья запро-
тестовали: разве можно было разбивать яйцо? Колумб
напомнил им, что прежде они говорили, будто нельзя все
время плыть на запад. Новое это то, о чем сначала гово-
рят, что это невозможно, потом — что это нехорошо, по-
том— что это недурно и наконец — что это всем давно
известно.
От господствующей идеи освобождаются также, пере-
ворачивая ее сразу вверх ногами. Кто-то утверждает, что
Солнце движется вокруг Земли.. Предположим, что Зем-
ля движется вокруг Солнца. Предмет движется сквозь
пространство по кривой. Посмотрим на дело иначе: про-
странство само искривлено. Самолет мысленно двигают
по воздуху так, чтобы крылья сохраняли подъемную си-
лу. Но можно сохранить фюзеляж самолета неподвиж-
ным, а только двигать крыльями. Получается вертолет.
Веками стены дома рассматривали как опору для кры-
ши. Но представим себе, что они подвешены к крыше.
Оказывается, так можно строить гораздо быстрее и с
меньшими затратами. Чтобы полупроводник обладал
необходимой надежностью, материал для него должен
быть освобожден от всех примесей. Но как добиться то-
го, чтобы тот же полупроводник величиной с булавочную
головку работал как целая радиосхема — с конденсато-
рами, сопротивлениями, выпрямителями? Ведь каждая
ее деталь должна быть величиной с молекулу. Пусть это
и будут молекулы — молекулы полезных примесей. Ма-
териал надо сначала очистить, а потом загрязнить. Не
всякое загрязнение вредно.
Все методы обработки металла сводятся к тому, что
часть заготовки отбрасывается в отходы, пусть даже
незначительные. А нельзя ли сделать все наоборот — со-
брать, например, из микрочастиц деталь большого раз-
мера? Вращающиеся ролики подают в зону обработки
металлический электрод. Зона обработки — это закры-
тая камера, куда под высоким давлением вдуваются
инертные газы. Между электродом и соплом горелки воз-
буждается электрическая дуга, и материал электрода
превращается в плазму. Фокусирующие линзы сжимают
эту плазму в луч. Выходя из камеры, луч охлаждается и
оседает на экране. Магнитное поле развертывает частич-
ки металла по всему экрану. Деталь любой формы соз-
250
дается послойным наращиванием металла на заданной
поверхности. И никаких отходов.
Посмотреть на дело с новой точки зрения — значит
заново переформулировать условия и требования задачи.
Многие задачи, стоящие перед изобретателями, трудны
потому, что в них содержится требование, от которого
нужно отступиться. Вот типичная задача на преобразо-
вание вопроса, которую однажды пришлось решать со-
трудникам физико-технического института Академии
наук Украины.
Существовал агрегат для обработки жидкого метал-
ла ультразвуком. Ультразвуковые колебания передава-
лись расплавленной массе через стержень. Один конец
стержня был закреплен на вибраторе, а другой введен
в тигель с металлом. Высокая температура металла
и механические колебания быстро разрушали стержень.
Охлаждать стержень было нельзя — охлаждался бы рас-
плав. Задача была сформулирована так: «Как добиться
того, чтобы стержень не разрушался?» Формулировка
заводила изобретателей в тупик: разрушался любой
стержень. Тогда изобретатели обратили внимание на то,
что частицы разрушающегося стержня загрязняют обра-
батываемый металл. Задача была сформулирована ина-
че: «Как добиться того, чтобы металл не загрязнялся?»
Вибрирующий стержень сделали из того же самого метал-
ла, что и был в расплаве. И пусть себе он разрушается
сколько влезет! Так как ни одна частичка его не пропадет
понапрасну, расходы на замену стержней будут невелики.
По такому же пути пошел и выдающийся изобрета-
тель В. Г. Шухов, придумывая способ откачки нефти
с большой глубины. Шухову надо было сообразить, как
передать движение от паровой машины, расположенной
на поверхности, к насосу, находившемуся на глубине
нескольких десятков метров. До сих пор это движение
передавалось через жесткий шток. Удлинить шток
нельзя: он начнет изгибаться. Увеличили диаметр штока
и потом удлинили его — все равно изгибается. Нет, види-
мо, жесткий шток вообще не годится, надо придумать
нечто гибкое. Шухов конструирует насос, в котором ша-
тун, сделанный в виде троса, тянет за собой поршень, од-
новременно сжимая пружину. Во время обратного хода
пружина тянет поршень в исходное положение и поддер-
живает гибкий шатун в натянутом состоянии. Все это по-
251
лучилось потому, что Шухов заменил старую формули-
ровку: «Как добиться максимальной жесткости штока?»
новой формулировкой: «Как добиться успешной работы
насоса, не увеличивая жесткости штока?»
Если число попыток усовершенствовать объект рас-
тет, но вместо улучшения одно противоречие заменяется
другим, от попыток следует решительно отказаться. Ко-
пать надо в другом месте. Не улавливать отходы, а пре-
вращать их сразу в сырье. Не увеличивать жесткость
штока, а придумать гибкую передачу. Не обкладывать
источник шума изоляцией, а сделать машину бесшумной
или погасить шум другим шумом. Звуковые волны, оди-
наковые по амплитуде, но обратные по фазе, способны
взаимно уничтожить друг друга. Чтобы сделать матери-
ал сверхпрочным, его дробят на мельчайшие частицы, из-
мельчают до такого состояния, при котором начинают
действовать молекулярные силы сцепления. Идея эта вы-
ражена в известном парадоксе: «Путь к прочности лежит
через разрушение».
Когда изобретатель, трансформируя привычный об-
раз, доводит его до размеров молекулы или атома, то
есть полностью лишает формы, он освобождается от гос-
подствующей идеи, которая есть не что иное, как привер-
женность к традиционной форме. Он может все начинать
сначала. Можно лепить из микрочастиц металлическую
деталь, создавать сверхпрочный строительный материал,
«загрязнять» кристалл германия. Атомы и молекулы —
это мысленное видимое поле, на котором можно воздви-
гать несчетное число видимых миров, самых парадок-
сальных и в то же время вполне реальных.
Вот последний пример — на этот раз из стекольного
производства. Раскаленная стеклянная лента поступает
на валковый конвейер. Проплывая между валками, она
принимает нужную форму и постепенно охлаждается.
Качество поверхности стекла зависит от расстояния меж-
ду валками. Если расстояние велико, лента станет вол-
нистой. Чтобы получилась гладкая поверхность, нужны
валки минимального диаметра, тесно придвинутые друг
к другу. Но такой конвейер будет сложен и капризен.
Как выйти из положения? Инженеры создавали специа-
лизированные линии для разных сортов стекла, оснаща-
ли заводы машинами, которые полировали застывшее
стекло. Но толку от этого было мало. Господствующая
252
идея известна: нужны валки минимального диаметра.
Прекрасно! Доведем диаметр до предела, а идею до аб-
сурда. Сантиметр, миллиметр, сотая доля миллиметра...
Сомнительно, чтобы такой конвейер мог работать. Ниче-
го, пусть не работает. Микрон, сотая доля микрона, мо-
лекула, атом... Дальше некуда. Можно ли представить
себе диаметр валка величиной с атом? Теоретически
можно. Да и практически тоже. Величиной с микрон
нельзя, а с атом можно! То есть никаких валков не надо.
Стекло будет катиться не по валкам, а по атомам — по
идеально ровному слою атомов расплавленного металла.
Жидкий металл — идеальный конвейер!
Будь мы последовательно логичны, мы бы не дошли
и до миллиметра: разве может работать конвейер с вал-
ками такого диаметра? Но довольно комментариев. Нам
уже давно ясно, что дает освобождение от господствую-
щей технической идеи и как изобретатели освобождают-
ся от нее. Нам понятно, что значит идти в обход и как
следует переформулировать задачу, чтобы найти реше-
ние. И разве мы не согласимся с Пойа, который говорит:
«Задача, которую вы решаете, может быть скромной, но
если она бросает вызов вашей любознательности и за-
ставляет вас быть изобретательным и если вы решаете ее
собственными силами, то вы сможете испытать ведущее
к открытию напряжение ума и насладиться радостью
победы»?
Насладиться и двинуться дальше. Наша победа —
только ступенька на пути к новым открытиям, только
этап в процессе непрерывного познания и творчества.
Поэт сказал:
Достигнутого торжества
'Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.
Стрела пущена в цель, и мы торжествуем победу. Но
разве мы опустим лук и спрячем стрелы в колчан? Нет,
впереди новая цель, новая загадка, новая тайна. Она ка-
жется недостижимой. Но это только кажется... Тетива
наша натянута снова, и упругий ее звон достигает
устремленных в небо ослепительных гор.
253
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Мир вверх ногами . , . .................. 5
В фантастической стране .............. . 10
Геометрия внутри нас . . ... .1-1
Незримый рой гостей ... 18
Англичанин в Швейцарии .... 22
Где рождается мысль......................27
Мгновения ока............................32
Питательная среда мысли .... 3&
Сто обличий черной кошки.................40
Музыка сфер . . ................41
Происшествие в Геттингене . . . . 50
Заколдованные понятия .................. 54
Пробуждение принцессы....................59
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Четыре исторических яблока................67
Цвет крови в Сурабайе....................72
Салат Кеплера............................76
Случайные неоткрытая.....................82
Эйнштейн против Бора.....................86
Бор против Паули.........................90
На плечах гигантов ......................95
«Это уже другая пластинка»...............100
Встреча с непредсказуемым................107
На воздушном шаре........................112
Затонувший перстень......................116
Вспышки молний...........................121
Мешок с дробью...........................125
254
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Ревельская Анна ........................135
Щиты из ивовых прутьев..................139
Частица с повадками кометы..............143
Жизнь в двойной спирали.................147
Абсолютное зеркало......................150
Тоннель в песчаной почве ............... 154
Ага-переживание.........................153
Линза в желудке.........................162
Свеча и эфир............................166
Четыре точки............................170
Нейрохирургический киносеанс............174
Все щербинки фона ..............178
В ожидании аудиенции....................181
Эстафеты разума...................... 188
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Спичечный коробок.......................195
Мысленный взор . .......................200
Система раздваивается . ............205
Не сдавайте ничего в макулатуру! .... 208
О пользе спешки ........................212
Таинственный Хебсон.....................217
Вертикальная черточка...................221^.
Отрицательные рыбы......................225
Электроны в автобусах...................229
Крики беотийцев.........................234
Изменчивость и постоянство..............233
Камешки на садовой дорожке .............241
Натянутая тетива . . . .................249
Для старшего возраста
Сергей Михайлович Иванов
ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ
Ответственный редактор М. А. Зарецкая
Художественный редактор И. Г. Найденова
Технический редактор И. Я. Колодная
Корректоры Л. М. Агафонова и
Г. С. Муковозова
Сдано в набор 18/XII 1975 г. Подписано
к печати 2/VII 1976 г. Формат 84Х108'/32.
Бум. тнпогр. № 1. Печ. л. 8. Уел. печ. л.
13,44. Уч.-изд. л. 13,74. Тираж 100 000 экз.
А08579. Заказ № 2207. Цена 57 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени из-
дательство «Детская литература». Моск-
ва, Центрам. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фаб-
рика «Детская книга» № 1 Росглавполи-
графпрома Государственного комитета
Совета Министров РСФСР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сущевский вал, 49.
Иванов С.
И20 Формула открытия. Научно-художественная
литература. Рис. Н. Антокольской. М„ «Дет. лит.»,
1976.
255 с. с ил.
Книга посвящена психологии научно-технического творчества.
70803—472
М101 (03)76 462—76
15
Цена 57 коп.
е-ивлн©®