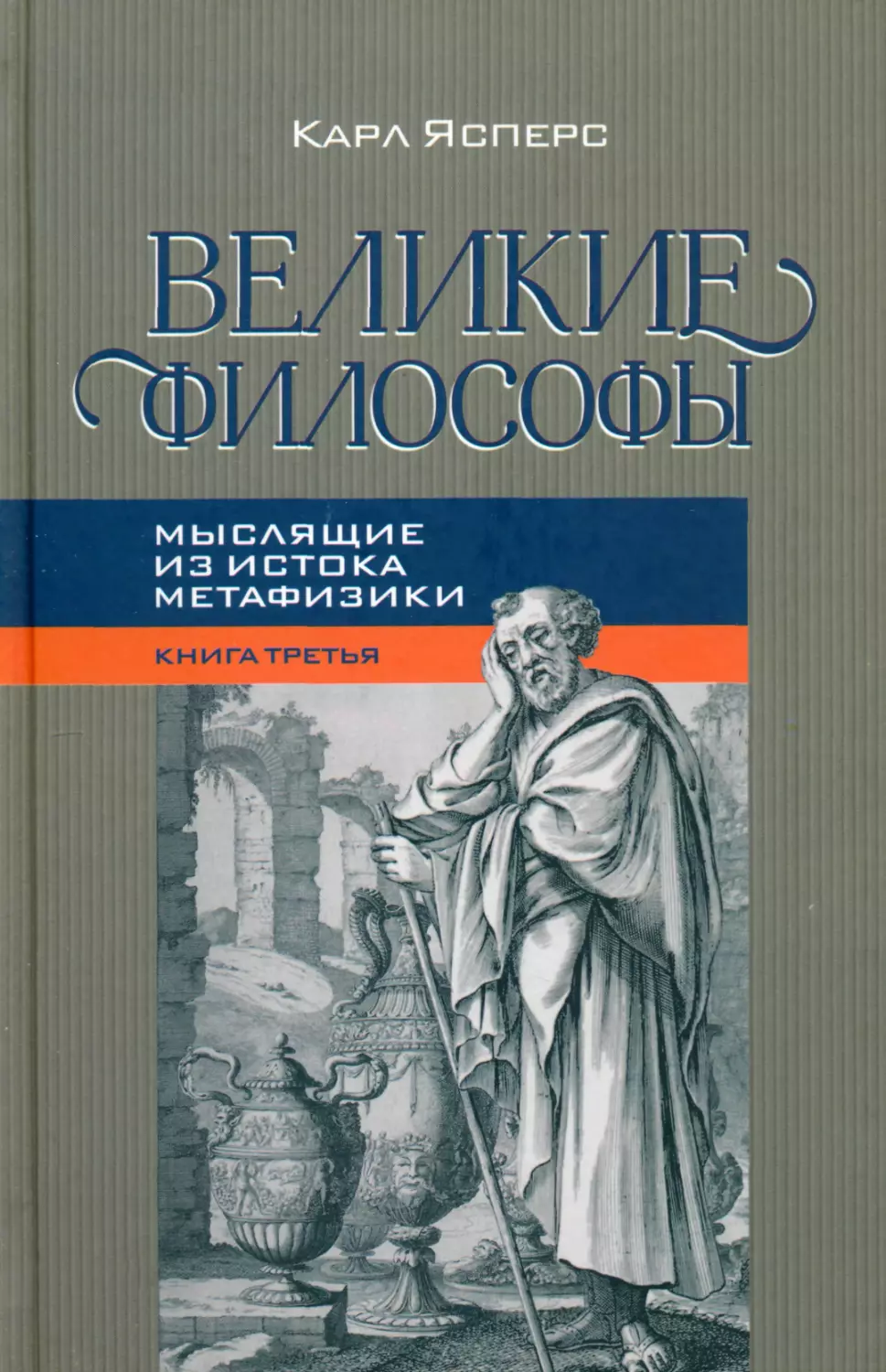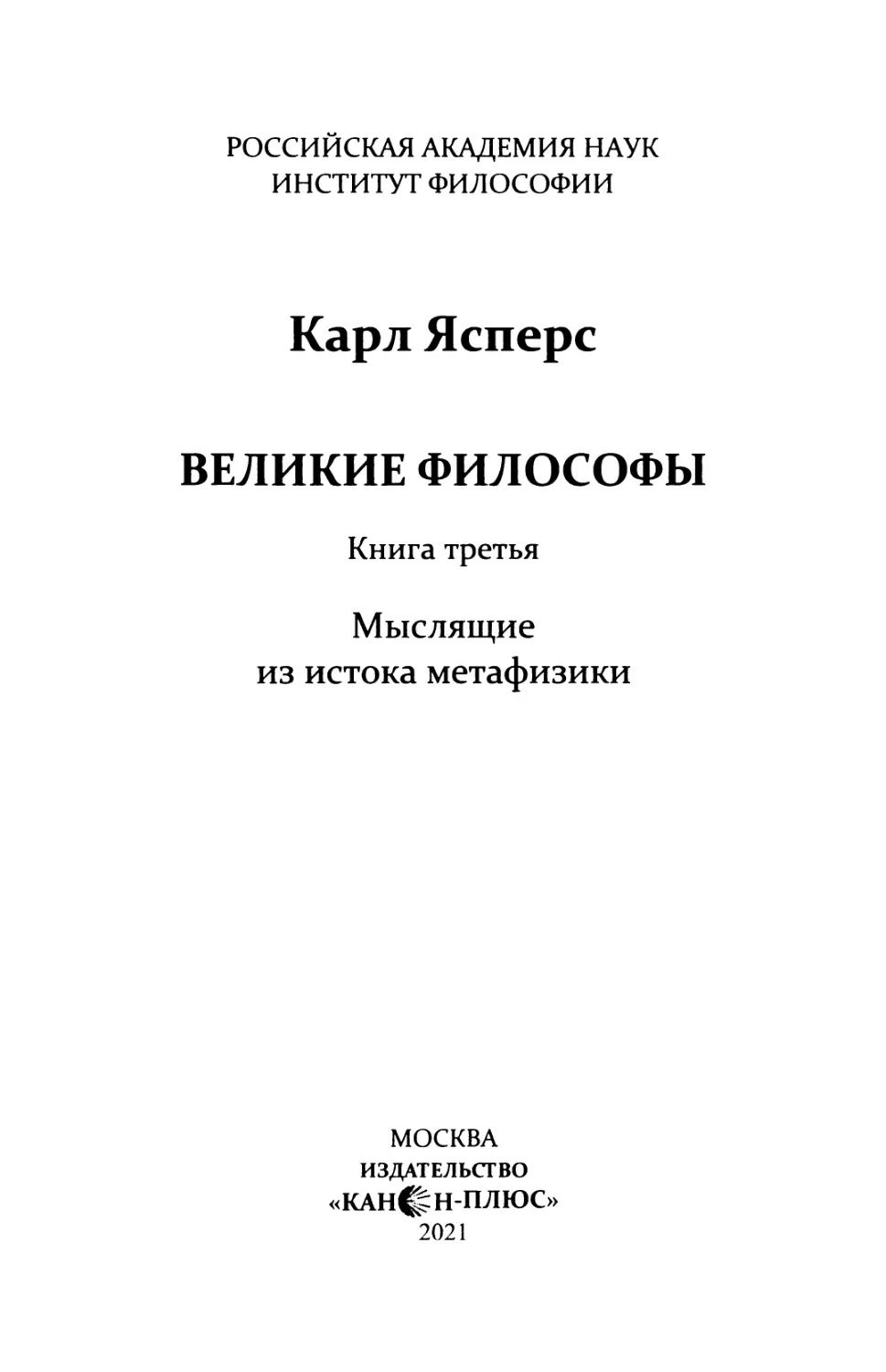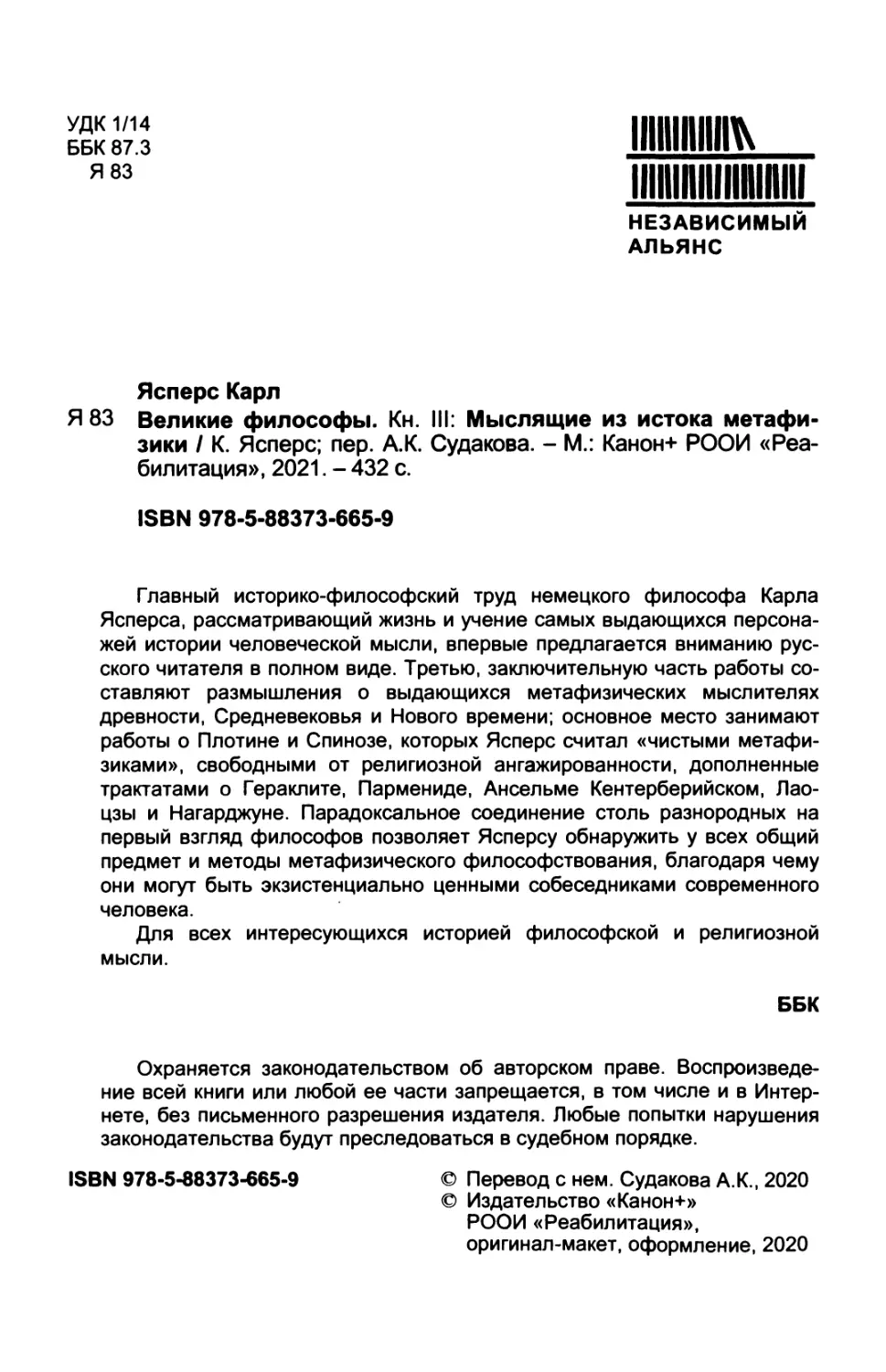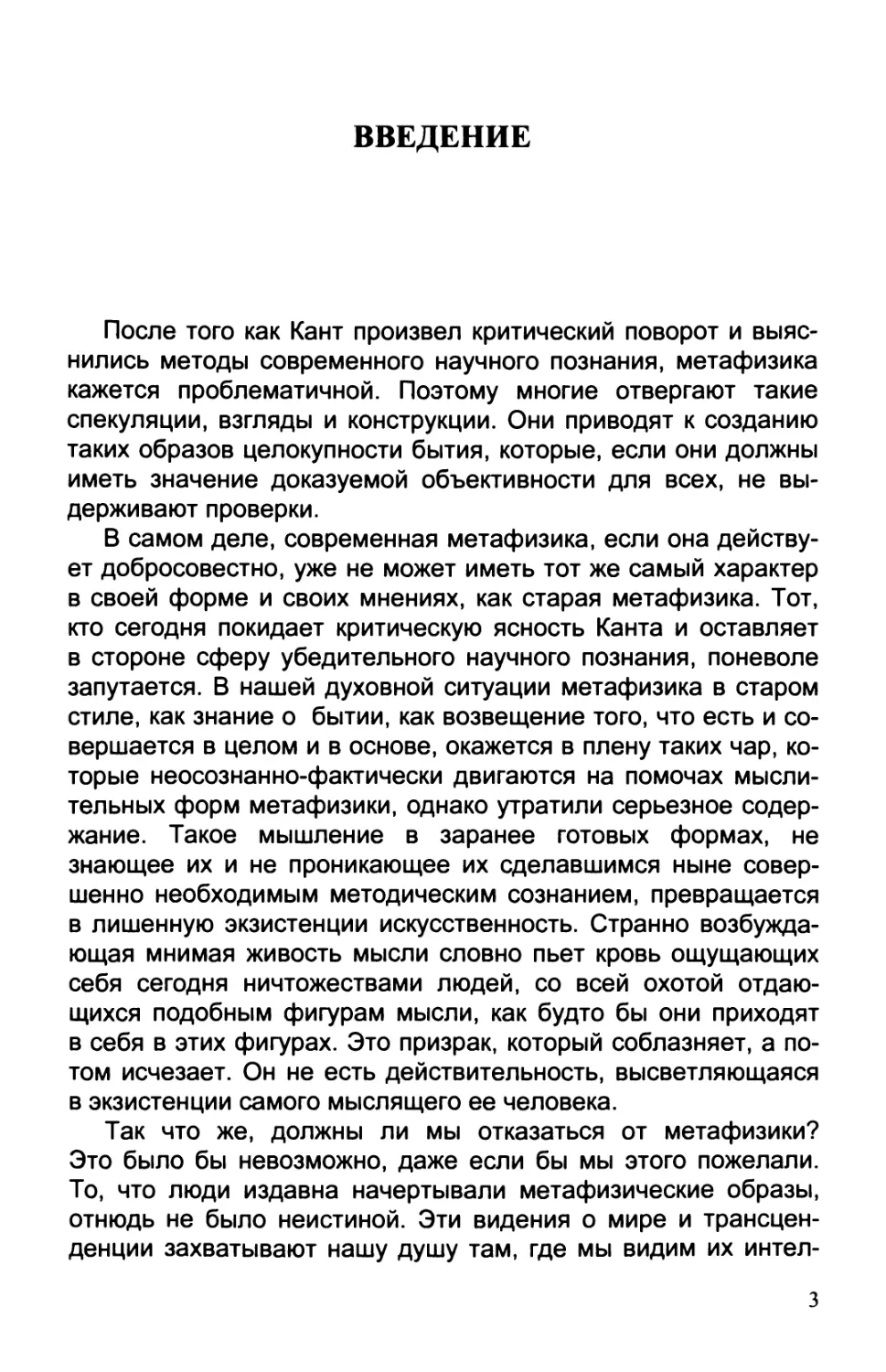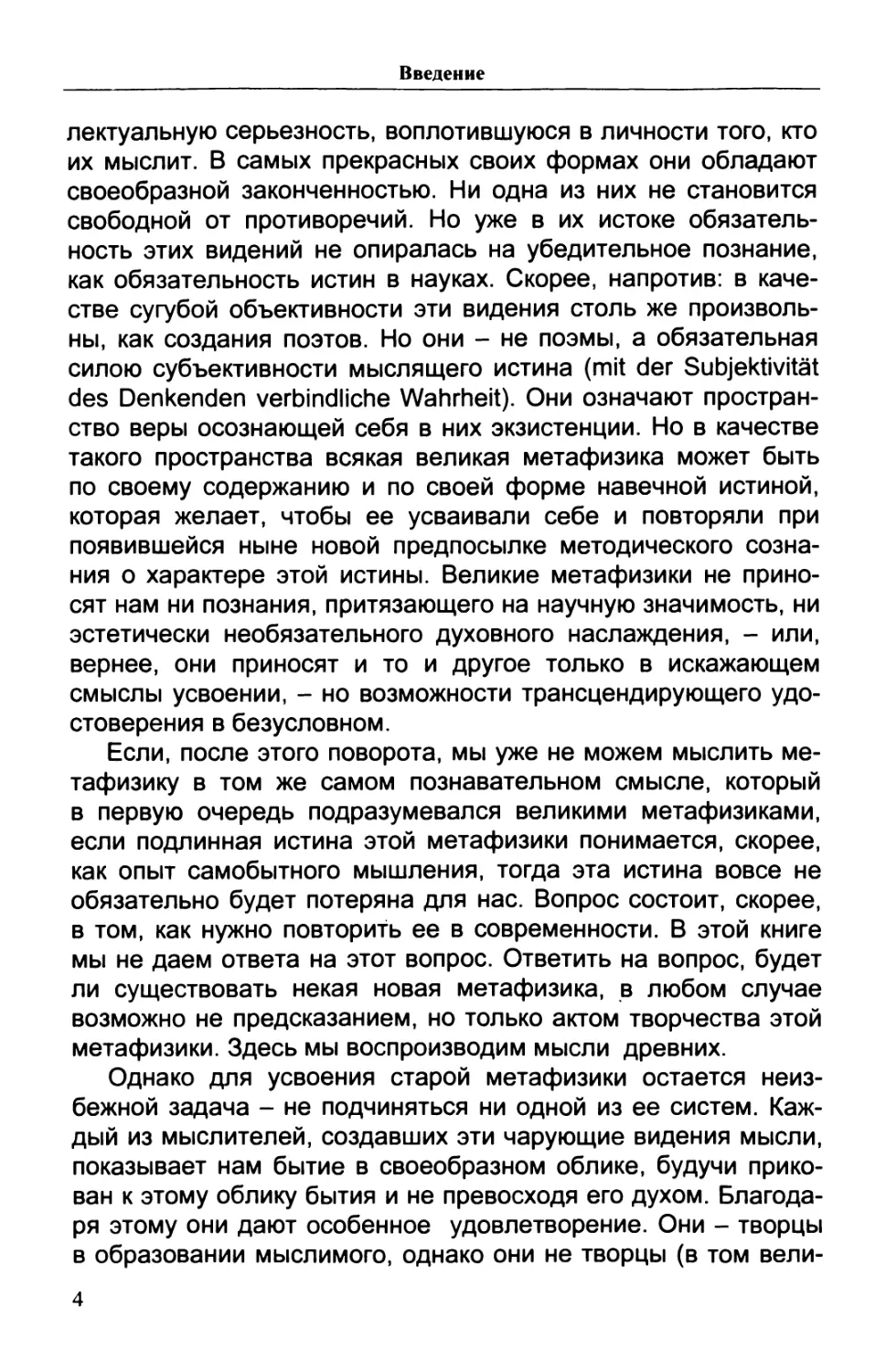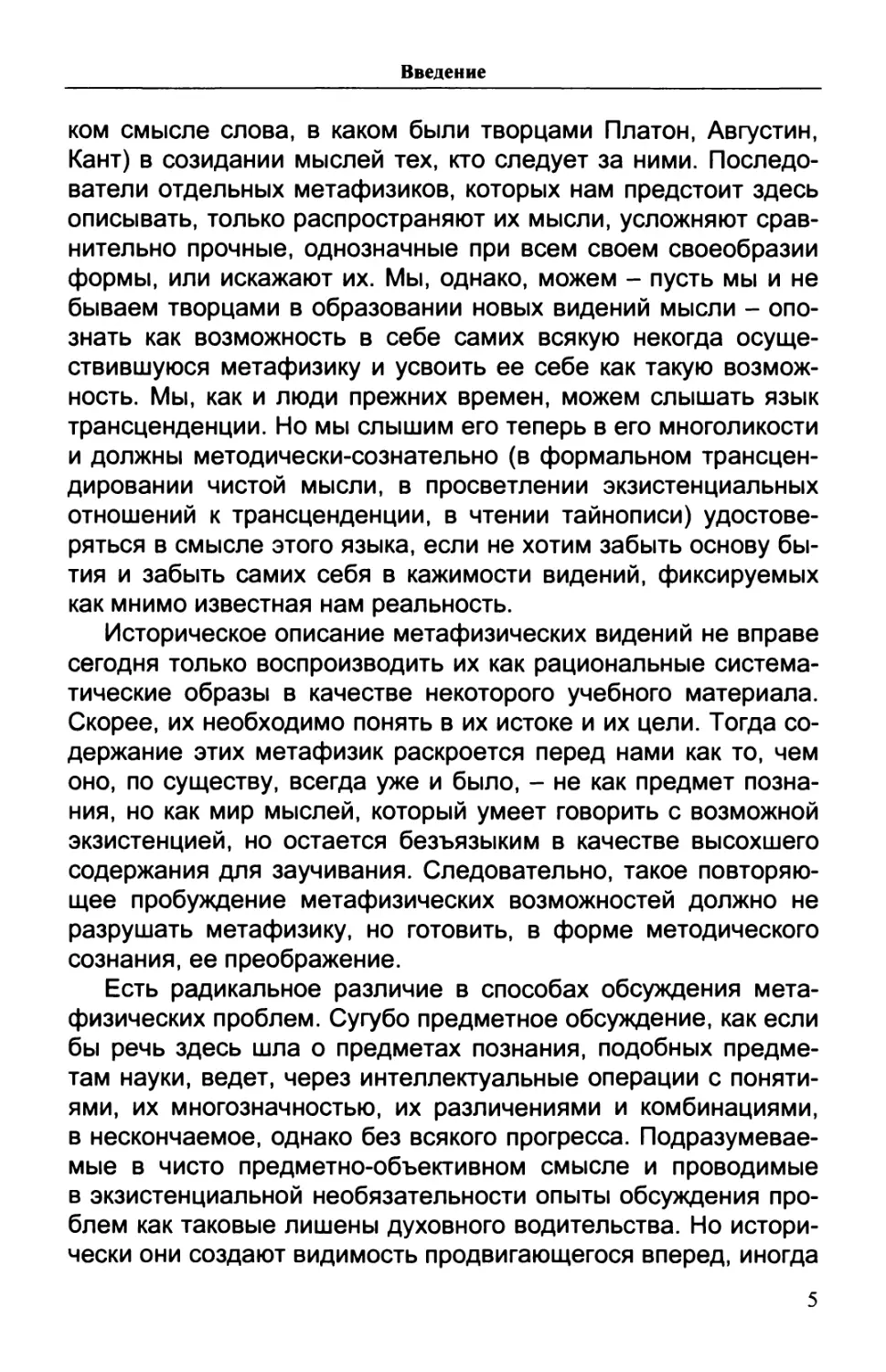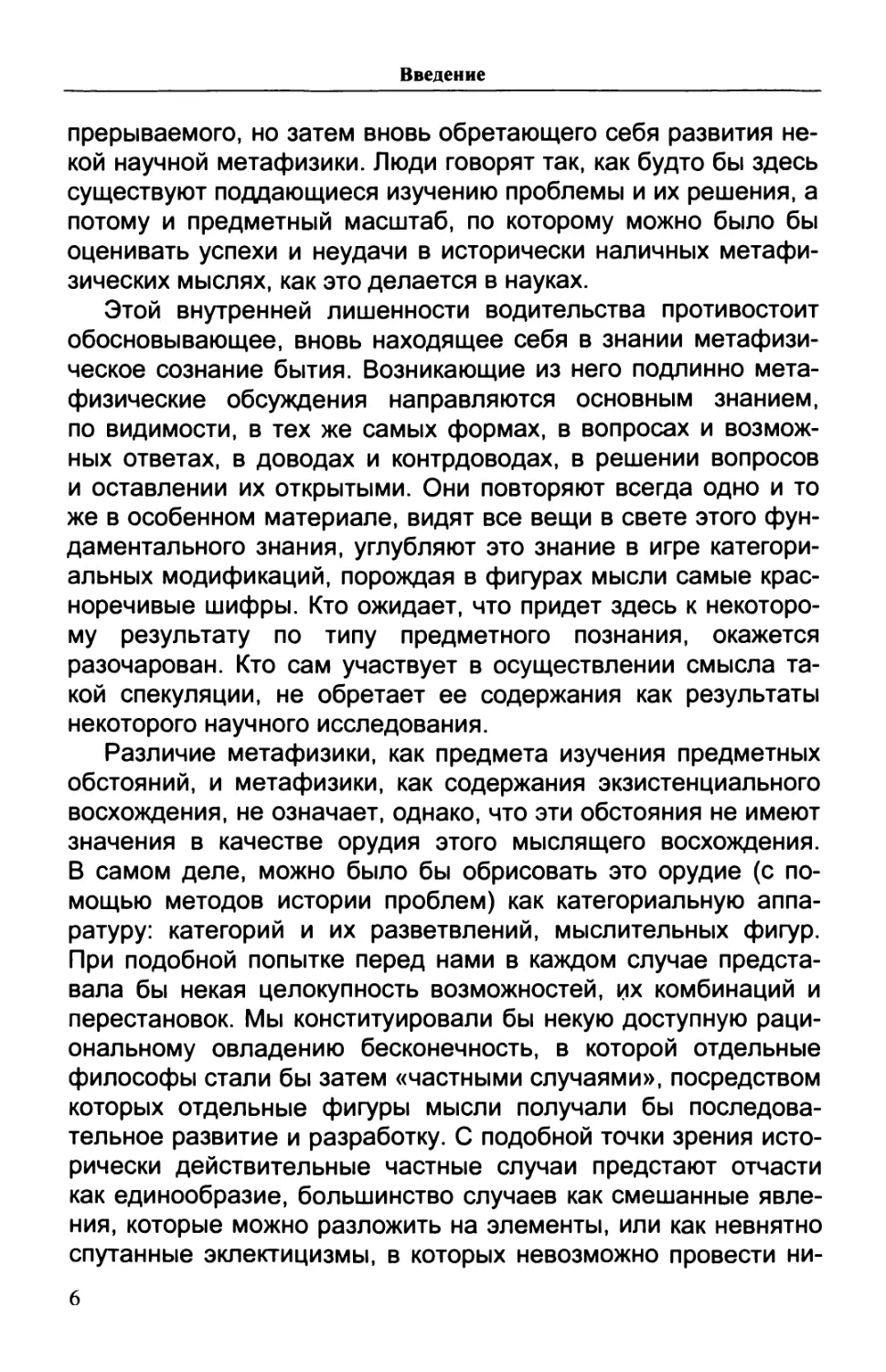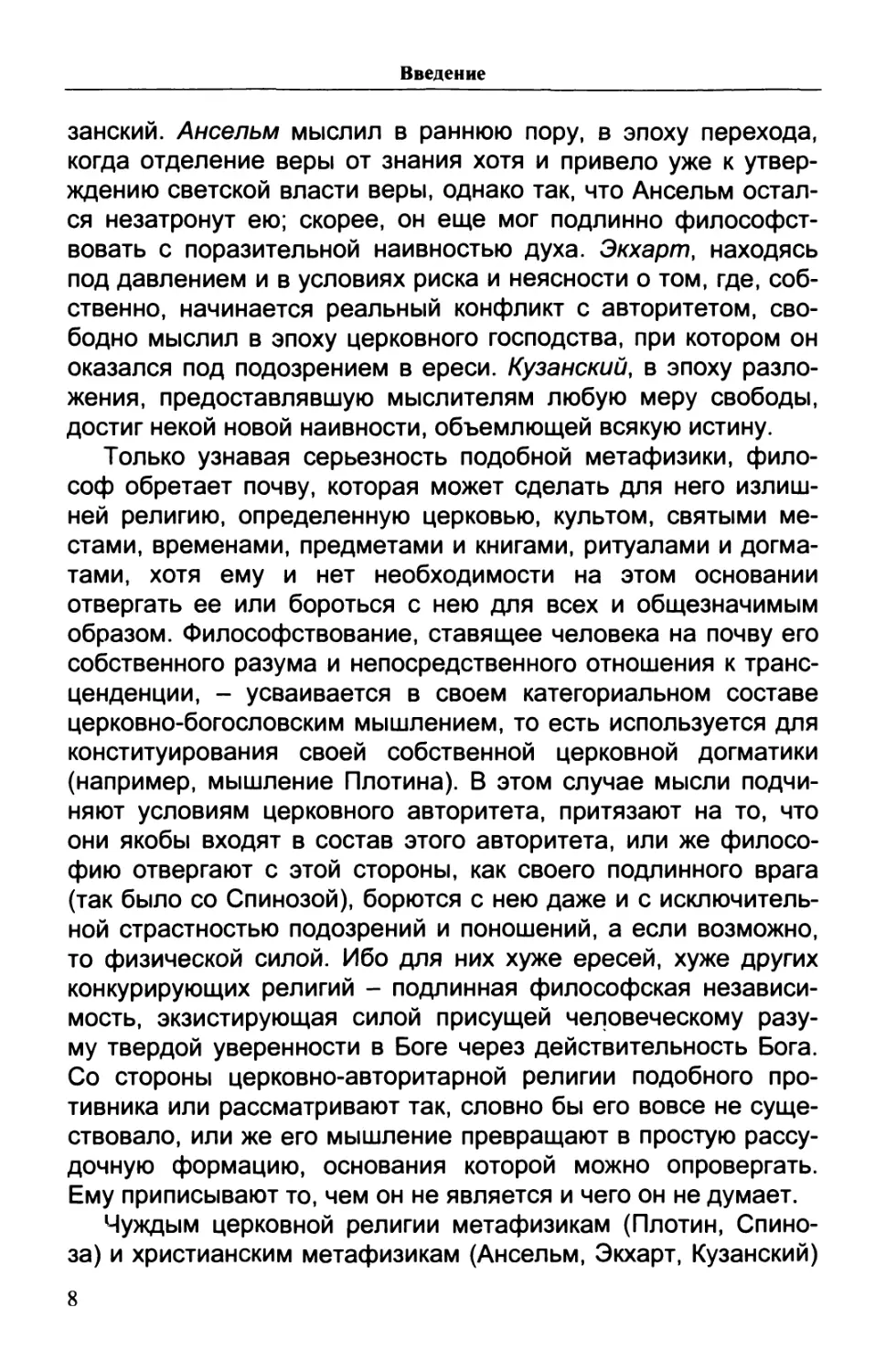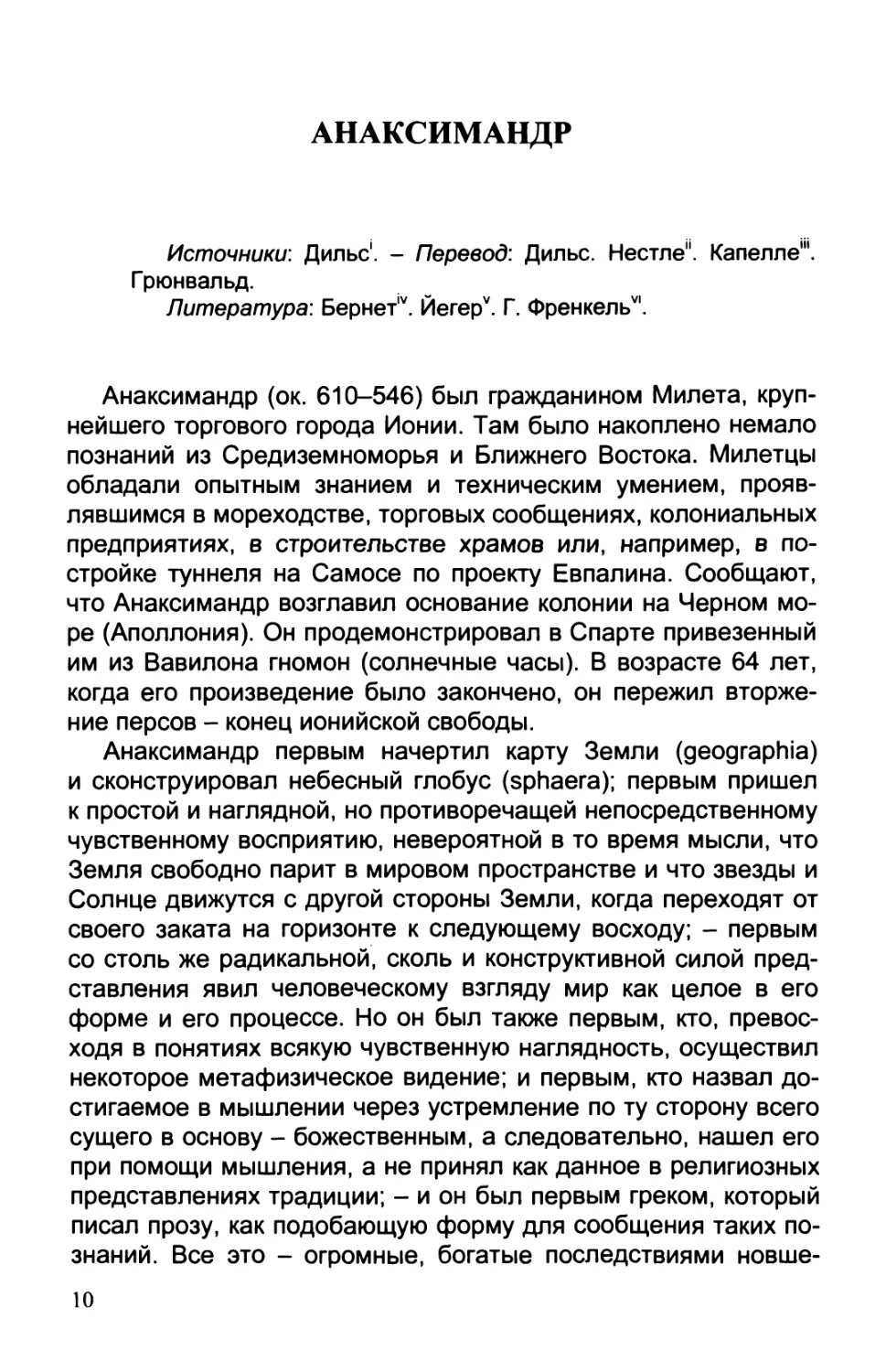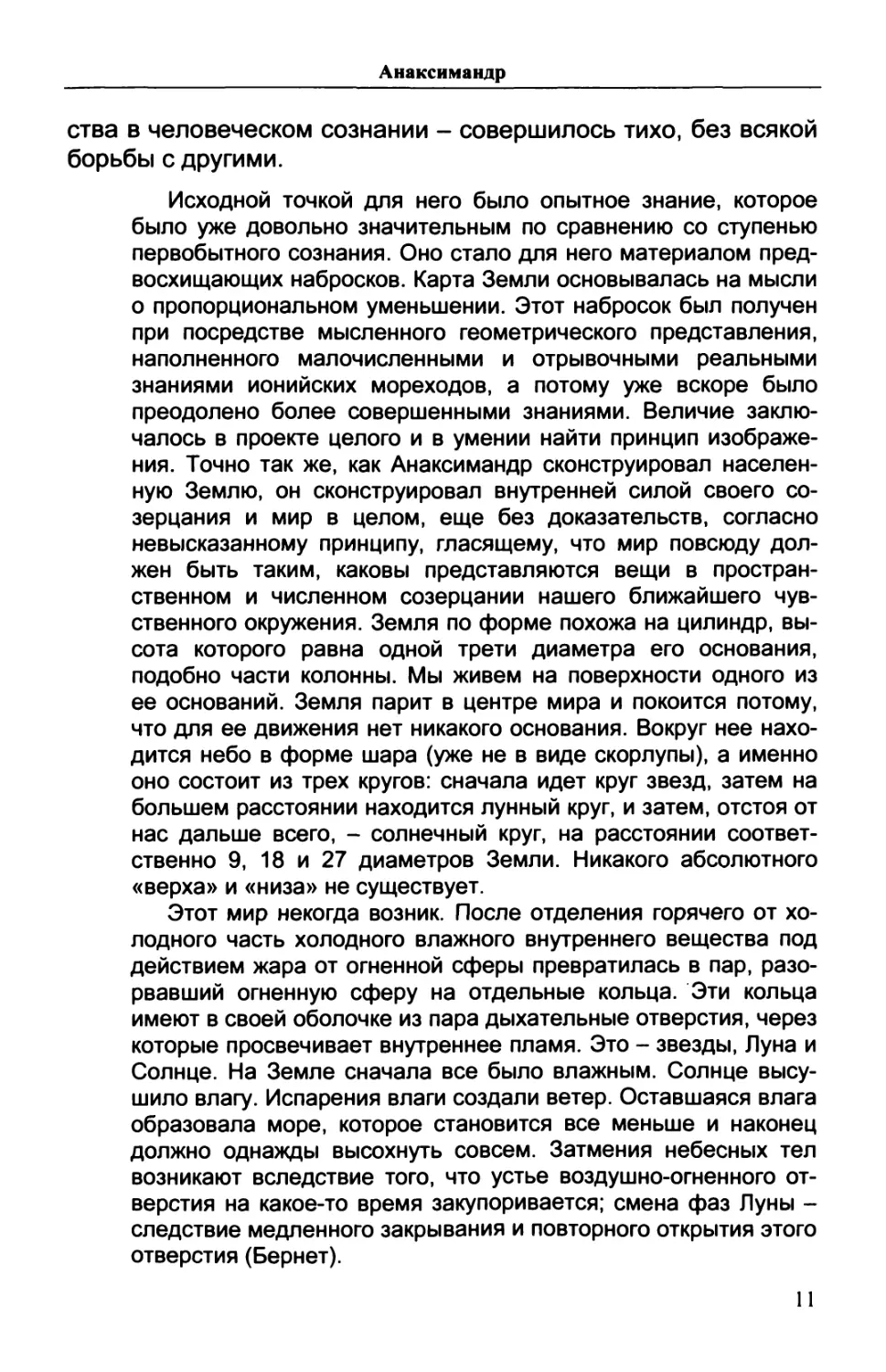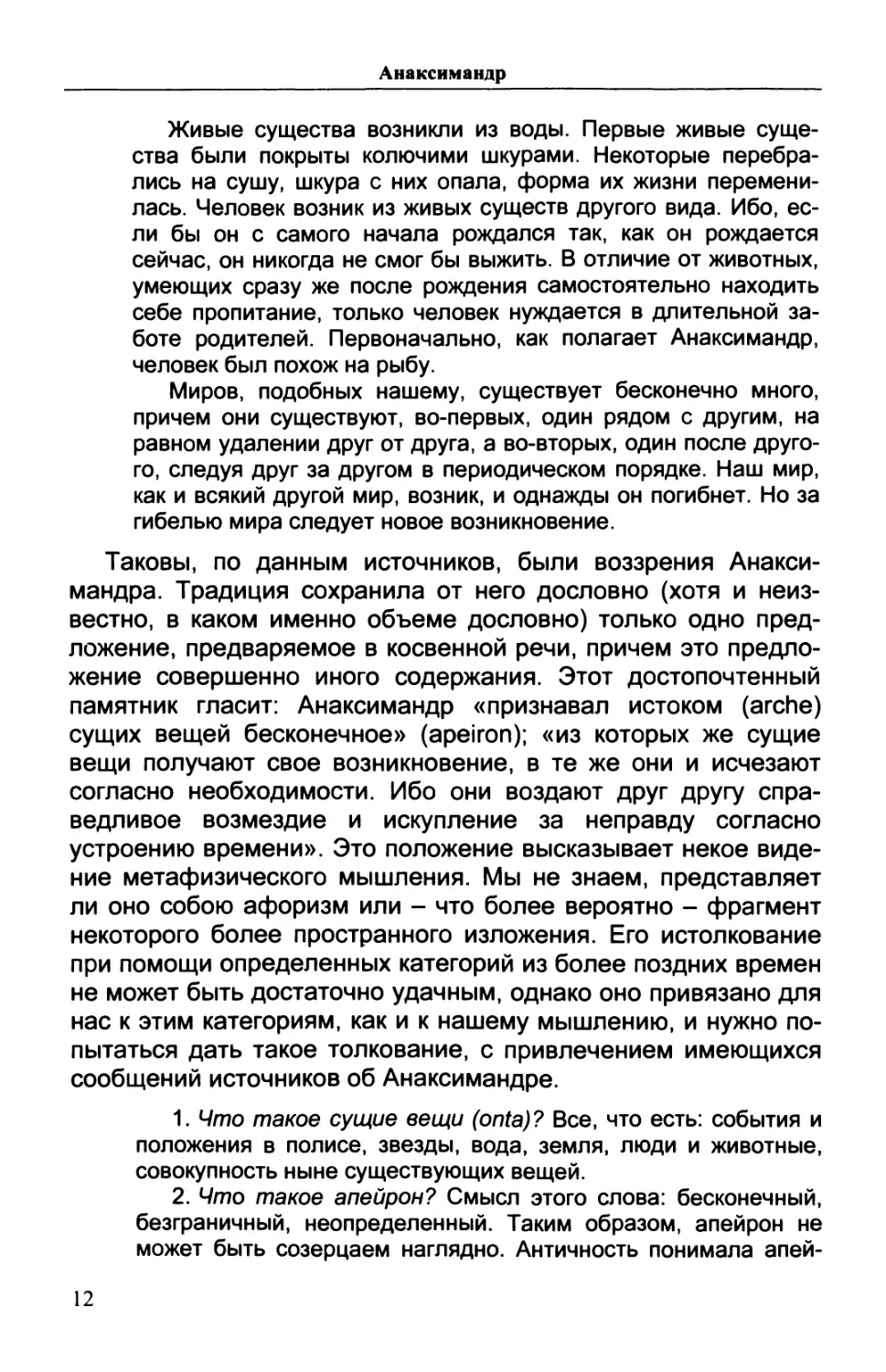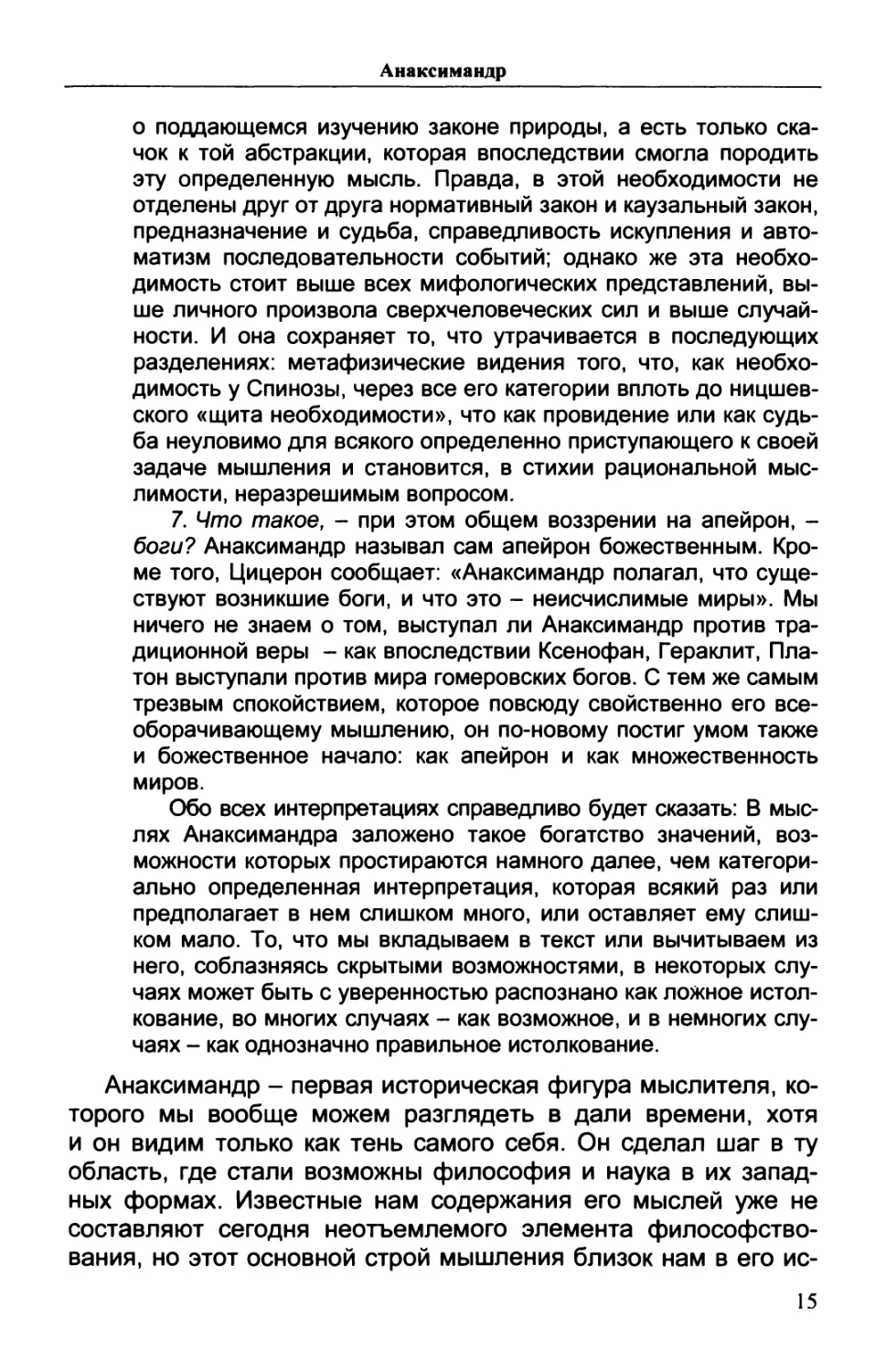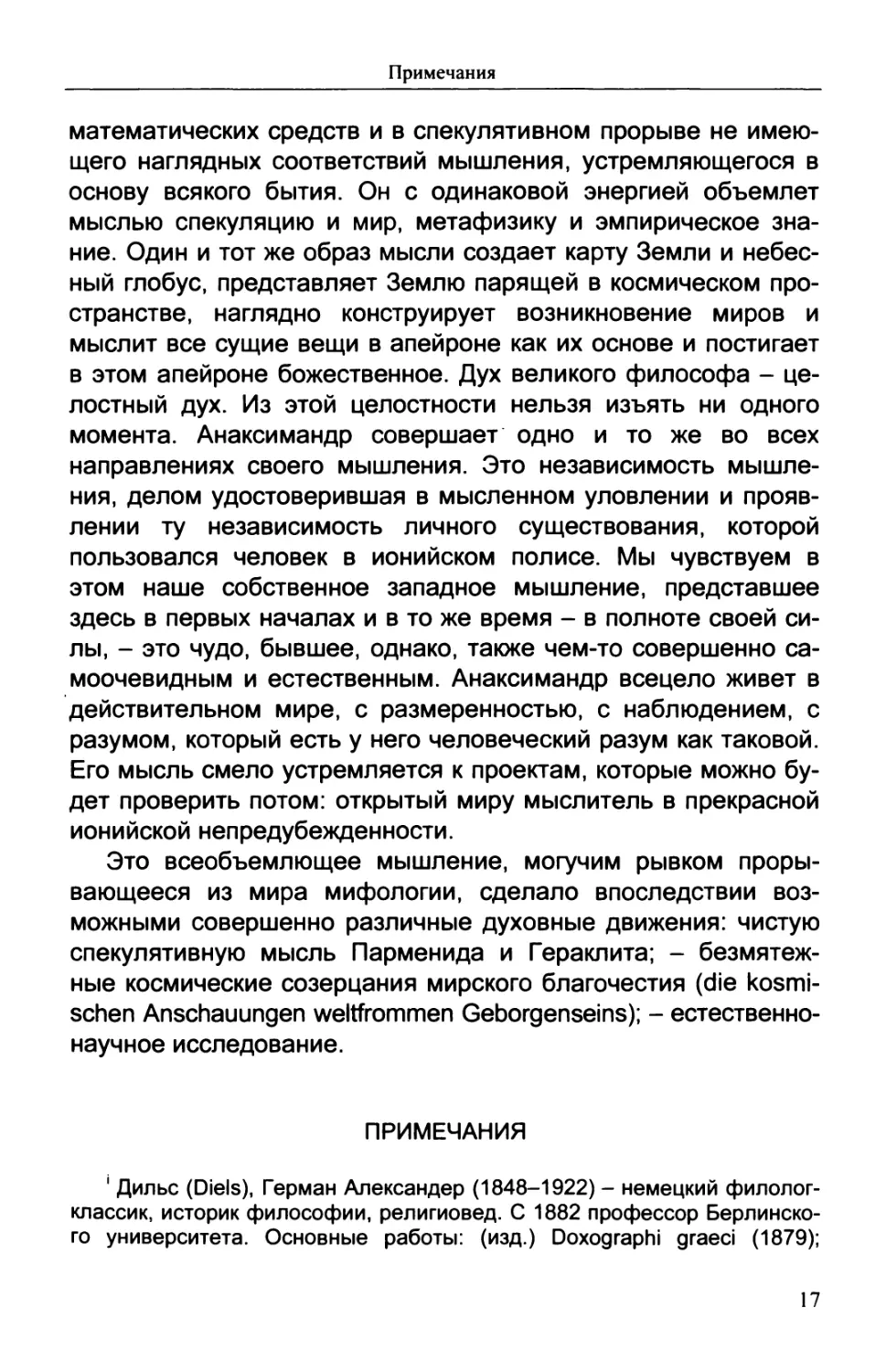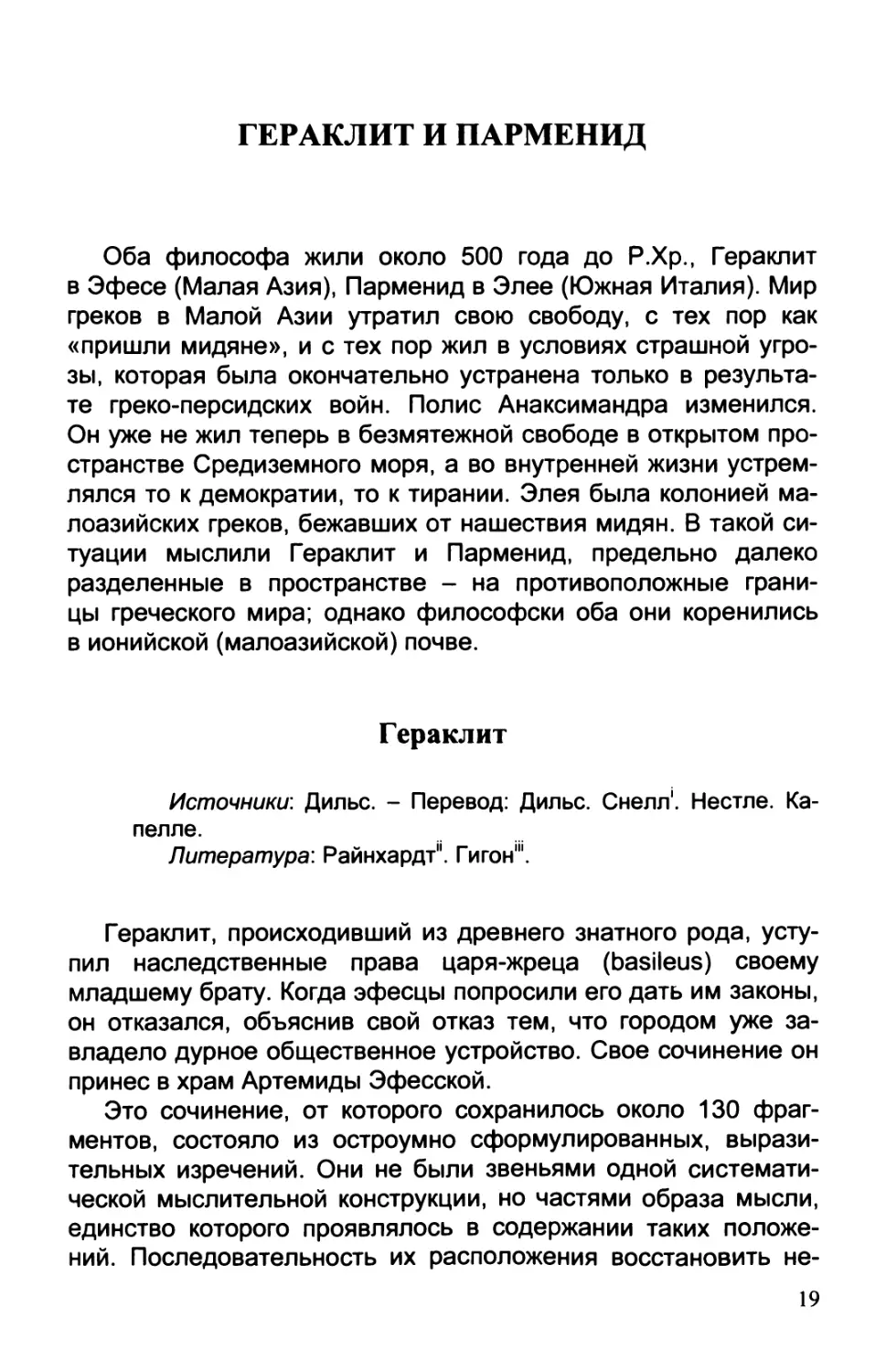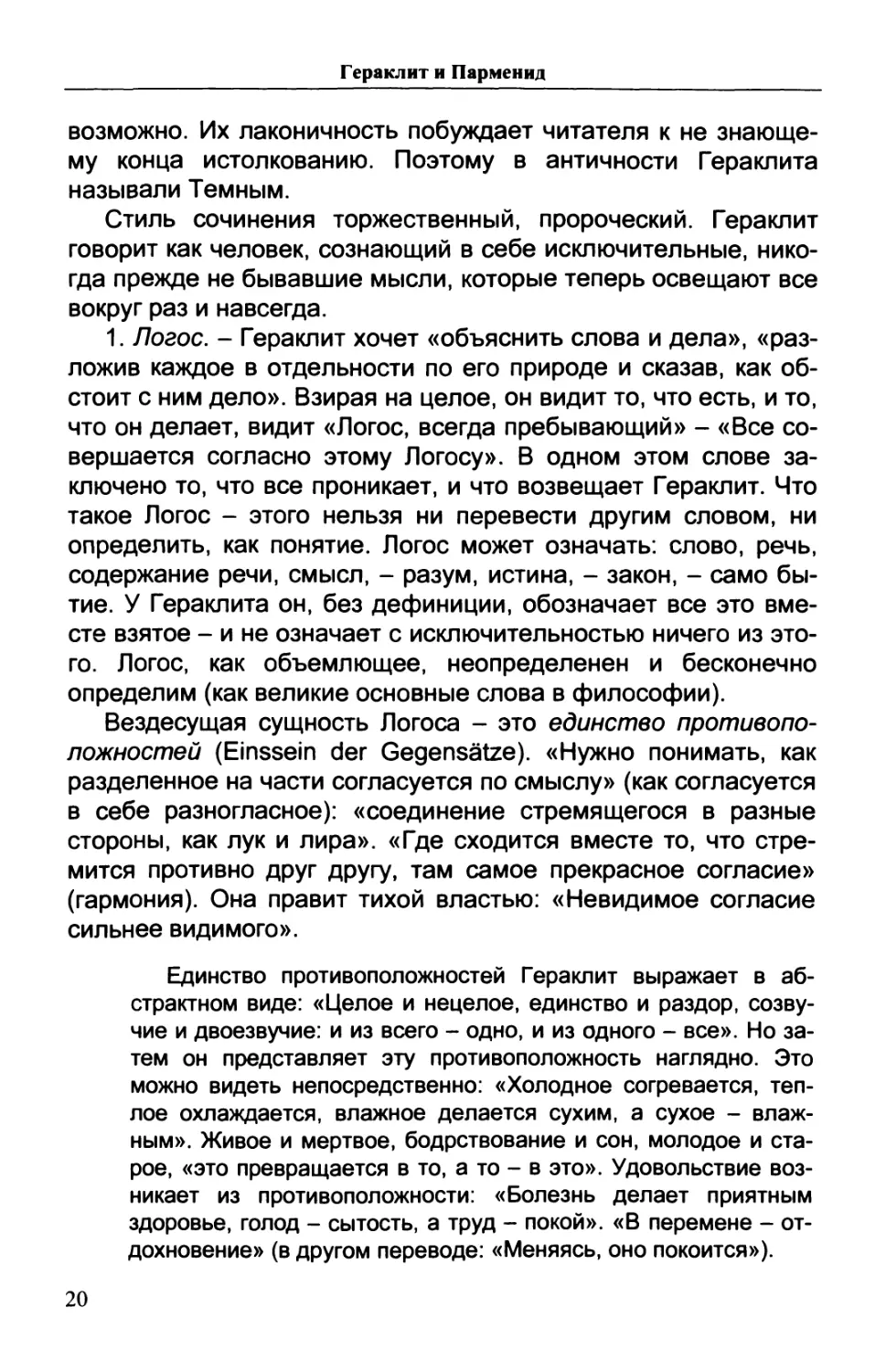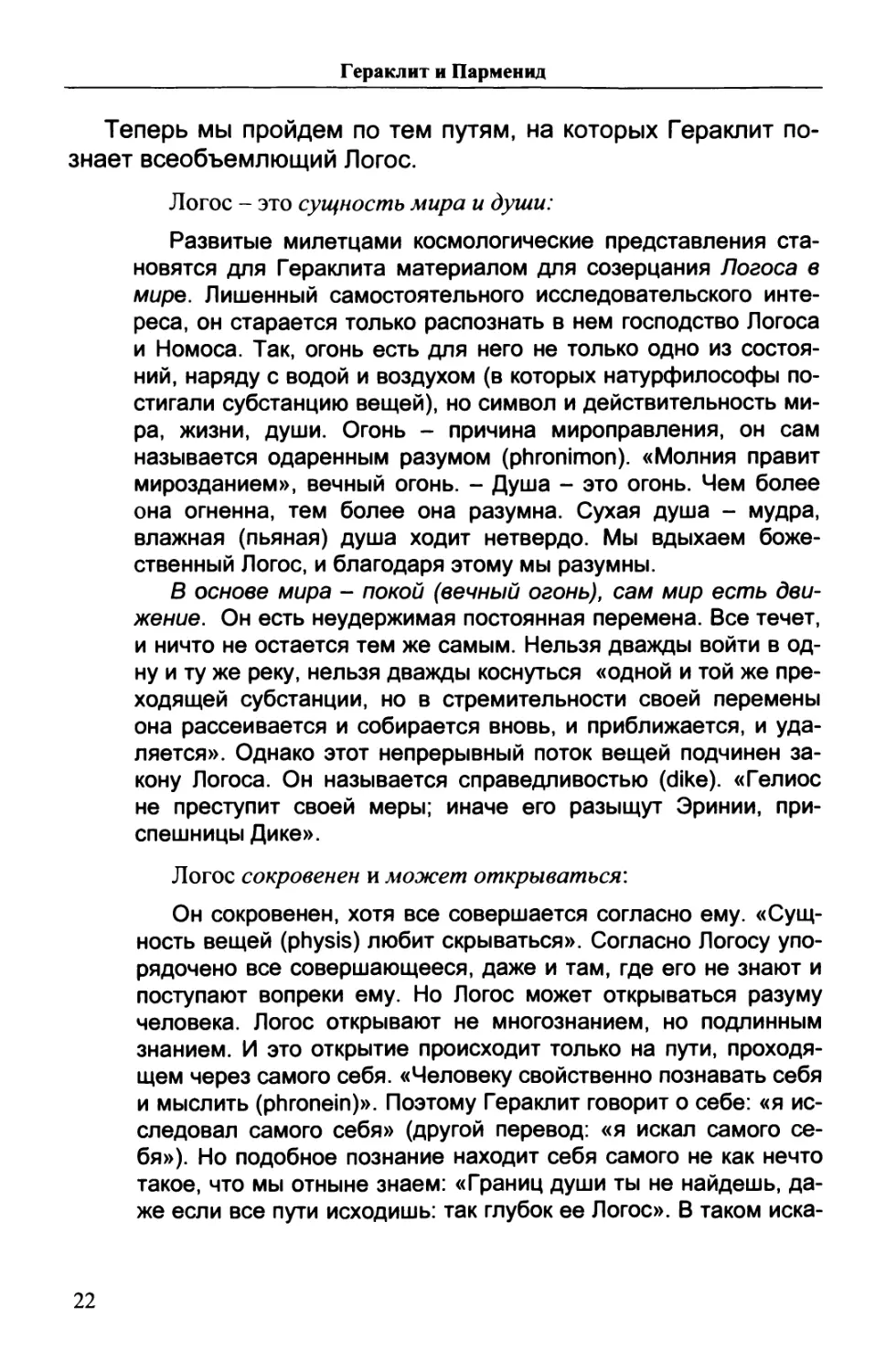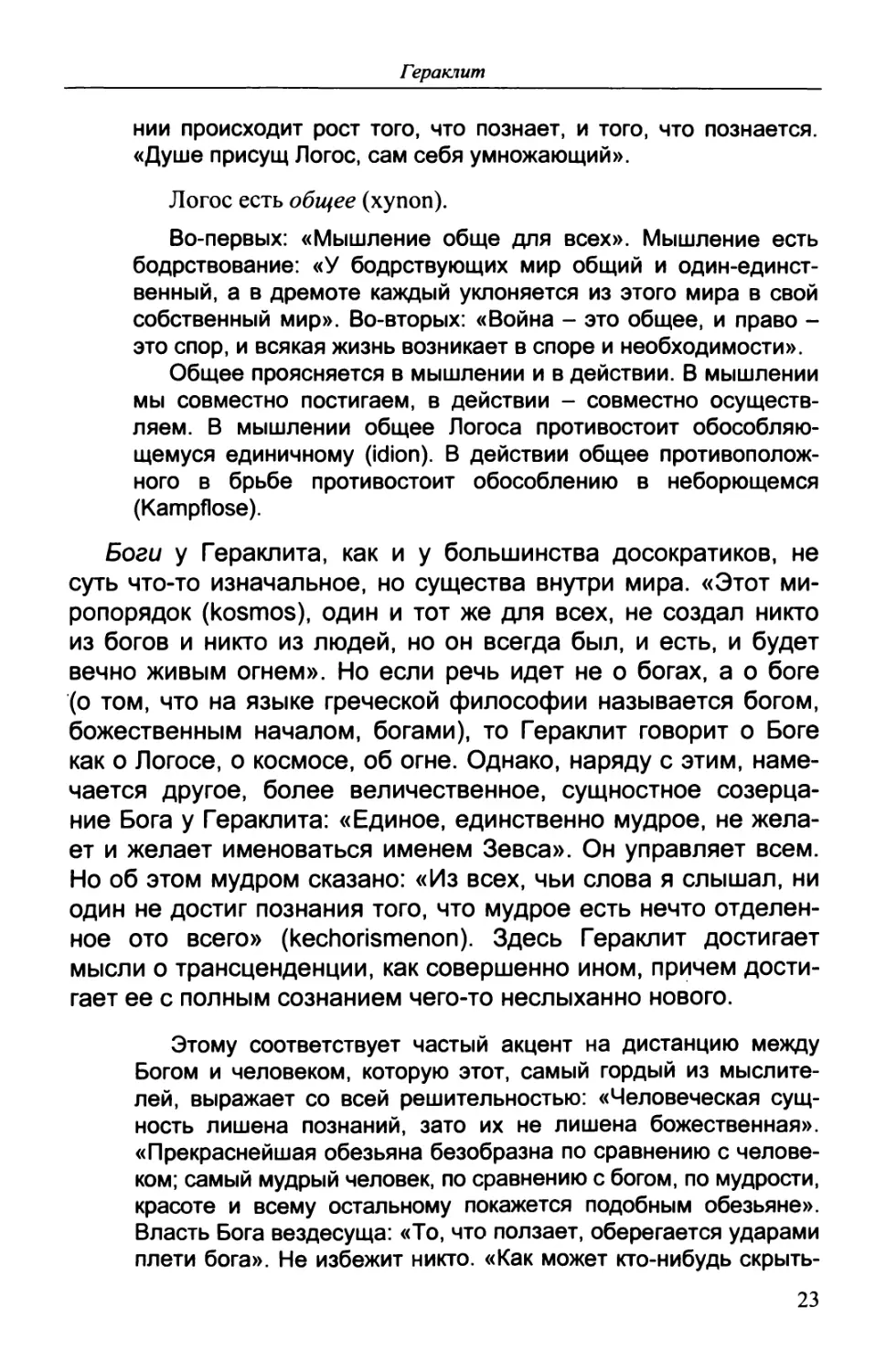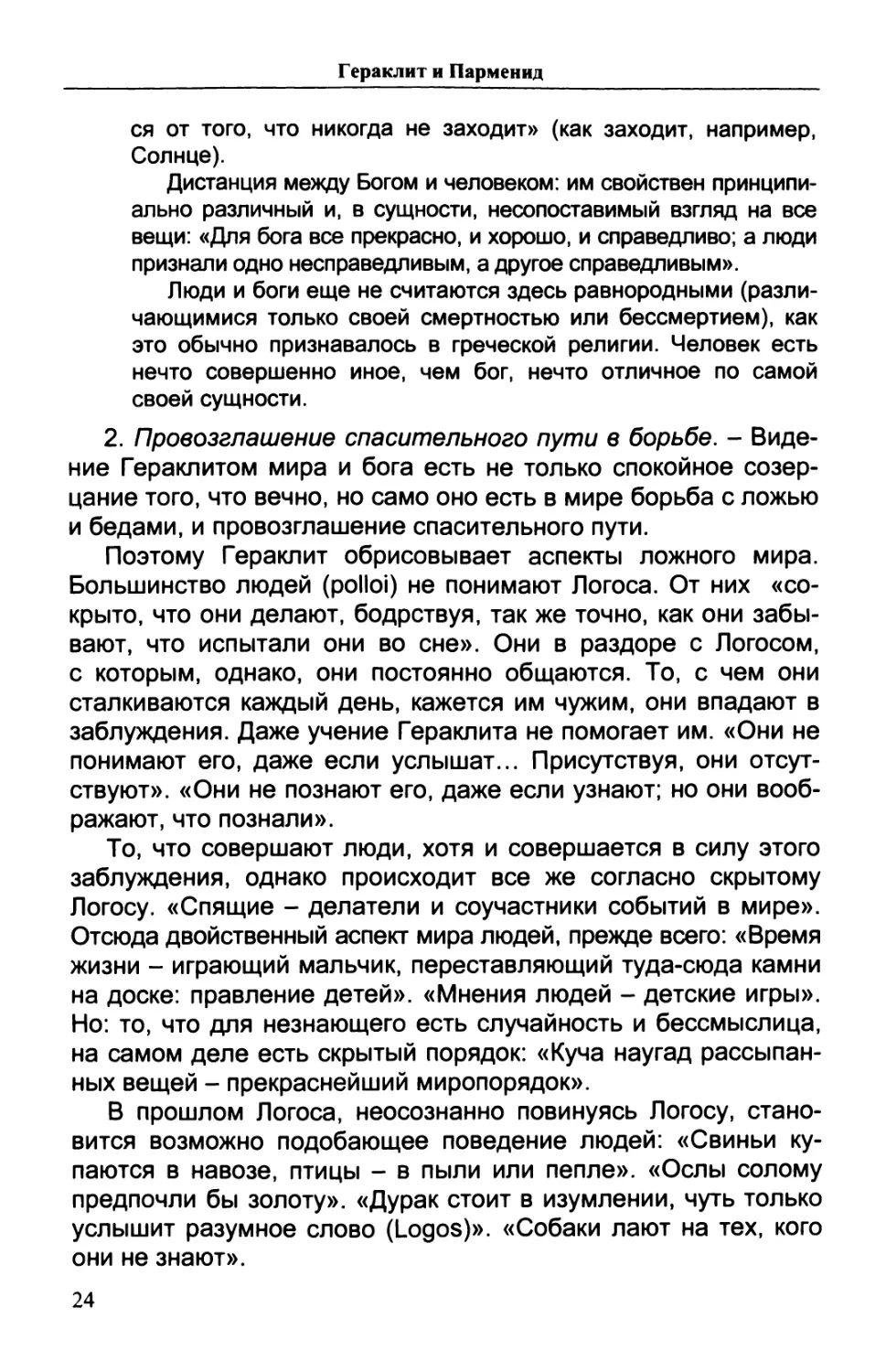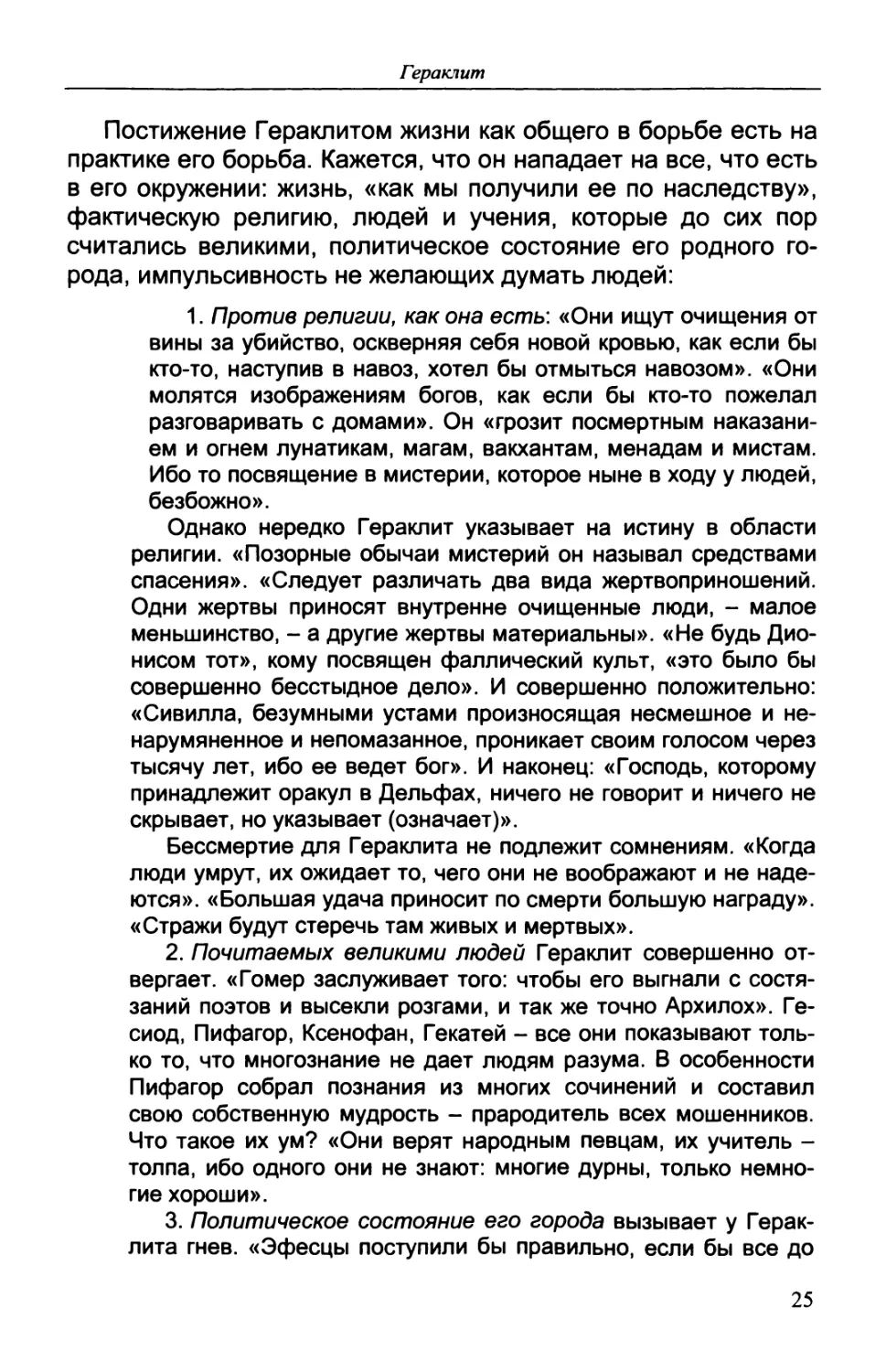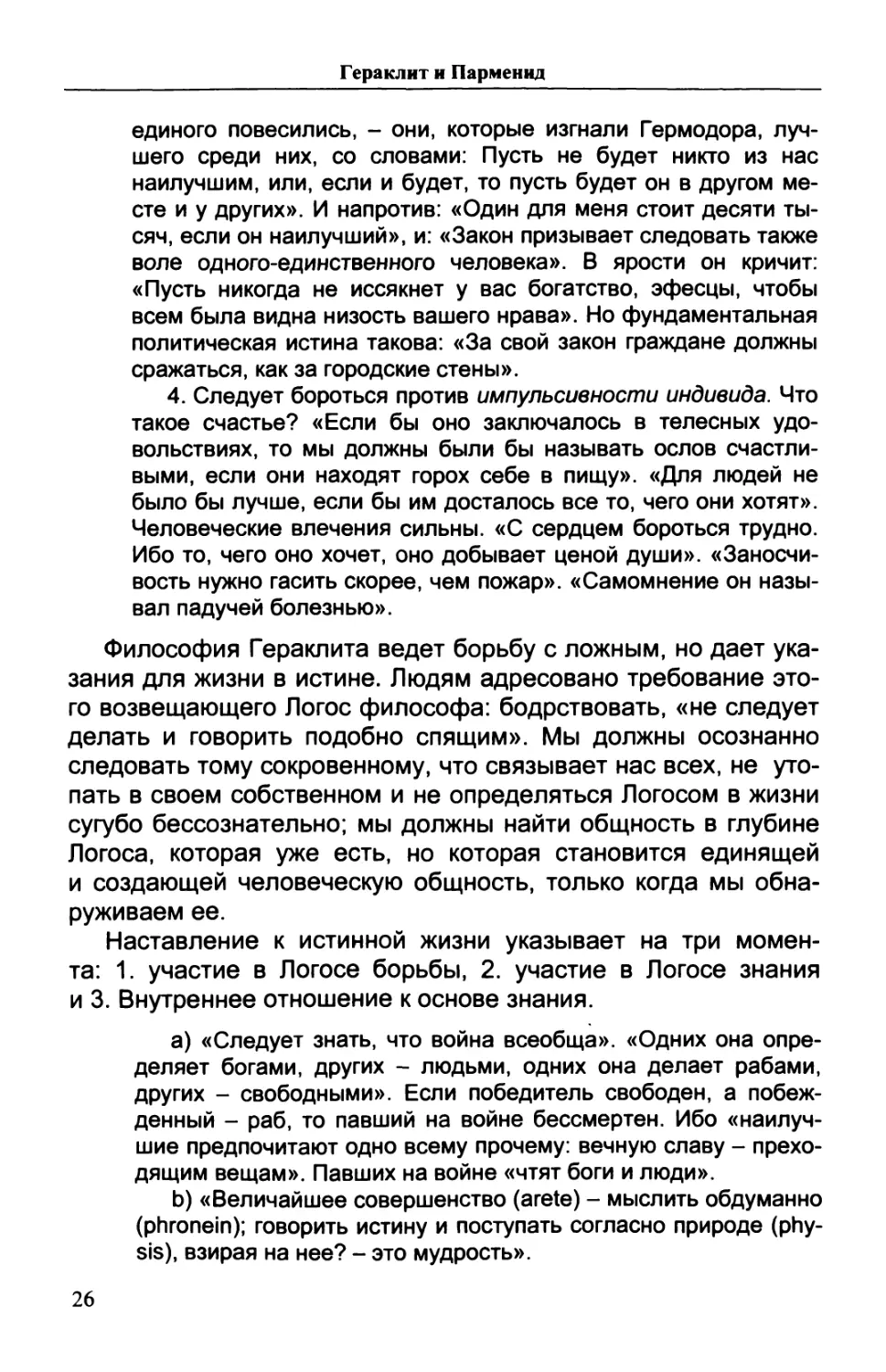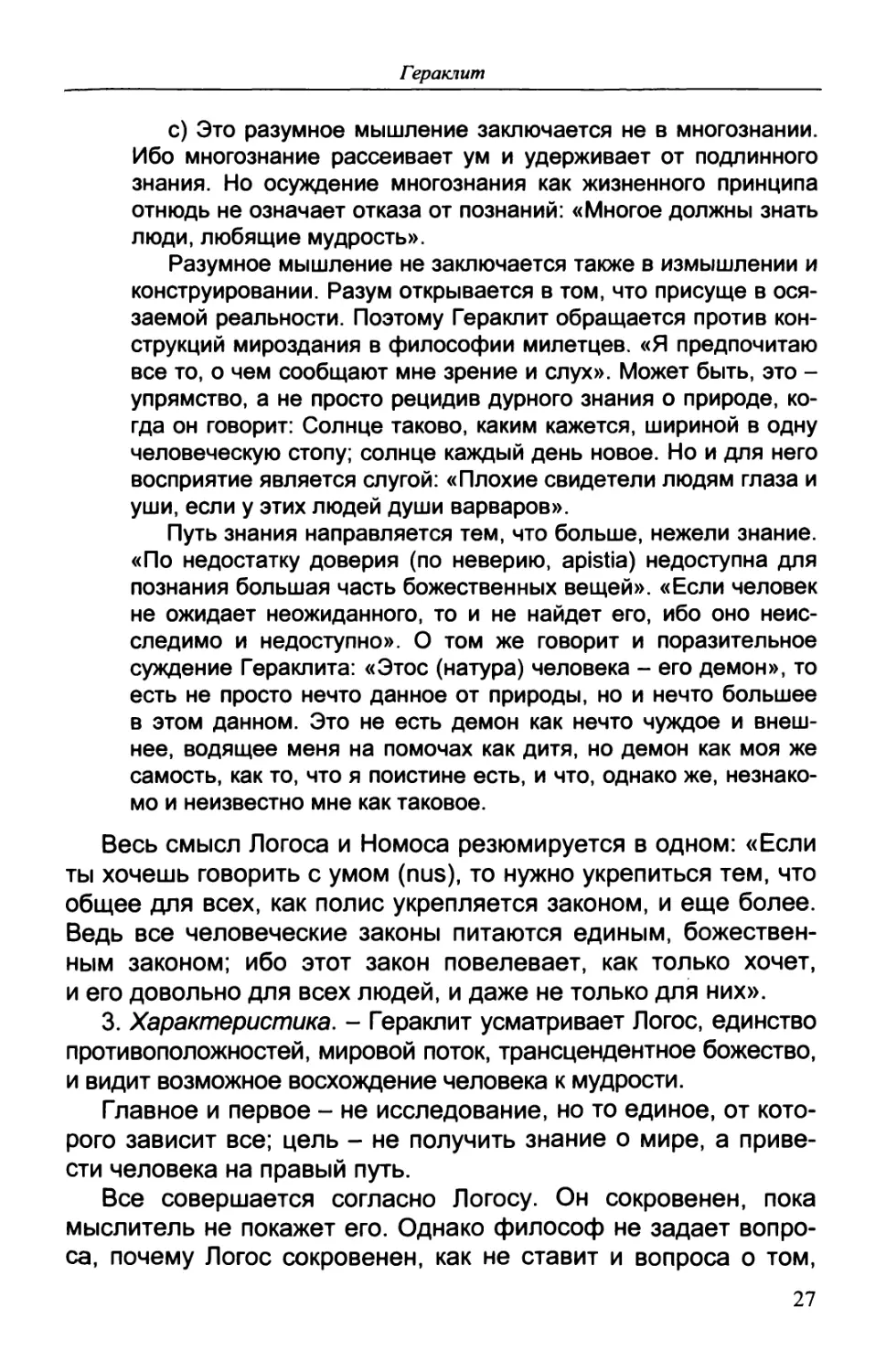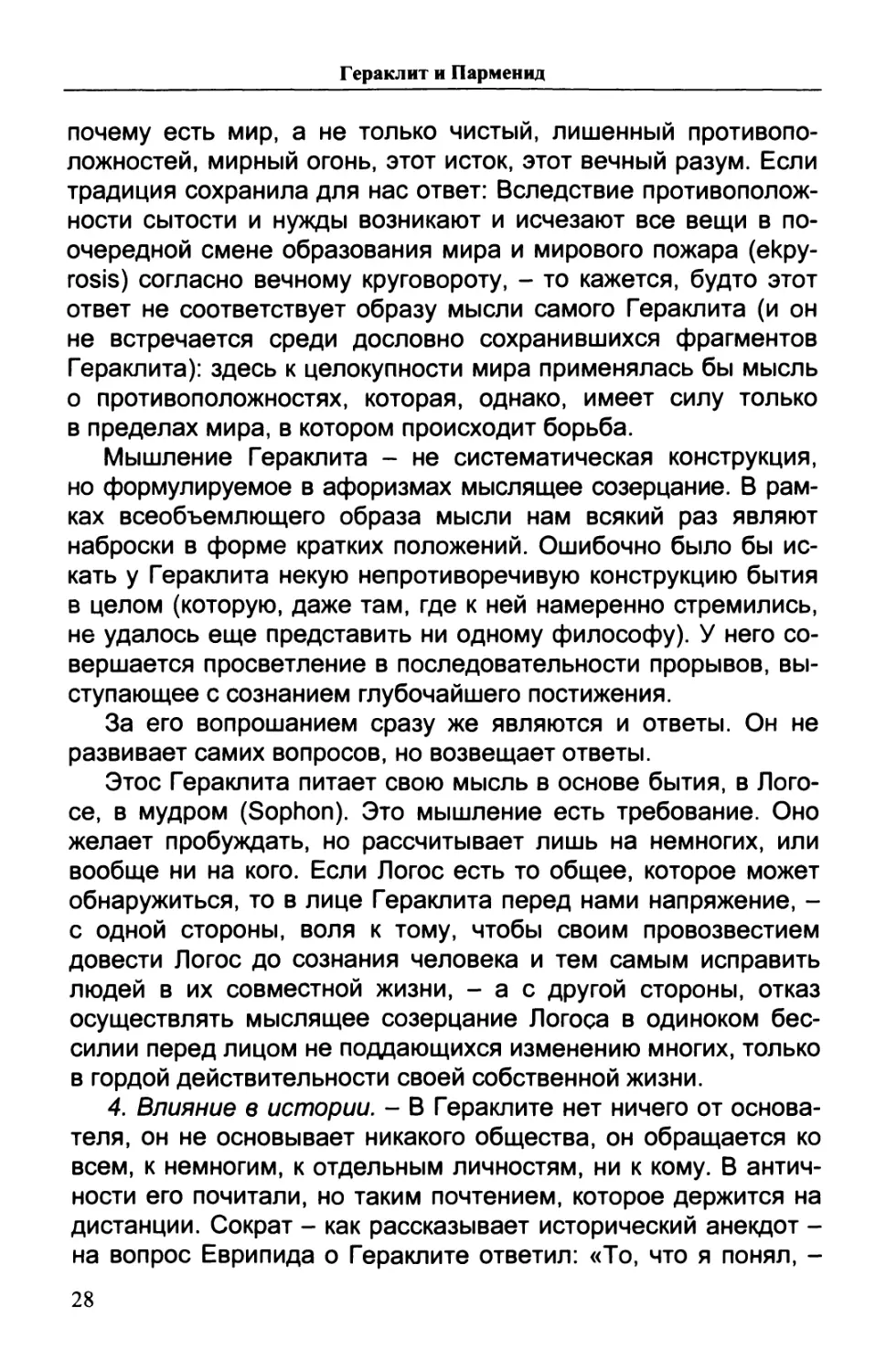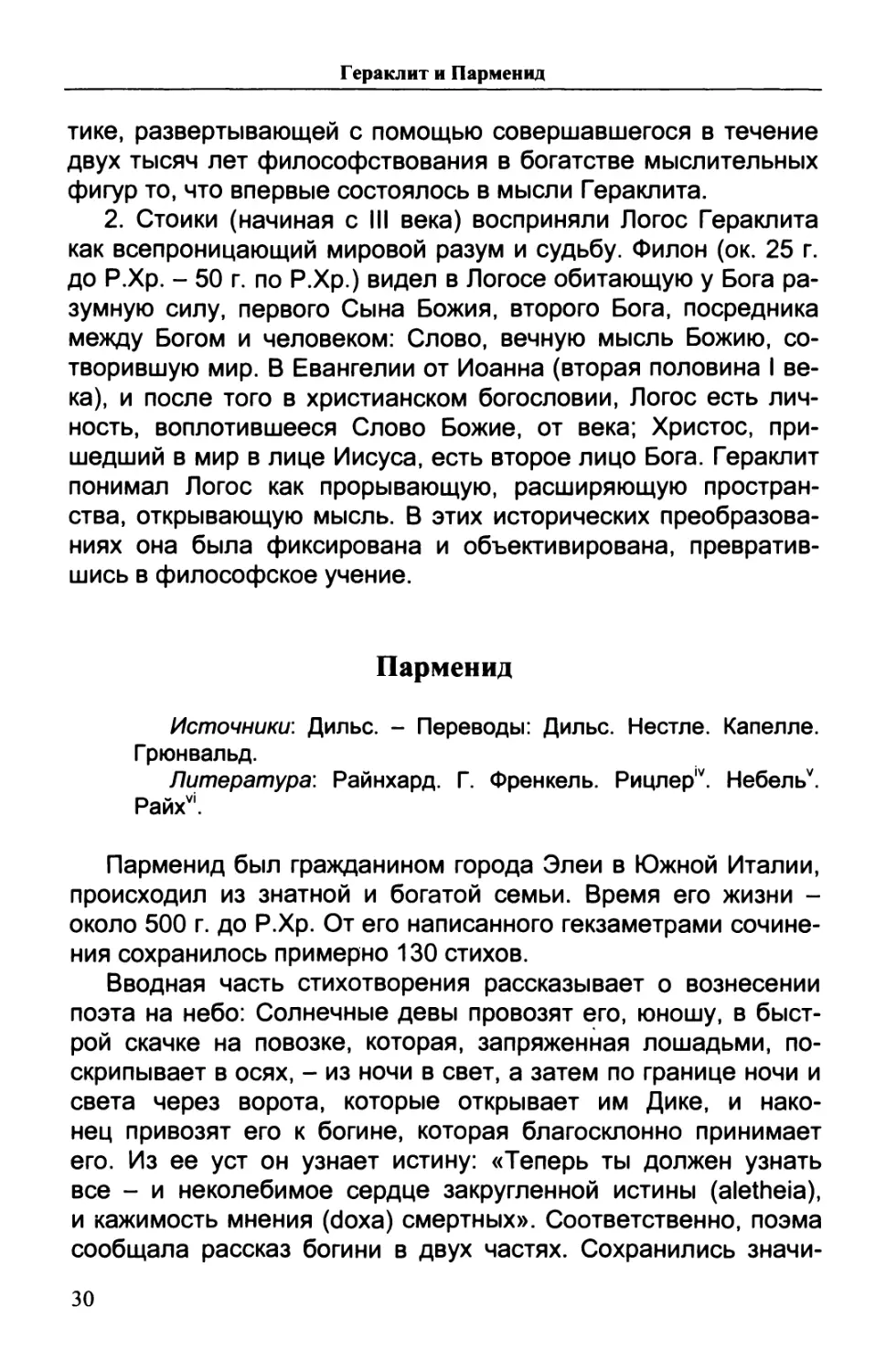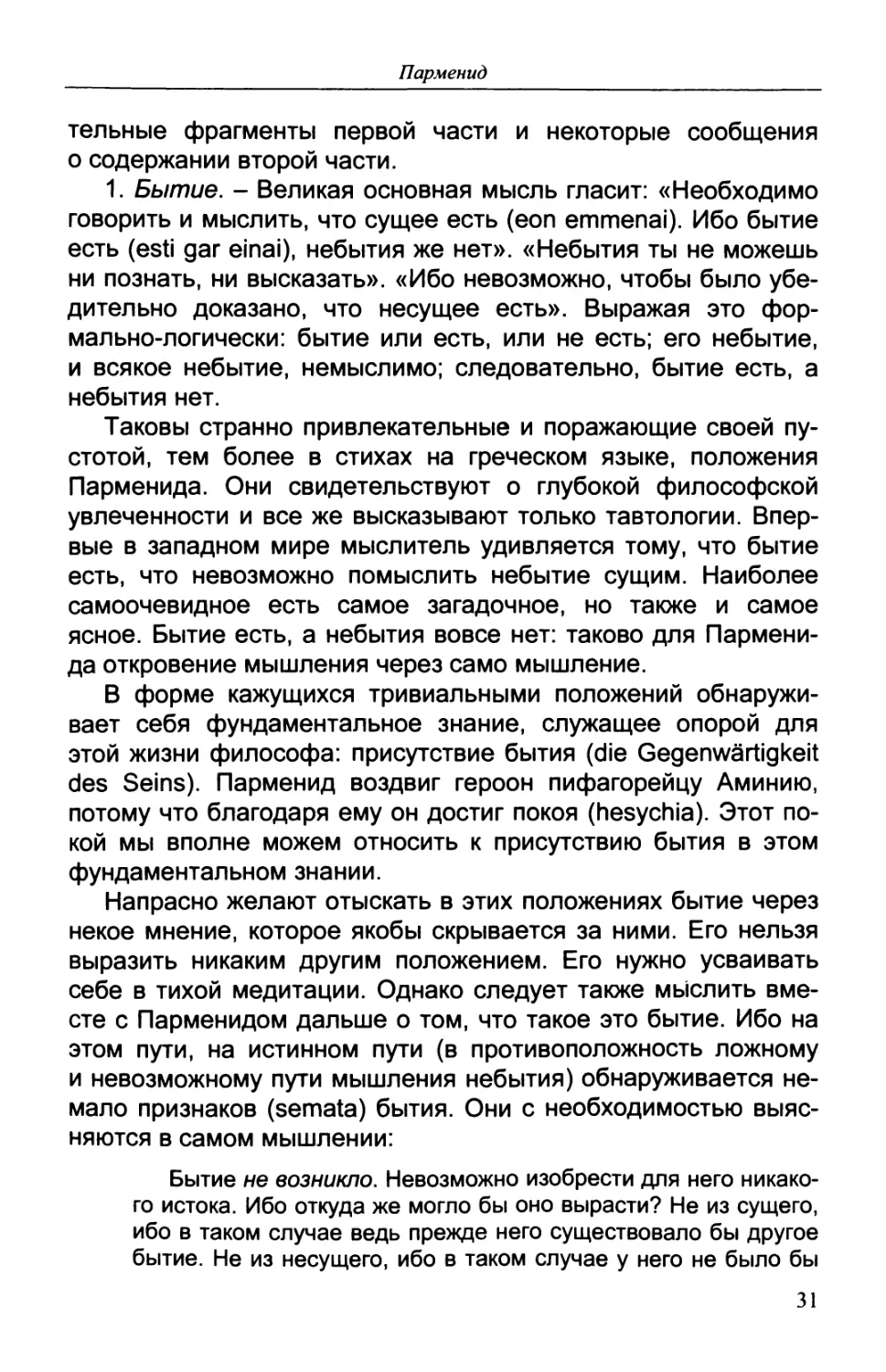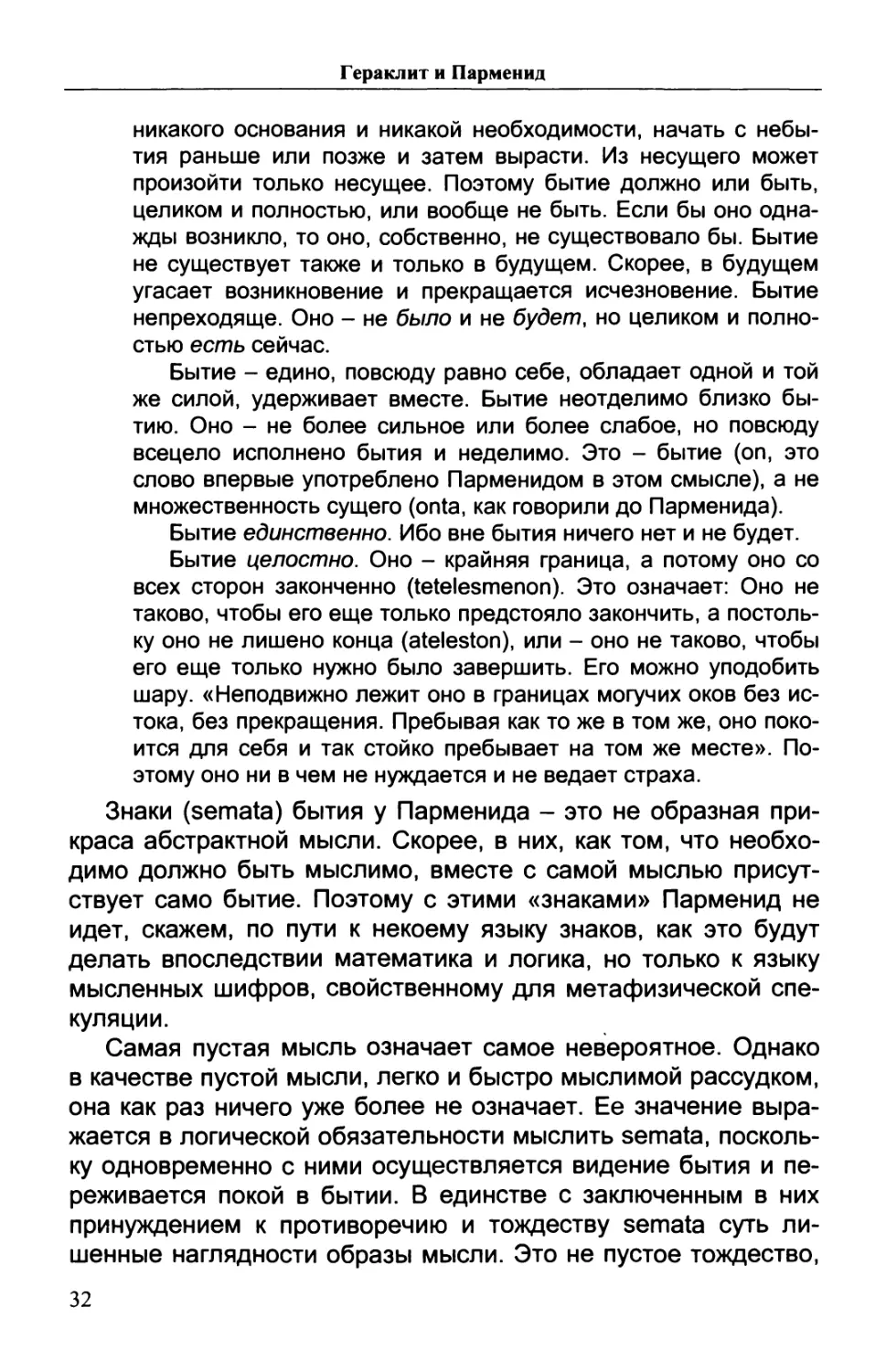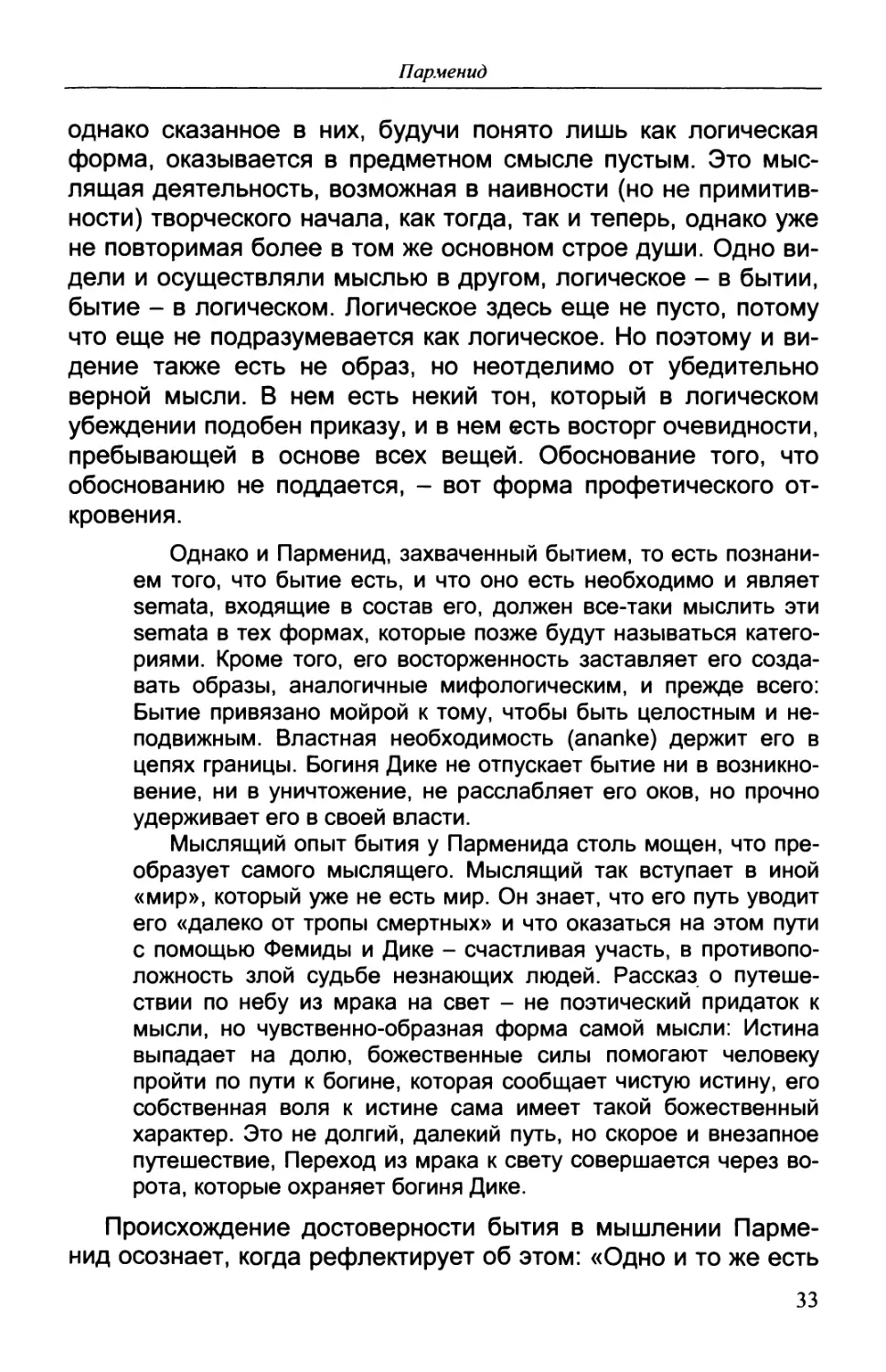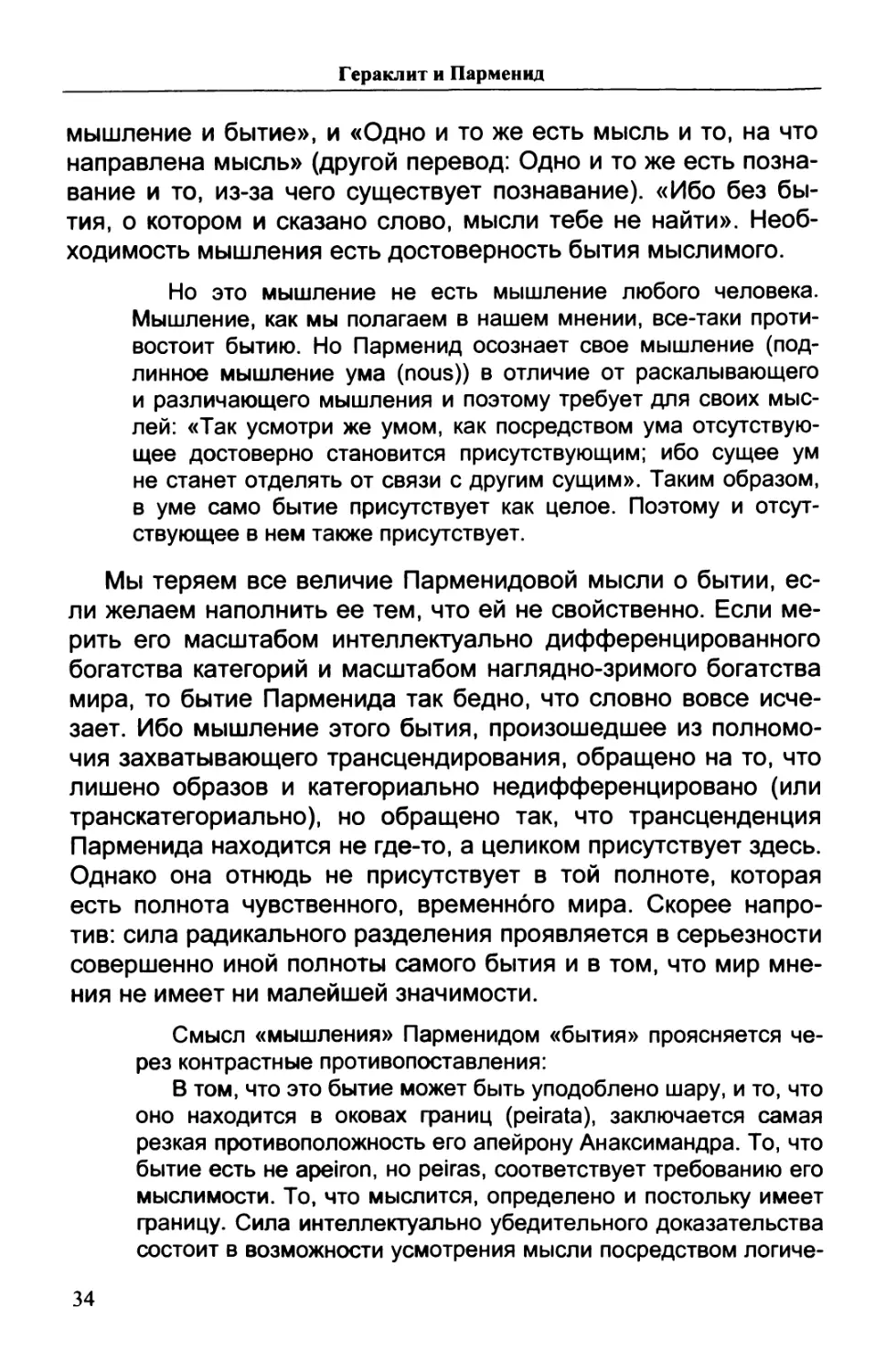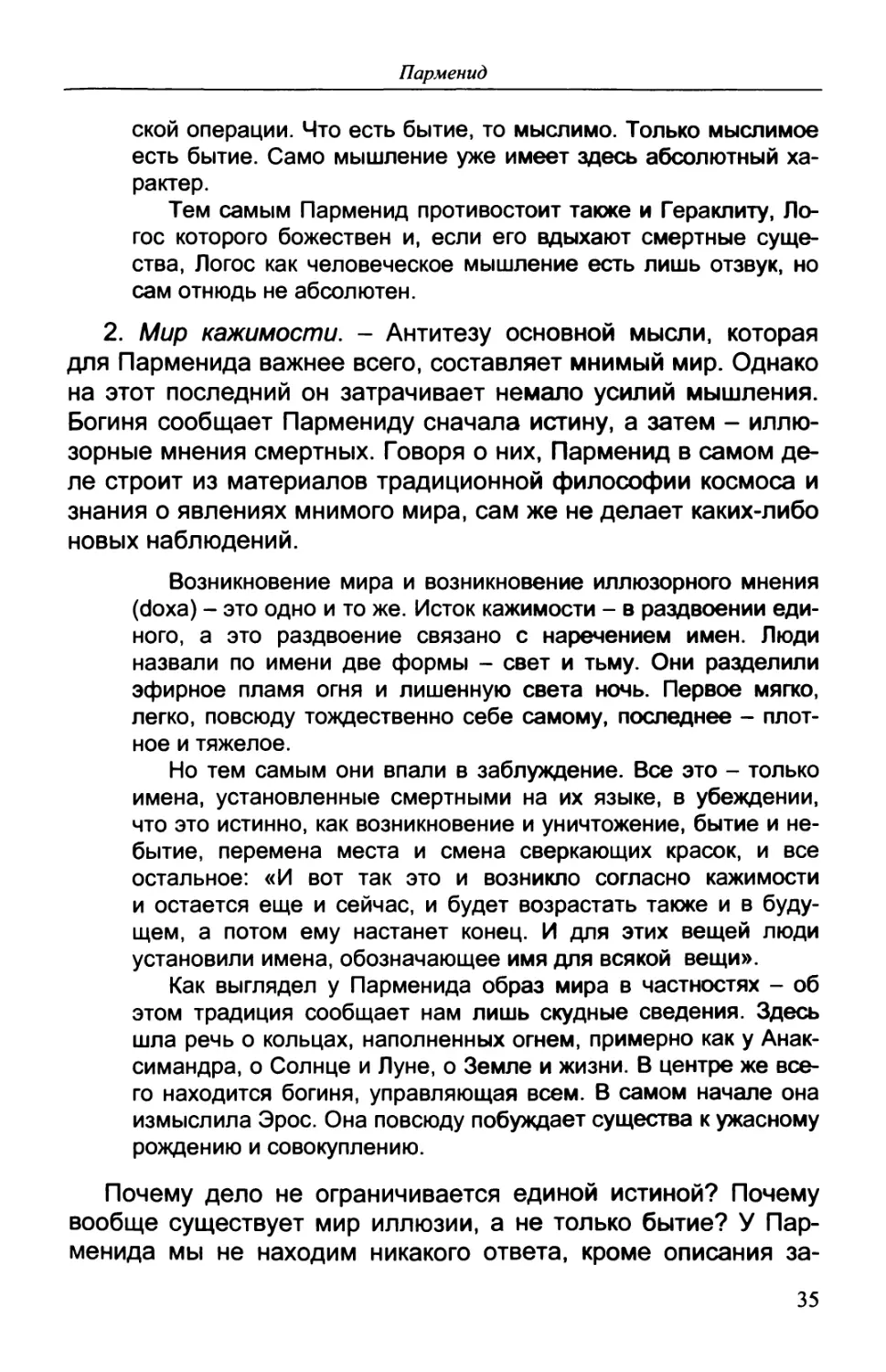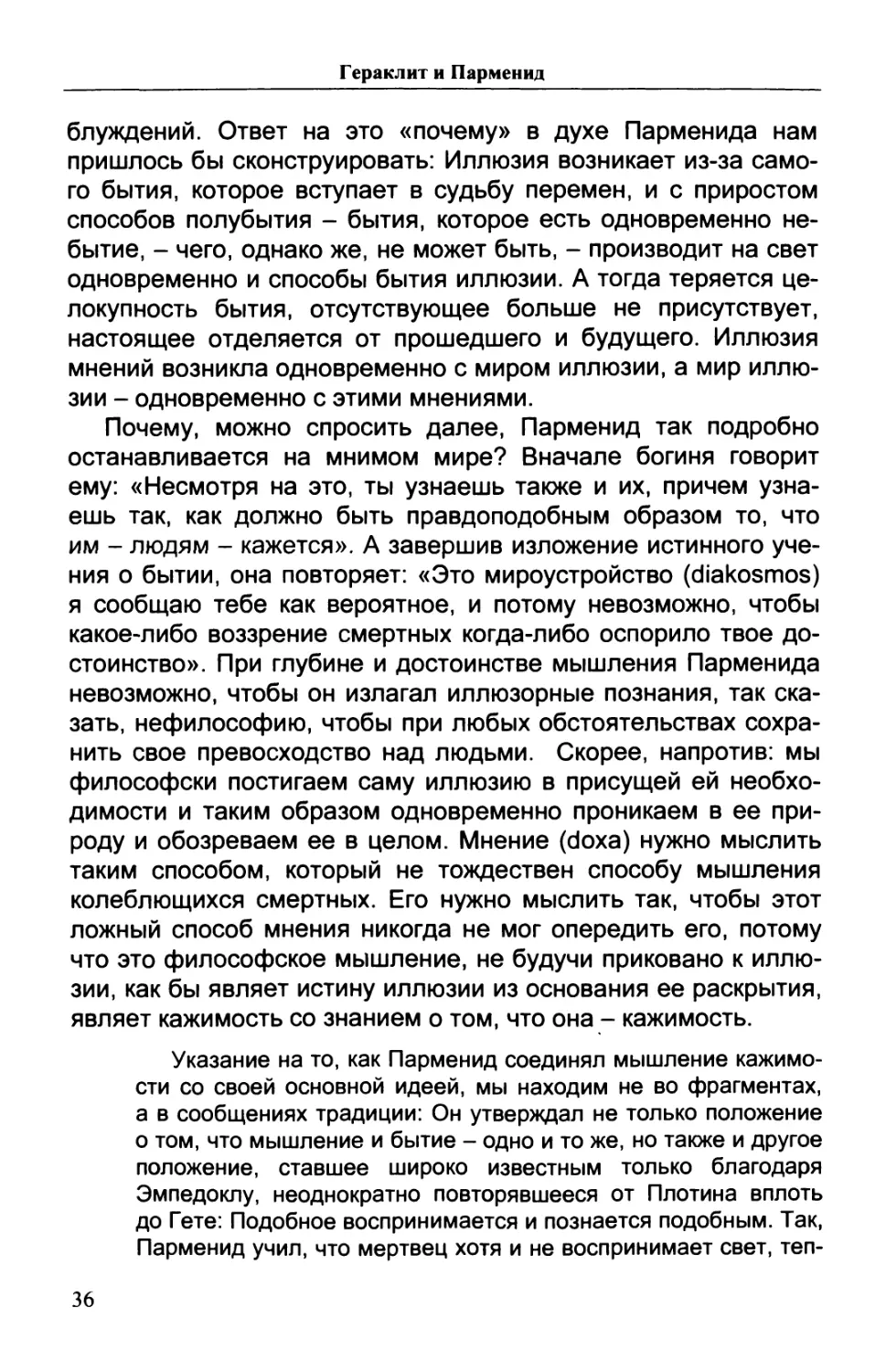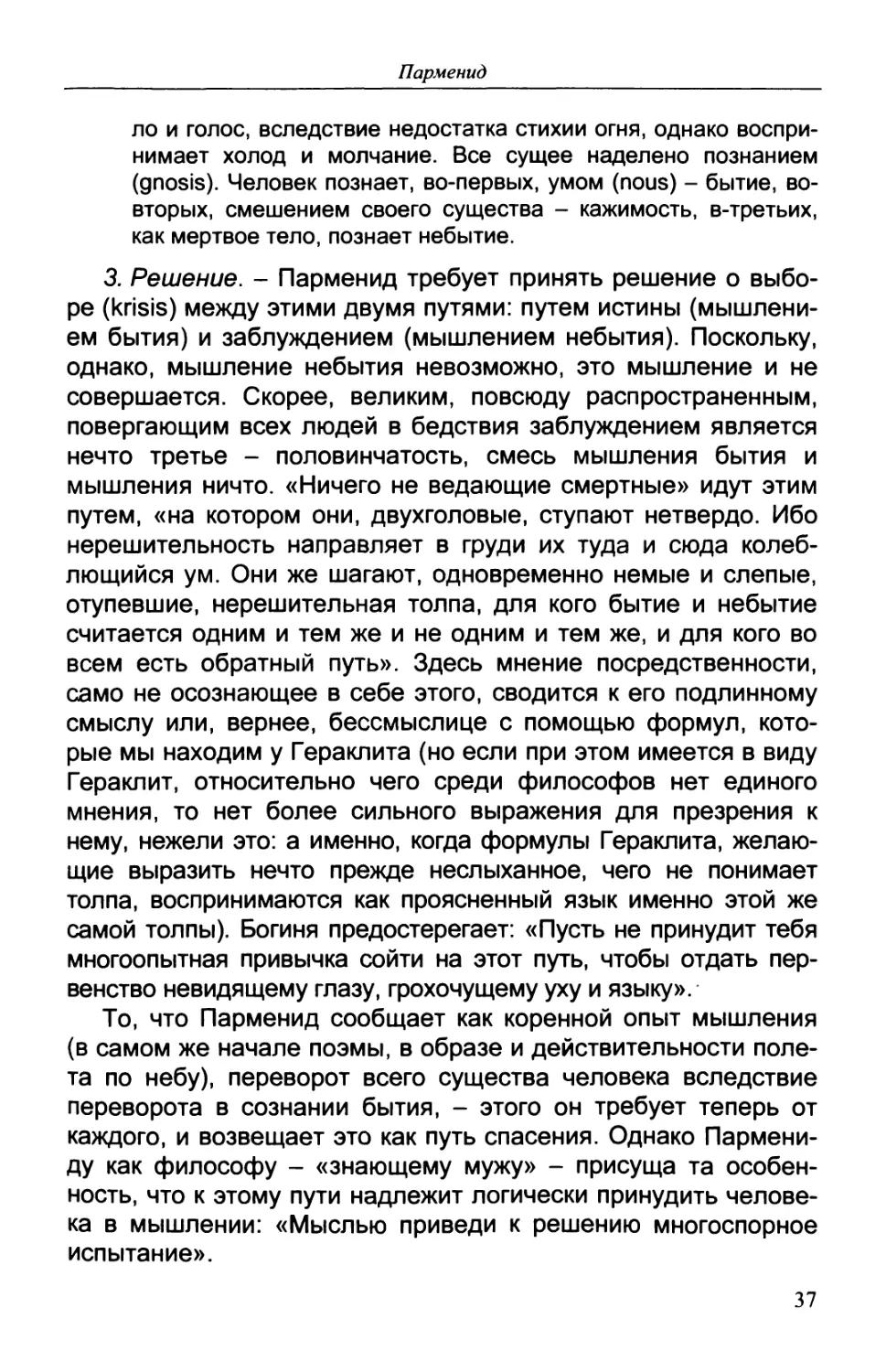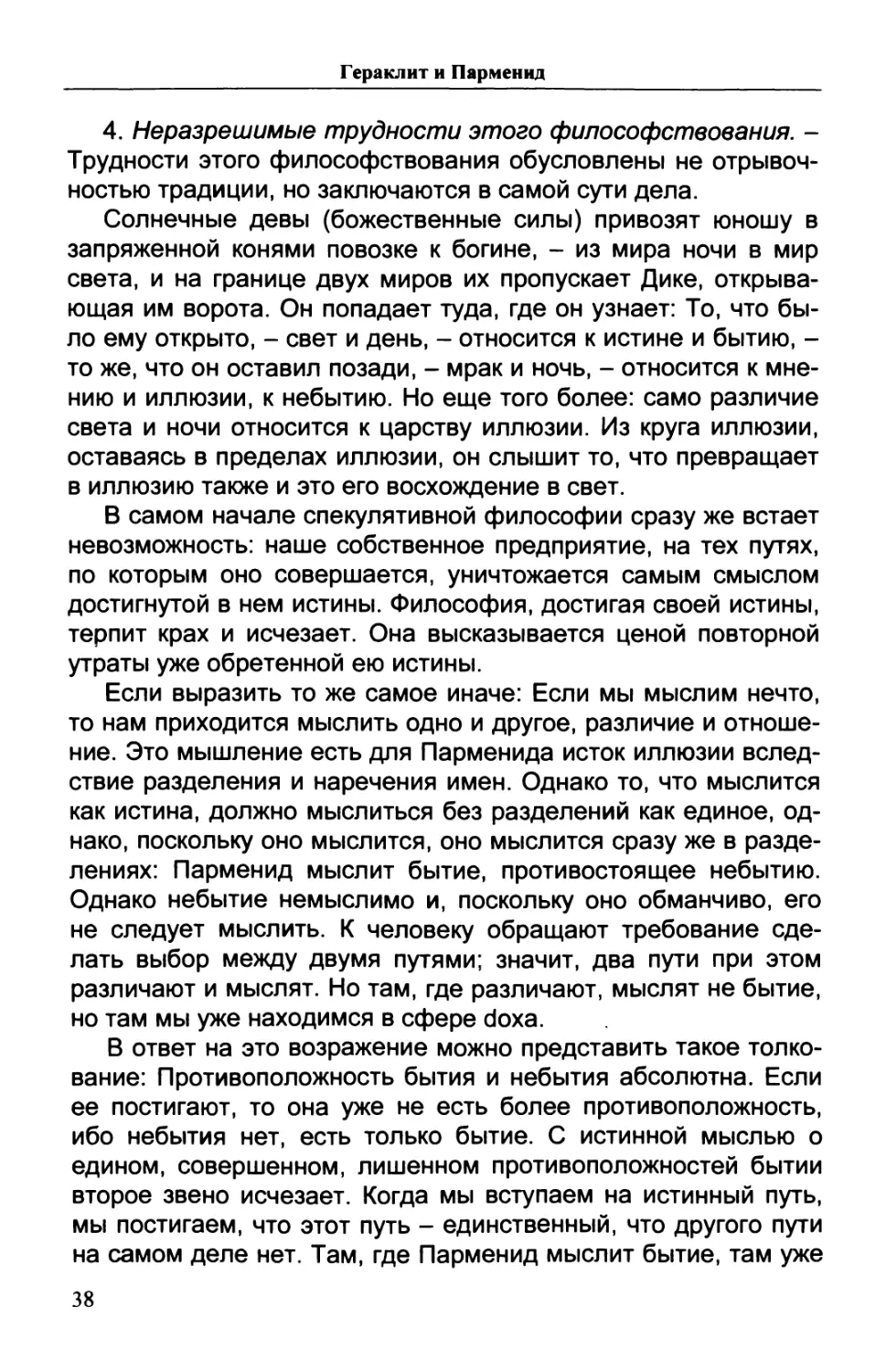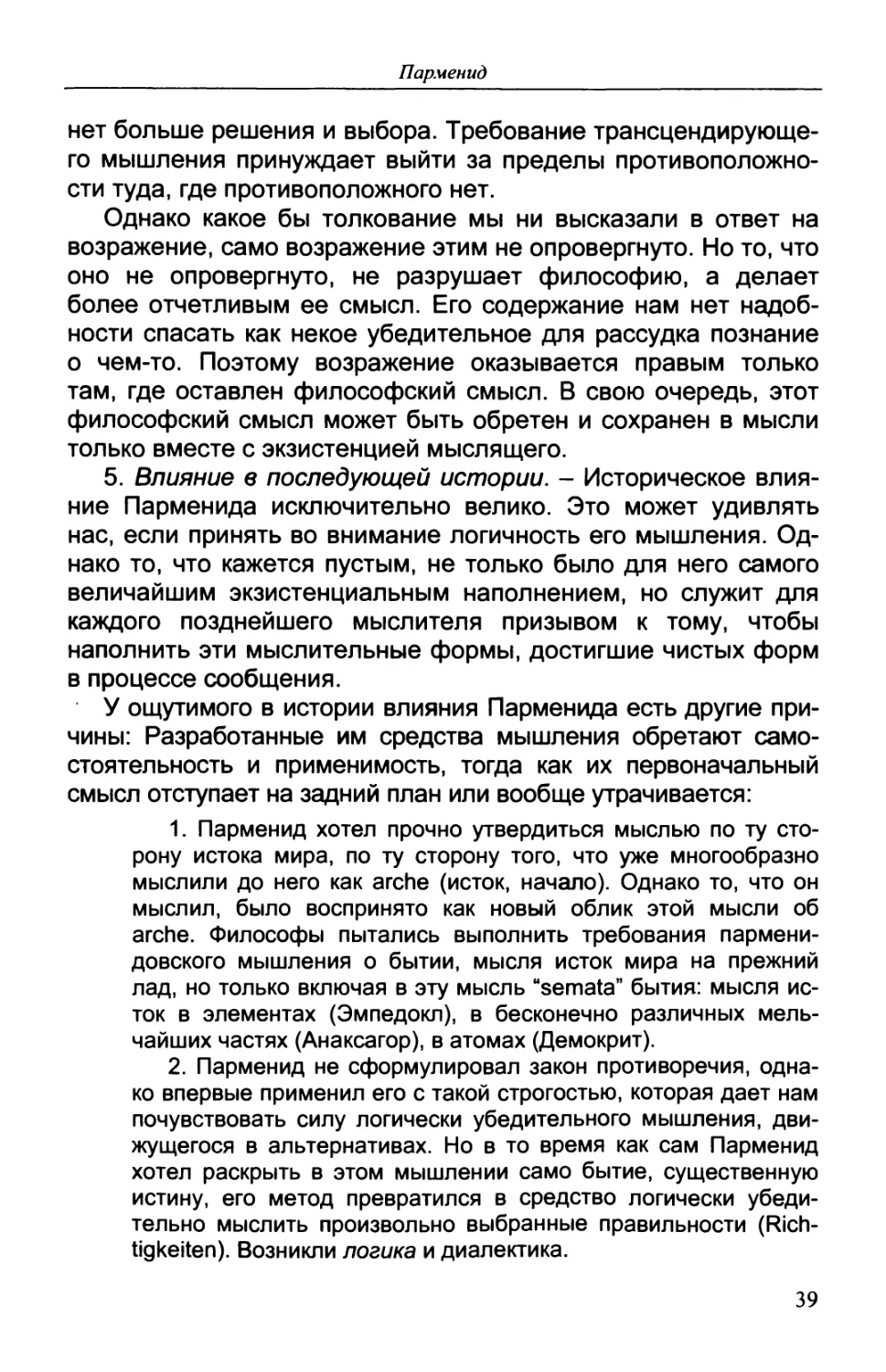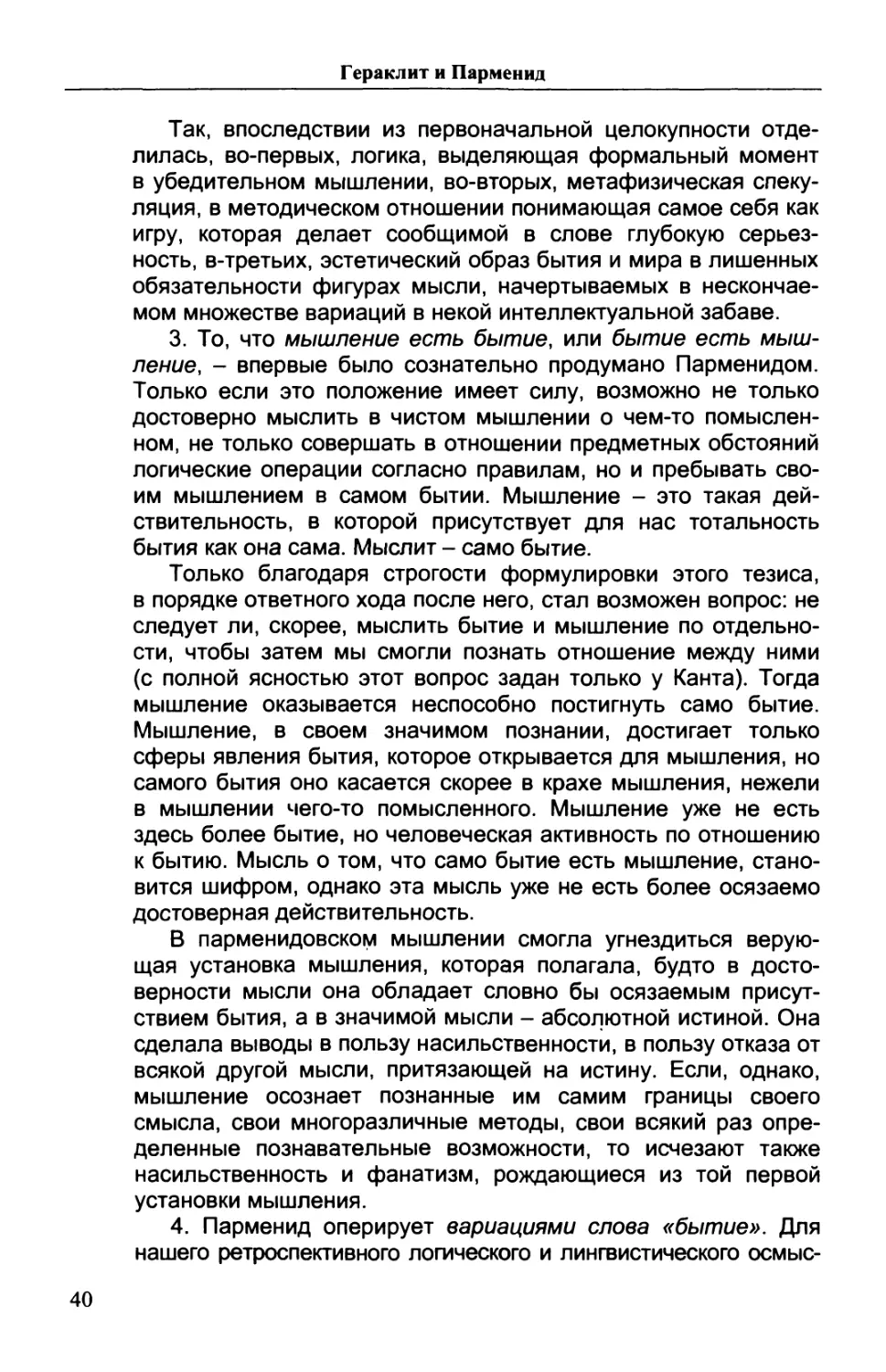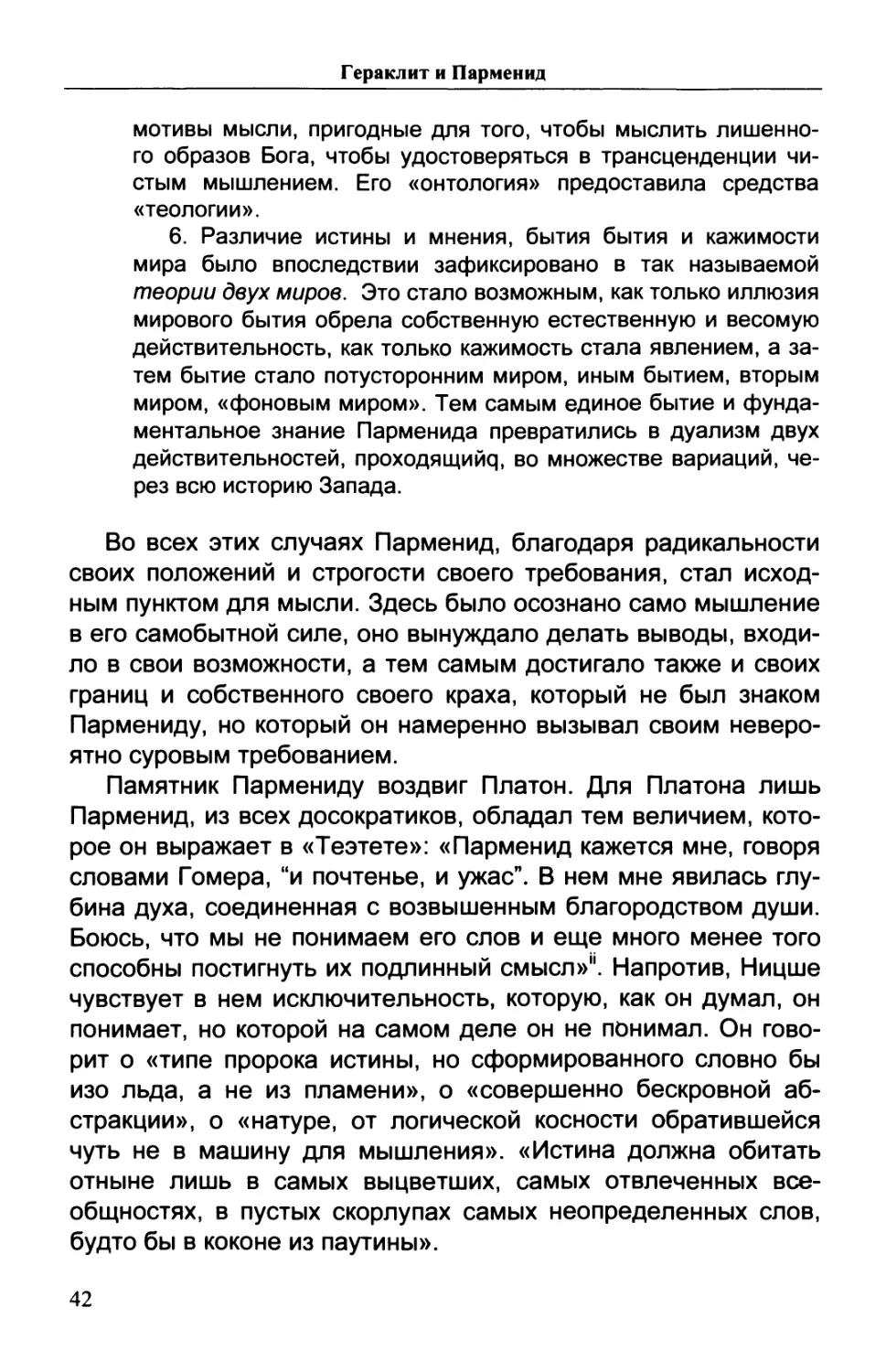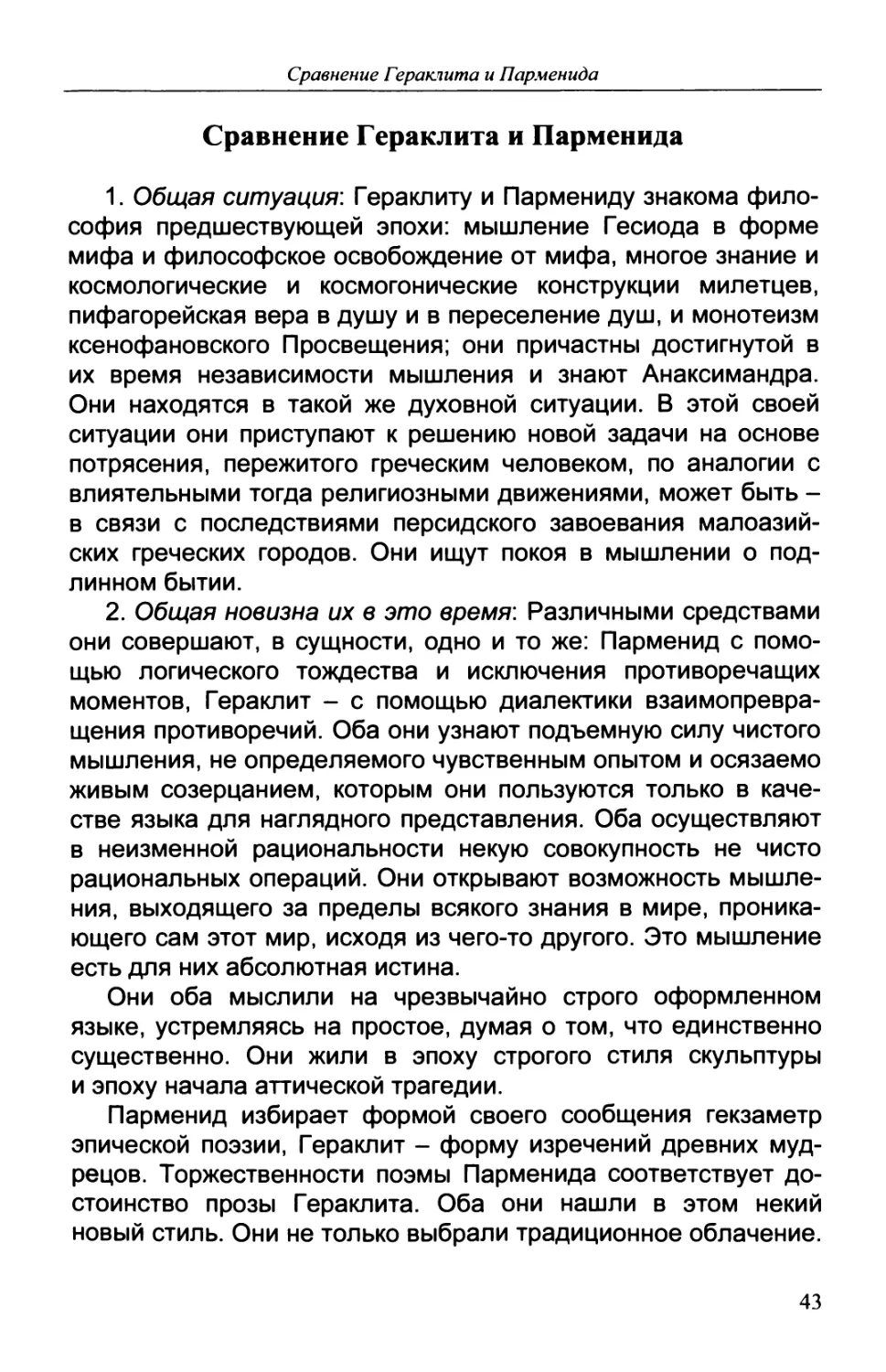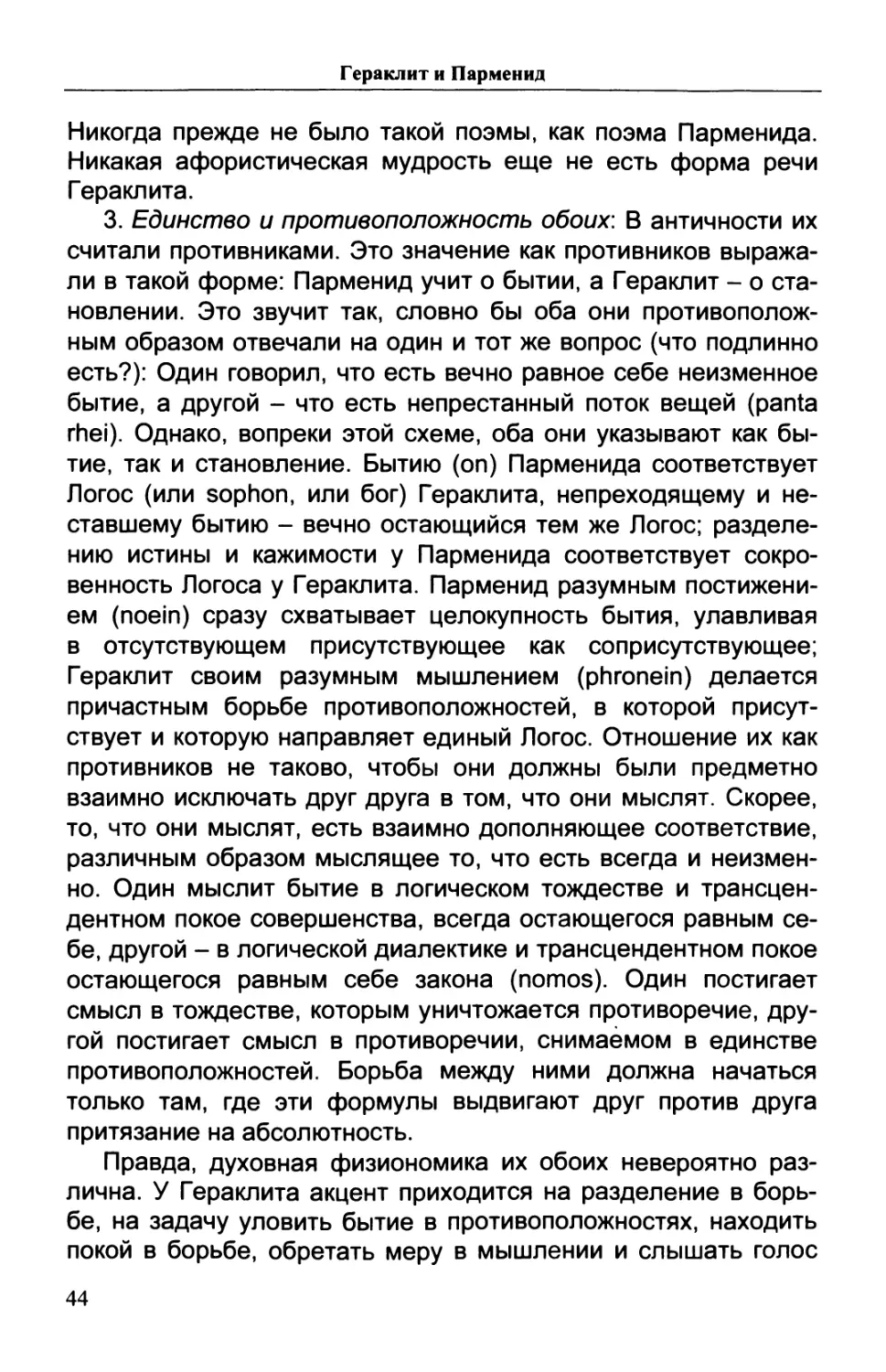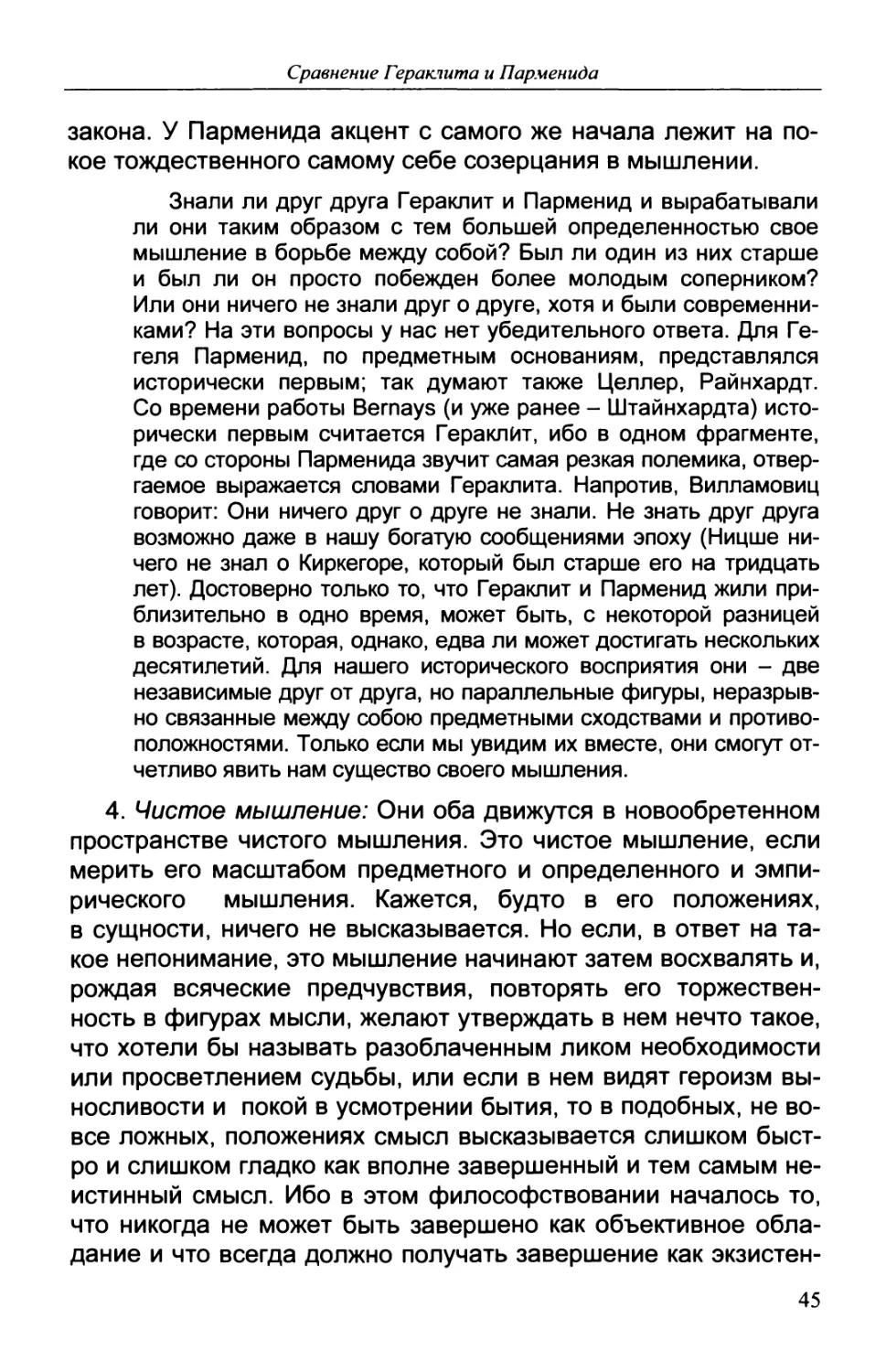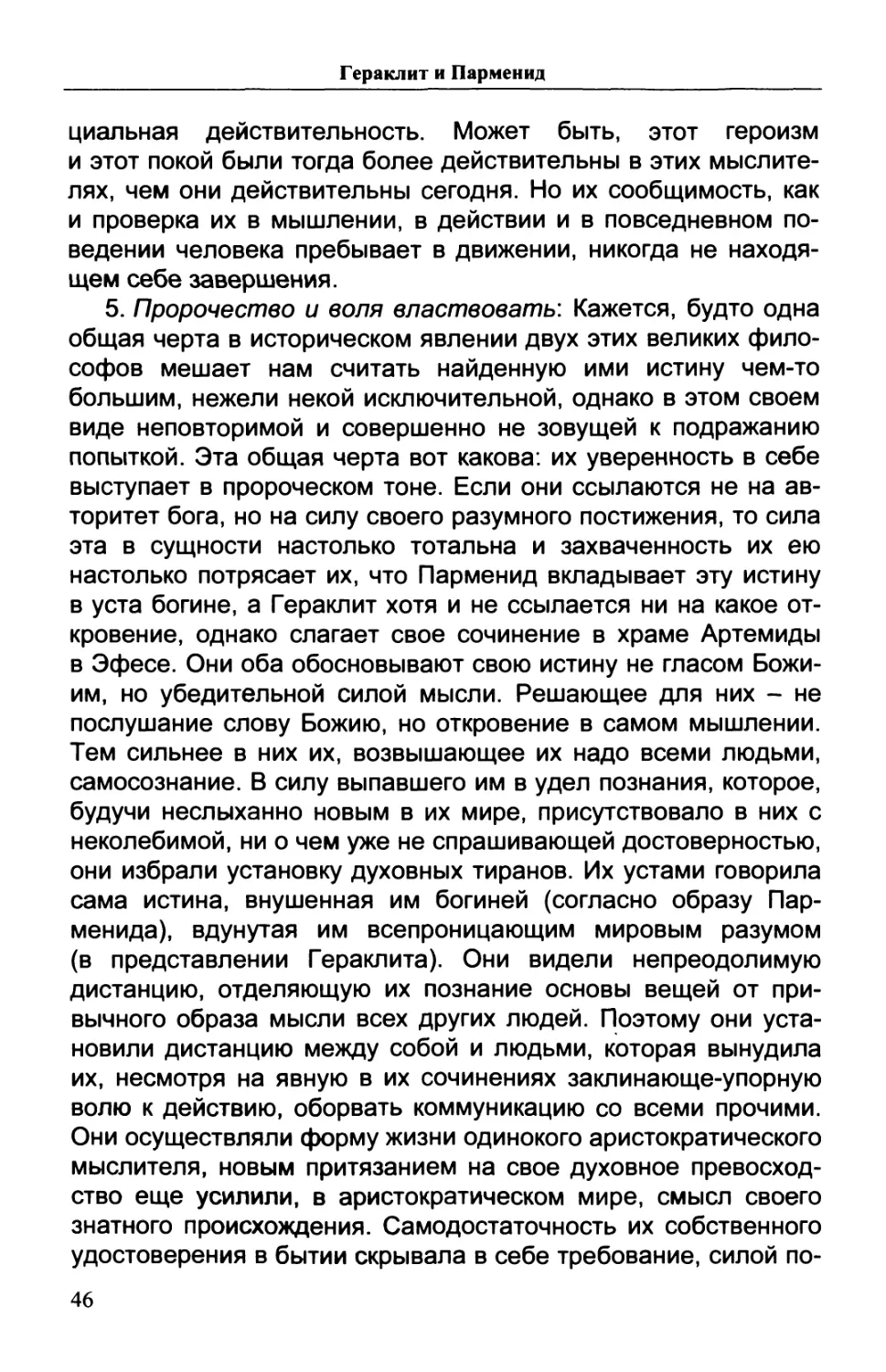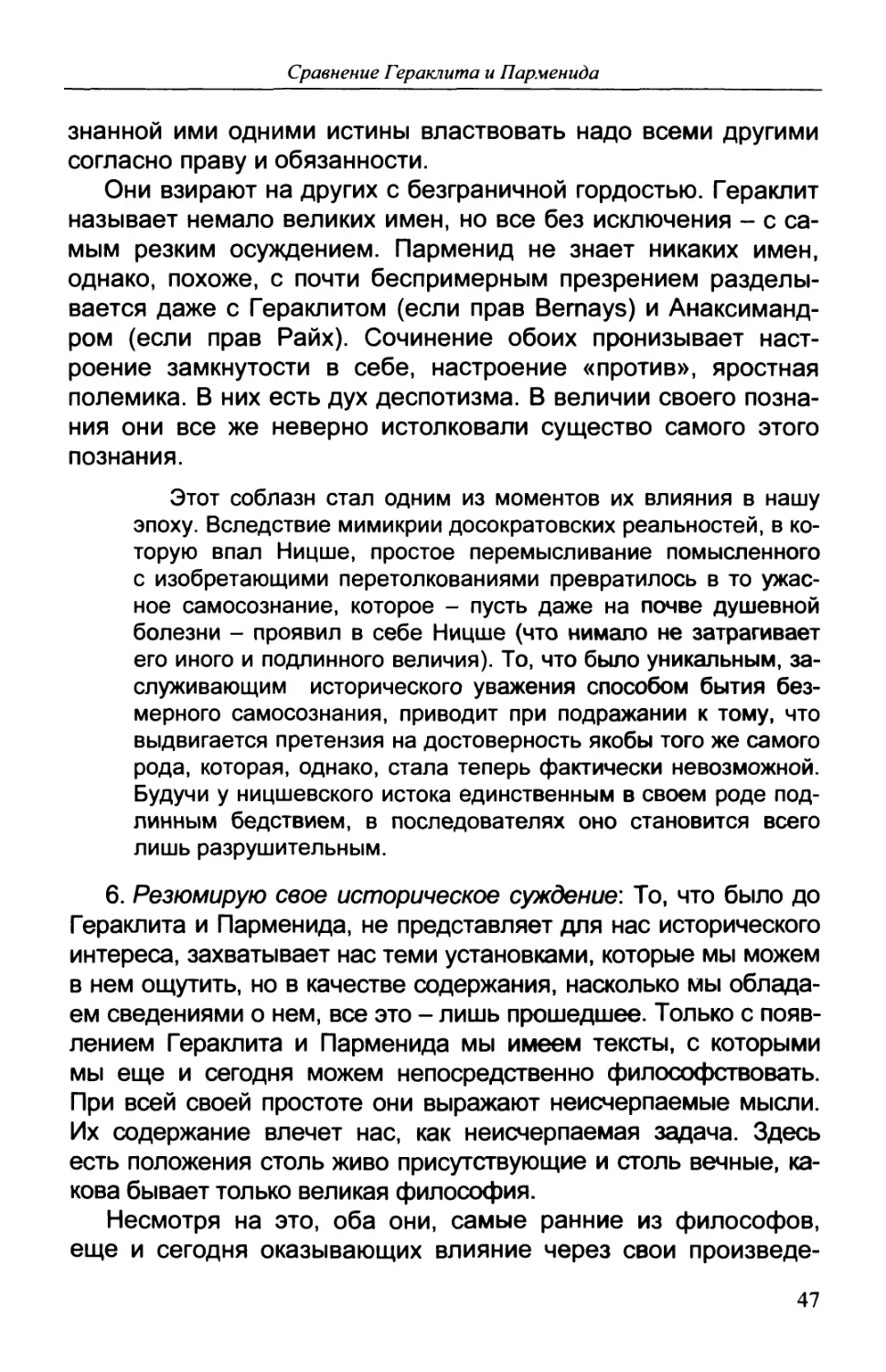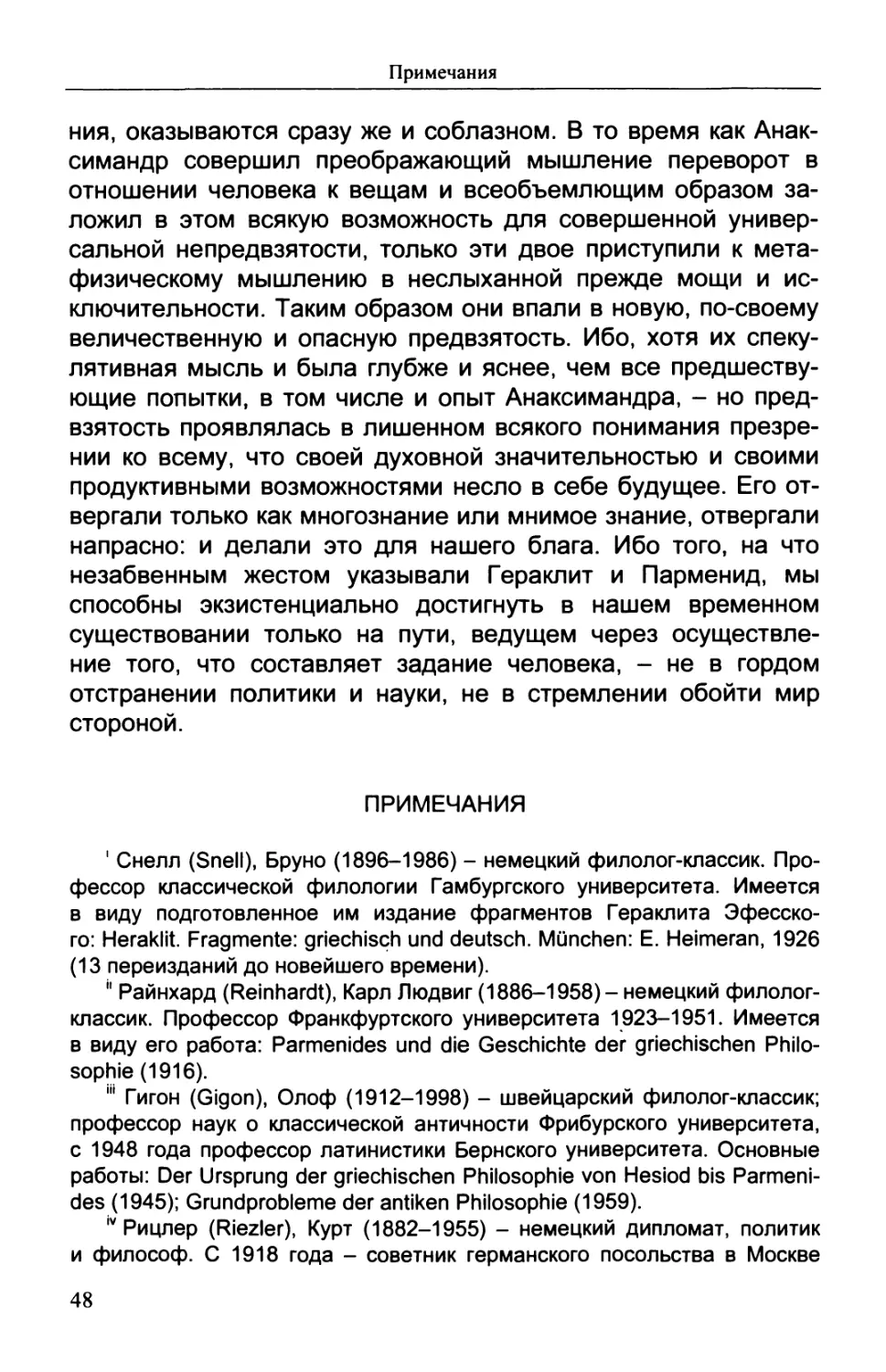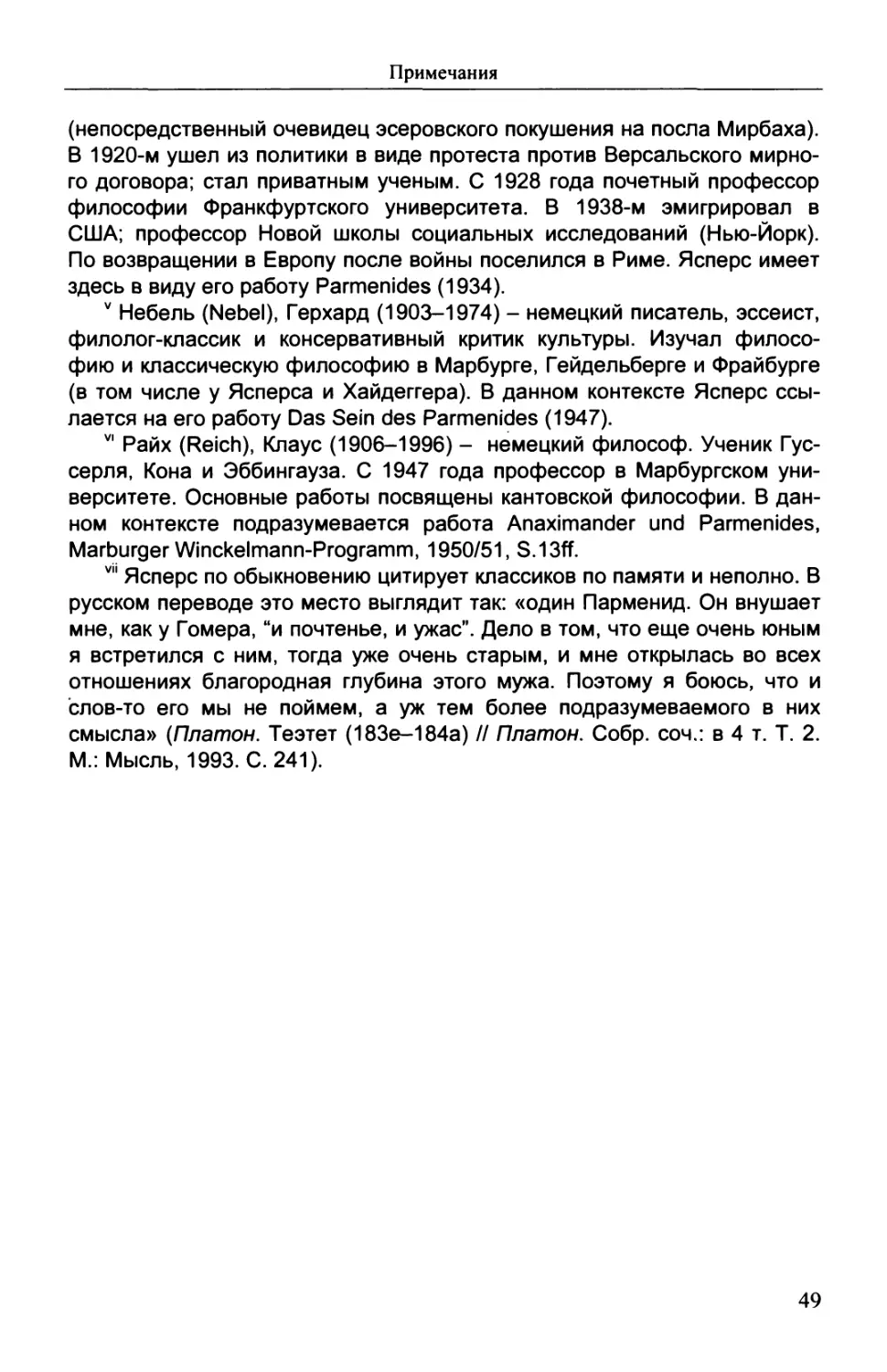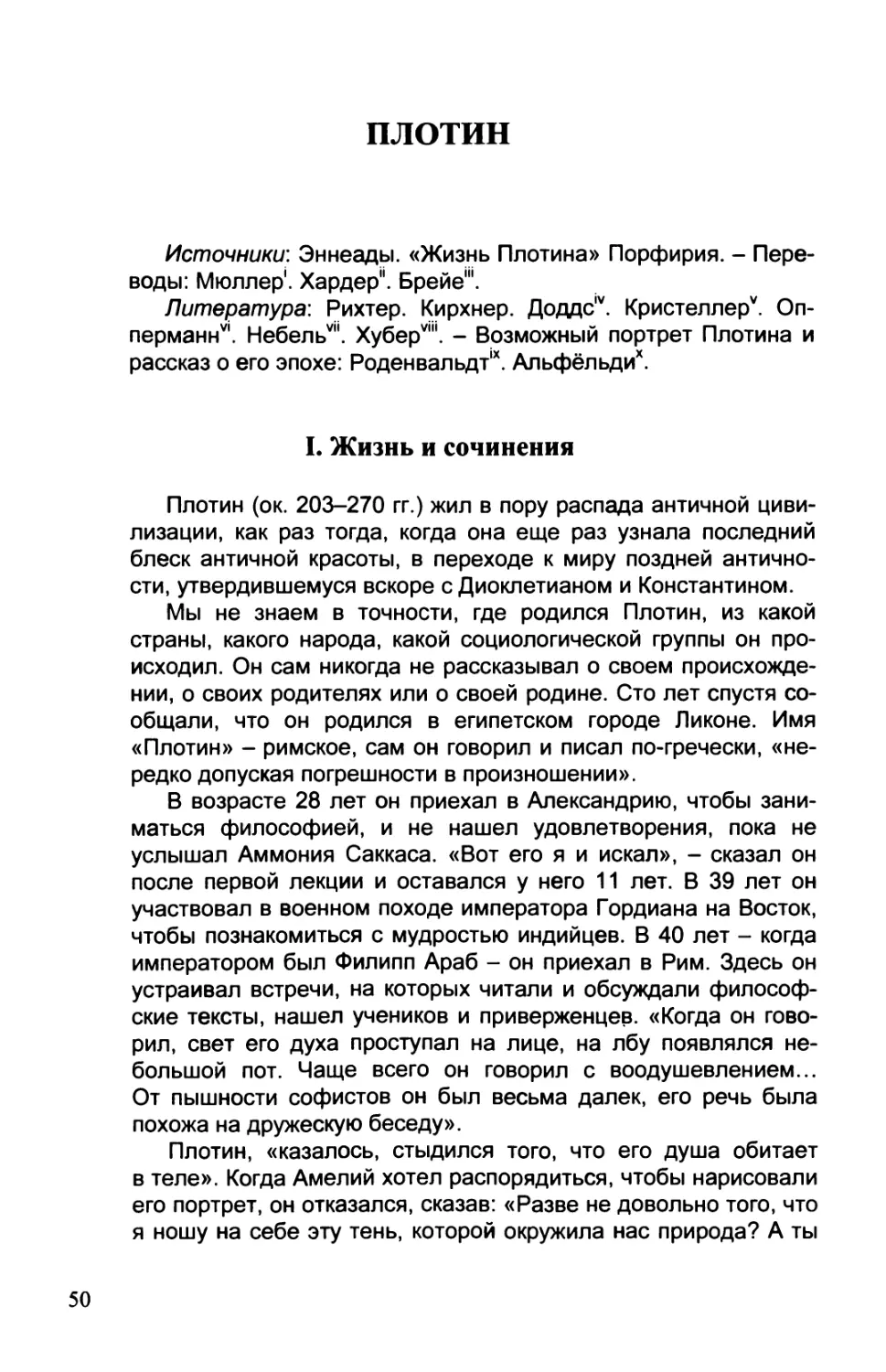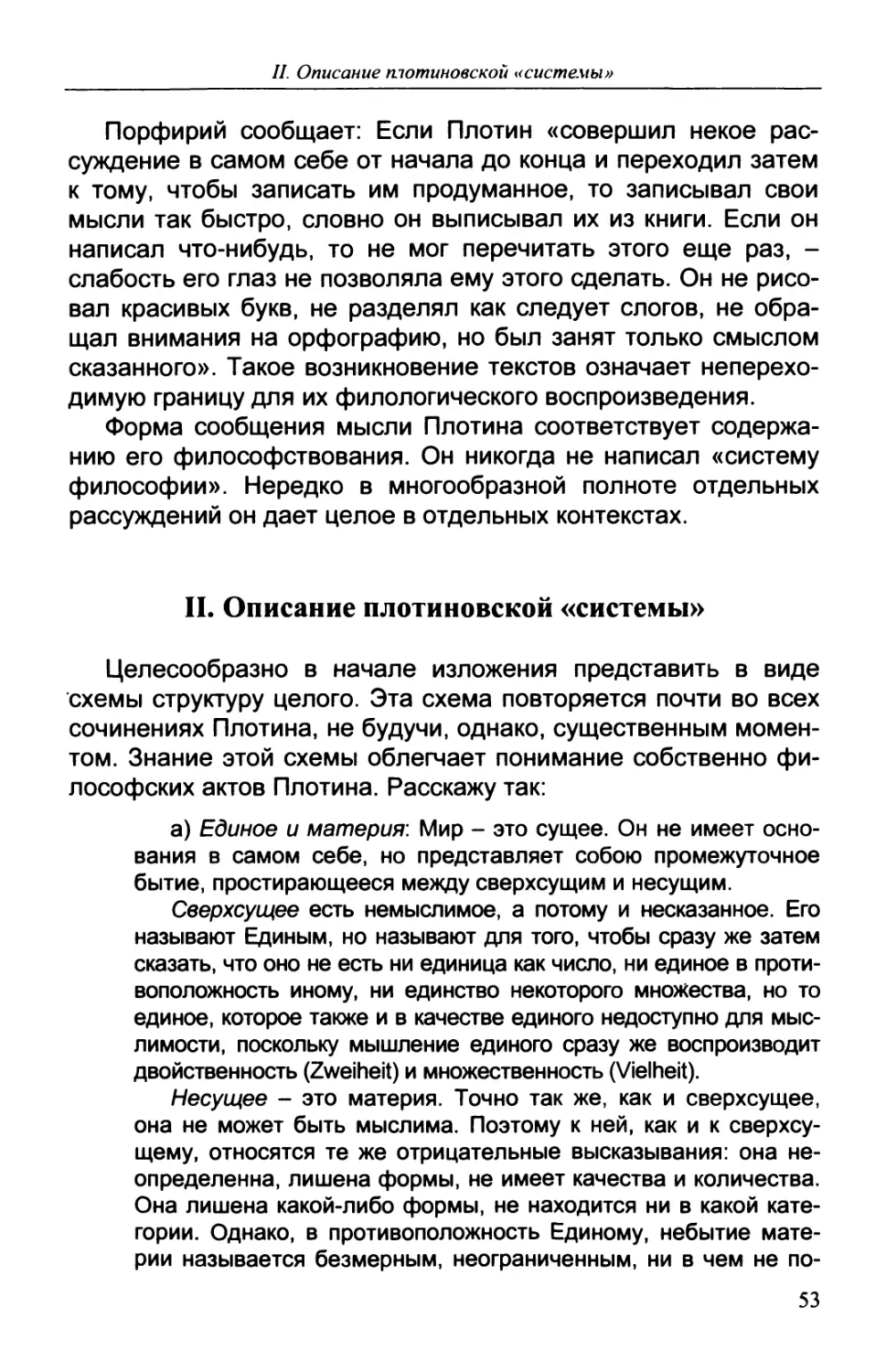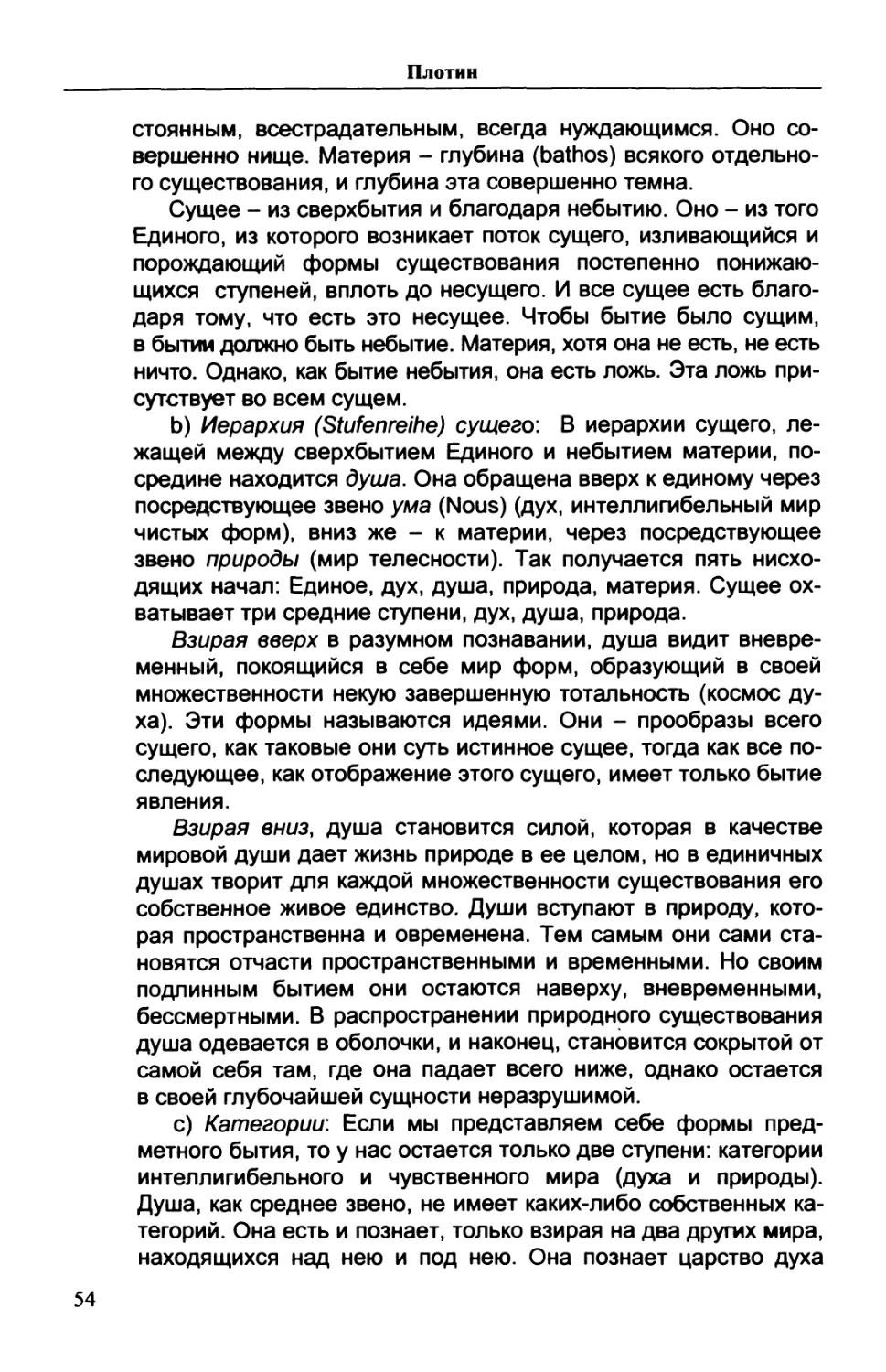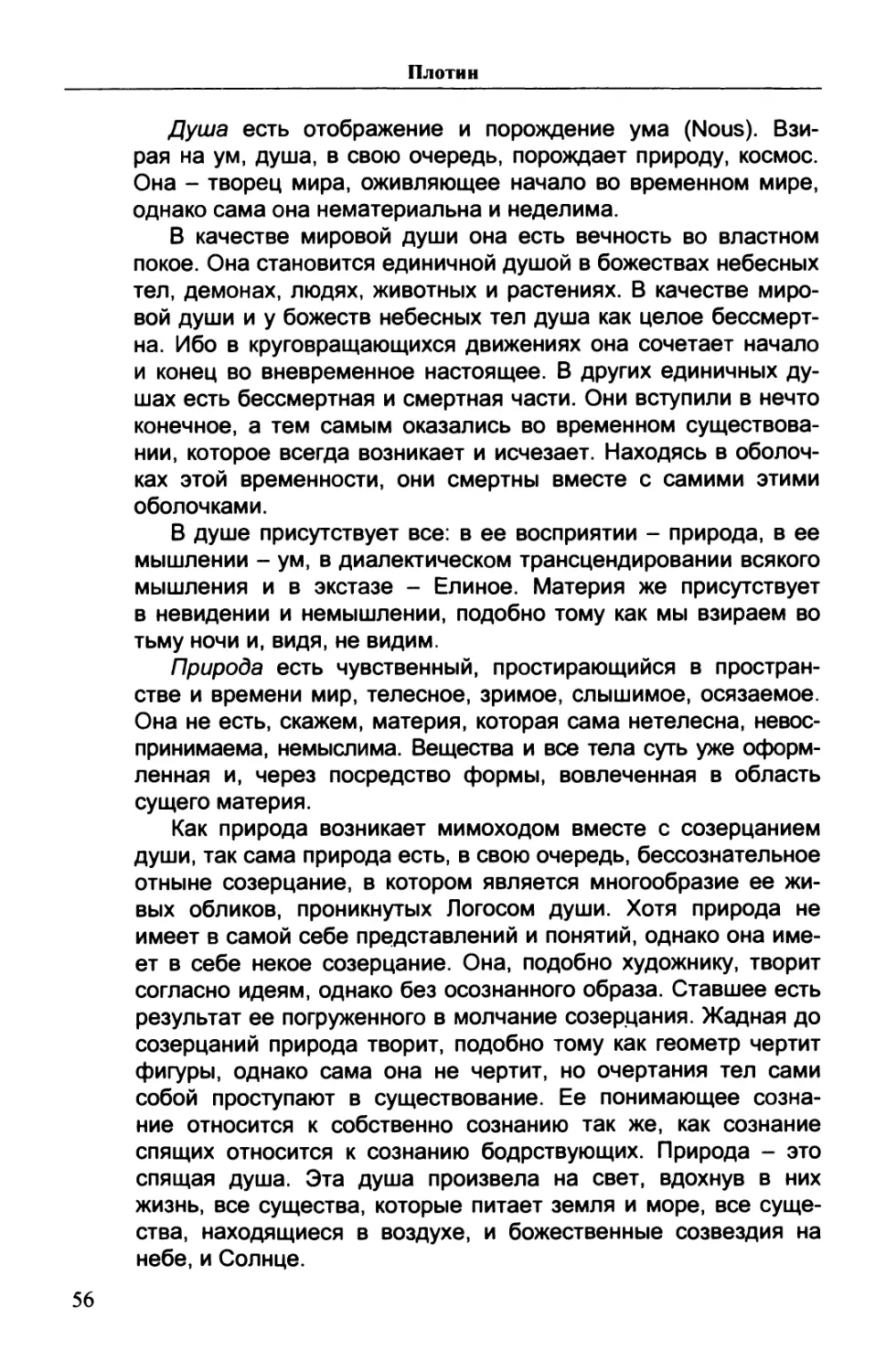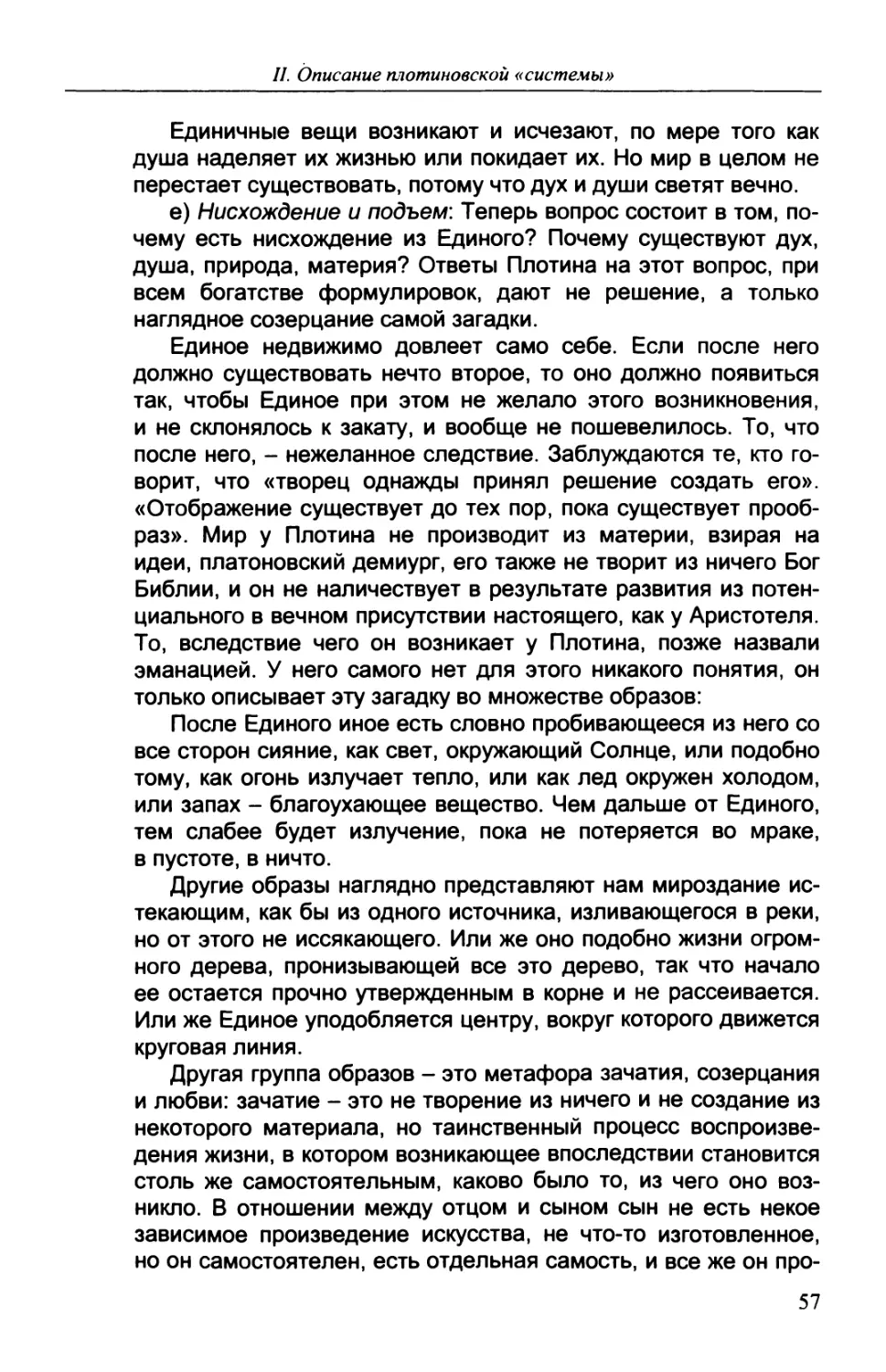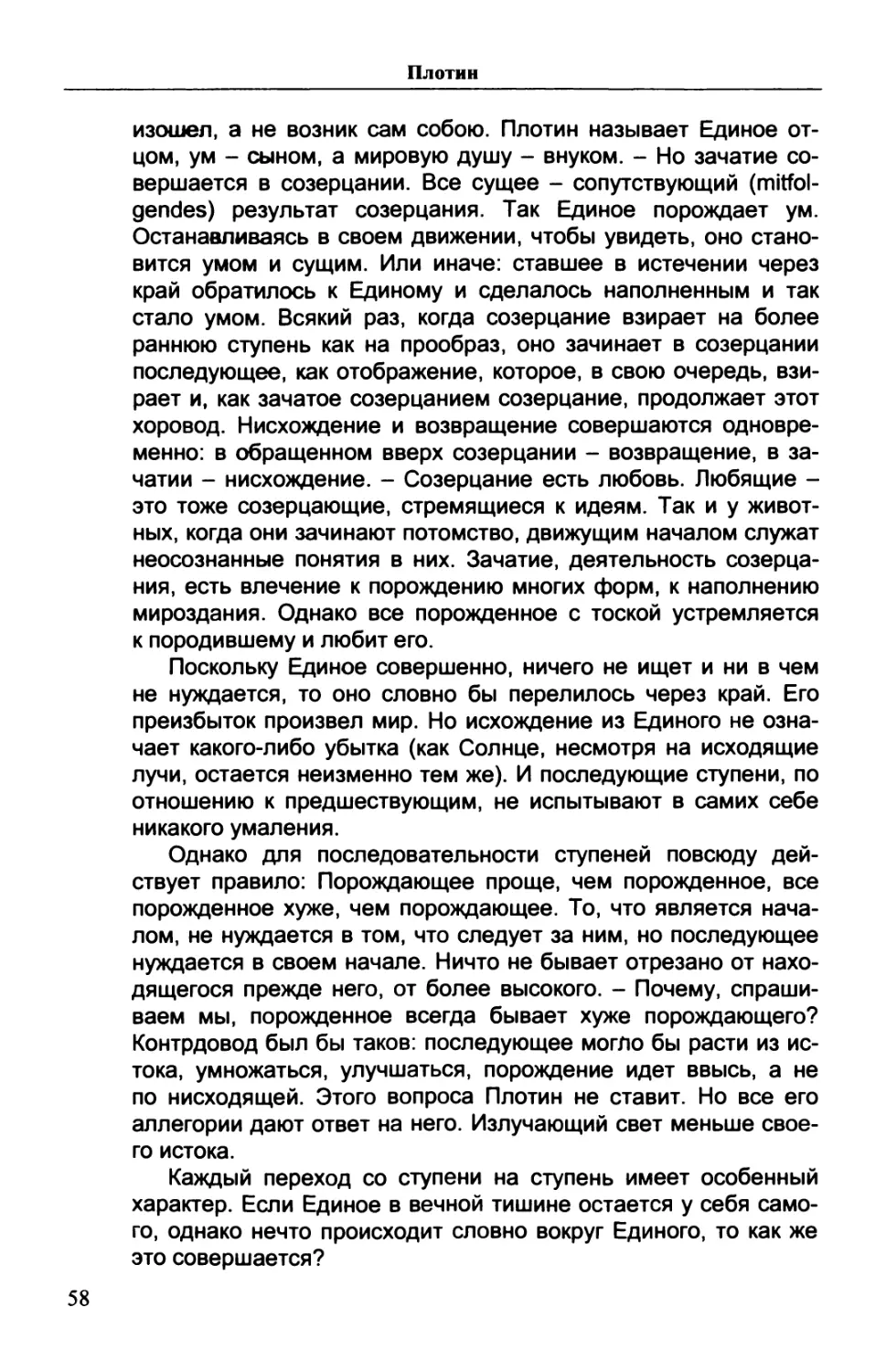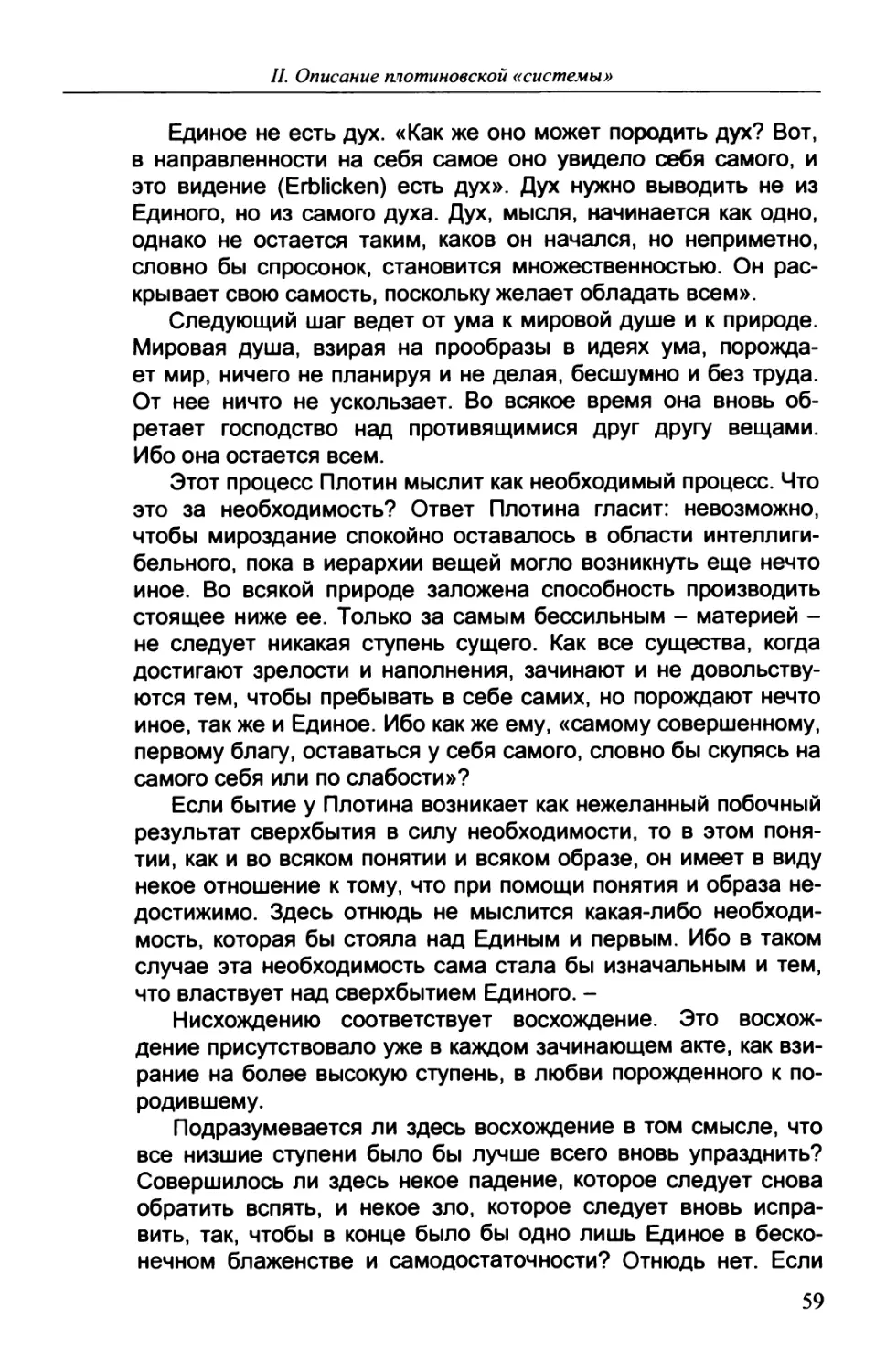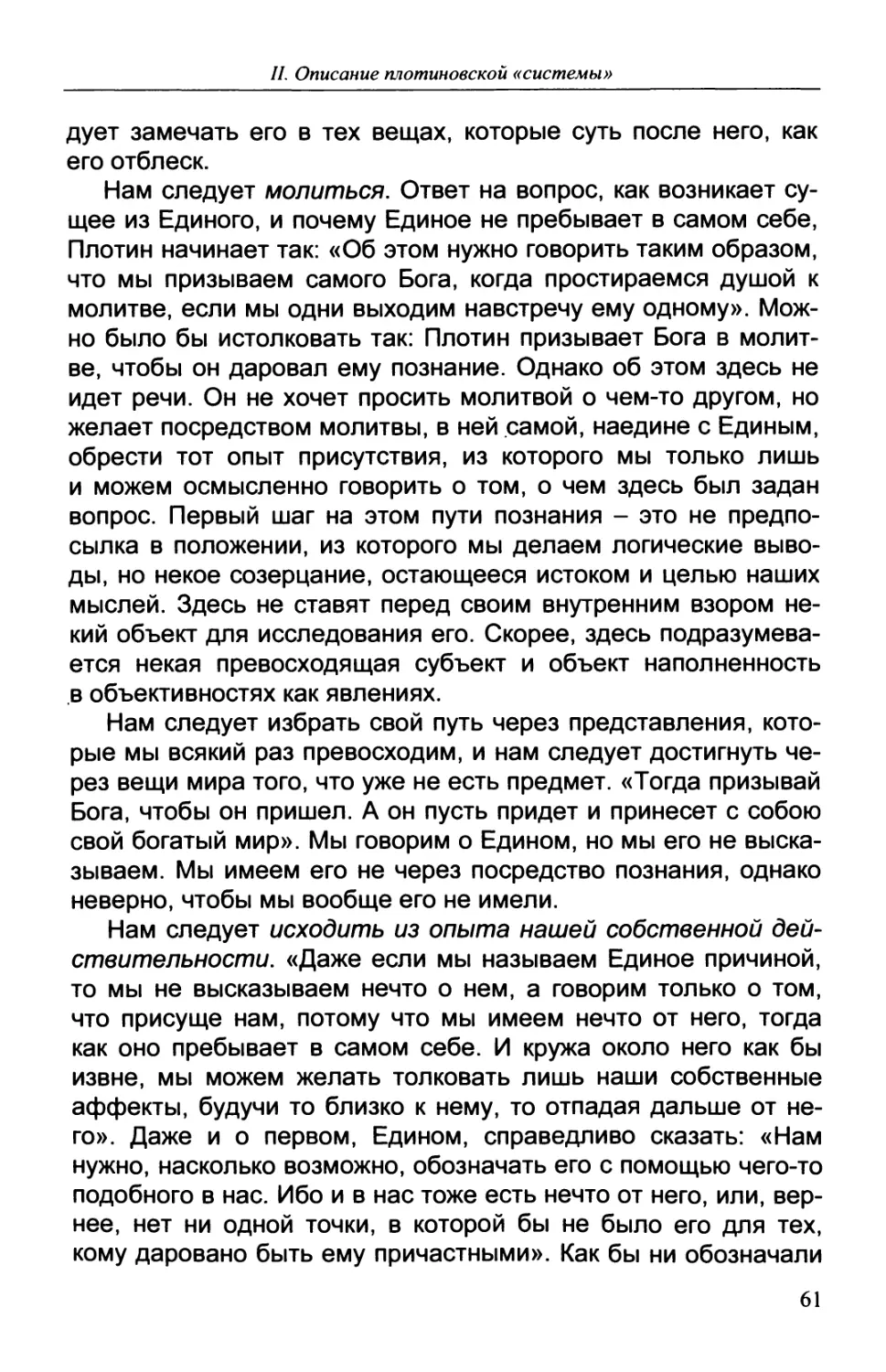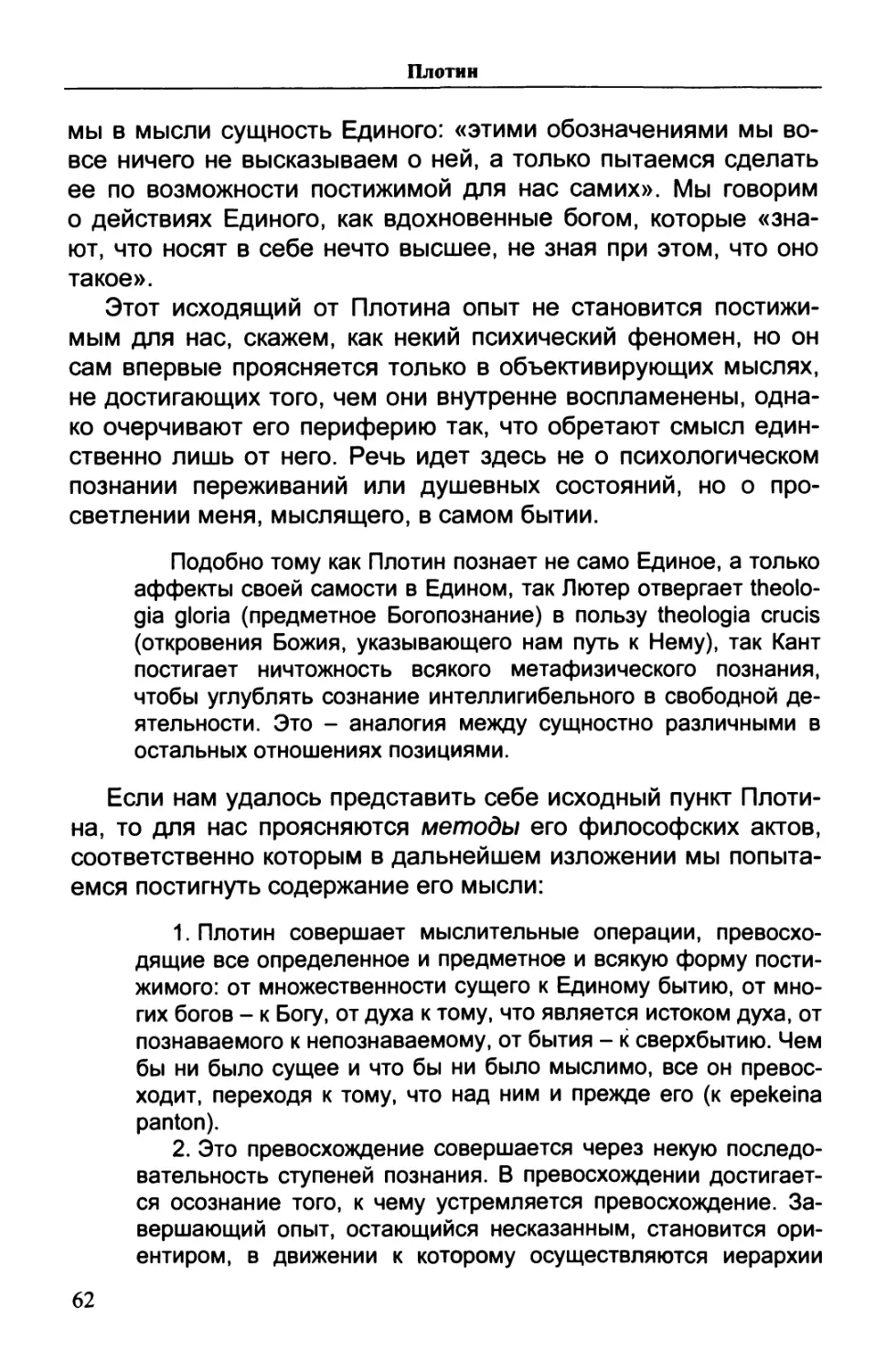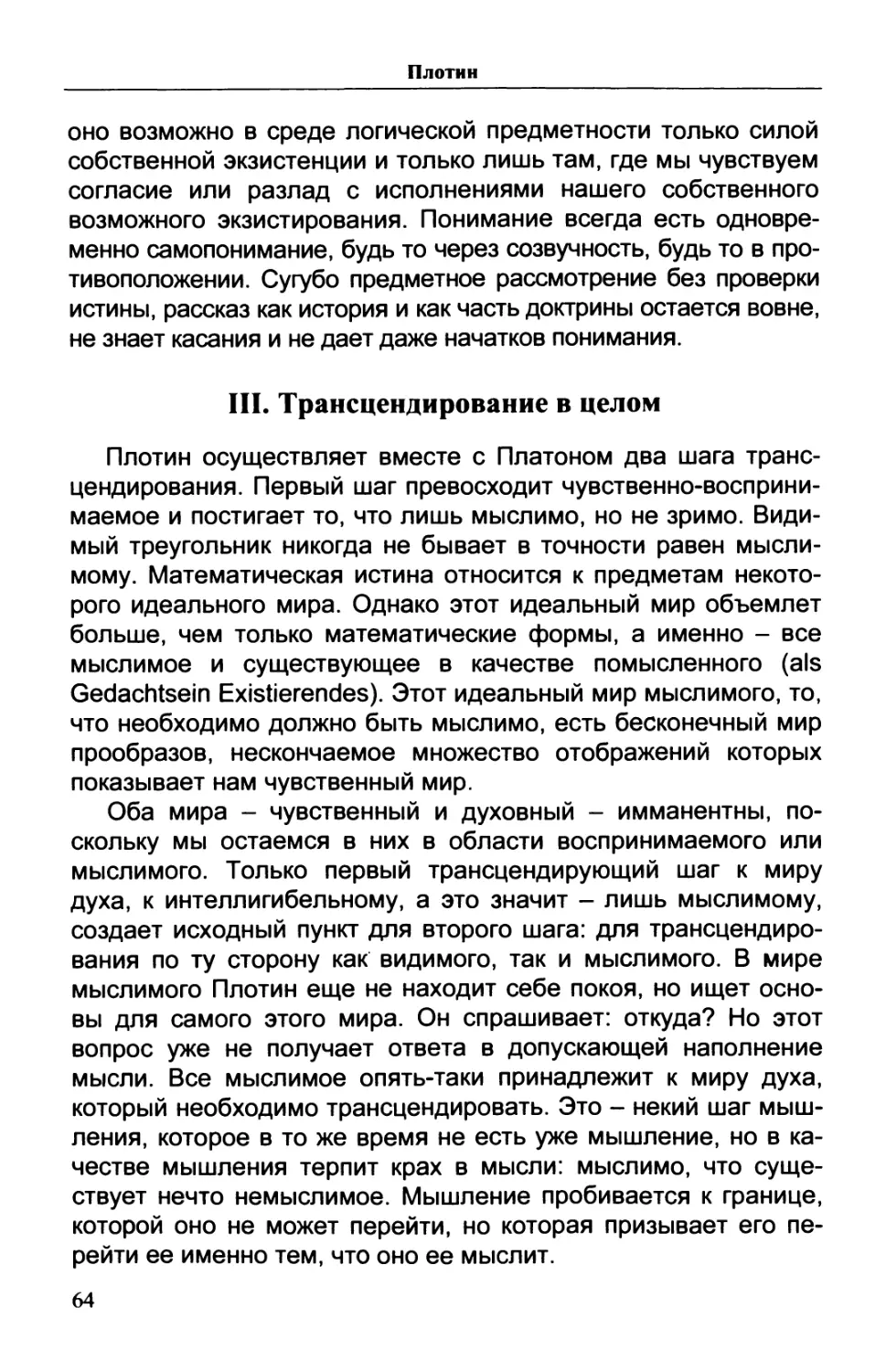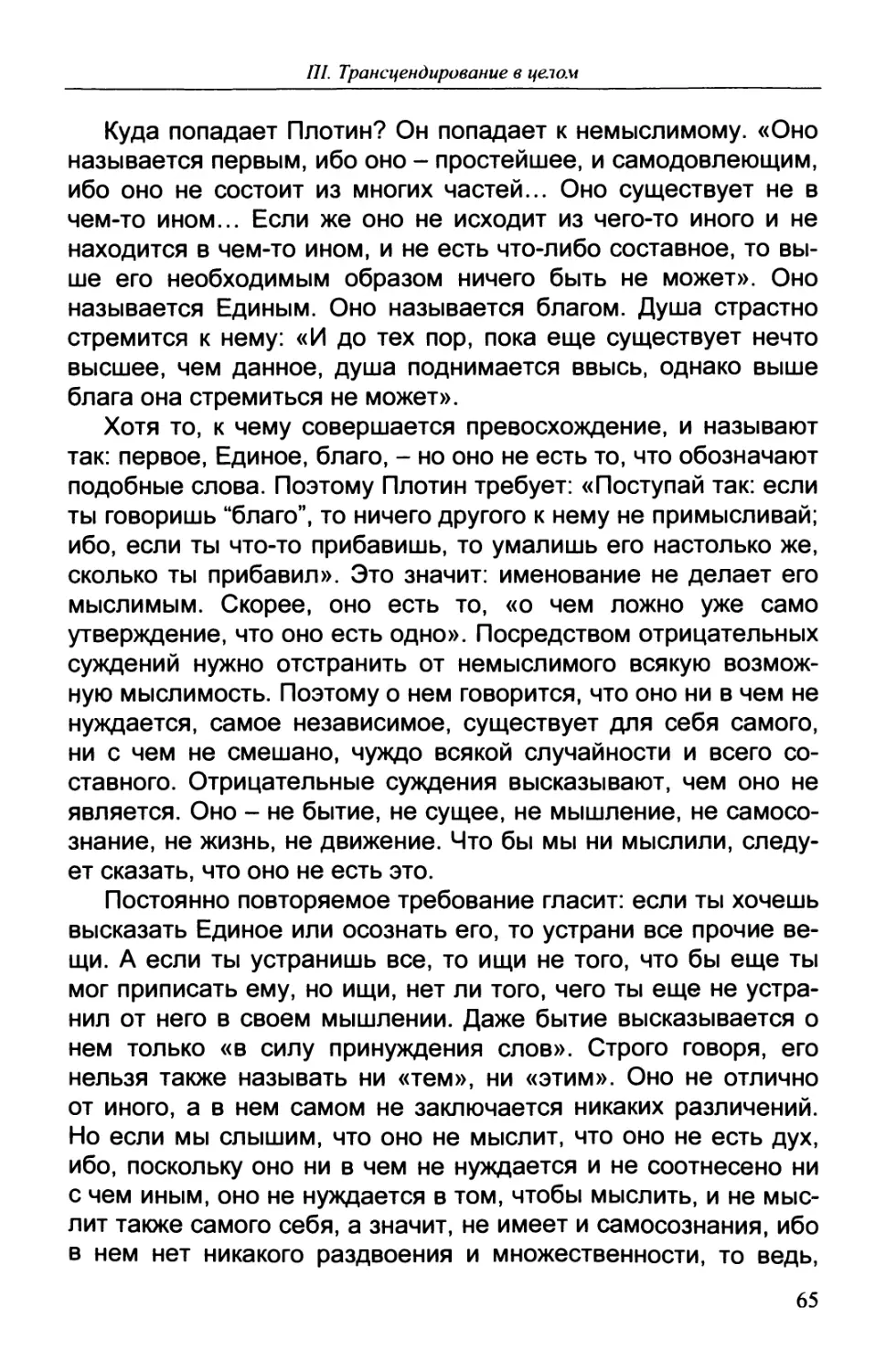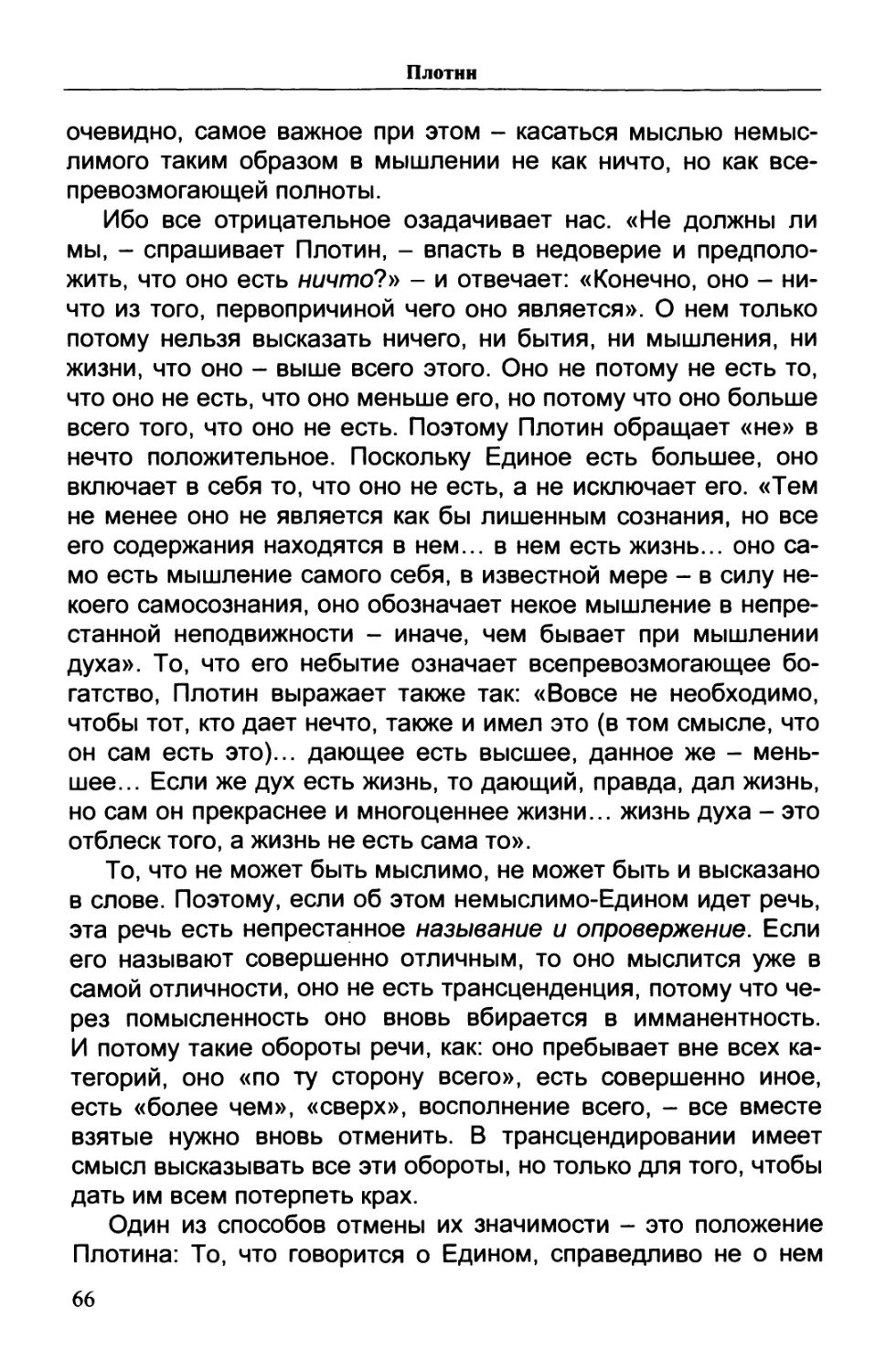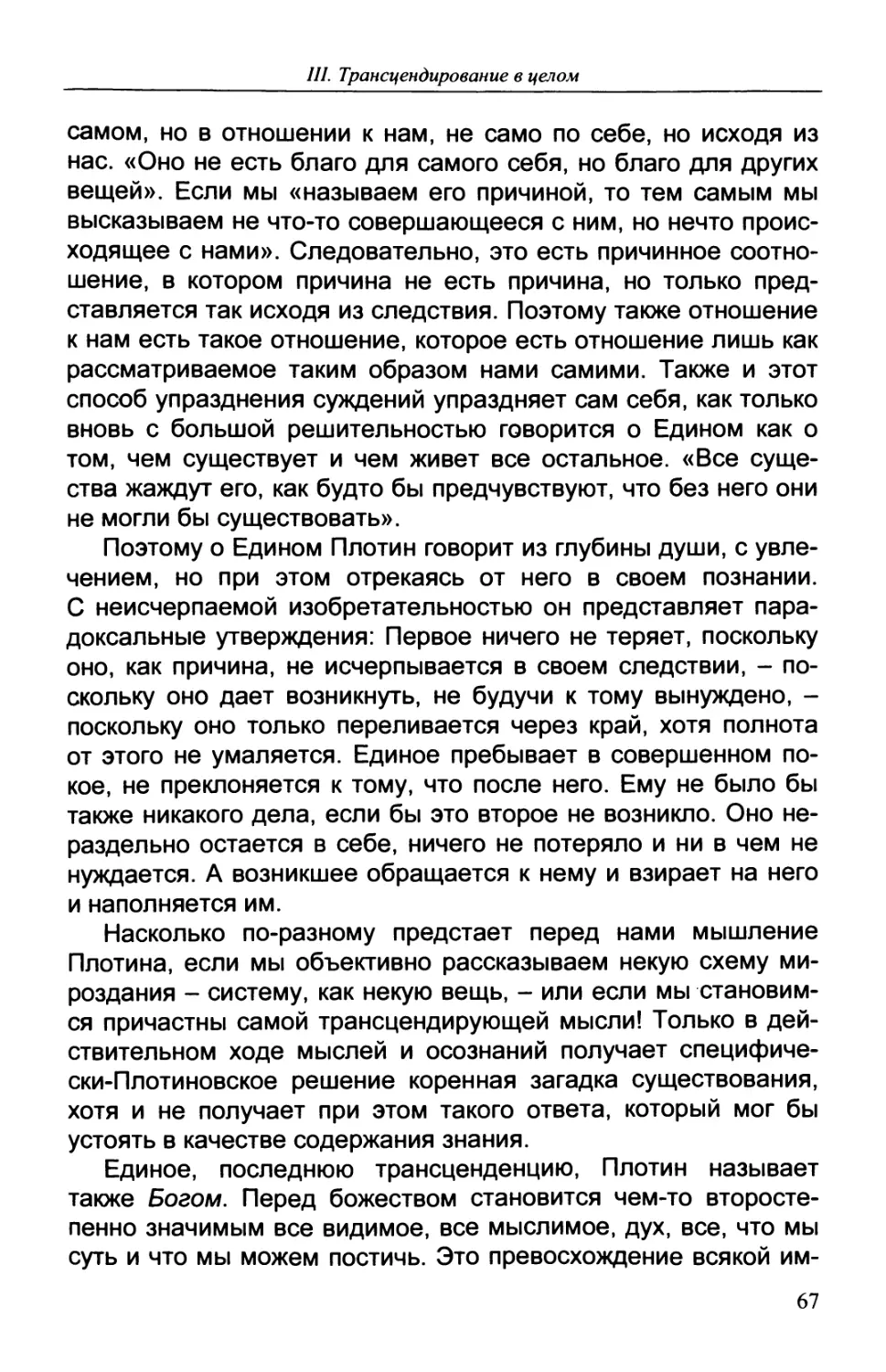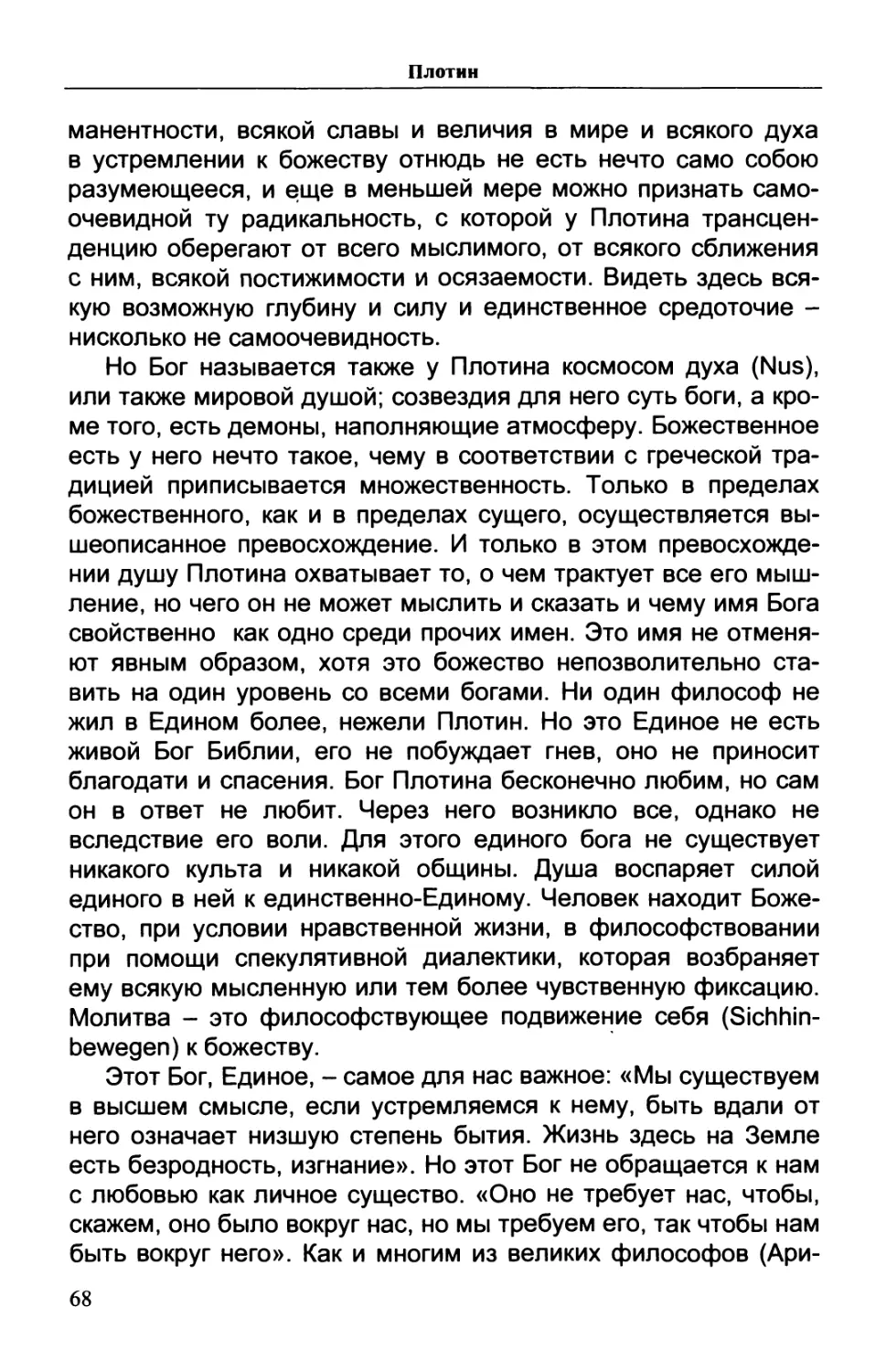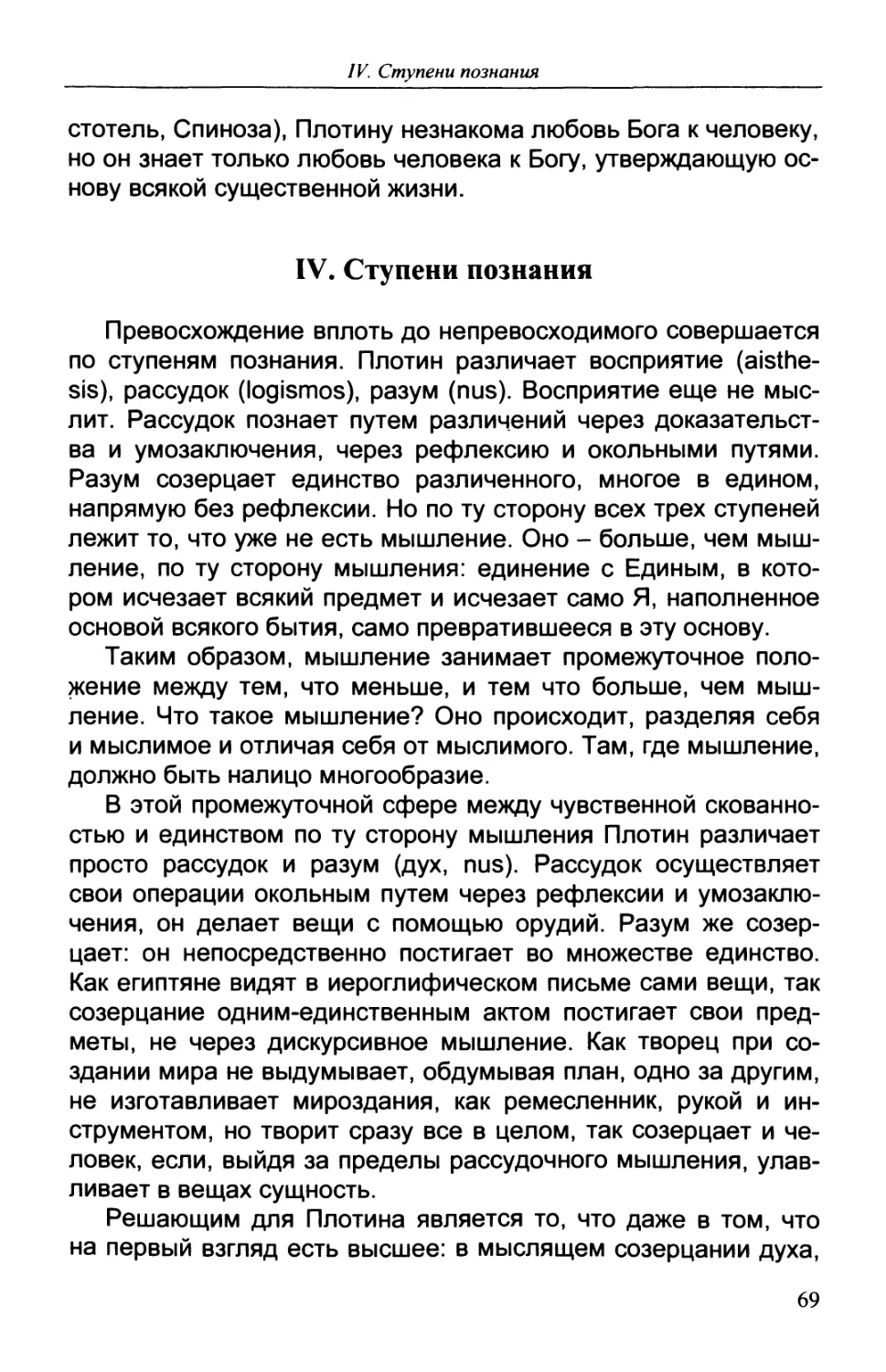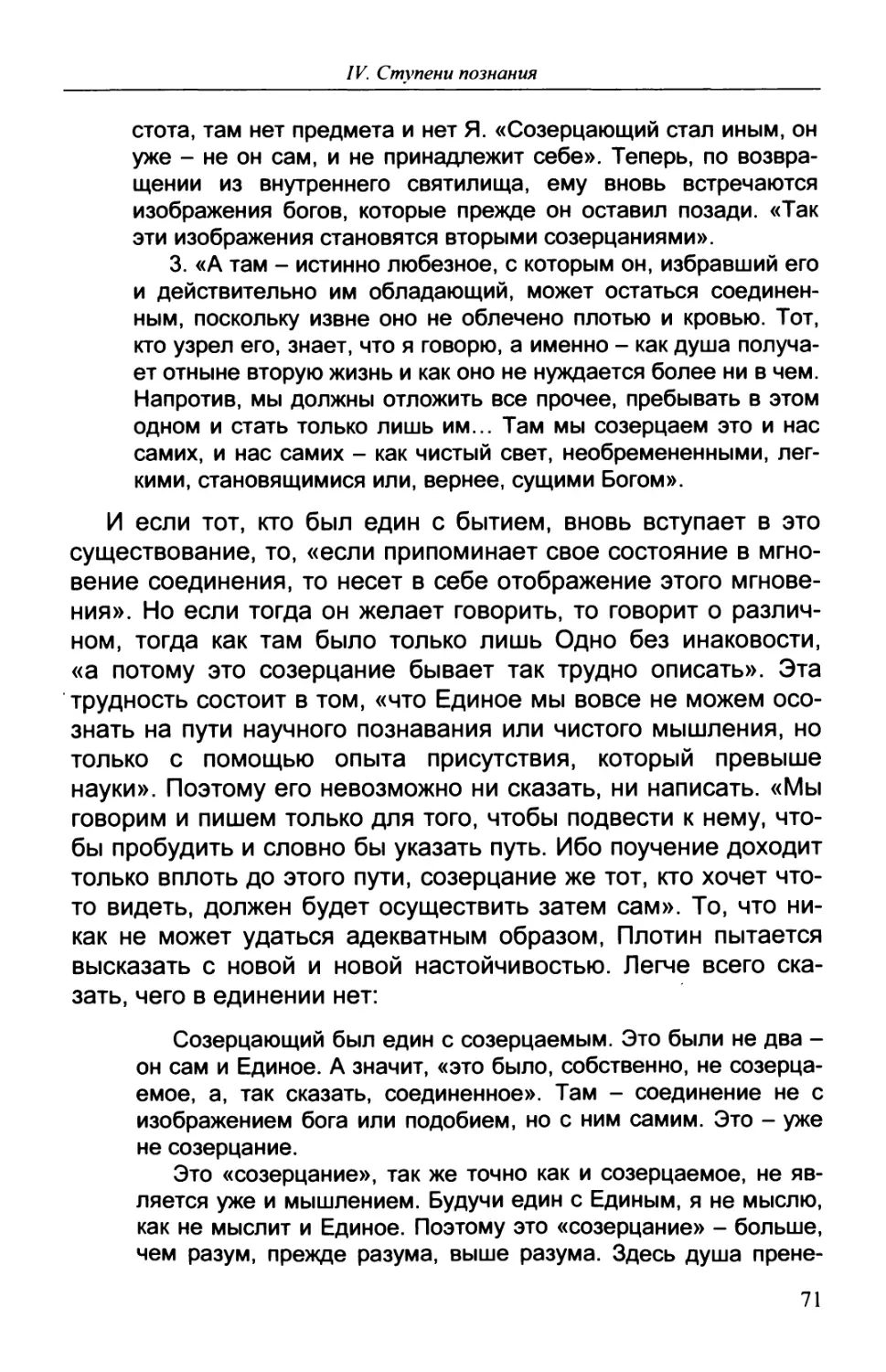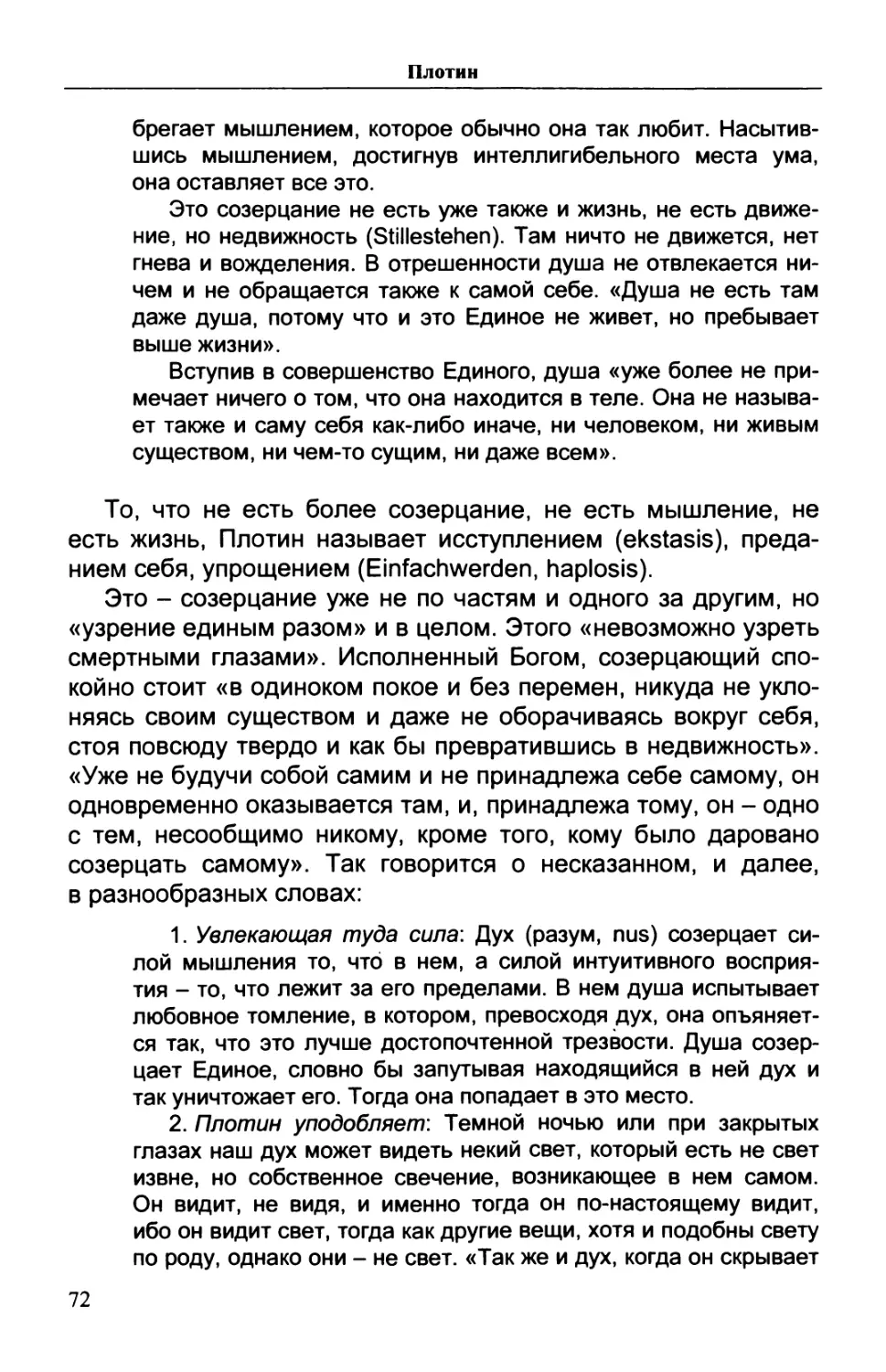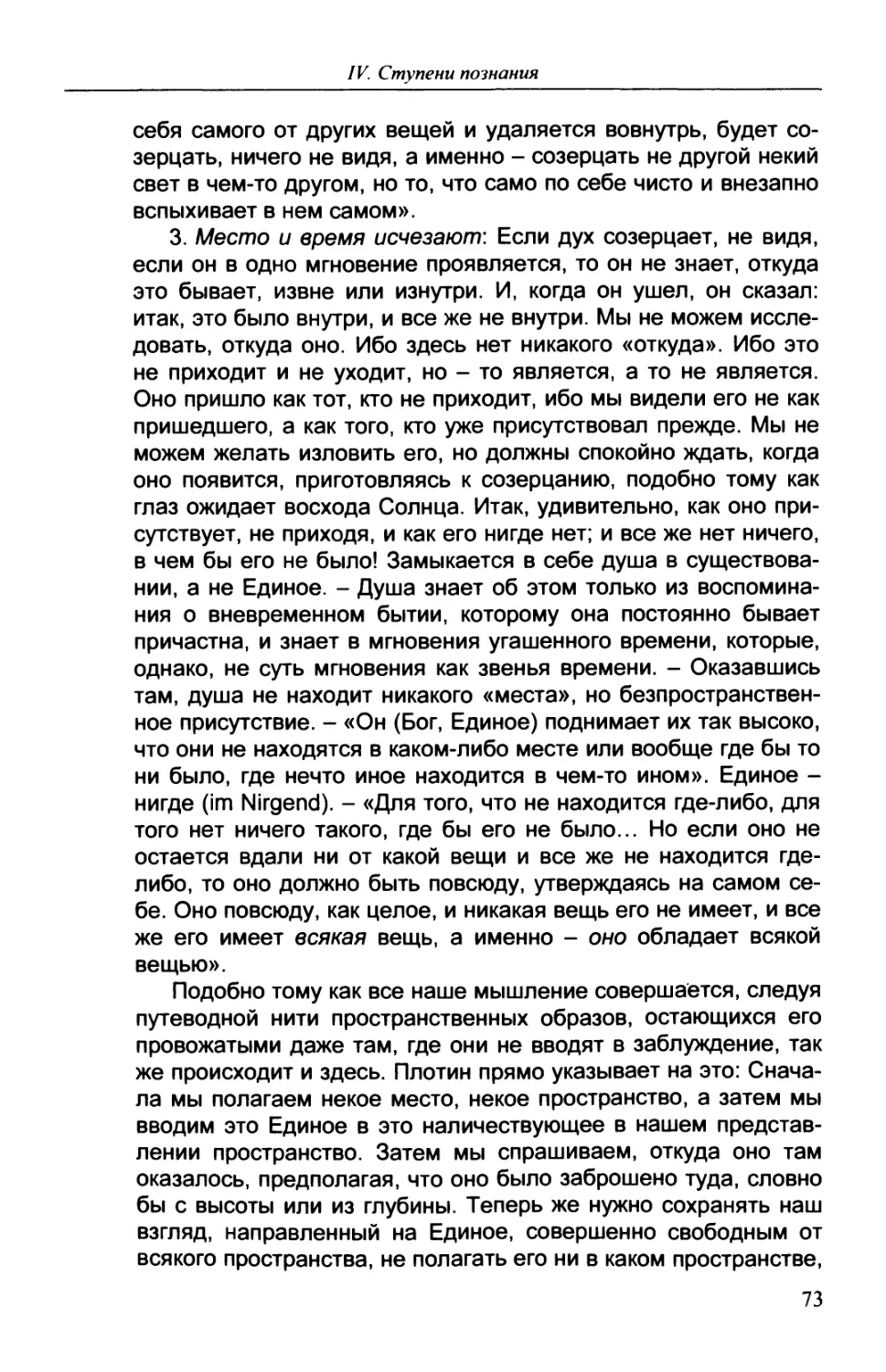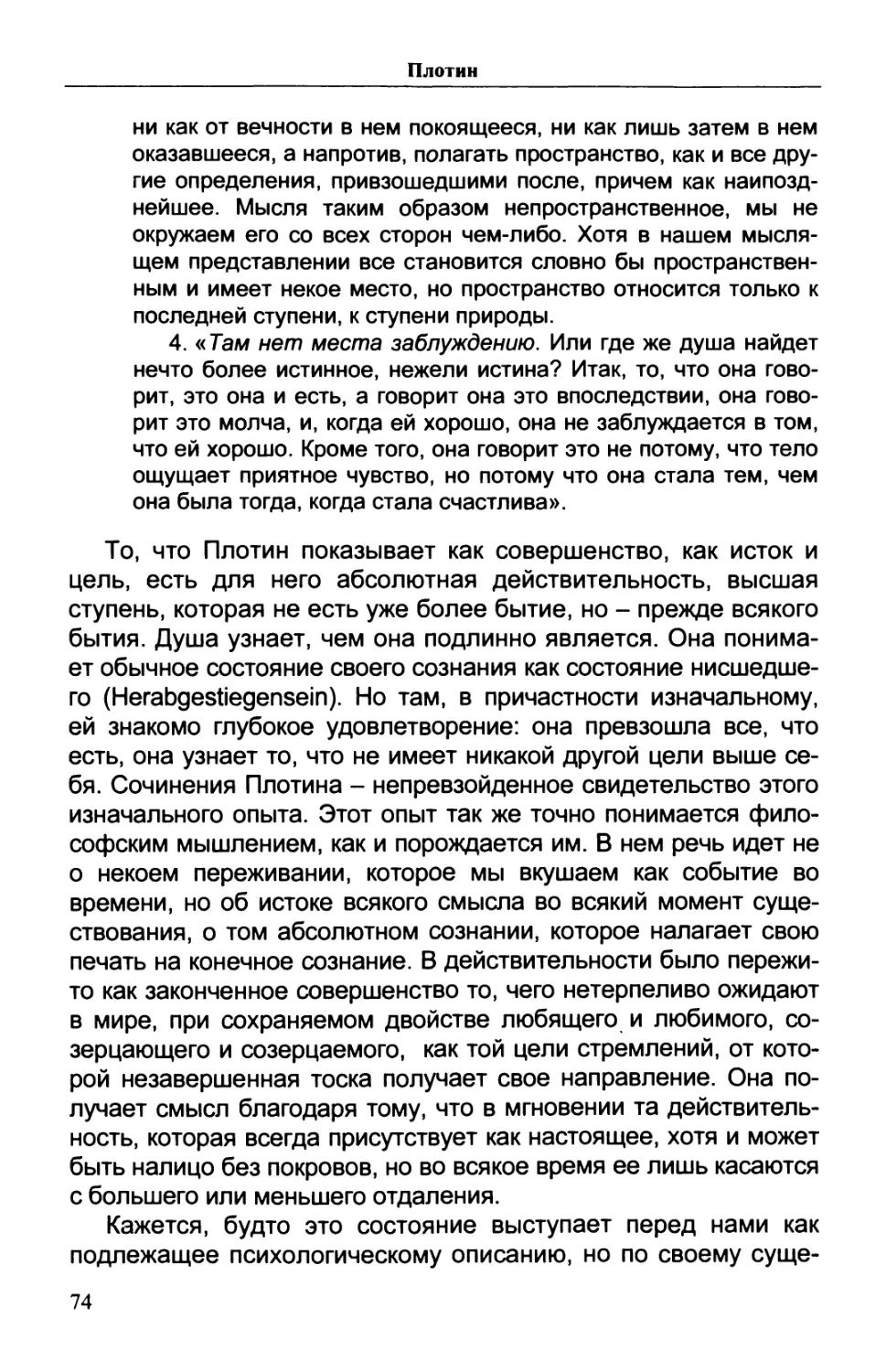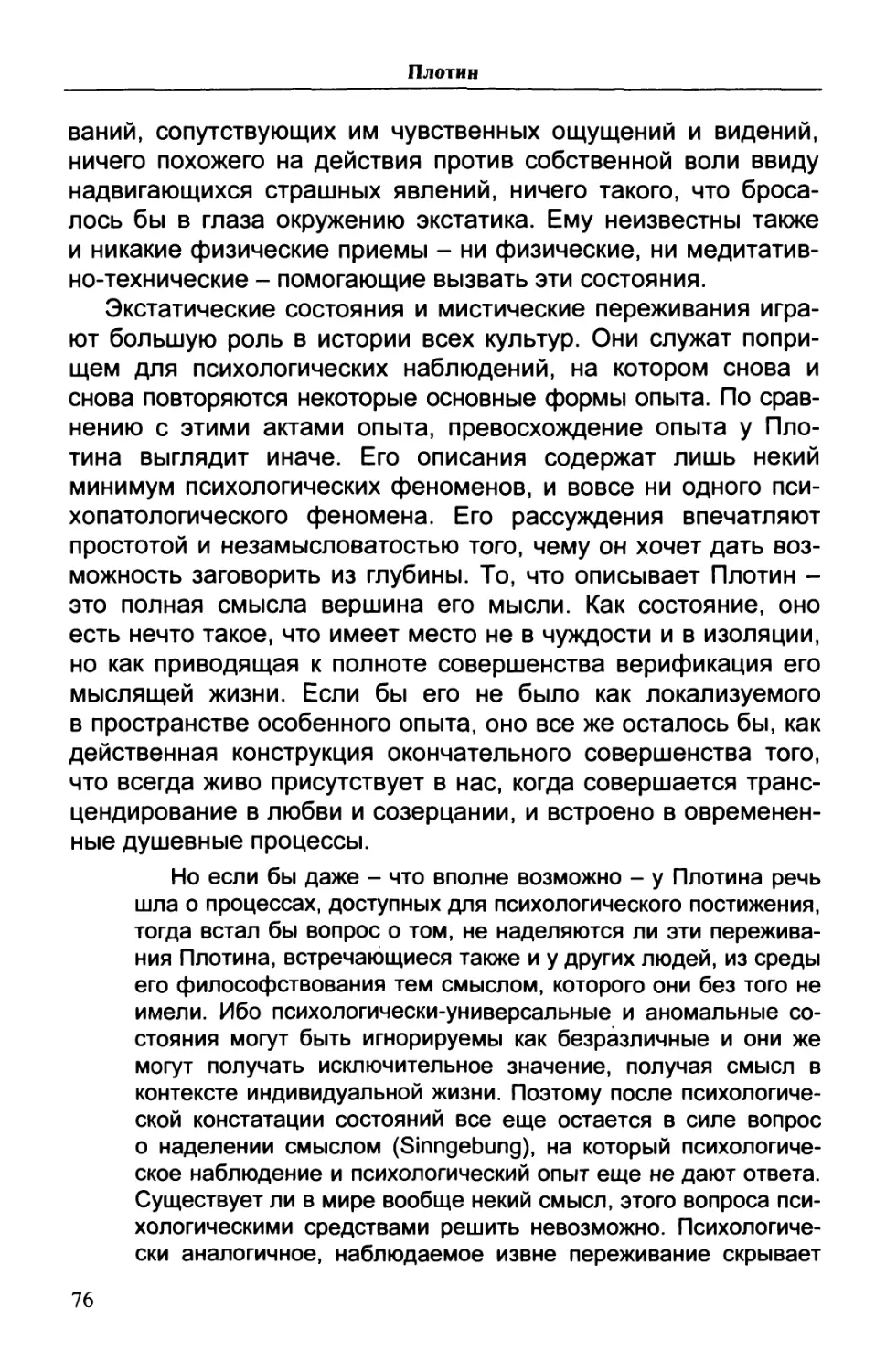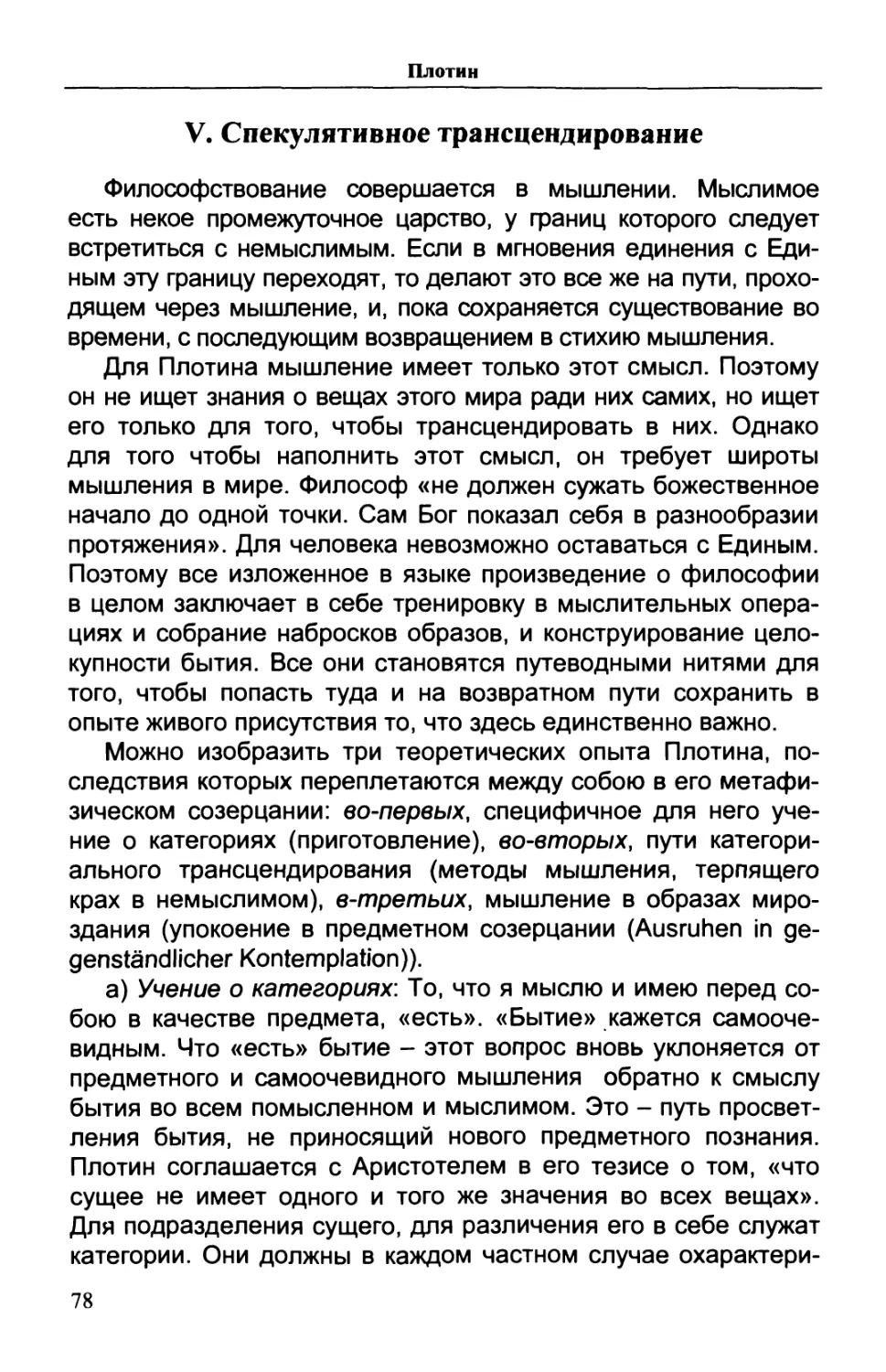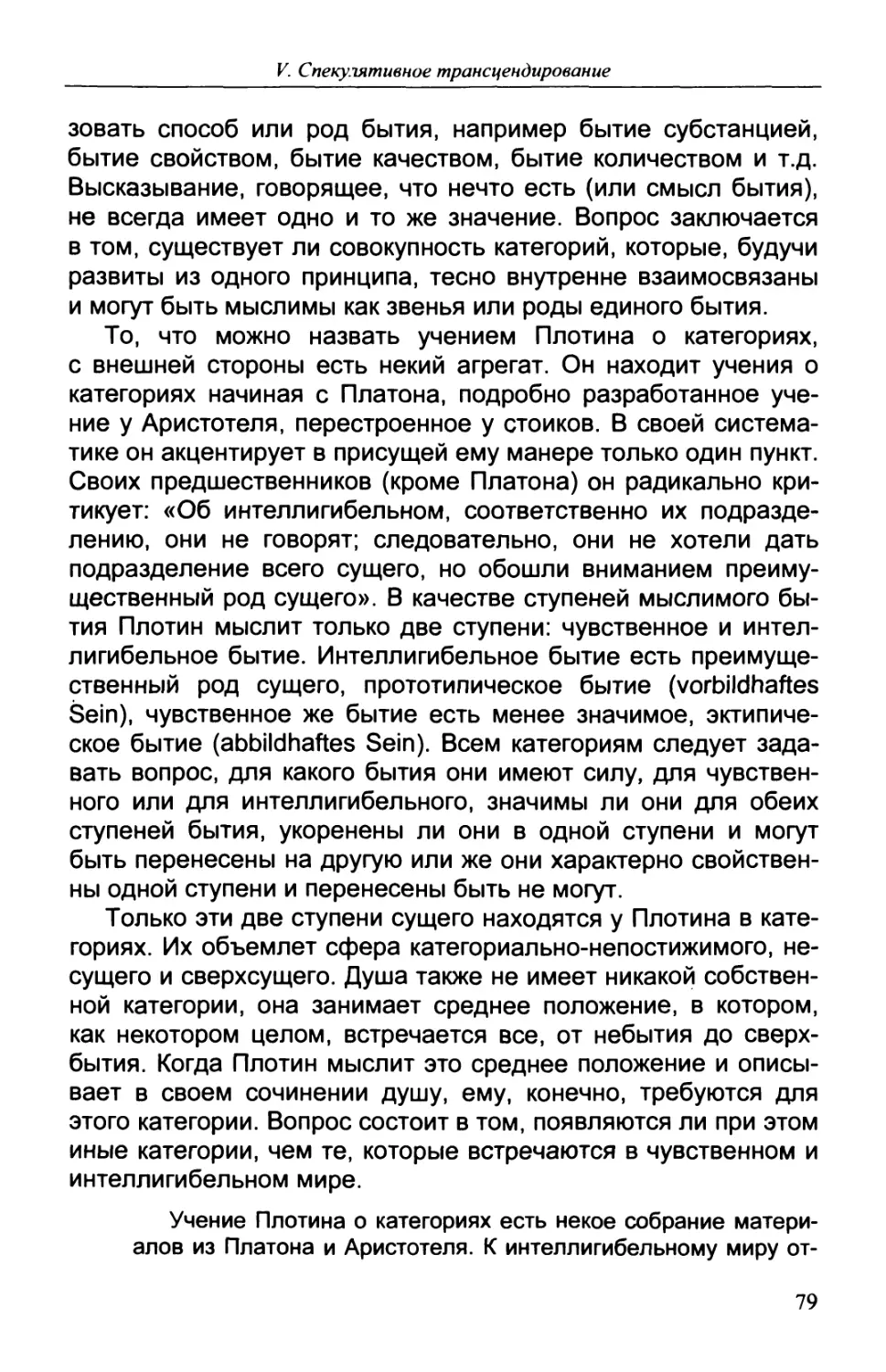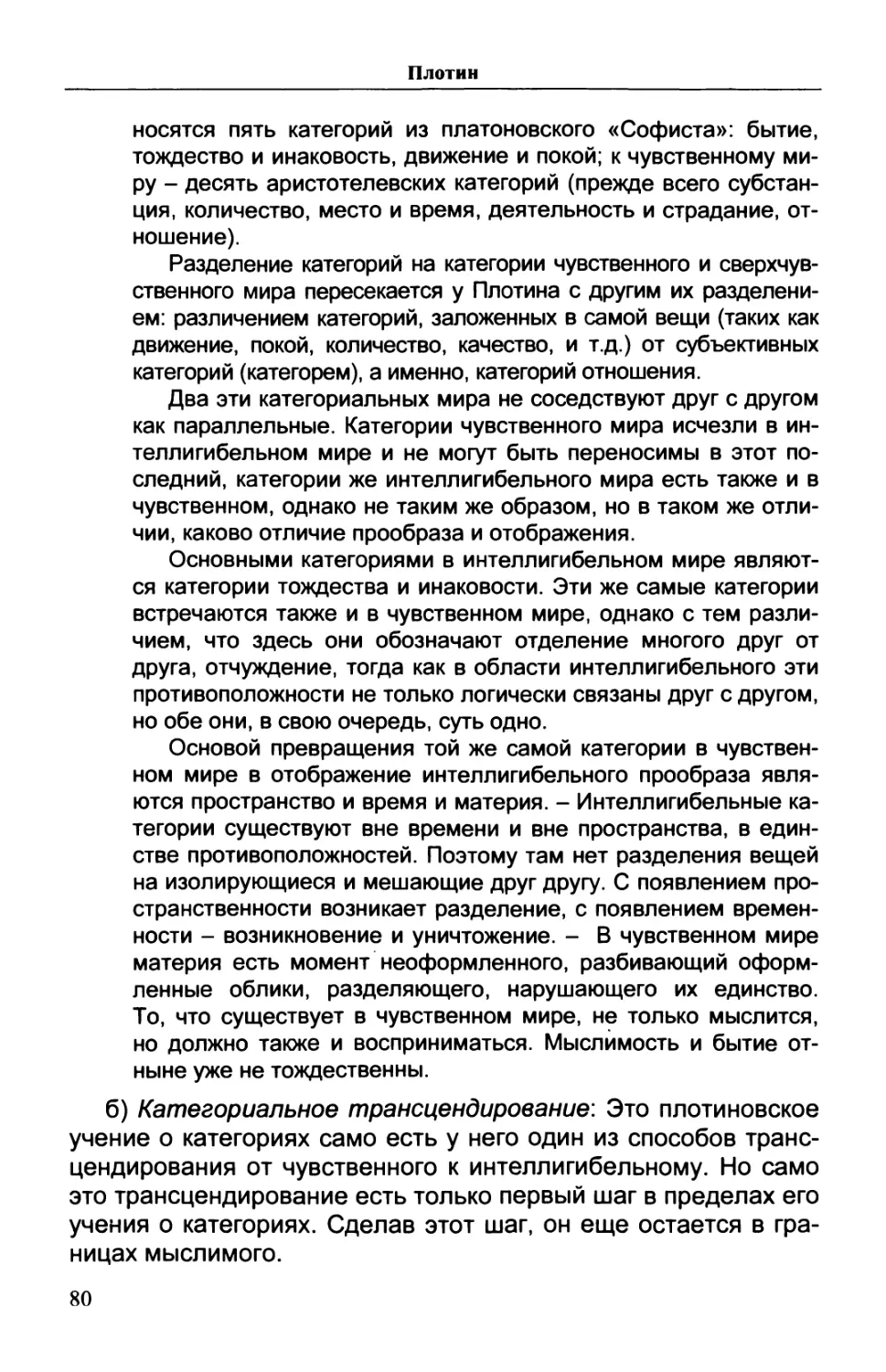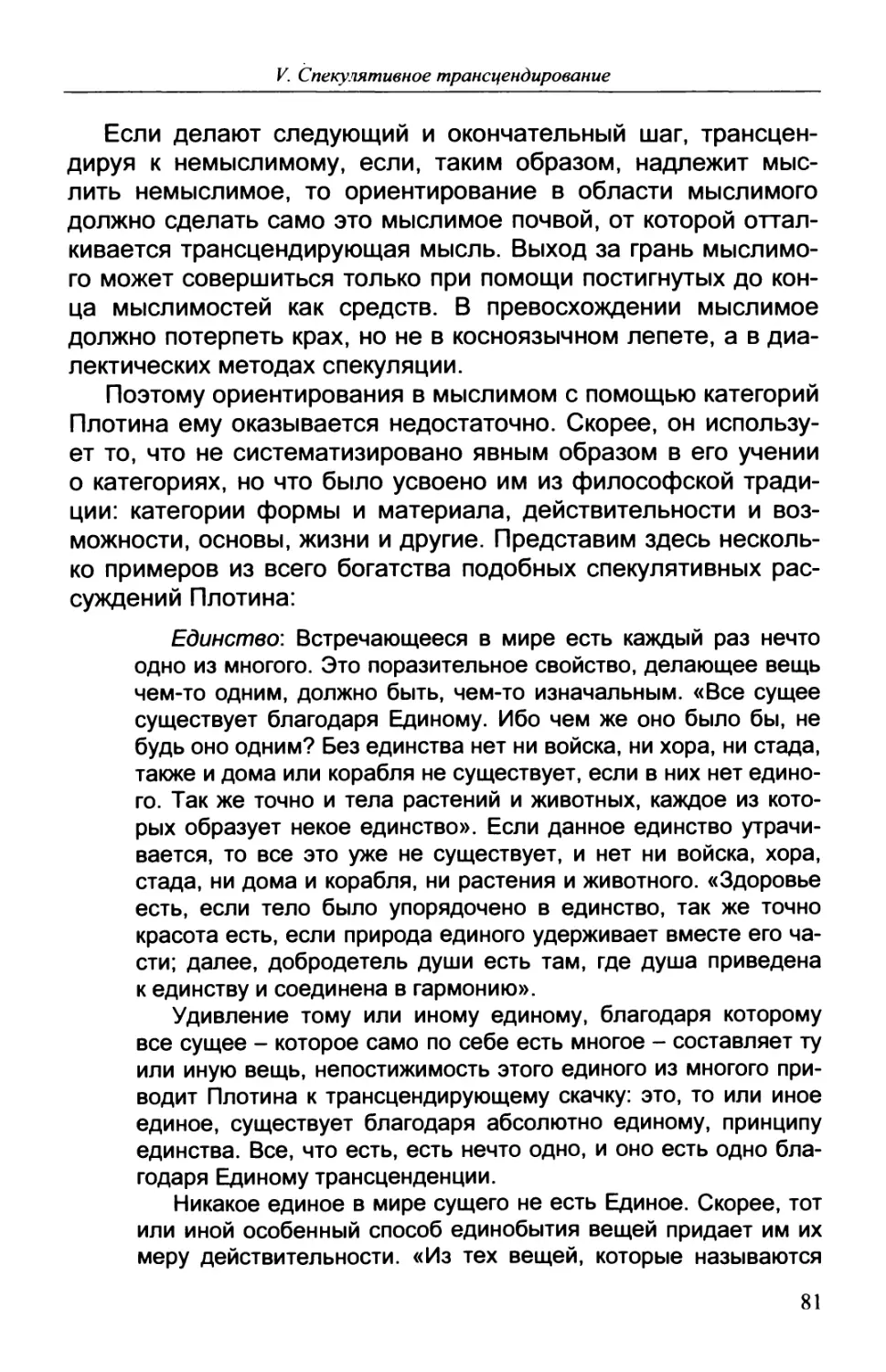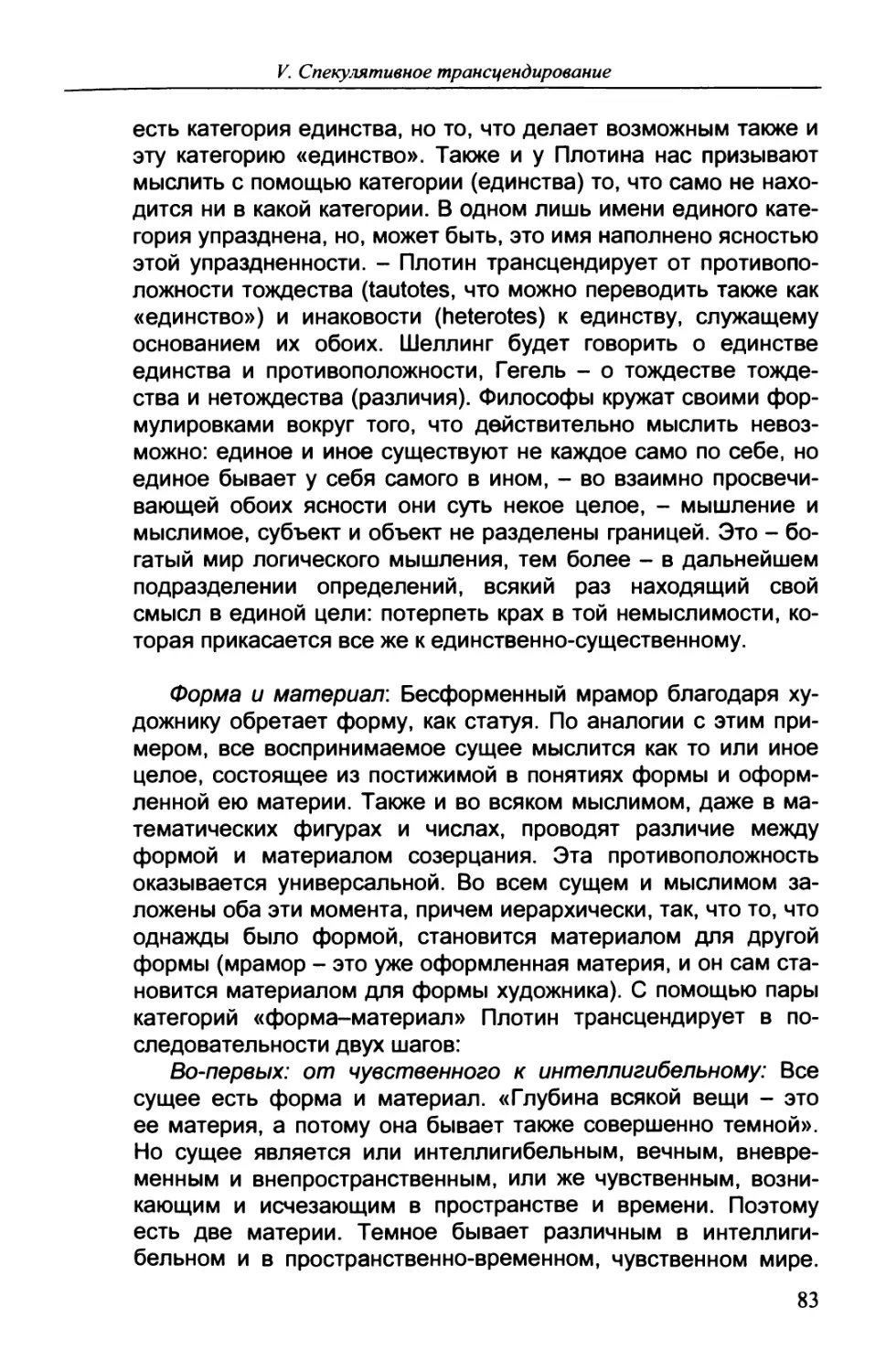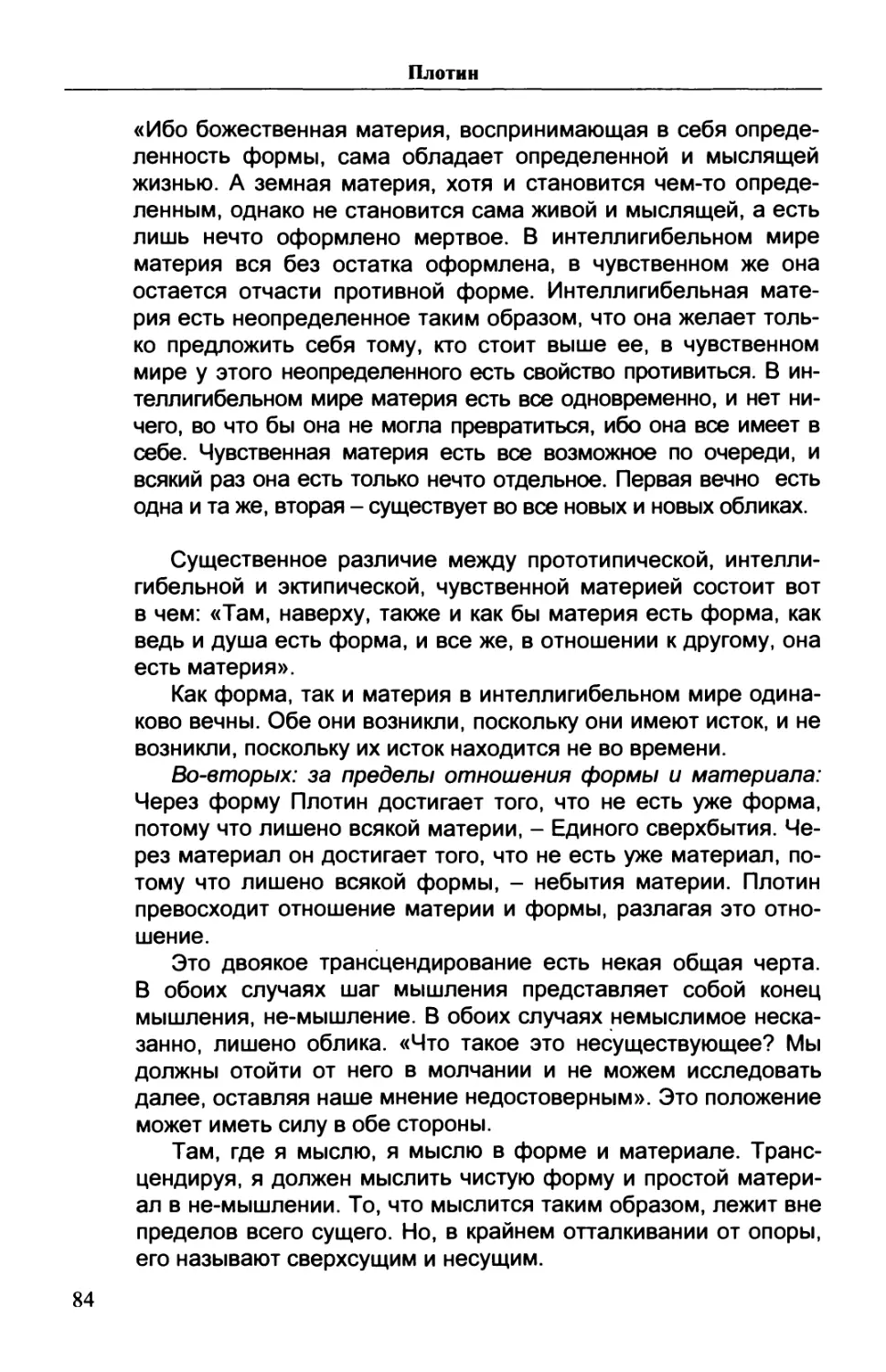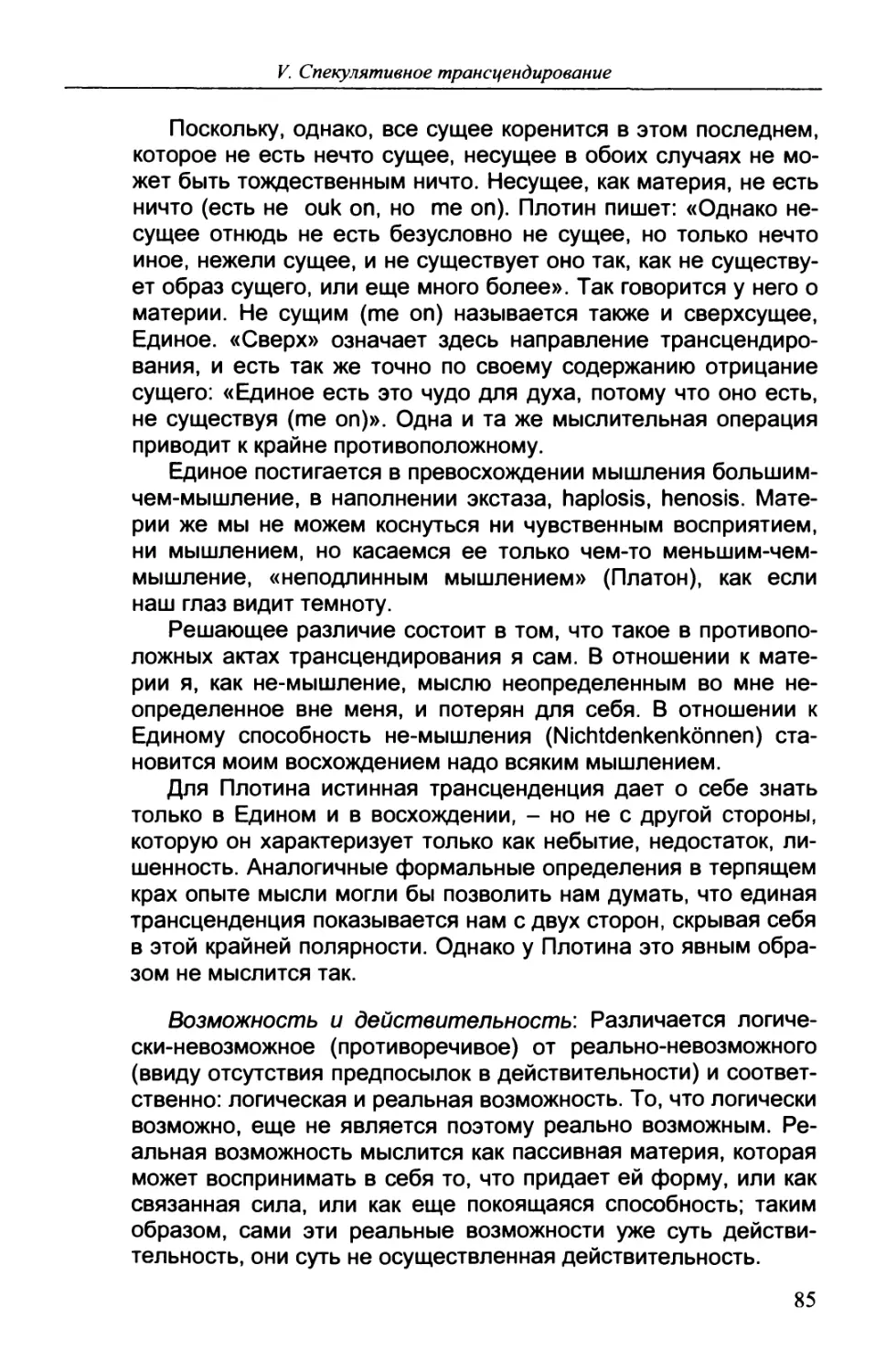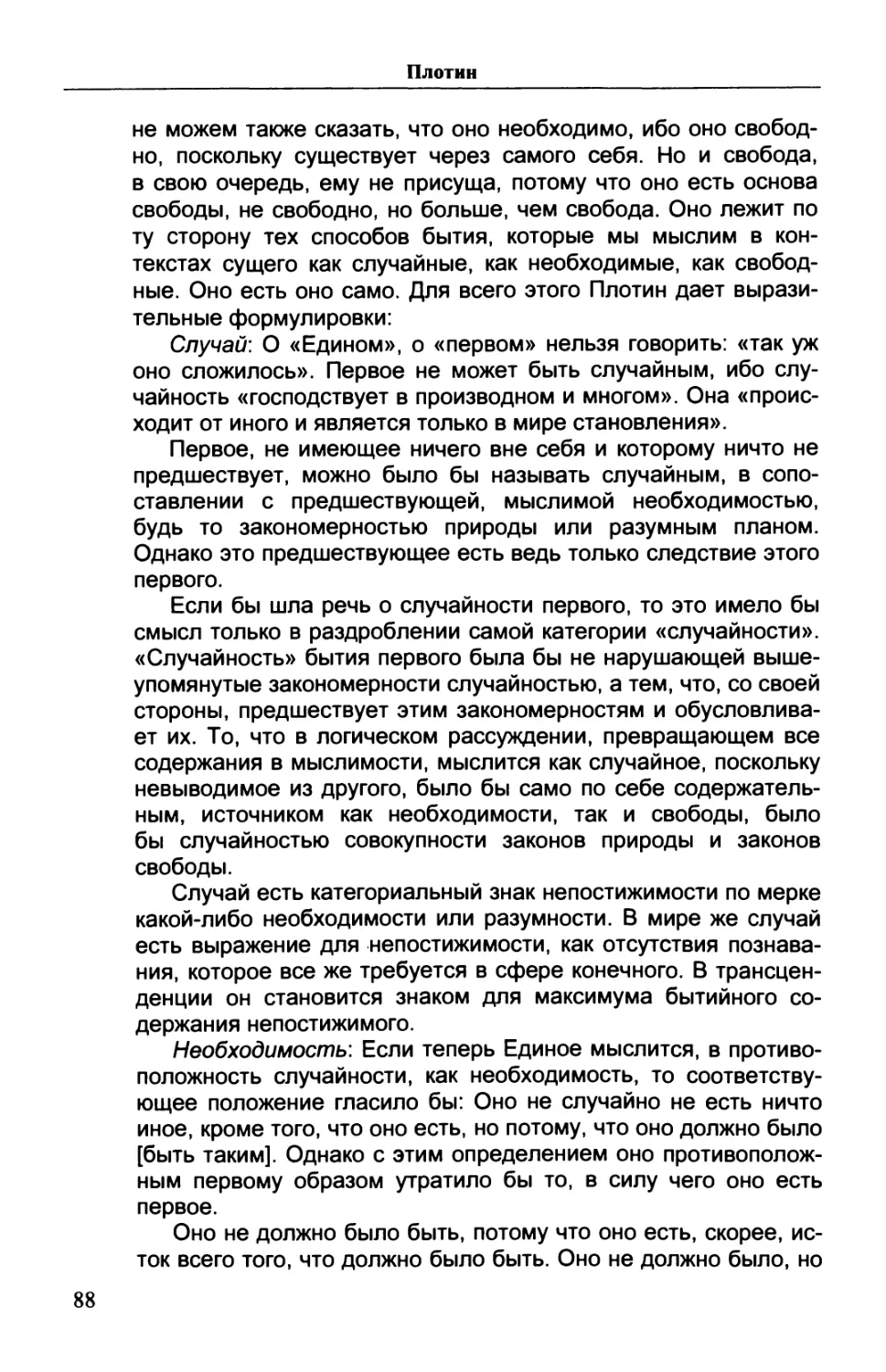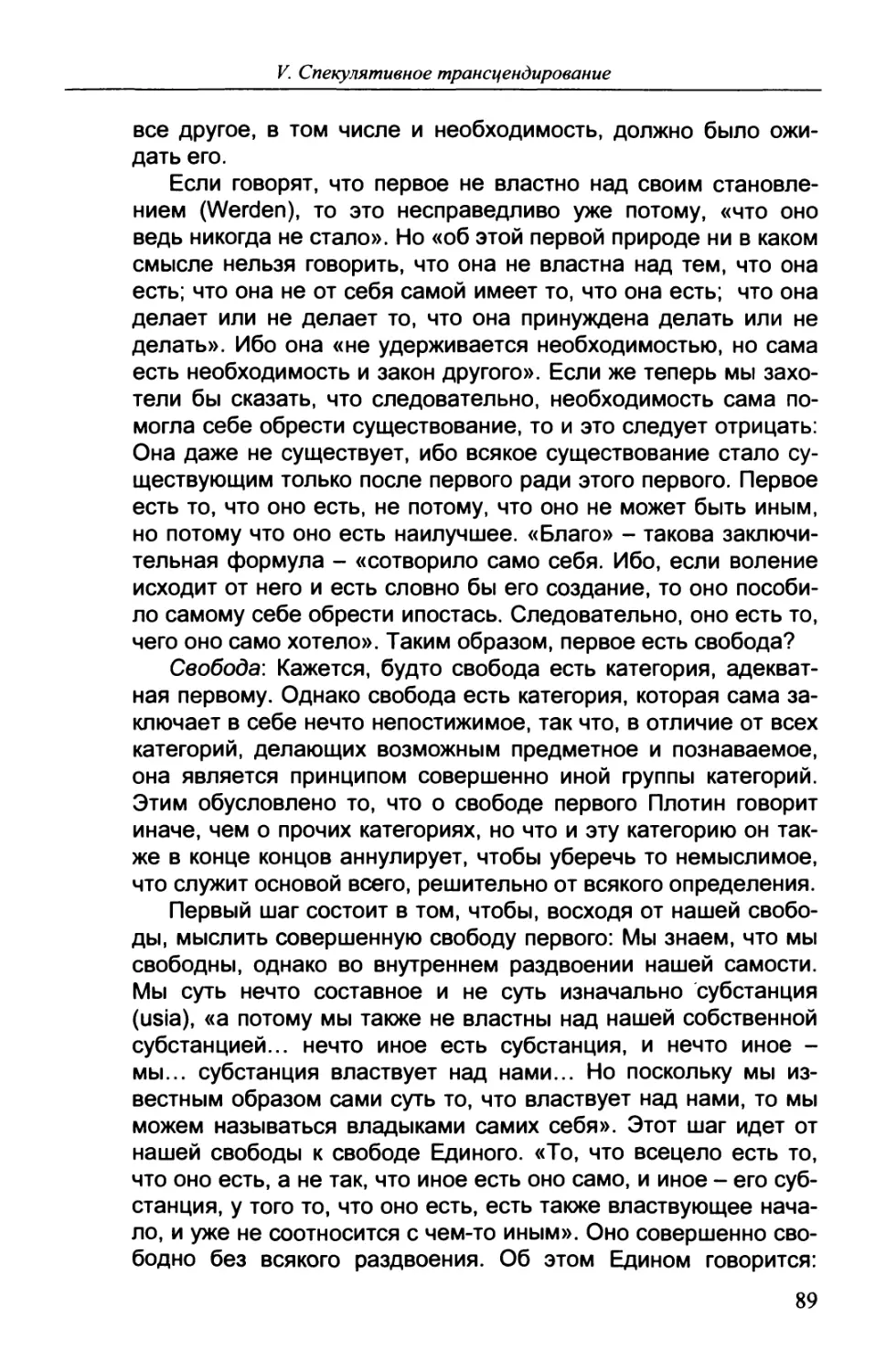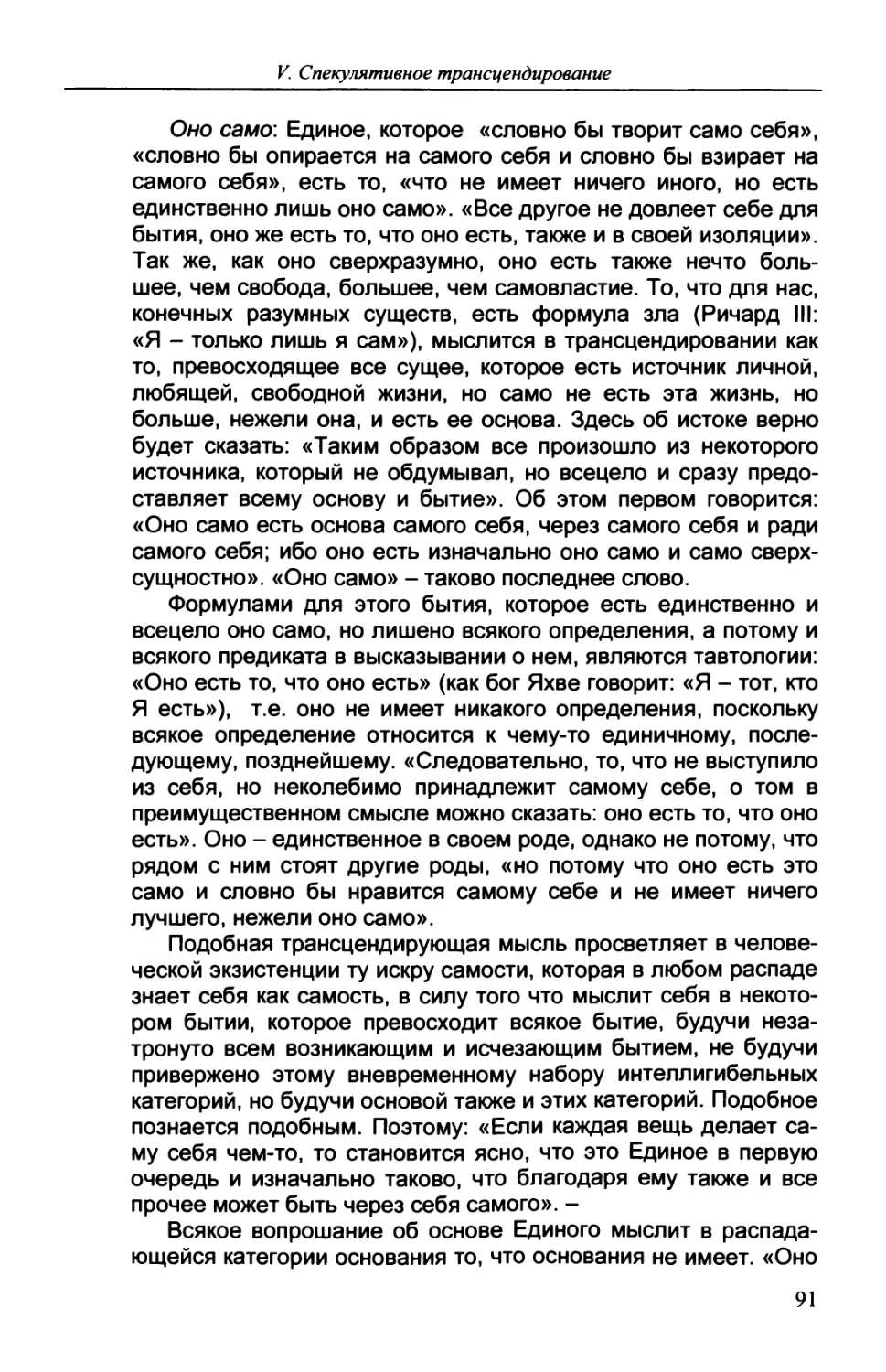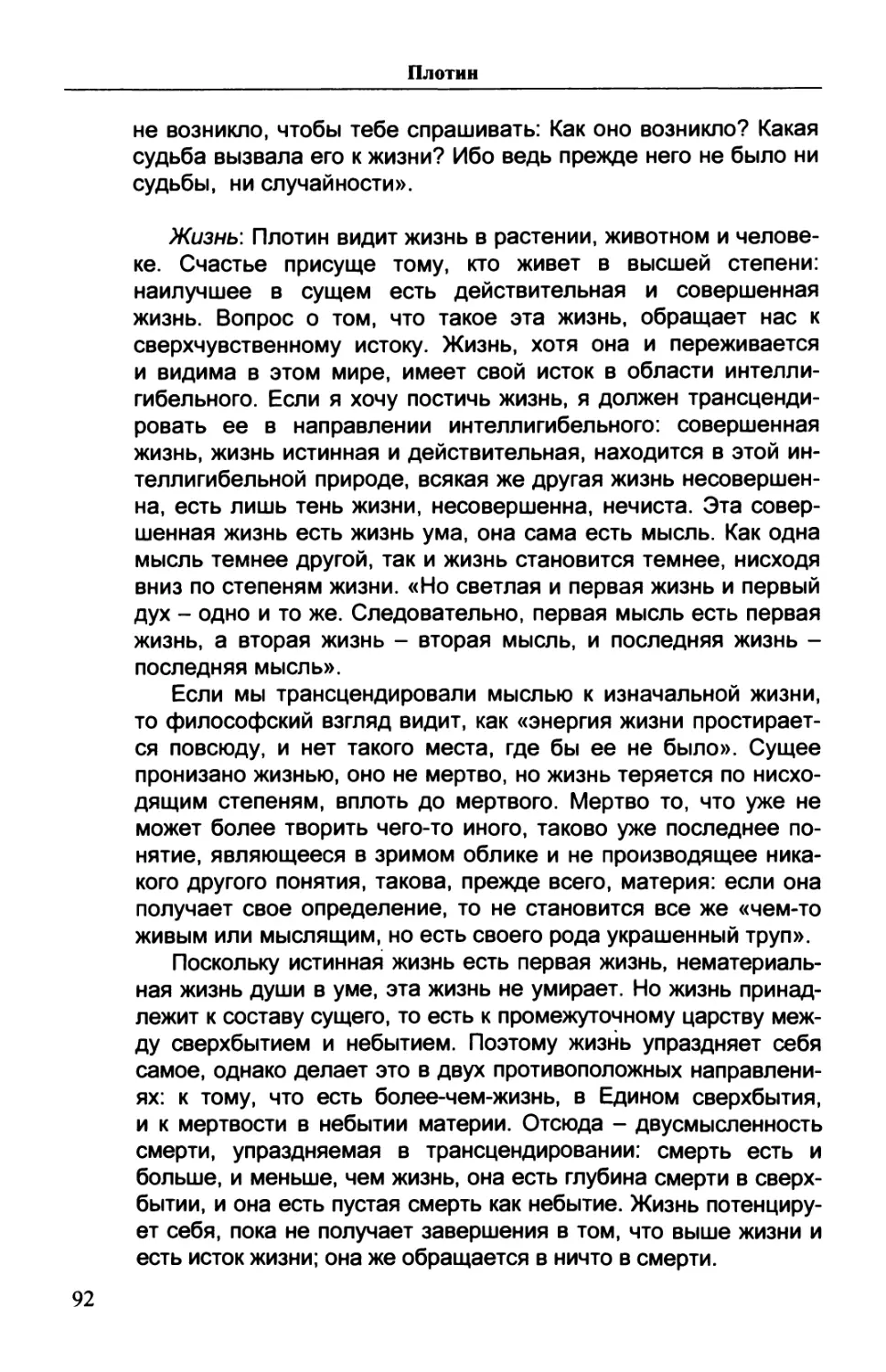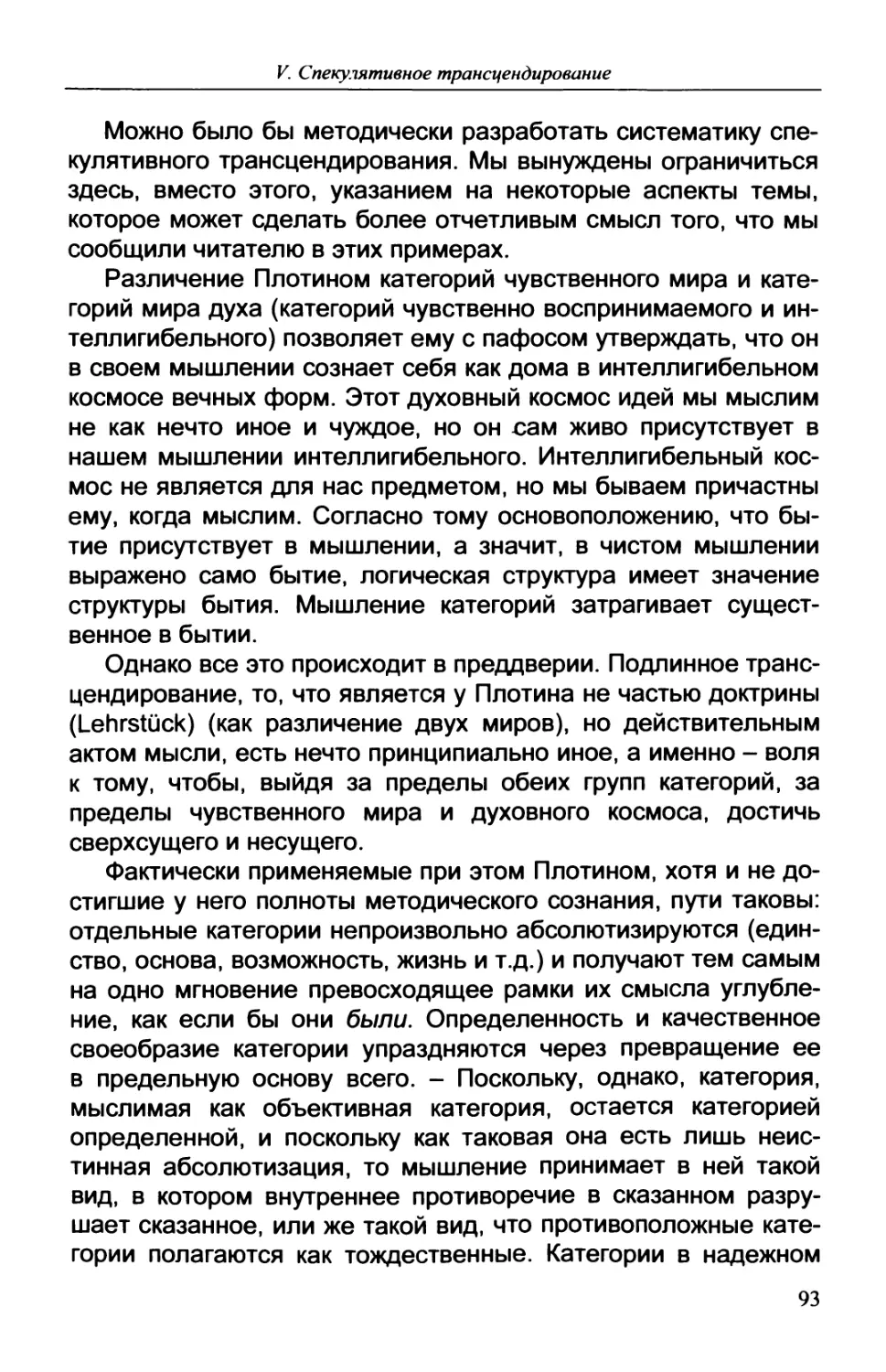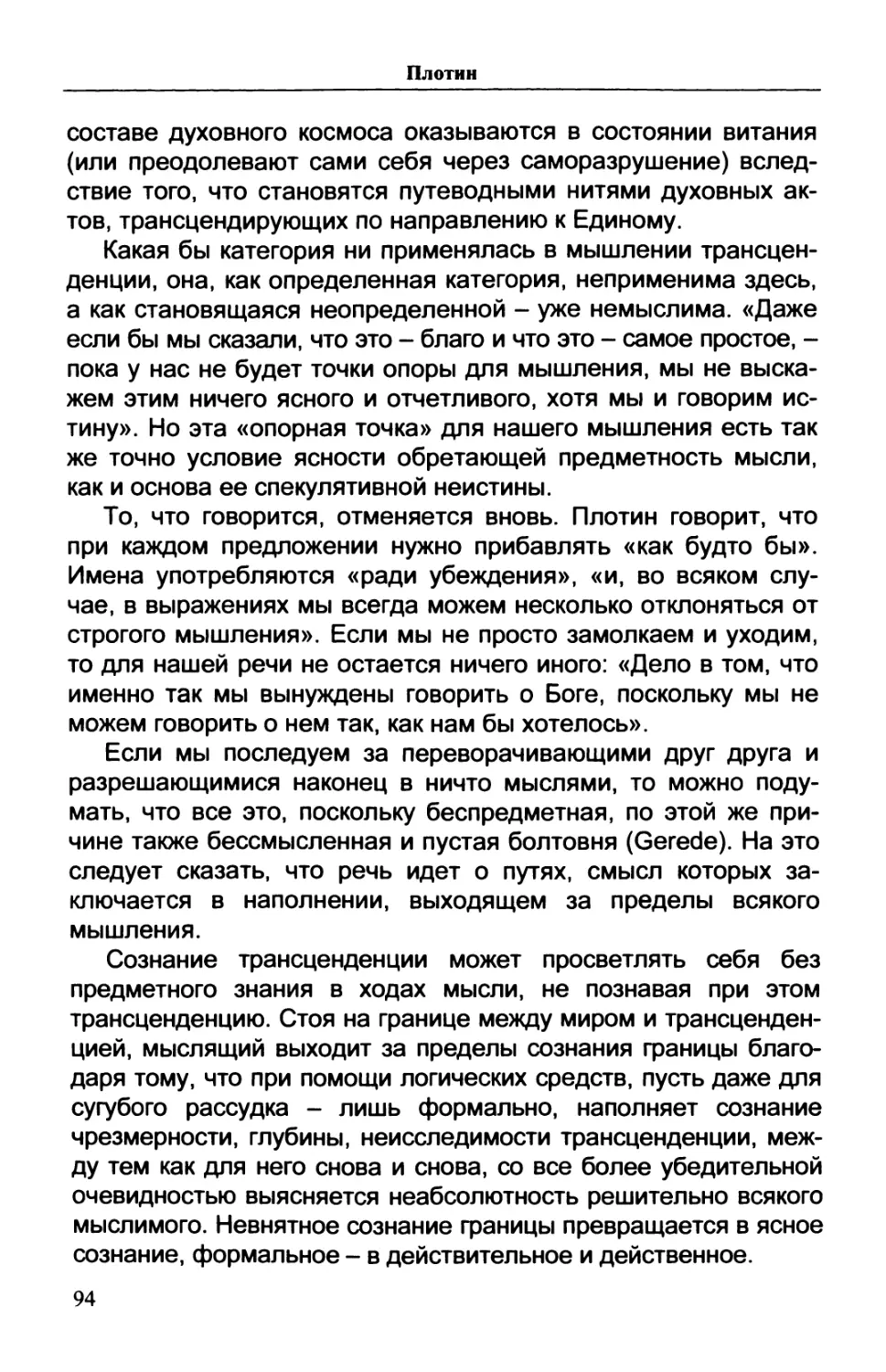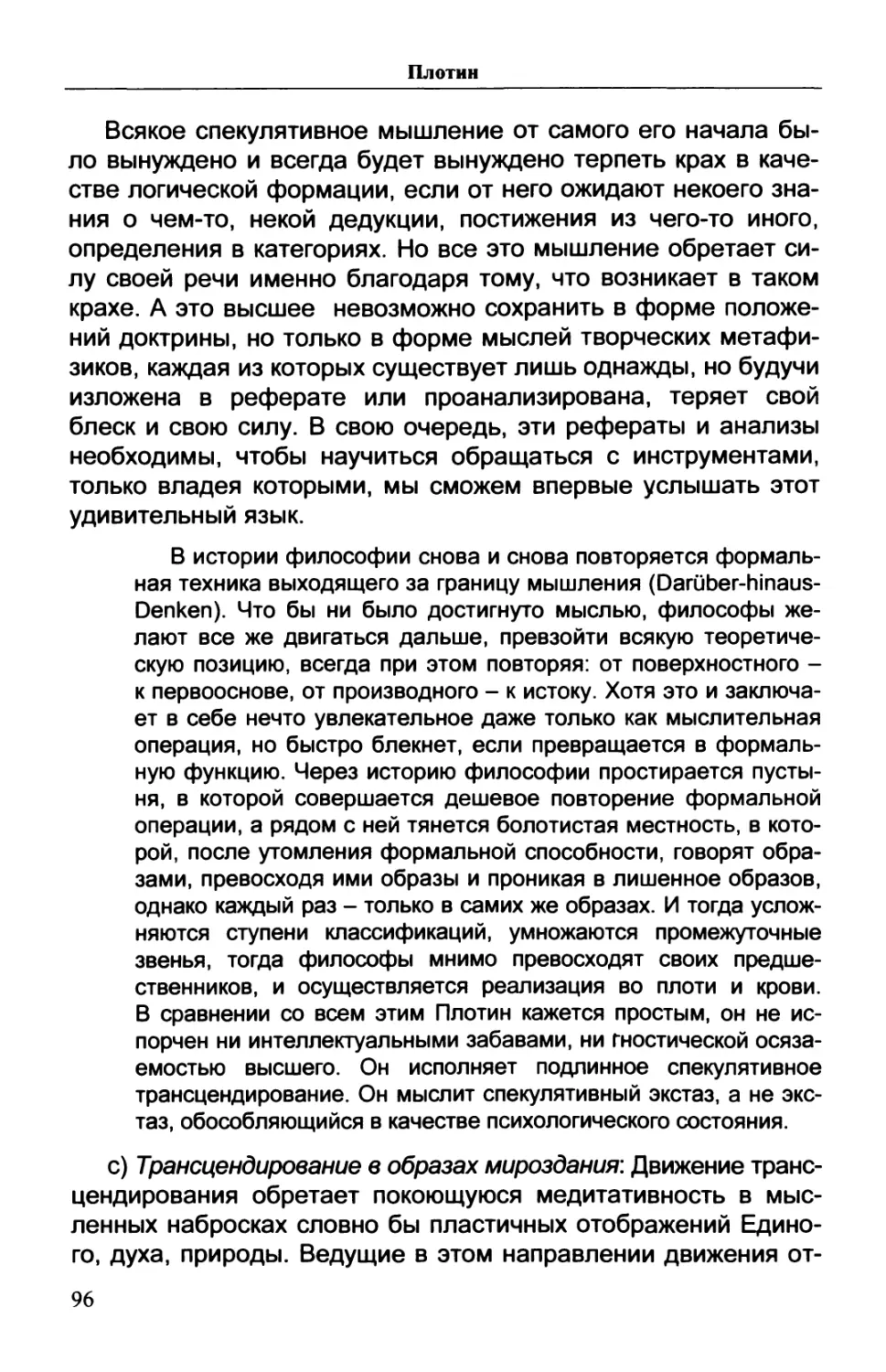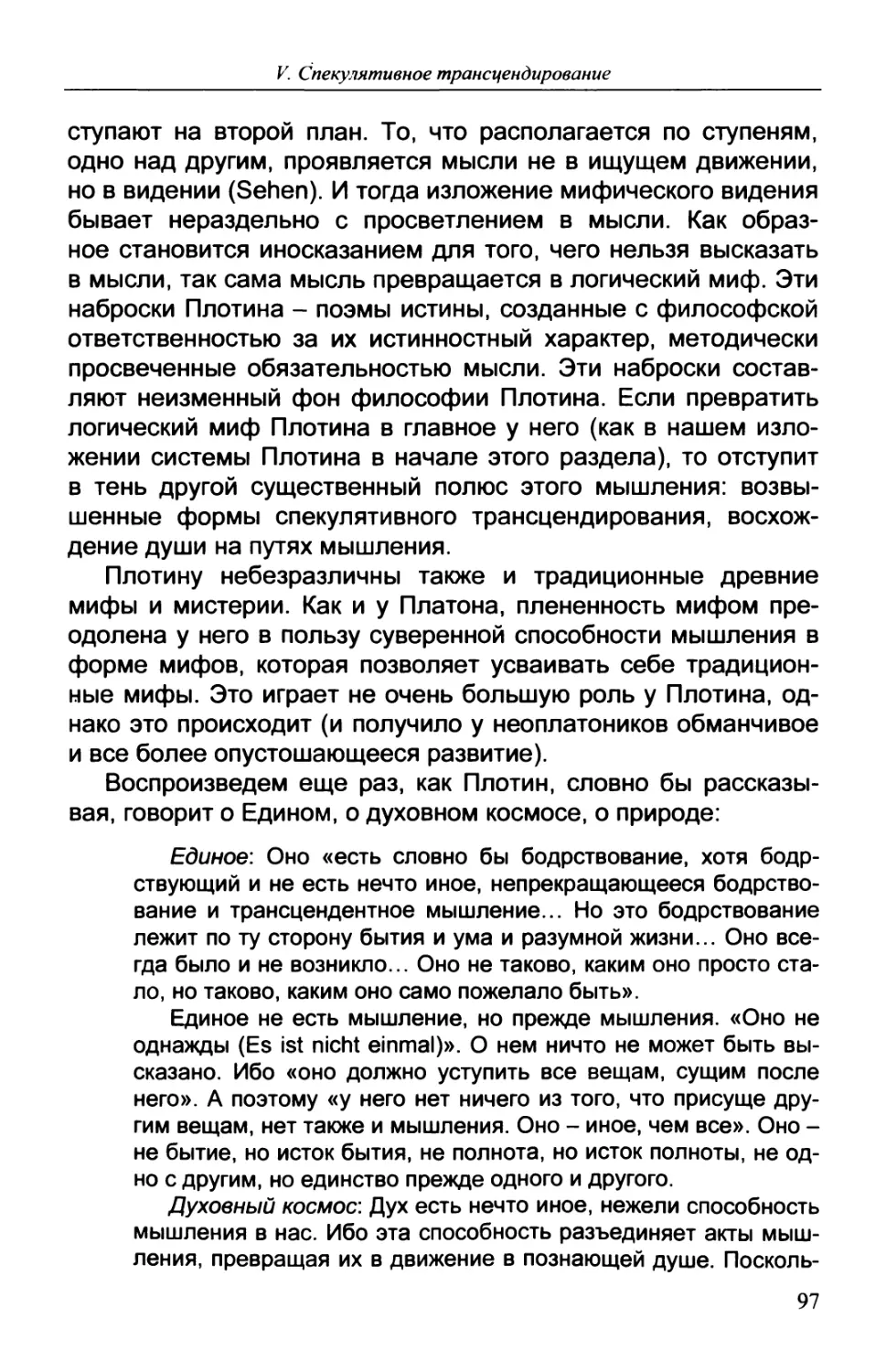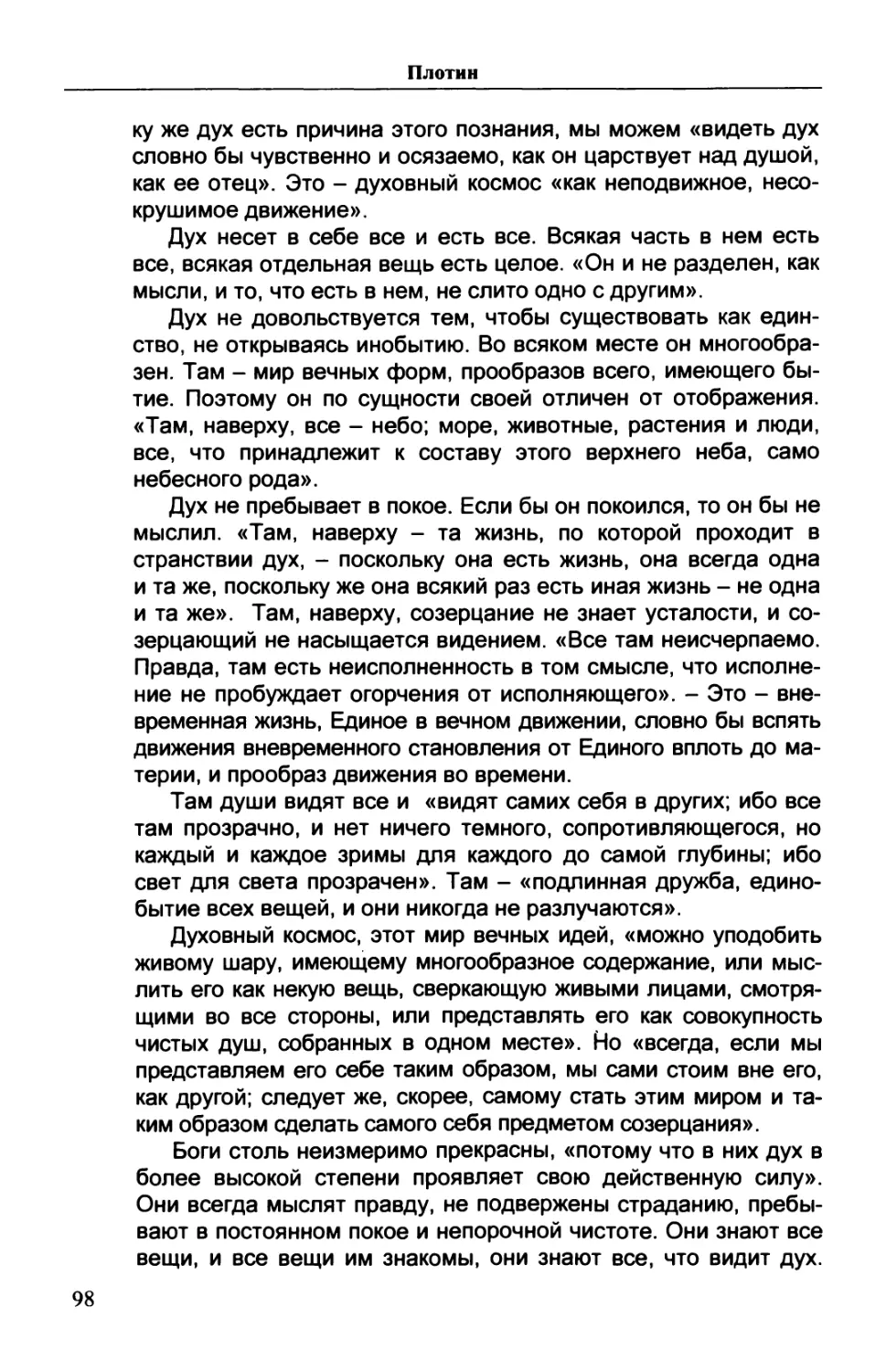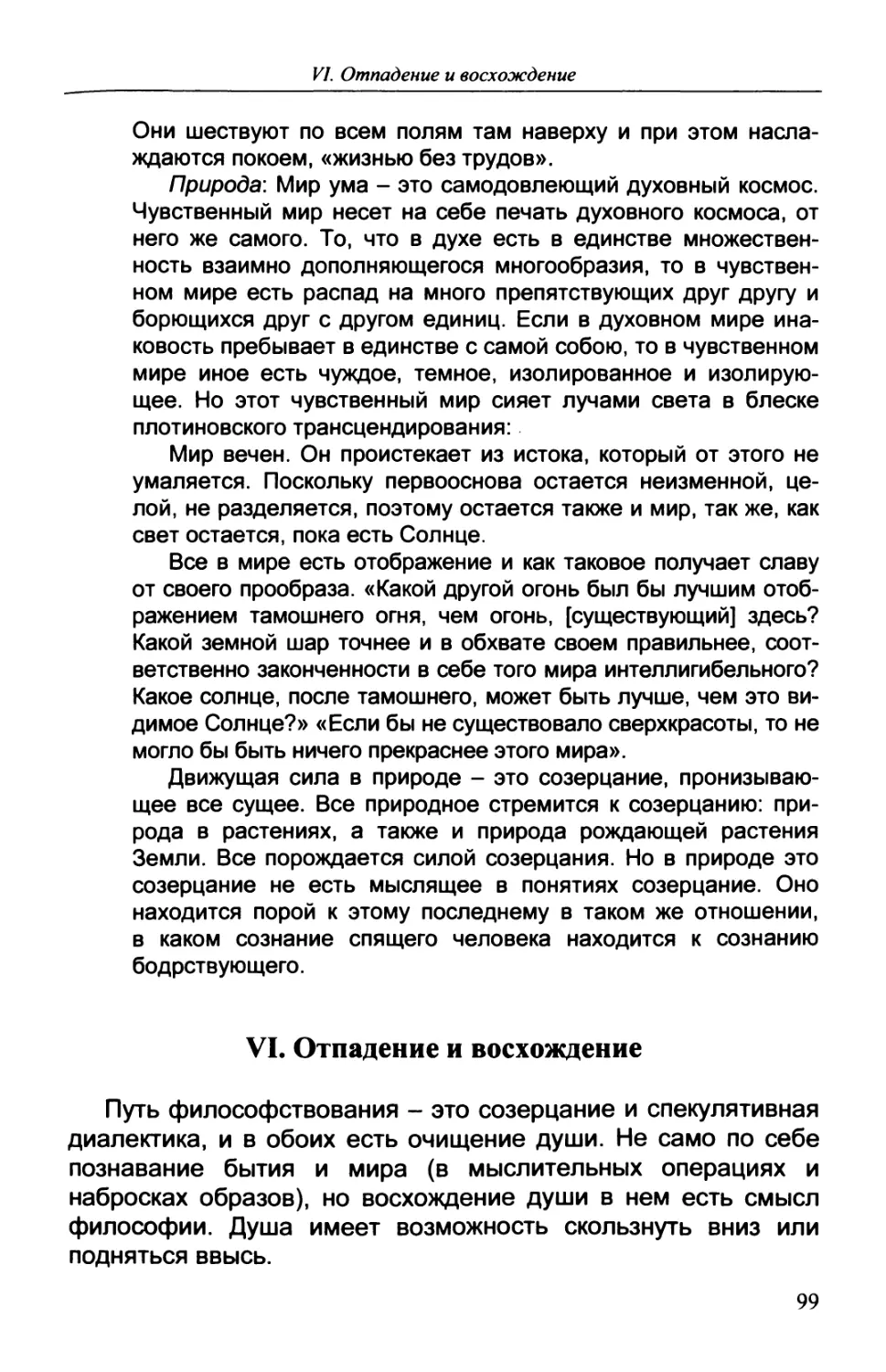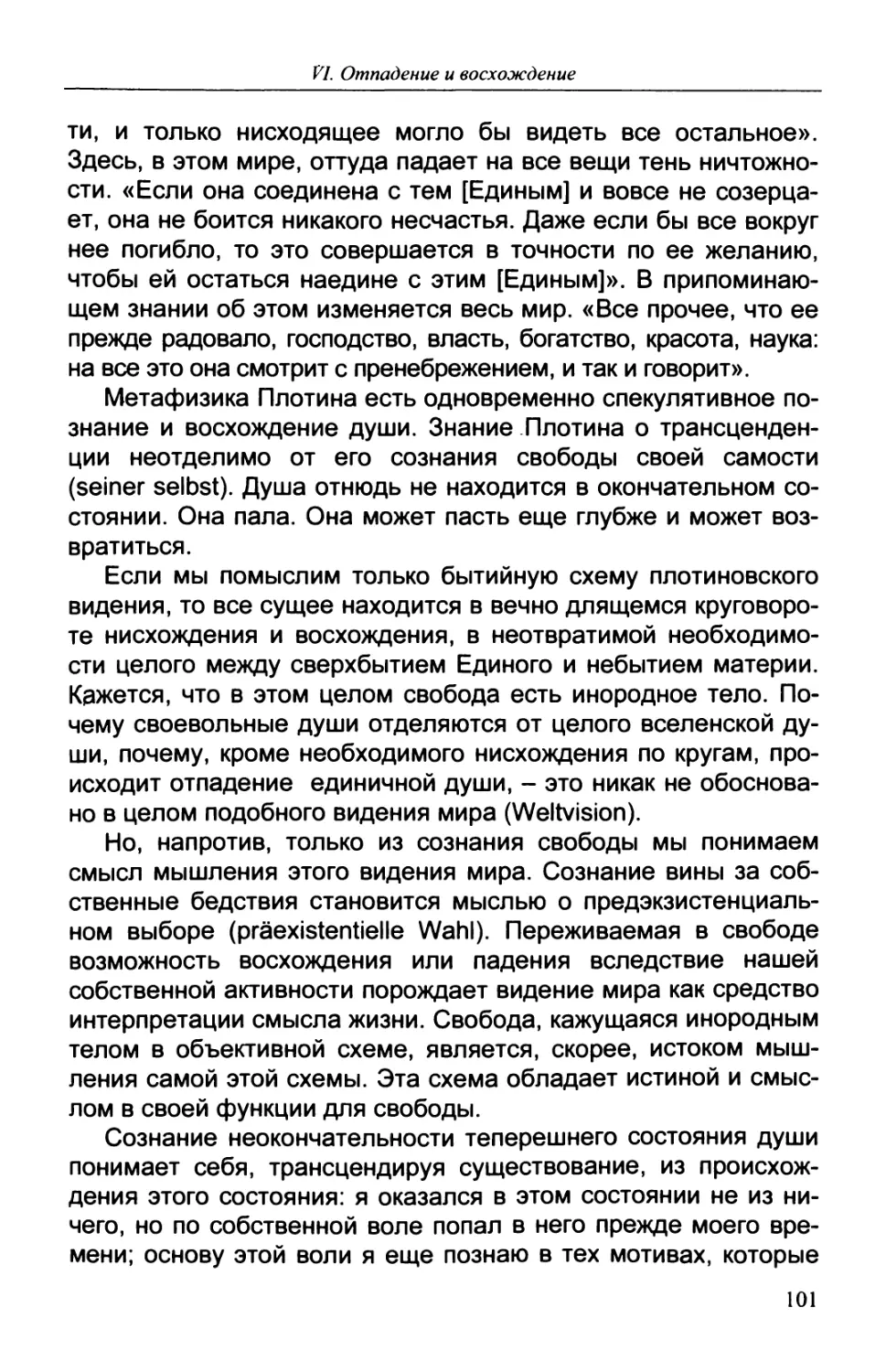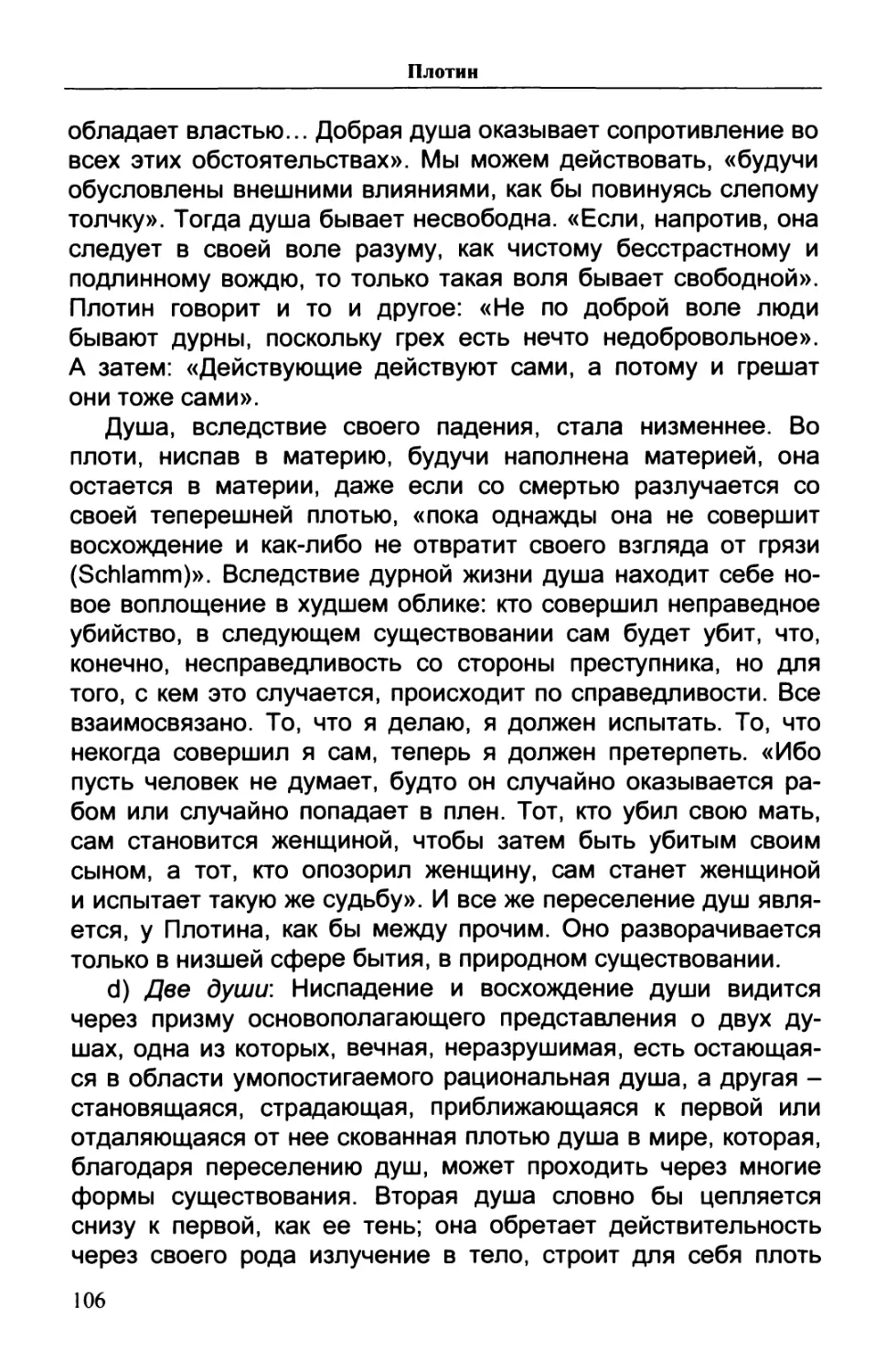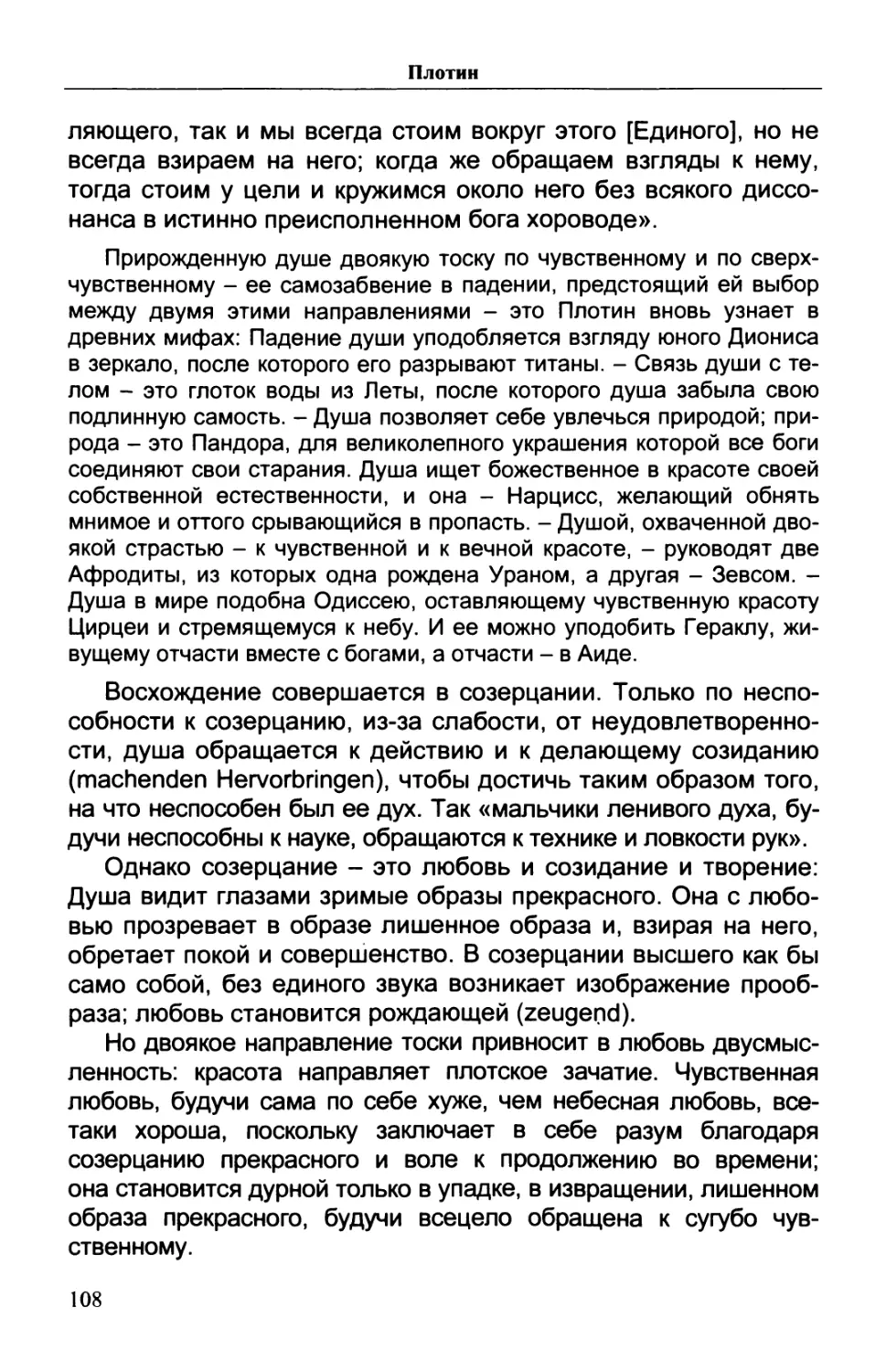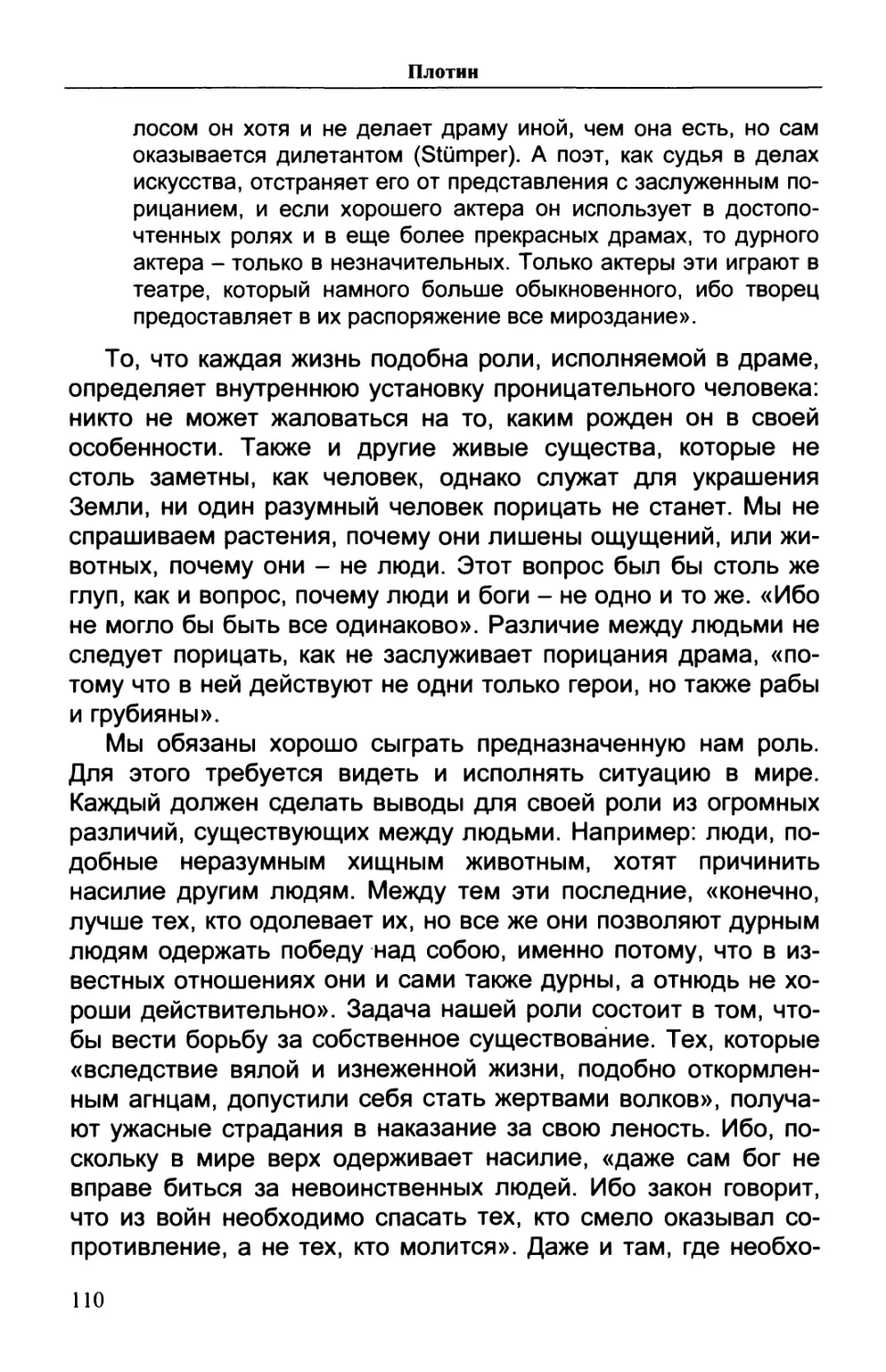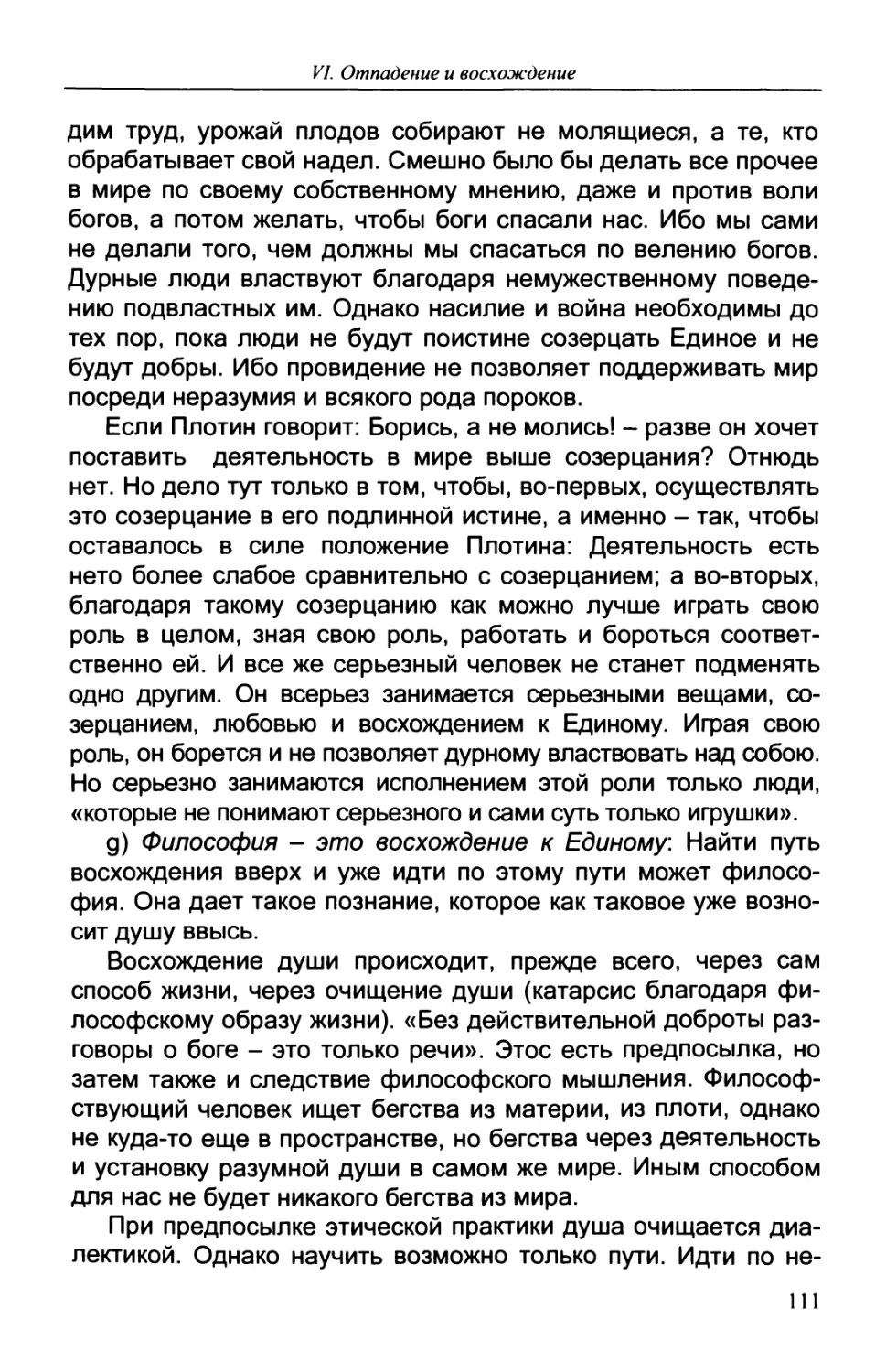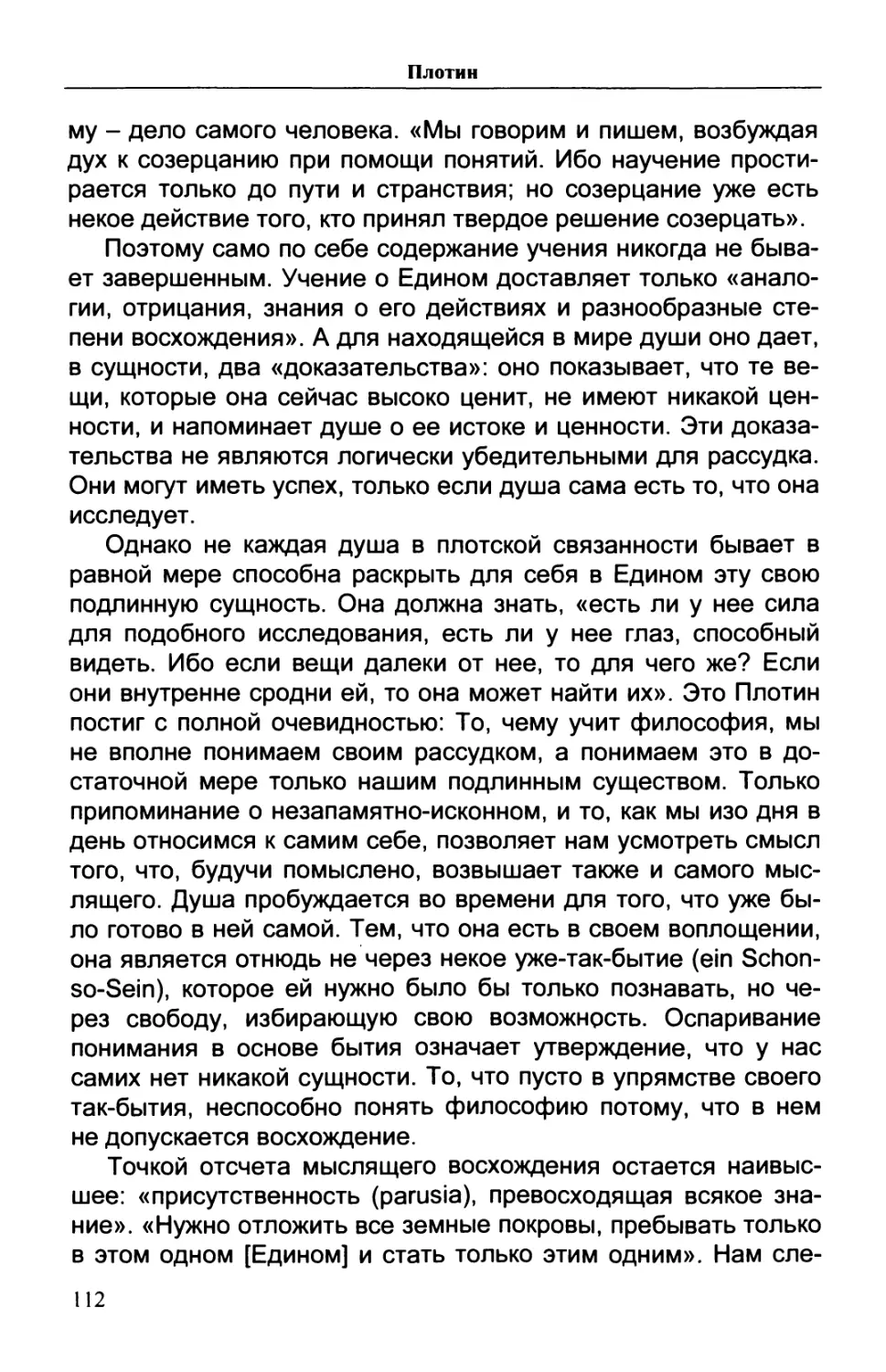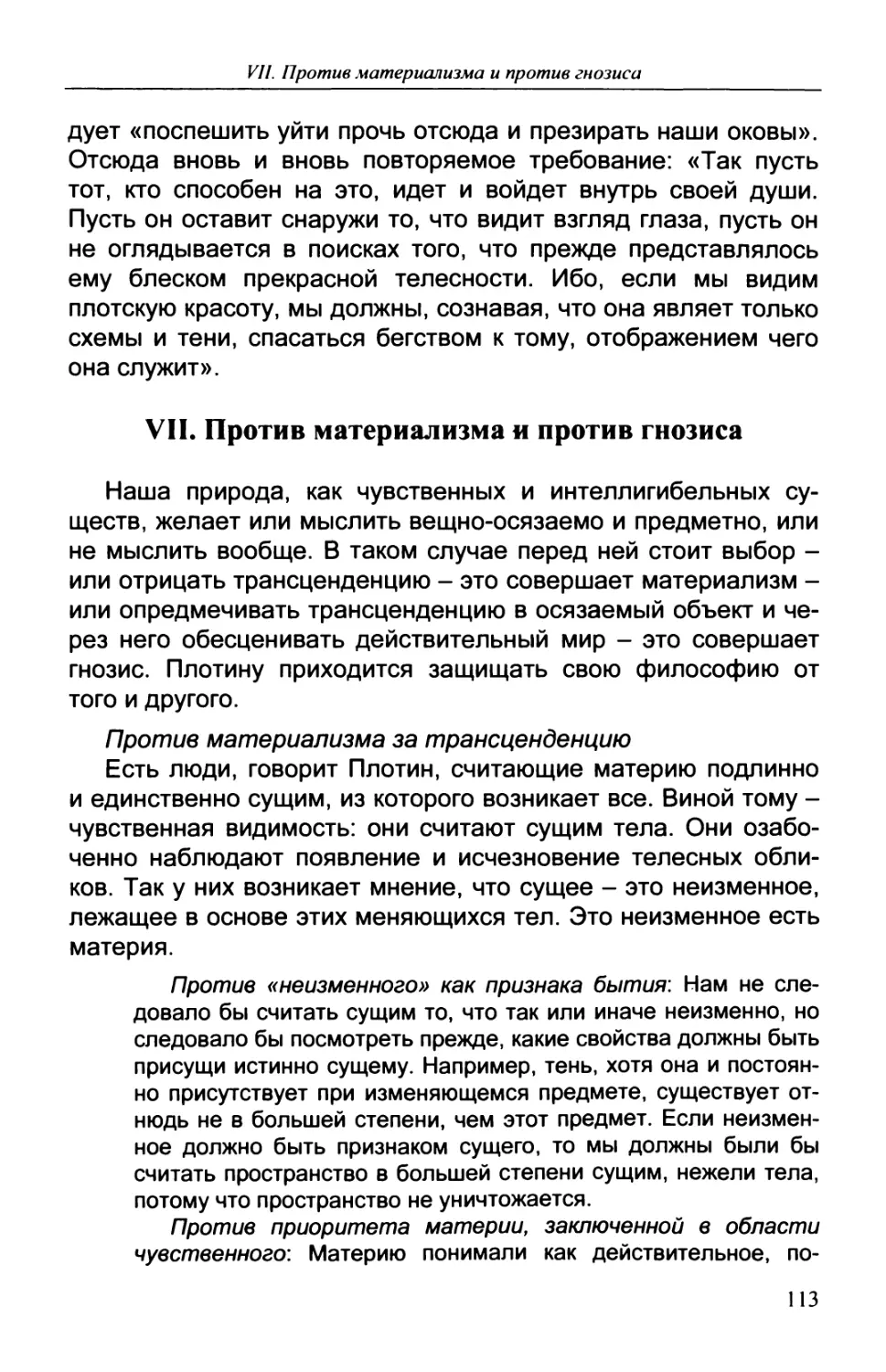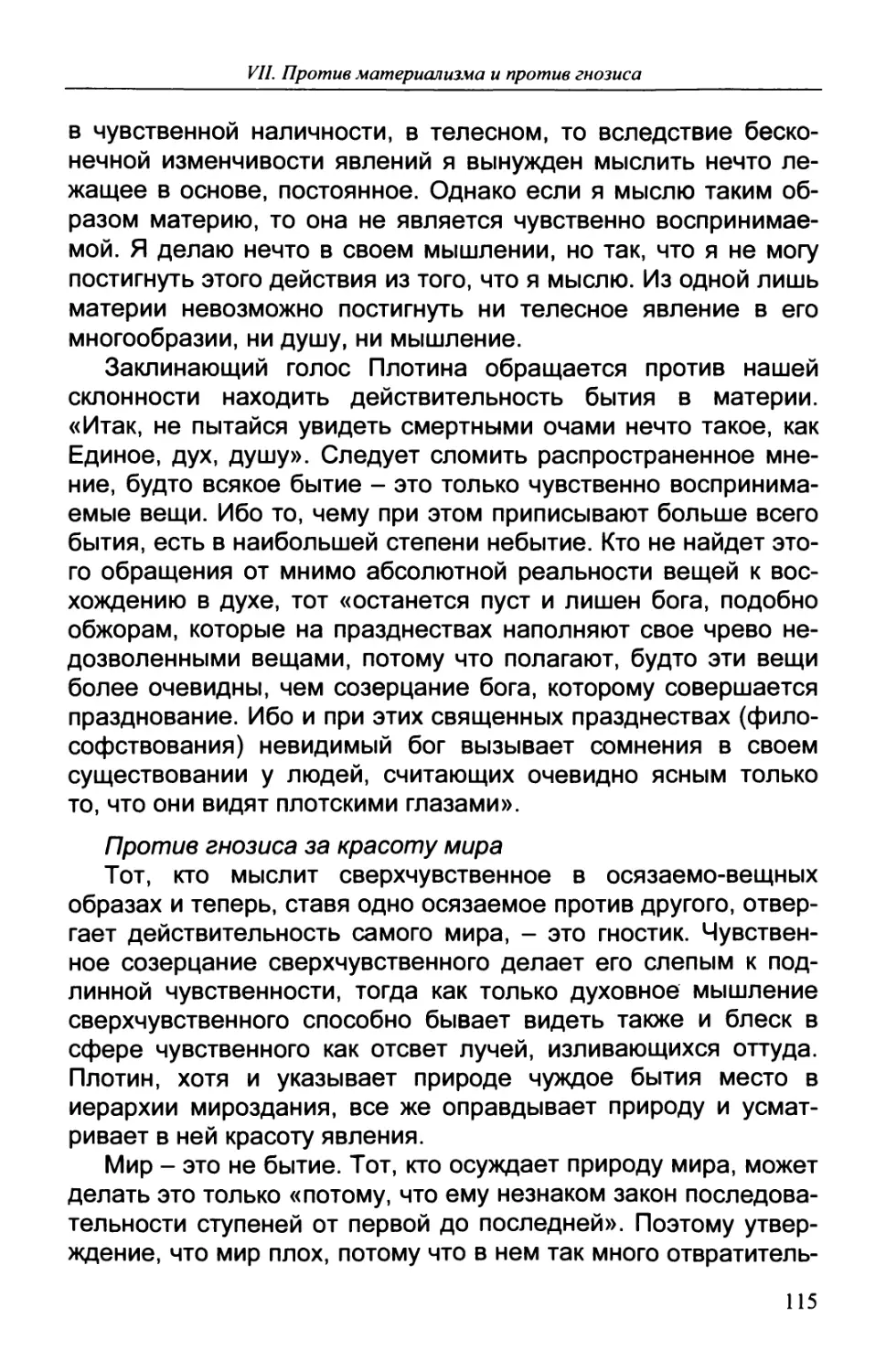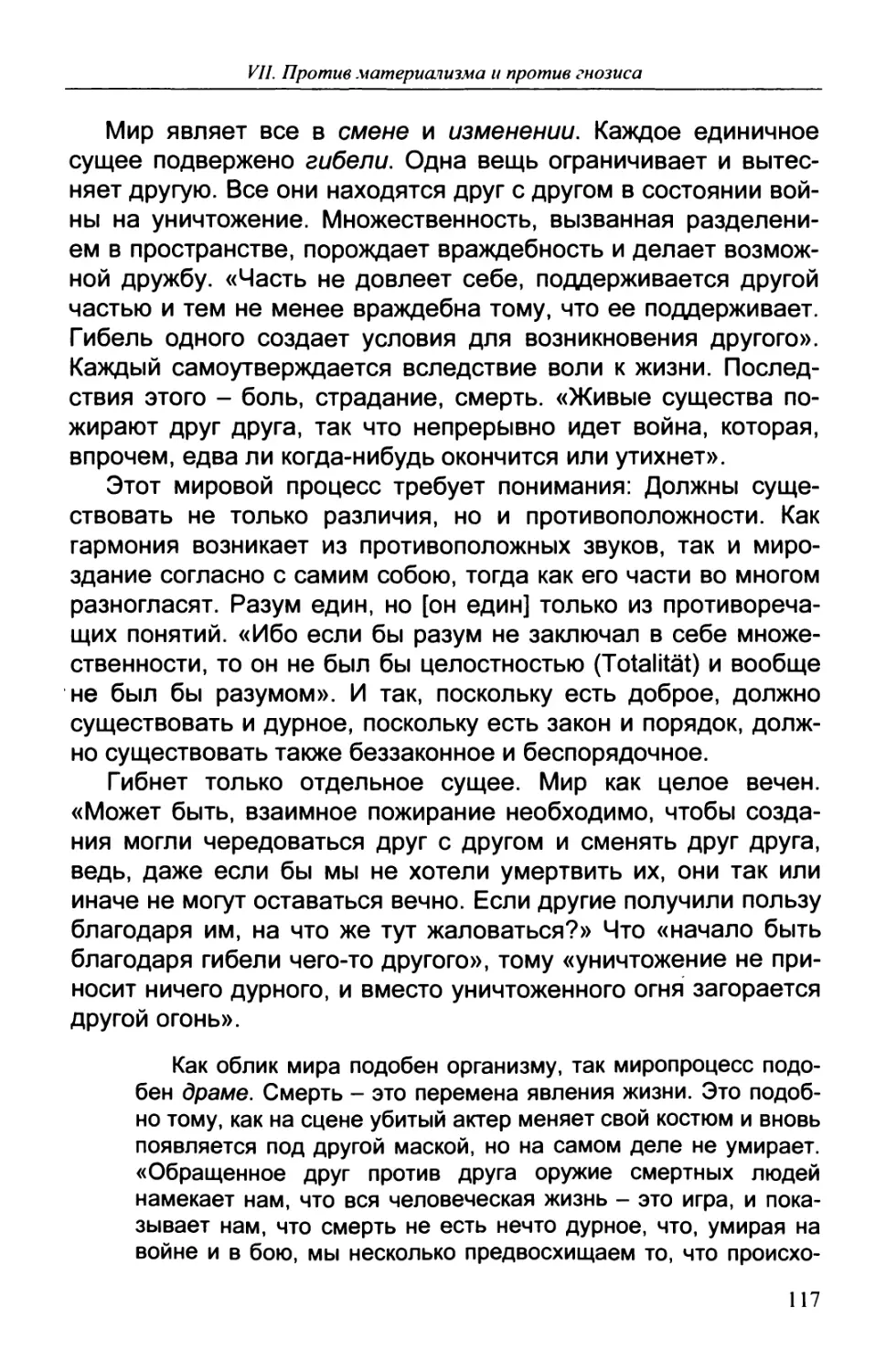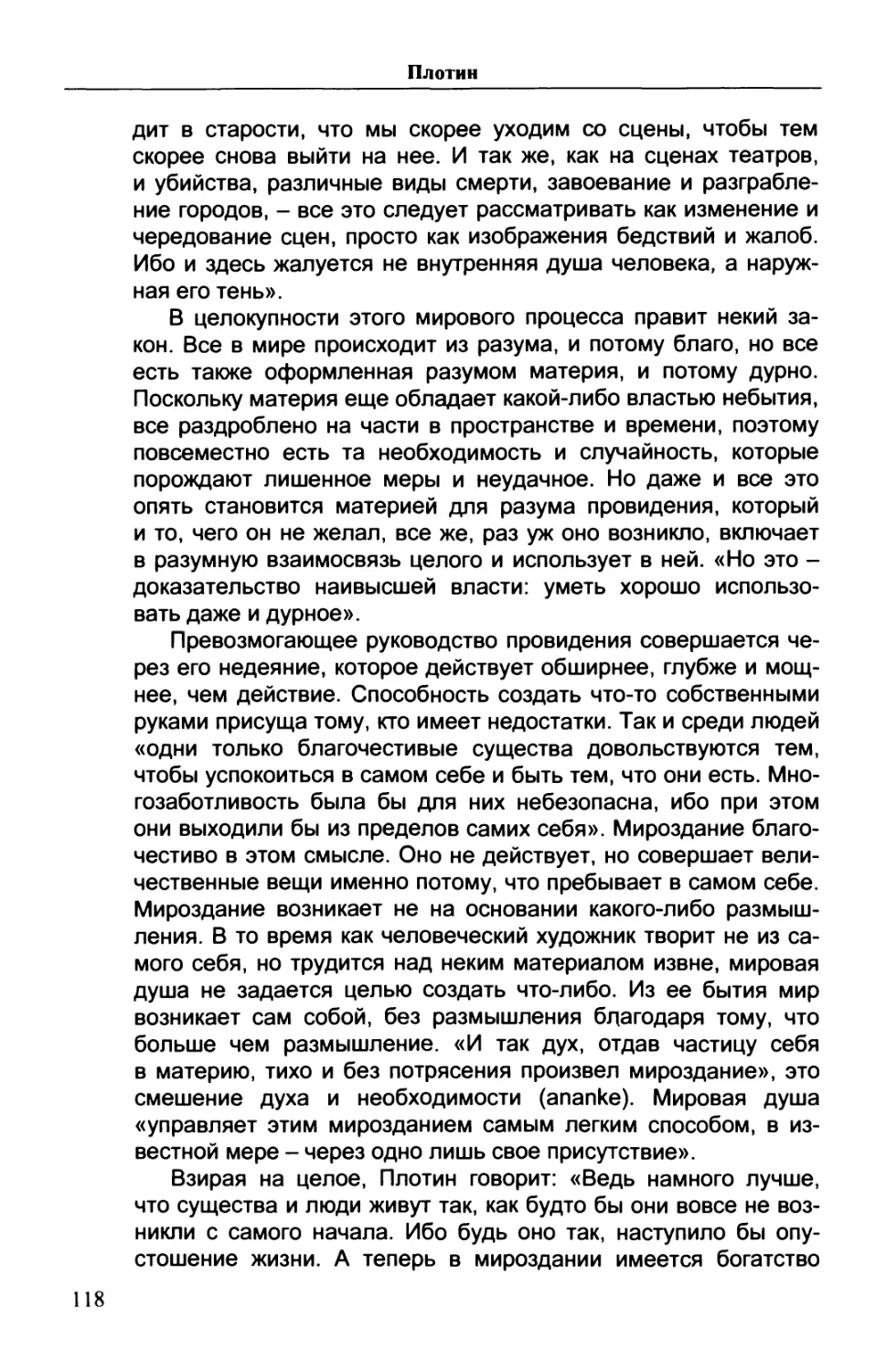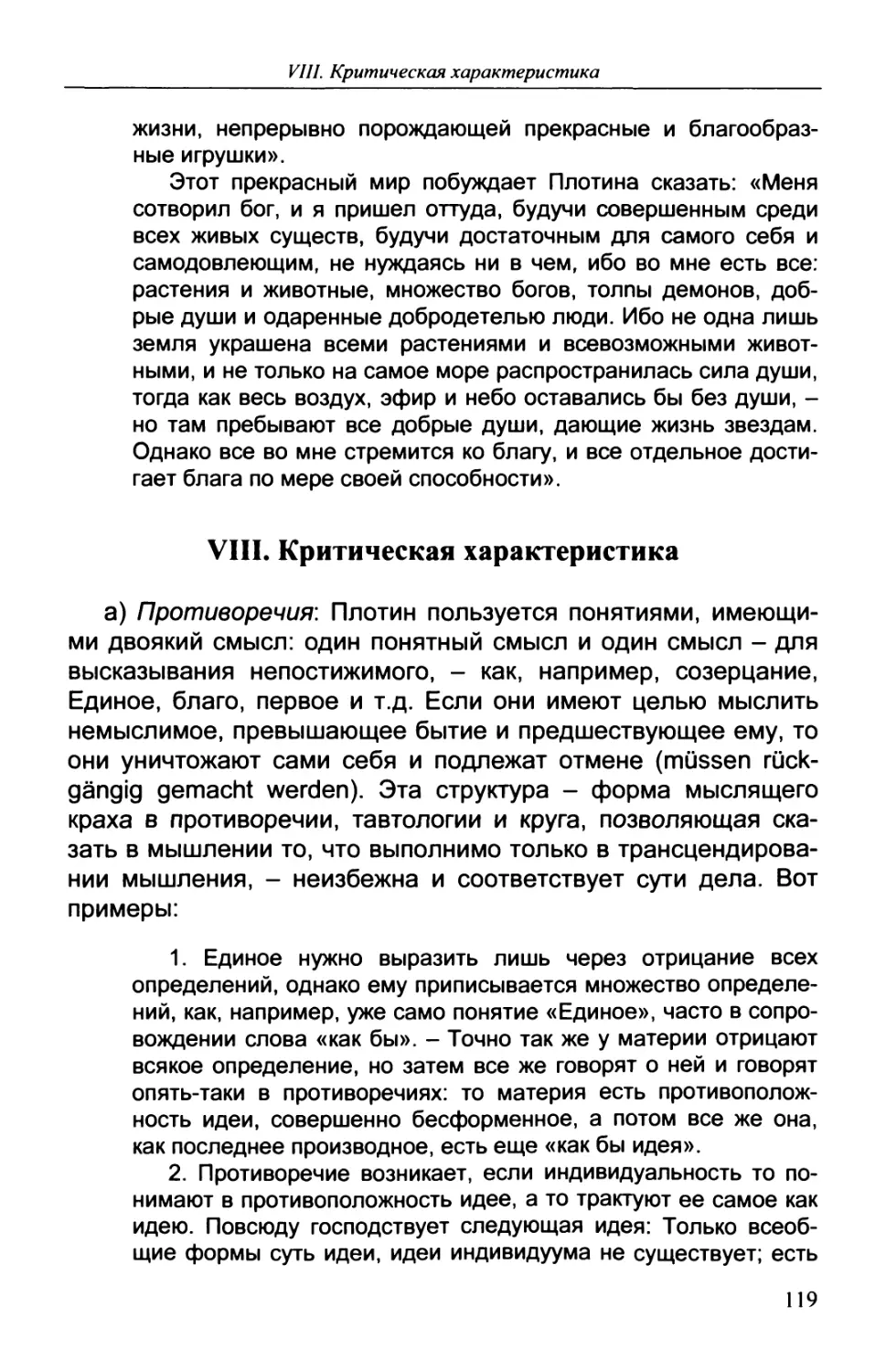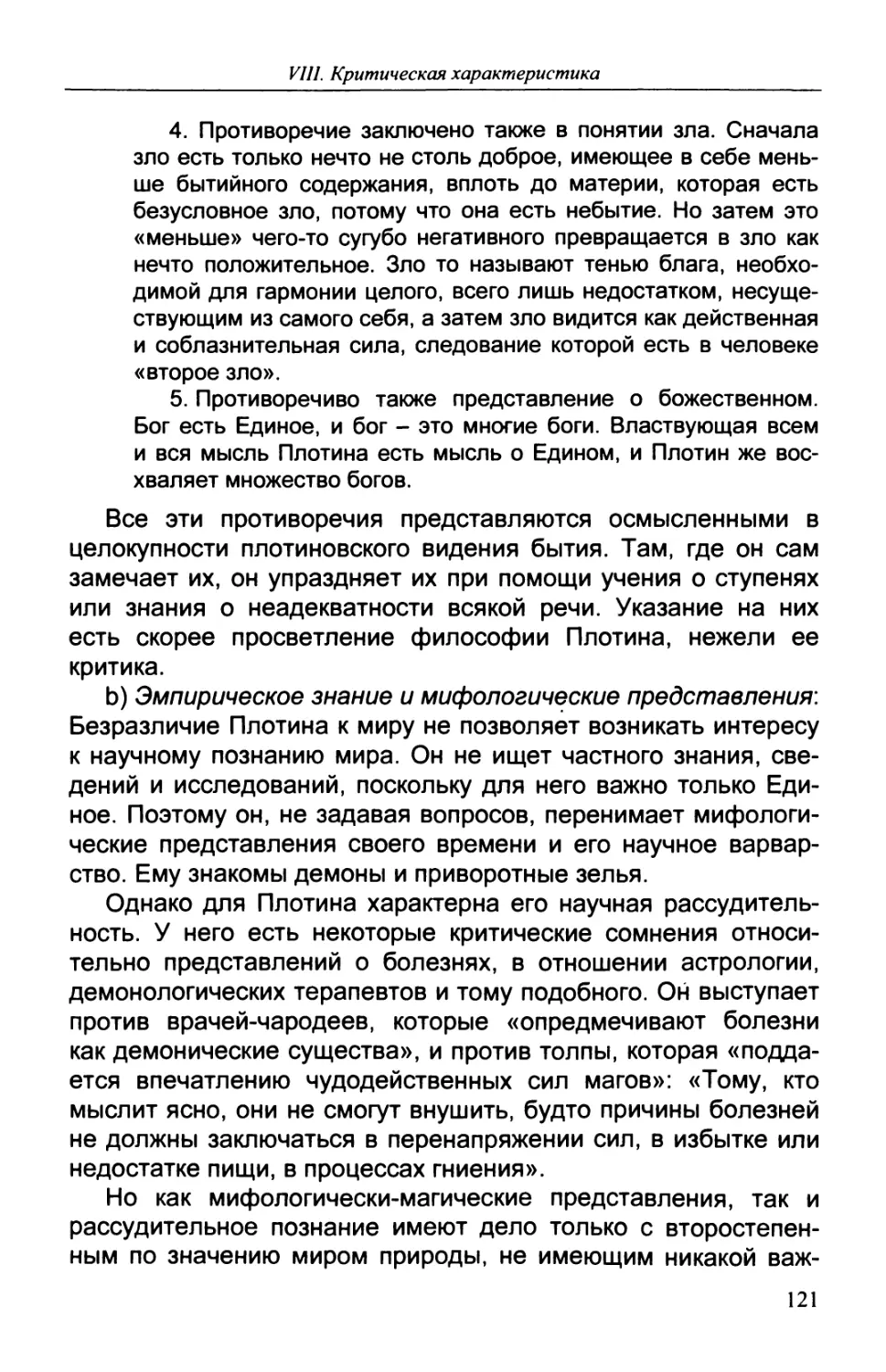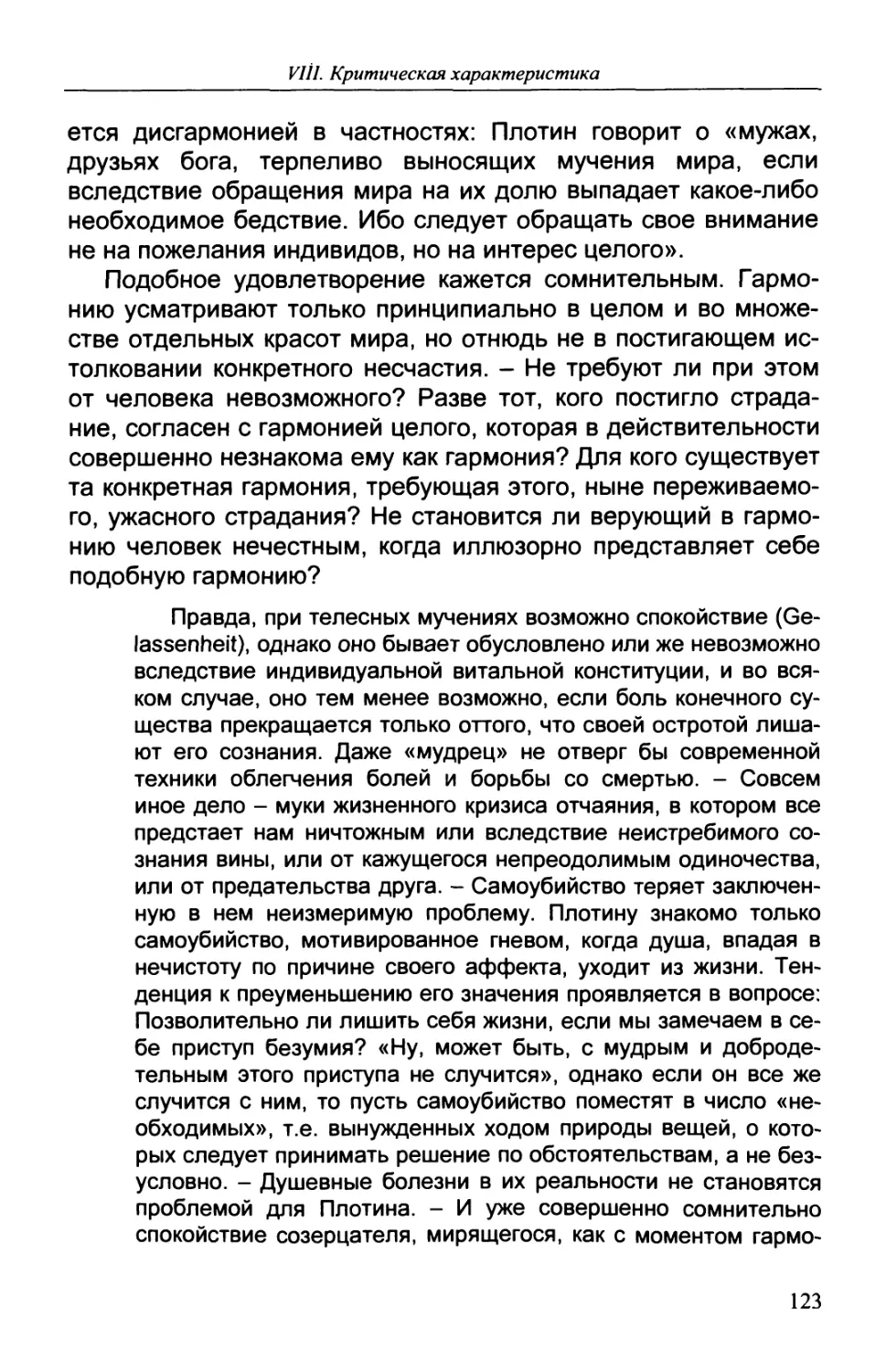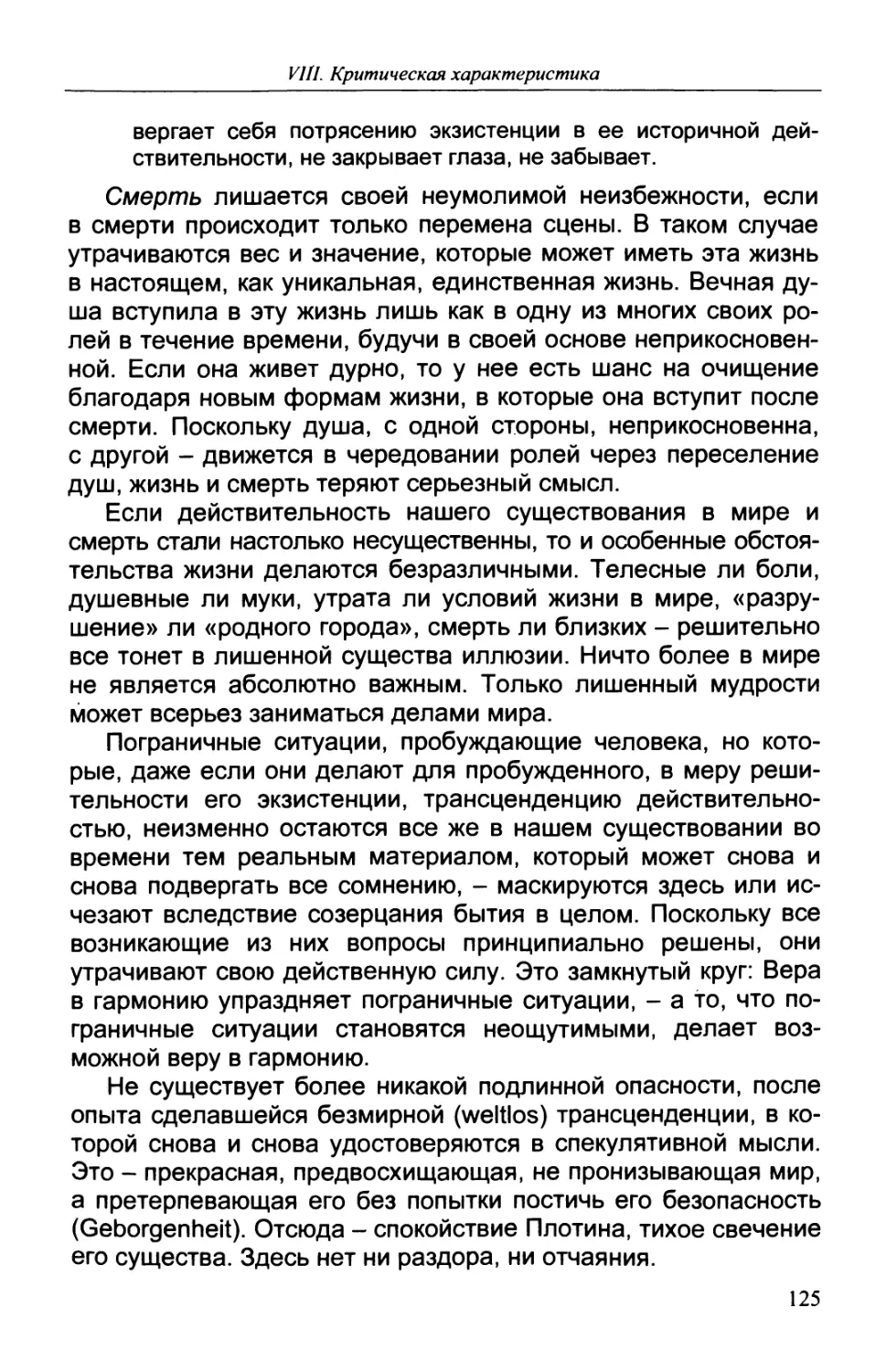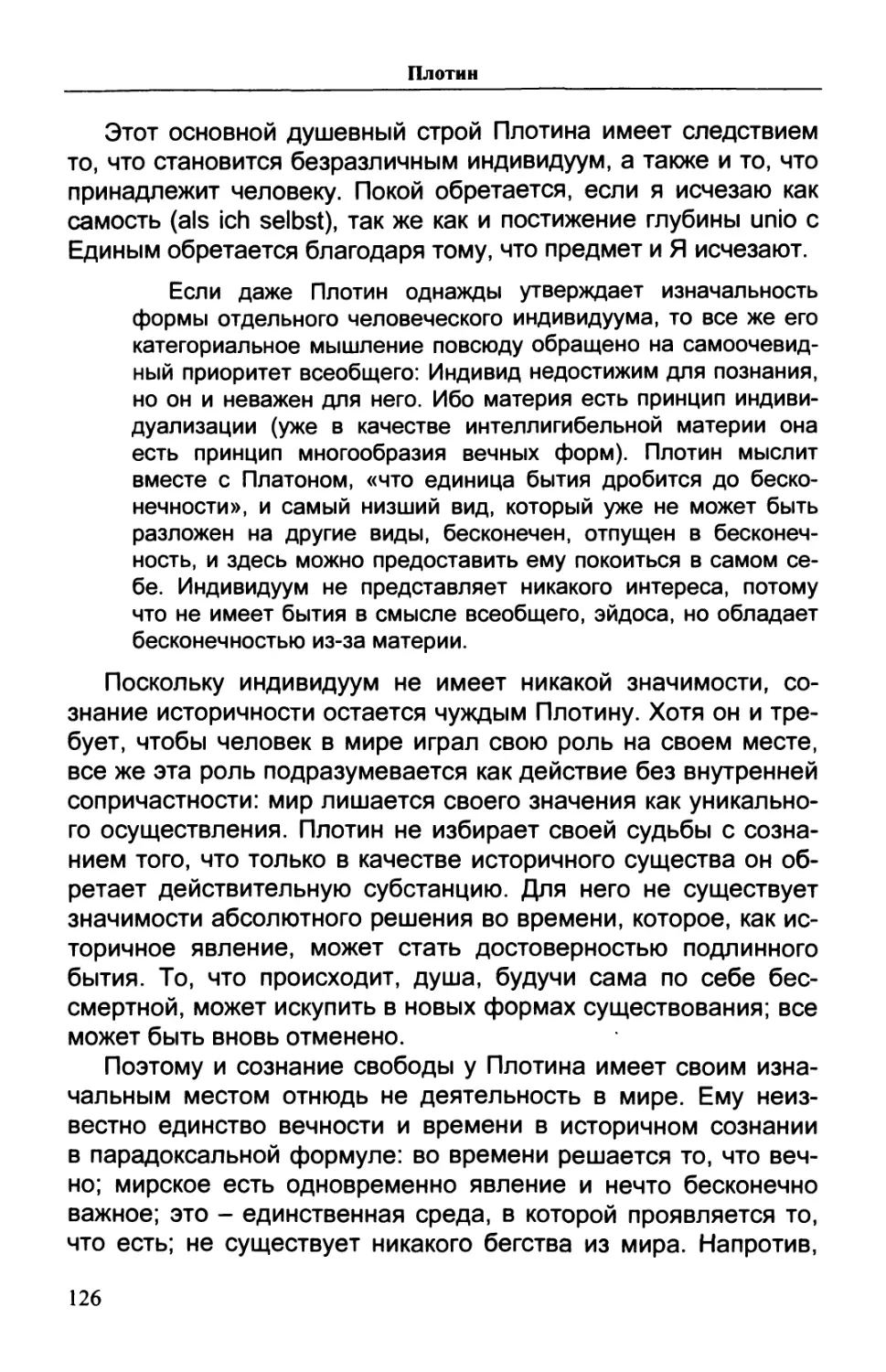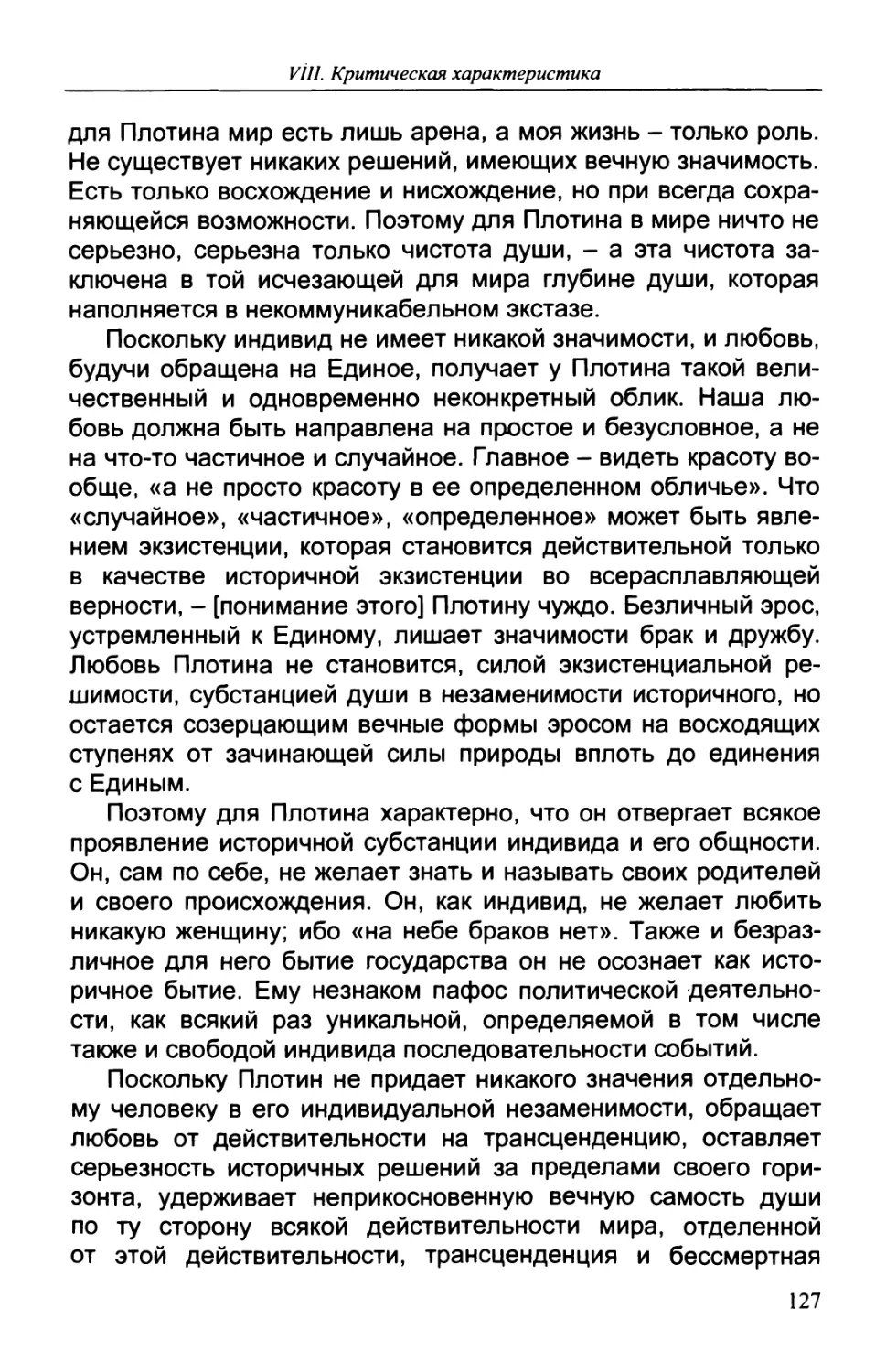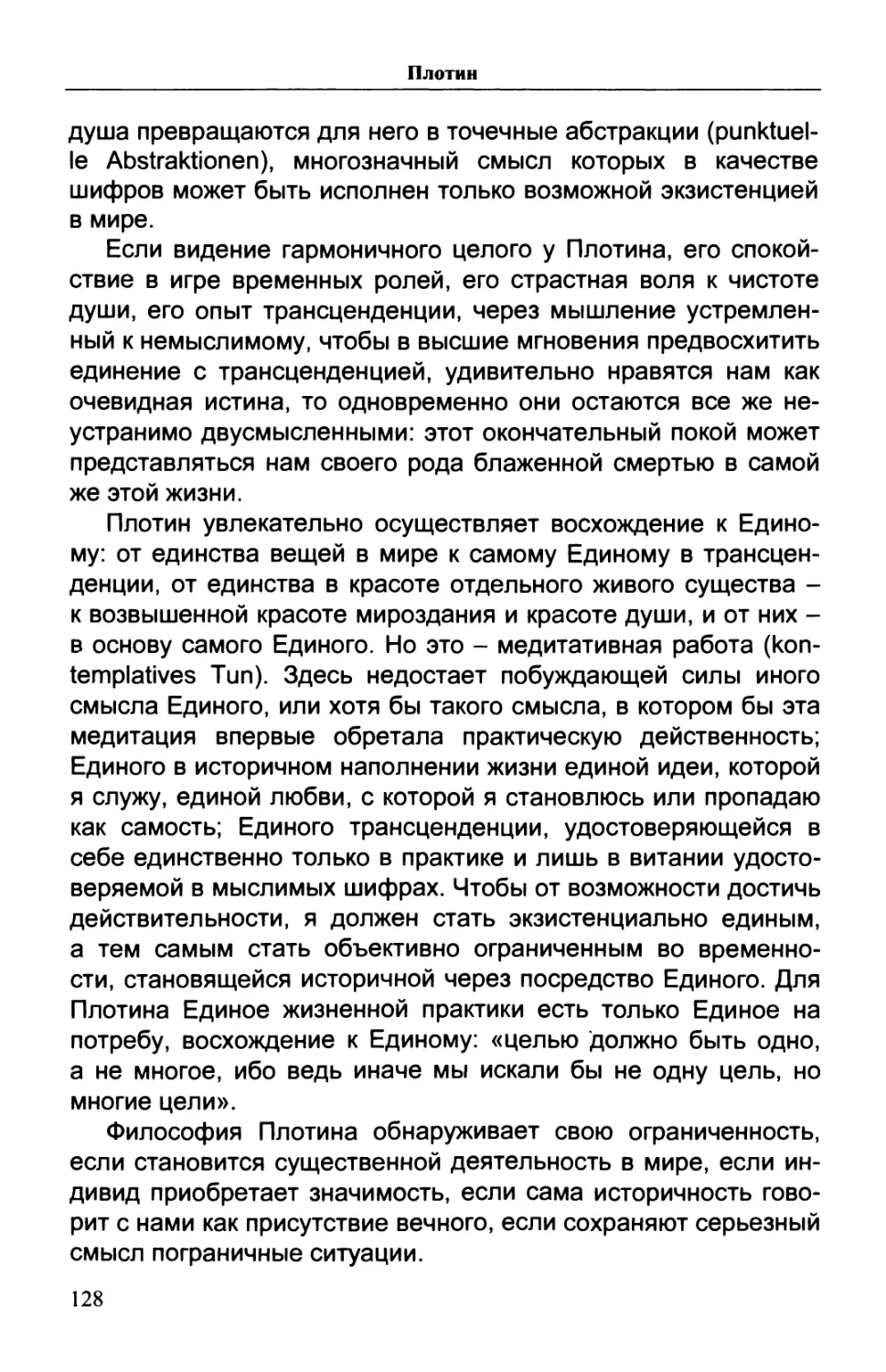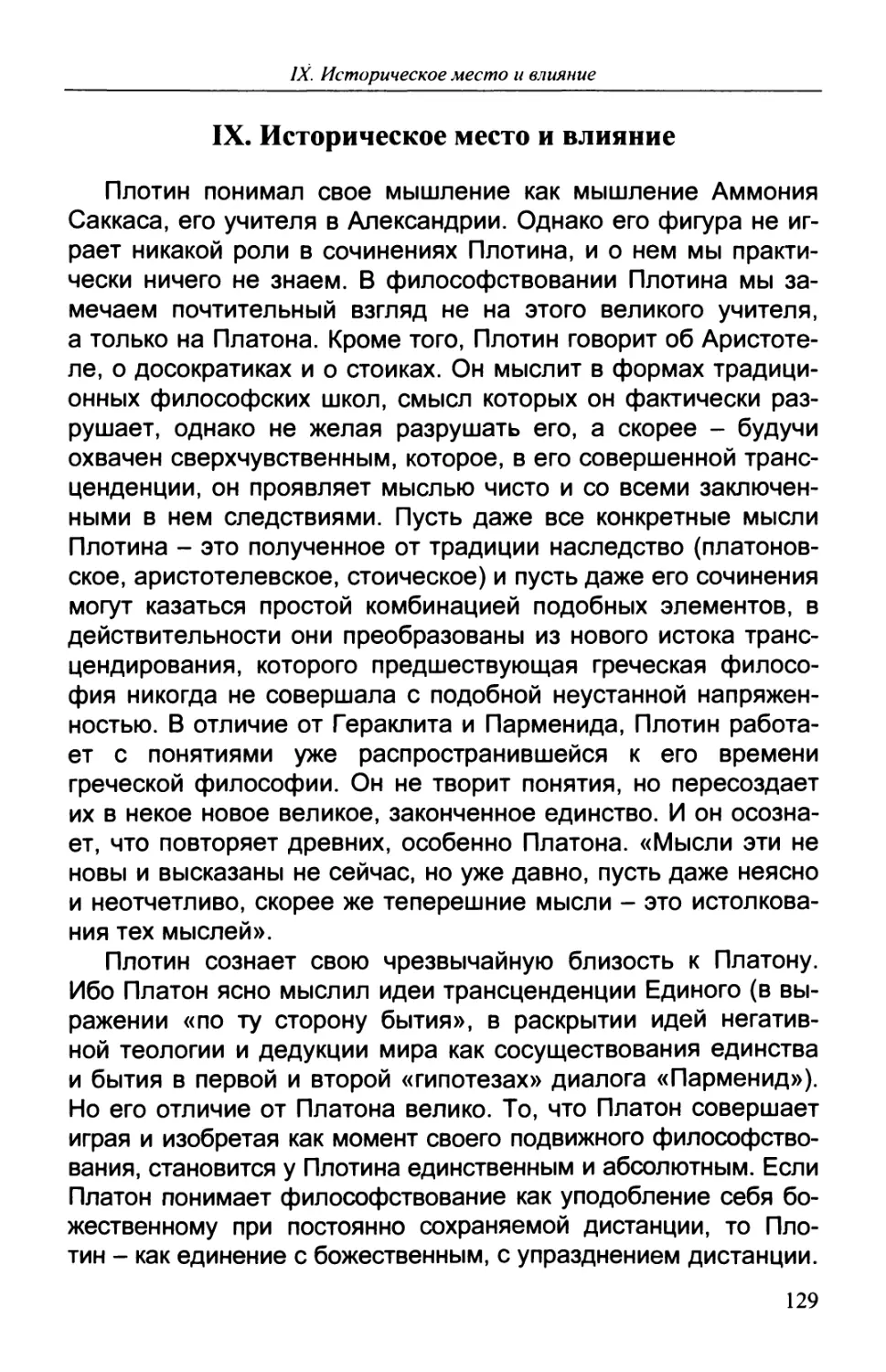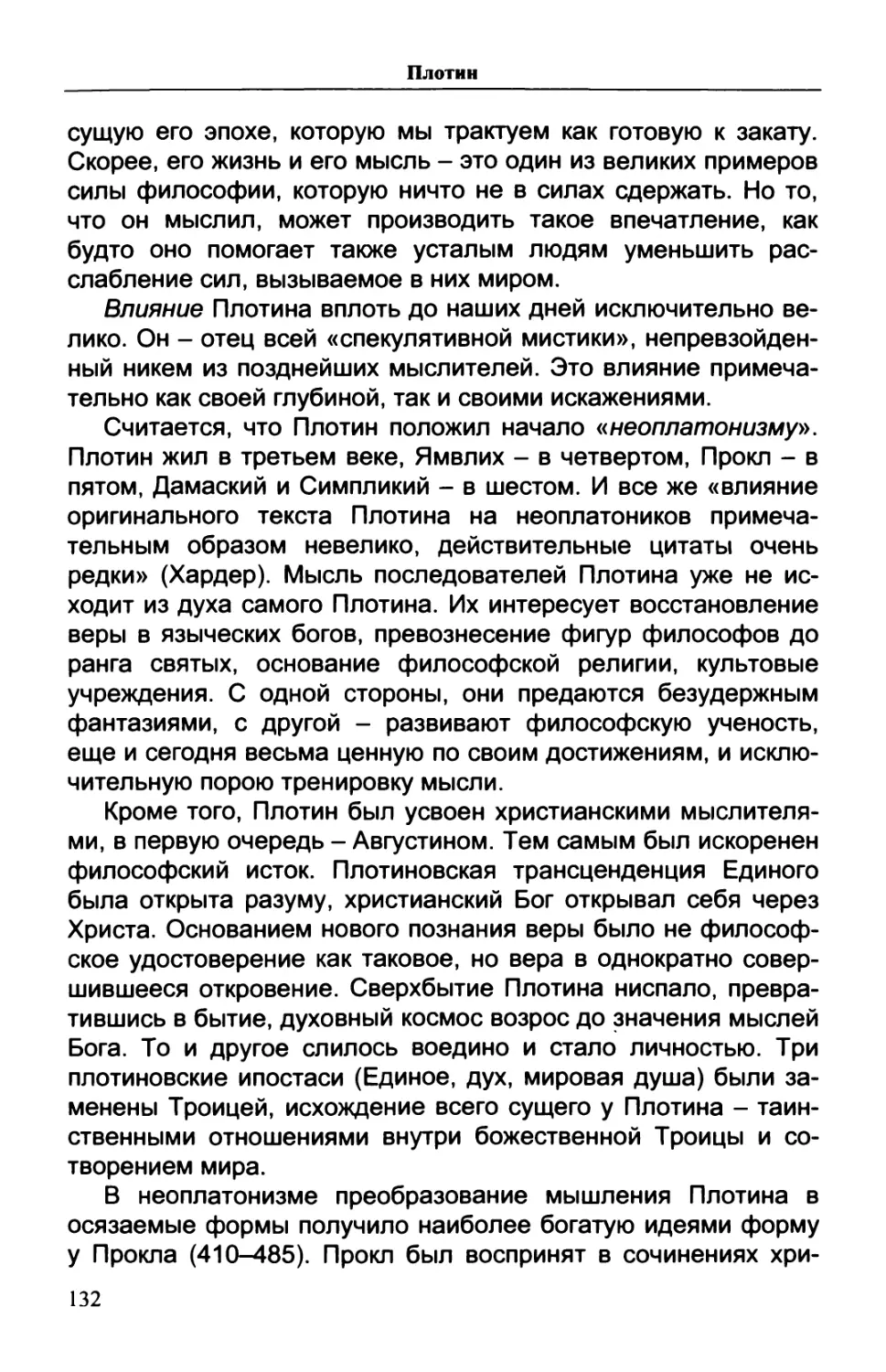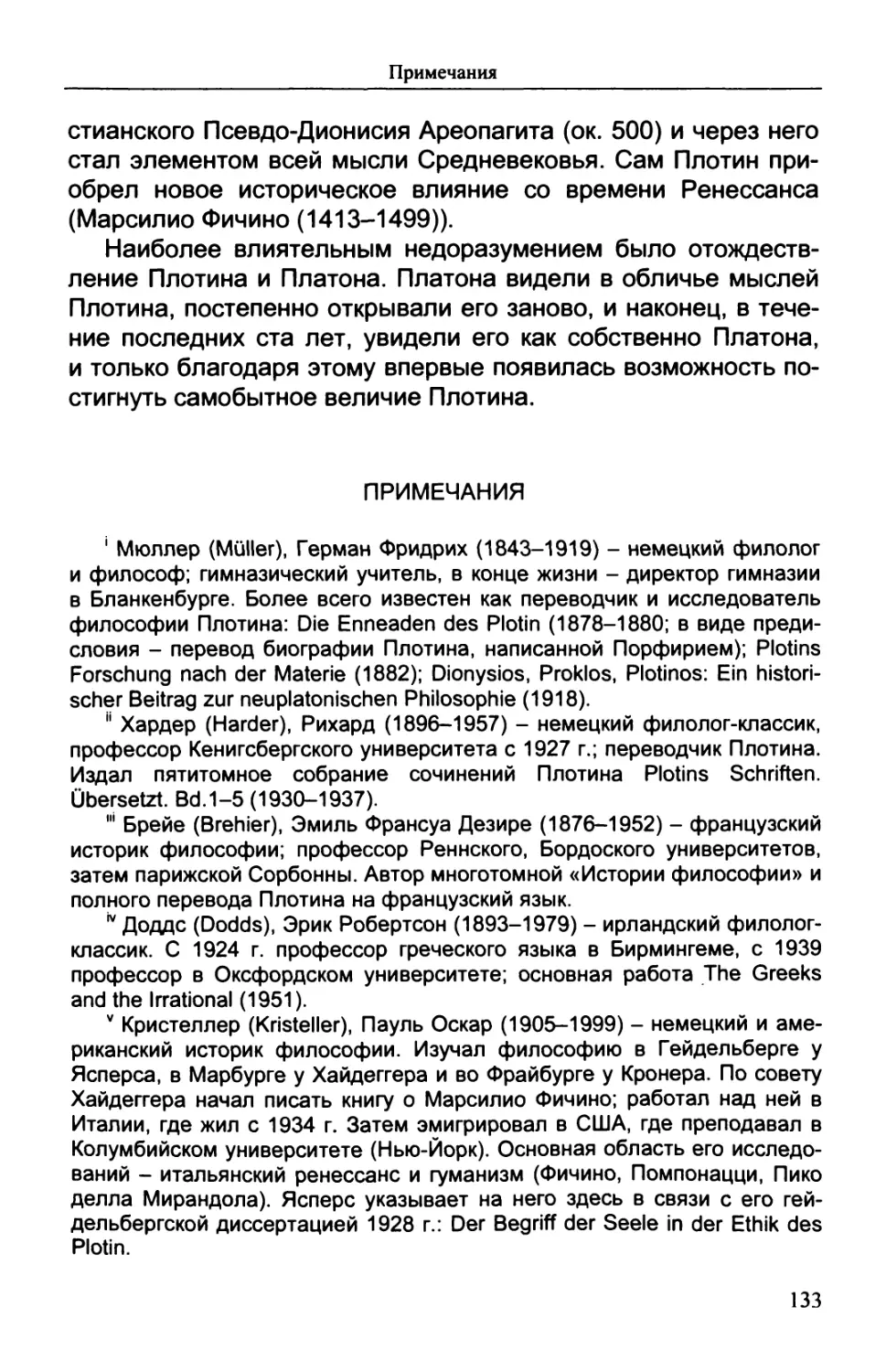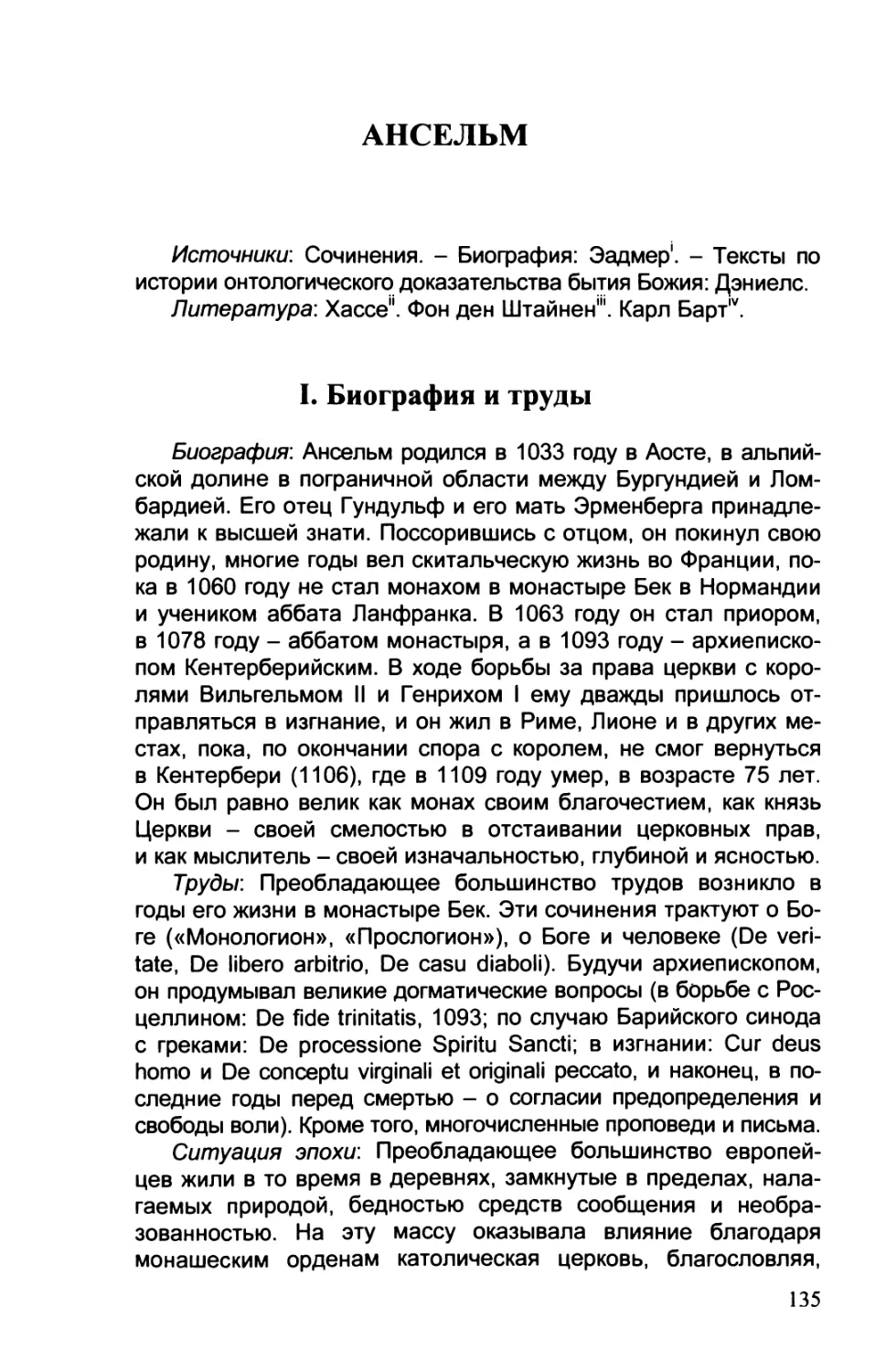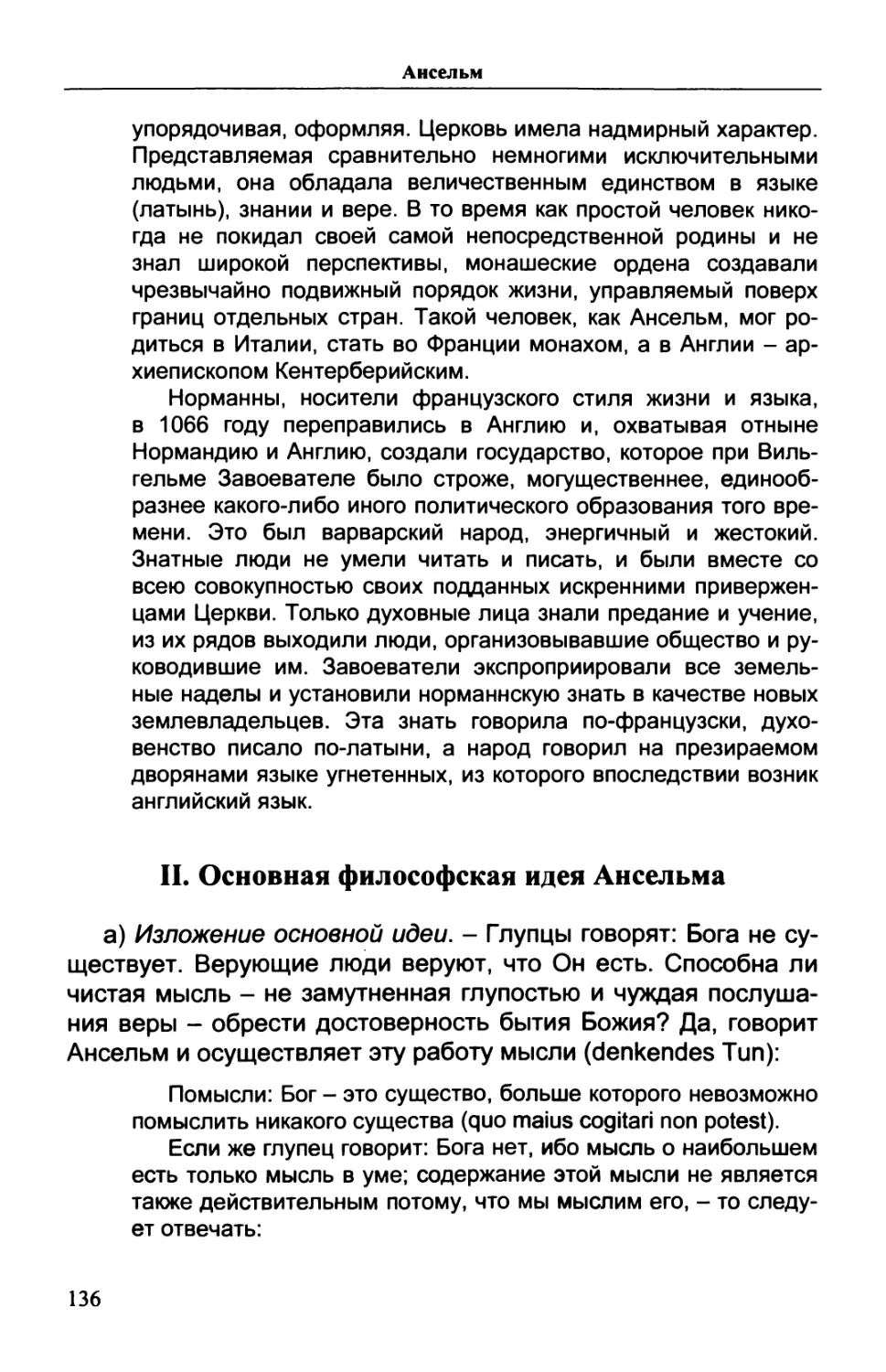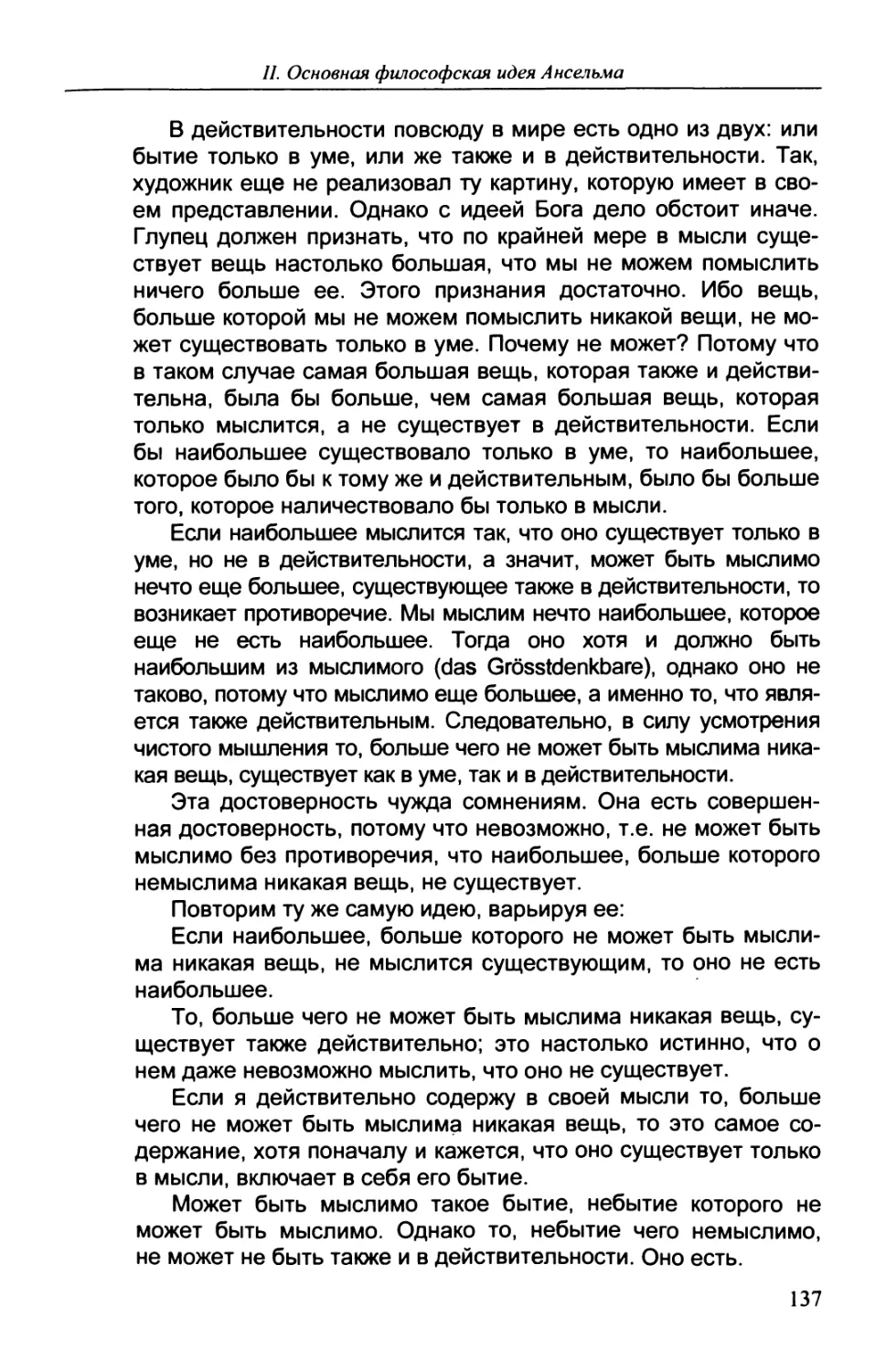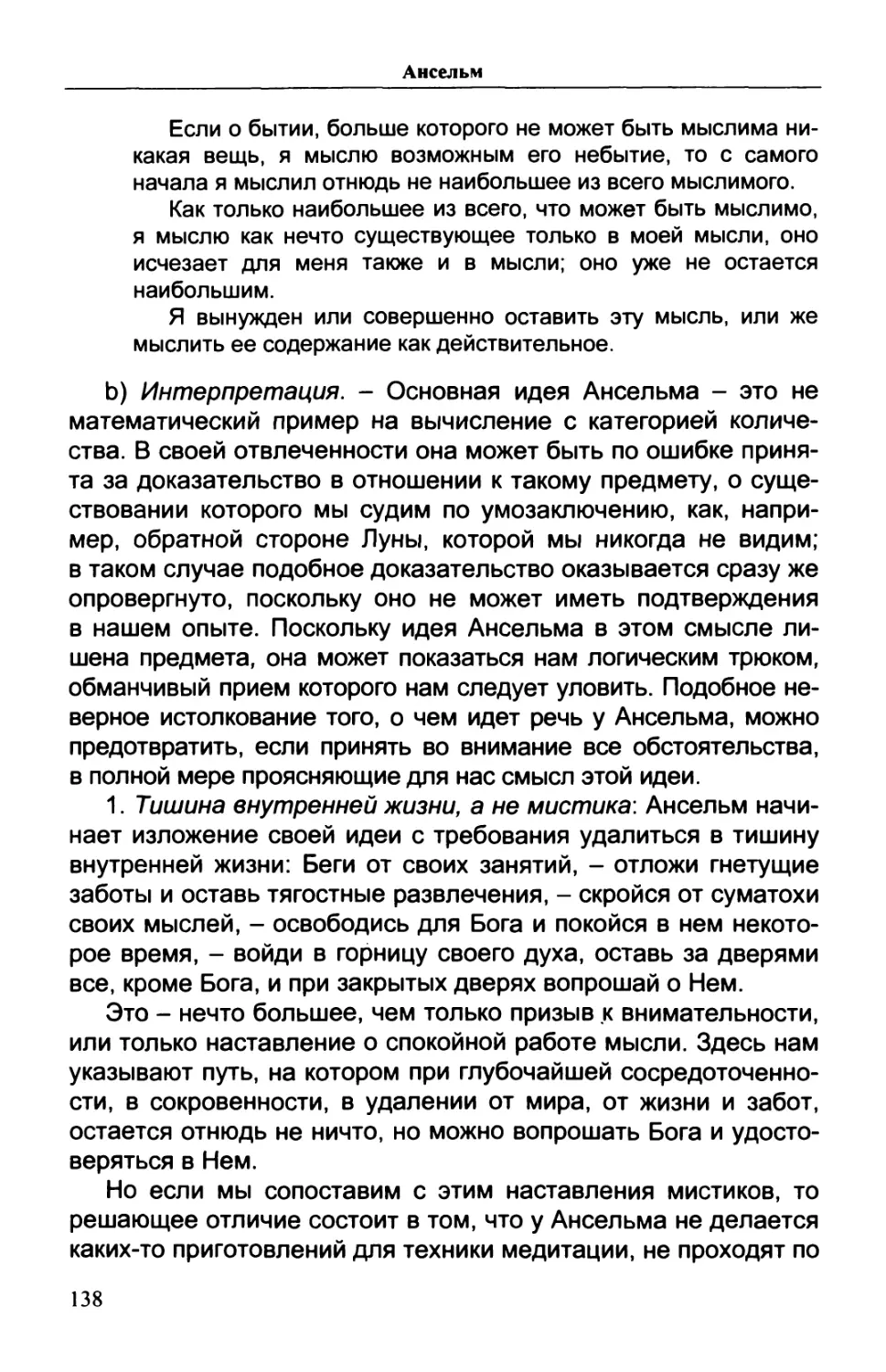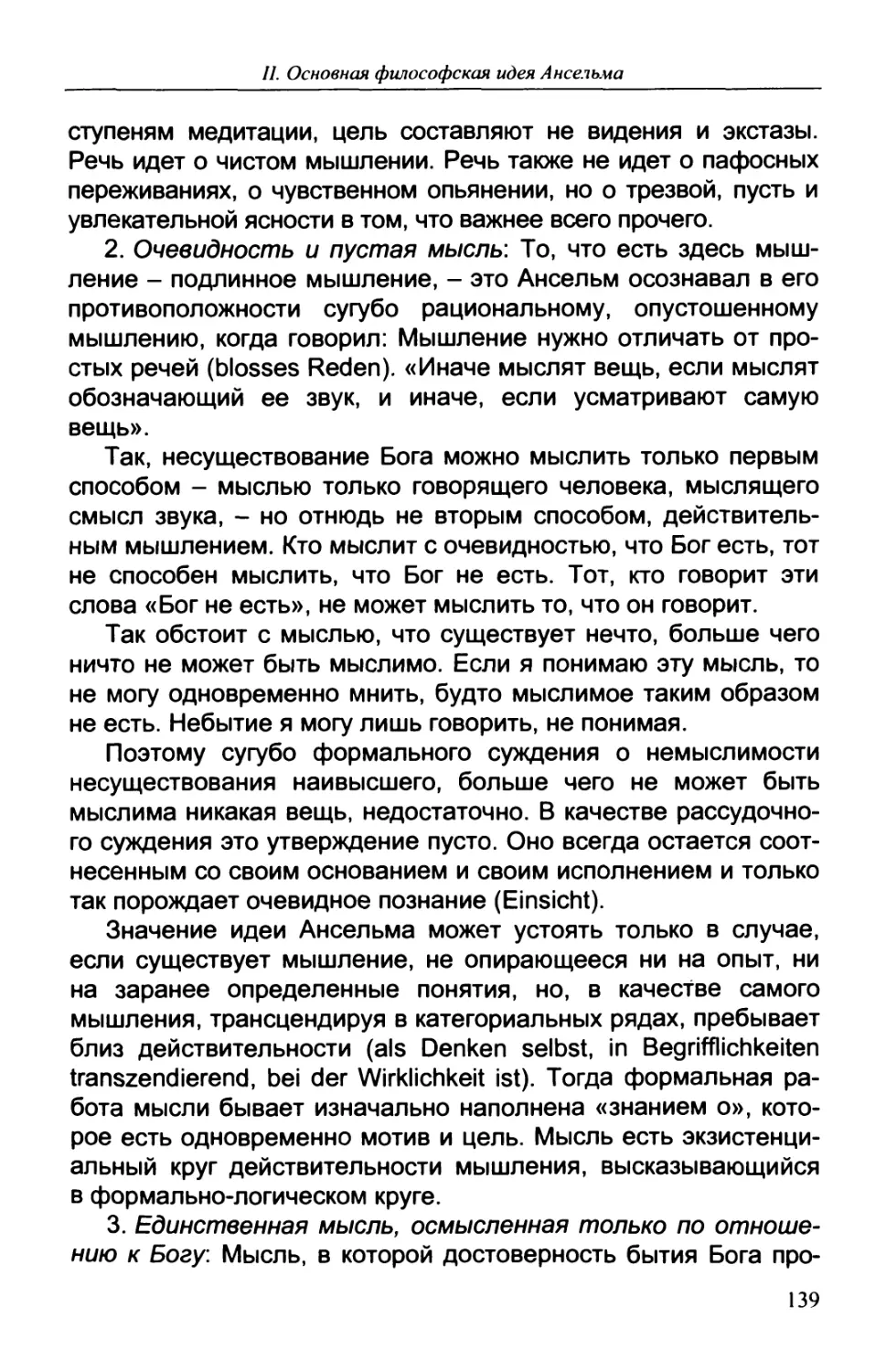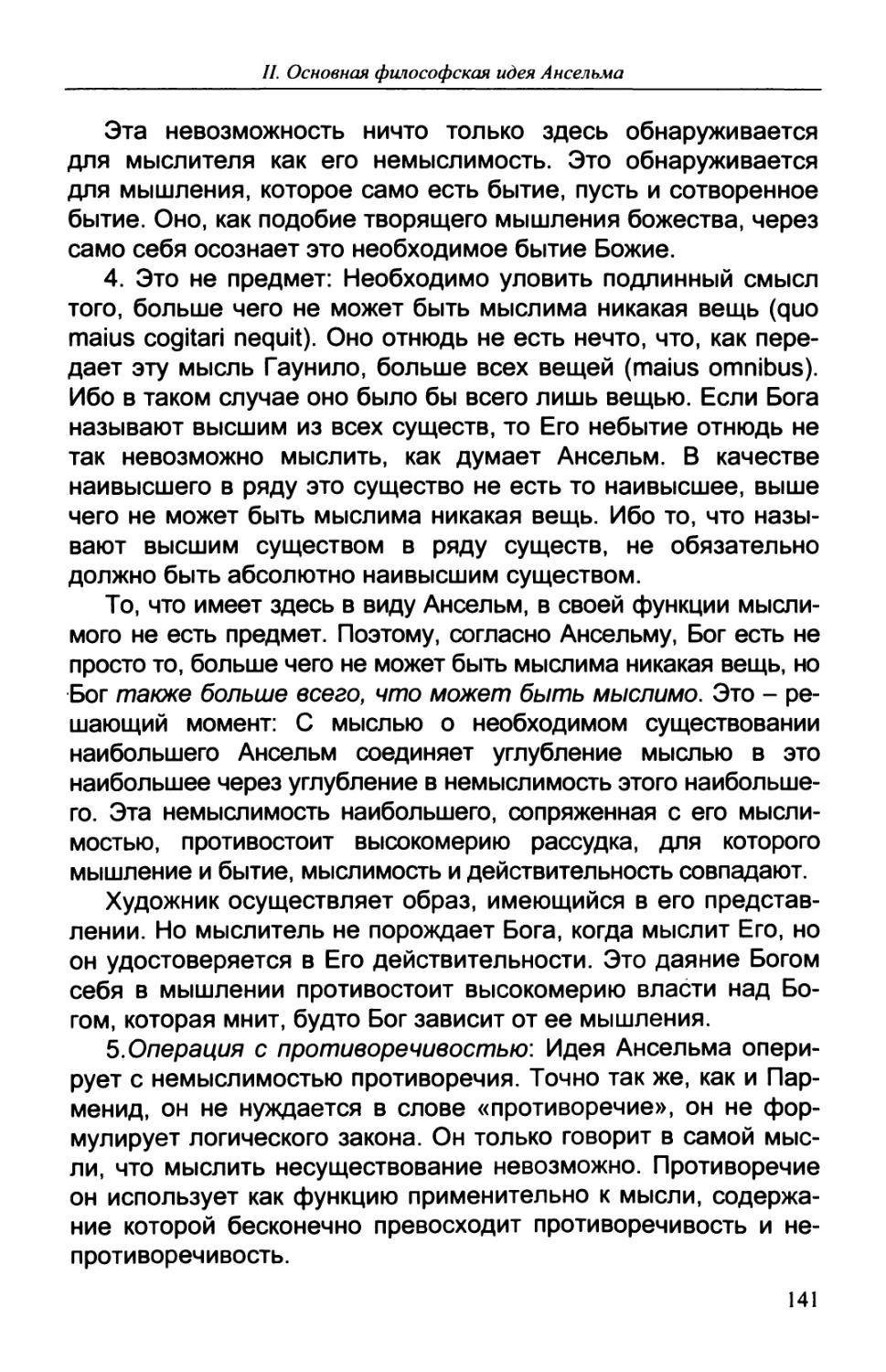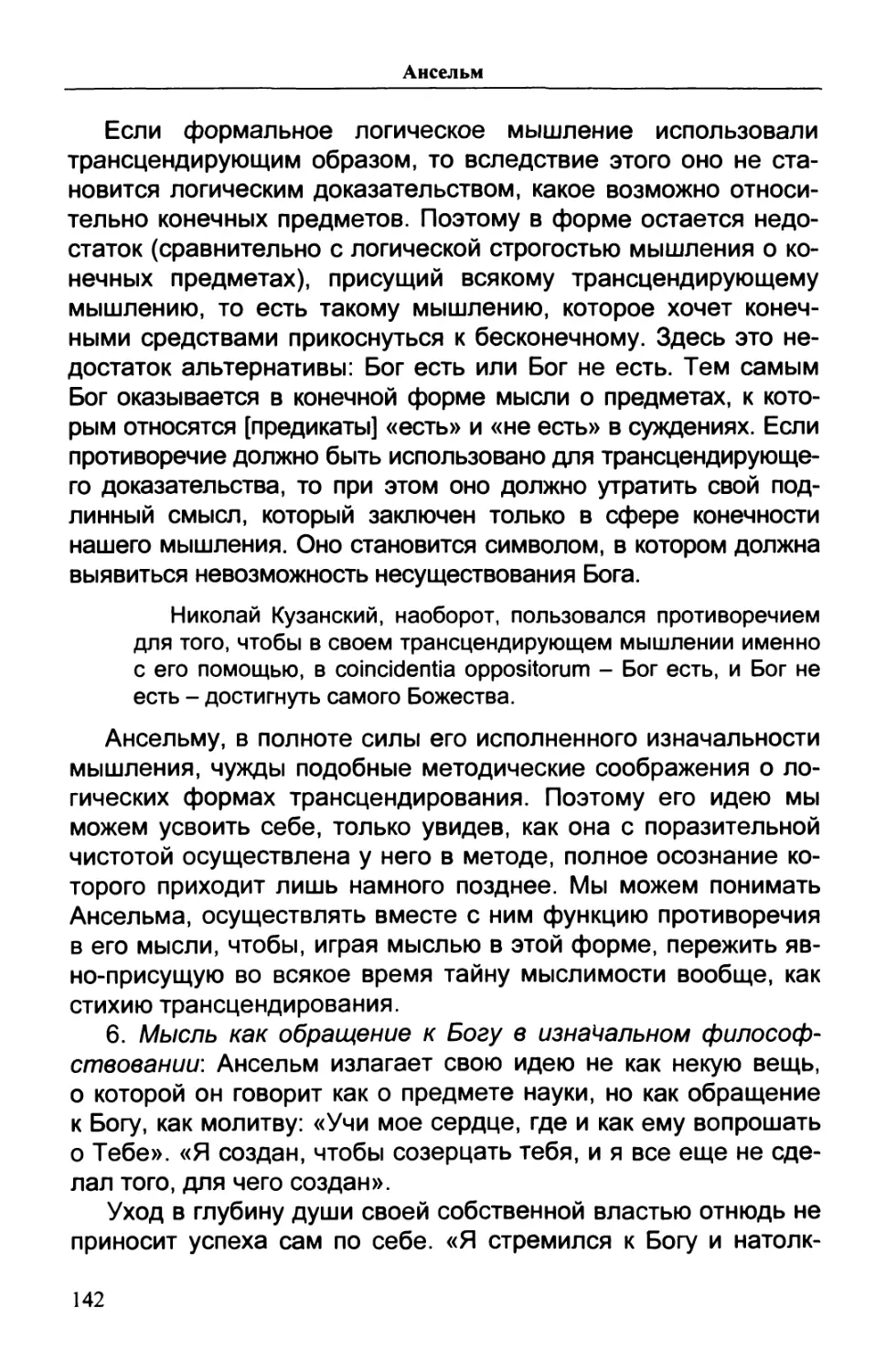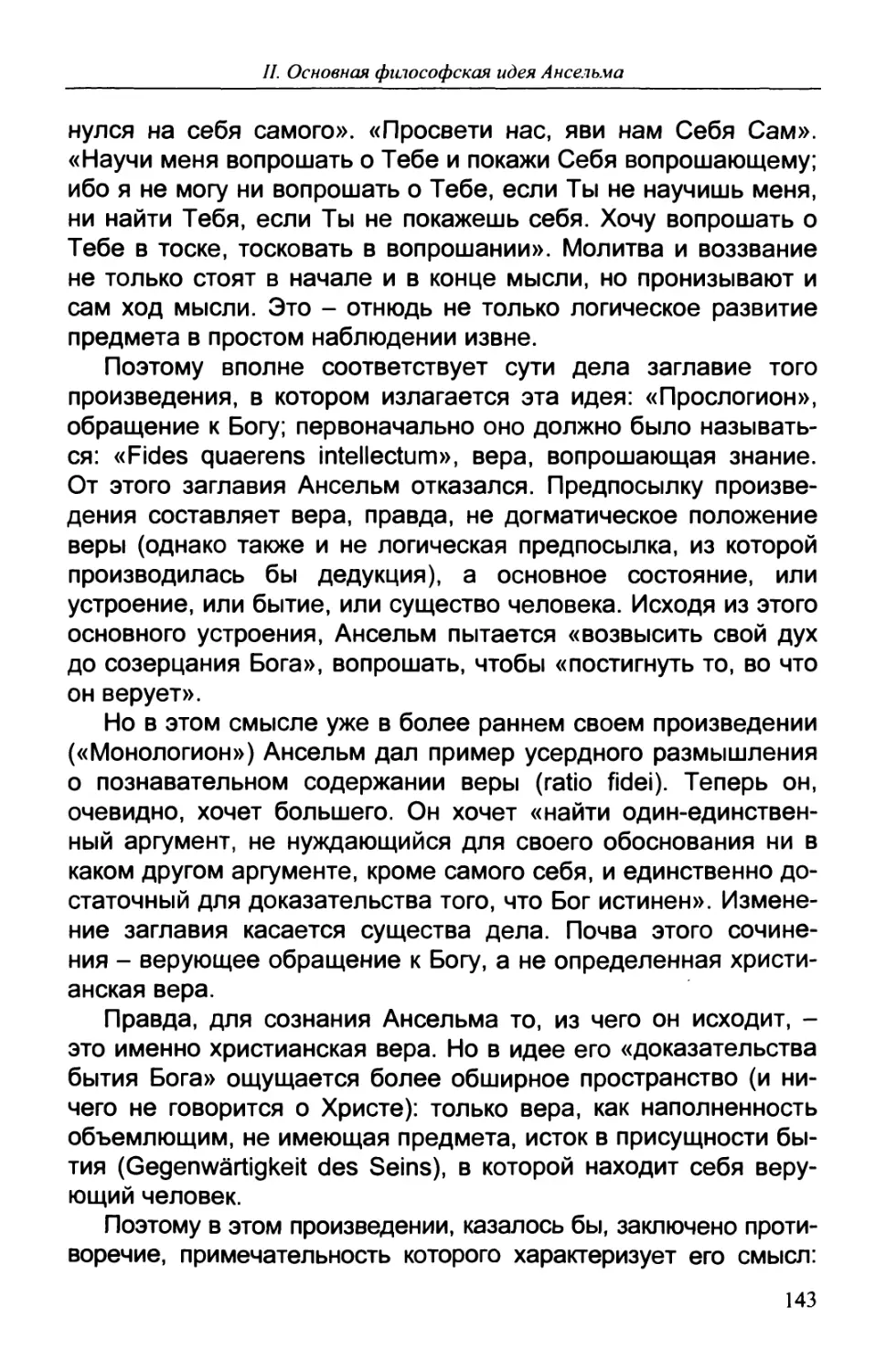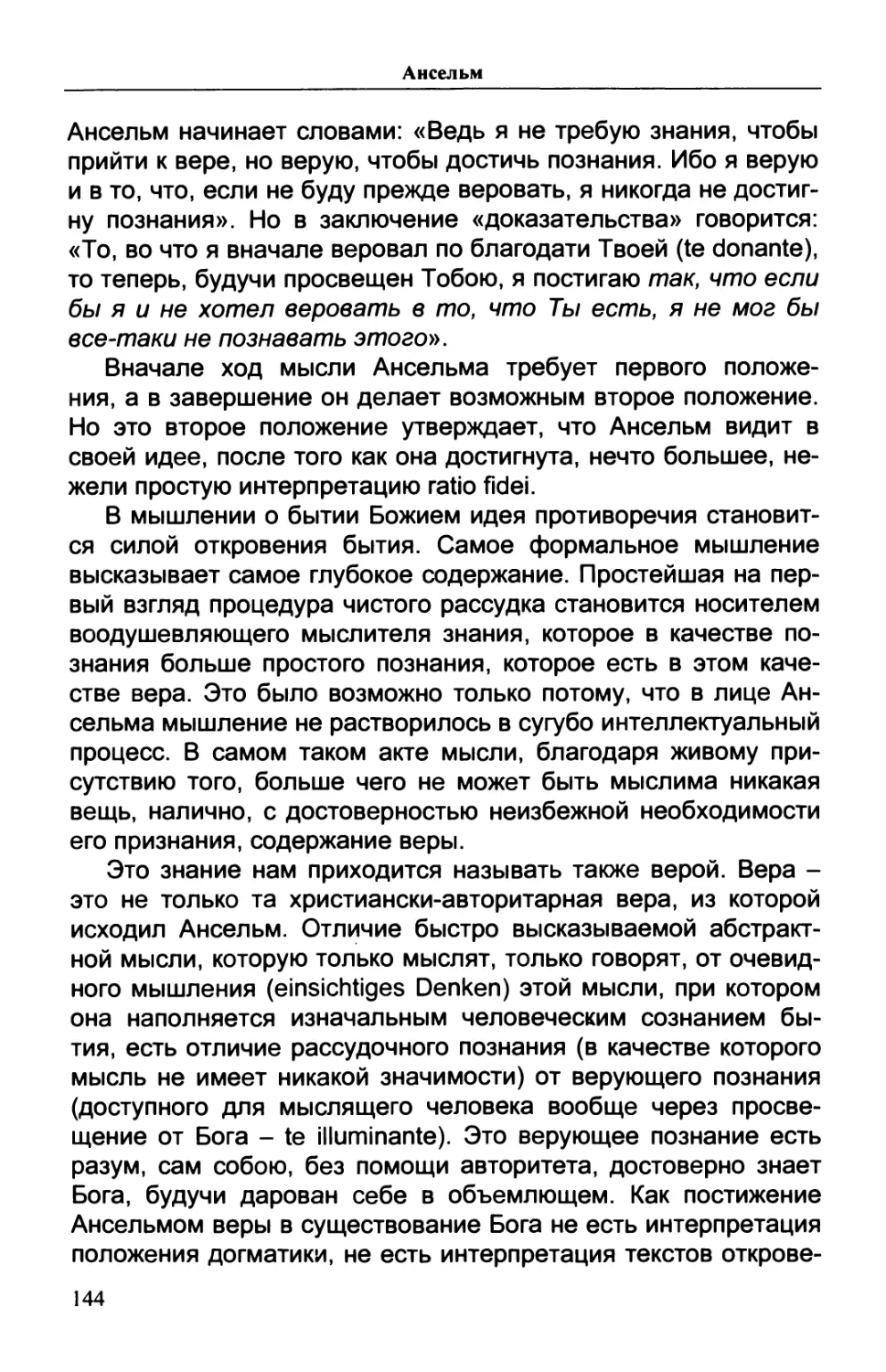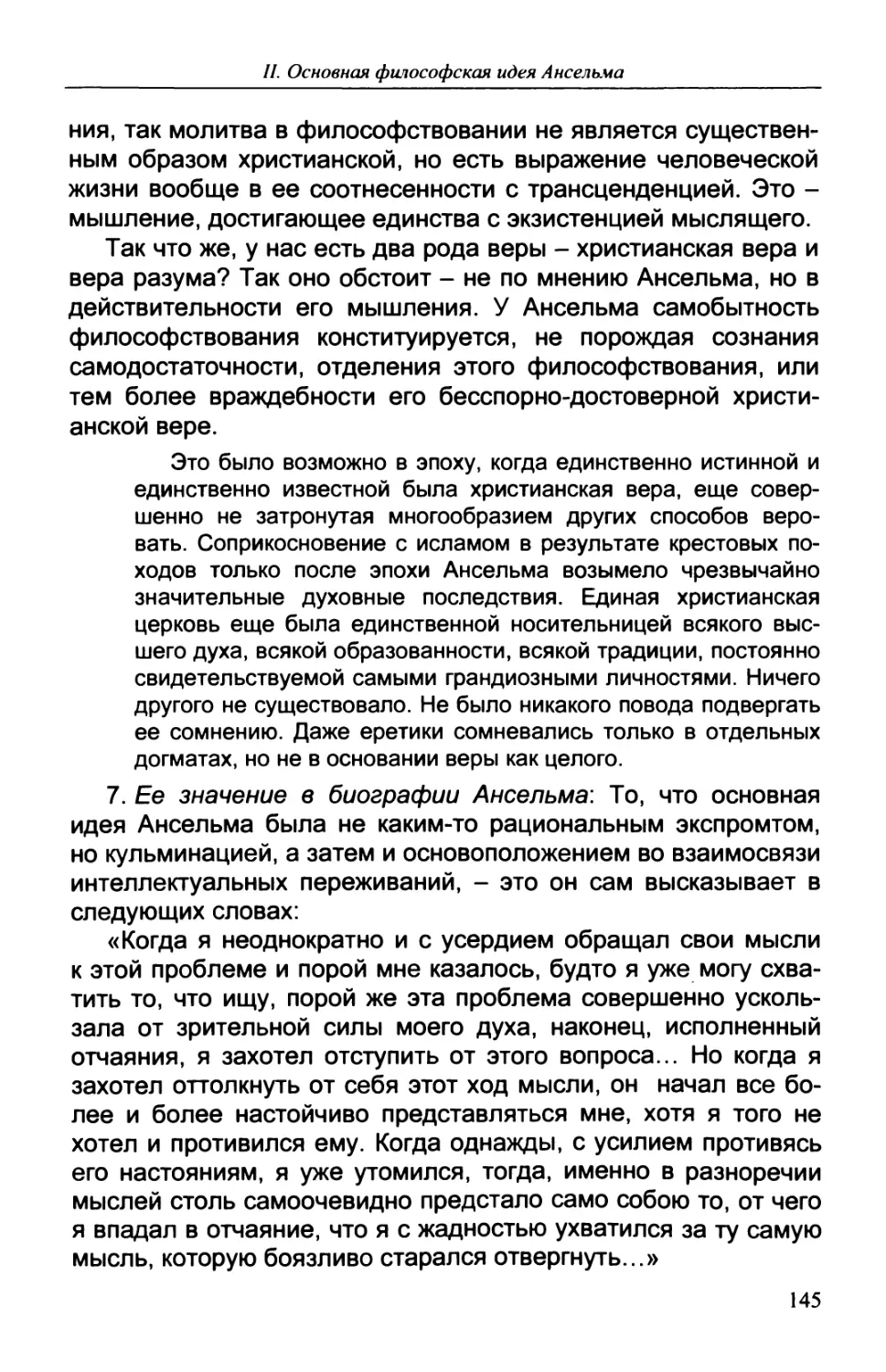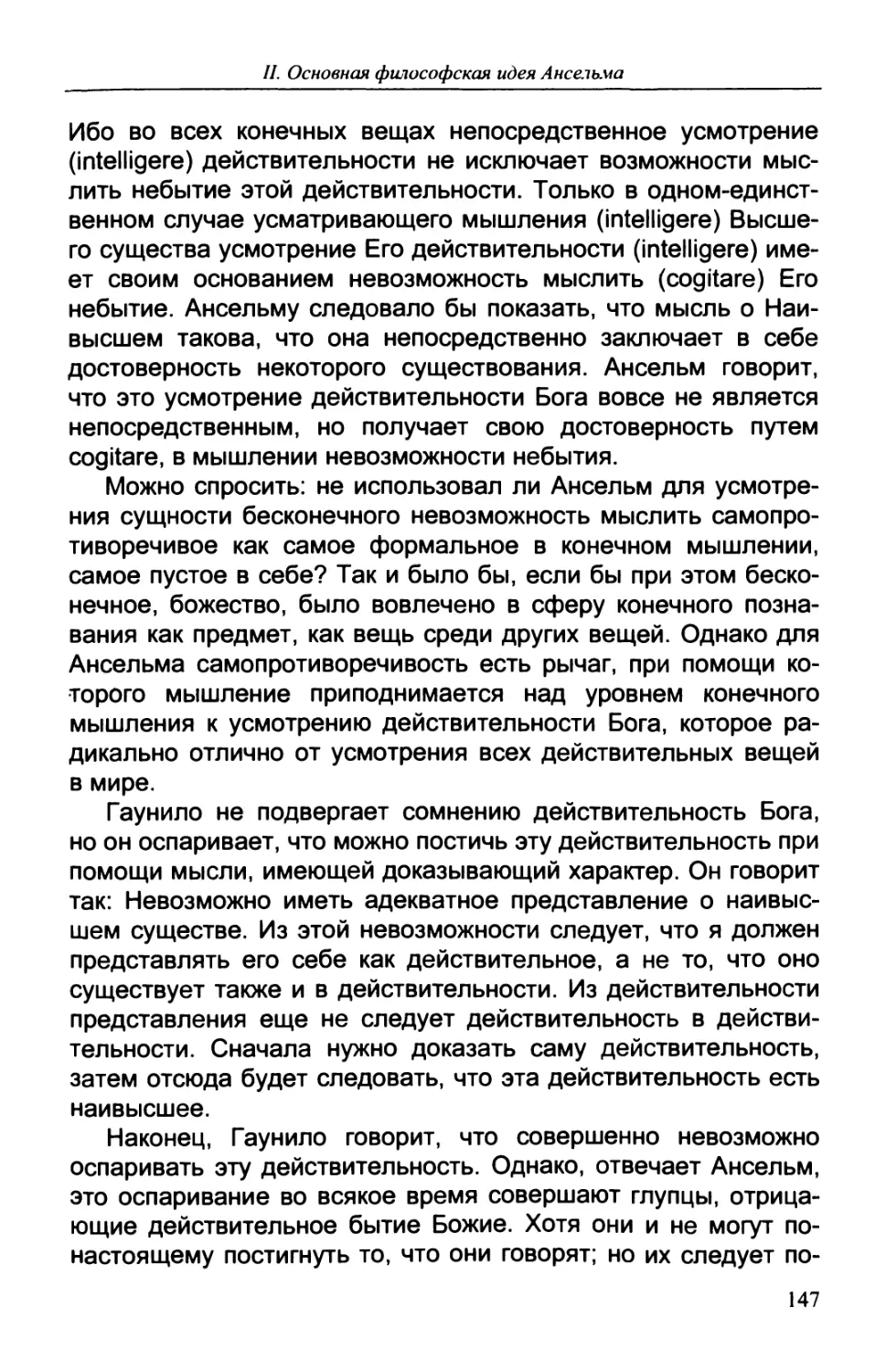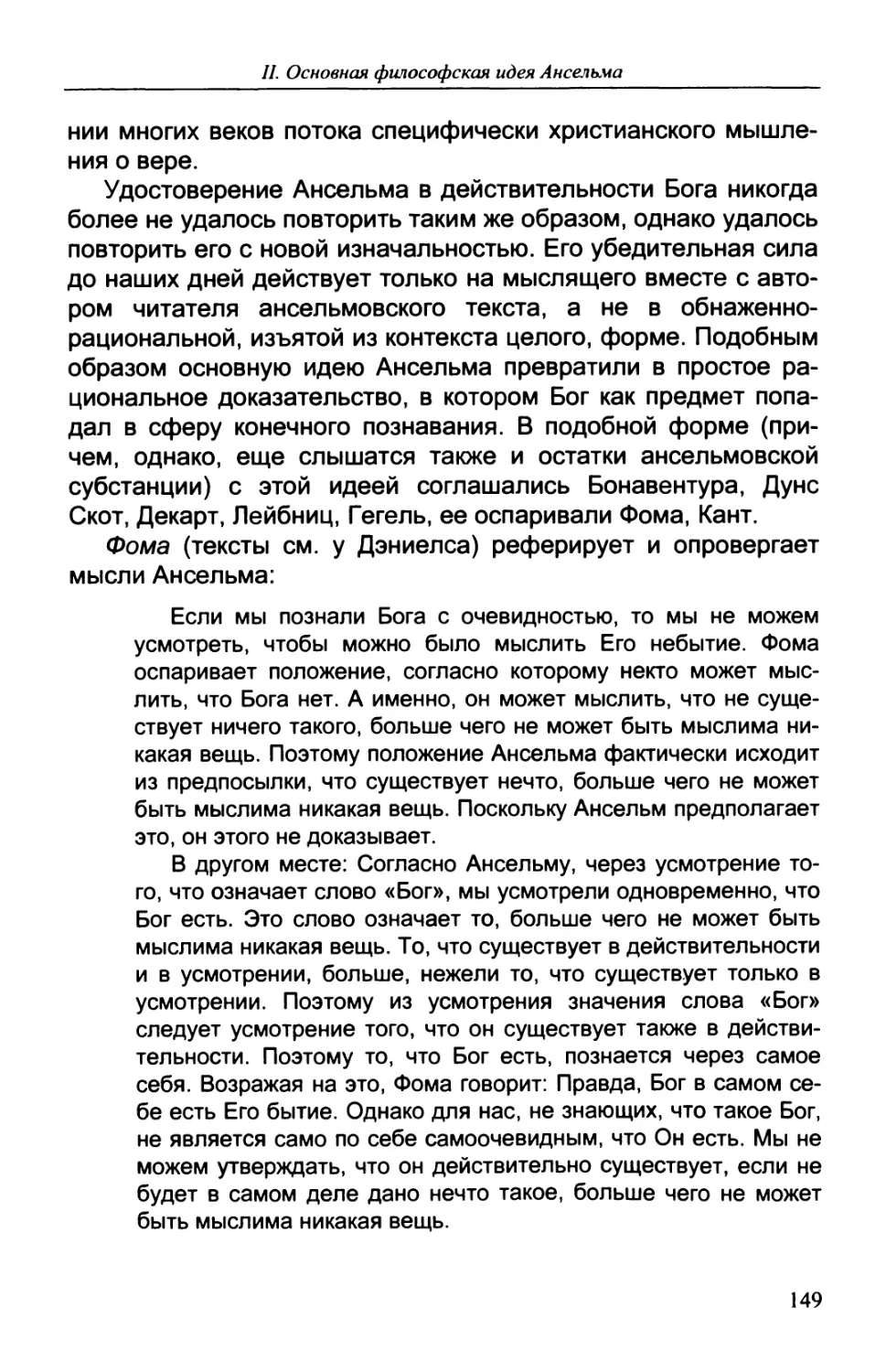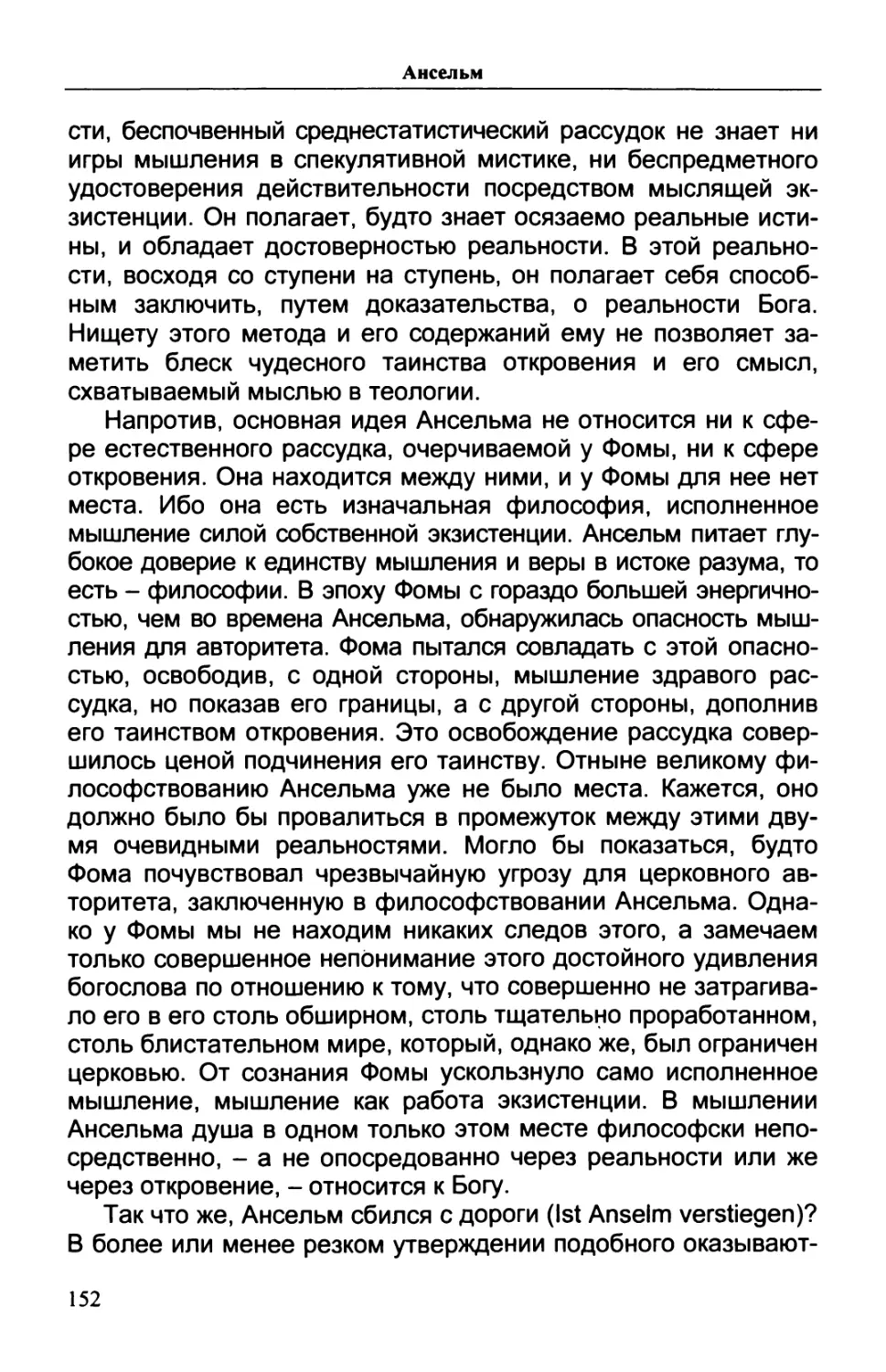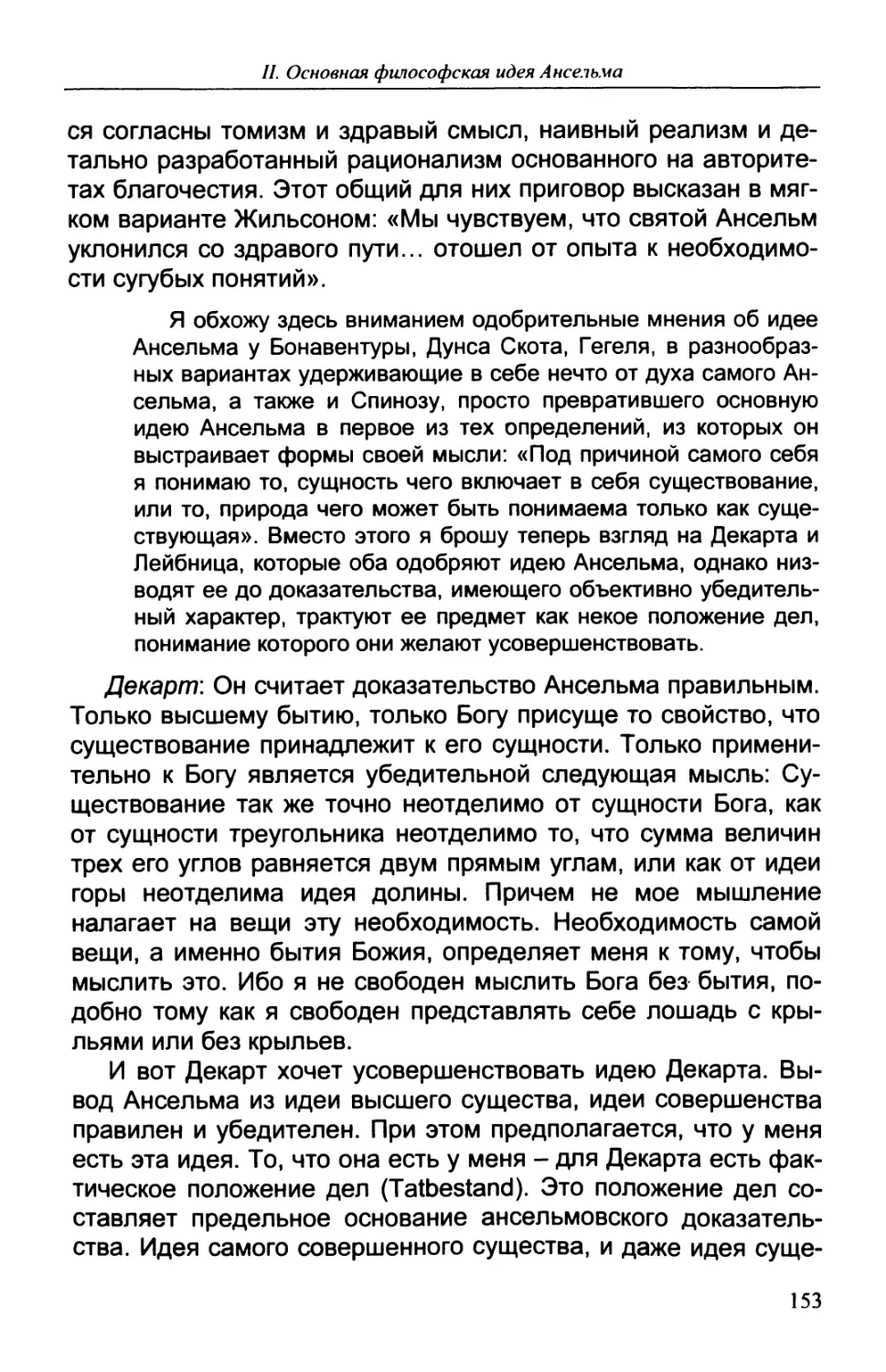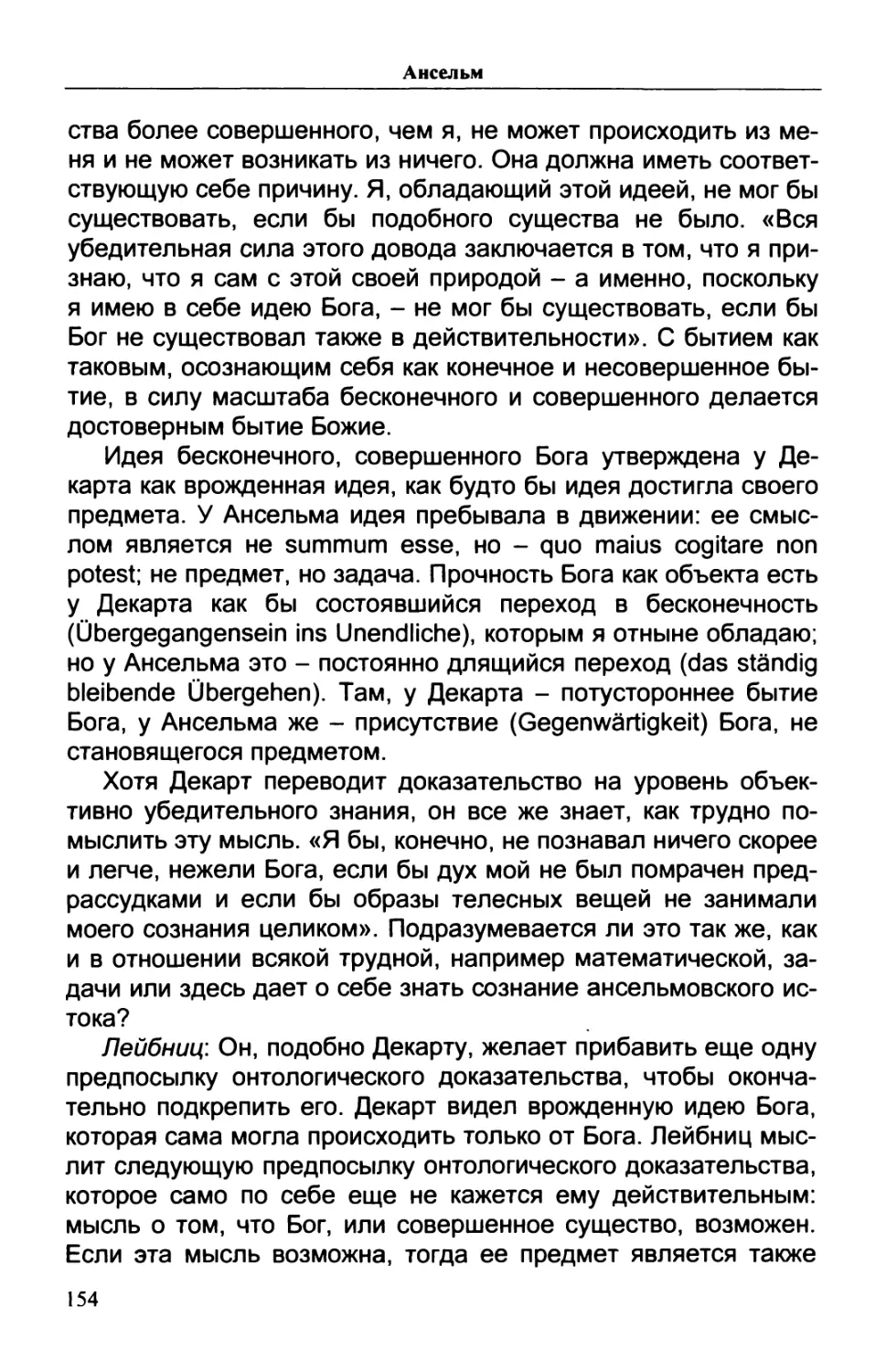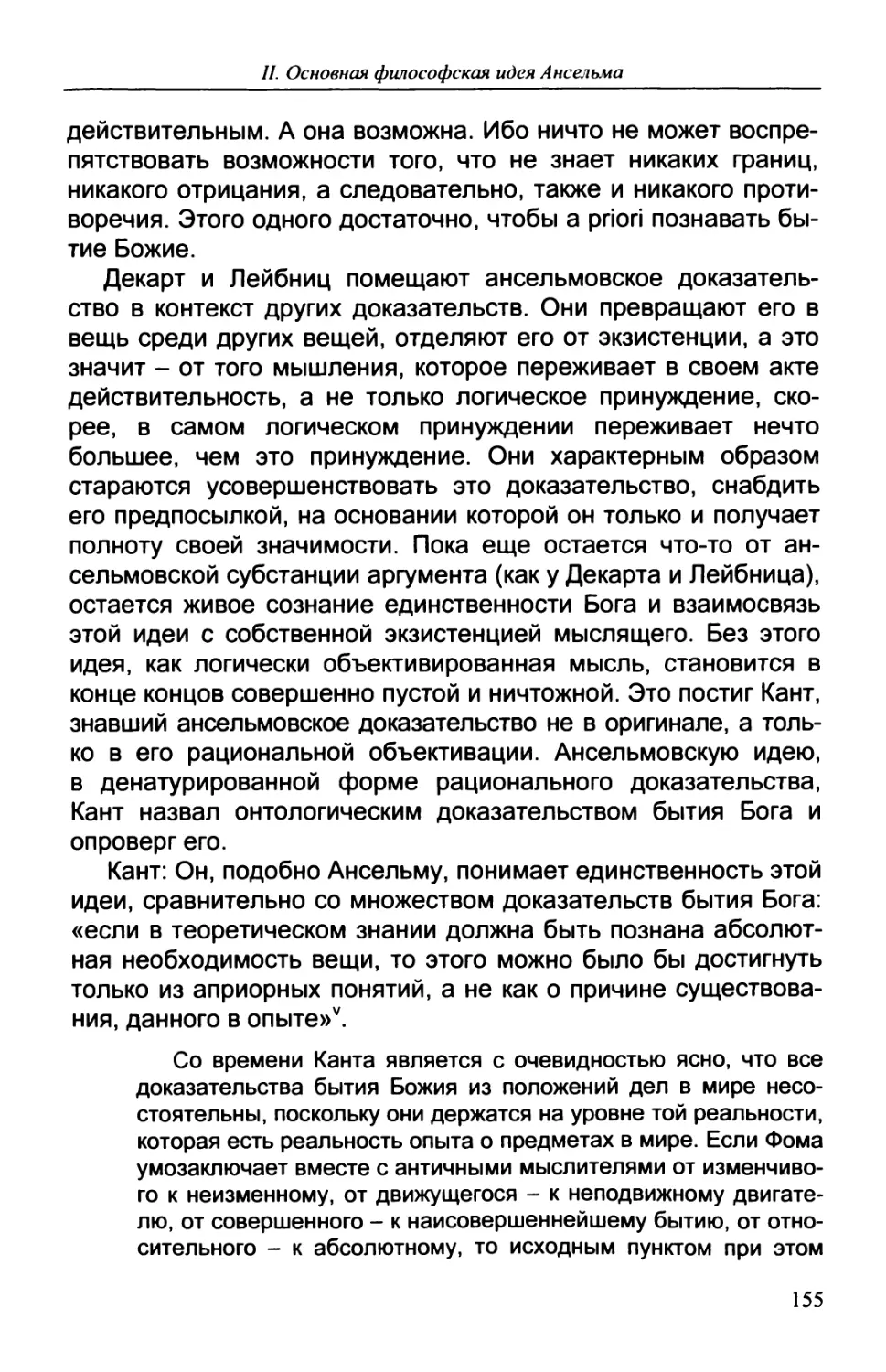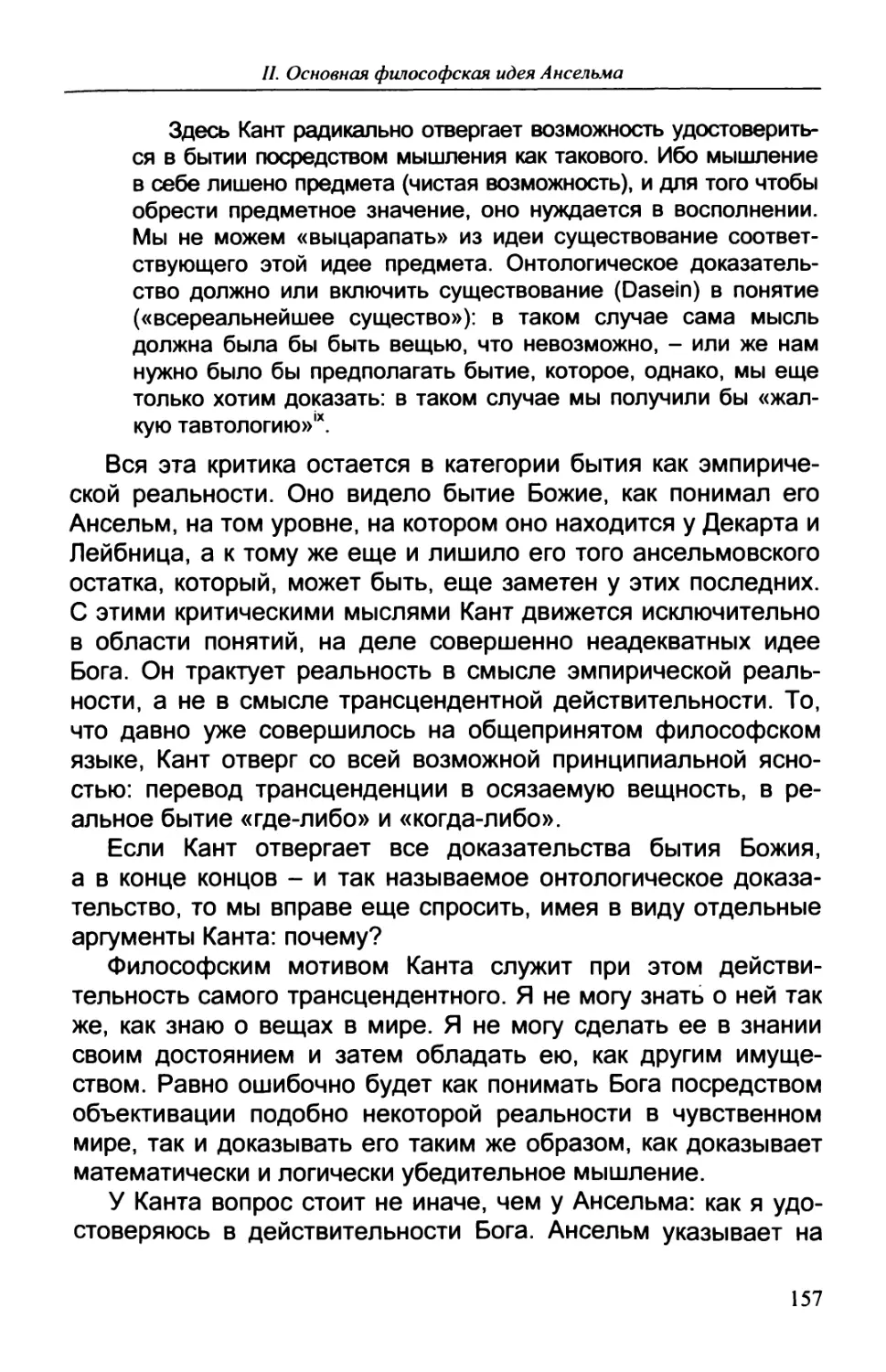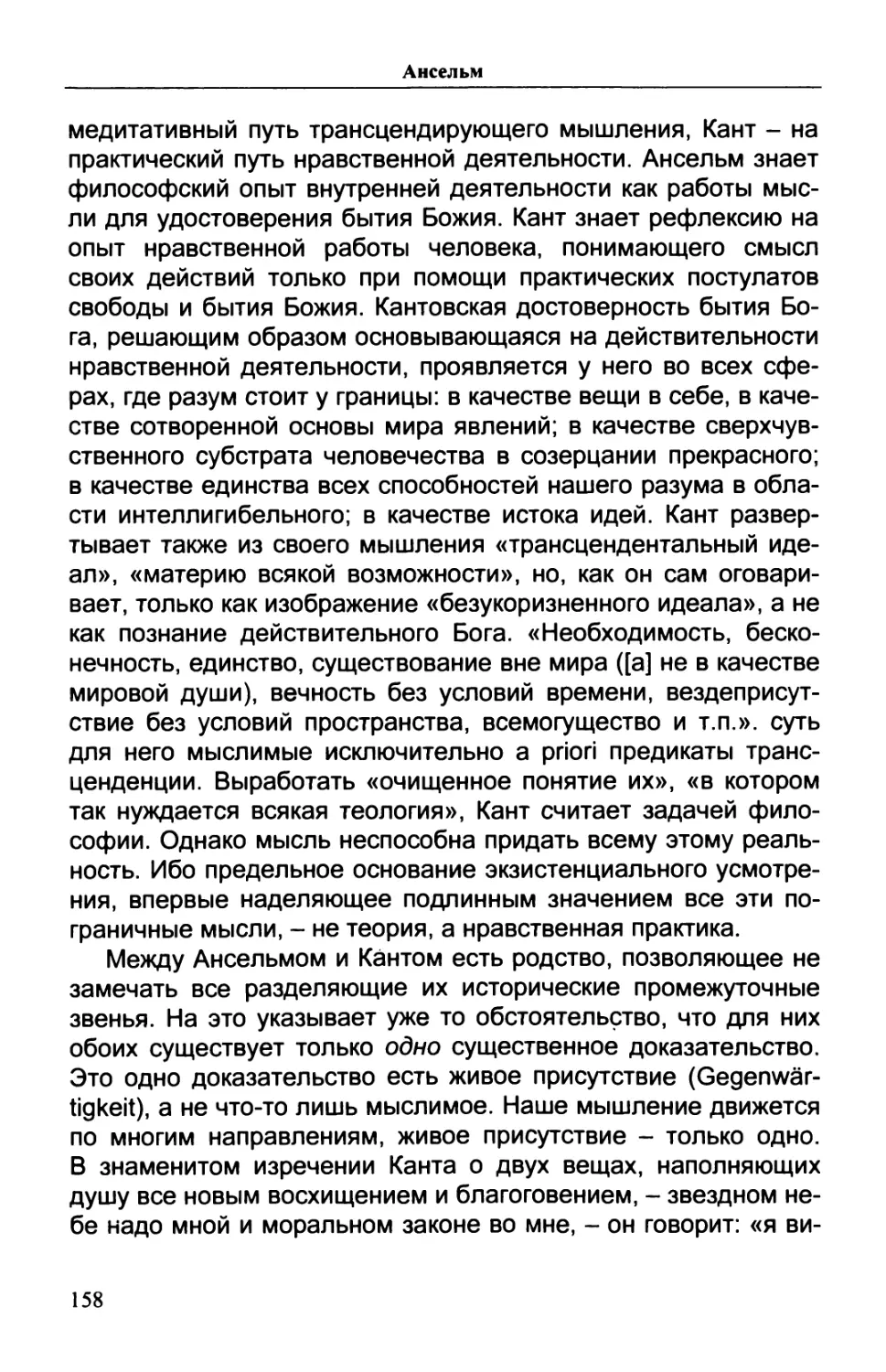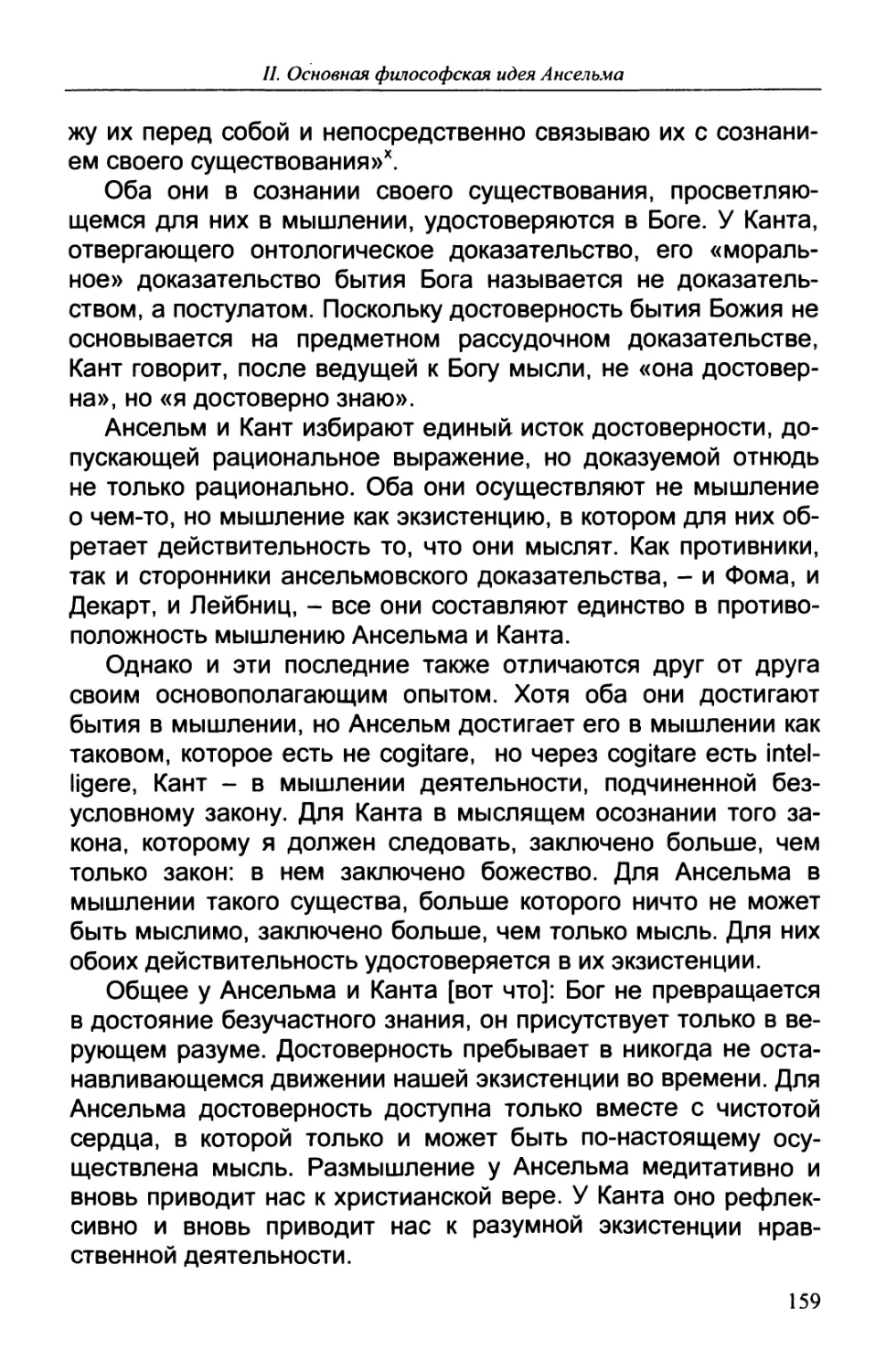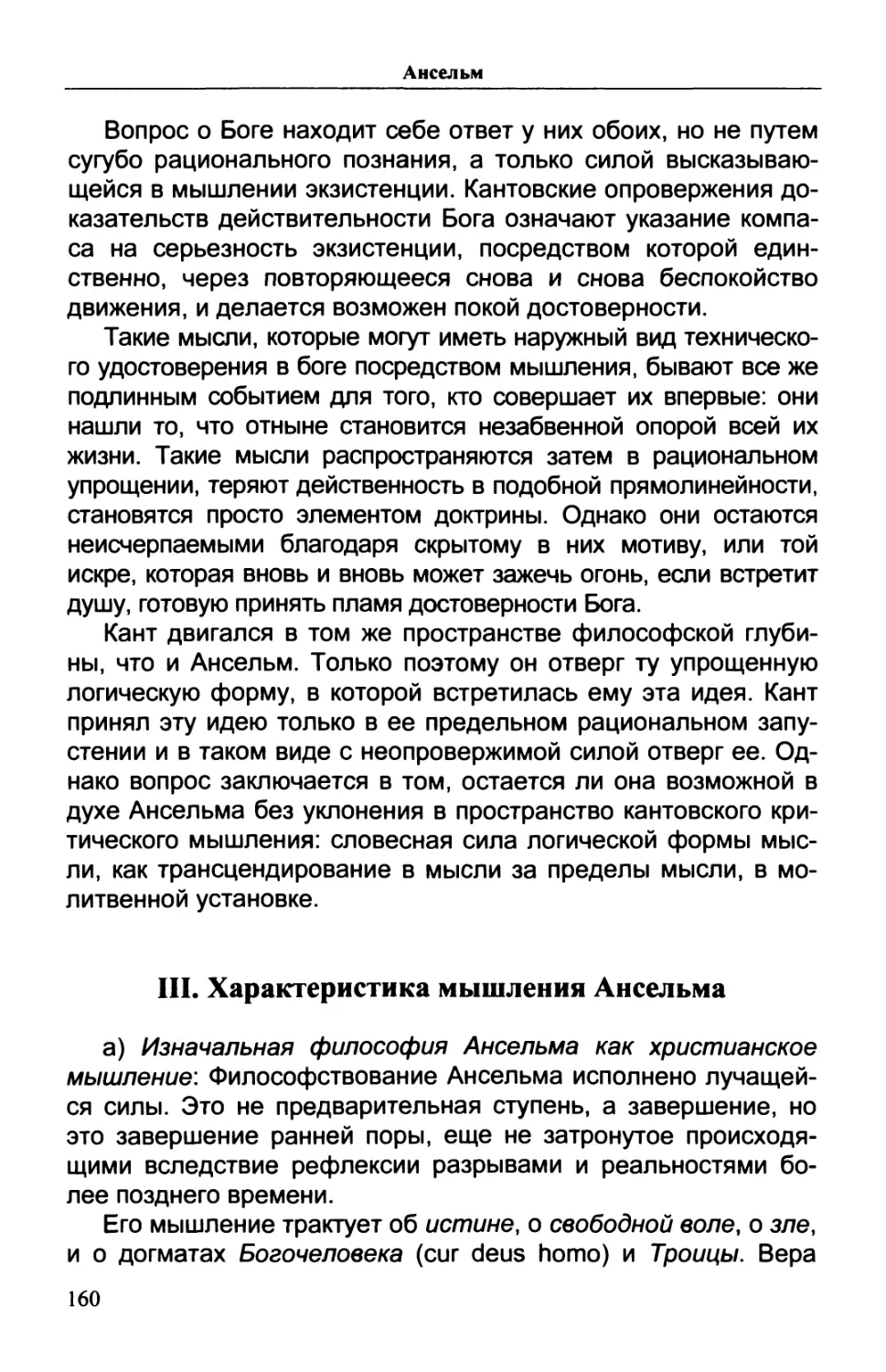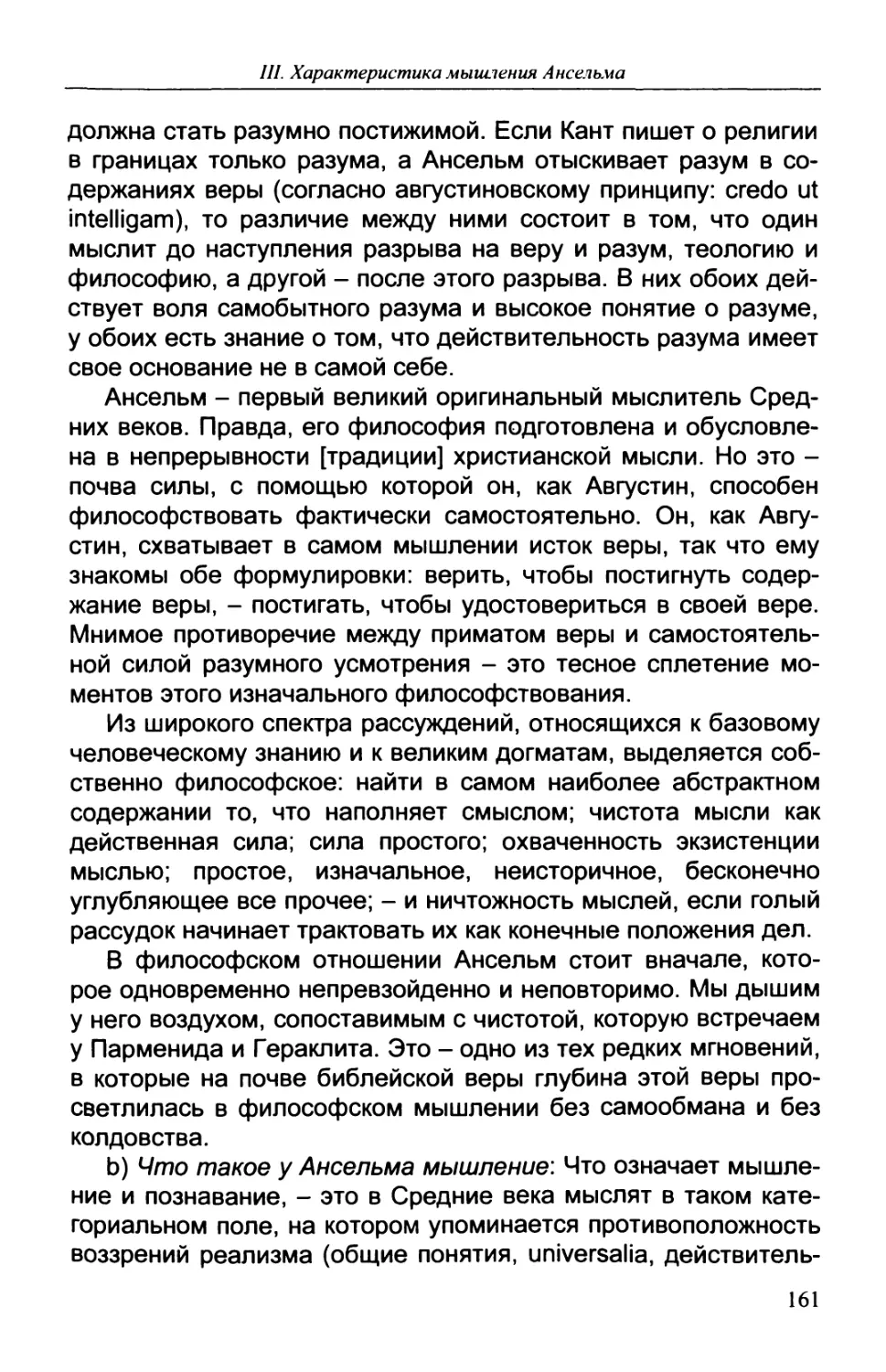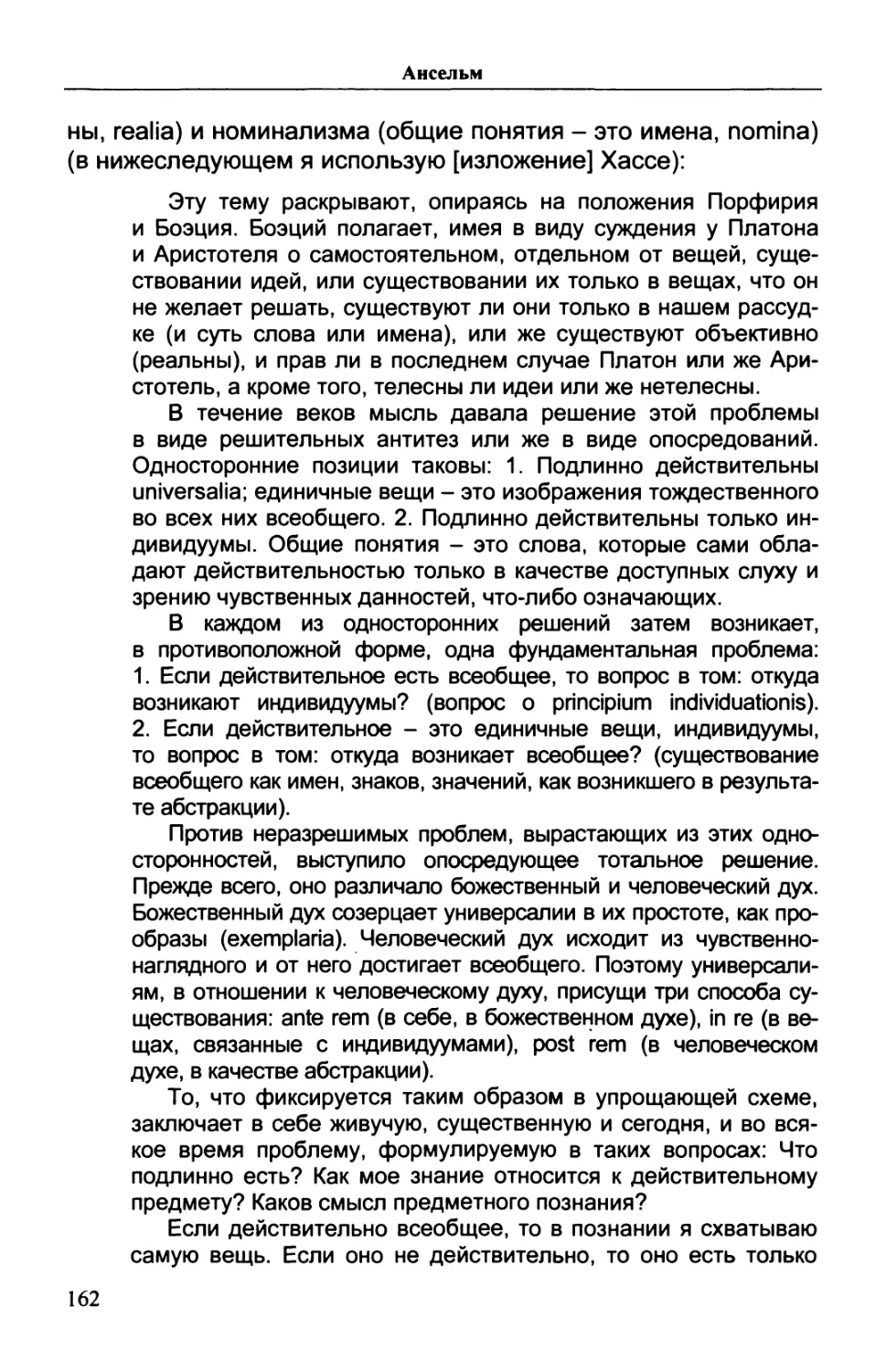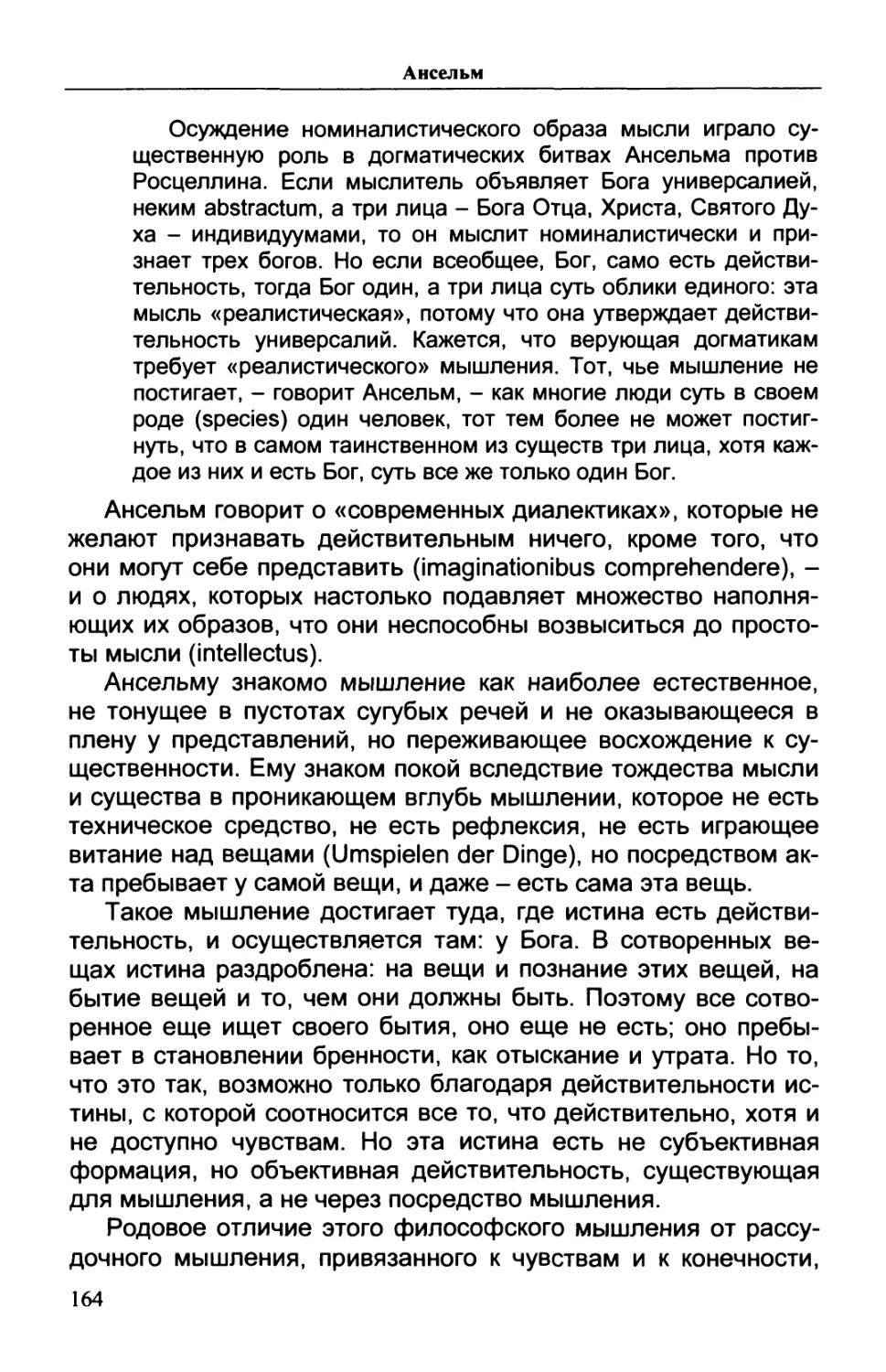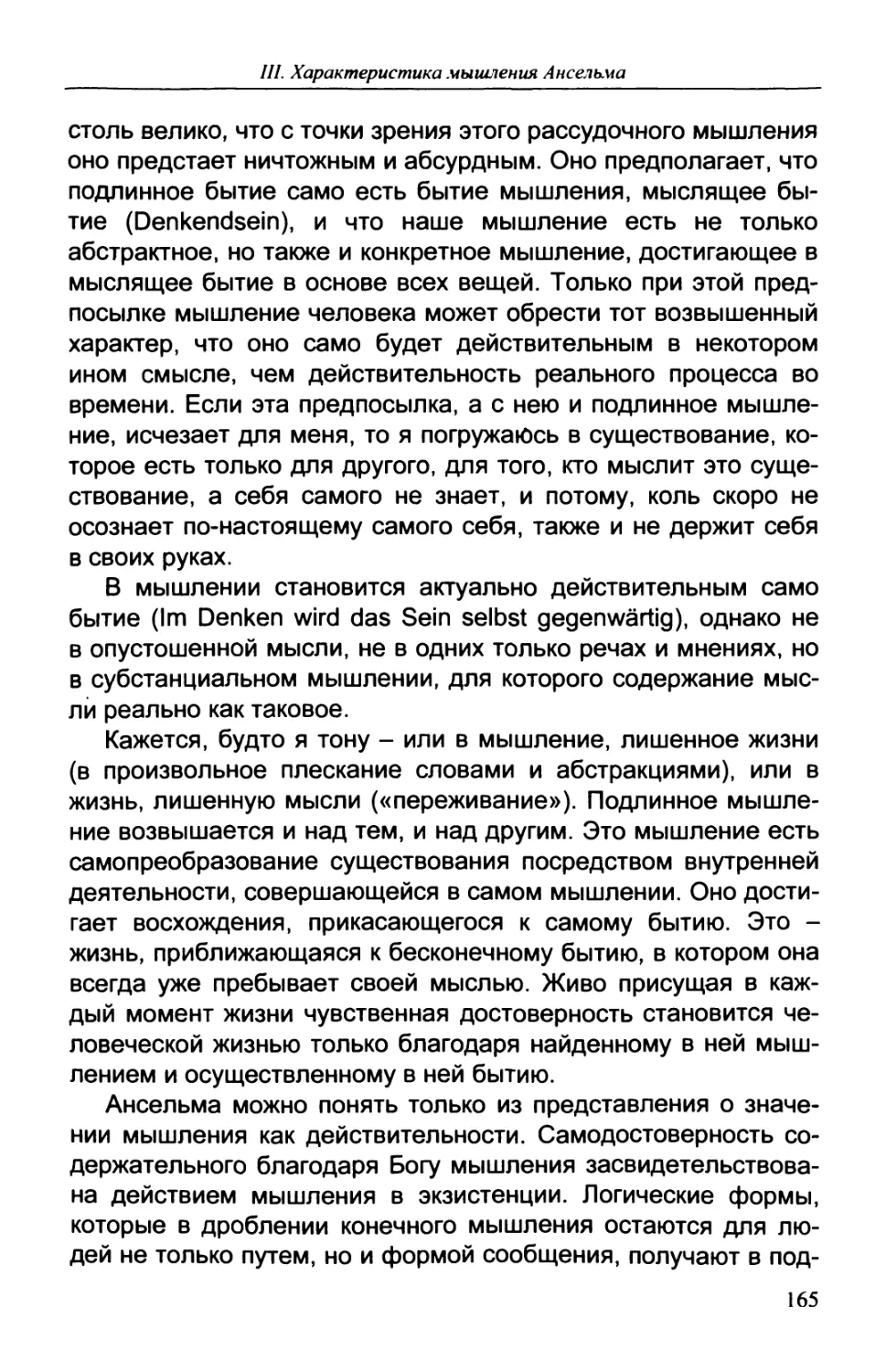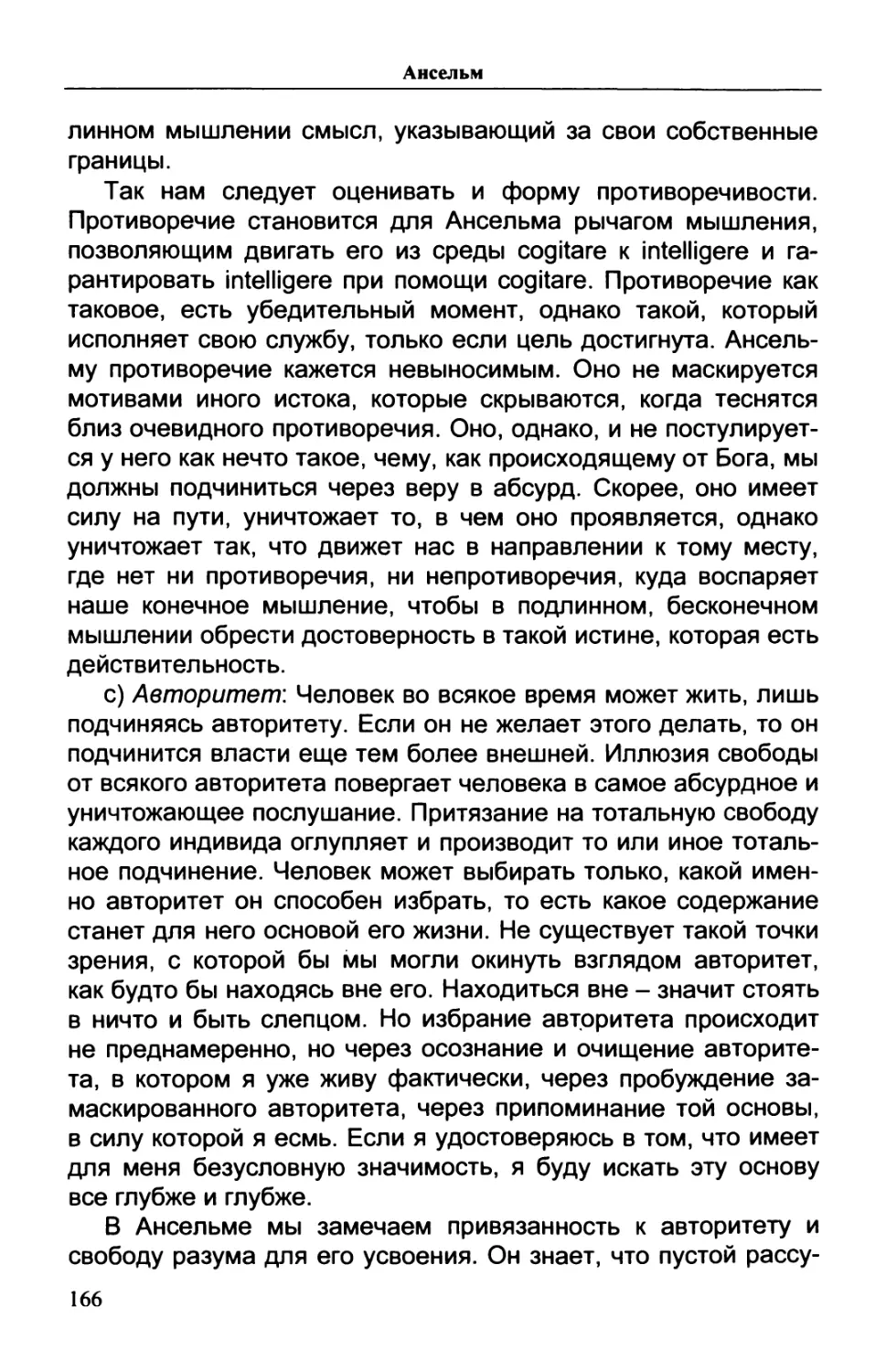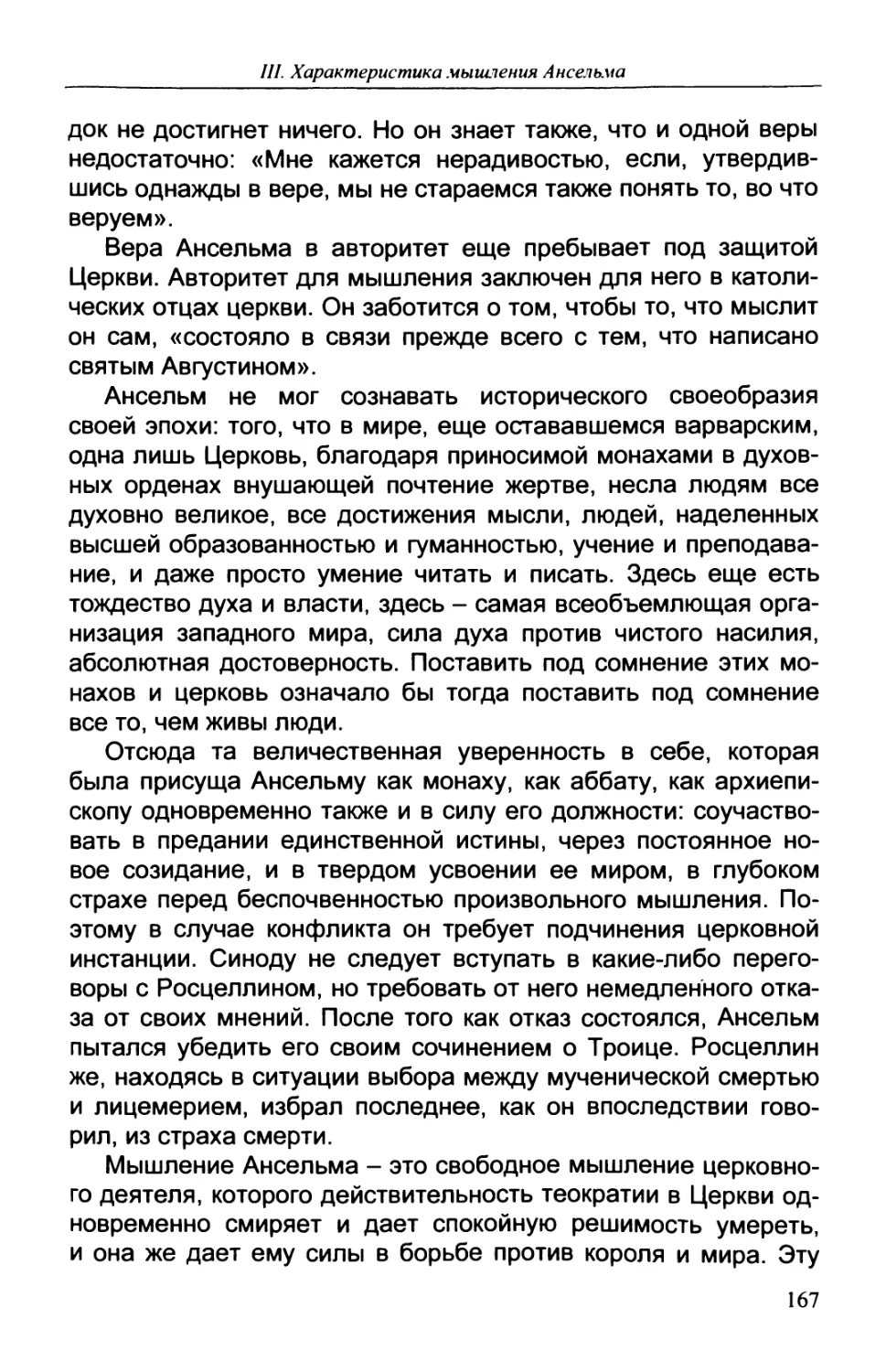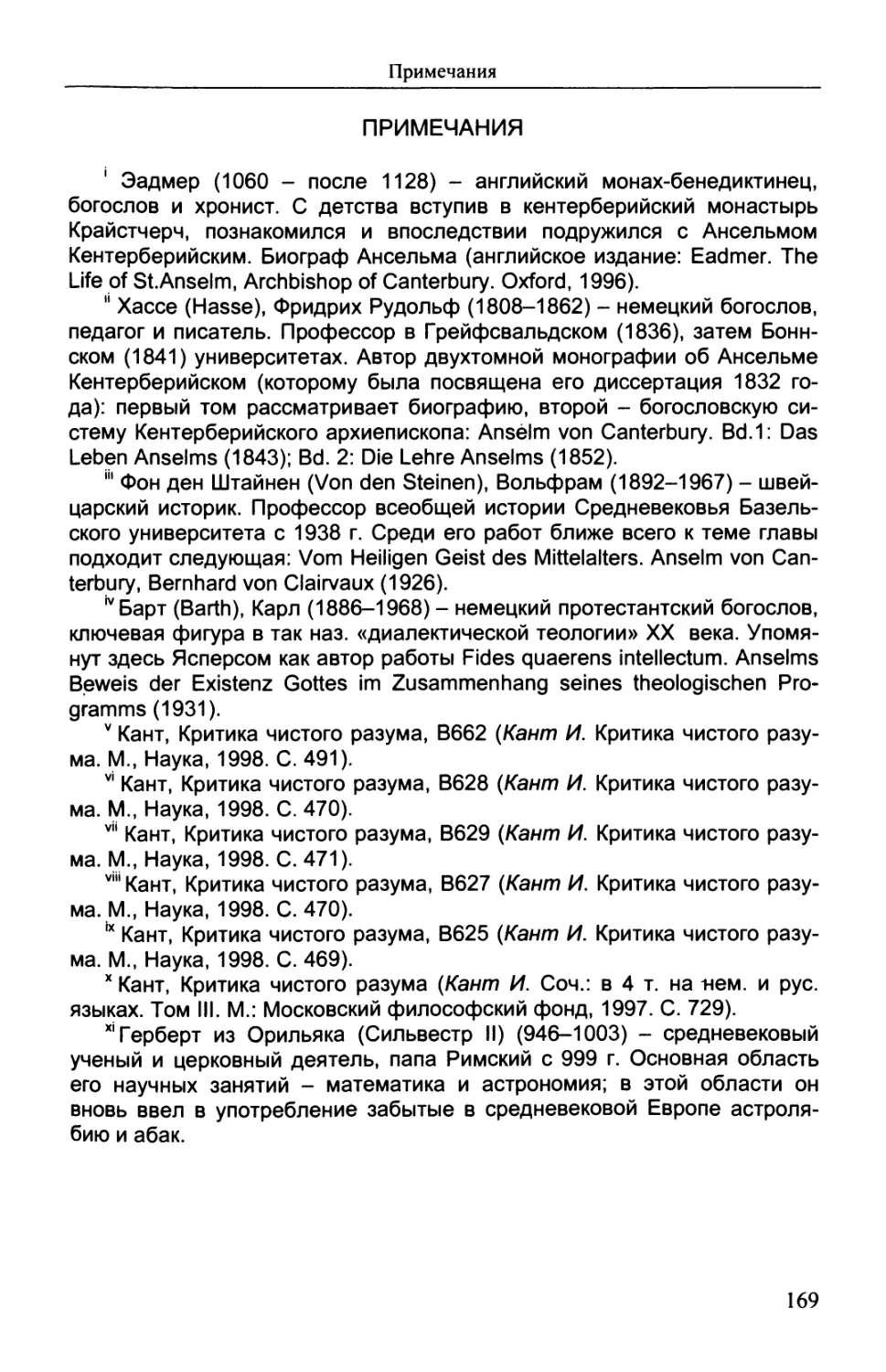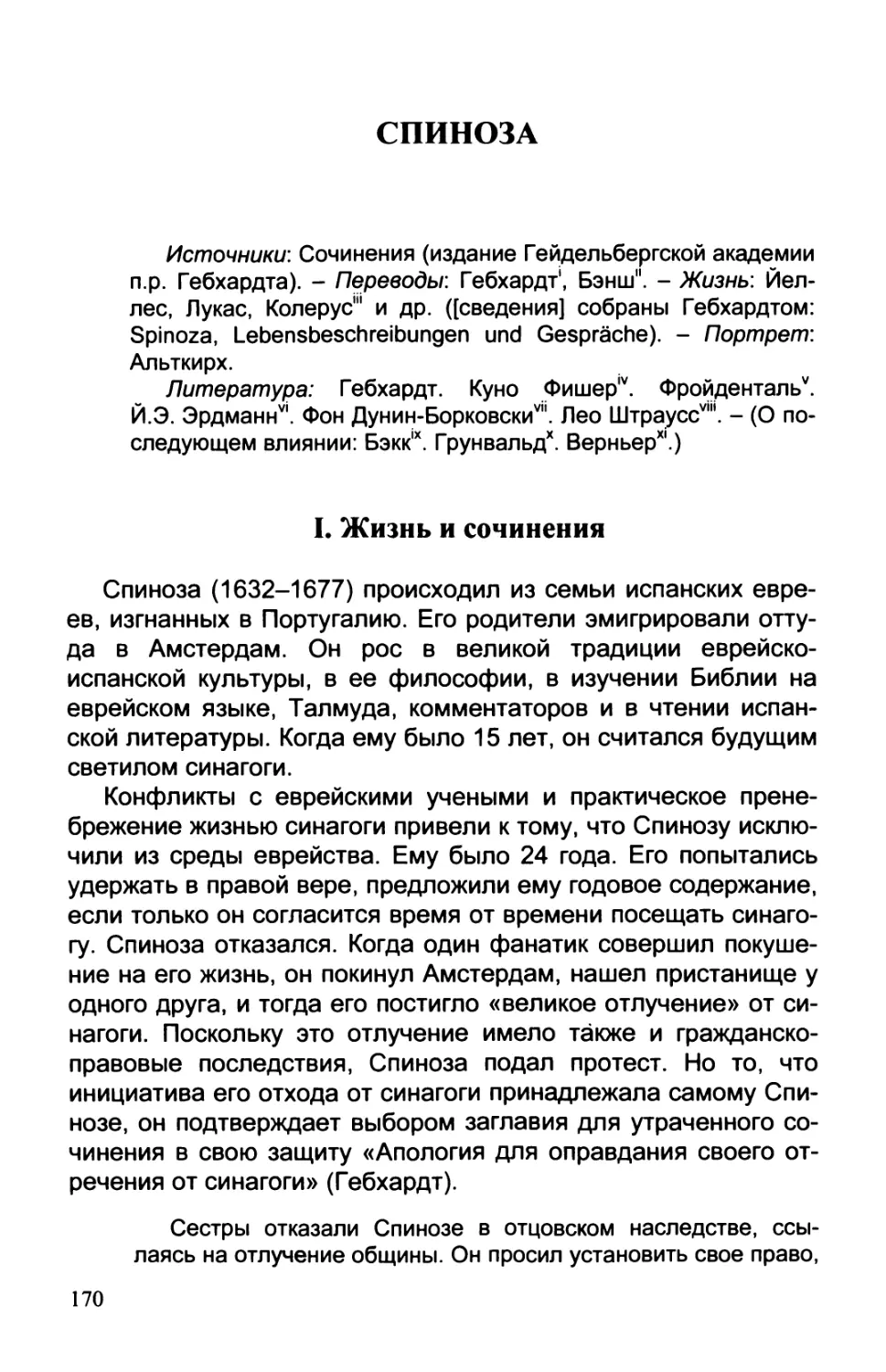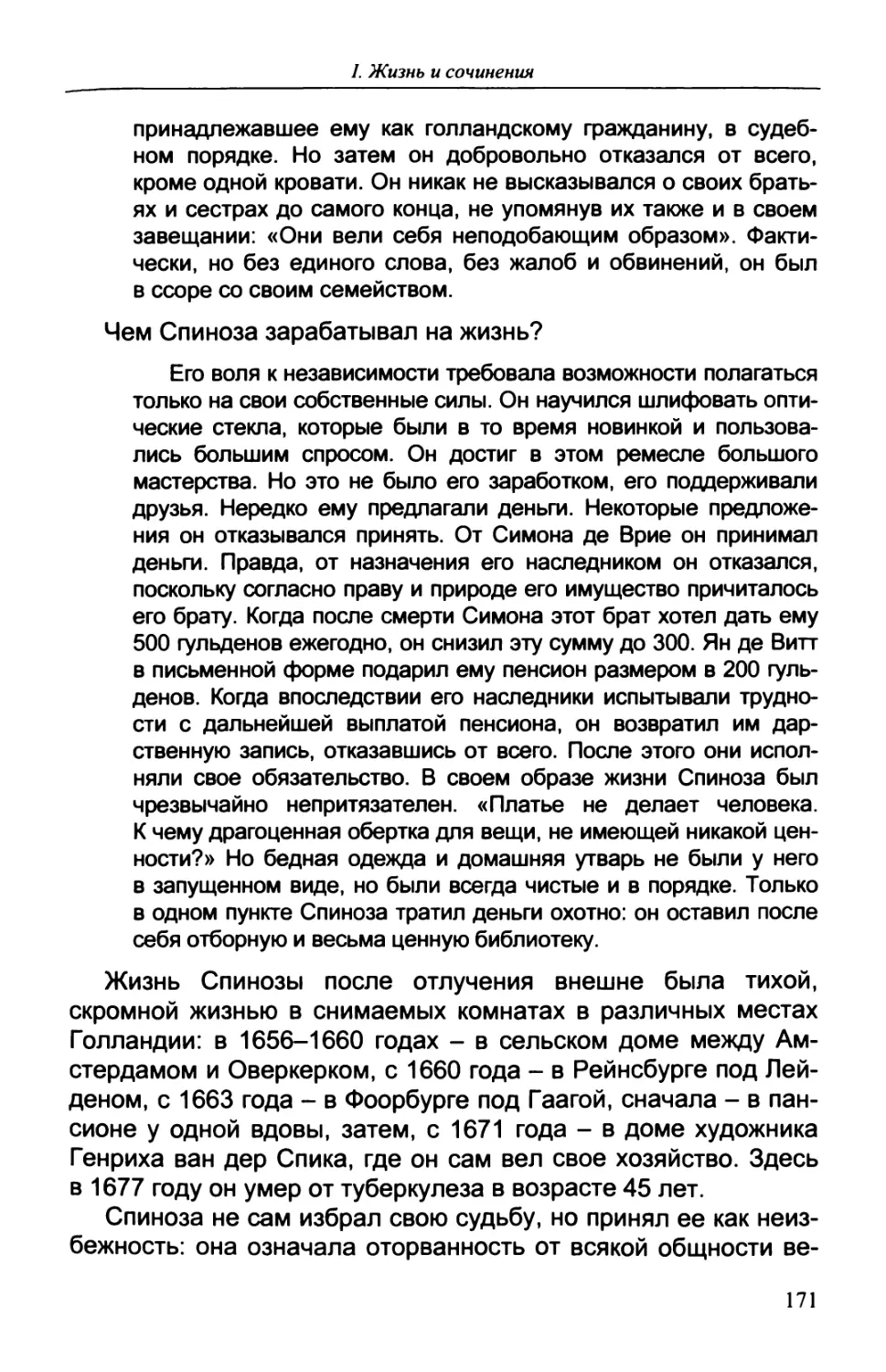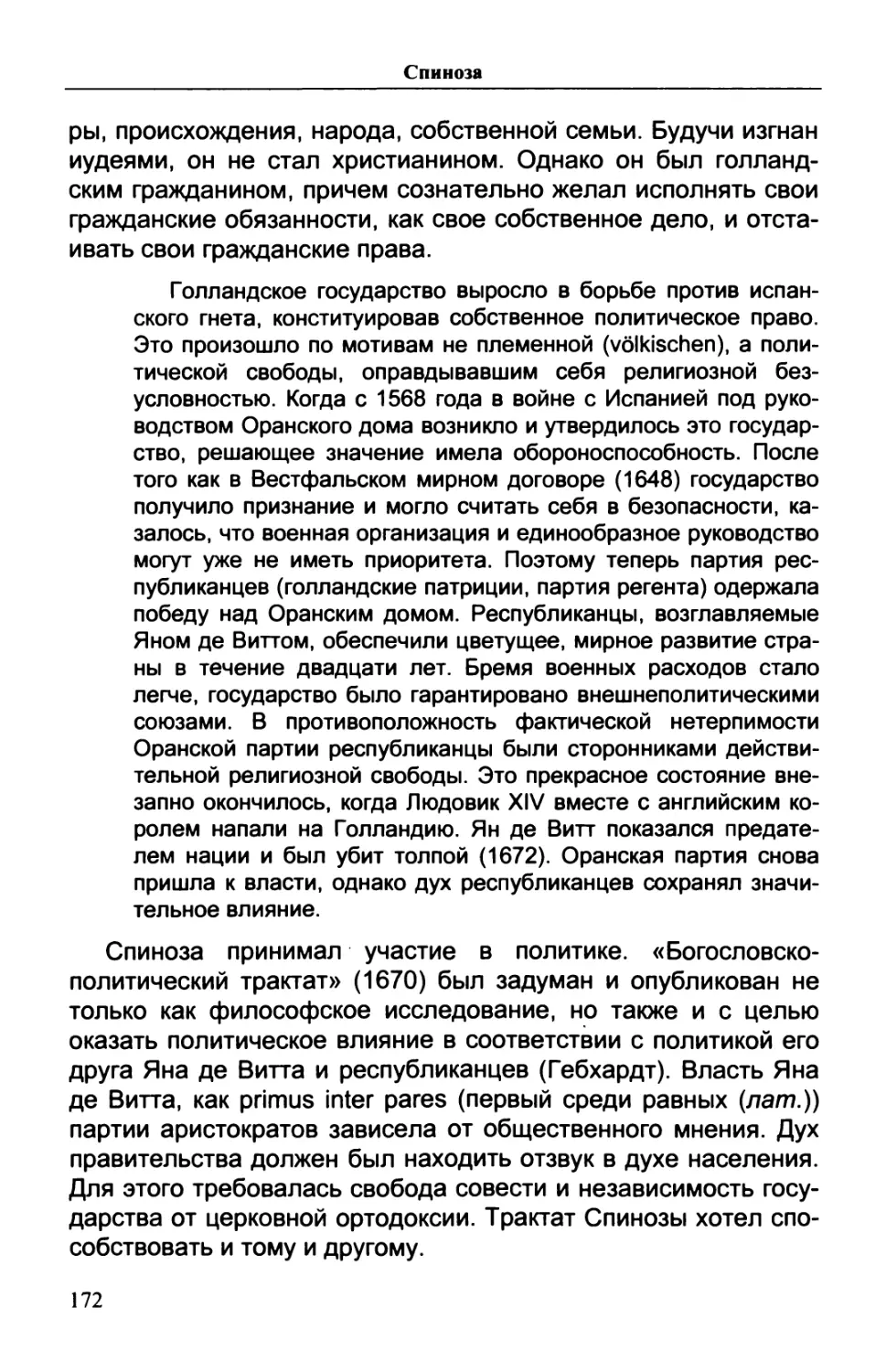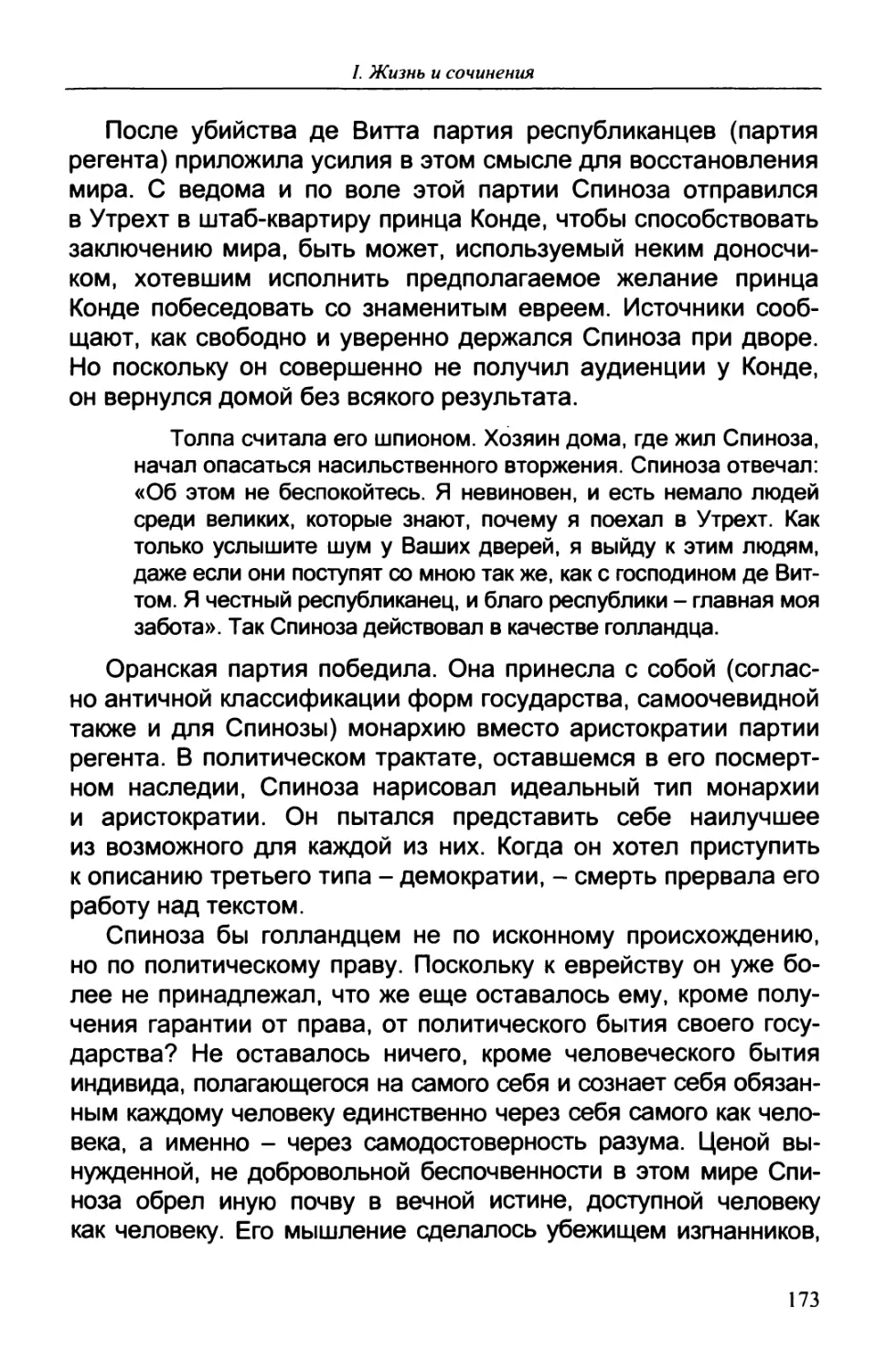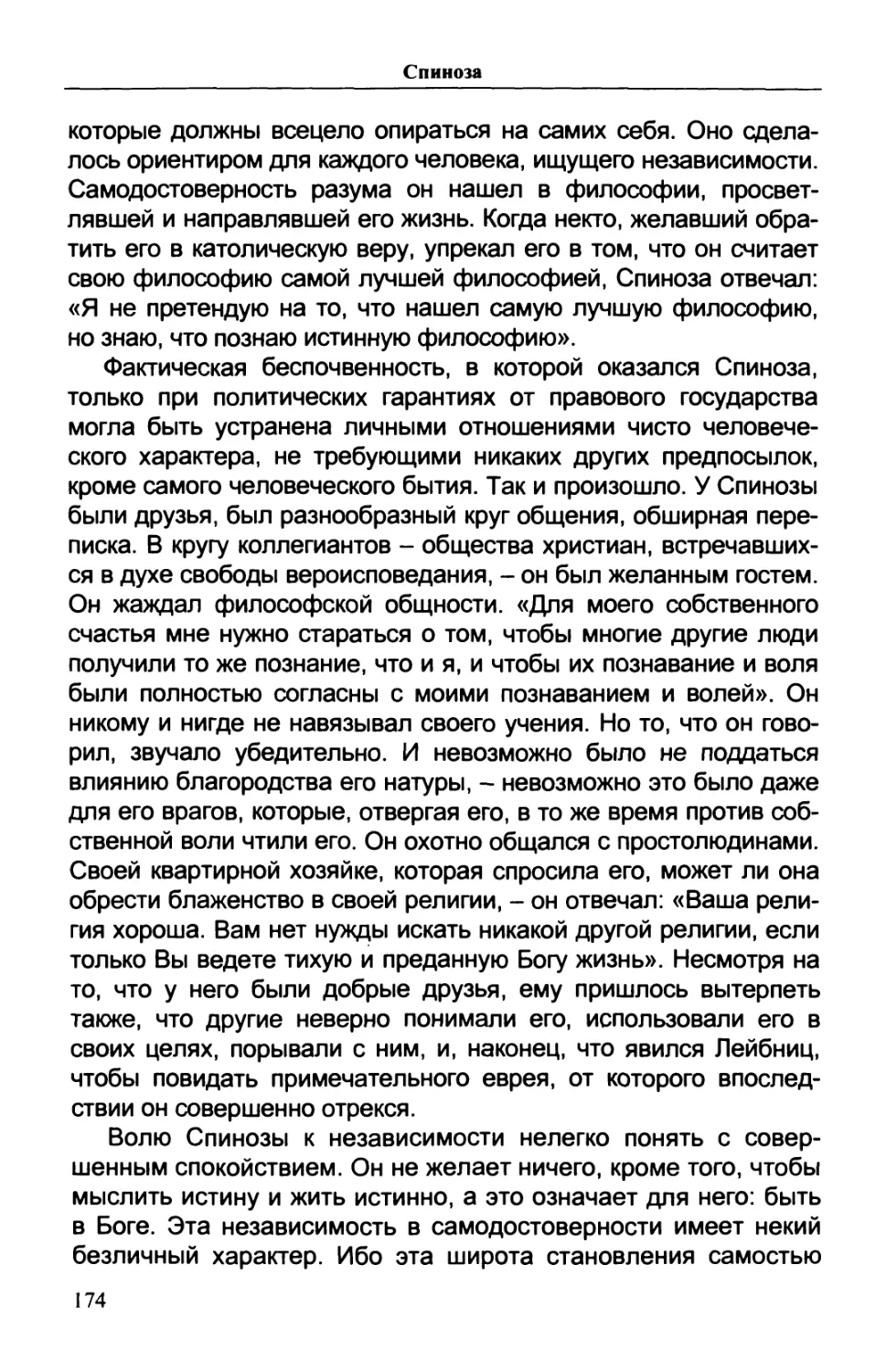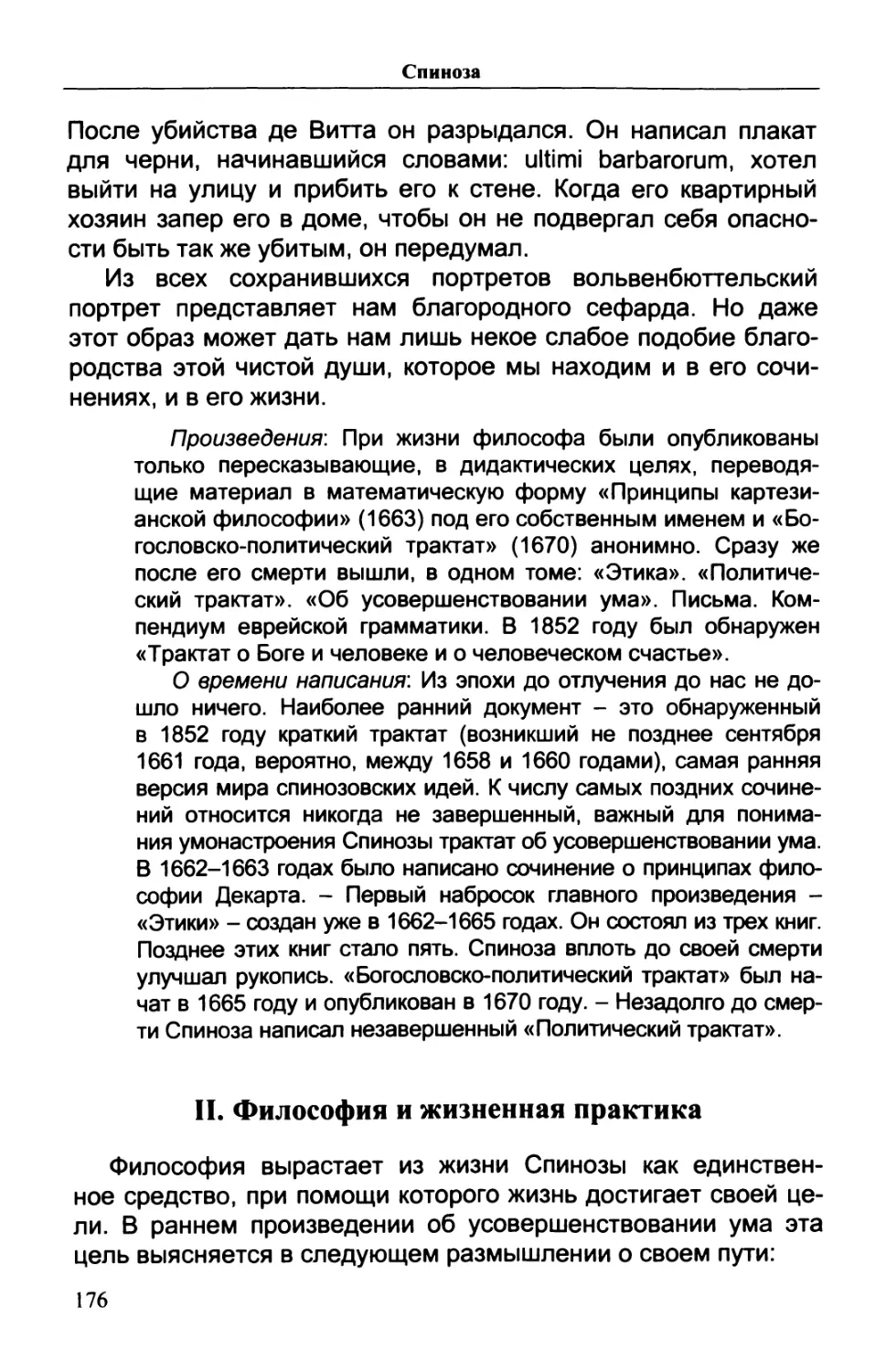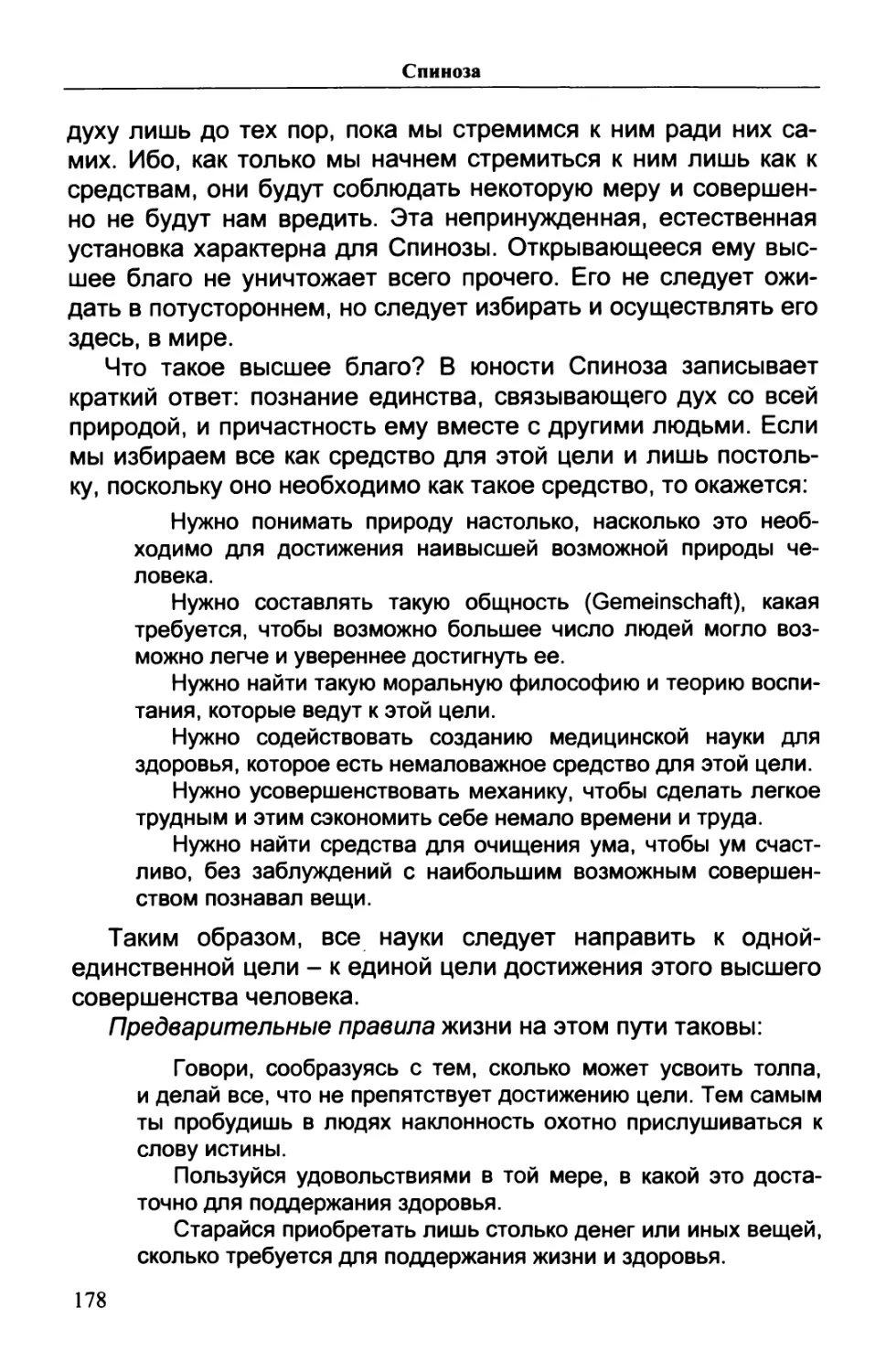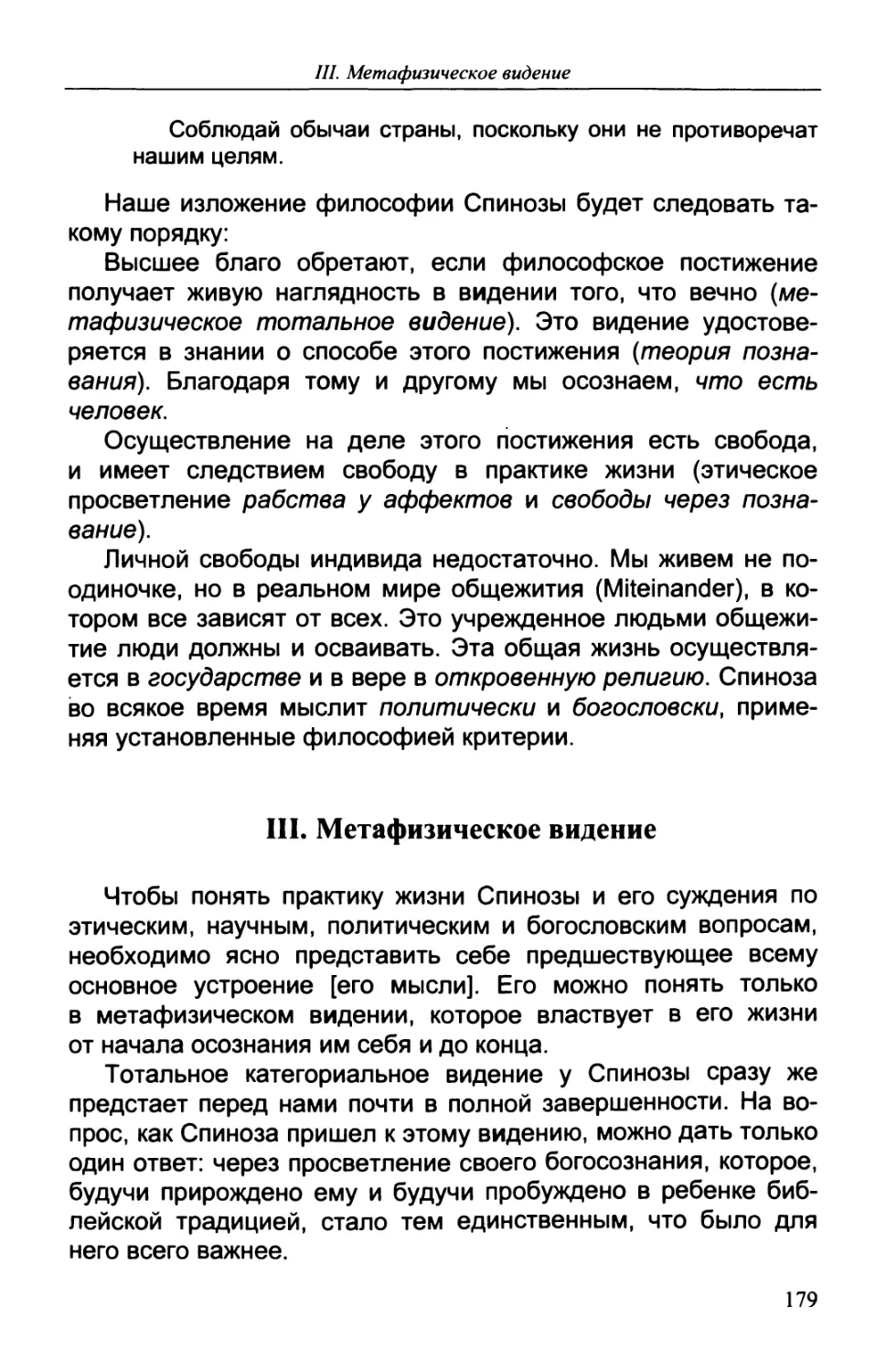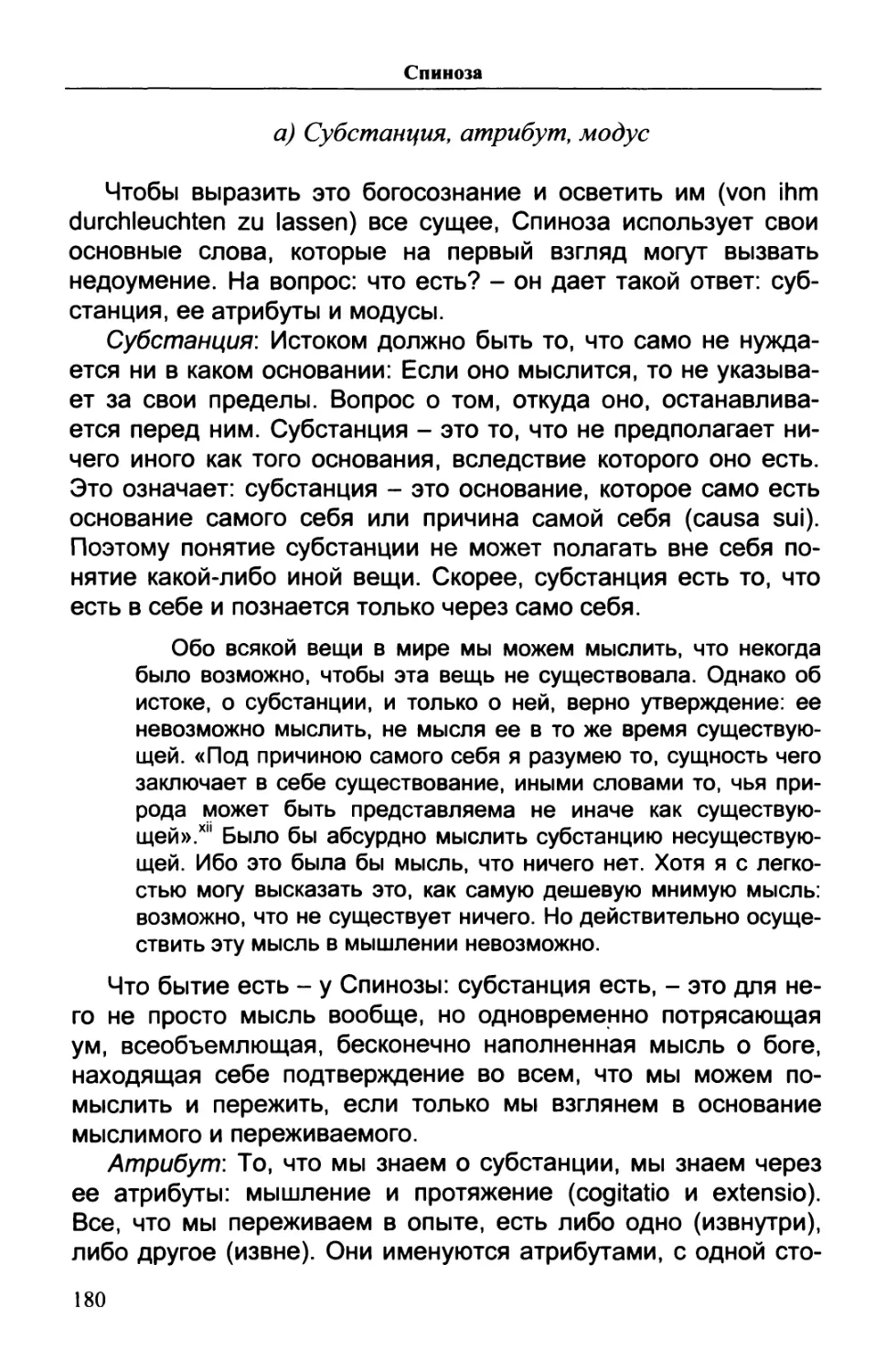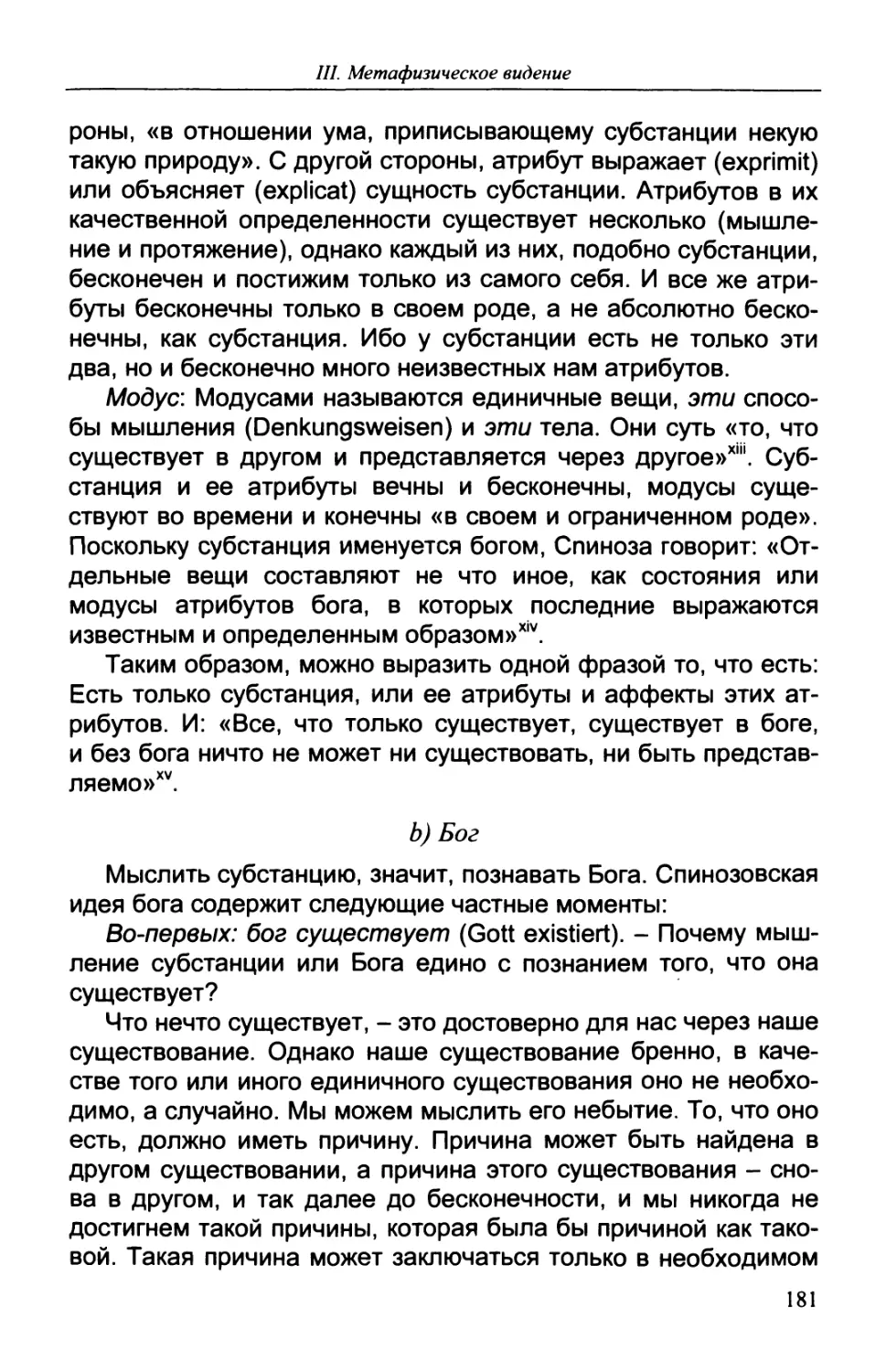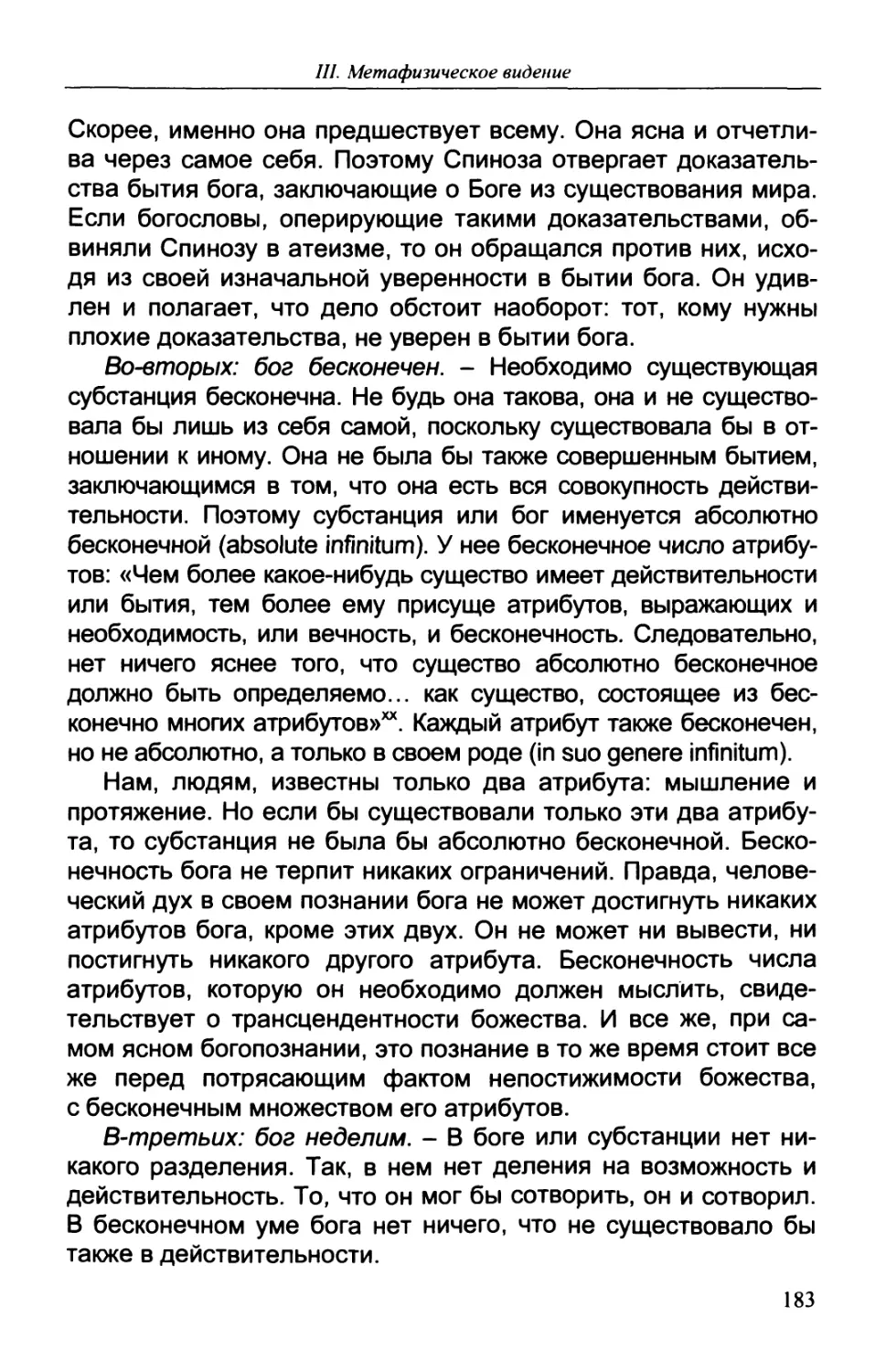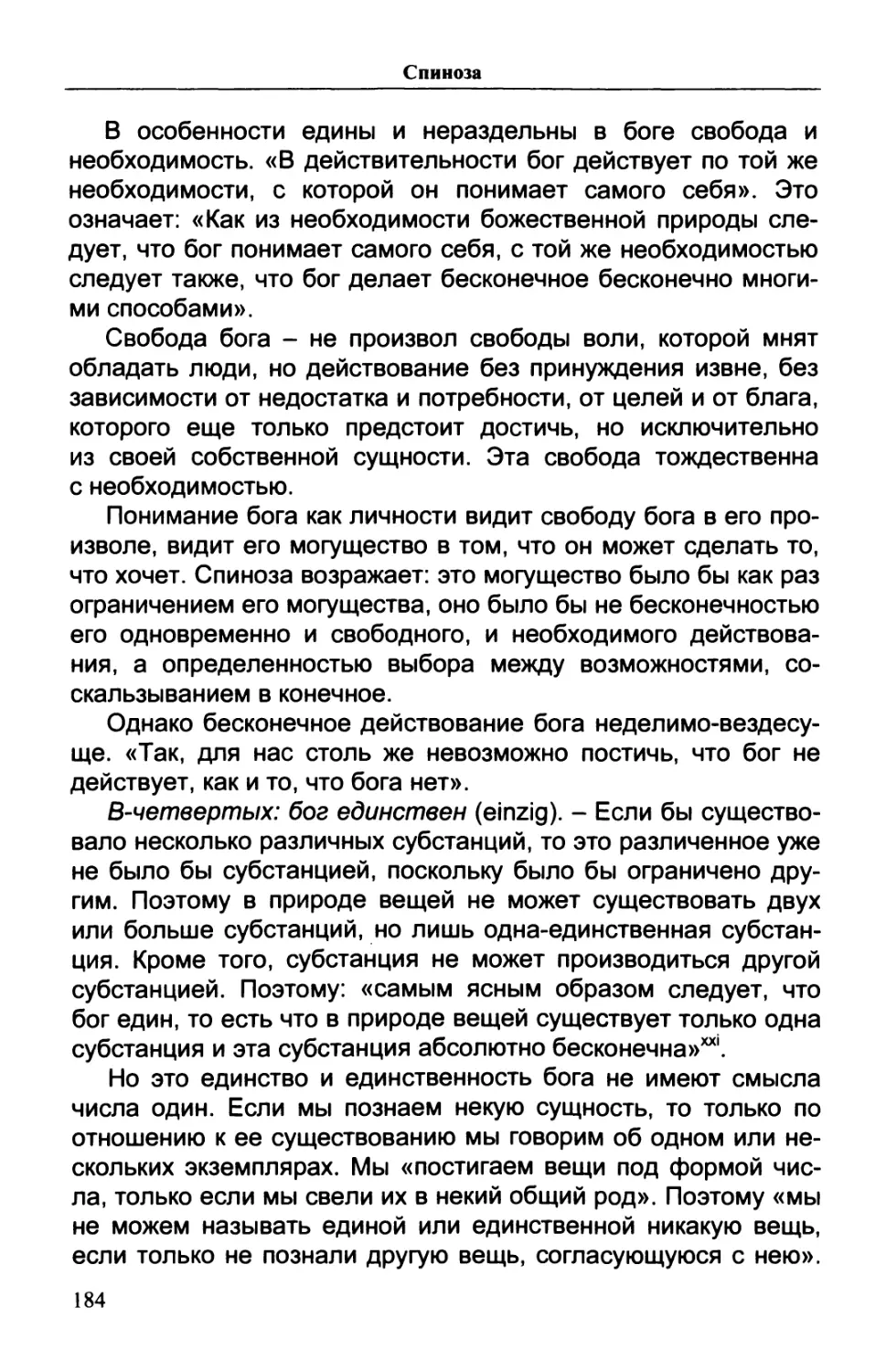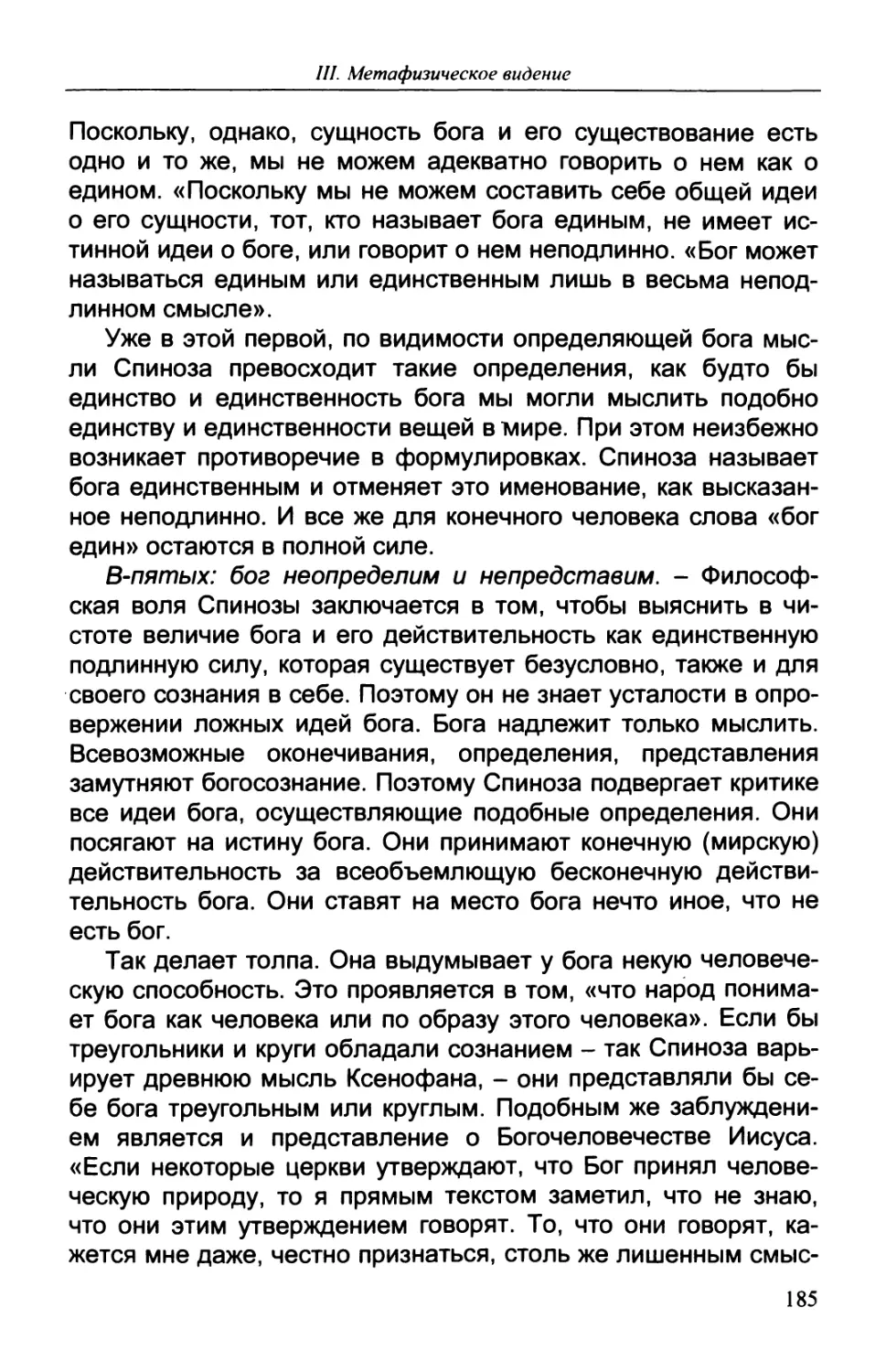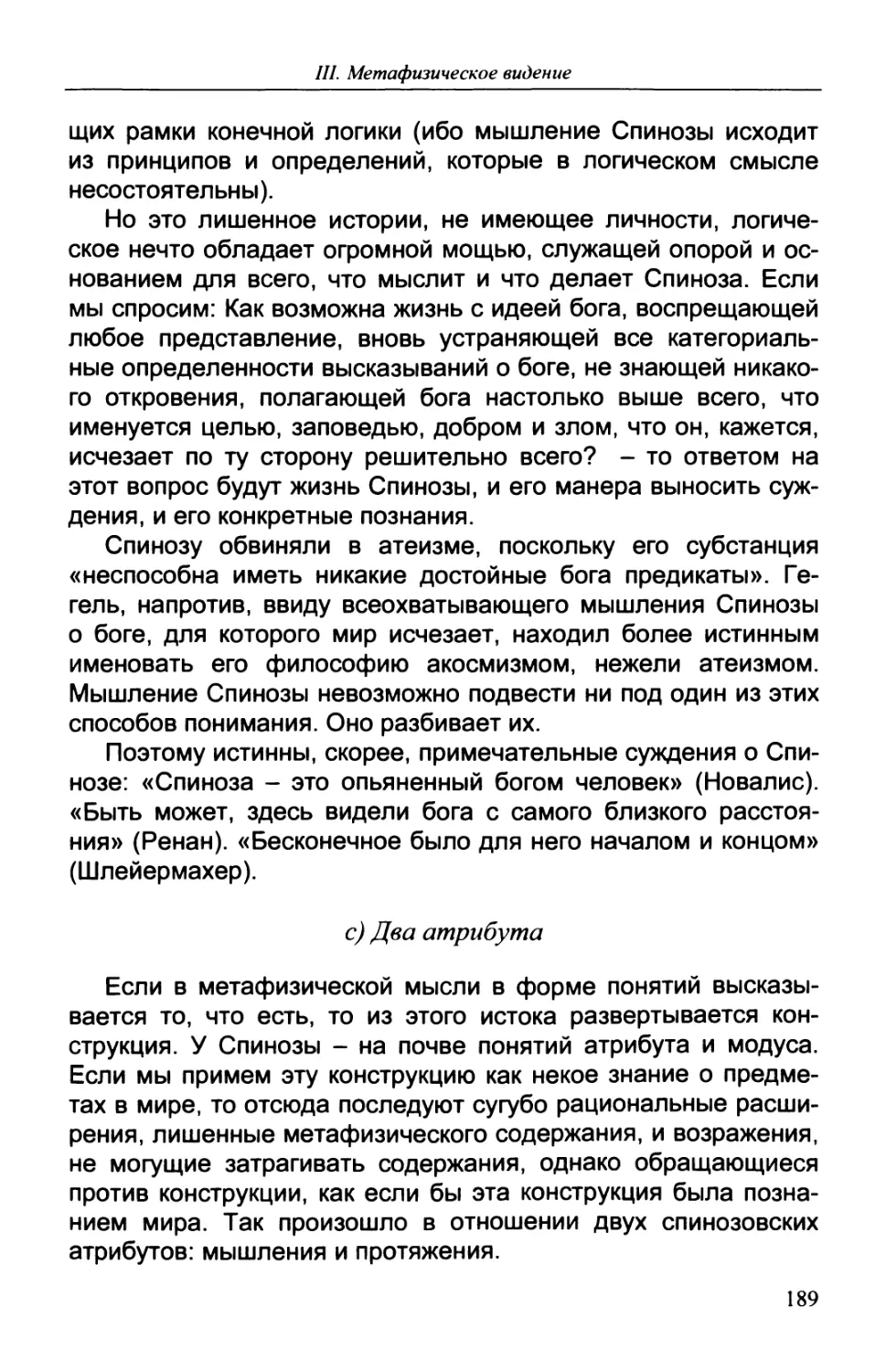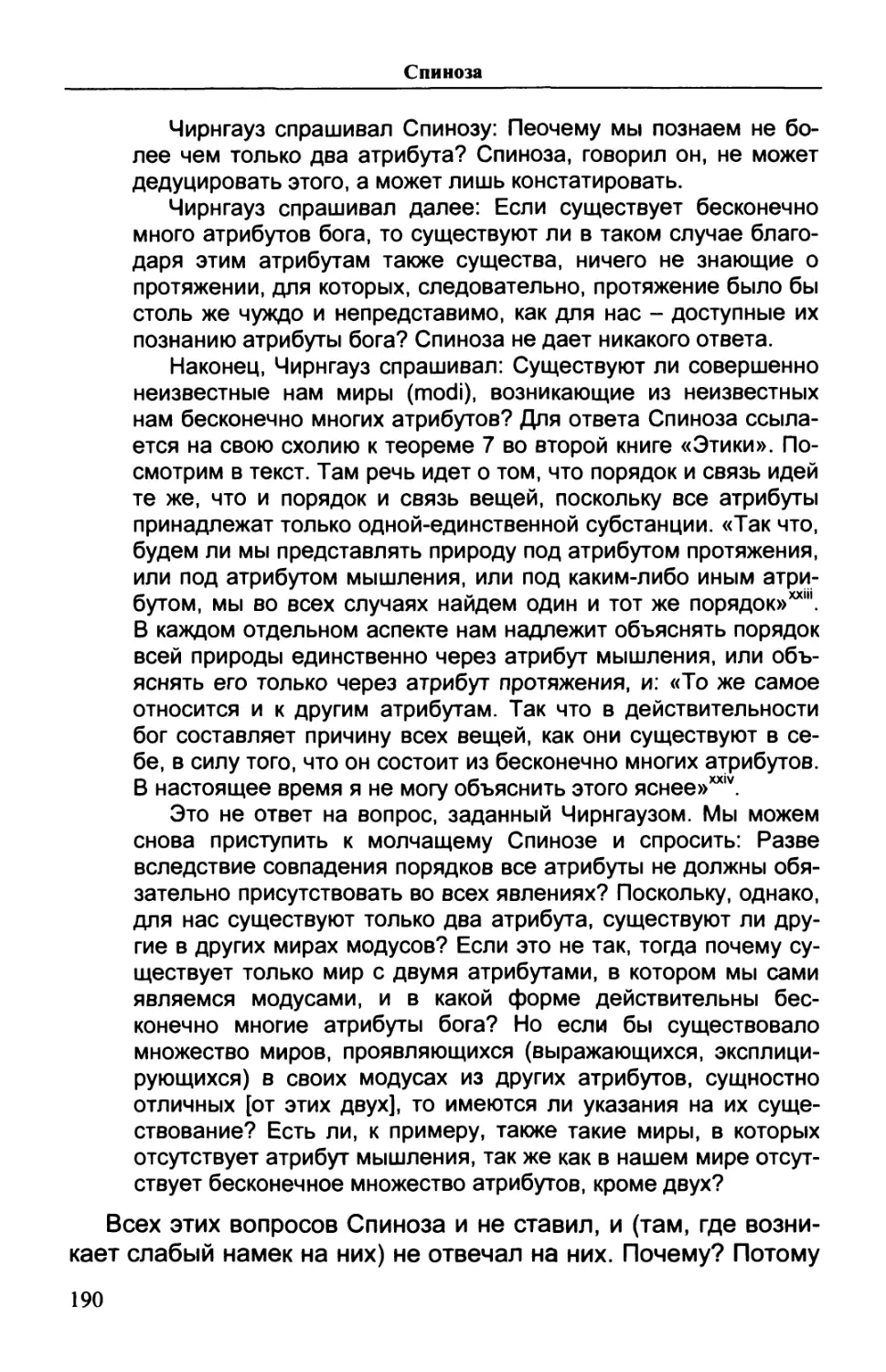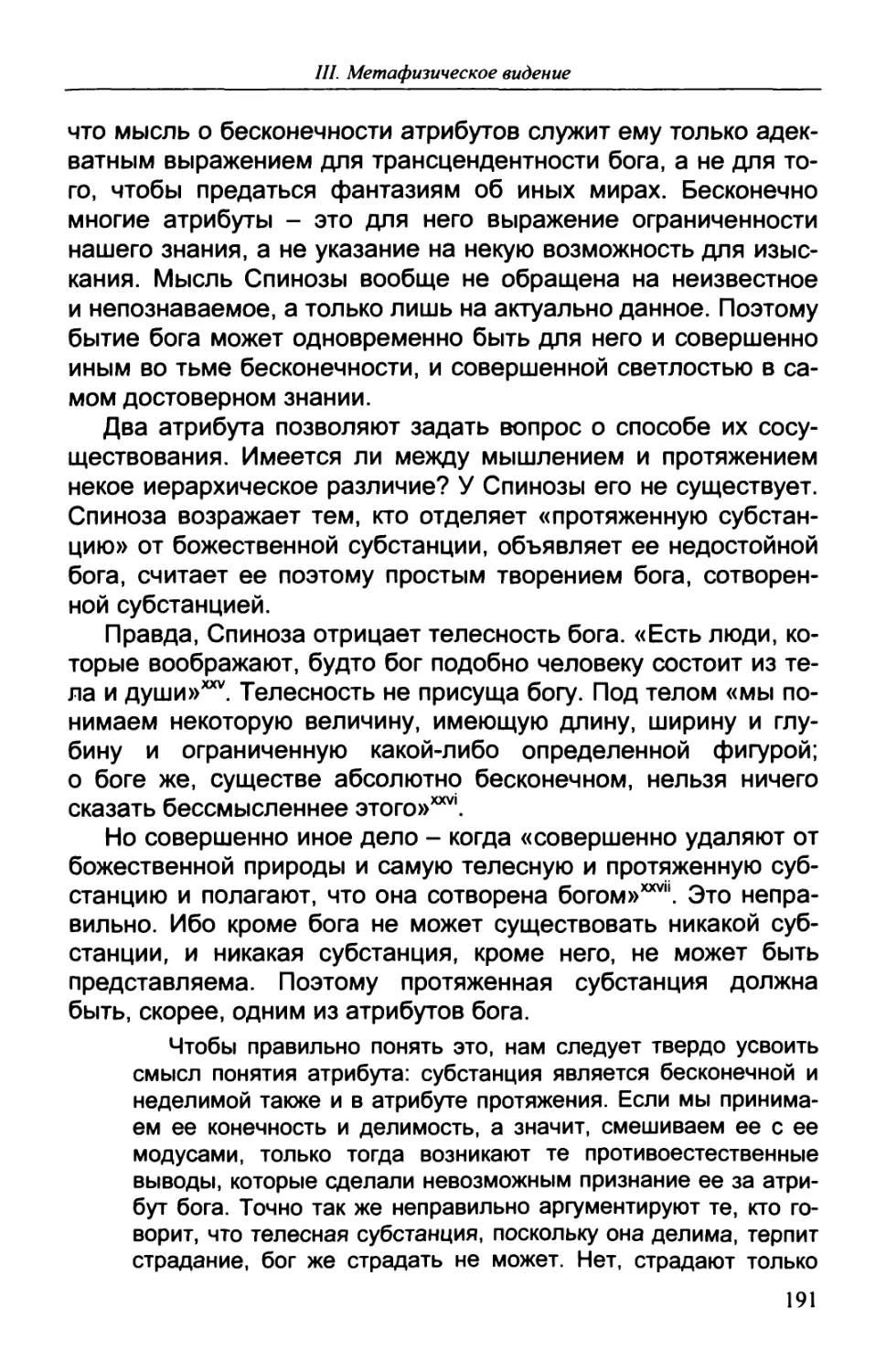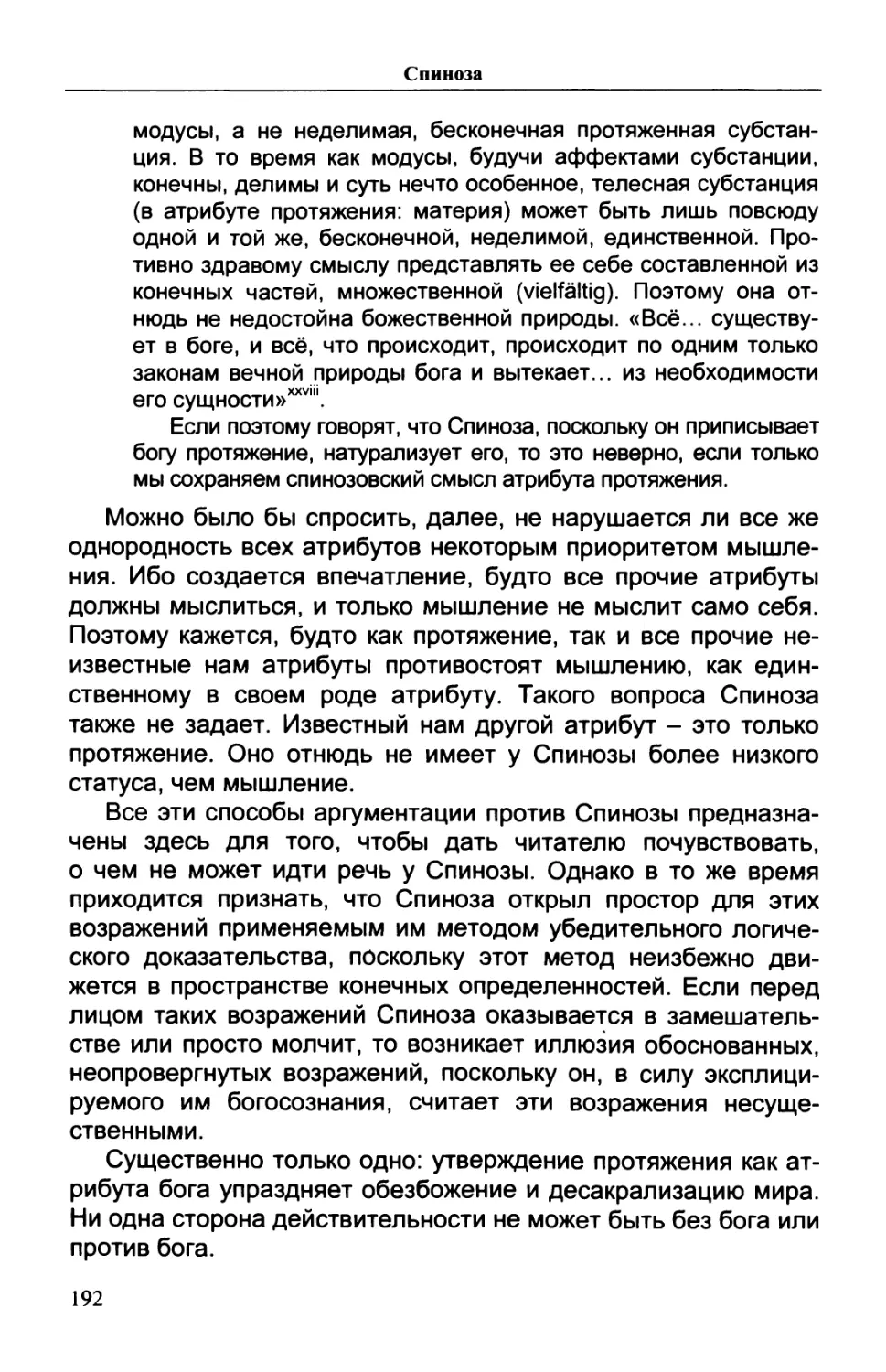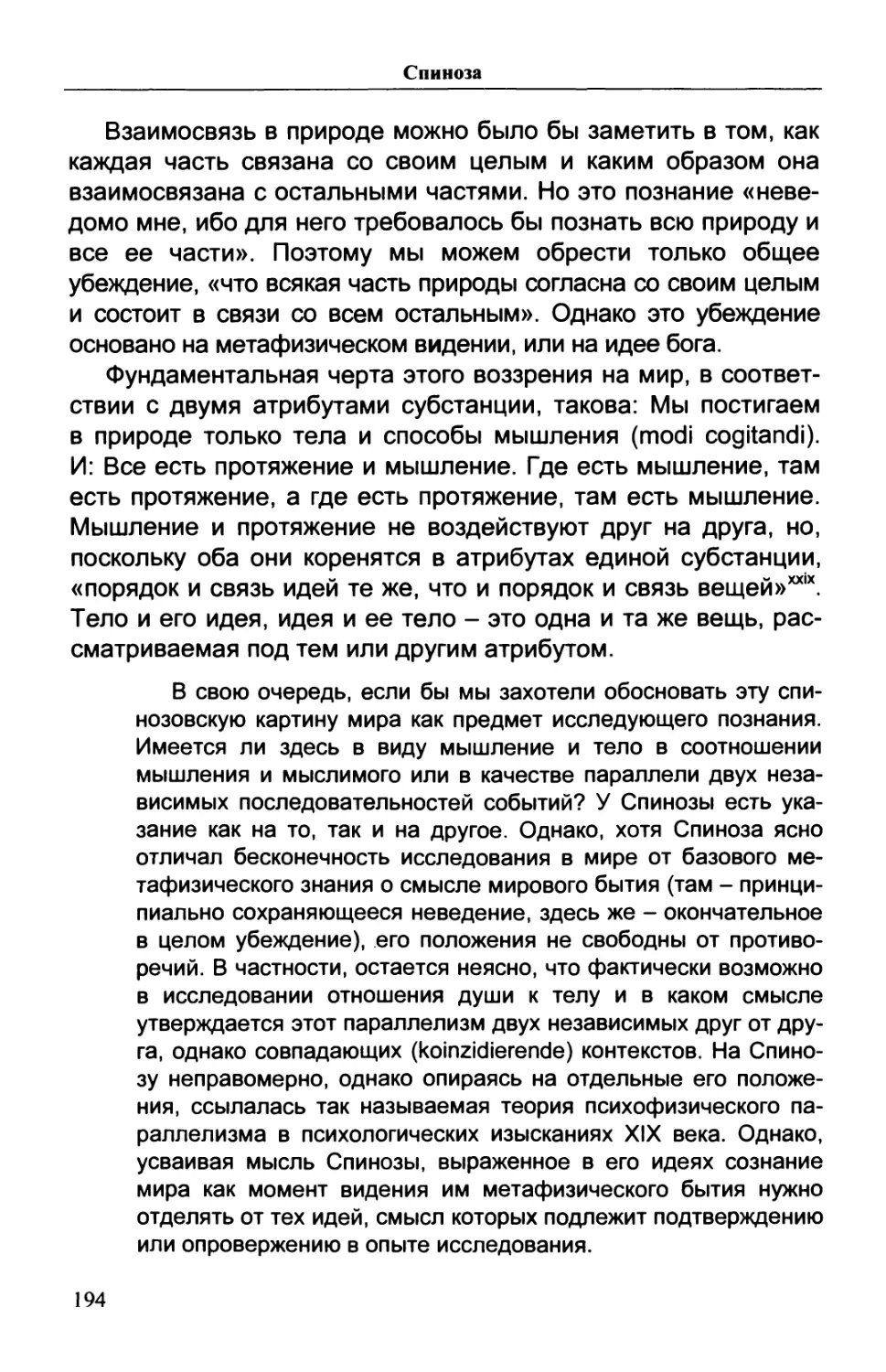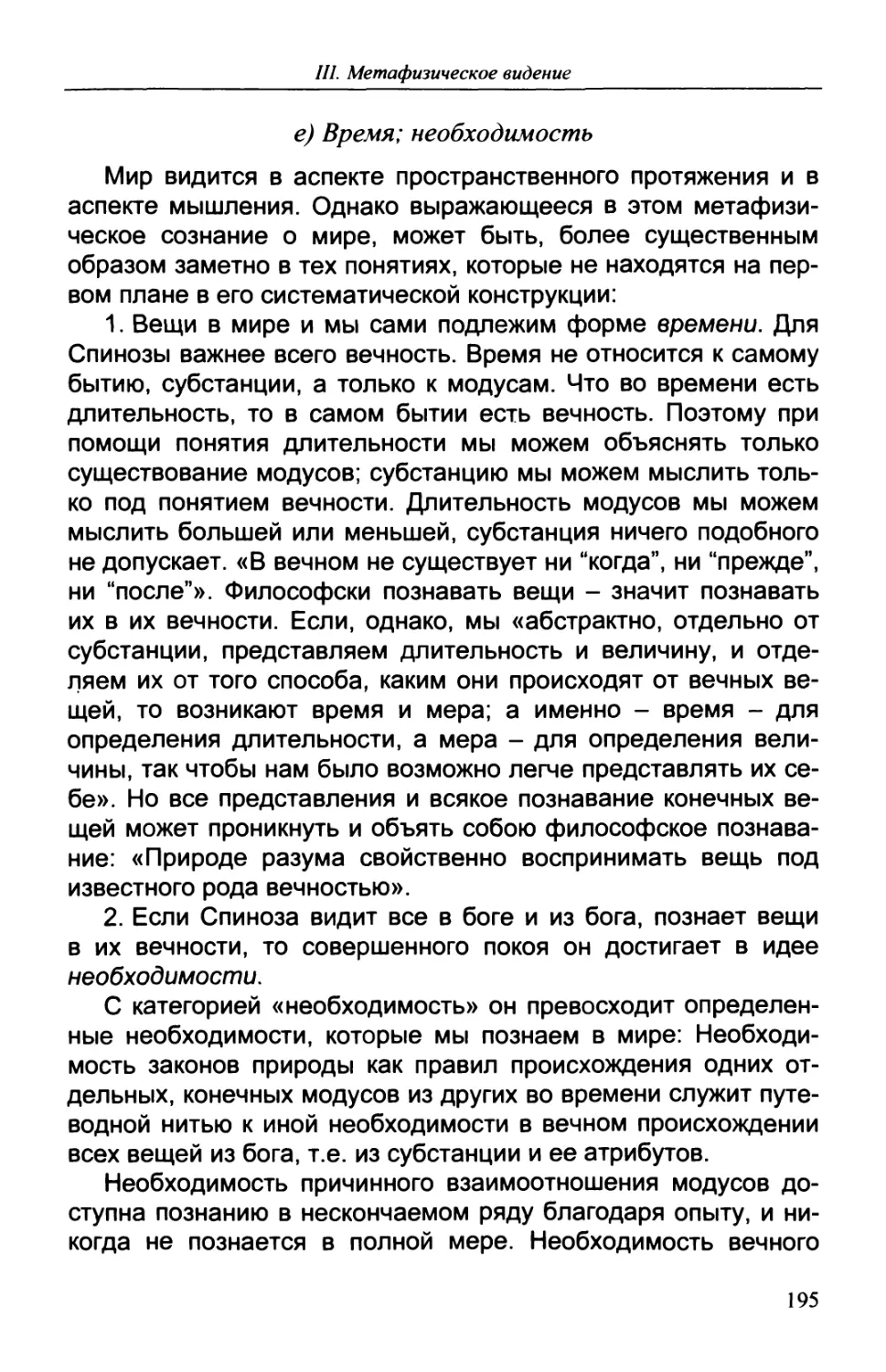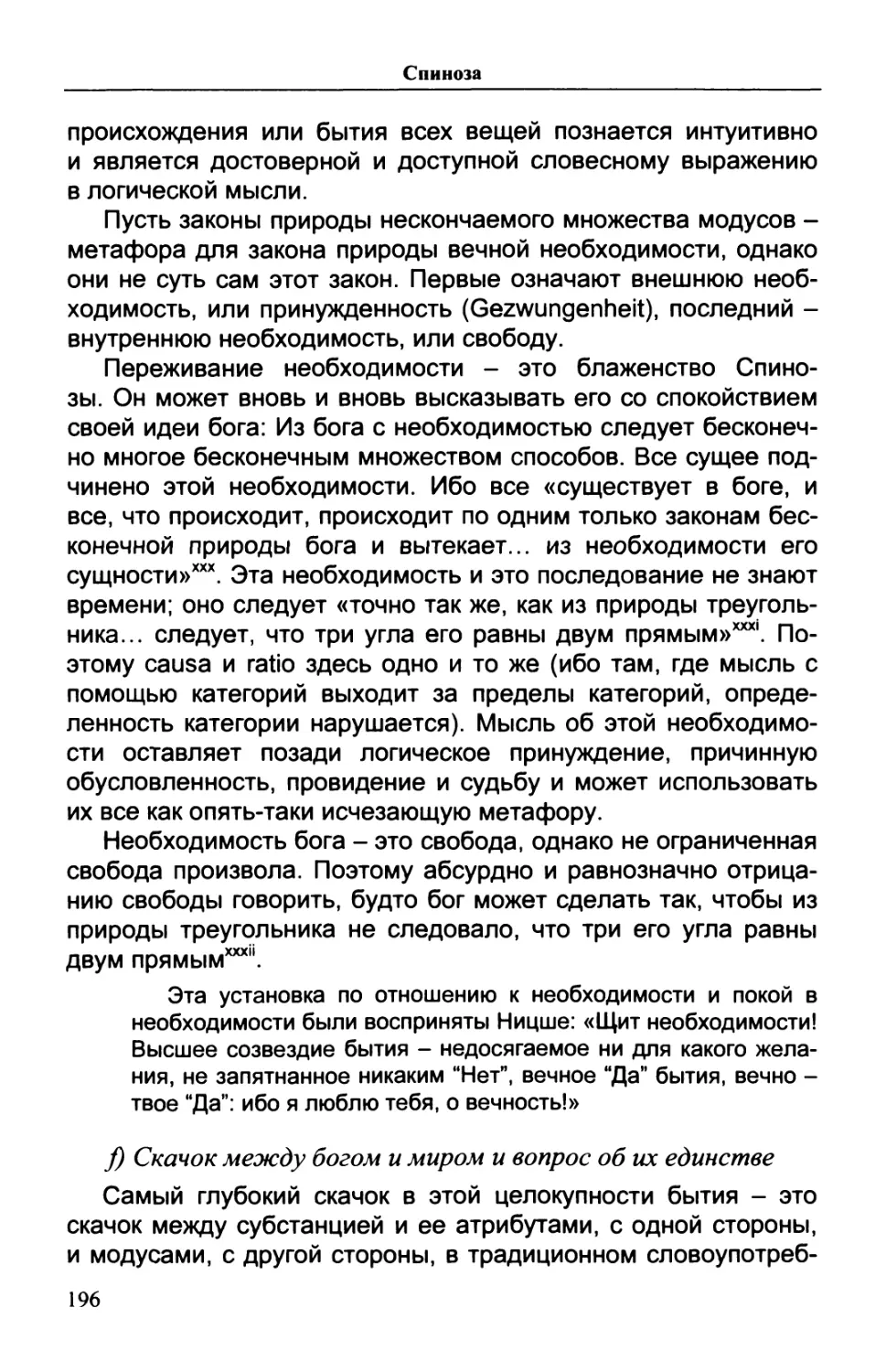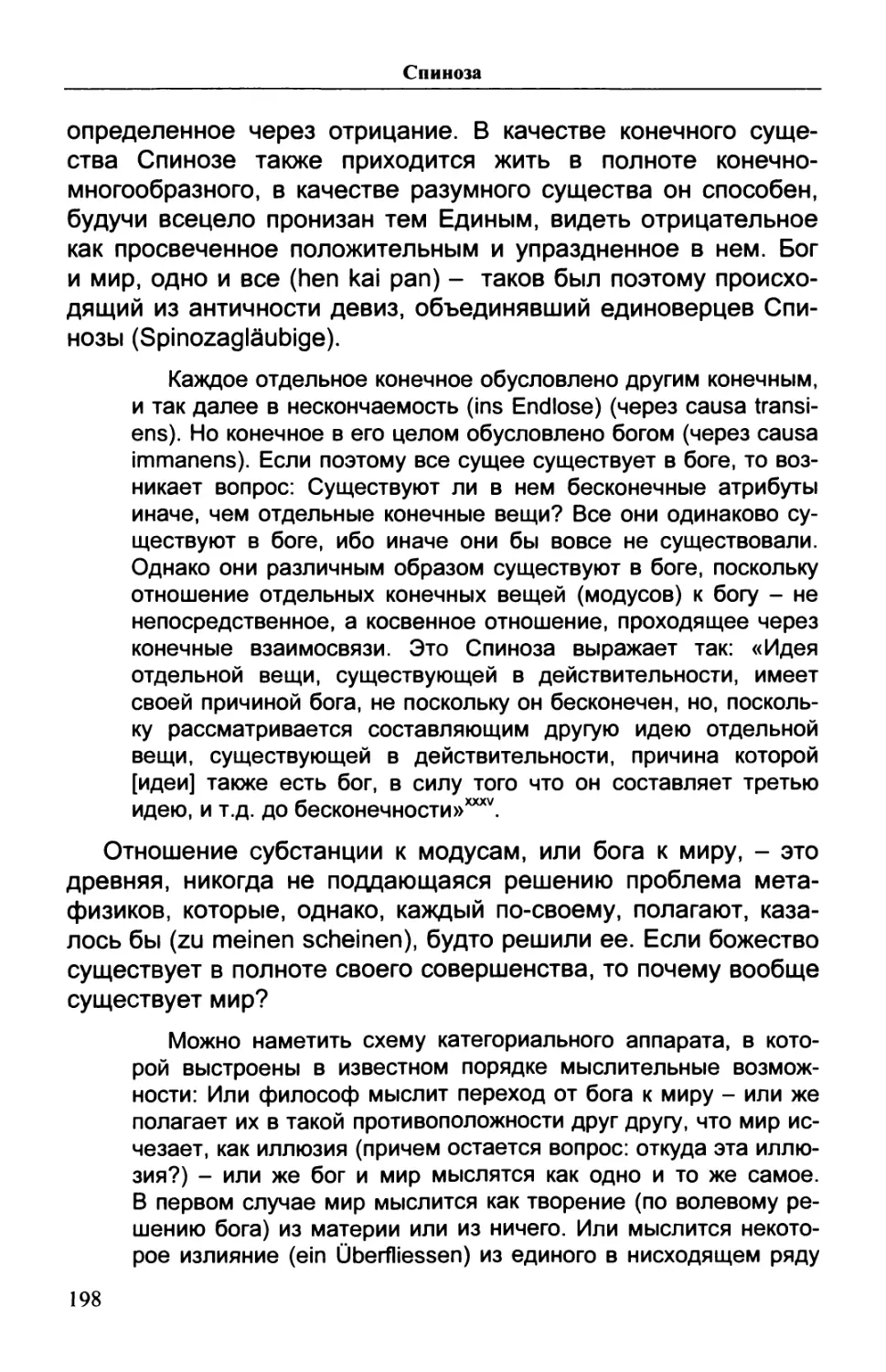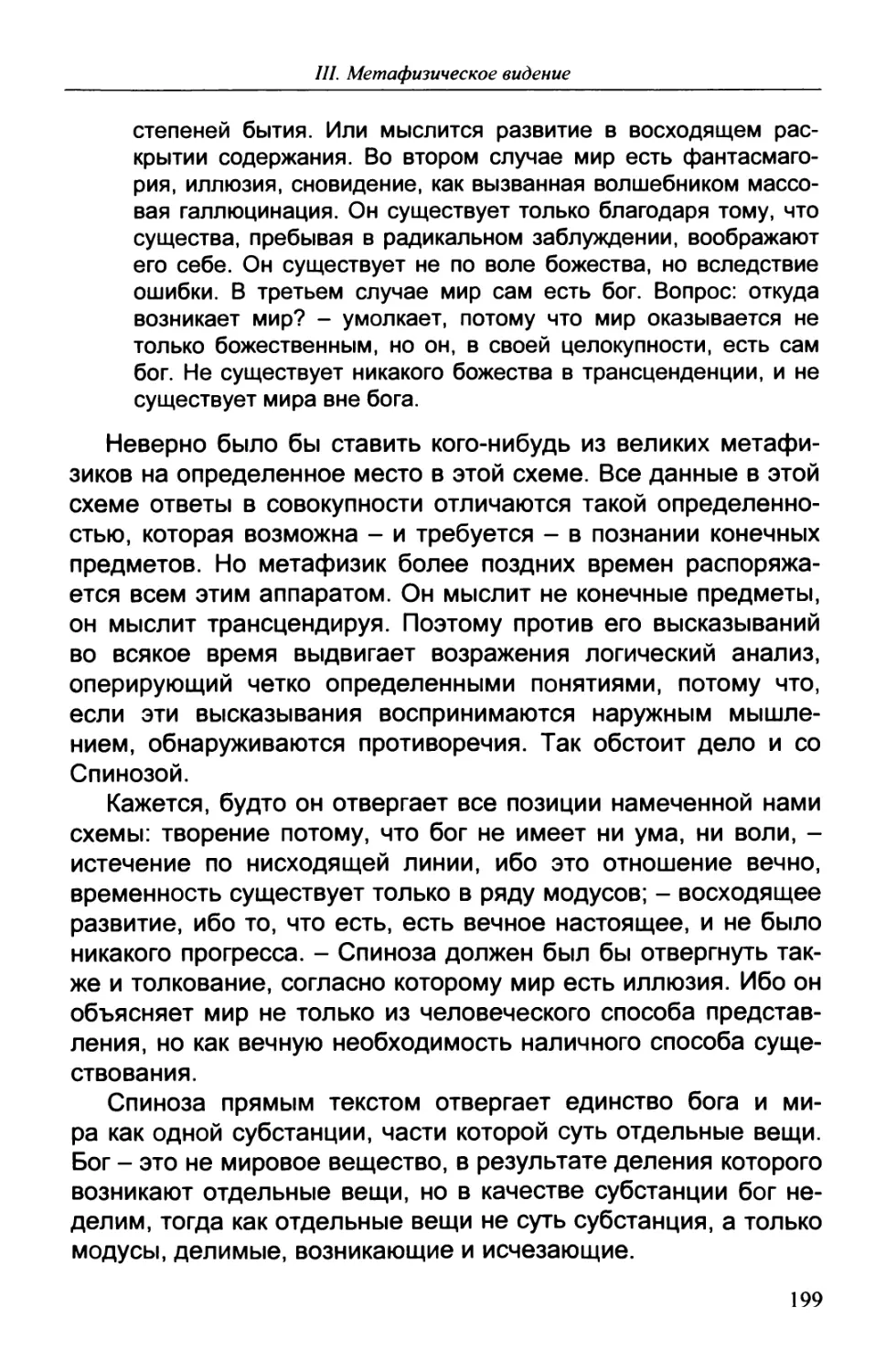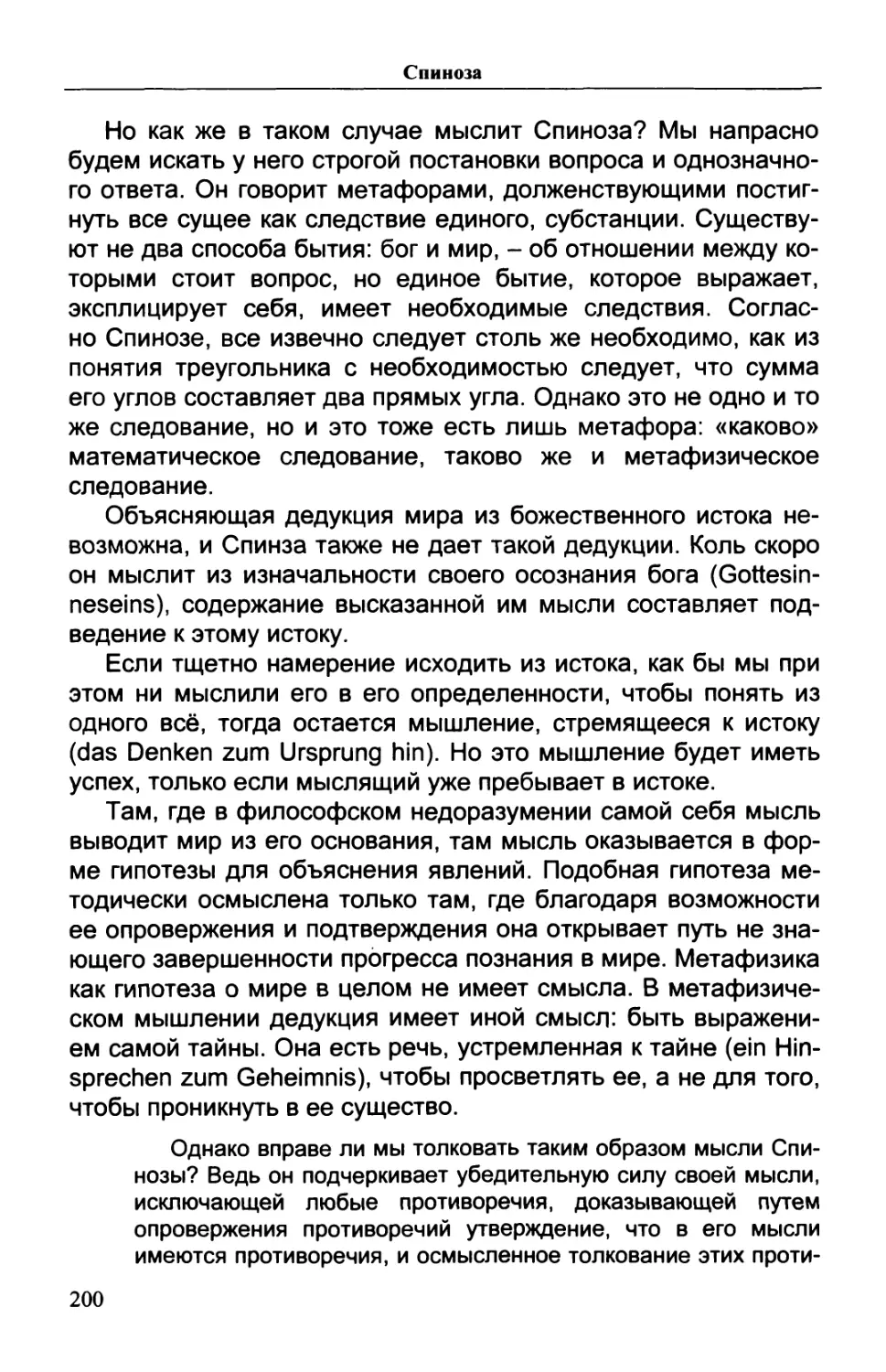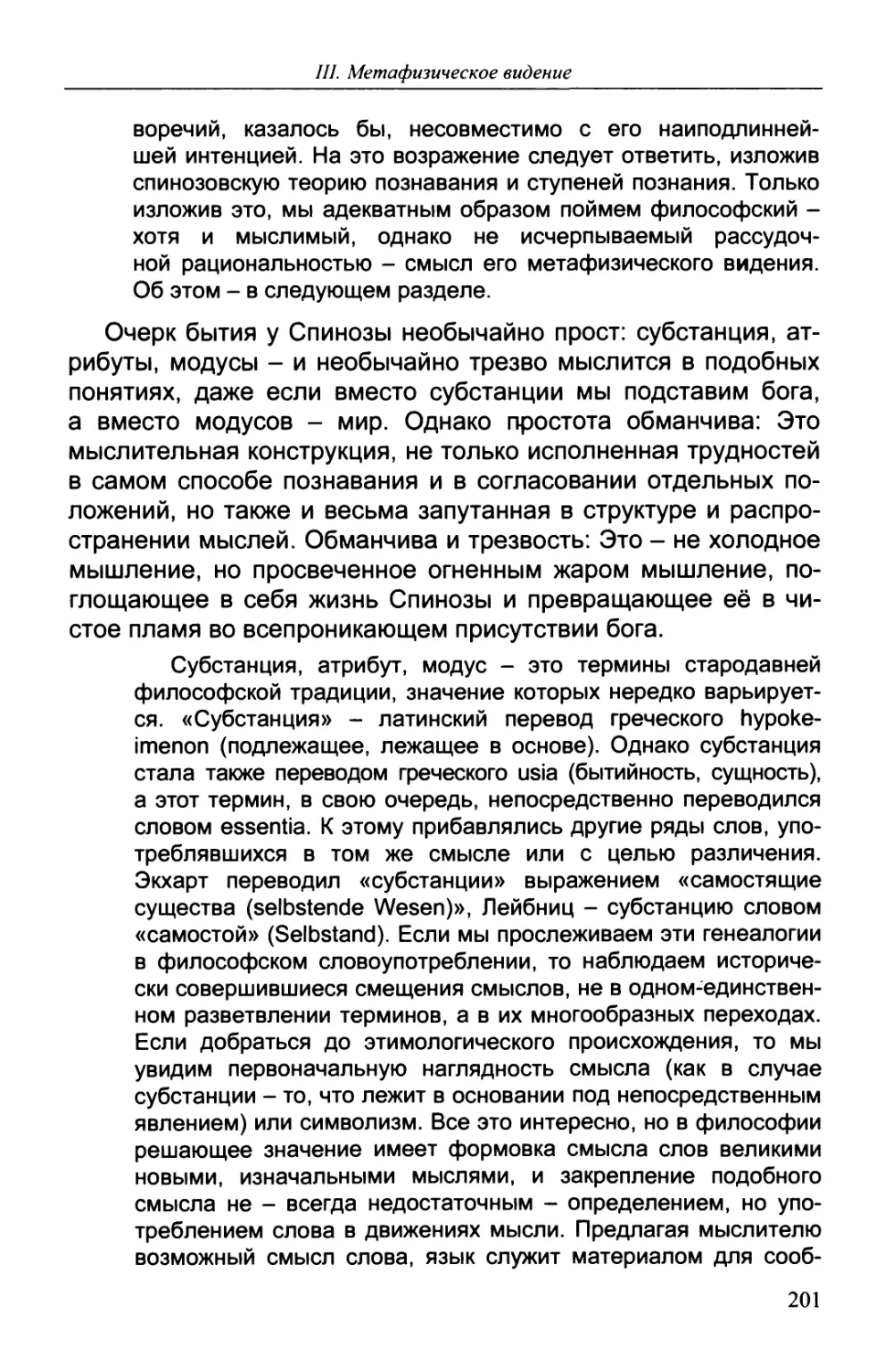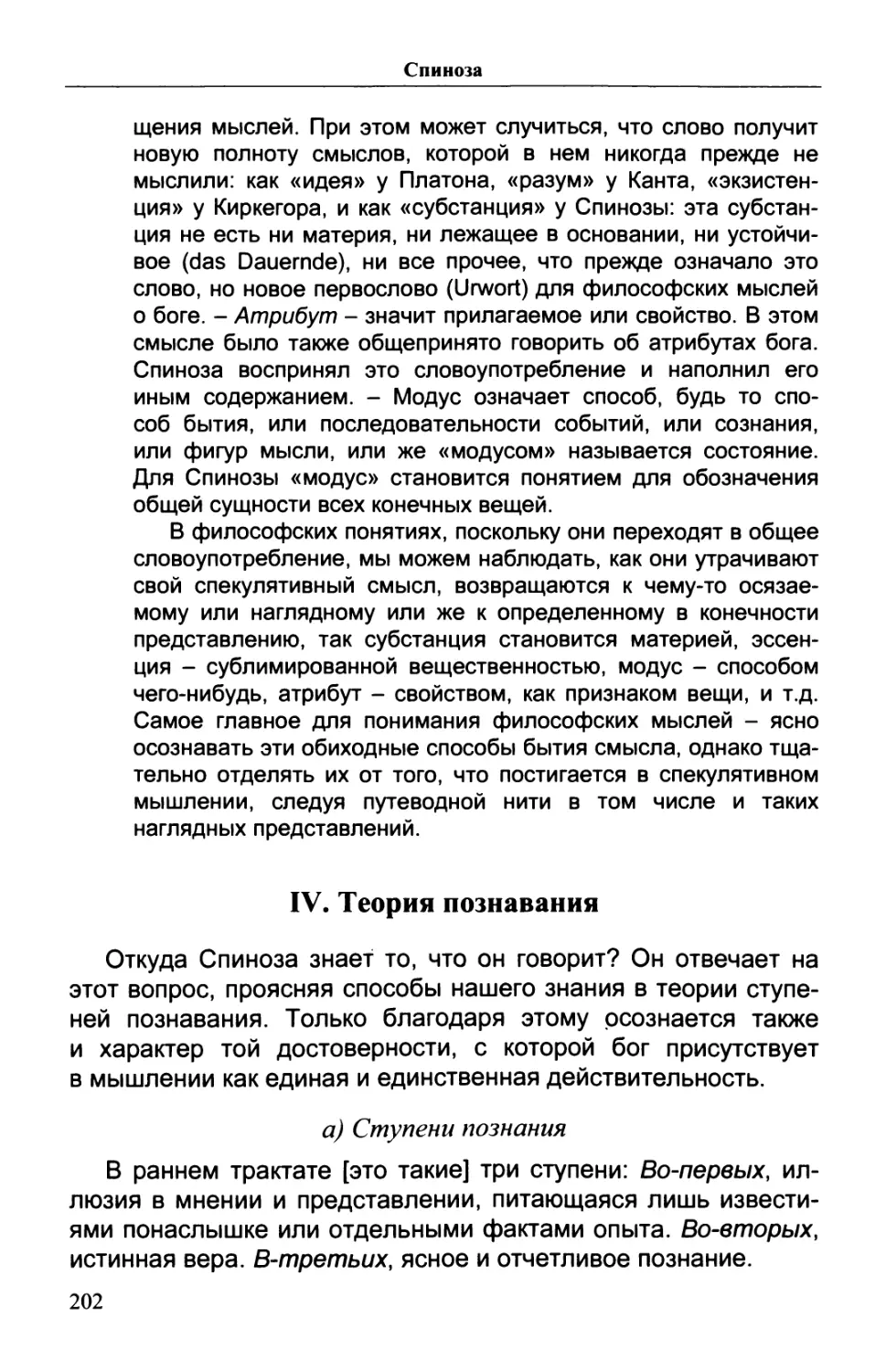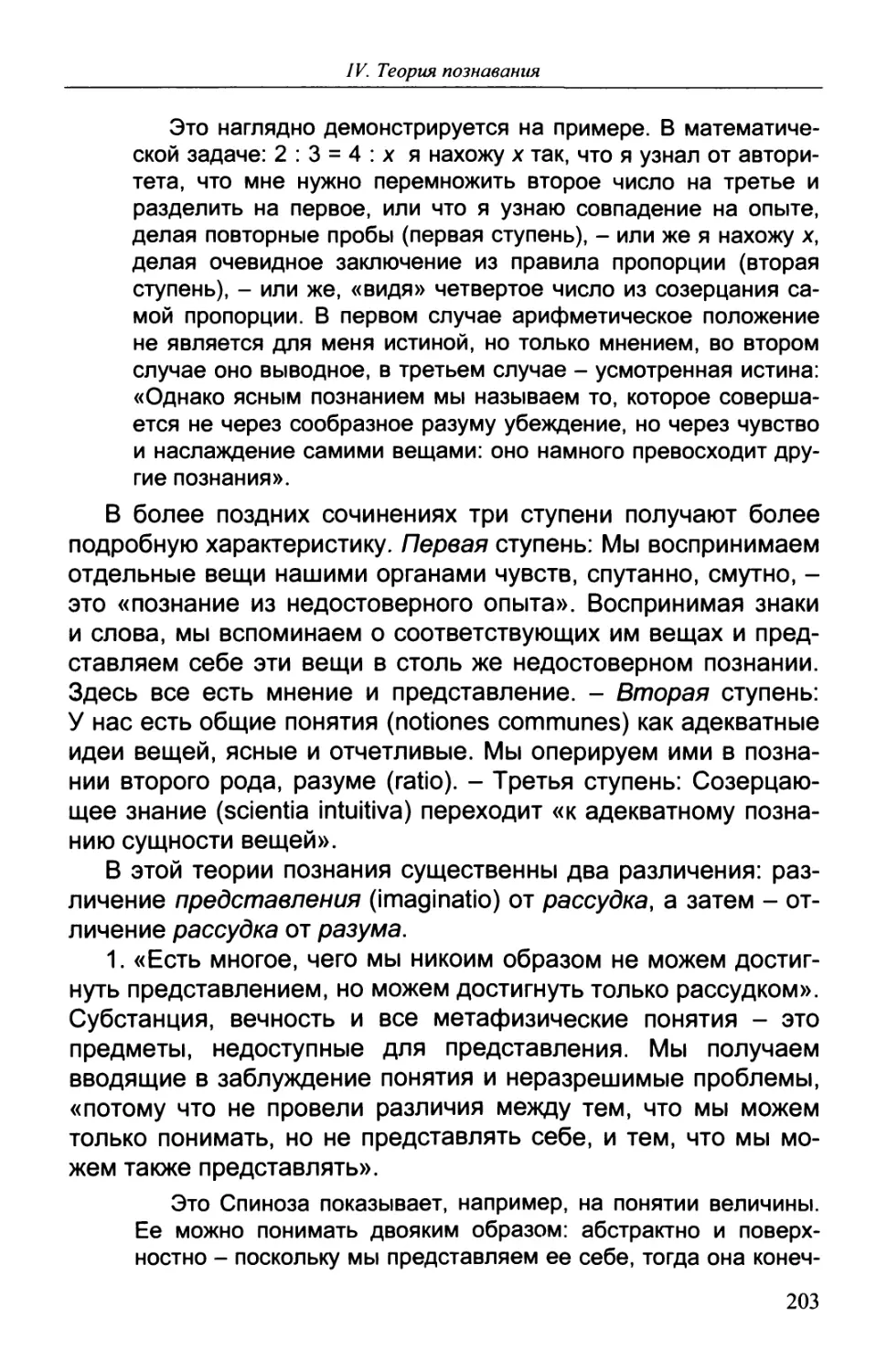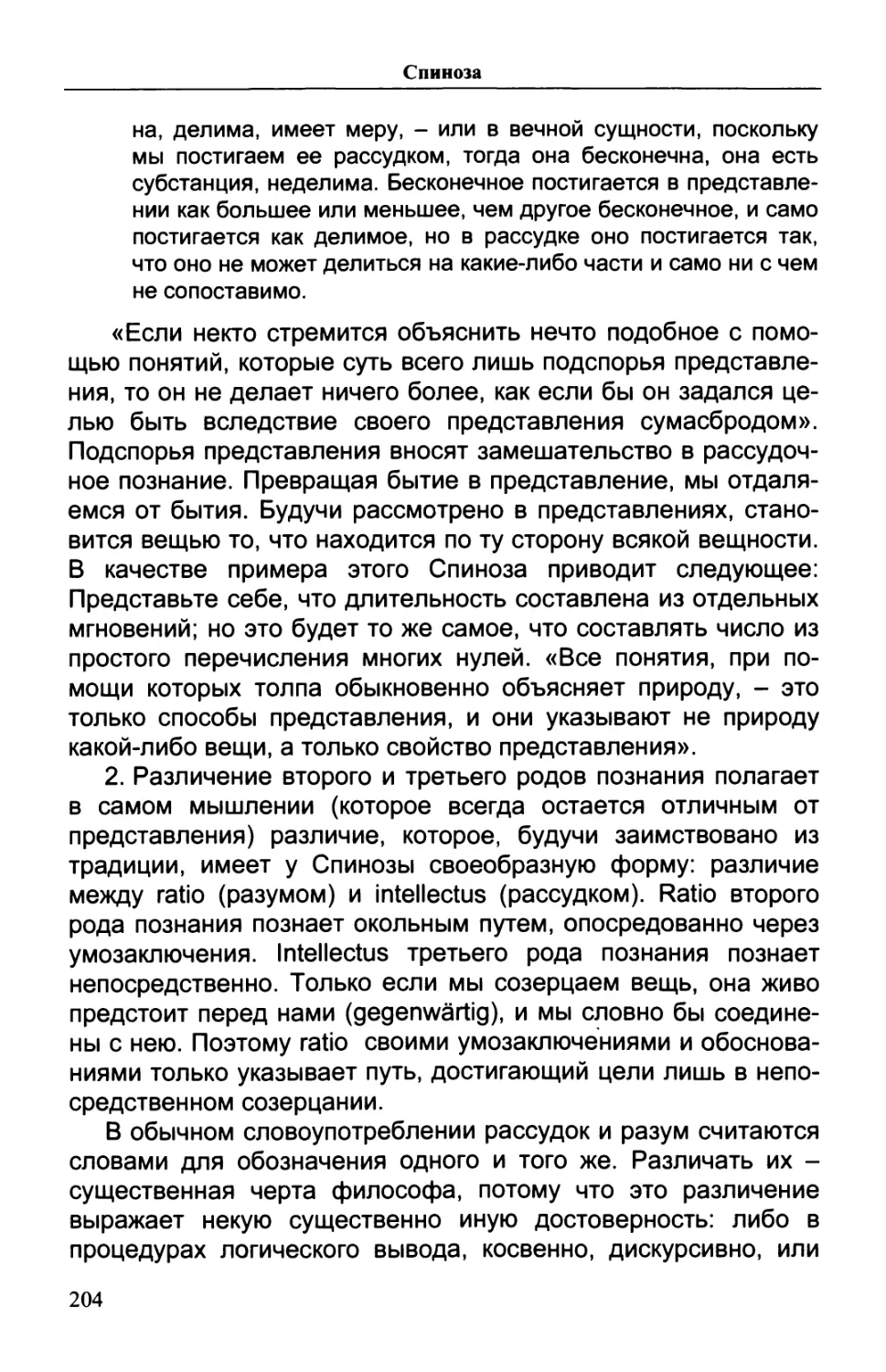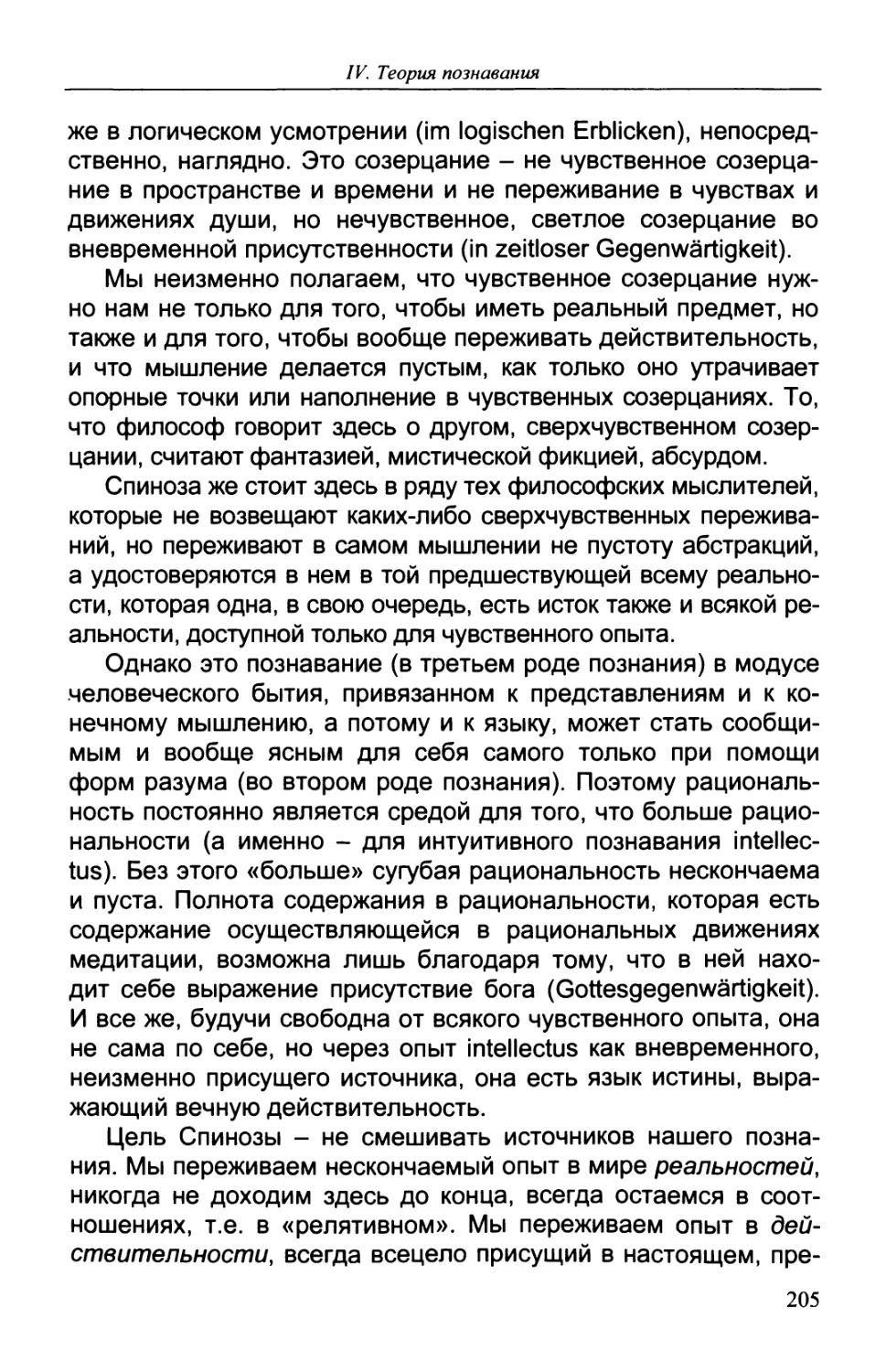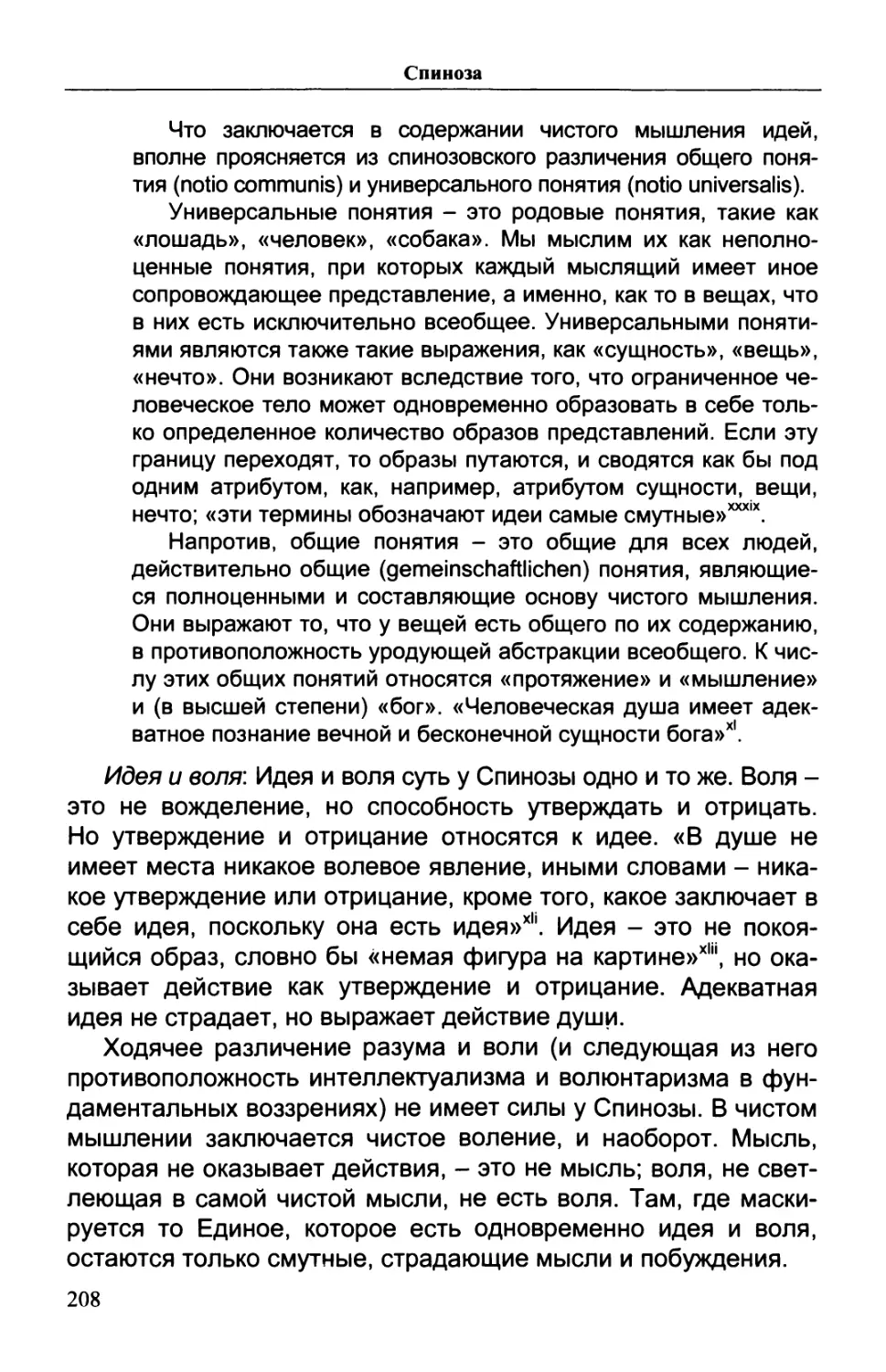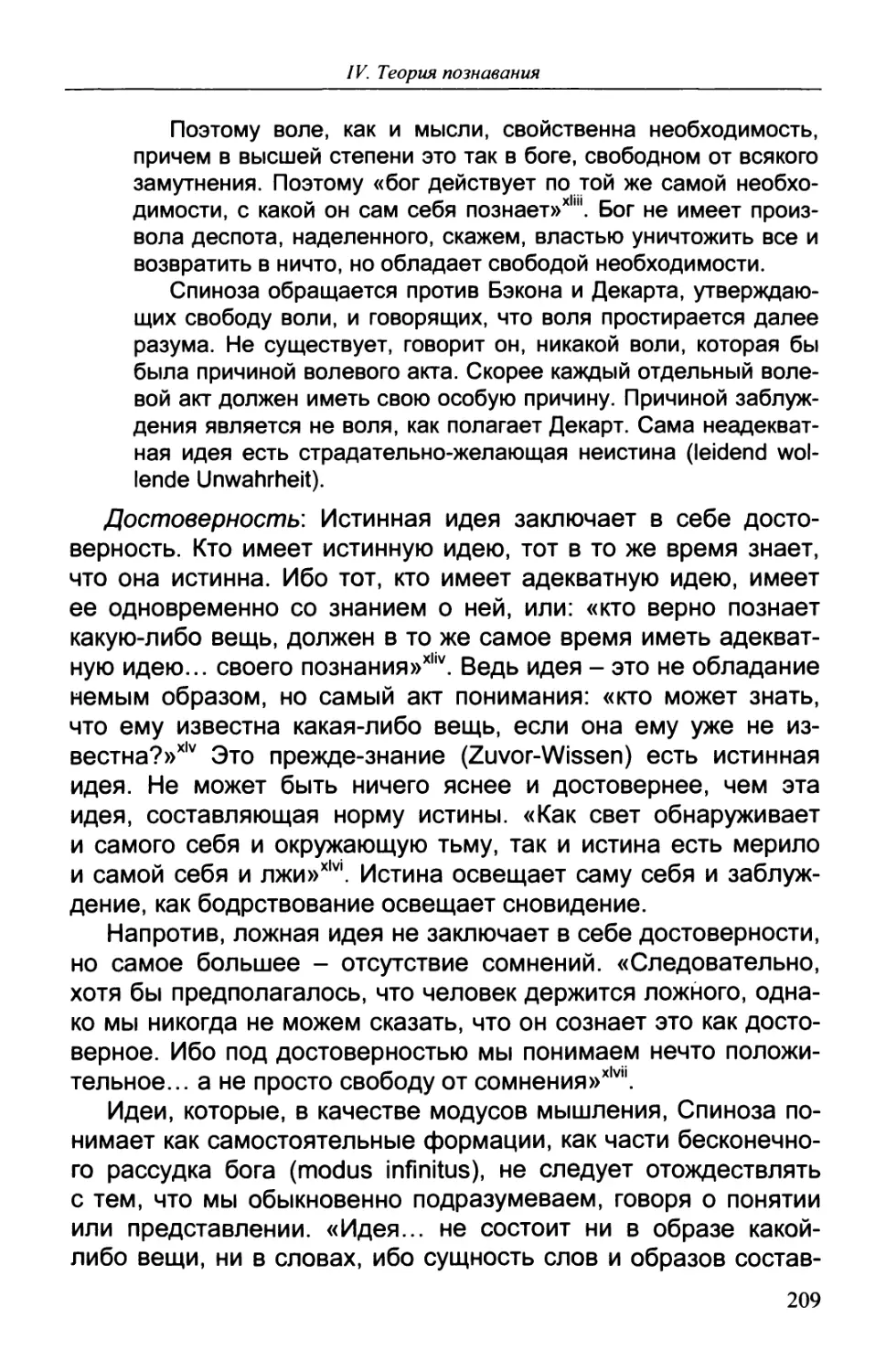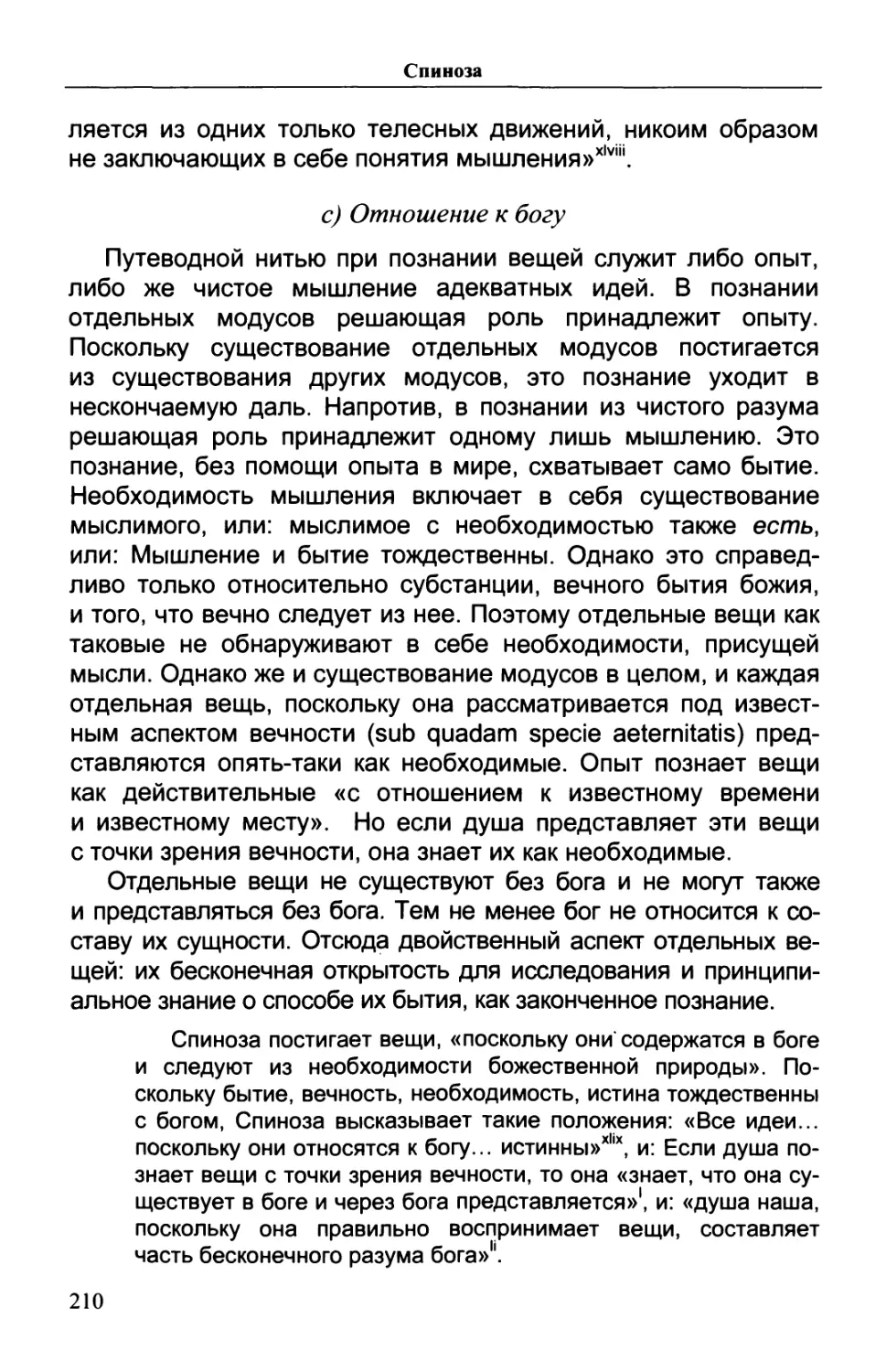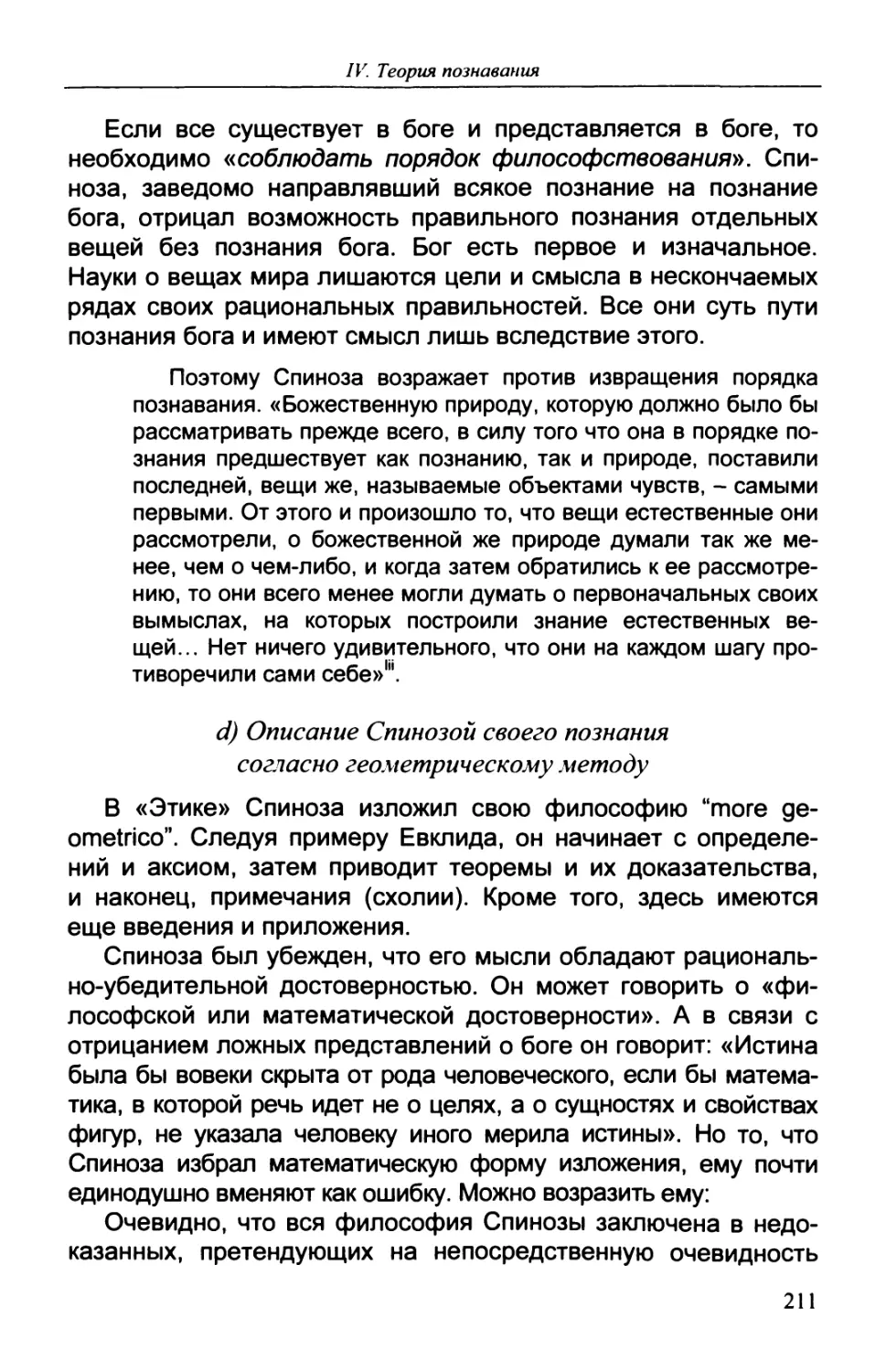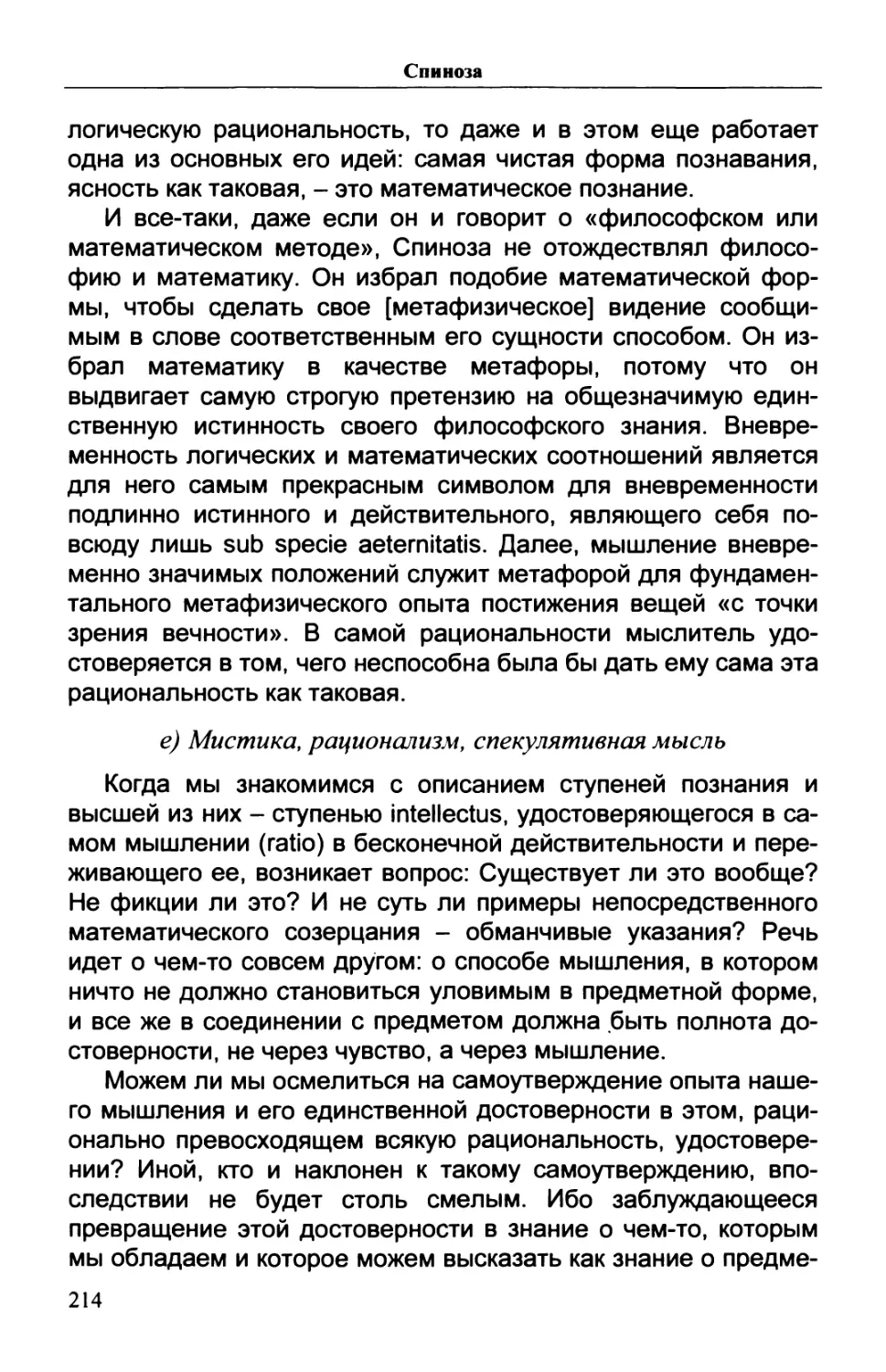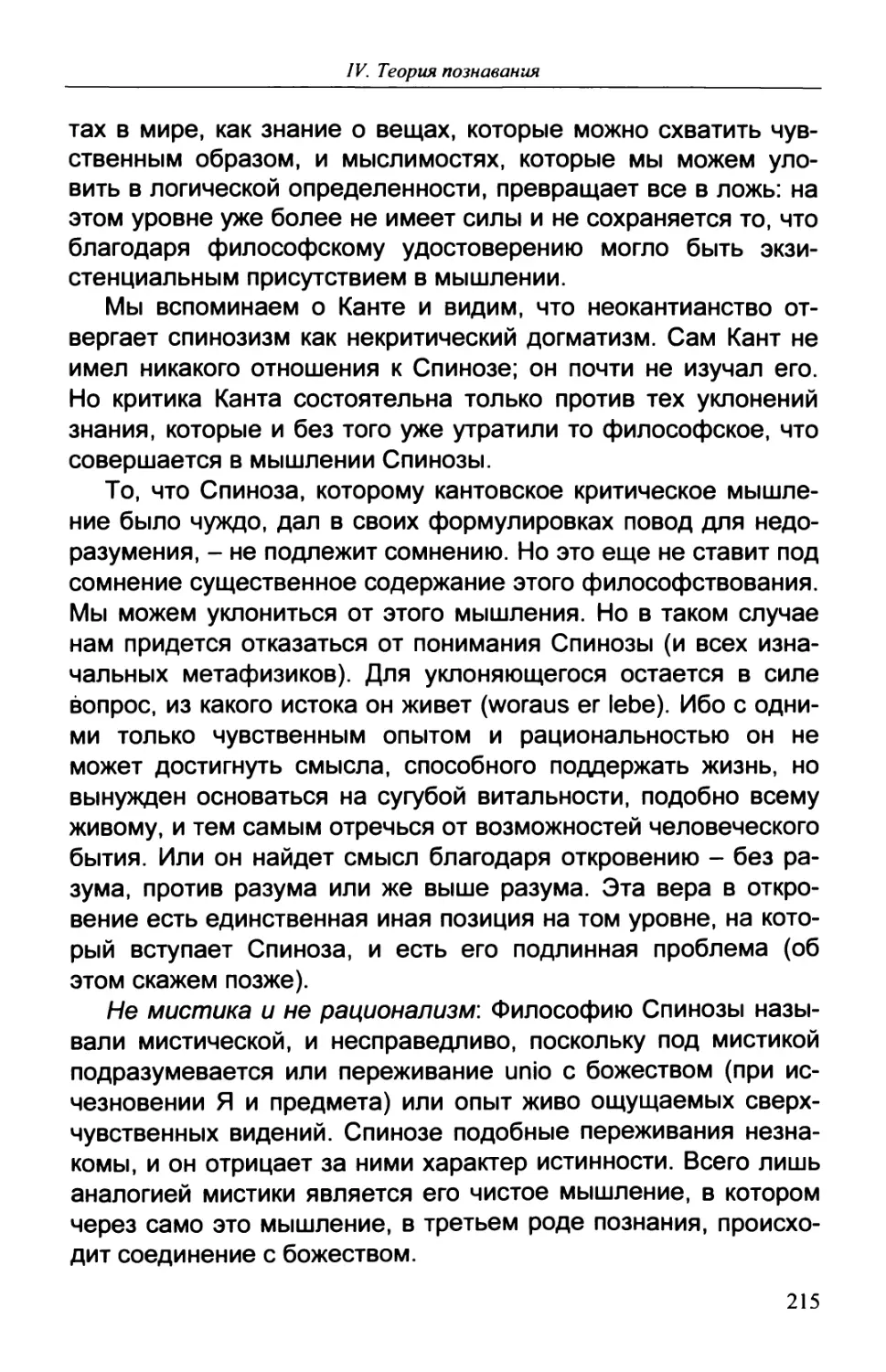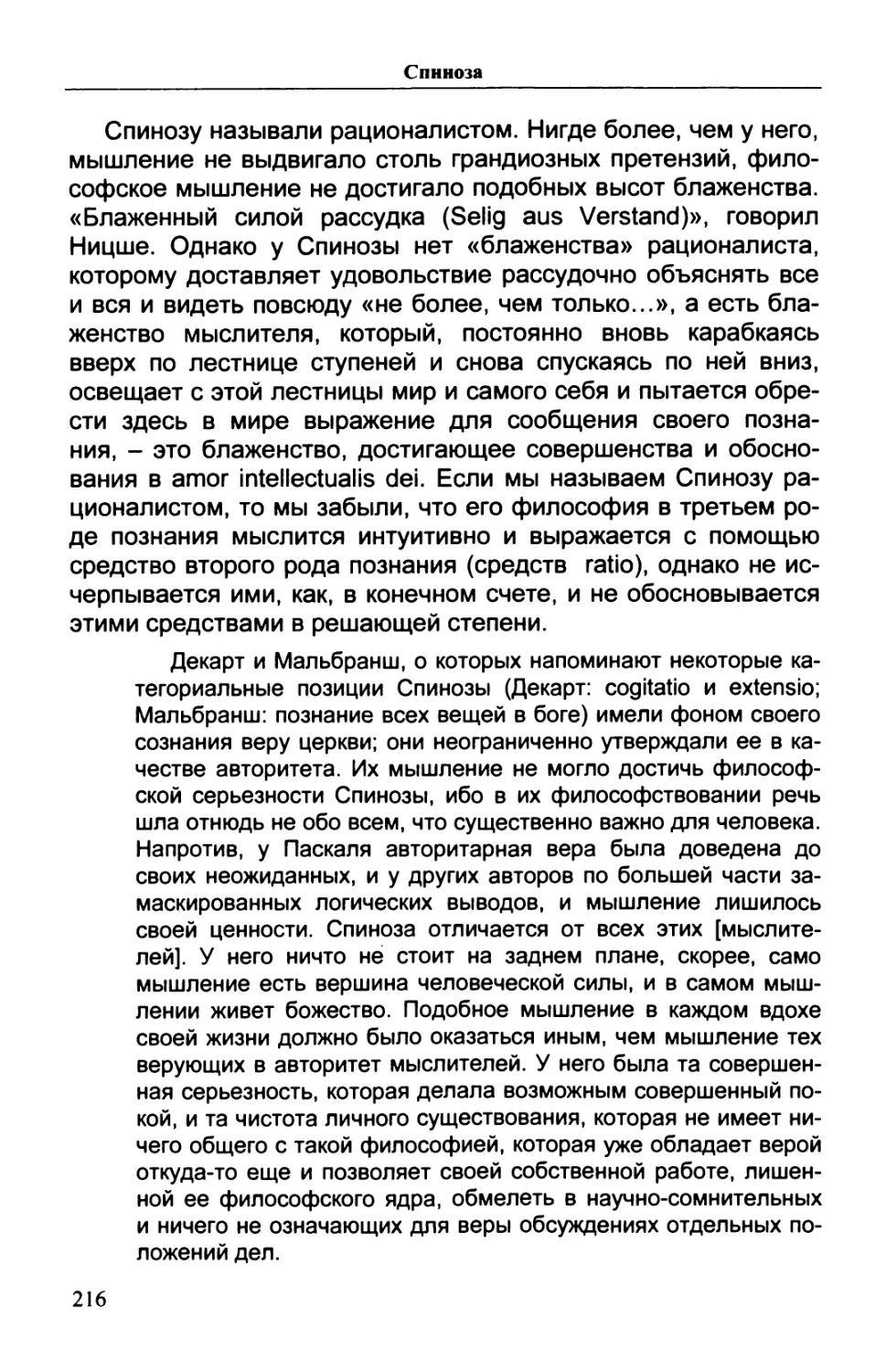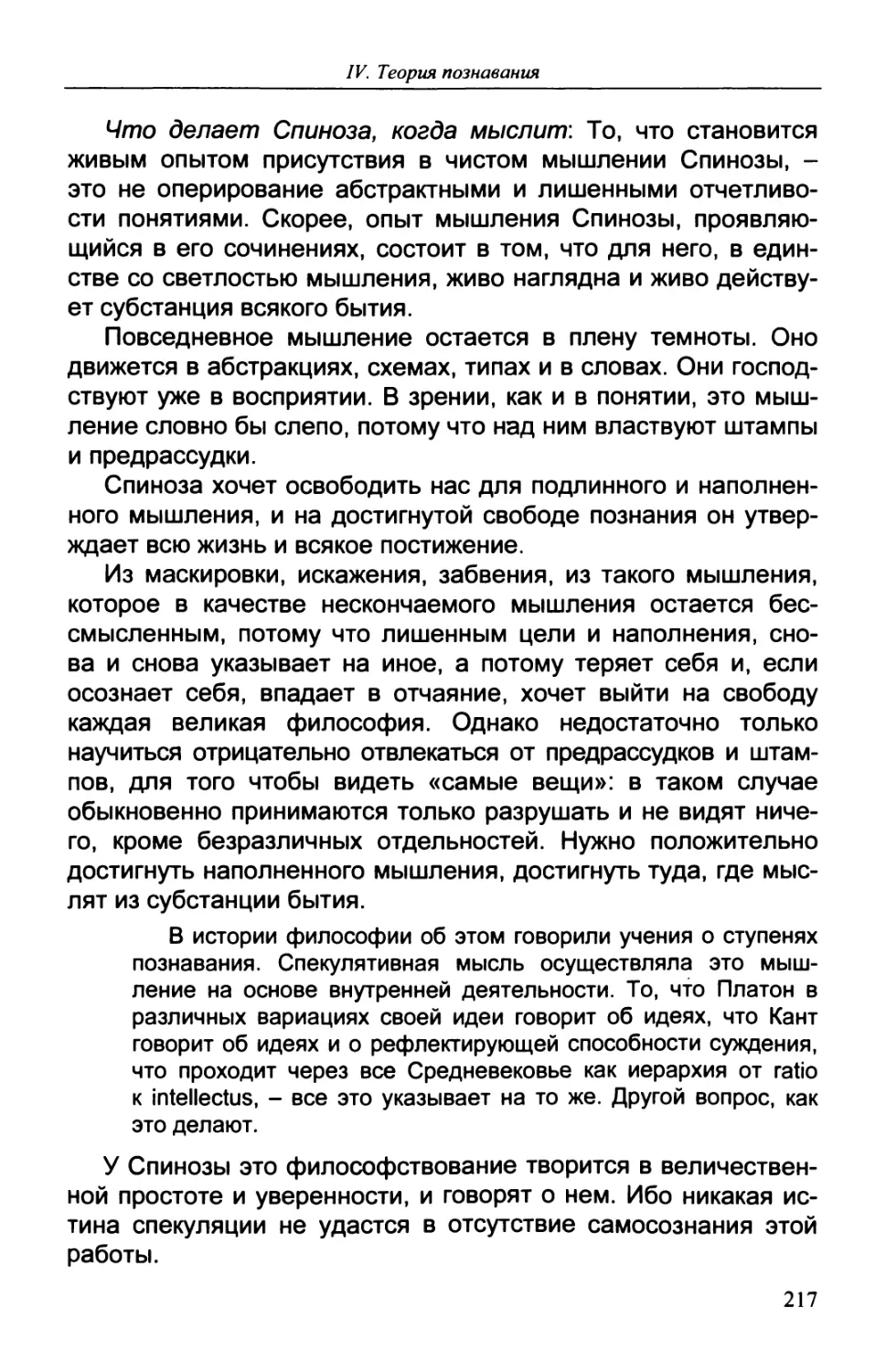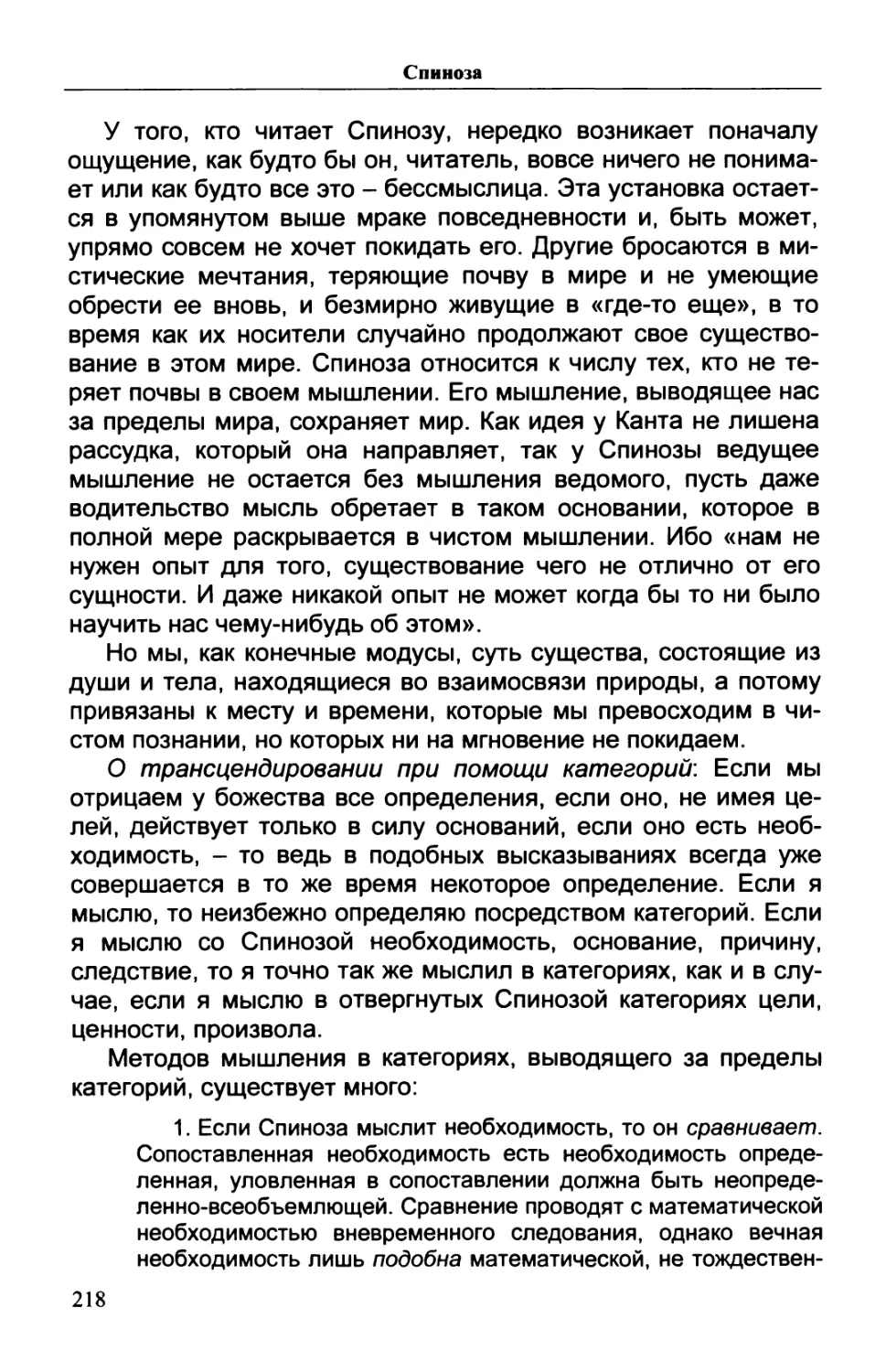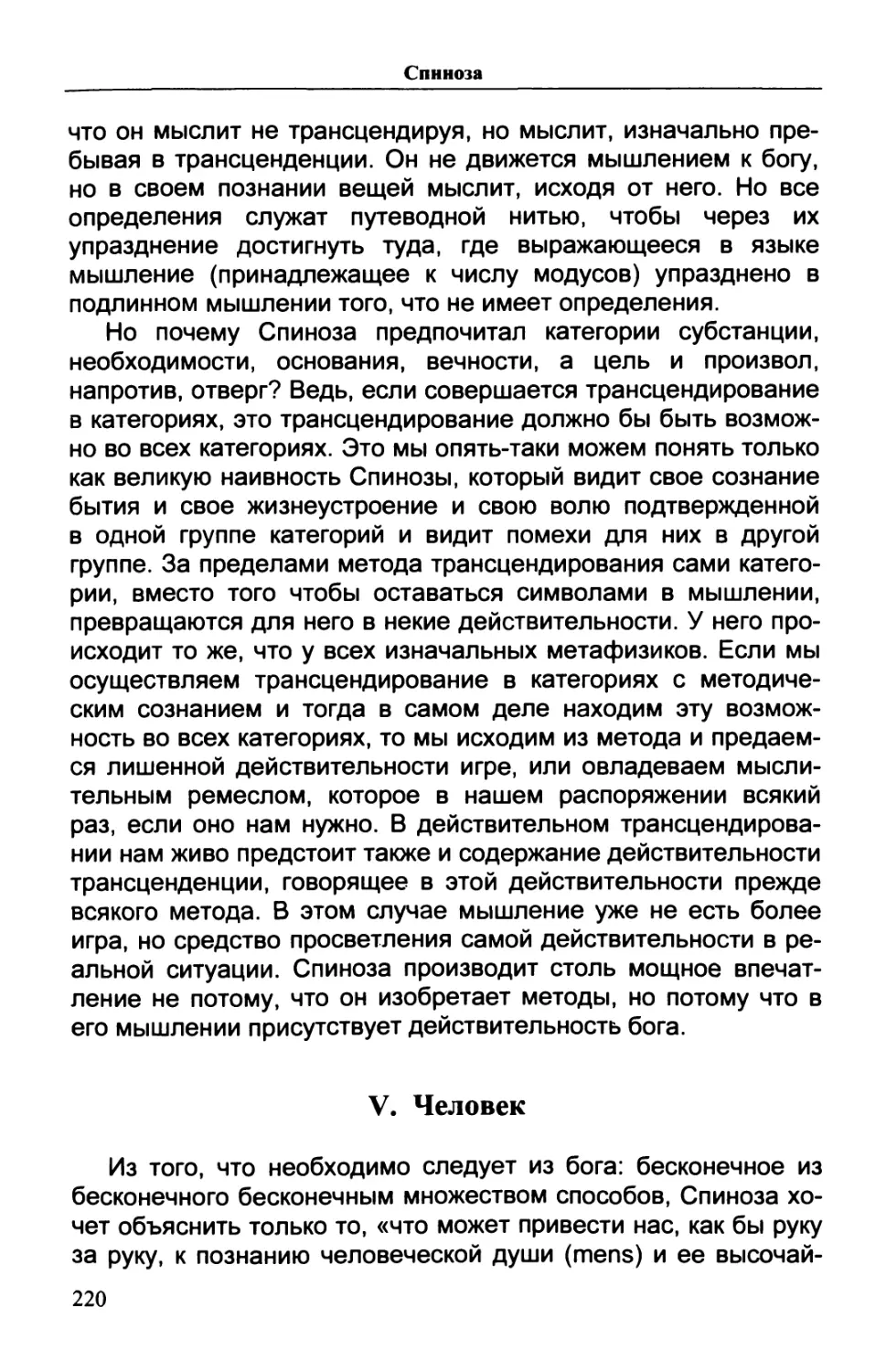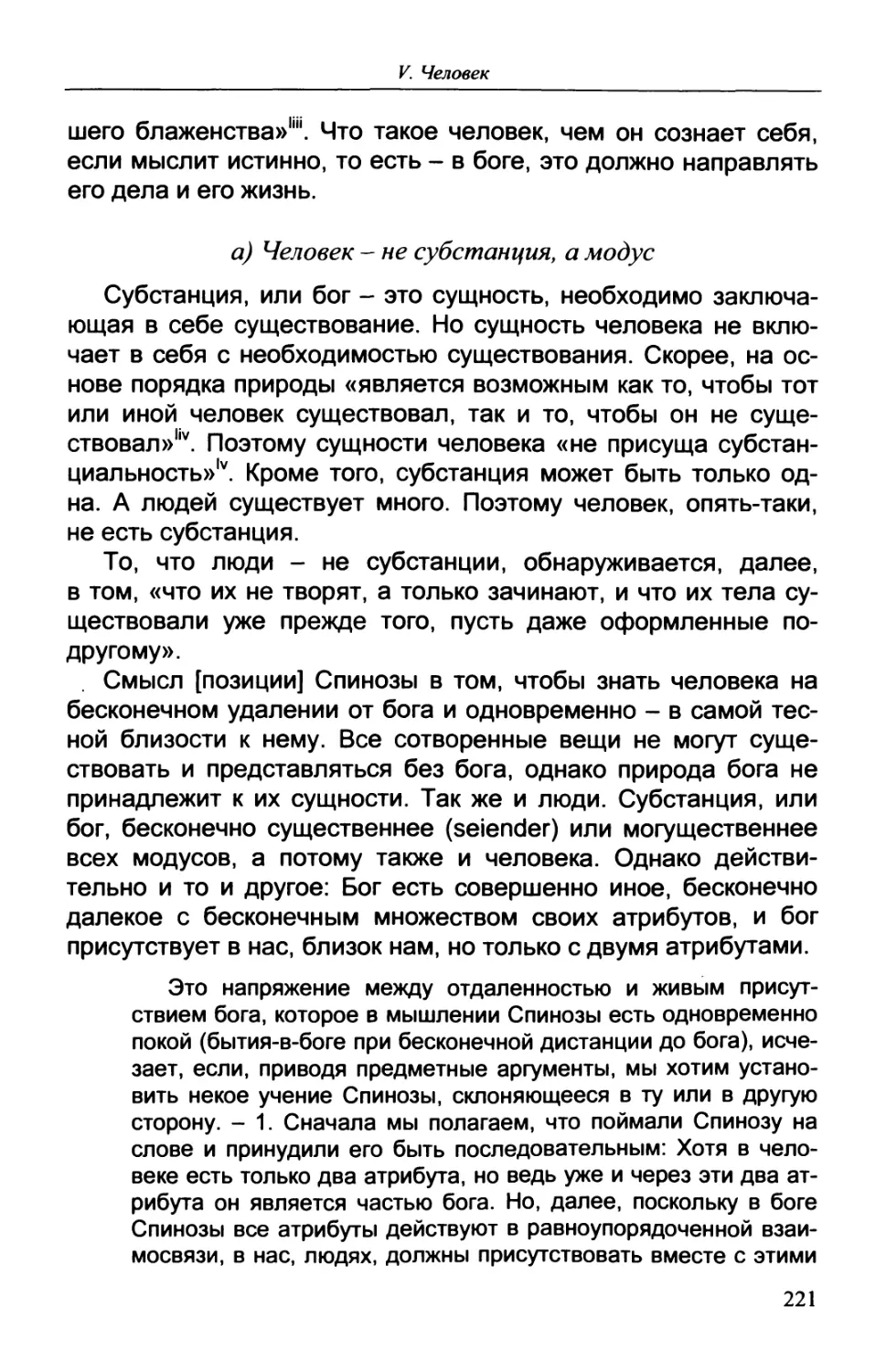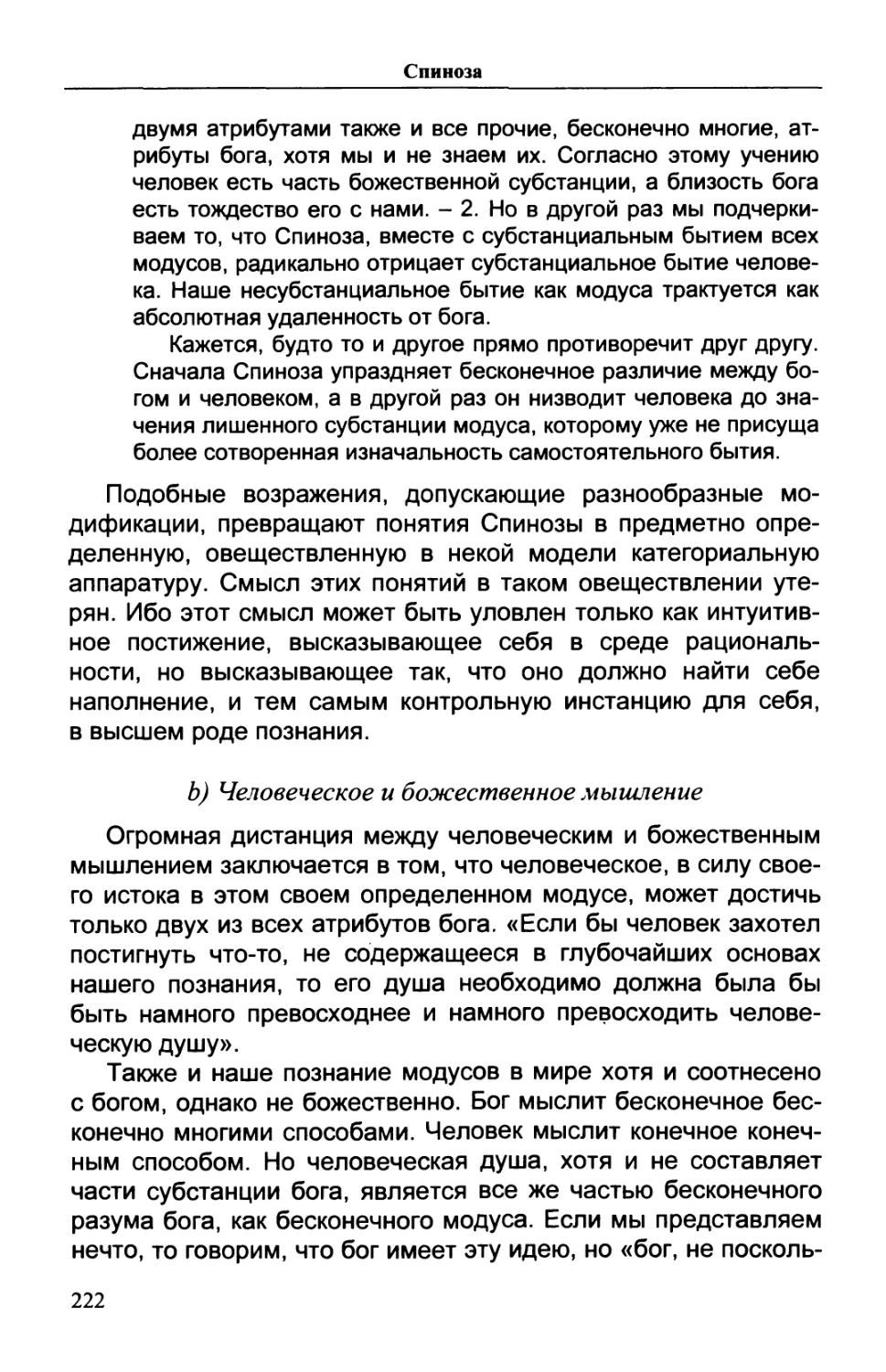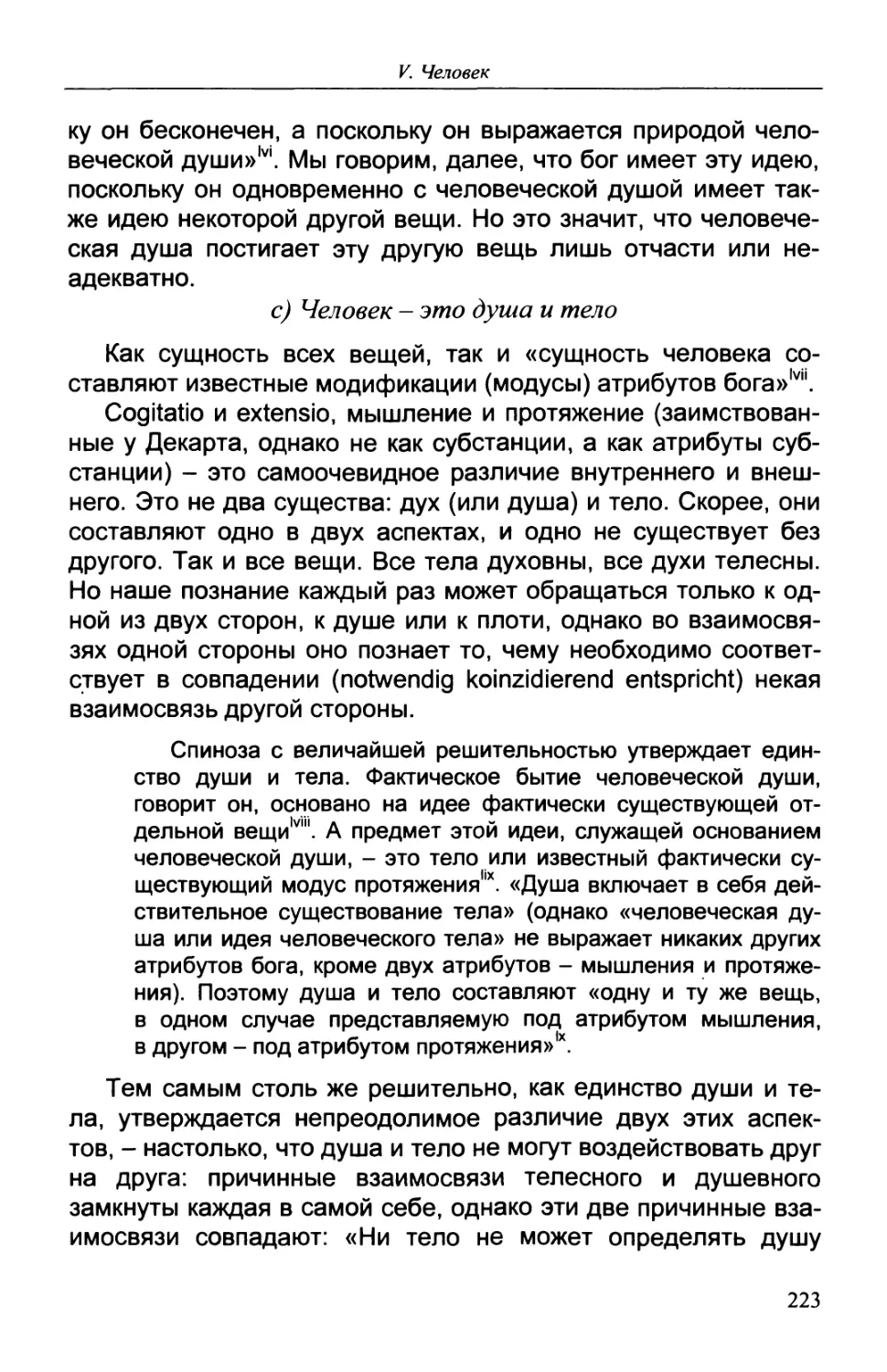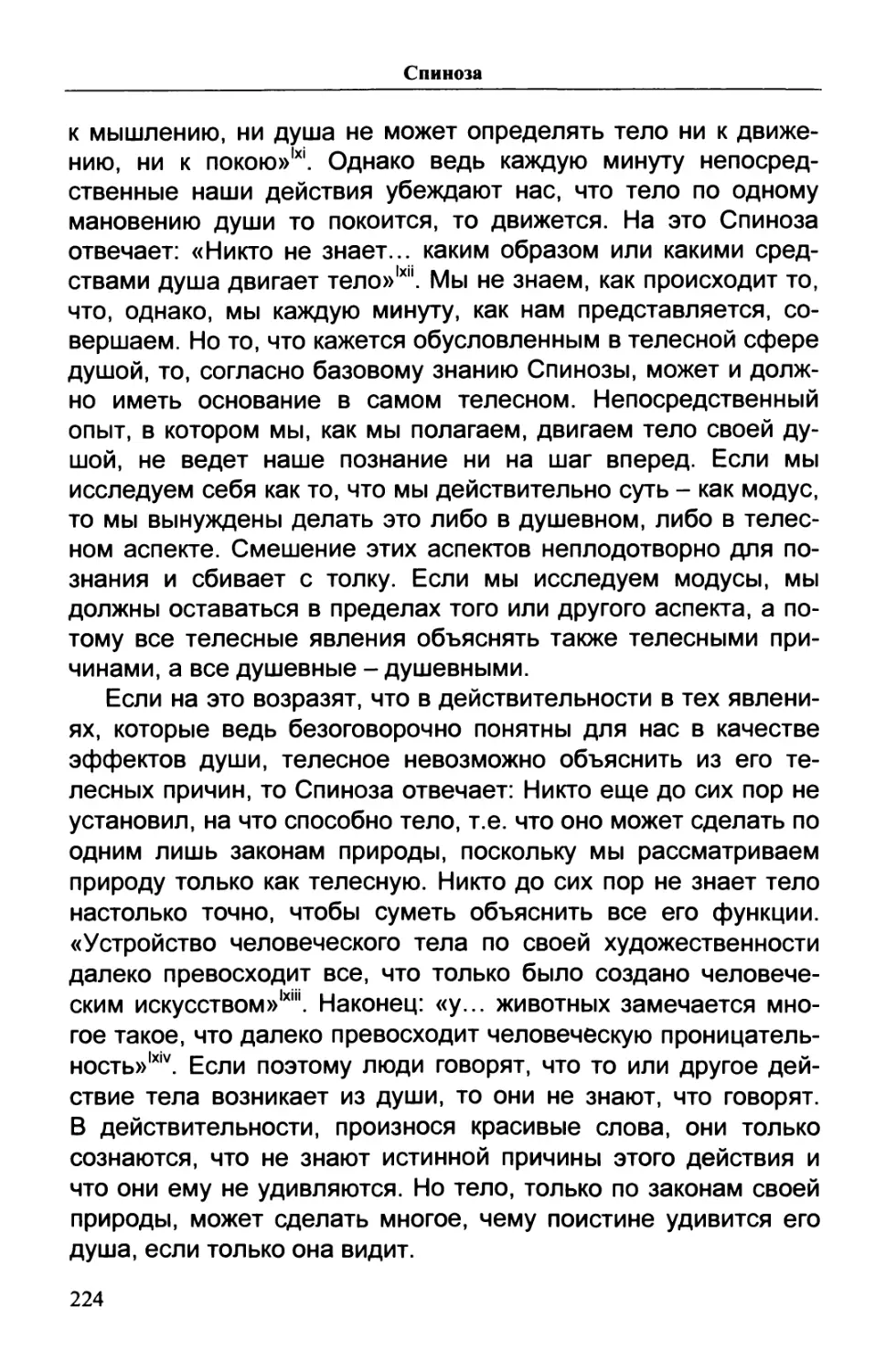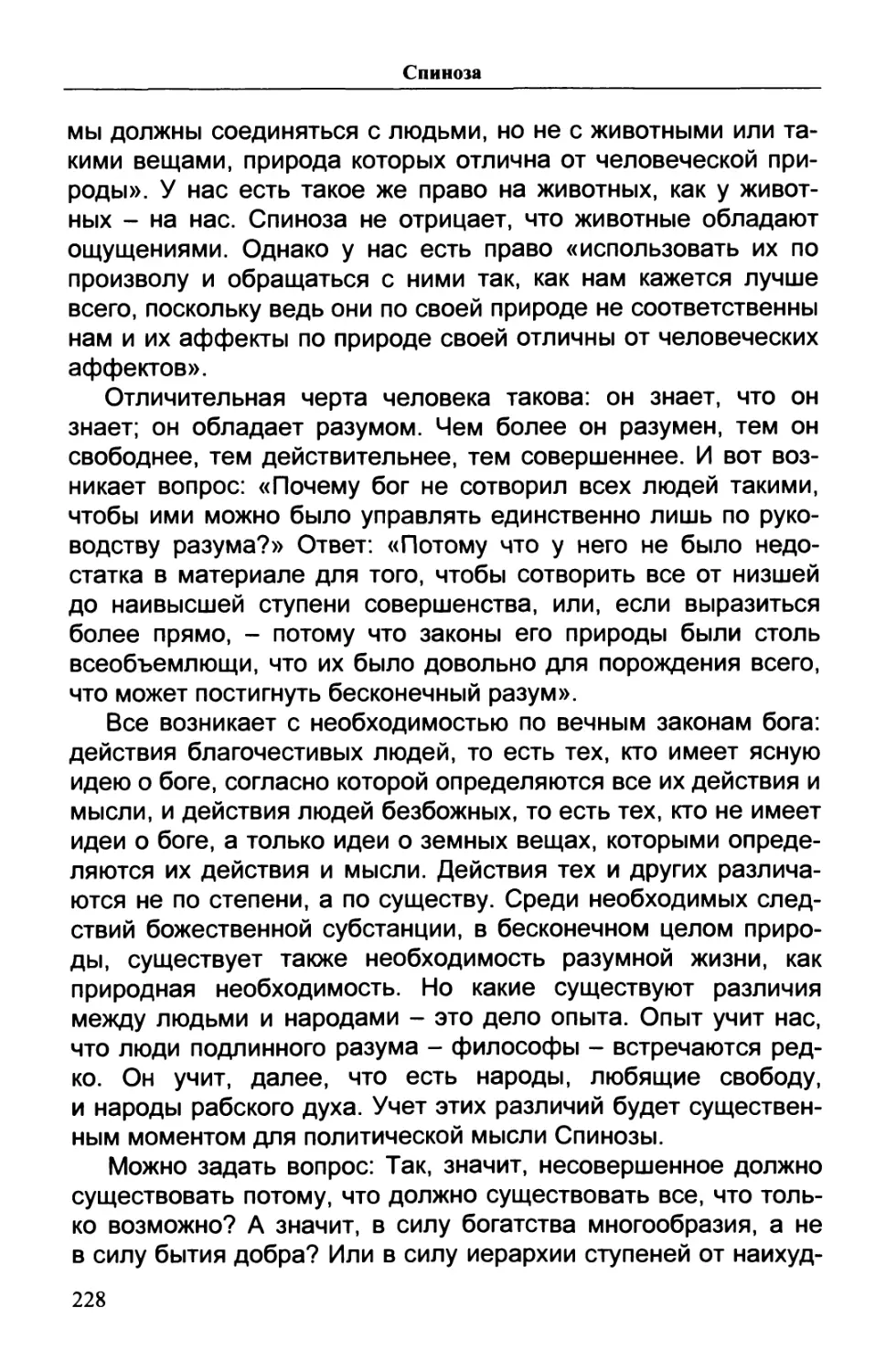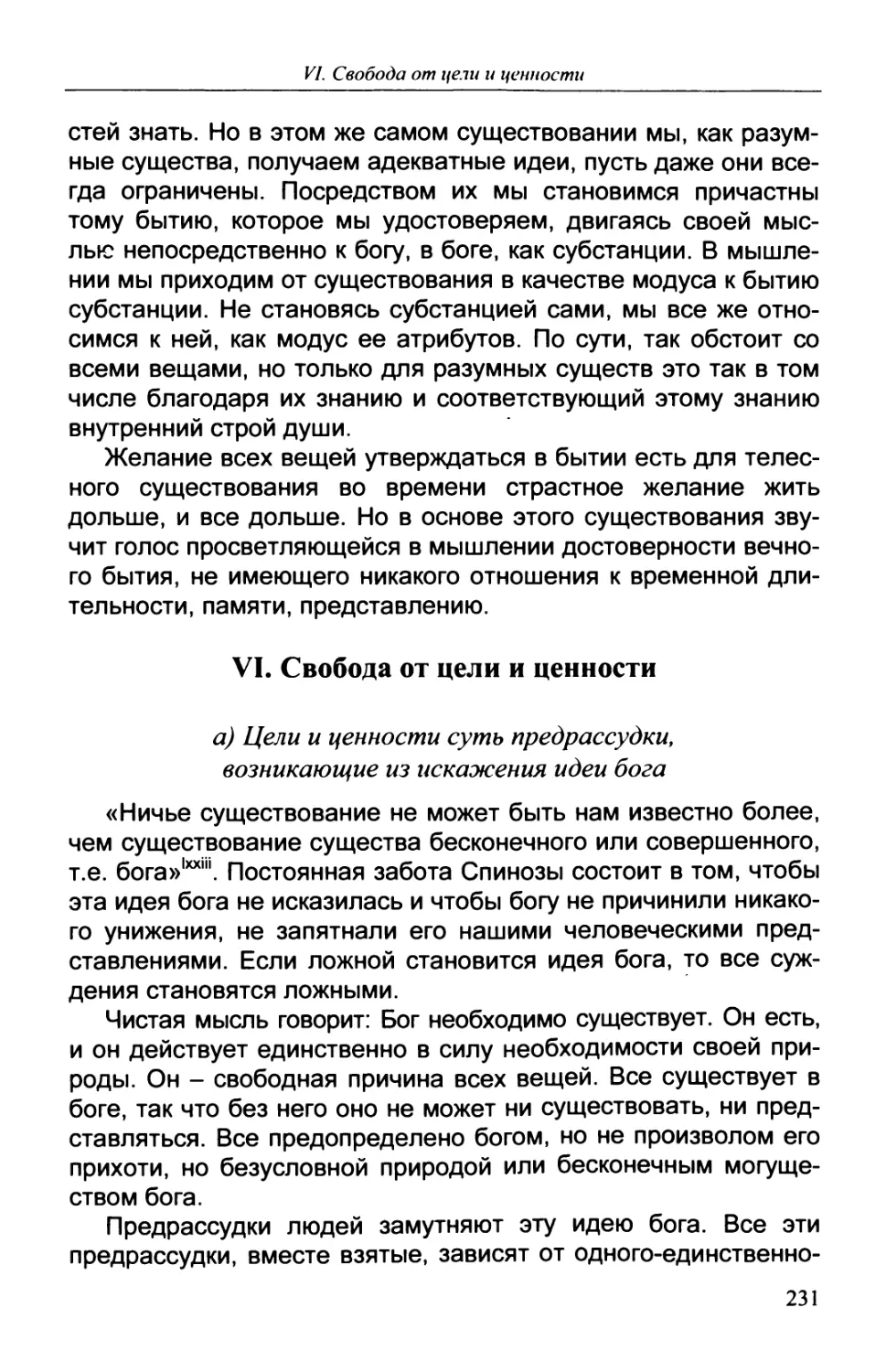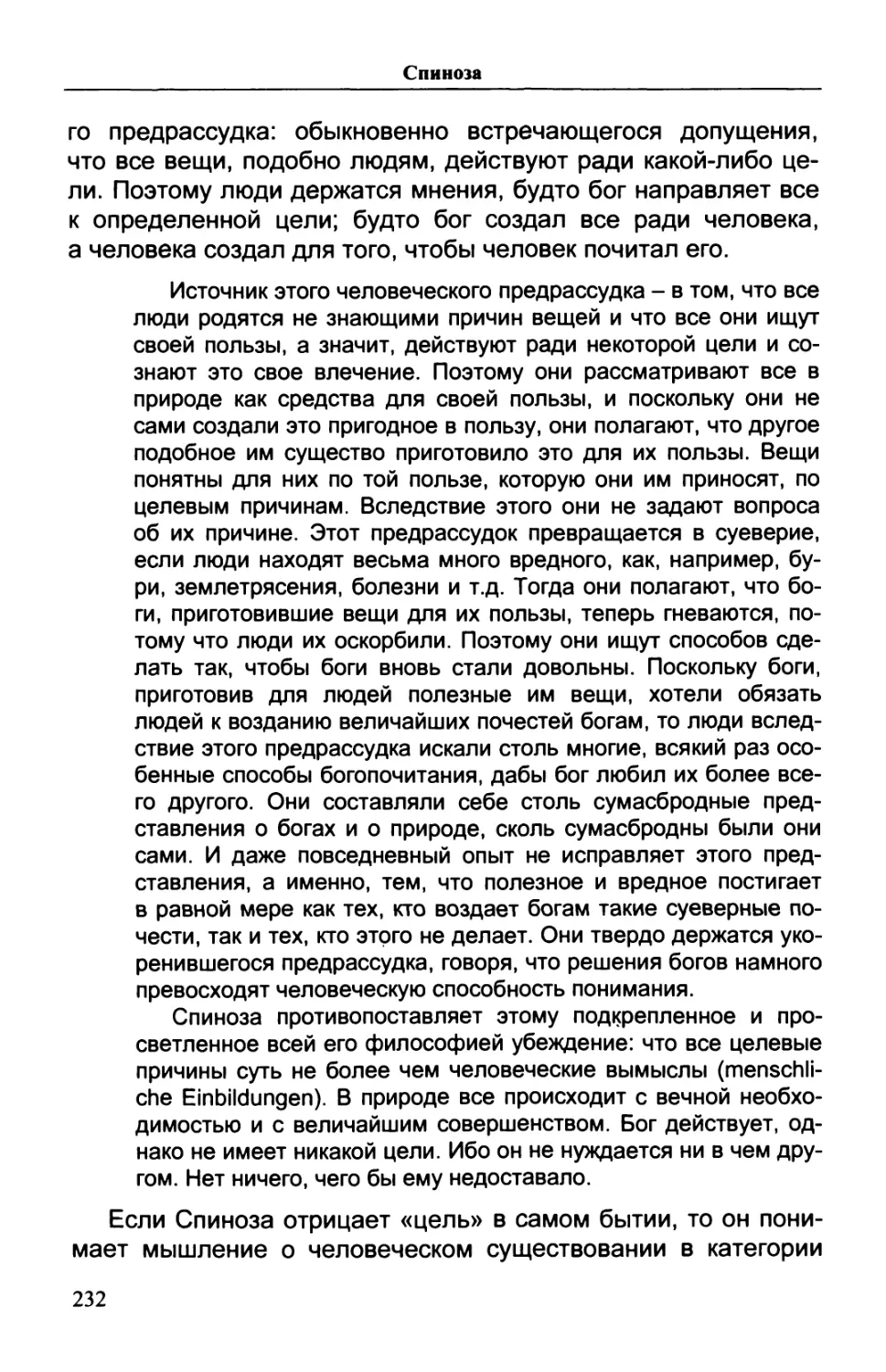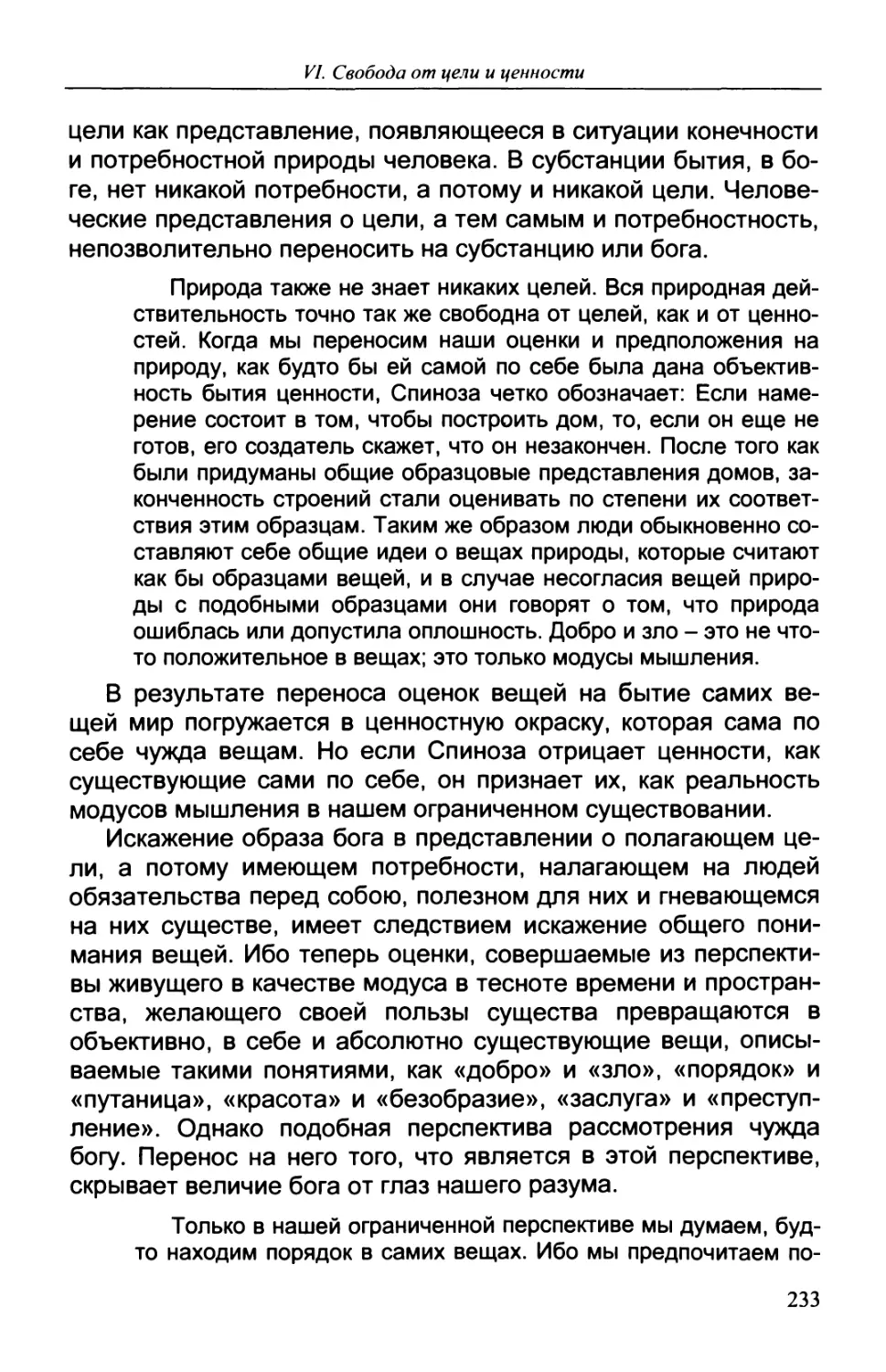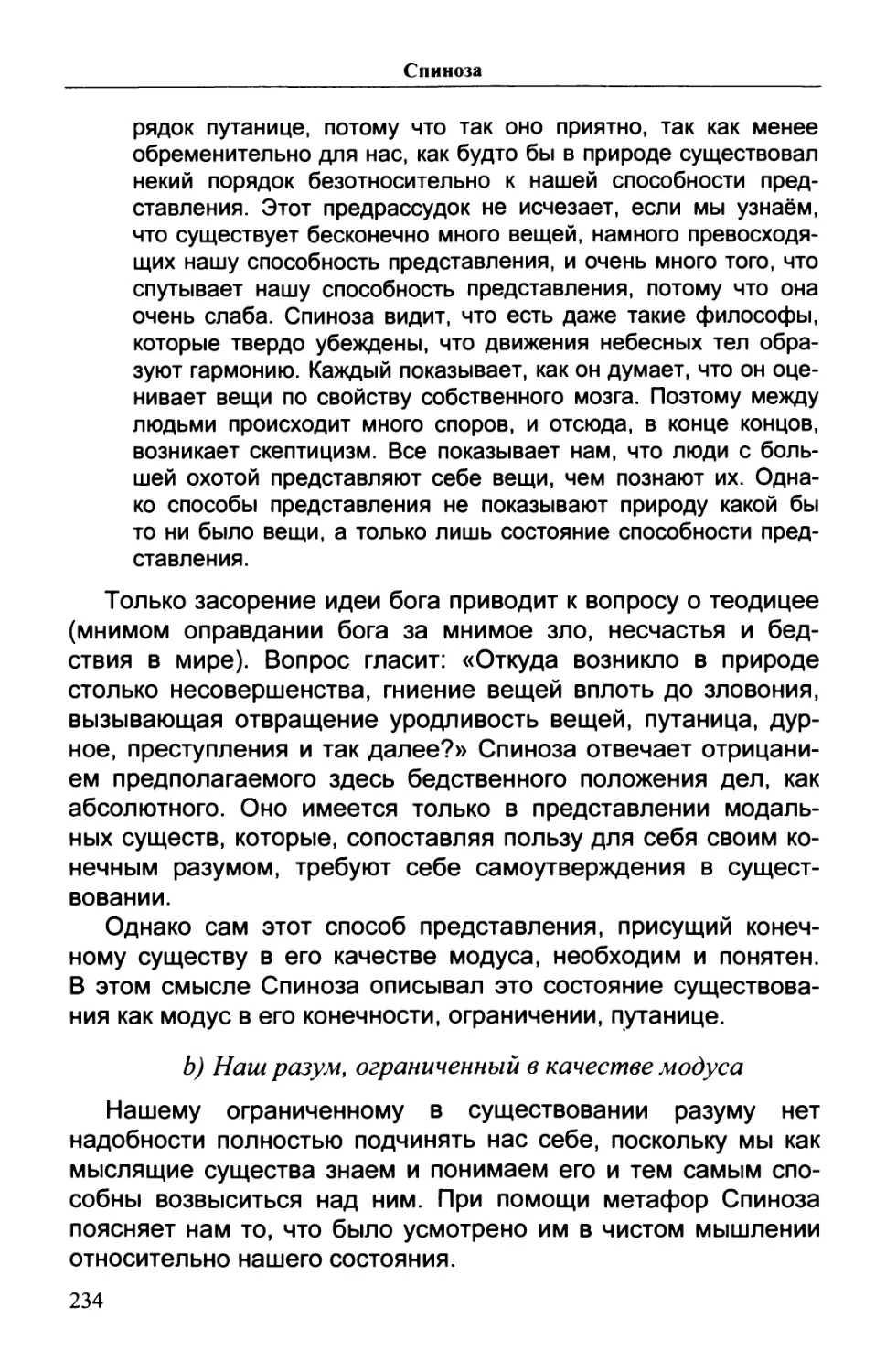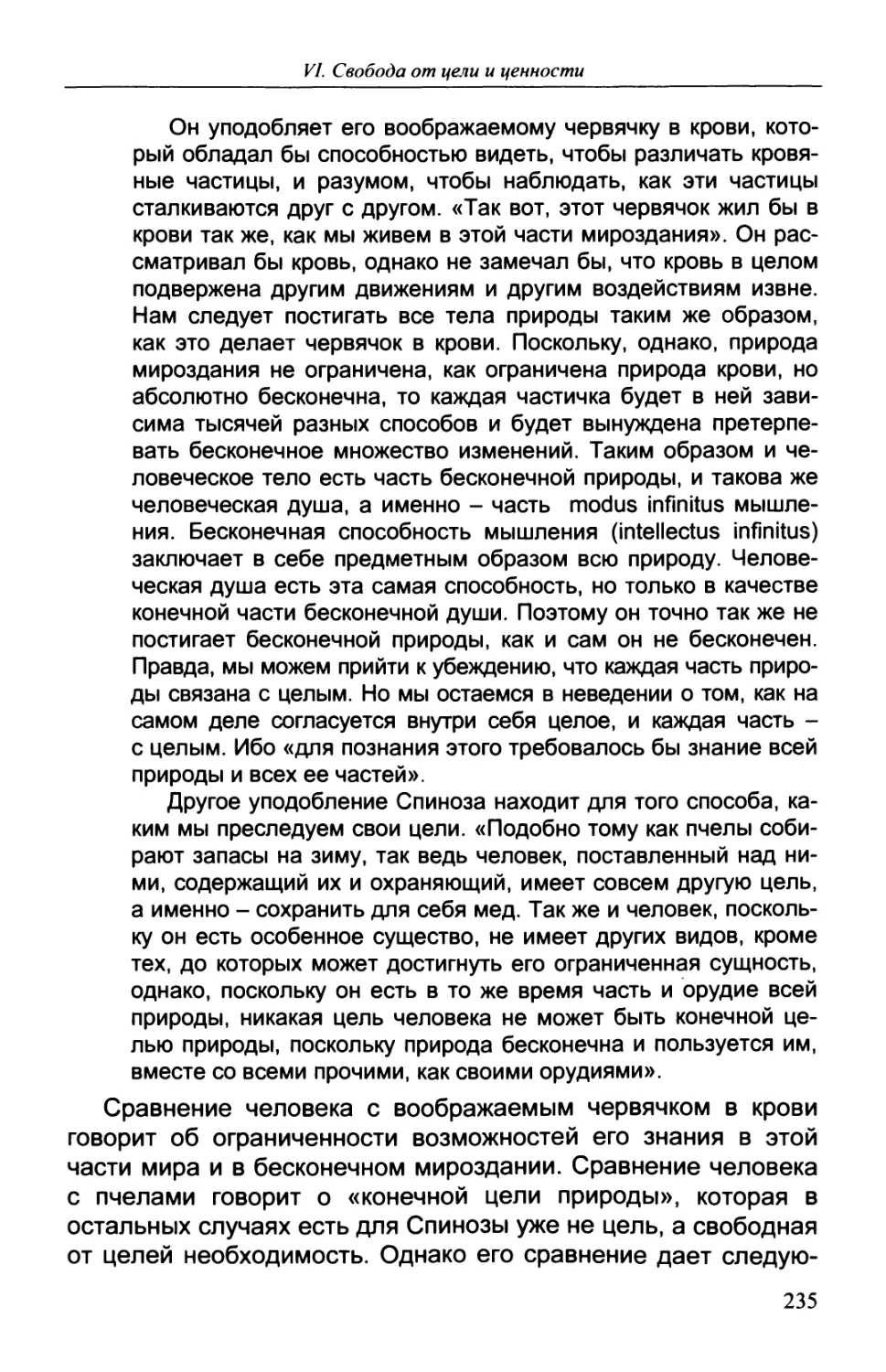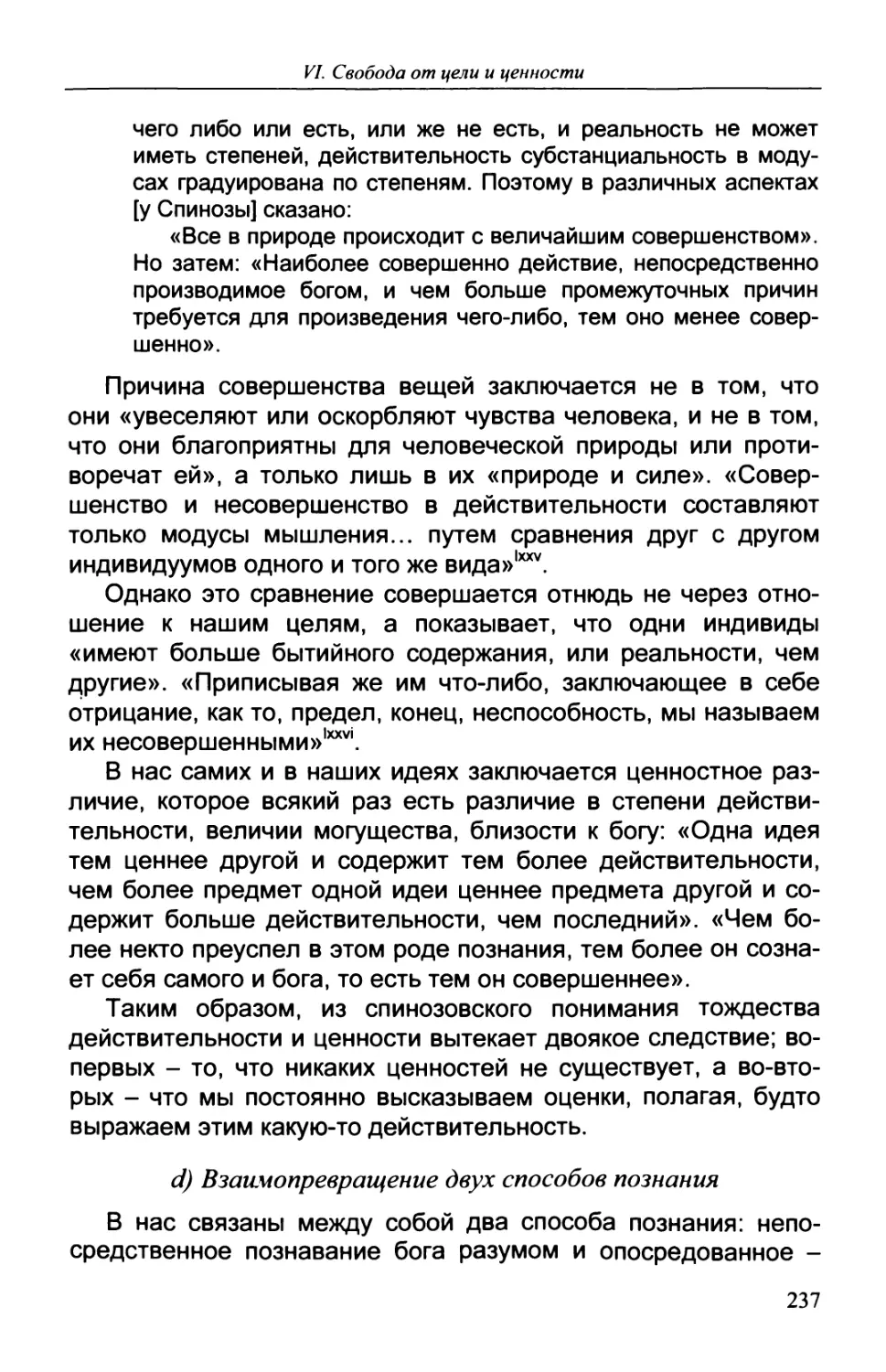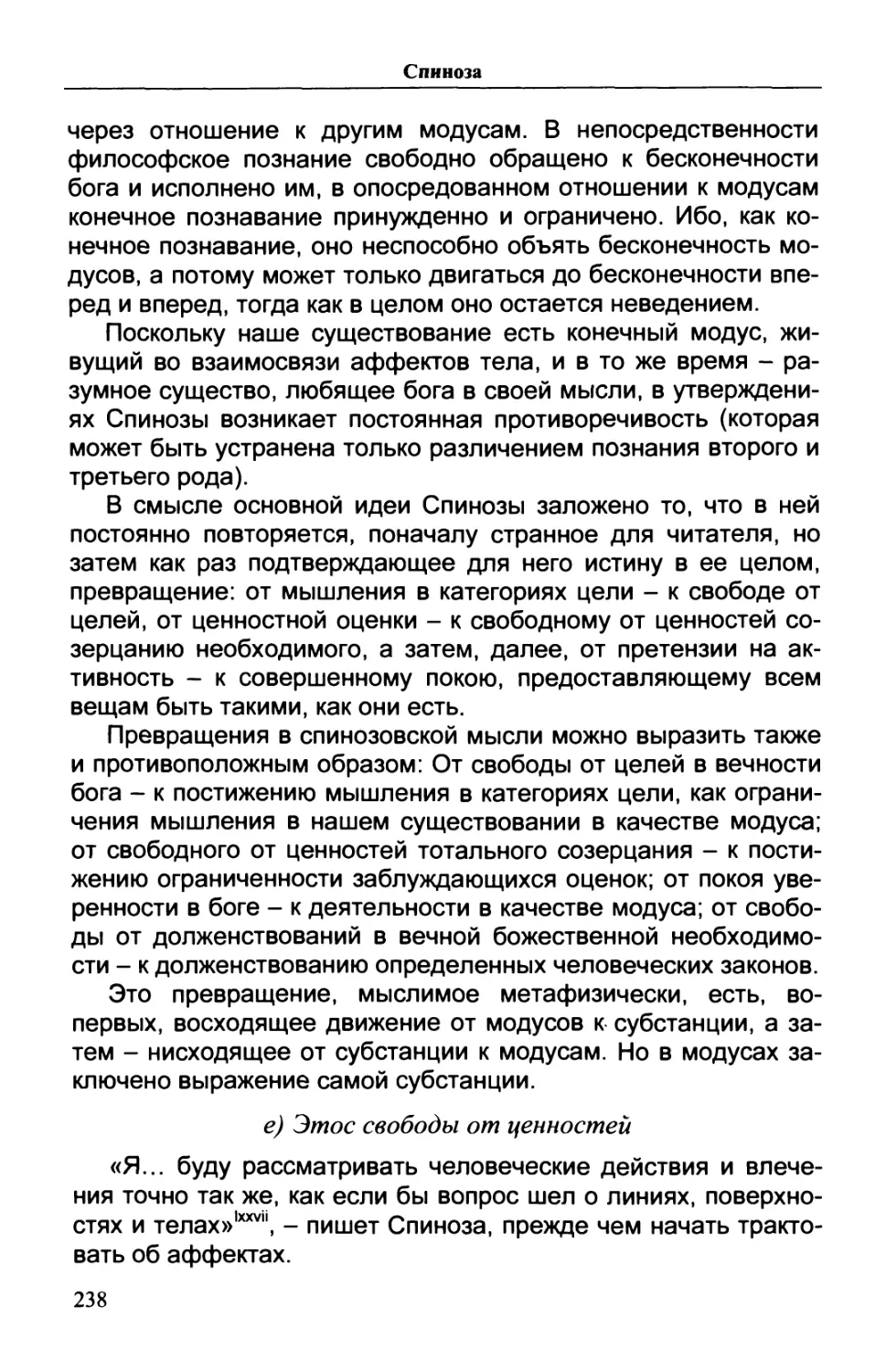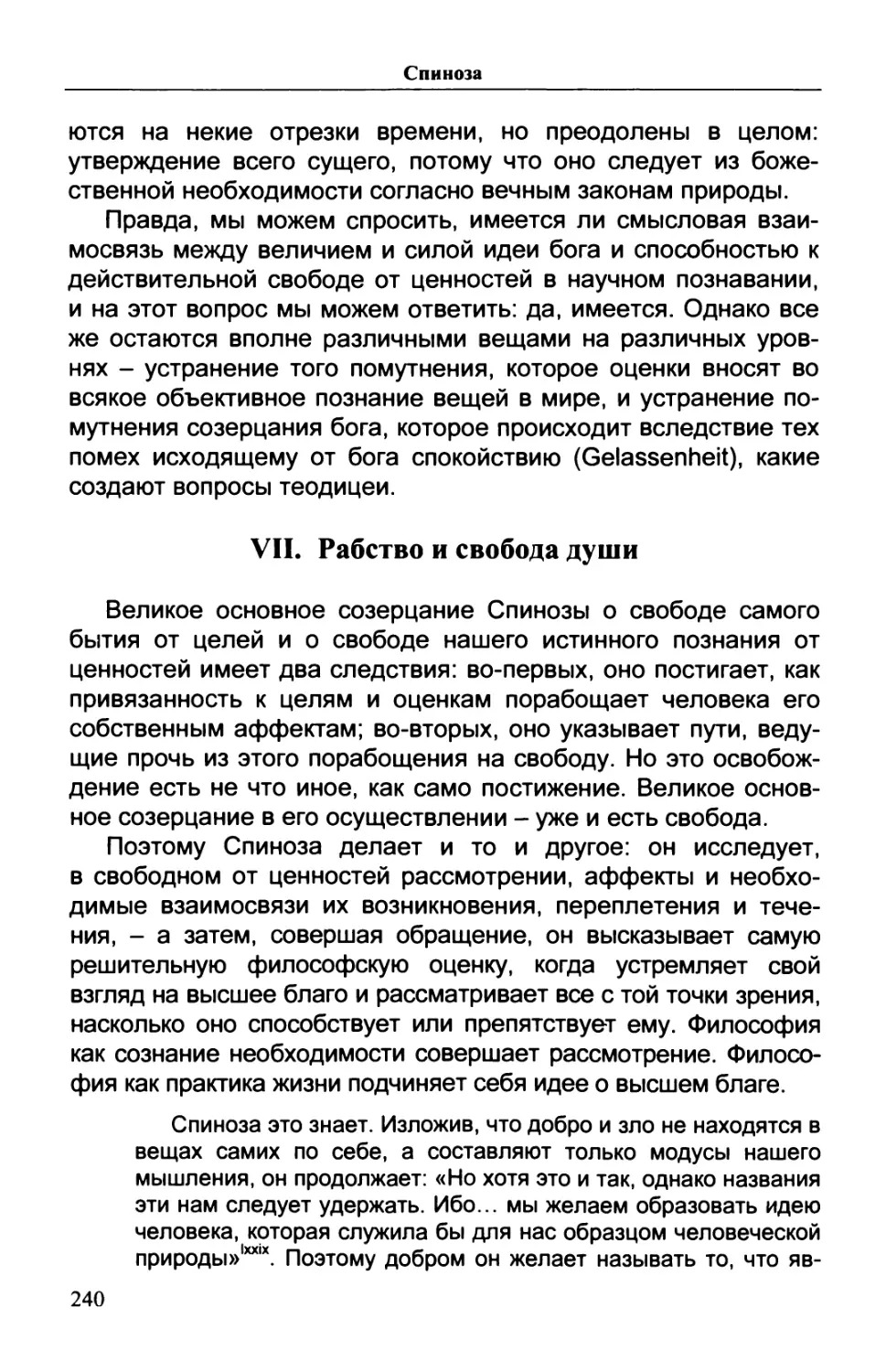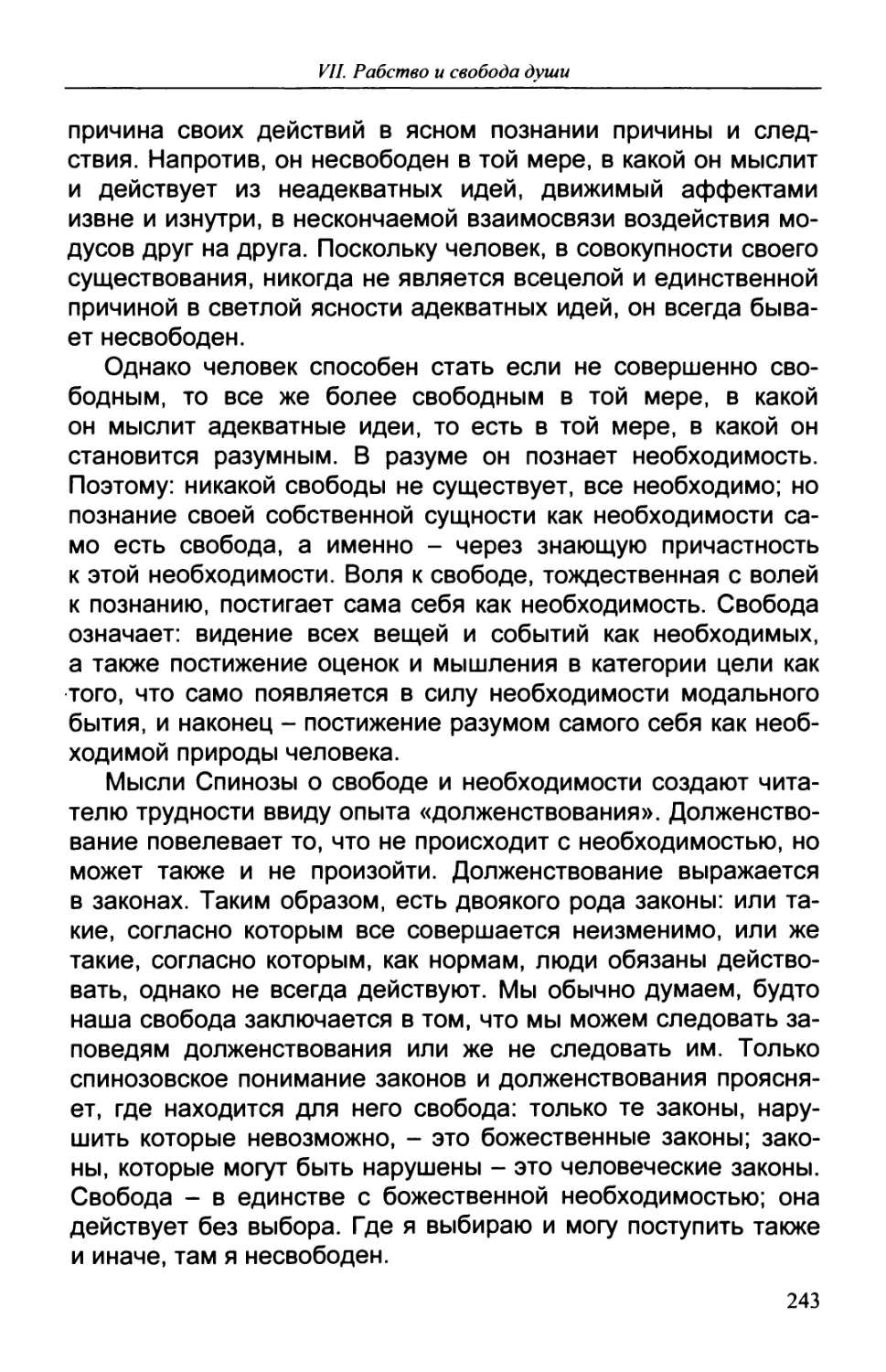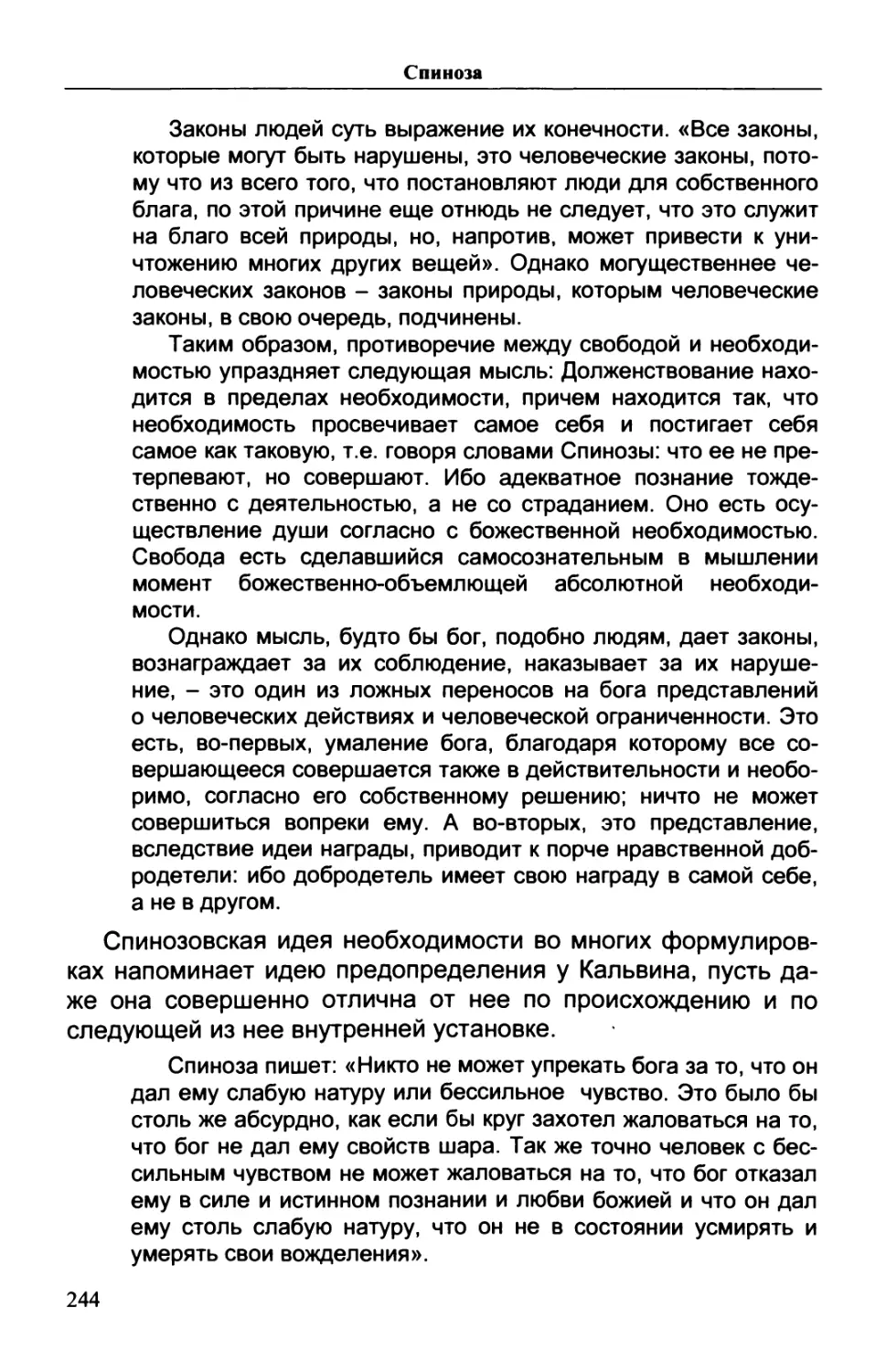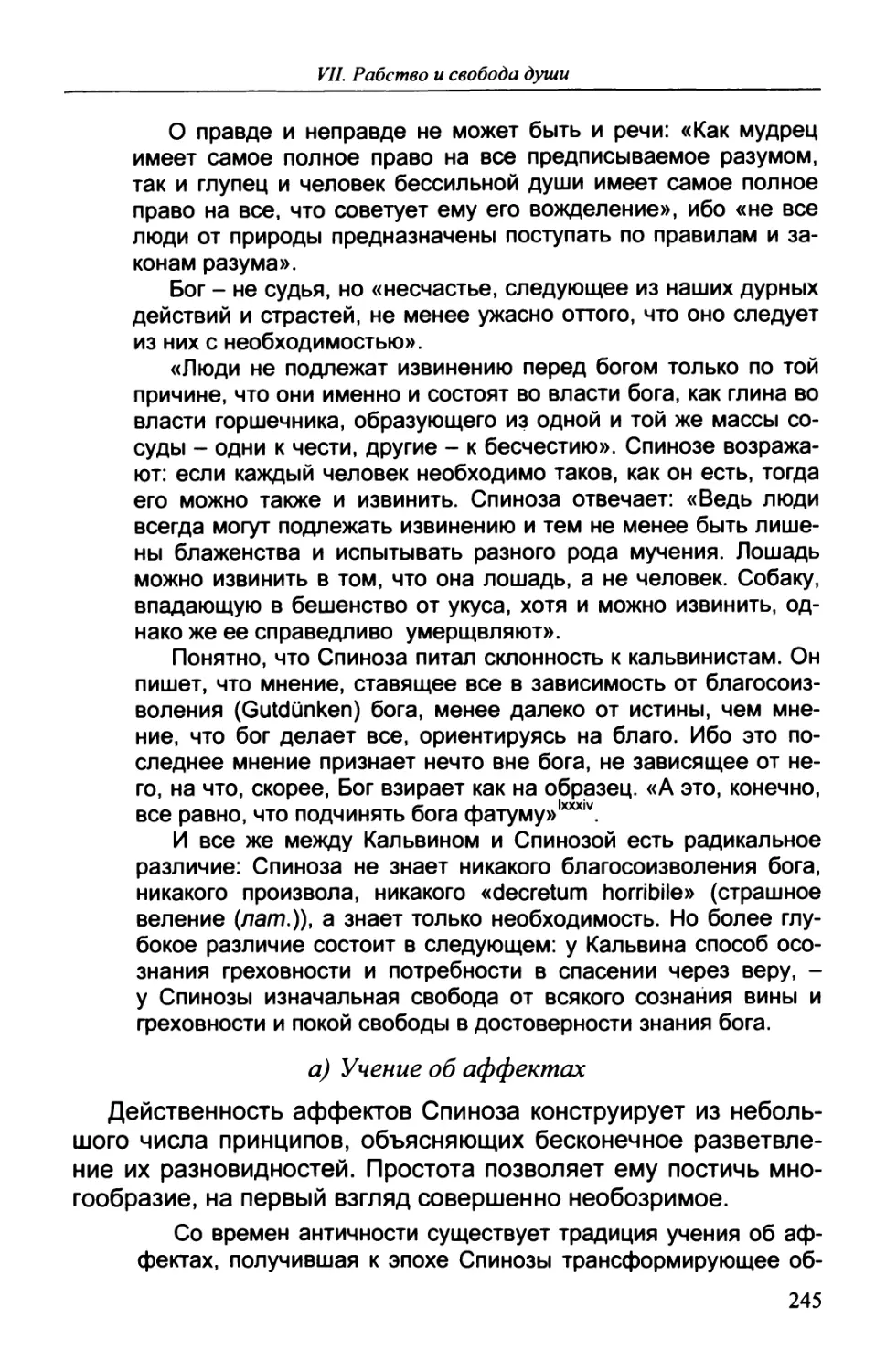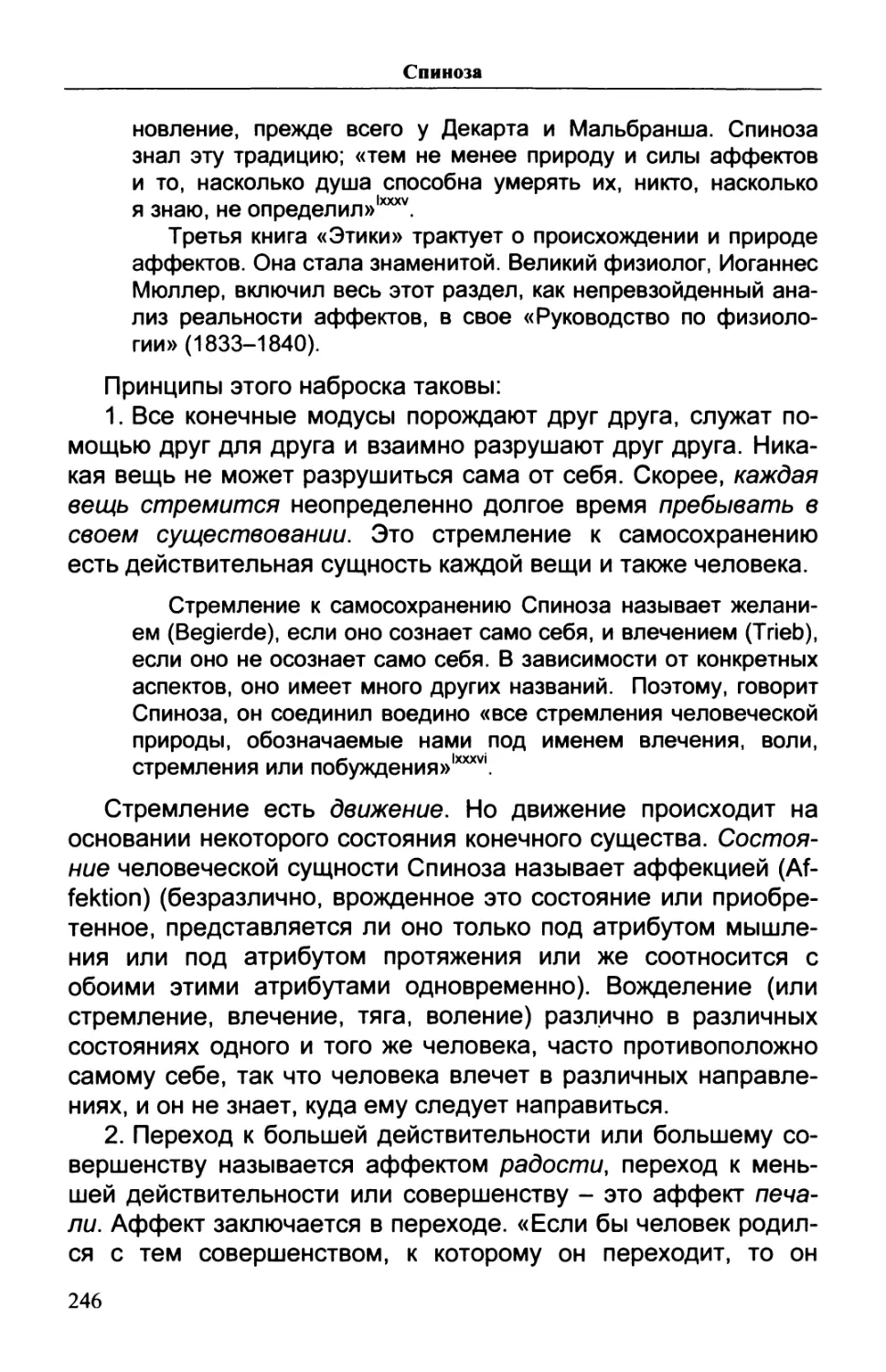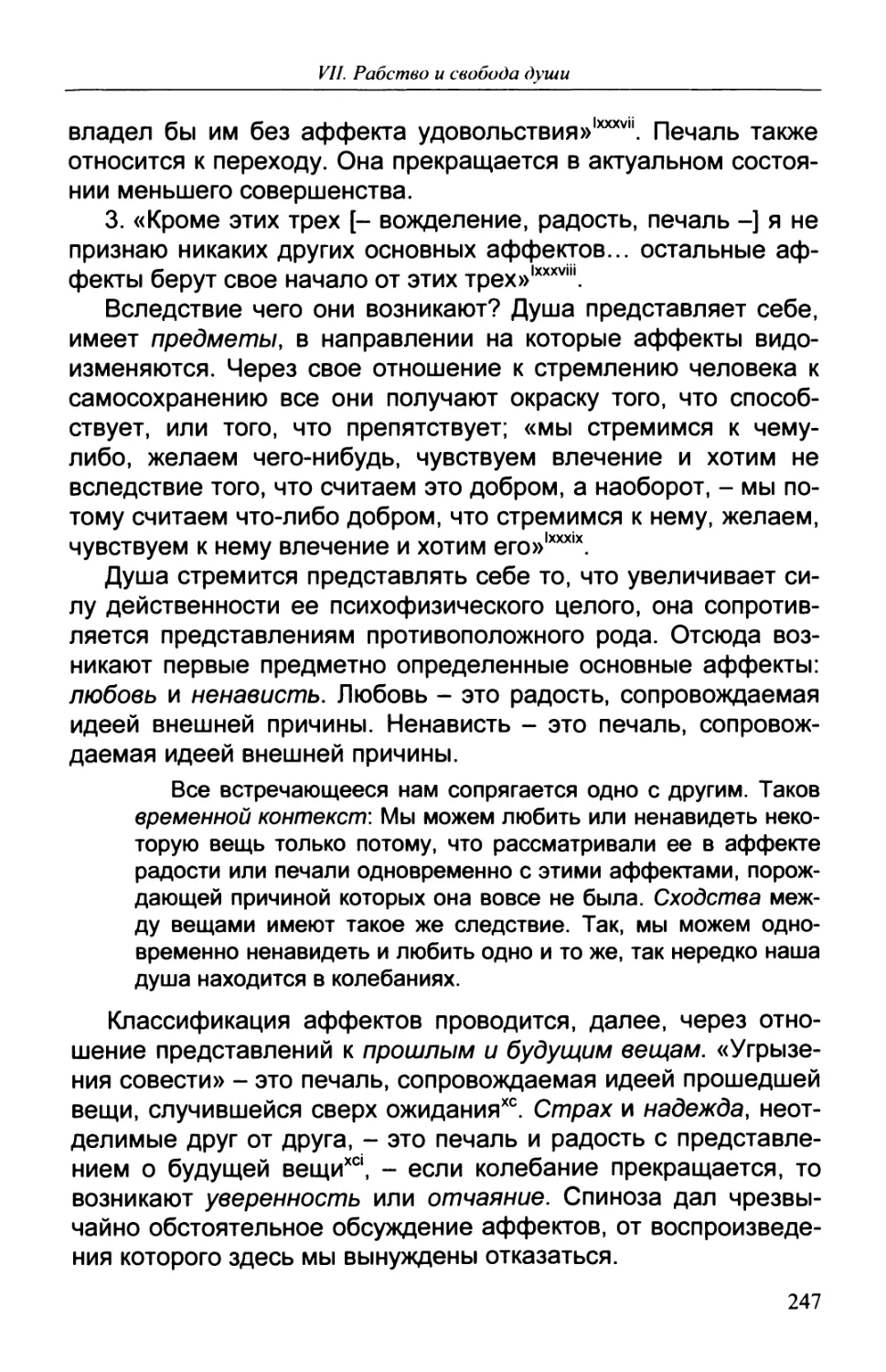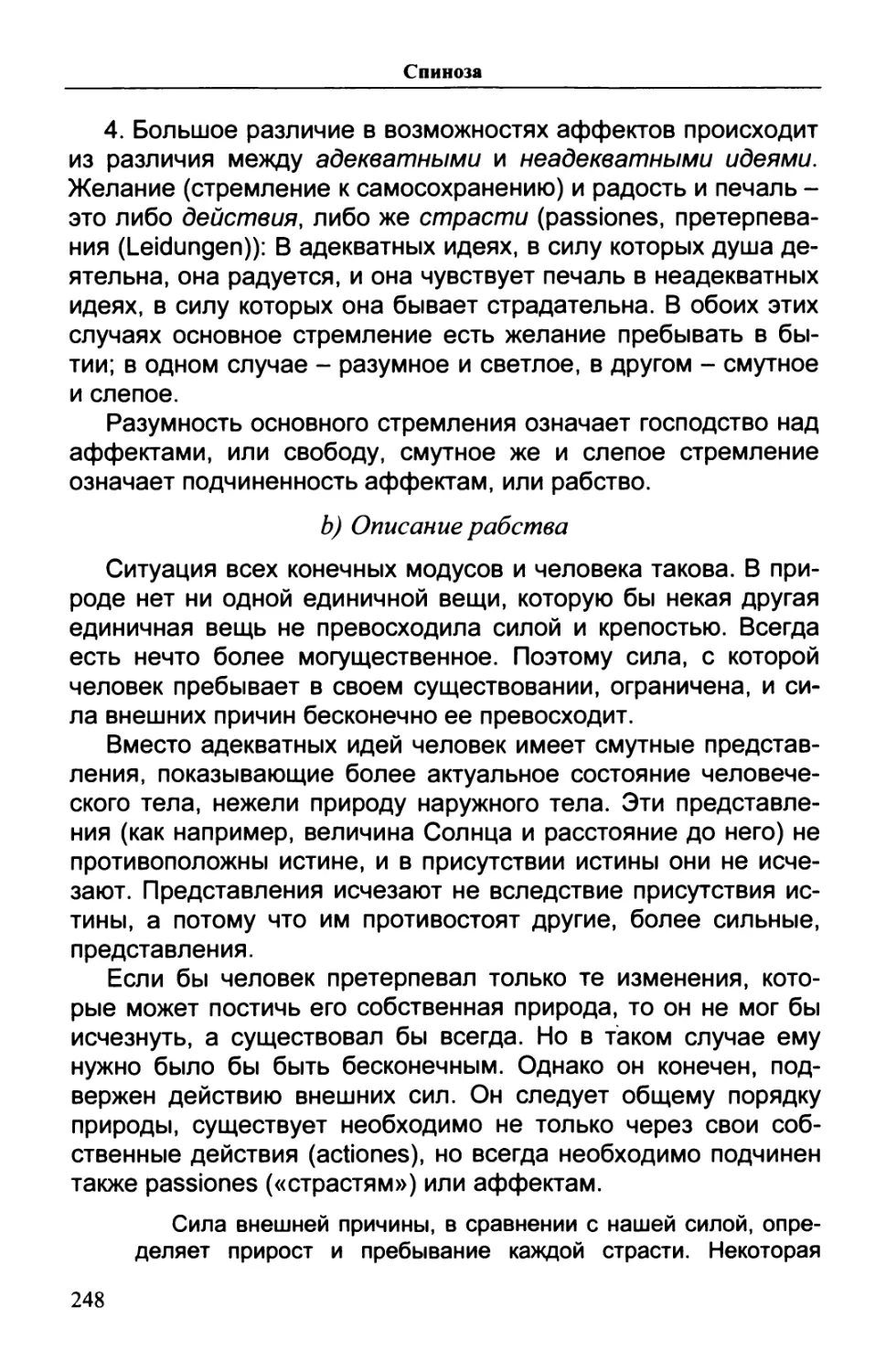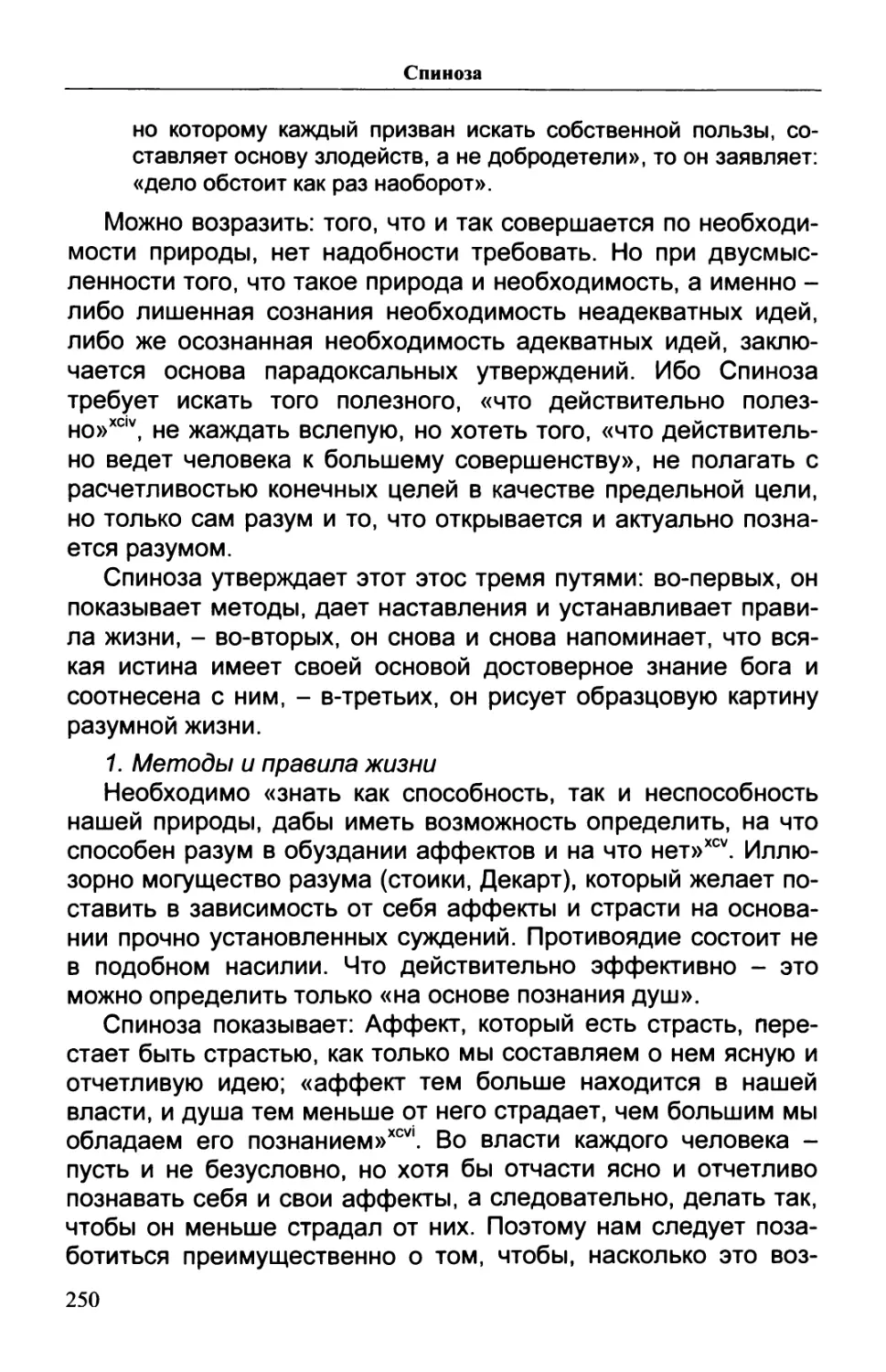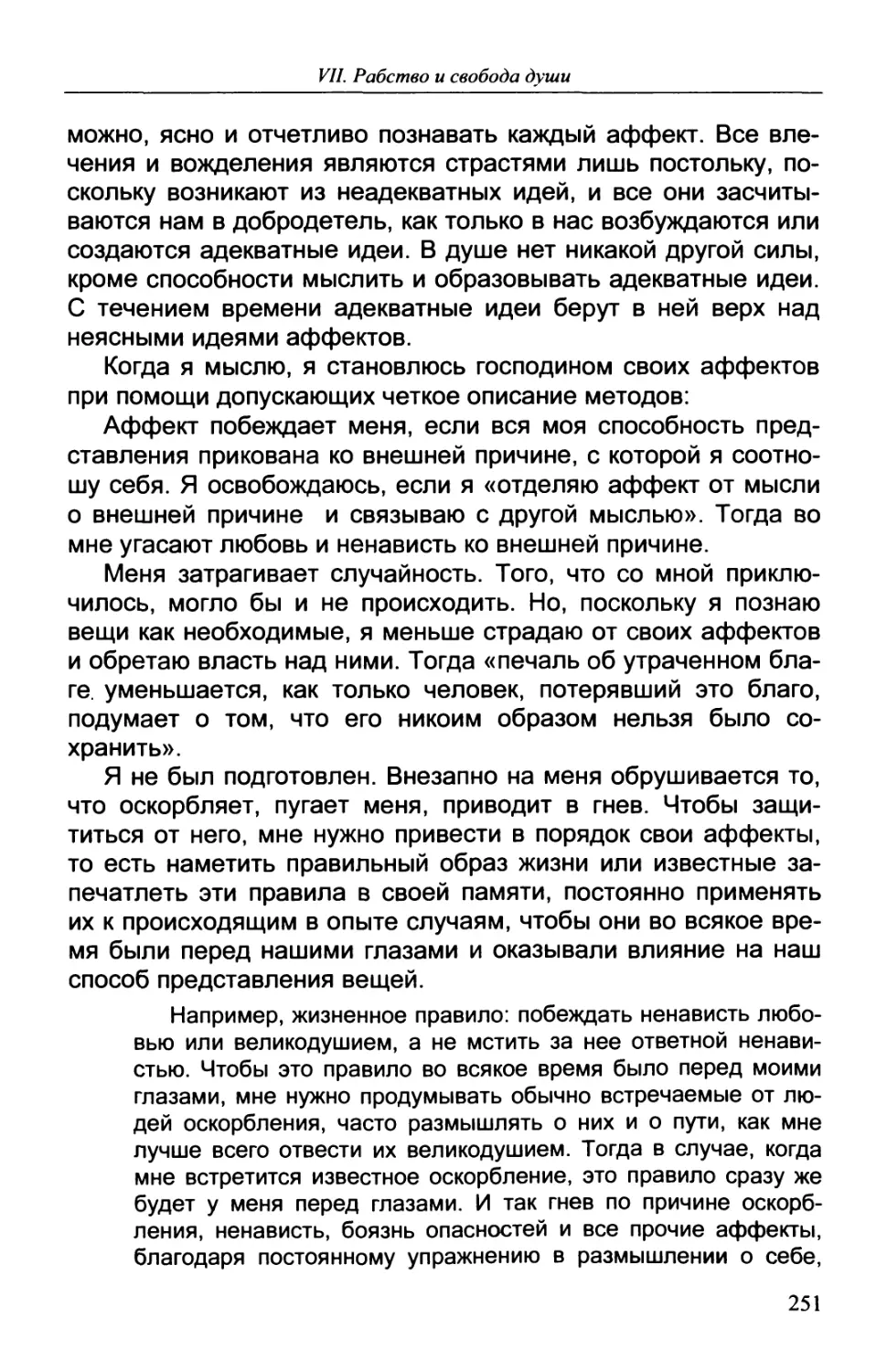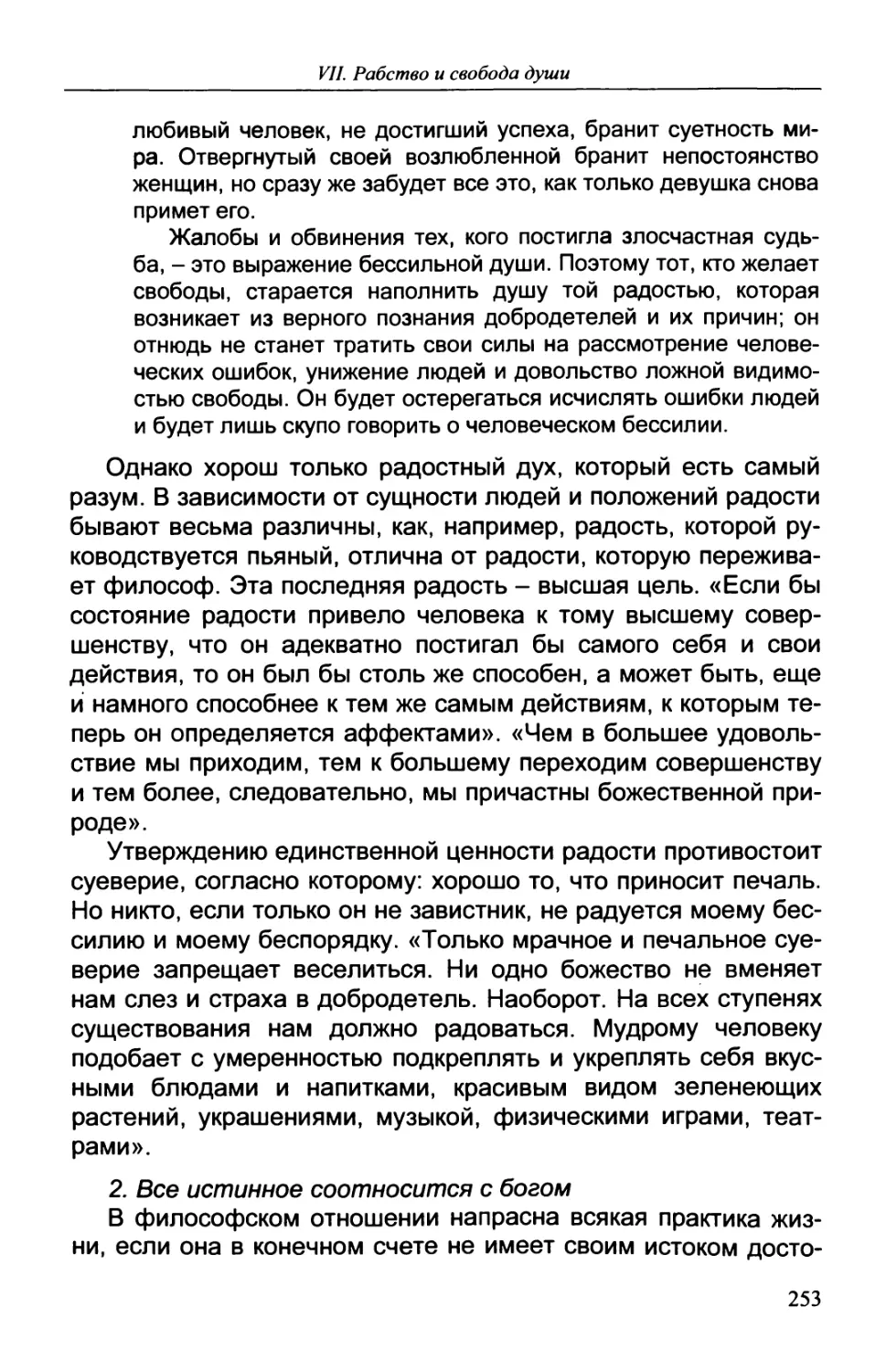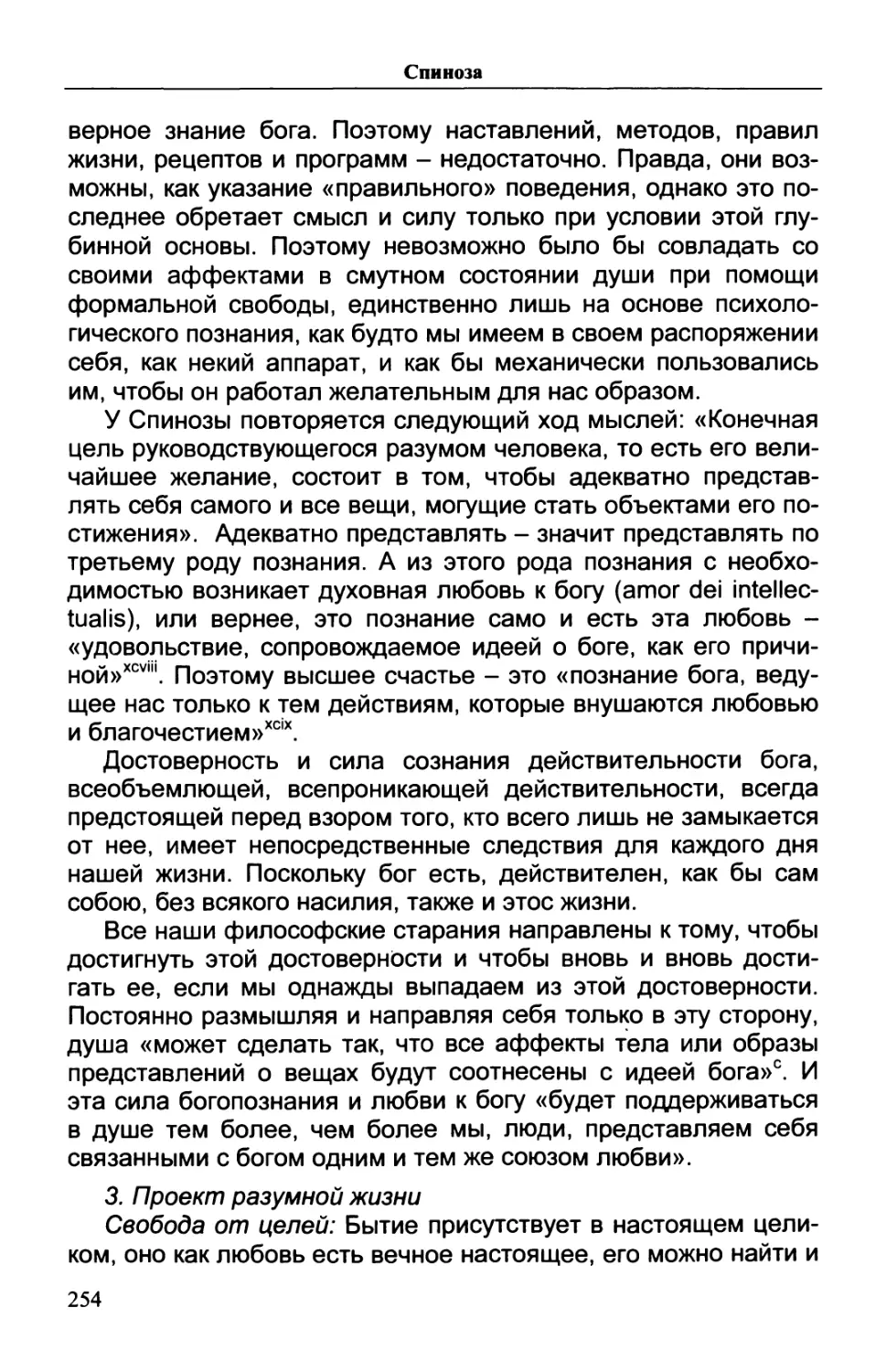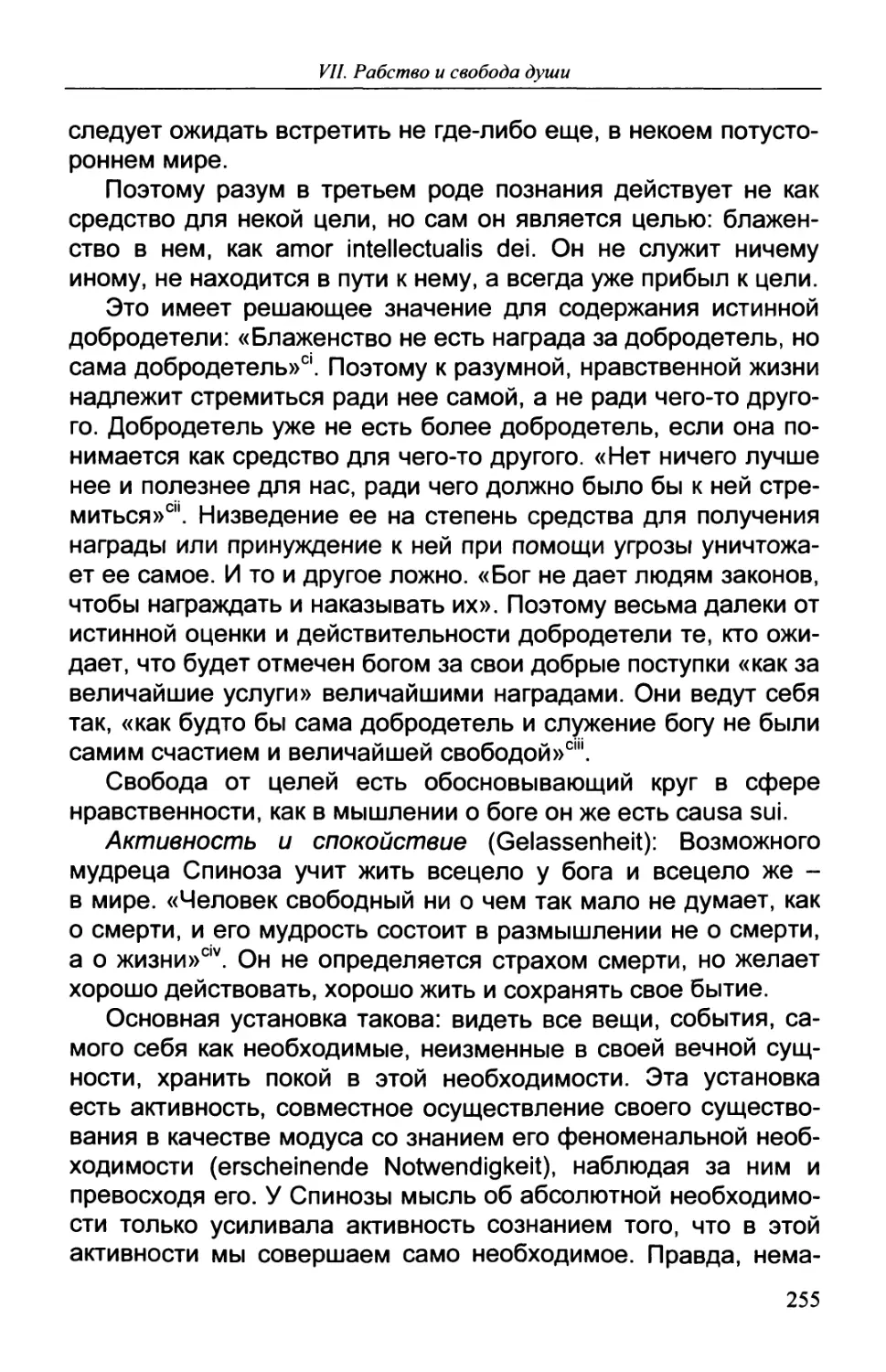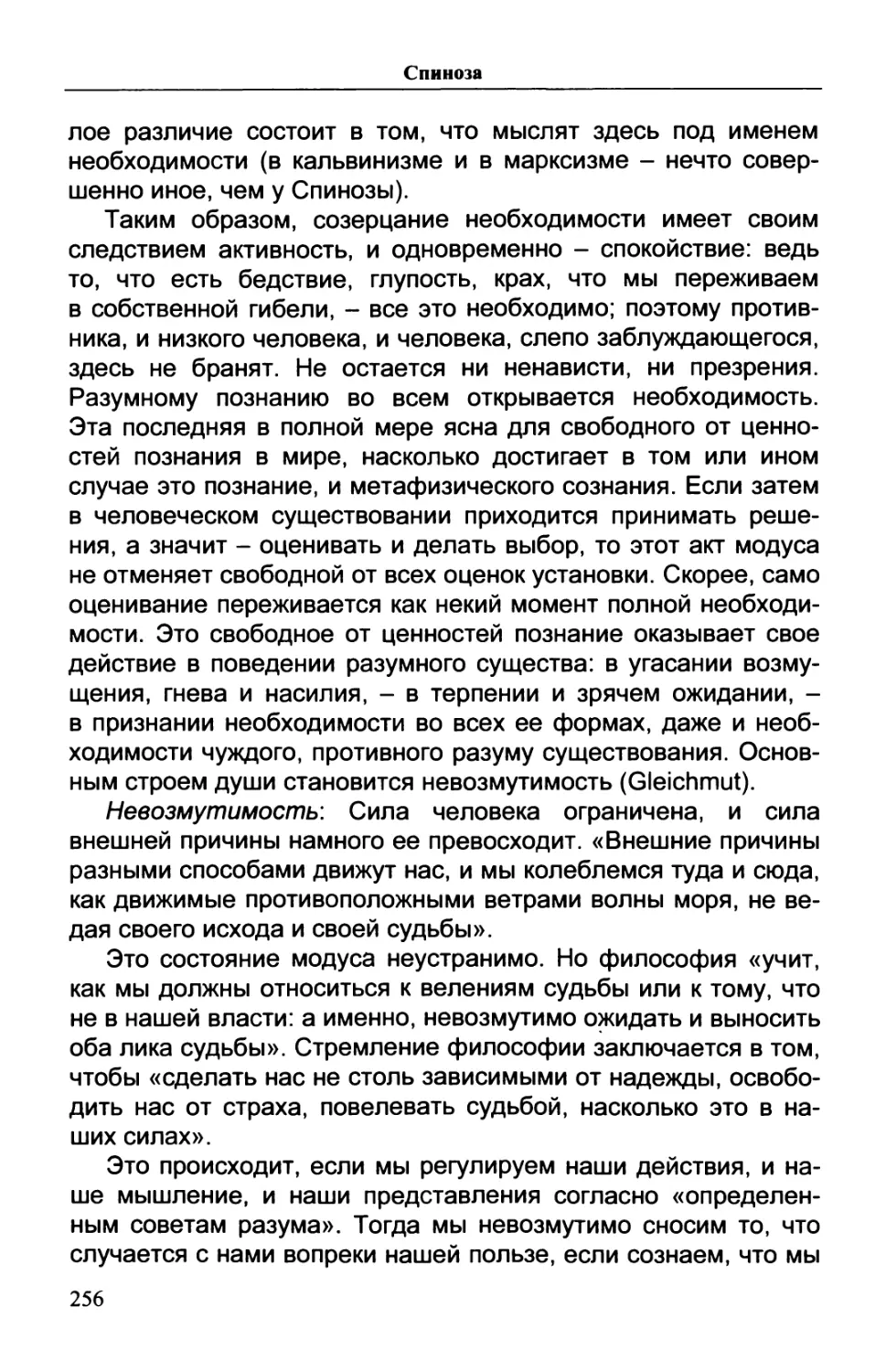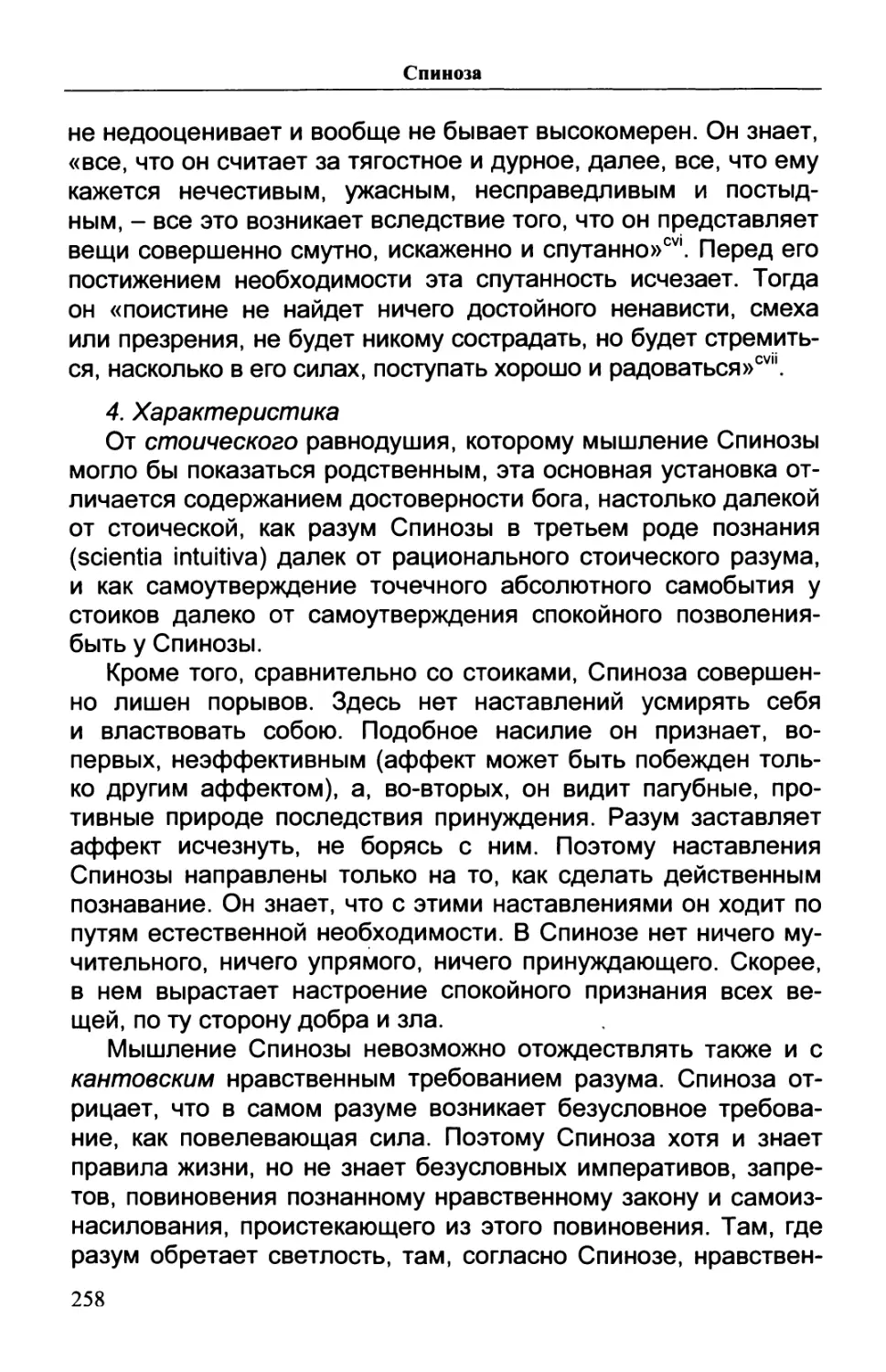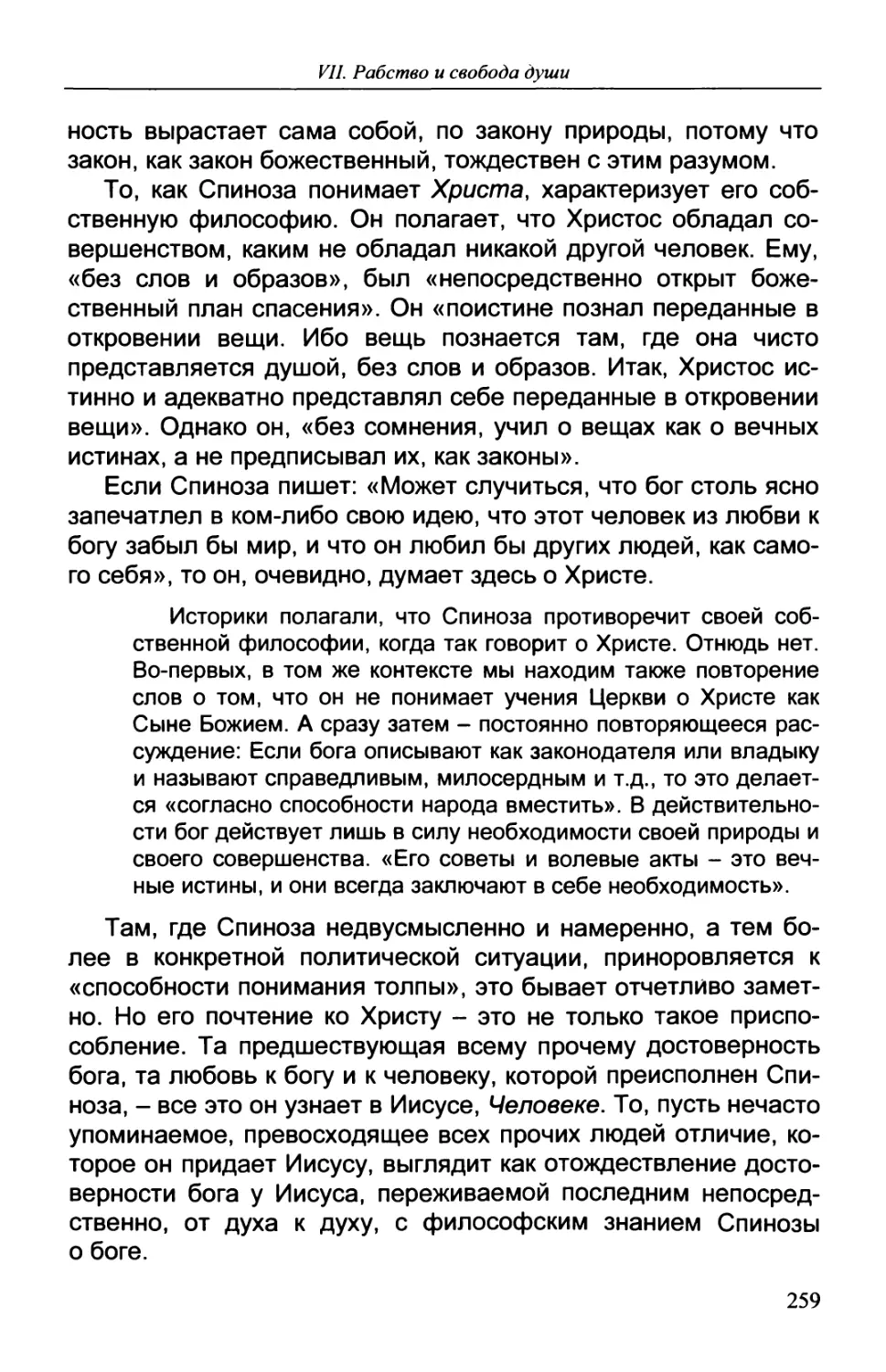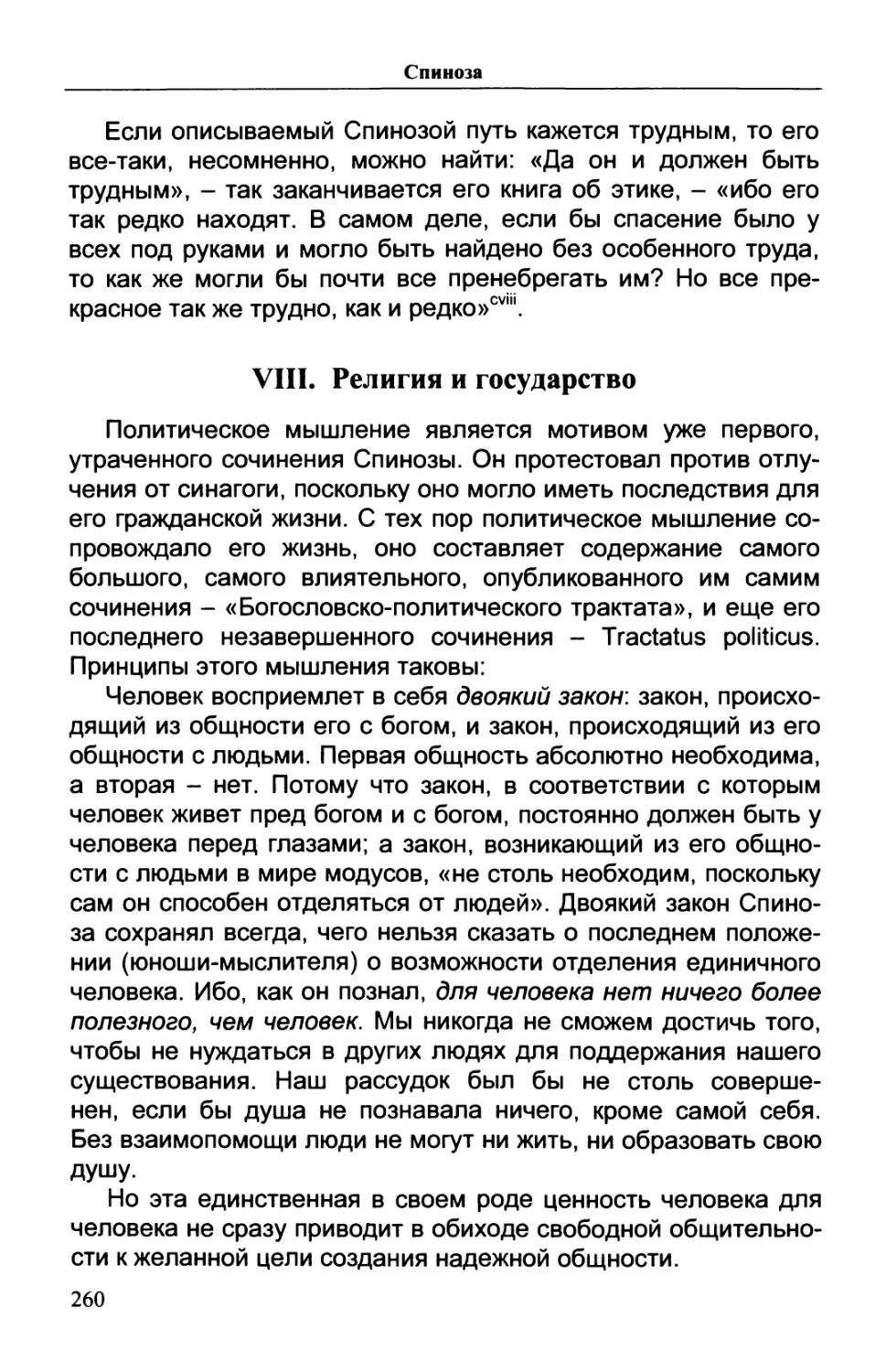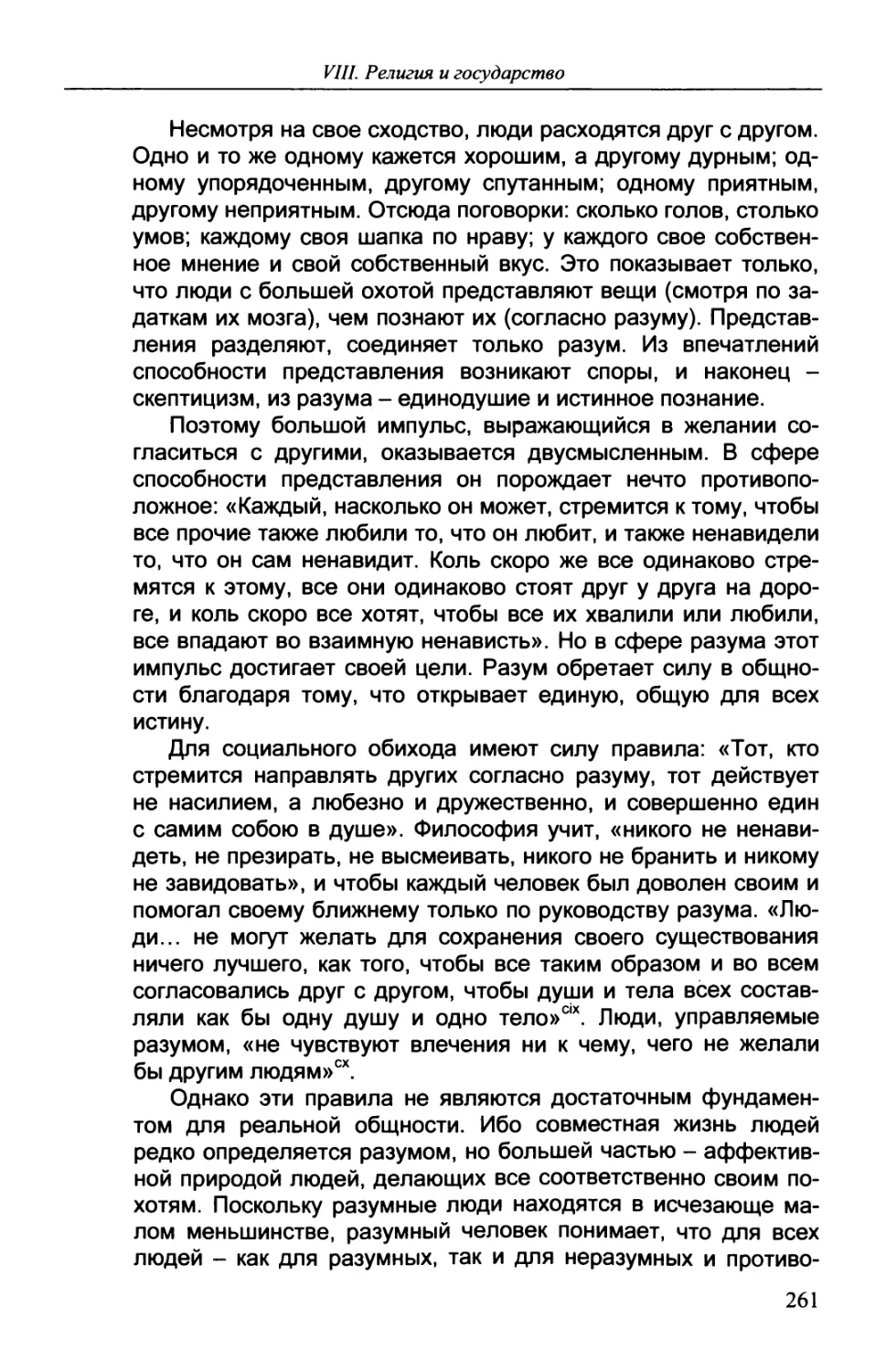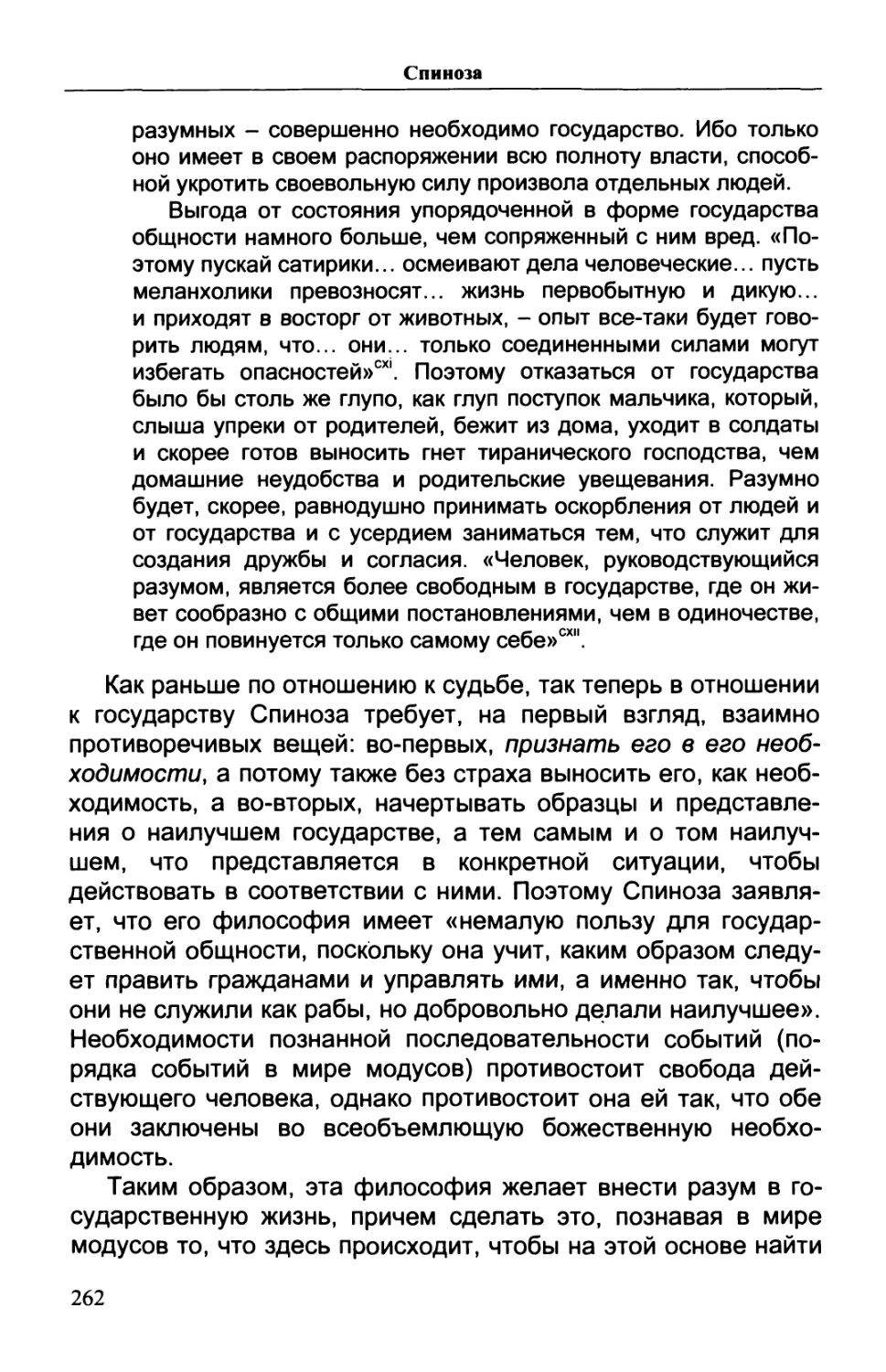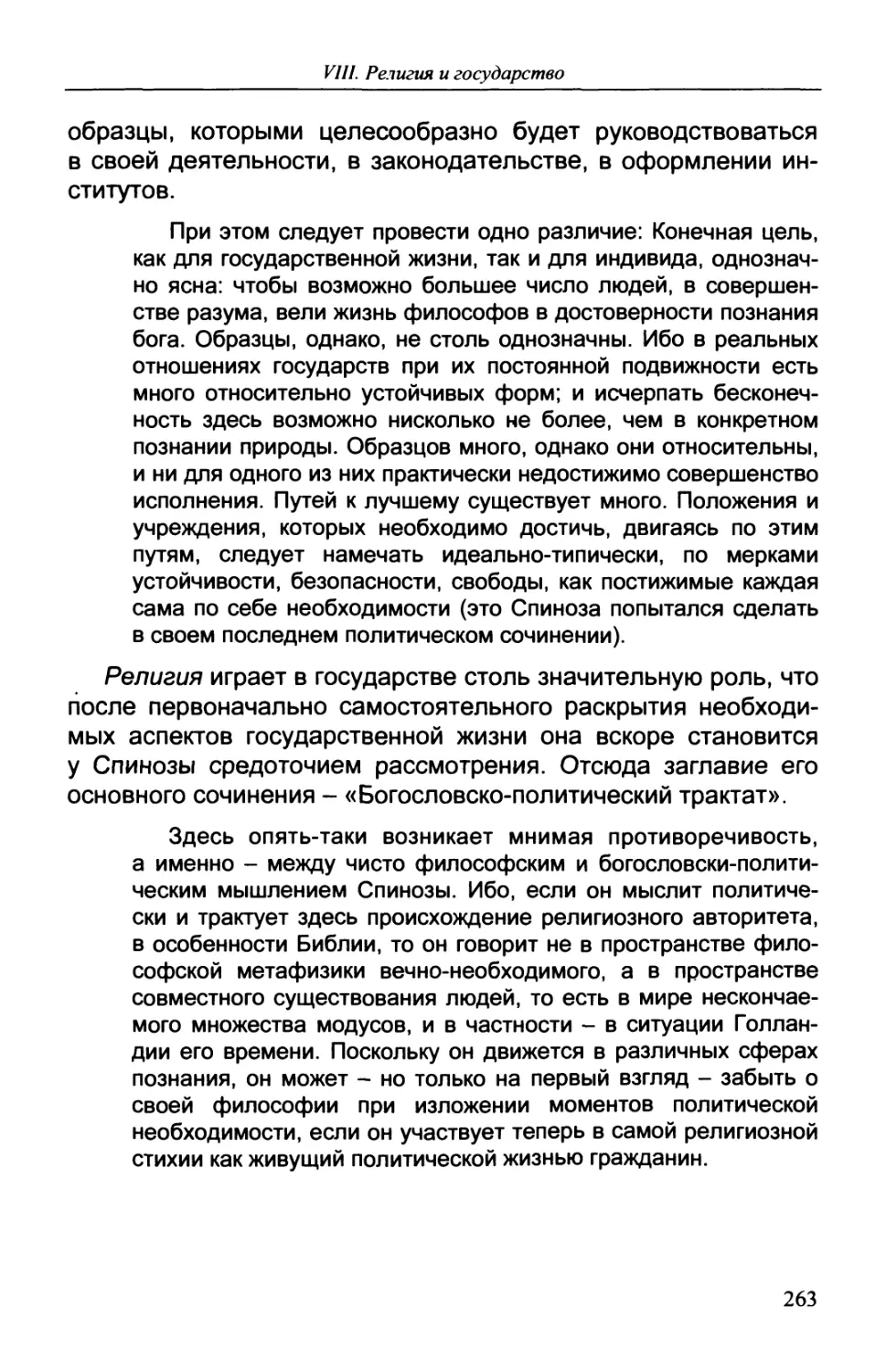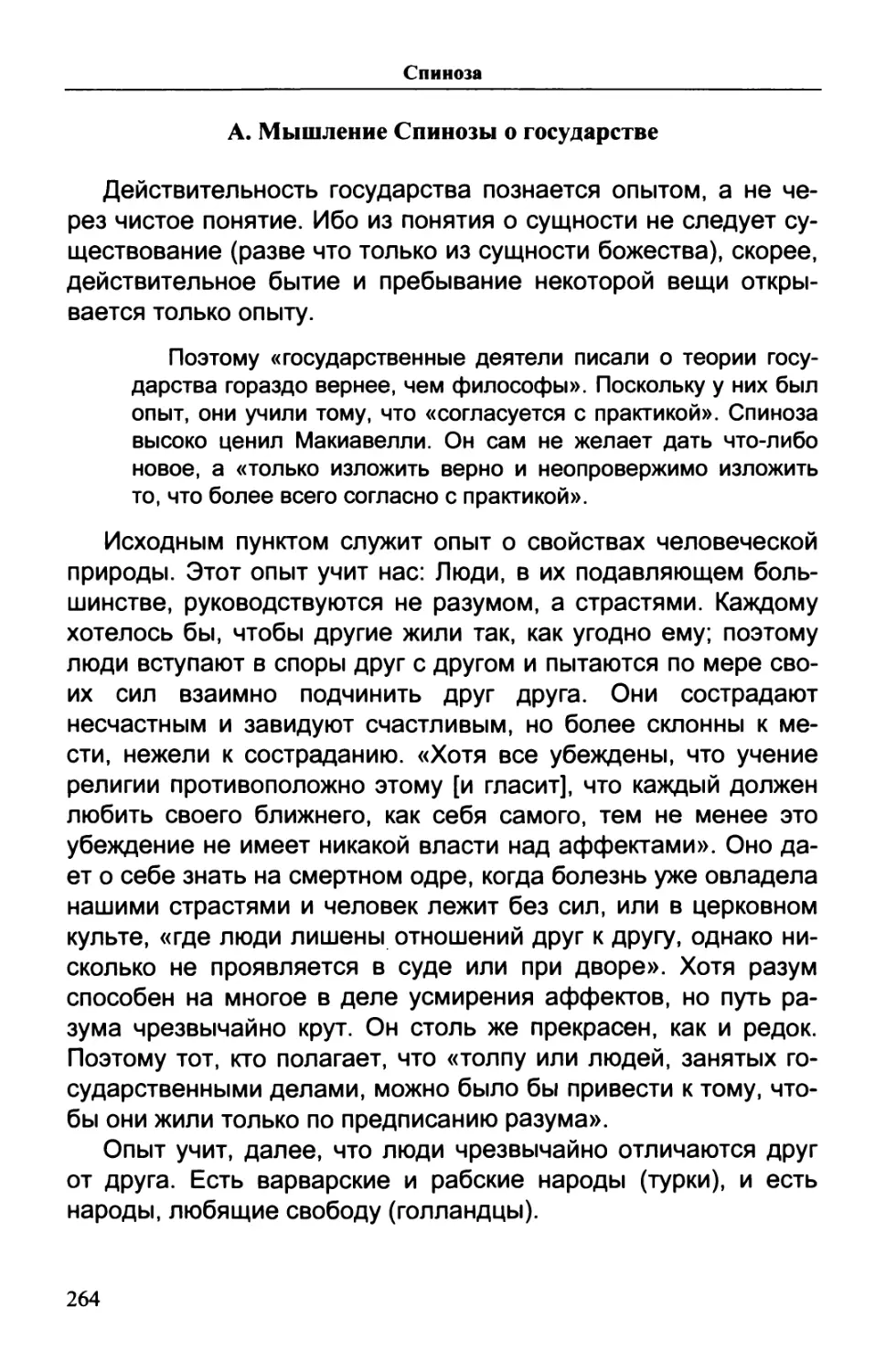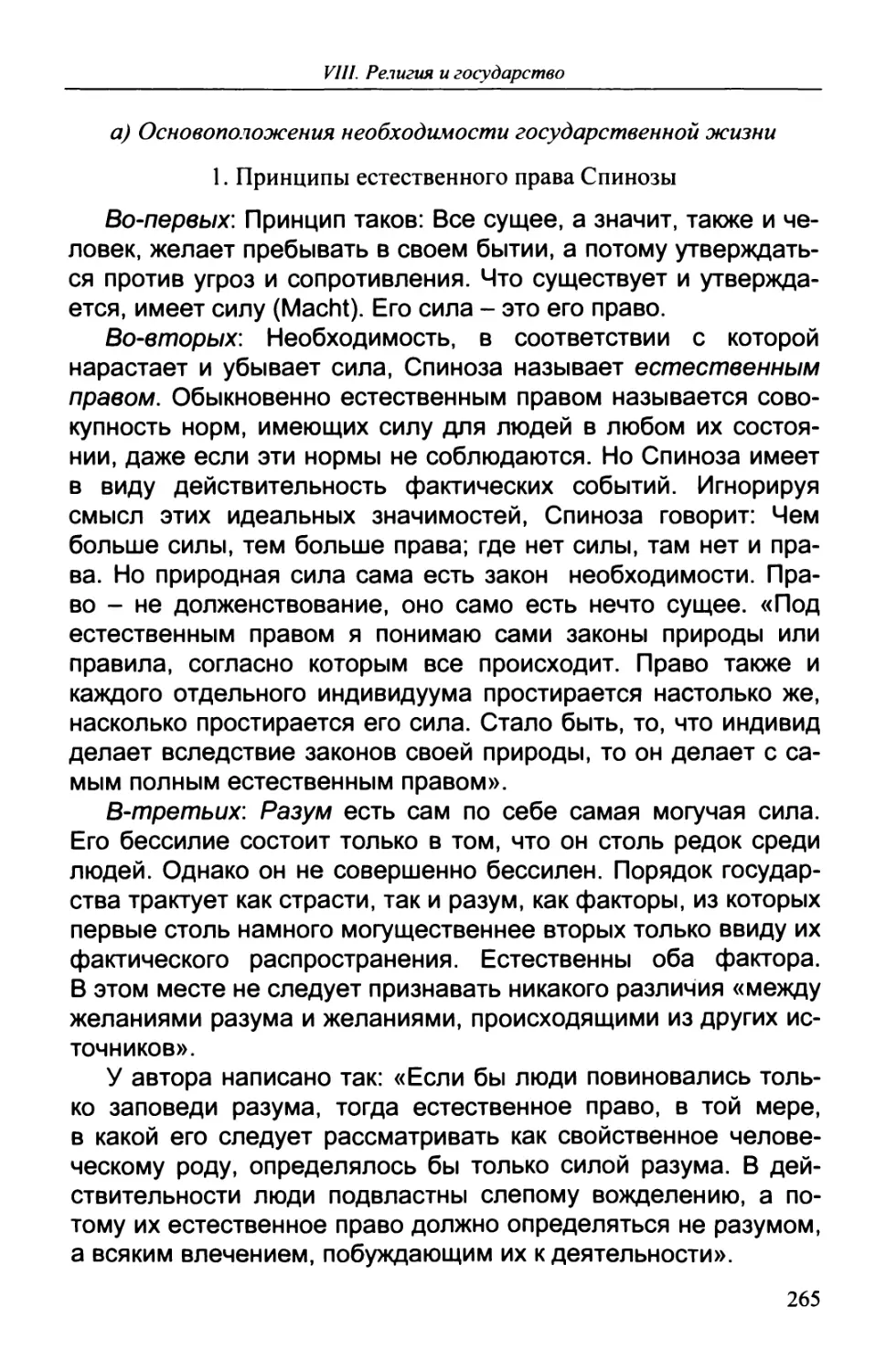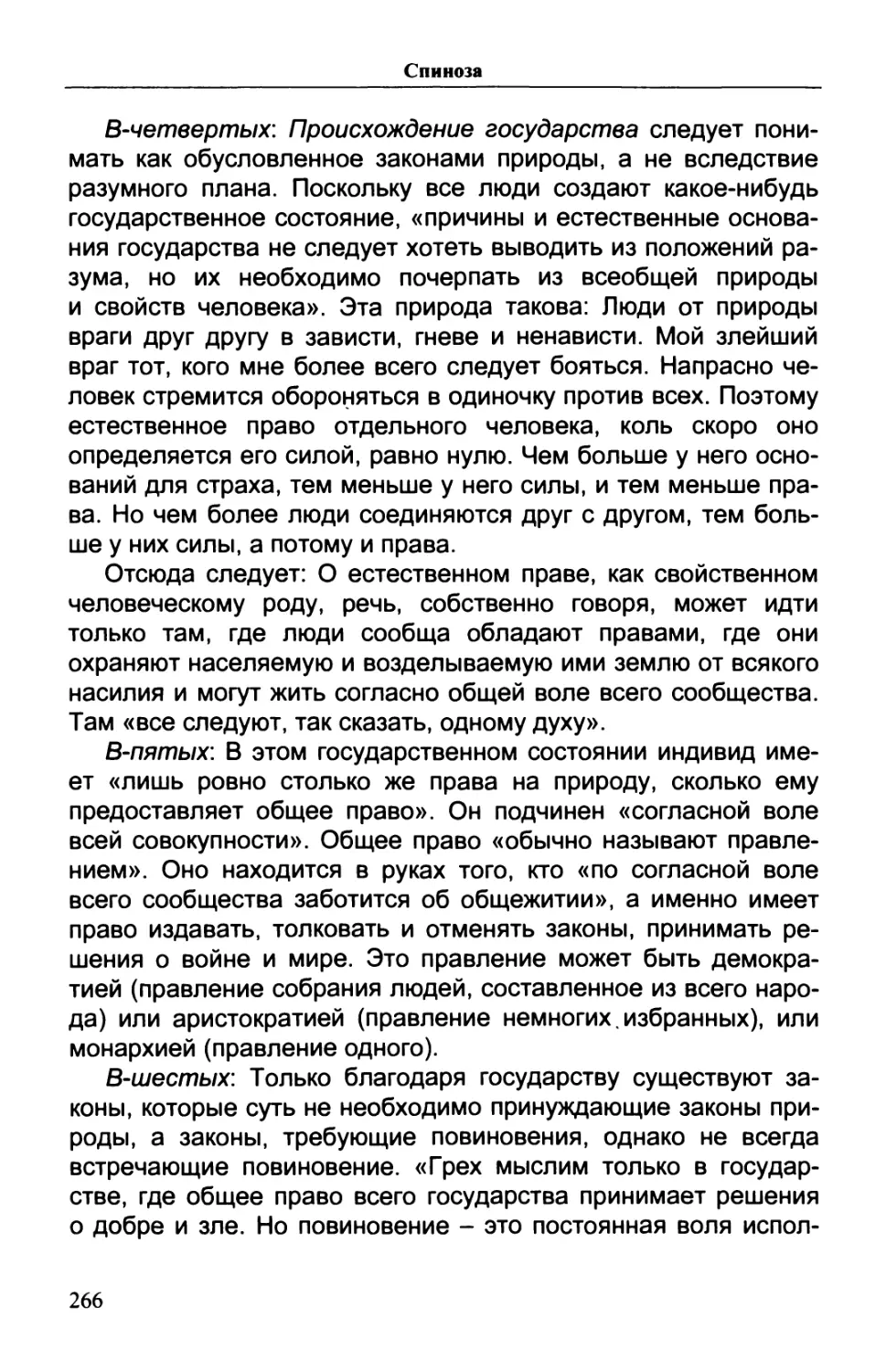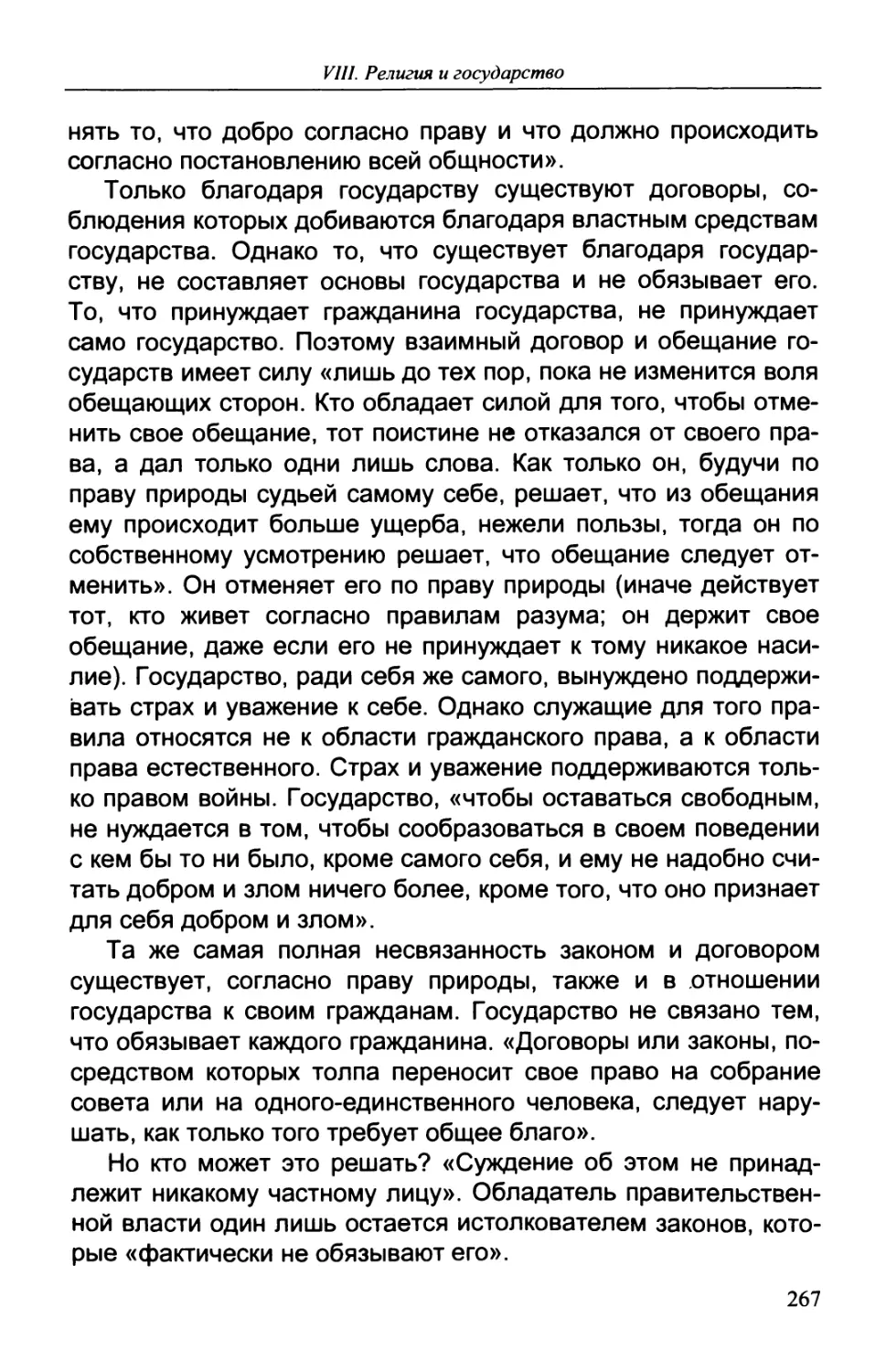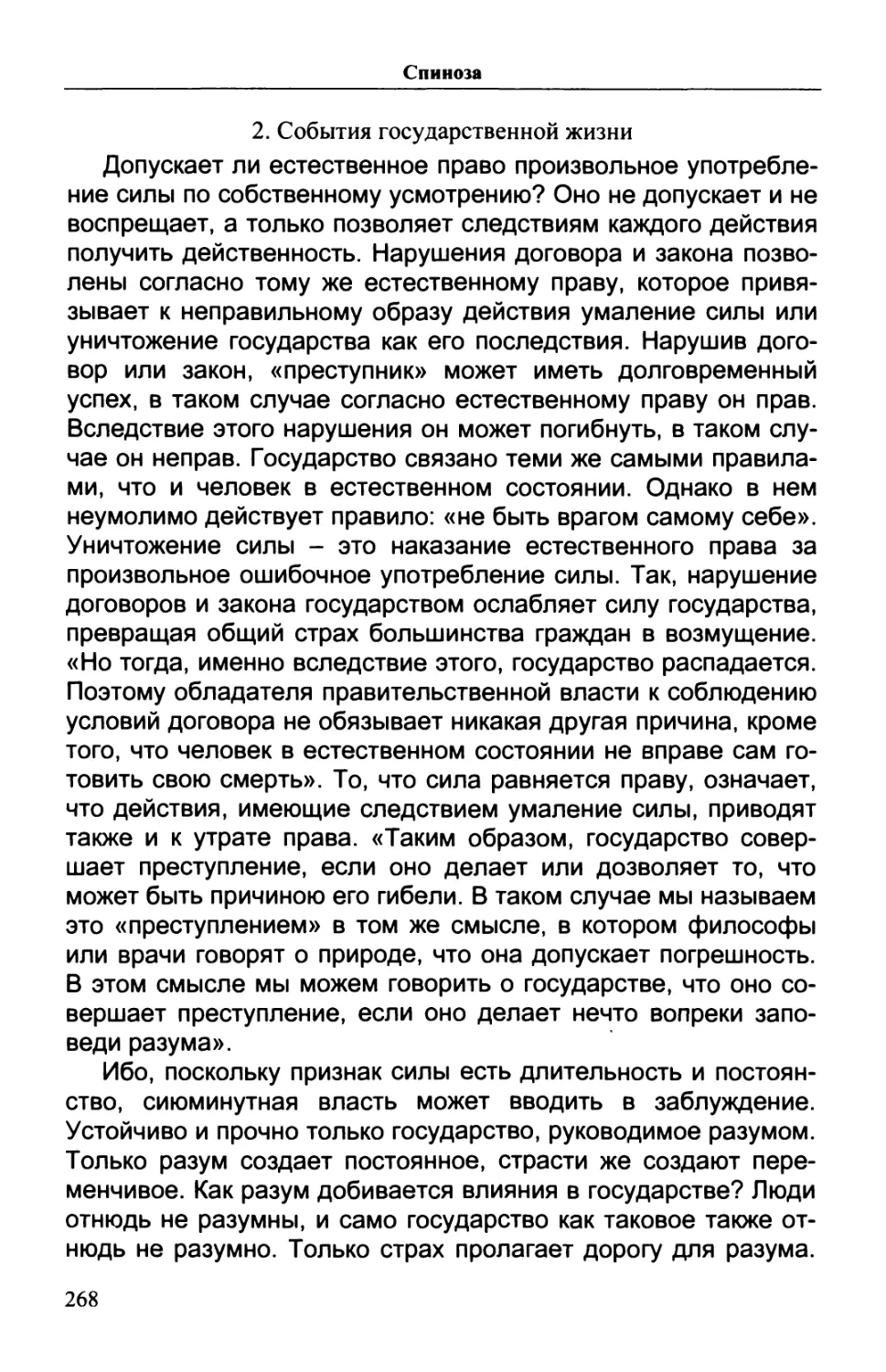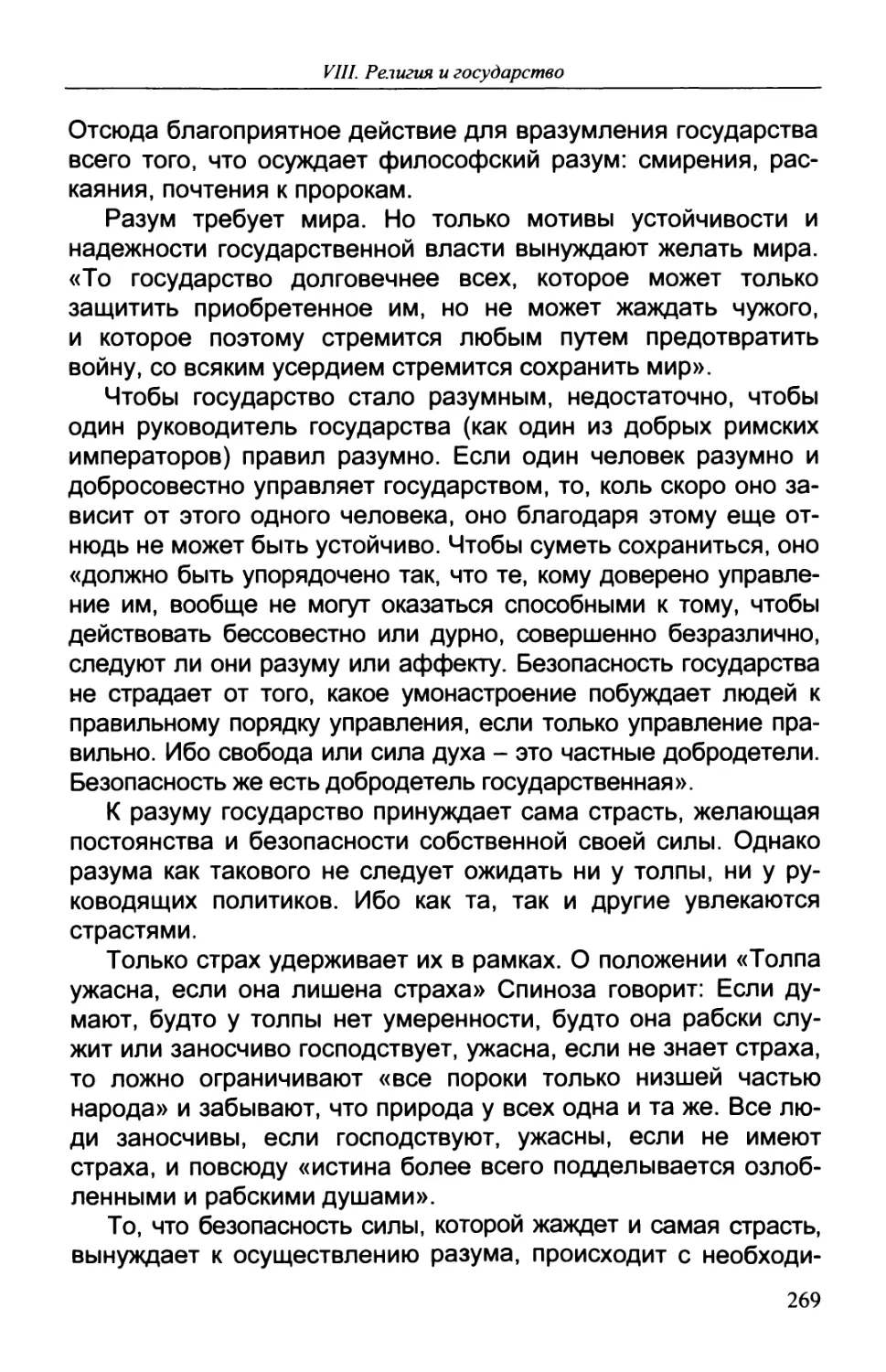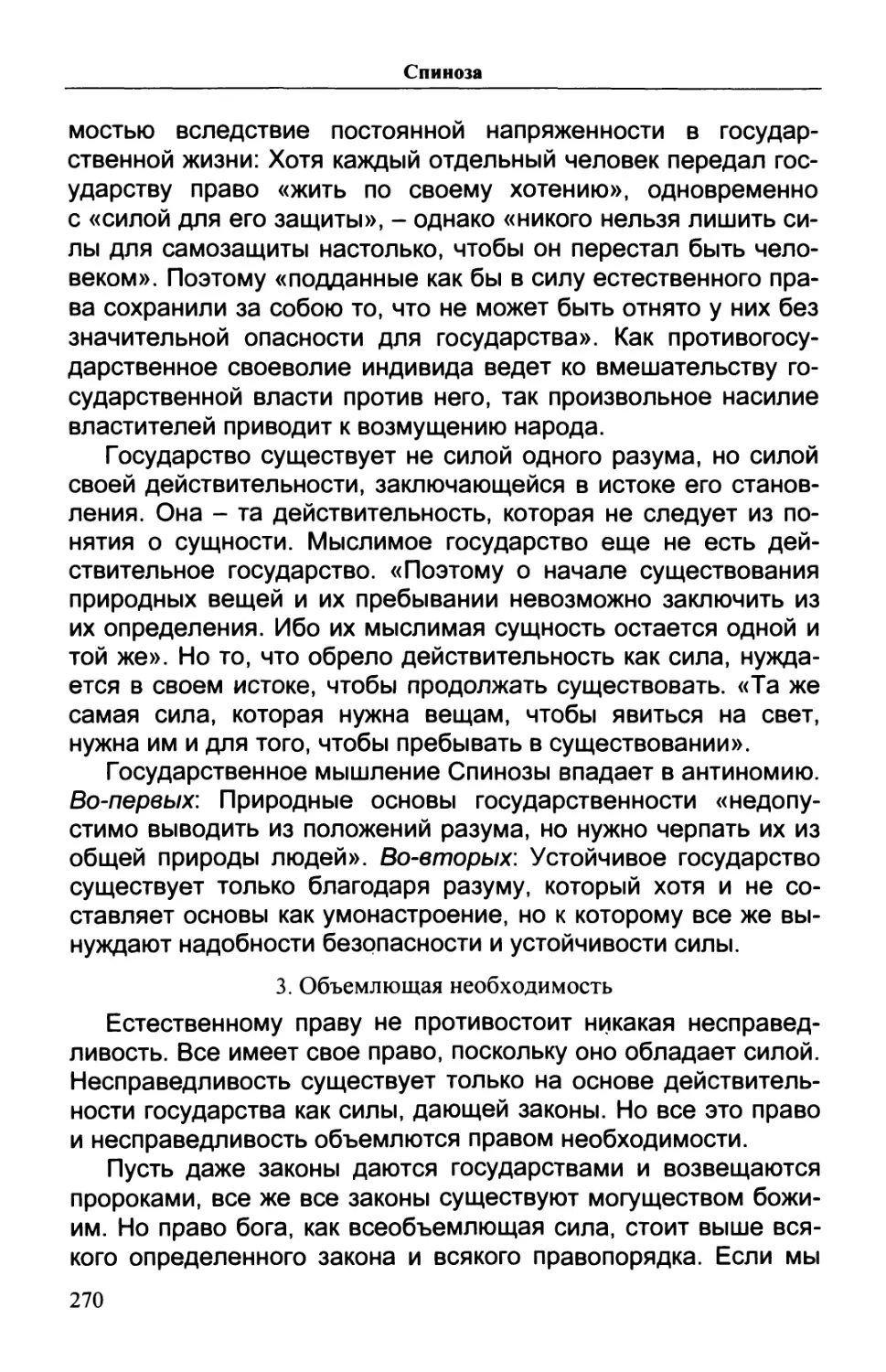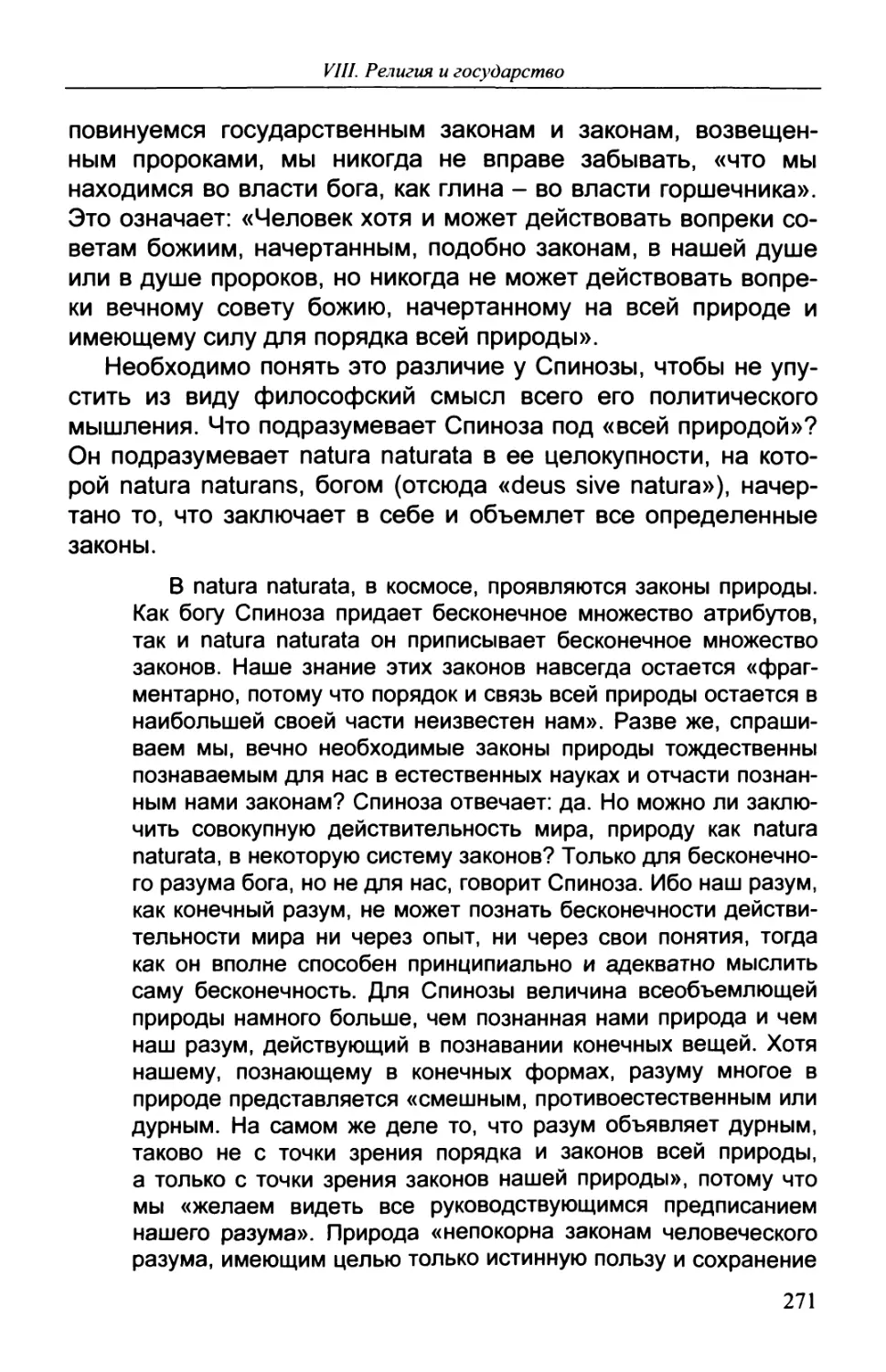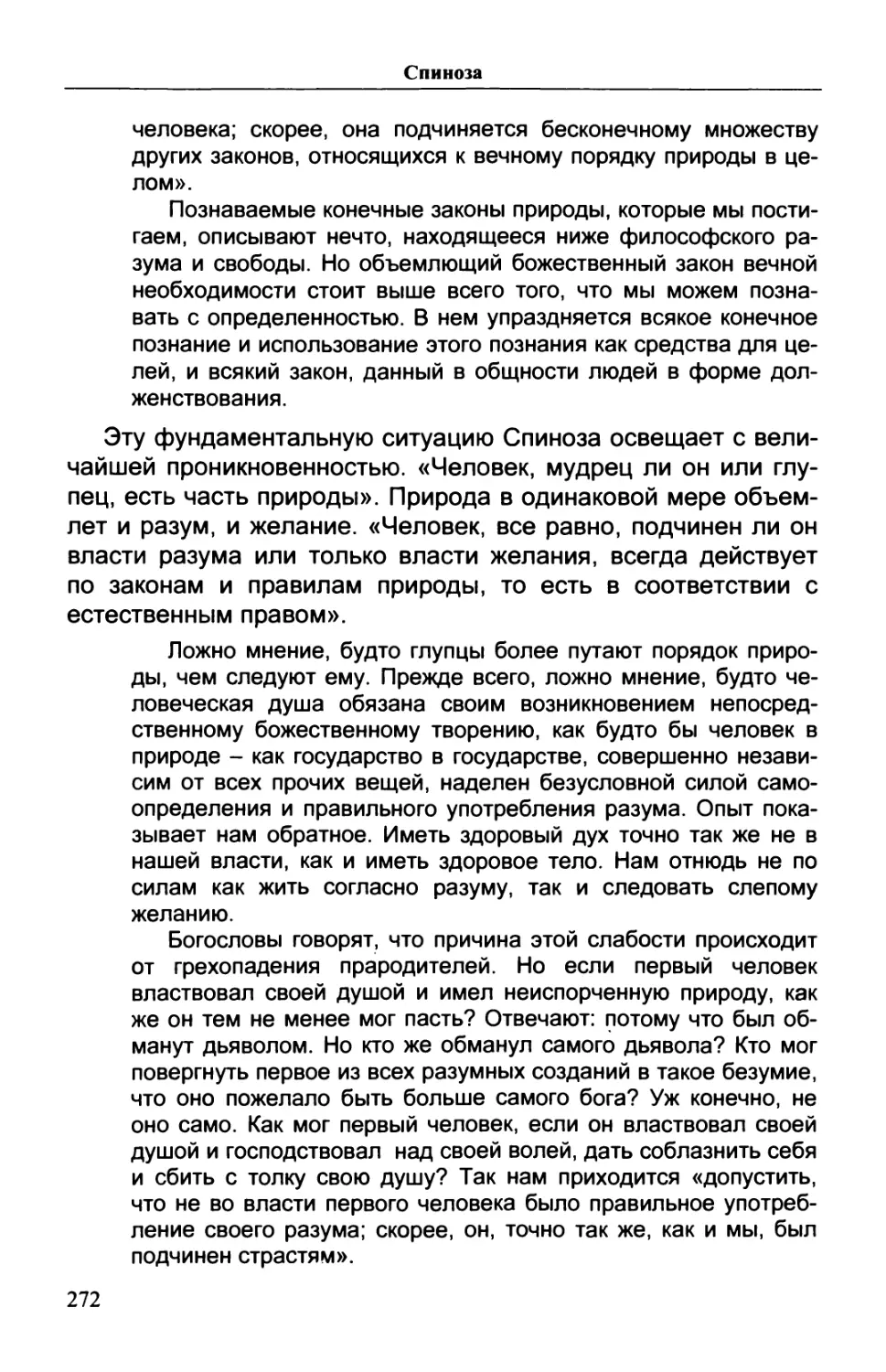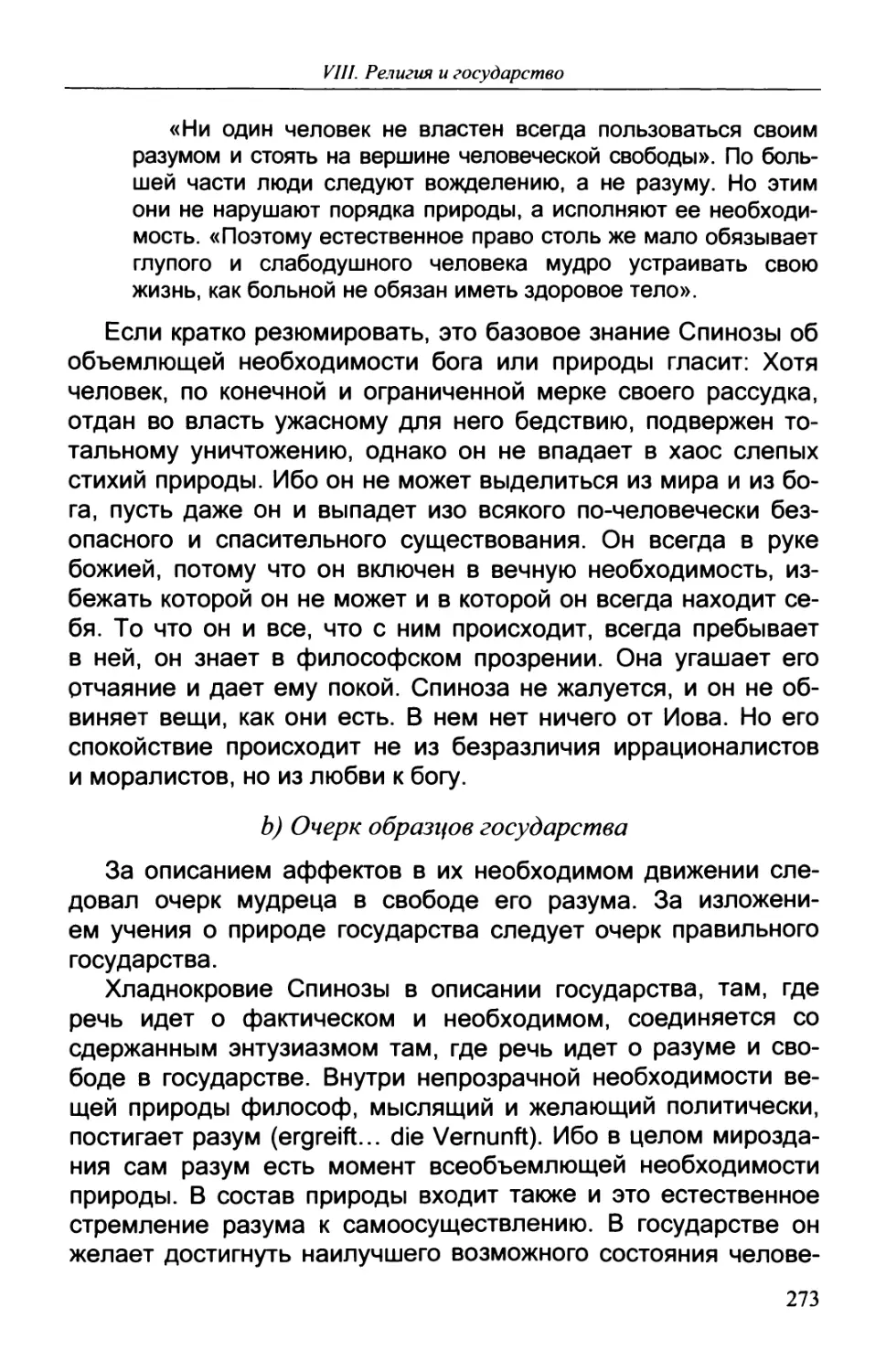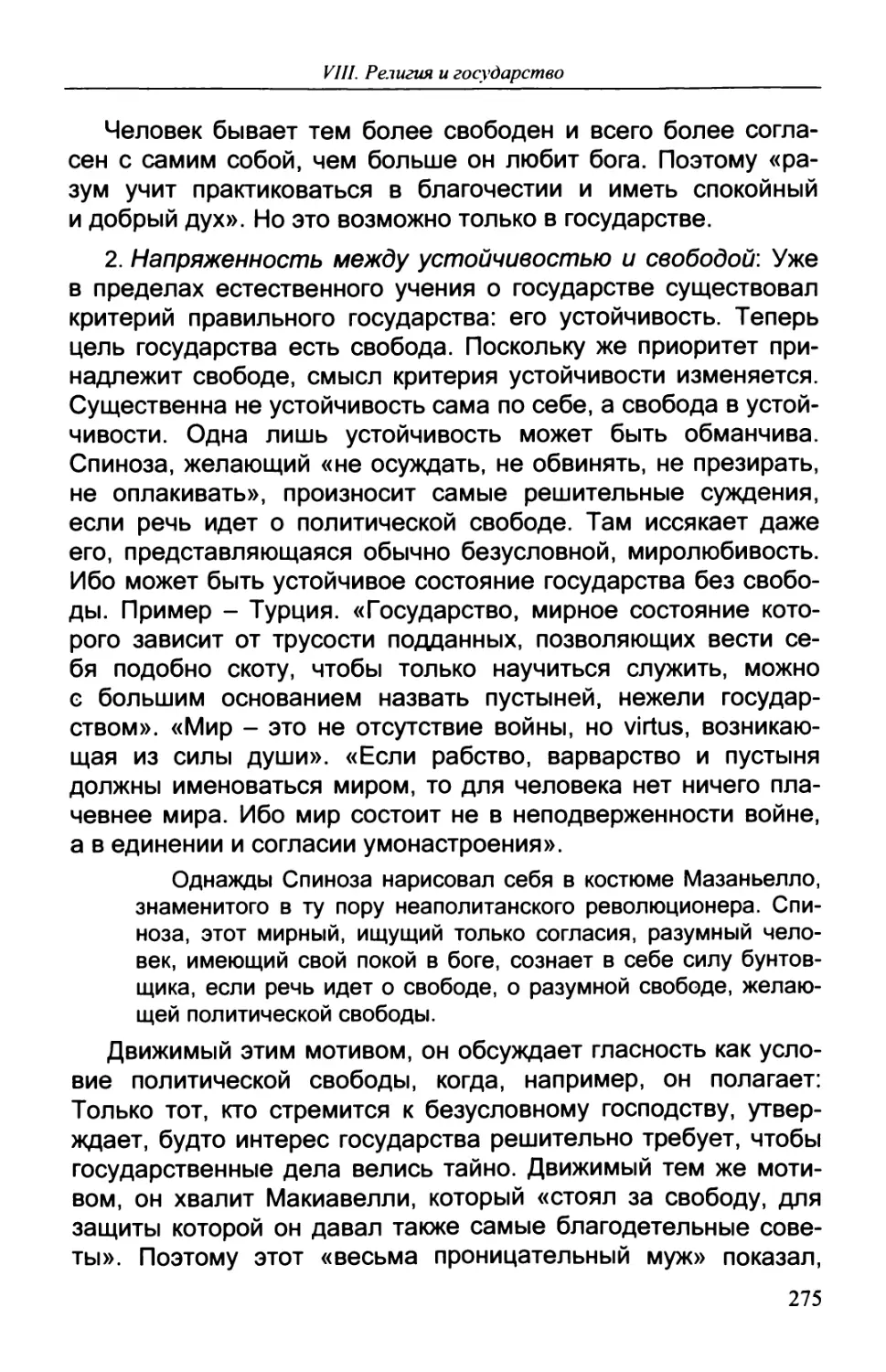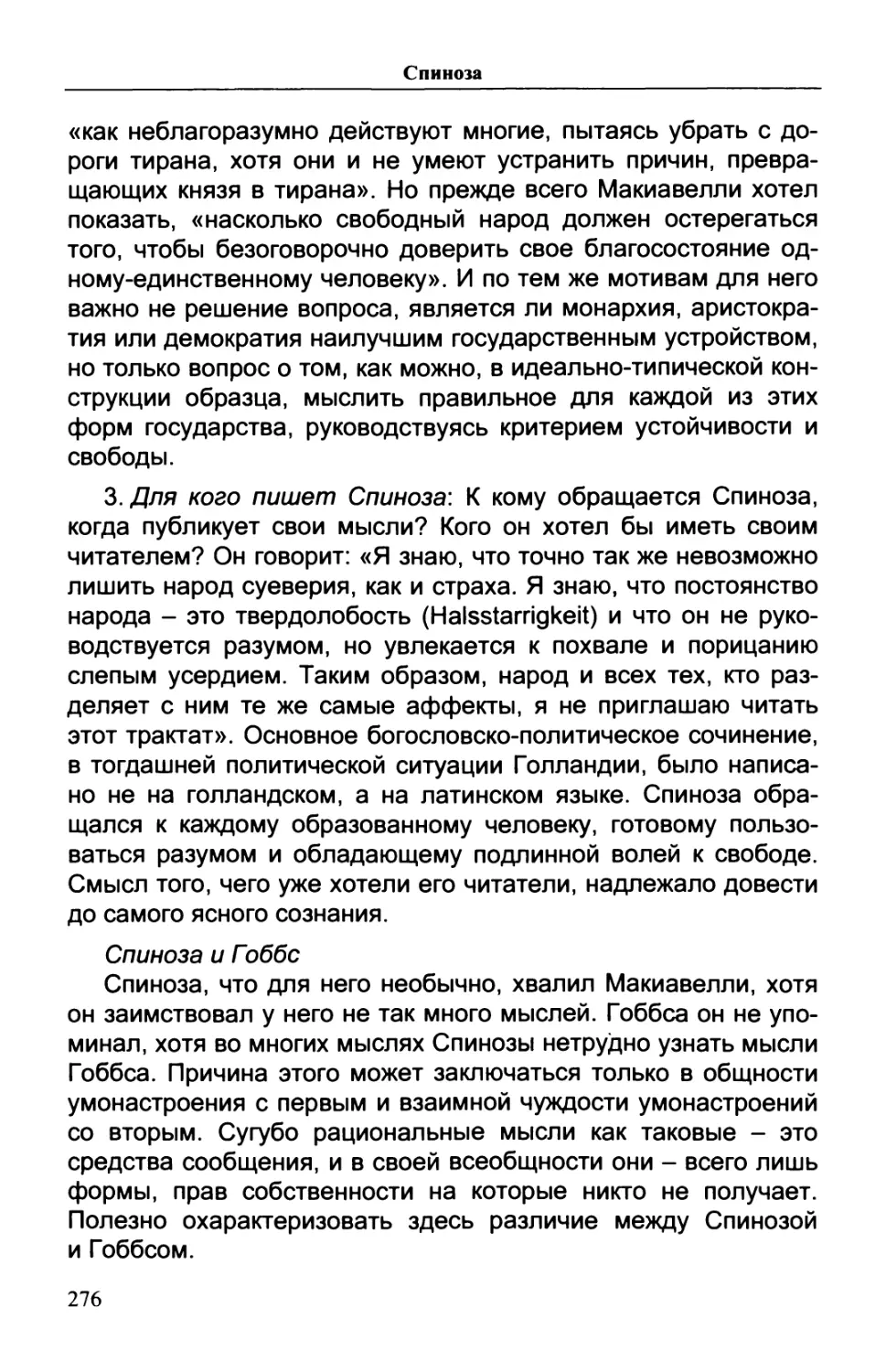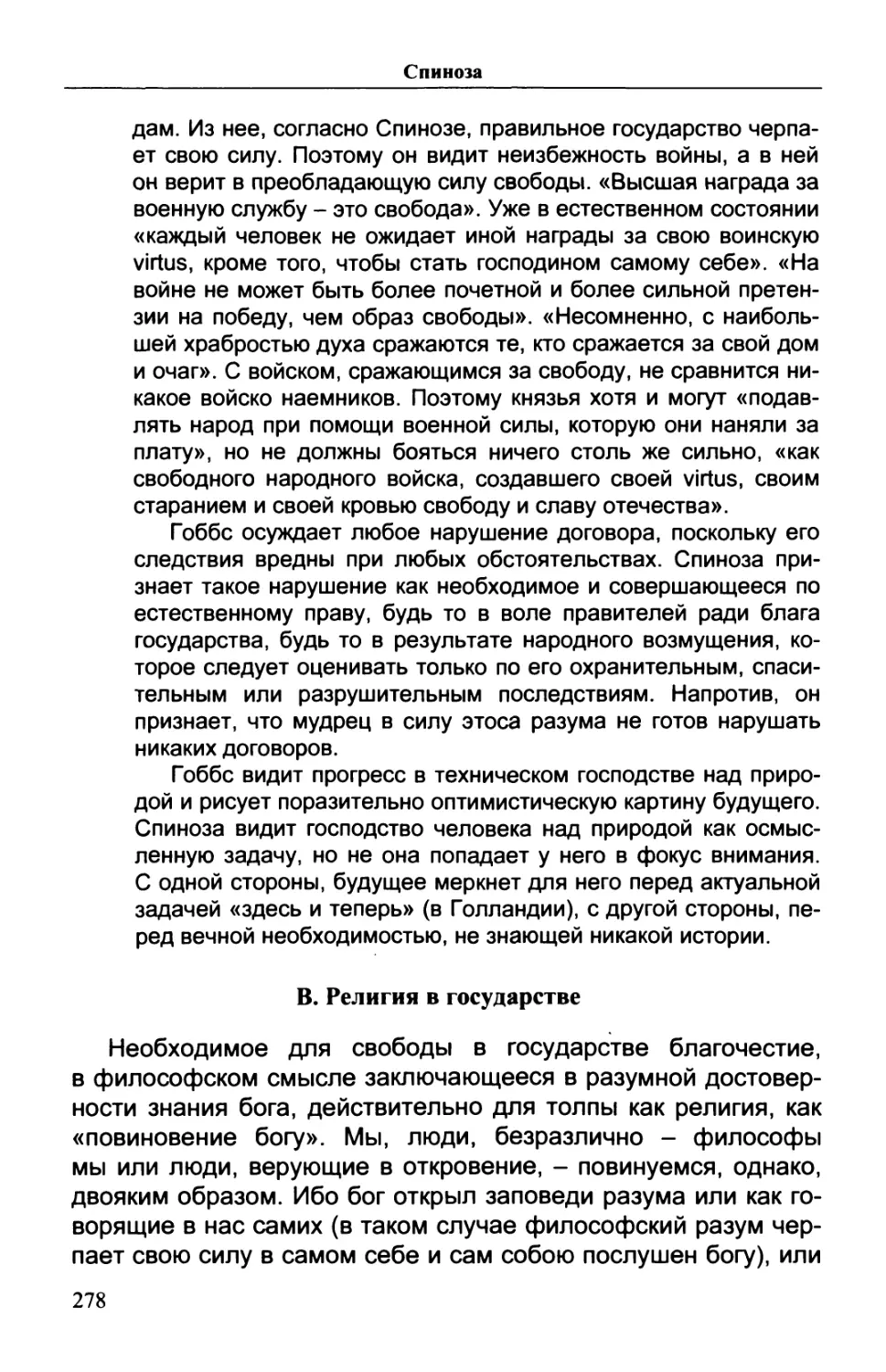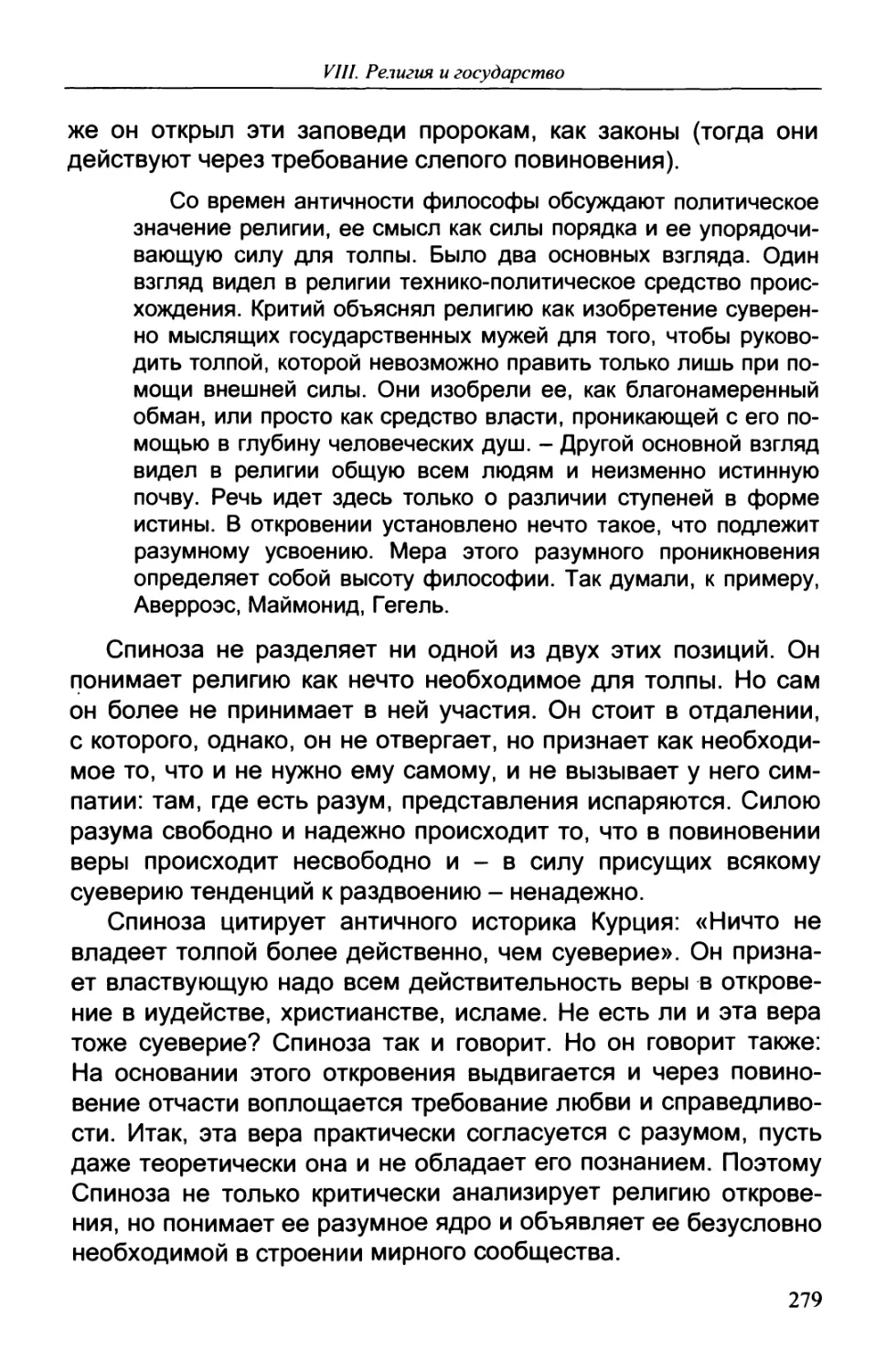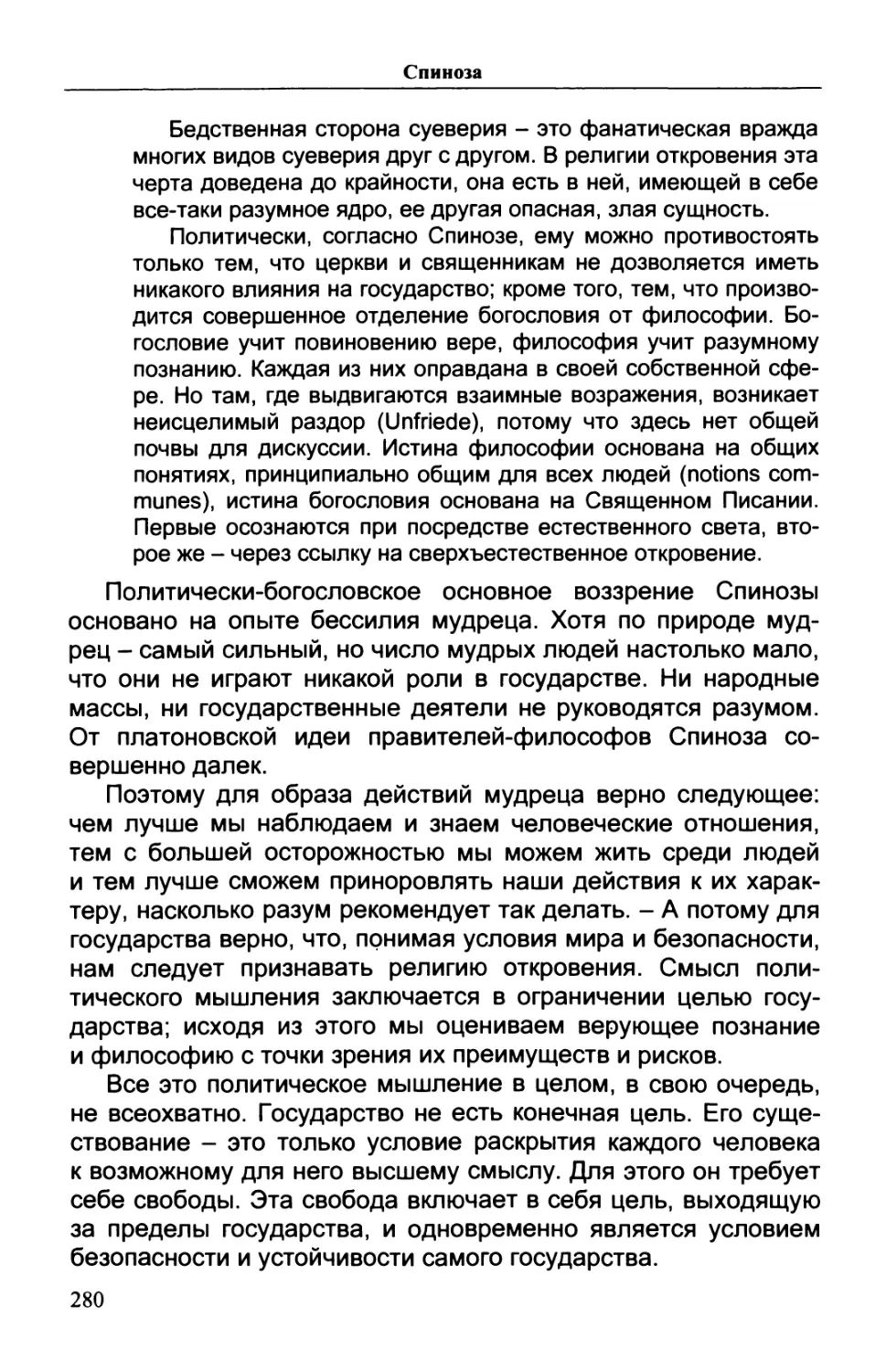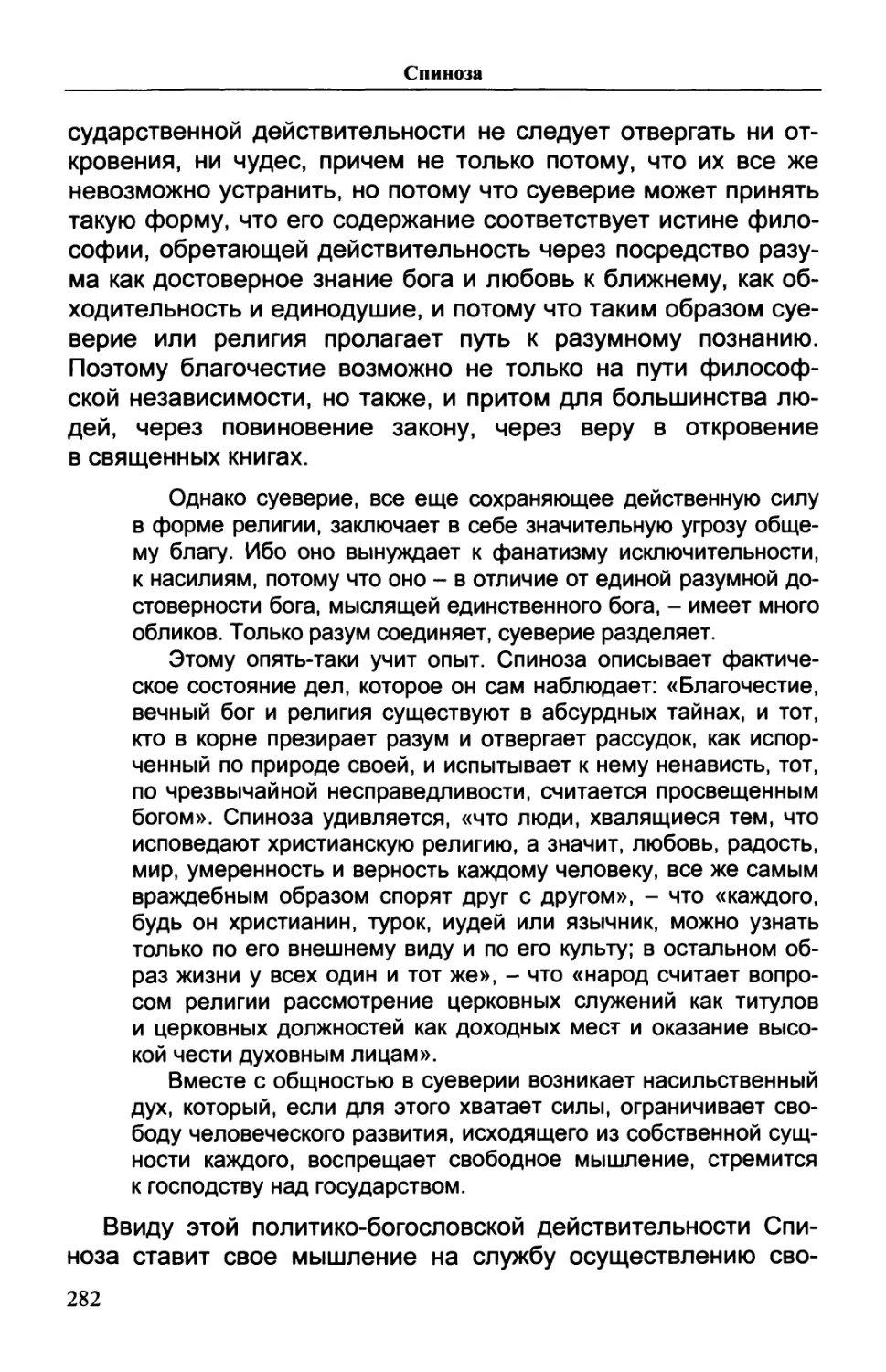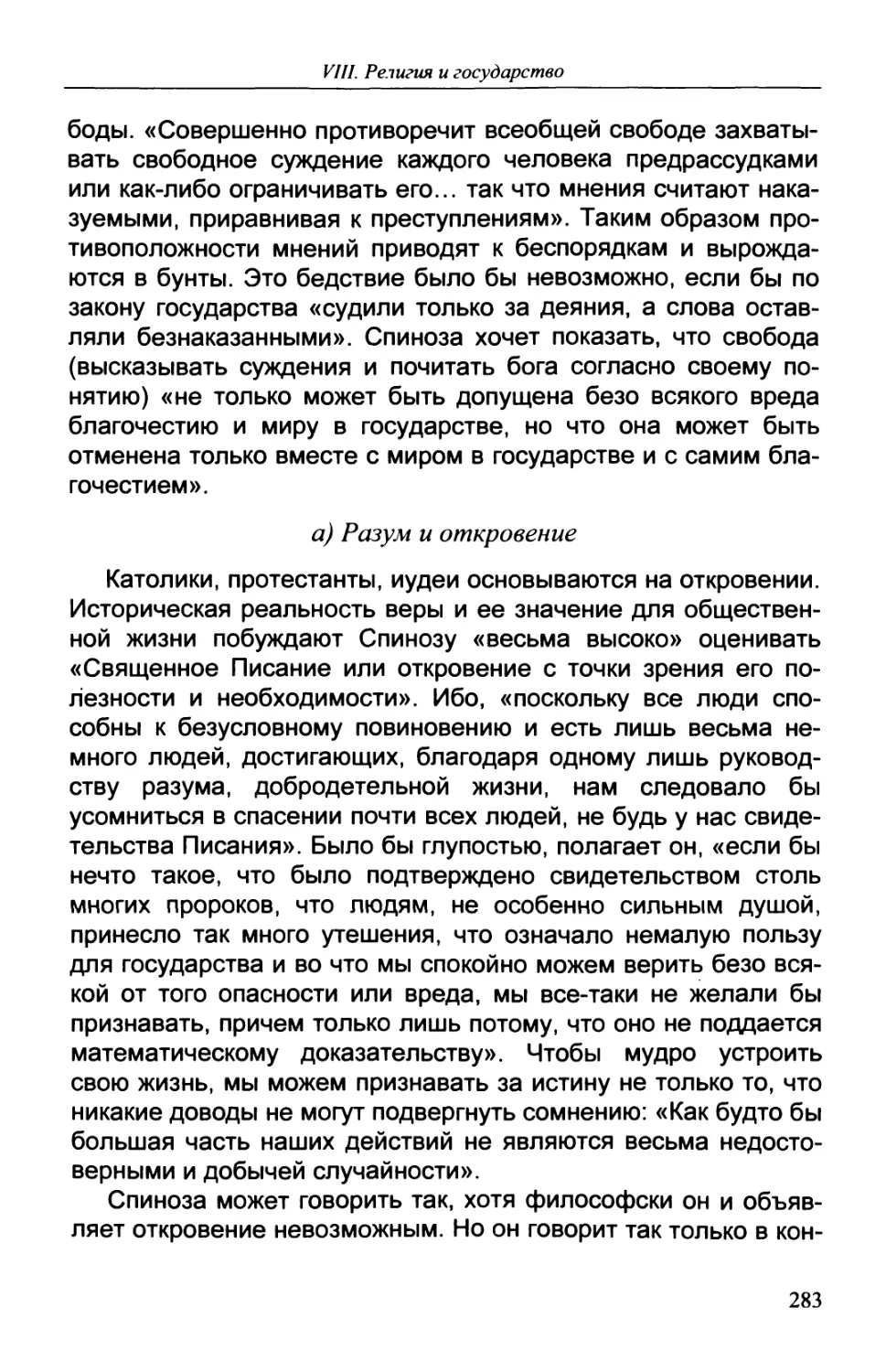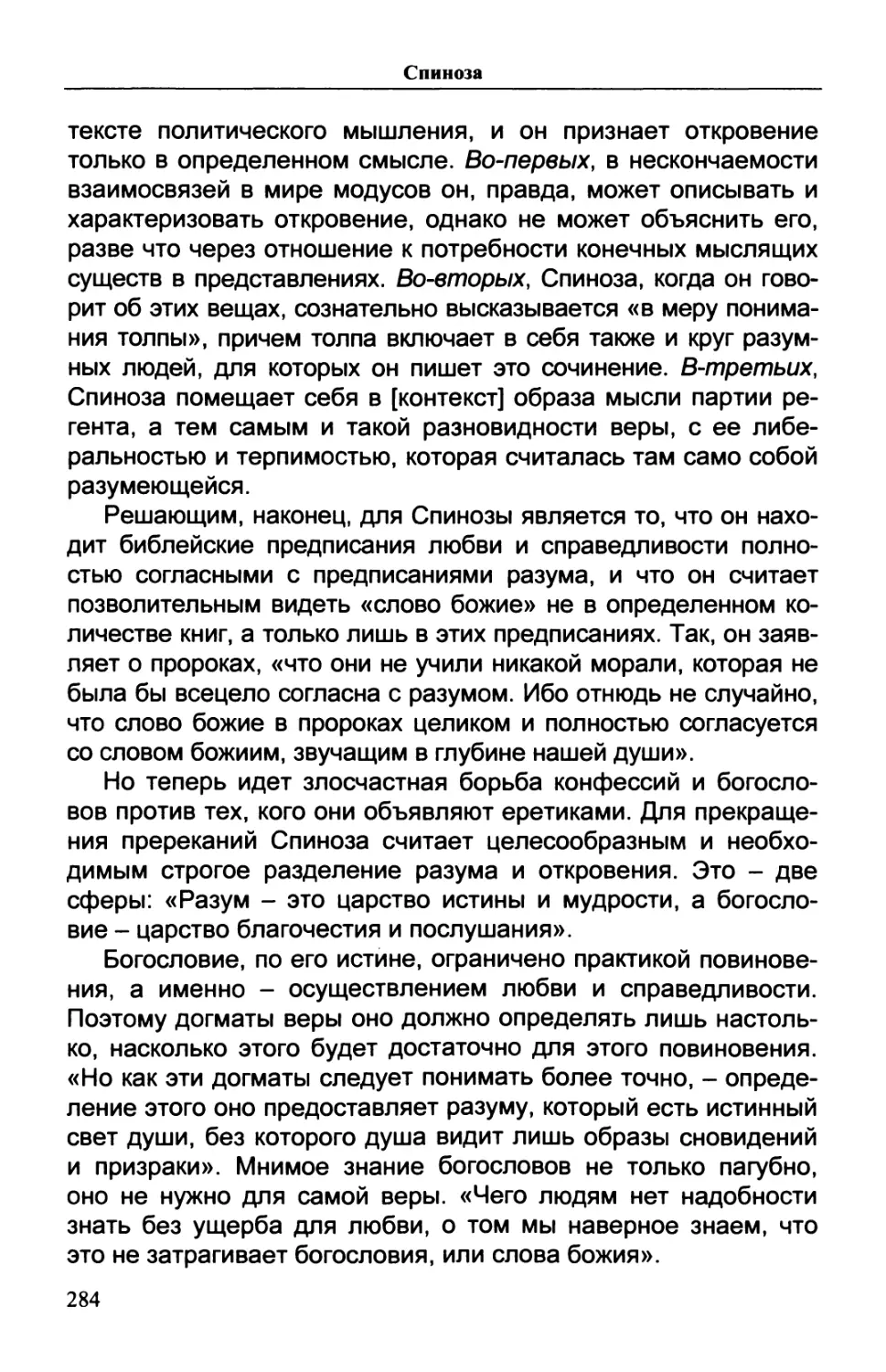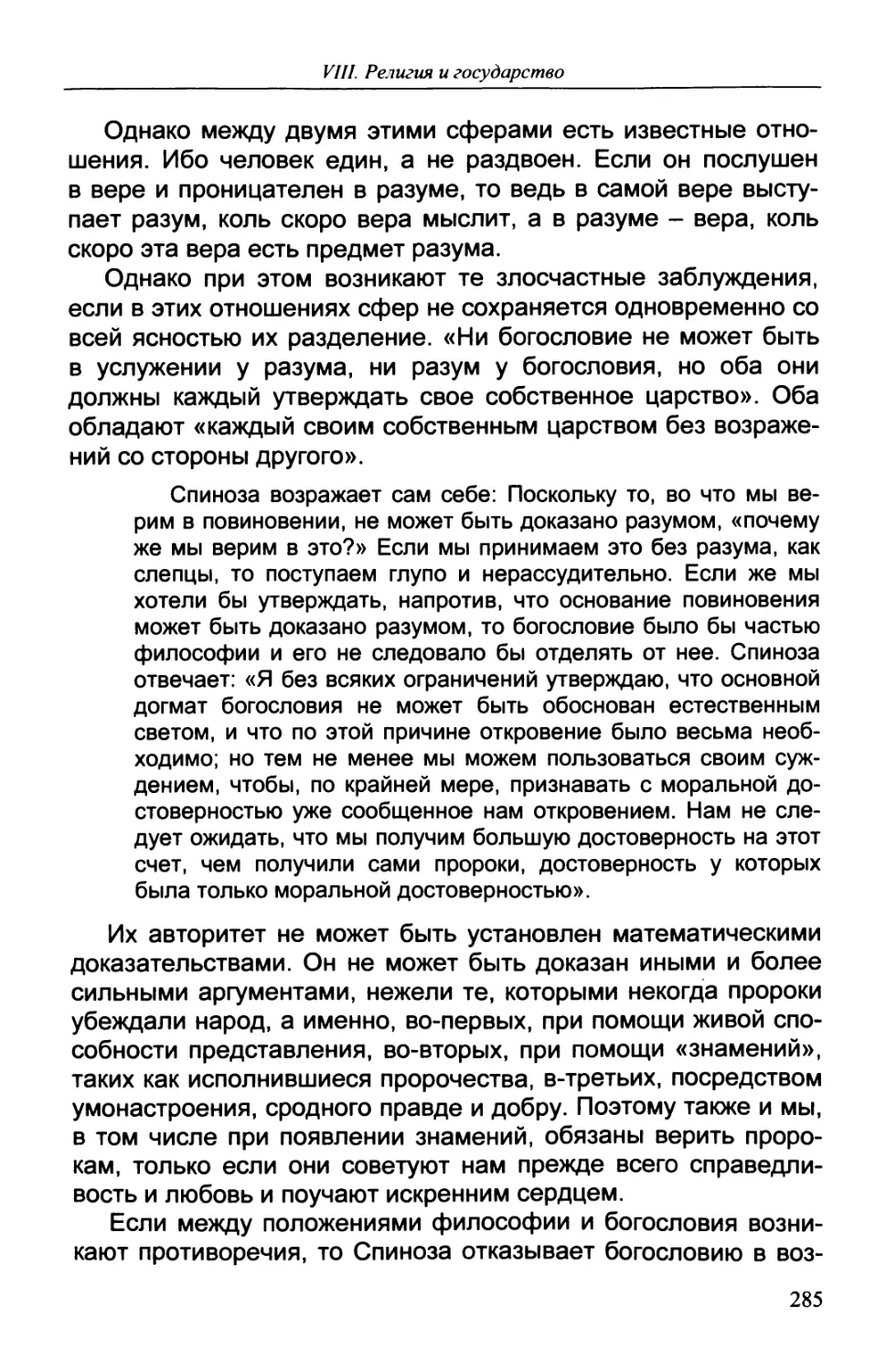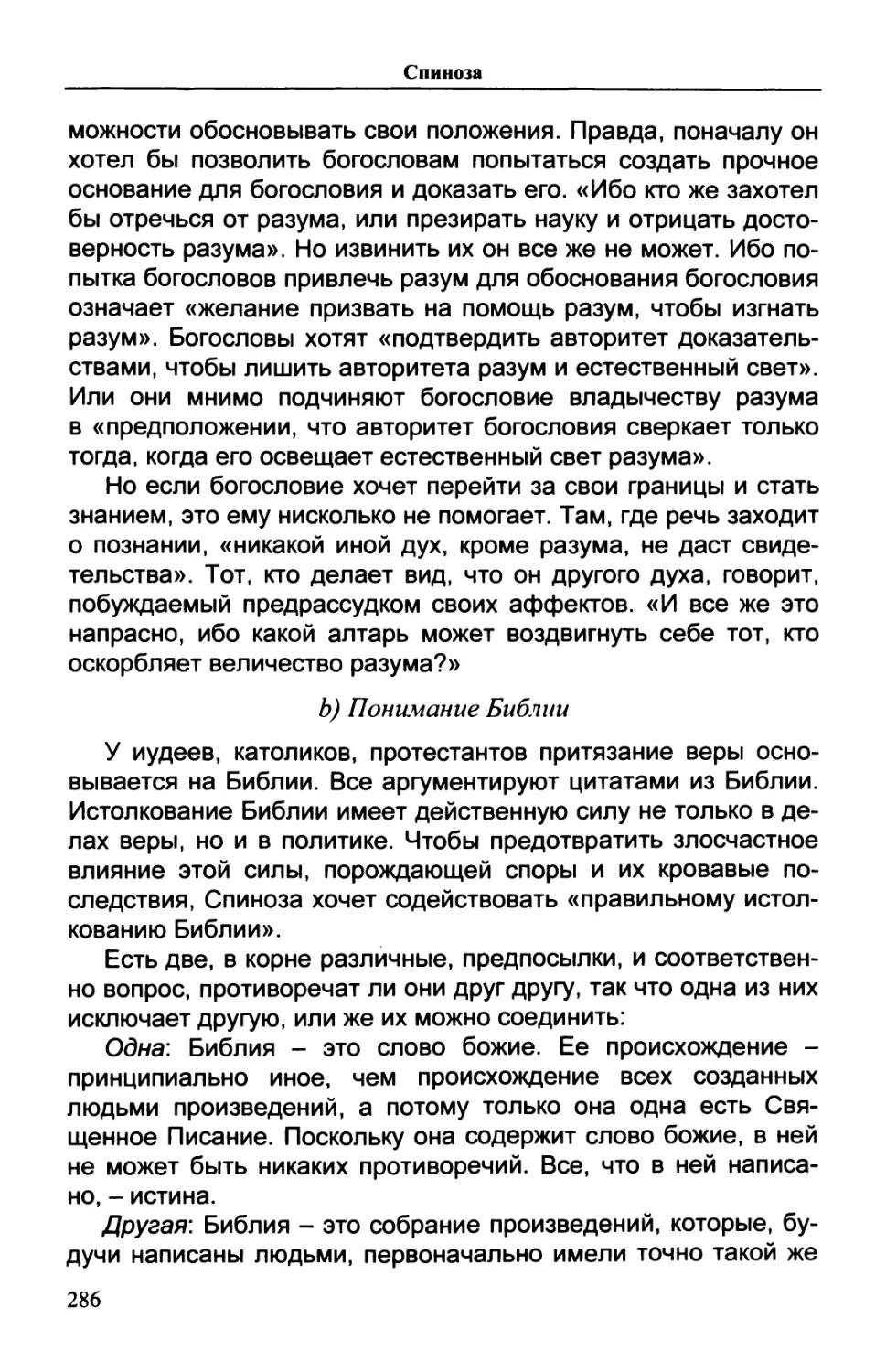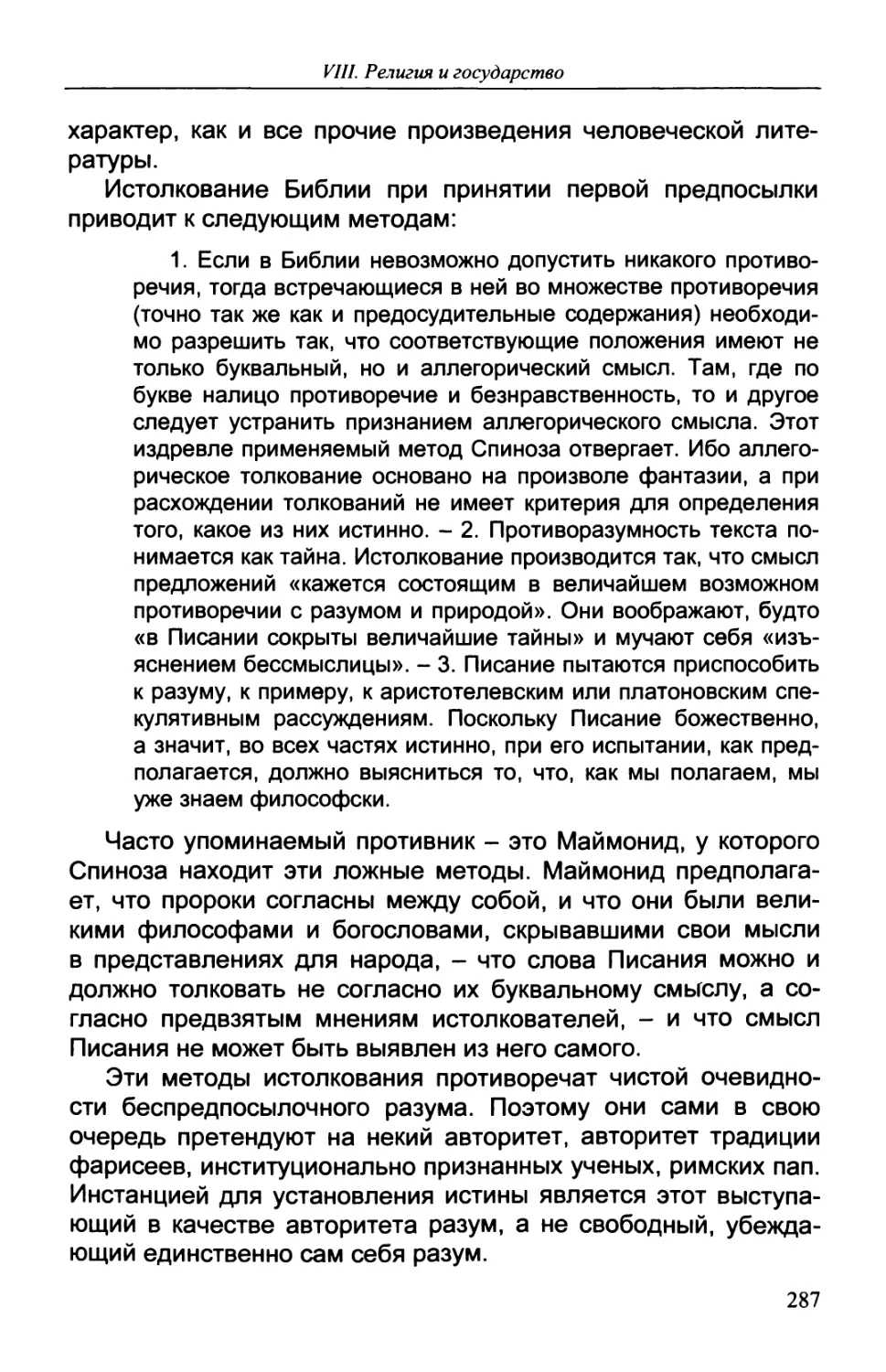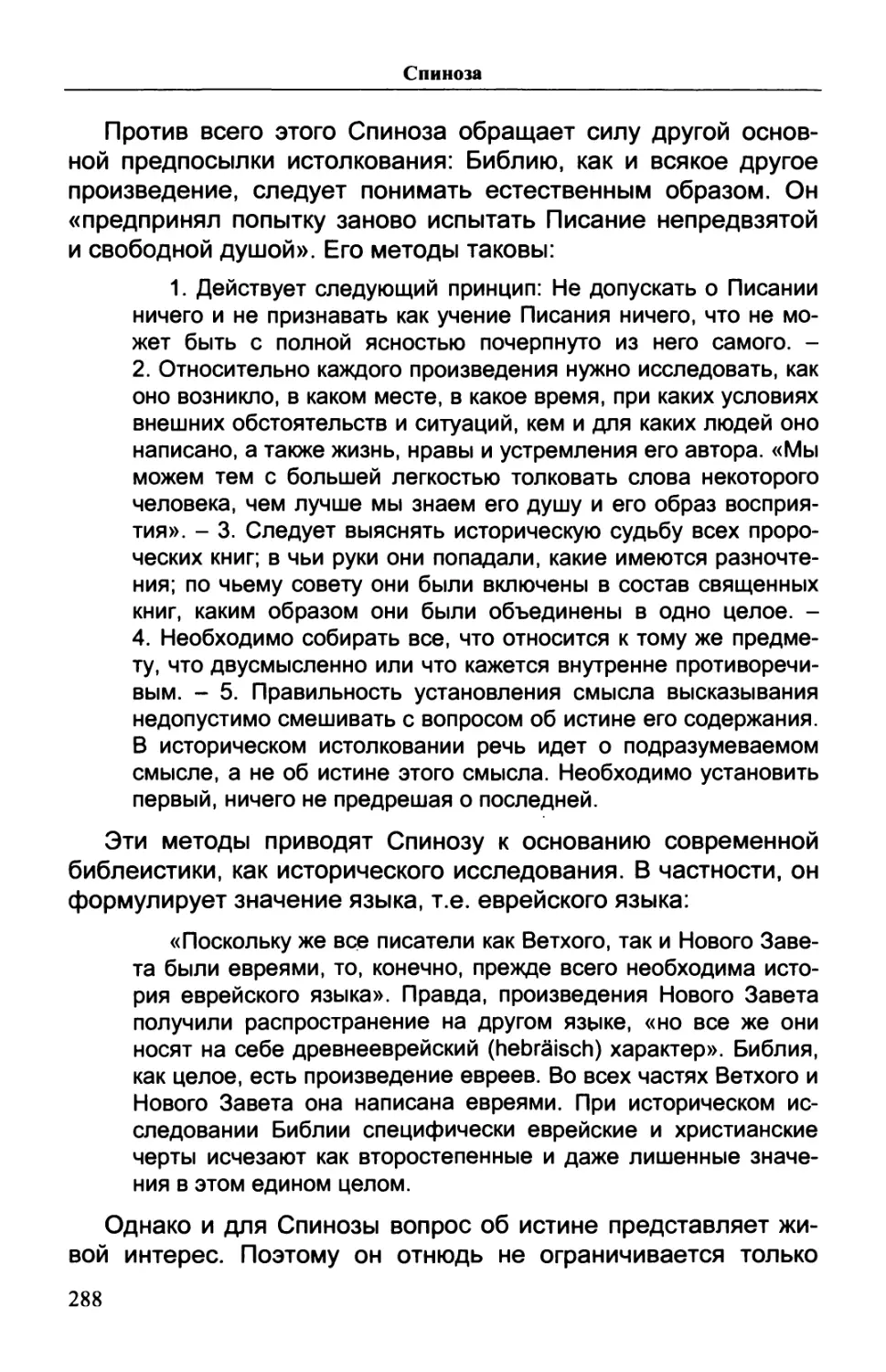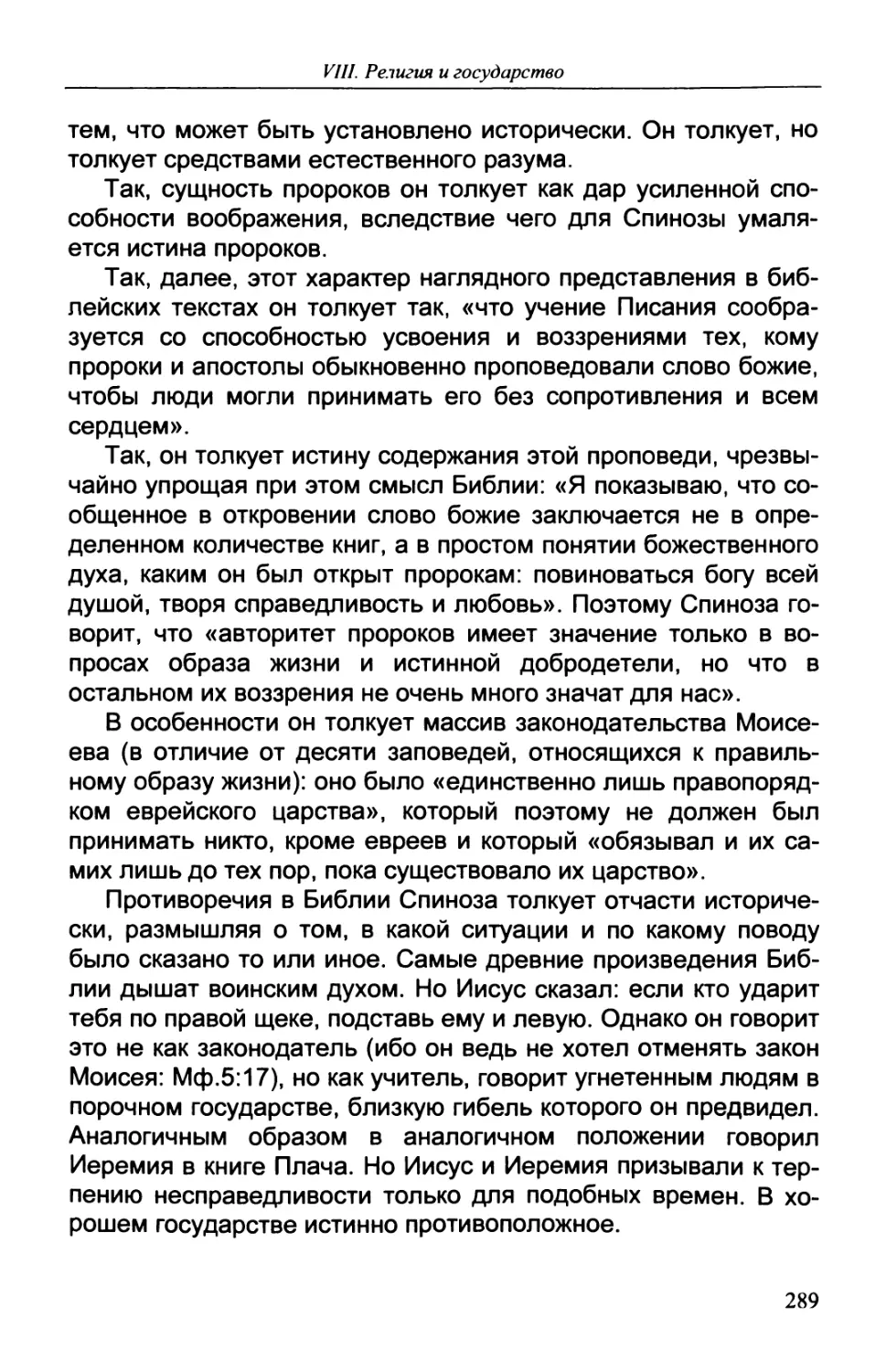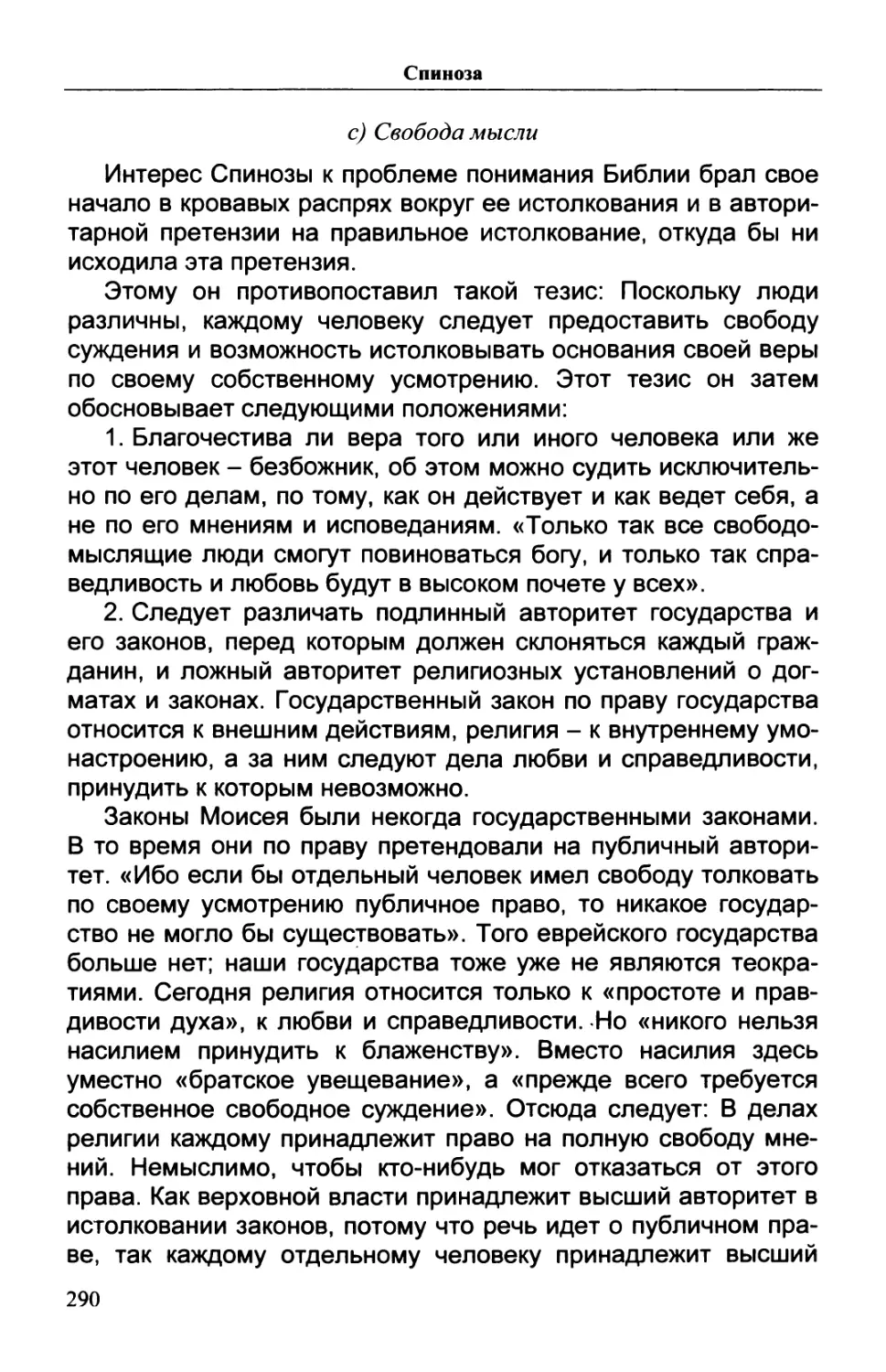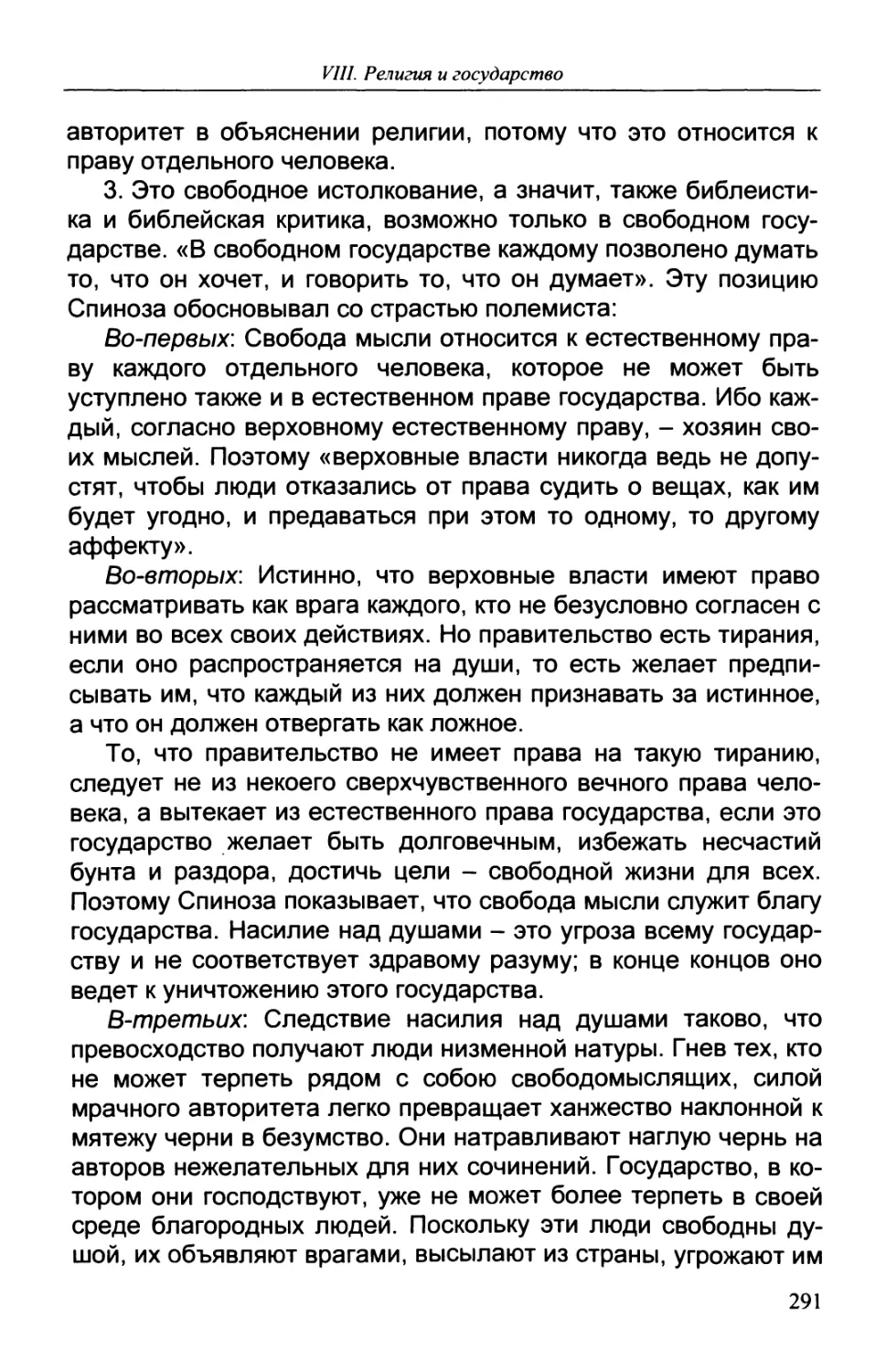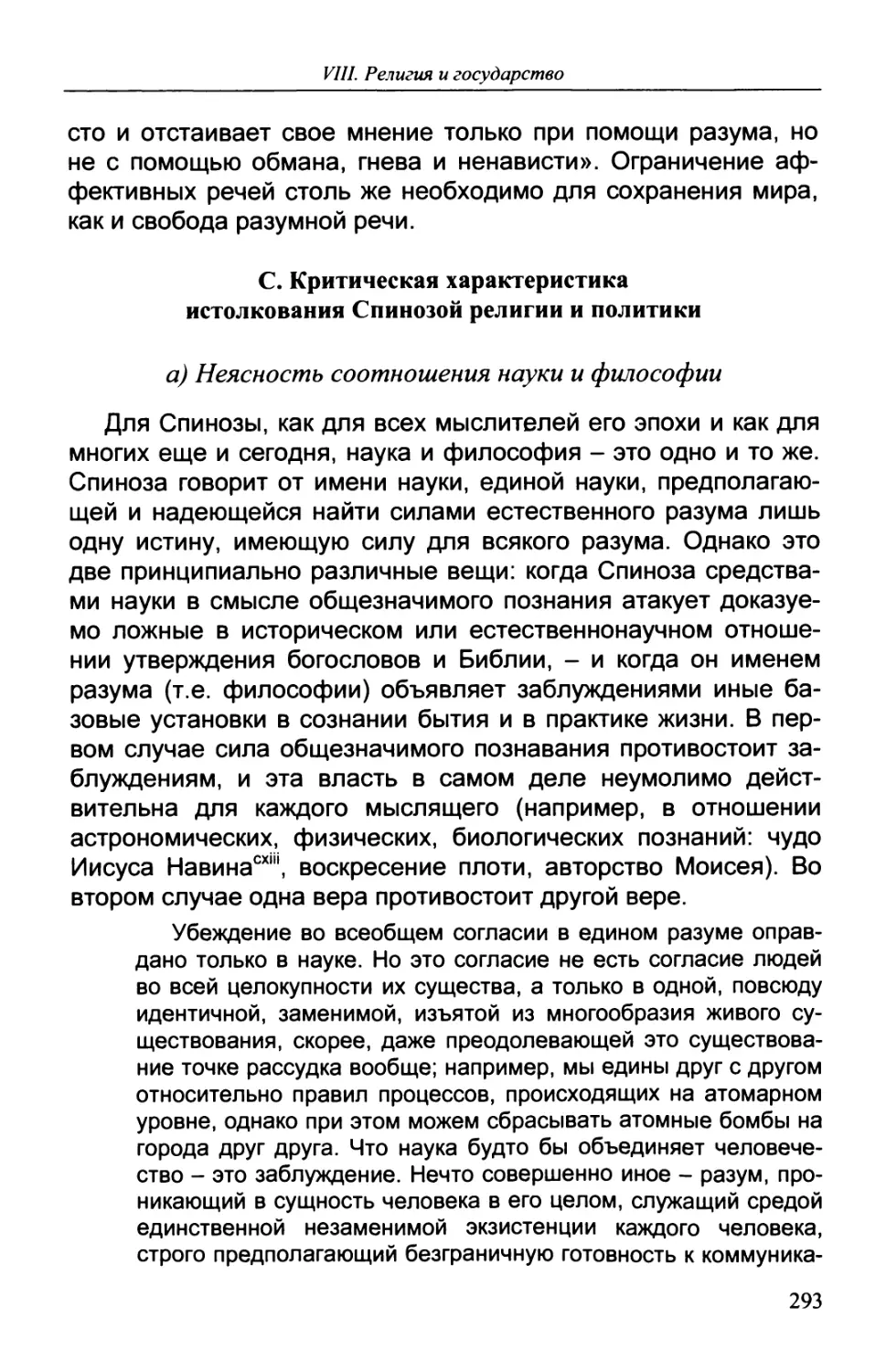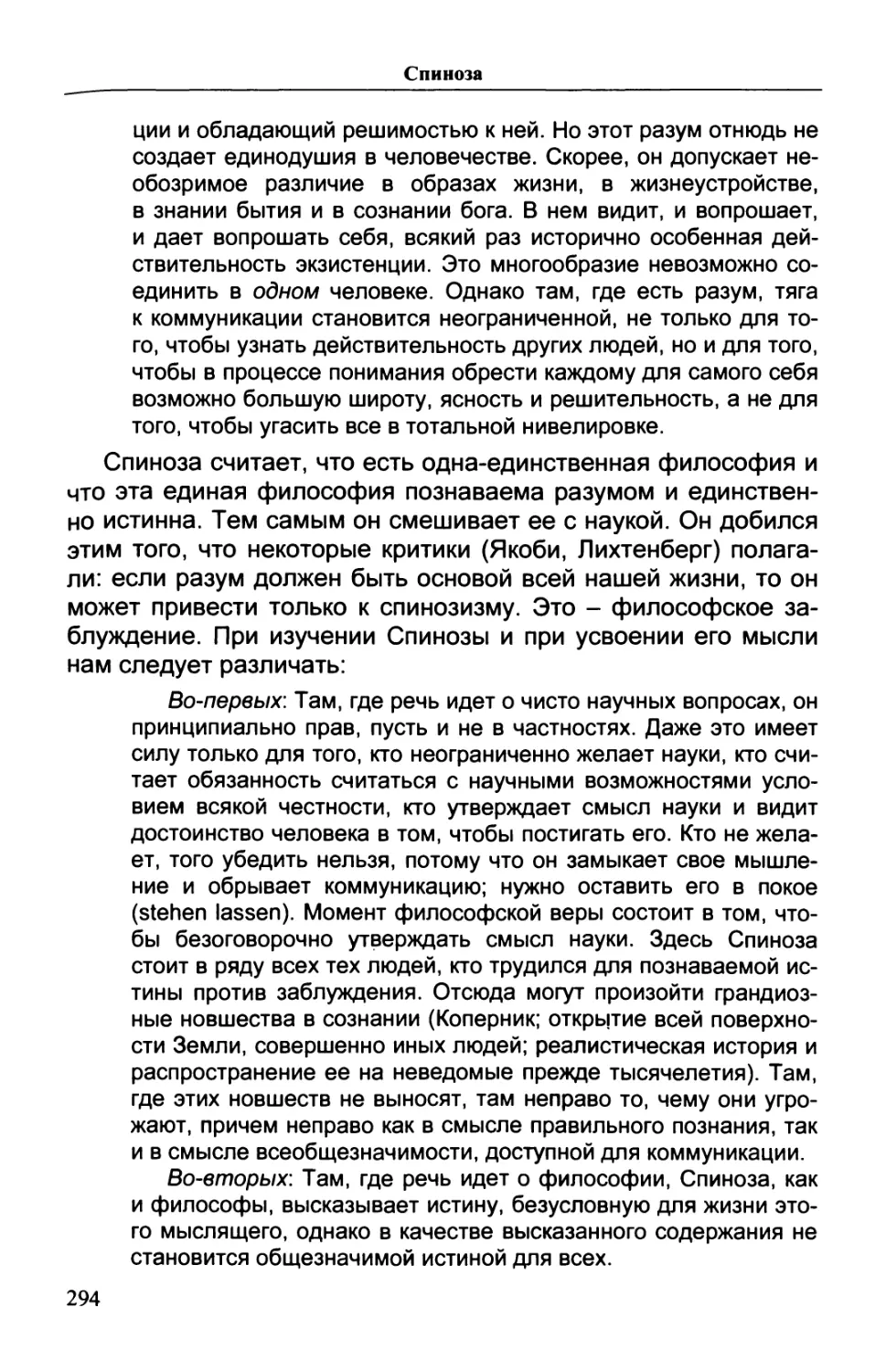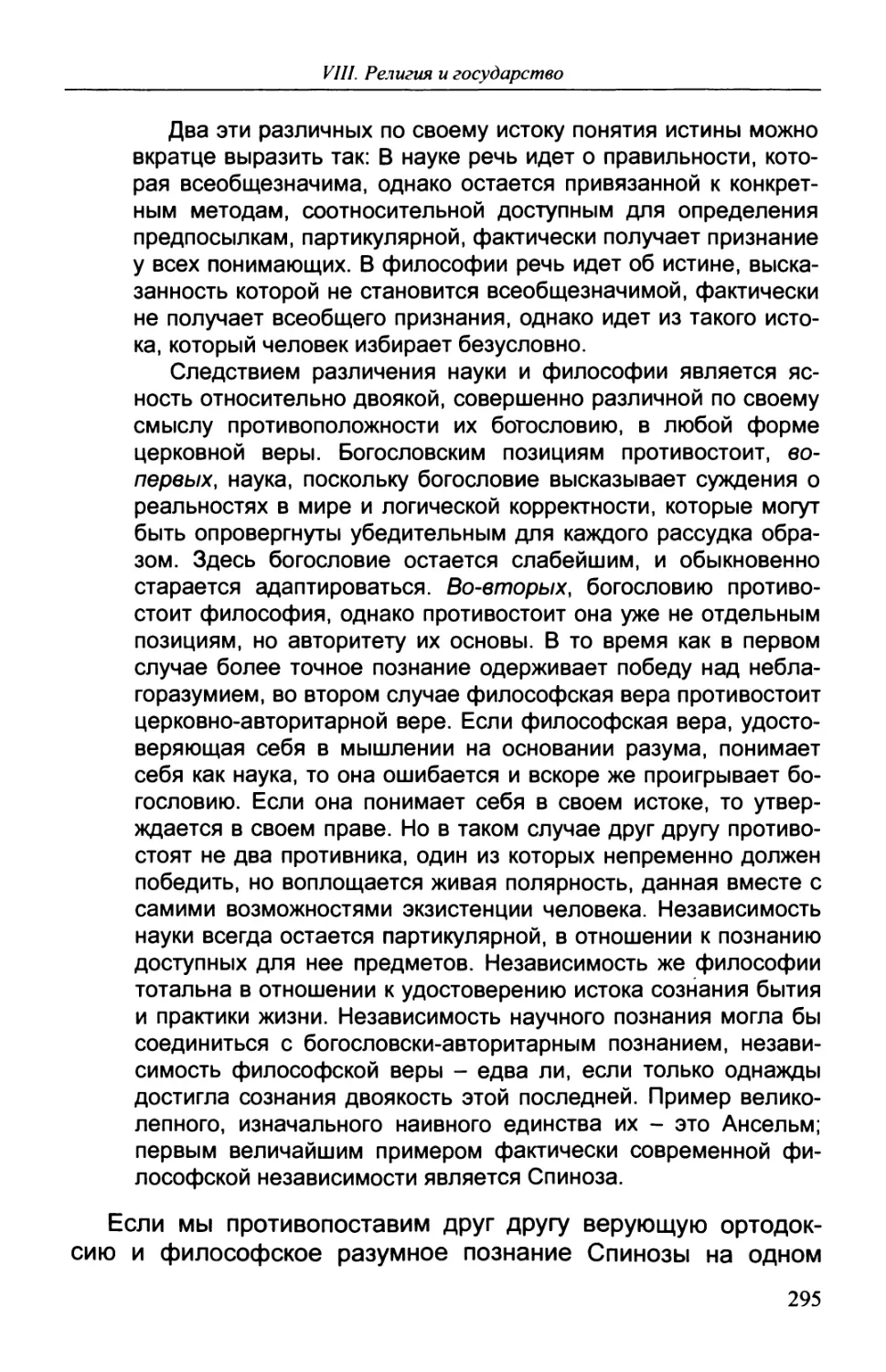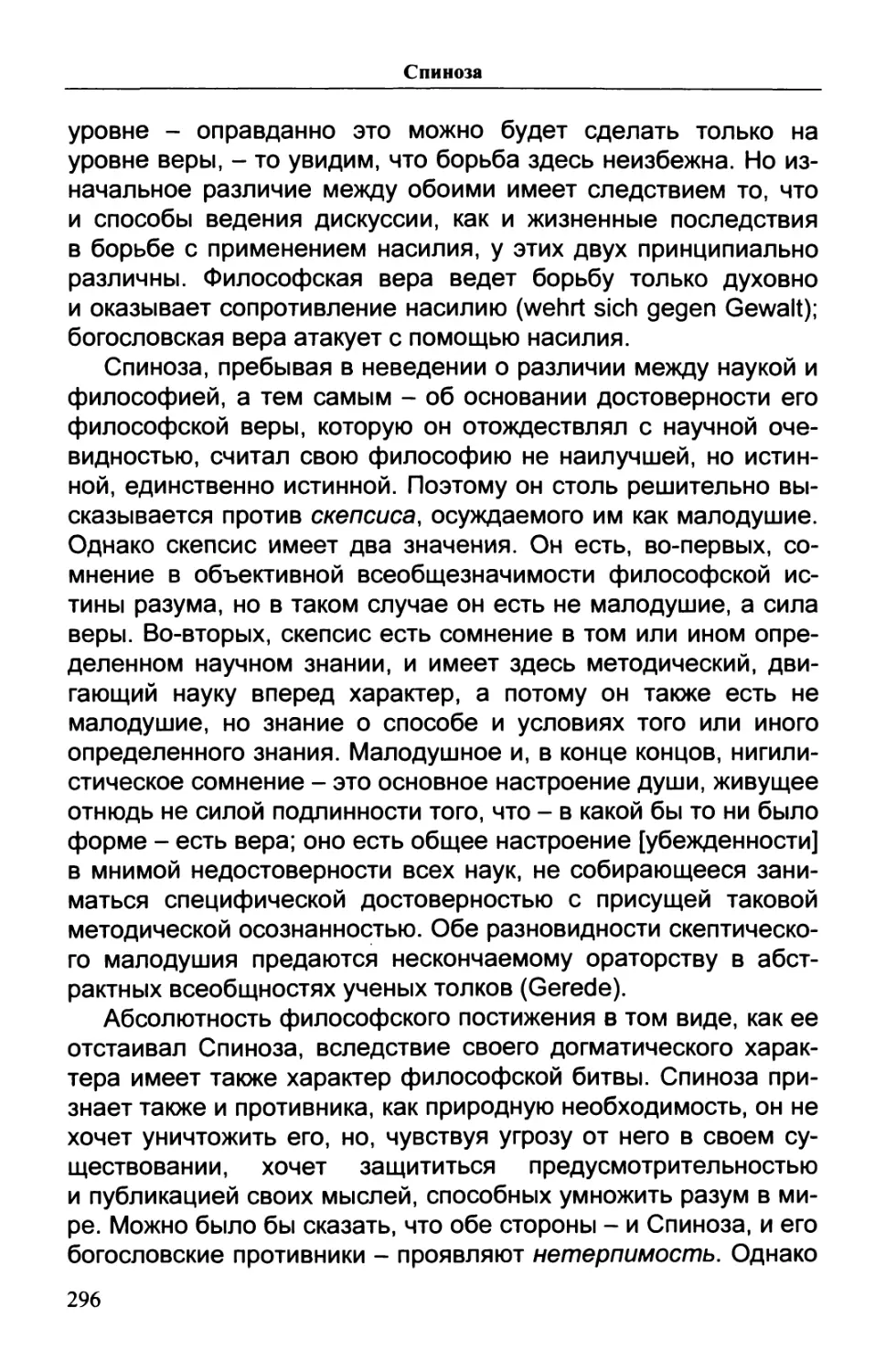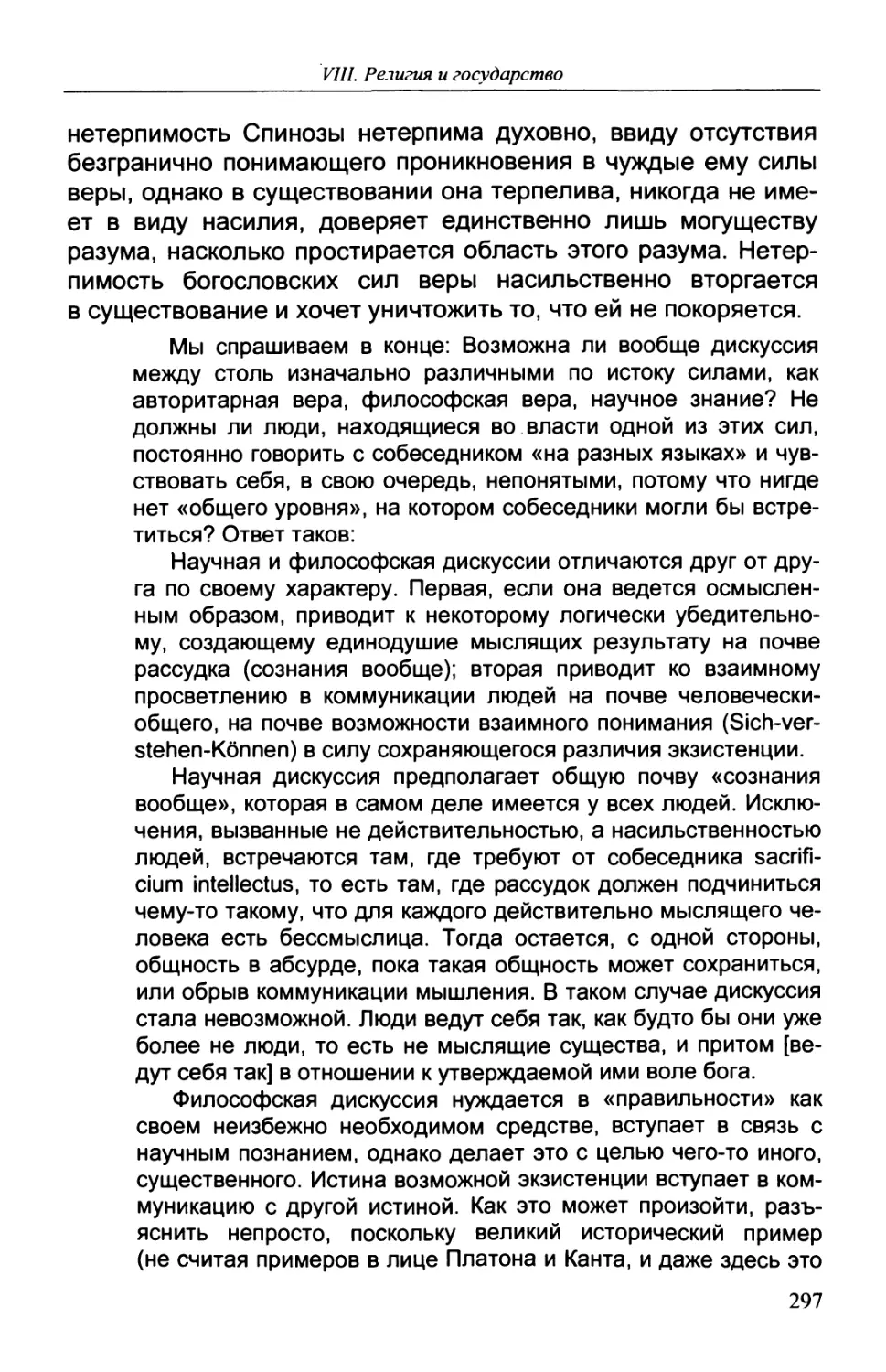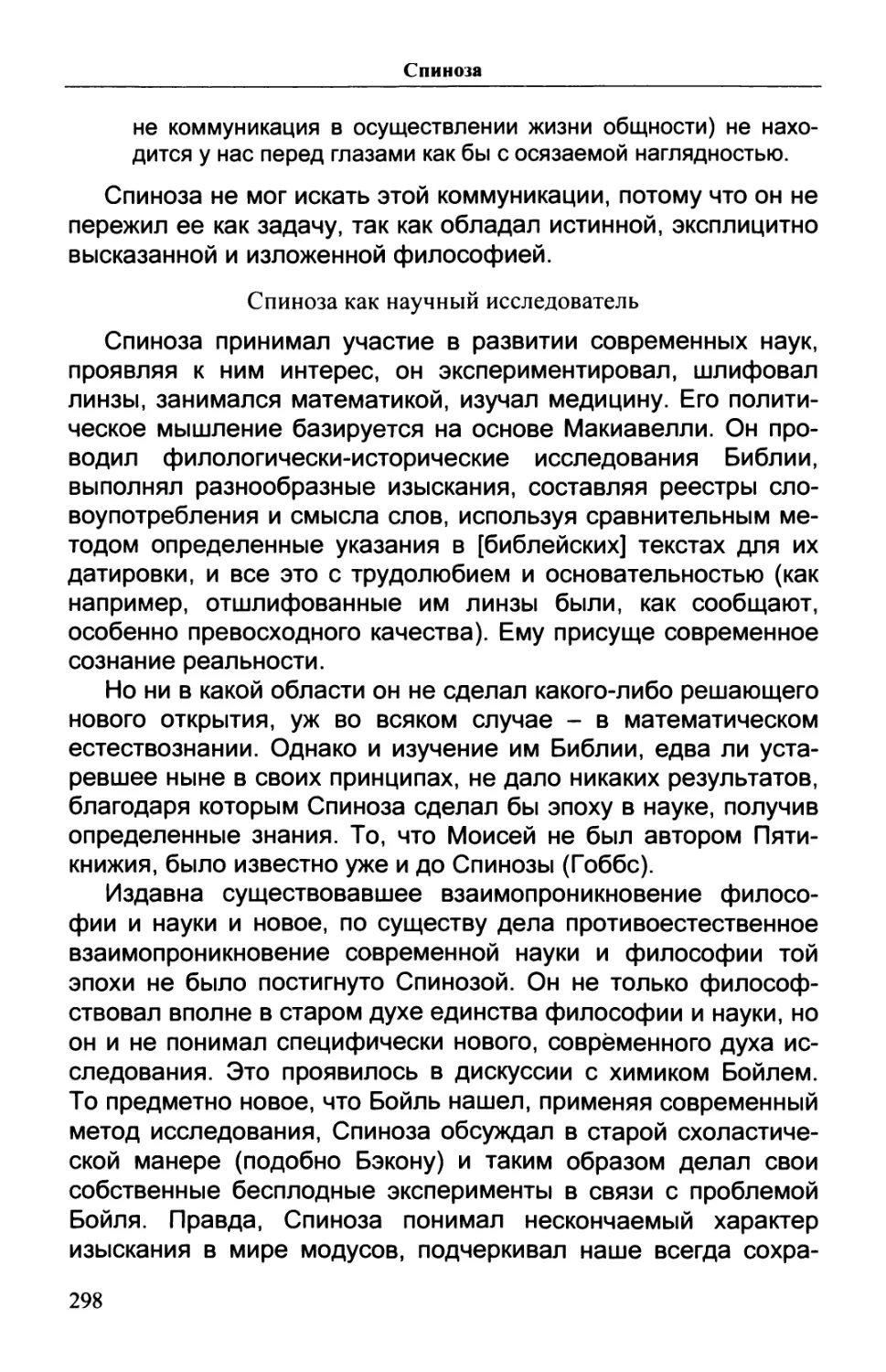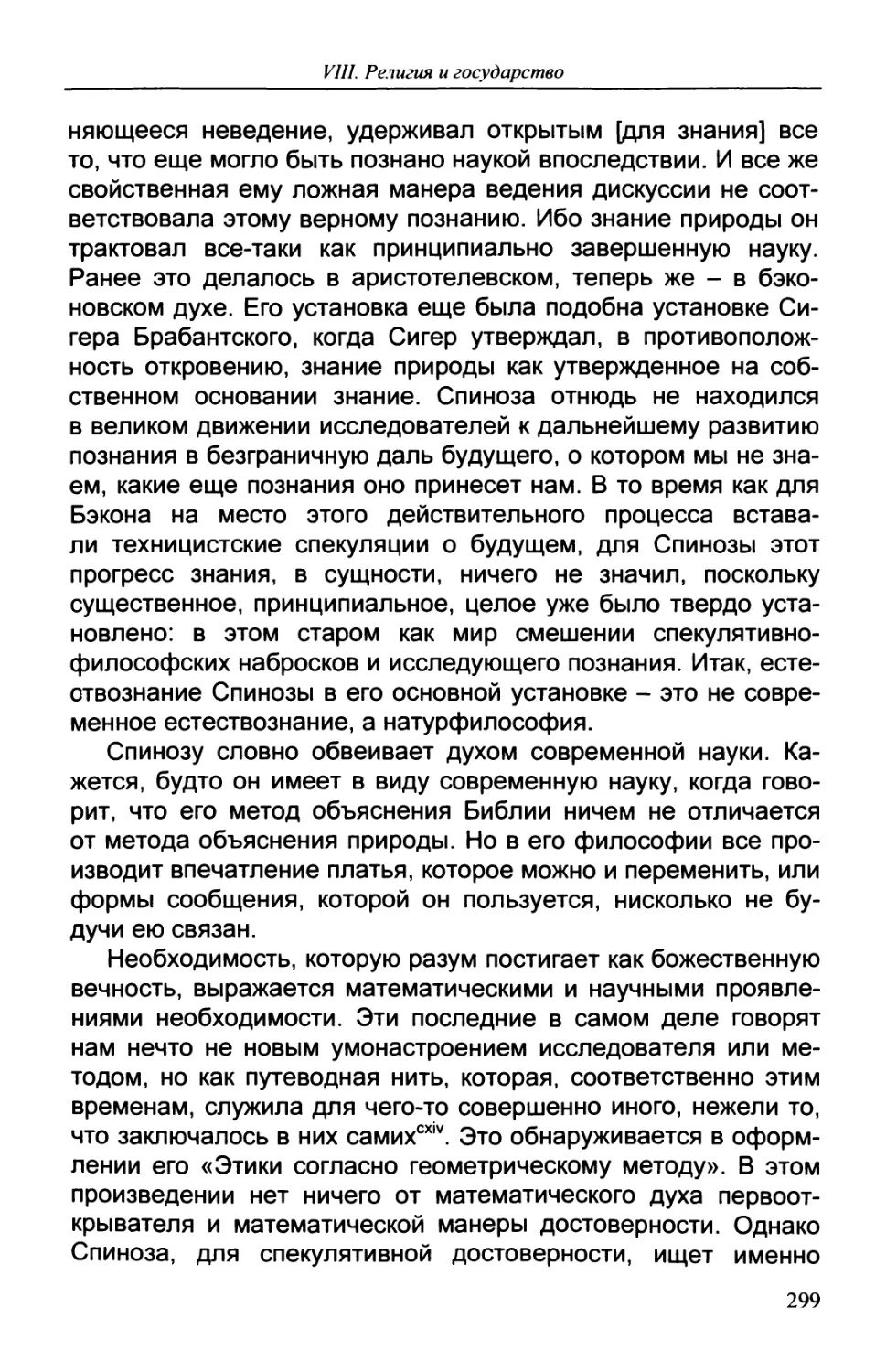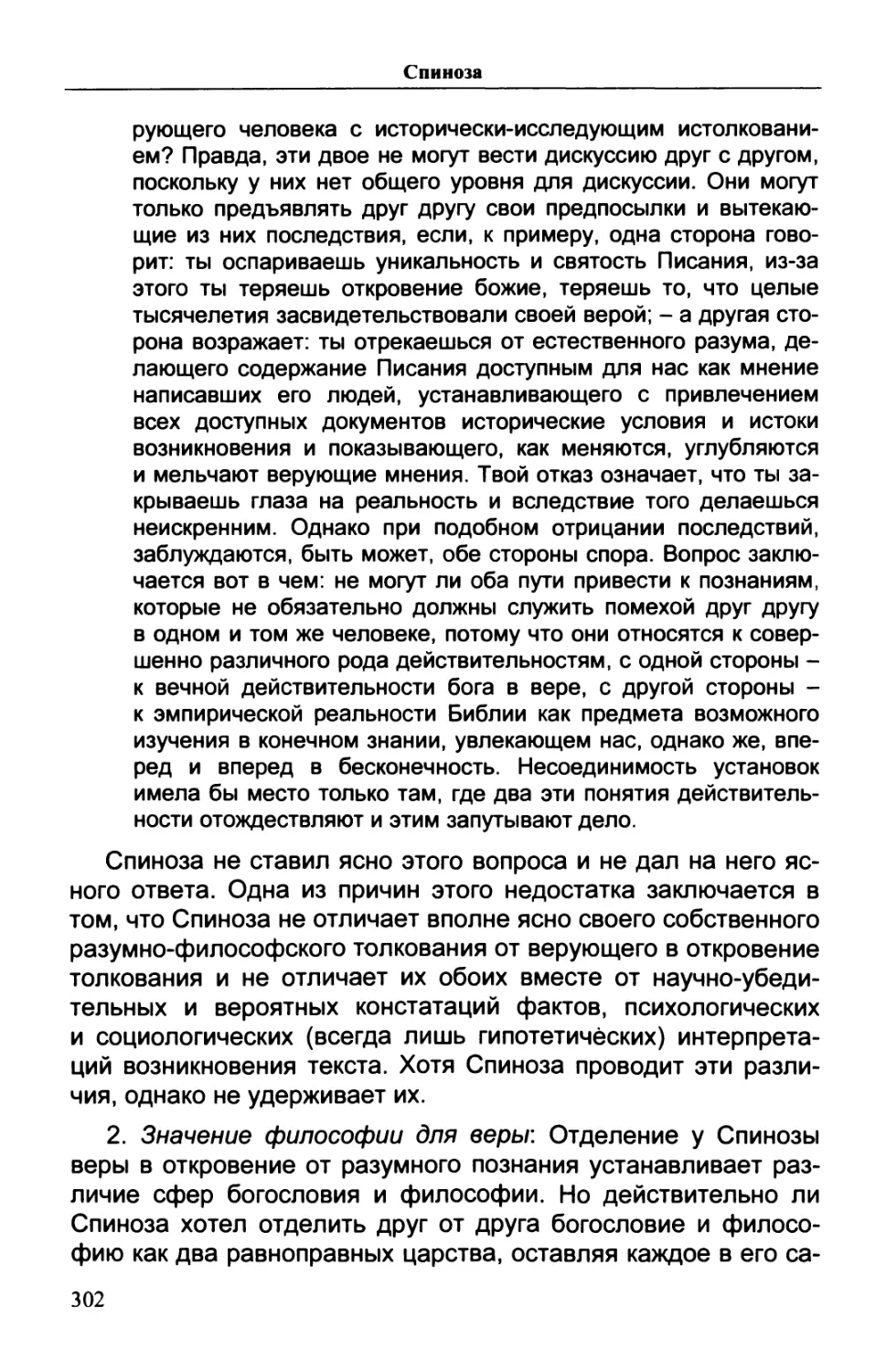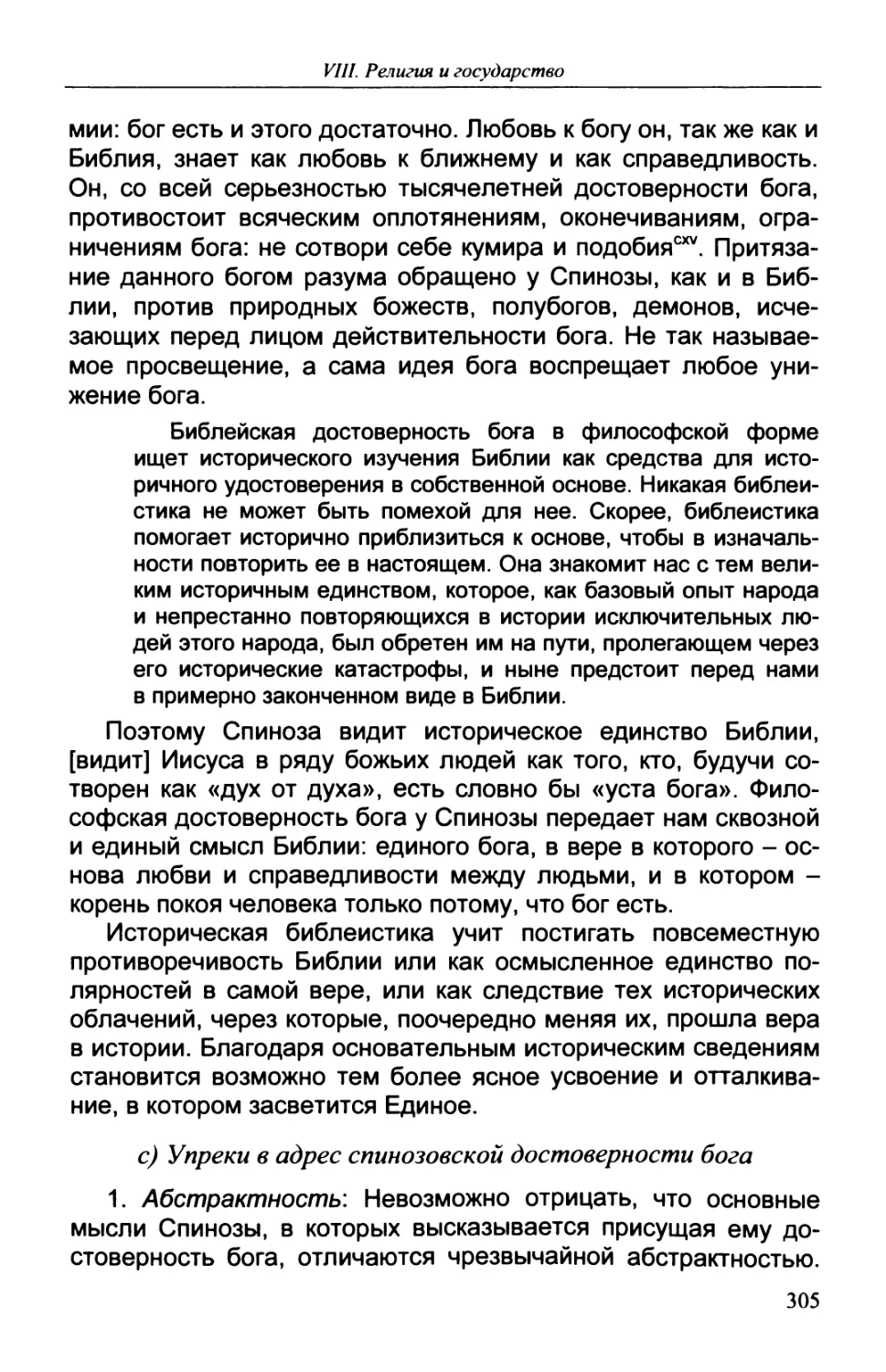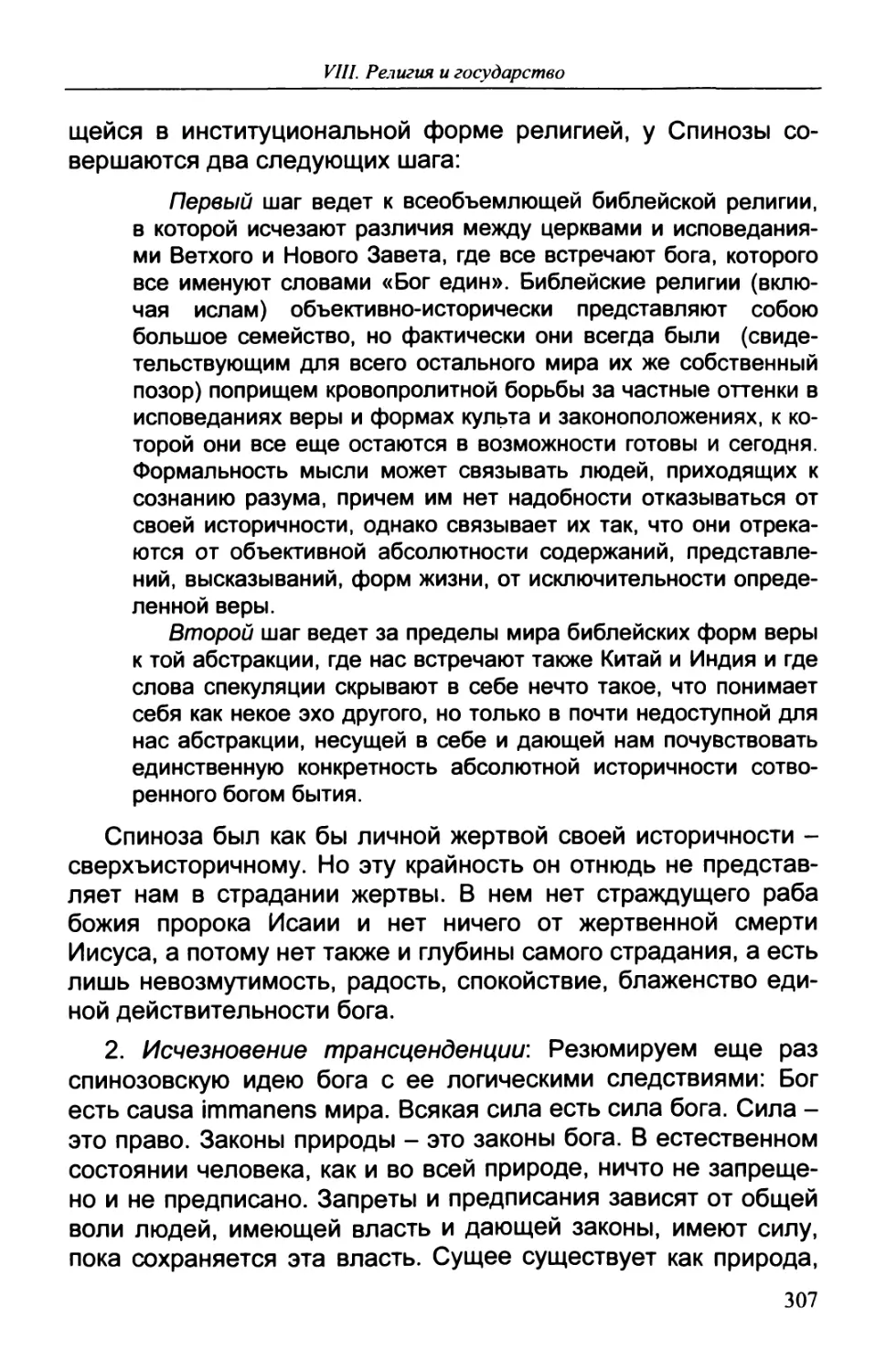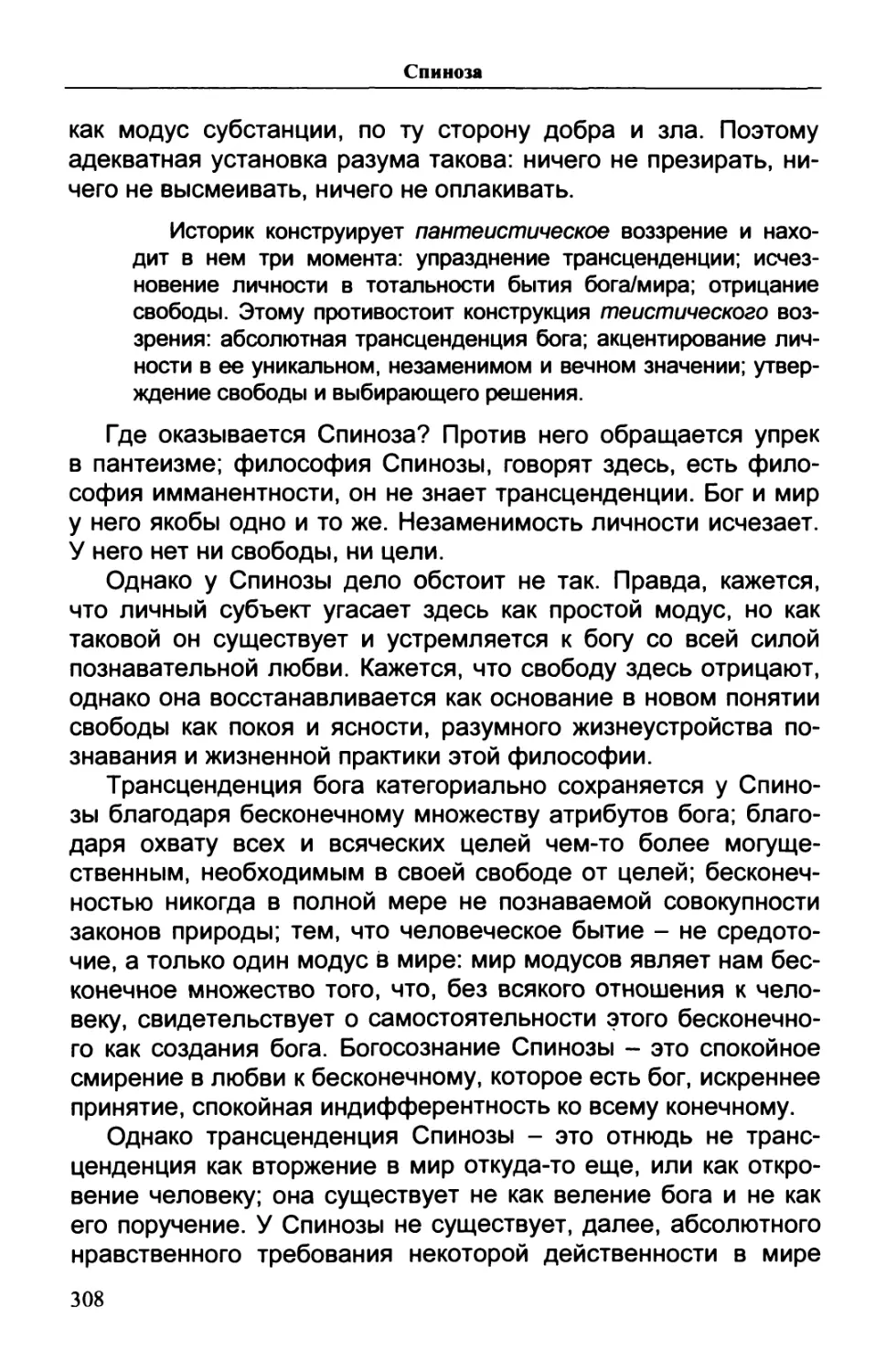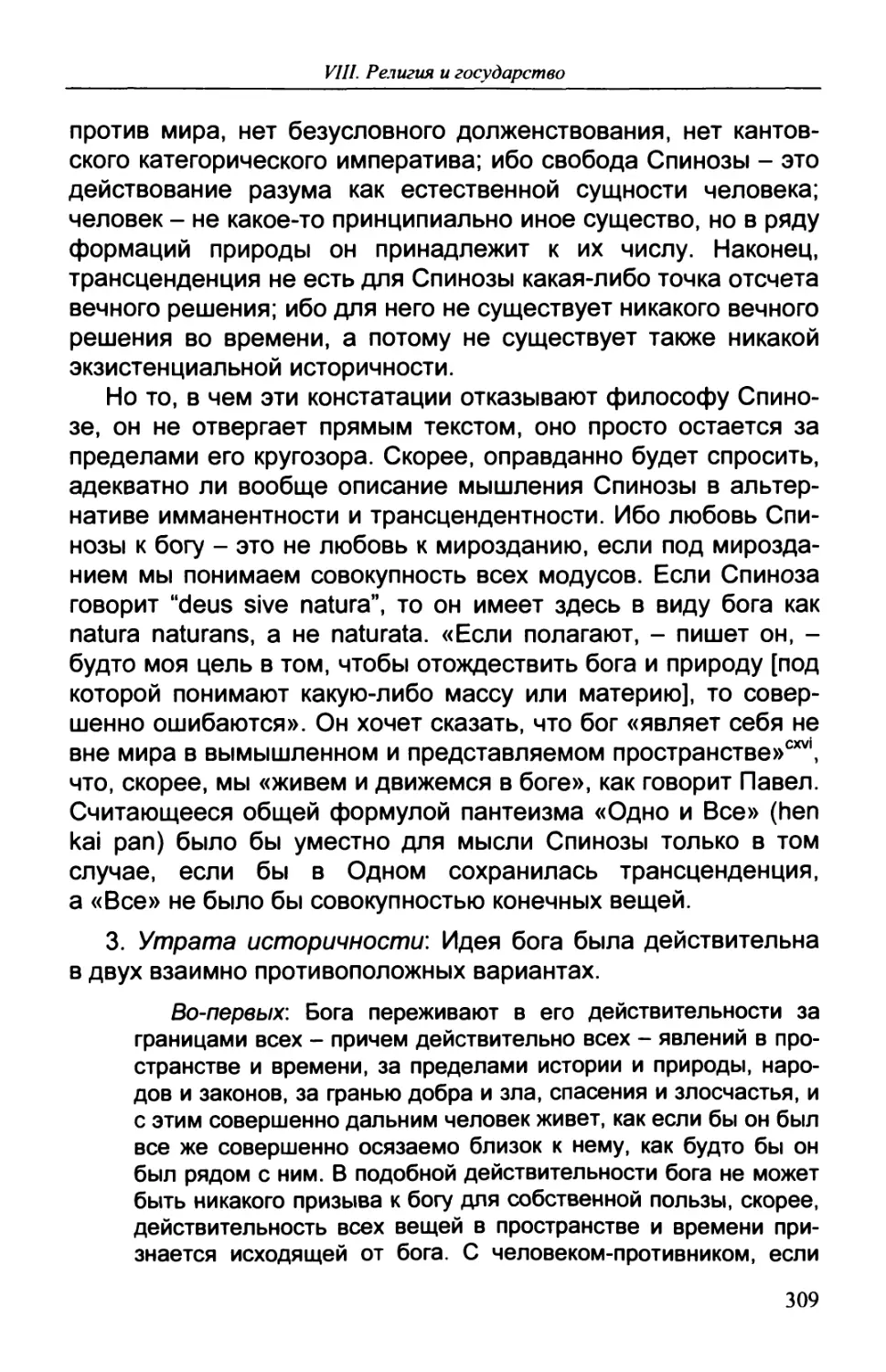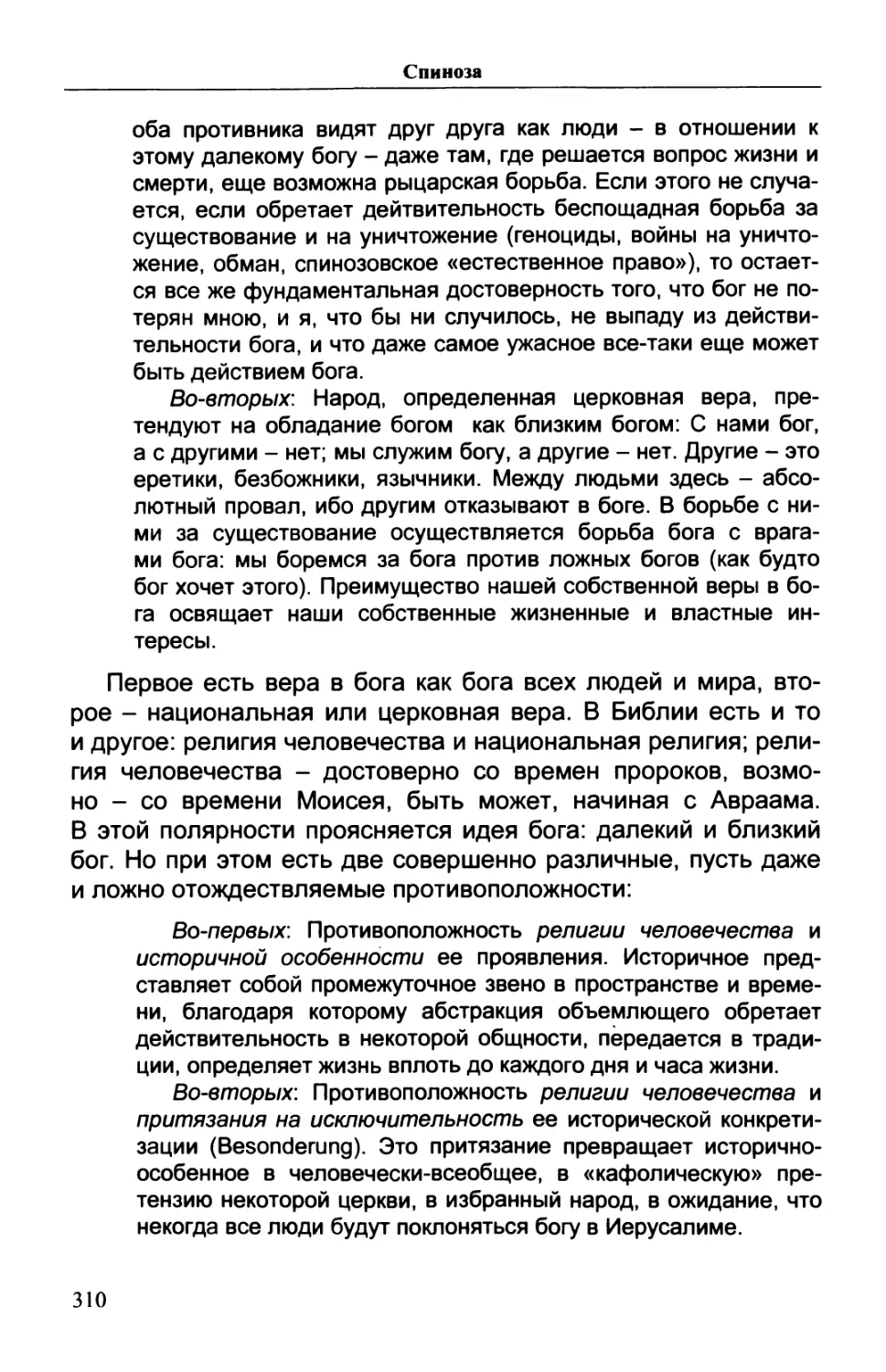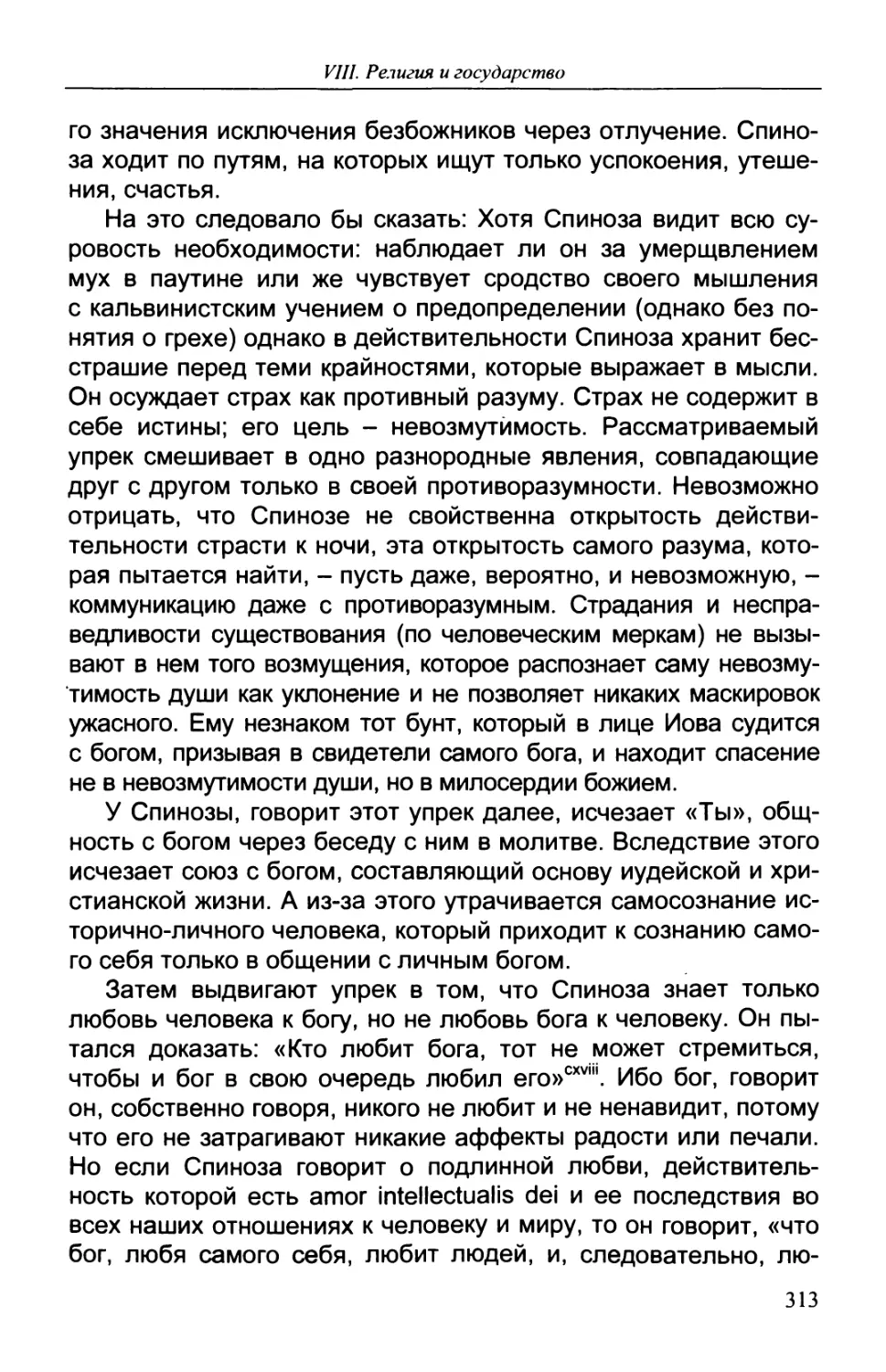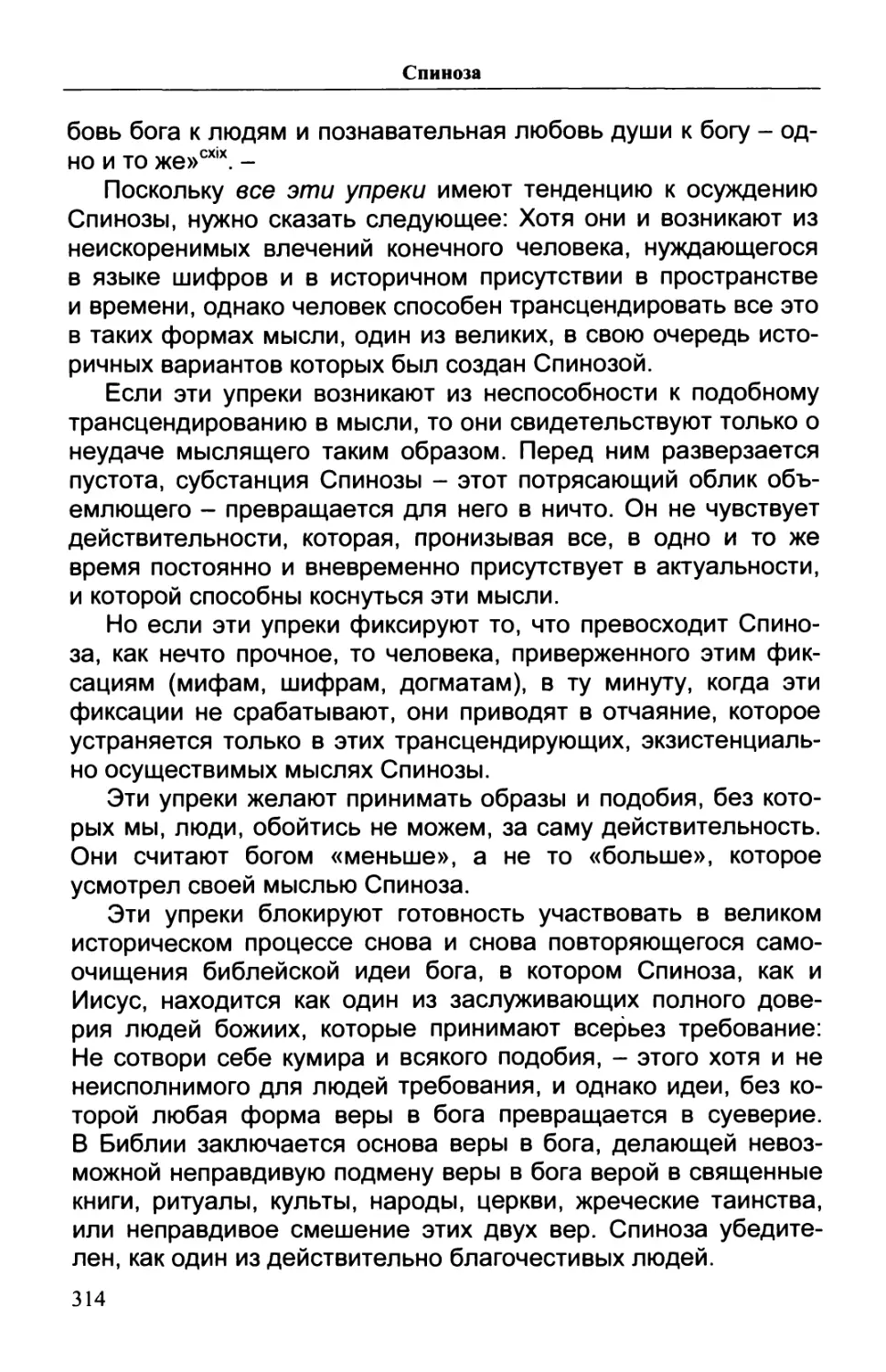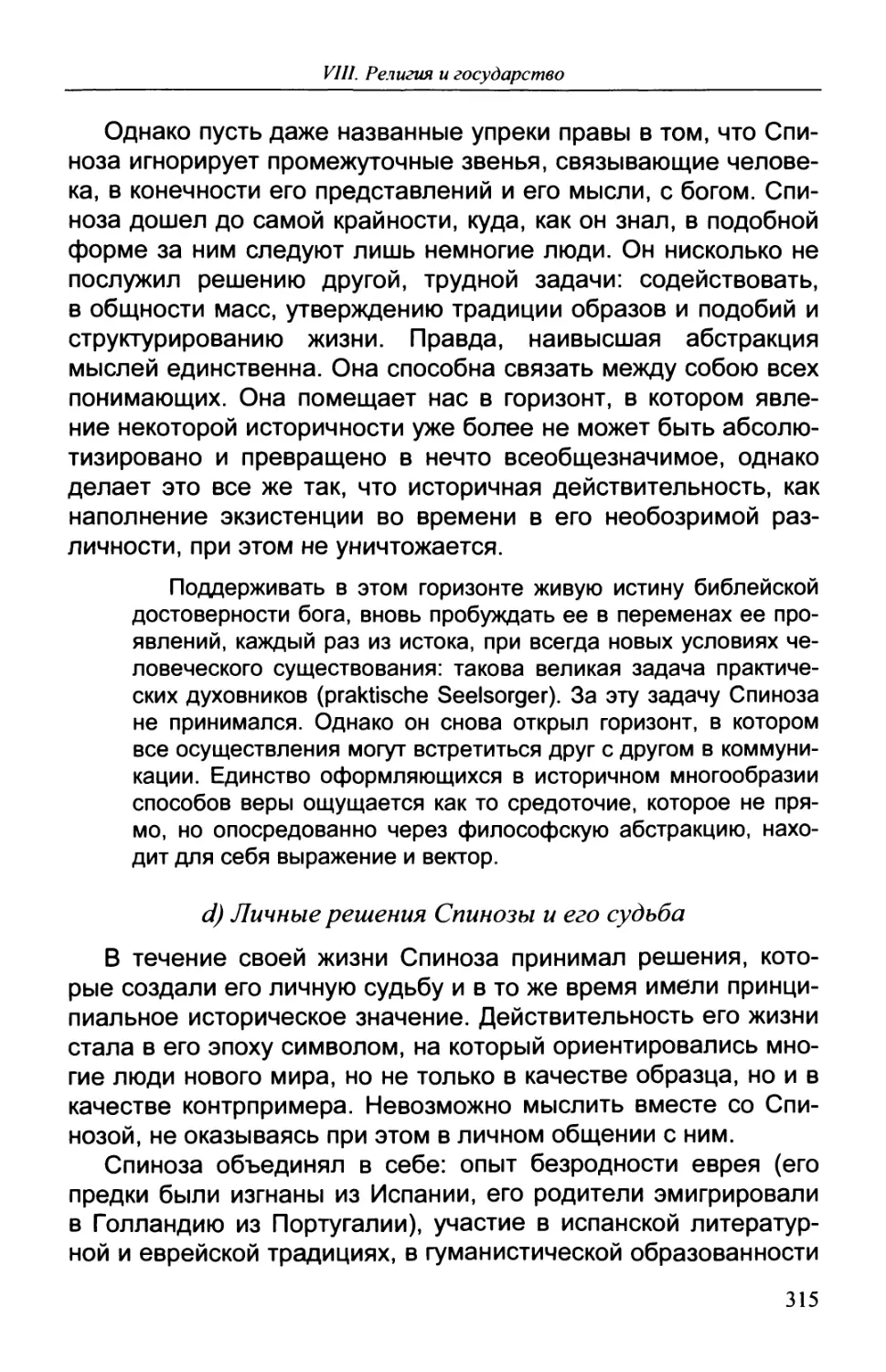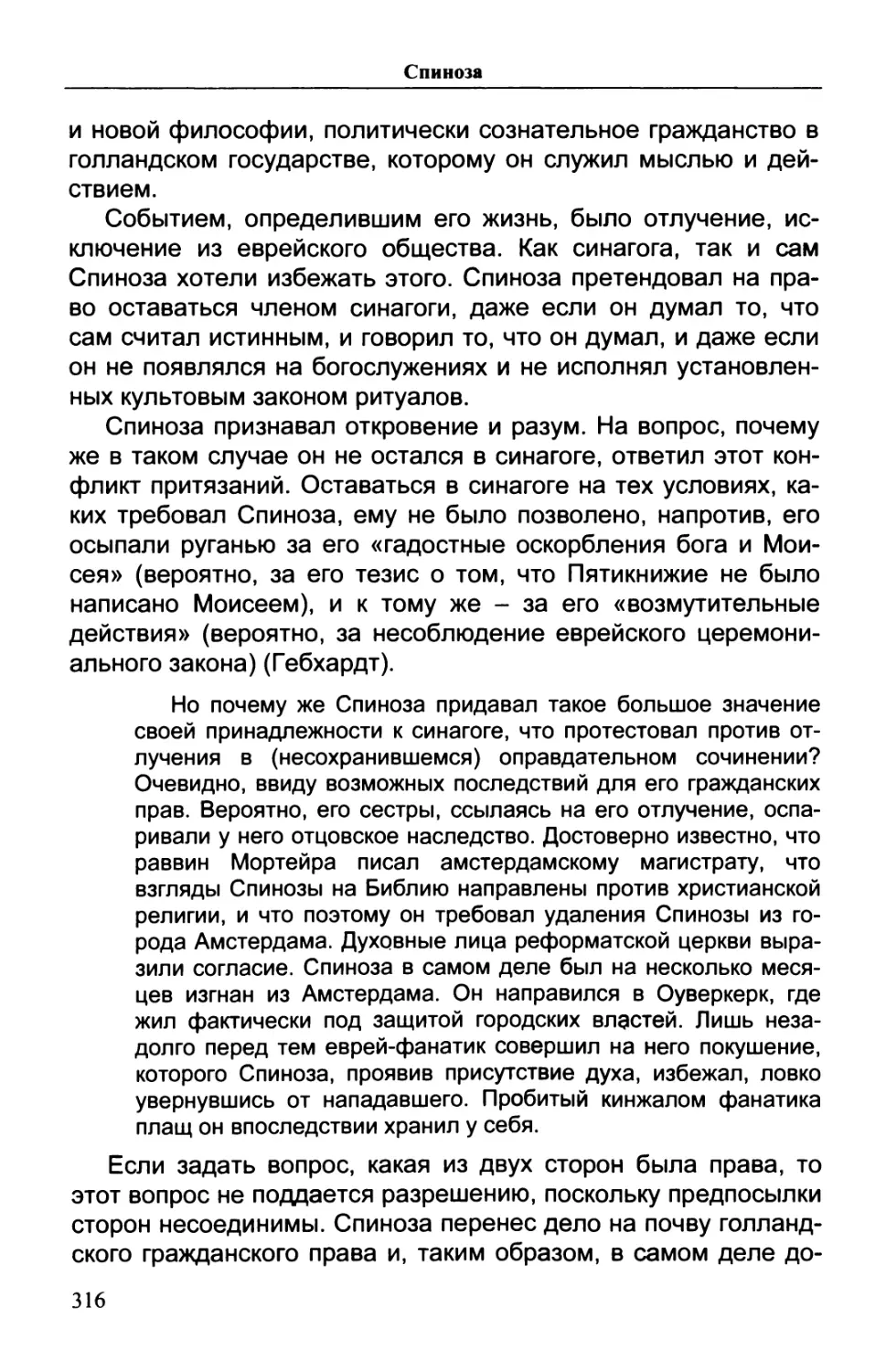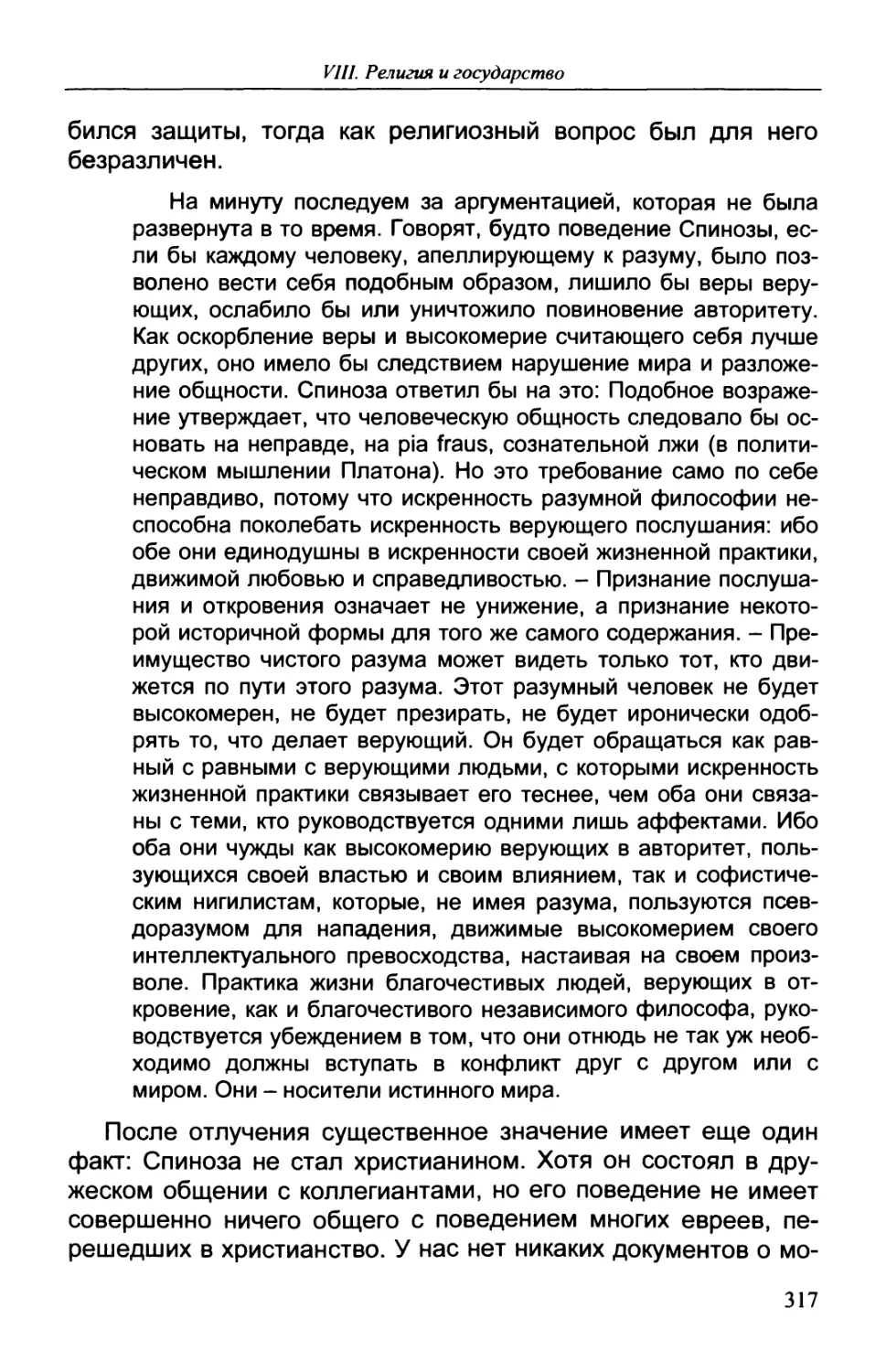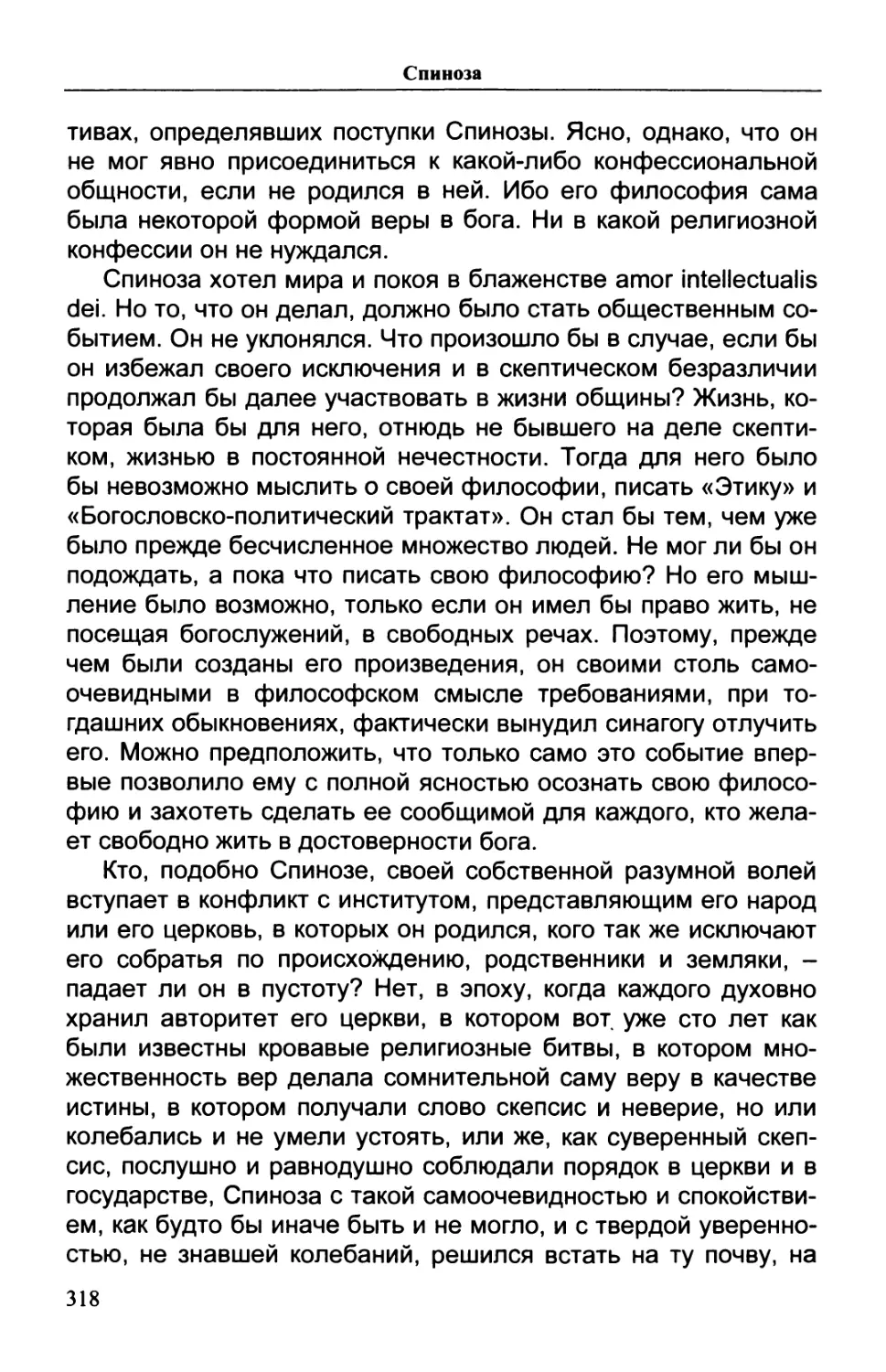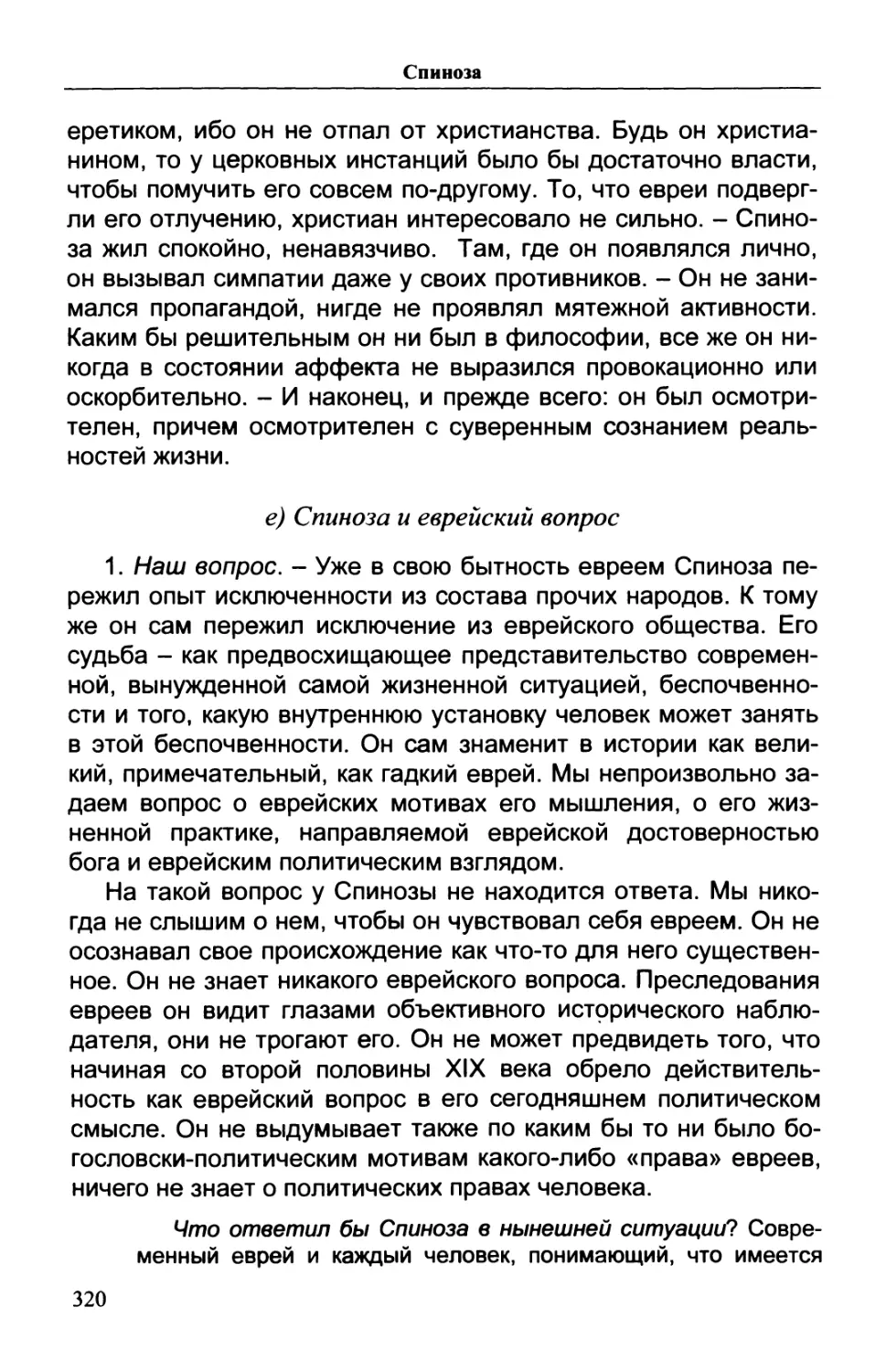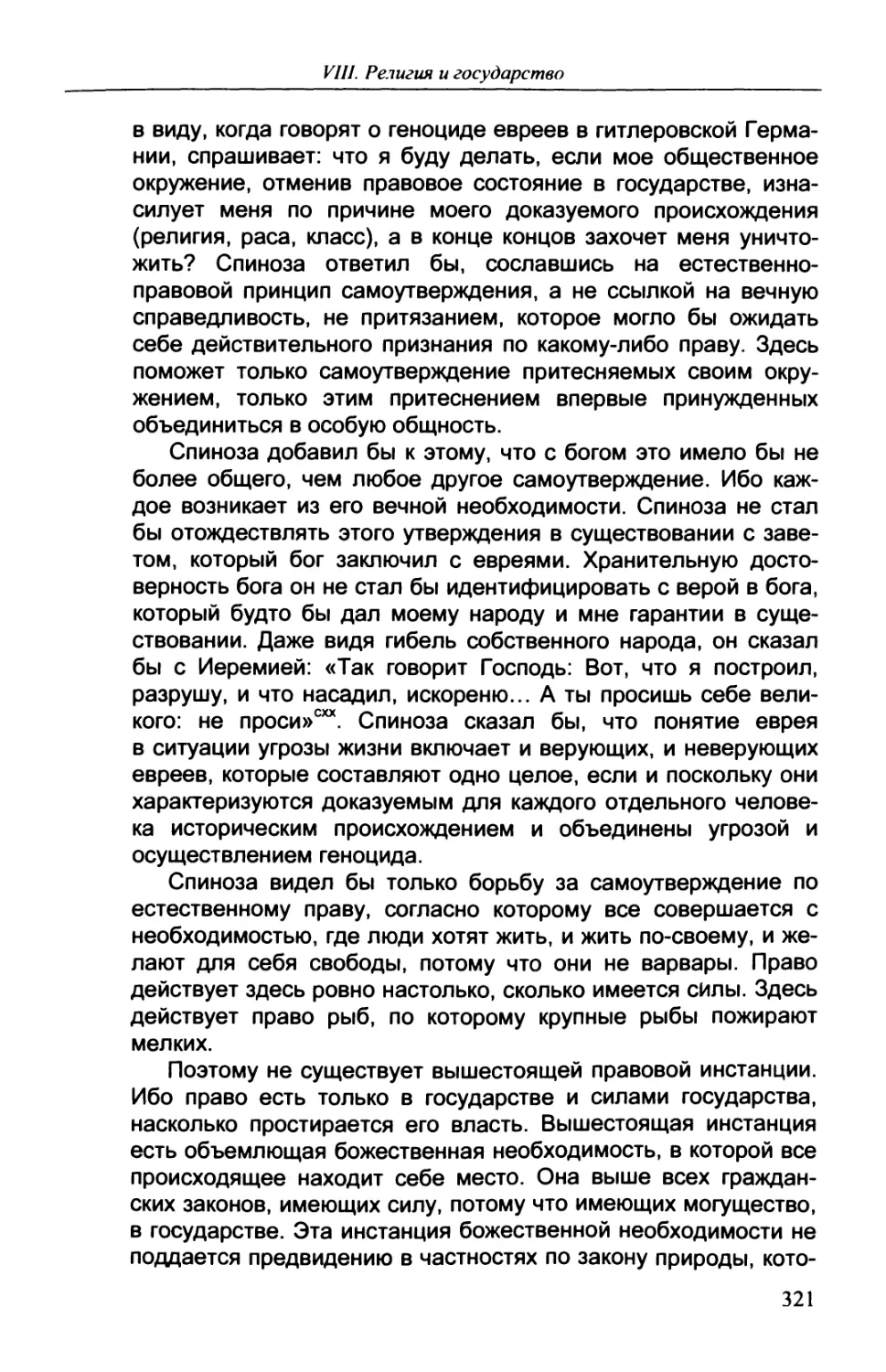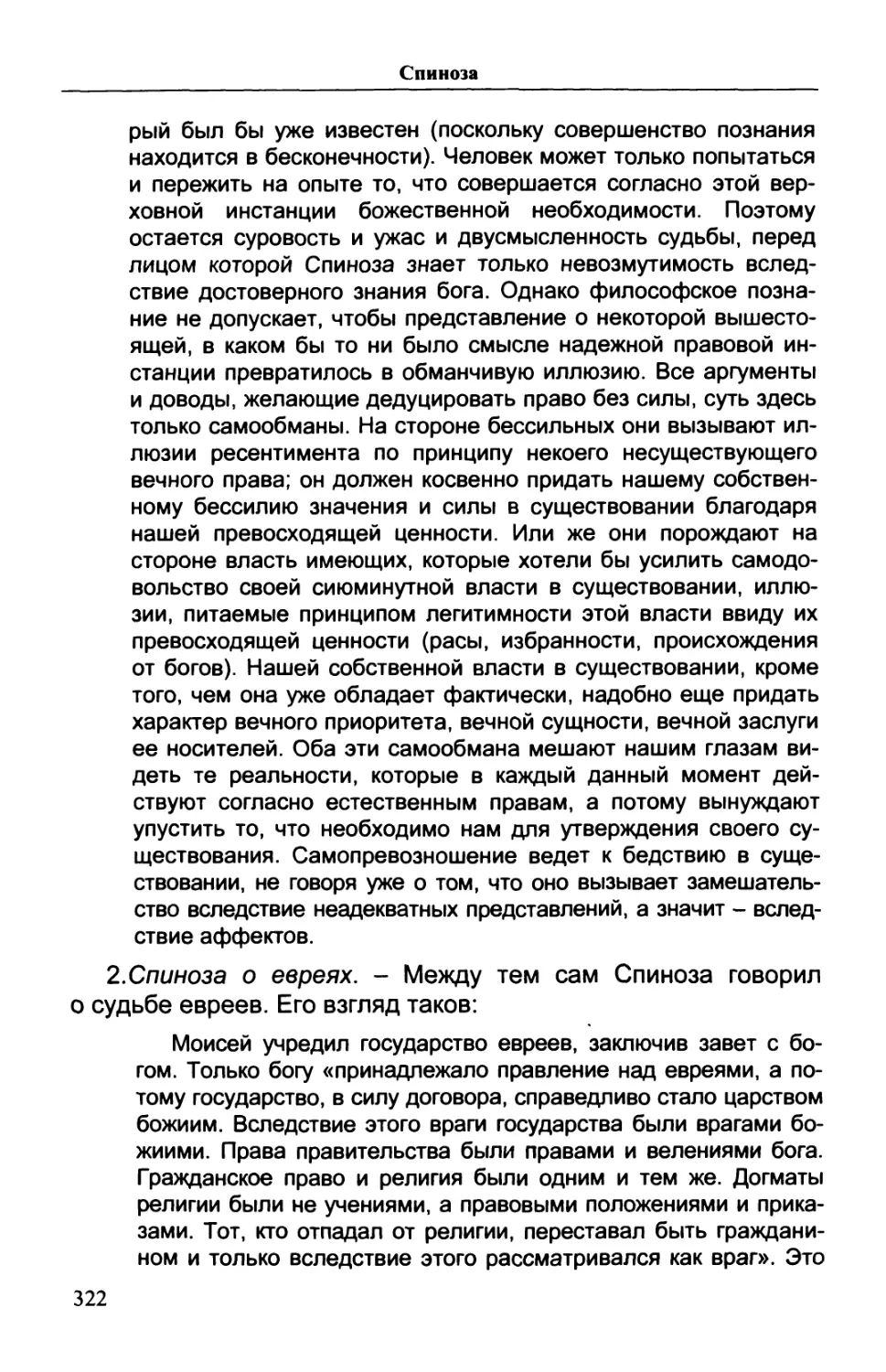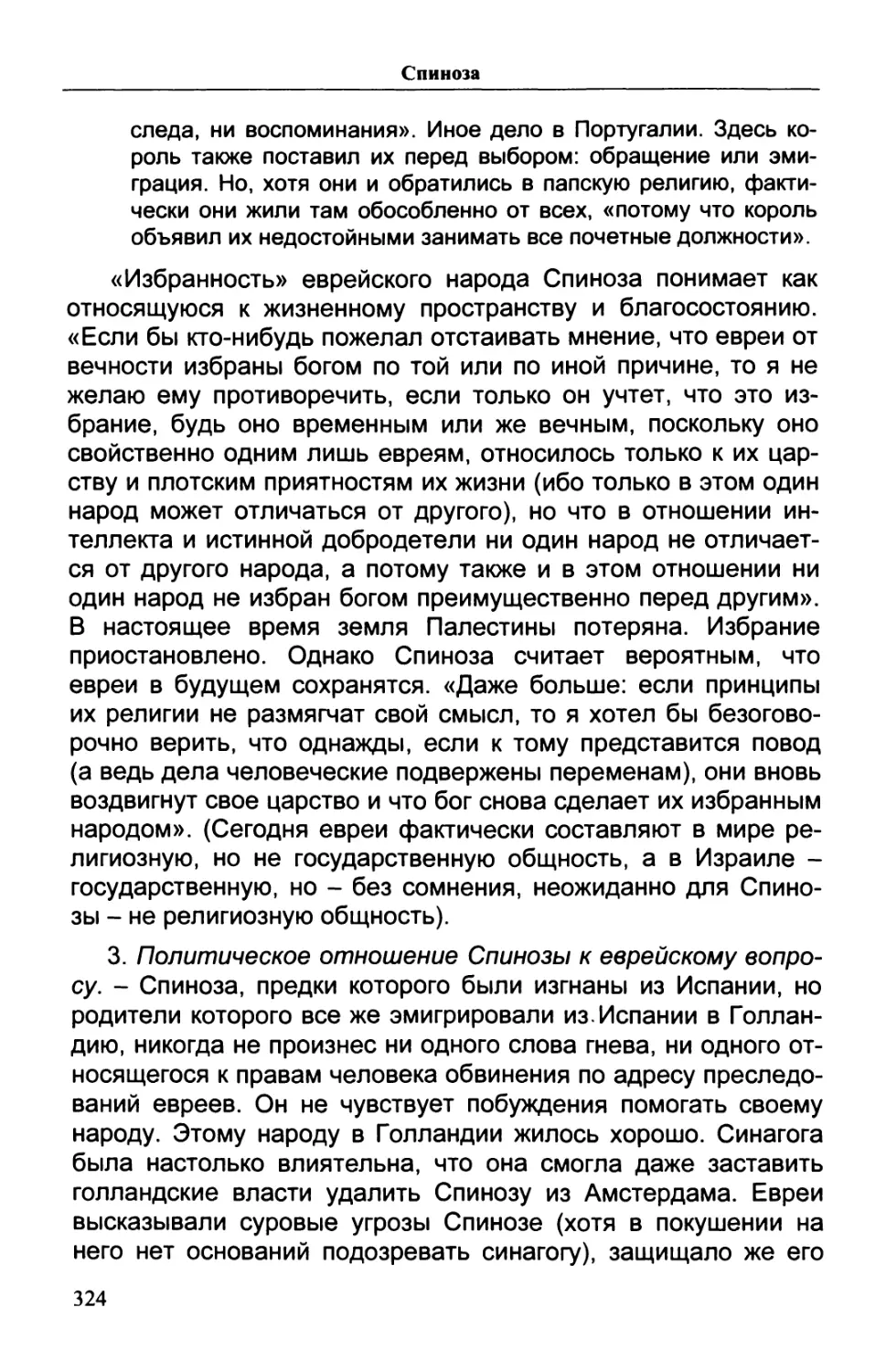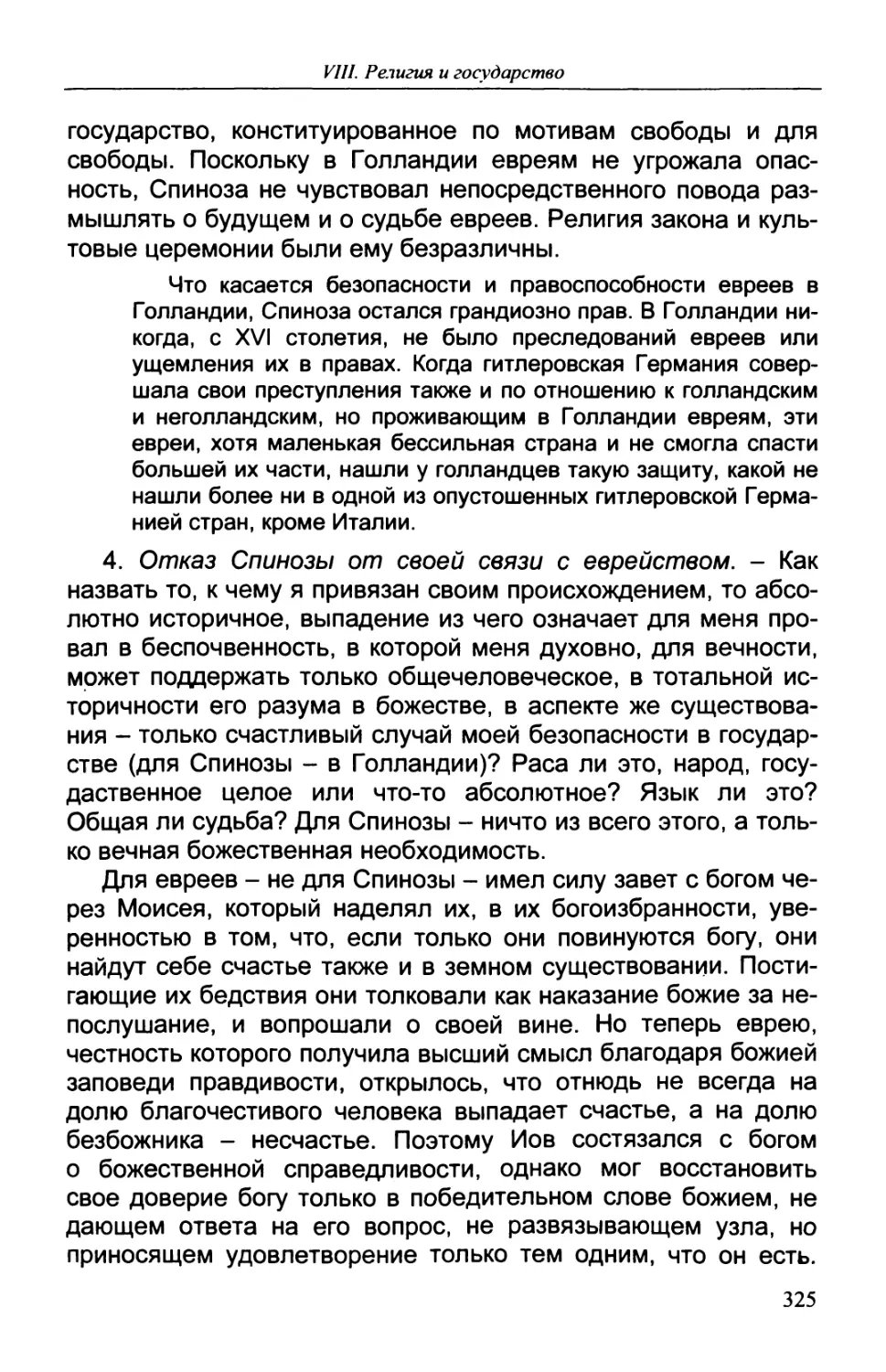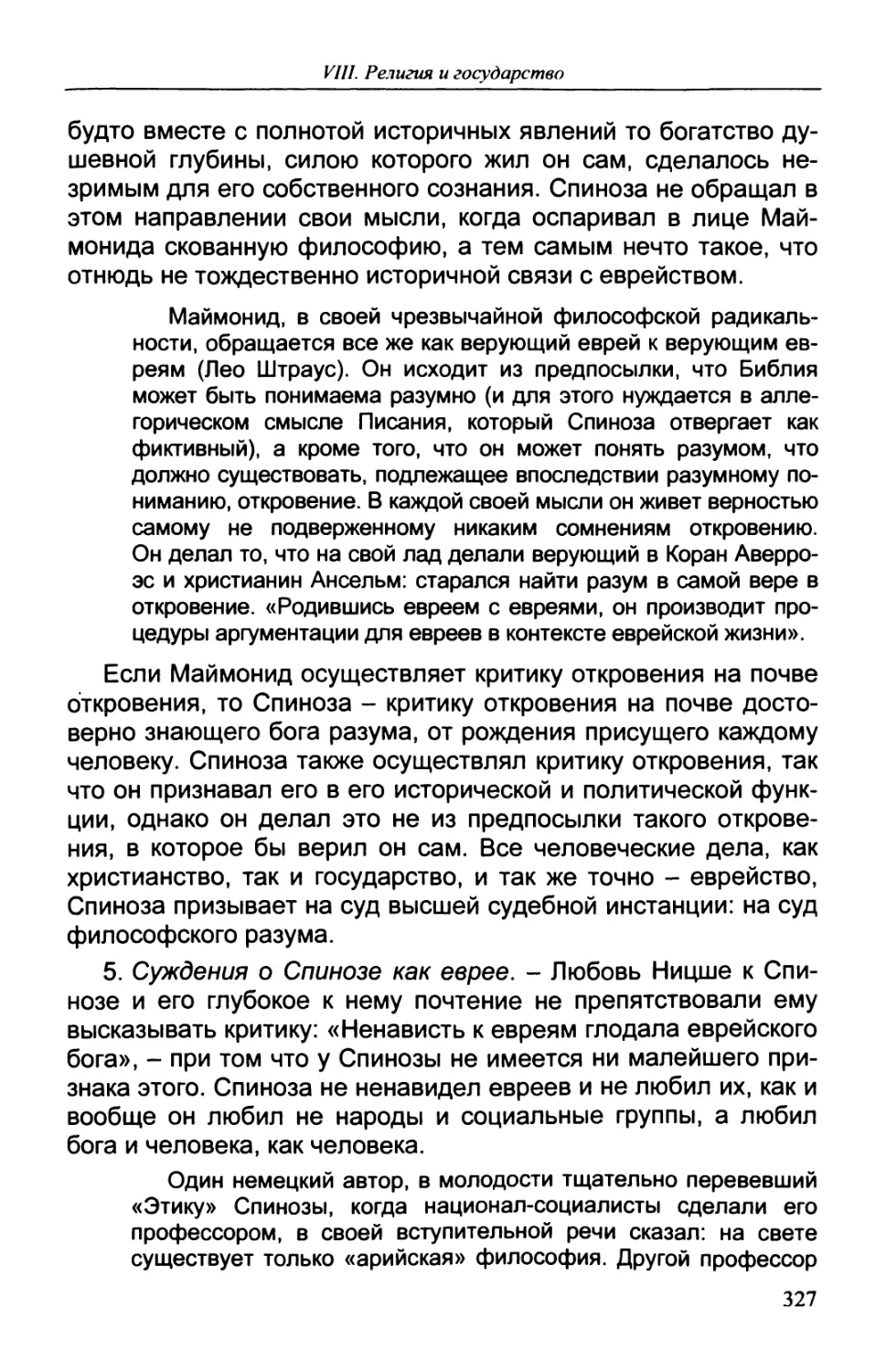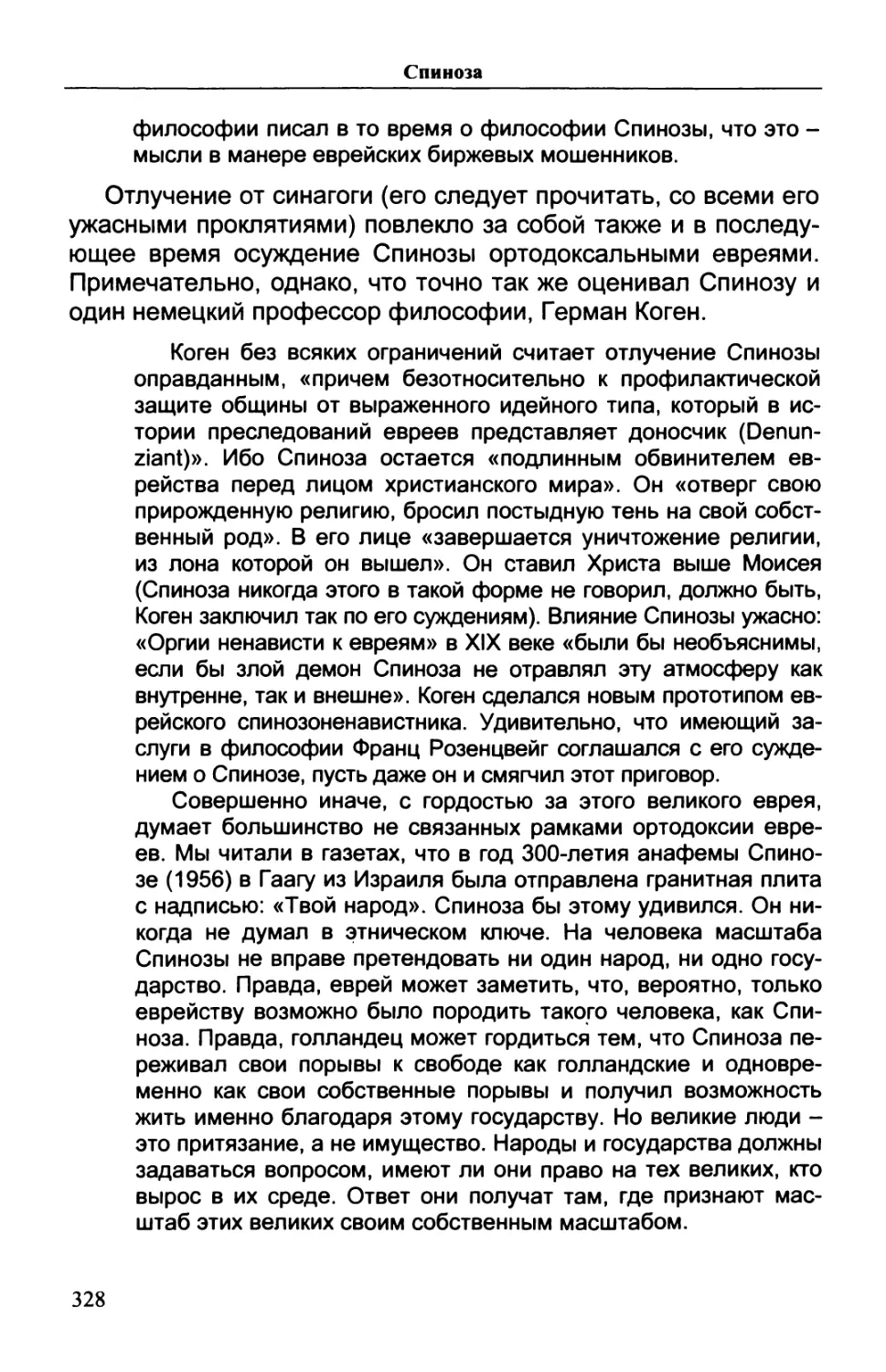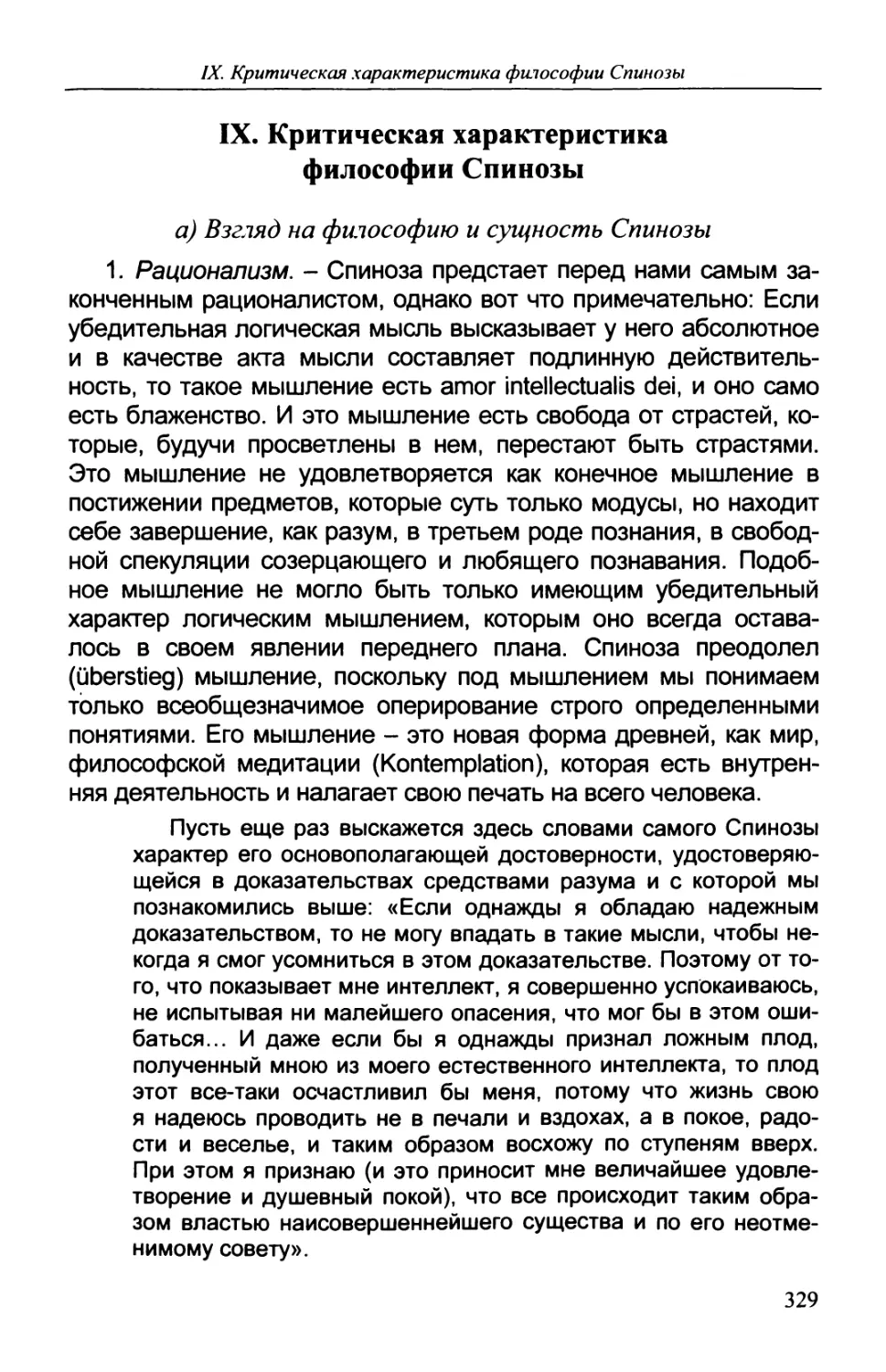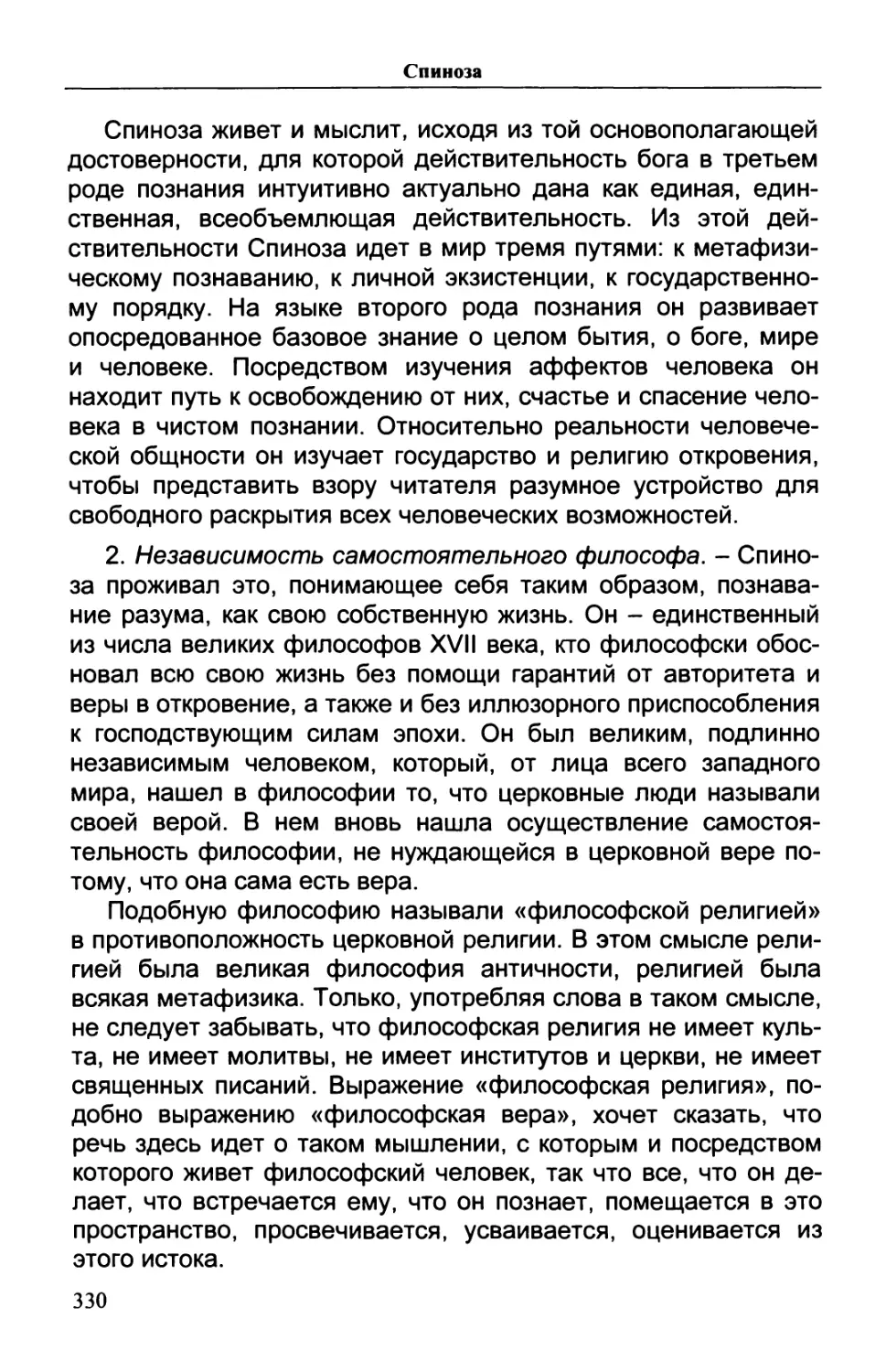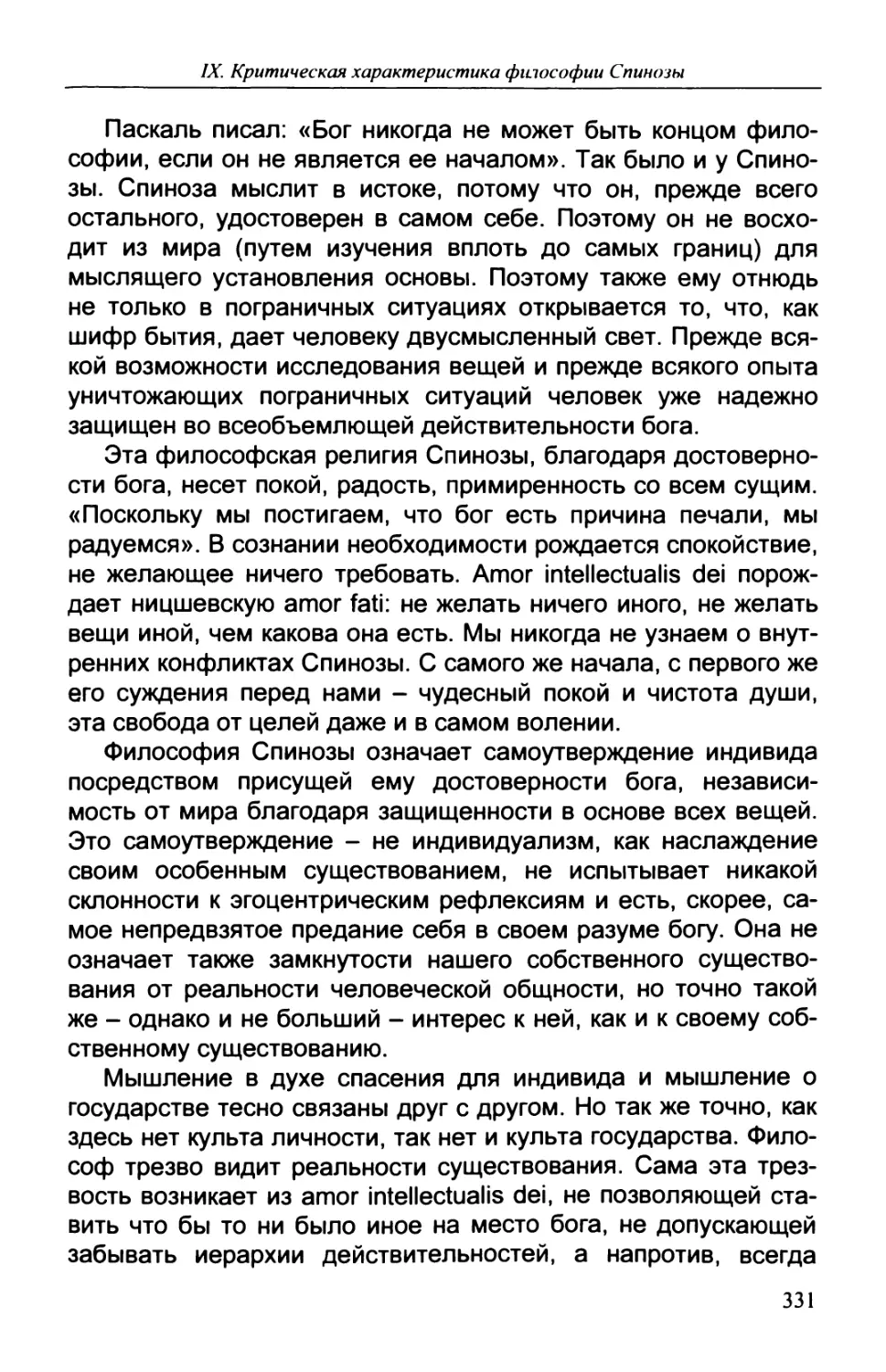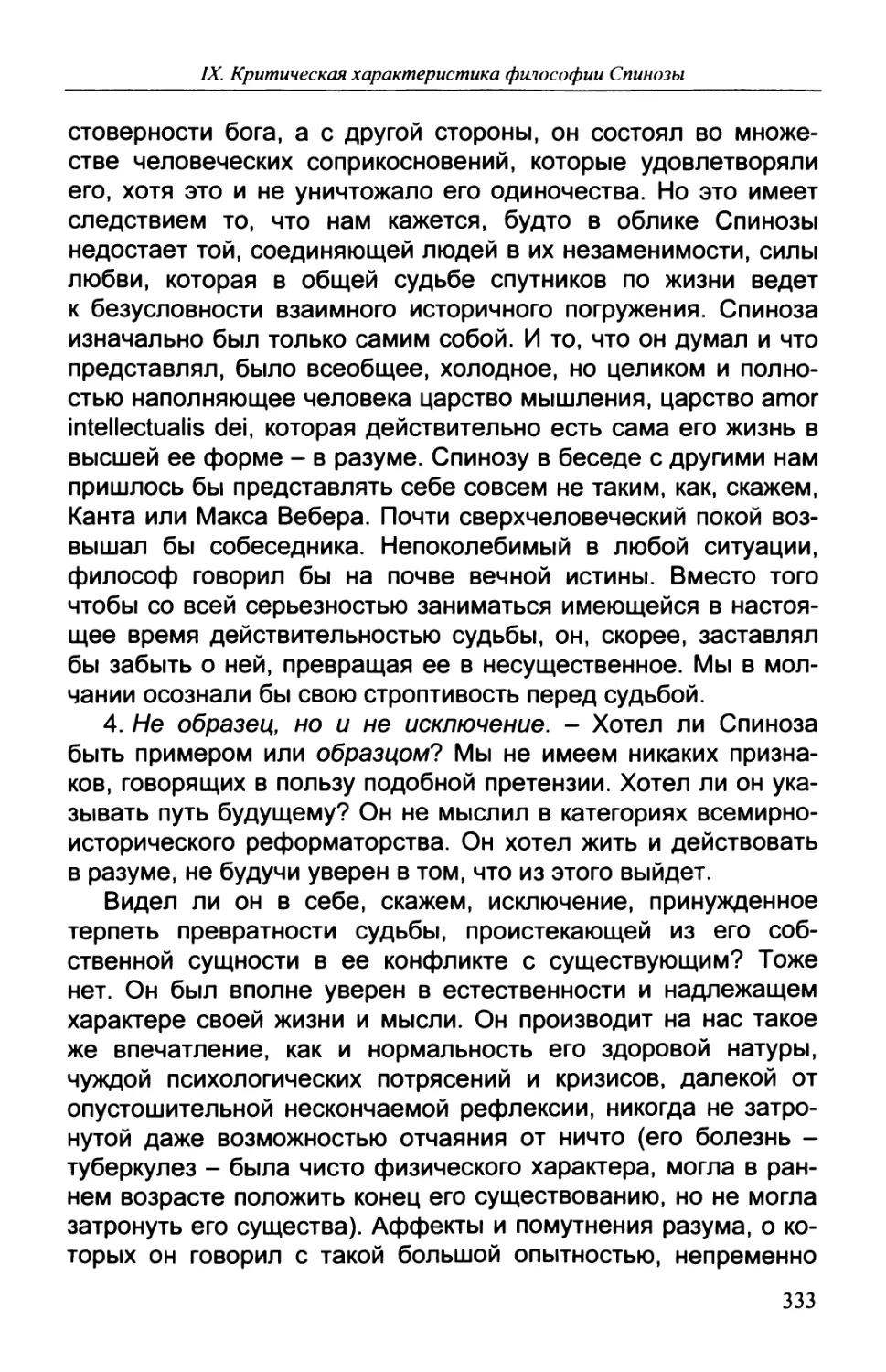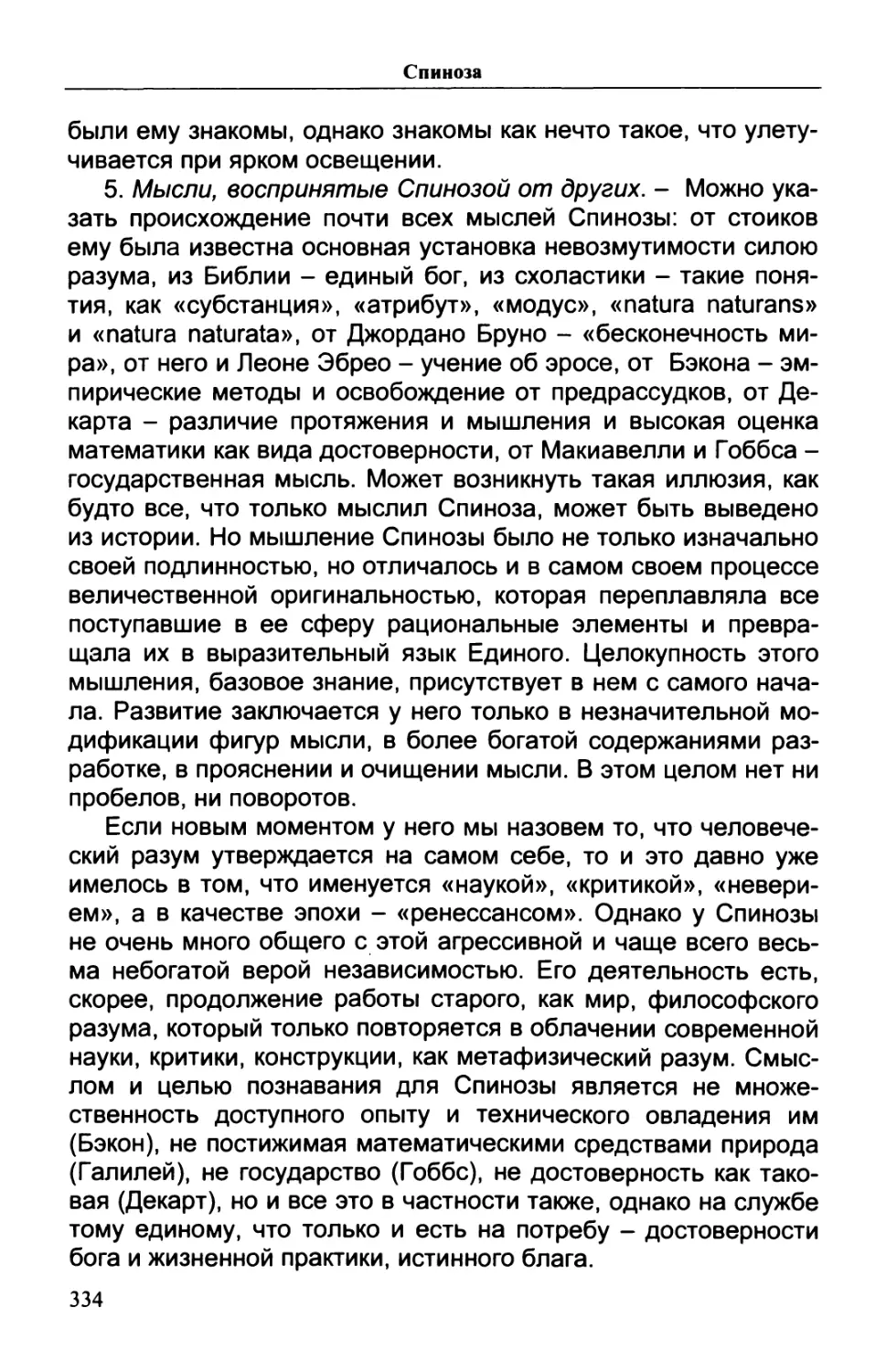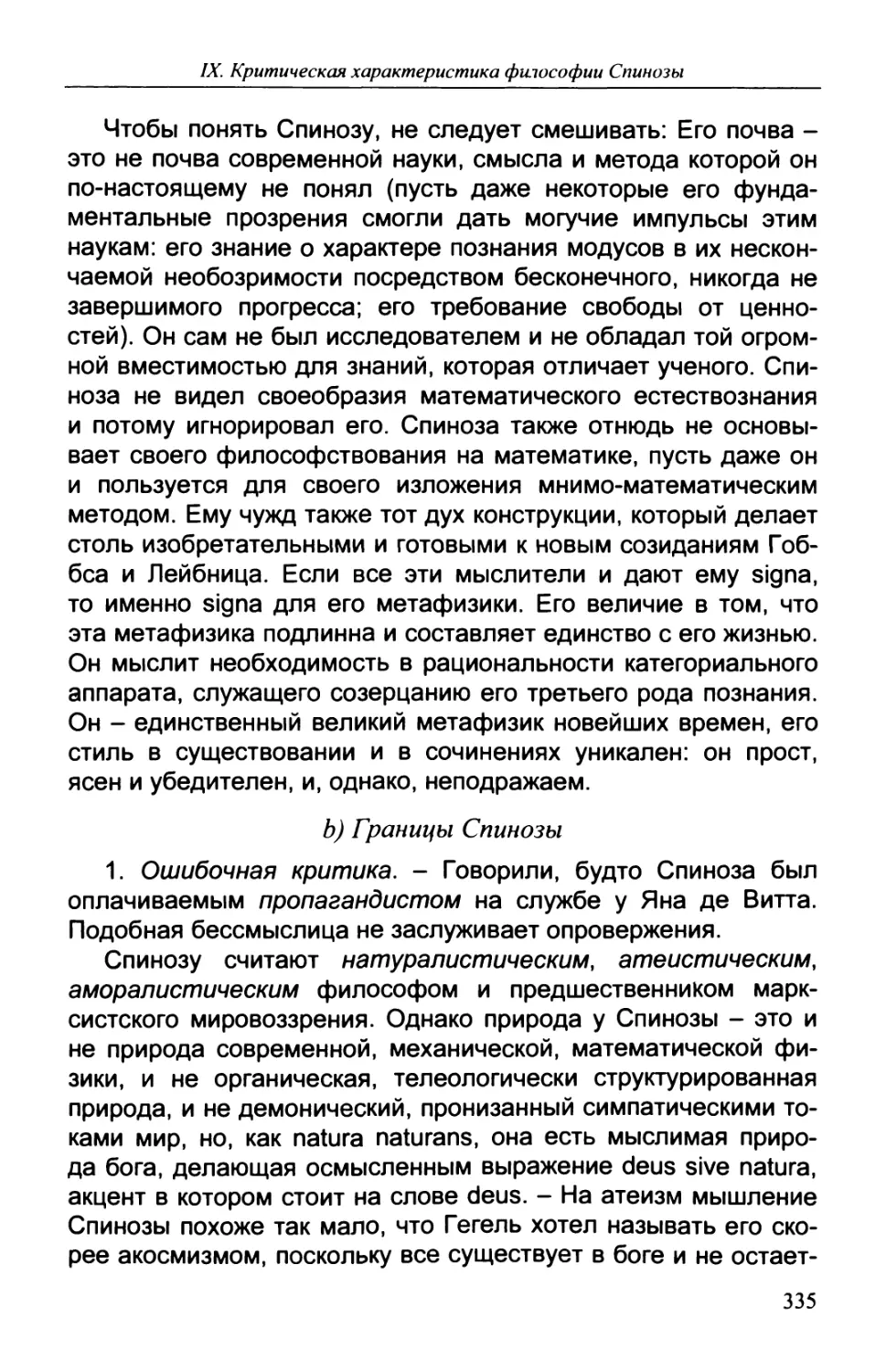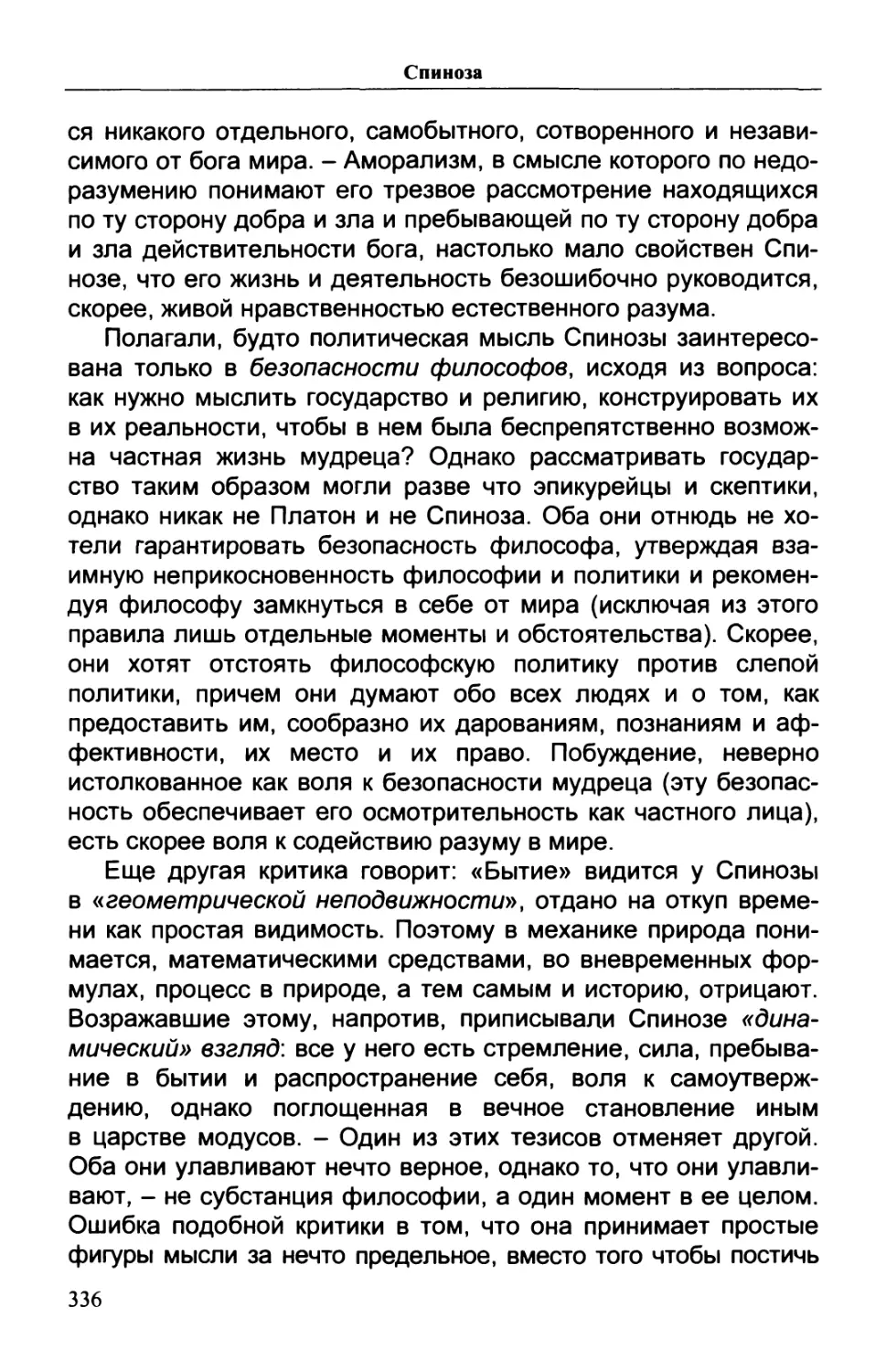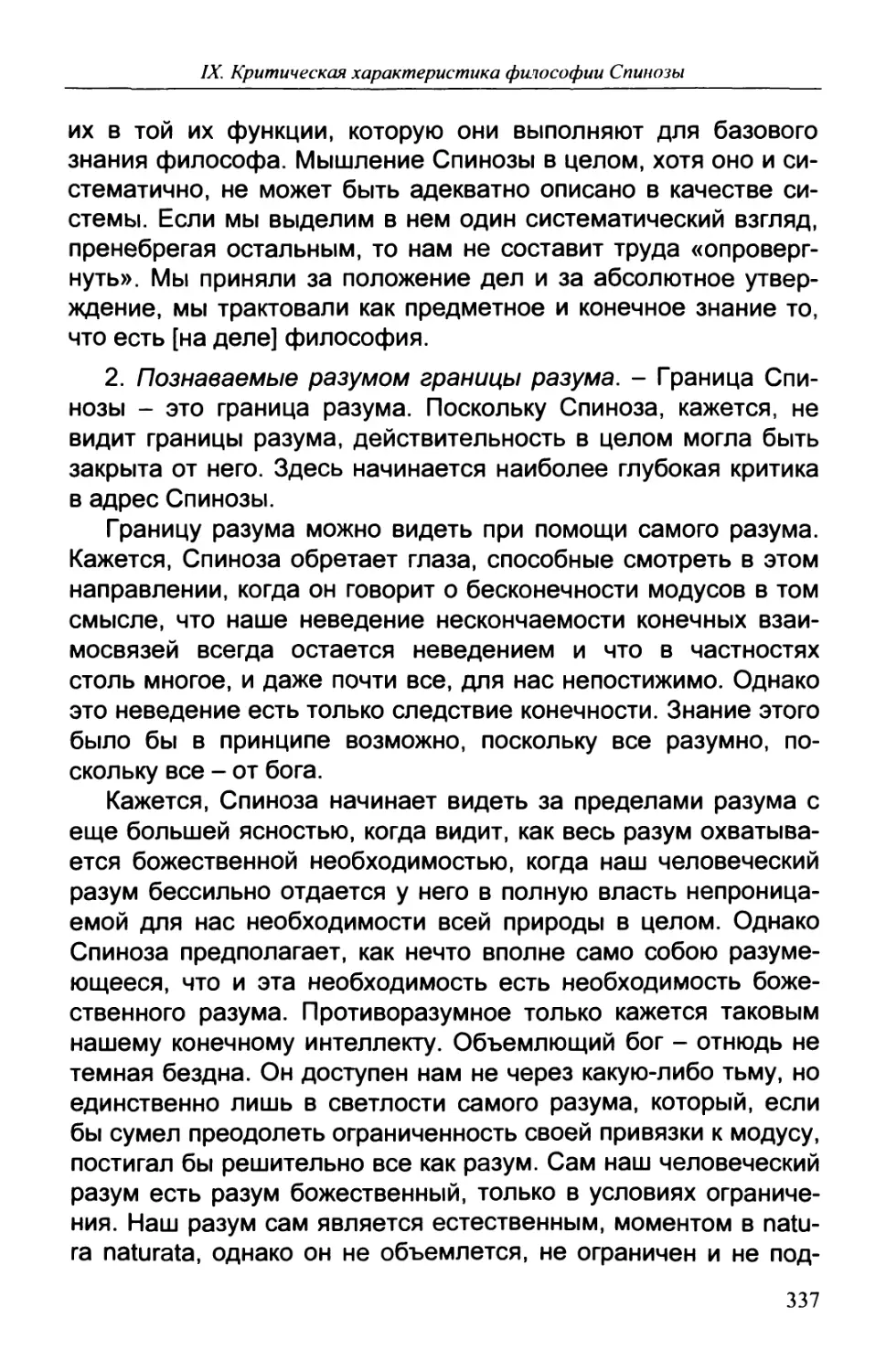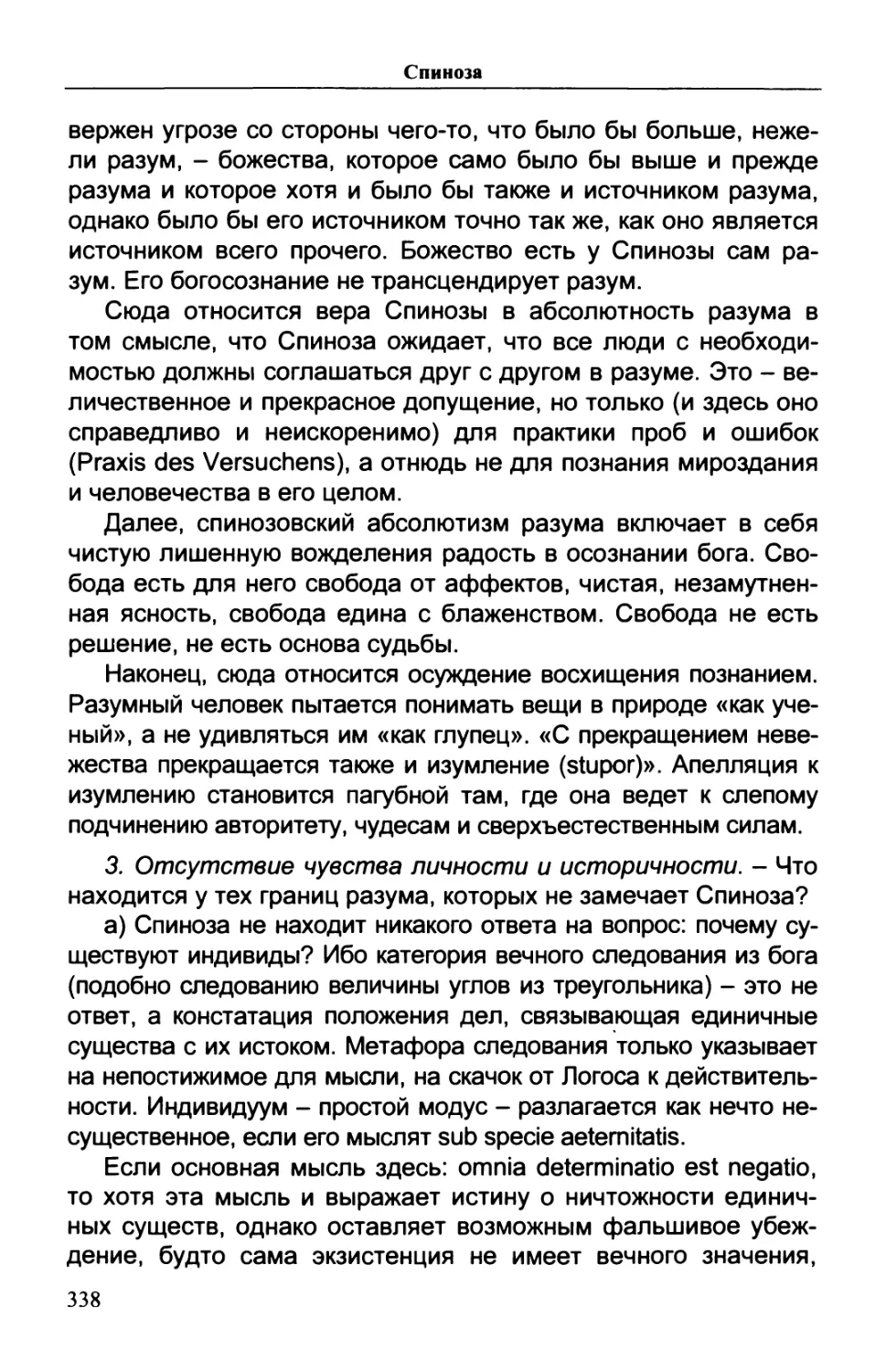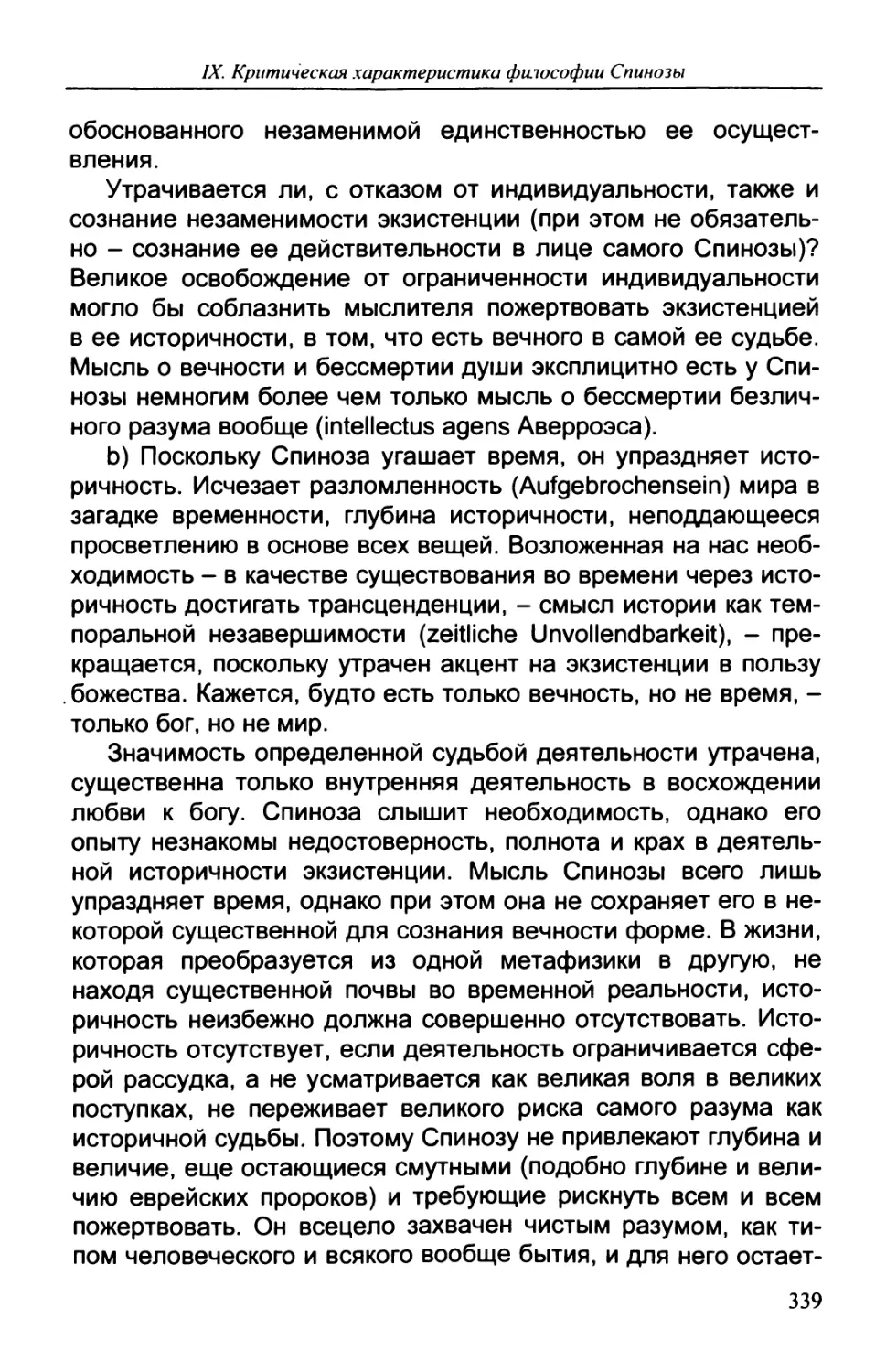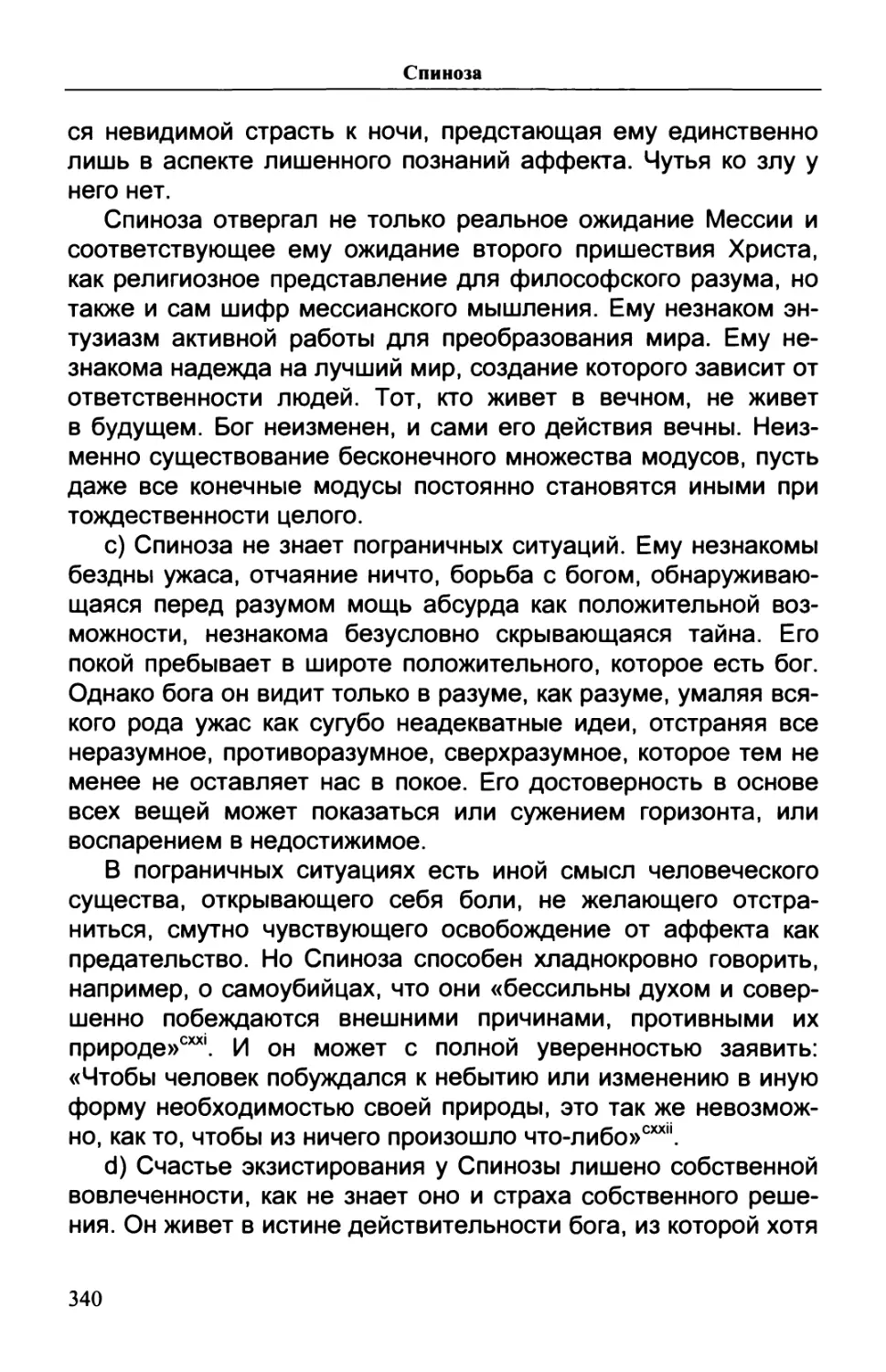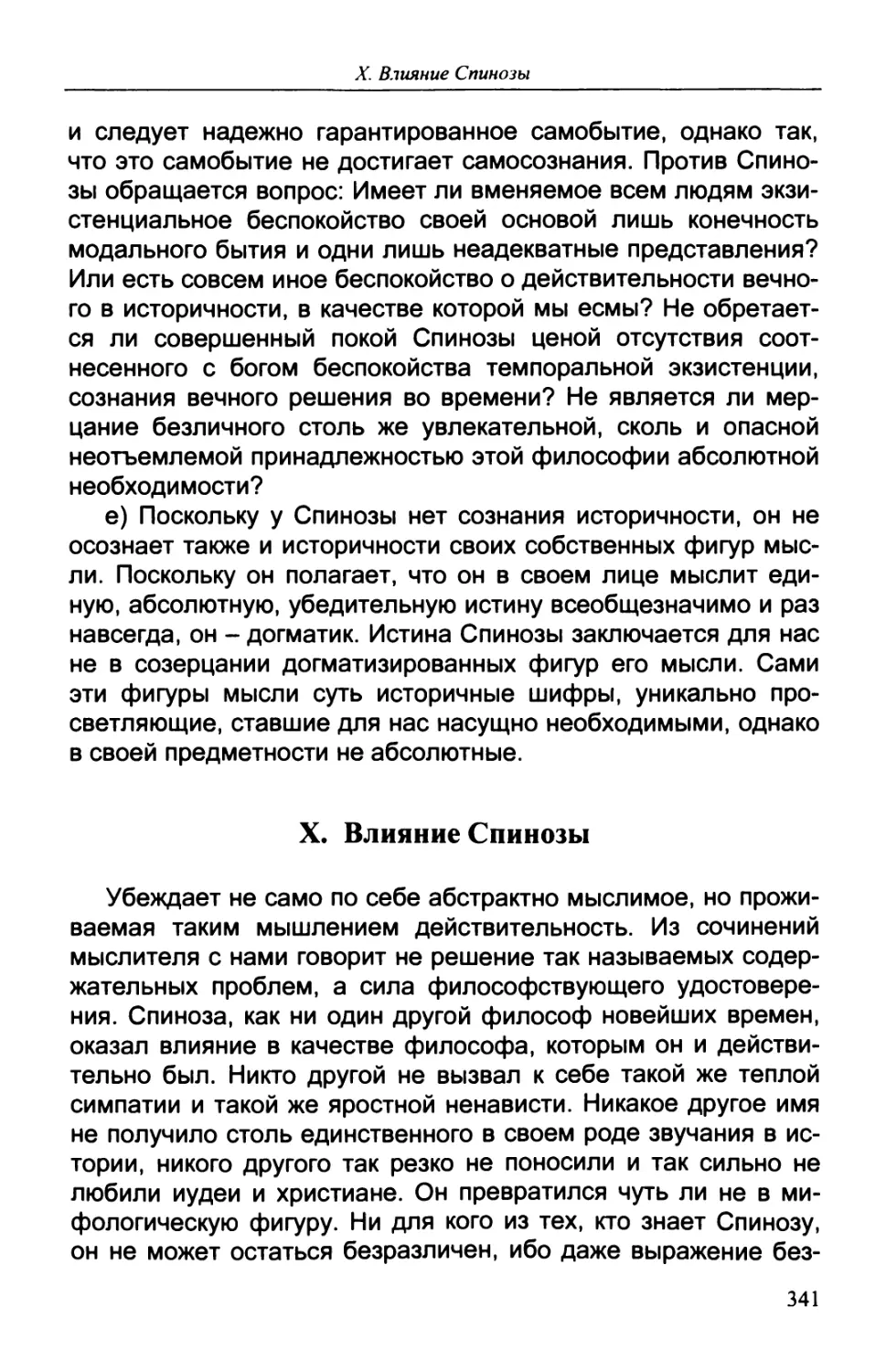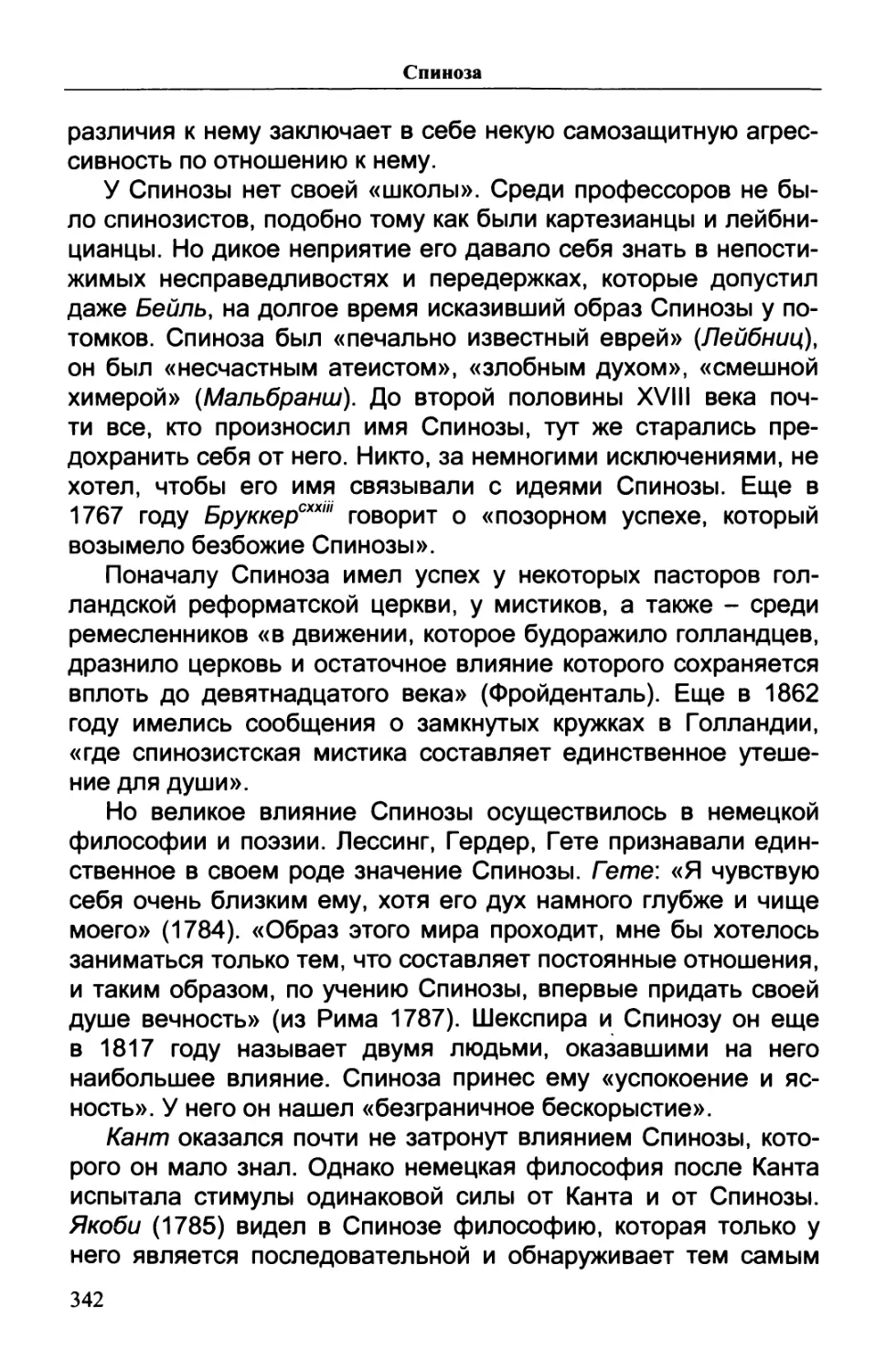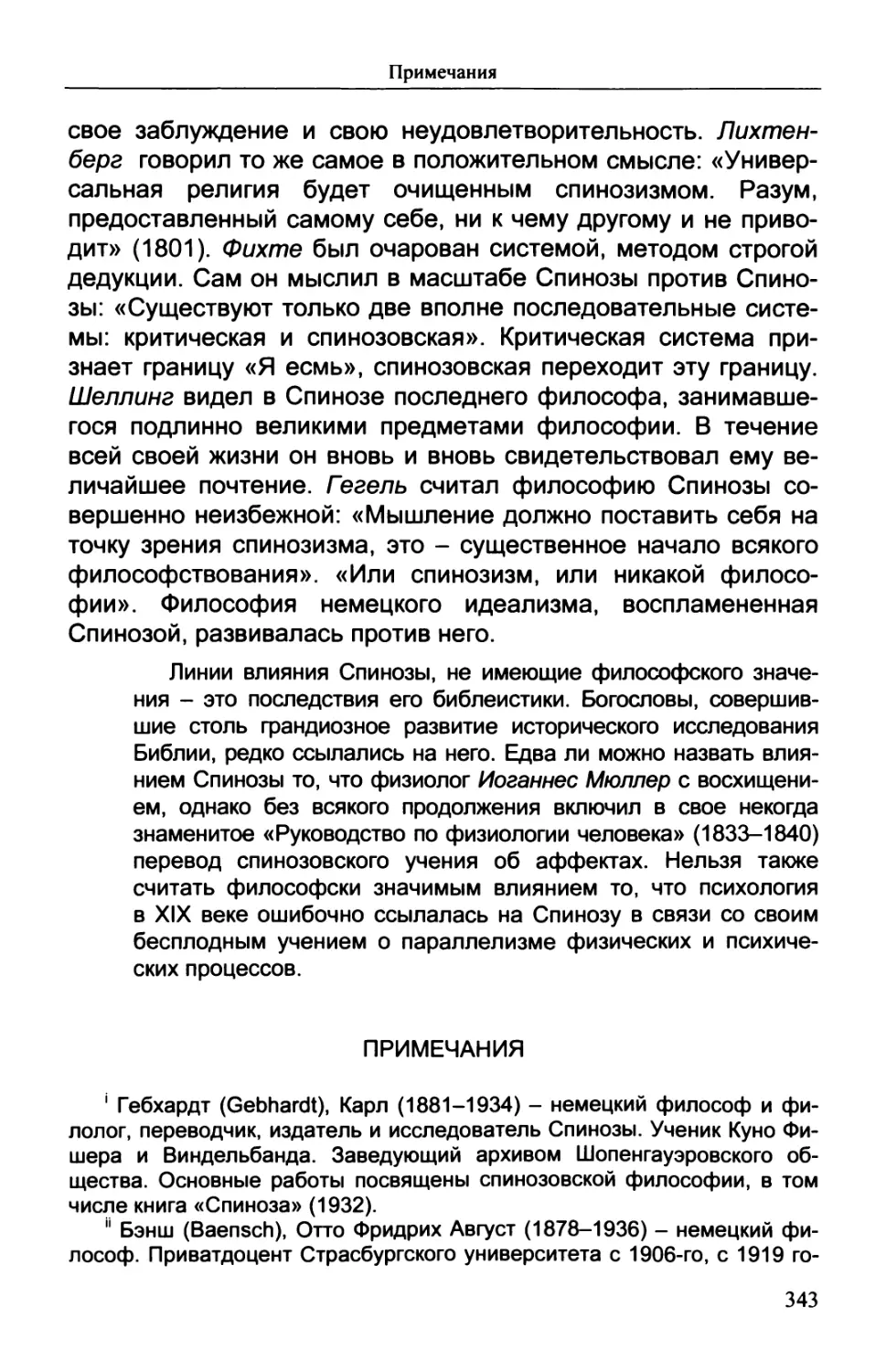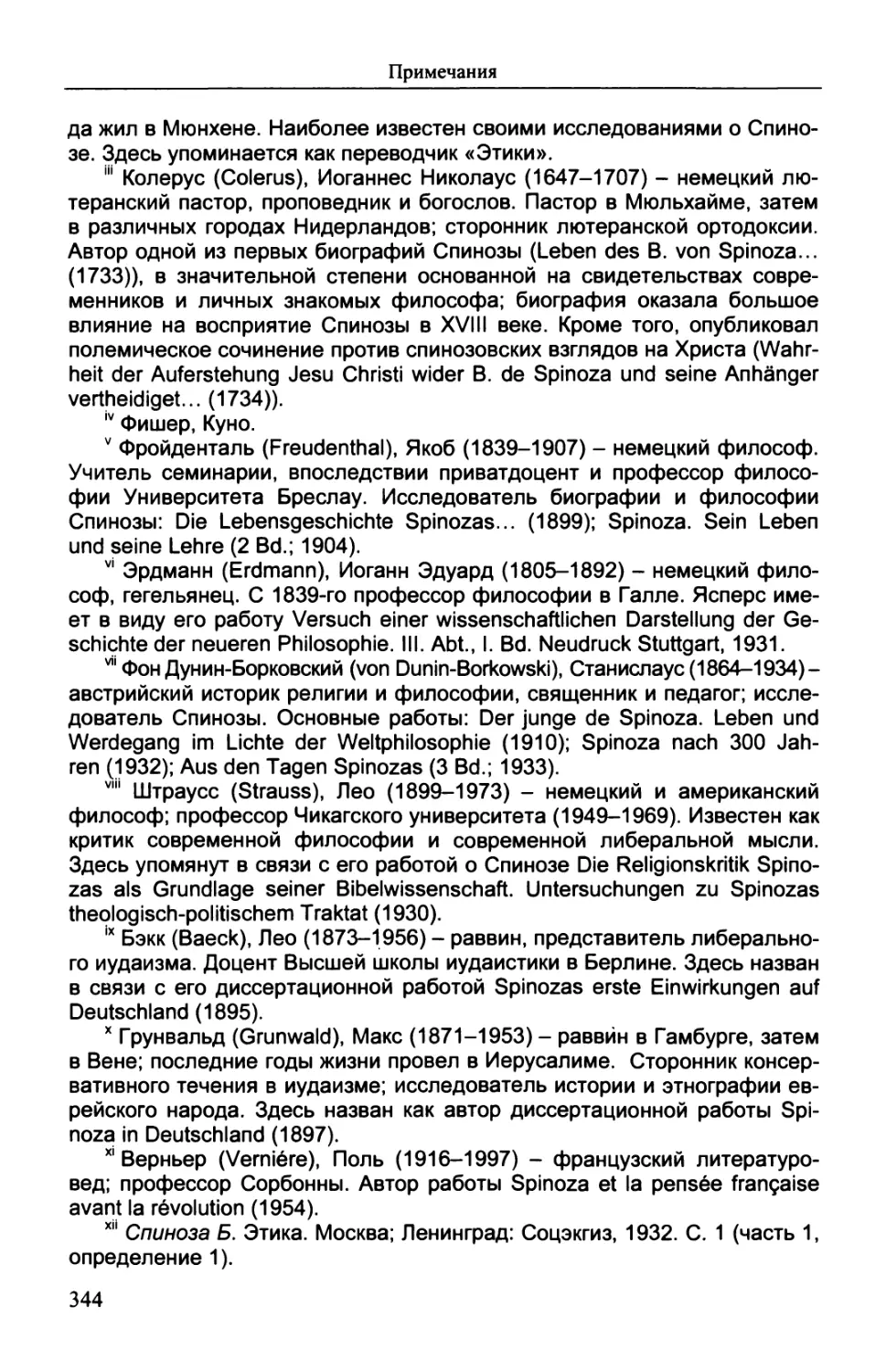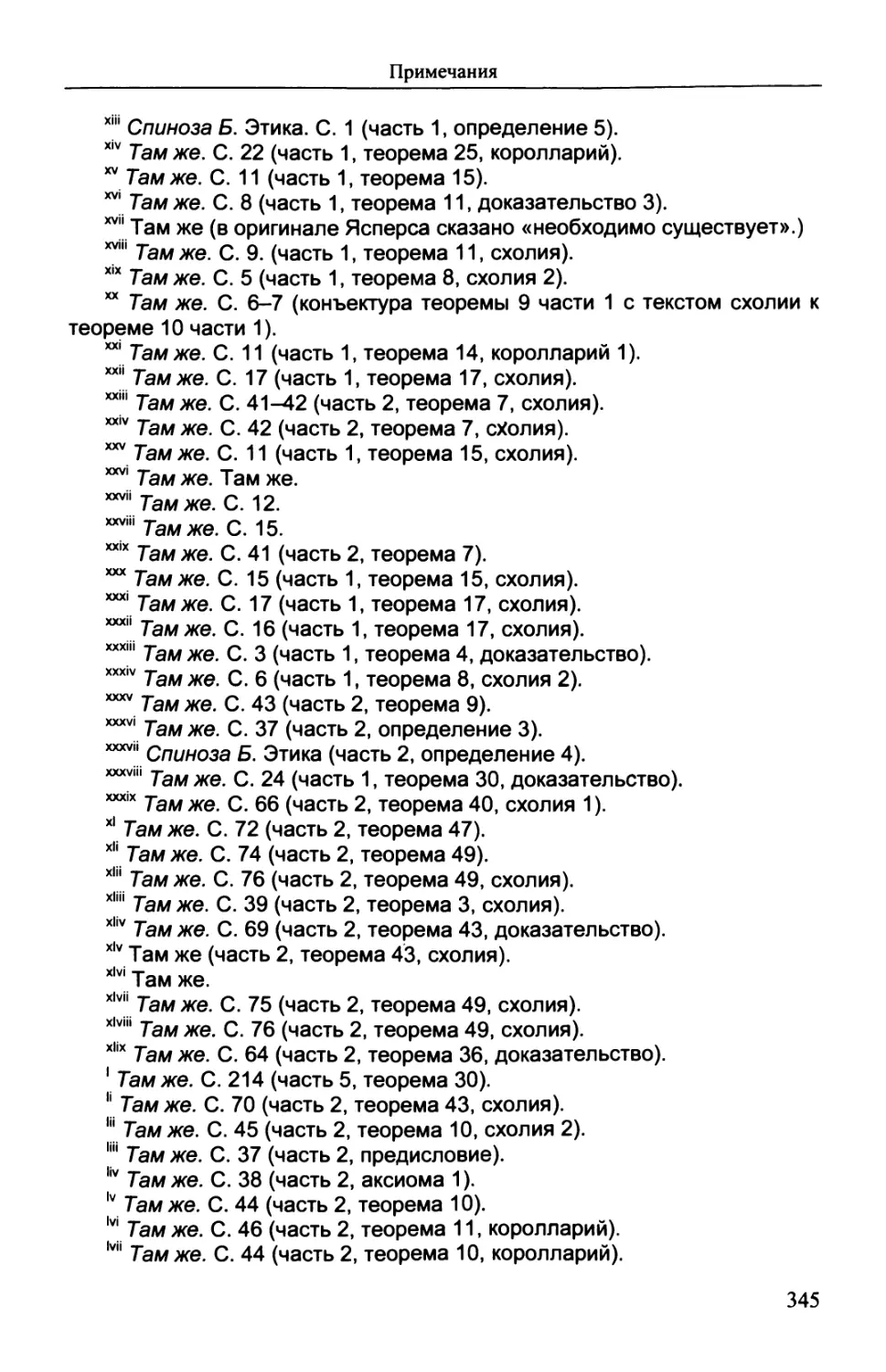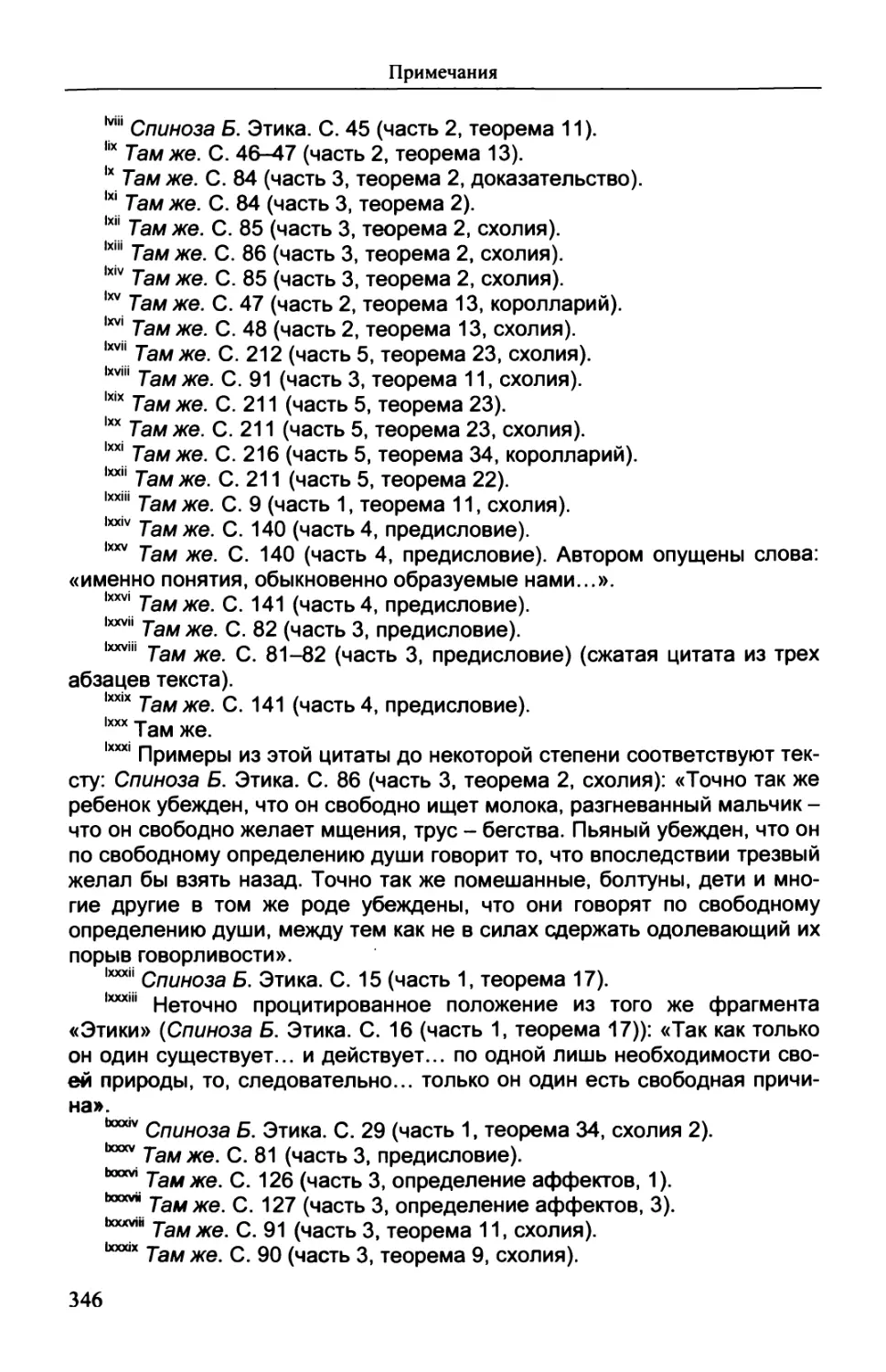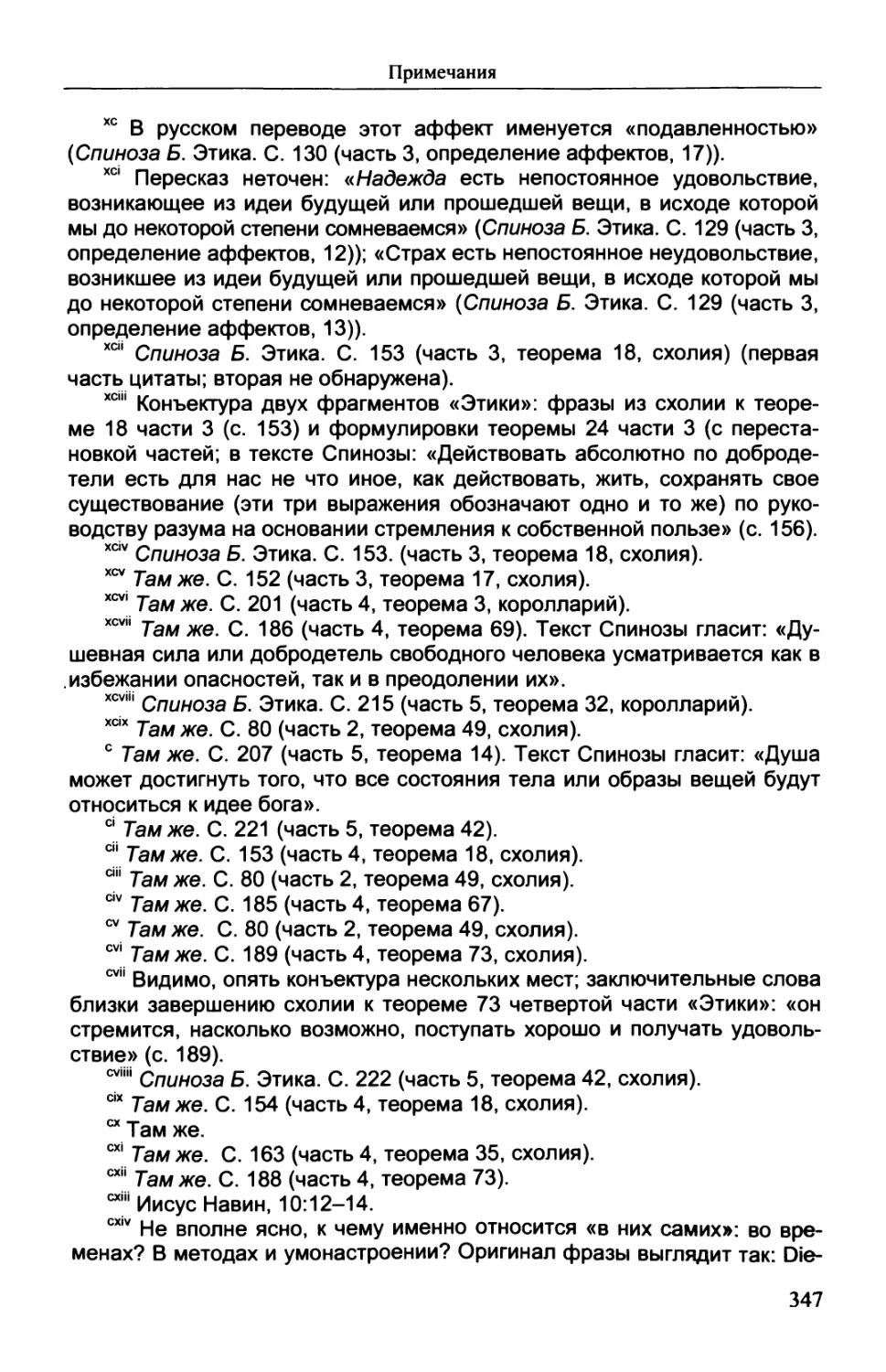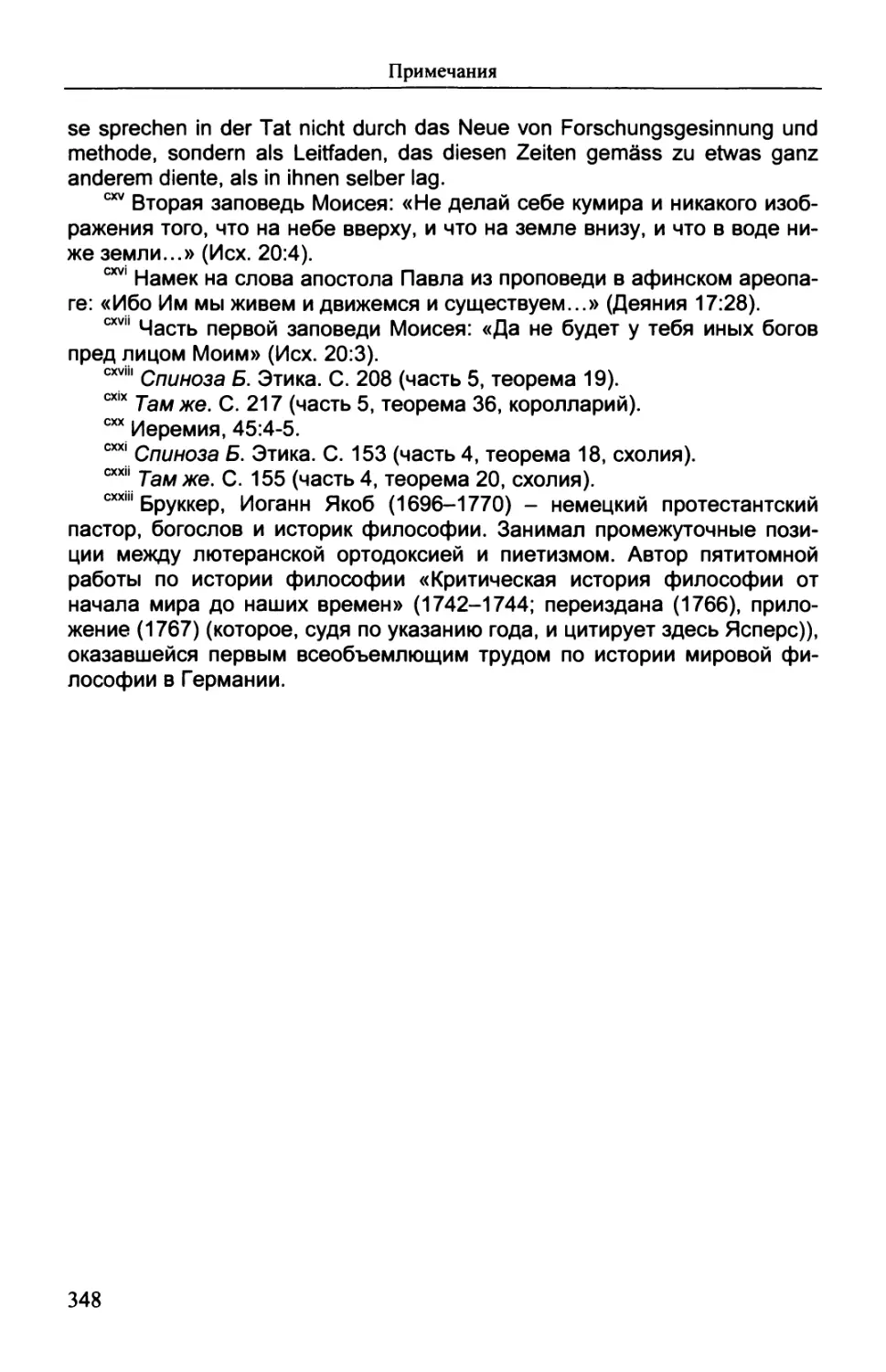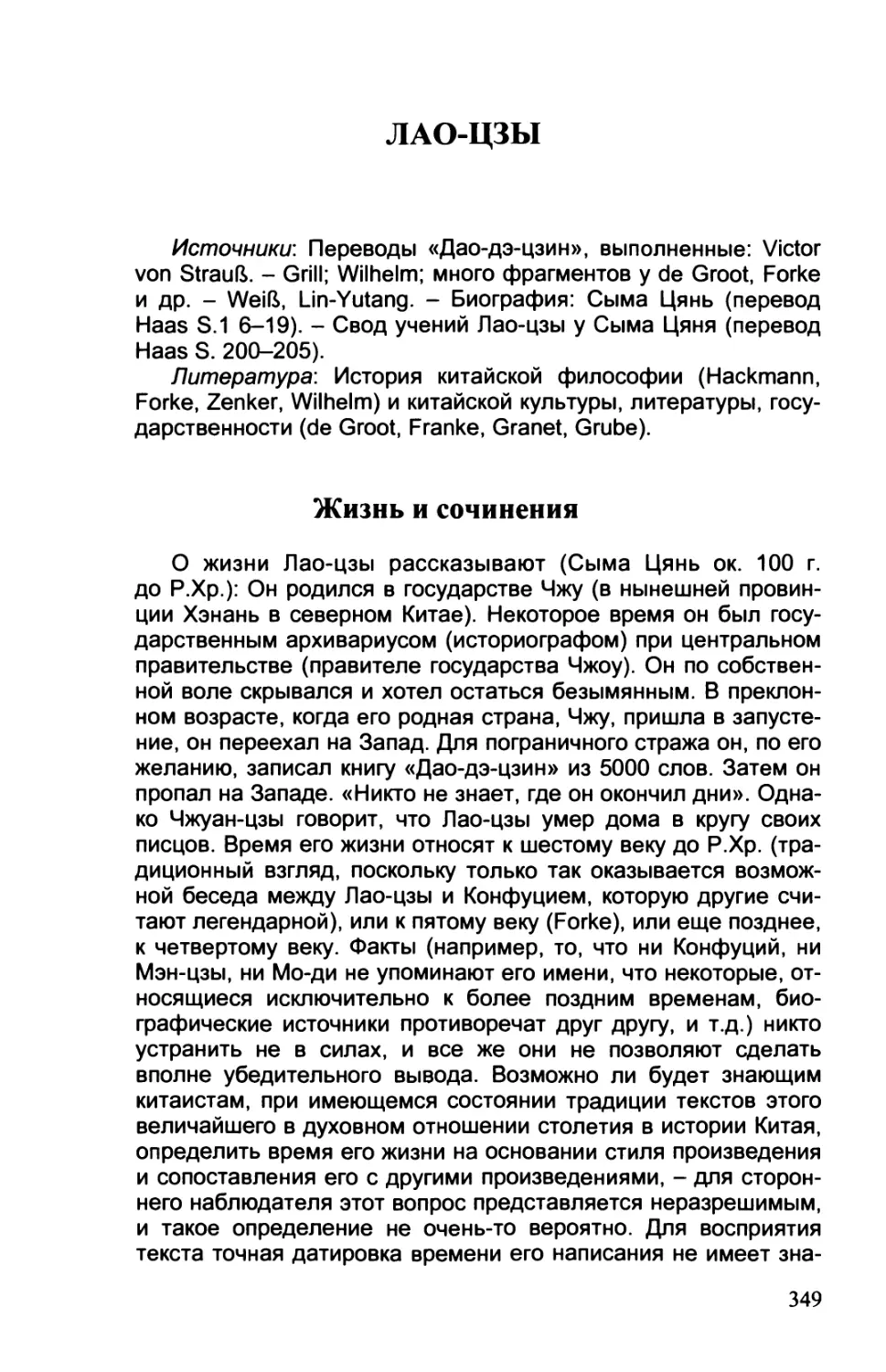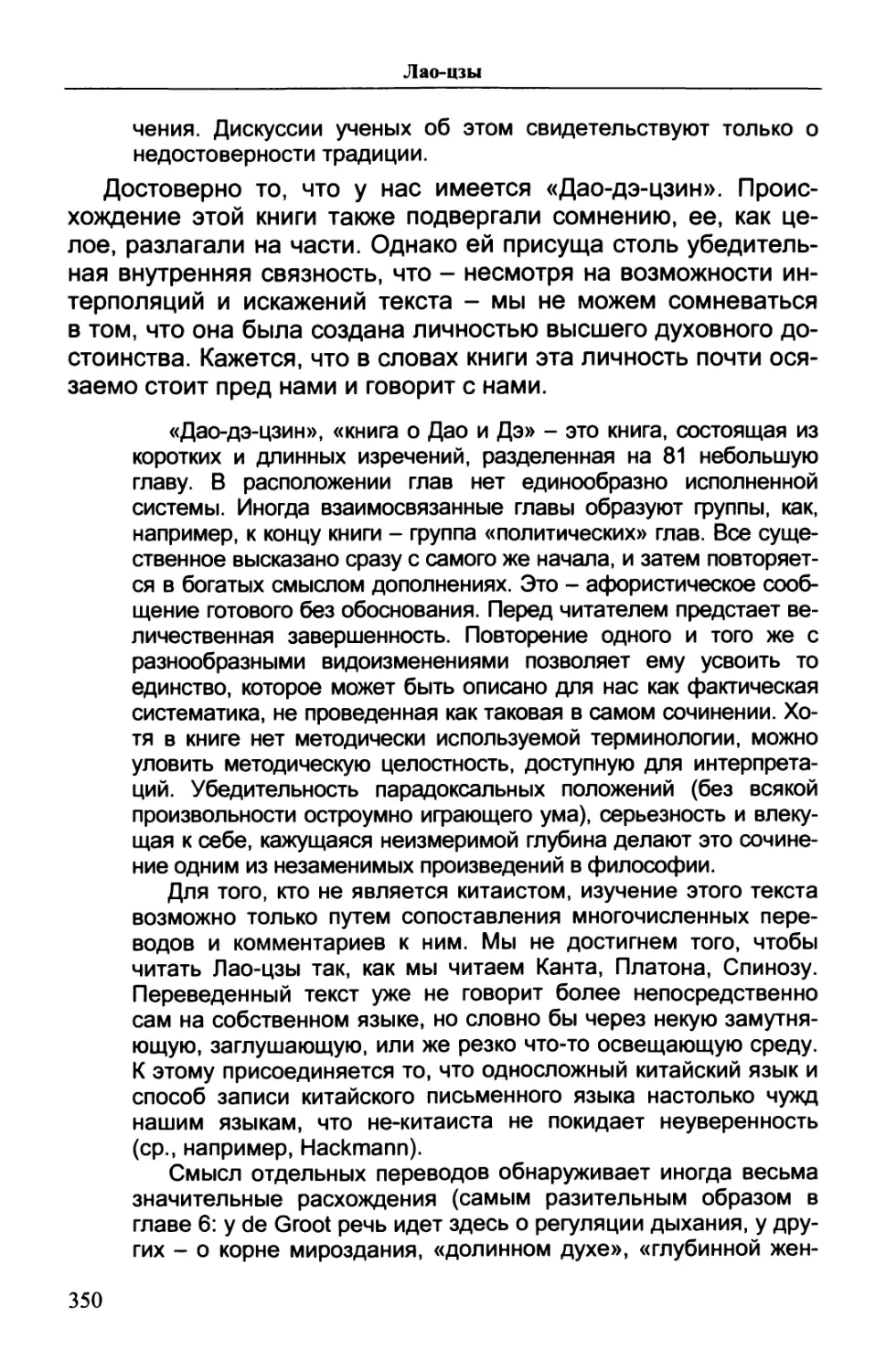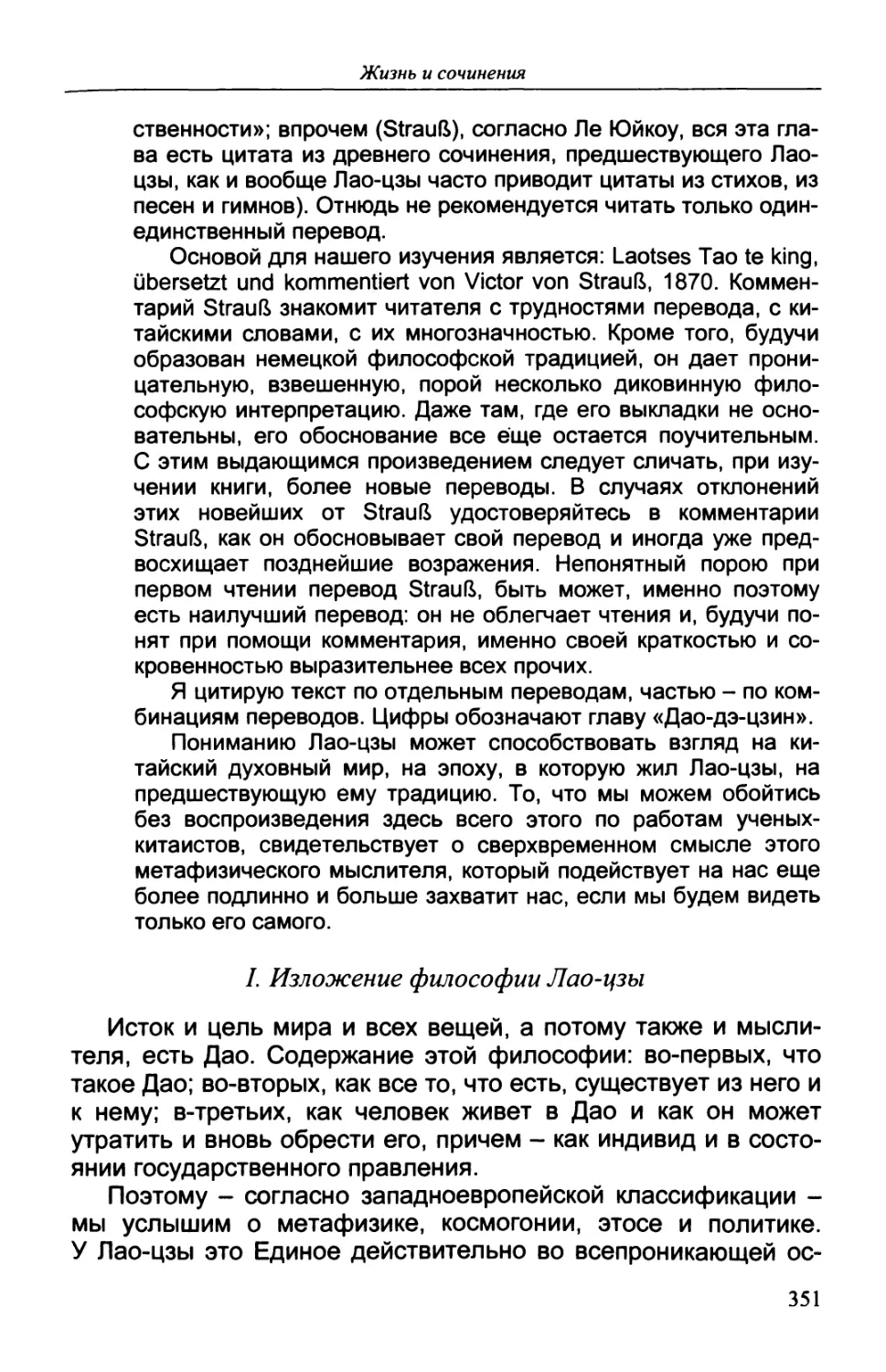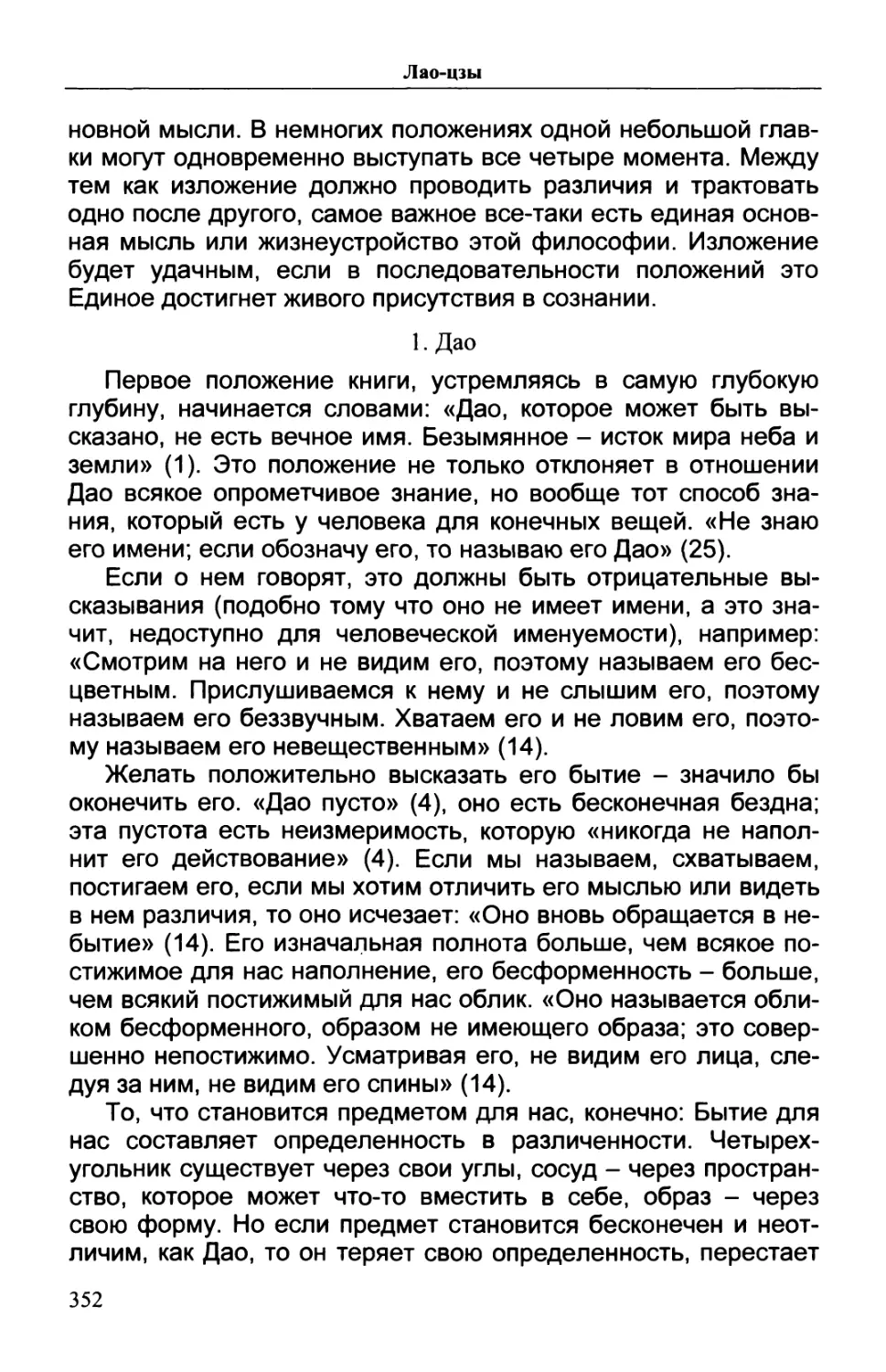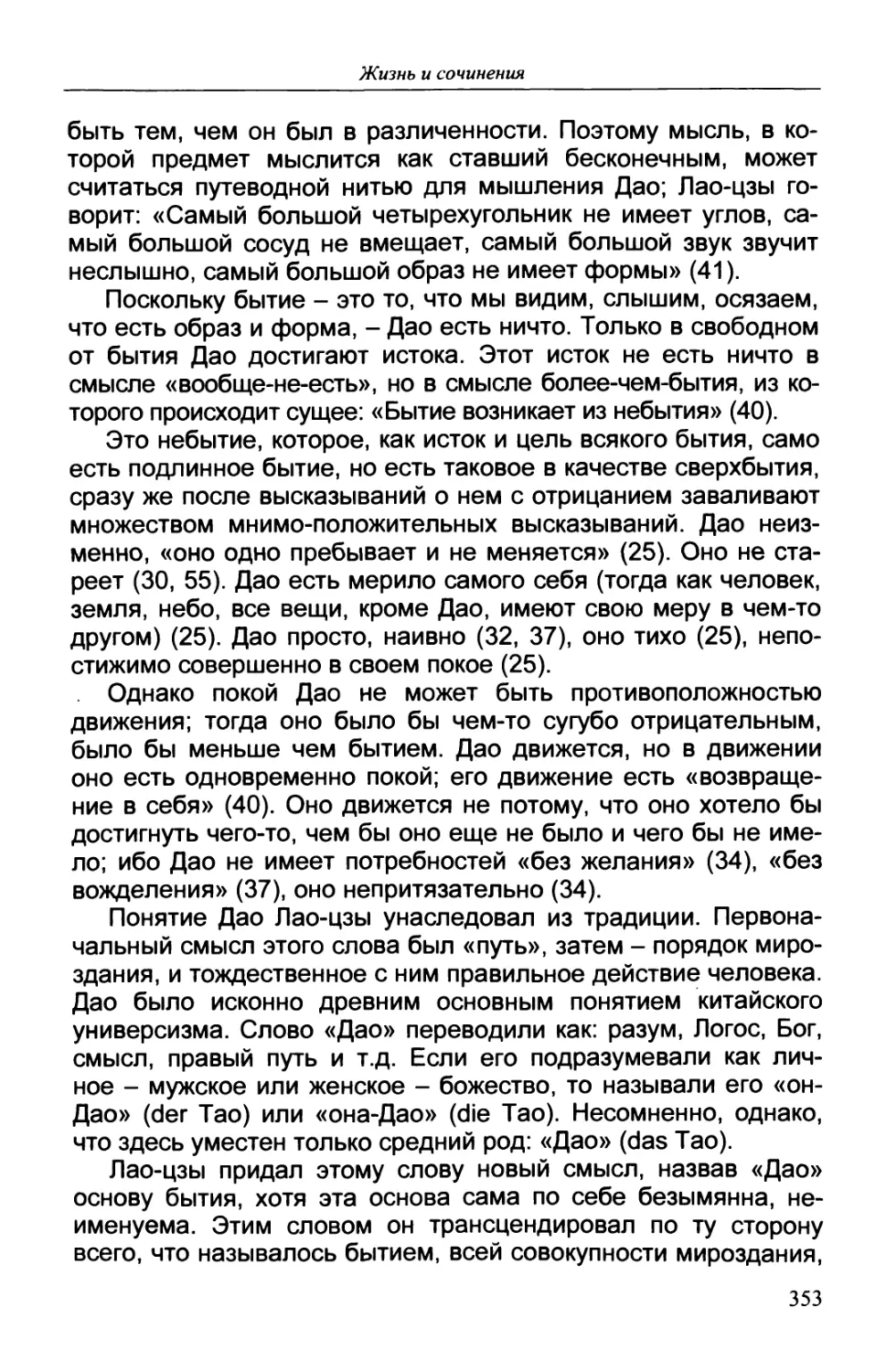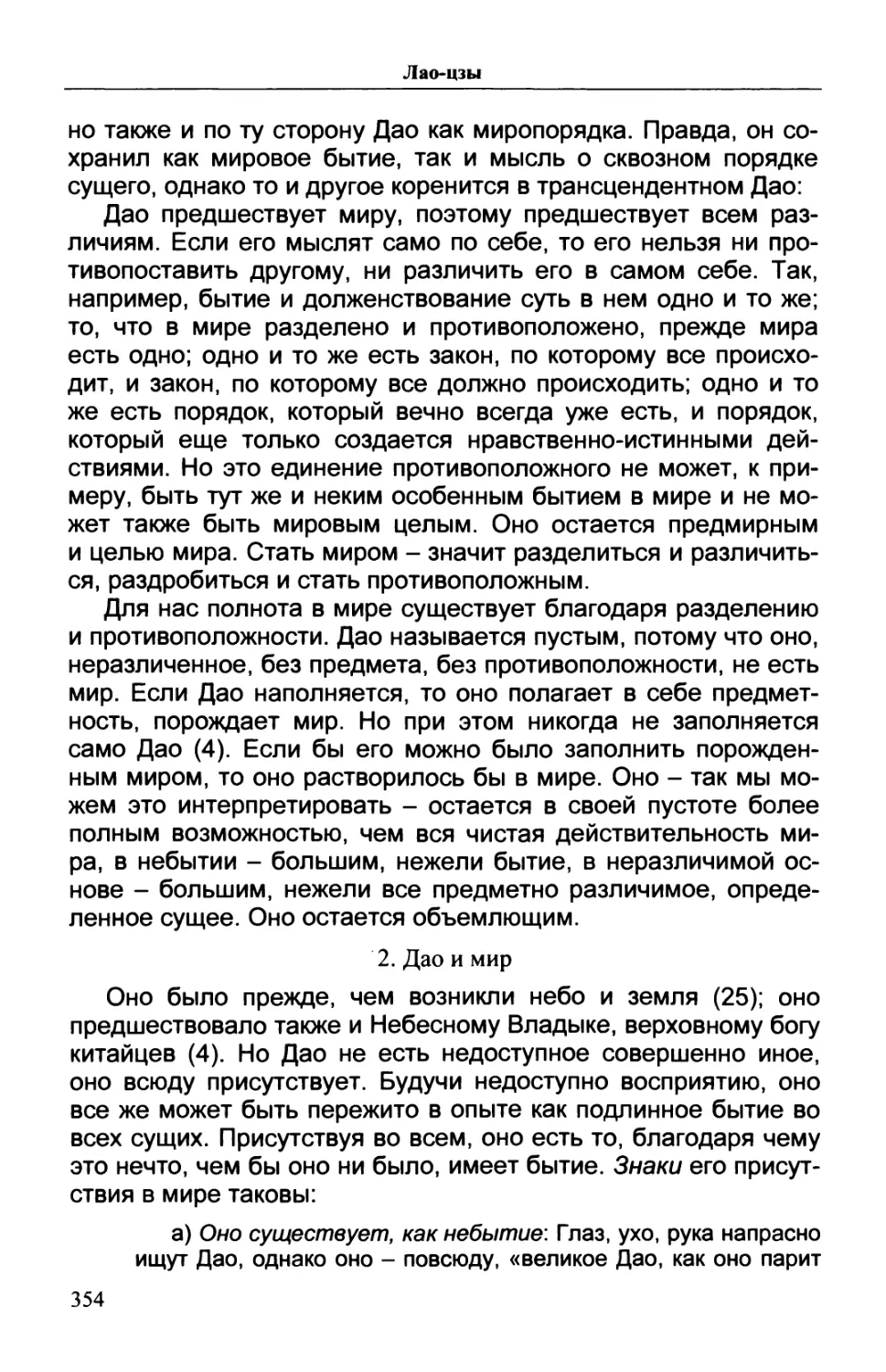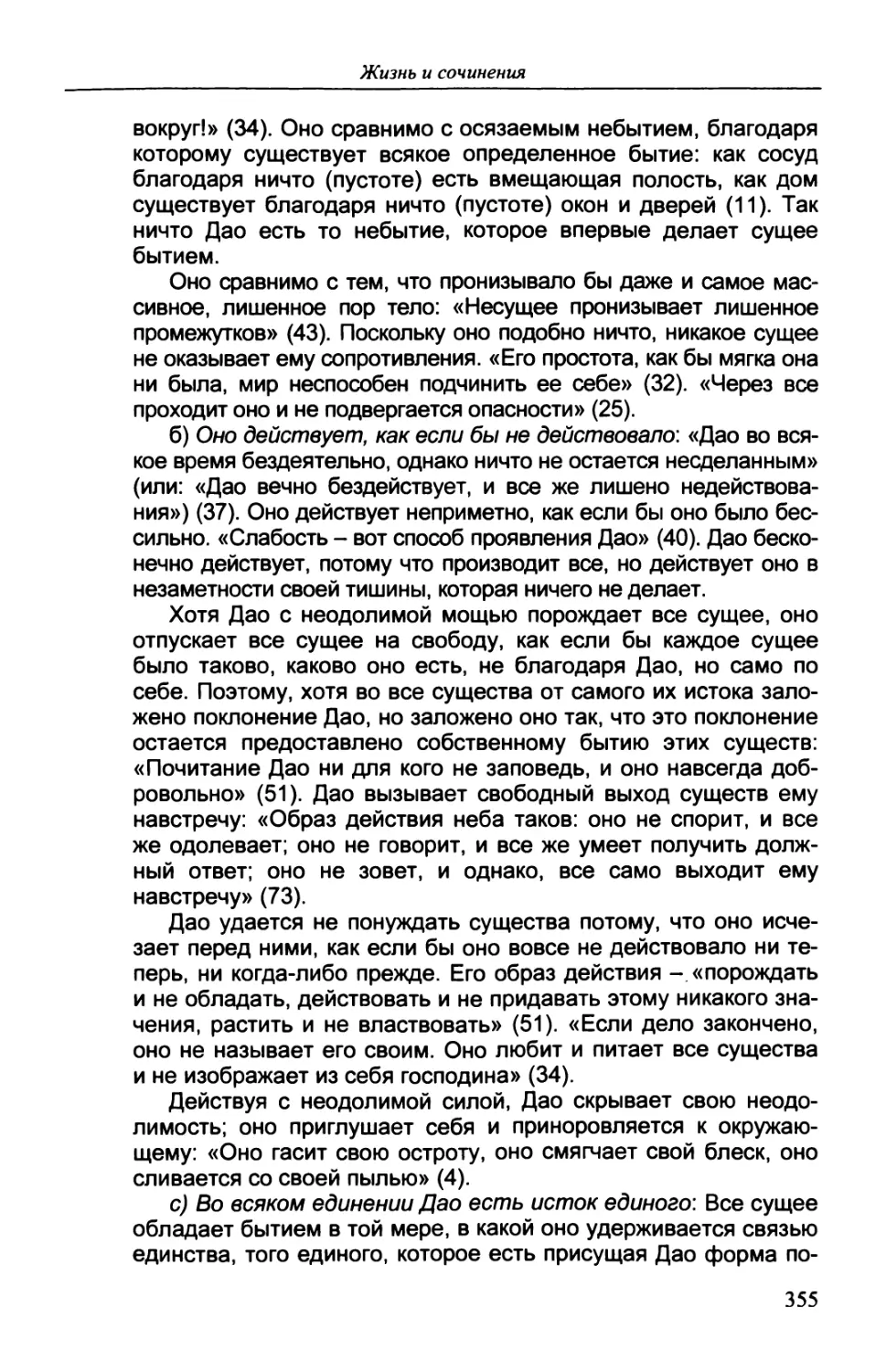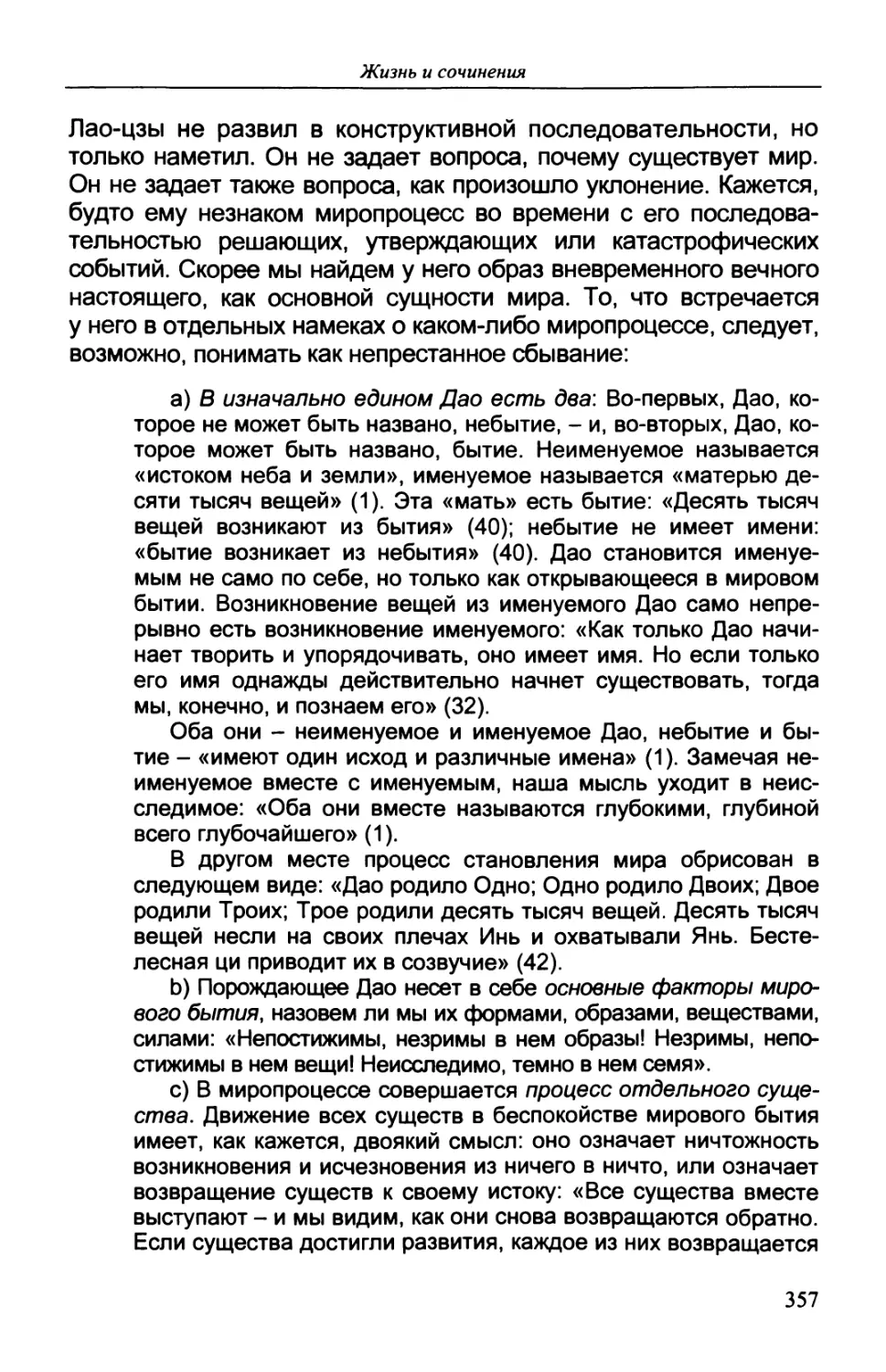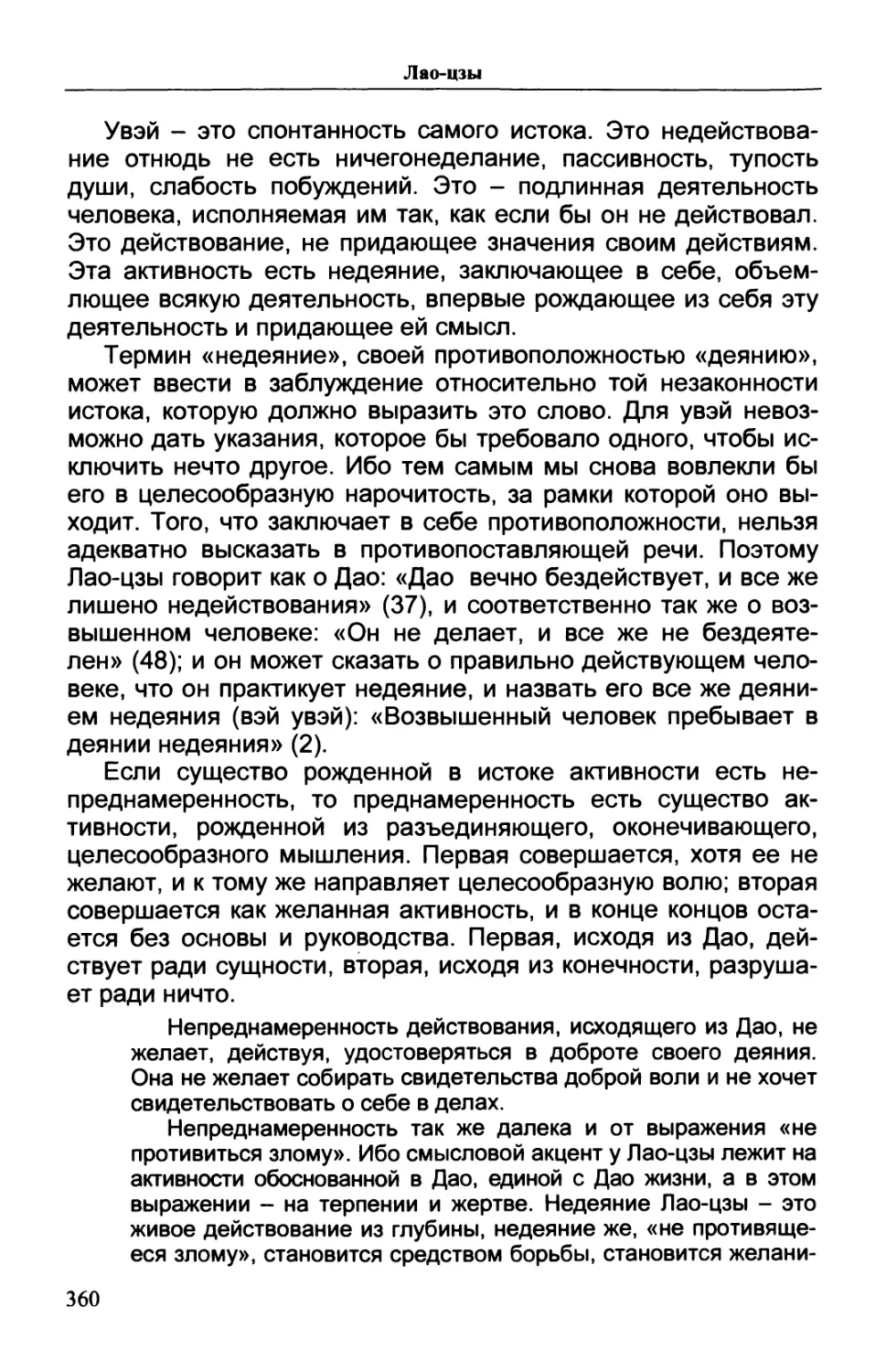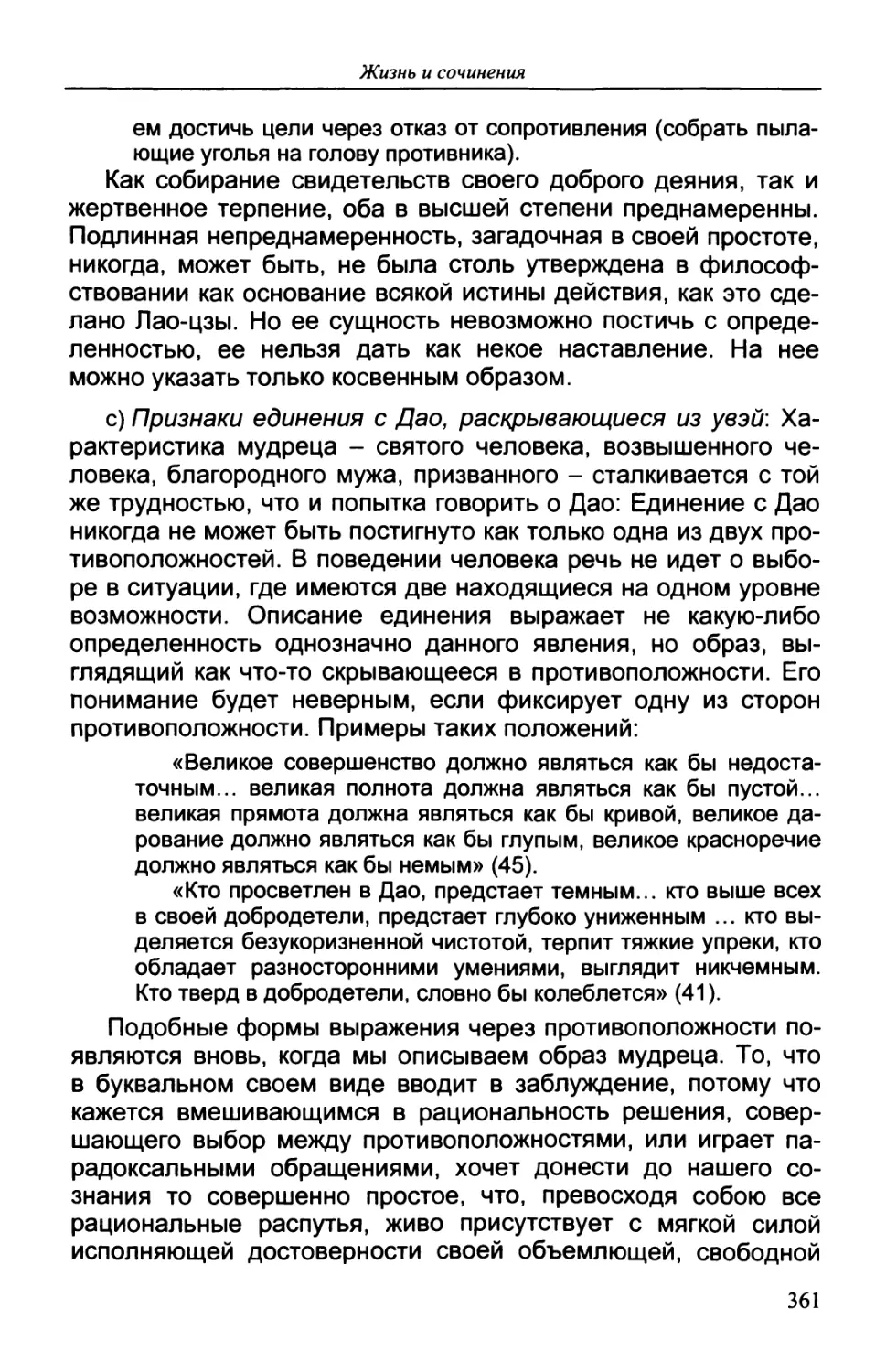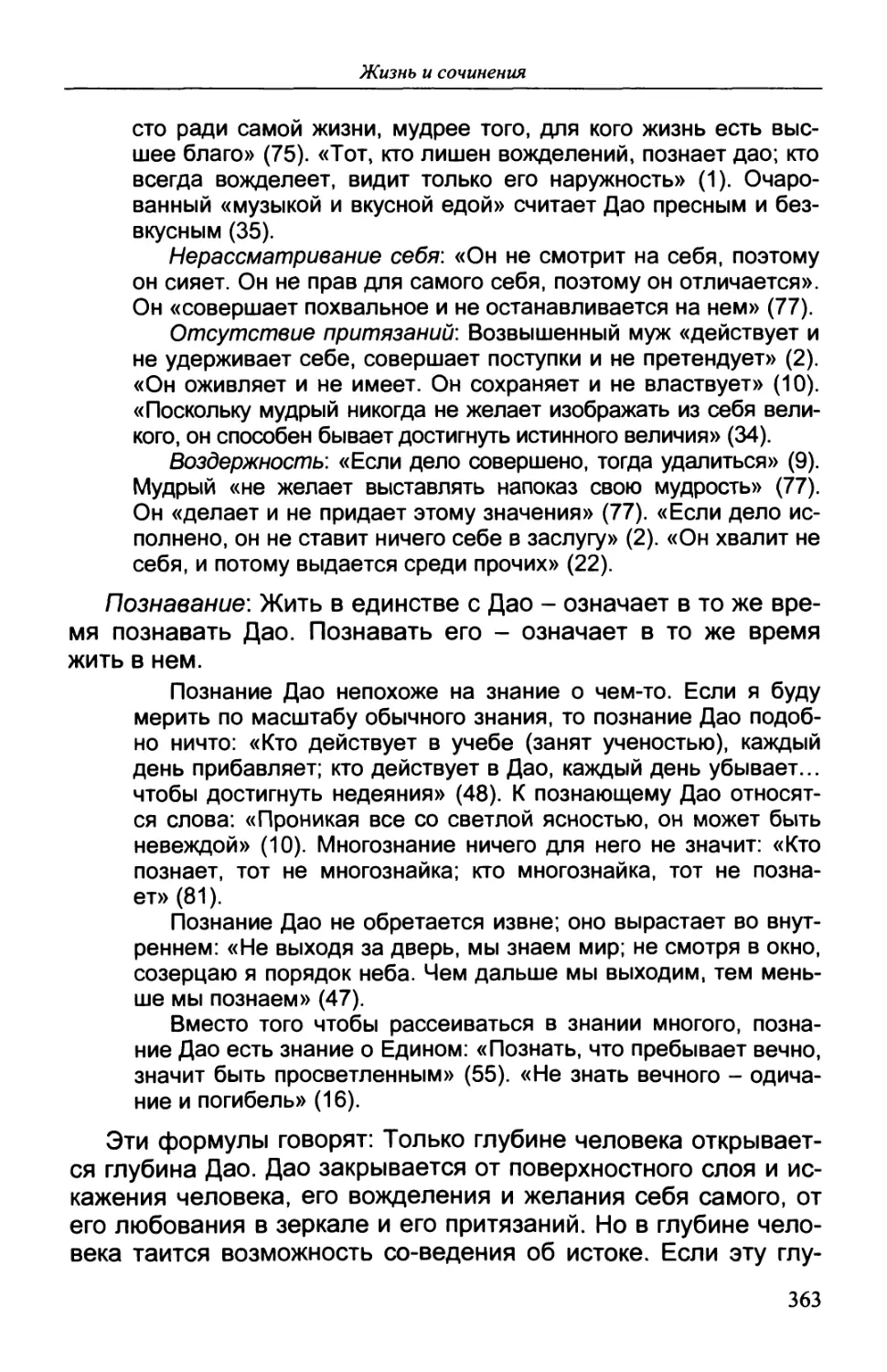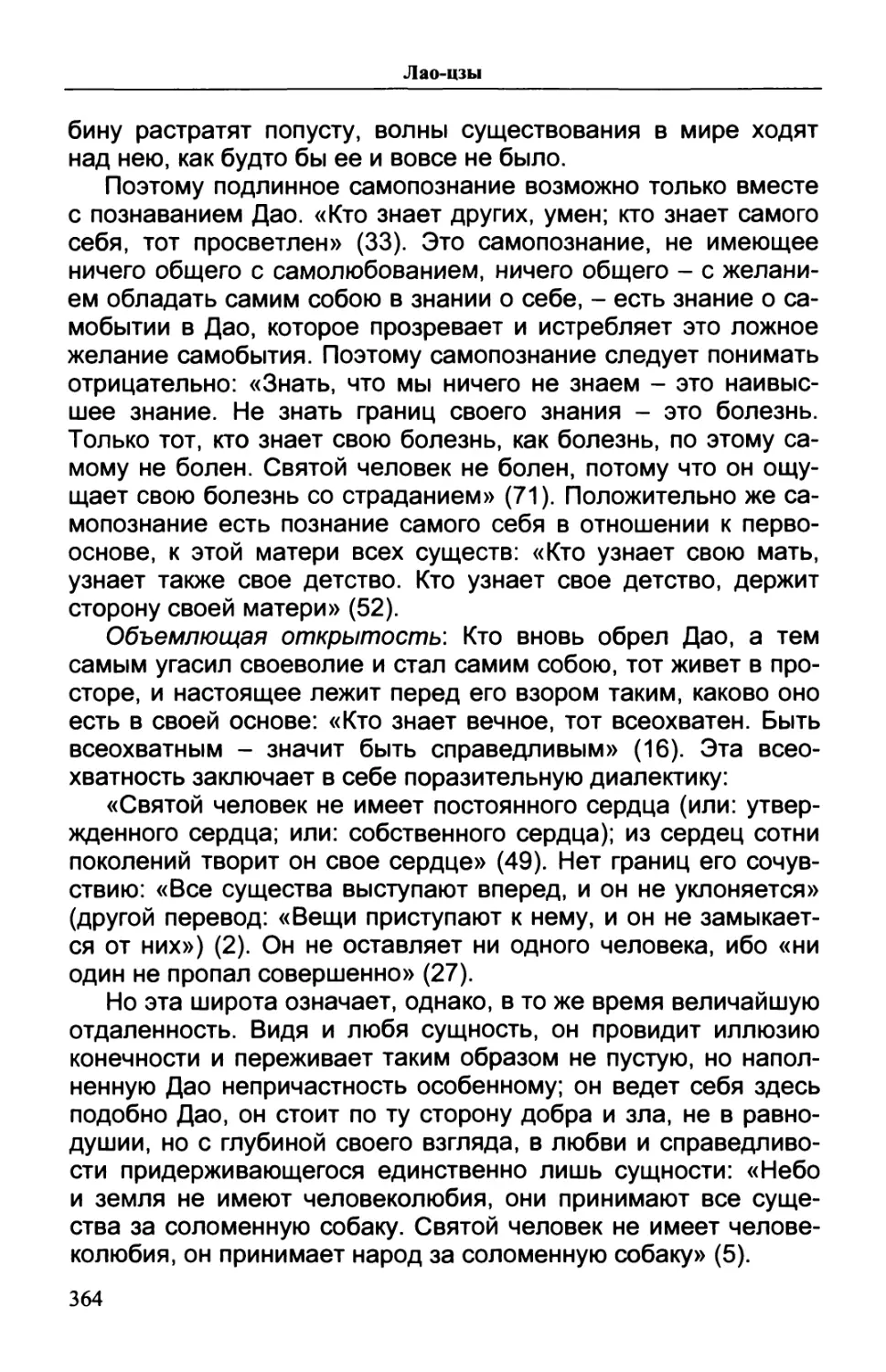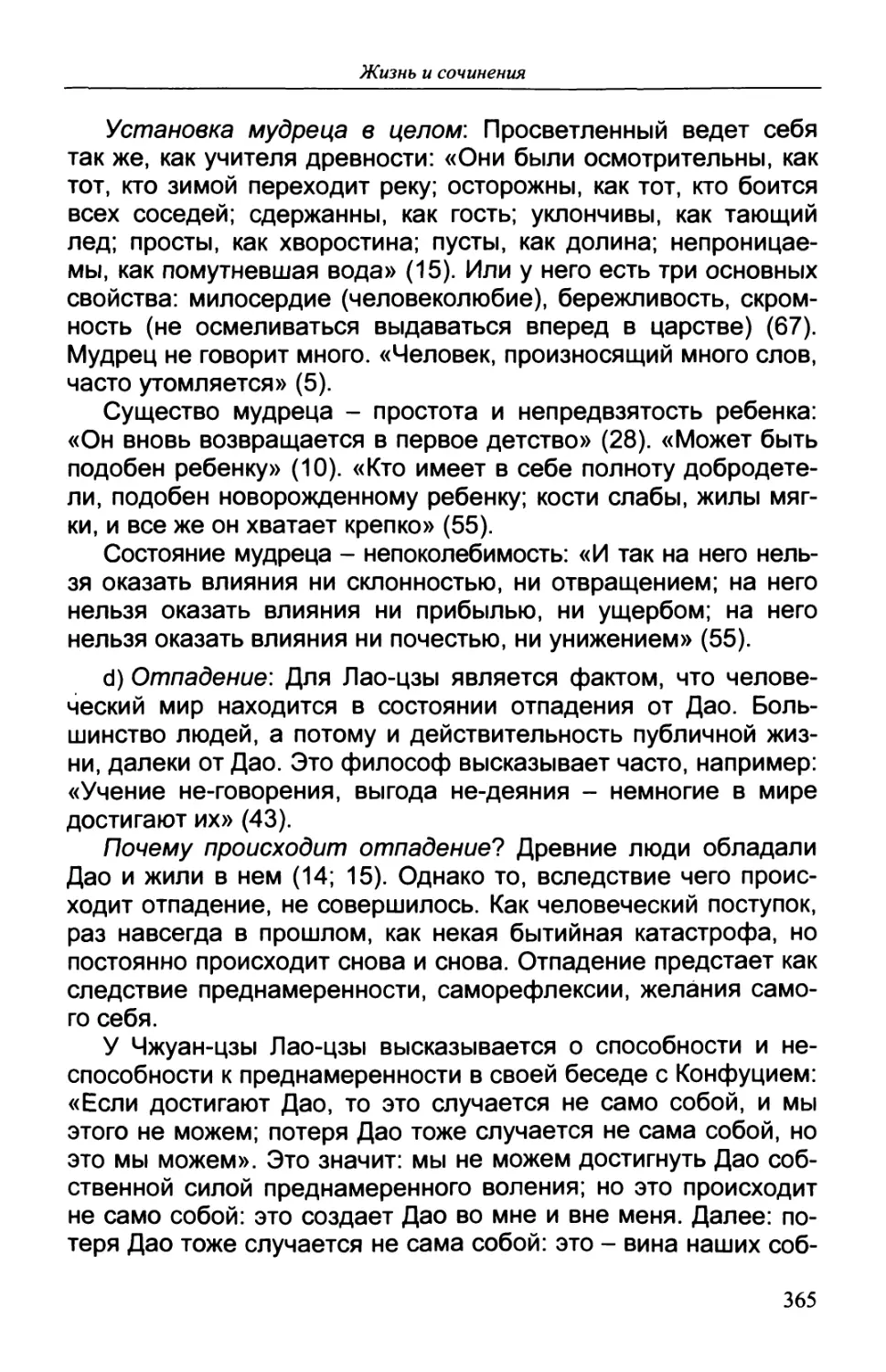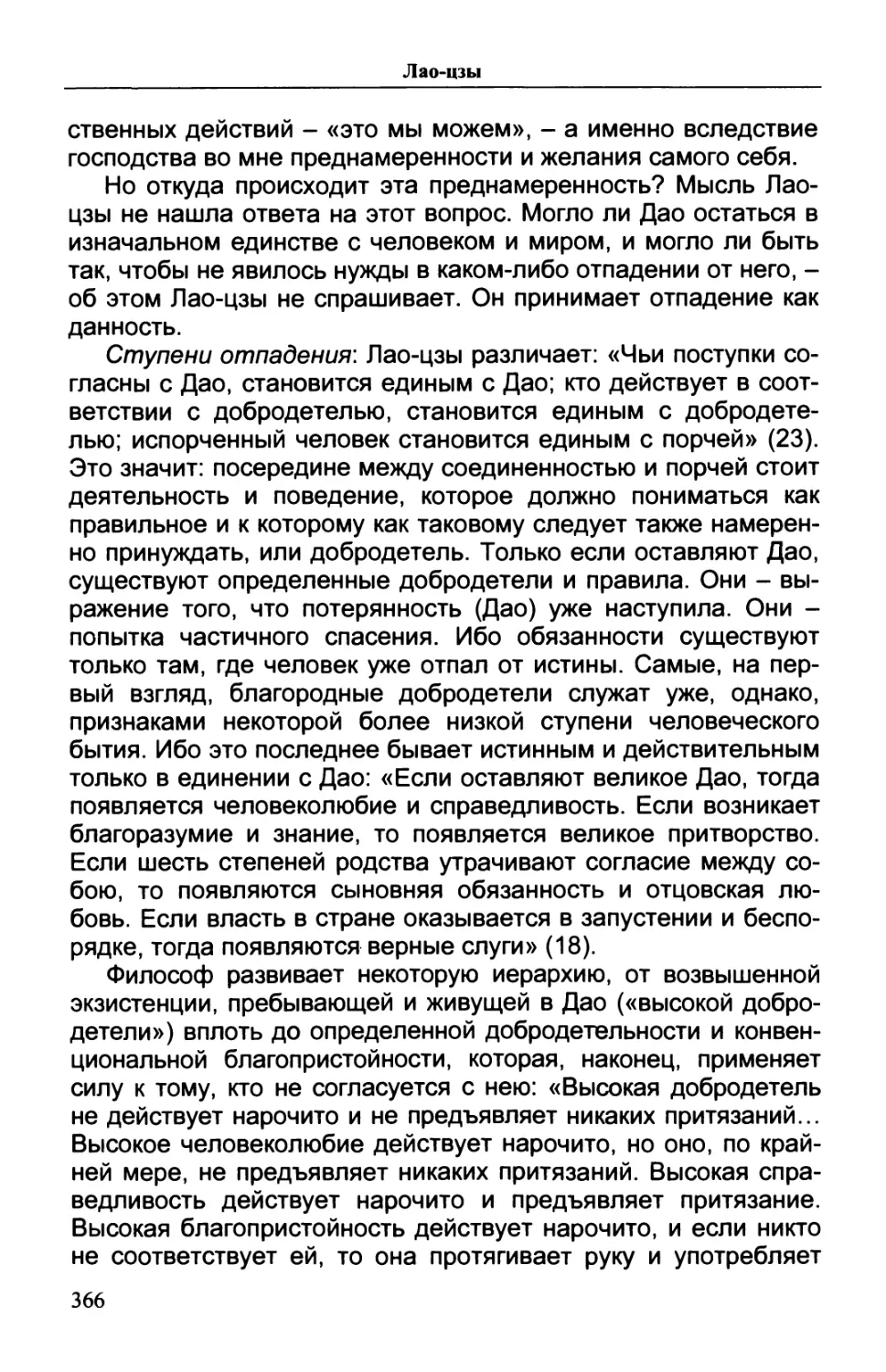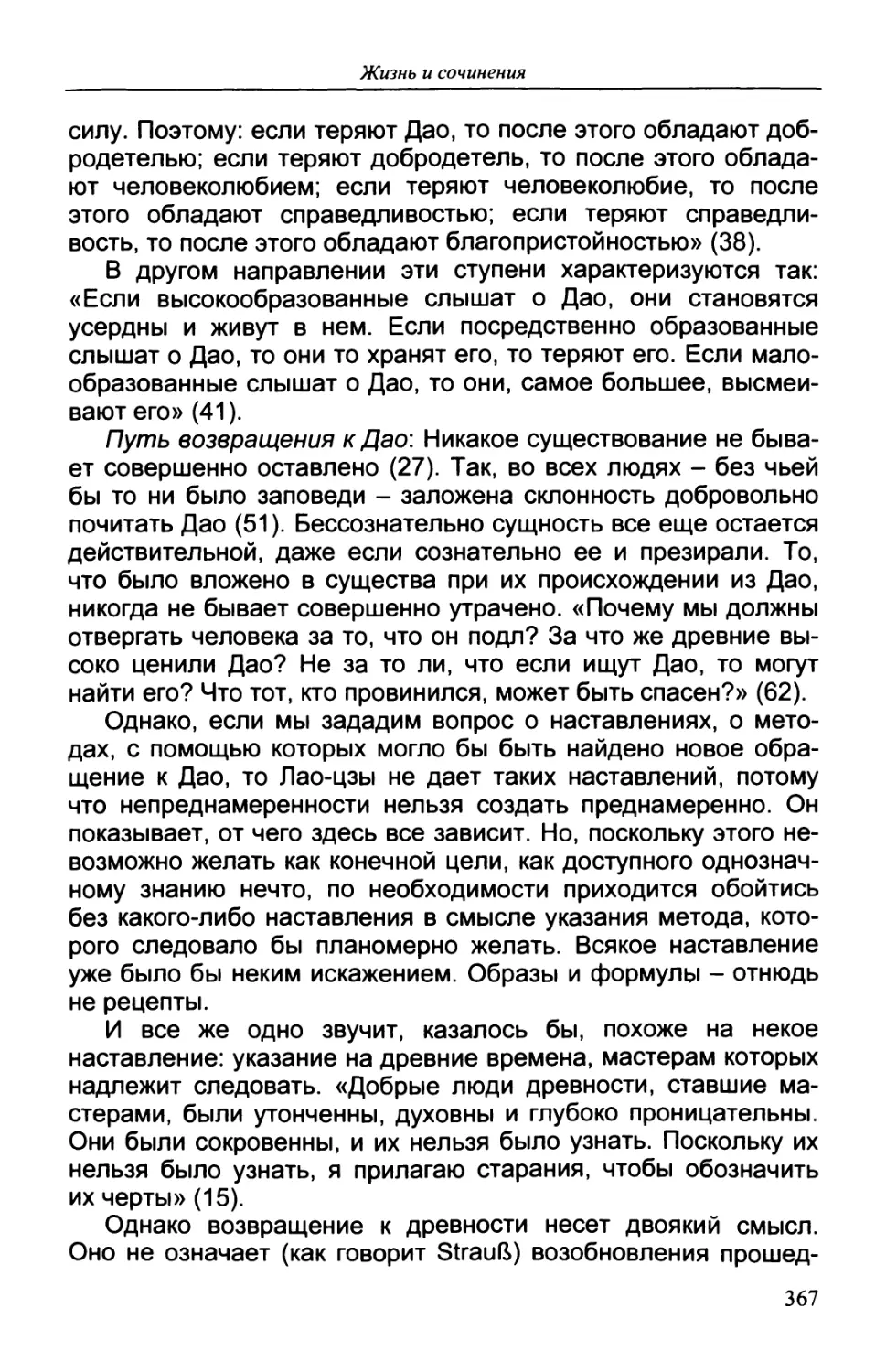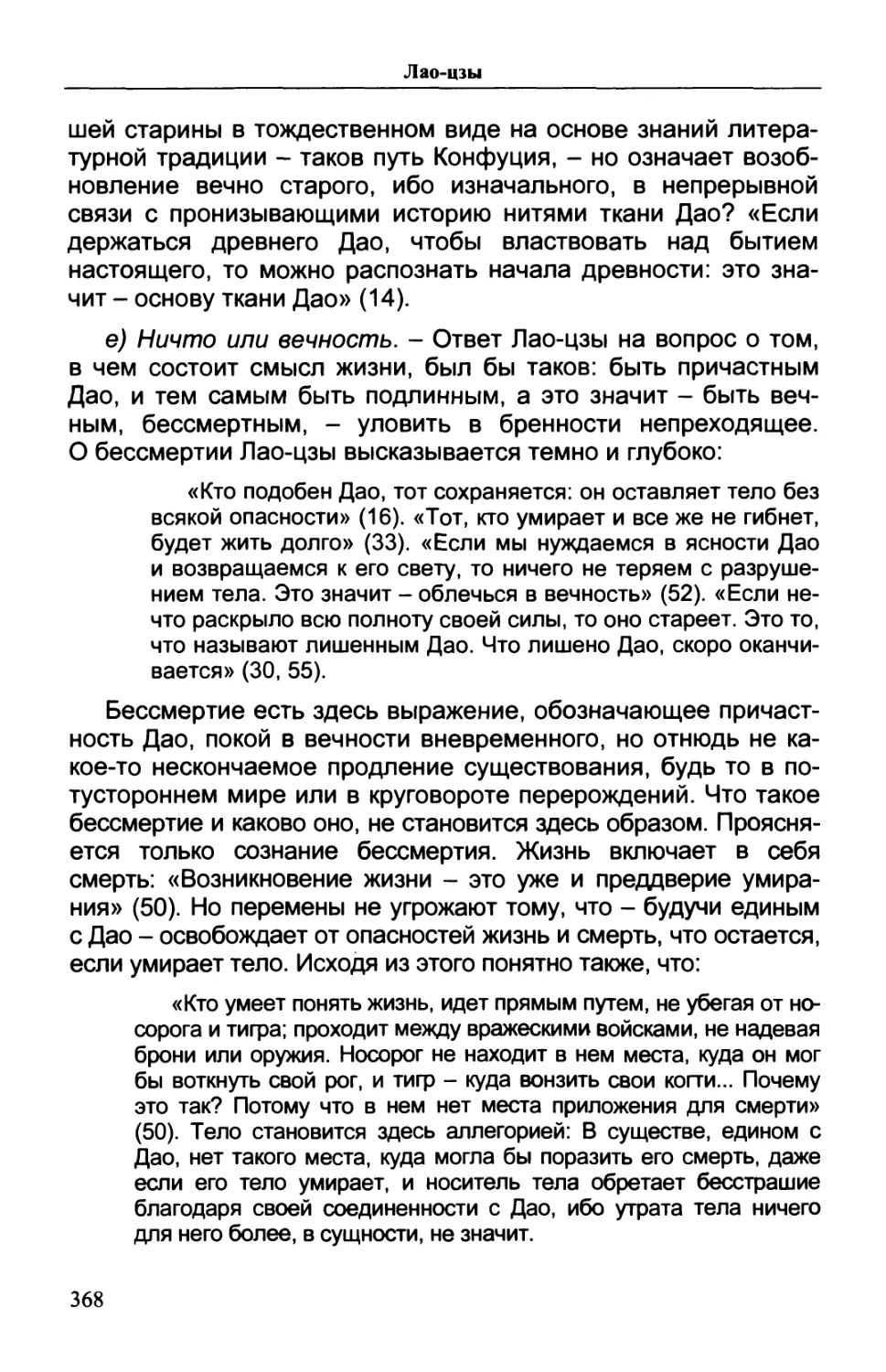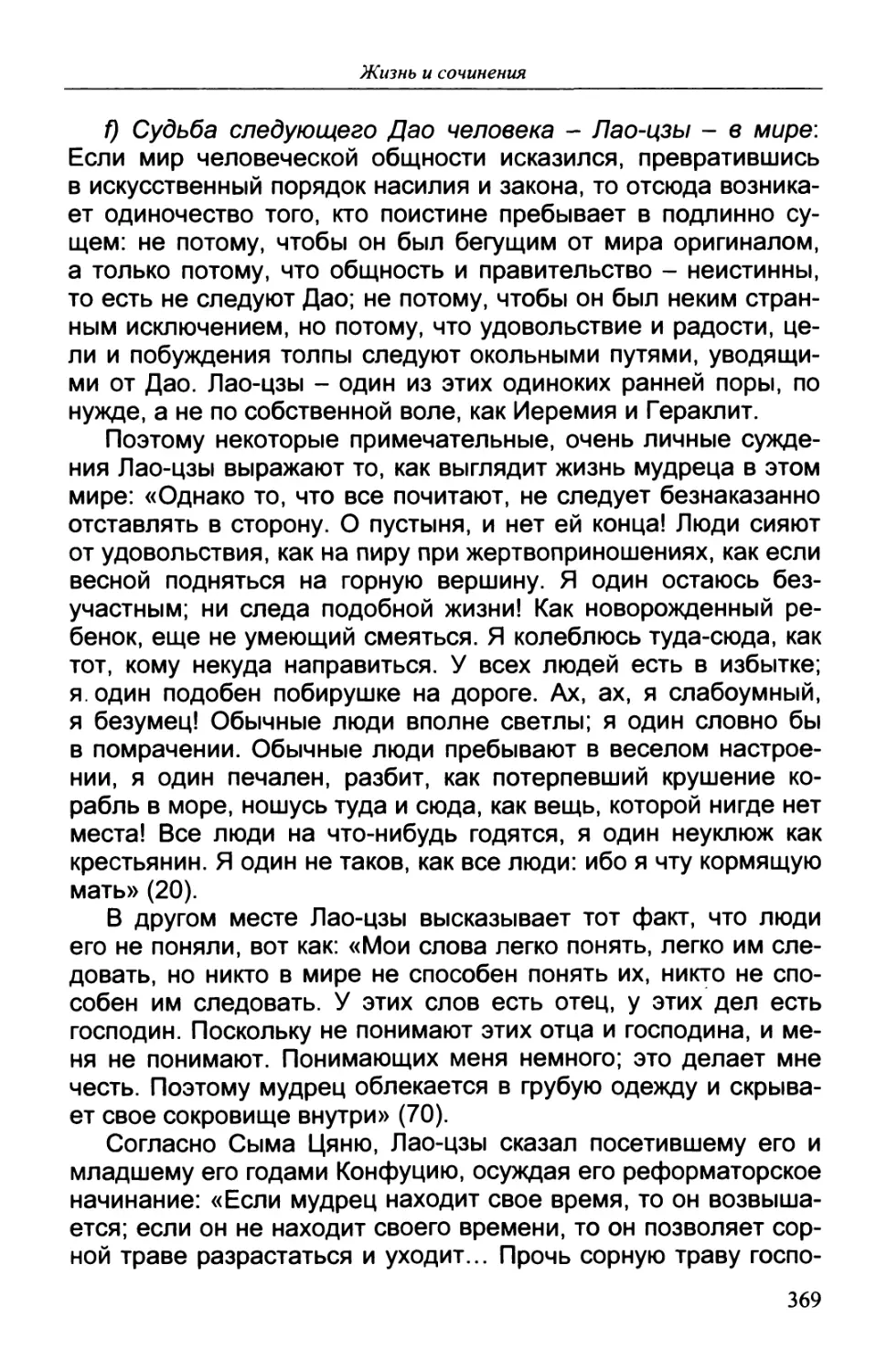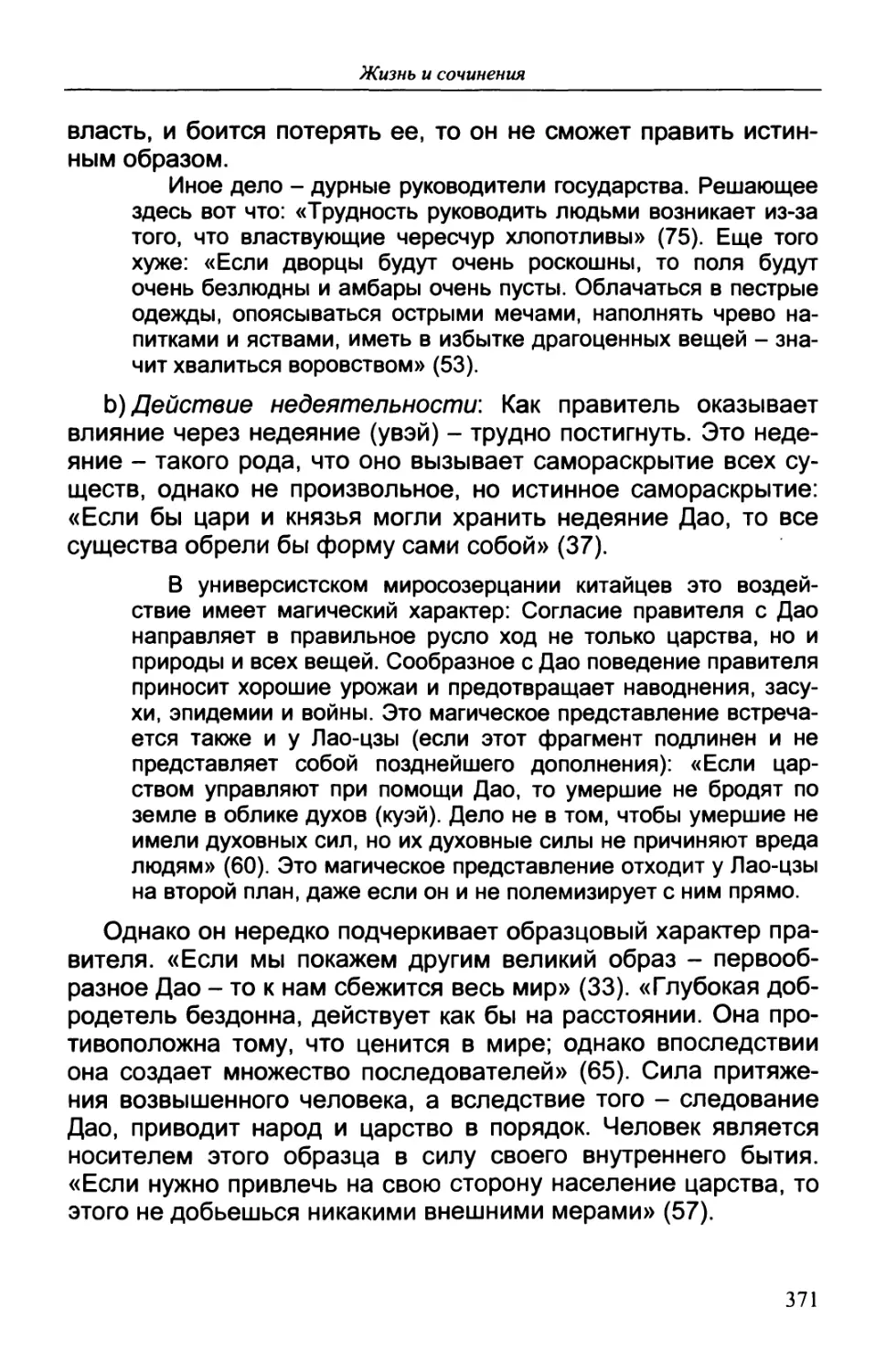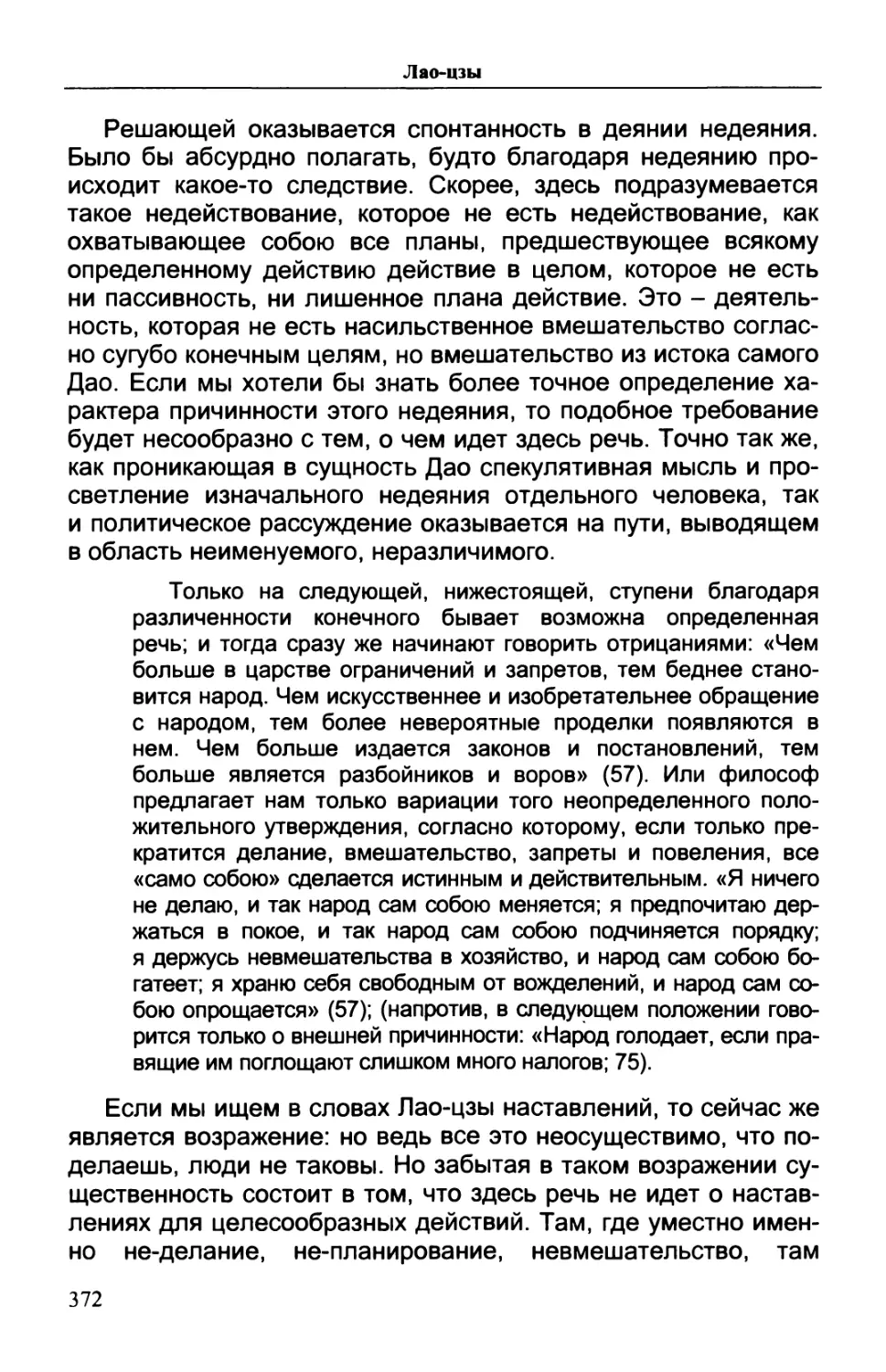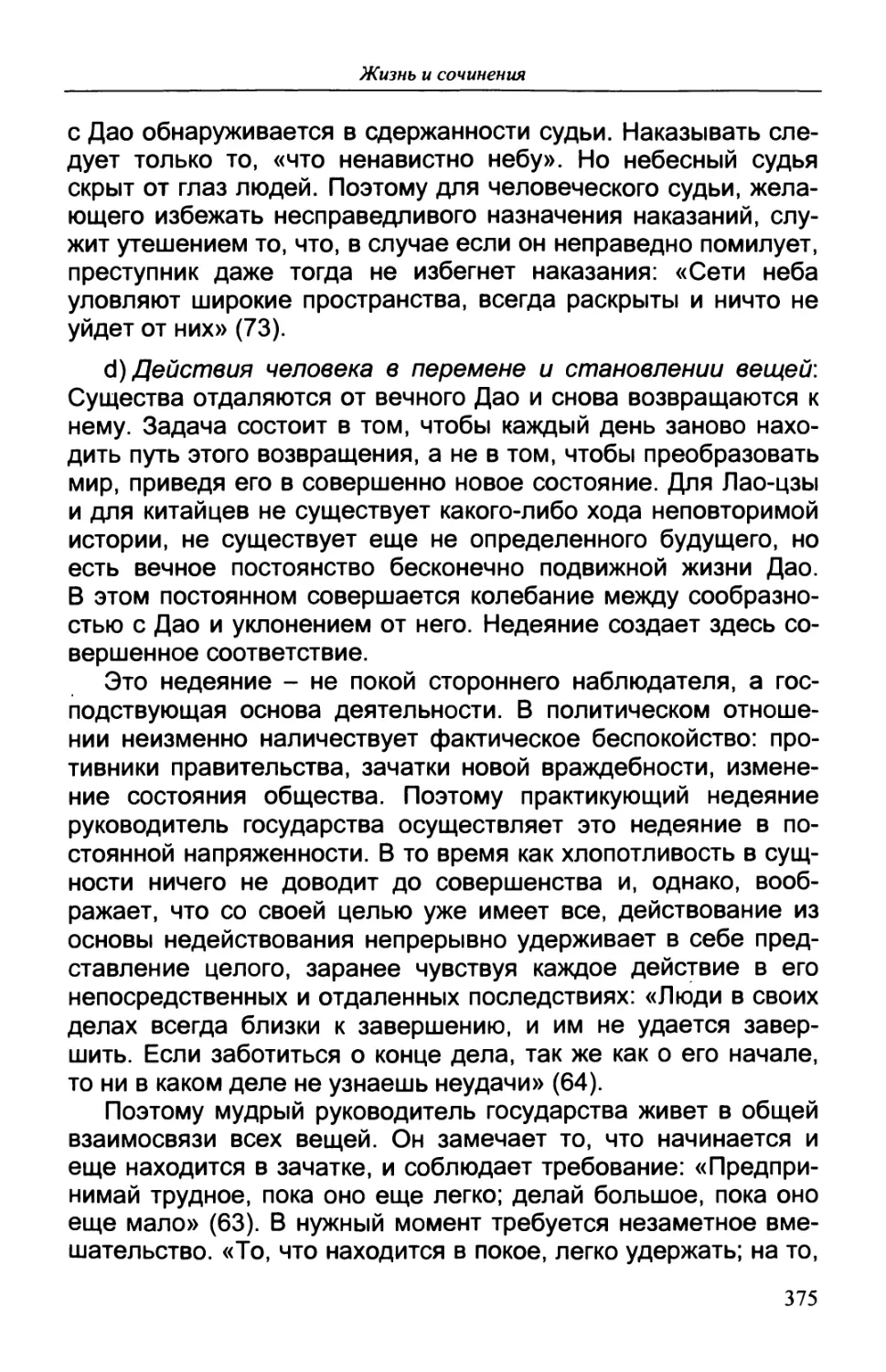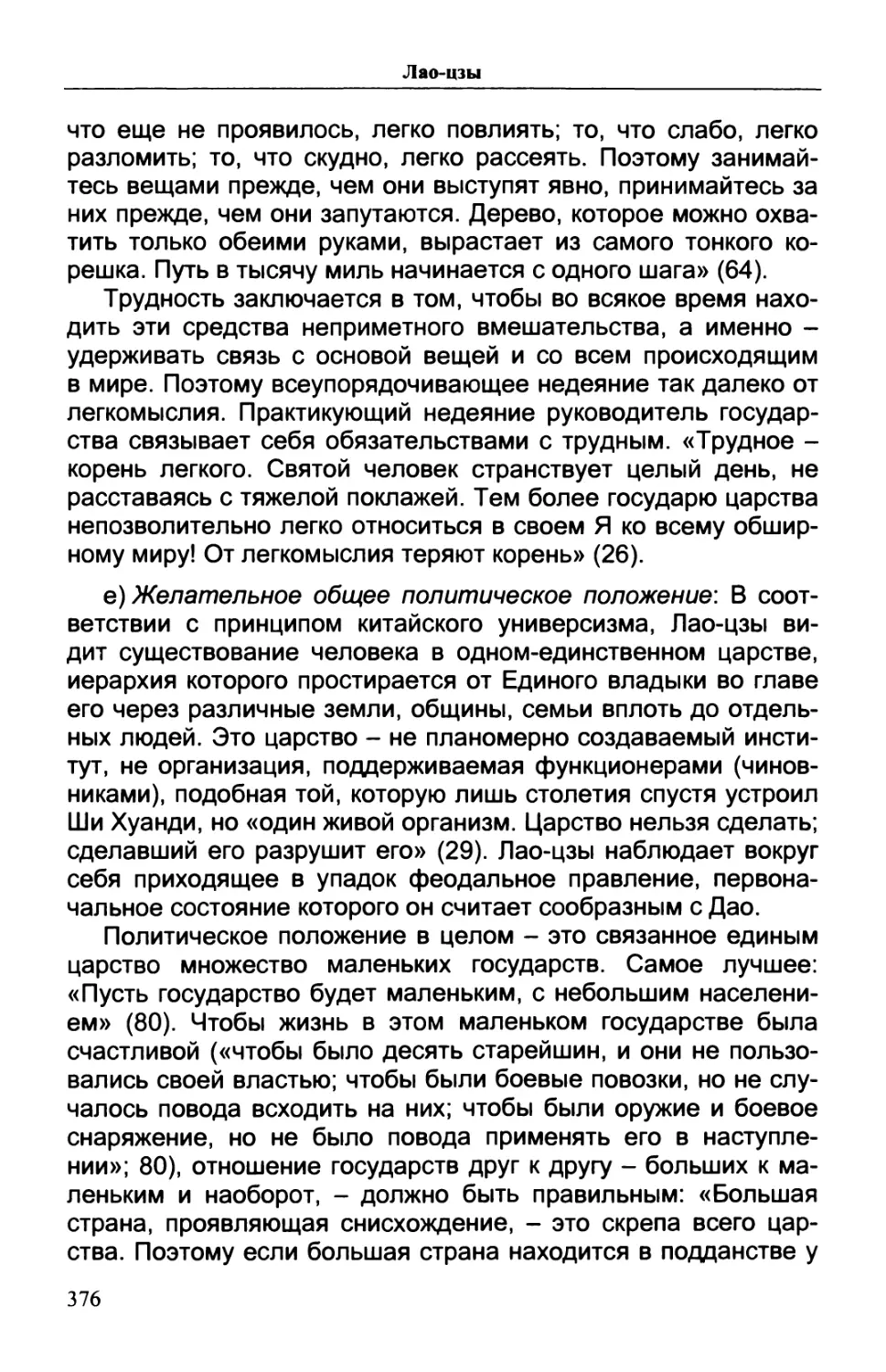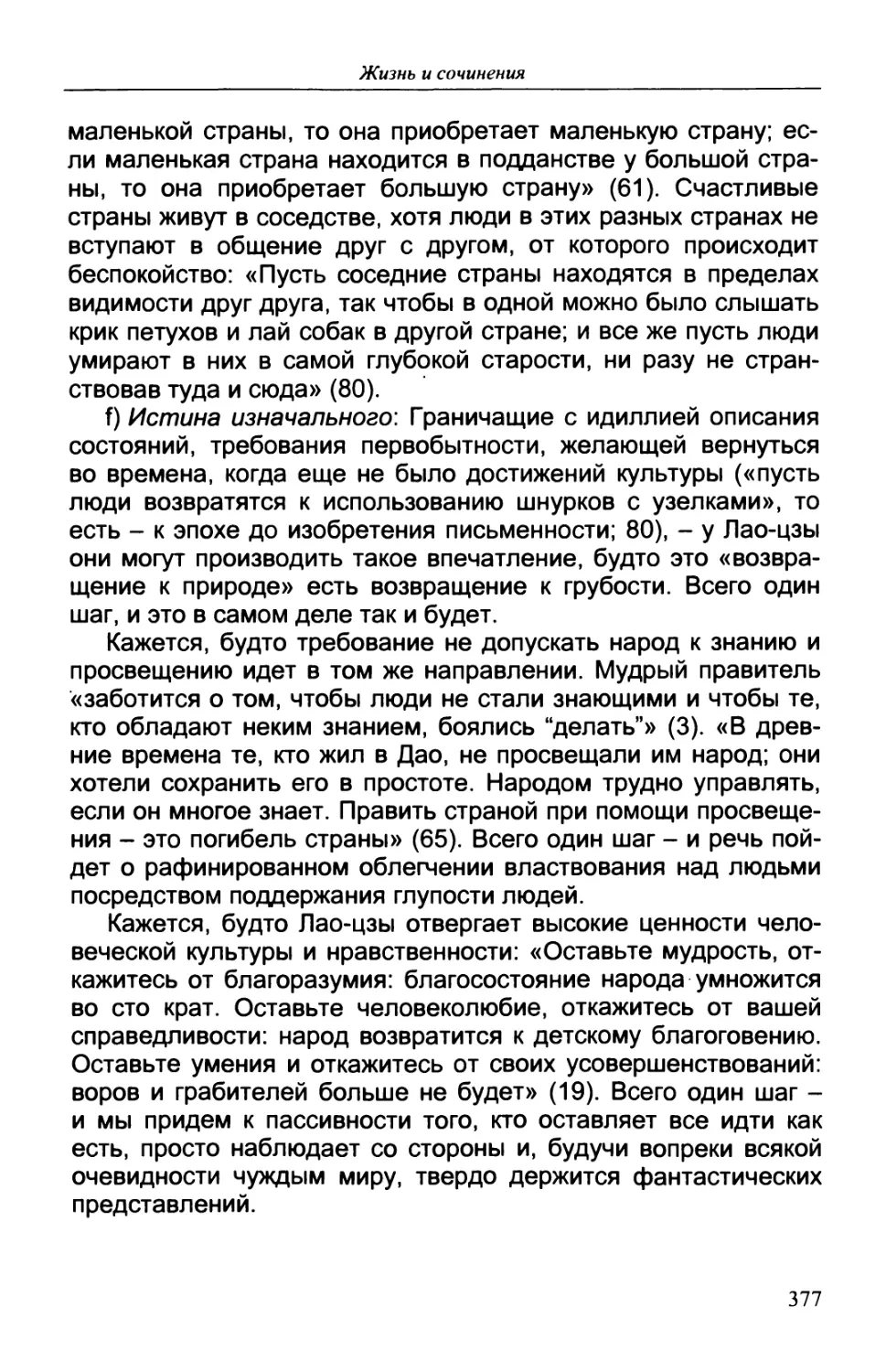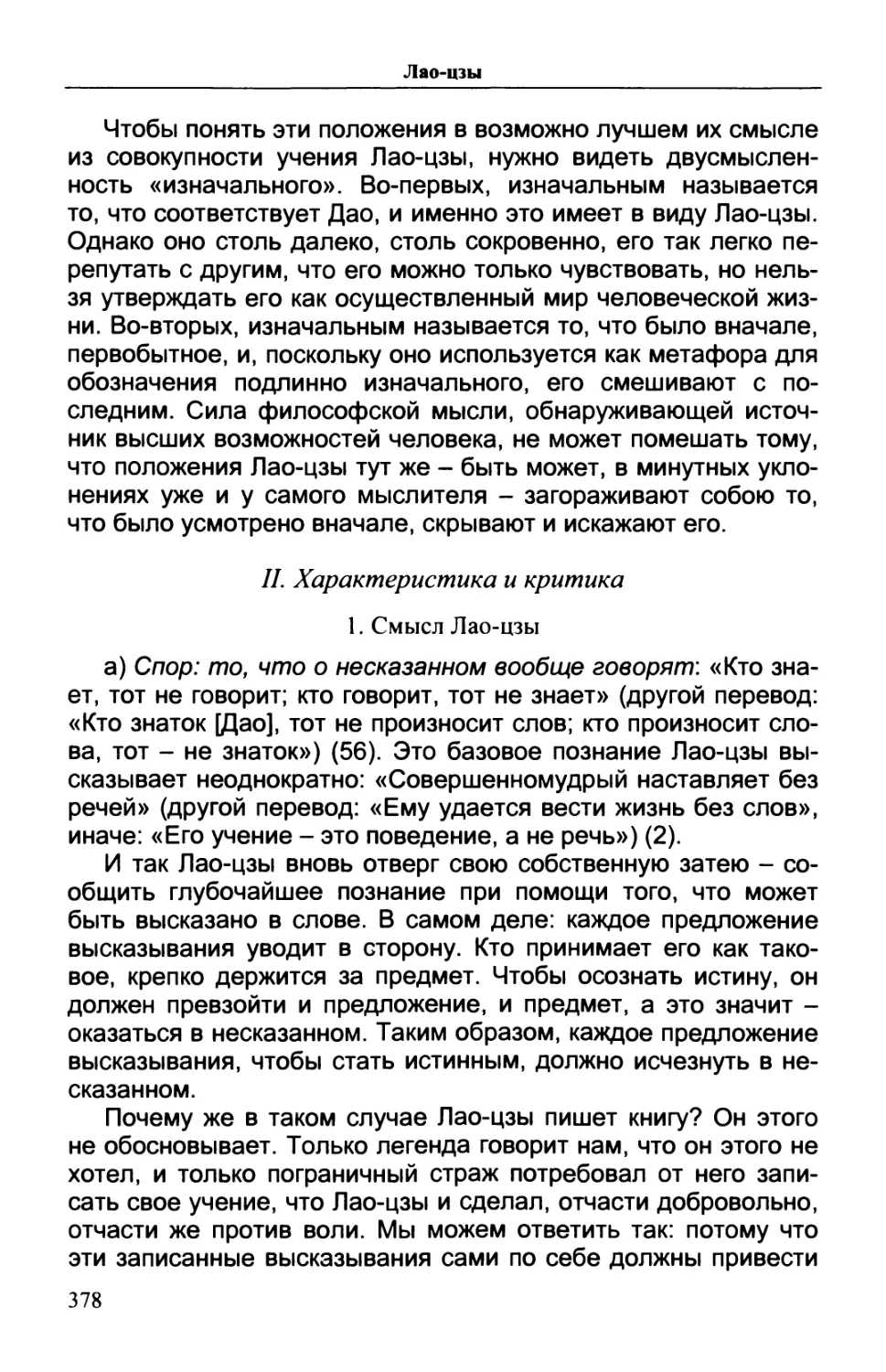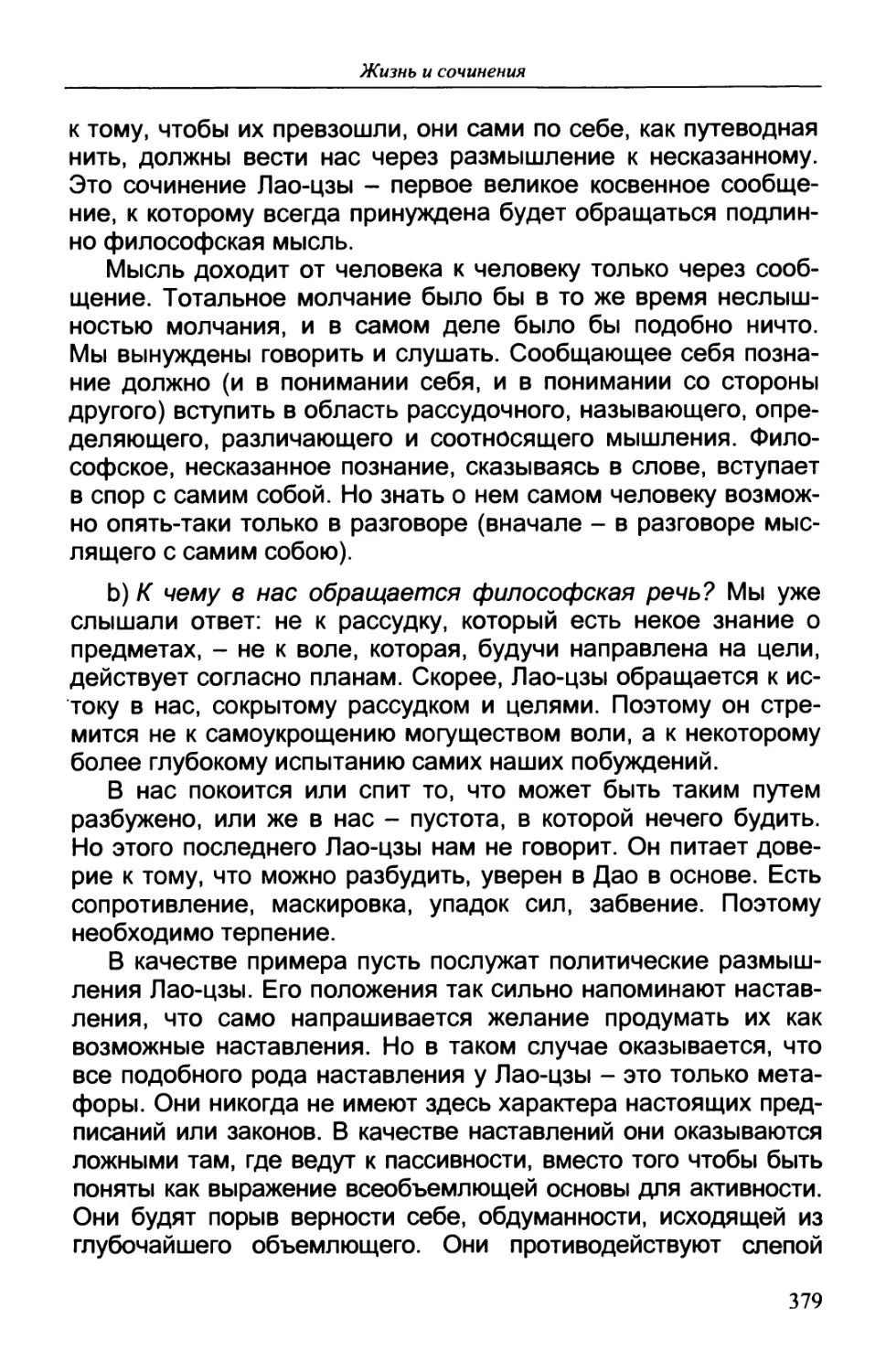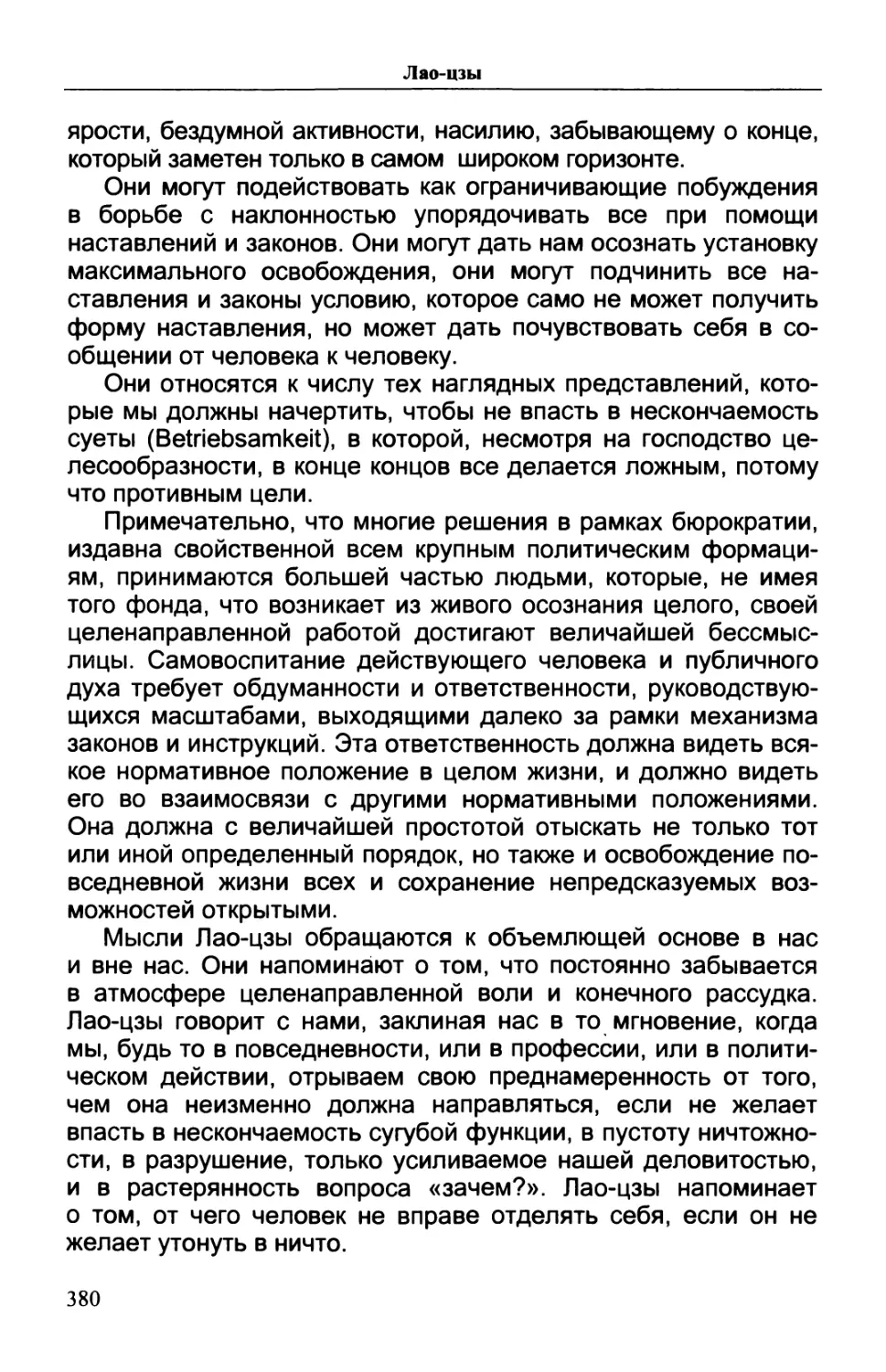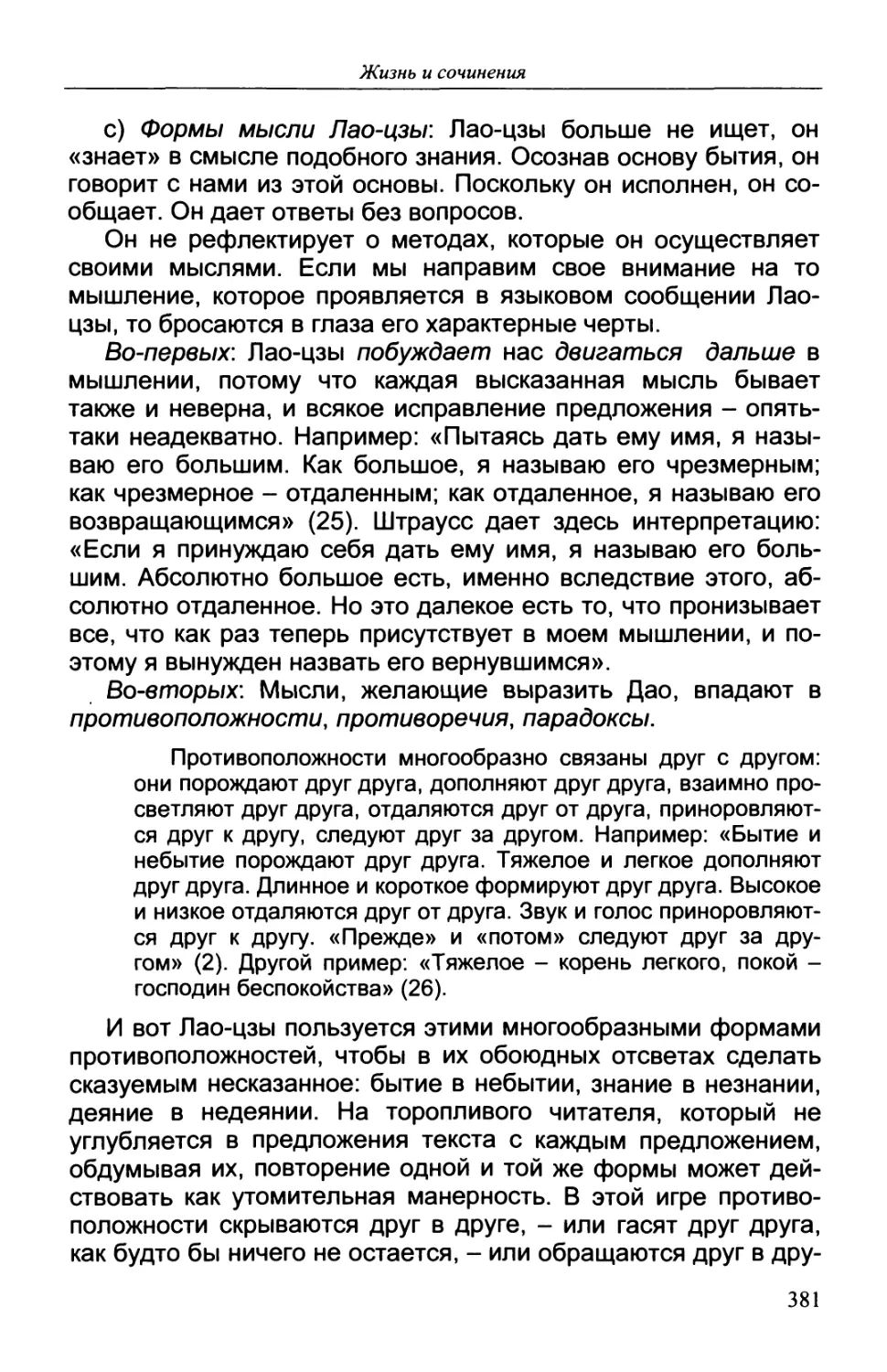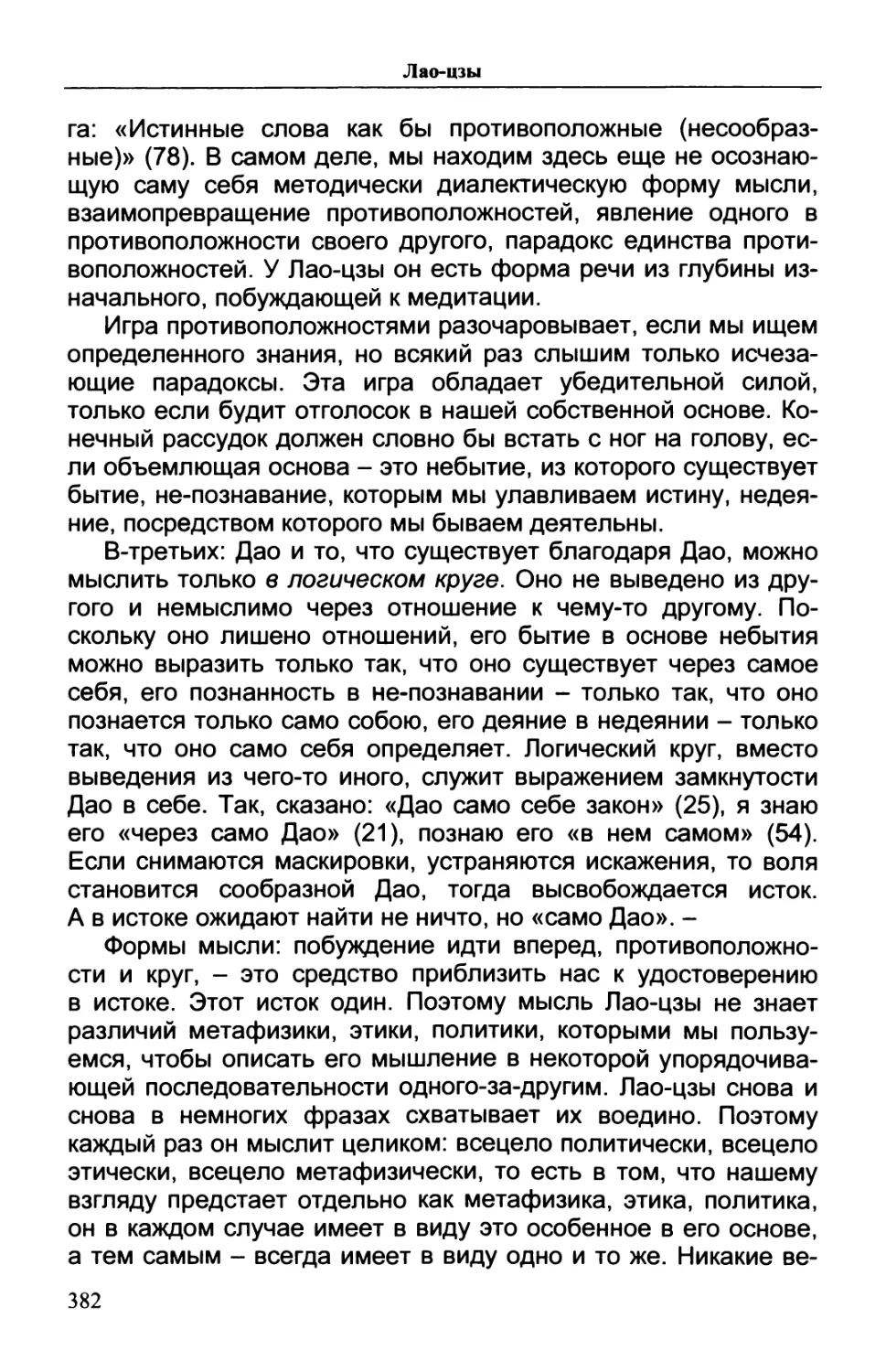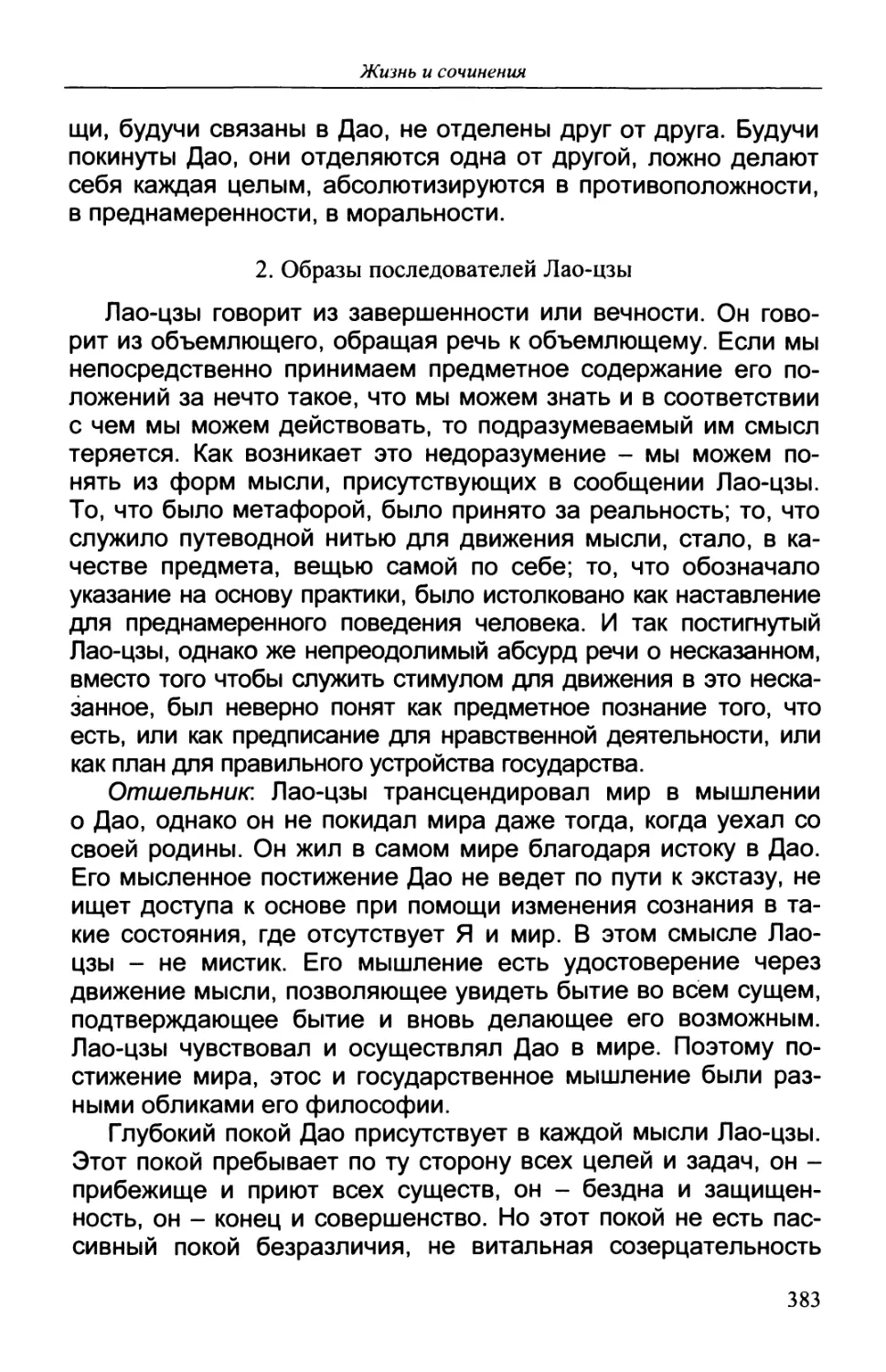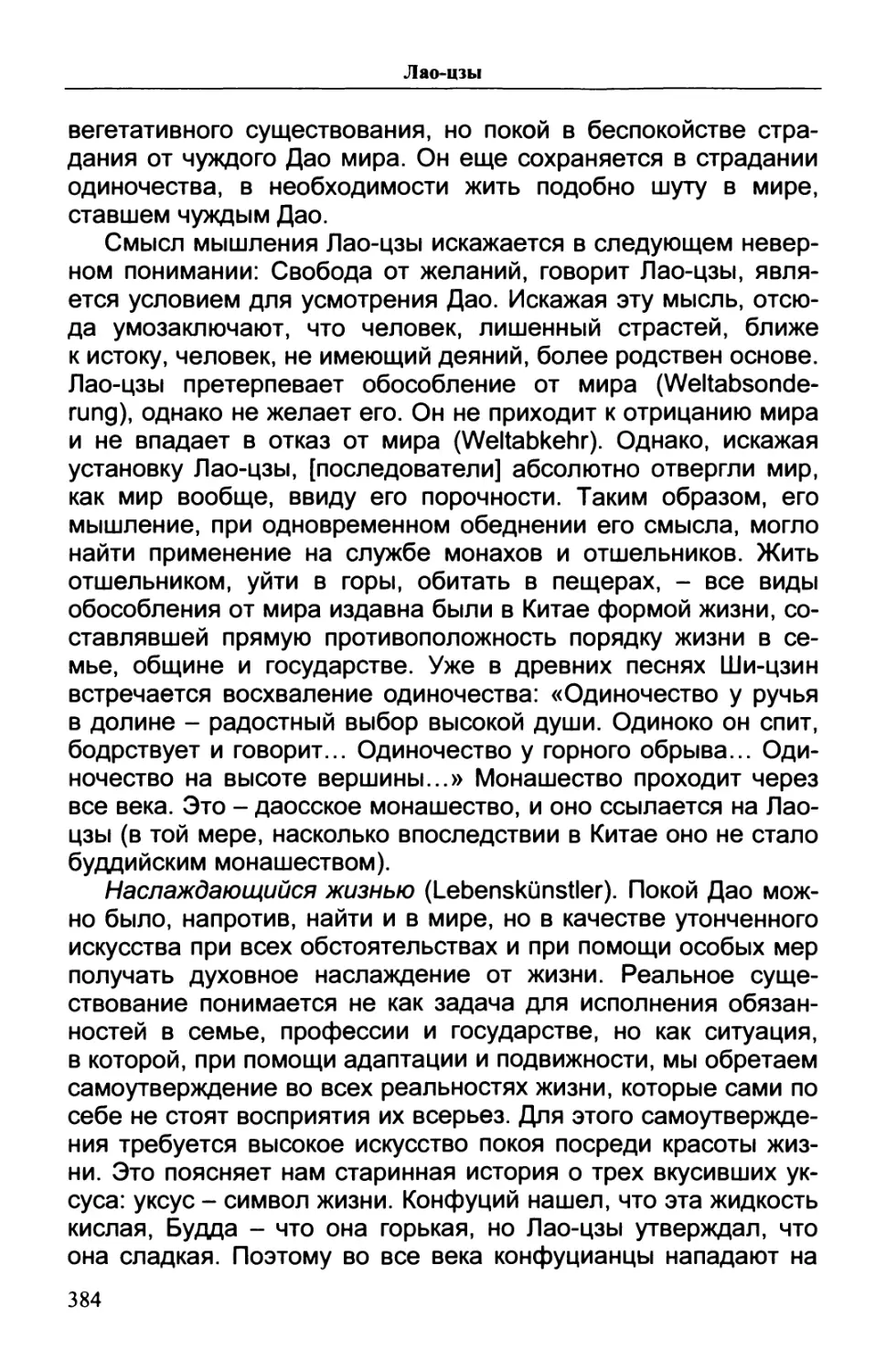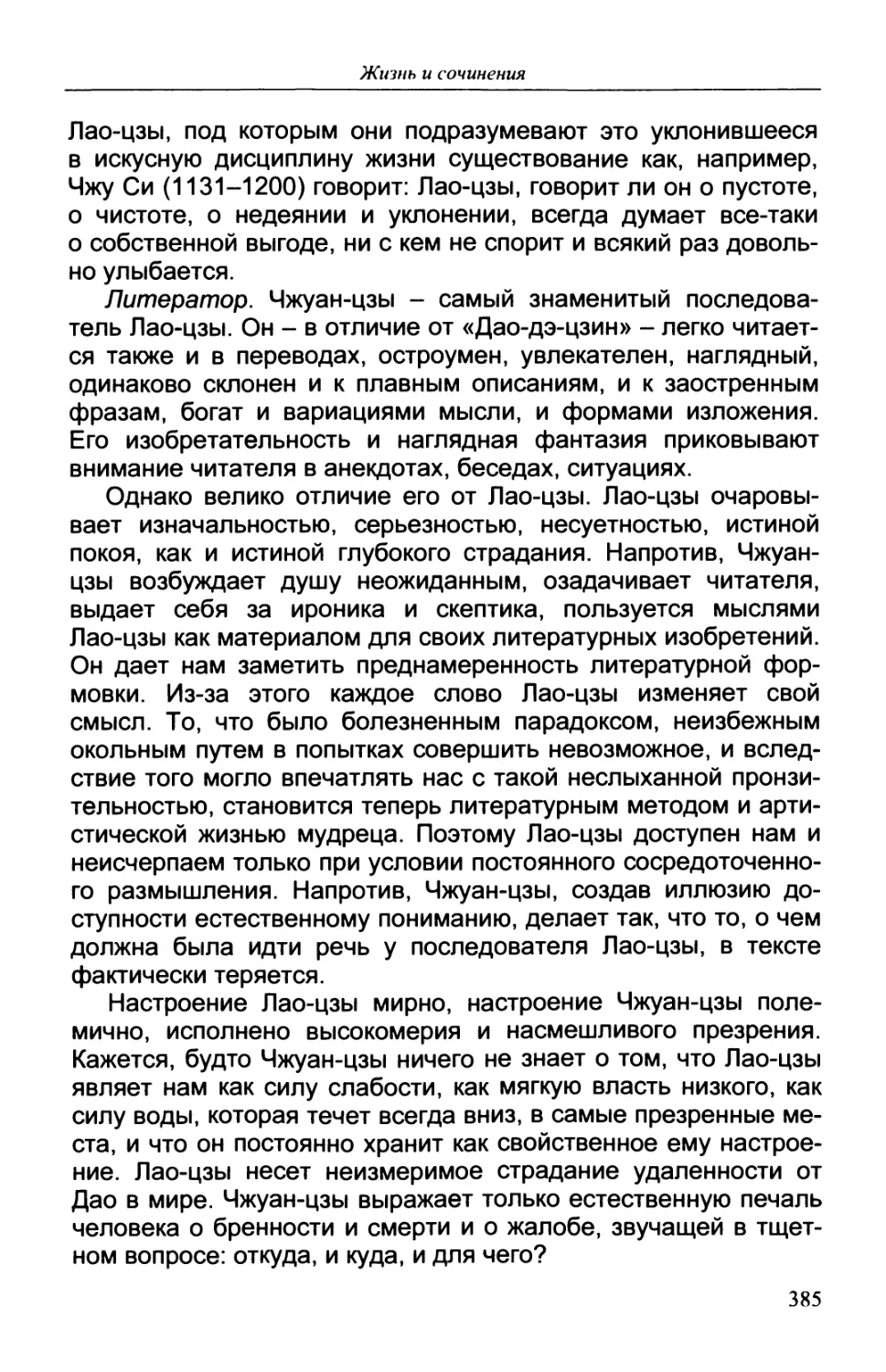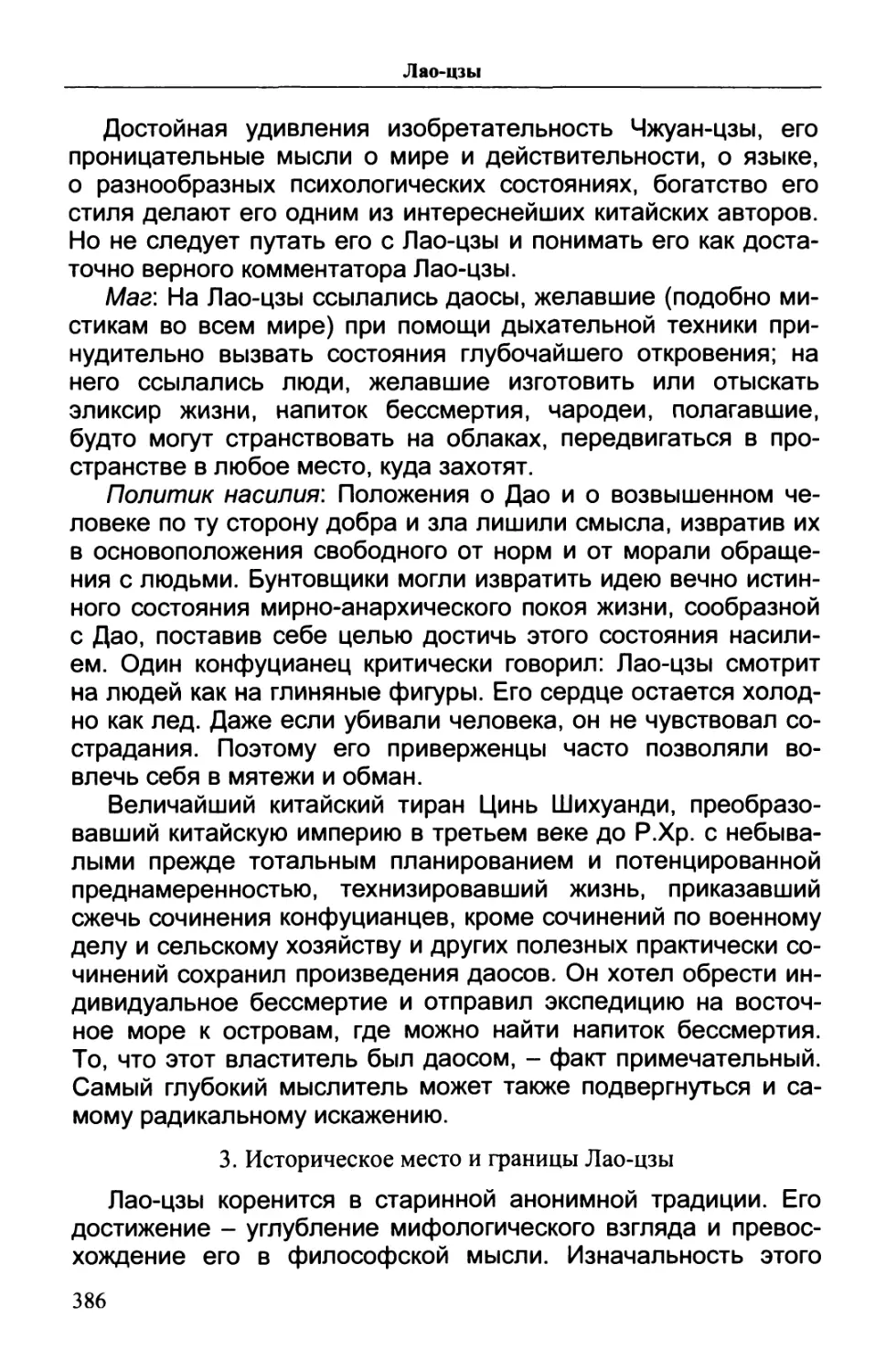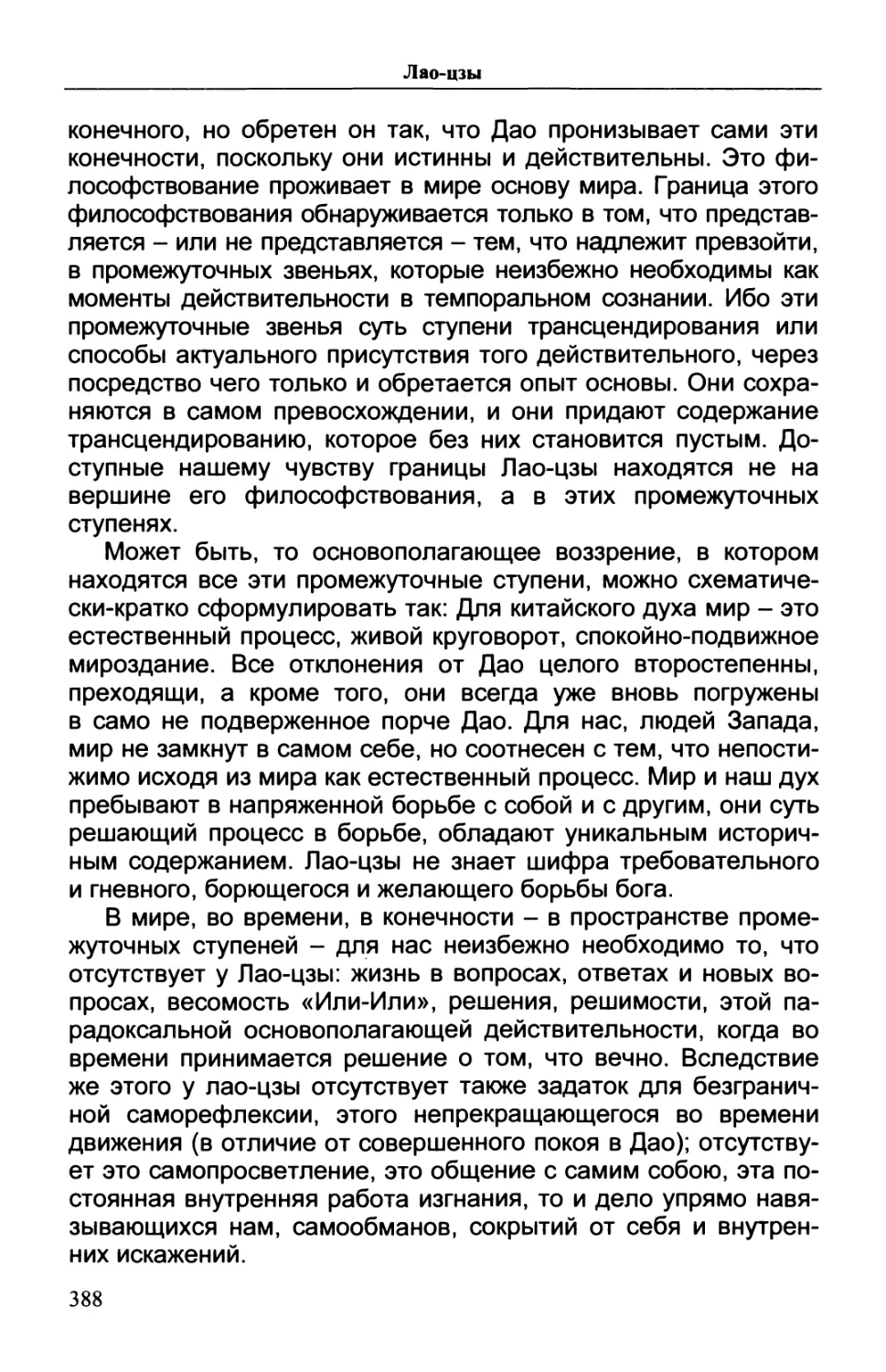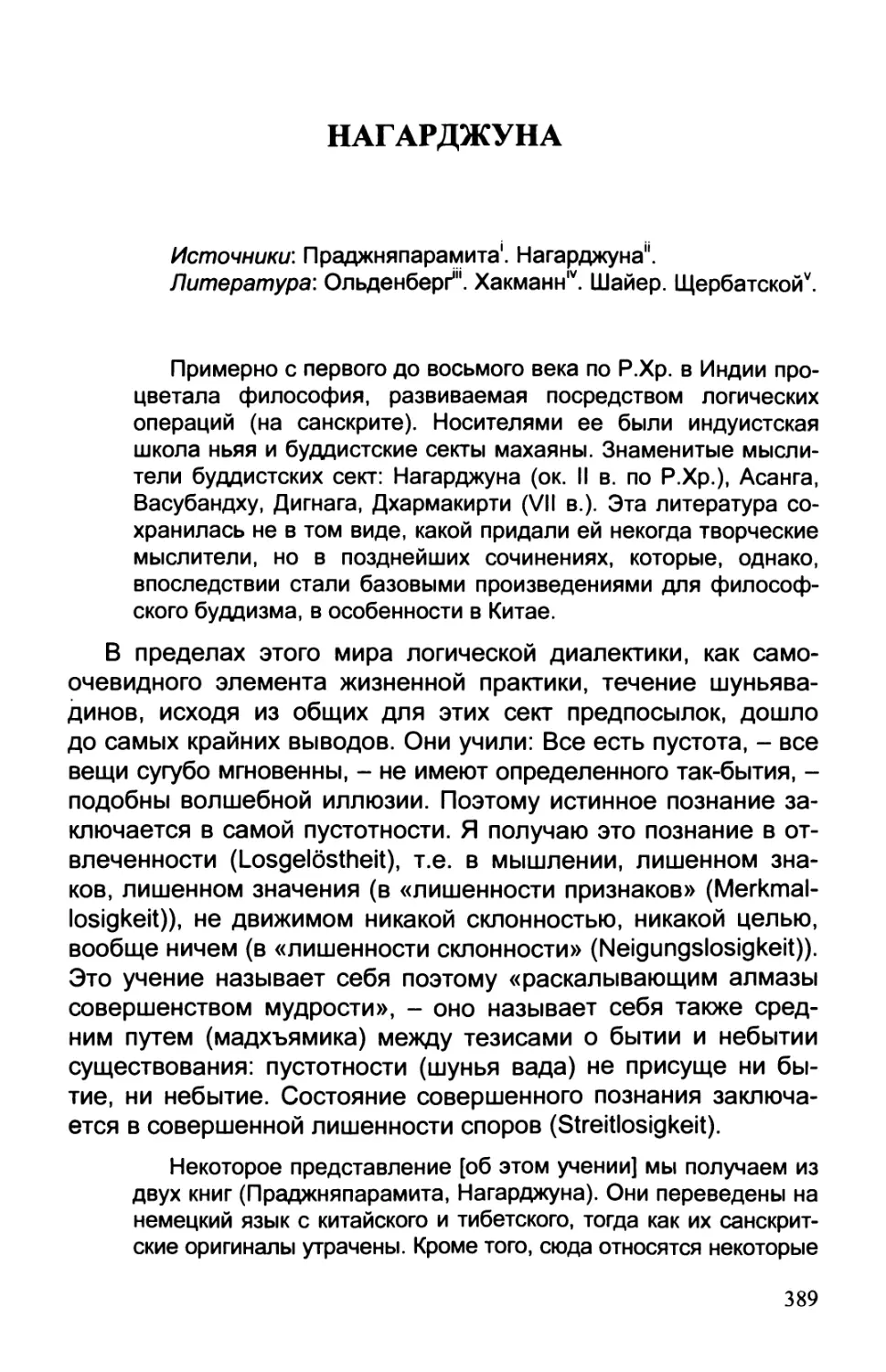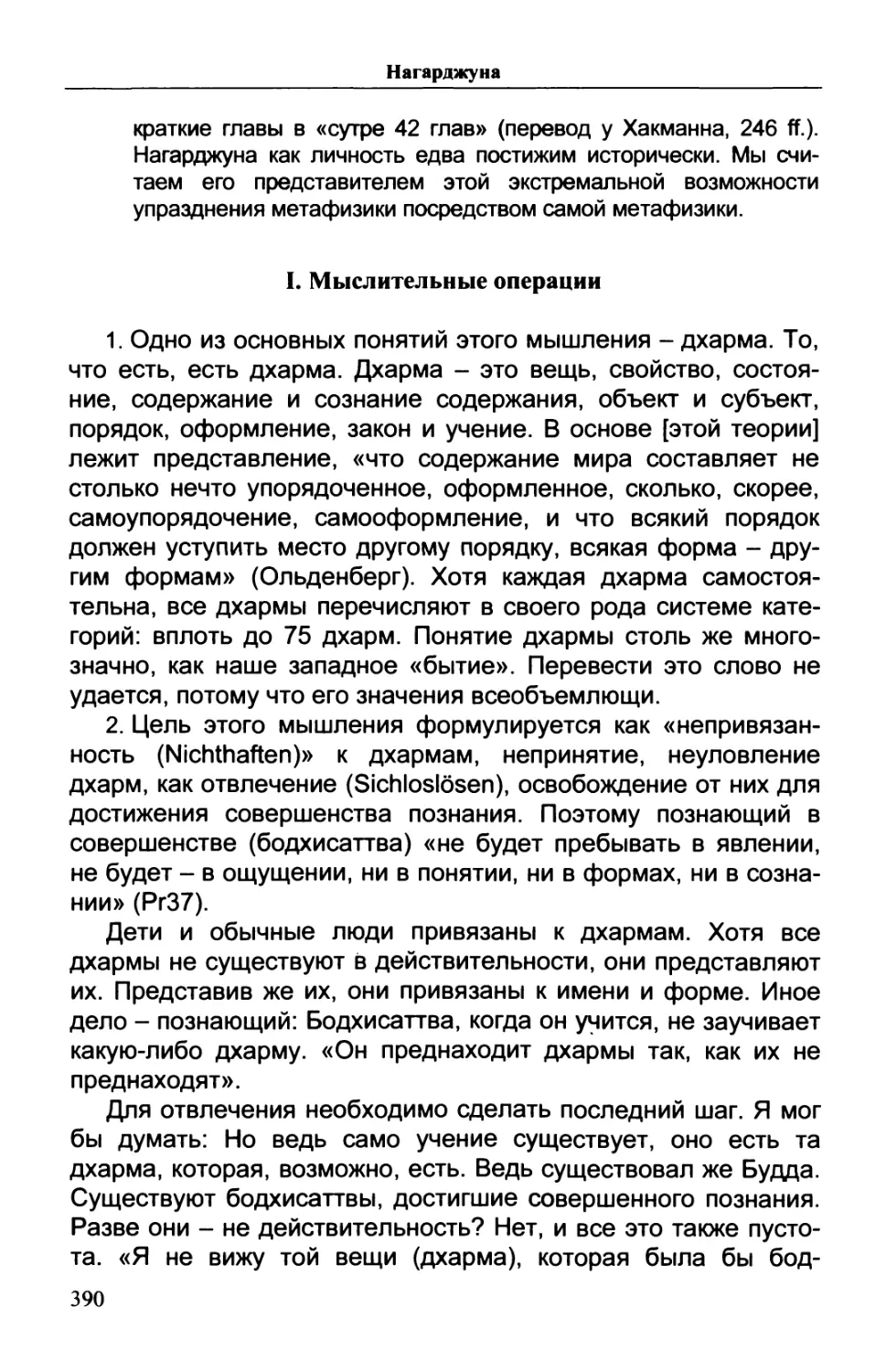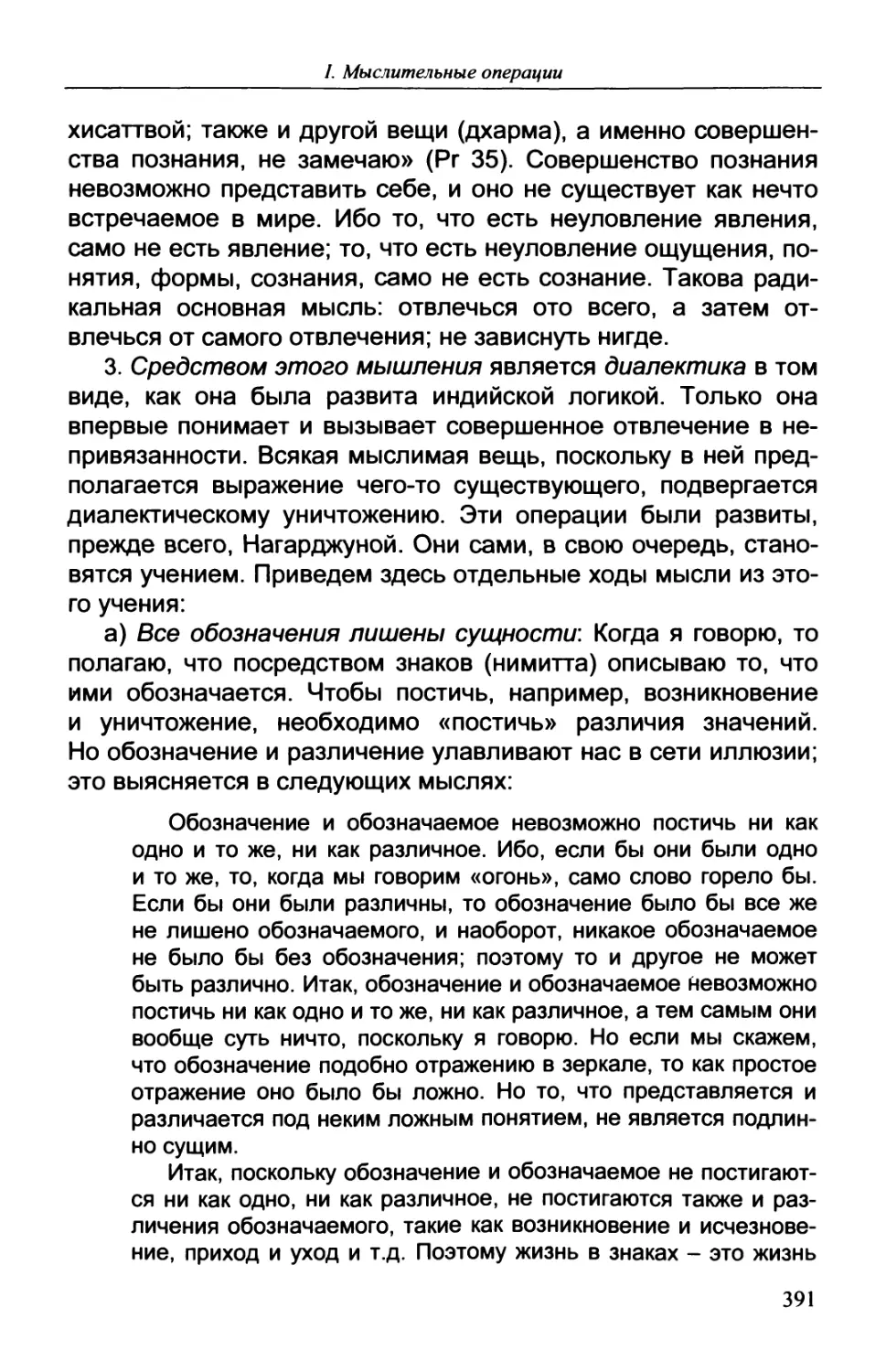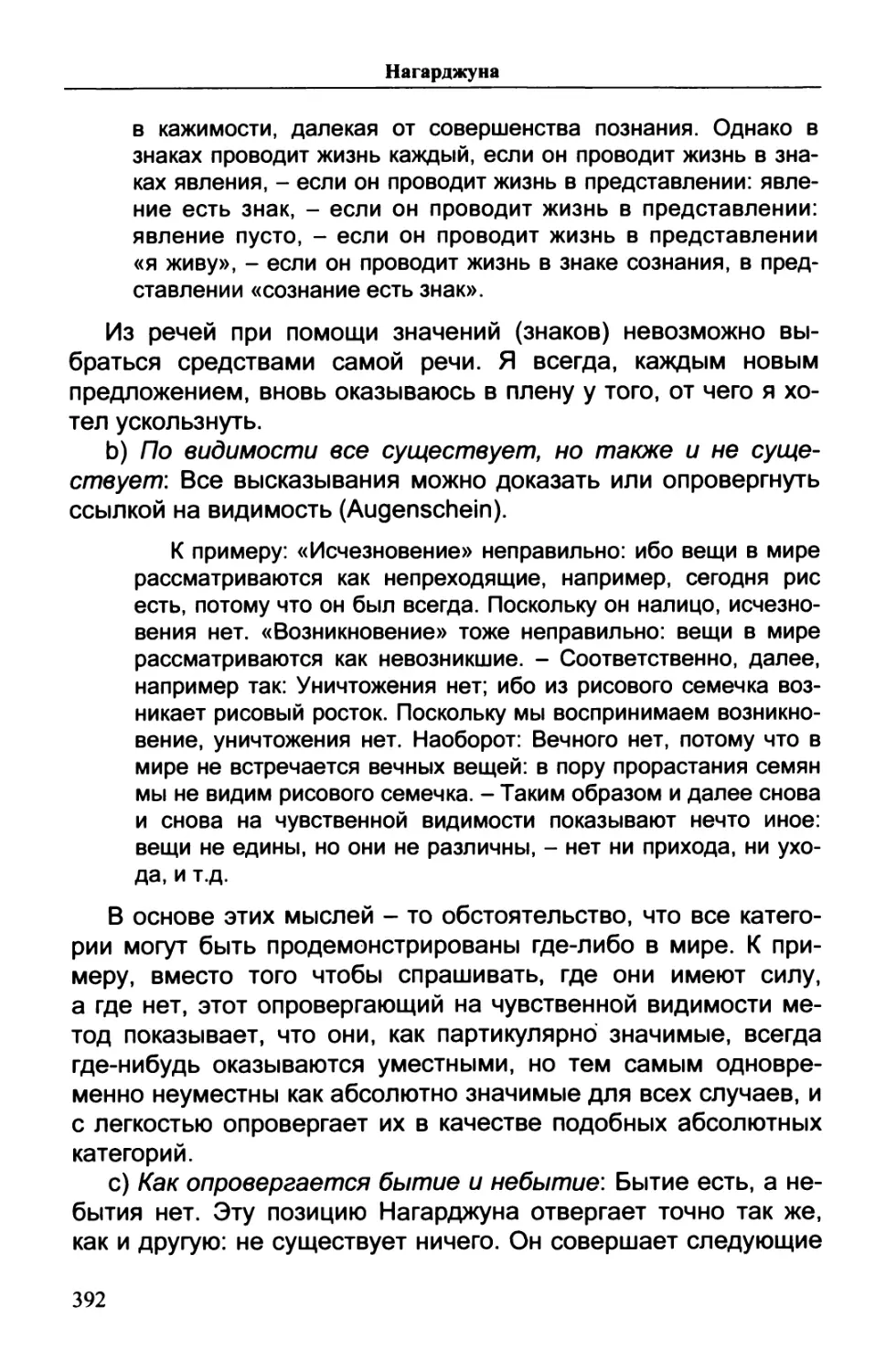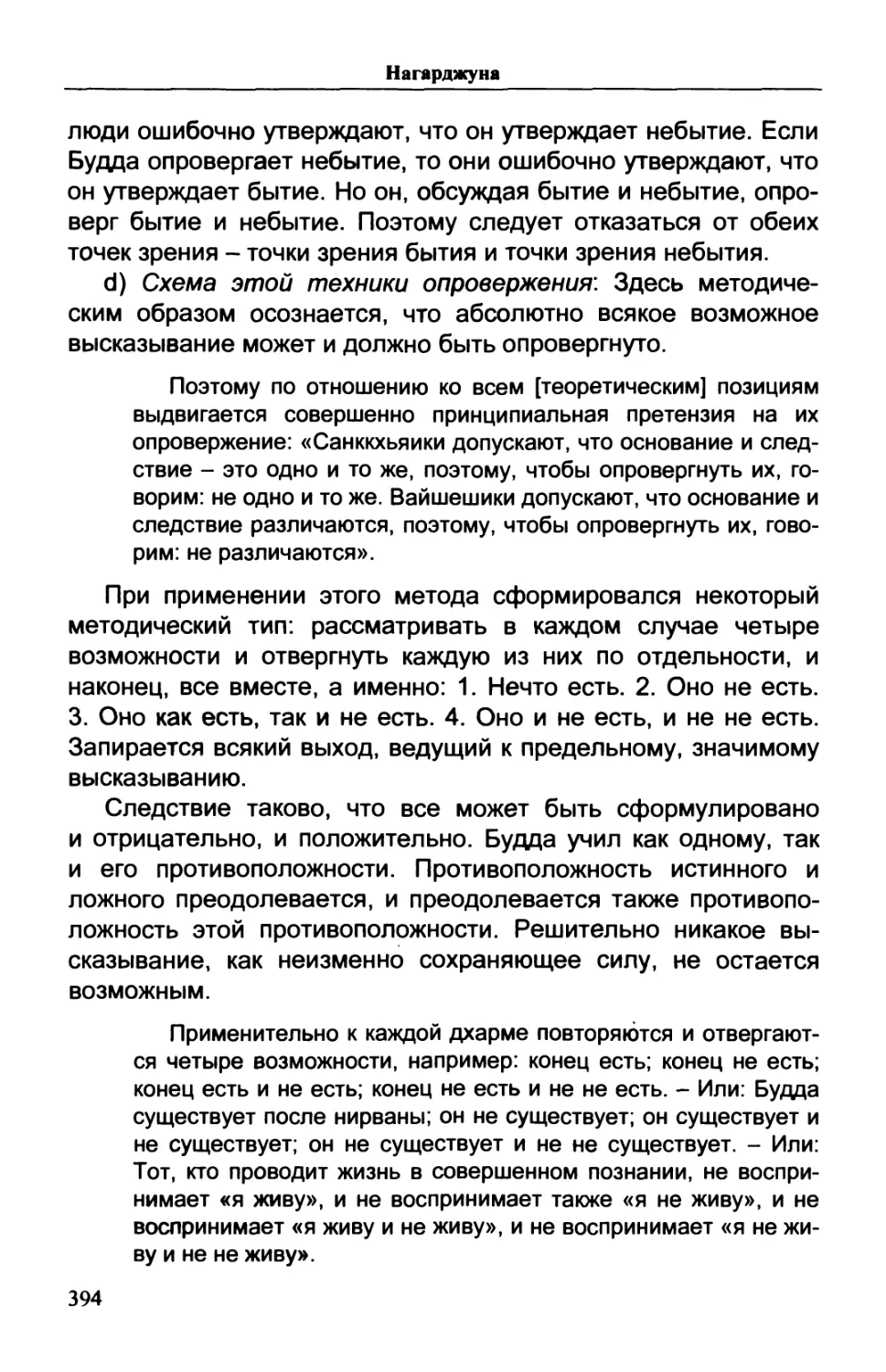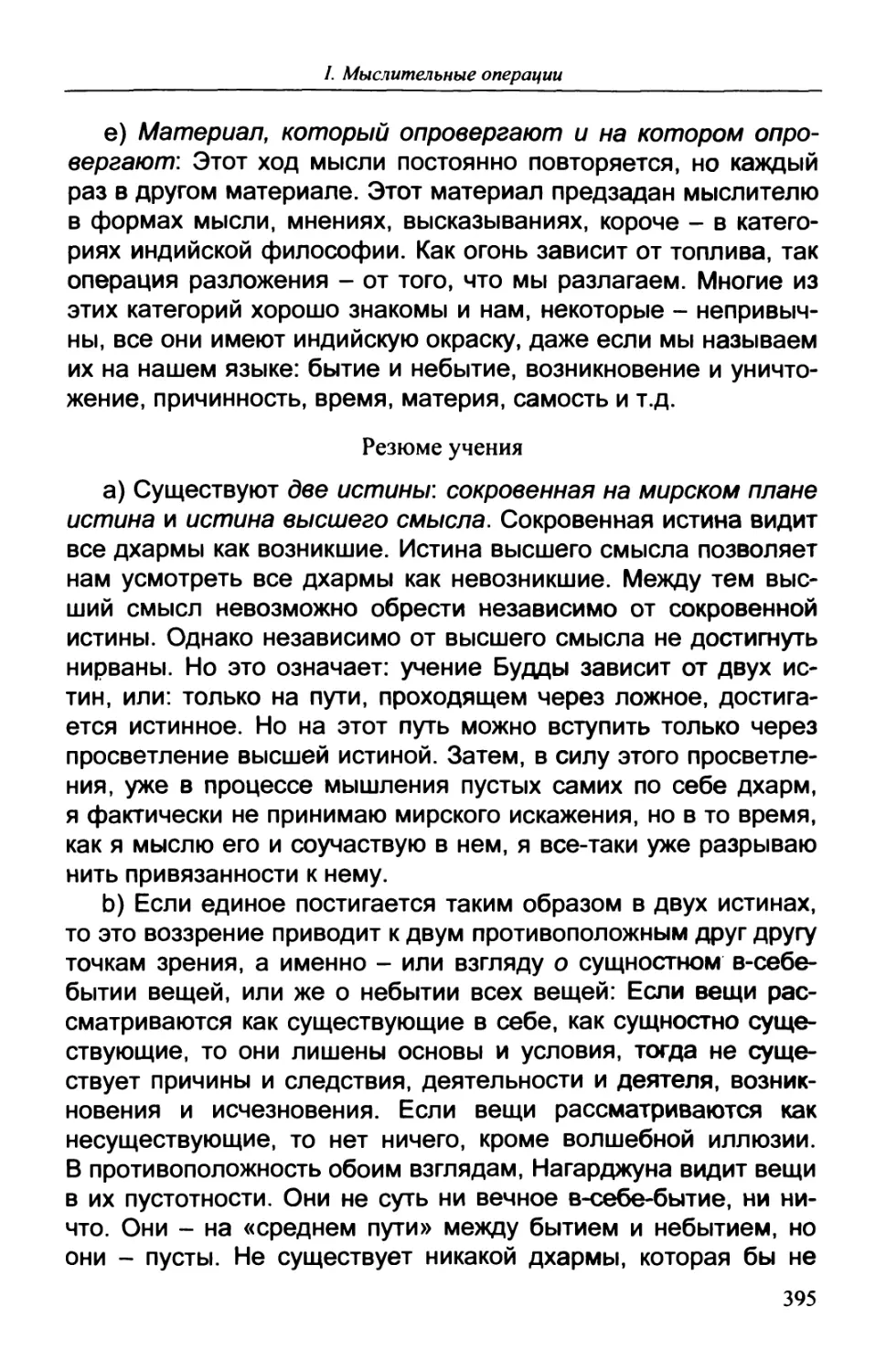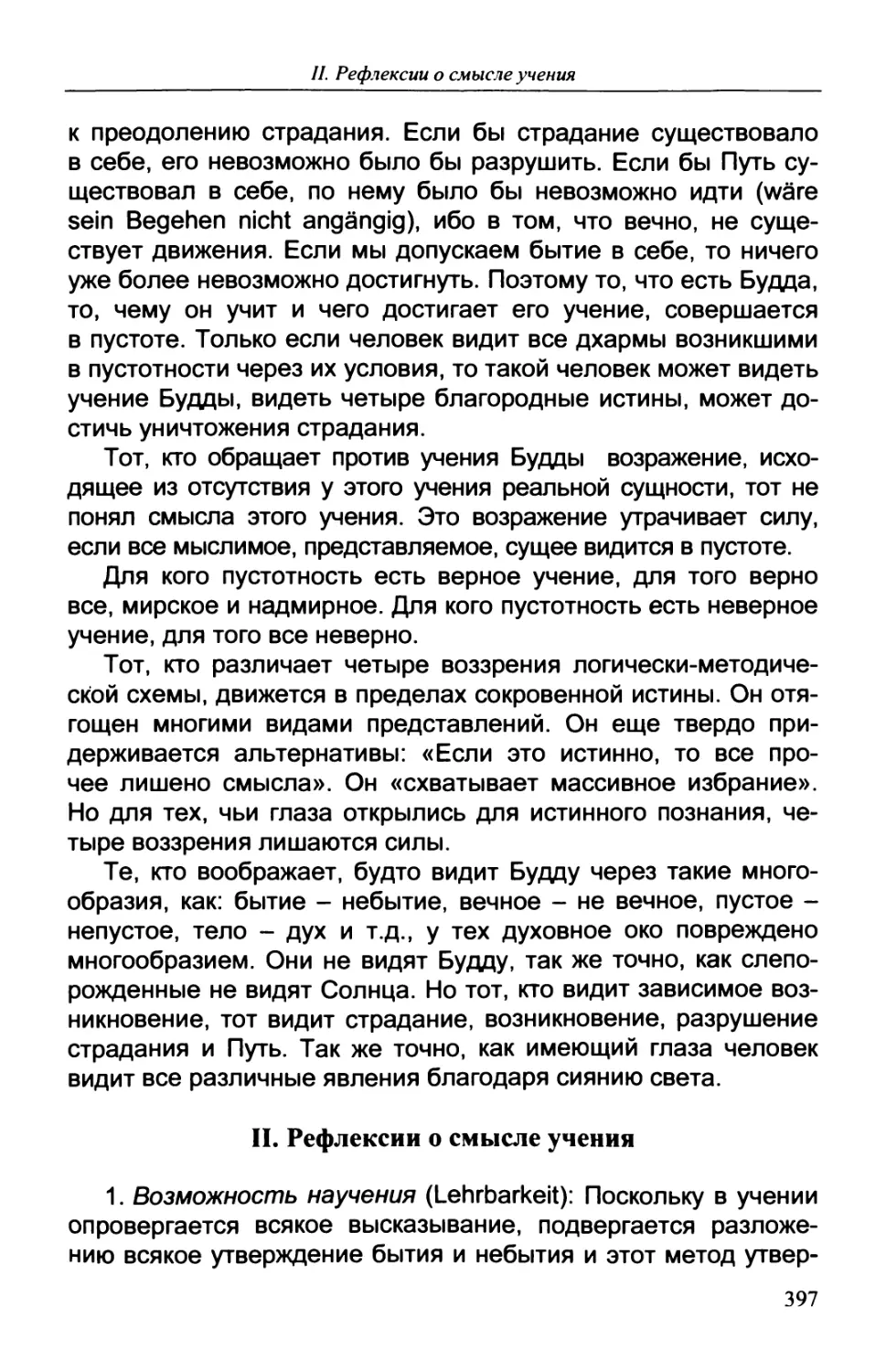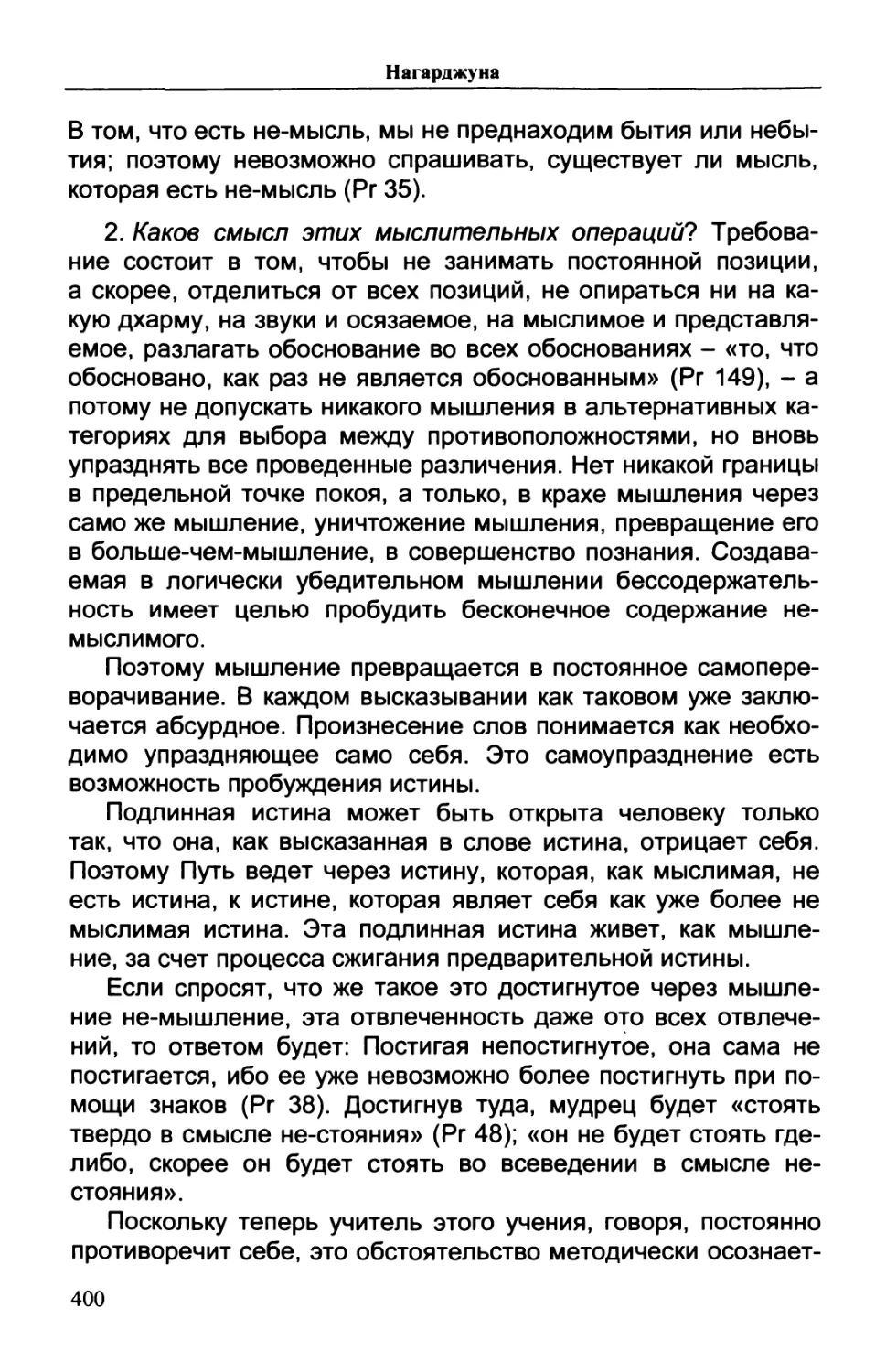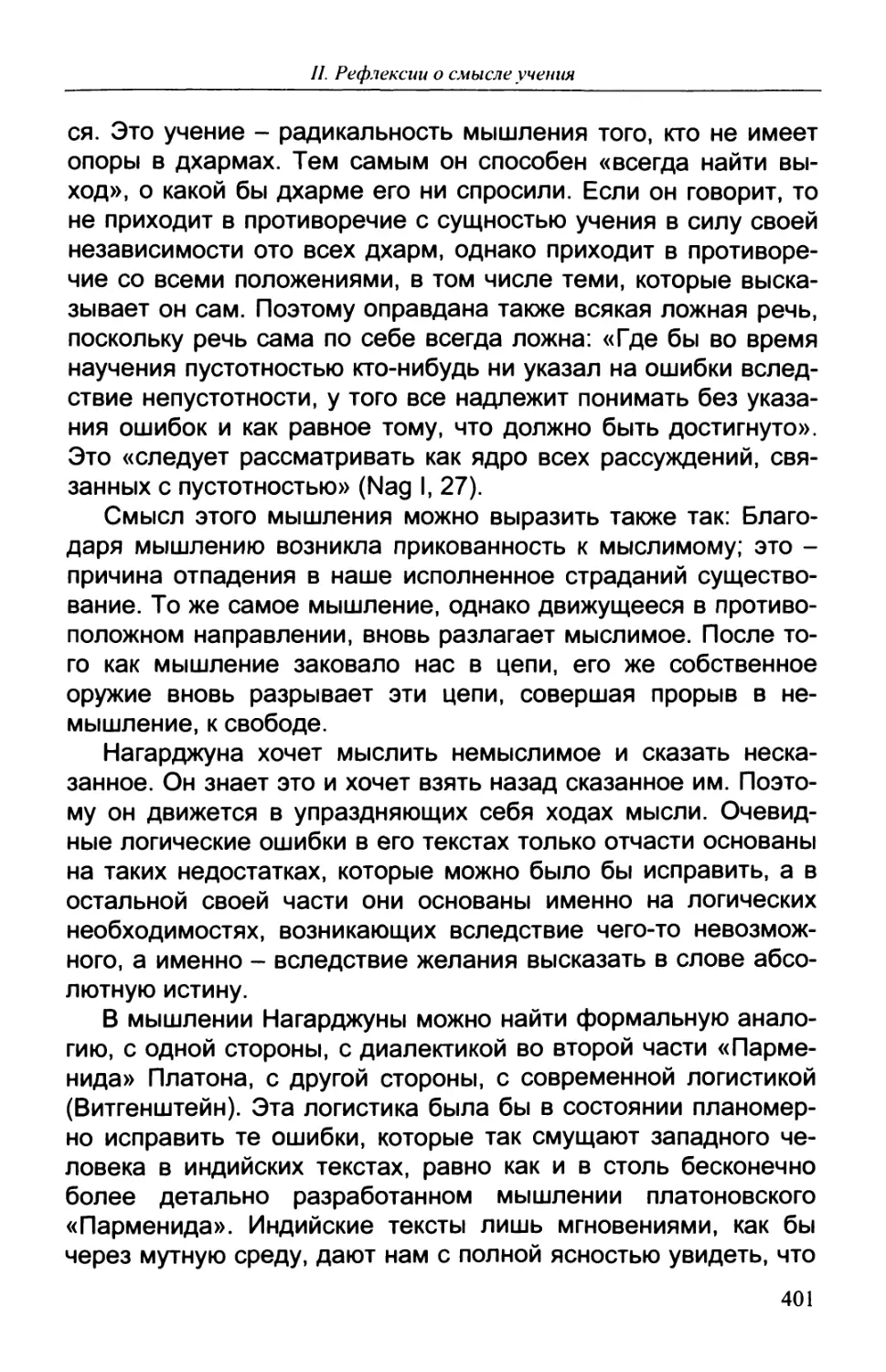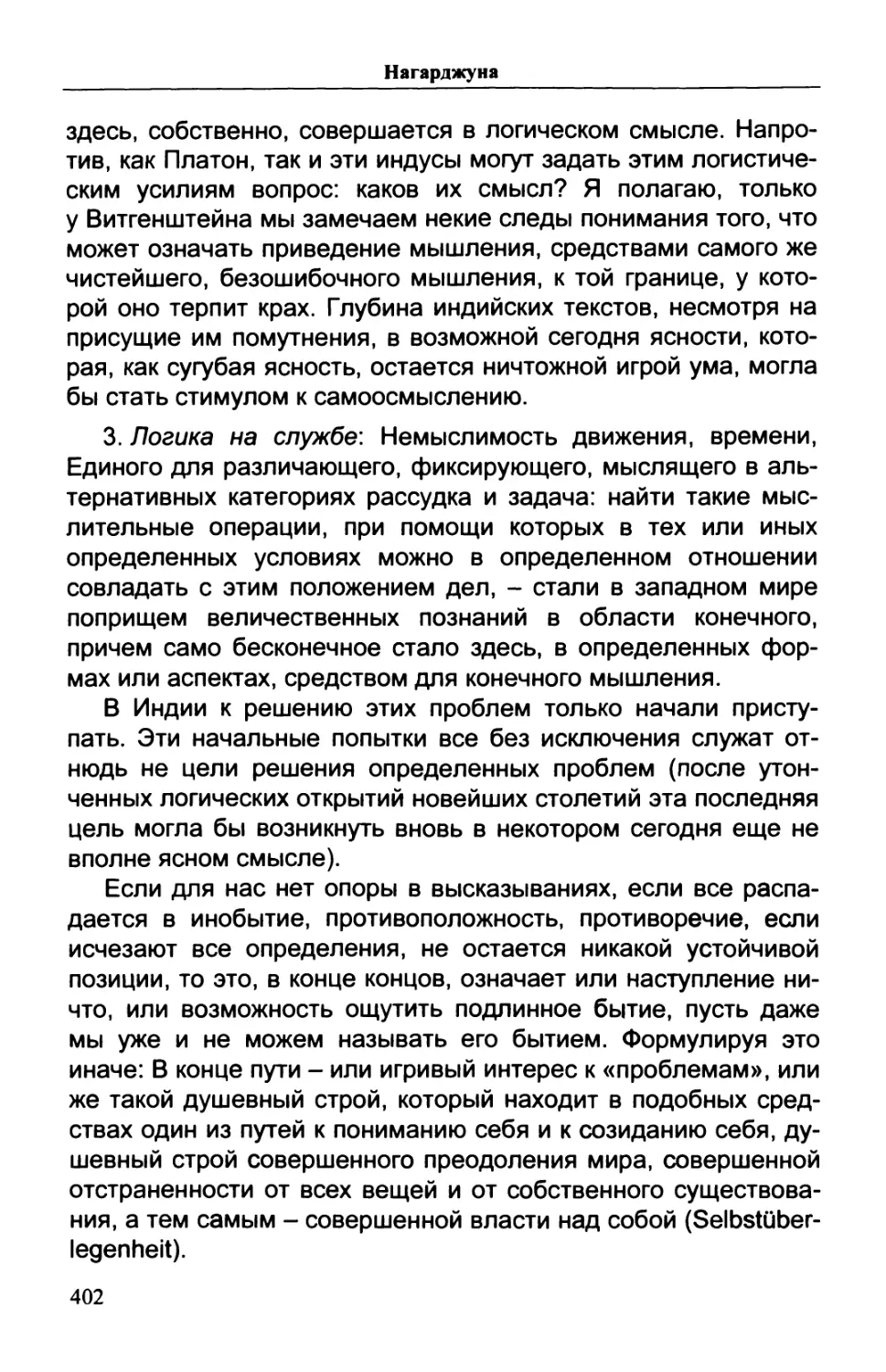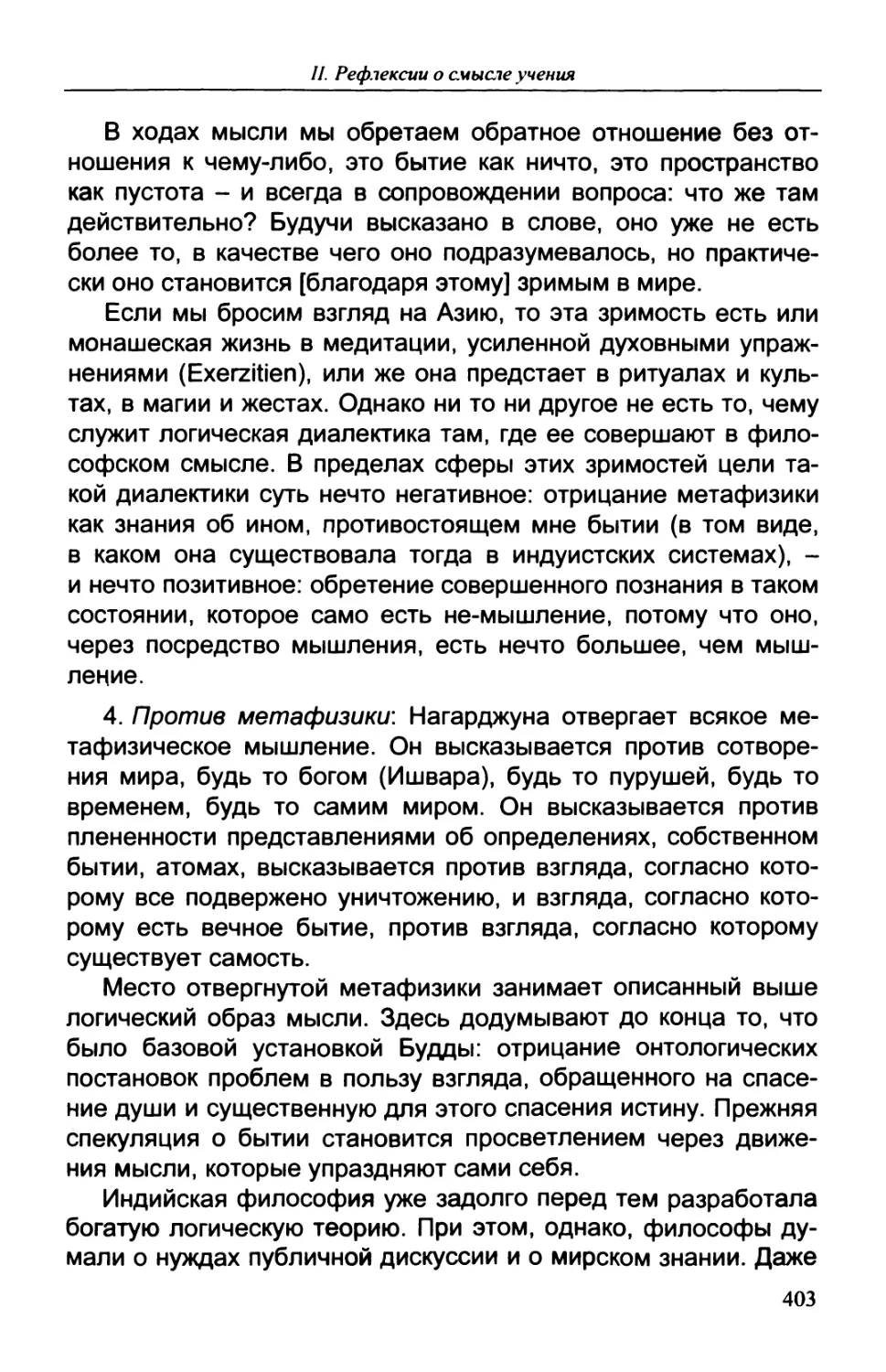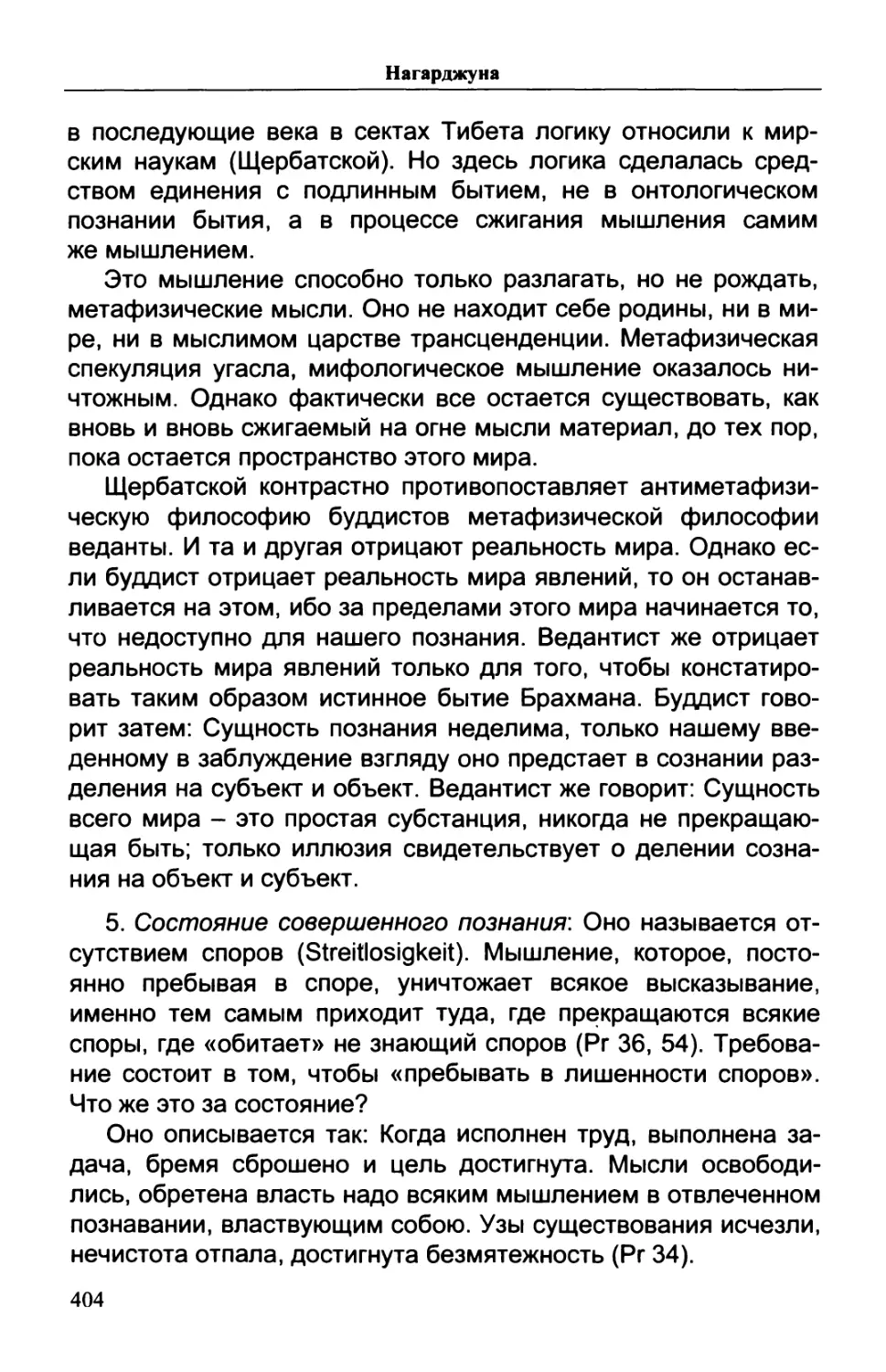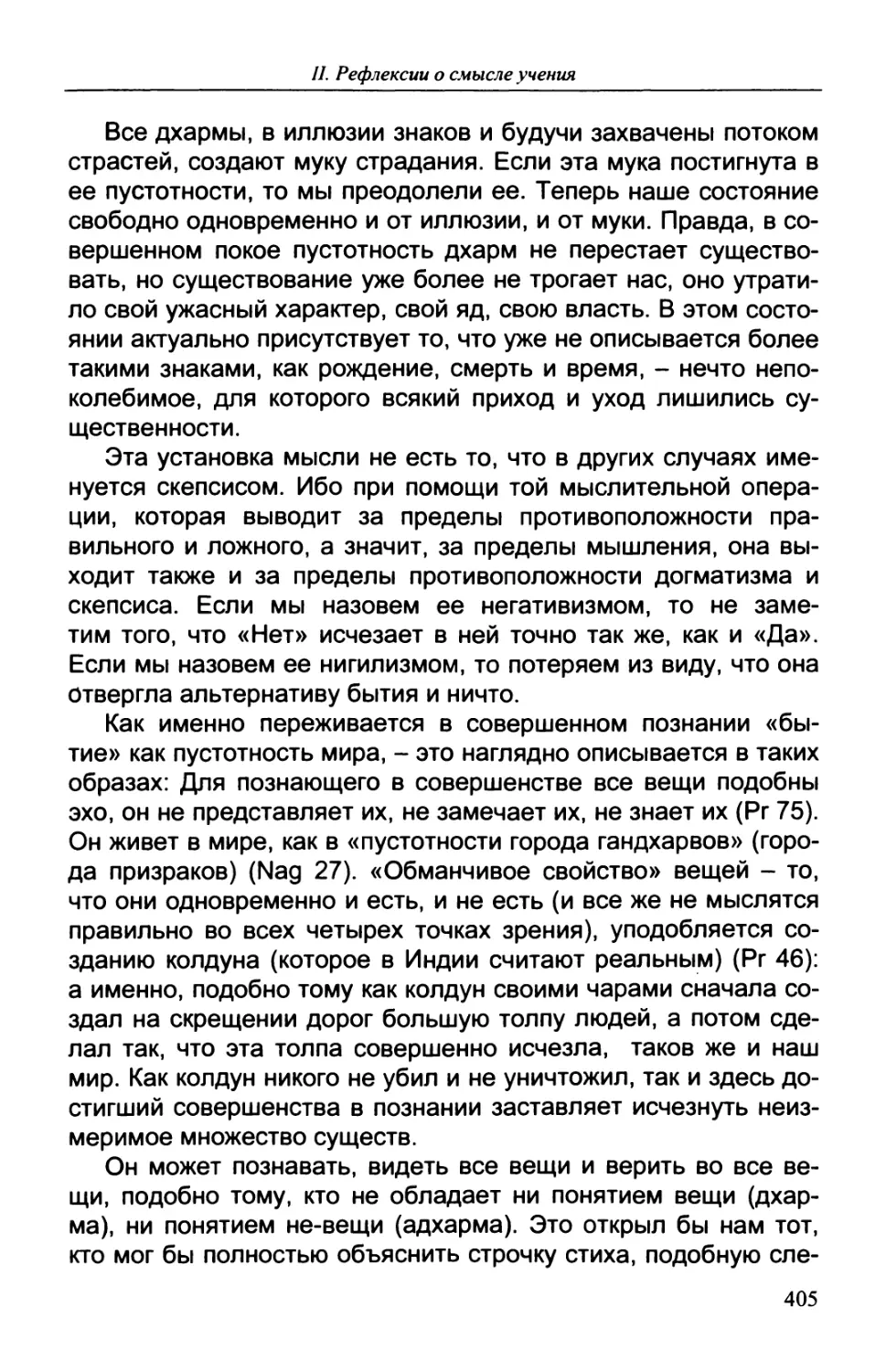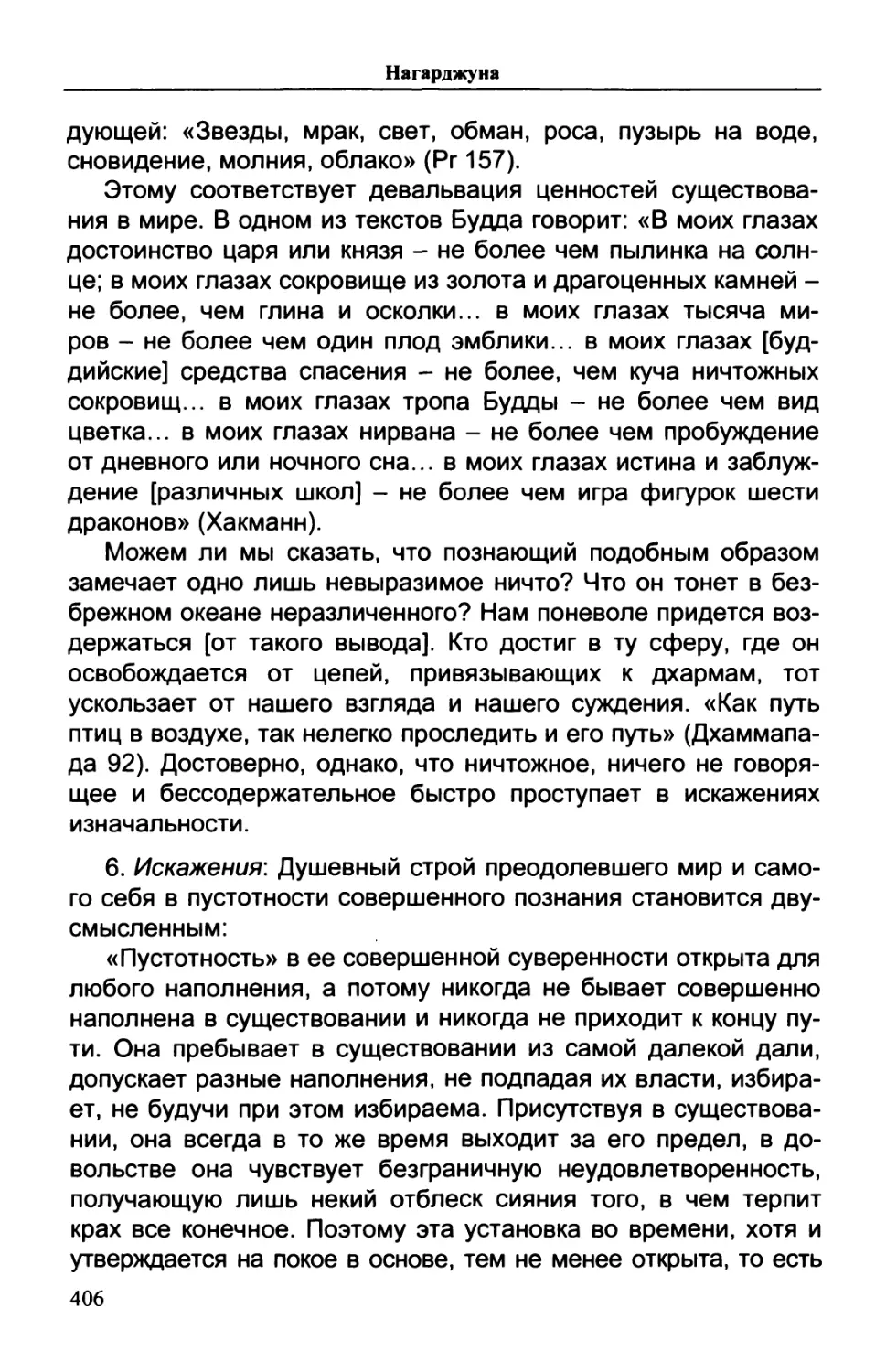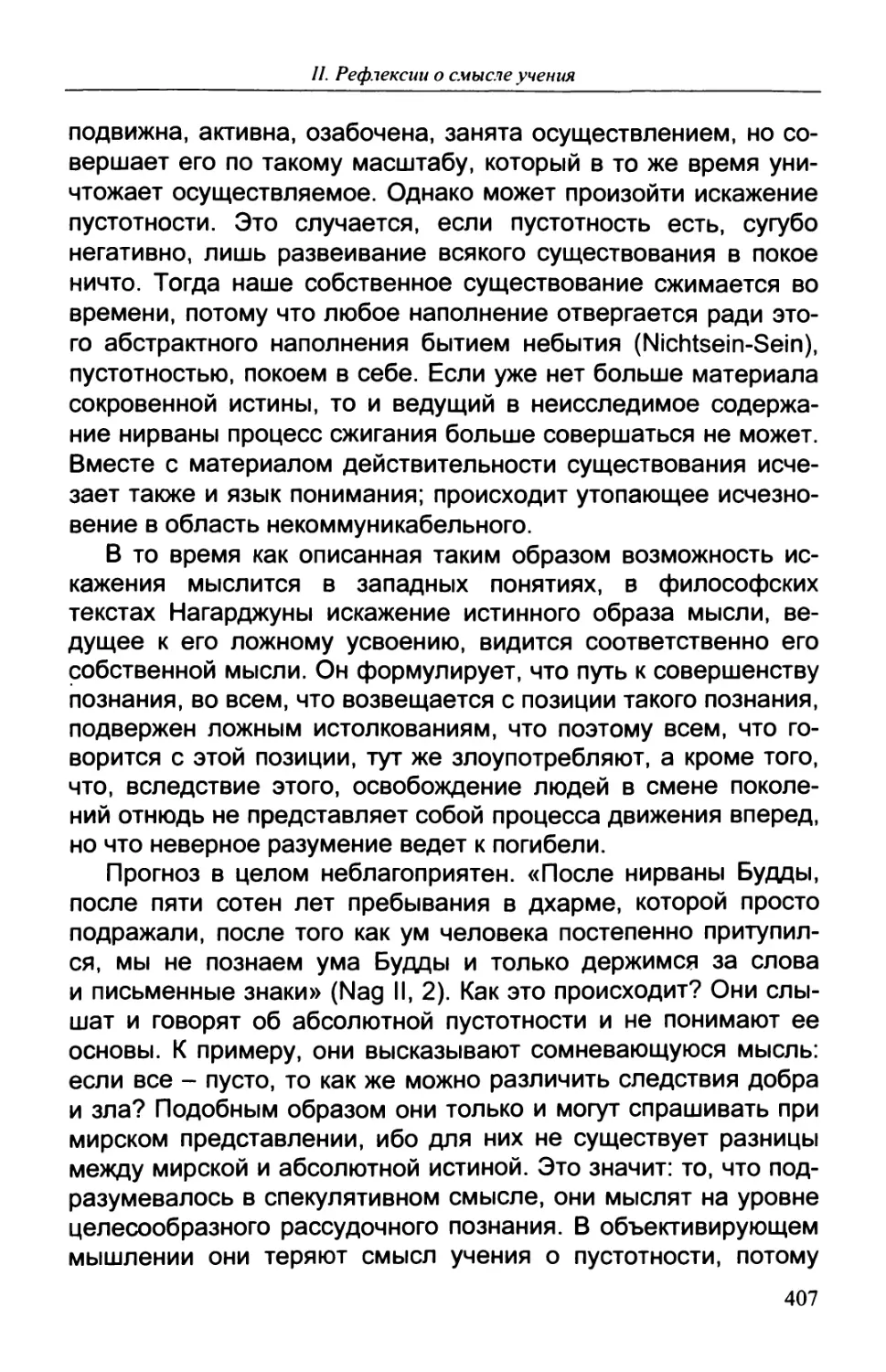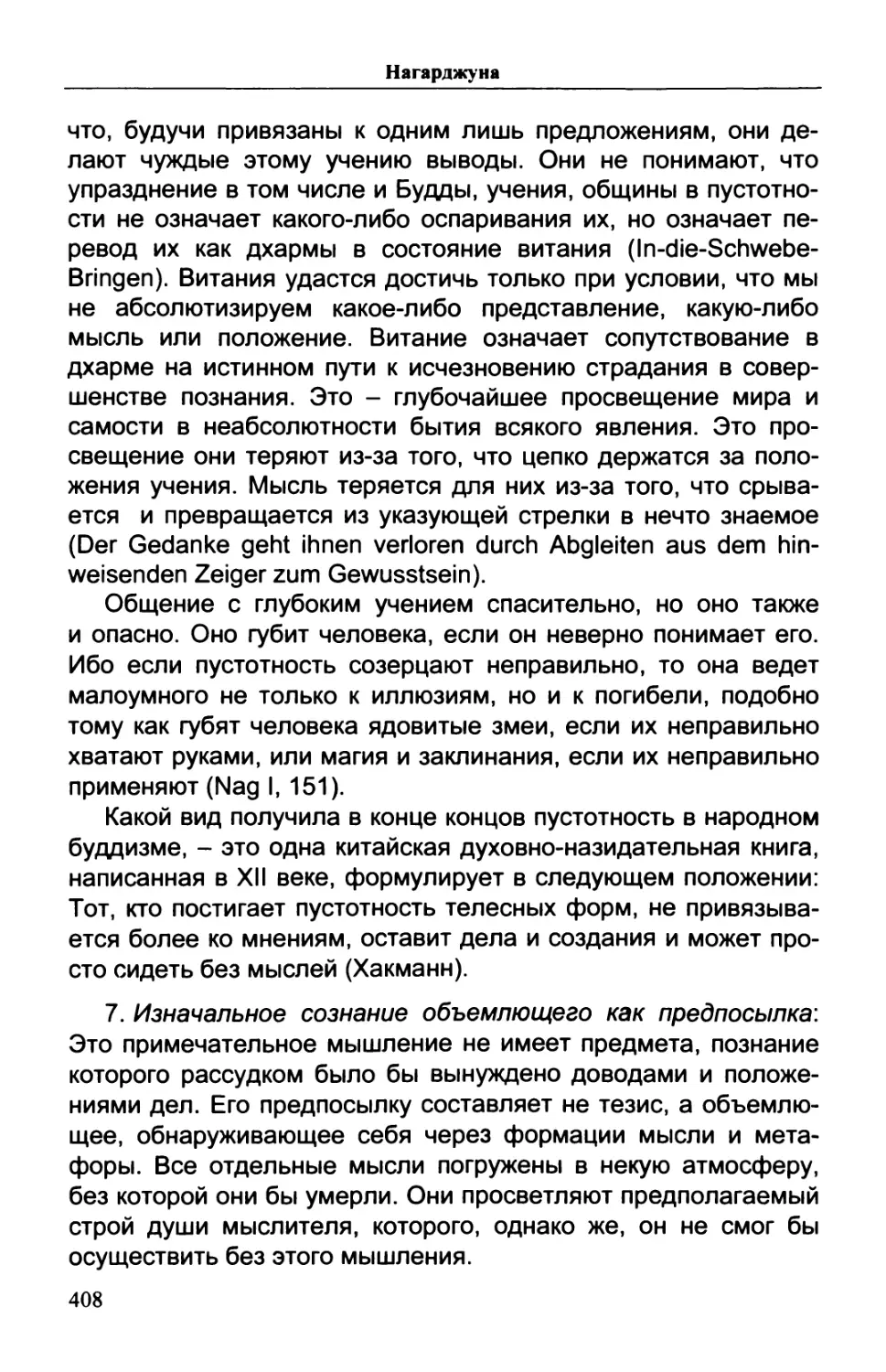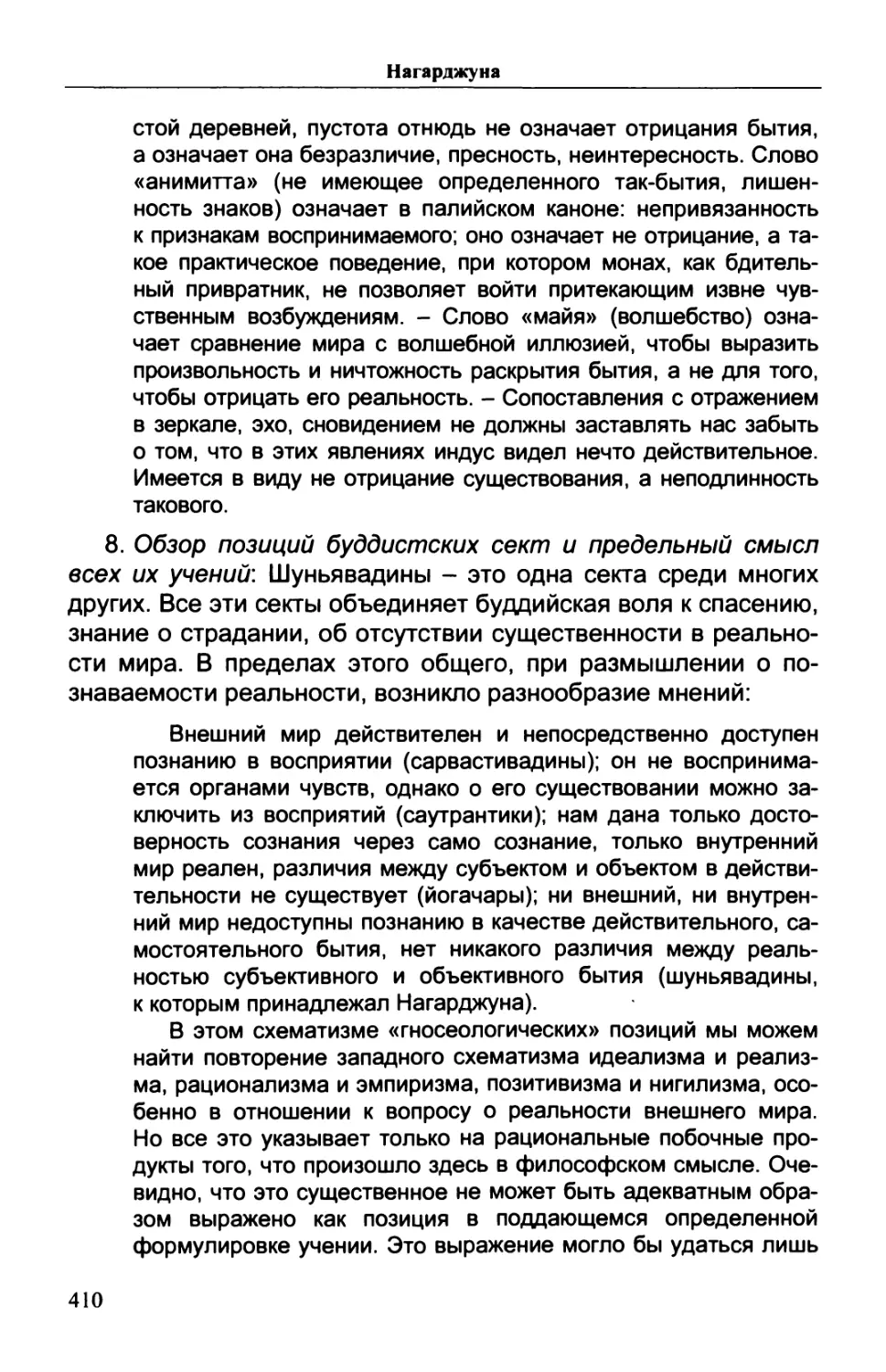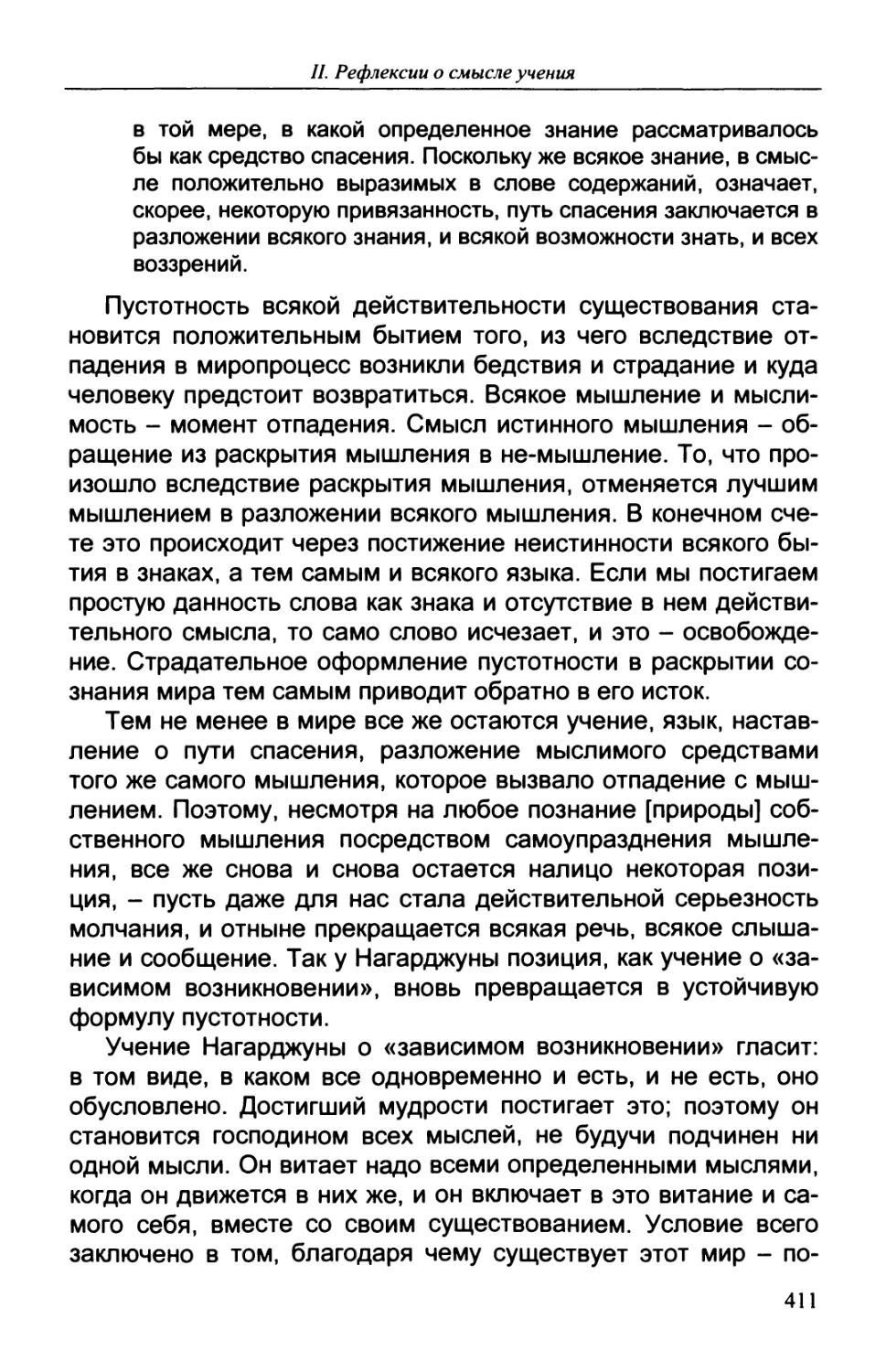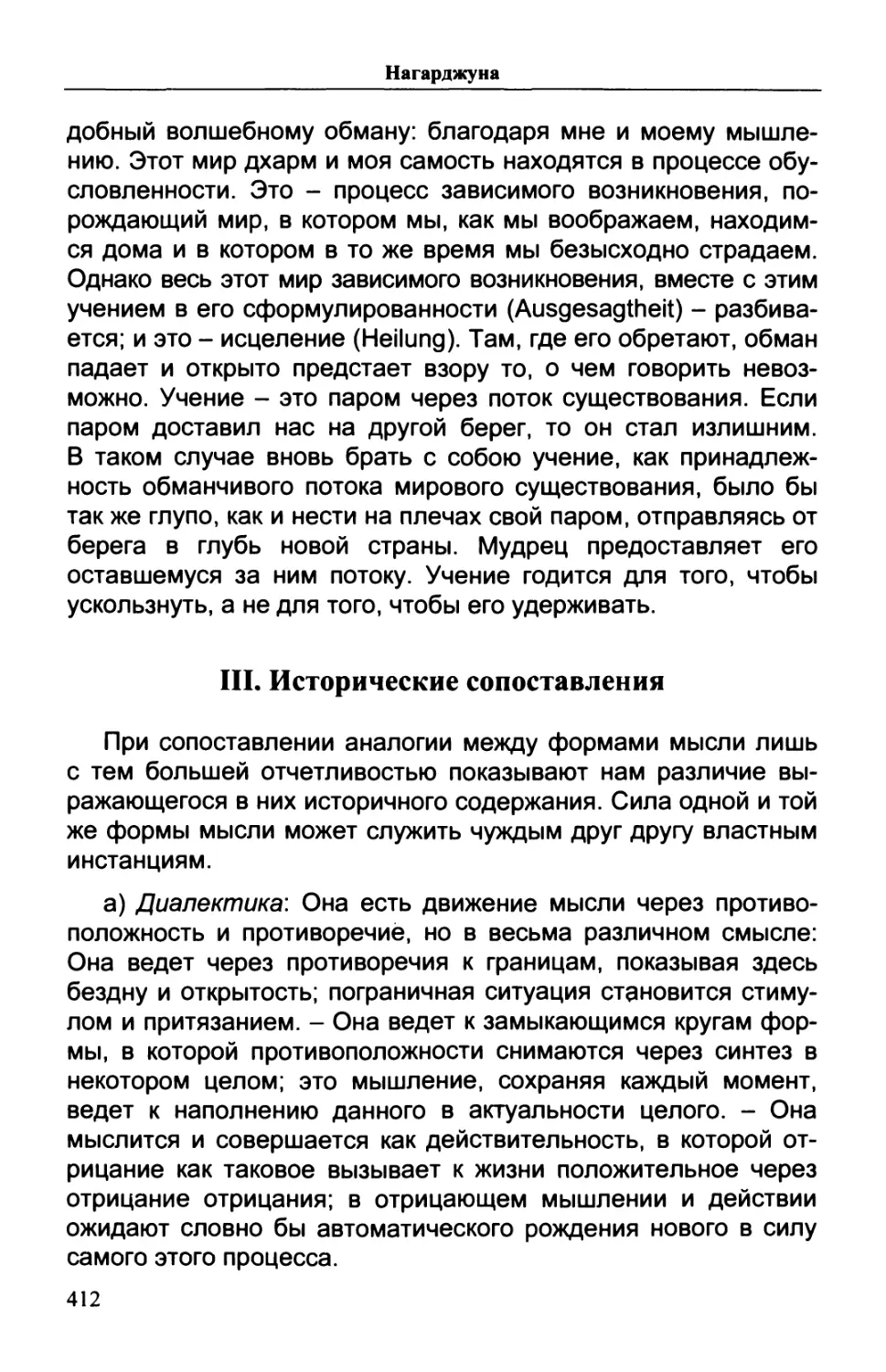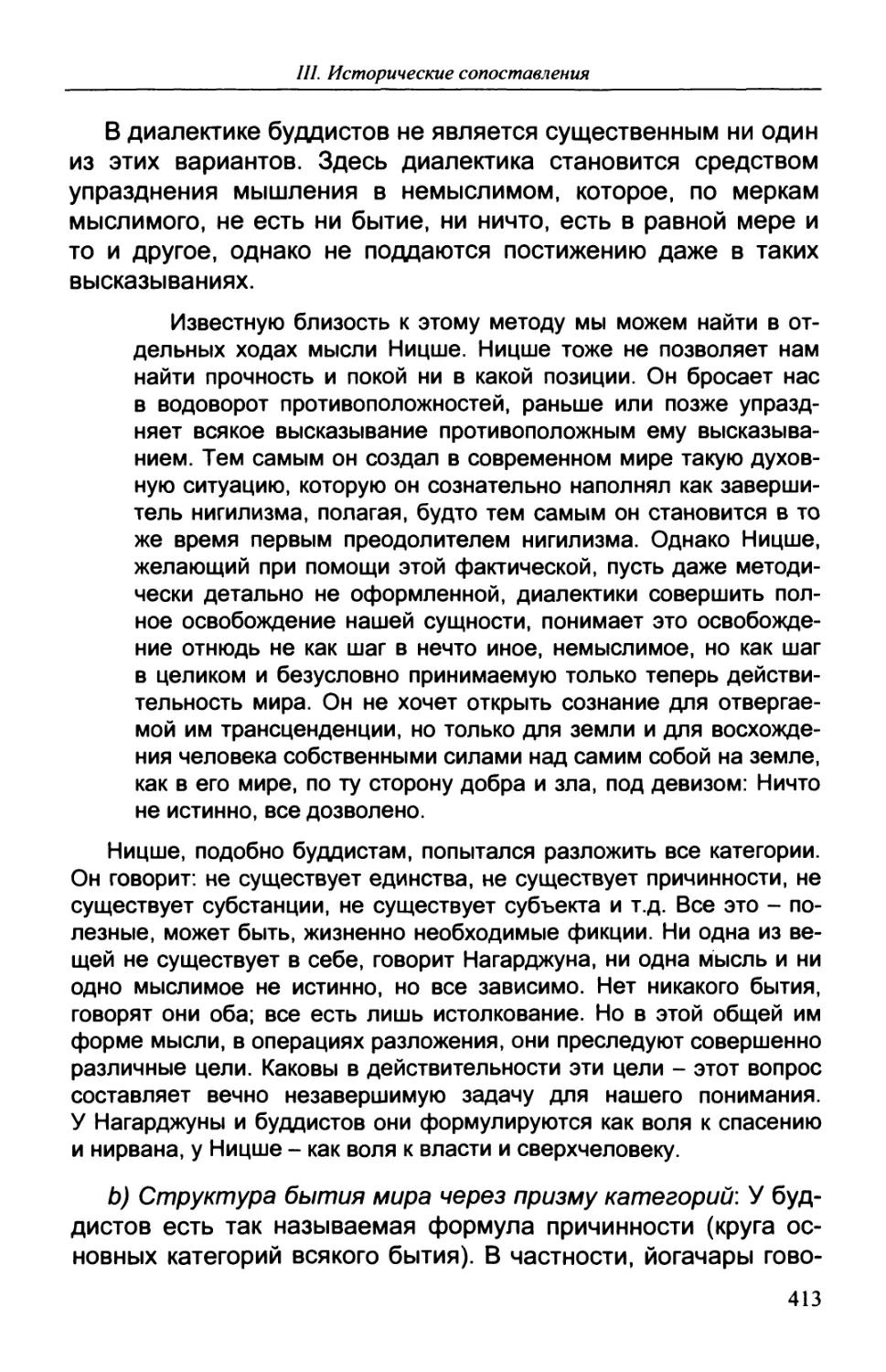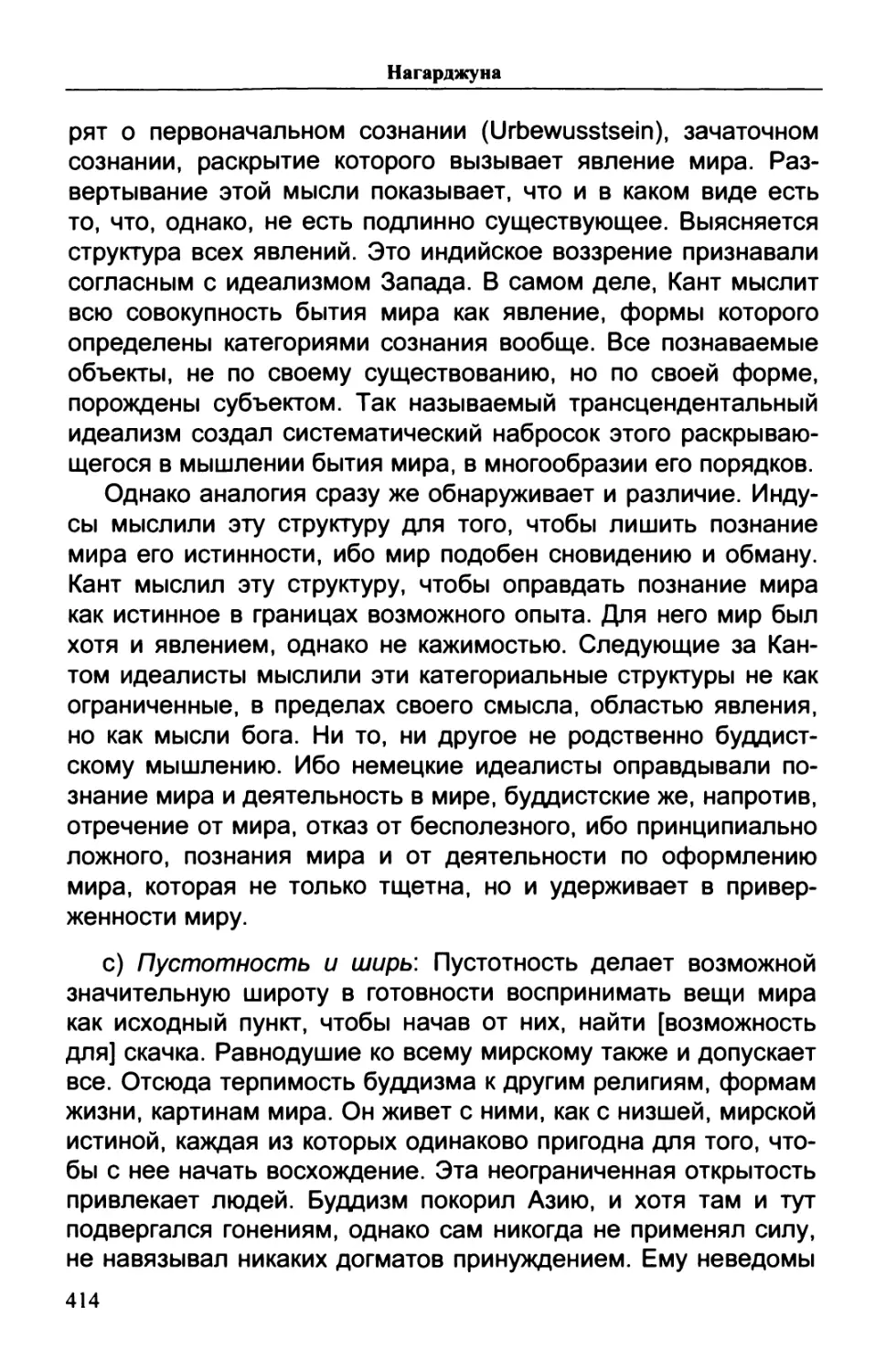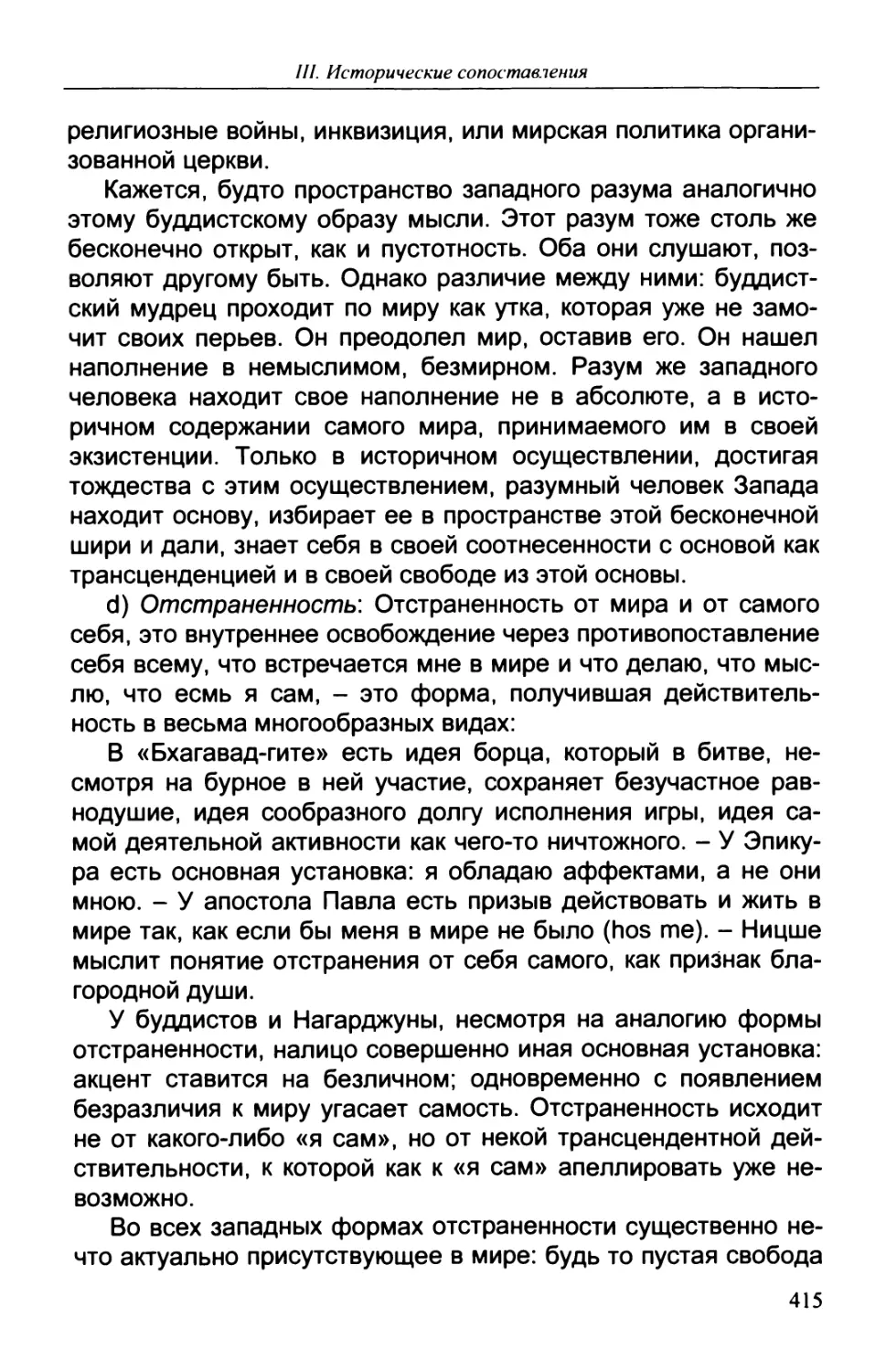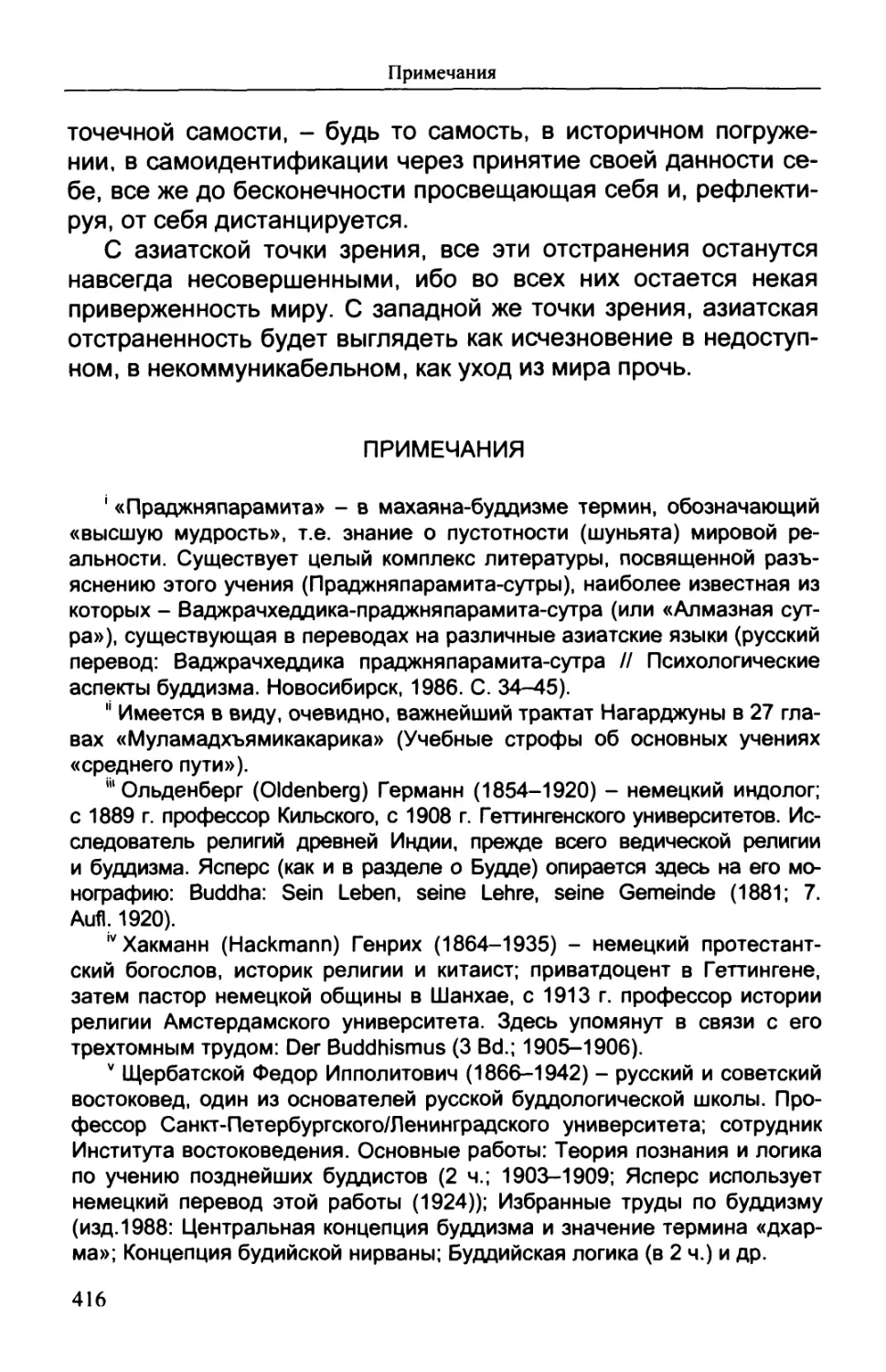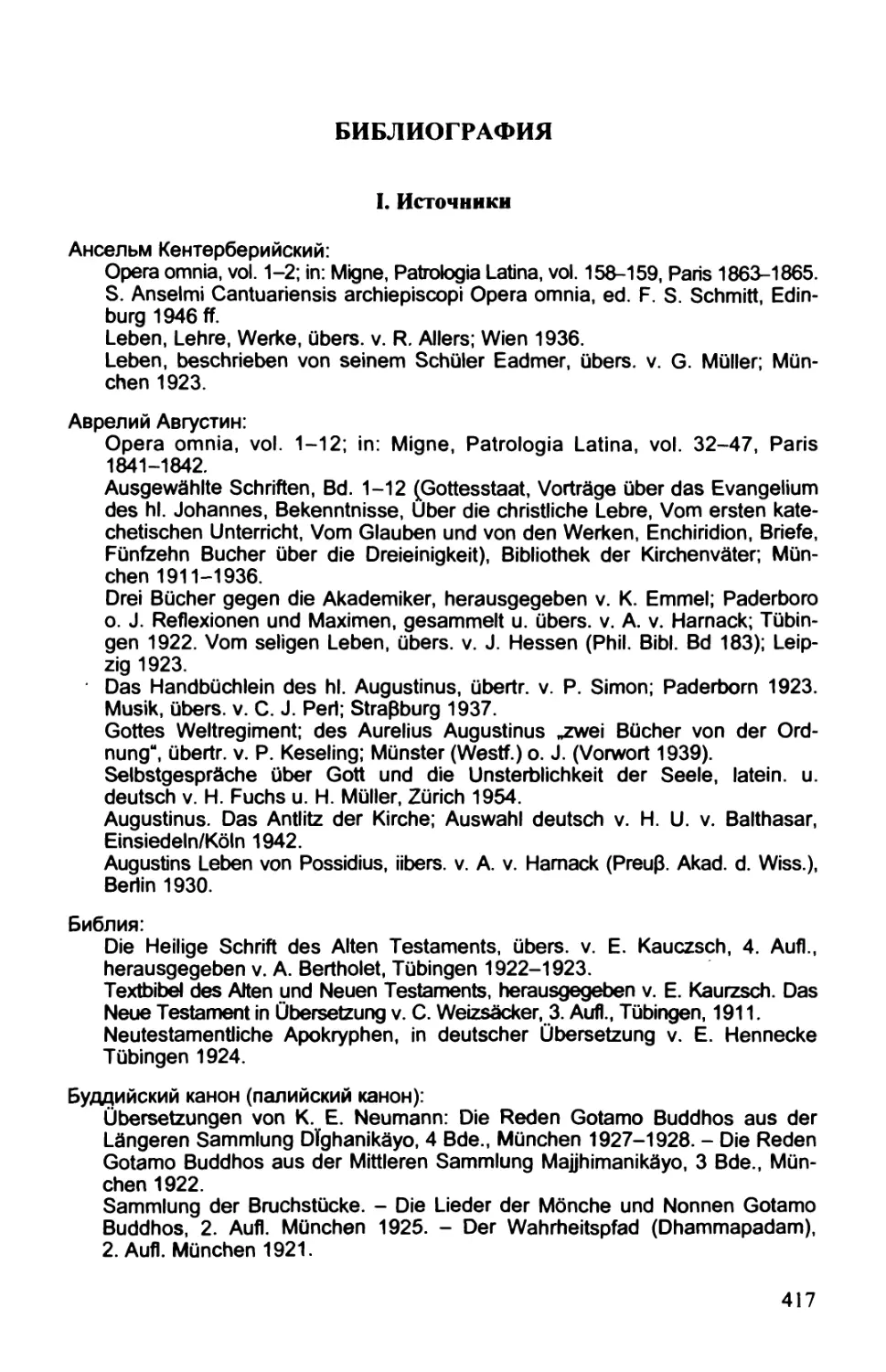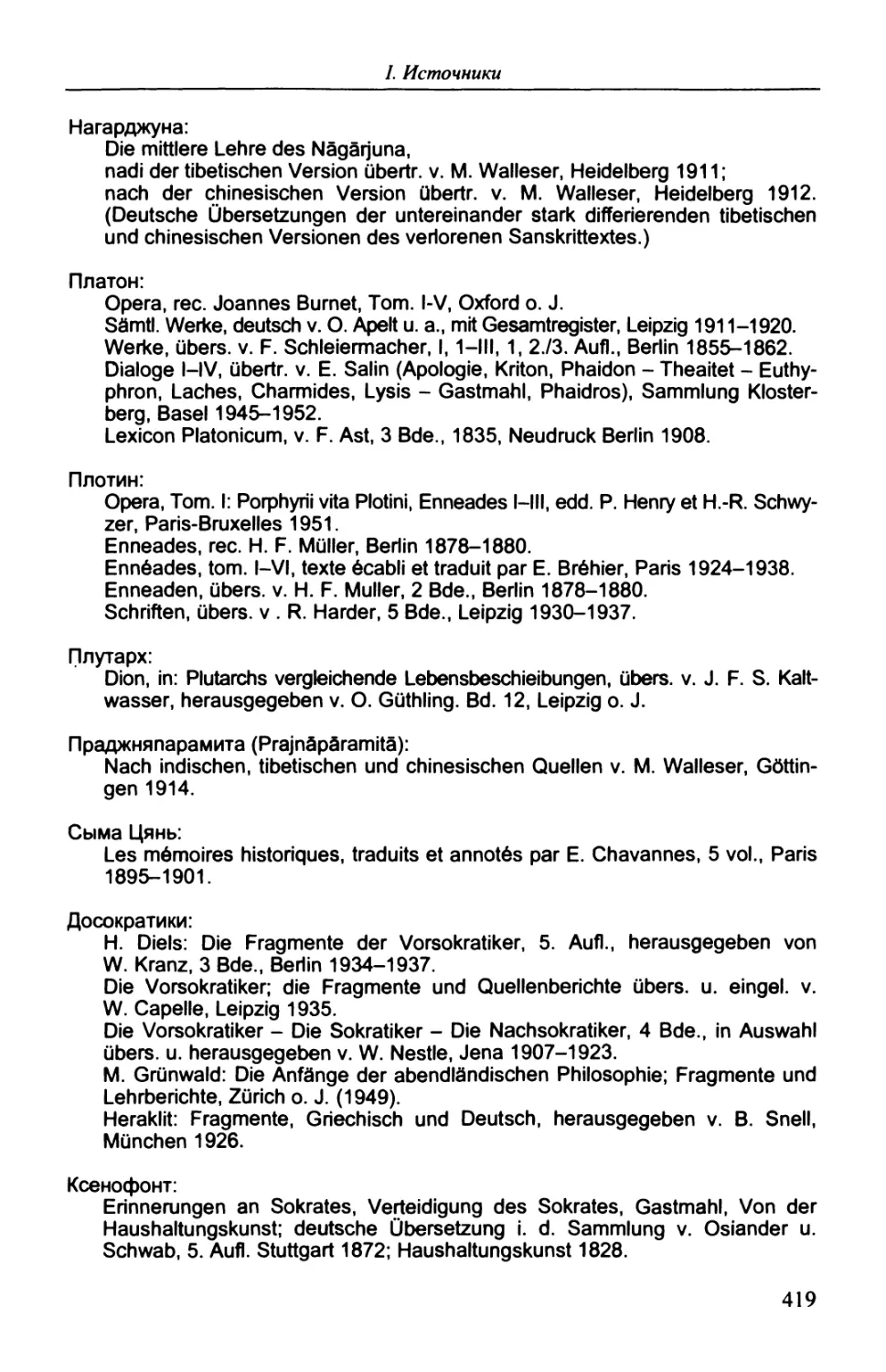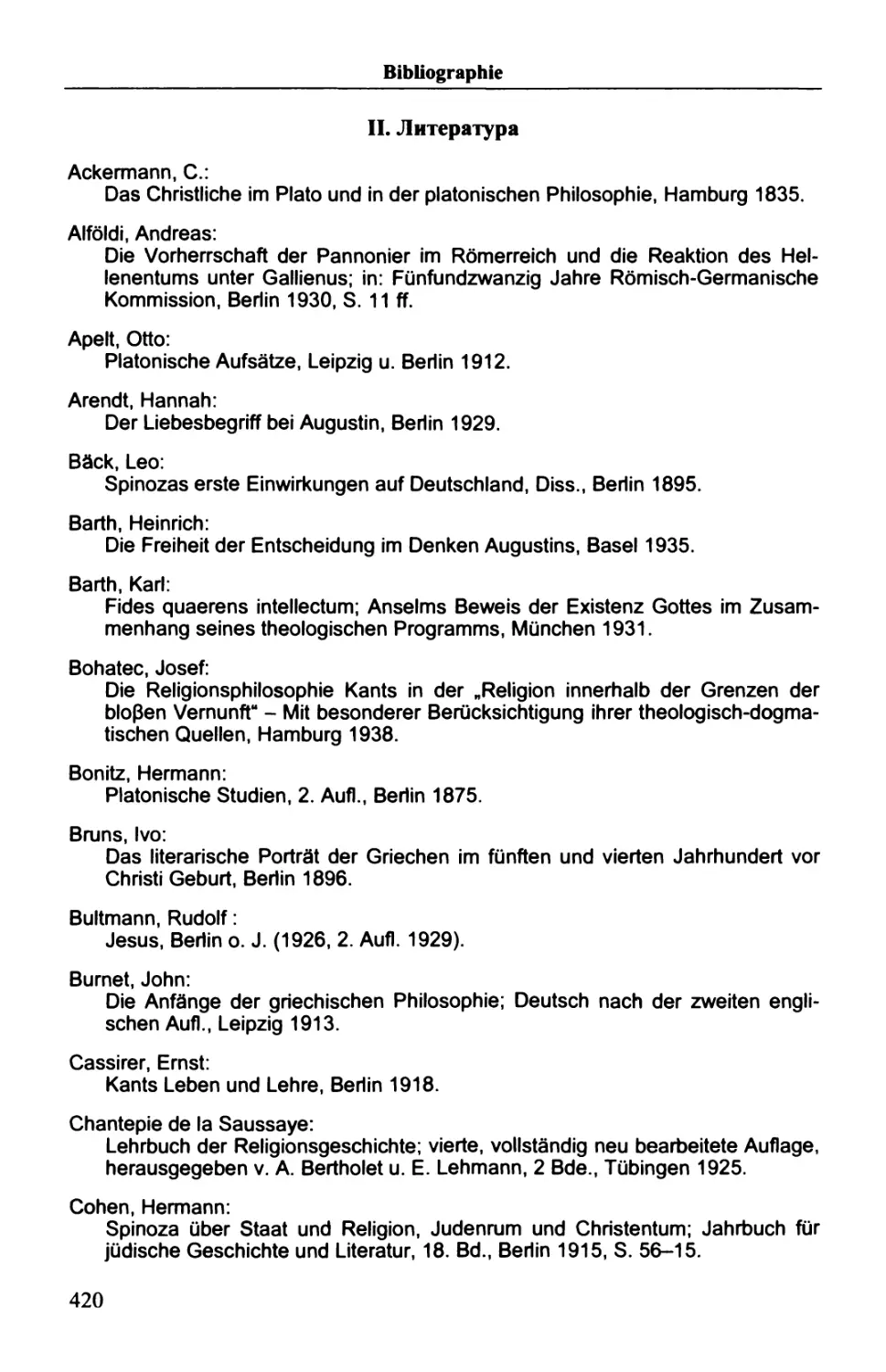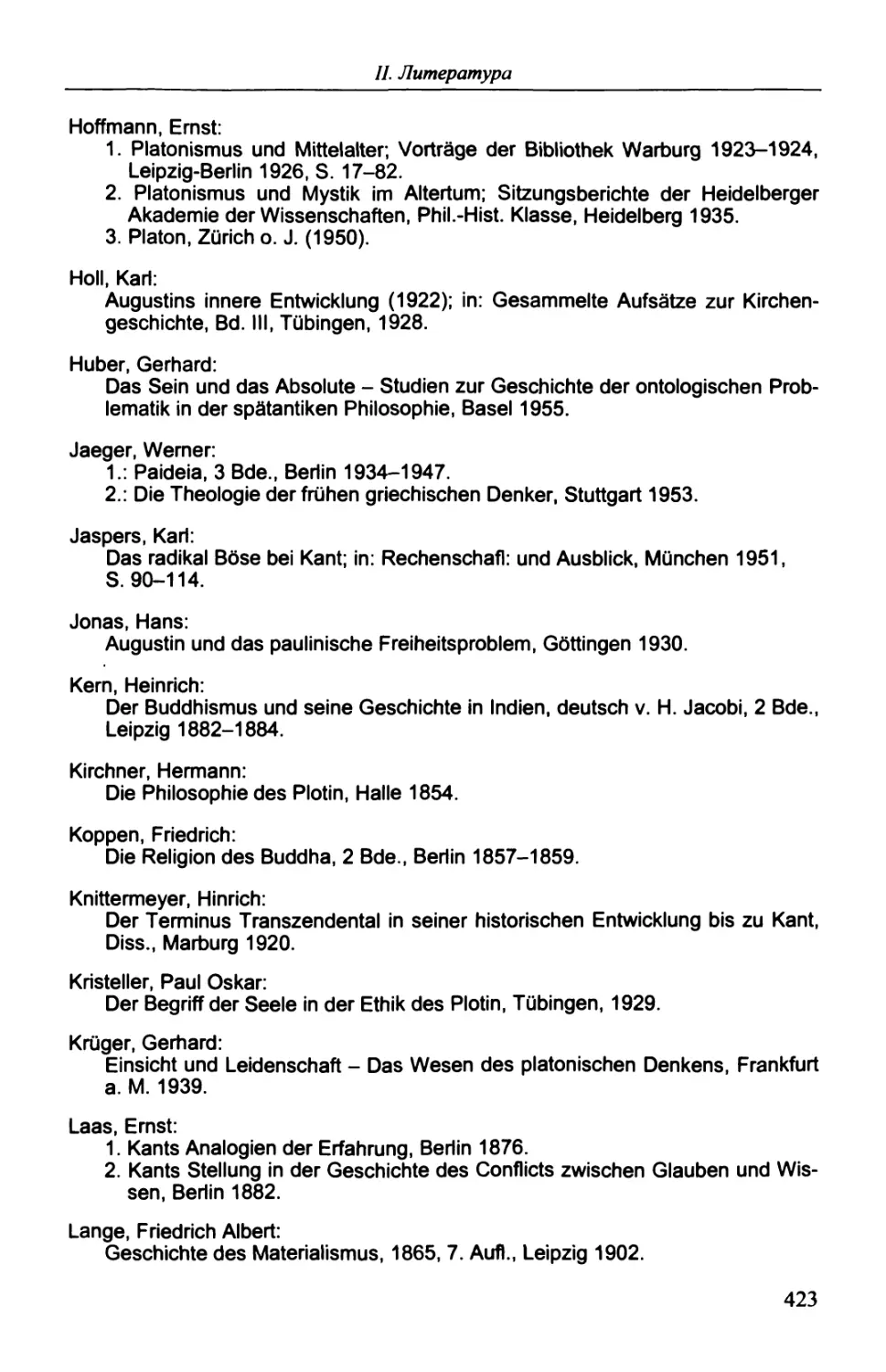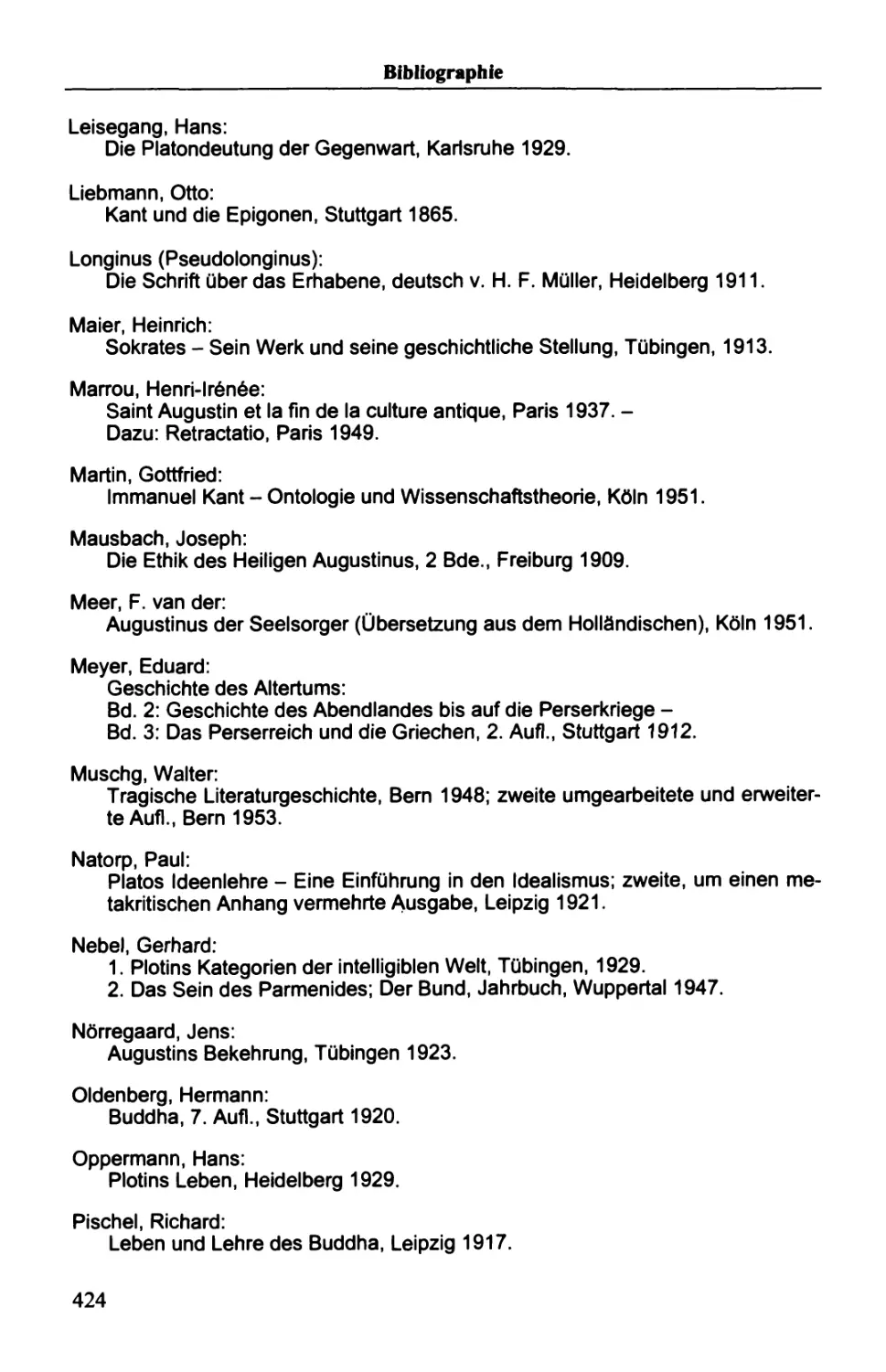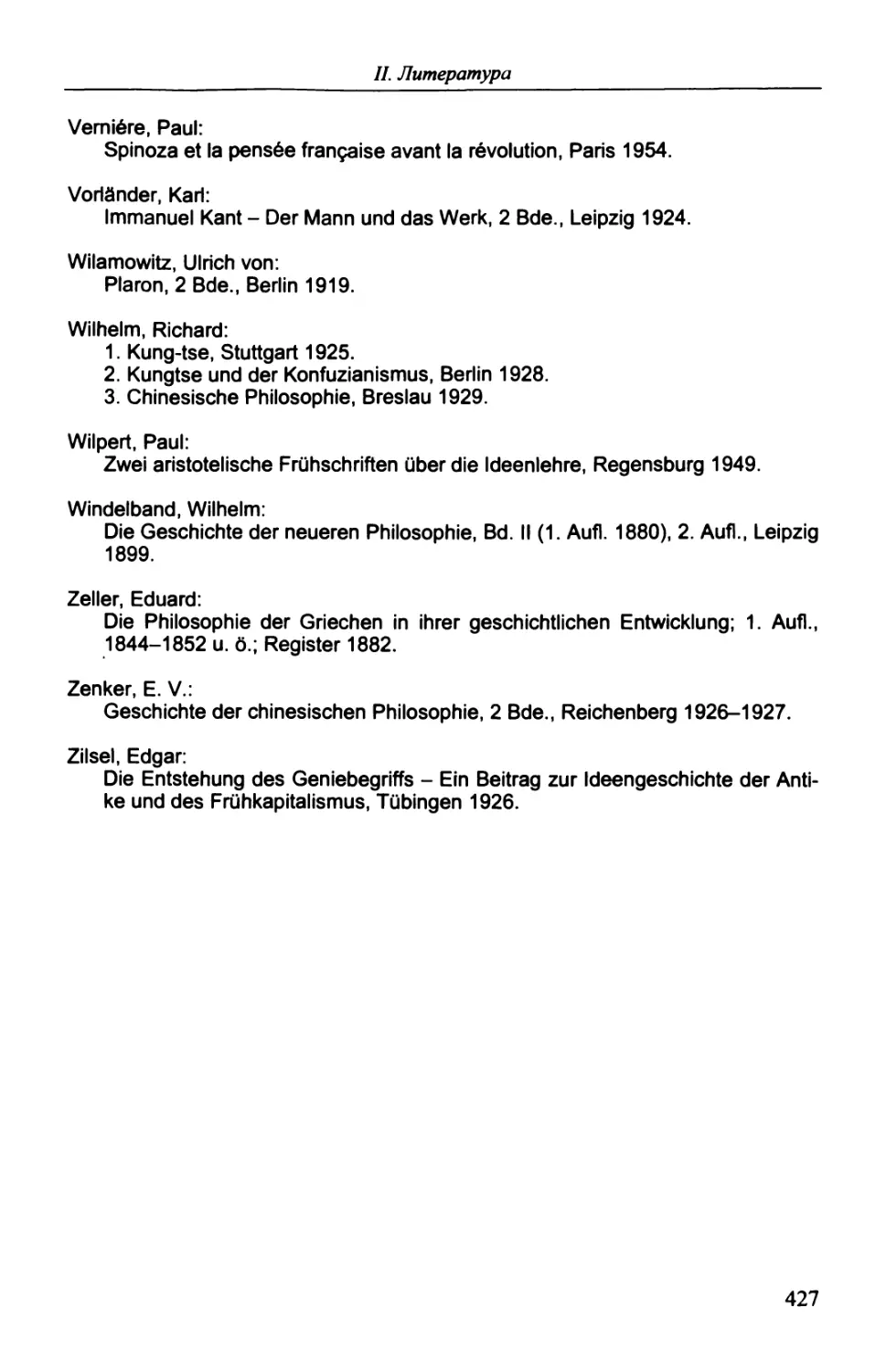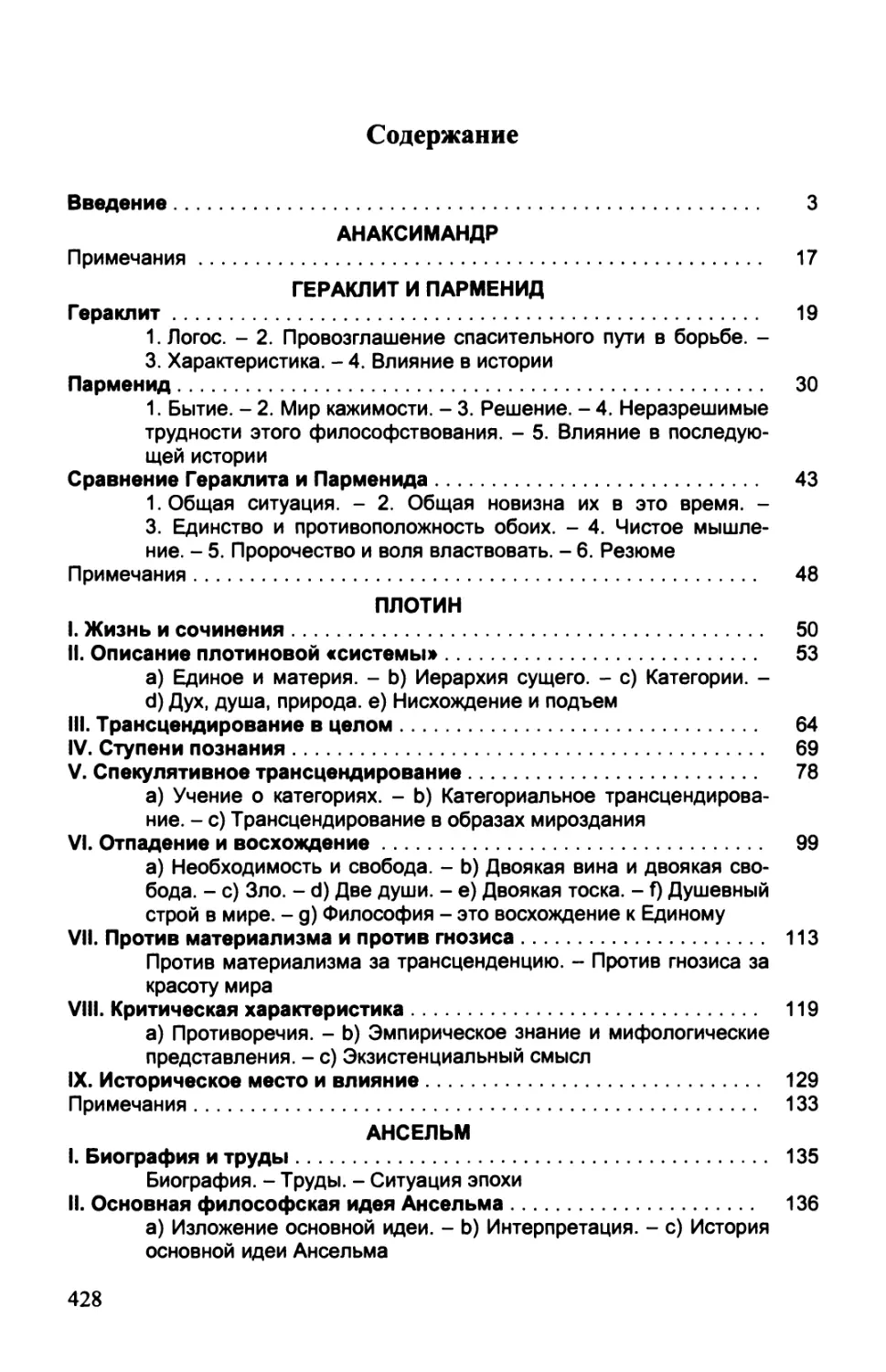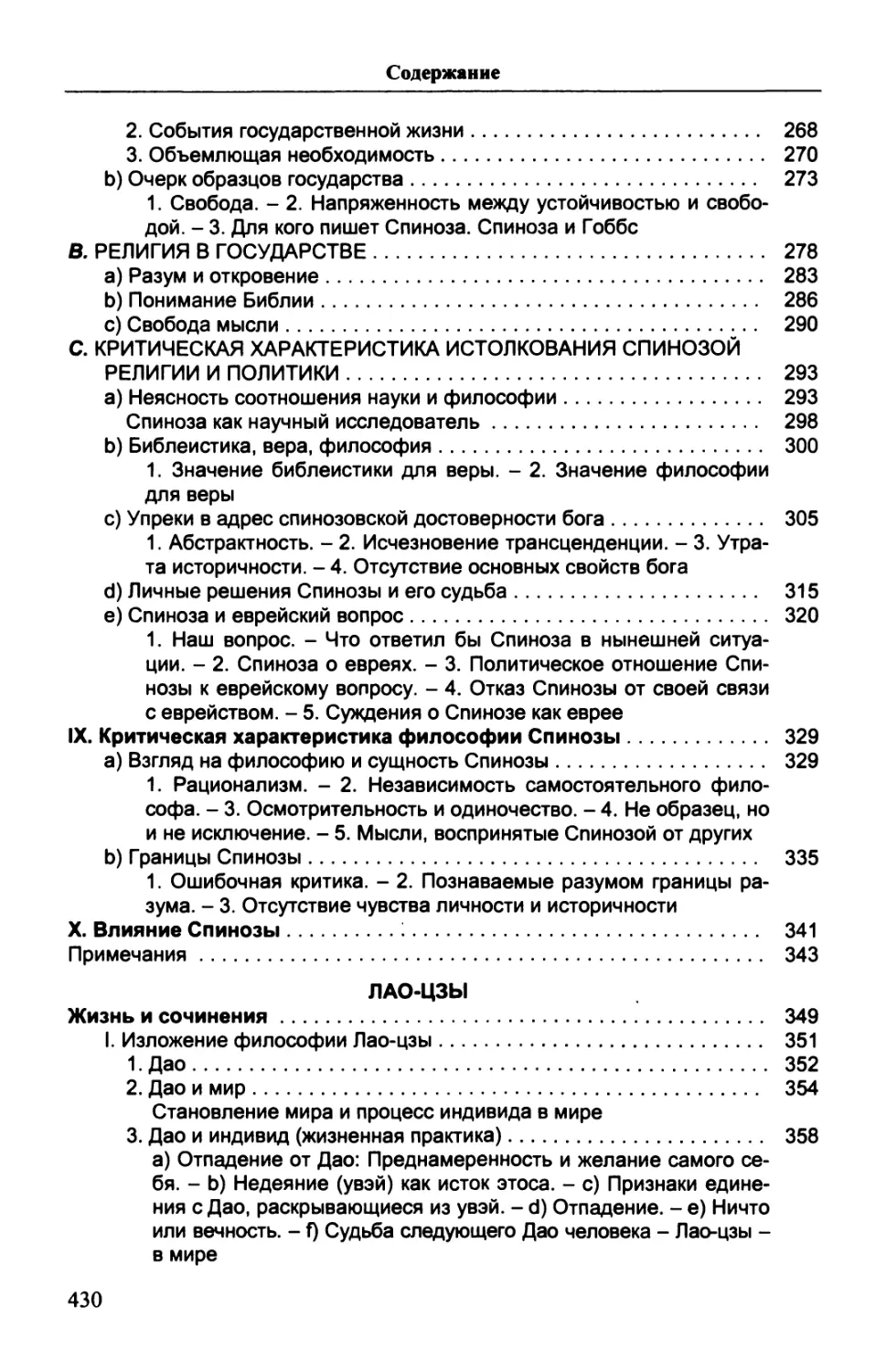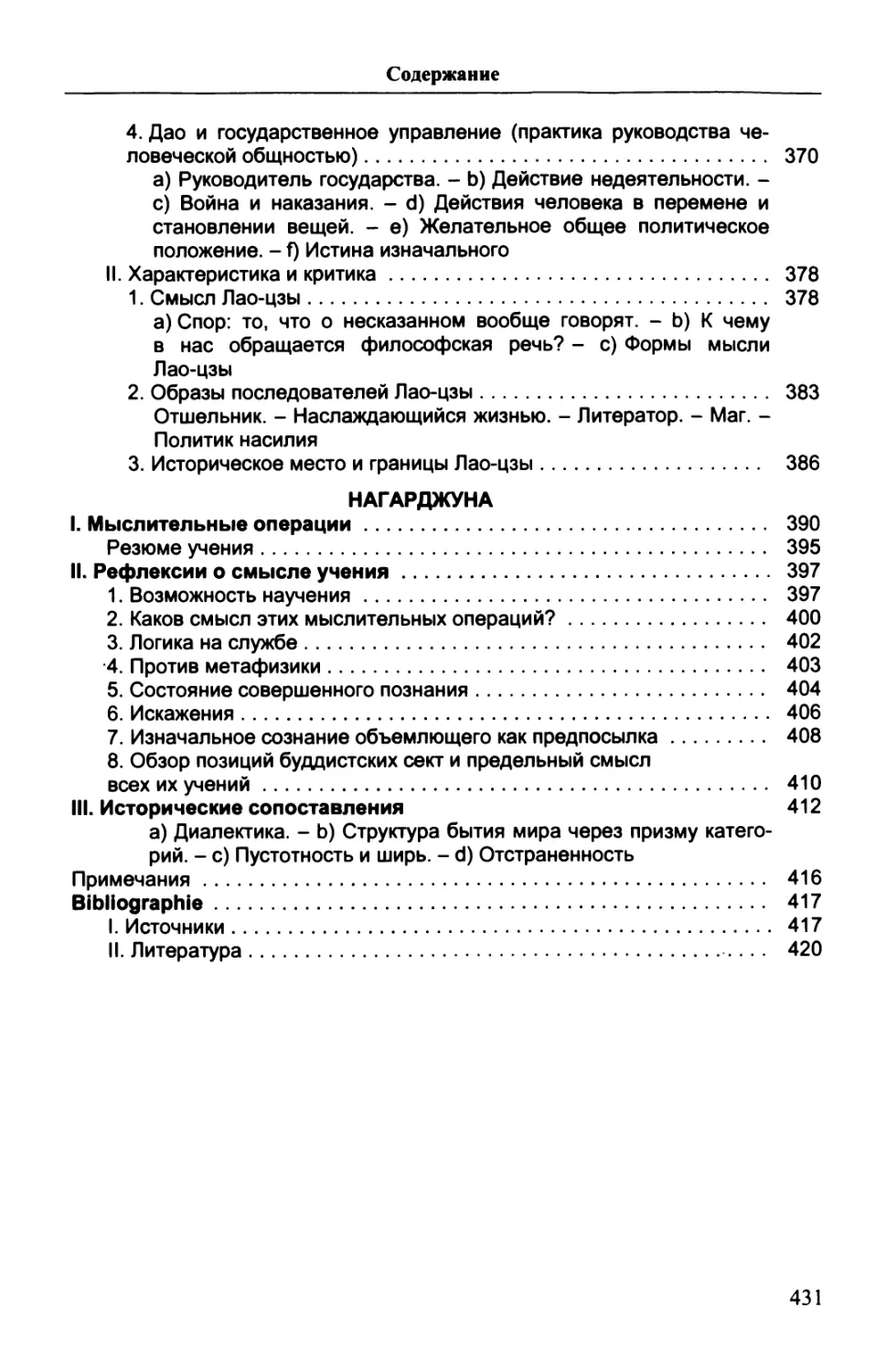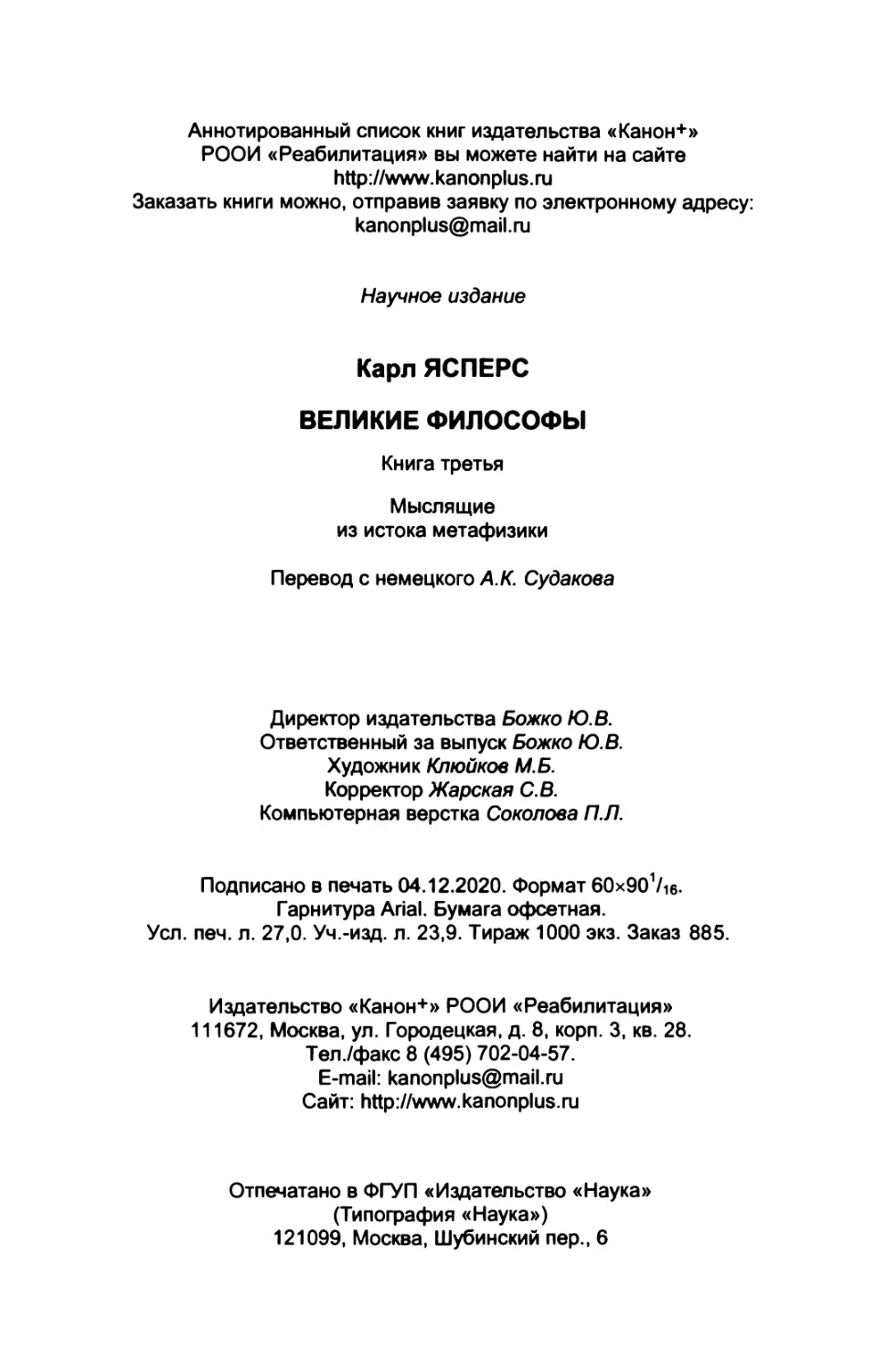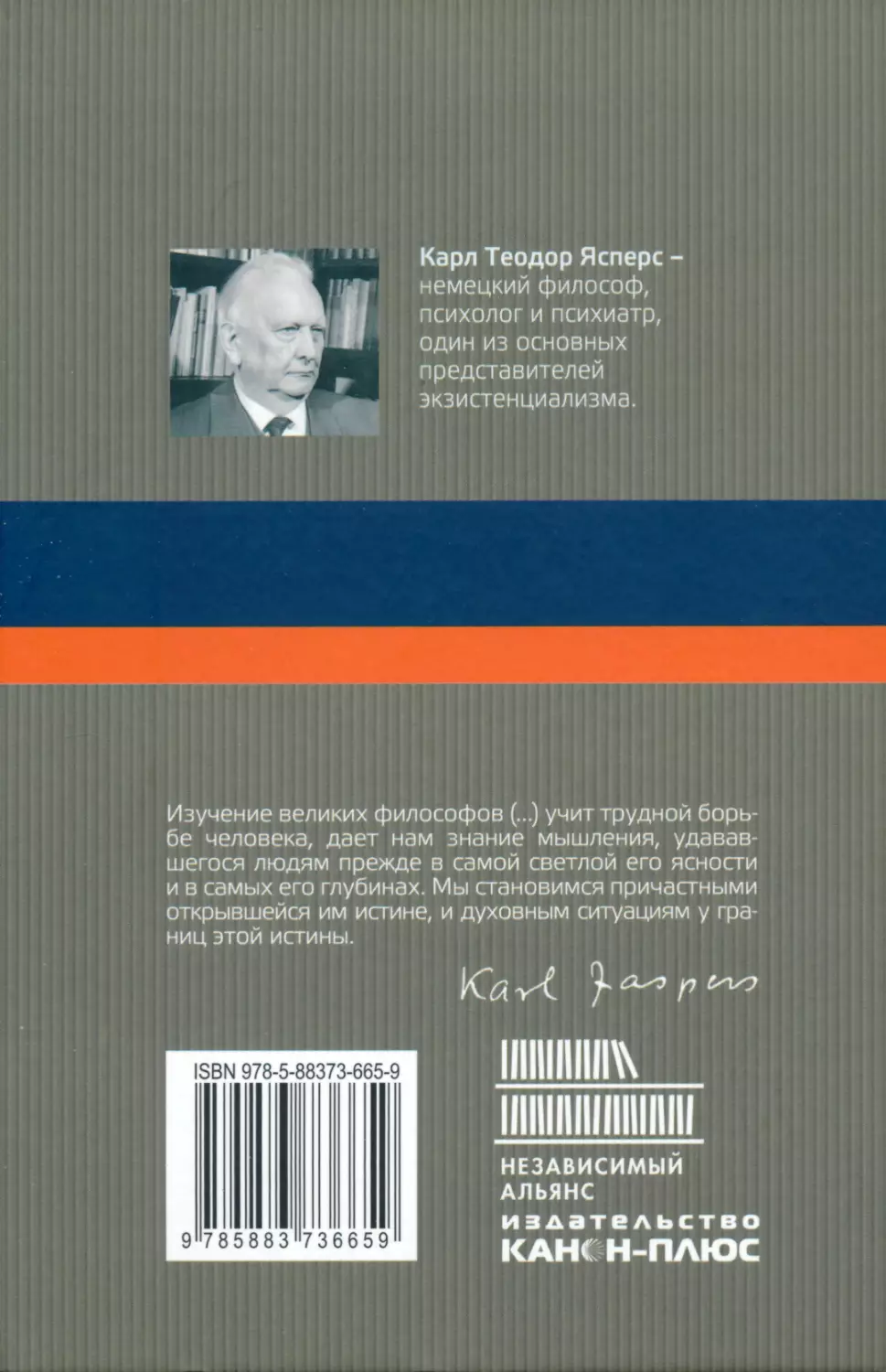Автор: Ясперс К.
Теги: философия психология религия немецкая философия переводная литература институт философии издательство канон яспер
ISBN: 978-5-88373-665-9
Год: 2021
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Карл Ясперс
ВЕЛИКИЕ ФИЛОСОФЫ
Книга третья
Мыслящие
из истока метафизики
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
<канЦн-плюс»
2021
iiiiiiniinw
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Ясперс Карл
Я 83 Великие философы. Кн. Ill: Мыслящие из истока
метафизики / К. Ясперс; пер. А.К. Судакова. - М.: Канон+ РООИ
«Реабилитация», 2021. - 432 с.
ISBN 978-5-88373-665-9
Главный историко-философский труд немецкого философа Карла
Ясперса, рассматривающий жизнь и учение самых выдающихся
персонажей истории человеческой мысли, впервые предлагается вниманию
русского читателя в полном виде. Третью, заключительную часть работы
составляют размышления о выдающихся метафизических мыслителях
древности, Средневековья и Нового времени; основное место занимают
работы о Плотине и Спинозе, которых Ясперс считал «чистыми
метафизиками», свободными от религиозной ангажированности, дополненные
трактатами о Гераклите, Пармениде, Ансельме Кентерберийском, Лао-
цзы и Нагарджуне. Парадоксальное соединение столь разнородных на
первый взгляд философов позволяет Ясперсу обнаружить у всех общий
предмет и методы метафизического философствования, благодаря чему
они могут быть экзистенциально ценными собеседниками современного
человека.
Для всех интересующихся историей философской и религиозной
мысли.
ББК
Охраняется законодательством об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается, в том числе и в
Интернете, без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения
законодательства будут преследоваться в судебном порядке.
ISBN 978-5-88373-665-9 © Перевод с нем. Судакова А.К., 2020
© Издательство «Канон+»
РООИ «Реабилитация»,
оригинал-макет, оформление, 2020
УДК 1/14
ББК 87.3
Я 83
ВВЕДЕНИЕ
После того как Кант произвел критический поворот и
выяснились методы современного научного познания, метафизика
кажется проблематичной. Поэтому многие отвергают такие
спекуляции, взгляды и конструкции. Они приводят к созданию
таких образов целокупности бытия, которые, если они должны
иметь значение доказуемой объективности для всех, не
выдерживают проверки.
В самом деле, современная метафизика, если она
действует добросовестно, уже не может иметь тот же самый характер
в своей форме и своих мнениях, как старая метафизика. Тот,
кто сегодня покидает критическую ясность Канта и оставляет
в стороне сферу убедительного научного познания, поневоле
запутается. В нашей духовной ситуации метафизика в старом
стиле, как знание о бытии, как возвещение того, что есть и
совершается в целом и в основе, окажется в плену таких чар,
которые неосознанно-фактически двигаются на помочах
мыслительных форм метафизики, однако утратили серьезное
содержание. Такое мышление в заранее готовых формах, не
знающее их и не проникающее их сделавшимся ныне
совершенно необходимым методическим сознанием, превращается
в лишенную экзистенции искусственность. Странно
возбуждающая мнимая живость мысли словно пьет кровь ощущающих
себя сегодня ничтожествами людей, со всей охотой
отдающихся подобным фигурам мысли, как будто бы они приходят
в себя в этих фигурах. Это призрак, который соблазняет, а
потом исчезает. Он не есть действительность, высветляющаяся
в экзистенции самого мыслящего ее человека.
Так что же, должны ли мы отказаться от метафизики?
Это было бы невозможно, даже если бы мы этого пожелали.
То, что люди издавна начертывали метафизические образы,
отнюдь не было неистиной. Эти видения о мире и трансцен-
денции захватывают нашу душу там, где мы видим их интел-
з
Введение
лектуальную серьезность, воплотившуюся в личности того, кто
их мыслит. В самых прекрасных своих формах они обладают
своеобразной законченностью. Ни одна из них не становится
свободной от противоречий. Но уже в их истоке
обязательность этих видений не опиралась на убедительное познание,
как обязательность истин в науках. Скорее, напротив: в
качестве сугубой объективности эти видения столь же
произвольны, как создания поэтов. Но они - не поэмы, а обязательная
силою субъективности мыслящего истина (mit der Subjektivität
des Denkenden verbindliche Wahrheit). Они означают
пространство веры осознающей себя в них экзистенции. Но в качестве
такого пространства всякая великая метафизика может быть
по своему содержанию и по своей форме навечной истиной,
которая желает, чтобы ее усваивали себе и повторяли при
появившейся ныне новой предпосылке методического
сознания о характере этой истины. Великие метафизики не
приносят нам ни познания, притязающего на научную значимость, ни
эстетически необязательного духовного наслаждения, - или,
вернее, они приносят и то и другое только в искажающем
смыслы усвоении, - но возможности трансцендирующего
удостоверения в безусловном.
Если, после этого поворота, мы уже не можем мыслить
метафизику в том же самом познавательном смысле, который
в первую очередь подразумевался великими метафизиками,
если подлинная истина этой метафизики понимается, скорее,
как опыт самобытного мышления, тогда эта истина вовсе не
обязательно будет потеряна для нас. Вопрос состоит, скорее,
в том, как нужно повторить ее в современности. В этой книге
мы не даем ответа на этот вопрос. Ответить на вопрос, будет
ли существовать некая новая метафизика, в любом случае
возможно не предсказанием, но только актом творчества этой
метафизики. Здесь мы воспроизводим мысли древних.
Однако для усвоения старой метафизики остается
неизбежной задача - не подчиняться ни одной из ее систем.
Каждый из мыслителей, создавших эти чарующие видения мысли,
показывает нам бытие в своеобразном облике, будучи
прикован к этому облику бытия и не превосходя его духом.
Благодаря этому они дают особенное удовлетворение. Они - творцы
в образовании мыслимого, однако они не творцы (в том вели-
4
Введение
ком смысле слова, в каком были творцами Платон, Августин,
Кант) в созидании мыслей тех, кто следует за ними.
Последователи отдельных метафизиков, которых нам предстоит здесь
описывать, только распространяют их мысли, усложняют
сравнительно прочные, однозначные при всем своем своеобразии
формы, или искажают их. Мы, однако, можем - пусть мы и не
бываем творцами в образовании новых видений мысли -
опознать как возможность в себе самих всякую некогда
осуществившуюся метафизику и усвоить ее себе как такую
возможность. Мы, как и люди прежних времен, можем слышать язык
трансценденции. Но мы слышим его теперь в его многоликости
и должны методически-сознательно (в формальном трансцен-
дировании чистой мысли, в просветлении экзистенциальных
отношений к трансценденции, в чтении тайнописи)
удостоверяться в смысле этого языка, если не хотим забыть основу
бытия и забыть самих себя в кажимости видений, фиксируемых
как мнимо известная нам реальность.
Историческое описание метафизических видений не вправе
сегодня только воспроизводить их как рациональные
систематические образы в качестве некоторого учебного материала.
Скорее, их необходимо понять в их истоке и их цели. Тогда
содержание этих метафизик раскроется перед нами как то, чем
оно, по существу, всегда уже и было, - не как предмет
познания, но как мир мыслей, который умеет говорить с возможной
экзистенцией, но остается безъязыким в качестве высохшего
содержания для заучивания. Следовательно, такое
повторяющее пробуждение метафизических возможностей должно не
разрушать метафизику, но готовить, в форме методического
сознания, ее преображение.
Есть радикальное различие в способах обсуждения
метафизических проблем. Сугубо предметное обсуждение, как если
бы речь здесь шла о предметах познания, подобных
предметам науки, ведет, через интеллектуальные операции с
понятиями, их многозначностью, их различениями и комбинациями,
в нескончаемое, однако без всякого прогресса.
Подразумеваемые в чисто предметно-объективном смысле и проводимые
в экзистенциальной необязательности опыты обсуждения
проблем как таковые лишены духовного водительства. Но
исторически они создают видимость продвигающегося вперед, иногда
5
Введение
прерываемого, но затем вновь обретающего себя развития
некой научной метафизики. Люди говорят так, как будто бы здесь
существуют поддающиеся изучению проблемы и их решения, а
потому и предметный масштаб, по которому можно было бы
оценивать успехи и неудачи в исторически наличных
метафизических мыслях, как это делается в науках.
Этой внутренней лишенности водительства противостоит
обосновывающее, вновь находящее себя в знании
метафизическое сознание бытия. Возникающие из него подлинно
метафизические обсуждения направляются основным знанием,
по видимости, в тех же самых формах, в вопросах и
возможных ответах, в доводах и контрдоводах, в решении вопросов
и оставлении их открытыми. Они повторяют всегда одно и то
же в особенном материале, видят все вещи в свете этого
фундаментального знания, углубляют это знание в игре
категориальных модификаций, порождая в фигурах мысли самые
красноречивые шифры. Кто ожидает, что придет здесь к
некоторому результату по типу предметного познания, окажется
разочарован. Кто сам участвует в осуществлении смысла
такой спекуляции, не обретает ее содержания как результаты
некоторого научного исследования.
Различие метафизики, как предмета изучения предметных
обстояний, и метафизики, как содержания экзистенциального
восхождения, не означает, однако, что эти обстояния не имеют
значения в качестве орудия этого мыслящего восхождения.
В самом деле, можно было бы обрисовать это орудие (с
помощью методов истории проблем) как категориальную
аппаратуру: категорий и их разветвлений, мыслительных фигур.
При подобной попытке перед нами в каждом случае
представала бы некая целокупность возможностей, их комбинаций и
перестановок. Мы конституировали бы некую доступную
рациональному овладению бесконечность, в которой отдельные
философы стали бы затем «частными случаями», посредством
которых отдельные фигуры мысли получали бы
последовательное развитие и разработку. С подобной точки зрения
исторически действительные частные случаи предстают отчасти
как единообразие, большинство случаев как смешанные
явления, которые можно разложить на элементы, или как невнятно
спутанные эклектицизмы, в которых невозможно провести ни-
6
Введение
каких линий. Ибо эти эклектицизмы могут по произволу
касаться всех возможностей и вновь забывать их.
Сформулируем в порядке итога противоположность
интеллектуальной и экзистенциальной метафизики: Метафизики
осуществляют игру рациональных актов, обращающихся к
основе всякого бытия. Это происходит или в виде сугубо
духовного занятия (и становится тем самым баловством (Spielerei),
удерживающего случайно избранные позиции, избирает
мотивированные различием школ групповые различия,
нескончаемо варьирует рациональные следствия с претензией на
предметное исследование (академическая метафизика), - или же
оно опирается на направляющее основное знание, которое
непосредственно убедительно как настроение мыслительной
конструкции, потому что к рациональности оно прибавляет
также ее наполнение. То, первое баловство утомляет или
занимает нашу интеллектуальную способность, как всякая ее
функция. Эта же игра, напротив, отличается серьезностью
содержания. Мышление есть здесь удостоверение основы,
прежде всего посредством такой деятельности, которая
аналогична молитве. Эта медитация приводит в соприкосновение
с основой бытия. Она укрепляет основное знание, способное
каждый день давать опору мыслящему таким образом
человеку (метафизика великих философов).
Великие метафизики достигли в мышлении покоя,
поскольку они жили тем основным знанием, которое высветлилось вне
времени. Это основное знание раскрывается из немногих
мотивов в бесконечном богатстве подобно музыкальной теме,
кружит в самом себе, обретает облик в удивительных
формациях мысли. Из них, в неповторимом историчном явлении,
говорит основное настроение их знания бытия, получающее
значимость для всех, кто их понимает.
Может быть, на Западе есть среди великих только два
чистых метафизика (если не считать лишь фрагментарно
известных нам досократиков), которые самобытны, свободны от
церковной формы религии: Плотин и Спиноза. Немного есть также
тех, кто при субстанциальной предпосылке церковной религии,
всецело находясь в ней, философствовали все же столь
изначально, что догматические содержания представали для них
как следствия: в чистоте и величии это - Ансельм, Экхарт, Ку-
7
Введение
занский. Ансельм мыслил в раннюю пору, в эпоху перехода,
когда отделение веры от знания хотя и привело уже к
утверждению светской власти веры, однако так, что Ансельм
остался незатронут ею; скорее, он еще мог подлинно
философствовать с поразительной наивностью духа. Экхарт, находясь
под давлением и в условиях риска и неясности о том, где,
собственно, начинается реальный конфликт с авторитетом,
свободно мыслил в эпоху церковного господства, при котором он
оказался под подозрением в ереси. Кузанский, в эпоху
разложения, предоставлявшую мыслителям любую меру свободы,
достиг некой новой наивности, объемлющей всякую истину.
Только узнавая серьезность подобной метафизики,
философ обретает почву, которая может сделать для него
излишней религию, определенную церковью, культом, святыми
местами, временами, предметами и книгами, ритуалами и
догматами, хотя ему и нет необходимости на этом основании
отвергать ее или бороться с нею для всех и общезначимым
образом. Философствование, ставящее человека на почву его
собственного разума и непосредственного отношения к транс-
ценденции, - усваивается в своем категориальном составе
церковно-богословским мышлением, то есть используется для
конституирования своей собственной церковной догматики
(например, мышление Плотина). В этом случае мысли
подчиняют условиям церковного авторитета, притязают на то, что
они якобы входят в состав этого авторитета, или же
философию отвергают с этой стороны, как своего подлинного врага
(так было со Спинозой), борются с нею даже и с
исключительной страстностью подозрений и поношений, а если возможно,
то физической силой. Ибо для них хуже ересей, хуже других
конкурирующих религий - подлинная философская
независимость, экзистирующая силой присущей человеческому
разуму твердой уверенности в Боге через действительность Бога.
Со стороны церковно-авторитарной религии подобного
противника или рассматривают так, словно бы его вовсе не
существовало, или же его мышление превращают в простую
рассудочную формацию, основания которой можно опровергать.
Ему приписывают то, чем он не является и чего он не думает.
Чуждым церковной религии метафизикам (Плотин,
Спиноза) и христианским метафизикам (Ансельм, Экхарт, Кузанский)
8
Введение
одинаково свойственна достойная искреннего доверия
сокровенность жизни в спекулятивно-мыслимом, открывающем их
живому опыту присутствия действительность трансценденции.
Их спекулятивные размышления - не занятие между делом на
досуге, не один интересный предмет среди прочих подобных,
не исследующее изыскание. Они реализуют некое основное
знание, которое, излагая его, они доводят до сознания сами
себе и миру. Некоторым знакомо великое мгновение
вдохновения (Ансельм, Кузанский), которое есть не что иное, как
чистая мысль, в которой являет себя трансценденция. Эта
мысль, которую невозможно достаточным образом
сформулировать ни в каком положении, впоследствии раскрывается
рационально. Это - принадлежащее временности, но по
содержанию вечное знание бытия.
Поскольку смыслом этого мышления является вечное и
неисторичное, поскольку оно возвышает само себя надо всей
историей, сродство метафизиков не привязано к одному
культурному кругу, не привязано к западному миру. Из Азии я избираю
Лао-Цзы и Нагарджуну.
Формой произведений метафизиков является трактат,
доклад, всякий раз бывающий сжатым набросок целого в
определенной конфигурации, изречение, диалог, письмо, иногда -
более обширное письменное наставление. Их создание не
есть система, которая бы, как конструкция всего знания о
бытии, хотела бы уловить в свою сеть само бытие и всю
совокупность его явления. Поэтому мир их мысли может быть лишь по
видимости адекватно представлен в виде системы. Попытка
подобного воспроизведения будет, правда, полезна для
понимания, однако насилует сам предмет изложения. Они сами
распространяют, повторяют, пробуют на новом материале, и
все это [они делают] из такого средоточия, которое из системы
не достижимо и которое во всей своей полноте и
напряженности действует - повсюду и нигде.
9
АНАКСИМАНДР
Источники: Дильс'. - Перевод: Дильс. Нестле". Капелле'".
Грюнвальд.
Литература: Вернет17. Йегер\ Г. Френкель"".
Анаксимандр (ок. 610-546) был гражданином Милета,
крупнейшего торгового города Ионии. Там было накоплено немало
познаний из Средиземноморья и Ближнего Востока. Милетцы
обладали опытным знанием и техническим умением,
проявлявшимся в мореходстве, торговых сообщениях, колониальных
предприятиях, в строительстве храмов или, например, в
постройке туннеля на Самосе по проекту Евпалина. Сообщают,
что Анаксимандр возглавил основание колонии на Черном
море (Аполлония). Он продемонстрировал в Спарте привезенный
им из Вавилона гномон (солнечные часы). В возрасте 64 лет,
когда его произведение было закончено, он пережил
вторжение персов - конец ионийской свободы.
Анаксимандр первым начертил карту Земли (geographia)
и сконструировал небесный глобус (sphaera); первым пришел
к простой и наглядной, но противоречащей непосредственному
чувственному восприятию, невероятной в то время мысли, что
Земля свободно парит в мировом пространстве и что звезды и
Солнце движутся с другой стороны Земли, когда переходят от
своего заката на горизонте к следующему восходу; - первым
со столь же радикальной, сколь и конструктивной силой
представления явил человеческому взгляду мир как целое в его
форме и его процессе. Но он был также первым, кто,
превосходя в понятиях всякую чувственную наглядность, осуществил
некоторое метафизическое видение; и первым, кто назвал
достигаемое в мышлении через устремление по ту сторону всего
сущего в основу - божественным, а следовательно, нашел его
при помощи мышления, а не принял как данное в религиозных
представлениях традиции; - и он был первым греком, который
писал прозу, как подобающую форму для сообщения таких
познаний. Все это - огромные, богатые последствиями новше-
ю
Анаксимандр
ства в человеческом сознании - совершилось тихо, без всякой
борьбы с другими.
Исходной точкой для него было опытное знание, которое
было уже довольно значительным по сравнению со ступенью
первобытного сознания. Оно стало для него материалом
предвосхищающих набросков. Карта Земли основывалась на мысли
о пропорциональном уменьшении. Этот набросок был получен
при посредстве мысленного геометрического представления,
наполненного малочисленными и отрывочными реальными
знаниями ионийских мореходов, а потому уже вскоре было
преодолено более совершенными знаниями. Величие
заключалось в проекте целого и в умении найти принцип
изображения. Точно так же, как Анаксимандр сконструировал
населенную Землю, он сконструировал внутренней силой своего
созерцания и мир в целом, еще без доказательств, согласно
невысказанному принципу, гласящему, что мир повсюду
должен быть таким, каковы представляются вещи в
пространственном и численном созерцании нашего ближайшего
чувственного окружения. Земля по форме похожа на цилиндр,
высота которого равна одной трети диаметра его основания,
подобно части колонны. Мы живем на поверхности одного из
ее оснований. Земля парит в центре мира и покоится потому,
что для ее движения нет никакого основания. Вокруг нее
находится небо в форме шара (уже не в виде скорлупы), а именно
оно состоит из трех кругов: сначала идет круг звезд, затем на
большем расстоянии находится лунный круг, и затем, отстоя от
нас дальше всего, - солнечный круг, на расстоянии
соответственно 9, 18 и 27 диаметров Земли. Никакого абсолютного
«верха» и «низа» не существует.
Этот мир некогда возник. После отделения горячего от
холодного часть холодного влажного внутреннего вещества под
действием жара от огненной сферы превратилась в пар,
разорвавший огненную сферу на отдельные кольца. Эти кольца
имеют в своей оболочке из пара дыхательные отверстия, через
которые просвечивает внутреннее пламя. Это - звезды, Луна и
Солнце. На Земле сначала все было влажным. Солнце
высушило влагу. Испарения влаги создали ветер. Оставшаяся влага
образовала море, которое становится все меньше и наконец
должно однажды высохнуть совсем. Затмения небесных тел
возникают вследствие того, что устье воздушно-огненного
отверстия на какое-то время закупоривается; смена фаз Луны -
следствие медленного закрывания и повторного открытия этого
отверстия (Вернет).
11
Анаксимандр
Живые существа возникли из воды. Первые живые
существа были покрыты колючими шкурами. Некоторые
перебрались на сушу, шкура с них опала, форма их жизни
переменилась. Человек возник из живых существ другого вида. Ибо,
если бы он с самого начала рождался так, как он рождается
сейчас, он никогда не смог бы выжить. В отличие от животных,
умеющих сразу же после рождения самостоятельно находить
себе пропитание, только человек нуждается в длительной
заботе родителей. Первоначально, как полагает Анаксимандр,
человек был похож на рыбу.
Миров, подобных нашему, существует бесконечно много,
причем они существуют, во-первых, один рядом с другим, на
равном удалении друг от друга, а во-вторых, один после
другого, следуя друг за другом в периодическом порядке. Наш мир,
как и всякий другой мир, возник, и однажды он погибнет. Но за
гибелью мира следует новое возникновение.
Таковы, по данным источников, были воззрения Анакси-
мандра. Традиция сохранила от него дословно (хотя и
неизвестно, в каком именно объеме дословно) только одно
предложение, предваряемое в косвенной речи, причем это
предложение совершенно иного содержания. Этот достопочтенный
памятник гласит: Анаксимандр «признавал истоком (arche)
сущих вещей бесконечное» (apeiron); «из которых же сущие
вещи получают свое возникновение, в те же они и исчезают
согласно необходимости. Ибо они воздают друг другу
справедливое возмездие и искупление за неправду согласно
устроению времени». Это положение высказывает некое
видение метафизического мышления. Мы не знаем, представляет
ли оно собою афоризм или - что более вероятно - фрагмент
некоторого более пространного изложения. Его истолкование
при помощи определенных категорий из более поздних времен
не может быть достаточно удачным, однако оно привязано для
нас к этим категориям, как и к нашему мышлению, и нужно
попытаться дать такое толкование, с привлечением имеющихся
сообщений источников об Анаксимандре.
1. Что такое сущие вещи (onta)? Все, что есть: события и
положения в полисе, звезды, вода, земля, люди и животные,
совокупность ныне существующих вещей.
2. Что такое апейрон? Смысл этого слова: бесконечный,
безграничный, неопределенный. Таким образом, апейрон не
может быть созерцаем наглядно. Античность понимала апей-
12
Анаксимандр
рон Анаксимандра как материю, из которой возникают миры и в
которую они возвращаются, подобно тому как у более древнего
философа Фалеса все возникает из воды. Эта вода была дана
в мире в наглядном созерцании. Анаксимандр совершил скачок
к мышлению того, что не только не воспринимаемо наглядно,
но и немыслимо как нечто определенное. Аристотель толкует
так: Единое не может быть одним из того, что из него возникает
(как вода). Оно не может быть чем-то единичным, - будь оно
единичным, из него не могло бы возникнуть все. Оно должно
охватывать собою все (periechein), и не может быть объемле-
мым (periechomenon). Наконец, оно не может быть конечным.
Ибо в таком случае возникновению настал бы конец. Чтобы
возникновение не прекращалось, основание возникновения
должно быть бесконечным, должно быть неким неисчерпаемым
запасом. Оно - исток всего, сам не имеющий истока. Поэтому
Анаксимандр называет этот апейрон бессмертным и
неразрушимым. По сравненгию со всеми вещами в мире (onta),
которые приходят и уходят, а значит, бренны, апейрон непреходящ.
3. Как относятся сущие вещи (миров) к апейрону? Сим-
пликий сообщает: Анаксимандр «не приписывал возникновение
вещей какому-либо изменению в материи, но говорил, что
противоположности разделились в субстрате, который есть
безграничное тело». Противоположности разделяются: таков исток
сущих вещей. Похоже, что Анаксимандр не задавал
дальнейших вопросов о том, как лишенный противоположностей,
непреходящий апейрон приходит к тому, что в нем являются
противоположности. Противоположности в сущем как таковые не
могут быть превзойдены нашей мыслью. Задавая вопросы,
я уже пребываю в противоположности. Я не начинаю лучше
постигать, если я отличу «вечное движение», приводящее к
появлению противоположностей, от движения в ставшем, отныне
постоянно меняющемся мире. Исхождение из апейрона и
возвращение в апейрон следовало бы отличать от возникновения
вещей друг из друга. Апейрон - понимают ли его в позднейших
категориях как материю, которой, однако, не противоположена
никакая форма, или как пустое пространство, которое, однако,
не наполняет никакая энергия, или при помощи более раннего
созерцания как хаос, - решающим образом мыслится как то, из
чего возникают противоположности и что само не заключает
в себе противоположностей. С противоположностью горячего
и холодного возникает мир. Если противоположности угашают
одна другую, то бытие мира прекращается. Целокупность
вещей, уже существующих в противоположностях (совокупность
onta) называется природой (Physis). Природа - это то, что не
13
Анаксимандр
есть ни одна из противоположных вещей, но что заключает их
в себе.
4. Что такое неправда вещей? Противоположности, по
своей природе, чинят друг другу ущерб. Однажды
разделившись, они взаимно порождают друг друга и вновь
уничтожаются: горячее и холодное, воздух и вода, свет и ночь. Господство
одной противоположности есть несправедливость в отношении
другой. Они должны давать друг другу возмещение за эту
несправедливость. Но алейрон не принимает участия в этом споре.
Думали, что в этой мысли можно найти представление о
вине индивидуализации, о грехопадении в отдельное
существование (Ницше, Роде): величайшая вина человека состоит в
том, что он родился (Кальдерон). Это не согласуется с
основным настроением этого мышления, но оно могло касаться
некоторого подобия даже и этой мысли. Хотя возникновение мира
(о рождении человека в этой связи вообще не говорится) и не
трактуется как вина, но в пределах ставшего в
противоположностях мира вина является неизбежной.
5. Каково отношение апейрона к миру? Это должно
выясниться из вмешательства апейрона в мировой процесс. Ибо
апейрон «направляет все». Можно было бы соотнести с этим ту
аллегорию, которую Анаксимандр избирает для описания
борьбы вещей, одни из которых должны рождаться за счет
других и вновь возмещать друг другу это, а именно аллегорию
справедливости (dike) - основную идею полиса. В полисе
выносят судебные приговоры и судья назначает штраф.
Руководствуясь этой полисной действительностью, уже Солон говорил
о некоей более всеобъемлющей dike, которая уже не зависит
от человеческого судоговорения, ибо с течением времени,
которое может заставить себя ждать, она в любом случае
осуществляется. Власти dike избежать невозможно. Эту компенсацию
Анаксимандр признает во всем миропроцессе: все вещи
пребывают в споре друг с другом, подобно как люди спорят друг с
другом в суде. Искупление совершается «согласно устроению
времени». Но судья - не само время, оно только служит причиной
суда. Время - не апейрон, это апейрон направляет все в
событиях времени. Анаксимандр первым в западном мире мыслил
мир как правовое сообщество, как порядок вещей (Йегер).
6. Что такое необходимость? Думают, будто у Анакси-
мандра мы находим мысль о том, что впоследствии прояснится
как закон мира, как закон природы, как необходимость
совершающегося. У Анаксимандра вещи возникают и исчезают «по
необходимости» (в другом переводе: «согласно обязанности»,
«как было определено»). Здесь отнюдь нет отчетливой мысли
14
Лнаксимандр
о поддающемся изучению законе природы, а есть только
скачок к той абстракции, которая впоследствии смогла породить
эту определенную мысль. Правда, в этой необходимости не
отделены друг от друга нормативный закон и каузальный закон,
предназначение и судьба, справедливость искупления и
автоматизм последовательности событий; однако же эта
необходимость стоит выше всех мифологических представлений,
выше личного произвола сверхчеловеческих сил и выше
случайности. И она сохраняет то, что утрачивается в последующих
разделениях: метафизические видения того, что, как
необходимость у Спинозы, через все его категории вплоть до ницшев-
ского «щита необходимости», что как провидение или как
судьба неуловимо для всякого определенно приступающего к своей
задаче мышления и становится, в стихии рациональной
мыслимое™, неразрешимым вопросом.
7. Что такое, - при этом общем воззрении на апейрон, -
боги? Анаксимандр называл сам апейрон божественным.
Кроме того, Цицерон сообщает: «Анаксимандр полагал, что
существуют возникшие боги, и что это - неисчислимые миры». Мы
ничего не знаем о том, выступал ли Анаксимандр против
традиционной веры - как впоследствии Ксенофан, Гераклит,
Платон выступали против мира гомеровских богов. С тем же самым
трезвым спокойствием, которое повсюду свойственно его все-
оборачивающему мышлению, он по-новому постиг умом также
и божественное начало: как апейрон и как множественность
миров.
Обо всех интерпретациях справедливо будет сказать: В
мыслях Анаксимандра заложено такое богатство значений,
возможности которых простираются намного далее, чем
категориально определенная интерпретация, которая всякий раз или
предполагает в нем слишком много, или оставляет ему
слишком мало. То, что мы вкладываем в текст или вычитываем из
него, соблазняясь скрытыми возможностями, в некоторых
случаях может быть с уверенностью распознано как ложное
истолкование, во многих случаях - как возможное, и в немногих
случаях - как однозначно правильное истолкование.
Анаксимандр - первая историческая фигура мыслителя,
которого мы вообще можем разглядеть в дали времени, хотя
и он видим только как тень самого себя. Он сделал шаг в ту
область, где стали возможны философия и наука в их
западных формах. Известные нам содержания его мыслей уже не
составляют сегодня неотъемлемого элемента
философствования, но этот основной строй мышления близок нам в его ис-
15
Анаксимандр
конном величии. Он первый философ западного мира,
обладающий незабвенными чертами духовного облика.
Огромное впечатление, производимое на нас Анаксиманд-
ром, исходит из целокупности его мышления. Это - как
пробуждение западного разума, как исчезающая под лучами
теплого солнца пелена тумана. Светает. С новым образом мысли
повсюду сразу же обнаруживается то простейшее, о чем
прежде никто не мог и подумать. Если совершен скачок, то мысли
открывается как доступное и подручное то, постижение чего
с необходимостью совершенно изменяет мир для человека.
Восхитительно здесь - начало как таковое. Теперь
совершается отстранение человека от самого себя и от мира, появляется
суверенность мышления, решающегося без ограничений,
также и со стороны привычки, традиции и зримой наглядности,
мыслить то, что поначалу кажется самым абсурдным и
непочтительным. Мышление подчиняет себя единственно суду
умственной очевидности, и тем самым оно достигает самых
глубин.
Поразительно простые шаги, имеющие столь радикальное
значение, удаются философу в троякой абстракции: прежде
всего, от непосредственной зримой наглядности к тому, что
становится доступным для восприятия при перемене точки
зрения, совершаемой в фантазии, и должно предстать перед
нашим восприятием при реальной перемене точки зрения
(парение Земли в космическом пространстве, отсутствие
абсолютного верха и низа, пропорциональное уменьшение земной
поверхности на карте); - затем, ото всех этих представлений -
к тому, что, мыслимое в определенных мыслях, остается все
же наглядно не доступным (необходимость, справедливость,
взаимный переход противоположностей), - а от этого - еще
далее к тому, что, будучи немыслимо в определенной форме,
пребывает до всех противоположностей.
Сила этого мыслителя в равной мере реально
присутствует: в чувственном «здесь и теперь», в техническом мышлении,
в осязаемо достоверной убедительности при изобретении под-
спорий для чувственного созерцания, в способности к
конкретно конструируемому до малейшей детали, хотя и не
поддающемуся верификации созерцанию при помощи примитивно-
16
Примечания
математических средств и в спекулятивном прорыве не
имеющего наглядных соответствий мышления, устремляющегося в
основу всякого бытия. Он с одинаковой энергией объемлет
мыслью спекуляцию и мир, метафизику и эмпирическое
знание. Один и тот же образ мысли создает карту Земли и
небесный глобус, представляет Землю парящей в космическом
пространстве, наглядно конструирует возникновение миров и
мыслит все сущие вещи в апейроне как их основе и постигает
в этом апейроне божественное. Дух великого философа -
целостный дух. Из этой целостности нельзя изъять ни одного
момента. Анаксимандр совершает одно и то же во всех
направлениях своего мышления. Это независимость
мышления, делом удостоверившая в мысленном уловлении и
проявлении ту независимость личного существования, которой
пользовался человек в ионийском полисе. Мы чувствуем в
этом наше собственное западное мышление, представшее
здесь в первых началах и в то же время - в полноте своей
силы, - это чудо, бывшее, однако, также чем-то совершенно
самоочевидным и естественным. Анаксимандр всецело живет в
действительном мире, с размеренностью, с наблюдением, с
разумом, который есть у него человеческий разум как таковой.
Его мысль смело устремляется к проектам, которые можно
будет проверить потом: открытый миру мыслитель в прекрасной
ионийской непредубежденности.
Это всеобъемлющее мышление, могучим рывком
прорывающееся из мира мифологии, сделало впоследствии
возможными совершенно различные духовные движения: чистую
спекулятивную мысль Парменида и Гераклита; -
безмятежные космические созерцания мирского благочестия (die
kosmischen Anschauungen weltfrommen Geborgenseins); -
естественнонаучное исследование.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Дильс (Diels), Герман Александер (1848-1922) - немецкий филолог-
классик, историк философии, религиовед. С 1882 профессор
Берлинского университета. Основные работы: (изд.) Doxographi graeci (1879);
17
Примечания
Commentaria ad Aristotelem graeca (ред.-изд.)(1882-1909); Die Fragmente
der Vorsokratiker (1903; начиная со 2-го издания - в 3 томах;
соредактором последующих изданий был молодой ученый Вальтер Кранц, по
именам издателей собрание получило в литературе краткое обозначение
«Дильс-Кранц (DK)».
" Нестле (Nestle), Вильгельм (1865-1959) - немецкий филолог-
классик; учитель в школах и гимназиях в разных городах Вюртемберга;
с 1932 почетный профессор греческой философии Тюбингенского
университета. Основные работы: Vorsokratiker in Auswahl (1908); Die Sokrati-
ker (1922; Ясперс имеет здесь в виду именно это издание); Die Nachsok-
ratiker (1922-1923); Geschichte der griechischen Literatur (1923); Die
griechische Religiosität in ihren Grundzügen und Hauptvertretern von Homer bis
Proklos (1930-1934); Von Mythos zum Logos. Die Selbstentfaltung des
griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und Sokrates (1940);
Die Krisis des Christentums in der modernen Welt. Ihre Ursache, ihr Werden
und ihre Bedeutung (1947).
'" Капелле (Kapelle), Вильгельм Август Корнелиус Фридрих (1871-1961) -
немецкий филолог-классик. Гимназический учитель; приват-доцент
Гамбургского университета с 1920. Специалист по истории древнегреческой
философии и науки. Ясперс имеет здесь в виду подготовленное им
издание Die Vorsokratiker - Fragmente und Quellenberichte.
,v Вернет (Burnet), Джон (1863-1928) - английский филолог-классик;
1892-1926 профессор греческого языка университета Сент-Эндрюс.
Специалист по философии Платона; считал изображение Сократа в
платоновских диалогах исторически корректным, а самого Сократа намного
ближе к т.н. досократикам, чем это обычно допускается. Основные
работы: Early Greek Philosophy (1892); Greek Philosophy: Thaies to Plato (1914);
Platonism(1928).
v Йегер (Jäger), Вернер Вильгельм (1888-1961) - немецкий филолог-
классик. Профессор Базельского, Кильского и Берлинского
университетов. С 1939 в Гарвардском университете (Кембридж/Массачусетс, США).
Основное сочинение: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen
(3Bd.; 1934-1947).
Vl Френкель (Fränkel), Герман Фердинанд (1888-1977) - немецкий и
американский филолог-классик. Преподавал в Геттингене, 1935
эмигрировал в США, где работал в Стэнфордском университете.
Исследователь древнегреческой поэзии и философии. Основные работы: Dichtung
und Philosophie des frühen Griechentums (1951); Wege und Formen frügrie-
chischen Denkens (1955).
18
ГЕРАКЛИТ И ПАРМЕНИД
Оба философа жили около 500 года до Р.Хр., Гераклит
в Эфесе (Малая Азия), Парменид в Элее (Южная Италия). Мир
греков в Малой Азии утратил свою свободу, с тех пор как
«пришли мидяне», и с тех пор жил в условиях страшной
угрозы, которая была окончательно устранена только в
результате греко-персидских войн. Полис Анаксимандра изменился.
Он уже не жил теперь в безмятежной свободе в открытом
пространстве Средиземного моря, а во внутренней жизни
устремлялся то к демократии, то к тирании. Элея была колонией ма-
лоазийских греков, бежавших от нашествия мидян. В такой
ситуации мыслили Гераклит и Парменид, предельно далеко
разделенные в пространстве - на противоположные
границы греческого мира; однако философски оба они коренились
в ионийской (малоазийской) почве.
Гераклит
Источники: Дильс. - Перевод: Дильс. Снелл1. Нестле.
Капелле.
Литература: Райнхардт". Гигон1".
Гераклит, происходивший из древнего знатного рода,
уступил наследственные права царя-жреца (basileus) своему
младшему брату. Когда эфесцы попросили его дать им законы,
он отказался, объяснив свой отказ тем, что городом уже
завладело дурное общественное устройство. Свое сочинение он
принес в храм Артемиды Эфесской.
Это сочинение, от которого сохранилось около 130
фрагментов, состояло из остроумно сформулированных,
выразительных изречений. Они не были звеньями одной
систематической мыслительной конструкции, но частями образа мысли,
единство которого проявлялось в содержании таких
положений. Последовательность их расположения восстановить не-
19
Гераклит и Парменид
возможно. Их лаконичность побуждает читателя к не
знающему конца истолкованию. Поэтому в античности Гераклита
называли Темным.
Стиль сочинения торжественный, пророческий. Гераклит
говорит как человек, сознающий в себе исключительные,
никогда прежде не бывавшие мысли, которые теперь освещают все
вокруг раз и навсегда.
1. Логос. - Гераклит хочет «объяснить слова и дела»,
«разложив каждое в отдельности по его природе и сказав, как
обстоит с ним дело». Взирая на целое, он видит то, что есть, и то,
что он делает, видит «Логос, всегда пребывающий» - «Все
совершается согласно этому Логосу». В одном этом слове
заключено то, что все проникает, и что возвещает Гераклит. Что
такое Логос - этого нельзя ни перевести другим словом, ни
определить, как понятие. Логос может означать: слово, речь,
содержание речи, смысл, - разум, истина, - закон, - само
бытие. У Гераклита он, без дефиниции, обозначает все это
вместе взятое - и не означает с исключительностью ничего из
этого. Логос, как объемлющее, неопределенен и бесконечно
определим (как великие основные слова в философии).
Вездесущая сущность Логоса - это единство
противоположностей (Einssein der Gegensätze). «Нужно понимать, как
разделенное на части согласуется по смыслу» (как согласуется
в себе разногласное): «соединение стремящегося в разные
стороны, как лук и лира». «Где сходится вместе то, что
стремится противно друг другу, там самое прекрасное согласие»
(гармония). Она правит тихой властью: «Невидимое согласие
сильнее видимого».
Единство противоположностей Гераклит выражает в
абстрактном виде: «Целое и нецелое, единство и раздор,
созвучие и двоезвучие: и из всего - одно, и из одного - все». Но
затем он представляет эту противоположность наглядно. Это
можно видеть непосредственно: «Холодное согревается,
теплое охлаждается, влажное делается сухим, а сухое -
влажным». Живое и мертвое, бодрствование и сон, молодое и
старое, «это превращается в то, а то - в это». Удовольствие
возникает из противоположности: «Болезнь делает приятным
здоровье, голод - сытость, а труд - покой». «В перемене -
отдохновение» (в другом переводе: «Меняясь, оно покоится»).
20
Гераклит
Противоположности - это жизнь, перемена необходима для
жизни: «Если пребывают в одном и том же усилии и в
подчинении у того же человека, то это утомляет». «Даже ячменный
напиток расслаивается, если его не перемешивать». Желание,
чтобы исчезли всякие споры, - смешно. «Не было бы гармонии,
не будь высокого и низкого, и не было бы живых существ, не
будь противоположности мужского и женского».
Мы знаем все только через его противоположность: мы не
знали бы права, если бы не было несправедливости.
Одно и то же можно рассматривать противоположным
образом, смотря по различию аспектов: «В измерении окружности
круга начало и конец одинаковы». «Путь винта валяльщика -
прямое и кривое - один и тот же». «Путь вверх и путь вниз
один и тот же». Морская вода поддерживает жизнь (для рыб)
и смертельна (для людей).
В основе вещей все есть одно: «Бессмертные: смертные;
смертные: бессмертные; ибо жизнь одних есть смерть других,
а жизнь тех - смерть этих». «Гадес и Дионис - одно и то же»,
смерть и восторг жизни, то и другое вместе празднуют на
бушующем торжестве. «Мы есть, и мы не есть».
Логос - это сосуществование противоположностей в
борьбе. Но тот, кто слышал Логос, знает, несмотря на это: «Все -
одно». В мире противоположностей, а значит - во всем мире
и в нашем человеческом существовании, верно, что: «Война -
отец всего и всему царь».
Гераклит не различает явным образом тех способов,
которыми противоположности связаны друг с другом, тех форм,
в которых они переходят друг в друга, тех смыслов, в которых
мы можем говорить о тождестве противоположностей. Его
ведет великое созерцание всего сущего в противоположностях,
затем - созерцание противоположности как единства
противоположного, и наконец - всех противоположностей как одного
объемлющего единства в божестве. Его тему составляет не
логик противоположностей (диалектика), к методическому
построению которой он намеревался бы хотя бы только
приступить, но великое видение, говорящее ему, что повсюду
существует одно и то же.
Единство противоположностей - это одна основная черта
Логоса. Другая черта такова: Логос - исток закона (nomos). Логос и
Номос практически осваиваются в разумном мышлении (phro-
nein). В этом мышлении заключается сущность мудрого (sophon).
21
Гераклит и Парменид
Теперь мы пройдем по тем путям, на которых Гераклит
познает всеобъемлющий Логос.
Логос - это сущность мира и души:
Развитые милетцами космологические представления
становятся для Гераклита материалом для созерцания Логоса в
мире. Лишенный самостоятельного исследовательского
интереса, он старается только распознать в нем господство Логоса
и Номоса. Так, огонь есть для него не только одно из
состояний, наряду с водой и воздухом (в которых натурфилософы
постигали субстанцию вещей), но символ и действительность
мира, жизни, души. Огонь - причина мироправления, он сам
называется одаренным разумом (phronimon). «Молния правит
мирозданием», вечный огонь. - Душа - это огонь. Чем более
она огненна, тем более она разумна. Сухая душа - мудра,
влажная (пьяная) душа ходит нетвердо. Мы вдыхаем
божественный Логос, и благодаря этому мы разумны.
В основе мира - покой (вечный огонь), сам мир есть
движение. Он есть неудержимая постоянная перемена. Все течет,
и ничто не остается тем же самым. Нельзя дважды войти в
одну и ту же реку, нельзя дважды коснуться «одной и той же
преходящей субстанции, но в стремительности своей перемены
она рассеивается и собирается вновь, и приближается, и
удаляется». Однако этот непрерывный поток вещей подчинен
закону Логоса. Он называется справедливостью (dike). «Гелиос
не преступит своей меры; иначе его разыщут Эринии,
приспешницы Дике».
Логос сокровенен и может открываться:
Он сокровенен, хотя все совершается согласно ему.
«Сущность вещей (physis) любит скрываться». Согласно Логосу
упорядочено все совершающееся, даже и там, где его не знают и
поступают вопреки ему. Но Логос может открываться разуму
человека. Логос открывают не многознанием, но подлинным
знанием. И это открытие происходит только на пути,
проходящем через самого себя. «Человеку свойственно познавать себя
и мыслить (phronein)». Поэтому Гераклит говорит о себе: «я
исследовал самого себя» (другой перевод: «я искал самого
себя»). Но подобное познание находит себя самого не как нечто
такое, что мы отныне знаем: «Границ души ты не найдешь,
даже если все пути исходишь: так глубок ее Логос». В таком иска-
22
Гераклит
нии происходит рост того, что познает, и того, что познается.
«Душе присущ Логос, сам себя умножающий».
Логос есть общее (хупоп).
Во-первых: «Мышление обще для всех». Мышление есть
бодрствование: «У бодрствующих мир общий и
один-единственный, а в дремоте каждый уклоняется из этого мира в свой
собственный мир». Во-вторых: «Война - это общее, и право -
это спор, и всякая жизнь возникает в споре и необходимости».
Общее проясняется в мышлении и в действии. В мышлении
мы совместно постигаем, в действии - совместно
осуществляем. В мышлении общее Логоса противостоит
обособляющемуся единичному (idion). В действии общее
противоположного в брьбе противостоит обособлению в неборющемся
(Kampflose).
Боги у Гераклита, как и у большинства досократиков, не
суть что-то изначальное, но существа внутри мира. «Этот
миропорядок (kosmos), один и тот же для всех, не создал никто
из богов и никто из людей, но он всегда был, и есть, и будет
вечно живым огнем». Но если речь идет не о богах, а о боге
(о том, что на языке греческой философии называется богом,
божественным началом, богами), то Гераклит говорит о Боге
как о Логосе, о космосе, об огне. Однако, наряду с этим,
намечается другое, более величественное, сущностное
созерцание Бога у Гераклита: «Единое, единственно мудрое, не
желает и желает именоваться именем Зевса». Он управляет всем.
Но об этом мудром сказано: «Из всех, чьи слова я слышал, ни
один не достиг познания того, что мудрое есть нечто
отделенное ото всего» (kechorismenon). Здесь Гераклит достигает
мысли о трансценденции, как совершенно ином, причем
достигает ее с полным сознанием чего-то неслыханно нового.
Этому соответствует частый акцент на дистанцию между
Богом и человеком, которую этот, самый гордый из
мыслителей, выражает со всей решительностью: «Человеческая
сущность лишена познаний, зато их не лишена божественная».
«Прекраснейшая обезьяна безобразна по сравнению с
человеком; самый мудрый человек, по сравнению с богом, по мудрости,
красоте и всему остальному покажется подобным обезьяне».
Власть Бога вездесуща: «То, что ползает, оберегается ударами
плети бога». Не избежит никто. «Как может кто-нибудь скрыть-
23
Гераклит и Парменид
ся от того, что никогда не заходит» (как заходит, например,
Солнце).
Дистанция между Богом и человеком: им свойствен
принципиально различный и, в сущности, несопоставимый взгляд на все
вещи: «Для бога все прекрасно, и хорошо, и справедливо; а люди
признали одно несправедливым, а другое справедливым».
Люди и боги еще не считаются здесь равнородными
(различающимися только своей смертностью или бессмертием), как
это обычно признавалось в греческой религии. Человек есть
нечто совершенно иное, чем бог, нечто отличное по самой
своей сущности.
2. Провозглашение спасительного пути е борьбе. -
Видение Гераклитом мира и бога есть не только спокойное
созерцание того, что вечно, но само оно есть в мире борьба с ложью
и бедами, и провозглашение спасительного пути.
Поэтому Гераклит обрисовывает аспекты ложного мира.
Большинство людей (polloi) не понимают Логоса. От них
«сокрыто, что они делают, бодрствуя, так же точно, как они
забывают, что испытали они во сне». Они в раздоре с Логосом,
с которым, однако, они постоянно общаются. То, с чем они
сталкиваются каждый день, кажется им чужим, они впадают в
заблуждения. Даже учение Гераклита не помогает им. «Они не
понимают его, даже если услышат... Присутствуя, они
отсутствуют». «Они не познают его, даже если узнают; но они
воображают, что познали».
То, что совершают люди, хотя и совершается в силу этого
заблуждения, однако происходит все же согласно скрытому
Логосу. «Спящие - делатели и соучастники событий в мире».
Отсюда двойственный аспект мира людей, прежде всего: «Время
жизни - играющий мальчик, переставляющий туда-сюда камни
на доске: правление детей». «Мнения людей - детские игры».
Но: то, что для незнающего есть случайность и бессмыслица,
на самом деле есть скрытый порядок: «Куча наугад
рассыпанных вещей - прекраснейший миропорядок».
В прошлом Логоса, неосознанно повинуясь Логосу,
становится возможно подобающее поведение людей: «Свиньи
купаются в навозе, птицы - в пыли или пепле». «Ослы солому
предпочли бы золоту». «Дурак стоит в изумлении, чуть только
услышит разумное слово (Logos)». «Собаки лают на тех, кого
они не знают».
24
Гераклит
Постижение Гераклитом жизни как общего в борьбе есть на
практике его борьба. Кажется, что он нападает на все, что есть
в его окружении: жизнь, «как мы получили ее по наследству»,
фактическую религию, людей и учения, которые до сих пор
считались великими, политическое состояние его родного
города, импульсивность не желающих думать людей:
1. Против религии, как она есть: «Они ищут очищения от
вины за убийство, оскверняя себя новой кровью, как если бы
кто-то, наступив в навоз, хотел бы отмыться навозом». «Они
молятся изображениям богов, как если бы кто-то пожелал
разговаривать с домами». Он «грозит посмертным
наказанием и огнем лунатикам, магам, вакхантам, менадам и мистам.
Ибо то посвящение в мистерии, которое ныне в ходу у людей,
безбожно».
Однако нередко Гераклит указывает на истину в области
религии. «Позорные обычаи мистерий он называл средствами
спасения». «Следует различать два вида жертвоприношений.
Одни жертвы приносят внутренне очищенные люди, - малое
меньшинство, - а другие жертвы материальны». «Не будь
Дионисом тот», кому посвящен фаллический культ, «это было бы
совершенно бесстыдное дело». И совершенно положительно:
«Сивилла, безумными устами произносящая несмешное и не-
нарумяненное и непомазанное, проникает своим голосом через
тысячу лет, ибо ее ведет бог». И наконец: «Господь, которому
принадлежит оракул в Дельфах, ничего не говорит и ничего не
скрывает, но указывает (означает)».
Бессмертие для Гераклита не подлежит сомнениям. «Когда
люди умрут, их ожидает то, чего они не воображают и не
надеются». «Большая удача приносит по смерти большую награду».
«Стражи будут стеречь там живых и мертвых».
2. Почитаемых великими людей Гераклит совершенно
отвергает. «Гомер заслуживает того: чтобы его выгнали с
состязаний поэтов и высекли розгами, и так же точно Архилох». Ге-
сиод, Пифагор, Ксенофан, Гекатей - все они показывают
только то, что многознание не дает людям разума. В особенности
Пифагор собрал познания из многих сочинений и составил
свою собственную мудрость - прародитель всех мошенников.
Что такое их ум? «Они верят народным певцам, их учитель -
толпа, ибо одного они не знают: многие дурны, только
немногие хороши».
3. Политическое состояние его города вызывает у
Гераклита гнев. «Эфесцы поступили бы правильно, если бы все до
25
Гераклит и Парменид
единого повесились, - они, которые изгнали Гермодора,
лучшего среди них, со словами: Пусть не будет никто из нас
наилучшим, или, если и будет, то пусть будет он в другом
месте и у других». И напротив: «Один для меня стоит десяти
тысяч, если он наилучший», и: «Закон призывает следовать также
воле одного-единственного человека». В ярости он кричит:
«Пусть никогда не иссякнет у вас богатство, эфесцы, чтобы
всем была видна низость вашего нрава». Но фундаментальная
политическая истина такова: «За свой закон граждане должны
сражаться, как за городские стены».
4. Следует бороться против импульсивности индивида. Что
такое счастье? «Если бы оно заключалось в телесных
удовольствиях, то мы должны были бы называть ослов
счастливыми, если они находят горох себе в пищу». «Для людей не
было бы лучше, если бы им досталось все то, чего они хотят».
Человеческие влечения сильны. «С сердцем бороться трудно.
Ибо то, чего оно хочет, оно добывает ценой души».
«Заносчивость нужно гасить скорее, чем пожар». «Самомнение он
называл падучей болезнью».
Философия Гераклита ведет борьбу с ложным, но дает
указания для жизни в истине. Людям адресовано требование
этого возвещающего Логос философа: бодрствовать, «не следует
делать и говорить подобно спящим». Мы должны осознанно
следовать тому сокровенному, что связывает нас всех, не
утопать в своем собственном и не определяться Логосом в жизни
сугубо бессознательно; мы должны найти общность в глубине
Логоса, которая уже есть, но которая становится единящей
и создающей человеческую общность, только когда мы
обнаруживаем ее.
Наставление к истинной жизни указывает на три
момента: 1. участие в Логосе борьбы, 2. участие в Логосе знания
и 3. Внутреннее отношение к основе знания.
a) «Следует знать, что война всеобща». «Одних она
определяет богами, других - людьми, одних она делает рабами,
других - свободными». Если победитель свободен, а
побежденный - раб, то павший на войне бессмертен. Ибо
«наилучшие предпочитают одно всему прочему: вечную славу -
преходящим вещам». Павших на войне «чтят боги и люди».
b) «Величайшее совершенство (arete) - мыслить обдуманно
(phronein); говорить истину и поступать согласно природе (phy-
sis), взирая на нее? - это мудрость».
26
Гераклит
с) Это разумное мышление заключается не в многознании.
Ибо многознание рассеивает ум и удерживает от подлинного
знания. Но осуждение многознания как жизненного принципа
отнюдь не означает отказа от познаний: «Многое должны знать
люди, любящие мудрость».
Разумное мышление не заключается также в измышлении и
конструировании. Разум открывается в том, что присуще в
осязаемой реальности. Поэтому Гераклит обращается против
конструкций мироздания в философии милетцев. «Я предпочитаю
все то, о чем сообщают мне зрение и слух». Может быть, это -
упрямство, а не просто рецидив дурного знания о природе,
когда он говорит: Солнце таково, каким кажется, шириной в одну
человеческую стопу; солнце каждый день новое. Но и для него
восприятие является слугой: «Плохие свидетели людям глаза и
уши, если у этих людей души варваров».
Путь знания направляется тем, что больше, нежели знание.
«По недостатку доверия (по неверию, apistia) недоступна для
познания большая часть божественных вещей». «Если человек
не ожидает неожиданного, то и не найдет его, ибо оно неис-
следимо и недоступно». О том же говорит и поразительное
суждение Гераклита: «Этос (натура) человека - его демон», то
есть не просто нечто данное от природы, но и нечто большее
в этом данном. Это не есть демон как нечто чуждое и
внешнее, водящее меня на помочах как дитя, но демон как моя же
самость, как то, что я поистине есть, и что, однако же,
незнакомо и неизвестно мне как таковое.
Весь смысл Логоса и Номоса резюмируется в одном: «Если
ты хочешь говорить с умом (nus), то нужно укрепиться тем, что
общее для всех, как полис укрепляется законом, и еще более.
Ведь все человеческие законы питаются единым,
божественным законом; ибо этот закон повелевает, как только хочет,
и его довольно для всех людей, и даже не только для них».
3. Характеристика. - Гераклит усматривает Логос, единство
противоположностей, мировой поток, трансцендентное божество,
и видит возможное восхождение человека к мудрости.
Главное и первое - не исследование, но то единое, от
которого зависит все; цель - не получить знание о мире, а
привести человека на правый путь.
Все совершается согласно Логосу. Он сокровенен, пока
мыслитель не покажет его. Однако философ не задает
вопроса, почему Логос сокровенен, как не ставит и вопроса о том,
27
Гераклит и Парменид
почему есть мир, а не только чистый, лишенный
противоположностей, мирный огонь, этот исток, этот вечный разум. Если
традиция сохранила для нас ответ: Вследствие
противоположности сытости и нужды возникают и исчезают все вещи в
поочередной смене образования мира и мирового пожара (екру-
rosis) согласно вечному круговороту, - то кажется, будто этот
ответ не соответствует образу мысли самого Гераклита (и он
не встречается среди дословно сохранившихся фрагментов
Гераклита): здесь к целокупности мира применялась бы мысль
о противоположностях, которая, однако, имеет силу только
в пределах мира, в котором происходит борьба.
Мышление Гераклита - не систематическая конструкция,
но формулируемое в афоризмах мыслящее созерцание. В
рамках всеобъемлющего образа мысли нам всякий раз являют
наброски в форме кратких положений. Ошибочно было бы
искать у Гераклита некую непротиворечивую конструкцию бытия
в целом (которую, даже там, где к ней намеренно стремились,
не удалось еще представить ни одному философу). У него
совершается просветление в последовательности прорывов,
выступающее с сознанием глубочайшего постижения.
За его вопрошанием сразу же являются и ответы. Он не
развивает самих вопросов, но возвещает ответы.
Этос Гераклита питает свою мысль в основе бытия, в
Логосе, в мудром (Sophon). Это мышление есть требование. Оно
желает пробуждать, но рассчитывает лишь на немногих, или
вообще ни на кого. Если Логос есть то общее, которое может
обнаружиться, то в лице Гераклита перед нами напряжение, -
с одной стороны, воля к тому, чтобы своим провозвестием
довести Логос до сознания человека и тем самым исправить
людей в их совместной жизни, - а с другой стороны, отказ
осуществлять мыслящее созерцание Логоса в одиноком
бессилии перед лицом не поддающихся изменению многих, только
в гордой действительности своей собственной жизни.
4. Влияние в истории. - В Гераклите нет ничего от
основателя, он не основывает никакого общества, он обращается ко
всем, к немногим, к отдельным личностям, ни к кому. В
античности его почитали, но таким почтением, которое держится на
дистанции. Сократ - как рассказывает исторический анекдот -
на вопрос Еврипида о Гераклите ответил: «То, что я понял, -
28
Гераклит
прекрасно, - я уверен, что таково же и то, чего я не понял -
впрочем, для этого нужен делосский водолаз».
На Гераклита ссылались стоики. Им восхищался Гегель.
Самая ранняя работа Карла Маркса была посвящена ему.
Лассаль написал о нем сочинение. Ницше восхвалял его
превыше всего.
Две формы мысли, без всякой явной связи с именем
Гераклита, имели впоследствии исключительно устойчивое влияние:
диалектика противоположностей и идея Логоса.
1. Противоположность, как принцип, играет большую роль
начиная с Анаксимандра. Этот принцип усваивают
пифагорейцы и Парменид. Только у Гераклита противоположности
превратились в господствующую форму мысли. К нему и к
последователям Парменида восходит вся дивлектика в западном
мире. Гераклит еще оставляет способы существования
противоположностей, методически не различая их, действовать
рядом друг с другом и один в другом: противоречие,
противоположность, расколотость, полярность, напряжение, - кроме
того: целое-часть, единство-множество, согласие-раздор, -
кроме того: жизнь-смерть, бодрствование-сон, день-ночь. Он
не различал способов, какими противоположности переходят
друг в друга, способов обращения, диалектического движения
в логической области и в реальном. Он доходит до игры
словами, чтобы выразить фигуру противоположности всеми
имеющимися в его распоряжении средствами. То, чего Гераклит
лишь касался в своем универсальном созерцании, отныне
проходит через всю историю философствования и доныне еще
не явлено мыслящим с методической ясностью в окончательно
завершенном виде.
Имея в виду Гераклита, Аристотель пишет: И природа также
стремится к противоположному, и из него, а не из равного,
порождает согласие, как, например, она сочетает мужской пол
с женским. Живописец смешивает на картине белую и черную,
желтую и красную краску, музыка смешивает высокие и низкие,
долгие и краткие звуки и создает таким образом единство
гармонии; искусство письма смешивает гласные и согласные.
Гегель говорил, что он включил в свою логику каждое
положение Гераклита. В самом деле, у Гегеля мы находим учение
о категориях противоположного в полной содержаний диалек-
29
Гераклит и Парменид
тике, развертывающей с помощью совершавшегося в течение
двух тысяч лет философствования в богатстве мыслительных
фигур то, что впервые состоялось в мысли Гераклита.
2. Стоики (начиная с III века) восприняли Логос Гераклита
как всепроницающий мировой разум и судьбу. Филон (ок. 25 г.
до Р.Хр. - 50 г. по Р.Хр.) видел в Логосе обитающую у Бога
разумную силу, первого Сына Божия, второго Бога, посредника
между Богом и человеком: Слово, вечную мысль Божию,
сотворившую мир. В Евангелии от Иоанна (вторая половина I
века), и после того в христианском богословии, Логос есть
личность, воплотившееся Слово Божие, от века; Христос,
пришедший в мир в лице Иисуса, есть второе лицо Бога. Гераклит
понимал Логос как прорывающую, расширяющую
пространства, открывающую мысль. В этих исторических
преобразованиях она была фиксирована и объективирована,
превратившись в философское учение.
Парменид
Источники: Дильс. - Переводы: Дильс. Нестле. Капелле.
Грюнвальд.
Литература: Райнхард. Г. Френкель. Рицлер|У. Небель\
Райх".
Парменид был гражданином города Элей в Южной Италии,
происходил из знатной и богатой семьи. Время его жизни -
около 500 г. до Р.Хр. От его написанного гекзаметрами
сочинения сохранилось примерно 130 стихов.
Вводная часть стихотворения рассказывает о вознесении
поэта на небо: Солнечные девы провозят его, юношу, в
быстрой скачке на повозке, которая, запряженная лошадьми,
поскрипывает в осях, - из ночи в свет, а затем по границе ночи и
света через ворота, которые открывает им Дике, и
наконец привозят его к богине, которая благосклонно принимает
его. Из ее уст он узнает истину: «Теперь ты должен узнать
все - и неколебимое сердце закругленной истины (aletheia),
и кажимость мнения (doxa) смертных». Соответственно, поэма
сообщала рассказ богини в двух частях. Сохранились значи-
зо
Парменид
тельные фрагменты первой части и некоторые сообщения
о содержании второй части.
1. Бытие. - Великая основная мысль гласит: «Необходимо
говорить и мыслить, что сущее есть (eon emmenai). Ибо бытие
есть (esti gar einai), небытия же нет». «Небытия ты не можешь
ни познать, ни высказать». «Ибо невозможно, чтобы было
убедительно доказано, что несущее есть». Выражая это
формально-логически: бытие или есть, или не есть; его небытие,
и всякое небытие, немыслимо; следовательно, бытие есть, а
небытия нет.
Таковы странно привлекательные и поражающие своей
пустотой, тем более в стихах на греческом языке, положения
Парменида. Они свидетельствуют о глубокой философской
увлеченности и все же высказывают только тавтологии.
Впервые в западном мире мыслитель удивляется тому, что бытие
есть, что невозможно помыслить небытие сущим. Наиболее
самоочевидное есть самое загадочное, но также и самое
ясное. Бытие есть, а небытия вовсе нет: таково для
Парменида откровение мышления через само мышление.
В форме кажущихся тривиальными положений
обнаруживает себя фундаментальное знание, служащее опорой для
этой жизни философа: присутствие бытия (die Gegenwärtigkeit
des Seins). Парменид воздвиг героон пифагорейцу Аминию,
потому что благодаря ему он достиг покоя (hesychia). Этот
покой мы вполне можем относить к присутствию бытия в этом
фундаментальном знании.
Напрасно желают отыскать в этих положениях бытие через
некое мнение, которое якобы скрывается за ними. Его нельзя
выразить никаким другим положением. Его нужно усваивать
себе в тихой медитации. Однако следует также мыслить
вместе с Парменидом дальше о том, что такое это бытие. Ибо на
этом пути, на истинном пути (в противоположность ложному
и невозможному пути мышления небытия) обнаруживается
немало признаков (semata) бытия. Они с необходимостью
выясняются в самом мышлении:
Бытие не возникло. Невозможно изобрести для него
никакого истока. Ибо откуда же могло бы оно вырасти? Не из сущего,
ибо в таком случае ведь прежде него существовало бы другое
бытие. Не из несущего, ибо в таком случае у него не было бы
31
Гераклит и Парменид
никакого основания и никакой необходимости, начать с
небытия раньше или позже и затем вырасти. Из несущего может
произойти только несущее. Поэтому бытие должно или быть,
целиком и полностью, или вообще не быть. Если бы оно
однажды возникло, то оно, собственно, не существовало бы. Бытие
не существует также и только в будущем. Скорее, в будущем
угасает возникновение и прекращается исчезновение. Бытие
непреходяще. Оно - не было и не будет, но целиком и
полностью есть сейчас.
Бытие - едино, повсюду равно себе, обладает одной и той
же силой, удерживает вместе. Бытие неотделимо близко
бытию. Оно - не более сильное или более слабое, но повсюду
всецело исполнено бытия и неделимо. Это - бытие (on, это
слово впервые употреблено Парменидом в этом смысле), а не
множественность сущего (onta, как говорили до Парменида).
Бытие единственно. Ибо вне бытия ничего нет и не будет.
Бытие целостно. Оно - крайняя граница, а потому оно со
всех сторон законченно (tetelesmenon). Это означает: Оно не
таково, чтобы его еще только предстояло закончить, а
постольку оно не лишено конца (ateleston), или - оно не таково, чтобы
его еще только нужно было завершить. Его можно уподобить
шару. «Неподвижно лежит оно в границах могучих оков без
истока, без прекращения. Пребывая как то же в том же, оно
покоится для себя и так стойко пребывает на том же месте».
Поэтому оно ни в чем не нуждается и не ведает страха.
Знаки (semata) бытия у Парменида - это не образная
прикраса абстрактной мысли. Скорее, в них, как том, что
необходимо должно быть мыслимо, вместе с самой мыслью
присутствует само бытие. Поэтому с этими «знаками» Парменид не
идет, скажем, по пути к некоему языку знаков, как это будут
делать впоследствии математика и логика, но только к языку
мысленных шифров, свойственному для метафизической
спекуляции.
Самая пустая мысль означает самое невероятное. Однако
в качестве пустой мысли, легко и быстро мыслимой рассудком,
она как раз ничего уже более не означает. Ее значение
выражается в логической обязательности мыслить semata,
поскольку одновременно с ними осуществляется видение бытия и
переживается покой в бытии. В единстве с заключенным в них
принуждением к противоречию и тождеству semata суть
лишенные наглядности образы мысли. Это не пустое тождество,
32
Парменид
однако сказанное в них, будучи понято лишь как логическая
форма, оказывается в предметном смысле пустым. Это
мыслящая деятельность, возможная в наивности (но не
примитивности) творческого начала, как тогда, так и теперь, однако уже
не повторимая более в том же основном строе души. Одно
видели и осуществляли мыслью в другом, логическое - в бытии,
бытие - в логическом. Логическое здесь еще не пусто, потому
что еще не подразумевается как логическое. Но поэтому и
видение также есть не образ, но неотделимо от убедительно
верной мысли. В нем есть некий тон, который в логическом
убеждении подобен приказу, и в нем есть восторг очевидности,
пребывающей в основе всех вещей. Обоснование того, что
обоснованию не поддается, - вот форма профетического
откровения.
Однако и Парменид, захваченный бытием, то есть
познанием того, что бытие есть, и что оно есть необходимо и являет
semata, входящие в состав его, должен все-таки мыслить эти
semata в тех формах, которые позже будут называться
категориями. Кроме того, его восторженность заставляет его
создавать образы, аналогичные мифологическим, и прежде всего:
Бытие привязано мойрой к тому, чтобы быть целостным и
неподвижным. Властная необходимость (ananke) держит его в
цепях границы. Богиня Дике не отпускает бытие ни в
возникновение, ни в уничтожение, не расслабляет его оков, но прочно
удерживает его в своей власти.
Мыслящий опыт бытия у Парменида столь мощен, что
преобразует самого мыслящего. Мыслящий так вступает в иной
«мир», который уже не есть мир. Он знает, что его путь уводит
его «далеко от тропы смертных» и что оказаться на этом пути
с помощью Фемиды и Дике - счастливая участь, в
противоположность злой судьбе незнающих людей. Рассказ о
путешествии по небу из мрака на свет - не поэтический придаток к
мысли, но чувственно-образная форма самой мысли: Истина
выпадает на долю, божественные силы помогают человеку
пройти по пути к богине, которая сообщает чистую истину, его
собственная воля к истине сама имеет такой божественный
характер. Это не долгий, далекий путь, но скорое и внезапное
путешествие, Переход из мрака к свету совершается через
ворота, которые охраняет богиня Дике.
Происхождение достоверности бытия в мышлении
Парменид осознает, когда рефлектирует об этом: «Одно и то же есть
33
Гераклит и Парменид
мышление и бытие», и «Одно и то же есть мысль и то, на что
направлена мысль» (другой перевод: Одно и то же есть
познавание и то, из-за чего существует познавание). «Ибо без
бытия, о котором и сказано слово, мысли тебе не найти».
Необходимость мышления есть достоверность бытия мыслимого.
Но это мышление не есть мышление любого человека.
Мышление, как мы полагаем в нашем мнении, все-таки
противостоит бытию. Но Парменид осознает свое мышление
(подлинное мышление ума (nous)) в отличие от раскалывающего
и различающего мышления и поэтому требует для своих
мыслей: «Так усмотри же умом, как посредством ума
отсутствующее достоверно становится присутствующим; ибо сущее ум
не станет отделять от связи с другим сущим». Таким образом,
в уме само бытие присутствует как целое. Поэтому и
отсутствующее в нем также присутствует.
Мы теряем все величие Парменидовой мысли о бытии,
если желаем наполнить ее тем, что ей не свойственно. Если
мерить его масштабом интеллектуально дифференцированного
богатства категорий и масштабом наглядно-зримого богатства
мира, то бытие Парменида так бедно, что словно вовсе
исчезает. Ибо мышление этого бытия, произошедшее из
полномочия захватывающего трансцендирования, обращено на то, что
лишено образов и категориально недифференцировано (или
транскатегориально), но обращено так, что трансценденция
Парменида находится не где-то, а целиком присутствует здесь.
Однако она отнюдь не присутствует в той полноте, которая
есть полнота чувственного, временного мира. Скорее
напротив: сила радикального разделения проявляется в серьезности
совершенно иной полноты самого бытия и в том, что мир
мнения не имеет ни малейшей значимости.
Смысл «мышления» Парменидом «бытия» проясняется
через контрастные противопоставления:
В том, что это бытие может быть уподоблено шару, и то, что
оно находится в оковах границ (peirata), заключается самая
резкая противоположность его апейрону Анаксимандра. То, что
бытие есть не apeiron, но peiras, соответствует требованию его
мыслимое™. То, что мыслится, определено и постольку имеет
границу. Сила интеллектуально убедительного доказательства
состоит в возможности усмотрения мысли посредством логиче-
34
Парменид
ской операции. Что есть бытие, то мыслимо. Только мыслимое
есть бытие. Само мышление уже имеет здесь абсолютный
характер.
Тем самым Парменид противостоит также и Гераклиту,
Логос которого божествен и, если его вдыхают смертные
существа, Логос как человеческое мышление есть лишь отзвук, но
сам отнюдь не абсолютен.
2. Мир кажимости. - Антитезу основной мысли, которая
для Парменида важнее всего, составляет мнимый мир. Однако
на этот последний он затрачивает немало усилий мышления.
Богиня сообщает Пармениду сначала истину, а затем -
иллюзорные мнения смертных. Говоря о них, Парменид в самом
деле строит из материалов традиционной философии космоса и
знания о явлениях мнимого мира, сам же не делает каких-либо
новых наблюдений.
Возникновение мира и возникновение иллюзорного мнения
(doxa) - это одно и то же. Исток кажимости - в раздвоении
единого, а это раздвоение связано с наречением имен. Люди
назвали по имени две формы - свет и тьму. Они разделили
эфирное пламя огня и лишенную света ночь. Первое мягко,
легко, повсюду тождественно себе самому, последнее -
плотное и тяжелое.
Но тем самым они впали в заблуждение. Все это - только
имена, установленные смертными на их языке, в убеждении,
что это истинно, как возникновение и уничтожение, бытие и
небытие, перемена места и смена сверкающих красок, и все
остальное: «И вот так это и возникло согласно кажимости
и остается еще и сейчас, и будет возрастать также и в
будущем, а потом ему настанет конец. И для этих вещей люди
установили имена, обозначающее имя для всякой вещи».
Как выглядел у Парменида образ мира в частностях - об
этом традиция сообщает нам лишь скудные сведения. Здесь
шла речь о кольцах, наполненных огнем, примерно как у Анак-
симандра, о Солнце и Луне, о Земле и жизни. В центре же
всего находится богиня, управляющая всем. В самом начале она
измыслила Эрос. Она повсюду побуждает существа к ужасному
рождению и совокуплению.
Почему дело не ограничивается единой истиной? Почему
вообще существует мир иллюзии, а не только бытие? У
Парменида мы не находим никакого ответа, кроме описания за-
35
Гераклит и Парменид
блуждений. Ответ на это «почему» в духе Парменида нам
пришлось бы сконструировать: Иллюзия возникает из-за
самого бытия, которое вступает в судьбу перемен, и с приростом
способов полубытия - бытия, которое есть одновременно
небытие, - чего, однако же, не может быть, - производит на свет
одновременно и способы бытия иллюзии. А тогда теряется це-
локупность бытия, отсутствующее больше не присутствует,
настоящее отделяется от прошедшего и будущего. Иллюзия
мнений возникла одновременно с миром иллюзии, а мир
иллюзии - одновременно с этими мнениями.
Почему, можно спросить далее, Парменид так подробно
останавливается на мнимом мире? Вначале богиня говорит
ему: «Несмотря на это, ты узнаешь также и их, причем
узнаешь так, как должно быть правдоподобным образом то, что
им - людям - кажется». А завершив изложение истинного
учения о бытии, она повторяет: «Это мироустройство (diakosmos)
я сообщаю тебе как вероятное, и потому невозможно, чтобы
какое-либо воззрение смертных когда-либо оспорило твое
достоинство». При глубине и достоинстве мышления Парменида
невозможно, чтобы он излагал иллюзорные познания, так
сказать, нефилософию, чтобы при любых обстоятельствах
сохранить свое превосходство над людьми. Скорее, напротив: мы
философски постигаем саму иллюзию в присущей ей
необходимости и таким образом одновременно проникаем в ее
природу и обозреваем ее в целом. Мнение (doxa) нужно мыслить
таким способом, который не тождествен способу мышления
колеблющихся смертных. Его нужно мыслить так, чтобы этот
ложный способ мнения никогда не мог опередить его, потому
что это философское мышление, не будучи приковано к
иллюзии, как бы являет истину иллюзии из основания ее раскрытия,
являет кажимость со знанием о том, что она - кажимость.
Указание на то, как Парменид соединял мышление
кажимости со своей основной идеей, мы находим не во фрагментах,
а в сообщениях традиции: Он утверждал не только положение
о том, что мышление и бытие - одно и то же, но также и другое
положение, ставшее широко известным только благодаря
Эмпедоклу, неоднократно повторявшееся от Плотина вплоть
до Гете: Подобное воспринимается и познается подобным. Так,
Парменид учил, что мертвец хотя и не воспринимает свет, теп-
36
Парменид
ло и голос, вследствие недостатка стихии огня, однако
воспринимает холод и молчание. Все сущее наделено познанием
(gnosis). Человек познает, во-первых, умом (nous) - бытие, во-
вторых, смешением своего существа - кажимость, в-третьих,
как мертвое тело, познает небытие.
3. Решение. - Парменид требует принять решение о
выборе (krisis) между этими двумя путями: путем истины
(мышлением бытия) и заблуждением (мышлением небытия). Поскольку,
однако, мышление небытия невозможно, это мышление и не
совершается. Скорее, великим, повсюду распространенным,
повергающим всех людей в бедствия заблуждением является
нечто третье - половинчатость, смесь мышления бытия и
мышления ничто. «Ничего не ведающие смертные» идут этим
путем, «на котором они, двухголовые, ступают нетвердо. Ибо
нерешительность направляет в груди их туда и сюда
колеблющийся ум. Они же шагают, одновременно немые и слепые,
отупевшие, нерешительная толпа, для кого бытие и небытие
считается одним и тем же и не одним и тем же, и для кого во
всем есть обратный путь». Здесь мнение посредственности,
само не осознающее в себе этого, сводится к его подлинному
смыслу или, вернее, бессмыслице с помощью формул,
которые мы находим у Гераклита (но если при этом имеется в виду
Гераклит, относительно чего среди философов нет единого
мнения, то нет более сильного выражения для презрения к
нему, нежели это: а именно, когда формулы Гераклита,
желающие выразить нечто прежде неслыханное, чего не понимает
толпа, воспринимаются как проясненный язык именно этой же
самой толпы). Богиня предостерегает: «Пусть не принудит тебя
многоопытная привычка сойти на этот путь, чтобы отдать
первенство невидящему глазу, грохочущему уху и языку».
То, что Парменид сообщает как коренной опыт мышления
(в самом же начале поэмы, в образе и действительности
полета по небу), переворот всего существа человека вследствие
переворота в сознании бытия, - этого он требует теперь от
каждого, и возвещает это как путь спасения. Однако Пармени-
ду как философу - «знающему мужу» - присуща та
особенность, что к этому пути надлежит логически принудить
человека в мышлении: «Мыслью приведи к решению многоспорное
испытание».
37
Гераклит и Π ар мен ид
4. Неразрешимые трудности этого философствования. -
Трудности этого философствования обусловлены не
отрывочностью традиции, но заключаются в самой сути дела.
Солнечные девы (божественные силы) привозят юношу в
запряженной конями повозке к богине, - из мира ночи в мир
света, и на границе двух миров их пропускает Дике,
открывающая им ворота. Он попадает туда, где он узнает: То, что
было ему открыто, - свет и день, - относится к истине и бытию, -
то же, что он оставил позади, - мрак и ночь, - относится к
мнению и иллюзии, к небытию. Но еще того более: само различие
света и ночи относится к царству иллюзии. Из круга иллюзии,
оставаясь в пределах иллюзии, он слышит то, что превращает
в иллюзию также и это его восхождение в свет.
В самом начале спекулятивной философии сразу же встает
невозможность: наше собственное предприятие, на тех путях,
по которым оно совершается, уничтожается самым смыслом
достигнутой в нем истины. Философия, достигая своей истины,
терпит крах и исчезает. Она высказывается ценой повторной
утраты уже обретенной ею истины.
Если выразить то же самое иначе: Если мы мыслим нечто,
то нам приходится мыслить одно и другое, различие и
отношение. Это мышление есть для Парменида исток иллюзии
вследствие разделения и наречения имен. Однако то, что мыслится
как истина, должно мыслиться без разделений как единое,
однако, поскольку оно мыслится, оно мыслится сразу же в
разделениях: Парменид мыслит бытие, противостоящее небытию.
Однако небытие немыслимо и, поскольку оно обманчиво, его
не следует мыслить. К человеку обращают требование
сделать выбор между двумя путями; значит, два пути при этом
различают и мыслят. Но там, где различают, мыслят не бытие,
но там мы уже находимся в сфере doxa.
В ответ на это возражение можно представить такое
толкование: Противоположность бытия и небытия абсолютна. Если
ее постигают, то она уже не есть более противоположность,
ибо небытия нет, есть только бытие. С истинной мыслью о
едином, совершенном, лишенном противоположностей бытии
второе звено исчезает. Когда мы вступаем на истинный путь,
мы постигаем, что этот путь - единственный, что другого пути
на самом деле нет. Там, где Парменид мыслит бытие, там уже
38
Парменид
нет больше решения и выбора. Требование трансцендирующе-
го мышления принуждает выйти за пределы
противоположности туда, где противоположного нет.
Однако какое бы толкование мы ни высказали в ответ на
возражение, само возражение этим не опровергнуто. Но то, что
оно не опровергнуто, не разрушает философию, а делает
более отчетливым ее смысл. Его содержание нам нет
надобности спасать как некое убедительное для рассудка познание
о чем-то. Поэтому возражение оказывается правым только
там, где оставлен философский смысл. В свою очередь, этот
философский смысл может быть обретен и сохранен в мысли
только вместе с экзистенцией мыслящего.
5. Влияние в последующей истории. - Историческое
влияние Парменида исключительно велико. Это может удивлять
нас, если принять во внимание логичность его мышления.
Однако то, что кажется пустым, не только было для него самого
величайшим экзистенциальным наполнением, но служит для
каждого позднейшего мыслителя призывом к тому, чтобы
наполнить эти мыслительные формы, достигшие чистых форм
в процессе сообщения.
У ощутимого в истории влияния Парменида есть другие
причины: Разработанные им средства мышления обретают
самостоятельность и применимость, тогда как их первоначальный
смысл отступает на задний план или вообще утрачивается:
1. Парменид хотел прочно утвердиться мыслью по ту
сторону истока мира, по ту сторону того, что уже многообразно
мыслили до него как arche (исток, начало). Однако то, что он
мыслил, было воспринято как новый облик этой мысли об
arche. Философы пытались выполнить требования пармени-
довского мышления о бытии, мысля исток мира на прежний
лад, но только включая в эту мысль "semata" бытия: мысля
исток в элементах (Эмпедокл), в бесконечно различных
мельчайших частях (Анаксагор), в атомах (Демокрит).
2. Парменид не сформулировал закон противоречия,
однако впервые применил его с такой строгостью, которая дает нам
почувствовать силу логически убедительного мышления,
движущегося в альтернативах. Но в то время как сам Парменид
хотел раскрыть в этом мышлении само бытие, существенную
истину, его метод превратился в средство логически
убедительно мыслить произвольно выбранные правильности
(Richtigkeiten). Возникли логика и диалектика.
39
Гераклит и Парменид
Так, впоследствии из первоначальной целокупности
отделилась, во-первых, логика, выделяющая формальный момент
в убедительном мышлении, во-вторых, метафизическая
спекуляция, в методическом отношении понимающая самое себя как
игру, которая делает сообщимой в слове глубокую
серьезность, в-третьих, эстетический образ бытия и мира в лишенных
обязательности фигурах мысли, начертываемых в
нескончаемом множестве вариаций в некой интеллектуальной забаве.
3. То, что мышление есть бытие, или бытие есть
мышление, - впервые было сознательно продумано Парменидом.
Только если это положение имеет силу, возможно не только
достоверно мыслить в чистом мышлении о чем-то помыслен-
ном, не только совершать в отношении предметных обстояний
логические операции согласно правилам, но и пребывать
своим мышлением в самом бытии. Мышление - это такая
действительность, в которой присутствует для нас тотальность
бытия как она сама. Мыслит - само бытие.
Только благодаря строгости формулировки этого тезиса,
в порядке ответного хода после него, стал возможен вопрос: не
следует ли, скорее, мыслить бытие и мышление по
отдельности, чтобы затем мы смогли познать отношение между ними
(с полной ясностью этот вопрос задан только у Канта). Тогда
мышление оказывается неспособно постигнуть само бытие.
Мышление, в своем значимом познании, достигает только
сферы явления бытия, которое открывается для мышления, но
самого бытия оно касается скорее в крахе мышления, нежели
в мышлении чего-то помысленного. Мышление уже не есть
здесь более бытие, но человеческая активность по отношению
к бытию. Мысль о том, что само бытие есть мышление,
становится шифром, однако эта мысль уже не есть более осязаемо
достоверная действительность.
В парменидовском мышлении смогла угнездиться
верующая установка мышления, которая полагала, будто в
достоверности мысли она обладает словно бы осязаемым
присутствием бытия, а в значимой мысли - абсолютной истиной. Она
сделала выводы в пользу насильственности, в пользу отказа от
всякой другой мысли, притязающей на истину. Если, однако,
мышление осознает познанные им самим границы своего
смысла, свои многоразличные методы, свои всякий раз
определенные познавательные возможности, то исчезают также
насильственность и фанатизм, рождающиеся из той первой
установки мышления.
4. Парменид оперирует вариациями слова «бытие». Для
нашего ретроспективного логического и лингвистического осмыс-
40
Парменид
ления он пользуется предельно всеобщим, а именно связкой
«есть», которая фактически или по смыслу присутствует в
каждом высказывании. Он пользуется самой всеобщей категорией;
ибо, о чем бы в частности ни шла речь: поскольку оно
мыслится, оно есть некий способ бытия. Со времени Парменида
слова, бессознательно употреблявшиеся до того, а также
впоследствии, во всякой речи, во всяком предложении, приобрели
самостоятельный вес: по-гречески: estin, einai, onta, on, usia, -
по-латыни: est, esse, existentia, essentia, - по-немецки: Ist, Sein,
Seiendes, Dasein, Sosein, Wesen.
Но, как только внимание обращается только на всеобщие
моменты в этих словах, они мыслятся формально в своей
пустоте. В этом виде они хотя и составляют момент парменидов-
ского мышления, однако само это мышление, как подобная
сугубая всеобщность, теряет свой смысл. Ибо средство, которым
пользуется мыслитель, не есть само это мышление. И менее
всего оно есть само это мышление, если мыслитель вовсе не
осознает это средство, как средство, но всецело пребывает
с ним в самой вещи, в великолепной наивности начала. В
спекулятивном мышлении есть парадокс, состоящий в том, что
пустое может быть в нем самым содержательно богатым. Как
только в наиболее общей форме «бытие» решающей для нас
становится не эта форма мысли и языка, а неопределенная
увлеченность всем, что заключено в бытии, самый абстрактный
вопрос о бытии сразу становится самым могучим мотивом.
Это сразу же проявляется в том, что на сцену является
небытие, которое отныне не оставляет мысли покоя. Парменид
говорил, что оно немыслимо и что его вовсе нет. Платон
определил мыслью, в каком смысле небытие, известным образом,
все-таки есть. Но вопрос о том, почему есть бытие, а не ничто,
получил самую пронзительную формулировку у Шеллинга:
Почему вообще есть нечто, а не ничто?
Чтобы наполнить мысль о бытии, философы, по правилам
школ, мыслили и определили, какими основными способами
существует бытие и что такое бытие, как бытие. Для этого
мышления, после того как оно уже развивалось в течение
тысячелетий, начиная с XVII века использовалось наименование
онтологии. Мышление Парменида - начало «онтологии», в
догматическом доктринальном развитии которой утрачивается,
однако, ее философски захватывающий смысл.
5. Парменид не называет бытие богом. Однако то, что он
определил мыслью как знаки бытия, стало поприщем для
категорий, перенесенных впоследствии на бога, если философы
намеревались мыслить его свойства. От Парменида исходили
41
Гераклит и Парменид
мотивы мысли, пригодные для того, чтобы мыслить
лишенного образов Бога, чтобы удостоверяться в трансценденции
чистым мышлением. Его «онтология» предоставила средства
«теологии».
6. Различие истины и мнения, бытия бытия и кажимости
мира было впоследствии зафиксировано в так называемой
теории двух миров. Это стало возможным, как только иллюзия
мирового бытия обрела собственную естественную и весомую
действительность, как только кажимость стала явлением, а
затем бытие стало потусторонним миром, иным бытием, вторым
миром, «фоновым миром». Тем самым единое бытие и
фундаментальное знание Парменида превратились в дуализм двух
действительностей, проходящийя, во множестве вариаций,
через всю историю Запада.
Во всех этих случаях Парменид, благодаря радикальности
своих положений и строгости своего требования, стал
исходным пунктом для мысли. Здесь было осознано само мышление
в его самобытной силе, оно вынуждало делать выводы,
входило в свои возможности, а тем самым достигало также и своих
границ и собственного своего краха, который не был знаком
Пармениду, но который он намеренно вызывал своим
невероятно суровым требованием.
Памятник Пармениду воздвиг Платон. Для Платона лишь
Парменид, из всех досократиков, обладал тем величием,
которое он выражает в «Теэтете»: «Парменид кажется мне, говоря
словами Гомера, "и почтенье, и ужас". В нем мне явилась
глубина духа, соединенная с возвышенным благородством души.
Боюсь, что мы не понимаем его слов и еще много менее того
способны постигнуть их подлинный смысл»". Напротив, Ницше
чувствует в нем исключительность, которую, как он думал, он
понимает, но которой на самом деле он не понимал. Он
говорит о «типе пророка истины, но сформированного словно бы
изо льда, а не из пламени», о «совершенно бескровной
абстракции», о «натуре, от логической косности обратившейся
чуть не в машину для мышления». «Истина должна обитать
отныне лишь в самых выцветших, самых отвлеченных все-
общностях, в пустых скорлупах самых неопределенных слов,
будто бы в коконе из паутины».
42
Сравнение Гераклита и Парменида
Сравнение Гераклита и Парменида
1. Общая ситуация. Гераклиту и Пармениду знакома
философия предшествующей эпохи: мышление Гесиода в форме
мифа и философское освобождение от мифа, многое знание и
космологические и космогонические конструкции милетцев,
пифагорейская вера в душу и в переселение душ, и монотеизм
ксенофановского Просвещения; они причастны достигнутой в
их время независимости мышления и знают Анаксимандра.
Они находятся в такой же духовной ситуации. В этой своей
ситуации они приступают к решению новой задачи на основе
потрясения, пережитого греческим человеком, по аналогии с
влиятельными тогда религиозными движениями, может быть -
в связи с последствиями персидского завоевания малоазий-
ских греческих городов. Они ищут покоя в мышлении о
подлинном бытии.
2. Общая новизна их в это время: Различными средствами
они совершают, в сущности, одно и то же: Парменид с
помощью логического тождества и исключения противоречащих
моментов, Гераклит - с помощью диалектики
взаимопревращения противоречий. Оба они узнают подъемную силу чистого
мышления, не определяемого чувственным опытом и осязаемо
живым созерцанием, которым они пользуются только в
качестве языка для наглядного представления. Оба осуществляют
в неизменной рациональности некую совокупность не чисто
рациональных операций. Они открывают возможность
мышления, выходящего за пределы всякого знания в мире,
проникающего сам этот мир, исходя из чего-то другого. Это мышление
есть для них абсолютная истина.
Они оба мыслили на чрезвычайно строго оформленном
языке, устремляясь на простое, думая о том, что единственно
существенно. Они жили в эпоху строгого стиля скульптуры
и эпоху начала аттической трагедии.
Парменид избирает формой своего сообщения гекзаметр
эпической поэзии, Гераклит - форму изречений древних
мудрецов. Торжественности поэмы Парменида соответствует
достоинство прозы Гераклита. Оба они нашли в этом некий
новый стиль. Они не только выбрали традиционное облачение.
43
Гераклит и Парменид
Никогда прежде не было такой поэмы, как поэма Парменида.
Никакая афористическая мудрость еще не есть форма речи
Гераклита.
3. Единство и противоположность обоих: В античности их
считали противниками. Это значение как противников
выражали в такой форме: Парменид учит о бытии, а Гераклит - о
становлении. Это звучит так, словно бы оба они
противоположным образом отвечали на один и тот же вопрос (что подлинно
есть?): Один говорил, что есть вечно равное себе неизменное
бытие, а другой - что есть непрестанный поток вещей (panta
rhei). Однако, вопреки этой схеме, оба они указывают как
бытие, так и становление. Бытию (on) Парменида соответствует
Логос (или sophon, или бог) Гераклита, непреходящему и не-
ставшему бытию - вечно остающийся тем же Логос;
разделению истины и кажимости у Парменида соответствует
сокровенность Логоса у Гераклита. Парменид разумным
постижением (noein) сразу схватывает целокупность бытия, улавливая
в отсутствующем присутствующее как соприсутствующее;
Гераклит своим разумным мышлением (phronein) делается
причастным борьбе противоположностей, в которой
присутствует и которую направляет единый Логос. Отношение их как
противников не таково, чтобы они должны были предметно
взаимно исключать друг друга в том, что они мыслят. Скорее,
то, что они мыслят, есть взаимно дополняющее соответствие,
различным образом мыслящее то, что есть всегда и
неизменно. Один мыслит бытие в логическом тождестве и
трансцендентном покое совершенства, всегда остающегося равным
себе, другой - в логической диалектике и трансцендентном покое
остающегося равным себе закона (nomos). Один постигает
смысл в тождестве, которым уничтожается противоречие,
другой постигает смысл в противоречии, снимаемом в единстве
противоположностей. Борьба между ними должна начаться
только там, где эти формулы выдвигают друг против друга
притязание на абсолютность.
Правда, духовная физиономика их обоих невероятно
различна. У Гераклита акцент приходится на разделение в
борьбе, на задачу уловить бытие в противоположностях, находить
покой в борьбе, обретать меру в мышлении и слышать голос
44
Сравнение Гераклита и Парменида
закона. У Парменида акцент с самого же начала лежит на
покое тождественного самому себе созерцания в мышлении.
Знали ли друг друга Гераклит и Парменид и вырабатывали
ли они таким образом с тем большей определенностью свое
мышление в борьбе между собой? Был ли один из них старше
и был ли он просто побежден более молодым соперником?
Или они ничего не знали друг о друге, хотя и были
современниками? На эти вопросы у нас нет убедительного ответа. Для
Гегеля Парменид, по предметным основаниям, представлялся
исторически первым; так думают также Целлер, Райнхардт.
Со времени работы Bernays (и уже ранее - Штайнхардта)
исторически первым считается Гераклит, ибо в одном фрагменте,
где со стороны Парменида звучит самая резкая полемика,
отвергаемое выражается словами Гераклита. Напротив, Вилламовиц
говорит: Они ничего друг о друге не знали. Не знать друг друга
возможно даже в нашу богатую сообщениями эпоху (Ницше
ничего не знал о Киркегоре, который был старше его на тридцать
лет). Достоверно только то, что Гераклит и Парменид жили
приблизительно в одно время, может быть, с некоторой разницей
в возрасте, которая, однако, едва ли может достигать нескольких
десятилетий. Для нашего исторического восприятия они - две
независимые друг от друга, но параллельные фигуры,
неразрывно связанные между собою предметными сходствами и
противоположностями. Только если мы увидим их вместе, они смогут
отчетливо явить нам существо своего мышления.
4. Чистое мышление: Они оба движутся в новообретенном
пространстве чистого мышления. Это чистое мышление, если
мерить его масштабом предметного и определенного и
эмпирического мышления. Кажется, будто в его положениях,
в сущности, ничего не высказывается. Но если, в ответ на
такое непонимание, это мышление начинают затем восхвалять и,
рождая всяческие предчувствия, повторять его
торжественность в фигурах мысли, желают утверждать в нем нечто такое,
что хотели бы называть разоблаченным ликом необходимости
или просветлением судьбы, или если в нем видят героизм
выносливости и покой в усмотрении бытия, то в подобных, не
вовсе ложных, положениях смысл высказывается слишком
быстро и слишком гладко как вполне завершенный и тем самым
неистинный смысл. Ибо в этом философствовании началось то,
что никогда не может быть завершено как объективное
обладание и что всегда должно получать завершение как экзистен-
45
Гераклит и Парменид
циальная действительность. Может быть, этот героизм
и этот покой были тогда более действительны в этих
мыслителях, чем они действительны сегодня. Но их сообщимость, как
и проверка их в мышлении, в действии и в повседневном
поведении человека пребывает в движении, никогда не
находящем себе завершения.
5. Пророчество и воля властвовать: Кажется, будто одна
общая черта в историческом явлении двух этих великих
философов мешает нам считать найденную ими истину чем-то
большим, нежели некой исключительной, однако в этом своем
виде неповторимой и совершенно не зовущей к подражанию
попыткой. Эта общая черта вот какова: их уверенность в себе
выступает в пророческом тоне. Если они ссылаются не на
авторитет бога, но на силу своего разумного постижения, то сила
эта в сущности настолько тотальна и захваченность их ею
настолько потрясает их, что Парменид вкладывает эту истину
в уста богине, а Гераклит хотя и не ссылается ни на какое
откровение, однако слагает свое сочинение в храме Артемиды
в Эфесе. Они оба обосновывают свою истину не гласом Божи-
им, но убедительной силой мысли. Решающее для них - не
послушание слову Божию, но откровение в самом мышлении.
Тем сильнее в них их, возвышающее их надо всеми людьми,
самосознание. В силу выпавшего им в удел познания, которое,
будучи неслыханно новым в их мире, присутствовало в них с
неколебимой, ни о чем уже не спрашивающей достоверностью,
они избрали установку духовных тиранов. Их устами говорила
сама истина, внушенная им богиней (согласно образу Пар-
менида), вдунутая им всепроницающим мировым разумом
(в представлении Гераклита). Они видели непреодолимую
дистанцию, отделяющую их познание основы вещей от
привычного образа мысли всех других людей. Поэтому они
установили дистанцию между собой и людьми, которая вынудила
их, несмотря на явную в их сочинениях заклинающе-упорную
волю к действию, оборвать коммуникацию со всеми прочими.
Они осуществляли форму жизни одинокого аристократического
мыслителя, новым притязанием на свое духовное
превосходство еще усилили, в аристократическом мире, смысл своего
знатного происхождения. Самодостаточность их собственного
удостоверения в бытии скрывала в себе требование, силой по-
46
Сравнение Гераклита и Парменида
знанной ими одними истины властвовать надо всеми другими
согласно праву и обязанности.
Они взирают на других с безграничной гордостью. Гераклит
называет немало великих имен, но все без исключения - с
самым резким осуждением. Парменид не знает никаких имен,
однако, похоже, с почти беспримерным презрением
разделывается даже с Гераклитом (если прав Bernays) и Анаксиманд-
ром (если прав Райх). Сочинение обоих пронизывает
настроение замкнутости в себе, настроение «против», яростная
полемика. В них есть дух деспотизма. В величии своего
познания они все же неверно истолковали существо самого этого
познания.
Этот соблазн стал одним из моментов их влияния в нашу
эпоху. Вследствие мимикрии досократовских реальностей, в
которую впал Ницше, простое перемысливание помысленного
с изобретающими перетолкованиями превратилось в то
ужасное самосознание, которое - пусть даже на почве душевной
болезни - проявил в себе Ницше (что нимало не затрагивает
его иного и подлинного величия). То, что было уникальным,
заслуживающим исторического уважения способом бытия
безмерного самосознания, приводит при подражании к тому, что
выдвигается претензия на достоверность якобы того же самого
рода, которая, однако, стала теперь фактически невозможной.
Будучи у ницшевского истока единственным в своем роде
подлинным бедствием, в последователях оно становится всего
лишь разрушительным.
6. Резюмирую свое историческое суждение: То, что было до
Гераклита и Парменида, не представляет для нас исторического
интереса, захватывает нас теми установками, которые мы можем
в нем ощутить, но в качестве содержания, насколько мы
обладаем сведениями о нем, все это - лишь прошедшее. Только с
появлением Гераклита и Парменида мы имеем тексты, с которыми
мы еще и сегодня можем непосредственно философствовать.
При всей своей простоте они выражают неисчерпаемые мысли.
Их содержание влечет нас, как неисчерпаемая задача. Здесь
есть положения столь живо присутствующие и столь вечные,
какова бывает только великая философия.
Несмотря на это, оба они, самые ранние из философов,
еще и сегодня оказывающих влияние через свои произведе-
47
Примечания
ния, оказываются сразу же и соблазном. В то время как Анак-
симандр совершил преображающий мышление переворот в
отношении человека к вещам и всеобъемлющим образом
заложил в этом всякую возможность для совершенной
универсальной непредвзятости, только эти двое приступили к
метафизическому мышлению в неслыханной прежде мощи и
исключительности. Таким образом они впали в новую, по-своему
величественную и опасную предвзятость. Ибо, хотя их
спекулятивная мысль и была глубже и яснее, чем все
предшествующие попытки, в том числе и опыт Анаксимандра, - но
предвзятость проявлялась в лишенном всякого понимания
презрении ко всему, что своей духовной значительностью и своими
продуктивными возможностями несло в себе будущее. Его
отвергали только как многознание или мнимое знание, отвергали
напрасно: и делали это для нашего блага. Ибо того, на что
незабвенным жестом указывали Гераклит и Парменид, мы
способны экзистенциально достигнуть в нашем временном
существовании только на пути, ведущем через
осуществление того, что составляет задание человека, - не в гордом
отстранении политики и науки, не в стремлении обойти мир
стороной.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Снелл (Snell), Бруно (1896-1986) - немецкий филолог-классик.
Профессор классической филологии Гамбургского университета. Имеется
в виду подготовленное им издание фрагментов Гераклита Эфесско-
го: Heraklit. Fragmente: griechisch und deutsch. München: E. Heimeran, 1926
(13 переизданий до новейшего времени).
h Райнхард (Reinhardt), Карл Людвиг (1886-1958) - немецкий филолог-
классик. Профессор Франкфуртского университета 1923-1951. Имеется
в виду его работа: Parmenides und die Geschichte der griechischen
Philosophie (1916).
'" Гигон (Gigon), Олоф (1912-1998) - швейцарский филолог-классик;
профессор наук о классической античности Фрибурского университета,
с 1948 года профессор латинистики Бернского университета. Основные
работы: Der Ursprung der griechischen Philosophie von Hesiod bis
Parmenides (1945); Grundprobleme der antiken Philosophie (1959).
'"Рицлер (Riezler), Курт (1882-1955) - немецкий дипломат, политик
и философ. С 1918 года - советник германского посольства в Москве
48
Примечания
(непосредственный очевидец эсеровского покушения на посла Мирбаха).
В 1920-м ушел из политики в виде протеста против Версальского
мирного договора; стал приватным ученым. С 1928 года почетный профессор
философии Франкфуртского университета. В 1938-м эмигрировал в
США; профессор Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк).
По возвращении в Европу после войны поселился в Риме. Ясперс имеет
здесь в виду его работу Parmenides (1934).
v Небель (Nebel), Герхард (1903-1974) - немецкий писатель, эссеист,
филолог-классик и консервативный критик культуры. Изучал
философию и классическую философию в Марбурге, Гейдельберге и Фрайбурге
(в том числе у Ясперса и Хайдеггера). В данном контексте Ясперс
ссылается на его работу Das Sein des Parmenides (1947).
Vl Райх (Reich), Клаус (1906-1996) - немецкий философ. Ученик
Гуссерля, Кона и Эббингауза. С 1947 года профессор в Марбургском
университете. Основные работы посвящены кантовской философии. В
данном контексте подразумевается работа Anaximander und Parmenides,
Marburger Winckelmann-Programm, 1950/51, S.13ff.
VM Ясперс по обыкновению цитирует классиков по памяти и неполно. В
русском переводе это место выглядит так: «один Парменид. Он внушает
мне, как у Гомера, "и почтенье, и ужас". Дело в том, что еще очень юным
я встретился с ним, тогда уже очень старым, и мне открылась во всех
отношениях благородная глубина этого мужа. Поэтому я боюсь, что и
слов-то его мы не поймем, а уж тем более подразумеваемого в них
смысла» (Платон. Теэтет (183е-184а) // Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2.
М.: Мысль, 1993. С. 241).
49
плотин
Источники: Эннеады. «Жизнь Плотина» Порфирия. -
Переводы: Мюллер1. Хардер". Брейе"1.
Литература: Рихтер. Кирхнер. Доддс'\ Кристеллер\ Оп-
перманн*1. Небель™. Xy6epvm. - Возможный портрет Плотина и
рассказ о его эпохе: Роденвальдт1Х. Альфёльдих.
I. Жизнь и сочинения
Плотин (ок. 203-270 гг.) жил в пору распада античной
цивилизации, как раз тогда, когда она еще раз узнала последний
блеск античной красоты, в переходе к миру поздней
античности, утвердившемуся вскоре с Диоклетианом и Константином.
Мы не знаем в точности, где родился Плотин, из какой
страны, какого народа, какой социологической группы он
происходил. Он сам никогда не рассказывал о своем
происхождении, о своих родителях или о своей родине. Сто лет спустя
сообщали, что он родился в египетском городе Ликоне. Имя
«Плотин» - римское, сам он говорил и писал по-гречески,
«нередко допуская погрешности в произношении».
В возрасте 28 лет он приехал в Александрию, чтобы
заниматься философией, и не нашел удовлетворения, пока не
услышал Аммония Саккаса. «Вот его я и искал», - сказал он
после первой лекции и оставался у него 11 лет. В 39 лет он
участвовал в военном походе императора Гордиана на Восток,
чтобы познакомиться с мудростью индийцев. В 40 лет - когда
императором был Филипп Араб - он приехал в Рим. Здесь он
устраивал встречи, на которых читали и обсуждали
философские тексты, нашел учеников и приверженцев. «Когда он
говорил, свет его духа проступал на лице, на лбу появлялся
небольшой пот. Чаще всего он говорил с воодушевлением...
От пышности софистов он был весьма далек, его речь была
похожа на дружескую беседу».
Плотин, «казалось, стыдился того, что его душа обитает
в теле». Когда Амелий хотел распорядиться, чтобы нарисовали
его портрет, он отказался, сказав: «Разве не довольно того, что
я ношу на себе эту тень, которой окружила нас природа? А ты
50
/. Жизнь и сочинения
еще считаешь стоящим труда оставить последующим
временам, как некую примечательность, тень этой тени!»
26 лет он прожил в Риме, у него были богатые друзья,
поместья которых он мог свободно посещать, завязал знакомство
с императором Галлиеном и его супругой Салониной. При их
помощи обсуждался проект постройки в Кампании города
философов - Платонополя - под руководством Плотина. Этот
план расстроился. Знатные мужчины и женщины, когда
приближался час их смерти, приводили к нему своих детей, чтобы
он воспитывал их и распоряжался их имуществом. «Поэтому
дом его был полон мальчиков и девушек». При конфликтах его
приглашали быть третейским судьей, но у него никогда не было
ни одного врага.
В 268 году положение Плотина коренным образом
изменилось. Убийство императора Галлиена повлекло за собою
распад его школы. Некоторые из его значительных учеников
покинули Рим. Но прежде всего: Плотин, уже давно
страдавший смертельной болезнью - проказой, теперь тяжело
заболел. Он ослеп и потерял голос, руки и ноги покрылись язвами.
Еще остававшиеся в Риме ученики избегали встречи с ним, ибо
у него «была привычка приветствовать их всех вблизи прямо
изо рта». Фактически он был изолирован в одном поместье его
друга Дзета в Кампании. Ему привозили продукты. Посещал его
только один врач. Гигиене тела он почти не придавал значения.
Он умер через два года после смерти Галлиена, в возрасте
66 лет.
Уже в биографии, составленной Порфирием, о Плотине
рассказывают таинственные вещи в стиле легенд о святых:
Плотин обладал особенным познанием душ. Он узнавал, кто из
многих людей является вором. Он предсказывал мальчикам,
кем они станут в будущем. Некто Олимпий пытался с помощью
магических формул навлечь на Плотина дурное влияние
созвездий. Плотин заметил это, и дурные последствия
обратились на самого Олимпия. Один египетский жрец хотел
материализовать в храме Исиды демонион Плотина. «Когда же был
вызван этот демонион, то явился бог. "Счастлив ты, - сказал
египтянин, - что твой демонион - бог, а не дух-хранитель
низшего рода"». Когда Плотин лежал на смертном одре и к нему
пришел один друг, Плотин сказал ему: он хочет попытаться
возвести свое «божественное начало в нас» к божественному
началу в мироздании, под кроватью проползла змея и исчезла
в дырке в стене, и тогда Плотин скончался (змея - это одно из
тех животных, которые, подобно птице души, изображают ду-
51
Плотин
шу, улетающую из комнаты умирающего). Однако собственные
сочинения Плотина, вопреки этим легендам, свидетельствуют,
с каким безразличием он игнорировал всяческие магические
чары. И все же уже вскоре после его смерти его философия
была вовлечена в некий магический и теургический образ
мысли, и его земное существование было облечено в
соответствующего рода легенды.
Сочинения: Говорят, что Плотин, вместе с двумя другими
людьми, дал самому себе обещание сохранить учение
Аммония Саккаса в тайне. Другие люди нарушили свой обет
молчания. Лишь много позже, в возрасте 49 лет, по настоятельным
просьбам учеников, Плотин начал делать записи учения. Пор-
фирий, после смерти Плотина, собрал эти записки. Он
распределил их на шесть групп, по девять сочинений в каждой группе,
так что получилось шесть групп по девять («Эннеады»). Эти
сочинения относятся к периоду времени в 17 лет.
Хронологическая последовательность больших групп сочинений, по
сообщениям Порфирия, достоверно известна.
Некоторые из этих сочинений - ученые руководства,
другие - краткие увлекательные доклады; некоторые из них по
своей структуре производят впечатление тщательно
оформленных, другие же остаются длинными трактатами, в которых
критическая мысль обращается то туда, то сюда; некоторые
пластически-осязаемо передают умственные видения, другие
задают одни вопросы за другими, излагают возможности и в
итоге оставляют почти все нерешенным. Даже и этот
«исследующий» стиль все еще выражает медитативную практику
духа, живое присутствие мыслящей души в царстве
существенного. Ни одно из этих сочинений не лишено основного
метафизического настроя Плотина. Нередко слог автора обретает тон
посвященного в тайны. Обращаясь к логической способности
спекулятивного познавания, Плотин заклинает душу вспомнить
о ее вечной родине. Он ссылается на переживания души, на
созерцание прекрасного, на свободу действий, на движение
диалектического мышления, наконец, на несообщимое другому
экстатическое соединение с Единым, Его истина заключена не
в абстракциях некой схемы, но в силе каждого конкретного
рассмотрения. Он пишет так, как говорит (Брейе), и, вероятно,
говорил так, как он пишет. Отсюда - невероятная сила
воздействия этих текстов.
52
//. Описание плотиновской «системы»
Порфирий сообщает: Если Плотин «совершил некое
рассуждение в самом себе от начала до конца и переходил затем
к тому, чтобы записать им продуманное, то записывал свои
мысли так быстро, словно он выписывал их из книги. Если он
написал что-нибудь, то не мог перечитать этого еще раз, -
слабость его глаз не позволяла ему этого сделать. Он не
рисовал красивых букв, не разделял как следует слогов, не
обращал внимания на орфографию, но был занят только смыслом
сказанного». Такое возникновение текстов означает неперехо-
димую границу для их филологического воспроизведения.
Форма сообщения мысли Плотина соответствует
содержанию его философствования. Он никогда не написал «систему
философии». Нередко в многообразной полноте отдельных
рассуждений он дает целое в отдельных контекстах.
IL Описание плотиновской «системы»
Целесообразно в начале изложения представить в виде
схемы структуру целого. Эта схема повторяется почти во всех
сочинениях Плотина, не будучи, однако, существенным
моментом. Знание этой схемы облегчает понимание собственно
философских актов Плотина. Расскажу так:
а) Единое и материя: Мир - это сущее. Он не имеет
основания в самом себе, но представляет собою промежуточное
бытие, простирающееся между сверхсущим и несущим.
Сверхсущее есть немыслимое, а потому и несказанное. Его
называют Единым, но называют для того, чтобы сразу же затем
сказать, что оно не есть ни единица как число, ни единое в
противоположность иному, ни единство некоторого множества, но то
единое, которое также и в качестве единого недоступно для мыс-
лимости, поскольку мышление единого сразу же воспроизводит
двойственность (Zweiheit) и множественность (Vielheit).
Несущее - это материя. Точно так же, как и сверхсущее,
она не может быть мыслима. Поэтому к ней, как и к
сверхсущему, относятся те же отрицательные высказывания: она
неопределенна, лишена формы, не имеет качества и количества.
Она лишена какой-либо формы, не находится ни в какой
категории. Однако, в противоположность Единому, небытие
материи называется безмерным, неограниченным, ни в чем не по-
53
Плотин
стоянным, всестрадательным, всегда нуждающимся. Оно
совершенно нище. Материя - глубина (bathos) всякого
отдельного существования, и глубина эта совершенно темна.
Сущее - из сверхбытия и благодаря небытию. Оно - из того
Единого, из которого возникает поток сущего, изливающийся и
порождающий формы существования постепенно
понижающихся ступеней, вплоть до несущего. И все сущее есть
благодаря тому, что есть это несущее. Чтобы бытие было сущим,
в бытии должно быть небытие. Материя, хотя она не есть, не есть
ничто. Однако, как бытие небытия, она есть ложь. Эта ложь
присутствует во всем сущем.
b) Иерархия (Stufenreihe) сущего: В иерархии сущего,
лежащей между сверхбытием Единого и небытием материи,
посредине находится душа. Она обращена вверх к единому через
посредствующее звено ума (Nous) (дух, интеллигибельный мир
чистых форм), вниз же - к материи, через посредствующее
звено природы (мир телесности). Так получается пять
нисходящих начал: Единое, дух, душа, природа, материя. Сущее
охватывает три средние ступени, дух, душа, природа.
Взирая вверх в разумном познавании, душа видит
вневременный, покоящийся в себе мир форм, образующий в своей
множественности некую завершенную тотальность (космос
духа). Эти формы называются идеями. Они - прообразы всего
сущего, как таковые они суть истинное сущее, тогда как все
последующее, как отображение этого сущего, имеет только бытие
явления.
Взирая вниз, душа становится силой, которая в качестве
мировой души дает жизнь природе в ее целом, но в единичных
душах творит для каждой множественности существования его
собственное живое единство. Души вступают в природу,
которая пространственна и овременена. Тем самым они сами
становятся отчасти пространственными и временными. Но своим
подлинным бытием они остаются наверху, вневременными,
бессмертными. В распространении природного существования
душа одевается в оболочки, и наконец, становится сокрытой от
самой себя там, где она падает всего ниже, однако остается
в своей глубочайшей сущности неразрушимой.
c) Категории: Если мы представляем себе формы
предметного бытия, то у нас остается только две ступени: категории
интеллигибельного и чувственного мира (духа и природы).
Душа, как среднее звено, не имеет каких-либо собственных
категорий. Она есть и познает, только взирая на два других мира,
находящихся над нею и под нею. Она познает царство духа
54
//. Описание плотиновской «системы»
с помощью интеллигибельных категорий: бытие, тождество и
инаковость, движение и покой (заимствовано из «Софиста»
Платона); она познает царство природы в чувственных
категориях: пространство, время, количество, качество и т.д.
(категориях Аристотеля). Но единое и материя не позволяют
завладеть собою никаким категориям, ибо они лежат по ту сторону
всего мыслимого.
Если сущее мыслится в виде ступеней, то легко, следуя
методу посредствующих звеньев, устанавливать все новые и
новые ступени. Так и произошло в последующей
неоплатонической мысли, в которой «география» сфер, царств и сил стала
необозримо обширной. Плотин же прямо указывает, что
существуют только три ипостаси: Единое, дух и душа. Природу он
при подобном рассмотрении подлинного бытия более уже не
принимает во внимание. Он не проявляет также интереса к
тому, чтобы изучать природные явления в их особенной
реальности. Материя же есть у него лишь последняя граница
порождений Единого.
Это означает: У Плотина не существует двух основных сил,
как в дуалистических учениях. Свет и тьма, дух и материя,
добро и зло - не два борющихся друг с другом самостоятельных
истока. Скорее, если Плотин мыслит одно и другое, то материя
является противоположностью Логосу духа, а не Единому
сверхбытия. У Плотина есть только Единое и вечный процесс
истечения в порождения сущего и возвращения к Единому.
d) Дух, душа, природа: Это - три средние области, области
сущего:
Дух (nus), второй момент в целокупности бытия, есть
истинно сущее. Будучи вневременен, он есть жизнь чистых форм
(прообразов или идей). Он есть мышление, поэтому в духе
противостоят друг другу мышление и мыслимое, но здесь они
противостоят так, что мышление и мыслимое (мышление и
бытие) тождественны. Дух мыслит идею не как нечто чуждое, но
как себя самого. В раздвоении он есть самосознание.
Поскольку, однако, это мышление себя самого осуществляется в
раздвоении на мышление и мыслимое, в духе есть Единое и иное:
дух есть единство во множественности.
Дух восхваляется у Плотина как прекрасный и как
прекраснейшее из всего. Он обитает в чистом свете. Он объемлет все
сущее, оттенком которого является также прекрасный мир
природы. Он обитает в своей сверкающей славе, потому что в нем
нет ничего недуховного, темного или безмерного. Он живет
блаженной жизнью.
55
Плотин
Душа есть отображение и порождение ума (Nous).
Взирая на ум, душа, в свою очередь, порождает природу, космос.
Она - творец мира, оживляющее начало во временном мире,
однако сама она нематериальна и неделима.
В качестве мировой души она есть вечность во властном
покое. Она становится единичной душой в божествах небесных
тел, демонах, людях, животных и растениях. В качестве
мировой души и у божеств небесных тел душа как целое
бессмертна. Ибо в круговращающихся движениях она сочетает начало
и конец во вневременное настоящее. В других единичных
душах есть бессмертная и смертная части. Они вступили в нечто
конечное, а тем самым оказались во временном
существовании, которое всегда возникает и исчезает. Находясь в
оболочках этой временности, они смертны вместе с самими этими
оболочками.
В душе присутствует все: в ее восприятии - природа, в ее
мышлении - ум, в диалектическом трансцендировании всякого
мышления и в экстазе - Елиное. Материя же присутствует
в невидении и немышлении, подобно тому как мы взираем во
тьму ночи и, видя, не видим.
Природа есть чувственный, простирающийся в
пространстве и времени мир, телесное, зримое, слышимое, осязаемое.
Она не есть, скажем, материя, которая сама нетелесна, невос-
принимаема, немыслима. Вещества и все тела суть уже
оформленная и, через посредство формы, вовлеченная в область
сущего материя.
Как природа возникает мимоходом вместе с созерцанием
души, так сама природа есть, в свою очередь, бессознательное
отныне созерцание, в котором является многообразие ее
живых обликов, проникнутых Логосом души. Хотя природа не
имеет в самой себе представлений и понятий, однако она
имеет в себе некое созерцание. Она, подобно художнику, творит
согласно идеям, однако без осознанного образа. Ставшее есть
результат ее погруженного в молчание созерцания. Жадная до
созерцаний природа творит, подобно тому как геометр чертит
фигуры, однако сама она не чертит, но очертания тел сами
собой проступают в существование. Ее понимающее
сознание относится к собственно сознанию так же, как сознание
спящих относится к сознанию бодрствующих. Природа - это
спящая душа. Эта душа произвела на свет, вдохнув в них
жизнь, все существа, которые питает земля и море, все
существа, находящиеся в воздухе, и божественные созвездия на
небе, и Солнце.
//. Описание плотиновскои «системы»
Единичные вещи возникают и исчезают, по мере того как
душа наделяет их жизнью или покидает их. Но мир в целом не
перестает существовать, потому что дух и души светят вечно.
е) Нисхождение и подъем: Теперь вопрос состоит в том,
почему есть нисхождение из Единого? Почему существуют дух,
душа, природа, материя? Ответы Плотина на этот вопрос, при
всем богатстве формулировок, дают не решение, а только
наглядное созерцание самой загадки.
Единое недвижимо довлеет само себе. Если после него
должно существовать нечто второе, то оно должно появиться
так, чтобы Единое при этом не желало этого возникновения,
и не склонялось к закату, и вообще не пошевелилось. То, что
после него, - нежеланное следствие. Заблуждаются те, кто
говорит, что «творец однажды принял решение создать его».
«Отображение существует до тех пор, пока существует
прообраз». Мир у Плотина не производит из материи, взирая на
идеи, платоновский демиург, его также не творит из ничего Бог
Библии, и он не наличествует в результате развития из
потенциального в вечном присутствии настоящего, как у Аристотеля.
То, вследствие чего он возникает у Плотина, позже назвали
эманацией. У него самого нет для этого никакого понятия, он
только описывает эту загадку во множестве образов:
После Единого иное есть словно пробивающееся из него со
все сторон сияние, как свет, окружающий Солнце, или подобно
тому, как огонь излучает тепло, или как лед окружен холодом,
или запах - благоухающее вещество. Чем дальше от Единого,
тем слабее будет излучение, пока не потеряется во мраке,
в пустоте,в ничто.
Другие образы наглядно представляют нам мироздание
истекающим, как бы из одного источника, изливающегося в реки,
но от этого не иссякающего. Или же оно подобно жизни
огромного дерева, пронизывающей все это дерево, так что начало
ее остается прочно утвержденным в корне и не рассеивается.
Или же Единое уподобляется центру, вокруг которого движется
круговая линия.
Другая группа образов - это метафора зачатия, созерцания
и любви: зачатие - это не творение из ничего и не создание из
некоторого материала, но таинственный процесс
воспроизведения жизни, в котором возникающее впоследствии становится
столь же самостоятельным, каково было то, из чего оно
возникло. В отношении между отцом и сыном сын не есть некое
зависимое произведение искусства, не что-то изготовленное,
но он самостоятелен, есть отдельная самость, и все же он про-
57
Плотин
изошел, а не возник сам собою. Плотин называет Единое
отцом, ум - сыном, а мировую душу - внуком. - Но зачатие
совершается в созерцании. Все сущее - сопутствующий
(mitfolgendes) результат созерцания. Так Единое порождает ум.
Останавливаясь в своем движении, чтобы увидеть, оно
становится умом и сущим. Или иначе: ставшее в истечении через
край обратилось к Единому и сделалось наполненным и так
стало умом. Всякий раз, когда созерцание взирает на более
раннюю ступень как на прообраз, оно зачинает в созерцании
последующее, как отображение, которое, в свою очередь,
взирает и, как зачатое созерцанием созерцание, продолжает этот
хоровод. Нисхождение и возвращение совершаются
одновременно: в обращенном вверх созерцании - возвращение, в
зачатии - нисхождение. - Созерцание есть любовь. Любящие -
это тоже созерцающие, стремящиеся к идеям. Так и у
животных, когда они зачинают потомство, движущим началом служат
неосознанные понятия в них. Зачатие, деятельность
созерцания, есть влечение к порождению многих форм, к наполнению
мироздания. Однако все порожденное с тоской устремляется
к породившему и любит его.
Поскольку Единое совершенно, ничего не ищет и ни в чем
не нуждается, то оно словно бы перелилось через край. Его
преизбыток произвел мир. Но исхождение из Единого не
означает какого-либо убытка (как Солнце, несмотря на исходящие
лучи, остается неизменно тем же). И последующие ступени, по
отношению к предшествующим, не испытывают в самих себе
никакого умаления.
Однако для последовательности ступеней повсюду
действует правило: Порождающее проще, чем порожденное, все
порожденное хуже, чем порождающее. То, что является
началом, не нуждается в том, что следует за ним, но последующее
нуждается в своем начале. Ничто не бывает отрезано от
находящегося прежде него, от более высокого. - Почему,
спрашиваем мы, порожденное всегда бывает хуже порождающего?
Контрдовод был бы таков: последующее могло бы расти из
истока, умножаться, улучшаться, порождение идет ввысь, а не
по нисходящей. Этого вопроса Плотин не ставит. Но все его
аллегории дают ответ на него. Излучающий свет меньше
своего истока.
Каждый переход со ступени на ступень имеет особенный
характер. Если Единое в вечной тишине остается у себя
самого, однако нечто происходит словно вокруг Единого, то как же
это совершается?
58
//. Описание плотиновской «системы»
Единое не есть дух. «Как же оно может породить дух? Вот,
в направленности на себя самое оно увидело себя самого, и
это видение (Erblicken) есть дух». Дух нужно выводить не из
Единого, но из самого духа. Дух, мысля, начинается как одно,
однако не остается таким, каков он начался, но неприметно,
словно бы спросонок, становится множественностью. Он
раскрывает свою самость, поскольку желает обладать всем».
Следующий шаг ведет от ума к мировой душе и к природе.
Мировая душа, взирая на прообразы в идеях ума,
порождает мир, ничего не планируя и не делая, бесшумно и без труда.
От нее ничто не ускользает. Во всякое время она вновь
обретает господство над противящимися друг другу вещами.
Ибо она остается всем.
Этот процесс Плотин мыслит как необходимый процесс. Что
это за необходимость? Ответ Плотина гласит: невозможно,
чтобы мироздание спокойно оставалось в области
интеллигибельного, пока в иерархии вещей могло возникнуть еще нечто
иное. Во всякой природе заложена способность производить
стоящее ниже ее. Только за самым бессильным - материей -
не следует никакая ступень сущего. Как все существа, когда
достигают зрелости и наполнения, зачинают и не
довольствуются тем, чтобы пребывать в себе самих, но порождают нечто
иное, так же и Единое. Ибо как же ему, «самому совершенному,
первому благу, оставаться у себя самого, словно бы скупясь на
самого себя или по слабости»?
Если бытие у Плотина возникает как нежеланный побочный
результат сверхбытия в силу необходимости, то в этом
понятии, как и во всяком понятии и всяком образе, он имеет в виду
некое отношение к тому, что при помощи понятия и образа
недостижимо. Здесь отнюдь не мыслится какая-либо
необходимость, которая бы стояла над Единым и первым. Ибо в таком
случае эта необходимость сама стала бы изначальным и тем,
что властвует над сверхбытием Единого. -
Нисхождению соответствует восхождение. Это
восхождение присутствовало уже в каждом зачинающем акте, как взи-
рание на более высокую ступень, в любви порожденного к
породившему.
Подразумевается ли здесь восхождение в том смысле, что
все низшие ступени было бы лучше всего вновь упразднить?
Совершилось ли здесь некое падение, которое следует снова
обратить вспять, и некое зло, которое следует вновь
исправить, так, чтобы в конце было бы одно лишь Единое в
бесконечном блаженстве и самодостаточности? Отнюдь нет. Если
59
Плотин
бы бытие сверхбытия было единственной и всей реальностью,
то ведь все оставалось бы без форм и обликов сокрытым в
нем, и ничто из сущего не существовало бы.
Таким образом, мир как переход находится одновременно
в свете и во тьме. Мир прекрасен, величествен, божествен,
потому что он происходит от Единого. Он есть тень, отблеск,
полон недостатков и несовершенен, потому что повсюду он
искажен беспорядочной материей, неистиной бытия небытия.
Поскольку бытие причастно оформленности, в нем есть красота,
истина, доброта; поскольку материя есть остаток
неоформленности во всяком, даже самом лучшем сущем, она является
основой безобразия, неистины, дурного (des Übels).
Поэтому у Плотина, возможно, и истинно как то, так и
другое: и охваченность бытием мира как откровением Единого в
отблеске на всех ступенях бытия (Единое должно было
излиться через край из своей полноты) и страстное желание
освободиться от мира, возвратиться из бытия как тени, искаженного
вызванными материей небытия нарушениями, к подлинному
бытию, а через него - к Единому, не быть уже оболочкой и
кажимостью, но стать полнотой и бытием (так что Плотин может сказать
также, что было бы лучше, если бы дух не раскрыл своей
самости; ибо вследствие этого после Единого явилось второе, а тем
самым, далее, и весь ряд ступеней и круговорот мира).
Если мышление Плотина излагают как мыслимую
«систему», подобно тому как я только что сделал, оно производит
впечатление некоего рассказа в понятиях и образах. Но перед
лицом логических взаимосвязей и зримо-наглядных метафор
возникает вопрос: откуда он все это знает? Ведь это не бывает
показано из своего основания, будь оно эмпирическим, или будь
оно логическим. Не сказки ли это, не дающие никакого познания?
Эта система выдумана. Ее можно выдумать по-другому.
На это возражение следует, прежде всего, сказать: Когда
имеем дело с Плотиным, рассказывающее изложение системы
есть искажение. Этого гладкого образа в целом мы у него в
таком виде не находим. Все черты его, правда, налицо, но
каждая - в иных взаимосвязях и вариациях. Как же
осуществляется в этих чертах подлинное философское постижение, об
этом Плотин говорит так:
Нам следует задержаться там, где мы получаем опыт
живого присутствия того Единого, которое не есть ничто из того,
что после него, удивиться, и отдохнуть, и смотреть. Нам сле-
60
//. Описание плотиновской «системы»
дует замечать его в тех вещах, которые суть после него, как
его отблеск.
Нам следует молиться. Ответ на вопрос, как возникает
сущее из Единого, и почему Единое не пребывает в самом себе,
Плотин начинает так: «Об этом нужно говорить таким образом,
что мы призываем самого Бога, когда простираемся душой к
молитве, если мы одни выходим навстречу ему одному».
Можно было бы истолковать так: Плотин призывает Бога в
молитве, чтобы он даровал ему познание. Однако об этом здесь не
идет речи. Он не хочет просить молитвой о чем-то другом, но
желает посредством молитвы, в ней самой, наедине с Единым,
обрести тот опыт присутствия, из которого мы только лишь
и можем осмысленно говорить о том, о чем здесь был задан
вопрос. Первый шаг на этом пути познания - это не
предпосылка в положении, из которого мы делаем логические
выводы, но некое созерцание, остающееся истоком и целью наших
мыслей. Здесь не ставят перед своим внутренним взором
некий объект для исследования его. Скорее, здесь
подразумевается некая превосходящая субъект и объект наполненность
в объективностях как явлениях.
Нам следует избрать свой путь через представления,
которые мы всякий раз превосходим, и нам следует достигнуть
через вещи мира того, что уже не есть предмет. «Тогда призывай
Бога, чтобы он пришел. А он пусть придет и принесет с собою
свой богатый мир». Мы говорим о Едином, но мы его не
высказываем. Мы имеем его не через посредство познания, однако
неверно, чтобы мы вообще его не имели.
Нам следует исходить из опыта нашей собственной
действительности. «Даже если мы называем Единое причиной,
то мы не высказываем нечто о нем, а говорим только о том,
что присуще нам, потому что мы имеем нечто от него, тогда
как оно пребывает в самом себе. И кружа около него как бы
извне, мы можем желать толковать лишь наши собственные
аффекты, будучи то близко к нему, то отпадая дальше от
него». Даже и о первом, Едином, справедливо сказать: «Нам
нужно, насколько возможно, обозначать его с помощью чего-то
подобного в нас. Ибо и в нас тоже есть нечто от него, или,
вернее, нет ни одной точки, в которой бы не было его для тех,
кому даровано быть ему причастными». Как бы ни обозначали
61
Плотин
мы в мысли сущность Единого: «этими обозначениями мы
вовсе ничего не высказываем о ней, а только пытаемся сделать
ее по возможности постижимой для нас самих». Мы говорим
о действиях Единого, как вдохновенные богом, которые
«знают, что носят в себе нечто высшее, не зная при этом, что оно
такое».
Этот исходящий от Плотина опыт не становится
постижимым для нас, скажем, как некий психический феномен, но он
сам впервые проясняется только в объективирующих мыслях,
не достигающих того, чем они внутренне воспламенены,
однако очерчивают его периферию так, что обретают смысл
единственно лишь от него. Речь идет здесь не о психологическом
познании переживаний или душевных состояний, но о
просветлении меня, мыслящего, в самом бытии.
Подобно тому как Плотин познает не само Единое, а только
аффекты своей самости в Едином, так Лютер отвергает theolo-
gia gloria (предметное Богопознание) в пользу theologia crucis
(откровения Божия, указывающего нам путь к Нему), так Кант
постигает ничтожность всякого метафизического познания,
чтобы углублять сознание интеллигибельного в свободной
деятельности. Это - аналогия между сущностно различными в
остальных отношениях позициями.
Если нам удалось представить себе исходный пункт
Плотина, то для нас проясняются методы его философских актов,
соответственно которым в дальнейшем изложении мы
попытаемся постигнуть содержание его мысли:
1. Плотин совершает мыслительные операции,
превосходящие все определенное и предметное и всякую форму
постижимого: от множественности сущего к Единому бытию, от
многих богов - к Богу, от духа к тому, что является истоком духа, от
познаваемого к непознаваемому, от бытия - к сверхбытию. Чем
бы ни было сущее и что бы ни было мыслимо, все он
превосходит, переходя к тому, что над ним и прежде его (к epekeina
panton).
2. Это превосхождение совершается через некую
последовательность ступеней познания. В превосхождении
достигается осознание того, к чему устремляется превосхождение.
Завершающий опыт, остающийся несказанным, становится
ориентиром, в движении к которому осуществляются иерархии
62
//. Описание плотиновской «системы»
сущностей. Он называется единением с Единым (Einung mit
dem Einen). К нему ведет, по ступеням, всякое познавание.
3. Трансцендирование в целом подразделяется на
спекулятивные операции, руководствуясь путеводной нитью многих
определенных операций, в опоре на которые всегда
осуществляется, с вариациями, принципиально одно и то же. От жизни
взор обращается к подлинной жизни, от форм - к вечным
формам, от движений - к первому движению, от многих прекрасных
предметов - к красоте самой по себе. Следуя путеводной нити
доступного, путь ведет к тому, что было поначалу недоступно.
При этом трансцендирование в категориях пронизано
иносказаниями, чтобы в отображении обратить мысль к прообразу.
«Такого же рода, какова бывает тень блага, надлежит мыслить
прообраз». Если мы направимся мыслью на космос духа, то мы
найдем, что его отовсюду окружает игра этих теней. А если мы
достигли его, то: «Кто созерцает космос духа, должен задать
вопрос о творце, породившем такого превосходного сына».
4. Во всех методах действует одно-единственное
побуждение: порыв души к своему истоку. Достигнув его, она
переживает блаженство. Она находит его в созерцании, в любви; - в
припоминании о своем происхождении; - в очищении. Она
стоит перед возможностями восхождения или дальнейшего
отпадения. Философское мышление ставит ее перед
альтернативой. Оно не только освобождает для нее путь восхождения.
Оно указывает его, оно наполняет ее блаженством любящего
созерцания в познавании.
Орудием (но также и символом) целокупности этого образа
мысли является тот систематический образ мироздания,
который мы воспроизвели вначале в виде схемы. Он сам, в
принципе, всегда один и тот же, но изменчив в изображении и
проявлении. Он задает рамку, с которой берут начало
многообразные ходы мысли, питаемые традиционными способами
спекулятивного мышления.
Критерия истины в таком философствовании мы отнюдь не
находим в одной лишь сугубо рациональной очевидности
мысли. Где бы мы ни находились, мы живем в томлении по
высшему, воззрении на него и любви к нему. Поскольку некое
абсолютное сознание достоверно знает себя, поскольку речь
идет о просветлении в понимании себя, а не об объяснении из
чего-то иного, усвоение истины подобного мышления не может
совершиться одним лишь логически-предметным способом, но
63
Плотин
оно возможно в среде логической предметности только силой
собственной экзистенции и только лишь там, где мы чувствуем
согласие или разлад с исполнениями нашего собственного
возможного экзистирования. Понимание всегда есть
одновременно самопонимание, будь то через созвучность, будь то в
противоположении. Сугубо предметное рассмотрение без проверки
истины, рассказ как история и как часть доктрины остается вовне,
не знает касания и не дает даже начатков понимания.
III. Трансцендирование в целом
Плотин осуществляет вместе с Платоном два шага транс-
цендирования. Первый шаг превосходит
чувственно-воспринимаемое и постигает то, что лишь мыслимо, но не зримо.
Видимый треугольник никогда не бывает в точности равен
мыслимому. Математическая истина относится к предметам
некоторого идеального мира. Однако этот идеальный мир объемлет
больше, чем только математические формы, а именно - все
мыслимое и существующее в качестве помысленного (als
Gedachtsein Existierendes). Этот идеальный мир мыслимого, то,
что необходимо должно быть мыслимо, есть бесконечный мир
прообразов, нескончаемое множество отображений которых
показывает нам чувственный мир.
Оба мира - чувственный и духовный - имманентны,
поскольку мы остаемся в них в области воспринимаемого или
мыслимого. Только первый трансцендирующий шаг к миру
духа, к интеллигибельному, а это значит - лишь мыслимому,
создает исходный пункт для второго шага: для трансцендиро-
вания по ту сторону как видимого, так и мыслимого. В мире
мыслимого Плотин еще не находит себе покоя, но ищет
основы для самого этого мира. Он спрашивает: откуда? Но этот
вопрос уже не получает ответа в допускающей наполнение
мысли. Все мыслимое опять-таки принадлежит к миру духа,
который необходимо трансцендировать. Это - некий шаг
мышления, которое в то же время не есть уже мышление, но в
качестве мышления терпит крах в мысли: мыслимо, что
существует нечто немыслимое. Мышление пробивается к границе,
которой оно не может перейти, но которая призывает его
перейти ее именно тем, что оно ее мыслит.
64
111. Трансцендирование в целом
Куда попадает Плотин? Он попадает к немыслимому. «Оно
называется первым, ибо оно - простейшее, и самодовлеющим,
ибо оно не состоит из многих частей... Оно существует не в
чем-то ином... Если же оно не исходит из чего-то иного и не
находится в чем-то ином, и не есть что-либо составное, то
выше его необходимым образом ничего быть не может». Оно
называется Единым. Оно называется благом. Душа страстно
стремится к нему: «И до тех пор, пока еще существует нечто
высшее, чем данное, душа поднимается ввысь, однако выше
блага она стремиться не может».
Хотя то, к чему совершается превосхождение, и называют
так: первое, Единое, благо, - но оно не есть то, что обозначают
подобные слова. Поэтому Плотин требует: «Поступай так: если
ты говоришь "благо", то ничего другого к нему не примысливай;
ибо, если ты что-то прибавишь, то умалишь его настолько же,
сколько ты прибавил». Это значит: именование не делает его
мыслимым. Скорее, оно есть то, «о чем ложно уже само
утверждение, что оно есть одно». Посредством отрицательных
суждений нужно отстранить от немыслимого всякую
возможную мыслимость. Поэтому о нем говорится, что оно ни в чем не
нуждается, самое независимое, существует для себя самого,
ни с чем не смешано, чуждо всякой случайности и всего
составного. Отрицательные суждения высказывают, чем оно не
является. Оно - не бытие, не сущее, не мышление, не
самосознание, не жизнь, не движение. Что бы мы ни мыслили,
следует сказать, что оно не есть это.
Постоянно повторяемое требование гласит: если ты хочешь
высказать Единое или осознать его, то устрани все прочие
вещи. А если ты устранишь все, то ищи не того, что бы еще ты
мог приписать ему, но ищи, нет ли того, чего ты еще не
устранил от него в своем мышлении. Даже бытие высказывается о
нем только «в силу принуждения слов». Строго говоря, его
нельзя также называть ни «тем», ни «этим». Оно не отлично
от иного, а в нем самом не заключается никаких различений.
Но если мы слышим, что оно не мыслит, что оно не есть дух,
ибо, поскольку оно ни в чем не нуждается и не соотнесено ни
с чем иным, оно не нуждается в том, чтобы мыслить, и не
мыслит также самого себя, а значит, не имеет и самосознания, ибо
в нем нет никакого раздвоения и множественности, то ведь,
65
Плотин
очевидно, самое важное при этом - касаться мыслью
немыслимого таким образом в мышлении не как ничто, но как все-
превозмогающей полноты.
Ибо все отрицательное озадачивает нас. «Не должны ли
мы, - спрашивает Плотин, - впасть в недоверие и
предположить, что оно есть ничто?» - и отвечает: «Конечно, оно -
ничто из того, первопричиной чего оно является». О нем только
потому нельзя высказать ничего, ни бытия, ни мышления, ни
жизни, что оно - выше всего этого. Оно не потому не есть то,
что оно не есть, что оно меньше его, но потому что оно больше
всего того, что оно не есть. Поэтому Плотин обращает «не» в
нечто положительное. Поскольку Единое есть большее, оно
включает в себя то, что оно не есть, а не исключает его. «Тем
не менее оно не является как бы лишенным сознания, но все
его содержания находятся в нем... в нем есть жизнь... оно
само есть мышление самого себя, в известной мере - в силу
некоего самосознания, оно обозначает некое мышление в
непрестанной неподвижности - иначе, чем бывает при мышлении
духа». То, что его небытие означает всепревозмогающее
богатство, Плотин выражает также так: «Вовсе не необходимо,
чтобы тот, кто дает нечто, также и имел это (в том смысле, что
он сам есть это)... дающее есть высшее, данное же -
меньшее... Если же дух есть жизнь, то дающий, правда, дал жизнь,
но сам он прекраснее и многоценнее жизни... жизнь духа - это
отблеск того, а жизнь не есть сама то».
То, что не может быть мыслимо, не может быть и высказано
в слове. Поэтому, если об этом немыслимо-Едином идет речь,
эта речь есть непрестанное называние и опровержение. Если
его называют совершенно отличным, то оно мыслится уже в
самой отличности, оно не есть трансценденция, потому что
через помысленность оно вновь вбирается в имманентность.
И потому такие обороты речи, как: оно пребывает вне всех
категорий, оно «по ту сторону всего», есть совершенно иное,
есть «более чем», «сверх», восполнение всего, - все вместе
взятые нужно вновь отменить. В трансцендировании имеет
смысл высказывать все эти обороты, но только для того, чтобы
дать им всем потерпеть крах.
Один из способов отмены их значимости - это положение
Плотина: То, что говорится о Едином, справедливо не о нем
66
///. Трансцендирование в целом
самом, но в отношении к нам, не само по себе, но исходя из
нас. «Оно не есть благо для самого себя, но благо для других
вещей». Если мы «называем его причиной, то тем самым мы
высказываем не что-то совершающееся с ним, но нечто
происходящее с нами». Следовательно, это есть причинное
соотношение, в котором причина не есть причина, но только
представляется так исходя из следствия. Поэтому также отношение
к нам есть такое отношение, которое есть отношение лишь как
рассматриваемое таким образом нами самими. Также и этот
способ упразднения суждений упраздняет сам себя, как только
вновь с большой решительностью говорится о Едином как о
том, чем существует и чем живет все остальное. «Все
существа жаждут его, как будто бы предчувствуют, что без него они
не могли бы существовать».
Поэтому о Едином Плотин говорит из глубины души, с
увлечением, но при этом отрекаясь от него в своем познании.
С неисчерпаемой изобретательностью он представляет
парадоксальные утверждения: Первое ничего не теряет, поскольку
оно, как причина, не исчерпывается в своем следствии, -
поскольку оно дает возникнуть, не будучи к тому вынуждено, -
поскольку оно только переливается через край, хотя полнота
от этого не умаляется. Единое пребывает в совершенном
покое, не преклоняется к тому, что после него. Ему не было бы
также никакого дела, если бы это второе не возникло. Оно
нераздельно остается в себе, ничего не потеряло и ни в чем не
нуждается. А возникшее обращается к нему и взирает на него
и наполняется им.
Насколько по-разному предстает перед нами мышление
Плотина, если мы объективно рассказываем некую схему
мироздания - систему, как некую вещь, - или если мы
становимся причастны самой трансцендирующей мысли! Только в
действительном ходе мыслей и осознаний получает специфиче-
ски-Плотиновское решение коренная загадка существования,
хотя и не получает при этом такого ответа, который мог бы
устоять в качестве содержания знания.
Единое, последнюю трансценденцию, Плотин называет
также Богом. Перед божеством становится чем-то
второстепенно значимым все видимое, все мыслимое, дух, все, что мы
суть и что мы можем постичь. Это превосхождение всякой им-
67
Плотин
манентности, всякой славы и величия в мире и всякого духа
в устремлении к божеству отнюдь не есть нечто само собою
разумеющееся, и еще в меньшей мере можно признать
самоочевидной ту радикальность, с которой у Плотина трансцен-
денцию оберегают от всего мыслимого, от всякого сближения
с ним, всякой постижимости и осязаемости. Видеть здесь
всякую возможную глубину и силу и единственное средоточие -
нисколько не самоочевидность.
Но Бог называется также у Плотина космосом духа (Nus),
или также мировой душой; созвездия для него суть боги, а
кроме того, есть демоны, наполняющие атмосферу. Божественное
есть у него нечто такое, чему в соответствии с греческой
традицией приписывается множественность. Только в пределах
божественного, как и в пределах сущего, осуществляется
вышеописанное превосхождение. И только в этом превосхожде-
нии душу Плотина охватывает то, о чем трактует все его
мышление, но чего он не может мыслить и сказать и чему имя Бога
свойственно как одно среди прочих имен. Это имя не
отменяют явным образом, хотя это божество непозволительно
ставить на один уровень со всеми богами. Ни один философ не
жил в Едином более, нежели Плотин. Но это Единое не есть
живой Бог Библии, его не побуждает гнев, оно не приносит
благодати и спасения. Бог Плотина бесконечно любим, но сам
он в ответ не любит. Через него возникло все, однако не
вследствие его воли. Для этого единого бога не существует
никакого культа и никакой общины. Душа воспаряет силой
единого в ней к единственно-Единому. Человек находит
Божество, при условии нравственной жизни, в философствовании
при помощи спекулятивной диалектики, которая возбраняет
ему всякую мысленную или тем более чувственную фиксацию.
Молитва - это философствующее подвижение себя (Sichhin-
bewegen) к божеству.
Этот Бог, Единое, - самое для нас важное: «Мы существуем
в высшем смысле, если устремляемся к нему, быть вдали от
него означает низшую степень бытия. Жизнь здесь на Земле
есть безродность, изгнание». Но этот Бог не обращается к нам
с любовью как личное существо. «Оно не требует нас, чтобы,
скажем, оно было вокруг нас, но мы требуем его, так чтобы нам
быть вокруг него». Как и многим из великих философов (Ари-
68
IV. Ступени познания
стотель, Спиноза), Плотину незнакома любовь Бога к человеку,
но он знает только любовь человека к Богу, утверждающую
основу всякой существенной жизни.
IV. Ступени познания
Превосхождение вплоть до непревосходимого совершается
по ступеням познания. Плотин различает восприятие (aisthe-
sis), рассудок (logismos), разум (nus). Восприятие еще не
мыслит. Рассудок познает путем различений через
доказательства и умозаключения, через рефлексию и окольными путями.
Разум созерцает единство различенного, многое в едином,
напрямую без рефлексии. Но по ту сторону всех трех ступеней
лежит то, что уже не есть мышление. Оно - больше, чем
мышление, по ту сторону мышления: единение с Единым, в
котором исчезает всякий предмет и исчезает само Я, наполненное
основой всякого бытия, само превратившееся в эту основу.
Таким образом, мышление занимает промежуточное
положение между тем, что меньше, и тем что больше, чем
мышление. Что такое мышление? Оно происходит, разделяя себя
и мыслимое и отличая себя от мыслимого. Там, где мышление,
должно быть налицо многообразие.
В этой промежуточной сфере между чувственной
скованностью и единством по ту сторону мышления Плотин различает
просто рассудок и разум (дух, nus). Рассудок осуществляет
свои операции окольным путем через рефлексии и
умозаключения, он делает вещи с помощью орудий. Разум же
созерцает: он непосредственно постигает во множестве единство.
Как египтяне видят в иероглифическом письме сами вещи, так
созерцание одним-единственным актом постигает свои
предметы, не через дискурсивное мышление. Как творец при
создании мира не выдумывает, обдумывая план, одно за другим,
не изготавливает мироздания, как ремесленник, рукой и
инструментом, но творит сразу все в целом, так созерцает и
человек, если, выйдя за пределы рассудочного мышления,
улавливает в вещах сущность.
Решающим для Плотина является то, что даже в том, что
на первый взгляд есть высшее: в мыслящем созерцании духа,
69
Плотин
в мышлении вечных форм или сущностей, - цель познания не
достигнута. Ибо там, где есть дух (nus, разум), там уже есть
мышление. Дух возможен только благодаря инаковости (Ап-
dersheit). Единое духа, отображение лишенного различий
Единого, есть лишь постольку, поскольку оно есть одновременно
мыслящее и мыслимое, и поскольку его предметы существуют
в различенности, как одни и другие. Таким образом, дух всегда
существует уже в двоякой двоичности мыслящего и мыслимого
и «одного» и «другого». Если вместе с раздвоением и инаково-
стью мы устраним двоякость, то единое останется лишь
молчанием. Непосредственное самопостижение Единого было бы
«актом простого, совершенно тождественного движения и не
имело бы в себе ничего сообразного мысли».
Созерцание же Плотин в одном месте называет
созерцанием сущностей в предметном, в другом месте - превосходящим
мышление единением в беспредметном Едином. Это Единое
созерцается уже не мышлением, но здесь превосходят и
оставляют само мышление. Поэтому об этом единении сказано
также, что оно уже не есть более созерцание.
Выбраться за пределы мышления, духа, бытия, достигнуть
Единого - это наивысшая возможность. Для нашего
понимания Плотина суть дела состоит в том, чтобы понять, что он
может сказать исходя из этой позиции. Вот примеры его
описаний:
1. «Нередко, если из дремоты тела я пробуждаюсь к самому
себе и, выходя из внешнего мира, захожу к самому себе, то
созерцаю удивительную красоту: тогда я тверже всего верю в
свою принадлежность к лучшему и высшему миру, мощно
создаю в себе самую замечательную жизнь и делаюсь единым
с божеством. Если затем, после этого пребывания в божестве,
я нисхожу к мыслительной деятельности, то спрашиваю себя,
как случилось, что теперь я нисхожу и что моя душа вообще
однажды вошла в тело, хотя она ведь была тем, в качестве
чего она, несмотря на пребывание свое в теле, только что
открылась мне».
2. Единение уподобляется опыту посвященных,
оставляющих позади изображения богов и соединяющихся с
божественным началом во внутреннем святилище (adyton). Там
созерцание и созерцаемое есть одно и то же, там - совершенная про-
70
IV. Ступени познания
стота, там нет предмета и нет Я. «Созерцающий стал иным, он
уже - не он сам, и не принадлежит себе». Теперь, по
возвращении из внутреннего святилища, ему вновь встречаются
изображения богов, которые прежде он оставил позади. «Так
эти изображения становятся вторыми созерцаниями».
3. «А там - истинно любезное, с которым он, избравший его
и действительно им обладающий, может остаться
соединенным, поскольку извне оно не облечено плотью и кровью. Тот,
кто узрел его, знает, что я говорю, а именно - как душа
получает отныне вторую жизнь и как оно не нуждается более ни в чем.
Напротив, мы должны отложить все прочее, пребывать в этом
одном и стать только лишь им... Там мы созерцаем это и нас
самих, и нас самих - как чистый свет, необремененными,
легкими, становящимися или, вернее, сущими Богом».
И если тот, кто был един с бытием, вновь вступает в это
существование, то, «если припоминает свое состояние в
мгновение соединения, то несет в себе отображение этого
мгновения». Но если тогда он желает говорить, то говорит о
различном, тогда как там было только лишь Одно без инаковости,
«а потому это созерцание бывает так трудно описать». Эта
трудность состоит в том, «что Единое мы вовсе не можем
осознать на пути научного познавания или чистого мышления, но
только с помощью опыта присутствия, который превыше
науки». Поэтому его невозможно ни сказать, ни написать. «Мы
говорим и пишем только для того, чтобы подвести к нему,
чтобы пробудить и словно бы указать путь. Ибо поучение доходит
только вплоть до этого пути, созерцание же тот, кто хочет что-
то видеть, должен будет осуществить затем сам». То, что
никак не может удаться адекватным образом, Плотин пытается
высказать с новой и новой настойчивостью. Легче всего
сказать, чего в единении нет:
Созерцающий был един с созерцаемым. Это были не два -
он сам и Единое. А значит, «это было, собственно, не
созерцаемое, а, так сказать, соединенное». Там - соединение не с
изображением бога или подобием, но с ним самим. Это - уже
не созерцание.
Это «созерцание», так же точно как и созерцаемое, не
является уже и мышлением. Будучи един с Единым, я не мыслю,
как не мыслит и Единое. Поэтому это «созерцание» - больше,
чем разум, прежде разума, выше разума. Здесь душа прене-
71
Плотин
брегает мышлением, которое обычно она так любит.
Насытившись мышлением, достигнув интеллигибельного места ума,
она оставляет все это.
Это созерцание не есть уже также и жизнь, не есть
движение, но недвижность (Stillestehen). Там ничто не движется, нет
гнева и вожделения. В отрешенности душа не отвлекается
ничем и не обращается также к самой себе. «Душа не есть там
даже душа, потому что и это Единое не живет, но пребывает
выше жизни».
Вступив в совершенство Единого, душа «уже более не
примечает ничего о том, что она находится в теле. Она не
называет также и саму себя как-либо иначе, ни человеком, ни живым
существом, ни чем-то сущим, ни даже всем».
То, что не есть более созерцание, не есть мышление, не
есть жизнь, Плотин называет исступлением (ekstasis),
преданием себя, упрощением (Einfachwerden, haplosis).
Это - созерцание уже не по частям и одного за другим, но
«узрение единым разом» и в целом. Этого «невозможно узреть
смертными глазами». Исполненный Богом, созерцающий
спокойно стоит «в одиноком покое и без перемен, никуда не
уклоняясь своим существом и даже не оборачиваясь вокруг себя,
стоя повсюду твердо и как бы превратившись в недвижность».
«Уже не будучи собой самим и не принадлежа себе самому, он
одновременно оказывается там, и, принадлежа тому, он - одно
с тем, несообщимо никому, кроме того, кому было даровано
созерцать самому». Так говорится о несказанном, и далее,
в разнообразных словах:
1. Увлекающая туда сила: Дух (разум, nus) созерцает
силой мышления то, что в нем, а силой интуитивного
восприятия - то, что лежит за его пределами. В нем душа испытывает
любовное томление, в котором, превосходя дух, она
опьяняется так, что это лучше достопочтенной трезвости. Душа
созерцает Единое, словно бы запутывая находящийся в ней дух и
так уничтожает его. Тогда она попадает в это место.
2. Плотин уподобляет: Темной ночью или при закрытых
глазах наш дух может видеть некий свет, который есть не свет
извне, но собственное свечение, возникающее в нем самом.
Он видит, не видя, и именно тогда он по-настоящему видит,
ибо он видит свет, тогда как другие вещи, хотя и подобны свету
по роду, однако они - не свет. «Так же и дух, когда он скрывает
72
IV. Ступени познания
себя самого от других вещей и удаляется вовнутрь, будет
созерцать, ничего не видя, а именно - созерцать не другой некий
свет в чем-то другом, но то, что само по себе чисто и внезапно
вспыхивает в нем самом».
3. Место и время исчезают: Если дух созерцает, не видя,
если он в одно мгновение проявляется, то он не знает, откуда
это бывает, извне или изнутри. И, когда он ушел, он сказал:
итак, это было внутри, и все же не внутри. Мы не можем
исследовать, откуда оно. Ибо здесь нет никакого «откуда». Ибо это
не приходит и не уходит, но - то является, а то не является.
Оно пришло как тот, кто не приходит, ибо мы видели его не как
пришедшего, а как того, кто уже присутствовал прежде. Мы не
можем желать изловить его, но должны спокойно ждать, когда
оно появится, приготовляясь к созерцанию, подобно тому как
глаз ожидает восхода Солнца. Итак, удивительно, как оно
присутствует, не приходя, и как его нигде нет; и все же нет ничего,
в чем бы его не было! Замыкается в себе душа в
существовании, а не Единое. - Душа знает об этом только из
воспоминания о вневременном бытии, которому она постоянно бывает
причастна, и знает в мгновения угашенного времени, которые,
однако, не суть мгновения как звенья времени. - Оказавшись
там, душа не находит никакого «места», но безпространствен-
ное присутствие. - «Он (Бог, Единое) поднимает их так высоко,
что они не находятся в каком-либо месте или вообще где бы то
ни было, где нечто иное находится в чем-то ином». Единое -
нигде (im Nirgend). - «Для того, что не находится где-либо, для
того нет ничего такого, где бы его не было... Но если оно не
остается вдали ни от какой вещи и все же не находится где-
либо, то оно должно быть повсюду, утверждаясь на самом
себе. Оно повсюду, как целое, и никакая вещь его не имеет, и все
же его имеет всякая вещь, а именно - оно обладает всякой
вещью».
Подобно тому как все наше мышление совершается, следуя
путеводной нити пространственных образов, остающихся его
провожатыми даже там, где они не вводят в заблуждение, так
же происходит и здесь. Плотин прямо указывает на это:
Сначала мы полагаем некое место, некое пространство, а затем мы
вводим это Единое в это наличествующее в нашем
представлении пространство. Затем мы спрашиваем, откуда оно там
оказалось, предполагая, что оно было заброшено туда, словно
бы с высоты или из глубины. Теперь же нужно сохранять наш
взгляд, направленный на Единое, совершенно свободным от
всякого пространства, не полагать его ни в каком пространстве,
73
Плотин
ни как от вечности в нем покоящееся, ни как лишь затем в нем
оказавшееся, а напротив, полагать пространство, как и все
другие определения, привзошедшими после, причем как
наипозднейшее. Мысля таким образом непространственное, мы не
окружаем его со всех сторон чем-либо. Хотя в нашем
мыслящем представлении все становится словно бы
пространственным и имеет некое место, но пространство относится только к
последней ступени, к ступени природы.
4. «Там нет места заблуждению. Или где же душа найдет
нечто более истинное, нежели истина? Итак, то, что она
говорит, это она и есть, а говорит она это впоследствии, она
говорит это молча, и, когда ей хорошо, она не заблуждается в том,
что ей хорошо. Кроме того, она говорит это не потому, что тело
ощущает приятное чувство, но потому что она стала тем, чем
она была тогда, когда стала счастлива».
То, что Плотин показывает как совершенство, как исток и
цель, есть для него абсолютная действительность, высшая
ступень, которая не есть уже более бытие, но - прежде всякого
бытия. Душа узнает, чем она подлинно является. Она
понимает обычное состояние своего сознания как состояние
нисшедшего (Herabgestiegensein). Но там, в причастности изначальному,
ей знакомо глубокое удовлетворение: она превзошла все, что
есть, она узнает то, что не имеет никакой другой цели выше
себя. Сочинения Плотина - непревзойденное свидетельство этого
изначального опыта. Этот опыт так же точно понимается
философским мышлением, как и порождается им. В нем речь идет не
о некоем переживании, которое мы вкушаем как событие во
времени, но об истоке всякого смысла во всякий момент
существования, о том абсолютном сознании, которое налагает свою
печать на конечное сознание. В действительности было
пережито как законченное совершенство то, чего нетерпеливо ожидают
в мире, при сохраняемом двойстве любящего и любимого,
созерцающего и созерцаемого, как той цели стремлений, от
которой незавершенная тоска получает свое направление. Она
получает смысл благодаря тому, что в мгновении та
действительность, которая всегда присутствует как настоящее, хотя и может
быть налицо без покровов, но во всякое время ее лишь касаются
с большего или меньшего отдаления.
Кажется, будто это состояние выступает перед нами как
подлежащее психологическому описанию, но по своему суще-
74
IV. Ступени познания
ству оно находится вне области допускающих психологическое
описание переживаний.
Это - не помрачение сознания, как при опьянении, не
чувственная эйфория, которая исчезает вновь. Скорее, это - некое
созерцание, которое хотя и предполагает мыслящее
созерцание духа, но наполняется только в превосхождении этого
последнего, а не в ниспадении ниже его уровня. В самом ясном,
сверхъясном сознании твердая вера в нашу принадлежность к
высшему миру присутствует уже не как вера, но как
действительность самого этого мира.
Это не есть также состояние, подобное сну или
сновидению, из которого я пробуждаюсь в нормальное сознание, так
что, исходя из этого бодрствующего сознания, я истолковываю
это аномальное, непрозрачное для самого себя состояние.
Скорее, здесь дело обстоит наоборот. Это состояние
переживает само себя как пробуждение из обычного помутненного
существования к другому существованию, в котором я
поднимаюсь над собой как существованием, переживаемым как
пространственно-временное и в мышлении, и которое само,
следовательно, уже не есть более состояние этого существования.
И все-таки оно выступает, или описывается, как
переживание или как состояние, наступающее каждый раз в
определенное время, с исчислимой частотой. Это кажется странным.
В таком случае оно есть парадокс некоторого состояния во
времени, которое по своему существу вышло за пределы
всякого времени, или переживания, трансцендирующего всякий
акт переживания. Сообщение о том, что Плотин пережил
подобное четыре раза, мы имеем все же только от Порфирия.
Сам Плотин говорит только «часто». То, что согласно Порфи-
рию кажется неким редким и аномальным опытом внутреннего
состояния, то у Плотина есть действительное, естественное,
впервые придающее смысл всякому существованию.
Характер этого акта переживания, даже если он, в
собственном смысловом толковании философа, трансцендирует
всякий акт переживания, неизбежно также становится для нас
психологической проблемой, если подобные переживания
локализованы во времени. В этом случае мы задаем вопрос об
их природе, параллелях, об их возможных причинах. У
Плотина же мы не находим ни следа аномальных психических
состояний, никаких описаний строго дифференцированных пережи-
75
Плотин
ваний, сопутствующих им чувственных ощущений и видений,
ничего похожего на действия против собственной воли ввиду
надвигающихся страшных явлений, ничего такого, что
бросалось бы в глаза окружению экстатика. Ему неизвестны также
и никакие физические приемы - ни физические, ни
медитативно-технические - помогающие вызвать эти состояния.
Экстатические состояния и мистические переживания
играют большую роль в истории всех культур. Они служат
поприщем для психологических наблюдений, на котором снова и
снова повторяются некоторые основные формы опыта. По
сравнению с этими актами опыта, превосхождение опыта у
Плотина выглядит иначе. Его описания содержат лишь некий
минимум психологических феноменов, и вовсе ни одного
психопатологического феномена. Его рассуждения впечатляют
простотой и незамысловатостью того, чему он хочет дать
возможность заговорить из глубины. То, что описывает Плотин -
это полная смысла вершина его мысли. Как состояние, оно
есть нечто такое, что имеет место не в чуждости и в изоляции,
но как приводящая к полноте совершенства верификация его
мыслящей жизни. Если бы его не было как локализуемого
в пространстве особенного опыта, оно все же осталось бы, как
действенная конструкция окончательного совершенства того,
что всегда живо присутствует в нас, когда совершается транс-
цендирование в любви и созерцании, и встроено в овременен-
ные душевные процессы.
Но если бы даже - что вполне возможно - у Плотина речь
шла о процессах, доступных для психологического постижения,
тогда встал бы вопрос о том, не наделяются ли эти
переживания Плотина, встречающиеся также и у других людей, из среды
его философствования тем смыслом, которого они без того не
имели. Ибо психологически-универсальные и аномальные
состояния могут быть игнорируемы как безразличные и они же
могут получать исключительное значение, получая смысл в
контексте индивидуальной жизни. Поэтому после
психологической констатации состояний все еще остается в силе вопрос
о наделении смыслом (Sinngebung), на который
психологическое наблюдение и психологический опыт еще не дают ответа.
Существует ли в мире вообще некий смысл, этого вопроса
психологическими средствами решить невозможно.
Психологически аналогичное, наблюдаемое извне переживание скрывает
76
IV. Ступени познания
в себе нечто такое, что в силу иного, непсихологического
своего происхождения или оставляет это переживание лишенным
смысла, или же позволяет ему обрести
экзистенциально-пронзительную достоверность и мощь. У Плотина трансцендирую-
щие мир и все же наполняющиеся в мире действительности
любви и созерцания получают свой смысл, когда их наделяет
смыслом этот экстатический опыт. Истолкование
осуществляется в кругу, в котором наивысшее, пережито ли оно при этом
в действительности или только сконструировано, получает
смысл из действительного опыта экзистенции в мире, а этот
опыт, в свою очередь, - из этого наивысшего.
Ступени познания философ наглядно представляет нам в
допускающих воспроизведение актах опыта. Этот ряд идет от
низшей ступени, восприятия даже самой тьмы в невидении
темноты, вплоть до высшей - слияния с Единым. Так,
следовательно, речь идет о последовательности градаций
субъективного, от чувственного восприятия до unio mystica, а не
о последовательности градаций бытия, от небытия до
сверхбытия? Этой альтернативы субъективного и объективного для
Плотина не существует. На всех ступенях действует правило:
подобное познается подобным. Человек есть, в возможности,
всё. Поэтому в наглядном представлении ступеней его
познания является ряд ступеней бытия от небытия материи до
сверхбытия Единого.
Экстаз, как действительный акт в присутствии сознания,
является коррелятом Единого, конструируемого мыслью по ту
сторону всего мыслимого. Ступени бытия являются
коррелятом тем актам, которые, как низшие ступени, находятся в таком
же отношении к экстазу, в каком ступени бытия находятся к
сверхсущему. Как в понятийном мышлении мыслится не само
Единое, но только Единое в его эманациях (Ableitungen),
подобно тому как в аллегории храмового культа лишенное
обликов божество святилища являет себя посвященным только на
обратном пути из святилища в изображениях богов, так экстаз
единения (henosis, unio) становится доступным для
созерцательно-припоминающего и приготовляющего самоосознания
(ein anschauend erinnerndes und vorbereitendes
Sichvergegenwärtigen) только в любви и созерцании, осуществляющихся
в мире.
77
Плотин
V. Спекулятивное трансцендирование
Философствование совершается в мышлении. Мыслимое
есть некое промежуточное царство, у фаниц которого следует
встретиться с немыслимым. Если в мгновения единения с
Единым эту границу переходят, то делают это все же на пути,
проходящем через мышление, и, пока сохраняется существование во
времени, с последующим возвращением в стихию мышления.
Для Плотина мышление имеет только этот смысл. Поэтому
он не ищет знания о вещах этого мира ради них самих, но ищет
его только для того, чтобы трансцендировать в них. Однако
для того чтобы наполнить этот смысл, он требует широты
мышления в мире. Философ «не должен сужать божественное
начало до одной точки. Сам Бог показал себя в разнообразии
протяжения». Для человека невозможно оставаться с Единым.
Поэтому все изложенное в языке произведение о философии
в целом заключает в себе тренировку в мыслительных
операциях и собрание набросков образов, и конструирование цело-
купности бытия. Все они становятся путеводными нитями для
того, чтобы попасть туда и на возвратном пути сохранить в
опыте живого присутствия то, что здесь единственно важно.
Можно изобразить три теоретических опыта Плотина,
последствия которых переплетаются между собою в его
метафизическом созерцании: во-первых, специфичное для него
учение о категориях (приготовление), во-вторых, пути
категориального трансцендирования (методы мышления, терпящего
крах в немыслимом), в-третьих, мышление в образах
мироздания (упокоение в предметном созерцании (Ausruhen in
gegenständlicher Kontemplation)).
а) Учение о категориях: То, что я мыслю и имею перед
собою в качестве предмета, «есть». «Бытие» кажется
самоочевидным. Что «есть» бытие - этот вопрос вновь уклоняется от
предметного и самоочевидного мышления обратно к смыслу
бытия во всем помысленном и мыслимом. Это - путь
просветления бытия, не приносящий нового предметного познания.
Плотин соглашается с Аристотелем в его тезисе о том, «что
сущее не имеет одного и того же значения во всех вещах».
Для подразделения сущего, для различения его в себе служат
категории. Они должны в каждом частном случае охарактери-
78
V. Спекулятивное трансцендирование
зовать способ или род бытия, например бытие субстанцией,
бытие свойством, бытие качеством, бытие количеством и т.д.
Высказывание, говорящее, что нечто есть (или смысл бытия),
не всегда имеет одно и то же значение. Вопрос заключается
в том, существует ли совокупность категорий, которые, будучи
развиты из одного принципа, тесно внутренне взаимосвязаны
и могут быть мыслимы как звенья или роды единого бытия.
То, что можно назвать учением Плотина о категориях,
с внешней стороны есть некий агрегат. Он находит учения о
категориях начиная с Платона, подробно разработанное
учение у Аристотеля, перестроенное у стоиков. В своей
систематике он акцентирует в присущей ему манере только один пункт.
Своих предшественников (кроме Платона) он радикально
критикует: «Об интеллигибельном, соответственно их
подразделению, они не говорят; следовательно, они не хотели дать
подразделение всего сущего, но обошли вниманием
преимущественный род сущего». В качестве ступеней мыслимого
бытия Плотин мыслит только две ступени: чувственное и
интеллигибельное бытие. Интеллигибельное бытие есть
преимущественный род сущего, прототипическое бытие (vorbildhaftes
Sein), чувственное же бытие есть менее значимое, эктипиче-
ское бытие (abbildhaftes Sein). Всем категориям следует
задавать вопрос, для какого бытия они имеют силу, для
чувственного или для интеллигибельного, значимы ли они для обеих
ступеней бытия, укоренены ли они в одной ступени и могут
быть перенесены на другую или же они характерно
свойственны одной ступени и перенесены быть не могут.
Только эти две ступени сущего находятся у Плотина в
категориях. Их объемлет сфера категориально-непостижимого,
несущего и сверхсущего. Душа также не имеет никакой
собственной категории, она занимает среднее положение, в котором,
как некотором целом, встречается все, от небытия до
сверхбытия. Когда Плотин мыслит это среднее положение и
описывает в своем сочинении душу, ему, конечно, требуются для
этого категории. Вопрос состоит в том, появляются ли при этом
иные категории, чем те, которые встречаются в чувственном и
интеллигибельном мире.
Учение Плотина о категориях есть некое собрание
материалов из Платона и Аристотеля. К интеллигибельному миру от-
79
Плотин
носятся пять категорий из платоновского «Софиста»: бытие,
тождество и инаковость, движение и покой; к чувственному
миру - десять аристотелевских категорий (прежде всего
субстанция, количество, место и время, деятельность и страдание,
отношение).
Разделение категорий на категории чувственного и
сверхчувственного мира пересекается у Плотина с другим их
разделением: различением категорий, заложенных в самой вещи (таких как
движение, покой, количество, качество, и т.д.) от субъективных
категорий (категорем), а именно, категорий отношения.
Два эти категориальных мира не соседствуют друг с другом
как параллельные. Категории чувственного мира исчезли в
интеллигибельном мире и не могут быть переносимы в этот
последний, категории же интеллигибельного мира есть также и в
чувственном, однако не таким же образом, но в таком же
отличии, каково отличие прообраза и отображения.
Основными категориями в интеллигибельном мире
являются категории тождества и инаковости. Эти же самые категории
встречаются также и в чувственном мире, однако с тем
различием, что здесь они обозначают отделение многого друг от
друга, отчуждение, тогда как в области интеллигибельного эти
противоположности не только логически связаны друг с другом,
но обе они, в свою очередь, суть одно.
Основой превращения той же самой категории в
чувственном мире в отображение интеллигибельного прообраза
являются пространство и время и материя. - Интеллигибельные
категории существуют вне времени и вне пространства, в
единстве противоположностей. Поэтому там нет разделения вещей
на изолирующиеся и мешающие друг другу· С появлением про-
странственности возникает разделение, с появлением
временности - возникновение и уничтожение. - В чувственном мире
материя есть момент неоформленного, разбивающий
оформленные облики, разделяющего, нарушающего их единство.
То, что существует в чувственном мире, не только мыслится,
но должно также и восприниматься. Мыслимость и бытие
отныне уже не тождественны.
б) Категориальное трансцендирование: Это плотиновское
учение о категориях само есть у него один из способов транс-
цендирования от чувственного к интеллигибельному. Но само
это трансцендирование есть только первый шаг в пределах его
учения о категориях. Сделав этот шаг, он еще остается в
границах мыслимого.
80
V. Спекулятивное трансцендирование
Если делают следующий и окончательный шаг, трансцен-
дируя к немыслимому, если, таким образом, надлежит
мыслить немыслимое, то ориентирование в области мыслимого
должно сделать само это мыслимое почвой, от которой
отталкивается трансцендирующая мысль. Выход за грань
мыслимого может совершиться только при помощи постигнутых до
конца мыслимостей как средств. В превосхождении мыслимое
должно потерпеть крах, но не в косноязычном лепете, а в
диалектических методах спекуляции.
Поэтому ориентирования в мыслимом с помощью категорий
Плотина ему оказывается недостаточно. Скорее, он
использует то, что не систематизировано явным образом в его учении
о категориях, но что было усвоено им из философской
традиции: категории формы и материала, действительности и
возможности, основы, жизни и другие. Представим здесь
несколько примеров из всего богатства подобных спекулятивных
рассуждений Плотина:
Единство: Встречающееся в мире есть каждый раз нечто
одно из многого. Это поразительное свойство, делающее вещь
чем-то одним, должно быть, чем-то изначальным. «Все сущее
существует благодаря Единому. Ибо чем же оно было бы, не
будь оно одним? Без единства нет ни войска, ни хора, ни стада,
также и дома или корабля не существует, если в них нет
единого. Так же точно и тела растений и животных, каждое из
которых образует некое единство». Если данное единство
утрачивается, то все это уже не существует, и нет ни войска, хора,
стада, ни дома и корабля, ни растения и животного. «Здоровье
есть, если тело было упорядочено в единство, так же точно
красота есть, если природа единого удерживает вместе его
части; далее, добродетель души есть там, где душа приведена
к единству и соединена в гармонию».
Удивление тому или иному единому, благодаря которому
все сущее - которое само по себе есть многое - составляет ту
или иную вещь, непостижимость этого единого из многого
приводит Плотина к трансцендирующему скачку: это, то или иное
единое, существует благодаря абсолютно единому, принципу
единства. Все, что есть, есть нечто одно, и оно есть одно
благодаря Единому трансценденции.
Никакое единое в мире сущего не есть Единое. Скорее, тот
или иной особенный способ единобытия вещей придает им их
меру действительности. «Из тех вещей, которые называются
81
Плотин
едиными, каждая вещь таким образом едина, как это
соответствует ее сущности». Так, душа есть одна душа при условии,
что она в высшей степени и поистине существует, но она
отлична от Единого и не есть само Единое. И по способу бытия
своего единства вещи бывают ближе к Единому или далее
отстоят от него. «Дискретное, как, например, стадо, дальше
отстоит от Единого, непрерывное же ближе к нему, душа же, со
своей стороны, состоит с ним в еще более тесной общности».
Вещи причастны Единому и не суть оно само. «Но если мы
постигаем единое растений, т.е. неизменный принцип, и единое
животного, и единое души, и единое мироздания, то мы
постигаем каждый раз самое могущественное и самое ценное».
Если, превосходя все способы единобытия в мире и в
мыслимом, Плотин достиг самого Единого (hen), то он обращает
вопросы к этому последнему. Только здесь начинается
спекулятивная диалектика: То, что мыслится с помощью категории
единства, должно быть самой трансценденцией. Однако
Единое, будучи мыслимо, всякий раз имеет, как категория, некий
особый смысл: Единое противостоит иному, - затем: численная
единица противостоит числовому ряду, - далее: единство,
делающее многое одним, противостоит этому многому. В каждом
из этих способов бытия определенного смысла единое уже
не было бы Единым, подразумеваемым как трансценденция.
Ибо ни в каком из этих случаев оно не было бы абсолютным
Единым, а напротив, всякий раз тут же не было бы уже и
единым, потому что оно сопряжено с иным, с рядом чисел, с
множественностью многообразия. Поэтому Плотин выделяет
каждый определенный смысл единого, чтобы сохранить его только
как имя (hen) для того, мышление которого должно потерпеть
крах в каждом из этих смыслов.
Единое, как абсолютно единое, должно лежать по ту
сторону единого и иного, по ту сторону чисел, по ту сторону
множественности, должно быть тем единым, которое есть исток всех
способов бытия единого, в том числе и числа «один». Разговор
об истоке сразу приводит нас к некоторому определенному
категориальному проявлению единого. А потому это
категориальное проявление используется как выразительное средство,
которое требуется постоянно превосходить.
Форма этой трансцендирующей мысли, упраздняющей
всякую определенную мыслимость, вновь и вновь предстает перед
нами на исторических вершинах спекуляции. Кант мыслит
единство трансцендентального синтеза как принцип всякого
категориального оформления, а затем говорит: это единство не
V. Спекулятивное трансцендирование
есть категория единства, но то, что делает возможным также и
эту категорию «единство». Также и у Плотина нас призывают
мыслить с помощью категории (единства) то, что само не
находится ни в какой категории. В одном лишь имени единого
категория упразднена, но, может быть, это имя наполнено ясностью
этой упраздненности. - Плотин трансцендирует от
противоположности тождества (tautotes, что можно переводить также как
«единство») и инаковости (heterotes) к единству, служащему
основанием их обоих. Шеллинг будет говорить о единстве
единства и противоположности, Гегель - о тождестве
тождества и нетождества (различия). Философы кружат своими
формулировками вокруг того, что действительно мыслить
невозможно: единое и иное существуют не каждое само по себе, но
единое бывает у себя самого в ином, - во взаимно
просвечивающей обоих ясности они суть некое целое, - мышление и
мыслимое, субъект и объект не разделены границей. Это -
богатый мир логического мышления, тем более - в дальнейшем
подразделении определений, всякий раз находящий свой
смысл в единой цели: потерпеть крах в той немыслимости,
которая прикасается все же к единственно-существенному.
Форма и материал'. Бесформенный мрамор благодаря
художнику обретает форму, как статуя. По аналогии с этим
примером, все воспринимаемое сущее мыслится как то или иное
целое, состоящее из постижимой в понятиях формы и
оформленной ею материи. Также и во всяком мыслимом, даже в
математических фигурах и числах, проводят различие между
формой и материалом созерцания. Эта противоположность
оказывается универсальной. Во всем сущем и мыслимом
заложены оба эти момента, причем иерархически, так, что то, что
однажды было формой, становится материалом для другой
формы (мрамор - это уже оформленная материя, и он сам
становится материалом для формы художника). С помощью пары
категорий «форма-материал» Плотин трансцендирует в
последовательности двух шагов:
Во-первых: от чувственного к интеллигибельному: Все
сущее есть форма и материал. «Глубина всякой вещи - это
ее материя, а потому она бывает также совершенно темной».
Но сущее является или интеллигибельным, вечным,
вневременным и внепространственным, или же чувственным,
возникающим и исчезающим в пространстве и времени. Поэтому
есть две материи. Темное бывает различным в
интеллигибельном и в пространственно-временном, чувственном мире.
83
Плотин
«Ибо божественная материя, воспринимающая в себя
определенность формы, сама обладает определенной и мыслящей
жизнью. А земная материя, хотя и становится чем-то
определенным, однако не становится сама живой и мыслящей, а есть
лишь нечто оформлено мертвое. В интеллигибельном мире
материя вся без остатка оформлена, в чувственном же она
остается отчасти противной форме. Интеллигибельная
материя есть неопределенное таким образом, что она желает
только предложить себя тому, кто стоит выше ее, в чувственном
мире у этого неопределенного есть свойство противиться. В
интеллигибельном мире материя есть все одновременно, и нет
ничего, во что бы она не могла превратиться, ибо она все имеет в
себе. Чувственная материя есть все возможное по очереди, и
всякий раз она есть только нечто отдельное. Первая вечно есть
одна и та же, вторая - существует во все новых и новых обликах.
Существенное различие между прототипической,
интеллигибельной и эктипической, чувственной материей состоит вот
в чем: «Там, наверху, также и как бы материя есть форма, как
ведь и душа есть форма, и все же, в отношении к другому, она
есть материя».
Как форма, так и материя в интеллигибельном мире
одинаково вечны. Обе они возникли, поскольку они имеют исток, и не
возникли, поскольку их исток находится не во времени.
Во-вторых: за пределы отношения формы и материала:
Через форму Плотин достигает того, что не есть уже форма,
потому что лишено всякой материи, - Единого сверхбытия.
Через материал он достигает того, что не есть уже материал,
потому что лишено всякой формы, - небытия материи. Плотин
превосходит отношение материи и формы, разлагая это
отношение.
Это двоякое трансцендирование есть некая общая черта.
В обоих случаях шаг мышления представляет собой конец
мышления, не-мышление. В обоих случаях немыслимое
несказанно, лишено облика. «Что такое это несуществующее? Мы
должны отойти от него в молчании и не можем исследовать
далее, оставляя наше мнение недостоверным». Это положение
может иметь силу в обе стороны.
Там, где я мыслю, я мыслю в форме и материале. Транс-
цендируя, я должен мыслить чистую форму и простой
материал в не-мышлении. То, что мыслится таким образом, лежит вне
пределов всего сущего. Но, в крайнем отталкивании от опоры,
его называют сверхсущим и несущим.
84
V. Спекулятивное трансцендирование
Поскольку, однако, все сущее коренится в этом последнем,
которое не есть нечто сущее, несущее в обоих случаях не
может быть тождественным ничто. Несущее, как материя, не есть
ничто (есть не ouk on, но me on). Плотин пишет: «Однако
несущее отнюдь не есть безусловно не сущее, но только нечто
иное, нежели сущее, и не существует оно так, как не
существует образ сущего, или еще много более». Так говорится у него о
материи. Не сущим (me on) называется также и сверхсущее,
Единое. «Сверх» означает здесь направление трансцендиро-
вания, и есть так же точно по своему содержанию отрицание
сущего: «Единое есть это чудо для духа, потому что оно есть,
не существуя (me on)». Одна и та же мыслительная операция
приводит к крайне противоположному.
Единое постигается в превосхождении мышления большим-
чем-мышление, в наполнении экстаза, haplosis, henosis.
Материи же мы не можем коснуться ни чувственным восприятием,
ни мышлением, но касаемся ее только чем-то меньшим-чем-
мышление, «неподлинным мышлением» (Платон), как если
наш глаз видит темноту.
Решающее различие состоит в том, что такое в
противоположных актах трансцендирования я сам. В отношении к
материи я, как не-мышление, мыслю неопределенным во мне
неопределенное вне меня, и потерян для себя. В отношении к
Единому способность не-мышления (Nichtdenkenkönnen)
становится моим восхождением надо всяким мышлением.
Для Плотина истинная трансценденция дает о себе знать
только в Едином и в восхождении, - но не с другой стороны,
которую он характеризует только как небытие, недостаток,
лишенность. Аналогичные формальные определения в терпящем
крах опыте мысли могли бы позволить нам думать, что единая
трансценденция показывается нам с двух сторон, скрывая себя
в этой крайней полярности. Однако у Плотина это явным
образом не мыслится так.
Возможность и действительность: Различается
логически-невозможное (противоречивое) от реально-невозможного
(ввиду отсутствия предпосылок в действительности) и
соответственно: логическая и реальная возможность. То, что логически
возможно, еще не является поэтому реально возможным.
Реальная возможность мыслится как пассивная материя, которая
может воспринимать в себя то, что придает ей форму, или как
связанная сила, или как еще покоящаяся способность; таким
образом, сами эти реальные возможности уже суть
действительность, они суть не осуществленная действительность.
85
Плотин
И вот, совершается мнимое трансцендирование, если
совокупность бытия мыслится как совокупность возможностей, из
которой возникло действительное. При этом предполагается,
что все действительное является также возможным, но не все
возможное является также действительным. На первом шаге
Плотин также может думать так: «Наивысшее было по ту
сторону бытия. Оно есть только возможность (dynamis) для всего,
только второе (дух) есть затем все».
Но спекулятивно-трансцендирующий шаг Плотина ведет к
радикально иному ответу на вопрос о первом: Единое довлеет
себе, совершенно не раздвоено в самом себе. «Ибо мы ведь
не скажем, что существует единое в возможности и единое
в действительности. Смешно было бы желание создать в
области существенно-действительного несколько природ путем
отделения возможности от действительности». Это означает:
в истоке по ту сторону всего сущего возможность и
действительность суть одно. Логическое соотношение (возможность и
действительность) служит иносказанием для неисследимого
(как и вообще наглядные соотношения служат иносказаниями).
Если сознание неисследимого желает высказаться в чем-то
мыслимом, то ему воспрещают неизбежное для нас при
мышлении сущего разделение возможности и действительности,
и тогда мыслится логически абсурдное положение о тождестве
возможности и действительности (для которого Кузанский
нашел термин possest).
Только глядя на исток, исходя от нас, от мирового
существования, мы видим этот исток в том аспекте, что он есть
предшествующая возможность для последующего
существования мира. И, как если бы мы могли занять некую внешнюю
точку зрения (Standpunkt ausserhalb), с которой мы видели бы
исток и процесс возникновения мира, мы мыслим даже, будто
в этом истоке совершается выбор из совокупности
возможностей, благодаря которому становится действительным наш
мир. Плотин этого не делает, но он позволяет себе высказать
эти аспекты с нашей точки зрения. «Между тем как наивысшее
пребывает в своем собственном сущностном роде, вторая
действующая сила (energeia) обретает самостоятельное
существование». Что имеет силу обо всем сущем: «Действующая
сила (energeia) всякой вещи отчасти заключена в ее бытии,
отчасти же выступает из ее бытия вовне», справедливо равным
образом и о возникновении духа, а тем самым и всего сущего,
из Единого. Но все, что бы ни мыслил таким образом Плотин,
находится в тени его подлинного трансцендирования, которое
86
V. Спекулятивное трансцендирование
здесь заставляет мышление потерпеть крах в тождестве
возможности и действительности. Только на пути к этому транс-
цендированию и при возвращении от него выступают перед
философом способы бытия мыслимостей.
Основа: Все, что бы мы ни мыслили, можно подвергнуть
вопросам: Почему? Вследствие чего? Откуда? «Основа» - это
категория ответов на подобные вопросы.
Если затем мы задаем бытию в целом вопрос о его основе,
то ответ Плотина гласит: в том, что по ту сторону бытия (im
Jenseits des Seins). Если затем вновь ставится вопрос: «откуда
это находящееся по ту сторону бытия?», - то Плотин отвечает:
Бытие и основа бытия есть одно и то же там, где бытие
пребывает в истоке. Далее спрашивать противно здравому смыслу.
Это значит: Категория «основы» становится формой трансцен-
дирования благодаря мысли об «основе самого себя».
Для рассудка эта мысль есть противоречие или логический
круг. Ибо основа уже не есть более основа, если она должна
быть тождественна тому, что она обосновывает. Отсекая
вопросы «откуда» и «почему», эта мысль, трансцендируя,
наталкивается на необоснованное бытие, которое именно поэтому
уже и не есть более бытие, но основа бытия. Эту основу бытия
нельзя мыслить как некую вещь, которую бы можно было
познать. В таком случае сразу же опять оказался бы прав
рассудок, задающий каждой вещи вопрос о ее основе. Поскольку обо
всем, что есть для него, то есть мыслимо, рассудок
предполагает как само собою разумеющееся, что оно предметно, то он
вынужден отвергнуть попытку отсечь дальнейшие вопросы.
Или он должен отрицать самый предмет, и ввиду
опредмечивания чего-то немыслимого он делает это здесь с полным
правом, - или же он должен спрашивать дальше о его основе.
Рассудок не знает конца своим вопросам, чем бы ни был при
этом предлагаемый ему или порождаемый им предмет.
Мысль о немыслимом может быть осуществлена только в
крахе рассудка. Само это положение есть тавтология. То, о чем
здесь идет речь, открывается не рассудку, но только разуму в
крахе рассудка, и, между тем как для рассудка оно есть ничто,
оно получает наполнение из другого истока. Трансцендирую-
щая мысль, невозможная по мерке рассудка, полагает два:
бытие и основу бытия, чтобы сказать, что они - не два, а одно.
Чтобы просветлить это, мы кружим около этой мысли другими
категориями - случай, необходимость, свобода, самобытие:
«То, что имеет свою основу в самом себе», не случайно,
именно потому, что оно имеет свою основу в самом себе. Мы
87
Плотин
не можем также сказать, что оно необходимо, ибо оно
свободно, поскольку существует через самого себя. Но и свобода,
в свою очередь, ему не присуща, потому что оно есть основа
свободы, не свободно, но больше, чем свобода. Оно лежит по
ту сторону тех способов бытия, которые мы мыслим в
контекстах сущего как случайные, как необходимые, как
свободные. Оно есть оно само. Для всего этого Плотин дает
выразительные формулировки:
Случай: О «Едином», о «первом» нельзя говорить: «так уж
оно сложилось». Первое не может быть случайным, ибо
случайность «господствует в производном и многом». Она
«происходит от иного и является только в мире становления».
Первое, не имеющее ничего вне себя и которому ничто не
предшествует, можно было бы называть случайным, в
сопоставлении с предшествующей, мыслимой необходимостью,
будь то закономерностью природы или разумным планом.
Однако это предшествующее есть ведь только следствие этого
первого.
Если бы шла речь о случайности первого, то это имело бы
смысл только в раздроблении самой категории «случайности».
«Случайность» бытия первого была бы не нарушающей
вышеупомянутые закономерности случайностью, а тем, что, со своей
стороны, предшествует этим закономерностям и
обусловливает их. То, что в логическом рассуждении, превращающем все
содержания в мыслимости, мыслится как случайное, поскольку
невыводимое из другого, было бы само по себе
содержательным, источником как необходимости, так и свободы, было
бы случайностью совокупности законов природы и законов
свободы.
Случай есть категориальный знак непостижимости по мерке
какой-либо необходимости или разумности. В мире же случай
есть выражение для непостижимости, как отсутствия
познавания, которое все же требуется в сфере конечного. В трансцен-
денции он становится знаком для максимума бытийного
содержания непостижимого.
Необходимость: Если теперь Единое мыслится, в
противоположность случайности, как необходимость, то
соответствующее положение гласило бы: Оно не случайно не есть ничто
иное, кроме того, что оно есть, но потому, что оно должно было
[быть таким]. Однако с этим определением оно
противоположным первому образом утратило бы то, в силу чего оно есть
первое.
Оно не должно было быть, потому что оно есть, скорее,
исток всего того, что должно было быть. Оно не должно было, но
88
V. Спекулятивное трансцендирование
все другое, в том числе и необходимость, должно было
ожидать его.
Если говорят, что первое не властно над своим
становлением (Werden), то это несправедливо уже потому, «что оно
ведь никогда не стало». Но «об этой первой природе ни в каком
смысле нельзя говорить, что она не властна над тем, что она
есть; что она не от себя самой имеет то, что она есть; что она
делает или не делает то, что она принуждена делать или не
делать». Ибо она «не удерживается необходимостью, но сама
есть необходимость и закон другого». Если же теперь мы
захотели бы сказать, что следовательно, необходимость сама
помогла себе обрести существование, то и это следует отрицать:
Она даже не существует, ибо всякое существование стало
существующим только после первого ради этого первого. Первое
есть то, что оно есть, не потому, что оно не может быть иным,
но потому что оно есть наилучшее. «Благо» - такова
заключительная формула - «сотворило само себя. Ибо, если воление
исходит от него и есть словно бы его создание, то оно
пособило самому себе обрести ипостась. Следовательно, оно есть то,
чего оно само хотело». Таким образом, первое есть свобода?
Свобода: Кажется, будто свобода есть категория,
адекватная первому. Однако свобода есть категория, которая сама
заключает в себе нечто непостижимое, так что, в отличие от всех
категорий, делающих возможным предметное и познаваемое,
она является принципом совершенно иной группы категорий.
Этим обусловлено то, что о свободе первого Плотин говорит
иначе, чем о прочих категориях, но что и эту категорию он
также в конце концов аннулирует, чтобы уберечь то немыслимое,
что служит основой всего, решительно от всякого определения.
Первый шаг состоит в том, чтобы, восходя от нашей
свободы, мыслить совершенную свободу первого: Мы знаем, что мы
свободны, однако во внутреннем раздвоении нашей самости.
Мы суть нечто составное и не суть изначально субстанция
(usia), «а потому мы также не властны над нашей собственной
субстанцией... нечто иное есть субстанция, и нечто иное -
мы... субстанция властвует над нами... Но поскольку мы
известным образом сами суть то, что властвует над нами, то мы
можем называться владыками самих себя». Этот шаг идет от
нашей свободы к свободе Единого. «То, что всецело есть то,
что оно есть, а не так, что иное есть оно само, и иное - его
субстанция, у того то, что оно есть, есть также властвующее
начало, и уже не соотносится с чем-то иным». Оно совершенно
свободно без всякого раздвоения. Об этом Едином говорится:
89
Плотин
«Невозможно постигнуть его, так чтобы при этом оно само не
желало быть тем, что оно есть. Оно совпадает с самим собою,
поскольку оно само желает быть и является тем, чего оно
желает».
Второй же шаг состоит теперь в том, чтобы допустить это
восходящее мышление, однако не допустить положительных
высказываний о свободе Единого. Как невозможно высказать
о Едином соответствующий ему предикат, так невозможно и
высказывание, что оно - свободно. Подобно тому как все, что
может быть высказываемо, - в том числе красота, достопо-
чтенность, мышление, бытие, - существует после его
самого, так же точно и свободная воля и свобода суть нечто
позднейшее. Ибо свобода уже обозначает воздействие на нечто
иное, обозначает, что иное существует и что это воздействие,
если оно свободно, совершается беспрепятственно. Единое же
должно полагаться вне всяких отношений.
Два эти шага повторяются: наше сознание свободы
заключается в стремлении к благу. Если свобода есть стремление к
благу, то мы не можем отказать в свободе тому, что «более
всего достигает блага». Еще несообразнее было бы лишить
свободы самое благо - Единое, - потому что оно остается
в самом себе, не чувствуя потребности двигаться к чему-то
иному. Но в таком случае, если мы хотим мыслить таким
образом Единое, хотим мыслить его свободу как соотнесенную с
самой собой, то исчезает то, что мы знаем как свою свободу.
Мы избираем себя, имея перед собою образцы и ценностные
масштабы. Единое же таким образом мыслить невозможно.
«Если мы предполагаем, что оно избирает в себе, чем оно
желает стать и что ему дозволено превратить свою собственную
природу в нечто иное, то мы ведь не можем допускать, чтобы
оно желало стать чем-то иным». Ибо: «Там, где не два
существуют как одно, но где есть одно - там по справедливости нет
также и того, что властвует собою». «Благо есть желание себя
самого, так что оно избирает себя самого, потому что ведь
здесь не было и другого, которое должно было бы влечь его
к себе».
То, что мы совершаем, как выбор и воление самих себя,
должно иметь свою основу в этом первом, но самого этого
выбора и воления в этом первом нет. Первое есть «сила,
поистине властная над самой собой, которая есть то, чем она желает
быть», но сразу же затем: «или скорее, отбрасывает то, чем
она желает быть, в сущее, между тем как она больше всякого
воления и оставляет всякое воление позади себя».
90
V. Спекулятивное трансцемдировамие
Оно само: Единое, которое «словно бы творит само себя»,
«словно бы опирается на самого себя и словно бы взирает на
самого себя», есть то, «что не имеет ничего иного, но есть
единственно лишь оно само». «Все другое не довлеет себе для
бытия, оно же есть то, что оно есть, также и в своей изоляции».
Так же, как оно сверхразумно, оно есть также нечто
большее, чем свобода, большее, чем самовластие. То, что для нас,
конечных разумных существ, есть формула зла (Ричард III:
«Я - только лишь я сам»), мыслится в трансцендировании как
то, превосходящее все сущее, которое есть источник личной,
любящей, свободной жизни, но само не есть эта жизнь, но
больше, нежели она, и есть ее основа. Здесь об истоке верно
будет сказать: «Таким образом все произошло из некоторого
источника, который не обдумывал, но всецело и сразу
предоставляет всему основу и бытие». Об этом первом говорится:
«Оно само есть основа самого себя, через самого себя и ради
самого себя; ибо оно есть изначально оно само и само сверх-
сущностно». «Оно само» - таково последнее слово.
Формулами для этого бытия, которое есть единственно и
всецело оно само, но лишено всякого определения, а потому и
всякого предиката в высказывании о нем, являются тавтологии:
«Оно есть то, что оно есть» (как бог Яхве говорит: «Я - тот, кто
Я есть»), т.е. оно не имеет никакого определения, поскольку
всякое определение относится к чему-то единичному,
последующему, позднейшему. «Следовательно, то, что не выступило
из себя, но неколебимо принадлежит самому себе, о том в
преимущественном смысле можно сказать: оно есть то, что оно
есть». Оно - единственное в своем роде, однако не потому, что
рядом с ним стоят другие роды, «но потому что оно есть это
само и словно бы нравится самому себе и не имеет ничего
лучшего, нежели оно само».
Подобная трансцендирующая мысль просветляет в
человеческой экзистенции ту искру самости, которая в любом распаде
знает себя как самость, в силу того что мыслит себя в
некотором бытии, которое превосходит всякое бытие, будучи
незатронуто всем возникающим и исчезающим бытием, не будучи
привержено этому вневременному набору интеллигибельных
категорий, но будучи основой также и этих категорий. Подобное
познается подобным. Поэтому: «Если каждая вещь делает
саму себя чем-то, то становится ясно, что это Единое в первую
очередь и изначально таково, что благодаря ему также и все
прочее может быть через себя самого». -
Всякое вопрошание об основе Единого мыслит в
распадающейся категории основания то, что основания не имеет. «Оно
91
Плотин
не возникло, чтобы тебе спрашивать: Как оно возникло? Какая
судьба вызвала его к жизни? Ибо ведь прежде него не было ни
судьбы, ни случайности».
Жизнь: Плотин видит жизнь в растении, животном и
человеке. Счастье присуще тому, кто живет в высшей степени:
наилучшее в сущем есть действительная и совершенная
жизнь. Вопрос о том, что такое эта жизнь, обращает нас к
сверхчувственному истоку. Жизнь, хотя она и переживается
и видима в этом мире, имеет свой исток в области
интеллигибельного. Если я хочу постичь жизнь, я должен трансценди-
ровать ее в направлении интеллигибельного: совершенная
жизнь, жизнь истинная и действительная, находится в этой
интеллигибельной природе, всякая же другая жизнь
несовершенна, есть лишь тень жизни, несовершенна, нечиста. Эта
совершенная жизнь есть жизнь ума, она сама есть мысль. Как одна
мысль темнее другой, так и жизнь становится темнее, нисходя
вниз по степеням жизни. «Но светлая и первая жизнь и первый
дух - одно и то же. Следовательно, первая мысль есть первая
жизнь, а вторая жизнь - вторая мысль, и последняя жизнь -
последняя мысль».
Если мы трансцендировали мыслью к изначальной жизни,
то философский взгляд видит, как «энергия жизни
простирается повсюду, и нет такого места, где бы ее не было». Сущее
пронизано жизнью, оно не мертво, но жизнь теряется по
нисходящим степеням, вплоть до мертвого. Мертво то, что уже не
может более творить чего-то иного, таково уже последнее
понятие, являющееся в зримом облике и не производящее
никакого другого понятия, такова, прежде всего, материя: если она
получает свое определение, то не становится все же «чем-то
живым или мыслящим, но есть своего рода украшенный труп».
Поскольку истинная жизнь есть первая жизнь,
нематериальная жизнь души в уме, эта жизнь не умирает. Но жизнь
принадлежит к составу сущего, то есть к промежуточному царству
между сверхбытием и небытием. Поэтому жизнь упраздняет себя
самое, однако делает это в двух противоположных
направлениях: к тому, что есть более-чем-жизнь, в Едином сверхбытия,
и к мертвости в небытии материи. Отсюда - двусмысленность
смерти, упраздняемая в трансцендировании: смерть есть и
больше, и меньше, чем жизнь, она есть глубина смерти в
сверхбытии, и она есть пустая смерть как небытие. Жизнь
потенцирует себя, пока не получает завершения в том, что выше жизни и
есть исток жизни; она же обращается в ничто в смерти.
92
V. Спекулятивное трансцендирование
Можно было бы методически разработать систематику
спекулятивного трансцендирования. Мы вынуждены ограничиться
здесь, вместо этого, указанием на некоторые аспекты темы,
которое может сделать более отчетливым смысл того, что мы
сообщили читателю в этих примерах.
Различение Плотином категорий чувственного мира и
категорий мира духа (категорий чувственно воспринимаемого и
интеллигибельного) позволяет ему с пафосом утверждать, что он
в своем мышлении сознает себя как дома в интеллигибельном
космосе вечных форм. Этот духовный космос идей мы мыслим
не как нечто иное и чуждое, но он сам живо присутствует в
нашем мышлении интеллигибельного. Интеллигибельный
космос не является для нас предметом, но мы бываем причастны
ему, когда мыслим. Согласно тому основоположению, что
бытие присутствует в мышлении, а значит, в чистом мышлении
выражено само бытие, логическая структура имеет значение
структуры бытия. Мышление категорий затрагивает
существенное в бытии.
Однако все это происходит в преддверии. Подлинное
трансцендирование, то, что является у Плотина не частью доктрины
(Lehrstück) (как различение двух миров), но действительным
актом мысли, есть нечто принципиально иное, а именно - воля
к тому, чтобы, выйдя за пределы обеих групп категорий, за
пределы чувственного мира и духовного космоса, достичь
сверхсущего и несущего.
Фактически применяемые при этом Плотином, хотя и не
достигшие у него полноты методического сознания, пути таковы:
отдельные категории непроизвольно абсолютизируются
(единство, основа, возможность, жизнь и т.д.) и получают тем самым
на одно мгновение превосходящее рамки их смысла
углубление, как если бы они были. Определенность и качественное
своеобразие категории упраздняются через превращение ее
в предельную основу всего. - Поскольку, однако, категория,
мыслимая как объективная категория, остается категорией
определенной, и поскольку как таковая она есть лишь
неистинная абсолютизация, то мышление принимает в ней такой
вид, в котором внутреннее противоречие в сказанном
разрушает сказанное, или же такой вид, что противоположные
категории полагаются как тождественные. Категории в надежном
93
Плотин
составе духовного космоса оказываются в состоянии витания
(или преодолевают сами себя через саморазрушение)
вследствие того, что становятся путеводными нитями духовных
актов, трансцендирующих по направлению к Единому.
Какая бы категория ни применялась в мышлении трансцен-
денции, она, как определенная категория, неприменима здесь,
а как становящаяся неопределенной - уже немыслима. «Даже
если бы мы сказали, что это - благо и что это - самое простое, -
пока у нас не будет точки опоры для мышления, мы не
выскажем этим ничего ясного и отчетливого, хотя мы и говорим
истину». Но эта «опорная точка» для нашего мышления есть так
же точно условие ясности обретающей предметность мысли,
как и основа ее спекулятивной неистины.
То, что говорится, отменяется вновь. Плотин говорит, что
при каждом предложении нужно прибавлять «как будто бы».
Имена употребляются «ради убеждения», «и, во всяком
случае, в выражениях мы всегда можем несколько отклоняться от
строгого мышления». Если мы не просто замолкаем и уходим,
то для нашей речи не остается ничего иного: «Дело в том, что
именно так мы вынуждены говорить о Боге, поскольку мы не
можем говорить о нем так, как нам бы хотелось».
Если мы последуем за переворачивающими друг друга и
разрешающимися наконец в ничто мыслями, то можно
подумать, что все это, поскольку беспредметная, по этой же
причине также бессмысленная и пустая болтовня (Gerede). На это
следует сказать, что речь идет о путях, смысл которых
заключается в наполнении, выходящем за пределы всякого
мышления.
Сознание трансценденции может просветлять себя без
предметного знания в ходах мысли, не познавая при этом
трансценденцию. Стоя на границе между миром и трансценден-
цией, мыслящий выходит за пределы сознания границы
благодаря тому, что при помощи логических средств, пусть даже для
сугубого рассудка - лишь формально, наполняет сознание
чрезмерности, глубины, неисследимости трансценденции,
между тем как для него снова и снова, со все более убедительной
очевидностью выясняется неабсолютность решительно всякого
мыслимого. Невнятное сознание границы превращается в ясное
сознание, формальное - в действительное и действенное.
94
V. Спекулятивное трансцендирование
В области предметного я всякий раз мыслю некое бытие. Это
бытие никогда не есть предельное бытие. Поэтому я перехожу
от него далее. Восходя от одного к другому, от чего-то
достигнутого к его основе, я не могу найти своим рассудком никакого
начала и истока. Мне пришлось бы фиксировать мыслью нечто
предельное и произвольно отрезать настоятельно возникающий
вопрос. Только если, вместо того чтобы нескончаемо восходить
в этом ряду от одного предмета к другому, я совершаю скачок
в трансцендировании от предметного к непредметному, я могу,
не фиксируя никакого предмета, сновидствуя в своем
мышлении, углубиться мыслью (hineingrübeln) в исток. Это и делает
Плотин. Его первое - не предмет, не что-то мыслимое, нечто
лишенное всякого предиката. Оно не стоит, как первое звено,
в начале некоторого ряда. Мыслить его - значит не мыслить его.
Отсюда - путь, ведущий всякий раз через отдельные категории,
и отсюда также возникает всякий раз необходимость скачка
туда, где мышление прекращается. Путь мышления рассудка
ведет в даль нескончаемого. Но трансцендирующее мышление
достигает мыслью в исток или к той цели, где оно находит покой.
Диалектика мышления, которое должно стать не-мышлени-
ем, осуществляет самообращение мышления в невозможность
мыслить (ein Sichüberschlagen des Denkens zum
Nichtdenkenkönnen); мышление, трансцендирующее себя как мышление,
упраздняя себя самое; не-мышление, которое, не мысля
никакого нечто, не мыслит и пустое ничто, но такое ничто, которое есть
несущее или сверхсущее. Эта непрерывно вновь упраздняющая
себя диалектика есть специфическое мышление, которое
ничего не говорит нам, пока условием смысла речи остаются
предметность и наглядное представление, но существенное для
просветления сознания бытия и границы.
Эта спекулятивная диалектика осуществляет в крахе
высказывания некий исполненный смысла крах. Смысл его
заключается, во-первых, в том, чтобы открыть пространство для того,
что ускользает от всякой попытки уловить его в какой-либо
мыслимости, а кроме того, в том, чтобы мыслить самые эти
мыслимости так, чтобы одновременно мы освобождались от
них, так чтобы мы потеряли свою наклонность думать, будто
имеем в мыслимом нечто абсолютное, предельное, далее
непревосходимое.
95
Плотин
Всякое спекулятивное мышление от самого его начала
было вынуждено и всегда будет вынуждено терпеть крах в
качестве логической формации, если от него ожидают некоего
знания о чем-то, некой дедукции, постижения из чего-то иного,
определения в категориях. Но все это мышление обретает
силу своей речи именно благодаря тому, что возникает в таком
крахе. А это высшее невозможно сохранить в форме
положений доктрины, но только в форме мыслей творческих
метафизиков, каждая из которых существует лишь однажды, но будучи
изложена в реферате или проанализирована, теряет свой
блеск и свою силу. В свою очередь, эти рефераты и анализы
необходимы, чтобы научиться обращаться с инструментами,
только владея которыми, мы сможем впервые услышать этот
удивительный язык.
В истории философии снова и снова повторяется
формальная техника выходящего за границу мышления (Darüber-hinaus-
Denken). Что бы ни было достигнуто мыслью, философы
желают все же двигаться дальше, превзойти всякую
теоретическую позицию, всегда при этом повторяя: от поверхностного -
к первооснове, от производного - к истоку. Хотя это и
заключает в себе нечто увлекательное даже только как мыслительная
операция, но быстро блекнет, если превращается в
формальную функцию. Через историю философии простирается
пустыня, в которой совершается дешевое повторение формальной
операции, а рядом с ней тянется болотистая местность, в
которой, после утомления формальной способности, говорят
образами, превосходя ими образы и проникая в лишенное образов,
однако каждый раз - только в самих же образах. И тогда
усложняются ступени классификаций, умножаются промежуточные
звенья, тогда философы мнимо превосходят своих
предшественников, и осуществляется реализация во плоти и крови.
В сравнении со всем этим Плотин кажется простым, он не
испорчен ни интеллектуальными забавами, ни гностической
осязаемостью высшего. Он исполняет подлинное спекулятивное
трансцендирование. Он мыслит спекулятивный экстаз, а не
экстаз, обособляющийся в качестве психологического состояния.
с) Трансцендирование в образах мироздания: Движение транс-
цендирования обретает покоющуюся медитативность в
мысленных набросках словно бы пластичных отображений
Единого, духа, природы. Ведущие в этом направлении движения от-
96
V. Спекулятивное трансцендирование
ступают на второй план. То, что располагается по ступеням,
одно над другим, проявляется мысли не в ищущем движении,
но в видении (Sehen). И тогда изложение мифического видения
бывает нераздельно с просветлением в мысли. Как
образное становится иносказанием для того, чего нельзя высказать
в мысли, так сама мысль превращается в логический миф. Эти
наброски Плотина - поэмы истины, созданные с философской
ответственностью за их истинностный характер, методически
просвеченные обязательностью мысли. Эти наброски
составляют неизменный фон философии Плотина. Если превратить
логический миф Плотина в главное у него (как в нашем
изложении системы Плотина в начале этого раздела), то отступит
в тень другой существенный полюс этого мышления:
возвышенные формы спекулятивного трансцендирования,
восхождение души на путях мышления.
Плотину небезразличны также и традиционные древние
мифы и мистерии. Как и у Платона, плененность мифом
преодолена у него в пользу суверенной способности мышления в
форме мифов, которая позволяет усваивать себе
традиционные мифы. Это играет не очень большую роль у Плотина,
однако это происходит (и получило у неоплатоников обманчивое
и все более опустошающееся развитие).
Воспроизведем еще раз, как Плотин, словно бы
рассказывая, говорит о Едином, о духовном космосе, о природе:
Единое: Оно «есть словно бы бодрствование, хотя
бодрствующий и не есть нечто иное, непрекращающееся
бодрствование и трансцендентное мышление... Но это бодрствование
лежит по ту сторону бытия и ума и разумной жизни... Оно
всегда было и не возникло... Оно не таково, каким оно просто
стало, но таково, каким оно само пожелало быть».
Единое не есть мышление, но прежде мышления. «Оно не
однажды (Es ist nicht einmal)». О нем ничто не может быть
высказано. Ибо «оно должно уступить все вещам, сущим после
него». А поэтому «у него нет ничего из того, что присуще
другим вещам, нет также и мышления. Оно - иное, чем все». Оно -
не бытие, но исток бытия, не полнота, но исток полноты, не
одно с другим, но единство прежде одного и другого.
Духовный космос: Дух есть нечто иное, нежели способность
мышления в нас. Ибо эта способность разъединяет акты
мышления, превращая их в движение в познающей душе. Посколь-
97
Плотин
ку же дух есть причина этого познания, мы можем «видеть дух
словно бы чувственно и осязаемо, как он царствует над душой,
как ее отец». Это - духовный космос «как неподвижное,
несокрушимое движение».
Дух несет в себе все и есть все. Всякая часть в нем есть
все, всякая отдельная вещь есть целое. «Он и не разделен, как
мысли, и то, что есть в нем, не слито одно с другим».
Дух не довольствуется тем, чтобы существовать как
единство, не открываясь инобытию. Во всяком месте он
многообразен. Там - мир вечных форм, прообразов всего, имеющего
бытие. Поэтому он по сущности своей отличен от отображения.
«Там, наверху, все - небо; море, животные, растения и люди,
все, что принадлежит к составу этого верхнего неба, само
небесного рода».
Дух не пребывает в покое. Если бы он покоился, то он бы не
мыслил. «Там, наверху - та жизнь, по которой проходит в
странствии дух, - поскольку она есть жизнь, она всегда одна
и та же, поскольку же она всякий раз есть иная жизнь - не одна
и та же». Там, наверху, созерцание не знает усталости, и
созерцающий не насыщается видением. «Все там неисчерпаемо.
Правда, там есть неисполненность в том смысле, что
исполнение не пробуждает огорчения от исполняющего». - Это -
вневременная жизнь, Единое в вечном движении, словно бы вспять
движения вневременного становления от Единого вплоть до
материи, и прообраз движения во времени.
Там души видят все и «видят самих себя в других; ибо все
там прозрачно, и нет ничего темного, сопротивляющегося, но
каждый и каждое зримы для каждого до самой глубины; ибо
свет для света прозрачен». Там - «подлинная дружба, едино-
бытие всех вещей, и они никогда не разлучаются».
Духовный космос, этот мир вечных идей, «можно уподобить
живому шару, имеющему многообразное содержание, или
мыслить его как некую вещь, сверкающую живыми лицами,
смотрящими во все стороны, или представлять его как совокупность
чистых душ, собранных в одном месте». Но «всегда, если мы
представляем его себе таким образом, мы сами стоим вне его,
как другой; следует же, скорее, самому стать этим миром и
таким образом сделать самого себя предметом созерцания».
Боги столь неизмеримо прекрасны, «потому что в них дух в
более высокой степени проявляет свою действенную силу».
Они всегда мыслят правду, не подвержены страданию,
пребывают в постоянном покое и непорочной чистоте. Они знают все
вещи, и все вещи им знакомы, они знают все, что видит дух.
98
VI. Отпадение и восхождение
Они шествуют по всем полям там наверху и при этом
наслаждаются покоем, «жизнью без трудов».
Природа: Мир ума - это самодовлеющий духовный космос.
Чувственный мир несет на себе печать духовного космоса, от
него же самого. То, что в духе есть в единстве
множественность взаимно дополняющегося многообразия, то в
чувственном мире есть распад на много препятствующих друг другу и
борющихся друг с другом единиц. Если в духовном мире ина-
ковость пребывает в единстве с самой собою, то в чувственном
мире иное есть чуждое, темное, изолированное и
изолирующее. Но этот чувственный мир сияет лучами света в блеске
плотиновского трансцендирования:
Мир вечен. Он проистекает из истока, который от этого не
умаляется. Поскольку первооснова остается неизменной,
целой, не разделяется, поэтому остается также и мир, так же, как
свет остается, пока есть Солнце.
Все в мире есть отображение и как таковое получает славу
от своего прообраза. «Какой другой огонь был бы лучшим
отображением тамошнего огня, чем огонь, [существующий] здесь?
Какой земной шар точнее и в обхвате своем правильнее,
соответственно законченности в себе того мира интеллигибельного?
Какое солнце, после тамошнего, может быть лучше, чем это
видимое Солнце?» «Если бы не существовало сверхкрасоты, то не
могло бы быть ничего прекраснее этого мира».
Движущая сила в природе - это созерцание,
пронизывающее все сущее. Все природное стремится к созерцанию:
природа в растениях, а также и природа рождающей растения
Земли. Все порождается силой созерцания. Но в природе это
созерцание не есть мыслящее в понятиях созерцание. Оно
находится порой к этому последнему в таком же отношении,
в каком сознание спящего человека находится к сознанию
бодрствующего.
VI. Отпадение и восхождение
Путь философствования - это созерцание и спекулятивная
диалектика, и в обоих есть очищение души. Не само по себе
познавание бытия и мира (в мыслительных операциях и
набросках образов), но восхождение души в нем есть смысл
философии. Душа имеет возможность скользнуть вниз или
подняться ввысь.
99
Плотин
Душой в ее теперешнем существовании движет стремление
за пределы всего, туда, где совершается подлинное единение.
Надлежит поспешить уйти прочь отсюда и с досадой
чувствовать оковы, привязывающие нас к этому существованию. Если
душу охватывает сильная любовь к этому запредельному,
«душа отлагает всякий образ, который имеет, даже и
умопостигаемое». Только если душа освободится от наличного,
перед ней внезапно откроется присутствие Единого.
Но никакая воля не может намеренным устроением достичь
непосредственного единения с Единым. Оно приходит как
дар. Ловить его напрямую - это «только полеты, как во сне».
Тем самым мы закрываем для себя возможность стать богом.
Для человеческой души это возможно, «лишь поскольку ее
выводит дух; желать выйти за пределы духа - это значит
провалиться во внедуховное».
Поэтому здесь, в существовании, необходимо смирение.
Философствование возможно только на пути созерцания
Единого в отображениях духовных прообразов, а за их
пределами - в спекулятивной диалектике упраздняющих сами себя
мыслей. Мы привязаны к пути восхождения познающей души в
мире. Тот, кто хочет узреть Единое, должен «созерцать образы
бога, стоящие уже более снаружи». Перед Единым, как
первым, «надлежит остановиться и не говорить более о нем, но
исследовать, как возникли вещи после него». Величие Единого
следует созерцать в том, «что существует после него и
благодаря ему».
Кто был в совершенстве, говорит Плотин, тот знает, куда
влечет его тоска. Там был зажжен огонь, который угаснет, если
человек снова опустится вниз. «Почему же человек не
остается там? Потому что он еще не всецело удалился отсюда»,
потому что он еще «обременен беспокойством тела».
Но если мы обрели встречу с Единым в этом нашем
существовании, то возникает напряженный конфликт тоски по
Единому и смирения. Основной строй души изменяется. Она знает
решающее. И все же, если она сама окажется там и сама
станет тем, к чему она стремится, она «не променяла бы это ни на
что, даже если бы кто-нибудь предложил ей взамен все небо,
потому что ничего лучше не существует и ничто не является
благом в большей степени, нежели это. Ибо выше ей не взой-
100
VI. Отпадение и восхождение
ти, и только нисходящее могло бы видеть все остальное».
Здесь, в этом мире, оттуда падает на все вещи тень
ничтожности. «Если она соединена с тем [Единым] и вовсе не
созерцает, она не боится никакого несчастья. Даже если бы все вокруг
нее погибло, то это совершается в точности по ее желанию,
чтобы ей остаться наедине с этим [Единым]». В
припоминающем знании об этом изменяется весь мир. «Все прочее, что ее
прежде радовало, господство, власть, богатство, красота, наука:
на все это она смотрит с пренебрежением, и так и говорит».
Метафизика Плотина есть одновременно спекулятивное
познание и восхождение души. Знание Плотина о трансценден-
ции неотделимо от его сознания свободы своей самости
(seiner selbst). Душа отнюдь не находится в окончательном
состоянии. Она пала. Она может пасть еще глубже и может
возвратиться.
Если мы помыслим только бытийную схему плотиновского
видения, то все сущее находится в вечно длящемся
круговороте нисхождения и восхождения, в неотвратимой
необходимости целого между сверхбытием Единого и небытием материи.
Кажется, что в этом целом свобода есть инородное тело.
Почему своевольные души отделяются от целого вселенской
души, почему, кроме необходимого нисхождения по кругам,
происходит отпадение единичной души, - это никак не
обосновано в целом подобного видения мира (Weltvision).
Но, напротив, только из сознания свободы мы понимаем
смысл мышления этого видения мира. Сознание вины за
собственные бедствия становится мыслью о предэкзистенциаль-
ном выборе (präexistentielle Wahl). Переживаемая в свободе
возможность восхождения или падения вследствие нашей
собственной активности порождает видение мира как средство
интерпретации смысла жизни. Свобода, кажущаяся инородным
телом в объективной схеме, является, скорее, истоком
мышления самой этой схемы. Эта схема обладает истиной и
смыслом в своей функции для свободы.
Сознание неокончательности теперешнего состояния души
понимает себя, трансцендируя существование, из
происхождения этого состояния: я оказался в этом состоянии не из
ничего, но по собственной воле попал в него прежде моего
времени; основу этой воли я еще познаю в тех мотивах, которые
101
Плотин
испытываю в моем теперешнем бытии, и которые не
отождествляю с самим собой, и от которых я хотел бы
освободиться, если сознаю себя восходящим.
Поэтому в видении бытия у Плотина есть два аспекта,
постоянно переходящих друг в друга, однако различных по
смыслу. Во-первых, аспект вечного присутствия целого в его
постоянном, ничего не изменяющем, но живо движущемся
круговороте мироздания, а во-вторых, аспект совершающегося во
времени процесса ниспадения и восхождения отдельных душ в
силу их собственной свободы и вины. Мы вынуждены мыслить
философию Плотина в напряжении между вечностью
сверхбытия и небытия, духа и мира, с одной стороны, и временностью
сверхчувственной судьбы единичной души, с другой стороны.
Гнозис и христианская теология, мысля сотворение и
гибель мира, вовлекли бытие в область временного, а тем
самым боролись с учением о вечности материи и вечности мира.
Напротив, Плотин упразднил временное, как промежуточную
область природы, в сверхвременном. Движение
вневременного целого есть только мнимое движение (ist nur gleichsam
Bewegung), движение в природе - это временное движение.
Так и душа, вступив в природу в качестве плоти, оказалась
вовлечена с этой плотью во временное движение. Когда она
вступила в телесность мира, для нее началась некая судьба.
Но нечто в душе, ее ядро, остается недвижимым,
неприкосновенным во временности, остается ее вечным бытием. Это
бытие забывается, но не искореняется. Душа в оболочке плоти
переживает свою судьбу. И эта судьба решающим образом
определяется воспоминанием об этом ядре, о его
пробуждении. Никакое решение не является окончательным. Как бы
глубоко ни пала душа, ее сущность угаснуть не может.
Обращение остается для нее возможно. Имеющееся в ее
распоряжении время, при вечности мира, нескончаемо.
Теперь нужно более подробно рассмотреть судьбу и
возможности души.
а) Необходимость и свобода: В сверхбытии, как истоке
всего, о необходимости и свободе говорить невозможно. Во всем,
что приходит после него, есть необходимость. Но есть ли
также свобода? Свобода в общепринятом смысле означает: то,
что совершается без принуждения и осознанно и что в нашей
102
VI. Отпадение и восхождение
власти. Однако Плотин показывает: простая
последовательность событий (Geschehen), без принуждения соответствующая
своей природе, еще не свободна: иначе выйдет, что и огонь,
которому ничто не препятствует, горит свободно. Совершающееся
осознанно, также еще не свободно, если я только наблюдаю за
тем, что совершается без меня. То, что находится в моей власти,
также не свободно, если оно не совершается с правильным
размышлением и правильным стремлением. Даже поступок не
свободен, ибо как условия и ситуации действия, так и последствия
деятельности - не в нашей власти.
Однако свобода существует: «Свободная воля заключается
не в поступке, а в разуме, свободном от всякой практики.
Свобода в действиях и свободная воля относятся не к деятельности,
а ко внутренней работе (innere Betätigung), к самому мышлению и
созерцанию добродетели». Один лишь разум (нус) не имеет
«никакого господина над собою». Он возможен лишь как свобода.
«Всем живущим согласно разуму и разумному стремлению
присуща свобода». «Душа становится свободной, если она силою
разума беспрепятственно стремится к благу. Разум свободен
через самого себя». Свобода, для Плотина, неприкосновенна: «Бог
дал нам добродетель, не подчиненную никакому господину».
Понятие свободы касается того, «что имеет над собою
самовластное решение» и что отличается от «сущего, служащего
другому». Свобода - это наилучшее. Наилучшее исходит из нас
самих. «Это - наша природа, если мы остаемся наедине».
Однако свобода не может означать: создать самого себя.
«Ибо невозможно, чтобы нечто сотворило само себя и привело
себя в существование».
Ь) Двоякая вина и двоякая свобода: «Для души есть двоякая
вина». Одна вина состоит в побудительном основании для
нисхождения из сверхчувственной родины, другая - в
злодеяниях, которые душа творит здесь, в мире. Первую вину душа
искупает страданиями, которые она должна нести в этом мире.
Вторую вину она искупает, возрождаясь вследствие
переселения душ в других воплощениях. Этому соответствует двоякая
свобода: свобода довременного выбора и свобода ее
деятельности в мире.
Тайна довременного выбора: «Что привело к тому, что
души забыли бога-отца? <...> Началом зла для них были занос-
103
Плотин
чивое высокомерие и жажда становления и первое инобытие и
желание принадлежать самим себе. Итак, поскольку они были
рады своему самовластию, они утратили познание того, что
они сами оттуда родом». Они не видели ни бога, ни самих
себя. Они не чтили самих себя, по неведению своего истока, но
чтили иное, и всему удивлялись больше, нежели самим себе.
Свобода в пределах воплощения: Плотин решительно
утверждает нашу свободу против стоического детерминизма и
против астрологов. Хотя всеми вещами управляет провидение,
но «провидение не может быть таким, чтобы мы обратились в
ничто». То, что люди хотели бы свалить на провидение, нужно
вменить в вину душе. Даже если впоследствии провидение
обращает то, что делает душа, в звено целого, а тем самым -
во благо, то все же «акт сделанного выбора следует приписать
душе». Человек не есть только то, в качестве чего он
существует здесь во плоти. Он есть свободный исток, который,
однако, не находится вне компетенции провидения.
с) Зло: Сама свобода для Плотина не является злом. Она
становится злой не вследствие чего-то возникающего из нее
самой, но через нечто иное. Не мы - исток зла, зло
существовало прежде нас. «То злое, что проникает в людей, проникает
не по их воле, но существует путь ускользнуть от зла для тех,
кому это по силам, однако это посильно не всем». Это иное,
которое само есть зло, есть материя.
Против тех, кто полагает, что материя не зла, «что нам не
надобно искать зло ни в чем ином, но следует усматривать его
в самой душе», Плотин говорит: Душа есть, по своему
понятию, жизнь, а постольку - доброй природы. Она не является
злой сама по себе.
Зло - это слабость (Schwäche) души. Слабость души - не то
же самое, что тело, пусть даже оба они и получают имя
слабости (Schwachheit). Однако причина этой слабости заключается
не в душе самой по себе, но в душе, привязанной к плоти,
душе, ниспавшей в телесность мира. А здесь ее слабость
существует не вследствие изъятия чего-либо, но вследствие
присутствия чего-то сущностно ей чуждого - материи.
Это Плотин изображает наглядно: Для материи и души есть
только одно-единственное место в пространстве. Место для
души остается отдельным, лишь поскольку она не пребывает
104
VI. Отпадение и восхождение
в материи. Душа вовсе не могла бы вступить в процесс
становления, если бы она не пришла в становление вследствие
присутствия материи. Из души и материи возникло нечто
единое. Душа выступает на материи, как на подкладке. Душа
словно бы просит подаяния у той материи, которая пребывает
близ души, и докучает ей просьбами, чтобы она проникла
внутрь самой души. Материя помрачает и обессиливает свет,
возникающий вследствие излучения души. Материя дала
излучению души повод излучаться, ибо, не будь материи, это
излучение не нисходило бы. Это - «падение» души: попасть в
материю и ослабить себя в ней, получить от материи повод к
тому, чтобы быть злой.
От материи возникают последствия обращения к материи:
свобода ограничена. «Без тела она - сама своя наиподлинная
госпожа, свободна и чужда космических причин, - будучи
низведена в тело, она уже не во всех отношениях является
госпожой самой себе. Ее окружение руководствуется большей
частью случайными обстоятельствами». По причине соединения
с плотью вожделения души становятся сильнее, ее суждение
притупляется, ее настроения действуют иначе, когда мы
насыщаемся, и иначе, когда мы бываем голодны. Из-за
материальной плоти душа легко возбуждается вожделеть, легко бывает
наклонной к гневу, торопливой в согласии, охотно предается
смутным образам представлений, так же как слабейшие из
созданий так легко гибнут от ветра или от солнечного жара.
На возражение, что душа должна была бы властвовать над
материей, Плотин отвечает: Душа находится в нечистом
состоянии, а потому ее способность совладать с иным ограничена.
Однако способность совладать с материей у нее есть.
Свобода не уничтожена. Поэтому после изначального зла, первого
зла - материи, есть второе зло вследствие податливости
души. Первое зло - это безмерность (Unmass) материи, второе
зло - это то, что впало в непомерность (Ungemessenheit)
вследствие уподобления или причастности материи. Первое
зло - это мрак, второе зло - помраченное. Поэтому душа
повинуется материи вследствие второго зла, однако силой своей
свободы способна направлять то, что возникает из материи.
«Дурная душа принуждена вожделеть или гневаться,
делается низкой в бедности, слабой в богатстве, тиранической, если
105
Плотин
обладает властью... Добрая душа оказывает сопротивление во
всех этих обстоятельствах». Мы можем действовать, «будучи
обусловлены внешними влияниями, как бы повинуясь слепому
толчку». Тогда душа бывает несвободна. «Если, напротив, она
следует в своей воле разуму, как чистому бесстрастному и
подлинному вождю, то только такая воля бывает свободной».
Плотин говорит и то и другое: «Не по доброй воле люди
бывают дурны, поскольку грех есть нечто недобровольное».
А затем: «Действующие действуют сами, а потому и грешат
они тоже сами».
Душа, вследствие своего падения, стала низменнее. Во
плоти, ниспав в материю, будучи наполнена материей, она
остается в материи, даже если со смертью разлучается со
своей теперешней плотью, «пока однажды она не совершит
восхождение и как-либо не отвратит своего взгляда от грязи
(Schlamm)». Вследствие дурной жизни душа находит себе
новое воплощение в худшем облике: кто совершил неправедное
убийство, в следующем существовании сам будет убит, что,
конечно, несправедливость со стороны преступника, но для
того, с кем это случается, происходит по справедливости. Все
взаимосвязано. То, что я делаю, я должен испытать. То, что
некогда совершил я сам, теперь я должен претерпеть. «Ибо
пусть человек не думает, будто он случайно оказывается
рабом или случайно попадает в плен. Тот, кто убил свою мать,
сам становится женщиной, чтобы затем быть убитым своим
сыном, а тот, кто опозорил женщину, сам станет женщиной
и испытает такую же судьбу». И все же переселение душ
является, у Плотина, как бы между прочим. Оно разворачивается
только в низшей сфере бытия, в природном существовании.
d) Две души: Ниспадение и восхождение души видится
через призму основополагающего представления о двух
душах, одна из которых, вечная, неразрушимая, есть
остающаяся в области умопостигаемого рациональная душа, а другая -
становящаяся, страдающая, приближающаяся к первой или
отдаляющаяся от нее скованная плотью душа в мире, которая,
благодаря переселению душ, может проходить через многие
формы существования. Вторая душа словно бы цепляется
снизу к первой, как ее тень; она обретает действительность
через своего рода излучение в тело, строит для себя плоть
106
VI. Отпадение и восхождение
и осуществляет через нее общение с чувственно
воспринимаемым миром. Мы - двоякие существа, в нас есть божественная
часть, к которой присоединилась животная часть. Мы носим
с собою животное.
Хотя душа, как сверхчувственная и чистая душа, вступает
в оболочки пространственно-временного существования,
однако все дурное относится только ко второму, но не к первой.
Душа неразрушима, и только меняет платья. «Меняющиеся
души становятся телом то в той, то в другой форме, и душа,
если может, выходит из сферы становления и остается в
единстве с мировой душой».
Но вторая душа, в этом мире, впадает в нечистоту. Плотин
описывает это так: «Возьмем уродливую, необузданную и
несправедливую душу, душу, исполненную беспокойства,
трусливой боязни, мелочной зависти, всегда предающуюся одним
лишь низменным и преходящим мыслям, постоянно коварно
крадущуюся по окольным дорогам, подругу нечистых
наслаждений, зависящую в своей жизни только от телесных
влияний, душу, находящую удовольствие в уродливом: не скажем
ли мы тогда, что в ней уже нет чистой жизни и чистого
восприятия, но что вследствие смешения с дурным она ведет
неопределенную, многообразно пронизанную смертью жизнь,
уже не видит того, что должна видеть душа, уже не в
состоянии оставаться у себя самой, потому что ее постоянно
привлекает внешнее, земное и темное?»
е) Двоякая тоска: Душа оказывается в мире, а тем самым -
в дурном, и постольку несуществующем, однако не в
безусловно несуществующем. Однако, двигаясь в
противоположном направлении, она оказывается не у чего-то иного, но у
самой себя. Она бывает сама собой, если пребывает в общении
с Единым. Только ее первоисток замечает первоисток,
подобное видит подобное.
Душа, влекомая двоякой тоской, движется то вверх, то вниз.
Если она достигает цели пути в Едином, то вновь выпадает из
него. Выпав же, она снова пробуждает в себе стремление ввысь.
«Как поющий хоровод, собравшись вокруг своего
направляющего (Anführer), может все-таки однажды обернуться, чтобы
посмотреть наружу, но если вновь обращается вовнутрь,
только тогда поет красиво и по-настоящему собран вокруг направ-
107
Плотин
ляющего, так и мы всегда стоим вокруг этого [Единого], но не
всегда взираем на него; когда же обращаем взгляды к нему,
тогда стоим у цели и кружимся около него без всякого
диссонанса в истинно преисполненном бога хороводе».
Прирожденную душе двоякую тоску по чувственному и по
сверхчувственному - ее самозабвение в падении, предстоящий ей выбор
между двумя этими направлениями - это Плотин вновь узнает в
древних мифах: Падение души уподобляется взгляду юного Диониса
в зеркало, после которого его разрывают титаны. - Связь души с
телом - это глоток воды из Леты, после которого душа забыла свою
подлинную самость. - Душа позволяет себе увлечься природой;
природа - это Пандора, для великолепного украшения которой все боги
соединяют свои старания. Душа ищет божественное в красоте своей
собственной естественности, и она - Нарцисс, желающий обнять
мнимое и оттого срывающийся в пропасть. - Душой, охваченной
двоякой страстью - к чувственной и к вечной красоте, - руководят две
Афродиты, из которых одна рождена Ураном, а другая - Зевсом. -
Душа в мире подобна Одиссею, оставляющему чувственную красоту
Цирцеи и стремящемуся к небу. И ее можно уподобить Гераклу,
живущему отчасти вместе с богами, а отчасти - в Аиде.
Восхождение совершается в созерцании. Только по
неспособности к созерцанию, из-за слабости, от
неудовлетворенности, душа обращается к действию и к делающему созиданию
(machenden Hervorbringen), чтобы достичь таким образом того,
на что неспособен был ее дух. Так «мальчики ленивого духа,
будучи неспособны к науке, обращаются к технике и ловкости рук».
Однако созерцание - это любовь и созидание и творение:
Душа видит глазами зримые образы прекрасного. Она с
любовью прозревает в образе лишенное образа и, взирая на него,
обретает покой и совершенство. В созерцании высшего как бы
само собой, без единого звука возникает изображение
прообраза; любовь становится рождающей (zeugend).
Но двоякое направление тоски привносит в любовь
двусмысленность: красота направляет плотское зачатие. Чувственная
любовь, будучи сама по себе хуже, чем небесная любовь, все-
таки хороша, поскольку заключает в себе разум благодаря
созерцанию прекрасного и воле к продолжению во времени;
она становится дурной только в упадке, в извращении, лишенном
образа прекрасного, будучи всецело обращена к сугубо
чувственному.
108
VI. Отпадение и восхождение
f) Душевный строй в мире: Одна - вечная - душа приходит
в себя в своей чистоте уже в духовном мире. «Там она мыслит;
там она лишена аффектов. Только там же - и ее подлинная
жизнь; ибо теперешняя жизнь без бога - это только отзвук
жизни». Это - жизнь богов и божественных, блаженных людей,
отделенная ото всего здешнего. Однако еще дальше этой
блаженной жизни ведет «бегство Единого к Единому».
Поскольку имеются две души, возможно нечто
исключительное: совершенная незатронутость одной души всеми
бедствиями в мире. Поэтому Плотин может сказать: Бедность и
болезнь суть для добрых людей ничто - ибо они не
затрагивают душу, возвратившуюся к себе из состояния самозабвения.
Для дурных же людей бедность и болезнь полезны, как и все
бедствия, ибо они наказывают и исправляют. Как для злого
человека, т.е. для преданной материи, забывшей себя души, нет
ничего доброго и его повсюду мучат несчастья, так для
доброго человека нет ни беды, ни несчастья. Душа, пробудившаяся
к Единому, терпеливо сносит все тяготы мира, она покоряется
«естественному закону мироздания». В последнюю пору своей
жизни, в своей тяжелой болезни, Плотин написал
захватывающий трактат о блаженстве.
Душа, «ниспавшая», «рухнувшая», «заброшенная» в мир,
если осознает свой исток и свою цель, ведет такую жизнь,
существо которой философ наглядно изображает в аллегориях:
Душа «вступает в этот мир со своим даймоном, словно
на корабле, будучи поставлена на отведенное судьбой место.
И когда оборот, подобно ветру, гонит странников туда и сюда,
возникают многообразные драмы, перемены и случайности».
Душа играет отведенную ей роль в мировой драме (эта
великая метафора встречается у Платона, у стоиков, у Кальде-
рона, у индусов): «В драмах поэт дает слова, а актерам самим
по себе присуща хорошая или дурная манера игры. В
подлинной же поэме мира душа бывает актрисой, а роль свою она
получила от творца. Как актеры получают свои маски и платья, -
и пышные облачения, и лохмотья, - так и душа получает свою
судьбу не произвольным образом, но в соответствии со своим
характером. А приноровляя к себе эту судьбу, она включается
в строй драмы и совокупного разума. Тогда она исполняет свои
поступки как своего рода напев, и голос и облик актера или
увеличивают красоту стихотворения, или же своим дурным го-
109
Плотин
лосом он хотя и не делает драму иной, чем она есть, но сам
оказывается дилетантом (Stümper). А поэт, как судья в делах
искусства, отстраняет его от представления с заслуженным
порицанием, и если хорошего актера он использует в
достопочтенных ролях и в еще более прекрасных драмах, то дурного
актера - только в незначительных. Только актеры эти играют в
театре, который намного больше обыкновенного, ибо творец
предоставляет в их распоряжение все мироздание».
То, что каждая жизнь подобна роли, исполняемой в драме,
определяет внутреннюю установку проницательного человека:
никто не может жаловаться на то, каким рожден он в своей
особенности. Также и другие живые существа, которые не
столь заметны, как человек, однако служат для украшения
Земли, ни один разумный человек порицать не станет. Мы не
спрашиваем растения, почему они лишены ощущений, или
животных, почему они - не люди. Этот вопрос был бы столь же
глуп, как и вопрос, почему люди и боги - не одно и то же. «Ибо
не могло бы быть все одинаково». Различие между людьми не
следует порицать, как не заслуживает порицания драма,
«потому что в ней действуют не одни только герои, но также рабы
и грубияны».
Мы обязаны хорошо сыграть предназначенную нам роль.
Для этого требуется видеть и исполнять ситуацию в мире.
Каждый должен сделать выводы для своей роли из огромных
различий, существующих между людьми. Например: люди,
подобные неразумным хищным животным, хотят причинить
насилие другим людям. Между тем эти последние, «конечно,
лучше тех, кто одолевает их, но все же они позволяют дурным
людям одержать победу над собою, именно потому, что в
известных отношениях они и сами также дурны, а отнюдь не
хороши действительно». Задача нашей роли состоит в том,
чтобы вести борьбу за собственное существование. Тех, которые
«вследствие вялой и изнеженной жизни, подобно
откормленным агнцам, допустили себя стать жертвами волков»,
получают ужасные страдания в наказание за свою леность. Ибо,
поскольку в мире верх одерживает насилие, «даже сам бог не
вправе биться за невоинственных людей. Ибо закон говорит,
что из войн необходимо спасать тех, кто смело оказывал
сопротивление, а не тех, кто молится». Даже и там, где необхо-
110
VI. Отпадение и восхождение
дим труд, урожай плодов собирают не молящиеся, а те, кто
обрабатывает свой надел. Смешно было бы делать все прочее
в мире по своему собственному мнению, даже и против воли
богов, а потом желать, чтобы боги спасали нас. Ибо мы сами
не делали того, чем должны мы спасаться по велению богов.
Дурные люди властвуют благодаря немужественному
поведению подвластных им. Однако насилие и война необходимы до
тех пор, пока люди не будут поистине созерцать Единое и не
будут добры. Ибо провидение не позволяет поддерживать мир
посреди неразумия и всякого рода пороков.
Если Плотин говорит: Борись, а не молись! - разве он хочет
поставить деятельность в мире выше созерцания? Отнюдь
нет. Но дело тут только в том, чтобы, во-первых, осуществлять
это созерцание в его подлинной истине, а именно - так, чтобы
оставалось в силе положение Плотина: Деятельность есть
нето более слабое сравнительно с созерцанием; а во-вторых,
благодаря такому созерцанию как можно лучше играть свою
роль в целом, зная свою роль, работать и бороться
соответственно ей. И все же серьезный человек не станет подменять
одно другим. Он всерьез занимается серьезными вещами,
созерцанием, любовью и восхождением к Единому. Играя свою
роль, он борется и не позволяет дурному властвовать над собою.
Но серьезно занимаются исполнением этой роли только люди,
«которые не понимают серьезного и сами суть только игрушки».
g) Философия - это восхождение к Единому: Найти путь
восхождения вверх и уже идти по этому пути может
философия. Она дает такое познание, которое как таковое уже
возносит душу ввысь.
Восхождение души происходит, прежде всего, через сам
способ жизни, через очищение души (катарсис благодаря
философскому образу жизни). «Без действительной доброты
разговоры о боге - это только речи». Этос есть предпосылка, но
затем также и следствие философского мышления.
Философствующий человек ищет бегства из материи, из плоти, однако
не куда-то еще в пространстве, но бегства через деятельность
и установку разумной души в самом же мире. Иным способом
для нас не будет никакого бегства из мира.
При предпосылке этической практики душа очищается
диалектикой. Однако научить возможно только пути. Идти по не-
111
Плотин
му - дело самого человека. «Мы говорим и пишем, возбуждая
дух к созерцанию при помощи понятий. Ибо научение
простирается только до пути и странствия; но созерцание уже есть
некое действие того, кто принял твердое решение созерцать».
Поэтому само по себе содержание учения никогда не
бывает завершенным. Учение о Едином доставляет только
«аналогии, отрицания, знания о его действиях и разнообразные
степени восхождения». А для находящейся в мире души оно дает,
в сущности, два «доказательства»: оно показывает, что те
вещи, которые она сейчас высоко ценит, не имеют никакой
ценности, и напоминает душе о ее истоке и ценности. Эти
доказательства не являются логически убедительными для рассудка.
Они могут иметь успех, только если душа сама есть то, что она
исследует.
Однако не каждая душа в плотской связанности бывает в
равной мере способна раскрыть для себя в Едином эту свою
подлинную сущность. Она должна знать, «есть ли у нее сила
для подобного исследования, есть ли у нее глаз, способный
видеть. Ибо если вещи далеки от нее, то для чего же? Если
они внутренне сродни ей, то она может найти их». Это Плотин
постиг с полной очевидностью: То, чему учит философия, мы
не вполне понимаем своим рассудком, а понимаем это в
достаточной мере только нашим подлинным существом. Только
припоминание о незапамятно-исконном, и то, как мы изо дня в
день относимся к самим себе, позволяет нам усмотреть смысл
того, что, будучи помыслено, возвышает также и самого
мыслящего. Душа пробуждается во времени для того, что уже
было готово в ней самой. Тем, что она есть в своем воплощении,
она является отнюдь не через некое уже-так-бытие (ein Schon-
so-Sein), которое ей нужно было бы только познавать, но
через свободу, избирающую свою возможность. Оспаривание
понимания в основе бытия означает утверждение, что у нас
самих нет никакой сущности. То, что пусто в упрямстве своего
так-бытия, неспособно понять философию потому, что в нем
не допускается восхождение.
Точкой отсчета мыслящего восхождения остается
наивысшее: «присутственность (parusia), превосходящая всякое
знание». «Нужно отложить все земные покровы, пребывать только
в этом одном [Едином] и стать только этим одним». Нам сле-
112
VII. Против материализма и против гнозиса
дует «поспешить уйти прочь отсюда и презирать наши оковы».
Отсюда вновь и вновь повторяемое требование: «Так пусть
тот, кто способен на это, идет и войдет внутрь своей души.
Пусть он оставит снаружи то, что видит взгляд глаза, пусть он
не оглядывается в поисках того, что прежде представлялось
ему блеском прекрасной телесности. Ибо, если мы видим
плотскую красоту, мы должны, сознавая, что она являет только
схемы и тени, спасаться бегством к тому, отображением чего
она служит».
VIL Против материализма и против гнозиса
Наша природа, как чувственных и интеллигибельных
существ, желает или мыслить вещно-осязаемо и предметно, или
не мыслить вообще. В таком случае перед ней стоит выбор -
или отрицать трансценденцию - это совершает материализм -
или опредмечивать трансценденцию в осязаемый объект и
через него обесценивать действительный мир - это совершает
гнозис. Плотину приходится защищать свою философию от
того и другого.
Против материализма за трансценденцию
Есть люди, говорит Плотин, считающие материю подлинно
и единственно сущим, из которого возникает все. Виной тому -
чувственная видимость: они считают сущим тела. Они
озабоченно наблюдают появление и исчезновение телесных
обликов. Так у них возникает мнение, что сущее - это неизменное,
лежащее в основе этих меняющихся тел. Это неизменное есть
материя.
Против «неизменного» как признака бытия. Нам не
следовало бы считать сущим то, что так или иначе неизменно, но
следовало бы посмотреть прежде, какие свойства должны быть
присущи истинно сущему. Например, тень, хотя она и
постоянно присутствует при изменяющемся предмете, существует
отнюдь не в большей степени, чем этот предмет. Если
неизменное должно быть признаком сущего, то мы должны были бы
считать пространство в большей степени сущим, нежели тела,
потому что пространство не уничтожается.
Против приоритета материи, заключенной в области
чувственного: Материю понимали как действительное, по-
113
Плотин
скольку хотя и исходили из чувственно воспринимаемого,
однако саму материю не считали чувственно воспринимаемой. Все
воспринимаемое должно быть, как считают, только
преходящим явлением невоспринимаемой материи. «Чудеснее всего
то, что те, кто проверяет истинное содержание всего
чувственным восприятием, утверждают, что сущее нельзя уловить
чувственным восприятием». Либо они указывают признаки
невидимой материи, имеющие характер чувственной
воспринимаемости. Если, скажем, они приписывают материи способность
сопротивления, то они неправы, ибо и это - чувственное
качество, подобное видимости и слышимости. Либо же они хотят
разумом постигнуть материю, из которой они хотели бы затем
объяснить существование разума. Но это - «удивительный
разум, который полагает материю вперед себя и приписывает
сущее материи, а не себе самому». Подобный разум, согласно
собственному своему воззрению несуществующий, не
заслуживает никакого доверия.
Не воспринимаемая чувствами материя мыслится в
атомах или элементах (которые суть уже оформленная материя).
Однако полноту вещей и их свойств невозможно генетически
объяснить посредством комбинации из атомов. То, что
несопоставимо с ними, не может быть дедуцировано из них: так, не
могут быть выведены из них жизнь, душа, дух. То, что само
есть целое как единство, невозможно понимать как агрегат
элементов, - например, ощущающее единство души. То, что
совершенно лишено тела, не может возникать из телесного, -
например, мысль, память.
В особенности несостоятельно объяснение случайного
возникновения вещей из агрегата атомов. «Производить из
беспорядочного движения атомов или элементов порядок, разум и
направляющую душу - несообразно и невозможно». Мир ни в
чем не может быть постигнут из одной лишь материи. «Ибо
материя сама себя не оформляет и не присовокупляет к самой
себе душу. Следовательно, должно существовать нечто такое,
что направляет хоровод жизни». Не возникло бы решительно
ничего, но все в материи пребывало бы в покое, если бы не
было ничего, что образует и оформляет ее. «Вероятно, не
существовало бы даже и материи вообще, и все мироздание
распалось бы, если бы кто-нибудь вверил его сдерживающей
силе тела».
Таким образом, критика Плотина в адрес материалистов
идет по следующему пути: если я вижу бытие как таковое
114
VII. Против материализма и против гнозиса
в чувственной наличности, в телесном, то вследствие
бесконечной изменчивости явлений я вынужден мыслить нечто
лежащее в основе, постоянное. Однако если я мыслю таким
образом материю, то она не является чувственно
воспринимаемой. Я делаю нечто в своем мышлении, но так, что я не могу
постигнуть этого действия из того, что я мыслю. Из одной лишь
материи невозможно постигнуть ни телесное явление в его
многообразии, ни душу, ни мышление.
Заклинающий голос Плотина обращается против нашей
склонности находить действительность бытия в материи.
«Итак, не пытайся увидеть смертными очами нечто такое, как
Единое, дух, душу». Следует сломить распространенное
мнение, будто всякое бытие - это только чувственно
воспринимаемые вещи. Ибо то, чему при этом приписывают больше всего
бытия, есть в наибольшей степени небытие. Кто не найдет
этого обращения от мнимо абсолютной реальности вещей к
восхождению в духе, тот «останется пуст и лишен бога, подобно
обжорам, которые на празднествах наполняют свое чрево
недозволенными вещами, потому что полагают, будто эти вещи
более очевидны, чем созерцание бога, которому совершается
празднование. Ибо и при этих священных празднествах
(философствования) невидимый бог вызывает сомнения в своем
существовании у людей, считающих очевидно ясным только
то, что они видят плотскими глазами».
Против гнозиса за красоту мира
Тот, кто мыслит сверхчувственное в осязаемо-вещных
образах и теперь, ставя одно осязаемое против другого,
отвергает действительность самого мира, - это гностик.
Чувственное созерцание сверхчувственного делает его слепым к
подлинной чувственности, тогда как только духовное мышление
сверхчувственного способно бывает видеть также и блеск в
сфере чувственного как отсвет лучей, изливающихся оттуда.
Плотин, хотя и указывает природе чуждое бытия место в
иерархии мироздания, все же оправдывает природу и
усматривает в ней красоту явления.
Мир - это не бытие. Тот, кто осуждает природу мира, может
делать это только «потому, что ему незнаком закон
последовательности ступеней от первой до последней». Поэтому
утверждение, что мир плох, потому что в нем так много отвратитель-
115
Плотин
ного, означает, во-первых, что мы приписываем миру слишком
большую ценность, во-вторых, что мы помрачаем взор для
различения подлинно присущего ему достоинства - быть
отображением (das Abbildsein). Желание, чтобы чувственный мир был
таким же, как интеллигибельный, ложно; однако истинно
признавать, что не может быть более прекрасного отображения
интеллигибельного мира [, чем чувственный мир].
Предпосылкой для правильного видения единичного сущего
является видение целого. В духовном космосе там, наверху,
«все вещи суть все, но не здесь внизу». Здесь в мире отнюдь
не все может быть одинаково. Ибо в таком случае способ
бытия мира, подразделение и порядок целого во внеположном
бытии частей, был бы невозможен. Поэтому мир как целое
можно сравнить с живым организмом. И поэтому не следует
спрашивать, меньше ли нечто, чем нечто другое, но нужно
спрашивать только, находится ли оно на своем должном месте
таким, каково оно есть.
В одушевленном организме мироздания «все не может
быть глазом. Иное исполняют ноги, иное глаза, иное
мышление. Не следует требовать равного для того, что само не
равно. Пальцу не присуще зрение. У каждой части есть свое
дело». Есть свое место даже для несовершенного. Неправильно
осуждать целое из-за частей, как если бы пожелали
рассматривать, в совокупном организме человека, один волос или один
палец ноги, не видя при этом человека в целом - это
божественное зрелище.
Строение мироздания подобно строению организма: У
каждого живого существа верхние части, глаза и голова, более
прекрасны, средние же и нижние части не равны им. Люди же
находятся в середине, наверху - небо, и на нем боги, внизу -
иерархия живых существ, вплоть до неживого. Разум не
желает, чтобы все было хорошо, так же как художник не все части
животного изображает как глаза. Соответственно этому и разум
не всех делает богами, но часть - богами, часть - демонами,
а затем следуют люди и животные, по порядку, - не из зависти,
а с разумом, заключающим в себе интеллектуальное
многообразие.
Образ мира подобен живописному полотну, в котором есть
свет и тени, и тени способствуют красоте целого. Картина - не
единообразие, но гармония неодинакового. Так и в мироздании
необходимо также и дурное. Не будь его, целое было бы
несовершенно.
116
VIL Против материализма и против гнозиса
Мир являет все в смене и изменении. Каждое единичное
сущее подвержено гибели. Одна вещь ограничивает и
вытесняет другую. Все они находятся друг с другом в состоянии
войны на уничтожение. Множественность, вызванная
разделением в пространстве, порождает враждебность и делает
возможной дружбу. «Часть не довлеет себе, поддерживается другой
частью и тем не менее враждебна тому, что ее поддерживает.
Гибель одного создает условия для возникновения другого».
Каждый самоутверждается вследствие воли к жизни.
Последствия этого - боль, страдание, смерть. «Живые существа
пожирают друг друга, так что непрерывно идет война, которая,
впрочем, едва ли когда-нибудь окончится или утихнет».
Этот мировой процесс требует понимания: Должны
существовать не только различия, но и противоположности. Как
гармония возникает из противоположных звуков, так и
мироздание согласно с самим собою, тогда как его части во многом
разногласят. Разум един, но [он един] только из
противоречащих понятий. «Ибо если бы разум не заключал в себе
множественности, то он не был бы целостностью (Totalität) и вообще
не был бы разумом». И так, поскольку есть доброе, должно
существовать и дурное, поскольку есть закон и порядок,
должно существовать также беззаконное и беспорядочное.
Гибнет только отдельное сущее. Мир как целое вечен.
«Может быть, взаимное пожирание необходимо, чтобы
создания могли чередоваться друг с другом и сменять друг друга,
ведь, даже если бы мы не хотели умертвить их, они так или
иначе не могут оставаться вечно. Если другие получили пользу
благодаря им, на что же тут жаловаться?» Что «начало быть
благодаря гибели чего-то другого», тому «уничтожение не
приносит ничего дурного, и вместо уничтоженного огня загорается
другой огонь».
Как облик мира подобен организму, так миропроцесс
подобен драме. Смерть - это перемена явления жизни. Это
подобно тому, как на сцене убитый актер меняет свой костюм и вновь
появляется под другой маской, но на самом деле не умирает.
«Обращенное друг против друга оружие смертных людей
намекает нам, что вся человеческая жизнь - это игра, и
показывает нам, что смерть не есть нечто дурное, что, умирая на
войне и в бою, мы несколько предвосхищаем то, что происхо-
117
Плотин
дит в старости, что мы скорее уходим со сцены, чтобы тем
скорее снова выйти на нее. И так же, как на сценах театров,
и убийства, различные виды смерти, завоевание и
разграбление городов, - все это следует рассматривать как изменение и
чередование сцен, просто как изображения бедствий и жалоб.
Ибо и здесь жалуется не внутренняя душа человека, а
наружная его тень».
В целокупности этого мирового процесса правит некий
закон. Все в мире происходит из разума, и потому благо, но все
есть также оформленная разумом материя, и потому дурно.
Поскольку материя еще обладает какой-либо властью небытия,
все раздроблено на части в пространстве и времени, поэтому
повсеместно есть та необходимость и случайность, которые
порождают лишенное меры и неудачное. Но даже и все это
опять становится материей для разума провидения, который
и то, чего он не желал, все же, раз уж оно возникло, включает
в разумную взаимосвязь целого и использует в ней. «Но это -
доказательство наивысшей власти: уметь хорошо
использовать даже и дурное».
Превозмогающее руководство провидения совершается
через его недеяние, которое действует обширнее, глубже и
мощнее, чем действие. Способность создать что-то собственными
руками присуща тому, кто имеет недостатки. Так и среди людей
«одни только благочестивые существа довольствуются тем,
чтобы успокоиться в самом себе и быть тем, что они есть. Мно-
гозаботливость была бы для них небезопасна, ибо при этом
они выходили бы из пределов самих себя». Мироздание
благочестиво в этом смысле. Оно не действует, но совершает
величественные вещи именно потому, что пребывает в самом себе.
Мироздание возникает не на основании какого-либо
размышления. В то время как человеческий художник творит не из
самого себя, но трудится над неким материалом извне, мировая
душа не задается целью создать что-либо. Из ее бытия мир
возникает сам собой, без размышления благодаря тому, что
больше чем размышление. «И так дух, отдав частицу себя
в материю, тихо и без потрясения произвел мироздание», это
смешение духа и необходимости (ananke). Мировая душа
«управляет этим мирозданием самым легким способом, в
известной мере - через одно лишь свое присутствие».
Взирая на целое, Плотин говорит: «Ведь намного лучше,
что существа и люди живут так, как будто бы они вовсе не
возникли с самого начала. Ибо будь оно так, наступило бы
опустошение жизни. А теперь в мироздании имеется богатство
118
VIII. Критическая характеристика
жизни, непрерывно порождающей прекрасные и
благообразные игрушки».
Этот прекрасный мир побуждает Плотина сказать: «Меня
сотворил бог, и я пришел оттуда, будучи совершенным среди
всех живых существ, будучи достаточным для самого себя и
самодовлеющим, не нуждаясь ни в чем, ибо во мне есть все:
растения и животные, множество богов, толпы демонов,
добрые души и одаренные добродетелью люди. Ибо не одна лишь
земля украшена всеми растениями и всевозможными
животными, и не только на самое море распространилась сила души,
тогда как весь воздух, эфир и небо оставались бы без души, -
но там пребывают все добрые души, дающие жизнь звездам.
Однако все во мне стремится ко благу, и все отдельное
достигает блага по мере своей способности».
VIII. Критическая характеристика
а) Противоречия. Плотин пользуется понятиями,
имеющими двоякий смысл: один понятный смысл и один смысл - для
высказывания непостижимого, - как, например, созерцание,
Единое, благо, первое и т.д. Если они имеют целью мыслить
немыслимое, превышающее бытие и предшествующее ему, то
они уничтожают сами себя и подлежат отмене (müssen
rückgängig gemacht werden). Эта структура - форма мыслящего
краха в противоречии, тавтологии и круга, позволяющая
сказать в мышлении то, что выполнимо только в трансцендирова-
нии мышления, - неизбежна и соответствует сути дела. Вот
примеры:
1. Единое нужно выразить лишь через отрицание всех
определений, однако ему приписывается множество
определений, как, например, уже само понятие «Единое», часто в
сопровождении слова «как бы». - Точно так же у материи отрицают
всякое определение, но затем все же говорят о ней и говорят
опять-таки в противоречиях: то материя есть
противоположность идеи, совершенно бесформенное, а потом все же она,
как последнее производное, есть еще «как бы идея».
2. Противоречие возникает, если индивидуальность то
понимают в противоположность идее, а то трактуют ее самое как
идею. Повсюду господствует следующая идея: Только
всеобщие формы суть идеи, идеи индивидуума не существует; есть
119
Плотин
идея человека, но нет идеи Сократа. Но затем говорится:
«Индивидуальные люди отличаются друг от друга не только
материей, но и бесчисленными различиями формы. Они относятся
друг к другу не так, как изображения Сократа относятся к
своему оригиналу». Скорее, их различие происходит от различия
первоформ. «Может быть, существует столько же форм,
сколько существует различных единичных вещей, а именно
постольку, поскольку различие их основано не только на отставании от
идеи». «Необходимая в этом случае бесконечность в мире
форм-сил не должна нас отпугивать».
3. Противоречивость, заложенная в самой природе
философии Плотина, растет из противоположности двух
направлений - пути вниз и пути вверх.
Мир есть пагуба и мир есть удивительная красота. Плотин
ссылается на Платона: Платон понимал всю совокупность
чувственного мира и общение души с телом как бедствие (Unheil),
как оковы или могилу души, как утрату душой своего оперения.
И тот же Платон в «Тимее» называл мир блаженным богом.
Ибо ему дана душа, чтобы он был одарен разумом.
Поэтому схождение душ в мир имеет двоякий аспект.
Каждая отдельная душа послана сюда для того, чтобы мироздание
было совершенно; но каждая отдельная душа несет на себе
также вину за акт своей свободы. Душа ниспослана в мир
(hinabgeschickt), чтобы быть побуждающей силой прекрасного
мира, и душа ниспала (hinabgefallen) вследствие совершенного
до времени избрания, и лучше бы этого не произошло. Это -
своеволие в истоке, заносчивое высокомерие и жажда
становления.
Единство необходимости и свободы заключено как в це-
локупности мирообразования, так и в судьбе отдельных душ:
«У каждой души есть собственное время: если это время
настало, то она нисходит как бы по призыву вестника и
проникает в тело, пригодное ее воспринять». Она нисходит не по
доброй воле и не по принуждению. Свободу не следует
понимать как свободный выбор, но она скорее «подобна»
естественному влечению, будь то влечению к совокуплению, или
же к совершению героических деяний. «В добровольности и,
опять-таки, недобровольности нисхождения нет никакого
противоречия». «По вечным законам сущности души»
необходимо то, что она делает все же свободно, хотя и «против воли».
То, что принимает на себя душа, оказывается прибытком для
плоти. «Ее нисхождение» можно назвать «ниспосланием по
воле бога».
120
VIII. Критическая характеристика
4. Противоречие заключено также в понятии зла. Сначала
зло есть только нечто не столь доброе, имеющее в себе
меньше бытийного содержания, вплоть до материи, которая есть
безусловное зло, потому что она есть небытие. Но затем это
«меньше» чего-то сугубо негативного превращается в зло как
нечто положительное. Зло то называют тенью блага,
необходимой для гармонии целого, всего лишь недостатком,
несуществующим из самого себя, а затем зло видится как действенная
и соблазнительная сила, следование которой есть в человеке
«второе зло».
5. Противоречиво также представление о божественном.
Бог есть Единое, и бог - это многие боги. Властвующая всем
и вся мысль Плотина есть мысль о Едином, и Плотин же
восхваляет множество богов.
Все эти противоречия представляются осмысленными в
целокупности плотиновского видения бытия. Там, где он сам
замечает их, он упраздняет их при помощи учения о ступенях
или знания о неадекватности всякой речи. Указание на них
есть скорее просветление философии Плотина, нежели ее
критика.
Ь) Эмпирическое знание и мифологические представления.
Безразличие Плотина к миру не позволяет возникать интересу
к научному познанию мира. Он не ищет частного знания,
сведений и исследований, поскольку для него важно только
Единое. Поэтому он, не задавая вопросов, перенимает
мифологические представления своего времени и его научное
варварство. Ему знакомы демоны и приворотные зелья.
Однако для Плотина характерна его научная
рассудительность. У него есть некоторые критические сомнения
относительно представлений о болезнях, в отношении астрологии,
демонологических терапевтов и тому подобного. Он выступает
против врачей-чародеев, которые «опредмечивают болезни
как демонические существа», и против толпы, которая
«поддается впечатлению чудодейственных сил магов»: «Тому, кто
мыслит ясно, они не смогут внушить, будто причины болезней
не должны заключаться в перенапряжении сил, в избытке или
недостатке пищи, в процессах гниения».
Но как мифологически-магические представления, так и
рассудительное познание имеют дело только с
второстепенным по значению миром природы, не имеющим никакой важ-
121
Плотин
ности для мудреца. Речь идет о материальном воздействии на
привязанную к телу душу. Тот, кто вообще охотнее
руководствуется чувственным опытом, нежели философией, для того,
например, существуют и оракулы. Но возвышение к истине
совершается только через посредство мышления, т.е. через
погружение в собственную глубину души и нуса, а не благодаря
богам. Поэтому Плотин может проявлять столь же мало
интереса к магическим и астрологическим представлениям и
действиям, как и к эмпирическим изысканиям и познаниям. Все эти
сферы знаний и представлений в совокупности занимают лишь
низшую ступень в иерархии. Однако для образа мысли в этих
несущественных областях верно утверждение, что «тот способ
философствования, которому мы следуем, отличает также прямота
характера, соединенная с чистым и ясным мышлением».
Плотин оставил интерес к научному ориентированию в
мире и к государству. Поток возникающего в Едином,
возвращающегося к Единому миропроцесса неисторичен, есть вечно
настоящее. Мышление его в одном-единственном грандиозном
шифре бытия открывает перед удостоверяющейся в нем
душой путь восхождения. Плотин - самый чистый и самый
исключительный метафизик.
с) Экзистенциальный смысл: Мы хотели бы
охарактеризовать философию Плотина, проникнув в нее несколько глубже.
Свой удивительный покой он обретает благодаря тому, что
душа осознает, что в своем внутреннем ядре она
неприкосновенна, не подвержена никакой порче, бессмертна. Если
чистота души достигнет в ней самой сознания и действенности, то
ничто в мире не затрагивает ее.
Эта беспристрастность возможна, потому что душа знает:
ее подлинный дом совсем не здесь. Взирая в исток всего, она
обретает удовлетворение в созерцании гармонии целого.
Но это удовлетворение - удовлетворение стороннего
наблюдения. Душа двояка: страдания затрагивают ее, но и не
затрагивают ее как самость; как звено мира она вовлечена в
мучения, а как наблюдательница безучастна к ним. Для
описания характера этой беспристрастности Плотин пользуется
таким суждением: мудрец счастлив, и он по-прежнему будет
счастлив и в том случае, если его будут медленно сжигать
заживо в медном быке Фаларисах|. Гармония целого не наруша-
122
Vlil. Критическая характеристика
ется дисгармонией в частностях: Плотин говорит о «мужах,
друзьях бога, терпеливо выносящих мучения мира, если
вследствие обращения мира на их долю выпадает какое-либо
необходимое бедствие. Ибо следует обращать свое внимание
не на пожелания индивидов, но на интерес целого».
Подобное удовлетворение кажется сомнительным.
Гармонию усматривают только принципиально в целом и во
множестве отдельных красот мира, но отнюдь не в постигающем
истолковании конкретного несчастия. - Не требуют ли при этом
от человека невозможного? Разве тот, кого постигло
страдание, согласен с гармонией целого, которая в действительности
совершенно незнакома ему как гармония? Для кого существует
та конкретная гармония, требующая этого, ныне
переживаемого, ужасного страдания? Не становится ли верующий в
гармонию человек нечестным, когда иллюзорно представляет себе
подобную гармонию?
Правда, при телесных мучениях возможно спокойствие
(Gelassenheit), однако оно бывает обусловлено или же невозможно
вследствие индивидуальной витальной конституции, и во
всяком случае, оно тем менее возможно, если боль конечного
существа прекращается только оттого, что своей остротой
лишают его сознания. Даже «мудрец» не отверг бы современной
техники облегчения болей и борьбы со смертью. - Совсем
иное дело - муки жизненного кризиса отчаяния, в котором все
предстает нам ничтожным или вследствие неистребимого
сознания вины, или от кажущегося непреодолимым одиночества,
или от предательства друга. - Самоубийство теряет
заключенную в нем неизмеримую проблему. Плотину знакомо только
самоубийство, мотивированное гневом, когда душа, впадая в
нечистоту по причине своего аффекта, уходит из жизни.
Тенденция к преуменьшению его значения проявляется в вопросе:
Позволительно ли лишить себя жизни, если мы замечаем в
себе приступ безумия? «Ну, может быть, с мудрым и
добродетельным этого приступа не случится», однако если он все же
случится с ним, то пусть самоубийство поместят в число
«необходимых», т.е. вынужденных ходом природы вещей, о
которых следует принимать решение по обстоятельствам, а не
безусловно. - Душевные болезни в их реальности не становятся
проблемой для Плотина. - И уже совершенно сомнительно
спокойствие созерцателя, мирящегося, как с моментом гармо-
123
Плотин
нии целого, с мучениями невинных, убийствами невиновных
людей, тем более детей, и спокойно принимающего как
данность ужасные, постоянно повторяющиеся, не
оправдываемые решительно ничем в конкретном контексте жизни
несправедливости.
Разве Плотин ослеп и не видит реальностей, безусловно
противоречащих всякой мысли о гармонии? Он не желает
знать зла как положительной силы, зло должно быть, по его
мнению, только недостатком, только небытием (и все же он
видит, что движение мысли заставляет его признать
положительное зло). Против плотиновского покоя в гармонии восстает
тот, кто подчеркивает страдания и несправедливости,
заболтать которые никак невозможно.
Великая полярность сверхбытия и небытия, а в ней - формы
и материала, духа и природы, означает, с одной стороны, форму,
свет и ясность, красоту фигуры, порядок и разум, с другой -
глубину (bathos), темноту, бездонность, неоформленность и
беспорядочность, бесконечный хаос. С одной стороны - воля,
восхождение, дисциплина, с другой - данность, нисхождение,
соблазн беззаконного, растекающегося и унижающего. Эта
многозначная противоположность заставляла людей в религиях
переживать, на обеих сторонах, непостижимое как
божественное. Но у Плотина материя, в своей деградации на степень
небытия, однозначно мыслится как противная всякой ценности и
негативная, а не как самобытная божественная сила, не как
божественный противобог и дьявол. У Плотина слабый намек
на неизбежную необходимость материи в качестве почвы, в
качестве эха, в качестве матери всех форм, никогда не позволяет
утвердиться двусмысленности, в которой получили бы
некоторое значение боги ночи. А с этим, может быть, связано то
обстоятельство, что у Плотина мир и жизнь становятся не только
гармоничнее и прозрачнее, но также тускнеют и делаются не
столь героическими: в этой философии успокоения уничтожен
тот риск, который заключен уже в самом уловлении трансцен-
денции, сократический риск безусловной жизни в незнании,
опираясь на уверенность в том, что есть эта трансценденция, -
чего не может гарантировать никакой опыт и никакое
доказательство в мире. В мыслях Плотина заключена глубина,
которой нам может быть достаточно только ценой того, что в нас
останется непробужденным нечто такое, что обретет язык,
только если человек действительно до самой крайности под-
124
VI/I. Критическая характеристика
вергает себя потрясению экзистенции в ее историчной
действительности, не закрывает глаза, не забывает.
Смерть лишается своей неумолимой неизбежности, если
в смерти происходит только перемена сцены. В таком случае
утрачиваются вес и значение, которые может иметь эта жизнь
в настоящем, как уникальная, единственная жизнь. Вечная
душа вступила в эту жизнь лишь как в одну из многих своих
ролей в течение времени, будучи в своей основе
неприкосновенной. Если она живет дурно, то у нее есть шанс на очищение
благодаря новым формам жизни, в которые она вступит после
смерти. Поскольку душа, с одной стороны, неприкосновенна,
с другой - движется в чередовании ролей через переселение
душ, жизнь и смерть теряют серьезный смысл.
Если действительность нашего существования в мире и
смерть стали настолько несущественны, то и особенные
обстоятельства жизни делаются безразличными. Телесные ли боли,
душевные ли муки, утрата ли условий жизни в мире,
«разрушение» ли «родного города», смерть ли близких - решительно
все тонет в лишенной существа иллюзии. Ничто более в мире
не является абсолютно важным. Только лишенный мудрости
может всерьез заниматься делами мира.
Пограничные ситуации, пробуждающие человека, но
которые, даже если они делают для пробужденного, в меру
решительности его экзистенции, трансценденцию
действительностью, неизменно остаются все же в нашем существовании во
времени тем реальным материалом, который может снова и
снова подвергать все сомнению, - маскируются здесь или
исчезают вследствие созерцания бытия в целом. Поскольку все
возникающие из них вопросы принципиально решены, они
утрачивают свою действенную силу. Это замкнутый круг: Вера
в гармонию упраздняет пограничные ситуации, - а то, что
пограничные ситуации становятся неощутимыми, делает
возможной веру в гармонию.
Не существует более никакой подлинной опасности, после
опыта сделавшейся безмирной (weltlos) трансценденции, в
которой снова и снова удостоверяются в спекулятивной мысли.
Это - прекрасная, предвосхищающая, не пронизывающая мир,
а претерпевающая его без попытки постичь его безопасность
(Geborgenheit). Отсюда - спокойствие Плотина, тихое свечение
его существа. Здесь нет ни раздора, ни отчаяния.
125
Плотин
Этот основной душевный строй Плотина имеет следствием
то, что становится безразличным индивидуум, а также и то, что
принадлежит человеку. Покой обретается, если я исчезаю как
самость (als ich selbst), так же как и постижение глубины unio с
Единым обретается благодаря тому, что предмет и Я исчезают.
Если даже Плотин однажды утверждает изначальность
формы отдельного человеческого индивидуума, то все же его
категориальное мышление повсюду обращено на
самоочевидный приоритет всеобщего: Индивид недостижим для познания,
но он и неважен для него. Ибо материя есть принцип
индивидуализации (уже в качестве интеллигибельной материи она
есть принцип многообразия вечных форм). Плотин мыслит
вместе с Платоном, «что единица бытия дробится до
бесконечности», и самый низший вид, который уже не может быть
разложен на другие виды, бесконечен, отпущен в
бесконечность, и здесь можно предоставить ему покоиться в самом
себе. Индивидуум не представляет никакого интереса, потому
что не имеет бытия в смысле всеобщего, эйдоса, но обладает
бесконечностью из-за материи.
Поскольку индивидуум не имеет никакой значимости,
сознание историчности остается чуждым Плотину. Хотя он и
требует, чтобы человек в мире играл свою роль на своем месте,
все же эта роль подразумевается как действие без внутренней
сопричастности: мир лишается своего значения как
уникального осуществления. Плотин не избирает своей судьбы с
сознанием того, что только в качестве историчного существа он
обретает действительную субстанцию. Для него не существует
значимости абсолютного решения во времени, которое, как
историчное явление, может стать достоверностью подлинного
бытия. То, что происходит, душа, будучи сама по себе
бессмертной, может искупить в новых формах существования; все
может быть вновь отменено.
Поэтому и сознание свободы у Плотина имеет своим
изначальным местом отнюдь не деятельность в мире. Ему
неизвестно единство вечности и времени в историчном сознании
в парадоксальной формуле: во времени решается то, что
вечно; мирское есть одновременно явление и нечто бесконечно
важное; это - единственная среда, в которой проявляется то,
что есть; не существует никакого бегства из мира. Напротив,
126
Vill. Критическая характеристика
для Плотина мир есть лишь арена, а моя жизнь - только роль.
Не существует никаких решений, имеющих вечную значимость.
Есть только восхождение и нисхождение, но при всегда
сохраняющейся возможности. Поэтому для Плотина в мире ничто не
серьезно, серьезна только чистота души, - а эта чистота
заключена в той исчезающей для мира глубине души, которая
наполняется в некоммуникабельном экстазе.
Поскольку индивид не имеет никакой значимости, и любовь,
будучи обращена на Единое, получает у Плотина такой
величественный и одновременно неконкретный облик. Наша
любовь должна быть направлена на простое и безусловное, а не
на что-то частичное и случайное. Главное - видеть красоту
вообще, «а не просто красоту в ее определенном обличье». Что
«случайное», «частичное», «определенное» может быть
явлением экзистенции, которая становится действительной только
в качестве историчной экзистенции во всерасплавляющей
верности, - [понимание этого] Плотину чуждо. Безличный эрос,
устремленный к Единому, лишает значимости брак и дружбу.
Любовь Плотина не становится, силой экзистенциальной
решимости, субстанцией души в незаменимости историчного, но
остается созерцающим вечные формы эросом на восходящих
ступенях от зачинающей силы природы вплоть до единения
с Единым.
Поэтому для Плотина характерно, что он отвергает всякое
проявление историчной субстанции индивида и его общности.
Он, сам по себе, не желает знать и называть своих родителей
и своего происхождения. Он, как индивид, не желает любить
никакую женщину; ибо «на небе браков нет». Также и
безразличное для него бытие государства он не осознает как
историчное бытие. Ему незнаком пафос политической
деятельности, как всякий раз уникальной, определяемой в том числе
также и свободой индивида последовательности событий.
Поскольку Плотин не придает никакого значения
отдельному человеку в его индивидуальной незаменимости, обращает
любовь от действительности на трансценденцию, оставляет
серьезность историчных решений за пределами своего
горизонта, удерживает неприкосновенную вечную самость души
по ту сторону всякой действительности мира, отделенной
от этой действительности, трансценденция и бессмертная
127
Плотин
душа превращаются для него в точечные абстракции (punktuel-
le Abstraktionen), многозначный смысл которых в качестве
шифров может быть исполнен только возможной экзистенцией
в мире.
Если видение гармоничного целого у Плотина, его
спокойствие в игре временных ролей, его страстная воля к чистоте
души, его опыт трансценденции, через мышление
устремленный к немыслимому, чтобы в высшие мгновения предвосхитить
единение с трансценденцией, удивительно нравятся нам как
очевидная истина, то одновременно они остаются все же
неустранимо двусмысленными: этот окончательный покой может
представляться нам своего рода блаженной смертью в самой
же этой жизни.
Плотин увлекательно осуществляет восхождение к
Единому: от единства вещей в мире к самому Единому в
трансценденции, от единства в красоте отдельного живого существа -
к возвышенной красоте мироздания и красоте души, и от них -
в основу самого Единого. Но это - медитативная работа
(kontemplatives Tun). Здесь недостает побуждающей силы иного
смысла Единого, или хотя бы такого смысла, в котором бы эта
медитация впервые обретала практическую действенность;
Единого в историчном наполнении жизни единой идеи, которой
я служу, единой любви, с которой я становлюсь или пропадаю
как самость; Единого трансценденции, удостоверяющейся в
себе единственно только в практике и лишь в витании
удостоверяемой в мыслимых шифрах. Чтобы от возможности достичь
действительности, я должен стать экзистенциально единым,
а тем самым стать объективно ограниченным во
временности, становящейся историчной через посредство Единого. Для
Плотина Единое жизненной практики есть только Единое на
потребу, восхождение к Единому: «целью должно быть одно,
а не многое, ибо ведь иначе мы искали бы не одну цель, но
многие цели».
Философия Плотина обнаруживает свою ограниченность,
если становится существенной деятельность в мире, если
индивид приобретает значимость, если сама историчность
говорит с нами как присутствие вечного, если сохраняют серьезный
смысл пограничные ситуации.
128
IX. Историческое место и влияние
IX. Историческое место и влияние
Плотин понимал свое мышление как мышление Аммония
Саккаса, его учителя в Александрии. Однако его фигура не
играет никакой роли в сочинениях Плотина, и о нем мы
практически ничего не знаем. В философствовании Плотина мы
замечаем почтительный взгляд не на этого великого учителя,
а только на Платона. Кроме того, Плотин говорит об
Аристотеле, о досократиках и о стоиках. Он мыслит в формах
традиционных философских школ, смысл которых он фактически
разрушает, однако не желая разрушать его, а скорее - будучи
охвачен сверхчувственным, которое, в его совершенной транс-
ценденции, он проявляет мыслью чисто и со всеми
заключенными в нем следствиями. Пусть даже все конкретные мысли
Плотина - это полученное от традиции наследство
(платоновское, аристотелевское, стоическое) и пусть даже его сочинения
могут казаться простой комбинацией подобных элементов, в
действительности они преобразованы из нового истока транс-
цендирования, которого предшествующая греческая
философия никогда не совершала с подобной неустанной
напряженностью. В отличие от Гераклита и Парменида, Плотин
работает с понятиями уже распространившейся к его времени
греческой философии. Он не творит понятия, но пересоздает
их в некое новое великое, законченное единство. И он
осознает, что повторяет древних, особенно Платона. «Мысли эти не
новы и высказаны не сейчас, но уже давно, пусть даже неясно
и неотчетливо, скорее же теперешние мысли - это
истолкования тех мыслей».
Плотин сознает свою чрезвычайную близость к Платону.
Ибо Платон ясно мыслил идеи трансценденции Единого (в
выражении «по ту сторону бытия», в раскрытии идей
негативной теологии и дедукции мира как сосуществования единства
и бытия в первой и второй «гипотезах» диалога «Парменид»).
Но его отличие от Платона велико. То, что Платон совершает
играя и изобретая как момент своего подвижного
философствования, становится у Плотина единственным и абсолютным. Если
Платон понимает философствование как уподобление себя
божественному при постоянно сохраняемой дистанции, то
Плотин - как единение с божественным, с упразднением дистанции.
129
Плотин
Рубеж, проводимый у Платона между трансценденцией и
миром, у Плотина перескакивают. Платон совершает в
человеческом существовании различные направления трансцендирова-
ния, Плотин живет в единой трансценденции. Платон в целях
играющего изложения измышляет демиурга мира, у Плотина
все извлекается из Единого (Plotin lässt alles aus dem Einen sich
hervortreiben). Хотя для своих решающих идей Плотин
дословно использует [выражения] Платона, мы вступаем у него в
иной исток для обоснования всепроникающего
метафизического жизнеустройства.
Плотин с несравненной преданностью подхватил идею
Бога, которую Ксенофан явным образом подразумевал как
таковую, которую мыслили Парменид (хотя он и не называет ее
Богом) и Платон и которая у Аристотеля была низведена до
рациональной конструкции, а в стоической школе - до [мысли о]
божественности мира. Это - философская идея Бога.
Если Плотин пользовался картиной мира стоика Посидония
(ок. 135-50 [до н.э.]) (который сам воспринял видение природы
из платоновского «Тимея»), то существенно все же, что у
Посидония отсутствует Единое в его трансценденции. Мысль
Посидония стоически-материалистическая: мировой разум есть
пневма и огневиден, состоит из того же вещества, что и дух
человека. Плотин же одинаково трансцендирует как дух, так и
материю. Того, что во все времена оказывало самое глубокое
воздействие на знатоков Плотина, невозможно было бы
отыскать у Посидония даже в виде намека.
Существовал некий мир идей, связываемый с мистериями,
орфической мыслью, восточным духовным опытом. Для тех
веков, к которым исторически относится Плотин, этот мир
называется гнозисом: Родина души - на небе, и оттуда она ниспала.
Она облачена в покровы, скрывающие ее от нее же самой. Она
страстно стремится вернуться из видимости и нечистоты обратно
на свою родину. Истинная жизнь есть та, посредством которой
душа находит обратный путь. Мир - это словно бы география
мест, имеющих душевную значимость, ступеней, на которых она,
в падении, облекается чуждым ей веществом, в восхождении -
вновь освобождается от этого вещества.
Эта схема служит фоном плотиновского мышления. Однако
Плотин находится в противоположности гнозису: ему чужда
130
IX. Историческое место и влияние
любая материализация ступеней, вознесение души под
руководством спасителя, посылаемого потусторонним богом, из
этого сотворенного злым существом мира; он желает чистого
философствования и самоосвобождения отдельной души;
он не посягает на величественную красоту этого мира; он
отвергает гностическую историю бытия во времени, как и
гностическое (и следующее ему неоплатоническое) умножение
получающих фантастический характер промежуточных ступеней.
Тезис о проникновении восточной мысли в греческую
философию через Плотина следует отвергнуть (не говоря уже о
неопределенном характере столь общих исторических понятий,
как «восточный» и «греческий»): В фигуре Плотина
действует достоинство человеческой личности, удостоверяющейся
в своей независимости посредством мышления. Им движет
воодушевление красотой космоса. Он живет в почитании
«божественного Платона» и древних философов от Парменида и
Гераклита до Аристотеля. Опыт восточного духа издавна
побуждал и двигал мысль греков. Они усваивали, преобразуя,
они наделяли языком то, что без них, с этой своей стороны,
оставалось бы немым. Так было и у Плотина, который с
юности питал исключительно сильный интерес к восточной и
индийской мудрости.
Если мы посмотрим на философскую жизнь этих столетий,
то согласимся с Доддсом: после знакомства с теософскими
мечтаниями Филона, ядовитым фанатизмом Тертуллиана,
любезно благочестивыми сентенциями Порфирия, несказанными
бреднями мистерий, - Плотин привлекает читателя как
действительный мыслитель. Он отверг гностицизм и теургию и
решительно утверждал притязания разума на господство, как
инструмента философии и ключа к структуре реальности.
Существо и дело Плотина сияют в своем надвременном
значении. Если в искусстве эпохи Галлиена «ренессанс» был
одновременно концом классической античности, то существует
все же огромная дистанция между этим пластическим
искусством и высотой плотиновской философии. То искусство
может представлять для нас разве что только исторический
интерес, Плотин же есть вечная фигура западного мира.
Мы поняли бы дело совершенно неверно, если бы
истолковали установку Плотина как усталость и понимали ее как при-
131
Плотин
сущую его эпохе, которую мы трактуем как готовую к закату.
Скорее, его жизнь и его мысль - это один из великих примеров
силы философии, которую ничто не в силах сдержать. Но то,
что он мыслил, может производить такое впечатление, как
будто оно помогает также усталым людям уменьшить
расслабление сил, вызываемое в них миром.
Влияние Плотина вплоть до наших дней исключительно
велико. Он - отец всей «спекулятивной мистики»,
непревзойденный никем из позднейших мыслителей. Это влияние
примечательно как своей глубиной, так и своими искажениями.
Считается, что Плотин положил начало «неоплатонизму».
Плотин жил в третьем веке, Ямвлих - в четвертом, Прокл - в
пятом, Дамаский и Симпликий - в шестом. И все же «влияние
оригинального текста Плотина на неоплатоников
примечательным образом невелико, действительные цитаты очень
редки» (Хардер). Мысль последователей Плотина уже не
исходит из духа самого Плотина. Их интересует восстановление
веры в языческих богов, превознесение фигур философов до
ранга святых, основание философской религии, культовые
учреждения. С одной стороны, они предаются безудержным
фантазиями, с другой - развивают философскую ученость,
еще и сегодня весьма ценную по своим достижениям, и
исключительную порою тренировку мысли.
Кроме того, Плотин был усвоен христианскими
мыслителями, в первую очередь - Августином. Тем самым был искоренен
философский исток. Плотиновская трансценденция Единого
была открыта разуму, христианский Бог открывал себя через
Христа. Основанием нового познания веры было не
философское удостоверение как таковое, но вера в однократно
совершившееся откровение. Сверхбытие Плотина ниспало,
превратившись в бытие, духовный космос возрос до значения мыслей
Бога. То и другое слилось воедино и стало личностью. Три
плотиновские ипостаси (Единое, дух, мировая душа) были
заменены Троицей, исхождение всего сущего у Плотина -
таинственными отношениями внутри божественной Троицы и
сотворением мира.
В неоплатонизме преобразование мышления Плотина в
осязаемые формы получило наиболее богатую идеями форму
у Прокла (410-485). Прокл был воспринят в сочинениях хри-
132
Примечания
стианского Псевдо-Дионисия Ареопагита (ок. 500) и через него
стал элементом всей мысли Средневековья. Сам Плотин
приобрел новое историческое влияние со времени Ренессанса
(Марсилио Фичино (1413-1499)).
Наиболее влиятельным недоразумением было
отождествление Плотина и Платона. Платона видели в обличье мыслей
Плотина, постепенно открывали его заново, и наконец, в
течение последних ста лет, увидели его как собственно Платона,
и только благодаря этому впервые появилась возможность
постигнуть самобытное величие Плотина.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мюллер (Müller), Герман Фридрих (1843-1919) - немецкий филолог
и философ; гимназический учитель, в конце жизни - директор гимназии
в Бланкенбурге. Более всего известен как переводчик и исследователь
философии Плотина: Die Enneaden des Plotin (1878-1880; в виде
предисловия - перевод биографии Плотина, написанной Порфирием); Plotins
Forschung nach der Materie (1882); Dionysios, Proklos, Plotinos: Ein
historischer Beitrag zur neuplatonischen Philosophie (1918).
н Хардер (Harder), Рихард (1896-1957) - немецкий филолог-классик,
профессор Кенигсбергского университета с 1927 г.; переводчик Плотина.
Издал пятитомное собрание сочинений Плотина Plotins Schriften.
Übersetzt. Bd.1-5 (1930-1937).
'" Брейе (Brehier), Эмиль Франсуа Дезире (1876-1952) - французский
историк философии; профессор Реннского, Бордоского университетов,
затем парижской Сорбонны. Автор многотомной «Истории философии» и
полного перевода Плотина на французский язык.
N Доддс (Dodds), Эрик Робертсон (1893-1979) - ирландский филолог-
классик. С 1924 г. профессор греческого языка в Бирмингеме, с 1939
профессор в Оксфордском университете; основная работа The Greeks
and the Irrational (1951).
v Кристеллер (Kristeller), Пауль Оскар (1905-1999) - немецкий и
американский историк философии. Изучал философию в Гейдельберге у
Ясперса, в Марбурге у Хайдеггера и во Фрайбурге у Кронера. По совету
Хайдеггера начал писать книгу о Марсилио Фичино; работал над ней в
Италии, где жил с 1934 г. Затем эмигрировал в США, где преподавал в
Колумбийском университете (Нью-Йорк). Основная область его
исследований - итальянский ренессанс и гуманизм (Фичино, Помпонацци, Пико
делла Мирандола). Ясперс указывает на него здесь в связи с его гей-
дельбергской диссертацией 1928 г.: Der Begriff der Seele in der Ethik des
Plotin.
133
Примечания
νι Опперманн (Oppermann), Ханс (1895-1982) - немецкий филолог-
классик, с 1928 г. ассистент в Гейдельбергском университете, профессор
во Фрайбурге (1934), в Страсбурге (1941). Здесь упомянут в связи с его
работой о биографии Плотина Plotins Leben (1929).
v" См. примечание xi. В данном контексте имеется в виду работа
Plotins Kategorien der intelligiblen Welt (1929; философская диссертация
Небеля).
νι" Хубер (Huber), Герхард (1923-2007) - швейцарский философ; 1954
защитил в Базеле у Ясперса и Генриха Барта диссертацию о позднеан-
тичной философии Das Sein und das Absolute. Studien zur Geschichte der
ontologischen Problematik in der spätantiken Philosophie (которую и имеет
здесь в виду Ясперс в связи с неоплатонизмом). С 1956 преподаватель
Цюрихского технического университета. Основная философская работа
Eidos und Existenz. Umrisse einer Philosophie der Gegenwärtigkeit (1995).
,x Роденвальдт (Rodenwaldt), Герхарт (1876-1945) - немецкий
археолог, профессор Гиссенского (1917), Берлинского (1932) университетов.
Здесь Ясперс имеет в виду его работу Zur Kunstgeschichte der Jahre 220 bis
270//Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Bd.51, 1936.
x Альфельди (Alföldi), Андреас (1895-1981) - венгерский археолог
и историк; специалист по истории античного мира.
Х| Фаларис - тиран города Акраганта во второй половине VI века
до Р.Х., известный своей жестокостью: по его поручению скульптор
Перилай изваял медного быка, в котором Фаларис намеревался казнить
неугодных ему подданных. Впрочем, первым в этом быке был казнен сам
ваятель, которого Овидий называет «казней выдумщиком». Согласно
легенде, в этом же быке впоследствии погиб и сам тиран Фаларис.
134
АНСЕЛЬМ
Источники: Сочинения. - Биография: Эадмер'. - Тексты по
истории онтологического доказательства бытия Божия: Дэниеле.
Литература: Хассе". Фон ден Штайнен1". Карл Барт17.
I. Биография и труды
Биография: Ансельм родился в 1033 году в Аосте, в
альпийской долине в пограничной области между Бургундией и
Ломбардией. Его отец Гундульф и его мать Эрменберга
принадлежали к высшей знати. Поссорившись с отцом, он покинул свою
родину, многие годы вел скитальческую жизнь во Франции,
пока в 1060 году не стал монахом в монастыре Бек в Нормандии
и учеником аббата Ланфранка. В 1063 году он стал приором,
в 1078 году - аббатом монастыря, а в 1093 году -
архиепископом Кентерберийским. В ходе борьбы за права церкви с
королями Вильгельмом II и Генрихом I ему дважды пришлось
отправляться в изгнание, и он жил в Риме, Лионе и в других
местах, пока, по окончании спора с королем, не смог вернуться
в Кентербери (1106), где в 1109 году умер, в возрасте 75 лет.
Он был равно велик как монах своим благочестием, как князь
Церкви - своей смелостью в отстаивании церковных прав,
и как мыслитель - своей изначальностью, глубиной и ясностью.
Труды: Преобладающее большинство трудов возникло в
годы его жизни в монастыре Бек. Эти сочинения трактуют о
Боге («Монологион», «Прослогион»), о Боге и человеке (De veri-
tate, De libero arbitrio, De casu diaboli). Будучи архиепископом,
он продумывал великие догматические вопросы (в борьбе с Рос-
целлином: De fide trinitatis, 1093; по случаю Барийского синода
с греками: De processione Spiritu Sancti; в изгнании: Cur deus
homo и De conceptu virginali et original! peccato, и наконец, в
последние годы перед смертью - о согласии предопределения и
свободы воли). Кроме того, многочисленные проповеди и письма.
Ситуация эпохи: Преобладающее большинство
европейцев жили в то время в деревнях, замкнутые в пределах,
налагаемых природой, бедностью средств сообщения и
необразованностью. На эту массу оказывала влияние благодаря
монашеским орденам католическая церковь, благословляя,
135
Ансельм
упорядочивая, оформляя. Церковь имела надмирный характер.
Представляемая сравнительно немногими исключительными
людьми, она обладала величественным единством в языке
(латынь), знании и вере. В то время как простой человек
никогда не покидал своей самой непосредственной родины и не
знал широкой перспективы, монашеские ордена создавали
чрезвычайно подвижный порядок жизни, управляемый поверх
границ отдельных стран. Такой человек, как Ансельм, мог
родиться в Италии, стать во Франции монахом, а в Англии -
архиепископом Кентерберийским.
Норманны, носители французского стиля жизни и языка,
в 1066 году переправились в Англию и, охватывая отныне
Нормандию и Англию, создали государство, которое при
Вильгельме Завоевателе было строже, могущественнее,
единообразнее какого-либо иного политического образования того
времени. Это был варварский народ, энергичный и жестокий.
Знатные люди не умели читать и писать, и были вместе со
всею совокупностью своих подданных искренними
приверженцами Церкви. Только духовные лица знали предание и учение,
из их рядов выходили люди, организовывавшие общество и
руководившие им. Завоеватели экспроприировали все
земельные наделы и установили норманнскую знать в качестве новых
землевладельцев. Эта знать говорила по-французски,
духовенство писало по-латыни, а народ говорил на презираемом
дворянами языке угнетенных, из которого впоследствии возник
английский язык.
П. Основная философская идея Ансельма
а) Изложение основной идеи. - Глупцы говорят: Бога не
существует. Верующие люди веруют, что Он есть. Способна ли
чистая мысль - не замутненная глупостью и чуждая
послушания веры - обрести достоверность бытия Божия? Да, говорит
Ансельм и осуществляет эту работу мысли (denkendes Tun):
Помысли: Бог - это существо, больше которого невозможно
помыслить никакого существа (quo maius cogitari non potest).
Если же глупец говорит: Бога нет, ибо мысль о наибольшем
есть только мысль в уме; содержание этой мысли не является
также действительным потому, что мы мыслим его, - то
следует отвечать:
136
//. Основная философская идея Ансельма
В действительности повсюду в мире есть одно из двух: или
бытие только в уме, или же также и в действительности. Так,
художник еще не реализовал ту картину, которую имеет в
своем представлении. Однако с идеей Бога дело обстоит иначе.
Глупец должен признать, что по крайней мере в мысли
существует вещь настолько большая, что мы не можем помыслить
ничего больше ее. Этого признания достаточно. Ибо вещь,
больше которой мы не можем помыслить никакой вещи, не
может существовать только в уме. Почему не может? Потому что
в таком случае самая большая вещь, которая также и
действительна, была бы больше, чем самая большая вещь, которая
только мыслится, а не существует в действительности. Если
бы наибольшее существовало только в уме, то наибольшее,
которое было бы к тому же и действительным, было бы больше
того, которое наличествовало бы только в мысли.
Если наибольшее мыслится так, что оно существует только в
уме, но не в действительности, а значит, может быть мыслимо
нечто еще большее, существующее также в действительности, то
возникает противоречие. Мы мыслим нечто наибольшее, которое
еще не есть наибольшее. Тогда оно хотя и должно быть
наибольшим из мыслимого (das Grösstdenkbare), однако оно не
таково, потому что мыслимо еще большее, а именно то, что
является также действительным. Следовательно, в силу усмотрения
чистого мышления то, больше чего не может быть мыслима
никакая вещь, существует как в уме, так и в действительности.
Эта достоверность чужда сомнениям. Она есть
совершенная достоверность, потому что невозможно, т.е. не может быть
мыслимо без противоречия, что наибольшее, больше которого
немыслима никакая вещь, не существует.
Повторим ту же самую идею, варьируя ее:
Если наибольшее, больше которого не может быть
мыслима никакая вещь, не мыслится существующим, то оно не есть
наибольшее.
То, больше чего не может быть мыслима никакая вещь,
существует также действительно; это настолько истинно, что о
нем даже невозможно мыслить, что оно не существует.
Если я действительно содержу в своей мысли то, больше
чего не может быть мыслима никакая вещь, то это самое
содержание, хотя поначалу и кажется, что оно существует только
в мысли, включает в себя его бытие.
Может быть мыслимо такое бытие, небытие которого не
может быть мыслимо. Однако то, небытие чего немыслимо,
не может не быть также и в действительности. Оно есть.
137
Ансельм
Если о бытии, больше которого не может быть мыслима
никакая вещь, я мыслю возможным его небытие, то с самого
начала я мыслил отнюдь не наибольшее из всего мыслимого.
Как только наибольшее из всего, что может быть мыслимо,
я мыслю как нечто существующее только в моей мысли, оно
исчезает для меня также и в мысли; оно уже не остается
наибольшим.
Я вынужден или совершенно оставить эту мысль, или же
мыслить ее содержание как действительное.
Ь) Интерпретация. - Основная идея Ансельма - это не
математический пример на вычисление с категорией
количества. В своей отвлеченности она может быть по ошибке
принята за доказательство в отношении к такому предмету, о
существовании которого мы судим по умозаключению, как,
например, обратной стороне Луны, которой мы никогда не видим;
в таком случае подобное доказательство оказывается сразу же
опровергнуто, поскольку оно не может иметь подтверждения
в нашем опыте. Поскольку идея Ансельма в этом смысле
лишена предмета, она может показаться нам логическим трюком,
обманчивый прием которого нам следует уловить. Подобное
неверное истолкование того, о чем идет речь у Ансельма, можно
предотвратить, если принять во внимание все обстоятельства,
в полной мере проясняющие для нас смысл этой идеи.
1. Тишина внутренней жизни, а не мистика: Ансельм
начинает изложение своей идеи с требования удалиться в тишину
внутренней жизни: Беги от своих занятий, - отложи гнетущие
заботы и оставь тягостные развлечения, - скройся от суматохи
своих мыслей, - освободись для Бога и покойся в нем
некоторое время, - войди в горницу своего духа, оставь за дверями
все, кроме Бога, и при закрытых дверях вопрошай о Нем.
Это - нечто большее, чем только призыв к внимательности,
или только наставление о спокойной работе мысли. Здесь нам
указывают путь, на котором при глубочайшей
сосредоточенности, в сокровенности, в удалении от мира, от жизни и забот,
остается отнюдь не ничто, но можно вопрошать Бога и
удостоверяться в Нем.
Но если мы сопоставим с этим наставления мистиков, то
решающее отличие состоит в том, что у Ансельма не делается
каких-то приготовлений для техники медитации, не проходят по
138
//. Основная философская идея Ансельма
ступеням медитации, цель составляют не видения и экстазы.
Речь идет о чистом мышлении. Речь также не идет о пафосных
переживаниях, о чувственном опьянении, но о трезвой, пусть и
увлекательной ясности в том, что важнее всего прочего.
2. Очевидность и пустая мысль: То, что есть здесь
мышление - подлинное мышление, - это Ансельм осознавал в его
противоположности сугубо рациональному, опустошенному
мышлению, когда говорил: Мышление нужно отличать от
простых речей (blosses Reden). «Иначе мыслят вещь, если мыслят
обозначающий ее звук, и иначе, если усматривают самую
вещь».
Так, несуществование Бога можно мыслить только первым
способом - мыслью только говорящего человека, мыслящего
смысл звука, - но отнюдь не вторым способом,
действительным мышлением. Кто мыслит с очевидностью, что Бог есть, тот
не способен мыслить, что Бог не есть. Тот, кто говорит эти
слова «Бог не есть», не может мыслить то, что он говорит.
Так обстоит с мыслью, что существует нечто, больше чего
ничто не может быть мыслимо. Если я понимаю эту мысль, то
не могу одновременно мнить, будто мыслимое таким образом
не есть. Небытие я могу лишь говорить, не понимая.
Поэтому сугубо формального суждения о немыслимости
несуществования наивысшего, больше чего не может быть
мыслима никакая вещь, недостаточно. В качестве
рассудочного суждения это утверждение пусто. Оно всегда остается
соотнесенным со своим основанием и своим исполнением и только
так порождает очевидное познание (Einsicht).
Значение идеи Ансельма может устоять только в случае,
если существует мышление, не опирающееся ни на опыт, ни
на заранее определенные понятия, но, в качестве самого
мышления, трансцендируя в категориальных рядах, пребывает
близ действительности (als Denken selbst, in Begrifflichkeiten
transzendierend, bei der Wirklichkeit ist). Тогда формальная
работа мысли бывает изначально наполнена «знанием о»,
которое есть одновременно мотив и цель. Мысль есть
экзистенциальный круг действительности мышления, высказывающийся
в формально-логическом круге.
3. Единственная мысль, осмысленная только по
отношению к Богу: Мысль, в которой достоверность бытия Бога про-
139
Ансельм
истекает единственно лишь из того, что его небытие невозможно
мыслить, - это единственная в своем роде мысль, которая
может быть осуществлена только по отношению к существованию
Бога. Нет другого предмета, кроме Бога, для которого имело бы
силу умозаключение от сущности к существованию. Обо всем
прочем мы можем мыслить его несуществование. Бытие всего
прочего должен впервые доказать только опыт в мире. Однако
идея Ансельма не выведена ни из всеобщих больших посылок,
ни из опыта о мире.
В качестве простой всеобщей мысли, то есть в
рациональной отвлеченности, она была понята уже современником и
противником Ансельма Гаунило. Ансельм, возражая Гаунило,
говорил, что мысль о Боге как том, больше чего не может быть
мыслима никакая вещь, отнюдь не относится к
«прекраснейшему острову» Гаунило, прекраснее которого невозможно
мыслить никакого другого острова: в понятие самого
прекрасного острова входит также его бытие. Ибо из мысли Гаунило
о прекраснейшем в мире острове не следует, что этот остров
необходимо должен также существовать. Обращаясь к Богу,
Ансельм говорит: «Обо всем, что есть, исключая одного Тебя,
можно мыслить, что оно не есть. Следовательно, Ты один из
всех вещей обладаешь бытием в самом подлинном смысле
слова, а потому также и более всех вещей».
Поэтому идею Ансельма невозможно оторвать от ее
содержания, превратив ее в общую форму силлогизма, большая
посылка в котором: Всякая вещь, мыслимая как самая
совершенная в своем роде, обладает также существованием. Эта
взаимосвязь мыслимости и бытия справедлива только в отношении
Бога. Только здесь верно, что тот, кто мыслит Бога, может
мыслить его только существующим. Стало быть, всякое сущее,
которое может быть мыслимо также несуществующим, есть
нечто иное и меньшее бытие, нежели бытие Бога.
Бытие Бога, его экзистенция, его существование - как бы
мы его ни называли - не есть модус реальности чего-нибудь,
каких-либо вещей в мире, какого-либо острова (Гаунило) или
ста талеров (Кант). Только оно есть бытие, в силу которого
невозможно, чтобы оно не существовало и чтобы не
существовало ничего, - и которое как таковое достоверно для нас в
мышлении.
140
//. Основная философская идея Ансельма
Эта невозможность ничто только здесь обнаруживается
для мыслителя как его немыслимость. Это обнаруживается
для мышления, которое само есть бытие, пусть и сотворенное
бытие. Оно, как подобие творящего мышления божества, через
само себя осознает это необходимое бытие Божие.
4. Это не предмет: Необходимо уловить подлинный смысл
того, больше чего не может быть мыслима никакая вещь (quo
maius cogitari nequit). Оно отнюдь не есть нечто, что, как
передает эту мысль Гаунило, больше всех вещей (maius omnibus).
Ибо в таком случае оно было бы всего лишь вещью. Если Бога
называют высшим из всех существ, то Его небытие отнюдь не
так невозможно мыслить, как думает Ансельм. В качестве
наивысшего в ряду это существо не есть то наивысшее, выше
чего не может быть мыслима никакая вещь. Ибо то, что
называют высшим существом в ряду существ, не обязательно
должно быть абсолютно наивысшим существом.
То, что имеет здесь в виду Ансельм, в своей функции
мыслимого не есть предмет. Поэтому, согласно Ансельму, Бог есть не
просто то, больше чего не может быть мыслима никакая вещь, но
Бог также больше всего, что может быть мыслимо. Это -
решающий момент: С мыслью о необходимом существовании
наибольшего Ансельм соединяет углубление мыслью в это
наибольшее через углубление в немыслимость этого
наибольшего. Эта немыслимость наибольшего, сопряженная с его мысли-
мостью, противостоит высокомерию рассудка, для которого
мышление и бытие, мыслимость и действительность совпадают.
Художник осуществляет образ, имеющийся в его
представлении. Но мыслитель не порождает Бога, когда мыслит Его, но
он удостоверяется в Его действительности. Это даяние Богом
себя в мышлении противостоит высокомерию власти над
Богом, которая мнит, будто Бог зависит от ее мышления.
5. Операция с противоречивостью'. Идея Ансельма
оперирует с немыслимостью противоречия. Точно так же, как и Пар-
менид, он не нуждается в слове «противоречие», он не
формулирует логического закона. Он только говорит в самой
мысли, что мыслить несуществование невозможно. Противоречие
он использует как функцию применительно к мысли,
содержание которой бесконечно превосходит противоречивость и
непротиворечивость.
141
Ансельм
Если формальное логическое мышление использовали
трансцендирующим образом, то вследствие этого оно не
становится логическим доказательством, какое возможно
относительно конечных предметов. Поэтому в форме остается
недостаток (сравнительно с логической строгостью мышления о
конечных предметах), присущий всякому трансцендирующему
мышлению, то есть такому мышлению, которое хочет
конечными средствами прикоснуться к бесконечному. Здесь это
недостаток альтернативы: Бог есть или Бог не есть. Тем самым
Бог оказывается в конечной форме мысли о предметах, к
которым относятся [предикаты] «есть» и «не есть» в суждениях. Если
противоречие должно быть использовано для трансцендирующе-
го доказательства, то при этом оно должно утратить свой
подлинный смысл, который заключен только в сфере конечности
нашего мышления. Оно становится символом, в котором должна
выявиться невозможность несуществования Бога.
Николай Кузанский, наоборот, пользовался противоречием
для того, чтобы в своем трансцендирующем мышлении именно
с его помощью, в coincidentia oppositorum - Бог есть, и Бог не
есть - достигнуть самого Божества.
Ансельму, в полноте силы его исполненного изначальности
мышления, чужды подобные методические соображения о
логических формах трансцендирования. Поэтому его идею мы
можем усвоить себе, только увидев, как она с поразительной
чистотой осуществлена у него в методе, полное осознание
которого приходит лишь намного позднее. Мы можем понимать
Ансельма, осуществлять вместе с ним функцию противоречия
в его мысли, чтобы, играя мыслью в этой форме, пережить
явно-присущую во всякое время тайну мыслимости вообще, как
стихию трансцендирования.
6. Мысль как обращение к Богу в изначальном
философствовании: Ансельм излагает свою идею не как некую вещь,
о которой он говорит как о предмете науки, но как обращение
к Богу, как молитву: «Учи мое сердце, где и как ему вопрошать
о Тебе». «Я создан, чтобы созерцать тебя, и я все еще не
сделал того, для чего создан».
Уход в глубину души своей собственной властью отнюдь не
приносит успеха сам по себе. «Я стремился к Богу и натолк-
142
//. Основная фшософская идея Ансельма
нулся на себя самого». «Просвети нас, яви нам Себя Сам».
«Научи меня вопрошать о Тебе и покажи Себя вопрошающему;
ибо я не могу ни вопрошать о Тебе, если Ты не научишь меня,
ни найти Тебя, если Ты не покажешь себя. Хочу вопрошать о
Тебе в тоске, тосковать в вопрошании». Молитва и воззвание
не только стоят в начале и в конце мысли, но пронизывают и
сам ход мысли. Это - отнюдь не только логическое развитие
предмета в простом наблюдении извне.
Поэтому вполне соответствует сути дела заглавие того
произведения, в котором излагается эта идея: «Прослогион»,
обращение к Богу; первоначально оно должно было
называться: «Fides quaerens intellectual», вера, вопрошающая знание.
От этого заглавия Ансельм отказался. Предпосылку
произведения составляет вера, правда, не догматическое положение
веры (однако также и не логическая предпосылка, из которой
производилась бы дедукция), а основное состояние, или
устроение, или бытие, или существо человека. Исходя из этого
основного устроения, Ансельм пытается «возвысить свой дух
до созерцания Бога», вопрошать, чтобы «постигнуть то, во что
он верует».
Но в этом смысле уже в более раннем своем произведении
(«Монологион») Ансельм дал пример усердного размышления
о познавательном содержании веры (ratio fidei). Теперь он,
очевидно, хочет большего. Он хочет «найти
один-единственный аргумент, не нуждающийся для своего обоснования ни в
каком другом аргументе, кроме самого себя, и единственно
достаточный для доказательства того, что Бог истинен».
Изменение заглавия касается существа дела. Почва этого
сочинения - верующее обращение к Богу, а не определенная
христианская вера.
Правда, для сознания Ансельма то, из чего он исходит, -
это именно христианская вера. Но в идее его «доказательства
бытия Бога» ощущается более обширное пространство (и
ничего не говорится о Христе): только вера, как наполненность
объемлющим, не имеющая предмета, исток в присущности
бытия (Gegenwärtigkeit des Seins), в которой находит себя
верующий человек.
Поэтому в этом произведении, казалось бы, заключено
противоречие, примечательность которого характеризует его смысл:
143
Ансельм
Ансельм начинает словами: «Ведь я не требую знания, чтобы
прийти к вере, но верую, чтобы достичь познания. Ибо я верую
и в то, что, если не буду прежде веровать, я никогда не
достигну познания». Но в заключение «доказательства» говорится:
«То, во что я вначале веровал по благодати Твоей (te donante),
то теперь, будучи просвещен Тобою, я постигаю так, что если
бы я и не хотел веровать в то, что Ты есть, я не мог бы
все-таки не познавать этого».
Вначале ход мысли Ансельма требует первого
положения, а в завершение он делает возможным второе положение.
Но это второе положение утверждает, что Ансельм видит в
своей идее, после того как она достигнута, нечто большее,
нежели простую интерпретацию ratio fidei.
В мышлении о бытии Божием идея противоречия
становится силой откровения бытия. Самое формальное мышление
высказывает самое глубокое содержание. Простейшая на
первый взгляд процедура чистого рассудка становится носителем
воодушевляющего мыслителя знания, которое в качестве
познания больше простого познания, которое есть в этом
качестве вера. Это было возможно только потому, что в лице
Ансельма мышление не растворилось в сугубо интеллектуальный
процесс. В самом таком акте мысли, благодаря живому
присутствию того, больше чего не может быть мыслима никакая
вещь, налично, с достоверностью неизбежной необходимости
его признания, содержание веры.
Это знание нам приходится называть также верой. Вера -
это не только та христиански-авторитарная вера, из которой
исходил Ансельм. Отличие быстро высказываемой
абстрактной мысли, которую только мыслят, только говорят, от
очевидного мышления (einsichtiges Denken) этой мысли, при котором
она наполняется изначальным человеческим сознанием
бытия, есть отличие рассудочного познания (в качестве которого
мысль не имеет никакой значимости) от верующего познания
(доступного для мыслящего человека вообще через
просвещение от Бога - te illuminante). Это верующее познание есть
разум, сам собою, без помощи авторитета, достоверно знает
Бога, будучи дарован себе в объемлющем. Как постижение
Ансельмом веры в существование Бога не есть интерпретация
положения догматики, не есть интерпретация текстов открове-
144
//. Основная философская идея Ансельма
ния, так молитва в философствовании не является
существенным образом христианской, но есть выражение человеческой
жизни вообще в ее соотнесенности с трансценденцией. Это -
мышление, достигающее единства с экзистенцией мыслящего.
Так что же, у нас есть два рода веры - христианская вера и
вера разума? Так оно обстоит - не по мнению Ансельма, но в
действительности его мышления. У Ансельма самобытность
философствования конституируется, не порождая сознания
самодостаточности, отделения этого философствования, или
тем более враждебности его бесспорно-достоверной
христианской вере.
Это было возможно в эпоху, когда единственно истинной и
единственно известной была христианская вера, еще
совершенно не затронутая многообразием других способов
веровать. Соприкосновение с исламом в результате крестовых
походов только после эпохи Ансельма возымело чрезвычайно
значительные духовные последствия. Единая христианская
церковь еще была единственной носительницей всякого
высшего духа, всякой образованности, всякой традиции, постоянно
свидетельствуемой самыми грандиозными личностями. Ничего
другого не существовало. Не было никакого повода подвергать
ее сомнению. Даже еретики сомневались только в отдельных
догматах, но не в основании веры как целого.
7. Ее значение в биографии Ансельма: То, что основная
идея Ансельма была не каким-то рациональным экспромтом,
но кульминацией, а затем и основоположением во взаимосвязи
интеллектуальных переживаний, - это он сам высказывает в
следующих словах:
«Когда я неоднократно и с усердием обращал свои мысли
к этой проблеме и порой мне казалось, будто я уже могу
схватить то, что ищу, порой же эта проблема совершенно
ускользала от зрительной силы моего духа, наконец, исполненный
отчаяния, я захотел отступить от этого вопроса... Но когда я
захотел оттолкнуть от себя этот ход мысли, он начал все
более и более настойчиво представляться мне, хотя я того не
хотел и противился ему. Когда однажды, с усилием противясь
его настояниям, я уже утомился, тогда, именно в разноречии
мыслей столь самоочевидно предстало само собою то, от чего
я впадал в отчаяние, что я с жадностью ухватился за ту самую
мысль, которую боязливо старался отвергнуть...»
145
Ансельм
Биограф Ансельма (Эадмер) сообщает: «Эта мысль не
давала ему ни спать, ни есть, ни пить, и - что еще более его
угнетало - она нарушала его молитвенный покой в утренних и
других молитвах. Он полагал, что подобные мысли, быть может,
суть сатанинские искушения, и старался совершенно изгнать их
из своего духа. Но чем с большим пылом он к этому стремился,
тем лишь с большей силой они осаждали его. И однажды, когда
он бодрствовал ночью, случилось, что благодать Божия
просияла в его сердце, и предмет его изыскания был открыт перед
его умом, и вся душа его была преисполнена восторгом
безмерной радости».
То, что основная философская мысль достается
мыслителю, после времени внутреннего напряжения, как некий дар
и осознается им как дар - в некоторой аналогии профетиче-
скому опыту откровения и обращения, - об этом
свидетельствует не только [история жизни] Ансельма. Уже Парменид
воздвиг в благодарность за прозрение героон (Негооп);
Николай Кузанский сообщает, что его основная идея пришла к нему
на обратном пути из Константинополя, как «просветление
свыше»; Декарт говорит о своей основной идее, что она открылась
ему на зимних квартирах в Нойбурге, в благодарность за что он
совершил паломничество. Мысли, которые таким великим
философам представляются даже в их собственном сознании
столь многозначительными для их биографии, нам уже только
поэтому не следовало бы считать чем-то несущественным.
8. Гаунило против Ансельма: Ансельм утверждал о своей
основной идее, во-первых, что она истинна только в
подлинном мышлении (intelligere), но не в пустом говорении, а во-
вторых, что она обладает достоверностью в силу
невозможности самопротиворечивого (в cogitare).
Монах Гаунило согласен как с тем, так и с другим, однако
из этих посылок он развивает возражения Ансельму.
Мышление с сознанием действительности своего предмета, говорит
он, это не cogitare (мышление), но intelligere (усмотрение). Если
бы Ансельм понимал мышление в этом определенном смысле
как intelligere, то он не проводил бы различия между простым
обладанием в мысли и усмотрением действительности
мыслимого. Ибо в intelligere то и другое совпадает.
Ансельм возражает на это: Только невозможность мыслить
(в смысле cogitare) впервые ведет к подлинному ingtelligere.
146
//. Основная философская идея Лнсельма
Ибо во всех конечных вещах непосредственное усмотрение
(intelligere) действительности не исключает возможности
мыслить небытие этой действительности. Только в одном-единст-
венном случае усматривающего мышления (intelligere)
Высшего существа усмотрение Его действительности (intelligere)
имеет своим основанием невозможность мыслить (cogitare) Его
небытие. Ансельму следовало бы показать, что мысль о
Наивысшем такова, что она непосредственно заключает в себе
достоверность некоторого существования. Ансельм говорит,
что это усмотрение действительности Бога вовсе не является
непосредственным, но получает свою достоверность путем
cogitare, в мышлении невозможности небытия.
Можно спросить: не использовал ли Ансельм для
усмотрения сущности бесконечного невозможность мыслить
самопротиворечивое как самое формальное в конечном мышлении,
самое пустое в себе? Так и было бы, если бы при этом
бесконечное, божество, было вовлечено в сферу конечного
познавания как предмет, как вещь среди других вещей. Однако для
Ансельма самопротиворечивость есть рычаг, при помощи
которого мышление приподнимается над уровнем конечного
мышления к усмотрению действительности Бога, которое
радикально отлично от усмотрения всех действительных вещей
в мире.
Гаунило не подвергает сомнению действительность Бога,
но он оспаривает, что можно постичь эту действительность при
помощи мысли, имеющей доказывающий характер. Он говорит
так: Невозможно иметь адекватное представление о
наивысшем существе. Из этой невозможности следует, что я должен
представлять его себе как действительное, а не то, что оно
существует также и в действительности. Из действительности
представления еще не следует действительность в
действительности. Сначала нужно доказать саму действительность,
затем отсюда будет следовать, что эта действительность есть
наивысшее.
Наконец, Гаунило говорит, что совершенно невозможно
оспаривать эту действительность. Однако, отвечает Ансельм,
это оспаривание во всякое время совершают глупцы,
отрицающие действительное бытие Божие. Хотя они и не могут по-
настоящему постигнуть то, что они говорят; но их следует по-
147
Ансельм
средством мышления (cogitare) привести к усмотрению
ничтожности их речей и направить их на путь к intelligere.
У всех доводов Гаунило есть один общий характер: В
благочестивой вере они представляются более надежными, чем
аргументация философствующего Ансельма. Однако они
движутся в пределах рассудочного мышления и вовлекают в эти
пределы также и различие cogitare и intelligere; ибо intelligere
Гаунило относится на самом деле только к действительности
конечных вещей. Тем самым Гаунило совершенно не
улавливает своеобразия идеи Ансельма. Ибо Ансельм достигает
своего intelligere на пути cogitare.
Гаунило допускает философскому мышлению разбиться,
чтобы получить, с одной стороны, пустую формальность
правильных или неправильных контекстов значений (из которых
выпадают подразумеваемые Ансельмом значения), а с
другой - не подверженную сомнению, непосредственную
лишенную мысли достоверность Бога. Но рациональность логически
убедительных и, однако, пустых контекстов значений и
лишенная мысли вера в своей непосредственности одинаково
неспособны на мыслящее удостоверение и мыслящее восхождение
философствования. Как эта рациональность впадает в
безразличное мышление правильного, так и эта лишенная мысли
вера - в слепое послушание непознанному авторитету. Их
разделение душит свободное, действительное
философствование. Оно всегда бывает очевидно для здравого человеческого
смысла, причем как для здравого смысла безбожия, так и для
здравого смысла веры в авторитеты. Где эти двое становятся
последней инстанцией решения, там философия умирает.
с) История основной идеи Ансельма. - В лице Ансельма
философия западного мира рождается заново. Он стоит
вначале, подобно Пармениду. Однако историческое различие
между ними обоими состоит вот в чем: Парменид, будучи сам
не связан предпосылками историчной веры, сразу же произвел
великое движение философствования; Ансельм же, будучи
привязан к вере Церкви, не постигнул своего собственного
образа мысли в полноте его последствий. Через него подлинный
философский импульс поначалу еще отнюдь не получил
дальнейшего влияния. Его затопили волны растущего на протяже-
148
//. Основная философская идея Ансельма
нии многих веков потока специфически христианского
мышления о вере.
Удостоверение Ансельма в действительности Бога никогда
более не удалось повторить таким же образом, однако удалось
повторить его с новой изначальностью. Его убедительная сила
до наших дней действует только на мыслящего вместе с
автором читателя ансельмовского текста, а не в обнаженно-
рациональной, изъятой из контекста целого, форме. Подобным
образом основную идею Ансельма превратили в простое
рациональное доказательство, в котором Бог как предмет
попадал в сферу конечного познавания. В подобной форме
(причем, однако, еще слышатся также и остатки ансельмовскои
субстанции) с этой идеей соглашались Бонавентура, Дуне
Скот, Декарт, Лейбниц, Гегель, ее оспаривали Фома, Кант.
Фома (тексты см. у Дэниелса) реферирует и опровергает
мысли Ансельма:
Если мы познали Бога с очевидностью, то мы не можем
усмотреть, чтобы можно было мыслить Его небытие. Фома
оспаривает положение, согласно которому некто может
мыслить, что Бога нет. А именно, он может мыслить, что не
существует ничего такого, больше чего не может быть мыслима
никакая вещь. Поэтому положение Ансельма фактически исходит
из предпосылки, что существует нечто, больше чего не может
быть мыслима никакая вещь. Поскольку Ансельм предполагает
это, он этого не доказывает.
В другом месте: Согласно Ансельму, через усмотрение
того, что означает слово «Бог», мы усмотрели одновременно, что
Бог есть. Это слово означает то, больше чего не может быть
мыслима никакая вещь. То, что существует в действительности
и в усмотрении, больше, нежели то, что существует только в
усмотрении. Поэтому из усмотрения значения слова «Бог»
следует усмотрение того, что он существует также в
действительности. Поэтому то, что Бог есть, познается через самое
себя. Возражая на это, Фома говорит: Правда, Бог в самом
себе есть Его бытие. Однако для нас, не знающих, что такое Бог,
не является само по себе самоочевидным, что Он есть. Мы не
можем утверждать, что он действительно существует, если не
будет в самом деле дано нечто такое, больше чего не может
быть мыслима никакая вещь.
149
Ансельм
Что означает позиция Фомы? Ансельм и Фома едины друг с
другом в достоверном убеждении, что Бог есть то, больше чего
немыслима никакая вещь. Но откуда происходит это
убеждение? Либо он возникает из чего-то извне, вследствие
действительности мира, позволяющего умозаключать о Боге как его
творце. Ансельм этого не отрицает. Фома считает этот путь
единственным путем естественного познания. - Или через
свидетельство изнутри, через мышление как мышление, экзи-
стирующее мышление; так считает Ансельм, но Фома это
отрицает. - Или извне, через гарантию, предоставляемую
авторитетом; в этом они оба опять-таки были бы единодушны.
В решающем пункте их расхождения друг другу противостоят
два способа мышления. Одно мышление осуществляется самой
нашей экзистенцией, а потому оно не пусто, но, будучи ясно
самому себе, тем самым уже направлено на действительность
Бога. Когда я действительно мыслю, Бог действителен для моего
познания. Он есть мышление, изымающее себя из всех
рассеяний и распространений, погружающее себя в единственно-
Единое, такое мышление, в которое мыслящий берет с собою
самого себя и бытие. Ансельм исходит не из какого-либо
положения дел (Tatbestand), но из мысли, и хочет из чистой мысли в
чистом мышлении доказать бытие Божие.
Совершенно иначе думает Фома: Наше мышление
привязано к показаниям органов чувств. Наши понятия мы получаем
посредством абстракции от чувственно-наглядного. С этими
понятиями мы восходим к Богу. Но почвой для них остается
чувственный мир. Мы можем умозаключать от мира к Богу, от
видимого - к невидимому, благодаря которому существует
видимое. В чистой мысли мы не находим никакой
действительности. Чтобы достичь действительности, рассудку требуется
чувственное созерцание.
Поэтому Фома продумывает традиционные античные
доказательства бытия Бога. Он приводит их в ясный порядок,
сохраняющий свое влияние, как элемент школьной доктрины, до
наших дней. Он считает их убедительными для чистого
рассудка, даже и без веры, посредством одного лишь
естественного познания. Поскольку наше мышление всегда должно
исходить из нашего опыта, все умозаключения мы можем
выводить только из чувственного созерцания в мире.
150
//. Основная философская идея Ансельма
Эти умозаключения имеют силу, руководствуясь вопросом
об основании: Из факта движения умозаключают о
неподвижном перводвигателе, из ряда причин, ввиду невозможности
бесконечного regressus, - к первопричине, из случайности и
сугубой возможности всех вещей в мире - к необходимому
бытию, как основанию всякой действительности (via causalitatis). -
Другая группа умозаключений видит различия совершенств в
мире. Из этих различий заключают о высшем совершенстве,
как основании всякого совершенства. Через приращение
совершенства мысль приходит к Богу (via eminentiae). - В
особенности же из целесообразности в мире заключают о ее
основании: Явления природы, лишенные сознания и знания,
производят все же целесообразное действие; это возможно, только
если их направляет обладающее познанием существо: Бог как
целеполагающая причина. - Но все доказательства находят
свое ограничение в древних идеях негативной теологии.
Поскольку в этих доказательствах мы приписываем Богу
определения, нам следует, скорее, вновь удержать от Него эти
определения. Бог не может постигаться через определения (via пе-
gationis).
Все эти доказательства бытия Бога Ансельм знал, сам
повторял их, считал их правильными. Однако их ему было
недостаточно. В своей увлеченности, будучи охвачен мышлением
как мышлением, он нашел основную идею, которую сохранял
в себе как таковую в течение своей жизни. Но для Фомы эта
идея была ложным умозаключением, с которым он разделался
мимоходом, так просто, что, наблюдая это, поражаешься - как
Ансельму, так и Фоме. Что это означает?
Фома мыслит естественным рассудком, который для него
эмпиристичен и рационалистичен. Или же он мыслит таинство,
когда получает откровение. Это разделение Ансельму
неизвестно. Поскольку откровение он понимает разумно, он также и
без откровения осуществляет в своей основной идее
достоверности Бога чистый разум.
Доказательства бытия Бога у Фомы не требуют никакого иного
мышления, кроме мышления обыденного рассудка. То, что Фома
постигает на этом пути, есть убедительная реальность для
каждого человека, для здравого человеческого смысла, без лишних
слов, без основания в экзистенции (на самом же деле, как с
очевидностью известно со времен Канта, обманчиво). Этот, в сущно-
151
Анселым
сти, беспочвенный среднестатистический рассудок не знает ни
игры мышления в спекулятивной мистике, ни беспредметного
удостоверения действительности посредством мыслящей
экзистенции. Он полагает, будто знает осязаемо реальные
истины, и обладает достоверностью реальности. В этой
реальности, восходя со ступени на ступень, он полагает себя
способным заключить, путем доказательства, о реальности Бога.
Нищету этого метода и его содержаний ему не позволяет
заметить блеск чудесного таинства откровения и его смысл,
схватываемый мыслью в теологии.
Напротив, основная идея Ансельма не относится ни к
сфере естественного рассудка, очерчиваемой у Фомы, ни к сфере
откровения. Она находится между ними, и у Фомы для нее нет
места. Ибо она есть изначальная философия, исполненное
мышление силой собственной экзистенции. Ансельм питает
глубокое доверие к единству мышления и веры в истоке разума, то
есть - философии. В эпоху Фомы с гораздо большей
энергичностью, чем во времена Ансельма, обнаружилась опасность
мышления для авторитета. Фома пытался совладать с этой
опасностью, освободив, с одной стороны, мышление здравого
рассудка, но показав его границы, а с другой стороны, дополнив
его таинством откровения. Это освобождение рассудка
совершилось ценой подчинения его таинству. Отныне великому
философствованию Ансельма уже не было места. Кажется, оно
должно было бы провалиться в промежуток между этими
двумя очевидными реальностями. Могло бы показаться, будто
Фома почувствовал чрезвычайную угрозу для церковного
авторитета, заключенную в философствовании Ансельма.
Однако у Фомы мы не находим никаких следов этого, а замечаем
только совершенное непонимание этого достойного удивления
богослова по отношению к тому, что совершенно не
затрагивало его в его столь обширном, столь тщательно проработанном,
столь блистательном мире, который, однако же, был ограничен
церковью. От сознания Фомы ускользнуло само исполненное
мышление, мышление как работа экзистенции. В мышлении
Ансельма душа в одном только этом месте философски
непосредственно, - а не опосредованно через реальности или же
через откровение, - относится к Богу·
Так что же, Ансельм сбился с дороги (Ist Anselm verstiegen)?
В более или менее резком утверждении подобного оказывают-
152
//. Основная философская идея Ансельма
ся согласны томизм и здравый смысл, наивный реализм и
детально разработанный рационализм основанного на
авторитетах благочестия. Этот общий для них приговор высказан в
мягком варианте Жильсоном: «Мы чувствуем, что святой Ансельм
уклонился со здравого пути... отошел от опыта к
необходимости сугубых понятий».
Я обхожу здесь вниманием одобрительные мнения об идее
Ансельма у Бонавентуры, Дунса Скота, Гегеля, в
разнообразных вариантах удерживающие в себе нечто от духа самого
Ансельма, а также и Спинозу, просто превратившего основную
идею Ансельма в первое из тех определений, из которых он
выстраивает формы своей мысли: «Под причиной самого себя
я понимаю то, сущность чего включает в себя существование,
или то, природа чего может быть понимаема только как
существующая». Вместо этого я брошу теперь взгляд на Декарта и
Лейбница, которые оба одобряют идею Ансельма, однако
низводят ее до доказательства, имеющего объективно
убедительный характер, трактуют ее предмет как некое положение дел,
понимание которого они желают усовершенствовать.
Декарт: Он считает доказательство Ансельма правильным.
Только высшему бытию, только Богу присуще то свойство, что
существование принадлежит к его сущности. Только
применительно к Богу является убедительной следующая мысль:
Существование так же точно неотделимо от сущности Бога, как
от сущности треугольника неотделимо то, что сумма величин
трех его углов равняется двум прямым углам, или как от идеи
горы неотделима идея долины. Причем не мое мышление
налагает на вещи эту необходимость. Необходимость самой
вещи, а именно бытия Божия, определяет меня к тому, чтобы
мыслить это. Ибо я не свободен мыслить Бога без бытия,
подобно тому как я свободен представлять себе лошадь с
крыльями или без крыльев.
И вот Декарт хочет усовершенствовать идею Декарта.
Вывод Ансельма из идеи высшего существа, идеи совершенства
правилен и убедителен. При этом предполагается, что у меня
есть эта идея. То, что она есть у меня - для Декарта есть
фактическое положение дел (Tatbestand). Это положение дел
составляет предельное основание ансельмовского
доказательства. Идея самого совершенного существа, и даже идея суще-
153
Ансельм
ства более совершенного, чем я, не может происходить из
меня и не может возникать из ничего. Она должна иметь
соответствующую себе причину. Я, обладающий этой идеей, не мог бы
существовать, если бы подобного существа не было. «Вся
убедительная сила этого довода заключается в том, что я
признаю, что я сам с этой своей природой - а именно, поскольку
я имею в себе идею Бога, - не мог бы существовать, если бы
Бог не существовал также в действительности». С бытием как
таковым, осознающим себя как конечное и несовершенное
бытие, в силу масштаба бесконечного и совершенного делается
достоверным бытие Божие.
Идея бесконечного, совершенного Бога утверждена у
Декарта как врожденная идея, как будто бы идея достигла своего
предмета. У Ансельма идея пребывала в движении: ее
смыслом является не summum esse, но - quo maius cogitare non
potest; не предмет, но задача. Прочность Бога как объекта есть
у Декарта как бы состоявшийся переход в бесконечность
(Übergegangensein ins Unendliche), которым я отныне обладаю;
но у Ансельма это - постоянно длящийся переход (das ständig
bleibende Übergehen). Там, у Декарта - потустороннее бытие
Бога, у Ансельма же - присутствие (Gegenwärtigkeit) Бога, не
становящегося предметом.
Хотя Декарт переводит доказательство на уровень
объективно убедительного знания, он все же знает, как трудно
помыслить эту мысль. «Я бы, конечно, не познавал ничего скорее
и легче, нежели Бога, если бы дух мой не был помрачен
предрассудками и если бы образы телесных вещей не занимали
моего сознания целиком». Подразумевается ли это так же, как
и в отношении всякой трудной, например математической,
задачи или здесь дает о себе знать сознание ансельмовского
истока?
Лейбниц: Он, подобно Декарту, желает прибавить еще одну
предпосылку онтологического доказательства, чтобы
окончательно подкрепить его. Декарт видел врожденную идею Бога,
которая сама могла происходить только от Бога. Лейбниц
мыслит следующую предпосылку онтологического доказательства,
которое само по себе еще не кажется ему действительным:
мысль о том, что Бог, или совершенное существо, возможен.
Если эта мысль возможна, тогда ее предмет является также
154
//. Основная философская идея Ансельма
действительным. А она возможна. Ибо ничто не может
воспрепятствовать возможности того, что не знает никаких границ,
никакого отрицания, а следовательно, также и никакого
противоречия. Этого одного достаточно, чтобы a priori познавать
бытие Божие.
Декарт и Лейбниц помещают ансельмовское
доказательство в контекст других доказательств. Они превращают его в
вещь среди других вещей, отделяют его от экзистенции, а это
значит - от того мышления, которое переживает в своем акте
действительность, а не только логическое принуждение,
скорее, в самом логическом принуждении переживает нечто
большее, чем это принуждение. Они характерным образом
стараются усовершенствовать это доказательство, снабдить
его предпосылкой, на основании которой он только и получает
полноту своей значимости. Пока еще остается что-то от ан-
сельмовской субстанции аргумента (как у Декарта и Лейбница),
остается живое сознание единственности Бога и взаимосвязь
этой идеи с собственной экзистенцией мыслящего. Без этого
идея, как логически объективированная мысль, становится в
конце концов совершенно пустой и ничтожной. Это постиг Кант,
знавший ансельмовское доказательство не в оригинале, а
только в его рациональной объективации. Ансельмовскую идею,
в денатурированной форме рационального доказательства,
Кант назвал онтологическим доказательством бытия Бога и
опроверг его.
Кант: Он, подобно Ансельму, понимает единственность этой
идеи, сравнительно со множеством доказательств бытия Бога:
«если в теоретическом знании должна быть познана
абсолютная необходимость вещи, то этого можно было бы достигнуть
только из априорных понятий, а не как о причине
существования, данного в опыте»\
Со времени Канта является с очевидностью ясно, что все
доказательства бытия Божия из положений дел в мире
несостоятельны, поскольку они держатся на уровне той реальности,
которая есть реальность опыта о предметах в мире. Если Фома
умозаключает вместе с античными мыслителями от
изменчивого к неизменному, от движущегося - к неподвижному
двигателю, от совершенного - к наисовершеннейшему бытию, от
относительного - к абсолютному, то исходным пунктом при этом
155
Ансельм
служит некоторое положение дел, в силу категориального
восприятия требующее себе дополнения чем-то, что не есть
положение дел, но выведено как понятие, и что принципиально
никогда не может встречаться нам как положение дел.
Кант признает, что во всех этих доказательствах в конце
всегда происходит то, что совершается в денатурированном
онтологическом доказательстве: умозаключение от понятия к
действительности его предмета. Это онтологическое
доказательство является, в самом деле, нервом всех доказательств
бытия Бога.
Однако так им называемое онтологическое доказательство
Кант отвергает. Его возражение состоит в том, что из понятия
невозможно умозаключать о действительности.
«Если... я мыслю какое-либо существо как высшую
реальность (без недостатка), то все же еще остается [открытым]
вопрос, существует ли оно или нет>Л Как я могу удостовериться
в действительном существовании? Если бы речь шла о
предмете чувств, меня отсылали бы к контексту моего опыта;
благодаря опыту мое мышление приобретало бы на одно
возможное восприятие больше. Но если мы хотим мыслить
существование только посредством чистой категории, то «мы не можем
указать никакого признака, чтобы отличить его от простой
возможности»™.
Если выразить это иначе: Наше сознание существования
в любом случае входит в единство опыта. Только из
«отношения ко всему моему состоянию мышления», а именно, из того,
что познание некоторого объекта возможно также через опыт
восприятия, может быть установлено его существование. Если
мы говорим о предмете чувств, то мы не смешали бы
существования вещи с понятием о вещи. Если же перед нами
объект чистого мышления, если мы наделяем его всеми
совершенствами и если он сам по себе лишен противоречий, то у
нас все же нет никаких средств, чтобы удостоверить его как
действительный. Оттого, что мы мыслим его как
недействительный, не возникает никакого противоречия. Ибо
действительность относится не к числу предикатов некоторого понятия,
а к отношению вещи к нашему существованию в контексте
нашего опыта. «Сто действительных талеров не содержат в
себе ни на йоту больше, чем сто возможных [талеров]... Но
мое имущество более велико при ста действительных талерах,
чем при одном лишь понятии их (т.е. возможности их)»™.
156
//. Основная философская идея Ансельма
Здесь Кант радикально отвергает возможность
удостовериться в бытии посредством мышления как такового. Ибо мышление
в себе лишено предмета (чистая возможность), и для того чтобы
обрести предметное значение, оно нуждается в восполнении.
Мы не можем «выцарапать» из идеи существование
соответствующего этой идее предмета. Онтологическое
доказательство должно или включить существование (Dasein) в понятие
(«всереальнейшее существо»): в таком случае сама мысль
должна была бы быть вещью, что невозможно, - или же нам
нужно было бы предполагать бытие, которое, однако, мы еще
только хотим доказать: в таком случае мы получили бы
«жалкую тавтологию»,х.
Вся эта критика остается в категории бытия как
эмпирической реальности. Оно видело бытие Божие, как понимал его
Ансельм, на том уровне, на котором оно находится у Декарта и
Лейбница, а к тому же еще и лишило его того ансельмовского
остатка, который, может быть, еще заметен у этих последних.
С этими критическими мыслями Кант движется исключительно
в области понятий, на деле совершенно неадекватных идее
Бога. Он трактует реальность в смысле эмпирической
реальности, а не в смысле трансцендентной действительности. То,
что давно уже совершилось на общепринятом философском
языке, Кант отверг со всей возможной принципиальной
ясностью: перевод трансценденции в осязаемую вещность, в
реальное бытие «где-либо» и «когда-либо».
Если Кант отвергает все доказательства бытия Божия,
а в конце концов - и так называемое онтологическое
доказательство, то мы вправе еще спросить, имея в виду отдельные
аргументы Канта: почему?
Философским мотивом Канта служит при этом
действительность самого трансцендентного. Я не могу знать о ней так
же, как знаю о вещах в мире. Я не могу сделать ее в знании
своим достоянием и затем обладать ею, как другим
имуществом. Равно ошибочно будет как понимать Бога посредством
объективации подобно некоторой реальности в чувственном
мире, так и доказывать его таким же образом, как доказывает
математически и логически убедительное мышление.
У Канта вопрос стоит не иначе, чем у Ансельма: как я
удостоверяюсь в действительности Бога. Ансельм указывает на
157
Ансельм
медитативный путь трансцендирующего мышления, Кант - на
практический путь нравственной деятельности. Ансельм знает
философский опыт внутренней деятельности как работы
мысли для удостоверения бытия Божия. Кант знает рефлексию на
опыт нравственной работы человека, понимающего смысл
своих действий только при помощи практических постулатов
свободы и бытия Божия. Кантовская достоверность бытия
Бога, решающим образом основывающаяся на действительности
нравственной деятельности, проявляется у него во всех
сферах, где разум стоит у границы: в качестве вещи в себе, в
качестве сотворенной основы мира явлений; в качестве
сверхчувственного субстрата человечества в созерцании прекрасного;
в качестве единства всех способностей нашего разума в
области интеллигибельного; в качестве истока идей. Кант
развертывает также из своего мышления «трансцендентальный
идеал», «материю всякой возможности», но, как он сам
оговаривает, только как изображение «безукоризненного идеала», а не
как познание действительного Бога. «Необходимость,
бесконечность, единство, существование вне мира ([а] не в качестве
мировой души), вечность без условий времени, вездеприсут-
ствие без условий пространства, всемогущество и т.п.». суть
для него мыслимые исключительно a priori предикаты транс-
ценденции. Выработать «очищенное понятие их», «в котором
так нуждается всякая теология», Кант считает задачей
философии. Однако мысль неспособна придать всему этому
реальность. Ибо предельное основание экзистенциального
усмотрения, впервые наделяющее подлинным значением все эти
пограничные мысли, - не теория, а нравственная практика.
Между Ансельмом и Кантом есть родство, позволяющее не
замечать все разделяющие их исторические промежуточные
звенья. На это указывает уже то обстоятельство, что для них
обоих существует только одно существенное доказательство.
Это одно доказательство есть живое присутствие
(Gegenwärtigkeit), а не что-то лишь мыслимое. Наше мышление движется
по многим направлениям, живое присутствие - только одно.
В знаменитом изречении Канта о двух вещах, наполняющих
душу все новым восхищением и благоговением, - звездном
небе надо мной и моральном законе во мне, - он говорит: «я ви-
158
//. Основная философская идея Ансельма
жу их перед собой и непосредственно связываю их с
сознанием своего существования»*.
Оба они в сознании своего существования,
просветляющемся для них в мышлении, удостоверяются в Боге. У Канта,
отвергающего онтологическое доказательство, его
«моральное» доказательство бытия Бога называется не
доказательством, а постулатом. Поскольку достоверность бытия Божия не
основывается на предметном рассудочном доказательстве,
Кант говорит, после ведущей к Богу мысли, не «она
достоверна», но «я достоверно знаю».
Ансельм и Кант избирают единый исток достоверности,
допускающей рациональное выражение, но доказуемой отнюдь
не только рационально. Оба они осуществляют не мышление
о чем-то, но мышление как экзистенцию, в котором для них
обретает действительность то, что они мыслят. Как противники,
так и сторонники ансельмовского доказательства, - и Фома, и
Декарт, и Лейбниц, - все они составляют единство в
противоположность мышлению Ансельма и Канта.
Однако и эти последние также отличаются друг от друга
своим основополагающим опытом. Хотя оба они достигают
бытия в мышлении, но Ансельм достигает его в мышлении как
таковом, которое есть не cogitare, но через cogitare есть intel-
ligere, Кант - в мышлении деятельности, подчиненной
безусловному закону. Для Канта в мыслящем осознании того
закона, которому я должен следовать, заключено больше, чем
только закон: в нем заключено божество. Для Ансельма в
мышлении такого существа, больше которого ничто не может
быть мыслимо, заключено больше, чем только мысль. Для них
обоих действительность удостоверяется в их экзистенции.
Общее у Ансельма и Канта [вот что]: Бог не превращается
в достояние безучастного знания, он присутствует только в
верующем разуме. Достоверность пребывает в никогда не
останавливающемся движении нашей экзистенции во времени. Для
Ансельма достоверность доступна только вместе с чистотой
сердца, в которой только и может быть по-настоящему
осуществлена мысль. Размышление у Ансельма медитативно и
вновь приводит нас к христианской вере. У Канта оно
рефлексивно и вновь приводит нас к разумной экзистенции
нравственной деятельности.
159
Ансельм
Вопрос о Боге находит себе ответ у них обоих, но не путем
сугубо рационального познания, а только силой
высказывающейся в мышлении экзистенции. Кантовские опровержения
доказательств действительности Бога означают указание
компаса на серьезность экзистенции, посредством которой
единственно, через повторяющееся снова и снова беспокойство
движения, и делается возможен покой достоверности.
Такие мысли, которые могут иметь наружный вид
технического удостоверения в боге посредством мышления, бывают все же
подлинным событием для того, кто совершает их впервые: они
нашли то, что отныне становится незабвенной опорой всей их
жизни. Такие мысли распространяются затем в рациональном
упрощении, теряют действенность в подобной прямолинейности,
становятся просто элементом доктрины. Однако они остаются
неисчерпаемыми благодаря скрытому в них мотиву, или той
искре, которая вновь и вновь может зажечь огонь, если встретит
душу, готовую принять пламя достоверности Бога.
Кант двигался в том же пространстве философской
глубины, что и Ансельм. Только поэтому он отверг ту упрощенную
логическую форму, в которой встретилась ему эта идея. Кант
принял эту идею только в ее предельном рациональном
запустении и в таком виде с неопровержимой силой отверг ее.
Однако вопрос заключается в том, остается ли она возможной в
духе Ансельма без уклонения в пространство кантовского
критического мышления: словесная сила логической формы
мысли, как трансцендирование в мысли за пределы мысли, в
молитвенной установке.
III. Характеристика мышления Ансельма
а) Изначальная философия Ансельма как христианское
мышление: Философствование Ансельма исполнено
лучащейся силы. Это не предварительная ступень, а завершение, но
это завершение ранней поры, еще не затронутое
происходящими вследствие рефлексии разрывами и реальностями
более позднего времени.
Его мышление трактует об истине, о свободной воле, о зле,
и о догматах Богочеловека (cur deus homo) и Троицы. Вера
160
///. Характеристика мышления Ансельма
должна стать разумно постижимой. Если Кант пишет о религии
в границах только разума, а Ансельм отыскивает разум в
содержаниях веры (согласно августиновскому принципу: credo ut
intelligam), то различие между ними состоит в том, что один
мыслит до наступления разрыва на веру и разум, теологию и
философию, а другой - после этого разрыва. В них обоих
действует воля самобытного разума и высокое понятие о разуме,
у обоих есть знание о том, что действительность разума имеет
свое основание не в самой себе.
Ансельм - первый великий оригинальный мыслитель
Средних веков. Правда, его философия подготовлена и
обусловлена в непрерывности [традиции] христианской мысли. Но это -
почва силы, с помощью которой он, как Августин, способен
философствовать фактически самостоятельно. Он, как
Августин, схватывает в самом мышлении исток веры, так что ему
знакомы обе формулировки: верить, чтобы постигнуть
содержание веры, - постигать, чтобы удостовериться в своей вере.
Мнимое противоречие между приматом веры и
самостоятельной силой разумного усмотрения - это тесное сплетение
моментов этого изначального философствования.
Из широкого спектра рассуждений, относящихся к базовому
человеческому знанию и к великим догматам, выделяется
собственно философское: найти в самом наиболее абстрактном
содержании то, что наполняет смыслом; чистота мысли как
действенная сила; сила простого; охваченность экзистенции
мыслью; простое, изначальное, неисторичное, бесконечно
углубляющее все прочее; - и ничтожность мыслей, если голый
рассудок начинает трактовать их как конечные положения дел.
В философском отношении Ансельм стоит вначале,
которое одновременно непревзойденно и неповторимо. Мы дышим
у него воздухом, сопоставимым с чистотой, которую встречаем
у Парменида и Гераклита. Это - одно из тех редких мгновений,
в которые на почве библейской веры глубина этой веры
просветлилась в философском мышлении без самообмана и без
колдовства.
Ь) Что такое у Ансельма мышление: Что означает
мышление и познавание, - это в Средние века мыслят в таком
категориальном поле, на котором упоминается противоположность
воззрений реализма (общие понятия, universalia, действитель-
161
А н сель м
ны, realia) и номинализма (общие понятия - это имена, nomina)
(в нижеследующем я использую [изложение] Хассе):
Эту тему раскрывают, опираясь на положения Порфирия
и Боэция. Боэций полагает, имея в виду суждения у Платона
и Аристотеля о самостоятельном, отдельном от вещей,
существовании идей, или существовании их только в вещах, что он
не желает решать, существуют ли они только в нашем
рассудке (и суть слова или имена), или же существуют объективно
(реальны), и прав ли в последнем случае Платон или же
Аристотель, а кроме того, телесны ли идеи или же нетелесны.
В течение веков мысль давала решение этой проблемы
в виде решительных антитез или же в виде опосредовании.
Односторонние позиции таковы: 1. Подлинно действительны
universalia; единичные вещи - это изображения тождественного
во всех них всеобщего. 2. Подлинно действительны только
индивидуумы. Общие понятия - это слова, которые сами
обладают действительностью только в качестве доступных слуху и
зрению чувственных данностей, что-либо означающих.
В каждом из односторонних решений затем возникает,
в противоположной форме, одна фундаментальная проблема:
1. Если действительное есть всеобщее, то вопрос в том: откуда
возникают индивидуумы? (вопрос о principium individuationis).
2. Если действительное - это единичные вещи, индивидуумы,
то вопрос в том: откуда возникает всеобщее? (существование
всеобщего как имен, знаков, значений, как возникшего в
результате абстракции).
Против неразрешимых проблем, вырастающих из этих
односторонности, выступило опосредующее тотальное решение.
Прежде всего, оно различало божественный и человеческий дух.
Божественный дух созерцает универсалии в их простоте, как
прообразы (exemplaria). Человеческий дух исходит из чувственно-
наглядного и от него достигает всеобщего. Поэтому
универсалиям, в отношении к человеческому духу, присущи три способа
существования: ante rem (в себе, в божественном духе), in re (в
вещах, связанные с индивидуумами), post rem (в человеческом
духе, в качестве абстракции).
То, что фиксируется таким образом в упрощающей схеме,
заключает в себе живучую, существенную и сегодня, и во
всякое время проблему, формулируемую в таких вопросах: Что
подлинно есть? Как мое знание относится к действительному
предмету? Каков смысл предметного познания?
Если действительно всеобщее, то в познании я схватываю
самую вещь. Если оно не действительно, то оно есть только
162
///. Характеристика мышления Ансельма
средство для техники моего познавания, через которое я
никогда не достигаю самой вещи, никогда не достигаю
действительности, а только осуществляю в отношении к ней игру
лишенных действительности значений, с помощью
последовательностей которых я хотя и могу вмешаться в ход событий,
подчинить себе природу, однако лишь так, что сущность и
целое всегда ускользают от меня, поскольку в этой работе духа
я лишен знания о самой действительности.
На почве так называемого номинализма возникло сознание
метода современных наук. Что поистине познают эти науки,
а что нет, - до наших дней остается великим, так и не
получившим подлинного ответа, но все более проясняющимся
вопросом. Нам предстоит обсудить его при изложении
философии великих исследователей.
Что эти науки, которых в Средние века еще не
существовало, но зачатки которых тогда уже имелись, не имеют ничего
общего с самой действительностью, - подобному допущению
всегда противилось естественное чутье человеческого
познавания. Герберт из Орильяка (около 1000)Х| уже писал о
подразделении вещей природы на роды и виды: Это искусство
деления на виды и объединения их в роды возникло не по
человеческому установлению, но создано в природе вещей творцом
всех искусств и было найдено там познающими людьми.
Нам нет надобности прослеживать здесь вопрос о
соотношении познания с действительностью, о характере
действительности, открывающейся перед научным познаванием. У
Ансельма и великих средневековых мыслителей, которым
неизвестно различие между философией и наукой, но которые в
своем философствовании нацелены на то существенное,
которое и сегодня недоступно никакой науке, этот вопрос с
самого же начала стоит иначе и имеет величайшее значение для
веры и спасения.
Номиналистический образ мысли Ансельм не считает
подлинным мышлением. Ибо не является мышлением то, что
объявляет свои понятия пустыми, одними лишь речами (flatus
vocis). Ансельм обращается с критикой против этого образа
мысли, который сам лишен веры или же опасен для веры: Эти
люди, говорит он, настолько пленены чувственными
представлениями (imaginationibus corporalibus), что неспособны
освободиться от них. Они не могут видеть того, что разум должен
рассматривать в своем собственном свете.
163
А н сель м
Осуждение номиналистического образа мысли играло
существенную роль в догматических битвах Ансельма против
Росцеллина. Если мыслитель объявляет Бога универсалией,
неким abstractum, а три лица - Бога Отца, Христа, Святого
Духа - индивидуумами, то он мыслит номиналистически и
признает трех богов. Но если всеобщее, Бог, само есть
действительность, тогда Бог один, а три лица суть облики единого: эта
мысль «реалистическая», потому что она утверждает
действительность универсалий. Кажется, что верующая догматикам
требует «реалистического» мышления. Тот, чье мышление не
постигает, - говорит Ансельм, - как многие люди суть в своем
роде (species) один человек, тот тем более не может
постигнуть, что в самом таинственном из существ три лица, хотя
каждое из них и есть Бог, суть все же только один Бог.
Ансельм говорит о «современных диалектиках», которые не
желают признавать действительным ничего, кроме того, что
они могут себе представить (imaginationibus comprehendere), -
и о людях, которых настолько подавляет множество
наполняющих их образов, что они неспособны возвыситься до
простоты мысли (intellectus).
Ансельму знакомо мышление как наиболее естественное,
не тонущее в пустотах сугубых речей и не оказывающееся в
плену у представлений, но переживающее восхождение к
существенности. Ему знаком покой вследствие тождества мысли
и существа в проникающем вглубь мышлении, которое не есть
техническое средство, не есть рефлексия, не есть играющее
витание над вещами (Umspielen der Dinge), но посредством
акта пребывает у самой вещи, и даже - есть сама эта вещь.
Такое мышление достигает туда, где истина есть
действительность, и осуществляется там: у Бога. В сотворенных
вещах истина раздроблена: на вещи и познание этих вещей, на
бытие вещей и то, чем они должны быть. Поэтому все
сотворенное еще ищет своего бытия, оно еще не есть; оно
пребывает в становлении бренности, как отыскание и утрата. Но то,
что это так, возможно только благодаря действительности
истины, с которой соотносится все то, что действительно, хотя и
не доступно чувствам. Но эта истина есть не субъективная
формация, но объективная действительность, существующая
для мышления, а не через посредство мышления.
Родовое отличие этого философского мышления от
рассудочного мышления, привязанного к чувствам и к конечности,
164
///. Характеристика мышления Ансельма
столь велико, что с точки зрения этого рассудочного мышления
оно предстает ничтожным и абсурдным. Оно предполагает, что
подлинное бытие само есть бытие мышления, мыслящее
бытие (Denkendsein), и что наше мышление есть не только
абстрактное, но также и конкретное мышление, достигающее в
мыслящее бытие в основе всех вещей. Только при этой
предпосылке мышление человека может обрести тот возвышенный
характер, что оно само будет действительным в некотором
ином смысле, чем действительность реального процесса во
времени. Если эта предпосылка, а с нею и подлинное
мышление, исчезает для меня, то я погружаюсь в существование,
которое есть только для другого, для того, кто мыслит это
существование, а себя самого не знает, и потому, коль скоро не
осознает по-настоящему самого себя, также и не держит себя
в своих руках.
В мышлении становится актуально действительным само
бытие (Im Denken wird das Sein selbst gegenwärtig), однако не
в опустошенной мысли, не в одних только речах и мнениях, но
в субстанциальном мышлении, для которого содержание
мысли реально как таковое.
Кажется, будто я тону - или в мышление, лишенное жизни
(в произвольное плескание словами и абстракциями), или в
жизнь, лишенную мысли («переживание»). Подлинное
мышление возвышается и над тем, и над другим. Это мышление есть
самопреобразование существования посредством внутренней
деятельности, совершающейся в самом мышлении. Оно
достигает восхождения, прикасающегося к самому бытию. Это -
жизнь, приближающаяся к бесконечному бытию, в котором она
всегда уже пребывает своей мыслью. Живо присущая в
каждый момент жизни чувственная достоверность становится
человеческой жизнью только благодаря найденному в ней
мышлением и осуществленному в ней бытию.
Ансельма можно понять только из представления о
значении мышления как действительности. Самодостоверность
содержательного благодаря Богу мышления
засвидетельствована действием мышления в экзистенции. Логические формы,
которые в дроблении конечного мышления остаются для
людей не только путем, но и формой сообщения, получают в под-
165
Анселыи
линном мышлении смысл, указывающий за свои собственные
границы.
Так нам следует оценивать и форму противоречивости.
Противоречие становится для Ансельма рычагом мышления,
позволяющим двигать его из среды cogitare к intelligere и
гарантировать intelligere при помощи cogitare. Противоречие как
таковое, есть убедительный момент, однако такой, который
исполняет свою службу, только если цель достигнута. Ансель-
му противоречие кажется невыносимым. Оно не маскируется
мотивами иного истока, которые скрываются, когда теснятся
близ очевидного противоречия. Оно, однако, и не
постулируется у него как нечто такое, чему, как происходящему от Бога, мы
должны подчиниться через веру в абсурд. Скорее, оно имеет
силу на пути, уничтожает то, в чем оно проявляется, однако
уничтожает так, что движет нас в направлении к тому месту,
где нет ни противоречия, ни непротиворечия, куда воспаряет
наше конечное мышление, чтобы в подлинном, бесконечном
мышлении обрести достоверность в такой истине, которая есть
действительность.
с) Авторитет: Человек во всякое время может жить, лишь
подчиняясь авторитету. Если он не желает этого делать, то он
подчинится власти еще тем более внешней. Иллюзия свободы
от всякого авторитета повергает человека в самое абсурдное и
уничтожающее послушание. Притязание на тотальную свободу
каждого индивида оглупляет и производит то или иное
тотальное подчинение. Человек может выбирать только, какой
именно авторитет он способен избрать, то есть какое содержание
станет для него основой его жизни. Не существует такой точки
зрения, с которой бы мы могли окинуть взглядом авторитет,
как будто бы находясь вне его. Находиться вне - значит стоять
в ничто и быть слепцом. Но избрание авторитета происходит
не преднамеренно, но через осознание и очищение
авторитета, в котором я уже живу фактически, через пробуждение
замаскированного авторитета, через припоминание той основы,
в силу которой я есмь. Если я удостоверяюсь в том, что имеет
для меня безусловную значимость, я буду искать эту основу
все глубже и глубже.
В Ансельме мы замечаем привязанность к авторитету и
свободу разума для его усвоения. Он знает, что пустой рассу-
166
///. Характеристика мышления Ансельма
док не достигнет ничего. Но он знает также, что и одной веры
недостаточно: «Мне кажется нерадивостью, если,
утвердившись однажды в вере, мы не стараемся также понять то, во что
веруем».
Вера Ансельма в авторитет еще пребывает под защитой
Церкви. Авторитет для мышления заключен для него в
католических отцах церкви. Он заботится о том, чтобы то, что мыслит
он сам, «состояло в связи прежде всего с тем, что написано
святым Августином».
Ансельм не мог сознавать исторического своеобразия
своей эпохи: того, что в мире, еще остававшемся варварским,
одна лишь Церковь, благодаря приносимой монахами в
духовных орденах внушающей почтение жертве, несла людям все
духовно великое, все достижения мысли, людей, наделенных
высшей образованностью и гуманностью, учение и
преподавание, и даже просто умение читать и писать. Здесь еще есть
тождество духа и власти, здесь - самая всеобъемлющая
организация западного мира, сила духа против чистого насилия,
абсолютная достоверность. Поставить под сомнение этих
монахов и церковь означало бы тогда поставить под сомнение
все то, чем живы люди.
Отсюда та величественная уверенность в себе, которая
была присуща Ансельму как монаху, как аббату, как
архиепископу одновременно также и в силу его должности:
соучаствовать в предании единственной истины, через постоянное
новое созидание, и в твердом усвоении ее миром, в глубоком
страхе перед беспочвенностью произвольного мышления.
Поэтому в случае конфликта он требует подчинения церковной
инстанции. Синоду не следует вступать в какие-либо
переговоры с Росцеллином, но требовать от него немедленного
отказа от своих мнений. После того как отказ состоялся, Ансельм
пытался убедить его своим сочинением о Троице. Росцеллин
же, находясь в ситуации выбора между мученической смертью
и лицемерием, избрал последнее, как он впоследствии
говорил, из страха смерти.
Мышление Ансельма - это свободное мышление
церковного деятеля, которого действительность теократии в Церкви
одновременно смиряет и дает спокойную решимость умереть,
и она же дает ему силы в борьбе против короля и мира. Эту
167
Ансельм
установку можно было бы назвать величественной
наивностью, не будь она сублимированной сознательностью, которой
перед лицом в самом деле единственного в ту эпоху шанса
недостает только одного: сомнения в легитимности теократии,
на которую притязает Церковь, в нравственной высоте
фактической церковной политической власти. Это был переход,
лишь однажды возможный с действительной честностью, без
суеверия и без колдовства, без помощи пробуждаемых
демагогией массовых инстинктов, подобно политическому
предприятию Платона в Сиракузах. То, что оно однажды предстало
с такой человеческой силой, с таким величием и чистотой, -
окрыляет нас раз навсегда, пусть даже при каждом повторении
конкретное решение станет сомнительным и жестоким.
Это было время романского благочестия, ведущего к
глубочайшему размышлению, - зримое в архитектуре, - время,
когда могло показаться, будто осуществляется мысль Платона
о философах как правителях. Хотя уже и тогда совпадения
претензий с действительностью не получалось, однако еще
возможна была без ограничений искренняя вера в то, что эта
мысль осуществится вполне. То, что кульминация -
одиннадцатый век - была уже одновременно и кризисом, исторически
понятно само собой. Ибо во времени всякое созревание есть
уже умирание. Всякая история есть переход. Высокое не может
сохраниться. Во всякое время оно, в каком-нибудь обличье,
проявляется, и во всяком времени оно гибнет. Но очень редко
встречается высокое в действительности институтов так, чтобы
соединились теократия и мирское господство, высота духа и
власти, претензия и соответствие этой претензии. Когда жил
Ансельм, это дело шло в гору. В минуту высочайшего
посягательства Церковь уже стала злой силой. Но то, что было
убедительно величественно в идее, и в историческом мгновении -
действительно во многих приближениях, что внушало людям
энтузиазм увлечения, но также и дисциплинирующую силу
меры, - это не теряет субстанции, даже если терпит крах.
Для воспоминания оно продолжает существовать в вечном
пространстве духа. Оно продолжает оказывать действие
благодаря тому, что в новом мире (в котором, при других условиях,
для приверженного трансценденции человека становится
возможно его отныне данное восхождение из изначальности его
самости) некогда бывшее может стать предметом созерцания и
служит для ориентировки.
168
Примечания
ПРИМЕЧАНИЯ
Эадмер (1060 - после 1128) - английский монах-бенедиктинец,
богослов и хронист. С детства вступив в кентерберийский монастырь
Крайстчерч, познакомился и впоследствии подружился с Ансельмом
Кентерберийским. Биограф Ансельма (английское издание: Eadmer. The
Life of St.Anselm, Archbishop of Canterbury. Oxford, 1996).
" Xacce (Hasse), Фридрих Рудольф (1808-1862) - немецкий богослов,
педагог и писатель. Профессор в Грейфсвальдском (1836), затем
Боннском (1841) университетах. Автор двухтомной монографии об Ансельме
Кентерберийском (которому была посвящена его диссертация 1832
года): первый том рассматривает биографию, второй - богословскую
систему Кентерберийского архиепископа: Ansèlm von Canterbury. Bd.1: Das
Leben Anselms (1843); Bd. 2: Die Lehre Anselms (1852).
'" Фон ден Штайнен (Von den Steinen), Вольфрам (1892-1967) -
швейцарский историк. Профессор всеобщей истории Средневековья Базель-
ского университета с 1938 г. Среди его работ ближе всего к теме главы
подходит следующая: Vom Heiligen Geist des Mittelalters. Anselm von
Canterbury, Bernhard von Clairvaux (1926).
■"Барт (Barth), Карл (1886-1968) - немецкий протестантский богослов,
ключевая фигура в так наз. «диалектической теологии» XX века.
Упомянут здесь Ясперсом как автор работы Fides quaerens intellectum. Anselms
Bieweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen
Programms (1931).
v Кант, Критика чистого разума, В662 (Кант И. Критика чистого
разума. М., Наука, 1998. С. 491).
νι Кант, Критика чистого разума, В628 (Кант И. Критика чистого
разума. М., Наука, 1998. С. 470).
v" Кант, Критика чистого разума, В629 (Кант И. Критика чистого
разума. М., Наука, 1998. С. 471).
у,"Кант, Критика чистого разума, В627 (Кант И. Критика чистого
разума. М., Наука, 1998. С. 470).
,х Кант, Критика чистого разума, В625 (Кант И. Критика чистого
разума. М., Наука, 1998. С. 469).
х Кант, Критика чистого разума (Кант И. Соч.: в 4 т. на ήθμ. и рус.
языках. Том III. M.: Московский философский фонд, 1997. С. 729).
xi Герберт из Орильяка (Сильвестр II) (946-1003) - средневековый
ученый и церковный деятель, папа Римский с 999 г. Основная область
его научных занятий - математика и астрономия; в этой области он
вновь ввел в употребление забытые в средневековой Европе
астролябию и абак.
169
СПИНОЗА
Источники: Сочинения (издание Гейдельбергской академии
п.р. Гебхардта). - Переводы: Гебхардт1, Бэнш". - Жизнь: Йел-
лес, Лукас, Колерус"' и др. ([сведения] собраны Гебхардтом:
Spinoza, Lebensbeschreibungen und Gespräche). - Портрет:
Альткирх.
Литература: Гебхардт. Куно Фишер|У. Фройденталь\
Й.Э. ЭрдманнУ|. Фон Дунин-Борковски™ Лео Штраусе™ - (О
последующем влиянии: Бэкк|Х. Грунвальдх. ВерньерХ1.)
I. Жизнь и сочинения
Спиноза (1632-1677) происходил из семьи испанских
евреев, изгнанных в Португалию. Его родители эмигрировали
оттуда в Амстердам. Он рос в великой традиции еврейско-
испанской культуры, в ее философии, в изучении Библии на
еврейском языке, Талмуда, комментаторов и в чтении
испанской литературы. Когда ему было 15 лет, он считался будущим
светилом синагоги.
Конфликты с еврейскими учеными и практическое
пренебрежение жизнью синагоги привели к тому, что Спинозу
исключили из среды еврейства. Ему было 24 года. Его попытались
удержать в правой вере, предложили ему годовое содержание,
если только он согласится время от времени посещать
синагогу. Спиноза отказался. Когда один фанатик совершил
покушение на его жизнь, он покинул Амстердам, нашел пристанище у
одного друга, и тогда его постигло «великое отлучение» от
синагоги. Поскольку это отлучение имело также и гражданско-
правовые последствия, Спиноза подал протест. Но то, что
инициатива его отхода от синагоги принадлежала самому
Спинозе, он подтверждает выбором заглавия для утраченного
сочинения в свою защиту «Апология для оправдания своего
отречения от синагоги» (Гебхардт).
Сестры отказали Спинозе в отцовском наследстве,
ссылаясь на отлучение общины. Он просил установить свое право,
170
/. Жизнь и сочинения
принадлежавшее ему как голландскому гражданину, в
судебном порядке. Но затем он добровольно отказался от всего,
кроме одной кровати. Он никак не высказывался о своих
братьях и сестрах до самого конца, не упомянув их также и в своем
завещании: «Они вели себя неподобающим образом».
Фактически, но без единого слова, без жалоб и обвинений, он был
в ссоре со своим семейством.
Чем Спиноза зарабатывал на жизнь?
Его воля к независимости требовала возможности полагаться
только на свои собственные силы. Он научился шлифовать
оптические стекла, которые были в то время новинкой и
пользовались большим спросом. Он достиг в этом ремесле большого
мастерства. Но это не было его заработком, его поддерживали
друзья. Нередко ему предлагали деньги. Некоторые
предложения он отказывался принять. От Симона де Врие он принимал
деньги. Правда, от назначения его наследником он отказался,
поскольку согласно праву и природе его имущество причиталось
его брату. Когда после смерти Симона этот брат хотел дать ему
500 гульденов ежегодно, он снизил эту сумму до 300. Ян де Витт
в письменной форме подарил ему пенсион размером в 200
гульденов. Когда впоследствии его наследники испытывали
трудности с дальнейшей выплатой пенсиона, он возвратил им
дарственную запись, отказавшись от всего. После этого они
исполняли свое обязательство. В своем образе жизни Спиноза был
чрезвычайно непритязателен. «Платье не делает человека.
К чему драгоценная обертка для вещи, не имеющей никакой
ценности?» Но бедная одежда и домашняя утварь не были у него
в запущенном виде, но были всегда чистые и в порядке. Только
в одном пункте Спиноза тратил деньги охотно: он оставил после
себя отборную и весьма ценную библиотеку.
Жизнь Спинозы после отлучения внешне была тихой,
скромной жизнью в снимаемых комнатах в различных местах
Голландии: в 1656-1660 годах - в сельском доме между
Амстердамом и Оверкерком, с 1660 года - в Рейнсбурге под
Лейденом, с 1663 года - в Фоорбурге под Гаагой, сначала - в
пансионе у одной вдовы, затем, с 1671 года - в доме художника
Генриха ван дер Спика, где он сам вел свое хозяйство. Здесь
в 1677 году он умер от туберкулеза в возрасте 45 лет.
Спиноза не сам избрал свою судьбу, но принял ее как
неизбежность: она означала оторванность от всякой общности ве-
171
Спиноза
ры, происхождения, народа, собственной семьи. Будучи изгнан
иудеями, он не стал христианином. Однако он был
голландским гражданином, причем сознательно желал исполнять свои
гражданские обязанности, как свое собственное дело, и
отстаивать свои гражданские права.
Голландское государство выросло в борьбе против
испанского гнета, конституировав собственное политическое право.
Это произошло по мотивам не племенной (völkischen), а
политической свободы, оправдывавшим себя религиозной
безусловностью. Когда с 1568 года в войне с Испанией под
руководством Оранского дома возникло и утвердилось это
государство, решающее значение имела обороноспособность. После
того как в Вестфальском мирном договоре (1648) государство
получило признание и могло считать себя в безопасности,
казалось, что военная организация и единообразное руководство
могут уже не иметь приоритета. Поэтому теперь партия
республиканцев (голландские патриции, партия регента) одержала
победу над Оранским домом. Республиканцы, возглавляемые
Яном де Виттом, обеспечили цветущее, мирное развитие
страны в течение двадцати лет. Бремя военных расходов стало
легче, государство было гарантировано внешнеполитическими
союзами. В противоположность фактической нетерпимости
Оранской партии республиканцы были сторонниками
действительной религиозной свободы. Это прекрасное состояние
внезапно окончилось, когда Людовик XIV вместе с английским
королем напали на Голландию. Ян де Витт показался
предателем нации и был убит толпой (1672). Оранская партия снова
пришла к власти, однако дух республиканцев сохранял
значительное влияние.
Спиноза принимал участие в политике. «Богословско-
политический трактат» (1670) был задуман и опубликован не
только как философское исследование, но также и с целью
оказать политическое влияние в соответствии с политикой его
друга Яна де Витта и республиканцев (Гебхардт). Власть Яна
де Витта, как primus inter pares (первый среди равных (лат.))
партии аристократов зависела от общественного мнения. Дух
правительства должен был находить отзвук в духе населения.
Для этого требовалась свобода совести и независимость
государства от церковной ортодоксии. Трактат Спинозы хотел
способствовать и тому и другому.
172
/. Жизнь и сочинения
После убийства де Витта партия республиканцев (партия
регента) приложила усилия в этом смысле для восстановления
мира. С ведома и по воле этой партии Спиноза отправился
в Утрехт в штаб-квартиру принца Конде, чтобы способствовать
заключению мира, быть может, используемый неким
доносчиком, хотевшим исполнить предполагаемое желание принца
Конде побеседовать со знаменитым евреем. Источники
сообщают, как свободно и уверенно держался Спиноза при дворе.
Но поскольку он совершенно не получил аудиенции у Конде,
он вернулся домой без всякого результата.
Толпа считала его шпионом. Хозяин дома, где жил Спиноза,
начал опасаться насильственного вторжения. Спиноза отвечал:
«Об этом не беспокойтесь. Я невиновен, и есть немало людей
среди великих, которые знают, почему я поехал в Утрехт. Как
только услышите шум у Ваших дверей, я выйду к этим людям,
даже если они поступят со мною так же, как с господином де Вит-
том. Я честный республиканец, и благо республики - главная моя
забота». Так Спиноза действовал в качестве голландца.
Оранская партия победила. Она принесла с собой
(согласно античной классификации форм государства, самоочевидной
также и для Спинозы) монархию вместо аристократии партии
регента. В политическом трактате, оставшемся в его
посмертном наследии, Спиноза нарисовал идеальный тип монархии
и аристократии. Он пытался представить себе наилучшее
из возможного для каждой из них. Когда он хотел приступить
к описанию третьего типа - демократии, - смерть прервала его
работу над текстом.
Спиноза бы голландцем не по исконному происхождению,
но по политическому праву. Поскольку к еврейству он уже
более не принадлежал, что же еще оставалось ему, кроме
получения гарантии от права, от политического бытия своего
государства? Не оставалось ничего, кроме человеческого бытия
индивида, полагающегося на самого себя и сознает себя
обязанным каждому человеку единственно через себя самого как
человека, а именно - через самодостоверность разума. Ценой
вынужденной, не добровольной беспочвенности в этом мире
Спиноза обрел иную почву в вечной истине, доступной человеку
как человеку. Его мышление сделалось убежищем изгнанников,
173
Спиноза
которые должны всецело опираться на самих себя. Оно
сделалось ориентиром для каждого человека, ищущего независимости.
Самодостоверность разума он нашел в философии,
просветлявшей и направлявшей его жизнь. Когда некто, желавший
обратить его в католическую веру, упрекал его в том, что он считает
свою философию самой лучшей философией, Спиноза отвечал:
«Я не претендую на то, что нашел самую лучшую философию,
но знаю, что познаю истинную философию».
Фактическая беспочвенность, в которой оказался Спиноза,
только при политических гарантиях от правового государства
могла быть устранена личными отношениями чисто
человеческого характера, не требующими никаких других предпосылок,
кроме самого человеческого бытия. Так и произошло. У Спинозы
были друзья, был разнообразный круг общения, обширная
переписка. В кругу коллегиантов - общества христиан,
встречавшихся в духе свободы вероисповедания, - он был желанным гостем.
Он жаждал философской общности. «Для моего собственного
счастья мне нужно стараться о том, чтобы многие другие люди
получили то же познание, что и я, и чтобы их познавание и воля
были полностью согласны с моими познаванием и волей». Он
никому и нигде не навязывал своего учения. Но то, что он
говорил, звучало убедительно. И невозможно было не поддаться
влиянию благородства его натуры, - невозможно это было даже
для его врагов, которые, отвергая его, в то же время против
собственной воли чтили его. Он охотно общался с простолюдинами.
Своей квартирной хозяйке, которая спросила его, может ли она
обрести блаженство в своей религии, - он отвечал: «Ваша
религия хороша. Вам нет нужды искать никакой другой религии, если
только Вы ведете тихую и преданную Богу жизнь». Несмотря на
то, что у него были добрые друзья, ему пришлось вытерпеть
также, что другие неверно понимали его, использовали его в
своих целях, порывали с ним, и, наконец, что явился Лейбниц,
чтобы повидать примечательного еврея, от которого
впоследствии он совершенно отрекся.
Волю Спинозы к независимости нелегко понять с
совершенным спокойствием. Он не желает ничего, кроме того, чтобы
мыслить истину и жить истинно, а это означает для него: быть
в Боге. Эта независимость в самодостоверности имеет некий
безличный характер. Ибо эта широта становления самостью
174
/. Жизнь и сочинения
не думает о своей собственной личности. В этом человеке,
существующем всецело лишь как самость (als er selbst), не
видно никакого усердия о себе. Кажется, в нем нисколько нет
саморефлексии, а также и никакой гордости и насильственно-
сти. О нем самом ни разу не заходит речи. По желанию
Спинозы, «Этика» должна была выйти в свет без указания его имени.
Ибо истина - безлична. Безразлично, кто именно первым
сформулировал ее положения. Здесь не существует воли к
обладанию, если для нас была всерьез важна сама истина
(совсем иное дело - у исследователей в науках и математике,
справедливо притязающих на приоритет своих научных
достижений, только лишь в качестве достижений).
Спиноза запечатывал свои письма печаткой с надписью
«caute». Он в самом деле был осмотрителен, чтобы найти себе
покой. Он тщательно обдумывал, кому сообщать свое учение и
кому дать читать свои рукописи. Он откладывал печатание
сочинений. Большая их часть вышла в свет после его смерти. Он
не желал стать мучеником: «Я предоставляю каждому жить по
своему разумению, и пусть тот, кто хочет, умирает за свое
счастье, если только мне позволено будет жить для истины».
Поэтому он отказался также от приглашения в Гейдельбергский
университет (1673), хотя ему гарантировали полную свободу
преподавания: «Для меня неясно, в какие границы следует
заключить свободу философствования... Я колеблюсь не в
надежде на более возвышенное счастье, но из любви к покою,
которого не считаю возможным сохранить себе иным
способом». Так он писал курпфальцскому министру.
Спиноза не был ни одиноким оригиналом, ни
государственным деятелем. Он не избрал для себя никакой иной судьбы,
кроме той, чтобы систематически развивать свои мысли и
заносить их на бумагу. В остальном он был человеком, стоящим
на собственных ногах, который все, что бы его ни постигло,
разумно трактовал самым естественным образом, - и как
гражданин государства, и в своей неизменной готовности помочь, -
и всегда в благочестивом умонастроении.
Кажется, будто его спокойное достоинство - одинаково
и врожденная натура, и результат его философии. Но о том, что
его покой не был апатией, его натура не была холодна, его
темперамент не угас, свидетельствует нам целый ряд анекдотов.
175
Спиноза
После убийства де Витта он разрыдался. Он написал плакат
для черни, начинавшийся словами: Ultimi barbarorum, хотел
выйти на улицу и прибить его к стене. Когда его квартирный
хозяин запер его в доме, чтобы он не подвергал себя
опасности быть так же убитым, он передумал.
Из всех сохранившихся портретов вольвенбюттельский
портрет представляет нам благородного сефарда. Но даже
этот образ может дать нам лишь некое слабое подобие
благородства этой чистой души, которое мы находим и в его
сочинениях, и в его жизни.
Произведения: При жизни философа были опубликованы
только пересказывающие, в дидактических целях,
переводящие материал в математическую форму «Принципы
картезианской философии» (1663) под его собственным именем и «Бо-
гословско-политический трактат» (1670) анонимно. Сразу же
после его смерти вышли, в одном томе: «Этика».
«Политический трактат». «Об усовершенствовании ума». Письма.
Компендиум еврейской грамматики. В 1852 году был обнаружен
«Трактат о Боге и человеке и о человеческом счастье».
О времени написания: Из эпохи до отлучения до нас не
дошло ничего. Наиболее ранний документ - это обнаруженный
в 1852 году краткий трактат (возникший не позднее сентября
1661 года, вероятно, между 1658 и 1660 годами), самая ранняя
версия мира спинозовских идей. К числу самых поздних
сочинений относится никогда не завершенный, важный для
понимания умонастроения Спинозы трактат об усовершенствовании ума.
В 1662-1663 годах было написано сочинение о принципах
философии Декарта. - Первый набросок главного произведения -
«Этики» - создан уже в 1662-1665 годах. Он состоял из трех книг.
Позднее этих книг стало пять. Спиноза вплоть до своей смерти
улучшал рукопись. «Богословско-политический трактат» был
начат в 1665 году и опубликован в 1670 году. - Незадолго до
смерти Спиноза написал незавершенный «Политический трактат».
II. Философия и жизненная практика
Философия вырастает из жизни Спинозы как
единственное средство, при помощи которого жизнь достигает своей
цели. В раннем произведении об усовершенствовании ума эта
цель выясняется в следующем размышлении о своем пути:
176
//. Философия и жизненная практика
Все заключает в себе добро или зло лишь постольку,
поскольку оно движет душу. То, что обычно предлагает наша
жизнь, оказывается суетным и не имеющим никакой цены.
«И так, наконец, я решил исследовать, существует ли что-
нибудь такое, что является подлинным благом, и чем
единственно бывает охвачена наша душа, и благодаря чему она
может всегда испытывать постоянную и совершенную
радость». «Наконец, я решил», говорит Спиноза, ибо поначалу
ему не казалось целесообразным жертвовать достоверным
ради чего-то недостоверного. Достоверными кажутся богатство,
честь, чувственное удовольствие. Однако недостоверно, будто
в них можно найти высшее благо. Ибо за чувственным
удовольствием следует замешательство и притупление духа.
Богатство требует все большего и большего. Честолюбие
вынуждает нас сообразоваться с понятиями людей, избегать того,
чего они избегают, искать того, чего они ищут. Если я всерьез
хочу постараться приобрести новое и подлинное благо, я
вынужден отказаться от всего этого. Ибо они настолько
захватывают человека, что увлеченный ими дух не может думать о
каком-либо ином благе. Таким образом, путь поиска истинного
блага означает отречение от блага, по природе своей
недостоверного, в пользу блага, которое хотя поначалу бывает так же
точно недостоверно, но которое не является недостоверным по
своей природе. Однако в прикованности нашей жизни к
сомнительным преходящим благам, в этой несомненности
погружения в ничто, имеет смысл избрать новый путь в качестве, пусть
даже неверного, средства спасения.
Первый вопрос: в чем заключается счастье и несчастье?
И ответ: оно заключается в свойстве предметов, которые мы
любим. Есть два рода предметов. Когда мы любим
преходящие предметы и такие предметы, которые не каждый человек
может получить в одинаковой мере, мы впадаем в зависть,
страх и ненависть. «Но любовь к вещи вечной и бесконечной
питает душу чистой радостью и свободна от всякого
неудовольствия». Однако опыт научил Спинозу, что вследствие
такого познания дух хотя может отвернуться от конечных вещей,
однако не может освободиться (sich abtun) от них. Дающие
освобождение перерывы становились чаще и
продолжительнее, но они становились таковы главным образом лишь после
того, как он сделал второе открытие, а именно, познал, что
приобретение денег, чувственное удовольствие и честь вредят
177
Спиноза
духу лишь до тех пор, пока мы стремимся к ним ради них
самих. Ибо, как только мы начнем стремиться к ним лишь как к
средствам, они будут соблюдать некоторую меру и
совершенно не будут нам вредить. Эта непринужденная, естественная
установка характерна для Спинозы. Открывающееся ему
высшее благо не уничтожает всего прочего. Его не следует
ожидать в потустороннем, но следует избирать и осуществлять его
здесь, в мире.
Что такое высшее благо? В юности Спиноза записывает
краткий ответ: познание единства, связывающего дух со всей
природой, и причастность ему вместе с другими людьми. Если
мы избираем все как средство для этой цели и лишь
постольку, поскольку оно необходимо как такое средство, то окажется:
Нужно понимать природу настолько, насколько это
необходимо для достижения наивысшей возможной природы
человека.
Нужно составлять такую общность (Gemeinschaft), какая
требуется, чтобы возможно большее число людей могло
возможно легче и увереннее достигнуть ее.
Нужно найти такую моральную философию и теорию
воспитания, которые ведут к этой цели.
Нужно содействовать созданию медицинской науки для
здоровья, которое есть немаловажное средство для этой цели.
Нужно усовершенствовать механику, чтобы сделать легкое
трудным и этим сэкономить себе немало времени и труда.
Нужно найти средства для очищения ума, чтобы ум
счастливо, без заблуждений с наибольшим возможным
совершенством познавал вещи.
Таким образом, все науки следует направить к одной-
единственной цели - к единой цели достижения этого высшего
совершенства человека.
Предварительные правила жизни на этом пути таковы:
Говори, сообразуясь с тем, сколько может усвоить толпа,
и делай все, что не препятствует достижению цели. Тем самым
ты пробудишь в людях наклонность охотно прислушиваться к
слову истины.
Пользуйся удовольствиями в той мере, в какой это
достаточно для поддержания здоровья.
Старайся приобретать лишь столько денег или иных вещей,
сколько требуется для поддержания жизни и здоровья.
178
///. Метафизическое видение
Соблюдай обычаи страны, поскольку они не противоречат
нашим целям.
Наше изложение философии Спинозы будет следовать
такому порядку:
Высшее благо обретают, если философское постижение
получает живую наглядность в видении того, что вечно
(метафизическое тотальное видение). Это видение
удостоверяется в знании о способе этого постижения (теория
познавания). Благодаря тому и другому мы осознаем, что есть
человек.
Осуществление на деле этого постижения есть свобода,
и имеет следствием свободу в практике жизни (этическое
просветление рабства у аффектов и свободы через
познавание).
Личной свободы индивида недостаточно. Мы живем не
поодиночке, но в реальном мире общежития (Miteinander), в
котором все зависят от всех. Это учрежденное людьми
общежитие люди должны и осваивать. Эта общая жизнь
осуществляется в государстве и в вере в откровенную религию. Спиноза
во всякое время мыслит политически и богословски,
применяя установленные философией критерии.
III. Метафизическое видение
Чтобы понять практику жизни Спинозы и его суждения по
этическим, научным, политическим и богословским вопросам,
необходимо ясно представить себе предшествующее всему
основное устроение [его мысли]. Его можно понять только
в метафизическом видении, которое властвует в его жизни
от начала осознания им себя и до конца.
Тотальное категориальное видение у Спинозы сразу же
предстает перед нами почти в полной завершенности. На
вопрос, как Спиноза пришел к этому видению, можно дать только
один ответ: через просветление своего богосознания, которое,
будучи прирождено ему и будучи пробуждено в ребенке
библейской традицией, стало тем единственным, что было для
него всего важнее.
179
Спиноза
а) Субстанция, атрибут, модус
Чтобы выразить это богосознание и осветить им (von ihm
durchleuchten zu lassen) все сущее, Спиноза использует свои
основные слова, которые на первый взгляд могут вызвать
недоумение. На вопрос: что есть? - он дает такой ответ:
субстанция, ее атрибуты и модусы.
Субстанция. Истоком должно быть то, что само не
нуждается ни в каком основании: Если оно мыслится, то не
указывает за свои пределы. Вопрос о том, откуда оно,
останавливается перед ним. Субстанция - это то, что не предполагает
ничего иного как того основания, вследствие которого оно есть.
Это означает: субстанция - это основание, которое само есть
основание самого себя или причина самой себя (causa sui).
Поэтому понятие субстанции не может полагать вне себя
понятие какой-либо иной вещи. Скорее, субстанция есть то, что
есть в себе и познается только через само себя.
Обо всякой вещи в мире мы можем мыслить, что некогда
было возможно, чтобы эта вещь не существовала. Однако об
истоке, о субстанции, и только о ней, верно утверждение: ее
невозможно мыслить, не мысля ее в то же время
существующей. «Под причиною самого себя я разумею то, сущность чего
заключает в себе существование, иными словами то, чья
природа может быть представляема не иначе как
существующей»/" Было бы абсурдно мыслить субстанцию
несуществующей. Ибо это была бы мысль, что ничего нет. Хотя я с
легкостью могу высказать это, как самую дешевую мнимую мысль:
возможно, что не существует ничего. Но действительно
осуществить эту мысль в мышлении невозможно.
Что бытие есть - у Спинозы: субстанция есть, - это для
него не просто мысль вообще, но одновременно потрясающая
ум, всеобъемлющая, бесконечно наполненная мысль о боге,
находящая себе подтверждение во всем, что мы можем
помыслить и пережить, если только мы взглянем в основание
мыслимого и переживаемого.
Атрибут: То, что мы знаем о субстанции, мы знаем через
ее атрибуты: мышление и протяжение (cogitatio и extensio).
Все, что мы переживаем в опыте, есть либо одно (извнутри),
либо другое (извне). Они именуются атрибутами, с одной сто-
180
///. Метафизическое видение
роны, «в отношении ума, приписывающему субстанции некую
такую природу». С другой стороны, атрибут выражает (exprimit)
или объясняет (explicat) сущность субстанции. Атрибутов в их
качественной определенности существует несколько
(мышление и протяжение), однако каждый из них, подобно субстанции,
бесконечен и постижим только из самого себя. И все же
атрибуты бесконечны только в своем роде, а не абсолютно
бесконечны, как субстанция. Ибо у субстанции есть не только эти
два, но и бесконечно много неизвестных нам атрибутов.
Модус: Модусами называются единичные вещи, эти
способы мышления (Denkungsweisen) и эти тела. Они суть «то, что
существует в другом и представляется через другое»Х|".
Субстанция и ее атрибуты вечны и бесконечны, модусы
существуют во времени и конечны «в своем и ограниченном роде».
Поскольку субстанция именуется богом, Спиноза говорит:
«Отдельные вещи составляют не что иное, как состояния или
модусы атрибутов бога, в которых последние выражаются
известным и определенным образом»™.
Таким образом, можно выразить одной фразой то, что есть:
Есть только субстанция, или ее атрибуты и аффекты этих
атрибутов. И: «Все, что только существует, существует в боге,
и без бога ничто не может ни существовать, ни быть
представляемо»™.
Ъ)Бог
Мыслить субстанцию, значит, познавать Бога. Спинозовская
идея бога содержит следующие частные моменты:
Во-первых: бог существует (Gott existiert). - Почему
мышление субстанции или Бога едино с познанием того, что она
существует?
Что нечто существует, - это достоверно для нас через наше
существование. Однако наше существование бренно, в
качестве того или иного единичного существования оно не
необходимо, а случайно. Мы можем мыслить его небытие. То, что оно
есть, должно иметь причину. Причина может быть найдена в
другом существовании, а причина этого существования -
снова в другом, и так далее до бесконечности, и мы никогда не
достигнем такой причины, которая была бы причиной как
таковой. Такая причина может заключаться только в необходимом
181
Спиноза
существовании (notwendige Existenz), а значит, в таком,
которое существует не случайно вследствие другого, но через само
себя. Однако такое существование необходимо, только если
невозможно помыслить, что ничего нет. Если бы возможно
было, что ничего нет, то бытие не было бы необходимо.
Повторим мысль Спинозы: Если мы попытаемся мыслить,
что такие сугубо конечные существа, как мы и те, которые мы
встречаем в мире, существуют необходимо, то конечные
существа были бы «могущественнее, чем существо абсолютно
бесконечное»™. Только бесконечные, а не конечные существа
могут существовать необходимо. Отсюда заключение: «Или
ничего не существует, или существует также и существо абсолютно
бесконечное»™1.
Еще раз: Простое существование того, что не необходимо,
немыслимо. Но мы, конечные, случайные существа,
существуем; «следовательно, ничье существование не может быть нам
известно более, чем существование существа абсолютно
бесконечного или совершенного, т.е. бога»™".
Эта достоверность есть для Спинозы самая ясная, самая
решительная и величайшая достоверность, какая вообще
возможна. Если мы однажды всерьез помыслим субстанцию,
то сомнения должны исчезнуть. «Таким образом, если кто
скажет, что он имеет ясную и отчетливую, т.е. истинную идею о
субстанции, но тем не менее сомневается, существует ли
таковая субстанция, то это будет, право, то же самое, как если б
он сказал, что он имеет истинную идею, но сомневается,
однако, не ложная ли она»х,х.
В этой основной идее о бытии бога нам нужно различать
два момента: во-первых, существование конечных вещей как
исходный пункт, а во-вторых, саму по себе идею абсолютно
необходимого существования бесконечной субстанции. Этот
исходный путь есть только путеводная нить, позволяющий
прийти от того, что самоочевидно в обыденном сознании
(нашего существования), через вопрос об основании этого
существования (при тщетности нескончаемо продолжающихся
поисков основания в этом мире) к мысли о необходимом
существовании. А эта мысль, идея субстанции или бога, достоверна
для Спинозы не как результат вывода, но сама по себе. Мысль
о боге не нуждается ни в каком обосновании или выведении.
182
///. Метафизическое видение
Скорее, именно она предшествует всему. Она ясна и
отчетлива через самое себя. Поэтому Спиноза отвергает
доказательства бытия бога, заключающие о Боге из существования мира.
Если богословы, оперирующие такими доказательствами,
обвиняли Спинозу в атеизме, то он обращался против них,
исходя из своей изначальной уверенности в бытии бога. Он
удивлен и полагает, что дело обстоит наоборот: тот, кому нужны
плохие доказательства, не уверен в бытии бога.
Во-вторых: бог бесконечен. - Необходимо существующая
субстанция бесконечна. Не будь она такова, она и не
существовала бы лишь из себя самой, поскольку существовала бы в
отношении к иному. Она не была бы также совершенным бытием,
заключающимся в том, что она есть вся совокупность
действительности. Поэтому субстанция или бог именуется абсолютно
бесконечной (absolute infinitum). У нее бесконечное число
атрибутов: «Чем более какое-нибудь существо имеет действительности
или бытия, тем более ему присуще атрибутов, выражающих и
необходимость, или вечность, и бесконечность. Следовательно,
нет ничего яснее того, что существо абсолютно бесконечное
должно быть определяемо... как существо, состоящее из
бесконечно многих атрибутов»™. Каждый атрибут также бесконечен,
но не абсолютно, а только в своем роде (in suo génère infinitum).
Нам, людям, известны только два атрибута: мышление и
протяжение. Но если бы существовали только эти два
атрибута, то субстанция не была бы абсолютно бесконечной.
Бесконечность бога не терпит никаких ограничений. Правда,
человеческий дух в своем познании бога не может достигнуть никаких
атрибутов бога, кроме этих двух. Он не может ни вывести, ни
постигнуть никакого другого атрибута. Бесконечность числа
атрибутов, которую он необходимо должен мыслить,
свидетельствует о трансцендентности божества. И все же, при
самом ясном богопознании, это познание в то же время стоит все
же перед потрясающим фактом непостижимости божества,
с бесконечным множеством его атрибутов.
В-третьих: бог неделим. - В боге или субстанции нет
никакого разделения. Так, в нем нет деления на возможность и
действительность. То, что он мог бы сотворить, он и сотворил.
В бесконечном уме бога нет ничего, что не существовало бы
также в действительности.
183
Спиноза
В особенности едины и нераздельны в боге свобода и
необходимость. «В действительности бог действует по той же
необходимости, с которой он понимает самого себя». Это
означает: «Как из необходимости божественной природы
следует, что бог понимает самого себя, с той же необходимостью
следует также, что бог делает бесконечное бесконечно
многими способами».
Свобода бога - не произвол свободы воли, которой мнят
обладать люди, но действование без принуждения извне, без
зависимости от недостатка и потребности, от целей и от блага,
которого еще только предстоит достичь, но исключительно
из своей собственной сущности. Эта свобода тождественна
с необходимостью.
Понимание бога как личности видит свободу бога в его
произволе, видит его могущество в том, что он может сделать то,
что хочет. Спиноза возражает: это могущество было бы как раз
ограничением его могущества, оно было бы не бесконечностью
его одновременно и свободного, и необходимого действова-
ния, а определенностью выбора между возможностями,
соскальзыванием в конечное.
Однако бесконечное действование бога
неделимо-вездесуще. «Так, для нас столь же невозможно постичь, что бог не
действует, как и то, что бога нет».
В-четвертых: бог единствен (einzig). - Если бы
существовало несколько различных субстанций, то это различенное уже
не было бы субстанцией, поскольку было бы ограничено
другим. Поэтому в природе вещей не может существовать двух
или больше субстанций, но лишь одна-единственная
субстанция. Кроме того, субстанция не может производиться другой
субстанцией. Поэтому: «самым ясным образом следует, что
бог един, то есть что в природе вещей существует только одна
субстанция и эта субстанция абсолютно бесконечна»™'.
Но это единство и единственность бога не имеют смысла
числа один. Если мы познаем некую сущность, то только по
отношению к ее существованию мы говорим об одном или
нескольких экземплярах. Мы «постигаем вещи под формой
числа, только если мы свели их в некий общий род». Поэтому «мы
не можем называть единой или единственной никакую вещь,
если только не познали другую вещь, согласующуюся с нею».
184
///. Метафизическое видение
Поскольку, однако, сущность бога и его существование есть
одно и то же, мы не можем адекватно говорить о нем как о
едином. «Поскольку мы не можем составить себе общей идеи
о его сущности, тот, кто называет бога единым, не имеет
истинной идеи о боге, или говорит о нем неподлинно. «Бог может
называться единым или единственным лишь в весьма
неподлинном смысле».
Уже в этой первой, по видимости определяющей бога
мысли Спиноза превосходит такие определения, как будто бы
единство и единственность бога мы могли мыслить подобно
единству и единственности вещей в мире. При этом неизбежно
возникает противоречие в формулировках. Спиноза называет
бога единственным и отменяет это именование, как
высказанное неподлинно. И все же для конечного человека слова «бог
един» остаются в полной силе.
В-пятых: бог неопределим и непредставим. -
Философская воля Спинозы заключается в том, чтобы выяснить в
чистоте величие бога и его действительность как единственную
подлинную силу, которая существует безусловно, также и для
своего сознания в себе. Поэтому он не знает усталости в
опровержении ложных идей бога. Бога надлежит только мыслить.
Всевозможные оконечивания, определения, представления
замутняют богосознание. Поэтому Спиноза подвергает критике
все идеи бога, осуществляющие подобные определения. Они
посягают на истину бога. Они принимают конечную (мирскую)
действительность за всеобъемлющую бесконечную
действительность бога. Они ставят на место бога нечто иное, что не
есть бог.
Так делает толпа. Она выдумывает у бога некую
человеческую способность. Это проявляется в том, «что народ
понимает бога как человека или по образу этого человека». Если бы
треугольники и круги обладали сознанием - так Спиноза
варьирует древнюю мысль Ксенофана, - они представляли бы
себе бога треугольным или круглым. Подобным же
заблуждением является и представление о Богочеловечестве Иисуса.
«Если некоторые церкви утверждают, что Бог принял
человеческую природу, то я прямым текстом заметил, что не знаю,
что они этим утверждением говорят. То, что они говорят,
кажется мне даже, честно признаться, столь же лишенным смыс-
185
Спиноза
ла, как если бы кто-то захотел сказать, что круг принял
природу квадрата».
Они представляют себе мощь бога, как свободную волю,
приблизительно так: Бог может то, что он хочет. Он имеет
право на все сущее; он должен обладать властью разрушить все и
вновь обратить его в ничто. Они видят мощь бога подобно
мощи королей. В противоположность этому, чистота спинозов-
ской идеи бога требует: «Никто не сумеет правильно понять то,
к чему я стремлюсь, если не будет весьма остерегаться
смешения мощи бога с человеческой способностью или с правом
королей».
Подлинная причина заблуждений состоит в том, что бога
невозможно представлять, но можно только мыслить его.
В мышлении он есть для Спинозы самое ясное и достоверное.
Но всякое представление ограничивает его. «На Ваш вопрос,
имею ли я о боге столь же ясную идею, как о треугольнике,
я отвечаю: да. Но если Вы спросите меня, имею ли я о боге
столь же ясное представление, как о треугольнике, то я
отвечу: нет. Ибо бога мы не можем представлять, хотя и можем
познавать».
Поэтому представление о боге как о личности уже есть
подобное ограничение. Бог не имеет ни ума, ни воли, но имеет
атрибут мышления, из которого только и возникают ум и воля
как модусы. Он не имеет в себе движения и покоя, но имеет
атрибут протяжения, из которого возникают модусы движения
и покоя. Ум и воля, как и движение и покой, будучи
порожденной природой, суть следствие бога, но не он сам.
«Личность» есть унижающее бога, ибо уподобляющее его
нам, представление также и по следующей причине. Только
конечные существа имеют перед собой нечто иное, и
противопоставляют его себе в самосознании. Они определяют сами
себя и определяют цели, которые они делают своими целями.
Бог, в своей бесконечности, создает подобные существа как
свое следствие, но сам он не привязан ни к одной из этих
определенностей, но стоит выше их. Бог ничего не желает,
не имеет ни в чем недостатка, не ставит себе никаких целей.
«Не следует говорить, что бог требует от кого-то, и так же
точно не следует говорить, что нечто приятно или неприятно ему.
Все это - человеческие атрибуты, которым нет места в боге».
186
///. Метафизическое видение
Утвержденное на Библии, удостоверяющее себя в разуме
сознание преобладающего присутствия действительности бога
во всем сущем у Спинозы не позволяет ему прикасаться к богу
богопротивными представлениями. Из спокойствия своего
осознания бога (Gottinnesein) Спиноза отвергает все замутняющие
понятности чувственно осязаемых реализаций бога в культах и
откровениях в пользу более светлой и достоверной, поскольку
абсолютно достоверной, понятности бога в мышлении об
опыте его вечно присущей действительности.
Но в человечестве проявляются откровения, и культы, и
церкви, и вся совокупность мира представлений о
божественном. Большая масса людей привержена им. Спиноза постигает
также и это как необходимое, поскольку связанное с нашей
сущностью. И он не полностью отказывает этим
представлениям в истинности. Прежде всего, он не борется против них,
а разве только против нетерпимости и насилия как их
следствий. Об этом мы скажем ниже, говоря о спинозовской
философии политики.
В-шестых: Близость и далекость бога. - Спиноза мыслит
бога и мир в предельном различии и в самой близкой
близости.
Их различие выражается в таких положениях, как
следующее: «Ум и воля, которые составляли бы сущность бога,
должны были бы быть совершенно отличны от нашего ума и нашей
воли и могли бы иметь сходство с ними только в названии;
подобно тому, например, как сходны между собою Пес -
небесный знак и пес - лающее животное»™1.
Близость их находит выражение в таких положениях: что
все есть следствие бога, а потому бог есть во всем. Бог не
отделен от мира; он не есть его причина, переходящая в него
(causa transiens), но имманентная причина (inbleibende Ursache)
(causa immanens).
Таким образом, с радикальной отстраненностью субстанции
и модусов соединяется следующая основная мысль: что все
вещи существуют благодаря богу и в боге и что бог существует
в них. Однако бог, опять-таки, столь решительным
образом есть иное, что вещи не могут иметь с ним ничего
общего, потому что они есть исключительно только модусы, а не
субстанция.
187
Спиноза
Бог есть абсолютно иное в бесконечной отдаленности
своего бытия, и все же он живо предстает перед миром и перед
нами в своих следствиях. Удаленность есть субстанция,
существующая через себя самое. Близость находит выражение
в том, что эта субстанция через два своих атрибута, известных
нам, есть та природа, в которой мы находимся.
Радикальное различие между богом и миром
симптоматически проявляется в том, что из бесконечного множества
атрибутов божества нам доступны только два; близость же их -
в том, что эти два атрибута вполне открыты нам как атрибуты
и модусы божественной субстанции. Бесконечное множество
атрибутов обозначают трансцендентность, два известных
атрибута - имманентность бога. Наше человеческое мышление
имеет своей основой бесконечный модус способов мышления,
а эти способы - в атрибуте субстанции бога. Наше мышление
радикально отлично от мышления бога, но в качестве модуса
этого мышления оно есть его выражение.
Учения, утверждающие имманентность бога в мире,
называют пантеизмом. Пантеист ли Спиноза? Подобные схемы
бессильны перед лицом великой философии. Спиноза - пантеист
лишь постольку, поскольку мир существует в боге, но он не
пантеист, поскольку бог не исчерпывается этим бытием в мире.
Напротив, это бытие в мире относится к собственному бытию
бога [так же], как бытие двух атрибутов относится к
бесконечному множеству атрибутов.
Резюме: Божество Спинозы. - Спинозовский бог не имеет
истории и не порождает сверхчувственной истории. История
есть только в мире модусов, и этот мир как целое столь же
вечен, как и субстанция, а именно - как ее вечное следствие,
в котором возникают и исчезают отдельные вещи, тогда как
целое сохраняется. Неизменность бога мыслится так же, как в
кульминационных точках Библии.
Спинозовский бог не имеет личности, потому что не имеет
никаких определений, поскольку он не имеет в себе никаких
представимых качеств. В своей бесконечности он есть для
ясной мысли наиболее достоверное и единственно и повсюду
действующее. Таков он также и там, где его не познают.
Спинозовский бог предстает неким логическим нечто,
которое тем не менее мыслится при помощи средств, превосходя-
188
///. Метафизическое видение
щих рамки конечной логики (ибо мышление Спинозы исходит
из принципов и определений, которые в логическом смысле
несостоятельны).
Но это лишенное истории, не имеющее личности,
логическое нечто обладает огромной мощью, служащей опорой и
основанием для всего, что мыслит и что делает Спиноза. Если
мы спросим: Как возможна жизнь с идеей бога, воспрещающей
любое представление, вновь устраняющей все
категориальные определенности высказываний о боге, не знающей
никакого откровения, полагающей бога настолько выше всего, что
именуется целью, заповедью, добром и злом, что он, кажется,
исчезает по ту сторону решительно всего? - то ответом на
этот вопрос будут жизнь Спинозы, и его манера выносить
суждения, и его конкретные познания.
Спинозу обвиняли в атеизме, поскольку его субстанция
«неспособна иметь никакие достойные бога предикаты».
Гегель, напротив, ввиду всеохватывающего мышления Спинозы
о боге, для которого мир исчезает, находил более истинным
именовать его философию акосмизмом, нежели атеизмом.
Мышление Спинозы невозможно подвести ни под один из этих
способов понимания. Оно разбивает их.
Поэтому истинны, скорее, примечательные суждения о
Спинозе: «Спиноза - это опьяненный богом человек» (Новалис).
«Быть может, здесь видели бога с самого близкого
расстояния» (Ренан). «Бесконечное было для него началом и концом»
(Шлейермахер).
с) Два атрибута
Если в метафизической мысли в форме понятий
высказывается то, что есть, то из этого истока развертывается
конструкция. У Спинозы - на почве понятий атрибута и модуса.
Если мы примем эту конструкцию как некое знание о
предметах в мире, то отсюда последуют сугубо рациональные
расширения, лишенные метафизического содержания, и возражения,
не могущие затрагивать содержания, однако обращающиеся
против конструкции, как если бы эта конструкция была
познанием мира. Так произошло в отношении двух спинозовских
атрибутов: мышления и протяжения.
189
Спиноза
Чирнгауз спрашивал Спинозу: Пеочему мы познаем не
более чем только два атрибута? Спиноза, говорил он, не может
дедуцировать этого, а может лишь констатировать.
Чирнгауз спрашивал далее: Если существует бесконечно
много атрибутов бога, то существуют ли в таком случае
благодаря этим атрибутам также существа, ничего не знающие о
протяжении, для которых, следовательно, протяжение было бы
столь же чуждо и непредставимо, как для нас - доступные их
познанию атрибуты бога? Спиноза не дает никакого ответа.
Наконец, Чирнгауз спрашивал: Существуют ли совершенно
неизвестные нам миры (modi), возникающие из неизвестных
нам бесконечно многих атрибутов? Для ответа Спиноза
ссылается на свою схолию к теореме 7 во второй книге «Этики».
Посмотрим в текст. Там речь идет о том, что порядок и связь идей
те же, что и порядок и связь вещей, поскольку все атрибуты
принадлежат только одной-единственной субстанции. «Так что,
будем ли мы представлять природу под атрибутом протяжения,
или под атрибутом мышления, или под каким-либо иным
атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же порядок»™".
В каждом отдельном аспекте нам надлежит объяснять порядок
всей природы единственно через атрибут мышления, или
объяснять его только через атрибут протяжения, и: «То же самое
относится и к другим атрибутам. Так что в действительности
бог составляет причину всех вещей, как они существуют в
себе, в силу того, что он состоит из бесконечно многих атрибутов.
В настоящее время я не могу объяснить этого яснее»™7.
Это не ответ на вопрос, заданный Чирнгаузом. Мы можем
снова приступить к молчащему Спинозе и спросить: Разве
вследствие совпадения порядков все атрибуты не должны
обязательно присутствовать во всех явлениях? Поскольку, однако,
для нас существуют только два атрибута, существуют ли
другие в других мирах модусов? Если это не так, тогда почему
существует только мир с двумя атрибутами, в котором мы сами
являемся модусами, и в какой форме действительны
бесконечно многие атрибуты бога? Но если бы существовало
множество миров, проявляющихся (выражающихся,
эксплицирующихся) в своих модусах из других атрибутов, сущностно
отличных [от этих двух], то имеются ли указания на их
существование? Есть ли, к примеру, также такие миры, в которых
отсутствует атрибут мышления, так же как в нашем мире
отсутствует бесконечное множество атрибутов, кроме двух?
Всех этих вопросов Спиноза и не ставил, и (там, где
возникает слабый намек на них) не отвечал на них. Почему? Потому
190
///. Метафизическое видение
что мысль о бесконечности атрибутов служит ему только
адекватным выражением для трансцендентности бога, а не для
того, чтобы предаться фантазиям об иных мирах. Бесконечно
многие атрибуты - это для него выражение ограниченности
нашего знания, а не указание на некую возможность для
изыскания. Мысль Спинозы вообще не обращена на неизвестное
и непознаваемое, а только лишь на актуально данное. Поэтому
бытие бога может одновременно быть для него и совершенно
иным во тьме бесконечности, и совершенной светлостью в
самом достоверном знании.
Два атрибута позволяют задать вопрос о способе их
сосуществования. Имеется ли между мышлением и протяжением
некое иерархическое различие? У Спинозы его не существует.
Спиноза возражает тем, кто отделяет «протяженную
субстанцию» от божественной субстанции, объявляет ее недостойной
бога, считает ее поэтому простым творением бога,
сотворенной субстанцией.
Правда, Спиноза отрицает телесность бога. «Есть люди,
которые воображают, будто бог подобно человеку состоит из
тела и души»™. Телесность не присуща богу. Под телом «мы
понимаем некоторую величину, имеющую длину, ширину и
глубину и ограниченную какой-либо определенной фигурой;
о боге же, существе абсолютно бесконечном, нельзя ничего
сказать бессмысленнее этого»™1.
Но совершенно иное дело - когда «совершенно удаляют от
божественной природы и самую телесную и протяженную
субстанцию и полагают, что она сотворена богом»™". Это
неправильно. Ибо кроме бога не может существовать никакой
субстанции, и никакая субстанция, кроме него, не может быть
представляема. Поэтому протяженная субстанция должна
быть, скорее, одним из атрибутов бога.
Чтобы правильно понять это, нам следует твердо усвоить
смысл понятия атрибута: субстанция является бесконечной и
неделимой также и в атрибуте протяжения. Если мы
принимаем ее конечность и делимость, а значит, смешиваем ее с ее
модусами, только тогда возникают те противоестественные
выводы, которые сделали невозможным признание ее за
атрибут бога. Точно так же неправильно аргументируют те, кто
говорит, что телесная субстанция, поскольку она делима, терпит
страдание, бог же страдать не может. Нет, страдают только
191
Спиноза
модусы, а не неделимая, бесконечная протяженная
субстанция. В то время как модусы, будучи аффектами субстанции,
конечны, делимы и суть нечто особенное, телесная субстанция
(в атрибуте протяжения: материя) может быть лишь повсюду
одной и той же, бесконечной, неделимой, единственной.
Противно здравому смыслу представлять ее себе составленной из
конечных частей, множественной (vielfältig). Поэтому она
отнюдь не недостойна божественной природы. «Всё...
существует в боге, и всё, что происходит, происходит по одним только
законам вечной природы бога и вытекает... из необходимости
xxviii
его сущности» .
Если поэтому говорят, что Спиноза, поскольку он приписывает
богу протяжение, натурализует его, то это неверно, если только
мы сохраняем спинозовский смысл атрибута протяжения.
Можно было бы спросить, далее, не нарушается ли все же
однородность всех атрибутов некоторым приоритетом
мышления. Ибо создается впечатление, будто все прочие атрибуты
должны мыслиться, и только мышление не мыслит само себя.
Поэтому кажется, будто как протяжение, так и все прочие
неизвестные нам атрибуты противостоят мышлению, как
единственному в своем роде атрибуту. Такого вопроса Спиноза
также не задает. Известный нам другой атрибут - это только
протяжение. Оно отнюдь не имеет у Спинозы более низкого
статуса, чем мышление.
Все эти способы аргументации против Спинозы
предназначены здесь для того, чтобы дать читателю почувствовать,
о чем не может идти речь у Спинозы. Однако в то же время
приходится признать, что Спиноза открыл простор для этих
возражений применяемым им методом убедительного
логического доказательства, поскольку этот метод неизбежно
движется в пространстве конечных определенностей. Если перед
лицом таких возражений Спиноза оказывается в
замешательстве или просто молчит, то возникает иллюзия обоснованных,
неопровергнутых возражений, поскольку он, в силу
эксплицируемого им богосознания, считает эти возражения
несущественными.
Существенно только одно: утверждение протяжения как
атрибута бога упраздняет обезбожение и десакрализацию мира.
Ни одна сторона действительности не может быть без бога или
против бога.
192
///. Метафизическое видение
d) Модусы
Все отдельные вещи, взятые вместе (omnia), составляют
мир. Они суть модусы. Теперь нам следует внимательнее
посмотреть, как конституируется для Спинозы мир: от
субстанции, через атрибуты протяжения и мышления, к модусам.
Отдельные существа конечны. Взаимосвязь этого
конечного, в которой одно существует через другое, уходит в
нескончаемую даль. Отдельные конечные существа входят во
взаимосвязь всего конечного, которая сама, как нескончаемая,
бесконечна. Эта бесконечность - следствие бесконечности бога,
но сама она имеет основание в третьем бесконечном: в
бесконечных модусах, которые не являются бесконечностью бога
или нескончаемостью отдельных вещей, но находятся между
ними. Они называются: бесконечный ум (intellectus infinitus),
соответственно атрибуту мышления, движение и покой (motus
et quies), соответственно атрибуту протяжения, и мир как
целое (faciès totius universi). В мире как целом существуют
отдельные вещи (res particulares).
Так Спиноза мыслит последовательность от субстанции, как
natura naturans, к natura naturata, как совокупности модусов, а в
этой последней - от бесконечности модусов к особенным
вещам, в которых два атрибута субстанции находят себе
выражение как идеи и тела. С одной стороны, последовательность
идет от мышления (cogitatio как атрибута) к бесконечному уму
(как бесконечному модусу) и к идеям, как конечным модусам
мышления (modi cogitandi), - с другой стороны, от
пространства (extensio как атрибута) к движению и покою (как
бесконечному модусу) и к конечным модусам тел. То и другое
одновременно есть последовательность от субстанции, через мир как
целое (бесконечный модус: faciès totius universi) к отдельным
вещам, которые, в зависимости от их конкретного аспекта, мы
видим как идеи или как тела.
Целое мира или природы - это «один-единственный
индивидуум, части которого, то есть все тела, изменяются
бесконечно многими способами, без какого бы то ни было изменения
индивидуума в целом».
193
Спиноза
Взаимосвязь в природе можно было бы заметить в том, как
каждая часть связана со своим целым и каким образом она
взаимосвязана с остальными частями. Но это познание
«неведомо мне, ибо для него требовалось бы познать всю природу и
все ее части». Поэтому мы можем обрести только общее
убеждение, «что всякая часть природы согласна со своим целым
и состоит в связи со всем остальным». Однако это убеждение
основано на метафизическом видении, или на идее бога.
Фундаментальная черта этого воззрения на мир, в
соответствии с двумя атрибутами субстанции, такова: Мы постигаем
в природе только тела и способы мышления (modi cogitandi).
И: Все есть протяжение и мышление. Где есть мышление, там
есть протяжение, а где есть протяжение, там есть мышление.
Мышление и протяжение не воздействуют друг на друга, но,
поскольку оба они коренятся в атрибутах единой субстанции,
«порядок и связь идеи те же, что и порядок и связь вещей» .
Тело и его идея, идея и ее тело - это одна и та же вещь,
рассматриваемая под тем или другим атрибутом.
В свою очередь, если бы мы захотели обосновать эту спи-
нозовскую картину мира как предмет исследующего познания.
Имеется ли здесь в виду мышление и тело в соотношении
мышления и мыслимого или в качестве параллели двух
независимых последовательностей событий? У Спинозы есть
указание как на то, так и на другое. Однако, хотя Спиноза ясно
отличал бесконечность исследования в мире от базового
метафизического знания о смысле мирового бытия (там -
принципиально сохраняющееся неведение, здесь же - окончательное
в целом убеждение), его положения не свободны от
противоречий. В частности, остается неясно, что фактически возможно
в исследовании отношения души к телу и в каком смысле
утверждается этот параллелизм двух независимых друг от
друга, однако совпадающих (koinzidierende) контекстов. На
Спинозу неправомерно, однако опираясь на отдельные его
положения, ссылалась так называемая теория психофизического
параллелизма в психологических изысканиях XIX века. Однако,
усваивая мысль Спинозы, выраженное в его идеях сознание
мира как момент видения им метафизического бытия нужно
отделять от тех идей, смысл которых подлежит подтверждению
или опровержению в опыте исследования.
194
///. Метафизическое видение
е) Время; необходимость
Мир видится в аспекте пространственного протяжения и в
аспекте мышления. Однако выражающееся в этом
метафизическое сознание о мире, может быть, более существенным
образом заметно в тех понятиях, которые не находятся на
первом плане в его систематической конструкции:
1. Вещи в мире и мы сами подлежим форме времени. Для
Спинозы важнее всего вечность. Время не относится к самому
бытию, субстанции, а только к модусам. Что во времени есть
длительность, то в самом бытии есть вечность. Поэтому при
помощи понятия длительности мы можем объяснять только
существование модусов; субстанцию мы можем мыслить
только под понятием вечности. Длительность модусов мы можем
мыслить большей или меньшей, субстанция ничего подобного
не допускает. «В вечном не существует ни "когда", ни "прежде",
ни "после"». Философски познавать вещи - значит познавать
их в их вечности. Если, однако, мы «абстрактно, отдельно от
субстанции, представляем длительность и величину, и
отделяем их от того способа, каким они происходят от вечных
вещей, то возникают время и мера; а именно - время - для
определения длительности, а мера - для определения
величины, так чтобы нам было возможно легче представлять их
себе». Но все представления и всякое познавание конечных
вещей может проникнуть и объять собою философское
познавание: «Природе разума свойственно воспринимать вещь под
известного рода вечностью».
2. Если Спиноза видит все в боге и из бога, познает вещи
в их вечности, то совершенного покоя он достигает в идее
необходимости.
С категорией «необходимость» он превосходит
определенные необходимости, которые мы познаем в мире:
Необходимость законов природы как правил происхождения одних
отдельных, конечных модусов из других во времени служит
путеводной нитью к иной необходимости в вечном происхождении
всех вещей из бога, т.е. из субстанции и ее атрибутов.
Необходимость причинного взаимоотношения модусов
доступна познанию в нескончаемом ряду благодаря опыту, и
никогда не познается в полной мере. Необходимость вечного
195
Спиноза
происхождения или бытия всех вещей познается интуитивно
и является достоверной и доступной словесному выражению
в логической мысли.
Пусть законы природы нескончаемого множества модусов -
метафора для закона природы вечной необходимости, однако
они не суть сам этот закон. Первые означают внешнюю
необходимость, или принужденность (Gezwungenheit), последний -
внутреннюю необходимость, или свободу.
Переживание необходимости - это блаженство
Спинозы. Он может вновь и вновь высказывать его со спокойствием
своей идеи бога: Из бога с необходимостью следует
бесконечно многое бесконечным множеством способов. Все сущее
подчинено этой необходимости. Ибо все «существует в боге, и
все, что происходит, происходит по одним только законам
бесконечной природы бога и вытекает... из необходимости его
сущности»ххх. Эта необходимость и это последование не знают
времени; оно следует «точно так же, как из природы
треугольника... следует, что три угла его равны двум прямым»"™.
Поэтому causa и ratio здесь одно и то же (ибо там, где мысль с
помощью категорий выходит за пределы категорий,
определенность категории нарушается). Мысль об этой
необходимости оставляет позади логическое принуждение, причинную
обусловленность, провидение и судьбу и может использовать
их все как опять-таки исчезающую метафору.
Необходимость бога - это свобода, однако не ограниченная
свобода произвола. Поэтому абсурдно и равнозначно
отрицанию свободы говорить, будто бог может сделать так, чтобы из
природы треугольника не следовало, что три его угла равны
двум прямым***".
Эта установка по отношению к необходимости и покой в
необходимости были восприняты Ницше: «Щит необходимости!
Высшее созвездие бытия - недосягаемое ни для какого
желания, не запятнанное никаким "Нет", вечное "Да" бытия, вечно -
твое "Да": ибо я люблю тебя, о вечность!»
f) Скачок между богом и миром и вопрос об их единстве
Самый глубокий скачок в этой целокупности бытия - это
скачок между субстанцией и ее атрибутами, с одной стороны,
и модусами, с другой стороны, в традиционном словоупотреб-
196
///. Метафизическое видение
лении - между богом и миром. Скачок пролегает между
бесконечным и конечным:
Бесконечное существует в себе, конечное всякий раз
существует через другое конечное; первое - causa sui, второе
обусловлено другим конечным; это значит: первое заключает в
себе существование, второе получает существование через
существование другого; первое понимается из себя самого,
второе - из другого. Бесконечное неограниченно, конечное
ограничено другим; бесконечное безусловно, конечное -
обусловлено. И все сущее есть либо то, либо другое, «существует
или само в себе, или в чем-либо другом»'00"". Бытие через
самого себя и бытие через другое означает абсолютный скачок
между богом и вещами мира.
Только конечное индивидуализировано, бесконечное,
напротив, единственно. Поэтому там, где есть индивидуализация,
там также и конечность. «Все, чьей природы может
существовать несколько отдельных единиц, необходимо должно иметь
внешнюю причину для их бытия»™7. Бесконечность и
единственность так же точно взаимосвязаны, как связаны конечность
и индивидуализация.
Бесконечное, в своей совершенной положительности,
исключает всякие определения. «Определения» бесконечного -
атрибуты - сами бесконечны и суть поэтому не определяющие
предикаты, а выражение. Всякое определение есть
ограничение, а потому отрицание (omnis determinatio est negatio) и
присуще конечности. В бесконечном нет никаких отрицаний, но
только положительность. Приписывать ему предикаты
возможно лишь в форме отрицания у него предикатов (по способу
отрицательной теологии).
В этом и состоит величие такого мышления, как спинозов-
ское: Обыкновенно мы видим положительное и конкретное
в определенном, предстоящем нашему взгляду в конечных
обликах. Объемлющее грозит сделаться пустым для нас.
Поскольку в нем мы не имеем ничего осязаемого для себя, мы
полагаем, что он есть ничто. Бытием обладает то, что мы
можем определенно предъявить, уловить, мыслить в
различениях. Хотя Спиноза, подобно нам, вступает мыслью в это
многообразие, однако вступает в него из иного - со стороны бога.
Один только бог есть для него всецело положительное, а все
конкретное как модус есть, в сравнении с богом, только нечто
197
Спиноза
определенное через отрицание. В качестве конечного
существа Спинозе также приходится жить в полноте конечно-
многообразного, в качестве разумного существа он способен,
будучи всецело пронизан тем Единым, видеть отрицательное
как просвеченное положительным и упраздненное в нем. Бог
и мир, одно и все (hen kai pan) - таков был поэтому
происходящий из античности девиз, объединявший единоверцев
Спинозы (Spinozagläubige).
Каждое отдельное конечное обусловлено другим конечным,
и так далее в нескончаемость (ins Endlose) (через causa transi-
ens). Но конечное в его целом обусловлено богом (через causa
immanens). Если поэтому все сущее существует в боге, то
возникает вопрос: Существуют ли в нем бесконечные атрибуты
иначе, чем отдельные конечные вещи? Все они одинаково
существуют в боге, ибо иначе они бы вовсе не существовали.
Однако они различным образом существуют в боге, поскольку
отношение отдельных конечных вещей (модусов) к богу - не
непосредственное, а косвенное отношение, проходящее через
конечные взаимосвязи. Это Спиноза выражает так: «Идея
отдельной вещи, существующей в действительности, имеет
своей причиной бога, не поскольку он бесконечен, но,
поскольку рассматривается составляющим другую идею отдельной
вещи, существующей в действительности, причина которой
[идеи] также есть бог, в силу того что он составляет третью
идею, и т.д. до бесконечности»"0™.
Отношение субстанции к модусам, или бога к миру, - это
древняя, никогда не поддающаяся решению проблема
метафизиков, которые, однако, каждый по-своему, полагают,
казалось бы (zu meinen scheinen), будто решили ее. Если божество
существует в полноте своего совершенства, то почему вообще
существует мир?
Можно наметить схему категориального аппарата, в
которой выстроены в известном порядке мыслительные
возможности: Или философ мыслит переход от бога к миру - или же
полагает их в такой противоположности друг другу, что мир
исчезает, как иллюзия (причем остается вопрос: откуда эта
иллюзия?) - или же бог и мир мыслятся как одно и то же самое.
В первом случае мир мыслится как творение (по волевому
решению бога) из материи или из ничего. Или мыслится
некоторое излияние (ein Überfliessen) из единого в нисходящем ряду
198
///. Метафизическое видение
степеней бытия. Или мыслится развитие в восходящем
раскрытии содержания. Во втором случае мир есть
фантасмагория, иллюзия, сновидение, как вызванная волшебником
массовая галлюцинация. Он существует только благодаря тому, что
существа, пребывая в радикальном заблуждении, воображают
его себе. Он существует не по воле божества, но вследствие
ошибки. В третьем случае мир сам есть бог. Вопрос: откуда
возникает мир? - умолкает, потому что мир оказывается не
только божественным, но он, в своей целокупности, есть сам
бог. Не существует никакого божества в трансценденции, и не
существует мира вне бога.
Неверно было бы ставить кого-нибудь из великих
метафизиков на определенное место в этой схеме. Все данные в этой
схеме ответы в совокупности отличаются такой
определенностью, которая возможна - и требуется - в познании конечных
предметов. Но метафизик более поздних времен
распоряжается всем этим аппаратом. Он мыслит не конечные предметы,
он мыслит трансцендируя. Поэтому против его высказываний
во всякое время выдвигает возражения логический анализ,
оперирующий четко определенными понятиями, потому что,
если эти высказывания воспринимаются наружным
мышлением, обнаруживаются противоречия. Так обстоит дело и со
Спинозой.
Кажется, будто он отвергает все позиции намеченной нами
схемы: творение потому, что бог не имеет ни ума, ни воли, -
истечение по нисходящей линии, ибо это отношение вечно,
временность существует только в ряду модусов; - восходящее
развитие, ибо то, что есть, есть вечное настоящее, и не было
никакого прогресса. - Спиноза должен был бы отвергнуть
также и толкование, согласно которому мир есть иллюзия. Ибо он
объясняет мир не только из человеческого способа
представления, но как вечную необходимость наличного способа
существования.
Спиноза прямым текстом отвергает единство бога и
мира как одной субстанции, части которой суть отдельные вещи.
Бог - это не мировое вещество, в результате деления которого
возникают отдельные вещи, но в качестве субстанции бог
неделим, тогда как отдельные вещи не суть субстанция, а только
модусы, делимые, возникающие и исчезающие.
199
Спиноза
Но как же в таком случае мыслит Спиноза? Мы напрасно
будем искать у него строгой постановки вопроса и
однозначного ответа. Он говорит метафорами, долженствующими
постигнуть все сущее как следствие единого, субстанции.
Существуют не два способа бытия: бог и мир, - об отношении между
которыми стоит вопрос, но единое бытие, которое выражает,
эксплицирует себя, имеет необходимые следствия.
Согласно Спинозе, все извечно следует столь же необходимо, как из
понятия треугольника с необходимостью следует, что сумма
его углов составляет два прямых угла. Однако это не одно и то
же следование, но и это тоже есть лишь метафора: «каково»
математическое следование, таково же и метафизическое
следование.
Объясняющая дедукция мира из божественного истока
невозможна, и Спинза также не дает такой дедукции. Коль скоро
он мыслит из изначальности своего осознания бога (Gottesin-
neseins), содержание высказанной им мысли составляет
подведение к этому истоку.
Если тщетно намерение исходить из истока, как бы мы при
этом ни мыслили его в его определенности, чтобы понять из
одного всё, тогда остается мышление, стремящееся к истоку
(das Denken zum Ursprung hin). Но это мышление будет иметь
успех, только если мыслящий уже пребывает в истоке.
Там, где в философском недоразумении самой себя мысль
выводит мир из его основания, там мысль оказывается в
форме гипотезы для объяснения явлений. Подобная гипотеза
методически осмыслена только там, где благодаря возможности
ее опровержения и подтверждения она открывает путь не
знающего завершенности прогресса познания в мире. Метафизика
как гипотеза о мире в целом не имеет смысла. В
метафизическом мышлении дедукция имеет иной смысл: быть
выражением самой тайны. Она есть речь, устремленная к тайне (ein
Hinsprechen zum Geheimnis), чтобы просветлять ее, а не для того,
чтобы проникнуть в ее существо.
Однако вправе ли мы толковать таким образом мысли
Спинозы? Ведь он подчеркивает убедительную силу своей мысли,
исключающей любые противоречия, доказывающей путем
опровержения противоречий утверждение, что в его мысли
имеются противоречия, и осмысленное толкование этих проти-
200
///. Метафизическое видение
воречий, казалось бы, несовместимо с его наиподлинней-
шей интенцией. На это возражение следует ответить, изложив
спинозовскую теорию познавания и ступеней познания. Только
изложив это, мы адекватным образом поймем философский -
хотя и мыслимый, однако не исчерпываемый
рассудочной рациональностью - смысл его метафизического видения.
Об этом - в следующем разделе.
Очерк бытия у Спинозы необычайно прост: субстанция,
атрибуты, модусы - и необычайно трезво мыслится в подобных
понятиях, даже если вместо субстанции мы подставим бога,
а вместо модусов - мир. Однако простота обманчива: Это
мыслительная конструкция, не только исполненная трудностей
в самом способе познавания и в согласовании отдельных
положений, но также и весьма запутанная в структуре и
распространении мыслей. Обманчива и трезвость: Это - не холодное
мышление, но просвеченное огненным жаром мышление,
поглощающее в себя жизнь Спинозы и превращающее её в
чистое пламя во всепроникающем присутствии бога.
Субстанция, атрибут, модус - это термины стародавней
философской традиции, значение которых нередко
варьируется. «Субстанция» - латинский перевод греческого hypoke-
imenon (подлежащее, лежащее в основе). Однако субстанция
стала также переводом греческого usia (бытийность, сущность),
а этот термин, в свою очередь, непосредственно переводился
словом essentia. К этому прибавлялись другие ряды слов,
употреблявшихся в том же смысле или с целью различения.
Экхарт переводил «субстанции» выражением «самостящие
существа (selbstende Wesen)», Лейбниц - субстанцию словом
«самостой» (Selbstand). Если мы прослеживаем эти генеалогии
в философском словоупотреблении, то наблюдаем
исторически совершившиеся смещения смыслов, не в одном-единствен-
ном разветвлении терминов, а в их многообразных переходах.
Если добраться до этимологического происхождения, то мы
увидим первоначальную наглядность смысла (как в случае
субстанции - то, что лежит в основании под непосредственным
явлением) или символизм. Все это интересно, но в философии
решающее значение имеет формовка смысла слов великими
новыми, изначальными мыслями, и закрепление подобного
смысла не - всегда недостаточным - определением, но
употреблением слова в движениях мысли. Предлагая мыслителю
возможный смысл слова, язык служит материалом для сооб-
201
Спиноза
щения мыслей. При этом может случиться, что слово получит
новую полноту смыслов, которой в нем никогда прежде не
мыслили: как «идея» у Платона, «разум» у Канта,
«экзистенция» у Киркегора, и как «субстанция» у Спинозы: эта
субстанция не есть ни материя, ни лежащее в основании, ни
устойчивое (das Dauernde), ни все прочее, что прежде означало это
слово, но новое первослово (Urwort) для философских мыслей
о боге. - Атрибут - значит прилагаемое или свойство. В этом
смысле было также общепринято говорить об атрибутах бога.
Спиноза воспринял это словоупотребление и наполнил его
иным содержанием. - Модус означает способ, будь то
способ бытия, или последовательности событий, или сознания,
или фигур мысли, или же «модусом» называется состояние.
Для Спинозы «модус» становится понятием для обозначения
общей сущности всех конечных вещей.
В философских понятиях, поскольку они переходят в общее
словоупотребление, мы можем наблюдать, как они утрачивают
свой спекулятивный смысл, возвращаются к чему-то
осязаемому или наглядному или же к определенному в конечности
представлению, так субстанция становится материей,
эссенция - сублимированной вещественностью, модус - способом
чего-нибудь, атрибут - свойством, как признаком вещи, и т.д.
Самое главное для понимания философских мыслей - ясно
осознавать эти обиходные способы бытия смысла, однако
тщательно отделять их от того, что постигается в спекулятивном
мышлении, следуя путеводной нити в том числе и таких
наглядных представлений.
IV. Теория познавания
Откуда Спиноза знает то, что он говорит? Он отвечает на
этот вопрос, проясняя способы нашего знания в теории
ступеней познавания. Только благодаря этому осознается также
и характер той достоверности, с которой бог присутствует
в мышлении как единая и единственная действительность.
а) Ступени познания
В раннем трактате [это такие] три ступени: Во-первых,
иллюзия в мнении и представлении, питающаяся лишь
известиями понаслышке или отдельными фактами опыта. Во-вторых,
истинная вера. В-третьих, ясное и отчетливое познание.
202
IV. Теория познавания
Это наглядно демонстрируется на примере. В
математической задаче: 2 : 3 = 4 : χ я нахожу χ так, что я узнал от
авторитета, что мне нужно перемножить второе число на третье и
разделить на первое, или что я узнаю совпадение на опыте,
делая повторные пробы (первая ступень), - или же я нахожу х,
делая очевидное заключение из правила пропорции (вторая
ступень), - или же, «видя» четвертое число из созерцания
самой пропорции. В первом случае арифметическое положение
не является для меня истиной, но только мнением, во втором
случае оно выводное, в третьем случае - усмотренная истина:
«Однако ясным познанием мы называем то, которое
совершается не через сообразное разуму убеждение, но через чувство
и наслаждение самими вещами: оно намного превосходит
другие познания».
В более поздних сочинениях три ступени получают более
подробную характеристику. Первая ступень: Мы воспринимаем
отдельные вещи нашими органами чувств, спутанно, смутно, -
это «познание из недостоверного опыта». Воспринимая знаки
и слова, мы вспоминаем о соответствующих им вещах и
представляем себе эти вещи в столь же недостоверном познании.
Здесь все есть мнение и представление. - Вторая ступень:
У нас есть общие понятия (notiones communes) как адекватные
идеи вещей, ясные и отчетливые. Мы оперируем ими в
познании второго рода, разуме (ratio). - Третья ступень:
Созерцающее знание (scientia intuitiva) переходит «к адекватному
познанию сущности вещей».
В этой теории познания существенны два различения:
различение представления (imaginatio) от рассудка, а затем -
отличение рассудка от разума.
1. «Есть многое, чего мы никоим образом не можем
достигнуть представлением, но можем достигнуть только рассудком».
Субстанция, вечность и все метафизические понятия - это
предметы, недоступные для представления. Мы получаем
вводящие в заблуждение понятия и неразрешимые проблемы,
«потому что не провели различия между тем, что мы можем
только понимать, но не представлять себе, и тем, что мы
можем также представлять».
Это Спиноза показывает, например, на понятии величины.
Ее можно понимать двояким образом: абстрактно и
поверхностно - поскольку мы представляем ее себе, тогда она конеч-
203
Спиноза
на, делима, имеет меру, - или в вечной сущности, поскольку
мы постигаем ее рассудком, тогда она бесконечна, она есть
субстанция, неделима. Бесконечное постигается в
представлении как большее или меньшее, чем другое бесконечное, и само
постигается как делимое, но в рассудке оно постигается так,
что оно не может делиться на какие-либо части и само ни с чем
не сопоставимо.
«Если некто стремится объяснить нечто подобное с
помощью понятий, которые суть всего лишь подспорья
представления, то он не делает ничего более, как если бы он задался
целью быть вследствие своего представления сумасбродом».
Подспорья представления вносят замешательство в
рассудочное познание. Превращая бытие в представление, мы
отдаляемся от бытия. Будучи рассмотрено в представлениях,
становится вещью то, что находится по ту сторону всякой вещности.
В качестве примера этого Спиноза приводит следующее:
Представьте себе, что длительность составлена из отдельных
мгновений; но это будет то же самое, что составлять число из
простого перечисления многих нулей. «Все понятия, при
помощи которых толпа обыкновенно объясняет природу, - это
только способы представления, и они указывают не природу
какой-либо вещи, а только свойство представления».
2. Различение второго и третьего родов познания полагает
в самом мышлении (которое всегда остается отличным от
представления) различие, которое, будучи заимствовано из
традиции, имеет у Спинозы своеобразную форму: различие
между ratio (разумом) и intellectus (рассудком). Ratio второго
рода познания познает окольным путем, опосредованно через
умозаключения. Intellectus третьего рода познания познает
непосредственно. Только если мы созерцаем вещь, она живо
предстоит перед нами (gegenwärtig), и мы словно бы
соединены с нею. Поэтому ratio своими умозаключениями и
обоснованиями только указывает путь, достигающий цели лишь в
непосредственном созерцании.
В обычном словоупотреблении рассудок и разум считаются
словами для обозначения одного и того же. Различать их -
существенная черта философа, потому что это различение
выражает некую существенно иную достоверность: либо в
процедурах логического вывода, косвенно, дискурсивно, или
204
IV. Теория познавания
же в логическом усмотрении (im logischen Erblicken),
непосредственно, наглядно. Это созерцание - не чувственное
созерцание в пространстве и времени и не переживание в чувствах и
движениях души, но нечувственное, светлое созерцание во
вневременной присутственности (in zeitloser Gegenwärtigkeit).
Мы неизменно полагаем, что чувственное созерцание
нужно нам не только для того, чтобы иметь реальный предмет, но
также и для того, чтобы вообще переживать действительность,
и что мышление делается пустым, как только оно утрачивает
опорные точки или наполнение в чувственных созерцаниях. То,
что философ говорит здесь о другом, сверхчувственном
созерцании, считают фантазией, мистической фикцией, абсурдом.
Спиноза же стоит здесь в ряду тех философских мыслителей,
которые не возвещают каких-либо сверхчувственных
переживаний, но переживают в самом мышлении не пустоту абстракций,
а удостоверяются в нем в той предшествующей всему
реальности, которая одна, в свою очередь, есть исток также и всякой
реальности, доступной только для чувственного опыта.
Однако это познавание (в третьем роде познания) в модусе
человеческого бытия, привязанном к представлениям и к
конечному мышлению, а потому и к языку, может стать сообщи-
мым и вообще ясным для себя самого только при помощи
форм разума (во втором роде познания). Поэтому
рациональность постоянно является средой для того, что больше
рациональности (а именно - для интуитивного познавания intellec-
tus). Без этого «больше» сугубая рациональность нескончаема
и пуста. Полнота содержания в рациональности, которая есть
содержание осуществляющейся в рациональных движениях
медитации, возможна лишь благодаря тому, что в ней
находит себе выражение присутствие бога (Gottesgegenwärtigkeit).
И все же, будучи свободна от всякого чувственного опыта, она
не сама по себе, но через опыт intellectus как вневременного,
неизменно присущего источника, она есть язык истины,
выражающий вечную действительность.
Цель Спинозы - не смешивать источников нашего
познания. Мы переживаем нескончаемый опыт в мире реальностей,
никогда не доходим здесь до конца, всегда остаемся в
соотношениях, т.е. в «релятивном». Мы переживаем опыт в
действительности, всегда всецело присущий в настоящем, пре-
205
Спиноза
бываем в завершенности, остаемся в самоочевидном (Selbst-
gegenwärtige), абсолютном. Если этот последний опыт
вступает вовремя, он эксплицируется здесь в движениях мысли,
смысл которых в том, чтобы снова привести туда, откуда они
пришли.
Это высшее познание есть богопознание, оно есть «не как
следствие чего-то иного, но непосредственно». Ибо «бог есть
причина всякого познания, познаваемая единственно через
самое себя, а не через что-либо иное». И «мы от природы так
соединены с ним, что без него не можем ни существовать, ни
быть представляемы».
Исток познавания, из которого мыслит Спиноза, находится
там, где действительно живо присутствует бог. Это было с
величайшей решительностью высказано им уже в самых ранних
сочинениях. В написанном по-голландски трактате
различаются verstand (intellectus) и reeden (logos, ratio). Там высказано
также решающее в практическом отношении следствие
подобного различия: освобождение от порабощающих нас аффектов
делает возможным правильное употребление рассудка и
разума. «Я говорю: наш рассудок, потому что не думаю, чтобы
только наш рассудок был в силах освободить нас от всего
этого». «Поскольку разум не обладает достаточной силой, чтобы
помочь нам в достижении нашего счастья», то остается
последний и высший способ познания, «возникающий в рассудке
через непосредственное откровение самого предмета». «Если
этот предмет превосходен и хорош, душа необходимо
соединится с ним».
Это - аналогия исторических учений о «внутреннем
свете» - о «духе», силою которого верующий в откровение
человек понимает Библию, - о той высшей ступени созерцания,
о которой говорят мистики, - но также аналогия и идеям Канта
и его рефлектирующей способности суждения, благодаря
которой впервые получает смысл и систематическую связь любое
изыскание рассудка.
Отличие второго рода познания от третьего является в
мышлении Спинозы определяющим. Поскольку, однако, второй
род познания служит третьему и, в свою очередь, является
поприщем сообщения для того, что мы усматриваем в третьем
роде, Спиноза может вновь соединить рассудок и разум в таких
оборотах речи, как «рассудок или разум». (Если подумать
здесь о словоупотреблении Канта, то оно прямо противопо-
206
IV. Теория познавания
ложно. Насколько вообще возможно сопоставлять их, Кант
называет рассудком то, что Спиноза называет разумом, а
разумом то, что у Спинозы именуется рассудком).
Ъ) Идеи
Под идеей Спиноза понимает «понятие, образуемое душой,
в силу того что она есть вещь мыслящая»**™. Но
одновременно идеи суть объективные сущности (они есть в боге); они
«суть то же самое и будут существовать, даже если бы ни я, ни
какой-нибудь человек никогда о них не подумал». Обыденному
мышлению чуждо то, что описывает здесь Спиноза. Идеи как
таковые адекватны или неадекватны, они изначально
составляют единство идеи и воли, в качестве адекватных -
деятельны, в качестве неадекватных - страдательны, и в качестве
адекватных идей обладают совершенной, побеждающей
всякое сомнение достоверностью.
Адекватные и неадекватные идеи: Под адекватной идеей
Спиноза понимает «идею, поскольку она рассматривается
сама в себе без отношения к объекту». Тогда она имеет «все
свойства истинной идеи»**™1. Эти свойства - «внутренние
признаки», в то время как «внешний признак» - согласие идеи со
своим предметом (идеи со своим идеатом) необходимо
исключить. Но одним из следствий истины является [вот что]:
«Истинная идея должна быть согласна со своим объектом»"00™".
Под неадекватными идеями Спиноза понимает искаженные
(verstümmelte) (неполноценные) и смутные идеи. Наш дух
заключает в себе также, в качестве модусов мышления, любовь,
вожделение и все аффекты. Но эти аффекты существуют,
только если в том же самом индивидууме есть идеи
желательной, любимой и т.д. вещи. Чистая же идея может
существовать, даже если не имеется никакого иного модуса мышления.
Есть идеи, лишенные аффектов души. Человеческая душа
всякий раз, если она, пребывая в общем порядке природы,
воспринимает вещи извне, в случайном столкновении, и
определяется ими, и если она представляет саму себя в телесных
аффектах, имеет смутные, неадекватные идеи. Только если
душа определяется изнутри, как, например, если она
рассматривает одновременно несколько предметов, понимает
соответствия, различия и противоположности между ними, она
может иметь адекватные идеи.
207
Спиноза
Что заключается в содержании чистого мышления идей,
вполне проясняется из спинозовского различения общего
понятия (notio communis) и универсального понятия (notio universalis).
Универсальные понятия - это родовые понятия, такие как
«лошадь», «человек», «собака». Мы мыслим их как
неполноценные понятия, при которых каждый мыслящий имеет иное
сопровождающее представление, а именно, как то в вещах, что
в них есть исключительно всеобщее. Универсальными
понятиями являются также такие выражения, как «сущность», «вещь»,
«нечто». Они возникают вследствие того, что ограниченное
человеческое тело может одновременно образовать в себе
только определенное количество образов представлений. Если эту
границу переходят, то образы путаются, и сводятся как бы под
одним атрибутом, как, например, атрибутом сущности, вещи,
нечто; «эти термины обозначают идеи самые смутные»***1*.
Напротив, общие понятия - это общие для всех людей,
действительно общие (gemeinschaftlichen) понятия,
являющиеся полноценными и составляющие основу чистого мышления.
Они выражают то, что у вещей есть общего по их содержанию,
в противоположность уродующей абстракции всеобщего. К
числу этих общих понятий относятся «протяжение» и «мышление»
и (в высшей степени) «бог». «Человеческая душа имеет
адекватное познание вечной и бесконечной сущности бога»х1.
Идея и воля: Идея и воля суть у Спинозы одно и то же. Воля -
это не вожделение, но способность утверждать и отрицать.
Но утверждение и отрицание относятся к идее. «В душе не
имеет места никакое волевое явление, иными словами -
никакое утверждение или отрицание, кроме того, какое заключает в
себе идея, поскольку она есть идея»х|1. Идея - это не
покоящийся образ, словно бы «немая фигура на картине»*1", но
оказывает действие как утверждение и отрицание. Адекватная
идея не страдает, но выражает действие души.
Ходячее различение разума и воли (и следующая из него
противоположность интеллектуализма и волюнтаризма в
фундаментальных воззрениях) не имеет силы у Спинозы. В чистом
мышлении заключается чистое воление, и наоборот. Мысль,
которая не оказывает действия, - это не мысль; воля, не
светлеющая в самой чистой мысли, не есть воля. Там, где
маскируется то Единое, которое есть одновременно идея и воля,
остаются только смутные, страдающие мысли и побуждения.
208
IV. Теория познавания
Поэтому воле, как и мысли, свойственна необходимость,
причем в высшей степени это так в боге, свободном от всякого
замутнения. Поэтому «бог действует по той же самой
необходимости, с какой он сам себя познает»х|1". Бог не имеет
произвола деспота, наделенного, скажем, властью уничтожить все и
возвратить в ничто, но обладает свободой необходимости.
Спиноза обращается против Бэкона и Декарта,
утверждающих свободу воли, и говорящих, что воля простирается далее
разума. Не существует, говорит он, никакой воли, которая бы
была причиной волевого акта. Скорее каждый отдельный
волевой акт должен иметь свою особую причину. Причиной
заблуждения является не воля, как полагает Декарт. Сама
неадекватная идея есть страдательно-желающая неистина (leidend
wollende Unwahrheit).
Достоверность: Истинная идея заключает в себе
достоверность. Кто имеет истинную идею, тот в то же время знает,
что она истинна. Ибо тот, кто имеет адекватную идею, имеет
ее одновременно со знанием о ней, или: «кто верно познает
какую-либо вещь, должен в то же самое время иметь
адекватную идею... своего познания»х||\ Ведь идея - это не обладание
немым образом, но самый акт понимания: «кто может знать,
что ему известна какая-либо вещь, если она ему уже не
известна?»^ Это прежде-знание (Zuvor-Wissen) есть истинная
идея. Не может быть ничего яснее и достовернее, чем эта
идея, составляющая норму истины. «Как свет обнаруживает
и самого себя и окружающую тьму, так и истина есть мерило
и самой себя и лжи»хМ. Истина освещает саму себя и
заблуждение, как бодрствование освещает сновидение.
Напротив, ложная идея не заключает в себе достоверности,
но самое большее - отсутствие сомнений. «Следовательно,
хотя бы предполагалось, что человек держится ложного,
однако мы никогда не можем сказать, что он сознает это как
достоверное. Ибо под достоверностью мы понимаем нечто
положительное... а не просто свободу от сомнения»*1™.
Идеи, которые, в качестве модусов мышления, Спиноза
понимает как самостоятельные формации, как части
бесконечного рассудка бога (modus infinitus), не следует отождествлять
с тем, что мы обыкновенно подразумеваем, говоря о понятии
или представлении. «Идея... не состоит ни в образе какой-
либо вещи, ни в словах, ибо сущность слов и образов состав-
209
Спиноза
ляется из одних только телесных движений, никоим образом
не заключающих в себе понятия мышления»*1™1.
с) Отношение к богу
Путеводной нитью при познании вещей служит либо опыт,
либо же чистое мышление адекватных идей. В познании
отдельных модусов решающая роль принадлежит опыту.
Поскольку существование отдельных модусов постигается
из существования других модусов, это познание уходит в
нескончаемую даль. Напротив, в познании из чистого разума
решающая роль принадлежит одному лишь мышлению. Это
познание, без помощи опыта в мире, схватывает само бытие.
Необходимость мышления включает в себя существование
мыслимого, или: мыслимое с необходимостью также есть,
или: Мышление и бытие тождественны. Однако это
справедливо только относительно субстанции, вечного бытия божия,
и того, что вечно следует из нее. Поэтому отдельные вещи как
таковые не обнаруживают в себе необходимости, присущей
мысли. Однако же и существование модусов в целом, и каждая
отдельная вещь, поскольку она рассматривается под
известным аспектом вечности (sub quadam specie aetemitatis)
представляются опять-таки как необходимые. Опыт познает вещи
как действительные «с отношением к известному времени
и известному месту». Но если душа представляет эти вещи
с точки зрения вечности, она знает их как необходимые.
Отдельные вещи не существуют без бога и не могут также
и представляться без бога. Тем не менее бог не относится к
составу их сущности. Отсюда двойственный аспект отдельных
вещей: их бесконечная открытость для исследования и
принципиальное знание о способе их бытия, как законченное познание.
Спиноза постигает вещи, «поскольку они содержатся в боге
и следуют из необходимости божественной природы».
Поскольку бытие, вечность, необходимость, истина тождественны
с богом, Спиноза высказывает такие положения: «Все идеи...
поскольку они относятся к богу... истинны»х||Х, и: Если душа
познает вещи с точки зрения вечности, то она «знает, что она
существует в боге и через бога представляется»1, и: «душа наша,
поскольку она правильно воспринимает вещи, составляет
часть бесконечного разума бога»11.
210
IV. Теория познавания
Если все существует в боге и представляется в боге, то
необходимо «соблюдать порядок философствования».
Спиноза, заведомо направлявший всякое познание на познание
бога, отрицал возможность правильного познания отдельных
вещей без познания бога. Бог есть первое и изначальное.
Науки о вещах мира лишаются цели и смысла в нескончаемых
рядах своих рациональных правильностей. Все они суть пути
познания бога и имеют смысл лишь вследствие этого.
Поэтому Спиноза возражает против извращения порядка
познавания. «Божественную природу, которую должно было бы
рассматривать прежде всего, в силу того что она в порядке
познания предшествует как познанию, так и природе, поставили
последней, вещи же, называемые объектами чувств, - самыми
первыми. От этого и произошло то, что вещи естественные они
рассмотрели, о божественной же природе думали так же
менее, чем о чем-либо, и когда затем обратились к ее
рассмотрению, то они всего менее могли думать о первоначальных своих
вымыслах, на которых построили знание естественных
вещей... Нет ничего удивительного, что они на каждом шагу
противоречили сами себе»1".
d) Описание Спинозой своего познания
согласно геометрическому методу
В «Этике» Спиноза изложил свою философию "more ge-
ometrico". Следуя примеру Евклида, он начинает с
определений и аксиом, затем приводит теоремы и их доказательства,
и наконец, примечания (схолии). Кроме того, здесь имеются
еще введения и приложения.
Спиноза был убежден, что его мысли обладают
рационально-убедительной достоверностью. Он может говорить о
«философской или математической достоверности». А в связи с
отрицанием ложных представлений о боге он говорит: «Истина
была бы вовеки скрыта от рода человеческого, если бы
математика, в которой речь идет не о целях, а о сущностях и свойствах
фигур, не указала человеку иного мерила истины». Но то, что
Спиноза избрал математическую форму изложения, ему почти
единодушно вменяют как ошибку. Можно возразить ему:
Очевидно, что вся философия Спинозы заключена в
недоказанных, претендующих на непосредственную очевидность
211
Спиноза
определениях и аксиомах. Постольку геометрическое
изложение есть большой круг, извлекающий и наполняющий
наглядными содержаниями то, что должно быть признано с самого
начала, он доказывает только то, что уже содержалось в
предпосылках. Но, во-вторых, сами основные понятия не обладают
характером мыслимых с однозначной ясностью
геометрических определений и аксиом (и даже не выстроены в
соответствии с современными правилами построения системы
математических аксиом), но отличаются двусмысленностью, или
рациональной немыслимостью, или полнотой, которые
издавна были свойственны метафизическим понятиям. Основные
понятия Спинозы в их спекулятивном характере, фактически
включающем в себя их рациональную немыслимость, это не
категориальные определения однозначно-убедительных
операций, а противоречия в самих себе для операций
метафизического удостоверения.
Спинозовские доказательства оставляют безразличным,
если воспринимать их как убедительные доказательства для
обыденного рассудка, и в таком случае в самом деле испытать
их как неубедительные. Доказательства имеют силу в качестве
формы наглядного представления (Form der
Vergegenwärtigung). Спиноза доказывает во втором роде познания
(именуемом им, вопреки проведенному им самим различию, также
рассудком или разумом), т.е. не из восприятия или
представления и не из созерцающего знания третьего рода. Но
доказательства имеют некий смысл, только если этот третий род
познания будет актуально руководящим. Доказательства как
таковые заняты предметами, противоположностями,
противоречиями. Но в них совершается припоминание или подготовка
созерцающего знания, вневременное, трансцендирующее мир
познание бога, призыв к мотивам для правильного
жизнеустройства. Недостаточно совершать простые рассудочные
операции с четко определенными понятиями. Мы понимаем,
только если мы охвачены содержаниями, носителями которых
эти понятия являются.
Можно сказать, что этот метод не подходит для
философии. Декарт прямо отвергал этот метод в области философии.
Он указывает на то, что в математике служащие исходным
пунктом принципы просты и очевидны, а в философии они со-
212
IV. Теория познавания
ставляют цель, к которой мы должны двигаться в мышлении
(только в порядке сознательной забавы Декарт
воспользовался однажды математическим методом как формой изложения).
В самом деле, следует признать неадекватность метода, если
другой пожелал последовать за Спинозой в этой форме
изложения (как порою тщетно пытался делать в юности Шеллинг).
Однако величественное впечатление от этого
уникального произведения никуда не исчезает. Оно вызвано тем, что
у Спинозы метафора математики для познания вечных вещей
(рациональная сила логически-убедительного как путь и
метафора для интуиции в третьем роде познания) стала
действенной формой философской медитации. Спиноза не ищет, но
достоверно знает бога. Он больше не исследует, но
описывает то, что вечно есть, прочные и неизменные соотношения.
Поэтому смыслу этой философии вполне соответствует, что он
предстает как раскрытие базового знания через извлечение
всего того, что заключено в основных понятиях, как
изначальном выражении интуиции. Речь уже более не идет здесь об
открытиях, а только о прояснении, не о продвижении вперед,
а о повторяющем углублении. Последовательность
доказательств имеет характер медитативного прояснения неиссле-
димых свойств начала.
Чтение этих доказательств вызывает в нас протест.
Несправедливый протест, поскольку продумывание их означает
медитативное представление внутренней взаимосвязи
категориального построения, которое как целое имеет следствием не
некий результат, но есть просветление сознания бытия и
жизнеустройства. Справедливый протест, поскольку постоянные
ссылки на проведенные ранее доказательства представляют
техническое неудобство для связного чтения (Гебхардт,
опустив в своем переводе геометрическую форму и включая
в текст те положения, на которые ссылается Спиноза, получил
перевод, который можно читать в единой связи, но который,
в сущности, все же неудовлетворителен, поскольку он опустил
многие доказательства и отказался от выразительной спино-
зовской геометрической формы).
Спиноза ясно отдавал себе отчет в способе своего
мышления, когда представлял три рода познания. Но если кажется,
что он постоянно вновь срывается обратно в убедительно-
213
Спиноза
логическую рациональность, то даже и в этом еще работает
одна из основных его идей: самая чистая форма познавания,
ясность как таковая, - это математическое познание.
И все-таки, даже если он и говорит о «философском или
математическом методе», Спиноза не отождествлял
философию и математику. Он избрал подобие математической
формы, чтобы сделать свое [метафизическое] видение сообщи-
мым в слове соответственным его сущности способом. Он
избрал математику в качестве метафоры, потому что он
выдвигает самую строгую претензию на общезначимую
единственную истинность своего философского знания. Вневре-
менность логических и математических соотношений является
для него самым прекрасным символом для вневременности
подлинно истинного и действительного, являющего себя
повсюду лишь sub specie aeternitatis. Далее, мышление вневре-
менно значимых положений служит метафорой для
фундаментального метафизического опыта постижения вещей «с точки
зрения вечности». В самой рациональности мыслитель
удостоверяется в том, чего неспособна была бы дать ему сама эта
рациональность как таковая.
е) Мистика, рационализм, спекулятивная мысль
Когда мы знакомимся с описанием ступеней познания и
высшей из них - ступенью intellectus, удостоверяющегося в
самом мышлении (ratio) в бесконечной действительности и
переживающего ее, возникает вопрос: Существует ли это вообще?
Не фикции ли это? И не суть ли примеры непосредственного
математического созерцания - обманчивые указания? Речь
идет о чем-то совсем другом: о способе мышления, в котором
ничто не должно становиться уловимым в предметной форме,
и все же в соединении с предметом должна быть полнота
достоверности, не через чувство, а через мышление.
Можем ли мы осмелиться на самоутверждение опыта
нашего мышления и его единственной достоверности в этом,
рационально превосходящем всякую рациональность,
удостоверении? Иной, кто и наклонен к такому самоутверждению,
впоследствии не будет столь смелым. Ибо заблуждающееся
превращение этой достоверности в знание о чем-то, которым
мы обладаем и которое можем высказать как знание о предме-
214
IV. Теория познавания
тах в мире, как знание о вещах, которые можно схватить
чувственным образом, и мыслимостях, которые мы можем
уловить в логической определенности, превращает все в ложь: на
этом уровне уже более не имеет силы и не сохраняется то, что
благодаря философскому удостоверению могло быть
экзистенциальным присутствием в мышлении.
Мы вспоминаем о Канте и видим, что неокантианство
отвергает спинозизм как некритический догматизм. Сам Кант не
имел никакого отношения к Спинозе; он почти не изучал его.
Но критика Канта состоятельна только против тех уклонений
знания, которые и без того уже утратили то философское, что
совершается в мышлении Спинозы.
То, что Спиноза, которому кантовское критическое
мышление было чуждо, дал в своих формулировках повод для
недоразумения, - не подлежит сомнению. Но это еще не ставит под
сомнение существенное содержание этого философствования.
Мы можем уклониться от этого мышления. Но в таком случае
нам придется отказаться от понимания Спинозы (и всех
изначальных метафизиков). Для уклоняющегося остается в силе
вопрос, из какого истока он живет (woraus er lebe). Ибо с
одними только чувственным опытом и рациональностью он не
может достигнуть смысла, способного поддержать жизнь, но
вынужден основаться на сугубой витальности, подобно всему
живому, и тем самым отречься от возможностей человеческого
бытия. Или он найдет смысл благодаря откровению - без
разума, против разума или же выше разума. Эта вера в
откровение есть единственная иная позиция на том уровне, на
который вступает Спиноза, и есть его подлинная проблема (об
этом скажем позже).
Не мистика и не рационализм: Философию Спинозы
называли мистической, и несправедливо, поскольку под мистикой
подразумевается или переживание unio с божеством (при
исчезновении Я и предмета) или опыт живо ощущаемых
сверхчувственных видений. Спинозе подобные переживания
незнакомы, и он отрицает за ними характер истинности. Всего лишь
аналогией мистики является его чистое мышление, в котором
через само это мышление, в третьем роде познания,
происходит соединение с божеством.
215
Спиноза
Спинозу называли рационалистом. Нигде более, чем у него,
мышление не выдвигало столь грандиозных претензий,
философское мышление не достигало подобных высот блаженства.
«Блаженный силой рассудка (Selig aus Verstand)», говорил
Ницше. Однако у Спинозы нет «блаженства» рационалиста,
которому доставляет удовольствие рассудочно объяснять все
и вся и видеть повсюду «не более, чем только...», а есть
блаженство мыслителя, который, постоянно вновь карабкаясь
вверх по лестнице ступеней и снова спускаясь по ней вниз,
освещает с этой лестницы мир и самого себя и пытается
обрести здесь в мире выражение для сообщения своего
познания, - это блаженство, достигающее совершенства и
обоснования в amor intellectualis dei. Если мы называем Спинозу
рационалистом, то мы забыли, что его философия в третьем
роде познания мыслится интуитивно и выражается с помощью
средство второго рода познания (средств ratio), однако не
исчерпывается ими, как, в конечном счете, и не обосновывается
этими средствами в решающей степени.
Декарт и Мальбранш, о которых напоминают некоторые
категориальные позиции Спинозы (Декарт: cogitatio и extensio;
Мальбранш: познание всех вещей в боге) имели фоном своего
сознания веру церкви; они неограниченно утверждали ее в
качестве авторитета. Их мышление не могло достичь
философской серьезности Спинозы, ибо в их философствовании речь
шла отнюдь не обо всем, что существенно важно для человека.
Напротив, у Паскаля авторитарная вера была доведена до
своих неожиданных, и у других авторов по большей части
замаскированных логических выводов, и мышление лишилось
своей ценности. Спиноза отличается от всех этих
[мыслителей]. У него ничто не стоит на заднем плане, скорее, само
мышление есть вершина человеческой силы, и в самом
мышлении живет божество. Подобное мышление в каждом вдохе
своей жизни должно было оказаться иным, чем мышление тех
верующих в авторитет мыслителей. У него была та
совершенная серьезность, которая делала возможным совершенный
покой, и та чистота личного существования, которая не имеет
ничего общего с такой философией, которая уже обладает верой
откуда-то еще и позволяет своей собственной работе,
лишенной ее философского ядра, обмелеть в научно-сомнительных
и ничего не означающих для веры обсуждениях отдельных
положений дел.
216
IV. Теория познавания
Что делает Спиноза, когда мыслит: То, что становится
живым опытом присутствия в чистом мышлении Спинозы, -
это не оперирование абстрактными и лишенными
отчетливости понятиями. Скорее, опыт мышления Спинозы,
проявляющийся в его сочинениях, состоит в том, что для него, в
единстве со светлостью мышления, живо наглядна и живо
действует субстанция всякого бытия.
Повседневное мышление остается в плену темноты. Оно
движется в абстракциях, схемах, типах и в словах. Они
господствуют уже в восприятии. В зрении, как и в понятии, это
мышление словно бы слепо, потому что над ним властвуют штампы
и предрассудки.
Спиноза хочет освободить нас для подлинного и
наполненного мышления, и на достигнутой свободе познания он
утверждает всю жизнь и всякое постижение.
Из маскировки, искажения, забвения, из такого мышления,
которое в качестве нескончаемого мышления остается
бессмысленным, потому что лишенным цели и наполнения,
снова и снова указывает на иное, а потому теряет себя и, если
осознает себя, впадает в отчаяние, хочет выйти на свободу
каждая великая философия. Однако недостаточно только
научиться отрицательно отвлекаться от предрассудков и
штампов, для того чтобы видеть «самые вещи»: в таком случае
обыкновенно принимаются только разрушать и не видят
ничего, кроме безразличных отдельностей. Нужно положительно
достигнуть наполненного мышления, достигнуть туда, где
мыслят из субстанции бытия.
В истории философии об этом говорили учения о ступенях
познавания. Спекулятивная мысль осуществляла это
мышление на основе внутренней деятельности. То, что Платон в
различных вариациях своей идеи говорит об идеях, что Кант
говорит об идеях и о рефлектирующей способности суждения,
что проходит через все Средневековье как иерархия от ratio
к intellectus, - все это указывает на то же. Другой вопрос, как
это делают.
У Спинозы это философствование творится в
величественной простоте и уверенности, и говорят о нем. Ибо никакая
истина спекуляции не удастся в отсутствие самосознания этой
работы.
217
Спиноза
У того, кто читает Спинозу, нередко возникает поначалу
ощущение, как будто бы он, читатель, вовсе ничего не
понимает или как будто все это - бессмыслица. Эта установка
остается в упомянутом выше мраке повседневности и, быть может,
упрямо совсем не хочет покидать его. Другие бросаются в
мистические мечтания, теряющие почву в мире и не умеющие
обрести ее вновь, и безмирно живущие в «где-то еще», в то
время как их носители случайно продолжают свое
существование в этом мире. Спиноза относится к числу тех, кто не
теряет почвы в своем мышлении. Его мышление, выводящее нас
за пределы мира, сохраняет мир. Как идея у Канта не лишена
рассудка, который она направляет, так у Спинозы ведущее
мышление не остается без мышления ведомого, пусть даже
водительство мысль обретает в таком основании, которое в
полной мере раскрывается в чистом мышлении. Ибо «нам не
нужен опыт для того, существование чего не отлично от его
сущности. И даже никакой опыт не может когда бы то ни было
научить нас чему-нибудь об этом».
Но мы, как конечные модусы, суть существа, состоящие из
души и тела, находящиеся во взаимосвязи природы, а потому
привязаны к месту и времени, которые мы превосходим в
чистом познании, но которых ни на мгновение не покидаем.
О трансцендировании при помощи категорий: Если мы
отрицаем у божества все определения, если оно, не имея
целей, действует только в силу оснований, если оно есть
необходимость, - то ведь в подобных высказываниях всегда уже
совершается в то же время некоторое определение. Если я
мыслю, то неизбежно определяю посредством категорий. Если
я мыслю со Спинозой необходимость, основание, причину,
следствие, то я точно так же мыслил в категориях, как и в
случае, если я мыслю в отвергнутых Спинозой категориях цели,
ценности, произвола.
Методов мышления в категориях, выводящего за пределы
категорий, существует много:
1. Если Спиноза мыслит необходимость, то он сравнивает.
Сопоставленная необходимость есть необходимость
определенная, уловленная в сопоставлении должна быть
неопределенно-всеобъемлющей. Сравнение проводят с математической
необходимостью вневременного следования, однако вечная
необходимость лишь подобна математической, не тождествен-
218
IV. Теория познавания
на ей. Сравнение проводят с необходимостью причины во
временной силе действования, однако вечная необходимость, как
всеобъемлющая сила, лишь подобна силе причинения, не
тождественна ей. Мыслить абсолют в определенных категориях,
а значит, через различения, означало бы представить его
нашему взору искаженным, так же точно, как это происходит
в представлениях. Поэтому категориальную определенность
можно понимать лишь как сравнение.
2. Другой метод совершает отождествление различенных
или противоположных категорий. Спиноза говорит: causa sive
ratio, intelligere sive agere, deus sive natura и так далее. Тем самым
действующие причины должны мыслиться как тождественные
с логическим основанием, мышление - с деятельностью, бог -
с природой. Нетрудно указывать на подобные отождествления
как на «ошибки». Скажем, у Декарта, пользующегося этим sive в
самых значительных объемах, чтобы стереть в нем многие
схоластические различения (например, notiones sive ideas,
intellects sive ratio, est sive existit и т.д.), в этих отождествлениях
заключено только выравнивание в пользу новых понятий, причем
потерю существенного познания следует расценивать как
негативный момент картезианского мышления. У Спинозы в
подобных отождествлениях заключена трансцендирующая сила (если
небрежность не приводит к тому, что существенным образом
различенное им самим вновь сливается воедино в его
словоупотреблении, как [происходит с] ratio и intellectus).
Этот метод - полагать тождественными различные и
противоположные категории - действует так: В различенности и
противоположении они мыслимы определенно, в отождествлении
их смысл становится неопределенным в рациональной немыс-
лимости, и все же, в силу происхождения из различенного, не
остается пустым. Скорее, он направляет стрелку компаса на их
общее основание. Так создается замещение (Stellvertretung)
для определения того, что не поддается определению.
Суждения неистинны (поскольку внутренне противоречивы) в
качестве утверждений так-бытия, но истинны как акты трансценди-
рования по ту сторону определений.
Спиноза осуществлял метод категориального трансценди-
рования, однако не возвысил его до ясного сознания. То, что
он якобы не различал causa и ratio и вследствие их смешения
пришел к различным заблуждениям, - это очень странный
упрек. Он вполне ясно постигал их различие. То, что он
осуществил их отождествление с подобной ясностью, есть его
творческая философская наивность. Она возможна у него потому,
219
Спиноза
что он мыслит не трансцендируя, но мыслит, изначально
пребывая в трансценденции. Он не движется мышлением к богу,
но в своем познании вещей мыслит, исходя от него. Но все
определения служат путеводной нитью, чтобы через их
упразднение достигнуть туда, где выражающееся в языке
мышление (принадлежащее к числу модусов) упразднено в
подлинном мышлении того, что не имеет определения.
Но почему Спиноза предпочитал категории субстанции,
необходимости, основания, вечности, а цель и произвол,
напротив, отверг? Ведь, если совершается трансцендирование
в категориях, это трансцендирование должно бы быть
возможно во всех категориях. Это мы опять-таки можем понять только
как великую наивность Спинозы, который видит свое сознание
бытия и свое жизнеустроение и свою волю подтвержденной
в одной группе категорий и видит помехи для них в другой
группе. За пределами метода трансцендирования сами
категории, вместо того чтобы оставаться символами в мышлении,
превращаются для него в некие действительности. У него
происходит то же, что у всех изначальных метафизиков. Если мы
осуществляем трансцендирование в категориях с
методическим сознанием и тогда в самом деле находим эту
возможность во всех категориях, то мы исходим из метода и
предаемся лишенной действительности игре, или овладеваем
мыслительным ремеслом, которое в нашем распоряжении всякий
раз, если оно нам нужно. В действительном трансцендирова-
нии нам живо предстоит также и содержание действительности
трансценденции, говорящее в этой действительности прежде
всякого метода. В этом случае мышление уже не есть более
игра, но средство просветления самой действительности в
реальной ситуации. Спиноза производит столь мощное
впечатление не потому, что он изобретает методы, но потому что в
его мышлении присутствует действительность бога.
V. Человек
Из того, что необходимо следует из бога: бесконечное из
бесконечного бесконечным множеством способов, Спиноза
хочет объяснить только то, «что может привести нас, как бы руку
за руку, к познанию человеческой души (mens) и ее высочай-
220
V. Человек
шего блаженства» . Что такое человек, чем он сознает себя,
если мыслит истинно, то есть - в боге, это должно направлять
его дела и его жизнь.
а) Человек - не субстанция, а модус
Субстанция, или бог - это сущность, необходимо
заключающая в себе существование. Но сущность человека не
включает в себя с необходимостью существования. Скорее, на
основе порядка природы «является возможным как то, чтобы тот
или иной человек существовал, так и то, чтобы он не
существовал»1^. Поэтому сущности человека «не присуща субстан-
циальность»1*. Кроме того, субстанция может быть только
одна. А людей существует много. Поэтому человек, опять-таки,
не есть субстанция.
То, что люди - не субстанции, обнаруживается, далее,
в том, «что их не творят, а только зачинают, и что их тела
существовали уже прежде того, пусть даже оформленные по-
другому».
Смысл [позиции] Спинозы в том, чтобы знать человека на
бесконечном удалении от бога и одновременно - в самой
тесной близости к нему. Все сотворенные вещи не могут
существовать и представляться без бога, однако природа бога не
принадлежит к их сущности. Так же и люди. Субстанция, или
бог, бесконечно существеннее (seiender) или могущественнее
всех модусов, а потому также и человека. Однако
действительно и то и другое: Бог есть совершенно иное, бесконечно
далекое с бесконечным множеством своих атрибутов, и бог
присутствует в нас, близок нам, но только с двумя атрибутами.
Это напряжение между отдаленностью и живым
присутствием бога, которое в мышлении Спинозы есть одновременно
покой (бытия-в-боге при бесконечной дистанции до бога),
исчезает, если, приводя предметные аргументы, мы хотим
установить некое учение Спинозы, склоняющееся в ту или в другую
сторону. - 1. Сначала мы полагаем, что поймали Спинозу на
слове и принудили его быть последовательным: Хотя в
человеке есть только два атрибута, но ведь уже и через эти два
атрибута он является частью бога. Но, далее, поскольку в боге
Спинозы все атрибуты действуют в равноупорядоченной
взаимосвязи, в нас, людях, должны присутствовать вместе с этими
221
Спиноза
двумя атрибутами также и все прочие, бесконечно многие,
атрибуты бога, хотя мы и не знаем их. Согласно этому учению
человек есть часть божественной субстанции, а близость бога
есть тождество его с нами. - 2. Но в другой раз мы
подчеркиваем то, что Спиноза, вместе с субстанциальным бытием всех
модусов, радикально отрицает субстанциальное бытие
человека. Наше несубстанциальное бытие как модуса трактуется как
абсолютная удаленность от бога.
Кажется, будто то и другое прямо противоречит друг другу.
Сначала Спиноза упраздняет бесконечное различие между
богом и человеком, а в другой раз он низводит человека до
значения лишенного субстанции модуса, которому уже не присуща
более сотворенная изначальность самостоятельного бытия.
Подобные возражения, допускающие разнообразные
модификации, превращают понятия Спинозы в предметно
определенную, овеществленную в некой модели категориальную
аппаратуру. Смысл этих понятий в таком овеществлении
утерян. Ибо этот смысл может быть уловлен только как
интуитивное постижение, высказывающее себя в среде
рациональности, но высказывающее так, что оно должно найти себе
наполнение, и тем самым контрольную инстанцию для себя,
в высшем роде познания.
Ъ) Человеческое и божественное мышление
Огромная дистанция между человеческим и божественным
мышлением заключается в том, что человеческое, в силу
своего истока в этом своем определенном модусе, может достичь
только двух из всех атрибутов бога. «Если бы человек захотел
постигнуть что-то, не содержащееся в глубочайших основах
нашего познания, то его душа необходимо должна была бы
быть намного превосходнее и намного превосходить
человеческую душу».
Также и наше познание модусов в мире хотя и соотнесено
с богом, однако не божественно. Бог мыслит бесконечное
бесконечно многими способами. Человек мыслит конечное
конечным способом. Но человеческая душа, хотя и не составляет
части субстанции бога, является все же частью бесконечного
разума бога, как бесконечного модуса. Если мы представляем
нечто, то говорим, что бог имеет эту идею, но «бог, не посколь-
222
V. Человек
ку он бесконечен, а поскольку он выражается природой
человеческой души»м. Мы говорим, далее, что бог имеет эту идею,
поскольку он одновременно с человеческой душой имеет
также идею некоторой другой вещи. Но это значит, что
человеческая душа постигает эту другую вещь лишь отчасти или
неадекватно.
с) Человек - это душа и тело
Как сущность всех вещей, так и «сущность человека
составляют известные модификации (модусы) атрибутов 6ora»lv".
Cogitatio и extensio, мышление и протяжение
(заимствованные у Декарта, однако не как субстанции, а как атрибуты
субстанции) - это самоочевидное различие внутреннего и
внешнего. Это не два существа: дух (или душа) и тело. Скорее, они
составляют одно в двух аспектах, и одно не существует без
другого. Так и все вещи. Все тела духовны, все духи телесны.
Но наше познание каждый раз может обращаться только к
одной из двух сторон, к душе или к плоти, однако во
взаимосвязях одной стороны оно познает то, чему необходимо
соответствует в совпадении (notwendig koinzidierend entspricht) некая
взаимосвязь другой стороны.
Спиноза с величайшей решительностью утверждает
единство души и тела. Фактическое бытие человеческой души,
говорит он, основано на идее фактически существующей
отдельной вещи|у|". А предмет этой идеи, служащей основанием
человеческой души, - это тело или известный фактически
существующий модус протяжения10". «Душа включает в себя
действительное существование тела» (однако «человеческая
душа или идея человеческого тела» не выражает никаких других
атрибутов бога, кроме двух атрибутов - мышления и
протяжения). Поэтому душа и тело составляют «одну и ту же вещь,
в одном случае представляемую под атрибутом мышления,
в другом - под атрибутом протяжения»1х.
Тем самым столь же решительно, как единство души и
тела, утверждается непреодолимое различие двух этих
аспектов, - настолько, что душа и тело не могут воздействовать друг
на друга: причинные взаимосвязи телесного и душевного
замкнуты каждая в самой себе, однако эти две причинные
взаимосвязи совпадают: «Ни тело не может определять душу
223
Спиноза
к мышлению, ни душа не может определять тело ни к
движению, ни к покою»1*. Однако ведь каждую минуту
непосредственные наши действия убеждают нас, что тело по одному
мановению души то покоится, то движется. На это Спиноза
отвечает: «Никто не знает... каким образом или какими
средствами душа двигает тело»|х". Мы не знаем, как происходит то,
что, однако, мы каждую минуту, как нам представляется,
совершаем. Но то, что кажется обусловленным в телесной сфере
душой, то, согласно базовому знанию Спинозы, может и
должно иметь основание в самом телесном. Непосредственный
опыт, в котором мы, как мы полагаем, двигаем тело своей
душой, не ведет наше познание ни на шаг вперед. Если мы
исследуем себя как то, что мы действительно суть - как модус,
то мы вынуждены делать это либо в душевном, либо в
телесном аспекте. Смешение этих аспектов неплодотворно для
познания и сбивает с толку. Если мы исследуем модусы, мы
должны оставаться в пределах того или другого аспекта, а
потому все телесные явления объяснять также телесными
причинами, а все душевные - душевными.
Если на это возразят, что в действительности в тех
явлениях, которые ведь безоговорочно понятны для нас в качестве
эффектов души, телесное невозможно объяснить из его
телесных причин, то Спиноза отвечает: Никто еще до сих пор не
установил, на что способно тело, т.е. что оно может сделать по
одним лишь законам природы, поскольку мы рассматриваем
природу только как телесную. Никто до сих пор не знает тело
настолько точно, чтобы суметь объяснить все его функции.
«Устройство человеческого тела по своей художественности
далеко превосходит все, что только было создано
человеческим искусством»|хт. Наконец: «у... животных замечается
многое такое, что далеко превосходит человеческую
проницательность»1™. Если поэтому люди говорят, что то или другое
действие тела возникает из души, то они не знают, что говорят.
В действительности, произнося красивые слова, они только
сознаются, что не знают истинной причины этого действия и
что они ему не удивляются. Но тело, только по законам своей
природы, может сделать многое, чему поистине удивится его
душа, если только она видит.
224
V. Человек
Подобные исследования, которые хотели бы объяснить
телесными причинами все совокупное телесное явление
человека, вплоть до каждого его движения, вплоть до его речи, вплоть
до создания проявляющихся в телесной форме
произведений, вплоть до его реакций на потрясающую его жизнь новость,
стоит перед бесконечностью. Бросим еще раз беглый
сравнительный взгляд на те бесконечности, с которыми встречается
Спиноза:
Ширь объемлющего Спиноза мыслит в трех сферах. В
первую очередь, в идее бесконечного множества атрибутов бога
(философская достоверность бога). Затем, во-вторых, как
бесконечный мир, в котором человек - крошечное существо
природы среди бесконечного множества других и как таковой -
отнюдь не цель, если не считать обманчивого представления
мышления со стороны конечных модусов (философское
сознание мира). Наконец, в-третьих, как взаимосвязи конечных
модусов, доступные в их целом только бесконечному разуму бога,
но не конечному разуму человека, однако для последнего
остаются бесконечно доступными изучению (исследование
вещей в мире). В этой сфере, ввиду бесконечности ее для нашего
познавания и ввиду принципиального совпадения протяжения
и мышления (а значит, в человеке - души и тела), имеет силу
утверждение: мы не знаем, насколько далеко мы еще можем
продвинуться в органическом объяснении явлений жизни,
чтобы постигнуть с этой телесной стороны то, что теперь лишь
мнимым образом постигается как действие души.
Представляется абсурдным желание объяснить
телесными причинами то, что доступно нашему пониманию как смысл,
однако, чтобы стать действительным, должно проявляться
в сфере телесности. Но Спиноза ответил бы на это: Всякое
понимание смысла - это только объяснение в аспекте души, а не
тела. Останется навсегда невозможным постичь само
телесное, понимая его как знак в составе смысловых взаимосвязей.
Мы всякий раз можем вести изыскание только в одном или
только в другом аспекте, под тем или под другим атрибутом.
Если наше изыскание переходит то туда, то сюда из одной
сферы в другую, оно сбивается с пути.
И вот сама напрашивается такая мысль: если душа и
тело - это два аспекта Единого, то это Единое, соединяющее
в себе то и другое, следовало бы также непосредственно
изучать как нечто третье. Однако это Единое не существует
225
Спиноза
обособленно, в предшествовании или же последовании, как
особый предмет изучения модусов. Психофизическое единство
есть истина только в качестве базового философского знания,
но в качестве мнимого предмета исследования оно есть
иллюзия. Спиноза доводит сознание нашего психофизического
единства как модуса в боге до актуальной наглядности, но не
пролагает тем самым пути к некоему субстанциальному
носителю обоих этих аспектов, как предмету антропологического
исследования.
Мы не ставим здесь перед собой задачи излагать методы
научного исследования в современной психологии и адресовать
Спинозе с этой позиции критические вопросы: В какой именно
мере разделение двух аспектов верно и плодотворно для науки?
Где они перестают быть путеводной нитью для психологического
исследования? Какие существуют в науке методы, оставляющие
без внимания различие этих аспектов, не потому чтобы они
уловили (в самом деле недоступное для нас) субстанциальное
психофизическое единство, а потому что они замечают осязаемые
факты, которые в явлении одновременно и телесны, и душевны
(выражение, язык и т.д.), или потому что они фиксируют
положения дел, в которых различение аспектов теряет силу (подсчет
действий). Перед нами раскрылся целый мир многообразных
методов, а через них - предметов психологии, являющихся
модусами в спинозовском смысле. Спинозу следовало бы
дополнить. Однако критическое научное исследование требует
сознания своих методов и своих границ. Это означает, что это
исследование остается открытым с той стороны, куда оно само
никогда не сможет достигнуть и откуда говорит Спиноза.
Спекулятивная мысль Спинозы, когда она различает душу и
тело в их единстве, имеет практический смысл. Он отклоняет
всяческую дискредитацию тела. Он говорит, прежде всего, что
«тело человеческое существует так, как мы его ощущаем»1™.
Затем, он не позволяет ни порочить, ни возвеличивать тело.
Он не признает осмысленным ни суровое, аскетическое
отношение к нему, ни преданность плотскому началу. Ему
неизвестна ни бесплотная духовная воля, ни бездушная плоть.
Скорее, он видит основание в единстве двух начал,
утвержденном в единстве субстанции бога.
Подведем итог: Мы философски познаем психофизическое
единство только в целокупности бытия. Человек не являет-
226
V. Человек
ся субстанциальной частью бога, он вообще не субстанция.
Ибо человек не изначален. Изначален только бог.
Рассматривая душу и тело человека, мыслитель, правда, видит основу в
боге, однако он не видит субстанции в человеке. Спиноза
выходит за пределы человека, чтобы принципиально постигнуть
человека.
Мы остаемся модусами и существуем в боге, поскольку мы,
как конечные модусы, существуем в бесконечных модусах,
а именно - в бесконечном разуме (соответствующем атрибуту
мышления) и в «движении и покое» (соответствующих
атрибуту протяжения). Хотя мы философски знаем, что порядок
и связь телесных вещей те же, что и порядок и связь идей.
Но наше фактическое познание модусов всегда направлено
или на модусы атрибута протяжения (на движение и покой
в телесной сфере), или же на модусы атрибута мышления (на
разум и волю). Мы не познаем здесь одного через другое, не
познаем никакого воздействия одного на другое, и тем более
не познаем здесь никакого процесса, двумя сторонами
которого были бы то внешнее и это внутреннее.
d) Человек и животное и различие между людьми
Поскольку, согласно Спинозе, все вещи в этом мире
модусов суть одновременно душа и тело, человек находится в ряду
существ природы. Дистанция между существами в этом ряду
основана на следующем: «чем какое-либо тело способнее
других к большему числу одновременных действий или страданий,
тем душа его способнее других к одновременному восприятию
большего числа вещей; и чем более действия какого-либо тела
зависят только от него самого, и чем менее другие тела
принимают участия в его действиях, тем способнее душа его к
отчетливому пониманию»1™. Постольку между модусами, а стало
быть, и между человеком и другими существами, имеется
не принципиальное различие, но различие лишь по степени.
Однако различие между животным и человеком является все
же для Спинозы радикальным, а именно потому, что человек
способен мыслить, а потому имеет также аффекты, характер
которых имеет своим основанием мышление. Следствие этого
отличия таково, что человек столь же радикально по-разному
относится к людям и к животным: «Заповедь разума учит, что
227
Спиноза
мы должны соединяться с людьми, но не с животными или
такими вещами, природа которых отлична от человеческой
природы». У нас есть такое же право на животных, как у
животных - на нас. Спиноза не отрицает, что животные обладают
ощущениями. Однако у нас есть право «использовать их по
произволу и обращаться с ними так, как нам кажется лучше
всего, поскольку ведь они по своей природе не соответственны
нам и их аффекты по природе своей отличны от человеческих
аффектов».
Отличительная черта человека такова: он знает, что он
знает; он обладает разумом. Чем более он разумен, тем он
свободнее, тем действительнее, тем совершеннее. И вот
возникает вопрос: «Почему бог не сотворил всех людей такими,
чтобы ими можно было управлять единственно лишь по
руководству разума?» Ответ: «Потому что у него не было
недостатка в материале для того, чтобы сотворить все от низшей
до наивысшей ступени совершенства, или, если выразиться
более прямо, - потому что законы его природы были столь
всеобъемлющи, что их было довольно для порождения всего,
что может постигнуть бесконечный разум».
Все возникает с необходимостью по вечным законам бога:
действия благочестивых людей, то есть тех, кто имеет ясную
идею о боге, согласно которой определяются все их действия и
мысли, и действия людей безбожных, то есть тех, кто не имеет
идеи о боге, а только идеи о земных вещах, которыми
определяются их действия и мысли. Действия тех и других
различаются не по степени, а по существу. Среди необходимых
следствий божественной субстанции, в бесконечном целом
природы, существует также необходимость разумной жизни, как
природная необходимость. Но какие существуют различия
между людьми и народами - это дело опыта. Опыт учит нас,
что люди подлинного разума - философы - встречаются
редко. Он учит, далее, что есть народы, любящие свободу,
и народы рабского духа. Учет этих различий будет
существенным моментом для политической мысли Спинозы.
Можно задать вопрос: Так, значит, несовершенное должно
существовать потому, что должно существовать все, что
только возможно? А значит, в силу богатства многообразия, а не
в силу бытия добра? Или в силу иерархии ступеней от наихуд-
228
V. Человек
шего и до наилучшего, в которой нет пропусков, но все
присутствует и все находит себе место? Спиноза дает на это только
один ответ: Все с необходимостью следует из бога. А оценки
возникают только из человеческой души. Вечная
необходимость пребывает по ту сторону добра и зла, красоты и
безобразия.
е) Бессмертие и вечность
Перед душой - говорится в раннем трактате - стоит выбор:
соединиться с телом, представлением которого она является,
или с богом, без которого она не может ни существовать, ни
представляться. Если она соединена только лишь с телом, то
должна погибнуть вместе с ним. Но если она соединяется с
чем-то таким, что неизменно и пребывает, то и сама должна
будет остаться неизменной вместе с ним. Это происходит,
если душа соединяется с богом, так что возрождается в
познавательной любви к богу. Ибо ее первое рождение было -
соединение с телом; во втором рождении, вместо воздействий тела,
мы переживаем воздействия любви, соответствующей
познанию этого нетелесного предмета.
Эта мысль становится в «Этике» более ясной благодаря
отличению бессмертия, как длительности, от вечности, как
существования вне времени. Смертность психофизического
единства совершенна и окончательна. Душа может
представлять себе что-то и вспоминать о прошедших вещах лишь до
тех пор, пока продолжает существовать тело. Поэтому
невозможно, чтобы мы вспоминали о том, что существовали прежде
тела: «сказать про нашу душу, что она существует во
временном продолжении, и определить ее существование известным
сроком можно лишь постольку, поскольку она заключает в себе
действительное (актуальное) существование тела; и лишь
постольку она имеет способность определять существование
вещей временем и представлять их во временном
продолжении»1™'1. Таким образом, Спиноза с неизбежной строгостью
формулирует: «Настоящее существование души и ее
способность к воображению уничтожается, как только душа перестает
утверждать настоящее существование тела»1™".
Тем не менее мы ощущаем, что мы вечны. Ибо «очами для
души, которыми она видит и наблюдает вещи, служат... дока-
229
Спиноза
зательства». Хотя мы и не помним о своем существовании
прежде тела, мы все же чувствуем, что наша душа, поскольку
она познает сущность тела и заключает ее в себе с точки
зрения своего рода вечности, неподвластна времени. Поэтому
человеческая «душа не может совершенно уничтожиться вместе
с телом, но от нее остается нечто вечное»|Х|Х.
Но эта «вечность не может определяться временем, ни
иметь ко времени какое-либо отношение»1™. Подлинное
бессмертие не может представляться в категориях времени и
длительности. Мнение людей, справедливо осознающих
вечность этой души, смешивают ее с временным продолжением.
«Они приписывают вечность способности представления или
памяти, о которой полагают, что она продолжает существовать
после смерти».
Бессмертие, которое есть не продолжение во времени, но
вечность, не может заключать в себе одно лишь временное.
Поэтому оно присуще только тому, что «представляется под
формою вечности» и переживается в опыте самого мышления
как причастность вечности. Познание по третьему роду
познания познает вечное, и оно само вечно. «Кроме познавательной
любви никакая другая любовь не вечна»|ХХ|. Однако
психофизическое единство означает, что тело не отпадает прочь как что-
то ничтожное, а отпадает только со стороны своей
изменчивости. «В боге необходимо существует идея, выражающая
сущность того или другого человеческого тела под формой
вечности»1™", и таким образом позволяет существовать вне времени
в вечности также и тому, что является временным обликом
в последовательности возрастов жизни.
Спиноза с одинаковой весомостью утверждал и бренность
телесного существования души, и вечность ее сущности.
В нашем телесном существовании мы подвержены
аффектам, а потому и страху смерти. Но в качестве разумных
существ природы (natürliche Vernunftwesen) мы в познании
освобождаемся от аффектов, а тем самым и от страха смерти, и
достигаем покоя вечного бытия, к которому мы всегда
принадлежали уже и прежде. И притом тем в большей мере, чем
яснее наше разумное познание, а одновременно с ним - и сила
нашей любви.
Существуя в качестве модуса, мы остаемся в плену
неадекватных представлений, ограниченности наших возможно-
230
VI. Свобода от цели и ценности
стей знать. Но в этом же самом существовании мы, как
разумные существа, получаем адекватные идеи, пусть даже они
всегда ограничены. Посредством их мы становимся причастны
тому бытию, которое мы удостоверяем, двигаясь своей
мыслью непосредственно к богу, в боге, как субстанции. В
мышлении мы приходим от существования в качестве модуса к бытию
субстанции. Не становясь субстанцией сами, мы все же
относимся к ней, как модус ее атрибутов. По сути, так обстоит со
всеми вещами, но только для разумных существ это так в том
числе благодаря их знанию и соответствующий этому знанию
внутренний строй души.
Желание всех вещей утверждаться в бытии есть для
телесного существования во времени страстное желание жить
дольше, и все дольше. Но в основе этого существования
звучит голос просветляющейся в мышлении достоверности
вечного бытия, не имеющего никакого отношения к временной
длительности, памяти, представлению.
VI. Свобода от цели и ценности
а) Цели и ценности суть предрассудки,
возникающие из искажения идеи бога
«Ничье существование не может быть нам известно более,
чем существование существа бесконечного или совершенного,
т.е. бога»|хх,м. Постоянная забота Спинозы состоит в том, чтобы
эта идея бога не исказилась и чтобы богу не причинили
никакого унижения, не запятнали его нашими человеческими
представлениями. Если ложной становится идея бога, то все
суждения становятся ложными.
Чистая мысль говорит: Бог необходимо существует. Он есть,
и он действует единственно в силу необходимости своей
природы. Он - свободная причина всех вещей. Все существует в
боге, так что без него оно не может ни существовать, ни
представляться. Все предопределено богом, но не произволом его
прихоти, но безусловной природой или бесконечным
могуществом бога.
Предрассудки людей замутняют эту идею бога. Все эти
предрассудки, вместе взятые, зависят от одного-единственно-
231
Спиноза
го предрассудка: обыкновенно встречающегося допущения,
что все вещи, подобно людям, действуют ради какой-либо
цели. Поэтому люди держатся мнения, будто бог направляет все
к определенной цели; будто бог создал все ради человека,
а человека создал для того, чтобы человек почитал его.
Источник этого человеческого предрассудка - в том, что все
люди родятся не знающими причин вещей и что все они ищут
своей пользы, а значит, действуют ради некоторой цели и
сознают это свое влечение. Поэтому они рассматривают все в
природе как средства для своей пользы, и поскольку они не
сами создали это пригодное в пользу, они полагают, что другое
подобное им существо приготовило это для их пользы. Вещи
понятны для них по той пользе, которую они им приносят, по
целевым причинам. Вследствие этого они не задают вопроса
об их причине. Этот предрассудок превращается в суеверие,
если люди находят весьма много вредного, как, например,
бури, землетрясения, болезни и т.д. Тогда они полагают, что
боги, приготовившие вещи для их пользы, теперь гневаются,
потому что люди их оскорбили. Поэтому они ищут способов
сделать так, чтобы боги вновь стали довольны. Поскольку боги,
приготовив для людей полезные им вещи, хотели обязать
людей к возданию величайших почестей богам, то люди
вследствие этого предрассудка искали столь многие, всякий раз
особенные способы богопочитания, дабы бог любил их более
всего другого. Они составляли себе столь сумасбродные
представления о богах и о природе, сколь сумасбродны были они
сами. И даже повседневный опыт не исправляет этого
представления, а именно, тем, что полезное и вредное постигает
в равной мере как тех, кто воздает богам такие суеверные
почести, так и тех, кто этого не делает. Они твердо держатся
укоренившегося предрассудка, говоря, что решения богов намного
превосходят человеческую способность понимания.
Спиноза противопоставляет этому подкрепленное и
просветленное всей его философией убеждение: что все целевые
причины суть не более чем человеческие вымыслы
(menschliche Einbildungen). В природе все происходит с вечной
необходимостью и с величайшим совершенством. Бог действует,
однако не имеет никакой цели. Ибо он не нуждается ни в чем
другом. Нет ничего, чего бы ему недоставало.
Если Спиноза отрицает «цель» в самом бытии, то он
понимает мышление о человеческом существовании в категории
232
VI. Свобода от цели и ценности
цели как представление, появляющееся в ситуации конечности
и потребностной природы человека. В субстанции бытия, в
боге, нет никакой потребности, а потому и никакой цели.
Человеческие представления о цели, а тем самым и потребностность,
непозволительно переносить на субстанцию или бога.
Природа также не знает никаких целей. Вся природная
действительность точно так же свободна от целей, как и от
ценностей. Когда мы переносим наши оценки и предположения на
природу, как будто бы ей самой по себе была дана
объективность бытия ценности, Спиноза четко обозначает: Если
намерение состоит в том, чтобы построить дом, то, если он еще не
готов, его создатель скажет, что он незакончен. После того как
были придуманы общие образцовые представления домов,
законченность строений стали оценивать по степени их
соответствия этим образцам. Таким же образом люди обыкновенно
составляют себе общие идеи о вещах природы, которые считают
как бы образцами вещей, и в случае несогласия вещей
природы с подобными образцами они говорят о том, что природа
ошиблась или допустила оплошность. Добро и зло - это не что-
то положительное в вещах; это только модусы мышления.
В результате переноса оценок вещей на бытие самих
вещей мир погружается в ценностную окраску, которая сама по
себе чужда вещам. Но если Спиноза отрицает ценности, как
существующие сами по себе, он признает их, как реальность
модусов мышления в нашем ограниченном существовании.
Искажение образа бога в представлении о полагающем
цели, а потому имеющем потребности, налагающем на людей
обязательства перед собою, полезном для них и гневающемся
на них существе, имеет следствием искажение общего
понимания вещей. Ибо теперь оценки, совершаемые из
перспективы живущего в качестве модуса в тесноте времени и
пространства, желающего своей пользы существа превращаются в
объективно, в себе и абсолютно существующие вещи,
описываемые такими понятиями, как «добро» и «зло», «порядок» и
«путаница», «красота» и «безобразие», «заслуга» и
«преступление». Однако подобная перспектива рассмотрения чужда
богу. Перенос на него того, что является в этой перспективе,
скрывает величие бога от глаз нашего разума.
Только в нашей ограниченной перспективе мы думаем,
будто находим порядок в самих вещах. Ибо мы предпочитаем по-
233
Спиноза
рядок путанице, потому что так оно приятно, так как менее
обременительно для нас, как будто бы в природе существовал
некий порядок безотносительно к нашей способности
представления. Этот предрассудок не исчезает, если мы узнаём,
что существует бесконечно много вещей, намного
превосходящих нашу способность представления, и очень много того, что
спутывает нашу способность представления, потому что она
очень слаба. Спиноза видит, что есть даже такие философы,
которые твердо убеждены, что движения небесных тел
образуют гармонию. Каждый показывает, как он думает, что он
оценивает вещи по свойству собственного мозга. Поэтому между
людьми происходит много споров, и отсюда, в конце концов,
возникает скептицизм. Все показывает нам, что люди с
большей охотой представляют себе вещи, чем познают их.
Однако способы представления не показывают природу какой бы
то ни было вещи, а только лишь состояние способности
представления.
Только засорение идеи бога приводит к вопросу о теодицее
(мнимом оправдании бога за мнимое зло, несчастья и
бедствия в мире). Вопрос гласит: «Откуда возникло в природе
столько несовершенства, гниение вещей вплоть до зловония,
вызывающая отвращение уродливость вещей, путаница,
дурное, преступления и так далее?» Спиноза отвечает
отрицанием предполагаемого здесь бедственного положения дел, как
абсолютного. Оно имеется только в представлении
модальных существ, которые, сопоставляя пользу для себя своим
конечным разумом, требуют себе самоутверждения в
существовании.
Однако сам этот способ представления, присущий
конечному существу в его качестве модуса, необходим и понятен.
В этом смысле Спиноза описывал это состояние
существования как модус в его конечности, ограничении, путанице.
Ъ) Наш разум, ограниченный в качестве модуса
Нашему ограниченному в существовании разуму нет
надобности полностью подчинять нас себе, поскольку мы как
мыслящие существа знаем и понимаем его и тем самым
способны возвыситься над ним. При помощи метафор Спиноза
поясняет нам то, что было усмотрено им в чистом мышлении
относительно нашего состояния.
234
VI. Свобода от цели и ценности
Он уподобляет его воображаемому червячку в крови,
который обладал бы способностью видеть, чтобы различать
кровяные частицы, и разумом, чтобы наблюдать, как эти частицы
сталкиваются друг с другом. «Так вот, этот червячок жил бы в
крови так же, как мы живем в этой части мироздания». Он
рассматривал бы кровь, однако не замечал бы, что кровь в целом
подвержена другим движениям и другим воздействиям извне.
Нам следует постигать все тела природы таким же образом,
как это делает червячок в крови. Поскольку, однако, природа
мироздания не ограничена, как ограничена природа крови, но
абсолютно бесконечна, то каждая частичка будет в ней
зависима тысячей разных способов и будет вынуждена
претерпевать бесконечное множество изменений. Таким образом и
человеческое тело есть часть бесконечной природы, и такова же
человеческая душа, а именно - часть modus infinitus
мышления. Бесконечная способность мышления (intellectus infinitus)
заключает в себе предметным образом всю природу.
Человеческая душа есть эта самая способность, но только в качестве
конечной части бесконечной души. Поэтому он точно так же не
постигает бесконечной природы, как и сам он не бесконечен.
Правда, мы можем прийти к убеждению, что каждая часть
природы связана с целым. Но мы остаемся в неведении о том, как на
самом деле согласуется внутри себя целое, и каждая часть -
с целым. Ибо «для познания этого требовалось бы знание всей
природы и всех ее частей».
Другое уподобление Спиноза находит для того способа,
каким мы преследуем свои цели. «Подобно тому как пчелы
собирают запасы на зиму, так ведь человек, поставленный над
ними, содержащий их и охраняющий, имеет совсем другую цель,
а именно - сохранить для себя мед. Так же и человек,
поскольку он есть особенное существо, не имеет других видов, кроме
тех, до которых может достигнуть его ограниченная сущность,
однако, поскольку он есть в то же время часть и орудие всей
природы, никакая цель человека не может быть конечной
целью природы, поскольку природа бесконечна и пользуется им,
вместе со всеми прочими, как своими орудиями».
Сравнение человека с воображаемым червячком в крови
говорит об ограниченности возможностей его знания в этой
части мира и в бесконечном мироздании. Сравнение человека
с пчелами говорит о «конечной цели природы», которая в
остальных случаях есть для Спинозы уже не цель, а свободная
от целей необходимость. Однако его сравнение дает следую-
235
Спиноза
щее созерцание: Если я мыслю цели природы, то человек
может быть лишь подчиненным орудием, цели которого суть,
в свою очередь, цели для могущества объемлющего,
уничтожающего их в самый миг, когда оно пользуется ими; так же
точно, как исчезающе малое существование человека остается
подчиненным космосу, а не властвует над ним. Спиноза,
превращающий в этой мысли все цели в средства для более
высоких целей, и так далее до бесконечности, совершает скачок
к свободе от целей в целом, как только оставляет эту
исходящую из конечных представлений перспективу цели.
Обе метафоры хотели бы, представлением ситуации
нашего существования в качестве модуса, преодолеть
антропоцентрическое мышление о вещах. Величественная картина
бесконечного мира, как бесконечного модуса субстанции, выявляет
перед нами оба момента: человек, привязанный к своему
модальному существованию, крошечный, ничтожно мал; но он же
велик своим разумом, дающим ему способность созерцать эту
картину. Знание о нашей ограниченности само есть момент
блаженства бытия-в-боге, становящегося возможным
благодаря этому знанию.
с) Действительность и ценность
Оценивающее определение действительности,
восхваление одной действительности и жалобы на другую или
возмущенное осуждение ее, - это, для Спинозы, признак плененно-
сти существованием модуса. Но сам Спиноза постоянно
выносит приговоры, причем выносит их, понимая вещи (прежде
всего человека) как более или менее совершенные. Это
противоречие он устраняет одним отождествлением: «Под
реальностью и совершенством я разумею одно и то же»,хх,\ и тезисом
о том, что существуют степени действительности, как большее
или меньшее совершенство. Ценность есть действительность,
распределенная по степеням (Der Wert ist gradweise abgestufte
Wirklichkeit).
С понятием различий действительности как ценностных
различий, а тем самым как степеней действительности,
Спиноза воспринимает в свое построение одно древнее понятие
действительности. В то время как понятие эмпирической
реальности вещей в пространстве и времени таково, что реальность
236
VI. Свобода от цели и ценности
чего либо или есть, или же не есть, и реальность не может
иметь степеней, действительность субстанциальность в
модусах градуирована по степеням. Поэтому в различных аспектах
[у Спинозы] сказано:
«Все в природе происходит с величайшим совершенством».
Но затем: «Наиболее совершенно действие, непосредственно
производимое богом, и чем больше промежуточных причин
требуется для произведения чего-либо, тем оно менее
совершенно».
Причина совершенства вещей заключается не в том, что
они «увеселяют или оскорбляют чувства человека, и не в том,
что они благоприятны для человеческой природы или
противоречат ей», а только лишь в их «природе и силе».
«Совершенство и несовершенство в действительности составляют
только модусы мышления... путем сравнения друг с другом
индивидуумов одного и того же вида»|хх\
Однако это сравнение совершается отнюдь не через
отношение к нашим целям, а показывает, что одни индивиды
«имеют больше бытийного содержания, или реальности, чем
другие». «Приписывая же им что-либо, заключающее в себе
отрицание, как то, предел, конец, неспособность, мы называем
их несовершенными»1*™.
В нас самих и в наших идеях заключается ценностное
различие, которое всякий раз есть различие в степени
действительности, величии могущества, близости к богу: «Одна идея
тем ценнее другой и содержит тем более действительности,
чем более предмет одной идеи ценнее предмета другой и
содержит больше действительности, чем последний». «Чем
более некто преуспел в этом роде познания, тем более он
сознает себя самого и бога, то есть тем он совершеннее».
Таким образом, из спинозовского понимания тождества
действительности и ценности вытекает двоякое следствие; во-
первых - то, что никаких ценностей не существует, а
во-вторых - что мы постоянно высказываем оценки, полагая, будто
выражаем этим какую-то действительность.
d) Взаимопревращение двух способов познания
В нас связаны между собой два способа познания:
непосредственное познавание бога разумом и опосредованное -
237
Спиноза
через отношение к другим модусам. В непосредственности
философское познание свободно обращено к бесконечности
бога и исполнено им, в опосредованном отношении к модусам
конечное познавание принужденно и ограничено. Ибо, как
конечное познавание, оно неспособно объять бесконечность
модусов, а потому может только двигаться до бесконечности
вперед и вперед, тогда как в целом оно остается неведением.
Поскольку наше существование есть конечный модус,
живущий во взаимосвязи аффектов тела, и в то же время -
разумное существо, любящее бога в своей мысли, в
утверждениях Спинозы возникает постоянная противоречивость (которая
может быть устранена только различением познания второго и
третьего рода).
В смысле основной идеи Спинозы заложено то, что в ней
постоянно повторяется, поначалу странное для читателя, но
затем как раз подтверждающее для него истину в ее целом,
превращение: от мышления в категориях цели - к свободе от
целей, от ценностной оценки - к свободному от ценностей
созерцанию необходимого, а затем, далее, от претензии на
активность - к совершенному покою, предоставляющему всем
вещам быть такими, как они есть.
Превращения в спинозовской мысли можно выразить также
и противоположным образом: От свободы от целей в вечности
бога - к постижению мышления в категориях цели, как
ограничения мышления в нашем существовании в качестве модуса;
от свободного от ценностей тотального созерцания - к
постижению ограниченности заблуждающихся оценок; от покоя
уверенности в боге - к деятельности в качестве модуса; от
свободы от долженствований в вечной божественной
необходимости - к долженствованию определенных человеческих законов.
Это превращение, мыслимое метафизически, есть, во-
первых, восходящее движение от модусов к субстанции, а
затем - нисходящее от субстанции к модусам. Но в модусах
заключено выражение самой субстанции.
е) Этос свободы от ценностей
«Я... буду рассматривать человеческие действия и
влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях,
поверхностях и телах»1™", - пишет Спиноза, прежде чем начать
трактовать об аффектах.
238
VI. Свобода от цели и ценности
«Большинство тех, которые писали об аффектах...
причину человеческого бессилия и непостоянства... приписывают не
общему могуществу природы, а какому-то недостатку
природы человеческой, которую они вследствие этого оплакивают,
осмеивают, презирают или... ею гнушаются. <...> Но... в
природе нет ничего, что можно было бы приписать ее
недостатку »,χχνι". В «Политическом трактате» он повторяет, что
«я усердно старался не осмеивать, не обвинять, не презирать
человеческих действий, но понимать их. И так любовь,
ненависть, гнев, зависть, славолюбие, сострадание я рассматривал
не как пороки человеческой природы, а как ее свойства, столь
же необходимо присущие ей, как природе воздуха присущи
жар, холод, буря, гром и другое подобное, что хотя также
означает нечто противное, и все же необходимо и имеет известные
причины».
Взору Спинозы предносится некая установка «по ту сторону
добра и зла». Поскольку он находится в философском строе
богопознания, он не хочет осуждать, не хочет судить, не хочет
выражать презрения. Если все совершается по вечным
законам природы, в силу божественной необходимости, то
становится возможным такое отношение к событиям, какое
представлял себе Спиноза, наблюдая за пауками, которых сажал в
одну и ту же паутину и созерцал их борьбу друг с другом, пока
один не оплетал другого своей паутиной, не убивал его и не
высасывал из него соки.
Но в этой установке заключено двоякое: преданность
божественной необходимости - и воля к истине в объективном
научном познании, временно отменяющем силу всех оценок и
целей, чтобы понять вещь в чистоте ее объективности.
Как действовал в естествознании Галилей, когда он не
признавал уже никакого ценностного приоритета за кругом и
шаром, и что совершил в науках о духе Макс Вебер, когда он
указывал и осуществлял методы, с помощью которых
исследователь мог независимо от ценностей изучать реальность
человеческих оценок и их последствий, - это встретило бы
одобрение у Спинозы. Но Спиноза имеет в виду намного больше: не
только установку приостановки наших собственных оценок,
принимаемую для часов научных изысканий и ежеминутно
объективного суждения, но совокупный внутренний строй
души, в котором всякие оценки не только приостанавлива-
239
Спиноза
ются на некие отрезки времени, но преодолены в целом:
утверждение всего сущего, потому что оно следует из
божественной необходимости согласно вечным законам природы.
Правда, мы можем спросить, имеется ли смысловая
взаимосвязь между величием и силой идеи бога и способностью к
действительной свободе от ценностей в научном познавании,
и на этот вопрос мы можем ответить: да, имеется. Однако все
же остаются вполне различными вещами на различных
уровнях - устранение того помутнения, которое оценки вносят во
всякое объективное познание вещей в мире, и устранение
помутнения созерцания бога, которое происходит вследствие тех
помех исходящему от бога спокойствию (Gelassenheit), какие
создают вопросы теодицеи.
VIL Рабство и свобода души
Великое основное созерцание Спинозы о свободе самого
бытия от целей и о свободе нашего истинного познания от
ценностей имеет два следствия: во-первых, оно постигает, как
привязанность к целям и оценкам порабощает человека его
собственным аффектам; во-вторых, оно указывает пути,
ведущие прочь из этого порабощения на свободу. Но это
освобождение есть не что иное, как само постижение. Великое
основное созерцание в его осуществлении - уже и есть свобода.
Поэтому Спиноза делает и то и другое: он исследует,
в свободном от ценностей рассмотрении, аффекты и
необходимые взаимосвязи их возникновения, переплетения и
течения, - а затем, совершая обращение, он высказывает самую
решительную философскую оценку, когда устремляет свой
взгляд на высшее благо и рассматривает все с той точки зрения,
насколько оно способствует или препятствует ему. Философия
как сознание необходимости совершает рассмотрение.
Философия как практика жизни подчиняет себя идее о высшем благе.
Спиноза это знает. Изложив, что добро и зло не находятся в
вещах самих по себе, а составляют только модусы нашего
мышления, он продолжает: «Но хотя это и так, однако названия
эти нам следует удержать. Ибо... мы желаем образовать идею
человека, которая служила бы для нас образцом человеческой
природы»,хх,х. Поэтому добром он желает называть то, что яв-
240
VII. Рабство и свобода души
ляется средством для приближения к предначертанному нами
образцу человеческой природы; злом же то, что препятствует
достижению этого образца. А люди будут называться более
или менее совершенными, смотря по тому, более или менее
они приближаются к этому образцу1ххх.
Основное устройство человека исходит из его постоянной
определенности целями и ценностями, и через обращение в
смысле самой ценности достигает избрания высшего блага.
Отрицание целей не означает оспаривания воли к разуму.
Поэтому у Спинозы есть и то и другое: отрицание
представлений о цели, поскольку они должны выражать собой что-то о
бытии, - и предпочтение, избрание, поиск спасения, как блага
разума. Или, выражая это иначе: причастность ценностям,
поскольку его предмет понимается только как существующий в
отношении к человеку, - и свобода от ценностей в целом,
однако такая, что достижение этой свободы от ценностей
возможно только через непрестанное совершение актов оценки
(ständiges Werten).
Поэтому у Спинозы, несмотря на свободу от ценностей,
имеется «правильный образ жизни», «заповеди разума»,
«высшее благо».
Это противоречие разрешается не по произволу, который
все же хочет избрать для себя какую-нибудь практику жизни.
Скорее, основная мысль здесь такова: высшее благо также
необходимо возникает в природе вещей из разума. Акты
оценки, которые нам предстоит совершать на пути к нему, - это
момент во всеобъемлющей действительности, которую мы можем
рассматривать только в свободе от ценностей. Но в таком
случае высшее благо выделяется из всех благ и ценностей тем,
что само оно, как высшая цель, уже не есть более цель. Оно не
только не служит более никакой другой цели, но, поскольку его
желают, оно в качестве этой воли уже и само реально. Его
желают не как его-то другого, но воля к нему - разум - это оно
само. Высшее благо заключается в разумном мышлении как
таковом, которое всегда есть в то же время деятельность.
Невозможно намереваться его достигнуть, если оно, в известном
смысле слова, уже не будет достигнуто.
Решающая проблема - это свобода. Противоречивость
Спинозы кажется неустранимой. Он отрицает свободу, и он
утверждает ее. На свободе он основывает всю свою филосо-
241
Спиноза
фию. Его этос, в мыслях, сочинениях и практике, устремлен
к содействию свободе. Решение этого противоречия - в
различном смысле термина «свобода».
Во-первых: Никакой свободы нет. Все необходимо. Спиноза
обосновывает тезис, что свобода воли - это самообман: «Все
сотворенные вещи определяются внешними причинами.
Камень получает от внешней причины известное количество
движения. То, что камень находится в движении, - вынуждено,
потому что он должен определяться толчком внешней причины...
Теперь представьте себе, что камень, когда он продолжает
двигаться, думает и знает, что по мере возможности стремится
оставаться в движении. Этот камень, без сомнения, будет
считать, что он совершенно свободен и продолжает двигаться
только потому, что он так хочет. И это - та человеческая
свобода, обладанием которой все так гордятся, и которая, однако
же, состоит только в том, что люди сознают свои желания,
а причин, которыми они определяются, не знают. Так ребенок
считает себя свободным, если хочет молока, мальчик, если в
гневе жаждет мести, юноша, боязливый, если хочет спастись
бегством. И пьяный тоже думает, что говорит по своему
свободному решению... Так думают и люди в горячечном бреду...
А поскольку этот предрассудок прирожден людям, им и нелегко
от него освободиться».|ХХХ|
Во-вторых: Свобода есть. Но что Спиноза понимает под
свободой? Свобода едина с необходимостью. Следует
различать необходимость, вызванную принуждением извне
вследствие причинной связи с другим, и необходимость как
последовательность событий, вызванную внутренним следствием
собственной природы. Там, где действие совершается всецело и
исключительно из следствий нашей собственной природы, там
эта необходимость есть в то же время совершенная свобода.
Эта свобода присуща в полноте совершенства только богу.
Свобода бога - это свободная причина, а не свободная воля;
она - не выбор, а всецелая определенность из самого себя,
она - «свободная необходимость». «Бог действует
единственно по законам своей собственной природы и без чьего-либо
принуждения»|ххх". «Только бог существует по
необходимости своей природы и действует только по этой необходимости.
Поэтому только он есть свободная причина»1***"1.
Иначе обстоит дело у модусов, а значит, - у человека.
Он свободен только в той мере, в какой он есть адекватная
242
VII. Рабство и свобода души
причина своих действий в ясном познании причины и
следствия. Напротив, он несвободен в той мере, в какой он мыслит
и действует из неадекватных идей, движимый аффектами
извне и изнутри, в нескончаемой взаимосвязи воздействия
модусов друг на друга. Поскольку человек, в совокупности своего
существования, никогда не является всецелой и единственной
причиной в светлой ясности адекватных идей, он всегда
бывает несвободен.
Однако человек способен стать если не совершенно
свободным, то все же более свободным в той мере, в какой
он мыслит адекватные идеи, то есть в той мере, в какой он
становится разумным. В разуме он познает необходимость.
Поэтому: никакой свободы не существует, все необходимо; но
познание своей собственной сущности как необходимости
само есть свобода, а именно - через знающую причастность
к этой необходимости. Воля к свободе, тождественная с волей
к познанию, постигает сама себя как необходимость. Свобода
означает: видение всех вещей и событий как необходимых,
а также постижение оценок и мышления в категории цели как
того, что само появляется в силу необходимости модального
бытия, и наконец - постижение разумом самого себя как
необходимой природы человека.
Мысли Спинозы о свободе и необходимости создают
читателю трудности ввиду опыта «долженствования».
Долженствование повелевает то, что не происходит с необходимостью, но
может также и не произойти. Долженствование выражается
в законах. Таким образом, есть двоякого рода законы: или
такие, согласно которым все совершается неизменимо, или же
такие, согласно которым, как нормам, люди обязаны
действовать, однако не всегда действуют. Мы обычно думаем, будто
наша свобода заключается в том, что мы можем следовать
заповедям долженствования или же не следовать им. Только
спинозовское понимание законов и долженствования
проясняет, где находится для него свобода: только те законы,
нарушить которые невозможно, - это божественные законы;
законы, которые могут быть нарушены - это человеческие законы.
Свобода - в единстве с божественной необходимостью; она
действует без выбора. Где я выбираю и могу поступить также
и иначе, там я несвободен.
243
Спиноза
Законы людей суть выражение их конечности. «Все законы,
которые могут быть нарушены, это человеческие законы,
потому что из всего того, что постановляют люди для собственного
блага, по этой причине еще отнюдь не следует, что это служит
на благо всей природы, но, напротив, может привести к
уничтожению многих других вещей». Однако могущественнее
человеческих законов - законы природы, которым человеческие
законы, в свою очередь, подчинены.
Таким образом, противоречие между свободой и
необходимостью упраздняет следующая мысль: Долженствование
находится в пределах необходимости, причем находится так, что
необходимость просвечивает самое себя и постигает себя
самое как таковую, т.е. говоря словами Спинозы: что ее не
претерпевают, но совершают. Ибо адекватное познание
тождественно с деятельностью, а не со страданием. Оно есть
осуществление души согласно с божественной необходимостью.
Свобода есть сделавшийся самосознательным в мышлении
момент божественно-объемлющей абсолютной
необходимости.
Однако мысль, будто бы бог, подобно людям, дает законы,
вознаграждает за их соблюдение, наказывает за их
нарушение, - это один из ложных переносов на бога представлений
о человеческих действиях и человеческой ограниченности. Это
есть, во-первых, умаление бога, благодаря которому все
совершающееся совершается также в действительности и
необоримо, согласно его собственному решению; ничто не может
совершиться вопреки ему. А во-вторых, это представление,
вследствие идеи награды, приводит к порче нравственной
добродетели: ибо добродетель имеет свою награду в самой себе,
а не в другом.
Спинозовская идея необходимости во многих
формулировках напоминает идею предопределения у Кальвина, пусть
даже она совершенно отлична от нее по происхождению и по
следующей из нее внутренней установке.
Спиноза пишет: «Никто не может упрекать бога за то, что он
дал ему слабую натуру или бессильное чувство. Это было бы
столь же абсурдно, как если бы круг захотел жаловаться на то,
что бог не дал ему свойств шара. Так же точно человек с
бессильным чувством не может жаловаться на то, что бог отказал
ему в силе и истинном познании и любви божией и что он дал
ему столь слабую натуру, что он не в состоянии усмирять и
умерять свои вожделения».
244
VII. Рабство и свобода души
О правде и неправде не может быть и речи: «Как мудрец
имеет самое полное право на все предписываемое разумом,
так и глупец и человек бессильной души имеет самое полное
право на все, что советует ему его вожделение», ибо «не все
люди от природы предназначены поступать по правилам и
законам разума».
Бог - не судья, но «несчастье, следующее из наших дурных
действий и страстей, не менее ужасно оттого, что оно следует
из них с необходимостью».
«Люди не подлежат извинению перед богом только по той
причине, что они именно и состоят во власти бога, как глина во
власти горшечника, образующего из одной и той же массы
сосуды - одни к чести, другие - к бесчестию». Спинозе
возражают: если каждый человек необходимо таков, как он есть, тогда
его можно также и извинить. Спиноза отвечает: «Ведь люди
всегда могут подлежать извинению и тем не менее быть
лишены блаженства и испытывать разного рода мучения. Лошадь
можно извинить в том, что она лошадь, а не человек. Собаку,
впадающую в бешенство от укуса, хотя и можно извинить,
однако же ее справедливо умерщвляют».
Понятно, что Спиноза питал склонность к кальвинистам. Он
пишет, что мнение, ставящее все в зависимость от благосоиз-
воления (Gutdünken) бога, менее далеко от истины, чем
мнение, что бог делает все, ориентируясь на благо. Ибо это
последнее мнение признает нечто вне бога, не зависящее от
него, на что, скорее, Бог взирает как на образец. «А это, конечно,
все равно, что подчинять бога фатуму»1ххх|\
И все же между Кальвином и Спинозой есть радикальное
различие: Спиноза не знает никакого благосоизволения бога,
никакого произвола, никакого «decretum horribile» (страшное
веление (лат.)), а знает только необходимость. Но более
глубокое различие состоит в следующем: у Кальвина способ
осознания греховности и потребности в спасении через веру, -
у Спинозы изначальная свобода от всякого сознания вины и
греховности и покой свободы в достоверности знания бога.
а) Учение об аффектах
Действенность аффектов Спиноза конструирует из
небольшого числа принципов, объясняющих бесконечное
разветвление их разновидностей. Простота позволяет ему постичь
многообразие, на первый взгляд совершенно необозримое.
Со времен античности существует традиция учения об
аффектах, получившая к эпохе Спинозы трансформирующее об-
245
Спиноза
новление, прежде всего у Декарта и Мальбранша. Спиноза
знал эту традицию; «тем не менее природу и силы аффектов
и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько
Ixxxv
я знаю, не определил» .
Третья книга «Этики» трактует о происхождении и природе
аффектов. Она стала знаменитой. Великий физиолог, Иоганнес
Мюллер, включил весь этот раздел, как непревзойденный
анализ реальности аффектов, в свое «Руководство по
физиологии» (1833-1840).
Принципы этого наброска таковы:
1. Все конечные модусы порождают друг друга, служат
помощью друг для друга и взаимно разрушают друг друга.
Никакая вещь не может разрушиться сама от себя. Скорее, каждая
вещь стремится неопределенно долгое время пребывать в
своем существовании. Это стремление к самосохранению
есть действительная сущность каждой вещи и также человека.
Стремление к самосохранению Спиноза называет
желанием (Begierde), если оно сознает само себя, и влечением (Trieb),
если оно не осознает само себя. В зависимости от конкретных
аспектов, оно имеет много других названий. Поэтому, говорит
Спиноза, он соединил воедино «все стремления человеческой
природы, обозначаемые нами под именем влечения, воли,
стремления или побуждения»'*000".
Стремление есть движение. Но движение происходит на
основании некоторого состояния конечного существа.
Состояние человеческой сущности Спиноза называет аффекцией
(Affektion) (безразлично, врожденное это состояние или
приобретенное, представляется ли оно только под атрибутом
мышления или под атрибутом протяжения или же соотносится с
обоими этими атрибутами одновременно). Вожделение (или
стремление, влечение, тяга, воление) различно в различных
состояниях одного и того же человека, часто противоположно
самому себе, так что человека влечет в различных
направлениях, и он не знает, куда ему следует направиться.
2. Переход к большей действительности или большему
совершенству называется аффектом радости, переход к
меньшей действительности или совершенству - это аффект
печали. Аффект заключается в переходе. «Если бы человек
родился с тем совершенством, к которому он переходит, то он
246
VII. Рабство и свобода души
владел бы им без аффекта удовольствия» . Печаль также
относится к переходу. Она прекращается в актуальном
состоянии меньшего совершенства.
3. «Кроме этих трех [- вожделение, радость, печаль -] я не
признаю никаких других основных аффектов... остальные
аффекты берут свое начало от этих τρβχ»,χχχν,Μ.
Вследствие чего они возникают? Душа представляет себе,
имеет предметы, в направлении на которые аффекты
видоизменяются. Через свое отношение к стремлению человека к
самосохранению все они получают окраску того, что
способствует, или того, что препятствует; «мы стремимся к чему-
либо, желаем чего-нибудь, чувствуем влечение и хотим не
вследствие того, что считаем это добром, а наоборот, - мы
потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем,
чувствуем к нему влечение и хотим его»1ххх|Х.
Душа стремится представлять себе то, что увеличивает
силу действенности ее психофизического целого, она
сопротивляется представлениям противоположного рода. Отсюда
возникают первые предметно определенные основные аффекты:
любовь и ненависть. Любовь - это радость, сопровождаемая
идеей внешней причины. Ненависть - это печаль,
сопровождаемая идеей внешней причины.
Все встречающееся нам сопрягается одно с другим. Таков
временной контекст: Мы можем любить или ненавидеть
некоторую вещь только потому, что рассматривали ее в аффекте
радости или печали одновременно с этими аффектами,
порождающей причиной которых она вовсе не была. Сходства
между вещами имеют такое же следствие. Так, мы можем
одновременно ненавидеть и любить одно и то же, так нередко наша
душа находится в колебаниях.
Классификация аффектов проводится, далее, через
отношение представлений к прошлым и будущим вещам.
«Угрызения совести» - это печаль, сопровождаемая идеей прошедшей
вещи, случившейся сверх ожиданияхс. Страх и надежда,
неотделимые друг от друга, - это печаль и радость с
представлением о будущей вещиХС1, - если колебание прекращается, то
возникают уверенность или отчаяние. Спиноза дал
чрезвычайно обстоятельное обсуждение аффектов, от
воспроизведения которого здесь мы вынуждены отказаться.
247
Спиноза
4. Большое различие в возможностях аффектов происходит
из различия между адекватными и неадекватными идеями.
Желание (стремление к самосохранению) и радость и печаль -
это либо действия, либо же страсти (passiones,
претерпевания (Leidungen)): В адекватных идеях, в силу которых душа
деятельна, она радуется, и она чувствует печаль в неадекватных
идеях, в силу которых она бывает страдательна. В обоих этих
случаях основное стремление есть желание пребывать в
бытии; в одном случае - разумное и светлое, в другом - смутное
и слепое.
Разумность основного стремления означает господство над
аффектами, или свободу, смутное же и слепое стремление
означает подчиненность аффектам, или рабство.
Ъ) Описание рабства
Ситуация всех конечных модусов и человека такова. В
природе нет ни одной единичной вещи, которую бы некая другая
единичная вещь не превосходила силой и крепостью. Всегда
есть нечто более могущественное. Поэтому сила, с которой
человек пребывает в своем существовании, ограничена, и
сила внешних причин бесконечно ее превосходит.
Вместо адекватных идей человек имеет смутные
представления, показывающие более актуальное состояние
человеческого тела, нежели природу наружного тела. Эти
представления (как например, величина Солнца и расстояние до него) не
противоположны истине, и в присутствии истины они не
исчезают. Представления исчезают не вследствие присутствия
истины, а потому что им противостоят другие, более сильные,
представления.
Если бы человек претерпевал только те изменения,
которые может постичь его собственная природа, то он не мог бы
исчезнуть, а существовал бы всегда. Но в таком случае ему
нужно было бы быть бесконечным. Однако он конечен,
подвержен действию внешних сил. Он следует общему порядку
природы, существует необходимо не только через свои
собственные действия (actiones), но всегда необходимо подчинен
также passiones («страстям») или аффектам.
Сила внешней причины, в сравнении с нашей силой,
определяет прирост и пребывание каждой страсти. Некоторая
248
VII. Рабство и свобода души
страсть или аффект может настолько превосходить все прочие
действия человека, что этот аффект непрерывно сопровождает
человека. Аффекты могут сдерживаться или устраняться
только противоположными им и более сильными аффектами.
Поэтому истинное познание добра и зла может сдержать какой-
нибудь аффект, только если оно само выступает как аффект.
Настоящее пересиливает то, что в отдалении. Аффект
бывает сильнее в отношении к тому, что непосредственно
затрагивает нас здесь в пространстве и времени, сильнее в
отношении к тому, что быстро надвигается, чем в отношении к
значительно удаленному от настоящего времени. Поэтому мнение,
порождаемое наличным в настоящем, имеет настолько больше
силы, нежели истинный разум, по слову поэта: «Вижу и
одобряю лучшее, но следую худшему».
Человека, следующего своему аффекту и своему мнению,
Спиноза называет рабом; того, кто живет только по
руководству разума - свободным человеком. Первый действует, не
зная, что он делает. А второй, не покоряясь ничьей воле,
кроме своей собственной, делает только то, что признает самым
важным в жизни и чего поэтому более всего желает.
с) Идея и возможности свободы
Заповеди разума основаны на том необходимом положении
дел, что каждый, насколько это в его силах, стремится
сохранять свое бытие. Поскольку «все наши стремления следуют из
необходимости нашей природы», «основание добродетели
(virtus, сила) составляет... стремление сохранять собственное
существование... счастие состоит в том, что человек может
сохранять его... Действовать согласно разуму - это не что
иное, как делать то, что следует из необходимости нашей
природы»™1. Мы не можем представить себе ничего, что
предшествовало бы стремлению к самосохранению. «Так как разум не
требует ничего противного природе, то он требует, чтобы
каждый любил самого себя, искал для себя полезного...
Действовать по руководству разума, сохранять свое бытие и жить:
эти три выражения означают одно и то же - действовать по
добродетели»хсш.
Спиноза знает, что он противоречит общепринятому
этическому взгляду. Если «многие думают, что этот принцип, соглас-
249
Спиноза
но которому каждый призван искать собственной пользы,
составляет основу злодейств, а не добродетели», то он заявляет:
«дело обстоит как раз наоборот».
Можно возразить: того, что и так совершается по
необходимости природы, нет надобности требовать. Но при
двусмысленности того, что такое природа и необходимость, а именно -
либо лишенная сознания необходимость неадекватных идей,
либо же осознанная необходимость адекватных идей,
заключается основа парадоксальных утверждений. Ибо Спиноза
требует искать того полезного, «что действительно полез-
ho»xciv, не жаждать вслепую, но хотеть того, «что
действительно ведет человека к большему совершенству», не полагать с
расчетливостью конечных целей в качестве предельной цели,
но только сам разум и то, что открывается и актуально
познается разумом.
Спиноза утверждает этот этос тремя путями: во-первых, он
показывает методы, дает наставления и устанавливает
правила жизни, - во-вторых, он снова и снова напоминает, что
всякая истина имеет своей основой достоверное знание бога и
соотнесена с ним, - в-третьих, он рисует образцовую картину
разумной жизни.
1. Методы и правила жизни
Необходимо «знать как способность, так и неспособность
нашей природы, дабы иметь возможность определить, на что
способен разум в обуздании аффектов и на что нет»хс\
Иллюзорно могущество разума (стоики, Декарт), который желает
поставить в зависимость от себя аффекты и страсти на
основании прочно установленных суждений. Противоядие состоит не
в подобном насилии. Что действительно эффективно - это
можно определить только «на основе познания душ».
Спиноза показывает: Аффект, который есть страсть,
перестает быть страстью, как только мы составляем о нем ясную и
отчетливую идею; «аффект тем больше находится в нашей
власти, и душа тем меньше от него страдает, чем большим мы
обладаем его познанием»*™. Во власти каждого человека -
пусть и не безусловно, но хотя бы отчасти ясно и отчетливо
познавать себя и свои аффекты, а следовательно, делать так,
чтобы он меньше страдал от них. Поэтому нам следует
позаботиться преимущественно о том, чтобы, насколько это воз-
250
VII. Рабство и свобода души
можно, ясно и отчетливо познавать каждый аффект. Все
влечения и вожделения являются страстями лишь постольку,
поскольку возникают из неадекватных идей, и все они засчиты-
ваются нам в добродетель, как только в нас возбуждаются или
создаются адекватные идеи. В душе нет никакой другой силы,
кроме способности мыслить и образовывать адекватные идеи.
С течением времени адекватные идеи берут в ней верх над
неясными идеями аффектов.
Когда я мыслю, я становлюсь господином своих аффектов
при помощи допускающих четкое описание методов:
Аффект побеждает меня, если вся моя способность
представления прикована ко внешней причине, с которой я
соотношу себя. Я освобождаюсь, если я «отделяю аффект от мысли
о внешней причине и связываю с другой мыслью». Тогда во
мне угасают любовь и ненависть ко внешней причине.
Меня затрагивает случайность. Того, что со мной
приключилось, могло бы и не происходить. Но, поскольку я познаю
вещи как необходимые, я меньше страдаю от своих аффектов
и обретаю власть над ними. Тогда «печаль об утраченном
благе, уменьшается, как только человек, потерявший это благо,
подумает о том, что его никоим образом нельзя было
сохранить».
Я не был подготовлен. Внезапно на меня обрушивается то,
что оскорбляет, пугает меня, приводит в гнев. Чтобы
защититься от него, мне нужно привести в порядок свои аффекты,
то есть наметить правильный образ жизни или известные
запечатлеть эти правила в своей памяти, постоянно применять
их к происходящим в опыте случаям, чтобы они во всякое
время были перед нашими глазами и оказывали влияние на наш
способ представления вещей.
Например, жизненное правило: побеждать ненависть
любовью или великодушием, а не мстить за нее ответной
ненавистью. Чтобы это правило во всякое время было перед моими
глазами, мне нужно продумывать обычно встречаемые от
людей оскорбления, часто размышлять о них и о пути, как мне
лучше всего отвести их великодушием. Тогда в случае, когда
мне встретится известное оскорбление, это правило сразу же
будет у меня перед глазами. И так гнев по причине
оскорбления, ненависть, боязнь опасностей и все прочие аффекты,
благодаря постоянному упражнению в размышлении о себе,
251
Спиноза
встретят подготовленный и упорядоченный дух. Аффекты не
прекратятся, но будут занимать меньше места, и их легче
будет преодолевать.
Спиноза приводит множество жизненных правил (в
значительной их части - из философской, в особенности стоической,
традиции). Он признает, что «выдающиеся люди [... написали]
много прекрасного о правильном образе жизни», и он им
многим обязан. Приведем лишь небольшую выборку из множества
его жизненно-практических наблюдений и наставлений:
Он говорит нам о чувственной любви, о браке, о деньгах,
всегда положительно, отводя безмерности и все противное разуму,
Мы слышим: «Свободный человек столь же велик в
избегании опасностей, как и в их преодолении»*™'.
Среди невежд свободный человек старается, насколько
возможно, отклонять от себя их благодеяния. Ибо только
свободные люди бывают вполне благодарны друг другу·
Благодарность между людьми, руководящимися слепым желанием -
это большей частью торговая сделка.
Побеждай ненависть любовью, а не мсти за нее ответной
ненавистью. Ибо тот, кто побеждает любовью, за тем
побежденные с радостью следуют, так как их силы увеличились.
Душевные движения, которые обыкновенно ценятся весьма
высоко, Спиноза осуждает: Сострадание само по себе дурно и
бесполезно. Мудрец стремится к тому, чтобы сострадание не
трогало его душу, ибо это - более слабый аффект. Однако,
согласно чистой заповеди разума, он пытается, когда помогает,
делать то, о чем он знает, что оно добро. Не сострадай никому,
но действуй хорошо! Но он прибавляет: «Я говорю здесь
только о человеке, живущем по руководству разума. Ибо кто ни
разумом, ни состраданием не склоняется к оказанию помощи
другим, справедливо называется бесчеловечным». - Смирение -
не добродетель, ибо оно не происходит из разума и ослабляет
нас. - Раскаяние - не добродетель, скорее, тот, кто
раскаивается в своем поступке, вдвойне слаб и бессилен.
Быть может, характернее всего для Спинозы - его
рассуждения о положении: Хорошо то, что приносит радость.
Упорядочивая свои мысли и образы представлений, нам следует,
насколько возможно, всегда обращать внимание в каждой
вещи только на добро, чтобы всегда определяться к действию
аффектом радости.
Брань, обвинения, презрение не только нимало не
помогают, но следуют из незамеченного искажения. Именно често-
252
VII. Рабство и свобода души
любивый человек, не достигший успеха, бранит суетность
мира. Отвергнутый своей возлюбленной бранит непостоянство
женщин, но сразу же забудет все это, как только девушка снова
примет его.
Жалобы и обвинения тех, кого постигла злосчастная
судьба, - это выражение бессильной души. Поэтому тот, кто желает
свободы, старается наполнить душу той радостью, которая
возникает из верного познания добродетелей и их причин; он
отнюдь не станет тратить свои силы на рассмотрение
человеческих ошибок, унижение людей и довольство ложной
видимостью свободы. Он будет остерегаться исчислять ошибки людей
и будет лишь скупо говорить о человеческом бессилии.
Однако хорош только радостный дух, который есть самый
разум. В зависимости от сущности людей и положений радости
бывают весьма различны, как, например, радость, которой
руководствуется пьяный, отлична от радости, которую
переживает философ. Эта последняя радость - высшая цель. «Если бы
состояние радости привело человека к тому высшему
совершенству, что он адекватно постигал бы самого себя и свои
действия, то он был бы столь же способен, а может быть, еще
и намного способнее к тем же самым действиям, к которым
теперь он определяется аффектами». «Чем в большее
удовольствие мы приходим, тем к большему переходим совершенству
и тем более, следовательно, мы причастны божественной
природе».
Утверждению единственной ценности радости противостоит
суеверие, согласно которому: хорошо то, что приносит печаль.
Но никто, если только он не завистник, не радуется моему
бессилию и моему беспорядку. «Только мрачное и печальное
суеверие запрещает веселиться. Ни одно божество не вменяет
нам слез и страха в добродетель. Наоборот. На всех ступенях
существования нам должно радоваться. Мудрому человеку
подобает с умеренностью подкреплять и укреплять себя
вкусными блюдами и напитками, красивым видом зеленеющих
растений, украшениями, музыкой, физическими играми,
театрами».
2. Все истинное соотносится с богом
В философском отношении напрасна всякая практика
жизни, если она в конечном счете не имеет своим истоком досто-
253
Спиноза
верное знание бога. Поэтому наставлений, методов, правил
жизни, рецептов и программ - недостаточно. Правда, они
возможны, как указание «правильного» поведения, однако это
последнее обретает смысл и силу только при условии этой
глубинной основы. Поэтому невозможно было бы совладать со
своими аффектами в смутном состоянии души при помощи
формальной свободы, единственно лишь на основе
психологического познания, как будто мы имеем в своем распоряжении
себя, как некий аппарат, и как бы механически пользовались
им, чтобы он работал желательным для нас образом.
У Спинозы повторяется следующий ход мыслей: «Конечная
цель руководствующегося разумом человека, то есть его
величайшее желание, состоит в том, чтобы адекватно
представлять себя самого и все вещи, могущие стать объектами его
постижения». Адекватно представлять - значит представлять по
третьему роду познания. А из этого рода познания с
необходимостью возникает духовная любовь к богу (amor dei intellec-
tualis), или вернее, это познание само и есть эта любовь -
«удовольствие, сопровождаемое идеей о боге, как его
причиной»^1". Поэтому высшее счастье - это «познание бога,
ведущее нас только к тем действиям, которые внушаются любовью
и благочестием»ХС1Х.
Достоверность и сила сознания действительности бога,
всеобъемлющей, всепроникающей действительности, всегда
предстоящей перед взором того, кто всего лишь не замыкается
от нее, имеет непосредственные следствия для каждого дня
нашей жизни. Поскольку бог есть, действителен, как бы сам
собою, без всякого насилия, также и этос жизни.
Все наши философские старания направлены к тому, чтобы
достигнуть этой достоверности и чтобы вновь и вновь
достигать ее, если мы однажды выпадаем из этой достоверности.
Постоянно размышляя и направляя себя только в эту сторону,
душа «может сделать так, что все аффекты тела или образы
представлений о вещах будут соотнесены с идеей бога»с. И
эта сила богопознания и любви к богу «будет поддерживаться
в душе тем более, чем более мы, люди, представляем себя
связанными с богом одним и тем же союзом любви».
3. Проект разумной жизни
Свобода от целей: Бытие присутствует в настоящем
целиком, оно как любовь есть вечное настоящее, его можно найти и
254
VII. Рабство и свобода души
следует ожидать встретить не где-либо еще, в некоем
потустороннем мире.
Поэтому разум в третьем роде познания действует не как
средство для некой цели, но сам он является целью:
блаженство в нем, как amor intellectualis dei. Он не служит ничему
иному, не находится в пути к нему, а всегда уже прибыл к цели.
Это имеет решающее значение для содержания истинной
добродетели: «Блаженство не есть награда за добродетель, но
сама добродетель»01. Поэтому к разумной, нравственной жизни
надлежит стремиться ради нее самой, а не ради чего-то
другого. Добродетель уже не есть более добродетель, если она
понимается как средство для чего-то другого. «Нет ничего лучше
нее и полезнее для нас, ради чего должно было бы к ней
стремиться»011. Низведение ее на степень средства для получения
награды или принуждение к ней при помощи угрозы
уничтожает ее самое. И то и другое ложно. «Бог не дает людям законов,
чтобы награждать и наказывать их». Поэтому весьма далеки от
истинной оценки и действительности добродетели те, кто
ожидает, что будет отмечен богом за свои добрые поступки «как за
величайшие услуги» величайшими наградами. Они ведут себя
так, «как будто бы сама добродетель и служение богу не были
самим счастием и величайшей свободой»01".
Свобода от целей есть обосновывающий круг в сфере
нравственности, как в мышлении о боге он же есть causa sui.
Активность и спокойствие (Gelassenheit): Возможного
мудреца Спиноза учит жить всецело у бога и всецело же -
в мире. «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как
о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти,
а о жизни»0,\ Он не определяется страхом смерти, но желает
хорошо действовать, хорошо жить и сохранять свое бытие.
Основная установка такова: видеть все вещи, события,
самого себя как необходимые, неизменные в своей вечной
сущности, хранить покой в этой необходимости. Эта установка
есть активность, совместное осуществление своего
существования в качестве модуса со знанием его феноменальной
необходимости (erscheinende Notwendigkeit), наблюдая за ним и
превосходя его. У Спинозы мысль об абсолютной
необходимости только усиливала активность сознанием того, что в этой
активности мы совершаем само необходимое. Правда, нема-
255
Спиноза
лое различие состоит в том, что мыслят здесь под именем
необходимости (в кальвинизме и в марксизме - нечто
совершенно иное, чем у Спинозы).
Таким образом, созерцание необходимости имеет своим
следствием активность, и одновременно - спокойствие: ведь
то, что есть бедствие, глупость, крах, что мы переживаем
в собственной гибели, - все это необходимо; поэтому
противника, и низкого человека, и человека, слепо заблуждающегося,
здесь не бранят. Не остается ни ненависти, ни презрения.
Разумному познанию во всем открывается необходимость.
Эта последняя в полной мере ясна для свободного от
ценностей познания в мире, насколько достигает в том или ином
случае это познание, и метафизического сознания. Если затем
в человеческом существовании приходится принимать
решения, а значит - оценивать и делать выбор, то этот акт модуса
не отменяет свободной от всех оценок установки. Скорее, само
оценивание переживается как некий момент полной
необходимости. Это свободное от ценностей познание оказывает свое
действие в поведении разумного существа: в угасании
возмущения, гнева и насилия, - в терпении и зрячем ожидании, -
в признании необходимости во всех ее формах, даже и
необходимости чуждого, противного разуму существования.
Основным строем души становится невозмутимость (Gleichmut).
Невозмутимость: Сила человека ограничена, и сила
внешней причины намного ее превосходит. «Внешние причины
разными способами движут нас, и мы колеблемся туда и сюда,
как движимые противоположными ветрами волны моря, не
ведая своего исхода и своей судьбы».
Это состояние модуса неустранимо. Но философия «учит,
как мы должны относиться к велениям судьбы или к тому, что
не в нашей власти: а именно, невозмутимо ожидать и выносить
оба лика судьбы». Стремление философии заключается в том,
чтобы «сделать нас не столь зависимыми от надежды,
освободить нас от страха, повелевать судьбой, насколько это в
наших силах».
Это происходит, если мы регулируем наши действия, и
наше мышление, и наши представления согласно
«определенным советам разума». Тогда мы невозмутимо сносим то, что
случается с нами вопреки нашей пользе, если сознаем, что мы
256
VII. Рабство и свобода души
совершили то, что должны были совершить, и что сила,
которой мы обладаем, не могла быть достаточной для того, чтобы
наделить нас способностью избегнуть этого злосчастья.
Решающий момент здесь в том, чтобы мы были всецело
проникнуты знанием того, что «все вытекает из вечного
определения бога с той же необходимостью, как из сущности
треугольника следует, что три угла его равны двум прямым»™.
Познание не требует ничего, кроме того, что необходимо; воля не
желает ничего, кроме того, что необходимо. Поэтому
стремление «лучшей части нашей самости» согласуется с порядком
всей природы. Ибо «все, чего бы ни достигал человек, который
есть ведь часть природы, ради себя самого, для своего
самосохранения, все это совершает для него единственно лишь
могущество божие, действующее отчасти через человеческую
природу, отчасти же через внешние вещи». Высшее счастье
состоит в согласии с божественной необходимостью.
Что такое эта необходимость, мы высказали в изложении
метафизического видения Спинозы, как трансцендирование
при помощи категории необходимости за пределы этой
категории в абсолютную необходимость. Необходимость, познание
которой доставляет невозмутимость души, означает то же
самое. Следуя путеводной нити относительных необходимостей
доступного констатации природного процесса и политических
событий, мы выслеживаем тотальную необходимость процесса
всех вещей в боге. Познанные законы природы могут служить
метафорой абсолютной необходимости. Только в качестве
такой метафоры относительная необходимость дает успокоение
(например, благодаря медицинскому знанию необходимости в
опасной для жизни болезни). Но абсолютная необходимость
есть для Спинозы бытие божие, субстанция, а не само
представление о процессе природы или о ходе истории.
Постижение этой необходимости рождается из силы души
(fortitudo): окрыляющие, могучие, деятельные аффекты. Силу
души Спиноза называет силой воли (animositas), а именно
[стремлением] сохранять свое бытие только в согласии с
заповедями разума, и благородством (generositas), а именно -
[стремлением] поддерживать своих ближних и соединяться
с ними узами дружбы только в согласии с заповедью разума.
Сильный душой человек никого не ненавидит и никому
не завидует, никого не бранит, никем не возмущается, никого
257
Спиноза
не недооценивает и вообще не бывает высокомерен. Он знает,
«все, что он считает за тягостное и дурное, далее, все, что ему
кажется нечестивым, ужасным, несправедливым и
постыдным, - все это возникает вследствие того, что он представляет
вещи совершенно смутно, искаженно и спутанно»™. Перед его
постижением необходимости эта спутанность исчезает. Тогда
он «поистине не найдет ничего достойного ненависти, смеха
или презрения, не будет никому сострадать, но будет
стремиться, насколько в его силах, поступать хорошо и радоваться»CVM.
4. Характеристика
От стоического равнодушия, которому мышление Спинозы
могло бы показаться родственным, эта основная установка
отличается содержанием достоверности бога, настолько далекой
от стоической, как разум Спинозы в третьем роде познания
(scientia intuitiva) далек от рационального стоического разума,
и как самоутверждение точечного абсолютного самобытия у
стоиков далеко от самоутверждения спокойного позволения-
быть у Спинозы.
Кроме того, сравнительно со стоиками, Спиноза
совершенно лишен порывов. Здесь нет наставлений усмирять себя
и властвовать собою. Подобное насилие он признает, во-
первых, неэффективным (аффект может быть побежден
только другим аффектом), а, во-вторых, он видит пагубные,
противные природе последствия принуждения. Разум заставляет
аффект исчезнуть, не борясь с ним. Поэтому наставления
Спинозы направлены только на то, как сделать действенным
познавание. Он знает, что с этими наставлениями он ходит по
путям естественной необходимости. В Спинозе нет ничего
мучительного, ничего упрямого, ничего принуждающего. Скорее,
в нем вырастает настроение спокойного признания всех
вещей, по ту сторону добра и зла.
Мышление Спинозы невозможно отождествлять также и с
кантовским нравственным требованием разума. Спиноза
отрицает, что в самом разуме возникает безусловное
требование, как повелевающая сила. Поэтому Спиноза хотя и знает
правила жизни, но не знает безусловных императивов,
запретов, повиновения познанному нравственному закону и
самоизнасилования, проистекающего из этого повиновения. Там, где
разум обретает светлость, там, согласно Спинозе, нравствен-
258
VII. Рабство и свобода души
ность вырастает сама собой, по закону природы, потому что
закон, как закон божественный, тождествен с этим разумом.
То, как Спиноза понимает Христа, характеризует его
собственную философию. Он полагает, что Христос обладал
совершенством, каким не обладал никакой другой человек. Ему,
«без слов и образов», был «непосредственно открыт
божественный план спасения». Он «поистине познал переданные в
откровении вещи. Ибо вещь познается там, где она чисто
представляется душой, без слов и образов. Итак, Христос
истинно и адекватно представлял себе переданные в откровении
вещи». Однако он, «без сомнения, учил о вещах как о вечных
истинах, а не предписывал их, как законы».
Если Спиноза пишет: «Может случиться, что бог столь ясно
запечатлел в ком-либо свою идею, что этот человек из любви к
богу забыл бы мир, и что он любил бы других людей, как
самого себя», то он, очевидно, думает здесь о Христе.
Историки полагали, что Спиноза противоречит своей
собственной философии, когда так говорит о Христе. Отнюдь нет.
Во-первых, в том же контексте мы находим также повторение
слов о том, что он не понимает учения Церкви о Христе как
Сыне Божием. А сразу затем - постоянно повторяющееся
рассуждение: Если бога описывают как законодателя или владыку
и называют справедливым, милосердным и т.д., то это
делается «согласно способности народа вместить». В
действительности бог действует лишь в силу необходимости своей природы и
своего совершенства. «Его советы и волевые акты - это
вечные истины, и они всегда заключают в себе необходимость».
Там, где Спиноза недвусмысленно и намеренно, а тем
более в конкретной политической ситуации, приноровляется к
«способности понимания толпы», это бывает отчетливо
заметно. Но его почтение ко Христу - это не только такое
приспособление. Та предшествующая всему прочему достоверность
бога, та любовь к богу и к человеку, которой преисполнен
Спиноза, - все это он узнает в Иисусе, Человеке. То, пусть нечасто
упоминаемое, превосходящее всех прочих людей отличие,
которое он придает Иисусу, выглядит как отождествление
достоверности бога у Иисуса, переживаемой последним
непосредственно, от духа к духу, с философским знанием Спинозы
о боге.
259
Спиноза
Если описываемый Спинозой путь кажется трудным, то его
все-таки, несомненно, можно найти: «Да он и должен быть
трудным», - так заканчивается его книга об этике, - «ибо его
так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у
всех под руками и могло быть найдено без особенного труда,
то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все
прекрасное так же трудно, как и редко»™".
VIII. Религия и государство
Политическое мышление является мотивом уже первого,
утраченного сочинения Спинозы. Он протестовал против
отлучения от синагоги, поскольку оно могло иметь последствия для
его гражданской жизни. С тех пор политическое мышление
сопровождало его жизнь, оно составляет содержание самого
большого, самого влиятельного, опубликованного им самим
сочинения - «Богословско-политического трактата», и еще его
последнего незавершенного сочинения - Tractatus politicus.
Принципы этого мышления таковы:
Человек восприемлет в себя двоякий закон: закон,
происходящий из общности его с богом, и закон, происходящий из его
общности с людьми. Первая общность абсолютно необходима,
а вторая - нет. Потому что закон, в соответствии с которым
человек живет пред богом и с богом, постоянно должен быть у
человека перед глазами; а закон, возникающий из его
общности с людьми в мире модусов, «не столь необходим, поскольку
сам он способен отделяться от людей». Двоякий закон
Спиноза сохранял всегда, чего нельзя сказать о последнем
положении (юноши-мыслителя) о возможности отделения единичного
человека. Ибо, как он познал, для человека нет ничего более
полезного, чем человек. Мы никогда не сможем достичь того,
чтобы не нуждаться в других людях для поддержания нашего
существования. Наш рассудок был бы не столь
совершенен, если бы душа не познавала ничего, кроме самой себя.
Без взаимопомощи люди не могут ни жить, ни образовать свою
душу.
Но эта единственная в своем роде ценность человека для
человека не сразу приводит в обиходе свободной
общительности к желанной цели создания надежной общности.
260
VIII. Религия и государство
Несмотря на свое сходство, люди расходятся друг с другом.
Одно и то же одному кажется хорошим, а другому дурным;
одному упорядоченным, другому спутанным; одному приятным,
другому неприятным. Отсюда поговорки: сколько голов, столько
умов; каждому своя шапка по нраву; у каждого свое
собственное мнение и свой собственный вкус. Это показывает только,
что люди с большей охотой представляют вещи (смотря по
задаткам их мозга), чем познают их (согласно разуму).
Представления разделяют, соединяет только разум. Из впечатлений
способности представления возникают споры, и наконец -
скептицизм, из разума - единодушие и истинное познание.
Поэтому большой импульс, выражающийся в желании
согласиться с другими, оказывается двусмысленным. В сфере
способности представления он порождает нечто
противоположное: «Каждый, насколько он может, стремится к тому, чтобы
все прочие также любили то, что он любит, и также ненавидели
то, что он сам ненавидит. Коль скоро же все одинаково
стремятся к этому, все они одинаково стоят друг у друга на
дороге, и коль скоро все хотят, чтобы все их хвалили или любили,
все впадают во взаимную ненависть». Но в сфере разума этот
импульс достигает своей цели. Разум обретает силу в
общности благодаря тому, что открывает единую, общую для всех
истину.
Для социального обихода имеют силу правила: «Тот, кто
стремится направлять других согласно разуму, тот действует
не насилием, а любезно и дружественно, и совершенно един
с самим собою в душе». Философия учит, «никого не
ненавидеть, не презирать, не высмеивать, никого не бранить и никому
не завидовать», и чтобы каждый человек был доволен своим и
помогал своему ближнему только по руководству разума.
«Люди... не могут желать для сохранения своего существования
ничего лучшего, как того, чтобы все таким образом и во всем
согласовались друг с другом, чтобы души и тела всех
составляли как бы одну душу и одно тело»с,х. Люди, управляемые
разумом, «не чувствуют влечения ни к чему, чего не желали
бы другим людям»сх.
Однако эти правила не являются достаточным
фундаментом для реальной общности. Ибо совместная жизнь людей
редко определяется разумом, но большей частью -
аффективной природой людей, делающих все соответственно своим по-
хотям. Поскольку разумные люди находятся в исчезающе
малом меньшинстве, разумный человек понимает, что для всех
людей - как для разумных, так и для неразумных и противо-
261
Спиноза
разумных - совершенно необходимо государство. Ибо только
оно имеет в своем распоряжении всю полноту власти,
способной укротить своевольную силу произвола отдельных людей.
Выгода от состояния упорядоченной в форме государства
общности намного больше, чем сопряженный с ним вред.
«Поэтому пускай сатирики... осмеивают дела человеческие... пусть
меланхолики превозносят... жизнь первобытную и дикую...
и приходят в восторг от животных, - опыт все-таки будет
говорить людям, что... они... только соединенными силами могут
избегать опасностей»"1. Поэтому отказаться от государства
было бы столь же глупо, как глуп поступок мальчика, который,
слыша упреки от родителей, бежит из дома, уходит в солдаты
и скорее готов выносить гнет тиранического господства, чем
домашние неудобства и родительские увещевания. Разумно
будет, скорее, равнодушно принимать оскорбления от людей и
от государства и с усердием заниматься тем, что служит для
создания дружбы и согласия. «Человек, руководствующийся
разумом, является более свободным в государстве, где он
живет сообразно с общими постановлениями, чем в одиночестве,
где он повинуется только самому себе»сх".
Как раньше по отношению к судьбе, так теперь в отношении
к государству Спиноза требует, на первый взгляд, взаимно
противоречивых вещей: во-первых, признать его в его
необходимости, а потому также без страха выносить его, как
необходимость, а во-вторых, начертывать образцы и
представления о наилучшем государстве, а тем самым и о том
наилучшем, что представляется в конкретной ситуации, чтобы
действовать в соответствии с ними. Поэтому Спиноза
заявляет, что его философия имеет «немалую пользу для
государственной общности, поскольку она учит, каким образом
следует править гражданами и управлять ими, а именно так, чтобы
они не служили как рабы, но добровольно делали наилучшее».
Необходимости познанной последовательности событий
(порядка событий в мире модусов) противостоит свобода
действующего человека, однако противостоит она ей так, что обе
они заключены во всеобъемлющую божественную
необходимость.
Таким образом, эта философия желает внести разум в
государственную жизнь, причем сделать это, познавая в мире
модусов то, что здесь происходит, чтобы на этой основе найти
262
VIII. Религия и государство
образцы, которыми целесообразно будет руководствоваться
в своей деятельности, в законодательстве, в оформлении
институтов.
При этом следует провести одно различие: Конечная цель,
как для государственной жизни, так и для индивида,
однозначно ясна: чтобы возможно большее число людей, в
совершенстве разума, вели жизнь философов в достоверности познания
бога. Образцы, однако, не столь однозначны. Ибо в реальных
отношениях государств при их постоянной подвижности есть
много относительно устойчивых форм; и исчерпать
бесконечность здесь возможно нисколько не более, чем в конкретном
познании природы. Образцов много, однако они относительны,
и ни для одного из них практически недостижимо совершенство
исполнения. Путей к лучшему существует много. Положения и
учреждения, которых необходимо достичь, двигаясь по этим
путям, следует намечать идеально-типически, по мерками
устойчивости, безопасности, свободы, как постижимые каждая
сама по себе необходимости (это Спиноза попытался сделать
в своем последнем политическом сочинении).
Религия играет в государстве столь значительную роль, что
после первоначально самостоятельного раскрытия
необходимых аспектов государственной жизни она вскоре становится
у Спинозы средоточием рассмотрения. Отсюда заглавие его
основного сочинения - «Богословско-политический трактат».
Здесь опять-таки возникает мнимая противоречивость,
а именно - между чисто философским и
богословски-политическим мышлением Спинозы. Ибо, если он мыслит
политически и трактует здесь происхождение религиозного авторитета,
в особенности Библии, то он говорит не в пространстве
философской метафизики вечно-необходимого, а в пространстве
совместного существования людей, то есть в мире
нескончаемого множества модусов, и в частности - в ситуации
Голландии его времени. Поскольку он движется в различных сферах
познания, он может - но только на первый взгляд - забыть о
своей философии при изложении моментов политической
необходимости, если он участвует теперь в самой религиозной
стихии как живущий политической жизнью гражданин.
263
Спиноза
А. Мышление Спинозы о государстве
Действительность государства познается опытом, а не
через чистое понятие. Ибо из понятия о сущности не следует
существование (разве что только из сущности божества), скорее,
действительное бытие и пребывание некоторой вещи
открывается только опыту.
Поэтому «государственные деятели писали о теории
государства гораздо вернее, чем философы». Поскольку у них был
опыт, они учили тому, что «согласуется с практикой». Спиноза
высоко ценил Макиавелли. Он сам не желает дать что-либо
новое, а «только изложить верно и неопровержимо изложить
то, что более всего согласно с практикой».
Исходным пунктом служит опыт о свойствах человеческой
природы. Этот опыт учит нас: Люди, в их подавляющем
большинстве, руководствуются не разумом, а страстями. Каждому
хотелось бы, чтобы другие жили так, как угодно ему; поэтому
люди вступают в споры друг с другом и пытаются по мере
своих сил взаимно подчинить друг друга. Они сострадают
несчастным и завидуют счастливым, но более склонны к
мести, нежели к состраданию. «Хотя все убеждены, что учение
религии противоположно этому [и гласит], что каждый должен
любить своего ближнего, как себя самого, тем не менее это
убеждение не имеет никакой власти над аффектами». Оно
дает о себе знать на смертном одре, когда болезнь уже овладела
нашими страстями и человек лежит без сил, или в церковном
культе, «где люди лишены отношений друг к другу, однако
нисколько не проявляется в суде или при дворе». Хотя разум
способен на многое в деле усмирения аффектов, но путь
разума чрезвычайно крут. Он столь же прекрасен, как и редок.
Поэтому тот, кто полагает, что «толпу или людей, занятых
государственными делами, можно было бы привести к тому,
чтобы они жили только по предписанию разума».
Опыт учит, далее, что люди чрезвычайно отличаются друг
от друга. Есть варварские и рабские народы (турки), и есть
народы, любящие свободу (голландцы).
264
VIII. Религия и государство
а) Основоположения необходимости государственной жизни
1. Принципы естественного права Спинозы
Во-первых: Принцип таков: Все сущее, а значит, также и
человек, желает пребывать в своем бытии, а потому
утверждаться против угроз и сопротивления. Что существует и
утверждается, имеет силу (Macht). Его сила - это его право.
Во-вторых: Необходимость, в соответствии с которой
нарастает и убывает сила, Спиноза называет естественным
правом. Обыкновенно естественным правом называется
совокупность норм, имеющих силу для людей в любом их
состоянии, даже если эти нормы не соблюдаются. Но Спиноза имеет
в виду действительность фактических событий. Игнорируя
смысл этих идеальных значимостей, Спиноза говорит: Чем
больше силы, тем больше права; где нет силы, там нет и
права. Но природная сила сама есть закон необходимости.
Право - не долженствование, оно само есть нечто сущее. «Под
естественным правом я понимаю сами законы природы или
правила, согласно которым все происходит. Право также и
каждого отдельного индивидуума простирается настолько же,
насколько простирается его сила. Стало быть, то, что индивид
делает вследствие законов своей природы, то он делает с
самым полным естественным правом».
В-третьих: Разум есть сам по себе самая могучая сила.
Его бессилие состоит только в том, что он столь редок среди
людей. Однако он не совершенно бессилен. Порядок
государства трактует как страсти, так и разум, как факторы, из которых
первые столь намного могущественнее вторых только ввиду их
фактического распространения. Естественны оба фактора.
В этом месте не следует признавать никакого различия «между
желаниями разума и желаниями, происходящими из других
источников».
У автора написано так: «Если бы люди повиновались
только заповеди разума, тогда естественное право, в той мере,
в какой его следует рассматривать как свойственное
человеческому роду, определялось бы только силой разума. В
действительности люди подвластны слепому вожделению, а
потому их естественное право должно определяться не разумом,
а всяким влечением, побуждающим их к деятельности».
265
Спиноза
В-четвертых: Происхождение государства следует
понимать как обусловленное законами природы, а не вследствие
разумного плана. Поскольку все люди создают какое-нибудь
государственное состояние, «причины и естественные
основания государства не следует хотеть выводить из положений
разума, но их необходимо почерпать из всеобщей природы
и свойств человека». Эта природа такова: Люди от природы
враги друг другу в зависти, гневе и ненависти. Мой злейший
враг тот, кого мне более всего следует бояться. Напрасно
человек стремится обороняться в одиночку против всех. Поэтому
естественное право отдельного человека, коль скоро оно
определяется его силой, равно нулю. Чем больше у него
оснований для страха, тем меньше у него силы, и тем меньше
права. Но чем более люди соединяются друг с другом, тем
больше у них силы, а потому и права.
Отсюда следует: О естественном праве, как свойственном
человеческому роду, речь, собственно говоря, может идти
только там, где люди сообща обладают правами, где они
охраняют населяемую и возделываемую ими землю от всякого
насилия и могут жить согласно общей воле всего сообщества.
Там «все следуют, так сказать, одному духу».
В-пятых: В этом государственном состоянии индивид
имеет «лишь ровно столько же права на природу, сколько ему
предоставляет общее право». Он подчинен «согласной воле
всей совокупности». Общее право «обычно называют
правлением». Оно находится в руках того, кто «по согласной воле
всего сообщества заботится об общежитии», а именно имеет
право издавать, толковать и отменять законы, принимать
решения о войне и мире. Это правление может быть
демократией (правление собрания людей, составленное из всего
народа) или аристократией (правление немногих,избранных), или
монархией (правление одного).
В-шестых: Только благодаря государству существуют
законы, которые суть не необходимо принуждающие законы
природы, а законы, требующие повиновения, однако не всегда
встречающие повиновение. «Грех мыслим только в
государстве, где общее право всего государства принимает решения
о добре и зле. Но повиновение - это постоянная воля испол-
266
VIII. Религия и государство
нять то, что добро согласно праву и что должно происходить
согласно постановлению всей общности».
Только благодаря государству существуют договоры,
соблюдения которых добиваются благодаря властным средствам
государства. Однако то, что существует благодаря
государству, не составляет основы государства и не обязывает его.
То, что принуждает гражданина государства, не принуждает
само государство. Поэтому взаимный договор и обещание
государств имеет силу «лишь до тех пор, пока не изменится воля
обещающих сторон. Кто обладает силой для того, чтобы
отменить свое обещание, тот поистине не отказался от своего
права, а дал только одни лишь слова. Как только он, будучи по
праву природы судьей самому себе, решает, что из обещания
ему происходит больше ущерба, нежели пользы, тогда он по
собственному усмотрению решает, что обещание следует
отменить». Он отменяет его по праву природы (иначе действует
тот, кто живет согласно правилам разума; он держит свое
обещание, даже если его не принуждает к тому никакое
насилие). Государство, ради себя же самого, вынуждено
поддерживать страх и уважение к себе. Однако служащие для того
правила относятся не к области гражданского права, а к области
права естественного. Страх и уважение поддерживаются
только правом войны. Государство, «чтобы оставаться свободным,
не нуждается в том, чтобы сообразоваться в своем поведении
с кем бы то ни было, кроме самого себя, и ему не надобно
считать добром и злом ничего более, кроме того, что оно признает
для себя добром и злом».
Та же самая полная несвязанность законом и договором
существует, согласно праву природы, также и в отношении
государства к своим гражданам. Государство не связано тем,
что обязывает каждого гражданина. «Договоры или законы,
посредством которых толпа переносит свое право на собрание
совета или на одного-единственного человека, следует
нарушать, как только того требует общее благо».
Но кто может это решать? «Суждение об этом не
принадлежит никакому частному лицу». Обладатель
правительственной власти один лишь остается истолкователем законов,
которые «фактически не обязывают его».
267
Спиноза
2. События государственной жизни
Допускает ли естественное право произвольное
употребление силы по собственному усмотрению? Оно не допускает и не
воспрещает, а только позволяет следствиям каждого действия
получить действенность. Нарушения договора и закона
позволены согласно тому же естественному праву, которое
привязывает к неправильному образу действия умаление силы или
уничтожение государства как его последствия. Нарушив
договор или закон, «преступник» может иметь долговременный
успех, в таком случае согласно естественному праву он прав.
Вследствие этого нарушения он может погибнуть, в таком
случае он неправ. Государство связано теми же самыми
правилами, что и человек в естественном состоянии. Однако в нем
неумолимо действует правило: «не быть врагом самому себе».
Уничтожение силы - это наказание естественного права за
произвольное ошибочное употребление силы. Так, нарушение
договоров и закона государством ослабляет силу государства,
превращая общий страх большинства граждан в возмущение.
«Но тогда, именно вследствие этого, государство распадается.
Поэтому обладателя правительственной власти к соблюдению
условий договора не обязывает никакая другая причина, кроме
того, что человек в естественном состоянии не вправе сам
готовить свою смерть». То, что сила равняется праву, означает,
что действия, имеющие следствием умаление силы, приводят
также и к утрате права. «Таким образом, государство
совершает преступление, если оно делает или дозволяет то, что
может быть причиною его гибели. В таком случае мы называем
это «преступлением» в том же смысле, в котором философы
или врачи говорят о природе, что она допускает погрешность.
В этом смысле мы можем говорить о государстве, что оно
совершает преступление, если оно делает нечто вопреки
заповеди разума».
Ибо, поскольку признак силы есть длительность и
постоянство, сиюминутная власть может вводить в заблуждение.
Устойчиво и прочно только государство, руководимое разумом.
Только разум создает постоянное, страсти же создают
переменчивое. Как разум добивается влияния в государстве? Люди
отнюдь не разумны, и само государство как таковое также
отнюдь не разумно. Только страх пролагает дорогу для разума.
268
VIII. Религия и государство
Отсюда благоприятное действие для вразумления государства
всего того, что осуждает философский разум: смирения,
раскаяния, почтения к пророкам.
Разум требует мира. Но только мотивы устойчивости и
надежности государственной власти вынуждают желать мира.
«То государство долговечнее всех, которое может только
защитить приобретенное им, но не может жаждать чужого,
и которое поэтому стремится любым путем предотвратить
войну, со всяким усердием стремится сохранить мир».
Чтобы государство стало разумным, недостаточно, чтобы
один руководитель государства (как один из добрых римских
императоров) правил разумно. Если один человек разумно и
добросовестно управляет государством, то, коль скоро оно
зависит от этого одного человека, оно благодаря этому еще
отнюдь не может быть устойчиво. Чтобы суметь сохраниться, оно
«должно быть упорядочено так, что те, кому доверено
управление им, вообще не могут оказаться способными к тому, чтобы
действовать бессовестно или дурно, совершенно безразлично,
следуют ли они разуму или аффекту. Безопасность государства
не страдает от того, какое умонастроение побуждает людей к
правильному порядку управления, если только управление
правильно. Ибо свобода или сила духа - это частные добродетели.
Безопасность же есть добродетель государственная».
К разуму государство принуждает сама страсть, желающая
постоянства и безопасности собственной своей силы. Однако
разума как такового не следует ожидать ни у толпы, ни у
руководящих политиков. Ибо как та, так и другие увлекаются
страстями.
Только страх удерживает их в рамках. О положении «Толпа
ужасна, если она лишена страха» Спиноза говорит: Если
думают, будто у толпы нет умеренности, будто она рабски
служит или заносчиво господствует, ужасна, если не знает страха,
то ложно ограничивают «все пороки только низшей частью
народа» и забывают, что природа у всех одна и та же. Все
люди заносчивы, если господствуют, ужасны, если не имеют
страха, и повсюду «истина более всего подделывается
озлобленными и рабскими душами».
То, что безопасность силы, которой жаждет и самая страсть,
вынуждает к осуществлению разума, происходит с необходи-
269
Спиноза
мостью вследствие постоянной напряженности в
государственной жизни: Хотя каждый отдельный человек передал
государству право «жить по своему хотению», одновременно
с «силой для его защиты», - однако «никого нельзя лишить
силы для самозащиты настолько, чтобы он перестал быть
человеком». Поэтому «подданные как бы в силу естественного
права сохранили за собою то, что не может быть отнято у них без
значительной опасности для государства». Как
противогосударственное своеволие индивида ведет ко вмешательству
государственной власти против него, так произвольное насилие
властителей приводит к возмущению народа.
Государство существует не силой одного разума, но силой
своей действительности, заключающейся в истоке его
становления. Она - та действительность, которая не следует из
понятия о сущности. Мыслимое государство еще не есть
действительное государство. «Поэтому о начале существования
природных вещей и их пребывании невозможно заключить из
их определения. Ибо их мыслимая сущность остается одной и
той же». Но то, что обрело действительность как сила,
нуждается в своем истоке, чтобы продолжать существовать. «Та же
самая сила, которая нужна вещам, чтобы явиться на свет,
нужна им и для того, чтобы пребывать в существовании».
Государственное мышление Спинозы впадает в антиномию.
Во-первых: Природные основы государственности
«недопустимо выводить из положений разума, но нужно черпать их из
общей природы людей». Во-вторых: Устойчивое государство
существует только благодаря разуму, который хотя и не
составляет основы как умонастроение, но к которому все же
вынуждают надобности безопасности и устойчивости силы.
3. Объемлющая необходимость
Естественному праву не противостоит никакая
несправедливость. Все имеет свое право, поскольку оно обладает силой.
Несправедливость существует только на основе
действительности государства как силы, дающей законы. Но все это право
и несправедливость объемлются правом необходимости.
Пусть даже законы даются государствами и возвещаются
пророками, все же все законы существуют могуществом божи-
им. Но право бога, как всеобъемлющая сила, стоит выше
всякого определенного закона и всякого правопорядка. Если мы
270
VIII. Религия и государство
повинуемся государственным законам и законам,
возвещенным пророками, мы никогда не вправе забывать, «что мы
находимся во власти бога, как глина - во власти горшечника».
Это означает: «Человек хотя и может действовать вопреки
советам божиим, начертанным, подобно законам, в нашей душе
или в душе пророков, но никогда не может действовать
вопреки вечному совету божию, начертанному на всей природе и
имеющему силу для порядка всей природы».
Необходимо понять это различие у Спинозы, чтобы не
упустить из виду философский смысл всего его политического
мышления. Что подразумевает Спиноза под «всей природой»?
Он подразумевает natura naturata в ее целокупности, на
которой natura naturans, богом (отсюда «deus sive natura»),
начертано то, что заключает в себе и объемлет все определенные
законы.
В natura naturata, в космосе, проявляются законы природы.
Как богу Спиноза придает бесконечное множество атрибутов,
так и natura naturata он приписывает бесконечное множество
законов. Наше знание этих законов навсегда остается
«фрагментарно, потому что порядок и связь всей природы остается в
наибольшей своей части неизвестен нам». Разве же,
спрашиваем мы, вечно необходимые законы природы тождественны
познаваемым для нас в естественных науках и отчасти
познанным нами законам? Спиноза отвечает: да. Но можно ли
заключить совокупную действительность мира, природу как natura
naturata, в некоторую систему законов? Только для
бесконечного разума бога, но не для нас, говорит Спиноза. Ибо наш разум,
как конечный разум, не может познать бесконечности
действительности мира ни через опыт, ни через свои понятия, тогда
как он вполне способен принципиально и адекватно мыслить
саму бесконечность. Для Спинозы величина всеобъемлющей
природы намного больше, чем познанная нами природа и чем
наш разум, действующий в познавании конечных вещей. Хотя
нашему, познающему в конечных формах, разуму многое в
природе представляется «смешным, противоестественным или
дурным. На самом же деле то, что разум объявляет дурным,
таково не с точки зрения порядка и законов всей природы,
а только с точки зрения законов нашей природы», потому что
мы «желаем видеть все руководствующимся предписанием
нашего разума». Природа «непокорна законам человеческого
разума, имеющим целью только истинную пользу и сохранение
271
Спиноза
человека; скорее, она подчиняется бесконечному множеству
других законов, относящихся к вечному порядку природы в
целом».
Познаваемые конечные законы природы, которые мы
постигаем, описывают нечто, находящееся ниже философского
разума и свободы. Но объемлющий божественный закон вечной
необходимости стоит выше всего того, что мы можем
познавать с определенностью. В нем упраздняется всякое конечное
познание и использование этого познания как средства для
целей, и всякий закон, данный в общности людей в форме
долженствования.
Эту фундаментальную ситуацию Спиноза освещает с
величайшей проникновенностью. «Человек, мудрец ли он или
глупец, есть часть природы». Природа в одинаковой мере объем-
лет и разум, и желание. «Человек, все равно, подчинен ли он
власти разума или только власти желания, всегда действует
по законам и правилам природы, то есть в соответствии с
естественным правом».
Ложно мнение, будто глупцы более путают порядок
природы, чем следуют ему. Прежде всего, ложно мнение, будто
человеческая душа обязана своим возникновением
непосредственному божественному творению, как будто бы человек в
природе - как государство в государстве, совершенно
независим от всех прочих вещей, наделен безусловной силой
самоопределения и правильного употребления разума. Опыт
показывает нам обратное. Иметь здоровый дух точно так же не в
нашей власти, как и иметь здоровое тело. Нам отнюдь не по
силам как жить согласно разуму, так и следовать слепому
желанию.
Богословы говорят, что причина этой слабости происходит
от грехопадения прародителей. Но если первый человек
властвовал своей душой и имел неиспорченную природу, как
же он тем не менее мог пасть? Отвечают: потому что был
обманут дьяволом. Но кто же обманул самого дьявола? Кто мог
повергнуть первое из всех разумных созданий в такое безумие,
что оно пожелало быть больше самого бога? Уж конечно, не
оно само. Как мог первый человек, если он властвовал своей
душой и господствовал над своей волей, дать соблазнить себя
и сбить с толку свою душу? Так нам приходится «допустить,
что не во власти первого человека было правильное
употребление своего разума; скорее, он, точно так же, как и мы, был
подчинен страстям».
272
VIII. Религия и государство
«Ни один человек не властен всегда пользоваться своим
разумом и стоять на вершине человеческой свободы». По
большей части люди следуют вожделению, а не разуму. Но этим
они не нарушают порядка природы, а исполняют ее
необходимость. «Поэтому естественное право столь же мало обязывает
глупого и слабодушного человека мудро устраивать свою
жизнь, как больной не обязан иметь здоровое тело».
Если кратко резюмировать, это базовое знание Спинозы об
объемлющей необходимости бога или природы гласит: Хотя
человек, по конечной и ограниченной мерке своего рассудка,
отдан во власть ужасному для него бедствию, подвержен
тотальному уничтожению, однако он не впадает в хаос слепых
стихий природы. Ибо он не может выделиться из мира и из
бога, пусть даже он и выпадет изо всякого по-человечески
безопасного и спасительного существования. Он всегда в руке
божией, потому что он включен в вечную необходимость,
избежать которой он не может и в которой он всегда находит
себя. То что он и все, что с ним происходит, всегда пребывает
в ней, он знает в философском прозрении. Она угашает его
отчаяние и дает ему покой. Спиноза не жалуется, и он не
обвиняет вещи, как они есть. В нем нет ничего от Иова. Но его
спокойствие происходит не из безразличия иррационалистов
и моралистов, но из любви к богу.
Ъ) Очерк образцов государства
За описанием аффектов в их необходимом движении
следовал очерк мудреца в свободе его разума. За
изложением учения о природе государства следует очерк правильного
государства.
Хладнокровие Спинозы в описании государства, там, где
речь идет о фактическом и необходимом, соединяется со
сдержанным энтузиазмом там, где речь идет о разуме и
свободе в государстве. Внутри непрозрачной необходимости
вещей природы философ, мыслящий и желающий политически,
постигает разум (ergreift... die Vernunft). Ибо в целом
мироздания сам разум есть момент всеобъемлющей необходимости
природы. В состав природы входит также и это естественное
стремление разума к самоосуществлению. В государстве он
желает достигнуть наилучшего возможного состояния челове-
273
Спиноза
ческой общности, в котором все люди могут жить и мыслить
свободно при условии признанной общим решением
законности. Там, где есть разум, есть согласие, и только там, где есть
разум, воплощаются все человеческие возможности. Поэтому
Спиноза видит в человеке «не только круговорот крови, но
в первую очередь то, что называют разумом, истинной virtus
и истинной жизнью души».
1. Свобода: Что такое политическая свобода, Спиноза
поясняет следующими наглядными описаниями:
Другого человека имеет в своей власти тот, кто или держит
его в цепях, или, во-вторых, лишил его оружия и средств для
защиты и для бегства, или, в-третьих, внушает ему бежать,
или, в-четвертых, так обязывает его вознаграждением, что он
скорее предпочтет исполнять его, нежели свои желания,
и предпочитает жить более по его усмотрению, нежели по
своему собственному. - Первым и вторым способом властитель
обладает только телом лишенного свободы человека, а не его
душой; но при третьем и четвертом способах он подчинил себе
как душу, так и тело, но лишь до тех пор, пока сохраняется
страх или надежда.
Однако даже при лишении свободы каждый отдельный
человек остается под собственным, лишь мнимо уничтоженным
правом. Как только прекращается страх перед насилием
и надежда на награду, это право вновь начинает действовать.
Под своим собственным правом человек остается благодаря
душе, принадлежащей ему как человеку. Но и эта душа лишь
постольку находится под своим собственным правом,
поскольку она может правильно пользоваться разумом. «Даже
способность суждения может оказаться под правом другого лишь
настолько, насколько другой человек может ввести в
заблуждение нашу душу».
Смысл политической свободы в том, чтобы создать
жизненное пространство для свободы разума. Разум человека уже
и сам по себе есть его свобода и его величайшая сила. «Да,
поскольку сила человека измеряется не столько его
физической силой, сколько силой его души, те люди всех более
находятся под своим собственным правом, кто обладает
наибольшим разумом и более всего ему следует. Постольку я называю
свободным вообще того человека, кто следует разуму».
274
VIII. Религия и государство
Человек бывает тем более свободен и всего более
согласен с самим собой, чем больше он любит бога. Поэтому
«разум учит практиковаться в благочестии и иметь спокойный
и добрый дух». Но это возможно только в государстве.
2. Напряженность между устойчивостью и свободой: Уже
в пределах естественного учения о государстве существовал
критерий правильного государства: его устойчивость. Теперь
цель государства есть свобода. Поскольку же приоритет
принадлежит свободе, смысл критерия устойчивости изменяется.
Существенна не устойчивость сама по себе, а свобода в
устойчивости. Одна лишь устойчивость может быть обманчива.
Спиноза, желающий «не осуждать, не обвинять, не презирать,
не оплакивать», произносит самые решительные суждения,
если речь идет о политической свободе. Там иссякает даже
его, представляющаяся обычно безусловной, миролюбивость.
Ибо может быть устойчивое состояние государства без
свободы. Пример - Турция. «Государство, мирное состояние
которого зависит от трусости подданных, позволяющих вести
себя подобно скоту, чтобы только научиться служить, можно
с большим основанием назвать пустыней, нежели
государством». «Мир - это не отсутствие войны, но virtus,
возникающая из силы души». «Если рабство, варварство и пустыня
должны именоваться миром, то для человека нет ничего
плачевнее мира. Ибо мир состоит не в неподверженности войне,
а в единении и согласии умонастроения».
Однажды Спиноза нарисовал себя в костюме Мазаньелло,
знаменитого в ту пору неаполитанского революционера.
Спиноза, этот мирный, ищущий только согласия, разумный
человек, имеющий свой покой в боге, сознает в себе силу
бунтовщика, если речь идет о свободе, о разумной свободе,
желающей политической свободы.
Движимый этим мотивом, он обсуждает гласность как
условие политической свободы, когда, например, он полагает:
Только тот, кто стремится к безусловному господству,
утверждает, будто интерес государства решительно требует, чтобы
государственные дела велись тайно. Движимый тем же
мотивом, он хвалит Макиавелли, который «стоял за свободу, для
защиты которой он давал также самые благодетельные
советы». Поэтому этот «весьма проницательный муж» показал,
275
Спиноза
«как неблагоразумно действуют многие, пытаясь убрать с
дороги тирана, хотя они и не умеют устранить причин,
превращающих князя в тирана». Но прежде всего Макиавелли хотел
показать, «насколько свободный народ должен остерегаться
того, чтобы безоговорочно доверить свое благосостояние од-
ному-единственному человеку». И по тем же мотивам для него
важно не решение вопроса, является ли монархия,
аристократия или демократия наилучшим государственным устройством,
но только вопрос о том, как можно, в идеально-типической
конструкции образца, мыслить правильное для каждой из этих
форм государства, руководствуясь критерием устойчивости и
свободы.
3. Для кого пишет Спиноза: К кому обращается Спиноза,
когда публикует свои мысли? Кого он хотел бы иметь своим
читателем? Он говорит: «Я знаю, что точно так же невозможно
лишить народ суеверия, как и страха. Я знаю, что постоянство
народа - это твердолобость (Halsstarrigkeit) и что он не
руководствуется разумом, но увлекается к похвале и порицанию
слепым усердием. Таким образом, народ и всех тех, кто
разделяет с ним те же самые аффекты, я не приглашаю читать
этот трактат». Основное богословско-политическое сочинение,
в тогдашней политической ситуации Голландии, было
написано не на голландском, а на латинском языке. Спиноза
обращался к каждому образованному человеку, готовому
пользоваться разумом и обладающему подлинной волей к свободе.
Смысл того, чего уже хотели его читатели, надлежало довести
до самого ясного сознания.
Спиноза и Гоббс
Спиноза, что для него необычно, хвалил Макиавелли, хотя
он заимствовал у него не так много мыслей. Гоббса он не
упоминал, хотя во многих мыслях Спинозы нетрудно узнать мысли
Гоббса. Причина этого может заключаться только в общности
умонастроения с первым и взаимной чуждости умонастроений
со вторым. Сугубо рациональные мысли как таковые - это
средства сообщения, и в своей всеобщности они - всего лишь
формы, прав собственности на которые никто не получает.
Полезно охарактеризовать здесь различие между Спинозой
и Гоббсом.
276
VIII. Религия и государство
Для Гоббса предельный мотив - это гарантия от
насильственной смерти, для Спинозы - свобода. Вследствие этого
меняется смысл всех тех элементов, которые Спиноза
позаимствовал у Гоббса:
Правда, для них обоих цель государства есть охрана жизни.
Но для Спинозы это - не конечная цель. Для него правление
теряет смысл, если люди из разумных существ превращаются
в слепо повинующихся из страха подданных. Ибо конечная
цель государства - не безопасность, а свобода, в которой люди
развивают силы своего тела и души и могут достичь разума.
Разум Гоббса конструирует и рассчитывает условия
безопасности, к числу которых относится абсолютное господство.
Разум Спинозы - это познавание бога и любовь к человеку.
Отсюда для него вытекает в среде учения о природе
государства, которое во многом соглашается с Гоббсом, чуждое Гоб-
бсу целеполагание. Разум Гоббса заинтересован в теории
рассудка, расчетливо и утилитарно создающей гарантии мира.
Преимущественный и объемлющий интерес Спинозы - это
разум, который есть достоверность бога и созерцание бога.
Гоббс не принимает в счет религию, кроме того, что, если
должны быть гарантированы безопасность и мир, право
решения обо всех вопросах культа, догматов, заповедей и запретов
должно принадлежать исключительно государству. Спиноза
сам стоит в ряду религиозной традиции, в качестве подлинного
содержания которой он выявляет философский разум. Гоббс, в
сущности, считает религию излишней. Спиноза объявляет ее
необходимость для лишенной знания, неспособной обладать
философским разумом толпы.
Гоббс считает всех людей равными: каждый может убить
другого; каждый обладает одинаковой способностью мыслить;
путем применения правильного метода мышления каждый
человек становится подобен каждому; между людьми не
существует никаких изначальных различий. Для безопасности в
государстве достаточно хорошо рассчитанного апарата
институтов и законов. Спиноза понимает, что большинство людей,
поскольку они неспособны к философии, нуждаются в том, что
представляет собой не философию, а религию, отличающуюся
от вульгарного суеверия только государственным признанием
или учреждающим государство порядком (государство евреев).
Поскольку есть толпа народа и лишь небольшое число
мудрецов, разум государства следует утвердить на свойствах толпы.
Спиноза, в отличие от Гоббса, видит естественную любовь
народа к свободе, не присущую в одинаковой мере всем наро-
277
Спиноза
дам. Из нее, согласно Спинозе, правильное государство
черпает свою силу. Поэтому он видит неизбежность войны, а в ней
он верит в преобладающую силу свободы. «Высшая награда за
военную службу - это свобода». Уже в естественном состоянии
«каждый человек не ожидает иной награды за свою воинскую
virtus, кроме того, чтобы стать господином самому себе». «На
войне не может быть более почетной и более сильной
претензии на победу, чем образ свободы». «Несомненно, с
наибольшей храбростью духа сражаются те, кто сражается за свой дом
и очаг». С войском, сражающимся за свободу, не сравнится
никакое войско наемников. Поэтому князья хотя и могут
«подавлять народ при помощи военной силы, которую они наняли за
плату», но не должны бояться ничего столь же сильно, «как
свободного народного войска, создавшего своей virtus, своим
старанием и своей кровью свободу и славу отечества».
Гоббс осуждает любое нарушение договора, поскольку его
следствия вредны при любых обстоятельствах. Спиноза
признает такое нарушение как необходимое и совершающееся по
естественному праву, будь то в воле правителей ради блага
государства, будь то в результате народного возмущения,
которое следует оценивать только по его охранительным,
спасительным или разрушительным последствиям. Напротив, он
признает, что мудрец в силу этоса разума не готов нарушать
никаких договоров.
Гоббс видит прогресс в техническом господстве над
природой и рисует поразительно оптимистическую картину будущего.
Спиноза видит господство человека над природой как
осмысленную задачу, но не она попадает у него в фокус внимания.
С одной стороны, будущее меркнет для него перед актуальной
задачей «здесь и теперь» (в Голландии), с другой стороны,
перед вечной необходимостью, не знающей никакой истории.
В. Религия в государстве
Необходимое для свободы в государстве благочестие,
в философском смысле заключающееся в разумной
достоверности знания бога, действительно для толпы как религия, как
«повиновение богу». Мы, люди, безразлично - философы
мы или люди, верующие в откровение, - повинуемся, однако,
двояким образом. Ибо бог открыл заповеди разума или как
говорящие в нас самих (в таком случае философский разум
черпает свою силу в самом себе и сам собою послушен богу), или
278
VIII. Религия и государство
же он открыл эти заповеди пророкам, как законы (тогда они
действуют через требование слепого повиновения).
Со времен античности философы обсуждают политическое
значение религии, ее смысл как силы порядка и ее
упорядочивающую силу для толпы. Было два основных взгляда. Один
взгляд видел в религии технико-политическое средство
происхождения. Критий объяснял религию как изобретение
суверенно мыслящих государственных мужей для того, чтобы
руководить толпой, которой невозможно править только лишь при
помощи внешней силы. Они изобрели ее, как благонамеренный
обман, или просто как средство власти, проникающей с его
помощью в глубину человеческих душ. - Другой основной взгляд
видел в религии общую всем людям и неизменно истинную
почву. Речь идет здесь только о различии ступеней в форме
истины. В откровении установлено нечто такое, что подлежит
разумному усвоению. Мера этого разумного проникновения
определяет собой высоту философии. Так думали, к примеру,
Аверроэс, Маймонид, Гегель.
Спиноза не разделяет ни одной из двух этих позиций. Он
понимает религию как нечто необходимое для толпы. Но сам
он более не принимает в ней участия. Он стоит в отдалении,
с которого, однако, он не отвергает, но признает как
необходимое то, что и не нужно ему самому, и не вызывает у него
симпатии: там, где есть разум, представления испаряются. Силою
разума свободно и надежно происходит то, что в повиновении
веры происходит несвободно и - в силу присущих всякому
суеверию тенденций к раздвоению - ненадежно.
Спиноза цитирует античного историка Курция: «Ничто не
владеет толпой более действенно, чем суеверие». Он
признает властвующую надо всем действительность веры в
откровение в иудействе, христианстве, исламе. Не есть ли и эта вера
тоже суеверие? Спиноза так и говорит. Но он говорит также:
На основании этого откровения выдвигается и через
повиновение отчасти воплощается требование любви и
справедливости. Итак, эта вера практически согласуется с разумом, пусть
даже теоретически она и не обладает его познанием. Поэтому
Спиноза не только критически анализирует религию
откровения, но понимает ее разумное ядро и объявляет ее безусловно
необходимой в строении мирного сообщества.
279
Спиноза
Бедственная сторона суеверия - это фанатическая вражда
многих видов суеверия друг с другом. В религии откровения эта
черта доведена до крайности, она есть в ней, имеющей в себе
все-таки разумное ядро, ее другая опасная, злая сущность.
Политически, согласно Спинозе, ему можно противостоять
только тем, что церкви и священникам не дозволяется иметь
никакого влияния на государство; кроме того, тем, что
производится совершенное отделение богословия от философии.
Богословие учит повиновению вере, философия учит разумному
познанию. Каждая из них оправдана в своей собственной
сфере. Но там, где выдвигаются взаимные возражения, возникает
неисцелимый раздор (Unfriede), потому что здесь нет общей
почвы для дискуссии. Истина философии основана на общих
понятиях, принципиально общим для всех людей (notions
communes), истина богословия основана на Священном Писании.
Первые осознаются при посредстве естественного света,
второе же - через ссылку на сверхъестественное откровение.
Политически-богословское основное воззрение Спинозы
основано на опыте бессилия мудреца. Хотя по природе
мудрец - самый сильный, но число мудрых людей настолько мало,
что они не играют никакой роли в государстве. Ни народные
массы, ни государственные деятели не руководятся разумом.
От платоновской идеи правителей-философов Спиноза
совершенно далек.
Поэтому для образа действий мудреца верно следующее:
чем лучше мы наблюдаем и знаем человеческие отношения,
тем с большей осторожностью мы можем жить среди людей
и тем лучше сможем приноровлять наши действия к их
характеру, насколько разум рекомендует так делать. - А потому для
государства верно, что, понимая условия мира и безопасности,
нам следует признавать религию откровения. Смысл
политического мышления заключается в ограничении целью
государства; исходя из этого мы оцениваем верующее познание
и философию с точки зрения их преимуществ и рисков.
Все это политическое мышление в целом, в свою очередь,
не всеохватно. Государство не есть конечная цель. Его
существование - это только условие раскрытия каждого человека
к возможному для него высшему смыслу. Для этого он требует
себе свободы. Эта свобода включает в себя цель, выходящую
за пределы государства, и одновременно является условием
безопасности и устойчивости самого государства.
280
VIII. Религия и государство
Философское осуждение Спинозой религиозной веры
вполне однозначно. Никаких откровений не может быть. Являет ли
бог себя только через произносимые слова, или
непосредственно, не пользуясь для этого никакой другой вещью? «Через
слова - никогда, поскольку в этом случае человек должен был
бы знать значение слов прежде, чем они были ему сказаны».
Если бог говорит: «Я Яхве, бог ваш», - то человек, чтобы
понимать, должен был бы уже прежде знать без посредства слов,
кто такой бог. Поэтому Спиноза объявляет невозможным,
чтобы бог мог открывать себя человеку через какой-либо внешний
знак. Только intellectus человека должен познавать бога,
поскольку без бога он - intellectus - не может ни существовать, ни
представляться. Ничто так тесно не связано с intellectus, как
сам бог. Для того чтобы открыться человеку, бог нуждается
только в самом себе, однако не нуждается ни в словах, ни во в
чудесах, ни в какой-либо иной сотворенной вещи, ни в
сверхъестественных внушениях.
Если бог становится достоверно известен только в
intellectus, что происходит, если intellectus не задействуется, если он
остается пустым, если в мышлении никоим образом не
происходит удостоверения бога? Опыт учит нас, что у большинства
людей так в самом деле и есть: они привязаны к
чувственности, а потому неспособны иметь бога иначе как в телесно-
осязаемой форме и в представлениях; поэтому суеверие
оказывается психологически необходимым. Опыт учит, кроме того:
люди прибегают к суеверию, как к подспорью в нужде. Если бы
они могли направлять все свои дела по определенному плану,
и если бы счастье было во всякое время благосклонно к ним,
«то они не находились бы во власти суеверия». «В счастливых
обстоятельствах они, даже если сколь угодно неопытны,
обладают богатством мудрости, так что считают за личное
оскорбление, если им хотят дать совет; но в несчастье они не знают,
куда им деваться, умоляют каждого человека дать совет и
следуют ему, пусть даже он совершенно непригоден, и даже -
бессмыслен и авантюрен». Соответственно опыт учит: люди,
«имеющие безмерное желание ненадежных вещей» (как,
например, Александр, завоеватель Азии), когда бывают в
опасности, называют «разум слепым и человеческую мудрость
тщетной; напротив, порождения своей фантазии, сновидения и
ребяческую бессмыслицу они считают ответом божества. К
подобному безумию побуждает человека страх».
Ввиду доступных эмпирическому познанию свойств людей -
как правителей, так и подвластных им - в сфере порядков го-
281
Спиноза
сударственной действительности не следует отвергать ни
откровения, ни чудес, причем не только потому, что их все же
невозможно устранить, но потому что суеверие может принять
такую форму, что его содержание соответствует истине
философии, обретающей действительность через посредство
разума как достоверное знание бога и любовь к ближнему, как
обходительность и единодушие, и потому что таким образом
суеверие или религия пролагает путь к разумному познанию.
Поэтому благочестие возможно не только на пути
философской независимости, но также, и притом для большинства
людей, через повиновение закону, через веру в откровение
в священных книгах.
Однако суеверие, все еще сохраняющее действенную силу
в форме религии, заключает в себе значительную угрозу
общему благу. Ибо оно вынуждает к фанатизму исключительности,
к насилиям, потому что оно - в отличие от единой разумной
достоверности бога, мыслящей единственного бога, - имеет много
обликов. Только разум соединяет, суеверие разделяет.
Этому опять-таки учит опыт. Спиноза описывает
фактическое состояние дел, которое он сам наблюдает: «Благочестие,
вечный бог и религия существуют в абсурдных тайнах, и тот,
кто в корне презирает разум и отвергает рассудок, как
испорченный по природе своей, и испытывает к нему ненависть, тот,
по чрезвычайной несправедливости, считается просвещенным
богом». Спиноза удивляется, «что люди, хвалящиеся тем, что
исповедают христианскую религию, а значит, любовь, радость,
мир, умеренность и верность каждому человеку, все же самым
враждебным образом спорят друг с другом», - что «каждого,
будь он христианин, турок, иудей или язычник, можно узнать
только по его внешнему виду и по его культу; в остальном
образ жизни у всех один и тот же», - что «народ считает
вопросом религии рассмотрение церковных служений как титулов
и церковных должностей как доходных мест и оказание
высокой чести духовным лицам».
Вместе с общностью в суеверии возникает насильственный
дух, который, если для этого хватает силы, ограничивает
свободу человеческого развития, исходящего из собственной
сущности каждого, воспрещает свободное мышление, стремится
к господству над государством.
Ввиду этой политико-богословской действительности
Спиноза ставит свое мышление на службу осуществлению сво-
282
VIII. Религия и государство
боды. «Совершенно противоречит всеобщей свободе
захватывать свободное суждение каждого человека предрассудками
или как-либо ограничивать его... так что мнения считают
наказуемыми, приравнивая к преступлениям». Таким образом
противоположности мнений приводят к беспорядкам и
вырождаются в бунты. Это бедствие было бы невозможно, если бы по
закону государства «судили только за деяния, а слова
оставляли безнаказанными». Спиноза хочет показать, что свобода
(высказывать суждения и почитать бога согласно своему
понятию) «не только может быть допущена безо всякого вреда
благочестию и миру в государственно что она может быть
отменена только вместе с миром в государстве и с самим
благочестием».
а) Разум и откровение
Католики, протестанты, иудеи основываются на откровении.
Историческая реальность веры и ее значение для
общественной жизни побуждают Спинозу «весьма высоко» оценивать
«Священное Писание или откровение с точки зрения его
полезности и необходимости». Ибо, «поскольку все люди
способны к безусловному повиновению и есть лишь весьма
немного людей, достигающих, благодаря одному лишь
руководству разума, добродетельной жизни, нам следовало бы
усомниться в спасении почти всех людей, не будь у нас
свидетельства Писания». Было бы глупостью, полагает он, «если бы
нечто такое, что было подтверждено свидетельством столь
многих пророков, что людям, не особенно сильным душой,
принесло так много утешения, что означало немалую пользу
для государства и во что мы спокойно можем верить безо
всякой от того опасности или вреда, мы все-таки не желали бы
признавать, причем только лишь потому, что оно не поддается
математическому доказательству». Чтобы мудро устроить
свою жизнь, мы можем признавать за истину не только то, что
никакие доводы не могут подвергнуть сомнению: «Как будто бы
большая часть наших действий не являются весьма
недостоверными и добычей случайности».
Спиноза может говорить так, хотя философски он и
объявляет откровение невозможным. Но он говорит так только в кон-
283
Спиноза
тексте политического мышления, и он признает откровение
только в определенном смысле. Bo-переых, в нескончаемости
взаимосвязей в мире модусов он, правда, может описывать и
характеризовать откровение, однако не может объяснить его,
разве что через отношение к потребности конечных мыслящих
существ в представлениях. Во-вторых, Спиноза, когда он
говорит об этих вещах, сознательно высказывается «в меру
понимания толпы», причем толпа включает в себя также и круг
разумных людей, для которых он пишет это сочинение. В-третьих,
Спиноза помещает себя в [контекст] образа мысли партии
регента, а тем самым и такой разновидности веры, с ее
либеральностью и терпимостью, которая считалась там само собой
разумеющейся.
Решающим, наконец, для Спинозы является то, что он
находит библейские предписания любви и справедливости
полностью согласными с предписаниями разума, и что он считает
позволительным видеть «слово божие» не в определенном
количестве книг, а только лишь в этих предписаниях. Так, он
заявляет о пророках, «что они не учили никакой морали, которая не
была бы всецело согласна с разумом. Ибо отнюдь не случайно,
что слово божие в пророках целиком и полностью согласуется
со словом божиим, звучащим в глубине нашей души».
Но теперь идет злосчастная борьба конфессий и
богословов против тех, кого они объявляют еретиками. Для
прекращения пререканий Спиноза считает целесообразным и
необходимым строгое разделение разума и откровения. Это - две
сферы: «Разум - это царство истины и мудрости, а
богословие - царство благочестия и послушания».
Богословие, по его истине, ограничено практикой
повиновения, а именно - осуществлением любви и справедливости.
Поэтому догматы веры оно должно определять лишь
настолько, насколько этого будет достаточно для этого повиновения.
«Но как эти догматы следует понимать более точно, -
определение этого оно предоставляет разуму, который есть истинный
свет души, без которого душа видит лишь образы сновидений
и призраки». Мнимое знание богословов не только пагубно,
оно не нужно для самой веры. «Чего людям нет надобности
знать без ущерба для любви, о том мы наверное знаем, что
это не затрагивает богословия, или слова божия».
284
VIII. Религия и государство
Однако между двумя этими сферами есть известные
отношения. Ибо человек един, а не раздвоен. Если он послушен
в вере и проницателен в разуме, то ведь в самой вере
выступает разум, коль скоро вера мыслит, а в разуме - вера, коль
скоро эта вера есть предмет разума.
Однако при этом возникают те злосчастные заблуждения,
если в этих отношениях сфер не сохраняется одновременно со
всей ясностью их разделение. «Ни богословие не может быть
в услужении у разума, ни разум у богословия, но оба они
должны каждый утверждать свое собственное царство». Оба
обладают «каждый своим собственным царством без
возражений со стороны другого».
Спиноза возражает сам себе: Поскольку то, во что мы
верим в повиновении, не может быть доказано разумом, «почему
же мы верим в это?» Если мы принимаем это без разума, как
слепцы, то поступаем глупо и нерассудительно. Если же мы
хотели бы утверждать, напротив, что основание повиновения
может быть доказано разумом, то богословие было бы частью
философии и его не следовало бы отделять от нее. Спиноза
отвечает: «Я без всяких ограничений утверждаю, что основной
догмат богословия не может быть обоснован естественным
светом, и что по этой причине откровение было весьма
необходимо; но тем не менее мы можем пользоваться своим
суждением, чтобы, по крайней мере, признавать с моральной
достоверностью уже сообщенное нам откровением. Нам не
следует ожидать, что мы получим большую достоверность на этот
счет, чем получили сами пророки, достоверность у которых
была только моральной достоверностью».
Их авторитет не может быть установлен математическими
доказательствами. Он не может быть доказан иными и более
сильными аргументами, нежели те, которыми некогда пророки
убеждали народ, а именно, во-первых, при помощи живой
способности представления, во-вторых, при помощи «знамений»,
таких как исполнившиеся пророчества, в-третьих, посредством
умонастроения, сродного правде и добру. Поэтому также и мы,
в том числе при появлении знамений, обязаны верить
пророкам, только если они советуют нам прежде всего
справедливость и любовь и поучают искренним сердцем.
Если между положениями философии и богословия
возникают противоречия, то Спиноза отказывает богословию в воз-
285
Спиноза
можности обосновывать свои положения. Правда, поначалу он
хотел бы позволить богословам попытаться создать прочное
основание для богословия и доказать его. «Ибо кто же захотел
бы отречься от разума, или презирать науку и отрицать
достоверность разума». Но извинить их он все же не может. Ибо
попытка богословов привлечь разум для обоснования богословия
означает «желание призвать на помощь разум, чтобы изгнать
разум». Богословы хотят «подтвердить авторитет
доказательствами, чтобы лишить авторитета разум и естественный свет».
Или они мнимо подчиняют богословие владычеству разума
в «предположении, что авторитет богословия сверкает только
тогда, когда его освещает естественный свет разума».
Но если богословие хочет перейти за свои границы и стать
знанием, это ему нисколько не помогает. Там, где речь заходит
о познании, «никакой иной дух, кроме разума, не даст
свидетельства». Тот, кто делает вид, что он другого духа, говорит,
побуждаемый предрассудком своих аффектов. «И все же это
напрасно, ибо какой алтарь может воздвигнуть себе тот, кто
оскорбляет величество разума?»
Ъ) Понимание Библии
У иудеев, католиков, протестантов притязание веры
основывается на Библии. Все аргументируют цитатами из Библии.
Истолкование Библии имеет действенную силу не только в
делах веры, но и в политике. Чтобы предотвратить злосчастное
влияние этой силы, порождающей споры и их кровавые
последствия, Спиноза хочет содействовать «правильному
истолкованию Библии».
Есть две, в корне различные, предпосылки, и
соответственно вопрос, противоречат ли они друг другу, так что одна из них
исключает другую, или же их можно соединить:
Одна: Библия - это слово божие. Ее происхождение -
принципиально иное, чем происхождение всех созданных
людьми произведений, а потому только она одна есть
Священное Писание. Поскольку она содержит слово божие, в ней
не может быть никаких противоречий. Все, что в ней
написано, - истина.
Другая: Библия - это собрание произведений, которые,
будучи написаны людьми, первоначально имели точно такой же
286
VIII. Религия и государство
характер, как и все прочие произведения человеческой
литературы.
Истолкование Библии при принятии первой предпосылки
приводит к следующим методам:
1. Если в Библии невозможно допустить никакого
противоречия, тогда встречающиеся в ней во множестве противоречия
(точно так же как и предосудительные содержания)
необходимо разрешить так, что соответствующие положения имеют не
только буквальный, но и аллегорический смысл. Там, где по
букве налицо противоречие и безнравственность, то и другое
следует устранить признанием аллегорического смысла. Этот
издревле применяемый метод Спиноза отвергает. Ибо
аллегорическое толкование основано на произволе фантазии, а при
расхождении толкований не имеет критерия для определения
того, какое из них истинно. - 2. Противоразумность текста
понимается как тайна. Истолкование производится так, что смысл
предложений «кажется состоящим в величайшем возможном
противоречии с разумом и природой». Они воображают, будто
«в Писании сокрыты величайшие тайны» и мучают себя
«изъяснением бессмыслицы». - 3. Писание пытаются приспособить
к разуму, к примеру, к аристотелевским или платоновским
спекулятивным рассуждениям. Поскольку Писание божественно,
а значит, во всех частях истинно, при его испытании, как
предполагается, должно выясниться то, что, как мы полагаем, мы
уже знаем философски.
Часто упоминаемый противник - это Маймонид, у которого
Спиноза находит эти ложные методы. Маймонид
предполагает, что пророки согласны между собой, и что они были
великими философами и богословами, скрывавшими свои мысли
в представлениях для народа, - что слова Писания можно и
должно толковать не согласно их буквальному смыслу, а
согласно предвзятым мнениям истолкователей, - и что смысл
Писания не может быть выявлен из него самого.
Эти методы истолкования противоречат чистой
очевидности беспредпосылочного разума. Поэтому они сами в свою
очередь претендуют на некий авторитет, авторитет традиции
фарисеев, институционально признанных ученых, римских пап.
Инстанцией для установления истины является этот
выступающий в качестве авторитета разум, а не свободный,
убеждающий единственно сам себя разум.
287
Спиноза
Против всего этого Спиноза обращает силу другой
основной предпосылки истолкования: Библию, как и всякое другое
произведение, следует понимать естественным образом. Он
«предпринял попытку заново испытать Писание непредвзятой
и свободной душой». Его методы таковы:
1. Действует следующий принцип: Не допускать о Писании
ничего и не признавать как учение Писания ничего, что не
может быть с полной ясностью почерпнуто из него самого. -
2. Относительно каждого произведения нужно исследовать, как
оно возникло, в каком месте, в какое время, при каких условиях
внешних обстоятельств и ситуаций, кем и для каких людей оно
написано, а также жизнь, нравы и устремления его автора. «Мы
можем тем с большей легкостью толковать слова некоторого
человека, чем лучше мы знаем его душу и его образ
восприятия». - 3. Следует выяснять историческую судьбу всех
пророческих книг; в чьи руки они попадали, какие имеются
разночтения; по чьему совету они были включены в состав священных
книг, каким образом они были объединены в одно целое. -
4. Необходимо собирать все, что относится к тому же
предмету, что двусмысленно или что кажется внутренне
противоречивым. - 5. Правильность установления смысла высказывания
недопустимо смешивать с вопросом об истине его содержания.
В историческом истолковании речь идет о подразумеваемом
смысле, а не об истине этого смысла. Необходимо установить
первый, ничего не предрешая о последней.
Эти методы приводят Спинозу к основанию современной
библеистики, как исторического исследования. В частности, он
формулирует значение языка, т.е. еврейского языка:
«Поскольку же все писатели как Ветхого, так и Нового
Завета были евреями, то, конечно, прежде всего необходима
история еврейского языка». Правда, произведения Нового Завета
получили распространение на другом языке, «но все же они
носят на себе древнееврейский (hebräisch) характер». Библия,
как целое, есть произведение евреев. Во всех частях Ветхого и
Нового Завета она написана евреями. При историческом
исследовании Библии специфически еврейские и христианские
черты исчезают как второстепенные и даже лишенные
значения в этом едином целом.
Однако и для Спинозы вопрос об истине представляет
живой интерес. Поэтому он отнюдь не ограничивается только
288
VIII. Религия и государство
тем, что может быть установлено исторически. Он толкует, но
толкует средствами естественного разума.
Так, сущность пророков он толкует как дар усиленной
способности воображения, вследствие чего для Спинозы
умаляется истина пророков.
Так, далее, этот характер наглядного представления в
библейских текстах он толкует так, «что учение Писания
сообразуется со способностью усвоения и воззрениями тех, кому
пророки и апостолы обыкновенно проповедовали слово божие,
чтобы люди могли принимать его без сопротивления и всем
сердцем».
Так, он толкует истину содержания этой проповеди,
чрезвычайно упрощая при этом смысл Библии: «Я показываю, что
сообщенное в откровении слово божие заключается не в
определенном количестве книг, а в простом понятии божественного
духа, каким он был открыт пророкам: повиноваться богу всей
душой, творя справедливость и любовь». Поэтому Спиноза
говорит, что «авторитет пророков имеет значение только в
вопросах образа жизни и истинной добродетели, но что в
остальном их воззрения не очень много значат для нас».
В особенности он толкует массив законодательства
Моисеева (в отличие от десяти заповедей, относящихся к
правильному образу жизни): оно было «единственно лишь
правопорядком еврейского царства», который поэтому не должен был
принимать никто, кроме евреев и который «обязывал и их
самих лишь до тех пор, пока существовало их царство».
Противоречия в Библии Спиноза толкует отчасти
исторически, размышляя о том, в какой ситуации и по какому поводу
было сказано то или иное. Самые древние произведения
Библии дышат воинским духом. Но Иисус сказал: если кто ударит
тебя по правой щеке, подставь ему и левую. Однако он говорит
это не как законодатель (ибо он ведь не хотел отменять закон
Моисея: Мф.5:17), но как учитель, говорит угнетенным людям в
порочном государстве, близкую гибель которого он предвидел.
Аналогичным образом в аналогичном положении говорил
Иеремия в книге Плача. Но Иисус и Иеремия призывали к
терпению несправедливости только для подобных времен. В
хорошем государстве истинно противоположное.
289
Спиноза
с) Свобода мысли
Интерес Спинозы к проблеме понимания Библии брал свое
начало в кровавых распрях вокруг ее истолкования и в
авторитарной претензии на правильное истолкование, откуда бы ни
исходила эта претензия.
Этому он противопоставил такой тезис: Поскольку люди
различны, каждому человеку следует предоставить свободу
суждения и возможность истолковывать основания своей веры
по своему собственному усмотрению. Этот тезис он затем
обосновывает следующими положениями:
1. Благочестива ли вера того или иного человека или же
этот человек - безбожник, об этом можно судить
исключительно по его делам, по тому, как он действует и как ведет себя, а
не по его мнениям и исповеданиям. «Только так все
свободомыслящие люди смогут повиноваться богу, и только так
справедливость и любовь будут в высоком почете у всех».
2. Следует различать подлинный авторитет государства и
его законов, перед которым должен склоняться каждый
гражданин, и ложный авторитет религиозных установлений о
догматах и законах. Государственный закон по праву государства
относится к внешним действиям, религия - к внутреннему
умонастроению, а за ним следуют дела любви и справедливости,
принудить к которым невозможно.
Законы Моисея были некогда государственными законами.
В то время они по праву претендовали на публичный
авторитет. «Ибо если бы отдельный человек имел свободу толковать
по своему усмотрению публичное право, то никакое
государство не могло бы существовать». Того еврейского государства
больше нет; наши государства тоже уже не являются теокра-
тиями. Сегодня религия относится только к «простоте и
правдивости духа», к любви и справедливости. Но «никого нельзя
насилием принудить к блаженству». Вместо насилия здесь
уместно «братское увещевание», а «прежде всего требуется
собственное свободное суждение». Отсюда следует: В делах
религии каждому принадлежит право на полную свободу
мнений. Немыслимо, чтобы кто-нибудь мог отказаться от этого
права. Как верховной власти принадлежит высший авторитет в
истолковании законов, потому что речь идет о публичном
праве, так каждому отдельному человеку принадлежит высший
290
VIII. Религия и государство
авторитет в объяснении религии, потому что это относится к
праву отдельного человека.
3. Это свободное истолкование, а значит, также библеисти-
ка и библейская критика, возможно только в свободном
государстве. «В свободном государстве каждому позволено думать
то, что он хочет, и говорить то, что он думает». Эту позицию
Спиноза обосновывал со страстью полемиста:
Во-первых: Свобода мысли относится к естественному
праву каждого отдельного человека, которое не может быть
уступлено также и в естественном праве государства. Ибо
каждый, согласно верховному естественному праву, - хозяин
своих мыслей. Поэтому «верховные власти никогда ведь не
допустят, чтобы люди отказались от права судить о вещах, как им
будет угодно, и предаваться при этом то одному, то другому
аффекту».
Во-вторых: Истинно, что верховные власти имеют право
рассматривать как врага каждого, кто не безусловно согласен с
ними во всех своих действиях. Но правительство есть тирания,
если оно распространяется на души, то есть желает
предписывать им, что каждый из них должен признавать за истинное,
а что он должен отвергать как ложное.
То, что правительство не имеет права на такую тиранию,
следует не из некоего сверхчувственного вечного права
человека, а вытекает из естественного права государства, если это
государство желает быть долговечным, избежать несчастий
бунта и раздора, достичь цели - свободной жизни для всех.
Поэтому Спиноза показывает, что свобода мысли служит благу
государства. Насилие над душами - это угроза всему
государству и не соответствует здравому разуму; в конце концов оно
ведет к уничтожению этого государства.
В-третьих: Следствие насилия над душами таково, что
превосходство получают люди низменной натуры. Гнев тех, кто
не может терпеть рядом с собою свободомыслящих, силой
мрачного авторитета легко превращает ханжество наклонной к
мятежу черни в безумство. Они натравливают наглую чернь на
авторов нежелательных для них сочинений. Государство, в
котором они господствуют, уже не может более терпеть в своей
среде благородных людей. Поскольку эти люди свободны
душой, их объявляют врагами, высылают из страны, угрожают им
291
Спиноза
смертью. Но они не боятся смерти, как преступники, но
почитают за честь для себя умереть за свободу. Все законы,
касающиеся мнений, бьют не по злодеям, а по благородным
людям.
Следствие этого для состояния государства таково, что мир
становится невозможен. Там, где государственные ведомства
желают разрешать споры ученых при помощи законов, там
расколы возникают не вследствие усердия к истине, а из
жажды власти. Истинные нарушители спокойствия - это те, кто
желает отменить в государстве свободу суждения, подавление
которой невозможно.
В-четвертых: Свободу мыслить нужно отличать от
свободы действовать. Относительно действий Спиноза рисует
следующую неустранимую фундаментальную ситуацию: В
государстве каждый, повинуясь разуму, раз навсегда принял
решение передать свое право действовать по собственному
суждению постановлению верховной власти. Однако редко
какое-либо решение принимается единогласно; «однако все
считается совместным постановлением, как тех, кто голосовал
против, так и тех, кто голосовал за него». Поскольку, однако,
в человеческом сообществе постановление всех всякий раз
может быть фактически установлено только большинством
голосов, сила действия самого этого постановления имеет
границы. Во-первых, оно касается только действий, а не мыслей.
Во-вторых, оно принято с оговоркой возможности «вновь
отменить его в случае, если им представится нечто лучшее». Кто
оказался в меньшинстве, покоряется большинству в
действиях, а не в мышлении. Поэтому надлежит править так, «чтобы
неприкрыто различные противоположные мнения жили все-
таки в согласии друг с другом».
И все же Спиноза знает границы публичного выражения
мнений. Правда, свобода веры и свобода философствования
не допускают ограничений. Однако нужно определить, какие
мнения в государстве являются «бунтовскими» для смысла
государственного порядка и для надежной охраны свободы
всех, или, иначе говоря, в какой мере каждому может быть
предоставлена свобода слова без ущерба для мира в
государстве. Мыслить, а значит, и говорить, без ограничений, каждому
позволено только при условии, «что он говорит или учит про-
292
VIII. Религия и государство
сто и отстаивает свое мнение только при помощи разума, но
не с помощью обмана, гнева и ненависти». Ограничение
аффективных речей столь же необходимо для сохранения мира,
как и свобода разумной речи.
С. Критическая характеристика
истолкования Спинозой религии и политики
а) Неясность соотношения науки и философии
Для Спинозы, как для всех мыслителей его эпохи и как для
многих еще и сегодня, наука и философия - это одно и то же.
Спиноза говорит от имени науки, единой науки,
предполагающей и надеющейся найти силами естественного разума лишь
одну истину, имеющую силу для всякого разума. Однако это
две принципиально различные вещи: когда Спиноза
средствами науки в смысле общезначимого познания атакует
доказуемо ложные в историческом или естественнонаучном
отношении утверждения богословов и Библии, - и когда он именем
разума (т.е. философии) объявляет заблуждениями иные
базовые установки в сознании бытия и в практике жизни. В
первом случае сила общезначимого познавания противостоит
заблуждениям, и эта власть в самом деле неумолимо
действительна для каждого мыслящего (например, в отношении
астрономических, физических, биологических познаний: чудо
Иисуса Навинасхш, воскресение плоти, авторство Моисея). Во
втором случае одна вера противостоит другой вере.
Убеждение во всеобщем согласии в едином разуме
оправдано только в науке. Но это согласие не есть согласие людей
во всей целокупности их существа, а только в одной, повсюду
идентичной, заменимой, изъятой из многообразия живого
существования, скорее, даже преодолевающей это
существование точке рассудка вообще; например, мы едины друг с другом
относительно правил процессов, происходящих на атомарном
уровне, однако при этом можем сбрасывать атомные бомбы на
города друг друга. Что наука будто бы объединяет
человечество - это заблуждение. Нечто совершенно иное - разум,
проникающий в сущность человека в его целом, служащий средой
единственной незаменимой экзистенции каждого человека,
строго предполагающий безграничную готовность к коммуника-
293
Спиноза
ции и обладающий решимостью к ней. Но этот разум отнюдь не
создает единодушия в человечестве. Скорее, он допускает
необозримое различие в образах жизни, в жизнеустройстве,
в знании бытия и в сознании бога. В нем видит, и вопрошает,
и дает вопрошать себя, всякий раз исторично особенная
действительность экзистенции. Это многообразие невозможно
соединить в одном человеке. Однако там, где есть разум, тяга
к коммуникации становится неограниченной, не только для
того, чтобы узнать действительность других людей, но и для того,
чтобы в процессе понимания обрести каждому для самого себя
возможно большую широту, ясность и решительность, а не для
того, чтобы угасить все в тотальной нивелировке.
Спиноза считает, что есть одна-единственная философия и
что эта единая философия познаваема разумом и
единственно истинна. Тем самым он смешивает ее с наукой. Он добился
этим того, что некоторые критики (Якоби, Лихтенберг)
полагали: если разум должен быть основой всей нашей жизни, то он
может привести только к спинозизму. Это - философское
заблуждение. При изучении Спинозы и при усвоении его мысли
нам следует различать:
Во-первых: Там, где речь идет о чисто научных вопросах, он
принципиально прав, пусть и не в частностях. Даже это имеет
силу только для того, кто неограниченно желает науки, кто
считает обязанность считаться с научными возможностями
условием всякой честности, кто утверждает смысл науки и видит
достоинство человека в том, чтобы постигать его. Кто не
желает, того убедить нельзя, потому что он замыкает свое
мышление и обрывает коммуникацию; нужно оставить его в покое
(stehen lassen). Момент философской веры состоит в том,
чтобы безоговорочно утверждать смысл науки. Здесь Спиноза
стоит в ряду всех тех людей, кто трудился для познаваемой
истины против заблуждения. Отсюда могут произойти
грандиозные новшества в сознании (Коперник; открытие всей
поверхности Земли, совершенно иных людей; реалистическая история и
распространение ее на неведомые прежде тысячелетия). Там,
где этих новшеств не выносят, там неправо то, чему они
угрожают, причем неправо как в смысле правильного познания, так
и в смысле всеобщезначимости, доступной для коммуникации.
Во-вторых: Там, где речь идет о философии, Спиноза, как
и философы, высказывает истину, безусловную для жизни
этого мыслящего, однако в качестве высказанного содержания не
становится общезначимой истиной для всех.
294
VII/. Религия и государство
Два эти различных по своему истоку понятия истины можно
вкратце выразить так: В науке речь идет о правильности,
которая всеобщезначима, однако остается привязанной к
конкретным методам, соотносительной доступным для определения
предпосылкам, партикулярной, фактически получает признание
у всех понимающих. В философии речь идет об истине, выска-
занность которой не становится всеобщезначимой, фактически
не получает всеобщего признания, однако идет из такого
истока, который человек избирает безусловно.
Следствием различения науки и философии является
ясность относительно двоякой, совершенно различной по своему
смыслу противоположности их ботословию, в любой форме
церковной веры. Богословским позициям противостоит, во-
первых, наука, поскольку богословие высказывает суждения о
реальностях в мире и логической корректности, которые могут
быть опровергнуты убедительным для каждого рассудка
образом. Здесь богословие остается слабейшим, и обыкновенно
старается адаптироваться. Во-вторых, богословию
противостоит философия, однако противостоит она уже не отдельным
позициям, но авторитету их основы. В то время как в первом
случае более точное познание одерживает победу над
неблагоразумием, во втором случае философская вера противостоит
церковно-авторитарной вере. Если философская вера,
удостоверяющая себя в мышлении на основании разума, понимает
себя как наука, то она ошибается и вскоре же проигрывает
богословию. Если она понимает себя в своем истоке, то
утверждается в своем праве. Но в таком случае друг другу
противостоят не два противника, один из которых непременно должен
победить, но воплощается живая полярность, данная вместе с
самими возможностями экзистенции человека. Независимость
науки всегда остается партикулярной, в отношении к познанию
доступных для нее предметов. Независимость же философии
тотальна в отношении к удостоверению истока сознания бытия
и практики жизни. Независимость научного познания могла бы
соединиться с богословски-авторитарным познанием,
независимость философской веры - едва ли, если только однажды
достигла сознания двоякость этой последней. Пример
великолепного, изначального наивного единства их - это Ансельм;
первым величайшим примером фактически современной
философской независимости является Спиноза.
Если мы противопоставим друг другу верующую
ортодоксию и философское разумное познание Спинозы на одном
295
Спиноза
уровне - оправданно это можно будет сделать только на
уровне веры, - то увидим, что борьба здесь неизбежна. Но
изначальное различие между обоими имеет следствием то, что
и способы ведения дискуссии, как и жизненные последствия
в борьбе с применением насилия, у этих двух принципиально
различны. Философская вера ведет борьбу только духовно
и оказывает сопротивление насилию (wehrt sich gegen Gewalt);
богословская вера атакует с помощью насилия.
Спиноза, пребывая в неведении о различии между наукой и
философией, а тем самым - об основании достоверности его
философской веры, которую он отождествлял с научной
очевидностью, считал свою философию не наилучшей, но
истинной, единственно истинной. Поэтому он столь решительно
высказывается против скепсиса, осуждаемого им как малодушие.
Однако скепсис имеет два значения. Он есть, во-первых,
сомнение в объективной всеобщезначимости философской
истины разума, но в таком случае он есть не малодушие, а сила
веры. Во-вторых, скепсис есть сомнение в том или ином
определенном научном знании, и имеет здесь методический,
двигающий науку вперед характер, а потому он также есть не
малодушие, но знание о способе и условиях того или иного
определенного знания. Малодушное и, в конце концов,
нигилистическое сомнение - это основное настроение души, живущее
отнюдь не силой подлинности того, что - в какой бы то ни было
форме - есть вера; оно есть общее настроение [убежденности]
в мнимой недостоверности всех наук, не собирающееся
заниматься специфической достоверностью с присущей таковой
методической осознанностью. Обе разновидности
скептического малодушия предаются нескончаемому ораторству в
абстрактных всеобщностях ученых толков (Gerede).
Абсолютность философского постижения в том виде, как ее
отстаивал Спиноза, вследствие своего догматического
характера имеет также характер философской битвы. Спиноза
признает также и противника, как природную необходимость, он не
хочет уничтожить его, но, чувствуя угрозу от него в своем
существовании, хочет защититься предусмотрительностью
и публикацией своих мыслей, способных умножить разум в
мире. Можно было бы сказать, что обе стороны - и Спиноза, и его
богословские противники - проявляют нетерпимость. Однако
296
VIII. Религия и государство
нетерпимость Спинозы нетерпима духовно, ввиду отсутствия
безгранично понимающего проникновения в чуждые ему силы
веры, однако в существовании она терпелива, никогда не
имеет в виду насилия, доверяет единственно лишь могуществу
разума, насколько простирается область этого разума.
Нетерпимость богословских сил веры насильственно вторгается
в существование и хочет уничтожить то, что ей не покоряется.
Мы спрашиваем в конце: Возможна ли вообще дискуссия
между столь изначально различными по истоку силами, как
авторитарная вера, философская вера, научное знание? Не
должны ли люди, находящиеся во власти одной из этих сил,
постоянно говорить с собеседником «на разных языках» и
чувствовать себя, в свою очередь, непонятыми, потому что нигде
нет «общего уровня», на котором собеседники могли бы
встретиться? Ответ таков:
Научная и философская дискуссии отличаются друг от
друга по своему характеру. Первая, если она ведется
осмысленным образом, приводит к некоторому логически
убедительному, создающему единодушие мыслящих результату на почве
рассудка (сознания вообще); вторая приводит ко взаимному
просветлению в коммуникации людей на почве человечески-
общего, на почве возможности взаимного понимания (Sich-ver-
stehen-Können) в силу сохраняющегося различия экзистенции.
Научная дискуссия предполагает общую почву «сознания
вообще», которая в самом деле имеется у всех людей.
Исключения, вызванные не действительностью, а насильственностью
людей, встречаются там, где требуют от собеседника sacrifi-
cium intellectus, то есть там, где рассудок должен подчиниться
чему-то такому, что для каждого действительно мыслящего
человека есть бессмыслица. Тогда остается, с одной стороны,
общность в абсурде, пока такая общность может сохраниться,
или обрыв коммуникации мышления. В таком случае дискуссия
стала невозможной. Люди ведут себя так, как будто бы они уже
более не люди, то есть не мыслящие существа, и притом
[ведут себя так] в отношении к утверждаемой ими воле бога.
Философская дискуссия нуждается в «правильности» как
своем неизбежно необходимом средстве, вступает в связь с
научным познанием, однако делает это с целью чего-то иного,
существенного. Истина возможной экзистенции вступает в
коммуникацию с другой истиной. Как это может произойти,
разъяснить непросто, поскольку великий исторический пример
(не считая примеров в лице Платона и Канта, и даже здесь это
297
Спиноза
не коммуникация в осуществлении жизни общности) не
находится у нас перед глазами как бы с осязаемой наглядностью.
Спиноза не мог искать этой коммуникации, потому что он не
пережил ее как задачу, так как обладал истинной, эксплицитно
высказанной и изложенной философией.
Спиноза как научный исследователь
Спиноза принимал участие в развитии современных наук,
проявляя к ним интерес, он экспериментировал, шлифовал
линзы, занимался математикой, изучал медицину. Его
политическое мышление базируется на основе Макиавелли. Он
проводил филологически-исторические исследования Библии,
выполнял разнообразные изыскания, составляя реестры
словоупотребления и смысла слов, используя сравнительным
методом определенные указания в [библейских] текстах для их
датировки, и все это с трудолюбием и основательностью (как
например, отшлифованные им линзы были, как сообщают,
особенно превосходного качества). Ему присуще современное
сознание реальности.
Но ни в какой области он не сделал какого-либо решающего
нового открытия, уж во всяком случае - в математическом
естествознании. Однако и изучение им Библии, едва ли
устаревшее ныне в своих принципах, не дало никаких результатов,
благодаря которым Спиноза сделал бы эпоху в науке, получив
определенные знания. То, что Моисей не был автором
Пятикнижия, было известно уже и до Спинозы (Гоббс).
Издавна существовавшее взаимопроникновение
философии и науки и новое, по существу дела противоестественное
взаимопроникновение современной науки и философии той
эпохи не было постигнуто Спинозой. Он не только
философствовал вполне в старом духе единства философии и науки, но
он и не понимал специфически нового, современного духа
исследования. Это проявилось в дискуссии с химиком Бойлем.
То предметно новое, что Бойль нашел, применяя современный
метод исследования, Спиноза обсуждал в старой
схоластической манере (подобно Бэкону) и таким образом делал свои
собственные бесплодные эксперименты в связи с проблемой
Бойля. Правда, Спиноза понимал нескончаемый характер
изыскания в мире модусов, подчеркивал наше всегда сохра-
298
VIII. Религия и государство
няющееся неведение, удерживал открытым [для знания] все
то, что еще могло быть познано наукой впоследствии. И все же
свойственная ему ложная манера ведения дискуссии не
соответствовала этому верному познанию. Ибо знание природы он
трактовал все-таки как принципиально завершенную науку.
Ранее это делалось в аристотелевском, теперь же - в бэко-
новском духе. Его установка еще была подобна установке Си-
гера Брабантского, когда Сигер утверждал, в
противоположность откровению, знание природы как утвержденное на
собственном основании знание. Спиноза отнюдь не находился
в великом движении исследователей к дальнейшему развитию
познания в безграничную даль будущего, о котором мы не
знаем, какие еще познания оно принесет нам. В то время как для
Бэкона на место этого действительного процесса
вставали техницистские спекуляции о будущем, для Спинозы этот
прогресс знания, в сущности, ничего не значил, поскольку
существенное, принципиальное, целое уже было твердо
установлено: в этом старом как мир смешении спекулятивно-
философских набросков и исследующего познания. Итак,
естествознание Спинозы в его основной установке - это не
современное естествознание, а натурфилософия.
Спинозу словно обвеивает духом современной науки.
Кажется, будто он имеет в виду современную науку, когда
говорит, что его метод объяснения Библии ничем не отличается
от метода объяснения природы. Но в его философии все
производит впечатление платья, которое можно и переменить, или
формы сообщения, которой он пользуется, нисколько не
будучи ею связан.
Необходимость, которую разум постигает как божественную
вечность, выражается математическими и научными
проявлениями необходимости. Эти последние в самом деле говорят
нам нечто не новым умонастроением исследователя или
методом, но как путеводная нить, которая, соответственно этим
временам, служила для чего-то совершенно иного, нежели то,
что заключалось в них самих0™. Это обнаруживается в
оформлении его «Этики согласно геометрическому методу». В этом
произведении нет ничего от математического духа
первооткрывателя и математической манеры достоверности. Однако
Спиноза, для спекулятивной достоверности, ищет именно
299
Спиноза
такого облачения, исходя из стародавней установки логически-
аргументирующей проработки взаимосвязи между его
метафизическими понятиями. То, как Спиноза в философском
мышлении удостоверяется в своей жизненной практике и
подтверждает ее, само по себе не имеет ничего общего с современной
наукой.
Что в своем суждении о реальностях Спиноза доказывает
свою непредвзятость, способность наблюдать, естественную
рассудительность, - не является достоянием одной только
современной науки, но достоянием разумных людей всех
времен.
Если Спиноза говорит о «вымыслах Аристотеля или
Платона или других им подобных» и о «балаганных шутках
Аристотеля», то побуждает его к этому отнюдь не дух современного
естествознания, но та независимость, которая в духе его века
смотрела безо всякого уважения и с подозрением как на
содержания традиции, так и на великие имена.
Если все мыслители, исследователи и философы того
времени говорят о «методе», то метод Спинозы гораздо в
большей мере есть путь спасения, чем метод исследования. Он
ищет пути к «усовершенствованию рассудка», чтобы
достигнуть по ступеням познания до интуитивного познания в amor
intellectualis dei.
b) Библеистика, вера, философия
1. Значение библеистики для веры: Две взаимно
разноречащие предпосылки истолкования Библии (Библия как слово
божие или как литературный документ религиозного и иного
опыта известного столетия) в равной мере могут вести к
весьма основательному знанию Библии. На обоих этих путях люди
могут читать, учиться, мыслить. Оба пути могут называть себя
наукой о Библии. Но первая из предпосылок означает
усвоение, служащее опорой нашей собственной жизни, а вторая -
историческое знание о смысле, который подразумевали
авторы [текста], и о взаимосвязях сообщаемых в тексте мыслей, их
происхождении и влиянии.
Верующая в откровение библеистика (offenbarungsgläubige
Bibelwissenschaft) появилась одновременно с возникновением
300
VIII. Религия и государство
библейского канона. Историческая библеистика началась в
XVIII веке, после того как Спиноза заложил ее основания,
мощно развернулась в XIX и XX веках. Возник вопрос: что означает
историческая библеистика для верующего в откровение
усвоения? Киркегор отвечал: ничего не означает; напротив,
историческая библеистика вредна для веры. Немногие богословы
пошли по его пути. Большинство же, следуя почтительному
отношению эпохи к науке, полагало, что исторические сведения
следует признать полезными для верующего усвоения текста.
Однако забота первых состояла в том, что историческая
библеистика есть уже сама по себе выражение неверия.
Среднестатистический просвещенный человек утверждает то же
самое с обратным знаком: наука опровергла веру в Библию.
Напротив, новый вопрос считающих себя верующими
историков-исследователей гласил: каким образом это новое
историческое знание приводит саму веру в ее истинную, актуальную
и подлинную форму?
Спиноза не ставил вопроса таким образом. Перед ним еще
не стоял великий факт исторической библеистики, он был
одним из зачинателей ее становления. Кажется, он лишь порой
проявляет уважение к верующему в откровение истолкованию
текста, а именно, как к работе мысли, движущейся в царстве
представлений, самой по себе неразумной, однако, при
известных условиях, безвредной. Скорее, он в самых резких
выражениях отвергает это истолкование. Для него составляет
«предрассудок суеверия - почитать книги Писания как слово
самого бога». Богословские истолкователи выдают свои
вымыслы за слово божие. Пользуясь предлогом религии, они
хотят принудить других разделять их мнение. Они беззастенчиво
и опрометчиво выдавливают из текста священных сочинений
свои собственные изобретения. Но то, что при этом эти люди
лишены благочестия, показывает нам их образ жизни. Их
честолюбие и их гнусность доходят до того, «что религией
считается уже не послушание учению Духа Святого, но отстаивание
человеческих вымыслов», - религией, «состоящей уже не в
любви, но в яростной ненависти».
Тем не менее остается в силе вопрос: Может ли
существовать благочестивое истолкование Библии при другой
(верующей в откровение) предпосылке - что Библия есть слово
божие - и может ли эта предпосылка соединиться в душе ве-
301
Спиноза
рующего человека с исторически-исследующим
истолкованием? Правда, эти двое не могут вести дискуссию друг с другом,
поскольку у них нет общего уровня для дискуссии. Они могут
только предъявлять друг другу свои предпосылки и
вытекающие из них последствия, если, к примеру, одна сторона
говорит: ты оспариваешь уникальность и святость Писания, из-за
этого ты теряешь откровение божие, теряешь то, что целые
тысячелетия засвидетельствовали своей верой; - а другая
сторона возражает: ты отрекаешься от естественного разума,
делающего содержание Писания доступным для нас как мнение
написавших его людей, устанавливающего с привлечением
всех доступных документов исторические условия и истоки
возникновения и показывающего, как меняются, углубляются
и мельчают верующие мнения. Твой отказ означает, что ты
закрываешь глаза на реальность и вследствие того делаешься
неискренним. Однако при подобном отрицании последствий,
заблуждаются, быть может, обе стороны спора. Вопрос
заключается вот в чем: не могут ли оба пути привести к познаниям,
которые не обязательно должны служить помехой друг другу
в одном и том же человеке, потому что они относятся к
совершенно различного рода действительностям, с одной стороны -
к вечной действительности бога в вере, с другой стороны -
к эмпирической реальности Библии как предмета возможного
изучения в конечном знании, увлекающем нас, однако же,
вперед и вперед в бесконечность. Несоединимость установок
имела бы место только там, где два эти понятия
действительности отождествляют и этим запутывают дело.
Спиноза не ставил ясно этого вопроса и не дал на него
ясного ответа. Одна из причин этого недостатка заключается в
том, что Спиноза не отличает вполне ясно своего собственного
разумно-философского толкования от верующего в откровение
толкования и не отличает их обоих вместе от
научно-убедительных и вероятных констатации фактов, психологических
и социологических (всегда лишь гипотетических)
интерпретаций возникновения текста. Хотя Спиноза проводит эти
различия, однако не удерживает их.
2. Значение философии для веры: Отделение у Спинозы
веры в откровение от разумного познания устанавливает
различие сфер богословия и философии. Но действительно ли
Спиноза хотел отделить друг от друга богословие и
философию как два равноправных царства, оставляя каждое в его са-
302
VIII. Религия и государство
мостоятельности? Ведь то и дело он объявляет высшим
критерием разум. Только для человеческой конечности с
присущими большинству людей свойствами откровение имеет силу
для послушания, как нечто неизбежно необходимое, однако
второстепенное. Это два уровня: исторический уровень
человека как конечного модуса с неадекватными идеями - и вечный
уровень человека как разумного существа, стоящего поперек
времени, откровения и традиции в непосредственной
обращенности к богу с адекватными идеями.
В мышлении Спинозы действует один мотив, одновременно
и философский, и политический: самоутверждение
философского разума. То, что духовным образом совершается в
философе, не тождественно с тем, что познается как реальность
в сфере модусов. Сам разум в историческом проявлении
становится модусом. Познавание модусов истории есть конечное
познавание, однако как таковое оно есть также притязание
разума.
Спиноза нередко оставляет без ответа вопрос, признает ли
он откровение актом бога или же говорит только «в меру
понимания толпы». Достоверно только то, что Спиноза считает
и эту историческую реальность веры, точно так же как и все
сущее, действием бога, однако не удостоверено, верит ли он в
действительность откровения как специфический,
локализованный в пространстве и времени акт бога. Эта последняя
возможность философски исключена, даже однажды и
кажется, будто он говорит в таком смысле.
Отказывается ли Спиноза вообще от того, чтобы
методически связывать свою философию в подлинном смысле слова
с конкретным познанием в сфере модусов? В данном случае
это значит: отказывается ли он методически соединить свое
отрицание откровения со своим признанием откровения? Дело
это неясное. Ибо то, что находится в сфере модусов, как,
например, всякое мышление о государстве и церкви, согласно
принципам Спинозы, необозримо-нескончаемо в частностях.
Здесь он не высказывается со строгостью, присущей
философской спекуляции. Он занимает известные позиции, а с
ними - способы суждения, которые в конечном существовании,
в форме представлений, всегда относительны. Он хочет
содействовать утверждению разума в облачении мира представ-
303
Спиноза
лений. Поэтому [в тексте] остаются неясности, которые
читатель должен сам объяснять себе путем интерпретации:
Суеверие окончательно получает имя суеверия, только
если оно ведет к спору, раздорам, общественному бедствию.
Но если в форме представлений, божественных заповедей
профетического благовестия оно содержит вечную истину,
тогда, пусть не как знание, но как практика, оно тождественно
с философской практикой, с любовью и справедливостью,
с единодушием и миром. Однако, как сильно господство
суеверия в церковных религиях, показывает нам их взаимный спор,
их фанатизм, их обвинения в ереси, их жажда власти. Как
сильно действует в них истина разума через Библию,
показывает нам благочестие истинно верующих через их поступки.
Можно было бы сказать, что у Спинозы форма суеверия
перестает быть суеверием, если содержание соответствует
разумной практике. Однако связь суеверной формы с истинным
содержанием следует постигать через привязанность
человеческой души к представлениям или неадекватным идеям, и
неспособность большинства людей настолько развивать свой
разум, чтобы он действительно властвовал над ними и чтобы
они обретали силу благодаря ему.
Историческая библеистика показывает, как с самого же
начала в восприятии и усвоении той или иной традиции
произошли огромные изменения содержания веры: от религии
Моисеевой к профетической религии, к богословски-законниче-
ской религии. Она показывает постоянно сохраняющиеся
линии напряжения. Вопрос в том, как основа продолжает жить в
этих преобразованиях, пусть даже не первый взгляд здесь
были совершены акты радикального разделения, как те, что
были произведены Иисусом, а также и Спинозой. В постоянно
новых ситуациях всемирной истории и в условиях жизни,
созданных новыми формами человеческого существования, там,
где основа скрывает в себе истину и доказала на деле, что она
есть историчная действительность, задача, которой никто не
может решить планирующей работой, а может только дать
ответ на нее действительностью своей жизни и мысли, [состоит
в том], чтобы вновь изначальным образом пережить
изначальное присутствие бога в настоящем.
Спиноза сам находится в потоке этой истории библейской
религии. Достоверность бога знакома ему так же, как и Иере-
304
VIII. Религия и государство
мии: бог есть и этого достаточно. Любовь к богу он, так же как и
Библия, знает как любовь к ближнему и как справедливость.
Он, со всей серьезностью тысячелетней достоверности бога,
противостоит всяческим оплотянениям, оконечиваниям,
ограничениям бога: не сотвори себе кумира и подобия0™.
Притязание данного богом разума обращено у Спинозы, как и в
Библии, против природных божеств, полубогов, демонов,
исчезающих перед лицом действительности бога. Не так
называемое просвещение, а сама идея бога воспрещает любое
унижение бога.
Библейская достоверность бога в философской форме
ищет исторического изучения Библии как средства для
историчного удостоверения в собственной основе. Никакая библеи-
стика не может быть помехой для нее. Скорее, библеистика
помогает исторично приблизиться к основе, чтобы в изначаль-
ности повторить ее в настоящем. Она знакомит нас с тем
великим историчным единством, которое, как базовый опыт народа
и непрестанно повторяющихся в истории исключительных
людей этого народа, был обретен им на пути, пролегающем через
его исторические катастрофы, и ныне предстоит перед нами
в примерно законченном виде в Библии.
Поэтому Спиноза видит историческое единство Библии,
[видит] Иисуса в ряду божьих людей как того, кто, будучи
сотворен как «дух от духа», есть словно бы «уста бога».
Философская достоверность бога у Спинозы передает нам сквозной
и единый смысл Библии: единого бога, в вере в которого -
основа любви и справедливости между людьми, и в котором -
корень покоя человека только потому, что бог есть.
Историческая библеистика учит постигать повсеместную
противоречивость Библии или как осмысленное единство
полярностей в самой вере, или как следствие тех исторических
облачений, через которые, поочередно меняя их, прошла вера
в истории. Благодаря основательным историческим сведениям
становится возможно тем более ясное усвоение и
отталкивание, в котором засветится Единое.
с) Упреки в адрес спинозовской достоверности бога
1. Абстрактность: Невозможно отрицать, что основные
мысли Спинозы, в которых высказывается присущая ему
достоверность бога, отличаются чрезвычайной абстрактностью.
305
Спиноза
Поскольку это положение подразумевается как упрек, на него
следует возразить:
Чем абстрактнее философская мысль, тем она более
конкретна в своей метафизической действительности. Чем она
абстрактнее, тем большее единодушие всех верующих
мыслящих должно быть достигнуто; ибо они исполняют одно и то
же своей историчной действительностью, которая в каждом из
них отличается от действительности другого.
Кто способен уловить своей спекулятивной мыслью основу
положения, тот обращается к каждому человеку. Но
объективно-предметно, в плане представления, он оказывается во все
большей пустоте. Кто в процессе мышления не наполняет эту
пустоту из самого себя, должен объявить эти мысли сугубо
абстрактными, в смысле безразличной формальности. Он
нисколько не переживает их действенную силу.
Отсюда возникает желание приблизить к себе содержания
в представлениях, образах, фигурах, в мифах и шифрах, в
ритуалах, церемониях, культах, в священных писаниях. Здесь есть
историчное многообразие, но одновременно также своего рода
плоть безусловности экзистенции во времени; здесь -
историчность происхождения, традиции, языка; здесь - сказки из детской,
здесь истины, имеющие силу, «потому что мне это сказал отец».
Спиноза, будучи изгнан из общества за свое притязание на
свободу слова, сделал отсюда вывод: жить в исторично-
беспочвенном как почве самого бога. Отсюда - черта
неисторичности в его существе, или черта чрезвычайной
абстрактности библейской идеи бога: с полной серьезностью «не сотвори
кумира и подобия», в чистом эфире мысли как таковой, в этой
среде властвующей его жизнью действительности бога, без
молитвы. Спиноза оказался там, где человеку может
показаться, будто бы здесь исчезает необходимый нам для дыхания
воздух. Там, в прохладной и излучающей прохладу
действительности бога, находится та точка отсчета, в обращении к
которой сходятся все историчные реальности, если они
объективно абсолютизируют себя, вместо того чтобы желать быть
лишь плотью конкретной экзистенции, и тогда их можно
подчинить власти более высокой инстанции.
Поэтому мы видим, как в том объемлющем пространстве,
которое как таковое никогда не может стать общей, реализую-
306
VIIL Религия и государство
щейся в институциональной форме религией, у Спинозы
совершаются два следующих шага:
Первый шаг ведет к всеобъемлющей библейской религии,
в которой исчезают различия между церквами и
исповеданиями Ветхого и Нового Завета, где все встречают бога, которого
все именуют словами «Бог един». Библейские религии
(включая ислам) объективно-исторически представляют собою
большое семейство, но фактически они всегда были
(свидетельствующим для всего остального мира их же собственный
позор) поприщем кровопролитной борьбы за частные оттенки в
исповеданиях веры и формах культа и законоположениях, к
которой они все еще остаются в возможности готовы и сегодня.
Формальность мысли может связывать людей, приходящих к
сознанию разума, причем им нет надобности отказываться от
своей историчности, однако связывает их так, что они
отрекаются от объективной абсолютности содержаний,
представлений, высказываний, форм жизни, от исключительности
определенной веры.
Второй шаг ведет за пределы мира библейских форм веры
к той абстракции, где нас встречают также Китай и Индия и где
слова спекуляции скрывают в себе нечто такое, что понимает
себя как некое эхо другого, но только в почти недоступной для
нас абстракции, несущей в себе и дающей нам почувствовать
единственную конкретность абсолютной историчности
сотворенного богом бытия.
Спиноза был как бы личной жертвой своей историчности -
сверхъисторичному. Но эту крайность он отнюдь не
представляет нам в страдании жертвы. В нем нет страждущего раба
божия пророка Исайи и нет ничего от жертвенной смерти
Иисуса, а потому нет также и глубины самого страдания, а есть
лишь невозмутимость, радость, спокойствие, блаженство
единой действительности бога.
2. Исчезновение трансценденции: Резюмируем еще раз
спинозовскую идею бога с ее логическими следствиями: Бог
есть causa immanens мира. Всякая сила есть сила бога. Сила -
это право. Законы природы - это законы бога. В естественном
состоянии человека, как и во всей природе, ничто не
запрещено и не предписано. Запреты и предписания зависят от общей
воли людей, имеющей власть и дающей законы, имеют силу,
пока сохраняется эта власть. Сущее существует как природа,
307
Спиноза
как модус субстанции, по ту сторону добра и зла. Поэтому
адекватная установка разума такова: ничего не презирать,
ничего не высмеивать, ничего не оплакивать.
Историк конструирует пантеистическое воззрение и
находит в нем три момента: упразднение трансценденции;
исчезновение личности в тотальности бытия бога/мира; отрицание
свободы. Этому противостоит конструкция теистического
воззрения: абсолютная трансценденция бога; акцентирование
личности в ее уникальном, незаменимом и вечном значении;
утверждение свободы и выбирающего решения.
Где оказывается Спиноза? Против него обращается упрек
в пантеизме; философия Спинозы, говорят здесь, есть
философия имманентности, он не знает трансценденции. Бог и мир
у него якобы одно и то же. Незаменимость личности исчезает.
У него нет ни свободы, ни цели.
Однако у Спинозы дело обстоит не так. Правда, кажется,
что личный субъект угасает здесь как простой модус, но как
таковой он существует и устремляется к богу со всей силой
познавательной любви. Кажется, что свободу здесь отрицают,
однако она восстанавливается как основание в новом понятии
свободы как покоя и ясности, разумного жизнеустройства
познавания и жизненной практики этой философии.
Трансценденция бога категориально сохраняется у
Спинозы благодаря бесконечному множеству атрибутов бога;
благодаря охвату всех и всяческих целей чем-то более
могущественным, необходимым в своей свободе от целей;
бесконечностью никогда в полной мере не познаваемой совокупности
законов природы; тем, что человеческое бытие - не
средоточие, а только один модус в мире: мир модусов являет нам
бесконечное множество того, что, без всякого отношения к
человеку, свидетельствует о самостоятельности этого
бесконечного как создания бога. Богосознание Спинозы - это спокойное
смирение в любви к бесконечному, которое есть бог, искреннее
принятие, спокойная индифферентность ко всему конечному.
Однако трансценденция Спинозы - это отнюдь не
трансценденция как вторжение в мир откуда-то еще, или как
откровение человеку; она существует не как веление бога и не как
его поручение. У Спинозы не существует, далее, абсолютного
нравственного требования некоторой действенности в мире
308
VIII. Религия и государство
против мира, нет безусловного долженствования, нет кантов-
ского категорического императива; ибо свобода Спинозы - это
действование разума как естественной сущности человека;
человек - не какое-то принципиально иное существо, но в ряду
формаций природы он принадлежит к их числу. Наконец,
трансценденция не есть для Спинозы какая-либо точка отсчета
вечного решения; ибо для него не существует никакого вечного
решения во времени, а потому не существует также никакой
экзистенциальной историчности.
Но то, в чем эти констатации отказывают философу
Спинозе, он не отвергает прямым текстом, оно просто остается за
пределами его кругозора. Скорее, оправданно будет спросить,
адекватно ли вообще описание мышления Спинозы в
альтернативе имманентности и трансцендентности. Ибо любовь
Спинозы к богу - это не любовь к мирозданию, если под
мирозданием мы понимаем совокупность всех модусов. Если Спиноза
говорит "deus sive natura", то он имеет здесь в виду бога как
natura naturans, а не naturata. «Если полагают, - пишет он, -
будто моя цель в том, чтобы отождествить бога и природу [под
которой понимают какую-либо массу или материю], то
совершенно ошибаются». Он хочет сказать, что бог «являет себя не
вне мира в вымышленном и представляемом пространстве» ,
что, скорее, мы «живем и движемся в боге», как говорит Павел.
Считающееся общей формулой пантеизма «Одно и Все» (hen
kai pan) было бы уместно для мысли Спинозы только в том
случае, если бы в Одном сохранилась трансценденция,
а «Все» не было бы совокупностью конечных вещей.
3. Утрата историчности: Идея бога была действительна
в двух взаимно противоположных вариантах.
Во-первых: Бога переживают в его действительности за
границами всех - причем действительно всех - явлений в
пространстве и времени, за пределами истории и природы,
народов и законов, за гранью добра и зла, спасения и злосчастья, и
с этим совершенно дальним человек живет, как если бы он был
все же совершенно осязаемо близок к нему, как будто бы он
был рядом с ним. В подобной действительности бога не может
быть никакого призыва к богу для собственной пользы, скорее,
действительность всех вещей в пространстве и времени
признается исходящей от бога. С человеком-противником, если
309
Спиноза
оба противника видят друг друга как люди - в отношении к
этому далекому богу - даже там, где решается вопрос жизни и
смерти, еще возможна рыцарская борьба. Если этого не
случается, если обретает дейтвительность беспощадная борьба за
существование и на уничтожение (геноциды, войны на
уничтожение, обман, спинозовское «естественное право»), то
остается все же фундаментальная достоверность того, что бог не
потерян мною, и я, что бы ни случилось, не выпаду из
действительности бога, и что даже самое ужасное все-таки еще может
быть действием бога.
Во-вторых: Народ, определенная церковная вера,
претендуют на обладание богом как близким богом: С нами бог,
а с другими - нет; мы служим богу, а другие - нет. Другие - это
еретики, безбожники, язычники. Между людьми здесь -
абсолютный провал, ибо другим отказывают в боге. В борьбе с
ними за существование осуществляется борьба бога с
врагами бога: мы боремся за бога против ложных богов (как будто
бог хочет этого). Преимущество нашей собственной веры в
бога освящает наши собственные жизненные и властные
интересы.
Первое есть вера в бога как бога всех людей и мира,
второе - национальная или церковная вера. В Библии есть и то
и другое: религия человечества и национальная религия;
религия человечества - достоверно со времен пророков, возмо-
но - со времени Моисея, быть может, начиная с Авраама.
В этой полярности проясняется идея бога: далекий и близкий
бог. Но при этом есть две совершенно различные, пусть даже
и ложно отождествляемые противоположности:
Во-первых: Противоположность религии человечества и
историчной особенности ее проявления. Историчное
представляет собой промежуточное звено в пространстве и
времени, благодаря которому абстракция объемлющего обретает
действительность в некоторой общности, передается в
традиции, определяет жизнь вплоть до каждого дня и часа жизни.
Во-вторых: Противоположность религии человечества и
притязания на исключительность ее исторической
конкретизации (Besonderung). Это притязание превращает исторично-
особенное в человечески-всеобщее, в «кафолическую»
претензию некоторой церкви, в избранный народ, в ожидание, что
некогда все люди будут поклоняться богу в Иерусалиме.
310
VIII. Религия и государство
Сосуществование и взаимное отношение двух этих
противоположностей присутствует в Библии. В ней идет
фактическая борьба человека за свою вечную действительность,
которая не может обойтись ни без историчности, ни без
всеобъемлющего, как единого бога, это еще и до сегодняшнего дня
возбуждающее и вовлекающее людей движение. Спиноза -
целиком на стороне всеобщего, и наивно отбрасывает
историчное.
Этот аспект философии Спинозы показывает нам ее
глубину и ее границы. Наивысшая абстракция философии сама по
себе как раз и делает возможной самую чистую историчность.
Она высвобождает безусловность в облике историчного
облачения и лишает ее фальшивых абсолютизаций в борьбе за
исключительную истину вероисповеданий, или вообще
притязания на всеобщезначимость как историчности в ее
высказываниях, воззрениях, образах, формах жизни для всех людей.
Спиноза целиком и полностью движется на стороне
высвобождающего дозволения. Он упускает историчность. Правда,
высшая абстракция имеет для него наибольшую силу в
практике жизни, и ему ее достаточно. Остается невозмутимость и
активность разума, и то и другое - без всяких шифров
мифологического, догматического, законного характера. Так, в нем
есть истина и превосходство, которое, однако, остается
только там, где вместо угрожающей пустоты ее наполняет -
и упраздняется в ней - содержание человеческого
существования.
В том же году, когда было провозглашено отлучение
Спинозы, было продано с аукциона имущество Рембрандта. Спиноза
стал изгнанником, Рембрандт - социально деклассированным
человеком. Оба они обрели светлую ясность своей
метафизики из крайности бедствий. Но нет никаких известий или знаков,
указывающих, что они когда-либо встречались.
Того, что Рембрандт видел в созданном образе и что он
показывает нам в непостижимом множестве своих произведений,
Спиноза не видел. Спиноза лишен способности созерцания:
сами фигуры его мысли не обладают пластической силой
шифров. Этот недостаток Спинозе пришлось давать читателю
почувствовать так, чтобы вновь дать ему осознать и проявить
для него всю силу трансцендентного бога, объемлющего все
311
Спиноза
и вся бога, того бога, перед которым нет ни демонов, ни богов,
и нет с ним посредников. Смысл его мышления относился
к неистребимо первостепенному, неизменному,
неприкосновенному, что является сокровенным вождем в произведениях
Рембрандта, однако не выступает явно, потому что не может
войти ни в какой образ и подобие, тогда как образ и подобие
суть все же столь неизбежно необходимый, столь
увлекательный язык, если в них есть рембрандтовская истинность.
Спинозовское игнорирование историчности самым
примечательным образом проявляется в следующем: Рембрандт
видел еврейскую душу, к которой Спиноза был причастен, сам не
осознавая того. Рембрандт видел ее так, как никто до него и
после него. Кто спрашивает, где такая изначальная
достоверность бога, которая служила опорой жизни также и для
Спинозы, такая жизнь, как жизнь Иисуса, где это умение не терять
себя в страдании, это чувство крайнего бедствия, и эта
способная к любым жертвам любовь, этот пыл души, - где все это
не только мыслили, не только применили для теоретической
интерпретации своего собственного существования, слыша его
как некое эхо, но где это стало в полной мере действительным,
где чаще всего встречаются такие люди, как Иисус
(понимаемый так, как он зримо представлен в синоптических
евангелиях), тот может ответить: повсюду в мире - чрезвычайно редко,
однако в наиболее осязаемой форме, по-прежнему необычно и
отнюдь не в облике человеческой посредственности - у
евреев. Он не найдет у Спинозы зоркости взгляда для восприятия
еврейской души, той любви, которая может воспринять эту
любовь. Спиноза не видел того, что видел Рембрандт.
4. Отсутствие основных свойств бога: Этот упрек гласит:
Библейский бог - ввиду ужасов человеческого
существования - не только непостижим, но гневается, исполнен ревности
(Да не будет у тебя иных богов кроме меня)сху", он -
законодатель. Он - страшный бог. Человеку знаком не только закон
дня, но также и страсть к ночи; бог являет себя в них обоих.
Напротив, Спиноза отрицает ревнивого бога, он преуменьшает
его серьезность. Он знает только любовь к богу, но не страх
перед богом. Поэтому он не понимает также и казней,
совершаемых верующими, сознающими свою обязанность перед
богом людьми над еретиками, не понимает смысла и страшно-
312
VIII. Религия и государство
го значения исключения безбожников через отлучение.
Спиноза ходит по путям, на которых ищут только успокоения,
утешения, счастья.
На это следовало бы сказать: Хотя Спиноза видит всю
суровость необходимости: наблюдает ли он за умерщвлением
мух в паутине или же чувствует сродство своего мышления
с кальвинистским учением о предопределении (однако без
понятия о грехе) однако в действительности Спиноза хранит
бесстрашие перед теми крайностями, которые выражает в мысли.
Он осуждает страх как противный разуму. Страх не содержит в
себе истины; его цель - невозмутимость. Рассматриваемый
упрек смешивает в одно разнородные явления, совпадающие
друг с другом только в своей противоразумности. Невозможно
отрицать, что Спинозе не свойственна открытость
действительности страсти к ночи, эта открытость самого разума,
которая пытается найти, - пусть даже, вероятно, и невозможную, -
коммуникацию даже с противоразумным. Страдания и
несправедливости существования (по человеческим меркам) не
вызывают в нем того возмущения, которое распознает саму
невозмутимость души как уклонение и не позволяет никаких маскировок
ужасного. Ему незнаком тот бунт, который в лице Иова судится
с богом, призывая в свидетели самого бога, и находит спасение
не в невозмутимости души, но в милосердии божием.
У Спинозы, говорит этот упрек далее, исчезает «Ты»,
общность с богом через беседу с ним в молитве. Вследствие этого
исчезает союз с богом, составляющий основу иудейской и
христианской жизни. А из-за этого утрачивается самосознание
исторично-личного человека, который приходит к сознанию
самого себя только в общении с личным богом.
Затем выдвигают упрек в том, что Спиноза знает только
любовь человека к богу, но не любовь бога к человеку. Он
пытался доказать: «Кто любит бога, тот не может стремиться,
чтобы и бог в свою очередь любил ero»cxvm. Ибо бог, говорит
он, собственно говоря, никого не любит и не ненавидит, потому
что его не затрагивают никакие аффекты радости или печали.
Но если Спиноза говорит о подлинной любви,
действительность которой есть amor intellectualis dei и ее последствия во
всех наших отношениях к человеку и миру, то он говорит, «что
бог, любя самого себя, любит людей, и, следовательно, лю-
313
Спиноза
бовь бога к людям и познавательная любовь души к богу -
одно и то же»СХ|Х. -
Поскольку все эти упреки имеют тенденцию к осуждению
Спинозы, нужно сказать следующее: Хотя они и возникают из
неискоренимых влечений конечного человека, нуждающегося
в языке шифров и в историчном присутствии в пространстве
и времени, однако человек способен трансцендировать все это
в таких формах мысли, один из великих, в свою очередь
историчных вариантов которых был создан Спинозой.
Если эти упреки возникают из неспособности к подобному
трансцендированию в мысли, то они свидетельствуют только о
неудаче мыслящего таким образом. Перед ним разверзается
пустота, субстанция Спинозы - этот потрясающий облик
объемлющего - превращается для него в ничто. Он не чувствует
действительности, которая, пронизывая все, в одно и то же
время постоянно и вневременно присутствует в актуальности,
и которой способны коснуться эти мысли.
Но если эти упреки фиксируют то, что превосходит
Спиноза, как нечто прочное, то человека, приверженного этим
фиксациям (мифам, шифрам, догматам), в ту минуту, когда эти
фиксации не срабатывают, они приводят в отчаяние, которое
устраняется только в этих трансцендирующих,
экзистенциально осуществимых мыслях Спинозы.
Эти упреки желают принимать образы и подобия, без
которых мы, люди, обойтись не можем, за саму действительность.
Они считают богом «меньше», а не то «больше», которое
усмотрел своей мыслью Спиноза.
Эти упреки блокируют готовность участвовать в великом
историческом процессе снова и снова повторяющегося
самоочищения библейской идеи бога, в котором Спиноза, как и
Иисус, находится как один из заслуживающих полного
доверия людей божиих, которые принимают всерьез требование:
Не сотвори себе кумира и всякого подобия, - этого хотя и не
неисполнимого для людей требования, и однако идеи, без
которой любая форма веры в бога превращается в суеверие.
В Библии заключается основа веры в бога, делающей
невозможной неправдивую подмену веры в бога верой в священные
книги, ритуалы, культы, народы, церкви, жреческие таинства,
или неправдивое смешение этих двух вер. Спиноза
убедителен, как один из действительно благочестивых людей.
314
VIII. Религия и государство
Однако пусть даже названные упреки правы в том, что
Спиноза игнорирует промежуточные звенья, связывающие
человека, в конечности его представлений и его мысли, с богом.
Спиноза дошел до самой крайности, куда, как он знал, в подобной
форме за ним следуют лишь немногие люди. Он нисколько не
послужил решению другой, трудной задачи: содействовать,
в общности масс, утверждению традиции образов и подобий и
структурированию жизни. Правда, наивысшая абстракция
мыслей единственна. Она способна связать между собою всех
понимающих. Она помещает нас в горизонт, в котором
явление некоторой историчности уже более не может быть
абсолютизировано и превращено в нечто всеобщезначимое, однако
делает это все же так, что историчная действительность, как
наполнение экзистенции во времени в его необозримой
различности, при этом не уничтожается.
Поддерживать в этом горизонте живую истину библейской
достоверности бога, вновь пробуждать ее в переменах ее
проявлений, каждый раз из истока, при всегда новых условиях
человеческого существования: такова великая задача
практических духовников (praktische Seelsorger). За эту задачу Спиноза
не принимался. Однако он снова открыл горизонт, в котором
все осуществления могут встретиться друг с другом в
коммуникации. Единство оформляющихся в историчном многообразии
способов веры ощущается как то средоточие, которое не
прямо, но опосредованно через философскую абстракцию,
находит для себя выражение и вектор.
d) Личные решения Спинозы и его судьба
В течение своей жизни Спиноза принимал решения,
которые создали его личную судьбу и в то же время имели
принципиальное историческое значение. Действительность его жизни
стала в его эпоху символом, на который ориентировались
многие люди нового мира, но не только в качестве образца, но и в
качестве контрпримера. Невозможно мыслить вместе со
Спинозой, не оказываясь при этом в личном общении с ним.
Спиноза объединял в себе: опыт безродности еврея (его
предки были изгнаны из Испании, его родители эмигрировали
в Голландию из Португалии), участие в испанской
литературной и еврейской традициях, в гуманистической образованности
315
Спиноза
и новой философии, политически сознательное гражданство в
голландском государстве, которому он служил мыслью и
действием.
Событием, определившим его жизнь, было отлучение,
исключение из еврейского общества. Как синагога, так и сам
Спиноза хотели избежать этого. Спиноза претендовал на
право оставаться членом синагоги, даже если он думал то, что
сам считал истинным, и говорил то, что он думал, и даже если
он не появлялся на богослужениях и не исполнял
установленных культовым законом ритуалов.
Спиноза признавал откровение и разум. На вопрос, почему
же в таком случае он не остался в синагоге, ответил этот
конфликт притязаний. Оставаться в синагоге на тех условиях,
каких требовал Спиноза, ему не было позволено, напротив, его
осыпали руганью за его «гадостные оскорбления бога и
Моисея» (вероятно, за его тезис о том, что Пятикнижие не было
написано Моисеем), и к тому же - за его «возмутительные
действия» (вероятно, за несоблюдение еврейского
церемониального закона) (Гебхардт).
Но почему же Спиноза придавал такое большое значение
своей принадлежности к синагоге, что протестовал против
отлучения в (несохранившемся) оправдательном сочинении?
Очевидно, ввиду возможных последствий для его гражданских
прав. Вероятно, его сестры, ссылаясь на его отлучение,
оспаривали у него отцовское наследство. Достоверно известно, что
раввин Мортейра писал амстердамскому магистрату, что
взгляды Спинозы на Библию направлены против христианской
религии, и что поэтому он требовал удаления Спинозы из
города Амстердама. Духовные лица реформатской церкви
выразили согласие. Спиноза в самом деле был на несколько
месяцев изгнан из Амстердама. Он направился в Оуверкерк, где
жил фактически под защитой городских властей. Лишь
незадолго перед тем еврей-фанатик совершил на него покушение,
которого Спиноза, проявив присутствие духа, избежал, ловко
увернувшись от нападавшего. Пробитый кинжалом фанатика
плащ он впоследствии хранил у себя.
Если задать вопрос, какая из двух сторон была права, то
этот вопрос не поддается разрешению, поскольку предпосылки
сторон несоединимы. Спиноза перенес дело на почву
голландского гражданского права и, таким образом, в самом деле до-
316
VIII. Религия и государство
бился защиты, тогда как религиозный вопрос был для него
безразличен.
На минуту последуем за аргументацией, которая не была
развернута в то время. Говорят, будто поведение Спинозы,
если бы каждому человеку, апеллирующему к разуму, было
позволено вести себя подобным образом, лишило бы веры
верующих, ослабило бы или уничтожило повиновение авторитету.
Как оскорбление веры и высокомерие считающего себя лучше
других, оно имело бы следствием нарушение мира и
разложение общности. Спиноза ответил бы на это: Подобное
возражение утверждает, что человеческую общность следовало бы
основать на неправде, на pia fraus, сознательной лжи (в
политическом мышлении Платона). Но это требование само по себе
неправдиво, потому что искренность разумной философии
неспособна поколебать искренность верующего послушания: ибо
обе они единодушны в искренности своей жизненной практики,
движимой любовью и справедливостью. - Признание
послушания и откровения означает не унижение, а признание
некоторой историчной формы для того же самого содержания. -
Преимущество чистого разума может видеть только тот, кто
движется по пути этого разума. Этот разумный человек не будет
высокомерен, не будет презирать, не будет иронически
одобрять то, что делает верующий. Он будет обращаться как
равный с равными с верующими людьми, с которыми искренность
жизненной практики связывает его теснее, чем оба они
связаны с теми, кто руководствуется одними лишь аффектами. Ибо
оба они чужды как высокомерию верующих в авторитет,
пользующихся своей властью и своим влиянием, так и
софистическим нигилистам, которые, не имея разума, пользуются
псевдоразумом для нападения, движимые высокомерием своего
интеллектуального превосходства, настаивая на своем
произволе. Практика жизни благочестивых людей, верующих в
откровение, как и благочестивого независимого философа,
руководствуется убеждением в том, что они отнюдь не так уж
необходимо должны вступать в конфликт друг с другом или с
миром. Они - носители истинного мира.
После отлучения существенное значение имеет еще один
факт: Спиноза не стал христианином. Хотя он состоял в
дружеском общении с коллегиантами, но его поведение не имеет
совершенно ничего общего с поведением многих евреев,
перешедших в христианство. У нас нет никаких документов о мо-
317
Спиноза
тивах, определявших поступки Спинозы. Ясно, однако, что он
не мог явно присоединиться к какой-либо конфессиональной
общности, если не родился в ней. Ибо его философия сама
была некоторой формой веры в бога. Ни в какой религиозной
конфессии он не нуждался.
Спиноза хотел мира и покоя в блаженстве amor intellectualis
dei. Но то, что он делал, должно было стать общественным
событием. Он не уклонялся. Что произошло бы в случае, если бы
он избежал своего исключения и в скептическом безразличии
продолжал бы далее участвовать в жизни общины? Жизнь,
которая была бы для него, отнюдь не бывшего на деле
скептиком, жизнью в постоянной нечестности. Тогда для него было
бы невозможно мыслить о своей философии, писать «Этику» и
«Богословско-политический трактат». Он стал бы тем, чем уже
было прежде бесчисленное множество людей. Не мог ли бы он
подождать, а пока что писать свою философию? Но его
мышление было возможно, только если он имел бы право жить, не
посещая богослужений, в свободных речах. Поэтому, прежде
чем были созданы его произведения, он своими столь
самоочевидными в философском смысле требованиями, при
тогдашних обыкновениях, фактически вынудил синагогу отлучить
его. Можно предположить, что только само это событие
впервые позволило ему с полной ясностью осознать свою
философию и захотеть сделать ее сообщимой для каждого, кто
желает свободно жить в достоверности бога.
Кто, подобно Спинозе, своей собственной разумной волей
вступает в конфликт с институтом, представляющим его народ
или его церковь, в которых он родился, кого так же исключают
его собратья по происхождению, родственники и земляки, -
падает ли он в пустоту? Нет, в эпоху, когда каждого духовно
хранил авторитет его церкви, в котором вот уже сто лет как
были известны кровавые религиозные битвы, в котором
множественность вер делала сомнительной саму веру в качестве
истины, в котором получали слово скепсис и неверие, но или
колебались и не умели устоять, или же, как суверенный
скепсис, послушно и равнодушно соблюдали порядок в церкви и в
государстве, Спиноза с такой самоочевидностью и
спокойствием, как будто бы иначе быть и не могло, и с твердой
уверенностью, не знавшей колебаний, решился встать на ту почву, на
318
VIII. Религия и государство
которую может вступить каждый человек, как мыслящее
существо, где каждый вправе быть дома без всякого происхождения
и без традиции, которую не может похитить никто: на почву
действительности бога, обнаруживающейся в разумной
достоверности.
Был ли Спиноза еще где-нибудь дома? Он был голландцем.
Но это было не место, где ты дома, а пространство на уровне
существования, позволявшее свободно жить в мире и
которому наше собственное существование чувствовало себя
обязанным. Спиноза полагал, что лично он, в его ситуации, имеет
достаточную почву в существовании в качестве гражданина
голландского государства. Это государство защитило его от
ожидаемых синагогой последствий отлучения. Пусть даже в то
время голландская свобода, сравнительно с другими
государствами Европы, была достаточно велика и все еще
сохранявшаяся опасность для Спинозы побуждала его публиковать
свои произведения лишь с большой опаской или не
публиковать их вовсе, все же он знает: «Нам досталось на долю
редкостное счастье жить в государстве, в котором за каждым
признается полная свобода высказывать суждения и почитать
бога по-своему и в котором свобода считается самым дорогим
и драгоценным благом».
Этой ситуации соответствовал трезвый взгляд Спинозы на
сущность государства. Государство отнюдь не имеет для него
платоновского характера. Оно не имеет и церковного
характера, у него нет религиозной основы, но, для того чтобы
пользоваться миром в свободе, оно нуждается в терпимости ко всем
разновидностям вер и исповеданиям в своих пределах. Оно -
не абсолютистское государство, как у Гоббса, но либеральное
государство в живом напряжении. Оно не имеет
воспитательных задач, но есть лишь правовая общность, имеющая целью
свободу всех. Государство также и не этническое (völkisch),
ибо оно основано на чисто политическом принципе.
Имея в виду реальности того времени, мы вполне можем
спросить: как для Спинозы, при его поведении, возможна была
столь благоприятная личная судьба в существовании? Скорее
нужно было бы ожидать, что его уничтожат или вышлют из
страны. Причины подобной судьбы были таковы: он был
евреем, а не христианином. Поэтому в глазах христиан он не был
319
Спиноза
еретиком, ибо он не отпал от христианства. Будь он
христианином, то у церковных инстанций было бы достаточно власти,
чтобы помучить его совсем по-другому. То, что евреи
подвергли его отлучению, христиан интересовало не сильно. -
Спиноза жил спокойно, ненавязчиво. Там, где он появлялся лично,
он вызывал симпатии даже у своих противников. - Он не
занимался пропагандой, нигде не проявлял мятежной активности.
Каким бы решительным он ни был в философии, все же он
никогда в состоянии аффекта не выразился провокационно или
оскорбительно. - И наконец, и прежде всего: он был
осмотрителен, причем осмотрителен с суверенным сознанием
реальностей жизни.
е) Спиноза и еврейский вопрос
1. Наш вопрос. - Уже в свою бытность евреем Спиноза
пережил опыт исключенности из состава прочих народов. К тому
же он сам пережил исключение из еврейского общества. Его
судьба - как предвосхищающее представительство
современной, вынужденной самой жизненной ситуацией,
беспочвенности и того, какую внутреннюю установку человек может занять
в этой беспочвенности. Он сам знаменит в истории как
великий, примечательный, как гадкий еврей. Мы непроизвольно
задаем вопрос о еврейских мотивах его мышления, о его
жизненной практике, направляемой еврейской достоверностью
бога и еврейским политическим взглядом.
На такой вопрос у Спинозы не находится ответа. Мы
никогда не слышим о нем, чтобы он чувствовал себя евреем. Он не
осознавал свое происхождение как что-то для него
существенное. Он не знает никакого еврейского вопроса. Преследования
евреев он видит глазами объективного исторического
наблюдателя, они не трогают его. Он не может предвидеть того, что
начиная со второй половины XIX века обрело
действительность как еврейский вопрос в его сегодняшнем политическом
смысле. Он не выдумывает также по каким бы то ни было
богословски-политическим мотивам какого-либо «права» евреев,
ничего не знает о политических правах человека.
Что ответил бы Спиноза в нынешней ситуации?
Современный еврей и каждый человек, понимающий, что имеется
320
VIII. Религия и государство
в виду, когда говорят о геноциде евреев в гитлеровской
Германии, спрашивает: что я буду делать, если мое общественное
окружение, отменив правовое состояние в государстве,
изнасилует меня по причине моего доказуемого происхождения
(религия, раса, класс), а в конце концов захочет меня
уничтожить? Спиноза ответил бы, сославшись на естественно-
правовой принцип самоутверждения, а не ссылкой на вечную
справедливость, не притязанием, которое могло бы ожидать
себе действительного признания по какому-либо праву. Здесь
поможет только самоутверждение притесняемых своим
окружением, только этим притеснением впервые принужденных
объединиться в особую общность.
Спиноза добавил бы к этому, что с богом это имело бы не
более общего, чем любое другое самоутверждение. Ибо
каждое возникает из его вечной необходимости. Спиноза не стал
бы отождествлять этого утверждения в существовании с
заветом, который бог заключил с евреями. Хранительную
достоверность бога он не стал бы идентифицировать с верой в бога,
который будто бы дал моему народу и мне гарантии в
существовании. Даже видя гибель собственного народа, он сказал
бы с Иеремией: «Так говорит Господь: Вот, что я построил,
разрушу, и что насадил, искореню... А ты просишь себе
великого: не проси»схх. Спиноза сказал бы, что понятие еврея
в ситуации угрозы жизни включает и верующих, и неверующих
евреев, которые составляют одно целое, если и поскольку они
характеризуются доказуемым для каждого отдельного
человека историческим происхождением и объединены угрозой и
осуществлением геноцида.
Спиноза видел бы только борьбу за самоутверждение по
естественному праву, согласно которому все совершается с
необходимостью, где люди хотят жить, и жить по-своему, и
желают для себя свободы, потому что они не варвары. Право
действует здесь ровно настолько, сколько имеется силы. Здесь
действует право рыб, по которому крупные рыбы пожирают
мелких.
Поэтому не существует вышестоящей правовой инстанции.
Ибо право есть только в государстве и силами государства,
насколько простирается его власть. Вышестоящая инстанция
есть объемлющая божественная необходимость, в которой все
происходящее находит себе место. Она выше всех
гражданских законов, имеющих силу, потому что имеющих могущество,
в государстве. Эта инстанция божественной необходимости не
поддается предвидению в частностях по закону природы, кото-
321
Спиноза
рый был бы уже известен (поскольку совершенство познания
находится в бесконечности). Человек может только попытаться
и пережить на опыте то, что совершается согласно этой
верховной инстанции божественной необходимости. Поэтому
остается суровость и ужас и двусмысленность судьбы, перед
лицом которой Спиноза знает только невозмутимость
вследствие достоверного знания бога. Однако философское
познание не допускает, чтобы представление о некоторой
вышестоящей, в каком бы то ни было смысле надежной правовой
инстанции превратилось в обманчивую иллюзию. Все аргументы
и доводы, желающие дедуцировать право без силы, суть здесь
только самообманы. На стороне бессильных они вызывают
иллюзии ресентимента по принципу некоего несуществующего
вечного права; он должен косвенно придать нашему
собственному бессилию значения и силы в существовании благодаря
нашей превосходящей ценности. Или же они порождают на
стороне власть имеющих, которые хотели бы усилить
самодовольство своей сиюминутной власти в существовании,
иллюзии, питаемые принципом легитимности этой власти ввиду их
превосходящей ценности (расы, избранности, происхождения
от богов). Нашей собственной власти в существовании, кроме
того, чем она уже обладает фактически, надобно еще придать
характер вечного приоритета, вечной сущности, вечной заслуги
ее носителей. Оба эти самообмана мешают нашим глазам
видеть те реальности, которые в каждый данный момент
действуют согласно естественным правам, а потому вынуждают
упустить то, что необходимо нам для утверждения своего
существования. Самопревозношение ведет к бедствию в
существовании, не говоря уже о том, что оно вызывает
замешательство вследствие неадекватных представлений, а значит -
вследствие аффектов.
2.Спиноза о евреях. - Между тем сам Спиноза говорил
о судьбе евреев. Его взгляд таков:
Моисей учредил государство евреев, заключив завет с
богом. Только богу «принадлежало правление над евреями, а
потому государство, в силу договора, справедливо стало царством
божиим. Вследствие этого враги государства были врагами бо-
жиими. Права правительства были правами и велениями бога.
Гражданское право и религия были одним и тем же. Догматы
религии были не учениями, а правовыми положениями и
приказами. Тот, кто отпадал от религии, переставал быть
гражданином и только вследствие этого рассматривался как враг». Это
322
VIII. Религия и государство
особенное в историческом отношении государственное
состояние имело чрезвычайно важные последствия для внутренней
установки евреев. «Любовь евреев к своему отечеству была не
просто любовью, но была благочестием, которое
поддерживалось ежедневным культом одновременно с ненавистью к
остальным народам». Их ежедневный культ был не только
совершенно отличен от культа у других народов, но решительно
противоположен ему. «А потому из своего рода обыденных
упреков должна была возникнуть постоянная ненависть,
которая могла укорениться в душе глубже чем что бы то ни было
другое. Ведь это же была ненависть, происходившая от
глубокого почтения или благочестия и принимаемая за
благочестивую ненависть». Другим следствием был возвратный эффект:
Поскольку другие народы вынуждены были, в свою очередь,
отвечать на ненависть евреев самой ожесточенной
ненавистью, ненависть к ним со стороны евреев опять-таки росла.
Согласно Спинозе, в его собственное время с евреями дело
обстоит совершенно иначе. С тех пор как государство евреев
погибло, они существуют только благодаря своей религии.
Сегодня «у них нет более ничего, что они могут приписывать себе
перед лицом других народов». Но они продолжали жить «в
рассеянии на протяжении столь многих лет». Почему? Это,
отвечает Спиноза, «совсем не чудо, после того как однажды они
отделились от всех народов таким образом, который навлек на
них ненависть всех, - обособление не только во внешних
обычаях, противоположных обычаям других народов, но также и в
знаке обрезания». Знак обрезания Спиноза считает «столь
многозначительным, что я убежден, что одно только это народ
сохранит у себя навсегда».
Но то, что причиной сохранения еврейства является в
первую очередь ненависть к нему со стороны других народов,
Спиноза считает возможным подтвердить опытом событий
в Испании и Португалии.
«Когда испанский король некогда принудил евреев принять
религию его страны или отправиться в изгнание, то очень
многие евреи приняли религию папистов (Päpstliche). Поскольку,
однако, за теми, кто принял эту религию, признавались все
права прирожденных испанцев, и их считали достойными
занимать все почетные должности, они тут же настолько
смешались с испанцами, что в короткое время от них не осталось ни
323
Спиноза
следа, ни воспоминания». Иное дело в Португалии. Здесь
король также поставил их перед выбором: обращение или
эмиграция. Но, хотя они и обратились в папскую религию,
фактически они жили там обособленно от всех, «потому что король
объявил их недостойными занимать все почетные должности».
«Избранность» еврейского народа Спиноза понимает как
относящуюся к жизненному пространству и благосостоянию.
«Если бы кто-нибудь пожелал отстаивать мнение, что евреи от
вечности избраны богом по той или по иной причине, то я не
желаю ему противоречить, если только он учтет, что это
избрание, будь оно временным или же вечным, поскольку оно
свойственно одним лишь евреям, относилось только к их
царству и плотским приятностям их жизни (ибо только в этом один
народ может отличаться от другого), но что в отношении
интеллекта и истинной добродетели ни один народ не
отличается от другого народа, а потому также и в этом отношении ни
один народ не избран богом преимущественно перед другим».
В настоящее время земля Палестины потеряна. Избрание
приостановлено. Однако Спиноза считает вероятным, что
евреи в будущем сохранятся. «Даже больше: если принципы
их религии не размягчат свой смысл, то я хотел бы
безоговорочно верить, что однажды, если к тому представится повод
(а ведь дела человеческие подвержены переменам), они вновь
воздвигнут свое царство и что бог снова сделает их избранным
народом». (Сегодня евреи фактически составляют в мире
религиозную, но не государственную общность, а в Израиле -
государственную, но - без сомнения, неожиданно для
Спинозы - не религиозную общность).
3. Политическое отношение Спинозы к еврейскому
вопросу. - Спиноза, предки которого были изгнаны из Испании, но
родители которого все же эмигрировали из. Испании в
Голландию, никогда не произнес ни одного слова гнева, ни одного
относящегося к правам человека обвинения по адресу
преследований евреев. Он не чувствует побуждения помогать своему
народу. Этому народу в Голландии жилось хорошо. Синагога
была настолько влиятельна, что она смогла даже заставить
голландские власти удалить Спинозу из Амстердама. Евреи
высказывали суровые угрозы Спинозе (хотя в покушении на
него нет оснований подозревать синагогу), защищало же его
324
VIII. Религия и государство
государство, конституированное по мотивам свободы и для
свободы. Поскольку в Голландии евреям не угрожала
опасность, Спиноза не чувствовал непосредственного повода
размышлять о будущем и о судьбе евреев. Религия закона и
культовые церемонии были ему безразличны.
Что касается безопасности и правоспособности евреев в
Голландии, Спиноза остался грандиозно прав. В Голландии
никогда, с XVI столетия, не было преследований евреев или
ущемления их в правах. Когда гитлеровская Германия
совершала свои преступления также и по отношению к голландским
и неголландским, но проживающим в Голландии евреям, эти
евреи, хотя маленькая бессильная страна и не смогла спасти
большей их части, нашли у голландцев такую защиту, какой не
нашли более ни в одной из опустошенных гитлеровской
Германией стран, кроме Италии.
4. Отказ Спинозы от своей связи с еврейством. - Как
назвать то, к чему я привязан своим происхождением, то
абсолютно историчное, выпадение из чего означает для меня
провал в беспочвенность, в которой меня духовно, для вечности,
может поддержать только общечеловеческое, в тотальной
историчности его разума в божестве, в аспекте же
существования - только счастливый случай моей безопасности в
государстве (для Спинозы - в Голландии)? Раса ли это, народ, госу-
даственное целое или что-то абсолютное? Язык ли это?
Общая ли судьба? Для Спинозы - ничто из всего этого, а
только вечная божественная необходимость.
Для евреев - не для Спинозы - имел силу завет с богом
через Моисея, который наделял их, в их богоизбранности,
уверенностью в том, что, если только они повинуются богу, они
найдут себе счастье также и в земном существовании.
Постигающие их бедствия они толковали как наказание божие за
непослушание, и вопрошали о своей вине. Но теперь еврею,
честность которого получила высший смысл благодаря божией
заповеди правдивости, открылось, что отнюдь не всегда на
долю благочестивого человека выпадает счастье, а на долю
безбожника - несчастье. Поэтому Иов состязался с богом
о божественной справедливости, однако мог восстановить
свое доверие богу только в победительном слове божием, не
дающем ответа на его вопрос, не развязывающем узла, но
приносящем удовлетворение только тем одним, что он есть.
325
Спиноза
Мы можем спросить: Не есть ли достоверность бога у Спинозы
некая превращенная форма этой еврейской достоверности
бога? Не заняла ли теперь вечная необходимость место былой
непостижимости бога?
Спиноза отказался от обрядовых законов, от идеи
мессианства, от завета; не отказался ли он тем самым от всей
действительности в мире, так что у него остается только то, в чем
живет индивид, в своем качестве индивида?
Оппозиция (Gegnerschaft) Спинозы направлялась не против
еврейства, а против синагоги. Он выступал против ограничения
свободы мысли, против принуждения обрядовых законов,
против цензуры и нетерпимости. Конфликт его юности был усилен
в его душе волновавшим Спинозу вопросом о сущности и
условиях свободы, о государстве, в котором каждому позволено
думать то, что он хочет, и говорить, что он думает. Это был не
только еврейский вопрос, но великий вопрос западного мира,
а затем и всего человечества, к которому Спиноза обращался
с величественно-простым словом.
Если речь заходит о «суровых и даже враждебных
суждениях, произнесенных Спинозой о том народе, из которого он
вышел» (Гебхардт), то я не могу с этим согласиться. Его тон
здесь таков же, каким он говорит о христианских материях.
Это, во-первых, тон безоговорочного суждения о религии
откровения, во-вторых, самоочевидное для него объединение
Ветхого и Нового Завета, как документов одного постепенно
развивающегося религиозного опыта, в-третьих, оценка
заблуждения христианского, как и еврейского, фанатизма в
резких выражениях, таких как «безумный» и подобные им.
Спиноза не сознает в себе никакой связи с еврейством. Его
мышление имеет почвой только разум человека, а не какую бы
то ни было историчную субстанцию еврейского бытия (пусть
даже нашему взгляду он предстает, и может представать,
всецело находящимся в этой историчной субстанции). Мы не
замечаем в Спинозе ни следа претензии, обосновываемой тремя
тысячелетиями еврейских предков. Если мы предполагаем, что
человек должен обнаружить свое происхождение и
родословную в своих оценках и в настроении эмоциональной
приверженности и предпочтения, то подобного настроения у Спинозы
нет. Он лишен чувствительности к шифру идеи избранности и
завета, как претензии к самим себе, а не к другим. Кажется,
326
VIII. Религия и государство
будто вместе с полнотой историчных явлений то богатство
душевной глубины, силою которого жил он сам, сделалось
незримым для его собственного сознания. Спиноза не обращал в
этом направлении свои мысли, когда оспаривал в лице Май-
монида скованную философию, а тем самым нечто такое, что
отнюдь не тождественно историчной связи с еврейством.
Маймонид, в своей чрезвычайной философской
радикальности, обращается все же как верующий еврей к верующим
евреям (Лео Штраус). Он исходит из предпосылки, что Библия
может быть понимаема разумно (и для этого нуждается в
аллегорическом смысле Писания, который Спиноза отвергает как
фиктивный), а кроме того, что он может понять разумом, что
должно существовать, подлежащее впоследствии разумному
пониманию, откровение. В каждой своей мысли он живет верностью
самому не подверженному никаким сомнениям откровению.
Он делал то, что на свой лад делали верующий в Коран Аверро-
эс и христианин Ансельм: старался найти разум в самой вере в
откровение. «Родившись евреем с евреями, он производит
процедуры аргументации для евреев в контексте еврейской жизни».
Если Маймонид осуществляет критику откровения на почве
откровения, то Спиноза - критику откровения на почве
достоверно знающего бога разума, от рождения присущего каждому
человеку. Спиноза также осуществлял критику откровения, так
что он признавал его в его исторической и политической
функции, однако он делал это не из предпосылки такого
откровения, в которое бы верил он сам. Все человеческие дела, как
христианство, так и государство, и так же точно - еврейство,
Спиноза призывает на суд высшей судебной инстанции: на суд
философского разума.
5. Суждения о Спинозе как еврее. - Любовь Ницше к
Спинозе и его глубокое к нему почтение не препятствовали ему
высказывать критику: «Ненависть к евреям глодала еврейского
бога», - при том что у Спинозы не имеется ни малейшего
признака этого. Спиноза не ненавидел евреев и не любил их, как и
вообще он любил не народы и социальные группы, а любил
бога и человека, как человека.
Один немецкий автор, в молодости тщательно перевевший
«Этику» Спинозы, когда национал-социалисты сделали его
профессором, в своей вступительной речи сказал: на свете
существует только «арийская» философия. Другой профессор
327
Спиноза
философии писал в то время о философии Спинозы, что это -
мысли в манере еврейских биржевых мошенников.
Отлучение от синагоги (его следует прочитать, со всеми его
ужасными проклятиями) повлекло за собой также и в
последующее время осуждение Спинозы ортодоксальными евреями.
Примечательно, однако, что точно так же оценивал Спинозу и
один немецкий профессор философии, Герман Коген.
Коген без всяких ограничений считает отлучение Спинозы
оправданным, «причем безотносительно к профилактической
защите общины от выраженного идейного типа, который в
истории преследований евреев представляет доносчик
(Denunziant)». Ибо Спиноза остается «подлинным обвинителем
еврейства перед лицом христианского мира». Он «отверг свою
прирожденную религию, бросил постыдную тень на свой
собственный род». В его лице «завершается уничтожение религии,
из лона которой он вышел». Он ставил Христа выше Моисея
(Спиноза никогда этого в такой форме не говорил, должно быть,
Коген заключил так по его суждениям). Влияние Спинозы ужасно:
«Оргии ненависти к евреям» в XIX веке «были бы необъяснимы,
если бы злой демон Спиноза не отравлял эту атмосферу как
внутренне, так и внешне». Коген сделался новым прототипом
еврейского спинозоненавистника. Удивительно, что имеющий
заслуги в философии Франц Розенцвейг соглашался с его
суждением о Спинозе, пусть даже он и смягчил этот приговор.
Совершенно иначе, с гордостью за этого великого еврея,
думает большинство не связанных рамками ортодоксии
евреев. Мы читали в газетах, что в год 300-летия анафемы
Спинозе (1956) в Гаагу из Израиля была отправлена гранитная плита
с надписью: «Твой народ». Спиноза бы этому удивился. Он
никогда не думал в этническом ключе. На человека масштаба
Спинозы не вправе претендовать ни один народ, ни одно
государство. Правда, еврей может заметить, что, вероятно, только
еврейству возможно было породить такого человека, как
Спиноза. Правда, голландец может гордиться тем, что Спиноза
переживал свои порывы к свободе как голландские и
одновременно как свои собственные порывы и получил возможность
жить именно благодаря этому государству. Но великие люди -
это притязание, а не имущество. Народы и государства должны
задаваться вопросом, имеют ли они право на тех великих, кто
вырос в их среде. Ответ они получат там, где признают
масштаб этих великих своим собственным масштабом.
328
IX. Критическая характеристика философии Спинозы
IX. Критическая характеристика
философии Спинозы
а) Взгляд на философию и сущность Спинозы
1. Рационализм. - Спиноза предстает перед нами самым
законченным рационалистом, однако вот что примечательно: Если
убедительная логическая мысль высказывает у него абсолютное
и в качестве акта мысли составляет подлинную
действительность, то такое мышление есть amor intellectualis dei, и оно само
есть блаженство. И это мышление есть свобода от страстей,
которые, будучи просветлены в нем, перестают быть страстями.
Это мышление не удовлетворяется как конечное мышление в
постижении предметов, которые суть только модусы, но находит
себе завершение, как разум, в третьем роде познания, в
свободной спекуляции созерцающего и любящего познавания.
Подобное мышление не могло быть только имеющим убедительный
характер логическим мышлением, которым оно всегда
оставалось в своем явлении переднего плана. Спиноза преодолел
(überstieg) мышление, поскольку под мышлением мы понимаем
только всеобщезначимое оперирование строго определенными
понятиями. Его мышление - это новая форма древней, как мир,
философской медитации (Kontemplation), которая есть
внутренняя деятельность и налагает свою печать на всего человека.
Пусть еще раз выскажется здесь словами самого Спинозы
характер его основополагающей достоверности,
удостоверяющейся в доказательствах средствами разума и с которой мы
познакомились выше: «Если однажды я обладаю надежным
доказательством, то не могу впадать в такие мысли, чтобы
некогда я смог усомниться в этом доказательстве. Поэтому от
того, что показывает мне интеллект, я совершенно успокаиваюсь,
не испытывая ни малейшего опасения, что мог бы в этом
ошибаться... И даже если бы я однажды признал ложным плод,
полученный мною из моего естественного интеллекта, то плод
этот все-таки осчастливил бы меня, потому что жизнь свою
я надеюсь проводить не в печали и вздохах, а в покое,
радости и веселье, и таким образом восхожу по ступеням вверх.
При этом я признаю (и это приносит мне величайшее
удовлетворение и душевный покой), что все происходит таким
образом властью наисовершеннейшего существа и по его
неотменимому совету».
329
Спиноза
Спиноза живет и мыслит, исходя из той основополагающей
достоверности, для которой действительность бога в третьем
роде познания интуитивно актуально дана как единая,
единственная, всеобъемлющая действительность. Из этой
действительности Спиноза идет в мир тремя путями: к
метафизическому познаванию, к личной экзистенции, к
государственному порядку. На языке второго рода познания он развивает
опосредованное базовое знание о целом бытия, о боге, мире
и человеке. Посредством изучения аффектов человека он
находит путь к освобождению от них, счастье и спасение
человека в чистом познании. Относительно реальности
человеческой общности он изучает государство и религию откровения,
чтобы представить взору читателя разумное устройство для
свободного раскрытия всех человеческих возможностей.
2. Независимость самостоятельного философа. -
Спиноза проживал это, понимающее себя таким образом,
познавание разума, как свою собственную жизнь. Он - единственный
из числа великих философов XVII века, кто философски
обосновал всю свою жизнь без помощи гарантий от авторитета и
веры в откровение, а также и без иллюзорного приспособления
к господствующим силам эпохи. Он был великим, подлинно
независимым человеком, который, от лица всего западного
мира, нашел в философии то, что церковные люди называли
своей верой. В нем вновь нашла осуществление
самостоятельность философии, не нуждающейся в церковной вере
потому, что она сама есть вера.
Подобную философию называли «философской религией»
в противоположность церковной религии. В этом смысле
религией была великая философия античности, религией была
всякая метафизика. Только, употребляя слова в таком смысле,
не следует забывать, что философская религия не имеет
культа, не имеет молитвы, не имеет институтов и церкви, не имеет
священных писаний. Выражение «философская религия»,
подобно выражению «философская вера», хочет сказать, что
речь здесь идет о таком мышлении, с которым и посредством
которого живет философский человек, так что все, что он
делает, что встречается ему, что он познает, помещается в это
пространство, просвечивается, усваивается, оценивается из
этого истока.
ззо
IX. Критическая характеристика фшософии Спинозы
Паскаль писал: «Бог никогда не может быть концом
философии, если он не является ее началом». Так было и у
Спинозы. Спиноза мыслит в истоке, потому что он, прежде всего
остального, удостоверен в самом себе. Поэтому он не
восходит из мира (путем изучения вплоть до самых границ) для
мыслящего установления основы. Поэтому также ему отнюдь
не только в пограничных ситуациях открывается то, что, как
шифр бытия, дает человеку двусмысленный свет. Прежде
всякой возможности исследования вещей и прежде всякого опыта
уничтожающих пограничных ситуаций человек уже надежно
защищен во всеобъемлющей действительности бога.
Эта философская религия Спинозы, благодаря
достоверности бога, несет покой, радость, примиренность со всем сущим.
«Поскольку мы постигаем, что бог есть причина печали, мы
радуемся». В сознании необходимости рождается спокойствие,
не желающее ничего требовать. Amor intellectualis dei
порождает ницшевскую amor fati: не желать ничего иного, не желать
вещи иной, чем какова она есть. Мы никогда не узнаем о
внутренних конфликтах Спинозы. С самого же начала, с первого же
его суждения перед нами - чудесный покой и чистота души,
эта свобода от целей даже и в самом волении.
Философия Спинозы означает самоутверждение индивида
посредством присущей ему достоверности бога,
независимость от мира благодаря защищенности в основе всех вещей.
Это самоутверждение - не индивидуализм, как наслаждение
своим особенным существованием, не испытывает никакой
склонности к эгоцентрическим рефлексиям и есть, скорее,
самое непредвзятое предание себя в своем разуме богу. Она не
означает также замкнутости нашего собственного
существования от реальности человеческой общности, но точно такой
же - однако и не больший - интерес к ней, как и к своему
собственному существованию.
Мышление в духе спасения для индивида и мышление о
государстве тесно связаны друг с другом. Но так же точно, как
здесь нет культа личности, так нет и культа государства.
Философ трезво видит реальности существования. Сама эта
трезвость возникает из amor intellectualis dei, не позволяющей
ставить что бы то ни было иное на место бога, не допускающей
забывать иерархии действительностей, а напротив, всегда
331
Спиноза
видит перед собой прочное и вечное как всеобъемлющую
действительность.
3.Осмотрительность и одиночество. - Философия
Спинозы изначально была практикой жизни. Так было
засвидетельствовано уже в том обосновании, которое он дал в юности
своему решению заниматься философией, а затем - в
заглавии его основного труда - «Этика». Глубина этой жизненной
практики была предметом нашего предшествующего
изложения. В ней есть такие черты, которые отнюдь не изначальны,
а являются следствием соприкосновения с миром.
Осмотрительность: В знании о мире, в любви к богу, при
всяком взгляде на явления мира, при благожелательном
расположении ко всякому встречающемуся человеку Спиноза
чувствует все же глубокое недоверие; ибо он знает, что является
в мире общим правилом. Отсюда его осмотрительность без
заносчивости и без упреков, однако как соответствующая
фактичности необходимость разумной жизни.
Спиноза не растрачивает себя даром, однако он и не
скупится на себя: он разумно хочет не оставить места
небрежности, чтобы от нее не произошло никакой беды.
Он совершенно отказывается от славы. Даже
академическая преподавательская деятельность порождала в ту эпоху
немалую опасность; поэтому он отказался от этого рода
занятий. Он откладывал публикацию своих сочинений, однако он
писал их - без спешки - в надежде расширить благодаря им
пространство разума в мире, увеличить шансы разума.
Не отшельник, но одинокий: Спинозу считали
отшельником. Исследования последних пяти десятилетий уничтожили
эту легенду. Спиноза жил не только во множестве дружеских
связей, близких и более отдаленных, в соприкосновении с
великим духовным миром Европы того времени, но даже и в
политической активности. В его натуре не было ничего от
оригинала, скорее, повсюду он действовал естественно,
непредвзято, с благородными манерами обхождения. Куда бы он ни
пришел, повсюду его не только уважали, но и любили.
Другое дело, когда Спинозу называют одиноким. Он обрел
«точку опоры вовне», в философствовании - в боге, не
встраивая эту философию в мирские контексты. С одной стороны,
внутренне он был совершенно независим благодаря своей до-
332
IX. Критическая характеристика философии Спинозы
стоверности бога, а с другой стороны, он состоял во
множестве человеческих соприкосновений, которые удовлетворяли
его, хотя это и не уничтожало его одиночества. Но это имеет
следствием то, что нам кажется, будто в облике Спинозы
недостает той, соединяющей людей в их незаменимости, силы
любви, которая в общей судьбе спутников по жизни ведет
к безусловности взаимного историчного погружения. Спиноза
изначально был только самим собой. И то, что он думал и что
представлял, было всеобщее, холодное, но целиком и
полностью наполняющее человека царство мышления, царство amor
intellectualis dei, которая действительно есть сама его жизнь в
высшей ее форме - в разуме. Спинозу в беседе с другими нам
пришлось бы представлять себе совсем не таким, как, скажем,
Канта или Макса Вебера. Почти сверхчеловеческий покой
возвышал бы собеседника. Непоколебимый в любой ситуации,
философ говорил бы на почве вечной истины. Вместо того
чтобы со всей серьезностью заниматься имеющейся в
настоящее время действительностью судьбы, он, скорее, заставлял
бы забыть о ней, превращая ее в несущественное. Мы в
молчании осознали бы свою строптивость перед судьбой.
4. Не образец, но и не исключение. - Хотел ли Спиноза
быть примером или образцом! Мы не имеем никаких
признаков, говорящих в пользу подобной претензии. Хотел ли он
указывать путь будущему? Он не мыслил в категориях всемирно-
исторического реформаторства. Он хотел жить и действовать
в разуме, не будучи уверен в том, что из этого выйдет.
Видел ли он в себе, скажем, исключение, принужденное
терпеть превратности судьбы, проистекающей из его
собственной сущности в ее конфликте с существующим? Тоже
нет. Он был вполне уверен в естественности и надлежащем
характере своей жизни и мысли. Он производит на нас такое
же впечатление, как и нормальность его здоровой натуры,
чуждой психологических потрясений и кризисов, далекой от
опустошительной нескончаемой рефлексии, никогда не
затронутой даже возможностью отчаяния от ничто (его болезнь -
туберкулез - была чисто физического характера, могла в
раннем возрасте положить конец его существованию, но не могла
затронуть его существа). Аффекты и помутнения разума, о
которых он говорил с такой большой опытностью, непременно
333
Спиноза
были ему знакомы, однако знакомы как нечто такое, что
улетучивается при ярком освещении.
5. Мысли, воспринятые Спинозой от других. - Можно
указать происхождение почти всех мыслей Спинозы: от стоиков
ему была известна основная установка невозмутимости силою
разума, из Библии - единый бог, из схоластики - такие
понятия, как «субстанция», «атрибут», «модус», «natura naturans»
и «natura naturata», от Джордано Бруно - «бесконечность
мира», от него и Леоне Эбрео - учение об эросе, от Бэкона -
эмпирические методы и освобождение от предрассудков, от
Декарта - различие протяжения и мышления и высокая оценка
математики как вида достоверности, от Макиавелли и Гоббса -
государственная мысль. Может возникнуть такая иллюзия, как
будто все, что только мыслил Спиноза, может быть выведено
из истории. Но мышление Спинозы было не только изначально
своей подлинностью, но отличалось и в самом своем процессе
величественной оригинальностью, которая переплавляла все
поступавшие в ее сферу рациональные элементы и
превращала их в выразительный язык Единого. Целокупность этого
мышления, базовое знание, присутствует в нем с самого
начала. Развитие заключается у него только в незначительной
модификации фигур мысли, в более богатой содержаниями
разработке, в прояснении и очищении мысли. В этом целом нет ни
пробелов, ни поворотов.
Если новым моментом у него мы назовем то, что
человеческий разум утверждается на самом себе, то и это давно уже
имелось в том, что именуется «наукой», «критикой»,
«неверием», а в качестве эпохи - «ренессансом». Однако у Спинозы
не очень много общего с этой агрессивной и чаще всего
весьма небогатой верой независимостью. Его деятельность есть,
скорее, продолжение работы старого, как мир, философского
разума, который только повторяется в облачении современной
науки, критики, конструкции, как метафизический разум.
Смыслом и целью познавания для Спинозы является не
множественность доступного опыту и технического овладения им
(Бэкон), не постижимая математическими средствами природа
(Галилей), не государство (Гоббс), не достоверность как
таковая (Декарт), но и все это в частности также, однако на службе
тому единому, что только и есть на потребу - достоверности
бога и жизненной практики, истинного блага.
334
IX. Критическая характеристика философии Спинозы
Чтобы понять Спинозу, не следует смешивать: Его почва -
это не почва современной науки, смысла и метода которой он
по-настоящему не понял (пусть даже некоторые его
фундаментальные прозрения смогли дать могучие импульсы этим
наукам: его знание о характере познания модусов в их
нескончаемой необозримости посредством бесконечного, никогда не
завершимого прогресса; его требование свободы от
ценностей). Он сам не был исследователем и не обладал той
огромной вместимостью для знаний, которая отличает ученого.
Спиноза не видел своеобразия математического естествознания
и потому игнорировал его. Спиноза также отнюдь не
основывает своего философствования на математике, пусть даже он
и пользуется для своего изложения мнимо-математическим
методом. Ему чужд также тот дух конструкции, который делает
столь изобретательными и готовыми к новым созиданиям Гоб-
бса и Лейбница. Если все эти мыслители и дают ему signa,
то именно signa для его метафизики. Его величие в том, что
эта метафизика подлинна и составляет единство с его жизнью.
Он мыслит необходимость в рациональности категориального
аппарата, служащего созерцанию его третьего рода познания.
Он - единственный великий метафизик новейших времен, его
стиль в существовании и в сочинениях уникален: он прост,
ясен и убедителен, и, однако, неподражаем.
Ь) Границы Спинозы
1. Ошибочная критика. - Говорили, будто Спиноза был
оплачиваемым пропагандистом на службе у Яна де Витта.
Подобная бессмыслица не заслуживает опровержения.
Спинозу считают натуралистическим, атеистическим,
аморалистическим философом и предшественником
марксистского мировоззрения. Однако природа у Спинозы - это и
не природа современной, механической, математической
физики, и не органическая, телеологически структурированная
природа, и не демонический, пронизанный симпатическими
токами мир, но, как natura naturans, она есть мыслимая
природа бога, делающая осмысленным выражение deus sive natura,
акцент в котором стоит на слове deus. - На атеизм мышление
Спинозы похоже так мало, что Гегель хотел называть его
скорее акосмизмом, поскольку все существует в боге и не остает-
335
Спиноза
ся никакого отдельного, самобытного, сотворенного и
независимого от бога мира. - Аморализм, в смысле которого по
недоразумению понимают его трезвое рассмотрение находящихся
по ту сторону добра и зла и пребывающей по ту сторону добра
и зла действительности бога, настолько мало свойствен
Спинозе, что его жизнь и деятельность безошибочно руководится,
скорее, живой нравственностью естественного разума.
Полагали, будто политическая мысль Спинозы
заинтересована только в безопасности философов, исходя из вопроса:
как нужно мыслить государство и религию, конструировать их
в их реальности, чтобы в нем была беспрепятственно
возможна частная жизнь мудреца? Однако рассматривать
государство таким образом могли разве что эпикурейцы и скептики,
однако никак не Платон и не Спиноза. Оба они отнюдь не
хотели гарантировать безопасность философа, утверждая
взаимную неприкосновенность философии и политики и
рекомендуя философу замкнуться в себе от мира (исключая из этого
правила лишь отдельные моменты и обстоятельства). Скорее,
они хотят отстоять философскую политику против слепой
политики, причем они думают обо всех людях и о том, как
предоставить им, сообразно их дарованиям, познаниям и
эффективности, их место и их право. Побуждение, неверно
истолкованное как воля к безопасности мудреца (эту
безопасность обеспечивает его осмотрительность как частного лица),
есть скорее воля к содействию разуму в мире.
Еще другая критика говорит: «Бытие» видится у Спинозы
в «геометрической неподвижности», отдано на откуп
времени как простая видимость. Поэтому в механике природа
понимается, математическими средствами, во вневременных
формулах, процесс в природе, а тем самым и историю, отрицают.
Возражавшие этому, напротив, приписывали Спинозе
«динамический» взгляд: все у него есть стремление, сила,
пребывание в бытии и распространение себя, воля к
самоутверждению, однако поглощенная в вечное становление иным
в царстве модусов. - Один из этих тезисов отменяет другой.
Оба они улавливают нечто верное, однако то, что они
улавливают, - не субстанция философии, а один момент в ее целом.
Ошибка подобной критики в том, что она принимает простые
фигуры мысли за нечто предельное, вместо того чтобы постичь
336
IX. Критическая характеристика философии Спинозы
их в той их функции, которую они выполняют для базового
знания философа. Мышление Спинозы в целом, хотя оно и
систематично, не может быть адекватно описано в качестве
системы. Если мы выделим в нем один систематический взгляд,
пренебрегая остальным, то нам не составит труда
«опровергнуть». Мы приняли за положение дел и за абсолютное
утверждение, мы трактовали как предметное и конечное знание то,
что есть [на деле] философия.
2. Познаваемые разумом границы разума. - Граница
Спинозы - это граница разума. Поскольку Спиноза, кажется, не
видит границы разума, действительность в целом могла быть
закрыта от него. Здесь начинается наиболее глубокая критика
в адрес Спинозы.
Границу разума можно видеть при помощи самого разума.
Кажется, Спиноза обретает глаза, способные смотреть в этом
направлении, когда он говорит о бесконечности модусов в том
смысле, что наше неведение нескончаемости конечных
взаимосвязей всегда остается неведением и что в частностях
столь многое, и даже почти все, для нас непостижимо. Однако
это неведение есть только следствие конечности. Знание этого
было бы в принципе возможно, поскольку все разумно,
поскольку все - от бога.
Кажется, Спиноза начинает видеть за пределами разума с
еще большей ясностью, когда видит, как весь разум
охватывается божественной необходимостью, когда наш человеческий
разум бессильно отдается у него в полную власть
непроницаемой для нас необходимости всей природы в целом. Однако
Спиноза предполагает, как нечто вполне само собою
разумеющееся, что и эта необходимость есть необходимость
божественного разума. Противоразумное только кажется таковым
нашему конечному интеллекту. Объемлющий бог - отнюдь не
темная бездна. Он доступен нам не через какую-либо тьму, но
единственно лишь в светлости самого разума, который, если
бы сумел преодолеть ограниченность своей привязки к модусу,
постигал бы решительно все как разум. Сам наш человеческий
разум есть разум божественный, только в условиях
ограничения. Наш разум сам является естественным, моментом в natu-
ra naturata, однако он не объемлется, не ограничен и не под-
337
Спиноза
вержен угрозе со стороны чего-то, что было бы больше,
нежели разум, - божества, которое само было бы выше и прежде
разума и которое хотя и было бы также и источником разума,
однако было бы его источником точно так же, как оно является
источником всего прочего. Божество есть у Спинозы сам
разум. Его богосознание не трансцендирует разум.
Сюда относится вера Спинозы в абсолютность разума в
том смысле, что Спиноза ожидает, что все люди с
необходимостью должны соглашаться друг с другом в разуме. Это -
величественное и прекрасное допущение, но только (и здесь оно
справедливо и неискоренимо) для практики проб и ошибок
(Praxis des Versuchens), а отнюдь не для познания мироздания
и человечества в его целом.
Далее, спинозовский абсолютизм разума включает в себя
чистую лишенную вожделения радость в осознании бога.
Свобода есть для него свобода от аффектов, чистая,
незамутненная ясность, свобода едина с блаженством. Свобода не есть
решение, не есть основа судьбы.
Наконец, сюда относится осуждение восхищения познанием.
Разумный человек пытается понимать вещи в природе «как
ученый», а не удивляться им «как глупец». «С прекращением
невежества прекращается также и изумление (stupor)». Апелляция к
изумлению становится пагубной там, где она ведет к слепому
подчинению авторитету, чудесам и сверхъестественным силам.
3. Отсутствие чувства личности и историчности. - Что
находится у тех границ разума, которых не замечает Спиноза?
а) Спиноза не находит никакого ответа на вопрос: почему
существуют индивиды? Ибо категория вечного следования из бога
(подобно следованию величины углов из треугольника) - это не
ответ, а констатация положения дел, связывающая единичные
существа с их истоком. Метафора следования только указывает
на непостижимое для мысли, на скачок от Логоса к
действительности. Индивидуум - простой модус - разлагается как нечто
несущественное, если его мыслят sub specie aetemitatis.
Если основная мысль здесь: omnia determinatio est negatio,
то хотя эта мысль и выражает истину о ничтожности
единичных существ, однако оставляет возможным фальшивое
убеждение, будто сама экзистенция не имеет вечного значения,
338
IX. Критическая характеристика философии Спинозы
обоснованного незаменимой единственностью ее
осуществления.
Утрачивается ли, с отказом от индивидуальности, также и
сознание незаменимости экзистенции (при этом не
обязательно - сознание ее действительности в лице самого Спинозы)?
Великое освобождение от ограниченности индивидуальности
могло бы соблазнить мыслителя пожертвовать экзистенцией
в ее историчности, в том, что есть вечного в самой ее судьбе.
Мысль о вечности и бессмертии души эксплицитно есть у
Спинозы немногим более чем только мысль о бессмертии
безличного разума вообще (intellectus agens Аверроэса).
b) Поскольку Спиноза угашает время, он упраздняет
историчность. Исчезает разломленность (Aufgebrochensein) мира в
загадке временности, глубина историчности, неподдающееся
просветлению в основе всех вещей. Возложенная на нас
необходимость - в качестве существования во времени через
историчность достигать трансценденции, - смысл истории как
темпоральной незавершимости (zeitliche Unvollendbarkeit), -
прекращается, поскольку утрачен акцент на экзистенции в пользу
божества. Кажется, будто есть только вечность, но не время, -
только бог, но не мир.
Значимость определенной судьбой деятельности утрачена,
существенна только внутренняя деятельность в восхождении
любви к богу. Спиноза слышит необходимость, однако его
опыту незнакомы недостоверность, полнота и крах в
деятельной историчности экзистенции. Мысль Спинозы всего лишь
упраздняет время, однако при этом она не сохраняет его в
некоторой существенной для сознания вечности форме. В жизни,
которая преобразуется из одной метафизики в другую, не
находя существенной почвы во временной реальности,
историчность неизбежно должна совершенно отсутствовать.
Историчность отсутствует, если деятельность ограничивается
сферой рассудка, а не усматривается как великая воля в великих
поступках, не переживает великого риска самого разума как
историчной судьбы. Поэтому Спинозу не привлекают глубина и
величие, еще остающиеся смутными (подобно глубине и
величию еврейских пророков) и требующие рискнуть всем и всем
пожертвовать. Он всецело захвачен чистым разумом, как
типом человеческого и всякого вообще бытия, и для него остает-
339
Спиноза
ся невидимой страсть к ночи, предстающая ему единственно
лишь в аспекте лишенного познаний аффекта. Чутья ко злу у
него нет.
Спиноза отвергал не только реальное ожидание Мессии и
соответствующее ему ожидание второго пришествия Христа,
как религиозное представление для философского разума, но
также и сам шифр мессианского мышления. Ему незнаком
энтузиазм активной работы для преобразования мира. Ему
незнакома надежда на лучший мир, создание которого зависит от
ответственности людей. Тот, кто живет в вечном, не живет
в будущем. Бог неизменен, и сами его действия вечны.
Неизменно существование бесконечного множества модусов, пусть
даже все конечные модусы постоянно становятся иными при
тождественности целого.
c) Спиноза не знает пограничных ситуаций. Ему незнакомы
бездны ужаса, отчаяние ничто, борьба с богом,
обнаруживающаяся перед разумом мощь абсурда как положительной
возможности, незнакома безусловно скрывающаяся тайна. Его
покой пребывает в широте положительного, которое есть бог.
Однако бога он видит только в разуме, как разуме, умаляя
всякого рода ужас как сугубо неадекватные идеи, отстраняя все
неразумное, противоразумное, сверхразумное, которое тем не
менее не оставляет нас в покое. Его достоверность в основе
всех вещей может показаться или сужением горизонта, или
воспарением в недостижимое.
В пограничных ситуациях есть иной смысл человеческого
существа, открывающего себя боли, не желающего
отстраниться, смутно чувствующего освобождение от аффекта как
предательство. Но Спиноза способен хладнокровно говорить,
например, о самоубийцах, что они «бессильны духом и
совершенно побеждаются внешними причинами, противными их
природе»СХХ|. И он может с полной уверенностью заявить:
«Чтобы человек побуждался к небытию или изменению в иную
форму необходимостью своей природы, это так же
невозможно, как то, чтобы из ничего произошло что-либо»сххм.
d) Счастье экзистирования у Спинозы лишено собственной
вовлеченности, как не знает оно и страха собственного
решения. Он живет в истине действительности бога, из которой хотя
340
X. Влияние Спинозы
и следует надежно гарантированное самобытие, однако так,
что это самобытие не достигает самосознания. Против
Спинозы обращается вопрос: Имеет ли вменяемое всем людям
экзистенциальное беспокойство своей основой лишь конечность
модального бытия и одни лишь неадекватные представления?
Или есть совсем иное беспокойство о действительности
вечного в историчности, в качестве которой мы есмы? Не
обретается ли совершенный покой Спинозы ценой отсутствия
соотнесенного с богом беспокойства темпоральной экзистенции,
сознания вечного решения во времени? Не является ли
мерцание безличного столь же увлекательной, сколь и опасной
неотъемлемой принадлежностью этой философии абсолютной
необходимости?
е) Поскольку у Спинозы нет сознания историчности, он не
осознает также и историчности своих собственных фигур
мысли. Поскольку он полагает, что он в своем лице мыслит
единую, абсолютную, убедительную истину всеобщезначимо и раз
навсегда, он - догматик. Истина Спинозы заключается для нас
не в созерцании догматизированных фигур его мысли. Сами
эти фигуры мысли суть историчные шифры, уникально
просветляющие, ставшие для нас насущно необходимыми, однако
в своей предметности не абсолютные.
X. Влияние Спинозы
Убеждает не само по себе абстрактно мыслимое, но
проживаемая таким мышлением действительность. Из сочинений
мыслителя с нами говорит не решение так называемых
содержательных проблем, а сила философствующего
удостоверения. Спиноза, как ни один другой философ новейших времен,
оказал влияние в качестве философа, которым он и
действительно был. Никто другой не вызвал к себе такой же теплой
симпатии и такой же яростной ненависти. Никакое другое имя
не получило столь единственного в своем роде звучания в
истории, никого другого так резко не поносили и так сильно не
любили иудеи и христиане. Он превратился чуть ли не в
мифологическую фигуру. Ни для кого из тех, кто знает Спинозу,
он не может остаться безразличен, ибо даже выражение без-
341
Спиноза
различия к нему заключает в себе некую самозащитную
агрессивность по отношению к нему.
У Спинозы нет своей «школы». Среди профессоров не
было спинозистов, подобно тому как были картезианцы и лейбни-
цианцы. Но дикое неприятие его давало себя знать в
непостижимых несправедливостях и передержках, которые допустил
даже Бейль, на долгое время исказивший образ Спинозы у
потомков. Спиноза был «печально известный еврей» (Лейбниц),
он был «несчастным атеистом», «злобным духом», «смешной
химерой» (Мальбранш). До второй половины XVIII века
почти все, кто произносил имя Спинозы, тут же старались
предохранить себя от него. Никто, за немногими исключениями, не
хотел, чтобы его имя связывали с идеями Спинозы. Еще в
1767 году Бруккерсхш говорит о «позорном успехе, который
возымело безбожие Спинозы».
Поначалу Спиноза имел успех у некоторых пасторов
голландской реформатской церкви, у мистиков, а также - среди
ремесленников «в движении, которое будоражило голландцев,
дразнило церковь и остаточное влияние которого сохраняется
вплоть до девятнадцатого века» (Фройденталь). Еще в 1862
году имелись сообщения о замкнутых кружках в Голландии,
«где спинозистская мистика составляет единственное
утешение для души».
Но великое влияние Спинозы осуществилось в немецкой
философии и поэзии. Лессинг, Гердер, Гете признавали
единственное в своем роде значение Спинозы. Гете: «Я чувствую
себя очень близким ему, хотя его дух намного глубже и чище
моего» (1784). «Образ этого мира проходит, мне бы хотелось
заниматься только тем, что составляет постоянные отношения,
и таким образом, по учению Спинозы, впервые придать своей
душе вечность» (из Рима 1787). Шекспира и Спинозу он еще
в 1817 году называет двумя людьми, оказавшими на него
наибольшее влияние. Спиноза принес ему «успокоение и
ясность». У него он нашел «безграничное бескорыстие».
Кант оказался почти не затронут влиянием Спинозы,
которого он мало знал. Однако немецкая философия после Канта
испытала стимулы одинаковой силы от Канта и от Спинозы.
Якоби (1785) видел в Спинозе философию, которая только у
него является последовательной и обнаруживает тем самым
342
Примечания
свое заблуждение и свою неудовлетворительность. Лихтен-
берг говорил то же самое в положительном смысле:
«Универсальная религия будет очищенным спинозизмом. Разум,
предоставленный самому себе, ни к чему другому и не
приводит» (1801). Фихте был очарован системой, методом строгой
дедукции. Сам он мыслил в масштабе Спинозы против
Спинозы: «Существуют только две вполне последовательные
системы: критическая и спинозовская». Критическая система
признает границу «Я есмь», спинозовская переходит эту границу.
Шеллинг видел в Спинозе последнего философа,
занимавшегося подлинно великими предметами философии. В течение
всей своей жизни он вновь и вновь свидетельствовал ему
величайшее почтение. Гегель считал философию Спинозы
совершенно неизбежной: «Мышление должно поставить себя на
точку зрения спинозизма, это - существенное начало всякого
философствования». «Или спинозизм, или никакой
философии». Философия немецкого идеализма, воспламененная
Спинозой, развивалась против него.
Линии влияния Спинозы, не имеющие философского
значения - это последствия его библеистики. Богословы,
совершившие столь грандиозное развитие исторического исследования
Библии, редко ссылались на него. Едва ли можно назвать
влиянием Спинозы то, что физиолог Иоганнес Мюллер с
восхищением, однако без всякого продолжения включил в свое некогда
знаменитое «Руководство по физиологии человека» (1833-1840)
перевод спинозовского учения об аффектах. Нельзя также
считать философски значимым влиянием то, что психология
в XIX веке ошибочно ссылалась на Спинозу в связи со своим
бесплодным учением о параллелизме физических и
психических процессов.
ПРИМЕЧАНИЯ
' Гебхардт (Gebhardt), Карл (1881-1934) - немецкий философ и
филолог, переводчик, издатель и исследователь Спинозы. Ученик Куно
Фишера и Виндельбанда. Заведующий архивом Шопенгауэровского
общества. Основные работы посвящены спинозовской философии, в том
числе книга «Спиноза» (1932).
" Бэнш (Baensch), Otto Фридрих Август (1878-1936) - немецкий
философ. Приватдоцент Страсбургского университета с 1906-го, с 1919 го-
343
Примечания
да жил в Мюнхене. Наиболее известен своими исследованиями о
Спинозе. Здесь упоминается как переводчик «Этики».
1,1 Колерус (Colerus), Иоганнес Николаус (1647-1707) - немецкий
лютеранский пастор, проповедник и богослов. Пастор в Мюльхайме, затем
в различных городах Нидерландов; сторонник лютеранской ортодоксии.
Автор одной из первых биографий Спинозы (Leben des В. von Spinoza...
(1733)), в значительной степени основанной на свидетельствах
современников и личных знакомых философа; биография оказала большое
влияние на восприятие Спинозы в XVIII веке. Кроме того, опубликовал
полемическое сочинение против спинозовских взглядов на Христа
(Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi wider B. de Spinoza und seine Anhänger
vertheidiget... (1734)).
,v Фишер, Куно.
v Фройденталь (Freudenthal), Якоб (1839-1907) - немецкий философ.
Учитель семинарии, впоследствии приватдоцент и профессор
философии Университета Бреслау. Исследователь биографии и философии
Спинозы: Die Lebensgeschichte Spinozas... (1899); Spinoza. Sein Leben
und seine Lehre (2 Bd.; 1904).
Vl Эрдманн (Erdmann), Иоганн Эдуард (1805-1892) - немецкий
философ, гегельянец. С 1839-го профессор философии в Галле. Ясперс
имеет в виду его работу Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der
Geschichte der neueren Philosophie. III. Abt., I. Bd. Neudruck Stuttgart, 1931.
7,1 Фон Дунин-Борковский (von Dunin-Borkowski), Станислаус (1864-1934)-
австрийский историк религии и философии, священник и педагог;
исследователь Спинозы. Основные работы: Der junge de Spinoza. Leben und
Werdegang im Lichte der Weltphilosophie (1910); Spinoza nach 300
Jahren (1932); Aus den Tagen Spinozas (3 Bd.; 1933).
vm Штраусе (Strauss), Лео (1899-1973) - немецкий и американский
философ; профессор Чикагского университета (1949-1969). Известен как
критик современной философии и современной либеральной мысли.
Здесь упомянут в связи с его работой о Спинозе Die Religionskritik
Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Untersuchungen zu Spinozas
theologisch-politischem Traktat (1930).
IX Бэкк (Baeck), Лео (1873-1956) - раввин, представитель
либерального иудаизма. Доцент Высшей школы иудаистики в Берлине. Здесь назван
в связи с его диссертационной работой Spinozas erste Einwirkungen auf
Deutschland (1895).
x Грунвальд (Grunwald), Макс (1871-1953) - раввин в Гамбурге, затем
в Вене; последние годы жизни провел в Иерусалиме. Сторонник
консервативного течения в иудаизме; исследователь истории и этнографии
еврейского народа. Здесь назван как автор диссертационной работы
Spinoza in Deutschland (1897).
х| Верньер (Verniére), Поль (1916-1997) - французский
литературовед; профессор Сорбонны. Автор работы Spinoza et la pensée française
avant la révolution (1954).
x" Спиноза Б. Этика. Москва; Ленинград: Соцэкгиз, 1932. С. 1 (часть 1,
определение 1).
344
Примечания
хш Спиноза Б. Этика. С. 1 (часть 1, определение 5).
x,v Там же. С. 22 (часть 1, теорема 25, королларий).
** Там же. С. 11 (часть 1, теорема 15).
™ Там же. С. 8 (часть 1, теорема 11, доказательство 3).
™' Там же (в оригинале Ясперса сказано «необходимо существует».)
xvl" Там же. С. 9. (часть 1, теорема 11, схолия).
Х1Х Там же. С. 5 (часть 1, теорема 8, схолия 2).
** Там же. С. 6-7 (конъектура теоремы 9 части 1 с текстом схолии к
теореме 10 части 1).
™ Там же. С. 11 (часть 1, теорема 14, королларий 1).
^[Тамже. С. 17 (часть 1, теорема 17, схолия).
хх'" Там же. С. 41-42 (часть 2, теорема 7, схолия).
xx,v Там же. С. 42 (часть 2, теорема 7, схолия).
*™ Там же. С. 11 (часть 1, теорема 15, схолия).
XXVI Гам же. Там же.
™* Там же. С. 12.
™" Там же. С. 15.
ш Там же. С. 41 (часть 2, теорема 7).
*** Тамже. С. 15 (часть 1, теорема 15, схолия).
Там же. С. 17 (часть 1, теорема 17, схолия).
Там же. С. 16 (часть 1, теорема 17, схолия).
Там же. С. 3 (часть 1, теорема 4, доказательство).
Гам же. С. 6 (часть 1, теорема 8, схолия 2).
Гам же. С. 43 (часть 2, теорема 9).
Там же. С. 37 (часть 2, определение 3).
[Спиноза Б. Этика (часть 2, определение 4).
Там же. С. 24 (часть 1, теорема 30, доказательство).
Там же. С. 66 (часть 2, теорема 40, схолия 1).
х| Там же. С. 72 (часть 2, теорема 47).
xh Там же. С. 74 (часть 2, теорема 49).
х|" Тамже. С. 76 (часть 2, теорема 49, схолия).
х"" Тамже. С. 39 (часть 2, теорема 3, схолия).
xl,v Тамже. С. 69 (часть 2, теорема 43, доказательство).
xlv Там же (часть 2, теорема 43, схолия).
хМТамже.
xlv" Там же. С. 75 (часть 2, теорема 49, схолия).
χ|νι" Там же. С. 76 (часть 2, теорема 49, схолия).
Х|,х Тамже. С. 64 (часть 2, теорема 36, доказательство).
1 Тамже. С. 214 (часть 5, теорема 30).
[ Там же. С. 70 (часть 2, теорема 43, схолия).
ш Там же. С. 45 (часть 2, теорема 10, схолия 2).
"" Там же. С. 37 (часть 2, предисловие).
I,v Там же. С. 38 (часть 2, аксиома 1 ).
Iv Там же. С. 44 (часть 2, теорема 10).
,vi Там же. С. 46 (часть 2, теорема 11, королларий).
Ivii Тамже. С. 44 (часть 2, теорема 10, королларий).
XXXII
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
χχχιχ
345
Примечания
Спиноза Б. Этика. С. 45 (часть 2, теорема 11 ).
|,х Там же. С. 46-47 (часть 2, теорема 13).
|ж Там же. С. 84 (часть 3, теорема 2, доказательство).
1x1 Там же. С. 84 (часть 3, теорема 2).
|х" Там же. С. 85 (часть 3, теорема 2, схолия).
|хт Там же. С. 86 (часть 3, теорема 2, схолия).
Ix,v Там же. С. 85 (часть 3, теорема 2, схолия).
Ixv Там же. С. 47 (часть 2, теорема 13, королларий).
Ixvl Там же. С. 48 (часть 2, теорема 13, схолия).
Ixv" Там же. С. 212 (часть 5, теорема 23, схолия).
|χνι" Там же. С. 91 (часть 3, теорема 11, схолия).
|х,х Там же. С. 211 (часть 5, теорема 23).
|хх Там же. С. 211 (часть 5, теорема 23, схолия).
|ХХ| Там же. С. 216 (часть 5, теорема 34, королларий).
Ixxii Там же. С. 211 (часть 5, теорема 22).
|ХХ|" Там же. С. 9 (часть 1, теорема 11, схолия).
Ixx,v Там же. С. 140 (часть 4, предисловие).
Ixxv Там же. С. 140 (часть 4, предисловие). Автором опущены слова:
«именно понятия, обыкновенно образуемые нами...».
ЫхУ/[Тамже. С. 141 (часть4, предисловие).
,xxv" Там же. С. 82 (часть 3, предисловие).
lxxv,H Там же. С. 81-82 (часть 3, предисловие) (сжатая цитата из трех
абзацев текста).
|ХХ|Х Там же. С. 141 (часть 4, предисловие).
|хххТамже.
|ХХХ| Примеры из этой цитаты до некоторой степени соответствуют
тексту: Спиноза Б. Этика. С. 86 (часть 3, теорема 2, схолия): «Точно так же
ребенок убежден, что он свободно ищет молока, разгневанный мальчик -
что он свободно желает мщения, трус - бегства. Пьяный убежден, что он
по свободному определению души говорит то, что впоследствии трезвый
желал бы взять назад. Точно так же помешанные, болтуны, дети и
многие другие в том же роде убеждены, что они говорят по свободному
определению души, между тем как не в силах сдержать одолевающий их
порыв говорливости».
|ХХХ|[Спиноза Б. Этика. С. 15 (часть 1, теорема 17).
|ххх,и Неточно процитированное положение из того же фрагмента
«Этики» (Спиноза Б. Этика. С. 16 (часть 1, теорема 17)): «Так как только
он один существует... и действует... по одной лишь необходимости
своей природы, то, следовательно... только он один есть свободная
причина».
"^ Спиноза Б. Этика. С. 29 (часть 1, теорема 34, схолия 2).
Ьо™ Там же. С. 81 (часть 3, предисловие).
b00tv[Тамже. С. 126 (часть 3, определение аффектов, 1).
Ьоооп Там же. С. 127 (часть 3, определение аффектов, 3).
Ьосху,и Там же. С. 91 (часть 3, теорема 11, схолия).
b00dx Там же. С. 90 (часть 3, теорема 9, схолия).
346
Примечания
хс В русском переводе этот аффект именуется «подавленностью»
(Спиноза Б. Этика. С. 130 (часть 3, определение аффектов, 17)).
ХС1 Пересказ неточен: «Надежда есть непостоянное удовольствие,
возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой
мы до некоторой степени сомневаемся» (Спиноза Б. Этика. С. 129 (часть 3,
определение аффектов, 12)); «Страх есть непостоянное неудовольствие,
возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы
до некоторой степени сомневаемся» (Спиноза Б. Этика. С. 129 (часть 3,
определение аффектов, 13)).
χαι Спиноза Б. Этика. С. 153 (часть 3, теорема 18, схолия) (первая
часть цитаты; вторая не обнаружена).
хсш Конъектура двух фрагментов «Этики»: фразы из схолии к
теореме 18 части 3 (с. 153) и формулировки теоремы 24 части 3 (с
перестановкой частей; в тексте Спинозы: «Действовать абсолютно по
добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое
существование (эти три выражения обозначают одно и то же) по
руководству разума на основании стремления к собственной пользе» (с. 156).
XCIV Спиноза Б. Этика. С. 153. (часть 3, теорема 18, схолия).
xcv Там же. С. 152 (часть 3, теорема 17, схолия).
XCVI Там же. С. 201 (часть 4, теорема 3, королларий).
xcv" Там же. С. 186 (часть 4, теорема 69). Текст Спинозы гласит:
«Душевная сила или добродетель свободного человека усматривается как в
избежании опасностей, так и в преодолении их».
xcvm Спиноза Б. Этика. С. 215 (часть 5, теорема 32, королларий).
хс,х Там же. С. 80 (часть 2, теорема 49, схолия).
с Там же. С. 207 (часть 5, теорема 14). Текст Спинозы гласит: «Душа
может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут
относиться к идее бога».
с| Там же. С. 221 (часть 5, теорема 42).
с" Там же. С. 153 (часть 4, теорема 18, схолия).
с,м Там же. С. 80 (часть 2, теорема 49, схолия).
c,v Там же. С. 185 (часть 4, теорема 67).
°* Там же. С. 80 (часть 2, теорема 49, схолия).
CVI Там же. С. 189 (часть 4, теорема 73, схолия).
cv" Видимо, опять конъектура нескольких мест; заключительные слова
близки завершению схолии к теореме 73 четвертой части «Этики»: «он
стремится, насколько возможно, поступать хорошо и получать
удовольствие» (с. 189).
cvliii Спиноза Б. Этика. С. 222 (часть 5, теорема 42, схолия).
с,х Там же. С. 154 (часть 4, теорема 18, схолия).
" Там же.
cxi Там же. С. 163 (часть 4, теорема 35, схолия).
cxii Там же. С. 188 (часть 4, теорема 73).
^ Иисус Навин, 10:12-14.
cx,v Не вполне ясно, к чему именно относится «в них самих»: во
временах? В методах и умонастроении? Оригинал фразы выглядит так: Die-
347
Примечания
se sprechen in der Tat nicht durch das Neue von Forschungsgesinnung und
méthode, sondern als Leitfaden, das diesen Zeiten gemäss zu etwas ganz
anderem diente, als in ihnen selber lag.
cxv Вторая заповедь Моисея: «Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли...» (Исх. 20:4).
CXVI Намек на слова апостола Павла из проповеди в афинском
ареопаге: «Ибо Им мы живем и движемся и существуем...» (Деяния 17:28).
cxv" Часть первой заповеди Моисея: «Да не будет у тебя иных богов
пред лицом Моим» (Исх. 20:3).
cxviii Спиноза Б. Этика. С. 208 (часть 5, теорема 19).
сх,х Там же. С. 217 (часть 5, теорема 36, королларий).
схх Иеремия, 45:4-5.
с™ Спиноза 5. Этика. С. 153 (часть 4, теорема 18, схолия).
схх" Там же. С. 155 (часть 4, теорема 20, схолия).
СХХ|" Бруккер, Иоганн Якоб (1696-1770) - немецкий протестантский
пастор, богослов и историк философии. Занимал промежуточные
позиции между лютеранской ортодоксией и пиетизмом. Автор пятитомной
работы по истории философии «Критическая история философии от
начала мира до наших времен» (1742-1744; переиздана (1766),
приложение (1767) (которое, судя по указанию года, и цитирует здесь Ясперс)),
оказавшейся первым всеобъемлющим трудом по истории мировой
философии в Германии.
348
ЛАО-ЦЗЫ
Источники: Переводы «Дао-дэ-цзин», выполненные: Victor
von Strauß. - Grill; Wilhelm; много фрагментов у de Groot, Forke
и др. - Weiß, Lin-Yutang. - Биография: Сыма Цянь (перевод
Haas S.1 6-19). - Свод учений Лао-цзы у Сыма Цяня (перевод
Haas S. 200-205).
Литература: История китайской философии (Hackmann,
Forke, Zenker, Wilhelm) и китайской культуры, литературы,
государственности (de Groot, Franke, Granet, Grube).
Жизнь и сочинения
О жизни Лао-цзы рассказывают (Сыма Цянь ок. 100 г.
до Р.Хр.): Он родился в государстве Чжу (в нынешней
провинции Хэнань в северном Китае). Некоторое время он был
государственным архивариусом (историографом) при центральном
правительстве (правителе государства Чжоу). Он по
собственной воле скрывался и хотел остаться безымянным. В
преклонном возрасте, когда его родная страна, Чжу, пришла в
запустение, он переехал на Запад. Для пограничного стража он, по его
желанию, записал книгу «Дао-дэ-цзин» из 5000 слов. Затем он
пропал на Западе. «Никто не знает, где он окончил дни».
Однако Чжуан-цзы говорит, что Лао-цзы умер дома в кругу своих
писцов. Время его жизни относят к шестому веку до Р.Хр.
(традиционный взгляд, поскольку только так оказывается
возможной беседа между Лао-цзы и Конфуцием, которую другие
считают легендарной), или к пятому веку (Forke), или еще позднее,
к четвертому веку. Факты (например, то, что ни Конфуций, ни
Мэн-цзы, ни Мо-ди не упоминают его имени, что некоторые,
относящиеся исключительно к более поздним временам,
биографические источники противоречат друг другу, и т.д.) никто
устранить не в силах, и все же они не позволяют сделать
вполне убедительного вывода. Возможно ли будет знающим
китаистам, при имеющемся состоянии традиции текстов этого
величайшего в духовном отношении столетия в истории Китая,
определить время его жизни на основании стиля произведения
и сопоставления его с другими произведениями, - для
стороннего наблюдателя этот вопрос представляется неразрешимым,
и такое определение не очень-то вероятно. Для восприятия
текста точная датировка времени его написания не имеет зна-
349
Лао-цзы
чения. Дискуссии ученых об этом свидетельствуют только о
недостоверности традиции.
Достоверно то, что у нас имеется «Дао-дэ-цзин».
Происхождение этой книги также подвергали сомнению, ее, как
целое, разлагали на части. Однако ей присуща столь
убедительная внутренняя связность, что - несмотря на возможности
интерполяций и искажений текста - мы не можем сомневаться
в том, что она была создана личностью высшего духовного
достоинства. Кажется, что в словах книги эта личность почти
осязаемо стоит пред нами и говорит с нами.
«Дао-дэ-цзин», «книга о Дао и Дэ» - это книга, состоящая из
коротких и длинных изречений, разделенная на 81 небольшую
главу. В расположении глав нет единообразно исполненной
системы. Иногда взаимосвязанные главы образуют группы, как,
например, к концу книги - группа «политических» глав. Все
существенное высказано сразу с самого же начала, и затем
повторяется в богатых смыслом дополнениях. Это - афористическое
сообщение готового без обоснования. Перед читателем предстает
величественная завершенность. Повторение одного и того же с
разнообразными видоизменениями позволяет ему усвоить то
единство, которое может быть описано для нас как фактическая
систематика, не проведенная как таковая в самом сочинении.
Хотя в книге нет методически используемой терминологии, можно
уловить методическую целостность, доступную для
интерпретаций. Убедительность парадоксальных положений (без всякой
произвольности остроумно играющего ума), серьезность и
влекущая к себе, кажущаяся неизмеримой глубина делают это
сочинение одним из незаменимых произведений в философии.
Для того, кто не является китаистом, изучение этого текста
возможно только путем сопоставления многочисленных
переводов и комментариев к ним. Мы не достигнем того, чтобы
читать Лао-цзы так, как мы читаем Канта, Платона, Спинозу.
Переведенный текст уже не говорит более непосредственно
сам на собственном языке, но словно бы через некую
заменяющую, заглушающую, или же резко что-то освещающую среду.
К этому присоединяется то, что односложный китайский язык и
способ записи китайского письменного языка настолько чужд
нашим языкам, что не-китаиста не покидает неуверенность
(ср., например, Hackmann).
Смысл отдельных переводов обнаруживает иногда весьма
значительные расхождения (самым разительным образом в
главе 6: у de Groot речь идет здесь о регуляции дыхания, у
других - о корне мироздания, «долинном духе», «глубинной жен-
350
Жизнь и сочинения
ственности»; впрочем (Strauß), согласно Ле Юйкоу, вся эта
глава есть цитата из древнего сочинения, предшествующего Лао-
цзы, как и вообще Лао-цзы часто приводит цитаты из стихов, из
песен и гимнов). Отнюдь не рекомендуется читать только один-
единственный перевод.
Основой для нашего изучения является: Laotses Tao te king,
übersetzt und kommentiert von Victor von Strauß, 1870.
Комментарий Strauß знакомит читателя с трудностями перевода, с
китайскими словами, с их многозначностью. Кроме того, будучи
образован немецкой философской традицией, он дает
проницательную, взвешенную, порой несколько диковинную
философскую интерпретацию. Даже там, где его выкладки не
основательны, его обоснование все еще остается поучительным.
С этим выдающимся произведением следует сличать, при
изучении книги, более новые переводы. В случаях отклонений
этих новейших от Strauß удостоверяйтесь в комментарии
Strauß, как он обосновывает свой перевод и иногда уже
предвосхищает позднейшие возражения. Непонятный порою при
первом чтении перевод Strauß, быть может, именно поэтому
есть наилучший перевод: он не облегчает чтения и, будучи
понят при помощи комментария, именно своей краткостью и
сокровенностью выразительнее всех прочих.
Я цитирую текст по отдельным переводам, частью - по
комбинациям переводов. Цифры обозначают главу «Дао-дэ-цзин».
Пониманию Лао-цзы может способствовать взгляд на
китайский духовный мир, на эпоху, в которую жил Лао-цзы, на
предшествующую ему традицию. То, что мы можем обойтись
без воспроизведения здесь всего этого по работам ученых-
китаистов, свидетельствует о сверхвременном смысле этого
метафизического мыслителя, который подействует на нас еще
более подлинно и больше захватит нас, если мы будем видеть
только его самого.
/. Изложение философии Лао-цзы
Исток и цель мира и всех вещей, а потому также и
мыслителя, есть Дао. Содержание этой философии: во-первых, что
такое Дао; во-вторых, как все то, что есть, существует из него и
к нему; в-третьих, как человек живет в Дао и как он может
утратить и вновь обрести его, причем - как индивид и в
состоянии государственного правления.
Поэтому - согласно западноевропейской классификации -
мы услышим о метафизике, космогонии, этосе и политике.
У Лао-цзы это Единое действительно во всепроникающей ос-
351
Лао-цзы
новной мысли. В немногих положениях одной небольшой
главки могут одновременно выступать все четыре момента. Между
тем как изложение должно проводить различия и трактовать
одно после другого, самое важное все-таки есть единая
основная мысль или жизнеустройство этой философии. Изложение
будет удачным, если в последовательности положений это
Единое достигнет живого присутствия в сознании.
1.Дао
Первое положение книги, устремляясь в самую глубокую
глубину, начинается словами: «Дао, которое может быть
высказано, не есть вечное имя. Безымянное - исток мира неба и
земли» (1). Это положение не только отклоняет в отношении
Дао всякое опрометчивое знание, но вообще тот способ
знания, который есть у человека для конечных вещей. «Не знаю
его имени; если обозначу его, то называю его Дао» (25).
Если о нем говорят, это должны быть отрицательные
высказывания (подобно тому что оно не имеет имени, а это
значит, недоступно для человеческой именуемости), например:
«Смотрим на него и не видим его, поэтому называем его
бесцветным. Прислушиваемся к нему и не слышим его, поэтому
называем его беззвучным. Хватаем его и не ловим его,
поэтому называем его невещественным» (14).
Желать положительно высказать его бытие - значило бы
оконечить его. «Дао пусто» (4), оно есть бесконечная бездна;
эта пустота есть неизмеримость, которую «никогда не
наполнит его действование» (4). Если мы называем, схватываем,
постигаем его, если мы хотим отличить его мыслью или видеть
в нем различия, то оно исчезает: «Оно вновь обращается в
небытие» (14). Его изначальная полнота больше, чем всякое
постижимое для нас наполнение, его бесформенность - больше,
чем всякий постижимый для нас облик. «Оно называется
обликом бесформенного, образом не имеющего образа; это
совершенно непостижимо. Усматривая его, не видим его лица,
следуя за ним, не видим его спины» (14).
То, что становится предметом для нас, конечно: Бытие для
нас составляет определенность в различенности.
Четырехугольник существует через свои углы, сосуд - через
пространство, которое может что-то вместить в себе, образ - через
свою форму. Но если предмет становится бесконечен и
неотличим, как Дао, то он теряет свою определенность, перестает
352
Жизнь и сочинения
быть тем, чем он был в различенности. Поэтому мысль, в
которой предмет мыслится как ставший бесконечным, может
считаться путеводной нитью для мышления Дао; Лао-цзы
говорит: «Самый большой четырехугольник не имеет углов,
самый большой сосуд не вмещает, самый большой звук звучит
неслышно, самый большой образ не имеет формы» (41).
Поскольку бытие - это то, что мы видим, слышим, осязаем,
что есть образ и форма, - Дао есть ничто. Только в свободном
от бытия Дао достигают истока. Этот исток не есть ничто в
смысле «вообще-не-есть», но в смысле более-чем-бытия, из
которого происходит сущее: «Бытие возникает из небытия» (40).
Это небытие, которое, как исток и цель всякого бытия, само
есть подлинное бытие, но есть таковое в качестве сверхбытия,
сразу же после высказываний о нем с отрицанием заваливают
множеством мнимо-положительных высказываний. Дао
неизменно, «оно одно пребывает и не меняется» (25). Оно не
стареет (30, 55). Дао есть мерило самого себя (тогда как человек,
земля, небо, все вещи, кроме Дао, имеют свою меру в чем-то
другом) (25). Дао просто, наивно (32, 37), оно тихо (25),
непостижимо совершенно в своем покое (25).
Однако покой Дао не может быть противоположностью
движения; тогда оно было бы чем-то сугубо отрицательным,
было бы меньше чем бытием. Дао движется, но в движении
оно есть одновременно покой; его движение есть
«возвращение в себя» (40). Оно движется не потому, что оно хотело бы
достигнуть чего-то, чем бы оно еще не было и чего бы не
имело; ибо Дао не имеет потребностей «без желания» (34), «без
вожделения» (37), оно непритязательно (34).
Понятие Дао Лао-цзы унаследовал из традиции.
Первоначальный смысл этого слова был «путь», затем - порядок
мироздания, и тождественное с ним правильное действие человека.
Дао было исконно древним основным понятием китайского
универсизма. Слово «Дао» переводили как: разум, Логос, Бог,
смысл, правый путь и т.д. Если его подразумевали как
личное - мужское или женское - божество, то называли его «он-
Дао» (der Тао) или «она-Дао» (die Тао). Несомненно, однако,
что здесь уместен только средний род: «Дао» (das Тао).
Лао-цзы придал этому слову новый смысл, назвав «Дао»
основу бытия, хотя эта основа сама по себе безымянна, не-
именуема. Этим словом он трансцендировал по ту сторону
всего, что называлось бытием, всей совокупности мироздания,
353
Лао-цзы
но также и по ту сторону Дао как миропорядка. Правда, он
сохранил как мировое бытие, так и мысль о сквозном порядке
сущего, однако то и другое коренится в трансцендентном Дао:
Дао предшествует миру, поэтому предшествует всем
различиям. Если его мыслят само по себе, то его нельзя ни
противопоставить другому, ни различить его в самом себе. Так,
например, бытие и долженствование суть в нем одно и то же;
то, что в мире разделено и противоположено, прежде мира
есть одно; одно и то же есть закон, по которому все
происходит, и закон, по которому все должно происходить; одно и то
же есть порядок, который вечно всегда уже есть, и порядок,
который еще только создается нравственно-истинными
действиями. Но это единение противоположного не может, к
примеру, быть тут же и неким особенным бытием в мире и не
может также быть мировым целым. Оно остается предмирным
и целью мира. Стать миром - значит разделиться и различить-
ся, раздробиться и стать противоположным.
Для нас полнота в мире существует благодаря разделению
и противоположности. Дао называется пустым, потому что оно,
неразличенное, без предмета, без противоположности, не есть
мир. Если Дао наполняется, то оно полагает в себе
предметность, порождает мир. Но при этом никогда не заполняется
само Дао (4). Если бы его можно было заполнить
порожденным миром, то оно растворилось бы в мире. Оно - так мы
можем это интерпретировать - остается в своей пустоте более
полным возможностью, чем вся чистая действительность
мира, в небытии - большим, нежели бытие, в неразличимой
основе - большим, нежели все предметно различимое,
определенное сущее. Оно остается объемлющим.
2. Дао и мир
Оно было прежде, чем возникли небо и земля (25); оно
предшествовало также и Небесному Владыке, верховному богу
китайцев (4). Но Дао не есть недоступное совершенно иное,
оно всюду присутствует. Будучи недоступно восприятию, оно
все же может быть пережито в опыте как подлинное бытие во
всех сущих. Присутствуя во всем, оно есть то, благодаря чему
это нечто, чем бы оно ни было, имеет бытие. Знаки его
присутствия в мире таковы:
а) Оно существует, как небытие: Глаз, ухо, рука напрасно
ищут Дао, однако оно - повсюду, «великое Дао, как оно парит
354
Жизнь и сочинения
вокруг!» (34). Оно сравнимо с осязаемым небытием, благодаря
которому существует всякое определенное бытие: как сосуд
благодаря ничто (пустоте) есть вмещающая полость, как дом
существует благодаря ничто (пустоте) окон и дверей (11). Так
ничто Дао есть то небытие, которое впервые делает сущее
бытием.
Оно сравнимо с тем, что пронизывало бы даже и самое
массивное, лишенное пор тело: «Несущее пронизывает лишенное
промежутков» (43). Поскольку оно подобно ничто, никакое сущее
не оказывает ему сопротивления. «Его простота, как бы мягка она
ни была, мир неспособен подчинить ее себе» (32). «Через все
проходит оно и не подвергается опасности» (25).
б) Оно действует, как если бы не действовало: «Дао во
всякое время бездеятельно, однако ничто не остается несделанным»
(или: «Дао вечно бездействует, и все же лишено недействова-
ния») (37). Оно действует неприметно, как если бы оно было
бессильно. «Слабость - вот способ проявления Дао» (40). Дао
бесконечно действует, потому что производит все, но действует оно в
незаметности своей тишины, которая ничего не делает.
Хотя Дао с неодолимой мощью порождает все сущее, оно
отпускает все сущее на свободу, как если бы каждое сущее
было таково, каково оно есть, не благодаря Дао, но само по
себе. Поэтому, хотя во все существа от самого их истока
заложено поклонение Дао, но заложено оно так, что это поклонение
остается предоставлено собственному бытию этих существ:
«Почитание Дао ни для кого не заповедь, и оно навсегда
добровольно» (51). Дао вызывает свободный выход существ ему
навстречу: «Образ действия неба таков: оно не спорит, и все
же одолевает; оно не говорит, и все же умеет получить
должный ответ; оно не зовет, и однако, все само выходит ему
навстречу» (73).
Дао удается не понуждать существа потому, что оно
исчезает перед ними, как если бы оно вовсе не действовало ни
теперь, ни когда-либо прежде. Его образ действия - «порождать
и не обладать, действовать и не придавать этому никакого
значения, растить и не властвовать» (51). «Если дело закончено,
оно не называет его своим. Оно любит и питает все существа
и не изображает из себя господина» (34).
Действуя с неодолимой силой, Дао скрывает свою
неодолимость; оно приглушает себя и приноровляется к
окружающему: «Оно гасит свою остроту, оно смягчает свой блеск, оно
сливается со своей пылью» (4).
с) Во всяком единении Дао есть исток единого: Все сущее
обладает бытием в той мере, в какой оно удерживается связью
единства, того единого, которое есть присущая Дао форма по-
355
Лао-цзы
рождения, не единицы как числа, но единства как сущности.
«Вот те, кто издавна причастны Одному: небо чисто в силу
Одного, земля прочна в силу Одного, духи обязаны единству
своим рассудком, русло реки обязано единству тем, что оно
наполняется, десять тысяч вещей живут в силу единства,
благодаря единству владыки служат образцами для царства» (39).
d) Благодаря Дао все существующее обладает бытием:
«О бездна! Оно подобно праотцу всех существ» (4). Этому
отцу, или этой матери, они обязаны сохранением жизни: «Его
могущество хранит их, его сущность придает им форму, его сила
придает им завершенность» (51). Без Дао каждое существо
обречено на гибель; но «оно не отказывает им» (34). «Его дух
чрезвычайно надежен. В нем есть верность» (21).
e) Дао - по ту сторону добра и зла, и все же оно до
бесконечности готово помочь: Все существа без исключения, как
добрые, так и злые, обладают бытием благодаря Дао, имеют в
нем свою опору, а потому в нем же, в каком-либо смысле, и их
прочность: «Дао - пастух десяти тысяч вещей, сокровище
добрых людей, прибежище недобрых людей» (62).
Властвование Дао - хотя его и называют любовью,
верностью, надежностью - не руководится все же человеческим
состраданием и не знает также предпочтений и пристрастия. Это
обнаруживается в образе являющегося мира; возникновение и
исчезновение всех вещей нескончаемо и ничтожно: «То, что
между небом и землей, о как оно похоже на кузнечные мехи!
Оно пусто, и все же неисчерпаемо; оно движется, и тем больше
выходит наружу» (5). Мироздание безразлично ко всем
индивидам: «Небо и земля не имеют человеколюбия; они
принимают все существа, как соломенную собаку» (которую
использовали как куклу при жертвоприношениях и затем
выбрасывали) (5). «Небу свойственно не показывать к кому бы то ни было
предпочтения, но оно всегда на стороне добрых людей» (79).
Отсюда также следующее положение: «Путь неба:
благотворить, не причинять вреда» (81).
Итак, основные признаки существования Дао в мире -
всепроникающее небытие, создающее все неприметное недеяние,
всепорождающая сила единства, служащее основанием всего
сохранение возникающих и исчезающих существ из некоторого
места, пребывающего по ту сторону добра и зла.
Становление мира и процесс индивида в мире
Через созерцание Дао в мире Лао-цзы хочет проникнуть в
процесс истока, в становление мира, в тот загадочный факт,
что мир вообще возник из Дао. Ход этой спекулятивной мысли
356
Жизнь и сочинения
Лао-цзы не развил в конструктивной последовательности, но
только наметил. Он не задает вопроса, почему существует мир.
Он не задает также вопроса, как произошло уклонение. Кажется,
будто ему незнаком миропроцесс во времени с его
последовательностью решающих, утверждающих или катастрофических
событий. Скорее мы найдем у него образ вневременного вечного
настоящего, как основной сущности мира. То, что встречается
у него в отдельных намеках о каком-либо миропроцессе, следует,
возможно, понимать как непрестанное сбывание:
a) В изначально едином Дао есть два: Во-первых, Дао,
которое не может быть названо, небытие, - и, во-вторых, Дао,
которое может быть названо, бытие. Неименуемое называется
«истоком неба и земли», именуемое называется «матерью
десяти тысяч вещей» (1). Эта «мать» есть бытие: «Десять тысяч
вещей возникают из бытия» (40); небытие не имеет имени:
«бытие возникает из небытия» (40). Дао становится
именуемым не само по себе, но только как открывающееся в мировом
бытии. Возникновение вещей из именуемого Дао само
непрерывно есть возникновение именуемого: «Как только Дао
начинает творить и упорядочивать, оно имеет имя. Но если только
его имя однажды действительно начнет существовать, тогда
мы, конечно, и познаем его» (32).
Оба они - неименуемое и именуемое Дао, небытие и
бытие - «имеют один исход и различные имена» (1). Замечая
неименуемое вместе с именуемым, наша мысль уходит в неис-
следимое: «Оба они вместе называются глубокими, глубиной
всего глубочайшего» (1).
В другом месте процесс становления мира обрисован в
следующем виде: «Дао родило Одно; Одно родило Двоих; Двое
родили Троих; Трое родили десять тысяч вещей. Десять тысяч
вещей несли на своих плечах Инь и охватывали Янь.
Бестелесная ци приводит их в созвучие» (42).
b) Порождающее Дао несет в себе основные факторы
мирового бытия, назовем ли мы их формами, образами, веществами,
силами: «Непостижимы, незримы в нем образы! Незримы,
непостижимы в нем вещи! Неисследимо, темно в нем семя».
c) В миропроцессе совершается процесс отдельного
существа. Движение всех существ в беспокойстве мирового бытия
имеет, как кажется, двоякий смысл: оно означает ничтожность
возникновения и исчезновения из ничего в ничто, или означает
возвращение существ к своему истоку: «Все существа вместе
выступают - и мы видим, как они снова возвращаются обратно.
Если существа достигли развития, каждое из них возвращается
357
Лао-цзы
в свой исток. Возвращение в свой исток называется покоем.
Покоиться - значит исполнить задачу. Исполнить задачу -
значит быть вечным» (16).
3. Дао и индивид (жизненная практика)
То, что поистине есть, следует Дао (21). Высокая
добродетель, подлинная жизнь (дэ) есть бытие в единстве с Дао. И
человек тоже следует правым путем только с Дао. Поэтому основные
характерные свойства Дао появляются вновь как основные
характерные свойства истинного человека, прежде всего: действие
через недеяние, бытие через небытие, сила через слабость.
Однако это не происходит с необходимостью (подобно
природному процессу), скорее, человек может отпасть от Дао, и по
большей части он уже отпал от него, и может вновь
соединиться с Дао.
а) Отпадение от Дао: Преднамеренность и желание
самого себя: Изначальное отпадение есть желание самого себя,
тождественное с преднамеренностью действий, с созерцанием
самого себя в этих действиях, с нарочитостью
(Geflissentlichkeit) и целенаправленной суетливостью.
«Высокая добродетель не желает добродетели, поэтому
она - добродетель; низкая добродетель желает быть
добродетелью, поэтому она - не добродетель» (38). Это значит: То, что
я делаю своей целью, то я теряю, поскольку содержание
целенаправленного воления есть подлинная действительность. То,
что я могу сделать своей целью, - это конечные вещи, которые
преходящи, которые не суть вечное бытие.
Так же, как преднамеренность в волении существенного как
раз и разрушает это существенное, так саморефлексия
разрушает наше собственное существо, если хочет, созерцая его,
знать его, и обладать им в знании, и радоваться ему, как
некоему обладанию. «Кто рассматривает себя, тот не светится; кто
хорош для самого себя, тот не отличится; кто прославляет
себя, у того нет заслуги; кто возвышает себя, тот не выдается
из прочих» (24).
Разрушительность сочетания саморефлексии, в которой
человек желает самого себя, с активной деятельностью
поясняют следующие метафоры: «Схватить руками сосуд и
одновременно наполнять его до краев - обойдемся лучше без
этого. Проверять на ощупь остроту клинка и одновременно точить
его - не может длиться долго» (9). Это означает (соглас-
358
Жизнь и сочинения
но Strauß), что несовместимо желание держать сосуд (по
китайскому обычаю - обеими руками) и одновременно наполнять
его - неосуществимо желание пользоваться платой (схватить)
за то, что мы делаем, и одновременно делать это (наполнять
до краев). Далее, несовместимо желание ощупывать клинок,
проверяя его остроту (рефлектирующая проверка) и в то же
время точить его (действие высшего человека).
Преднамеренность, любование собою в зеркале, воление
самого себя взаимосвязаны. В них отрекаются от Дао. Они
прерывают, словно разрезая по живому, возникающую из
глубины Дао активность. В них уничтожается действительность
подлинной жизни.
Преднамеренность уже не осознает более
противоположностей объемлющим образом, но видит вещи в рамках
альтернатив, из которых она фиксирует какую-то одну сторону, как
правильную. В то время как противоположность есть основная
форма проявления Дао в мире и жизнь из истока Дао объем-
лет в себе противоположности, отпадение происходит там, где
преднамеренность или упраздняет противоположности в
пользу одной из сторон, или же вообще обходит их. Вследствие
того что она делает нечто своей целью, преднамеренность
должна проводить различия. Поэтому она рассекает
связанные друг с другом противоположности и изолирует отдельные
стороны. Если я ограничиваюсь преднамеренностью, я уже
больше не вижу и не делаю одно в другом, но вижу и делаю
или одно, или другое, а затем, колеблясь то туда, то сюда,
вижу и делаю то одно, то другое. Тогда я утратил Дао, потому что
на первом плане я всегда улавливаю только что-то одно и не
улавливаю в нем и вместе с ним также его иного; или потому
что, вместо того чтобы в преданности становиться
объемлющим по отношению к себе самому, будучи открытым самой
действительности, я хотел бы удержать эту действительность
в форме определенного существования и знаемости.
Ь) Недеяние (увэй) как исток этоса: Целесообразная воля,
направленная на конечные и определенные вещи в мире, сама
может обрести основательную действительность, только если
она будет воспринята в не-воление. Понять это не-действо-
вание, недеяние, этот исток наполняющей
непреднамеренности, значит постигнуть сущность этоса Лао-цзы.
359
Лао-цзы
Увэй - это спонтанность самого истока. Это недействова-
ние отнюдь не есть ничегонеделание, пассивность, тупость
души, слабость побуждений. Это - подлинная деятельность
человека, исполняемая им так, как если бы он не действовал.
Это действование, не придающее значения своим действиям.
Эта активность есть недеяние, заключающее в себе,
объемлющее всякую деятельность, впервые рождающее из себя эту
деятельность и придающее ей смысл.
Термин «недеяние», своей противоположностью «деянию»,
может ввести в заблуждение относительно той незаконности
истока, которую должно выразить это слово. Для увэй
невозможно дать указания, которое бы требовало одного, чтобы
исключить нечто другое. Ибо тем самым мы снова вовлекли бы
его в целесообразную нарочитость, за рамки которой оно
выходит. Того, что заключает в себе противоположности, нельзя
адекватно высказать в противопоставляющей речи. Поэтому
Лао-цзы говорит как о Дао: «Дао вечно бездействует, и все же
лишено недействования» (37), и соответственно так же о
возвышенном человеке: «Он не делает, и все же не
бездеятелен» (48); и он может сказать о правильно действующем
человеке, что он практикует недеяние, и назвать его все же
деянием недеяния (вэй увэй): «Возвышенный человек пребывает в
деянии недеяния» (2).
Если существо рожденной в истоке активности есть
непреднамеренность, то преднамеренность есть существо
активности, рожденной из разъединяющего, оконечивающего,
целесообразного мышления. Первая совершается, хотя ее не
желают, и к тому же направляет целесообразную волю; вторая
совершается как желанная активность, и в конце концов
остается без основы и руководства. Первая, исходя из Дао,
действует ради сущности, вторая, исходя из конечности,
разрушает ради ничто.
Непреднамеренность действования, исходящего из Дао, не
желает, действуя, удостоверяться в доброте своего деяния.
Она не желает собирать свидетельства доброй воли и не хочет
свидетельствовать о себе в делах.
Непреднамеренность так же далека и от выражения «не
противиться злому». Ибо смысловой акцент у Лао-цзы лежит на
активности обоснованной в Дао, единой с Дао жизни, а в этом
выражении - на терпении и жертве. Недеяние Лао-цзы - это
живое действование из глубины, недеяние же, «не
противящееся злому», становится средством борьбы, становится желани-
360
Жизнь и сочинения
ем достичь цели через отказ от сопротивления (собрать
пылающие уголья на голову противника).
Как собирание свидетельств своего доброго деяния, так и
жертвенное терпение, оба в высшей степени преднамеренны.
Подлинная непреднамеренность, загадочная в своей простоте,
никогда, может быть, не была столь утверждена в
философствовании как основание всякой истины действия, как это
сделано Лао-цзы. Но ее сущность невозможно постичь с
определенностью, ее нельзя дать как некое наставление. На нее
можно указать только косвенным образом.
с) Признаки единения с Дао, раскрывающиеся из увэй:
Характеристика мудреца - святого человека, возвышенного
человека, благородного мужа, призванного - сталкивается с той
же трудностью, что и попытка говорить о Дао: Единение с Дао
никогда не может быть постигнуто как только одна из двух
противоположностей. В поведении человека речь не идет о
выборе в ситуации, где имеются две находящиеся на одном уровне
возможности. Описание единения выражает не какую-либо
определенность однозначно данного явления, но образ,
выглядящий как что-то скрывающееся в противоположности. Его
понимание будет неверным, если фиксирует одну из сторон
противоположности. Примеры таких положений:
«Великое совершенство должно являться как бы
недостаточным... великая полнота должна являться как бы пустой...
великая прямота должна являться как бы кривой, великое
дарование должно являться как бы глупым, великое красноречие
должно являться как бы немым» (45).
«Кто просветлен в Дао, предстает темным... кто выше всех
в своей добродетели, предстает глубоко униженным ... кто
выделяется безукоризненной чистотой, терпит тяжкие упреки, кто
обладает разносторонними умениями, выглядит никчемным.
Кто тверд в добродетели, словно бы колеблется» (41).
Подобные формы выражения через противоположности
появляются вновь, когда мы описываем образ мудреца. То, что
в буквальном своем виде вводит в заблуждение, потому что
кажется вмешивающимся в рациональность решения,
совершающего выбор между противоположностями, или играет
парадоксальными обращениями, хочет донести до нашего
сознания то совершенно простое, что, превосходя собою все
рациональные распутья, живо присутствует с мягкой силой
исполняющей достоверности своей объемлющей, свободной
361
Лао-цзы
от каких-либо целей действительностью в управлении всякой,
даже и целесообразной деятельностью.
Действовать мягкостью: «Мягкое и слабое одолевает
твердое и сильное» (36). «Самое податливое в мире
пересиливает самое твердое в мире» (43). «Образ действия
возвышенного мужа: делать и не спорить» (81).
Одна метафора поясняет способ жизни, присущий мягкому:
«Все существа, травы и деревья вступают в жизнь мягкими и
нежными, а умирают они засохшими и худыми. Поэтому:
твердое и сильное - спутник смерти, мягкое и слабое - спутник
жизни... Человек рождается на свет мягким и слабым, умирает
твердым и сильным» (76).
Другая метафора - слабость женщины: «Женщина всегда
одолевает мужчину покоем; покой подчиняет его» (61).
Но самая часто встречающаяся метафора - это вода: «Нет
ничего в мире мягче и слабее, чем вода. Но ничто не сравнится
с нею, когда нападет твердое и сильное» (78). «Потоки и
моря - цари всех долин; это оттого, что они усердно остаются
внизу» (66). «Действование Дао в мире подобно рекам и
ручьям, впадающим в потоки и моря» (32). «Высший бог подобен
воде. Благость воды состоит в том, чтобы быть полезной всем
существам и не спорить. Она остается в тех местах, которые
все презирают» (8).
Нежелание себя самого: Возвышенный муж живет, следуя
образцу Дао: «Поэтому святой человек пренебрегает своей
самостью и идет вперед сам; отчуждается от своей самости,
и сам сохраняется» (7). Итак, здесь двоякая самость:
вожделеющая, своекорыстная, любующаяся собой в зеркале,
претендующая на обладание и авторитет, и подлинная самость,
проступающая только с исчезновением той первой самости.
«Кто одолевает других, тот силен; кто одолевает самого себя,
тот храбр» (33). Это одоление имеет следствием:
Невожделение: «Пять цветов слепят человеческий глаз,
пять звуков оглушают человеческое ухо, пять вкусов
притупляют человеческое нёбо; скачки и охота вовлекают людей в
бессмысленную страсть; сокровища, которые трудно
приобрести, соблазняют людей на роковые поступки. Поэтому мудрый
заботится о своем внутреннем, а не о пяти органах чувств» (12).
«Накопленные наслаждения жизни означают несчастье;
усилить в душе жизнь ее влечений, значит дать подчинить себя»
(55). Тот, кто поддается влечению желать своей жизни только
как жизни, находится в плену: «Тот, кто ничего не делает про-
362
Жизнь и сочинения
сто ради самой жизни, мудрее того, для кого жизнь есть
высшее благо» (75). «Тот, кто лишен вожделений, познает дао; кто
всегда вожделеет, видит только его наружность» (1).
Очарованный «музыкой и вкусной едой» считает Дао пресным и
безвкусным (35).
Нерассматривание себя. «Он не смотрит на себя, поэтому
он сияет. Он не прав для самого себя, поэтому он отличается».
Он «совершает похвальное и не останавливается на нем» (77).
Отсутствие притязаний: Возвышенный муж «действует и
не удерживает себе, совершает поступки и не претендует» (2).
«Он оживляет и не имеет. Он сохраняет и не властвует» (10).
«Поскольку мудрый никогда не желает изображать из себя
великого, он способен бывает достигнуть истинного величия» (34).
Воздержность: «Если дело совершено, тогда удалиться» (9).
Мудрый «не желает выставлять напоказ свою мудрость» (77).
Он «делает и не придает этому значения» (77). «Если дело
исполнено, он не ставит ничего себе в заслугу» (2). «Он хвалит не
себя, и потому выдается среди прочих» (22).
Познавание: Жить в единстве с Дао - означает в то же
время познавать Дао. Познавать его - означает в то же время
жить в нем.
Познание Дао непохоже на знание о чем-то. Если я буду
мерить по масштабу обычного знания, то познание Дао
подобно ничто: «Кто действует в учебе (занят ученостью), каждый
день прибавляет; кто действует в Дао, каждый день убывает...
чтобы достигнуть недеяния» (48). К познающему Дао
относятся слова: «Проникая все со светлой ясностью, он может быть
невеждой» (10). Многознание ничего для него не значит: «Кто
познает, тот не многознайка; кто многознайка, тот не
познает» (81).
Познание Дао не обретается извне; оно вырастает во
внутреннем: «Не выходя за дверь, мы знаем мир; не смотря в окно,
созерцаю я порядок неба. Чем дальше мы выходим, тем
меньше мы познаем» (47).
Вместо того чтобы рассеиваться в знании многого,
познание Дао есть знание о Едином: «Познать, что пребывает вечно,
значит быть просветленным» (55). «Не знать вечного -
одичание и погибель» (16).
Эти формулы говорят: Только глубине человека
открывается глубина Дао. Дао закрывается от поверхностного слоя и
искажения человека, его вожделения и желания себя самого, от
его любования в зеркале и его притязаний. Но в глубине
человека таится возможность со-ведения об истоке. Если эту глу-
363
Лао-цзы
бину растратят попусту, волны существования в мире ходят
над нею, как будто бы ее и вовсе не было.
Поэтому подлинное самопознание возможно только вместе
с познаванием Дао. «Кто знает других, умен; кто знает самого
себя, тот просветлен» (33). Это самопознание, не имеющее
ничего общего с самолюбованием, ничего общего - с
желанием обладать самим собою в знании о себе, - есть знание о
самобытии в Дао, которое прозревает и истребляет это ложное
желание самобытия. Поэтому самопознание следует понимать
отрицательно: «Знать, что мы ничего не знаем - это
наивысшее знание. Не знать границ своего знания - это болезнь.
Только тот, кто знает свою болезнь, как болезнь, по этому
самому не болен. Святой человек не болен, потому что он
ощущает свою болезнь со страданием» (71). Положительно же
самопознание есть познание самого себя в отношении к
первооснове, к этой матери всех существ: «Кто узнает свою мать,
узнает также свое детство. Кто узнает свое детство, держит
сторону своей матери» (52).
Объемлющая открытость: Кто вновь обрел Дао, а тем
самым угасил своеволие и стал самим собою, тот живет в
просторе, и настоящее лежит перед его взором таким, каково оно
есть в своей основе: «Кто знает вечное, тот всеохватен. Быть
всеохватным - значит быть справедливым» (16). Эта всео-
хватность заключает в себе поразительную диалектику:
«Святой человек не имеет постоянного сердца (или:
утвержденного сердца; или: собственного сердца); из сердец сотни
поколений творит он свое сердце» (49). Нет границ его
сочувствию: «Все существа выступают вперед, и он не уклоняется»
(другой перевод: «Вещи приступают к нему, и он не
замыкается от них») (2). Он не оставляет ни одного человека, ибо «ни
один не пропал совершенно» (27).
Но эта широта означает, однако, в то же время величайшую
отдаленность. Видя и любя сущность, он провидит иллюзию
конечности и переживает таким образом не пустую, но
наполненную Дао непричастность особенному; он ведет себя здесь
подобно Дао, он стоит по ту сторону добра и зла, не в
равнодушии, но с глубиной своего взгляда, в любви и
справедливости придерживающегося единственно лишь сущности: «Небо
и земля не имеют человеколюбия, они принимают все
существа за соломенную собаку. Святой человек не имеет
человеколюбия, он принимает народ за соломенную собаку» (5).
364
Жизнь и сочинения
Установка мудреца в целом: Просветленный ведет себя
так же, как учителя древности: «Они были осмотрительны, как
тот, кто зимой переходит реку; осторожны, как тот, кто боится
всех соседей; сдержанны, как гость; уклончивы, как тающий
лед; просты, как хворостина; пусты, как долина;
непроницаемы, как помутневшая вода» (15). Или у него есть три основных
свойства: милосердие (человеколюбие), бережливость,
скромность (не осмеливаться выдаваться вперед в царстве) (67).
Мудрец не говорит много. «Человек, произносящий много слов,
часто утомляется» (5).
Существо мудреца - простота и непредвзятость ребенка:
«Он вновь возвращается в первое детство» (28). «Может быть
подобен ребенку» (10). «Кто имеет в себе полноту
добродетели, подобен новорожденному ребенку; кости слабы, жилы
мягки, и все же он хватает крепко» (55).
Состояние мудреца - непоколебимость: «И так на него
нельзя оказать влияния ни склонностью, ни отвращением; на него
нельзя оказать влияния ни прибылью, ни ущербом; на него
нельзя оказать влияния ни почестью, ни унижением» (55).
d) Отпадение: Для Лао-цзы является фактом, что
человеческий мир находится в состоянии отпадения от Дао.
Большинство людей, а потому и действительность публичной
жизни, далеки от Дао. Это философ высказывает часто, например:
«Учение не-говорения, выгода не-деяния - немногие в мире
достигают их» (43).
Почему происходит отпадение? Древние люди обладали
Дао и жили в нем (14; 15). Однако то, вследствие чего
происходит отпадение, не совершилось. Как человеческий поступок,
раз навсегда в прошлом, как некая бытийная катастрофа, но
постоянно происходит снова и снова. Отпадение предстает как
следствие преднамеренности, саморефлексии, желания
самого себя.
У Чжуан-цзы Лао-цзы высказывается о способности и
неспособности к преднамеренности в своей беседе с Конфуцием:
«Если достигают Дао, то это случается не само собой, и мы
этого не можем; потеря Дао тоже случается не сама собой, но
это мы можем». Это значит: мы не можем достигнуть Дао
собственной силой преднамеренного воления; но это происходит
не само собой: это создает Дао во мне и вне меня. Далее:
потеря Дао тоже случается не сама собой: это - вина наших соб-
365
Лао-цзы
ственных действий - «это мы можем», - а именно вследствие
господства во мне преднамеренности и желания самого себя.
Но откуда происходит эта преднамеренность? Мысль Лао-
цзы не нашла ответа на этот вопрос. Могло ли Дао остаться в
изначальном единстве с человеком и миром, и могло ли быть
так, чтобы не явилось нужды в каком-либо отпадении от него, -
об этом Лао-цзы не спрашивает. Он принимает отпадение как
данность.
Ступени отпадения: Лао-цзы различает: «Чьи поступки
согласны с Дао, становится единым с Дао; кто действует в
соответствии с добродетелью, становится единым с
добродетелью; испорченный человек становится единым с порчей» (23).
Это значит: посередине между соединенностью и порчей стоит
деятельность и поведение, которое должно пониматься как
правильное и к которому как таковому следует также
намеренно принуждать, или добродетель. Только если оставляют Дао,
существуют определенные добродетели и правила. Они -
выражение того, что потерянность (Дао) уже наступила. Они -
попытка частичного спасения. Ибо обязанности существуют
только там, где человек уже отпал от истины. Самые, на
первый взгляд, благородные добродетели служат уже, однако,
признаками некоторой более низкой ступени человеческого
бытия. Ибо это последнее бывает истинным и действительным
только в единении с Дао: «Если оставляют великое Дао, тогда
появляется человеколюбие и справедливость. Если возникает
благоразумие и знание, то появляется великое притворство.
Если шесть степеней родства утрачивают согласие между
собою, то появляются сыновняя обязанность и отцовская
любовь. Если власть в стране оказывается в запустении и
беспорядке, тогда появляются верные слуги» (18).
Философ развивает некоторую иерархию, от возвышенной
экзистенции, пребывающей и живущей в Дао («высокой
добродетели») вплоть до определенной добродетельности и
конвенциональной благопристойности, которая, наконец, применяет
силу к тому, кто не согласуется с нею: «Высокая добродетель
не действует нарочито и не предъявляет никаких притязаний...
Высокое человеколюбие действует нарочито, но оно, по
крайней мере, не предъявляет никаких притязаний. Высокая
справедливость действует нарочито и предъявляет притязание.
Высокая благопристойность действует нарочито, и если никто
не соответствует ей, то она протягивает руку и употребляет
366
Жизнь и сочинения
силу. Поэтому: если теряют Дао, то после этого обладают
добродетелью; если теряют добродетель, то после этого
обладают человеколюбием; если теряют человеколюбие, то после
этого обладают справедливостью; если теряют
справедливость, то после этого обладают благопристойностью» (38).
В другом направлении эти ступени характеризуются так:
«Если высокообразованные слышат о Дао, они становятся
усердны и живут в нем. Если посредственно образованные
слышат о Дао, то они то хранят его, то теряют его. Если
малообразованные слышат о Дао, то они, самое большее,
высмеивают его» (41).
Путь возвращения к Дао: Никакое существование не
бывает совершенно оставлено (27). Так, во всех людях - без чьей
бы то ни было заповеди - заложена склонность добровольно
почитать Дао (51). Бессознательно сущность все еще остается
действительной, даже если сознательно ее и презирали. То,
что было вложено в существа при их происхождении из Дао,
никогда не бывает совершенно утрачено. «Почему мы должны
отвергать человека за то, что он подл? За что же древние
высоко ценили Дао? Не за то ли, что если ищут Дао, то могут
найти его? Что тот, кто провинился, может быть спасен?» (62).
Однако, если мы зададим вопрос о наставлениях, о
методах, с помощью которых могло бы быть найдено новое
обращение к Дао, то Лао-цзы не дает таких наставлений, потому
что непреднамеренности нельзя создать преднамеренно. Он
показывает, от чего здесь все зависит. Но, поскольку этого
невозможно желать как конечной цели, как доступного
однозначному знанию нечто, по необходимости приходится обойтись
без какого-либо наставления в смысле указания метода,
которого следовало бы планомерно желать. Всякое наставление
уже было бы неким искажением. Образы и формулы - отнюдь
не рецепты.
И все же одно звучит, казалось бы, похоже на некое
наставление: указание на древние времена, мастерам которых
надлежит следовать. «Добрые люди древности, ставшие
мастерами, были утонченны, духовны и глубоко проницательны.
Они были сокровенны, и их нельзя было узнать. Поскольку их
нельзя было узнать, я прилагаю старания, чтобы обозначить
их черты» (15).
Однако возвращение к древности несет двоякий смысл.
Оно не означает (как говорит Strauß) возобновления прошед-
367
Лао-цзы
шей старины в тождественном виде на основе знаний
литературной традиции - таков путь Конфуция, - но означает
возобновление вечно старого, ибо изначального, в непрерывной
связи с пронизывающими историю нитями ткани Дао? «Если
держаться древнего Дао, чтобы властвовать над бытием
настоящего, то можно распознать начала древности: это
значит - основу ткани Дао» (14).
е) Ничто или вечность. - Ответ Лао-цзы на вопрос о том,
в чем состоит смысл жизни, был бы таков: быть причастным
Дао, и тем самым быть подлинным, а это значит - быть
вечным, бессмертным, - уловить в бренности непреходящее.
О бессмертии Лао-цзы высказывается темно и глубоко:
«Кто подобен Дао, тот сохраняется: он оставляет тело без
всякой опасности» (16). «Тот, кто умирает и все же не гибнет,
будет жить долго» (33). «Если мы нуждаемся в ясности Дао
и возвращаемся к его свету, то ничего не теряем с
разрушением тела. Это значит - облечься в вечность» (52). «Если
нечто раскрыло всю полноту своей силы, то оно стареет. Это то,
что называют лишенным Дао. Что лишено Дао, скоро
оканчивается» (30, 55).
Бессмертие есть здесь выражение, обозначающее
причастность Дао, покой в вечности вневременного, но отнюдь не
какое-то нескончаемое продление существования, будь то в
потустороннем мире или в круговороте перерождений. Что такое
бессмертие и каково оно, не становится здесь образом.
Проясняется только сознание бессмертия. Жизнь включает в себя
смерть: «Возникновение жизни - это уже и преддверие
умирания» (50). Но перемены не угрожают тому, что - будучи единым
с Дао - освобождает от опасностей жизнь и смерть, что остается,
если умирает тело. Исходя из этого понятно также, что:
«Кто умеет понять жизнь, идет прямым путем, не убегая от
носорога и тифа; проходит между вражескими войсками, не надевая
брони или оружия. Носорог не находит в нем места, куда он мог
бы воткнуть свой рог, и тиф - куда вонзить свои когти... Почему
это так? Потому что в нем нет места приложения для смерти»
(50). Тело становится здесь аллегорией: В существе, едином с
Дао, нет такого места, куда могла бы поразить его смерть, даже
если его тело умирает, и носитель тела обретает бесстрашие
благодаря своей соединенности с Дао, ибо утрата тела ничего
для него более, в сущности, не значит.
368
Жизнь и сочинения
f) Судьба следующего Дао человека - Лао-цзы - в мире:
Если мир человеческой общности исказился, превратившись
в искусственный порядок насилия и закона, то отсюда
возникает одиночество того, кто поистине пребывает в подлинно
сущем: не потому, чтобы он был бегущим от мира оригиналом,
а только потому, что общность и правительство - неистинны,
то есть не следуют Дао; не потому, чтобы он был неким
странным исключением, но потому, что удовольствие и радости,
цели и побуждения толпы следуют окольными путями,
уводящими от Дао. Лао-цзы - один из этих одиноких ранней поры, по
нужде, а не по собственной воле, как Иеремия и Гераклит.
Поэтому некоторые примечательные, очень личные
суждения Лао-цзы выражают то, как выглядит жизнь мудреца в этом
мире: «Однако то, что все почитают, не следует безнаказанно
отставлять в сторону. О пустыня, и нет ей конца! Люди сияют
от удовольствия, как на пиру при жертвоприношениях, как если
весной подняться на горную вершину. Я один остаюсь
безучастным; ни следа подобной жизни! Как новорожденный
ребенок, еще не умеющий смеяться. Я колеблюсь туда-сюда, как
тот, кому некуда направиться. У всех людей есть в избытке;
я. один подобен побирушке на дороге. Ах, ах, я слабоумный,
я безумец! Обычные люди вполне светлы; я один словно бы
в помрачении. Обычные люди пребывают в веселом
настроении, я один печален, разбит, как потерпевший крушение
корабль в море, ношусь туда и сюда, как вещь, которой нигде нет
места! Все люди на что-нибудь годятся, я один неуклюж как
крестьянин. Я один не таков, как все люди: ибо я чту кормящую
мать» (20).
В другом месте Лао-цзы высказывает тот факт, что люди
его не поняли, вот как: «Мои слова легко понять, легко им
следовать, но никто в мире не способен понять их, никто не
способен им следовать. У этих слов есть отец, у этих дел есть
господин. Поскольку не понимают этих отца и господина, и
меня не понимают. Понимающих меня немного; это делает мне
честь. Поэтому мудрец облекается в грубую одежду и
скрывает свое сокровище внутри» (70).
Согласно Сыма Цяню, Лао-цзы сказал посетившему его и
младшему его годами Конфуцию, осуждая его реформаторское
начинание: «Если мудрец находит свое время, то он
возвышается; если он не находит своего времени, то он позволяет
сорной траве разрастаться и уходит... Прочь сорную траву госпо-
369
Лао-цзы
дина и безудержные его планы! Все это и самому господину
нисколько не пойдет на пользу».
4. Дао и государственное управление
(практика руководства человеческой общностью)
В правителе, в администрации, в хозяйстве и даже в войне
есть истина, а именно подобие с Дао. Поэтому в управлении
государством истиной опять-таки будет недеяние, оставление
свободы, действование в неприметности, то есть под видом
слабости. Правитель - индивидуальный человек. То, каков он
и как он действует, составляет жизнь всего государственного
целого. Целокупность человеческих отношений - это то же
самое, что отдельный человек.
а) Руководитель государства: Иерархию ценности
руководителей государства философ характеризует по тому, как
видит их народ.
«Если правит великий человек, то народ знает только то,
что он существует. Менее значительных правителей любят и
хвалят, еще менее значительных боятся, еще меньших -
презирают» (17). Наилучшие правители незаметны:
«Совершаются дела... и все сто поколений говорят: мы свободны (мы сами
по себе таковы)» (17); и в то же время: «Весь мир будет сам по
себе делать правильное» (37).
Совершенный правитель «не делает, поэтому он ничего не
портит, не берет, поэтому он ничего не теряет» (64, 29). Он
действует через недеяние. «Если он любит народ и управляет
страной, то он может не иметь деяний» (10). «Царство
приобретают нехлопотливостью» (57).
В полном соответствии с этим хороший правитель считает
себя низким, старается не выделяться, не выдвигает
претензий. Если он хочет стоять над народом в качестве правителя,
своими речами он поставит себя ниже народа; если он хотел
бы вести народ за собой, то лично он не будет утверждать
себя над ним; «так он остается во главе, и народ не чувствует
никакого бремени; так он идет вперед, и народ не чувствует
себя обделенным» (66). Подобный правитель, который, зная
свою высоту, держит себя все же в унижении (а потому также
«сиротит» сам себя, называет себя «малостью»,
«недостойным») (39), «есть речное русло царства» (28).
Управление через недеяние может удаться только тому, кто
не желает править. Если он озабочен тем, чтобы получить
370
Жизнь и сочинения
власть, и боится потерять ее, то он не сможет править
истинным образом.
Иное дело - дурные руководители государства. Решающее
здесь вот что: «Трудность руководить людьми возникает из-за
того, что властвующие чересчур хлопотливы» (75). Еще того
хуже: «Если дворцы будут очень роскошны, то поля будут
очень безлюдны и амбары очень пусты. Облачаться в пестрые
одежды, опоясываться острыми мечами, наполнять чрево
напитками и яствами, иметь в избытке драгоценных вещей -
значит хвалиться воровством» (53).
Ь) Действие недеятельности: Как правитель оказывает
влияние через недеяние (увэй) - трудно постигнуть. Это
недеяние - такого рода, что оно вызывает самораскрытие всех
существ, однако не произвольное, но истинное самораскрытие:
«Если бы цари и князья могли хранить недеяние Дао, то все
существа обрели бы форму сами собой» (37).
В универсистском миросозерцании китайцев это
воздействие имеет магический характер: Согласие правителя с Дао
направляет в правильное русло ход не только царства, но и
природы и всех вещей. Сообразное с Дао поведение правителя
приносит хорошие урожаи и предотвращает наводнения,
засухи, эпидемии и войны. Это магическое представление
встречается также и у Лао-цзы (если этот фрагмент подлинен и не
представляет собой позднейшего дополнения): «Если
царством управляют при помощи Дао, то умершие не бродят по
земле в облике духов (куэй). Дело не в том, чтобы умершие не
имели духовных сил, но их духовные силы не причиняют вреда
людям» (60). Это магическое представление отходит у Лао-цзы
на второй план, даже если он и не полемизирует с ним прямо.
Однако он нередко подчеркивает образцовый характер
правителя. «Если мы покажем другим великий образ -
первообразное Дао - то к нам сбежится весь мир» (33). «Глубокая
добродетель бездонна, действует как бы на расстоянии. Она
противоположна тому, что ценится в мире; однако впоследствии
она создает множество последователей» (65). Сила
притяжения возвышенного человека, а вследствие того - следование
Дао, приводит народ и царство в порядок. Человек является
носителем этого образца в силу своего внутреннего бытия.
«Если нужно привлечь на свою сторону население царства, то
этого не добьешься никакими внешними мерами» (57).
371
Лао-цзы
Решающей оказывается спонтанность в деянии недеяния.
Было бы абсурдно полагать, будто благодаря недеянию
происходит какое-то следствие. Скорее, здесь подразумевается
такое недеиствование, которое не есть недеиствование, как
охватывающее собою все планы, предшествующее всякому
определенному действию действие в целом, которое не есть
ни пассивность, ни лишенное плана действие. Это -
деятельность, которая не есть насильственное вмешательство
согласно сугубо конечным целям, но вмешательство из истока самого
Дао. Если мы хотели бы знать более точное определение
характера причинности этого недеяния, то подобное требование
будет несообразно с тем, о чем идет здесь речь. Точно так же,
как проникающая в сущность Дао спекулятивная мысль и
просветление изначального недеяния отдельного человека, так
и политическое рассуждение оказывается на пути, выводящем
в область неименуемого, неразличимого.
Только на следующей, нижестоящей, ступени благодаря
различенности конечного бывает возможна определенная
речь; и тогда сразу же начинают говорить отрицаниями: «Чем
больше в царстве ограничений и запретов, тем беднее
становится народ. Чем искусственнее и изобретательнее обращение
с народом, тем более невероятные проделки появляются в
нем. Чем больше издается законов и постановлений, тем
больше является разбойников и воров» (57). Или философ
предлагает нам только вариации того неопределенного
положительного утверждения, согласно которому, если только
прекратится делание, вмешательство, запреты и повеления, все
«само собою» сделается истинным и действительным. «Я ничего
не делаю, и так народ сам собою меняется; я предпочитаю
держаться в покое, и так народ сам собою подчиняется порядку;
я держусь невмешательства в хозяйство, и народ сам собою
богатеет; я храню себя свободным от вожделений, и народ сам
собою опрощается» (57); (напротив, в следующем положении
говорится только о внешней причинности: «Народ голодает, если
правящие им поглощают слишком много налогов; 75).
Если мы ищем в словах Лао-цзы наставлений, то сейчас же
является возражение: но ведь все это неосуществимо, что
поделаешь, люди не таковы. Но забытая в таком возражении
существенность состоит в том, что здесь речь не идет о
наставлениях для целесообразных действий. Там, где уместно
именно не-делание, не-планирование, невмешательство, там
372
Жизнь и сочинения
сказанное философом, если его понимают как требование что-
то сделать и спланировать, может только превратиться в
бессмыслицу. Лао-цзы дает нам увидеть такую возможность,
которая не есть программа для рассудка, но, предшествуя
всякому целенаправленному политическому действию, намерена
обратиться к истоку в самом человеке. В качестве
выдуманного рассудком, реализуемого при помощи конечных средств
института оно было бы дурной утопией производящего
магические действия ничего-не-делания. Как интуитивное вчувство-
вание в возможность человеческого бытия в политической
области, эта идея несет в себе действительную истину. Быть
может, это и звучит невероятно, когда Лао-цзы говорит: «Если
бы князья и цари были в состоянии быть хранителями Дао, то
существа само собою подчинились бы им. Небо и земля
соединились бы, чтобы пала живительная роса; народ сам
собою, без чьих бы то ни было повелений, поступал бы в
соответствии с порядком» (32). Смысл этого философствования
в самом деле исказил бы тот, кто захотел бы теперь - делая,
распоряжаясь, советуя - устроить в мире, скажем, анархию,
в ожидании, что люди, поскольку они добры по природе, сразу
же сами собою начнут соблюдать порядок. Или же, применяя
насилие в возникшем из-за него хаосе, этим насилием он
гораздо хуже прежнего разрушил бы все то, чего замышлял
достигнуть. Но если бы этот неверно понимающий Лао-цзы,
желающий учредить анархию, был «святым», и если бы он
оставался правдив и последователен, его уделом, если бы на него
обратили внимание, было бы только уничтожение. Лао-цзы же,
напротив, - отнюдь не имея в виду поучающего, нечто
создающего преобразования общественных отношений, - говорит
относительно своей истины, что никто не знает, как далеко он
может зайти: «Если человек копит добродетель, то нет ничего
такого, чего бы он не мог преодолеть. Если для человека нет
ничего непреодолимого, то никто не знает границ его
способности действовать» (59).
с) Война и наказания: Как Лао-цзы сохраняет смысл
недеяния в неизбежных насильственных действиях государства:
вовне - в ходе войны, внутри страны - при исполнении
наказаний? Как проявится здесь принцип «делать, не спорить»?
Война в любом случае есть зло: «Самое красивое оружие -
орудие несчастья, оно презренно для всех существ» (31).
373
Лао-цзы
«Там, где располагаются лагерем войска, вырастают
чертополох и терн. Следствием больших военных походов несомненно
бывают годы бедствий» (30). Однако есть такие ситуации,
в которых даже мудрец не может избежать войны. «Если он не
может поступить иначе и нуждается в оружии», то, хотя «мир
и покой остаются для него все-таки высшей ценностью» (31),
однако если он полон решимости, то ограничивает сам себя в
том способе, каким он ведет войну и побеждает. Он «с боем
достигает победы и довольствуется этим: Он не чванится
своей победой и не делается заносчивым из-за нее. Он
сражается и побеждает, потому что это необходимо, - сражается и
побеждает, не изображая из себя героя» (30).
Деяние через недеяние сохраняет силу также и в бою.
Поскольку «нежное и молчаливое сильнее упрямого и
сильного» (36), «самое мягкое в мире» одолевает «самое твердое в
мире» (43), для Лао-цзы отсюда с поразительной
последовательностью вытекает: «Те, которые сильны оружием, не
победят... То, что велико и сильно, убывает; то, что гибко и мягко,
поднимается» (76). «Между тем те, кому свойственно
мягкосердечие, победят в битвах, устоят в обороне» (67). «Если
встречаются равные по числу войска, побеждает тот, кто
способен к сочувствию» (69). Наступательную войну философ,
само собой разумеется, осуждает: «Нет ничего пагубнее
наступательной войны» (69). Даже в ходе самой войны хорошо
возможно меньше вмешиваться в ход дела: «Один опытный в
военном деле обычно говорил: Я не решаюсь держать себя (во
вражеской стране) по-хозяйски, я веду себя там, как гость. Я не
решаюсь идти даже на шаг вперед; (скорее) я на локоть
отступлю назад. Это значит - перемещаться, не маршируя,
угрожать, не протягивая рук, продвигаться без боя, завладевать
без оружия» (69).
Правильного воина Лао-цзы описывает так: «Тот, кто
годится быть вождем, не воинствен. Кто годится для боя, не впадает
в гнев. Кто способен одолевать противников, тот не спорит»
(68). «Если он побеждает, то не предается радости.
Радоваться победе - значит радоваться убийству людей. Если кто-то
убил множество людей, то ему следует с состраданием и
скорбью оплакать их: победитель в войне должен быть там, где,
согласно обычаю, стоят носящие траур» (31).
Насилие государства внутри страны проявляется в
наказаниях, в особенности в смертной казни (72-74). Сообразность
374
Жизнь и сочинения
с Дао обнаруживается в сдержанности судьи. Наказывать
следует только то, «что ненавистно небу». Но небесный судья
скрыт от глаз людей. Поэтому для человеческого судьи,
желающего избежать несправедливого назначения наказаний,
служит утешением то, что, в случае если он неправедно помилует,
преступник даже тогда не избегнет наказания: «Сети неба
уловляют широкие пространства, всегда раскрыты и ничто не
уйдет от них» (73).
а) Действия человека в перемене и становлении вещей:
Существа отдаляются от вечного Дао и снова возвращаются к
нему. Задача состоит в том, чтобы каждый день заново
находить путь этого возвращения, а не в том, чтобы преобразовать
мир, приведя его в совершенно новое состояние. Для Лао-цзы
и для китайцев не существует какого-либо хода неповторимой
истории, не существует еще не определенного будущего, но
есть вечное постоянство бесконечно подвижной жизни Дао.
В этом постоянном совершается колебание между
сообразностью с Дао и уклонением от него. Недеяние создает здесь
совершенное соответствие.
Это недеяние - не покой стороннего наблюдателя, а
господствующая основа деятельности. В политическом
отношении неизменно наличествует фактическое беспокойство:
противники правительства, зачатки новой враждебности,
изменение состояния общества. Поэтому практикующий недеяние
руководитель государства осуществляет это недеяние в
постоянной напряженности. В то время как хлопотливость в
сущности ничего не доводит до совершенства и, однако,
воображает, что со своей целью уже имеет все, действование из
основы недействования непрерывно удерживает в себе
представление целого, заранее чувствуя каждое действие в его
непосредственных и отдаленных последствиях: «Люди в своих
делах всегда близки к завершению, и им не удается
завершить. Если заботиться о конце дела, так же как о его начале,
то ни в каком деле не узнаешь неудачи» (64).
Поэтому мудрый руководитель государства живет в общей
взаимосвязи всех вещей. Он замечает то, что начинается и
еще находится в зачатке, и соблюдает требование:
«Предпринимай трудное, пока оно еще легко; делай большое, пока оно
еще мало» (63). В нужный момент требуется незаметное
вмешательство. «То, что находится в покое, легко удержать; на то,
375
Лао-цзы
что еще не проявилось, легко повлиять; то, что слабо, легко
разломить; то, что скудно, легко рассеять. Поэтому
занимайтесь вещами прежде, чем они выступят явно, принимайтесь за
них прежде, чем они запутаются. Дерево, которое можно
охватить только обеими руками, вырастает из самого тонкого
корешка. Путь в тысячу миль начинается с одного шага» (64).
Трудность заключается в том, чтобы во всякое время
находить эти средства неприметного вмешательства, а именно -
удерживать связь с основой вещей и со всем происходящим
в мире. Поэтому всеупорядочивающее недеяние так далеко от
легкомыслия. Практикующий недеяние руководитель
государства связывает себя обязательствами с трудным. «Трудное -
корень легкого. Святой человек странствует целый день, не
расставаясь с тяжелой поклажей. Тем более государю царства
непозволительно легко относиться в своем Я ко всему
обширному миру! От легкомыслия теряют корень» (26).
е) Желательное общее политическое положение: В
соответствии с принципом китайского универсизма, Лао-цзы
видит существование человека в одном-единственном царстве,
иерархия которого простирается от Единого владыки во главе
его через различные земли, общины, семьи вплоть до
отдельных людей. Это царство - не планомерно создаваемый
институт, не организация, поддерживаемая функционерами
(чиновниками), подобная той, которую лишь столетия спустя устроил
Ши Хуанди, но «один живой организм. Царство нельзя сделать;
сделавший его разрушит его» (29). Лао-цзы наблюдает вокруг
себя приходящее в упадок феодальное правление,
первоначальное состояние которого он считает сообразным с Дао.
Политическое положение в целом - это связанное единым
царство множество маленьких государств. Самое лучшее:
«Пусть государство будет маленьким, с небольшим
населением» (80). Чтобы жизнь в этом маленьком государстве была
счастливой («чтобы было десять старейшин, и они не
пользовались своей властью; чтобы были боевые повозки, но не
случалось повода всходить на них; чтобы были оружие и боевое
снаряжение, но не было повода применять его в
наступлении»; 80), отношение государств друг к другу - больших к
маленьким и наоборот, - должно быть правильным: «Большая
страна, проявляющая снисхождение, - это скрепа всего
царства. Поэтому если большая страна находится в подданстве у
376
Жизнь и сочинения
маленькой страны, то она приобретает маленькую страну;
если маленькая страна находится в подданстве у большой
страны, то она приобретает большую страну» (61). Счастливые
страны живут в соседстве, хотя люди в этих разных странах не
вступают в общение друг с другом, от которого происходит
беспокойство: «Пусть соседние страны находятся в пределах
видимости друг друга, так чтобы в одной можно было слышать
крик петухов и лай собак в другой стране; и все же пусть люди
умирают в них в самой глубокой старости, ни разу не
странствовав туда и сюда» (80).
f) Истина изначального: Граничащие с идиллией описания
состояний, требования первобытности, желающей вернуться
во времена, когда еще не было достижений культуры («пусть
люди возвратятся к использованию шнурков с узелками», то
есть - к эпохе до изобретения письменности; 80), - у Лао-цзы
они могут производить такое впечатление, будто это
«возвращение к природе» есть возвращение к грубости. Всего один
шаг, и это в самом деле так и будет.
Кажется, будто требование не допускать народ к знанию и
просвещению идет в том же направлении. Мудрый правитель
«заботится о том, чтобы люди не стали знающими и чтобы те,
кто обладают неким знанием, боялись "делать"» (3). «В
древние времена те, кто жил в Дао, не просвещали им народ; они
хотели сохранить его в простоте. Народом трудно управлять,
если он многое знает. Править страной при помощи
просвещения - это погибель страны» (65). Всего один шаг - и речь
пойдет о рафинированном облегчении властвования над людьми
посредством поддержания глупости людей.
Кажется, будто Лао-цзы отвергает высокие ценности
человеческой культуры и нравственности: «Оставьте мудрость,
откажитесь от благоразумия: благосостояние народа умножится
во сто крат. Оставьте человеколюбие, откажитесь от вашей
справедливости: народ возвратится к детскому благоговению.
Оставьте умения и откажитесь от своих усовершенствований:
воров и грабителей больше не будет» (19). Всего один шаг -
и мы придем к пассивности того, кто оставляет все идти как
есть, просто наблюдает со стороны и, будучи вопреки всякой
очевидности чуждым миру, твердо держится фантастических
представлений.
377
Лао-цзы
Чтобы понять эти положения в возможно лучшем их смысле
из совокупности учения Лао-цзы, нужно видеть
двусмысленность «изначального». Во-первых, изначальным называется
то, что соответствует Дао, и именно это имеет в виду Лао-цзы.
Однако оно столь далеко, столь сокровенно, его так легко
перепутать с другим, что его можно только чувствовать, но
нельзя утверждать его как осуществленный мир человеческой
жизни. Во-вторых, изначальным называется то, что было вначале,
первобытное, и, поскольку оно используется как метафора для
обозначения подлинно изначального, его смешивают с
последним. Сила философской мысли, обнаруживающей
источник высших возможностей человека, не может помешать тому,
что положения Лао-цзы тут же - быть может, в минутных
уклонениях уже и у самого мыслителя - загораживают собою то,
что было усмотрено вначале, скрывают и искажают его.
//. Характеристика и критика
1. Смысл Лао-цзы
а) Спор: то, что о несказанном вообще говорят: «Кто
знает, тот не говорит; кто говорит, тот не знает» (другой перевод:
«Кто знаток [Дао], тот не произносит слов; кто произносит
слова, тот - не знаток») (56). Это базовое познание Лао-цзы
высказывает неоднократно: «Совершенномудрый наставляет без
речей» (другой перевод: «Ему удается вести жизнь без слов»,
иначе: «Его учение - это поведение, а не речь») (2).
И так Лао-цзы вновь отверг свою собственную затею -
сообщить глубочайшее познание при помощи того, что может
быть высказано в слове. В самом деле: каждое предложение
высказывания уводит в сторону. Кто принимает его как
таковое, крепко держится за предмет. Чтобы осознать истину, он
должен превзойти и предложение, и предмет, а это значит -
оказаться в несказанном. Таким образом, каждое предложение
высказывания, чтобы стать истинным, должно исчезнуть в
несказанном.
Почему же в таком случае Лао-цзы пишет книгу? Он этого
не обосновывает. Только легенда говорит нам, что он этого не
хотел, и только пограничный страж потребовал от него
записать свое учение, что Лао-цзы и сделал, отчасти добровольно,
отчасти же против воли. Мы можем ответить так: потому что
эти записанные высказывания сами по себе должны привести
378
Жизнь и сочинения
к тому, чтобы их превзошли, они сами по себе, как путеводная
нить, должны вести нас через размышление к несказанному.
Это сочинение Лао-цзы - первое великое косвенное
сообщение, к которому всегда принуждена будет обращаться
подлинно философская мысль.
Мысль доходит от человека к человеку только через
сообщение. Тотальное молчание было бы в то же время неслыш-
ностью молчания, и в самом деле было бы подобно ничто.
Мы вынуждены говорить и слушать. Сообщающее себя
познание должно (и в понимании себя, и в понимании со стороны
другого) вступить в область рассудочного, называющего,
определяющего, различающего и соотносящего мышления.
Философское, несказанное познание, сказываясь в слове, вступает
в спор с самим собой. Но знать о нем самом человеку
возможно опять-таки только в разговоре (вначале - в разговоре
мыслящего с самим собою).
Ь) К чему в нас обращается философская речь? Мы уже
слышали ответ: не к рассудку, который есть некое знание о
предметах, - не к воле, которая, будучи направлена на цели,
действует согласно планам. Скорее, Лао-цзы обращается к
истоку в нас, сокрытому рассудком и целями. Поэтому он
стремится не к самоукрощению могуществом воли, а к некоторому
более глубокому испытанию самих наших побуждений.
В нас покоится или спит то, что может быть таким путем
разбужено, или же в нас - пустота, в которой нечего будить.
Но этого последнего Лао-цзы нам не говорит. Он питает
доверие к тому, что можно разбудить, уверен в Дао в основе. Есть
сопротивление, маскировка, упадок сил, забвение. Поэтому
необходимо терпение.
В качестве примера пусть послужат политические
размышления Лао-цзы. Его положения так сильно напоминают
наставления, что само напрашивается желание продумать их как
возможные наставления. Но в таком случае оказывается, что
все подобного рода наставления у Лао-цзы - это только
метафоры. Они никогда не имеют здесь характера настоящих
предписаний или законов. В качестве наставлений они оказываются
ложными там, где ведут к пассивности, вместо того чтобы быть
поняты как выражение всеобъемлющей основы для активности.
Они будят порыв верности себе, обдуманности, исходящей из
глубочайшего объемлющего. Они противодействуют слепой
379
Лао-цзы
ярости, бездумной активности, насилию, забывающему о конце,
который заметен только в самом широком горизонте.
Они могут подействовать как ограничивающие побуждения
в борьбе с наклонностью упорядочивать все при помощи
наставлений и законов. Они могут дать нам осознать установку
максимального освобождения, они могут подчинить все
наставления и законы условию, которое само не может получить
форму наставления, но может дать почувствовать себя в
сообщении от человека к человеку.
Они относятся к числу тех наглядных представлений,
которые мы должны начертить, чтобы не впасть в нескончаемость
суеты (Betriebsamkeit), в которой, несмотря на господство
целесообразности, в конце концов все делается ложным, потому
что противным цели.
Примечательно, что многие решения в рамках бюрократии,
издавна свойственной всем крупным политическим
формациям, принимаются большей частью людьми, которые, не имея
того фонда, что возникает из живого осознания целого, своей
целенаправленной работой достигают величайшей
бессмыслицы. Самовоспитание действующего человека и публичного
духа требует обдуманности и ответственности,
руководствующихся масштабами, выходящими далеко за рамки механизма
законов и инструкций. Эта ответственность должна видеть
всякое нормативное положение в целом жизни, и должно видеть
его во взаимосвязи с другими нормативными положениями.
Она должна с величайшей простотой отыскать не только тот
или иной определенный порядок, но также и освобождение
повседневной жизни всех и сохранение непредсказуемых
возможностей открытыми.
Мысли Лао-цзы обращаются к объемлющей основе в нас
и вне нас. Они напоминают о том, что постоянно забывается
в атмосфере целенаправленной воли и конечного рассудка.
Лао-цзы говорит с нами, заклиная нас в то мгновение, когда
мы, будь то в повседневности, или в профессии, или в
политическом действии, отрываем свою преднамеренность от того,
чем она неизменно должна направляться, если не желает
впасть в нескончаемость сугубой функции, в пустоту
ничтожности, в разрушение, только усиливаемое нашей деловитостью,
и в растерянность вопроса «зачем?». Лао-цзы напоминает
о том, от чего человек не вправе отделять себя, если он не
желает утонуть в ничто.
380
Жизнь и сочинения
с) Формы мысли Лао-цзы: Лао-цзы больше не ищет, он
«знает» в смысле подобного знания. Осознав основу бытия, он
говорит с нами из этой основы. Поскольку он исполнен, он
сообщает. Он дает ответы без вопросов.
Он не рефлектирует о методах, которые он осуществляет
своими мыслями. Если мы направим свое внимание на то
мышление, которое проявляется в языковом сообщении Лао-
цзы, то бросаются в глаза его характерные черты.
Во-первых: Лао-цзы побуждает нас двигаться дальше в
мышлении, потому что каждая высказанная мысль бывает
также и неверна, и всякое исправление предложения - опять-
таки неадекватно. Например: «Пытаясь дать ему имя, я
называю его большим. Как большое, я называю его чрезмерным;
как чрезмерное - отдаленным; как отдаленное, я называю его
возвращающимся» (25). Штраусе дает здесь интерпретацию:
«Если я принуждаю себя дать ему имя, я называю его
большим. Абсолютно большое есть, именно вследствие этого,
абсолютно отдаленное. Но это далекое есть то, что пронизывает
все, что как раз теперь присутствует в моем мышлении, и
поэтому я вынужден назвать его вернувшимся».
Во-вторых: Мысли, желающие выразить Дао, впадают в
противоположности, противоречия, парадоксы.
Противоположности многообразно связаны друг с другом:
они порождают друг друга, дополняют друг друга, взаимно
просветляют друг друга, отдаляются друг от друга,
приноровляются друг к другу, следуют друг за другом. Например: «Бытие и
небытие порождают друг друга. Тяжелое и легкое дополняют
друг друга. Длинное и короткое формируют друг друга. Высокое
и низкое отдаляются друг от друга. Звук и голос
приноровляются друг к другу. «Прежде» и «потом» следуют друг за
другом» (2). Другой пример: «Тяжелое - корень легкого, покой -
господин беспокойства» (26).
И вот Лао-цзы пользуется этими многообразными формами
противоположностей, чтобы в их обоюдных отсветах сделать
сказуемым несказанное: бытие в небытии, знание в незнании,
деяние в недеянии. На торопливого читателя, который не
углубляется в предложения текста с каждым предложением,
обдумывая их, повторение одной и той же формы может
действовать как утомительная манерность. В этой игре
противоположности скрываются друг в друге, - или гасят друг друга,
как будто бы ничего не остается, - или обращаются друг в дру-
381
Лао-цзы
га: «Истинные слова как бы противоположные
(несообразные)» (78). В самом деле, мы находим здесь еще не
осознающую саму себя методически диалектическую форму мысли,
взаимопревращение противоположностей, явление одного в
противоположности своего другого, парадокс единства
противоположностей. У Лао-цзы он есть форма речи из глубины
изначального, побуждающей к медитации.
Игра противоположностями разочаровывает, если мы ищем
определенного знания, но всякий раз слышим только
исчезающие парадоксы. Эта игра обладает убедительной силой,
только если будит отголосок в нашей собственной основе.
Конечный рассудок должен словно бы встать с ног на голову,
если объемлющая основа - это небытие, из которого существует
бытие, не-познавание, которым мы улавливаем истину,
недеяние, посредством которого мы бываем деятельны.
В-третьих: Дао и то, что существует благодаря Дао, можно
мыслить только в логическом круге. Оно не выведено из
другого и немыслимо через отношение к чему-то другому.
Поскольку оно лишено отношений, его бытие в основе небытия
можно выразить только так, что оно существует через самое
себя, его познанность в не-познавании - только так, что оно
познается только само собою, его деяние в недеянии - только
так, что оно само себя определяет. Логический круг, вместо
выведения из чего-то иного, служит выражением замкнутости
Дао в себе. Так, сказано: «Дао само себе закон» (25), я знаю
его «через само Дао» (21), познаю его «в нем самом» (54).
Если снимаются маскировки, устраняются искажения, то воля
становится сообразной Дао, тогда высвобождается исток.
А в истоке ожидают найти не ничто, но «само Дао». -
Формы мысли: побуждение идти вперед,
противоположности и круг, - это средство приблизить нас к удостоверению
в истоке. Этот исток один. Поэтому мысль Лао-цзы не знает
различий метафизики, этики, политики, которыми мы
пользуемся, чтобы описать его мышление в некоторой
упорядочивающей последовательности одного-за-другим. Лао-цзы снова и
снова в немногих фразах схватывает их воедино. Поэтому
каждый раз он мыслит целиком: всецело политически, всецело
этически, всецело метафизически, то есть в том, что нашему
взгляду предстает отдельно как метафизика, этика, политика,
он в каждом случае имеет в виду это особенное в его основе,
а тем самым - всегда имеет в виду одно и то же. Никакие ве-
382
Жизнь и сочинения
щи, будучи связаны в Дао, не отделены друг от друга. Будучи
покинуты Дао, они отделяются одна от другой, ложно делают
себя каждая целым, абсолютизируются в противоположности,
в преднамеренности, в моральности.
2. Образы последователей Лао-цзы
Лао-цзы говорит из завершенности или вечности. Он
говорит из объемлющего, обращая речь к объемлющему. Если мы
непосредственно принимаем предметное содержание его
положений за нечто такое, что мы можем знать и в соответствии
с чем мы можем действовать, то подразумеваемый им смысл
теряется. Как возникает это недоразумение - мы можем
понять из форм мысли, присутствующих в сообщении Лао-цзы.
То, что было метафорой, было принято за реальность; то, что
служило путеводной нитью для движения мысли, стало, в
качестве предмета, вещью самой по себе; то, что обозначало
указание на основу практики, было истолковано как наставление
для преднамеренного поведения человека. И так постигнутый
Лао-цзы, однако же непреодолимый абсурд речи о несказанном,
вместо того чтобы служить стимулом для движения в это
несказанное, был неверно понят как предметное познание того, что
есть, или как предписание для нравственной деятельности, или
как план для правильного устройства государства.
Отшельник. Лао-цзы трансцендировал мир в мышлении
о Дао, однако он не покидал мира даже тогда, когда уехал со
своей родины. Он жил в самом мире благодаря истоку в Дао.
Его мысленное постижение Дао не ведет по пути к экстазу, не
ищет доступа к основе при помощи изменения сознания в
такие состояния, где отсутствует Я и мир. В этом смысле Лао-
цзы - не мистик. Его мышление есть удостоверение через
движение мысли, позволяющее увидеть бытие во всем сущем,
подтверждающее бытие и вновь делающее его возможным.
Лао-цзы чувствовал и осуществлял Дао в мире. Поэтому
постижение мира, этос и государственное мышление были
разными обликами его философии.
Глубокий покой Дао присутствует в каждой мысли Лао-цзы.
Этот покой пребывает по ту сторону всех целей и задач, он -
прибежище и приют всех существ, он - бездна и
защищенность, он - конец и совершенство. Но этот покой не есть
пассивный покой безразличия, не витальная созерцательность
383
Лао-цзы
вегетативного существования, но покой в беспокойстве
страдания от чуждого Дао мира. Он еще сохраняется в страдании
одиночества, в необходимости жить подобно шуту в мире,
ставшем чуждым Дао.
Смысл мышления Лао-цзы искажается в следующем
неверном понимании: Свобода от желаний, говорит Лао-цзы,
является условием для усмотрения Дао. Искажая эту мысль,
отсюда умозаключают, что человек, лишенный страстей, ближе
к истоку, человек, не имеющий деяний, более родствен основе.
Лао-цзы претерпевает обособление от мира
(Weltabsonderung), однако не желает его. Он не приходит к отрицанию мира
и не впадает в отказ от мира (Weltabkehr). Однако, искажая
установку Лао-цзы, [последователи] абсолютно отвергли мир,
как мир вообще, ввиду его порочности. Таким образом, его
мышление, при одновременном обеднении его смысла, могло
найти применение на службе монахов и отшельников. Жить
отшельником, уйти в горы, обитать в пещерах, - все виды
обособления от мира издавна были в Китае формой жизни,
составлявшей прямую противоположность порядку жизни в
семье, общине и государстве. Уже в древних песнях Ши-цзин
встречается восхваление одиночества: «Одиночество у ручья
в долине - радостный выбор высокой души. Одиноко он спит,
бодрствует и говорит... Одиночество у горного обрыва...
Одиночество на высоте вершины...» Монашество проходит через
все века. Это - даосское монашество, и оно ссылается на Лао-
цзы (в той мере, насколько впоследствии в Китае оно не стало
буддийским монашеством).
Наслаждающийся жизнью (Lebenskünstler). Покой Дао
можно было, напротив, найти и в мире, но в качестве утонченного
искусства при всех обстоятельствах и при помощи особых мер
получать духовное наслаждение от жизни. Реальное
существование понимается не как задача для исполнения
обязанностей в семье, профессии и государстве, но как ситуация,
в которой, при помощи адаптации и подвижности, мы обретаем
самоутверждение во всех реальностях жизни, которые сами по
себе не стоят восприятия их всерьез. Для этого
самоутверждения требуется высокое искусство покоя посреди красоты
жизни. Это поясняет нам старинная история о трех вкусивших
уксуса: уксус - символ жизни. Конфуций нашел, что эта жидкость
кислая, Будда - что она горькая, но Лао-цзы утверждал, что
она сладкая. Поэтому во все века конфуцианцы нападают на
384
Жизнь и сочинения
Лао-цзы, под которым они подразумевают это уклонившееся
в искусную дисциплину жизни существование как, например,
Чжу Си (1131-1200) говорит: Лао-цзы, говорит ли он о пустоте,
о чистоте, о недеянии и уклонении, всегда думает все-таки
о собственной выгоде, ни с кем не спорит и всякий раз
довольно улыбается.
Литератор. Чжуан-цзы - самый знаменитый
последователь Лао-цзы. Он - в отличие от «Дао-дэ-цзин» - легко
читается также и в переводах, остроумен, увлекателен, наглядный,
одинаково склонен и к плавным описаниям, и к заостренным
фразам, богат и вариациями мысли, и формами изложения.
Его изобретательность и наглядная фантазия приковывают
внимание читателя в анекдотах, беседах, ситуациях.
Однако велико отличие его от Лао-цзы. Лао-цзы
очаровывает изначальностью, серьезностью, несуетностью, истиной
покоя, как и истиной глубокого страдания. Напротив, Чжуан-
цзы возбуждает душу неожиданным, озадачивает читателя,
выдает себя за ироника и скептика, пользуется мыслями
Лао-цзы как материалом для своих литературных изобретений.
Он дает нам заметить преднамеренность литературной
формовки. Из-за этого каждое слово Лао-цзы изменяет свой
смысл. То, что было болезненным парадоксом, неизбежным
окольным путем в попытках совершить невозможное, и
вследствие того могло впечатлять нас с такой неслыханной
пронзительностью, становится теперь литературным методом и
артистической жизнью мудреца. Поэтому Лао-цзы доступен нам и
неисчерпаем только при условии постоянного
сосредоточенного размышления. Напротив, Чжуан-цзы, создав иллюзию
доступности естественному пониманию, делает так, что то, о чем
должна была идти речь у последователя Лао-цзы, в тексте
фактически теряется.
Настроение Лао-цзы мирно, настроение Чжуан-цзы
полемично, исполнено высокомерия и насмешливого презрения.
Кажется, будто Чжуан-цзы ничего не знает о том, что Лао-цзы
являет нам как силу слабости, как мягкую власть низкого, как
силу воды, которая течет всегда вниз, в самые презренные
места, и что он постоянно хранит как свойственное ему
настроение. Лао-цзы несет неизмеримое страдание удаленности от
Дао в мире. Чжуан-цзы выражает только естественную печаль
человека о бренности и смерти и о жалобе, звучащей в
тщетном вопросе: откуда, и куда, и для чего?
385
Лао-цзы
Достойная удивления изобретательность Чжуан-цзы, его
проницательные мысли о мире и действительности, о языке,
о разнообразных психологических состояниях, богатство его
стиля делают его одним из интереснейших китайских авторов.
Но не следует путать его с Лао-цзы и понимать его как
достаточно верного комментатора Лао-цзы.
Маг: На Лао-цзы ссылались даосы, желавшие (подобно
мистикам во всем мире) при помощи дыхательной техники
принудительно вызвать состояния глубочайшего откровения; на
него ссылались люди, желавшие изготовить или отыскать
эликсир жизни, напиток бессмертия, чародеи, полагавшие,
будто могут странствовать на облаках, передвигаться в
пространстве в любое место, куда захотят.
Политик насилия: Положения о Дао и о возвышенном
человеке по ту сторону добра и зла лишили смысла, извратив их
в основоположения свободного от норм и от морали
обращения с людьми. Бунтовщики могли извратить идею вечно
истинного состояния мирно-анархического покоя жизни, сообразной
с Дао, поставив себе целью достичь этого состояния
насилием. Один конфуцианец критически говорил: Лао-цзы смотрит
на людей как на глиняные фигуры. Его сердце остается
холодно как лед. Даже если убивали человека, он не чувствовал
сострадания. Поэтому его приверженцы часто позволяли
вовлечь себя в мятежи и обман.
Величайший китайский тиран Цинь Шихуанди,
преобразовавший китайскую империю в третьем веке до Р.Хр. с
небывалыми прежде тотальным планированием и потенцированной
преднамеренностью, технизировавший жизнь, приказавший
сжечь сочинения конфуцианцев, кроме сочинений по военному
делу и сельскому хозяйству и других полезных практически
сочинений сохранил произведения даосов. Он хотел обрести
индивидуальное бессмертие и отправил экспедицию на
восточное море к островам, где можно найти напиток бессмертия.
То, что этот властитель был даосом, - факт примечательный.
Самый глубокий мыслитель может также подвергнуться и
самому радикальному искажению.
3. Историческое место и границы Лао-цзы
Лао-цзы коренится в старинной анонимной традиции. Его
достижение - углубление мифологического взгляда и превос-
хождение его в философской мысли. Изначальность этого
386
Жизнь и сочинения
мышления тесно связана с его именем. После него произошло
не только превращение этого мышления в намного более
доступное благодаря целой литературе элегантных форм, но и
появление суеверия и искажение его положений,
превращенных в правильности об осязаемых фактах. Но он вновь и вновь
становился также тем, кто пробуждает людей для подлинной
философии.
Во всемирно-историческом плане величие Лао-цзы тесно
связано с китайским духом. Границы Лао-цзы - границы этого
духа: настроение Лао-цзы остается радостным при любом
страдании. Ему незнакома ни угроза буддийских
перерождений, а потому и устремление выйти из этого мучительного
колеса, - ни христианский крест, страх перед неизбежным
грехом, зависимость от спасения по благодати через
заместительную жертвенную смерть вочеловечившегося бога. В этом
отсутствии у него всемирно-исторических созерцаний бытия,
присущих людям Индии и людям Запада, заключено нечто
большее, нежели просто отсутствие неестественного и
абсурдного, как будто бы только эти люди ранней эпохи Китая
имели счастье не оказаться во власти этим обликам страшной
иллюзии, которыми они могли показаться по меркам китайской
естественности. Какое очарование исходит от этого китайского
духа, способного жаловаться так безмерно-пронзительно, но
не доходящего до бунта и обвинения, адресуемого основе всех
вещей, как и до нерешительного повиновения непостижимому
в лице данного в определенном откровении авторитета! Но,
несмотря на это, граница китайцев никуда не исчезает. Это -
та граница, вследствие которой мы можем также оставаться
чуждыми очарованию их существа, как будто бы здесь не
раскрылась вся глубина бездн ужаса существования. Китайцы не
только не создали в области поэтического искусства ни одной
трагедии, но трагическое начало осталось недоступно для них,
как бы ни были они при этом способны видеть и переживать
человеческие бедствия.
Как же мы можем понять эту границу у Лао-цзы? Подобно
всем величайшим философам человечества, Лао-цзы мыслит
из объемлющего, не позволяя приковать себя к какому-либо
отдельному знаемому. Его простертое в самую широкую ширь
мышление не упускает ничего. Его самого невозможно
поместить в одну какую-то рубрику: «мистик», «этик», «политик».
Его глубокий покой в Дао обретен в трансцендировании всего
387
Лао-цзы
конечного, но обретен он так, что Дао пронизывает сами эти
конечности, поскольку они истинны и действительны. Это
философствование проживает в мире основу мира. Граница этого
философствования обнаруживается только в том, что
представляется - или не представляется - тем, что надлежит превзойти,
в промежуточных звеньях, которые неизбежно необходимы как
моменты действительности в темпоральном сознании. Ибо эти
промежуточные звенья суть ступени трансцендирования или
способы актуального присутствия того действительного, через
посредство чего только и обретается опыт основы. Они
сохраняются в самом превосхождении, и они придают содержание
трансцендированию, которое без них становится пустым.
Доступные нашему чувству границы Лао-цзы находятся не на
вершине его философствования, а в этих промежуточных
ступенях.
Может быть, то основополагающее воззрение, в котором
находятся все эти промежуточные ступени, можно
схематически-кратко сформулировать так: Для китайского духа мир - это
естественный процесс, живой круговорот, спокойно-подвижное
мироздание. Все отклонения от Дао целого второстепенны,
преходящи, а кроме того, они всегда уже вновь погружены
в само не подверженное порче Дао. Для нас, людей Запада,
мир не замкнут в самом себе, но соотнесен с тем, что
непостижимо исходя из мира как естественный процесс. Мир и наш дух
пребывают в напряженной борьбе с собой и с другим, они суть
решающий процесс в борьбе, обладают уникальным
историчным содержанием. Лао-цзы не знает шифра требовательного
и гневного, борющегося и желающего борьбы бога.
В мире, во времени, в конечности - в пространстве
промежуточных ступеней - для нас неизбежно необходимо то, что
отсутствует у Лао-цзы: жизнь в вопросах, ответах и новых
вопросах, весомость «Или-Или», решения, решимости, этой
парадоксальной основополагающей действительности, когда во
времени принимается решение о том, что вечно. Вследствие
же этого у лао-цзы отсутствует также задаток для
безграничной саморефлексии, этого непрекращающегося во времени
движения (в отличие от совершенного покоя в Дао);
отсутствует это самопросветление, это общение с самим собою, эта
постоянная внутренняя работа изгнания, то и дело упрямо
навязывающихся нам, самообманов, сокрытий от себя и
внутренних искажений.
388
НАГАРДЖУНА
Источники: Праджняпарамита1. Нагарджуна".
Литература: Ольденберг"1. Хакманн'\ Шайер. Щербатской\
Примерно с первого до восьмого века по Р.Хр. в Индии
процветала философия, развиваемая посредством логических
операций (на санскрите). Носителями ее были индуистская
школа ньяя и буддистские секты махаяны. Знаменитые
мыслители буддистских сект: Нагарджуна (ок. II в. по Р.Хр.), Асанга,
Васубандху, Дигнага, Дхармакирти (VII в.). Эта литература
сохранилась не в том виде, какой придали ей некогда творческие
мыслители, но в позднейших сочинениях, которые, однако,
впоследствии стали базовыми произведениями для
философского буддизма, в особенности в Китае.
В пределах этого мира логической диалектики, как
самоочевидного элемента жизненной практики, течение шуньява-
динов, исходя из общих для этих сект предпосылок, дошло
до самых крайних выводов. Они учили: Все есть пустота, - все
вещи сугубо мгновенны, - не имеют определенного так-бытия, -
подобны волшебной иллюзии. Поэтому истинное познание
заключается в самой пустотности. Я получаю это познание в
отвлеченности (Losgelöstheit), т.е. в мышлении, лишенном
знаков, лишенном значения (в «лишенности признаков» (Merkmal-
losigkeit)), не движимом никакой склонностью, никакой целью,
вообще ничем (в «лишенности склонности» (Neigungslosigkeit)).
Это учение называет себя поэтому «раскалывающим алмазы
совершенством мудрости», - оно называет себя также
средним путем (мадхъямика) между тезисами о бытии и небытии
существования: пустотности (шунья вада) не присуще ни
бытие, ни небытие. Состояние совершенного познания
заключается в совершенной лишенности споров (Streitlosigkeit).
Некоторое представление [об этом учении] мы получаем из
двух книг (Праджняпарамита, Нагарджуна). Они переведены на
немецкий язык с китайского и тибетского, тогда как их
санскритские оригиналы утрачены. Кроме того, сюда относятся некоторые
389
Нагарджуна
краткие главы в «сутре 42 глав» (перевод у Хакманна, 246 ff.).
Нагарджуна как личность едва постижим исторически. Мы
считаем его представителем этой экстремальной возможности
упразднения метафизики посредством самой метафизики.
I. Мыслительные операции
1. Одно из основных понятий этого мышления - дхарма. То,
что есть, есть дхарма. Дхарма - это вещь, свойство,
состояние, содержание и сознание содержания, объект и субъект,
порядок, оформление, закон и учение. В основе [этой теории]
лежит представление, «что содержание мира составляет не
столько нечто упорядоченное, оформленное, сколько, скорее,
самоупорядочение, самооформление, и что всякий порядок
должен уступить место другому порядку, всякая форма -
другим формам» (Ольденберг). Хотя каждая дхарма
самостоятельна, все дхармы перечисляют в своего рода системе
категорий: вплоть до 75 дхарм. Понятие дхармы столь же
многозначно, как наше западное «бытие». Перевести это слово не
удается, потому что его значения всеобъемлющи.
2. Цель этого мышления формулируется как
«непривязанность (Nichthaften)» к дхармам, непринятие, неуловление
дхарм, как отвлечение (Sichloslösen), освобождение от них для
достижения совершенства познания. Поэтому познающий в
совершенстве (бодхисаттва) «не будет пребывать в явлении,
не будет - в ощущении, ни в понятии, ни в формах, ни в
сознании» (Рг37).
Дети и обычные люди привязаны к дхармам. Хотя все
дхармы не существуют в действительности, они представляют
их. Представив же их, они привязаны к имени и форме. Иное
дело - познающий: Бодхисаттва, когда он учится, не заучивает
какую-либо дхарму. «Он преднаходит дхармы так, как их не
преднаходят».
Для отвлечения необходимо сделать последний шаг. Я мог
бы думать: Но ведь само учение существует, оно есть та
дхарма, которая, возможно, есть. Ведь существовал же Будда.
Существуют бодхисаттвы, достигшие совершенного познания.
Разве они - не действительность? Нет, и все это также
пустота. «Я не вижу той вещи (дхарма), которая была бы бод-
390
/. Мыслительные операции
хисаттвой; также и другой вещи (дхарма), а именно
совершенства познания, не замечаю» (Рг 35). Совершенство познания
невозможно представить себе, и оно не существует как нечто
встречаемое в мире. Ибо то, что есть неуловление явления,
само не есть явление; то, что есть неуловление ощущения,
понятия, формы, сознания, само не есть сознание. Такова
радикальная основная мысль: отвлечься ото всего, а затем
отвлечься от самого отвлечения; не зависнуть нигде.
3. Средством этого мышления является диалектика в том
виде, как она была развита индийской логикой. Только она
впервые понимает и вызывает совершенное отвлечение в
непривязанности. Всякая мыслимая вещь, поскольку в ней
предполагается выражение чего-то существующего, подвергается
диалектическому уничтожению. Эти операции были развиты,
прежде всего, Нагарджуной. Они сами, в свою очередь,
становятся учением. Приведем здесь отдельные ходы мысли из
этого учения:
а) Все обозначения лишены сущности: Когда я говорю, то
полагаю, что посредством знаков (нимитта) описываю то, что
ими обозначается. Чтобы постичь, например, возникновение
и уничтожение, необходимо «постичь» различия значений.
Но обозначение и различение улавливают нас в сети иллюзии;
это выясняется в следующих мыслях:
Обозначение и обозначаемое невозможно постичь ни как
одно и то же, ни как различное. Ибо, если бы они были одно
и то же, то, когда мы говорим «огонь», само слово горело бы.
Если бы они были различны, то обозначение было бы все же
не лишено обозначаемого, и наоборот, никакое обозначаемое
не было бы без обозначения; поэтому то и другое не может
быть различно. Итак, обозначение и обозначаемое невозможно
постичь ни как одно и то же, ни как различное, а тем самым они
вообще суть ничто, поскольку я говорю. Но если мы скажем,
что обозначение подобно отражению в зеркале, то как простое
отражение оно было бы ложно. Но то, что представляется и
различается под неким ложным понятием, не является
подлинно сущим.
Итак, поскольку обозначение и обозначаемое не
постигаются ни как одно, ни как различное, не постигаются также и
различения обозначаемого, такие как возникновение и
исчезновение, приход и уход и т.д. Поэтому жизнь в знаках - это жизнь
391
Нагарджуна
в кажимости, далекая от совершенства познания. Однако в
знаках проводит жизнь каждый, если он проводит жизнь в
знаках явления, - если он проводит жизнь в представлении:
явление есть знак, - если он проводит жизнь в представлении:
явление пусто, - если он проводит жизнь в представлении
«я живу», - если он проводит жизнь в знаке сознания, в
представлении «сознание есть знак».
Из речей при помощи значений (знаков) невозможно
выбраться средствами самой речи. Я всегда, каждым новым
предложением, вновь оказываюсь в плену у того, от чего я
хотел ускользнуть.
b) По видимости все существует, но также и не
существует: Все высказывания можно доказать или опровергнуть
ссылкой на видимость (Augenschein).
К примеру: «Исчезновение» неправильно: ибо вещи в мире
рассматриваются как непреходящие, например, сегодня рис
есть, потому что он был всегда. Поскольку он налицо,
исчезновения нет. «Возникновение» тоже неправильно: вещи в мире
рассматриваются как невозникшие. - Соответственно, далее,
например так: Уничтожения нет; ибо из рисового семечка
возникает рисовый росток. Поскольку мы воспринимаем
возникновение, уничтожения нет. Наоборот: Вечного нет, потому что в
мире не встречается вечных вещей: в пору прорастания семян
мы не видим рисового семечка. - Таким образом и далее снова
и снова на чувственной видимости показывают нечто иное:
вещи не едины, но они не различны, - нет ни прихода, ни
ухода, и т.д.
В основе этих мыслей - то обстоятельство, что все
категории могут быть продемонстрированы где-либо в мире. К
примеру, вместо того чтобы спрашивать, где они имеют силу,
а где нет, этот опровергающий на чувственной видимости
метод показывает, что они, как партикулярно значимые, всегда
где-нибудь оказываются уместными, но тем самым
одновременно неуместны как абсолютно значимые для всех случаев, и
с легкостью опровергает их в качестве подобных абсолютных
категорий.
c) Как опровергается бытие и небытие: Бытие есть, а
небытия нет. Эту позицию Нагарджуна отвергает точно так же,
как и другую: не существует ничего. Он совершает следующие
392
/. Мыслительные операции
ходы мысли, в каждом из которых некоторый тезис
выдвигается, опровергается, уступает место новому тезису, и этот
последний опять-таки опровергается.
Во-первых: Вещи существуют в себе. Нет, ибо то, что
существует в себе, не произошло из причин и условий. Между
тем все сущее произошло из причин и условий. Итак, ничто не
существует в себе, но все существует через другое.
Во-вторых: Если нет бытия в себе, то есть все же
инобытие (Anderssein). Нет, ибо, если нет бытия в себе, то откуда
же взялось бы инобытие? В-себе-бытие другой вещи лишь
ошибочно называют инобытием. Если нет бытия в себе, то нет
и инобытия.
В-третьих: Даже и без бытия в себе и инобытия вещи
все же будут существовать. Это невозможно. Ибо где же
было бы бытие без бытия в себе и без инобытия? Поэтому: Бытие
постигается, только есть есть бытие в себе и инобытие.
В-четвертых: Так значит, все-таки есть небытие.
Отнюдь нет, ибо если не постигается бытие, то не постигается и
небытие. Только инобытие некоторого бытия люди называют
небытием.
Стержень этой мысли заключается в доказательстве
невозможности как бытия, так и небытия:
Если бы бытие было из самого себя (в-себе-бытие), то не было
бы его небытия. Ничто сущее никогда не становится иным само из
себя. Если действительно существует сущее из самого себя, то
инобытие невозможно.
Но если бытие из самого себя (в-себе-бытие) не существует,
тогда чьим же должно быть инобытие? Или чьим - это небытие?
Результат для поведения познающего в совершенстве
будет таков: «Есть» - это постижение вечности, «не есть» - это
точка зрения уничтожения. И то и другое оказалось
несостоятельным. Поэтому мудрец не вправе утверждаться ни на
бытии, ни на небытии, не вправе утверждать ни точку зрения
вечности, ни точку зрения уничтожения.
Если кто-нибудь желает удержать какой-либо конечный
пункт мысли как учение и утверждать, к примеру, или бытие,
или же небытие, то ответ будет таков: Те, которые видят бытие
в себе и инобытие, бытие и небытие, те еще не усматривают
свойства учения Будды. Если Будда опровергает бытие, то
393
Нагарджуна
люди ошибочно утверждают, что он утверждает небытие. Если
Будда опровергает небытие, то они ошибочно утверждают, что
он утверждает бытие. Но он, обсуждая бытие и небытие,
опроверг бытие и небытие. Поэтому следует отказаться от обеих
точек зрения - точки зрения бытия и точки зрения небытия.
d) Схема этой техники опровержения: Здесь
методическим образом осознается, что абсолютно всякое возможное
высказывание может и должно быть опровергнуто.
Поэтому по отношению ко всем [теоретическим] позициям
выдвигается совершенно принципиальная претензия на их
опровержение: «Санккхьяики допускают, что основание и
следствие - это одно и то же, поэтому, чтобы опровергнуть их,
говорим: не одно и то же. Вайшешики допускают, что основание и
следствие различаются, поэтому, чтобы опровергнуть их,
говорим: не различаются».
При применении этого метода сформировался некоторый
методический тип: рассматривать в каждом случае четыре
возможности и отвергнуть каждую из них по отдельности, и
наконец, все вместе, а именно: 1. Нечто есть. 2. Оно не есть.
3. Оно как есть, так и не есть. 4. Оно и не есть, и не не есть.
Запирается всякий выход, ведущий к предельному, значимому
высказыванию.
Следствие таково, что все может быть сформулировано
и отрицательно, и положительно. Будда учил как одному, так
и его противоположности. Противоположность истинного и
ложного преодолевается, и преодолевается также
противоположность этой противоположности. Решительно никакое
высказывание, как неизменно сохраняющее силу, не остается
возможным.
Применительно к каждой дхарме повторяются и
отвергаются четыре возможности, например: конец есть; конец не есть;
конец есть и не есть; конец не есть и не не есть. - Или: Будда
существует после нирваны; он не существует; он существует и
не существует; он не существует и не не существует. - Или:
Тот, кто проводит жизнь в совершенном познании, не
воспринимает «я живу», и не воспринимает также «я не живу», и не
воспринимает «я живу и не живу», и не воспринимает «я не
живу и не не живу».
394
/. Мыслительные операции
е) Материал, который опровергают и на котором
опровергают: Этот ход мысли постоянно повторяется, но каждый
раз в другом материале. Этот материал предзадан мыслителю
в формах мысли, мнениях, высказываниях, короче - в
категориях индийской философии. Как огонь зависит от топлива, так
операция разложения - от того, что мы разлагаем. Многие из
этих категорий хорошо знакомы и нам, некоторые -
непривычны, все они имеют индийскую окраску, даже если мы называем
их на нашем языке: бытие и небытие, возникновение и
уничтожение, причинность, время, материя, самость и т.д.
Резюме учения
a) Существуют две истины: сокровенная на мирском плане
истина и истина высшего смысла. Сокровенная истина видит
все дхармы как возникшие. Истина высшего смысла позволяет
нам усмотреть все дхармы как невозникшие. Между тем
высший смысл невозможно обрести независимо от сокровенной
истины. Однако независимо от высшего смысла не достигнуть
нирваны. Но это означает: учение Будды зависит от двух
истин, или: только на пути, проходящем через ложное,
достигается истинное. Но на этот путь можно вступить только через
просветление высшей истиной. Затем, в силу этого
просветления, уже в процессе мышления пустых самих по себе дхарм,
я фактически не принимаю мирского искажения, но в то время,
как я мыслю его и соучаствую в нем, я все-таки уже разрываю
нить привязанности к нему.
b) Если единое постигается таким образом в двух истинах,
то это воззрение приводит к двум противоположным друг другу
точкам зрения, а именно - или взгляду о сущностном в-себе-
бытии вещей, или же о небытии всех вещей: Если вещи
рассматриваются как существующие в себе, как сущностно
существующие, то они лишены основы и условия, тогда не
существует причины и следствия, деятельности и деятеля,
возникновения и исчезновения. Если вещи рассматриваются как
несуществующие, то нет ничего, кроме волшебной иллюзии.
В противоположность обоим взглядам, Нагарджуна видит вещи
в их пустотности. Они не суть ни вечное в-себе-бытие, ни
ничто. Они - на «среднем пути» между бытием и небытием, но
они - пусты. Не существует никакой дхармы, которая бы не
395
Нагарджуна
возникла зависимым образом, а потому не существует ни
одной непустой дхармы.
Этот свой взгляд Нагарджуна называет учением о
«зависимом возникновении». Для него оно представляет собой
выражение глубочайшей истины. Однако если он формулирует его,
он тем самым оказывается вынужден пойти по определенным,
согласно его же собственной методической схеме -
недостаточным, путям мысли, например, когда он, резюмируя это
учение, говорит: «Без возникновения, а также и без исчезновения,
не вечно, а также и не изолированно, - не одно и то же, а
также и не различно, - без появления, а также и без прекращения, -
кто может учить таким образом о зависимом возникновении,
тихом угасании разнообразия, перед тем я склоняю голову».
Взгляд, говорящий о пустотности вещей в зависимом
возникновении, спасает действительность преодоления
страдания, действительность Пути. Ибо, если есть в-себе-бытие, то
не существует возникновения и уничтожения. То, что
существует не в силу собственной сущности, не может возникнуть,
и будет пребывать вечно. Поэтому если есть в-себе-бытие, то
ничего также нельзя уже более достигнуть, ничего нельзя уже
более совершить, потому что все уже есть. Если есть в-себе-
бытие, то живые существа свободны от состояний различного
рода. Тогда не существует страдания. Но если действительна
пустотность вещей, тогда есть возникновение и уничтожение,
действие и достижение. Тот, кто оспаривает пустотность
вещей, оспаривает общую всем людям мирскую
действительность настоящего. Страдание есть, именно потому, что это
страдание не существует в-себе и есть нечто невечное.
с) Самый поразительный, отчетливо высказанный вывод
отсюда таков: Если все сущее существует неподлинно, то
отсюда, как кажется, следует несуществование Будды,
несуществование учения, познания, тренировки, общины, монахов,
достигших цели просветленных существ. Если это приводят
в качестве возражения, то ответ на него таков: они есть в
смысле бытия-пустыми, того, что не есть ни бытие, ни
небытие. Поскольку есть бытие-пустым, постольку есть Будда. Если
бы вещи не были пустыми, если бы не было возникновения и
уничтожения, не было страдания, то не было бы также и Будды
и его учения о страдании, о преодолении страдания и о пути
396
//. Рефлексии о смысле учения
к преодолению страдания. Если бы страдание существовало
в себе, его невозможно было бы разрушить. Если бы Путь
существовал в себе, по нему было бы невозможно идти (wäre
sein Begehen nicht angängig), ибо в том, что вечно, не
существует движения. Если мы допускаем бытие в себе, то ничего
уже более невозможно достигнуть. Поэтому то, что есть Будда,
то, чему он учит и чего достигает его учение, совершается
в пустоте. Только если человек видит все дхармы возникшими
в пустотности через их условия, то такой человек может видеть
учение Будды, видеть четыре благородные истины, может
достичь уничтожения страдания.
Тот, кто обращает против учения Будды возражение,
исходящее из отсутствия у этого учения реальной сущности, тот не
понял смысла этого учения. Это возражение утрачивает силу,
если все мыслимое, представляемое, сущее видится в пустоте.
Для кого пустотность есть верное учение, для того верно
все, мирское и надмирное. Для кого пустотность есть неверное
учение, для того все неверно.
Тот, кто различает четыре воззрения
логически-методической схемы, движется в пределах сокровенной истины. Он
отягощен многими видами представлений. Он еще твердо
придерживается альтернативы: «Если это истинно, то все
прочее лишено смысла». Он «схватывает массивное избрание».
Но для тех, чьи глаза открылись для истинного познания,
четыре воззрения лишаются силы.
Те, кто воображает, будто видит Будду через такие
многообразия, как: бытие - небытие, вечное - не вечное, пустое -
непустое, тело - дух и т.д., у тех духовное око повреждено
многообразием. Они не видят Будду, так же точно, как
слепорожденные не видят Солнца. Но тот, кто видит зависимое
возникновение, тот видит страдание, возникновение, разрушение
страдания и Путь. Так же точно, как имеющий глаза человек
видит все различные явления благодаря сиянию света.
II. Рефлексии о смысле учения
1. Возможность научения (Lehrbarkeit): Поскольку в учении
опровергается всякое высказывание, подвергается
разложению всякое утверждение бытия и небытия и этот метод утвер-
397
Нагарджуна
ждается как всеобщезначимый, имеет место некоторое учение.
Его, как таковое, именуют обыкновенно негативизмом или
нигилизмом. Однако это неправильно. Ибо в этом учении
совершается как раз поиск подлинного, причем таким образом, что
это подлинное, по самому своему смыслу, не может стать
каким-либо учением. Поэтому это учение всякий раз
завершается парадоксальными, упраздняющими сами себя и именно тем
самым указывающими на нечто иное, положениями: «Будда
говорит: Мое учение в том, чтобы мыслить мышление
немышления, говорить на языке не-говорения, упражняться в
дисциплине недисциплинированности» (Сутра 42 глав).
Тем не менее, однако, это учение в самом деле имеет
место как учение, на письме, в устном обучении, в тренировках и
формах поведения. «На стадии слушателя об этом
совершенстве познания следует слушать, принимать его, запоминать,
пересказывать, излагать. Но этому совершенству познания
следует обучаться и практиковаться в нем» (Рг 36). Но это -
только первая ступень. Монах, еще не достигший цели, слушая
учение, преданный познанию мироздания, «следует
доверию» (Рг 38), если изучает учение таким образом. Он еще не
пребывает в истине. Эта истина постигается не при помощи
какого-либо доступного знанию логически определенного
содержания, но «внезапно пробуждается для непревзойденного
по совершенству просветления» (Рг 41).
Этот процесс, от слушания и заучивания до восхода самой
истины, есть процесс, захватывающий, вместе с мышлением,
всего человека. Ходы мысли как таковые не оставляют ничего
в неподвижности, разлагают, сбивают с толку и кружат голову.
Поэтому говорится: «Если, слушая эти мысли, он не ужасается
и не боится... если, слыша это учение, он не ослабеет, не
станет боязливым, если оно не сломает хребет его души... то
такого человека следует наставлять в совершенстве
познания» (Рг 35, 77).
Если мы читаем тексты, то видим, что обучение состояло
в тренировке, в постоянных повторениях; как в этих
повторениях и вариациях есть особое, соответствующее содержанию,
настроение. Логический момент редко выявляется в чистом
виде, еще того реже - в отчетливо упорядоченной и
отшлифованной форме. Диалектика соединяется с простыми пере-
398
//. Рефлексии о смысле учения
числениями. Быть может, это соответствует существу дела.
Ибо любой логический анализ есть здесь подготовка не к
познанию, положительно излагаемому в строгом развитии
мыслей, но к наполненному из иного истока молчанию. Здесь
всякое обоснование упраздняет само себя.
Это наглядно видно в некоторых анекдотах (излагаю по Хак-
манну). Бодхисаттва спросил своих учеников, почему они не
высказывают вслух свой духовный опыт. Все ответы -
содержательно правильны, но они следуют друг за другом от более
поверхностных к более истинным. Первый говорит: этот опыт
не зависит от сформулированных слов, пусть даже он и
зависит от них в наставлении. - Второй говорит: то, что я
пережил, подобно раю, оно сразу же вновь исчезает, так что его
невозможно выразить словом. - Третий: поскольку
существование всего сущего лишь иллюзорно, то и содержание его опыта,
будучи выражено в словах, тоже есть иллюзия и пустотность. -
Четвертый, вместо ответа, склоняется перед учителем в
почтительной позе и пребывает в молчании. - Последний ученик
дал самый истинный ответ, и он становится наследником
патриарха.
Бодхидхарма беседует с императором Лян У Ци. Император
говорит: Я непрестанно строил храмы, велел переписывать
священные сочинения, давал новым монахам дозволение
вступить в монастыри. Какая в этом заслуга? - Совсем
никакой! Все это - лишь тень, следующая за отбрасывающим ее
предметом, и лишено действительного бытия. - Император:
Что же такое истинная заслуга? - Пребывать погруженным
в мышление в окружении пустоты и тишины. Подобную заслугу
невозможно приобрести мирскими средствами. - Император:
Какое учение из священных учений самое важное? - В мире,
который совершенно пуст, ничего нельзя назвать священным. -
Император: Кто же это мне так отвечает? - Я этого не знаю.
Но теперь возникает вопрос: Не находя, не воспринимая, не
замечая совершенства познания... в каком же совершенстве
познания мне тогда наставлять? - Ответ: Он должен
упражняться таким образом, чтобы, упражняясь, ничего не
воображать себе при мысли о просветлении. Природа этой мысли
чиста. Эта мысль есть в действительности не-мысль.
На вопрос: так значит, эта мысль о совершенном познании,
коль скоро она есть не-мысль, не существует? - ответ гласит:
399
Нагарджуна
В том, что есть не-мысль, мы не преднаходим бытия или
небытия; поэтому невозможно спрашивать, существует ли мысль,
которая есть не-мысль (Рг 35).
2. Каков смысл этих мыслительных операций?
Требование состоит в том, чтобы не занимать постоянной позиции,
а скорее, отделиться от всех позиций, не опираться ни на
какую дхарму, на звуки и осязаемое, на мыслимое и
представляемое, разлагать обоснование во всех обоснованиях - «то, что
обосновано, как раз не является обоснованным» (Рг 149), - а
потому не допускать никакого мышления в альтернативных
категориях для выбора между противоположностями, но вновь
упразднять все проведенные различения. Нет никакой границы
в предельной точке покоя, а только, в крахе мышления через
само же мышление, уничтожение мышления, превращение его
в больше-чем-мышление, в совершенство познания.
Создаваемая в логически убедительном мышлении
бессодержательность имеет целью пробудить бесконечное содержание
немыслимого.
Поэтому мышление превращается в постоянное
самопереворачивание. В каждом высказывании как таковом уже
заключается абсурдное. Произнесение слов понимается как
необходимо упраздняющее само себя. Это самоупразднение есть
возможность пробуждения истины.
Подлинная истина может быть открыта человеку только
так, что она, как высказанная в слове истина, отрицает себя.
Поэтому Путь ведет через истину, которая, как мыслимая, не
есть истина, к истине, которая являет себя как уже более не
мыслимая истина. Эта подлинная истина живет, как
мышление, за счет процесса сжигания предварительной истины.
Если спросят, что же такое это достигнутое через
мышление не-мышление, эта отвлеченность даже ото всех
отвлечений, то ответом будет: Постигая непостигнутое, она сама не
постигается, ибо ее уже невозможно более постигнуть при
помощи знаков (Рг 38). Достигнув туда, мудрец будет «стоять
твердо в смысле не-стояния» (Рг 48); «он не будет стоять где-
либо, скорее он будет стоять во всеведении в смысле
нестояния».
Поскольку теперь учитель этого учения, говоря, постоянно
противоречит себе, это обстоятельство методически осознает-
400
//. Рефлексии о смысле учения
ся. Это учение - радикальность мышления того, кто не имеет
опоры в дхармах. Тем самым он способен «всегда найти
выход», о какой бы дхарме его ни спросили. Если он говорит, то
не приходит в противоречие с сущностью учения в силу своей
независимости ото всех дхарм, однако приходит в
противоречие со всеми положениями, в том числе теми, которые
высказывает он сам. Поэтому оправдана также всякая ложная речь,
поскольку речь сама по себе всегда ложна: «Где бы во время
научения пустотностью кто-нибудь ни указал на ошибки
вследствие непустотности, у того все надлежит понимать без
указания ошибок и как равное тому, что должно быть достигнуто».
Это «следует рассматривать как ядро всех рассуждений,
связанных с пустотностью» (Nag I, 27).
Смысл этого мышления можно выразить также так:
Благодаря мышлению возникла прикованность к мыслимому; это -
причина отпадения в наше исполненное страданий
существование. То же самое мышление, однако движущееся в
противоположном направлении, вновь разлагает мыслимое. После
того как мышление заковало нас в цепи, его же собственное
оружие вновь разрывает эти цепи, совершая прорыв в
немышление, к свободе.
Нагарджуна хочет мыслить немыслимое и сказать
несказанное. Он знает это и хочет взять назад сказанное им.
Поэтому он движется в упраздняющих себя ходах мысли.
Очевидные логические ошибки в его текстах только отчасти основаны
на таких недостатках, которые можно было бы исправить, а в
остальной своей части они основаны именно на логических
необходимостях, возникающих вследствие чего-то
невозможного, а именно - вследствие желания высказать в слове
абсолютную истину.
В мышлении Нагарджуны можно найти формальную
аналогию, с одной стороны, с диалектикой во второй части «Парме-
нида» Платона, с другой стороны, с современной логистикой
(Витгенштейн). Эта логистика была бы в состоянии
планомерно исправить те ошибки, которые так смущают западного
человека в индийских текстах, равно как и в столь бесконечно
более детально разработанном мышлении платоновского
«Парменида». Индийские тексты лишь мгновениями, как бы
через мутную среду, дают нам с полной ясностью увидеть, что
401
Нагарджуна
здесь, собственно, совершается в логическом смысле.
Напротив, как Платон, так и эти индусы могут задать этим
логистическим усилиям вопрос: каков их смысл? Я полагаю, только
у Витгенштейна мы замечаем некие следы понимания того, что
может означать приведение мышления, средствами самого же
чистейшего, безошибочного мышления, к той границе, у
которой оно терпит крах. Глубина индийских текстов, несмотря на
присущие им помутнения, в возможной сегодня ясности,
которая, как сугубая ясность, остается ничтожной игрой ума, могла
бы стать стимулом к самоосмыслению.
3. Логика на службе: Немыслимость движения, времени,
Единого для различающего, фиксирующего, мыслящего в
альтернативных категориях рассудка и задача: найти такие
мыслительные операции, при помощи которых в тех или иных
определенных условиях можно в определенном отношении
совладать с этим положением дел, - стали в западном мире
поприщем величественных познаний в области конечного,
причем само бесконечное стало здесь, в определенных
формах или аспектах, средством для конечного мышления.
В Индии к решению этих проблем только начали
приступать. Эти начальные попытки все без исключения служат
отнюдь не цели решения определенных проблем (после
утонченных логических открытий новейших столетий эта последняя
цель могла бы возникнуть вновь в некотором сегодня еще не
вполне ясном смысле).
Если для нас нет опоры в высказываниях, если все
распадается в инобытие, противоположность, противоречие, если
исчезают все определения, не остается никакой устойчивой
позиции, то это, в конце концов, означает или наступление
ничто, или возможность ощутить подлинное бытие, пусть даже
мы уже и не можем называть его бытием. Формулируя это
иначе: В конце пути - или игривый интерес к «проблемам», или
же такой душевный строй, который находит в подобных
средствах один из путей к пониманию себя и к созиданию себя,
душевный строй совершенного преодоления мира, совершенной
отстраненности от всех вещей и от собственного
существования, а тем самым - совершенной власти над собой
(Selbstüberlegenheit).
402
//. Рефлексии о смысле учения
В ходах мысли мы обретаем обратное отношение без
отношения к чему-либо, это бытие как ничто, это пространство
как пустота - и всегда в сопровождении вопроса: что же там
действительно? Будучи высказано в слове, оно уже не есть
более то, в качестве чего оно подразумевалось, но
практически оно становится [благодаря этому] зримым в мире.
Если мы бросим взгляд на Азию, то эта зримость есть или
монашеская жизнь в медитации, усиленной духовными
упражнениями (Exerzitien), или же она предстает в ритуалах и
культах, в магии и жестах. Однако ни то ни другое не есть то, чему
служит логическая диалектика там, где ее совершают в
философском смысле. В пределах сферы этих зримостей цели
такой диалектики суть нечто негативное: отрицание метафизики
как знания об ином, противостоящем мне бытии (в том виде,
в каком она существовала тогда в индуистских системах), -
и нечто позитивное: обретение совершенного познания в таком
состоянии, которое само есть не-мышление, потому что оно,
через посредство мышления, есть нечто большее, чем
мышление.
4. Против метафизики: Нагарджуна отвергает всякое
метафизическое мышление. Он высказывается против
сотворения мира, будь то богом (Ишвара), будь то пурушей, будь то
временем, будь то самим миром. Он высказывается против
плененности представлениями об определениях, собственном
бытии, атомах, высказывается против взгляда, согласно
которому все подвержено уничтожению, и взгляда, согласно
которому есть вечное бытие, против взгляда, согласно которому
существует самость.
Место отвергнутой метафизики занимает описанный выше
логический образ мысли. Здесь додумывают до конца то, что
было базовой установкой Будды: отрицание онтологических
постановок проблем в пользу взгляда, обращенного на
спасение души и существенную для этого спасения истину. Прежняя
спекуляция о бытии становится просветлением через
движения мысли, которые упраздняют сами себя.
Индийская философия уже задолго перед тем разработала
богатую логическую теорию. При этом, однако, философы
думали о нуждах публичной дискуссии и о мирском знании. Даже
403
Нагарджуна
в последующие века в сектах Тибета логику относили к
мирским наукам (Щербатской). Но здесь логика сделалась
средством единения с подлинным бытием, не в онтологическом
познании бытия, а в процессе сжигания мышления самим
же мышлением.
Это мышление способно только разлагать, но не рождать,
метафизические мысли. Оно не находит себе родины, ни в
мире, ни в мыслимом царстве трансценденции. Метафизическая
спекуляция угасла, мифологическое мышление оказалось
ничтожным. Однако фактически все остается существовать, как
вновь и вновь сжигаемый на огне мысли материал, до тех пор,
пока остается пространство этого мира.
Щербатской контрастно противопоставляет
антиметафизическую философию буддистов метафизической философии
веданты. И та и другая отрицают реальность мира. Однако
если буддист отрицает реальность мира явлений, то он
останавливается на этом, ибо за пределами этого мира начинается то,
что недоступно для нашего познания. Ведантист же отрицает
реальность мира явлений только для того, чтобы
констатировать таким образом истинное бытие Брахмана. Буддист
говорит затем: Сущность познания неделима, только нашему
введенному в заблуждение взгляду оно предстает в сознании
разделения на субъект и объект. Ведантист же говорит: Сущность
всего мира - это простая субстанция, никогда не
прекращающая быть; только иллюзия свидетельствует о делении
сознания на объект и субъект.
5. Состояние совершенного познания: Оно называется
отсутствием споров (Streitlosigkeit). Мышление, которое,
постоянно пребывая в споре, уничтожает всякое высказывание,
именно тем самым приходит туда, где прекращаются всякие
споры, где «обитает» не знающий споров (Рг 36, 54).
Требование состоит в том, чтобы «пребывать в лишенности споров».
Что же это за состояние?
Оно описывается так: Когда исполнен труд, выполнена
задача, бремя сброшено и цель достигнута. Мысли
освободились, обретена власть надо всяким мышлением в отвлеченном
познавании, властвующим собою. Узы существования исчезли,
нечистота отпала, достигнута безмятежность (Рг 34).
404
//. Рефлексии о смысле учения
Все дхармы, в иллюзии знаков и будучи захвачены потоком
страстей, создают муку страдания. Если эта мука постигнута в
ее пустотности, то мы преодолели ее. Теперь наше состояние
свободно одновременно и от иллюзии, и от муки. Правда, в
совершенном покое пустотность дхарм не перестает
существовать, но существование уже более не трогает нас, оно
утратило свой ужасный характер, свой яд, свою власть. В этом
состоянии актуально присутствует то, что уже не описывается более
такими знаками, как рождение, смерть и время, - нечто
непоколебимое, для которого всякий приход и уход лишились
существенности.
Эта установка мысли не есть то, что в других случаях
именуется скепсисом. Ибо при помощи той мыслительной
операции, которая выводит за пределы противоположности
правильного и ложного, а значит, за пределы мышления, она
выходит также и за пределы противоположности догматизма и
скепсиса. Если мы назовем ее негативизмом, то не
заметим того, что «Нет» исчезает в ней точно так же, как и «Да».
Если мы назовем ее нигилизмом, то потеряем из виду, что она
отвергла альтернативу бытия и ничто.
Как именно переживается в совершенном познании
«бытие» как пустотность мира, - это наглядно описывается в таких
образах: Для познающего в совершенстве все вещи подобны
эхо, он не представляет их, не замечает их, не знает их (Рг 75).
Он живет в мире, как в «пустотности города гандхарвов»
(города призраков) (Nag 27). «Обманчивое свойство» вещей - то,
что они одновременно и есть, и не есть (и все же не мыслятся
правильно во всех четырех точках зрения), уподобляется
созданию колдуна (которое в Индии считают реальным) (Рг 46):
а именно, подобно тому как колдун своими чарами сначала
создал на скрещении дорог большую толпу людей, а потом
сделал так, что эта толпа совершенно исчезла, таков же и наш
мир. Как колдун никого не убил и не уничтожил, так и здесь
достигший совершенства в познании заставляет исчезнуть
неизмеримое множество существ.
Он может познавать, видеть все вещи и верить во все
вещи, подобно тому, кто не обладает ни понятием вещи
(дхарма), ни понятием не-вещи (адхарма). Это открыл бы нам тот,
кто мог бы полностью объяснить строчку стиха, подобную сле-
405
Нагарджуна
дующей: «Звезды, мрак, свет, обман, роса, пузырь на воде,
сновидение, молния, облако» (Рг 157).
Этому соответствует девальвация ценностей
существования в мире. В одном из текстов Будда говорит: «В моих глазах
достоинство царя или князя - не более чем пылинка на
солнце; в моих глазах сокровище из золота и драгоценных камней -
не более, чем глина и осколки... в моих глазах тысяча
миров - не более чем один плод эмблики... в моих глазах
[буддийские] средства спасения - не более, чем куча ничтожных
сокровищ... в моих глазах тропа Будды - не более чем вид
цветка... в моих глазах нирвана - не более чем пробуждение
от дневного или ночного сна... в моих глазах истина и
заблуждение [различных школ] - не более чем игра фигурок шести
драконов» (Хакманн).
Можем ли мы сказать, что познающий подобным образом
замечает одно лишь невыразимое ничто? Что он тонет в
безбрежном океане неразличенного? Нам поневоле придется
воздержаться [от такого вывода]. Кто достиг в ту сферу, где он
освобождается от цепей, привязывающих к дхармам, тот
ускользает от нашего взгляда и нашего суждения. «Как путь
птиц в воздухе, так нелегко проследить и его путь» (Дхаммапа-
да 92). Достоверно, однако, что ничтожное, ничего не
говорящее и бессодержательное быстро проступает в искажениях
изначальности.
6. Искажения: Душевный строй преодолевшего мир и
самого себя в пустотности совершенного познания становится
двусмысленным:
«Пустотность» в ее совершенной суверенности открыта для
любого наполнения, а потому никогда не бывает совершенно
наполнена в существовании и никогда не приходит к концу
пути. Она пребывает в существовании из самой далекой дали,
допускает разные наполнения, не подпадая их власти,
избирает, не будучи при этом избираема. Присутствуя в
существовании, она всегда в то же время выходит за его предел, в
довольстве она чувствует безграничную неудовлетворенность,
получающую лишь некий отблеск сияния того, в чем терпит
крах все конечное. Поэтому эта установка во времени, хотя и
утверждается на покое в основе, тем не менее открыта, то есть
406
//. Рефлексии о смысле учения
подвижна, активна, озабочена, занята осуществлением, но
совершает его по такому масштабу, который в то же время
уничтожает осуществляемое. Однако может произойти искажение
пустотности. Это случается, если пустотность есть, сугубо
негативно, лишь развеивание всякого существования в покое
ничто. Тогда наше собственное существование сжимается во
времени, потому что любое наполнение отвергается ради
этого абстрактного наполнения бытием небытия (Nichtsein-Sein),
пустотностью, покоем в себе. Если уже нет больше материала
сокровенной истины, то и ведущий в неисследимое
содержание нирваны процесс сжигания больше совершаться не может.
Вместе с материалом действительности существования
исчезает также и язык понимания; происходит утопающее
исчезновение в область некоммуникабельного.
В то время как описанная таким образом возможность
искажения мыслится в западных понятиях, в философских
текстах Нагарджуны искажение истинного образа мысли,
ведущее к его ложному усвоению, видится соответственно его
собственной мысли. Он формулирует, что путь к совершенству
познания, во всем, что возвещается с позиции такого познания,
подвержен ложным истолкованиям, что поэтому всем, что
говорится с этой позиции, тут же злоупотребляют, а кроме того,
что, вследствие этого, освобождение людей в смене
поколений отнюдь не представляет собой процесса движения вперед,
но что неверное разумение ведет к погибели.
Прогноз в целом неблагоприятен. «После нирваны Будды,
после пяти сотен лет пребывания в дхарме, которой просто
подражали, после того как ум человека постепенно
притупился, мы не познаем ума Будды и только держимся за слова
и письменные знаки» (Nag II, 2). Как это происходит? Они
слышат и говорят об абсолютной пустотности и не понимают ее
основы. К примеру, они высказывают сомневающуюся мысль:
если все - пусто, то как же можно различить следствия добра
и зла? Подобным образом они только и могут спрашивать при
мирском представлении, ибо для них не существует разницы
между мирской и абсолютной истиной. Это значит: то, что
подразумевалось в спекулятивном смысле, они мыслят на уровне
целесообразного рассудочного познания. В объективирующем
мышлении они теряют смысл учения о пустотности, потому
407
Нагарджуна
что, будучи привязаны к одним лишь предложениям, они
делают чуждые этому учению выводы. Они не понимают, что
упразднение в том числе и Будды, учения, общины в пустотно-
сти не означает какого-либо оспаривания их, но означает
перевод их как дхармы в состояние витания (In-die-Schwebe-
Bringen). Витания удастся достичь только при условии, что мы
не абсолютизируем какое-либо представление, какую-либо
мысль или положение. Витание означает сопутствование в
дхарме на истинном пути к исчезновению страдания в
совершенстве познания. Это - глубочайшее просвещение мира и
самости в неабсолютности бытия всякого явления. Это
просвещение они теряют из-за того, что цепко держатся за
положения учения. Мысль теряется для них из-за того, что
срывается и превращается из указующей стрелки в нечто знаемое
(Der Gedanke geht ihnen verloren durch Abgleiten aus dem
hinweisenden Zeiger zum Gewusstsein).
Общение с глубоким учением спасительно, но оно также
и опасно. Оно губит человека, если он неверно понимает его.
Ибо если пустотность созерцают неправильно, то она ведет
малоумного не только к иллюзиям, но и к погибели, подобно
тому как губят человека ядовитые змеи, если их неправильно
хватают руками, или магия и заклинания, если их неправильно
применяют (Nag I, 151).
Какой вид получила в конце концов пустотность в народном
буддизме, - это одна китайская духовно-назидательная книга,
написанная в XII веке, формулирует в следующем положении:
Тот, кто постигает пустотность телесных форм, не
привязывается более ко мнениям, оставит дела и создания и может
просто сидеть без мыслей (Хакманн).
7. Изначальное сознание объемлющего как предпосылка:
Это примечательное мышление не имеет предмета, познание
которого рассудком было бы вынуждено доводами и
положениями дел. Его предпосылку составляет не тезис, а
объемлющее, обнаруживающее себя через формации мысли и
метафоры. Все отдельные мысли погружены в некую атмосферу,
без которой они бы умерли. Они просветляют предполагаемый
строй души мыслителя, которого, однако же, он не смог бы
осуществить без этого мышления.
408
//. Рефлексии о смысле учения
Основополагающий строй души, на первый взгляд,
принудительно создается логическим мышлением. Логика имеет
целью - уничтожить логику и доказать тем самым, что и
мышление - тоже кажимость. Надлежит доказать, что ничего доказать
нельзя, и что, напротив того, ничего не следует утверждать,
равно как ничего не следует также и не утверждать.
При этом, быть может, философ открывает такие
логические закономерности мысли, которые реальны также и как
таковые. Но в этом случае они суть разве что рациональная
игра, которой следует задать вопрос: ради какого интереса в нее
играют?
Наблюдая это мышление, когда оно предстает перед нами
в его азиатской форме, мы видим некую картину на переднем
плане, вводящую в заблуждение относительно его истока: в ходе
дискуссии, что бы в частности ни утверждал собеседник, это
утверждение выбивают у него из рук. Эта работа отрицания
предстает в триумфаторском сознании разрушения, перед
которым ничто устоять не может. При помощи одних и тех же,
снова и снова повторяемых трюков доказывается
несостоятельность всего, что сказано и что может быть сказано. За этим,
теряющимся в игривых перерождениях, передним планом
скрыт подлинный смысл: все высказывания о бытии и небытии
нужно упразднить в бесспорности. Самоуничтожение всякого
мышления должно освободить место для чего-то иного. Это
иное может быть наполнено опытом высшего сознания,
движущегося по ступеням медитации при помощи техники йоги.
Однако оно доступно при установке нормального сознания.
Здесь становится актуально дана пустотность. Вещи витают
между бытием и небытием во имя чего-то невыразимого,
однако переживаемого с полной достоверностью.
Это объемлющее невозможно описать как эмпирическое
психологическое состояние, но приблизительно очертить его
можно. Шайер пытается дать некий намек на основе
изначального словоупотребления. Слово «шуньята» (пустотность)
используется (в палийском каноне) для обозначения
определенной ступени медитации: «А теперь пусть он увидит пустую
деревню, и каждый дом, в который он входит, оставлен, покинут
и пуст; и всякая пища, которой он касается,
бессодержательна и пуста». Здесь чувственность человека сравнивается с пу-
409
Нагарджуна
стой деревней, пустота отнюдь не означает отрицания бытия,
а означает она безразличие, пресность, неинтересность. Слово
«анимитта» (не имеющее определенного так-бытия,
лишенность знаков) означает в палийском каноне: непривязанность
к признакам воспринимаемого; оно означает не отрицание, а
такое практическое поведение, при котором монах, как
бдительный привратник, не позволяет войти притекающим извне
чувственным возбуждениям. - Слово «майя» (волшебство)
означает сравнение мира с волшебной иллюзией, чтобы выразить
произвольность и ничтожность раскрытия бытия, а не для того,
чтобы отрицать его реальность. - Сопоставления с отражением
в зеркале, эхо, сновидением не должны заставлять нас забыть
о том, что в этих явлениях индус видел нечто действительное.
Имеется в виду не отрицание существования, а неподлинность
такового.
8. Обзор позиций буддистских сект и предельный смысл
всех их учений: Шуньявадины - это одна секта среди многих
других. Все эти секты объединяет буддийская воля к спасению,
знание о страдании, об отсутствии существенности в
реальности мира. В пределах этого общего, при размышлении о
познаваемости реальности, возникло разнообразие мнений:
Внешний мир действителен и непосредственно доступен
познанию в восприятии (сарвастивадины); он не
воспринимается органами чувств, однако о его существовании можно
заключить из восприятий (саутрантики); нам дана только
достоверность сознания через само сознание, только внутренний
мир реален, различия между субъектом и объектом в
действительности не существует (йогачары); ни внешний, ни
внутренний мир недоступны познанию в качестве действительного,
самостоятельного бытия, нет никакого различия между
реальностью субъективного и объективного бытия (шуньявадины,
к которым принадлежал Нагарджуна).
В этом схематизме «гносеологических» позиций мы можем
найти повторение западного схематизма идеализма и
реализма, рационализма и эмпиризма, позитивизма и нигилизма,
особенно в отношении к вопросу о реальности внешнего мира.
Но все это указывает только на рациональные побочные
продукты того, что произошло здесь в философском смысле.
Очевидно, что это существенное не может быть адекватным
образом выражено как позиция в поддающемся определенной
формулировке учении. Это выражение могло бы удаться лишь
410
//. Рефлексии о смысле учения
в той мере, в какой определенное знание рассматривалось
бы как средство спасения. Поскольку же всякое знание, в
смысле положительно выразимых в слове содержаний, означает,
скорее, некоторую привязанность, путь спасения заключается в
разложении всякого знания, и всякой возможности знать, и всех
воззрений.
Пустотность всякой действительности существования
становится положительным бытием того, из чего вследствие
отпадения в миропроцесс возникли бедствия и страдание и куда
человеку предстоит возвратиться. Всякое мышление и мысли-
мость - момент отпадения. Смысл истинного мышления -
обращение из раскрытия мышления в не-мышление. То, что
произошло вследствие раскрытия мышления, отменяется лучшим
мышлением в разложении всякого мышления. В конечном
счете это происходит через постижение неистинности всякого
бытия в знаках, а тем самым и всякого языка. Если мы постигаем
простую данность слова как знака и отсутствие в нем
действительного смысла, то само слово исчезает, и это -
освобождение. Страдательное оформление пустотности в раскрытии
сознания мира тем самым приводит обратно в его исток.
Тем не менее в мире все же остаются учение, язык,
наставление о пути спасения, разложение мыслимого средствами
того же самого мышления, которое вызвало отпадение с
мышлением. Поэтому, несмотря на любое познание [природы]
собственного мышления посредством самоупразднения
мышления, все же снова и снова остается налицо некоторая
позиция, - пусть даже для нас стала действительной серьезность
молчания, и отныне прекращается всякая речь, всякое
слышание и сообщение. Так у Нагарджуны позиция, как учение о
«зависимом возникновении», вновь превращается в устойчивую
формулу пустотности.
Учение Нагарджуны о «зависимом возникновении» гласит:
в том виде, в каком все одновременно и есть, и не есть, оно
обусловлено. Достигший мудрости постигает это; поэтому он
становится господином всех мыслей, не будучи подчинен ни
одной мысли. Он витает надо всеми определенными мыслями,
когда он движется в них же, и он включает в это витание и
самого себя, вместе со своим существованием. Условие всего
заключено в том, благодаря чему существует этот мир - по-
411
Нагарджуна
добный волшебному обману: благодаря мне и моему
мышлению. Этот мир дхарм и моя самость находятся в процессе
обусловленности. Это - процесс зависимого возникновения,
порождающий мир, в котором мы, как мы воображаем,
находимся дома и в котором в то же время мы безысходно страдаем.
Однако весь этот мир зависимого возникновения, вместе с этим
учением в его сформулированности (Ausgesagtheit) -
разбивается; и это - исцеление (Heilung). Там, где его обретают, обман
падает и открыто предстает взору то, о чем говорить
невозможно. Учение - это паром через поток существования. Если
паром доставил нас на другой берег, то он стал излишним.
В таком случае вновь брать с собою учение, как
принадлежность обманчивого потока мирового существования, было бы
так же глупо, как и нести на плечах свой паром, отправляясь от
берега в глубь новой страны. Мудрец предоставляет его
оставшемуся за ним потоку. Учение годится для того, чтобы
ускользнуть, а не для того, чтобы его удерживать.
III. Исторические сопоставления
При сопоставлении аналогии между формами мысли лишь
с тем большей отчетливостью показывают нам различие
выражающегося в них историчного содержания. Сила одной и той
же формы мысли может служить чуждым друг другу властным
инстанциям.
а) Диалектика: Она есть движение мысли через
противоположность и противоречие, но в весьма различном смысле:
Она ведет через противоречия к границам, показывая здесь
бездну и открытость; пограничная ситуация становится
стимулом и притязанием. - Она ведет к замыкающимся кругам
формы, в которой противоположности снимаются через синтез в
некотором целом; это мышление, сохраняя каждый момент,
ведет к наполнению данного в актуальности целого. - Она
мыслится и совершается как действительность, в которой
отрицание как таковое вызывает к жизни положительное через
отрицание отрицания; в отрицающем мышлении и действии
ожидают словно бы автоматического рождения нового в силу
самого этого процесса.
412
///. Исторические сопоставления
В диалектике буддистов не является существенным ни один
из этих вариантов. Здесь диалектика становится средством
упразднения мышления в немыслимом, которое, по меркам
мыслимого, не есть ни бытие, ни ничто, есть в равной мере и
то и другое, однако не поддаются постижению даже в таких
высказываниях.
Известную близость к этому методу мы можем найти в
отдельных ходах мысли Ницше. Ницше тоже не позволяет нам
найти прочность и покой ни в какой позиции. Он бросает нас
в водоворот противоположностей, раньше или позже
упраздняет всякое высказывание противоположным ему
высказыванием. Тем самым он создал в современном мире такую
духовную ситуацию, которую он сознательно наполнял как
завершитель нигилизма, полагая, будто тем самым он становится в то
же время первым преодолителем нигилизма. Однако Ницше,
желающий при помощи этой фактической, пусть даже
методически детально не оформленной, диалектики совершить
полное освобождение нашей сущности, понимает это
освобождение отнюдь не как шаг в нечто иное, немыслимое, но как шаг
в целиком и безусловно принимаемую только теперь
действительность мира. Он не хочет открыть сознание для
отвергаемой им трансценденции, но только для земли и для
восхождения человека собственными силами над самим собой на земле,
как в его мире, по ту сторону добра и зла, под девизом: Ничто
не истинно, все дозволено.
Ницше, подобно буддистам, попытался разложить все категории.
Он говорит: не существует единства, не существует причинности, не
существует субстанции, не существует субъекта и т.д. Все это -
полезные, может быть, жизненно необходимые фикции. Ни одна из
вещей не существует в себе, говорит Нагарджуна, ни одна мысль и ни
одно мыслимое не истинно, но все зависимо. Нет никакого бытия,
говорят они оба; все есть лишь истолкование. Но в этой общей им
форме мысли, в операциях разложения, они преследуют совершенно
различные цели. Каковы в действительности эти цели - этот вопрос
составляет вечно незавершимую задачу для нашего понимания.
У Нагарджуны и буддистов они формулируются как воля к спасению
и нирвана, у Ницше - как воля к власти и сверхчеловеку.
Ь) Структура бытия мира через призму категорий: У
буддистов есть так называемая формула причинности (круга
основных категорий всякого бытия). В частности, йогачары гово-
413
Нагарджуна
рят о первоначальном сознании (Urbewusstsein), зачаточном
сознании, раскрытие которого вызывает явление мира.
Развертывание этой мысли показывает, что и в каком виде есть
то, что, однако, не есть подлинно существующее. Выясняется
структура всех явлений. Это индийское воззрение признавали
согласным с идеализмом Запада. В самом деле, Кант мыслит
всю совокупность бытия мира как явление, формы которого
определены категориями сознания вообще. Все познаваемые
объекты, не по своему существованию, но по своей форме,
порождены субъектом. Так называемый трансцендентальный
идеализм создал систематический набросок этого
раскрывающегося в мышлении бытия мира, в многообразии его порядков.
Однако аналогия сразу же обнаруживает и различие.
Индусы мыслили эту структуру для того, чтобы лишить познание
мира его истинности, ибо мир подобен сновидению и обману.
Кант мыслил эту структуру, чтобы оправдать познание мира
как истинное в границах возможного опыта. Для него мир был
хотя и явлением, однако не кажимостью. Следующие за
Кантом идеалисты мыслили эти категориальные структуры не как
ограниченные, в пределах своего смысла, областью явления,
но как мысли бога. Ни то, ни другое не родственно
буддистскому мышлению. Ибо немецкие идеалисты оправдывали
познание мира и деятельность в мире, буддистские же, напротив,
отречение от мира, отказ от бесполезного, ибо принципиально
ложного, познания мира и от деятельности по оформлению
мира, которая не только тщетна, но и удерживает в
приверженности миру.
с) Пустотность и ширь: Пустотность делает возможной
значительную широту в готовности воспринимать вещи мира
как исходный пункт, чтобы начав от них, найти [возможность
для] скачка. Равнодушие ко всему мирскому также и допускает
все. Отсюда терпимость буддизма к другим религиям, формам
жизни, картинам мира. Он живет с ними, как с низшей, мирской
истиной, каждая из которых одинаково пригодна для того,
чтобы с нее начать восхождение. Эта неограниченная открытость
привлекает людей. Буддизм покорил Азию, и хотя там и тут
подвергался гонениям, однако сам никогда не применял силу,
не навязывал никаких догматов принуждением. Ему неведомы
414
///. Исторические сопоставления
религиозные войны, инквизиция, или мирская политика
организованной церкви.
Кажется, будто пространство западного разума аналогично
этому буддистскому образу мысли. Этот разум тоже столь же
бесконечно открыт, как и пустотность. Оба они слушают,
позволяют другому быть. Однако различие между ними:
буддистский мудрец проходит по миру как утка, которая уже не
замочит своих перьев. Он преодолел мир, оставив его. Он нашел
наполнение в немыслимом, безмирном. Разум же западного
человека находит свое наполнение не в абсолюте, а в
историчном содержании самого мира, принимаемого им в своей
экзистенции. Только в историчном осуществлении, достигая
тождества с этим осуществлением, разумный человек Запада
находит основу, избирает ее в пространстве этой бесконечной
шири и дали, знает себя в своей соотнесенности с основой как
трансценденцией и в своей свободе из этой основы.
d) Отстраненность: Отстраненность от мира и от самого
себя, это внутреннее освобождение через противопоставление
себя всему, что встречается мне в мире и что делаю, что
мыслю, что есмь я сам, - это форма, получившая
действительность в весьма многообразных видах:
В «Бхагавад-гите» есть идея борца, который в битве,
несмотря на бурное в ней участие, сохраняет безучастное
равнодушие, идея сообразного долгу исполнения игры, идея
самой деятельной активности как чего-то ничтожного. - У
Эпикура есть основная установка: я обладаю аффектами, а не они
мною. - У апостола Павла есть призыв действовать и жить в
мире так, как если бы меня в мире не было (hos me). - Ницше
мыслит понятие отстранения от себя самого, как признак
благородной души.
У буддистов и Нагарджуны, несмотря на аналогию формы
отстраненности, налицо совершенно иная основная установка:
акцент ставится на безличном; одновременно с появлением
безразличия к миру угасает самость. Отстраненность исходит
не от какого-либо «я сам», но от некой трансцендентной
действительности, к которой как к «я сам» апеллировать уже
невозможно.
Во всех западных формах отстраненности существенно
нечто актуально присутствующее в мире: будь то пустая свобода
415
Примечания
точечной самости, - будь то самость, в историчном
погружении, в самоидентификации через принятие своей данности
себе, все же до бесконечности просвещающая себя и,
рефлектируя, от себя дистанцируется.
С азиатской точки зрения, все эти отстранения останутся
навсегда несовершенными, ибо во всех них остается некая
приверженность миру. С западной же точки зрения, азиатская
отстраненность будет выглядеть как исчезновение в
недоступном, в некоммуникабельном, как уход из мира прочь.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Праджняпарамита» - в махаяна-буддизме термин, обозначающий
«высшую мудрость», т.е. знание о пустотности (шуньята) мировой
реальности. Существует целый комплекс литературы, посвященной
разъяснению этого учения (Праджняпарамита-сутры), наиболее известная из
которых - Ваджрачхеддика-праджняпарамита-сутра (или «Алмазная
сутра»), существующая в переводах на различные азиатские языки (русский
перевод: Ваджрачхеддика праджняпарамита-сутра // Психологические
аспекты буддизма. Новосибирск, 1986. С. 34-45).
" Имеется в виду, очевидно, важнейший трактат Нагарджуны в 27
главах «Муламадхъямикакарика» (Учебные строфы об основных учениях
«среднего пути»).
'"Ольденберг (Oldenberg) Германн (1854-1920) - немецкий индолог;
с 1889 г. профессор Кильского, с 1908 г. Геттингенского университетов.
Исследователь религий древней Индии, прежде всего ведической религии
и буддизма. Ясперс (как и в разделе о Будде) опирается здесь на его
монографию: Buddha: Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde (1881; 7.
Aufl. 1920).
'уХакманн (Hackmann) Генрих (1864-1935) - немецкий
протестантский богослов, историк религии и китаист; приватдоцент в Геттингене,
затем пастор немецкой общины в Шанхае, с 1913 г. профессор истории
религии Амстердамского университета. Здесь упомянут в связи с его
трехтомным трудом: Der Buddhismus (3 Bd.; 1905-1906).
v Щербатской Федор Ипполитович (1866-1942) - русский и советский
востоковед, один из основателей русской буддологической школы.
Профессор Санкт-Петербургского/Ленинградского университета; сотрудник
Института востоковедения. Основные работы: Теория познания и логика
по учению позднейших буддистов (2 ч.; 1903-1909; Ясперс использует
немецкий перевод этой работы (1924)); Избранные труды по буддизму
(изд. 1988: Центральная концепция буддизма и значение термина
«дхарма»; Концепция будийской нирваны; Буддийская логика (в 2 ч.) и др.
416
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Источники
Ансельм Кентерберийский:
Opera omnia, vol. 1-2; in: Migne, Patrologia Latina, vol. 158-159, Paris 1863-1865.
S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia, ed. F. S. Schmitt, Edin-
burg1946ff.
Leben, Lehre, Werke, übers, v. R. Allers; Wien 1936.
Leben, beschrieben von seinem Schüler Eadmer, übers, v. G. Müller;
München 1923.
Аврелий Августин:
Opera omnia, vol. 1-12; in: Migne, Patrologia Latina, vol. 32-47, Paris
1841-1842.
Ausgewählte Schriften, Bd. 1-12 (Gottesstaat, Vorträge über das Evangelium
des hl. Johannes, Bekenntnisse, Über die christliche Lebre, Vom ersten
katechetischen Unterricht, Vom Glauben und von den Werken, Enchiridion, Briefe,
Fünfzehn Bucher über die Dreieinigkeit), Bibliothek der Kirchenväter;
München 1911-1936.
Drei Bücher gegen die Akademiker, herausgegeben v. K. Emmel; Paderboro
o. J. Reflexionen und Maximen, gesammelt u. übers, v. A. v. Harnack;
Tübingen 1922. Vom seligen Leben, übers, v. J. Hessen (Phil. Bibl. Bd 183);
Leipzig 1923.
Das Handbüchlein des hl. Augustinus, übertr. v. P. Simon; Paderborn 1923.
Musik, übers, v. С J. Perl; Straßburg 1937.
Gottes Weltregiment; des Aurelius Augustinus „zwei Bücher von der
Ordnung", übertr. v. P. Keseling; Münster (Westf.) o. J. (Vorwort 1939).
Selbstgespräche über Gott und die Unsterblichkeit der Seele, latein. u.
deutsch v. H. Fuchs u. H. Müller, Zürich 1954.
Augustinus. Das Antlitz der Kirche; Auswahl deutsch v. H. U. v. Balthasar,
Einsiedeln/Köln 1942.
Augustins Leben von Possidius, übers, v. A. v. Hamack (Preuß. Akad. d. Wiss.),
Berlin 1930.
Библия:
Die Heilige Schrift des Alten Testaments, übers, v. E. Kauczsch, 4. Aufl.,
herausgegeben v. A. Bertholet, Tübingen 1922-1923.
Textbibel des Alten und Neuen Testaments, herausgegeben v. E. Kaurzsch. Das
Neue Testament in Übersetzung v. C. Weizsäcker, 3. Aufl., Tübingen, 1911.
Neutestamentliche Apokryphen, in deutscher Übersetzung v. E. Hennecke
Tübingen 1924.
Буддийский канон (палийский канон):
Übersetzungen von Κ. Ε. Neumann: Die Reden Gotamo Buddhos aus der
Längeren Sammlung Dlghanikäyo, 4 Bde., München 1927-1928. - Die Reden
Gotamo Buddhos aus der Mittleren Sammlung Majjhimanikäyo, 3 Bde.,
München 1922.
Sammlung der Bruchstücke. - Die Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo
Buddhos, 2. Aufl. München 1925. - Der Wahrheitspfad (Dhammapadam),
2. Aufl. München 1921.
417
Bibliographie
Dighanikäya, in Auswahl übers, v. 0. Franke, Göttingen 1913.
Die Reden des Buddha aus dem Anguttara-Nikaya, übers, u. erläutert v. Nyä-
natiloka, 5 Bde., München-Neubiberg o. J. (1922 ff).
Samyutta-Nikäya, deutsch v. W. Geiger, 2 Bde., München-Neubiberg 1925-1930.
Reden des Buddha, übers, v. H. Oldenberg, München 1922.
Pali-Buddhismus in Übersetzungen aus dem buddhistischen Päli-Kanon und
dem Kammaväca v. K. Seidenstücker, 2. Aufl. München-Neubiberg 1923.
Китайский канон:
Die fünf kanonischen Bücher: Schu-king, Schi-king, l-king, Liki, Tschun-thsiu.
Die Konfuzianischen Schriften: Ta-hio, Lun-yü, Tschung-Yung, Schriften des
Meng-tse.
Schi-king; das kanonische Liederbuch der Chinesen, deutsch v. V. v. Strauß,
Heidelberg 1880.
I-King, das Buch der Wandlungen, deutsch v. R. Wilhelm, Jena o. J. (1923).
Kung Fu Tse, Gespräche (Lun Yü), deutsch von R. Wilhelm, 2. Aufl. Jena
1914.
Li Gi, das Buch der Sitte (darin: Ta-hio, Tschung-Yung), deutsch v. R.
Wilhelm, Jena 1930.
Schu-king, englisch übers, v. J. Legge, Oxford 1879.
Hans Haas: Das Spruchgut Kung-tszes und Lao-tszes in gedanklicher
Zusamm-menordnung, Leipzig 1920.
Диоген Лаэрций:
Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers, v. O. Apelt, 2 Bde.
(Philos. Bibl.), Leipzig 1921.
Иммануил Кант:
Sämtliche Werke, herausgegeben v. K. Voränder, (Philos. Bibl.), Leipzig.
Gesammelte Schriften, herausgegeben v. d. Preußischen Akademie der
Wissenschaften, 22 Bde. (Werke, Briefe, handschriftlicher Nachlaß), Berlin 1902 ff.
Die philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants, herausgegeben von
A. Kowalewski, München-Leipzig 1924.
Vorlesungen über die Metaphysik, herausgegeb. v. K. H. Schmidt,
Roßwein, 1924. Eine Vorlesung Kants über Ethik, herausgegeben v. P. Menzer,
Berlin 1924.
Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, herausgegeben v. K. H. L. Pö-
litz, 2. Aufl. Leipzig 1830.
Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie, herausgegeben v. B. Erdmann,
2 Bde., Leipzig 1882-1884.
Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen; die Biographien v. L. E. Bo-
rowski, R. B. Jachmann u. E. A. Ch. Wasianski, Berlin o. J. (Vorwort 1912).
Hasse's Schrift: „Letzte Äußerungen Kants14 und persönliche Notizen aus dem Opus
postumum, herausgeg. v. A. Buchenau u. G. Lehmann, Berlin-Leipzig 1925.
Лао-цзы:
Tao te King, deutsch mit Kommentar und Einleitung v. V. v. Strauss, 1870,
Neudruck Leipzig 1924.
Tao te king, aus dem Chinesischen übers., mit Einleitung versehen und
erläutert v. J. Grill, Tübingen 1910.
Tao te King, deutsch v. R. Wilhelm, Jena 1915.
Tao te King, deutsch v. J. S. Weiß, Leipzig o. J.
Laotse, herausgegeben v. Lin Yutang; aus dem Englischen ins Deutsche
übers., Frankfurt a. M. o. J. (1955).
418
/. Источники
Нагарджуна:
Die mittlere Lehre des Nägärjuna,
nadi der tibetischen Version übertr. v. M. Walleser, Heidelberg 1911;
nach der chinesischen Version übertr. v. M. Walleser, Heidelberg 1912.
(Deutsche Übersetzungen der untereinander stark differierenden tibetischen
und chinesischen Versionen des verlorenen Sanskrittextes.)
Платон:
Opera, rec. Joannes Burnet, Tom. I-V, Oxford o. J.
Sämtl. Werke, deutsch v. O. Apelt u. a., mit Gesamtregister, Leipzig 1911-1920.
Werke, übers, v. F. Schleiermacher, I, 1-111, 1, 2./3. Aufl., Berlin 1855-1862.
Dialoge I—IV, übertr. v. E. Salin (Apologie, Kriton, Phaidon - Theaitet - Euthy-
phron, Laches, Charmides, Lysis - Gastmahl, Phaidros), Sammlung
Klosterberg, Basel 1945-1952.
Lexicon Platonicum, v. F. Ast, 3 Bde., 1835, Neudruck Berlin 1908.
Плотин:
Opera, Tom. I: Porphyrii vita Plotini, Enneades l-lll, edd. P. Henry et H.-R. Schwy-
zer, Paris-Bruxelles 1951.
Enneades, rec. H. F. Müller, Berlin 1878-1880.
Ennéades, torn. I—VI. texte écabli et traduit par E. Bréhier, Paris 1924-1938.
Enneaden, übers, v. H. F. Müller, 2 Bde., Berlin 1878-1880.
Schriften, übers, ν . R. Harder, 5 Bde., Leipzig 1930-1937.
Плутарх:
Dion, in: Plutarchs vergleichende Lebensbeschreibungen, übers, v. J. F. S.
Kaltwasser, herausgegeben ν. О. Güthling. Bd. 12, Leipzig o. J.
Праджняпарамита (Prajnâpâramitâ):
Nach indischen, tibetischen und chinesischen Quellen ν. M. Walleser,
Göttingen 1914.
Сыма Цянь:
Les mémoires historiques, traduits et annotés par E. Chavannes, 5 vol., Paris
1895-1901.
Досократики:
H. Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker, 5. Aufl., herausgegeben von
W. Kranz, 3 Bde., Berlin 1934-1937.
Die Vorsokratiker; die Fragmente und Quellenberichte übers, u. eingel. v.
W. Capelle, Leipzig 1935.
Die Vorsokratiker - Die Sokratiker - Die Nachsokratiker, 4 Bde., in Auswahl
übers, u. herausgegeben v. W. Nestle, Jena 1907-1923.
M. Grünwald: Die Anfänge der abendländischen Philosophie; Fragmente und
Lehrberichte, Zürich o. J. (1949).
Heraklit: Fragmente, Griechisch und Deutsch, herausgegeben v. B. Snell,
München 1926.
Ксенофонт:
Erinnerungen an Sokrates, Verteidigung des Sokrates, Gastmahl, Von der
Haushaltungskunst; deutsche Übersetzung i. d. Sammlung v. Osiander u.
Schwab, 5. Aufl. Stuttgart 1872; Haushaltungskunst 1828.
419
Bibliographie
II. Литература
Ackermann, С:
Das Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie, Hamburg 1835.
Alföldi, Andreas:
Die Vorherrschaft der Pannonier im Römerreich und die Reaktion des Hel-
lenentums unter Gallienus; in: Fünfundzwanzig Jahre Römisch-Germanische
Kommission, Berlin 1930, S. 11 ff.
Apelt, Otto:
Platonische Aufsätze, Leipzig u. Berlin 1912.
Arendt, Hannah:
Der Liebesbegriff bei Augustin, Berlin 1929.
Back, Leo:
Spinozas erste Einwirkungen auf Deutschland, Diss., Berlin 1895.
Barth, Heinrich:
Die Freiheit der Entscheidung im Denken Augustins, Basel 1935.
Barth, Karl:
Fides quaerens intellectum; Anselms Beweis der Existenz Gottes im
Zusammenhang seines theologischen Programms, München 1931.
Bohatec, Josef:
Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunft" - Mit besonderer Berücksichtigung ihrer
theologisch-dogmatischen Quellen, Hamburg 1938.
Bonitz, Hermann:
Platonische Studien, 2. Aufl., Berlin 1875.
Bruns, Ivo:
Das literarische Porträt der Griechen im fünften und vierten Jahrhundert vor
Christi Geburt, Berlin 1896.
Bultmann, Rudolf :
Jesus, Berlin o. J. (1926, 2. Aufl. 1929).
Burnet, John:
Die Anfänge der griechischen Philosophie; Deutsch nach der zweiten
englischen Aufl., Leipzig 1913.
Cassirer, Ernst:
Kants Leben und Lehre, Berlin 1918.
Chantepie de la Saussaye:
Lehrbuch der Religionsgeschichte; vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage,
herausgegeben v. A. Bertholet u. E. Lehmann, 2 Bde., Tübingen 1925.
Cohen, Hermann:
Spinoza über Staat und Religion, Judenrum und Christentum; Jahrbuch für
jüdische Geschichte und Literatur, 18. Bd., Berlin 1915, S. 56-15.
420
//. Литература
Courcelle, Pierre:
Recherches sur les Confessions de Saint Augustin, Paris 1950.
Crow, Carl:
Konfuzius, Staatsmann, Heiliger, Wanderer (Original: Master Kung) Deutsch
Berlin 1939.
Dibelius, Martin:
I.Jesus, Berlin 1939.
2. Die Botschaft von Jesus Cbrisrus - Die alte Überlieferung der Gemeinde in
Geschichten, Sprüchen und Reden, Tübingen 1935.
Dodds, E. R.:
The Parmenides of Plato and the origin of the Neoplatonic One" The
Classical Quarterly, XXII, London 1928. S. 129 ff.
Emerson, Ralph Waldo:
1. Versuche; aus dem Englischen ν. G. Fabricius, Hannover 1858.
2. Vertreter der Menschheit, übertr. v. H. Conrad, Leipzig 1903.
Eisler, Rudolf:
Kant-Lexikon, Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und
handschriftlichem Nachlaß, Berlin 1930.
Erdmann, Johann Eduard:
Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren
Philosophie, III. Abt., 1. Bd., Neudruck Stuttgart 1931.
Erdmann, Benno:
Martin Knutzen und seine Zeit, Leipzig 1876.
Forke, Alfred:
1. Geschichte der alten chinesischen Philosophie, Hamburg 1927.
2. Geschichte der mittelalterlichen chinesischen Philosophie, Hamburg 1934.
3. Geschichte der neueren chinesischen Philosophie, Hamburg 1938.
Frank, Erich:
Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle (Saale) 1923.
Franke, O.:
Geschichte des chinesischen Reiches, 4 Bde., Berlin 1930-1948.
Frankel, Hermann:
Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München 1955.
Friedemann, Heinrich:
Piaton - Seine Gestalt, Berlin 1931.
Friedländer, Paul:
Piaton:
Bd. 1: Eidos, Paideia, Dialogos, Berlin 1928; 2. Aufl. unter dem Titel:
Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit, Berlin 1954.
Bd. 2: Die Platonischen Schriften, Berlin u. Leipzig 1930.
421
Bibliographie
Gabelentz, Georg von der:
Confucius und seine Lehre, Leipzig 1888.
Gangauf, Theodor:
Des Heiligen Augustinus speculative Lehre von Gott dem Dreieinigen,
Augsburg 1865.
Geffcken, Johannes:
Griechische Literaturgeschichte, 2 Bde., Heidelberg 1926-1934.
Gigon, Olof:
1. Untersuchungen zu Heraklit, Leipzig 1935.
2. Der Ursprung der griechischen Philosophie - Von Hesiod bis Parmenides,
Basel 1945.
3. Sokrates - Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Bern 1947.
Glasenapp, Helmuth von:
Kant und die Religionen des Ostens, Kitzingen-Main 1954.
Gradenwitz, Otto:
Der Wille des Stifters - Zur Erinnerung an Immanuel Kant; Abhandlungen aus
Anlaß der hundertsten Wiederkehr des Tages seines Todes, herausgegeben
v. d. Universität Königsberg, Halle, 1904, S. 179-202.
Granet, Marcel:
1. La civilisation chinoise, Paris 1929.
2. La pensée chinoise, Paris 1934.
Groot, J. J. M. de:
Universismus - Die Grundlagen der Religion und Ethik, des Staatswesens
und der Wissenschaften Chinas, Berlin 1918.
Grube, Wilhelm :
Geschichte der chinesischen Literatur, Leipzig 1909.
Grunwald, Max:
Spinoza in Deutschland, Berlin 1897.
Haas, Hans:
Das Spruchgut Kung-tsze's und Lao-tsze's in gedanklicher
Zusammenordnung, Leipzig 1920.
Hackmann, Heinrich:
1. Chinesische Philosophie, München 1927.
2. Der Zusammenhang zwischen Schrift und Kultur in China, München 1928.
3. Der Buddhismus, 3 Bändchen, Tübingen, 1906.
Hasse, F. R.:
Anselm von Canterbury:
I. Das Leben Anselms, Leipzig 1843;
II. Die Lehre Anselms, Leipzig 1852.
Herrling, Georg von:
Augustin, Mainz 1902.
422
//. Литература
Hoffmann, Ernst:
1. Piatonismus und Mittelalter; Vorträge der Bibliothek Warburg 1923-1924,
Leipzig-Berlin 1926, S. 17-82.
2. Piatonismus und Mystik im Altertum; Sitzungsberichte der Heidelberger
Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Heidelberg 1935.
3. Piaton, Zürich o. J. (1950).
Holl, Karl:
Augustins innere Entwicklung (1922); in: Gesammelte Aufsätze zur
Kirchengeschichte, Bd. Ill, Tübingen, 1928.
Huber, Gerhard:
Das Sein und das Absolute - Studien zur Geschichte der ontologischen
Problematik in der spätantiken Philosophie, Basel 1955.
Jaeger, Werner:
1.: Paideia, 3 Bde., Berlin 1934-1947.
2.: Die Theologie der frühen griechischen Denker, Stuttgart 1953.
Jaspers, Karl:
Das radikal Böse bei Kant; in: Rechenschaft: und Ausblick, München 1951,
S. 90-114.
Jonas, Hans:
Augustin und das paulinische Freiheitsproblem, Göttingen 1930.
Kern, Heinrich:
Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien, deutsch v. H. Jacobi, 2 Bde.,
Leipzig 1882-1884.
Kirchner, Hermann:
Die Philosophie des Plotin, Halle 1854.
Koppen, Friedrich:
Die Religion des Buddha, 2 Bde., Berlin 1857-1859.
Knittermeyer, Hinrich:
Der Terminus Transzendental in seiner historischen Entwicklung bis zu Kant,
Diss., Marburg 1920.
Kristeller, Paul Oskar:
Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin, Tübingen, 1929.
Krüger, Gerhard:
Einsicht und Leidenschaft - Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt
a. M. 1939.
Laas, Ernst:
1. Kants Analogien der Erfahrung, Berlin 1876.
2. Kants Stellung in der Geschichte des Conflicts zwischen Glauben und
Wissen, Berlin 1882.
Lange, Friedrich Albert:
Geschichte des Materialismus, 1865, 7. Aufl., Leipzig 1902.
423
Bibliographie
Leisegang, Hans:
Die Piatondeutung der Gegenwart, Karlsruhe 1929.
Liebmann, Otto:
Kant und die Epigonen, Stuttgart 1865.
Longinus (Pseudolonginus):
Die Schrift über das Erhabene, deutsch v. H. F. Müller, Heidelberg 1911.
Maier, Heinrich:
Sokrates - Sein Werk und seine geschichtliche Stellung, Tübingen, 1913.
Marrou, Henri-lrénée:
Saint Augustin et la fin de la culture antique, Paris 1937. -
Dazu: Retractatio, Paris 1949.
Martin, Gottfried:
Immanuel Kant - Ontologie und Wissenschaftstheorie, Köln 1951.
Mausbach, Joseph:
Die Ethik des Heiligen Augustinus, 2 Bde., Freiburg 1909.
Meer, F. van der:
Augustinus der Seelsorger (Übersetzung aus dem Holländischen), Köln 1951.
Meyer, Eduard:
Geschichte des Altertums:
Bd. 2: Geschichte des Abendlandes bis auf die Perserkriege -
Bd. 3: Das Perserreich und die Griechen, 2. Aufl., Stuttgart 1912.
Muschg, Walter:
Tragische Literaturgeschichte, Bern 1948; zweite umgearbeitete und
erweiterte Aufl., Bern 1953.
Natorp, Paul:
Piatos Ideenlehre - Eine Einführung in den Idealismus; zweite, um einen
metakritischen Anhang vermehrte Ausgabe, Leipzig 1921.
Nebel, Gerhard:
1. Plotins Kategorien der intelligiblen Welt, Tübingen, 1929.
2. Das Sein des Parmenides; Der Bund, Jahrbuch, Wuppertal 1947.
Nörregaard, Jens:
Augustins Bekehrung, Tübingen 1923.
Oldenberg, Hermann:
Buddha, 7. Aufl., Stuttgart 1920.
Oppermann, Hans:
Plotins Leben, Heidelberg 1929.
Pischel, Richard:
Leben und Lehre des Buddha, Leipzig 1917.
424
//. Литература
Portalié, Ε.:
Saint Augustin; Dictionnaire de Théologie catholique, 3. Aufl., Paris 1923,
I, 2268-2472.
Reich, Klaus:
1. Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel, Berlin 1932, 2. Aufl., 1948.
2. Anaximander und Parmenides; Marburger Winckelmann-Programm
1950/51, S. 13 ff.
Reidemeister, Kurt:
Das exakte Denken der Griechen, Hamburg 1949.
Reinhardt, Karl:
1. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, Bonn 1916.
2. Poseidonios, München 1921.
Reuter, Hermann:
Augustinische Studien, Gotha 1887.
Richter, Arthur:
Neuplatonische Studien (Hef t I: Leben und Geistesentwicklung des Plotin,
Heft II: Lehre vom Sein, Heft III: Theologie und Physik, Heft IV: Psychologie,
Heft V: Ethik), Halle 1864-1867.
Riehl, Alois:
Der philosophische Kritizismus - Geschichte und System; Bd. 1: Geschichte
des philosophischen Kritizismus, 2. Aufl., Leipzig 1908.
Riezler, Kurt:
Parmenides, Frankfurt a. M. o. J. (1934).
Ritter, Constantin:
Platon - Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre, 2 Bde., München 191
ΟΙ 923.
Rodenwaldt, Gerhart:
Zur Kunstgeschichte der Jahre 220 bis 270; Jahrbuch des Deutschen
Archäologischen Instituts, Bd. 51, 1936.
Rosenkranz, Karl:
Geschichte der Kanfschen Philosophie, Leipzig 1840.
Ross, David:
Plato's Theory of Ideas, Oxford 1951.
Schayer, Stanislav:
Vorarbeiten zur Geschichte der mahäyänistischen Erlösungslehren, Diss.,
Freiburg 1921.
Scheler, Max:
Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik; in: Jahrbuch für
Philosophie und phänomenologische Forschung, 1913-1916, vierte
durchgesehene Aufl. (Bd. 2 v. Schelers Gesammelten Werken), Bern 1954.
425
Bibliographie
Schmaus, Michael:
Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus, Münster 1927.
Scholz, Heinrich:
Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte - Ein Kommentar zu Augustins
de civitate dei, Leipzig 1911.
Schwartz, Eduard:
Charakterköpfe aus der antiken Literatur (darin: Sokrates und Plato, Poly-
bios und Poseidonios, Cicero, Diogenes und Krates, Epikur), Berlin 1902, 4.
Aufl. 1912.
Schweitzer, Albert:
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 5. Aufl., Tübingen, 1933.
Stadler, August:
1. Kants Teleologie und ihre erkenntnistheoretische Bedeutung, Neuausgabe,
Berlin 1912.
2. Die Grundsätze der reinen Erkenntnistheorie in der Kantischen
Philosophie, Leipzig 1876.
3. Kants Theorie der Materie, Leipzig 1883.
4. Kant - Akademische Vorlesungen, Leipzig 1912.
Stavenhagen, Kurt:
Kant und Königsberg, Göttingen o. J. (1949).
Stcherbatsky, Th.:
Erkenntnistheorie und Logik nach der Lehre der späteren Buddhisten; deutsch
von Otto Strauß, München-Neubiberg 1924.
Steinen, Wolfram von den:
Vorn heiligen Geist des Mittelalters, Breslau 1926.
Stenzel, Julius :
1. Zahl und Gestalt bei Piaton und Aristoteles, Leipzig-Berlin 1924.
2. Studien zur Entwicklung der Platonischen Dialektik von Sokrates zu
Aristoteles, 2. Aufl., Leipzig u. Berlin 1931.
3. Sokrates; in: Pauly-Wissowa, Realencyklopädie, Stuttgart 1926.
Strauß, Leo:
Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft, Berlin
1930.
Troeltsch, Ernst:
1. Das Historische in Kants Religionsphilosophie. - Zugleich ein Beitrag zu
den Untersuchungen über Kants Philosophie der Geschichte, Berlin 1904.
2. Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter, München 1915.
Vaihinger, Hans:
Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben v. R. Schmidt, 2
Bde., 2. Aufl., Stuttgart-Beriin-Leipzig 1922.
426
//. Литература
Vemiére, Paul:
Spinoza et la pensée française avant la révolution, Paris 1954.
Vorländer, Karl:
Immanuel Kant - Der Mann und das Werk, 2 Bde., Leipzig 1924.
Wilamowitz, Ulrich von:
Piaron, 2 Bde., Berlin 1919.
Wilhelm, Richard:
1.Kung-tse, Stuttgart 1925.
2. Kungtse und der Konfuzianismus, Berlin 1928.
3. Chinesische Philosophie, Breslau 1929.
Wilpert, Paul:
Zwei aristotelische Frühschriften über die Ideenlehre, Regensburg 1949.
Windelband, Wilhelm:
Die Geschichte der neueren Philosophie, Bd. II (1. Aufl. 1880), 2. Aufl., Leipzig
1899.
Zeller, Eduard:
Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung; 1. Aufl.,
1844-1852 u. ö.; Register 1882.
Zenker, Ε. V.:
Geschichte der chinesischen Philosophie, 2 Bde., Reichenberg 1926-1927.
Zilsel, Edgar:
Die Entstehung des Geniebegriffs - Ein Beitrag zur Ideengeschichte der
Antike und des Frühkapitalismus, Tübingen 1926.
427
Содержание
Введение 3
АНАКСИМАНДР
Примечания 17
ГЕРАКЛИТ И ПАРМЕНИД
Гераклит 19
1. Логос. - 2. Провозглашение спасительного пути в борьбе. -
3. Характеристика. - 4. Влияние в истории
Парменид 30
1. Бытие. - 2. Мир кажимости. - 3. Решение. - 4. Неразрешимые
трудности этого философствования. - 5. Влияние в
последующей истории
Сравнение Гераклита и Парменида 43
1. Общая ситуация. - 2. Общая новизна их в это время. -
3. Единство и противоположность обоих. - 4. Чистое
мышление. - 5. Пророчество и воля властвовать. - 6. Резюме
Примечания 48
ПЛОТИН
I. Жизнь и сочинения 50
II. Описание плотиновой «системы» 53
а) Единое и материя. - Ь) Иерархия сущего. - с) Категории. -
d) Дух, душа, природа, е) Нисхождение и подъем
III. Трансцендирование в целом 64
IV. Ступени познания 69
V. Спекулятивное трансцендирование 78
а) Учение о категориях. - Ь) Категориальное
трансцендирование. - с) Трансцендирование в образах мироздания
VI. Отпадение и восхождение 99
а) Необходимость и свобода. - Ь) Двоякая вина и двоякая
свобода. - с) Зло. - d) Две души. - е) Двоякая тоска. - f) Душевный
строй в мире. - g) Философия - это восхождение к Единому
VII. Против материализма и против гнозиса 113
Против материализма за трансценденцию. - Против гнозиса за
красоту мира
VIII. Критическая характеристика 119
а) Противоречия. - Ь) Эмпирическое знание и мифологические
представления. - с) Экзистенциальный смысл
IX. Историческое место и влияние 129
Примечания 133
АНСЕЛЬМ
I. Биография и труды 135
Биография. - Труды. - Ситуация эпохи
II. Основная философская идея Ансельма 136
а) Изложение основной идеи. - Ь) Интерпретация. - с) История
основной идеи Ансельма
428
Содержание
III. Характеристика мышления Ансельма 160
а) Изначальная философия Ансельма как христианское
мышление. - Ь) Что такое у Ансельма мышление. - с) Авторитет
Примечания 169
СПИНОЗА
I. Жизнь и сочинения 170
II. Философия и жизненная практика 176
III. Метафизическое видение 179
а) Субстанция, атрибут, модус 180
Ь)Бог 181
c) Два атрибута 189
d) Модусы 193
e) Время; необходимость 195
f) Скачок между богом и миром и вопрос об их единстве 196
IV. Теория познавания 202
a) Ступени познания 202
b) Идеи 207
Адекватные и неадекватные идеи. - Идея и воля. -
Достоверность
c) Отношение к богу 210
d) Описание Спинозой своего познания согласно геометрическому
методу 211
e) Мистика, рационализм, спекулятивная мысль 214
Не мистика и не рационализм. - Что делает Спиноза, когда
мыслит. - О трансцендировании при помощи категорий
V. Человек 220
a) Человек - не субстанция, а модус 221
b) Человеческое и божественное мышление 222
c) Человек - это душа и тело 223
d) Человек и животное и различие между людьми 227
e) Бессмертие и вечность 229
VI. Свобода от цели и ценности 231
a) Цели и ценности суть предрассудки, возникающие
из искажения идеи бога 231
b) Наш разум, ограниченный в качестве модуса 234
c) Действительность и ценность 236
d) Взаимопревращение двух способов познания 237
e) Этос свободы от ценностей 238
VII. Рабство и свобода души 240
a) Учение об аффектах 245
b) Описание рабства 248
c) Идея и возможности свободы 249
1. Методы и правила жизни. - 2. Все истинное соотносится с
богом. - 3. Проект разумной жизни. - 4. Характеристика
VIII. Религия и государство 260
А. МЫШЛЕНИЕ СПИНОЗЫ О ГОСУДАРСТВЕ 264
а) Основоположения необходимости государственной жизни 265
1. Принципы естественного права Спинозы 265
429
Содержание
2. События государственной жизни 268
3. Объемлющая необходимость 270
Ь) Очерк образцов государства 273
1. Свобода. - 2. Напряженность между устойчивостью и
свободой. - 3. Для кого пишет Спиноза. Спиноза и Гоббс
B. РЕЛИГИЯ В ГОСУДАРСТВЕ 278
a) Разум и откровение 283
b) Понимание Библии 286
c) Свобода мысли 290
C. КРИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЛКОВАНИЯ СПИНОЗОЙ
РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ 293
a) Неясность соотношения науки и философии 293
Спиноза как научный исследователь 298
b) Библеистика, вера, философия 300
1. Значение библеистики для веры. - 2. Значение философии
для веры
c) Упреки в адрес спинозовской достоверности бога 305
1. Абстрактность. - 2. Исчезновение трансценденции. - 3.
Утрата историчности. - 4. Отсутствие основных свойств бога
d) Личные решения Спинозы и его судьба 315
e) Спиноза и еврейский вопрос 320
1. Наш вопрос. - Что ответил бы Спиноза в нынешней
ситуации. - 2. Спиноза о евреях. - 3. Политическое отношение
Спинозы к еврейскому вопросу. - 4. Отказ Спинозы от своей связи
с еврейством. - 5. Суждения о Спинозе как еврее
IX. Критическая характеристика философии Спинозы 329
a) Взгляд на философию и сущность Спинозы 329
1. Рационализм. - 2. Независимость самостоятельного
философа. - 3. Осмотрительность и одиночество. - 4. Не образец, но
и не исключение. - 5. Мысли, воспринятые Спинозой от других
b) Границы Спинозы 335
1. Ошибочная критика. - 2. Познаваемые разумом границы
разума. - 3. Отсутствие чувства личности и историчности
X. Влияние Спинозы 341
Примечания 343
ЛАО-ЦЗЫ
Жизнь и сочинения 349
I. Изложение философии Лао-цзы 351
1.Дао 352
2. Дао и мир 354
Становление мира и процесс индивида в мире
3. Дао и индивид (жизненная практика) 358
а) Отпадение от Дао: Преднамеренность и желание самого
себя. - Ь) Недеяние (увэй) как исток этоса. - с) Признаки
единения с Дао, раскрывающиеся из увэй. - d) Отпадение. - е) Ничто
или вечность. - f) Судьба следующего Дао человека - Лао-цзы -
в мире
430
Содержание
4. Дао и государственное управление (практика руководства
человеческой общностью) 370
а) Руководитель государства. - Ь) Действие недеятельности. -
с) Война и наказания. - d) Действия человека в перемене и
становлении вещей. - е) Желательное общее политическое
положение. - f) Истина изначального
II. Характеристика и критика 378
1. Смысл Лао-цзы 378
а) Спор: то, что о несказанном вообще говорят. - Ь) К чему
в нас обращается философская речь? - с) Формы мысли
Лао-цзы
2. Образы последователей Лао-цзы 383
Отшельник. - Наслаждающийся жизнью. - Литератор. - Маг. -
Политик насилия
3. Историческое место и границы Лао-цзы 386
НАГАРДЖУНА
I. Мыслительные операции 390
Резюме учения 395
II. Рефлексии о смысле учения 397
1. Возможность научения 397
2. Каков смысл этих мыслительных операций? 400
3. Логика на службе 402
4. Против метафизики 403
5. Состояние совершенного познания 404
6. Искажения 406
7. Изначальное сознание объемлющего как предпосылка 408
8. Обзор позиций буддистских сект и предельный смысл
всех их учений 410
III. Исторические сопоставления 412
а) Диалектика. - Ь) Структура бытия мира через призму
категорий. - с) Пустотность и ширь. - d) Отстраненность
Примечания 416
Bibliographie 417
I. Источники 417
II. Литература 420
431
Аннотированный список книг издательства «Канон+»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте
http://www.kanonplus.ru
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru
Научное издание
Карл ЯСПЕРС
ВЕЛИКИЕ ФИЛОСОФЫ
Книга третья
Мыслящие
из истока метафизики
Перевод с немецкого А.К. Судакова
Директор издательства Божко Ю.В.
Ответственный за выпуск Божко Ю.В.
Художник Клюйков М.Б.
Корректор Жарская СВ.
Компьютерная верстка Соколова П.Л.
Подписано в печать 04.12.2020. Формат 60χ901Λ6.
Гарнитура Arial. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 27,0. Уч.-изд. л. 23,9. Тираж 1000 экз. Заказ 885.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация»
111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел./факс 8 (495) 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: http://www.kanonplus.ru
Отпечатано в ФГУП «Издательство «Наука»
(Типография «Наука»)
121099, Москва, Шубинский пер., 6