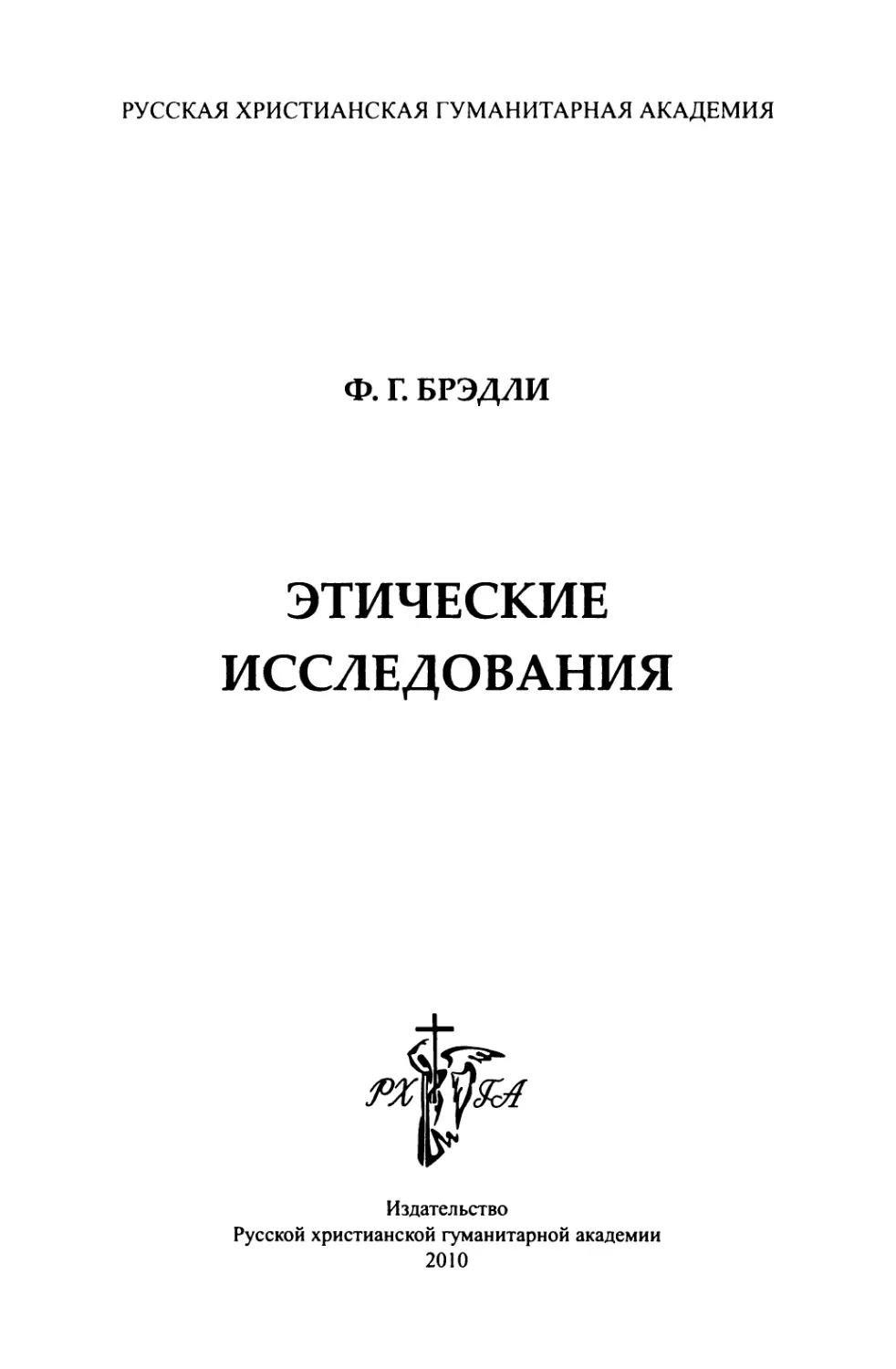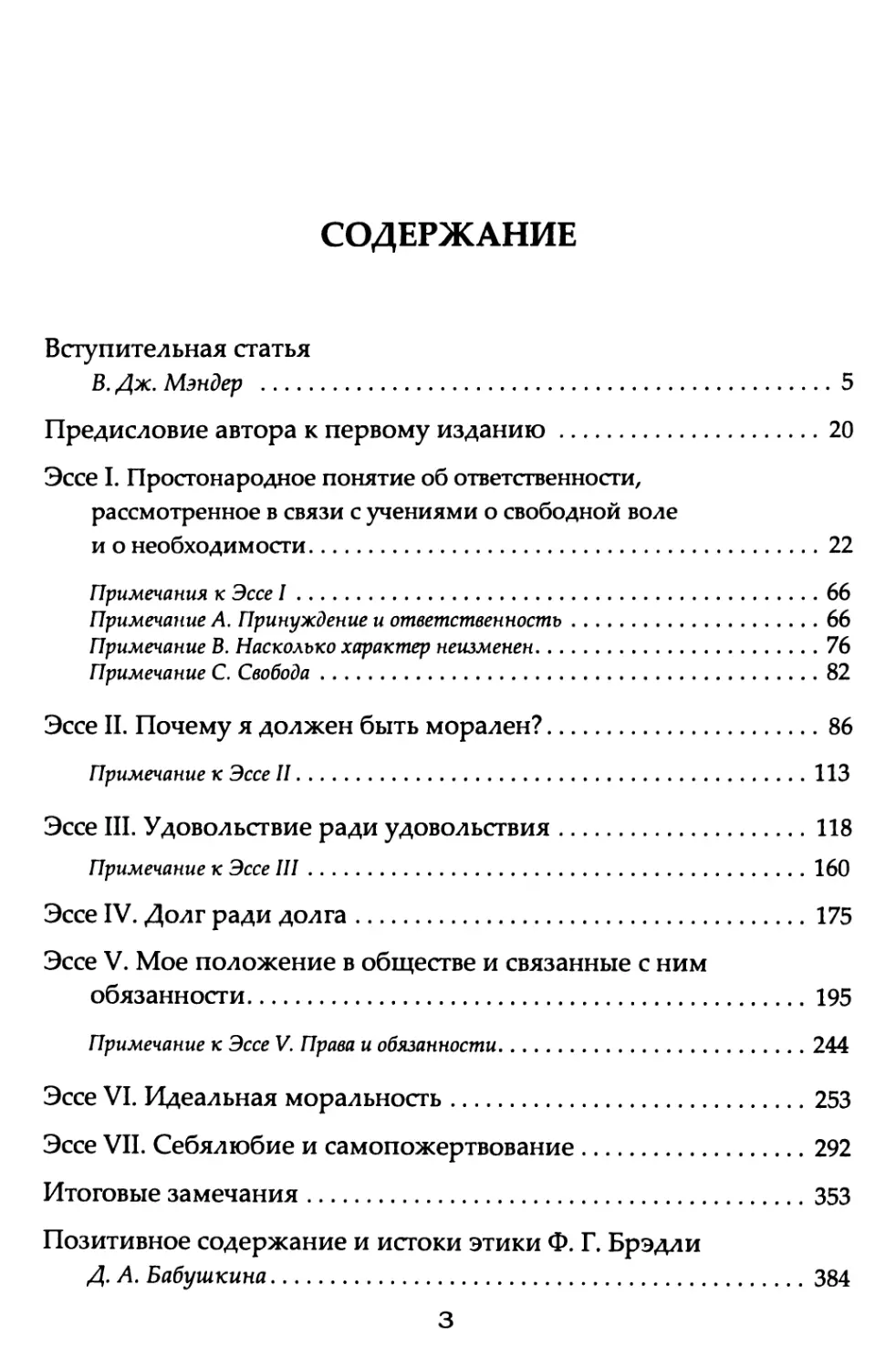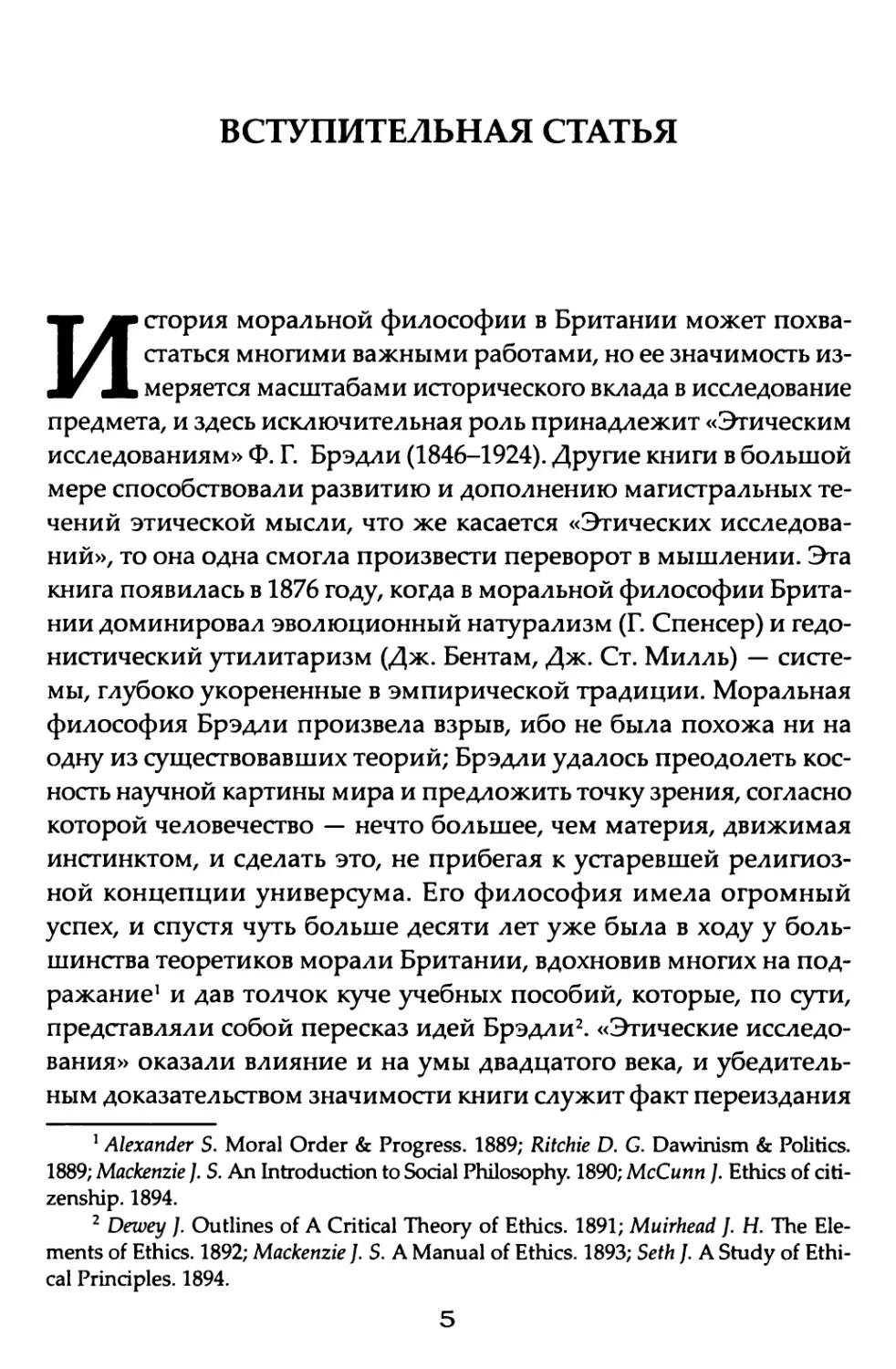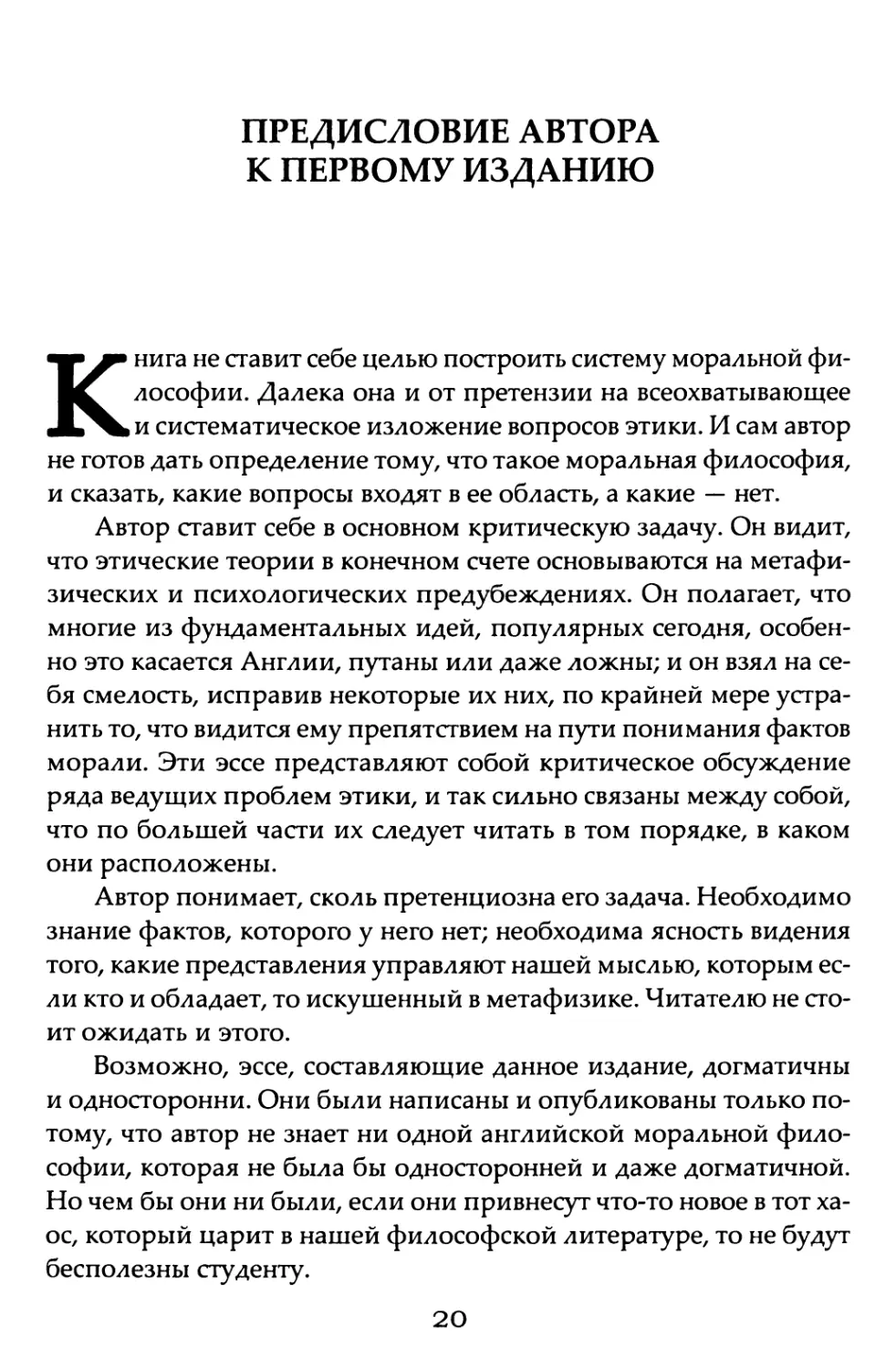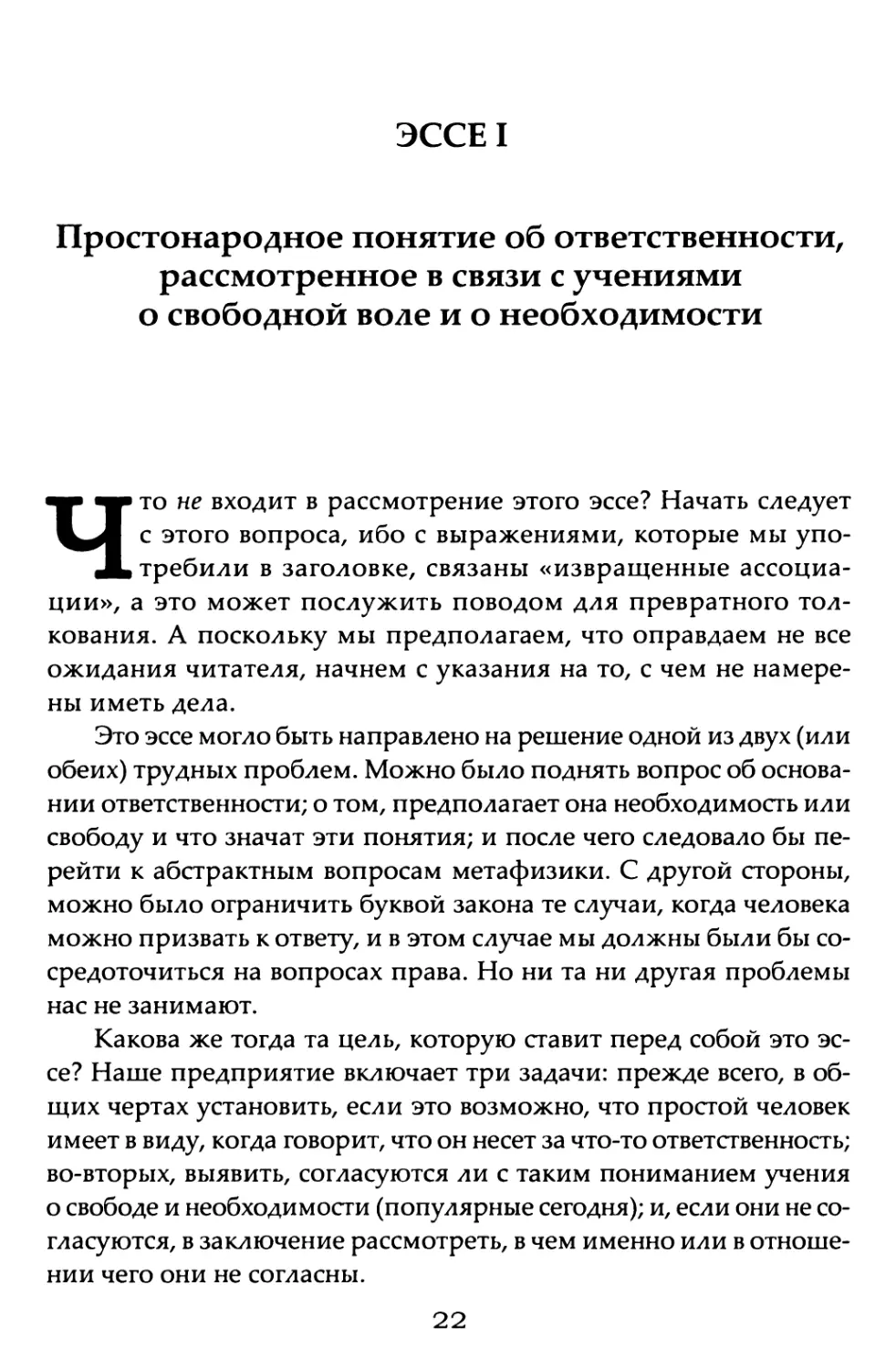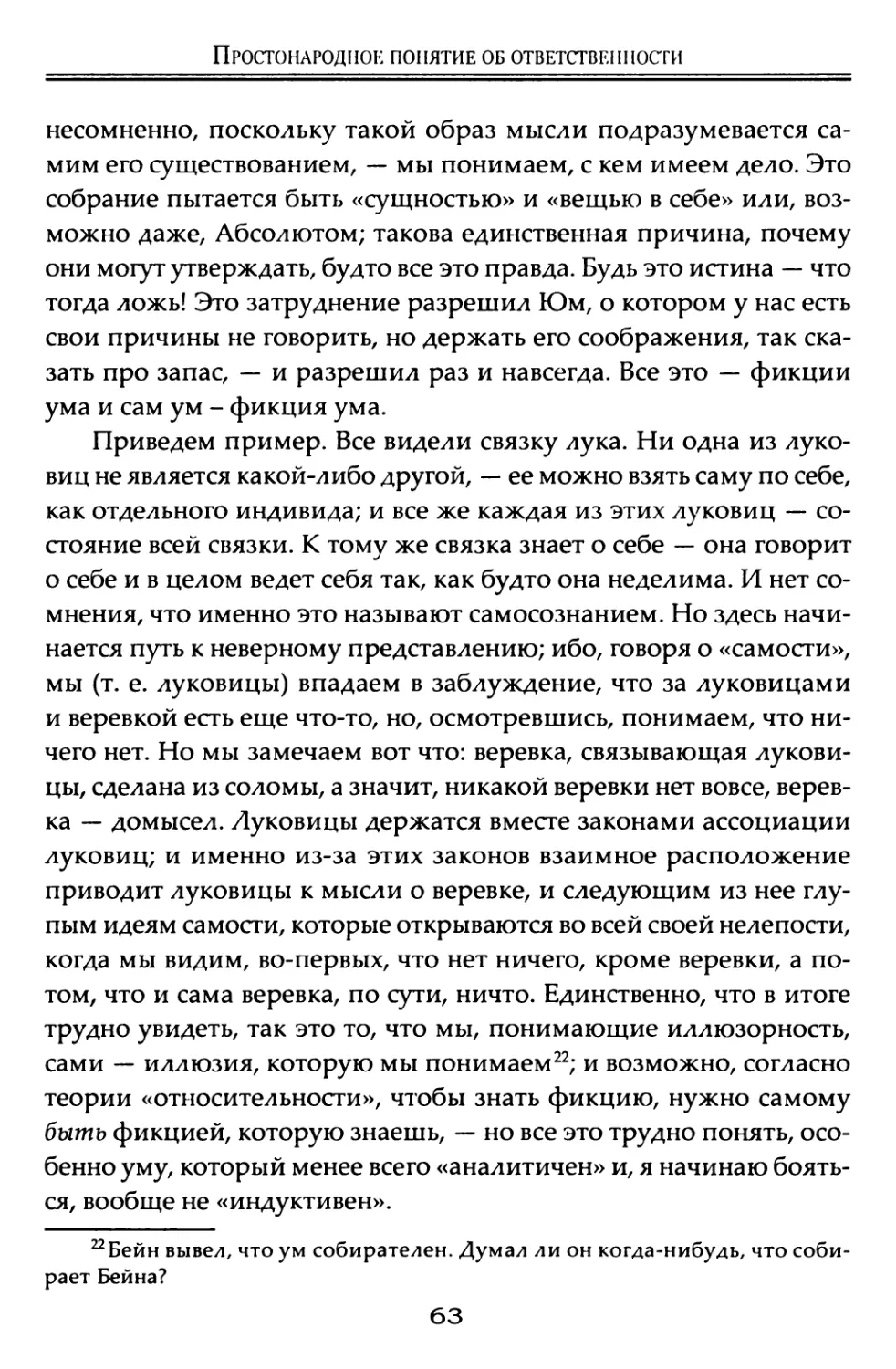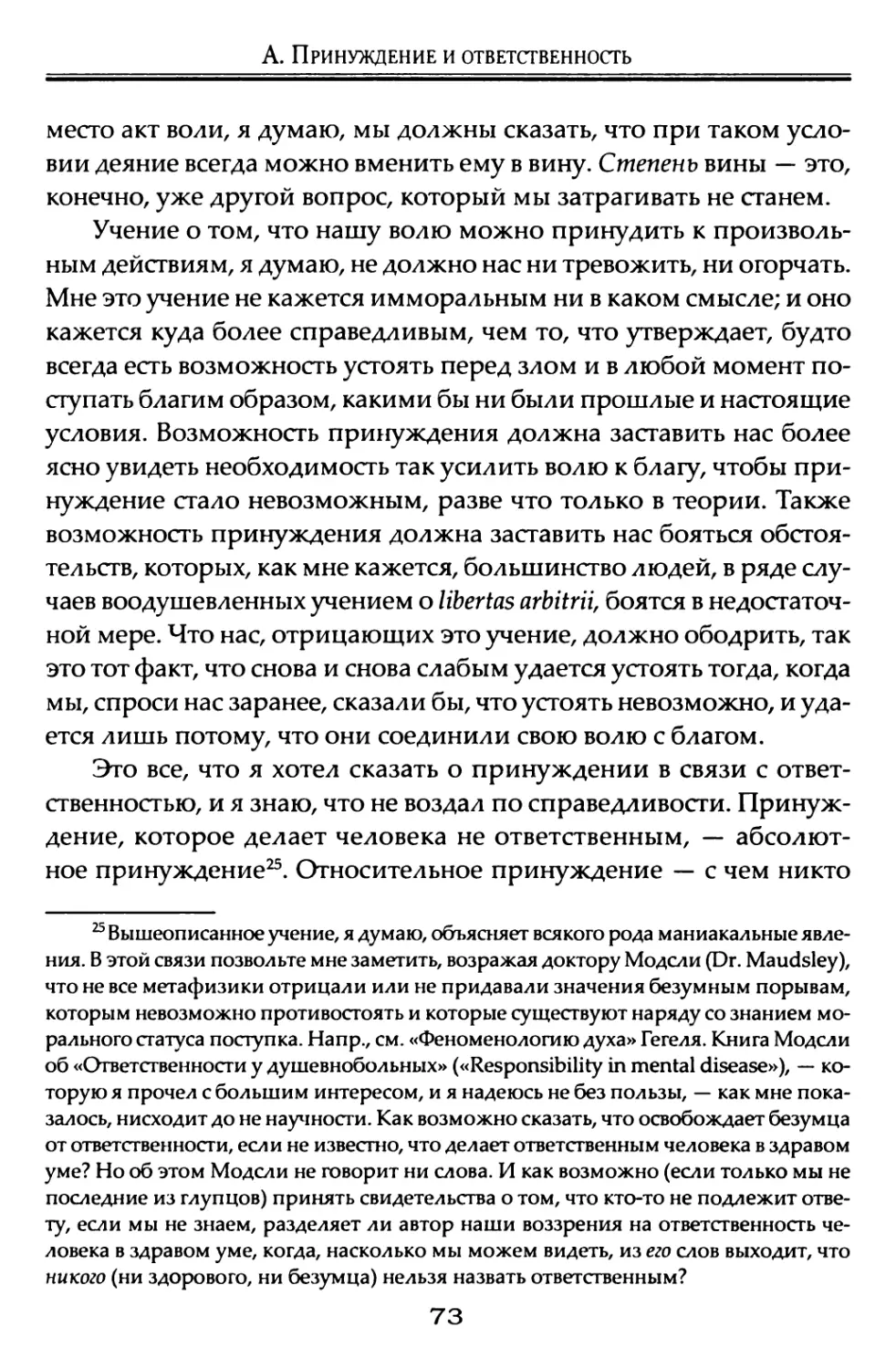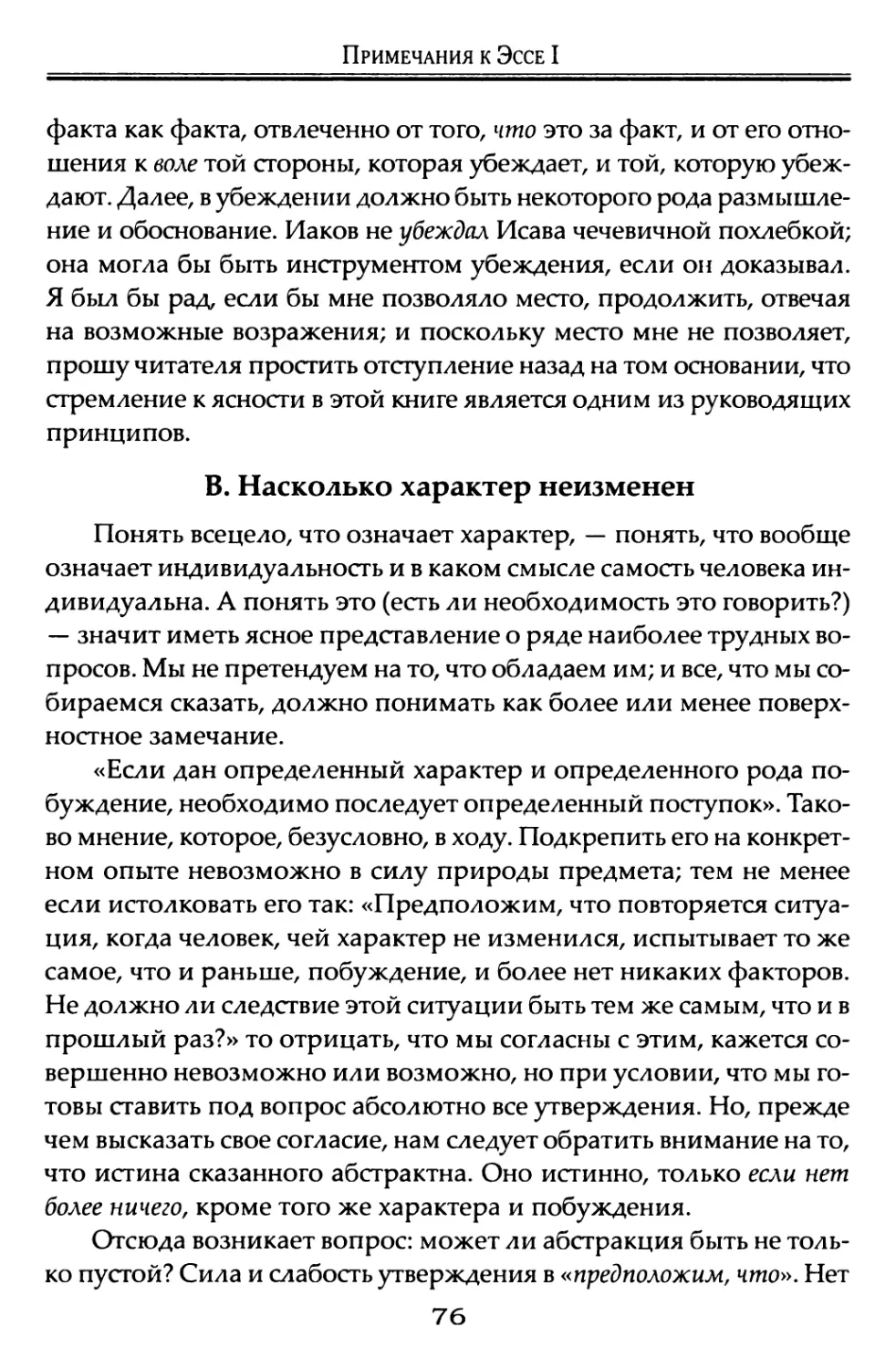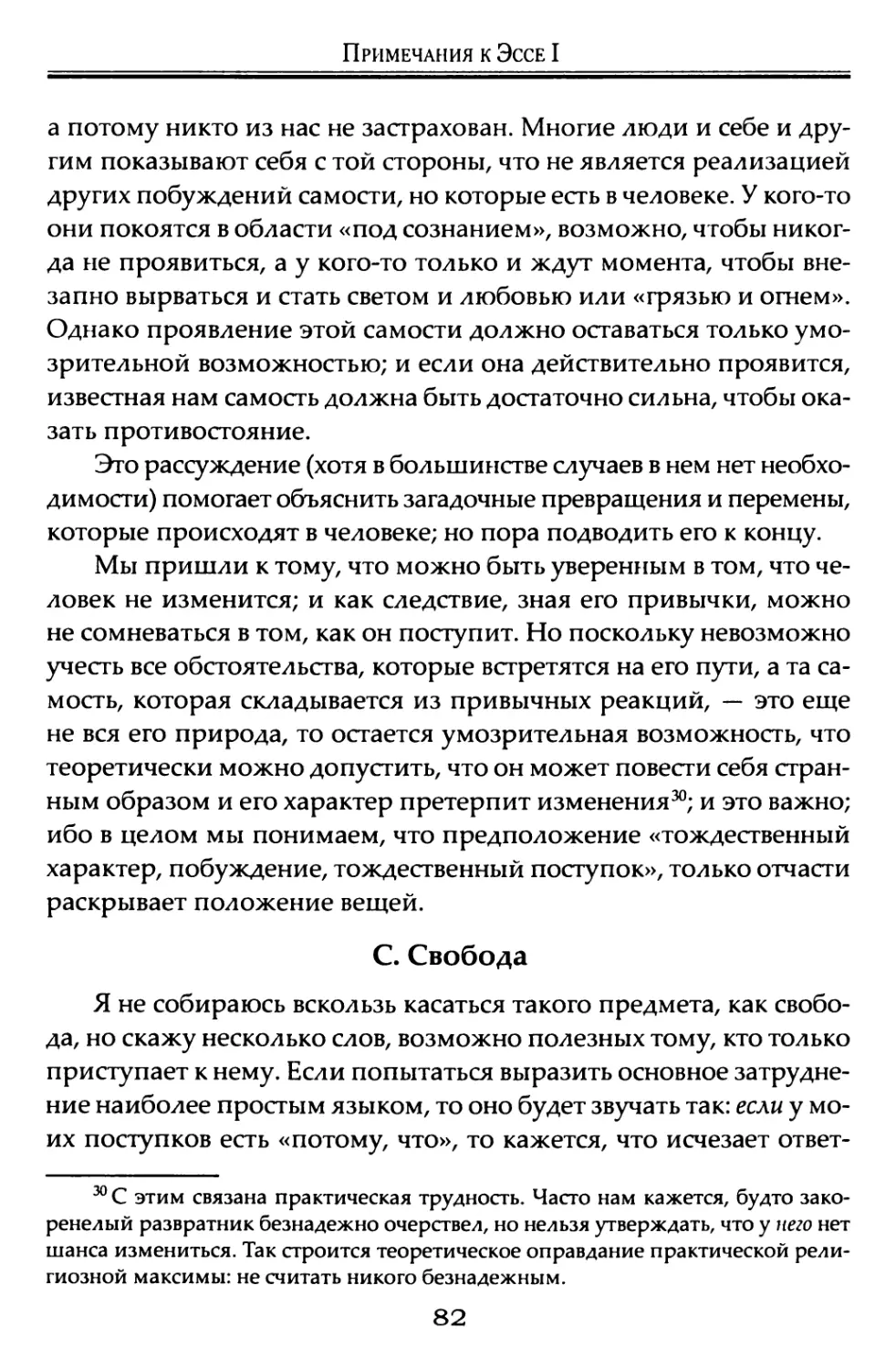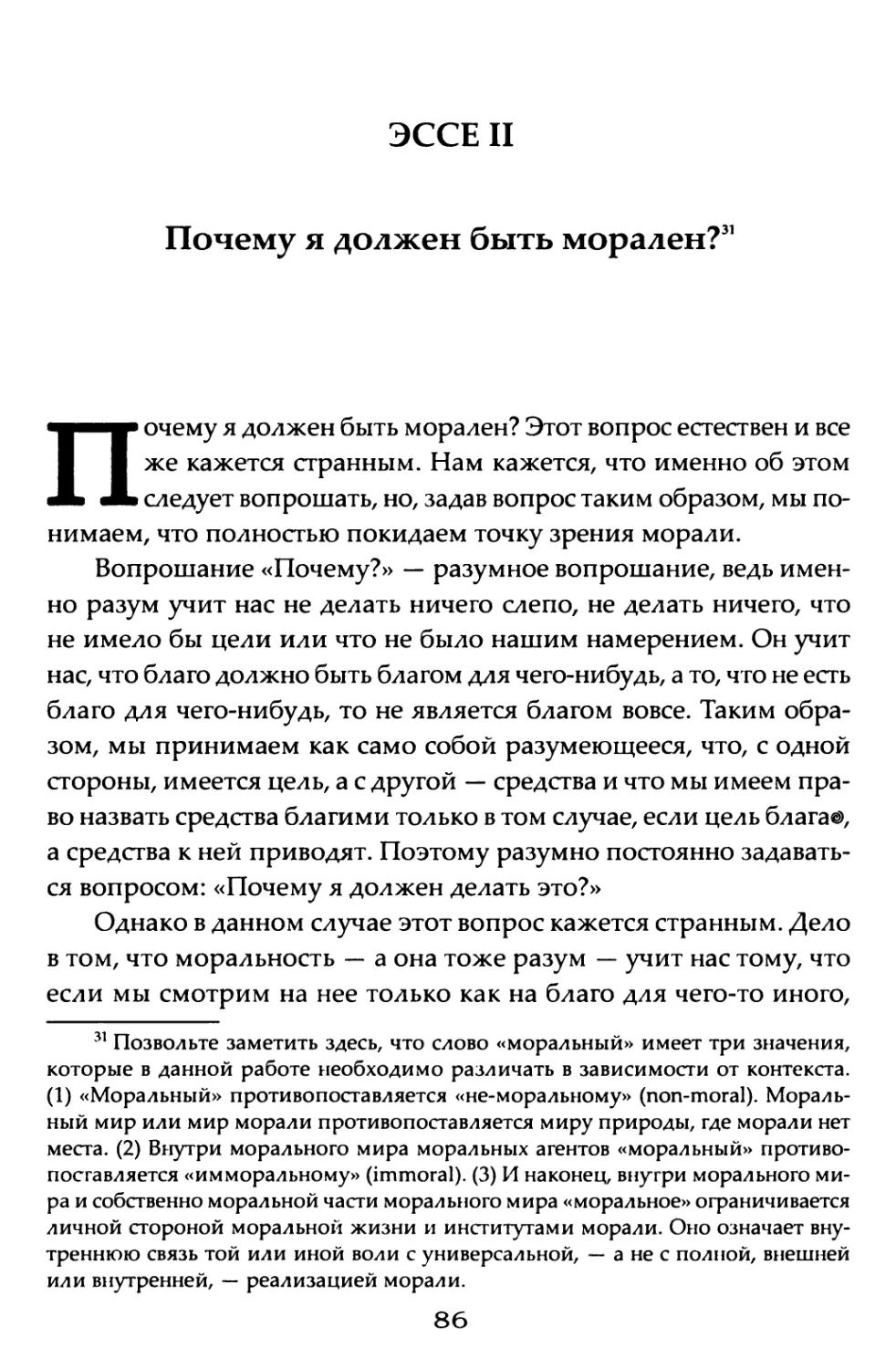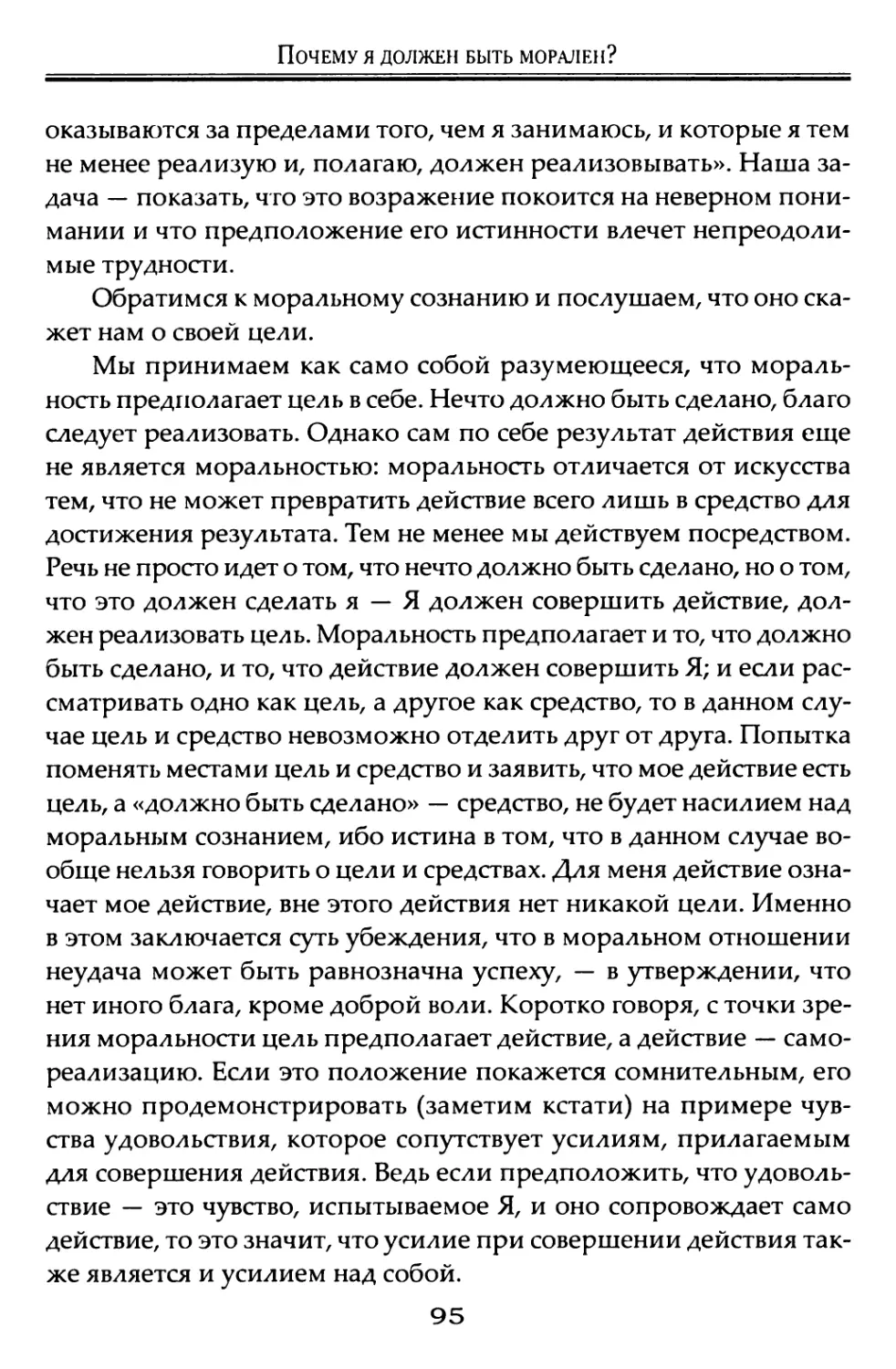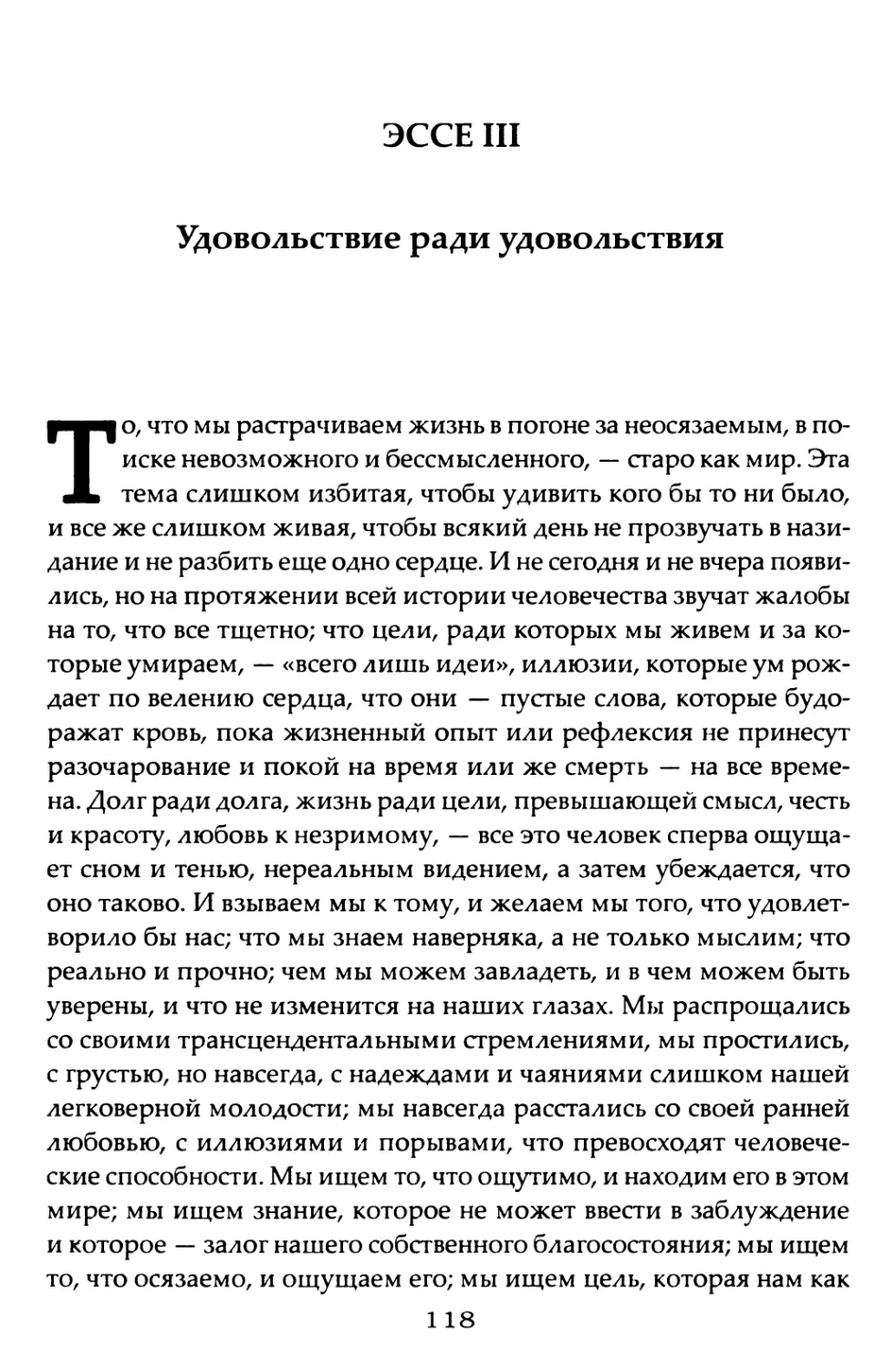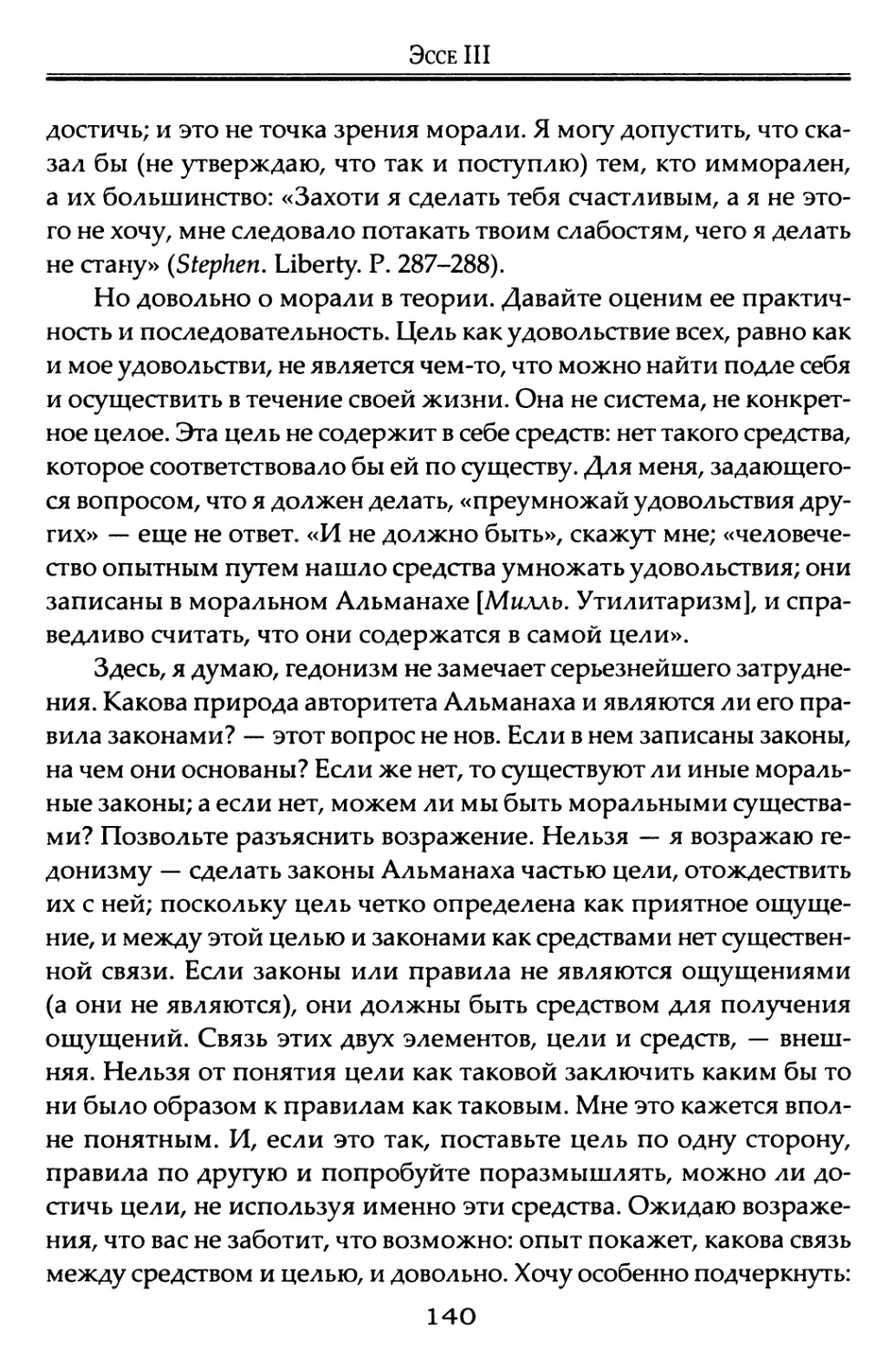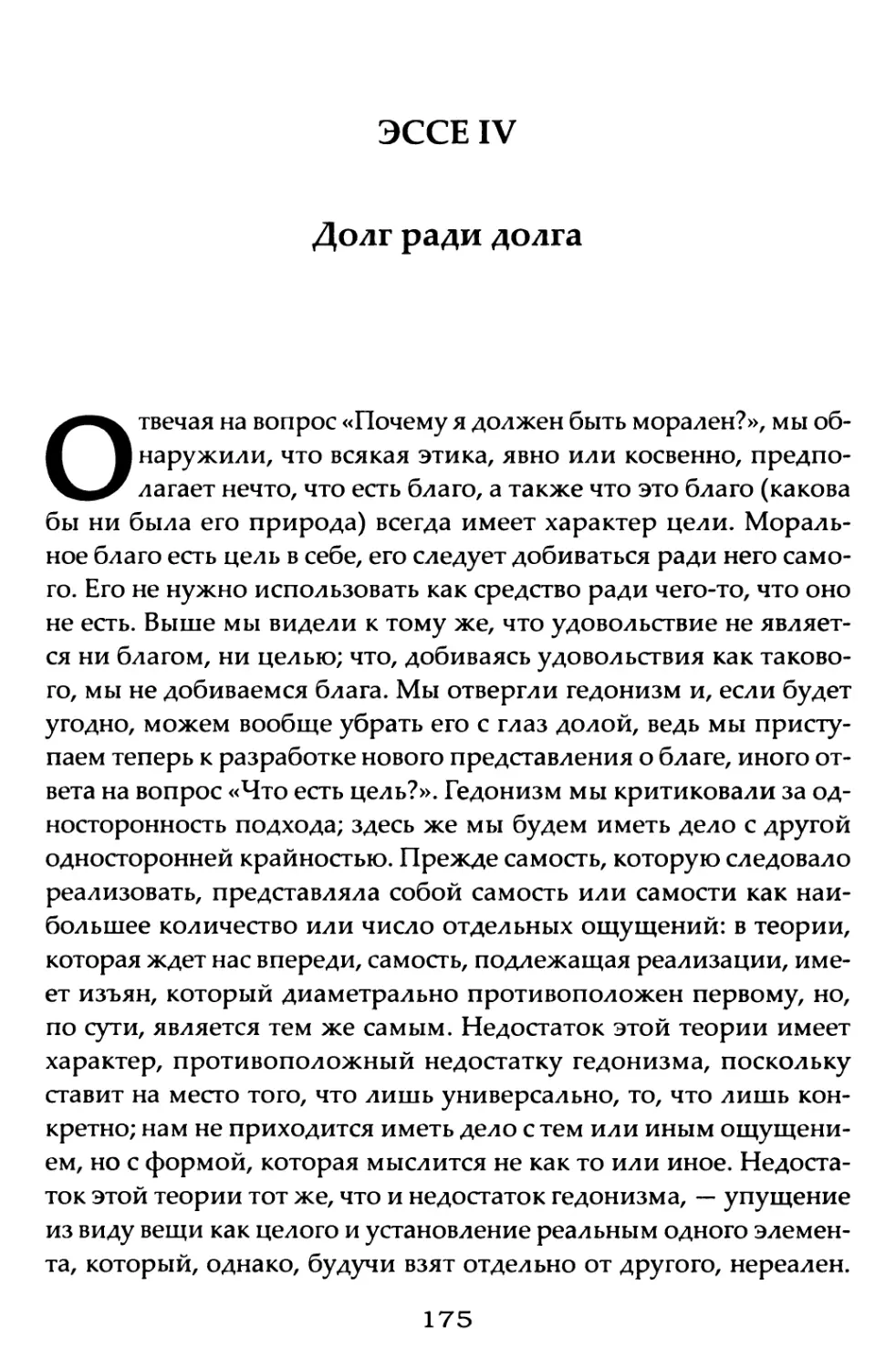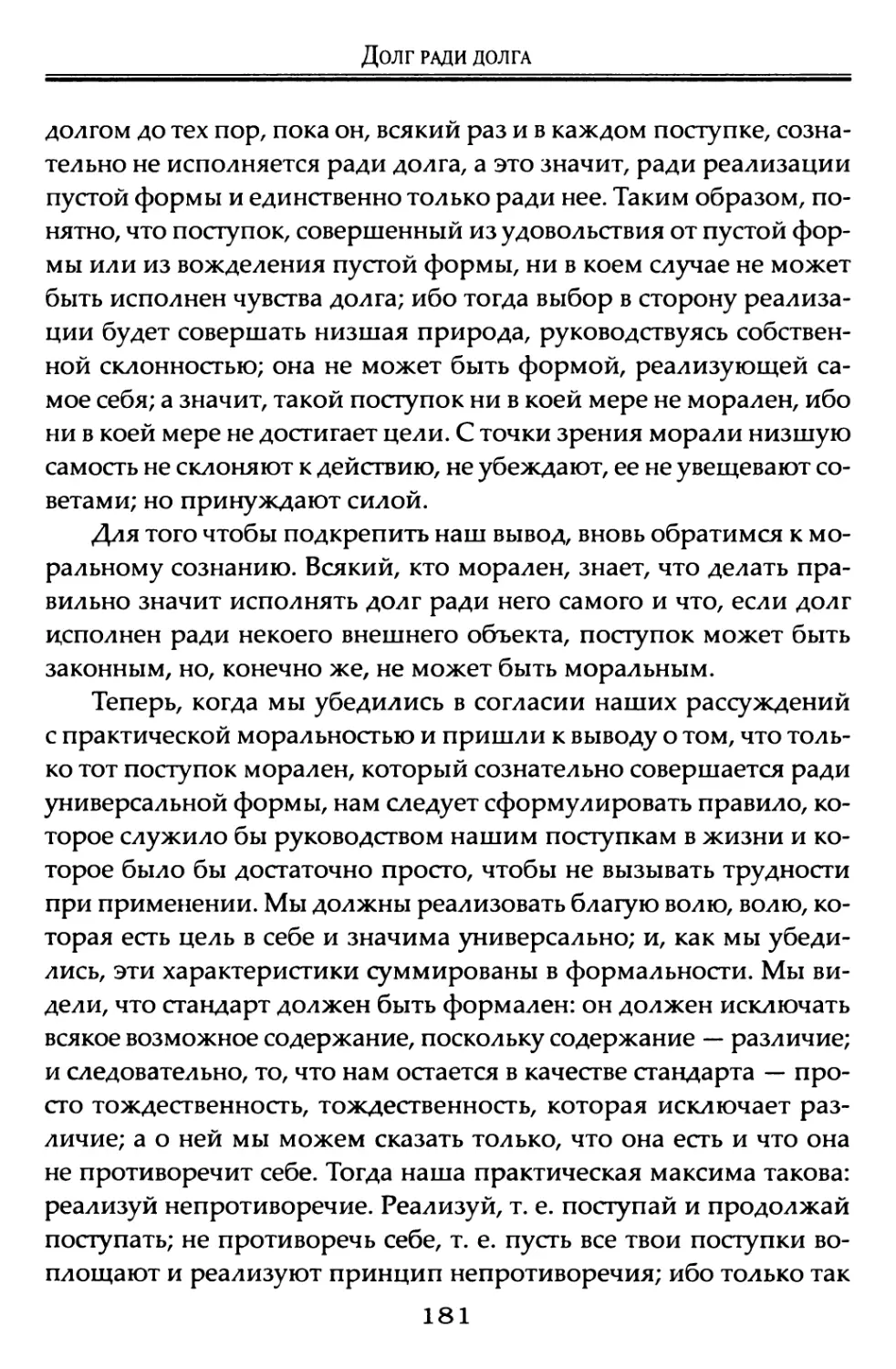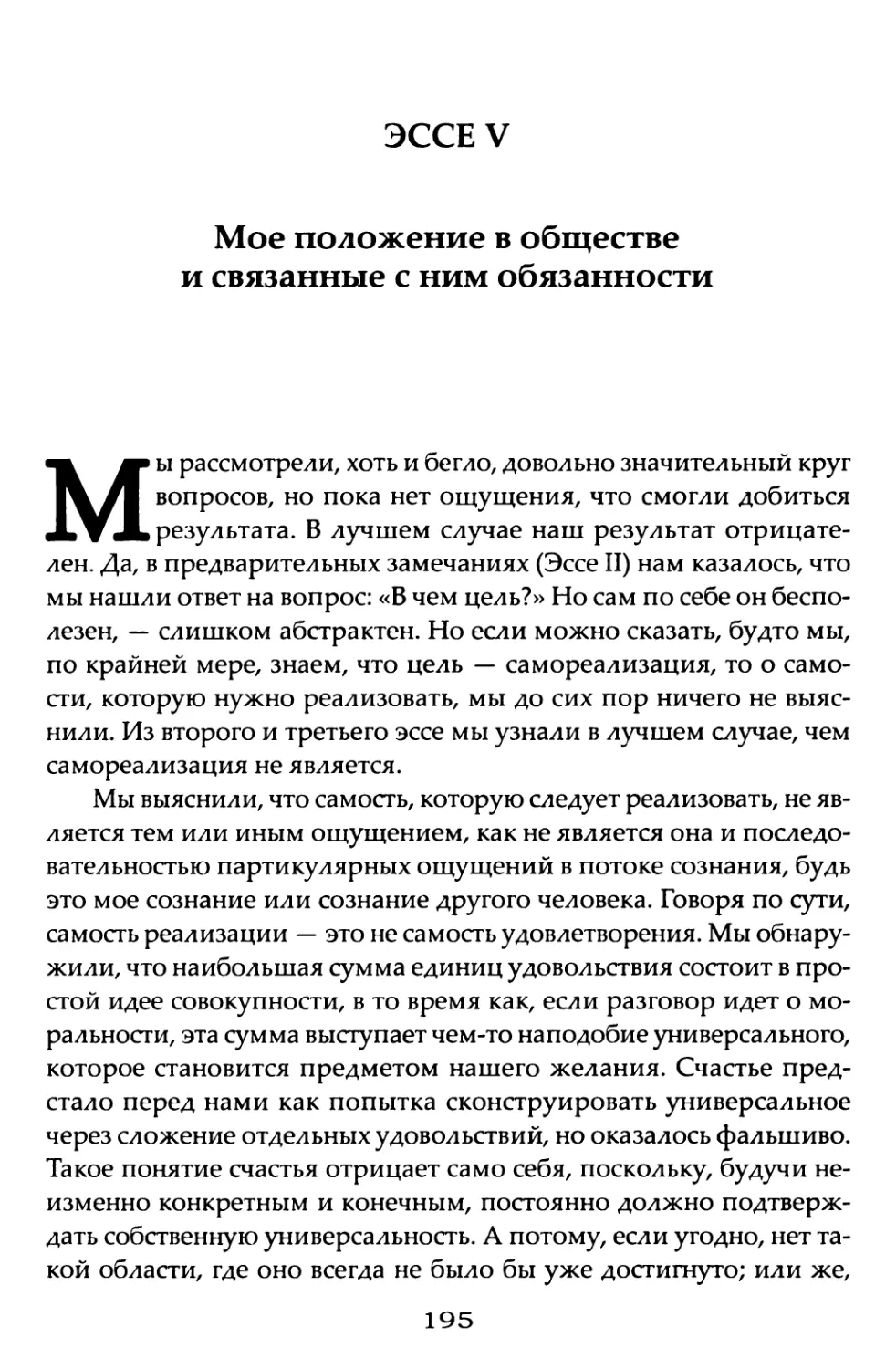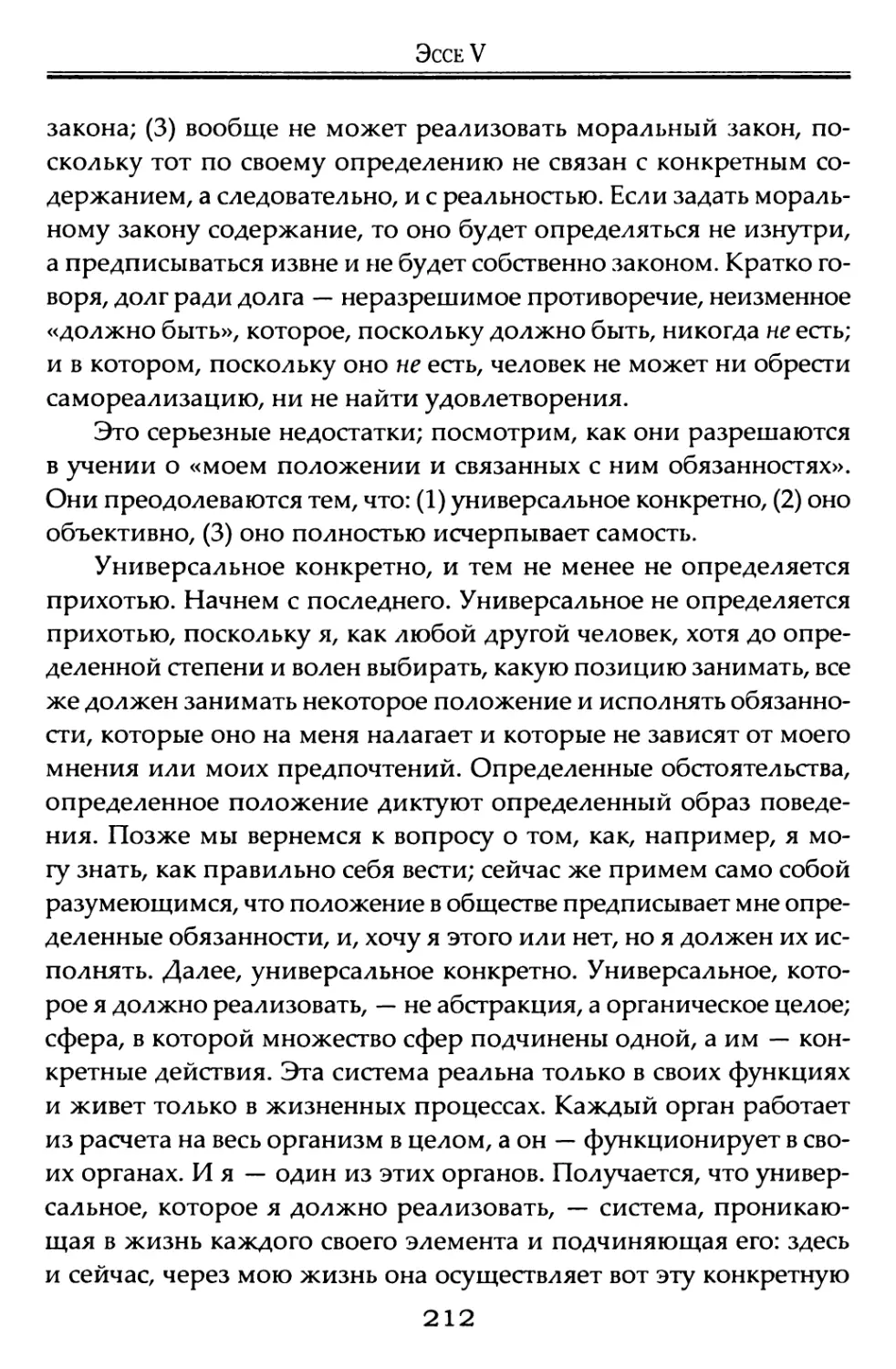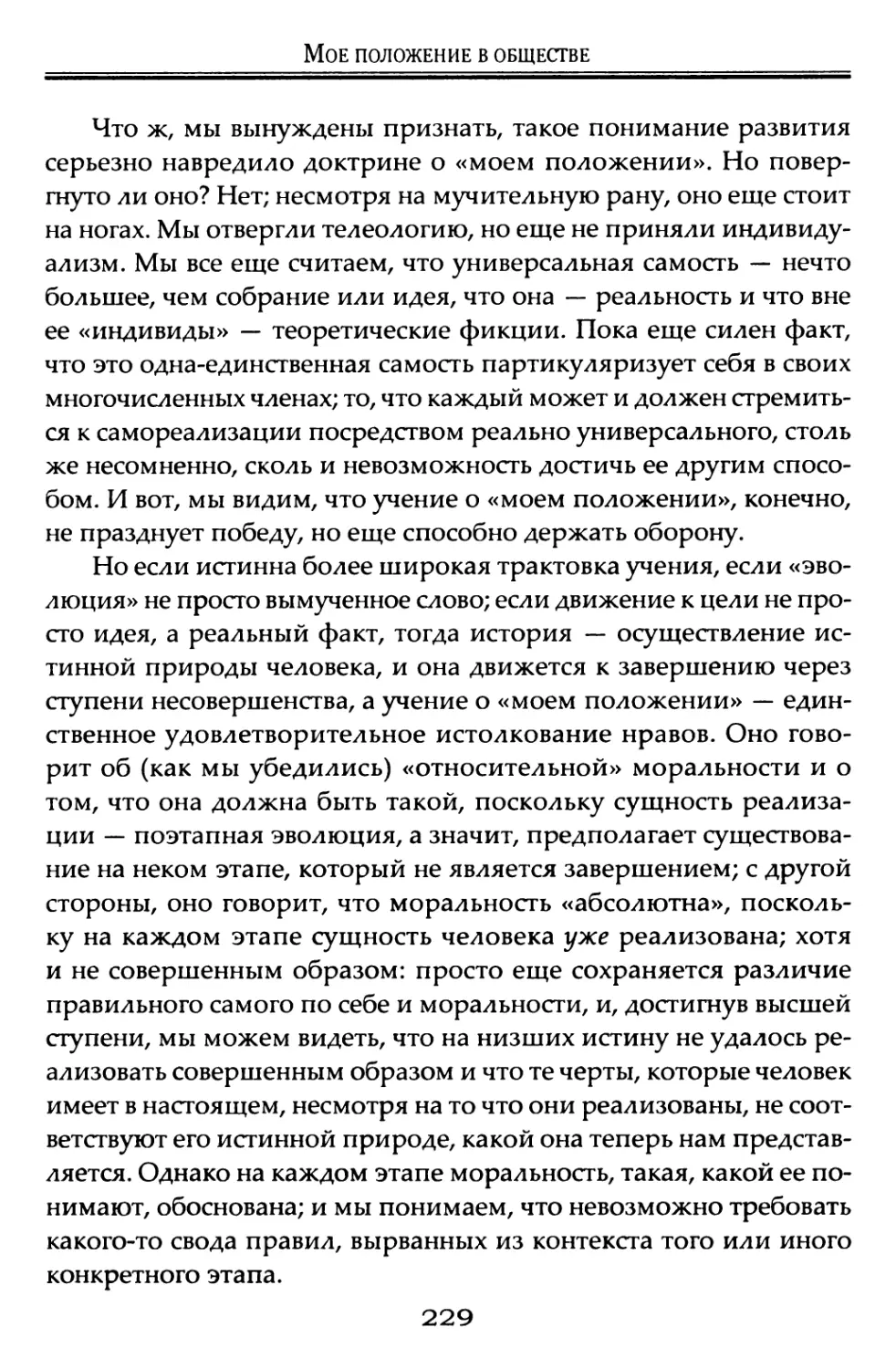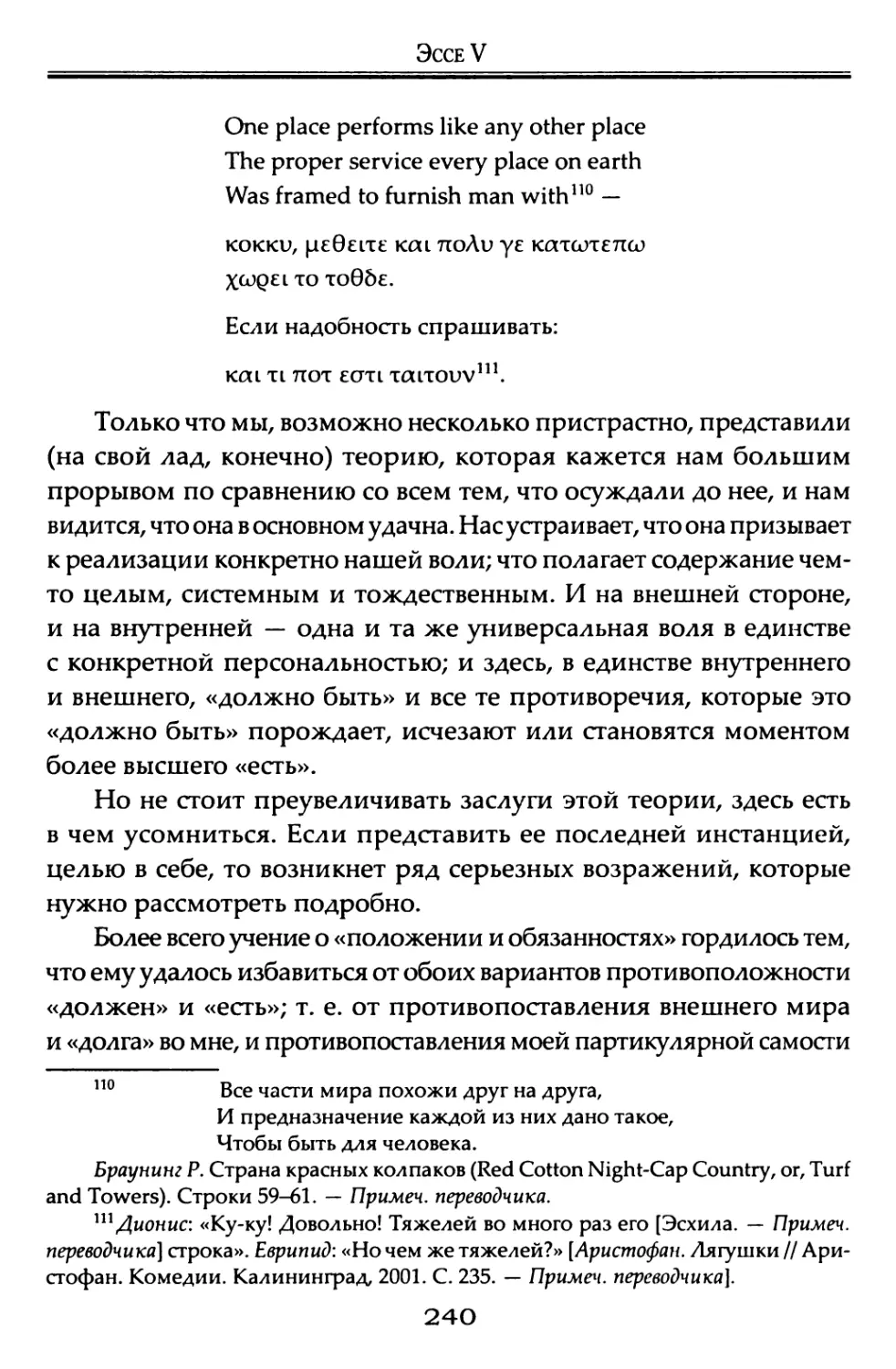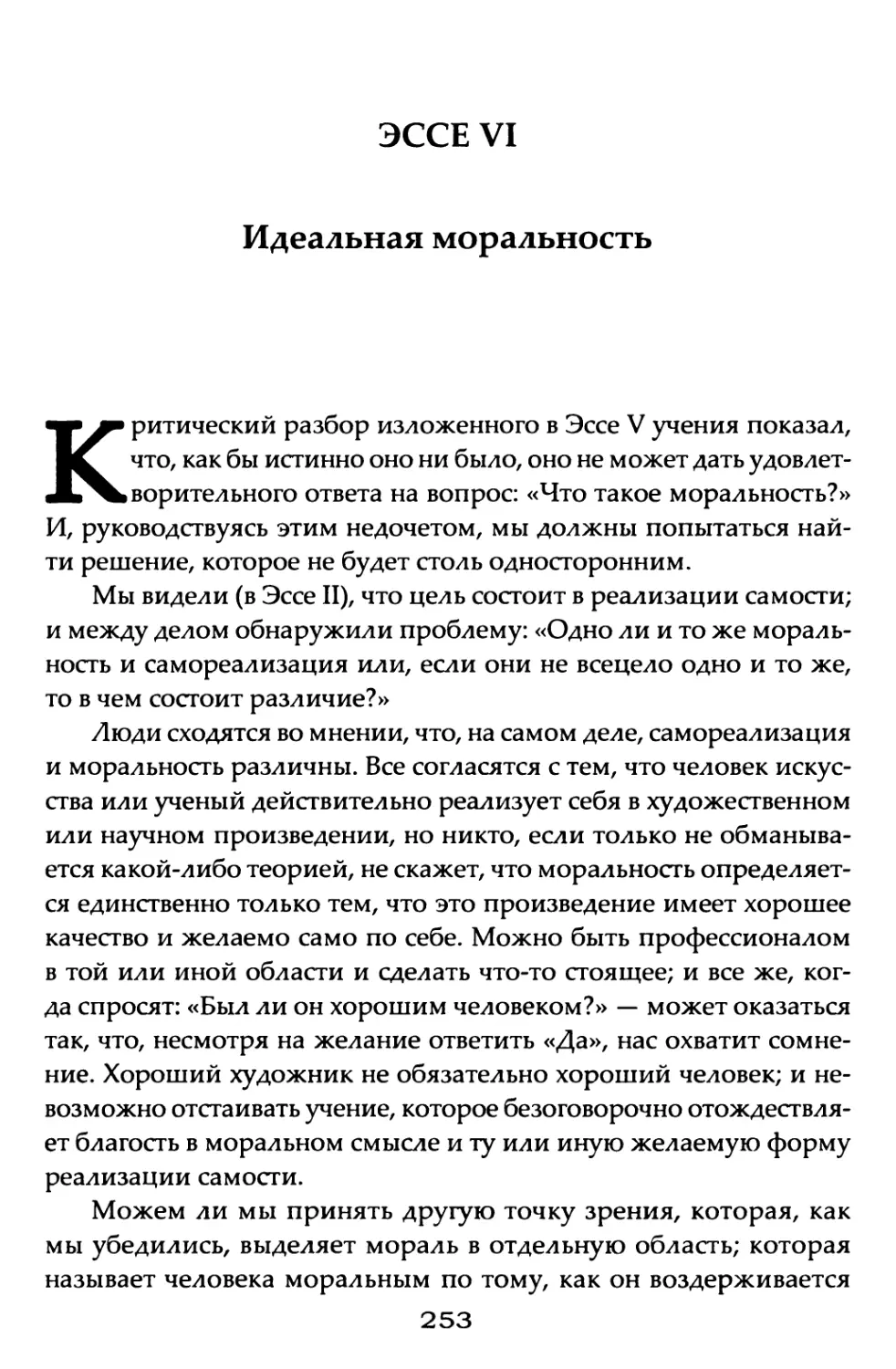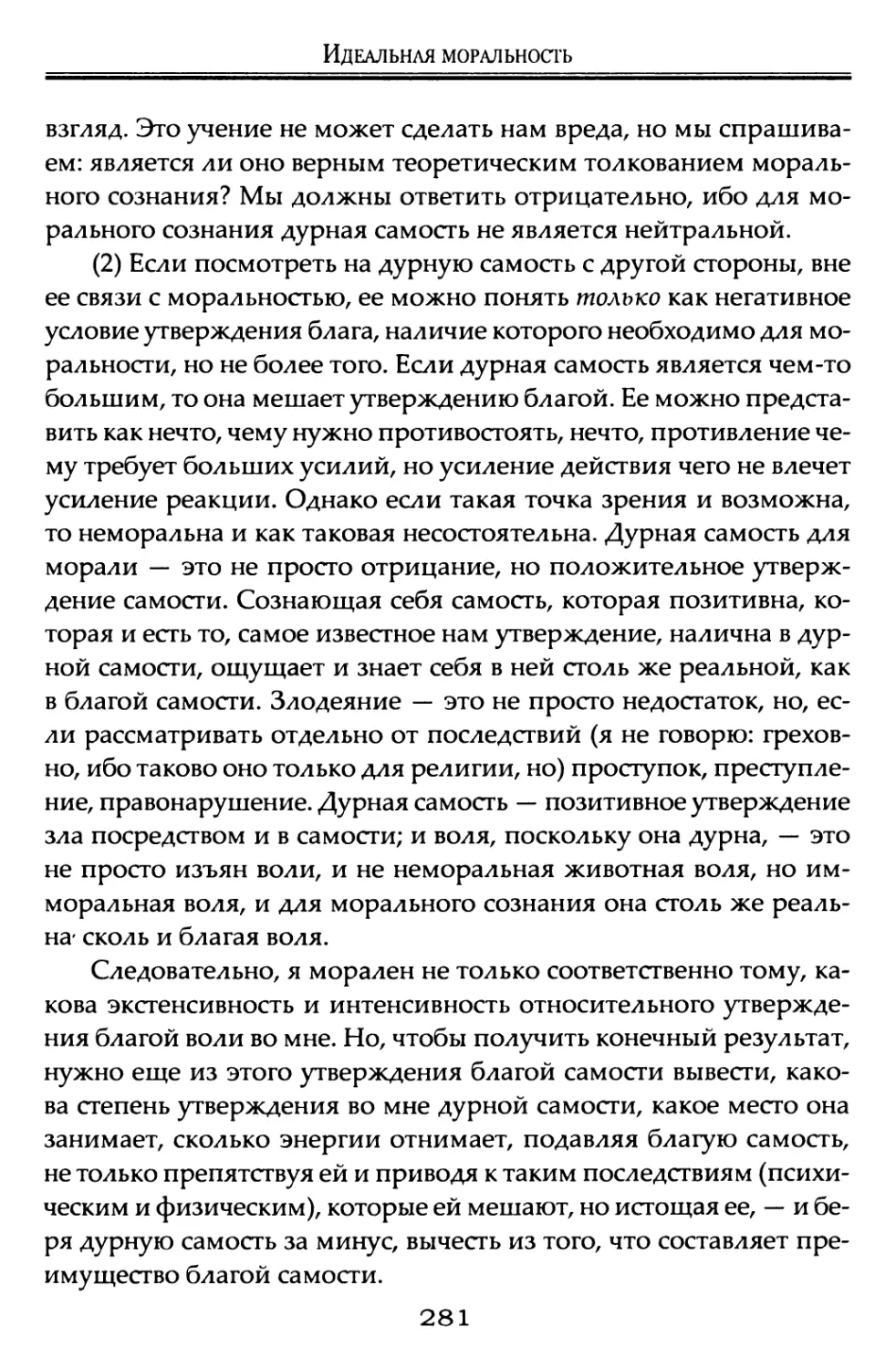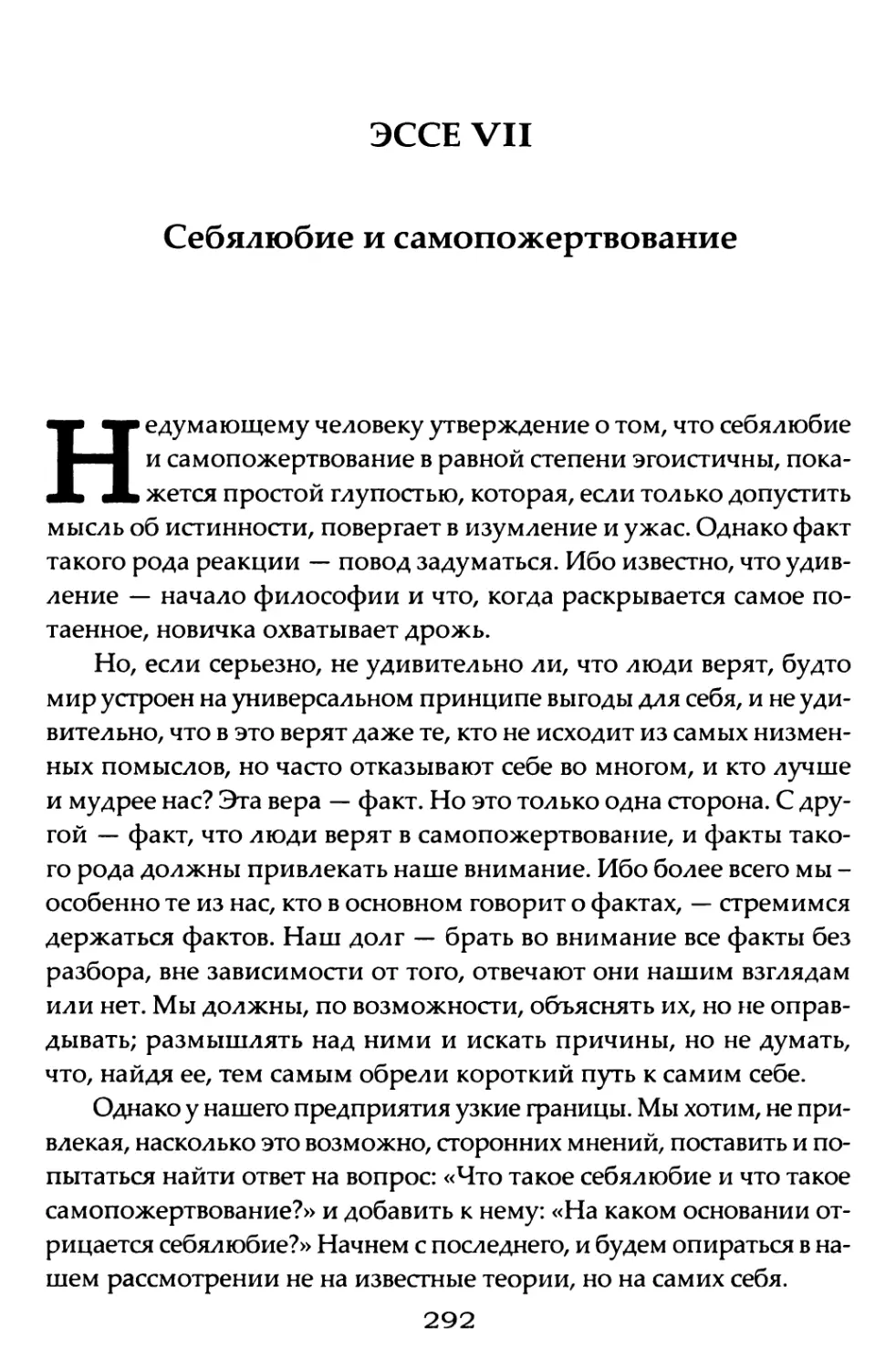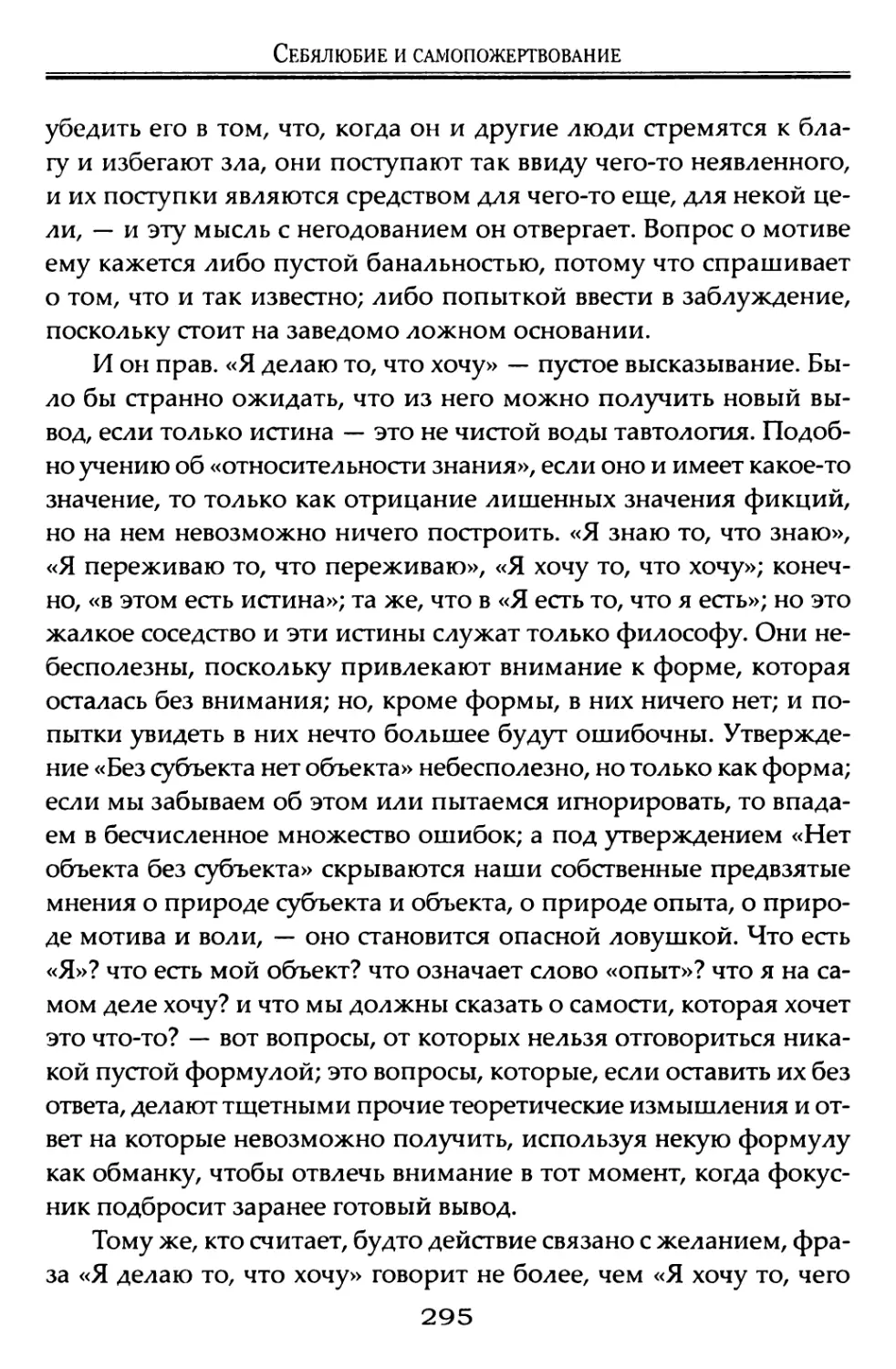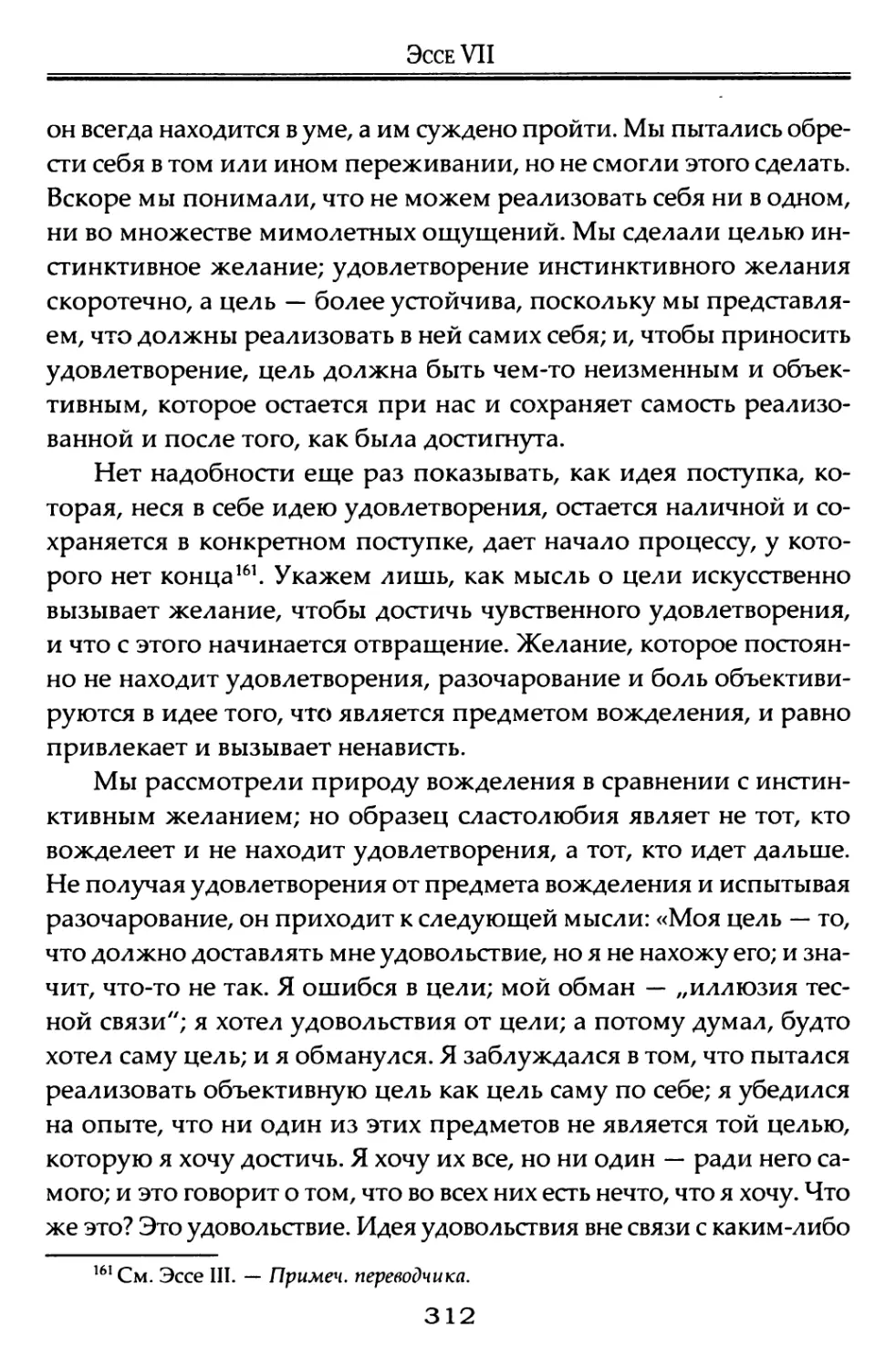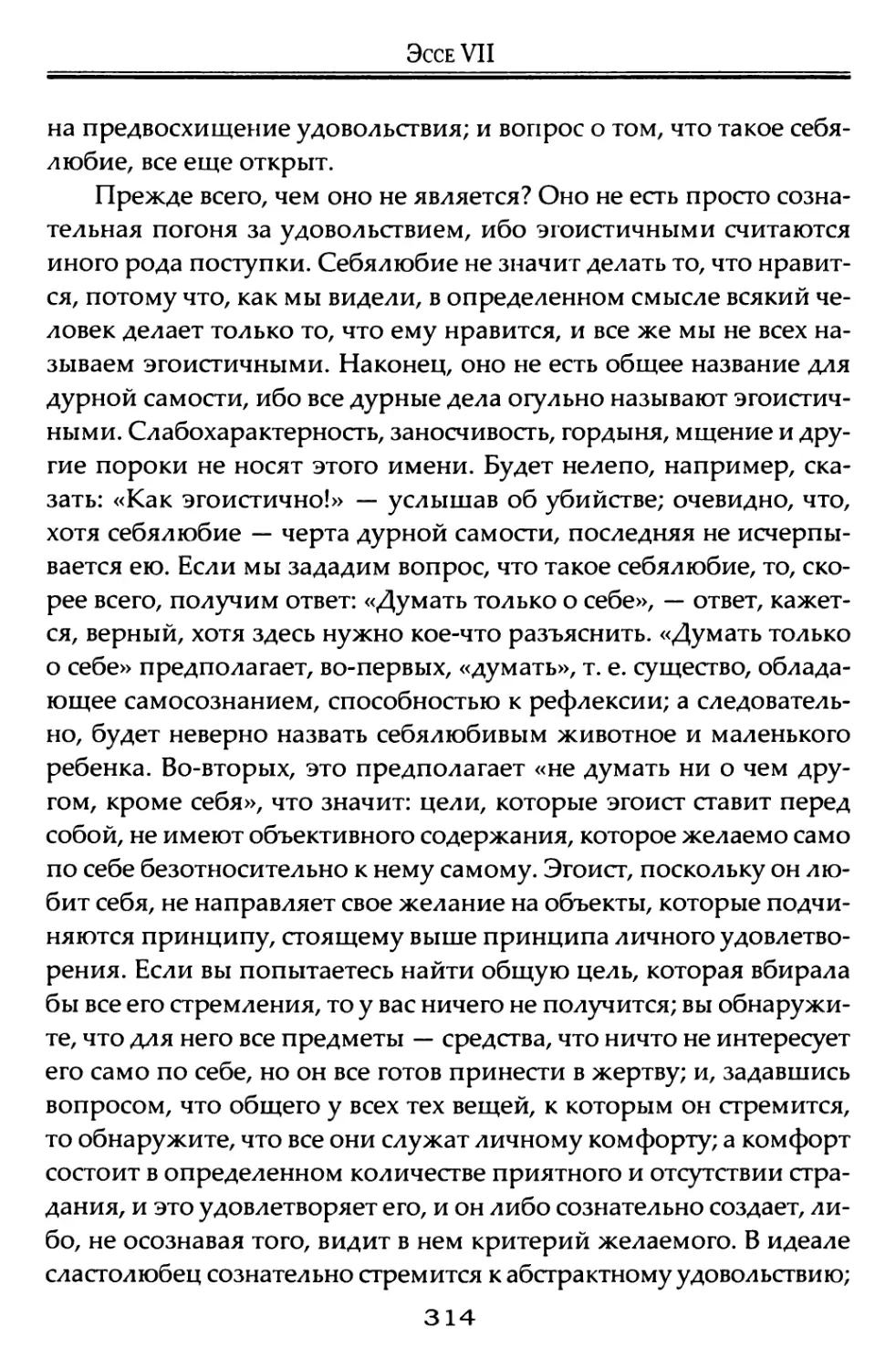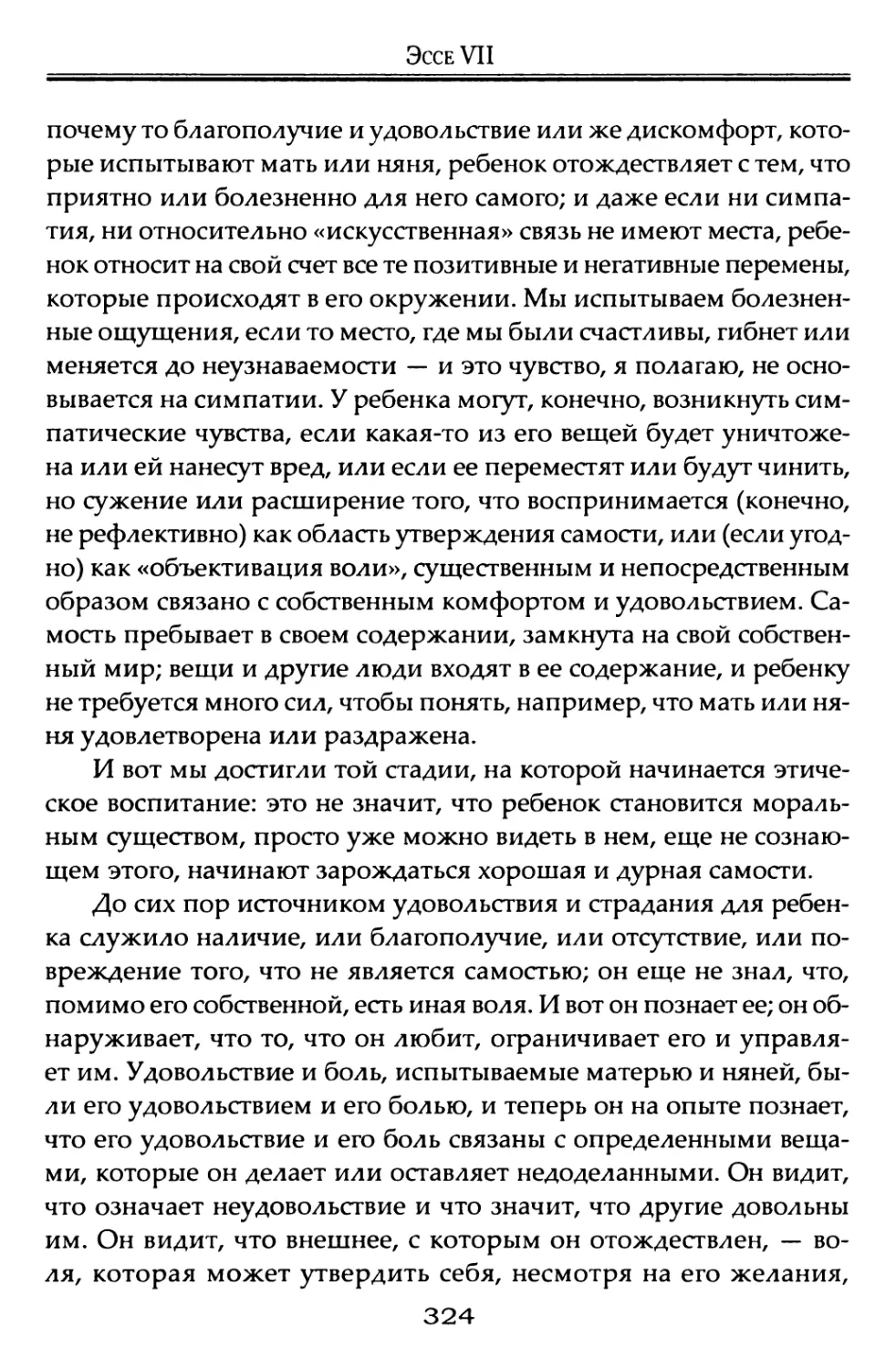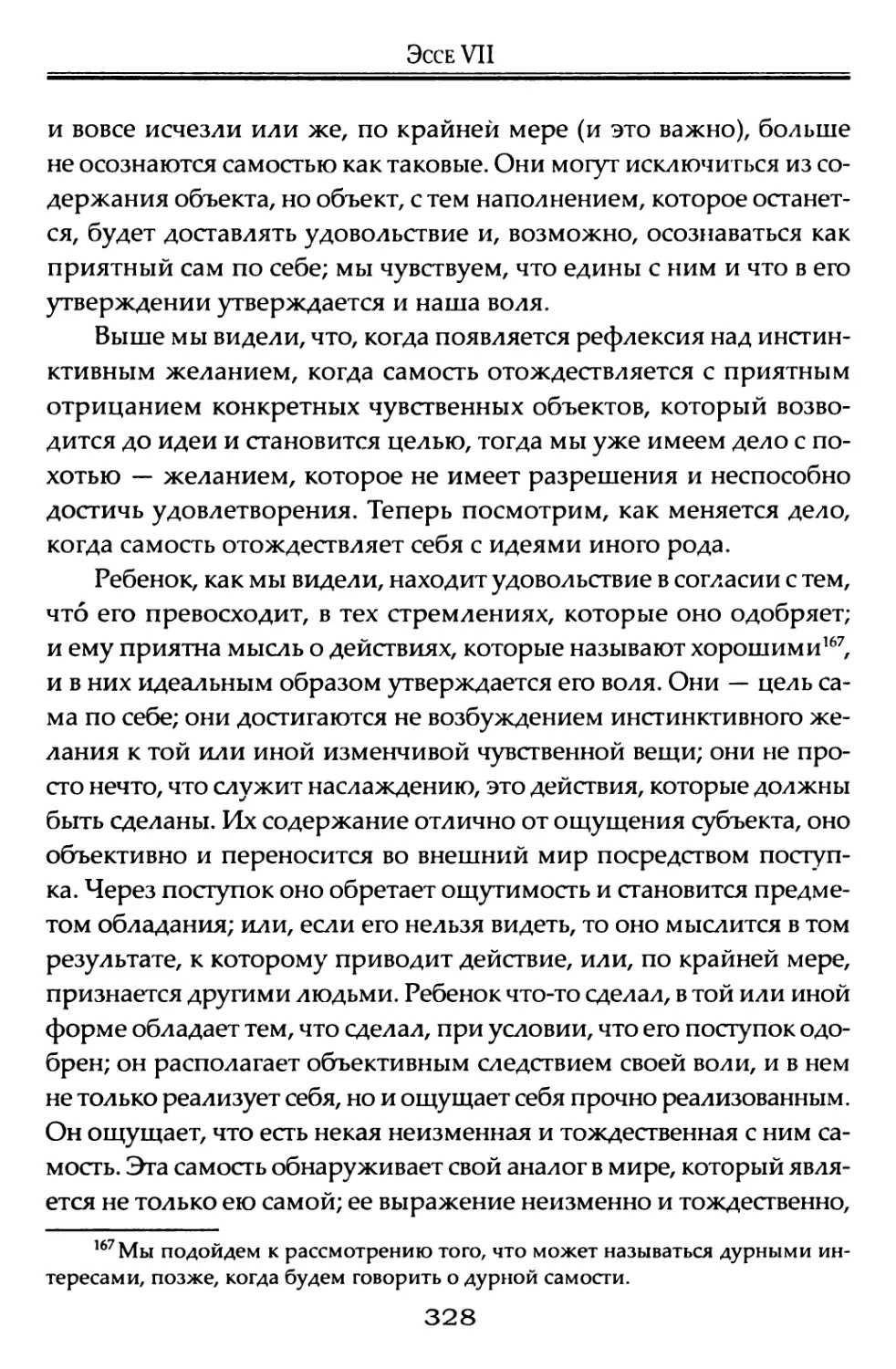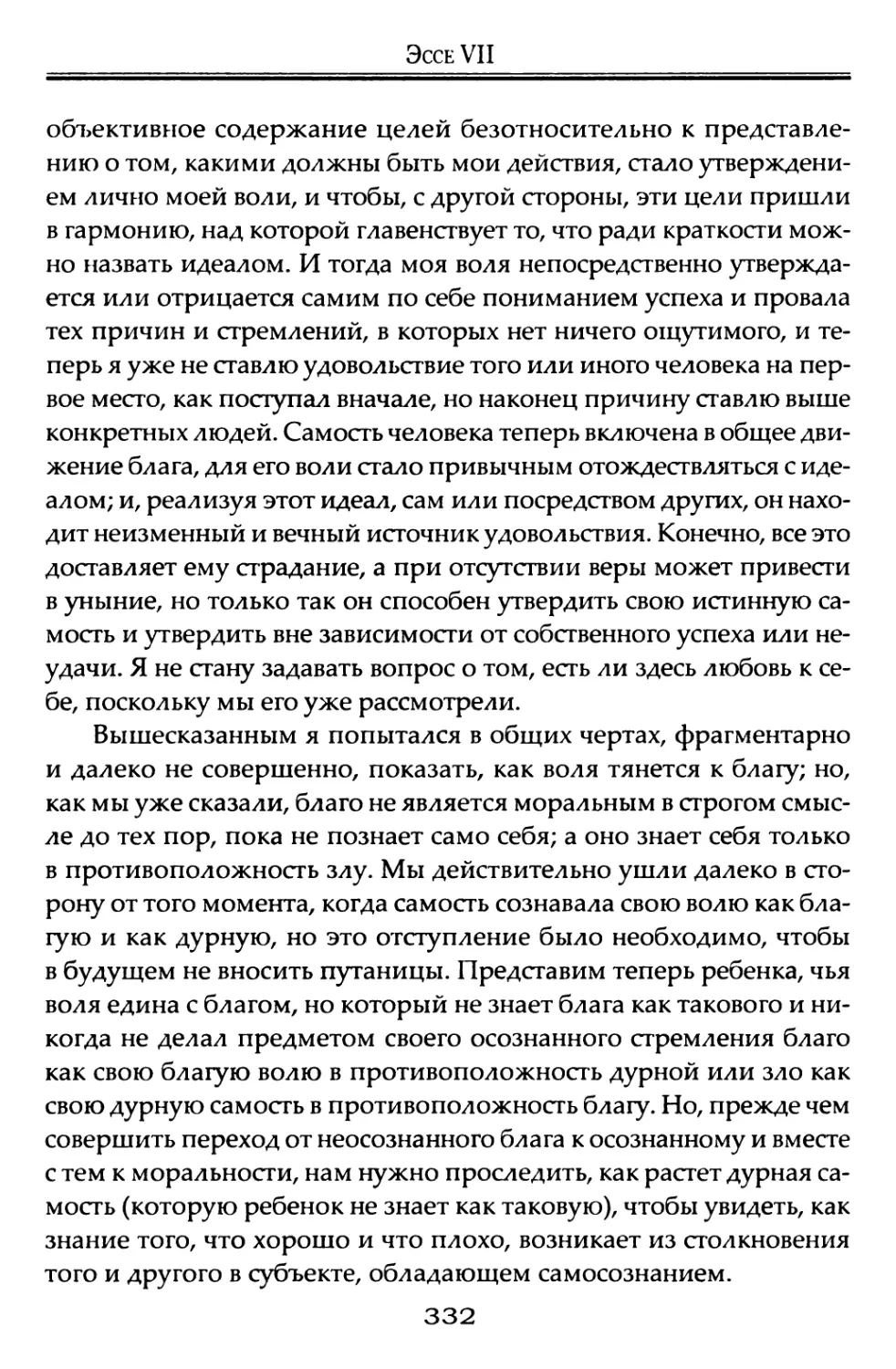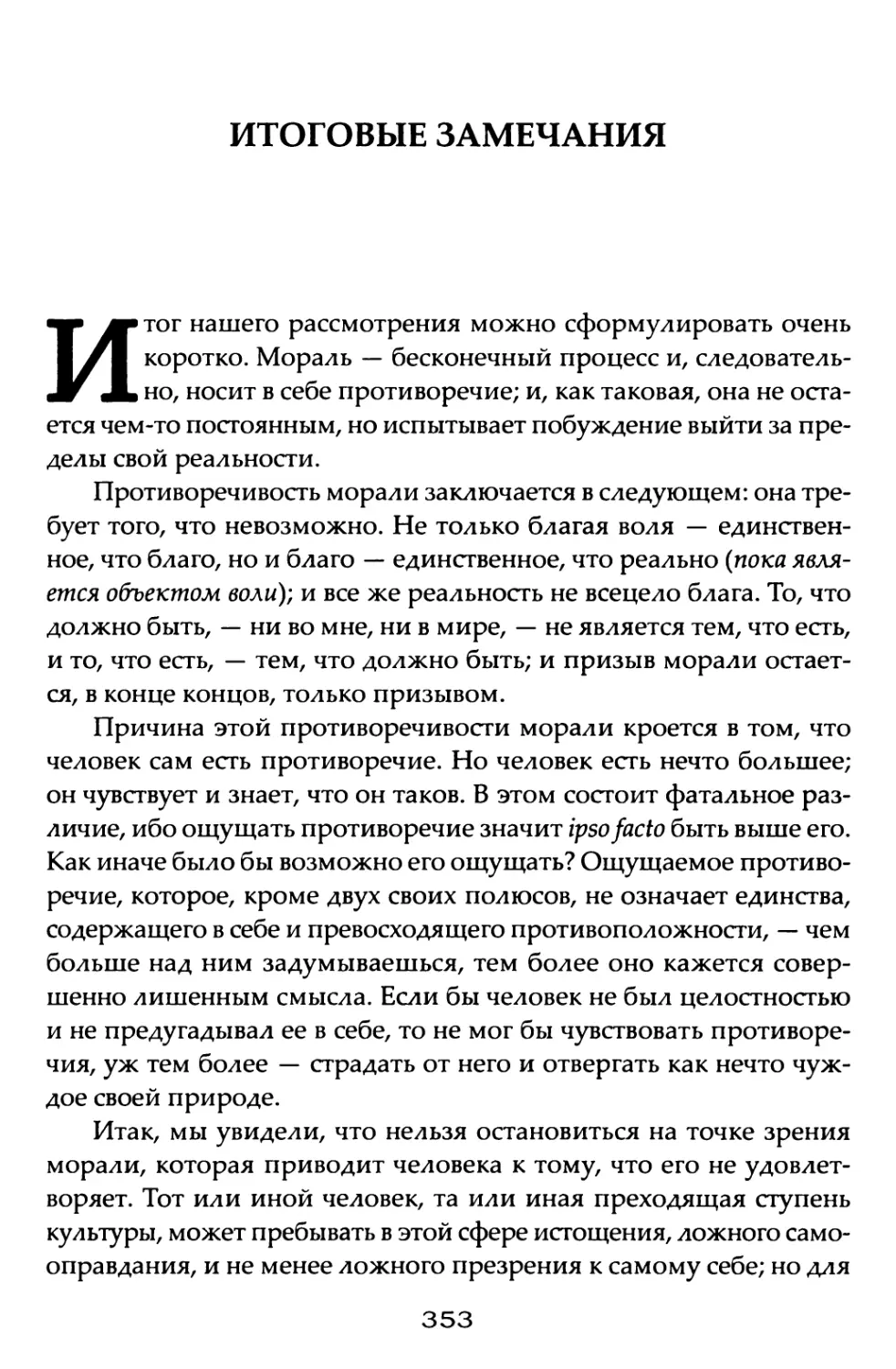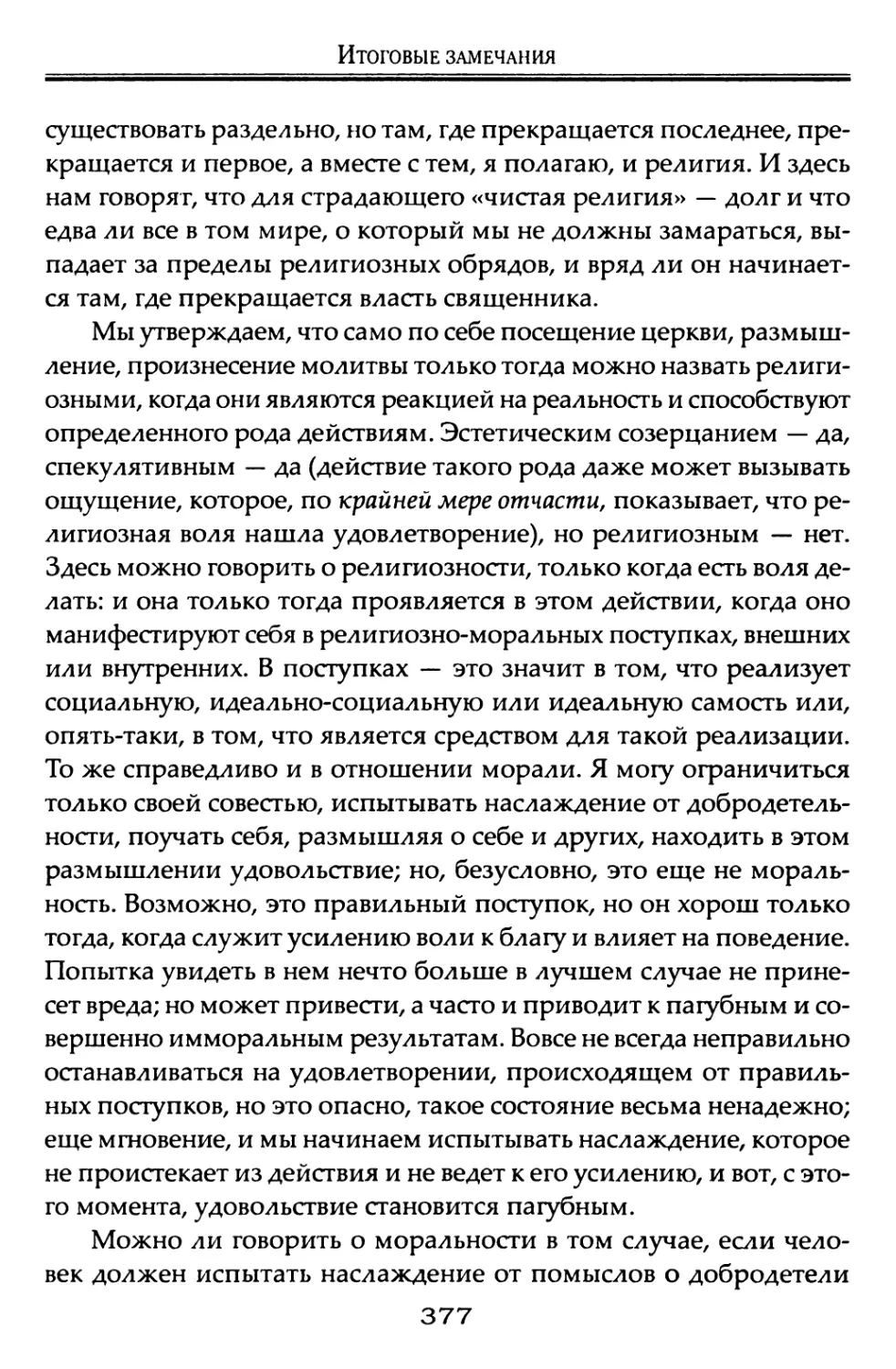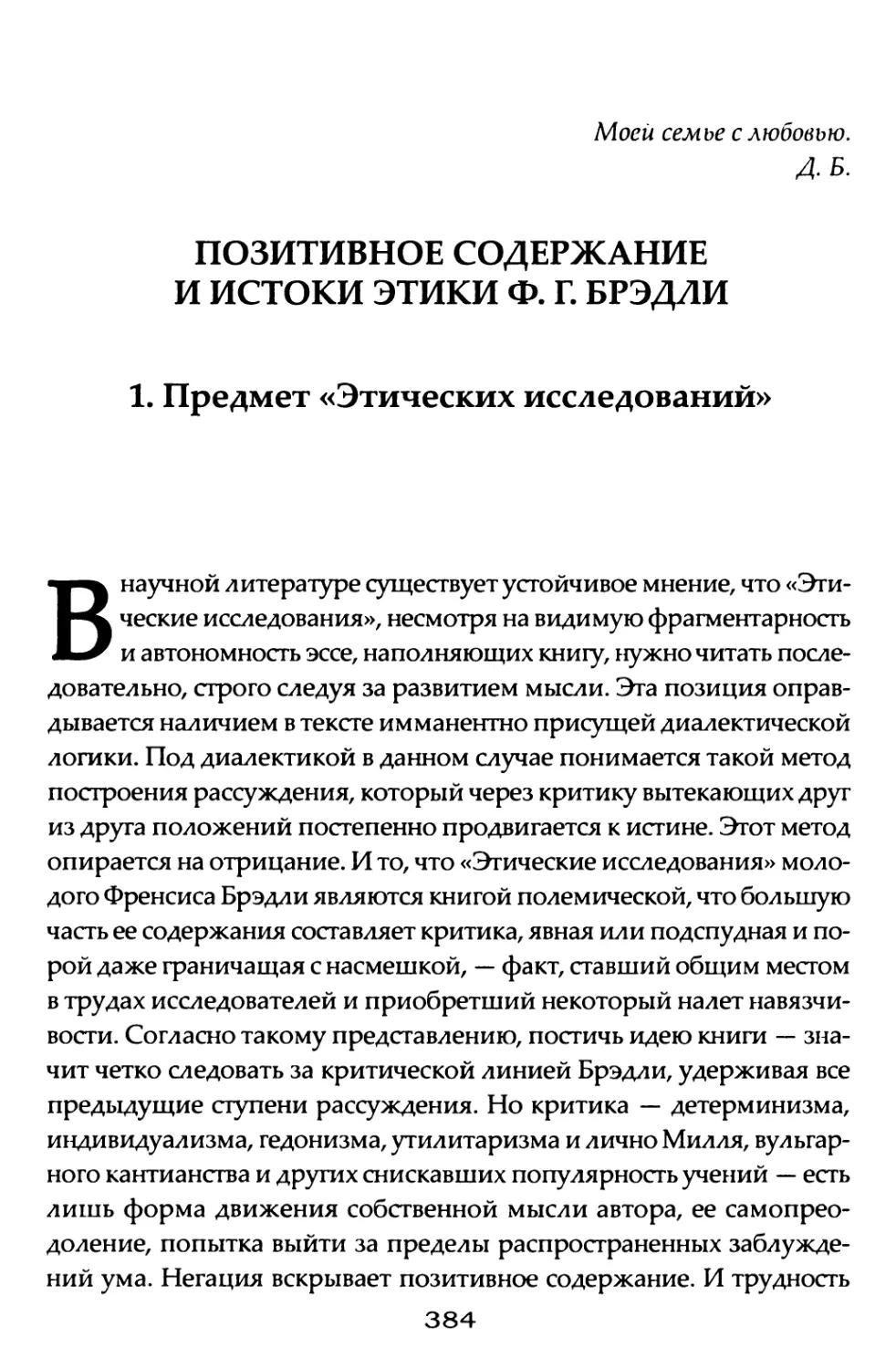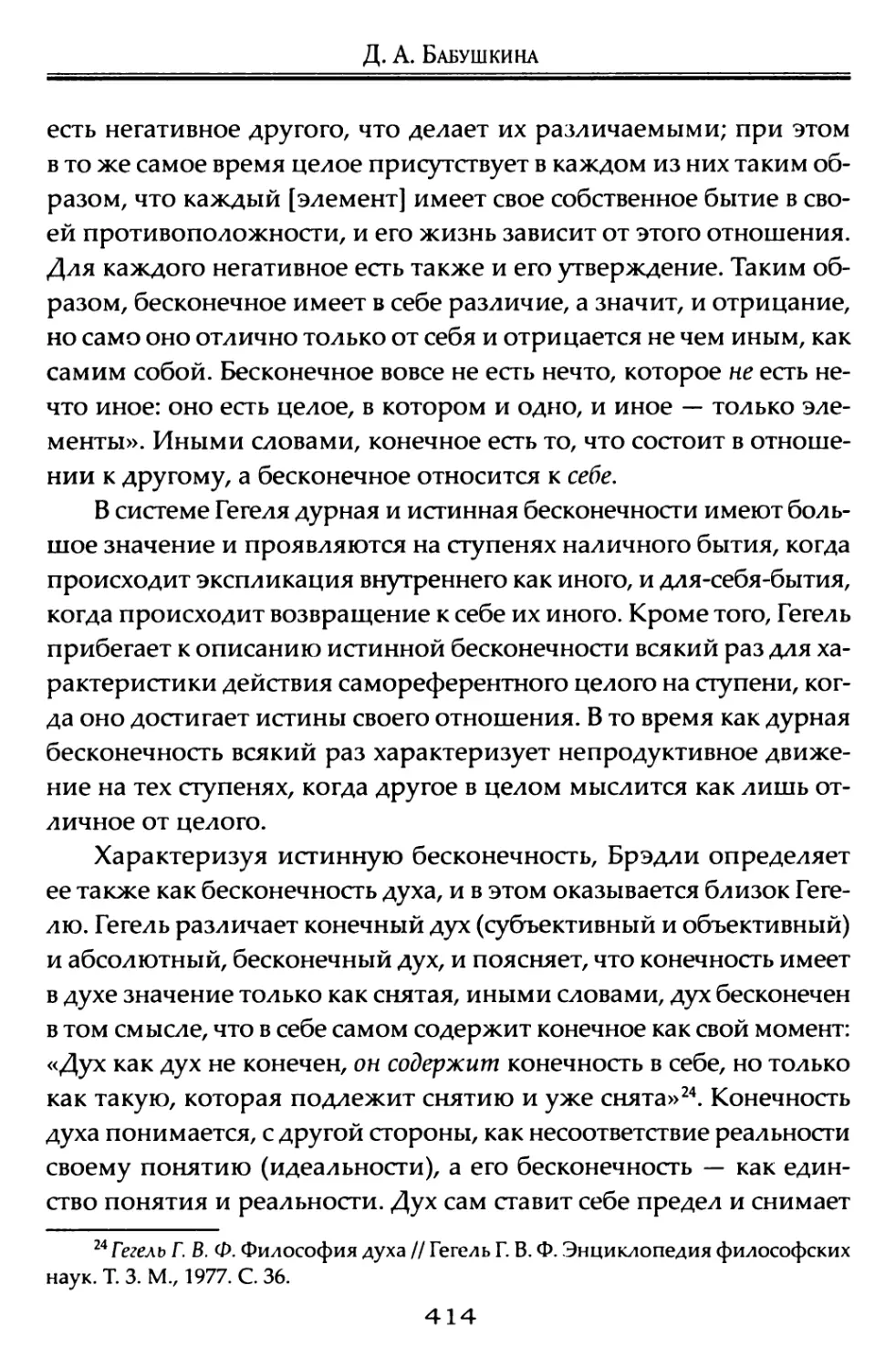Автор: Брэдли Ф.Г.
Теги: этика история философии политология гегельянство английская философия
ISBN: 978-5-88812-404-8
Год: 2010
Текст
Φ. Γ. БРЭДЛИ
ЭТИЧЕСКИЕ I
ИССЛЕПОВАНИ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Ф. Г. БРЭДЛИ
ЭТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
2010
ББК 87.7
Б87
Печатается по постановлению
Редакционно-издателъского совета
Русской христианской гуманитарной академии
Брэдли Ф. Г.
Б87 Этические исследования / Пер. с англ. Д. Бабушкиной. — Изд-во
Русской христианской гуманитарной академии, 2010. — 421 с. — (Серия
«Начала»).
ISBN 978-5-88812-404-8
Фрэнсис Герберт Брэдли — лидер движения абсолютного идеализма
в Англии начала XX в., оказавший большое влияние на последующее
развитие философии. «Этические исследования», ядро которых составляет
учение о самореализации, наиболее ярко характеризуют неогегельянские
тенденции Брэдли. Настоящее издание представляет собой первый
перевод трудов Брэдли на русский язык. Перевод сопровождают две статьи,
определяющие историческое и научное значение «Этических
исследований» и раскрывающие для читателя оригинальную этическую позицию
философа.
Книга представляет интерес для специалистов-философов и читателей,
интересующихся историей философии, этикой, политологией.
ББК 87.7
Перевод выполнен по изданию:
Bradley F.H. Ethical Studies. II ed. London, 1962
ISBN 978-5-88812-404-8
© Д. А. Бабушкина — перевод,
послесловие, 2010
© Издательство Русской
христианской гуманитарной академии,
2010
СОДЕРЖАНИЕ
Вступительная статья
В. Дж. Мэндер 5
Предисловие автора к первому изданию 20
Эссе I. Простонародное понятие об ответственности,
рассмотренное в связи с учениями о свободной воле
и о необходимости 22
Примечания к Эссе I 66
Примечание А. Принуждение и ответственность 66
Примечание В. Насколько характер неизменен 76
Примечание С. Свобода 82
Эссе П. Почему я должен быть морален? 86
Примечание к Эссе II 113
Эссе III. Удовольствие ради удовольствия 118
Примечание к Эссе III 160
Эссе IV. /Долг ради долга 175
Эссе V. Мое положение в обществе и связанные с ним
обязанности 195
Примечание к Эссе V. Права и обязанности 244
Эссе VI. Идеальная моральность 253
Эссе VII. Себялюбие и самопожертвование 292
Итоговые замечания 353
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
Д. А. Бабушкина 384
3
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
История моральной философии в Британии может
похвастаться многими важными работами, но ее значимость
измеряется масштабами исторического вклада в исследование
предмета, и здесь исключительная роль принадлежит «Этическим
исследованиям» Ф. Г. Брэдли (1846-1924). Другие книги в большой
мере способствовали развитию и дополнению магистральных
течений этической мысли, что же касается «Этических
исследований», то она одна смогла произвести переворот в мышлении. Эта
книга появилась в 1876 году, когда в моральной философии
Британии доминировал эволюционный натурализм (Г. Спенсер) и
гедонистический утилитаризм (Дж. Бентам, Дж. Ст. Милль) —
системы, глубоко укорененные в эмпирической традиции. Моральная
философия Брэдли произвела взрыв, ибо не была похожа ни на
одну из существовавших теорий; Брэдли удалось преодолеть
косность научной картины мира и предложить точку зрения, согласно
которой человечество — нечто большее, чем материя, движимая
инстинктом, и сделать это, не прибегая к устаревшей
религиозной концепции универсума. Его философия имела огромный
успех, и спустя чуть больше десяти лет уже была в ходу у
большинства теоретиков морали Британии, вдохновив многих на
подражание1 и дав толчок куче учебных пособий, которые, по сути,
представляли собой пересказ идей Брэдли2. «Этические
исследования» оказали влияние и на умы двадцатого века, и
убедительным доказательством значимости книги служит факт переиздания
1 Alexander S. Moral Order & Progress. 1889; Ritchie D. G. Dawinism & Politics.
1889; Mackenzie ]. S. An Introduction to Social Philosophy. 1890; McCunn J. Ethics of
citizenship. 1894.
2 Dewey ]. Outlines of A Critical Theory of Ethics. 1891; Muirhead J. H. The
Elements of Ethics. 1892; Mackenzie ]. S. A Manual of Ethics. 1893; Seth J. A Study of
Ethical Principles. 1894.
5
В. Дж. Мэндер
1928 года3. Философ Б. Бозанкет, оглядываясь на достижения
своего коллеги по Оксфорду, дал точную характеристику вкладу
Брэдли: он «создал эпоху»4.
Но — возможно, такова судьба всех текстов, вознесшихся на
вершины популярности: успеху было суждено смениться равным по
силе упадком. Двадцатый век набирал силы: к несчастью, на долю
народов выпали разрушительные войны, прозвучавшие
насмешкой над оптимистической верой в прогресс, которой исполнены
«Этические исследования»; лег гнет тоталитарных режимов,
который бросил тень подозрения на энтузиазм, с которым Брэдли
воспевает ценность государства и общества; литературность и
абстрактность «Этических исследований» поблекла на фоне
достижений современной науки, и ими, некогда бывшими
обязательным чтением, вскоре вовсе перестали интересоваться. Последние
двадцать лет отмечены возрождением интереса к «Этическим
исследованиям» Брэдли, но пока она еще остается книгой,
известной в основном только историкам философии5, и неведомой
более широкому кругу теоретиков морали.
Безмерно жаль, ибо книга Брэдли представляет огромный
интерес и может принести пользу этике, но сложившаяся вокруг нее
ситуация объяснима; следует признать, это не та книга, которую
современный читатель сможет легко понять и оценить по достоинству.
3 Много лет Брэдли отказывался от переиздания «Этических исследований».
Но в год смерти начал подготовку материалов для второго издания. Брэдли не
успел завершить начатое, и поэтому мы не можем заключить, что внес в текст все
изменения, которые хотел. Те же поправки, которые были добавлены ко
второму изданию 1928 года, нельзя считать ни особенно серьезными, ни
многочисленными. Они касаются главным образом психологических вопросов (размышление
о том, сколь большое значение психология стала иметь для его образа мысли).
Все ссылки, сделаны мной в тексте, — на второе издание.
4 Bosanquet В. Life and Philosophy // Contemporary British Philosophy (1st series),
ed. J. H. Muirhead, London: George Allen & Unwin, 1924. P. 58. Конечно, Брэдли не
был одинок, были еще Г. X. Грин и Эд. Кэрд, но он первым опубликовал свои
мысли, — и это имеет решающее значение. Вот почему эти учения связываются
главным образом с его именем.
5 См.: Manser A.f Stock G. (eds). The Philosophy of F. H. Bradley. Oxford
University Press, 1986.
6
Вступительная статья
Отчасти трудность вызывает сам стиль изложения. Многие из идей
и терминов Брэдли непонятны и чужды, он часто прибегает к
сложным аргументам, а цели, которые преследует — и даже подчас
выводы, — нередко остаются неявными. Более того, книга в высшей
степени полемичная, и, хотя это придает произведению
остроту и живость (поэт Т. С. Элиот был большим ее поклонником),
в то же время часто затрудняет понимание; слишком часто
Брэдли, в ущерб действительно необходимому обоснованию и
разъяснению, нисходит до насмешек над оппонентом.
Еще одна большая трудность на пути понимания и оценки
«Этических исследований» заключена в том, что Брэдли зачастую не
делает ясными основания своих суждений. Он ставил себе цель написать
книгу только о моральной философии, не посягая на вопросы
логики, метафизики или психологии, но ему не удалось исполнить свой
замысел по той простой причине, что сам он не верил, будто можно
раз и навсегда разделить вопросы этики и более глубокие вопросы
о природе реальности. Как следствие, мы видим, что он всякий раз
затрагивает более фундаментальные темы, которые лежат в основе
его намерений и разъясняют их, но всякий раз одергивает себя или
ограничивается намеком. Многие из этих тем он рассмотрел в
более поздних работах, например учение о конкретно-универсальном
в «Принципах логики», о природе отношений — в своей «Явление
и реальность» или о статусе психологии в «Эссе об истине и
реальности»; и для того, чтобы составить полное представление о его
этической позиции, необходим обзор всей его мысли; читатель же
«Этических исследований» лишен такой возможности.
Третье препятствие на пути понимания лежит в
«интеллектуальной родословной» книги. Она многим обязана Аристотелю,
но что делало ее поистине радикальной в период первой
публикации — обращение к Гегелю. Под влиянием Брэдли гегелевская
манера мышления на какое-то время ворвалась в мейнстрим
британской философской мысли, но это время далеко в прошлом, и сегодня
такие понятия, как конкретно-универсальное (без которого
трудно постигнуть идею самореализации) или Sittlichkeit (без которого
трудно постигнуть учение о «моем положении и связанных с ним
7
В. Дж. Мэндер
обязанностях»), скорее мешают пониманию, чем способствуют ему.
Но не стоит преувеличивать ни влияние Гегеля, ни трудность
понимания размышлений Брэдли в области морали, и есть
надежда, что нижеследующий обзор и разъяснения послужат читателю
проводником к сути этой книги.
Брэдли начинает с того, что в Предисловии говорит: те
несколько эссе, из которых состоит книга, «так сильно связаны между
собой, что по большей части их следует читать в том порядке, в
каком они расположены» (VIII)6. Это важно. Конечно, книгу нужно
читать от начала до конца, а не вырывая отдельные главы из
контекста, поскольку она представляет собой развитие аргументации
и более ранние эссе готовят почву для тех, что следуют за ними,
а последующие дополняют или разъясняют предыдущие. Это
своего рода диалектика, поскольку многое в книге носит временный
характер и утверждается только с одной целью — чтобы потом
претерпеть изменение. Предисловие также предупреждает нас о том,
что книга «в основном критическая» (VIII), в большей мере
озадаченная тем, чтобы подорвать основы неверных представлений и
заложить фундамент истинных. В этом есть своя правда, и книга
преуспела в деле разгрома современных ей вражеских философий, но,
конечно, она не сводится только к критике. В «Принципах логики»
Брэдли утверждает, что критиковать можно только с позитивных
оснований, что, конечно, справедливо и в случае «Этических
исследований», позитивное основание которых нетрудно вычленить.
Книгу открывает рассмотрение учений о доброй воле и
необходимости. Брэдли пытается ухватить обыденный смысл или
«бытующее в народе» понятие ответственности — чтобы человек был
ответственен за поступок, это должен быть тот самый поступок,
который совершил именно этот человек; он должен проистекать
из его воли без принуждения, и человек, решившись на него,
должен был понимать ситуацию (особенно в аспекте морали); мы не
несем ответственности, когда не понимаем, что творим. Но это
6 Страницы указаны по изданию: Bradley F. H. Ethical Studies. II ed.
London, 1962.
8
Вступительная статья
условие ускользает от тех, кто пытается объяснить
ответственность, будь они сторонниками или противниками детерминизма.
Отрицающий детерминизм, говоря о том, что определенные
действия могут вообще не быть вовлечены в причинно-следственную
связь, сводит свободу к случайности, непредсказуемой и
необъяснимой случайности, которая далеко не служит свободе, а,
напротив, «упраздняет самую ее возможность» (12). Детерминизм,
кроме того, представляя все в виде последовательностей состояний,
связанных причиной, изобличает себя в толковании ума как всего
лишь собрания ощущений, связанных необходимыми законами
ассоциации, при которых вера в неизменные объекты — фикция
ума и, как следствие, «сам ум есть фикция ума» (38). Другими
словами, он теряет из виду предпосылку постоянства агента, без
которой ответственность — бессмыслица. Этим обсуждением мы
обозначили примечательную особенность книги, а именно то огромное
уважение, которое она питает к суждению повседневной морали.
Философия не обнаруживает и не утверждает, но только понимает
обыденную мораль. «Всякая философия должна, — говорит Брэд-
ли, — толковать то, что есть, а моральная философия должна
толковать существующие нравы, а не изобретать и не направлять их»
(193). Позже, когда мысль Брэдли вышла из моды, его философия
снискала репутацию абстрактной и абсурдной; двадцатый век,
казалось, преодолел промахи науки и обыденного сознания, но мы
видим, что отношение к Брэдли остается несправедливым.
Однако и обратное неверно: Брэдли не был рабом повседневной
мысли; уважение к здравому смыслу не подразумевает
некритического отношения, и он говорит о том, что нужна такая «философия,
которая думает то, что народ полагает» (41). И с этой точки зрения
вся его книга — попытка выстроить такую философию.
После вводных слов идет рассуждение, посвященное
вопросу: «Почему я должен быть морален?», который Брэдли
отвергает на том основании, что в морали, которая очевидно утверждает
некую ценную саму по себе цель, этот вопрос бессмыслен: ведь,
если человек стремится совершить поступок ради некой
внеположной цели, его действие не имеет никакого отношения к морали.
9
В. Дж. Мэндер
Иными словами, категорический императив, директива,
налагаемая на всех без разбора, в морали невозможны. Если человек стоит
на позициях абсолютного скептицизма, если он не признает
никаких внутренних ценностей, но поступает так, как вздумается, даже
не будучи последовательным, — тогда и говорить не о чем.
Таким образом, невозможно доказать, что есть нечто само по
себе благое. Можно только предполагать, что оно есть и задаваться
вопросом, чем оно могло бы быть. Конечно, эта тема не на одно
предложение, а для целой книги — но Брэдли полагает, что достойно
начать рассуждение с «наиболее широкого выражения» этой цели
(64). Термин, который предлагает Брэдли для выражения цели
всякого поступка, самореализация, весьма широк. Фундаментальный
вопрос этики — не Какого рода поступки я должен совершать? но Каким
человеком я должен быть? В этом свете то, что предлагает Брэдли,
можно толковать как своего рода этику добродетели. Он не
предлагает обосновать удобность этой «формулы» (65), отчасти потому,
что обоснование требует завершенной метафизической системы,
но отчасти также потому, что она, в общем-то, всего лишь пустая
схема, нечто, что нужно наполнить и правильно истолковать в
последующих эссе. Но, если нельзя обосновать, можно растолковать.
Признание эгоистической психологической теории о том, что люди
стремятся исключительно к собственному удовлетворению,
немедленно влечет вывод о том, что наши действия направлены на
самореализацию. Брэдли отвергает это, хотя сам до определенной
степени придерживается мнения, что человек стремится только к тому,
чего желает, и что некоторым образом всякое действие есть
реализация его самости; с желанием связывается представление об
определенном состоянии, и его реализация также становится реализацией
самости. Однако Брэдли идет дальше: то, что мы стремимся
реализовать, — это не просто состояние самости, но скорее самость как
целое. Ибо самость — нечто большее, чем сумма частей. Он
предлагает понимать ее как «некое конкретное целое, которое мы
можем реализовать в своих действиях и осуществить в течение жизни»
(95) как нечто, что обладает устойчивой всеобъемлющей
структурой, а не просто содержит в себе случайные ряды несвязанных друг
10
Вступительная статья
с другом отдельных элементов. Вести благой образ жизни — не значит
добиваться наилучшего результата в конкретный момент, не
значит поступать подобно игроку на бирже, которому как-то удается
скупать акции, когда они растут в цене, и продавать их до того, как
они начнут падать, или подобно политику, которому удается менять
взгляды в унисон с общественным мнением, или подобно стиляге,
которому как-то удается всякий раз идти в ногу с модными
тенденциями. Нет, благая жизнь — это жизнь, благая как целое; она
рождается в единстве виденья, это жизнь, которая манифестирует одну
цель и всеобщую связанность — несмотря на превратности судьбы.
Это цельность жизни. Более того, говорит Брэдли, в течение жизни
мы реализуем себя как то, что он называет, «бесконечным целым»
(74). Бесконечность Брэдли понимает не в математическом смысле
отсутствия конца, но в гегелевском смысле самодостаточности;
конечное — то, что определено извне, бесконечное — определено
изнутри. Если учитывать это, то требование быть бесконечной,
которое Брэдли предъявляет к моральной жизни человека, очевидно,
коррелирует скорее с кантовским требованием автономности, чем
гетерогенности. Закономерен вопрос: как возможно человеку,
конечному существу, которое не может избежать воздействия извне,
стать такого рода бесконечным целым. Брэдли так отвечает на этот
вопрос: «Целым можно стать, только войдя в него» (79). Иными
словами, только став неотъемлемой частью целого, только полностью
отождествившись с ним, человек может насладиться такими
вещами, как автономия существования. Стоит обратить внимание на то,
что на этой ступени понятие «самореализации» все еще совершенно
формально — человек, ведущий имморальный образ жизни, в той
же мере реализует себя, как и добродетельный, — а потому «вопрос
стоит о том, чтобы найти то истинное целое, реализуя которое воля
с точки зрения морали на самом деле реализует истинную самость»
(69). И именно этот вопрос интересует Брэдли, когда он
рассматривает два классических подхода в этике, каждый из которых можно
представить как способ наполнить содержанием эту пустую
формулу: гедонизм или учение об «удовольствии ради удовольствия»
и концепцию Канта или учение «о долге ради долга».
11
В. Дж. Мэндер
Начнем с того, в чем гедонизм не согласуется с обыденными
моральными представлениями: «если и существует такое нечто,
которое почти большинством голосов люди всего мира, всех
возрастов, национальностей и типов, согласны объявить не счастьем, так
это — удовольствие и его поиск» (86-87). Теоретические
построения гедонизма также не некорректны. С точки зрения Брэдли,
фундаментальная проблема гедонизма в том, что он не дает
человеку незыблемой цели для реализации в течение жизни. Гедонизм
представляет удовольствие состоянием ума, и рассматривает его
вне связи с тем, что доставляет удовольствие, а потому
ограничивается рассмотрением только субъективных и преходящих
ощущений, и сводит благую жизнь к последовательности такого рода
«исчезающих конкретных состояний» (96). Эфемерно и глупо
говорить о всеобъемлющем и наивысшем удовольствии, поскольку
такого рода последовательность не имеет конца, а потому
удовольствия нельзя суммировать. Таковы трудности эгоистического
гедонизма, но очевидно, что «современному утилитаризму», который
стремится не к удовольствию одного человека, но всех людей,
также не удастся их избежать. Ведь если один человек не может
достичь наивысшего счастья, то идея о том, что можно суммировать
счастья многих, — не более чем «дикая и невозможная фантазия»
(103). Брэдли также отрицает применимость принципов
гедонизма. Дж. Ст. Милль стал бы убеждать нас в том, что из правил или
нравственных принципов складывается общее всем знание о том,
что доставляет удовольствие, своего рода «Моральный альманах»
(105), но всегда остается возможность того, что, следуя этим
правилам, человек не достигнет наивысшего счастья. В таком случае,
если мы следуем правилу, то оно не приводит к обещанной цели,
но, если мы можем нарушить правило, то в нем вообще нет
надобности. Выпады Брэдли в сторону гедонизма, как и его
разоблачения Милля и Сиджвига, снискали заслуженную известность.
Развивая свою мысль, Брэдли утверждает, что кантианство
ни на шаг не ближе здравому смыслу, чем гедонизм, поскольку
настаивает на том, что закон не допускает исключений, а обыденная
мораль совершенно с этим не согласна. Нет абсолютно
12
Вступительная статья
универсальных принципов морального поступка, поскольку
законы неизбежно конфликтуют и нет такого правила, которое в
определенных обстоятельствах нельзя было бы нарушить. Кантианство
не избавлено и от теоретического недостатка. Слабость этого
учения лежит в исключительно абстрактном и формальном
характере понятий, которые оно использует. Ибо поступок не может быть
просто осуществлением абстрактного принципа долга, и воление
не может не быть волением чего-то конкретного, но это учение
не предусматривает перехода от простой формы долга к
конкретным обязанностям, или — что то же самое — невозможно доказать,
что какой-либо поступок согласуется с такого рода абстрактным
принципом. Коротко говоря, оно учит нас делать правильные
вещи ради правильных вещей, но ничего не говорит о том, что есть
эти правильные вещи.
Гедонизм оказался слишком конкретным, кантианство
слишком универсальным. Оба заблуждения, считает Брэдли,
коренятся в неверно проведенной абстракции: в одном случае
удовольствия — от приятного действия, и в другом — общей формы
долга — от личных обязанностей. Нужно найти срединный путь
между эти двумя крайностями, сочетание универсального и
конкретного, согласие, которое в то же время удерживало бы
особенность каждого. И достичь этого удается учению, которое Брэдли
и излагает в следующей главе под названием «Мое положение в
обществе и связанные с ним обязанности».
Прогресс налицо, поскольку, как мы убедились,
рассмотренные до этого теории, особенно гедонизм (хотя и кантианство также
до определенной степени), оперируют неверными
представлениями об индивидуальности. Они полагают, что индивиды —
атомы, из которых можно составить агрегат. Но это не так. Ибо
человек — социальное создание. Он живет не один, скажем, как
полярный медведь, но в сообществе. Более того, быть включенным
в сообщество других людей существенно важно для него.
Несмотря на то что реально существующие формы ассоциации
основаны на договоре, что свидетельствует о различии людей, у нас есть
серьезное основание утверждать, что для человека естественно
13
В. Дж. Мэндер
и необходимо жить в обществе. Доказать истинность этого
утверждения можно многими способами. Начать хотя бы с самого
момента рождения. Новорожденный, говорит Брэдли, — не чистый
лист, но приходит в мир, уже наделенный родительскими,
национальными и расовыми особенностями и характеристиками
биологического вида; и хотя второе сегодня кажется спорным, с
первым и третьим приходится согласиться. Во врожденном характере
человека много черт, которые он делит со своей семьей и видом,
от которых их унаследовал. Но то, что природа только заложила,
усугубляет воспитание, поскольку с момента рождения ребенок
воспитывается в сообществе и социализируется в нем. Вся наша
жизнь — непрерывный процесс обучения, который неизбежно
глубоко формирует нас; кто из нас столь мудр и упрям, чтобы устоять
перед таким давлением? — спрашивает Брэдли. Какие из наших
мнений и отношений мы сформировали сами, без сторонней
помощи? Практически всё, что мы думаем или чувствуем, внушается
нам обществом. Брэдли особенно акцентирует внимание на языке,
поскольку язык куда менее гибок, чем воображение. Он
формирует все наши мысли, влияет на характер и в то же время несет в
себе идеи и чувствования, распространенные в обществе. Взять хотя
бы то влияние, какое библейский язык оказал на западную
цивилизацию. Но социальная природа личности не ограничивается
образованием. Личность человека, достигшего зрелости и
добившегося определенного положения, утверждает Брэдли, во многом
определена тем положением и той ролью, которые ему отведены
в обществе. Положим, некто работает в офисе и воспитывает
детей, и всё, что он делает в течение дня, с долей вероятности
можно расписать соответственно этим двум его характеристикам.
Человек может думать, что это он творит свое положение, но на деле
все наоборот, и как раз то положение, которое мы занимаем,
творит нас. И столь же сильно, как наше положение характеризует
нас, мы определяемся отношениями с другими. Личность
человека формируют социальные отношения. Человек определяет себя,
становится тем, кто он есть, через взаимные отношения с другими.
К чему все это? Брэдли хочет сказать: то, что только индивидуально,
14
Вступительная статья
то единство, из которого Милль надеялся построить общество, —
несущее, «вымысел» (168). Индивид вне общества — «абстракция»,
которая не имеет ничего общего с реальностью (173). Идею
общества, составленного из разрозненных единиц, Брэдли отвергает,
поскольку считает «небылицей» (174). Даже супружество, говорит он,
союз, который кажется таким понятным и простым, на самом
деле не является сочетанием отдельных элементов; брак
формирует единство из двух отдельных членов, но и они оказывают на него
влияние. Общество подобно организму. Индивид — это не просто
атом; его можно понять только через принадлежность обществу.
Много раз Брэдли дает понять, что человеческое сообщество
подобно муравейнику; что взятые сами по себе, вне связи с
сообществом, мы существа недостаточные.
Это, по сути метафизическое, истолкование самости и
общества имеет и этическое значение. Человек социален, а потому
счастье человека также социально. Он черпает его в том положении,
которое занимает в обществе, и из исполнения тех обязанностей,
которые на него наложены: « Что ему (человеку) нужно делать,
зависит от того, какое место он занимает, каковы его функции, и все
это определяется тем, какое положение он занимает в социальном
организме» (173). Быть моральным значит быть хорошим членом
общества, исправно исполняя те обязанности, которые требует
от меня общество. Сама жизнь до некоторой степени
подтверждает это, нужно просто увидеть очевидное. Много что
доставляет радость: удовольствие, сила, творчество, знание, и даже
волнение. Но, без сомнения, одна из наибольших радостей — дружба
и общность. Но куда более, чем для этики, это истолкование
имеет значение для философии. Ведь самость, которую мы
реализуем, социальна. Тот отец счастлив, чья семья в порядке; тот
правитель счастлив, чьи подчиненные счастливы; тот учитель счастлив,
чьи студенты счастливы; тот торговец счастлив, чьи покупатели
довольны. Те чувства удовлетворения или недовольства, которые
испытывает человек по поводу своей роли в обществе,
социальны по своей природе. И эта социальная самость является
истинной самостью человека. Поскольку мы социальны, то осуществить
15
В. Дж. Мэндер
себя надлежащим образом мы можем только в обществе. И это
касается не только этики, но имеет отношение и к политической
философии. Ибо для британских идеалистов моральная и
политическая философия суть две стороны одной и той же
дисциплины. Эта глава остается locus classicus того направления мысли,
которое развивает антииндивидуалистическое видение социальной
самости.
Учение о «моем положении и связанных с ним обязанностях»,
в силу того, что служит диалектическим разрешением гедонизму
и кантианству, многие считают конечным выводом Брэдли.
Более того, получив широкое распространение, это учение
представлялось очень грубо и превращалось в лозунг: «Занять свое
место в жизни и социальной иерархии». Во избежание такого рода
заблуждения последние несколько страниц главы Брэдли
посвящает разбору ряда «очень серьезных возражений» (202) против
этой теории. Мы отбрасываем дурную самость и обретаем
истинную самость в социальном положении, но дурные привычки
могут испортить или огрубить ее настолько, что будет невозможно
занять надлежащее место, и даже самые достойные люди относят
свои заслуги только тому времени, когда всецело были
поглощены работой, которая приносила им удовлетворение. Более того,
даже успешное определение общественной роли не гарантирует
человеку полной самореализации. Ибо социальное целое, в
котором находится субъект, «может заблуждаться или быть в упадке»
(203) или требовать от него самопожертвования. Человек не
обретает моральность и в том сообществе, в котором живет. Ибо оно
претерпевает изменение в процессе истории, и как существо
разумное человек не может отказаться от возможности выйти за его
пределы, рефлектировать над ним и пытаться улучшить.
Наконец, не все содержание самости определяется обществом; есть
такие аспекты саморазвития, которые вовсе не предполагают
связи с другими. Брэдли пишет: «Содержание идеальной самости
не определяет всецело только сообществом; коротко говоря,
идеальная самость не есть просто представление об идеальном члене
общества» (205).
16
Вступительная статья
Иными словами, этическая сфера шире, чем «мое
положение в обществе и связанные с ним обязанности». Что еще входит
в нее, мы узнаем по мере того, как переходим к следующему
этапу нашего путешествия, который Брэдли определяет как
«идеальная моральность». Содержание благой самости, которую следует
реализовать, выведенное из предыдущей ступени с
сохранением истинных достоинств и коррекцией изъянов, на этом
уровне может быть представлено под тремя различными именами.
Первое и наиболее важное (в том смысле, что определяет
большую часть обязанностей) — положение в обществе и связанные
с ним обязанности, но к нему еще добавляется второй элемент,
который, хотя и является социальным, включает «притязания
человека на нечто большее, чем экспектации окружающего мира,
стремления к благу, которое не сводимо к тому, что реализуется
повсеместно» (220). Моральный идеал μηογριχ людей не выходит
за пределы того положения в обществе, которое они занимают;
но есть люди, которые способны подняться на более высокую
точку зрения, позволяющую видеть иную, лучшую общественную
мораль. Это, конечно, критики и реформаторы. Третья сфера,
дающая наполнение самости, которую следует реализовать,
касается долга, который хотя и понимается как моральный императив
вроде стремления к красоте и истине, «по своей сути не требует,
чтобы человек состоял в непосредственном отношении с
другими» (222). Хотя ни наука, ни искусство не могли бы возникнуть
вне общества и, без сомнения, служат ему, занятие и тем и
другим человек может считать целью самой по себе, без связи с
каким бы то ни было социальным организмом. Очень важно было
указать на два этих аспекта моральной системы Брэдли,
поскольку они позволяют снять с него так часто повторяемое обвинение
в консервативности и стремлении всецело подчинить или даже
свести потребности индивида к потребностям общества.
Индивиды могут и, конечно, должны, когда есть необходимость,
критиковать общество; они не пешки, они живут собственной
жизнью, которая не задается контекстом. И все равно, вне общества
индивида понять нельзя.
17
В. Дж. Мэндер
«Идеальная моральность», полагает Брэдли, хотя и
представляется наиболее приемлемым и полным объяснением морали, (это
самая удачная моральная система для личного руководства), не
более стабильна и не в меньшей степени вовлечена в диалектический
процесс, чем ее предшественницы, и должна уступить место
учению более высокого рода. Но проблема, которая выявляет ее
развитие, в определенном смысле самая глубокая из всех, что мы до сих
пор встречали, ибо ставит под вопрос понятие моральности в
целом и выводит за пределы морали. Брэдли так формулирует эту
проблему: «Не было и не может быть совершенно морального
человека; а если бы и был, то он не был бы уже моральным. Там, где
нет несовершенства, не может быть долженствования, там, где нет
долженствования, нет моральности» (234). Иными словами, смысл
моральности возникает из разрыва между тем, что есть, и тем, что
должно быть, а попытка реализовать «должное» является
попыткой подорвать это разделение — само его условие. Брэдли
предлагает радикальное решение: «Рефлексия над моралью выводит
за ее пределы. Мы приходим, коротко говоря, к необходимости
религиозной точки зрения» (314). Он говорит, что религия и
мораль направлены к одному и тому же идеалу, но если для морали
он - нечто, что должно быть, но не есть, то для религии — не
просто нечто, которое должно быть, но то, что на самом деле есть, и это
позволяет религии завершить диалектический процесс, который
в морали только начался.
Тема «Этических исследований» столь важна, что ни один
мыслящий человек не может пройти мимо нее. Особое внимание
привлекает едва уловимое обоюдонаправленное отношение общества
и индивида. Книга говорит о том, что человек находит себя не в
противопоставлении к другому, а скорее в другом. Важный урок,
который должно вынести из нее всякое общество, склонное к неравно-
сти и разобщенности, состоит в том, что нельзя допускать, чтобы
общество шло своим путем; что ни один человек не может
настолько отделиться от общества, чтобы его судьба не была связана с
судьбами других, и что общество не может достичь благосостояния,
оставив в стороне кого-либо из своих членов. Слова Брэдли служат
18
Вступительная статья
напоминанием о том, что, хотя цель нашей жизни имеет
социальную природу, а соседи и соотечественники довольствуются
ощущением причастности и сознанием общих целей, сама наша
рациональность призывает нас время от времени преодолев чувство
стадности, подгонять общество к тому, чтобы действовать лучше
и стремиться достичь состояния более высокого, чем настоящее.
Благо человека неотделимо от блага общества, в котором он
пребывает, но общество не может навязать его человеку.
Истинная ценность идеи измеряется способностью
разжигать сердца людей разных времен, эпох и мест. Такова судьба идей
Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля. Равно как сила гегелевской
мысли проявилась в способности говорить с англичанами (и, без
сомнения, начать целое направление в философии) спустя много
времени после того, как увяли ее посевы на родной почве; равно
можно надеяться, что сила идей Брэдли проявит себя в
способности говорить с русскими в двадцать первом веке.
В. Дж. Мэндер
Харрис Мэнчестер Колледж, Оксфорд, январь 2007
Написано специально по случаю первой
публикации трудов Ф. Г. Брэдли на русском языке.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Книга не ставит себе целью построить систему моральной
философии. Далека она и от претензии на всеохватывающее
и систематическое изложение вопросов этики. И сам автор
не готов дать определение тому, что такое моральная философия,
и сказать, какие вопросы входят в ее область, а какие — нет.
Автор ставит себе в основном критическую задачу. Он видит,
что этические теории в конечном счете основываются на
метафизических и психологических предубеждениях. Он полагает, что
многие из фундаментальных идей, популярных сегодня,
особенно это касается Англии, путаны или даже ложны; и он взял на
себя смелость, исправив некоторые их них, по крайней мере
устранить то, что видится ему препятствием на пути понимания фактов
морали. Эти эссе представляют собой критическое обсуждение
ряда ведущих проблем этики, и так сильно связаны между собой,
что по большей части их следует читать в том порядке, в каком
они расположены.
Автор понимает, сколь претенциозна его задача. Необходимо
знание фактов, которого у него нет; необходима ясность видения
того, какие представления управляют нашей мыслью, которым
если кто и обладает, то искушенный в метафизике. Читателю не
стоит ожидать и этого.
Возможно, эссе, составляющие данное издание, догматичны
и односторонни. Они были написаны и опубликованы только
потому, что автор не знает ни одной английской моральной
философии, которая не была бы односторонней и даже догматичной.
Но чем бы они ни были, если они привнесут что-то новое в тот
хаос, который царит в нашей философской литературе, то не будут
бесполезны студенту.
20
Предисловие автора к первому изданию
Идеи, предложенные на страницах книги, не новы. Следовало
бы по преимуществу указывать источник каждого аргумента и
отсылать читателя к работам одного-двух великих людей, и делать это
потому, что из содержания целого не очевидно, будто автор
заслуженно воздал своим духовным предшественникам. Он
продвинулся вперед не потому, что сказал что-то новое, но потому, что наша
литература принуждает верить, что большая часть нашей
философской общественности и даже наших философов особое
значение придает новизне и насущной необходимости.
Этим можно извинить, если окажется, что полемической
составляющей его работы (и если она сверх меры полемична)
недостает поддержки авторитетного и заслуженного мнения. Но автор
полагает, что ни разу не перешел грань дискуссии, — дискуссии,
на которую он никогда не отважился бы, если б не было так
модно не брать во внимание взгляды, коим срок не более полувека,
и пренебрежение которыми, он убежден, во многом не дают
возможности найти решение.
1876
ЭССЕ I
Простонародное понятие об ответственности,
рассмотренное в связи с учениями
о свободной воле и о необходимости
Что не входит в рассмотрение этого эссе? Начать следует
с этого вопроса, ибо с выражениями, которые мы
употребили в заголовке, связаны «извращенные
ассоциации», а это может послужить поводом для превратного
толкования. А поскольку мы предполагаем, что оправдаем не все
ожидания читателя, начнем с указания на то, с чем не
намерены иметь дела.
Это эссе могло быть направлено на решение одной из двух (или
обеих) трудных проблем. Можно было поднять вопрос об
основании ответственности; о том, предполагает она необходимость или
свободу и что значат эти понятия; и после чего следовало бы
перейти к абстрактным вопросам метафизики. С другой стороны,
можно было ограничить буквой закона те случаи, когда человека
можно призвать к ответу, и в этом случае мы должны были бы
сосредоточиться на вопросах права. Но ни та ни другая проблемы
нас не занимают.
Какова же тогда та цель, которую ставит перед собой это
эссе? Наше предприятие включает три задачи: прежде всего, в
общих чертах установить, если это возможно, что простой человек
имеет в виду, когда говорит, что он несет за что-то ответственность;
во-вторых, выявить, согласуются ли с таким пониманием учения
о свободе и необходимости (популярные сегодня); и, если они не
согласуются, в заключение рассмотреть, в чем именно или в
отношении чего они не согласны.
22
Простонародное понятие об ответственности
Это предприятие на первый взгляд может показаться
читателю легким и бесполезным; легким — потому, как всем и так
известно, что все думают; а бесполезным — потому, что
измышления философов не звучат в унисон с мнением людей. Но, если
посмотреть на дело более вдумчиво, оно уже не покажется ни тем
ни другим.
Нелегко сказать, что люди имеют в виду под словами,
которые используют в повседневной речи, и нелегко потому, что
нельзя получить ответ, не задав вопрос. Это вопрошание — рефлексия,
а рефлексия наша направлена не на то, чтобы установить факт,
но на то, чтобы изыскать подтверждение собственным теориям.
Стройные теоретические системы, которыми мы пользуемся,
подстраивают под себя все, к чему мы их применяем; понять мысль
простого человека — задача, столь легкая на первый взгляд, —
теперь кажется довольно сложной, потому что наш ум непрост.
Вдобавок знать смысл расхожих выражений не бесполезно. Не во всех
вопросах философия открыто заявляет о готовности войти в
столкновение с обыденной моралью. В отношении такого предмета,
как ответственность, она, бесспорно, избегает конфликта;
толкующие учение о «свободной воле» полагают, оно всецело заодно
с расхожими идеями, и даже что лишь оно одно выражает их и
интерпретирует. Аргументы со стороны учения о необходимости
столь весомы для многих, что для них единственным
препятствием к принятию этой теории служит простое убеждение в том,
что с человека все-таки спрашивается по делам его. И не всем
поборникам теории необходимости дарована та сила духа, которая
до сих пор присуща «Вестминстер Ревьюз» и для которой «то,
что простой люд понимает под ответственностью или
воздаянием по заслугам в моральном смысле», — слова, за которыми стоят
«внушающие ужас домыслы» (West. rev. Oct. 1873. P. 311). Но
если есть такая философия, для которой то, что мы называем
ответственностью, — еще не фикция, то нам небезынтересно узнать:
с одной стороны, заключения этой философии; с другой —
каковы мнения, бытующие в народе; и возможно ли их
примирить друг с другом. Таковы границы настоящего эссе. За ними
23
Эссе I
открывается царство метафизики. В эту область мы - читателю
следует помнить об этом — не должны, насколько возможно,
вторгаться. Мы можем лишь указать ее границы.
Довольно предисловий; перейдем в первую очередь к
фактам. Каково расхожее понятие ответственности? Расхожее
понятие, безусловно, следует искать в обыденном сознании, в уме
простого, т. е. нетеоретического человека, того, кто живет и не имеет,
не желает иметь собственного мнения о том, что такое жизнь
и какой она должна быть. Где же искать этого простого
человека? Ведь сегодня, когда у каждого есть мнение и слишком многие
живут по своим законам, когда каждый знает больше, чем
прежде его отец, а поступает хуже; когда быть просвещенным
значит быть в плену никуда не годной теории, которую мы
постольку считаем своей, поскольку она отделяет нас от других; а быть
образованным — знать, что всякое учение ограничено, что
всякая истина истинна настолько, что должна быть ложной; когда
«юные пилигримы» уже в начале своего пути «испорчены
софистикой», которой обучились у пустых моралистов, а плод
начинает гнить, не успев созреть, — посреди всего этого «буйства
разновидностей» простой человек встречается уже отнюдь не так часто,
как когда-то, по крайней мере, как об этом говорят. И, если
наша цель — моральное чувство, которое не было еще испорчено,
не нужно бояться отставить в сторону просвещенность. Народную
мораль следует искать среди людей, и все недостатки
изощренности окупятся прямотой.
Поэтому, обратившись к человеку необразованному, давайте
выясним у него — если удастся, — что лежит в основании его
понятия об ответственности.
Что в его понимании означает быть морально ответственным?
Первое, что мы видим здесь, — представление о том, что быть
ответственным значит быть призванным к ответу. Человек отвечает
за то, что сделал, или (мы не будем специально рассматривать этот
случай) за то, что оставил без внимания и не сделал. А суд —
моральный суд; суд совести. Человек представляет себе судию,
Божественного или человеческого, внешнего или внутреннего. Из этого
24
Простонародное понятие об ответственности
не следует с необходимостью, что человек на самом деле отвечает
за все свои поступки или некоторые из них; однако этим
подразумевается, что он должен ответить, что его можно призвать, —
одним словом (значение которого — следует это помнить — нам,
по всей вероятности, не ведомо) правильно, что он должен
подчиняться суду морали; или что моральный суд имеет право призвать
к ответу за все его деяния или за некоторые из них.
Будучи призван, человек должен ответить за все свои деяния.
О лжи не может быть и речи; а отречься ни от одного из своих
поступков — от того, что когда-либо терзало его сердце или
волю, — он не может, не соврав. Все это принадлежит ему, все эти
поступки — часть его существа; он не может поставить их по
одну сторону, себя по другую и сказать: «Это не мое; я никогда не
делал этого». Сейчас он есть то, что когда-либо совершал; и когда
назовут его имя, тот, кто отзовется, уже не сможет отречься ни от
чего из того, что ему когда-либо принадлежало. Известное
высказывание Агафона:
μόνου γαρ αυτού και θεός στερίσκεται,
άγένητα τιοιεΐν άσσ' άν ή πεπραγμένα1
столь же непреложно истинно здесь, в сфере права (реальной или
предполагаемой), сколь ложно, когда мы вступаем в область
более высокую, где вменяемость вины до такой степени
обессмысливается, что, пожалуй, слова из «Вестминстер Ревью»
оказываются уместными.
И он должен отчитаться за все свои дела. Но отчитаться
перед судом значит расплатиться по счетам. Это значит, что, когда
суд окончен, мы уже ни перед кем не в долгу и нам никто не
должен. Мы расплачиваемся за то, что задолжали; или же нам
возвращают то, что причитается, что нам должны (чего мы заслужили).
Далее, поскольку этот суд не является судом гражданским, судом
между человеком и человеком, то, что нам причитается, — то, что
платим мы (увы! для непросвещенного ума). Говоря коротко, есть
1 Ибо даже Бог одного лишен этого: делать несвершившим все то, что уже
свершилось (греч.). — Примеч. переводчика.
25
Эссе I
лишь один способ рассчитаться; и это способ — понести
наказание, нами заслуженное и, как следствие, нам назначенное.
Поэтому, когда поздний Милль сказал: «Ответственность
означает наказание», он выразил обыденное понимание, хотя и сделал
это некорректно, если только не предполагал, что всякий человек
с необходимостью нарушает закон. Саму истину обыденного
сознания; убеждение, от которого оно никогда не откажется; то, по
отсутствию чего можно безошибочно определить «философскую»
или «развращенную» мораль, — составляет необходимая связь
ответственности человека и того, что он подлежит наказанию, связь
наказания и того, что он заслужил, признание виновности перед
законом морального суда. Практика не требует проводить
различения между ответственностью или подотчетностью и тем фактом,
что человек подлежит наказанию. Если есть первое, то (в сознании
людей) есть и второе; а где нет первого, то не может быть и
второго. Можно добавить к этому, что теория, которая объясняет
первое, в его обыденном понимании, также объясняет и второе; а та,
которая не может объяснить первое, не может объяснить и второе;
та же теория, которая приходит в столкновение с расхожим
мнением по одному моменту, также противоречит ему и во втором.
Итак, мы видим, что подчинение моральному суду — основа
ответственности человека за свои деяния. Простой человек
понимает это так, что мы держим ответ; что мы держим ответ не за все,
но только за свои дела; или, другими словами, за то, что можно
вменить нам в вину. Если мы сейчас сможем сказать, что обычно
понимается под вменяемостью, то установим, что люди имеют в
виду под ответственностью, и решим первую из заявленных в этом
предприятии задач. Здесь стоит еще раз предупредить читателя,
что не следует ожидать, будто мы станем говорить о вопросах права
или прибегать к системной метафизике; и более того, что ему
следует отвлечься от мыслей об истории рассматриваемого вопроса.
У нас одна задача, и только одна в данный момент, — установить,
какие представления свойственны обычному человеку.
Итак, первым условием того, что в чем-то может быть моя
вина, или того факта, что я становлюсь моральным субъектом,
26
Простонародное понятие об ответственности
которому можно нечто вменить в вину, является мое тождество
самому себе; я должен все время быть тем же самым лицом. Да,
мы говорим: «Он не тот, что был», но всякий раз мы имеем в виду
нечто иное: что у человека изменился характер или нрав. Мы не
произносим этих слов в буквальном смысле: «Он не тот же
человек»; если бы мы вкладывали в них именно этот смысл, то
должны были бы также полагать (а мы люди нетеоретического склада
ума), что будет неправильно заставить этого человека, который
существует в данный момент, отвечать за то, что совершено (не его,
но) другой самостью. Если, когда мы говорим «Я сделал это», «Я»
не необходимо есть одно определенное «Я», отличенное от всех
других «Я»; или, если это одно «Я», здесь и сейчас, не есть то же
«Я», что и то «Я», чьим актом было совершенное деяние, — тогда
вообще не о чем говорить, и понятие ответственности в его
обыденном смысле исчезает.
В таком случае я должен, во-первых, быть тем же самым лицом,
которому принадлежит деяние; а во-вторых, это деяние должно
принадлежать мне — оно должно было быть моим. Что же тогда
делает некое деяние моим? Этот вопрос обсуждается часто, и дать
на него строгий научный ответ нелегко; но здесь мы и хотим
только установить, каково обыденное понятие в его основных чертах.
И его первой особенностью служит представление о том, что
совершенное должно однозначно подходить под категорию
поступка. Деяние должно происходить по моей воле; говоря языком
Аристотеля, αρχή2 должно быть во мне самом. Если меня силой
заставляют что-то делать, то я не произвожу действия. Я вообще
не являюсь агентом и не несу никакой ответственности. Там, где
имеет место принуждение, там нет моей воли, а потому я не
должен отчитываться. Пока все, о чем говорит обыденное сознание,
ясно, и нет смысла допытываться большего по этому вопросу.
Обозначить границы принуждения; указать, где сила перестает
действовать и вступает воля; выявить, при каких условиях человек
может сказать: «Ye было никакой возможности для волевого акта,
2 Начало (греч.) — Примеч. переводчика.
27
Эссе I
и я не мог проявить ее3», — это не простые задачи, и к счастью,
у нас нет необходимости их затрагивать. (Более подробно об этом
см. Примечание А.)
В обыденном представлении, важно не только чтобы
совершенное деяние было поступком и происходило от человека без
принуждения. Предполагается во вторую очередь, что тот, кто
действует, разумен; он должен хорошо знать обстоятельства дела. (То
έκούσιον δύξειεν αν είναι ου ή αρχή εν άυτώ ειδότι τα καθ' έκαστα
εν οίς ή πράξις.)4 Если человек не сведущ в том деле, которое
совершил, или в его обязанность не входило знать подробности (ведь
если предположить, что он должен был их знать, то совершенное
по неведению ставится в вину именно на этом основании, ибо
незнание по закону является проступком), тогда деяние не является
его поступком. Определенная доля разумности или
«осмысленности», таким образом, является условием ответственности.
Того, в ком нет ни капли здравого смысла, нельзя рассматривать как
ответственное существо. Сюда относятся слабоумные и, в
определенном смысле, маленькие дети. Далее, лицо, чей разум
временно помрачен — если в этом нет его вины, — ни в каком смысле
не может отдавать отчета за свои дела. От него можно услышать:
«Я был не в себе», pi он будет прав, ведь самостью он называет
разумную волю.
В-третьих, для того чтобы наступила ответственность,
должен быть моральный5 агент. В содеянном не дает отчета тот, кто
3 Если я — в силу собственных дурных привычек — повинен в том, что
имело место принуждение, которого могло и не быть, тогда я несу ответственность
за содеянное. Степень вины — это, конечно, уже другой вопрос.
4 «Произвольное — это, по-видимому, то, источник чего в самом деятеле,
причем знающем те частные обстоятельства, при которых поступок имеет
место» (грен., Arist. En. 1111а23). — Примеч. переводчика.
5 Если действительно возможно, что некие взрослые лица находятся в
здравом уме и не имеют понятия о добре и зле (способность или неспособность)
и у них никогда не было даже малейшей возможности получить представление
об этих предметах, а потому неспособны их иметь, и, как следствие, в том, что
они таковы, каковы есть, нет их вины, — тогда следует считать, что эти лица не
входят в сферу морали, а следовательно, по суду совести не держат ответ за свои
дела и признаются безумными (что бы ни предпринимал по отношению к ним
28
Простонародное понятие он ответственности
не способен знать (а не тот, кто не тает) о том, каковы его действия
с моральной точки зрения. Если в человеке нельзя даже
предположить способность понять смысл моральных категорий (именно
способность, а не то, понимает ли он их на самом деле), как,
например, у маленьких детей или у сумасшедших, — тогда никакой
ответственности нет и не может быть, потому как нет моральной
воли. Однако неспособность понять не должна быть следствием
действия или волевого решения.
Я полагаю, что убеждения людей по нашему предмету
ограничиваются теми положениями, которые мы разобрали. По
некоторым вопросам обыденное сознание не имеет убеждений; по иным
предметам у людей сложились различные мнения, на что в какой-
то мере оказала влияние история.
Если бы мы спросили простого человека: «Что такое
поступок?» — он, наверное, не смог бы ответить, что понимает под этим
словом. Его ум никогда не был занят вопросом «В чем состоит
поступок?». Нам удастся до некоторой степени определить, какие
представления характерны для его ума, если мы определим,
какие представления он не разделяет. Пока мы можем утверждать
лишь, что понятие поступка, которое существует в уме простого
человека, основано, как нам видится, на представлении о том, что
поступок переводит мысль в соответствующее внешнее
существование. Способность мышления, присущая телу, позволяет через
поступок привести то, что было только в уме, в мир, внешний уму,
и сделать это так, что изменения, произведенные во внешнем
мире, являются в то же время изменениями в себе самом. И
благодаря этому они составляют часть самости, в которой
сохраняются навеки6.
закон). А вот по каким стандартам человека следует судить морально — это уже
совсем другой вопрос, и мы не будем его обсуждать.
6 Если мы поступаем «необдуманно», ответственны ли мы? Я не стану
рассматривать вопрос о том, действительно ли человек поступает необдуманно;
ответственность может наступить даже тогда, когда ни о каком размышлении и
речи быть не может. Поступок может быть подготовлен наличием или отсутствием
определенного привычного действия ума, за порождение или непорождение
или неподавление которого человек, безусловно, ответствен. Самость означает
29
Эссе I
И здесь обнаруживается непоследовательность обыденной
морали. Нет ответственности без разумности и моральной
способности. Ни животное, ни идиот не дают отчета в своих делах. Но
обычный человек не сможет сказать, какое количество здравого смысла
необходимо. Люди будут не согласны друг с другом в этом вопросе,
даже заданном по поводу конкретного случая. И если бы мы
спросили их о том, как поступок относится к намерению, то большего,
чем замешательства, от них ожидать не пришлось бы. Какие
следствия происходят непосредственно из поступка, а какие нет;
насколько то, что следует из поступка, изначально содержится в нем?
Какова в таких случаях степень моральной ответственности?
Должен ли человек давать отчет за то, что он делает, находясь в
состоянии преступания (напр., в состоянии опьянения), уже только
потому, что находится в таком состоянии, и если да, то насколько само
это состояние влияет на ответственность? И опять-таки, насколько
человек ответствен за последствия неправильного поступка,
совершенного ради предмета самого по себе безобидного, если эти
последствия противны его намерению? В отношении такого рода
вопросов мы встретим два рода мнений: одно более строгое, другое
более лояльное. Категоричность выражается в суждении о
поступке; лояльность — в суждении о (действительном или возможном)
намерении. С одной стороны, обыденное сознание видит, что
совершено преступление, и его мало заботит, что было на уме у
преступника; с другой стороны, оно склонно сводить преступление к
минимуму, увидеть здесь скорее неспособность, чем вину, и перенести
качество быть непреступным с намерения на поступок.
мысль, а поступок — результат и исход нашей самости. Рассмотрим пример:
человеку, склонному к насилию, привычному к обращению с оружием, за столом
наносят оскорбление. У него в руке нож, он тотчас наносит удар. Ответствен ли
он? Да, — то, что он сделал, подготовлено не только нравом: человек есть нечто
большее, чем нрав; это результат характера, привычек, сложившихся под
влиянием его поступков. Поступки же эти произошли от мыслящей самости, и
мыслящая самость, таким образом, ответственна за то, к чему привели привычки.
Следовательно, с него можно спросить отчет за мечтания и за то, что, как может
показаться, лишь физической природы. Позвольте заметить, что описание,
приведенное в тексте, относится только к явным поступкам.
30
Простонародное понятие об ответственности
Резюмируем: согласно простонародным представлениям,
человек должен поступать сам, быть в настоящий момент тем же,
кто совершил поступок, быть самим собой во время совершения
поступка, иметь достаточно разумности, чтобы знать, что он
делает, и отличать хорошее от плохого. Вдобавок если человек не
сведущ в том, что творит, по собственной вине, то неведение не
снимает с него ответственности, хотя могут быть сомнения по поводу
ее степени. Все сказанное в равной степени применимо также и к
случаям, когда человек бездействует или проявляет халатность.
Мы выяснили в общих чертах, что обыватель имеет в виду под
ответственностью — такова была наша первая задача. Переходим
ко второй: выяснить, согласуются ли учения о свободе и о
необходимости (иначе — учение об отсутствии предопределенности
и детерминизм) с мнениями, распространенными в народе, и
если да, то насколько.
Рассмотрим сначала то учение, которое означено как учение
о свободной воле и само существование которого, очевидно,
обусловлено желанием спасти веру в то, что человек должен давать
отчет за свои дела. Нам следует поставить вопрос: «Совместимо
ли это учение с представлениями обыденного сознания»?
Это учение, скажут нам, — единственное, которое утверждает
свободу, а если человек не волен, то не может быть и
ответственности. Если мы не свободны поступать так, как мы хотим, то (и здесь
у простого человека не возникает сомнений) мы и не несем
ответственности за свои дела, — звучит верно. «Мы должны быть вольны
поступать согласно нашему выбору» — в этом ли состоит теория
свободной воли? «Нет, не только, — скажут нам, — быть вольным
поступать так или иначе — этого еще недостаточно. Человек не
только должен быть свободен делать то, чего хочет, но должен быть
волен к тому же выбирать, чего ему хотеть. Поступать так, а не иначе,
должно быть моим делом; а если это не так, то я ни за что не
несу ответственности».
Я думаю, большинство согласится, что до сих пор
рассматриваемое нами учение было не более чем интерпретацией
обыденного сознания. В общем, я полагаю, что таковым оно и является
31
Эссе I
за исключением, пожалуй, вопроса о том классе внезапных, так
называемых «инстинктивных», поступков, о которых мы упоминали
ранее. Ведь если с ответственностью необходимо связан выбор и если
человек может утверждать, что ему, когда он совершал такого рода
поступок, на ум не пришло ни одной альтернативы и что он вовсе
не задумывался и не совершал выбор, — тогда все говорит о том,
что в таком случае он не должен давать отчет в своих действиях;
и тогда учение о свободной воле приходит в столкновение с
представлениями, бытующими у обычных людей, согласно которым
человек может поступать свободно, не совершая выбор.
Однако оставим без внимания этот момент, ибо обсуждать его
нет необходимости, и останемся в общем и целом заодно с
обыденными представлениями. Продолжим: мы свободны выбирать,
но что это значит? «Это значит, — последует ответ, — что наш
выбор не обусловлен мотивом; что проявлять волю и желать —
разные вещи; что между ними пропасть, и что ни желания, ни их
хитросплетение не способны оказывать давление на акты воли или
принуждать ее к чему-либо. Моя воля — это я сам, а моя самость
превосходит мои желания, и моя воля реализует способность
совершать выбор независимо от них, и в этой способности заключена
свобода, а вместе с ней и ответственность». И снова, все сказанное,
по сути, кажется, не противоречит распространенным мнениям,
за исключением убеждения в том, что мы можем поступать, вовсе
не испытывая желания и независимо от него, — идея, конечно,
любопытная, но мы не станем на ней останавливаться.
Но неверно думать, что учение о свободной воле следует
разбирать как противоположное (действительно или в возможности)
учению о необходимости, ведь мы пока не знаем, в чем
последнее состоит. Поэтому мы должны поставить вопрос не о том, чем
не является теория свободной воли, а о том, в чем она
заключается. Чем является свобода выбора? «Самоопределением. Я
определяю, что буду поступать так или иначе». Значит ли это, что я
заставляю себя совершать определенный поступок или же только что
все мои поступки проистекают из моей воли? «Заставляю — это
не подходящее слово, что же касается второго варианта — свобода
32
Простонародное понятие об ответственности
выбора подразумевает гораздо большее. Вы - не обусловленная
причина конкретных актов вашей воли». Но разве не мой нрав,
образование, привычки формируют то, чем я являюсь? «В данном
случае — безусловно нет. В акте воли ego не результат и не
производное, а всего лишь причина; и это мы знаем наверняка, на уровне
интуиции». Или, если выразить наш ответ на другом,
метафизическом языке: «Я — универсалия, которая способна
абстрагироваться от всего частного в себе, отстраниться и возвыситься над ним,
до тех пор пока не сделает выбор и не вберет в себя нечто
конкретное для того, чтобы реализовать это конкретное и вместе с ним
самое себя». Это «Я» в поступке «Я волю» — самость как чистое «Я»,
которое превосходит всякое содержание, желания и т. п., и
снисходит до них только по-своему liberitas arbitrii7.
Мы изложили учение наиболее ясно, не заботясь о том,
чтобы следовать ее англоязычным толкователям. Вдумчивый
читатель почувствует, что, если брать в целом, оно верно отражает
неоспоримые факты. Но наша задача состоит не в том, чтобы
поставить вопрос «Истинна ли она?», и если да, то «Насколько
истинна?», но в том, чтобы выяснить, если это возможно,
насколько она согласна с общепринятым понятием об ответственности.
И так, размышляя над теорией свободной воли, мы
обнаружили, что, по сути, она — всего лишь отрицание доктрины,
говорящей о противоположном. Единственным ее положительным
содержанием является утверждение о том, что самость есть нечто,
превосходящее совокупность конкретного, желаний и т. п., и что
она необходимым образом относится к тем действиям, которые
ей вменяются. И в этом учение о свободной воле вполне
согласуется с распространенными идеями. Но вывод, к которому она
приходит, по своей сути — всего лишь отрицание; и он, как
увидим, совершенно непримирим с тем, как понимает
ответственность простой человек.
И согласно этому выводу, свободная воля означает отсутствие
определенности. Воля не определяется к поступку еще чем-то;
7Свободному выбору (лат.). — Примеч. переводчика.
33
Эссе I
и более того, к поступку она вообще ничем не определяется.
Самоопределение значит, что самость, универсалия, может
реализовать себя посредством той или иной конкретной вещи, и в этой
или иной конкретной вещи; но оно также подразумевает, что
самость отождествляет себя с тем или иным без всякой причины;
между универсальной и конкретной стороной нет рациональной
связи; в самости нет ничего, что направляло ее совершить тот или
иной поступок. Посмотрите на сказанное с этой стороны, и liberitas
arbitrii в итоге — не более чем contingentia arbitrii8. Свобода
означает случайность; вы свободны, ибо нет причины, которая объяснит
те или иные ваши поступки, ибо никто в мире, и даже вы, не
может с долей вероятности сказать, как вы станете или не станете
вести себя в будущем. Коротко говоря, человек «подотчетен»,
потому что в целом он есть создание «неподотчетное».
К такому выводу нельзя не прийти. Если человек всегда, при
любых обстоятельствах, может либо совершить нечто, либо
воздержаться от действия, или проще, если всегда есть возможность
выбрать любую из представленных альтернатив, то всегда
существует возможность, что любой человек может совершить любой
поступок. Если между характером и поступками нет
действительной, рациональной связи (ибо поборник «свободы» не отрицает,
что она есть), тогда получается, что акты воли, как их ни назови,
случайны. Коротко говоря, все, чего удалось достичь учению о
свободной воле, которое пыталось избежать иррациональной связи
в форме внешней необходимости, — это вновь утвердить ее в
форме случая.
Учение о свободной воле должно было служить оправданию
ответственности. Оно рассуждает так. Человек несет
ответственность за свои дела, потому что нет причины, по которой он
должен выбрать поступать так, а не иначе. Тот, и только тот, несет
ответственность, чье поведение никто (и даже он сам) не может знать
наперед; все, что мы можем знать, — его поступки, когда он их
совершил, и что он мог поступить и прямо противоположным
8Случайность решения (лат.). — Примеч. переводчика.
34
Простонародное понятие об ответственности
образом. Рассуждение такого рода столь далеко от оправдания
ответственности (в ее расхожем понимании), что уничтожает само
ее условие. Оно описывает не того, кто не подлежит
ответственности, а человека с расстроенной психикой (если о нем вообще
можно сказать что-то определенное).
Доктрина, отрицающая детерминизм, утверждает, что
поступки никогда не являются следствием характера человека,
определенных обстоятельств, в которых он оказался. Самость или воля
понимаются здесь не как человек и вовсе не как характер, но
всего лишь как бесхарактерная абстракция, которая потому
«свободна», что равнодушна ко всему. Ей дали удачное название — «воля,
которая волит ничто»9.
Но мы должны не исследовать учение, а связать его с
повседневной жизнью. Представим некоего человека, обладающего
хорошим характером и неиспорченного теоретической рефлексией.
Поборник «свободы» примется убеждать его, что тот несет
ответственность за свои поступки, а наш неискушенный слушатель
согласится с ним и будет настаивать на его правоте. Отстаивающий
свободу скажет, что ему ведома тайна, почему человек должен
дать отчет в своих делах. Его внимательно выслушают, хотя,
скорее всего, ему не поверят. Он продолжит и скажет: человек несет
ответственность за то, что делает, поскольку всегда волен
выбирать, — и тут с ним согласятся. Но, когда он начнет объяснять, что
означает свобода выбора: что человек никогда не знает, как он
поступит, прежде чем совершит поступок, — я думаю, получит в
ответ: «Зависит от того, что это за человек». Вероятно, услышав такое,
он переведет разговор на своего собеседника и задаст ему вопрос,
понимает ли тот, что, выпади возможность, он не только смог бы
совершить самые отвратительные преступления, но и, что вполне
возможно, наверняка совершил бы их. На этот вопрос, если он
прозвучит, с негодованием ответят отрицательно; а спроси наш певец
9 «Учение детерминизма: воля, которая волит ничто, которой недостает
формы воли; учение отрицающего детерминизм: воля, которая волит ничто,
воля без содержания» (Иоганн Эдуард Эрдман. Цит. по: Erdmann. Psychologie,
sec. 160. — Примеч.) Мы вскоре подойдем к первой части утверждения.
35
Эссе I
свободы что-то подобное в отношении друга или родственника,
собеседник может и не ограничиться словами. Может ли что-то
быть привычней слуху, чем: «Разве ты не знаешь меня? Я бы
никогда не сделал такого» или «Совершенно невозможно, чтобы я
так поступил, и тебе должно было бы быть известно, что ничто
не могло бы меня заставить»?
Мы говорили о том, что ответственность (как ее обычно
понимают) может существовать только у морального агента. И если
о ком-то можно сказать, что его поведение на самом деле зависит
от случая, а равновесие воли нарушено непредвиденными
обстоятельствами, — то вопрос о том, является ли такой человек
моральным агентом, снимается сам собой. И если это так, то теоретикам,
спасающим подотчетность и имеющим наиблагие намерения
(каковые намерения губительны для мышления), не удалось
справиться со своей задачей. Встав лицом к лицу с врагом, они, возможно,
вышли из схватки победителями, однако с поля боя они вынесли
совсем не то, с чем пришли на него а, вероятно, даже то, чего там
и в помине не было.
Разобравшись сперва с тем, что есть ответственность в
сознании простого человека, мы также установили, как ее трактует (или
должна трактовать) одна из «двух наших великих школ»; а
также что пока точка зрения философии по этому вопросу,
кажется, серьезно отличается от той, что бытует среди людей. И мы
полагаем, что нашим выводам ничто не угрожает; но мы, конечно,
не собираемся утверждать, будто убеждения философа как
теоретические построения не превосходят аргументацию простого
человека по всем параметрам, ведь их проработанность
позволяет думать, что они вполне вероятно могут оказаться
полезными на деле.
Но как таковое учение о свободной воле не ладит с
расхожими взглядами; и, памятуя о том, что если «из двух великих
философских систем» одна оказывается несостоятельной, то другая
еще имеет шансы, естественно предположить, что теория
необходимости, будучи противоположной учению о свободной воле,
может преуспеть в том, что не удалось ее противнику. Возможно,
36
Простонародное понятие об ответственности
враг обернется другом и удержит нас в реальности, не позволив
сотворить Idolon10.
В точном изложении учение о свободной воле гласит, что ни один
поступок нельзя предсказать; простой человек думает, что более
или менее точно можно предсказать, по крайней мере, некоторые
поступки; в то время как детерминист утверждает, будто, зная
обстоятельства дела, можно заранее предвидеть все действия.
Однако можно ожидать, что поборник свободы не
замедлит с возражением. «Пусть вы убеждены в неверности моей
теории, — возможно, скажет он, — настолько же, насколько я, со свой
стороны, уверен в ее истинности; все же есть одно положение,
которое нельзя оспорить. Если человеческие действия можно
предсказать, тогда в ответственности нет смысла; и обыватель, сколь
бы путаными ни были его мысли по другим вопросам, видит это
достаточно ясно и подтвердит, если вы его спросите».
Если так, то рассуждать дальше — просто потеря времени, но я
полагаю, это не так; и, прежде чем взяться за трудную задачу
изложения сути учения о необходимости и критики его положений,
необходимо представить дело столь ясно, насколько это возможно.
Простой человек возражает против того, что его поступки
можно предсказать, — это факт; а если это факт, тогда с чем он не
согласен — с тем, что все его поступки непредсказуемы или только
некоторые из них? Если его возражение относится только к
некоторым действиям, то к каким именно? И далее, почему он
возражает? Каково основание его несогласия? Все это не простые
вопросы, но они требуют ответа. Установить факт трудно, и трудно его
интерпретировать; но я надеюсь, то, над чем я предлагаю
поразмыслить вдумчивому читателю, если он прежде не касался этого
вопроса, окажется достойным его внимания. Мы уже увидели, что
человек, который не является философом, не восстает против
того, что в определенных случаях его действия могут быть
предсказаны. Напротив, он требует признать, что это возможно. Мы
видели, что, с его точки зрения, для наступления ответственности
10Видимость, подобие, греза (греч.). — Примеч. переводчика.
37
Эссе I
необходима не только разумность, но и сама возможность
поступать разумно; и, более того, что в разумном поведении
прослеживается определенная закономерность, разумный поступок можно
просчитать, а просчитав, предсказать более или менее точно.
В высшей степени очевидно: обыватель не считает себя сколько-
нибудь менее ответственным из-за того, что кто-то может наперед
сказать, что в определенной ситуации он непременно одно
сделает, а другое, безусловно, делать не станет; и не обидит
беспомощного, но отнесется с уважением к его ситуации; не станет грабить
человека, взявшего его на работу, но будет отстаивать его
интересы. И если это утверждение не вызовет неодобрения, — а я
полагаю, не должно, — то мы заключаем, что против предсказуемости
не всех своих поступков может возражать обыватель.
Настало время спросить: «Неужели ни одно предсказание не
вызовет у обывателя возражений?» Я думаю, что определенные
попытки вызовут. Я полагаю, если нашему вымышленному
обывателю, лет в сорок, кто-нибудь показал бы расчет всех событий его
жизни, составленный еще до рождения на основании его личных
данных и врожденных качеств с учетом всего того, что так или
иначе могло иметь к нему отношение, — если бы было возможно
составить такой расчет на самом деле, а не только предположить его
возможным в определенных системах, то не скажу, что у нашего
обывателя зародилось бы сомнение в том, что он несет
ответственность за свои дела; не скажу, что это поколеблет его представления
о правильном и неправильном (я вообще не стану высказываться
на этот счет); но я полагаю, что он будет основательно сбит с
толку и до определенной степени возмущен.
Будем считать доказанным, что обыватель не возражает
против предсказания некоторых своих поступков и в то же время
возражает против предсказания других; и продолжим по
возможности перебирать различные случаи, чтобы выяснить, во-первых, что
не вызывает возражения, а что, во-вторых, вызывает.
Предвидя замечание читателя, оговорюсь, что, если речь идет
только о предсказании (а так и должно быть, потому что всегда
могут вмешаться сопутствующие факторы), человек в здравом уме
38
Простонародное понятие об ответственности
не станет возражать против предсказания любого из своих
поступков, которые, в его понимании, обусловлены характером".
Сформировавшийся человек, если он здоров, ощущает себя тем, кто
он есть; он «достиг прочного положения»; приобрел
определенные принципы, определенные привычки, определенную манеру
поведения. Он есть, одним словом, сложившаяся личность. Он
знает, какова его самость; ему не стыдно за себя, и он не против,
чтобы мир знал, какова его самость: ему нравится, что об этом знают.
Он знает, как поведет себя в тех или иных условиях; почему же
тогда другие не могут знать наперед, как он поступит и что будет
делать в той или иной ситуации? Он не забивает себе голову
идеальными представлениями о морали; он таков, каков есть, со своими
особенностями, и вполне соответствует тому, кем должен быть.
Он видит, что у всех его товарищей свои достоинства, которые их
характеризуют, и что все они «обречены» поступать так-то и так-то,
о чем их друзья знают наперед. Он, может, и не похож на других,
но достаточно хорош и у него своя манера поведения; правильная
или не правильная, — скорее всего, менять ее он не станет. Станет
ли он отвечать за свои поступки? Что за вопрос? За что еще ему
отвечать? То, что он делает, — его дела, они есть он сом.
Приведем пример. Совершив некий поступок, он узнает, что
его друг сказал: «Я знаю его, он поступит так». В замешательстве
ли он? Нет, скорее, ему приятно, что его понимают. А когда друг
лично говорит ему: «Я знал, что ты это скажешь», он тихо улыбается
или в свою очередь спрашивает: «Почему? Откуда ты знаешь?»
Мы никогда, даже на мгновение не сомневаемся в том, что
несем ответственность за ошибки, которые совершаем сознательно,
и точно знаем, что совершим их снова. И этот факт убедительно
доказывает: уверенность в том, что человек должен давать отчет
в своих делах, никак не связана с представлением о том, что
поступок можно предсказать.
11 Нельзя прибегать, к примеру, к предсказанию дурных поступков, т. е. таких,
которые сам человек считает дурными. Такое предсказание болезненно для него не
в силу предвидения будущих действий, а в силу того, что оно вынуждает человека
сознавать себя плохим, что другой доподлинно это знает и к тому же сказал об этом.
39
Эссе I
На настоящий момент мы узнали, что предсказание, которое
не вызывает возражений у обывателя, — это простое предсказание,
которое основывается на знании о характере человека. Возможно,
в силу каких-то обстоятельств это предсказание станет
оскорбительным, но этот факт ничего не меняет в нашем заключении.
Теперь время задать вопрос: какое предсказание вызывает
возражение? Думаю, не будет преувеличением сказать, что обывателю
не понравится, если мы станем строить прогнозы тех его
сознательных поступков, которые обусловлены характером. Приведем в
пример совершенно обычную ситуацию, и чем более нелепой она будет,
тем лучше. Предположим, наш обыватель узнал, что некто
несколько раз предсказал, какой именно фрукт он выберет из большого
числа вариантов, причем он ни разу не остановил свой выбор на одном
и том же. Обыватель будет весьма удивлен; но, я полагаю, если
человек, предсказавший его действия, скажет: «Я знал, что ты сделаешь
именно такой выбор, потому что я наблюдал за тобой, и ты всегда
выбирал эти фрукты», — такое истолкование его удовлетворит. Но
если он не получит подобного объяснения, если предсказание не
исходит из знания о его привычках или манере поведения, то, я
думаю, ему станет не по себе. У него возникнет ощущение, будто
другой знает то, что не имеет права знать, и что-то, к чему он не имеет
отношения, а потому и знать не должен. Можно привести
множество примеров, иллюстрирующих сказанное, в чем читатель
сможет убедиться, если поразмыслит над вопросом.
Наша же задача — лишь установить факты, которые мы, без
сомнения, пока не можем объяснить. Но, я надеюсь, следующий
пример прояснит дело. Как мы заметили ранее, обыватель придет
в ужас, узнав, что вся история его жизни, все, что повлияло на его
характер, каждый элемент внутренней эволюции, в результате
которой он стал тем, что он есть, — все это было подробно
предсказано еще до его рождения. Если я прав, он, скорее всего, скажет:
«Каким будет мой характер, предсказали еще до моего появления
на свет; что же в таком случае зависело от меня?»
Но если мы не будем внимательны, то упустим что-то
важное. Обывателя беспокоит не только то, что его характер, каким
40
Простонародное понятие об ответственности
он сложился на настоящий момент, был известен еще до его
рождения. Его представления на этот счет не столь ясны, как и
должно быть. Он - это его самость, а его самость — его характер; и
(если он согласен с таким определением) характер появился на свет
вместе с ним. И таким образом, если не брать в расчет процесс
развития, человек — то, что он есть; он вот такой, и другие знают его
как такового; а раньше или позже он стал таким, — не важно и
думать об этом не стоит. А значит, предсказать поведение —
предсказать, каков характер человека и обусловленный им образ
действий. Вот почему обывателя вовсе не беспокоит, что его поступки
можно предсказать. Для него действительно ужасна мысль о том,
что все его качества суть следствия того, чем он не является.
Невыносимо знать свой генезис или сознавать, что твоя самость
находится в становлении. Итак, если я правильно понимаю, отбросив
мысль, что обыватель обеспокоен возможностью предсказать
характерные для него действия, то увидим, его гораздо больше
заботит не иррациональное, а рациональное12 предсказание.
Возможно, это на первый взгляд покажется странным, однако
вывод вполне объясним.
Прежде всего следует учесть, что иррациональное
предвидение не обязательно предполагает (таково наше мнение), что
человек верит в судьбу — разрушительную силу, которая превосходит
12 Под рациональным предсказанием я понимаю вычисление конкретного
результата, проведенное загодя и по определенным законам, на основании
определенных данных. Оно дает ответ на вопрос «Как?» или «Почему?» в одной из его
форм. Под «иррациональным» предсказанием имеется в виду безосновательный
прогноз, который не основывается на причинах. Таким образом (реальные или
предполагаемые), прогнозы, сверхъестественные или магические, всегда
иррациональны; судьба предсказывается по наличию (отсутствию) определенных средств
или знаков; но средства или знаки не являются причиной для судьбы и для
того, чтобы она была именно такой, — для этого вообще может не быть причины
(в большинстве случаев такая причина есть). Судьба предстает в предвидении, но
предвидение не объясняет судьбу; оно берет индивида в его собственной
^рационализируемой индивидуальности и ничего не меняет в нем; оно видит
видимое, а «сейчас» и «потом» — различия, которые не создают разницы. Читатель
поймет, что никакого мнения на счет темного вопроса иррационального
предвидения я не высказываю.
41
Эссе I
индивида, управляет им и сокрушает его. А в таком случае
индивид предоставлен самому себе; как он себя ведет — его
собственное дело, он сам творит свои поступки. Вопрос в том только,
знает ли человек, как поступит прежде, чем совершит действие, или
обретает это знание, лишь совершив действие; обывателю
никогда не приходило в голову обсуждать этот вопрос: поскольку
поступок известен наперед, постольку пред существует, а потому
не принадлежит ему. Но если принадлежат, то он несет за него
ответ; и его будет беспокоить факт предвидения до тех пор, пока
живо учение о судьбе и потому, что под судьбой понимается
неморальный, нечеловеческий порядок вещей. Итак, пока
иррациональное предвидение основывается на вере в неморальный порядок
вещей и поскольку такого рода порядок не согласуется с
представлением о том, что человек должен давать отчет в своих делах;
постольку и до тех пор иррациональное предвидение не совместимо
с обыденной моралью. Не будем подробно на этом
останавливаться: нам еще много предстоит обсудить.
Мы разобрались с вопросом о том, что есть, и подошли к
вопросу «Почему?». По какой причине обыватель возражает против
рационального предвидения (не связанного со знанием
характера)? Первое, на что следует обратить внимание: в тех случаях,
когда рациональное предвидение приводит человека в волнение, вовсе
не создается впечатления, будто его выводит из себя, прямо и
непосредственно, необходимость давать отчет в своих делах.
Вот о чем, как представляется, он на самом деле думает. Он
уверен в том, что существует. Человек, как известно, может
сомневаться во многих вещах, во всем кроме того, что но он не может
усомниться в собственном существовании. И он уверен, что он —
именно он. Понятия, которыми оперирует обыватель, в высшей
степени смутны. Задавать ему вопросы — занятие пустое и глупое;
он не способен мыслить себя и не-себя и не способен свести эти
две мысли вместе. Он может помыслить (это заблуждение, будто
не может мыслить) мир вне связи с собой или без себя. Вот сцена:
он может взойти на нее и может сойти с нее. Он может появиться
на свет, а может не появиться, быть или не быть; может войти в мир,
42
Простонародное понятие об ответственности
а может уйти из него, подобно свече, которая должна то гореть,
то не гореть — подобно огню, который должен разгораться и
тухнуть; но ни при каких условиях он не может помыслить себя в
становлении. Как возможно, что он - вот он, здесь и сейчас —
становится собой? И как возможно, что он (все еще здесь и сейчас) перестает
быть собой? Эта мысль не может прийти ему на ум.
Как мы заметили, он не знает, как понимает свою самость;
и, естественно, непоследователен; ведь случается, — о чем мы
говорили — он отождествляет с самостью характер (и только
характер составляет его самость) и утверждает, что он врожден; с другой
стороны, случается, говорит, будто стал тем, кто есть теперь,
только благодаря воспитанию и образованию, своей решительности
и самоотречению; и тогда самость, которая в таком случае
складывается в процессе воспитания и образования, не является
характером. Скажите ему, что характер врожден, — он разделяет это
убеждение; скажете, что характер становится, изменяется — и с
этим он согласен; но нужно добавить (и доходчиво объяснить), что
он сам изменяет его.
Если предположить, что именно так и думает обыватель,
становится очевидно, почему ему не нравится рациональное
предвидение; ведь оно означает конструирование его самости из того,
чем он не является; а это, как мы убедились, выходит за пределы
его понимания. Если возможно, опираясь на знание личных
данных другого человека и универсальных законов, вывести то, каким
он стал в процессе своего развития, подобно тому, как получают
сумму по законам арифметики, что тогда происходит с самостью?
Другой завладевает ею, он делит ее на элементы, которые не
несут в себе атрибутов самости, и по своему усмотрению и своей
воле вновь соединяет их. Он собирает самость, будто она простая
неодушевленная вещь. И когда так происходит, обыватель смутно
ощущает, что если другой человек может разобрать и собрать
заново его самость, то сам он должен быть кем-то отличным от
этого конструкта, поскольку в нем уже нет ничего, что принадлежало
бы только ему. Поругана и осквернена святая святых
индивидуальности; и осквернение положило конец существованию, которое
43
Эссе I
некогда казалось непостижимым и несомненным. Объяснить
происхождение человека значит совершенно уничтожить его.
Даже когда у человека уже сложился характер и он
возражает, что другие знают, каков он, даже тогда, как известно, в высшей
степени грубо претендовать на то, что понимаешь или знаешь его
так же, как он знает себя или даже лучше. Это возможно, только
если люди состоят в близких отношениях. Причина тому, вне
всякого сомнения, — то самое чувство, о котором мы только что
говорили: человека нельзя вывести наподобие суммы, он
сопротивляется попыткам другого объяснить себя.
Подтверждение сказанному мы находим в следующем.
Человека не тревожит мысль о том, что Бог знает самое сокровенное в его
существе, что ему ведомо все. Она доставляет ему мучения только
в том случае, если он, покидая религиозную точку зрения,
представляет, что он и Бог — две конечные личности. С точки зрения
религии в отношении между человеком и Богом нет отношения;
самость перестает воспринимать себя обособленной,
отказывается от своей индивидуальности, дабы обрести самое себя и нечто
большее, чем самое себя.
Я полагаю, что возражающий против того, что характер
развивается по законам разума, исходит из приведенных выше
представлений. Но если мы теперь перейдем к проблеме веры в то, что
человек несет ответственность за свои дела, и зададимся вопросом,
насколько в сознании обывателя эта вера связана с указанными
представлениями, то должны будем признать, что
непосредственно в сознании практического человека она вообще с ними не
связана. Он в ответе за то, что собой представляет, вне зависимости
от того, что он есть и как он стал таким; при условии, что
наличествуют условия, при которых возможно вменять что-либо в вину.
Но что обычный человек считает — это одно; а как он думал бы,
если бы яснее представлял суть дела, — другое. И если поставить
вопрос иначе и спросить, согласуется ли рациональное
предвидение с теми условиями, которые необходимы для того, чтобы
человека можно было призвать к ответу и вменить ему нечто в
вину, то я полагаю, мы получим иной ответ. Мы убедились в том,
44
Простонародное понятие об ответственности
что человек несет ответ за поступок, поскольку действовал
именно он и никто другой; и вот, насколько я могу видеть, из того, что
самость человека можно объяснить, следует, что она вовсе не
существует, а значит, и не может действовать.
Речь идет о важных вещах, но я не думаю, что внес
необходимую ясность. Обычно люди рассуждают так. Человеческий мир
либо подчинен закону, либо нет; если же подчинен, то ничто не
может помешать нам считать, что и в случае с характером человека,
и с принципом исторического развития, можно загодя говорить
о том, какими должны быть и человек, и этап истории. На самом
деле невозможно говорить о чем-то большем, чем о «тенденции.
Но это только потому, что невозможно собрать все необходимые
данные. Если же известны все обстоятельства, то и будущее
человека, и дальнейшее развитие истории возможно рационально
предвидеть. Такое представление, я полагаю, совершенно ошибочно.
И если ясно излагать суть дела, но здесь предлагается a priori13
создавать индивида (или состояние общества) из его собственных
элементов, причем о самом человеке еще ничего не известно и он не
существует. Давайте посмотрим, какие тут могут возникнуть
возражения.
Я вовсе не утверждаю, что человеческий мир не «подзаконен»;
отчасти потому, что не уверен, будто понимаю, что это значит.
И, хотя я считаю, что слово «результат» не точно и в данном
случае вводит в заблуждение, я не отрицаю, что характер человека
на самом деле складывается из задатков и влияния окружающей
среды, т. е. является их результатом. Если самость человека —
отрицание всех его конкретных качеств, это не значит, что он не
определяется ими. Да, я полагаю, что, даже зная нрав человека и мир
(в наиболее широком смысле), который его окружает, еще
нельзя вывести его характер. Да, я считаю, что знание исторического
материала и каких хотите законов — еще не основание для
вывода о том, каким будет общество в будущем; а, если общество
органично (а правильнее сказать, более нежели только органично)
13 Независимо от опыта, до опыта (лат.) — Примеч. переводчика.
45
Эссе I
и если история развивается, то практическая интуиция позволяет
предвидеть многое; но ни знание «закона», ни какие бы то ни
были конкретные факты не дадут возможности подсчитать будущее.
Предсказать, каким будет результат, можно, но только исходя
из опыта, т. е. только уже зная его; и если речь не идет о
повторении истории, если речь не идет о двух одинаковых людях,
невозможно узнать, каким в результате будет вот этот человек.
Если предположить, — что затруднительно, — будто
характер врожден, даже в таком случае, знать, каков он, можно только
по проявлениям, а следовательно, не раньше, чем при жизни
человека. Или же, если предположить, с другой стороны, что мы
знаем характер какого-то человека и на опыте знакомы с той средой,
которая его окружает, и она та же, что и у других, все равно
встает вопрос: «Если характер — это и не нрав, и не темперамент
(человек есть нечто большее), можно ли говорить о закономерности
характерных действий и реакций при тех или иных условиях?»
Если классифицировать характеры невозможно, если невозможно
выводить конкретные действия из того, к какому типу
принадлежит характер, то даже при тех допущениях, которые мы
посчитали необходимыми, прогноз будет невозможен.
Обсуждать здесь эти предположения мы не можем. Это дело
критики. Но если, оставив их, мы, полагая, будто это
единственно возможный вывод из всего сказанного, держимся мнения, что
характер человека — это не нечто сотворенное, но то, что само
себя создает с учетом нрава и окружающей среды; и, если, наряду
с этим, мы предполагаем, будто для того, чтобы сформировать
самость человека такой, какой мы ее знаем, внешним
обстоятельствам, необходимо соединиться в ней, став той или иной
определенностью, отвечающей качеству этой индивидуальности как
целого, или определенностью, характерной для всех ее элементов;
если каждая часть принадлежит целому и определяет его, —
если целое присутствует в каждой части и сообщает ей свою
природу, — в таком случае думать, что, «сочетая» и «выводя», можно
многого добиться, — просто глупо. Суть вопроса можно
выразить в двух словах. Если человек состоит из того, что соответствует
46
Простонародное понятие об ответственности
теоретическим выводам, то его можно антиципировать; но вывести
его как предварительный результат, если он не сводим к
теоретическим схемам, невозможно. Это справедливо и в отношении
общества. Если период истории — результат, который соответствует
умному сведению выводов воедино из предпосылок, тогда его
можно просчитать; но это невозможно, если он таковым не является.
Если самость индивида и общество — такого рода «построения»,
которые возможно знать, не прибегая к опыту, зная только
элементы, их составляющие, тогда и то и другое можно «составить»,
сконструировать a priori; но это невозможно, если они не таковы.
«Понять» (в самом широком смысле слова) результат,
когда ты видишь его перед собой или находишь его в себе, — это
одно; но прежде опыта создать его в уме — совершенно другое.
Я не утверждаю, что так не происходит; всем известно, что в
определенных случаях можно делать выводы из законов и данных, люди
так и поступают. Я хочу сказать, тот факт, что это возможно в одном
случае, не дает права делать так в другом. Что же касается «науки
о тенденциях» — что науке остается делать со столь вольными
фразами? Если слово «тенденции» имеет абстрактный смысл, то само
по себе оно не вызывает возражений. Вопрос, который требует
ответа: «Возможны ли эти абстракции?»; и, что касается науки о
характере, мы должны ответить отрицанием. Закономерность этих
тенденций — «пустые мнения»14; она нигде не имеет силы.
Применительно к чему бы то ни было вне характера она должна быть, —
если не является таковой на деле, — ложной, поскольку претендует
быть исключительно только его закономерностью; а
применительно к характеру она ложна, поскольку отвлечена от него; там же, где
ей случается быть истинной, она всего лишь не обнаруживает свою
ложность. А то, что применимо к индивиду, применимо и mutatis
mutandis15 и к ступени исторического прогресса.
Если вышесказанное в каком-либо смысле справедливо,
тогда рационально предсказать характер нельзя; допустить обратное
14 Читатель сможет узнать больше об этом вопросе из: Hegel Phänom, d. G. Werke II.
218-24 (1841), но не следует думать, что Гегель стоит за всем, что я говорю.
15Ссоответствующими оговорками (лат.) — Примеч. переводчика.
47
Эссе I
возможно, оно не будет противно чувствам и верованиям
обычного человека, но войдет в противоречие с понятием подотчетности,
ведь это понятие, как мы видели, содержит идею индивидуальной
самости, и до тех пор, пока эта идея нереальна, о рациональном
предвидении не может быть и речи. Но достаточно об этом. Вопрос
о том, насколько иррациональное предвидение вредит
индивидуальности и вредит ли вообще, здесь мы развивать не можем.
Я надеюсь, теперь мы ценой несколько пространного
отступления, оказались более подготовлены к вопросу, насколько
ответственность, как ее понимают люди, согласуется с учением
сторонников учения о необходимости. Мы убедились, что простой
человек не считает, что должен давать отчет в своих действиях,
поскольку верит, что его нельзя подсчитать; и если бы
необходимость означала всего лишь регулярность актов воли, всего лишь
возможность, зная его характер, сказать, как он будет поступать
в определенной ситуации, тогда, я думаю, возражений не
последовало бы. Но мы также увидели, что, если под необходимостью
понимается теоретическое развитие охарактеризованной самости,
такое понятие приходит в столкновение с представлениями
обыденной моральности.
Последнее, однако, не должно нас волновать; поговорим о
взрослом человеке. Без сомнения, он возражает против необходимости.
«Но так происходит, — скажет поборник учения, — только
потому, что он не понимает наших терминов, мы понимаем под
причиной одно, а он -другое; то же самое с необходимостью». В таком
случае, мы должны будем ответить от имени народа, хотя и не его
языком: если вы знаете, что вносите путаницу, откажитесь от
употребления этих терминов; к тому же не очевидно, чтобы в трудах
приверженцев теории необходимости они имели иной смысл,
чем тот, который имеют для нефилософов. Если слова означают
один и тот же предмет, трудно поверить, что их смысл различен.
Вы берете выражения, которыми мы описываем мир природы,
и применяете их к тому, что мы считаем миром не природным;
вы разрушаете различие между физическим и умным. Да, вы
утверждаете, что это не имеет значения, поскольку иначе понимаете
48
Простонародное понятие об ответственности
физический мир; в ответ мы говорим, что мы не философы и не
знаем, что они думают; но когда вы говорите о камнях, палках и о
понятных нам вещах; когда вы говорите об ударах палкой, от которых
возникают синяки, и о необходимости, с которой камень
разбивает оконное стекло, тогда кажется, что вы по сути также понимаете
природу, как и мы; и мы считаем, что вы переносите это понятие
природы на мир людей; и ваши идеи, насколько мы можем их
понять, не кажется нам правильными. Теоретические определения,
которые вы даете причине и необходимости, могут не иметь
ничего общего с тем, о чем думаем мы, но где бы вы ни применяли эти
понятия, вы делаете это в большой мере так же, как и мы, и когда
вы говорите, будто есть разница, вам не верят.
Когда философ говорит просто, ему приходится признать, что
на самом деле он считает человека свободным в том же самом
смысле, в каком свободен падающий камень и бегущий поток. У
первого столь же мало необходимости и столь же много свободы, как
и другого. Так мы вас понимаем. Но мы-то знаем, что, будь это
так, у человека столь мало того, что называют свободой, как у
свечи или копролита, — вам никогда не удастся убедить нас в
обратном. Придется либо доказывать, что копролит может за что-то
нести ответственность, либо утверждать, что человек не может быть
ответственным; и — со всем уважением к вам — никто не поверит
ни тому ни другому.
Вот что, без сомнения, лежит в основании возражения
против теории детерминизма. Обычный человек убежден, что
между ним и материальным миром лежит бездна; что его существо
выходит за пределы сферы, управляемой лишь физическими
законами; характер или воля, в его понимании, — мыслящая или
рациональная самость; и он вполне уверен, что она не
пространственна и на нее не может воздействовать ничто другое, внешнее
ей. А потому, когда философ говорит о воле как чем-то
физическом и толкует ее действия в механистических метафорах, обычный
человек не считает, что речь идет о воле, а скорее о чем-то
совершенно ином. Дело не в том, что философ говорит о ней не то, что
должен, а в том, что собственно о ней вообще ничего не говорится;
49
Эссе I
что без внимания остается сама суть морального существа,
которая для обычного человека означает свободу и является свободой;
вот смысл утверждения, что детерминизм «говорит о воле,
которая ничего не волит». То же самое имели в виду мы, когда
сказали, что детерминизм, конечно же, говорит о воле, но о «воле,
которая волит ничто».
Однако не следует ни тому, чьи интересы мы
представляем, ни себе самим позволять вольность утверждать и давать
повод читателю думать, будто мы создаем свою теорию. Наше дело
не утверждать, а понимать и критиковать. Мы должны выяснить
для себя, в чем последовательный детерминист не может
поддержать моральное понятие подотчетности, свойственное обычному
человеку.
Выше мы видели, что понятия ответственности и подлежания
наказанию можно считать взаимозаменяемыми, и что,
следовательно, та теория, которая оправдывает наказание, толкует
ответственность; и что там, где первое (в его обычном значении) не
имеет смысла, второе также не будет адекватным.
Давайте в таком случае посмотрим вначале, как народ, а затем
и как детерминист понимают наказание. Давайте выясним для
себя16, совместимы ли эти понимания; а если нет, разберемся, в чем
они несовместимы.
Если и есть такое мнение, которого придерживается человек
грубых нравов, так это вера в необходимую связь наказания и
вины. Наказание является наказанием, только когда оно
заслужено. Человек расплачивается, потому что у него есть долг, и
только поэтому; и если для наказания находится иная причина, чем
заслуженность в силу дурного действия, — то здесь мы
сталкиваемся с грубым нарушением морали, вопиющей
несправедливостью, гнусным преступлением, а не тем, чем претендует быть
наказание. Можно найти множество оправданий: собственное
удобство, благо для общества, польза для самого преступника; это все
16 Читатель не должен думать, будто я озабочен тем, чтобы использовать
против теории то, с чем она готова согласиться; но если мы не проясним для
себя факты, то не найдем причин.
50
Простонародное понятие об ответственности
глупость, но и того хуже, если таких оправданий не приводится.
Получив право наказывать, мы можем модифицировать наказание,
согласуясь с пользой и приятностью; но ни то ни другое не имеет
отношения к преступлению как таковому и не может дать права
наказывать, и ничто не может, кроме самого факта преступления.
Не стоит тратить слова на обсуждение этого вопроса: если
читателю не очевидно, что обыватель считает именно так, то нельзя и
надеяться убедить его, да и нет у нас такого желания.
Обыватель полагает, что нельзя наказать человека, если он
того не заслужил. Почему тогда (повторимся), с его точки зрения,
он заслуживает наказания? Потому что он виновен. Он сделал
что-то «неправильно». Воля восприняла нечто, что является
отрицанием «правильного», утверждением не-правильного, я
сделало его частью себя, реализовало в нем свое существо. Я можно
вменить неправильное. Я есть реализация и живое утверждение
неправильного. Простой человек может не понимать, что имеет
в виду под «неправильным», но уверен, что чем бы оно ни было,
оно не «не должно» существовать, что оно стенает и молит о
забвении; что, если он может искоренить его, — это его долг; что, если
он не искоренит его, оно распространится и на него и что
деструкция вины, — каковы бы ни были последствия и даже без всяких
последствий, — есть благо само по себе; и не потому что отрицать
хорошо, а потому что отрицание неправильного есть
утверждение правильного (что бы ни означало «правильное»); а
утверждение правильного — цель сама по себе.
Наказание — отрицание неправильного через утверждение
правильного, а неправильное существует в самости или воле
преступника; его самость неправильна, и она реализуется в его
личности и в том, что ему принадлежит; он утвердил в себе
неправильную волю, воплощение отрицания правильного; и в отрицании
этого утверждения и уничтожении, полном или частичном,
этого воплощения через штраф, заключение под стражу или даже
смерть, уничтожается неправильное и декларируется
правильное; и поскольку в этом, как мы видели, состоит цель в себе,
наказание также — цель в себе.
51
Эссе I
Да, люди до сих пор считают, что наказание налагается ради
самого наказания, и это несмотря на софистику, на возражения
сентименталистов и против всего арсенала нашей доморощенной
просвещенности. А ведь обывателю не меньше, чем самим
философам, известно, что на стороне непосредственности — два
известных имени современной философии17.
Однако разъяснять читателю, что такое наказание, или, иначе,
что метафизики понимают под наказанием, — даже если бы мы
могли это сделать, не является целью нашего рассуждения. То,
о чем говорилось выше: что наказание — справедливость, что
справедливость предполагает воздаяние должного; что нарушение
17 Нижеследующие фрагменты из Канта, вероятно, удивят тех из нас, кто
считает «философским» только имморальный гуманизм.
«Наказание по суду (poena forensis), которое отличается от естественной
кары (poena naturalis) тем, что порок сам себя наказывает и что законодатель не
берет эту естественную кару в расчет, никогда не может быть для самого
преступника или для гражданского общества вообще только средством содействия какому-то
другому благу: наказание лишь потому должно налагать на преступника, что он
совершил преступление; ведь с человеком никогда нельзя обращаться лишь как
с средством достижения цели другого [лица] и нельзя смешивать его с
предметами вещного права, против чего его защищает его прирожденная личность, хотя он
и может быть осужден на потерю гражданской личности. Он должен быть признан
подлежащим наказанию до того, как возникнет мысль о том, что из этого
наказания можно извлечь пользу для него самого или для его сограждан. Карающий
закон есть категорический императив, и горе тому, кто в изворотах учения о счастье
пытается найти нечто такое, что по соображениям обещанной законом выгоды
избавило бы его от кары или хотя бы от какой-то части ее согласно девизу фарисеев:
«Пусть лучше умрет один, чем погибнет весь народ»; ведь если исчезнет
справедливость, жизнь людей на земле уже не будет иметь никакой ценности».
«Даже если бы гражданское общество распустило себя по общему согласию
всех его членов (например, если бы какой-нибудь населяющий остров народ
решил бы разойтись по всему свету), все равно последний находящийся в тюрьме
убийца должен был бы быть до этого казнен, чтобы каждый получил то, чего
заслуживают его действия, и чтобы вина за кровавое злодеяние не пристала к
народу, который не настоял на таком наказании; ведь на народ в этом случае можно
было бы смотреть как на соучастника этого публичного нарушения
справедливости». (Цит. по: Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2.
С. 255, 257. — Примеч. переводчика.)
Ср.: Гегель. Философия права (§ 97-104); Тренделенбург. Естественное право
на основе этики. С. 136 и ел.
52
Простонародное понятие об ответственности
справедливости в той или иной форме предполагает вину, т. е. того,
кто виновен; и что воздавать человеку должное или отбирать у него
то, что с него не причитается, против его воли, с другой стороны,
несправедливо, — все это не более чем попытка теоретизировать
расхожее мнение. Теперь нужно рассмотреть, как понимает
наказание тот, кто верит в необходимость.
В четкости своей позиции по этому вопросу приверженец
учения о необходимости не даст повода сомневаться. Для него,
и это так, «ответственность» может «означать наказание», или,
скорее, то, что человек подлежит наказанию; и он, вероятно,
не станет возражать против такой формулировки: вина заслуживает
наказания. Но если мы спросим, что следует понимать под
термином «заслуживает», то незамедлительно последует ответ,
что он не имеет совершенно ничего общего с нашими «ужасными
домыслами»; или пустословие оппонента совершенно запутает
нас, внушив мысль, что мир, в котором живем мы, не тот, который
существует в уме простого человека.
Нужно быть осторожным, дабы не позволить увести себя в
сторону. Нас совершенно не волнует то, как практически в истории или
у индивида зародились понятия справедливости и заслуженного.
Ибо нас интересует «что есть», а вовсе не «как оно стало быть». И хотя
часто (я не говорю всегда), чтобы получить полную картину, нужно
рассмотреть оба вопроса, сводить их в одно, смешивать, — ошибка,
столь же распространенная, сколь в высшей степени губительная.
Нам нужно только ответить на вопрос «Что есть», и только
понятный как: «Каково расхожее понятие»? Кроме того, не следует
отклоняться в рассуждение о праве наказывать. Не нужно задаваться
вопросом, как может быть правильно, если девяносто девять
человек считает, будто и для девяносто девяти и для сотого, или лишь
одного сотого, или только для девяносто девяти будет удобнее,
чтобы он, сотый, перестал быть, — чтобы они вследствие согласия
между собой и вне зависимости от того, что по этому поводу считает
сотый, распространили на него свою волю, умертвив через
повешение. Оставим этот вопрос философам-утилитаристам. Нужно
держаться фактов, и к счастью, они очевидны. Ибо для обывателя, еще
53
Эссе I
раз повторимся, наказание — восполнение того, что заслужил
преступник; оно оправдано только как заслуженное; и сверх того,
является целью в себе. Сторонник теории необходимости не говорит
открыто, что наказание — цель в себе; оно оправдано только когда
является целью для достижения внешней цели.
«Есть две цели», — говорит поздний Милль («Обзор
философии сэра Вильяма Гамильтона» [Examination of Sir W. Hamilton's
philosophy. 1865. P. 592], и он имеет в виду, что есть только две
цели, «которые, согласно теории необходимости, достаточны для
того, чтобы оправдать наказание: польза самого преступника и
защита других»18.
И «дело принимает совершенно иной оборот, если на деле
наказание применяется по иной причине, чем воздействие на
волю; если оно направлено на иную цель, чем исправление самого
преступника или защита прав человека от несправедливости
(читателю стоит помнить, что Милль может понимать
«справедливость» иначе). Если предположить, будто справедливо напрасно
причинять страдание; что идеи вины и наказания связаны
настолько, что всякая провинность само собой влечет расплату (читателю
не следует забывать о том, что для него могут существовать и иные
сферы, помимо справедливости, возможно, более возвышенные:
то, что только справедливо, не обязательно, само собой
разумеется), — признаюсь, мне нечем оправдать наказание, назначаемое
по такому принципу. Я могу в определенных случаях понять, что
человеком движет чувство негодования или обида, каковые
чувства благотворны и их следует культивировать (Милля не
„ужасает" ложь, он даже готов поощрять ее): но в данном случае они
просто средство для достижения некой цели. В учении, которое
18 Хотя нижеследующая цитата не связана с обсуждаемым вопросом, я
продолжу, чтобы показать пример того, как философствуем мы, англичане. «Первое
оправдывает наказание, потому что приносить пользу человеку не может
означать причинять ему вред». Если «вред» — противоположность «пользе»,
«потому что» исчезает; если «справедливости», то мы располагаем бездоказательным
утверждением противоречивого; которое я, например, считаю не просто
ложным, но ужасным. Оговорка «подходящее название», которая появляется в
следующем предложении ничуть не улучшает дело.
54
Простонародное понятие об ответственности
я поддерживаю, нельзя найти основания для того, чтобы видеть
в наказании только смысл кары» [Ibid. P. 597].
Для Милля наказание — «лекарство»; и, отклонившись от
темы [Ibid. P. 593-594], он не сможет избежать вывода, который ему
навязывает «вопрошающий»: если бы воздаяние было связано
с выгодой от наказания, я, будучи грешен, должен был бы
заслужить воздаяние.
Мне нечего сказать против такой теории наказания. Имена
великих древних, которые видели в наказании всего лишь средство
для достижения блага государства и индивида, требуют того,
чтобы мы относились к нему с уважением; а потому я не скажу, что
древнее учение греков предлагает не самое лучшее объяснение19.
Что действительно нужно сказать, с чем согласятся практически
все, что следует признать как должное, без обсуждения, — так это
то, что, чем бы ни было это учение, оно уж точно не выражает
мнение обывателя.
Нет нужды останавливаться на этом вопросе. Если, с одной
стороны, наказание — всегда цель сама по себе, чем бы еще она
ни могла быть, и если, с другой стороны, чем бы еще оно ни было,
оно никогда не может быть целью самим по себе, то можно принять
как факт, что между этими двумя условиями нет согласия20.
19 Это учение все же не единственное; Бейну действительно не следовало
утверждать обратное в своем «Руководстве к науке об уме и морали» («Manual of
Mental and Moral Science»). Я с большим уважением отношусь к серьезной работе
Бейна в области психологии, но все же я (и всякий другой на моем месте) имею
право выступить против такого утверждения. Еще большее право есть у меня
выступить против того, что он утверждает в предисловии: «Часть вторая —
Этические системы — полное изложение всех систем, древних и современных», — в то
время как, по его собственному признанию (с. 725), это не так.
20 Мы не можем пройти мимо двух моментов — (1) наказание детей; (2)
коррекция поведения животных. (1) Нужно провести различие между наказанием и
дисциплиной или коррекцией; первое назначается в случае неправильного поступка
как воздаяние; последнее применяется как средство для исправления. Назначать
первое верно только в случае, когда существо полностью или частично
подотчетно. Применение последнего (которое не является наказанием) — практический
вопрос, который решают родители или педагоги, соизмеряясь с
обстоятельствами и силой проступка. Наказание в воспитательных целях (в собственном смысле)
отличается от юридического тем, что допускает больше свободы в рассмотрении
55
Эссе I
Но если — в чем мы убедились — понять, что есть наказание,
значит понять, что такое ответственность, а не знать одно, значит
не ведать и второго, если верить тем, кто против первого, значит
верить и тем, кто против второго; если «ответственность означает
наказание», а наказуемость — это тоже самое, что подотчетность;
и если, далее, учение о необходимости находится в жестком
противоречии с мнением людей по вопросу о наказании — как
может детерминист утверждать, что его учение об ответственности
не противоречит обыденным представлениям? Как может
он отрицать, что подотчетность — вымысел и что его моральный
мир не только на словах не является моральным миром обывателя?
Если, повторимся, согласно теории необходимости, нельзя сказать,
каждого конкретного случая. (2) Если многие имели в виду то, что говорили, то
животные — моральные существа и они могут нести ответственность, и животных
наказывают. Кажется, грядут времена, когда мы услышим о «правах животных».
Почему нет, скажите на милость? Почему животное не является субъектом права, хотя
бы гражданского, если не политического? Это для освободителей будущего. Мы
удовлетворимся распространенным убеждением в том, что животное не является
моральным агентом ни в реальности, ни возможности; оно не несет
ответственности, не является субъектом права, хотя в большей степени объектом обязанностей.
В представлении обычных людей животное не следует наказывать потому, что оно
заслужило это, но только для того, чтобы сделать ему лучше; и хотя, как
показывает практика, так происходит далеко не часто, все же, я думаю, большинство
скажет, что тому, кто постоянно наказывает собаку за проступок, в отношении
которого она была οΛως ανίατος*, вообще не стоит держать собак; а в отношении людей,
уже шишки набивших, наступая на одни и те же грабли, οΛως ανίατοι** — те, кого
считают наиболее заслуживающими наказание. С другой стороны, хотя животное
нельзя наказать, тем не менее его поведение можно корректировать так часто, как
это требуется, и всякий раз, когда выдается подходящий случай. Однажды мне
рассказали о спортсмене с Запада, который днем, в перерывах между занятиями
спортом, собираясь на поле до начала матча, регулярно привязывал своих собак к
воротам и бил их и повторял νουθέτησις ***. Умно ли корректировать, если собака не
сделала ничего дурного, — это вопрос к дрессировщику; но, без сомнения, никто
в здравом уме не назовет это наказанием. И тем не менее именно таким и должно
быть наказание с точки зрения утилитариста. И именно это имеют в виду, говоря,
что такое наказание означает относиться к человеку как собаке.
* Совершенно неисправима (греч.). — Примеч. переводчика.
** Совершенно неисправимы (греч.). — Примеч. переводчика.
*** Увещевание (греч.). — Примеч. переводчика.
56
Простонародное понятие об ответственности
что «Я» может подлежать наказанию в обычном смысле, тогда (ибо
мы убедились в том, что эти понятия связаны) «Я» также не несет
ответственности за свои дела.
Итак, мы пришли к следующему: мы рассмотрели по порядку,
чем является наказание для обывателя и для сторонника учения
о детерминизме; понять, какие смыслы они вкладывают в это
понятие — значит понять, что они совершенно не совместимы;
равным образом не тождественны и их понятия об ответственности,
которые связаны с представлением о наказании. Закономерный
вывод: ни одно из наших «двух великих течений философской
мысли», как бы они ни были превосходны каждое в отдельности
и вместе взятые, ни в каком смысле не дают теоретического
выражения моральным понятиям обыденного сознания, а подчас
совершенно им противоречат.
Но мало понимать это. Мы не сделали открытия, напротив,
проповедники детерминизма признают этот факт и открыто
о нем заявляют. Наша цель состоит главным образом в том, чтобы
понять, в чем именно учение о необходимости не в состоянии
интерпретировать расхожее мнение. Его несостоятельность в том,
что оно не придает совершенно никакого значения рациональной
самости в форме воли; оно не видит ее в актах воли и в неизменной
структуре личности. Детерминизм не говорит о разумной
воле, которая остается тождественной себе во всех своих актах,
и единственно только через которую вменяемость имеет смысл.
Человек, — если говорить о том, каково мнение людей, — отвечает
только за то, что (опосредствованно или непосредственно) следует
из волевого акта, акта, в котором налична воля. Воля — сам
человек, не часть самости, не сочетание ее составляющих. Она
не в самости, но является всею самостью, которая выражает себя
определенным образом, манифестирует себя как воля в тех или
иных высказываниях и посредством этих манифестаций определяет
волю, которая манифестирует себя. Воля должна быть налична
в поступке, а поступок — в воле; и поскольку воля — самость, которая
остается той же самой, поступок, который является частью самости,
теперь — часть самости, ибо самость — производная поступка.
57
Эссе I
Мы говорим «я хочу», и что-то имеем в виду. Мы различаем «я»
и «хочу». «Я» — то, что мы всегда произносим, когда в общем
говорим о мышлении или делании, а «хочу» означает определенное
желаемое действие. С другой же стороны, в «я хочу» «я» и «хочу»
так сильно связаны, что нелепой кажется сама мысль разделить
их; если о двух можно сказать, что одно есть в другом, о делении
не идет и речи. «Я» было единой индивидуальностью; затем, когда
«я» встало перед возможностью совершить какой-то поступок,
мы поняли, что оно включает в себя все возможные частные
проявления и превосходит их; и наконец, в «я хочу» партикулярное
и универсальное не разделены, но составляют неделимое целое.
Обыватель, как известно, — жертва ложных представлений, тех, что
в философии после «индуктивной психологии», антиметафизической
метафизики и сверх метафизичной «бэконовской» науки уже
невозможны. Одно из наиболее распространенных твердых
убеждений находит единственное выражение в вере в то, что
универсальное реально и что это универсальное знает о себе.
Мы говорили, что сторонники учения о необходимости
не придают значения самости ни как желающей, ни как
самотождественной. Начнем с первого. Мы видели (повторимся),
что «воля должна быть в акте, а акт в воле»; в такого рода фразы,
выражающие мнение обывателя, для нас должны звучать
предостережением, что либо мы живем среди вымыслов, либо
мы вторглись в мир, где не действует ни одна физическая теория,
говорящая о вещах в пространстве. И нас, если мы хотя бы верим
в то, что механический мир кончается там, где начинается
сознание, такие выражения, как «механизм сознания человека»,
приводят в затруднение; и далее, узнав о том, насколько широко
распространено стремление руководствоваться одними только
физическими методами для описания сознания, мы оказываемся
совершенно дезориентированы. Продолжая исследование того,
как воля определяется «мотивами», мы обнаруживаем, что
каждое понятие и выражение обретает значение лишь тогда, когда
мы используем в суждении о самих себе самые что ни на есть грубые
механические метафоры тяги и толчка, которые, с нашей точки
58
Простонародное понятие об ответственности
зрения, характерны для описания самой низшей ступени мира
природы. Как невозможно понять Локка и столь многих из числа
его сторонников, пока не представишь твердые тела, которые,
находясь в пространстве, как будто вдавливаются в некую вещь,
называемую умом, ударяются об нее и оставляют на ней свой
отпечаток, а также эту другую вещь, которая таким же образом (как,
только Богу известно) наносит на себя знаки и отпечатки, — равно
когда читаешь труды детерминистов, единственный способ
извлечь из того, что они говорят, какой-либо смысл, — удерживать
в воображении вещь под названием «воля», которую толкают
и тянут вещи, называемые мотивами, или же «силы», называемые
мотивами, которые действуют в определенном месте, называемом
самостью, и, соединяясь, либо не приводят ни к какому движению,
либо приводят к движению, называемому «хочу»; не ясно, является
ли оно движением всей «совокупности», которая пребывает вместе
под названием «самость», или же только ее части.
Если в итоге удается все это представить и согласиться с тем, что
воля — вещь, которая находится «в мешке» под названием «самость»
и приводится в движение другими вещами из того же мешка или
извне его; или (еще лучше), что состояния сознания, называемые
мотивами, стоят к уму, состояниями которого являются, в том
отношении, в котором силы стоят к пространству, в котором они
встречаются, — тогда доктрина детерминизма вполне ясна и, если
считать ее интеллектуальной забавой, наверное, даже приятна.
Но, если кто пытается применить такого рода теорию к нашим
собственным действиям, нам не остается ничего другого, как
сказать — и здесь мы не одиноки, — что между теорией и известными
нам фактами нет никакой связи. Те выражения, которые применимы
в одном случае, в другом теряют всякий смысл. Что самость, когда
охваченная желанием, должна выйти из себя и вместе с тем не быть вне
себя; что каждое из всего множества желаний должно быть желанием
самости; что самость, охваченная страстью, должна претерпеть
разделение в себе; что самость должна отличить самое себя от всех
своих желаний; что она должна противостоять им и, приняв в себя
одно из них, освободиться от всех остальных влечений, направив все
59
Эссе I
свое существо в одном, выбранном направлении; что реализованное
желание — выражение самости, и что поступок, который является
этим выражением самости должен остаться в самости, именно
как самость, выразившая себя в поступке, — все и каждое из этих
утверждений теряют смысл, если их перевести на язык механики
и описать через «мотивы», «тягу» и «композицию сил». Называйте
их как угодно, если не легче просто игнорировать. Назовите
призраками, порожденными воображением обывателя, которые
без стыда разгуливают при свете дня, облаченные в выражения
из мистического жаргона; но невозможно закрыть глаза на то, что
для нефилософского ума ясно, как полуденное солнце, — что ваша
философия бессильна объяснить их.
Но детерминизм действительно упускает из виду «Я» и, как
следствие, не в силах распознать характеристики воли не только
в акте «я хочу»; он не только говорит о воле, которая волит ничто,
и тем самым теряет то в ней, что служит условием ответственности;
но он также не замечает или отрицает тождество самости в своих
поступках, а если нет самотождественности, как мы видели,
невозможно вменение в вину.
В этом вопросе обыватель не столь четок. Если я не тот
же человек, не та же тождественная самость, которой был; если
поступки, которые я совершал, не являются поступками и одного-
единственного «Я», которое существует в этот момент, тогда я
не заслуживаю наказания за то, что не делал сам. Для того чтобы
вменить деяние мне в вину, нужно, чтобы те поступки, которые были
моими, оставались моими и в настоящий момент; а это возможно
только при том условии, что воля, которая налична в данный
момент, была той самой волей, из которой в прошлом исходило
деяние, так чтобы содержимое воли, которое было налично тогда,
было бы содержанием той же самой воли, существующей и в
данный момент. Повторять еще раз то, что по этому поводу было
сказано, скучно и, по сути, пустая трата слов; персональность,
лишенная тождественности, чистой воды бессмыслица; и с точки
зрения психологии детерминиста тождественность личности (как
и тождественность в целом) — выражение без намека на смысл.
60
Простонародное понятие об ответственности
Я вовсе не хочу сказать, что детерминизм не верен с точки
зрения философии. На этот счет у меня нет мнения; все, что я должен
сказать в этой связи, — его выводы могут быть корректными.
Может, это и верно, применять к самости методы естествознания или
то, что считается таковыми, внимательно сквозь увеличительное
стекло самоанализа рассматривать туманность обыденных
представлений, пока она не распадется на атомы, которые движутся
в ограниченном пространстве, некогда казавшемся наполненным,
по неким, пусть и своим собственным законам. Я не утверждаю,
будто самость «нельзя разложить» на сосуществующие и
следующие друг за другом состояния сознания. Я вовсе не отрицаю, что
я или самость — не более чем «собирательное» понятие, не более,
чем собрание ощущений, идей, эмоций и желаний, связанных
вместе и расположенных последовательно согласно «закону
ассоциации», хотя и признаю, что уму, в меньшей мере «индуктивному»,
который не может воспринимать мир только a posteriori21, тяжело
даже вообразить то, о чем идет речь, а уж понять — нет
совершенно никакой возможности. Можно представить конкретные атомы
в пространстве; можно назвать их ощущениями, или идеями, или
как нам заблагорассудится; можно сказать, что под умом
понимается определенное собрание этих изображенных атомов, — пока
все хорошо. Но вот и первая трудность. Мы представили
собрание точек в пространстве, а это значит, мы видим само собрание,
видим, что оно занимает определенную область, и вне ее есть еще
место и другие собрания. Должны ли мы сказать, что ум
находится в пространстве? «О нет! — скажут нам. — Вы уже говорите о
вещи в себе: знание относительно, а это значит, мы должны судить
только об этом определенном собрании; на ваш вопрос нельзя
ответить, поскольку он выходит за пределы возможного знания».
Сказав «вещь в себе», так сказать, совершили подмену, между тем
как вначале мы были лишь слегка неточны в выражениях о
предмете. Ум продолжает быть собранием материальных точек в
пространстве; а дальше, если интересна перспектива, нам останется
21 На основании опыта (лат.). — Примеч. переводчика.
61
Эссе I
лишь сменить картинку, как если бы мы смотрели на мир в
калейдоскоп. И пока все идет довольно хорошо.
Не следует, однако, быть слишком уверенными в себе. На
мгновение мы забыли о том, что единицы этого собрания являются,
каждая в отдельности, состоянием собрания (они — «состояния ума»,
а ум «собирателен»). Вполне очевидно, что на положение россыпи
шариков влияет форма мешка, в котором они находятся, а на
расположение виноградинок — форма ветки; но трудно понять,
почему нас призывают называть каждый шарик состоянием всего мешка
с шариками, а каждую виноградинку — состоянием ветки. Для этого
нужно согласиться с предположением о том, что «существо» внутри
мешка не может быть разделено на шарики, а «существо» на
виноградной ветке не может быть разделено на виноградинки. Об этом
достаточно было сказано выше. Мы чувствуем, что есть и должны
быть такие вопросы, задавать которые бесполезно; и, если мы
контролируем самих себя и воздерживаемся от того, чтобы задавать
такие вопросы, все останется так же ясно, как и было прежде.
Но, к сожалению, на этом проблемы не заканчиваются:
собрание сознает само себя; оно говорит так, как если бы для него это
было просто. А это вообще невозможно изобразить, и мы начинаем
отчаиваться (я говорю о себе, поскольку пытался представить эту
картину): мы хотим удержать в воображении это собрание, но
всякий раз, когда пытаемся представить, что оно знает себя, все вдруг
путается и мы вообще уже не понимаем, что перед нами. Мы
можем быть уверены только в том, что это уже ne собрание, хотя все
время были уверены в том, что именно собрание и представляем.
Думаю, лучше успокоиться на том, что, пока мы
придерживаемся «научности», подобного рода трудностям не следует придавать
особенно большого значения.
Но, когда мы слышим, как само это собрание утверждает,
будто оно на самом деле таковым не является, что многое на самом
деле есть также одно, а сложное на самом деле есть также простое,
а то, что различается, не в меньшей степени тождественно; когда
мы слышим, как это собрание заявляет, будто все сказанное
характеризует то, что оно называет самим собой, и для него все это
62
Простонародной понятие об ответственности
несомненно, поскольку такой образ мысли подразумевается
самим его существованием, — мы понимаем, с кем имеем дело. Это
собрание пытается быть «сущностью» и «вещью в себе» или,
возможно даже, Абсолютом; такова единственная причина, почему
они могут утверждать, будто все это правда. Будь это истина — что
тогда ложь! Это затруднение разрешил Юм, о котором у нас есть
свои причины не говорить, но держать его соображения, так
сказать про запас, — и разрешил раз и навсегда. Все это — фикции
ума и сам ум - фикция ума.
Приведем пример. Все видели связку лука. Ни одна из
луковиц не является какой-либо другой, — ее можно взять саму по себе,
как отдельного индивида; и все же каждая из этих луковиц —
состояние всей связки. К тому же связка знает о себе — она говорит
о себе и в целом ведет себя так, как будто она неделима. И нет
сомнения, что именно это называют самосознанием. Но здесь
начинается путь к неверному представлению; ибо, говоря о «самости»,
мы (т. е. луковицы) впадаем в заблуждение, что за луковицами
и веревкой есть еще что-то, но, осмотревшись, понимаем, что
ничего нет. Но мы замечаем вот что: веревка, связывающая
луковицы, сделана из соломы, а значит, никакой веревки нет вовсе,
веревка — домысел. Луковицы держатся вместе законами ассоциации
луковиц; и именно из-за этих законов взаимное расположение
приводит луковицы к мысли о веревке, и следующим из нее
глупым идеям самости, которые открываются во всей своей нелепости,
когда мы видим, во-первых, что нет ничего, кроме веревки, а
потом, что и сама веревка, по сути, ничто. Единственно, что в итоге
трудно увидеть, так это то, что мы, понимающие иллюзорность,
сами — иллюзия, которую мы понимаем22; и возможно, согласно
теории «относительности», чтобы знать фикцию, нужно самому
быть фикцией, которую знаешь, — но все это трудно понять,
особенно уму, который менее всего «аналитичен» и, я начинаю
бояться, вообще не «индуктивен».
^Бейн вывел, что ум собирателен. Думал ли он когда-нибудь, что
собирает Бейна?
63
Эссе I
Можно видеть, что река — поток, и соломинка, которую он
несет, — на самом деле не более стабильна, чем сам поток; но как
она может видеть это, как может она вводить себя в заблуждение
мыслью о том, что она не может не думать о себе как едином
существе и что она в конечном счете всего лишь соломинка, —
кажется, что на самом деле все это невозможно понять.
Единственный способ — представить некую иллюзию, которая всего лишь
иллюзия, которая сначала верила в то, что она не иллюзия, а
потом обнаружила, что на самом деле она иллюзия; и поскольку
кажется, что к такому выводу необходимо приводит23 «индуктивная
психология», если ей следовать, то я не вижу достаточной
причины, почему грубые предположения этой психологической теории,
если только им не ведомо, что они на самом деле означают, не
могут показаться столь же абсурдными.
Мы слишком задержались на этом вопросе. Если
психологическое учение детерминистов не придает значения самости или
же признает ее, но не в том смысле, в каком ее понимает
обыватель, тогда ответственность и наказание, а также все теоретические
и моральные представления, которые зависят (как мы убедились)
от смысла, который вкладывает в них обыватель, и содержат его
реальность в собственном бытии, а с ее отрицанием теряют силу
и развеиваются; или продолжают существовать в форме, которая,
какой бы и сколь бы удачной она ни была, не имеет ничего обще-
23 Я очень хорошо знаю, что невозможно перенять предпосылки и выводы, а
затем, придерживаясь предпосылок, не придавать значения выводам, поскольку
они кажутся неудобными. Когда на пути Юма вставал факт, он отгонял его как
выдумку. Поздний Милль думал иначе. Начав с тех же оснований, что и Юм,
и оказавшись перед тем же фактом, который опровергал всю его
психологическую теорию, он не мог ни проигнорировать его, ни признать, ни назвать
выдумкой; поэтому он отставил его в сторону, назвав «последним, не
поддающимся объяснению», и думал, я полагаю, что тем самым устранил
препятствие. Но в отношении своего противника он выразился иначе. «Он»
(теоретик) «не имеет права взять теорию, которая создана только для одного класса
феноменов, и расширить так, чтобы она охватывала другой класс, на
который не рассчитана, и оправдаться, сказав, что если он не может сделать так,
чтобы она объясняла и этот класс, то это потому, что предельные факты
необъяснимы» (Мнлль. Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона).
64
Простонародное понятие об ответственности
го с представлениями людей. Преступник в той же мере
«ответствен» за свои поступки, которые совершил год назад, как Темза
в Лондоне за тот несчастный случай в Айсис (Окфорд), т. е. не в
ответе вовсе. И наказание (в вульгарном смысле) преступника будет
повторением истории Ксеркса и Геллеспонта. Возможно и верно,
что управлять течением на одном участке реки значит
благотворно влиять на ее поток и, вероятно, оказать воздействие и на
другие течения; но если вы, исходя из этого, думаете, что поток можно
наказать, а вода несет за все ответственность в том смысле, в каком
мы используем слова «наказание» и «ответственность», — вы в
высшей степени заблуждаетесь. Таков должен быть наш вывод: «из
двух великих школ», на которые делится наша философия, ни
одна не связана с обыденной моралью; ответственность для обеих
из них (поскольку мы полагаем, что она есть) — слово,
совершенно лишенное значения, и объяснить его невозможно.
И вот, если этот вывод верен, и верен не только для меня
одного, то я могу сказать, что не сомневаюсь в его истинности; и к
тому же, если извлекать мораль еще не вышло из моды, думается,
в данном случае следует сделать несколько выводов. Первое
назидание — для обывателя: все, что мы услышали о философии,
кажется далеким от (и без сомнения, стоящим выше) наших
непросвещенных представлений и принципов нашей вульгарной
морали, а поскольку эти принципы — это то, о чем мы более
всего заботимся, нужно предоставить философов самим себе,
не вдаваясь в их высокие размышления. Я думаю, что в целом
это поучение наиболее ценное; хотя в наше время его труднее
всего претворить в жизнь. Далее, конечно, следует назидание
для философов: увидев, что человек в конечном счете остается
человеком, не нужно принимать их предрассудки, но,
поскольку философия противостоит не философии, нам скорее следует
утверждать себя, соразмерно тому, что наша система взглядов
отлична от обывательской, а потому выше. Это поучение, поскольку
для некоторых оно — единственно возможное, я также
рекомендую как верный путь к незамутненному счастью. Но, как мне
известно, некоторые люди извлекли еще один урок из сложившейся
65
Примечания к Эссе I
ситуации. Они поняли, что если мы не можем ни почивать с
обывателем, ни надрываться в перепалке двух великих школ,
наверное, стоило бы помнить, что мы живем на острове и что, если
мы не хотим, чтобы дух нашего народа стал столь же ограничен,
нужно расширять кругозор; что недалеко простирается (так
говорят эти люди) мир мысли, который во всем своем многообразии
не сводится ни к одной из наших философских школ и который,
будучи вотчиной философии, ведет борьбу против
односторонних точек зрения; это философия, которая мыслит то, что
обыватель полагает; философия — в заключение, — которую мы все
опровергали и которую, таким образом очистив собственную
совесть, теперь некоторые из нас могут, по крайней мере,
попытаться понять.
Примечания к Эссе I
А. Принуждение и ответственность
Рискну высказать несколько замечаний по этому сложному
вопросу, хотя недостаточное мое знакомство с тем, что по этому
поводу говорит юридическая и иная литература, равно как мое
собственное весьма фрагментарное представление о сути дела
не позволяют мне углубиться в него полностью.
Легче говорить о неведении как поводе для снятия
ответственности. Кажется, что незнание как определенных фактов, так и
моральных различий в целом или морального статуса того или
иного поступка, сама собой снимает ответственность при условии, что
само незнание нельзя вменить как вину.
Что такое принуждение? Это слово, конечно, используют
небрежно, но совершенно очевидно, что оно неприменимо
напрямую к тому, что не имеет воли. Мы не говорим о
неодушевленном предмете, что его «принудили». Встает вопрос: «Могу ли быть
принужден, если меня не принудили сделать что-то?» Не
станем утруждать себя ответом. В такой ситуации человек всегда
может сказать: «Меня заставили»; а в отношении воли лучше будет
66
А. Принуждение и ответственность
принять насилие и принуждение за одно, даже если эти слова
не вполне сходятся по смыслу.
Продолжим. Когда меня заставляют что-то делать, мое тело или
мой ум находится в определенном состоянии (в широком смысле),
которое не связано с моей волей (в строгом смысле). И таким
образом, принуждение — производство (в теле или уме живого
существа) результата, который не состоит к его воле, в наивысшем
смысле этого слова, в отношении следствия. Нужно добавить, что этот
результат должен или должен был бы идти вразрез с тем желанием,
которое в действительности испытывает тот, кого заставили;
например, если человека сначала одурманили, а потом обокрали, — это
принуждение. Вот почему, когда принуждение вызывает сомнение,
проверяют на раскаяние; потому что, если человек страдает из-за
того, что произошло, можно предположить, что его воля была против
этого события (Arist. Eth. III. 1.13). Но (не будем говорить о
«раскаянии») огорчение не обязательно следует за принуждением и не
всегда о нем свидетельствует. Меня заставили — или нет — в какой-то
момент в прошлом; и последующее сожаление не может сделать
так, что в тот момент я испытывал принуждение, а, возможно, я
даже рад сейчас, что меня на самом деле заставили.
Это можно назвать полным принуждением; распространенный
пример тому — насильственное действие над моим телом,
произведенное напрямую или через создание определенных условий;
и, опять-таки, приведение меня в любое физическое состояние,
не подконтрольное моей воле.
Есть маленькая трудность, поскольку я, по сути говоря, и не
делаю, и не воздерживаюсь от действия. Единственное, что может
сделать меня подотчетным в данном случае, — вина в том, что я
позволил себя принудить. Тогда все в какой-то мере — следствие моего
поступка или моего бездействия; в любом случае моей воли.
Настоящая проблема состоит в следующем. Если мне
приходится сказать: «Я сделал это», смогу ли я оправдаться тем, что
меня принудили? Можно ли заставить волю?
Эту возможность отрицали. Говорилось, что принуждение
воли — только предположительно и «относительно», но не абсолютно;
67
Примечания к Эссе I
что оно значит только, что если я хочу иметь или не иметь что-то,
то с этим будет связано еще некое следствие, которого я не
смогу избежать. Реши я, с одной стороны, не обращать внимания
на следствия или не признавать их с другой, и никакого
принуждения не будет. «Человека нельзя ни к чему принудить, если
только он сам этого не хочет». (См.: Hegel. Propädeutik. XVIII. 35; Ph.
d. Rechts, VIII. 128 (1840).)
Я не думаю, что это так. Допустим некую ситуацию выбора.
Очевидно, что у меня может быть только один или два варианта, как
поступить (не поступать может быть альтернативным действием);
и все они могут мне не нравиться, я могу их не одобрять. Но один
из них я должен выбрать. Коротко говоря, меня можно принудить
предпочесть какую-то альтернативу; и тогда будет ли то, что
сделаю, вменено мне с точки зрения морали, будет зависеть от того,
есть ли моя вина в том, что я оказался в таком положении.
Пропустим это, поскольку нас ждет куда более серьезный
вопрос: «Если речь не идет о выборе между альтернативными
способами действия, можно ли меня принудить к какому-либо
определенного рода действию? Можно ли склонить волю к определенному
результату?»
Все зависит от того, что понимается под «волей». Если под
«волей» понимается «выбор», «воление», сознательная реализация
самости как объекта одного желания (в самом широком смысле),
который был представлен сознанию как нечто отдельное и как
возможность, еще не ставшая реальностью, — тогда волю
нельзя заставить. Ибо, если предположить, что посредством такого-
то и такого-то волевого акта можно привести сознание в
определенное состояние, результат этот все равно исходит от самости.
Нельзя сказать: «Я не волил этого» или «Если бы я волил, то во-
лил бы иначе»24.
24 Следовательно, то, что следует из воли, не может происходить по
принуждению. Но возникает вопрос: «Можно ли принудить волю?» Мы должны дать
отрицательный ответ. К воле нельзя применять понятия насилия и принуждения.
Поскольку совершенно невозможно непосредственно произвести воление в другом;
если предположить, будто можно посредством принуждения привести сознание
68
А. Принуждение и ответственность
Но если «воля» понимается в более приземленном смысле,
тогда, я боюсь, нельзя отрицать, что она может быть и часто
оказывается принуждена, и не относительно, а всецело.
Почему это? Если коротко, то потому, что принуждение
может подавлять физические условия, при которых действует воля,
так что станет невозможно решиться что-то совершить, а чего-то
не совершать.
Позвольте пояснить. (1) То, что называют
«автоматическими» (метафора и только метафора) действиями, может быть
произведено принуждением. Это понятно. Когда не действует
контроль со стороны сознающей воли или когда она еще не успела
установить контроль, тогда можно спровоцировать реакцию
того, что можно назвать бессознательной волей. В таком случае я,
очевидно, не могу быть подотчетен, если только нельзя вменить
мне в вину бессознательное состояние моей самости или же саму
ситуацию. Строго говоря, я не знаю, что делаю, и поступка в
собственном смысле нет.
Выделить класс таких ситуаций сложно. Если к моей голове
неожиданно приставлен пистолет, то, что я делал до того, как у
меня появилась возможность собраться с мыслями, вообще не
может быть мне вменено. Проблема вот в чем: допустим, у меня
было достаточно времени, чтобы собраться, можно ли все равно
считать, что действие было автоматическим, т. е. что оно
происходило не от сознающей воли? Собственного опыта в таком вопросе
у меня нет, но я полагаю, что, если человек сильно напуган или
испытывает сильную физическую слабость или состояние его
сознания изменено, он может действовать под принуждением, не только
без участия сознающей воли, но даже без ее возможности. В таком
случае человек не несет ответственности, если только не оказался
в этом положении по собственной вине.
в определенное состояние, которое приведет к определенному акту воли, сам этот
акт все равно не будет вынужденным. Акт воли не является действием того
состояния, которое вы произвели. Он — новое утверждение самости, которая была
вырвана из целокупного содержания самости; и в поступке себя утверждает вся самость.
Принуждение может вести к насилию, но оно не может быть его причиной.
69
Примечания к Эссе I
(2) Но вопрос, который доставляет больше всего неудобства:
«Если человек знает, что он делает, может ли он потом сослаться
на принуждение как на основание для снятия ответственности?»
Если мы знаем, что делаем, настолько, чтобы знать, что мы
делаем это, но не настолько, чтобы видеть, каково отношение этого
деяния к другим вещам, на этот вопрос ответить легко. Мы не
способны собраться и когда, произведя определенное действие, не
отдаем себе отчета в том, каков его характер. Например, женщина
вынуждена подписать документы, которые могут причинить
большой вред ее детям. Я думаю, возможно запугать ее настолько, что
она подпишет их, сознавая, что делает, но в этот момент не зная
ничего о содержании этих документов. В этом случае мы,
совершая поступок, не знаем, что именно делаем неправильно, и в этом
случае не можем давать отчет.
Но, если я знаю, что делаю, и также знаю, каково мое деяние,
знаю, какие последствия оно будет иметь для всей моей жизни,
и знаю, что так поступать не правильно, можно ли меня в таком
случае вынудить совершить этот поступок? Я думаю, мы должны
сказать: да, хотя я присоединяюсь к этому ответу не без доли
сомнения.
Мне кажется, мы должны признать, что, когда я не могу (при
условии, что здесь нет моей вины) собраться настолько, чтобы
принять волевое решение поступать так, а не иначе, — я не могу нести
отчет за действие, которое совершил, я не совершал его;
безразлично, принудили ли меня силой, исходила ли она лишь от
неподдающейся контролю мягкости моего характера или в том числе от воли
извне. Если воление невозможно физически и если нет моей вины
в том, что оно невозможно, то я не несу ответственности.
Встречаются ли такие случаи на практике? Думаю, да. Нет
сомнения, что они обусловлены безумием; но случаются такие
ситуации со вменяемыми людьми. Физическая боль, причиненная
насильственно, и слабость могут уничтожить сами условия, при
которых действует воля, отняв силы; испытывая сильное
негативное переживание, человек может не удержать перед собой две
возможности и выбор для него будет невозможен: он не сможет от-
70
А. Принуждение и ответственность
делить себя от того, что на него давит, чтобы либо устоять, либо
раствориться в нем. В таких случаях агент не способен собрать
себя настолько, чтобы могла действовать воля, и, несмотря на
знание, боль и чувство вины, он, будто во сне, совершает поступок,
который вызывает у него отвращение и который сам он ставит себе
в вину, хотя (при условии, что здесь не было ошибки с его стороны)
у здравого наблюдателя может не быть оснований для того,
чтобы приписать этот поступок ему как моральному агенту. К
примеру, я не могу сомневаться в том, что в некоторых случаях женщину
на самом деле совращают помимо ее воли; и она, хоть и отвечает
за последствия этого акта, но более ни за что. И хотя практическая
сторона вопроса нас не касается, мне должно быть позволено
заметить, что есть и другие опасности помимо моральной
невыдержанности. Существует ложное самоуничижение, при котором
воле приписывается больше, чем она на самом деле может, а также
ощущение безвыходности и уход от самого себя, — это
позволяет человеку воспринимать себя тем, чем он еще не является, и
позволяет ему стать таковым в действительности. В морали прошлое
реально, потому что оно актуально для воли; и наоборот, то, что
остается только прошедшим, не актуально для воли.
Когда поступок лишь произволен, когда нет сознательного
акта воли и когда этот акт физически невозможен, в таком случае
мы несем ответственность только настолько, насколько мы сами
создали условия для того, чтобы он был невозможен. В противном
случае мы можем оправдаться принуждением.
Предвижу возражения, которые могут не замедлить
появиться. «С такой точки зрения, — скажут нам, — оправдать
можно практически все что угодно. Поскольку не всегда, делая что-то
неправильное, мы действуем, говоря: „Я хочу". Часто мы не
планируем, но вдруг, поддавшись искушению, понимаем, что
оказались виновны прежде, чем узнаем, что делаем. В таком случае
нет акта воли». Вы говорите: «Но было возможно»? Что вы
имеете в виду? Не обманывают ли вас слова? Мы говорим, конечно,
что было возможно; все должно было бы быть другим, если бы не
было тем, чем стало. Но тогда, оно было таким, а не чем-то иным.
71
Примечания к Эссе I
Возможность, о которой вы говорите в данном случае, можно
отнести ко всему чему угодно.
Мы должны прояснить этот момент. Мы согласны с тем, что
в каком-то конкретном случае будет справедливо сказать, что для
того, кто поддался искушению, может быть физически
невозможно волить тем или иным образом. Но добавим, необязательно, что
поэтому с него меньше спросится.
Суть вот в чем. Если мы признаем, что совершить волевой акт
было невозможно, то почему? В чем причина? В силу того, что столь
силен соблазн дурного или что столь слабо желание благого? И
если нам ответят: «Не имеет значения, все относительно», мы
возразим, что «в таком смысле вовсе не все относительно». Вопрос в том,
может ли человек сказать: «Я не делал ничего для того, чтобы моя
воля к благу не была сильнее. Я не делал ничего для того, чтобы тяга
к дурному не была слабее»? Может ли он сказать: «Все свои силы я
направил к благу и против дурного. Бездействие моей воля, для
которой было невозможно воление, не было результатом моего
действия». Если человек действительно вправе сказать такое, то он
может также сказать: «Моя воля не действовала, потому что не могла;
а потому я не в ответе за свою волю, и за поступок».
Соблазнить можно, только склонив волю; вопрос в следующем:
«Есть ли вина человека в том, что его воля такова, а не иная?» Если
в этом нет его вины, тогда мы признаем, что кто-то взял над ним
верх, — что его воля действительно не могла действовать; и мы
думаем, что ему как моральному агенту невозможно вменить деяние.
Теперь, в свою очередь, мы спрашиваем: «Сколько дурных
поступков может оправдать такая точка зрения?» Думаю, не много.
Повторимся: когда бы человек ни сказал искренне: «Не мое
действие или отказ от действия привели к тому, что моя воля
слаба, и дело не в том, что та воля, которой я обладаю, слишком мало
едина с благом и отвращена от дурного, но в том, что у меня
кончились последние силы», — мы всякий раз признаем, что с точки
зрения морали ему нельзя вменить проступок, поскольку ни у его
воли не было возможности действовать, ни у него самого не было сил,
чтобы активизировать ее. Но, если человек смог собраться и имел
72
А. Принуждение и ответственность
место акт воли, я думаю, мы должны сказать, что при таком
условии деяние всегда можно вменить ему в вину. Степень вины — это,
конечно, уже другой вопрос, который мы затрагивать не станем.
Учение о том, что нашу волю можно принудить к
произвольным действиям, я думаю, не должно нас ни тревожить, ни огорчать.
Мне это учение не кажется имморальным ни в каком смысле; и оно
кажется куда более справедливым, чем то, что утверждает, будто
всегда есть возможность устоять перед злом и в любой момент
поступать благим образом, какими бы ни были прошлые и настоящие
условия. Возможность принуждения должна заставить нас более
ясно увидеть необходимость так усилить волю к благу, чтобы
принуждение стало невозможным, разве что только в теории. Также
возможность принуждения должна заставить нас бояться
обстоятельств, которых, как мне кажется, большинство людей, в ряде
случаев воодушевленных учением о libertas arbitrii, боятся в
недостаточной мере. Что нас, отрицающих это учение, должно ободрить, так
это тот факт, что снова и снова слабым удается устоять тогда, когда
мы, спроси нас заранее, сказали бы, что устоять невозможно, и
удается лишь потому, что они соединили свою волю с благом.
Это все, что я хотел сказать о принуждении в связи с
ответственностью, и я знаю, что не воздал по справедливости.
Принуждение, которое делает человека не ответственным, —
абсолютное принуждение25. Относительное принуждение — с чем никто
25 Вышеописанное учение, я думаю, объясняет всякого рода маниакальные
явления. В этой связи позвольте мне заметить, возражая доктору Модели (Dr. Maudsley),
что не все метафизики отрицали или не придавали значения безумным порывам,
которым невозможно противостоять и которые существуют наряду со знанием
морального статуса поступка. Напр., см. «Феноменологию духа» Гегеля. Книга Модели
об «Ответственности у душевнобольных» («Responsibility in mental disease»), —
которую я прочел с большим интересом, и я надеюсь не без пользы, — как мне
показалось, нисходит до не научности. Как возможно сказать, что освобождает безумца
от ответственности, если не известно, что делает ответственным человека в здравом
уме? Но об этом Модели не говорит ни слова. И как возможно (если только мы не
последние из глупцов) принять свидетельства о том, что кто-то не подлежит
ответу, если мы не знаем, разделяет ли автор наши воззрения на ответственность
человека в здравом уме, когда, насколько мы можем видеть, из его слов выходит, что
никого (ни здорового, ни безумца) нельзя назвать ответственным?
73
Примечания к Эссе I
не согласится — освобождает нас от ответственности; ибо это
не означает «должен» всегда и везде, а только тогда, когда
необходимо принять решение с чем-то иметь, а с чем-то не иметь дела.
В таком случае мы можем собраться и следовать тому пути,
который выбираем.
На этом мы должны остановиться; но я хотел бы, отклонившись
от нашего предмета, привлечь внимание к вопросу, который, как
мне кажется, остро нуждается в том, чтобы пролить на него свет.
Очевидно, что не всякое и не каждое влияние означает
принуждение; но если судить с позиции, которую в своей любопытной
книге о Свободе и прочих предметах, занял Стефен, и которую я
обнаружил в нескольких рецензиях на его произведение, — то провести
связь между влиянием и принуждением вообще невозможно. Это
утверждение вызывает удивление, и поскольку ложные
представления по этому вопросу могут породить ложные выводы в отношении
наиболее важных предметов, я рискну кое-что сказать. Абсолютное
принуждение, как мы видели выше, — приведение сознания или
тела человека в определенное состояние без участия его воли и против
воли, актуальной и предполагаемой; и если я намеренно привожу
другого человека в такое состояние, я его принуждаю.
Относительное принуждение покоится на вере в то, что абсолютное
принуждение может быть обусловлено. В этом смысле я пытаюсь вынудить
другого, когда даю ему основание верить в то, что, если произойдет
(или не произойдет) определенное событие, я против его воли и
произведя некоторое действие приведу его в определенное состояние.
Относительное принуждение — влияние под угрозой абсолютного
принуждения. Это не просто предупреждение, и опять-таки не
просто директива, но угроза; поскольку принуждение должно, прямо или
косвенно, следовать из воли. Последнее существенно; и именно
отсюда, как нам кажется, Стефен пошел неверным путем: забыв о
различии «предупреждения» и «угрозы», он, сверх того, пренебрег
различием «убеждения» и «насилия». Конечно, «насилие» можно понять
так, что убеждать другого тоже будет насилием, но только не в
смысле «принуждать». Если я говорю: «Перейди реку сейчас, или
прилив разрушит мост и ты будешь вынужден остаться здесь», — это
74
А. Принуждение и ответственность
предупреждение; а если, далее, я пытаюсь довести до сознания
этого человека, что дело обстоит так, как я говорю, при этом имея
намерение повлиять на его поведение, то это — убеждение. Но если я
говорю: «Переходи, не то я разломаю мост», — это угроза. Это
попытка относительного принуждения, потому что я угрожаю создать
условия для абсолютного принуждения. Так, если священник
(пишет Стефен) говорит: «Если ты поступишь так, то я убежден, что
ты погибнешь, и я боюсь этого» — это предупреждение. Здесь нет
угрозы, что человек испытает тяжелые последствия, которые будут
результатом волевого действия того, кто предупреждает (на самом
деле, можно предупреждать о том, что произойдет непременно и
безусловно; напр., если бы воображаемый священник думал, что вы -
один из massa damnata26, он, по-видимому, мог бы сказать вам это).
Если священник попытался бы заставить поверить в то, что
последствия неминуемы, — это уже было бы убеждение. Но когда он
говорит: «Если ты поступишь так, то я или тот, кого я представляю,
сделает так, так что умрешь или можешь умереть: наши действия зависят
или могут зависеть от того, что делаешь ты; и то, что сделаем мы,
изменит или может изменить твои планы на будущее», — то это угроза
и попытка относительного принуждения. Убеждать — вызывать
изменение в убеждениях или мнении человека (имея или не имея в
виду соответствующее изменение в его поведении), посредством
размышлений, направленных на понимание с его стороны. Цель этих
размышлений — представить перед ним (как факты)
действительные или возможные факты, реальное или ожидаемое положение
дел. Я думаю, что читатель, поразмыслив, поймет, о чем я говорю.
Argumentum baculinum27 и „убеждающие" всадника — шутка; шутка,
лежащая в несовместимости таких вещей с убеждением. При
убеждении выводы, которые должны исходить от убеждающего, могут
представлять те факты, в которых нас убеждают; но единственно,
о чем это говорит, так это о том, что убеждение могут применять
при угрозе. Простое убеждение — всего лишь растолковывание
26 Проклятой массы (лат.) — Примеч. переводчика.
27Палочный аргумент, доказательство с помощью насилия (лат.). — Примеч.
переводчика.
75
Примечания к Эссе I
факта как факта, отвлеченно от того, что это за факт, и от его
отношения к воле той стороны, которая убеждает, и той, которую
убеждают. Далее, в убеждении должно быть некоторого рода
размышление и обоснование. Иаков не убеждал Исава чечевичной похлебкой;
она могла бы быть инструментом убеждения, если он доказывал.
Я был бы рад, если бы мне позволяло место, продолжить, отвечая
на возможные возражения; и поскольку место мне не позволяет,
прошу читателя простить отступление назад на том основании, что
стремление к ясности в этой книге является одним из руководящих
принципов.
В. Насколько характер неизменен
Понять всецело, что означает характер, — понять, что вообще
означает индивидуальность и в каком смысле самость человека
индивидуальна. А понять это (есть ли необходимость это говорить?)
— значит иметь ясное представление о ряде наиболее трудных
вопросов. Мы не претендуем на то, что обладаем им; и все, что мы
собираемся сказать, должно понимать как более или менее
поверхностное замечание.
«Если дан определенный характер и определенного рода
побуждение, необходимо последует определенный поступок».
Таково мнение, которое, безусловно, в ходу. Подкрепить его на
конкретном опыте невозможно в силу природы предмета; тем не менее
если истолковать его так: «Предположим, что повторяется
ситуация, когда человек, чей характер не изменился, испытывает то же
самое, что и раньше, побуждение, и более нет никаких факторов.
Не должно ли следствие этой ситуации быть тем же самым, что и в
прошлый раз?» то отрицать, что мы согласны с этим, кажется
совершенно невозможно или возможно, но при условии, что мы
готовы ставить под вопрос абсолютно все утверждения. Но, прежде
чем высказать свое согласие, нам следует обратить внимание на то,
что истина сказанного абстрактна. Оно истинно, только если нет
более ничего, кроме того же характера и побуждения.
Отсюда возникает вопрос: может ли абстракция быть не
только пустой? Сила и слабость утверждения в «предположим, что». Нет
76
В. Насколько характер неизменен
сомнения, гипотетический вывод из воображаемых посылок
может быть полезен, но хорошо бы еще помнить о том, что исходные
данные вымышлены. Итак, нужно задать вопрос: «Имела ли
предполагаемая ситуация когда-нибудь место в реальности?» (1) Может
ли характер быть неизменным? и (2) Всегда ли мы не испытываем
необходимости признать, что на действие влияет нечто, помимо
характера и побуждения?
Существует точка зрения, согласно которой характер врожден
и неизменен. В ответ следует заметь, что изменяется то, что
вызывает реакцию характера, сам же характер неизменен; и далее,
ничто в индивиде не выходит за его характер, им все исчерпывается.
А если так, то, чтобы утверждать, будто то, что однажды
побуждало нас к действию, может побудить к нему снова, необходимо,
чтобы стимул был, если не совершенно идентичным прежнему,
то, по крайней мере, во многом схожим с ним. Я не отрицаю, что
в пользу этой точки зрения говорят некоторые факты, но мы
должны отвергнуть ее, ведь ее трудно совместить с очевидным фактом,
что характер на самом деле иногда меняется28, не говоря уже о
метафизических и психологических возражениях, которым эта
точка зрения открыта.
Согласно вышеописанной точке зрения, наше абстрактное
«предположим что» — факт, насколько фактом может быть утверждение
общего характера. Но предположим, что истинно
противоположное. Если характер вовсе не неизменен, если он постоянно
изменяется, тогда при условии того, что можно назвать тождественным
побуждением, может быть так, что реакция всегда будет разной.
В данном случае нельзя сказать, что утверждение «тождественный
характер, тождественное побуждение, тождественный поступок»
совершенно неверно, но оно практически бесполезно и не
говорит ничего существенного. Но предположение обратного также
28 Об этом не впервые, но очень ясно и безрассудно говорил Шопенгауэр.
Интересно проследить, как он переходит от одной крайности к другой. Вначале он
заявляет, что интеллект не имеет ничего общего с характером, а потом под
давлением фактов признает «приобретенный характер», который, насколько я
могу понять Шопенгауэра, есть не что иное, как интеллект.
77
Примечания к Эссе I
противоречит очевидным фактам, поскольку поступок человека
может быть с долей вероятности просчитан. Конечно, если полагать,
что характер постоянно меняется, то его вообще не существует.
Факты же указывают на то, что есть третья точка зрения;
и мы можем ее выразить так: «Характер относительно неизменен».
Однажды сложившись под воздействием нрава и обстоятельств,
может случиться, что он изменится так мало и так незначительно,
что мы имеем право сказать, что он остался тем же самым.
Факты свидетельствуют о том, что многие люди, осознавая то или нет,
обладают системой принципов, и большинство поступает
исходя из них. На основании этих принципов можно строить
предположения. Иные же люди так сильно меняются, что, даже если
хорошо знал человека несколько лет назад, не сможешь сказать, как
он поступит в той или иной ситуации. А есть такие, кто
«перевоплощается», и нам приходится признать: «С тех пор он стал
совершенно другим человеком».
С этой точки зрения «тождественный характер, тождественное
побуждение, тождественный поступок» опять-таки — нечто
большее чем просто совершенно неверное предположение. Оно
говорит о чем-то более или менее реальном, и в большей или меньшей
степени справедливо соответственно тому, насколько характер
неизменен. Но оно не перестает быть лишь предположением.
Даже больше, предположение будет совершенно ложно, если
мы не допустим, оно представляет оторванным то, что в реальности
нераздельно связано с другими элементами. И вот мы
возвращаемся к нашему второму вопросу. Не вынуждены ли мы признать, что
есть нечто кроме характера и побуждения? Если да, если поступок
следует из чего-то еще, помимо характера, тогда формула
«Тождественный характер, тождественный поступок» будет неверна; если
только не понимать ее так: «Тот же самый поступок будет иметь
место, если допустить, что должно произойти то, что никогда не
происходило прежде, и нет ничего, кроме характера человека».
Таким образом, чтобы оценить, насколько истинно
предположение «тождественный характер, тождественный поступок»,
нужно не упускать из виду: (1) что характер изменчив, (2) что
78
В. Насколько характер неизменен
поступок может проистекать из чего-то помимо характера. Эти
два положения, которые тесно связаны друг с другом, нужно
попытаться понять более полно.
Характер неизменен, но только относительно. Поняв
причину первого, мы увидим, что второе истинно. Характер
складывается из нрава под воздействием обстоятельств. Характер — то, что я
сделал собой из этих составляющих, и причина, почему он
остается неизменным, состоит в том, что эти элементы были, так
сказать, использованы и реализованы в индивидуальности. То, что я
есть, то, что я сделал собой из, в отношении к, и вопреки сырому
материалу и внешним обстоятельствам, которые его
обуславливали. Внешние обстоятельства более или менее постоянны, а сырой
материал более или менее систематизирован. Следовательно,
почти всё сейчас подчинено моему характеру и приобретает от него
свои свойства. Самость становится все более и более определенной
и реализованной и потому исключает возможности, фиксируется
и замыкается; коротко говоря, твердеет.
Отсюда, зная, что человек — определенного рода система
(сознательная или не сознательная), мы можем сказать, как ему
представляются вещи и как он поведет себя в ответ на определенные
стимулы. И мы утверждаем, что человек создается, и мы знаем,
что он есть, и убедились на практике, что он всегда будет верен
себе, ибо уверены, что с ним не может произойти ничего такого, что
в том или ином виде уже не происходило с ним и что нельзя
было бы подвести под какой-либо принцип его характера. Вот что
мы понимаем под неизменным характером.
Но эта твердость не более чем относительна. Теоретически,
изменение всегда возможно, а иногда и более того. На то есть две
причины: (1) нельзя исчерпать все внешние условия; (2) нельзя
систематизировать всю самость.
(1) Нельзя утверждать, что кому-то удалось устоять перед
всеми искушениями и их сочетаниями; а потому всегда остается
умозрительная возможность того, что он столкнется с такого рода
неизвестным ему искушением, которое будет для него пагубным.
И (2) характер человека и его самость никогда полностью
79
Примечания к Эссе I
не совпадают. Характер — более узкое понятие, чем самость; и
более того, его составляющие меняются или могут меняться. Так
и должно быть, ведь человеческое тело меняется под воздействием
погоды, болезни или с возрастом, также меняется сила и природа
желаний; так и характер, хотя и выработан человеком, постоянно
вырабатывается до конца жизни, а потому есть вероятность, что
он изменится. Внимательно следует отнестись и к мысли о том, что
самость не исчерпывается характером человека. Характер —
«вторая натура»; но, кроме нее, есть еще и первая. Сырой материал
нрава человека не полностью систематизирован в характере;
существует, наверное, что-то, что выходит за пределы сознающей
самости, которая утверждает себя в мире, или скорее находится
под ней. Следовательно, при определенных новых внешних
обстоятельствах, странном душевном расположении, на свет выходит,
так сказать, тайная самость, которая проявляет себя в ощущаемом
желании и сознаваемой страсти; и неизвестно, к чему она
приведет. Итак, самость абстрагирована, но не от того, что понималось
как характер, а от этого плюс новое желание; и то, что возникает
из такого соединения, нельзя предсказать с научной точностью.
Должно быть, каждый чувствует в себе нереализованные
возможности; и как бы он поступил, будь у него шанс реализовать их,
если бы он мог, так сказать, дать себе волю?
Итак, если самость, складывающаяся из привычных реакций,
систематизирована и развита настолько, что учитывает все
возможности, — все хорошо. Но, как мы видели, невозможно всецело
контролировать самость и ее тайные желания. Следовательно, всегда
есть вероятность, что, если организованная самость их не подавит,
они могут проявиться. Если предположить, что так и обстоит дело,
то можно быть уверенным, что налицо конфликт между
желанием и принципом; и потом, поскольку в данном случае нет
наготове заранее продуманного решения (есть только привычка
поступать в согласии с принципом, но в отношении этого конкретного
желания принципа нет), невозможно рассчитать ни силу
искушения, ни его следствие. Возьмем, к примеру, взрослого
человека, который никогда не испытывал искушения сексуальной
80
В. Насколько характер неизменен
близости, и так случается, что он влюблен, но его страсть не
находит удовлетворения. Его характер не противостоял такого
рода искушению. Воление проистекает не только от тренированной
и твердой в своих принципах самости, но также формируется и под
воздействием новой силы; и если воление — только «то, что
следует», следствия должны быть разными. Раз так, то мы можем
сказать только — может быть.
Если, таким образом, на теоретических основаниях нельзя
уверенно предсказать, как будет действовать человек, который
последователен и тверд в своих принципах, что же тогда можно сказать
об организованной самости, которая содержит противоречия? Тут
нам придется строить догадки по принципу аналогии, больше
ничего мы не можем сделать. Поступок зависит от целого, которое
составляют обе: сознающая и несознающая самости29. Если это
единство более или менее беспорядочно, то оно должно быть изменчиво
и зависеть от случая; а потому и здесь невозможно, насколько я могу
видеть, сделать теоретический вывод о том, что даст новое
соединение его частей. И результатом будет не просто «то, что следует».
Мы заметили, что невозможно наверняка знать, как мы
поступим, пока не пришло время поступать. Отчасти, нет сомнения,
причина в том, что нам не хватает знания подробностей; но это не вся
причина. Поступок — это не просто ответ на теоретическое
применение принципа. Нельзя пренебрегать тем фактом, что
присутствие объекта вызывает желание; не всегда возможно и
посредством разума или воображения реализовать желание до встречи
с объектом. В поступке воля — реакция всей самости на
явленный предмет, и мы можем знать, как определится эта воля, только
если сможем исключить те действия самости, которые нам не
удалось превратить в привычки и познать.
Таким образом, единственная самость, которую мы можем
просчитать, — та самость, которая сложена из привычных действий,
29 Позвольте заметить, что этим рассуждением мы разрушаем последнее
прибежище тех, кто основывает «свободу» на возможности и простой
случайности. Если нельзя просчитать поступок исходя из тех данных, которые предстоят
уму, нужно еще рассмотреть то, что в уме.
81
Примечания к Эссе I
а потому никто из нас не застрахован. Многие люди и себе и
другим показывают себя с той стороны, что не является реализацией
других побуждений самости, но которые есть в человеке. У кого-то
они покоятся в области «под сознанием», возможно, чтобы
никогда не проявиться, а у кого-то только и ждут момента, чтобы
внезапно вырваться и стать светом и любовью или «грязью и огнем».
Однако проявление этой самости должно оставаться только
умозрительной возможностью; и если она действительно проявится,
известная нам самость должна быть достаточно сильна, чтобы
оказать противостояние.
Это рассуждение (хотя в большинстве случаев в нем нет
необходимости) помогает объяснить загадочные превращения и перемены,
которые происходят в человеке; но пора подводить его к концу.
Мы пришли к тому, что можно быть уверенным в том, что
человек не изменится; и как следствие, зная его привычки, можно
не сомневаться в том, как он поступит. Но поскольку невозможно
учесть все обстоятельства, которые встретятся на его пути, а та
самость, которая складывается из привычных реакций, — это еще
не вся его природа, то остается умозрительная возможность, что
теоретически можно допустить, что он может повести себя
странным образом и его характер претерпит изменения30; и это важно;
ибо в целом мы понимаем, что предположение «тождественный
характер, побуждение, тождественный поступок», только отчасти
раскрывает положение вещей.
С. Свобода
Я не собираюсь вскользь касаться такого предмета, как
свобода, но скажу несколько слов, возможно полезных тому, кто только
приступает к нему. Если попытаться выразить основное
затруднение наиболее простым языком, то оно будет звучать так: если у
моих поступков есть «потому, что», то кажется, что исчезает ответ-
30 С этим связана практическая трудность. Часто нам кажется, будто
закоренелый развратник безнадежно очерствел, но нельзя утверждать, что у пего нет
шанса измениться. Так строится теоретическое оправдание практической
религиозной максимы: не считать никого безнадежным.
82
С. Свобода
ственность; и все же человек страстно ищет «потому, что». Но не
это ли «потому, что» — источник всех неприятностей?
(1) Можно сказать, что имеется только одно «потому, что»,
и только одно. Тогда человека низводят до уровня природы; и
объясняют ли это «потому, что» механически, или называют причиной
волю и пытаются возвысить природу до уровня человека, — не
играет никакой роли, ибо ни в том ни в другом случае не проводится
необходимого различия.
(2) Можно сказать, что для нас нет «потому, что» и добавить,
что:
(a) мы знаем, что такое воля, и она стоит вне «потому, что».
Она = случайность. Или
(b) воля непознаваема. «Потому, что» принадлежит стихии
мысли и действует на познаваемые предметы.
Ни одно из этих утверждений не выдерживают критики; ибо,
несмотря на затруднения метафизики в этих вопросах, в
действительности человек зачастую предсказывает воление.
(3) Можно признать «потому, что» (или, скорее, требовать его
признания, поскольку наша воля разумна), но добавить, что
имеется не только одно «потому, что». Есть механическое «потому, что»,
но оно не применимо даже к низшим формам жизни, не говоря
уже о духе. И если мы встанем на эту точку зрения, то, скорее
всего, обнаружим, что «потому, что», которое упраздняет
подотчетность — единственное «потому, что», которое не применимо к
духу, а относится к чему-то другому.
Если «должен» всегда употребляется в том же смысле, в
котором камень «должен» падать вниз, то смысл «должен» несовместим
со смыслом «обязан» или «можешь». В противном случае
свобода — просто «не-должен» и имеет чисто негативное значение.
Но что, если «должен» — «должен» в более высоком смысле?
А свобода имеет также и позитивное значение, если чисто
негативная свобода вообще не является свободой? Тогда мы, может статься,
обнаружим, что в истиной свободе «можешь» не только
совместимо с «обязан», но и неотделимо от него; и оба эти понятия не
только совместимы с «должен», но и не отделимы от него. Не является
83
Примечания к Эссе I
ли свобода чем-то позитивным? Возможно ли придать позитивное
значение свободе иначе, как введя волю, которая не только
«может», но также и «обязана» и «должна», исполнив закон ее
природы, которая отлична от природы физического мира?
Есть те, кто говорят стороннику теории необходимости: «Не
забываете ли вы о различии?», а поборнику свободы: «Вы
уверены в том, что различаете? Есть ли хоть малейшее различие
между внешней необходимостью и случайностью? Можете ли вы хотя
бы теоретически определить и различить их? Всегда ли истинно то,
что противоречит лжи? Не является ли оно гораздо чаще (а в
некоторых случаях всегда) также ложью?»; и обоим: «До тех пор,
пока вы отказываетесь от метафизики, вас будут мучить
метафизические абстракции».
Или, говоря то же самое другими словами: мы все хотим
свободы. Тогда, что же такое свобода? «Это когда тебя не
принуждают делать что-то или быть чем-то». «Свободен» значит «свободен
от». Должны ли мы быть совершенно свободны? «Да, если
свобода — благо, ее не может быть слишком много». Тогда, если
«свободен» = «свободен от», быть совершенно свободным — значит быть
свободным от всего: от других людей, от закона, морали, мысли,
смысла, от... Есть ли что-то от чего мы не должны быть свободны?
Быть свободным от всего — значит быть ничем. Только ничто
свободно, а свобода — абстрактная ничтойность. Если через смерть
мы перестаем быть чем-то, то именно она впервые делает нас
свободными, потому что, только умирая, мы впервые есть не.
Всем понятно, что мы желаем не такой свободы.
«„Свободен" — значит „свободен от", но в таком случае я должен быть
свободен. Абсурдно думать, что я должен освободиться от самого себя.
Я должен быть свободен, чтобы жить и утверждать себя». Хорошо;
но мы начали с другого. Свобода теперь означает утверждение
себя, которое является только самоутверждением. Она не только
негативна — она и позитивна также, а негативна, только поскольку
и насколько позитивна.
«Я должен утвердить себя и более ничего, вот что такое
свобода». С этим мы совершенно согласны; но это нам ни о чем
84
С. Свобода
не говорит. Я должен утвердить себя, но тогда какое действие
утверждает меня; или, скорее, какое не утверждает? И если я должен
утвердить только себя, какое мне нужно предпринять действие, чтобы
ограничиться только самоутверждением? Что, коротко говоря,
представляет собой эта самость, утверждение которой — свобода?
«Моя самость, — услышим мы, — это то, что мое; а мое — то,
что не твое и что не принадлежит больше никому. Я свободен,
когда утверждаю свою волю и волю, которая свойственная мне». Так
ли это? Если оставить в стороне возможные возражения, можно
ли сказать, что в этом состоит свобода? Положим, я люблю
поесть и выпить; через пороки эти я утверждаю свою волю; свободен
ли я как любитель поесть и выпить или я раб — раб собственных
пристрастий? Ответ будет таков: «Раб пороков еще не свободен.
Свободен тот, кто реализует свою истинную самость». Тогда весь
вопрос том, какова истинная самость и может ли она быть вне
чего-то вроде закона? Есть ли «полная свобода», которая не
означала бы «служение»?
Если задуматься, то становится очевидным, свобода, как мы ее
понимаем, и позитивна, и негативна. С этим связаны два
вопроса: что я должен быть свободен утверждать? от чего я должен быть
свободен? И ответ на них мы найдем, поняв — что есть моя
истинная самость?
ЭССЕ II
Почему я должен быть морален?31
Почему я должен быть морален? Этот вопрос естествен и все
же кажется странным. Нам кажется, что именно об этом
следует вопрошать, но, задав вопрос таким образом, мы
понимаем, что полностью покидаем точку зрения морали.
Вопрошание «Почему?» — разумное вопрошание, ведь
именно разум учит нас не делать ничего слепо, не делать ничего, что
не имело бы цели или что не было нашим намерением. Он учит
нас, что благо должно быть благом для чего-нибудь, а то, что не есть
благо для чего-нибудь, то не является благом вовсе. Таким
образом, мы принимаем как само собой разумеющееся, что, с одной
стороны, имеется цель, а с другой — средства и что мы имеем
право назвать средства благими только в том случае, если цель блага®,
а средства к ней приводят. Поэтому разумно постоянно
задаваться вопросом: «Почему я должен делать это?»
Однако в данном случае этот вопрос кажется странным. Дело
в том, что моральность — а она тоже разум — учит нас тому, что
если мы смотрим на нее только как на благо для чего-то иного,
31 Позвольте заметить здесь, что слово «моральный» имеет три значения,
которые в данной работе необходимо различать в зависимости от контекста.
(1) «Моральный» противопоставляется «не-моральному» (non-moral).
Моральный мир или мир морали противопоставляется миру природы, где морали нет
места. (2) Внутри морального мира моральных агентов «моральный»
противопоставляется «имморальному» (immoral). (3) И наконец, внугри морального
мира и собственно моральной части морального мира «моральное» ограничивается
личной стороной моральной жизни и институтами морали. Оно означает
внутреннюю связь той или иной воли с универсальной, — а не с полной, внешней
или внутренней, — реализацией морали.
86
Почему я должен быть морален?
то это значит, что мы всегда были далеки от того, чтобы вообще
ее видеть. Моральность говорит, что она есть цель, которую
должно желать ради нее самой, а не как средство для чего-то сверх
того. Принизьте ценность моральности, и она исчезнет совсем; для
того же, чтобы удержать моральность, мы должны ее любить,
а не просто использовать. Таким образом, вопрос «Почему?»
таит в себе опасность, потому что действительно допускает,
действительно предполагает само собой разумеющимся, что в этом
смысле добродетель нереальна, а то, во что мы верим, — ложь.
И добродетель, и вопрошание «Почему?» кажутся разумными,
и вместе с тем они не совместимы друг с другом; и лучше будет
двинуться по пути исследования природы вопроса «Почему?»,
а не по пути немедленного отрицания добродетели в пользу
этого вопрошания.
«Почему я должен быть добродетельным?» «Почему я должен?»
«Может ли что-нибудь быть более скромным?» «Может ли что-
нибудь быть менее самонадеянным?» Это не догма, это только
вопрос. Однако вопрос может содержать в себе (возможно, даже
должен содержать) более или менее явное предположение; или же,
другими словами, догму. Посмотрим, что предполагает заданный
нами вопрос.
В вопросе «Почему я должен быть добродетельным?» часть
«Почему я должен?» — это способ спросить «Что благого в
добродетели?» или даже: «Для чего она является благом?», и
становится понятным, что, спрашивая «Блага ли добродетель как средство,
и каким образом?», мы действительно предполагаем, что
добродетель есть благо единственно только как средство.
Следовательно, догма, лежащая в основании вопроса, очевидно, является либо
(1) общим утверждением того, что только средство является
благом, либо (2) частным утверждением того же самого
относительно добродетели.
Разъясним: универсальна или нет область применения
вопросов «Зачем?», «Для чего?». Всегда ли я могу задать этот вопрос, или
же его имеет смысл ставить только в нашем рассуждении.
Предположим для начала, что этот вопрос можно задавать всегда.
87
Эссе II
Тогда (1) мы принимаем как данное, что ничто не есть благо
само по себе; что благом являются только средства, ведущие к чему-
либо иному; что, коротко, «благо» = «благо для», т. е. благо для
чего-то иного. И это общий критерий, по которому следует
измерять и добродетель.
Скорее всего, никто не станет открыто применять подобный
критерий, однако его рассмотрение может оказаться не пустой
потерей времени.
Благо — средство: благо есть благо для чего-то иного, а оно, в свою
очередь, есть цель. Является ли цель благом? Нет; если
придерживаться нашего общего критерия, то как цель она не есть благо:
благо всегда остается благом для чего-то иного и является средством.
Для того чтобы стать благом, цель должна стать средством, и так
далее до бесконечности. Если мы теперь спросим: «Что есть благо?»,
то будем вынуждены ответить: «Нет ничего, что не было бы благом,
поскольку нет ничего такого, что нельзя было бы считать
приводящим к чему-то иному». Все состоит в отношении к чему-то иному.
Сущность блага — существование в силу чего-то иного, причем
всегда в силу чего-то иного. Если мы станем настаивать на том, что наш
критерий обладает всеобщей применимостью, то единственное,
чего мы достигнем, это убеждения в том, что всё есть нечто иное.
Пожалуй, последнее рассуждение несколько излишне, ведь
те, кто задает вопрос «Почему?», вовсе не мыслят о вещах в целом.
Для них благо ■— не результат тщетного процесса деления,
уводящего в бесконечность. Ими движет практический интерес, и они,
совершенно очевидно, понимают благо (которое называют
средством) как некое средство для цели в себе, предполагая и
бессознательно фиксируя последнее во всем, что им соответствует.
Если мы, к примеру, спросим их: «Добродетель — средство, и все
остальное тоже средство, и средство для всего остального.
Добродетель — средство получить удовольствие, испытать боль, оно
есть средство для достижения здоровья, болезни, богатства,
нищеты — оно потому и благо, что является средством; и то же самое
в случае с болью, нищетой и т. п. Это все есть благо, потому что все
является средством. Это ли вы имеете в виду, когда задаете вопрос
88
Почему я должен быть морален?
„Почему?"» — то они ответят: «Нет». И ответят они «нет» потому,
что все же принимают нечто за конечную цель, а следовательно,
за благо, и полагают это догматически.
Таким образом, как мы убедились, отрицается всеобщая
применимость вопроса «Зачем?» или «Для чего?». Этот вопрос
применим не ко всему, и теперь нам следует рассмотреть частный
случай его использования применительно к добродетели.
(2) Мы полагаем нечто как цель и, далее, не полагаем это нечто
добродетелью. В связи с этим вопрос прочитывается так:
«Является ли добродетель средством для данной цели, для такой цели,
которая сама есть благо? Является ли добродетель благом и
почему, т. е. к какому благу она должна вести, чтобы быть благом?»
Вопрос: «Является ли D средством для достижения А, В или С?»
оправдывается догмой: либо, А либо В, либо С есть благо в
себе». Особое внимание мы хотели обратить на догматичность во-
прошания. Его рациональность — представленная так, как если
бы она была универсальной, — неявным образом сводится к
некой цели с определенной областью. И наш ответ, очевидно,
должен быть таким: «Если вашу формулу (согласно вашему
собственному допущению) нельзя будет применить ко всему, на каком
основании вы можете предполагать, что она применима к
добродетели?» «Будь добродетельным, чтобы быть счастливым (т. е.
получать удовольствие)», тогда почему, «чтобы быть счастливым»,
а не «добродетельным»? «Удовольствие всех есть цель». Почему
всех? «Мое». «Почему мое?» Должно быть, вы скажите в ответ,
что верите, будто дело обстоит именно так, и готовы отстаивать
тезис о том, что целью самой по себе является не добродетель.
Мы тоже готовы отстаивать свою позицию, и попытаемся
показать, что ваш тезис ошибочен. Но даже если нам это и не удастся,
то мы, по крайней мере, прояснили тот факт, что вопрос
«Почему я должен быть морален?» покоится на полагании цели в себе,
которая не является моральностью32; причем содержание столь
32 «Единственная форма, в какую можно облечь вопрос [Почему я должен
поступать правильно?], такова, что предполагает единственно возможным
ответом утилитаризм... Слова „Почему я должен" означают „А что я получу
89
Эссе II
важного положения нельзя считать чем-то самим по себе
разумеющимся.
Действительно справедливо сказать, что, задавая вопрос:
«Почему я должен быть морален?» — мы ipso facto33 занимаем
определенную позицию в отношении морали, — предполагаем, что
добродетель есть средство для чего-то иного, а не для самой
себя. Однако будет ошибкой думать, что общий вопрос «Почему?»
предполагает позицию спрашивающего за или против той или
иной теории. Несомненно, если основу теории составляет вопрос
«Для чего?», который является ее рациональной формулой, всегда
применимой и всегда работающей, то это ее преимущество.
Однако мы убедились в том, что все те учения, поскольку обладают
целью, которая не есть только средство, с необходимостью
отрицают вопрос «Для чего?» и, если у них нет больше ничего общего,
едины уже в этом отрицании. В таком случае так ли глупо
предположить, что попытка той или иной теории подвести под
добродетель причину, притом что ее собственная цель вообще не имеет
причины, является аргументом в пользу гедонизма? Не очевидно
ли, что, когда речь идет об этической теории, цель должна быть
выше всякого «Почему?» в смысле «Для чего?», и если так, то
сегодня мы имеем тот же вопрос, что и две тысячи лет назад: «При
условии, что есть некая цель, что есть эта цель?» А вопрос этот, как
подсказывают нам разум и история, сам по себе вовсе не
предполагает ни гедонистического, ни какого-либо иного ответа.
Претензию удовольствия быть целью мы обсудим в другом
месте. Но уже на первый взгляд очевидно, что рассматривать
добродетель только как средство для внеположеной ей самой
цели — значит войти в прямое противоречие с тем, что говорит нам
моральное сознание.
В этом сознании, если оно не извращено эгоизмом и не
ослеплено софистикой, имеется убеждение в том, что задавать вопрос
«Почему?» значит поступать просто имморально, что творить
от этого", „Что побуждает меня" вести себя таким или иным образом?». (Стефен.
Свобода. [Stephen. Liberty etc. 2 ed. P. 361]).
33 Уже самим этим фактом (лат.) — Примеч. переводчика.
90
Почему я должен быть морален?
благо ради него самого — добродетельно; творить же его ради
некой внешней цели или объекта, а не ради самого блага никогда
не может быть добродетелью и что если человек всяким своим
поступком преследует иную цель, чем поступать хорошо и
правильно, то это — признак порочности. И та теория, которая видит в
добродетели, как и в зарабатывании денег, средство, которое неверно
принимается за цель, приходит в противоречие с тем, кто говорит,
что добродетель не только кажется, но и является целью в себе34.
34 Здесь следует отметить два момента. (1) Есть точка зрения, согласно
которой «К действию движет удовольствие (или боль); следовательно, удовольствие
(или боль) служит мотивом и всегда есть „Почему?" действий. Иначе говоря,
добродетель — психологический обман». Более подробное рассмотрение этой
точки зрения можно найти в Эссе VII. Здесь же мы отметим лишь, что такое
представление смешивает мотив, который является объектом, представленным духу,
с физическим стимулом, который не является объектом для духа и потому не
является ни мотивом, ни «Почему?» в смысле предложенной цели.
(2) Существует воззрение, которое пытается основать моральную
философию на теологии, на теологии, впрочем, несколько грубоватой, которая в
основном состоит в учении о судье преступников, обладающим сверхчеловеческим
знанием и властью, о том, кто учредил и претворяет в жизнь уголовный кодекс.
Эту теорию морали можно назвать теорией «Поступай так или будешь
проклят». Она и сегодня находит поддержку и робкое содействие, однако в
подавляющем большинстве случаев, как мне представляется, не в силу того, что те или
иные авторы являются ее поклонниками или верят в нее отчасти, но потому, что
она позволяет заделать очевидные для них бреши в теории — без такой заплаты
сосуд не удержит воду. Как теологическая доктрина это мнение не
представляет для нас интереса; отметим лишь, что в качестве таковой оно представляется
нам содержащим сущность иррелигиозной установки. Что же касается нравов,
мы утверждаем, — и это в высшей степени так, — что эта теория ничего не дает
моральной философии, разве что в том случае, когда она вынуждена иметь
дело со средствами, позволяющими нам только лишь достичь удовольствия и
избежать боли. Эта теория не только смешивает мораль и религию, но также
сводит их к сознательному эгоизму. Страх перед судебным преследованием в ином
мире ничего не говорит нам о том, что является правильным с точки зрения
морали в этом мире. Эта теория просто предоставляет эгоистический мотив для
послушания тем, кто верит; для тех же, кто не верит, она либо дает слабый
мотив, либо не дает его вовсе. Не могу не заметить, что, насколько мой опыт
позволяет мне судить, страх перед грядущим наказанием в большинстве
случаев, когда человек твердо уверен в его неотвратимости, имеет мало влияния на
умы. Факты не позволяют нам рассматривать страх перед наказанием в этом
мире как главный мотив к моральному поведению. Строго говоря, в большинстве
91
Эссе II
И вот, приняв — мы надеемся — сторону обыденного
сознания, что мы сможем ответить, когда нам зададут вопрос: «Почему
я должен быть морален?», подразумевая: «Какую выгоду я получу
от этого?» В этом случае, я думаю, лучше всего будет вообще
избегать упоминания о приятности добродетели. Можно полагать,
что добродетель превосходит все возможные порочные
наслаждения, но хорошо бы не забывать, что, понуждая себя рекомендовать
добродетельное поведение ради доставляемых им удовольствий
тем, кто не любит добродетель ради нее самой, мы тем самым
отходим от точки зрения самой морали, принижаем и развращаем
добродетель. Против в примитивного механического βαναυσια35,
которое всюду подстерегает нас с вопросом «в чем польза»
доброты, красоты или истины, у сторонников науки, искусства, религии
и добродетели есть один подходящий ответ: «Мы не знаем, и нам
нет до этого дела».
Прямой ответ на поставленный вопрос можно ограничить
сказанным; однако, встав на место нашего оппонента, мы можем
спросить в ответ: «А почему я должен быть имморален?», «Не будет
ли эта позиция невыгодной для меня?» Можно также спросить:
«Не противоречиво ли ваше мнение? Удовлетворены ли вы им, дает
ли оно то, что вам нужно?» Если же вы удовлетворены — и именно
постольку, поскольку удовлетворены, — посмотрите, не
происходит ли это вследствие того и постольку, поскольку вы сами своей
теории не следуете, поскольку живете, не стремясь
исключительно к приятному, но к чему-то иному или вообще ни к чему не
стремясь, а, как бы вы сказали, без всякой «причины». Мы верим, что
случаев для него вообще нет внешнего мотива. Человек морален потому, что ему
нравится быть моральным; а нравится ему это отчасти в силу воспитания и
привычки, отчасти потому, что ему кажется, что такое поведение дает то, что ему
нужно, в то время как обратное — нет. Как правило, его «стойкость» поддерживается
не ожиданием того, что извне на него обрушится несчастье, а стыд, который он
испытывает, когда о нем плохо отзываются другие, не есть просто внешнее зло,
и плохого мнения боятся не только поэтому. Коротко говоря, человек — живое
существо, т. е. чем-то большее, нежели просто абстракция действительного или
возможного преступления.
35 Ремесла (греч.). — Примеч. переводчика.
92
Почему я должен быть морален?
в глубине души цель, которую вы преследуете, та же, что и у нас,
причем вы не просто жестоко ошибаетесь относительно того, какова
эта цель, но в глубине души чувствуете и знаете это, или, по крайней
мере, сможете узнать, дав себе труд задуматься. Вот теперь, как
мне представляется, добавить уже нечего.
Действительно, что здесь еще сказать? Если человек занял
позицию полного скептицизма, то с ним не о чем спорить. Можно
указать ему на противоречие в его словах, но если он скажет: «Мне
нет до этого дела», — конец разговору. Опять-таки, если человек
говорит: «Я буду делать то, что мне нравится, потому что мне это
нравится, а что касается целей, — я их не признаю», — можно,
конечно, показать ему, что, на самом деле, он ведет себя совсем иным
образом; и, если он признает нечто своей целью, если скажет-таки:
«Единственная моя цель — я сам», то в таком случае вы можете
поспорить с ним и попытаться доказать, что он ошибается
относительно природы, которую он этой цели приписывает. Однако
и этот аргумент перестает действовать, если он скажет: «Мне все
равно, морален ли я или рационален, и мне нет дела до того,
насколько я себе противоречу». Мы, на чьей стороне сила, полагаем:
то, что рационально, по крайней мере (если еще не таково),
должно быть реально, и отказываемся признавать иные мнения. Ибо,
опираясь на разум, мы, конечно, не можем допустить
существование иного разума, и используем силу нашего разума против
того, что, как кажется, противоречит ему и, в конце концов,
принуждаем всех увидеть, что моральные обязательства не исчезают даже
тогда, когда мы перестаем чувствовать или отрицаем их.
Выходит, что вопрос «Почему я должен быть морален?» вовсе
не имеет смысла, и на него невозможно дать ясного ответа? Да,
этот вопрос не имеет смысла; он, попросту, ничего не значит,
если только им не имеется в виду: «Является ли моральность целью
в себе?» — и если так, то «почему и каким образом моральность
является целью»? Является ли моральность для человека тем же, что
и цель, и потому эти два понятия взаимозаменяемы; или же
моральность — одна сторона, или аспект, или элемент некой цели,
которая превосходит саму моральность? Является ли моральность
93
Эссе II
целью со всех точек зрения или же она есть только один из
аспектов целого? Морален ли художник потому, что он хороший
художник; морален ли философ потому, что он хороший философ?
Являются ли для них искусство и наука, с одной стороны, и
добродетель — с другой, одним и тем же, с одной и той же точки
зрения, или это две различные вещи, или же одна вещь с двух
разных точек зрения?36
Это непростые вопросы, и мы пока не в силах на них ответить.
Мы изложили проблему в том объеме, в котором это
необходимо читателю, чтобы перейти к следующему эссе. Осталось
только обратить внимание на то, что является самым общим
выражением цели самой по себе, на предельное практическое «почему»,
и именно оно, как мне представляется, передается словом
«самореализация». Нижеследующие рассуждения — это только
предвосхищение выводов моей теории, которые я пока не могу обещать
разъяснить. Тому же из читателей, кто будет испытывать
трудности, я бы советовал сразу переходить к Эссе III.
Как можно доказать, что именно самореализация является
целью? Есть только один способ. Состоит он в понимании того, что
мы имеем в виду, когда говорим: «самость», «реальный», «реали-
зовывать» и «цель». Знание же того, что здесь имеется в виду,
равносильно обладанию некоторой системой метафизики, а
употребление этих слов — предъявлению такой системы. Позвольте нам,
вместо того чтобы отговариваться ограниченными рамками данной
работы, не позволяющими развить наши воззрения, признаться
откровенно в том, что, строго говоря, нам и развивать-то нечего,
ввиду отсутствия такого воззрения, а потому доказать наш тезис мы не
можем. В наших силах только частично его разъяснить и более или
менее правдоподобно интерпретировать. Этот тезис — лишь
формула, которая будет наполнена в последующих эссе и которую здесь
мы, забегая вперед, рискнем лишь представить читателю.
Возражения не замедлят появиться. Нам скажут:
«Несомненно, существуют цели, которые не есть я сам, цели, которые
36 Более подробно об этом см. Эссе VI. — Примеч. переводчика.
94
Почему я должен быть морален?
оказываются за пределами того, чем я занимаюсь, и которые я тем
не менее реализую и, полагаю, должен реализовывать». Наша
задача — показать, что это возражение покоится на неверном
понимании и что предположение его истинности влечет
непреодолимые трудности.
Обратимся к моральному сознанию и послушаем, что оно
скажет нам о своей цели.
Мы принимаем как само собой разумеющееся, что
моральность предполагает цель в себе. Нечто должно быть сделано, благо
следует реализовать. Однако сам по себе результат действия еще
не является моральностью: моральность отличается от искусства
тем, что не может превратить действие всего лишь в средство для
достижения результата. Тем не менее мы действуем посредством.
Речь не просто идет о том, что нечто должно быть сделано, но о том,
что это должен сделать я — Я должен совершить действие,
должен реализовать цель. Моральность предполагает и то, что должно
быть сделано, и то, что действие должен совершить Я; и если
рассматривать одно как цель, а другое как средство, то в данном
случае цель и средство невозможно отделить друг от друга. Попытка
поменять местами цель и средство и заявить, что мое действие есть
цель, а «должно быть сделано» — средство, не будет насилием над
моральным сознанием, ибо истина в том, что в данном случае
вообще нельзя говорить о цели и средствах. Для меня действие
означает мое действие, вне этого действия нет никакой цели. Именно
в этом заключается суть убеждения, что в моральном отношении
неудача может быть равнозначна успеху, — в утверждении, что
нет иного блага, кроме доброй воли. Коротко говоря, с точки
зрения моральности цель предполагает действие, а действие —
самореализацию. Если это положение покажется сомнительным, его
можно продемонстрировать (заметим кстати) на примере
чувства удовольствия, которое сопутствует усилиям, прилагаемым
для совершения действия. Ведь если предположить, что
удовольствие — это чувство, испытываемое Я, и оно сопровождает само
действие, то это значит, что усилие при совершении действия
также является и усилием над собой.
95
Эссе II
Однако не следует делать слишком сильный акцент на
моральном сознании, ведь нам, скорее всего, напомнят о том, что оно
не только может быть объяснено, но и часто уже объяснялось,
равно как и сознание скупца, и что оба состояния духа — иллюзии,
порожденные одними тем же принципом.
В таком случае, оставим в стороне разговор о моральном
сознании и перестанем оглядываться на то, что, как нам кажется,
мы должны делать; давайте попробуем показать, что на самом
деле наши деяния — просто более или менее удачные попытки
реализовать самих себя и что ничего иного мы делать не в состоянии;
что все, что мы способны реализовать (за исключением отдельных
случаев), — это наша цель или объект желания, а единственное, что
мы способны желать, это, одним словом, — наша самость.
С этим утверждением, думается, с готовностью согласятся
представители доминирующего у нас психологического направления.
Однако в случае согласия с их стороны хочется предупредить
возможное обессмысливание высказанной здесь идеи, а опасность
такого рода, как нам видится, существует. Нам бы не хотелось
услышать от читателя: «О да, конечно! Относительность знания — все
есть состояния сознания». Мы не хотим, чтобы он упразднил
проблему таким способом. Если читатель полагает, что паровоз,
после того как он был построен, является не чем иным, кроме как
состоянием духа человека или людей, его сделавших, или тех, кто его
видит37, то мы не сторонники этого учения, которое испытываем
37 Заметим, что обычно, когда кто-то «от философии» рассуждает об
«относительности», создается впечатление, что на самом деле он не знает, о чем
говорит. Он станет утверждать, будто «все» (или «все, что мы знаем и можем знать» —
в действительности между вот этой фразой и выражением «все» нет разницы)
относится к сознанию, — без тени намека на то, что имеет в виду сознание,
превосходящее его собственное, и я весьма живо представляю себе его неизменную
усмешку при упоминании понятия духа, которое есть нечто большее, чем дух
того или иного человека. А затем — буквально на следующей странице, если он
еще не говорил об этом на предыдущей, — пустится в рассуждение о том, что
было с землей до того, как на ней появился человек. Но нам хотелось бы понять,
что же, наконец, это все значит, и, дабы прояснить суть дела, мы предлагаем два
вопроса: (1) Есть ли мое сознание нечто, что выходит за пределы и есть вне моего
я? И если это так, то в каком смысле? и (2) Был ли у меня отец? Что я хочу этим
96
Почему я должен быть морален?
искушение назвать глупым. Тем же, кто с ним согласен, заметим,
что паровоз, во всяком случае, до того, как построен, —
совершенно иное состояния духа, чем после.
Еще раз: нам бы не хотелось, чтобы читатель сказал: «Каждый
объект и каждая цель, которые я себе предлагаю, без сомнения,
являются в качестве таковых просто состояниями моего духа — они
есть мысли в моей голове или мое состояние, поэтому, когда они
становятся реальными, я тоже становлюсь реальным»; поскольку,
хотя моя мысль, как моя мысль, действительно, не может
существовать отдельно от меня, мыслящего ее, и, следовательно, цель,
которую я ставлю, как таковая, должна быть моим состоянием38, — все
же это не то, что мы имеем в виду. Все мои цели суть мои мысли,
но не все мои мысли суть мои цели; и если бы под
самореализацией мы подразумевали, что у меня есть идея какого-то
внешнего события, которое должно произойти, то это значило бы, что я
на деле реализую себя в тот момент, когда я вижу, что паровоз
начинает двигаться с места, и он — действительно двигается.
Объект желания (как объект желания) есть мысль, причем он есть
моя мысль; но он есть и нечто большее. Это нечто большее, коротко
говоря, заключается в том, что объект желается мною.
Справедливости ради, прежде чем продолжить, нам следовало бы изложить
учение о желании, но, даже если бы смогли это сделать, то никак
нельзя прервать ради нее наше рассуждение. Одно мы можем
сказать с уверенностью: то, что желается в желании, — это всегда
самость.
Если бы мы встали на точку зрения теории, согласно которой
целью или мотивом всегда служит идея собственного удовольствия
(или боли), которое связано с представленным объектом и в нем
является тем, что движет нас, и единственно есть то, что движет,
то из этого представления неминуемо последовало бы, что наша
цель — всегда некое состояние нас самих.
сказать? И, если я отвечу утвердительно, как это согласуется с ответом на первый
вопрос?
38 Позвольте мне заметить по ходу дела, что из этого утверждения не
следует, что эта цель — только лишь мое состояние как конкретного человека.
97
Эссе II
Мы тем не менее не можем принять эту теорию, поскольку
полагаем, что она не берет в расчет факты и противоречит им (см.
Эссе VII). Однако пусть мы и не согласны с тем, что мотивом всегда
или в большинстве случаев служит представление о некоем
состоянии чувствующей самости, но мы вместе с тем полагаем
очевидным, что ничто не приводит нас в движение до тех пор, пока
не становится желаемым, а то, что желается, и есть мы сами. Ибо
все объекты и цели связаны с чувством удовлетворения, или
(более точно) мы находили их в нас самих и понимали их как нас
самих, или же мы ощущали себя в них и единственная причина,
почему они движут нами сейчас, такова: после того как они
предстали перед нашим духом в качестве мотива, мы на самом деле
ощущаем себя в них надежно утвержденными. Таким образом,
сущностью желания некоторого объекта будет чувство
утверждения себя в идее того, что не есть мы сами, возникающее в
противоположность чувству самого себя как того, что в отсутствие
объекта пусто и отрицаемо; напряжение этого отношения и
производит движение. Если это справедливо, тогда желать
возможно только то, что отождествлено с нами самими, и мы не
способны стремиться к чему-то до тех пор, пока не поставим себе целью
достичь в нем самого себя.
Однако, делая эти краткие замечания, особенно их не выделяя
и не имея возможности подробно изложить нашу идею, мы
полагаем, что читатель, скорее всего, последует за нами и придет к
мысли о том, что то в желании, чего мы хотим, поскольку мы хотим
этого, — это мы сами в некоторой форме или в некотором
состоянии нас самих и что наше желание чего-то иного невозможно
объяснить психологически.
В таком случае примем это утверждение как данное; но это
ли мы понимаем под самореализацией? Можем ли мы
остановиться на следующем выводе: пытаясь реализовать, мы тем самым
пытаемся реализовать некоторое состояние самих себя, и это все,
к чему мы стремимся? Нет, самость, которую мы пытаемся
реализовать, для нас есть целое, она не есть просто некоторая
совокупность состояний (подробнее об этом см. Эссе III).
98
Почему я должен быть морален?
Взяв на себя смелость предположить, будто наш читатель
разделяет учение, согласно которому то, что желается, — это
некоторое состояние самости, мы, сами придерживаясь того же мнения,
хотели бы сделать шаг вперед и заявить, что самость присутствует
в своих проявлениях целиком и что, следовательно, объектом
стремления является самость как целое. Именно такой смысл мы
вкладываем в понятие самореализации. Возникает вопрос: коль
скоро то, что желается, — это состояние самости, возможно ли иметь
такие состояния самости, которые являются состояниями ничто
(ср. Эссе I); а также продуктивно ли понимание самости как
некоторого собрания, или потока, или цепи, или
последовательности, или агрегата? Если невозможно мыслить самость только как
одно, возможно ли, с другой стороны, мыслить ее только как
многое, только как единицы; разве не обстоит дело так, что, желаете
ли вы этого или нет, мысль все равно подводит к тому, чтобы
рассматривать самость как одно во многом или многое в одном?
Разве мы не принуждены рассматривать самость как целое, которое
не есть только сумма частей и при этом не есть нечто,
определенное помимо них? И не следует ли нам признать, что реализовать
себя всегда означает реализовать целое, и что вся суть морали как
раз и состоит в том, чтобы найти истинное целое, реализация
которого и будет реализацией истинной самости?
К этому вопросу мы приступим ближе к концу книги. Теперь
же, отвлекаясь от той формулировки проблемы, которую мы
только что представили, и довольствуясь утверждением о том, что
реализовать значит реализовать себя, давайте, не вступая в сферы
психологии и метафизики, посмотрим, какого рода цели на
самом деле ставит себе обычный живой человек и не принимают
ли они форму целого?
Я полагаю, что нет необходимости особенно
задерживаться на этом вопросе, потому что кажется очевидным, что, если
мы спросим себя, чего бы нам хотелось больше всего,
обнаружится некое общее желание, которое заключает в себе и предполагает
наши отдельные желания. И, обратившись к самой жизни, мы
обнаружим, что не бывает так, чтобы определенные цели человека
99
Эссе II
не были связаны; каждый смотрит дальше настоящего момента,
дальше каких-либо определенных условий и позиций — его цели
подчинены более масштабным целям, любую ситуацию человек
рассматривает (сознательно или бессознательно) как часть более
общей ситуации, и в том или ином действии предметом его
реализации и стремления является некое большее целое, которое как
таковое не присутствует ни в каком конкретном действии, но тем
не менее реализуется в комплексе действий, направленных на его
осуществление. Нам нет необходимости на этом останавливаться,
ибо невозможно усомниться в существовании более крупных
целей, вбирающих в себя более мелкие. Таким образом, мы можем
утверждать, что самость, которую мы реализуем, отождествлена
с целыми целей, или, что идеи состояний самости, которые мы
реализуем, связаны с идеями, которые замещают эти целые.
Однако истинно ли утверждение о том, что эти целые
большей общности входят в единое целое? Думаю, да. Я не забыл о том,
что мы, как правило, действуем не из принципа или имея некий
принцип перед собой, однако мне бы хотелось, чтобы и читатель
не забывал, что принцип все же может присутствовать — он
может быть нашим основанием или нашей целью, даже если мы об
этом и не подозреваем. И я, конечно, вовсе не утверждаю здесь,
что каждому случалось задавать себе вопрос, не стремится ли он
к целому и что есть это целое, — для этого требуется
значительная рефлексия, а мы необязательно достигаем такого уровня
рефлексии. Я также и не утверждаю, что все действия человека
последовательны, что он не отходит от своей цели и что у него совсем
нет таких конкретных целей, которые нельзя подвести под
главную цель. Более того, я не утверждаю, что жизнь каждого
обязательно составляет некое целое; что у отдельного человека нет
таких согласованных между собой целей, которые
несовместимы с системой и не могут быть в нее включены39. Я хочу сказать
39 Однако то, что жизнь таких людей в общем несчастна, указывает нам на
то, что действительная цель есть нечто одно. Неудовлетворенность возникает из
понимания и ощущения, что самость не реализована, а не реализована именно
потому, что не реализована как система.
100
Почему я должен быть морален?
только то, что если, изучая жизнь обычного человека, мы
рассмотрим те цели, которые он видит перед собой (так, как они
проявляются в его действиях), то мы обнаружим, что цели эти
объединяются в одну главную цель или в некое целое целей. Говорят,
что «у всех людей разные представления о счастье», однако это
едва ли было бы верно, если бы не одна деталь. Конечно, как бы то
ни было, каждый человек имеет некоторое понятие счастья, и это
его понятие, хотя он может и не знать точно, каково оно. У
большинства людей — своя жизнь, и такая жизнь их так или иначе
удовлетворяет, причем эта жизнь на поверку оказывается достаточно
систематичной: она представляется своего рода сферой,
включающей в себя другие сферы, сферы более низкого уровня, которые
подчиняют себе конкретные действия и определяют их, и в то же
время сами подчинены целому и определяются им. У
большинства, так или иначе, есть свой идеал жизни — представление о
совершенном счастье, которое в реальной жизни никогда вполне
не достижимо; и если вы посмотрите на обычного человека,
приличного и серьезного, который достаточно прожил на этом свете,
чтобы понимать, чего он хочет, то вы увидите, что совершенное
счастье или идеальную жизнь он на самом деле вовсе не
представляет себе как нечто беспорядочное или нечто прерывное, но
идеальная жизнь представляется его духу как нечто целое, и в более
детальном рассмотрении — как система, в которой части
содействуют целому.
Не задерживаясь более на сказанном, я попрошу читателя
поразмышлять над тем, действительно ли те цели, которые обычные
люди ставят перед собой, каждая в отдельности, не являются чем-
то целым, и в конечном счете не есть ли все они — члены
некоего большего целого; и, если это так, не должны ли мы теперь, раз
уж это так и раз уж все, чего мы можем хотеть, должно (как уже
было установлено раньше) быть нами самими, сказать, что то, к чему
мы стремимся, — не просто реализация себя, но реализация себя
как целого, понимая, что существует некий общий объект
желания, с которым отождествляется самость или (с другой точки
зрения) с идей которого связана наша идея удовольствия.
101
Эссе II
Вплоть до настоящего момента мы пытались показать, что цель
нашего стремления — самость, причем самость как целое,
другими словами, что самость как целое в конечном счете и есть
содержание нашей воли. Если мы далее обратимся к форме воли, —
конечно же, не предполагая, что форма — нечто реальное отдельно
от содержания, — то такое рассуждение, пожалуй,
поспособствует прояснению нашей проблемы.
В таком случае мы обязаны ограничиться утверждением того,
что полагаем фактом. В предыдущем эссе мы отмечали, что, говоря
«Я хочу это или то», мы действительно имеем что-то в виду.
Однако, говоря так, мы не подразумеваем (по крайней мере, не всякий
раз), что различаем самость, которая волит, от самости, которая
не волит. То же, что мы действительно имеем в таком случае в
виду, так это различие самости как воли вообще и того или иного
объекта желания, но в то же время и их тождество — мы говорим,
что нечто желается, или что воля проявила себя в этом или в том.
Воля рассматривается здесь как целое, и это целое имеет две
стороны или составные части. Давайте рассмотрим акт воли, причем
обратимся к тому, что мы в состоянии рассмотреть наиболее
отчетливо, — к действию воли, совершенному на основании
обдуманного выбора. У нас есть противоречивые желания — назовем их А
и В. Мы ощущаем два напряжения, — нас, так сказать, тянет в две
разные стороны, — но мы не можем утвердить себя ни в одном
из них. Никакого действия не следует, и мы взвешиваем два
объекта нашего желания и сознаем, что взвешиваем их или (если
можно так выразиться) обдумываем их. Но мы не просто стоим и
смотрим до тех, пока, так сказать, не обнаружим, что уже двинулись
в одном направлении, приблизились к А или к В. Ведь мы также
осведомлены и о самих себе, причем не просто как о чем-то
теоретически находящемся над А и В, но как о чем-то находящемся
над ними также и практически, как о некоторой точке
сосредоточения, которая сама не есть ни одна из альтернатив, но которая
есть возможность их обеих, которая является как бы внутренней
стороной акта, вне зависимости от того, станет ли этот акт
реализацией А или реализацией В — т. е. она не есть сама ни А, ни В,
102
Почему я должен быть морален?
и при этом выше их. Говоря кратко, мы не просто ощущаем себя
в А или в В, мы отличили себя от них как то, что их превосходит.
Такова одна из составных частей волевого акта, и трудно найти ему
более подходящее название, чем универсальная составная часть,
сторона или момент волевого акта40.0 второй составной части
будет сказано не так много. Для того чтобы волить, мы должны волить
что-то. Взятая сама по себе универсальная сторона воления вовсе
не есть воля. Для того чтобы волить, мы должны отождествить
себя с этим, тем или чем-то иным; в этом и состоит конкретная
сторона и вторая составная часть волевого акта. В-третьих, волевой
акт как целое (ведь, прежде всего именно как целое оно и есть во-
ление) есть тождество двух составных частей и их проекция или
свершение во внешнем существовании; реализация как
конкретной стороны — нечто должно быть совершено, — так и реализация
в этом свершении внутренней стороны самости, так что самость
реализуется в обоих, о чем свидетельствует чувство удовольствия.
Это единство двух составных частей можно назвать
индивидуальным целым или же конкретным всеобщим. Хотя мы редко
осознаем различие этих составных частей, тем не менее любой акт воли,
если его подвергнуть анализу, предстает такого рода целым и
поэтому реализует то, что всегда составляет природу воли.
40 Как мы видели в предыдущем эссе, здесь следует избегать, как Сциллу
и Харибду, двух опасностей — двух односторонних взглядов. Первая —
совершенное игнорирование этой универсальной стороны, даже как одного из
элементов воли; вторая — утверждение того, что эта сторона есть не просто
составляющая, но вообще — сама воля. В противоположность второму утверждению
необходимо подчеркнуть, что воля — это то, что она волит, а для того чтобы
волить, необходимо волить нечто, и что невозможно волить одну только форму
воли; далее следует сказать, что одна лишь формальная свобода выбора, даже если
бы она и была реальной, не просто не будет истинной свободой, но вдобавок ко
всему, будет метафизической фикцией; и что универсальное реально только как
одна из сторон целого и приобретает свои черты от целого; и что в самом
обдуманном и как-бы-формальном волевом акте абстрагированная и поставленная
выше конкретного самость будет абстрагирована не только от конкретного
желания или желаний с точки зрения духа, но также от всей самости как целого,
от самости, которая включает в себя и все прошедшие акты, причем абстракция
определяется тем, от чего она абстрагирована не в меньшей степени, чем сама
есть момент в определении конкретного акта.
103
Эссе II
Но с какой целью мы сделали это утверждение? Мы
намеревались привлечь внимание читателя к тому факту, что не только
то, что желается людьми, т. е. цели, которые они ставят перед
собой, есть целое, но и воля сама по себе, рассмотренная без связи
с каким-либо конкретным своим объектом или содержанием,
также есть такого же рода целое. Иначе, говоря более строго, самость
реализуется как целое целей, потому что она есть целое и потому,
что она не удовлетворяется до тех пор, пока не обнаруживает
себя, до тех пор, пока содержание не придет в соответствие с
формой и не будет реализовано. И именно это мы имеем в виду под
практической самореализацией.
«Реализуй себя», «реализуй себя как целое» — в таких словах
можно резюмировать сказанное. Я боюсь, что все эти
предварительные замечания утомили нашего читателя, и будет лучше,
если мы не станем более откладывать. Все, что мы знаем на данный
момент, — это то, что мы должны реализовать самость как некое
целое, но мы ничего не знаем о том, в качестве какого целого нам
следует ее реализовать. Это мы и должны рассмотреть далее.
Цель нашего желания (я повторюсь) — нахождение и
обладание собой как целым. Мы стремимся к этому и в теории, и на
практике. Теоретически мы хотим понять объект; мы не хотим
отринуть или изменить мир фактов чувственного восприятия, но хотим
пробиться к его истине. Все науки полагают само собою
разумеющимся, что то, что есть «не-мы», не может и самом деле быть
постигнуто духом, они основываются на этом предположении,
но в этом — их ахиллесова пята. Пока дух видит в теории что-то
чужое и враждебное, мы постоянно повторяем, что не нашли
истины; что-то подталкивает нас двигаться все дальше и дальше, мы
непрерывно меняем одну точку зрения на другую до тех пор, пока
они не предстанут непротиворечивым целым. И тогда мы
успокаиваемся, ибо достигли единства природы собственного духа
и истины факта. В то же время на практике, мы, с некоторыми
отличиями, имеем то же самое желание. Теперь наша цель не в том,
чтобы, приняв все как есть, доискиваться истины вещей, но в том,
чтобы заставить факты чувственного восприятия соответствовать
104
Почему я должен быть морален?
истине о нас самих. Мы говорим: «Мое чувственное бытие таково,
но я сам в действительности не таков, я другой». С одной стороны,
я и мой мир, по сути дела, отличны; но с другой — мое
природное чутье подсказывает, что тот мир — мой. Оно заставляет меня
действовать, вновь и вновь изменять чувственные факты до тех пор,
пока не обнаружу, что в них не остается ничего, кроме свершения
моей самости. Вот тогда я достигаю обладания моим миром, не
обладая им до тех пор, пока не обнаруживаю в нем свою волю; а
обнаружить ее я могу только тогда, когда то, что у меня есть,
находится в гармонии или представляет собой целое в системе.
И в теории, и на практике моя цель состоит в том, чтобы
реализовать себя как целое. Неужели это все? Действительно ли в
теории я хочу располагать только лишь непротиворечивой точкой
зрения? Действительно ли на практике я хочу только лишь
гармоничной жизни? Конечно, нет. Учение должно не просто
связывать что-то: оно должно связывать факты. Мы не можем
полагаться на учение только потому, что оно не противоречит самому себе.
Теория должна принимать во внимание факты, а завершенная
теория должна принимать во внимание все факты. Так же и
относительно практики. «Плыть по течению» — это не идеал жизни для
человека. У нас нет права сначала выяснить, кем нам случилось быть
и что нам случилось иметь, а затем ограничить этими рамками
наши желания. Даже если мы попробуем так сделать, у нас ничего
не получится, и моральность взывает к нам: пытаясь так поступить,
вы лжете сами себе. Мы должны, несмотря на чувственные факты
вокруг и внутри нас, постоянно предпринимать попытки к тому,
чтобы расширить сферу нашего господства; по крайнее мере,
пытаться идти вперед, иначе нас неминуемо отбросит назад.
Итак, самореализация значит нечто большее, чем просто
утверждение себя как целого41. Здесь мы можем вспомнить
два выдвинутых Кантом принципа, которые он обозначил как
41 Оставляю в стороне важный вопрос о том, может ли какое-либо частичное
целое быть непротиворечивым в себе. Если оно не может быть таковым (а это
кажется наиболее вероятным), тогда нам нет необходимости говорить:
«Систематизируй и расширяй», потому что в таком случае первое предполагает последнее.
105
Эссе II
«гомогенность» и «спецификация». Не углубляясь здесь в
рассуждения по поводу нашего отношения к философии Канта, отметим,
что идеальное не есть ни нечто совершенно гомогенное, ни нечто
в последней степени специфичное. Скорее оно совмещает в себе оба
этих элемента. Наше истинное бытие не есть воплощение крайней
степени единства или многообразия, но совершенное тождество
того и другого. Таким образом, «реализуй себя» не значит просто
«будь целым», но «будь бесконечным целым».
Я боюсь, что в этом месте тот наш читатель, кого мы еще
не довели до отчаяния, уж точно остановится, отказавшись
шагнуть в сферу бессмыслицы. Но почему же обязательно
бессмыслицы? Когда поэты и проповедники говорят, что наш дух
бесконечен, большинство из нас чувствуют, что это так. Разве нашей науке
действительно удалось доказать, что те убеждения, которые
отвечают нашим высшим чувствам, должны с теоретической точки
зрения считаться абсурдными? Однако разве философия,
утверждающая такое, не должна быть уверенной в том основании, на
котором это убеждение зиждется? Тем не менее, если читатель
последует за мной, я думаю, мне удастся показать ему, что гораздо
труднее отстаивать простое утверждение о конечности духа, чем
о его бесконечности.
Было бы неплохо, если бы я мог задать читателю вопрос о том,
что он понимает под «конечным». Но так как это невозможно, то я
сам должен это определить: конечное значит определенное или
законченное. Быть конечным значит быть чем-то среди других, чем-то,
что не есть другие. Одно конечное кончается там, где начинается
другое конечное; оно ограничено извне и не может выйти из себя, не став
при этом чем-то иным и тем самым перестав существовать42.
Нам говорят: «Дух конечен, и причина, почему мы
утверждаем, что он конечен, состоит в нашем знании о том, что он конечен.
Дух знает, что он конечен». Против этого учения нам и
предстоит выступить.
42 Нет надобности останавливаться на внутреннем противоречии конечного.
Его бытие — пребывание полностью внутри себя; тем не менее, поскольку оно
конечное, оно полностью определяется извне.
106
Почему я должен быть морален?
Мы отвечаем, что дух не конечен именно потому, что знает, что
он есть конечный. «Знание предела подавляет предел».
Утверждение о том, что конечное должно знать о своей конечности,
содержит в себе чудовищное противоречие, и выявить его не составит
труда.
Быть конечным — значит быть определенным извне, причем
тем, что извне. И конечное может знать себя именно как таковое,
а не как просто конечное. Как только его знание перестает
пребывать полностью внутри себя, оно уже больше не конечное. Оно
знает, что ограничено извне, причем тем, что извне, а следовательно,
знает это внешнее. Но если так, то оно уже больше не конечное.
Если его целое полностью пребывает внутри себя, тогда, зная
себя, оно не может знать, что существует нечто вне его. Но оно знает,
следовательно, рассматриваемое нами предположение неверно.
Представьте, что некто, запертый в комнате, говорит нам: «Мои
возможности целиком и полностью ограничены внутренним
пространством этой комнаты. Предел комнаты — предел моего духа,
поэтому я ничего не могу знать о том, что вне ее». Разве мы не
ответим ему: «Милостивый государь, вы противоречите себе. Если
бы дело обстояло так, как вы говорите, то вы бы вообще не могли
знать ни о внешнем, ни, как следствие, о внутреннем как таковом.
Будете ли вы и дальше ревностно отстаивать ваше учение об
„относительности " » ?
Боюсь, что мы обошлись несправедливо с приведенным выше
простым аргументом. Как бы то ни было, я не знаю, что ему можно
противопоставить, а до тех пор, пока нам нечего ему
противопоставить, мы должны говорить, что неверно, будто бы дух конечен.
Если мне предстоит реализовать себя, то, очевидно, мне
нужно реализовать себя как бесконечное. Теперь перед нами другой
вопрос: «Что значит бесконечное»? Но прежде, чем на него
ответить, было бы неплохо разобраться с тем, что это слово не значит.
Есть два неверных мнения, которые мы сразу и разберем.
(1) Бесконечное значит не-конечное, что, в свою очередь, значит
«не имеющее конца». Что значит «не имеющее конца»? Это не
просто отрицание некоторого конца, ибо простое отрицание — это
107
Эссе II
вообще ничто, и бесконечное, таким образом, будет = 0. Однако «не
имеющее конца» — это нечто позитивное; оно обозначает
позитивное количество, которое не имеет конца. Любое данное число
единиц — конечно; но ряды единиц, неопределенно заданные, —
бесконечны. Таков наиболее распространенный смысл бесконечного,
именно таким, как мы увидим, его полагает гедонизм. Однако
очевидно, что такое бесконечное заключает в себе постоянно
противоречие и, будучи реальным, оно конечно. Любое реальное
количество имеет конечные точки, за которые оно не выходит. Когда
говорят «увеличить количество», то имеется в виду только
«переставить далее конечную точку», причем высказывание это значит
именно «установить конец». «Постоянно увеличивать количество»
значит «постоянно иметь конечное количество и всякий раз
говорить, что оно не конечно». Другими словами, фраза «переместить
конечную точку» самим этим перемещением означает
произведение ряда, создание нового конца — так, что мы опять имеем
конечное количество. Итак, бесконечное, поскольку оно существует,
конечно; говоря, что оно существует, мы говорим тем самым, что
оно конечно.
(2) Или, во-вторых, бесконечное не есть конечное, но уже не в том
смысле, что оно больше по количеству, а в смысле бытия чем-то
иным, отличным по качеству. Бесконечное не принадлежит миру
предельных вещей; оно существует в собственной сфере. Так,
например, дух есть нечто помимо совокупности своих состояний. Бог
есть нечто помимо вещей этого мира. Именно таким бесконечным
полагается абстрактный долг. Но здесь опять, помимо своей воли,
бесконечное значит только конечное. Бесконечное — нечто
большее, чем противоположное ему, исключающее его или внешнее
ему конечное; а поэтому само также есть конечное, ибо оно
определено чем-то иным.
Однако дух не есть бесконечное ни в одном из этих смыслов.
Каков тогда истинный'смысл бесконечности? Как и в предыдущих
случаях, оно состоит в отрицании конечности: оно есть не-конечное.
Но, в противоположность двум ложным бесконечностям, здесь
бесконечное не оставляет конечного как такового. Оно не предполагает,
108
Почему я должен быть морален?
что «конечное должно быть не-конечным», словно (1), и не
пытается, как (2), избавиться от конечного, удваивая его. Оно
действительно отрицает конечное так, что конечное исчезает, но при этом оно
не просто занимает негативную позицию по отношению к нему,
но бесконечное снимается в более высоком единстве, став
элементом которого оно утрачивает свои первоначальные черт, и в
котором оно одновременно и подавляется, и сохраняется.
Бесконечное же, таким образом, есть «единство конечного и бесконечного».
Конечное определяется извне, так что всякий раз характеризовать
и различать его на самом деле значит его разделять. Всякий раз,
определив нечто, вы оказываетесь вынесенными за пределы
определяемого, к чему-то иному и иному, и так происходит потому,
что негативное, которое необходимо для дистинкции, было нечто
иное извне. В бесконечном же можно проводить различение без
дистинкции, ибо оно есть единство, содержащее подчиненные ему
составные элементы, каждый из которых есть негативное другого,
что делает их различаемыми; при этом в то же самое время целое
присутствует в каждом из них таким образом, что каждое имеет
собственное бытие в своей противоположности, и его жизнь
зависит от этого отношения. Для каждого негативное есть также и его
утверждение. Таким образом, бесконечное имеет в себе различие,
а значит, и отрицание, но само оно отлично только от себя и
отрицается не чем иным, как самим собой. Бесконечное вовсе не есть
нечто, которое не есть нечто иное: оно есть целое, в котором и
одно, и иное — только элементы. Таким образом, это целое весьма
и весьма «относительно», однако отношение не оказывается вне
этого целого; то, что находится в отношении, — моменты, в
которых это отношение есть отношение целого к самому себе, и,
таким образом, оно есть нечто, что выше всякого отношения, оно есть
абсолютная реальность. Конечное состоит в отношении к чему-то
иному, бесконечное — относится к себе. Такого рода бесконечным
и является дух. Простейшим его символом является круг, линия,
которая возвращается в себя, не прямая линия, но
продолжающаяся бесконечно. Самый легкий путь обнаружить ее — рассмотреть
удовлетворение желания. В нем мы имеем «Я», и его противопо-
109
Эссе II
ложное, и возвращение из противоположного, когда в другом
обнаруживается не что иное, как я сам. И здесь было бы кстати
вспомнить то, что было сказано выше о форме воли.
Если кому-то из читателей, впервые столкнувшемуся с таким
толкованием бесконечного, оно показалось так или иначе понятным,
то он, полагаю, увидит в нем некоторый смысл, если мы скажем:
«Реализуй себя как бесконечное целое» или, другими словами,
«будь специфицирован в себе, но не будь специфицирован чем-
то, чем ты сам не являешься».
Но нам возразят: «Моральность призывает к развитию; она
говорит, что мы не завершены в себе, не совершенны и что
существует такое не-мы, которое никогда не станет нами. И, если
отвлечься от морали, совершенно очевидно, что и я, и ты, и этот человек,
и тот, — конечные существа. Мы не являемся друг другом; мы
должны в большей и меньшей степени ограничивать сферы друг друга.
Я есть то, что я есть, так или иначе в силу внешних отношений, и я
не заключен полностью внутри себя. Таким образом, я, с одной
стороны, должен быть бесконечным, не ограничиваться извне; с другой
стороны, я — среди других, а следовательно, я конечен. Вы говорите,
что во мне есть бесконечность, совершенное единство субъекта и
объекта, — это, конечно, очень хорошо: в это я, возможно, склонен
поверить, но от этого я не становлюсь в меньшей степени конечным».
Мы признаем всю справедливость этого возражения. Я есть
конечное; но Я и конечно, и бесконечно, именно поэтому моя
моральная жизнь — постоянный прогресс. Я должен развиваться,
потому что у меня есть другое, которое должно быть — но
никогда полностью не есть, — я сам; и потому то, как я есть, я есть в
состоянии противоречия.
Дело не в том, что я хочу увеличить только количество моего
истинного Я. Дело в том, что не хочу быть ничем иным, но моим
истинным Я, освободиться от всех внешних отношений, перенести
их все внутрь себя и тем самым полностью пребывать в себе.
Я должен быть совершенно гомогенным; но я не смогу достичь
этого, пока не стану целиком специфицированным, и весь вопрос
в том, каким образом я могу расширить себя, чтобы включить
110
Почему я должен быть морален?
в себя свои внешние отношения. Гете сказал: «Будь целым или
войди в целое», но на это мы должны ответить: «Ты не можешь быть
целым, пока не вошел в целое».
Затруднение состоит в следующем: будучи ограниченным и,
таким образом, не будучи целым, как расширить себя так, чтобы
стать целым? Ответ таков: быть членом целого. В нем ваше
личное я, ваша конечность, перестает существовать; оно становится
функцией организма. Вы должны быть не просто частью, но
членом целого; и именно как таковой вы должны знать и желать
самого себя.
Целое, которому вы принадлежите, подробным образом спец-
фицирует себя в своих функциях и все же остается гомогенным.
Оно проживает не множество жизней, но одну жизнь, и все же не
может жить иначе, как во множестве своих членов. Равным
образом, каждый из членов живет, но не отдельно от целого, которое
живет в нем. Организм гомогенен потому, что он
специфицирован, и специфицирован потому, что гомогенен.
«Но, — возразят нам, — что мне с того? Я остаюсь одним
членом, и я не являюсь другими. Чем более организм совершенен,
тем более он специфицирован и все более интенсивной становится
его гомогенность. Однако то, что для него «более», лля меня
означает — «менее». Единство пребывает в целом, а значит, вне меня;
и чем больше спецификация целого, тем более особенным, узким
и ограниченным я становлюсь, тем менее я развит в себе».
В ответ мы скажем, что это возражение упускает из виду
самоочевидный факт, который имеет огромное значение, а
именно то, что в моральном организме члены знают себя, причем
знают себя как членов этого организма. Я знаю себя не просто как
нечто на фоне другого, который не есть я. Отношения других
ко мне здесь не просто внешние отношения. Я знаю себя как
члена организма; это значит, что я знаю о своей собственной
функции, но это также значит, что я знаю целое как то, что
специфицирует себя во мне. Воля целого сознательно желает себя во мне;
воля целого — воля его членов, и поэтому я действительно знаю,
что, в моем желании собственной функции, другие желают себя
111
Эссе II
во мне. Я также знаю, что желаю себя в других, и в них я обретаю
свою волю как уже не свою, но тем не менее свою. Утверждение
о том, что гомогенность не всецело сосредоточена на мне, ложно;
она не только во мне, но и аля меня тоже; и вне моей жизни в ней,
моего знания о ней, моей преданности ей, я не явлюсь собой. Она
исчезает — и с ней я сам, она торжествует — я радуюсь, ей
наносится урон, — я страдаю, отделите меня от ее любви — и я
погибну (об этом см. далее в Эссе V).
Различие отдельных «Я», без сомнения, остается, но дело здесь
в следующем. В моральности существование одного лишь
моего личного «Я» как такового — это то, чего не должно быть, и
насколько я морален, настолько оно исчезает. «Я» только тогда
морально реализован, когда мое личное «Я» полностью перестало
быть исключительным, когда оно уже не представляет собой
волю вне воль других «Я», но когда оно обнаруживает в мире других
«Я» не что иное, как самое себя.
«Реализовать себя как конечное целое» значит «реализовать
себя как обладающего самосознанием члена конечного целого,
реализовав это целое в себе». Когда это целое действительно
бесконечно и когда твоя личная воля полностью составляет с ним одно,
тогда тебе также удалось достичь высшей степени гомогенности
и спецификации и добиться совершенной самореализации.
Изложенное выше станет, мы надеемся, ясным тому, кто
продолжит чтение. Он должен рассматривать то, что было до сих пор
сказано, как текст, который в последующем изложении должен
быть проиллюстрирован и детально проработан. Наша же цель
состояла в том, чтобы предложить формулу самореализации,
и до некоторой степени объяснить ее. Последующие эссе
завершат, мы надеемся, что-то наподобие комментариев и оправданий.
Мы увидим, что самость, которую следует реализовать, не есть
самость ни как собрание партикулярностей, ни как
универсальное, каким являются все состояния определенного чувства; и что
самость, опять же, не есть абстрактное универсальное подобно
форме долга; каковые определенности не сочетаются ни с
жизнью, ни с моральным сознанием, ни с самими собой; мы также
112
Примечание к Эссе II
увидим, что, когда самость отождествляется с конкретно
универсальным, тотальностью реального, когда волит и реализует его,
только тогда обнаруживает себя, только тогда удовлетворена,
определена в себе и свободна, — «свободная воля, которая волит
себя как свободную волю».
Теперь позвольте мне подвести итоги размышлений
данного эссе. Мы попытались показать: (1) что всякое этическое учение
должно отвергнуть формулу «зачем? для чего?» как не
применимую универсально, и что, следовательно, ее выдвижение не
принесет выгоды ни одной теории (за исключением самой примитивной),
и что теперь главным для нас (как и для эллинов) является вопрос:
«Если имеется некоторая цель, то в чем эта цель?». И (2) мы
предприняли попытку вкратце указать на то, что конечную цель, с
которой отождествляется моральность или в которую она
включается, можно определить только как самореализацию — причем
опровержение второй части вовсе не влечет за собой с
необходимостью опровержение первой.
Примечание к Эссе II
Вероятно, полезно сделать следующие замечания, пусть даже
они отчасти суть повторение уже сказанного.
Если есть цель, то она в любом случае есть самореализация; эта
цель — нечто, что должно быть достигнуто, иначе она не цель.
И эта цель подразумевает самореализацию, поскольку должна
быть достигнута мной. Посредством моего действия я должен
осуществить ее; в том, чтобы сделать ее реальной, реализуется моя
воля, а моя воля есть я сам. Следовательно, самореализация имеет
место в каждом действии; свидетель тому — чувство удовольствия.
«Да, — скажут нам, — но этим не доказано, что имеет место
именно самореализация. Содержание поступка — не самость,
но его может составлять нечто другое, и это нечто другое может
быть целью. Содержание есть цель».
Легко сказать, но это утверждение не учитывает
психологические затруднения. Как возможно хотеть то, что не является
113
Примечание к Эссе II
самостью? Как возможно желать чуждый объект? То, что мы
желаем, должно быть в нашем уме; мы должны думать о нем; и кроме
того, мы должны относиться к нему определенным образом.
Если оно должно быть нашей целью, мы должны чувствовать себя
с ним чем-то одним, ощущать себя в нем; а как это возможно,
если объект не принадлежит нам, если он не был сделан частью нас
самих? Высказывание «Мысли о том, что есть и что должно быть,
существуют в тебе, они в твоей голове, потом же ты
осуществляешь их, и в этом состоит действие» поверхностно, поскольку эти
мысли, когда становятся желаемы, не просто находятся во мне, я
чувствую, что они мои, в идеале что они — я сам, а, когда они
осуществляются, — это, таким образом, и есть самореализация.
Не следует ли возразить нам следующее: «Разговор об
осуществлении абсурден. Действуя, мы, в ответ на мысли,
производим изменения в вещах и в нас самих: вещи сходны с мыслями,
но, строго говоря, реализации мысли не происходит, поскольку
в этом нет смысла»? Однако если мы станем на эту точку зрения,
то столкнемся с невозможностью давать отчет в наших мыслях
и действиях в обычном смысле этого выражения; в таком случае
мы знали бы не само реальное, но что-то схожее с реальным, и
делали бы не то, что имели в виду, намеревались, что было в наших
головах, но что-то схожее с таковым. Но это, к сожалению, не
действие. Если я делаю не то, что волю, но только то, что с этим схоже,
это действие, строго говоря, еще не мое, и оно не будет мне
вменяться. Поступок предполагает, что содержание на каждой из
сторон остается тем же самым, с различием, или, под властью
различия, но тем же самым. Он действительно предполагает: то, что
было в уме, осуществляется; и, если вы не думаете, что нечто
может быть в самости и быть осуществляемым самостью, не будучи
той же природы, что и самость (а затруднения, порождаемые
такого рода мнением, непреодолимы), вы должны считать, что во-
ление есть самореализация.
Однако, несомненно, найдется много таких, кто, не вдаваясь
в вопросы метафизики и психологии, но опираясь лишь на
факты, скажут: «Оставим теорию, когда я поступаю, я, конечно же,
114
Примечание к Эссе II
реализую больше, чем мою самость. Я хорошо понимаю, что
могу не делать этого; но, если я посвящаю себя делу и стараюсь
осуществить его своими силами, как же тогда может быть, что я
реализую только себя?»
Без сомнения, это очень серьезное затруднение, и здесь мы не
можем претендовать на то, чтобы тщательно с ним разобраться.
Однако мы можем указать на то, что оно возникает из
предрассудка в отношении самости (т. е. из отождествления ее с
партикулярной самостью), который невозможно оправдать. С одной
стороны, очевидно, что самости действительно исключают друг друга.
Я не ты, ты не он; и, опираясь на это понятие исключительности,
мы продолжаем рассматривать самость как точку отталкивания
или как индивид — так ее обычно называют. Однако, отвлекшись
от метафизики, мы под давлением фактов вскоре подходим к
пониманию того, что индивид не реальность, но абстракция
нашего ума. Ибо, если мы, не задумавшись над проблемой отношения
одной личности к другим, вообразим это лишь «индивидуальное»
действование, тотчас увидим, что индивид должен порождать что-
то, а для этого иметь в себе нечто, содержание, а, коли так, он уже
не пустая точка, которую до сих пор мы понимали всего лишь как
форму. Поэтому мы теперь пытаемся наделить его таким
содержанием, которое полностью пребывало бы в нем самом и которое
не было бы общим как для него, так и для других, и, обнаружив,
что на основании этого предположения невозможно
сообразовываться с фактами, мы, внезапно меняя направление мысли,
впадаем в другую крайность и тогда предполагаем, что индивид
реализует полное подавление себя. Поступая так, мы не замечаем, что
отказываемся от собственных допущений, не доказав их ложность,
и сталкиваемся со сложностью психологического рода: каким
образом должен человек произвести из себя то, что не было в нем
и не было его частью, а также с фактами, которые
свидетельствуют, что действие без интереса — это выдумка.
Однако если мы готовы с позиций лучшей метафизики или
большего внимания к фактам отказаться от тех метафизических
предположений, которые принимали за реальное положение дел,
115
Примечание к Эссе II
а теперь считаем поверхностными, тогда мы можем также увидеть,
что, хотя, конечно, один человек не может быть «как Цербер,
тремя джентльменами сразу», но, даже обладая исключительностью
такого рода, тем не менее он в своем содержании (а именно оно
делает человека тем, что он есть) не столь исключителен; можем
увидеть, что я есть то, что я волю, и волю то, чего хочу, что
содержание дает мне качественную определенность и что в мире нет
такой причины, по которой это содержание должно быть
ограничено «этим я». Это офаничение невозможно в случае социального
существа; а о том, чтобы указать на человека, в ком эта
исключительная самость составляет все содержание воли, даже не стоит
вопроса. Но если так, то возникает трудность: как может мой объект
быть одним и тем же с объектом других людей; настолько чтобы,
наполнив форму моей персональное™ не только моей жизнью, я
принял к сердцу те объективные интересы, те должные вещи, в
существовании и при посредстве которых я не должен удовлетворять
лишь мою личную самость, чтобы я отождествил себя, слился с
ними; настолько, что я, поскольку и не хочу, и не способен отделить
себя от того, что делает меня мной самим, реализуя должное,
реализую себя и могу делать это, только реализуя его? (Этот вопрос
снова возникнет — см. главным образом Эссе VII)
Ну что ж, так же как мы должны принять учение, согласно
которому «все имеет отношение к самости», но, дополнив и
конкретизировав его учением о том, что «моя самость также
относительна», мы должны равно принять то, чему учит теория эгоизма: я
могу волить только мою самость, но откорректировав эту теорию
добавлением: «И все же самость, которая есть я сам, самость,
которая моя, — не только моя». Отсюда понятно, что, сказав: воление
есть самореализация, мы не приходим в столкновение с
моральностью.
В заключение — если меня спросят, почему я должен быть
морален, я смогу сказать не многим больше, чем следующее:
единственное, в чем я не могу сомневаться, — это мое бытие сейчас, и
поскольку в это бытие вовлечена самость, которая должна быть здесь
и сейчас, но тем не менее в этом здесь и сейчас она не есть, постольку
116
Примечание к Эссе II
я не могу сомневаться, что есть некая цель, которую я должен
сделать реальной; а моральность если не равнозначна деланию
реальной мой самости, то, во всяком случае, включена в него.
Если бессмысленно доискиваться дальнейшей причины
моего знания и воления собственного существования, тогда равным
образом абсурдно доискиваться дальнейшей причины того, что
в них включено. Единственный рациональный вопрос здесь — это
не «Почему?», но «Что?», «Что есть та самость, которую я знаю
и волю?», «В чем ее истинная природа и что она означает?», «Что
есть та самость, которую я должен сделать актуальной и как этот
принцип наличествует, живет и воплощается в частных модусах
своей реализации?»
ЭССЕ III
Удовольствие ради удовольствия
То, что мы растрачиваем жизнь в погоне за неосязаемым, в
поиске невозможного и бессмысленного, — старо как мир. Эта
тема слишком избитая, чтобы удивить кого бы то ни было,
и все же слишком живая, чтобы всякий день не прозвучать в
назидание и не разбить еще одно сердце. И не сегодня и не вчера
появились, но на протяжении всей истории человечества звучат жалобы
на то, что все тщетно; что цели, ради которых мы живем и за
которые умираем, — «всего лишь идеи», иллюзии, которые ум
рождает по велению сердца, что они — пустые слова, которые
будоражат кровь, пока жизненный опыт или рефлексия не принесут
разочарование и покой на время или же смерть — на все
времена. Долг ради долга, жизнь ради цели, превышающей смысл, честь
и красоту, любовь к незримому, — все это человек сперва
ощущает сном и тенью, нереальным видением, а затем убеждается, что
оно таково. И взываем мы к тому, и желаем мы того, что
удовлетворило бы нас; что мы знаем наверняка, а не только мыслим; что
реально и прочно; чем мы можем завладеть, и в чем можем быть
уверены, и что не изменится на наших глазах. Мы распрощались
со своими трансцендентальными стремлениями, мы простились,
с грустью, но навсегда, с надеждами и чаяниями слишком нашей
легковерной молодости; мы навсегда расстались со своей ранней
любовью, с иллюзиями и порывами, что превосходят
человеческие способности. Мы ищем то, что ощутимо, и находим его в этом
мире; мы ищем знание, которое не может ввести в заблуждение
и которое — залог нашего собственного благосостояния; мы ищем
то, что осязаемо, и ощущаем его; мы ищем цель, которая нам как
118
Удовольствие ради удовольствия
людям принесет удовлетворение, и мы находим ее в том, что
одним словом можно назвать счастьем.
Счастье! Это выражение наивысшего взлета, или ложный
пафос, или жестокая ирония? Счастье — цель? Да, счастье — это
та цель, которой мы все на самом деле добиваемся; ибо чего еще
мы можем желать, кроме того, чтобы все было хорошо, —
чтобы все желания сбывались, а веления сердца находили
удовлетворение? Ведь мы не можем пройти мимо счастья? Ведь мы
обязательно поймем, что нашли его? О да, было бы, конечно, странно,
достигнуть такой цели и никогда не узнать об этом. Ведь счастье
реально и осязаемо, и мы сможем найти его, если будем искать?
Увы! Это единственный вопрос, на который никто не может дать
ответа «Что есть счастье?»; но каждый сможет в конечном счете
ответить: «Чем счастье не является?» Как его только не
называли люди! Его искали на вершинах и в глубинах. Счастья, во всех
его формах, добивались и на земле, и на небе. И кто из людей
достиг его? Его имя — олицетворение призрачного
предмета бесплодного поиска, которым охвачено все мироздание;
счастье — это не единственная иллюзия, которая превращает нашу
жизнь в состязание, но среди всех, — одно общее название,
которое охватывает и включает в себя остальные, оно мерещится
позади каждой новой цели, к которой мы стремимся, но лишь для
того, чтобы исчезнуть и появиться позади следующей. Человек,
который говорит, что счастье — это ориентир его жизни, на
самом деле не стремится к чему-то иному, чем другие. Он
добивается все той же иллюзорной цели, что и все остальные; и он
ничуть не отличается от ныне живущих и тех, кто был ранее, разве
только тем, что утверждает: достижение счастья должно быть
результатом поиска.
«Но счастье, — последует ответ, — неопределенно, потому
что люди сделали его таким; оно неосязаемо, потому что его
перенесли за пределы устойчивого мира в заоблачную и
вымышленную сферу; призрачно, потому что отвлечено от своего
предмета и его именем называют видения. Все эти цели не суть счастье.
Но есть такая цель, к которой человек может стремиться и которую
119
Эссе III
обретает на деле, она никогда не введет в заблуждение, она реальна
и ощутима, и мы чувствуем, что она — счастье; и эта цель —
удовольствие». Удовольствие — то, в чем мы можем быть уверены,
поскольку она пребывает не невесть где, а здесь, в нас самих. Оно
известно, и его можно достичь; это цель и человека, и
животного, единственное, ради чего следует жить, единственное, ради
чего и человек, и животное на самом деле живут, и то, чего на самом
деле желают, и единственное, на что им следует ориентироваться.
Вот это реально, потому что мы чувствуем, что удовольствие
реально, и знаем его как таковое; и единственно только будучи
причастными или в силу того, что нам кажется, будто удовольствия
причастны реальности, все другие цели сходят за счастье и
навязываются миру как таковое.
Мы сказали, что, кажется, невозможно ответить на вопрос,
что такое счастье; и что в конечном счете мало кто не способен
определить, чем оно не является. Если и существует такое нечто,
которое почти большинством голосов люди всего мира, всех
возрастов, национальностей и типов, согласны объявить не счастьем,
так это — удовольствие и его поиск. Это истина, которую не
только проповедовала известная философская школа, но и всюду
в нашей жизни мы видим, что, начав с отождествления
удовольствия и счастья, в итоге приходят к признанию, что в этом
тождестве «ничего нет», εύδαιμονιαν όλως αδύνατον είναι43. «Погоня
за удовольствием» — это выражение вызывает или улыбку, или
грустный вздох, поскольку уже давно понятно, что, если
удовольствие — это цель, то цель, которую нельзя делать единственной,
и чаще всего мы находим его там, где и не искали. Если обрести
удовольствие — цель, а наука — средство, то, конечно, мы
должны сказать:
Die hohe Kraft
Der Wissenschaft
Der ganzen Welt verborgen!
Und wer nicht denkt,
Полное счастье невозможно (греч.) — Примеч. переводчика.
120
Удовольствие ради удовольствия
Dem wird sie geschenkt,
Er hat sie ohne Sorgen44.
Обыденное мнение затянуло старую песню о том, что
стремление к удовольствию — страшное заблуждение, которое
бытует у людей; что, если ты хочешь быть счастливым, т. е.
удовлетворенным, ты не должен думать об удовольствии, но, избрав тот
или иной общепринятый образ жизни, должен сделать его своей
целью, и в этом случае будешь, если судьба к тебе умеренно
благосклонна, счастлив; в противном случае ты сам виноват в своем
несчастии; и что если ты будешь упорствовать, то, вероятно,
станет еще хуже. Лучше было не жить иначе и уж, по крайней мере,
не искать иного удовольствия.
До сих пор жизненный опыт обычного человека
перевешивает практичность гедонизма. Но, скажут нам, гедонизм не означает,
что индивид должен стремиться к своему индивидуальному
удовольствию. Именно это эгоистическое стремление стало притчей
во языцех и порицается как гедонистическое. Согласно современной
теории утилитаризма, цель — это не удовольствие одного
человека, но удовольствие всех; она состоит не в том, чтобы мой
чувствующий организм, но чтобы все чувствующие организмы ощущали
максимум приятного и минимум болезненного; и против
возможности реализации такого рода цели обыденному мнению нечего
возразить. Допустим, это так, но в сознании людей цель никогда
не представлялась в таком виде; и было бы хорошо помнить, что
если индивид, ищущий удовольствие, не может достигнуть
своей индивидуальной цели, то такого рода факт должен, по
крайней мере, зародить в нас некоторое сомнение в том, что, когда
44 Гете И. В. Г. Фауст. Часть 1. Сцена 6. Кухня ведьмы.
Ведьма:
Познания свет,
Для всех секрет,
Для всех без исключения!
Порою он,
Как дар, сужден
И тем, в ком нет мышленья!
(Пер. Н. Холодковского. — Примеч. переводчика.)
121
Эссе III
человечество стремится к удовольствию чувственного мира, эта
цель более реальна и ощутима.
Тогда окажется, что мнение, которое формируется у обычного
человека на основании его жизненного опыта, в той мере, в
которой оно имеет отношение к вопросу, противостоит практичности
гедонизма. Вульгарное мнение нельзя использовать против
философской теории, хотя оно, конечно, может возражать против
предубеждения о реальности и осязаемости удовольствия, —
предубеждения еще более обыденного, чем оно само.
Но мы должны помнить, что гедонизм не провозглашает
себя всего лишь создаваемой теорией. Он предлагает себя как
моральную теорию, как единственно возможное учение о морали.
Моральный мир — факт, гедонизм — объяснение факта; и для
нас должно иметь большое значение, если мы обнаружим, что
те, кто, не обладает теоретическим складом ума и знает факт
непосредственно, за редким исключением отрицает предлагаемое
гедонизмом объяснение. А это, несомненно, так. Когда
субъектам морали, не осмыслившим теоретически суть дела, говорят,
что моральная цель индивида и всего рода людей состоит в том,
чтобы с избытком испытать максимальное количество приятных
чувств, и что в целом мире нет ничего, что обладало бы хоть
каплей моральной ценности, кроме этой цели и тех средств, что
ведут к ней, они отказываются признать такой исход, и здесь
не может быть возражений. Они чувствуют, что «иногда
приходится отдавать предпочтение тому, что не приводит к
удовольствию»; и что, сделав выбор в пользу того, что есть благо для нас,
нам следует избрать его и для всего рода людей, если мы
заботимся о других как о самих себе. Нам, конечно, могут сказать,
что, возражая нам в таком ключе, люди исходят из непонимания
сути вопроса, — и к этому нужно будет вернуться. Пока же мы
будем считать, что моральное сознание ни в коем случае не
согласится с гедонизмом, разве только по причине неверного
понимания. Пусть теория гедонизма возможна, но обыденное
моральное мнение не согласно с ее претензией на то, чтобы быть
адекватным описанием нравов.
122
Удовольствие ради удовольствия
В морали и религии считается, что для человека и для всего
рода людей необходима некая цель; что человечество, как и
индивид, должно реализовать некую идею и что она должна быть
реализована, даже если не совместима с требованием минимума боли
и максимума удовольствий, переживаемых человеческой душой
и телом, не говоря уже об остальных чувствующих организмах.
Для морали и религии цель — идея (или назовите ее как угодно),
которая мыслится и как движущий принцип, и как конечная цель
прогресса человека, и эта идея (чем бы еще она могла или не
могла бы быть), наиболее вероятно, не сводится только к идее
приумножения удовольствия и сокращения неприятных переживаний.
То, что мы представляем себе в качестве цели собственного бытия,
следует считать законом, руководящим жизнью как того или того
человека, так и всего рода людей в целом; и если не употреблять
смутное выражение «счастье», но ясно и открыто говорить, что
имеется в виду «чувство удовлетворения столь интенсивное,
насколько это возможн, и столь длительное, насколько возможно», тогда,
я думаю, невозможно предложить моральному сознанию
гедонистическую цель, не войдя с ним в серьезный конфликт.
Я не утверждаю тем самым, будто общее мнение истинно.
Я вполне допускаю, что положения обыденной морали
ошибочны; но мне хотелось бы особенно подчеркнуть следующее:
моральный мир — как его внешняя сторона, выраженная в семье,
обществе и государстве, а также в той функции, которую производят
в нем индивиды, так и его внутренняя сторона морального чувства
и веры, — является фактом. Теория, объясняющая и
оправдывающая эти факты как целое, — истинная моральная теория; та же,
которая не способна их объяснить, вероятно, может быть хорошей
и правильной теорией, но в каком-то другом отношении, не как
теория морали. Из того, что все остальные теории ложны, не
следует, что в силу этого гедонизм является истинной этической
теорией. Из того, что гедонизм опроверг «интуитивных моралистов»
(акого не опроверг?), не следует, что он тем самым объяснил
факты морального сознания. Согласившись с тем, что теория работает,
еще следует доказать, что она моральна, — моральна в том смысле,
123
Эссе III
что объясняет, а не оправдает мораль. А доказать, что она
моральна, через отрицание другой теории можно только в силу двух
допущений. Первое состоит в том, что существует теория, которая
адекватно объясняет нравы, а это допущение недоказуемо; второе
гласит, что в случае с «интуитивным» и «утилитарным» мы
имеем дело с полной и исчерпывающей дизъюнкцией, «либо ...,
либо», а это допущение ложно45.
Я рискую повториться и показаться скучным, но я должен
остановиться на рассмотрении обыденного сознания. Действительно,
временами кажется, что чем больше успех, тем больше
удовольствие и что их трудно разделить. Я не имею в виду те моменты
(если таковые есть), когда нам кажется, что жизнь — водевиль, но те
часы (а таковые должны быть), когда успех в добрых делах и в
познании и возрастание удовольствия от того и другого так тесно
сплетены и предстают нашему уму (в нашем случае и в случае
с другими) как одно, что мы чувствуем: невозможно сделать выбор
в пользу чего-то одного. Несомненно, бывают периоды, когда все,
что зовется успехом, кажется столь тщетным и приносящим
разочарование, когда нас охватывает горькое чувство того, что
«преумножение знания», на самом деле, — «преумножение печали»,
и что тот, кто мыслит, — менее всего счастлив; когда мы завидуем
животным, не знающим ни прошлого, ни будущего, их
беззаботным радостям и легкости, с которой они забывают об огорчени-
45 «Опровергнув теорию, которая делает полезность руководящим
принципом, нужно дать другой принцип, который был бы лучше и вернее».
«Теперь же, если мы отрицаем, что полезность свидетельствует о божественном
указании, мы должны согласиться с теорией или гипотезой, которая
предполагает существование морального чувства» [Austine. Jurisprudence. I. 79; (1.147. ed. III)].
Если на нашем пути возникло болото, а мы не знаем пути, и к нам подходят
двое, из которых один говорит: «Кто-то должен знать путь через это болото,
поскольку путь должен быть, а кроме нас двоих, вы здесь никого не видите,
следовательно, один из нас должен быть способен перевести вас. Второй не знает
пути, в чем вы быстро убедитесь; следовательно, я должен знать его». Должны ли
мы ответить: «Веди, я иду за тобой»? Философия на самом деле будет самой
легкой из наук, если для того, чтобы достичь истины, нам нужно будет заключить,
что один из двух подходов должен быть истинен, и обосновать его, доказав
ложность другого; но именно так и нельзя поступить в философии.
124
Удовольствие ради удовольствия
ях; и когда мы можем себе, а если себе, то и другим пожелать
перестать быть, или быть тем что они есть «von allem Wissensqualem
entladen»46. Я привел крайние случаи; но если ни периоды
наивысшего подъема, ни уныния не мешают нам трезво смотреть на суть
дела, мы, скорее всего, изберем для себя (а также для других) то,
что полагаем наиболее высоким образом жизни, т. е. тот, при
котором человек исполняет свое наивысшее предназначение; и этот
образ жизни, конечно, будет связан с чувством удовольствия; но
если мы окажемся перед необходимостью выбора между низшим
служением, при котором будем меньше страдать и получать
больше удовольствия, и служением более высоким, но
сопровождающимся страданием и не приносящим большого удовольствия,
мы должны будем решить в пользу последнего.
А такой выбор можно представить. Если выяснится, что,
двигаясь ценой удовольствия, к тому, что кажется возвышенным,
человечество не может достигнуть цели (и я не вижу способа доказать,
что это невозможно), — как бы то ни было, может возникнуть
сомнение: продолжать идти в том же направлении (к высшему) и
отказывать себе в удовольствиях (взяв в расчет удовольствие от того
факта, что становишься лучше) или избрать другой путь (низший),
испытывая все больше удовольствий (даже за вычетом сожаления
о том, не будешь становиться лучше). Можно представить
ситуацию, когда будет необходимо сделать этот выбор; и нет сомнения,
с одной стороны, в том, какой выбор сделает моральный тип; нет
сомнения, с другой — каким он будет у того, кто ставит себе
целью удовольствие. И если гедонизм — истинная теория морали,
то, мы полагаем, самый моральный человек и самый моральный
народ будут, как следствие, с наибольшей вероятностью,
вынуждены поступать имморально.
Однако нас станут убеждать в том, что все эти умозаключения
не имеют отношения к современному утилитаризму. И индивида,
и всех людей в целом, скажут нам, он призывает к возвышенному,
^«Свободны от всякого чада знания» (нем.) (Гете И. В. Г. Фауст. Часть 1.
Сцена 1. Ночь. Монолог Фауста). — Примеч. переводчика.
125
Эссе III
к самопожертвованию. Ибо он не только ставит целью удовольствие
всех, а не одного, но и более того, различает удовольствия по
качеству. Цель состоит не в том, чтобы испытать наибольшее число
удовольствий. Есть удовольствия, которые для нас являются
предпочтительными по отношению к другим, даже если они
сопряжены с разочарованием и неудовлетворенностью. Эти удовольствия,
следовательно, должно предпочитать, и они — удовольствия
более высокого порядка. Учение, разделяющее удовольствия по
качеству, прибавят к сказанному, несомненно, морально.
Мы признаем, что учение это отдает дань уважения
популярному мнению, причем настолько, что отказывается ради
него и от последовательности, и от собственного принципа, —
позже мы докажем, что это так. Но все же ему ни на йоту не удалось
удовлетворить требованиям морали. Добродетель, как для нас, так
и для других, по-прежнему всего лишь средство для достижения
удовольствия, ничтожна, как и все остальное, если не иммораль-
на; и добродетелью вовсе не является. Что правильно,
определяется тем, что наиболее «приятно чувствам» искушенного в
удовольствиях, того, кто испытал их все. И здесь нет места компромиссу.
Очевидно, что, когда обыденная мораль избирает целью для
себя и других добродетель, она не стремится получить
вознаграждение или привилегии; она движима не чувством удовольствия,
и не оно является предметом желания. Ориентир человека,
стремящегося к добродетели, — это предмет, поступок или событие,
которое не является (по крайней мере, для него) состоянием
чувствующей самости, ни его собственной, ни другого. Утверждать,
будто он, желая поступать правильно, рассчитывает посредством
этого получить удовольствие, значит утверждать вопреки фактам.
Для сознания морального человека это чувство — дополнение или
следствие, в таком ключе он может подумать о нем. Но думать
об удовольствии как о чем-то большем, предлагать его в качестве
цели, для которой поступок или объективное событие —
средство, и не более чем средство, значит просто перевернуть
моральную позицию с ног на голову. С психологической точки зрения,
если хотите, можно возразить, что удовольствие — то, что желается
126
Удовольствие ради удовольствия
на самом деле (что ложно, как мы покажем в другом эссе). В
интересах дискуссии мы готовы принять это утверждение: в данном
случае оно все равно ни на что не влияет. Моральное сознание не
думает, что поступает ради удовольствия; а мы заняты вопросом не о
том, является ли то, во что оно верит или должно верить,
психологической иллюзией или нет, но о том, согласуется с ним в этой
вере утилитаризм.
В какой бы форме ни представал гедонизм, он все равно
говорит: «Моральность — средство для удовольствия»; и независимо
от того, должен ли человек получать удовольствие от своей
моральности или только лишь посредством моральности;
достижение удовольствия все равно является высшей целью. Удовольствие
ради удовольствия — вот цель. И единственно, почему нечто
может быть целью, — если оно используется как средство для
достижения удовольствия. Это, повторим еще раз, совершенно не
совместимо с убеждениями обыденной морали. И, согласно этим
убеждениям, гедонизм не только отвергается как имморальный,
но и, как мы видели, обыденное сознание полагает его принципы
не осуществимыми на практике. Вот эти два положения мы
хотели прояснить, и с таким результатом мы завершили первую или
вводную часть нашего предприятия.
Теперь, во вторую очередь, нужно спросить: «Почему
стремление к удовольствию, моему удовольствию, считается тщетным,
а само удовольствие — неощутимым и обманчивым, чем-то, что
не дает ни образца, на который равняться, ни цели, к которой
стремиться, ни системы, чтобы реализовать в нашей жизни?» Ответ
скрыт в самой природе удовольствия.
Удовольствие и боль — чувства, и ничто кроме. Наверное,
можно назвать их двумя простыми модусами самоощущения; но у нас
нет задачи корректно использовать терминологии
психологической науки. На чем мы действительно хотим сделать акцент (и это
мы считаем несомненным), так это на том, что, будучи предметом
психологического исследования, удовольствие и боль
представляют собой исключительно только состояния ощущающей самости.
Это значит, что они существуют во мне, и лишь до тех пор, пока
127
Эссе III
я ощущаю их и лишь когда я ощущаю их, что вне связи со мной,
они ни к чему не относятся, не обоснованы и не имеют
совершенно никакого смысла. Они «субъективны», поскольку вне какого-то
конкретного субъекта не имеют реальности и не претендуют на нее.
Они таковы, какими мы их ощущаем, но они ничего не сообщают
нам. Одним словом, у них нет содержания: они суть как наши
состояния, но они нам ничего не дают.
Не думаю, что есть необходимость задерживаться на этом
вопросе. Давайте перейдем к обсуждению применимости.
Практическую цель, если она призвана служить практическим
ориентиром или образцом, человек должен представлять себе как
определенное единство, конкретное целое, которое он может
реализовать в своих поступках и осуществить в своей жизни.
Удовольствие же (как и боль), для нас, — всего лишь имя, обозначающее
последовательность «вот этих», партикулярных ощущений,
которые и существуют только в тот момент или моменты, когда мы их
чувствуем. Эта последовательность не обладает ни ограничением
в числе (началом или концом), ни какой-либо связью ни в себе,
ни с чем-либо вне себя. Реализовать как таковую самость, которая
чувствует удовольствие или боль, значит реализовать эту
исчезающую последовательность47. Но ведь очевидно, что практическая
цель состоит не в этом. Давайте рассмотрим проблему чуть
более подробно.
Наш гедонист до некоторой степени, хотя и неотчетливо,
сознает, что он не какое-то отдельное ощущение или
удовлетворение, не «вот это» или «вон то», но нечто реальное, которое
следует реализовать. Объектом желания, как мы убедились, является
самореализация. Выше мы показали, что, с одной стороны, есть
47 Несомненно, рассматривать приятные ощущения как всего лишь
удовольствия — абстракция, но это не наш выбор, а выбор гедониста. С другой
стороны, абстрактно трактовать ощущения только как партикулярные. Если они наши
ощущения, если они ощущения самости, то они больше чем партикулярные. Но
ощущающая самость, если сводить ее только к переживанию удовольствия или
боли, есть только в последовательности своих ощущений, а они (как такого рода
последовательность) не соотносятся ни с чем, ни в себе, ни за пределами себя.
128
Удовольствие ради удовольствия
самость, которую мы должны понимать как целое, живую
тотальность, существующую в своих частях; как универсальное,
присутствующее в каждом своем моменте и конституируемое
партикулярными элементами, входящими в него, — вот эта самость имеет
интенцию, пусть и неосознанно, обрести и удовлетворить себя как
таковое и только как таковое. С другой стороны, есть самость,
которая только ощущает. Она сводится к последовательности
отдельных актов удовлетворения. Самость с готовностью (почему —
сейчас нам нет надобности выяснять) полагает их своей реальностью
и единственно возможным полем самореализации.
Следует уделить внимание гетерогенной природе
удовлетворяемой самости и предлагаемому удовлетворению, а также сказать
о том, что из сущности одного и второго следует, что проблему
решить невозможно. Испытав удовольствие, страждущий вскоре
сталкивается с определенного рода трудностями.
Удовольствия, как мы видели, сменяют друг друга и исчезают.
Настает момент удовольствия, и интенсивное самоощущение
свидетельствует об удовлетворении. Удовольствие закончилось, и я
чувствует неудовлетворенность. Удовольствие — это не «то» «тогда-
то», но «вот это» и «сейчас»; и вот, оно ушло. Удовольствие — это
не «то» «тогда-то», но «всякий раз иное»; но «всякий раз иное»
не дает нам того, что мы хотим; напряжение и уверенность не
покидают нас, пока не спадет прилив чувств, а, когда это
произойдет, ничего более не остается. Радость, которую мы испытывали,
уходит, и мы возвращаемся к началу. Мы не обрели самих себя,
и мы не удовлетворены.
Таков опыт переживания удовольствия. Его часто
используют для опровержения гедонизма и тех, кто пытается обрести
счастье в удовольствии. Счастье для обычного человека не означает
ни удовольствие, ни сумму удовольствий. В целом оно означает
обретение себя, или удовлетворение себя как целого; в частности
же, оно означает реализацию конкретного идеала жизни. «Это
счастье, — говорит он, не отождествляя счастье с тем или иным
удовольствием или с суммой удовольствий, но имея в виду, что — в нем
стало реальностью то, что было в глубине моей души». Но гедонист
129
Эссе III
сказал: «счастье — удовольствие», и гедонист знает, что счастье —
целое48. Как же тогда возможно, что удовольствия составляют искомое
целое, если они не образуют системы и суть некоторое количество
исчезающих моментов? Этот вопрос — перифраз давно
известного вопроса, как универсальное присутствует в конкретном. И
ответ на него нов — в сумме. Самость обретает себя, а счастье
реализуется — в сумме моментов ощущающей самости. Практическое
указание: испытай все удовольствия, и ты обретешь счастье; а
раньше в тексте мы уже увидели, что, будучи применено к действию,
это указание приводит к хорошо известному результату —
истощению и неудовлетворенности.
Теоретически это просто обосновать. В сумме удовольствий или
совокупности всех удовольствий заключается противоречие, и
следовательно, стремиться к ней тщетно. Последовательность, у
которой нет начала, или же если есть начало, то уж точно нет конца,
невозможно свести к сумме; всё не есть, но тем не менее все
постулировано, и последовательность нужно свести в сумму. Но
пока человек жив, ее суммировать невозможно, а если так, то, даже
реализовав цель, видится мне, он не узнает об этом и не обретет
счастья; а реализовать ее прежде смерти он не сможет, поскольку
всегда возможно новое удовольствие, и последовательность
никогда не будет завершена. Что такое сумма удовольствий и сколько
48Я осведомлен в том, что у некоторых авторов-гедонистов «счастье» не
отличено от «удовольствия». Говорят, что они суть одно и то же. Это насилие над языком,
которое оборачивается смешением понятий, о чем мы поговорим позже. Но не оно
послужило толчком для дискуссии. Если счастье = удовольствие, тогда «достишуть
счастья» = «достигнуть удовольствия». Что есть удовольствие? Это общее название,
и «достигни удовольствия » будет означать «достигни общего названия». Но общее
название не есть нечто реальное, и его нельзя достигнуть. Реальность —
партикулярное. «Достигни удовольствия» будет значить «достигни какого-нибудь одного
удовольствия». В этом ли счастье? Нет, мы должны достичь всей полноты
удовольствия, которая нам доступна. И вот, игра словами привела нас к тому, что
«достигни счастья» на самом деле означает «достигни как можно большего числа или
совокупности удовольствий». Грин в своем введении к «Трактату Юма» (II, 7) [Green.
Works. I. P. 307 и далее], настолько ясно изложил этот момент, что он уже не
должен вызывать непонимания. Вопрос, который обсуждается в этом эссе, позволяет
мне рекомендовать интересующимся обратиться к Гри1гу.
130
Удовольствие ради удовольствия
удовольствий нужно, чтобы ее получить? Сколько удовольствий
нужно, чтобы это уже были все, и когда мы достигнем их конца?
После смерти или при жизни? Имеется ли в виду конечное
число? Но «еще» выходит за пределы понятия конечности. Имеется
ли в виду бесконечное число? Тогда цель недостижима, поскольку
всегда возможно испытать еще одно удовольствие, и ничто не
бесконечно, если что-то все еще выходит за его пределы.
Получается, нужно признать, что никто никогда не достигает счастья. Или
же имеется в виду то количество удовольствий, которое человек
может получить? Тогда каждый человек в любой момент счастлив,
и счастье всегда полно, поскольку, согласно гедонистическому
учению, все мы получаем ровно столько, сколько способны49.
49 Мне бы очень не хотелось, чтобы читатель пропустил этот аргумент,
запутавшись в словах. Можно еще много чем возразить гедонизму, но нельзя считать,
что его суть достигнута, пока не поняли, что: 1) удовольствие как таковое —
абстракция (ср. Эссе VII); 2) сумма удовольствий — фикция. Последнее, я боюсь,
придется пояснить.
«Бери все, что можешь» — знакомый резонный призыв. Я говорю мальчику:
«Пойди в комнату и вынести оттуда все яблоки, сколько можешь унести»; и эта
фраза не бессмысленна. Есть определенное конечное количество яблок, которое
мне не известно, но которое при данных обстоятельствах максимально.
Мальчик взял и принес это количество — задание выполнено. Почему бы не сказать:
«Получи все удовольствия, которые можешь»? А вот почему, (i) Пусть
человеку отведено конечное количество удовольствий, которое он может получить;
однако, нет такого момента, когда бы он уже получил их. В этом деле конец
определяет смерть, а после смерти — ничто или все то же невыполненное задание,
(ii) На самом деле такой суммы нет. Удовольствие есть только в тот период
времени, когда я его ощущаю. Прошедшее удовольствие — либо идея, либо другое
(вторичное) впечатление. Само по себе оно ничто: я получал его, и не получил, а
«получал» — не удовольствие. Чтобы иметь сумму удовольствий, я должны всех
их получать сейчас, что невозможно. Таким образом, невозможно достичь конца,
а сама попытка достичь его нежелательна. Если угодно, можете сказать на это:
«Цель — иллюзия, и бессмысленно пытаться, но сама попытка достичь ее
приносит особое удовольствие, которое и есть цель». Но, выше возражение
обусловлено либо тем, что (а) вы не берете в расчет рассуждение о количестве, и принцип
наибольшего удовольствия теряет силу; либо тем, что (Ь) описанная проблема
возникает и в том случае, если речь идет о сумме особых удовольствий.
Если вы признаете, что нет смысла стремиться к наибольшей сумме
удовольствий, то встает вопрос: «Возможно ли приближение и можно сделать
целью само приближение?» Я не ставлю вопрос, можете ли вы приближаться
131
Эссе III
Гедонист сводит смысл универсального к совокупности всего
партикулярного, а так понятое универсальное ввиду того, что
партикулярное возникает и исчезает, не обладает и не может обладать
ни истинностью, ни реальностью. Истинно универсальное, к
которому он неосознанно стремится, бесконечно, поскольку
представляет собой конкретную целостность, завершенную и заключенную
в самой себе; а ложное универсальное бесконечно ad infinitum50.
Это — требование, претензия, завершенность, которая всегда есть
наличная незавершенность. Оно всегда конечно и потому никогда
к тому, что признано фикцией? И чтобы нас не поняли в таком ключе, давайте
скажем: «Для меня в любой момент жизни цель — обладание наибольшим из
возможного числом удовольствий. И здесь мы сталкиваемся с дилеммой,
описанной в эссе: либо счастье недостижимо, либо нет такого человека, кто не достиг
бы наивысшего счастья, которое только можно вообразить.
(i) Если счастье означает наибольшее из возможного число единиц, тогда я
никогда его не достигну. Чем бы я ни обладал, это что-то конечно; какую сумму
ни возьми, ее можно заменить другим единством.
(ii) Если счастье означает обладание всем тем, что я могу получить,
безразлично, сколь оно велико или мало, тогда всякий человек в любой момент жизни
абсолютно счастлив, — это истина для всякого гедониста. И такой вывод в
высшей степени очевиден. «Почему? — звучит возражение, — если бы некто А
поступил иначе, он бы достиг большего удовольствия». «Вы хотите сказать, — отвечу
я, — если бы он был некто В». Когда в обыденной речи мы употребляем
выражение: «Он не сделал, что мог или что было возможно сделать», мы имеем в виду,
«употребив энергию в одном направлении, он не смог приложить силу в другом»,
и мы вменяем человеку в вину неспособность там, где она — результат ошибки
в выборе направления деятельности. Но гедонисту не свойствен такой ход мысли,
ведь, с его точки зрения, существует только одно возможное направление
приложения силы, а именно: удовольствие, которое представляется наибольшим. Мы
не выбираем между удовольствием и чем-то иным. Человеку не остается ничего
иного, кроме естественного тяготения к тому, что кажется наиболее приятным,
и он не в силах изменить то, что, как кажется, принимает его воля, т. е. тяготения
к тому, что кажется наиболее приятным. Каждый уже сделал все возможное для
того, чтобы приблизиться, и, следовательно, совершенно счастлив.
Я думаю, наилучшее, что мог бы сделать гедонист, — определить
необходимую для счастья, достижимую сумму удовольствий и не учитывать все то, что
в нее входит. Подобным образом ему следовало отметить на шкале точку
несчастья. Но довольно об этом.
Мы обсудим вопрос о приблизительном характере всякой морали в
другом месте.
50 Без предела (лат.). — Примеч. переводчика.
132
Удовольствие ради удовольствия
не реализовано. Нельзя положить конец сумме; и с достижением
последнего из удовольствий человек ничуть не ближе к цели, чем
был в начале. Это было бы справедливо, даже если бы удовольствие
не было преходяще; но вдобавок ко всему последние из
пережитых удовольствий закончились, и вот «Я» снова не удовлетворено.
«Я», оставшись ни в чем, вновь пускаюсь в вечную погоню за
иллюзией, влекомый все дальше и дальше. И вот я в порочном кругу,
из которого нет выхода. Гедонизму остается теперь либо
утверждать, что счастье достигает полноты в какой-то один интенсивный
момент, либо признать, что счастье невозможно, либо
попытаться определить его иначе, чем сумму удовольствий.
Первый вариант — «nullo vivere consilio»5\ что означает отказ
от всякой практической цели и любого правила жизни. С этим
мы не станем разбираться. Второй — неизбежен, если счастье
равно сумме или наибольшему количеству удовольствий, поскольку
и то и другое — фикция, которая не имеет с реальностью ничего
общего. Цель в этом смысле существует только в голове человека,
воспитанного на гедонистической морали. Его моральность —
старание реализовать идею, которая не может быть реализована
никогда и которая, будучи реализована, ipso facto исчезнет. И скажи
ему, что, будь счастье возможно, сказка стала бы былью: цель
достигнута, поиск окончен, а вместе с ним пропадает необходимость
и в морали, — эти слова не будут для него ни опровержением его
мнения, ни утешением в печали; поскольку моральность для него
имеет смысл только как средство, но не как цель. И он не станет
сокрушаться на судьбу, но придет к мысли, что средства, до которых
ему нет дела, всегда в его распоряжении, а цель, которой он
вожделеет, далека. Его мораль говорит: получи то, что не можешь
получить; не зная покоя, не обретя удовлетворения, рвись от
настоящего к несбыточному будущему.
То, что описано выше, — вошедший в поговорку опыт
сластолюбца. Известно, что он избрал наихудший путь к счастью, ибо
51 Жить, не имея никакого определенного плана, как придется (лат.) —
Примеч. переводчика.
133
Эссе III
там, где не наступает удовлетворение, не может быть удовольствия.
И кончит он тем (помимо всего прочего), что откажется от своего
ревностного стремления испытать многие удовольствия.
Третья альтернатива состоит не в том, чтобы отказаться от
удовольствия как цели, но в том, чтобы определить его иначе, чем
наибольшее из возможного количество «приятных ощущений». Как
правило, так поступает самый благоразумный человек, который
не лишен любви к удовольствиям. Он определяет то количество
удовольствий, которое при отсутствии болезненных переживаний
достаточно для того, чтобы назвать счастьем, и которое для него
достижимо, и, чтобы заполучить его, избирает определенный
образ жизни и следует ему, не особенно задумываясь. Если вдруг
выпадает удобный случай получить удовольствие, он пользуется им,
но так, чтобы не обременять себя, чтобы не сбиться с намеченного
курс, и не слишком задумываясь над тем, что происходит. Это
хорошее правило, если хочешь получить больше, но его не следует
абсолютизировать и следовать ему можно только до тех пор,
пока не обретешь счастье, т. е. пока не накопишь того самого
определенного количества удовольствий, которое дает избранный
образ жизни.
Пока еще кажется, будто удовольствие — цель; но на самом
деле оно уже перестало быть таковой, и независимо от того,
понимает ли это сам человек, не целью, а средством стал способ,
каким он живет. Коротко говоря, у него появились интересы, он стал
желать определенных вещей, которые сознает не как средства,
ведущие к удовольствию. Приняв вульгарное понимание счастья,
мы покинули поле гедонизма, что вполне логично. Обмен вполне
логичен, учитывая, чего стоит «удовольствие ради удовольствия».
Однако номинально удовольствие — все еще цель, а
следовательно, описанный выше способ восприятия жизни открыт
следующим возражениям:
«Вы говорите, что удовольствие — моя цель; но вместе с тем
вы уверяете, что не стоит делать его моей целью, а взять за цель
некоторый общепризнанный образ жизни и получать удовольствие
по мере того, как оно проистекает от него. Я должен стремиться
134
Удовольствие ради удовольствия
к удовольствию, но только между прочим и в свободное время.
И так вы хотите убедить меня, что я в итоге испытаю наибольшее
количество приятных ощущений. Когда во время прицеливания
запрещают смотреть на мишень, — это кажется довольно
странным, но будь я уверен, что попаду, меня бы это не заботило. Но,
поскольку мне необходимо сделать точный выстрел, то я не
могу сказать, что мне безразлично, куда я целюсь. Я вижу, как люди
умирают, пожавши плоды мучительного самоотречения:
единственное удовольствие, которое оно принесло, — что-то, что
осталось другим, но сами-то они сошли в могилу. Достигли они своей
цели? А я? Жизнь в любой момент может выкинуть злую шутку.
Должен ли я отказаться от настоящего, в котором уверен, ради
сомнительного будущего?»
Должен последовать ответ: справедливо, что в жизни нет
определенности, но все равно разумнее действовать, исходя из того,
что вероятно. Возможно, вы умрете, но есть шанс, что останетесь
жить. Лучше считать, что так и будет, и, вооружившись
правилами, «Морским альманахом»52 от морали, направлять по нему свой
путь. И прожив столько же, сколько живет большинство людей,
вы, конечно, на этом пути обретете наибольшее удовольствие.
Возможно, такой ответ и удовлетворит возражающего.
Однако возникает еще одна серьезная трудность. Допустим, что жизнь
строится на вероятности, тогда встает вопрос: кто судит о том, что
возможно? Для меня моральная цель — в том, чтобы достичь
наибольшее из возможных для меня удовольствий; моральное
правило гласит: «Действуй, согласно тому, что наиболее вероятно,
а следовательно, живи ради жизни как целого»; но в нем ничего
не сказано о моральном Альманахе. Почему он должен быть мне
законом? На чем он основывается? Что сделали другие и что они
обрели? Несут ли другие ответственность за меня, если я
последую ему? Должен ли я действовать, руководствуясь своим
мнением, или я должен следовать Альманаху, даже если он идет вразрез
с моими убеждениями? Правильно ли и законно ли последнее?
МиллъДж. Ст. Утилитаризм.
135
Эссе III
Станет ли мне это, так сказать, оправданием, когда для всех
гедонистов настанет Судный день, когда, обвиненный в том, что
дурное поведение отвело меня от цели, я в свою защиту скажу, что
делал то, что делали другие, и что, когда мое убеждение могло
бы вести меня правильным путем, я шел вслед за толпой и
поэтому творил зло?
Мне видится, что если я должен искать своего удовольствия,
то мне должно быть позволено судить о моем удовольствии; а если
так, то Альманах для меня не закон. Он был создан, чтобы я
пользовался им по моему собственному усмотрению, чтобы не шел
вразрез с ним. А если так, то моральное законодательство исчезает.
Поскольку, очевидно, что (1) обстоятельства дела
приобрели необычный оборот, который невозможно предотвратить
заранее; и образ действий, установленный в Альманахе как закон,
в особых случаях, может, вместо того чтобы вести к удовольствию,
приносить боль; и тогда я должен его игнорировать. И очевидно,
что (2) различаются не только ситуации, но и характеры людей.
То, что доставляет удовольствие одному, ничего не дает другому;
так же и с болью. Можно говорить обобщенно; но сказанное
нельзя применить к тому или иному человеку в конкретной ситуации.
Как следствие, Альманах и его моральные правила не авторитетны.
Правильно следовать им. Правильно поступать прямо
противоположно тому, что они предписывают. Кратко говоря, моральные
правила Альманаха не являются законами; они всего лишь
правила, а правила, как известно, допускают и подразумевают
исключения. Как сказал Стефен53: «Возможно, что известная
дорога, — прямой путь от одного места до другого, но сам этот факт
еще не причина выбрать именно эту дорогу, если нужно пройти
напрямик. Возможно, хорошо правило, согласно которому,
вкладывая деньги, не следует ожидать более пяти процентов
прибыли, но если случается так, что можно получить десять процентов
без всякого риска, не будет ли глупо отказаться?»
^Stephen. Liberty. P. 362-363, ed. II. Стефен настолько четко изложил вопрос,
что у меня даже не возникает мысли что-то добавить. Кант очень ясен в этом
вопросе, его рассуждения удачны.
136
Удовольствие ради удовольствия
Если гедонизм понимается как поиск моего, личного
удовольствия, то, придя к такому выводу, мы нанесли ему последний удар.
Цель гедонизма состояла в том, чтобы я доставил себе
максимально приятное ощущение. Он дал мне правила, и обязал им
следовать. Но гедонизм не строг в отношении к своим правилам: они
могут работать, а могут и не работать; я могу следовать им или
нарушить их, волен решать, приведут ли они меня к удовольствию
или нет. Гедонизм не строг в отношении своих целей.
Стремиться к удовольствию не значит достичь его, а достичь его тем не
менее — моральный долг. Человек должен стремиться к нему между
прочим, не проявляя интереса и не слишком стараясь. К
правилам нужно относиться как к инструменту, который может
пригодиться, а может и быть бесполезным; и, по всей вероятности, чем
меньше мы думаем о цели, тем лучше. Мы свободны по
отношению к правилам; мы свободны по отношению к цели, ибо ни
правила, ни цель не суть то, чем они должны быть.
Мы отступили от идеи достичь позитивной цели: мы должны
довольствоваться решением жить так, как сложится, предав
забвению бесполезные теории, идя на поводу у собственных
склонностей; или, разочаровавшись во всем, смириться с грустной мыслью
о том, что, раз удовольствие не достижимо, то можно, по крайней
мере, избежать боли. Не только философия, но и сама жизнь
показывают, что, имея в начале правильные намерения, мы в итоге
приходим к негативному результату: делаем целью то, чего нет,
избираем целью простое отрицание.
Мы показали в первую очередь, в чем состоит противоречие
между расхожим мнением и гедонизмом как учением о поиске
удовольствия, и мы показали во вторую очередь, почему
стремление к моему удовольствию не может быть практической целью.
Мы достаточно подробно рассмотрели эти вопросы; но до сих пор
не воздали должное учению, где добродетель понимается как
средство, которое ведет не к моему удовольствию, а к удовольствию
всех «чувствующих» созданий — современному Утилитаризму,
который можно назвать, я полагаю, наиболее модной философией
сегодня. Теперь нужно уделить внимание ему, но лишь столько,
137
Эссе III
сколько необходимо для рассмотрения нашего предмета. В
подробном исследовании нет необходимости, и никаких дивидендов,
думается, оно не принесет.
Цель, как и раньше, — наиболыпе количество приятных
ощущений, но уже не моих в конкретный момент, а во всем
чувственном мире как целом. В первую очередь следует отметить, что (как
мы указали выше) если счастье состоит в этом, то оно
нереализуемо, — достичь его нет никакой возможности. Если для индивида
счастье, понятое как максимум удовольствия, — всего лишь «идея»
или скорее противоречивая претензия на идею, и его природа, как
мы убедились, такова, что оно не может существовать; то a
fortiori54 — я вынужден признать это — осуществление принципа
максимума удовольствия в «целом чувственного творения» (под
которым, я полагаю, имеется в виду совокупность живых организмов,
живущих ныне, и тех, что появятся в будущем) есть не что иное,
как дикая и невозможная фантазия.
Мы видели, что счастье в смысле «столько, сколько сможешь»,
либо вообще не избирается в качестве цели, либо, если кто отдает
ему предпочтение, реализуется без помех. И в том и в другом
случае оно не имеет ценности как предмет стремлений. Счастье,
если оно обозначает максимум удовольствия, достигнуть
невозможно; а какой смысл пытаться достичь невозможного? Счастье, если
оно обозначает «чуть больше» и всегда «чуть меньше», — это
Сизифов камень и сосуд Данаид, оно сулит не небеса, а влечет в ад.
Стремимся мы к нему или нет, мы всегда имеем чуть больше и чуть
меньше55 (того, что должны были бы иметь) и, сколько б ни
старались, никогда не сможем получить чуть больше или чуть меньше
того, что уже имеем.
54Тем более, и подавно (лат.). — Примеч. переводника.
55Определив счастье как «возрастание удовольствия» или «обладание
большим, чем мы уже имеем», мы не избавимся от затруднений. В таком случае,
состояние счастья вообще невозможно, и «быть счастливее» может означать
только «интенсивнее накапливать удовольствия». Количество реально достигнутого
удовольствия обратится в ничто. Впрочем, абсурдные следствия подобного рода
определений вывести не сложно.
138
Удовольствие ради удовольствия
Но, скорее всего, нас не поймут и отнесутся к такого рода
рассуждениям с недоверием. Моральность, услышим мы в ответ, —
«реализуется в практике». И мне, конечно, следовало, прежде всего,
говорить о ней в связи в практикой, вне зависимости от того,
возможно ли реализовать то, что понимается под высшим благом или
нет, πρακτόν και κτητόν άνθρώπω56, или они существуют только
в воображении конкретных теоретиков. Но опустим это. Осмелюсь
сказать, что избежать многих неудобств можно, если не иметь в
виду того, что говоришь, и не говорить то, что имеешь в виду.
И потом, что бы мы ни думали о реальности цели,
возможности получить удовлетворение (или наоборот), стремясь к
невероятному и бессмысленному, закон и наставление морали ясны:
увеличивай удовольствие, т. е. умножай в числе и усиливай,
приятные ощущения чувствующих существ и поступай обратным
образом тому, что доставляет страдание.
Возможно, не будет лишним еще раз обратить внимание на то,
что учение такого рода прямо противоречит представлениям о
морали, бытующим среди людей. Если последовательное
претворение принципа наибольшего количества удовольствий потребует
от человека стать скотиной, то я (говорю от лица простого
человека) должен отказаться от такого изменения, сам и за других
людей, и должен думать, что это долг всякого человека. Но если
человек полагает своей целью наибольшее количество удовольствий,
то его долг — изо всех сил стремиться получить их и
воспользоваться шансом. А ведь подобный выбор возможен не только в
теории. «Фаланстерский» проект Фурье, в оригинальном,
неискаженном виде, — реальное предложение избрать удовольствие целью,
а ко всему остальному относиться как к средству. Человек с
обыденными моральными представленными не станет обсуждать
предложение подобного рода. Он откажется и от цели, и от средств.
Но учение о «наибольшем количестве удовольствия» должно
признать эту цель и спокойно взвешивать, какими средствами ее можно
56 Могут ли они [моральность и высшее благо] быть приобретены человеком
(греч.). — Примеч. переводчика.
139
Эссе III
достичь; и это не точка зрения морали. Я могу допустить, что
сказал бы (не утверждаю, что так и поступлю) тем, кто им морален,
а их большинство: «Захоти я сделать тебя счастливым, а я не
этого не хочу, мне следовало потакать твоим слабостям, чего я делать
не стану» (Stephen. Liberty. P. 287-288).
Но довольно о морали в теории. Давайте оценим ее
практичность и последовательность. Цель как удовольствие всех, равно как
и мое удовольстви, не является чем-то, что можно найти подле себя
и осуществить в течение своей жизни. Она не система, не
конкретное целое. Эта цель не содержит в себе средств: нет такого средства,
которое соответствовало бы ей по существу. Для меня,
задающегося вопросом, что я должен делать, «преумножай удовольствия
других» — еще не ответ. «И не должно быть», скажут мне;
«человечество опытным путем нашло средства умножать удовольствия; они
записаны в моральном Альманахе [Миллъ. Утилитаризм], и
справедливо считать, что они содержатся в самой цели».
Здесь, я думаю, гедонизм не замечает серьезнейшего
затруднения. Какова природа авторитета Альманаха и являются ли его
правила законами? — этот вопрос не нов. Если в нем записаны законы,
на чем они основаны? Если же нет, то существуют ли иные
моральные законы; а если нет, можем ли мы быть моральными
существами? Позвольте разъяснить возражение. Нельзя — я возражаю
гедонизму — сделать законы Альманаха частью цели, отождествить
их с ней; поскольку цель четко определена как приятное
ощущение, и между этой целью и законами как средствами нет
существенной связи. Если законы или правила не являются ощущениями
(а они не являются), они должны быть средством для получения
ощущений. Связь этих двух элементов, цели и средств, —
внешняя. Нельзя от понятия цели как таковой заключить каким бы то
ни было образом к правилам как таковым. Мне это кажется
вполне понятным. И, если это так, поставьте цель по одну сторону,
правила по другую и попробуйте поразмышлять, можно ли
достичь цели, не используя именно эти средства. Ожидаю
возражения, что вас не заботит, что возможно: опыт покажет, какова связь
между средством и целью, и довольно. Хочу особенно подчеркнуть:
140
Удовольствие ради удовольствия
не достаточно той связи, которая видима в опыте. Ею можно
довольствоваться, только если мы готовы допустить одно из двух.
Первое — что мнение, общее всему человечества, которое, как мы
полагаем, воплощено в этих правилах, непогрешимо; что оно знает,
какой путь к поставленной цели самый лучший; и что мне, имей
я другое мнение, прощения не будет. Второе — каково бы ни
было мое мнение относительно того, будет ли следование этим
правилам лучшим способом достижения цели, я должен отказаться
от того, что считаю более верным средством, и согласиться с тем,
что их нельзя нарушать. Одно из двух нужно принять.
(1) Что касается первого допущения, я не вижу основания,
на котором гедонист, будь у него желание, мог бы заявить и
обосновать столь ревностное утверждение о πάσι δοκεΐ57. Почему я
должен считать эти законы непогрешимыми, причем настолько,
что, при каких бы обстоятельствах не отступил от буквы, с точки
зрения поставленной цели, я поступлю хуже, чем если бы
следовал ей? Возможно ли, что не поставлю под сомнение такую
истину (если она истина)? Почему, сомневаясь или отрицая ее, я ipso
facto поступаю имморально? Прибегнем за помощью к примеру.
Возьмем правило «Не прелюбодействуй». Как доказать, что
прелюбодеяние ни при каких обстоятельствах нельзя считать вкладом
в копилку приятных ощущений? Как показать человеку, который
искренне уверен в обратном (а это легко представить), что его
мнение имморально? А, если доказать этого нам не удастся, тогда что
станет с первым допущением?
(2) Далее, если человечество может ошибаться, если не
следует попирать право на собственное суждение, если опыт людей
не так уж надежен, то буду ли я оставаться моральным, доверяя
ему даже вопреки собственному мнению? Возможно, что я вполне
отдаю себе отчет, что действовать по правилам — способ достичь
цели. Возможно даже, что я допускаю, будто отступление от
правил зачастую губительно для цели, и признаю это закономерным.
При желании я даже могу, дабы поддержать разговор, допустить
57 О том, что всем кажется (греч.). — Примеч. переводчика.
141
Эссе III
(хотя это не так и меня нельзя просить признать это), что всякий
раз, отступая от правил, я терпел неудачу и тем самым уменьшал
количество удовольствий. Но я достаточно страдал, и у меня
сложилось свое мнение. Я уверен вполне, что ситуация, в которой я
нахожусь, — исключение из правил. У меня нет никаких сомнений,
что в этом отдельно взятом случае, нарушив правило, я только
преумножу удовольствие. Сказать, что это глупость, — способ уйти
от вопроса; сказать, что я, скорее всего, ошибаюсь, — способ уйти
от вопроса; сказать, что я не должен так думать и поступать
соответственно, — значит считать, что вопрос уже решен. Цель ясна;
взвесив все за и против, я определился со средствами. Какое право
есть у вас, какое право есть у всего мира приказывать мне
воздерживаться от суждения; объявлять критерием свое, недостоверное,
мнение, а не достоверную цель? Как я моту искренне58 следовать
ему? Что это за правило, которое встает между мной и моим
моральным долгом? Обратимся еще раз к нашему примеру.
Правило гласит: не прелюбодействуй. Я хочу совершить прелюбодеяние.
Я уверен, что вовсе не хочу доставить себе этим удовольствие;
скорее я стремлюсь к обратному. Я крепок во мнении, что правила
не предусматривают ситуацию, в которой я оказался, или что в
данном случае они не работают; что поступок, который я намереваюсь
совершить, приведет к уменьшению страданий и преумножению
удовольствий в чувственном мире как целом, — я просчитал все
доступные моему взору (большего я знать не могу) последствия,
и я уверен в этом настолько, насколько вообще могу быть в чем-то
уверен. Имморально ли в таком случае нарушить правило; или,
что более верно, не имморально ли следовать ему, жертвовать
реальным благом ради того, что идеально? Моя совесть чиста; и
«стенания» по «абстракции» не разобьют моей мечты.
Итак, если мне сейчас ответят, что, какой бы моральной теории
ни придерживался человек, ему не избежать конфликтов — с чем
я совершенно согласен; и к тому же скажут, что всякая теория
58 «И моему Богу», должен я добавить против тех, кто приплетает к вопросу
божество.
142
Удовольствие ради удовольствия
приводит его к конфликтам такого рода (т. е. к противоречию не
целей, но рациональных способов подбора средств для данной
цели) — то, ради поддержания дискуссии, я допущу, что такое
возможно (хотя я совершенно не согласен с этим). Но (1) вызывать
в человеке такого рода противоречивые суждения — таково учение
гедонизма. В нем содержится оправдание тому, что казуистика,
причем не только сугубо в теории, но и ввиду практической
деятельности конкретного человека, возможна в отношении практически всех
аспектов поведения. Причина, почему этот так, проста, и мы уже
указали на нее. Цель, согласно гедонизму, не имеет таких средств,
которые бы непосредственно ей соответствовали и были бы
неотделимы от нее. Средство — нечто внешнее; оно не существенно,
поскольку есть цель. О том, как соотносятся средства и цели,
судит мнение, и только оно. Как бы много людей ни разделяли это
мнение, оно все равно только мнение. В цели я уверен. Что
касается средств, то в отношении их я не располагаю ничем, кроме
собственного мнения и мнения других людей. Последняя инстанция,
к которой я могу обратиться, — это мое личное суждение. В
данный момент мое суждение может уверять: чтобы 999 из 1000
попыток достичь цели были удачными, я не должен судить
самостоятельно. Оно может заверять: я, будучи тем, что я есть, смогу внести
свою лепту в дело преумножения удовольствий в том случае, если
никогда не стану прибегать к личному суждению. Но оно не
обязательно говорит мне именно так. Оно может убедить меня в том, что
на тысячный раз мне будет лучше воспользоваться личным
суждением, но может и пойти дальше. Вопрос не в том, «как на самом
деле я и другие люди действуют: по привычке или повинуясь
общему мнению? — поскольку это вопрос о простом факте. Мы
имеет дело с вопросом о факте морали: «Есть ли такие ситуации,
когда мое личное суждение должно противостоять общему мнению?»
Ведь действительно, случается, что я не соглашаюсь с ним и в ряде
случаев вынужден это делать? Если да, то должен ли я в такой
ситуации следовать моему суждению? И, если нет, то почему? Если
я могу последовать ему один раз, то почему не дважды? Если могу
в одном случае, то почему не могу в другом? И если кто и должен
143
Эссе III
однажды прибегнуть к своему суждению по какому-либо вопросу
морали, то почему я не могу быть этим человеком и сейчас — как
раз не тот самый случай? В двух словах: гедонистические
наставления — всего лишь правила, а всякое правило может иметь
исключение: правило не закон, и, насколько я могу видеть, сделать
его таковым невозможно. Это не я служу ему, но оно
принадлежит мне. Именно это обстоятельство и должно, насколько могут
видеть мои глаза, сделать возможным оправдывать и даже
поощрять бесконечные рассуждения казуистского толка о
практических вопросах; но едва ли нужно добавить, что казуистика кладет
конец морали. Но, читатель, умоляю, прежде чем я продолжу,
запомни: вопрос «Имморален ли утилитарист?» — это один вопрос,
а «Имморальна ли гедонистическая теория?» — совершенно
другой, и только он нас заботит.
И (2) если с остальными теориями морали дело обстоит
не лучше, нам остается только сказать: «Что ж, тем хуже для всех
теорий морали» и «Тем лучше для гедонизма». Моральное
сознание — пробный камень моральных теорий, и это моральное
сознание, я обращаюсь к нему в каждом человеке, имеет свои законы,
которые куда более весомы, чем правила. Для него «Не
прелюбодействуй» — закон, которому нужно подчиняться, а не
предписание более или менее сомнительное. Это не средство, которое, как
считает А, В или С, приведет или может привести к цели, а, по
мнению D, может не привести или не приведет. Позвольте гедонисту,
если ему угодно, еще трижды или четырежды опровергнуть
теории соперников; но таким образом он не упрочит свою, и ничуть
не улучшит своего положения.
Продолжим: мы пришли к заключению, что стремление к
максимальному количеству удовольствий в чувственном мире как
к цели не может быть образцом морального поведения. В себе эта
цель в высшей степени абстрактна и неощутима. Средства суть
нечто внешнее ей, и их природа не тождественна с природой цели;
отношение средств к цели всегда удел мнения, и судить о нем я
могу и (что еще важнее) должен только в крайнем случае. Мы
выяснили, что правила не суть законы. Не являются они таковыми
144
Удовольствие ради удовольствия
и здесь. Я могу принять все это: и образец, который не является
образцом, закон, который не является законом, но который я
могу то нарушать, то следовать ему и который подвластен
изменчивому суждению и недолговечному мнению, — но все это не будет
для меня тем принципом, с помощью которого я могу
регулировать свою жизнь59.
59 Дабы прояснить читателю суть дела, я приведу пару примеров тех
случаев, когда гедонизм не дает человеку руководства к действию. Положим, где-
нибудь в южных морях живет народ, у которого нет так называемой «морали»,
но он очень счастлив. Морально ли пытаться изменить образ жизни этих
людей? Если я могу многое сделать для того, чтобы противостоять злу, но мои
действия будут носить имморальный характер и мне удастся их скрыть, — как
мне следует поступить? Проституция — хорошо или плохо? Чтобы доказать,
что так поступать дурно, нужно показать, что прелюбодеяние ведет к
уменьшению приятных ощущений, но разве не обратное будет утверждать
оппонент? Так мои беспорядочные половые связи вносят или не вносят вклад в
общий объем «приятного»? Вопрос серьезный, и мне известно, что во многих
случаях на него дают положительный ответ, а в некоторых из этих многих
случаев я, насколько возможно судить о столь смутном предмете, должен
признать, что отвечающий говорит по справедливости. Дозволено ли покончить
жизнь самоубийством? Если да, то в каких случаях? А убить? Если нет, то
почему? Можно разобрать все преступления в рамках десяти заповедей и за их
пределами. Чтобы доказать имморальность того или иного поступка, нужно
показать, что через него в мире увеличивается число страданий. Разве это не
бессмысленный труд? Гедонист, конечно, не хочет, чтобы человек задавался
вопросом. Он, естественно, хочет, чтобы люди всегда следовали правилам,
хотя для самого себя делает исключение. Это понятно. Интересно вот что: если
я захочу задать вопрос, на каком основании он откажет мне в ответе? Какое у
него право упрекать меня в том, что я действую исходя из иного основания,
чем он?
«Эти-то убеждения и составляют те нравственные правила, которыми
должны руководствоваться большинство, равно как и сам философ до тех пор, пока ему
не удастся найти чего-либо лучшего. Философ может и сейчас разработать
прекрасную теорию и не только по вопросу морали... и я не только согласен с этим,
но и утверждаю со всей энергией» [Mill. Utilit. P. 34]. В устах автора «Эссе о
свободе» — это высказывание должно быть хорошим предзнаменованием. Если
философу дозволено создавать новые правила, то, я полагаю, он может и изменять
старые. Кто же тогда этот «философ»? Может, нам устроить конкурс (как при
франчайзинге), чтобы передать право тому, кто будет призывать человека
«экспериментировать»? Или оставить себе право судить? Но тогда, хотел бы я знать,
в эти времена «свободы мысли» кто не будет философом и сколь многие будут
составлять собой это «большинство»?
145
Эссе III
Утилитарист, я точно знаю, не хочет, чтобы я постоянно
удерживал в поле зрения цель, скорее он хочет, чтобы я сосредоточил
внимание на общепризнанных средствах. Вопрос тем не менее
не в том, чего утилитарист хочет, но в том, что оправдывает и
требует его теория. Одно из наиболее серьезных возражений
гедонизму состоит, как мы видели, в том, что он недостаточно
серьезно относится к своим выводам. Тот факт, что теория не в состоянии
сделать закономерных следствий из своих принципов, — аргумент
не в ее пользу, а, несомненно, против.
Мы обнаружили, что если принимать за цель наибольшее
количество удовольствий, то такая цель нереализуема, не моральна
и имморальна и, наконец, что учение, ее проповедующее, не
работает на практике. Все это время мы принимали цель как
данное. Но теперь мы должны задать вопрос: «На каком основании
за моральную цель принимается удовольствие чувствующего
создания как такового?» Какая может быть причина, почему я
должен считать ее тем, ради чего должен отказаться от всего
остального, даже от собственного удовольствия и собственной жизни?
Ответить на это, я думаю, гедонизм совершенно бессилен. Сказать,
что я желаю собственного удовольствия, что удовольствие других
во многом способствует моему и что, желая цель, я должен желать
и средство, — вот последовательный и единственно
последовательный шаг. Но он отбрасывает нас назад к тому, что мы уже
обсудили, т. е. к учению, согласно которому цель — мое удовольствие; и,
чтобы принять это учение, нам придется покинуть точку зрения
современного утилитаризма и сказать, что «цель не является
целью; она есть или может быть просто средством».
Гедонист может выйти из затруднения разными способами:
(1) Он может сказать: «Цель недоказуема, потому что слишком
блага, чтобы быть доказуемой. Она самоочевидна, и ничто не
может быть столь же верным». Однако, обратив внимание на то, что
моральное сознание отказывается назвать гедонистическую цель
высшим благом, и поскольку ясно, что самолюбию на практике,
а зачастую и в теории время от времени отказывают в притязаниях
на то, чтобы быть больше чем просто средством, — нам, я полагаю,
146
Удовольствие ради удовольствия
нет надобности утруждать себя развенчанием этой претензии на
самоочевидность, в особенности в силу того, что гедонист, как
правило, психологически не способен желать цель саму по себе.
(2) Второй источник — deus ex machina60. Максима: «В
несчастии уповай на Бога», кажется, оправдывает себя не только в
определенные жизненные моменты, но в теоретических построениях
некоторых мыслителей. Бог, скажут нам, волит наибольшее
количество удовольствия, которое могут испытать все чувствующие
создания, а значит, мы должны, уподобляясь ему, волить того же.
Но я, даже если бы мы были способны на это, не расположен
вдаваться в спекулятивную теологию наших «индуктивных»
моралистов; я лишь скажу им:
Lasst unsern Herrgott aus dem Spass61,—
и пойду дальше.
(3) А теперь мне противостоит не кто иной, как сам Милль;
а он доказал, что цель утилитаристов желать возможно.
Давайте послушаем:
«Что общее счастье желаемо — это можно доказать только
одним способом: каждый человек желает себе счастья в том объеме,
в каком полагает, что оно достижимо. Человек желает счастья — это
факт и им полностью исчерпывается возможное доказательство
того, что счастье есть благо, и если для каждого человека благо — его
личное счастье, то общее благо — счастье всех. Больше для
доказательства ничего не требуется» [Mill Utilit. P. 52].
Не возьму на себя смелость сказать, полагал ли наш «великий
логик», что тем самым доказал, будто каждый человек желает сча-
60 «Бог из машины» — драматургический прием, применявшийся иногда
в античной традиции. Он заключался в том, что интрига получала неожиданное
разрешение пир посредстве вмешательства бога, который при помощи
механического приспособления появлялся среди действующих лиц и раскрывал
неизвестные им обстоятельства и предсказывал будущее. Выражение используется
для обозначения неожиданное решения трудной ситуации, которое не
вытекает из естественного хода событий, а является искусственным вмешательством.
61 Оставьте Бога вы в покое! (Гете И. В. Г. Фауст. Часть 1. Сцена 19. Ночь.
Улица перед домом Грехен, реплика Валентина). — Примеч. переводчика.
147
Эссе III
стья всех. Он либо только собирался обосновать это положение,
либо доказал то, с чего начал, т. е. что каждый желает удовольствия
для себя. И все же если допустить, что его доказательство было
успешным, можно. Если много свиней кормится из одного
корыта, каждая желает своей порции пищи, и кажется, как следствие,
что она каким-то образом желает пищи для всех; по аналогии
следует заключить, что каждая свинья, желая удовольствия для себя,
желает удовольствия всех. Но поскольку это положение кажется
трудно совестимым с опытом, я полагаю, что ошибка кроется в
доводе, к тому же в доводе нашего философа62.
Учение о цели как удовольствии всех, которое вытекает из
теории этиков-утилитаристов, недоказуемо, и более того, сама эта
цель невозможна. Если моя самость — это нечто, что
существует само по себе и независимо от других самостей; если все, чего
я желаю и могу желать, — мое удовольствие и если это
удовольствие — обособленное чувство вот этой конкретной самости, тогда
единственное, что желаемо, — состояние или состояния моего
собственного чувства и, во вторую очередь средство для достижения
этого состояния, каким бы оно ни было. Желать объект, который
не является идеей моего удовольствия, психологически не
возможно, и как ни играй словами, не получится протянуть связующую
нить от такого рода идеи к такого рода объекту. А такого рода
объект — идея удовольствия других, которая не обязательно связана
с моим. Возможно, я возжелаю удовольствие других, а возможно,
нет. Сказать, что удовольствие других — предмет моего желания,
значит сказать, что, с вашей точки зрения, оно ведет к моему
собственному. То, что я должен желать удовольствие других, —
либо тавтология, либо бессмыслица. Обязательство — чувство
обязанности, и «когда чувство прерывается, исчезает и обязанность».
Утилитарист, исходя из психологических оснований, полагает,
62 Вне зависимости от того, хотел ли Милль сказать, «поскольку все желают
собственного счастья, постольку все желают собственного счастья»; или «поскольку все
желают собственного счастья, постольку все желают счастья для всех». Решать
ученикам. Нам не важно, какая из трактовок верна. Первую Милль оправдал,
прибегнув к довольно слабым софистическим аргументам, а вторую вовсе не обосновал.
148
Удовольствие ради удовольствия
что удовольствие — единственное, что желаемо: его естественные
и моральные инстинкты внушают ему мысль, что он должен жить
Аля других: он соединяет первое и второе и делает вывод, что удо-
вольствие других — то, ради чего он должен жить. Это не самая
удачная теоретическая дедукция. Так рождается образ монстра-
утилитариста, у кого, мы должны заметить, все в порядке с
чувствами, а вот способности мыслить недостает.
Сердце, «естественное чувство», действительно, говорит
гедонисту, что его сущность едина с сущностью ему подобных; что сам
в себе и сам по себе он не является собой вовсе, и единственное, что
придает ему вес, так это насильственная и тщетная попытка достичь
абстракцию. И все же, если мы отрицаем тот факт, что
универсальное может быть чем-то большим, чем «идеей», если мы уверены
в том, что лишь индивидуальное и реальное — суть одно и то же,
и в особенности что самость исключает другие самости, и в этом
смысле она — лишь индивидуальное; и если, далее, не можем
говорить о моральности, не привлекая к рассмотрению чего-то
универсального, чего-то, что объемнее и сильнее, чем та или иная
самость, — тогда, в контексте данного вопроса, как и в других
сферах, мы сталкиваемся лицом к лицу с проблемой: «Как возможно
из простых индивидов (партикулярностей), которые не могут
перестать быть индивидами, получить универсальное?» Таким
образом поставленная проблема не имеет решения. В цели самость
может желать — мы убеждены в этом — только саму себя, и если
та самость, которую она должна реализовать, является атомом,
единым, которое отталкивает других единых, и может содержать в себе
лишь то, что является исключительно его: его ощущение, его
удовольствие и боль, — тогда верно, что с другими, с их
удовольствиями и болью, она может состоять только во внешних
отношениях; а поскольку она — цель, все остальные должны быть средством
и ничем иным, кроме как средством. На таком основании
моральность невозможна; однако же она существует. Но если бы голова
могла следовать за сердцем и всецело доверившись ему, а не
ценой жалких уступок; если самость, которая должна быть
реализована, не исключает другие самости, но, напротив, определяется,
149
Эссе III
характеризуется, становится тем, что она есть, через отношение
к другим; если моя самость, к которой я стремлюсь, есть
реализация во мне морального мира, который представляет собой
систему самостей, организм, членом которого являюсь и я и в чьей
жизни я живу, — тогда я не могу стремиться к собственному
благополучию, не стремясь при этом к благополучию других. Для меня
другие не просто средство; они затрагивают мою сущность, а это
сущность меня самого, которая не только моя, но обнимает и
стоит выше и меня, и любого другого конкретного человека,
превосходит всех нас и дает нам закон, и делает это в смысле более
высоком, чем в том, в котором организм как целое дает закон своим
членам. И это конкретное и реальное универсальное создает ту
моральность, которая существует на самом деле, столь же возможную
в теории, сколь и реальную в действительности. Этот тот вывод,
который современный утилитаризм пытает отыскать вслепую, но не
найдет до тех пор, пока не откажется от гедонистической позиции
в отношении к цели и от основания развитой им психологии,
которая стоит на принятых без критики, грубых и нереальных
метафизических абстракциях.
Все это к слову пришлось; теперь нужно достойно
закончить. Слишком долго говорили мы об усилиях, которые
гедонизм приложил к тому, чтобы достичь компромисса с моралью,
но вынуждены указать на еще одну, последнюю попытку. Она
состоит в различении удовольствий согласно качеству63 на высшие
63 Здесь нужно обратить внимание на один исключительно важный момент.
Вот какой: различаются ли удовольствия как таковые в чем-либо кроме количества?
Удовольствие как таковое — не все приятное ощущение, не целое того, что
ощущается. Нужно ли тогда поставить вопрос, является «то, что ощущается», поскольку
оно определяет удовольствие, делает его таким или иным, частью самого
удовольствия как такового? Или же нужно сказать, что само по себе удовольствие всегда
одно и то же, а различие составляет только степень, что виды удовольствий —
степени одного и того же удовольсгвия, которые противопоставляются другим типам
ощущений, тех, что сами не являются удовольствиями? Или, еще проще: есть
вообще содержание в удовольствии? Если нет, го в удовольствии как таковом нет
качественной определенности. Она применима к нему только в сравнении. Удовольствие
как таковое — не абстракция ли это, один элемент, отвлеченный от определенного
физического состояния человека как целого? Есть ли в этой абстракции различие
150
Удовольствие ради удовольствия
и низшие. Первая группа — превосходные, другие — низкие;
а значит, предпочитая высшие удовольствия, мы действуем в
соответствии с гедонизмом, и вдобавок к тому за одно с
моральным сознанием. Мы должны провести краткое исследование
этого учения.
Оно существует в двух вариантах. В одном из них качество —
просто качество; в другом качество берется в отношении к количеству
и рассматривается как показатель или результат количества. Мы
обнаружим, что в последней формулировке это учение хранит
верность принципу наибольшего количества удовольствий и ничего
к нему не добавляет. В первом же варианте оно незаметно уходит
от него и, не осознавая того, движется к другому основанию,
хотя, на чем построить мораль, ему так и не удается найти. Начнем
со второго. Прежде чем приступить к обсуждению, нужно
обратить внимание на выражения «высший» и «низший».
«Высший» и «низший» (да простит меня уважаемый читатель)
«относительны»: они суть сравнительные степени, а
следовательно, означают большую или меньшую степень чего-то. «Высший»
может означать только ближайшего к вершине. «Низший» может
означать только ближайшего к основанию. Установив это, мы,
говоря о «высшем» и «низшем», должны понимать, что в нашем
случае суть вершина и основание, иначе есть риск нести вздор.
Далее позвольте мне заметить (да простит меня читатель, если
сможет), что вершина и основание, как правило, «относительны»
и зависят от вашего угла зрения. Если вершина — «цель», то целью
может быть что угодно: благотворительность (морально) выше
самолюбия, убийство (как преступление) — воровства. Можно говорить
о высоком статусе добродетели, порочности, удовольствия, боли,
красоты и безобразия. Итак, если кто-то в беседе с нами употребляет
по виду или только по степени? Я не стал развивать эту тему в тексте, поскольку не
хочу дать конкретного ответа и не готов встретить возражения. Но вдумчивый
читатель догадается, каково мое мнение. Единственное, что поддерживает верность
гедонизма своим принципам и служит залогом последовательности его
положений, — стремление к удовольствию как таковому, и только к нему. Но если нельзя
различить удовольствия по качеству, то остается только количество.
151
Эссе III
«высший» и «низший», его слова ничего не говорят нам до тех пор,
пока мы не узнаем, как он понимает цель или вершину.
С другой стороны, «высший» и «низший» как слова,
выражающие сравнение, отсылают к степени. То, что выше, имеет большую
степень (или же содержит в себе большее число единиц) чего-то
определенного, то, что ниже, — меньшую степень или число
единиц. Их качество как большего или меньшего может быть отнесено
к количеству64. Так, что вне связи с количеством, вне связи со
степенью, нет сравнения, нет оценки, вообще нет высшего и низшего.
Если мы не выходим за пределы только качества, слова «высший»
и «низший» не имеют смысла, — таков исход наших, возможно,
тривиальных, рассуждений. Если я не могу сказать, что из двух
удовольствий одно выше другого по степени (интенсивнее) или превышает
его как итог или как то, что создает степень (как то, что
сопровождает высшую функцию, или как то, что связано с приближением к
некоторой цели), — тогда к ним нельзя применить выражения
«высший» и «низший». Сфера чистого качества — мир непосредственного
восприятия, где можно только сказать «А» или «В», оставаясь в его
пределах, «А» и «В» нельзя сравнить. Я могу взять это, и не взять то,
я могу выбрать вон то, но не выбрать что-то другое, но если я
поэтому и только в силу этого назову одно высшим, а другое — низшим,
то не только мое суждение будет произвольным, а мнение
ошибочным, но все, что я говорю, — полной и абсолютной глупостью.
Продолжим наши изыскания рассмотрением одной из
указанных нами точек зрения, (1) теории, которая полагает, что качество
либо равно интенсивному количеству, либо является средством
64 Грубо говоря, качественная определенность чего-либо задается наличием
большей или меньшей степени, или же тем, что нечто стало результатом большей
или меньшей степени, или что оно само производит результат, который можно
отнести к большей или меньше степени (что то же самое). Например,
определенную температуру можно считать более высокой, поскольку ей соответствует
большая степени теплоты; некий продукт — более высокого качества,
поскольку к его изготовлению приложено больше сил; и А затратил больше усилий, чем
в том случае, если они привели к результату, которого не может достичь В, и при
условии, что этот результат соотносится с количеством усилий, затраченных тем,
кто производит действие.
152
Удовольствие ради удовольствия
для количества в целом. Под «высшем удовольствием» здесь
понимается удовольствие, которое содержит в себе наибольшее
количество единиц удовольствия. Принцип наибольшего
количества удовольствия здесь также работает; оно есть вершина, и то,
что приближается к ней или способствует ей, — то располагается
подле нее. Однако поскольку в данном случае мы видим, что
«высшее» в моральном смысле — то, что более приятно или же
средство до достижения наиболее приятного, то мы в конечном счете
получаем величину — количество удовольствия без различия
вида и качества; и фразы «высший» и «низший» нам, убедившимся
в том, что такого рода цель не является моральной, ничего не
приносят, разве что приводят в замешательство.
(2) Вторая точка зрения — та, что различает удовольствия
по тому, какое чистое качество представляет собой каждое из них.
«Высшее» удовольствие теперь уже не понимается как более
интенсивное; оно не является удовольствием, связанным с
максимумом удовольствия в целом, без различия вида. Оно —
предпочтительный вид удовольствия [Mill. Utilit. P. 20].
Первое, о чем следует сказать, что эта теория уходит от
принципа наибольшего количества удовольствия. Если человек должен
предпочитать высшее удовольствие низшему, не принимая в
расчет количество, — то речь идет все о той же цели, согласующейся
с принципом, полагающим мерой прибавление удовольствий у всех
чувственных творений в целом. Нет смысла говорить, что все
удовольствия — цели, и только некоторые из них цели в большей
степени. Нет смысла говорить об «оценке» и «сравнении» (Mill. P. 12,
17). Чтобы оценивать, нет эталона; чтобы проводить сравнение, нет
меры. Как возможно сделать выбор в ситуации, когда
определенному небольшому количеству высших удовольствий противостоит
определенное внушительное количество низших? Чтобы получить
сумму, нужно перевести все данные в одну единицу измерения.
Количество и только количество — вот что необходимо; откажетесь
от суммы и не сможете добиться никакого результата.
В этом нет ничего плохого: к чему же еще двигаться? К высшим
удовольствиям? А в чем они? Мы приходим к тому, что высшее
153
Эссе III
удовольствие означает удовольствие, которое предпочитает тот, кто
испытывал также и другие. «Высшее», таким образом, как мы
убедились ранее, не имеет вообще никакого значения, поскольку
человек может и не стремиться к количеству удовольствий, если только
он не стремится к чему-то вне удовольствия. Но, выходя за
пределы удовольствия, мы не только порываем с теорией о наибольшем
количестве, но вместе с тем отрекаемся от гедонизма.
Давайте тогда сделаем то, что должны, — отбросим слово
«высший». Цель — надлежащие удовольствия, поскольку им отдают
предпочтение те, кто знают их. Возражение, которое не замедлит
возникнуть (р. 14), состоит в следующем: разве мнения не
разнятся? Разве люди, отличные друг от друга, и даже один и тот же
человек в разное время, не отдают предпочтение разным
удовольствиям? Каков же ответ? Он не слишком вразумителен, и слишком
пространен, чтобы его цитировать (р. 14, 15). Его можно равным
образом расценивать и как «да», и как «нет». Давайте рассмотрим
отдельно каждую из альтернатив.
(1) Если мы скажем: «Да, не только разные люди, но один и тот
же человек в разное время предпочитают разные удовольствия»,
тогда на какое же основание мы можем опереть моральную
систему? Единственно на следующее. Большинство людей в
большинстве случаев предпочитают одно удовольствие другому; и, исходя
из этого, мы вынуждены показать, что я должен всякий раз
предпочитать один сорт удовольствий другим. Нет надобности
спрашивать, как следует совершать переход от того, что делает
большинство людей, к тому, что я должен делать. Я думаю, ни одно
истолкование природы человека не сможет обосновать этот
переход, и я уверен вполне, что не сможет этого и Милль. Даже если
предположить, что в его устах моральное долженствование имеет
значение, и тогда останется загадкой, почему оно должно касаться
тех обычных удовольствий, которые испытывают обычные люди.
(2) Если же мы говорим: «Нет, согласившись с Платоном в том,
что об удовольствиях судит тот, кто все их познал, и, пойдя дальше
вслед за Сократом, заявляем, что ни один человек не причастен злу
по собственной воле, что нельзя предпочесть плохое благому, что, ес-
154
Удовольствие ради удовольствия
ли кто выбирает плохое, он делает это в силу того, что никогда не
обладал или в настоящий момент не обладает знанием блага, —
даже попав в хорошую, как мне видится, компанию, мы все же ничуть
не улучшаем свое положение». Ведь наш оппонент будет настаивать
на том, что он в действительности сознательно предпочитает то, что
зовется плохим, хорошему, и, отсюда, он, воспользовавшись нашим
аргументом, сделает вывод, что, во-первых, ничто не может быть
ни хорошим, ни плохим, поскольку то, что плохо для одного,
хорошо для другого. И если мы, с другой стороны, настаиваем на том, что
он не может делать этот выбор сознательно (я не знаю, как возможно
это доказать), и на том, что никто никогда не выбирал и не мог
выбрать то, что мы называем плохим, в то время, когда помнил о том,
что мы называем благом, — тогда мы отождествляем иммораль-
ность с неведением, и моральное обязательство исчезает. Ведь
человек не только делает все от него зависящее согласно тому, насколько
хорошо знает и понимает ситуацию, но и должен так поступать; его
знание случайно, и оно никак не связано с волей; он должен
поступать, согласуясь с обязанностью, коль скоро она у него есть, и он не
может делать то, что, как он полагает, неправильно.
Продолжим: основание нашей моральной теории теперь
состоит в том, что существует шкала удовольствий; есть люди,
которые познали все градации удовольствия, иные же - лишь
некоторые; но мы с необходимостью выбираем удовольствия, которые
нам известны, ориентируясь на эту шкалу. Я, например, знаю
(вообще и только до настоящего времени) азбуку удовольствий
до буквы М. «Имморален тот, кто выбирает М, когда следовало
бы выбрать Ρ или R, или даже X». Но я не знаю, что они суть.
«Следовательно, ты - имморален, поскольку я и много других людей
знают их». Остановимся на этом; но тогда, скажет читатель,
моральное обязательство бессмысленно65.
65 Рискуя быть обвиненным в чрезмерной критичности, я все же сделаю еще
пару замечаний по поводу того, что говорит Милль. С его точки зрения, удовольствия
должны располагаться в определенном порядке, скажем, таком, как порядок букв
в алфавите. Все удовольствия благи, поскольку они удовольствия. Удовольствие
становится имморальным только в том случае, если вместо него можно было испытать
155
Эссе III
Ни в одном, ни в другом предполагаемом ответе, таким
образом, удовольствия, которым отдается предпочтение, не связаны
ни с какой «обязанностью» в моральном смысле: либо вы
обладаете ими, либо нет; либо они вам нравятся, либо нет; либо
знаете их, либо нет; в этом вся суть. Если А, В или С назовут D
имморальным, D может ответить тем же, и, если ему заблагорассудится
сказать: «Неведенье — моральность», или заявить что-либо в этом
духе, и сделать это, как мне видится, на том же самом основании,
удовольствие более высокого порядка. В таком случае морально испытывать все
виды удовольствий, поскольку за каждым следует удовольствие более низкого
порядка. Ровно так же всякое удовольствие имморально, поскольку перед каждым следует
удовольствие более высокого порядка. Человек не может быть морален,
поскольку его знание ограничено, и он не может всякий раз выбирать в пользу
наивысшего из возможных удовольствий; но тогда все люди одинаково моральны, поскольку
всегда отдают предпочтение наивысшему из тех удовольствий, о которых они
знают. Впрочем, оставим это. Предположим, что удовольствия делятся на два класса:
высшие и низшие. О низших нужно сказать, если вообще стоит говорить, что в
случае коллизии проблема не решаема, поскольку нельзя сравнивать то, что не
подведено под одну единицу измерения. Положим, о низших удовольствиях можно не
говорить, тогда нам остается разобраться только с высшими. Но туг мы
сталкиваемся с той же проблемой. Ибо эти удовольствия не составляют системы; если
человек делает своей целью идею системы и подчиняет ей удовольствия, он отходит от
гедонизма. Удовольствия не составляют системы, и их ценность не равна.
Следовательно, как и прежде, их нельзя считать по количеству. Тогда в случае, если
сталкиваются (что закономерно), например, удовольствия философии, естественных наук,
удовольствие от «боголепия», удовольствия в изобразительных искусствах, в
истории и т. п., — человек опять встает перед проблемой, из которой есть только один
выход — прихоть, выбрать для себя и других то, что больше нравится.
Интересно, что теория, которая начинает провозглашением самых что ни на
есть демократичных принципов, заканчивает не менее ярым провозглашением
аристократизма в духе Платона. Сколь бы много низших удовольствий ни
сулила жизнь, человек должен предпочесть им высшее удовольствие. И оно, думаю я,
конституирует стандарт морали. Но очевидно, что животные не способны к
утонченным удовольствиям; обычный человек способен на большее, но все же его
удовольствия довольно низки; только философу доступны высокие удовольствия. Он
морален, остальной мир имморален, и чем ниже ступень бытия, тем более иммо-
ральна. А поскольку низшее, сколько бы его ни было, не может противостоять
высшему, и поскольку высших удовольствий (а судить, в чем они, может только
философ, ибо только он знает все) достигают лишь немногие, поэтому жить следует
ради немногих, а не ради большинства. Этот же аргумент можно услышать из уст
художника или почти что каждого. Но углубляться в вопрос не имеет смысла.
156
Удовольствие ради удовольствия
на котором делали свои заявления А, В и С, т. е. на том лишь
основании, что ему что-то нравится или не нравится.
Здесь, я думаю, следует остановиться; но, зайдя столь далеко,
можно пройти и чуть дальше. В теории Милля моральному
долгу не только не за что зацепиться, кроме склонности и неприязни
одного или нескольких человек, но в итоге он сам есть не что иное,
как чувство подобного рода.
«Верховная санкция всякой нравственности» — «наше собственное
чувство», и «нравственная способность» «с помощью внешних санкций
и под влиянием первоначальных моральных впечатлений... могут
развиваться в каком угодно направлении, так что едва ли существует
такая нелепость или такое зло, которое бы не могло посредством этих
влияний приобрести аля человека авторитет совести». Как мы видели,
чувство долга в сущности ни к чему конкретно не относится. И далее:
«Эта санкция совершенно бессильна по отношению к людям, не
имеющим такого чувства, которым устанавливается самое ее
существование». «Эта, санкция до тех пор, пока в ней нет необходимости,
содержится в уме; а потому трансцендентальным моралистам нечего более
не остается, кроме как утверждать, что она может содержаться в нем
только в том случае, если основывается на чем-то, что вне ума, и что,
если человек может сказать себе: «То, что сдерживает меня и зовется
моей совестью, — чувство, которое я сам себе воображаю», то он
может прийти к выводу, что долг имеет силу, только пока активно это
чувство, а, найдя его неудобным, проигнорировать или даже подавить
его в себе». Это серьезное замечание; и я должен сказать, что та теория,
которая утверждает, что человеку, способному избавиться от чувства
морального долга, позволено это сделать, а поступив так, он снимет
с себя и сам моральный долг, — самая что ни на есть имморальная
теория. Отвергает ли Милль это учение? Вовсе нет: он, очевидно,
принимает его, хотя и предпочитает открыто этого не говорить. Далее
мы читаем: «Но угрожает ли эта опасность утилитарной этике?» Мне
стыдно столь часто повторяться, но, читатель, молю, не дай пустить
себе пыль в глаза и не позволяй «трансцендентальным моралистам» или
любому другому страшилищу сбить себя с толку. Вопрос звучит так:
«Истинна ли теория А или же следует признать, что либо теория А
157
Эссе III
неверна, либо лгут факты?» Вопрос не стоит о том, «в одном ли и том
же, что и теория А, ошибаются теории В и С». Разобравшись с
теорией А, мы, если захотим, возьмемся за В и С; и если они все окажутся
ложью, этим еще не доказывается одна истина. Эти адвокатские
приемы подходят для зала суда, но философия их не признает.
Если тогда все, что означает моральное «обязан», — то, что мне
довелось иметь чувство, которое мне не нужно, и что это чувство
связывается вот сейчас сопровождает один ряд удовольствий, а
сейчас — другой, случайно ли это происходит или по моей склонности,
не лучше ли вообще перестать употреблять это слово и, как некоторые
и поступили, открыто отвергнуть его, отказаться от него, раз уж мы
и так отказались от всего, что оно означает? Но если мы откажемся
от слова, тогда признаем, что как теория нравов гедонизм
несостоятелен и все, с чем мы остаемся, — наши «природные чувства».
Гедонизм несостоятелен; мы следовали за ним, насколько
это было необходимо, и этот путь утомил нас, мы
рассмотрели его различные формы, от эгоистической теории индивида
до духа самопожертвования, присущего современному
утилитаризму. Мы увидели, что цель, заданная в каждой из его форм,
иллюзорна и неосязаема. Мы увидели, что его попытки достичь
компромисса с моральным сознанием тщетны; что он не
предложит нам мировоззрения, которое сможет выдержать критику
и оправдать перед вопрошающим умом те моральные верования,
от которых оно не готово отречься ради какой-либо теории. Что
бы мы ни говорили о тех, кто принимает это учение, чем бы ни
обернулись его практические следствия, даже рассмотренные
теоретически, мы, я надеюсь, убедились в том, что оно
имморально и ложно, и готовы согласиться с высказыванием Ηδονή τέλος,
πόρνης δόγμα66.
Современный утилитаризм касается достойного предмета.
Мы имеем дело с тем же самым предметом, хотя и понимаем его
иначе, — вот в чем причина наших разногласий.
66 «Удовольствие есть цель — таково мнение блудниц» (греч.). — Примеч.
переводчика.
158
Удовольствие ради удовольствия
Мы согласны, что желательно иметь образчик добродетели,
который осязаем и «объективен»; следовательно, мы
отказываемся признавать целью то, что в высшей степени не осязаемо, то, что
совершенно и всецело «субъективно».
Мы согласны, что цель — это не реализация абстрактной идеи;
и следовательно, мы отказываемся принять за свою цель
наибольшее количество удовольствия; поскольку оно — абстрактная идея
и совершенно не реализуемо.
Мы согласны с тем, что цель не «вещь в себе», не бог весть что
и где, но - цель для нас, людей, τάνθρώπίνον αγαθόν67; и как
следствие, мы отказываемся видеть ее в той составляющей духа,
которая менее всего именно человеческая, но которую делят с нами
животные, чьи души не бессмертны.
Мы согласны, что она должна быть κτητόν άνθρώπω68; и
поэтому отказываемся искать ее в том, что, будучи обманчиво,
стало притчей во языцех.
Мы согласны, что нельзя разделять действия и следствия; и
поэтому отказываемся абстрагировать от действия один момент,
т. е. сопровождающее его чувство или чувство, возникающее
после него, — так примерно мы рассуждаем.
Мы согласны с тем, что счастье — цель, и поэтому говорим,
что удовольствие не является целью.
Мы согласны с тем, что удовольствие —- некое благо; мы не
говорим, что оно конкретное благо.
Мы согласны (странная компания!) с автором «Эссе о
свободе» («Essay on liberty») в утверждении о πάσι δοκεΐ τούτ' είναι φα-
μεν69; и, как следствие, расходимся с той теорией, которая
уличает во лжи моральное сознание, и чье психологическое основание
уничтожает и лишает смысла максиму.
Мы согласны сделать целью собственное саморазвитие и
развитие человечества. Мы отказываемся видеть в прогрессе наибольшее
67Человеческое благо, польза для человека (греч.). — Примеч. переводчика.
68Приобретаема человеком (греч.). — Примеч. переводчика.
69 «Мы полагаем, что то, что всем кажется, таковым и является» (греч.). —
Примеч. переводчика.
159
Примечание к Эссе III
или наименьшее количество «приятных ощущений». Мы вторим
древнему учению, гласящему, что критерий высшего и низшего
не может находиться в чувстве, которое сопровождает
отправление всякого действия, но его следует искать в том, какого качество
самого действия. Чтобы измерить их, нужно исследовать идею
человека, его роли в творении и развития в истории.
Одним словом, цель и образец — самореализация, а не
чувство реализуемости самости.
Можем ли мы предположить в заключение, что из всех наших
утилитаристов, наверное, никто до сих пор так и не усвоил
«Этику» Аристотеля?
Примечание к Эссе III
Из вышесказанного вытекают два вопроса:
1. Является ли удовольствие благом и, если да, то в каком
смысле оно благо?
2. Является ли боль злом и в каком случае оно зло? Займемся
вторым вопросом.
С психологической точки зрения боль — зло, поскольку
она — чувство того, что отрицается самость, сама жизнь.
Благо — утверждение самости, а следовательно, боль —
противоположность блага. Если допустить, что боль может быть
только ощущением отрицания, а не самим пережитым отрицанием,
т. е. ни в коей мере не быть отрицанием или причиной отрицания
функции, то невозможно будет положительно ответить на вопрос,
является ли такого рода боль злом, потому что о ней вообще
ничего нельзя сказать. Нам она представляется абстракцией, которая
не имеет ничего общего с реальностью. Настоящая боль —
ощущение отрицаемости самости, а значит, как таковая боль, есть
нечто дурное. Она есть нечто дурное также потому, что ведет к
принижению жизни. Боль есть зло, поскольку преуменьшает благо
и становится причиной еще большего его уменьшения.
Если нас спросят, есть ли боль нечто дурное, имея в виду,
что боль доставляет отрицаемая функция, которая сама по себе
160
Примечание к Эссе III
считается нейтральной, — то мы ответим, что дурна, поскольку
в таком случае отрицается вся самость; Я чувствует боль, и это
меня прямо или косвенно принижают.
Можно кстати задать вопрос: является ли тогда всякая боль
злом? Этого нельзя утверждать. Известны случаи, когда боль
идет на благо. Заявить, что всякого рода боль — абсолютное зло,
можно было бы только в том случае, если бы было известно, что
она — боль per se70, т. е. чистое отрицание. Но знать этого мы не
можем. Грубо говоря, человек не может испытывать только боль,
только негативное переживание без позитивного; отсутствие боли
означает смерть; боль возникает, чтобы вызвать реакцию; и
всюду, где есть активная сознающая себя самость, там, по всей
видимости, должна быть боль. Сперва нужно положительно ответить
на вопрос: может ли быть положительное без отрицательного или
отрицательное без положительного, — и только тогда возможно
сказать, что боль — абсолютное зло. Не вижу возможности
ответить утвердительно. Известно, что часто боль служит стимулом;
мало какое действие обходится без страдания, может, и никакое.
Известно: то, что ранит, в целом благотворно; подчас требуется
от чего-то отказаться, чтобы наступило благо. Цель —
существование целого, и ради этой цели нужно всем жертвовать. Итак,
вопрос в следующем: является ли отрицание части непременным
условием утверждения целого? или же нет? (Следует помнить,
что целое может утверждать себя в части, а может и без нее.)
Правомерно ли высказывание, что «сейчас налицо переизбыток
негативного; имеет место отрицание функции и само это отрицание,
и его результат — отрицание блага или жизни в целом»? Я не
вижу оснований для такого утверждения, поскольку не могу
представить, как возможно знать достаточно о совокупности всех
вещей. О том, что боль per se — всегда абстракция, которая не имеет
ничего общего с реальностью, я могу говорить только с долей
вероятности, исходя из своего знания, что она часто таковой
является. То, что плохо для одной относительной тотальности, может
70Сама по себе (лат.). — Примеч. переводчика.
161
Примечание к Эссе III
быть благом для другой, превосходящей ее тотальности; а над
относительной тотальностью высшего порядка может (скажем так,
упреждая возражения) располагаться абсолютная тотальность,
в которой и для которой боль — всего лишь условие для
утверждения жизни и ни в каком смысле не уничижение и чья жизнь
(а я полагаю, что жизнь как таковая) подчиняет себе отрицание. Я
не утверждаю, что так и есть; я хочу обратить внимание на то, что
ни у кого нет права утверждать, что боль — безусловное зло,
если только он не знает наверняка, что нет такой жизни целого, или
что боль — отрицательное, которое ограничивает процессы
внутри целого, а не выступает их условием.
Вернемся к нашей теме. Мы увидели, что боль — всегда плохо,
если только она не служит необходимым условием блага.
Возвращаясь теперь к удовольствию, зададим вопрос: «Является ли
удовольствие, вообще говоря, благом?» Оно благо — это бесспорно. В
удовольствии переживается утверждение воли или самости. Оно — реальная
в ощущении возможность самореализации. Оно — благо, поскольку
сопутствует целому и творит его посредством благих действий,
потому что сопровождает самореализацию, которая блага; и, во
вторую очередь, поскольку способствует общему утверждению
самости, которое служит условием реализации блага в самости.
Удовольствие — то, что на физическом уровне сопутствует
отправлению функции. Есть необходимость различить функцию
и удовольствие, чтобы мыслить их раздельно. Возможно, на
самом деле нет такой вещи, как удовольствие. Удовольствие, пусть
маленькое, приносит отправление функции, несмотря на то что
в целом состояние может быть болезненным.
В таком случае удовольствие в целом есть благо; но вот с чем
еще предстоит иметь дело: может ли удовольствие существовать
без функции? Если да, то будет ли оно благом? Или же, иначе:
являются ли все удовольствия, происходящие от активности,
благими? Являются ли все удовольствия, происходящие от
претерпевания, благими? Есть ли удовольствия, которые не благи и не дурны?
И наконец, есть ли такое удовольствие, которое благо per se, или
таково, просто будучи удовольствием?
162
Примечание к Эссе III
Может ли удовольствие существовать без функции?
Развернуть психологическое исследование этого вопроса мы не можем,
даже если бы могли справиться с этой задачей. Но мы,
поскольку считаем, что удовольствие — чувство реализуемости воли или
самости, должны усомниться в том, может ли удовольствие
существовать отдельно от той функции или деятельности, которая
исполняется в настоящий момент. Вопрос, на который предстоит
ответить, можно сформулировать так: какое отношение к тому, что
кажется чувственным «удовольствием от претерпевания», имеет
функция; в какой мере к созерцательным удовольствиям причаст-
на деятельность созерцания; в какой мере, наконец, переживание
того самого ощущения самости, которое и есть удовольствие,
является деятельностью? К примеру, устав, человек видит
наибольшее удовольствие в том, чтобы прилечь отдохнуть; в этом желании
полностью утверждается его воля, и в нем он находит
совершенное удовлетворение. Но возрастает ли удовольствие по мере того,
как он засыпает? Ощущает ли он удовольствие, когда спит?
Однако разве он менее удовлетворен? Если да, то в каком смысле?
Если удовольствие стало слабее или прекратилось, не произошло
ли это в силу того, что ослабела или прекратилась реакция,
функция ощущающего центра; и не эта ли реакция есть то, что человек
переживает, когда испытывает удовольствие?
Давайте, однако, пропустим эти вопросы, поскольку, не дав
твердого ответа, мы надеемся показать, насколько благо удовольствие?
Можно провести грубое различие между удовольствием от
активности и удовольствием от претерпевания71; удовольствием, которое
сопровождает производимое субъектом действие, и удовольствием, для
которого действие не требуется. Теперь посмотрим, в каких случаях
каждое из удовольствий является благим, а в каких — дурным, если
вообще бывает таковым. Начнем с удовольствия от активности.
(1) (а) Когда этот тип удовольствия можно считать благим?
Когда благо действие, которое его порождает; потому что они суть
71 Нет необходимости отдельно говорить об удовольствии от того, что для
нас что-то сделано. Я думаю, мы коснемся и этого типа, но он — весьма сложное
состояние духа.
163
Примечание к Эссе III
одно целое. Функционирование без удовольствия невозможно:
отсутствие удовольствия ведет к ослаблению и, с долей вероятности,
к упразднению функции, и в целом принижает самость в ущерб
другим функциям; тогда как наличие скорее ведет к усилению всех
функций, а не только той, что порождает удовольствие. Тогда —
какие виды действий благи? Подробно рассмотреть этот вопрос
невозможно, но, если говорить в общем, те действия благи, которые
либо напрямую реализуют благую волю в человеке, либо косвенно
способсгвуют возрастанию жизни и, как следствие, — возможности
высшей реализации блага в конкретном человеке или в людях. Или
же - что, скорее всего, так — эти два типа действий не существуют
раздельно. Жизнь — это некое целое; и она не просто условие
блага. «Жизнь» — другое слово для «блага». «Цель жизни — жизнь»,
и (вообще говоря) то, что способствует жизни, увеличивает благо.
Удовольствие, таким образом, не просто средство, ведущее к
благу. Оно заключено в благе и принадлежит ему.
(Ь) Тогда, какие из удовольствий от активности дурны (ибо
всем известно, что такие есть)? Удовольствие дурно, когда дурно
действие, порождающее его; а действие дурно тогда, когда ведет
(непосредственно или со временем) к унижению жизни индивида
или тотальности, превосходящей его, и, как следствие,
препятствует реализации блага или не дает ей совершиться в высшей и
более полной форме. В этом случае удовольствие дурно, поскольку
способствует усилению и интенсификации дурной деятельности.
Удовольствие per se не дурно и существует только в уме.
(2) Далее — к вопросу о пассивном удовольствии. Из
соображений краткости исключим из рассмотрения удовольствие от
искусства и обратимся к тому типу, который связан с чувственным
удовлетворением. Дурны ли чувственные удовольствия или
благи? Сами по себе, думаю, и не дурны, и не благи. Или, если
говорить грубо, они благи тогда, когда не дурны.
(а) Когда же чувственное удовольствие дурно? Не трудно
сказать. Оно дурно, если мешает вести благой образ жизнь,
препятствуя действию, что мы можем видеть в тех случаях, когда
переживание такого рода удовольствий не дает свершиться благу или
164
Примечание к Эссе III
приводит к тому, что человек крепнет в склонности потакать
собственным желаниям, каковая дурна, поскольку встает на пути блага.
Коротко говоря, пассивное удовольствие дурно тогда, когда
унижает жизнь или мешает ее развитию. Оно не дурно pre se, но в таком
случае, опять же, pre se и не существуют.
(Ь) Когда же пассивное удовольствие идет на благо? Оно
благо, когда (не имеет тех пагубных последствий, которые только что
упоминались) способствует возрастанию того, что обычно
называют счастьем, усиливает в человеке ощущение
удовлетворенности жизнью. Счастье — благо, поскольку существовать — благо,
и потому, что без счастья жизнь неполноценна, а будучи
счастливой — блага; и потому, что счастье (вообще говоря) способствует
активности. Быть недовольным и несчастливым — два страшных
порока, поскольку (даже если и не ведут к имморальному
поведению) принижают жизнь и мешают действиям, направленным
на благо. «Жизнь — цель жизни», а потому благо — то, что
делает жизнь более сносной; и жизнью живут конкретные люди,
которые по сути своей — животные. Игнорировать животную природу
человека — столь же грубая ошибка, как и придавать ей
исключительное значение. Жизнь — это целое; а следовательно,
удовольствия неотделимы от жизни; удовольствия, которые
утверждают и усиливают ощущение благополучия и радости (которое,
в свою очередь, возвышает, способствует жизни), благи,
поскольку жизнь — благо, при условии, что она такова, что они не дурны
в том смысле, как описано выше.
И вот мы подошли к двум последним вопросам: есть ли такие
удовольствия, которые и не благи, и не дурны? Благи ли какие-
либо удовольствия per se?
(1) Есть ли такие удовольствия, которые и не благи, и не дурны?
Обычный человек сказал бы: «да». Несомненно, есть благие
удовольствия; и (как правило), если человек хочет большего, то,
поскольку удовлетворять желание хорошо, а не удовлетворять
плохо, это «большее» — благо (когда не дурно). Но тогда речь идет
об избыточном удовольствии, а это дурно. Но между «достаточно»
и «слишком много», например, в удовольствии от пищи и пития,
165
Примечание к Эссе III
есть нечто среднее. Допустим, вы считаете, что после обеда
хорошо выпить не меньше двух бокалов вина. Шесть, в обычный день,
это, вероятно уже слишком много; но, что касается трех или
четырех — это и не мало, и не много. Если нас спросят: дурно ли то
удовольствие, которое человек получает от полумеры? — мы
ответим: «Нет». Если спросят: благо ли оно? — не думаю, что скажем:
«Да». Если спросят, дополняет ли оно общее число удовольствий?
Не думаю, что можно сказать: «Нет». Этот вопрос ни к чему не
ведет. От него нужно отказаться. Следует заключить, что
удовольствие не является ни благим, ни дурным или же, по крайней
мере, что мы не знаем, каково оно. Таково мнение обывателя.
Можно ли с научной точностью определить грань между
«слишком много» и «достаточно»; есть ли предельная точка,
скажем, число капель или долей капли, которая гарантирует благо,
но превышение которой тотчас делает поступок дурным, а
потому следует избегать чрезмерности, — все это мы обсуждать не
будем. Это не простой вопрос; и к сожалению, ответ ничего не
меняет. Но ясно, что обыватель не считает некоторые удовольствия
ни благими, ни дурными в силу того, что (для него) они и вреда
не наносят, и хорошего ничего не делают.
(2) И вот, мы оказались в таком положении, что на вопрос:
«Благо ли какое-либо удовольствие pre se?» — должны ответить
отрицательно. Вообще заявление о том, что удовольствие само по себе
не является целью, звучит абсурдно, ведь на первый взгляд
кажется, будто именно его и желают. Но выше мы уже разъяснили
ситуацию. То удовольствие, которое человек объявляет желаемым,
таково только потому, что неотделимо от самой жизни, потому что
способствует ей; а значит, не является удовольствием per se. И далее,
если бы было невозможно обосновать учение о срединной точке
(а мы думаем, что это так), тогда вообще нельзя было бы говорить
об удовольствии per se, и вопрос бы снялся сам собой.
Но, если предположить, что есть такие удовольствия,
сущность которых состоит только в том, чтобы быть удовольствиями,
и которые являются, так сказать, целью в себе, то они, конечно,
могут быть предметом желания, но я думаю, что их не считают
166
Примечание к Эссе III
ни таковыми, ни благими. И если так, то я думаю, что, если человек
не полагает, что удовольствия благи сами по себе, и, отрицая, что
удовольствие само по себе есть благо, мы не в входим в
противоречие с обыденным мнением. Приведем пример. Выпив три бокала
вина, я могу сказать, что столько и хотел. Я, конечно, могу выпить
еще, если захочу, и думаю, что это доставит мне определенное
удовольствие, не принесет никакой боли и не приуменьшит
удовольствие, ни сейчас, ни позже. Благ ли этот излишек? Желаем ли он?
Ясно, что излишек может не быть благим, хотя он доставляет
удовольствие и не приносит вреда; так дело обстоит, я думаю, со всеми
невинными удовольствиями, такими, которые, к примеру,
доставляют физические упражнения, спорт и игры, осмотр
достопримечательностей и т. п. Однако, если бы это было так, обыденное
сознание не полагало бы, что удовольствие per se желаемо и благо.
А что до философских доводов, — в чем они? где их искать?
Итак, мы видели, что удовольствие является благом до тех пор,
пока оно не отделимо от жизни, и до тех пор, пока оно
способствует ей. Но само по себе, если и пока мы отделяем его от жизни
посредством абстракции или берем вне связи с благими качествами,
которыми оно обладает, удовольствие не благо и ни в каком
смысле не есть цель в себе.
На этом следовало бы поставить точку, но, возможно, не будет
излишнем разъяснить еще некоторые моменты.
Жизнь — цель в себе. Жизнь предполагает удовольствие — это
так. Вопреки пессимизму, она предполагает, говоря в целом,
избыток удовольствия; у меня нет цели отрицать (хотя я, конечно,
и не утверждаю, и не принимаю этого), что жизнь в ее наивысшем
проявлении означает больший излишек удовольствий.
Если так, вернулись ли мы к гедонизму? Так как удовольствие
и жизнь неразделимы, можно ли сказать, что стремиться к
реализации жизни — стремиться к удовольствию? Нет, превращать
удовольствие в объект — не значит к нему стремиться; это
различие имеет жизненно важное значение, которым ни в коем случае
нельзя пренебрегать. Функция несет с собой удовольствие,
которое сопровождает ее на психологическом уровне, но определяет
167
Примечание к Эссе III
его характер, делает и является благим или дурным, в конечном
счете сама функция. Функция, более того, нечто относительно
определенное. Она дает вам то, к чему можно стремиться, нечто, что
можно делать. Удовольствие не таково. Далее, коль скоро функция
и удовольствие с точки зрения выбора — различные предметы,
человек, если он морален, должен отдать предпочтение первому.
Если же они неразделимы, суть одно целое, на каком основании
человек, имея перед собой возможность выбирать из объективного,
т. е. из действий, которые может исполнить и которые prius чувств,
должен совершать выбор из неопределенных, субъективных,
психологических следствий или того, что сопровождает действия?
Деяние несет с собой удовольствие, а не удовольствие — деяние.
«Да, но, — скажут нам, — мы хотим большего удовольствия,
большего, чем получаем от той функции, которую исполняем в
настоящий момент; и, чтобы получить его, мы сменим род
деятельности». В таком случае вам нужно выбрать один из трех путей. Вы (а)
полностью отвергаете мысль о том, что одна функция сама по
себе стоит выше другой; или, веря в существование высших и
низших функций, заявляете, что (Ь) удовольствие отделимо, или (с)
не отделимо от высших.
Предположить первое, — тут же рвется нить, связывающая вас
с обыденной моральностью, которая не верит в то, что «низшее»
и «высшее» означают только лишь средство для достижения
меньших или больших удовольствий. Выбирая второй вариант, вы
признаетесь в имморальности; ибо, веря в высшее, вы предлагаете
принести его в жертву удовольствию. «Получать удовольствие, даже
если за это придется отказаться от своей функции», — не
моральный подход72. В третьем случае, (с) если вы станете утверждать,
что нельзя отделить большее удовольствие от функции высшего
72 Не удастся воссоединиться с обыденной моральностью, сказав: «Мы ведь
будем только увеличивать удовольствие». Поскольку, либо (I) увеличение
удовольствия приведет к усилению функции, и в этом будет состоять благо, а вовсе
не в том, что полагаете вы, либо (II) обыденное сознание вообще не станет
рассматривать удовольствие ни как желаемое, ни как нежелательное, если оно и не
способствует ни повышению, ни понижению функции.
168
Примечание к Эссе III
порядка, незамедлительно вам могут задать вопрос об
истинности вашего утверждения, и если вы не сможете поручиться за нее,
то вряд ли можете гарантировать, что цель состоит в том, чтобы
снискать больше удовольствия.
Но, если с вашим утверждением о том, что функция высшего
порядка и большее удовольствие идут рука об руку, причем так,
что обладать одним — значит обладать другим, — если с этим
согласятся, то почему (я бы спросил), если они — суть одно
целое, почему вы настаиваете на том, чтобы выделить одну
сторону, ведь о ней, несомненно, менее всего известно? То, что высшая
функция и наибольшее удовольствие совпадают, — это
наиболее абстрактная истина; она (я хочу сказать, предположительно)
не обязательно очевидна обычному человеку или даже
поколению людей; и, если так, как возможно стремиться достичь
прогресса иначе, чем стремясь исполнять определенного рода
функцию? Функция предполагает удовольствие (в целом и в итоге),
и она, конечно, является более определенной целью. Не абсурдно
ли полагать, что, стремясь — в итоге или в целом (но не в
обозримом будущем) — получить большее удовольствие и сделав
его своей целью, возможно вместе с тем обрести функцию
более высоко порядка, какую — не известно? Не тщетно ли
(например) желание выяснить, что есть Божественная воля, определить
ее через некую идею удовольствия, которое мыслится как итог
или в целом и достигается не для себя или какого-либо
конкретно? Не столь же ли тщетны попытки изучить эту волю,
рассматривая предшествующие этапы ее эволюции, и принять то, что
кажется высшей ступенью за цель в себе? Не должны ли мы
сказать, что этот союз функции и удовольствия — только
популярный предмет веры, которая не находит подтверждения в опыте
и которой мы, таким образом, не можем руководиться,
определяя как действовать?
Конечно, очевидно, вообще говоря, что достойно
стремиться к возрастанию удовольствия и уменьшению боли; но
достойно потому, что эта цель способствует возрастанию жизни в
действительности и в возможности. Превращение функции в цель
169
Примечание к Эссе III
оправдывает возрастание удовольствия и предполагает его, и дает
человеку то, что он вправе требовать от этого. Но совсем другое
дело — сказать, что жизнь сводится к стремлению к большему
удовольствию, что она всего лишь дополнение к нему.
Опять-таки если мы сомневаемся в том, какова наивысшая
ступень прогресса, то, вероятно, более верно пойти по другому пути:
увеличивать удовольствие и преуменьшать боль, ведь таким
образом мы с большей силой исполняем правильные функции. Но
совсем другое дело — полагать, что в стремлении к прогрессу цель
всегда и только лишь возрастание удовольствия.
Но, заканчивая с этим вопросом, мы должны заметить: у нас
нет права сделать заключение, что функция наивысшего порядка
влечет наибольшее удовольствие. Мы убедились на горьком
опыте, что они не связаны в ряде случаев, на отдельных ступенях
прогресса, а потому мы принуждены мысленно разделять их. Мы
можем вообразить, что функция отделена от удовольствия, поскольку
на опыте испытали, как оно уменьшалось пропорционально тому,
как качественно возрастала функция. Но, представив то и другое
несвязанными, мы чувствуем, что должны выбрать в пользу
функции, но не удовольствия.
В заключение: есть способ использовать удовольствие для
проверки функции. Оно показывает, разрешились ли те затруднения,
которые встали на пути ее исполнения. Но, опираясь на этот
критерий, невозможно отделить высшую функцию от низшей; и,
следуя ему, вы отдадите предпочтение низшему состоянию гармонии,
а не высшему состоянию противоречия в самом себе.
Ради ясности я пошел на риск чрезмерно затянуть
рассуждение и повторять уже сказанное. В предшествующем эссе я
грубо, — не слишком, я надеюсь, — критиковал гедонизм.
Использовав отчасти более мягкие методы, я пришел к тому же результату.
И теперь, будучи настроен на примирение, я бы попросил
утилитариста, доброго сердцем и не помышляющего об удовольствии,
но жаждущего чего-то определенного, подумать вот о чем:
неужели жизнь как цель, высшая и всегда стремящаяся к превосходству
жизнь — для него идея менее ясная, чем гедонизм; не найдет ли он
170
Примечание к Эссе III
в ней все, чего хочет; и о том, не противоречит ли эта идея
аскетизму с той же силой, с какой гармонирует с моралью.
Если наша цель — реализовать жизнь или самость, которая
реализована в целом жизни, и дать ей развиться в наиболее
характерных для человека формах, и если мы полагаем, что реализовать
жизнь значит реализовать ее в живущих индивидах, мы
довольно далеки от аскетизма. Эта цель не предполагает ни
абстрактного отрицания человеческой природы, ни принесения в жертву
бесплодной формуле какой-то ее части и всей ее.
Универсальное реализуется только через саморазвитие индивида, а индивид
способен истинным образом развивать свою индивидуальность,
специфицируя в себе жизнь, общую всем. Отрекшись от свободы
индивидуализма (лучше сказать, партикуляризма), мы тем самым
отреклись от тирании этого (абстрактного) универсального. Член
такого универсального только тогда является членом, а не
паразитирующим элементом, когда живет жизнью целого; жизнь
целого не протекает иначе, чем в жизни его членов. А здесь, в
моральной сфере, члены обладают самосознанием. И интенсивность
реализации целого зависит от интенсивности самосознания его
членов. Более того, его члены — животные, наделенные духом; все
человеческое стоит на основании животной жизни; и делать
самореализацию целью значит не только оправдывать природу
человека, но и требовать внимания к его благополучию и счастью как
одухотворенного животного, потому что для утверждения в
определенной функции и прогресса в ее исполнении необходима как
психологическое условие внутренняя гармония. Вот к чему
пришло закономерным путем наше рассуждение, но двигаться
дальше не следует: не следует жертвовать утверждением и
прогрессом в функции ради перспективы снискать большее удовольствие.
Я, однако, не думаю, что утилитарист хочет обратиться в это
учение; и что бы ему ни хотелось проповедовать, он сможет
проповедовать это, не превращая удовольствие в цель. Повторимся:
если самореализация — цель, тогда удовольствие — связанная цель
и благо только как необходимое условие блага; а следовательно,
хорошо увеличивать удовольствие, хотя и не нужно добавлять «ра-
171
Примечание к Эссе III
ди удовольствия». И быть несчастным дурно; если несчастье —
душевное состояние, которое стремится исключить благое, и его
можно понять как зло, бороться с которым — наш долг, при том,
что никто не принуждает нас говорить: «Это само зло, и помимо
него нет иного зла».
Если же выдвигается возражение против того, что эта
цель — смутна и не имеет содержания, я надеюсь, последующее
эссе, в известной степени, снимет его. Здесь же мы можем
ответить, что принимать прогресс человека за цель и вести
наблюдение за пройденными ступенями — это небесполезное предписание;
если кто хочет такую моральную философию, которая говорила
бы ему, что он должен делать, то обнаружит, что таковой нет и быть
не может и что, во всяком случает, это не гедонизм.
Скажем пару слов о неосознанных или скрытых
гедонистических стремлениях общества на пути прогресса. Нет, мы хотим
высказаться не против того, чтобы делать удовольствие целью, — в чем,
я полагаю, нас тотчас заподозрит читатель, следовавший за нами
до сего момента. Принимая утверждаемый факт, что общество
склонно отождествлять то, что приносит удовольстви, и то, что
благо, мы вместе с тем отрицаем гедонистическое
предположение. Если общество склонно реализовывать жизнь более высшим
и совершенным образом, очевидно, что оно должно также
реализовывать и условия такой жизни. Тот факт, что жизнь не может
существовать без удовольствия, не доказывает, что удовольствие
должно быть целью жизни, если только мы не готовы сказать (не
лучшее объяснение), что, поскольку человек, поднимаясь по
социальной лестнице, начинает лучше одеваться, в силу этого быть
одетым как джентльмен — было, сознательно или неосознанно,
целью его продвижения. Конечно, могло быть и так, но согласуется
ли это с нашими взглядами? Или, возможно, мать желала
здоровья дочери не ради самого здоровья, а ради красоты; но не будет
ли безосновательным предположением вывод о том, что именно
так и должно быть? Аргумент, о котором мы упоминали,
выдвинут против аскетизма, но мы должны умолять читателя помнить
о том, что противоположность ложной точки зрения также может
172
Примечание к Эссе III
быть ложью; и что он волен разворачивать свое рассуждение от
отрицания аскетизма до утверждения гедонизма, но прежде
прояснив, в чем он видит выбор, «или... или».
В заключение (ибо мы уже вышли за все рамки) позвольте
высказать одно соображение по поводу самого этого слова
«утилитаризм». Во всех отношениях название неудачное и многих вводит
в заблуждение. Оно на самом деле выражает тот факт, что для
гедонизма добродетель и действие не являются целью, но служат
средством для чего-то вне их самих. Но, несомненно, было бы лучше
давать название теории по ее цели (что мы и сделали)73,
поскольку немало найдется таких, для кого в «утилитаризме» выражена
идея цели как полезного, каковая идея, помимо того, что чистой
воды бессмыслица, так еще и сбивает с толку. В гедонизме
сильны обертоны полезности, и если они для кого-то неприятны [Mill.
Utilit. P. 9], то мне так ласкают слух. Когда человек практики
слышит о «полезном», он думает, что получил нечто прочное, в то
время как на самом деле ухватился (как я показал) за призрак,
нелепую выдумку, которую отверг бы, если смог разглядеть ее суть
за фальшивым блеском и лоском. И на чьей бы стороне ни было
преимущество, ни один уважаемый автор не захочет основаться
на непонимании. Два слова — «полезный» и «счастье» — вводят
в заблуждение не только обычных людей, но и, по всей
вероятности, всех писателей из числа утилитаристов. Несмотря на то что
люди употребляют эти слова, невозможно внести окончательную
ясность в то, что они значат; позвольте же мне самому сказать,
что я не вижу удовлетворительной причины, почему
«утилитаризм» должен означать гедонизм. Если «счастье» значит
благосостояние или совершенство жизни, тогда я могу сказать, вслед
за Платоном и Аристотелем, что считаю счастье целью; и, хотя
добродетель — это не только средство, его тем не менее можно
считать средством, а потому оно «полезно». В этом смысле мы,
отвергающие гедонизм, можем назвать себя утилитаристами,
73 После выхода книги Сиджвига это стало более принято, что, конечно, шаг
в верном направлении.
173
Примечание к Эссе III
и высказывания того, кто полагает, что, ставя акцент на «счастье»
и «полезности», продвигает какую-то противоположную точку
зрения, не вредят нам, а возможно, скорее укрепляют нашу позицию.
Удовольствие же ради удовольствия, жизни и добродетель ради
удовольствия — это другое учение, и мы его отвергаем.
ЭССЕ IV
Долг ради долга
Отвечая на вопрос «Почему я должен быть морален?», мы
обнаружили, что всякая этика, явно или косвенно,
предполагает нечто, что есть благо, а также что это благо (какова
бы ни была его природа) всегда имеет характер цели.
Моральное благо есть цель в себе, его следует добиваться ради него
самого. Его не нужно использовать как средство ради чего-то, что оно
не есть. Выше мы видели к тому же, что удовольствие не
является ни благом, ни целью; что, добиваясь удовольствия как
такового, мы не добиваемся блага. Мы отвергли гедонизм и, если будет
угодно, можем вообще убрать его с глаз долой, ведь мы
приступаем теперь к разработке нового представления о благе, иного
ответа на вопрос «Что есть цель?». Гедонизм мы критиковали за
односторонность подхода; здесь же мы будем иметь дело с другой
односторонней крайностью. Прежде самость, которую следовало
реализовать, представляла собой самость или самости как
наибольшее количество или число отдельных ощущений: в теории,
которая ждет нас впереди, самость, подлежащая реализации,
имеет изъян, который диаметрально противоположен первому, но,
по сути, является тем же самым. Недостаток этой теории имеет
характер, противоположный недостатку гедонизма, поскольку
ставит на место того, что лишь универсально, то, что лишь
конкретно; нам не приходится иметь дело с тем или иным
ощущением, но с формой, которая мыслится не как то или иное.
Недостаток этой теории тот же, что и недостаток гедонизма, — упущение
из виду вещи как целого и установление реальным одного
элемента, который, однако, будучи взят отдельно от другого, нереален.
175
Эссе IV
Одним словом, оба подхода грешат односторонностью, и их
общий порок можно назвать абстрактностью. Но довольно
антиципации, вернемся к нашей задаче74.
Что есть моральная цель? Отчасти мы знаем, чем она не
является. Она не есть состояние или совокупность состояний самости,
наподобие чувства удовольствия, производимых во мне или вне
меня. Для того чтобы узнать, что она есть, нам следует обратиться
к моральному сознанию. Здесь мы обнаружим, что цель есть для
меня как действующего, она есть практическая цель. Она не есть
нечто, что должно быть чувствуемо; она есть нечто, что должно
быть произведено.
Но она не есть нечто такое, что должно быть сделано, и во что,
когда оно произведено, исполнитель не вовлечен. Цель не вне
исполнителя. Я должен реализовать себя; а, как мы видели, я не могу
поставить в качестве высшей цели ничего, кроме себя самого, не могу
сделать себя просто средством для чего-то иного. С другой стороны,
цель не выходит за пределы деятельности. Если бы во мне было
целью производство простого пассивного состояния, тогда деятельность
была бы всего лишь средством для этого. Но моральное сознание
уверяет нас в том, что цель в себе — активность. Цель — делание,
которое должно быть сделано; активность есть благо в себе, а не благо для
результата вне себя. Таким образом, цель не нужно чувствовать, она
должна быть выполнена: выполнена, а не произведена; ее нет ни вне
самости исполнителя, ни, более того, вне его активности.
Коротко говоря, благо есть благая воля. Цель есть воля ради
воли; а, применительно ко мне, она есть реализация благой воли
во мне самом, или меня самого как благой воли. В этом смысле
74 Следует предостеречь читателя против того, чтобы принять
нижеследующее за изложение определенного этического учения; представленное как таковое,
оно не будет ни полным, ни точным, хотя может показаться, что в своем
рассуждении я критикую Канта. Невозможно изложить точку зрения Канта, не представив
всех его сторон; и, поставь мы себе такую задачу, нам не только потребуется
уделить этому соответствующее внимание, но мы также будем обязаны рассмотреть
темы, которые выходят за пределы нашего предприятия. Мы представили
определенную точку зрения для того, чтобы она выступила предметом критики, но
вместе с тем наша критика вовсе не относится к одной только этой точке зрения.
176
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
Я есть цель для себя, и Я есть абсолютная или высшая цель. Нет
ничего, что было бы благим, не будучи благой волей.
Это не метафизическая фантазия. Это правда жизни и
морального сознания. Человека не называют благим ни потому, что
он богат, ни потому, что он красив или умен. Он благ, когда
морален, а морален тогда, когда его действия согласованы с благой
волей и воплощают ее, или когда его воля есть благо.
Но выражение «благая воля» мало о чем говорит. Оно говорит
лишь о том, что воля есть цель. Оно не говорит о том, что за воля
есть цель; мы же хотим знать, какова благая воля.
Что есть благая воля? Безразлично, назовем мы ее свободной
волей, или универсальной волей, или автономной волей, или,
наконец, формальной волей.
(1) Она есть универсальная воля. Само понятие моральной
цели состоит в том, что она должна быть целью абсолютно, а не
обусловлено. Она не есть цель для меня, не будучи целью и для
тебя, или же для тебя и меня, не будучи таковой для третьего лица;
но, она есть, не ограничиваясь никем конкретно, цель для всех нас.
А значит, воля, как цель, не есть партикулярная воля
конкретного человека, существующего как та или иная последовательность
состояний духа. Она одна и та же для тебя и меня, и в качестве
нашего общего стандарта и цели превосходит и тебя, и меня. Таким
образом, она объективна и универсальна.
(2) Она есть свободная воля. Она не обусловлена, ее
существование и атрибуты ни от чего не зависят, она, какова она есть, ничем
не произведена, а значит, не может, строго говоря, быть вызвана
чем-то, помимо себя. Она существует по причине самой себя и
ради самой себя. У нее нет внеположных цели или намеренья; она
не конституирована и не детерминирована ничем иным.
Таким образом, мы видим, что она не детерминирована ничем
партикулярным. Ибо, как мы убедились, она универсальна; а
универсальная — значит не партикулярная; так что достаточно
простого логического вывода, чтобы показать, что, если бы ее
детерминировало что-то партикулярное, она была бы детерминирована
чем-то, что она не есть. А мы уже видели, что это неверно.
177
Эссе IV
(3) Она автономна. Ибо она универсальна и есть цель для самой
себя. Блага та воля, которая волит универсальное как самое себя,
и самое себя как универсальное, а значит, можно сказать, что она
есть закон для себя и волит своей собственный закон. А,
поскольку она универсальна, следовательно, воля то, что значимо для нее,
она волит то, что общезначимо. Она, законодательствуя для себя,
законодательствует универсально, ибо, если она не творит закон
в масштабах всеобщности, то не дает его и себе.
(4) И наконец, она формальна. Ибо, воля самое себя, она волит
универсальное, а оно есть не-партикулярное. Всякий возможный
объект вожделения, всякое желаемое событие, всякая цель в
форме некоторого результата, который должен быть достигнут в
существовании партикулярного, в моем или кого-то другого, — все
они представляют собой какое-то нечто: они обладают
содержанием, они «материальны». Только та воля блага, которая волит
себя как не-партикулярное, как лишенное содержания или материи,
одним словом, та, которая волит себя, как форму.
Таким образом, благая воля — это воля, которая
детерминирована только формой, которая реализует себя как пустую форму
воли. Теперь же эта формальна воля рассматривается как
выражение всех последующих характеристик: универсальности, свободы
и автономии. Очевидно, что все остальные характеристики
сводятся к формальности. Я автономен только потому, что свободен,
свободен только потому, что универсален, универсален только
потому, что не отделен, не отделен, только когда формален.
В формальности блага мы могли убедиться, рассматривая его
в качестве универсального стандарта или мерила. Такого рода
стандарт есть форма или ничто. Он должен превосходить всякое
возможное «это» или «то», а следовательно, не может быть чем-то
«этим» или «тем». Именно благодаря тому, что он не есть ничто
конкретное, ему удается не иметь ничего, что не было бы общим
для всего, что конкретно. Иными словами, если что-то выпадает
из его сферы, тогда оно — всего лишь вещь среди других вещей,
а значит, больше не может служить стандартом. Но то, что обще
всем, не есть вещество или содержание, а только форма. Поскольку
178
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
нет материального мерила истины, постольку невозможно
материальное мерило моральности.
В таком случае благая воля есть пустая форма воли — вот в чем
состоит цель. Именно ее я должен реализовать, и реализовать в
самом себе. Но я не есть только форма; я обладаю «эмпирической
природой»: последовательностью отдельных состояний «этого Я»,
скоплением вожделений, антипатий, страстей, удовольствий и
боли, — тем, что можно назвать чувственной самостью. Именно в этой
самости следует искать все содержание, материю и возможное
наполнение формы; ибо всякая материя происходит из «опыта»,
дается в восприятии и посредством восприятия внешнего мира или
ряда моих собственных внутренних состояний, и в обоих случаях
она чувственна и противоположна нечувственной форме.
«Эмпирическая» самость, вот это Я, является составляющей
морального субъекта не в меньшей степени, чем та самость,
которая является формальной волей. Обе составляющие антитетичны
друг другу; а следовательно, реализация формы возможна
только через антагонизм, противоречие, которое должно быть
преодолено. Сущность моральности лежит именно в этом конфликте
и триумфе, которым он увенчается. Моральность — активность
формальной самости по обузданию чувственной самости, и здесь
мы впервые имеем возможность прикоснуться к смыслу слов
«обязан», «должен»75.
Если бы самость вне ряда собственных состояний была ничем,
если бы она была ничем вне и сверх этих сосуществующих и
последовательных феноменов, тогда слово «обязан» могло и не иметь
смысла. И в то же время, если бы самость была чистой волей, «без
75 «Обязан» может использоваться, и используется в более низком смысле
применительно к сфере, выходящей за пределы морального мира. Всюду, где
имеет смысл «закон», имеет смысл и «обязан». Мы говорим «обязан», когда
партикулярное явление не отвечает своему понятию. Например, «Человек „обязан"
иметь два глаза». «Лед такой толщины „обязан" был выдержать». Нечто
помешало факту быть выражением закона. Но моральное «обязан» значит нечто большее.
В этом случае партикулярный факт или явление - это та или иная воля, которая,
помимо того, знает или может знать о своем положении как таковом в отношении
к закону или общему понятию. Это очень существенное различие.
179
Эссе IV
примесей», волей, реализующей себя отдельно от чувственной
составляющей, слово «обязан» опять было бы бессмысленным.
Именно антагонизм этих двух элементов в одном субъекте составляет
сущность обязательства. «Обязан» — это директива; оно не
выражает нечто, что только есть или только не есть, но то, что и есть
и не есть; нечто, что, коротко говоря, должно быть. Далее,
будучи направлено на меня, директива представляет мне нечто, что
следует сделать, и следует сделать мне. Директива — исполнение
мною, но исполнение, которое исходит от некой воли, не от меня,
и представлено мне в форме веления76. Обязанность
предполагает, что на самость нисходит директива, и эта самость — моя
чувственная самость, которая получает предписание и которая, если
я подчиняюсь, испытывает принуждение со стороны
нечувственной формальной воли, которая стоит над эмпирической
составляющей и наравне с последней является моей самостью.
Обязанность — это директива формальной воли, а долг — повиновение,
или, более точно, принуждение низшей самости со стороны
формальной воли, или реализация формы в материи вожделения и
вопреки ее сопротивлению.
Долг должен быть ради долга, или же это не долг.
Недостаточно того, что мои поступки реализуют и воплощают
универсальную форму, тем самым подчиняясь ей. Недостаточно того, что
предписанный поступок совершается мной. Цель, как мы видели,
не есть некий результат помимо и после деятельности. Цель
является скорее реализацией формы, которая есть благо, чем ее
реализуемостью; потому что она негативна только как деятельность,
и реальна, только будучи негативной. Более того, благо не есть
лишь реализация формы посредством какого-то другого
субъекта, но реализация благом самого себя через самого себя. Это
возможно, только если поступок, который было велено исполнить
применительно к низшей самости, исполняется мной, принявшим
роль формальной самости. Когда происходит так, я об этом знаю;
если же я не знаю, что это так, тогда это не так. Долг не является
76 Директива может содержать просьбу или угрозу. Но не обязательно.
180
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
долгом до тех пор, пока он, всякий раз и в каждом поступке,
сознательно не исполняется ради долга, а это значит, ради реализации
пустой формы и единственно только ради нее. Таким образом,
понятно, что поступок, совершенный из удовольствия от пустой
формы или из вожделения пустой формы, ни в коем случае не может
быть исполнен чувства долга; ибо тогда выбор в сторону
реализации будет совершать низшая природа, руководствуясь
собственной склонностью; она не может быть формой, реализующей
самое себя; а значит, такой поступок ни в коей мере не морален, ибо
ни в коей мере не достигает цели. С точки зрения морали низшую
самость не склоняют к действию, не убеждают, ее не увещевают
советами; но принуждают силой.
Для того чтобы подкрепить наш вывод, вновь обратимся к
моральному сознанию. Всякий, кто морален, знает, что делать
правильно значит исполнять долг ради него самого и что, если долг
исполнен ради некоего внешнего объекта, поступок может быть
законным, но, конечно же, не может быть моральным.
Теперь, когда мы убедились в согласии наших рассуждений
с практической моральностью и пришли к выводу о том, что
только тот поступок морален, который сознательно совершается ради
универсальной формы, нам следует сформулировать правило,
которое служило бы руководством нашим поступкам в жизни и
которое было бы достаточно просто, чтобы не вызывать трудности
при применении. Мы должны реализовать благую волю, волю,
которая есть цель в себе и значима универсально; и, как мы
убедились, эти характеристики суммированы в формальности. Мы
видели, что стандарт должен быть формален: он должен исключать
всякое возможное содержание, поскольку содержание — различие;
и следовательно, то, что нам остается в качестве стандарта —
просто тождественность, тождественность, которая исключает
различие; а о ней мы можем сказать только, что она есть и что она
не противоречит себе. Тогда наша практическая максима такова:
реализуй непротиворечие. Реализуй, т. е. поступай и продолжай
поступать; не противоречь себе, т. е. пусть все твои поступки
воплощают и реализуют принцип непротиворечия; ибо только так
181
Эссе IV
возможно реализовать формальную волю, которая есть благая
воля. Всякий поступок, если он не противоречит себе, законен.
Всякий поступок, если он не противоречит себе и совершен ради
реализации непротиворечивости, и только ради нее, морален. Это
правило просто, оно возможно практически; и безусловно,
можно быть благодарным за такого рода организацию вещей, которая
облекла стандарт и мерило всего того, что наиболее важно, в
такую форму, понять которую может даже неграмотный и
воспользоваться — ребенок77.
Учение о долге ради долга, изложенное так, как мы его
изложили выше, малоправдоподобно. Критика этого учения может
показаться читателю излишней, тем не менее нам стоит кратко
сформулировать те внутренние противоречия, в которых оно
запутывается и которые разрушают ее претензию на практическую
значимость.
Учение противоречит себе; и, будучи сведенным к простой
формуле, это противоречие звучит следующим образом:
самореализация есть цель, а самость, которую следует реализовать, есть
отрицание реальности; мы должны реализовать, но не
произвести ничего реального. Позвольте объяснить. Благо есть воля. Воля
есть осуществление внутреннего духа в мир факта; она есть
тождество мысли и существования; процесс, в котором идеал проходит
в реальность, и где содержание обеих сторон одно и то же, всегда
подчиненное различию двух разных составляющих. Мысль,
только как мысль, не есть воля — такова только внутренняя сторона.
Только лишь существование в пространстве и времени, или
времени, не есть воля — такова только внешняя сторона. Для воли
требуются обе стороны, и обе стороны в одном. Из вышесказанного
77 Как я уже сказал выше, здесь не излагается точка зрения Канта. Его
точка зрения гораздо шире и притом куда более сложна. Как система она была
преодолена критикой Гегеля, которой я многим обязан («Философские
сочинения» [Philosophishe Ablandungen. Werke I. P. 343 foil., 1832] и «Феноменология»
[Phänomenologie. Werke II. P. 451 foil., 1832]). Сравни также рассуждения
Шопенгауэра [IV. Grundprobleme. P. 117-78]. Но читатель не должен забывать, что за то,
что сказано в данной работе, несу ответственность только я.
182
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
нам в то же время понятно, что если эти две стороны должны быть
согласованы, то должна быть и своего рода согласованность в
природе того, что они содержат; так, обратившись вначале к стороне
существования, могу сказать, ничто невозможно реализовать,
если то, что реализуется, уже не несет на себе характерного для
самой реальности свойства.
Реализовать — значит перевести идеальное содержание в
существование, будет ли это существование рядом событий только
во времени, подобно простым душевным актам78, или же
существование в пространстве и времени, как в случае всех действий,
направленных вовне.
У меня нет возможности ни дать подобающую дефиницию
реальному, ни рассмотреть природу существования в пространстве
и времени, а также его отношение к мысли в целом, и человеческой
мысли в частности, даже если бы я и был сведущ в этих вопросах.
Однако не думаю, что впаду в сильное противоречие, если скажу,
что ведущая характеристика существования в пространстве и
времени, одним словом, его партикулярность, то, что обычно
называют его конкретностью, бесконечностью его отношений.
Существующая вещь и простая мысль о вещи — это не одно и то же, если
принять, что «одно и то же» значит отсутствие разницы; и
особенно это характерно для морали, дистанция между теорией и
фактом столь же неизмерима, как и дистанция между тем, что
мыслится, и тем, что волится, между дефиницией и определяемой
вещью. Как я уже говорил выше, мы не будем углубляться в эти
фундаментальные вопросы, но вот что кажется очевидным: в
противоположность теории, дефиниции или абстрактному
принципу, главное, что отличает существование в пространстве и
времени, — это нескончаемая детализация его партикулярных отношений.
Невозможно исчерпать чувственный объект, все время уточняя
78 Это истинно, конечно, пока речь идет о душевных событиях, и особенно
характере. Я полагаю, что каждое психическое состояние имеет также
существование в пространстве. Позвольте по ходу дела добавить в этой связи, что в
психологии не решен вопрос о том, имеет ли воля непосредственный контроль над мыслью
или нет. В данном случае ответ не имеет для нас значения.
183
Эссе IV
дефиницию, ибо он состоит в отношении ко всем другим вещам
в мире.
Давайте тогда будем исходить из того, что «реализовать»
(помимо всего прочего) значит, по крайней мере, партикуляризовать,
и посмотрим, каким образом учение о долге ради долга
противоречит самому себе. (1) Это учение гласит, что не следует делать то,
что, согласно этому же учению, следует делать; ожидаемый эффект
поступка — негация партикулярного; таким образом, оно, коротко
говоря, призывает реализовывать и не реализовывать. (2) Это
учение не обеспечивает содержания; а то, у чего нет содержания,
невозможно волить, ибо в волении мы должны иметь одно и то же
содержание на каждой из сторон. (3) С точки зрения психологии
акт воли — партикулярный акт, а следовательно, формальный акт
воли невозможен.
Проясним сказанное. (1) Ты должен реализовать благую волю,
т. е. формальную или универсальную волю. Однако
универсальное означает противоположность партикулярного. «Реализовать
партикулярное» значит «реализовать противоположность
универсального»; итак, сделав универсальное конкретным, тем самым его
не реализовать, т. е. не реализовать универсальное, которое
нужно было реализовать; или же, другими словами, если материали-
зировать форму, она потеряет характер формальности. С другой
стороны, «реализовать» значит материализировать, это значит
партикуляризовать. «Реализуй» утверждает конкретное
тождество вещества и формы, которое отрицает «формальная воля»;
и нам остается только противоречие предписания, которое
одновременно говорит нам, что только формальная (т. е. нереальная)
воля есть благо и что ради блага нам следует реализовать (т. е. де-
формализовать) формальную волю, — и тем самым лишает нас
всякой надежды.
Скажем менее абстрактно — в одном субъекте есть две
составляющие: чувственная природа и чистая воля. Чистая воля должна
остаться чистой; именно ради нее мы поступаем; действие же
состоит в принуждении чувственной природы. Теперь
приказание звучит так: «Реализуй чистую волю в чувственной природе»,
184
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
а противоречие — то же, что было описано выше. Чистая воля
значит нечувственная, и «реализуй ее» требует перевести ее в то
состояние, которое разрушит ее сущность. Формальная воля, будучи
реализованной, более не является формальной, она —
материализована, вочувствлена, она более уже не чистая. Если нет
стремления очувствить волю, почему тогда выставляется требование
сделать ее реальной? Для чего нужно реализовывание? Каково его
значение? Или неужели вы сами, говоря, что воля является
реализацией и подразумевает ее, не видите, что воля означает тождество
чистой и чувственной природы, что в ней есть две стороны и что
выражение «формальная воля» значит «обладая двумя сторонами,
уверенно думай, что обладаешь только одной»; или, более кратко,
что чистая или формальная воля — бессмыслица?
Приведем самую простую формулировку этого
противоречия. Приказание таково: «Реализуй непротиворчие». Но
«непротиворечие» = пустая форма; «реализуй» = наполни
содержанием: содержание отрицает форму без содержания, и таким образом,
«реализуй непротиворечие» значит «реализуй противоречие»79.
(2) Наши замечания по поводу, с одной стороны,
противоречивости принципа, присущей ему абстрактности негации
реальности и, с другой — предъявляемого им требования реализации,
вероятно, сделали дальнейшее подробное рассмотрение уже
ненужным. Однако может оказаться полезным еще раз отдельно
обратиться к главному возражению.
Мы убедились, что акт воли имеет две стороны:
внутреннюю и внешнюю, которые мы можем назвать «субъективной»
79 Безнадежная непоследовательность дуалистической теории морали,
неизменное противоречие между ее моральной теологией и практическими
постулатами в целом, - все это не является предметом нашего рассмотрения. В целом
эта точка зрения критиковалась у Гегеля во втором из тех пассажей, на которые
мы ссылались выше. По ходу дела можно указать на противоречие, которое
присутствует в учении об императиве. Директива адресуется одной воле посредством
другой, и если воля должна подчиняться, то той, что адресует. Но в этом случае
воля, на которую направлена директива, не та, что ее исполняет; следовательно,
императиву невозможно подчиниться; а поскольку он не производит действие
в той воле, которой адресован, но есть всего лишь фиктивный императив.
185
Эссе IV
и «объективной» (используя одно из значений этих столь часто
неверно употребляемых слов) сторонами. Они обладают
определенным содержанием, которое, с одной стороны, должно быть
исполнено, с другой — уже исполнено. Убийство, строго говоря,
не является актом мой воли до тех пор, пока я не намереваюсь
убить и пока действительно не убил кого-нибудь. Одно лишь
движение моего тела, как и одна лишь мысль в моем уме, не
конституируют поступка80.
Есть две стороны, и у каждой — одно и то же содержание. По-
ступание — это исполнение того, что волится, и более ничто.
Поступок — это процесс перевода из внутреннего мира во внешний
(или из мысли в факт события внутреннего мира), а перевод
будет переводом, только если он предполагает идентичность
переведенного.
Из этого непосредственно следует, что никакой поступок не
может быть просто осуществлением абстрактного принципа. На
обеих сторонах воли содержание должно быть одним и тем же, и,
очевидно, что никакая абстракция не есть содержание, способное
на действительное существование. Для того чтобы
осуществиться в материальном мире, принцип должен специализироваться
в конкретно индивидуальное, которое затем может быть
приведено в существование во времени и пространстве. Следовательно,
с этой (с «субъективной») стороны, абстракция должна стать
конкретной, и иметь в себе две стороны, кратко говоря, быть
индивидуализированной; в противном случае поступание невозможно,
ибо нет того, что можно было бы привести81 к существованию.
Всем известно, что единственный способ исполнить долг — это
выполнять предписанные обязанности; что «творить благо вообще»
может означать, «ничего конкретно», а следовательно, вообще
ничего благого, а скорее его противоположность. Всем известно, что
замысел реализовать абстракцию, будь то в религии, морали или
80 Это утверждение учитывает сказанное в Эссе I.
81 Не следует думать, что этим утверждением мы отрицаем возможность для
воли иметь содержание, которое представляет собой только «это» или «то». Об этой
возможности мы ничего не говорим, ибо этот вопрос нас не интересует.
186
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
политике, — тщетное усилие и что единственное, к чему оно
приводит, — либо к тому, что не делается вообще ничего, либо к тому,
что то конкретное содержание, которое необходимо для поступка,
добавляется к абстракции случайно или по прихоти. Каждый
человек предполагает или даже уверен в том, что сознательное по-
сгупание по абстрактным принципам или из них — самообман
или лицемерие, или — то и другое.
(3) Рассмотрев учение о долге ради долга с психологической
точки зрения, мы также обнаружим его поверхностный
характер. Воля, которая не поступает, — это не воля, каждый же
поступок — это партикулярное событие: поступок — это этот или
другой поступок, а поступок сам по себе — это бессмыслица. Тем
не менее каким образом формальный поступок может быть тем
или иным поступанием? Даже когда абстракция полностью
специализирована в определенные «материальные» цели и
намерения, которых следует достичь, даже в этом случае для
партикулярного воления требуются особые условия времени, пространства
и т. п. Они могут быть несущественны для поступка; они могут
не иметь никакого практического различия для содержания.
Если я решил убить человека определенным образом, пространство,
время и т. п. физически необходимы для такого
партикулярного поступка как убийство, но они могут и не входить в сущность
поступка (так же обстоит дело и с повседневными обязанностями
человека). Чем более точен умысел, предшествующий действию,
чем более близко оно к замыслу, тем меньше добавляют к нему
конкретные обстоятельства; чем менее специализировано
содержание — тем больше к нему добавляется. Если я выбегу на
улицу с желанием кого-нибудь убить, случай решит82 — кого именно
я убью. И так же с долгом. Я просто решаю исполнять долг, а то,
какой именно долг я исполню, решает случай; ибо то, что выходит
за рамки ранее представленного умысла, — случай, а здесь за эти
рамки все выходит, кроме чистой формы.
82 Нужно сказать, что случай касается намерения; потому что, по сути, у
меня не было умысла убивать какого-то конкретного человека.
187
Эссе IV
Для того чтобы поступать, необходимо волить нечто, и нечто
определенное. Невозможно волить вообще, а конкретное воление
никогда не бывает волением только формы. В лучшем случае оно
есть воление случайности формы, а тогда то, что движет, — это
случай (желание). Пустая форма не способна двигать. Воля, когда
не желается ничего партикулярного, — чистый вымысел; или
(скажем иначе) такова воля, не испытывающая желания, сознательного
или бессознательного, особенного или привычного. Это —
психологический монстр. Если такое воление и реально, то все согласны
с тем, что описать его невозможно; все согласны, что никто не
встречался с ним на практике; и конечно же, Шопенгауэр не ошибся,
сказав: если «маловероятно» не значит «не постижимо» и «не
обнаруживается в опыте», тогда ничто не маловероятно. Если теория
требует такого предположения, то это свидетельствует о ее
ложности.
Мы доказали, что формальная воля противоречит самой себе,
ибо сущность воли состоит в том, чтобы не быть формальной.
Учение о долге ради долга ложно и невозможно. Думается, не будет
лишним вдобавок показать, что, даже если такой принцип посту-
пания возможен, он все равно негоден и бесполезен с точки
зрения практики.
Максима непротиворечивости никуда не годится. Мы
убедились, что максима противоречит себе, в силу того, что постулирует
содержание, которое есть противоположность ее пустой формы;
однако, помимо этого, она не дает нам никакой информации. Что
я должен делать? «Производить тавтологию» — таков ответ. «Все,
что противоречит себе, неверно. Все, что тавтологично, истинно.
Ничто из того, что тавтологично, не ложно». Тогда что
противоречит себе? В одном смысле — все, в другом — ничего.
Принцип непротиворечивости не значит: не противоречь себе;
производи гармонию, систему своими поступками и собой;
реализуй себя как органическое целое. Без последующих директив это
не очевидно; но сейчас наш принцип говорит не об этом. Он
гласит: поступок не должен противоречить себе. Что это значит?
Это означает: то, что реализовано, то определение, которое было
188
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
вызвано моим поступком, должны быть последовательны в себе.
Например, собственность — последовательна в себе. Кража
собственности — противоречие.
Но прежде всего, может ли определение быть свободно от
противоречия? Возьмем, к примеру, предмет воления. Очевидно, он есть
нечто определенное, а определенное есть то, что оно есть, только
в силу того, что отрицает нечто другое. Тот факт, что всякое
возможное А не должно быть В, С, D и т. д., принадлежит сущности
А, и без этой негации оно не будет А. Лишь позитивное
утверждение есть воображаемая абстракция. «Утверждать А» значит
«отрицать В, С, D и т. д.» Например, «собственность», подразумевает
негацию, исключение. В этом смысле определенное содержание
не только состоит в противоречии с формой, но также включает
в себя противоречие.
Однако смысл правила непротиворечивости заключается
не в этом. Его смысл таков: ты не должен постулировать
детерминацию и вместе с ней ее собственную негацию. Ты не должен
допустить поступка, который воплощает собой правило отрицания
чего-нибудь, ибо это и есть противоречие в себе. Правило
«отрицать А» противоречит себе, ибо, если А уже подверглось
отрицанию, его невозможно отрицать. «Кража собственности» — это
противоречие, ибо уничтожает собственность, а вместе с ней и
саму возможность воровства.
Нет необходимости далее развивать метафизическое
возражение против этой точки зрения, поскольку она и так не
замедлит дать нам свидетельства против самой себя. Сущность морали
представляет собой противоречие того же рода83. «Отрицай
чувственную самость». Но если чувственная самость уже подвержена
отрицанию, то исчезает сама возможность моральности.
Моральность, таким образом, столь же противоречива, как и воровство.
«Помощь бедным» равно и отрицает, и предполагает
(следовательно, постулирует) бедность: как иронично сказал Блейк,
83 Гегель (loc. cit.) был настолько беспощаден, что применил это положение
даже против постулата бессмертия. Что касается следствий такого применения,
мы сильно отходим от Гегеля.
189
Эссе IV
Pity would be no more,
if we did not make somebody poor84.
Если следует любить своих врагов, то враг всегда должен быть;
и все же от него пытаются избавиться. Последовательно ли это?
Коротко говоря, всякий долг, который предполагает, что нечто
следует отрицать, не является долгом; это правило имморально по
причине внутреннего противоречия.
Таким образом, всякое правило должно быть установлено
позитивно, а не негативно; но тогда возникает очень серьезный
вопрос: существует ли такое правило, которое не может быть
установлено позитивно? Канон — это пустая форма. «Пусть А есть А».
Это тавтология; все можно подогнать под форму тавтологии,
чтобы сделать моральным, — для этого больших усилий не
требуется. «Пусть собственность будет», «Пусть не собственность будет»,
«Пусть закон будет», «Пусть не закон будет»; «Пусть любовь
будет», «Пусть ненависть будет», «Будь смел», «Будь труслив», «Будь
добр», «Будь жесток», «Будь безразличен», «Пусть помощь
будет», «Пусть не помощь будет»; или богатство, или бедность, или
удовольствие, или боль. Где канон? Нигде. Бедность есть бедность,
и это утверждающая тавтология. Ненависть есть ненависть,
настолько же насколько любовь — это любовь. Они становятся
противоречивыми, только когда говорится: «ненавидь своих друзей»
или «люби своих врагов»; или, когда человек, вместо того чтобы
утверждать, анализирует высказывания и обнаруживает, что
каждое есть утверждение негации или негация утверждения. Всем
очевидно, что такова ненависть, а более глубокие мыслители говорят,
что и любовь тоже.
На самом деле принцип «Долг ради долга» состоит в том,
чтобы, прежде всего, постулировать определенность — такую, как
собственность, любовь, смелость и т. п., — а затем сказать, будто
все, что противоречит им, неверно. А поскольку принцип — это
84 Когда не станем обирать,
не нужно будет подавать,
Блейк У. Человеческая сущность / Пер. С. Степанова. — Примеч. переводчика.
190
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
формальная, пустая универсалия, между ней и тем содержанием,
которое под нее подводится, нет никакой связи. Эта связь
производится извне и покоится на свободном выборе или на общем
представлении о благосостоянии и, пожалуй, счастье. Моральность
чистого долга оборачивается, таким образом, либо чем-то
наподобие гедонистического правила85, либо вообще не правилом,
если не считать правилом ту лицемерную максиму, согласно
которой то, что тебе нравится, прежде чем совершить, нужно назвать
долгом; этим побеждается пробабилизм.
Следовательно, невозможно перейти от формы долга к
конкретным обязанностям. Конкретные обязанности должно
принимать как данное, как они и принимаются в обыденной
морали. Но, если предположить, что это требование выполнено, тогда
является ли значимой формула долга ради долга, — в том
смысле, что мы всегда должны поступать по закону, и только по
закону, и что закон не имеет исключений, под которыми понимаются
те конкретные случаи, когда закон отменяется? Нет, жизнь
очевидно проста настолько, что человеку никогда не приходится в одно
и то же время иметь более одной обязанности; хотя ему и
приходится иметь дело с несовместимыми обязанностями, но они, как
правило, не входят в конфликт, просто потому что и так
понятно, какой следует отдать предпочтение. Ошибочно предполагать,
что столкновение обязанностей — что-то из ряда вон выходящее;
правильно было замечено, что любой поступок можно истолковать
через такого рода столкновение.
Упростим вопрос: очевидно, что в определенном случае у
меня могут быть несколько обязанностей, притом что я буду в
состоянии выполнить только одну. Тогда я должен преступить
какой-нибудь «категорический» закон, и вопрос, которым
задается обыватель, звучит так: «Какую обязанность я должен
выполнить?» Он скажет: «Все обязанности имеют свои границы и
подчинены друг другу. Нельзя все обязанности подвести под форму
85 У Шопенгауэра можно найти некоторую характеристику и пикантную
критику этого положения.
191
Эссе IV
„категорического императива" (закона абсолютного и не
зависящего ни от чего другого, кроме самого себя) без таких
исключений и изменений, чтобы можно было бы в определенных
случаях его вообще отбросить. Конечно, у нас есть законы, но может
не быть возможности следовать сразу всем; а знание того,
какому следовать, — это сугубо дело здравого смысла. Следует
подавать бедным, — в каких случаях и сколько? Следует жертвовать
собой, — каким образом и в каких пределах? Не следует потакать
своим влечениям, — кроме того, когда это нужно делать. Не
следует растрачивать свое время понапрасну, — кроме того случая, когда
идет речь о развлечении. Не пренебрегать работой, — только если
нет уважительной причины. Мы допускаем, что ко всем этим
случаям, с одной стороны, применим закон; но если кому вздумается
в конкретном случае принимать решение, исходя из
„категорического императива", то он если не глупец, то доктринер».
Обыденная мораль ни один из своих законов не считает
непоколебимым, не видя в них цели самой по себе. Часто при
столкновении обязанностей она даже не сознает противоречия; а там, где она
осознает его и встает перед фактом коллизии моральных законов,
каждый из которых привыкла считать, так сказать, самодержцем
или главнокомандующим, а не подчиненным офицером, — там она
подчиняет одну обязанность другой и испытывает беспокойство
исключительно пропорционально тому, насколько часто ей
приходится иметь дело с необходимостью подобного рода
согласования, и силе диссонанса в чувствах. Есть только несколько законов,
нарушение которых (ради подчинения более высшему закону)
моральность не допускает, и я полагаю, что нет такого закона,
который невозможно было бы преступить при определенных
(вообразимых) обстоятельствах, хотя необходимость решать этот вопрос
на практике не возникает. Согласно обыденной морали
(очевидно, что этот факт вызовет возражение) в определенных
обстоятельствах вполне правильно лгать с умыслом обмануть кого-нибудь,
хотя обыденная моральность, должно быть, добавит: «Я не
называю это ложью». Это ложь; и когда Кант и другие утверждают, что
всегда должно быть неправильно говорить неправду, они забывают
192
ДОЛГ РАДИ ДОЛГА
об одном весьма значимом факте, что бывают случаи, когда
воздержание от поступка уже поступок, умышленное пренебрежение
к долгу, и что существуют обязанности превыше «говорить
правду», и множество нарушений правил моральности, которые куда
хуже лжи, пусть и менее болезненных. Убить себя в том смысле,
в каком мы говорим о суициде, может быть не только
правильным, но и героическим поступком; убийство может быть
простительным, бунт подчиненного и непослушание солдата морально
оправданными, и каждый из них явно нарушает категорические
императивы, подчиняясь высшему закону.
Все рассуждение ведет к тому (и мы должны помнить, что это
очень важная истина), что никогда нельзя нарушать закон долга,
чтобы доставить себе удовольствие, никогда ради цели, которая
не есть долг, но только ради высшего и господствующего долга.
Всякое нарушение долга как долга, а не как низшей обязанности, —
всегда и совершенно неверно; но будет поспешным сказать, что любой
поступок в любом случае должен быть совершенно и безусловно
имморальным. Решают обстоятельства, ибо обстоятельства
определяют способ, каким должен быть реализован господствующий
долг. Это факт, и непредвзятый наблюдатель не может отрицать
его. Этот факт всего лишь описывает моральное сознание,
хотя я знаю, что само сознание не согласится с ним, просто потому
что не сможет адекватно понять, что скрывается под абстрактной
формой. И если подразумевается, что моральная теория должна
влиять на моральную практику и должна быть усвоена «простым
людом» (а тех, кто в этом отношении не «прост», не так много),
тогда, я уверен, это факт, который было бы неплохо держать на
вооружении. А это факт86.
Итак, мы видим, что учение «долг ради долга» говорит
только: «Делай правильно ради правильности»; оно не говорит, что
есть правильно или «Реализуй благую волю, делай то, что стала
бы делать благая воля ради того, чтобы самому быть благой
волей», — это уже что-то. Но оно либо ничего не говорит, помимо
86 Мы вернемся к этому вопросу в Эссе V и VI.
193
Эссе IV
пустой формы, либо говорит не по существу. Это учение
убеждает нас поступать ради формы, которая, как мы убедились, —
противоречащая себе директива; мы убедились даже, что, к
великому сожалению, форма действительно существует ради формы,
в буквальном смысле остается всего лишь формой. Мы увидели,
что универсальные законы долга не универсальны, если под этим
свойством понимается, что их нельзя отменить, и что форма долга
и его абсолютный императив не совместимы с практикой. В
итоге остается лишь поступание ради благой воли; реализация себя
посредством реализации воли, которая над нами и выше нашей
воли, и уверенность в том, что именно благая воля, а не
ублажение самости служит целью, ради которой должен жить человек.
Но о том, какова эта благая воля, учение о долге ради долга
ничего не говорит, предлагая нам бесполезную абстракцию.
ЭССЕ V
Мое положение в обществе
и связанные с ним обязанности
Мы рассмотрели, хоть и бегло, довольно значительный круг
вопросов, но пока нет ощущения, что смогли добиться
результата. В лучшем случае наш результат
отрицателен. Да, в предварительных замечаниях (Эссе II) нам казалось, что
мы нашли ответ на вопрос: «В чем цель?» Но сам по себе он
бесполезен, — слишком абстрактен. Но если можно сказать, будто мы,
по крайней мере, знаем, что цель — самореализация, то о
самости, которую нужно реализовать, мы до сих пор ничего не
выяснили. Из второго и третьего эссе мы узнали в лучшем случае, чем
самореализация не является.
Мы выяснили, что самость, которую следует реализовать, не
является тем или иным ощущением, как не является она и
последовательностью партикулярных ощущений в потоке сознания, будь
это мое сознание или сознание другого человека. Говоря по сути,
самость реализации — это не самость удовлетворения. Мы
обнаружили, что наибольшая сумма единиц удовольствия состоит в
простой идее совокупности, в то время как, если разговор идет о
моральности, эта сумма выступает чем-то наподобие универсального,
которое становится предметом нашего желания. Счастье
предстало перед нами как попытка сконструировать универсальное
через сложение отдельных удовольствий, но оказалось фальшиво.
Такое понятие счастья отрицает само себя, поскольку, будучи
неизменно конкретным и конечным, постоянно должно
подтверждать собственную универсальность. А потому, если угодно, нет
такой области, где оно всегда не было бы уже достигнуто; или же,
195
Эссе V
если угодно, его вообще нельзя реализовать. Далее, перейдя к
другой крайности: универсального как отрицания
партикулярного, к мнимой чистой воле или долгу ради долга, мы
обнаружили, что и это понятие не соприкасается с реальностью. Оно всего
лишь пустая форма, которой, дабы стать волей, недостает
содержания и которой наполнение содержанием грозит внутренним
противоречием. Вдобавок мы увидели, что содержание чистой
воли постулируется произвольно, и даже что форма либо
вообще не реализуется, поскольку не соотносится ни с каким
конкретным содержанием, либо реализуется везде и всегда, поскольку
равным образом может соединяться с любым содержанием.
Тогда мы пришли к выводу, что мораль, как и счастье, будучи чем-то
большим, чем неизменным утверждением пустой формулы, просто
не может существовать. И, было бы желание, можно было бы
продолжить рассуждение и показать ложность принципа аскетизма,
можно было бы увидеть, что самость нельзя реализовать только
как отрицание, поскольку мораль состоит в практике, быть
моральным — значит иметь волю что-то делать, мораль есть
самоутверждение; и что воля отрицать волю — это не самореализация;
что такой акт, если говорить строго, скорее всего, психологически
невозможен и является иллюзией, самой себе противоречащей.
То же, к чему мы пришли в результате рассмотрения
морального сознания: что мораль предполагает существование некой
высшей самости или, по крайней мере, универсального, которое
превосходит всякое конкретное «Я», в том числе и мое, — этот вывод
предупреждает против того, чтобы считать, будто следует
реализовать ту самость, которую довелось иметь, природные задатки;
будто следует делать целью жизни саму жизнь, думая при этом,
что нужно жить исходя из того, как складывается твоя жизнь в
настоящий момент, или из того, как она меняется время от
времени. И, завершая опись всех «не», отметим следующее: если бы
даже было возможно (а ведь это нет так) вывести из формулы «Долг
ради долга» определенное содержание и на его основании
выработать систему обязанностей, даже тогда она осталась бы
несовместима с практикой. А вместе с тем была бы невозможна и сама
196
Мое положение в обществе
мораль, поскольку на практике отдельные обязанности должны
приходить в противоречие; а противоречие, согласно принципу
«Долг ради долга», упраздняет обязанности, не затрагивая только
нереализованную форму долга.
Однако попробуем найти в этом, на первый взгляд негативном,
результате, что-то позитивное; посмотрим наконец, что мы
имеем. Есть идея самореализации, которая понимается как цель. При
этом в ней не мыслится ни одно определение самости, данное
до сих пор: самости как собрания отдельных ощущений и как
абстрактного универсального. Самость, которая должна быть
реализована, — это не просто «Я» того или иного человека; она должна
быть реализована как нечто большее, — как воля, и не просто как
природная воля, и не как воля, которая случайно стала такой,
какая она есть здесь и сейчас, но как благая воля, т. е. как такая,
которая реализует цель, стоящую «над», превосходящую желания того
или иного человека и способную противостоять им в форме
закона или обязанности. Более того, это «нечто высшее», которое в
возможности есть закон или обязанность индивида, не зависит в
своем существовании от индивидуального выбора или мнения. Либо
мы имеем дело не с моральностью, говорит моральное сознание,
либо моральный долг существует независимо от его отношения
к тому или иному человеку: мой долг может быть моим и более
ничьим, но не я делаю его моим. Если я имею дело с долгом, то он
будет долгом для любого, кто оказался в моей ситуации или при
тех же условиях, что и я, независимо от того, согласен ли он с тем
или нет: одним словом, долг «объективен» в том смысле, что не
зависит от мнения или выбора того или иного субъекта.
Итак, вот чем мы располагаем (подведем итог): целью
является реализация благой воли, которая превосходит человеческую;
и эта цель состоит в самореализации. Соединив первое и второе,
получаем, что цель есть реализация индивидуальной самости как
превосходящей ее воли. И эта воля (если моральность
существует) должна быть «объективной», потому что не зависит от
«субъективных» пристрастий; и «универсальной», потому что не может
быть отождествлена ни с чем партикулярным, но стоит над всем
197
Эссе V
партикулярным, действительным и возможным. Далее, она, хотя
и универсальна, но не абстрактна, в силу того, что по сути своей
должна быть реализована, а обрести реальное существование
может только через нечто конкретное. Благая воля имеет смысл (для
морального сознания), только как воля живого конечного
существа (чем бы она ни была помимо этого). Она есть конкретно
универсальное, ибо не только превосходит то, что ее составляет, но
и существует в и через них и постольку, поскольку есть они. Благая
воля — жизнь, которая проявляет себя только в этих конкретных
моментах и только посредством их, ибо они мертвы, будучи
отъяты от нее; она есть вся душа, которая жива, поскольку живо тело,
и которая делает тело живым, которая без тела столь же
нереальная абстракция, как тело без нее. Она есть организм, и организм
моральный; и она есть сознательная самореализация, ибо
моральный организм может сообщить себе реальность только посредством
воли своих обладающих самосознанием членов. Благая воля есть
самореализация всего тела, одна и та же воля живет жизнью и
действует через поступки каждого. Она есть самореализация
каждого из членов, так как только целое, которому он принадлежит,
наделяет его функцией, которая делает его самим собой; чтобы
быть собой нужно выйти за свои пределы, чтобы жить своей
жизнью, нужно жить не просто своей жизнью, но той, что не в
меньшей, но как раз напротив, в большей, в высшей степени выражает
его индивидуальность. Здесь, и прежде всего здесь, разрешаются
досаждавшие нас противоречия — здесь мы имеем
универсальное, которое может противопоставить нашим непостоянным
желаниям твердый и суровый императив, который, однако, не
рациональная форма, не имеющая ничего общего с реальностью,
но живая душа, пронизывающая все реально сущее и прочно
удерживающаяся в нем. Оно реально и реально для меня. Утверждая
вот это универсальное, я утверждаю самого себя, ибо я — не что
иное, как «биение сердца в его системе». И я реален в нем: я
отдаю ему себя, оно предоставляет возможность исполнить то, что
я должен: сполна реализовать идеал жизни, который
составляет мое счастье. В этой высшей идеи, которая превосходит «Я»,
198
Мое положение в обществе
но налична в нем здесь и сейчас, и есть посредством него, которая
постоянно утверждает себя, мы находим цель, самореализацию,
долг и счастье в одном — да, человек тогда обретает себя, когда
определяет свое положение в обществе, когда берет на себя
обязанности, связанные с этим положением, когда понимает, какую
функцию он выполняет как орган социального организма.
«Это все риторика, — скажут нам, — дурная метафизическая
фантазия, пересказ давно известной истории. Все это не
выдерживает логики факта. То, что государство прежде индивида, что
целое — нечто большее, чем сумма частей, — это иллюзия,
которая мучила мыслителей Греции. Но ее источник найден, обман
рассеян, и опровергнуть его не стоило труда. Семья, общество,
государство, и вообще всякое объединение людей, — в них нет
ничего реального, кроме самих индивидов. Сообщество создано
и создается индивидами. Они занимают в нем свое место и
входят друг с другом в определенные отношения. Индивиды
реальны через самих себя, а через них реальны и отношения. Индивиды
создают отношения, они реальны в них, а не через них, и
индивиды ничуть не потеряют реальности, если выйдут из отношений.
Целое — всего лишь сумма частей, а части столь же реальны вне
целого, сколь и внутри него. Неужели вы действительно
предполагаете, что индивид исчезнет, если уничтожить все формы
сообщества? Неужели вы думаете, что все реальное можно выразить
через «универсальное» и «организм»? То, что является частью
организма, остается собой и вне его, а универсальное — имя,
которому соответствует реальный факт — конкретные личности,
состоящие в таких-то и таких-то отношениях. Коротко говоря,
сообщество — сумма частей, она создается посредством сложения;
и части эти столь же реальны до прибавления, как и после него;
отношения, в которых они состоят, не делают их тем, что они суть,
но для их бытия эти отношения случайны, несущественны; и, что
касается целого, то оно, если не служит для обозначения
индивидов, которые его составляют, вообще не значит ничего реального.
Это не метафизические фантазии. Это факты и факты, которые
можно верифицировать».
199
Эссе V
Факты ли это? Факты должны объяснять факты; а значит,
верное объяснение должен дать так называемый «индивидуализм»
(ибо для него существует только одна реальность — «индивид»,
которого он понимает как ту или иную конкретную вещь). Какие
же факты нужно объяснить? — сообщества людей, семью,
общество и государство. Индивидуализм давно уже все это объяснил:
они суть «собрания», скрепленные силой, обманом или договором.
Индивидуализм предлагает довольствоваться историей
возникновения. Удовлетворительно ли такое объяснение и доказуемо ли оно?
Определение через генезис звучит смело после того, как
историческая наука отвергла индивидуалистское объяснение
происхождение общества и показала его полную несостоятельность, и когда
повсюду на практике мы встречаем подтверждение тому, что
государство утверждает себя как власть, которая обладает, — а при
необходимости дает себе — право пользоваться собственностью
индивида и им самим, не беря в расчет пожелания последнего,
и которая, более того, может разрушить его жизнь через
наказание. Государство располагает также и другими видами власти,
которые в теории договора можно объяснить, только выдумав что-то
в высшей степени неправдоподобное. А между тем ни один
обыватель не поставит под сомнение собственную моральность. И
история и практика политической жизни не в состоянии
верифицировать то, что индивидуалист выставляет как «факт»; мы же найдем
еще меньше доказательств его теории, если обратимся к
исследованию феномена семьи.
Если же отбросить метафизику, то ни история
человеческого общества, ни его настоящее состояние не свидетельствуют как
о факте о том, что индивид — единственная реальность, а
сообщества — всего лишь собрания индивидов. «Это, — скажут
нам, — истина». Я полагаю, истина не как факт, а как метафизика;
и именно эта истина особенно распространена среди тех, кто
высмеивает метафизику и говорит большей частью о фактах. Ум таких
людей, — если в этом случае вообще уместно говорить об уме, —
нередко представляет собой комплекс метафизических догм. Они
ругают все метафизические системы, поскольку смутно понимают
200
Мое положение в обществе
слабость собственной; и апеллируют к фактам, поскольку чувствуют,
что, будучи во всеоружии, могут их не опасаться. Встречая на своем
пути простые реалии, такие как: стадная природа животного и
возможность того, что человек происходит от него, организация
ранних обществ, существующие в действительности сообщества и тот
факт, что члены этих сообществ выражают их характерные черты,
органическая структура этих сообществ и утверждение
высочайшей важности целого по сравнению с любым из членов, — они
вынуждены отступать под защиту метафизики. И что особенно
важно — их метафизика представляет собой простой догматизм. Она
надуманна и безосновательна. У нее нет права опровергать, ибо,
будучи утверждением, может претендовать только на
контрутверждение. А то, что кто-то утвердил, мы, в свою очередь, запросто
можем отрицать, — именно так мы и намерены поступить.
Безусловно, было бы желательно подробно обсудить, «что есть
индивид». Безусловно, было бы желательно, описав, что есть
индивид, показать, что «индивидуализм», сам того не понимая,
подменил реальность абстракцией. Но, если бы я и мог (а я не могу)
провести подобное исследование, оно все равно здесь не к месту;
да мне особенно и нечего добавить к тому, что я уже сказал и
чему уделил внимание.
Мы не станем вторгаться в вопросы метафизики, справиться
с которыми мы не в силах; просто ответим отрицанием на
метафизические утверждения «индивидуалиста»; и, обращаясь к
фактам, попытаемся показать, что они ведут нас в другом
направлении. Утверждению, что «индивидуальность» самости заключается
в том, что она исключает другие, мы противопоставляем (столь
же обоснованное) утверждение, что все это — вымысел. Мы
говорим, что индивид подобного рода существует только в теории;
и с опорой на факт постараемся показать, что на самом деле то,
что мы называем индивидом, является тем, что он есть, в силу
своей причастности сообществу и благодаря ему, и что сообщество,
таким образом, не просто название, но само есть нечто реальное,
и его можно толковать (если хотим держаться фактов) только как
одно во многом.
201
Эссе V
Чтобы ограничить сферу рассмотрения и говорить только о том,
что знаем, мы не станем ссылаться ни на жизнь животных, ни на
ранние общества, ни на ход истории, но обратимся к тому, что
человек представляет собой сегодня; обратимся к самим себе и
попытаемся всецело следовать тому, что говорит опыт.
Возьмем некого человека, например англичанина, таким,
каков он сейчас, и попытаемся показать, что, если отнять у него то,
что объединяет его с другими, лишить сходства с другими, он
перестанет быть англичанином и человеком вовсе; если взять его как
нечто само по себе, он уже не будет тем, что он есть. Безусловно,
я не хочу сказать, для него невозможно покинуть Англию, не
исчезнув с лица земли; не хочу я сказать и того, что он не выживет,
если погибнут все англичане. Я хочу сказать только: он
является тем, что он есть, поскольку он был рожден и получил
образование в социуме и поскольку является членом особенного
социального организма; что, если абстрагировать от него все то, что
тождественно в нем с другими, — остаток уже не будет ни
англичанином, ни человеком. Что это будет, я не знаю, но самого по себе
его не существовало прежде и нет сейчас. Предположив, что мир
отношений, в котором родился и воспитывался наш англичанин,
никогда не существовал, мы тем самым полагаем, что не существует
сама его сущность; убрав все это, мы убираем и его самого; а
следовательно, мы имеем дело уже не с индивидом, а с тем, кто ничем
не обязан сфере отношений, в которой оказался, с тем, чья
сущность определяется этими отношениями; с тем, кто, говоря
кратко, есть то, что он есть, коль скоро он есть то, чем также
являются и остальные.
Здесь нас прервут возражением: «Это невозможно, — скажут
нам, — должно быть, между ними есть что-то общее. Вы путаете
тождество и схожесть». В ответ скажу, что не путаю, а вот мой
весьма вероятный оппонент, весьма вероятно, не знает значения ни
первого слова, ни второго. Мы, однако, не станем выяснять их смысл,
ибо это вопрос метафизики, который для нас закрыт и выяснять
который нас не могут заставить. Не могут, поскольку в таком
случае нам снова придется иметь дело с чистой воды утверждением,
202
Мое положение в обществе
в основе которого лежит либо неведение, либо нежелание
относиться к предмету критически и которое, как следствие, не может
требовать ответа. Мы лишь намекнули на проблему и только
потому, что в последнее время она стала своего рода фетишом
«продвинутых мыслителей». Вот как они размышляют: вначале
делается допущение, что тождество и различие исключают друг друга;
и поскольку налицо различие, делается вывод, что тождества нет.
Отсюда сложность: ведь с древних времен известен и каждые день
находит себе подтверждение тот факт, что отрицание тождества
приводит к сильнейшему противоречию с повседневной
данностью и ведет к абсолютному скептицизму87; а потому, чтобы
избежать ловушки скептицизма и для сохранения веры в догматическое
утверждение об отсутствии тождества, вводится «похожесть» —
понятие, которое (я полагаю, мне не нужно говорить особо) не
исследовано и должным образом не определено, но тем лучше. Против
этих утверждений я выдвину другие: что тождество и различие,
схожесть и отличие предполагают друг друга и в своем значении
зависят друг от друга; что лишь различие — абсурд, равно как
лишь тождество; сходство и похожесть, строго говоря,
определяют не предмет, а созерцающего (сличающего, ver-gleichend)88; что
«действительно ли А похоже на В?» не означает «кажется ли, что
оно похоже?». Этот вопрос возможно понять как «будет ли оно
всем казаться похожим?», но в общем он означает «есть ли между
ними „объективное тождество"? Есть ли у обоих нечто, что
одинаково вне зависимости от того, видит ли это кто-то или нет?».
Речь не идет о «случайном сходстве»; никто не повесит человека
только за то, что он «в точности похож» на другого, или, по
крайней мере, никто не желает, чтобы так произошло. Это тот же
человек, а не похож на себя в большей или меньшей степени. Он
верит в то же, надеется на то же, преследует те же цели, испытывает
87 Даже у Милля (для сравнения) мы находим: «Если всякое общее понятие,
понимать не как „одно во многом", а как множество понятий, соответствующее
множеству вещей, к которым оно относится, то общепонятного языка вообще бы
не было». (Логика. I. 201, ed. VI <I. 199, ed. vii>).
88Сравнивающего (нем.). — Примеч. переводчика.
203
Эссе V
те же чувства, что и другие, что и сам когда-то, — и этим не
имеется в виду, что те или иные состояния или моменты невозможно
количественно разделить. Ощущения называются одними и
теми же, поскольку то, что ощущается, — то же самое, а не просто
нечто похожее. Коротко говоря, утверждение, будто
«одинаковость» — это, на самом деле, «похожесть», столь далеко от
истины, что высказывание о действительной и объективной
«схожести» двух вещей только тогда не ложно, когда имеется в виду, что
они «более или менее одинаковы». Но довольно
контрутверждений; вернемся к фактам.
«Индивид», человек, в чью сущность не вторгается общность
с другими, кто не включает отношения к другим в собственное
бытие, говорим мы, — вымысел, и нужно представить ее на суд факта.
Представим такого «индивида» ребенком, только что
появившимся на свет на земле Англии; думаю, нет необходимости
заглядывать еще раньше. Возьмем тот момент, когда его только отлучили
от матери и он занял место, свободное от других и исключающее
другие живые существа. В это время, я полагаю, ни образование,
ни обычай еще не вступили в права и не сумели приуменьшить его
«индивидуальность». Но можно ли считать его «индивидуумом»,
чье бытие не подразумевает отождествления с другими людьми?
Современная психологическая теория не позволяет этого
утверждать. Она говорит, используя тот или иной язык, что даже сейчас
сознание ребенка не «tabula rasa»89; что его натура скрыта, еще
не развилась, но она необходимо окажет огромное влияние на его
будущую индивидуальность. Что представляет собой эта
скрытая натура? Она исключительно только принадлежит ему? «Не
всецело, конечно», — будет ответ. Ребенок не берется из воздуха.
Он рождается от конкретных родителей в определенной семье,
и он несет в себе черты обоих родителей, как сказал бы скотовод,
их породу. Мы видим, что многие из родовых черт присутствуют
89Дословно — «чистая доска», у Локка — «чистый лист». Выражение
используется для обозначения состояния ума до опыта. Локк применяет это понятие
в полемике с теорией врожденных идей для доказательства чувственной
природы знания.
204
Мое положение в обществе
у ребенка в латентном виде (а полагаем, что их на самом деле
больше, чем мы можем видеть) и при определенных (возможных или
невозможных) условиях они проявятся. Что касается вопроса о
наследовании умственных способностей, то здесь современная наука
и опытное мнение людей, не имеющих специального образования,
как мне видится, всецело поддерживают друг друга, так что нет
необходимости подробно говорить на эту тему. Но если
умственные и физические способности действительно переходят от
родителей к детям, то не очевидно ли —- хотелось бы спросить, — что
у ребенка они те же, что у отца и матери, те же, что у его братьев
и сестер? И если есть возражения против слов «те же», я
предлагаю поразмыслить над следующим. Спроси я о двух собаках,
родственных по крови: «Одно ли у них происхождение и одна ли
порода?», и получи в ответ: «Нет, но схожие», не придет ли мне на ум,
что, либо этот человек хочет меня обмануть, либо он «мыслитель»,
либо дурак?
Но ребенок не просто член семьи; рождаясь, он попадает и в
другие сферы, и он (не будем говорить об остальных
подчиненных целостностях, которые тем не менее зачастую определяют
его) рожден членом английской нации. Полагаю не вызовет
возражений, что ребенок одной национальности — вовсе не тоже
самое, что ребенок другой национальности; что у детей одного
народа есть определенное тождество, национальный тип, получивший
или не получивший развития. Этот тип может быть нелегко
установить, а бывает, и невозможно, но он все равно проявится в том
или ином виде. Если это факт, то следует заключить, что один
английский ребенок по некоторым моментам такой же, как и другой,
хотя сходство может пока не проявлять себя. Его существо есть
нечто общее, что он делит с другими; он не просто «индивид».
Мы видим, что ребенок родился в определенное время от
родителей, принадлежащих определенной национальности, а это
помещает его на определенную ступень культуры. Те, кто
хорошо разбираются в вопросе, считают, что цивилизованность
передается по наследству, хотя установить, до какой степени,
невозможно; что человек развивает склонности, которые скрыты
205
Эссе V
в нем с рождения; и что, даже если не касаться вопроса об
образовании, есть большая разница между тем, были ли предки
ребенка цивилизованы или дикие. Эти «цивилизационные
задатки», если можно так выразиться, составляют существо ребенка:
без них он сможет быть (если вообще сможет) собой лишь
частично; ими он обязан своим предкам, а его предки — обществу.
Они стали собой благодаря обществу, в котором жили.
Возможно, нам скажут в ответ: «Да, но они как индивиды стоят прежде
общества», — это утверждение, мягко выражаясь, рискованно
и необоснованно, ибо человек, насколько наука может
проследить его историю, социален; и, если верить гипотезе Дарвина
о развитии человека из социального животного, следует
признать, что человек всегда был только социален, что общество
никогда не состояло из индивидов. Даже если принять во внимание
(безосновательное) утверждение о первенстве индивида, это
ничего не меняет; ибо наши непосредственные предки, бесспорно,
были социальны; и вне зависимости от того, было ли общество
создано индивидами или нет, в случае наших предков, это
очевидно не так. Что бы там ни говорилось, но черты социальности
столь ярко отразились в них, что они, как члены организма,
приобрели связь с целым. Если в таком случае предположить, что
ребенок обладает, пока неявно или потенциально,
достижениями социальной жизни своего народа, то возможно ли отрицать
общий характер этого обладания? Можно ли утверждать, не она
делает всех людей одинаковыми? Можно ли говорить, что
индивид является вот этим индивидом в силу своей
исключительности, ведь мы показали, что, если отнять то, что он содержит в
себе, он лишится тех черт, которые делают его самим собой, и что,
если он, кроме того, действительно содержит в себе то, что
содержат другие, и таким образом, на самом деле (как избежать этого
следствия?) содержит в себе некоторым образом также и других,
равно как и они содержат его? Тогда каким словом назвать его
самого по себе? Признаюсь, что не знаю. Разве что теоретической
попыткой обособить то, что не может быть обособлено; а она
реализуема только в уме. То же, что есть на самом деле, а не только
206
Мое положение в обществе
в теории, можно описать в терминах спецификации и
партикуляризации общего, тождественного в различном, — того, без
чего «индивид» настолько отличен от того, что он есть, что
невозможно назвать его тем же самым.
Итак, вот родился ребенок; он родился не в пустыне, а в живом
мире, он вошел в целое, которое обладает подлинностью и
индивидуальностью, и стал частью системы, определенного строя,
который трудно воспринимать иначе, как организм, и который
даже мы в Англии уже начинаем так называть. И я боюсь, что у той
«индивидуальности» (своеобразности), которая появилась на свет
вместе с ним, мало шансов, и пока он, достигнув старости, не
станет «философом», надеяться ему не на что. Мы уяснили, что
ребенок унаследовал некоторые привычки или то, что со временем
проявит себя как таковые; и к тому же он ни на минуту не
остается один, на него постоянно оказывается давление; и влияние извне
куда более коварно, чем врожденная расположенность. Возможно
ли противостоять ему? Более того, кто, исключая «мыслителя»,
способен сожалеть, что не противостоял ей? И тем не менее ребенок
окружен нежной заботой, которая направляет его и навязывает ему
привычки, которые, увы, характеризуют не только его, и внушает
представление о всеобщих законах, которые «ледяными цепями»
сковывают его еще в колыбели. Как говорил поэт, он еще не
задумывался над собой; первые представления, которые он получает
о людях и вещах, сумбурны, он еще не умеет различать и не
отделяет их от ощущения собственного существования. Ощущая
потребность, которую не может понять, он плачет — глупо, но не
напрасно — и просит то, что ему может дать только другой; и грудь
матери, и приятное тепло, прикосновения и голос няни, — все это
сливается с чувством удовольствия и боли; он еще не искушен в
вопросах морали, чтобы уберечься от иллюзии и видеть в них
только средство к цели, которая представляет собой его обособленную
самость. Ибо он даже не думает о своей обособленной самости;
он растет со своим миром, его сознание ощущает и направляет
себя; и когда он сможет обособить себя от этого мира и познать
себя отдельно от него, к тому времени существование других уже
207
Эссе V
проникнет в его самость, станет частью его самосознания,
инфицирует и будет характеризовать. Все его существо заключает в себе
отношение к обществу. Он учится или, возможно, уже выучился
говорить и через речь входит во владение наследием своего
народа; наречие, которое он делает своим, — это язык его страны, тот
же (или должен быть таким же), каким пользуются другие люди,
и через него он постигает идеи и настроения всего народа (не
стану в это углубляться), которые несут на себе неизгладимый след
национального языка. Ребенок растет, и его жизнь, поначалу
состоящая из одного маленького мира, усваивая образцы и традиции,
расширяется и включает другие, высшие миры, и он, проходя
череду состояний, постигает то целое, в котором живет и в котором
жил. И что же он должен испытывать и развивать
«индивидуальность», самость, которая не такая же, как самости других? Где она?
Что она есть? Где ему искать ее? Его душа насыщена, наполнена,
она получила определение, уподобилась, обрела свое существо,
составила себя, она есть — одна жизнь с универсальной жизнью,
и если он восстанет против нее, то восстает против самого себя;
если отталкивает ее, порвет жизненно важные нити; обратив
оружие против ее, навредит самому себе. Он живет жизнью целого,
и это его жизнь, он проживает ее в себе, «он — биение сердца
целой системы, и сам — целая система».
«Ребенок, который по форме своего характера представляет
возможность морального индивида, есть нечто субъективное и
негативное; достижение зрелости означает для него потерю этой формы,
а образование — дисциплину и принуждение над ней.
Позитивная сторона и сущность состоит в том, что он вскормлен от
груди всеобщего этоса, живет в его безграничной интуиции, в
начале принимая его как нечто чуждое, а потом все больше и больше
понимает его и достигает всеобщего духа». Автор переходит к
существенно важному заключению о том, что добродетель «состоит
не в заботе о собственной, особенной и отдельной моральности,
но что к собственной позитивной моральности стремиться тщетно,
она вообще недостижима по своей природе; что единственно
верны в отношении моральности слова мудрейшего мужа древности,
208
Мое положение в обществе
что быть моральным — значит жить в согласии с моральной
традицией своей страны; а относительно образования единственно
правильным будет то, что Пифагор ответил тому, кто задал ему вопрос,
каким будет наилучшее образование для сына: «Если ты сделаешь
его гражданином общества с хорошими обычаями» *°.
Но это — забегая вперед. Пока что мы, я полагаю, не прибегая
к метафизике, убедились, что «индивид» вне общества —
абстракция. Он не нечто реальное, и следовательно, реализовать
«индивидуальность» невозможно, хотя вполне возможно желать. Мы
убедились, что я есть я потому, что живу одной жизнью с другими,
потому, что включаю в свою сущность отношение к ним,
отношения, сущие в социальном государстве. Если я хочу реализовать мое
истинное существо, я должен реализовать нечто, что превосходит
жизнь конкретного человека; поскольку мое истинное бытие
заключает в себе жизнь, которая не является жизнью какой-либо простой
партикулы и потому должна называться универсальной.
Что же тогда я должен реализовать? Мы сказали об этом,
описывая «мое положение и связанные с ним обязанности». Чтобы
понять, чем является человек (как мы убедились), нужно взять его
обособленным. Он — один из людей, он родился в семье, живет
в определенном обществе, в определенном государстве. Что ему
нужно делать, зависит от того, какое место он занимает, каковы его
функции, и все это определяется тем, какое положение он
занимает в социальном организме. Существуют ли такие организмы, в
которых он живет, и если да, то какова их природа? Вот мы достигли
того момента, когда для разрешения вопросов, которые мы
задаем, требуется законченная этическая система и которыми мы не
можем заниматься. Нам остается довольствоваться лишь
указанием на сущие факты: семья, затем серединное положение занимают
профессия человека и общество, и над ними всеми тяготеет более
обширная общность государства. Не затрагивая вопроса об
обществе, превосходящем государство, нужно сказать, что главную
роль в жизни человека играет то положение, которое он занимает
90 Hegel. Philosophische Abhandlungen. Werke I. P. 399-400 (1832).
209
Эссе V
в этой системе целых, составляющей государство, что она
определяет моральные обязанности человека, что отчасти законы и
институты, а больше дух этой системы определяют жизнь, которой
он живет и должен жить. То, что институты существуют
объективно, конечно, очевидный факт; и каждый день становится все
ясней, что эти институты естественны, и, более того, что они
моральны. Утверждение, гласящее, что общество создавалось через
присоединение единиц, которые исключают друг друга, — как
мы убедились, чистой воды вымысел; и, даже взяв такую общность
внутри государства, существование которой, как представляется,
всецело зависит от прихоти, например супружество91, — мы
обнаружим, что и здесь человек отказывается от себя, коль скоро
исключает других; он подводит себя под общность, которая
превосходит человека в его конкретности и порывы, принадлежащие
единичному существованию, и которая наполняет его
настолько, насколько он отдает себя ей. Коротко говоря, человек —
социальное существо; он реален постольку, поскольку социален
и может реализовать себя, только поскольку реализует, себя как
социальное. Лишь индивидуальное — теоретическое
заблуждение; и попытка реализовать его на практике обедняет и увечит
человеческую природу, индивидуализация ведет к бесплодию
или порождает монстров.
Давайте сопоставим все преимущества нашей точки зрения
с недостатками учения о «долге ради долга». Возражения, которые
стали фатальными для последней, можно свести к следующим: (1)
универсальное абстрактно. Ему не принадлежит и не соответствует
никакого содержания; и, как следствие, либо вообще ничто не
может быть предметом воли, либо то, что желается, желается не
ввиду универсального, но по прихоти; (2) универсальное
субъективно. Оно, конечно, выдает себя за объективное тем, что не зависит
от конкретного человека, но тем не менее нереально.
Универсальное предстает перед нами не как то, что есть на самом А^ле, но как
91 Супружество — договор, договор о выходе из сферы договора, а это
возможно только в силу того, что стороны, заключающие договор, уже за
пределами только договорной сферы, выше ее.
210
Мое положение в обществе
то, чем оно лишь должно быть в себе, как внутреннее
представление, понятие морального человека, которому, как можно, по
крайней мере, предположить, недостает сил, чтобы осуществить себя
и изменить мир. Да, самореализация, если она предполагает
волю, означает, что человек на самом А^ле полагает себя и
созерцает себя актуальным во внешнем существовании. Отсюда следует:
если он отождествляет себя с тем, чья определенность
существования не имеет характера необходимости, с тем, что не властвует над
внешним миром, — нельзя быть уверенным в том, что
самореализация состоится, поскольку может случиться так, что он
отождествит себя с некой целью, а она останется лишь внутренним, которое
не способно завершить себя, а потому не пригодно для реализации;
(3) универсальное не полностью исчерпывает самость. Как бы
человек ни старался жить добродетельно, как бы тверд ни был в
решении соединить свою волю с благой, ему никогда это не удавалось.
В нем всегда было нечто противоречащее благу. А оно, как мы
убедились, даже необходимо, поскольку моральность и есть
противоречие, заключает его в себе. Только тогда возможно обойтись без
предпосылки противоречия, когда добросовестность понимается
как простое тождество совести и самости (т. е., когда сознание
отношения индивидуальной самости к самости как благой самости
вырождается в сознание индивидуальной самостью себя как благой);
а этого недопустимо, если мы всерьез обеспокоены вопросами
морали. Таким образом, в человеке, не в меньшей степени, чем в
мире, всегда есть противоречие между «должно быть» и «есть»,
противоречие, устранение которого влечет конец моральности, ибо,
как мы видели, присуще ей. Человек не может в себе самом
реализовать себя как морального, ибо его чувственная природа,
сообразуясь с универсальным, будет препятствовать самореализации,
а значит, не только жестко подавлять самость, но и мешать
моральности, которая конституируется его отношением к
универсальному закону. Значит, человек не может достигнуть самореализации,
следуя морали чистого долга; потому, что (1) не может считать
свою субъективную самость реализованным моральным законом;
(2) не может считать объективный мир реализацией морального
211
Эссе V
закона; (3) вообще не может реализовать моральный закон,
поскольку тот по своему определению не связан с конкретным
содержанием, а следовательно, и с реальностью. Если задать
моральному закону содержание, то оно будет определяться не изнутри,
а предписываться извне и не будет собственно законом. Кратко
говоря, долг ради долга — неразрешимое противоречие, неизменное
«должно быть», которое, поскольку должно быть, никогда не есть;
и в котором, поскольку оно не есть, человек не может ни обрести
самореализацию, ни не найти удовлетворения.
Это серьезные недостатки; посмотрим, как они разрешаются
в учении о «моем положении и связанных с ним обязанностях».
Они преодолеваются тем, что: (1) универсальное конкретно, (2) оно
объективно, (3) оно полностью исчерпывает самость.
Универсальное конкретно, и тем не менее не определяется
прихотью. Начнем с последнего. Универсальное не определяется
прихотью, поскольку я, как любой другой человек, хотя до
определенной степени и волен выбирать, какую позицию занимать, все
же должен занимать некоторое положение и исполнять
обязанности, которые оно на меня налагает и которые не зависят от моего
мнения или моих предпочтений. Определенные обстоятельства,
определенное положение диктуют определенный образ
поведения. Позже мы вернемся к вопросу о том, как, например, я
могу знать, как правильно себя вести; сейчас же примем само собой
разумеющимся, что положение в обществе предписывает мне
определенные обязанности, и, хочу я этого или нет, но я должен их
исполнять. Далее, универсальное конкретно. Универсальное,
которое я должно реализовать, — не абстракция, а органическое целое;
сфера, в которой множество сфер подчинены одной, а им —
конкретные действия. Эта система реальна только в своих функциях
и живет только в жизненных процессах. Каждый орган работает
из расчета на весь организм в целом, а он — функционирует в
своих органах. И я — один из этих органов. Получается, что
универсальное, которое я должно реализовать, — система,
проникающая в жизнь каждого своего элемента и подчиняющая его: здесь
и сейчас, через мою жизнь она осуществляет вот эту конкретную
212
Мое положение в обществе
функцию, в другой момент — будет осуществлять другую, и я,
исполняя их посредством своей воли, реализую универсальное как
целое и себя в нем.
Универсальное «объективно»; а это значит, что оно не
противостоит безучастно внешнему миру, будучи лишь чем-то
«субъективным» лицом, к лицу с чем-то лишь «объективным». Если
понимать эти слова в обычном смысле, то универсальное и не только
нечто «субъективное», и не только нечто «объективное»; но
желание способно удовлетворить, как мы убедились, только
действительное тождество субъекта и объекта. У универсального есть
внутренняя сторона, но она не более чем внутреннее; она лишь одна
составляющая целого и неотделима от него, и ее невозможно
отделить от другой составляющей. Эту ошибку и совершает та мораль,
которая в своих рассуждениях ограничивается индивидуумом,
пытаясь разделить то, что неразделимо. Внутреннее — это,
безусловно, факт, и оно различимо в целом; но на деле оно — лишь элемент
целого, который нуждается в нем, чтобы быть, и неотделим от него.
Приведем пример. Мир морали, как мы сказали, — целое, и у него
две стороны. Есть внешняя сторона: системы и институты, от семьи
до нации; и ее можно назвать телом морального мира. Но, чтобы
тело не распалось на элементы, должна также быть и душа; всем
известно, что без духа институция мертва. В моральном
организме дух выражает воля органов, будучи волей целого, которая в
органах и посредством органов дает жизнь организму и исполняет
его функции; и которую (на это следует обратить внимание)
каждый орган также должен ощущать своей собственной, внутренней
и личной волей и знать ее как таковую. Вполне понятно, что
народ силен духом народа, и народ проникнут им, когда им
проникнут каждый член общества, когда каждый чувствует, что благо
народа — его личное дело, и всем сердцем отдастся этой идее. Дело
в том, что моральный мир возможен только тогда, когда является
предметом воли, а это значит — стать таковым для воли
конкретных людей; дело в том, что моральный мир не просто становится
содержанием воли этих людей, но в том, что они должны некоторым
образом знать о том, что желают его. Внутреннее морального
213
Эссе V
целого характеризуется глубинным осознанием стремления к
благу. Эту внутреннюю сторону можно назвать душой. Она — сфера
личной морали или морали в узком смысле, которая
понимается как сознание отношения самости к универсальной воле,
которую человек находит внутри себя, как знание о том, что «Я» едино
с универсальной волей или противоположено ей, что «Я»
исполнено сознанием долга или что «Я» дурно, и как желание быть тем или
другим. И не следует упускать из виду, что мир морали с
необходимостью предполагает эти две стороны; ни одна из них не может
без другой: моральные институты без личной моральности —
каркас, а личная моральность без института — нечто нереальное,
душа без тела.
И вот эта внутренняя, эта «субъективная», эта личная
сторона, это осознание субъектом отношения, в котором внутри него
самого конкретная воля состоит к воле целого, или (как верно
подмечено в учении «Долг ради долга») это сознание субъектом себя
как двух самостей является, как мы сказали, необходимым
условием моральности. У него много форм, его выражение разнится
от простого ощущения до явной рефлексии. Вдумчивый читатель
почувствует, что (вне зависимости от того, идет ли речь о всем
человечестве или о жизни кого-то конкретно) человек не рождается
со знанием, в чем суть блага и зла, хорошего и плохого самих по
себе или в строгом смысле92. Ребенка учат направлять волю на
универсальное и благое содержание, и он научается отождествлять
с ним свою волю так, что испытывает удовольствие, чувствуя, что
находится с ним в согласии, беспокойство и боль, когда его воля
не соответствует ему и он ощущает это несоответствие. Вот, где
начинается его личная моральность, и теперь можно перейти к
рассмотрению цели. Достаточно полно этот вопрос в том, что
касается формы, мы рассмотрели в Эссе IV. Цель — ясно осознать, что
в «Я» наличествуют два элемента, различные по бытию, но
которые «Я» ощущает как одно; эти два элемента: «Я» как воля этой
или той самости и, с другой стороны, «Я» как универсальная воля,
92 Об этом см. подробнее в Эссе VII.
214
Мое положение в обществе
т. е. воля, направленная к благу; и «Я» ощущает, что эта
последняя — истинная самость и желает, чтобы ей подчинилась и с ней
отождествилась другая самость; тогда «Я» постигнет
удовлетворение от внутренней реализации. Все это справедливо, пока
разговор идет о форме. Но учение «Долг ради долга» совершенно ничего
не сказало о таком важном предмете, как содержание
универсальной воли. Мы увидели, что для совершения действия воле
необходимо содержание, и вот мы готовы сказать, откуда оно
происходит. Универсальная сторона личной моральности, — если говорить
кратко, — рефлексия объективного мира морали в человека или
в самого себя. И в глубине души я представляю, что я поистине
есть то самое универсальное, которое дано мне извне, и которое
меня учили волить как собственную волю, и в котором я
обнаружил себя, достигнув зрелости. Именно его я должен буду
реализовать посредством своей воли, при необходимости против тех
ее склонностей, которые характеризуют меня как конкретного
человека. Итак, это внутреннее универсальное имеет то же
содержание, что и внешнее, ибо само есть внешнее универсальное, только
проявленное в другой сфере; оно — внутреннее внешнего. Там —
целостная система объективной воли, в которую входит мое
положение в обществе и которая, здесь и сейчас, через мою деятельность
реализует себя. Здесь — та же самая система, наличная во мне как
воля, которая превосходит мою собственную и волит, чтобы мое
«Я», отождествившись с универсальной волей, совершило
определенный поступок. Это универсальное — не чистый лист, оно
представляет собой видение того, какое положение я должен занимать
в целом, с учетом привычных и необычных поступков. Идеальная
самость, к которой апеллирует моральный человек, — это
представление об идеальной воле, которая применительно к тому
положению в тех обстоятельствах, в которых он сейчас находится,
правильным образом партикуляризирует общие законы, которые
согласуются с основными процессами и системой сфер
морального организма. Таково ее содержание, и поэтому, как мы видим, она
конкретна и наполнена, и поэтому также (что равно важно) она
не лишь «субъективна».
215
Эссе V
Если бы универсальная составляющая внутренней стороны
морального целого не была наполнена содержанием
объективной воли, партикуляризирующей себя в определенных
функциях, то было бы невозможно истинное тождество субъекта и
объекта, не было бы причины, почему то, что морально, необходимо
должно быть реальным, и нам не удалось бы избежать
практического постулата, который — как мы видели — стойко
противоречит практике. Но если — в чем мы убедились — внутреннее
универсального — это его внешнее, рефлектированное в нас, или (ибо
мы не можем отделить его от себя) в себя в нас; если объективная
воля морального организма реальна только в воле своих органов
и если, будучи моральны, мы волим самих себя как эту волю, а она
волит себя в нас, — тогда следует думать, что внутреннее этого
универсального — воля целого, которая сознает и волит себя в нас,
несмотря на возможное и действительное сопротивление ложной
самости, выражающей личные интересы. Если это так, то, когда
имеет место проявление моральной воли, — это воля
объективного мира волит саму себя, чем вводит и себя, и нас в собственное
царство — мир моральной воли. Таким образом, мы убедились,
что предположение целостности нравственных принципов ведет
к тому, что воля внутренней стороны, покуда она моральна,
является той же, что и воля внешней стороны, и они суть одно, и
разорвать их невозможно, ipso facto не уничтожив то единство, в
котором и состоит моральность. Моральность заключается в воле быть
тем, кем я являюсь в обществе, и исполнять обязанности, которые
накладывает на меня это положение; это значит желать, чтобы
моральная система истинным образом партикуляризировалась
применительно к конкретному случаю; с другой же стороны, в этом
акте проявляется воля моральной системы партикуляризировать
себя в определенном социальном положении и конкретных
обязанностях, т. е. в моих поступках и посредством моей воли.
Другими словами, моя моральная самость не только моя; она не есть
внутреннее, которое принадлежит только мне; и более того, вообще
не является только внутренним, но она — душа, которая
одухотворяет тело и живет в нем, и не была бы душой, если бы не располагала
216
Мое положение в обществе
телом и своим телом. Организм, существующий объективно,
систематизированное моральное целое, — такова реальность моральной
воли; обязанности, — с внутренней стороны, — которые на меня
налагаются, соответствуют — с внешней стороны — определенным
функциям, которые я исполняю. И это не предустановленная
гармония и не допущение равновесия сторон, так как моральное
целое — тождество; мой личный выбор, поскольку я морален, — лишь
форма, в которой я передаю себя воле морального организма и
отождествляюсь с ней, а она, действуя, реализует и себя, и меня. Таким
образом, мы видим: не следует навязывать мятежному миру то, я
что должен делать сам; я должен занять свое место — то место,
которое ждет, чтобы я его занял; я должен поставить личные
стремления на службу моральному целому, подчинить ему свою жизнь
и позволить его душе проявляться во мне, и тогда она посредством
меня переведет и себя, и меня вовне, в единую реальность, которая
принадлежит равно и мне, и ей.
И вот мы подошли к третьему преимуществу учения о «моем
положении в обществе и связанных с ним обязанностях».
Универсальное, которое, как мы убедились, конкретно и реализует себя,
идет дальше. Оно устраняет противоречие между долгом и
«эмпирической самостью»; когда оно реализует себя, я перестаю быть
чем-то внешним и нереализованным.
Следуя принципу «Долг ради долга», мы никак не
могли достигнуть цели, а потому и удовлетворения. Нам мешала
предпосылка антитезы чувственной самости, с одной стороны,
и не-чувственного морального идеала с другой — предпосылка
непреодолимого противоречия, которое ведет к тому, что человек
либо постоянно обманывает самого себя, либо приходит к
тягостному признанию, что он не тот, кем, как велит сердце, должен быть,
что он никогда не сможет стать таким. Мы увидели, что долг в
таком случае — процесс, не имеющий конца, нескончаемое «еще
не»; и постоянное «нет» и вечное «должен» или твердое «должен»
и нескончаемое «нет».
И снова на выручку приходит учение о «положении и
обязанностях». Оно говорит о такой реализации в морали, при которой
217
Эссе V
в мире не только есть то, что должно быть, но и я есть то, чем
должен быть, и поэтому обретаю удовлетворение. В противном
случае, всякий раз видя довольного и счастливого обывателя, нам
следовало бы обвинять его в имморальности, мы же так не поступаем,
а говорим: он мог бы быть лучше, но не: он не плох, или: следует
считать, что дурной человек. Почему так? Поскольку описываемое
нами учение говорит, что следует отождествлять себя и других с
занимаемым в обществе положением; полагать его благом и через
него считать себя или других также благими. Оно учит: тот, кто
делает свое дело, благ, даже несмотря на совершаемые ошибки, если
только они не мешают ему исполнять свои обязанности. Оно учит,
что веление сердца — пустая абстракция; что человек не должен
задумываться об этом, не должен заглядывать в себя, но за
работой или в обычной жизни задавать себе вопрос: «Исполняю ли я
свое предназначение?» Исполнить можно, если захотеть: то, что
человек должен делать, не превосходит его возможностей, нужно
просто делать; мой долг — это мое право. С одной стороны,
невозможно быть лучше, чем это возможно; с другой — найдя свое
место в мире, я не могу испытывать недовольства. Здесь нас могут
неправильно понять; мы не хотим сказать, что исчезают ложная
самость, противные благой воле привычки и желания. Да, они
отрицаются, но полностью не подавлены, — это невозможно.
Следовательно, нельзя утверждать, будто кому-то удалось в полной мере
отдать себя делу; нельзя и утверждать, что кто-то не может лучше
исполнять свои функции, ибо все способны и все должны к этому
стремиться. Для морали это факт, и у нас нет желания ни
отрицать его, ни замолчать.
Как же исчезает противоположность? Она исчезает, когда я
отождествляю себя с благой самостью и реализую ее, когда
отказываюсь отождествлять себя с дурной волей, со склонностями
моей собственной самости. Я, будучи членом морального
организма, един с благой волей, а потому должен считать реальной свою
самость и не должен считать таковой ложную самость. Ее
нельзя атрибутировать мне как члену организма. Ему удалось
отчасти устранить ложные проявления в тех сторонах моей самости,
218
Мое положение в обществе
которая ему не принадлежит; в той же, что подчинена
моральному организму, они в силу противоречивости полностью
подавлены и не обладают реальностью. Следовательно, ложная самость,
не существуя для организма, не существует и для меня как его
члена; а я полагаю, что реален только как член морального
организма. И дело здесь не в вере, ибо мы не только верим, что
моральный мир, и мы в нем и через него выстоим, несмотря на все наши
ошибки, но убеждаемся в том на опыте. А вот в том, что мы не
только полагаем себя, но и желаем быть органами благого
целого и в силу этой причастности — благими, есть что-то от веры.
Более того, сознавая, что обладаем реальностью, только будучи
членами системы, и не иначе, мы все более и более
отождествляем себя с системой; стремимся быть лучше, а значит, —
поскольку видим, что реально лишь благо и ничто, кроме него, — более
реальными.
Или иначе: я получал образование, и моя самость через
привыкание становилась одним с благой самостью; потом я, свободно
приняв выпавшую мне долю, сознательно посвятил себя благу
настолько, что, даже несмотря на сохранившиеся и даже вновь
появляющиеся дурные привычки, не мог не сознавать, что я —
действительность благой воли. Она выражает мою сущность, мои изъяны
в ней не существуют и на деле не имеют значения. Благая воля
реализует себя в мире посредством несовершенных инструментов,
она реализует себя в них и несмотря на них. Работа выполнена, и,
пока я желаю делать и делаю (поскольку делаю) свое дело, у
меня есть ощущение, что, исполняя свою функцию, я являюсь частью
морального организма и промахи, незначительные с точки зрения
моего положения, не значимы и для меня. Я и не должен думать
о велениях сердца, разве только для того, чтобы определить, мое
ли то, чем я занимаюсь, и принадлежит ли оно миру морали; и,
убедившись, что оно таково, достигаю сознания, что служу
причиной и средством, через которые благо является абсолютной
реальностью и что оно служит причиной и средством, через которые
абсолютной реальностью являюсь я сам, и в этой мысли я нахожу
удовлетворение и не имею права чувствовать обратное.
219
Эссе V
Сознание индивидом самого себя неотделимо от знания себя
как органа целого; все другие определения постепенно отходят
на задний план, и со временем он если и задумывается над ними,
то не относит к себе, а полагает чем-то ненужным. Ибо теперь его
природа неотличима от «искусственной самости». Существующая
моральная система для него уже не объективная институция; его
отношение к ней «слишком интимное даже для веры», поскольку
вера подразумевает определенного рода разделение. Мир
морали — это не какой-то другой мир, невидимый, в который можно
только верить; индивид ощущает себя в нем, а его в себе; одним
словом, его само-сознание — это само-сознание целого и его
воля — воля, которая видит в нем свое завершение; она —
свободная воля, которая знает, что она свободна, и как таковая
созерцает свою реализацию и более чем полна.
Человек, не искушенный в теоретических изысканиях (если
только он не имморален), живет в согласии с реальностью; и, вставший
в той или иной степени на эту точку зрения, все больше и больше
сообразуется с миром и жизнью, и теории «передовых
мыслителей» все чаще и чаще кажутся ему абстрактными, неубедительными
и призрачными. Он знает, что зло не может его сломить, поскольку
разлагающему действию дурного противостоит мощь жизни,
которая всегда побеждает. Если его огорчают глупые идеи, витающие
в воздухе, он тешит себя тем, что они суть порождение мысли, и
едва ли затронут его сердце, если вообще реальны; тем, что ни
доктринер, ни знахарь, как и прежде, не могут держать оборону и что
даже это происходит потому, что так и должно быть. Он видит
истинную ценность государства (которую полагает не в принуждении
или договоре, но в том, что оно является моральным организмом,
сущим тождеством власти и права), которую другие не знают или
отрицают, которую высмеивают или презирают, и он видит, что
всяким днем своей жизни государство опровергает все другие
истолкования, и на практике имеет дело с моральным одобрением
всех тех вещей, которые едва ли кто осмелится открыто оправдать.
Он видит, что инстинкт надежнее и сильнее, чем так называемые
«принципы». Приходит несчастье, и он видит, что так называемые
220
Мое положение в обществе
«права» осмеяны, «свобода», волеизъявление растоптаны,
попрана ценность личности, а теории рвутся, как паутинки. И он
понимает, что — как это было и раньше — до тех пор народным духом,
преисполненным высоких чувств, полно сердце каждого
гражданина, пока безопасность и честь всего народа он ценит выше
своих, пока живым позор и печаль страны страшнее собственных
потерь, а те, кто ради нее сходит в братские могилы, не боятся смерти.
И он знает, что уж точно сильнее смерти — ненависть и любовь,
ненависть во имя любви, и любовь, которая не страшится смерти, ибо
это уже смерть — к жизни, которая, как учат философы, является
жизнью в истинном смысле.
Да, государство не агрегат, оно живет; это не масса и не
машина; и поэт, воспевающий душу народа, не просто несет вздор.
Оно — объективный дух, который субъективируется в гражданах
и сознает себя в них: он ощущает себя и познает себя в сердце
каждого. Он говорит языком команд и дает возможность их исполнить,
и в актах повиновения обретает и дарует индивидуальную жизнь,
удовлетворение и счастье.
Индивид реализуется, прежде всего, в сообществе. Здесь он -
воплощение красоты, благости и истины: истины — поскольку
соотносится со своим универсальным понятием; красоты — потому
что реализует его в единственной форме для чувств или
воображения; благости — поскольку истину выражает его собственная
воля, которая является волей универсального.
«Царство нравственности... есть не что иное, как абсолютное
духовное единство сущности индивидов в их самостоятельной
действительности... Эта нравственная субстанция, взятая в абстракции
всеобщности, есть лишь мысленный закон; но столь же
непосредственно она есть действительное самосознание, или: она есть
нравы. Единичное сознание, наоборот, есть только «это» сущее «одно»,
так как оно сознает всеобщее сознание в своей единичности как свое
бытие, так как его действование и наличное бытие есть общие
нравы... они [индивиды] сознают, что они суть эти единичные
самостоятельные сущности благодаря тому, что они жертвуют своей
единичностью, и эта всеобщая субстанция есть их душа и сущность,
221
Эссе V
подобно тому, как это всеобщее, в свою очередь, есть действование
их как отдельных лиц или ими созданное произведение.
Чисто единичные действия и поведение индивида связаны
с потребностями, которые имеются у него как у природного
существа, т. е. как у сущей единичности. То обстоятельство, что
даже эти его самые обычные функции не уничтожаются, а обладают
действительностью, происходит благодаря всеобщей
сохраняющейся среде, благодаря мощи всего народа. Но индивид имеет
во всеобщей субстанции не только эту форму устойчивости своего
действования вообще, но в такой же мере и свое содержание; то,
что он делает, есть всеобщее мастерство и нравы всех. Это
содержание, поскольку оно полностью распадается на единицы, в
своей действительности вплетено в действование всех. Труд
индивида, направленный на удовлетворение его потребностей, в такой
же мере есть удовлетворение потребностей других, как и своих
собственных, и удовлетворения своих потребностей он достигает
лишь благодаря труду других. Как отдельное лицо в своей
единичной работе бессознательно уже выполняет некоторую общую
работу, так выполняет оно и общую работу, в свою очередь, как
свой сознательный предмет; целое становится как целое его
произведением, для которого оно жертвует собою, и именно
поэтому получает от него обратно себя самого. Здесь нет ничего, что
не было бы взаимным, ничего, в чем самостоятельность
индивида, растворяя свое для-себя-бытие, подвергая негации самое
себя, не сообщала бы себе своего положительного значения,
состоящего том, чтобы быть для себя. Это единство бытия для другого,
или превращения себя в вещь, и для-себя-бытия, эта всеобщая
субстанция говорит своим всеобщим языком в нравах и законах
народа; но эта сущая неизменная сущность есть не что иное, как
выражение самой единичной индивидуальности, которая
кажется противоположной этой субстанции; законы выражают то, что
есть и что делает каждое отдельное лицо; индивид познает эту
субстанцию не только как свою всеобщую предметную вещность,
но в равной мере и себя в ней или в разъединенном виде в своей
собственной индивидуальности и в каждом из своих сограждан.
222
Мое положение в обществе
Поэтому во всеобщем духе каждый обладает только
достоверностью себя самого, состоящей в том, что он в сущей
действительности ничего не находит, кроме себя самого; о других он знает так
же достоверно, как о самом себе. Я созерцаю во всех, что для
себя самих они суть лишь такие же самостоятельные сущности, как
и я; я созерцаю в них свободное единство с другими так, что само
это единство есть как благодаря мне, так и благодаря другим. Я
их созерцаю в качестве себя, себя — как их»93.
«В свободном народе поэтому разум поистине претворен
в действительность; разум есть наличествующий живой дух,
в котором индивид находит не только высказанным и имеющим
налицо в качестве вещности свое определение, т. е. свою всеобщую
и единичную сущность, но он сам есть эта сущность и он также
93 Позвольте мне проиллюстрировать сказанное цитатой из великого поэта:
Двое любящих их было,
Но была в них жизнь одна —
В двух, но не разделена:
Так любовь число убила.
Сердца два слились так тесно,
Что просвет неуловим
Между ней и между ним
В их гармонии чудесной.
Так голубка воспылала,
Что могла по праву сметь
Вместе с Фениксом сгореть.
«Я» и «ты» для них совпало.
И смешался ум в понятьях:
Как же два с лицом одним —
«Я», но с именем двойным?
Что ж, одним, двумя ли звать их?
Разум полон стал смущеньем:
Разное слилось в одно,
«Это» с «тем» совмещено
Чудодейственным смешением.
Можно просто подивиться,
Что слились так мирно два;
И не ум, любовь права,
Если два могли так слиться.
Шекспир В. Феникс и голубка / Пер. В. С. Давиденковой-Голубевой. —
Примеч. переводчика.
223
Эссе V
достиг своего определения. Мудрейшие люди древности поэтому
решили, что мудрость и добродетель состоят в том, чтобы жить
согласно нравам своего народа»94.
Что, ж примем тогда ту точку зрения, которая полагает, что
сообщество — реально существующий моральный организм,
который в своих членах знает и волит себя, точку зрения, согласно
которой реальность индивида обусловлена только присутствием
универсальной самости в нем и его в ней; — и это позволит нам
разрешить большую часть, если не все, трудности, с которыми
встретились ранее. И нет нужды в особого рода исследованиях,
что такое моральность, поскольку она всюду вокруг нас, и при
необходимости она предстает перед нами в форме категорического
императива, хотя в то же время окружает нас атмосферой любви.
Вера в этом реальном моральном организме — единственное
решение этических проблем. Она разрушает противоположность
между деспотизмом и индивидуализмом: отрицая, сохраняет
их истину. Истина индивидуализма необходима поскольку,
если каждый член государства не живет полноценной жизнью
и не осознает себя, костенеет все государство в целом. Истина
деспотизма необходима, поскольку, если индивиду не удается
реализовать целое в себе и посредством себя, ему не удается и достичь
своей индивидуальности. Как правило, наилучшие сообщества — те,
в которые входят лучшие люди, а лучшие люди — те, кто являются
членами наилучших сообществ. Круг в определении, но это круг
не порочный. Две проблемы добродетельного человека и лучшего
государства — две стороны, два различных аспекта одной и той
же проблемы: как реализовать в человеческой природе совершенное
единство гомогенности и спецификации; и поскольку мы видим,
что обе стороны не существуют одна без другой, мы понимаем,
что (говоря в целом) благосостояние государства и благосостояние
индивидов — вопросы, разделять которые ошибочно и губительно.
Моральность человека и институты, политические и социальные,
94Цит. по: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. С. 188-190. -
Примеч. переводчика.
224
Мое положение в обществе
не могут существовать раздельно, и (в целом) чем лучше одно,
тем лучше другое. Сообщество морально, потому как реализует
моральность личности; личность моральна в силу того, что реализует
моральное целое и настолько, насколько преуспевает в этом.
Таким образом мы отчасти ответили на жалобы тех, кто
говорит, будто человеческая природа приходит в упадок. Чем сложнее
организм (говорят нам), тем более специфицированы его функции,
а следовательно, более узконаправленны. Человек становится
машиной или частью машины; и, хотя мир растет, «индивид чахнет».
На это мы должны сперва заметить, что если тем самым имеется
в виду, что чем более централизована система, тем более
ограниченной и однообразной является жизнь ее членов, то это — весьма
спорное утверждение. Если предположить, что имеется в виду,
будто жизнь человека можно без ущерба для жизни всего целого
изложить в чем-то наподобие «личного дела», — это даже еще более
спорно. Если же, имеется в виду, что в ряде случаев процесс
спецификации протекает односторонне и, хотя он непосредственно
ведет к усилению конкретной функции, в целом преуменьшает
жизненные силы тела, — то, я полагаю, это справедливо, но, если нам
внушают мысль, будто так должно происходить всякий раз, — это
уже вызывает сомнения. Однако недовольство нашего противника
коренится в неверном понимании, о котором мы кратко
упоминали выше95. Моральный организм — это не то же самое, что
живой организм. Члены живого организма (тут я не говорю ничего
нового) не сознают себя как таковых, в то время как в моральном
организме — сознают и, как следствие, знают целое в себе.
Узконаправленная деятельность, предписанная извне функция не
исчерпывают человека. Он живет жизнью, которая скрыта от наших
глаз; и никакой долг не ничтожен до такой степени, чтобы не быть
ее реализаций и сознаваться как таковой. Внешняя работа, хотя
она видна, не значима в той мере, в какой дух значим, дух, в
котором она производится. Моя жизнь не определяется ни
количеством стремлений, ни тем местом, которое я занимаю среди других
95 См. Эссе И. — Примеч. переводчика.
225
Эссе V
людей; но только полнотой всей жизни, которую я сознаю своей.
Правда, теперь мало что зависит от каждого из нас как
отдельного человека; но неправда, что таким образом умаляется наша
индивидуальность, что тем самым мы менее полны.
Рассмотрим теперь предложенную нами точку зрения в
отношении к некоторым антагонистическим идеям; и, прежде всего,
ввиду распространенного заблуждения, что есть некий
«правильный сам по себе» образ действий, т. е. что либо должно
существовать некое абсолютное правило моральности, одно для всех
людей без различия времени и места, либо мораль «относительна»,
а следовательно, не является моралью. Начнем с замечания, что
нет разработанного кодекса или свода норм того, что правильно.
Не вызывает сомнения, что мораль одной эпохи отличается от
морали другой эпохи, что тот, кого считали хорошим в одном
возрасте, может потом снискать иную славу, а то, что мы считаем
правильным, в другой стране может быть ничтожным и низменным,
и то, что неверно для нас, там может оказаться непременным для
исполнения. Это очевидный факт, и отрицать его можно только
в угоду преданного вывода. Причиной служит убежденность в том,
что этот факт угрожает морали. Если то, что верно здесь, неверно
в другом месте, тогда моральность (а таково ее понятие)
случайна и условна, а значит, ее нет. Но согласно учению о «положении
и обязанностях», если нравы не разнятся, то и морали быть не
может; от морали, которая не относительна, нет толку, я должен
стремиться к чему-то «более относительному».
Позвольте объяснить. Мы считаем, что человек — φύσε ι πολιτικός96,
что вне сообщества он - θεός ή θήριον97, не человек вовсе. С другой
стороны, мы полагаем, что истинная природа человека — единство
гомогенности и спецификации — осуществляется в истории; иначе:
мы верим в эволюцию. Процесс эволюции — очеловечивание
животного начала человеческой природы, которое идет по пути
осуществления истинной идеи человека; иными словами, путем реализации
96Существо общественное по природе (греч.). — Примеч. переводчика.
97 Либо бог, либо дикое животное (греч.). — Примеч. переводчика.
226
Мое положение в обществе
человека как бесконечного целого98. Достичь реализации индивид
может, только подчинив свою жизнь высшей жизни, постепенное
развитие которой проходит через ряд ступеней. «Человечность»
берет начало из животной природы и достигает развития через
постепенные процессы спецификации и систематизации, — никакие
иные в том мире, который нам известен, не возможны.
Представление о том, что моральные представления в готовом виде нисходят
человеку с небес, противоречит всем известным фактам. Низойди
они с небес, то остались бы неизвестными; поскольку мы уж точно
не могли бы их воспринять, и, что еще менее вероятно, —
применить. Какой период ни возьми, человеку, чтобы обладать знанием
большего, чем он сам произвел, нужно превосходить себя; ибо
человек — ничто, если он не сын своего времени; и реализовать себя
он должен как продукт эпохи, и только так.
Моральность «относительна», но тем не менее реальна. Мир
на каждой ступени своего развития морален в определенной мере.
Исполненная воля прошлого и настоящего объективно моральна,
в ней выражена высшая самость, которая осуществила себя через
бесконечные страдания, пот и кровь поколений, и она дарована
мне по милости, в любви и вере, как священное обязательство. Она
дана мне как истина меня самого и как сила закона, который
сильнее и выше любого моего каприза и мнения.
В эволюции такого рода нет ни случайности, ни враждебной
необходимости, ибо она — процесс самореализации, в которой
и то и другое постепенно растворяются. Но, если понимать
термин «эволюция» иначе, нельзя не задаться вопросом: так ли это
и есть ли смысл в учении о «моем положении»?
В принципе, смысл есть, но не в той трактовке, которую мы
предложили. Ибо, если наши слова о том, что мораль — результат
развития, значат только то, что произошло нечто отличное от всех
предыдущих событий, что человеческое общество претерпело
изменение и это, насколько нам известно, более или менее
определенные перемены; если в слове «прогресс» заключен смысл движения
98 См. Эссе II. — Примеч. переводчика.
227
Эссе V
вперед, которое вызвано случайным фактором и направляется в
неизвестном направлении, притом что под «высшим», коротко
говоря, понимается то, что есть, и ранее не было, и чем бы ни было
то, что еще будет, оно все равно будет шагом вперед; если,
кратко говоря, прогресс истории к определенной цели — всего лишь
иллюзия, и если ее этапы размечены случайными
достижениями, которые лишь время от времени возникают при том или ином
стечении обстоятельств, — в таком случае первое, что бросается
в глаза, — отогнав все мысли о телеологии, — «эволюция»99 и
«професс» не имеют смысла, и говорить о том, что человечество
реализует себя в истории и что я в этом процессе обнаруживаю
осуществленной свою самость, — значит вводить самого в
заблуждения фразами, которые ничего не значат.
99 В отношении «эволюции» могу к слову заметить, что, хотя само это
слово может означать все что угодно, тем не менее оно имеет и собственное
значение, которое тем, кто трепетно относится к словоупотреблению, открывает
простор не только для понимания как такового, для понимания того, что они захотят
в нем увидеть. Попытаться раскрыть все содержание этого слова — задача
важная, но можно ограничиться и частью. И прежде всего, «эволюция», «развитие»,
«прогресс» — все эти слова содержат смысл чего-то тождественного — субъекта
эволюции, который остается одним и тем же. Если то, что было в начале, не
является тем же самым, что и в конце, то эволюция — это слово, которое не
имеет значения. Нечто должно разворачивать себя, и это нечто, которое есть конец,
должно быть и началом. Оно должно быть тем, что движет себя к концу, и
должно быть концом, который есть «в силу» движения. Эволюция должна
разворачивать себя к самой себе, двигаться вперед, к цели, которая есть она сама, развитие
не осуществляет ничего иного, кроме того, что в нем уже содержится, и
осуществляет не в силу какого-то внешнего толчка, но в силу внутреннего мотива.
И далее, эволюция не происходит, если то, что в конце, отлично от того,
что было в начале. То, что развивается или разворачивает себя, и есть, и не есть.
Оно есть то, что развивается, и то, развилось в конце, или могло не быть
таковым. Оно не есть или могло не стать. Оно стало тем, что оно есть; и если это
абсурд, то абсурдна и эволюция.
Эволюция — противоречие; и, когда исчезает противоречие, прекращается
и эволюция. Прогресс — это противоречие, и он может быть таковым только в силу
свой противоречивости. Противоречие сохраняется, пока идет прогресс; как
только нечто стало, противоречие исчезает. Быть реализованным — значит остановить
прогресс. Достичь конца (в одном смысле) — значит потерять цель (в другом
смысле) и потому, что (в обоих смыслах) тогда все заканчивается. Ибо прогресс — это
противоречие, а решение противоречия всегда означает конец прогресса.
228
Мое положение в обществе
Что ж, мы вынуждены признать, такое понимание развития
серьезно навредило доктрине о «моем положении». Но
повергнуто ли оно? Нет; несмотря на мучительную рану, оно еще стоит
на ногах. Мы отвергли телеологию, но еще не приняли
индивидуализм. Мы все еще считаем, что универсальная самость — нечто
большее, чем собрание или идея, что она — реальность и что вне
ее «индивиды» — теоретические фикции. Пока еще силен факт,
что это одна-единственная самость партикуляризует себя в своих
многочисленных членах; то, что каждый может и должен
стремиться к самореализации посредством реально универсального, столь
же несомненно, сколь и невозможность достичь ее другим
способом. И вот, мы видим, что учение о «моем положении», конечно,
не празднует победу, но еще способно держать оборону.
Но если истинна более широкая трактовка учения, если
«эволюция» не просто вымученное слово; если движение к цели не
просто идея, а реальный факт, тогда история — осуществление
истинной природы человека, и она движется к завершению через
ступени несовершенства, а учение о «моем положении» —
единственное удовлетворительное истолкование нравов. Оно
говорит об (как мы убедились) «относительной» моральности и о
том, что она должна быть такой, поскольку сущность
реализации — поэтапная эволюция, а значит, предполагает
существование на неком этапе, который не является завершением; с другой
стороны, оно говорит, что моральность «абсолютна»,
поскольку на каждом этапе сущность человека уже реализована; хотя
и не совершенным образом: просто еще сохраняется различие
правильного самого по себе и моральности, и, достигнув высшей
ступени, мы можем видеть, что на низших истину не удалось
реализовать совершенным образом и что те черты, которые человек
имеет в настоящем, несмотря на то что они реализованы, не
соответствуют его истинной природе, какой она теперь нам
представляется. Однако на каждом этапе моральность, такая, какой ее
понимают, обоснована; и мы понимаем, что невозможно требовать
какого-то свода правил, вырванных из контекста того или иного
конкретного этапа.
229
Эссе V
Следующий вопрос: «Как я в конкретной ситуации узнаю, что
правильно и неправильно?» И опять мы сталкиваемся со
странным и ошибочным предубеждением. Считается, что ответ
должна дать моральная философия, — вывод напрашивается сам
собой: любая система, которая не ответит, бесполезна. Что ж,
начнем с того, что с долей уверенности заметим: невозможна, чтобы
моральная философия предписывала, как человек должен
поступать в конкретной ситуации, — философия вообще таким делом
не занимается. Единственное дело философии — это «понимание
того, что есть», и моральная философия должна толковать
существующие нравы, а не создавать и не направлять их. Это просто
смешно. В задачу философии не входит предвосхищение ни
открытий конкретных наук, ни прогресса истории; философия
религии не должна изобретать новую религию или проповедовать
уже известную, но лишь толковать религиозное сознание; а
эстетика не должна творить произведений искусства, но теоретически
осмыслять красоту, находимую в них; политическая философия
должна не в игры с государством играть, но толковать его; и этика
не должна создавать моральных законов, но обращаться к
современной моральности. Требовать от философии большего — себе
во вред; ибо этика не может создать новую мораль, и даже если
бы могла в той или иной мере кодифицировать то, что
существует (я не стану касаться этого вопроса), то все равно была бы не
способна подсказать выход из ситуации столкновения
обязанностей. Кто пойдет к ученому теологу, столкнувшись с трудностью
в религиозной практике; кто станет обращаться к эстетике как
системе знания, испытывая трудности овладения художественным
мастерством; к физиологу — за диагнозом и лечением; к
политологу — за решением политических вопросов; психологу, в какую
бы интригу ни оказался втянут? Несомненно, обратиться к
такого рода специалистам было бы лучше всего, но лишь если бы они
владели своим предметом не только в теории. Коротко говоря,
тот, кто полагает, что моральная философия должна снабжать нас
конкретными моральными предписаниями, путает науку с
искусством, и путает к тому же рефлективное и интуитивное суждение.
230
Мое положение в обществе
Не рефлексия говорит нам в конкретной ситуации, что
правильно, а что нет, а интуиция100.
Определить, что правильно в конкретной ситуации,
помогает то, что можно назвать непосредственным суждением или
интуитивным отнесением. Эти выражения, вероятно, не очень
ясны; сущность «интуитивного понимания», несомненно, сложна,
а особенно трудно уяснить себе специфику морального
суждения; я не говорю, что собираюсь внести ясность в эти вопросы,
я не думаю даже, что это возможно без детального погружения
в предмет. Я же хочу говорить о том, что кажется не столь
темным вопросом. Прежде всего читателю нужно признать, что
моральное суждение не дискурсивно; далее, что, несмотря на это,
оно имеет определенное основание; и, соединив эти два
положения, читатель увидит, что моральное суждение затрагивает
то, что мы могли бы назвать «интуитивным пониманием» или
каким-либо другим словом, которое содержало в себе и
удерживало эти два смысла.
Не думаю, что у кого-то возникает желание подробно
задерживаться на вопросе недискурсивного характера моральных
суждений. Если читатель отнесется к фактам со всей
внимательностью, то ему все станет понятно; если же нет, тогда я признаю,
что не могу доказать свое утверждение. Без сомнения, в
моральной философии возможна рефлексия к принципам, но полагаю,
не будет преувеличением сказать, что на деле человек никогда так
не поступает, за исключением того случая, когда возникает
трудность с их практическим применением. Возможно, прав тот, кто
думает, что обычное суждение «Это — правильно» или «Это —
неправильно» проистекает из предстающего перед умом правила
100 Я вынужден просить читателя не понять это так, будто речь идет об
«интуитивизме», или «органах Абсолюта», или о чем-то в этом роде. «Интуитивное»
употреблено здесь как противоположность «рефлективному» или
«дискурсивному», «интуиция» как противоположность «умозаключению» или «выводу». Если
читателю не нравится слово, его при желании можно заменить «восприятием»
или «чувством»; но в таком случае нужно помнить, что эти понятия не должны
исключать интеллект, понимание, суждения и выводы.
231
Эссе V
и подведения под него конкретного случая; и я не в силах
доказать, что обратное. Могу только предоставить читателю право
самому судить. В таких случаях мы говорим «вижу» или «чувствую»,
но не «заключаю». Мы высоко ценим советы тех, кто не может
обосновать свое суждение. Люди верят в то, что всегда
действовать по какой-то причине педантично и нелепо. Люди верят, что
в попытке обосновывать все свои действия кроется опасность. Тот,
кто «все обдумывает», может «сломаться», и это касается не
только женщин, но и мужчин. Первое впечатление — всегда самое
правильное101, и человек рискует, уже раз вступив в спор с
дьяволом. Я мог бы добавить (хотя и с некоторой опаской), что
женщина отличается моральным чувством102 и быстротой суждения,
хотя и не отличается (или может не отличаться) соответствующей
им логической способностью.
Приняв как само собой разумеющееся, что мы обычно
судим о нравах не посредством рефлексии или явного
умозаключения, нужно указать на оборотную сторону этого факта, а именно
на то, что эти суждения не просто отдельные впечатления,
связанные непосредственным и жизненно важным образом с
определенной системой, которая служит их основанием. Если же у читателя
возникают сомнения, мы снова должны просить его
остановиться и самому рассмотреть положение дел. Разные люди, живущие
в разные времена и в разных странах, сталкиваясь с новой ситуацией
в морали, судят или будут судить по-разному. Почему так? Когда
человек выносит суждение, перед ним, вероятно, не встает вопрос:
«почему?»; со стороны же, наверное, возможно сказать: «Я знаю,
почему А сказал так, аВ - так», потому что со стороны
возможно обнаружить некое общее правило или принцип, которым
руководствуется каждый из них, и в каждом — основание суждения.
101 Верным будет замечание, что второе впечатление — часто, но не всегда
результат неверного желания. Оно может возникать из противоречия, и тогда
теоретический вывод мало чем может помочь.
102 Хотя, наверное, не по всем вопросам. Несправедливо и то, что женщина
всегда руководствуется интуицией, а мужчина — рассуждением. Но вряд ли
можно усомниться в том, что это справедливо относительно практических вопросов.
232
Мое положение в обществе
Разные люди, входящие в одно и то же общество, могут судить по-
разному, и иногда мы знаем почему. Так происходит в силу того, что
А затрагивает одна сторона дела, а В — другая; и А (не
ориентируется на, но) руководствуется одним принципом, а В — другим.
Каждый подвел случай под общее понятие, но каждый по своим
соображениям, и один судил по справедливости, а другой — из
благодарности. Каждый обладает той моралью, которую он сам
создал, и согласно ей «видит», «чувствует» и «судит», хотя он и не
делает явных заключений.
Я полагаю, что это будет ясно читателю; что ж, нам
остается сказать, что моральное суждение и в том, что касается
восприятия, и в том, что касается ума (который, о чем не следует
забывать, только одна сторона рассмотрения), состоит в интуитивном
подведении.
На вопрос «Как я должен узнать, что правильно?» должен
последовать ответ: «Посредством αϊσθησις103, которое принадлежит
φρόνιμος104»; a φρόνιμος — это человек, который отождествил свою
волю с моральным духом сообщества, и судит в соответствии с ним.
Если ему предлагают совершить что-то имморальное, он тотчас
«чувствует» или «видит», что этот поступок не согласуется с
благой волей и отказывается совершать его, сказав: «Это нарушение
правила А, следовательно... и т. д. »; но, прежде всего, он сознает,
что ему «это не нравится»; и первое, что он делает, даже не
осознавая этого (по крайней мере, в большинстве случаев), —
определяет качество поступка, каковое качество есть общее качество.
Ему не нравятся действия только определенного рода, и он
инстинктивно отнес этот конкретный поступок к действиям такого
рода. Тем же самым способом он узнает, что правильно; человек
сталкивается с предложением вести себя тем или иным образом
и одобряет его, вынося интуитивное суждение, что этот образ
действий подпадает под определенный род, а этот род
выражает принцип благой воли.
103Чувства, понимания (греч.). — Примеч. переводчика.
104 Разумному человеку (греч.). — Примеч. переводчика.
233
Эссе V
Чтобы узнать, что правильно, нужно прежде, усвоив
предписания определенного образа действий, и в большей мере
через пример других, проникнуться духом общества, принять, что
оно в общем понимает под правильным и неправильны и как
судит о них в конкретных случаях и, восприняв это целое, дать ему
осуществиться в новой ситуаци, не прибегая при этом к
рефлексивной дедукции, а посредством не сознающего себя
интуитивного подведения105, дав самости осуществить себя в новой ситуации,
105Всякий поступок, конечно, имеет множество сторон, он включен во
многие отношения, и есть много точек зрения, «с которых его можно рассмотреть»
и характеризовать. Всегда есть несколько принципов, под которые его можно
подвести, и потому представить его дурным или благим не представляет
никакого труда. Всегда достаточно причин подвести его под критерии
благовидности; т. е. воровство — это акт бережливости, заботы о ком-то, протест против
плохих институтов, действие, единственно творящее справедливость и т. п.;
если все это неубедительно, то можно сказать, что воровство уберегло человека
от еще более тяжкого греха и тем самым принесло ему благо. Трусость —
благоразумие и долг; бесстрашие — безрассудство и порок; и так далее. Позор
тому казуисту, который не сумеет подобным образом оправдать или опорочить
какой-либо поступок. Казуистика грешит тем, что попытка вынести решение
по тому или иному моральному вопросу при помощи выводов
рефлективного ума тотчас вырождается в подбор причины, почему считать то, что вы
намереваетесь делать, благим. Вы располагаете всеми возможными
принципами, а ситуация, в которой вы находитесь, многогранна; что, существенно, какой
принцип нужно применить сейчас, — зависит только от вас и известно
одному Богу. Рассуждение не поможет определить, какая моральная позиция будет
здесь правильной. Как результат — имморальность и губительная казуистика.
(Та же казуистика, которую используют не как руководство при выборе
образа поведения, но как орудие теоретического исследования моральных
принципов; та казуистика, которую применяют для того, чтобы найти принцип для
факта, а не для того, чтобы вывести факт из принципа, — это, конечно, совсем
другое.) Наши моралисты не любят казуистику; но если представление о том,
что моральная философия должна говорить, как поступать, достаточно
обосновано, тогда, насколько я могу видеть, казуистика предполагается или
должна предполагаться.
Но суждение обыденной морали не дискурсивно. Оно не рассматривает
вопрос со всех точек зрения, заходя то слева, то справа, и не подводит случай под
один принцип. Когда обыденное сознание сталкивается с тем или иным случаем,
оно акцентируется на одном качестве этого поступка, не сознавая того, относит
его к одному принципу, в котором оно ощущает присутствие целого и
усматривает это целое в одной-единственной стороне поступка. Поскольку дело касается
234
Мое положение в обществе
когда ум занят не содержанием того, что необходимо реализовать,
а направлен на саму ситуацию, в которой чувствует и видит
именно целое, и всё, что оно видит, предстает в форме вот этого случая,
этого вопроса, этого примера. Наставление — это хорошо, но
пример лучше; поскольку пример позволяет через ряд конкретных
ситуаций постигнуть общий дух; позволяет актом воли и суждением
отождествить себя с основанием, каковое основание (следует
помнить об этом) осталось неявным106.
В этой связи можно было бы обсудить целый ряд
вопросов107, но мы не можем на них остановиться. Мы намеревались
вкратце описать общий характер морального суждения. То есть
(если говорить об уме) тот способ, каким оно обычно
образуется — и в общем не испытали особых затруднений. Человек
редко сомневается в том, что морально в том или ином конкретном
случае. Общество вынесло суждение об этой ситуации еще до
того, как он столкнулся с ней на практике; оно может сказать,
правильно мы поступаете или нет, едва вы успеете начать поступать
правильного и неправильного, оно не может воспринимать ничего, кроме этого
качества этого случая, и отказывается даже пытаться воспринять что-то еще.
Практическая мораль предполагает, что человек об одной голове, что у него есть одна
идея; она предполагает то, что в другой области назвали бы узостью. Скажи
человеку простых нравов, что на ситуацию, о которой он говорит, можно посмотреть
еще и с другой точки зрения, и он решит, что вы хотите развратить его. И если
вы станете развивать свою мысль, то для него это действительно будет
развращение. Совратить кого-либо с пути морали можно не только дурным примером, но
и — в том, что касается принципа, — сбить человека с толку, заставив посмотреть
на все моральные и имморальные акты с другой точки зрения, с которой
характер этих действий будет иным; и — касаясь личности — собственным влиянием
или примером других людей, извратить их интуитивное понимание.
106 Стоит в этой связи упомянуть о привычном действии, свойственном
некоторым людям. В минуты сомнения они представляют себе известную личность
с сильным характером и способную быстро выносить суждения, и
прикидывают, как бы она поступила. Эта привычка, без сомнения, и освобождает от
необходимости думать самому, и дает возможность поступать в духе другого человека
(насколько мы его знаем), т. е. на общем основании его поступков (конечно,
опираясь не только лишь на воспоминания о том, как он поступал в том или ином
случае, но делая заключения из этих воспоминаний).
107 Один из них: как происходит прогресс в морали?
235
Эссе V
так или иначе; но не способно к обобщению, бессильно перед
рефлексией, и путается в словах, когда пытается говорить
общо. Но я не утверждаю, что морально мыслящий человек
вообще не оказывается в ситуации сомнения; высока вероятность, что
такие случаи есть, хотя их и не так много, как некоторые
думают, и куда меньше, чем некоторым хотелось бы думать.
Огромное число таких случаев возникает из рефлексии, которая хочет
поступать, руководствуясь очевидным принципом, а потому
начинает абстрагировать и разделять, и так, абсолютизируя
относительное, приобретает односторонний характер. Однако
противоречия возникают и в других случаях; и тогда единственный
способ выйти из затруднения — прислушаться к своей интуиции
или интуиции других людей108.
Не нужно путать интуицию с тем, что иногда неверно
называют совестью. Интуиция не проявляет себя ни в мнении
человека, ни в прихоти. Она происходит из представлений о морали
всего сообщества и зависит от его одобрения. Если где и
реализуется идея универсальной моральности, превосходящей
личность, — так это здесь. Ибо последние судьи — φρόνιμοι — люди,
обладающие волей поступать правильно, не погруженные в
размышления и не забивающие голову теориями. Думать
самостоятельно нужно тогда, когда они оказываются бессильны помочь,
но это случается редко. В их единстве исчезает различие,
присущее людям, и они все выражают интуицию, которая не
принадлежит только тому или иному человеку или группе людей.
Совесть — это диаметрально противоположное. Она требует, чтобы
ты руководствовался только своим законом и был лучше
остальных. Интуиция же подсказывает, если бы ты стал таким же
хорошим, как все, то с большей вероятностью стал бы лучше, чем
ты есть, а, пожелав быть лучше всех, ты уже вступаешь на путь
имморальности.
108 По этому поводу я могу заметить (вслед за Эрдманом и, полагаю,
Платоном), что если каждый будет аккуратно исполнять свои обязанности и не будет
пытаться встать на чужую точку зрения, то столкновения обязанностей по
большей части удастся избежать.
236
Мое положение в обществе
Возможно, это «трудно признать»; но в меньшей степени тем,
кто хорошо знает жизнь; те же, кто не способен видеть мир таким,
каков он есть, в силу ли малого опыта и предвзятости мышления,
не могут допустить такой мысли. Это можно объяснить тем, что
люди перестают надеяться на лучшее — исчезает идеал
Dem Herrlichsten, was auch der Geist emphangen,
Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an109;
однако, вероятно, будет лучше сказать, что те, кто видел многое
(знает жизнь не только с одной стороны): старики, сменившие
несколько профессий и не ведшие имморальный образ жизни, —
знают, что в мире есть и много хорошего. Они терпимы к новым
теориям и к юношеской вере в то, что мир можно исправить,
перевернув с ног на голову, поскольку знают, что это в норме вещей
и даже от этого будет польза. Они нетерпимы только к тому, кто
прожил достаточно долго и должен был бы быть мудр настолько,
чтобы превзойти уверенность в том, что знает больше всех
остальных, — поскольку человеку пожившему нельзя простить
заносчивость, свойственную молодости.
Проясним сказанное. Что это за желание самому быть лучше
и сделать лучше мир? Что есть это желание, с которого
начинается имморальность? Что это за «мир»? Здесь мы имеем дело с пред-
данной моралью, транслирующей себя через законы, институты,
обычаи, моральное мнение и чувства. Это то, в чем
воспитывается молодежь. Мораль дает им содержание, и она — единственный
его источник. Здесь нет ничего неправильного. Мораль
заключается в обязанности брать лучшее и жить ради лучшего. Здесь нет
ничего неправильного, она есть обязанность, исходя из того, что
есть, и сообразуясь со всеобщим духом, пытаться и делать
лучше не только себя, но и весь мир, или, скорее и по преимуществу,
свой собственный мир. Но совсем иное дело, когда человек, исходя
109 К высокому, прекрасному стремиться,
Житейские дела мешают нам.
Гете И. В. Г. Фауст. Часть 1. Сцена 1. Ночь. Монолог Фауста / Пер. Н. Холо-
довского. — Примеч. переводчика.
237
Эссе V
из самого себя, из своих идеалов, противопоставляет себя миру
морали. Мир морали с его социальными институтами и т. п. — факт;
«идеалы» же нереальны. «Это мы делаем их реальными». Нужно
понять, кто мы есть и что такое мир. Мы должны научиться
видеть мораль как данность, понимать ее значение и задумываться
над тем, может ли личный «идеал» быть чем-то большим, чем
абстракцией, которая как таковая наилучшим образом сочетается
с природой ума и менее всего с реальностью.
Нужно понять, не идем ли мы по ложному пути, поощряя
собственное, отличное от других людей, — если только мы не
имеем дело с пророком, сошедшим с небес, — мнение в вопросах
морали. И хотя итогом этого заблуждения может стать безвредный
и до смешного глупый совет утверждать социальную
«индивидуальность», теория и практика противопоставления
собственных измышлений миру идут рука об руку; и если последняя (как
это зачастую бывает) означает имморальное поведение, то
первая — граничит с ним.
Но моральный организм противостоит и тому и другому.
Человек, жаждущий сбросить бремя традиции и дать своей
индивидуальности возможность достигнуть высот в самостоятельном развитии,
как правило, становится филистером и находит в этом определенную
прелесть. И распущенный юнец, любой ценой стремящийся к
удовольствиям, который, не думая о «принципах», реализует этот
принцип на практике, рано или поздно понимает, что самость внутри
него может достичь удовольствия только в том, что ее породило. И вот
однажды утром сон развеивается, и вот будуар, к которому некогда
были направлены его стремления, вызывает отвращение, и он
начинает мечтать о некогда презренной обыденной реальности.
И вот мы убедились, что сообщество — действительная
моральная идея, что оно сильнее тех своих членов, кто в теории или
на практике выступает против него, и что через него мы получаем
возможность самореализации. Конечно, оно ограничивает; мы
вынуждены оставить мечты о сверхчеловеческой морали, идеальном
обществе и все практические «идеалы». Но может статься, что
идеал, не будучи ограничен, не будет совершен и истинен. Даже
238
Мое положение в обществе
если мы не станем затрагивать вопроса об «идеалах», очевидно, что
всякий здравый человек признает ошибочным путь того, кто хочет
реализовать себя как совершенную личность, иначе чем
безупречно исполнив роль гражданина своей страны и члена всех тех
сообществ, в которые входит. Самый страшный враг — теория, которая
расходится с фактами; и людям, ругающим расхожее противопо-
лагание теории и факта, хорошо бы самим быть
последовательными и перестать измысливать теории о должном, но не сущем.
А до тех пор правда на стороне обывателя; ибо теория о том, что
(только) должно быть, — это теория о том, чего фактически еще
нет, т. е., как я полагаю, всего лишь теория.
Учение «о моем положении в обществе и связанных с ним
обязанностях» — самая лучшая теория, самая возвышенная и самая
прекрасная. Она выступает и будет выступать против культа
«индивида» в любой форме. Она сильна против безумных теорий и
неистовых страстей, и в итоге торжествует над фактом и может
позволить себе с улыбкой отнестись к литературным изысканиям, даже
к сентиментализму, сколь бы ярко и импульсивно ни начинались
его описания, и сколь бы мрачно они ни заканчивались, и сколь
бы сильным ни было разочарование. Учение о «положении и
обязанностях» смеется над тем, с каким бешенством сентименталист
прославляет неудовлетворенную страсть, которую зовет любовью;
и над той озлобленностью от потерянных иллюзий, которая все еще
цепляется за них; над благосклонностью к гению, чей ум столь
велик, что не позволяет ему творить; и над обожанием, которое он
питает к возвышенным и мечтательным девам, чье желание добиться
чего-то в этом мире приобретает форму желания изменить мир,
и кто, начав за здравие, заканчивает за упокой; и над тем, что хуже
всего, циничным презрением к тому, что заслуживает лишь
сожаления, — к жертвованию жизнью ради того, что кажется наилучшим;
к жертвованию, которое не потому презренно, что бессмысленно,
а потому, что глупо, скучно и не вызывает сочувствия.
И все эти книги (ах! как их много) заодно с авторами адепт
нашего учения кладет на одну чашу весов; а на другую — такие вот
три строчки:
239
Эссе V
One place performs like any other place
The proper service every place on earth
Was framed to furnish man with110 —
κοκκυ, μεθειτε και ποΛυ γε κατωτεπω
χωρεί το τοθδε.
Если надобность спрашивать:
και τι ποτ εστί ταιτουν111.
Только что мы, возможно несколько пристрастно, представили
(на свой лад, конечно) теорию, которая кажется нам большим
прорывом по сравнению со всем тем, что осуждали до нее, и нам
видится, что она в основном удачна. Нас устраивает, что она призывает
к реализации конкретно нашей воли; что полагает содержание чем-
то целым, системным и тождественным. И на внешней стороне,
и на внутренней — одна и та же универсальная воля в единстве
с конкретной персональностью; и здесь, в единстве внутреннего
и внешнего, «должно быть» и все те противоречия, которые это
«должно быть» порождает, исчезают или становятся моментом
более высшего «есть».
Но не стоит преувеличивать заслуги этой теории, здесь есть
в чем усомниться. Если представить ее последней инстанцией,
целью в себе, то возникнет ряд серьезных возражений, которые
нужно рассмотреть подробно.
Более всего учение о «положении и обязанностях» гордилось тем,
что ему удалось избавиться от обоих вариантов противоположности
«должен» и «есть»; т. е. от противопоставления внешнего мира
и «долга» во мне, и противопоставления моей партикулярной самости
110 Все части мира похожи друг на друга,
И предназначение каждой из них дано такое,
Чтобы быть для человека.
Браунинг Р. Страна красных колпаков (Red Cotton Night-Cap Country, or, Turf
and Towers). Строки 59-61. — Примеч. переводчика.
111 Дионис: «Ку-ку! Довольно! Тяжелей во много раз его [Эсхила. — Примеч.
переводчика] строка». Еврипид: «Но чем же тяжелей?» [Аристофан. Лягушки //
Аристофан. Комедии. Калининград, 2001. С. 235. — Примеч. переводчика].
240
Мое положение в обществе
«долгу» в целом. Нам предстоит увидеть, что в этом нашем учении это
противоречие не снято или, по крайней мере, не полностью снято.
1. В сфере моего положения и налагаемых им обязанностей
противоположность «должен» и «есть» не преодолена, потому что:
(a) так называемое «оправдание по виденью» не выдерживает
критики. Невозможно такое тождество самости и морального
целого, при котором исчезает дурная самость. (I) Единство
должного и сущего не присутствует в сознании морального человека
постоянно, а возникает тогда, когда он всецело увлечен работой,
которая приносит ему удовлетворение. В таком случае, я полагаю,
да, он сознает это единство, но если дело не так сильно увлекает его
и проявляется дурная самость, то он едва ли может быть доволен
собой, если же он доволен собой, то едва ли потому, что видит, что
его дурная самость нереальна. Он способен забыть о своих промахах,
только когда он слишком занят, чтобы думать; едва ли возможно
пребывать в таком состоянии постоянно. И не может быть, чтобы
человек всегда видел, что его ошибки ничего не меняют в моральном
порядке вещей: он может только надеяться на то, что это так. Далее,
(II) тот, кто в большей или меньшей степени аморален, кому дела
прошлые не дают возможности исполнять надлежащую функцию
или исполнять ее должным образом, — тот не может вновь обрести
потерянное чувство довольства собой от выполненной работы; она
напоминает ему о том, что должно было быть, но чего уже нет
и не будет; и возможно, в нем еще сильны дурные наклонности,
которые тянут его к новым ошибкам. Чтобы увидеть в его жизни
нечто больше, чем внутреннюю борьбу (с точки зрения морали),
придется занизить требования; назвать его аморальным — крайнее
фарисейство и равнодушие, поскольку и коль скоро этот человек
борется. Оправдание по виденью не работает.
(b) Моральный человек не обязательно достигает самореализации
в мире, в котором живет. (I) Необходимо заметить, что сообщество,
в которое он входит, может заблуждаться или быть в упадке,
а потому власть может не быть в согласии с тем, что правильно.
И (II) даже самое нравственное сообщество может гарантировать
только согласие целого, но не во всех своих частях. (III) Есть такие
241
Эссе V
недуги, от которых ни в одном моральном организме нет средства,
разве только чтобы облегчить страдания; а они могут выпасть
на долю каждого. (IV) Возможно, человеку придется принести
себя в жертву обществу. Ни в одном из этих случаев он не может
увидеть, что реализовал себя; и вновь — противоречие, нам остается
только самим устанавливать нормы добродетели или искать более
авторитетное учение, согласно которому, подавляя себя в вере
(и только в акте веры), человек достигает более высокой ступени
самореализации.
2. Мы видим, что в сфере моего положения и налагаемых
им обязанностей противоречие должного и сущего решается только
частично: следующее возражение также весьма серьезно. Человека
нельзя свести только к тому положению, которое он занимает
в обществе, и к тем обязанностями, которые он исполняет. Будет
ли эта формула иметь всеобъемлющее значение, если наполнить
ее иным содержанием, — следующий вопрос. Мы же понимаем
«положение и обязанности» как функцию в «реальном» сообществе,
и конечно, она не исчерпывает личность. Заметим к слову, что,
согласившись (как, я полагаю, нам и следует сделать) с тем, что
сущность человека предполагает тождественность с другими,
мы все равно не знаем, в чем в итоге состоит это тождество: нам все
равно придется поставить вопрос о том, чем является то высшее
целое, для которого индивид — функция и в котором существуют
соотнесенные целые, и о том, является ли это целое реальным
сообществом и может ли оно вообще им быть.
Однако пропустим этот вопрос и вернемся к возражениями. Есть
много причин, почему источником моральности человека не может
быть то целое, в котором он пребывает, (а) Этот моральный мир,
будучи ступенью исторического развития, не лишен и не может
быть лишен противоречий; поэтому человек должен стоять вне
и над противоречиями своей эпохи, он должен рефлектировать
над ними. Он должен понимать, что мир не таков, каким должен
быть, и пытаться исправить его. Так складывается то, что (Ь) можно
назвать моралью космополита. Сегодня люди до некоторой степени
осведомлены о том, что считается правильным и что неверным
242
Мое положение в обществе
в других сообществах, и как думали в другие времена, — так
формируется представление о том, что благо вне конкретного времени
и страны. Несомненно, для многих все это не имеет значения, но есть
и те, кто видит ценность такого понятия о благе. Моральный идеал
этих людей (не станем касаться психологических истоков) — человек,
благость которого определяется не принадлежностью к тому или
иному сообществу, но который реализует себя в том сообществе,
в котором оказывается. Однако это значит и то, что он нигде
не реализует себя полностью.
3. Мы увидели, что моральный человек может до определенной
степени отличать свою моральную сущность от той функции,
которую он исполняет; и вот третье возражение: содержание
идеальной самости не определяется всецело только сообществом;
коротко говоря, идеальная самость не есть просто представление
об идеальном члене общества. Процесс самосовершенствования
не всегда напрямую связан с отношением к другим. Человек,
ищущий истину или создающий прекрасное (и все то, что
можно назвать «культурой»), может осознавать, что это его долг;
но довольно сложно утверждать, что это долг всех без разбора рода
деятельности. Возможно, справедливо будет сказать, что истина
и красота — долг не только для отдельного человека, но и для
всего человечества, но не нужно забывать, что человечество — это
не реальное сообщество. Если, говоря «человечество», вы имеете
в виду лишь совокупность людей, которые были, есть и будут, тогда
невозможно доказать, что моя культура (прямо или косвенно) имеет
значение еще для кого-то, кроме меня. Если только вы не готовы
свести науку и искусство к полезности, т. е. видеть в них только
ремесло и «достижения», — вам не удастся «верифицировать»
ваше утверждение. Вы находитесь в царстве веры, а не знания; вне
зависимости от того, верна ваша вера или нет. И вот вы вынуждены
признать, что, стремясь к истине или красоте, человек пытается
реализовать себя не только как члена реально существующего
сообщества.
В конечном счете человек не может и не должен реализовать
в себе эту идеальную самость. Идеальная самость не реализуется
243
Примечание к Эссе V
в нас полностью ни одним способов, которые нам известны.
Мы знаем, что процесс бесконечен; и хорошо, если мы можем
совершенствоваться, подавляя в себе ложные стремления самости,
хотя они никогда не исчезнут. Дурная самость не может исчезнуть:
человек никогда не реализован. Противоречие остается; и чтобы
не ощущать его, нужно встать на точку зрения ниже моральной
либо превышающую ее.
Следующее эссе, начав с этих возражений, должно попытаться
прояснить то, что скрыто в них, и более четко определить
те затруднения, которые вызывает сама природа моральности.
Той же нити рассуждения будут следовать и Заключительные
замечания, которые мы сделаем после того, как в Эссе VII изучим
до определенной степени сложные проблемы дурной самости
и самолюбия.
Примечание к Эссе V
Права и обязанности
Чтобы в должной мере рассмотреть этот предмет, нужно
куда больше места, чем то, которым я могу распорядиться.
Набросаю коротко лишь несколько соображений.
Неясность слова «право» наделала немало шума; как мне
кажется, без надобности. Право — это правило, и что сходно с
правилом, безразлично, естественный ли это закон или психический;
например, правильная линия, «правильный английский бульдог»
(Свифт), правильный вывод, правильный поступок.
Право, в общем, есть выражение универсального. Это акцент
на универсальной стороне в отношении партикулярного и
универсального. Оно предполагает частное и, как следствие, —
возможность различия между частным и универсальным. Следовательно,
право означает закон; каковой закон может быть реализован или
просто установлен. «Правильно ли делать это?» — означает
«реализовано ли в этом универсальное?» «Есть ли у меня право?» —
означает «являюсь ли я в этом действии выражением закона?»
244
Примечание к Эссе V
В сфере морали, которая единственно нас интересует, право
всегда означает отношение универсального к партикулярной
воле. Акцент на универсальном. Возможность различия с
сознающим субъектом делает закон директивой.
Директива — предложение сделать нечто или (воздержаться
от действия), исходящее от другой воли и являющееся ее
содержанием. Или, со стороны отдающего директиву, — воление мной
какого-то состояния иной воли, каковое воление я представляю
этой воле как факт. Директива не содержит угрозы: она не
обязательно предлагает или предполагает какие-либо последствия.
Иметь права — не просто быть объектом, в отношении
которого директива (предписывающая или запрещающая) относится
к другим. В таком случае права имела бы даже неодушевленная
материя; например, всякая пылинка на дороге «имела бы право» быть
поднятой или оставленной на месте, — а это дико. Иметь права
значит быть (или предположительно быть) способным сознательно ре-
ализовывать директивы универсального112. Вот ответ на вопрос,
может ли зверь иметь права. Он — объект обязанностей, но не субъект
прав. Право — универсальное в его отношении к воле, способной
осознать его как таковое, вне зависимости от того, остается ли оно
всего лишь директивой или к тому же воплощается в поступке.
В моральном мире, если есть закон, также есть и право, и
права. Они могут быть реальны или идеальны. К первым
принадлежат воля государства или общества, ко вторым — воля идеально-
социального или не-социального идеала. (См. Эссе VI.)
112 «У меня есть права перед лицом других людей» или «у меня есть право
получить от других то или иное» означает, что: (1) считается правильным и
почитается выражением универсального, что эти люди должны предпринять в
отношении меня те или иные действия: я объект их долга. Но это еще не дает мне
«прав». Чтобы «быть вправе» требовать что-то от других, я должен (2) быть
субъектом, знающим универсальное (а) в его непосредственном отношении к моей
воле, в том выражении, какое он получает через мои поступки; и (Ь) также в том
выражении, какое он получает через поступки других, в возможности
направленные на меня. Когда моя воля в тождестве с универсальным, и универсальное
в тождестве с моей волей, требует исполнения этих поступков в отношении,
тогда я в собственном смысле «имею на них право»; но не иначе.
245
Примечание к Эссе V
Принуждение служит для того, чтобы конкретная воля
сохраняла свои права, совершая поступки. Но принуждение не входит
в общее и абстрактное определение права и не может быть
непосредственно выведено из него.
Что такое долг? Это — просто другая сторона права. Он — то же
отношение универсального и партикулярного, взятое с другой
стороны или в другом аспекте. Долг — отношение партикулярного
к универсальному с акцентом на партикулярное. В его
утверждающем отношении к объективной воле выражается моя воля. Право
является универсальным, существующим только для мысли, а
может также являться осуществленным. Долг — моя воля, которая
или только мыслится реализующей это универсальное, или
также реализует его на практике. «Это мой долг» означает «В этом я
тождественен с правом или я считаюсь таковым».
Долг, подобно праву, предполагает возможность разлада
между партикулярным и универсальным. Подобно праву, долг
предполагает и большее. Он предполагает сознание (или допущение
способности сознавать) отношения моей воли к универсальному
как праву. Следовательно, зверь не имеет долга в прямом смысле.
В противном случае у него должны быть также и права.
Право — универсальная воля, которая предполагает
партикулярную. Оно — объективная сторона, которая предполагает
субъективную, т. е. долг. Долг — партикулярная воля, которая
предполагает универсальную. Он — субъективная сторона, которая
предполагает объективную, т. е. право. Но эти две стороны
неразделимы. Нет права без долга; нет долга без права и прав. (К
этому мы еще вернемся.)
Право и долг — стороны одного целого. Это целое — благо.
Права и обязанности предполагают тождество и нетождество
партикулярной и универсальной воль. Право может оставаться всего
лишь директивой, долг — всего лишь «должно быть»,
несогласием партикулярного и универсального. И то и другое —
абстракции. Если отделить их друг от друга, то каждое из понятий само
по себе противоречиво. Каждое — только «должно быть»,
желаемая идея, которая, вне связи с другой стороной, остается всего лишь,
246
Примечание к Эссе V
т. е. нежелаемой идеей. Каждое представляет один полюс
отношения, изолированный от другого. Они встречаются в понятии блага
и в единстве целого, сначала перестают быть абстракциями и
приобретают реальное существование. Право осуществляется в долге.
Долг реализует себя в праве.
Однако в благе права и обязанности как таковые перестают
существовать. Нет больше просто права или просто долга, нет как
таковых партикулярного и универсального, нет их внешнего
отношения. Теперь они — стороны и элементы одного целого; и
появление того или другого подчинено движению и жизни целого
и обусловлено тем, что какой-то из элементов в определенной
ситуации получает больший акцент. Но вне целого реальность того
и другого — «всего лишь идея», легенда или небылица.
Права и обязанности не существуют вне морального мира;
а этот мир не существует вне сферы внутренней моральности,
пусть непосредственного, но сознания, пусть призрачного, но
отношения частной самости к универсальному, будь оно
представлено как внешнее (в форме традиций семьи или привычек
некоего индивида) или как внутреннее. Где нет моральности, там нет
права: где нет права, там нет прав. Равным образом, где нет прав,
там нет права, а где нет права, там нет моральности.
Внутренняя моральность без объективного, правильного и
неправильного — самообман. Правильное и права вне моральности — всего
лишь фикция.
В этом вопросе всякая частичная теория нравов и политики
терпит неудачу и кажется бесполезной. В ложных теориях права
либо (1) объективное универсальное, либо результат ничем не
обоснованного измышления (о соглашении), которое, кроме того что
является измышлением, само предполагает то, что должно
создать. (Соглашение вне сферы права и морали — абсурд.) Или (2)
объективное универсальное захватывается (абсолютный закон,
воля монарха или то, что кажется наиболее удобным
большинству); и тогда эти теории терпят неудачу, поскольку сводят право
к силе, и тогда оно неморально, вовсе не является правом; и, как
следствие, невозможно обосновать, что правильно подчиняться
247
Примечание к Эссе V
ему и неправильно не подчиняться. Все, на что способны эти
теории, — показать, что может быть (а может и не быть)
неудобно не подчиняться. Также, что касается нравов, эти теории либо
(1) устанавливают универсальное как волю Божества или другого
человека; в таком случае «Я» не утверждает себя в этом нем; или
же (2) вообще не предполагают ничего объективного и
универсального; и тогда единственно, что «Я» утверждает, — само себя.
И в том, и в другом случае нет ни долга, ни морали.
Но, скажут нам, права и обязанности приходят в
столкновение. Они сталкиваются только в том смысле, что права
сталкиваются с правами, а обязанности с обязанностями. Права
(обязанности) из одной области приходят в столкновение с правами
(обязанностями) из другой, в рамках одной области,
сталкиваются, опять же, права (обязанности) разных людей или
одного и того же человека. Однако невозможно, чтобы право как
таковое могло прийти в столкновение с долгом как таковым.
Нет права, которое не было бы долгом, и долга, которое не
было бы правом. В обоих случаях право перестанет быть правом,
а долг — долгом.
Против этого станут возражать. Скажут, что (1)
существуют обязанности без прав; (2) права без обязанностей. Что
касается первого возражения, (1) ответим, что если у человека нет
права что-то сделать, то это право не для него. Если это не его право,
то и не его долг. Совершенно справедливо: моральный долг может
не быть правом по закону, а долг по закону может не быть
моральным правом, но к делу это не относится.
Что касается второго, то понять, (2) что там, где нет
обязанностей, там нет и прав, кажется труднее. В государстве, обществе или
в сфере идеальной морали у меня есть право на какой-то конкретный
поступок, но нет права на что-то другое. Но можно ли утверждать,
что все, на что у меня есть право, — мой долг? Не абсурдно ли?
В этом утверждении, несомненно, есть много от истины. Быть
обремененным только обязанностями так же плохо, как вовсе их не
иметь. Свободное саморазвитие индивида требует обе
составляющие. Там, где только универсальное, наступает окостенение; там,
248
Примечание к Эссе V
где только партикулярное, — там распад; а жизни нет ни в том
ни в другом случае.
Истинно ли тогда, что право — там, где нет обязанностей? Нет.
До известной степени, права шире обязанностей: но что это
значит? Значит ли это, что есть такие права, которые вне сферы
морали? Конечно нет. Мы увидим (Эссе VI), что моральная сфера
безгранична; в противном случае за ее пределами право не было
бы правом. Применительно к сфере морали, если что и истинно,
то утверждение «Больше прав, чем обязанностей». К примеру,
некий человек располагает определенной неделимой суммой на
благотворительные цели. У него есть долг перед А, В и С, но нет права
дать кому-то еще, кроме одного, поскольку может распоряжаться
отдать вот этой ограниченной и неделимой суммой.
Следовательно, долг перевешивает право. Все, что мы можем заключить из
этого рассуждения, — то, что долг в возможности шире, чем те
права и обязанности, которые осуществляются на практике. Именно
в таком смысле можно говорить о том, что права в возможности,
превосходят долг и право, осуществленные на практике.
Причина, почему эту закономерность прослеживают со
стороны права, а не со стороны долга, очень проста. Выше мы
убедились в том, что в понятии права акцент стоит на универсальной
стороне. Всякое действие — определенное «то» или «иное» действие,
которому сообщает определенность процесс партикуляризации.
Таким образом, то, на что у меня есть право, зависит от того,
каков мой долг; поскольку, как мы видели, в понятии долга
выделяется партикулярная сторона. И вот, когда все малозначащие
особенности между ними устранены, очевидно, что права не могут
быть шире, чем обязанности. Возможность превосходит
реальность именно этими малозначащими особенностями (ср. Эссе VI).
И поскольку право выделяет ту сторону, которая обща всем
особенным элементам, т. е. сторону, лишенную определенности, оно
тем самым шире долга, который выделяет партикулярную
сторону, а потому — уже.
Конечно, есть такая сфера, где кажется, что права
противоречат тому, что правильно. Это сфера закона, и противоречие
249
Примечание к Эссе V
диктуется самой его природой. Таким образом, в известных
пределах справедливо отвечать злом на зло; у меня есть на это
право, даже там, где это считается неправильным. Так обстоит дело
в случае с государственным законом, социальным законом, и
равно с простым законом морали. Отсюда вовсе не следует, что в этих
случаях нет морального универсального; отсюда следует, что
единственное, на что мы ориентируемся, — универсальное. И вот мы
подошли к различию справедливости и беспристрастности113.
Справедливый поступок, если он только справедлив, может (как нам
всем известно) быть самым что ни на есть несправедливым.
Универсальное как закон должно быть для всех одним и тем же: его
нельзя корректировать применительно к конкретному случаю.
Следовательно, если я руководствуюсь такого рода неспецифициро-
ванным универсальным, на моей стороне «правильность»; но,
если мне не удается специфицировать его применительно к своему
случаю, мой поступок будет неправильным. Мне не удается
исполнить долг, я не поступаю правильно и я не прав.
В государстве сфера чисто личного права подчинена
моральному целому. Права личности существуют, чтобы способствовать
развитию целого, они созданы в нем, и оно поддерживает их жизнь,
и единственно только ради собственного удовольствия. Нравы
допускают личные пристрастия, различие во вкусе, но их роль та же,
113 Что такое справедливость? У меня нет возможности развить эту мысль
или проиллюстрировать ее, просто скажу о том, что мне кажется фактом.
Справедливое не = правильному; несправедливое не = неправильному. Справедливо
не = воздать по заслугам: «только справедливость» может означать и больше, чем
я заслуживаю, и меньше того. Справедливость не значит только согласие с
законом: несправедливость не означает противление закону; напр., убийца не
просто несправедлив. Этот смысл есть в понятии справедливости и
несправедливости, но они также подразумевают нечто большее.
Несправедливо — когда, явно или неявно утверждая намерение следовать
правилу, человек в определенных ситуациях делает исключения.
Справедливо — по истине следовать данному правилу, полагая, что успех или провал
дела зависит от человека.
Каков закон — другой вопрос. Оно может быть правильным с точки зрения
морали. Тогда это идеал справедливости. Закон более низшего порядка
устанавливает свои понятия справедливости и несправедливости.
250
Примечание к Эссе V
что и роль личного права в моральном целом, и они существуют
только потому, что должны существовать, потому их
существование, — но не их конкретность, претворяет долг. Сфера
личного права правомерна, только пока человек поступает правильно
и действует согласно долгу. Моральное целое допускает ее
существование, но, когда ради соблюдения права целого требуется
подавить личное право, оно лишается всех прав. Публичное право
если не в теории, то на практике постоянно попирает личное. Здесь
коренится оправдание насильственной экспроприации, призыва
в военную службу и др. Единственное, что на все это можно
сказать: «Я, будучи определенной личностью, преумножаю свое
имущество и т. п., и тем самым исполняю долг перед государством,
ведь оно живет в индивидах: и я также исполняю свой долг, когда
отдаю государству свое имущество и самого себя, ибо индивиды
живут в государстве». Как еще можно оправдать реальность
политической жизни?
Повторим: право — утверждение универсальной воли в
отношении к партикулярной. Долг — утверждение партикулярной
воли в процессе утверждения универсального. Благо — это не просто
отношение, но тождество обоих моментов. Право может быть
реально, может существовать в действительности; или же быть
только идеалом, всего лишь «мыслью о». Как и долг. Права и
обязанности — элементы блага; они должны сопутствовать друг другу.
Единственное, где универсальное может быть утверждено, —
партикулярное; партикулярное утверждает себя единственно
только в универсальном; но в благе они должны быть подавлены, они
не должны быть чем-то большим, чем просто элементами,
которые добавляют друг друга. Их следует считать сторонами одного
целого. С точки зрения морали оставить права одной из их
неправильно; т. е. право не должно быть всего лишь правом; не морально
также представлять долгом всякую обязанностью; т. е. долг не
должен быть всего лишь долгом.
Мы утверждаем следующее: (1) Ложно утверждение, что
можно обладать правами, не имея долга. (2) Ложно утверждение, что
можно иметь долг, не обладая правами. (3) Ложно, что сущность
251
Примечание к Эссе V
права исключительно негативна114. (4) Ложно, что долг зависит
от возможного принуждения; ошибочно мнение, что директива
всегда предполагает угрозу; и (5) совершенно неверно, что права
и обязанности могут существовать вне сферы морали.
114 Очень ясно эту мысль развил Шопенгауэр. Он дошел до того, что сделал
исходное позитивное представление ложным, а его простое отрицание —
правильным.
ЭССЕ VI
Идеальная моральность
Критический разбор изложенного в Эссе V учения показал,
что, как бы истинно оно ни было, оно не может дать
удовлетворительного ответа на вопрос: «Что такое моральность?»
И, руководствуясь этим недочетом, мы должны попытаться
найти решение, которое не будет столь односторонним.
Мы видели (в Эссе II), что цель состоит в реализации самости;
и между делом обнаружили проблему: «Одно ли и то же
моральность и самореализация или, если они не всецело одно и то же,
то в чем состоит различие?»
Люди сходятся во мнении, что, на самом деле, самореализация
и моральность различны. Все согласятся с тем, что человек
искусства или ученый действительно реализует себя в художественном
или научном произведении, но никто, если только не
обманывается какой-либо теорией, не скажет, что моральность
определяется единственно только тем, что это произведение имеет хорошее
качество и желаемо само по себе. Можно быть профессионалом
в той или иной области и сделать что-то стоящее; и все же,
когда спросят: «Был ли он хорошим человеком?» — может оказаться
так, что, несмотря на желание ответить «Да», нас охватит
сомнение. Хороший художник не обязательно хороший человек; и
невозможно отстаивать учение, которое безоговорочно
отождествляет благость в моральном смысле и ту или иную желаемую форму
реализации самости.
Можем ли мы принять другую точку зрения, которая, как
мы убедились, выделяет мораль в отдельную область; которая
называет человека моральным по тому, как он воздерживается
253
Эссе VI
от нарушения социальных правил, и аморальным, если он
нарушает их; и при этом забывает, что один может быть ленив,
эгоистичен и не желать исправиться, а другой — несмотря на все свои
проступки, по крайней мере, испытывает любовь к прекрасному
и благому и стремится к ним? Можем, но только в том случае,
если, признавая истинность этой точки зрения, закроем глаза на
сопутствующую ложность.
И, поскольку ни в той ни в другой точках зрения не находит
выражения моральное сознание, мы благодарно принимаем
поправку, согласно которой девять десятых своей жизни человек
«руководим», хотя и не можем ожидать, что грубое,
популярное мнение, которое разделяет на части, вместо того чтобы
различать аспекты, приведет нас к ответу на поставленный вопрос;
принимаем, хотя, с нашей точки зрения, спасая одну десятую
и отбрасывая девять десятых, оно либо нерешительно
утверждает одно неверное мнение, либо слишком уверенное
подкрепляет другое.
Жизнь человека — мы говорим о ней — нельзя разбить на
части. Нельзя сказать: «В этой части он моральное существо, а в этой
нет». Нам не удалось еще вычислить ту долю жизни
добродетельного человека, в которой не реализуется его моральная благость
и где «вожделения плоти» более не ведут своих войн. От религии
мы слышим: «Делайте все во славу Бога», и этот призыв не менее
силен. Быть благим всегда и во всем, пытаться всегда делать
лучшее и при этом делать все от тебя зависящее, будь то собственная
работа или совместный отдых, подавлять дурную самость и реа-
лизовывать благую самость, — таково веление морали, и от него
нельзя ничего убавить. Таков, как нам видится, посыл морального
сознания, и он был бы ясен и очевиден, если бы не два
предубеждения. Одно из них состоит в привычке офаничивать моральность
человека сферой социальных отношений; другое — в
представлении о том, что вести моральный образ жизни — значит
постоянно испытывать изнуряющее действие «императивов» и быть
обремененным неприятными обязанностямидели и еще увидим, что
первое справедливо лишь отчасти; по поводу второго нужно отме-
254
Идеальная моральность
тить, что оно, по сути, отождествляет моральность с безвольным
подчинением закону и что, согласно расхожей точке зрения,
человек не перестает быть благим, если благость становится для
него естественной и приятной.
Но можно ожидать, что из этого сделают абсурдные выводы.
Мы согласны с тем — скажут нам, — что работа, какой бы она ни
была, — это поле для осуществления моральности, каковым по
преимуществу является та часть жизни человека, которая предполагает
отношение к другим; но должна быть такая сфера, где моральность
исчезает, иначе окажется, что человек морален во всех праздных
мелочах своей жизни, даже самых интимных, и не в меньшей
степени морален, развлекаясь. Если действие морали не
прекращается в какой-то момент, то моральным следует считать не только
вопрос о том, развлекается ли человек, но о том, как он это
делает. Тогда нет ничего нейтрального в моральном смысле, и мы
приходим к равно абсурдным и имморальным выводам115. Без
колебания ответим, что в каком-то смысле в жизни человека нет ничего
нейтрального, — и это не абсурд. Если мой моральный долг
переехать из одного города в другой, а туда ведут две одинаково
хорошие дороги, с точки зрения моего морального долга все равно,
по какой дороге я поеду; не безразлично, что я предпочитаю одну
другой; и каким бы путем я ни пошел, я исполняю свой долг, а
следовательно, мы имеем дело с фактом далеко не нейтральным: то,
что я иду по дороге А, имеет отношение к долгу в перспективе
цели, хотя и не имеет, если рассматривать этот факт по сравнению
с возможностью идти по дороге В; то же самое с дорогой В, — но
какой бы дорогой я ни пошел, я все равно действую морально.
Реализация благой воли в конечном телесном существе предполагает
115 На другом языке это возражение звучит так: «Есть такие права, которые
не входят в сферу долга, в противном случае все мои права — мои обязанности,
что нелепо». Ответ в Эссе V. Здесь же мы можем сказать: да, должна существовать
сфера нейтральных вещей, в этом и мое право, и мой долг. Мой долг — развивать
свое естество, осуществляя свободу выбора. Следовательно, поскольку мой долг
состоит в этом, он также состоит в том, чтобы не видеть долг в мелочах; и этим я
исполняю свой долг по отношению ко всем мелочам.
255
Эссе VI
существование определенных сфер общего характера; это вопрос
морали, и он не нейтрален. Содержание этих сфер до
определенной степени не имеет значения; не в том смысле, что оно
второстепенно и с точки зрения морали мелочи не имеют значения,
а в том смысле, что у одной мелочи нет преимущества перед другой.
Если дать ей определение, подчинив благой воле, — она
приобретет моральное значение; если же определить ее в
противоположность другой мелочи, с точки зрения морали она ничего не
значит. Это довольно просто, и, пока так оно и есть, я могу надеяться
на то, что говорю обоснованно. Читатель, без сомнения, согласится
с тем, что если некий вид поступков оказывается желателен с
точки зрения морали, то, какой бы поступок ни подпадал под этот
класс, он, поскольку подпадает, также желателен; хотя в другом
отношении может быть нейтрален.
Однако остается еще затруднение, которое можно обозначить
так. Читатель почувствует, что — в определенной степени — для
того, чтобы определить, где и как, и т. п. развлекаться, и - в куда
большей степени, — чтобы разрешить еще более частные вопросы,
человеку не требуется ни размышлений, ни осознанного выбора,
ни подключения совести. Одним словом, он совершает этот выбор
естественно; и, если сказать ему, что все эти подробности имеют
отношение к морали, он может испытывать трудности с тем,
чтобы понять, на каком основании. Мораль, читатель может
почувствовать, действительно говорит, что развлекаться — это хорошо;
и еще более категорично, что развлечения не должны переходить
определенных границ; но все, что находится в этих пределах,
моральность отдает на откуп моему природному чувству. Здесь, как
нам кажется, налицо двоякое заблуждение как относительно
границ, так и относительно характера моральной самости. Прежде
всего ошибочно считать, что в жизни человека есть область,
которая не подчиняется морали. Не будет преувеличением сказать,
что все, что попадает под власть воли, попадает в сферу морали;
едим ли мы, пьем ли, спим — с самого детства мы не
предоставлены сами себе; и те привычки, которые сформировались у нас извне
под воздействием морали, теперь управляют моральной волей,
256
Идеальная моральность
которая до некоторой степени была их производным. И
потому, когда нам легко, мы не испытываем недостатка в инстанции,
управляющей нашей жизнью; мы научены видеть ее присутствие,
а ее отсутствие, когда бы мы ни чувствовали, что ее нет,
причиняет боль. Характер человека проявляется во всех мелочах; и мы не
можем веселиться, оставив его за дверью, на коврике рядом с
любимым псом; характер — самость, моральная самость, и не
просто норов или врожденный нрав, но результат
последовательности актов воли. Конечно, хорошо быть естественным; но только
при условии, что «естество» составляет мораль, и для него само
собой разумеется вести себя добродетельно; а «естественность»,
в той или иной мере исключающая моральные устои, никогда,
насколько мне известно, не мыслилась желательной. У хорошего
и дружелюбного человека хорошая и дружелюбная самость
проявляется во всем, и для нас она — моральна. Итак, мы подошли
ко второму заблуждению, которое основывается на все том же
непонимании важнейшей истины: то, что естественно, не может
быть морально, а то, что морально, не может быть естественно.
«То, что естественно, не мыслит, а без мышления нет
моральности. Следовательно, там, где наша естественность состоит в том,
что мы не размышляем, там нас нельзя считать моральными». Вот
в чем состоит искажение. Однако забывается, что акт мысли имел
место; что волю определили поступки, которые стали
следствием морального размышления; что, таким образом, наш характер
не только по содержанию, но и по той форме, которую он
приобретает, находится в сфере морали; и что характер, плохой или
хороший, — вторая натура. Того, для кого «естественно» быть
добродетельным, как правило, считают хорошим человеком,
благая самость хорошего человека присутствует во всех мелочах его
жизни и определяет их бессознательно, но от этого ничуть не
менее сильно. Во всем, что было сказано до сих пор, факты
говорят за себя, и единственное, что остается возражающему, —
отрицать, что благая самость обязательно должна быть моральной
на том основании, что морально не ее содержание, а исток;
иными словами, потому что, будучи в себе моральной, она не такова
257
Эссе VI
для действующего. Нам могут сказать, что исток моральной
самости, в общем-то, не морален или что он не морален в той или
иной сфере, в том или ином отношении, и, как следствие, она,
будучи благой, вместе с тем не обязательно должна быть, коль скоро
блага, моральной. К рассмотрению этого вопроса мы будем
вынуждены обратиться позже, здесь же мы можем только заметить,
что не станем отделять благость, осознаваемую или
неосознаваемую, от воли, которая должна стать благой, или же волю, которая
должна стать морально благой; и заявить, что, поскольку благая
воля всюду проявляет себя, нет такой области, где моральность
прекращается и больше не действует. Против того, что в
развлечении и т. п. мы перестаем быть моральными существами, что одна
десятая часть жизни не нуждается в руководстве, сказано
достаточно. Что же касается оставшихся девяти десятых, ограничимся
следующим: всякий раз, когда нечто должно быть сделано не
ради забавы, а серьезно, моральное сознание говорит нам, что
правильно сделать все наилучшим образом, и если так, то не может
быть сомнения, что мы находимся в сфере морали116.
Всякий раз реализовывать лучшую самость, которая для нас
является идеалом, — моральный долг; и на вопрос, что такое
мораль, мы пока можем ответить лишь, что она сопутствует
самореализации, понимая под этим, что идеальная самость реализуется
в нас и посредством нас. Ну вот, мы подошли к вопросу о том,
каково содержание идеальной самости117.
Из критического разбора предыдущего эссе, можно вывести,
что благая самость — это самость, которая реализует (1)
социальный, (2) не социальный идеал; самость, которая, во-первых,
прямо и непосредственно включена, а во-вторых, не включена в отно-
116 Быть религиозным может даже быть моим моральным долгом, если под этим
понимается необходимость поступать так, чтобы поддерживать или сохранить
религиозное сознание, веру, которая должна находить выход в религиозно-моральной
практике. Следовательно, поскольку мораль, как мы увидим, не включает в себя все,
что угодно, тем не менее в другом смысле ничто не выходит за ее пределы.
117Об истоке идеальной самости и благой самости или самости, чья воля
отождествлена с ее идеалом, мы скажем в другой связи, когда будет необходимость.
258
Идеальная моральность
шения с другими. Или же, с другой точки зрения, что то, к чему
мы стремимся, — реализация в себе (1) того идеала, который
реализуем в обществе, идеала моего положения и связанных с ним
обязанностей, или (2) того идеала, который полностью не
реализуем в обществе; а таковы (а) совершенствование социальной и (Ь)
не социальной самости. Или же (что то же самое) можно провести
различие между: (1) обязанностями перед собой, которые не
понимаются как общественные и (2) обязанностями перед собой118,
которые понимаются как таковые. Последние — это: (а)
обязанности, накладываемые тем положением, в котором мне случилось
оказаться, (Ь) иные обязанности. Объясним.
Содержание благой самости питается, как мы видели, из трех
источников: (1) в первую очередь следует сказать о том, что
привносит наибольшей вклад, а именно о том, что мы назвали моим
положением и связанными с ним обязанностями. О нем мы уже
говорили. Мы увидели, что представление о том, что человек
может существовать по своему собственному праву независимо от
общества, — пустая фантазия, что человек потому человек, что он как
индивид воплощает в себе жизнь, его превосходящую; и мы
видели, что эта жизнь, как то: жизнь семьи, общества или народа, —
моральная воля, универсальное, реализация которого через личную
волю человека составляет его моральность. Больше нам нечего
добавить. Разве что еще раз привлечь внимание к той мысли, которую
мы недавно развивали, а именно что человек благ во всем, а не
только в отдельных областях; а также попросить читателя обратиться
к себе и спросить себя, в чем состоит его лучшая самость. И, если
мы правильно мыслим, он обнаружит, что большая часть ее
состоит в преданном и сообразном духу исполнении своих
обязанностей и роли того или иного члена семьи, общества и государства.
118 Могу заметить, что долг, который не является долгом перед собой, не
может быть долгом моральным. Когда мы слышим об обязанностях перед самим
собой, нам следует уточнить, что имеется в виду. «Долг перед самим собой» в одном
смысле значит не более чем долг; в другом: «долг, который есть не что иное, как
прямая противоположность тому, что такое долг», т. е. эгоистичный долг: или же
не социальный долг. Путаница в этом вопросе приводит к серьезным ошибкам.
259
Эссе VI
Он обнаружит, что, удовлетворив требования, предъявляемые
ему в этих сферах, сможет соответствовать требованиям того, что
он называет благой самостью. Основание идеальной самости —
самость, которая отвечает положению в обществе и связанным с ним
обязанностям.
Но (2) мы также видели, что если внимательно присмотреться
к нашей благой самости, то обнаружится, что в ней есть еще кое-
что: притязания на нечто большее, чем ожидания окружающего
мира, стремления к благу, которое не сводимо к тому, что
реализуется повсеместно. В моем положении и его обязанностях благо
видимым образом реализовывалось в мире, и, как правило, было
возможно действовать согласно этому реальному идеалу; но
благо, которое вне этого, — только идеал; ибо он не реализуется
всецело в реальном мире, и сделай мы все от нас зависящее, его
невозможно реализовать. Вот к чему мы стремимся и что
получаем лишь отчасти, но никогда не достигаем полностью и чем
никогда не владеем. Эта идеальная самость (насколько она
интересует нас здесь) — самость социальная. Совершенные образчики
усердия и чистоты, чести и любви, которые, обретая плоть и кровь
в тех условиях и обстоятельствах, в которых мы находимся, и тем
самым бессознательно специализируются, становятся
ориентирами нашего поведения и законами нашего существования,
являются социальными идеалами. Эти идеалы выстраивают прямую
связь между нами и другими, и, убрав других, становится
невозможно осуществлять эти добродетели119.
Такова идеальная самость, которая по своей сути социальна;
и в связи с таким определением возникает множество трудностей,
обсуждать которые у нас нет возможности. Среди них можно
выделить два вопроса: «Каково происхождение и содержание
идеальной самости?» К слову скажем, что первый содержит в себе
119 Добродетели, такие как целомудрие, которые человек осуществляет в
одиночестве, либо представляют собой отрицание дурной самости, либо условие для
благой воли. Если ошибочно рассматривать их сами по себе, то они перестают
быть безусловно желательными. Если угодно, можно называть их
«аскетическими идеалами».
260
Идеальная моральность
два, которые всегда путают: (а) как возможно, что ум создает
идеал; или что можно сказать о природе ума, способного
идеализировать? Может ли он создавать идеал, если сам в некотором смысле
не является идеальным? Такая постановка вопроса рождает — что
и так понятно — серьезные проблемы, которых мы не можем
касаться в данном рассмотрении. Далее, (Ь) этот вопрос содержит
и другие: каково историческое происхождение идеала? какими
путями он пришел в мир? и в свою очередь, каков его исток в нас?
И их едва ли можно отделит друг от друга, и от вопроса: каково
содержание идеала?
Мы не станем касаться вопроса об историческом
происхождении; что же до его истока в человеке, ограничимся следующим:
кажется, будто вначале некий человек или люди представляются нам
образчиком превосходства в том или ином вопросе, затем, через
обучение, традицию и воображение как собственное, так и других
стран и времен мы получаем содержание и обнаруживаем, что оно
существует реализованное в индивидах настоящего и прошлого,
и, наконец, отделяем его от всех как нечто, что всецело не
реализовано ни в ком, но есть идеал, образчик человеческого
совершенства. Здесь перед нами встает практический вопрос, в какой
мере идеал, который служит руководством поведения, выражается
в индивидуальной форме. Несомненно, есть две крайности. Для
огромного количества людей единственным идеалом является
положение в обществе, и некоторые из них довольствуются тем, что
берут за образец некую известную личность; между тем идеал,
будучи высшей ступенью моральности, не выражается ни в ком из
людей120. Но между этими крайними точками должно быть
множество промежуточных ступеней.
Прежде мы немного говорили о том, каким образом
социальный идеал используется в моральных суждениях, остается только
120 Всякий раз возникает следующая трудность: используется ли
воплощение для того, чтобы возбуждать воображение, в то время как никто из людей не
служит образчиком; или дело обстоит иначе? Решить ее можно, только ответив
на вопрос: идет ли речь об особом виде подражания; и если да, то как, чем и для
того, чтобы подходить чему, изменено представление о подражании?
261
Эссе VI
обратить внимание на его содержание. Очевидно, что им является
воля, которая осуществляет только те добродетели, которые
свойственны окружающему миру; и я не вижу причины думать, что
эта идеальная самость не является идеализацией того, что
существует в самой природе человека, что она состоит не из
идеализированной материи, более или менее космополитичной, а процесс
абстрагирования, которым достигается ее содержание, не
является в той или иной мере односторонним.
Ограничившись этим беглым осмотром и краткими
замечаниями, мы должны завершить разговор об идеале совершенного
социального существа.
Но (3) в благой самости есть область, в которую мы еще не
вторгались; идеал, реализация которого понимается как моральный
долг, но в сущности которого еще не заложено отношение к
другим121. Реализовать истину и красоту, жить так, чтобы их
понимание, знание, созерцание, любовь к ним была основным делом (все,
кто понимает смысл этих слов, поддержат меня), — мое
моральное обязательство, которое я не осознаю как таковое, только пока
они доставляют мне слишком много удовольствия.
Для художника или исследователя моральный долг в том,
чтобы вести соответствующий образ жизни, и если ему это не
удается, то в этом его моральный проступок. Но с другой стороны,
невозможно, не совершая насилия над действительностью, заставить
соседа считать эти добродетели обязательными для себя. Без
сомнения, такие добродетели, как правило, ведут к благосостоянию других,
но этого условия недостаточно, чтобы назвать их социальными; они
не имеют прямого значения для общества, оно несущественно для
них. Цель, к которой они устремлены, — единственная, их
собственная цель, содержание которой не необходимо включает благо для
других. В этом мы убедимся, предположив обратное. Если бы было
121 Мораль, по крайней мере, исходя из самой себя, ничего не знает об
универсальной и невидимой самости, в которой все члены реальны, которую они
реализуют через свои таланты и праведность и реализуя которую они реализуют
других членов. Считать человечество органическим целым, — если и возможно,
то, строго говоря, не морально. См. подробнее ниже.
262
Идеальная моральность
истинно обратное, то долгом исследователя было бы не просто
исследование, а художника — не создание лучшего произведения
искусства; но и обоим пришлось бы учитывать еще и цели, которые
стоят вне науки и искусства, и не было бы дано права видеть в том
и другом цель в себе. «У них и так нет такого права», — может
последовать уверенное возражение. Я отвечу, что для меня здесь речь
идет о факте, а для меня факт — то, что моральное сознание, судя
по тому, что я создаю как ученый или художник, признает не просто
средством, но целью самой по себе совершенствование моей
природы как разумного или творящего существа. С точки зрения морали
нужно желать стремиться к этой цели, без оглядки на то, к чему она
ведет, — и об этом свидетельствует не только теория, но и, с долей
вероятности, инстинктивные суждения тех, чье мнение стоит
принимать в расчет; и поскольку и до тех пор, пока это факт, ни одно учение,
согласно которому дело должно обстоять иначе, не может изменить
моего мнения. Да, это правда, что без науки и искусства общество
не смогло бы развиваться. Справедливо и то, что вне общества
художник и ученый не смогли бы реализоваться, но ни в том ни в
другом случае нельзя утверждать, что истинно, будто общество —
конечная цель. Единственный аргумент, который имел бы здесь силу,
состоит в том, чтобы принять за последнюю причину основание
следствия и доказать, что физические и физиологические процессы
в обществе — цель, ради которой он существует. Человек не является
человеком, если не принадлежит обществу, но человек не многим
превосходит животное, если остается лишь общественным.
Если бы кто сказал, что с моральной точки зрения реализация
социальной самости — цель, и что несоциальная самость имеет
значение только как нечто внешнее и что, как следствие, не
нужно заниматься наукой и искусством самими по себе, — аргумент
можно было бы отразить тем же оружием. Можно было бы
сказать, что наука приносит наибольшую пользу, когда в ней видят
нечто большее, чем просто пользу. Но не будем принижать
ценность вопроса и затуманивать суть дела. Еще раз повторим, что
утверждение это бездоказательно и ложно, и решение мы
оставляем на совесть читателя.
263
Эссе VI
Если же, с другой стороны, скажут, что социальная самость —
одна цель, но наука и искусство — цели в себе не в меньшей степени,
и к ним самим по себе также нужно стремиться; что они входят
в социальную самость и, будучи элементами цели, также
являются целями, а не просто средствами, — я не стану в ответ говорить,
что утверждение ложно (ибо, надеюсь, оно может быть истинно),
замечу только, что оно совершенно не обоснованно. Бремя
доказательства возложено на того, кто утверждает. Для нас очевидно,
что отношение к другим не составляет существенной части
содержания теоретической самости: нет ничего проще, чем
представить, что человек, который посвятил свою жизнь науке или
искусству, насколько мы можем судить, даже если она сама по себе была
правильной, в том, что касается других, растратил ее понапрасну,
и понимает это. Это легко представить, и я думаю, что
возражений не последует. Была ли его жизнь имморальна? Я скажу нет,
она не была поэтому имморальной, но была поэтому моральной
вне обыденного понимания моральности. Если же мне скажут: да,
он вел моральный образ жизни, но и социальный тоже; связь с
другими составляла сущность его жизни, поскольку теоретическая
реализация в том или ином человеке необходимым образом связана
(ни то ни другое не доказывает вывода) с его реализацией в
отношении с другими и, возможно, обществом как целым, — тогда я
отвечу: ваше утверждение противоречит очевидности, нужно еще
доказать, что есть эта необходимая связь, и, полагаю, могу
добавить: у вас это не получится. Все, что вы говорите, может быть
истиной, но наука, во всяком случае ваша наука, не может
гарантировать истинности; и это не является истинной и для морального
сознания, но выводит нас за его пределы.
На сей момент мы пришли к следующему. Моральность,
будучи утверждением единой с идеалом самости, сопровождает
самореализацию; а содержание этой самости определяется (1)
объективным миром положения в обществе и связанными с ним
обязанностями; (2) идеалом социального и (3) несоциального
совершенства. Теперь нужно решить, как соотносятся эти сферы.
Этот вопрос до определенной степени сложен, поскольку требует
264
Идеальная моральность
рассмотрения практических затруднений повседневной жизни.
Что-то в роде следующих. Может ли человек ради науки или
искусства отважится на решение совершить или не совершать какой-
либо поступок, каковое решение, принятое другим, было бы
имморальным; или, грубо говоря, может ли он растоптать обыденную
мораль ради того, чтобы быть хорошим художником? Или же если
перед человеком возникнет, вероятно, менее частый вопрос об
отношении (1) ко (2), то его сомнение можно сформулировать так:
могу ли я выполнять работу, которая отводится мне в обществе,
и таким образом служить ему, даже несмотря на то, что кажется,
будто тем самым я действую в ущерб себе как моральному
существу? Могу ли я посвятить себя делу, которое в народе читается
моральным, но которое, в моем представлении об идеале, не может
быть названо таковым?
Первое, на что следует обратить внимание, — что во всех этих
случаях имеет место столкновение обязанностей. Ни в одном из них
нет противоборства между притязаниями морали и чего-то
отличного от нее. В сфере морали такое противостояние
невозможно и бессмысленно. Во всех случаях мы имеем дело с конфликтом
моральных обязанностей, которые исключают друг друга,
например мой моральный долг как художника, с одной стороны, и отца
семейства — с другой, и так далее: те же случаи, когда то, во имя
чего происходит отрицание и противопоставление морали,
полагается отличным от нее и чем-то более возвышенным, мы
обсуждать не можем.
И второй момент, который занимал нас прежде122 и на
который мы хотели обратить особенное внимание, состоит в том, что
столкновение обязанностей — вопрос не теории, а практики.
Наука о морали не в состоянии их разрешить; это дело искусства
морали, если бы такое было возможно. Наука о нравах не может
справиться с проблемами, которые возникают из столкновения
обязанностей; их питает конкретная, сложная ситуация, и
разобраться в ней можно только с помощью практической интуи-
122См. Эссе IV и V. — Примеч. переводчика.
265
Эссе VI
ции, а не абстрактных понятий и дискурсивных размышлений.
Не помогает и знание того, что один вид обязанностей
теоретически выше другого: моральная практика не in abstracto123, и для
меня наивысший моральный — мой долг; мой долг, который дан мне
непосредственно, и он, по всей вероятности, не тот, что считается
наивысшим, если предположить, что он мой. Тот, кто может дать
моральный совет, — опытный человек, он способен встать на
место другого, опираясь на собственное знание и симпатию; ему
ведома суть, и он видит позади иллюзий морали; сведущий же в
вопросах теории на практике оказывается бесполезным и опасным
доктринером.
Так, в частности, отношение двух идеальных сфер к
реальной, — в точности то отношение, которое связывает элементы
внутри реальности. Мы видели124, что невозможно исполнить все
обязанности в одном поступке, равно как, всякий раз поступая,
некоторыми обязанностями приходится пренебрегать. Вопрос идет
о том, какую из обязанностей нужно исполнить в данном случае,
а какую нет; итак — мне позволено пренебрегать обязанностями
моего положения. И, оставив в стороне трудность (часто
невозможность) различения с моральной точки зрения воздержания от
поступка и его совершения, мы увидели125, что реальные нарушения
морального закона иногда были моральными. А следовательно,
если художник или ученый чувствует необходимость ради долга
перед искусством или наукой преступить принципы обыденной
морали или следовать им, мы должны признать, что сам по себе его
выбор нельзя осуждать. Здесь налицо столкновение обязанностей,
которое происходит всякий день в любой области, и этот случай
ничем не отличается от остальных, хотя и необычен.
И далее, если на том основании, что человек служит некой
необычной цели, появится требование судить его не по обычным
стандартам, мы должны признать, что в сфере моего положения
в обществе это требование уже оправдано. Солдату мы прощаем
123 Абстрактна (лат.). — Примеч. переводчика.
124 См. Эссе IV. — Примеч. переводчика.
125 Там же.
266
Идеальная моральность
то, что не прощаем другому, кто не несет бремя его долга.
Этика поведения бизнесмена, и в большей мере адвоката, и
политика, не измеряются по стандартам обычной жизни; а потому, когда
для оправдания игнорирования или преступления закона
прибегают к идеалу, мы говорим, что это требование само по себе
правомерно, никто не спорит с тем, что, абстрактно, такое право есть,
мы имеем дело со столкновением обязанностей, а вопрос о
моральном оправдании — это вопрос о конкретном факте.
Все это — с одной стороны, но не следует забывать, что с
другой — столкновение обязанностей имеет еще ряд следствий.
Оправдываясь, мы говорим: «Я пренебрег долгом ради долга», что
означает, что мы признаем два долга, один из которых выше, а другой
ниже. И прежде всего это означает, что мы поступаем так не для
того, чтобы доставить себе удовольствие, а потому что связаны тем,
что мы считаем моральным долгом. Это означает, кроме того, что
мы не думаем, будто то требование, которое мы преодолели или
оставили без внимания, — нечто маловажное, что знаем о его
высокой значимости и пренебрегли им только потому, что, не
поступи так, не смогли бы исполнить еще более высокое назначение.
Обыденная социальная мораль — основа жизни человека. Она
получает конкретизацию в определенных функциях общества,
и на ее основании поднимаются идеи высшего социального
совершенства и созерцательной жизни; но обыденная мораль не только
колыбель, но и та заботливая рука, которая качает младенца, и
если ее алчущий отпрыск забудет об этом, то будет обвинен в
неблагодарности и подлости. Мы неизбежно пренебрегаем теми или
иными обязанностями, но открытое и прямое оскорбление
моральных институтов, которые делают общество и жизнь
человека тем, что они есть, может быть оправдано (я не говорю:
прощено) только ввиду моральной необходимости, бороться с которой
человеку недостает сил. Индивиду следует помнить, что, если
однажды дать послабление воле к благу, есть большой риск, что она
вовсе будет немощна.
Мы пришли к тому, что идеальная мораль стоит на почве
социальной, что отношение между ними — это то же отношение, которое
267
Эссе VI
существует в социальной сфере, и что, поскольку долг должен
уступать долгу, пренебрежение обыденной моралью и нарушение
ее норм во имя высшей морали теоретически можно оправдать (и
это все, что нас интересует); но если возникнет требование во имя
идеала, чтобы свободный выбор определялся не моральной
необходимостью, или чтобы человек забыл об уважении перед долгом,
через который переступил или оставил без внимания, — такого
рода требование не может претендовать на оправдание с
моральной точки зрения126.
Наивысший тип человека, который только можно себе
представить, — тот, кто старается достичь идеального морального
совершенства в повседневной жизни, и, опираясь на два основания,
пытается реализовать несоциальный идеал. Но там, где
сталкиваются обязанности, там — мы должны повториться — теория
бессильна, не только потому, что решение принимается не только
на уровне интеллекта, но потому, что невозможно предложить
общего решения частного случая.
Возвращаясь к основной теме нашего размышления: мы
обнаружили, что мораль покрывает собой все сферы жизни; ее
требование столь же обширно, сколь и самореализация, и вот перед
нами снова встает вопрос: одно ли и то же моральность и
самореализация? На первый взгляд кажется, что да. Цель морали —
реализовать самость, и кажется, что все способы реализации
самости черпаются и из сферы морали; потому кажется естественным
утверждать, что моральность — процесс самореализации, и тот
в высшей степени морален, кто реализует природу человека
наиболее полно и энергично. Добродетель — превосходство, и тот
превосходит всех, кто в высшей степени добродетелен.
126Я не говорил о том, требуется ли во имя служения идеалу нарушать
требования обыденной морали, и, если да, то когда это нужно делать. Первое —
практический вопрос и в свете абстрактности обсуждаемой проблемы, он
бесполезен; а второй, с нашей точки зрения, нельзя решить теоретически. Какой долг
или обязанности перевесят в данном случае, решает ощущение, а не
размышление. Могу верить, что учение, которое мы описываем в этой главе, не позволит
себе такого рода небрежность.
268
Идеальная моральность
Сказав это, мы, однако, приходим в прямое противоречие с
моральным сознанием, которое четко отличает моральное от
иного вида превосходства, и утверждает, что последнее в себе вообще
не морально; и, возвращаясь назад127, мы обнаруживаем, что
моральное сознание проявило себя в максиме, что только благая
воля блага в моральном смысле. С этим нам придется
безоговорочно согласиться и идти дальше.
Моральность в таком случае будет реализацией самости как
благой воли. Она не является самореализацией со всех точек
зрения, хотя весь процесс самореализации можно оценить с точки
зрения морали; поскольку в нем на всем протяжении участвует
воля, насколько блага воля, настолько моральна и реализация.
Строго говоря и в собственном смысле, моральность —
самореализация в сфере личной воли. Это ясно видно в искусстве и науке, ибо
там мы достигаем морального превосходства, и оно заключается
не просто в умении или успехе, но в искренности и преданности
тому, что представляется наилучшим, в противоположность
случайной склонности. Θεωρία128 в то же время πρ§ξις129, и моральна
или имморальная соразмерно тому, насколько она πράξις130. Это
справедливо и в отношении моего положения и связанных с ним
обязанностей, если подходить к нему более серьезно с моральной
точки зрения. С высшей точки зрения человек считается моральным
не по тому, насколько он преуспел в делах, но потому, насколько
ему удалось отождествить свою волю с универсальным, вне
зависимости от того, воплотила ли себя эта воля должным образом или
нет. Моральность не связана непосредственно с тем, что воля
производит вовне: моральность определяется по тому, каковы
тенденции и общий характер производимых действий, и, строго говоря,
она не выходит за пределы субъективности, личной воли и
сердца. Безусловно, воля, которая не выражает себя, — это не воля,
но нельзя оценить моральность воли по тому, что она производит
127 См. Эссе IV. — Примеч. переводчика.
128Теория (греч.). — Примеч. переводчика.
129 Практика (греч.). — Примеч. переводчика.
130 Cf.: Aristotle. Pol. VII. 1325. В. 14-23.
269
Эссе VI
вовне: все это — внешние признаки, но к ним нужно относиться
с осторожностью. Вернемся к вопросу: чем измеряется
моральность человека?
Общая цель — самореализация, процесс, когда идеальная
самость становится реальной; и конкретно для морали идеальная
самость — благая воля, отождествление моей воли с идеалом как
универсальной волей. Для моральных принципов, цель — воля,
моя воля, универсальная воля, единая воля. Давайте вкратце
рассмотрим, что об этом говорит моральное сознание.
Блага, как мы видели, только благая воля. Цель морального
поведения состоит не просто в том, чтобы дать существование
безразлично какого рода идеальному, но в реализации через мою
волю идеальной воли. Цель — идеал, который является предметом
моей воли, воление идеала во мне и мной, а следовательно —
идеальная воля. И моя воля как реализация идеала — благая воля.
Воля, которая не подчиняется никакому закону, — это не моральная
воля, закон, который не волится, для морали — ничто. Поступки,
коль скоро они происходят из благой воли, благи, и нрав, и
привычки, и характер благи настолько, насколько они — актуальная
благая воля, происходят из нее и воплощают ее; и то, что
происходит из благого характера, равным образом должно быть благим
с точки зрения морали.
Вполне очевидно, что с точки зрения морали благая
воля — моя воля, и не в меньшей степени ясно131, что она
представляется нам как универсальная. Это не означает, что все люди
делают или должны делать то же, что и я. Это значит, что, если бы они
были мной, они должны были бы делать то же, что вынужден
делать я, а в противном случае поступали бы имморально; это
значит, что моя моральная воля — это не просто воля меня как того
или иного человека, а нечто ее превышающее и выходящее за ее
пределы. И далее, опять-таки, благая воля предстает как одна
воля; и, когда перед нашим моральным сознанием возникает
коллизия обязанностей, нам говорят: знай мы природу этой коллизии,
131 См. Эссе IV и V. — Примеч. переводчика
270
Идеальная моральность
мы поняли бы, что на самом деле она есть для нас, а не для благой
воли. Мы не можем представить себе две различные благие воли,
или одну благую волю, которая стоит на перепутье целей или не
находится в гармонии сама с собой; и мы уверены, что, если бы
наша воля пришла в единство с универсальной, это также привело
бы нас в единство с собой и мы бы не были раздираемы
различными желаниями, ощутили бы в себе гармонию и системность.
Такова воля, которую представляет себе моральное сознание,
но для морального сознания она — идеал, и она нереальна. В
морали универсальное реализуется лишь частично; оно — нечто, что
вечно стремится быть и никогда не есть.
Мы видели, что волю социального организма следовало
бы назвать универсальной и волей, которая столь же
несомненно реальна, сколь и идеальна; но мы видели, что благая воля
не исчерпывается положением, которое я занимаю в обществе,
и обязанностями, которые я исполняю, и далее, что с точки
зрения морали, даже в этой сфере, даже если не брать в расчет
сложность прогресса, идеальное и реальное в строгом смысле
остаются различны. Дурная самость не устранена, и я вижу, что во мне
есть такая область, где универсальное не реализовано и для
которой оно остается (насколько это касается моей моральности)
всего лишь идеей; ибо, если мы даже допустим, что общество
от этого не страдает, все равно я не могу достичь
установленного образца.
Получается, что с точки зрения морали в моем общественном
положении универсальное не реализовано, и более того,
моральное сознание не говорит, что оно вообще где-то реализовано.
Идеал претендует на то, чтобы покрывать собой всю реальность, но,
говоря по совести, случается, что мы желаем его, а случается, что
нет; в одном случае он реализован, а в другом — нет, и
невозможно указать на него в себе или в ком-то другом и сказать: «В нем
воплощено универсальное, и оно всецело налично через волю, воля
человека, и как его воля»; и, конечно, не вызывает сомнения, что
идеальная самость присутствует в мире, будучи выражением
воли того или иного одухотворенного животного.
271
Эссе VI
Конечно, религия, и более конкретно христианство, дает другой
ответ на этот вопрос. Для христианства идеал — универсальное, ибо
он — воля Бога, и потому, что он, таким образом, является волей
некого органического целого. Он наличен, хотя и незрим, он —
одна жизнь многих членов, которая реальна в них, а они — реальны
в нем; и в этом идеале, посредством веры в единство людей и в Бога,
удается, неизвесгао как, лишить реальности дурную самосгь. Но все
это — за пределами морали: моральному сознанию об этом
ничего не ведомо. То же самое мы скажем, если кто-то, исходя из других
оснований будет убеждать нас, что человечество представляет собой
органическое сообщество, членом которого является каждый из нас,
и чья воля налична в нас. Ибо, даже если мы предположим
доказанным, будто лучшая самость одна и та же (а не просто схожа) у всех
людей, и более того, что установленным право использовать слово
«человечество» не как абстрактный термин для абстрактной идеи,
не как название для воображаемой совокупности всех живших
ранее, живущих ныне и в будущем людей, но для существующего в
реальности, телесного единства, — все равно придется сказать по
совести, что дурная самость еще реальна во мне; и пытаетесь ли вы,
прибегая к спекуляции, доказать ее не реальность, или призываете
на помощь веру, и в том и в другом случае вы выходите за пределы
морали; для морали благо реализовано лишь частично, но есть
нечто еще нечто, что остается всего лишь идеей.
Итак, мораль не считает идеальную самость ни всецело
универсальной, ни в полном смысле существующей. Она не является
реально существующей гармоничной системой; но в мире и в нас
самих реализует себя через себя. И в нас идеальная самость не
является системой; наша самость не гармонична, наши желания
не всецело едины с идеальным, а то, что следует идеалу, не
всегда находится в согласии. В нас она приходит в столкновение с
самой собой, а желания, которые нам не удается искоренить,
сталкиваются с благой волей, и, сколько бы ни старались исправиться,
мы никогда не достигаем того совершенства, той гармонии,
систематичности, какая присуща истинной идее нас самих и к которой
она нас призывает.
272
Идеальная моральность
Таким образом, моральность идеальна, поскольку ее цель не
реализуется полностью; и далее нам предстоит увидеть, что она не
только позитивна, но и негативна. Самость, которая, будучи благой
волей, отождествлена с образцом, должна оказывать сопротивление
грубой материи естественных желаний, чувств, импульсов, которые,
хотя сами по себе злом не являются, мешают благу, и ее следует
муштровать, усмирять и поддерживать. Она является отрицанием
того, что поистине есть зло, — дурной самости, желаний и
привычек, которые воплощают волю, прямо противоположную благой.
И далее, само существо ее состоит в том, чтобы быть отрицанием
обеих, ибо мы не называем моральным того, кто не органичен, или
того, кто органичен только злым началом в себе132. Моральна воля
должна быть конечной, а следовательно, иметь естественное
основание; и она должна быть злом до определенной степени (до
какой — другой вопрос), ибо тот, кто не знает благо и зло, тот не
морален, и потому, что (как мы увидим ниже) сущность блага и зла,
можно познать только в сравнении, и только через внутренний
опыт, а не посредством интеллекта. Моральность, говоря коротко,
подразумевает знание того, что значит «должен», а «должен»
подразумевает противоречие, и противоречие моральное.
Итак, мы видим, что моральность негативна; ее должны
обуславливать и неморальное, и моральное, ибо моральное
является тем, что оно есть, только перед лицом своей
противоположности. Но мораль не только негативна; было бы ошибочно считать,
что сущность морали полностью выражена только в отрицании133,
только в искоренении имморального. Благая воля не только
разрушает естественное или имморальное; она, конечно,
уничтожает их как таковые, но в этом действии еще нет моральности. Воля
тогда моральна, когда разрушает их в самоутверждении,
преобразуя их энергию.
132 См. Эссе IV. — Примеч. переводчика.
133Сущность имморальности такова, что она может существовать только как
противоположность моральности: чисто имморальное существо совершенно
невозможно. Тот, кто стал всецело имморальным, утерял знание блага и зла,
перестал принадлежать сфере морали и, говоря на языке морали, мертв.
273
Эссе VI
Благая самость обретает реальность не только через
упразднение реальности. Сущность благой самости как утверждающей
(а она моральна, только когда утверждает) состоит в том,
чтобы найти место универсальной воле как истинно бесконечному
в воле того или иного человека; вот когда она реальна, не
всецело, не достаточно, но все же определенно реальна. Невозможно
разделить утверждение и отрицание, не разрушив мир морали.
Абстрактное несуществование неморального — ничто; а
существование ничто (если оно вообще возможно) — не является целью
морали. Мораль — утверждение морального, позитивная
реализация благой воли ради нивелирования естественной и дурной
самости; и ее нельзя свести ни к одному из элементов этого целого;
ибо утверждение блага, которое является предметом стремления,
происходит только в разрушении дурного134.
Реализация блага посредством моральности конкретного
человека — вымуштрованная воля, то, что характеризует его с
моральной точки зрения. Она налична в добродетелях сердца.
Добродетели эти — привычки, которые, воплощая хорошие поступки воли,
становятся частью самости человека. Они соответствуют
многообразию требований, которые предъявляет его положение в обществе
и, говоря более общо, многообразию его отношения к идеалу.
Моральность — процесс реализации, и она имеет две
неотделимые друг от друга стороны или элемента; (1) определение
места идеальной самости в воле человека и приведение ее в действие;
(2) присущее ей отрицание, делание нереальным (не уничтожение,
а изменение) естественной, неупорядоченной материи и дурной
самости. Такое объяснение во многом устраняет те трудности, с
которыми мы столкнулись в Эссе IV.
Оно не устраняет все сложности. Моральность на самом деле
противоречива; она на самом деле призывает реализовать то, что
не может быть реализовано, а когда реализовано, перестает быть
собой. Не было и не может быть совершенно морального человека;
а если бы и был, то он не был бы уже моральным. Там, где нет
134 См. Эссе I. — Примеч. переводчика.
274
Идеальная моральность
несовершенства, не может быть долженствования; там, где нет
долженствования, нет моральности; где самость не
разрывается противоречиями, там нет долженствования.
Долженствование — противоречие в себе. Можно ли сказать, что оно этим
исчерпывается? Конечно, нет, если только этим не исчерпывается
и самость человека; а этого не может быть. Человек противоречив
в себе, по крайней мере, с той точки зрения, что никогда не является
тем, что думает о себе; мы на самом деле то, чем, как нам известно, мы
не являемся; и если мы станем тем, что мы есть, мы едва ли будем
собой. Мораль стремится упразднить саму возможность полной
самореализации; моральность — преодоление неморальности,
она устремлена за пределы самой себя к сфере, превосходящей
мораль, где она, как таковая, перестает быть135.
Здесь мы сталкиваемся с проблемами, для нас слишком
трудными, и если мы станем развивать эту тему, то только в Итоговых
замечаниях и только с целью разъяснить то, что уже было сказано.
Мы, однако, пока не ответим на некоторые возражения и не
попытаемся устранить некоторые трудности, мы должны
придерживаться заявленной нами позиции. Оставшаяся часть этого эссе будет
посвящена άπορίαι136 в морали, в следующем эссе мы
попытаемся внести чуть больше ясности в то, что мы понимаем под дурной
самостью, которая составляет противоположность благой.
Первое одностороннее понимание моральности, которое
должно привлечь наше внимание, можно изложить следующим
образом: «Моральность — это не реализация некоего содержания,
а отождествление воли с универсальным. Цель морали, таким
образом, — внести в желания, сердце и волю систему, гармонию;
значит, мы можем и должны подавлять стремления для того, что-
135 Я не стану отвлекаться от темы разговора, чтобы подробнее рассказать о
бесконечном моральном прогрессе. Я уже (Эссе IV) прибегал к Гегелю, к его уничто-
жительной критике. Движение к цели, которая состоит в неполноте, и цели
развития и моральности, — одно и то же. Бесконечное развитие — развитие, которое
не имеет конца, бесконечная неполнота, бесконечная им моральность, — и это
нечто совсем другое.
136Затруднению, апории (греч.). — Примеч. переводчика.
275
Эссе VI
бы достичь гармонии». Ответим: да, моральность действительно
не является реализацией содержания, ибо само по себе это
содержание, строго говоря, неморально. Действие, вне связи с волей,
неморально. Это с одной стороны. С другой — если воля не является
волей к действию, она вовсе не моральна. Если человек пытается
быть хорошим, но не в науке, не в искусстве или стремясь к
идеалу каким-либо иным способом, и не в обществе, а хочет лишь
реализовать в себе благую волю, лишенную содержания, — его
нельзя признать моральным ни в каком смысле. Гармония лишь
по форме не является целью морали: цель — это не система, а
систематичная реализация самости, чья воля в гармонии с
идеалом. Например, если встанет вопрос, как я должен развиваться,
как хороший человек или как хороший художник, мораль
ответит: «Конечно, как хороший человек», но в таком случае все
сводится к тому, какой стиль поведения сделает меня лучшим, что я
должен для этого делать. Когда мораль приходит в противоречие
с собой, правило «Чем выше моральность, тем более
гармонична самость» не действует. Можно быть в гармонии (не
совершенной гармонии) и не быть моральным, а можно быть моральным
и не знать гармонии.
Есть еще односторонние трактовки, из которых выводятся
следствия, противоречащие моральному сознанию. Можно их изложить
так: «В наибольшей степени систематичный человек не морален в
высшей степени, ибо перед ним не стояла необходимость делать то, что
он мог, а потому должен был; тогда является ли тот, кто с большим
рвением реализует благую самость, самым моральным из людей?
Предположим, что мы согласимся. Тогда (1) со счетов
сбрасывается различие возможности и обстоятельств, и тот, кто по природе
более силен и более удачлив, будет более моральным; и, с другой
стороны, (2) не учитывается множество препятствий, с которым
человек может столкнуться: мы не отдаем должное тому, в ком идет
моральная борьба, какой бы суровой она ни была. И в обоих
случаях мы приходим в противоречие с моральным сознанием.
«Или если мы не согласимся, то следует особенное внимание
уделить не позитивному, а отрицательному аспекту реализации,
276
Идеальная моральность
тому, что побеждается дурная самость; но опять мы идем против
морали, ибо несправедливо относимся к склонностям более
слабой натуры; в том, кто более энергичен, вследствие его природы,
дурная самость, которой нужно противостоять, также может быть
более ярко выражена.
«Если же, мы скажем, что не нужно обращать внимание ни на
отрицательную, ни на позитивную сторону реализации, ибо
мораль — это борьба и борьба необходимая, — тогда, чтобы борьба
усиливалась, а вместе с тем повышалась моральность, нельзя
допускать, чтобы дурная самость становилась слабее определенной
степени; и, более того, либо все люди равны с моральной точки
зрения, ибо внутри каждого идет борьба, и все они способны
только бороться; либо, если тот морален в большей степени, кто
больше борется, тогда моральность будет исчисляема количественно
(интенсивному или экстенсивному), а не качественно. Вывод, как
и предыдущих случаях: все люди имморальны».
Мы потратим время впустую, если станем подробно
рассматривать все эти трудности; учения, их порождающие сами по
себе не ложны, но ложно всякое из этих затруднений, если брать его
за выражение всей истины. Разрешить их все можно без труда,
ответив на вопрос: кто является моральным в наивысшей мере с
точки зрения морального сознания?
Кто морален в наивысшей степени? Акцент на слове
«морален». Нас не интересует, кто наиболее совершенен. Мы не
говорим: чья воля в наибольшей мере согласуется с определенным
образчиком человека, но, чья воля в наибольшей мере тождественна
с его собственным идеалом?
Ибо моральное сознание говорит, что моральность человека
не измеряется тем, на какой ступени развития он стоит; что
моральность одного может в определенном смысле быть выше
моральности другого, хотя сам по себе он может быть, так сказать,
ниже с точки зрения морали. Моральное сознание говорит, что, если
мы судим только по стандартам морали, дикарь, стоящей на
низшей ступени, не может быть не выше, но лучше цивилизованного
европейца; и, мы видим, что (1) тот морален в наивысшей степени,
277
Эссе VI
кто старается поступать большей частью в соответствии с тем, что
он, исходя из своей образованности, считает лучшим. Но следует
помнить, что при этом он должен получить наилучшее
образование, какое только позволяет его уровень.
(2) Предположим теперь, что двое находятся на одном
уровне просвещенности, можно ли судить их, основываясь на том, что
в ком-то идеал реализован в большей или меньшей степени?
Мораль говорит: нет. Она говорит, что силы людей не равны; и, если
самости изначально не равны, их нельзя сравнивать просто с
оглядкой на степень реализованное™.
(3) Опять же, люди различаются не только в уровне
просвещенности, силе, но также и в нравах. Нрав — это, конечно, не
моральная характеристика; он может быть ею, только если человек
сознает себя и его самость обретает свойство быть дурной или
благой только через акт воли137; но не в меньшей степени природный
нрав является материалом для моральной самости. Нравы и
натуры бесконечно разнообразны: одни более гармоничны, другие
же более беспорочны и их неизбежно влечет к разногласиям и
противоречиям. Есть такие натуры, которые более устойчивы к
действиям благой воли, которая привносит порядок, и более открыты
к действиям, ведущим к увеличению и усилению дурной самости.
И если двое не равны хотя бы в этом, их просто нельзя сравнивать
по тому, до какой степени смогла развиваться их самость.
(4) Далее, нам нужно рассмотреть, какие внешние
обстоятельства влияют на нрав человека, на способность присваивать благо,
а также на трудность контроля за дурной самостью; и вот к чему
мы пришли на данный момент. Дурная и благая самости тех, кто
равен по степени просвещенности, силе, нраву и находятся в
равных условиях, также равны по степени и по тому, что составляет
их стремление, равны с точки зрения морали.
Но и это еще не все: но достаточно, чтобы показать, что
тщательное сравнение едва ли возможно, и вполне для того, чтобы
оправдать утверждение «Только Бог знает, что у человека на сердце»,
137См. подобнее в следующем эссе.
278
Идеальная моральность
если под этим не имеется в виду, что моральность — дело
сердечное, а то, что у нас нет доступа к той информации, которая
позволит решить психологическую проблему. Об этом не стоит
сожалеть: с точки зрения моральности у нас нет ничего общего
с другими, с тем, что они делают и что отрицают; у нас нет ничего
общего с тем, в чем мы сами могли преуспеть или потерпеть
неудачу в прошлом, если только это не в нашей воле; то, с чем мы
имеем дело, — отношение нашей воли к благой, к тому, что мы есть
и что нам еще нужно сделать.
Подведем итог. Прояснив эти четыре момента мы можем
заключить, что те люди равны с моральной точки зрения, чьи
благая и дурная самости равны по степени и по предмету стремления;
но здесь мы имеем не одну, а две стороны, и вовсе не ясно, как они
относятся друг к другу и как решается проблема измерения.
Нельзя взять за основу относительную слабость дурной
самости, ибо моральность не только отрицательна; нельзя и силу
благой самости, ибо она не только положительна. Нельзя судить
по тому, насколько ожесточенна борьба дурного и благого, ибо
при прочих равных условиях предпочтительны превосходство
блага и недостаток дурного, и как следствие, ослабление их
противостояния. «Больше» или «меньше» применительно к суровости
борьбы тогда является мерилом, когда они указывает на
утверждение, большее или меньшее, когда, будучи негативным
условием138, высокая степень ожесточенности указывает на превосходство
позитивности, условием которой является само это
противостояние. Серьезной ошибкой является заявление о том, что
«поскольку больше sine qua поп139, потому больше». Равно нельзя судить
и по относительному отсутствию борьбы, ибо оно может
означать относительное отсутствие благой воли и смерть с
моральной точки зрения.
138 Условие негативно тогда, когда не само его существование, но отрицание
его существования необходимо для того, условием чего оно является.
139 Дословно — «без чего не» (лат). Выражение используется для
обозначения условия, без которого невозможно дальнейшее понимание. — Примеч.
переводчика.
279
Эссе VI
Чтобы измерить моральность, нужно учитывать обе
стороны — благую и дурную — вместе, и тогда встает вопрос о том, как
они соотносятся. Можно ли (1) сказать, что дурная самость сама
по себе нейтральна, а потому нужно мерить моральность, просто
исходя из благой; или мы должны (2) считать ее величиной
отрицательной и вычесть из благой?
(1) В выражении «сама по себе нейтральна» важно «сама по
себе». Пока дурная самость противостоит благой и является ее
прямым отрицанием, ее нельзя назвать нейтральной. И потом, дурная
самость не только открыто враждебна, но своими действиями
мешает благой самости и отнимает энергию, которую могла бы
использовать благая воля, и тем самым ее ослабляет.
Однако под выражением «сама по себе нейтральна» имеет в
виду другое140. Оно значит, что дурная самость имеет ценность до тех
пор, пока преуменьшает благость, но сама по себе — лишь
отрицание; и к этой способности отрицать, больше нечего добавить.
От того более или менее сильна позиция благой самости в
отношении просвещения, силы, нравов и внешних, обстоятельств, зависит
степень моральности человека. Дурная самость только ослабляет
позицию благой; а потому вообще не стоит ее рассматривать,
достаточно лишь определить, какова позиция благой самости. Если
два человека в равной степени образованны, сильны и проч., если
их благие самости равны, то неважно, сильнее ли дурная самость
одного по сравнению с другим, и этот вопрос можно снять. Таков
первый вариант. Достаточен ли он?
Я думаю, нужно признать, что нет. В действительности, такое
толкование не может сбить нас с толку, поскольку утверждение
дурной самости в имморальных поступках ведет к ослаблению благой
самости, куда более сильному, чем может показаться на первый
140 Несомненно, читатель знает, что есть такое мнение, которое сводит
различие между благим и дурным лишь к количественной разнице; добродетель и
порок — всего лишь разные степени одного и того же. Оно особенно подчеркивает,
что «все относительно», «все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть»,
и прочие выражения такого рода, за которыми скрывается поверхностность,
пытающаяся казаться свободой. Но мы не будет это обсуждать.
280
Идеальная моральность
взгляд. Это учение не может сделать нам вреда, но мы
спрашиваем: является ли оно верным теоретическим толкованием
морального сознания? Мы должны ответить отрицательно, ибо для
морального сознания дурная самость не является нейтральной.
(2) Если посмотреть на дурную самость с другой стороны, вне
ее связи с моральностью, ее можно понять только как негативное
условие утверждения блага, наличие которого необходимо для
моральности, но не более того. Если дурная самость является чем-то
большим, то она мешает утверждению благой. Ее можно
представить как нечто, чему нужно противостоять, нечто, противление
чему требует больших усилий, но усиление действия чего не влечет
усиление реакции. Однако если такая точка зрения и возможна,
то неморальна и как таковая несостоятельна. Дурная самость для
морали — это не просто отрицание, но положительное
утверждение самости. Сознающая себя самость, которая позитивна,
которая и есть то, самое известное нам утверждение, налична в
дурной самости, ощущает и знает себя в ней столь же реальной, как
в благой самости. Злодеяние — это не просто недостаток, но,
если рассматривать отдельно от последствий (я не говорю:
греховно, ибо таково оно только для религии, но) проступок,
преступление, правонарушение. Дурная самость —- позитивное утверждение
зла посредством и в самости; и воля, поскольку она дурна, — это
не просто изъян воли, и не неморальная животная воля, но
имморальная воля, и для морального сознания она столь же
реальна' сколь и благая воля.
Следовательно, я морален не только соответственно тому,
какова экстенсивность и интенсивность относительного
утверждения благой воли во мне. Но, чтобы получить конечный результат,
нужно еще из этого утверждения благой самости вывести,
какова степень утверждения во мне дурной самости, какое место она
занимает, сколько энергии отнимает, подавляя благую самость,
не только препятствуя ей и приводя к таким последствиям
(психическим и физическим), которые ей мешают, но истощая ее, — и
беря дурную самость за минус, вычесть из того, что составляет
преимущество благой самости.
281
Эссе VI
Невозможно с точностью просчитать этот результат. Что
касается блага самости, невозможно выразить интенсивность в
единицах приращения для того, чтобы подсчитать количество
положительного; а что касается дурной самости, по той же причине
невозможно подсчитать количество отрицательного; но даже в
противном случае все равно не удастся свести единицы
отрицательного и положительного к единому знаменателю, а потом
посредством вычитания получить качественный итог. Несмотря на то что
с точки зрения практики наш ответ незначим, я надеюсь, он
сможет послужить решением нижеследующих απορία ι.
Вероятно, есть необходимость сказать несколько слов по
другому вопросу: настоящее или прошлое определяет моральность
человека? Если так ставить вопрос, он, кажется, допускает только один
ответ; ибо очевидно, что я морален не потому, что был благ, а
потому, что благ сейчас. Но, задай мы его иначе, столкнулись бы с
определенного рода трудностями. Допустим, три человека изначально
равны, но один из них был благ, а потом оступился, другой — вел
недостойный образ жизни, а теперь старается быть
добродетельным, третьего же нельзя охарактеризовать ни первым, ни вторым
образом. Как же судить об их моральности? Не очевидно ли, что
сбросить со счетов прошлое?
Дело в том, что, с одной стороны, моральность человека не
сводится к сумме того, что было; можно рассматривать только то, что
он представляет собой сейчас, брать во внимание только волю, как
она есть сейчас. Это с одной стороны. Но, с другой — воля — то,
что она сотворила. И настоящее — так же как и прошлое.
Злодеяния остаются в дурной воле, которая — утвержденное зло.
Равно не пропадают и благие дела, а остаются в благой воле, которая
проявляет себя в настоящем. Нельзя стать хорошим или плохим
вот так сразу, хотя кажется, что так иногда происходит. И мы
считаем, что в итоге выраженные дурная и благая энергии воли
(когда сделаны все надлежащие оценки и описания, которые,
конечно, включают и телесные изменение) адекватно представляют
то хорошее и дурное, что человек сделал. Если степень
моральности жизни человека измеряется в морали как целое, то, вероятно,
282
Идеальная моральность
именно так и следует проводить оценку; хотя возможно, что с какой-
то другой точки зрения — которую мы не разделяем, — это
можно делать иначе.
В завершение мы должны предупредить читателя, что не
следует думать, будто моральность нужно оценивать по
интенсивности работы морального сознания. Тот, кто никогда не знал себя как
хорошего или плохого, еще и не был ни тем ни другим, не был
морален. Чтобы быть моральным, необходимо знать благо и зло, а это
знание (см. Эссе VII) предполагает осознанный акт воли, с
которого начинается ответственность и в силу которого мы становимся
ответственными за неосознанные волевые акты, ибо уже знаем,
каковы они, и должны их контролировать. Самосознание
необходимо для морального существа, но опасно и ошибочно думать, что
все, что связано с моралью, должно быть связано с самосознанием.
Для того чтобы быть моральным, не нужно знать, что поступаешь
правильно; еще меньше нужно знать, что поступаешь правильно
ради моральности и более ни ради чего. Из того, что
самосознание — условие вменяемости, еще не следует, что все, что
вменяется в вину, должно быть сделано с участием самосознания.
Человек направляет волю к благу и злу, не обязательно продумав это
заранее; еще в меньшей степени является предумышленным во-
ление блага, только поскольку это благо, а зла — потому что это
зло. Желать зла только потому, что оно — зло, как нам кажется,
невозможно; желание морального только потому, что оно
морально и ради моральности, требует определенной культурной
установки, а потому не является общепринятым. Вполне
принято волить правильного, потому что оно — правильное, хотя и
ради правильности; но в большинстве случаев мы так не поступаем,
потому что действуем по привычке, не думая. Привычка имеет
первостепенное значение, и она не обязательно должна быть
осознана; тем не менее ее можно вменить в вину, ибо она
формируется осознанными актами воли, и воля не может отречься от
того, что сделала. Привычки мы поощряем или терпим, мы знаем
или должны знать о них; мы знаем, каковы они с моральной
точки зрения, а потому несем за них ответственность. Характер,
283
Эссе VI
сформированный в силу привычки, — воля в настоящем, и,
хотя мы можем и не знать о нем все, он все же делает нас тем, что
мы есть141. Наша воля — это не то или иное воление, она
существует не только пока мы сознаем ее. Наша воля — сформированная
привычка поступать так или иначе, невзирая на помехи. И при
определенных условиях, которые мы вправе ожидать, она
выразит себя в определенных актах. Именно такая воля делает
человека моральным, и ей не нужно всегда, в каждом своей поступке
осознавать, что она делает.
Подведем итог: оценивая моральность, мы берем
экстенсивный и интенсивный параметры актуального состояния
(осознанного и неосознанного) воли к благу, без учета экстенсивного и
интенсивного параметров (сознательной и несознающей) воли к дурному,
и все это в отношении к тому, что можно назвать случайностью,
т. е. к степени образованности, которая была доступна человеку,
его энергичности, природному нраву и всякого рода
обстоятельствам, от которых зависит, увеличится или уменьшится энергия,
за которую мы не несем ответственности. Моральность как
моральность отдельного человека может быть, а может не быть осознанной.
Она стремится к цели прямо и открыто как к моральной цели,
которая всецело принадлежит сердцу и собственной воле, и потому
осознанна. Или она волит цель ради нее самой, прямо и открыто,
но, пока эта цель не принадлежит ее сердцу и воле; и далее, ей
даже не нужно всегда сознавать, что она поступает правильно: в
таких случаях она несамосознательна. Но с моральной точки зрения
одна сознательная моральность не выше несознающей.
Моральность человека в таком случае — процесс
утверждения идеальной самости, взятый не со стороны установления
содержания, но в отношении интенсивности работы воли. Его
нужно рассматривать в связи с естественной энергией, нравом,
и всеми обстоятельствами; а также в отношении к тому, с какой
141 Наша воля осуществляет акты, которые существенно связаны с нашими
привычками. На них мы решаемся сами, сознательно, зная о том, каковы они
в моральном отношении, или не решаемся, хотя должны были бы. Таким
образом, эти привычки — наши, и формируют устойчивый характер воли.
284
Идеальная моральность
интенсивностью отрицается ложная самость, ибо отрицание
неотделимо от утверждения. В него включается желание претерпеть
физическое изменение, дабы обрести систематичность, поскольку
эти изменения служат средством утверждения идеала и отрицания
дурной самости. Основание и итог моральности — привычка или
состояние, которое является физическим воплощением и основой
процесса и которое, будучи неизменной волей к благу, является
добродетелью, равно как стремление к дурному, ставшее
привычкой, является пороком.
Или моральность — систематизация самости посредством
реализации в ней идеальной самости как воли. Свое содержание
идеал приобретает из (1) объективной реализованной воли, (2) еще
не реализованной объективной воли, (3) идеала, содержание
которого не может быть (в сфере морали) реализовано в
объективной воле.
С одной стороны, этот процесс можно понять как
самореализацию, в том смысле, что он является отрицанием воли,
содержание которой отлично от истинного содержания самости, и
утверждением воли, чье содержание — тот идеал, в котором единственно
только самость может искать истинную реализацию.
С другой — поскольку sine qua non условием этого процесса
является противоречие, он пытается реализовать то, что
нереально по своей сути, и, желая подавлять конечное, стремится к тому,
чтобы исчезнуть как лишь моральность.
** *
Моральность приблизительна; и, прежде чем двинуться
дальше, нужно понять, как следует понимать это ее качество. Читатель,
вспоминая нашу критику верховного блага в гедонизме142, может
возразить, что то противоречие, которое мы в нем обнаружили,
присуще всей моральности: всякий раз, беря на прицел, мы бьем
мимо цели, и пытаемся приблизиться к тому, к чему
приблизиться невозможно. Нужно постараться прояснить суть дела.
142 См. Эссе III. — Примеч. переводчика.
285
Эссе VI
(1) В морали нам совершенно не удается реализовать цель, — это
неправда. Если бы дело обстояло так, мы не были бы моральны.
Идеальная самость осуществляется в нашем сердце и в том, как
мы живем, наша воля отождествляется с ней и на самом деле ее
реализует, хотя дурная самость никогда не исчезает, а благая самость
несвязна в себе и фрагментарна. «Да, но, — возразят нам, — это
утверждение было справедливо и в отношении гедонизма.
Гедонистическая цель также реализуется частично». Не так, ответим
мы. Если мы попросим описать, что значит «реализована
частично», нам предложат на ту часть суммы удовольствий, которую
человеку уже удалось испытать; и мы тотчас скажем, что она —
вовсе не реальна; в ней вообще ничего нет. Прошлое — прошлое,
и «у меня было чувство» не значит «у меня есть чувство»; так что
согласно оригинальному гедонизму, я только то и делаю, что
пытаюсь возвратить к жизни то, что было рождено мертвым, а
потому не может ничем владеть. Но в морали прошлое и в
настоящем налично в воле, а воля — реальность блага. Гедонизм с этим
не может согласиться.
(2) Но остается вопрос: не стремится ли мораль к ложной
цели? Не представляет ли она собой всего лишь количественное
приближение к нулю? Мы ответим, нет, она представляет собой куда
большее. Конечно, если посмотреть на моральную цель с точки
зрения дурной самости, то она состоит в том, чтобы превратить
эту цель в ничто, и вопросом нашего противника устраняется
возможность лишь негативной моральности. Но, как мы уже
объясняли143, истинная моральность состоит в том, чтобы утвердить
благую волю. В таком случае нам следует сказать, что она стремится
к нулю моральности как таковому (т. е. ради противостояния злу),
но не к нулю позитивной воли к благу.
(3) Но, пусть так, не является ли моральность приближением
к бесконечному количеству; не напрасный ли это труд, попытка
достичь дурную бесконечность? И опять мы говорим, нет.
Моральная цель не сумма единиц: она — качественное совершенствование.
143См. Эссе IV. — Примеч. переводчика.
286
Идеальная моральность
Я хочу не просто чтобы возрастало количество; но я желаю того,
чтобы то количество энергии, которое имеется в моей воле, было
всецело потрачено на благо идеала. Объект должен стать для
меня бесконечным целым, и для этого я должен отождествить свою
волю с бесконечным целым. Величина целого вообще не берется
во внимание. Да, действительно, хотя всего лишь количество не
является целью, цель все же подразумевает количество. Совершенная
самость означает: ноль дурных качеств, ноль нейтральной или
неопределенной энергии. Следовательно, меру морального
совершенства можно измерить тем, насколько уменьшилось неморальное
и имморальное. Однако подавление этих отрицательных
моментов как таковое еще не есть цель; и хотя благую волю, с одной точки
зрения, законно можно рассматривать как сумму единиц
определенного рода энергии, сама по себе величина не имеет
определяющего значения, и совершенно ложно утверждение, что моральное
совершенство должно возрастать или уменьшаться в зависимости
от того, прибавляются или отнимаются эти единицы.
Каждым словом эти вопросы пытаются сбить нас с
намеченного курса и увести в абстрактные рассуждения, поскольку в
конечном счете затрагивают сугубо метафизические проблемы. И вот
мы подходим к еще одному вопросу, который грозит завести нас
еще дальше и нашему ответу на который суждено остаться
поверхностным. Какой смысл имеют слова «выше» и «ниже»
применительно к морали?
(1) Если «моральный» понимается в строгом смысле, то этот
вопрос мы уже обсуждали выше144. Строго говоря, более высокая
ступень в историческом процессе не более моральна, чем та, что ниже.
Ибо в случае с личной моральностью мы рассматриваем не
относительную полноту идеала стремления, а то, насколько данная
сумма энергии пришла в тождество с конкретным идеалом. И об этом
мы рассуждали столько, сколько казалось необходимым.
(2) Но если понимать «моральный» в более широком
значении, то возникает вопрос, который мы не обсудили должным
144 См. Эссе VI. — Примеч. переводчика.
287
Эссе VI
образом. Если человеческая история — эволюция145, каким
образом одна ее ступень оказывается более морально высокой, чем
другая? Ибо в определенном смысле европеец, безусловно, морально
более совершенное существо, чем дикий человек. Он стоит выше,
потому что тот образ жизни, который он унаследовал и который
реализовал в большей или меньшей степени, более
соответствует истинной природе человека. В нем более детальная
спецификация сочетается с более полной гомогенностью. И он морально
более высок не только потому, что благая воля более блага
сообразно тому, насколько близок к истине образчик, к которому она
стремится, но также потому, что та ступень прогрессирующей
реализации человеческой природы, на которой рождается
европеец, является продуктом воли, которая была большей частью волей
к благу и теперь, как ни крути, является живым воплощением
благой воли. Таким образом, если мы считаем, что в процессе
эволюции одна ступень является более высокой, чем другая, то мы
также можем сказать, что одна ступень более моральна, чем другая.
Но (как и раньше) в строгом смысле всеобщий прогресс
человечества не имеет морального характера, ибо он отвлечен от
столкновения добра и зла в личной самости.
На этом нам, пожалуй, нужно было бы остановиться, если
бы навязчиво не встал новый вопрос. Есть ли вообще такое нечто,
как прогресс? Не означает ли прогресс постоянное «больше»
вероятное приближение к бесконечной сумме? И, если так, не
является ли прогресс иллюзией движения в абстракции? Мы
убедились, что количество противоречиво в себе, и пытаться достичь
его ошибочно; так что «больше» не может стать «наибольшим».
По сравнению с бесконечностью все конечные суммы равны.
Задавая вопрос об отличии каждой из них от бесконечного, желая
сравнить различия между собой, вы всякий раз получаете один
и тот же ответ: между бесконечным и каждым из конечных
лежит качество, о котором мы никогда не можем сказать ничего,
кроме того, что оно не является ни одной из конечных сумм.
145 См. Эссе V. — Примеч. переводчика.
288
Идеальная моральность
Так перед лицом бесконечности между конечным нет разницы,
и возражению нельзя отказать в силе. Прогресс как движение
в направлении совершенного кажется пустой иллюзией.
Верно, мы можем отступить и использовать наш тезис о том,
что цель — истинно бесконечное, полное тождество гомогенности
и спецификации146. Мы можем настаивать на том, что она не
является количеством, и можем повториться, что в определение
совершенства не входит понятие простой величины. Но трудность
не исчезает. В контексте процесса эволюции высшее определяется
как то, что более гомогенно в условиях большей спецификации,
и на самом деле создается впечатление, будто высшее и низшее
в итоге сводимы к количеству, экстенсивному или
интенсивному, поскольку тот выше, кто в большей мере причастен
истинной природе человека. Рассмотрим пример: предположим,
некий человек совершенен, самодостаточен и гомогенен, а затем
получает то, что называют высшими качествами, и становится
менее самодостаточен. Не прогресс ли это и не прогресс ли это
в силу того, что он получил больше? Не является ли более
широкая и глубокая истина высшей истиной? И не потому ли она
выше, что вы приобретаете нечто помимо того, что у вас уже
было или, больше того, что у вас было в недостатке? И, опять-таки,
не вытекает ли из всего этого, что прогресс — иллюзорное
количественное продвижение в сторону абстракции?
Как выйти из этой ситуации? Поможем ли мы делу, сказав:
то, что «выше», таково, поскольку то, что ниже, как элемент
содержится в нем как в превосходящем его целом; а то, что ниже
такого, поскольку с точки зрения высшего ограниченно и узко
и положение, став на его место, то, что выше, придет в
противоречие с собой? Но не возникнет ли опять вопрос: «Если не
следует брать во внимание количество, тогда почему выше та
позиция, которая больше в себе содержит?»
Я знаю только один ответ: совершенно то состояние, в
котором мы можем пребывать без противоречия, а низшее таково,
146 См. Эссе П. — Примеч. переводчика.
289
Эссе VI
потому что оно в себе противоречиво, а потому вынуждено,
выходя за свои пределы, двигаться вперед к другой ступени, которая
разрешит противоречие, существующее в низшей, и приобретет
относительное совершенство. Читатель без труда заметит, что
если целое, которое само не конечно, существует в конечном, то оно
должно быть отличным не только от того, что вне его, но и от
самого себя. Расширение того, что ниже до такой степени, чтобы оно
вошло в высшее единство и разрешило в нем противоречие своих
элементов, будет шагом к решению противоречия. Именно
поэтому продвижение вперед заключается в более конкретной
спецификации и более полной гомогенности, а следовательно, может,
до определенной степени, быть измерено количеством. С этой
точки зрения «высшее» стоит над «низшим» не потому, что
содержит большее число единиц, но потому, что представляет собой
гармонию тех элементов, которые в низшем единстве были в
противоречии. Я попрошу читателя отнестись к этому выводу не как
к конечной истине, а как к поводу для размышления.
Но если кто скажет, что должен идти дальше и возразит:
«Хорошо, но целое реализовано на каждой ступени, и нет
такой, где оно было бы реализовано совершенно без
противоречия. На одной оно столь же действительно и полно, как и в
другой —
As full, as perfect, in a hair as heart,
As full, as perfect, in vile man that mourns,
As the rapt seraph that adores and burns;
To him no high, no low, no great, no small;
He fills, he bounds, connects, and equals all»147,
я, признаюсь, не смогу последовать за ним. Если бы я и смог, это
было бы недопустимо, учитывая тему моего размышления. Ибо
147 Он, совершенный, в каждом волоске;
Он, совершенный, в ропоте дурном
И в ангельском восторге неземном;
Ты для него не мал и не велик;
Он связь, равенство, целостность, родник.
Поуп Л. Опыт о человеке / Пер. В. Микушевича. — Примеч. переводчика.
290
Идеальная моральность
точка зрения морали действенна только в контексте процесса
эволюции.
Вопрос: «Является ли эволюция или прогресс истиной с
высшей точки зрения?», — поднимает проблему, которую в состоянии
решить только метафизическая система. Мы же многие вещи
считаем истинными и не можем считать таковой только что-то одно;
и, хотим мы того или нет, все эти мысли приходят нам в голову,
и мы признаем: «Процесс изменения истинен. Возможно ли
мыслить прогресс, и тем более эволюцию, как непротиворечивые? Кто
в Англии может ответить на этот вопрос? Хотя может показаться,
что часть всей энергии, которая сегодня тратится на проповедь
догматов эволюционизма, была потрачена на вопрос: «Что есть в целом
процесс и, в частности, что есть эволюция? Является он
противоречие в себе или нет? И если да, то что из этого следует?» Но
утверждать приятнее, чем критиковать, и в Англии до сих пор не создано
философии, в основе которой не лежала бы догма.
Но, чем бы ни была эволюция, она неразрывно связана с
этикой. Задаваться вопросом, что она есть, значит подняться над ней
и шагнуть в область за пределы морали.
ЭССЕ VII
Себялюбие и самопожертвование
Недумающему человеку утверждение о том, что себялюбие
и самопожертвование в равной степени эгоистичны,
покажется простой глупостью, которая, если только допустить
мысль об истинности, повергает в изумление и ужас. Однако факт
такого рода реакции — повод задуматься. Ибо известно, что
удивление — начало философии и что, когда раскрывается самое
потаенное, новичка охватывает дрожь.
Но, если серьезно, не удивительно ли, что люди верят, будто
мир устроен на универсальном принципе выгоды для себя, и не
удивительно, что в это верят даже те, кто не исходит из самых
низменных помыслов, но часто отказывают себе во многом, и кто лучше
и мудрее нас? Эта вера — факт. Но это только одна сторона. С
другой — факт, что люди верят в самопожертвование, и факты
такого рода должны привлекать наше внимание. Ибо более всего мы -
особенно те из нас, кто в основном говорит о фактах, — стремимся
держаться фактов. Наш долг — брать во внимание все факты без
разбора, вне зависимости от того, отвечают они нашим взглядам
или нет. Мы должны, по возможности, объяснять их, но не
оправдывать; размышлять над ними и искать причины, но не думать,
что, найдя ее, тем самым обрели короткий путь к самим себе.
Однако у нашего предприятия узкие границы. Мы хотим, не
привлекая, насколько это возможно, сторонних мнений, поставить и
попытаться найти ответ на вопрос: «Что такое себялюбие и что такое
самопожертвование?» и добавить к нему: «На каком основании
отрицается себялюбие?» Начнем с последнего, и будем опираться в
нашем рассмотрении не на известные теории, но на самих себя.
292
Себялюбие и самопожертвование
Если самолюбие — своекорыстие, а искать выгоду для себя
означает всегда действовать, согласно желанию и своему желанию —
делать только то, что хочется, тогда, конечно, корысть следует видеть
во всех предумышленных действиях. Ибо невозможно поступать
предумышленно, не помышляя о предмете; долг тогда исполняется ради
долга, когда является объектом желания, хотя и не служит движущей
причиной; и только мысль о том, что нравится или не нравится, ведет
к результату. Говорим ли мы о слепом желании или осознанном или
о продуманном акте воле, — результат один и тот же. Нет действия
без причины, которая дает ему быть, а причина — это всегда
болезненное ощущение или чувство удовольствия, или же и то и другое.
Мы стремимся к тому, что нам нравится, и избегаем того, что не
нравится; мы делаем то, что хотим, — вот что такое себялюбие.
Одобрение или неодобрение других людей не имеет значения,
ибо оно не касается главного. Можно хотеть или не хотеть делать то,
что от вас хотят другие, но делаете вы то, чего хотите. А потому, если
ограничиваться точкой зрения морали, то, что бы вы ни делали,
статус вашего действия всегда один и тот же, поскольку причина всякий
раз одна и та же — ваше собственное желание или неохота; и
следовать как одному, так и другому всегда эгоистично. В чем еще
выражается себялюбие? Я могу услышать от других людей: «Вы либо
соглашаетесь, либо отказываетесь», «Вы выбираете лучшие из средств,
чтобы достичь цели» или же «Вы ошибаетесь», но для меня это
ничего не значит: мораль зрит в корень, она видит, что каждый мой
шаг направлен на то, чтобы удовлетворять самого себя, — это все,
на что я способен. Если бы мне вздумалось поступать иначе, — то это
был всего лишь иной способ самоудовлетворения.
Могу ли я жертвовать собой? О да, мне может нравиться то,
что не нравится другим, и, в стремлении достичь, цели, я могу
нанести вред себе, доставив удовольствие другим; но к такому
результату может привести любое действие, равно как следствие любого
из моих действий может быть приятно мне и неприятно другим.
Итак, самопожертвование — особый вид своекорыстия, исток
которого — ошибочные представления или экстравагантный вкус.
Конечно, окружающие могут считать мой поступок приемлемым
293
Эссе VII
и тем самым одобрять его; но абсурдно заключить, что я не
приемлю того, что делаю, когда совершаю тот или иной поступок. Будь
так, я бы не стал этого делать. И даже если мои чувства
извращены настолько, что я нахожу удовольствие в боли (чего не может
быть), то это, конечно же, не значит, что у меня вообще нет
желаний или что я не стремлюсь их удовлетворять.
В примерах есть польза, поскольку они апеллируют к чувствам;
но пример не может заменить живой факт, а вот отвлекать
внимание может; а живые факты, повторимся, таковы: без желания нет
действия: желание — мое желание: я делаю то, что хочу; а
следовательно, какими бы ни были мои действия, движущие меня
мотивы и мое сердце — корыстны; а в морали сердце и мотив
определяют поступок.
Такое основание мы можем подвести под теорию себялюбия,
и мы увидим, что в определенном смысле это основание прочно.
Что на это скажет практик?
Практик, я думаю, сказал бы что-нибудь в таком роде:
«Истина такова: человек делает то, что у него на уме, или, если угодно,
то, что хочет; но я называю и не называю человека эгоистом,
смотря по тому, каково то, чего он хочет или что ему нравится.
Некоторые люди стараются поступать правильно, другие делают
только то, что хотят, стремятся удовлетворять только себя; и
моральный облик каждого из них зависит от природы того, что
приносит удовлетворение». Вынуди мы его продолжить, сказав: «Да,
но вы преувеличиваете разницу; то, что доставляет человеку
удовольствие, — то, чего он хочет, следовательно, он в любом случае
делает то, что ему нравится, и делает это, потому что ему
нравится; вопрос в том, почему он делает это, и это „почему" — его
личное желание или неохота; следовательно, он всегда по сути
своей эгоистичен» — тогда, я думаю, наш предполагаемый
практик вообразит, что мы его хотят запутать. Для него, все вопросы
«почему» — ерунда и способ ввести в заблуждение. Для него факт,
что одни люди хотят блага, а другие — простых удовольствий,
и он уверен, что для этого нет еще какой-то внешней причины,
наподобие той, что мы предложили. Он считает, будто мы пытаемся
294
Себялюбие и самопожертвование
убедить его в том, что, когда он и другие люди стремятся к
благу и избегают зла, они поступают так ввиду чего-то неявленного,
и их поступки являются средством для чего-то еще, для некой
цели, — и эту мысль с негодованием он отвергает. Вопрос о мотиве
ему кажется либо пустой банальностью, потому что спрашивает
о том, что и так известно; либо попыткой ввести в заблуждение,
поскольку стоит на заведомо ложном основании.
И он прав. «Я делаю то, что хочу» — пустое высказывание.
Было бы странно ожидать, что из него можно получить новый
вывод, если только истина — это не чистой воды тавтология.
Подобно учению об «относительности знания», если оно и имеет какое-то
значение, то только как отрицание лишенных значения фикций,
но на нем невозможно ничего построить. «Я знаю то, что знаю»,
«Я переживаю то, что переживаю», «Я хочу то, что хочу»;
конечно, «в этом есть истина»; та же, что в «Я есть то, что я есть»; но это
жалкое соседство и эти истины служат только философу. Они
небесполезны, поскольку привлекают внимание к форме, которая
осталась без внимания; но, кроме формы, в них ничего нет; и
попытки увидеть в них нечто большее будут ошибочны.
Утверждение «Без субъекта нет объекта» небесполезно, но только как форма;
если мы забываем об этом или пытаемся игнорировать, то
впадаем в бесчисленное множество ошибок; а под утверждением «Нет
объекта без субъекта» скрываются наши собственные предвзятые
мнения о природе субъекта и объекта, о природе опыта, о
природе мотива и воли, — оно становится опасной ловушкой. Что есть
«Я»? что есть мой объект? что означает слово «опыт»? что я на
самом деле хочу? и что мы должны сказать о самости, которая хочет
это что-то? — вот вопросы, от которых нельзя отговориться
никакой пустой формулой; это вопросы, которые, если оставить их без
ответа, делают тщетными прочие теоретические измышления и
ответ на которые невозможно получить, используя некую формулу
как обманку, чтобы отвлечь внимание в тот момент, когда
фокусник подбросит заранее готовый вывод.
Тому же, кто считает, будто действие связано с желанием,
фраза «Я делаю то, что хочу» говорит не более, чем «Я хочу то, чего
295
Эссе VII
хочу» или «Я делаю то, что делаю». Этим наносится последнее
поражение негативной морали, аскетическим мечтам о том, что можно
действовать, не испытывая желания и не стремясь к удовольствию.
Ибо желание не исчезает, пока продолжается жизнь и длится
действие; аскет может изменить объект желания, но само желание
он может подавить только настолько, насколько может подавить
жизнь в целом; пока он (аскет) существует, он желает и делает то,
чего хочет; если он желает уничтожить желание, это все равно
желание; если он желает устранить волю, он все равно волит до тех
пор, пока сам не будет уничтожен вместе со своей волей; и здесь,
как и прежде, вопрос стоит об объекте желания: является ли цель,
которую он ставит, правильной, и являются ли средства, которые
он использует, средствами, ведущими к этой цели. Однако не
наша задача обсуждать это. Возвращаясь к главному вопросу, —
когда нам говорят, что мы делаем только то, чего хотим, мы
отвечаем: «Да, для нас делать и желать — одно и то же».
Но это не все. «Мы делаем то, что хотим, и делаем это потому,
что хотим это делать». Что можно сказать в ответ? Это либо вздор,
либо ложь. Вздор, если «потому, что я хочу» означает, что именно
желание или страсть побуждают меня к действию; ибо эта фраза,
претендуя на некий смысл, на деле повторяет формулу «Я делаю
то, что хочу». Но, если «потому, что я хочу» означает: все мои
действия направлены к цели, которой я считаю собственное
удовлетворение, — то высказывание грубо и ложно.
Давайте поразмышляем над этим в надежде быть
вознагражденными за труды. (1) Всем известно, что есть действия,
которые, по нашему признанию, мы совершаем без мотива; прежде
всего, это те поступки, когда человек заранее не имеет (не
осознает) представления, что будет делать; и во вторую очередь (и
последние представляют наибольшую важность), это те
поступки, которые совершаются умышленно и с определенной целью,
но совершение которых, однако, не имеет какой-то иной,
неявной цели, кроме самого поступка. В обоих случаях мы не сознаем
какого-либо мотива, у нас нет мысли о цели, которую нужно
достичь, помимо мысли о самом поступке; и в этом случае для нас нет
296
Себялюбие и самопожертвование
«потому, что» — мы делаем то, что хотим и просто ошибочно
предполагать, что в уме или для ума есть другая, еще какая-то цель,
которая обуславливает поступок или для которой этот поступок
является средством. (2) А там, где мы поступаем, как было сказано,
с мотивом, где мы сознаем причину, цель, объект, который стоит
по ту сторону поступка, которому служит поступок, там эти
мотивы, эти мысли о целях или объектах, которые следует
реализовать, весьма различны. Мотивом поступка может быть мысль или
другой поступок, или сложное сочетание того и другого; им
может быть идея цели, которую должно осуществить мое действие,
удовольствие или счастье, боль или вред другому; одним словом,
идея любого события, мысль об осуществлении которого
определенными средствами возбуждает страсть или желание, а потому
является мотивом. Во всех этих случаях мной руководят не мысли
о будущем удовлетворении: но она может быть и иногда
является мотивом. Я могу представлять, что поступок доставит мне
приятные ощущения, и считать их своей целью; возможно также, что
целью, которая для меня является принципом и мотивом,
выступает желание всегда и везде, и конкретно в данном случае,
получить максимальное удовольствие.
Проиллюстрируем сказанное: я ем потому, что голоден
(инстинктивно или несознательно), или просто из желания отведать
какое-то конкретное блюдо; и в том и в другом случае нет мотива
как такового. Но он может быть. Возможно, я хочу доставить
удовольствие тому, кто меня угощает, или не дать другому съесть это
блюдо; возможно, я болен и ем, превозмогая боль и отвращение,
потому что должен поддерживать жизненные силы. Но в каждом
из приведенных ситуаций нельзя сказать, что мной движет
именно идея удовольствия. Я могу рассчитывать на него, а могу и нет.
Я не говорю себе: «Сейчас мне доставит удовольствие это,
поэтому я сделаю это». Так происходит, только если я думаю о еде, еще
не приступив к обеду, когда воображаю вкус того, что собираюсь
съесть, понимаю, что он мне приятен, и эта приятность становится
мотивом съесть; или если я, не вызывая в воображении
конкретного образа, знаю, что, съев то или иное блюдо, получу удовольствие,
297
Эссе VII
и ем, только чтобы испытать его. В этих двух случаях мной на
самом деле движет идея удовольствия148, в то время как в двух
предыдущих — нет.
Итак, мы видели, что можно поступать согласно
инстинктивному импульсу или сознательному желанию, имея или не имея идею
неявной цели или цели, которую мы обычно называем «мотивом»:
и что сказать, что идея моего удовлетворения — это «потому, что»,
т. е. причина всех поступков, понимается ли она как мысль об
удовольствии, которое я хочу получить в данный момент, или об
удовольствии как таковом, включающем то, которое я могу испытать
сейчас, — значит просто пренебрегать фактами, вынося суждение,
исходя из собственного опыта. Ссора и нанесение вреда могут быть
намеренными, но вместе с тем не иметь мотива, который
понимается как неявная цель, поскольку часто человек оказывается движим
только негативным желанием ненавидеть и позитивной жаждой
мести. Коротко говоря, я могу убить, потому что хочу этого, но, скорее
всего, я не сознаю это желание как причину или повод к убийству;
т. е. я не говорю: «Я убью его, чтобы не ощущать это желание или
чтобы удовлетворить его», хотя, без сомнения, это возможно.
Итак, примем это все как данное; но до сих пор нам не удалось
разубедить веру в универсальность принципа себялюбия. В защиту
этого учения можно также сказать: «Но, все, что вы сказали, к
делу не относится. Все желаемое приятно (или, если угодно,
кажется таковым), и только то, что приятно, желаемо149. Удовольствие
движет. Удовольствие — мое удовольствие, а потому должно
следовать, что в этом смысле мое удовольствие — мой мотив, и в этом
моя корысть». Проверим это утверждение.
«Все, что желается, — приятно (или кажется таковым)» —
применительно к инстинктивным желаниям это утверждение, как
мы убедились, сомнительное. Можно — так, между прочим, —
задать, например, вопрос: удовольствие ли заставляет ребенка
148 Подробнее об этом будет сказано ниже.
149 Из соображений краткости я не стал рассматривать отвращение от боли.
В контексте любви к себе, избегать боль — то же самое, что стремиться к
удовольствию; а потому нет необходимости рассматривать его отдельно.
298
Себялюбие и самопожертвование
сосать грудь матери? Если утверждение относится только к
желанию, в котором объект представлен сознанию, тогда мы согласны
с тем, что в желании желаемое — приятное, и ничто, кроме
приятного, не может быть желаемо.
«Движет человеком то, чего он желает»: если здесь имеется
в виду, что волю непосредственно определяет чувство
удовольствия, — я предлагаю согласиться, чтобы была возможность
разобрать другие части утверждения150. «А удовольствие — мое
удовольствие»: да, без сомнения, — я чувствую то, что чувствую, и ничего,
кроме того, что я чувствую; но такого рода формальное
утверждение, как мы видели, ничего не говорит о самости, которая
чувствует; оно говорит о том, что имеется лишь чувство самости, оно
не исключает возможность отнесения к другой самости.
«А следовательно, мое удовольствие — мой мотив;
поскольку именно удовольствие (или, если угодно, боль) склоняет меня
к поступку; и в этом моя корысть». Или по частям: «Мной движут
удовольствие или боль»; на это мы ответим: «Да». «И мое
удовольствие — мой мотив»; на это мы скажем: «Нет», non sequitur151.
Разобранное рассуждение основано, если говорить одним
словом, на смешении представлений о приятной мысли и мысли о
приятном; между идей объективного поступка или события, о котором
мне приятно думать и реализации которого я желаю, и идей
самого себя как субъекта чувства удовлетворения, которое должно
прийти. Нами движут обе идеи; обе мы хотим реализовать, но эти идеи
совершенно различны. Одна, повторимся, — мысленная
реализация акта воли или мысли, или какого-то события, другая —
представление о чувствующей самости в целом или о конкретном ее
состоянии. А значит, можно согласиться с тем, что удовольствие идет
рядом с идеей, которая подталкивает человека к действию, что
150Я же считаю, при такой интерпретации оно ложно. Непосредственно
нами движет ощущение противоречия, и в нем нет ничего приятного, хотя
предполагается, что определенного рода удовольствие оно должно доставлять и
несмотря на то, что в целом переживание может быть приятным. Однако здесь это
не имеет значения.
151 Одно из другого не следует (лат.). — Примеч. переводчика.
299
Эссе VII
оно — необходимое дополнение желания; можно согласиться,
скажу я (сделав необходимые уточнения), считать это учение в основе
своей истинным, и все же нет необходимости признавать, что
мотивом всегда является идея удовольствия как такового.
Очевидно, конечно, что мысль может вызвать удовольствие
и тем не менее что удовольствие не является и не может быть ни
самой мыслью, ни частью ее. Очевидно, конечно, если мы считаем
удовольствие дурным, а сами испытываем удовольствие, то
удовольствие, которое мы испытываем, не является удовольствием,
о котором мы думаем. Мы думаем об удовольствии, которое
будет следствием того или иного поступка; удовольствие, о котором
мы думаем, — наш мотив; мы совершаем поступок, чтобы получить
его. Получить его — наша идея, и нам доставляет удовольствие
обладание этой идей. Это приятная мысль, а потому возбуждает
желание (как — здесь не важно) точно так же как любая другая мысль,
которая не является идеей удовольствия как такового, может
доставить удовольствие и так возбудить желание. Но удовольствие,
которое мы испытываем, не является мотивом; оно не есть нечто, чего
мы хотим, но не получаем. Идея чувства удовлетворения выступает
мотивом тогда, когда актуально переживаемое удовольствие и
последующее желание вызывается мыслью об отсутствующем
удовольствии; но само испытываемое удовольствие не служит
мотивом. В противном случае невозможно объяснить, как происходит
действие; поскольку поступок совершается ради того, что человек
хочет получить. Если к действию движет наличное удовольствие,
то я, совершая поступок, теряю мотив и, как следствие, лишаюсь
удовольствия, или же, в лучшем случае, достигаю удовольствия,
которое не было моим мотивом. Мотив — это чего человек хочет,
а значит, не имеет152. Предположим, что мотив — актуальное
чувство, тогда оно движет, пока актуально. Мы не желаем его и не
можем желать. Я боюсь, что наскучил читателю и продолжаю
досаждать ему, но еще больше боюсь показаться неясным.
152 Я могу желать продолжения того, что чувствую; но желание, чтобы
что-то продолжалось, — желание того, чего нет, чего у меня нет в
настоящем, что я только могу иметь, — я представляю, но не чувствую.
300
Себялюбие и самопожертвование
Мотив, в обыденном смысле этого слова, — всегда объект
желания, но никогда не чувство желания. И мотив как объект
желания никогда не является непосредственным физическим стимулом
к действию. Что движет к действию, будь оно обдуманным или
спонтанным, предшествует ему или нет формальный акт выбора
или принятия решения, — всякий раз желание или желания: и
настоящим стимулом в желании, непосредственным и действующим
движетелем (приятным или причиняющим боль), всегда
является и должно быть переживаемое, а никогда не мыслимое153.
Желание невозможно сделать объектом для ума, и при этом не
разрушить самую его природу154: мысля его, мы делаем его мотивом,
который теперь, будучи идей, сам является не желанием, но
объектом другого желания.
При условии, что движущим мотивом действия выступает
физическая причина, невозможно поступать инстинктивно. И с этой
точки зрения, то, что справедливо по отношению к одному виду
поступков, то применимо ко всем: стимул — чувство. Мое
удовольствие (если это удовольствие), которое движет меня к
поступку, не является, поскольку движет, моим мотивом; а то, что служит
мне мотивом, поскольку является мотивом, не может быть
удовольствием, которое движет. Даже если признать, что среди
нескольких желаний есть одно превалирующее, если признать, что
мы должны выбрать из нескольких приятных объектов наиболее
приятное, это все равно не значит, что выбор осуществляется
между идеями удовольствий; это не значит, что, если выбор определен,
я выбираю то, что его непосредственно определяет. Всегда
выбирать из наличных представлений о будущих удовольствиях как
таковых, в пользу того, которое кажется наибольшим, — эгоистично,
153 Конечно, если вам приятна сама мысль о каком-то предмете, может
произойти так, что вы свяжете (в воображении) удовольствие с предметом, и они
будут одним целым. Но это целое сможет подвигнуть вас к действию только
возбудив какое-то новое чувство.
154 Я не хочу сказать, что оно вообще не может быть схвачено и
преобразовано теоретическим разумом, в то время как на практике, будучи преисполнено
чувственной природы в той же мере, в какой лишено абстрактности, движет нами.
301
Эссе VII
но выбирать то, что доставляет наибольшее удовольствие, не
эгоистично, и не неэгоистично. Это значит, что я осуществляю выбор,
и ничего не говорит о том, что выбираю.
Давайте на этом закончим обсуждение. Удовольствие —
чувство реализованности самости; это чувство самоутверждения, или
гармоничное сочетание того, что ощущается как самость и как
несамость. Удовольствие — состояние чувствующей самости; и
сделать его мотивом — значит полагать, что самость — чувство,
удовлетворенное тем или иным способом или в целом, и представить
дело так, будто как таковая самость является практической целью,
которой подчинено все остальное; и она опять-таки не является
мотивом ни всех поступков, ни их большинства, ни даже (как мы
увидим далее) тех, что корыстны.
Что ж, вы можете сказать, что человек желает только
приятного и удовольствие — его личное удовольствие и (возможно,
добавите из соображений полноты картины) что им определяется
сознательный выбор и направляется случайный — но, со всем этим,
вы, показав, что человек помышляет об удовольствии как таковом,
ни на шаг не продвинулись в доказательстве того, что «Я»
корыстно. Все дело в различии между тем, чтобы получать удовольствие
от цели, и тем, чтобы искать средства ради цели получить
удовольствие; и разница эта огромна.
Я надеюсь, что теперь это не менее очевидно читателю, и,
если так, мы рассмотрим психологический аргумент против
универсального принципа себялюбия. Смысл утверждения о всеобщей
корыстности (скорее неосознанной, чем осознаваемой),
вероятно, станет нам более понятен, когда усвоим, что такое себялюбие.
Ибо сейчас мы ничуть не ближе к заключению, чем были в
начале. Все наши усилия были направлены на то, чтобы показать,
какая путаница связана со словом «мотив», и указать на то, что
приятная мысль или мысль о чем-то приятном — не одно и то же, что
и мысль об удовольствии, мысль о чем-то как только о средстве для
достижение более или менее приятного чувства как такового.
Итак, что такое себялюбие? Мы только что слушали о
стремлении к удовольствию как собственному удовлетворению, и кажется
302
Себялюбие и самопожертвование
естественным отождествить одно с другим, сказав, что себялюбие
и есть такого рода стремление. Можно ли так поступить? Или же мы
должны признать, что, хотя это стремление, конечно, является
проявлением себялюбия, себялюбие есть нечто большее, понятие
более широкое, чем просто искание удовольствий? Это станет яснее,
если мы более подробно разберем, что есть стремление к
удовольствию, — вопрос, который мы до сих пор не поднимали.
Надо быть внимательным, чтобы избежать путаницы. Мы
говорим об удовольствии и удовольствиях так, будто они суть нечто
сами по себе, отдельно от приятного; так, будто приятные действия
просто являются удовольствием, и будто у приятного чувства нет
иного содержания помимо приятности. Это очевидно
несправедливо. Мы назвали удовольствие чувством самоутверждения, но стоит
помнить, что не бывает абстрактного утверждения самости. Самость
утверждает себя в «этом» или в «том», и «это» или «то» должно
быть чем-то ощутимым в конкретном утверждении:
самоощущение не есть нечто само по себе, которое можно отделить от того,
что чувствуется в самости: чувство и чувство меня самого,
утвержденного или отрицаемого, суть не части, а элементы или
аспекты одного целого, и потому их нельзя ни различить, ни отделить
друг от друга. Можно, конечно, утверждать, что в целом чувство
удовольствия, которое сопровождает приятное, можно отличить
от того или иного конкретного приятного чувства посредством
воображения, но мы не станем обсуждать это предложение; но, что
совершенно очевидно, и на чем мы настаиваем, — чувственный
образ удовольствия как такового не является тем, что обычно
называют идеей удовольствия. Люди не всегда так делают: абстрагируют
предмет и представляют его в воображении, даже если есть такая
возможность. Для них удовольствие — нечто приятное: в
приятном чувстве они не разделяют удовольствие и то, что чувствуется;
они следуют ηδέα а не ηδονή155. В удовольствии как предмете
стремления не видят только удовольствие; а стремиться к удовольствию
155 Противопоставляется удовольствие как идея (ηδέα, греч.) и наслаждение
как конкретное чувство (ηδονή, греч.). — Примеч. переводчика.
303
Эссе VII
ради удовольствия значит абстрагировать приятность от приятного
и сделать ее объектом ума. Цель, которая состоит в представлении
о самости, которой нужно просто доставить удовольствие, —
абстракция ума, и последовательно стремится к ней можно только
в теории. Идеальный сластолюбец жаждет удовольствия, а
приятного — как средства, которое к нему ведет; но этот идеал
недостижим, и настойчивая охота, которую сластолюбец, как
предполагается, должен учинить, на практике невозможна.
Не существовал такой человек, который не желал бы многого
ради него самого; история не знает идеального сластолюбца; и все
же до определенной степени человек преследует удовольствие и то,
насколько ему удастся приблизиться к идеалу, зависит от того,
насколько он преуспеет в том, чтобы сделать объектом своих
желаний абстрактную приятность. Как это возможно? — вот вопрос,
на который было бы нелишне ответить.
Сластолюбец не всегда был таковым. Считается, что дети
стремятся к приятному, но никто никогда не называл маленького
ребенка сластолюбцем, а мы все были детьми. Наш сластолюбец
вначале, т. е. когда достиг той ступени, когда стал осознавать
существование объектов и испытывать к ним желание, искал случайных
удовольствий, не отдавая себе в этом отчета. И назвать эту ступень
в развитии желания приятных вещей можно «инстинктивным
желанием». Что тогда является объектом инстинктивного желания?
Какова та приятная вещь, которая желается? Можно ли сказать:
это объект, с ощущением или идеей которого связано
представление об удовольствии? Это самый верный ответ. Возьмем
пример простого инстинктивного желания и посмотрим, что в нем
происходит.
Я вижу на столе стакан воды. В каком смысле с ним связано
представление об удовольствия, если вообще связаны? Очевидно,
когда я сейчас смотрю на стакан, я не чувствую никакого
удовольствия и не нахожу, чтобы с ним вообще была связана какая-либо
приятная идея. Я представляю, будто пью воду, и вызываю в себе,
насколько это возможно, все те чувства, которые она могла бы
вызывать в реальности. Никакой разницы; я хочу совсем не этого
304
Себялюбие и самопожертвование
и не чувствую ничего приятного. Но вот что я забыл. Я вспомнил,
как буквально вчера сильно хотел пить и как рад был стакану
воды. Тогда мне было приятно, и вот вода напомнила мне об этом,
я представил, как жадно хотел пить и какое сильное удовольствие
получил. Воспоминание доставляет мне такое же удовольствие.
Я снова смотрю на воду; но хочу ли я ее? Нет, я хочу ее не больше,
чем моя собака хочет тот сухой хлеб, который она так жадно ела час
назад и который теперь даже не замечает. Таким образом, мы
видим, что поначалу с водой не было связано идеи удовольствия,
и позже, когда эта связь появилась, я все равно не хотел ее. Но вот
я пробыл несколько часов на солнце и вернулся обратно. Моя
собака, которая напилась из лужи, бежит к хлебу и ест его; а я хочу
пить, вижу воду и выпиваю ее. Теперь я хочу воды; до этого не
хотел. В чем разница? Можно ли сказать: «Да, сейчас я пью,
потому что вода, которую я воспринимаю, наталкивает меня на мысль
об удовольствии, а эти мысли (непосредственно или через чувство)
подталкивают меня к определенным действиям, с которыми
связаны соответствующие архетипы»; или иначе: «Боль подсказывает
мне, что с помощью воды я смогу от нее избавиться, а
освобождение — идея удовольствия, и она наводит меня на действие, и так я
пью»? И опять (оставим в стороне другие возражения156) это не
совсем корректно в отношении фактов.
156 Низшие ступени воли не входят в сферу нашего интереса, но все же мы
можем позволить себе заметить не только что теория «связи» беспомощна перед
тем, что ощущения беспокойства и боли являются стимулом к действию, каковой
факт обнажает ее противоречивость и явную надуманность (пусть читатель
обратится к книге Бейна «Эмоции» [Bain. Emotions. Ed. II. P. 312-13; Ed. III. P. 316-18]),
но и что она не способна увидеть насущной проблемы в том своем тезисе,
который соотносится таки с реальностью и в котором кроется и ее сила, и ее слабость,
в том, что действие первично по отношению к чувству. Она наводит туман,
доказывая то, что к делу не относится, что действие как таковое предшествует
особенным ощущениям чувств (Emotions, 303). Но если выбросу энергии из
физического центра (низшего или высшего) предшествует какое-либо особенное чувство
и какое-либо особенное чувство его сопровождает, тогда, если это так, то
физический исток воли, безусловно, следует искать именно здесь, а не в бездоказательно
постулируемом выбросе энергии, который приводит к удовольствию, хотя
человек не ощущает ни сам этот выброс, ни его начало.
305
Эссе VII
На самом деле вовсе не обязательно, чтобы во втором случае,
когда я пью, с водой были связаны какие-то идеи, которые не были
связаны с ней в первом, когда я не пил. Это выражение нескладно
и наводит на неверные мысли. Если говорить более простым
языком, дело обстоит так. Вода имеет для меня определенное
значение; и, когда я вижу воду и узнаю, что это вода, в моей голове
возникает либо весь комплекс связанных с ней смыслов, либо часть.
Одно из ее значений утолять жажду; т. е. оно включает
представление об определенных действиях, следствиях и ощущениях. В
первом случае эти представления нарочно вызываются в воображении.
Я вызывал их, но они не заставили меня пить. Во втором случае
есть побуждение к тому, чтобы пить, но вопрос вот в чем: когда я
хотел выпить воды, в моей голове было больше идей, чем когда
не хотел? «Да, — скажут нам, — сейчас вы пьете воду, потому что
представляете, какое удовольствие испытаете после того, как
выпьете, — вот эта новая идея. Прежде вы не пили, потому что у вас
не было идеи будущего удовольствия или же она была
недостаточно сильна». Сначала о последней части реплики: если б я на
самом деле имел в виду идею будущего удовольствия, которая
некогда была слабой, а теперь обрела силу, и разница между двумя
ситуациями состояла именно в этом, то вопрос о силе идеи
показывает, что то, что движет, — это совсем не идея, а скорее чувство.
Пропустим это и перейдем к первой части, а именно к
утверждению о том, что, когда я хочу выпить воды, у меня возникает новая
идея — идея будущего удовольствия, и ответим, что на самом деле
не так. Нет сомнения, может статься, что я пью воду именно
ввиду этой идеи; но, если я пью только потому, что испытываю
жажду, просто потому, что хочу воды, тогда (как мы уже видели ранее)
утверждать, что у меня была такая идея, — ложно; а
следовательно, нет этого предполагаемого различия, из которого
складывается желание, хотя само желание существует. Возьмем, к примеру,
простое инстинктивное желание воды. На самом деле
происходит вот что: моему уму предстает определенный объект, который
признается пригодным для питья, т. е. как такой, понятие о
котором содержит идею процесса питья и представление о тех или
306
Себялюбие и самопожертвование
иных сопутствующих чувствах. Эти чувства действительно могут
быть приятны, но, когда имеет место простое инстинктивное
желание, они не даны уму как таковые; и даже если рефлексия
выявляет их приятность и представляет уму идею приятного чувства, все
равно желание (как мы видели) не появляется. Я вижу этот
предмет — это одно; я хочу его — и это уже совсем другое. Сознание
того, что этот предмет — вода, которую можно пить, значит, что
в уме есть определенная идея — желания пока нет: желание есть
тогда, когда, несмотря на причиняющее беспокойство (или боль)
чувство жажды, я нахожу в этих идеях (размышляя о чувствах,
сопровождающих глотание воды, которые те с той или иной
степенью явности вызывают) удовольствие, которое сильно соразмерно
доставляемому беспокойству и vice versa157. Это чувство
самоутверждения в воображаемом процессе питья (о котором говорится, что
он воображаем, отчасти в силу слабости, но в основном потому,
что страждущий не обладает предметом желания и продолжает
испытывать жажду) противопоставлено чувству отрицания
ощущаемого в действительности беспокойства, которое вызывает
такого рода ощущения противоречия и напряжения, которое
приводит к ответному выбросу энергии, направленному на достижение
воображаемого удовлетворения, в котором самость уже чувствует
себя утвержденной. Этот выброс реализуется в действиях,
связанных с определенной идеей, с которой связано достижение этого
неоднозначного и неполного удовлетворения, и в данном случае эти
действия сводятся к питью воды. Желание — это не идея
удовольствия, которую сознает самость; это напряжение, которое самость
испытывает внутри себя. Желание — переживаемые в
действительности боль или чувство беспокойства, которые сопровождаются
предчувствием удовольствия в некой идее, выступающим тем, что
движет к осуществлению этой идеи в реальности. Вот это нечто,
которое должен выпить, — идея в моем уме; это объект желания,
и он мог бы быть мотивом, если не был прямым объектом: ибо
мотив — неявная цель. То, что движет, — стимул удовольствия в идее
157 Наоборот (лат.). — Примеч. переводчика.
307
Эссе VII
на фоне чувства боли в реальности, т. е. непосредственное
физическое prius высвобождения энергии: и оно, как мы видели, не
может быть мотивом или объектом, ибо чувство, которое является
объектом, не является чувством.
Или же возьмем пример с куском сахара. Его смысл сводится
для меня в основном — по крайней мере, сейчас — к чему-то
сладкому на вкус; и я не хочу сахара. Но вот малыш — для него кусок
сахара так же, как и для меня, означает нечто сладкое, но он
просит его. «Так ведь, — ответят нам, — в одном случае есть идея
удовольствия, а в другом — нет». Я, полагая, что ребенок
испытывает непосредственное желание, отрицаю это утверждение. В обоих
случаях очевидно, что имеется идея сладкого вкуса, которая, если
приятна, движет человеком, поскольку создает желание, т. е.
приводит в состояние противоречия, когда отсутствие ощущения
сладкого доставляет беспокойство или боль. Есть вероятность, что я
приведу себя в такое состояние, если съем что-то кислое. Но
ошибочно говорить, что я хочу сладкого потому, что я, так сказать,
уменьшил для себя возможное удовольствие, которое должен
получить, съев его. Рождает ли удовольствие беспокойство или
беспокойство сулит удовольствие, в любом случае желание по своей
сути — это чувство. Во вторник ребенок не просит сахар, поскольку
уже насладился им в понедельник, и сегодня ему хотелось бы чего-
то другого; но, поскольку ощущение чего-то сладкого на вкус,
теперь связанное с сахаром и ставшее в нем объективным,
вызывается в памяти как идея тогда, когда имеет место восприятие сахара,
и, будучи вызванным, возбуждает чувство, которое на фоне
переживания отсутствия сладкого вкуса ощущается как желание и,
будучи желанием, движет.
Объект простого интуитивного желания (т. е. желания
осознаваемых предметов, в смысле низших форм желания) — та или
иная вещь или процесс, восприятие или образ которого (прямо
или при посредстве идеи определенного рода действий) связан
с конкретными чувствами, которые по сравнению с ощущением
недостатка приятны. В данном случае нет разницы,
предшествует ли желание удовольствию в каком-то из этих случаев, или же
308
Себялюбие и самопожертвование
удовольствие присутствует в желании. Опять-таки на данном
этапе безразлично, считаем ли мы, что первоначальное удовольствие
не определялось потребностью, или ему предшествовало ощущение
недостатка. Возникшее теперь чувство удовольствия в любом случае
определяет объект. Объект содержит в себе не воспоминание о том
или ином имевшем место удовлетворении, но его понятие; он
содержит представление о действиях или состояниях, в которых
заключается удовлетворение и может посредством них вызвать схожее
чувство (как отличное от идеи чувства) удовлетворения. Эти идеи
и это чувство приятны, когда есть желание, но не наоборот. Если я
чувствую голод, мне приятно смотреть на пищу; и созерцание
пищи, если у меня нет в ней потребности, может возбудить у меня
чувство голода; но я, будучи удовлетворен, не ищу удовлетворения. Это
справедливо, по крайней мере, в отношении инстинктивного
желания. Простой человек не стремится смотреть на пищу, когда он не
чувствует голода; т. е. целый день присутствовать при поглощении
пищи в публичной столовой ему не доставит удовольствия.
Но желание не остается инстинктивным. В человеке (я не хочу
ничего говорить о низших животных) оно определенно стремится
стать тем, что можно ради удобства назвать похоть. Здесь мы
имеем дело уже не с воображаемым удовлетворением инстинктивного
желания, которое в той или иной объективной вещи или процессе
представляется приятным и возбуждает желание. Объект
перестает быть чувственным и, будучи связан с самостью, которая не
претерпевает изменений, превращается в идею, которая, будучи
противопоставлена тому или иному моменту чувства, относительно
неизменна и может представать уму в отсутствие
действительного восприятия. Следовательно, всякий раз, когда возникает чувство
удовлетворения или желания, как и в других случаях, она предстает
перед умом, когда глаза не видят предмета158. Но это не все. Не
только идея объекта является мыслью, не зависящей от чувств, но
приятное чувство удовлетворения становится предметом рефлексии
158 В пояснение заметим: то редко становится объектом похоти, что никогда
не бывает недоступно, то, чем я всегда могу обладать.
309
Эссе VII
и, как приятное, переносится на объект. Чувство
самоутверждения, достигаемое в обладании объектом теперь, само будучи
идеальным, входит в представление об объекте; а потому, думая об
отсутствующем предмете, мы думаем о нем как об объекте желания
и о том, обладание чем доставляет удовольствие. Представление
об обладании объектом связано с идей удовольствия от
удовлетворения. Человек не просто полагает, что те или иные действия
или чувства приносят удовлетворение, но что они приятны. И это
представление входит в содержание объекта. Я привык думать, что
тот или иной предмет приносит мне удовольствие, когда я им
обладаю, поэтому временами, когда я не обладаю им, идея
приятного чувства возбуждает во мне чувство утверждения, которое ввиду
того, что на самом деле утверждения не происходит, возбуждает
ощущение, будто мне чего-то недостает, и, как следствие,
пробуждает желание159. Теперь содержание объекта — не идея
определенных чувств, приятных или неприятных, которые человек желает
или не желает испытать, но идея определенных чувств, о которых
он думает, что они приятны, и потому создают желание160.
159 В основе похоти должно лежать инстинктивное желание, будь оно
природное или приобретенное. Когда рефлексия представила мне воду как нечто
приятное, вода не вызвала во мне желания, потому что, хотя с ней некоторым
образом было «связано» представление о приятном ощущении, но оно все же не
составляло ее значения. Желание воды всегда простым, частично потому, что
всякий раз его можно удовлетворить, частью потому, что обычно удовлетворение от
питья не особенно велико. Следовательно, рефлексия и абстракция могут
представить уму приятность от питья, но само это представление не вызывает
приятных переживаний, и, поскольку в настоящем мое состояние можно описать как
удовлетворенное, желания не возникает. Идея удовольствия вызвала чувство
удовольствия, но, поскольку не заставила ощутить, что моему нынешнему
состоянию чего-то не хватает, не стала мотивом.
160 Вероятно, легче всего понять суть изменения, в первую очередь
представив себя испытывающим желание к определенного рода чувственному объекту.
Состояние, в котором мы находимся, приятно (или может быть приятно).
Отсрочим удовлетворение, осознаем, какое удовольствием испытываем, и свяжем его с
объектом. Содержание объекта уже не то, что было раньше. К нему добавилась
идея удовлетворенного чувства. И если бы она удерживалось в объекте, стала бы
частью его значения объекта, слилась с его идеей, тогда желание, направленное
на него, было бы уже похотью.
310
Себялюбие и самопожертвование
Таким образом, объект похотливого желания (1) неизменен;
он не есть нечто конкретное. Да, то, что кажется предметом
желания — та или иная вещь; но партикулярное — только случай
или пример того, что можно считать универсальным. То или иное
блюдо или напиток исчезают, будучи съеденными; идеи еды и
питья и тех объектов, которые едятся и пьются, остаются и не
исчезают. И (2) мы думаем о предмете как о том, что приносит
удовольствие; одной из составляющих идеи этого предмета является
представление о самом себе как о том, что приносит
удовлетворение посредством этого предмета и испытывает удовольствие.
Отсюда следует, что похоть нельзя удовлетворить, удовлетворив
то или иное инстинктивное желание, поскольку ее объект не
достигается ни в один из моментов чувства. Когда не было объекта
чувств, имело место воображаемое обладание и его
сопровождала мысль о наслаждении, предвкушаемом наряду с болезненным
переживанием действительного отсутствия предмета: оно стало
частью нас самих, всегда было при нас и постоянно представало
перед умом, который наделил его своей неизменной природой.
Затем появился чувственный объект; и казалось, что он - все, чего
мы хотим, и что все, чего мы хотим, сосредоточено в нем. Не
обмануло нас (как мы полагали) и чувство удовольствия: да,
именно этого, вот этого предмета обладания, жаждало наше сердце;
мы осушили чашу до дна, и больше желать нечего. Но мы
страшно обманулись. Чувственное удовлетворение проходит без следа,
а идея удовлетворения — нет. Она все еще присутствует в уме,
становится более определенной и интенсивной благодаря рефлексии
над воспоминанием о прошлом наслаждении; и в форме мысли
об удовольствии вновь возникает, когда прекращается
наслаждение, и вновь требует реализации. Ее реальность особого рода,
а мы вынуждены искать ее в новых моментах чувства, на которые
направлено инстинктивное желание. И мы, как и прежде,
оказываемся обмануты, ибо идеал, к которому мы стремимся, не имеет
и не может иметь реальности. Он требует своей собственной
реальности и ищет ее в том, что чуждо его природе. Идеал
постоянен, а моменты чувства скоротечны; он объективен, а они — нет;
311
Эссе VII
он всегда находится в уме, а им суждено пройти. Мы пытались
обрести себя в том или ином переживании, но не смогли этого сделать.
Вскоре мы понимали, что не можем реализовать себя ни в одном,
ни во множестве мимолетных ощущений. Мы сделали целью
инстинктивное желание; удовлетворение инстинктивного желания
скоротечно, а цель — более устойчива, поскольку мы
представляем, что должны реализовать в ней самих себя; и, чтобы приносить
удовлетворение, цель должна быть чем-то неизменным и
объективным, которое остается при нас и сохраняет самость
реализованной и после того, как была достигнута.
Нет надобности еще раз показывать, как идея поступка,
которая, неся в себе идею удовлетворения, остается наличной и
сохраняется в конкретном поступке, дает начало процессу, у
которого нет конца161. Укажем лишь, как мысль о цели искусственно
вызывает желание, чтобы достичь чувственного удовлетворения,
и что с этого начинается отвращение. Желание, которое
постоянно не находит удовлетворения, разочарование и боль
объективируются в идее того, что является предметом вожделения, и равно
привлекает и вызывает ненависть.
Мы рассмотрели природу вожделения в сравнении с
инстинктивным желанием; но образец сластолюбия являет не тот, кто
вожделеет и не находит удовлетворения, а тот, кто идет дальше.
Не получая удовлетворения от предмета вожделения и испытывая
разочарование, он приходит к следующей мысли: «Моя цель — то,
что должно доставлять мне удовольствие, но я не нахожу его; и
значит, что-то не так. Я ошибся в цели; мой обман — „иллюзия
тесной связи"; я хотел удовольствия от цели; а потому думал, будто
хотел саму цель; и я обманулся. Я заблуждался в том, что пытался
реализовать объективную цель как цель саму по себе; я убедился
на опыте, что ни один из этих предметов не является той целью,
которую я хочу достичь. Я хочу их все, но ни один — ради него
самого; и это говорит о том, что во всех них есть нечто, что я хочу. Что
же это? Это удовольствие. Идея удовольствия вне связи с каким-либо
161 См. Эссе III. — Примеч. переводчика.
312
Себялюбие и самопожертвование
определенным видом приятного ощущения и вне связи с
реализацией какого-либо объекта — вот моя цель: все остальное
сводится к ней, и именно так к нему и следует относиться». Так думает,
по крайней мере, типичный сластолюбец.
Мы мало что можем добавить к сказанному: нужно обратить
внимание на следующее. Цель теперь, сознательно и явно,
субъективна, ничто объективное не желается ради него самого. И далее,
мы приходим к представлению о цели через процесс рефлексии
и далеко идущей абстракции. Цель не в том, чтобы реализовать тот
или иной объект, ни ради него самого, ни ради приятных
ощущений, которые он порождает; не является она и тем или иным
приятным ощущением самим по себе. Цель — это неприятное,
сознаваемое как приятное, но приятное вне связи со своим содержанием,
только ввиду приятности; она есть удовольствие как удовольствие.
Она предстает в уме как цель постоянной реализации самости,
которая происходит не в том или ином объекте, ни даже в том или
ином ощущении и ряде ощущений, но в абстракции от всякого
содержания. Цель — самость, которая ощущает себя утвержденной.
Ощущение собственной реализованности — вот та цель, которая
взывает к реальности. То же, в чем происходит реализация,
трактуется только как средство. Нет необходимости повторять, что
абстрактное чувство удовлетворения противоречит самому понятию
цели и потому обречено остаться неисполненным; нет
необходимости и повторять, что сластолюбец, как человек, который
постоянно стремится к этой цели, невозможен.
Вернемся к основной теме. После столь длительного и, я
надеюсь, небесполезного рассмотрения феномена сластолюбия,
возникает вопрос: удалось ли нам понять, что такое
себялюбие? И ответ — конечно нет. Сластолюбец эгоистичен и когда
мы представляем его идеальным типом, сознательно
стремящимся к абстракции удовольствия, и когда мы говорим о реальном
человеке, который должен поступать так из соображений
последовательности, т. е. о человеке, который ставит целью
удовольствие от удовлетворения инстинктивных чувственных желаний.
Но эгоист не обязательно сластолюбив, он необязательно нацелен
313
Эссе VII
на предвосхищение удовольствия; и вопрос о том, что такое
себялюбие, все еще открыт.
Прежде всего, чем оно не является? Оно не есть просто
сознательная погоня за удовольствием, ибо эгоистичными считаются
иного рода поступки. Себялюбие не значит делать то, что
нравится, потому что, как мы видели, в определенном смысле всякий
человек делает только то, что ему нравится, и все же мы не всех
называем эгоистичными. Наконец, оно не есть общее название для
дурной самости, ибо все дурные дела огульно называют
эгоистичными. Слабохарактерность, заносчивость, гордыня, мщение и
другие пороки не носят этого имени. Будет нелепо, например,
сказать: «Как эгоистично!» — услышав об убийстве; очевидно, что,
хотя себялюбие — черта дурной самости, последняя не
исчерпывается ею. Если мы зададим вопрос, что такое себялюбие, то,
скорее всего, получим ответ: «Думать только о себе», — ответ,
кажется, верный, хотя здесь нужно кое-что разъяснить. «Думать только
о себе» предполагает, во-первых, «думать», т. е. существо,
обладающее самосознанием, способностью к рефлексии; а
следовательно, будет неверно назвать себялюбивым животное и маленького
ребенка. Во-вторых, это предполагает «не думать ни о чем
другом, кроме себя», что значит: цели, которые эгоист ставит перед
собой, не имеют объективного содержания, которое желаемо само
по себе безотносительно к нему самому. Эгоист, поскольку он
любит себя, не направляет свое желание на объекты, которые
подчиняются принципу, стоящему выше принципа личного
удовлетворения. Если вы попытаетесь найти общую цель, которая вбирала
бы все его стремления, то у вас ничего не получится; вы
обнаружите, что для него все предметы — средства, что ничто не интересует
его само по себе, но он все готов принести в жертву; и, задавшись
вопросом, что общего у всех тех вещей, к которым он стремится,
то обнаружите, что все они служат личному комфорту; а комфорт
состоит в определенном количестве приятного и отсутствии
страдания, и это удовлетворяет его, и он либо сознательно создает,
либо, не осознавая того, видит в нем критерий желаемого. В идеале
сластолюбец сознательно стремится к абстрактному удовольствию;
314
Себялюбие и самопожертвование
в реальности — он сознательно стремится испытать приятные
ощущения, которые следуют за удовлетворением определенных
желаний; себялюбивый человек стремится к приятному в целом и
избегает страдания в целом, не выделяя чувство удовольствия как
явную цель и не утруждая себя охотой за приятным ради
приятности. Он, сознательно или бессознательно, стремится к тому или
иному объекту как к цели, только пока он ему приятен. Если бы он
разделял удовольствие и приятное, стремился получить максимум
удовольствия, но это уже был бы образец сластолюбия: если бы он
гнался за определенным видом удовольствия, он был бы
сластолюбцем в действии. Эгоист — не то и не другое; его
характеризует не столько цель, сколько ее отсутствие, готовность использовать
всё как средство, которое можно отбросить, как только оно
перестанет быть полезным, т. е. определенные предметы или чувства,
которые объединяет только приятность и которые, если вдруг
начинают доставлять страдание, тотчас отбрасываются.
Себялюбие исключает страсть: действуя из любви к себе,
человек никогда не теряет головы, оставаясь холодным; как следствие,
эгоизм препятствует некоторым видам преступления. Он не
совместим с действием ради цели, имеющей иное значение, кроме
личного комфорта; а это значит, человек, который любил морить
голодом своих детей, сколь бы аморально он себя ни вел, не
обязательно эгоист — по крайней мере, не в собственном смысле. Далее,
себялюбие исключает партнерство; неудовольствие от сексуальной
связи или от еды само по себе эгоистично, но их последствия,
настолько, насколько всякое потакание порокам ведет к эгоизму.
Мне видится, что мы дали описание того, что обычно называют
себялюбием: оно не само зло, но одна из его форм. Но нам не
удалось еще установиться, в чем состоит имморальность себялюбия
или чем оно противоречит благу: нужно ответить на эти вопросы,
а для этого выяснить, что есть благая и дурная самость.
Необходимость такого рода разыскания назревала уже давно.
Существование в человеке двух самостей: лучшей, той, что
получает удовольствие от блага, и дурной, которая направлена
к дурному, — это факт, который так очевиден, что его невозможно
315
Эссе VII
отрицать. Религия говорит о внутреннем человеке, который
пребывает в восхищении от закона Божьего, что приводит меня к
исполнению того, что я делаю, и о другой самости, которая испытывает
удовольствие от того, к чему я питаю отвращение; ничего подобного
нет в морали. Ни благую, ни дурную самость нельзя рассматривать
в отношение к Божественной воле, потому что это сразу выводит
нас за пределы морали. Но благая и дурная самость, без сомнения,
существуют и за пределами религии, и всем понятно, о чем идет
речь. Временами я чувствую, что сливаюсь с благом настолько,
будто все мое существо в нем; здесь находят выражение хорошие
привычки и стремления, все здесь мне естественно и близко. Однако
есть дурные привычки и стремления, которые мне не в меньшей
степени близки и в которых я ощущаю себя собой; и я чувствую,
что, поступая хорошо и поступая плохо, я не один и тот же
человек, но два разных, и мир, каким он кажется одному, не таков для
другого. Я испытываю разные чувства не только в разное время,
но даже в один и тот же момент: я ощущаю, что во мне
стремление к благому находится в противоречии со стремлением к
дурному, и в обоих я ощущаю самого себя; и каким бы путем ни пошел, я
одновременно удовлетворяю и не удовлетворяю свои потребности.
Уступив дурной самости, я вызываю недовольство благой; а, если
уступаю благой, дурная остается недовольна; и я вынужден
поверить, что во мне борются две души, два противоположных
принципа, и они заставляют меня бороться с собой; каждой из них
нравится то, что ненавидит другая, и каждая не может терпеть то, что
любит другая. Я знаю, что в этом соперничестве истина на стороне
благой самости, она, конечно, в большей мере я, чем другая; и все
же я не могу сказать, что другая — это не я, и всякий раз
бездействие против дурных наклонностей — только моя вина.
Без сомнения, будет преувеличением утверждать, что это
справедливо для любого человека. Несомненно, есть такие, у
кого дурная самость выражается не в активном противлении благу,
но в отдельных побуждениях или иногда служит сдерживающим
фактором. Просто лучше представлять себе все факты,
требующие разъяснения.
316
Себялюбие и самопожертвование
Две самости не представляют собой простого собрания
желаний и привычек, из которых некоторые мы называем благими,
а иные — дурными. Мы не просто осознаем себя в каждой из их,
но в каждой осознаем себя наделенными определенным свойством:
благим в противоположность дурному или дурным в
противоположность благому. Мы сознаем, что желаем каждую из них в силу
ее особенного характера, и относим свои желания или поступки
не под определенные категории, а скорее к тому, что
представляется действующим центром, воплощенным в воле, которая
утвердила и продолжает утверждать себя в нас и в которой мы сами
утвердили и утверждаем себя не как собрание элементов или
последовательность моментов, но как реально сущее, как то, что
называем своей благой или дурной самостью.
Существо, не обладающее самосознанием и самосознанием
моральным, не может видеть в себе разделения на благую и
дурную волю, — это наше решающее возражение против теории,
которая объясняет две самости как две группы передающихся по
наследству привычек: «эгоистичные» и «альтруистские», которые
она противопоставляет друг другу · Я далек от того, чтобы
отрицать особое значение этой точки зрения и тот факт, что она
проливает свет на суть вопроса, но коллизии в самости ей не удается
объяснить. Для этого есть две причины. Во-первых, как мы
только что видели, она или вообще не уделяет внимания самости или
же признает ее только как собрание, обладающее самосознанием,
а между тем объяснения требует именно двойственный характер
самости; и я не думаю, что учение о двух собраниях, каждое из
которых знает о себе как о противостоящем другому, и оба из
которых входят в большее собрание, которое знает себя как целое, и тем
не менее распадается на два, обладающих самосознанием
собрания, которые противостоят целому, — может быть понятно
человеку в здравом уме. Слабое место этого учения — трактовка
природы самости, с которым мы уже столкнулись в Эссе I. Это первое
возражение.
А второе состоит в том, что передающиеся по наследству
качества не являются естественной основой для развития благой
317
Эссе VII
и дурной самости. Посмотрите на дурную и благую самости разных
людей, изучите их содержание, и вы не найдете их одинаковыми.
Дурная самость — это не то, что всецело состоит из «эгоистичных»
привычек и желаний; содержание благой самости — не всецело
«альтруистично». Опрометчиво делать вывод о том, что в
дурной самости утверждаются сами по себе «эгоистичные»
пристрастия, а в благой самости нет ничего, кроме «альтруистического»
от природы. Я не знаю ни одного пристрастия, которое с
моральной точки зрения нельзя рассудить как благое и как дурное.
Возьмите добродетели или пороки любого человека, и вы
увидите, что естественная основа всякой добродетели при
определенных условиях могла бы развиться в порок, а основа всякого
порока—в добродетель; ибо у пороков и добродетели один корень.
Было бы утомительно детально разъяснять эту мысль, я приведу
только один пример. Врожденное сексуальное влечение
«эгоистично» или «альтруистично»? Если эгоистично, тогда все исходящие
из него добродетели, которым оно доставляет естественный
материал, все, для чего оно служит источником, и все, что питает (не
исчерпывающее ли определение?), — эгоистично и дурно; но это
прямо противоречит фактам. Если сексуальное влечение
альтруистично, тогда пороки, которым оно дает начало (а к их числу
принадлежат самые дурные) альтруистичны и благи; а это опять-
таки противоречит фактам. В том и в другом случае теория
противоречит фактам и самой себе162. А утверждение о том, что вся
благая самость должна быть «альтруистичной», т. е. социальной,
я уже рассмотрел.
Каков тогда исток этих двух самостей? И как они
развиваются из грубого материала естественной предрасположенности? Вот
162 Читатель не должен понять нас неправильно. Я не утверждаю, что дурные
и хорошие качества ни в каком смысле не передаются по наследству. Я говорю,
что эти от природы хорошие и дурные качества нельзя разделить на два класса:
альтруистичные и эгоистичные; и более того, я говорю, что, рассмотрев
актуальное содержание благой и дурной самости человека, вы не обязательно
обнаружите, что все хорошее в нем, — все хорошие качества, унаследованные от
родителей, а дурные — все то плохое, что было в них. Характер человека нельзя свести
к двум кучкам унаследованных черт.
318
Себялюбие и самопожертвование
какой вопрос стоит перед нами, но прежде нужно убедиться, что
мы наверняка знаем их содержание.
Благая самость — самость, которая отождествлена с
моральным благом и находит в нем удовольствие; которая проявляет
интерес и связана непосредственно со стремлениями, действиями,
одним словом, целями, которые реализуют благую самость.
Благая воля — воля реализовывать идеальную самость; а содержание
идеальной самости, как мы видели, трехчастное: социальная
реальность, социальный и несоциальный идеалы. Все, что остается
добавить, теперь, — что благая самость, — это самость, чья цель
и удовольствие состоят в реализация идеальной самости.
Каково содержание дурной самости? Мы не можем ни
подобрать общего названия для ее содержания, ни найти
объективного единства, которому, как цели, подчиняются ее
стремления. Все, что мы можем сказать, — это, что содержание дурной
самости в человеке составляют привычки и стремления, которые
противоречат благу; дурная самость — самость, которая
тождественна с дурным, а дурное — все противное благу, которое
становится предметом воли. Ее содержание — это не просто поиск
удовольствия как такового, ибо он требует рефлексии и
абстракции, что не является обычным для людей: в то же время оно не
состоит в ублажении самого себя, ибо многие из дурных поступков
совершаются без сознательной или неосознанной цели достичь
комфорта. Содержание дурной самости лишено принципа,
не системно и не подчинено никакой цели. Гордость, ненависть,
мстительность, страстность, мрачность, озлобленность, подлость,
трусость и безрассудность в своем содержании не имеют ничего
общего: это способы удовлетворить себя и свою худшую самость,
а поскольку она сама по себе не может быть целью, то вам,
ищущим общее, придется признать, что все стремления направлены
к личному удовольствию; но истинно в этом утверждении только
то, что иной цели нет. Дурная самость, конечно, как мы уже
видели и еще увидим, неким образом едина, поскольку мы
осознаем себя в ней; но это единство не входит в ее содержание, которое
в общих чертах можно описать только через отношение к благой
319
Эссе VII
самости и определить только как противоречие и
противостояние, и никак иначе.
Вернувшись теперь от вопроса о содержании к вопросу о
происхождении, следует прежде всего рассмотреть генезис благой
самости не в мире, а в воле индивида: и вопрос здесь стоит о том, как
возможно, что самость отождествляет себя с тем, что кажется
полностью вне ее? Как я могу испытывать удовольствие от
достижений людей и реализации причин, которые не затрагивают лично
меня? Как я могу желать их не как средства, а как цель? Как
может содержание мой воли быть не самостью, принадлежащей мне
как тому или иному уникальному индивиду? Как, одним словом,
я могу иметь интересы? Мы должны кратко и в очень общих
чертах показать их происхождение.
Мы начнем с ощущения самого себя, присущего ребенку,
ощущения, которое утверждается или отрицается тем или иным
чувством; следующая ступень (наиболее важная, которую здесь
нам придется принять как данное) состоит в том, что содержание
этих чувств объективируется в вещах. Представления об
ощущениях, которые были приятны или причиняли боль, переносятся
на объекты и, будучи идеями, составляют часть содержания тех
понятий, посредством которых мы распознаем предметы, когда
они даются нам в восприятии. Эти объекты бывают двух видов.
Отчасти это те объекты, которые удовлетворяют инстинктивное
желание; и они (если желание не перерастает в похоть) остаются
преходящими όρεκτά163, которые желаемы, когда налично
желание, но которые не осознаются нами как таковые; и которые,
будучи представлены чувствам, не производят с необходимостью
(не вообще, а только пока налично желание) в самости ни чувства
утверждения, ни отрицания. Ни восприятие их, ни
представление о них не входят в устойчивое содержание, которое
ощущается в самости и в котором она ощущает себя неизменно
утвержденной или отрицаемой. Сами по себе объекты не неизменны;
они перестают быть, когда наступает удовольствие; и попытка
163Желаемыми, т. е. предметами желания (греч.). — Примеч. переводчика.
320
Себялюбие и самопожертвование
придать им постоянства, будто они суть то, в чем мы утверждаем
себя, неизбежно ведет к похоти. Но ребенок получает удовольствие
не только от удовлетворения инстинктивных желаний164; этими
преходящими όρεκτά, связанными с повторяющимися
естественными желаниями и исчезающими с наступлением
удовлетворения, не исчерпывается та совокупность объектов, в которых для
него установилась связь между представлениями о приятных или
болезненных действиях и чувствах и содержанием предметов.
Ребенка окружают и другие доставляющие удовольствие объекты,
которые не имеют отношения к инстинктивным желаниям и
многие из которых неизменны. Они всегда с ним и не исчезают,
доставив удовольствие. Напротив, мы обретаем их, достигнув; и,
владея ими, ребенок не испытывает к ним желания, но чувствует,
что утвержден в них и удовлетворен их наличием. С этими
предметами связывается представление о доставляемых ими
приятных ощущениях, которое становится частью их содержания так,
что уже само наличие предметов доставляет удовольствие; в них
утверждается воля, и ребенок, воспринимая идеи этих предметов,
настолько привыкает ощущать (пока еще не осознавать) их в себе,
что с трудом переживает их отсутствие, чувствуя, что ему чего-то
недостает; или же вовсе (выражаясь обыденным языком) «не
ощущает себя» без них.
Итак, мы имеем дело не просто с инстинктивным желанием
или напряжением между наличной пустотой и идеально
заверенной самостью, наподобие того, которое мы испытываем в том или
ином наличном чувственном объекте. Удовлетворению не
предстоит чувство противоречия, и оно постоянно. И более того, мы не
имеем дела с себялюбием, ибо нет ни рефлексии, ни абстракции;
наличие окружающих нас приятных объектов возбуждает общее
приятное самоощущение. Будет в наивысшей степени
неправильно и ошибочно говорить об идеях удовольствия, которые с ними
im чтооы в полной мере осветить этот вопрос, теперь было бы логично
перейти к исследованию природы удовлетворения, которое нам доставляют
различные чувства, в частности: зрение и слух. Но, к сожалению, это исследование
никак не повлияет на силу нашего аргумента.
321
Эссе VII
«ассоциированы». Дело в том, что идея объекта (воображаемого
или воспринимаемого) дает чувство удовольствия; и дает его,
поскольку ребенок понимает себя как объективированные приятные
действия и чувства. И суть в том, что для ребенка то, с чем он себя
ассоциирует, — то, что неизменно приятно, а не то, что
неизменно ведет к удовольствию. Он не видит в объекте средства для некой
запредельной цели. Только ли он ощущает или к тому же знает,
что он приятен, — ни в том ни в другом случае приятность не
превращается в оторванную от содержания идею и не может стать
целью, не связанной с этим содержанием. Ребенку объект нравится
сам по себе, и он не отступится от него во имя чего-то другого,
ведущего к той же цели, поскольку у него нет представления о цели,
не связанной с теми предметами, которые ему нравятся165.
165 Из соображений ясности, вероятно, будет нелишним суммировать то,
к чему мы пришли. И, опуская ступень простого желания или ощущения
необходимости, на которой объект не требуется, мы имеем:
(1) Простое инстинктивное желание. Здесь имеется чувственный образ, к
которому примешиваются идеи определенного рода чувств и действий, возникшие
потому, что обладание предметом было приятно. Этот образ возбуждает чувство
удовольствия, в то время как на деле субъект может ощущать, что ему чего-то не
хватает. И тогда удовольствие, исходящее от воображаемых чувств и действий,
связанных с предметом, в сочетании с острым чувством недостатка,
конституирует напряжение желания.
(2) Самость отождествлена не с объектами инстинктивного желания, а с
относительно неизменными объектами, так что в их утверждении она ощущает свое
собственное, а при утрате их — недостаток. Так зарождается объективный интерес.
(3) Желание рефлексии. Здесь объект — относительно неизменная мысль,
содержание которой, когда налично, может вызвать желание и стать мотивом.
(a) Интерес или цель тогда объективны, когда содержание объекта составляют
неизменные результаты и действия, направленные на иную цель, чем
удовлетворение преходящих инстинктивных желаний. Возможны два случая: (I) Идеи приятных
чувств или действий, которые составляют одно целое с содержанием объекта, могут
стать предметом рефлексии, и я буду воспринимать их как идеи того, что мне
приятно. Или (II) без всякой рефлексии, объект, не содержащий никаких идей, которые я
сознаю как идеи того, что приятно, может просто вызывать во мне чувство
удовольствия. Это различение несущественно, если идеи объективного результата и
приятного ощущения не мыслятся раздельно. Но если последнее имеет место, тогда в
собственном смысле интерес пропадает, и объект уже более не является целью в себе.
(b) Неизменная цель похоти (ср. с. 270) — завладеть чувственным
объектом, который вызывает инстинктивное желание. Получая удовлетворение,
322
Себялюбие и самопожертвование
Ради ясности я поставил на первое место предмет, хотя, по всей
вероятности (если на этой ступени вообще можно проводить
различие), первенство должно принадлежать человеку. Следует уделить
больше внимания тому факту, что то, что служит удовлетворению
первых инстинктивных желаний ребенка, завладевает им и является
для него постоянным объектом. Мать и няня удовлетворяют
повторяющиеся желания ребенка; но они приятны ему и в другом
отношении, они всегда рядом, и он ощущает, что они — часть
его самого, и, оставаясь один, чувствует неловкость и желает,
чтобы они вернулись166. Мы видим, что то же самое переживание
примешивается и к тому чувству, которое собака — по крайней мере,
их большинство — испытывает к хозяину; и она также, как правило,
более всего привязана к тому, кто ее вырастил. В нас подобное
чувство возникает и в более позднем возрасте по отношению
к другим людям, хотя оно опять-таки, вероятно, не присутствует
в чистом виде. Нам нравится быть с человеком, его присутствие нам
приятно. И во всех случаях приятность и отношения, в которых она
присутствует, — воображаемы, а «иллюзия близкой связи» нужна
только плутающему в ошибках теоретику.
Ребенок чувствует себя утвержденным или отрицаемым не
только в отсутствие или наличии того, что ему дорого; но также в
отрицании или утверждении объекта. Естественная симпатия (в чью
самую сокровенную суть мы не станем вдаваться), без сомнения, играет
здесь огромную роль; но помимо симпатии есть явные причины,
я сознаю приятность испытываемых ощущений, которые как идеи становятся
частью (в большинстве случаев отдельной частью) неизменной цели.
(c) Себялюбие, строго говоря, не знает цели в себе. В этом случае то, что мне
в целом приятно, превращается в идею и отделяется от объектов. При этом идея,
очевидно, делается целью, а объект понимается как то, что ей подчиняется и не
имеет внутренней ценности.
(d) Мы имеем дело со сластолюбием, когда целью становятся, во-первых,
приятные чувства, а во-вторых, приятность приятных ощущений, для которой
все остальное — средство, и человек следует абстрактному принципу
удовольствия ради удовольствия.
166 Естественно ли для ребенка бояться остаться одному или нет, — не имеет
значения для нашего рассуждения.
323
Эссе VII
почему то благополучие и удовольствие или же дискомфорт,
которые испытывают мать или няня, ребенок отождествляет с тем, что
приятно или болезненно для него самого; и даже если ни
симпатия, ни относительно «искусственная» связь не имеют места,
ребенок относит на свой счет все те позитивные и негативные перемены,
которые происходят в его окружении. Мы испытываем
болезненные ощущения, если то место, где мы были счастливы, гибнет или
меняется до неузнаваемости — и это чувство, я полагаю, не
основывается на симпатии. У ребенка могут, конечно, возникнуть
симпатические чувства, если какая-то из его вещей будет
уничтожена или ей нанесут вред, или если ее переместят или будут чинить,
но сужение или расширение того, что воспринимается (конечно,
не рефлективно) как область утверждения самости, или (если
угодно) как «объективация воли», существенным и непосредственным
образом связано с собственным комфортом и удовольствием.
Самость пребывает в своем содержании, замкнута на свой
собственный мир; вещи и другие люди входят в ее содержание, и ребенку
не требуется много сил, чтобы понять, например, что мать или
няня удовлетворена или раздражена.
И вот мы достигли той стадии, на которой начинается
этическое воспитание: это не значит, что ребенок становится
моральным существом, просто уже можно видеть в нем, еще не
сознающем этого, начинают зарождаться хорошая и дурная самости.
До сих пор источником удовольствия и страдания для
ребенка служило наличие, или благополучие, или отсутствие, или
повреждение того, что не является самостью; он еще не знал, что,
помимо его собственной, есть иная воля. И вот он познает ее; он
обнаруживает, что то, что он любит, ограничивает его и
управляет им. Удовольствие и боль, испытываемые матерью и няней,
были его удовольствием и его болью, и теперь он на опыте познает,
что его удовольствие и его боль связаны с определенными
вещами, которые он делает или оставляет недоделанными. Он видит,
что означает неудовольствие и что значит, что другие довольны
им. Он видит, что внешнее, с которым он отождествлен, —
воля, которая может утвердить себя, несмотря на его желания,
324
Себялюбие и самопожертвование
и может причинить боль, и что ее утверждение, приятное или
болезненное, связано с теми или иными действиями, которые он сам
производит. Он обнаруживает или должен обнаружить, что
желание, противоречащее превосходящей его воле, бессмысленно,
и поскольку приносит неудовольствие превосходящему его
существу, а также потому, что влечет неприятные последствия,
причиняет боль ему самому. Коротко говоря, он обнаруживает, что вне
его есть воля, которая не только мила, но и несгибаема; он
усваивает, в частности, что среди его действий есть такие, которые
происходят по воле другого, и такие, которыми он сопротивляется
этой воле; и он усваивает, что в целом согласие с превосходящей
волей — приятно, несовпадение — болезненно. Он не особенно
задумывается над этим; ему приятно быть в согласии с
превосходящей его волей, быть против нее — болезненно, и он вовсе не
отдает себе отчета в том, какие именно действия привели его в
согласие или в диссонанс с ней. В определенном смысле он знает,
что означает «хороший» или «непослушный»; и одно ему
нравится, а другое причиняет боль. У него нет ясного понимания того,
что превосходящая его воля есть нечто внешнее; он не
представляет ее себе как волю того или иного человека, которая не
является им самим, его ум пока еще относительно прост и неспособен
на такого рода различение.
Он чувствует, что любовь связывает высшую волю с его
собственной и что они едины; и когда он противится ей, он сам
несчастен. Воля, превосходящая его, лишь представлена вовне, но ее
содержание не есть для него нечто внешнее, и он ощущает ее
частью себя самого.
Послушание, удовлетворение превосходящей воли — вот что
приятно и к чему он стремится как к цели; непослушание и
недовольство превосходящей его воли само по себе неприятно, и он
стремится избегать этого. Ребенку нравится быть хорошим, и
следовательно (и этой причины достаточно), ему нравятся те стремления
и действия, которые хороши, и он считает их желательными ради
них самих, в то же время методом от противного он понимает, что
нежелательно не слушаться или делать что-то плохое. Ибо только
325
Эссе VII
так хорошее приятно; и к тому же то, о чем ребенка учат думать
как о хорошем, приятно по своей природе, в то время как
пристрастие к дурному, как правило, приводит к противоречию и
болезненным последствиям. Хорошее согласует с собой, дурное — нет,
и ребенок скоро это понимает. Нет необходимости рассматривать
другие стимулы; факт остается фактом: ребенок получает
удовольствие в одобрении со стороны превосходящей его воли и в том, что
она одобряет; и страдает от противоположного; и к тому же
делает это непосредственно, не раздумывая. Желать то, что желает
превосходящая его воля, — цель сама по себе.
Что же в этом всем эгоистичного? Конечно, если бы ребенок все
время говорил себе: «Если я сделаю так, мне это принесет
удовольствие или боль?» и поступал соответственно ответу, было бы
трудно ответить на этот вопрос. Я не утверждаю, что дети, особенно
когда становятся старше, никогда так не рассуждают; не стану и
отрицать того, что слышал, что именно так «морали» и учат, —
метод, сдается мне, если не опасный, то неудачный и хотя бы только
потому, что их ученик вынесет из урока вовсе не то, что учитель
хотел ему растолковать. Но, грубо говоря, удачный процесс
обучения я уже описал, а расчеты такого рода не нормальны, да и
нельзя ожидать их от ребенка; и, если допустить, что развитие в
основных чертах происходит так, как я представил, то повторю свой
вопрос: есть в нем что-нибудь эгоистичное?
«О да, — скажут нам, — ребенком движет идея удовольствия».
Но это заблуждение, я полагаю, мы уже достаточно подробно
рассмотрели. Ребенок, пытаясь доставить приятные переживания
матери, не более эгоистичен, чем курочка, которая видит смерть
цыплят, как собака, которая отдает свою жизнь за хозяина. Еще
вопрос: что у ребенка на уме, когда он совершает поступок?
Руководит ли им идея получить удовольствия или нет? Если кто
утверждает, что собака следует за мной, и беспокоится, когда
меня нет, поскольку заботится о собственном удовольствии, которое
«связано» со мной, я не могу спорить с ним: мы по-разному
понимаем факты, и у нас нет общего поля понимания. Если кто
скажет мне (и я уже слышал такое), что собака любит хозяина за то,
326
Себялюбие и самопожертвование
что получила или ждет от него, я скажу, что такой человек ничего
не понимает и говорит напраслину. В одном смысле выражения
«потому, что» собака любит хозяина потому, что он накормил ее, но
если брать другие смыслы, то здесь не может быть потому. Внешние
причины и физическое происхождение, одним словом, генезис — это
одно; но сущность — это другое; и нельзя перед лицом философии
и фактов утверждать, что «эта вещь пришла в мир вот так, а потому
она такова». Факт в том, что в неэгоистической любви мы
ощущаем единение с тем, что нам дорого; любовь — это когда уже нельзя
ни при каких условиях указать на то, что некогда связало нас с
объектом нашего чувства. Того, кто говорит об «обманчивости» и о том,
что все дело в собственном удовольствии, которое мы не в состоянии
осознать, — не может рассчитывать, что к нему отнесутся с
вниманием, если только не приведет особенных причин, почему
заслуживает этого. Я утверждаю, что в тех случаях, в описанных мной
ситуациях физическая связь, которая была в начале, трансформировалась,
коммуникация непосредственна; объект приятен сам по себе, и эти
идеи не являются частью ее содержания, или, если являются, не
осознаются как таковые. Может ли кто с уверенностью сказать, что,
если вы сумели привязать к себе собаку, ей стоит помнить о той
заботе, которая была «потому, что», и до сих пор связывает ее с вами,
и поэтому все еще является «потому, что»? Всем известно, что,
вознаграждая едой, животное можно приучить делать что-то, но после
оно будет делать это частью потому, что ему это нравится, а в
большей степени чтобы доставить вам удовольствие, потому что он вас
любит; и животное либо вообще не задумывается о еде, либо
прикрывает свое желание странным, бесцельным и совершенно
невозможным усилием. Здесь вообще может не быть связи; и, даже если
оно на самом деле преследует некую идею, ее не нужно отделять
от исполнения, она отождествлена с ним.
В этих проявлениях привязанности не больше «потому, что»
или «почему», не больше «мотива», чем в чувстве любви. Мы любим
самих себя, и мы любим то, что ощущаем единым с собой. Идеи
приятных чувств, которые однажды как таковые стали частью
содержания объекта и приобрели в нем свою объективность, угасли
327
Эссе VII
и вовсе исчезли или же, по крайней мере (и это важно), больше
не осознаются самостью как таковые. Они могут исключиться из
содержания объекта, но объект, с тем наполнением, которое
останется, будет доставлять удовольствие и, возможно, осознаваться как
приятный сам по себе; мы чувствуем, что едины с ним и что в его
утверждении утверждается и наша воля.
Выше мы видели, что, когда появляется рефлексия над
инстинктивным желанием, когда самость отождествляется с приятным
отрицанием конкретных чувственных объектов, который
возводится до идеи и становится целью, тогда мы уже имеем дело с
похотью — желанием, которое не имеет разрешения и неспособно
достичь удовлетворения. Теперь посмотрим, как меняется дело,
когда самость отождествляет себя с идеями иного рода.
Ребенок, как мы видели, находит удовольствие в согласии с тем,
что его превосходит, в тех стремлениях, которые оно одобряет;
и ему приятна мысль о действиях, которые называют хорошими167,
и в них идеальным образом утверждается его воля. Они — цель
сама по себе; они достигаются не возбуждением инстинктивного
желания к той или иной изменчивой чувственной вещи; они не
просто нечто, что служит наслаждению, это действия, которые должны
быть сделаны. Их содержание отлично от ощущения субъекта, оно
объективно и переносится во внешний мир посредством
поступка. Через поступок оно обретает ощутимость и становится
предметом обладания; или, если его нельзя видеть, то оно мыслится в том
результате, к которому приводит действие, или, по крайней мере,
признается другими людьми. Ребенок что-то сделал, в той или иной
форме обладает тем, что сделал, при условии, что его поступок
одобрен; он располагает объективным следствием своей воли, и в нем
не только реализует себя, но и ощущает себя прочно реализованным.
Он ощущает, что есть некая неизменная и тождественная с ним
самость. Эта самость обнаруживает свой аналог в мире, который
является не только ею самой; ее выражение неизменно и тождественно,
167Мы подойдем к рассмотрению того, что может называться дурными
интересами, позже, когда будем говорить о дурной самости.
328
Себялюбие и самопожергвование
и если только она способна осмыслять себя, ей есть над чем
задуматься — над существующим содержанием, которое цельно и реально,
а не является просто воспоминанием о том, что исчезает и что
нереально. Следовательно, удовлетворение бесконечно не потому, что
желание прекращается, но потому, что теперь приятным
оказывается не только оно само, но и то, что из него следует. Для того чтобы
удовольствие не прерывалось, конечно, необходимо, чтобы на
фоне относительного отсутствия утверждения было еще что-то, в чем
утверждение совершалось бы идеальным образом. Но, во-первых,
в данном случае о недостатке можно говорить только относительно;
желание, в отличие от похоти, не исходит из противоречия между
полнотой и абсолютной пустотой (похотливый человек говорит:
«Если я не получу это сейчас, какой смысл во всем том, что было до сих
пор? Ибо сейчас это все ничего не значит») — напротив, в основе
лежит привычное чувство удовлетворенности, которое достигается
в известной нам реализации, и, если нам что-то не удается, мы все
равно полны; и во-вторых, мы так привыкли к тому, что все удается,
что либо вовсе не думаем о неудачах, либо, по крайней мере, знаем,
что содержание объективно, а потому не придаем большого
значения тому или иному моменту чувств, понимая, что он или, во всяком
случае, другой момент того же свойства можно будет реализовать
в другой раз. Поэтому мы находим удовольствие уже в идеальном
процессе успешной реализации, в то время как боль от недостатка
исчезает или подавляется168. Чувство удовольствия, которое испы-
168 На вопрос «Приятно ли желание или болезненно?» невозможно дать
ответ. Желание имеет смешанный характер, и, я полагаю, не бывает так, чтобы оно
не вызывало и то и другое чувство. Оно приятно или болезненно в зависимости
от того, какое из составляющих преобладает.
Желание противоречиво. Желание дает мне ощущение того, чем я не
являюсь в реальности, в противоположность тому, чем я в реальности являюсь,
и не являюсь с точки зрения идеала. Реальное отрицание болезненно,
идеальное утверждение — приятно, потому что дает действительное ощущение
самоутверждения. И нет надобности особо говорить, что в желании боль и
удовольствие усиливают друг друга.
Нет необходимости углубляться в суть дела, ибо все самое важное лежит на
поверхности. Каково общее состояние животного, которое хочет пищи: ему
приятно или он испытывает страдание? В каждом случае по-разному, и это зависит
329
Эссе VII
тывает самость, постоянно утверждающая себя в реальности,
никогда нас не покидает; то, что мы сделали, и то, чем являемся,
существует вне связи с нашими переживаниями, а потому объективно;
и в этой освоенной реальности мы постоянно находим
удовлетворение. «Должно быть сделано» — означает лишь «больше того, что
сделано»; и преднаходимое в нем удовольствие доминирует над
относительным недостатком, который служит только освежающим
и приятным стимулом, в то время как целью самой по себе
является не только результат, но и сама деятельность. Следовательно, даже
от того, какой элемент преобладает. Все животные, которых я когда-либо
наблюдал, казалось, испытывали беспокойство, если не предвиделось скорого
удовлетворения желания, а голод скорее причинял им боль, чем удовольствие. Если
показать еду или дать понять, что ее можно получить, тогда животное, несомненно,
придет в благоприятное расположение. Так же и с человеком. Обратите
внимание на лицо голодного, который не уверен в том, что сможет поесть, или же не
знает наверняка, когда сможет это сделать; а затем обратите внимание на лицо
того страждущего, кто знает, что близится час обеда. Рефлексия усиливает
страдание от желания, сохраняя различие между актуальным и идеальным. По той же
причине она усиливает и удовольствие. Там, где внимание сосредоточено на
желании, оно усиливается и преобладает чувство страдания: там, где оно
направлено на идеальное удовлетворение, усиливается и доминирует приятное
переживание. Самое мучительное желание — там, где идея удовлетворения соседствует
с ощущением недостатка. Самое острое наслаждение мы испытываем, когда
ощущаем и предощущаем удовлетворение как реальное, несмотря на то что желание
продолжает нас мучить. Удовольствие от чувственного удовлетворения потому так
скоротечно, что быстро уходит боль. Конечно, неправда, что страдание
прекращается, как только удовольствие заявляет о себе, но уже тогда отступает, а вместе
с ним идет на спад и наслаждение. Вот почему часто «представлять, что пьешь,
приятнее, чем пить». Так и должно происходить всякий раз, когда целью
является отрицание чувственного объекта, т. е. когда предметом стремления не
является прочное самоутверждение в неизменном объекте. Только в том случае мы на
самом деле сохраняем самих себя и пребываем в том, чем обладаем. Только это
позволяет преодолеть страдание, которое доставляет желание. Отчасти
неспособность увидеть этот факт, отчасти неверное толкование негативного характера
удовольствия (только как отрицание позитивного, т. е. причинение страдания)
легло в основу шопенгауэровского пессимизма. Жизнь, по Шопенгауэру, состоит из
чередования двух состояний: страдания от желания и внутренней
опустошенности. И желание постоянства является причиной, почему в процессе реализации
неприязнь, которая так часто встречается, поощряется и в целом доставляет
удовольствие, как правило, в итоге не оправдывает себя. Уничтожив неприятеля, мы
лишились удовольствия. Тема неприязни трудна и интересна.
330
Себялюбие и самопожертвование
будучи удовлетворенным, можно испытывать желание; и желание
не влечет за собой недовольства. Похоть — неугасающее желание,
которое вознаграждается время от времени; интерес
вознаграждается постоянно, и то, чего мы желаем, только лишь добавляет к
тому, что у нас уже есть. Похоть не дает реализации неизменному
содержанию желания, потому что объективное не может выразиться
в том или ином исчезающем мгновении чувства; содержание
интереса реализуется, поскольку как таковое мгновение чувства является
не предметом желания, а средством для достижения объективного
результата и его материалом, и сам этот результат как таковой не
зависит от чувственного мгновения; исчезнувшее прошлое — условие
перевода идеального в реальность, в реальность настоящего. В одном
случае объект желания борется за существование, но погибает,
только родившись, его сущность и его судьба — в сознательном выборе
умирания; в другом случае объект желания всякий раз рождается
заново и всякий раз остается тем же самым, в его прошлом и
настоящем проявляется сама жизнь, которая и сохраняет его.
Скажем также о том, что далее займет наше внимание: что
благо, к которому тянется ребенок и в котором он пребывает, —
полная гармония с самим собой. А следовательно, самость, которая
ощущает себя чем-то одним и цельным, находит в благе ту же
гармонию, что и в себе, и понимает, что то, что реализует эту
гармонию как систему, реализует само себя, а все, что не диссонирует
и противоречит, — не истинно и ложно.
До сих пор самость отождествлялась со стремлениями и
действиями, которые, будучи целями, достигались посредством нее, но она
также заинтересована в людях и причинах, которые напрямую не
связаны с ее собственной деятельностью. Она ощущает, что, помимо тех
действий, которые она производит или должна производить, ее воля
утверждается или отрицается в достижениях или неудачах, которые
не проистекают из ее активности. Самость приходит к осознанию
такого рода, поскольку вовлечена в процесс, который кладет конец
всему субъективному; всему, что относится ко мне конкретно всему,
что не входит в содержание цели, и который подчиняет мои цели
более общим, для того чтобы, с одной стороны, для меня это сугубо
331
Эссе VII
объективное содержание целей безотносительно к
представлению о том, какими должны быть мои действия, стало
утверждением лично моей воли, и чтобы, с другой стороны, эти цели пришли
в гармонию, над которой главенствует то, что ради краткости
можно назвать идеалом. И тогда моя воля непосредственно
утверждается или отрицается самим по себе пониманием успеха и провала
тех причин и стремлений, в которых нет ничего ощутимого, и
теперь я уже не ставлю удовольствие того или иного человека на
первое место, как поступал вначале, но наконец причину ставлю выше
конкретных людей. Самость человека теперь включена в общее
движение блага, для его воли стало привычным отождествляться с
идеалом; и, реализуя этот идеал, сам или посредством других, он
находит неизменный и вечный источник удовольствия. Конечно, все это
доставляет ему страдание, а при отсутствии веры может привести
в уныние, но только так он способен утвердить свою истинную
самость и утвердить вне зависимости от собственного успеха или
неудачи. Я не стану задавать вопрос о том, есть ли здесь любовь к
себе, поскольку мы его уже рассмотрели.
Вышесказанным я попытался в общих чертах, фрагментарно
и далеко не совершенно, показать, как воля тянется к благу; но,
как мы уже сказали, благо не является моральным в строгом
смысле до тех пор, пока не познает само себя; а оно знает себя только
в противоположность злу. Мы действительно ушли далеко в
сторону от того момента, когда самость сознавала свою волю как
благую и как дурную, но это отступление было необходимо, чтобы
в будущем не вносить путаницы. Представим теперь ребенка, чья
воля едина с благом, но который не знает блага как такового и
никогда не делал предметом своего осознанного стремления благо
как свою благую волю в противоположность дурной или зло как
свою дурную самость в противоположность благу. Но, прежде чем
совершить переход от неосознанного блага к осознанному и вместе
с тем к моральности, нам нужно проследить, как растет дурная
самость (которую ребенок не знает как таковую), чтобы увидеть, как
знание того, что хорошо и что плохо, возникает из столкновения
того и другого в субъекте, обладающем самосознанием.
332
Себялюбие и самопожертвование
Каково происхождение дурной самости? Придется сделать
небольшое отступление, чтобы ответить на этот вопрос, поскольку
он имеет непосредственное отношение к проблеме происхождения
зла и греха; а эта проблема связана с бесчисленным количеством
трудностей, о которых тот, у кого есть наготове несколько
неглубоких ответов, знает крайне мало, хотя и не меньше того, кто (а таких
много) безосновательно заявляет, что проблема, об истинной
природе которой он в лучшем случае не знает ничего, не имеет
решения. Мы пройдем мимо этих крайностей. Мы не станем касаться
того, что называют естественным злом, не станем касаться зла
духовного в отношении к божеству; моральная философия не имеет
дела с ложной самостью, которая понимается как греховная. Наш
предмет — зло единственно в форме самости, дурной с точки
зрения морали, и мы должны попытаться в общих чертах показать,
как она возникает, сперва неосознанно, и затем приобретает свой
особенный характер; и в итоге упомянуть о зле в
противоположность благу169. Я не буду пытаться приводить, а уж тем более
критиковать, все противоречащие точки зрения.
Начнем с того, что самость от рождения не является, говоря
языком морали, ни дурной, ни благой. Без сомнения, она может
не быть тем, чем должна; положим, она должна быть моральной,
но, я полагаю, это еще ни в каком смысле не делает ее таковой;
а не будучи моральной, она не может быть дурной. Я вовсе не
отрицаю, что в других точках зрения на этот вопрос есть доля истины,
но если рассматривать их с точки зрения всей истины, они — од-
носторонни и ложны.
В частности, в деле истолкования благой и дурной самостей
несостоятельна теория наследования, в чем мы уже могли
убедиться. Мы отрицаем, что благо и зло даны нам от природы, но мы
готовы принять, что какие-то качества, в которых скрыта
возможность, что та или иная самость примет в нас определенную форму,
169 Я так мало знаком с литературой по данному предмету, что не чувствую
в себе уверенности рекомендовать какой-либо труд, но, думаю что книга
Ватке [Vatke ]. К. W. Die Menschliche Freiheit. Berlin, 1841] если не полно
представляет суть дела, то уж точно идет дальше моих размышлений.
333
Эссе VII
передаются по наследству. Мы опять же допускаем различение
между чисто природным и моральным в возможности и ни в
каком смысле не хотим сказать, что новорожденный — зверь; но мы
настаиваем на том, что в ребенке сильно природное начало и что
оно и не имморально, и не морально. В ребенке от рождения
заложена определенная основа физических и умственных склонностей,
которые с большей вероятностью, чем у других, разовьются в
хорошую или дурную сторону, но они пока еще не развиты, и более
того, не разовьются сами по себе. Это общее основание и материал
добра и зла можно назвать естественной способностью; и
поскольку рассуждение на эту тему сопряжено с определенными
сложностями, мы не станем предлагать вторгаться в этот вопрос.
В целом нет ничего особенно загадочного в том, что из этого
нейтрального основания может развиться зло; и мы уже
довольно много сказали на эту тему, когда рассматривали, как
природное желание перерастает в похоть. И, предполагая, что процесс
формирования дурных наклонностей аналогичен описанному,
а также тому, как развивается несознательная благая воля, нам
остается добавить немногое. Самость, как мы видели,
объективирует свои реакции во внешних вещах, и движется от предчувствия
удовольствия в том или ином объекте к мысли о целях, к
формированию представлений о неизменных объектах и стремлениях,
которые переживает или знает как приятные, и о том желании,
которое они вызывают, провоцируя ее на воображаемое
утверждение. Они, когда состоят в гармонии с высшей волей и
подчинены ей, как мы убедились, благи. Они дурны, когда отличны от
высшей воли170 и не могут быть ей подчинены, хотя на этой ступени
ни благо, ни зло как таковые еще не являются предметом знания.
Естественным материалом дурной самости являются отчасти
чувственное инстинктивное желание, частью иные склонности,
которые противостоят благой системе (такие, как несдержанность,
ревность, лень и т. п. ), и сверх того естественная склонность
170 Всякий раз имеется в виду, что высшая воля моральна. Конечно, не все,
что противоположно высшему, в будущем станет частью дурной самости.
Просто ради краткости мы вынуждены упрощать дело.
334
Себялюбие и самопожеггвование
к действиям и стремлениям, которые приводят к
противостоянию высшему. Если поощрять страстность и лень, они
перерастают в привычку; рефлексия над чувственным инстинктивным
желанием ведет к похоти, возникновению идеи чувственного
удовлетворения и формированию привычки ей следовать; действия
и стремления, которые противопоставлены высшему, можно
сделать объективным и относительно устойчивым источником
удовольствия, и они станут дурными увлечениями. Самость впадает
в дурные привычки тем же способом, каким приобретает
хорошие; процесс отождествления с дурными целями такой же, как
с хорошими. Она утверждает и утвердила себя в том, что дурно,
и это утверждение и неминуемо, и неизменно.
Его невозможно избежать вот по какой причине. Допустим,
ребенок от природы ни к чему не расположен так, как к тому, чтобы
усвоить системную организацию благой самости; изначально она
представляет собой хаос инстинктивных желаний и пристрастий,
которые как таковые не могут быть систематизированы. Их
можно привести в систему, что-то подавив, что-то усилив; но даже при
самом благоприятном стечении обстоятельств могут возникать
определенного рода трудности. Единственный способ, каким
волю можно привести к единству с благом, — привыкание, а на это
нужно время. Жизнь ребенка складывается из моментов, а жизнь
конечного существа и должна руководиться случайностью.
Просто невозможно исключить всякое удовлетворение дурного
свойства; невозможно предотвратить желание того, что дурно, и равно
невозможно не подаваться искушению время от времени. А
потому самость неизбежно утверждается в том, что дурно, и
утверждается неизменно.
Утверждение неизменно, одним словом, потому, что
неизменна самость, потому что она представляет собой поток исчезающих
моментов или собрание элементов. Удовлетворение от дурного
не проходит вслед за мгновением, в котором оно было
достигнуто, но человек ощущает в себе его последствия. Если он, не
задумываясь над тем, потакает дурному, то усугубляет свое пристрастие,
а если повторяет переживание, то формирует привычку; и если
335
Эссе VII
условия благоприятствуют и нет сдерживающих факторов,
привычка перерастет в действие, которое само способно формировать
привычки, станет определенным состоянием неизменной самости.
Рефлексия же создает идею, не зависящую от той или иной
чувственной вещи, которая сохраняет способность возникать перед
нами, чем создает соблазн, провоцирует привычное действие и тем
самым усугубляет и искушение, и дурные склонности. Самость
отождествляется с тем, что дурно, идя на поводу у привычки и
неизменной идеи, получает он них содержание — не ставшее, но
актуальное, — которое отлично от содержания благой воли.
И здесь мы должны заметить, что это содержание не едино
в себе, не подчинено одному правящему принципу. Это
случайное собрание, объединенное частью за счет переплетенных друг
с другом привычек, частью за счет подчинения той или иной
дурной цели; но эти разнообразные привычки и цели противоречат
друг другу, как, например, похоть и лень, гордость и скупость,
ненависть и трусость. Нет единой цели, и нет тождественности, нет
единства в главном, если не считать чувства утверждения
самого себя, которое, с учетом различий, остается неизменно. Дурное
противоречит самому себе, равно как благому, и в силу этих двух
причин уже причиняет страдание и, если не брать в расчет ту или
иную оценку извне, не доставляет удовольствия.
Но в каком смысле оно на этой ступени противоречит благу?
Можно ли говорить, что ребенок знает, что есть дурное и что оно
противоположно благу, и желает его в такой определенности?
Нет, поскольку в нем еще не пробудилось моральное
самосознание. Дурное еще не осознается как дурное в противовес благому.
Когда ребенок хочет и совершает дурные поступки, они, становясь
предметом желания, обнаруживают свое противоречие с благим;
он чувствует дисгармонию и противоречие, которое
сопровождается в лучшем случае ощущением несовместимости, и, как следствие,
ощущает боль и неудовлетворенность. Благая и дурная самости
не противостоят друг другу как единства: они ясно предстают его
уму (особенно это касается дурной самости) только как собрания.
Он сознает, что дурные поступки, как вот этот и другой поступок,
336
Себялюбие и самопожертвование
противоречат превосходящей его воле, но пока что у него нет
цели делать что-то против этой воли. Поступок может
ассоциироваться с болью, если за ним последовало наказание, но ребенок
может совершить его и несмотря на эти ассоциации, однако все
еще несознательно выступая против благой воли. Пока что нельзя
утверждать, что ребенок понимает, что то или иное его желание
противоречит превосходящей его воле, и сознательно избирает
реализацию в этом направлении. Следовательно, он не
приписывает общего предиката тому, что дурно; он ищет дурного, потому
что испытывает желание той или иной вещи; а разногласие с
благим им в лучшем случае ощущается. И далее, следует помнить, что
вначале все, или, по крайней мере, большинство дурных действий
вполне невинны, и человек, совершающий их, ничуть не
чувствует, что они с чем бы то ни было не согласуются.
Мы рассмотрели, как развиваются благая и дурная воли на
ступени, которую можно назвать несознательной или неморальной;
теперь нам предстоит войти в сферу морали. Но вначале нужно
ясно представить, что это значит. Здесь необходимы три
элемента: знание блага, знание того, что дурно, и акт воли, обладающей
самосознанием. В строгом и полном смысле слова первое
невозможно без второго, а второе без первого, и то и другое
невозможно без третьего. Зло предполагает знание того, что есть благо,
иначе его невозможно знать, как противоположность блага; а если оно
не знается как таковое, то нет морали в собственном смысле; то же
справедливо и в отношении блага. Если субъект не знает, что есть
зло, то выражение «моральное благо» лишено для него смысла.
Невозможно определить моральное благо, не привлекая понятия
зла: если исключить его, то мы получим либо Маугли, либо
сверхприродное существо; в обоих случаях мораль как таковая
исчезает, поскольку «должен» уже ничего не значит171. И второй момент,
на котором мы настаиваем, — просто невозможно знать о том, что
171 Конечно, для теологии вопрос о том, сколько дурных поступков следует
совершить, чтобы пробудить сознание (хотя здесь опять зло приобретает форму
греха), представляет определенный интерес, но нас здесь он не заботит. Об этом
говорит Ватке [Vatke. Die Menschliche Freiheit. Berlin, 1841. S. 275—276].
337
Эссе VII
есть благо и зло, и не желать их. Представление о том и другом
не приходит извне, его нельзя составить по аналогии: его исток
в самом субъекте, и, не сознавая их в себе с самого начала, человек
рискует их никогда не узнать. Знание морали — знание
специфических форм воли, и равно как мы можем составить
представление о том, что такое воля, только на основании своей воли, точно
так же знание, какие формы воля может принимать, требует
личного и непосредственного опыта. Ненавидеть зло — значит
чувствовать его, а чувствовать то, что не в тебе самом или что не схоже
ни с чем в тебе невозможно. Моральная перцепция должна
основываться на опыте морали.
И наконец, для морали требуется акт воли, обладающей
самосознанием. Недостаточно, чтобы субъект был, с одной
стороны, тождественным с благом, а с другой — с дурным, чтобы быть
способным ощущать их несоответствие и различие. Он не может
знать благо и зло, пока не знает их в противоположенности; а для
этого ему нужно удерживать их перед собой одновременно. Ему
нужно представить себя желающим одновременно две
противостоящие друг другу вещи, каждая из которых принадлежит
определенному классу; он — над ними, и, узнавая всего себя в акте,
направленном на одно и на другое, он приходит к знанию самого
себя как утверждающегося в качестве благой или дурной воли.
Таково условие вменяемости и ответственности, и отсюда берет
начало собственно моральная жизнь самости172.
Таковы три элемента, без которых моральное сознание в
строгом смысле не существует; но прежде чем продолжить, нужно
предупредить ошибочное представление о третьем. Мораль
необходимо предполагает выбор; но не следует думать, будто есть благо
и зло, а между ними стоит субъект, чье решение выбрать то или
иное случайно и ничем не обосновано. Свобода как libertas arbi-
trii не только не является свободной в истинном смысле, но более
того, надумана. Нет формальной свободы выбора. Даже если бы
172Вопрос о том, что главнее: воля или знание, рассматривается у Ватке [Vatke.
Die Menschliche Freiheit. Berlin, 1841. S. 259, ff.], с которым я во многом согласен.
338
Себялюбие и самопожертвование
и была — позволю себе заметить между делом — от нее все равно
было бы мало толку; но ее и нет. «Я» в волении — отрицание
содержания, которое в то же время его определяет: «Я» не атом, не
пустая абстракция, но абстракция содержания самости; абстракция
самости, которая предстает перед самой собой, будучи
отождествленной с благом или злом; и к тому же абстракция той самости,
которая не дана самой себе, даже не мимолетной склонности,
а сформировавшийся воли, которую мы не сознаем; коротко
говоря, всего содержания самости. Формальная свобода, которая не
зависит от содержания, — в реальности ничто; чтобы воление было
возможно, самость должна быть наполнена содержанием.
Для моральности необходимо сознание утверждения блага как
блага и зла как зла; а ребенок, на той стадии, на которой достиг
нашими усилиями, хотя и обладает содержанием воли, и благим,
и дурным, но он утверждает его, не отдавая отчета в том, каково
оно. Благо и зло приобретают свой специфический характер,
когда человек поступает, понимая, что делает.
Начнем с дурной самости. Результат акта воли,
сознательно направленный против блага, имеет две стороны: воля
обретает единство; и под это единство подводится нечто дурное: теперь
оно осуществляется как дурное. Дурные привычки и желания,
которые до сих пор обретали тождественность только через чувство
самоутверждения, теперь сознаются как нечто единое и
наделяются общим характером. И это единство, конечно, основано на
противоречии благу. Самость осознает, что все ее дурные
утверждения роднит противоположность благу, и, реализуя себя в каждом
из них, она знает, что поступает дурно. Самость знает себя в них
как самость, поскольку теперь сознательно утверждается в
волевых актах; она знает, что они происходят из ее воли, и в них
знает себя как дурную, поскольку утверждается в них именно в таком
свойстве. Теперь отдельно взятый дурной поступок может быть
проявлением зла; нечто общее реализует себя через конкретное;
и в акте рефлексии это конкретное открывает, что, по сути,
является сознательным самоутверждением дурной самости, которая
знает, что поступает дурно. Теперь то или иное дурное действие
339
Эссе VII
или желание объясняется тем, что человек плох в целом; это его
качество реализуется в том или ином дурном поступке; а
мыслимому единству соответствует особое общее чувство, которое
связывает все вместе; так, что во всем чувствуется одна дурная самость,
и все ощущается как одна самость, которая противоположна
благу и приобретает твердость, формируя привычки и способность
действовать исходя из них.
Единство дурной самости — противодействие единой благой
самости, и никакого другого принципа единства здесь нет. Но
благо есть одно не просто в противоположность дурному, оно едино
само по себе. Мы убедились, что благая воля главным образом
состоит в подчинении и системе; и этому обладающему
самосознанием единству требуется только, чтобы самость, волевым актом,
осуществила себя в нем как одна воля в противоположность
конкретным дурным желаниям, которые потому дурны, что
противоречат ей. Теперь хорошие поступки совершаются как хорошие и
реализуют принцип, который достигает знания самого себя. Благая
воля обрела способность быть единой через самосознание; но не
нужно забывать, что она и до того обладала единством. Теперь
благая самость является моральной; и нет нужды прослеживать,
как она развивается дальше. Она знает себя сначала как волю,
которая противопоставляет себя искушению, и как превосходящую
себя волю, будь то воля человека и или рода. Здесь самость
чувствует, что воля, которая превосходит ее, —- также и ее собственная,
подчиненная высшей, хотя еще не знает этого; и процесс
развития, будь то в морали или религии, стремится к тому, чтобы
человек узнал эту высшую волю как истину собственной, к тому,
чтобы закон перестал быть чем-то внешним и стал автономным, и к
тому, чтобы благость или тождество партикулярной воли с
универсальной было всего лишь другим названием для сознательной
самореализации.
Чуть позже мы обсудим, почему человек реализует себя в
благой самости, а в дурной — нет. Но вначале (это единственная
из многих трудностей, на которую мы можем обратить
внимание) рассмотрим проблему, которая настоятельно себя обозначает:
340
Себялюбие и самопожертвование
«Как неморальное становится моральным?» Возможно ли, не
затрагивая вопроса о том, как осуществляется переход от
самоощущения, от лишь только объектного сознания, к сознанию самого
себя как объекта, объяснить генезис морального сознания? Не
попали ли мы в порочный круг? Не требуем ли мы, чтобы знания
блага было prius знанию зла и знания зла prius знанию блага? Как
вообще возможно начало моральности?
Во-первых, мы отвечаем, что не может быть первенства во
времени ни с той ни с другой стороны. Одно вплетено в самый смысл
другого; и мы постигаем смысл обоих на примере одного и тоже
поступка. Во-вторых, отвечая на трудность происхождения этого
двухчастного знания, заметим, что не претендуем на точное
воспроизведение процесса его возникновения, но что, с нашей точки
зрения, он состоит в постепенном усилении спецификации обеих
сторон, каждой в противоположность другой, и приводит к тому,
что возрастает число поступков, которые оказываются в той или
иной мере благими или дурными, возрастает число ошибок,
которые человек совершает, пытаясь следовать тому или другому, и,
наконец, обе стороны предстают в его сознании двумя
противонаправленными волями самости. Поясним сказанное.
Я думаю, никто не может вспомнить, как у него пробудилось
моральное сознание, хотя, без сомнения, кто-то, возможно,
полагает, что помнит. Можно предположить, что это происходит как-
то так. У ребенка складывались определенные привычки, через
которые неосознанно для него развивались благая и дурная
самость. И вот ребенок совершает дурной поступок, и
противоречие (какова бы ни была его причина), которое доставляет ему
неприятные переживания, вызывает рефлексию. Теперь очевидно,
что поступок противоречит благу, и ребенок сознает, что здесь
борются две воли, и когда снова возникнет искушение,
представление об этих противоположностях будет влиять на характер его
желаний; а потому выбор, который он совершит, уже будет
определяться знанием благого и дурного. Можно показать
пробуждение морального сознания, но нельзя видеть, как оно постепенно
становится; все, на что мы способны, — проследить общее развитие
341
Эссе VII
самосознания от самого истока, т. е. от простого животного
чувства. Мы можем только сказать: «Сейчас дело обстоит так, раньше
было вот так», и оценить, что изменилось: теоретически
воспроизвести и постичь суть этих изменений едва ли возможно. И вот,
достигнув того момента, когда то, что вначале ощущалось как
разногласие, постепенно приобрело форму ярко выраженного
противоречия, мы только и можем, что проследить общий характер
произошедшего, но в точности восстановить опыт сознания, в
котором важны и значимы все мельчайшие детали, — за пределами
наших возможностей.
Изначально ребенок должен каким-то образом ощущать, что
удовольствия от благого и от дурного несовместимы; и, по мере
того как привычка способствует все большему усугублению обеих
сторон и все большей их связанности, это чувство должно
становиться все более определенным. У него должно появляться более
или менее определенное представление о благе как целом,
более или менее ясное понимание того, что дурной поступок
несовместим с ним и что неодобрение со стороны высшего относится
к определенному классу поступков. Случается, рассвету
морального сознания не суждено засиять ярким светом полуденного
солнца, и бывают поступки, не вполне моральные и в то же время едва
ли неморальные; но наша задача здесь — ясно увидеть, что благо
и зло ощущаются ребенком как таковые только тогда, когда он
начинает воспринимать их особенность, понимать их в
противопоставленности друг другу; и что собственно моральность
начинается тогда, когда человек, понимая, что есть благо и зло, сознательно
делает их принципами своих поступков.
Период, пока ребенок растет, пока у него не появилось
моральное сознание, не является, строго говоря, моральным, и до этого
момента, я полагаю, его нельзя считать подотчетным. Но потом
человек держит ответ за свои дела, хотя моральное развитие все еще
до некоторой степени протекает несознательно. Вполне можно
согласиться с тем, что пробуждение сознания не означает его
немедленного действия во всех сферах жизни. Лишь постепенно наши
поступки приобретают качество быть хорошими или дурными
342
Себялюбие и самопожертвование
самими по себе, и этот процесс, благодаря тому, что новым
ситуациям и необычному сочетанию уже знакомых, до конца наших
дней остается незавершенным. Мы несем ответственность за все
это; и если нужно указать на тот момент, когда человеку уже
можно вменить что-то в вину, то — вот он, этот момент. Теперь
человек представляет собой волю, которая знает себя как благую или
дурную, и знает, что у благой особая миссия. Мы совершенно
сознательно отождесгвляем себя с благом или со злом; и должны
признать, что из этого двоякого отождествления воли, которым
начинается новая жизнь и которое является не чем-то преходящим,
но формирует устойчивый характер самости, теперь проистекают
наши поступки. Нужно еще доказать, что действие не
проистекало из нашей воли; и, чтобы избежать обвинения в дурном или
хорошем, нужно убедительно показать, со ссылкой на принуждение
или неведение, что между поступком и сведущей в морали волей
или сформировавшимся воплощением морального разума на
самом деле не было связи (ср. Эссе I).
Мы проследили, я боюсь, по большей части далеко не
совершенно и слишком догматично, происхождение благой и дурной
самости в человеке; и все, что нам остается, — убедиться,
рассмотрев самою природу каждой из них, что благая самость является
нашей реализацией; и что дурная самость не только не реализует
истинного бытия, но и никогда не является, ради самой себя и
сама по себе, предметом желания.
Благая самость удовлетворяет нас, поскольку отвечает
нашему истинному бытию. В основном она представляет собой
гармонию, внутри себя подчинена системе; и таким образом, мы, вбирая
в свою волю ее содержание и реализуя его, чувствуем, что
реализуем себя как истинно бесконечное, как одно неизменное
гармоничное целое. Как следствие, содержание этого целого едино с собой,
с нашим представлением о собственной природе; и сверх того, оно
едино со своей формой. Мы убедились (в Эссе II), что в волении
«Я» универсально и что, только когда форма и содержание
соединяются, мы достигаем самореализации. И вот что мы теперь
имеем в воле, которая реализует благую самость: форма самосознания,
343
Эссе VII
«Я», которое сформировано из содержания и соответствует ему,
и само содержание — универсальны; или, другими словами,
благая самость такова, что, если ее противопоставить «Я»,
обладающему самосознанием, будет ясно, что они тождественны по
природе и что она утверждает себя в нем без какого-либо различия.
«Я» — в высшем смысле этого слова — присутствую в ней, я знаю,
что я в ней и ощущаю себя в ней, постоянно воспроизвожу свой
внутренний принцип и вижу, что он пусть частично, но истинным
образом реализуется в позитивной объективации.
С дурной самостью все обстоит иначе. Она состоит в
противоречии не только с благой самостью, но и с самой собой:
содержание не соответствует форме самости, которая в нем утверждается,
и, более того, противоречиво в себе.
Относительно последнего скажем, что содержание дурной
самости, хотя и имеет в себе разрозненные центры, тем не менее
не имеет такого, которому бы подчинялось все. Нет надобности
дольше останавливаться на этой ставшей уже хорошо известной
теме, что дурная самость не иерархична, что дурные вожделения
и инстинктивные желания выступают каждое само за себя и ведут
войну против всех, кто встает на их пути; и что они по своей сути
должны мешать друг другу. Таким образом, дурное — не единство,
не система, не конкретное универсальное. И к тому же, будучи тем,
что оно есть, дурное, становясь предметом воли,
противоположно самости, которая его волит. Эта самость является одним,
неизменным универсальным и целым, ощущает себя таковым и
знает себя как таковое; утверждая себя в дурном, она вкладывает себя
в то, что не согласуется с ее природой, и эта объективация
должна порождать в ней ощущение того, что, выйдя за свои пределы,
она все же не смогла себя реализовать.
Что же в итоге есть эта дурная самость? Она есть не что иное,
как совокупная самость, утвержденная как единство лишь
формально. Мы на самом деле в итоге получили совокупность,
которая утверждается не как совокупность; но это, не следует забывать,
возможно только в силу того, что она принадлежит чему-то
большему, чем просто совокупности. Единство дурной самости создает
344
Себялюбие и самопожертвование
ряд центров, связывающих те или иные дурные привычки и
желания, в которых обладающая самосознанием самость утвердила
себя и которые дают ей ощущение противостояния благу. Но это
утверждение единой самости формально и нереально; дурные
деяния проистекают из всей самости в целом, но если вы
зададите вопрос: «Можно ли найти в них реализованной всю самость?»,
то получите отрицательный ответ; и свойство быть плохой,
характерное всему дурному, приписывается ей в силу
противоположенное™ благу, а не за счет определенного ее качества.
Характерное ощущение противоречия благу, наличие более или менее
связанных друг с другом дурных привычек, в которых самость как
целое достигает формального, а не действительного утверждения,
и рефлексия, которая обнажает исток единства дурного в его
противоположности благому, — вот и все единство дурной самости.
Ее универсальность сводится к совокупности, и не является ни
целым, ни органической системой. Она — ряд дурных склонностей,
которые, по обыкновению, группируются вокруг своего рода
центров, хотя между ними нет ничего общего, за исключением
характерного ощущения противоположности одному и тому же
единству. Наша способность схватывания при посредстве формальной
функции самосознания и рефлексии сводит их в целое, в то время
как в реальности они суть множество разрозненных актов.
Дурная самость как таковая не может сознавать себя; если бы она
обладала такой способностью, она реализовала бы идеал
совокупности, обладающей самосознанием. Она есть целое, которое в
себе знает себя как то, чем она не является, — как совокупность; а
отсюда вытекает противоречие, отсюда негодование и отказ считать
дурные качества чем-то значимым, чем-то противоречием в самом
себе и ложью. Чистое зло просто невозможно.
Нельзя желать просто быть плохим. Несмотря на то что
иногда кажется, будто это возможно, факты упрямо говорят об
обратном, что ακόλαστος173 — теоретическое измышление, что человек
не избирает зло только потому, что оно зло, и ради него самого.
173 Необузданный, несдержанный, разнузданный (греч.). — Примеч. переводчика.
345
Эссе VII
И теперь мы видим теоретическое объяснение. Но обезопасим
себя от ошибки. Неверно говорить, будто зло не творится как зло.
Человек, совершая тот или иной дурной поступок, желает именно
его и знает, что творит зло, выступая от его имени. Неверное
понимание может быть оправдано тем, что человек желает чего-то
конкретно дурного, в дурных вещах нельзя найти ничего общего,
чтобы превратить его в цель, потому что не из чего делать цель. Когда
мы сознательно поступаем плохо, характер наших действий
определяется тем, что мы стремимся к тому, что известно под именем
дурного. С другой стороны, «дурное», хоть и кажется чем-то
большим, на самом деле всего лишь слово; это абстракция, а не
система, которая подчиняет себе конкретные вещи, и в нем нет ничего
позитивного, что можно было бы считать целью. Просто желать
дурного самого по себе означало бы просто ненавидеть благо
само по себе; но ненависть и антипатия должны покоиться на
позитивной основе и исходить из нее. Ничто сущее не может быть
просто отрицанием; ненависть должна исходить от позитивного
внутреннего содержания, составляющего позитивное ядро
самости, которое она желает само по себе и как позитивное, а
следовательно, как благо; но не только лишь как зло, т. е. не как
отрицание чего-либо иного174.
174 Наверное, здесь следует сделать оговорку. Нужно быть аккуратными и
помнить, что вопрос стоит так: «Возможно ли желать зла и ненавидеть благо
такими, какие они есть, и потому что они таковы?» А также что, поскольку в дурном
как таковом нет ничего, что можно было бы желать, желание дурного как
такового сводится к ненависти к благу. Весь вопрос, таким образом, состоит в
следующем: «Могу ли я ненавидеть благо как таковое?» Конечно, в каком-то смысле
могу. Я могу отталкивать от себя нечто благое, хотя и испытываю к нему
желание, поскольку оно неизменно причиняет боль и приводит в изнеможение. Я
могу желать избавиться от благого; но — только чтобы оно не мешало мне
придаваться разврату. Это может означать, что я хочу отдалить от себя благое или же
что я устал и просто хочу отдохнуть. Но ни в том ни в другом случае моя
ненависть не направлена на само благо; я испытываю ненависть к тому, что его
сопровождает; отнимите от блага то, что причиняет мне беспокойство, и я всегда
буду желать его. Даже упование на вечный покой основано на позитивном
желании самоутверждения, и только на нем. И это позитивное желание
направлено против блага только per accidence*. В действительности невозможно
стремиться к абстрактному отрицанию блага; имея то или иное желание, мы отрицаем
346
Себялюбие и самопожертвование
Но куда более важно, что сущее, которое желает зла и
направляет свою волю не на тот или иной дурной поступок, а на
отрицание блага, это не то сущее, которое знает, что такое благо. Мы
видели, что, пока воля не тождественна благу, она не знает, что оно
такое. Если благо не является объектом воли, оно не знаемо и,
следовательно, как таковое не может быть объектом ненависти; и если
самость не желает блага, она не знает, что есть зло. Коротко
говоря, если вообще нет воли к благу, то нет ни знания, что есть
благо и зло, ни воли к злу как таковому. Проще говоря, ненавидеть
благо — значит ненавидеть самого себя, а всецело ненавидеть
себя невозможно.
Ненавидеть благо значит ненавидеть себя, потому
бытие — утверждение; мы на самом деле суть утверждение, и
благо — одна и единственно истинная форма позитивной реализации.
Я не имею в виду, что, совершая тот или иной дурной поступок,
мы не утверждаем себя позитивно, но хочу сказать, что делаем
то, что ему противоположно в силу и в меру этой противоположности, и ради
того, чтобы утвердить себя. Ненавидеть жизнь возможно только настолько,
насколько возможно абстрагироваться от нее; но это уже самоутверждение, пусть
абстрактное, а оно является нашей позитивной целью.
В отношении только одного класса фактов создается впечатление, будто зло
совершается ради него самого, т. е. ради отрицания блага; но оно
оборачивается психологическим обманом. Обманчивым оказывается убеждение в том, что
благо — чужая воля, которая подавляет нас извне. Кажется, что дисциплина
нарушается ради самого нарушения; но на самом А^ле действие производится не
во имя дурного, а потому, что в нем самость утверждает себя в противовес тому,
что неверно принимает за другую конечную волю. Отмените наказание, и
вскоре удовольствие потеряет сладость запретности; и тогда субъект осознает, что
ему неинтересно зло как таковое, — осознание, которое дорогого стоит. Если же
он продолжает говорить: «Жаль, что я не думал, что так поступать неправильно,
ведь, как только я перестал так думать, я уже не испытываю удовольствия», он
уже почти достиг ακολασία **. Но она исходит из ошибочного представления
о чужой воле. Еще одно проявление тенденции того же рода можно
подвести под разряд желаний «назло» — любопытное состояние духа, когда
человек собственную самость, в том или ином ее проявлении или качестве,
воспринимает как чужую или как внешнюю.
* Случайно (лат.). — Примеч. переводчика.
** Необузданности, неумеренности, разнузданности (греч.). — Примеч.
переводчика.
347
Эссе VII
это не истинным образом. Я знаю, что я есть нечто одно и целое,
а следовательно, могу знать, что истинно и действительно
осуществляю и достигаю себя не в чем-то конкретном, но только в том, что
отражает и реализует мою природу, поскольку я есть такого рода
сущее, которое не может поверить в то, что его реальность
мимолетна или же может быть обнаружена в вещах преходящих. Я
поистине и в реальности есть нечто одно как целое; я поистине и в
реальности позитивно. Мы показали, что благо, и только оно
одно, реализует меня как целое; и нельзя удержаться от вывода, что
только благая самость единственно является истинной в
позитивном смысле, что она и только она является на самом деле самой
моей самостью.
Над этим стоит задуматься, и будь у нас место и достаточно
силы, рассуждение завело бы нас далеко. С другой стороны, мы
находим, что в нас есть дурное; зло в той же мере факт, как и благо,
и без дурной самости мы бы вряд ли познали самих себя. Но мы
отказываемся принять дурную самость как реальность; и здесь
снова возникает старая мысль, которая в разных формах обсуждалась
и в искусстве, и в философии, и в религии, — что факты реальны
не в одном и том же смысле, или что то, что реально для одного
состояния или ступени сознания, не таково для другой или более
высокой ступени, и еще менее реально для той, которая,
присутствуя во всех ступенях и состояниях, стоя выше их всех.
Но мы не должны ни покидать глубины, которой достигли,
ни отвлекаться от предмета. Мы, я надеюсь, увидели, чем
является дурная самость, пусть и не в совершенной форме, и можем
повторить, уже более осмысленно, что себялюбие — одна из форм
дурной самости. Сознательно стремиться к удовольствию значит
делать целью идею максимума удовольствий, а ко всему
остальному относиться как к средству. Себялюбие проявляется в желании
и стремлении к предмету, который не понимается как цель в себе,
но в большей или меньшей степени как средство, ведущее к
собственному удовлетворению, приятным переживаниям или же
отсутствию страдания; но при этом человек не стремится достичь
максимума. Помимо того, эгоизм видит во всех вещах, без учета
348
Себялюбие и самопожертвование
их объективного содержания, средство для достижения счастья,
которое понимает как самоутверждение. Остальная часть дурной
самости проявляется в воле к тем предметам и склонностям,
которые противоречат благу; но у нее нет скрытой или явной
готовности использовать их в роли средства для внеположной цели. Если
же вы настаиваете на том, чтобы подвести все дурное к общей
цели, то следует сказать, что эта цель — личное удовлетворение; но
в то же время следует помнить, что это справедливо в том
смысле, что никакой другой цели нет.
Что же тогда самопожертвование? Мы видели, что
моральность, всякое отождествление воли с идеалом, требует
определенного подавления самости; а потому самореализация, будучи
самореализаций, в то же время является принесением себя в жертву.
Можно ли сказать в таком случае, что самопожертвование состоит
в том, чтобы следовать высшему и подавлять низшее, и наоборот,
что подобного рода действие есть самопожертвование?
Нет, последнее будет ложно; ибо обычно под
самопожертвованием разумеют нечто иное. В морали, как правило, то, что отдаешь,
возвращается сторицей; и самость в своем стремлении
вознаграждается тем, что жизнь переходит на более высокий уровень. Если
счастье — реализация идеала в процессе существования,
достижение в самом себе цели как целого, посредством себя и для себя,
тогда, насколько человек вообще может быть счастлив, настолько
истинно, что добродетель — счастье; а добродетель не
предполагает с необходимостью самопожертвование.
Самопожертвование — нечто большее. Оно предполагает
отождествление воли с объектом, попытка реализации которого
влечет за собой в возможности или в реальности отрицание личного
существования самости, стремящейся его осуществить. Под
личным же существованием (если это выражение вызывает протест,
его можно заменить) я имею в виду существование конкретного
человека, — я говорю не «отдельно от других», но «отлично от
других», — то, что сосредоточено в нем и составляет ту или иную
личность. Экстенсивное и интенсивное утверждение воли как «я» или
«ты», будь то в здоровье тела, физической гармонии, влиянии
349
Эссе VII
на других или физическом или духовном обладании чем-то
благим — все это утверждает наше партикулярное, личное
существование, а все, что противоречит этому в реальности или в
возможности, мешает личности. Жертвовать собой значит сознательно
подчинять собственное существование, частично или всецело,
тому, что его превосходит. Мы передаем свою волю тому, что, как
мы полагаем, сможет уменьшить экстенсивное или интенсивное
утверждение личной самости. Это не означает отказ от воли, ибо
такой отказ не имеет смысла; не означает это и отказ проявления
в себе воли конкретного человека, что также не имеет смысла:
если кто присмотрится внимательней, он увидит, что
самопожертвование подразумевает куда меньше, и в то же время гораздо
большее. Оно означает, что человек желает реализовать посредством
своей воли то, что влечет умаление или полное подавление его
отдельной личности. Оно есть благая самость, отождествление воли
с идеалом, самореализация, и как таковое приносит особое
удовольствие; оно утверждает личную волю, но утверждает, чтобы
отрицать; оно не обретает для себя и не располагает как собственным
благом содержанием самости, которую реализует, но разумом и
верой усматривает ее завершение, которое, если вообще возможно,
то вне и за пределами индивидуального существования.
Еще два вопроса, и мы завершим. Первый таков: «Возможно
ли жертвовать собой ради зла; ради зла, т. е., когда человек
знает, что это зло?» Есть причины для сомнения, но я склонен дать
отрицательный ответ. Мы видели, качество «плохой» не является
причиной, почему нечто плохое становится предметом желания;
но трудность вот в чем: на самом деле создается впечатление,
будто люди отказываются от собственного существования ради того,
что известно как плохое, и при этом, понимают, что делают. Этой
трудности удастся избежать, если посмотреть на дело более
внимательно. Человек может попасть в подобную ситуацию в двух
случаях: поддавшись страсти или приняв решение. В первом
самопожертвование предполагает желание, т. е. действие ввиду
последствий. Лютая ненависть и вожделение удовольствий
смертного приводят к смерти; как сказал поэт,
350
Себялюбие и самопожергвование
Our natures do pursue,
Like rats that ravin down their proper bane,
A thirsty evil; and when we drink we die175.
Но суть вот в чем: неужели человек видит только цель,
оставаясь слеп к возможному результату; или же результат тоже
берется в расчет? Если нет, то самопожертвование невозможно. Второй
класс — сознательное стремление к дурным предметам, которое
сопровождается готовностью рассматривать и встретить все
последствия, даже собственную смерть; коротко говоря, причина
принесения себя в жертву недостойна. Здесь важно следующее:
действительно ли причина недостойна: или же ее следствие столь
трудно для понимания, что благо путается со злом, или, по
крайней мере, что человек видит в дурном помимо плохого еще что-
то хорошее? Все зависит от того, как мы ответим на этот вопрос.
Мы признали, что имело место самопожертвование, но стоит
усомниться в том, было ли на благо? И до тех пор, пока мы не
разрешим это сомнение, нельзя утверждать, что можно принести себя
в жертву дурному.
Последний вопрос: всякое ли самопожертвование имеет
религиозный характер? И здесь мы дадим отрицательный ответ.
Может возникнуть соблазн сказать, что воля подавлять временную
самость требует воли, которая была едина с тем, что стоит над всем
конечным, воли, которая тождественна с невременной волей; и что
в таком случае (независимо от того, называет ли она себя так или
нет) мы имеем дело с религией. Но это, я думаю, не так. Конечно,
если бы было возможно принести себя в жертву дурному, в этом
действии не было бы утверждения Божественной воли. И даже
если сузить вопрос до самопожертования во имя блага, мы все рав-
175 Излишняя свобода, друг, свобода;
Как пресыщенье порождает пост,
Так злоупотребление свободой
Ведет к ее лишенью. Мы томимся,
Как крысы, обожравшиеся ядом,
Неутолимой жаждой, пьем — и гибнем.
Шекспир В. Мера за меру / Пер. М. А. Зенкевича. — Примеч. переводчика.
351
Эссе VII
но вынуждены сказать, что он не обязательно затрагивает то, что
можно было бы назвать религией в собственном смысле. Нет
необходимости понимать причину, с которой воля
отождествляется во имя отрицания временной самости, как невременную, или
как превосходящая конечное; но только как конечную
реализацию, которая и над конечным и превосходит его. Но воля также
может проявить некий дурной интерес, который, хотя и конечен,
все же превосходит мое конечное существование. Когда личное
существование переживается как в высшей степени бесполезное
по сравнению с благом, которого нужно достичь, возникает
подозрение, что благо получает свое определение через сравнение,
которое присуще уже религиозному сознанию, или, по крайней
мере, основано на его понятиях и связано с ним. В этой связи нужно
также рассмотреть «абстрактное самосознание», которое
растрачивает себя по мелочам не потому, что ищет того или иного
наполнения, но потому, что в своем абстрактном утверждении вообще
не заботится о конкретном содержании как таковом, даже о
содержании своего собственного конечного существования. Но
рассуждать на этот счет, равно как и насчет предыдущего
затруднения — уж не говоря о всех тех проблемах, на которые мне, без
сомнения, не удалось пролить свет, — я предоставлю читателю
(если таковой есть), кто, несмотря на все усилия автора, еще
чувствует в себе силы.
ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Итог нашего рассмотрения можно сформулировать очень
коротко. Мораль — бесконечный процесс и,
следовательно, носит в себе противоречие; и, как таковая, она не
остается чем-то постоянным, но испытывает побуждение выйти за
пределы свой реальности.
Противоречивость морали заключается в следующем: она
требует того, что невозможно. Не только благая воля —
единственное, что благо, но и благо — единственное, что реально (пока
является объектом воли); и все же реальность не всецело блага. То, что
должно быть, — ни во мне, ни в мире, — не является тем, что есть,
и то, что есть, — тем, что должно быть; и призыв морали
остается, в конце концов, только призывом.
Причина этой противоречивости морали кроется в том, что
человек сам есть противоречие. Но человек есть нечто большее;
он чувствует и знает, что он таков. В этом состоит фатальное
различие, ибо ощущать противоречие значит ipso facto быть выше его.
Как иначе было бы возможно его ощущать? Ощущаемое
противоречие, которое, кроме двух своих полюсов, не означает единства,
содержащего в себе и превосходящего противоположности, — чем
больше над ним задумываешься, тем более оно кажется
совершенно лишенным смысла. Если бы человек не был целостностью
и не предугадывал ее в себе, то не мог бы чувствовать
противоречия, уж тем более — страдать от него и отвергать как нечто
чуждое своей природе.
Итак, мы увидели, что нельзя остановиться на точке зрения
морали, которая приводит человека к тому, что его не
удовлетворяет. Тот или иной человек, та или иная преходящая ступень
культуры, может пребывать в этой сфере истощения, ложного
самооправдания, и не менее ложного презрения к самому себе; но для
353
Итоговые замечания
народа как целого это немыслимо. Так никогда не было; и пока
человек остается человеком, конечно, никогда не будет.
И вот мы завершаем наши эссе, ибо выходим за пределы
морали. Но, видя возможность внести ясность в наши рассуждения,
мы испытываем искушение сказать еще кое-что, хотя и
фрагментарно, хотя и во многом в форме добавления176.
Рефлексия над моралью выводит за ее пределы. Мы приходим,
коротко говоря, к необходимости религиозной точки зрения.
Конечно, мы не делаем из этого вывода, что первое место в мире
занимает мораль, а за ней идет религия: но мы можем сделать
вывод, что мораль несовершенна, и несовершенна в том смысле, что
требует нечто более высокого, которым и является религия.
Мораль перетекает в религию: и обычный читатель,
услышав слово «религия», набросится на нас с криками, и вопросами,
и со всеми проблемами сего дня: Богом и кумиром, бессмертием
души, конфликтом откровения и науки, и кто знает, с чем еще?
Ему не стоит ждать ответа на эти вопросы: мы лишь пишем
дополнение; и наша задача в этом дополнении — показать, что
религия на самом деле дает то, что не может дать мораль; и наш
метод состоит в том, чтобы просто, насколько это необходимо для
поставленной задачи, указать на факты религиозного сознания,
не делая при этом никаких выводов, не пытаясь углубляться в
вопрос и предпринимая ничего, что не относится к связи религии
и морали.
Перед нами не стоит задача сказать что-либо о предельной
истине религии: ни о ее истоке в мире, ни о ее истоке в человеке.
Мы берем религиозное сознание как существующий факт, и берем
таким, каким находим его присущим духу современного
христианина, несмотря на то, признает ли этот дух такое сознание. И
наконец, не имея возможности углубляться в вопрос, мы лишь
догматично изложим то, что кажется нам истинным в отношении
религиозного сознания.
176 Всем последующим я обязан книге Ватке «Свобода человека» [Vatke. Die
Menschliche Freiheit. 1894].
354
Итоговые замечания
Каждый, чье мнение нам следует учитывать, видит, что
между истинной религией и моральностью есть связь. Тот, кто
«религиозен» и не поступает морально — плут или ложно
религиозен. Это справедливо по отношении не ко всем сферам. Философ
может быть хорошим философом, и тем не менее, если взять его
в целостности, может вести имморальный образ жизни, то же
можно сказать и в отношении художника и даже теолога. Все они
могут хорошо исполнять свое предназначение, но при этом быть
плохими людьми; но ни один из тех, кто знает, что такое
истинная религия, никогда не назовет того, кто аморален религиозным.
Ибо религия — не просто знание некого объекта, пусть даже
возвышенного, и его созерцание. Она не есть просто философия или
искусство, поскольку она не есть просто видение, просто
теоретическая деятельность, взятая как таковая или со своей
теоретической стороны. Религиозное сознание говорит о том, что человек
не становится религиозным или более религиозным от того, что
предмет его теоретической деятельности имеет отношение к
религии; равно моральное сознание говорило нам, что человек не
становится моральным или более моральным лишь только потому,
что он — философ морали. Религия — главным образом делание,
и делание, которое морально. Она предполагает реализацию, и
реализацию благой самости. В таком случае должны ли мы сказать,
что мораль религиозна? Скорее всего, нет. В самой морали идеал
не наличен: он всегда остается тем, что «должно быть». Реальность
внутри нас или в мире — неполная и недостаточная; и нельзя
сказать, что она соответствует идеалу и что с моральной точки
зрения и мы, и мир — то, что должно быть, и должно быть именно
то, что мы есть. Наивысший объект веры — идеал, который в
своей чистой полноте никогда не реален; который, как идеал, всего
лишь то, что «должно быть». И вопрос в том, «так ли в религии?»,
ни один человек сведущий, в религиозных вопросах, если только
он не искушен теоретическими построениями, не ответит на этот
вопрос: «Да». Не помогает даже уточнение, что религия —
«эмоционально окрашенная мораль»; такого рода общие фразы, может
статься, сообщат читателю то, что он и так уже знает, но, по сути,
355
Итоговые замечания
они не говорят ничего. Всякая мораль в том или ином смысле
«эмоционально окрашена». Большинство эмоций, высоких или
низменных, могут сопутствовать и «окрашивать» мораль; и в тот
момент, когда мы перестанем заниматься творчеством предложений
и начнем думать, мы поймем, что весь смысл этой фразы
сводится к тому, что религиозна та мораль, которая «окрашена»
религиозным чувством; итак, единственное, что мы смогли сказать в ответ
на вопрос «Что есть религия?», — «Религия — это когда с
моралью вы имеете религию». Не думаю, что это нам много даст177.
Религия превосходит мораль. В религиозном сознании мы
находим веру — пусть смутную и неотчетливую — в объект в «не
меня»; объект, который, более того, реален. Нереальный идеал
не может быть объектом религии: и в частности, идеальная
самость как «должно быть», которая реальна только настолько,
насколько мы осуществляем ее в своей воле и которую как идеал
не можем осуществить, не является реальным объектом, а
потому не является объектом религии. Следовательно, идеал личной
моральности недостаточен для религии, поскольку он не
обладает реальностью. И мы уже видели выше, что идеал не
реализуется в объективном мире государства; так что одного этого
возражения достаточно, чтобы понять: в нем нам не дан объект религии.
Ибо для религиозного сознания этот объект реален; и его нельзя
найти лишь только в сфере морали.
Но вот снова нам на выручку пришла «культура» и
показала, как здесь, равно как и всюду, изучение классической
литературы, которая способствует смирению, делает также излишним все
177 Сравните (Миллъ. Рассуждения и исследования политические,
философские исторические [Mill. Dissertation. I. 70-71]) определение поэзии как
«мыслей человека, с оттенком чувств». Здесь опять возникает также проблема: каких
чувств? Это определение из ряда поверхностных размышлений над
психологическими формами, все что угодно, но не попытка схватить содержание. Все, что
Милль хотел включить в свое «определение», — то, что ему не хватает:
«выражение поэтом переживаний, которые читатель не сознает». Однако, желая быть
уверенным, что попадет в цель, так сказать, выставил уже пораженную мишень,
и в свое «определение» поэзии ввел «дух поэта». Это все равно как если бы мы
сказали: «Религия — нечто, что принадлежит религиозному человеку».
356
Итоговые замечания
последующее обучение; и мы уже чувствуем, будто туман, которым
метафизика окутала суть вопроса, рассеялся под свежим и
ласковым лучом разума. И тогда, если мы повернем свой взор к
рассвету, то нам останется лишь вздохнуть над бедным Гегелем, который
не читал ни Гете, ни Гомера, ни Старого и Нового Завета, ни одного
из произведений литературы, которые служат достоянием
«культуры», но, не зная фактов и не читая книг, даже не задавая себе178
вопросы из тех, какими задаются новички от философии, как,
например: «Что есть на самом деле бытие?», сидел себе и пустоплел
всякую глупость, которую невозможно навязать тому, у кого есть
чувство вкуса. Хорошо, культура сказала нам, чем Бог был для евреев;
и мы выучили, что «Я есть то, что я есть» значит то же, что «Я дую
и расту, — вот что я делаю» или «Я буду дышать, вот что я буду
делать»; и это, если и удивляло нас, было во всяком случае
определенно, если не сказать, ощутимо. Однако для тех из нас, кто не думает,
что христианство призвано и до сих пор кутаться в «ветхие одежды
иудеев», все это — достояние историков. Но «культура» пошла
дальше и сказала нам, чем Бог является для науки, и мы слышали слова
«течения» и «тенденции» и «Вечное», смысл которых не понимали
и какого автора мы бы ни взяли в руки, мы должны были признать,
что все они пересказывали на художественный лад какую-нибудь
случайно подхваченную метафизическую теорию, которая уже
вышла из моды, и, облачив ее в слова, о смысле которых никогда не
задумывались, после преподносили публике как результат
спекуляций или того самого «гибкого здравого смысла», что куда лучше.
И поскольку это было, конечно, недопустимо в случае «культуры»
и «критицизма», мы пришли к выводу, что во тьме для нас снова
засиял свет. Но «течение» или «тенденция», отслужив свое,
канули в Лету, как афиши прошлого сезона, и мы наконец узнали, что
«вечное» вовсе не вечное, если только мы не называем этим словом
все то, что происходит на глазах поколения, и то, что, как оно
полагает, уже случилось и еще предстоит — ну как привычка умываться
могла бы быть названа «вечное, что не является мной и способствует
mCont. Review XXIV. 998.
357
Итоговые замечания
чистоте» или «рано ложиться, рано вставать» — «вечное, что не
является мной и способствует долголетию», и так далее — это
«вечное», коротко говоря, не что иное, как книжный вздор. В итоге нам
остается лишь утверждение, что «праведность» — «спасение» или
«благополучие» и что есть «закон» и «власть», которая должна
сделать что-то с этим фактом; и здесь нам снова не стыдно
признаться, что мы не понимаем, что означают все эти выражения, и
предполагаем, что снова слышим вздор.
Если имеется в виду следующее: то, что обычно называется
добродетелью, всегда ведет к тому, что обычно зовется счастьем и
сопутствует ему, — то это столь далеко от «подтверждения»
повседневным опытом, что скорее верно обратное; нельзя утверждать
ни что быть добродетельным значит всегда быть счастливым, ни что
счастье должно всегда исходить от добродетели. Всем известно это
высказывание Арнолда: «Он должен знать об этом, и все же он
дает, поскольку это в его интересах или потому, что народ или
большая его часть хочет этого; дешевый прием» (С. R. Р. 804).
Совсем не факт, что быть добродетельным — всегда быть
счастливым, и счастливым именно по причине добродетельности; и
даже если бы это было так, все равно этот факт не мог быть объектом
религиозного сознания. Реальность, которая соответствует тому,
что говорит культура, мы полагаем, сводится к наличию
соответствующих высказываний в книгах или в наших головах; или, с
другой стороны, к ряду событий во времени, прошлом настоящем или
будущем (т. е. примерами связи добродетели и счастья).
У нас есть абстрактное понятие, которое обозначает абстракцию
того или иного качества; или, с другой стороны, у нас есть серия
или совокупность партикулярных случаев. Если сойдет книжный
глянец, останется что-нибудь?179 Но объект религиозного сознания
179 «Есть ли Бог?» — спрашивает читатель. «Ода, — отвечает Арнолд, — я
могу удостоверить его на опыте». «Что он есть в таком случае?» — вопиет читатель.
«Будь добродетелен — и, как правило, будешь счастлив», — слышится ответ.
«Хорошо, а Бог?» «Это и есть Бог, — говорит Арнолд, — нет никакого обмана,
что еще вы хотите?» Я думаю, что нам нужно гораздо большее. Большинство из
нас, безусловно, тех, к кому обращается Арнолд, хотят обрести то, чему можно
358
Итоговые замечания
должен быть чем-то большим. Он должен быть чем-то реальным,
и обладать этой реальностью не только в представлении одного
человека или группы людей, и не как нечто конечное, одно по числу
или множественное. Он, если говорить коротко, сильно отличается
как от тех тощих абстракций или грубых «верифицируемых»
фактов, между и над которыми наша «культура» не знает иной
высшей третьей сферы, кроме литературного искания, которое,
прозрев, становится беспомощным.
Но оставим этот пустой разговор, за который приносим свои
извинения; давайте вернемся к религиозному сознанию.
Религия, как мы видели, должна иметь объект; и этот объект
не является ни абстрактной идеей, ни партикулярной вещью или
качеством, ни совокупностью таких вещей или качеств, ни какой-
либо фразой, которая обозначает что-либо из этих вещей, ни всю
их совокупность. Коротко говоря, объект не есть ничто конечное.
Он не может быть вещью или личностью; он не может быть в
мире, как его часть или как то или иное развитие событий во
времени; он не может быть «всем», суммой вещей и личностей, ибо, если
нечто не Божественно, то составь многих таких вместе,
Божественности не получишь. Всем этим он не является. Его позитивный
характер состоит в реальности; и более того, исследуя данность
религиозного сознания180, мы обнаруживаем, что он — идеальная
самость, которая мыслится как реализованная и реальная.
Идеальная самость, которая в моральности должна быть, здесь является
реальным идеалом, который есть поистине.
В поучениях идеальная самость есть нечто «обязанное быть»,
«должное быть», которые еще не есть; объект религии — та же
идеальная самость, но уже не только то, что должно быть, но
также и то, что есть. Такова природа религиозного объекта, хотя
поклоняться; но они не найдут его в возведенном до постулата шаблонном
выражении, которое не более привлекательно, чем «лучше быть честным» или
«прекрасно то, что делает прекрасный человек», или множество других
поучительных максим, которые еще пока не возвели в образец.
180Читателю следует строго различать то, что есть для (или перед)
религиозным сознанием; то, что есть в нем и что есть для нас как исследователей.
359
Итоговые замечания
существуют разные степени понимания его: от самой смутной
интуиции до самой глубокой рефлексии.
Можно теперь сравнить с религией науку и искусство.
Художник и поэт пусть неотчетливо, но действительно чувствуют и верят
в то, что красота, там, где ее невозможно видеть, все равно как-то
и где-то существует и что она реальна; хотя не просто как идея в
голове человека и не как нечто видимое. И наука, пусть не вполне
понимая этого, исходит из предубеждения, что причина, даже если
это противоречит очевидности, не только должна быть, но также
реально существует, и вся наука стоит на этом основании.
Является ли религия лишь разновидностью теоретического
построения и размышления, подобно искусству и науке?
Является ли она низшей ступенью философии или иным сортом
искусства или чем-то средним? Ничем из вышеперечисленного, между
ними есть существенное различие.
В самой сущности религиозного сознания мы находим
отношение нашей воли к реальной идеальной самости. Мы обнаруживаем
себя как ту или иную волю против объекта как реальной
идеальной воли, которая не является нами и которая стоит к нам в таком
отношении, что, хотя и реальна, должна быть реализована, потому
что есть вся и целая реальность.
Это утверждение, без сомнения, может пошатнуть наши
позиции; но утверждение, мы настаиваем на этом, основывается
на простом факте религиозного сознания. Если кому-то
захочется назвать его заблуждением, это ничего не изменит; если только,
как, кажется, полагают некоторые, от факта нельзя избавиться
посредством слов. И, сколь удивительно читателю ни покажется этот
факт, он определенно не нов.
С той же трудностью реализации реального мы
сталкиваемся и в искусстве, и в науке. Самость испытывает смутное чувство
или предчувствует, что полна истиной и красотой, но
бессознательно представляет себе эту полноту в виде объекта, не-самости,
которая противопоставлена ей, как тот или иной человек. Итак,
самость продолжает реализовывать то, что неотчетливо предзна-
ет как реальное; она реализует это, несмотря на то и потому что
360
Итоговые замечания
знает, что оно реально. И пока в этом искусство, философия и
религия сходятся.
Но, как мы видели, они так же сильно различаются. В
искусстве и науке несущественна воля того, кто реализует.
Существенно, чтобы был произведен определенный результат, чтобы хотя
бы часть невидимого объекта, который предугадывался реальным,
стала реальной, чтобы, коротко говоря, несмотря ни на что,
определенный элемент реального был видимо реализованным. Здесь
цель — зримый объект, как таковой и воля, которая обеспечивает
его, не берется в расчет. Без сомнения, было бы большой ошибкой
забыть, что искусство и наука включают волю и волю конкретных
людей и что именно эта воля реализует объект; и что, поскольку
объект науки и искусства, по крайней мере, отчасти тождествен
объекту религии, то можно сказать, что и наука и искусство
включают в себя религию, поскольку включаются отношение
отдельной воли к реальному идеалу. Ибо предположим, что есть единый
процесс человеко-божественной жизни, и предположим, опять-
таки, что искусство, наука и религия — различимые элементы
или аспекты этого процесса. Если это так, то ни искусство, ни
наука, ни религия не могут существовать сами по себе, а две первые
необходимо предполагают последнюю. Но мы можем и не
разделять, но должны различать; и когда посредством абстракции
мы рассмотрим одну сторону, например сторону науки или
сторону искусства, и возьмем их как чисто теоретические виды
деятельности, тогда будем вынуждены сказать, что, будучи взята
таким образом, ни одна из них не является религией; и не является,
потому что воля того или иного человека, поставленная выше
реального идеала как воли, не является элементом научного
процесса или процесса искусства как такового. Реальный идеал
науки и искусства не является волей, и отношение моей воли к нему
выходит за пределы этих областей; и мы должны сказать и
полагаем, что читатель с нами согласится, что как только философ
или художник сознает свою волю в отношении к реальному
идеалу как воле, которая спрашивает с него, он перестает быть
просто философом или художником как таковым (которым, в конце
361
Итоговые замечания
концов, не является никто из людей) и становится также
религиозным или иррелигиозным.
Продолжим. Мы обнаружили, что в религиозном сознании
идеальная самость является завершенной реальностью; и сверх
того, она предъявляет нам требования. Оба элемента и их
отношение даны в одном и том же сознании. Мы представляем собой эту
волю, которая, поскольку является этой волей, должна реализовы-
вать реальный идеал: реальный идеал дан как воля, которая
полностью реальна и, следовательно, должна реализоваться в нас.
Проще простого сейчас дать волю односторонней рефлексии,
кричащей о ясности и последовательности и прибегающей к
своему любимому «либо-либо». «Если он реален, как реализовать? Если
реализовать, то нереален». Мы, однако, не должны потакать
желанию делать выводы, но должны придерживаться фактов; и мы
видим, что религиозное сознание отвергает эту дилемму. Оно
настаивает и на том и на другом и на одном в силу другого; и называет
такие мысли нерелигиозными.
В моральном сознании было два полюса: «Я» и идеальная
самость. Последняя претендовала на то, чтобы быть реальной и
обладать всем как реальностью, будучи объектом воли; но для
морального сознания она не была реальна ни в мире, ни в нас, и дурное
в нас и в мире было как реальное. В религии мы снова находим два
полюса: «Я» и идеальная самость. Но теперь последняя не просто
претендует на то, чтобы быть реальной, но является таковой,
реальной и всей реальностью; но (на этой ступени181) еще не
реализована ни в мире, ни в самости. Религия, однако, отличается не только
одним полюсом, но обоими: для морали мир и самость
остаются и неморальными, и имморальными, хотя каждый из них
реален; для религии мир отчужден от Бога и самость погрязла в
грехе; и это значит, что перед лицом целой реальности их ощущают
181 Вдумчивый читатель, пожалуй, возразит тотчас, что это не полное
описание религии. Это вполне справедливо, и мы намеренно откладываем
рассмотрение религии в целом. Здесь мы утверждаем относительно определенных
элементов религиозного сознания, чтобы увидеть, что они — всего лишь элементы,
понять которые можно только через нечто, что их превосходит.
362
Итоговые замечания
и знают как то, что не является всем и противоположно всему и
тому, что единственно реально, но тем не менее как то, что
существует. В грехе самость ощущает себя в противоречии со всем, что есть
поистине. Она есть нереальное, которое, зная себя как таковое,
противоречит себе как реальному; и она есть реальное, которое,
ощущая себя таковым, противоречит себе как нереальному, и не найти
столь сильного слова, столь яркого образа, чтобы описать ее
невыносимые муки от несоответствия. Ибо она на самом деле является
той самостью, против которой себя ощущает, совершая грех. Мы не
имеем возможности углубить это рассуждение и должны
удовлетвориться указанием на то, что противоположное — в высшей
степени непостижимо. Оба полюса суть то, что они суть, только
благодаря тому, что противопоставлены друг другу в сознании. В них
самость чувствует себя в себе разделенной; и, если они не
пребывают в одном субъекте, как это возможно? Мы не ощущаем, что
ведем борьбу с чем-то внешним, что воспринимается чувствами или
мыслится; мы в себе ощущаем борьбу двух воль, с каждой из
которых чувствуем себя отождествленными. И это отношение
Божественной и человеческой воли в одном субъекте психологически
невозможно, если только они не суть воли, принадлежащие одному
субъекту. Снимите это условие, и оба явления в своей
особенности тотчас исчезнут. Отрицать, что религиозное сознание
подразумевает тождественность Бога и человека в субъекте, значит не
понимать признания Божественной воли и желания ее исполнения,
сознания греха и противления, потребности в благодати, с одной
стороны, и ее нисхождения — с другой, значит лишить смысла все
религиозные факты и полностью уничтожить саму возможность
Искупления182.
182 Стоит посмотреть, какова позиция нашей философии по отношению ко
всему рассматриваемому нами предмету, а не только в связи с религией. Люди
считают, что субъект и объект соотнесены в сознании; и они переносят то, что в уме,
на то, что вне ума, и говорят так, будто две независимые реальности столкнулись
и так породили единство, которое постигает их; в то время как выйти за
пределы этого единства для нас означает буквально выйти из ума. И когда в какой-то
момент становится очевидной монструозность этого предположения и люди
видят, что без некоего высшего единства, это «соотнесение» — чистый абсурд, тогда,
363
Итоговые замечания
И ответ таков: примирение Божественного и человеческого
реально в объекте; принцип единения уже содержится в нем; и в
реальности этого объекта, в реальности примирения человека как
такового идеальным образом содержится и мое личное
примирение. Да, оно будет моим, если я принял его на себя, только если
я смог сделать его моим; но как это вообще возможно, если я
отмечен грехом? Как вообще идеал человека-Бога может быть
моей волей?
дабы удовлетворить эту потребность, изобретают третью реальность, которая не
является ни субъектом, ни объектом, но «Непознаваемым» или «вещью-в-себе»
(нет разницы). Но, поскольку оба коррелята еще только вместе и пока еще не
являются «Непознаваемым», встает вопрос: «В каком отношении к ним стоит это
непознаваемое?» В результате непознаваемое становится подлежащим предикатов
(см.: Спенсер. Основные начала), и для всякого, кто хочет быть последовательным,
дальше уже невозможно называть его непознаваемым. Итак, нужно сделать еще
один шаг и, отказавшись от третьего единства, которое не является коррелятами,
признать тождество субъекта и объекта, настаивая на том, что это тождество не
есть ум. Но вот снова, как и в случае с непознаваемым и прежде с двумя
соотнесенными реальностями, забывают, что, когда ум делается только частью целого,
придется ответить на вопрос: «Если это так, то как возможно знать целое? Если
мы вообще ни о чем ничего не знаем, как мы можем что-либо сказать об этом?
Можем ли мы вообще утверждать, что оно есть? И, если оно не в сознании, как
мы можем знать об этом? И если оно в уме и для ума, как оно может быть целым,
которое не есть ум и в котором ум — часть или элемент? Если предельное
единство — не самость или ум, мы не можем знать, что оно не есть ум: это означало
бы выйти за пределы ума. И напротив, если мы знаем его, оно не может не быть
умом. Все, что мы, коротко говоря, можем знать (психологическая форма —
другой вопрос) — самость и элементы в самости. Знать не-самость — значит выходит
за пределы собственного ума. Если мы знаем целое, это возможно только в
силу того, что целое знает себя в нас, потому что целое — самость или ум, который
есть и знает, знает и есть, тождество и связь субъекта и объекта».
В том, что сказано, нет ничего нового, и самое время принять это или
отвергнуть. Я думаю, что больше к этому не будут относиться неуважительно. Во
многом против своей воли английская мысль была принуждена сделать переход от
корреляции к тождеству; и, если это значит придерживаться учения об
«относительности знания», ум, или в некотором смысле слова самость должна увидеть
здесь тождество внутреннего и внешнего. Вероятно, не так; но если не так, то я
думаю, нужно искать новое основание или отказаться от попытки создать какую-
либо теорию первых принципов. Но если мы выберем последнее (как, наверное,
и поступим), тогда позвольте мне завершить это примечание на том, что среди
прочих учений, от которых следует отказаться, есть учение об относительности.
364
Итоговые замечания
Ответ: если «моя воля» понимается как «моя личная воля»,
то никак не может, потому личная воля должна стать всецело
благой. Ради этой воли «Я» должно умереть и посредством веры
соединиться с идеалом. Человек должен решить отказаться от
собственной воли, воли того или иного человека, и вверить всю ее без
остатка воле божества. Она должна быть его единственной волей,
его истинной самостью; к этому следует стремиться и мыслью, и
волей и от всего остального следует отказаться; все остальное следует
не признавать своим и на деле со всем усердием отрицать. Человек
должен верить, что на самом деле он есть одно с Божественным,
и должен поступать так, как если бы верил в это. Коротко говоря,
его судят не по делам, а по вере. Это учение, за которое
протестантизм к своей вечной славе заплатил кровью, — самое ядро
христианства; и там, где оно не выражено в той или иной форме,
христианство существует лишь на словах.
В простой морали эта вера невозможна. В ней нет реального
единства Божественного и человеческого, с которым можно было
бы отождествить себя; и опять-таки, там та самость, которая не
соприкасается с идеалом, не осознается как нереальная, что и
невозможно, поскольку идеал не является всей реальностью.
Но что такое вера? На этот вопрос, наверное, нелегко
ответить, но в некотором смысле на него необходимо ответить; и
неверно будет и упразднить его как бесполезный и отстраниться от
него как от загадки. Легко сказать, чем вера не является. Вера — это
не просто убеждение, не просто принятие за истину или факт; это
не просто теоретический акт суждения183. Каждый знает, что
можно уметь судить, но не иметь веры.
Вера предполагает убеждение, но более того, она
предполагает волю. Если моя воля не тождественна с тем, что я считаю
фактом, тогда я не верю в него. Вера — это и убежденность в
реальности объекта, и воля сделать этот объект реальным; и там, где один
183 Я использую слово «убеждение» в обычном смысле. Конечно, если вера
всегда связана с практикой, то наше рассмотрение неверно. Это пытается
доказать Бэйн [Bain. Emotions. Ed. II. P. 524 и далее], хотя и делает это, как нам
кажется, вопреки фактам и без особой пользы для нас.
365
Итоговые замечания
из составляющих несостоятелен, там нет веры. Но даже это еще
не все. Когда Бэйн [Emotions, p. 526], к примеру, говорит:
«Ребенок, который нашел путь к груди матери, чтобы поесть, к ее телу,
чтобы согреться, укрепился в вере», нас сразу поражает
несоответствие. Мы не видим причины, почему стоит верить тому, что
ребенок, который продвинулся в такого рода деле, скорее всего, в
последующей жизни будет обладать тем, что мы называем верой;
а то, что он уже ею обладает, кажется нам абсурдным. И мы
выяснили выше184, что даже применительно к «моему положению
в обществе и связанным с ним обязанностям» нельзя говорить о
вере в собственном смысле, потому что здесь есть то, что можно
назвать наглядностью.
К чему это? Значит ли это, что вера предполагает неточное или
неправильное знание и что это — причина, почему мы не можем
верить в то, что видим?
Нет, мы полагаем, что это толкование ошибочно и
противоречит фактам. Конечно, можно обладать верой, не будучи
уверенным в факте; но, говоря в целом, сомнение в факте ослабляет веру.
Не исключает веры и теоретическая точность. В противном случае
переход от веры с сомнением к вере без сомнения ipso facto
разрушал бы веру; а это не так.
Мы не можем утверждать, что, когда простая уверенность
восходит до спекулятивной точности, исчезает необходимость в вере;
или, более того, что вера становится невозможной. Нужно
постараться показать, в чем кроется ошибка. В пользу неверного
мнения говорит то, что видение исключает веру; а потому мы не
воображаем, будто человек обладает ею после смерти в Раю и будто
в течение жизни достигает ее через экстаз. Все это логично; но
указывает только на то, что вера несовместима не с определенной
степенью знания, а с его определенным видом. Вера несовместима
с непосредственным чувственным знанием или высшей ступенью
знания, которую достигает простая природа: а поскольку в
религии наше знание высшего не является непосредственным, постоль-
184 См. Эссе V. — Примеч. переводчика.
366
Итоговые замечания
ку говорят, что у нас есть только вера в него; и ошибочно считается,
что вера исключает не один, но все виды достоверности. Отсюда
и вытекает то заблуждение, о котором мы говорили выше и
которое все же отчасти истинно.
Почему тогда вера несовместима с чувственным знанием?
Потому что, выражаясь на языке религии, вера — восхождение за
переделы «этого мира», и восхождение, совершая которое я остаюсь
в этом мире. Что это значит? Значит ли это, что объект должен
быть частью видимого мира? Да, и более того, вера предполагает
восхождение в мысли, хотя и не ограничивается им; она
предполагает восхождение воли к объекту, который не видим, но мыслим.
А это предполагает, что для меня, во мне на самом деле
происходит разделение на «Я» и объект. В теоретическом восхождении я
мыслю не себя, а только объект: в вере же я должен также
поставить перед собой самого себя; я должен ощутить разногласие
между мной, как той или иной нереальной частью нереального
конечного мира, и в то же время должен ощутить идеально-реальный
объект, который является всей реальностью и моей истинной
реальностью. И для веры необходимо именно это предполагаемое
сознание абсолютного разделения (которое, в терминах
пространства и времени, мы выражаем словами «этот мир» и «тот мир»).
В вере оно подавляется и сохраняется. Следовательно, там, где его
нет, не может быть веры.
Тогда вера — признание, что моя истинная самость выражена
в религиозном объекте, и двоякое отождествление с ним:
посредством суждения и посредством воли; решение отрицать самость,
противопоставленную объекту, отождествив всю самость с тем, что
она есть в действительности. Одним словом, она исходит от
сердца185. Она есть убеждение в том, что только идеал реален, и воля
185 «Истинная вера — это не просто мысль или признание истинности
истории».
«Истинный христианин — это не тот, кто знает историю или владеет
наукой. Христианству должно быть известно, что вера — это не просто история или
наука. Иметь веру означает для человека не что иное, как отождествить свою
волю с Божественной и воспринять в свою волю слово Божье и его могущество, так,
367
Итоговые замечания
реализовывать только идеальное, теоретическое и практическое
утверждение, что самость реальна только как идеал.
Оправдание верой означает, что я, отождествившись таким
образом с объектом, уже ощущаю себя в этом тождестве единым
с ним и, преодолев все, что было во мне ложного, наслаждаюсь
блаженством быть тем, что я есть поистине. Зло в мире и зло,
воплощенное во мне через все мои прошлые дурные поступки, — все это
оказывается нереальным благодаря моему притязанию на то,
чтобы быть единым с идеалом, который также содержит меня в себе,
и благодаря утверждению, что все противоположное ему —
нереально: все это — не мое, поскольку я един с идеалом, и так
изменяется самость и ей уже нельзя вменить в вину те проступки, которые
теперь относятся не к моему истинному «Я», но к чему-то
нереальному, от которого я отрекаюсь и которое предаю уничтожению.
В одном смысле вера, конечно, только идеальна, ибо дурная
самость не исчезает. Однако в этом моменте религия сильно
расходится с моралью. Напоминая читателю, как мы понимаем
значение «эволюции» или «прогресса»186, мы теперь утверждаем, что
мораль — эволюция или прогресс. Цель, которая присутствует
в них, реализуется в процессе эволюции или прогресса, а
следовательно, еще нереальна; так же в морали цель предстает как то,
что претендует быть реальной, а учитывая сам процесс
реализации, это означает, что она нереальна. В морали мы не суть то, что
мы суть, и должны считать прогресс благом; хотя он означает
противоречие, о котором нам опять же известно, что мы не суть оно.
Но для религиозной веры цель эволюции предстает как то, что,
вопреки факту эволюции, — уже развито; или скорее как то, что
стоит выше элемента события, противоречия и конечности. Несмотря
чтобы обе они, Божественная воля и воля человеческая, стали одним сущим
и одной субстанцией. И тогда в человеке праведность настолько связывается с
Христом, его страстями, его умиранием, его смертью и его воскрешением, его
человечностью, что человек становится Христом, что означает духовным
человеком... Тот же, кто учит иначе и желает иного, все еще не свободен от
вавилонского греха» (Я. Бёме).
186См. Эссе V. — Примеч. переводчика.
368
Итоговые замечания
на то, что кажется, мы ощущаем, что мы — нечто большее, чем
прогресс или эволюция и на самом деле вообще ими не
являемся, но уже сейчас всецело реальны: и всю эту реальность
представляем себе как объект и, признавая посредством суждения и воли,
себя реальными в этом объекте, предчувствуем или, скорее,
возвышаемся над прогрессом. Будучи едины с этим объектом, мы
говорим, что мы теперь суть целое и находимся в гармонии с собой.
До тех пор пока мы не таковы, мы суть просто явления; и с
истинной и реальной самостью нас единит стойкая воля отрицать
кажущуюся самость. С этой точки зрения и в этой сфере (не за ее
пределами) обвинение невозможно, хотя дурная самость все еще
налична; и в этом смысле вера остается только идеалом.
Но предположить, что она идеальна еще в каком-то смысле,
будет страшной, хотя и распространенной ошибкой. И это
предположение, в своей ошибочности опираясь на Св. Павла, опирается
на вечное непонимание его слов. В вере мы не возвышаемся умом
до идеи и не оставляем волю позади себя. Где нет воли реализовать
объект, там нет веры; и там, где нет трудов, там нет воли. Если
прекращается труд, исчезает и воля; если исчезла воля, исчезла и вера.
Вера — это не сиюминутный порыв от безысходности; в истинной
религии не однократным актом омовения происходит очищение.
Говоря словами Павла, «я умер», в мысли и волей своей предвидя
конец, доказывает свою реальность только как факт, что «я умираю
всякий день», т. е. постоянно через свои конкретные поступки желаю
реализовать цель, которую предчувствую. Вера не означает и
просто труды; она означает труд веры; она означает, что идеал
реализован, пусть несовершенным образом. Но, с другой стороны,
поскольку идеал не реализован полностью и истинным образом как идеал,
я не оправдан по трудам, которые как таковые проистекают из веры;
ибо они остаются несовершенными. Я оправдан единственно и
всецело только отождествлением с идеалом, на чье существование во мне,
с другой стороны, указывают и которое подготавливают мои труды.
И они следуют из самой сущности этого тождества.
Нам остается теперь задать вопрос: «Что есть этот объект, в
котором самость отождествляется посредством веры»? Обратимся
369
Итоговые замечания
за ответом к сознанию христианина. Но читателю следует
помнить, что мы коснемся его содержания только в том отношении,
в каком это необходимо, чтобы показать связь между религией
и моралью. Мы должны ограничить себя только этим
минимумом, и читатель не должен сделать заключение, что все то, о чем
не обмолвились, мы отвергаем.
Объект, который самость обретает в вере, — в христианстве не
является чем-то чуждым, чем-то извне, не является он и абстрактно
Божественным, которое исключает человеческое; но он есть
неразделимое единство человеческого187 и Божественного. Он есть идеал,
который утверждает себя в воле и посредством ее; он — воля,
которая есть одно с идеалом. И весь этот объект хотя и наличен в
конечной воле индивида, но еще не истинным образом. Его
истинность постигается только как органическая человеко-Божественная
тотальность; как одно тело, у которого есть различные члены, как
одна самость, которая во многих самостях, реализует, волит и
любит саму себя, равно как иные самости реализуют, волят и любят
себя в ней.
И для веры этот объект — реальное и единственно реальное.
То, что, как кажется, противопоставлено ему, на самом деле
нереально: и у этого кажущегося факта есть две формы: одна —
несовершенство и зло в сердце человека, внутренняя самость; и
вторая — несовершенство и зло мира, частью которого является моя
внешняя самость. В обеих сферах, внутренней и внешней, объект
религии реален; и у него есть две соответствующие стороны:
внутренняя, личностная и внешняя, и они суть стороны одного
целого.
Вера включает убеждение, (1) что внешний мир, вопреки
видимости, идет по пути реализации идеальной воли; (2) что
изнутри человеческое и Божественное суть одно: или убеждение
в том, (1) что мир — реализация человеческого как органического
187 Под термином «человеческое» мы понимаем всю ограниченную
рациональность духа. Существует ли он за пределами нашей планеты или нет, нас не
волнует, хотя этот вопрос очень близко затрагивает некоторые формы
христианской веры.
370
Итоговые замечания
Божественного целого188; и (а) что внутренние воли конкретных
лиц отождествлены с этим целым. Вера должна предполагать, что,
говоря библейским языком, есть «Царство Божье», что есть
организм, который реализует себя в своих членах, а также в тех членах,
которые, с объективной стороны, волят и сознают себя, поскольку
волят и сознают себя в нем.
Если читатель обратится к учению о «моем положении и
связанным с ним обязанностям»189, то увидит, что здесь мы имеем
с определенными отличиями то, что там было представлено как
относительная тотальность политического организма. Различие
состоит в (1) то, что там было конечным (одно среди и по
сравнению с другими), здесь — бесконечно (как целое само по себе),
и то, что там было в некоторой степени видимо, здесь —
невидимо; (2) там отношение отдельного субъекта к целому было
непосредственным единством благодаря нерефлектируемой
привычке и прямому восприятию; здесь это отношение включает мысль,
которая поднимается над данным, и сознание предполагаемого
и подавленного отчуждения.
В случае с верой, как и в случае реализации моего положения
в обществе, имеется объективная сторона, множество
утверждений одной воли, одно тело, существующее в реальности
идеальное единство людей, которое остается тем же самым во всех своих
членах, притом что в каждом различно; и которое всецело
реализуется не в каком-то одном моменте, не в их простом «совокупном
единстве», но только в целом как целом. И имеется субъективная,
личная сторона, где воля целого сознает себя в единстве со
своими обладающими сознанием членами и волит себя как
конкретное тождество универсального и партикулярной воли190.
188 Нет необходимости говорить о том, что это рождает большие трудности.
Среди прочих хорошо известна проблема отношения физического мира к
Божественной воле. Но мы никак не касаемся (возможного или невозможного) решения
этих вопросов. Мы должны следовать содержанию религиозного сознании, а оно,
мы полагаем, таково, каким мы его представили.
189См. Эссе V. — Примеч. переводчика.
190 Согласно вере и что касается веры, идеальное как самость и самость как
идеальное — вот все, что реально; а потому в том, что касается внешней стороны
371
Итоговые замечания
Таков объект, предреализуемый Божественный идеал; и
конкретный человек должен сделать его своим посредством веры,
отождествить себя с ним, видеть и ощущать себя тождественным
с ним и иметь в своем самосознании свидетельство тому. И это,
как мы объяснили, достигается через умирание как таковой
личной самости, через вверение себя этому объекту и жизнь в
самости, что едина с Божественным идеалом, который мы
ощущаем и знаем как единственно реальную самость и, теперь уже, как
свою собственную. К тому, что мы уже сказали, больше нечего
моих трудов, я считаю, что наравне с другими являюсь членом или функцией
Божественного целого. Все, что выходит за его пределы, хотя и факт, все же не
обладает реальностью. С внутренней же стороны, я посредством веры уже не являюсь
просто вот этим «Я»; но есть только как личная самосознающая воля
Божественного, дух целого, который как дух знает себя во мне. И с той и с другой стороны,
хотя форма не поглощается и не теряется, для веры, простое партикулярное
содержание самости исчезло.
Но между этими сторонами есть разница, которая также имела место в
«Моем положении», но упусти ее из виду тогда — не произойдет путаницы; в то время
как здесь может возникнуть непонимание, и речь идет о серьезных вещах.
Объясним: с внутренней стороны, партикулярная самость знает, что она
непосредственно едина с универсальным, которое есть воля всех самостей, и ощущает себя
таковой; но, с внешней стороны, в реализации в трудах, она — только член целого,
одна функция или связь функций, которая не является другой стороной или
связью функций и выходит за пределы того и другого. До тех пор пока она остается
на внутренней стороне, самость неотделима от других самостей; она вынуждена
отличать себя только тогда, когда выходит вовне, чтобы совершить поступок.
Вполне справедливо, что, когда мы поступаем, с внутренней стороны также
и целостная воля является различной для каждого в отдельности; ибо
универсальное не остается бездеятельным. Оно предстает в особой форме того, что «должно
быть сделано» применительно к тому или иному случаю, каждый из которых,
если задуматься, не является никаким другим, — но на внутренней стороне нет ни
этой рефлексии, ни этого различения. Член целого ощущает и знает, что он
отличен от других, но (поскольку, для веры, дурная самость не существует)
непосредственно един со всем организмом в целом. Что же касается внешней стороны,
то здесь индивид вынужден сознавать свою отличность от других. В его
реализации, несомненно, происходит утверждение воли целого, но здесь нет полноты,
часть целого существует еще где-то, а как целое оно реализуется только в целом
своих членов, которым отдельный человек не является. Труд показывает
функции, обладающей самосознанием, что она не есть другие функции; она не
выходит за пределы конечности, и исключена всякая возможность смешения чисто
человеческого с Божественным.
372
Итоговые замечания
добавить. Приступим к более близкому рассмотрению
отношения религии и морали.
Религия и мораль в определенном отношении суть одно; и
сразу возникает вопрос: «Входит ли в содержание Божественной воли,
как ее понимает религиозное сознание, что-либо помимо
морального идеала?» Мы отвечаем: «Конечно, нет». Религия — практика;
она означает делать нечто, что есть долг. Долг — обязанности; и
поскольку все моральные обязанности также и религиозны,
постольку все религиозные обязанности также моральны191.
Для того чтобы быть, религия должна действовать. Ее
практика — реализация идеального в человеке и в мире. Отделите
религию от реального мира, и вы увидите, что она больше ничего
не может; она исчезает, превращаясь в форму. Религия получает
свое практическое содержание от государства, общества, искусства
и науки. Но все они объединяются в мире морали, и все наши
обязанности в нем — моральные обязанности. И если так, то
возможно, чтобы один религиозный долг входил в противоречие с другим
религиозным долгом, равно как одна моральная обязанность
может противоречить другой; но не в коей мере религия как таковая
не может быть в противоречии с моралью как таковой.
До сих пор мы видели, что религия и мораль суть одно; хотя
мы видели, что между ними также есть различие. Основное
различие состоит в том, что то, что в морали должно быть, в религии
каким-то образом уже есть в реальности, и то, что мы должны
сделать, уже совершено. Мыслится ли оно как то, что уже
свершилось, или как то, что будет еще только свершаться, в данном
отношении не имеет практической разницы. Эти две мысли просто
по-разному говорят об одном и том же: и реальность, наличная
или будущая, и в том и в другом случае определенна.
Практическое значение для религиозной точки зрения имеет тот факт, что
уже достигнуто то, что еще только должно быть сделано, и не
только в знании о сомнительном успехе, но в предощущаемой
определенности уже достигнутой победы.
1910 религии в смысле cultus и т. п. мы поговорим ниже.
373
Итоговые замечания
Мораль, процесс реализации, таким образом, сохраняется
внутри религии. Она перестает быть как лишь мораль; она
сохраняется и получает развитие как момент религии. Дело не только
в том, что уверенность в успехе усиливает ее значение, но и в том,
что возрастает важность успеха. Индивидуальная жизнь, для
религии, едина с Божественным; она обладает ценностью, которую
невозможно описать словами. Дурное обладает
соответствующей степенью плохости. То, что дурно, — бесконечное зло, а
потому религиозное сознание не измеряет количества зла. Все люди
равным образом (ибо в высшей степени) грешны. Но в силу
этого крайнюю степень зла гораздо легче уменьшить. Она не есть
реальность против того, что лишь идеально, но простой факт,
который противоречит всей реальности, невыразимое противоречие.
Также начинают действовать другие побуждения к благому. Для
религиозного сознания зло — оскорбление того, что мы любим
и что любит нас, а не чего-то, что нереально, что невозможно
любить по-настоящему. Это делает зло еще более страшным и
приносящим больше боли и увеличивает эффект его соответственно
силе блага. Ничто больше не осуществляет контроль извне, эту
инстанцию сменяет чувство благодарности к тому, что подчиняет,
вера в него и невозможность быть с ним неискренним192.
Эта та же объективная воля, которую человек на ступени
«моего положения» ощущает исполненной, на ступени идеальной
моральности знает, что должен исполнить, а в религии
посредством веры считает уже исполненной; та самая объективная воля,
которая рефлектирует себя в себя на стороне субъекта, и из этой
рефлексии эксплицитно вновь утверждает себя как реальное
тождество человеческой и Божественной воли. Итак, у религии
192Об этом мы также говорили в «Моем положении и связанных с ним
обязанностях». Позвольте заметить, что, если человечество, — просто собрание,
чувство благодарности к нему невозможно без самого что ни на есть ребячьего
самообмана. Если среди людей нет действительного тождества, тогда «так как вы
сделали это одному из сих братьев моих меньших» становится абсурдным. И
никогда не слышал, чтобы кто, задолжав одному, полагал, что может вернуть долг
другому, кто похож на первого, не важно в каком смысле.
374
Итоговые замечания
и морали одно и то же содержание, хотя они сильно различны
по духу, в котором оно исполнено.
Но все это, могут нам сказать, хотя и истинно в определенном
смысле, но однобоко; религиозность проявляется в совершенно
других вещах. И на это возражение следует обратить внимание.
Мы не упускали из виду факта, на котором это основано, хотя
могло показаться обратное. Этим фактом является то, что кто-то
назовет религиозностью в собственном смысле, вероисповеданием,
народным cultus193 и личной набожностью. Вот это-то нам и
нужно рассмотреть, но не более, чем это требуется, т. е. только в связи
с вопросом: «Есть ли у религиозного долга иное содержание,
отличное от морального?»
Таким образом сформулированный, этот вопрос, видится нам,
с моральной точки зрения, бессмысленным. Если что-то должно
быть сделано, то это — моральный долг; и представление о
религиозном долге, который как таковой не связан с моральным и
может ему противоречить, — чудовищная нелепость. Если быть
«религиозным» — религиозный долг, тогда это и моральный долг;
равно как, если быть моральным — моральный долг, то быть
моральным это и религиозный долг.
Лучше поставить вопрос так: влечет ли за собой переход из лишь
моральной сферы в религиозную появление новых обязанностей,
для наделения качеством моральности которых нужно расширить
саму сферу морали? Но и этот вопрос неверный, ибо если
существует некий правильный способ быть «религиозным», то нет
необходимости сужать область морали, т. е. вычитать из идеала, который
должна реализовать мораль, аспект религиозности. Кажется
вполне понятным, что сфера морали — сфера практического и сфера
практического — сфера морали. Невозможно избежать этого
вывода; и тогда, если религия ориентирована на практику,
моральный и религиозный миры должны совпадать.
Что на самом деле заслуживает внимания, так это вопрос,
является ли религия всецело практической? Соотносится ли ее, так
193Культом, почитанием, поколением (лат.). — Примеч. переводчика.
375
Итоговые замечания
сказать, теоретическая составляющая с практической? Включает
ли религия, как искусство и наука, теоретическую сторону,
которая для субъекта, в ком и посредством кого осуществляется,
является практикой, но сама по себе и, как результат работы
субъекта, таковой не является? И далее, если есть такая область, как она
соотносится с практикой? Носит ли она второстепенное значение
или является целью в себе, когда не подводится под практическую
цель? И тогда еще: какое положение с учетом такого рода
религии занимает мораль?
Лучший способ внести ясность в суть вопроса — не пытаться
найти прямой ответ, но начать с того, что рассмотреть
одностороннее мнение в его крайнем выражении: и во-первых, есть мнение,
которое, можно сказать, просто отождествляет религию с
ортодоксальностью, и при этом выдает за истину то, что истинно. Нет
сомнения, очень важно, чтобы доктрина была правильной, но
делает ли это ее религией? Обратимся к религиозному сознанию,
и услышим ответ: нет. «Сердце должно верить», — где это не так,
нет и религии. Иначе даже черти будут религиозны; ведь они, как
нам говорят, идут дальше, чем требуется, и к правоверности
прибавляют страх перед Богом.
Итак, в морали человек должен знать, что правильно; но никто
не может быть морален только в силу этого знания. В обоих
случаях нельзя делать, не зная, что ты должен делать; но простое знание
вне связи с деланием не является ни религией, ни моралью.
В другой, слишком распространенной формулировке, это
одностороннее мнение, гласит: «Без сомнения, только знать
недостаточно; за знанием должно следовать действие; но невзирая на это,
когда я произношу молитву, или размышляю, или иду в церковь,
следует ли за этим что-то или нет, — это все религия».
Отрицая такого рода учение, мы не должны задеть чувства
христиан. Получится у нас это или нет — другой вопрос. Приносим
свои извинения, если не удастся; но тем не менее мы отрицаем это
утверждение и полагаем, что религиозное сознание и Новый Зовет
на нашей стороне. Здесь Божественная любовь и человек не стоят
друг подле друга как вещи, существующие раздельно или могущие
376
Итоговые замечания
существовать раздельно, но там, где прекращается последнее,
прекращается и первое, а вместе с тем, я полагаю, и религия. И здесь
нам говорят, что для страдающего «чистая религия» — долг и что
едва ли все в том мире, о который мы не должны замараться,
выпадает за пределы религиозных обрядов, и вряд ли он
начинается там, где прекращается власть священника.
Мы утверждаем, что само по себе посещение церкви,
размышление, произнесение молитвы только тогда можно назвать
религиозными, когда они являются реакцией на реальность и способствуют
определенного рода действиям. Эстетическим созерцанием — да,
спекулятивным — да (действие такого рода даже может вызывать
ощущение, которое, по крайней мере отчасти, показывает, что
религиозная воля нашла удовлетворение), но религиозным — нет.
Здесь можно говорить о религиозности, только когда есть воля
делать: и она только тогда проявляется в этом действии, когда оно
манифестируют себя в религиозно-моральных поступках, внешних
или внутренних. В поступках — это значит в том, что реализует
социальную, идеально-социальную или идеальную самость или,
опять-таки, в том, что является средством для такой реализации.
То же справедливо и в отношении морали. Я могу ограничиться
только своей совестью, испытывать наслаждение от
добродетельности, поучать себя, размышляя о себе и других, находить в этом
размышлении удовольствие; но, безусловно, это еще не
моральность. Возможно, это правильный поступок, но он хорош только
тогда, когда служит усилению воли к благу и влияет на поведение.
Попытка увидеть в нем нечто больше в лучшем случае не
принесет вреда; но может привести, а часто и приводит к пагубным и
совершенно имморальным результатам. Вовсе не всегда неправильно
останавливаться на удовлетворении, происходящем от
правильных поступков, но это опасно, такое состояние весьма ненадежно;
еще мгновение, и мы начинаем испытывать наслаждение, которое
не проистекает из действия и не ведет к его усилению, и вот, с
этого момента, удовольствие становится пагубным.
Можно ли говорить о моральности в том случае, если
человек должен испытать наслаждение от помыслов о добродетели
377
Итоговые замечания
и затем выйти из этого состояния, пренебречь добродетелью
и впасть во грех? Но если кто совершит подобное по
религиозным соображениям, найдутся люди, которые назовут этот
поступок «религиозным».
Истинное учение говорит о том, что все эти проявления
благочестия, и таинства, и хождение в церковь, не только не могут
и не должны исполняться сами по себе, но что сами по себе они
вообще не имеют отношения к религии. Как таковые они суть
обособление религии, которая, будучи обособлена таким образом,
перестает быть религией и часто даже совершенно греховна, пустая
пародия на Божественное, которая стремится к наслаждению без
действия, вырождается в глубокое эстетическое созерцание или
спекуляцию, но именно потому и является нерелигиозной и
имморальной. Сами по себе эти переживания, даже рассмотренные
с религиозной точки зрения, не являются целью; они становятся
ею, только когда воспринимаются как средство для веры, а
значит — для воли, а значит — для практической жизни.
Но как возможно, что существуют такого рода односторонние
взгляды, столь великие заблуждения? Несложно понять. И
прежде всего:
(1) И моральная, и религиозная воля требуют знания, и
очевидно, для сферы практического имеет значение, что человек на
самом деле знает. Следовательно, нужен правильный взгляд на вещи,
требование, истинное в этой формулировке, позже преломляется
в точку зрения, согласно которой религия — собрание правильных
мнений, или ортодоксия. Но, как мы видели, религия не сводится
к наличию в теоретическом сознании религиозного объекта.
(2) Второе заблуждение куда более распространено. В морали
мы чувствуем или видим то, что знаем, — и не можем сомневаться.
Нет предмета для веры позади явлений. Достаточно этого или нет,
но мы претендуем на то, что помимо нас самих нет иной истины,
и сознаем это; единственное исключение составляет истинность
социальной реальности. Но в религии мы должны верить во что-то
реальное помимо явлений. У нас должно быть внутреннее
убеждение в том, что реальность превосходит фактичность; и мы должны
378
Итоговые замечания
следовать этому убеждению, несмотря на факты, в которых не
можем видеть внутренней реальности, и, кажется, видим как раз
противоположное. Мы получаем оправдание, только поскольку верим
в то, что воссоединимся с единственной реальностью.
Эта внутренняя уверенность, сознание собственного единства
с Божественным и в силу этого с другими не существует иначе, как
только выражая себя. И более того, правильно, что она должна
выражать себя; ибо это выражение наиболее сильно воздействует
на самосознание, усиливая его и таким образом усиливая
уверенность и волю, в которых состоит вера. Правильно, что
определенность тождества с Божественным и в нем с другими, должна
проявлять себя в предчувствии удовольствия и чистоте союза; этим
рационально объясняется cultus. Cultus — средство усилить веру,
и поскольку служит этой цели, также есть цель. Если понимать
его как нечто большее, то к нему уже нельзя относиться как к цели;
он может быть безвредным, а может создавать эффект,
губительный для истинной религии. И религиозная община предполагает
наличие символов общности; а они, как в целом cultus,
предполагают тех, кто их хранит; как правило, удобнее, чтобы
определенная часть людей была отделена от массы, равно как государству,
как правило, удобнее поддерживать и регулировать одну или
больше религиозных общин194. Отправители cultus хотя и
назначаются, но служат средством к средству, ведущему к цели; этим
рационально объясняется существование клира.
194Религиозные общности можно назвать «церквами»; но церкви в этом
смысле нельзя путать с Церковью в собственном смысле. Она есть все тело Христово
и ограничена она или нет, зависит от ответа на вопрос, ограничен ли дух Христа;
видима она или нет, — ответив на предыдущий вопрос, ответим и на этот,
равно как и на вопрос, может ли она быть делима, воссоединена и так далее.
Какова истинная Церковь — вот наиважнейший вопрос. Высказанная точка зрения,
мы полагаем, подразумевает, что в единой истинной Церкви нет иерархии, нет
духовного превосходства и не может быть, потому что дух христианства
исключает подобные вещи. Везде, где имеет место церковное управление (а оно
должно быть из соображений удобства), там ipso facto речь идет о конечном
религиозном теле, которое, как следствие, не может быть истинной Церковью и не может
представлять ее.
379
Итоговые замечания
Истинная религия возможна и без таинств или совместного
поклонения, и опять же без священника; равно как возможны
священник и таинства без религии. И, если какой-нибудь священник
полагает, что более приближен к Божественному Духу, чем
остальное сообщество, то и он, и его представление о клире идут против
основополагающих принципов христианства, и более того,
всякий, кто не слеп, увидит, что сама жизнь доказывает ошибочность
этого мнения. Христианство — если мы не ошибаемся, — говорит,
что способности и предназначение священника отличны от других
людей, что тот же дух присущ ему иным образом; но, если он
хочет заменить «другим» на «высшим», нам придется возразить, что
для этого нужно предпринять определенные шаги, но
христианство их не одобрит.
Подведем итог. Вера, сопряженная с практикой, — цель, и то,
что ей способствует, — благо, ибо блага такая вера; а где
религиозный обряд не способствует ей, там нет блага. А часто он не
просто не помогает, но определенно вредит.
Так же обстоит дело и с религиозными практиками, и с тем,
что слишком вызывающе зовется личным благочестием. Они
имеют отношение к религии, если суть простое ее выражение или
если способствуют ей; если нет, то они не религиозны, и могут быть
даже иррелигиозными. Религия ведет к практической
реализации воссоединения; а потому, где такой реализации нет, там нет
веры, нет религии.
Я ни одним словом не выступил против клира, ни против
таинств, ни против личной набожности; и тот читатель, кто понял
меня в таком ключе, — вовсе не понял меня. Я испытываю
искреннее уважение ко многим членам нашего клира, и едва ли
найдется такая должность, которую я стал бы почитать выше должности
священника. И я всецело признаю, что и личная набожность, и
совместное поклонение в целом необходимы. Мы должны восстать
против оскорблений в адрес священников и против поклонения
им. Какое бы выражение ни находил себе религиозный дух,
осуществляющий себя в мире, — оно религиозно и благо, если оно
не чрезмерно. Чрезмерность начинается тогда, когда она перестает
380
Итоговые замечания
усиливать волю или ослабляет ее. Равно всякий институт, ритуал,
или епитимья (не важно что), который ведет к усилению
религиозной воли, — благ при условии, что он усиливает ее как целое
и ничем не противоречит религии и морали. Это справедливо и в
сфере морали; здесь возможны аскетические практики, которые
усиливают волю, и в силу этого благи; но они не благи и даже
дурны, если выходят за пределы только этой задачи. Но, что именно
приемлемо, а что нет — зависит от конкретной ситуации, о
которой здесь говорить не место.
Повторим: совместные и личные практики имеют
отношения к религии и благи, как простой глас религиозной воли или
как средство ее усиления. Эта воля состоит в вере, которая
превосходит мир, превращая его в мир христианский, каковым он
является для веры. Внутренняя сфера религии, которая состоит
в уверенности и блаженстве, — только внутренняя сфера, и сама
по себе не является религией. Сама по себе она даже не является
внутренней, ибо такова только, когда есть нечто внутреннее по
отношению к внешнему; а внешнее перестает быть там, где
исчезает вера и вместе с тем исчезает и внутреннее как таковое. Когда
к удовольствию от предвосхищения результата примешивается
чувственность или берет над ним верх, то с точки зрения как
морали так и религии, это удовольствие, рассмотренное в отношении
к воле по меньшей мере не является моральным и может
выродиться в простую распущенность. И в том и в другом случае
гедонизм не дает человеку совершать определенные практики; и
если понимать его как θεωρία, то он — часть искусства или науки,
но отнюдь не религии. Более того, восприимчивость или сила
религиозного сознания не в большей степени является религией, чем
восприимчивость и сила морального сознания являются моралью;
и опять же, в обоих случаях правильное восприятие — всего лишь
правильное восприятие. Оно имеет отношение к религии
только в том случае, если Божественная воля, реализацией коей к
вере является мир, рефлектирует себя в нас и через нашу энергию
и собственное самосознание, осуществляет и свою, и нашу волю
в мире, который принадлежит ей и нам и дает нам, в том чувстве,
381
Итоговые замечания
которое происходит от действия, ту внутреннюю уверенность в
тождестве, которое предшествует акту нашей воли и сопутствует ему.
Итак, содержание воли для морали и религии одно и то же, хотя
знание и дух во многом отличны.
Если это так, то наше эссе пусть далеко не совершенным
путем, но подвело к цели, в которой мораль устраняется и
сохраняется в своей полноте. На нашем пути не многое увидели, и
многое из того, что видели, вероятно, не стоило больших усилий, или
же вовсе можно было без них обойтись. Но как бы то ни было,
погоня за всяким удовольствием оказалась призрачной, а
формальный долг — ловушкой, конечная реализация «моего положения»,
бесспорно, была истинной и сулила счастье, которое призывало
нас остановиться, но было слишком ограниченным, чтобы утолить
алчущего охотника; идеальная моральность принесла нам
тошнотворное чувство неизбежного провала. Теперь мы, по крайней
мере, достигли суши, путь окончен, хотя лишь здесь начинается
настоящая работа. Здесь наша мораль возведена в единство с
Богом и мы всюду находим «вечную любовь», которая всегда
строится на противоречии, но в которой противоречие всецело
разрешено.
Hie nullus labor est, ruborque nullus;
Hoc juvit, juvat, et diu juvabit;
Hoc non deficit, incipitque semper195.
Ибо, если наша цель — следовать фактам религиозного
сознания, мы должны прийти к искуплению, возвращению к Богу
(называйте как угодно и понимайте так, как вам легче). Здесь, как
и всегда, противоречие, которое мы ощущаем, предполагает
единство над разногласием, и только через него возможно: уберите это
условие, и исчезнет разногласие. Антитеза греховной и
Божественной воли неявным образом их объединяет; и только и нужно, что
195 В этом нет труда, ни стыда;
То радовало, радует и еще долго будет приносить радость;
То не прекращается, всегда начинается.
(Петроний Арбитр. — Примеч. переводчика.)
382
Итоговые замечания
сделать это единство в субъекте явным для субъекта посредством
мысли и воли.
Но для субъекта оно еще не явно; и только мы,
рефлектирующие над религиозным сознанием, понимаем это. Само сознание
даже смутно не догадывается о том, что Божественная воля —
воля ее собственной самости, глубочайшей ее части; я могу знать как
о факте о том, что в Боге есть единство двух природ; но для меня
Бог (по крайней мере, здесь) есть только не моя самость;
Божественное — объект, и между мной и ним — пропасть; возможно, в
глубине моя самость желает Божественного, но может желать его только
как иное и то, что вне меня. Истинно, что объект — уже тождество
Бога и человека, но «человек» не означает меня: тот объект не во
мне, он только для меня; он остается объектом и я остаюсь вне его.
Для религиозного сознания проблема состоит в следующем: как
я могу примириться с волей, которая не является моей?
Моей семье с любовью.
Л Б.
ПОЗИТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ИСТОКИ ЭТИКИ Ф. Г. БРЭДЛИ
1. Предмет «Этических исследований»
В научной литературе существует устойчивое мнение, что
«Этические исследования», несмотря на видимую фрагментарность
и автономность эссе, наполняющих книгу, нужно читать
последовательно, строго следуя за развитием мысли. Эта позиция
оправдывается наличием в тексте имманентно присущей диалектической
логики. Под диалектикой в данном случае понимается такой метод
построения рассуждения, который через критику вытекающих друг
из друга положений постепенно продвигается к истине. Этот метод
опирается на отрицание. И то, что «Этические исследования»
молодого Френсиса Брэдли являются книгой полемической, что большую
часть ее содержания составляет критика, явная или подспудная и
порой даже граничащая с насмешкой, — факт, ставший общим местом
в трудах исследователей и приобретший некоторый налет
навязчивости. Согласно такому представлению, постичь идею книги —
значит четко следовать за критической линией Брэдли, удерживая все
предыдущие ступени рассуждения. Но критика — детерминизма,
индивидуализма, гедонизма, утилитаризма и лично Милля,
вульгарного кантианства и других снискавших популярность учений — есть
лишь форма движения собственной мысли автора, ее
самопреодоление, попытка выйти за пределы распространенных
заблуждений ума. Негация вскрывает позитивное содержание. И трудность
384
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
прочтения «Этических исследований» состоит именно в том, чтобы
вычленить позитивную составляющую книги, которая оказывается
подчинена собственной логике. Эта позитивная мысль и составляет,
собственно, этическую философию Брэдли, в то время как
диалектика остается всего лишь методом. И здесь мы ставим себе целью найти
позитивное содержание этического учения Брэдли,
реконструировать и изложить в единстве и связности то, что автор оставил в
тени критики и ссылок на авторитетные источники. Предприятие это
претенциозно, поскольку сам Брэдли сопротивлялся системности
и неоднократно указывал на то, что читателю не стоит ожидать
категоричности выводов, ибо все, сказанное им, носит дискуссионный
характер и не имеет под собой прочных универсальных оснований,
с которых возможно объяснить мир в его многообразии. Но
реконструкция позитивного содержания представляется важной,
поскольку она позволит показать непреходящую ценность книги, которая
затрагивает извечные вопросы: «Что я есть как человеческое
существо?» и «Как я должен поступать?».
Первое эссе касается вопроса об ответственности. Негативная
составляющая рассуждения состоит в критике учений о
свободной воле и о полном детерминизме. Позитивный вывод, к
которому приходит эссе, состоит в формулировке условий вменяемости
поступка в вину. С точки зрения целостности замысла книги
можно сказать, что здесь Брэдли показывает, что в контексте
разговора о поступке речь, прежде всего, должна идти о самости
человека—о его Я. Первое эссе, таким образом, по преимуществу носит
характер введения. Во втором эссе Брэдли формулирует
основополагающий вопрос этики, который в наиболее грубой
формулировке звучит как: «Почему я должен быть морален?» Истолкование
этого вопроса и ответ на него составляют ядро всей книги,
поскольку все дальнейшие главы будут посвящены детальному
рассмотрению следствий этого вопроса. Преобразуя вопрос в форму,
наиболее отвечающую сущности этики, Брэдли получает: «Что значит
быть моральным?» — и дает ответ: это значит реализовать себя.
Эссе III, IV, V, VI служат объяснению этой формулы. Если я должен
реализовать себя, то - как что? Какой должна быть моя самость,
385
Д. А. Бабушкина
чтобы ее претворение сделало меня моральным? Гедонизм
предлагает видеть идеал самости в удовольствии. Он берет самость только
с точки зрения содержания, партикулярное™ и определяет как
совокупность моментов чувства. Эссе III «Удовольствие ради
удовольствия» критикует такой подход и показывает его несостоятельность
для этики. Другую крайность представляет собой так называемое
вульгарное кантианство, которое определяет самость только по
форме и сводит самореализацию к осуществлению принципа долга.
Недостатки этой точки зрения Брэдли выявляет в Эссе IV «Долг
ради долга». Эти два эссе дают негативное определение реализуемой
самости по форме. Позитивное определение реализуемой самости
по форме Брэдли дает в следующем эссе — «Мое положение в
обществе и связанные с ним обязанности», когда говорит о самости
как об истинно бесконечном целом. Эта дефиниция служит ключом
к пониманию всей этической концепции Брэдли и вместе с тем
является наиболее трудной для понимания, хотя бы уже потому, что
нагружена смыслом гегелевского понятия нравственной
субстанции, который в тексте Брэдли не эксплицирован. Содержательное
определение реализуемой самости дается в Эссе V и VI. Она
выступает как единство трех моментов: 1) моего положения в обществе
и связанных с ним обязанностей, 2) социального идеала поведения
и 3) несоциального идеала таланта человека.
Последнее, Эссе VII, служит подведением итога всему
рассуждению и иллюстрирует закономерность выводов на примере разговора
о себялюбии и самопожертвовании. Если первое эссе выполняет роль
введения, фокусирующего внимание на предмете всей книги —
самости, то итоговые замечания — роль пространного заключения,
которое дает перспективу развития этической проблематики.
Основная проблема, которая настойчиво звучит на
протяжении всей книги, зачастую даже не будучи четко
сформулированной: как я могу стать собой? Что я должен делать, чтобы стать
собой поистине? Вследствие этого проблема правильного поступания
занимает центральное место в его рассуждениях. Брэдли
обращается к исследованию поступка (его формы и содержания) и
ставит вопрос: «Что я на самом деле делаю, делая нечто?»; а также
386
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
к исследованию желания (его формы и содержания) и выясняет:
«Чего я на самом деле желаю, желая нечто?» и «Как сделать так,
чтобы я делал и желал не что-то чуждое моей истинной природе,
а то, что мне соответствует и способствует?» Правильное поступа-
ние ведет к обретению истинной самости. Брэдли пишет: «Дело
в том, что не хочу быть ничем иным, но моим истинным Я,
освободиться от всех внешних отношений, перенести их все внутрь
себя и тем самым полностью пребывать в себе» (79)1. Книга
оказывается подчинена проблеме поиска того, «что я есть на самом деле»,
и движение мысли семи эссе ведет к обнаружению этого идеала.
Брэдли интересует человек, но не как теоретический конструкт
метафизиков, а как нечто реально сущее; его занимает не
абстракция, не рационально вычисленный остаток, не сущность (Брэдли
практически отказывается от употребления слова «субъект» в
контексте разговора о поступке, поскольку само это понятие уже есть
абстракция, гипостазирование), а действительность в ее
нелогичности, т. е. самость. И поэтому он исходит не из общих положений
о природе человека и обращается не к метафизическим системам,
а к тому, что называет «фактом»: к тому, что присуще каждому,
к тому, с чем мы сталкиваемся в повседневной реальности, к тому,
что характеризует человека, где бы он ни оказался и чем бы ни
занимался, — к обыденному сознанию. Брэдли выявляет установки
этого сознания, его представления и понятия, анализирует то, что
свойственно уму обычного, т. е. не искушенного рефлексией, а
потому не запутавшегося в абстракциях, человека, — иными словами
он рассматривает не то, что мы должны думать и делать, но то, что
мы думаем и делаем в действительности, как правило, даже не
отдавая себе в этом отчета. И это обыденное сознание, или здравый
смысл, как то, что представляет сторону практики, факта, он
полагает критерием всякого теоретического построения. Конечно,
Брэдли не считает, что обыденное сознание является носителем
абсолютной истины, но оно в большей мере относится к
практике, оно действенно, а потому ему в большей мере, чем созна-
1 Здесь и далее страницы указаны по изданию: Bradley F. H. Ethical Studies.
II ed. London, 1962.
387
Д. А. Бабушкина
нию философскому, замкнутому на самом себе, следует доверять
в вопросах, связанных с поступанием. Теория должна создаваться
с оглядкой на практику, а подавляющее большинство учений
оказываются совершенно оторваны от реальности. Обывателю
нужны принципы, чтобы поступать, но принципы должны
предписывать то, что выполнимо.
Определение поступка, которое мы находим у Брэдли, во
многом близко Гегелю. Брэдли исходит из того, что поступок есть
«переведение» посредством волевого акта лишь умного содержания
в реальность, т. е. реализация, — различенное тождество мыслимого
и действительного. Волевой акт есть овнешнение внутреннего:
действие, осуществляющее цель. Воля есть основа поступка: человек
делает то, что хочет. Что есть тот объект, на который направлено
желание? Что есть тот объект, на который направлено действие?
Что вообще есть объект против субъекта? Конструкт мысли.
«Объект желания (как объект желания) есть мысль, причем он есть моя
мысль; но он есть и нечто большее. Это нечто большее, коротко
говоря, заключается в том, что объект желается мною... то, что
желается в желании, — это всегда, очевидно, самость» (67). Объект
желания — мысль, моя мысль, а следовательно, желается не конкретная
вещь, а идея этой вещи. Воление объекта есть воление субъекта
в объекте, т. е. осуществление в нем собственной идеи, — самого
себя. Желание есть полагание некой идеальности в реальном
предмете и стремление к тому, чтобы обладать ею, рефлексия самого
себя в предмет, которая требует восстановления единства в самости.
По Гегелю — и здесь он оказывается более ясен, чем Брэдли, —
желание есть отчуждение себя в объекте, а реализация его —
возвращение к себе: снятие и тождество. Желание, таким образом, вносит
различие в самость. В нем самость объективируется и
представляется себе как иное, т. е. как предмет. Желание
разворачивается между субъектом и объектом: двумя полюсами
самореферентного отношения. «Сущностью желания некоторого объекта будет
чувство утверждения себя в идее того, что не есть мы сами,
возникающее в противоположность чувству самого себя как того, что,
в отсутствие объекта, пусто и отрицаемо; напряжение этого
388
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
ыотношения и производит движение. Если это справедливо,
тогда желать возможно только то, что идентифицируется с нами
самими, и мы не способны стремиться к чему-то до тех пор, пока
не поставим себе целью достичь в нем самого себя» (68). Чувство
удовольствия возникает от совпадения содержания на обеих
сторонах: оно — совпадение субъекта и объекта, намерения и действия.
Оно показывает, что то, что желалось, было истинным
предметом воли — самостью, и свидетельствует о том, что цель
достигнута. Всякий акт воли направлен на самость. «Я» делает себя целью
и как таковое реализует. В желании предмета человек желает
самого себя, он желает осуществления определенного
представления о себе, т. е. он желает стать чем-то иными, обрести себя как
нечто иное. Поступая, он реализует свою волю и тем самым
производит в себе определенные изменения. У Гегеля мы находим ту же
мысль, представленную более подробно: «Поступок есть цель
субъекта, а также его деятельность, осуществляющая эту цель; только
вследствие того, что субъект таким образом присутствует... и в
самом бескорыстном поступке, т. е. благодаря его интересу, и
существует вообще совершение поступков»2. В определение поступка
включается и цель, и само действие: он есть деятельность по
осуществлению цели, т. е. объективация субъективного, переведение
вовне, в действительность, того, что только внутри, того, что лишь
идеально (как мысль или как цель). Субъект, осуществляющий
поступок, есть в себе определяющая себя воля, которая понимается
как тождество двух моментов: 1) с отрицательной точки зрения она
есть обособление в себе самой или граница (субъективное
содержание воли); 2) снятие этой границы, деятельность, направленная
на объективизацию субъективного. И как такое тождество с собой
воля есть содержание или цель, которая равна себе в обеих
сторонах и безразлична к их формальным различиям. Это содержание
есть для воли ближайшим образом «свое», поэтому, даже
получив наличное существование, оно содержит в себе определенность
2 Гегель Г. В. Ф. Философия духа // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. М., 1977. Т. 3. С. 321.
389
Д. А. Бабушкина
как субъективность этой воли: «Содержание определено для меня
как мое таким образом, что оно содержит в своем тождестве мою
субъективность не только как мою внутреннюю цель, но,
поскольку оно обрело внешнюю объективность, и мою субъективность для
меня»3. Содержание поступка должно быть собственным для
воли, иначе говоря, поступок должен быть умыслом. С точки зрения
существенного содержания, как оно по своему всеобщему
характеру определено для меня, поступок есть намерение (в этом
выражается его относительная ценность), и, как оно есть в качестве
особенной цели конкретной воли, право блага (всеобщая ценность
поступка). Условие моральности поступка состоит в его
соответствии намерению. Тождественность содержания на внутренней
и внешней стороне есть основание вменяемости: индивид несет
ответственность только за то, что было сознательным выбором его
воли, т. е. за то, что может быть признано ее проявлением. «Речь
не просто идет о том, что нечто должно быть сделано, — пишет
Брэдли, — но о том, что это должен сделать я,— я должен
совершить действие, должен реализовать цель. Мораль предполагает
и то, что нечто должно быть сделано, и то, что действие должен
совершить Я» (65).
Итак, поступок есть самореализация. Брэдли впервые вводит
это понятие как наиболее широкое выражение цели в морали, как
предельную формулировку ответа на вопрос «Почему я должен
быть морален?». Что означает «самореализация есть цель
добродетельного поведения»? В каком смысле вообще можно говорить
о цели применительно к морали?
2. Диалектика основного вопроса
этики — «Почему я должен быть морален»
Критика Брэдли исходной формулировки вопроса
(«Почему...?») имеет под собой основание противопоставления
практического и теоретического разума и аристотелевское деление
3 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 157.
390
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
причин на формальную, материальную, движущую и целевую.
Теоретический разум, согласно Брэдли, имеет дело с причиной,
понятой как цель. Он движется от средства к цели, от причины
к следствию. «Вопрошание „Почему?" — разумное вопрошание,
ведь именно разум учит нас не делать ничего слепо, не делать
ничего, что не имело бы цели или что не было нашим
намерением. Он учит нас, что благо должно быть благом для чего-нибудь,
а то, что не есть благо для чего-нибудь, то не является благом
вовсе... мы принимаем как само собой разумеющееся, что, с одной
стороны, имеется цель, а с другой — средства... Поэтому разумно
постоянно задаваться вопросом: „Почему я должен делать это?"»
(58). Речь идет о том, что вопрошание о причине выдает позицию
рефлексии извне морали. Иными словами, размышляя о цели
добродетельного поведения или подыскивая мотив действия,
человек покидает сферу морали, которая по своей сути есть практика,
и вступает в область этики, т. е. чистой теории.
Практический разум, таким образом, согласно Брэдли,
имеет дело с «Почему?» в смысле сущностной причины: «Что есть?»
в перспективе ответа на вопрос: «Что я должен делать?»
Мораль есть, прежде всего, действование. Идеи морального
сознания — идеи действия. Прояснение сущности необходимо
только ввиду правильного поступания. В силу этого Брэдли начинает
с уточнения того, что выясняется вопросом о причине, и
выявляет, что позиция спрашивающего обнаруживает подмену
одного рода причин другим, и выводит само вопрошание за пределы
морального дискурса. То, что мы назвали здесь «позицией
спрашивающего», Брэдли обозначает как «догма». Под
«догматичностью» разумеется некритичность, пассивное восприятие того или
иного учения, без участия «здравого смысла», — это с одной
стороны, т. е. со стороны «ученика философии». С другой стороны,
говоря об «учителях», Брэдли называет «догмой» всякое
безосновательное утверждение, которое содержит в себе требование быть
принятым на веру; утверждение, которое не отталкивается от
факта, а исходит только из мысли. Брэдли выступает и против того,
и против другого. Догма — возвращаясь к разговору о вопрошании
391
Д. А. Бабушкина
«Почему?» — утверждение, которое предпослано вопросу; то,
в чем убежден спрашивающий и что выдает его взгляды; то,
продолжением и развитием чего является сам вопрос. Толкуя догму,
мы становимся на позиции спрашивающего и пытаемся не вчи-
тать в его слова собственное понимание, но выявить тот смысл,
который он сам в них вложил. Итак, спрашивая «Почему я должен
быть морален?» — человек хочет уяснить, для чего он должен вести
себя добродетельно, какая ему от этого выгода или, более
абстрактно: «Для чего добродетель является благом?» — а значит, мыслит
ее как средство. Собственно догмой в данном случае служит
представление о том, что добродетель есть благо только как средство,
и следующим этапом диалектического рассуждения Брэдли будет
обнаружение несостоятельности этого положения.
Основание исходного вопроса может быть представлено в двух
формулировках: общеутвердительной (благо — всегда только
средство) и частноутвердительной (только добродетель блага как
средство). В первом варианте, догма уводит в дурную бесконечность,
а во втором — предлагает в качестве цели нечто внеположное
морали. А поэтому «Почему?» в смысле «Для чего?» оказывается
неприменимо к моральному поведению. Цель если и возможна
в морали, то должна иметь иное значение и всецело пребывать
внутри этой сферы. Она означает не «для чего», а «что?».
«Почему я должен быть морален?» — повторимся — имеет смысл
только как: «Что я должен делать, чтобы быть моральным?», и с точки
зрения Брэдли, эту цель можно выразить только через
предельную формулу самореализации. Этим понятием охватывается ряд
важнейших особенностей моральной цели: во-первых,
самореализация — это не «почему», а «что»; во-вторых, она есть процесс,
т. е. «как»; в-третьих, она отсылает к тождеству субъекта этого
процесса и в то же время указывает, что здесь нет ничего извне.
Самореализация как цель дает программу действий.
«С точки зрения моральности цель предполагает действие,
а действие — самореализацию» (65) — это два связанных
процесса, точнее: моральность существует как самореализация.
Но вопрос теперь стоит следующим образом: как что я должен
392
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
реализовать себя, чтобы быть моральным? и как что должен
отчуждать себя, чтобы обретение вернуло мне меня самого как мою
истинную самость?
3. Диалектика ответа — дефиниция
самореализации
3.1. Формальное негативное определение
реализуемой самости
В анализе реализуемой самости Брэдли отталкивается от
структуры воли и начинает с определения через лишенность, которое
служит первым этапом диалектики ответа на основной вопрос его
этического учения: «как что я должен реализовать себя, чтобы быть
моральным», когда философ показывает наиболее
распространенные теоретические заблуждения относительно принципа
реализации (т. е. поступания) и реализуемой самости (содержания
нравственного идеала). Все разнообразие ошибочных доктрин Брэдли
сводит к двум, выражающим суть основных тенденций
идеализации, имеющих два противоположных полюса: абстракция
формы и абстракция содержания.
Воля и волевой акт — и в этом Брэдли солидарен с
Гегелем — имеют две стороны: конкретную (содержательную) и
универсальную (формальную). Со стороны конкретности имеется
отождествление воли с определенным предметом: идея самого
себя, представленная как идея объекта, которого не хватает и
обладание которым должно восполнить недостаток, составляет
содержание воли; со стороны всеобщности воля есть возможность
прийти в единство с любым предметом, т. е. такого рода
структура, которая в одно и то же время объемлет весь ряд
предметов или действий выбора и не тождественна ни одному из них,
стоит выше всего партикулярного и служит условием его бытия
в качестве предмета желания. Существенным моментом, на
который Брэдли неоднократно обращает внимание, является
тождество обеих сторон: воля есть целое: «Самость реализуется как
393
Д. А. Бабушкина
целое целей, потому что она есть целое и потому, что она не
удовлетворяется до тех пор, пока не обнаруживает себя, до тех пор,
пока содержание не придет в соответствие с формой и не будет
реализовано. И именно это мы имеем в виду под практической
самореализацией» (73). В силу этого невозможно найти истину
самости в предельном выражении только конкретной или
только универсальной составляющей, несмотря на то что
заблуждение относительно первой широко распространено среди людей,
видящих цель жизни в получении удовольствия, и носит
название гедонизма, а неверное истолкование роли второй из них,
будучи ловушкой теоретика, выражает себя в установке исполнять
долг ради самого долга.
Абсолютизация конкретной стороны ведет к тому, что самость
начинает пониматься как множественность, которая приводится
в единство только внешней рефлексией, и, как следствие,
теряется имманентное единство: самость в реализации обретает не
самое себя, а иное. Ошибка гедониста заключается в том, что он
подменяет предмет стремления тем, что сопровождает отправление
действия, — удовольствие, и ложно принимает его за цель. Суть
гедонизма состоит в самообмане: самости кажется, будто она обрела
саму себя в предмете. Моральность становится средством для
получения удовольствия, и таким образом, принципом поступания
является реализация себя как субъекта приятного чувства: «В
какой бы форме ни представал гедонизм, он все равно говорит:
„Моральность — средство для удовольствия"; и независимо от того,
должен ли человек получать удовольствие от своей моральности
или только лишь посредством моральности; достижение
удовольствия все равно является высшей целью. Удовольствие ради
удовольствия — вот цель. И единственно, почему нечто может быть
целью, — если оно используется как средство для достижения
удовольствия» (93).
Но здесь субъект — не есть нечто устойчивое, он - лишь
конкретность момента переживания. Удовольствие, как и его
противоположность — боль, есть всего лишь определенное состояние
самости: модус самоощущения, т. е. данность самости самой себе.
394
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
Оно не есть нечто сущее само по себе. Оно бессодержательно,
поскольку есть лишь ощущение совпадения объекта желания и его
идеи. Удовольствие существует только в акте внутреннего
восприятия и представляет собой ощущение утверждения самости в
предмете. И поскольку в акте реализации себя как приятного чувства
самость не обретает ничего, что содействовало бы ей, не находит
ничего общего, универсального, удовольствие проходит вместе
с отправлением действия.
Истинная самость не есть чистое количество, она не сводима
к последовательности актов желания и моментов удовлетворения,
потому что сами по себе эти моменты не обладают связью, т. е.
неустойчивы, в то время как самость, несмотря на способность
изменения, есть нечто постоянное. Реализуемая самость не есть, таким
образом, ни определенное количество удовольствия, ни
совокупность всех удовольствий. Уже сама формулировка «все
удовольствия», согласно Брэдли, бессмысленна: континуум удовольствий
состоит из преходящих моментов и не имеет ни начала, ни
конца, а потому его нельзя свести к сумме. Удовольствия бесконечны,
а потому удовольствие неисчерпаемо.
Возведенный до теории принцип «Удовольствие ради
удовольствия» сводит универсальное к совокупности
партикулярного, т. е. понимает его в духе ложной бесконечности, а потому
достижение удовольствия не приближает человек к цели.
С другой стороны, истинная самость не есть чистая форма.
Абсолютизация универсальной стороны приводит к тому, что воля
остается только возможностью, которая отрицает всякое
практическое исполнение. Долг ради долга — метафизическая
абстракция, которая предполагает акт воли, направленный не на
партикулярное, а на универсальное. Как следствие, самость реализует
себя как пустую форму, т. е. на деле вовсе не реализует, ибо этот
процесс предполагает применение принципа или осуществление
идеального: перевод только внутреннего во внешнее, иначе,
наполнение формы. Для того чтобы имел место поступок, необходимо
противоречие, антагонизм, преобразование одного в другое.
Моральность возможна, только пока сохраняется различие должного
395
Д. А. Бабушкина
и сущего. «Если бы самость вне ряда собственных состояний
была ничем, если бы она была ничем вне и сверх этих
сосуществующих и последовательных феноменов, тогда слово
„обязан" могло и не иметь смысла. И в то же время, если бы самость
была чистой волей, „без примесей", волей, реализующей себя
отдельно от чувственной составляющей, слово „обязан" опять
было бы бессмысленным» (146). Требование формального
соответствия максимы поступка всеобщему закону на деле
оборачивается требованием непротиворечия: руководящий принцип,
который следует из такого подхода, — не имей никакого
содержания, не желай и не делай ничего конкретного, т. е.
оставайся тождествен.
Оба односторонних взгляда, берущие самость каждый
только с одной стороны, формулируют несостоятельные программы
поступания, которые ведут самость по ложному пути: имя
одному — самообман, другой же вообще не выходит в сферу
практики. Воля есть целое, цель есть целое; истинная или благая самость
тоже есть нечто целое, и предписание, которое может иметь силу
в качестве практического принципа, должно учитывать это и
сохранять условие реализуемости. Обе теории, которые
выражают два полюса неверного толкования самости: гедонизм и учение
о долге ради долга, — упускают из виду это условие
реализуемости. В диалектике определения реализуемой самости они
выступают негативным моментом и преодолеваются. С точки зрения
самого процесса развития понятия самости абстракция
содержания (в гедонизме) и абстракции формы (в вульгарном кантианстве)
суть формальные операции, которые не затрагивают содержания.
Вследствие этого Брэдли приводит их как крайние выражения
негативной дефиниции, т. е. определения того, чем истинная самость
на самом деле не является.
3.2. Формальное позитивное
определение самости как целого
Что значит «истинное»? То, что присуще. Что присуще
самости? Что есть ее «собственное»? Сам-ость есть то, что действует
396
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
из себя, а не из другого, то, что не руководимо ничем иным, кроме
самого себя. «Сам» — референт действия, который удостоверяет,
что тот, кто исполняет действие, и тот, из чьей воли оно
проистекает, — одно и то же по бытию. Самость есть нечто единое,
тождественное себе; то, что ей свойственно, — гармоничность,
системность. Повторим мысль, которая уже неоднократно высказывалась:
истинная самость есть нечто целое — единство формы и
содержания. Это первое.
Самость есть ближайшим образом и отношение: к себе, к
другому и к себе в другом. Для того чтобы была возможна
самореализация, самость должна сначала положить себя вне себя как нечто
иное, а потом в ином достигнуть саму себя. Истинная самость
конституируется отношением, рефлексией в другого. Она
предполагает другого, но такого, который возвращает ее самой себе, то есть
такого, с которым она в той же мере различна, как и
тождественна. И для того, чтобы быть собой, человек должен делать объектом
воли то, что единит его с другим, воспроизводить в своих
действиях всеобщие модели. И с этой точки зрения самость есть единство
партикулярного и универсального. Но — что самое главное — она
опять-таки есть нечто целое.
Идея целого у Брэдли представляет собой гегелевскую идею
субстанции — автономного целого, — абстрагированную от
процесса развития. Этим объясняется тот факт, что, описывая целое,
Брэдли ограничивается лишь определением, не давая
разъяснений относительно причин и истоков своей концепции, поскольку,
будучи в лоне идеализма прогегелянского толка, полагал ее
очевидной.
Дефиницию целого можно резюмировать следующим
образом: оно есть моральный организм, в котором члены знают себя
как таковых, а это означает, во-первых, что каждый член прича-
стен целому, а во-вторых, что бытие каждого определяется
отношением к другим; при этом целое есть то, что знает себя только
через свои моменты; кроме того, члены представлены в виде
индивидуальных воль, которые суть всеобщая воля. Основные
характеристики целого, по Брэдли:
397
Д. А. Бабушкина
♦ целое есть истинное тождество гомогенности и
спецификации;
♦ целое есть истинно бесконечное целое;
♦ целое есть относящееся к себе («self-referent whole»);
♦ целое есть организм (жизнь);
♦ целое обладает знанием о себе.
Все это требует пояснений. Что ближайшим образом есть
целое? Связь частей, и его качество зависит прежде всего от
характера связи элементов, его конституирующих. Что в этом контексте
понимается под «истинностью»? Брэдли вкладывает в это понятие
гегелевский смысл разумности, удержания в мысли единства
противоположного. Гомогенность упраздняет особенность и
отличительность свойств, однако субстанциональное целое таково, что
элементы, составляющие его, в одно и то же время и в высшей степени
индивидуальны, и совершенно однородны: они все суть нечто
одно, все в равной степени причастны универсальному, и при этом
различны, конкретны. Как это возможно? Ответ на этот вопрос
объясняет и другую важную для Брэдли проблему этики, которая
с разных точек зрения может быть сформулирована тремя
способами: как возможно достижение нравственности? как возможно,
что общественная мораль становится личной моральностью? как
возможно волить благо и поступать добродетельно?
Ответ, если говорить кратко, таков: это возможно в силу того, что
субстанциональное целое есть не агрегат, а организм, жизнь,
которую нельзя разделить и приписать той или иной части; жизнь
едина и в отдельных органах, и во всем теле. Это единство есть единый
дух и единая воля, воля, которая проявляет себя в каждом индивиде;
оно есть совокупность воль, направленных к одной цели и
действующих как одна. Оно — самодвижущееся и
самозаконодательствующее автономное целое, поскольку конституируется не внешним
принципом, но создается само из себя; поскольку каждый индивид,
входящий в его состав, встречает на пути реализации своих действий
не внешний, но имманентно присущий себе принцип.
Как организовано такое целое? Каждый из его элементов
состоит в трехчастном отношении: к себе, к другим и к целостности.
398
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
Во всех направленностях оно: а) обоюдно, б) конститутивно, в)
рефлективно. Это значит, что каждый есть свое-иное другого,
в котором находит свою отчужденную самость и посредством
которого утверждает сам себя. В другом он не только обретает свою
идентичность, но и достигает тождества с универсальным — с тем,
что обще всем элементам целого. Более того, отношение одного
элемента с другим есть, по сути, отношение целого к самому себе
в другом или через другого. Брэдли пишет: «Целое весьма и весьма
„относительно", однако отношение не оказывается вне этого
целого; то, что находится в отношении, — моменты, в которых это
отношение есть отношение целого к самому себе, и таким образом, оно
есть нечто, что выше всякого отношения, оно есть абсолютная
реальность» (78). И это отношение есть знание и выражение жизни.
А. Целое в определенности самореферентности
Самореферентность — фундаментальная дефиниция
морального целого у Брэдли. Она дает начало всем остальным опреде-
ленностям. Целостность, относящуюся к себе в своих моментах,
которая движется от ступени для-себя-бытия к понятию, от
проекта этого отношения через полагание отношения
самостоятельной категорией к снятию этого полагания, Брэдли увидел в
развитии понятия у Гегеля.
Понятие Гегеля есть результат развития бытия и сущности,
но в связи с философией Брэдли важно подчеркнуть, что, хотя эти
три ступени и различны, они все же являются одним и тем же,
существующим на различных этапах абстракции. С точки зрения
содержащихся в нем определений понятие представляет собой
в себе-и-для-себя определенное понятие, наиболее конкретное
из всех категорий логики, и является наиболее абстрактным,
поскольку наиболее бедно чувственным содержанием. Понятие есть
возвращение в непосредственность из различенное™. Для
Брэдли, оно представляет собой целое, относящееся к самому себе,
взятое вне контекста развития его определений и вне процесса
развития категории отношения, но во всем богатстве ее истины. Гегель
подводит Брэдли к такому заключению, определяя понятие как
399
Д. А. Бабушкина
«самостоятельность, которая есть отталкивание себя от себя в
различенные самостоятельные существования, и именно как это
отталкивание, тождественна с собой; и это пребывающее у самого себя
взаимодвижение остается лишь с самим собой»4. Моменты понятия
как целого находятся в отношении к друг другу так, что в этом
отношении каждый остается у самого себя, остается целым внутри
целого; моменты целого различны между собой и отличны от
целого, но при этом тождественны друг другу и целому. Движение
в сфере понятия есть развитие, т. е. полагание того, что уже есть
в-себе: «понятие в своем процессе остается у самого себя и... через
него поэтому не полагается ничего нового по содержанию, а
происходит лишь изменение формы»5, — движение понятия есть игра:
полагаемое другое на деле не есть другое. Для Брэдли особенно
важно то, что Гегель характеризует понятие как такое всеобщее,
которое включает многообразие частного и единичного. Понятие
в своем отношении с собой есть непосредственное простое
тождество, которое является отрицательностью или определенностью
понятия. Определенность и неопределенность, тождество и
различие в понятии тождественны. Понятие, таким образом,
определяется: 1) всеобщностью, т. е. равенством с самим собой в своих
определенностях или моментах, 2) единичностью как
отрицательным единством с собой, и 3) особенностью как такой
определенностью, в которой всеобщее остается равны самому себе. Между
этими определениями понятия и чистыми рефлективными
определениями сущности можно провести аналогию: тождество,
различие и основание (единство тождества и различия) в снятом виде
есть всеобщее, особенное и единичное в понятии. Оно есть такое
целое, которое обособляет самое себя, оставаясь собой в каждом
из своих моментов: «Всеобщее есть тождественное с собой
исключительно в том смысле, что оно содержит в себе одновременно
особенное и единичное. Особенное... есть различенное... в том смысле,
что всеобщее в самом себе и есть как единичное... единичное есть
4 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. I. М., 1974. С. 336.
5 Там же. С. 343.
400
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
единичное в том смысле, что оно есть субъект, основа, содержащая
в себе род и вид, само есть субстанциальное. Ясность понятия есть
положенная нераздельность моментов в их различии»6. Понятие
как целое действенно, оно обособляет самое себя в себе так, что
в своем другом тождественно с самим собой. Оно опосредует
себя через себя и самим собой: реализует само себя, и не
нуждается для этого ни в чем внешнем. Как таковое понятие есть
всеобщее в его истинном смысле или универсальное, которое Гегель
противопоставляет рассудочному пониманию всеобщего как
абстракцию чувственного содержания, как «пустые и
бессодержательные, голые схемы и тени»7. Понятие определенно в себе и для
себя, но в каждой из своих определенностей оно остается
тождественно самому себе, и каждая из его определенностей не может
быть обособлена от других, и должна быть мыслима в связи с
другими и через других, не теряя при этом своей целостности и са-
м о достаточ ности.
Диалектическое движение представляет одни и те же
определения, которые от ступени к ступени становятся все более
конкретными и которые, по сути, относятся к одному, которое по
мере своего развития приобретает все более конкретный смысл.
Развитие как таковое Брэдли не интересует: он говорит о целом
и отношении внутри него, имя в виду тот смысл, который Гегель
вкладывает в понятие на третьей ступени развития, т. е. на
завершающей ступени — для-себя-бытии. Рассмотрение для-себя-
бытия ценно аналитикой отношения целого к самому себе: оно
позволяет с логической необходимостью продемонстрировать
возможность такого целого, которое одновременно едино и
тождественно себе, но при этом не монолитно, а множественно;
целое, относящееся к себе в своих других, отношение одного и
многого, которые суть многие одни или многие этого одного. На этапе
для-себя-бытия происходит возвращение бытия к самому себе,
в богатстве полученных определений, получивших, однако,
формам же. С 348.
7 Та м же. С. 346.
401
Д. А. Бабушкина
му непосредственности. Эта форма, в которой можно видеть
целое, прошедшее этап отчуждения и снятия. Гегель прямо называет
для-себя-бытие отношением с самим собой: в нем наличествуют
два момента, с одной стороны, оно как «отношение с самим
собой есть непосредственность» (момент бытия), с другой — «как
отношение отрицательного с самим собой оно есть для-себя-
сущее, единое, одно... — то, что в самом себе не имеет различий
и, следовательно, исключает другое из себя» (момент
наличного бытия)8. В для-себя-бытии происходит полагание многих,
поскольку для-себя-бытие, взятое в аспекте имеющегося в нем
отрицания, есть одно, отличающее себя и полагающее, таким образом,
многое. Многое с точки зрения определенности представляет
собой многих одних. Процесс для-себя-бытия двойствен: он
включает как «отталкивание» многих в силу их отличности от одного,
так и «притяжение» в силу их тождественности. В основании идеи
отталкивания лежит представление о нечто, которое в своей
определенности задается пределом или границей с другим (наличное
бытие): «для-себя-сущее одно как таковое, — поясняет свою мысль
Гегель, — есть отношение подобно наличному бытию; но оно
соотносится не с другим, подобно нечто, а как единство нечто и
другого оно есть с самим собой, отталкивает от себя само себя, и то,
чем оно себя полагает, есть многие»9. Поскольку нечто и другое
не только различны, но и тождественны, полагание многих
имеет оборотную сторону, которую Гегель назвал процессом
притяжения: «Единое исключает себя из самого себя и полагает себя как
многое, но каждое из многих само есть единое, и поскольку оно
ведет себя как таковое, то это всестороннее отталкивание переходит
в свою противоположность — в притяжение»10.
Помимо определенности как одно, для-себя-бытие
имеет и другое — единое. Для-себя-бытие есть единое не только
как противоположность многому, но и как единство многого;
8 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. I. M., 1974. С. 236.
9 Там же. С. 238.
10Тамже.С239.
402
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
а каждое из многих само есть единое. Таким образом, для-себя-
бытие есть (1) одно, единое; (2) которое полагает многое, в каждом
из которых (3) оно относится к самому себе, при этом (4) каждое
состоит в отношении к другому, которое (5) есть такое же и (6) есть
одно. Иными словами, целое, которое относится к самому себе,
давая тем самым определенность самому себе и своим моментам
как другим по отношению к себе. Моменты целого также
состоят в отношении к друг другу, поскольку обнаруживают в этом
отношении свое тождество.
Для-себя-бытие характеризуется отношением целого к себе
в своих моментах, т. е. взаимным тождеством единичного и
многого. Такое понятие отношения имеет особенное значение для
учения самореализации у Брэдли. Концепция самореферентно-
сти у Брэдли основывается на гегелевской категории отношения
в его истине, когда каждая из сторон есть другое своего другого,
т. е. тождественна себе в своем отношении с другим (степенное
отношение; конкретного тождества; отношение внутреннего и
внешнего; взаимодействие или абсолютная субстанция). Эта категория
представляет собой снятие двух односторонних определений
отношения, а именно: 1) отношения сторон, которые равнодушны
к своей референции друг к другу (прямое отношение в
определенном количестве; отношение сходства; отношение целого и частей
в явлении; субстанции и акциденции в действительности) и 2)
отношения сторон, которые суть в себе другое (обратное
отношение; противоположение; отношение силы и ее проявления;
причины и действия). Брэдлевский смысл отношения внутри целого
яснее всего схватывается понятием рефлексии или видимости,
которым Гегель описывает сущность. Рефлексия — это такой
принцип отчуждения или полагания себя многим, при котором другое
сохраняется: «Форма отношения есть в бытии лишь наша
рефлексия; напротив, в сущности отношение есть ее собственное
определение. Если (в сфере бытия) нечто стало другим, то тем самым
нечто исчезло; не так в сфере сущности: здесь мы не имеем истинно
другого, но имеем лишь различие, отношение одного к его
другому. .. В сфере бытия соотнесенность... есть лишь в себе; в сущности
403
Д. А. Бабушкина
она, напротив, положена... В бытии все непосредственно;
в сущности, напротив, все относительно»11: в сущности имеются
те же определения, что и в бытии, но только в рефлектированной
форме. Сущность буквально отражается в себе, тем самым
получая свою определенность: «В ней все так положено, что она
относится с самой собой и вместе с тем выводит за пределы самой себя,
в ней все положено как бытие рефлексии, бытие, которое
светится видимостью»12. Для концепции целого у Брэдли важен тот
момент, что рефлексия-в-другого здесь тождественна рефлексии-себя,
т. е. отношение целого к своему моменту есть отношение
целого к самому себе. В понятии самореферентности находит
выражение гегелевский принцип истинного тождества как тождества
тождества и различия, согласно которому «каждое из
различенных... рефлектировало в самое себя лишь постольку, поскольку
оно рефлектировало в другое. И точно так же обстоит дело с
другим. Каждое есть... другое своего другого»13. Противоположение
есть различие себя, в котором есть момент тождественного (само
нечто) и различия (само нечто как свое другое). Существенное
различие есть, таким образом, различие себя от самого себя, которое,
помимо самого различия, содержит также тождественное.
Единство рефлексий обосновывает единство формы и материи, которое
очень существенно для концепции самореализации Брэдли.
Ближе всего к смыслу самореферентности, которая
описывает отношение реализуемой и реализующей самости, стоит
категория явления. Явление — сущность в ее наличном бытии:
явление есть развитая видимость сущности. Оно имеет свое основание
не в себе, а в другом, но при этом оно есть самополагание
сущности вовне, в котором сущность не остается тождественной своему
внутреннему, т. е. своей видимости, но отличает себя от нее и
выступает как основание вовне, в существовании. Явления суть
проявления одной и той же материи. Они различны по форме. Единство
11 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. I. М., 1974. С. 263.
12Тамже.С269.
13Тамже.С276.
404
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
материи и формы, рефлексии-в-себя и рефлексии-в-другое дает
единство формы и содержания явления, их взаимный переход.
С точки зрения Брэдли, наиболее существенной является
гегелевская мысль, что все, что является, является в форме одного
из отношений. Явление как отношение есть такое отношение, в
котором содержание есть развитая форма (т. е. различность
самостоятельных существований и в то же время их тождественность),
в которой они суть то, что они суть. В общем виде отношение есть
взаимосвязь сторон, которые, обладая самостоятельным
существованием, суть выражение общего основания и существуют только
в единстве взаимной определенности. «Все, что существует,
находится в отношении, и это отношение есть истина всякого
существования», — пишет Гегель14.
В своем понятии морального целого, говоря о тождестве
индивидуального и универсального в акте воли, с одной стороны, и
мыслимого и реального в поступке — с другой, Брэдли хотел удержать
гегелевский смысл отношения внутреннего и внешнего, которое
представляет собой тождество рефлексии-в-себя и рефлексии-в-
другое. В этом отношении имеется существенным образом одно,
которое отлично от самого себя лишь по форме. Внутреннее,
переходя во внешнее, не перестает быть, но проявляет себя,
оставаясь самим собой. И именно эта определенность целого позволяет
Брэдли, вслед за Гегелем, показать автономность целого, которая
проистекает из тождесгва мыслимого и реального, необходимого
и реального; именно в этом аспекте идея морального организма
у Брэдли служит продолжением и развитием понятия
субстанции у Гегеля.
В контексте учения о самореализации у Брэдли гегелевское
понятие отношения внутреннего и внешнего важно потому, что
оно отражает (а) неравнодушие сторон отношения друг другу,
их взаимную отнесенность к друг другу и даже взаимозависимость;
(б) определенность сторон внутри отношения и через него,
поскольку они не нуждаются ни в чем ином. Процесс, при котором
14Тамже.С301.
405
Д. А. Бабушкина
внутреннее становится внешним, получая иную определенность
и в этой иной определенности оставаясь тождественным самому
себе, есть, согласно Гегелю, необходимость. Необходимое — то, что
существует через другое, нечто опосредованное, чья опосредован-
ность снимается в непосредственность. Оно есть в самом себе
отношение, которое движется к свой истине, и, взятое со стороны
тождества с собой, есть субстанция (внутреннее), а со стороны
отрицательности — акциденция (внешнее). Субстанция, пишет
Гегель, — «бытие, которое есть, потому что оно есть; бытие как
абсолютное опосредование себя с самим собой»15. Она как сущность
есть «высвечивание себя», положенность, которая тождественна
с собой, т. е. акцидентальность. Истина отношения субстанции
и акциденции — действие как обнаружение себя или
взаимодействие, в котором чередование причины и следствия понимается
как чередование с самим собой. Стороны, участвующие во
взаимодействии, имеют свое различие как несущественное, поскольку
суть одно и то же в-себе (одна сторона столь же активна и
пассивна, как и другая; строго говоря, в этом отношении в-себе
мыслится только одна причина, которая в одном действии снимает себя
как действующую субстанцию и утверждает свою
самостоятельность как причины) и для-себя (взаимное чередование моментов
есть полагание причиной самой себя). Отношение, таким
образом, снимается в тождество.
Гегелевская субстанция, представленная у Брэдли как целое,
имеет следующие характеристики: (1) она едина, и в этом
единстве (2) отличает себя от себя, при этом оно, как пишет Гегель,
(3) «уже не отталкивает себя от себя как необходимость, равно как
и не распадается как случайность на безразличные, внешние друг
другу субстанции», а (4) разделяет себя на целостности, которые
представляют собой «пассивную» и «активную» субстанции в
снятом виде: на всеобщее, как «нечто первоначальное как рефлексию
в себя из определенности, как простое целое, содержащее внутри
себя свою положенность и положенное в этой положенности как
15 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1999. С. 621.
406
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
тождественное с самим собой», и на единичное как «рефлексию
в себя... из определенности к отрицательной определенности»,
которая «как тождественна с собой определенность так же есть
целое, но положена как тождественная с собой отрицательность»16.
Эти целостности (5) тождественны, и их тождество есть
особенность, в которую входят: от единичного — момент
определенности, а от всеобщего — рефлексии-в-себя. Эти три целокупности
суть одна рефлексия.
Моральное целое у Брэдли относительно в том смысле, что,
производя в себе различие для полагания множества, посредством
самореферентности, остается единым и тождественным в себе.
В нем нет ничего извне. Все его процессы, получающие
выражение в актах индивидуальных воль, закономерны и носят характер
необходимости. В этом аспекте концепция целого у Брэдли
связана с идеей субстанции Гегеля.
В. Целое в определенности знания
Знание — характеристика отношения целого к самому себе,
а потому определенность знания представляет собой следствие
определенности отношения. Брэдли в своем описании
морального целого указывает на то, что оно есть знающее целое в том
смысле, что само знает себя в своих моментах или партикулярностях
и через них, и в том смысле, что каждая партикулярность, каждая
входящая в единство воля, знает себя в целом и через него.
Кроме того, Брэдли подчеркивает, что добродетельность
предполагает субъект сознающего себя моральным агентом и понимающим,
что это значит. Определенность целого как знающего себя также
восходит к гегелевскому понятию.
Вся система наук у Гегеля есть не что иное, как путь
самосознания абсолютного духа, раскрытия единого процесса
самопознания бытия-как-сознания. Философ исходит из принципа
тождества бытия и мышления и стремится обосновать его самой своей
философией. Реальный мир представляет собой не что иное, как
16Тамже.С641.
407
Д. А. Бабушкина
проявление абсолютной идеи. В этом принципе находит свое
выражение процесс познания идеей самой себя.
В описании абсолютной идеи реализуется идея целого,
относящегося к себе, при этом развитие идеи — конкретизация
отношения и самого целого. Движение идеи направлено в том числе
на осознание собственной организации, того, что и как она есть.
В своем движении она делает самое себя содержанием
собственного знания. В этом и состоит конкретность идеи — в том, что она
имеет своим содержанием развитость собственных определений
и принцип их развития, а потому выступает как совершенное
единство формы и содержания.
Именно для цели знания нужно опосредование и отношение
к себе в своем другом. Процесс логики необходим только для того,
чтобы дух постиг самого себя, и, с точки зрения Гегеля, одно не
может быть понято без другого. Именно поэтому уже в бытии, на
первой ступени развития, появляется другое (другое такое же), как
граница нечто и его собственная экспликация. В процессе развития
в сущности и далее — в понятии происходит постепенная
трансформация отношения с другим, которая результируется в
тождество: целому, чтобы познать себя, нужно стать другим, и моментам
целого, будучи рефлексированным-в-себя, чтобы знать себя,
получить определенность, также нужно быть в отношении с другим.
Идея — мыслящая себя идея, как пишет Гегель, — «единство
жизни и познания». Она представляет собой совершенное
знание самой себя. Действительно, весь диалектический процесс есть
не что иное, как манифестация идеи, ее самополагание и
самопознание. Поэтому, будучи представленной как некое целое, уже
не имеющее в себе процесса, она есть собственный результат, или,
более конкретно, результат понятия, в котором снимается
различие между субъектом и объектом; между волением и познанием.
Для Брэдли определенность знания имеет существенное
значение, поскольку она служит необходимым условием
ответственности индивида за свои поступки. Кроме того, принцип тождества
бытия и мышления позволяет философу показать, как
возможно, что когда субъект осуществляет поступок, то, что было лишь
408
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
идеальным и носило характер всеобщности, становится реальным,
приобретая индивидуальность, а остается тем же самым, —
иными словами, продемонстрировать целостность моральной сферы
как в отношении отдельной личности (агента, наделенного волей),
так и в отношении мира морали как такового (разумности в
форме законов и совокупности действующих агентов).
С. Истинно бесконечное целое
Следующее важное определение, которое Брэдли дает
целому, — определение его как истинно бесконечного. Эта
характеристика целого стоит в тесной связи с пониманием целого как
относящегося к самому себе в своем другом. Брэдли разъясняет ее смысл
посредством понятий конечности (в его правильном и
неправильном значениях) и предела, в которых очевидно влияние Гегеля.
Логически понятие бесконечности развивается из понятия
границы или предела. Конечность составляет важную определенность
наличного бытия, которое есть результат становления, т. е.
единства и различия бытия и ничто, истиной же наличного бытия
является для-себя-бытие. Наличное бытие, рефлектированное в
своей определенности, есть нечто. Согласно Гегелю, нечто есть то, что
оно есть, только благодаря своему качеству, своей «тождественной
с бытием, непосредственной определенности»17. Качество есть
одновременно в-себе и для-другого: нечто приобретает свою
определенность, только будучи во взаимной связи с другим. Во всякой
определенности есть момент тождественности (бытие) и момент
отрицательности (ничто), поэтому «в наличном бытии
определенность едина с бытием, и вместе с тем она, положенная как
отрицание, есть граница, предел»™. Инобытие есть момент
наличного бытия: нечто, будучи определенным, одновременно есть нечто
в-себе, вот это, и есть нечто определенное для другого, при этом
определенность нечто есть его определение, его момент. Нечто
есть то, что оно есть, благодаря своей отличенности от другого.
17 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. 1.М., 1974. С. 228.
18Тамже.С230.
409
Д. А. Бабушкина
Предел есть собственный момент наличного бытия, иначе говоря,
нечто есть в себе другое самого себя. Именно предельность,
ограниченность другим составляет существенную черту конечного:
конечное есть «определенное или законченное. Быть конечным значит
быть чем-то среди других, чем-то, что не есть другие. Одно
конечное кончается там, где начинается другое конечное; оно
ограничено извне и не может выйти из себя, не став при этом чем-то иным
и тем самым перестав существовать... Быть конечным — значит
быть определенным извне, причем тем, что извне» (77), — пишет
Брэдли. Быть конечным значит быть ограниченным другим.
Именно предел создает одно и другое такое же, он дает быть
конечности, сосуществованию с другим в определенности.
Эта же мысль содержится в замечании Гегеля о том, что понятие
границы диалектично: «Граница составляет, с одной стороны,
реальность наличного бытия, а с другой — она есть его отрицание...
Граница как отрицание нечто есть не абстрактное ничто вообще, а сущее
ничто или то, что мы называем „другим"»19. Граница, с одной
стороны, разделяет нечто и другое, а с другой — показывает их
тождество. Нечто и другое есть одновременно и тождественные и
различные, единство тождества и различия заключается в их границе.
С точки зрения единичной определенности нечто, оно есть
а) не-другое и это не-друговостъ есть его определение, но б) оно есть
это другое, потому что другое возникает из отношения бытия к
самому себе (момент отрицательности — «ничто»), и другое есть
само это бытие, противопоставленное себе, поскольку оно реф-
лектировано в себя: природа конечного в том, что оно «как нечто
не противостоит равнодушно другому, а есть в себе другое
самого себя, а значит, изменяется». С другой точки зрения, а) другое,
взятое в аспекте различия, есть не-нечто, но б) другое, рефлекти-
рованное в себе, есть такое же нечто. Другое есть другое такое же,
как и нечто: «Другое, противостоящее нечто, само есть некое
нечто, и мы поэтому говорим: нечто другое»20.
19 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. 1.М., 1974. С. 231.
20Тамже.С231.
410
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
Можно заключить, что генезис предела состоит в том, что
одно («бытие»), взятое как начало, определивает себя самим
собой, чтобы стать определённым для себя, и переходит в свое
другое («ничто»). А смысл в том, что всякое одно (получившее
множественность существование) всегда определено чем-то
другим, чем-то внешним. Однако нечто есть в себе другое. То, что
есть лишь в-себе, должно, по мысли Гегеля, быть положенным.
Поэтому нечто изменяется, и это изменение есть обнаружение
внутреннего противоречия наличного бытия, которое ведет к
тому, что нечто выходит за свои пределы. Став тем, что оно есть
в-себе, нечто приобретает определенность как другое, которое
само есть нечто. Взаимопереход нечто и другого носит название
бесконечности.
В дурной бесконечности сохраняется переход в другое. Ее
основной служит различие одного и другого, их взаимная
обусловленность. Однако, поскольку в процессе перехода не снимается
конечность этих моментов, бесконечность остается всего лишь лозунгом,
поскольку на самом деле конечное восстанавливается как
результат перехода.
Дурная или отрицательная бесконечность есть не что иное, как
отрицание конечности, когда «нечто становится неким другим,
но другое само есть некое нечто; оно, следовательно, само, в свою
очередь, также становится неким другим и т. д. до бесконечности»™.
Это движение в бесконечность есть лишь выражение
противоречия, которое содержится в конечном, т. е. того факта, что
всякое нечто благодаря своему пределу есть и нечто, и нечто другое.
Представление о дурной бесконечности принадлежит
рассудочному мышлению, ибо под бесконечным на самом деле мыслится
конечное. В основе рассудочного мышления лежит ложная
предпосылка о наличии категоричной противоположности между
конечным и бесконечным.
Брэдли, критикуя ложные представления о бесконечности,
выделяет два главных заблуждения:
21 Там же. С 232.
411
Д. А. Бабушкина
1. Бесконечное, объясняемое как не-конечное, т. е. не
имеющее конца. Это толкование понимает под бесконечностью нечто
позитивное, т. е. некоторое количество, не имеющее конца,
например, неопределенно заданный ряд единиц. Однако это
бесконечное остается таким только в возможности, ибо реально
существующий каждый такой ряд определен или конечен.
2. Бесконечное, рассматриваемое через простое отрицание как
то, что «не есть конечное, но уже не в том смысле, что оно больше
по количеству, а в смысле бытия чем-то иным, отличным по
качеству» (77). Под бесконечным в этом смысле понимается нечто, что
не принадлежит миру предельных вещей, нечто трансцендентное,
например Бог или абстрактный долг. Но такое бесконечное есть
не что иное, как простая противоположность конечному, и,
будучи ограничено своей противоположностью, само есть конечное.
Уже в самом принципе этой критики неверного толкования
смысла бесконечности обнаруживается влияние Гегеля, его
существенное определение конечности как нечто, которое замкнуто
на свою противоположность. Критикуя определение бесконечного
как отрицание конечности, Брэдли имеет в виду то, что Гегель
назвал бы рассудочным отрицанием. Сам же Гегель усматривает
нечто истинное относительно бесконечности в отрицательном
мышлении этого понятия: «Бесконечное есть не-конечное, мы этим уже
на деле высказали истину, ибо, так как само конечное есть первое
отрицание, не-конечное есть отрицание отрицания,
тождественное с собой отрицание и, следовательно, вместе с тем и истинное
утверждение»22. Принцип отрицания отрицания не есть простое
рассудочное действие, которое постулирует голое тождество, но есть
снятие конечности, поскольку конечное само есть существенным
образом нечто отрицательное. Иначе говоря, отрицая конечное,
следует помнить, что конечное — отрицательность, которая есть
не что иное, как момент определенности. Таким образом,
результатом отрицания будет возвращение к определенности, в которой
22 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. 1.М., 1974. С 232.
412
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
нечто смыкается с самим собой. Мышление понятия истинной
бесконечности содержит в себе этот принцип. Истинно
бесконечное состоит в том, что в своем другом пребывает у самого себя. Оно
есть разоблачение другого как того же самого нечто.
Понятие истинной бесконечности, в отличие от дурной,
исходит не из противоречия конечного (и в этом смысле не
прослеживает изменение нечто в другое) и различия противоположностей,
а из принципа тождества конечного и бесконечного или
тождества противоположностей (другое становится нечто). Так об этом
говорит сам Гегель: «На деле здесь имеется лишь то, что нечто
становится другим, а это другое, в свою очередь, становится другим.
Нечто, находясь в отношении с другим, само есть некое другое
по отношению к этому последнему. Так как то, во что нечто
переходит, есть то же самое, что и само переходящее... то в своем
переходе в другое нечто лишь сливается с самим собою, и это
отношение с самим собою в переходе есть истинная бесконечность. Или,
с отрицательной стороны, изменяется именно другое, оно
становится другим другого»23. Истинная бесконечность представляет
собой возврат нечто в себя, опосредованный различием с другим
через обнаружение конечности нечто или предела.
О том, что Брэдли вкладывает именно такой смысл в
истинное и неистинное толкование бесконечности, говорит следующее.
Брэдли поясняет, что бес-конечное как не-конечное,
«действительно отрицает конечное так, что конечное исчезает, но при этом оно
не просто занимает негативную позицию по отношению к нему,
но бесконечное снимается в более высоком единстве, став
элементом которого оно утрачивает свои первоначальные черты и в
котором оно одновременно и подавляется и сохраняется. Бесконечное
же, таким образом, есть „единство конечного и бесконечного"» (77).
Конечное входит в бесконечное так, что первое различаемо в
последнем, но не отделимо от него: «В бесконечном же можно
проводить различение без дистинкции, ибо оно есть единство,
содержащее подчиненные ему составные элементы, каждый из которых
^Тамже.С.гЗ^
413
Д. А. Бабушкина
есть негативное другого, что делает их различаемыми; при этом
в то же самое время целое присутствует в каждом из них таким
образом, что каждый [элемент] имеет свое собственное бытие в
своей противоположности, и его жизнь зависит от этого отношения.
Для каждого негативное есть также и его утверждение. Таким
образом, бесконечное имеет в себе различие, а значит, и отрицание,
но само оно отлично только от себя и отрицается не чем иным, как
самим собой. Бесконечное вовсе не есть нечто, которое не есть
нечто иное: оно есть целое, в котором и одно, и иное — только
элементы». Иными словами, конечное есть то, что состоит в
отношении к другому, а бесконечное относится к себе.
В системе Гегеля дурная и истинная бесконечности имеют
большое значение и проявляются на ступенях наличного бытия, когда
происходит экспликация внутреннего как иного, и для-себя-бытия,
когда происходит возвращение к себе их иного. Кроме того, Гегель
прибегает к описанию истинной бесконечности всякий раз для
характеристики действия самореферентного целого на ступени,
когда оно достигает истины своего отношения. В то время как дурная
бесконечность всякий раз характеризует непродуктивное
движение на тех ступенях, когда другое в целом мыслится как лишь
отличное от целого.
Характеризуя истинную бесконечность, Брэдли определяет
ее также как бесконечность духа, и в этом оказывается близок
Гегелю. Гегель различает конечный дух (субъективный и объективный)
и абсолютный, бесконечный дух, и поясняет, что конечность имеет
в духе значение только как снятая, иными словами, дух бесконечен
в том смысле, что в себе самом содержит конечное как свой момент:
«Дух как дух не конечен, он содержит конечность в себе, но только
как такую, которая подлежит снятию и уже снята»24. Конечность
духа понимается, с другой стороны, как несоответствие реальности
своему понятию (идеальности), а его бесконечность — как
единство понятия и реальности. Дух сам ставит себе предел и снимает
24 Гегель Г. В. Ф. Философия духа // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. 3. М., 1977. С 36.
414
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
его уже тем, что знает о нем. Гегель так объясняет это: «Природные
вещи именно потому и конечны, что их предел налицо не для них
самих, а только для нас, сравнивающих их между собой. И самих
себя мы делаем конечными именно тем, что мы нечто другое
принимаем в наше сознание. Но как раз поскольку мы знаем об этом
другом, мы уже выходим за этот предел»25. Такое понимание
снятия предела Брэдли выразил словами: «Знание предела
подавляет предел» [75]. Дух, таким образом, содержит в себе свою
конечность, своей предел как снятые и потому бесконечен.
D. Целое, специфицирующее себя
«Наше истинное бытие не есть воплощение крайней
степени единства или многообразия, но совершенное тождество того
и другого», — пишет Брэдли. Целое, поскольку его существенной
характеристикой является отношение к себе, есть единство трех
моментов: всеобщности, единичности и особенности. Вследствие
этих моментов целое обособляет себя, оставаясь тождественным
самому себе.
Именно это Брэдли и понимает под единством гомогенности
и спецификации: целое вносит различие в себя, обособляет в
себе определенные моменты, сохраняя при этом однородность, что
гарантирует одинаковость обособленных моментов.
Брэдли прибегает к понятиям гомогенности и спецификации для
того, чтобы прояснить смысл истинно бесконечного целого, и
указывает, что использует эти понятия в кантовском смысле.
Целое, построенное по принципу единства гомогенности и
спецификации, Брэдли описывает двояким образом. С одной стороны,
он предлагает понимать его как систематическое «целое целей»,
каковым является представление обыденного сознания о собственной
жизни и цели своих поступков; а с другой — как гомогенное целое,
специфицирующее себя в своих частях или как «истинно
бесконечное целое». С одной стороны, философ отталкивается от
моральных представлений обыденного сознания о том, что всякое
^Тамже.СЗУ.
415
Д. А. Бабушкина
совершение поступка есть осуществление большей цели или
идеала; с другой — исходит из положения о том, что разум
систематизирует. Для Брэдли важно подчеркнуть момент разумности
в представлении морального агента о своей цели как целом. Таким
образом, для объяснения того, что® есть реализуемый идеал или
самость как систематическое целое, Брэдли рассматривает
принципы, по которым разум эти представления составляет.
Кант вкладывает в эти понятия несколько иной смысл, чем
Брэдли. Кант исследует принципы «гомогенности» и
«спецификации» в «Критике чистого разума» в «Приложении к
трансцендентальной диалектике», где дает им название принципов
систематического единства. Кант различает трансцендентальные принципы
систематического единства (гомогенность как принцип
однородности в рамках высших родов, спецификация как принцип
разнообразия в рамках низших родов и принципа непрерывности
или требование непрерывности перехода от одного рода к
другому) и опытное их применение (логические законы, как они
применяются в науке). Важно подчеркнуть, что для Канта эти
принципы имеют значение как принципы познания, обеспечивающие
системность и последовательность.
Обращаясь к принципам, описанным Кантом, Брэдли
трактует их, с одной стороны, как принципы организации морального
целого, как механизмы, обеспечивающие однообразность и связь
элементов в едином целом, такие, при осуществлении которых
целое полностью тождественно каждому из своих элементов. С
другой стороны, он применяет их для описания обыденного сознания,
его способности вносить в свои представления системность.
Показательно, что из трех принципов систематического единства
Брэдли пренебрегает принципом непрерывности.
Понятия гомогенности и спецификации нужны для того,
чтобы прояснить отношение целого и его членов, всеобщего и
универсального. Этой же цели служит определение истинной
бесконечности. Брэдли, таким образом, проясняет одну определенность
через другую. И та и другая суть следствия того, что целое в своих
моментах относится к самому себе. Поскольку целое обособляет
416
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
себя, оставаясь тождественным себе, постольку оно содержит
самого себя как обособленное, определенное, т. е. как конечное, оно
является истинно бесконечным.
Такое толкование целого, которое представляет собой
реализуемая самость, позволяет Брэдли объяснить важное положение
о возможности приведения универсального в практику
(реализация идеала посредством единичного действия). В моральной
сфере отношение части (парктикулярного) и целого (универсального)
есть отношение духа к самому себе (партикулярной воли к
универсальной воле). Таким образом, для осуществления моральной
цели, т. е. для реализации себя как универсальной воли,
партикулярная самость должна стать частью истинно бесконечного
целого, которое относится к самому себе в своих частях или, будучи
гомогенным, предельно специфицировано в себе (семья,
общество, государство). Такое целое полностью выражено в своей
части, каждая из которых отлична от других. Стать целым индивид
может, только став моментом целого, специфицирующего себя:
«Я должен быть совершенно гомогенным; но я не смогу достичь
этого, пока не стану целиком специфицированным, и весь вопрос
в том, каким образом я могу расширить себя, чтобы включить в
себя свои внешние отношения?» (79). В такой интерпретации идея
гомогенно-специфицированного целого оказывается ближе
Гегелю, чем Канту.
Гегель достаточно четко показывает, что он понимает под
однородным, но специфицированным целым, когда различает
рассудочное и конкретное понятие понятия. Согласно первому, понятие
есть всеобщность, абстрагированная от чувственно
воспринимаемой предметности. Таким образом, понятие — не более чем
общее представление и «чувство здесь право, объявляя такие
понятия пустыми и бессодержательными, голыми схемами и тенями».
Конкретное понятие понятия состоит в том, что понятие есть
единство всеобщности, единичности и особенности, т. е. «каждый
момент понятия есть понятие». Понятие не есть лишь абстрактное
общее, которому противостоит особенное, обладающее своим
собственным существованием; оно есть «само себя обособляющее
417
Д. А. Бабушкина
(специфицирующее) и с незамутненной ясностью остающееся у
самого себя в своем другом»26. И такое всеобщее Гегель называет
универсальным.
Иными словами, отношение целого к себе есть
спецификация целым самого себя, при которой оно остается совершенно
однородным, ибо каждое составляющее этого целого есть само это
целое, находящее себя в своем ином. Об этом же пишет Брэдли:
«Целое, которому вы принадлежите, подробным образом
специфицирует себя в своих функциях, и все же остается гомогенным.
Оно проживает не множество жизней, но одну жизнь, и все же не
может жить иначе, как во множестве своих членов. Равным
образом, каждый из членов живет, но не отдельно от целого, которое
живет в нем. Организм гомогенен потому, что он
специфицирован, и специфицирован потому, что гомогенен» (79). Таков смысл
последнего из определений, которыми Брэдли характеризует
моральное целое — «целое, специфицирующее само себя».
Истинная самореализация состоит в осуществлении себя как
истинной бесконечности, через подчинение целому,
организованному по принципу самореференции, целому, которое есть
единство различия, тождества и особенности.
3. Содержательное определение
реализуемой самости как идеала
Все приведенные выше дефиниции истинной самости и
самореализации суть определения по форме. Если подходить со
стороны содержания, то в самом общем определении самореализация
есть «благая жизнь», а более конкретно — осуществление некой
идеальности. Истинная самость есть, таким образом, идеал,
который, согласно Брэдли, имеет трехчастную структуру. Она предстает
как комплекс социального и несоциального идеала:
определенного положения в обществе, представления о личном совершенстве
26 Гегель Г. В. Ф. Наука логики // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских
наук. Т. I. М., 1974. С 346.
418
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
и о внутренних задатках или таланте. Во всех трех моментах
человек реализует себя как целое и сам есть целое этих моментов,
но их сочетание говорит о том, что он не может всецело
реализовать себя только в морали.
Двойственный, противоречивый характер реализуемого
идеала полностью согласуется с общим видением природы самости
у Брэдли: индивид как элемент субстанциального целого в один
и тот же момент и тождествен ему, и отличен от него; он всецело
есть общее, которое превосходит его, и сохраняет свою
определенность как нечто конкретное, а потому самость включает в себя и
момент тождественности со всеобщим, и момент особенности.
Поскольку цель есть конкретно универсальное целое,
постольку достичь ее и поистине стать собой человек может, только став
членом морального организма, — он обретает собственную
тождественность, заняв в обществе определенное положение и
приняв на себя и аккуратно исполняя те обязанности, которые оно
на него возлагает. Человек ближайшим образом есть функция
целого, т. е. ее активное проявление. Он всегда вписан в контекст:
культуры, национальности и проч. Он обретает свою
определенность в другом, в тех отношениях, которые существуют внутри
сообществ всех уровней — от семьи до государства, и только как
таковой он есть индивид, личность.
Находясь в отношении к другому, индивид стоит в отношении
к самому себе, реализует собственное представление о
совершенстве, идеал правильного образа жизни.
Третья составляющая идеала — природные задатки,
служение «истине» и «красоте». Это то, что делает человека отличным
от стадного животного, то, что позволяет ему выйти за пределы
сообществ и выразить свою особенность. Акцент на особенности,
выделение именно этой характеристики из трех, которыми
наделяет нравственную субстанцию Гегель, — вот что составляет
особенность концепции самореализации и всей этики поступка Брэдли.
Отталкиваясь от идей классика немецкой философии, Брэдли
придает им своеобразное звучание, пересматривая отношение целого
с самим собой с точки зрения члена целого, — индивидуальности.
419
Д. А. Бабушкина
Оставаясь верным основам абсолютного идеализма, Брэдли
выделяет личность; ставя целью обосновать роль общности и
незыблемость универсальных законов, он ориентирует свое учение не на
формулировку императива, но на разработку программы
действий, понятной обыденному сознанию, и выведения принципа
поступания из самой практики.
4· О достижимости цели в морали
Итак, позитивное содержание «Этических исследований»
сведено к этике самореализации или этике добродетели. Понятия
самореализации и моральности тесно связаны. Порой даже трудно
сказать, какой вопрос волнует Брэдли больше: «Как достичь
истинной самореализации?» или «Как стать моральным?». Этим
объясняется также определенное смешение предикатов «истинности»
и «благости» применительно к самости. Большей частью
причина тому — сам предмет: чтобы различить самореализацию и
моральность, нужно обладать уникально четким зрением и
прилежанием. Прибегая в итоге к суждению обыденного сознания, Брэдли
отчасти оставляет вопрос открытым, тем более что, покинув
сферу морали, он оставил следовавшего за ним читателя до
некоторой степени разочарованным: предвкушая получить надежное
практическое правило, как стать счастливым, он на деле, как и две
с лишним тысячи лет назад, извлек только «Познай самого себя».
Да, Брэдли приоткрывает тайну самореализации, но лишь
отчасти. Он задает общее направление, но не доходит до конца. Но он
и не ставил себе такой задачи.
Самореализация — процесс, в котором достигается состояние
моральности. Моральность — один из путей самореализации, пусть
и признаваемый Брэдли самым лучшим. Но сфера морали не
дает возможности ее полного осуществления, потому что
сохраняет как свое непременное условие различие между сущим и
должным, конкретным и универсальным, хотя и заявляет их тождество
собственной целью. Моральность есть постоянное стремление,
движение, которое не находит завершения, она есть не знающий
420
Позитивное содержание и истоки этики Ф. Г. Брэдли
конца процесс совершенствования. Достижение цели морали
выводит за ее пределы, — это уже сфера, где идеальное есть
реальность, и более того, единственная реальность, а не то, что только
реально считается видимостью, явлением, и имя этой сферы —
религия. Брэдли затрагивает религиозное сознание лишь отчасти,
ссылаясь на то, что его рассмотрение не входит в круг задач книги.
Но уже по общему определению видно, что он во многом согласен
с Гегелем, хотя бы уже только потому, что полагает религию
следующим этапом развития сознания, в котором мораль
оказывается снятой и в котором преодолеваются ее недостатки.
И все же, что есть истинная самость? К чему я должен
стремиться и что должен делать своим предметом, чтобы быть собой
поистине и действовать из самого себя? Истинная самость —
благая самость. Реализовать себя как истинную самость значит
отождествиться с благой волей и позволить ее всеобщему
принципу проявить себя в индивидуальном акте твоей личной воли. Это
значит желать и осуществлять себя как целое, которое имеет
характер универсальности. Реализовать себя значит жить в согласии
с собой и не принимать себя за нечто иное. Брэдли верит в то, что
наивысшая ценность — жизнь; она есть цель для самой себя, и то,
что содействует жизни, — критерий правильности: благо то, что
способствует возрастанию жизни. Критерий и цель имманентны
человеку как живому существу, и чтобы постигнуть их сущность,
недостаточно теории, недостаточно веры в Закон или мудрость
людей, нужно научиться понимать самого себя.
Д. А. Бабушкина
Я хочу выразить благодарность проф. А. С. Колесникову,
к. ф. н. С. В. Никоненко, проф. Р. В. Светлову и проф. Тимо
Айраксинену за поддержку моей работы и критические
замечания. Особо стоит сказать о неоценимой помощи научного
руководителя моего исследования проф. Б. Г. Соколова. Мне
также хотелось бы упомянуть вклад редактора Р. Г.
Рабиновича в работу над данной книгой, которая, к сожалению,
вышла в свет уже после его кончины в 2009 году.
Научное издание
Фрэнсис Герберт Брэдли
Этические исследования
Редактор издательства В. И. ПодюрЬунских
Корректор А. А. Борисенкова
Верстка Е. В. Владимировой
Художник О. Д. Курта
191023 Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15,
Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
Тел.: (812) 310-97-91; факс: (812) 571-30-75;
e-mail: editor@rchgi.spb.ru
URL: http://rhga.ru
Подписано в печать с готового оригинал-макета 14.05.10
Формат 60x90 1/16. Бум. офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,5. Тираж 800 экз. Заказ № 68.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «ИПК Бионт»,
г. Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86
Все новинки издательства Русской христианской
гуманитарной академии можно приобрести
в следующих магазинах:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Магазин «Порядок слов» («Книжные мастерские»):
Русская Христианская Гуманитарная Академия,
наб. р. Фонтанки, д. 15, 1 этаж, тел. +7 812 310-50-36
http://wordorder.ru/
Магазин «Книжный окоп» («Университетская книга»):
Тучков пер., д. 11/57, тел. +7 812 323-8584
Магазин «Слово»:
Мал. Конюшенная улица, 9, тел. +7 812 571-20-75
МОСКВА:
Книготорговая сеть «Мир интеллектуальной книги»
тел. 786-36-35, http://www.humanus.ru/
Галерея книги «Нина»
ул. Бахрушина, д. 28, тел. +7 495 959-2103
Магазин «Фаланстер»
Малый Гнездниковский переулок, 12/27, тел. +7 495 749 5721
Магазин «Русское зарубежье»
ул. Нижняя Радищевская, дом 2 тел. +7 495 915-1145
Магазин «Primus Versus - Умные Книги»
ул. Покровка, дом 27, строение 1, тел. +7 495 223-58-20
«Порядок слов» - независимый магазин
интеллектуальной литературы
Главный приоритет в ассортиментной политике магазина -
литература non-fiction. Важнейшие направления: книги по кино и
театру, мемуаристика, публицистика, филология, философия,
социология, религиоведение, психология, педагогика. Также
представлены зарубежная и отечественная поэзия, детские книги.
«Порядок слов» является официальным партнером таких
издательств, как Ad Marginem, «Амфора», «Академия исследования
культуры», «Гилея», «Издательство Ивана Лимбаха», издательство
Европейского Университета, издательство Русской христианской
гуманитарной академии, издательство Российского Института
Истории Искусств, «Новое издательство», «Новое литературное
обозрение», «Свободное марксистское издательство», «Сеанс»,
Фонд Юрия Норштейна, «Эйзенштейн-центр» и многих других.
Адрес : 191023, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 15
Тел.:310-50-36
Время работы: 12.00-20.00, вс. 12.00-19.00
e-mail: poryadokslov@gmail.com
http://wordorder.ru
Фрэнсис Герберт Брэдли — лидер движения абсолютного
идеализма в Англии начала XX в., оказавший большое
влияние на лоследующее развитие философии. «Этические
исследования», ядро которых составляет учение о
самореализации, наиболее ярко характеризуют неогегельянские
тенденции Брэдли. Настоящее издание представляет собой
первый перевод трудов Брэдли на русский язык. Перевод
сопровождают две статьи, определяющие историческое и
научное значение «Этических исследований» и раскрывающие
для читателя оригинальную этическую позицию философа,
ф. г. брэдли
ЭТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ