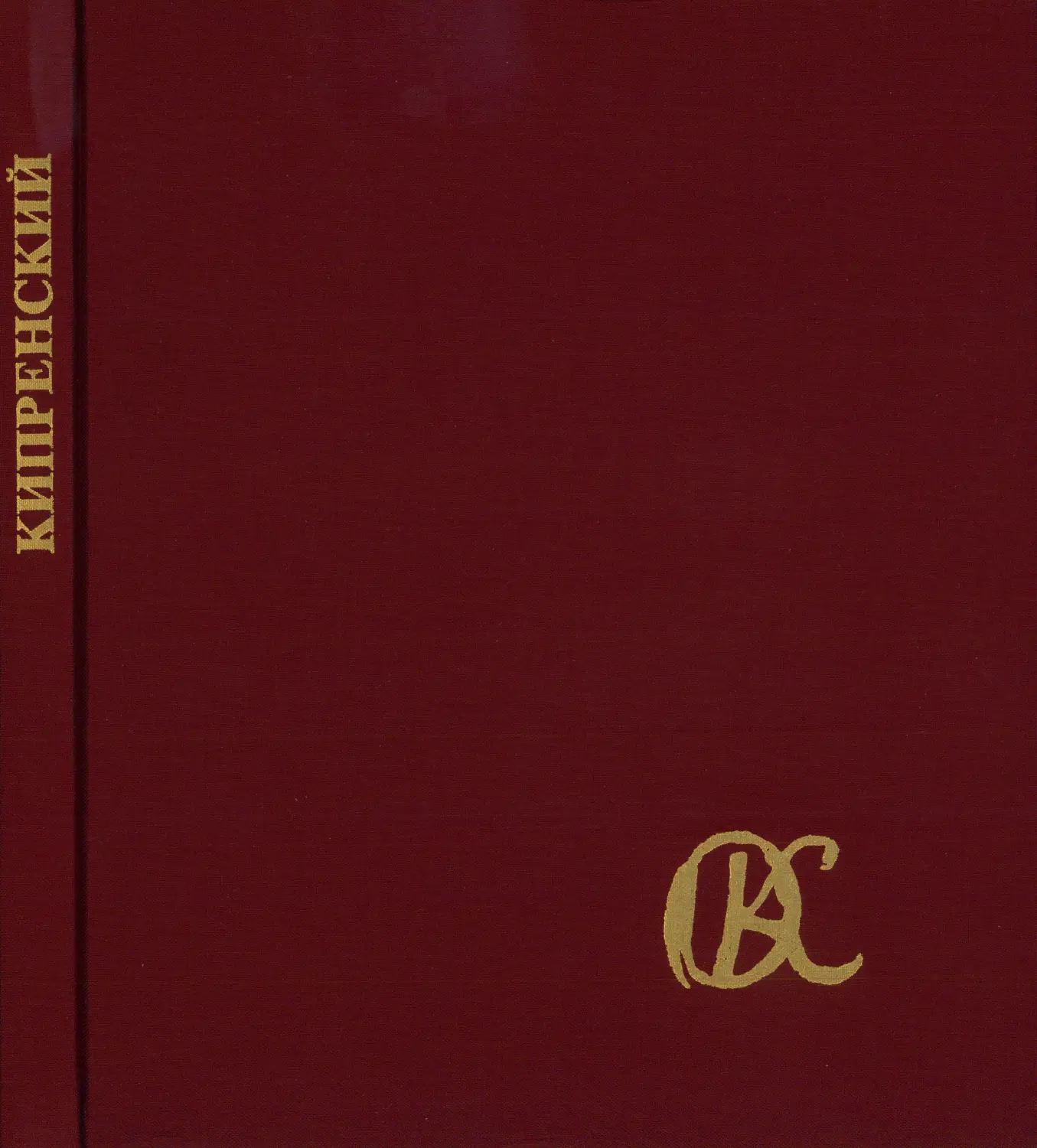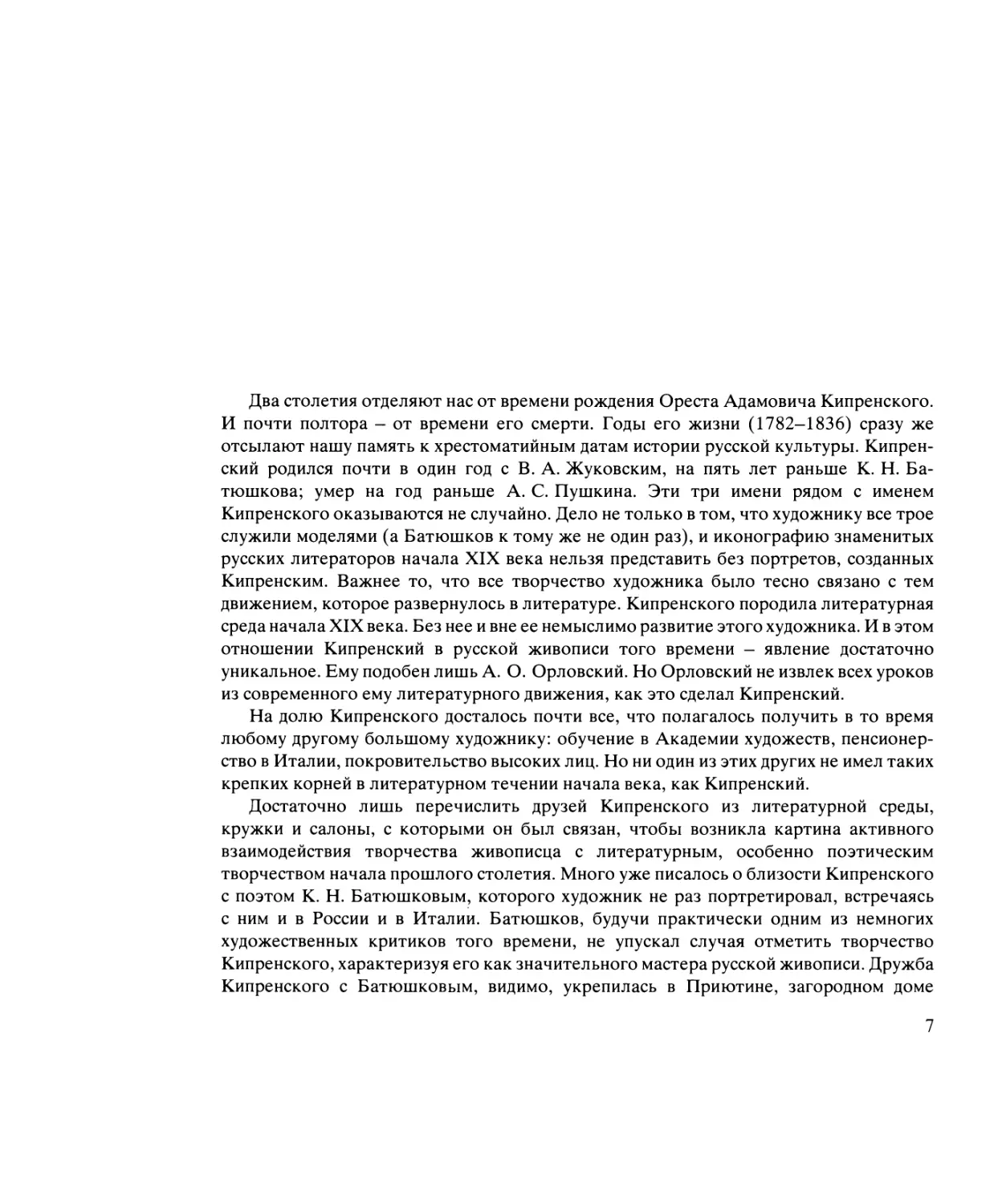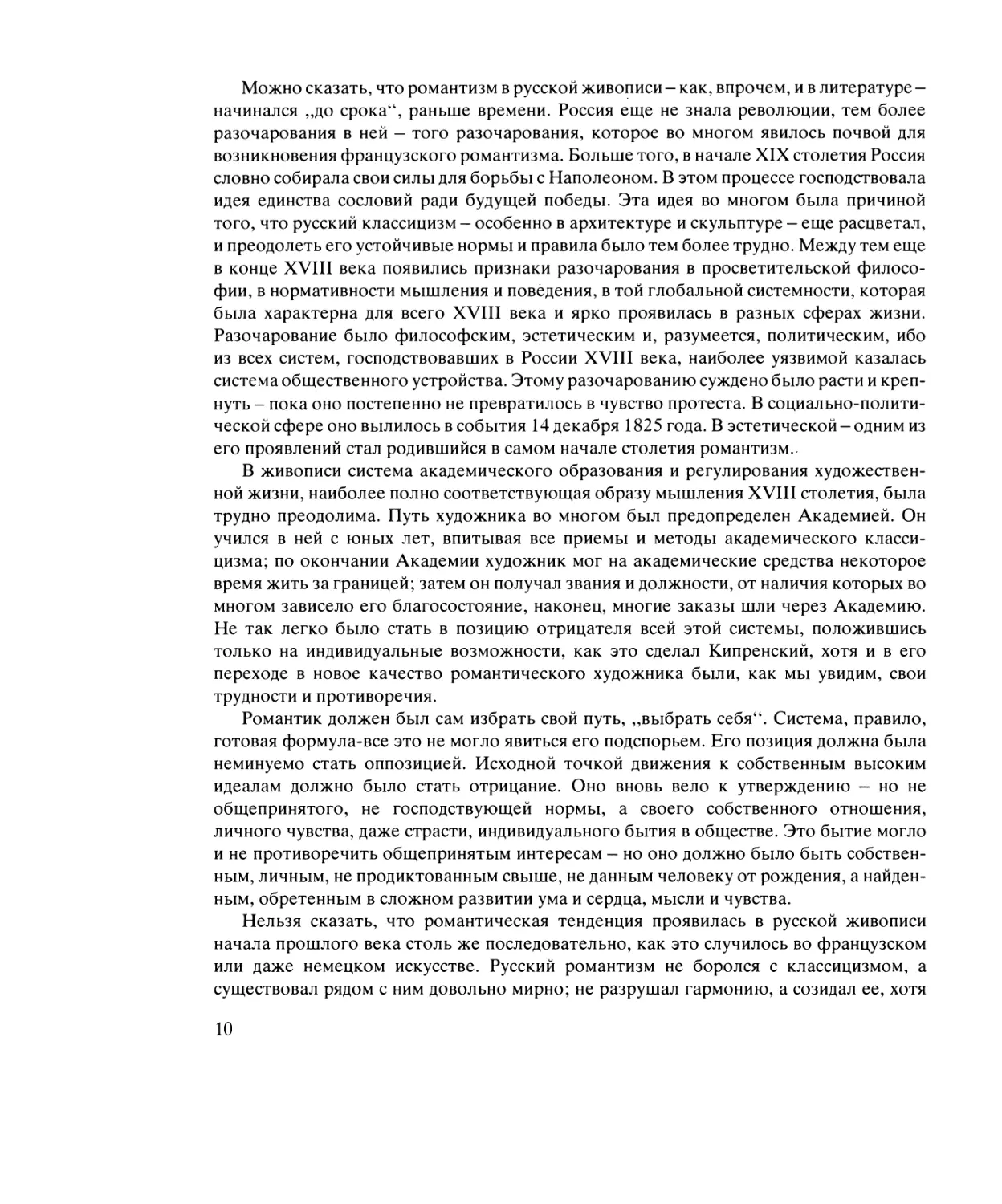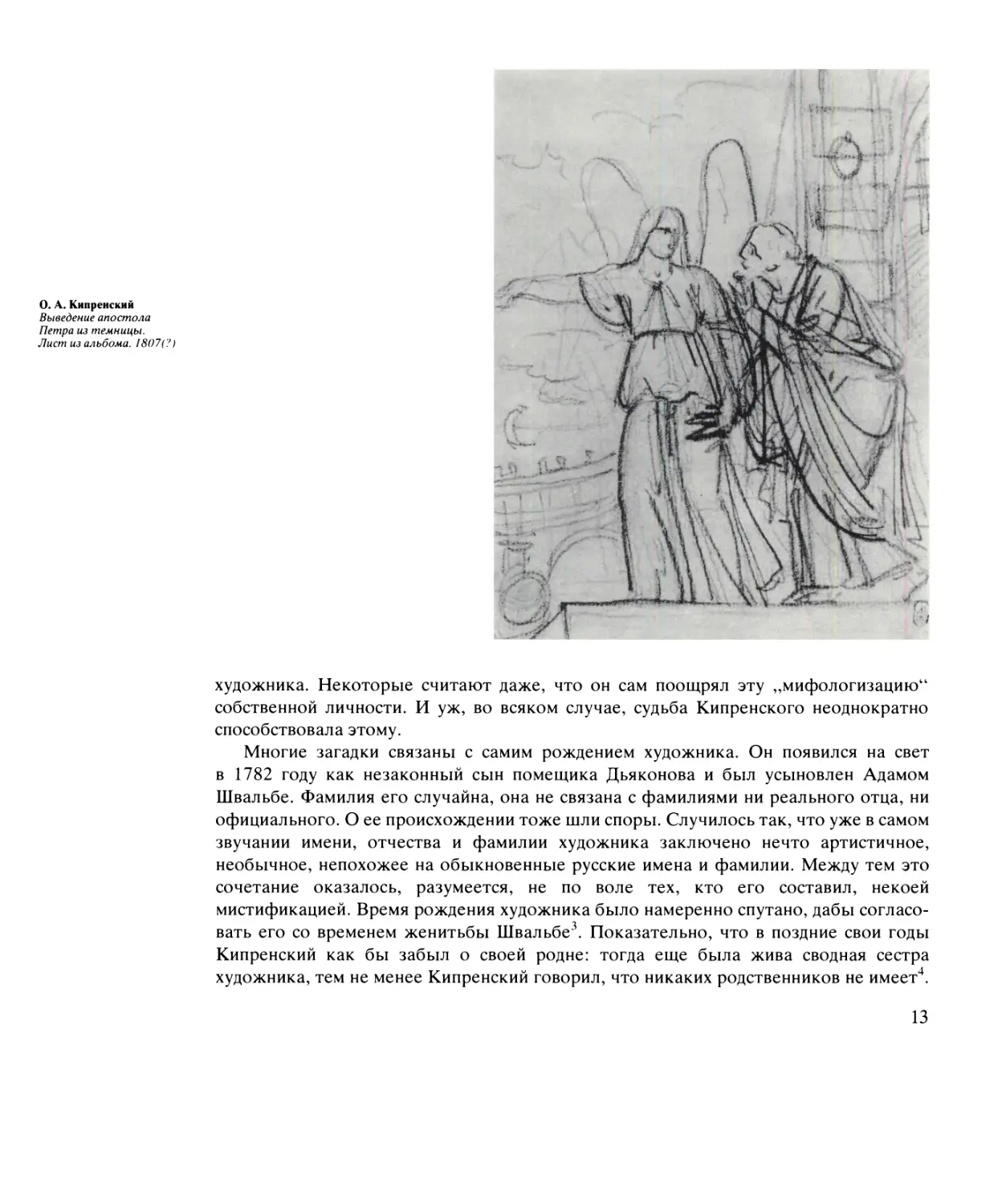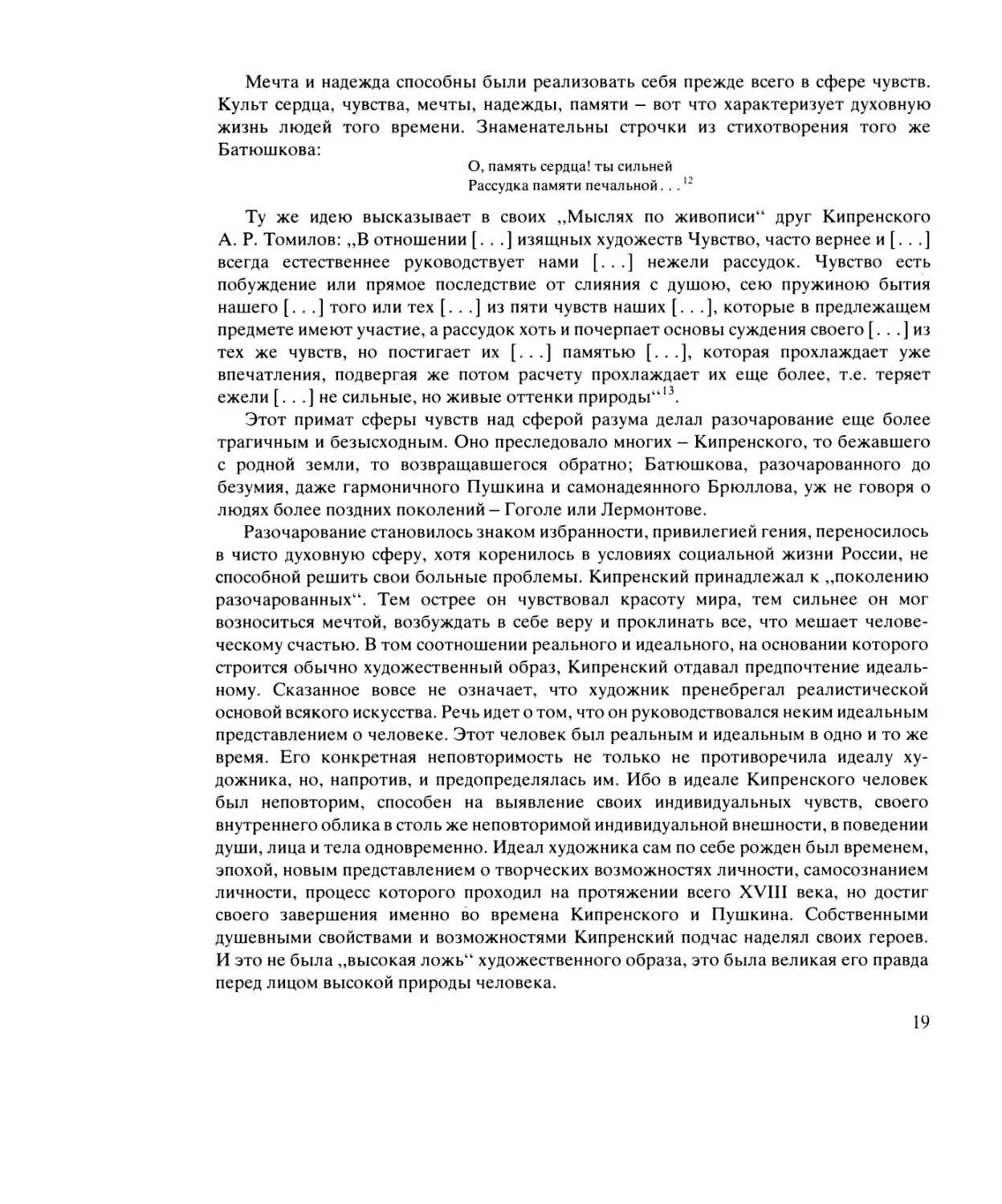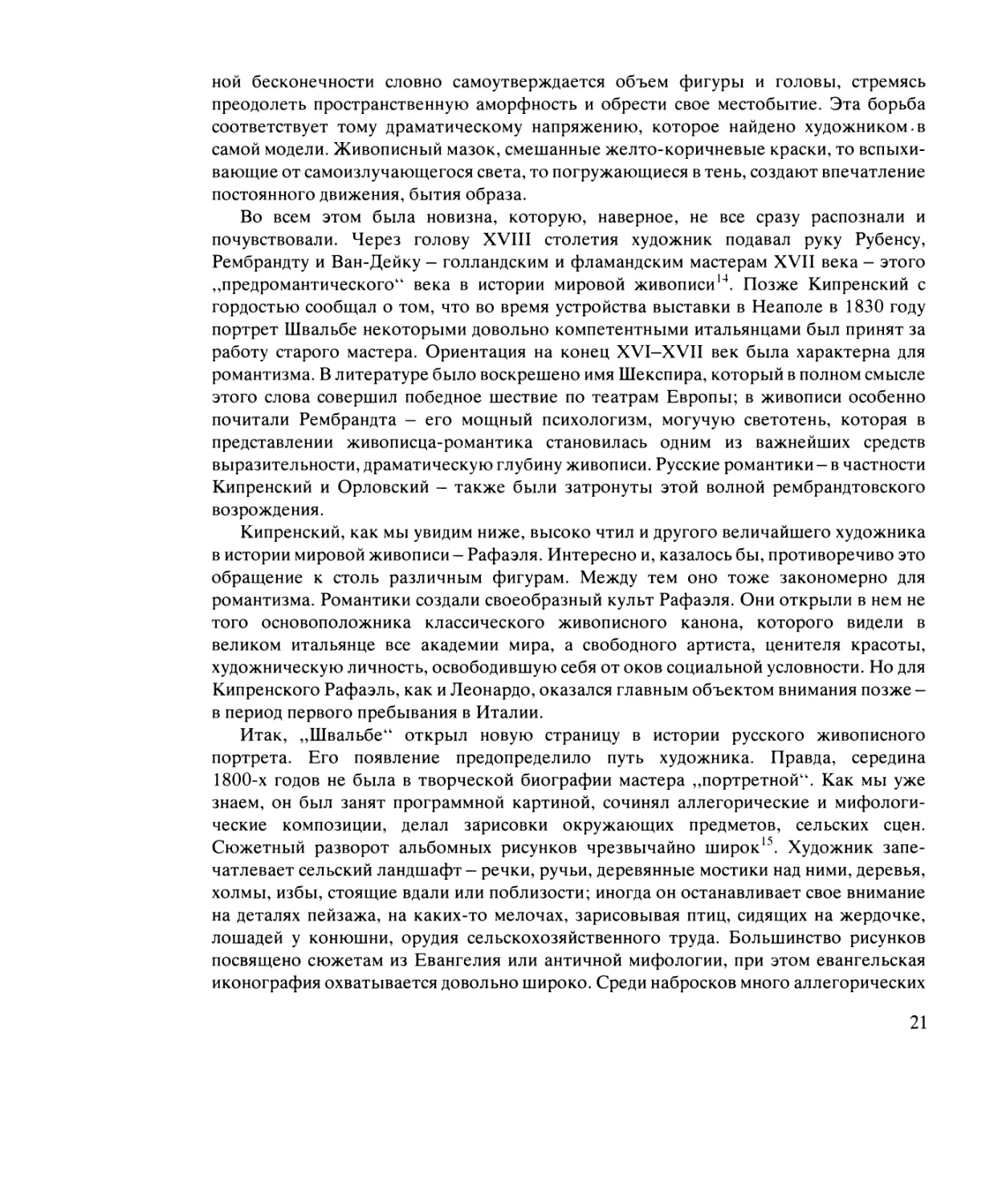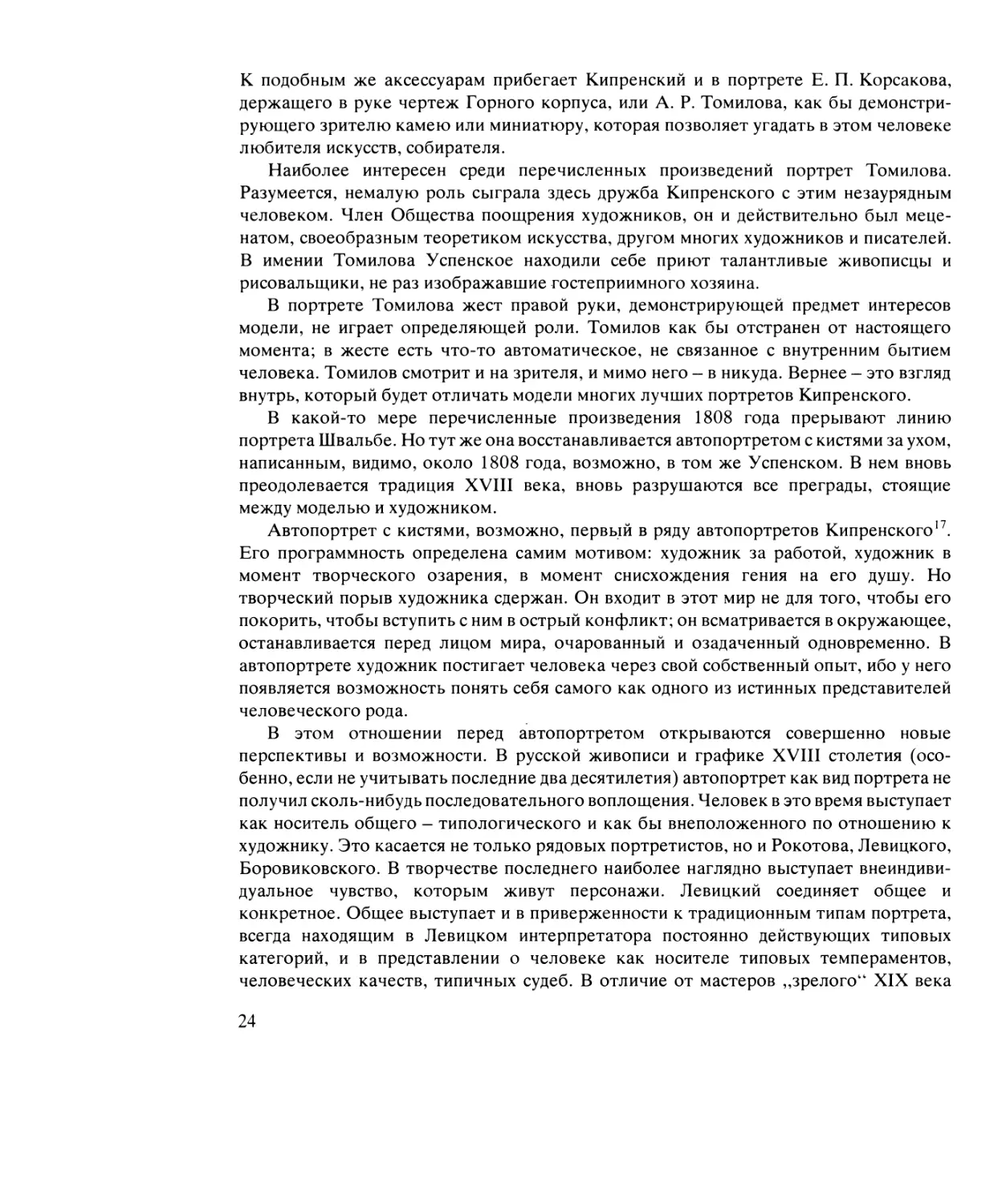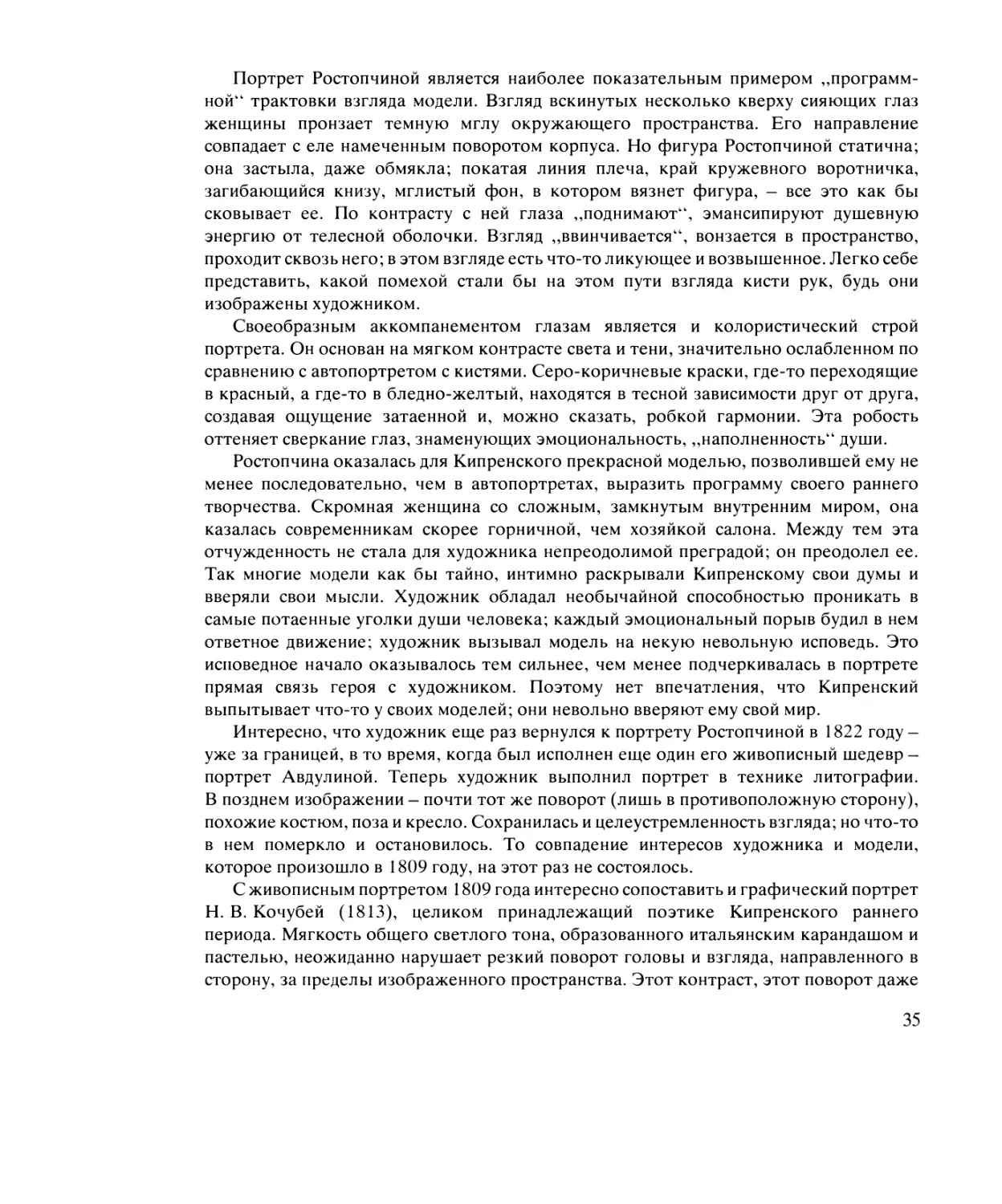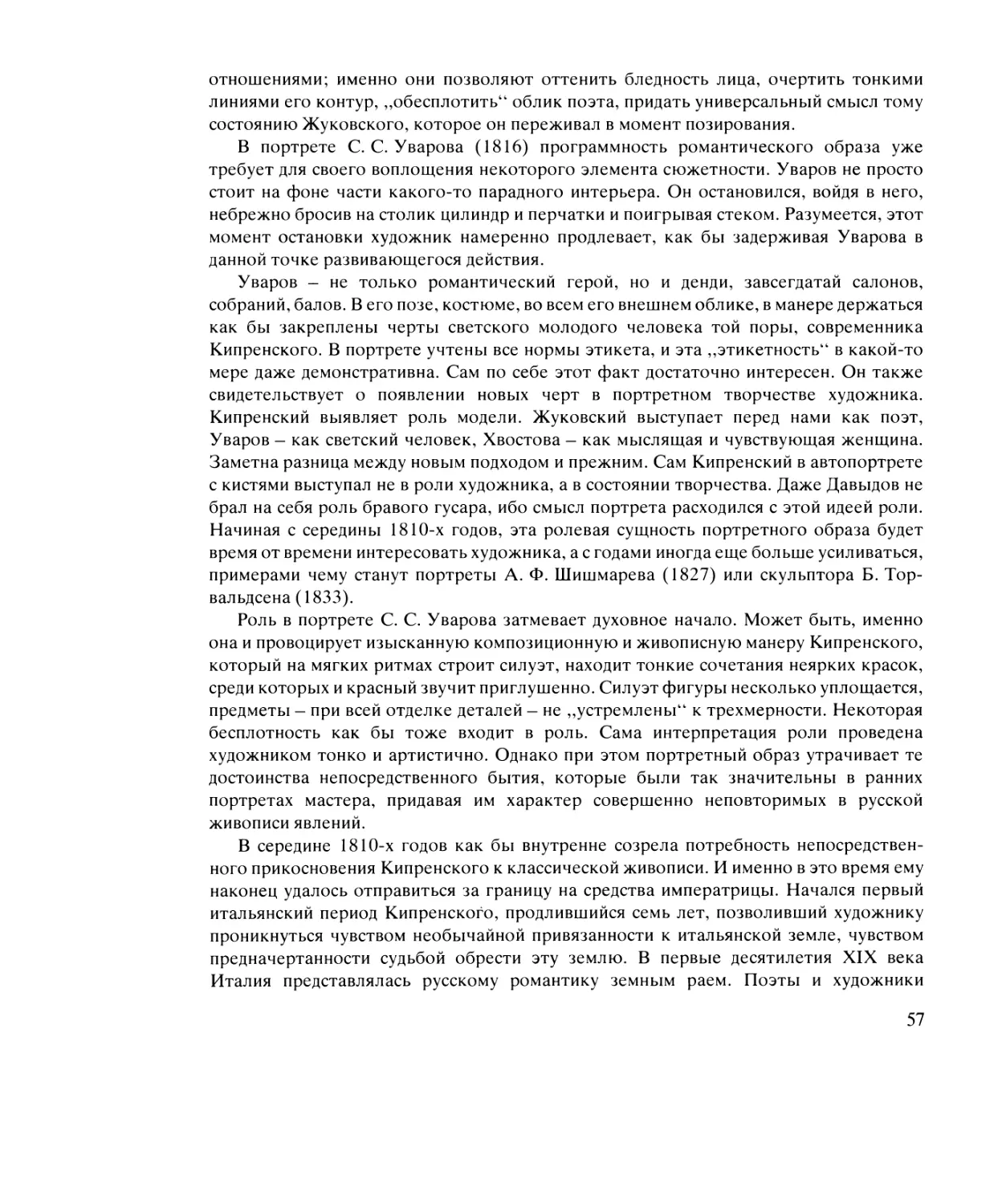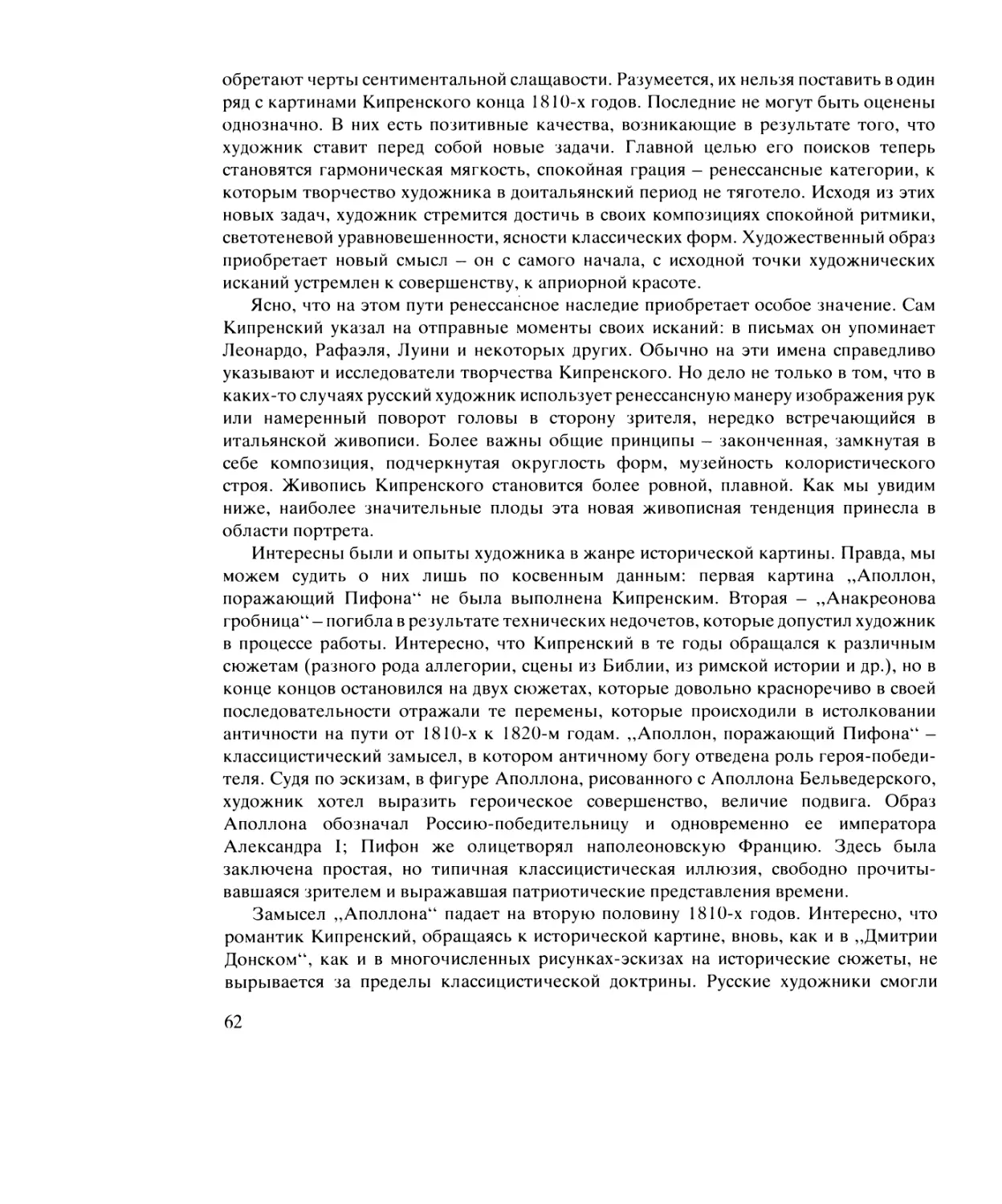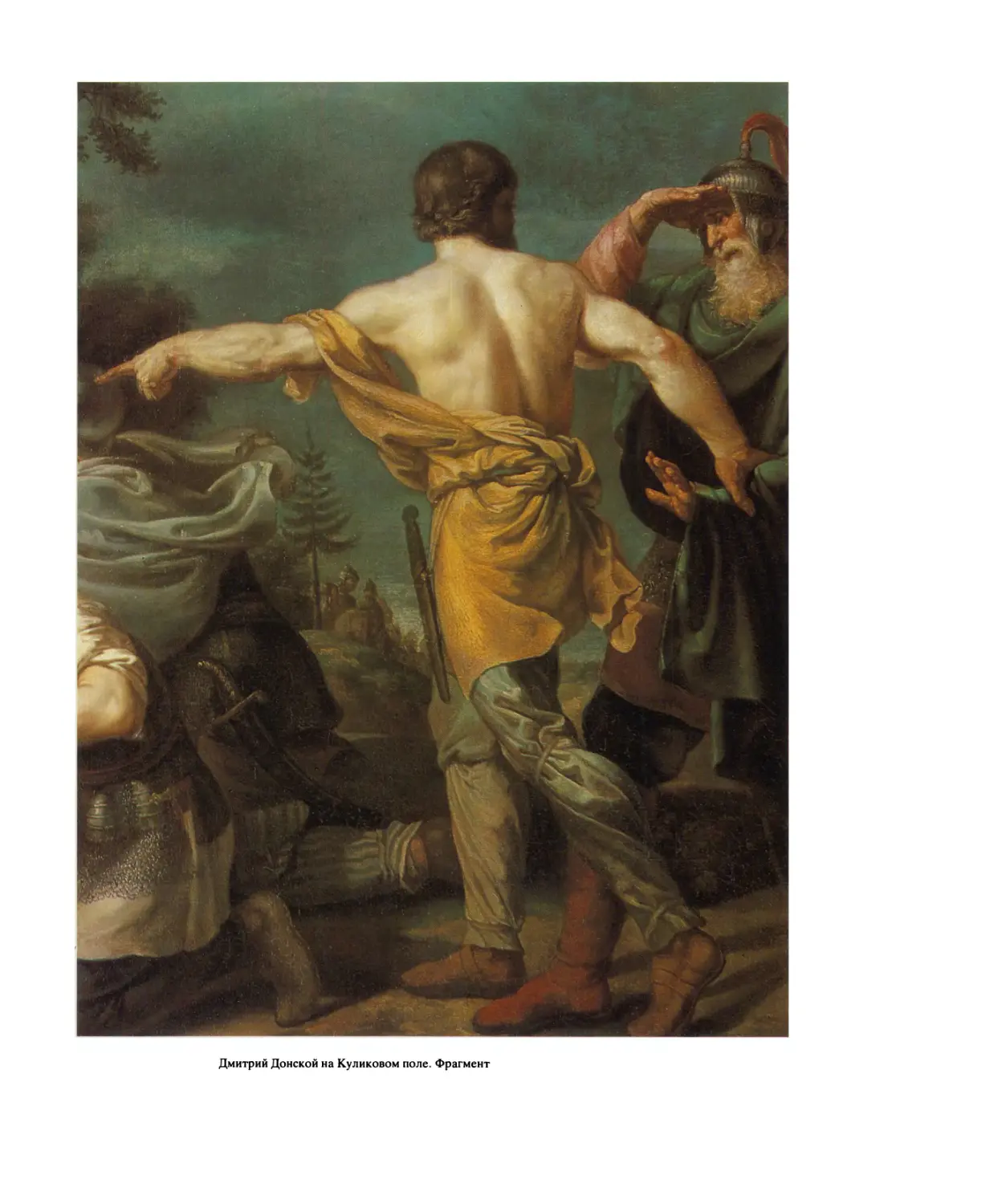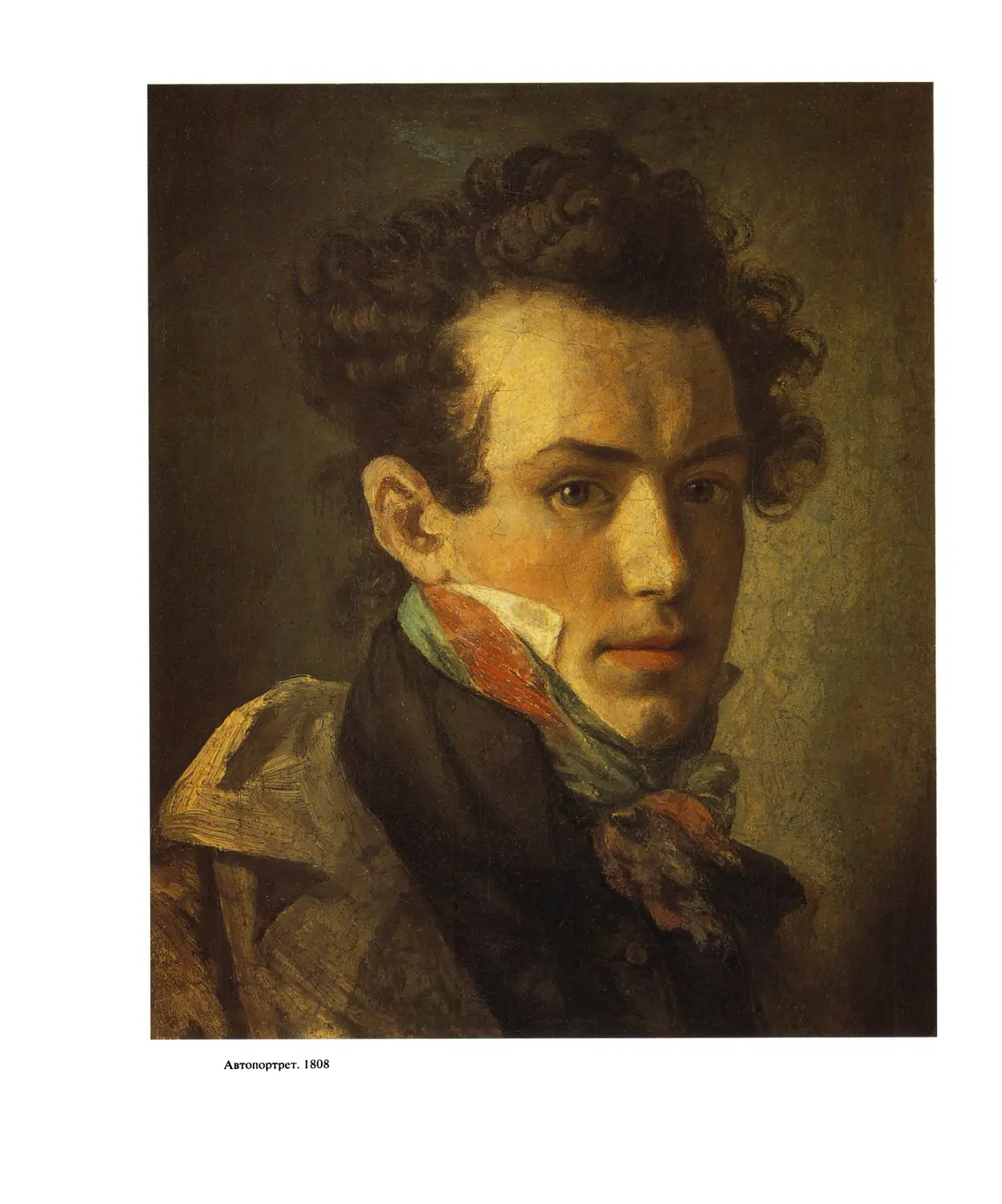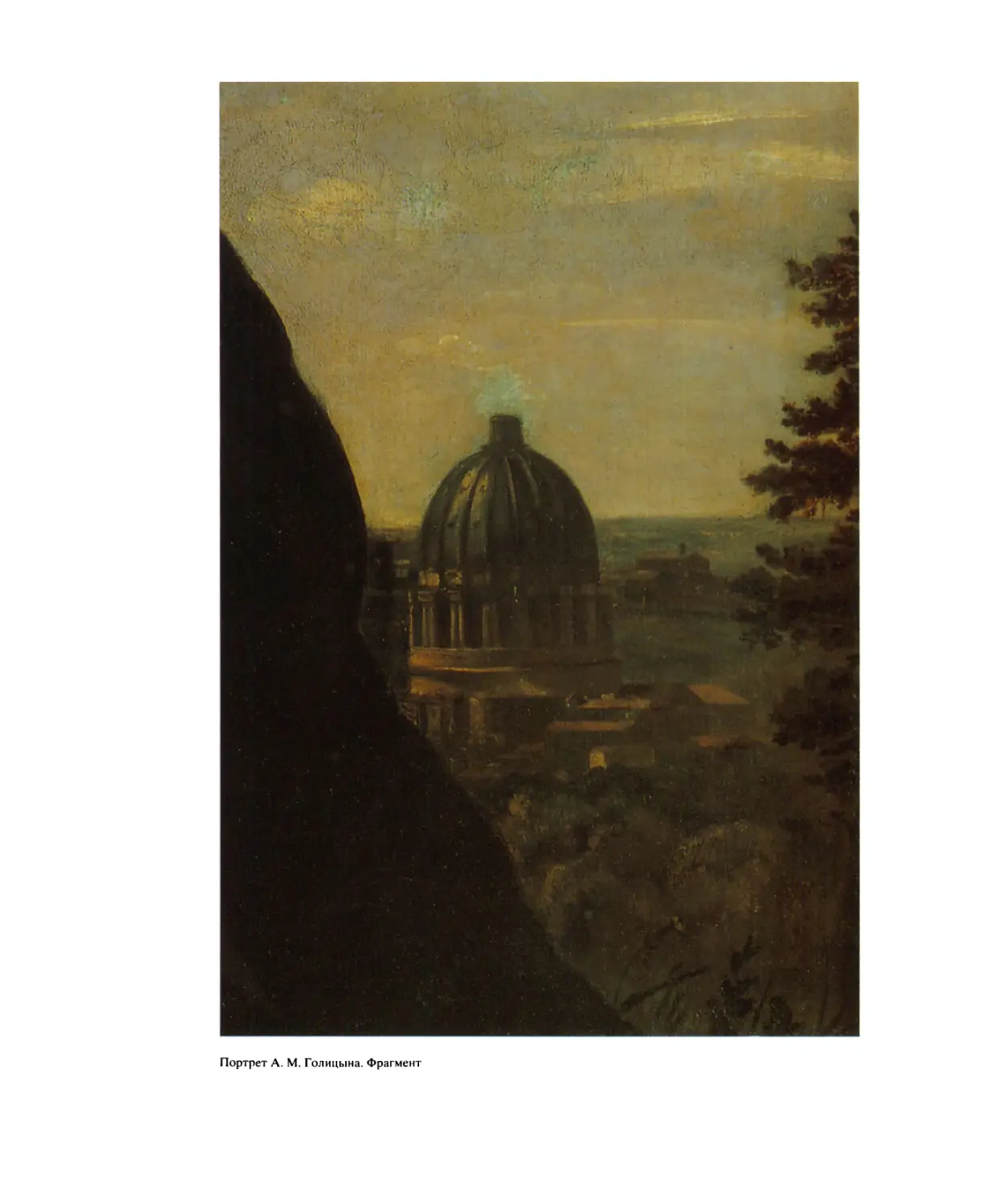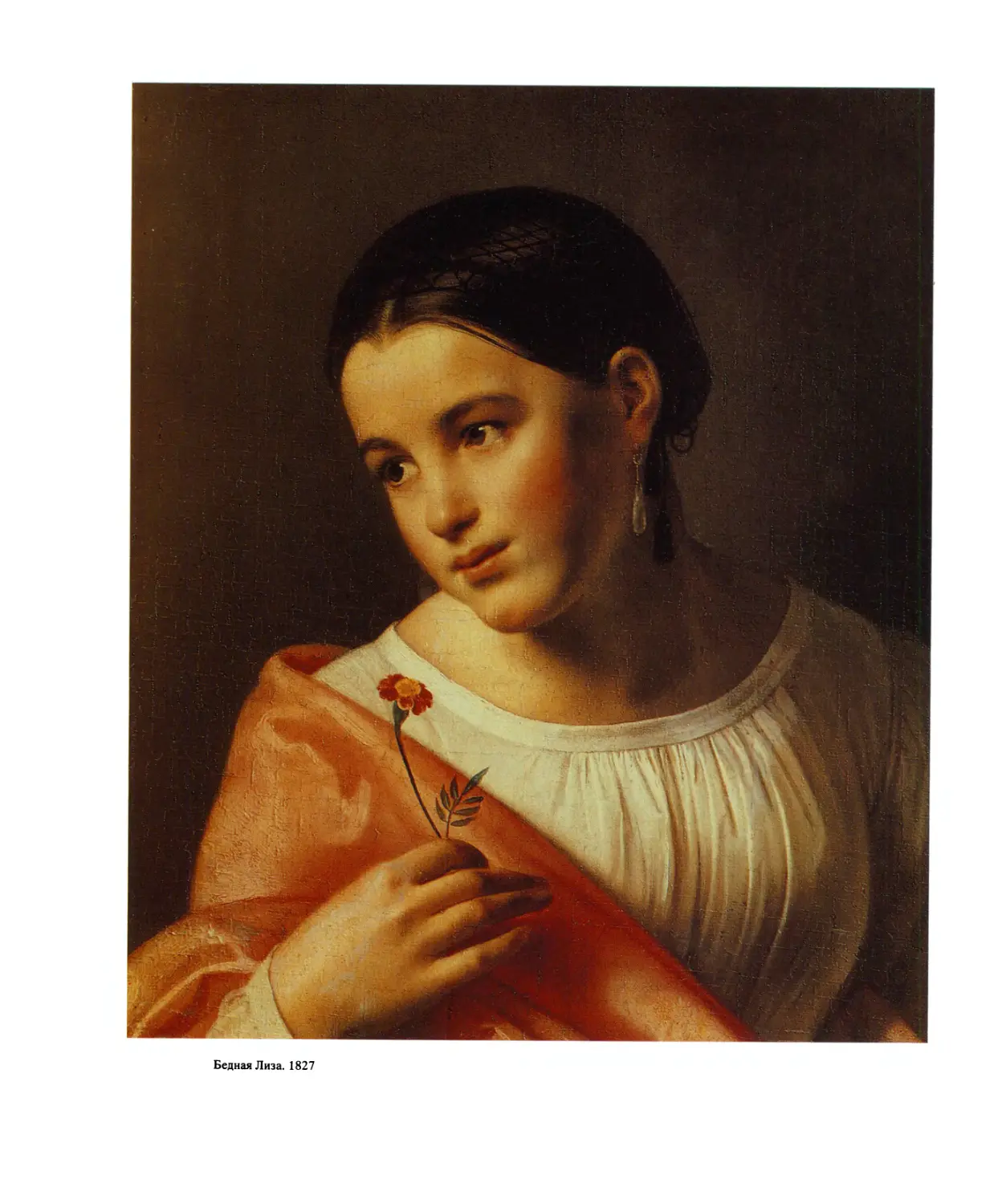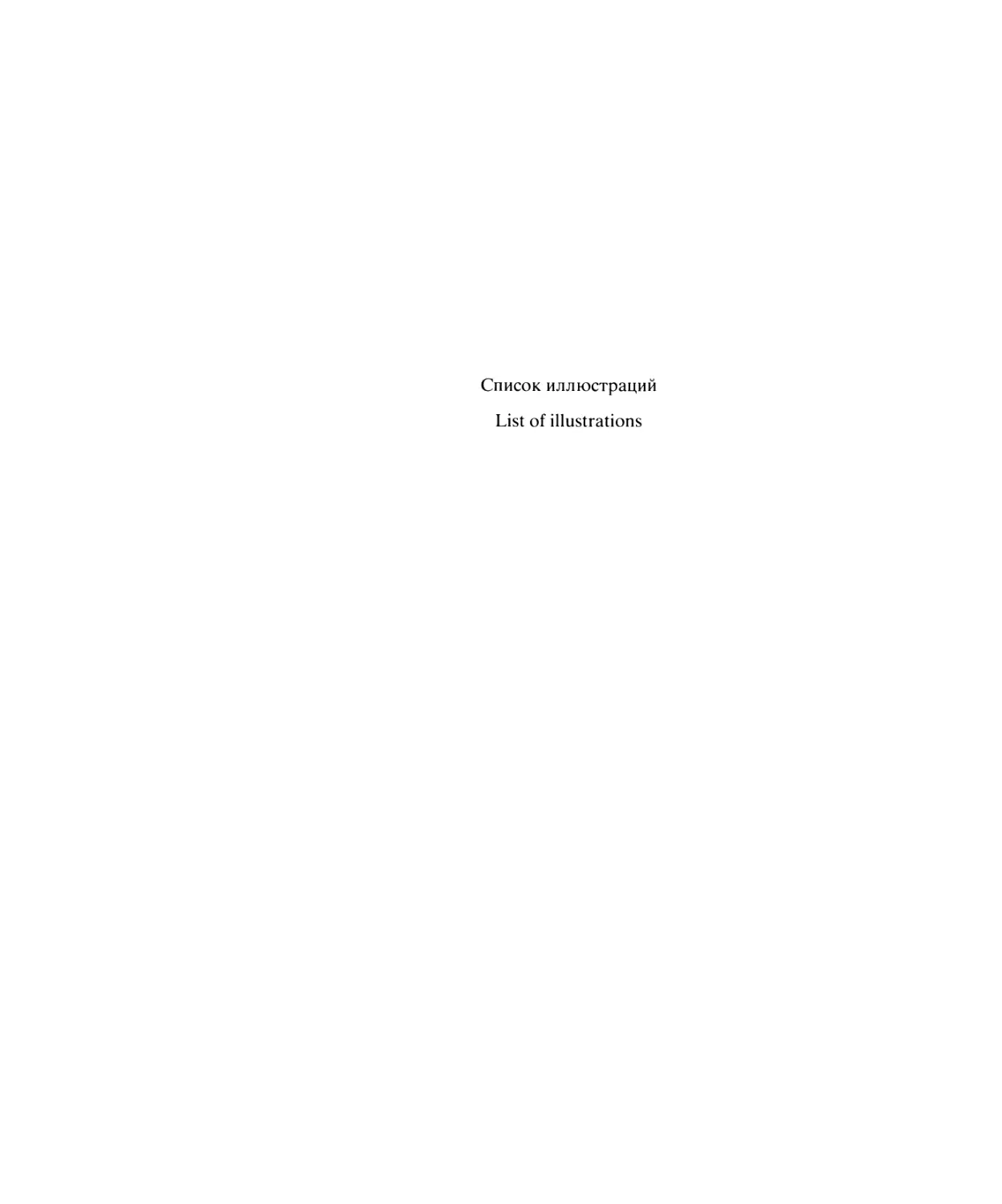Автор: Сарабьянов Д.
Теги: живопись русские художники русские живописцы xix века издательство художник рсфср
Год: 1982
Текст
Зал гуманитарной литературы 1
E-mail -huml@turgenev.ru СРОК ВОЗВРАТА книга должна быть возвращена не позже указанного срока тел. для продления: 8-495-623-11-68
~7fWW\ ^
КИПРЕНСКИЙ
1782—1836
Д. В. САРАБЬЯНОВ
ОРЕСТ АДАМОВИЧ
КИПРЕНСКИЙ
Dmitry Sarabyanov
OREST KIPRENSKY
то/,
ЛЕНИНГРАД „ХУДОЖНИК РСФСР" 1982
САРАБЬЯНОВ Д. В.
ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ. — Л.: Художник РСФСР, 1982. —208 с., ил.
Альбом, посвященный 200-летию со дня рождения известного русского художника О. А. Кипренского (1782—1836), продолжает серию „Русские живописцы XIX века“. Творчество выдающегося мастера, автора таких произведений, как „Портрет А. С. Пушкина14, „Портрет Е. В. Давыдова44, „Портрет Е. С. Авдулиной44, рассматривается на фоне развития отечественного и западноевропейского искусства первой трети XIX века.
4903020000 — 215 С
•; .о | бг
Ml 73(03)—82
138—82
© Издательство „Художник РСФСР44 • 1982
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ О. А. КИПРЕНСКОГО
Два столетия отделяют нас от времени рождения Ореста Адамовича Кипренского. И почти полтора - от времени его смерти. Годы его жизни (1782—1836) сразу же отсылают нашу память к хрестоматийным датам истории русской культуры. Кипренский родился почти в один год с В. А. Жуковским, на пять лет раньше К. Н. Батюшкова; умер на год раньше А. С. Пушкина. Эти три имени рядом с именем Кипренского оказываются не случайно. Дело не только в том, что художнику все трое служили моделями (а Батюшков к тому же не один раз), и иконографию знаменитых русских литераторов начала XIX века нельзя представить без портретов, созданных Кипренским. Важнее то, что все творчество художника было тесно связано с тем движением, которое развернулось в литературе. Кипренского породила литературная среда начала XIX века. Без нее и вне ее немыслимо развитие этого художника. И в этом отношении Кипренский в русской живописи того времени — явление достаточно уникальное. Ему подобен лишь А. О. Орловский. Но Орловский не извлек всех уроков из современного ему литературного движения, как это сделал Кипренский.
На долю Кипренского досталось почти все, что полагалось получить в то время любому другому большому художнику: обучение в Академии художеств, пенсионер- ство в Италии, покровительство высоких лиц. Но ни один из этих других не имел таких крепких корней в литературном течении начала века, как Кипренский.
Достаточно лишь перечислить друзей Кипренского из литературной среды, кружки и салоны, с которыми он был связан, чтобы возникла картина активного взаимодействия творчества живописца с литературным, особенно поэтическим творчеством начала прошлого столетия. Много уже писалось о близости Кипренского с поэтом К. Н. Батюшковым, которого художник не раз портретировал, встречаясь с ним и в России и в Италии. Батюшков, будучи практически одним из немногих художественных критиков того времени, не упускал случая отметить творчество Кипренского, характеризуя его как значительного мастера русской живописи. Дружба Кипренского с Батюшковым, видимо, укрепилась в Приютине, загородном доме
7
A. Н. Оленина под Петербургом. Оленин, ставший вскоре президентом Академии художеств, а тогда — директор Публичной библиотеки, приглашал к себе, кроме художников, Батюшкова, Н. И. Гнедича, В. А. Озерова и других поэтов. Кипренский неоднократно портретировал будущего декабриста Н. М. Муравьева, был знаком с
B. А. Жуковским и А. С. Пушкиным. В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Н. И. Тургенев бывали в мастерской художника в Италии. Многие его знакомые и друзья входили в общество „Арзамас41 (Батюшков, Жуковский, Вяземский, Пушкин, братья Тургеневы, Никита Муравьев), яростно выступавшее против „Беседы любителей русского слова44, где царили А. С. Шишков и Д. И. Хвостов, отстаивавшие консервативные позиции в литературе. Арзамасцы были тогда упоены своим критическим задором; их шутливые обычаи были характерным признаком литературной жизни середины 1810-х годов. Это было время надежд и устремленных в будущее мечтаний. И лишь постепенно в этой литературной среде начинали выдвигаться острополитические проблемы, которые отпугивали одних и становились главной жизненной программой для других.
В большинстве своем все эти литературные кружки, все те писатели, с которыми дружил или хотя бы недолго соприкасался Кипренский, утверждали новые тогда принципы романтического творчества. Они провозгласили примат чувства над разумом, субъективного над объективным, духовного над материальным. Поэты признали невыразимость красоты окружающего мира, о чем писал в своем программном стихотворении „Невыразимое44 Жуковский:
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежностью и легкою свободой Она рассыпала повсюду красоту И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту С усилием поймать удастся вдохновенью. . .
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?. .1
Романтики возвеличили нового героя, неподвластного общественному контролю, скинувшего с себя путы социальной регламентации. Этот герой ищет свободы в бегстве в чужие страны, в уходе из своего общества. Он выступает как носитель конфликтной ситуации, грозящей гибелью.
Новые творческие концепции выявились в то время с наибольшей полнотой в поэзии. Проза как бы остановилась на сентиментализме Карамзина. В первые десятилетия XIX века она не преодолевала этой сентименталистской системы и лишь в 1820-1830-е годы обрела новое романтическое качество. Поэзия быстрее, чем, например, проза или драматургия, могла откликнуться на романтическую потребность
8
века. Лирическое начало, знаменующее усиление личностного подхода, воплотилось прежде всего в поэзии, обладающей способностью в музыке слова, в ритме звуков выражать чувство.
Романтизм в живописи не получил столь мощного развития, как в литературе. Если в поэзии последовательно развивались друг за другом Жуковский, Батюшков, Пушкин и целый ряд других поэтов, передавая накопленный опыт романтического творчества и шаг за шагом обогащая его, то в живописи большая часть того, что было предназначено романтизму 1800—1820-х годов, воплотилось в творчестве одного Кипренского. Правда, в этом романтизме первых трех десятилетий XIX века славу романтического художника Кипренский делил с некоторыми другими — С. Ф. Щедриным, открывшим в Италии новое понимание природы, с А. О. Орловским — этим романтическим „возмутителем14 спокойствия, с А. Г. Варнеком — преуспевавшим, но не очень талантливым портретистом. Действительно, в тот момент, когда романтизм в живописи и графике делал в России первые шаги, Орловский сыграл в его становлении немалую роль. Польский эмигрант, учившийся у себя на родине у французского мастера, он сумел усвоить некоторые творческие установки, которые дали ему возможность блеснуть новшествами в России. Но вся его деятельность на второй родине была своеобразной адаптацией западноевропейского романтизма на русской почве. Рядом с Кипренским Орловский казался более экстравагантным, острым; он преуспевал в салонах и кружках, но ему не хватало глубины и серьезности; он мог пленять, веселить, но не поражать или тем более потрясать.
Щедрин, который развивал пейзажную линию русского романтизма, внес в нее много новых черт. Но пейзаж оказался в русской романтической живописи хотя и важным, но не главным жанром. Кипренский и Щедрин как бы дополняли друг друга; они не конкурировали. Что касается Варнека, то он лишь в глазах академического начальства являлся фигурой, достойной внимания. По прошествии времени его почти забыли. Сейчас он интересен лишь как явление сопутствующее, но не образующее направление.
Таким образом Кипренский оказался в центре нового движения в русской живописи и графике, хотя сам никогда не представлял себя главой школы, руководителем какого-либо направления. Он был далек от мысли, что с него начинается новая страница истории русского изобразительного искусства. Больше того, самого художника постоянно мучили сомнения; он не был уверен в правильности своего пути; ему подчас казалось, что портретный жанр, в котором он всю жизнь работал и который принес ему славу, - не его жанр, что талант его остается нереализованным, а может он реализоваться лишь в историческом жанре. Эти ощущения Кипренского были выражением разных тенденций времени и особенностей личности художника. Здесь проявлялась вся сложность формирования на русской почве нового типа творческой личности романтического времени. Здесь сказывались также и особые черты именно русского романтического движения с присущими ему противоречиями, трудности его становления.
9
Можно сказать, что романтизм в русской живописи - как, впрочем, и в литературе - начинался „до срока“, раньше времени. Россия еще не знала революции, тем более разочарования в ней - того разочарования, которое во многом явилось почвой для возникновения французского романтизма. Больше того, в начале XIX столетия Россия словно собирала свои силы для борьбы с Наполеоном. В этом процессе господствовала идея единства сословий ради будущей победы. Эта идея во многом была причиной того, что русский классицизм — особенно в архитектуре и скульптуре — еще расцветал, и преодолеть его устойчивые нормы и правила было тем более трудно. Между тем еще в конце XVIII века появились признаки разочарования в просветительской философии, в нормативности мышления и поведения, в той глобальной системности, которая была характерна для всего XVIII века и ярко проявилась в разных сферах жизни. Разочарование было философским, эстетическим и, разумеется, политическим, ибо из всех систем, господствовавших в России XVIII века, наиболее уязвимой казалась система общественного устройства. Этому разочарованию суждено было расти и крепнуть — пока оно постепенно не превратилось в чувство протеста. В социально-политической сфере оно вылилось в события 14 декабря 1825 года. В эстетической-одним из его проявлений стал родившийся в самом начале столетия романтизм..
В живописи система академического образования и регулирования художественной жизни, наиболее полно соответствующая образу мышления XVIII столетия, была трудно преодолима. Путь художника во многом был предопределен Академией. Он учился в ней с юных лет, впитывая все приемы и методы академического классицизма; по окончании Академии художник мог на академические средства некоторое время жить за границей; затем он получал звания и должности, от наличия которых во многом зависело его благосостояние, наконец, многие заказы шли через Академию. Не так легко было стать в позицию отрицателя всей этой системы, положившись только на индивидуальные возможности, как это сделал Кипренский, хотя и в его переходе в новое качество романтического художника были, как мы увидим, свои трудности и противоречия.
Романтик должен был сам избрать свой путь, „выбрать себя“. Система, правило, готовая формула-все это не могло явиться его подспорьем. Его позиция должна была неминуемо стать оппозицией. Исходной точкой движения к собственным высоким идеалам должно было стать отрицание. Оно вновь вело к утверждению — но не общепринятого, не господствующей нормы, а своего собственного отношения, личного чувства, даже страсти, индивидуального бытия в обществе. Это бытие могло и не противоречить общепринятым интересам — но оно должно было быть собственным, личным, не продиктованным свыше, не данным человеку от рождения, а найденным, обретенным в сложном развитии ума и сердца, мысли и чувства.
Нельзя сказать, что романтическая тенденция проявилась в русской живописи начала прошлого века столь же последовательно, как это случилось во французском или даже немецком искусстве. Русский романтизм не боролся с классицизмом, а существовал рядом с ним довольно мирно; не разрушал гармонию, а созидал ее, хотя
10
О. Л. Кипренский
Гектор и Андромаха.
она в глазах художника и не была подобной гармонии прежней - классицистической. Русский романтизм не искал бурных проявлений, не знал крайностей самовыражения, столь характерных для французского. С другой стороны, он не испытал того погружения в философскую медитацию, которое испытало искусство немецкое. Поэтому Кипренский как наиболее последовательный выразитель романтической тенденции русской живописи начала века не превратился в такую хрестоматийную фигуру романтического движения, как Т. Жерико или даже Ф. Рунге. Кипренский словно затушевывает крайности романтизма. Но это вовсе не значит, что он как художник уступает другим и оказывается в сравнении с ведущими мастерами европейского романтизма фигурой второстепенной. К тому же романтизм впервые в истории искусства выдвигает такую концепцию, которой трудно подыскать полного выразителя, „стопроцентно11 соответствующего творческой идее. Но так или иначе Кипренский, пожалуй, больше, чем Жерико и Рунге, отступал от того романтического закона, который заключался в нарушении закона, как такового. Может быть, поэтому его романтизм оказался в известной мере сглаженным, но, как следствие этого, - и более гармоническим.
11
Свои первые шаги романтизм в русской живописи делал лишь в одном жанре — в портрете. Вспомним, что французский романтизм с самого начала нашел возможность реализовать себя в историческом жанре, что в английской живописи первые опыты романтизма были связаны не только с портретом, но и с пейзажем (не говоря уже о „мифологическом жанре“, который предрек романтизм еще в конце XVIII столетия). В России же романтический пейзаж ожидал 1820-х годов (С. Ф. Щедрин, а затем М. Н. Воробьев); историческая картина вплоть до 1820—1830-х годов оставалась во власти классицизма. Портрет, наиболее чутко отзывавшийся на те перемены, которые происходили в понимании и толковании человеческой личности, и накопивший самые значительные традиции на протяжении XVIII века, словно „был избран41 романтической концепцией, но некоторое время оставался в одиночестве. Таким образом, романтизм в русской живописи возникал в суженных рамках. Тем более трудно было войти в эту узкую „струю44. Между тем привлекательность романтической портретной концепции была чрезвычайно сильной. Достаточно вспомнить ряд фактов, свидетельствующих об этом. Венецианов еще до того, как он начал свой путь жанриста, развернув в бытовом жанре целую программу раннего поэтического реализма, в самом начале века создавал романтические портреты - пусть немного наивные, но тем не менее не позволяющие сомневаться в романтической сути портретного образа. Мастера академического классицизма — А. Е. Егоров, В. К. Шебуев — также соприкасаются с романтическим портретным образом. Удивителен графический автопортрет с трубкой из альбома Егорова — строгого классициста, образцового классицистического рисовальщика, вдруг обретающего необыкновенную свободу рисунка, остроту светотени и способность передать взволнованное состояние модели. Интересен „игровой44 автопортрет с гадалкой Шебуева, столь непохожий на большие религиозные композиции мастера. Как видим, к романтической портретной концепции прикоснулись художники разных направлений. Она, действительно, была притягательна. Однако никто из перечисленных художников не стал „профессиональным44 портретистом. У них были другие задачи, и романтизм их оказался кратковременным или случайным. Всю энергию романтического портрета сосредоточил в себе Кипренский.
Жизнь Кипренского, его судьба2 стала типичной судьбой романтического художника. Можно даже сказать, что она более романтична, чем его искусство. Сама жизнь представлялась в глазах людей того времени неким творчеством. Непосредственное, спонтанное выражение собственной жизни в искусстве казалось главным стержнем художественной деятельности. Не изготовление произведений по каким-то заранее установленным законам, а постоянное пребывание собственной жизнью в собственном творчестве — такова была экзистенциальная программа большинства романтиков.
Биографы Кипренского часто обращали внимание на то, что жизнь его стала своеобразной легендой, мифом, что трудно отличить в этой легенде истинные факты биографии от тех фантастических наслоений, которыми обросла легендарная фигура
12
О. А. Кипренский
Выведение апостола Петра из темницы.
Лист из альбома. 1807(?)
художника. Некоторые считают даже, что он сам поощрял эту „мифологизацию“ собственной личности. И уж, во всяком случае, судьба Кипренского неоднократно способствовала этому.
Многие загадки связаны с самим рождением художника. Он появился на свет в 1782 году как незаконный сын помещика Дьяконова и был усыновлен Адамом Швальбе. Фамилия его случайна, она не связана с фамилиями ни реального отца, ни официального. О ее происхождении тоже шли споры. Случилось так, что уже в самом звучании имени, отчества и фамилии художника заключено нечто артистичное, необычное, непохожее на обыкновенные русские имена и фамилии. Между тем это сочетание оказалось, разумеется, не по воле тех, кто его составил, некоей мистификацией. Время рождения художника было намеренно спутано, дабы согласовать его со временем женитьбы Швальбе3. Показательно, что в поздние свои годы Кипренский как бы забыл о своей родне: тогда еще была жива сводная сестра художника, тем не менее Кипренский говорил, что никаких родственников не имеет4.
13
Но так или иначе, уже с детских лет судьба Кипренского должна была войти в более или менее обычное русло: Дьяконов определил шестилетнего мальчика в Академию художеств. Он прошел Воспитательное училище, а затем поступил в высшие классы, а вскоре — в 1803 году — благополучно закончил Академию по историческому классу, правда, без большой золотой медали, дававшей право на заграничную командировку.
Из фактов жизни художника в эти академические годы особенно примечателен один. Во время очередного парада семнадцатилетний художник бросился в ноги императору Павлу I, прося его о переводе из Академии художеств на военную службу. Скандал кончился выговором. Непослушный юноша, мечтавший о шпаге, которой он мог бы покрасоваться перед любимой девушкой, продолжал учиться в Академии. В биографиях художников XVIII века мы не встретим таких фактов. Дело не только в том, что нужна была особая смелость, порывистость для совершения этого поступка, какими не обладал, пожалуй, ни один из предшественников Кипренского. Скорее дело в том, что в художнике XVIII столетия еще не завершился полностью процесс самоосознания личности, еще не появилось потребности самому строить свою судьбу, какая возникла у Кипренского.
Академические годы выдвигают одну из серьезных загадок в творческой судьбе Кипренского. Каким образом родился в нем портретист — притом сразу же такого высокого класса?5 Дошедшие до нашего времени работы художника академического периода не дают ответа на этот вопрос. Ранние академические рисунки художника, изображающие традиционных натурщиков, сцены жертвоприношения, трактующие обычные для Академии сюжеты из античной мифологии, свидетельствуют о достаточно высоком профессионализме молодого художника, о некоторой реминисценции барочной живописности в классицистической системе рубежа столетий и об известном влиянии французского мастера Г.-Ф. Дуайена, учившего Кипренского в Академии. Главным руководителем Кипренского был Г. И. Угрюмое — типичный классицист, исторический живописец par excellence, воспитавший таких столпов академизма, как А. Е. Егоров и В. К. Шебуев - счастливых соучеников Кипренского, отправившихся уже в 1803 году в Италию. То, чему научил Угрюмов Кипренского, известно нам по картине 1805 года „Дмитрий Донской на Куликовом поле“. Эта картина, наконец, принесшая художнику большую золотую медаль и открывшая перед ним возможность заграничного путешествия, не состоявшегося, однако, из-за напряженной политической обстановки в Европе, не хуже картин Егорова и Шебуева, но и не лучше их. Вряд ли мы угадаем в иконописном лике Дмитрия, вознесшего к небу руки, или в театрализованных жестах других персонажей живую и проникновенную кисть автора ранних автопортретов или портрета Швальбе. А ведь портрет Швальбе появился на год раньше программной исторической композиции. Он экспонировался на академической выставке 1804 года вместе с еще двумя портретными произведениями художника, до нас не дошедшими. Эти работы, дойди они до нашего времени, возможно, прояснили бы хотя бы малую часть этой загадки. Но пока мы не имеем на нее ответа. Мы можем лишь строить предположения. Видимо, талант человекове¬
14
дения у Кипренского был так велик, что он, помимо школы, поднялся до таких высот, до которых его не могла поднять историческая живопись, остававшаяся во власти строгого регламента.
Тот скачок, который совершил Кипренский в 1804 году, был типичен для его художнической судьбы, для его творческой биографии. Это был результат озарения, а не обучения, таланта, а не усердия. И пусть он останется загадкой в загадочной биографии Кипренского!
В академические годы сложилась одна творческая особенность художника, которая всю жизнь делала его „несчастливым44. Речь идет о его представлении о себе как о несостоявшемся историческом живописце. С самого начала скажем, что у нас нет никаких оснований становиться на позицию самого художника и его точку зрения уподоблять научно-объективной6. В такой точке зрения Кипренского могли сказываться разные обстоятельства. Во-первых, не забудем, что художник кончал Академию по историческому классу и не добился на этом поприще превосходства над своими соучениками. Это обстоятельство, быть может, в течение всей жизни „подогревало44 честолюбивые помыслы художника. Помимо того, сама природа Кипренского и его судьба словно требовали от него того, что делало бы его несчастливым. Это было его „несчастье44, печать его судьбы, а вместе с тем плод его болезненной фантазии.
Романтическое время установило своеобразный культ несчастливых людей. Печать несчастья была как бы знаком отличия, приметой высокого духовного бытия личности. Показательна в этом отношении фигура К. Н. Батюшкова, скоторым часто исследователи творчества Кипренского сравнивают художника7. Русского поэта особенно привлекали образы „несчастливца“-слепца Гомера, „несчастливца44 Тасса, а сам поэт однажды сформулировал сущность „несчастливства44 таким образом: „Великое дарование и великое несчастие почти одно и то же“8.
На Кипренском тоже лежит как бы печать „несчастливства44. Несчастья сопровождают его всю жизнь. Завоевав в течение первого десятилетия своего портретного творчества признание в литературных и художественных кругах, он, однако, не может считать, что жизнь его сложилась удачно, что будущее его обеспечено. Несмотря на те счастливые часы и дни, которые он пережил перед моделями своих портретов, это счастье не компенсирует той неуверенности, какую испытывает художник. Когда он попадает за границу и живет там с 1816 по 1823 год, его судьба и здесь складывается неудачно. Неуживчивый и гордый, он портит отношения с русскими чиновниками, находящимися в Италии. Загадочная смерть натурщицы, которую, видимо, убил слуга Кипренского, возбуждает слухи о преступлении, будто бы содеянном самим мастером. Попытки соревноваться с французскими художниками на выставке Парижского салона 1822 года кончаются неудачей9. Возвращение на родину ничего доброго не обещает. И действительно, Петербург встретил художника немилостиво. Его отчетная выставка состояла из немногих вещей, так как другие задержались в пути, что незамедлительно привело к новым разговорам о лентяйстве Кипренского. Петер¬
15
бургский период (1823—1828) стал еще короче, чем первый итальянский. Художника тяготила обстановка северной столицы, переживавшей тогда одно из самых значительных потрясений в русской истории XIX века. Кипренский был далек от декабристского движения, но тем не менее многие участники литературных кружков, с которыми так или иначе художник был связан, оказались под арестом и в ссылке, а многим угрожали репрессии. Кипренский униженно искал покровителей. Наконец, он почувствовал необходимость снова уехать в Италию, что и сделал в 1828 году, где уж оставался до своей смерти в течение восьми лет. В последние годы художник совершил еще один „загадочный" поступок — он женился на Мариучче, которую еще девочкой опекал в первые свои итальянские годы. Теперь старая привязанность привела не только к свадьбе, но и к переходу Кипренского в католичество, без чего он не мог оформить свои отношения с Мариуччей. Художник мечтал в последние годы вернуться на родину, но этим мечтам не суждено было осуществиться. Само его бытие между родной страной и Италией было еще одним „несчастьем" Кипренского, мучившим его в течение почти всей жизни. Умер Кипренский почти забытый всеми. Так умирали многие художники-романтики - на чужбине, вдали от света, в полном забвении, в сумасшедшем доме или где-нибудь на чердаке в провинции.
Разумеется, несчастливый Кипренский знал и счастье. Иногда к нему приходил успех; он испытал радость творческого порыва, любви, дружбы, веселья. Но хмельное счастье лишь оттеняло несчастье, продиктованное судьбой, как это было и со многими поэтами и художниками того времени. Трудная судьба была словно предназначена для такого человека, как Кипренский. Его характер был сложен из контрастов; его душа была неспокойной и мятущейся. Это был новый тип человека-творца, рожденный романтическим временем и полностью адекватный ему. Тютчев писал о поэте:
Ты зрел его в кругу большого света - То своенравно-весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт. . .10
Такими были Кипренский, Жуковский, Батюшков, наконец, Пушкин, жизнь которых была почти столь же яркой страницей человеческой истории, как и их творчество.
Изучая Кипренского, важно, однако, не только постичь тот человеческий тип, к которому он принадлежал. Важно понять особенности его поколения. Это — поколение надежды, поколение мечты. Сознательная жизнь Кипренского начиналась как раз в то время, когда новое столетие несло с собой новые надежды - на социальное переустройство, на будущую свободу, звезда которой забрезжила вдали, хотя вскоре и закатилась, на творческую радость. Многое оказалось несбыточным. Надежда стала мечтой. Беспочвенность мечты в конце концов обернулась разочарованием. Батюшков восклицал в одном из своих стихотворений:
Мечты! - повсюду вы меня сопровождали И мрачный жизни путь цветами устилали!11
16
О. А. Кипренский
Портрет А. К. Швальбе. 1804. Фрагмент
О. Л. Кипренский
Портрет Л. К. Швальбе. Фрагмент
Мечта и надежда способны были реализовать себя прежде всего в сфере чувств. Культ сердца, чувства, мечты, надежды, памяти - вот что характеризует духовную жизнь людей того времени. Знаменательны строчки из стихотворения того же Батюшкова:
О, память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной. . .12
Ту же идею высказывает в своих „Мыслях по живописи“ друг Кипренского
А. Р. Томилов: „В отношении [. . .] изящных художеств Чувство, часто вернее и [. . .] всегда естественнее руководствует нами [. . .] нежели рассудок. Чувство есть побуждение или прямое последствие от слияния с душою, сею пружиною бытия нашего [. . .] того или тех [. . .] из пяти чувств наших [. . .], которые в предлежащем предмете имеют участие, а рассудок хоть и почерпает основы суждения своего [. . . ] из тех же чувств, но постигает их [. . .] памятью [. . .], которая прохлаждает уже впечатления, подвергая же потом расчету прохлаждает их еще более, т.е. теряет ежели [. . .] не сильные, но живые оттенки природы1113.
Этот примат сферы чувств над сферой разума делал разочарование еще более трагичным и безысходным. Оно преследовало многих — Кипренского, то бежавшего с родной земли, то возвращавшегося обратно; Батюшкова, разочарованного до безумия, даже гармоничного Пушкина и самонадеянного Брюллова, уж не говоря о людях более поздних поколений — Гоголе или Лермонтове.
Разочарование становилось знаком избранности, привилегией гения, переносилось в чисто духовную сферу, хотя коренилось в условиях социальной жизни России, не способной решить свои больные проблемы. Кипренский принадлежал к „поколению разочарованных11. Тем острее он чувствовал красоту мира, тем сильнее он мог возноситься мечтой, возбуждать в себе веру и проклинать все, что мешает человеческому счастью. В том соотношении реального и идеального, на основании которого строится обычно художественный образ, Кипренский отдавал предпочтение идеальному. Сказанное вовсе не означает, что художник пренебрегал реалистической основой всякого искусства. Речь идет о том, что он руководствовался неким идеальным представлением о человеке. Этот человек был реальным и идеальным в одно и то же время. Его конкретная неповторимость не только не противоречила идеалу художника, но, напротив, и предопределялась им. Ибо в идеале Кипренского человек был неповторим, способен на выявление своих индивидуальных чувств, своего внутреннего облика в столь же неповторимой индивидуальной внешности, в поведении души, лица и тела одновременно. Идеал художника сам по себе рожден был временем, эпохой, новым представлением о творческих возможностях личности, самосознанием личности, процесс которого проходил на протяжении всего XVIII века, но достиг своего завершения именно во времена Кипренского и Пушкина. Собственными душевными свойствами и возможностями Кипренский подчас наделял своих героев. И это не была „высокая ложь11 художественного образа, это была великая его правда перед лицом высокой природы человека.
19
Все, что мы говорили выше о судьбе Кипренского, о его человеческих свойствах, о чертах его поколения, так или иначе воплотилось в тех образах, которые он создал, — воплотилось в преображенном виде, в виде некоего знака личности и эпохи, что в конечном счете едино, ибо, как известно, эпоху делают личности, а личность принадлежит эпохе.
Не будем вновь касаться ранних академических рисунков и программной картины Кипренского. Обратимся сразу к его портретам — и прежде всего к портрету А. К. Швальбе (1804), которым начинается самостоятельное творчество художника и открывается его эволюция, приведшая вскоре к шедеврам портретной живописи.
Глядя на портрет Швальбе, зритель затруднится определить социальную принадлежность модели. Недавний крепостной, приказчик своего помещика, постоянно живущий в деревне, Швальбе вовсе не производит впечатление подневольного человека. Кипренский не интересуется вопросом о том, какое место занимает его модель в государственной и общественной системе. Художника увлекает внутренний мир модели, ее душевные и интеллектуальные возможности, способность чувствовать, выражать свое внутреннее состояние. Напряжение воли, доходящее до драматизма, - также тема портрета Швальбе. Кипренский проявляет способность запечатлевать характерные для каждого лица признаки его внутренней жизни. Эта способность будет постоянно сопутствовать портретному творчеству художника. В портрете Швальбе особенно выразительны глаза старого человека. Они словно мечут молнии, энергично движутся и неожиданно застывают на месте. Глаза концентрируют в себе состояние; они объясняют и резкие морщины лица, и властно сжатую в кулак руку, держащую трость, как царский скипетр, и широкий разлет плеч, одетых в меховую шубу. Жизнь лица в конкретном мгновении никогда не была столь явной задачей портретиста прежде. В лице могла выражаться тайна (как у Ф. С. Рокотова), чувствительность (как у В. Л. Боровиковского), душевная гармония (как в женских портретах Д. Г. Левицкого). Но ни у кого эта жизнь лица не достигала такой активности, непосредственной конкретности и временной определенности. Может быть, и в творчестве самого Кипренского портрет этот является исключительным и занимает особое место.
Непосредственная душевная жизнь модели могла получить пластическую реализацию именно в том живописно-композиционном строе, который был найден мастером. Кипренский разрушает строгую систему классификации портрета, господствовавшую в XVIII веке, когда парадный, полупарадный или камерный портрет обязательно требовал вполне определенного формального, предметного и пространственно-композиционного решения. В портрете Швальбе есть отголоски парадности — строго фасовое, прямоличное изображение фигуры и головы, некая торжественность позы. Но парадность нарушена тем, что портрет погрудный, изображена лишь одна рука, нет никаких атрибутов и аксессуаров. Это смешение жанров было характерной чертой романтического движения.
Рама картины не обрамляет фигуру и голову, а выхватывает ее из окружающего пространства, которое кажется по-барочному бесконечным. Из этой пространствен¬
20
ной бесконечности словно самоутверждается объем фигуры и головы, стремясь преодолеть пространственную аморфность и обрести свое местобытие. Эта борьба соответствует тому драматическому напряжению, которое найдено художником.в самой модели. Живописный мазок, смешанные желто-коричневые краски, то вспыхивающие от самоизлучающегося света, то погружающиеся в тень, создают впечатление постоянного движения, бытия образа.
Во всем этом была новизна, которую, наверное, не все сразу распознали и почувствовали. Через голову XVIII столетия художник подавал руку Рубенсу, Рембрандту и Ван-Дейку — голландским и фламандским мастерам XVII века — этого „предромантического11 века в истории мировой живописи14. Позже Кипренский с гордостью сообщал о том, что во время устройства выставки в Неаполе в 1830 году портрет Швальбе некоторыми довольно компетентными итальянцами был принят за работу старого мастера. Ориентация на конец XVI—XVII век была характерна для романтизма. В литературе было воскрешено имя Шекспира, который в полном смысле этого слова совершил победное шествие по театрам Европы; в живописи особенно почитали Рембрандта - его мощный психологизм, могучую светотень, которая в представлении живописца-романтика становилась одним из важнейших средств выразительности, драматическую глубину живописи. Русские романтики — в частности Кипренский и Орловский - также были затронуты этой волной рембрандтовского возрождения.
Кипренский, как мы увидим ниже, высоко чтил и другого величайшего художника в истории мировой живописи - Рафаэля. Интересно и, казалось бы, противоречиво это обращение к столь различным фигурам. Между тем оно тоже закономерно для романтизма. Романтики создали своеобразный культ Рафаэля. Они открыли в нем не того основоположника классического живописного канона, которого видели в великом итальянце все академии мира, а свободного артиста, ценителя красоты, художническую личность, освободившую себя от оков социальной условности. Но для Кипренского Рафаэль, как и Леонардо, оказался главным объектом внимания позже - в период первого пребывания в Италии.
Итак, „Швальбе14 открыл новую страницу в истории русского живописного портрета. Его появление предопределило путь художника. Правда, середина 1800-х годов не была в творческой биографии мастера „портретной11. Как мы уже знаем, он был занят программной картиной, сочинял аллегорические и мифологические композиции, делал зарисовки окружающих предметов, сельских сцен. Сюжетный разворот альбомных рисунков чрезвычайно широк15. Художник запечатлевает сельский ландшафт - речки, ручьи, деревянные мостики над ними, деревья, холмы, избы, стоящие вдали или поблизости; иногда он останавливает свое внимание на деталях пейзажа, на каких-то мелочах, зарисовывая птиц, сидящих на жердочке, лошадей у конюшни, орудия сельскохозяйственного труда. Большинство рисунков посвящено сюжетам из Евангелия или античной мифологии, при этом евангельская иконография охватывается довольно широко. Среди набросков много аллегорических
21
Ж.-Л. Монье
Портрет
С. В. Строгановой.
ISOS
композиций, имеются перерисовки произведений классического искусства („Тайной вечери” Леонардо да Винчи, композиций Н. Пуссена). Все эти рисунки свидетельствуют о широком круге интересов молодого художника. Видимо, в это время его сильно возбуждает идея активного участия в развитии исторической живописи. Он еще „не остыл” от тех опытов, которые делались в Академии, хотя рисунки и свидетельствуют о том, что многие академические каноны художник стремился преодолеть. Он словно готовится к прыжку, чтобы окунуться в портретную стихию.
В 1808 году сразу появляется довольно много живописных портретов. Некоторые знаменуют известную паузу после того скачка, который был сделан в портрете Швальбе. Кипренский словно возвращается на какое-то время назад, вспоминая традиции портретного искусства недавнего прошлого и желая тем самым „навести мосты” между собственными опытами и опытом своих предшественников. Показательны в этом отношении портреты П. Н. и А. В. Щербатовых, И. В. Кусова, А. Р. Томилова, Е. П. Корсакова (все 1808 г.).
Портреты Щербатовых — парные. Тип парного портрета был широко распространен в живописи XVIII столетия. Им охотно пользовались Антропов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Он предусматривал определенные правила, будучи проявлением строгой системы регламентации, столь характерной для того времени. В портретах Щербатовых Кипренский в общем эти правила соблюдает, создавая в живописно-композиционном отношении два подобных друг другу произведения. Однако он несколько нарушает „регламент” тем, что поворачивает обе фигуры в одну и ту же сторону, тогда как в подобных парных портретах обычно противоположные повороты уравновешивают друг друга16.
В целом портреты Щербатовых достаточно традиционны. Они хорошо „устроены”. Фигуры, позирующие перед зрителем, ведут себя „надлежащим образом”. Их глаза смотрят в глаза зрителя. Но того непосредственного общения с ним, какое чувствуется обычно в портретных моделях Кипренского, здесь нет. Мужской портрет более характерен: здесь больше жизни в лице, в поджатых губах, в глазах, выражающих смешанное чувство гордости и горечи; в фигуре как бы намечено движение. Женский портрет более статичен. Он кажется выполненным по каким-то
О. Л. Кипренский
Портрет
.3. Н. Щероатовои. ISOS
образцам. Возможно, таким образцом является портрет С. В. Строгановой, созданный в 1808 году французским живописцем Ж.-Jl. Монье, работавшим тогда в России и даже преподававшим в Академии художеств. Оба эти портрета расположением фигуры на картинном поле, поворотом головы и корпуса (хоть и в разные стороны), композиционным решением, обращенностью к зрителю напоминают друг друга. Монье можно характеризовать не как художника высокого класса, а как мастера „прочного стандарта1'. Поэтому и сравнение с ним Кипренского вряд ли в данном случае приносит последнему какую-то пользу.
В портрете И. В. Кусова есть элементы репрезентативности. Почтенный мужчина преклонных лет сидит в кресле: он при орденах, а в руке держит книгу. Аксессуары хотя и скромны, но тем не менее объясняют круг интересов и знаки отличия этого „коммерции советника", одного из видных торговых деятелей России того времени.
23
К подобным же аксессуарам прибегает Кипренский и в портрете Е. П. Корсакова, держащего в руке чертеж Горного корпуса, или А. Р. Томилова, как бы демонстрирующего зрителю камею или миниатюру, которая позволяет угадать в этом человеке любителя искусств, собирателя.
Наиболее интересен среди перечисленных произведений портрет Томилова. Разумеется, немалую роль сыграла здесь дружба Кипренского с этим незаурядным человеком. Член Общества поощрения художников, он и действительно был меценатом, своеобразным теоретиком искусства, другом многих художников и писателей. В имении Томилова Успенское находили себе приют талантливые живописцы и рисовальщики, не раз изображавшие гостеприимного хозяина.
В портрете Томилова жест правой руки, демонстрирующей предмет интересов модели, не играет определяющей роли. Томилов как бы отстранен от настоящего момента; в жесте есть что-то автоматическое, не связанное с внутренним бытием человека. Томилов смотрит и на зрителя, и мимо него - в никуда. Вернее — это взгляд внутрь, который будет отличать модели многих лучших портретов Кипренского.
В какой-то мере перечисленные произведения 1808 года прерывают линию портрета Швальбе. Но тут же она восстанавливается автопортретом с кистями за ухом, написанным, видимо, около 1808 года, возможно, в том же Успенском. В нем вновь преодолевается традиция XVIII века, вновь разрушаются все преграды, стоящие между моделью и художником.
Автопортрет с кистями, возможно, первый в ряду автопортретов Кипренского17. Его программность определена самим мотивом: художник за работой, художник в момент творческого озарения, в момент снисхождения гения на его душу. Но творческий порыв художника сдержан. Он входит в этот мир не для того, чтобы его покорить, чтобы вступить с ним в острый конфликт; он всматривается в окружающее, останавливается перед лицом мира, очарованный и озадаченный одновременно. В автопортрете художник постигает человека через свой собственный опыт, ибо у него появляется возможность понять себя самого как одного из истинных представителей человеческого рода.
В этом отношении перед автопортретом открываются совершенно новые перспективы и возможности. В русской живописи и графике XVIII столетия (особенно, если не учитывать последние два десятилетия) автопортрет как вид портрета не получил сколь-нибудь последовательного воплощения. Человек в это время выступает как носитель общего — типологического и как бы внеположенного по отношению к художнику. Это касается не только рядовых портретистов, но и Рокотова, Левицкого, Боровиковского. В творчестве последнего наиболее наглядно выступает внеиндиви- дуальное чувство, которым живут персонажи. Левицкий соединяет общее и конкретное. Общее выступает и в приверженности к традиционным типам портрета, всегда находящим в Левицком интерпретатора постоянно действующих типовых категорий, и в представлении о человеке как носителе типовых темпераментов, человеческих качеств, типичных судеб. В отличие от мастеров „зрелого11 XIX века
24
Левицкий от общего восходит к индивидуальному, а не через индивидуальное провидит общее. Рокотов, несмотря на свои предромантические потенции, тоже остается в рамках русского XVIII века. Необычное для того времени чувство личности в его портретах не ищет себе реализации в выражении индивидуального начала. Личность как бы не осознается в индивидуальности. Наверное, поэтому портрет не ищет автопортрета, смысл которого мог бы выявиться в индивидуализированном преломлении личности. Автопортрет предпочитает ситуации, когда личность и индивидуальность сливаются, выступая как две стороны одной медали. Высшим выражением такой ситуации в мировой истории искусства является Рембрандт, а на русской почве — Кипренский. В этих случаях высокое представление о личности преломляется сквозь индивидуальный мир, духовный опыт художника, и этот опыт предстает в авто- портретном образе.
Кроме того, в XVIII веке процесс самоосознания человеческой личности был еще весьма далек от завершения. Во многом также этим объясняется отсутствие автопортрета в живописи XVIII столетия. Понимание личностью своей самоценности только начинало приходить на рубеже XVIII—XIX столетий. Тем более это касалось художника, который в представлении людей более раннего времени был прежде всего ремесленником; в этих условиях ему не приходило в голову изображать себя самого.
Романтическое время коренным образом изменило ситуацию. Количество автопортретов, выполненных в начале XIX века, становится „рекордным'1. Кипренский, Орловский, Варнек, Брюллов, Тропинин, Венецианов, даже Щедрин, никогда не бравшийся за портрет в силу своей „пейзажной специальности", — все они писали и рисовали автопортреты. Кипренский среди этих художников, пожалуй, наиболее последовательно воплотил автопортретную проблематику романтизма.
Итак, в автопортрете с кистями художник дает образ современного ему человека, исполненного благородства и чувства достоинства, обладающего немалым запасом душевной энергии, открытого миру, вверяющего себя этому миру, окруженного живой, пульсирующей средой, затаившего внутренний конфликт, еще скрытый в период эмоционального пробуждения, но способный вскоре обнаружиться — как только человек „оглядится" вокруг, начнет искать свое место в жизни и, наконец, разорвет привычные связи с обществом и окажется в оппозиции к нему. Последняя часть этой программы романтического героя скорее заключена в проекте, чем в реальности. Но тенденция намечена вполне определенно, и потому романтическая сущность образа не вызывает сомнений.
В самом изображении художник не акцентирует безудержную энергию. Он даже в известной мере распыляет ее разнонаправленностью движения корпуса, головы и взгляда. Глаза модели смотрят почти в том направлении, которому соответствует поворот корпуса. Но все же они слегка скошены в сторону. Таким приемом художник намечает движение вокруг головы и корпуса, сдерживая движение от фигуры к зрителю. В трактовке светотени борются два начала: с одной стороны, объем достаточно решительно выступает из тьмы; с другой —в каких-то местах он „вязнет" в фоне,
25
О. Л. Кипренским
I lopmpcni Л. Г. I O.UU.lOlUI. ISOS. Фрагмент
сливается с ним до того, что невозможно распознать границу между фигурой и пространством. В известной мере это противоречие создает впечатление живой жизни, разворачивающейся на глазах зрителя, непосредственного бытования объема в пространстве, тела в окружающей среде. В этом отношении автопортрет Кипренского представляет собой произведение новаторское сравнительно с портретными полотнами XVIII века. Если согласиться с общепринятой точкой зрения, в соответствии с которой наиболее последовательно русский XVIII век представляет Левицкий, сравнение романтической концепции портрета (Кипренский) с классицистической (Левицкий) в аспекте пластического истолкования формы окажется особенно поучительным. У Левицкого почти всегда „работает" контур. Он отделяет фигуру от фона. Внутри этот контур наполнен объемом. Кипренский часто контур „топит" в тенях. Если же контур оказывается выявленным, то чаще всего он не наполняется телом, становясь хоть в малой мере бесплотным. Разумеется, ни в том, ни в другом случае перед нами нет последовательной реализации программы. Левицкий иногда (например, в „Портрете священника") отклоняется от традиционной для себя системы соотношения объема с пространством. Не говоря уже о Рокотове, который в лучших своих вещах решает эту проблему проторомантически. С другой стороны, Кипренский, особенно в поздних работах проявляет возвратные класси- цизирующие тенденции. Речь в данном случае должна идти не о чистом выражении какой-либо стилевой концепции, а о тяготении к ней. Делая эту оговорку, в общем и целом можно сформулировать проблему следующим образом. Если в XVIII веке в портрете фигура изображалась на фоне, то у Кипренского она изображается в среде. Автопортрет с кистями наилучшим образом раскрывает это новое качество. Левицкий, например, в портрете Демидова фон конструирует, фигуру „обставляет" предметами. Эти предметы оказываются вокруг фигуры или за ней. У Кипренского фигура живет в среде — так же, как в ней живет и любой предмет. Но в более поздних портретах - например, в портрете С. С. Уварова (1816) - их становится больше, особенно в тех случаях, когда портрет приобретает некую априорную программность. В раннем же творчестве, основанном на более непосредственно-спонтанном восприятии мира, художник избегает предметного окружения. К тому же он полагает, что предметы помешают выразительности лица.
Другое сравнение, которое естественно сделать, — ранних автопортретов Кипренского и портретов или автопортретов европейских художников первых двух десятилетий XIX века — особенно немецких и французских18. Ф. Жерар, Л. Жироде, Ж.-О. Энгр, Т. Жерико, Ф.-О. Рунге — вот художники, рядом с которыми интересно поставить Кипренского.
Портрет Э. Делакруа, созданный Жерико около 1818 года, близок автопортрету с кистями самим характером живописно-композиционного решения. Жерико дает почти такой же погрудный срез фигуры, те же масштабные соотношения головы и окружающего пространства, использует тот же принцип светотеневого построения, решительно сопоставляя высветленные и затененные места. Но динамика свето¬
27
теневого контраста, движение, направленное на зрителя, реализованы значительно энергичней, чем в автопортрете Кипренского. Эта энергия усиливается и за счет строго фронтального расположения головы. Делакруа словно вонзает свой взор в пространство, отделяющее его голову от зрителя, и прямо в его глаза упирает этот взор. Взгляд модели совпадает с активным движением — рывком из пространства картины в зрительское пространство. Все эти особенности построения портрета приводят к выражению идеи конфликтности человека с окружающим миром, его активного вторжения в этот мир. Однако если портретный образ у Жерико более экспрессивный и программно-романтический, то у Кипренского — более сложный и многоплановый.
Некоторая созерцательность, свойственная автопортретному образу Кипренского, позволяет сопоставлять его с образами портретных произведений Рунге, который часто, как и русский мастер, обращался к собственному изображению. Автопортрет с женой и братом воплощает целую философическую программу. Те чувствования и размышления, которые охватывают трех персонажей картины, связаны с идеей некоего единства этих людей перед лицом высшей воли. Взгляды всех трех моделей направлены в одну точку и встречаются в глазах зрителя. Это взгляды испытующие, выжидающие, словно улавливающие какие-то пророчества судеб или высокие истины и тайные откровения.
В своих автопортретах Рунге преодолевает обращенность вовне, утрачивает способность осваивать окружающий мир и все более погружается в самосозерцание. Последний автопортрет в коричневой куртке (1809—1810), выполненный незадолго до безвременной смерти художника, дает пример этой самоуглубленности. Резкий поворот головы и скошенный на зрителя взгляд не только не предопределяют связь человека с миром, но, напротив, образуют некую преграду между своей внутренней душевной жизнью и жизнью окружающей. Глаза художника свидетельствуют о том, что он хочет словно остаться наедине со своей трагедией, не допуская посторонних соглядатаев и отвергая сочувствие и сострадание.
Философичность, медитационность автопортретов Рунге последовательно выражают национальную специфику немецкого романтизма. В портретах Кипренского и, в частности, в автопортрете с кистями присутствуют черты, сближающие русского живописца с немецким. Но Кипренский в отличие от Рунге свободен от символикоаллегорических подтекстов: он воспринимает реальность более непосредственно. Его герой доверяет себя опыту реальной жизни. Поэтому он ищет более многообразного проявления. В разных автопортретах Кипренский предстает перед нами в разнообразных обличиях. Автопортрет с розовым шейным платком, созданный в том же 1808 году, дает нам первый повод убедиться в этом.
Кипренский изобразил себя в более традиционном виде — не в момент творческого порыва, не в минуты напряженных размышлений, не перед самим собой, не перед зеркалом, а как бы перед зрителем, с которым он, позируя, находит возможность установить некую связь, душевный контакт. Правда, эта связь не заходит особенно
28
глубоко. При том интересе, который модель проявляет по отношению к окружающему миру и к зрителю, между ними все же сохраняется дистанция. Модель словно не знает, в какой мере она может довериться этому миру. Поэтому она сохраняет что-то в себе, не раскрывает все до конца. Можно сказать, что художник не в малой мере занят собой. Он позирует, но это позирование лишено напыщенности и многозначительности. Он некоторым образом любуется собой, но не настолько, чтобы утратить чувство меры. Красотой чела, возвышенностью мысли он мог бы претендовать на роль исключительной личности. Но Кипренский не злоупотребляет своими возможностями. Он не тратит себя попусту, сохраняя в чистоте духовный потенциал. Эта душевная нерастраченность, внутреннее богатство, артистизм души, ее гармоничность особенно привлекательны в автопортрете с розовым шейным платком. Кипренский предстает здесь перед нами в благородном обличии. Все те качества, которые прочитываются в автопортретном образе, выявляются не открытопрямолинейно, а сдержанно, тонко, артистично.
Автопортрет с розовым шейным платком дает повод для рассуждений об особенностях трактовки героя в русском романтизме. Здесь возможны некоторые сопоставления с поэзией. Исследователь русской романтической поэзии Ю. В. Манн, выявляя общие структурные качества героя романтической поэмы 1820-х годов, констатирует те черты, которые не только роднят, но и отличают этого героя от героев Байрона19. Русским поэтам не свойственно стремление возвести своего героя до уровня сверхчеловека, подавляющего всех остальных, обладающего титанической силой и несущего в себе огромный запас душевной страсти. Все эти качества, присущие персонажам Байрона, смягчены в русской поэзии: личные способности больше сообразуются с обстоятельствами и другими персонажами, страсти умерены, поступки более сдержаны и сопровождаются более сложной рефлексией. Это сопоставление можно перенести на живопись, избрав, правда, при этом в качестве одного из объектов не английский, а французский портрет. Ведь в том портрете молодого Делакруа работы Жерико, который был выше сопоставлен с автопортретом с кистями Кипренского, действительно, есть что-то байроническое. Что же касается автопортрета с розовым шейным платком, то он, демонстрируя отмеченную выше сложность рефлексии, выражает умеренные страсти; он не одержим экспансией, сохраняет гармонию, даже „ищет“ ее.
Гармоническое начало выявляется в том удивительном равновесии, каким проникнут этот портрет. Тонко сгармонированы свет и тень, их взаимоотношения уже строятся не на резких контрастах, а на более спокойных переходах. Цвет разработан особенно сложно. Зелено-оливковые, золотистые тона вступают во взаимодействие с розовыми, то смешиваются, то ,,очищаются“ и звучат первозданно. Художник свободно обращается с фактурой, оставляя на поверхности широкие мазки — не только в живописи, например, воротника, но и лица. Красочный слой местами сгущается, а иногда становится более тонким и легким. Но все эти цветовые и фактурные переходы не допускают резких контрастов; здесь тоже господствует равновесие.
29
Т. Жерико
Портрет Э. Делакруа. Около 1818 г.
Ф.-О. Рунге
Автопортрет.
1809—1810
Автопортреты конца 1800-х годов наиболее последовательно формулируют проблематику романтического творчества Кипренского, и особенно — раннего Кипренского. Вслед за автопортретами, а возможно, и одновременно с ними возникают подряд друг за другом едва ли не лучшие портретные произведения художника, пережившего необычайный взлет на рубеже первого и второго десятилетий XIX века. В 1809 году пишутся портреты Ростопчиных, Е. В. Давыдова,
В. А. Перовского в испанском костюме XVII века, мальчика Челищева, в 1811 -м — портреты Н. С. Мосолова и Г. П. Ольденбургского, в 1813-м — лучшие графические портреты, выполненные итальянским карандашом. В это время художник сначала живет в Москве, куда он был командирован Академией для помощи скульптору И. П. Мартосу в работе над памятником Минину и Пожарскому. Затем Кипренский оказался в Твери, где находился при „малом" дворе Екатерины Павловны - сестры Александра I. Затем в 1812 году вернулся в Петербург, где оставался до 1816 года - времени отъезда в Италию.
Рядом с двумя автопортретами 1808 года на одном качественном и проблемном уровне оказываются „Ростопчины" и „Давыдов". „Ростопчины" — вновь парные портреты. Композиционное их построение, казалось бы, дает нам повод говорить об этой „парности". Размеры их почти совпадают. Лишь несколько увеличенный масштаб головы и фигуры Ростопчина сравнительно с масштабом в портрете его жены нарушает полное соответствие портретов друг другу. Это касается, однако, лишь
композиционных моментов. Если же иметь в виду внутренний смысл образов — они очень далеки друг от друга. В них нет совместности бытия; состояние каждого индивидуализировано; две личности не ориентированы друг на друга, и каждая требует собственного „психологического пространства14.
В отличие от портретов Щербатовых, портреты Ростопчиных появились не в результате официального заказа со стороны мало знакомых художнику лиц. Кипренский был близок Ростопчиным. В Москве он проводил многие часы в их салоне, где собирались поэты и художники. Салон Ростопчиных был своеобразным центром московской художественной интеллигенции. Ростопчин, хотя он и описан историками Отечественной войны 1812 года и особенно Толстым в „Войне и мире“ как человек чрезвычайно неуравновешенный и недалекий, на самом деле был натурой своеобразной, не лишенной духовных интересов. В портрете Кипренского он предстает перед нами в момент медитации; он погружен в раздумье, несколько меланхоличен. Взор его устремлен куда-то вдаль — в „туманную даль44; он не сосредоточен на каком-то предмете, а скорее представляется нам как взор невидящий. Рука, лежащая на спинке кресла, прекрасно соответствует состоянию спокойного размышления человека, отрешившегося от сиюминутной суеты. Кипренский и в других случаях использует этот мотив руки, облокотившейся о спинку или подлокотник кресла, а иногда о стол. Почти так же, как Ростопчин, сидит Батюшков в известном графическом портрете 1815 года или И. А. Гагарин в живописном портрете 1811 года — с тем лишь различием, что фигура повернута в противоположную сторону. Поза в портретах Кипренского всегда играет большую роль. Но она не похожа на позу в портретной живописи XVIII века. Там она в большей степени подчинена канону. Здесь — более связана с выражением конкретного человеческого состояния. Поэтому она утрачивает у Кипренского прежнюю типологичность. Вернее, типологичность у Кипренского поднимается лишь до определенного уровня, за которым следует уже уровень индивидуализации, как бы преодолевающий типологическую основу. Вместе с тем все это не дает основания утверждать, что Кипренский не создает своей портретной типологии, которая приходит на смену столь системной и продуманной типологии XVIII столетия. Портрет Ростопчина, как и другие портреты рубежа 1800—1810-х годов, позволяют наметить эту новую портретную типологию.
Тот тип портрета, к которому чаще всего обращается художник, не назовешь парадным (к ним можно отнести лишь некоторые — например, „Давыдова41; из более поздних - „Уварова44). При этом в ряде портретных образов (например, в „Щербатовых44) в обычную для Кипренского форму погрудного или поясного портрета „вмещен44 некоторый элемент парадности. Кипренский как бы смешивает прежние формы. Один и тот же портретный тип может тяготеть то к парадному, то к камерному началу — в зависимости от того, как ведет себя персонаж перед зрителем, каковы его психологические „параметры44, каков строй чувств. Типология Кипренского строится на иных принципах, чем прежде. Пытаясь определить их, мы должны основываться не на характере аксессуаров, а на таких важных для художника особенностях, как взгляд
32
модели, его направление, поворот фигуры и его соотношение с направлением взгляда, трактовка рук и тела. Обратив внимание на все эти обстоятельства, мы заметим, что у Кипренского есть излюбленные ситуации и что такая „типологизация“ является для него более важной, чем подразделение на парадный портрет, почти обязательно дававший в XVIII веке натуру в рост, полупарадный и камерный. Мы заметим также, что излюбленные типы портретов у художника меняются по мере развития творчества и соответственных перемен характера образа.
В ранних погрудных и поколенных портретах Кипренский редко изображает руки, особенно кисти — только тогда, когда они должны что-то делать (Томилов держит миниатюру, Мосолов — бумаги, Швальбе — палку). Если уж кисти рук обязательно в силу обстоятельств должны присутствовать в картине, художник старается обойтись лишь одной. В поздних портретах чаще всего присутствует изображение рук (или руки), и оно никогда не бывает бессмысленно-нейтральным, а, напротив, приобретает совершенно особый смысл, каждый раз индивидуальный. В ранние же годы художник старается обойтись без изображения рук. Так он пишет оба автопортрета 1808 года, несмотря на то что один из них (с кистями) реально представляет конкретное пространство, в котором во времени бытует фигура. Так трактованы портреты Ростопчиных: Ростопчин повернул левую руку, чтобы кисть ее не была видна, а у Ростопчиной руки, как нарочно, обрезаны нижней частью рамы. То же самое мы можем сказать и о графическом портрете госпожи Вилло (1813). Большое количество графических портретов середины 1810-х годов подчинено тому же правилу: по возможности руки не изображать. Возникает вопрос: ради чего избирает художник такой путь? Ради упрощения задачи или тут кроется какой-то иной смысл? Первый ответ следует сразу же отвергнуть, ибо Кипренский ни в ранние, ни в поздние годы не стремился к максимально легким решениям. Тем более, что, судя по тем портретам, где руки изображены, он блестяще справлялся с этой задачей. Думается, дело в том, что Кипренский хотел всю выразительность образа сосредоточить в лице и особенно в глазах. Иной раз кажется, что художник специально освобождается от лишних предметов, аксессуаров или частей фигуры, чтобы действию взгляда не было помех. При этом многое зависит от того, как согласуется взгляд с направлением движения фигуры, с поворотом головы.
В автопортрете с розовым шейным платком взгляд завершает поворот головы, обращенной к зрителю. Если голова еще не до конца повернулась к вам, то глаза, обогнав голову, уже остановились. Тем самым художник усилил момент прямого общения модели со зрителем, ибо в движении все стремится к той конечной точке, которую уже нашли глаза модели. В автопортрете с кистями поворот головы и фигуры, которые строго соответствуют друг другу, несколько „разошлись“ с направлением взгляда. Этим приемом художник словно задерживает, останавливает энергию вхождения модели в пространство и энергию ее экспансии вовне. Прежде всего из-за этого появляется та сложность состояния, которая и ведет к многогранности, многоаспектности образа.
34
Портрет Ростопчиной является наиболее показательным примером „программной" трактовки взгляда модели. Взгляд вскинутых несколько кверху сияющих глаз женщины пронзает темную мглу окружающего пространства. Его направление совпадает с еле намеченным поворотом корпуса. Но фигура Ростопчиной статична; она застыла, даже обмякла; покатая линия плеча, край кружевного воротничка, загибающийся книзу, мглистый фон, в котором вязнет фигура, — все это как бы сковывает ее. По контрасту с ней глаза „поднимают", эмансипируют душевную энергию от телесной оболочки. Взгляд „ввинчивается", вонзается в пространство, проходит сквозь него; в этом взгляде есть что-то ликующее и возвышенное. Легко себе представить, какой помехой стали бы на этом пути взгляда кисти рук, будь они изображены художником.
Своеобразным аккомпанементом глазам является и колористический строй портрета. Он основан на мягком контрасте света и тени, значительно ослабленном по сравнению с автопортретом с кистями. Серо-коричневые краски, где-то переходящие в красный, а где-то в бледно-желтый, находятся в тесной зависимости друг от друга, создавая ощущение затаенной и, можно сказать, робкой гармонии. Эта робость оттеняет сверкание глаз, знаменующих эмоциональность, „наполненность" души.
Ростопчина оказалась для Кипренского прекрасной моделью, позволившей ему не менее последовательно, чем в автопортретах, выразить программу своего раннего творчества. Скромная женщина со сложным, замкнутым внутренним миром, она казалась современникам скорее горничной, чем хозяйкой салона. Между тем эта отчужденность не стала для художника непреодолимой преградой; он преодолел ее. Так многие модели как бы тайно, интимно раскрывали Кипренскому свои думы и вверяли свои мысли. Художник обладал необычайной способностью проникать в самые потаенные уголки души человека; каждый эмоциональный порыв будил в нем ответное движение; художник вызывал модель на некую невольную исповедь. Это исповедное начало оказывалось тем сильнее, чем менее подчеркивалась в портрете прямая связь героя с художником. Поэтому нет впечатления, что Кипренский выпытывает что-то у своих моделей; они невольно вверяют ему свой мир.
Интересно, что художник еще раз вернулся к портрету Ростопчиной в 1822 году — уже за границей, в то время, когда был исполнен еще один его живописный шедевр — портрет Авдулиной. Теперь художник выполнил портрет в технике литографии. В позднем изображении — почти тот же поворот (лишь в противоположную сторону), похожие костюм, поза и кресло. Сохранилась и целеустремленность взгляда; но что-то в нем померкло и остановилось. То совпадение интересов художника и модели, которое произошло в 1809 году, на этот раз не состоялось.
С живописным портретом 1809 года интересно сопоставить и графический портрет Н. В. Кочубей (1813), целиком принадлежащий поэтике Кипренского раннего периода. Мягкость общего светлого тона, образованного итальянским карандашом и пастелью, неожиданно нарушает резкий поворот головы и взгляда, направленного в сторону, за пределы изображенного пространства. Этот контраст, этот поворот даже
35
не столь головы, сколь глаз, является главной пластической темой портрета. Найденный Кипренским мотив позволяет ему передать „встрепенувшееся'4 чувство. Образ молодой девушки воплощает тему пробуждения. Заметим, что и в этом портрете рама прерывает изображение у самых кистей рук.
Рядом с автопортретами и портретами Ростопчиных логично рассмотреть еще одно произведение раннего Кипренского - портрет мальчика Челищева (1808-1809). Детский образ художник трактует также нетрадиционно, по-новому — сравнительно с трактовкой XVIII столетия. В XVIII веке детские образы чаще всего соседствуют в портретах с образами взрослых. Можно вспомнить дрождинский портрет Антропова с сыном, многочисленные изображения женщин с дочерьми или воспитанницами у Боровиковского. Что касается девочек-смолянок Левицкого, то в их портретах детская сущность отодвинута на второй план игровыми, театрализованными задачами. Разумеется, при этом пробивалась детская непосредственность, как бы оживая под проникновенным взглядом художника. Быть может, этот второй план в большей мере, чем первый, определяет обаяние портретных образов. Но он не сформулирован как программа. То же самое мы могли бы сказать про детские портреты Вишнякова — с той лишь разницей, что дети Вишнякова демонстрируют свое простодушие не в силу проницательности живописца, а в силу его простосердечия. Самостоятельный детский портрет был в XVIII веке редкостью и не имел устоявшихся принципов и традиционной иконографии. Ребенок выступал то в роли великого князя, будущего императора, и тогда ему „подобала" форма парадного портрета, то как участник театрального действа (смолянки Левицкого), то как переодетый вымышленный романтический персонаж (портрет Ф. П. Макеровского Левицкого), и тогда в силу вступал костюмированный портрет. Особенность же детского портрета как такового затушевывалась традиционными для XVIII века портретными типами.
В начале XIX столетия положение коренным образом изменилось. Историк литературного романтизма Н. Я. Берковский пишет: „Романтизм установил культ ребенка и культ детства. XVIII век до них понимал ребенка как взрослого маленького формата, даже одевал детей в те же камзольчики, прихлопывал их сверху паричками с косичкой и под мышку подсовывал им шпажонку. С романтиков начинаются детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые"20. Заметим, правда, что эти рассуждения возникают у автора в процессе анализа немецкого романтизма. Если мы обратимся к французской портретной живописи романтического времени, мы не сможем там найти столь разительных перемен. В немецкой живописи новое толкование детского образа дает себя знать в творчестве Рунге. Дети постоянно присутствуют в его аллегорических картинах. Они становятся объектами портретов —иногда фигурируя рядом со взрослыми, иногда —самостоятельно. Хотя они и не являются „кандидатами в будущие взрослые", тем не менее в них подчеркнуты пробуждающаяся мысль, раздумчивость, сосредоточенность —особенно в „Портрете детей художника, Отто Зигмунда и Марии Доротеи" (1809). Серьезность оказывается детским качеством, когда она воплощается как детская
36
серьезность. Именно такие „серьезные дети" у Рунге. „Челигцев" Кипренского в этом отношении напоминает маленьких героев Рунге. Но это был далеко не единственный вариант трактовки детского образа в русской портретной живописи романтического периода. Другой вариант дает выполненный несколько позже „Челищева" портрет сына Тропинина (около 1818 г.). Пусть Тропинин и не был в большинстве своих произведений романтиком, лишь изредка подчинялся романтической портретной концепции и почти не использовал ее в момент создания образа сына, тем не менее общий дух времени сказался в этом произведении. Пусть также образы Челищева и тропининского сына в чем-то противоположны, как противоположны их создатели, но в каждом из них есть это открытие личности в ребенке, интерес к особой детской психологии. Герой Кипренского при этом выступает как носитель пробуждающейся мысли, как созерцатель, наконец, как мечтатель, открывающий перед собой прекрасный, но сложный мир. Чем-то напоминающий образ самого художника из автопортрета с кистями, мальчик Челищев еще более сдержан в своем отношении к миру; он словно останавливается перед лицом этого мира. Мечтательная задумчивость, которую убедительно передает художник, позволяет ему как бы замедленным темпом раскрыть сложность этого состояния. Кипренский не направляет энергию образа вовне - даже в той степени, в какой это было сделано в автопортрете с кистями. Движение корпуса, головы и глаз уже не раздваивается, как в автопортрете, а распыляется в трех направлениях, лишь немного отличающихся друг от друга. Фигура мальчика чуть повернута в сторону; лицо расположено почти в фас, а глаза как бы продолжают этот разворот и уже смотрят немного в сторону, противоположную той, куда повернута фигура. Все эти отклонения еле заметны. Но именно они распыляют энергию, делают более неопределенным местоположение объема в пространстве, заставляют объем колебаться, чему способствует также излюбленный у Кипренского прием сопоставления светов и теней.
Это колебание объема в пространстве как бы подчеркивает состояние модели. Кипренского вообще интересуют в большей мере состояния, чем характеры. В характере есть что-то закрепленное, сложившееся, в основе своей канонизированное. Состояние же подвержено легкой перемене, оно свободно от обязательных предопределенных качеств и выражает бытие личности во времени.
В этом отношении образы Кипренского, в частности и образ Челищева, противоположны тем, которые создавали художники предшествующего времени. Да и не только предшествующего. Тропинина, например, больше интересовал характер человека, и если он прибегал к сознательной передаче состояния, то именно для того, чтобы через него воссоздать человеческий характер. Так именно обстоит дело с портретом сына. Та живописная достоверность, которой искал художник в этом портрете, должна была служйть убедительности воссоздаваемой реальности — ради верности характеристики, которая органично связана с условиями телесного бытия. Что касается состояния, то оно, хотя и подтверждается телесными движениями, все же в основном реализуется в духовной сфере. Кипренский, правда, не стремится к тому
37
полному преодолению телесности, которое характерно для некоторых работ Рунге или Фридриха. Однако в „Челищеве", как и во многих других ранних портретах, есть некоторый элемент преодоления телесного начала. Ярко выраженная трехмерность дает себя знать лишь в нижней части овала головы, где мягкая моделировка прослеживает закругления формы, фиксируя несколько пространственных планов. В других частях холста чувствуется большее тяготение к его плоскости, что подкрепляется фактурной обработкой, заставляющей почувствовать наслоения краски или шероховатость поверхности холста. С другой стороны, в затаенных местах происходит приобщение изображения к неопределенной пространственности, которая не знает конкретных точек отсчета и в известной мере абстрагируется. Свет, как и в автопортрете с кистями, реализуется в „Челищеве" так, что он словно по своей воле освещает то, что ему нужно, — розово-желтое лицо, белый воротничок, красный жилет, — и как бы изнутри высвечивает глубокий синий — куртки мальчика. Вместе с тем свет выявляет некоторую трехмерность — но не объемом, а рельефом. Этот рельеф слит с фоном; он приобщает предмет к бесконечности, а не отделяет их друг от друга. Наконец, свет выполняет еще одну весьма важную функцию: он позволяет развернуться цветовой выразительности холста, вне которой немыслим образ мальчика Челищева.
В портрете Кипренский предлагает новый вариант цветовой выразительности, еще не встречавшийся нам в рассмотренных выше произведениях. Если в автопортрете с кистями в основе построения лежал светотеневой принцип, а цвет „проблескивал" сквозь тень и в какой-то мере нейтрализовывался светом, если в автопортрете с шейным платком колористическая гамма строилась на основе тонких артистичных взаимоотношений дополняющих друг друга золотого и розового, а в „Ростопчиной" доминировал принцип спокойного движения серебристых оттенков сквозь коричневые тона, то в „Челищеве" господствует принцип цветового аккорда. В каждом случае цветовая система ориентирована на данный конкретный образ и определенный живописно-пластический замысел. Как различаются индивидуальности портретных моделей, при этом сохраняя общие черты романтического идеала, так и отличаются друг от друга их „колористические эквиваленты". В раннем творчестве Кипренского эти различия чрезвычайно ясно выявлены; в более поздние годы — они стерты, скрыты и не столь определенно обнаруживают себя.
„Челищева" можно считать высшей точкой колоризма раннего Кипренского. Он достигает необычайной выразительности цвета как такового, как бы озабоченного задачей самовыражения, а не своей обычной предметно-изобразительной функцией. Разумеется, при этом Кипренский не разрушает предмет, не противоречит подбором красок реальной форме, являющейся его взгляду, но от этой реальной формы как бы эмансипирует цвет. Главный аккорд состоит из трех цветов — красного, синего и белого. Кусок красного жилета, ограниченный по сторонам синей курткой и белым воротничком, является наиболее сильным цветовым ударом. Красный цвет на всем отведенном для него треугольнике холста постоянен, он не изменяется, лишь книзу „на
38
территорию" красного заходят темно-синие, почти черные пятна куртки. И белый и красный положены густо, краска не заглажена, на поверхности оставлены следы кисти, ее движения. Синий звучит не так: он прорывается откуда-то из глубины, сквозь темную поверхность затененных частей и лишь в некоторых местах достигает чистоты и звучности. Но в целом аккорд становится трезвучием эмансипированных красочных качеств, которое воспринимается как цветовая метафора, некий эквивалент внутренней жизни модели, ее чувства.
В аккорде дано сопоставление соседствующих на холсте несмешанных красок. В других частях холста эти краски сливаются друг с другом, входят в сложные взаимоотношения и взаимодействия. Особенно это заметно в живописи лица мальчика. Красный откликается здесь розовыми оттенками, синий — синими прожилками и даже линиями, проведенными кистью как бы вне формы, белый - сгустками белизны на лице. Практически весь красочный слой этой части картины состоит из тех компонентов, которые образуют аккорд; но здесь они „расслабились", перемешались и составили новые цветовые качества. При этом они сохранили все признаки той же самой цветовой метафоры, о которой шла речь выше и которая особенно нужна в передаче лица, как бы излучающего из себя некие волны.
Развивая идею несхожести образов портретов Кипренского друг с другом, следует поставить рядом с уже разобранными выше портрет Евграфа Давыдова, созданный в тот же московский период — в 1809 году. Здесь мы впервые имеем дело с парадным портретом почти в рост (лишь ступни ног не попали в пределы холста). Давыдов изображен в традиционно-романтической ситуации — на фоне стены, на которую ложится тень от его фигуры, дерева и ночного неба. Гусар, одетый в парадную форму, стоит, опершись на саблю и положив локоть на каменную плиту; другую руку он положил на бедро; у ног гусара кивер. Фигура расположена строго в центре большого холста; она изображена почти в натуральную величину. Цветовая гамма портрета подводит в центре холста к контрасту двух пятен — красного и белого. Оба они звучат сильно, будучи трактованы локально — почти без внутренних модуляций и градаций, лишь с изменениями светотеневыми, фиксирующими трехмерность объема. Одно это описание позволяет почувствовать разницу между портретом Давыдова и другими портретными произведениями того времени. В портрете Давыдова мы можем констатировать наличие фона, в то время как в других случаях мы имели дело скорее со средой. Бросается в глаза обилие деталей — тогда как в других портретах мы отмечали их отсутствие. Наконец, это первый портрет в рост, в котором художник показывает фигуру целиком (скрытые за рамой ступни ног не меняют положения). Все эти отличия понятны: Кипренский создавал парадный портрет, отказываясь, хотя и не совсем (как мы увидим ниже), от прежней спутанности жанровых форм и в какой-то мере возвращаясь к известной регламентации. Детали, которыми пользуется художник, довольно демонстративны — кивер, сабля, гусарская форма. Даже пейзаж приобретает характер той же демонстративной детали: он выступает как принадлежность романтического образа. Вследствие этого появляется элемент внеполо-
39
женности образу априорной романтической программы. В более поздние годы этот момент проявится в ряде портретов Кипренского - Уварова, Голицына и некоторых других. Если в автопортретах романтическая концепция образа возникла „опытным путем“, непосредственно в процессе реализации самочувствия художника и обретения себя в окружающем мире, то теперь она самоопределяется как некая программа.
Однако — как было уже сказано — возврат к прежнему жанровому регламенту относителен. Этот возврат проявляется больше в моментах внешних: фронтальный разворот модели, ориентация ее на зрителя, полное соответствие ей формата холста, известное акцентирование контура, выявление объема из окружающей среды. Что же касается поведения героя, то оно не подвержено этой строгой регламентации21. Художник передает такое состояние героя, которое позволяет воссоздать многообразие его чувств, сложность его жизненных представлений и неоднозначность поведения в мире. В образе можно прочесть и черты гражданственности: героя легко представить активным участником Отечественной войны 1812 года, защитником родной земли. Но вместе с тем Давыдов не целиком во власти общественных интересов — он предается мечте; его внутренний взор направлен как бы в сферу личных надежд и упований. Но эти личные страсти не затмевают его сознания. Гармония и равновесие торжествуют и в данном случае, предостерегая от крайностей.
В этом отношении портрет Давыдова представляет собой необычное явление в романтизме вообще и в творчестве Кипренского в частности. Тот конфликт между общественно-предопределенным, государственно-предуказанным, с одной стороны, и личным — с другой, который разгорался в романтизме вообще и готов был открыто
Ф.-О. Рунге.
Портрет детей художника, Отто Зигмунда и Марии Доротеи. 1809
обнажиться в русском романтизме, неожиданно повернулся гармонией, союзом личного и всеобщего. Романтическая приподнятость чувств как бы осветила этот союз.
Портрет Давыдова, располагаясь на одной из генеральных линий развития европейского портрета романтического времени, дает повод для разнообразных сопоставлений, и прежде всего — с французским портретом. Вслед за „протороманти- ческим“ „Наполеоном на Аркольском мосту“ (около 1797-1798 гг.) работы А. Гро и более поздней работой того же художника „Портрет полковника Фурнье-Сарло- веза“ (1812) здесь следует поставить знаменитые военные портреты Т. Жерико - „Офицер конных егерей, идущий в атаку“ (1812), „Офицер карабинеров14 (около 1814 г.) и „Раненый кирасир, покидающий поле боя11 (1814). Военный портрет во Франции начала XIX века имел импульсы для оживления и расцвета. Многие художники обращались к этому жанру. В качестве еще одного дополнительного примера приведем „Портрет генерала Кателино11 (1824) Л. Жироде.
Характерной особенностью всех этих портретов является активное действие или состояние изображнных. Они трактуются как настоящие герои — либо совершающие акцию, равносильную воинскому подвигу, либо трагически гибнущие. Из всех перечисленных портретов только один - „Офицер карабинеров11 — не дает нам открытого действия, но в его герое есть такой сгусток внутренней энергии, что это действие готово разразиться и выйти наружу. Портрет Давыдова представляет в этом отношении некоторый контраст своим французским современникам. В его спокойной гармонии нет перенапряжения, нет трагического исхода или его предчувствия. Правда, наше сравнение несколько страдает из-за неравноценности условий. Почти все перечисленные выше французские портреты представляют своих героев в момент какого-то военного события или действия. Давыдов же - не на поле боя, даже не на смотру или параде. Но, видимо, не случайно Кипренский не обращался к „стопроцентному11 военному портрету, хотя перед его глазами прошли сотни ополченцев, генералов и офицеров, непосредственно сражавшихся в войне с Наполеоном. В России задача изображения этих героев войны в момент действия пала на английского портретиста Д. Доу и миновала Кипренского; при этом, будь она на него возложена, как можно предположить, исходя из опыта самого художника, она вряд ли получила бы удовлетворявшее заказчика решение.
Когда однажды в более поздние годы Кипренский вновь взялся за задачу создания военного портрета („Н. П. Трубецкой11, 1826), он изобразил своего молодого героя с палашом в руке, на фоне грозового неба, взяв точку зрения немного снизу - с тем чтобы подчеркнуть значительность образа и придать ему элемент парадности. На этот раз Кипренский как бы инсценировал действие, соединяя парадную форму с эффектным мотивом именно так, как это делал столь прославленный в России английский портретист. Между позой Трубецкого и выражением его лица образовалась ничем не заполнимая пропасть. Лицо Трубецкого прозаично, не выражает никакого внутреннего напряжения. Форма полутондо, завершающая холст в его верхней части и как бы знаменующая момент гармонического успокоения,
41
В. А. Тропинин
Портрет сына. Около 1818 г.
входит в некое противоречие с мотивом взметнувшегося вверх оружия. Инсценировка не удалась художнику: он не смог привести в соответствие с мотивом ни выражение лица, ни фигуру героя, ни композицию.
В „Давыдове14 гармония оказалась естественной; она не придумана, а возникает из спокойного союза мысли и чувства героя и художника. Ей не противоречит основной мотив портрета, ибо он не предполагает ни активного действия, ни перенапряжения внутренней жизни.
Портрет Давыдова вносит свою очень важную ноту в искусство раннего Кипренского. Он в чем-то предвещает работы последующих лет, но вместе с тем отличается от них, ибо принадлежит целиком лучшему времени в творчестве художника. Он знаменует собой вместе с тем важную точку в развитии парадного и, в частности, военного портрета в русской живописи начала XIX века. Строгая регламентированность парадной формы, присущая портретному искусству XVIII столетия, в нем преодолевается. Открывается путь к парадному портрету, в котором значительность образа сопряжена с некоторой долей сюжетного начала, что придет в портретное искусство уже в 1830-е годы, будучи подготовленным портретными произведениями Кипренского.
Как видим, почти каждое произведение Кипренского рубежа 1800-1810-х годов содержит некое индивидуальное начало и отличается от другого произведения. Это касается и индивидуальных качеств самой модели, особенностей ее состояния, но
также и живописно-пластической системы художника. К тем работам, которые рассмотрены выше и которые обычно составляют основную группу произведений для характеристики раннего Кипренского, мы добавим еще несколько портретов — В. А. Перовского в испанском костюме XVII века (1809), Н. С. Мосолова (1811) и принца Г. П. Ольденбургского (1811). Все они также отличаются и друг от друга и от предшествующих вещей как по портретной задаче, так и по живописнопластическому языку.
Портрет Перовского укладывается в традиционную форму костюмированного портрета, столь распространенную в XVIII столетии22. В испанский или другой иноземный костюм часто одевались модели и в начале XIX века, что заведомо предопределяло некий
р,
Г д
А. Гро
Портрет полковника Фурнье-Сарловеза. 1812
романтический уровень портретного образа. Мы можем вспомнить „Портрет молодого человека в испанском костюме“ (1804) А. Г. Венецианова или „Автопортрет с гадалкой44 (1805) В. К. Шебуева. Костюмированный портрет предусматривает двойное преобразование натуры, и обычно в XVIII веке портретный образ в костюмированном портрете сохраняет эти свои „два лица44. Смолянки у Левицкого играют; но за планом игры проступает план детского поведения, обусловленного непосредственностью детской психологии. В „Макеровском44 у того же Левицкого в большей мере утверждается романтически идеализирующий уровень: костюм заставляет войти в образ. То же самое можно было бы сказать об „Автопортрете в шлеме и латах44 (1792) Ф. И. Яненко. Что же касается „Перовского44, то в этом портрете романтическая идеальность не только не усилена благодаря наличию весьма обязывающих атрибутов, но даже ослаблена, если не преодолена вовсе. Кипренский как бы утрачивает здесь прежнюю цельность образа, его нравственную полноту и внутреннюю целеустремленность. Продиктованная жанром раздвоенность как бы сняла с Перовского идеальные покровы, поставила его в ситуацию растерянности. Лицо его словно обескровлено этой игрой, пальцы рук изогнуты, глаза поблекли. Игровая ситуация дала возможность Кипренскому, вопреки ожиданиям, создать образ более трезвый и приземленный, чем другие портретные образы первых полутора десятилетий XIX века.
Портрет Н. С. Мосолова добавляет еще одну грань в портретное наследие раннего Кипренского. Он изображен не в момент позирования, как это обычно бывает у
Кипренского, а во время чтения какой-то бумаги (возможно, письма). Чтение на мгновение прервано; голова повернута к зрителю; мужчина словно вслушивается в чьи-то слова и готов включиться в разговор. Взглядом своим он уже в него включился. Этот прием для художника необычен. Кипренский, как правило, не стремится к конкретизации времени. Следует заметить, что этот прием приближает портрет Мосолова к тем рисуночным портретам, которые в изобилии появятся в 1812— 1813 годах и в которых — в соответствии с их жанровой спецификой - герой будет располагаться на несколько ином уровне образного бытия сравнительно с тем, что мы имеем в живописных портретах. Если же иметь в виду более далекую перспективу, портрет Мосолова можно было бы сравнить со знаменитым портретом Микеланджело Ланчи (1851) К. П. Брюллова. Эта линия в конечном итоге
О. А. Кипренский
Портрет Е. В. Давыдова.
1809
получила новый психологизм второй половины XIX века, реализовавшись у Н. И. Крамского, Н. Н. Ге, В. Г. Перова и особенно у И. Е. Репина. Но для самого Кипренского это было отступление от его обычных принципов живописных работ.
Портрет Георга Ольденбургского, написанный за год до смерти этого владельца „малого двора", честолюбивого Тверского генерал- губернатора, отличается особой глубиной истолкования характера, но вновь переданного через состояние — нервной напряженности, внутренней раздвоенности, даже растерянности. На бледном лице принца, как угольки, горят полные болезненной страсти глаза; взор суетлив, почти безумен; губы искривлены странной гримасой. Кипренский как бы отчуждается от модели; он не берет на себя ее чувства и помыслы, как он брал их у гармонических личностей - у Ростопчиной или Челищева. В этом нарушении единства модели и художника также заложена черта, которая проявится в более поздние годы. Концепции портрета соответствует экспрессивная цветовая гамма черных и красных, немного зловещих тонов.
Портреты Мосолова и принца Ольденбургского, равно как и еще один интересный портрет И. А. Гагарина (1811), написаны были в Твери. Кипренский в то время был одержим идеей отъезда за границу - в Париж, который друзьями и знакомыми художника именовался не иначе, как Вавилон. В Твери художник оказался во многом в связи с этими хлопотами. Он пытался получить средства на свою поездку у вел. кн. Екатерины Павловны. Однако Кипренскому не суждено было сразу отправиться за границу. Начиналась война. Он оставался в России. Кисть и палитру он сменил временно на карандаш, создав целую серию графических портретов. Эти произведения оказались столь же новаторскими в своей области, как и живописные портреты конца 1800-х —начала 1810-х годов.
Героями графических портретов Кипренского стали участники войны 1812 года — кадровые офицеры или ополченцы, многие из них — старые знакомые и друзья художника. Кипренский считал себя словно призванным к этой деятельности, как призваны к воинской службе были многие из его героев. В самом замысле серии этих портретов было выражение гражданственного начала, которое не могло миновать художника в грозные для родины годы.
Но прежде чем подвергнуть анализу портретную серию военных лет, обратимся к более ранним графическим опытам Кипренского — того периода, когда гра-
45
фическая специфика еще лишь постигалась им. Как мы помним, академические рисунки художника отмечены достаточно высоким мастерством, хтя по своим тематически образным качествам и далеким от зрелой графики Кипренского. В ,,натурщиках“, в аллегорических или историко-мифологических сценах первой половины 1800-х годов художник уже обретает свою технику - он рисует итальянским карандашом, подчас примешивая мел или пастель, а иногда и уголь, нередко выбирая серую бумагу. В рисунке узнается рука живописца. Да и сама графика того времени вызывает ассоциации с барочным рисунком, построенным на выразительности светотени, на чередовании пятен, на ритме перемежающихся затененных и освещенных частей.
Другой вариант графической выразительности дают рисунки уже упоминавшегося выше раннего альбома Кипренского, хранящегося в Русском музее. Отвлекаясь от тематического исюжетного состава рисунков, о котором мы уже говорили, обратим внимание лишь на особенности графического языка, на графику как таковую. Художник продолжает работать итальянским карандашом, лишь иногда добавляя к нему тушь. Возможность для живописного истолкования графики, таким образом, сохраняется. Кипренский иногда сгущает цвет, сплетает штрихи, превращая эти сплетения в темное пятно. Но все же главным выразительным средством в его рисунках оказывается линия. Рисует художник быстро, бегло, не отделывая деталей, смело очерчивая контуром фигуру или предмет. По характеру своему этот рисунок
Т. Жерико
Офицер конных егерей, идущий в атаку. 1812
Т. Жерико
Офицер карабинеров. Около 1814 г.
0. Л. Кипренский
Портрет
Н. П. Трубецкого. /826
напоминает первоначальные беглые наброски Егорова, хотя у Кипренского больше остроты и смелости. В альбоме 1807 года формируется такой тип графики, от которого можно представить движение и в сторону строгого классицистического рисунка и в сторону той свободной портретной графики, которая сложилась в творчестве Кипренского в начале 1810-х годов. Вехами на пути к этой графике были такие рисунки, как, например, „Портрет музыканта" 1809 года. Здесь чрезвычайно гармоничны отношения линии и пятна; эта гармония „обеспечивает" мягкую, спокойную трактовку формы, деталей, характера, состояния. С линией и штрихом художник обращается свободно, местами сгущает их, местами разряжает, вплоть до того, что оставляет чистую бумагу. В данном варианте Кипренский как бы идет к своей цели (вскоре он ее достигнет в портретах 1812—1813 годов) от графических опытов первого десятилетия XIX века — сначала в ранних академических рисунках, а затем в альбоме 1807 года.
Но был у художника и другой путь — к графическому портрету от живописного. В том же 1809 году были созданы портреты Вас. Д. Давыдова, Влад. Д. Давыдова,
47
„Мать с ребенком44 (Прейс?), выполненные итальянским карандашом и мелом на коричневой бумаге. Эти произведения еще не проникнуты пониманием специфики графической техники; они являются своего рода графической репродукцией живописного портрета. Весь лист, отведенный под изображение, тщательно проработан; штрих карандаша нигде не обнажается — он целиком сливается с формой тела или предмета. Эта форма передается иллюзорно, трехмерно. Моделируя головы или руки, художник прибегает к бликам, которые фиксируют наиболее выпуклые места. Все объемы планомерно „расставляются44 в пространстве - каждый занимает свой определенный „слой44, а между ними образуется связь с помощью поворотов фигур или лежащих на столе предметов.
Следует, однако, оговориться, что это графическое репродуцирование живописи имеет своим образцом не какие-либо известные нам портреты Кипренского, а некий живописный портрет, который от произведений самого художника отличается известной долей жанризации образа. Наверное, художник видел эту возможность жанризации именно в графических произведениях, хотя еще и не претворил в них полностью всех важных особенностей графической специфики в ее пластически- выразительном аспекте.
Портрет неизвестного мальчика 1812 года из Третьяковской галереи приближает нас к этой специфике. Технические средства, использованные Кипренским, остаются прежними — итальянский карандаш на коричневой бумаге (с добавлением пастели вместо мела). В какой-то мере сохраняется и „боязнь пустоты44, заставляющая художника внимательно прорабатывать светотеневые переходы, заполнять пространство предметами, а лист бумаги — пятнами, штрихами и линиями. Еще заметны также реминисценции светотеневой моделировки с помощью бликов. Но вместе с тем графический язык становится более свободным, живым, подвижным. Несмотря на довольно конкретную трактовку интерьера, в котором располагается фигура, тот бытовой оттенок, который был характерен для „Матери с ребенком44 или для портретов Давыдовых, здесь снимается. Мечтательность, устремленность к неизведанному, преломленные сквозь детское обаяние, - таковы основные черты образа этого „взрослого ребенка44, по-взрослому верящего в будущее и по-детски мечтающего о воинских подвигах и патриотических деяниях.
В 1812—1813 годах происходит окончательное обретение графической специфики в портретах Кипренского. Портреты доктора Я. В. Вилие23 (1812), неизвестного военного (1812), Е. И. Чаплица, Томиловых, Ланских, П. А. Оленина, А. П. Бакунина, Н. М. Муравьева, Н. В. Кочубей, Вилло (все 1813 г.), портреты многочисленных неизвестных, возникшие в эти же годы, — все это шедевры графического искусства вообще и графического портрета в частности. Тот расцвет, который переживает данный вид творчества у Кипренского, напоминает расцвет живописного портрета в 1809 году. Вновь приходится удивляться, как успевает художник в короткий промежуток времени создать столько произведений не просто первоклассных по мастерству, но, что важнее, каждый раз исполненных высокого внутреннего значения,
48
глубокого проникновения в человеческий мир и раскрывающих подлинное величие человеческой личности.
Тем не менее есть различие между этими двумя группами — живописных произведений 1809 и графических 1813 года. В первом случае мы не можем говорить о серии портретов: они слишком индивидуальны; они скорее отталкиваются друг от друга, чем притягиваются и сближаются. Графические же портреты выстраиваются в ряд, создают серию. Это не значит, что они однолики. Индивидуальность каждой модели передана в них с достаточной силой и остротой. Но есть общие черты, которые их объединяют. Кипренский почти в каждом портрете находит способ каким-то образом конкретизировать состояние своей модели, сообщить ей некоторое действие, определить более конкретно, чем эго делалось в живописных изображениях, ее местоположение в пространстве.
В портрете Е. И. Чаплица голова немного опущена вниз, глаза смотрят на какой-то предмет. Чаплиц напоминает читающего или пишущего человека, слегка сосредоточенного на своем занятии, но одновременно отвлеченного какими-то мыслями. Лицо Чаплица исполнено доброты, мягкости. Это не грозный воин, совершающий великие подвиги. Он как бы окончил или прервал свои ратные дела, чтобы обратиться к малым повседневным явлениям обыденной жизни. Вокруг фигуры Чаплица создается атмосфера интимности. Однако это не та интимность, которая господствовала в портретах Ростопчиной или Челищева. Теперь зритель уже не чувствует присутствия того напряженного диалога, который возникал между художником и моделью и принадлежал прежде всего им. Атмосфера чаплицкого портрета общедоступна. Она предполагает возможность каждого включиться в этот контакт с моделью. Теперь она не ищет избранных собеседников, а оказывается открытой всем.
Старый друг Кипренского А. Р. Томилов позирует художнику спокойно, по- домашнему, хотя он и одет в военную форму. Глаза его, устремленные на зрителя, сияют доброжелательством; локоть удобно устроился на поверхности стола; сама поза знаменует некое постоянство, размеренность бытия. Сопоставим эту позу с позой Ростопчиной или самого художника в автопортрете с кистями — и мы поймем всю разницу между концепцией живописного портрета 1809 года и графического - 1813-го. Мягкая, „объективная44 трактовка предметов и фигуры в окружающей среде в портрете Томилова подкрепляет поиски этой новой образной выразительности. Градация цвета — от светлого тона бумаги, на больших пространствах остающейся не тронутой карандашом, до сгустков черного — дает возможность проследить сложную моделировку объема и создать фактурное разнообразие, внушающее впечатление жизненности образа. Штрих тоже варьируется: то тонкая линия вычерчивает кудрявые волосы ополченца, контур носа и губ, то черное пятно, сгущающееся в некоторых местах, характеризует одежду; контур фигуры в правой части композиции резко граничит с фоном, а с другой стороны — мягко переходит в него, поддержанный густыми штрихами. Однако в отличие от рисунков 1809 года, где градация тонов была подчинена прежде всего задаче светотеневой моделировки, в портрете Томилова
49
сложные переходы от белого к черному становятся в большей мере средством выразительности, чем передачи реальности. Значение приобретают силуэт, ложащийся на поверхность бумаги, пятно фигуры, ритм штрихов, фактура бумаги, на которой след карандаша становится шероховатым, как бы трепещущим. В портрете Томи- лова, как и в портрете Чаплица или любом другом из перечисленных произведений, всегда безошибочными оказываются пропорции — взаимоотношение полуфи- гуры или головы с листом бумаги. Голова, как правило, оказывается помещенной несколько выше точки пересечения диагоналей в зрительном центре. Повернутая, склоненная или изображенная прямо, она как бы закрепляет композицию и открывает возможность для более свободного расположения на листе других частей фигуры или предметов.
В портретах М. П. и А. П. Ланских, видимо, созданных одновременно, легко заметить, как Кипренский прибегает к специальным приемам для того, чтобы передать индивидуальность каждого из братьев, сохраняя при этом единую схему композиционного построения. В одном случае он склоняет голову, в другом изображает ее прямо, что соответствует различным состояниям братьев. Воинственная собранность Алексея Павловича, сжавшего эфес сабли, глядящего прямо и настойчиво в глаза зрителю, противопоставлена мягкой раздумчивости Михаила Павловича, склонившего голову и держащего рукой край плаща. Поведение героев перед зрителем, их внутреннее состояние позволяют угадать характеры, темпераменты. В целом графические портреты в гораздо большей степени подчинены задаче выявления характера, чем живописные. В портретах Ланских решению этой задачи помогает и предметный мир. Для одного из братьев парадная офицерская форма, сабля, эполеты служат подкреплением характера, а для другого почти те же предметы — контрастом ему. „Опредмеченность“ портретов Ланских несколько выделяет их из круга перечисленных выше произведений; по своему композиционному строю они отличаются тем, что в них формы и линии усложнены; поверхность напряжена своеобразными перепадами от темного к светлому, создающими впечатление беспокойства.
Кипренский довольно часто прибавляет к итальянскому карандашу пастель или сангину, иногда соединяет их. В некоторых случаях, пользуясь этой сложной техникой, художник продолжает ту линию своего графического портрета, которая связана с „репродуцированием11 живописи. Показателен в этом отношении портрет П. А. Оленина. Он отличается от других графических портретов многими чертами. В техническом отношении — степенью отдаленности и законченности. Правда, от полной „репродуционности“ его спасает наличие пастели, которая в данном случае делает произведение по сути своей живописным. Штрих, заметный в той части, где обозначен фон, в других частях еле различим. Что касается трактовки костюма, то она кажется больше живописной, чем графической. Но дело не только в технических особенностях этого портрета. К своим „живописным соседям“ он тяготеет и образной трактовкой. Вновь мы сталкиваемся с фиксацией взгляда, направленного одновременно на зрителя и мимо него, с остановившимся временем, с „надбытовой“ трактовкой образа.
50
О. Л. Кипренский
Портрет В. .4. Перовского и испанском костюме V Г/Л; ISOO
Портрет Оленина как бы перебрасывает мост к портрету Хвостовой, написанному в следующем году и открывающему новый, хотя и краткий этап развития живописного портрета, длящийся всего несколько лет — до отъезда за границу. Не случайно расположением фигуры в пространстве, поворотом головы, направлением взгляда эти произведения напоминают друг друга.
Более последовательный графический вариант, в котором использованы и пастель, и сангина, дает нам портрет В. А. Томиловой. Можно даже сказать, что он являет собой противоположность портрету Оленина. Фигура и фон нарисованы совсем свободно; рука модели еле обозначена; лицо трактовано более тщательно, моделировано светотенью. Эта разница в обработке отдельных частей листа не нарушает единства, как его не нарушает и особая манера рисунка: различные части фигуры и фона „раскрашены" разными цветами пастели. Такая „разноцветность" соответствует априорной условности графического языка — той условности, которая есть и в одноцветной графике. Между тем многоцветие портрета Томиловой способствует большей конкретизации образа, пребывающего в реально текущем времени.
Тот же принцип цветовой трактовки реальности находим мы в портретах Н. В. Кочубей и А. П. Бакунина, выполненных в 1813 году. Герой последнего принадлежит к числу тех мечтательных юношей, которых было немало среди моделей Кипренского. Особенно интересны два портрета Никиты Муравьева (1813, 1815) — тогда еще совсем молодого человека, почти юноши, сосредоточенного, как бы затаившегося, ожидающего порыва, готового раскрыть свой сложный внутренний мир, юноши обаятельного и чистого душой.
Портреты Н. М. Муравьева и К. Н. Батюшкова, который некоторое время жил в доме Муравьевых, стали своеобразными свидетельствами тесной дружбы между художником, поэтом и будущим декабристом. Графическое изображение Батюшкова, выполненное Кипренским в 1815 году, было не первым. Поэт не раз оказывался моделью художника, причиной чему были дружеские отношения, внутренняя близость. К тому же Батюшков, искренне восхищавшийся Кипренским как художником, видимо, рад был случаю оказаться его моделью. В графическом портрете 1815 года Батюшков позирует художнику с удовольствием; он удобно расположился в кресле, положил руку на стол и пребывает в длительном спокойном состоянии, хотя лицо его таит в себе потенцию движения, готово загореться, преобразиться. Так графика обретала свою специфику не только благодаря особым средствам выразительности или техническим возможностям, но и в образных свойствах, в тенденции к жанризации, от которой живопись Кипренского оставалась в отдалении.
Особенно показательны в этом плане рисунки, изображающие крестьянских детей —Моськи и Андрюши (оба 1814 г.), или выполненный итальянским карандашом и пастелью портрет калмычки Баяусты (1813). Сам предмет изображения диктует образам жанровый ракурс. В рисунках как бы намечается некое действие, выводящее нас за пределы листа; композиция приобретает тем самым разомкнутый характер; рисуночный портрет приближается к жанровой зарисовке, к этюду, хотя при этом и
52
обладает (портрет Баяусты) полной технической законченностью. Кипренского интересуют характеры, их проявления в конкретизированном времени. Баяуста или Андрюша в своем активном движении ведут себя совершенно не так, как, например, мальчик Челищев на живописном портрете или стоящий мальчик на графическом изображении 1812 года.
В целом до своей поездки в Италию Кипренский, судя по всему, отрицательно относился к жанру, который как раз в то время в России утверждался и распространялся. И лишь некоторые произведения графики свидетельствуют о противоположном. Кроме портретов крестьянских детей, мы можем вспомнить „Пейзаж с бурлаками“ (1810-е гг.), некоторые альбомные зарисовки, хотя и в альбомах мы чаще встречаем мифологические или евангельские сюжеты, чем бытовые. И все же графика первой половины 1810-х годов важна и интересна не только тем, что многие произведения Кипренского являются шедеврами графиче¬
53
ского искусства, но и тем, что сама специфика этого вида творчества определила момент некоторого „растворения“ идеального образа в окружающей среде, раскрыв тем самым путь к новым принципам живописного портрета.
К 1814—1816 годам относится новый взлет портретной живописи Кипренского —он создает такие значительные вещи, как портреты Хвостовых, Жуковского, Уварова; новые тенденции выявляют также изображения Фурман, Молчановой с дочерью - редкий пример двойного портрета, который был весьма нетипичен для романтизма Кипренского, предпочитавшего изображать одинокого героя. „Хвостовы11 в этом ряду занимают весьма важное место. Они чем-то близки более ранним, например портретам Ростопчиных; но вместе с тем в них есть новые качества. При этом разница в большей мере проявляется в женских портретах; в мужских же отличаются не столь принципы претворения образа, сколь характеры самих моделей. Разумеется, и героини в обоих случаях сильно отличаются друг от друга. Но в большей мере действует разница в самом подходе художника к своей задаче.
В портрете Д. Н. Хвостовой усложнился „рисунок образа11. Казалось бы, Кипренский ищет того же эффекта, что и прежде. Он сосредоточивает внимание на взгляде женщины, концентрируя в нем ее душевную энергию. Однако если в „Ростопчиной11 художник очищал путь для движения этого взгляда, опуская детали и кое-где размывая очертания фигуры, то в „Хвостовой11, напротив, появились объясняющие подробности, призванные усилить впечатление. Сама поза, легкий наклон корпуса, чуть склоненная голова — накладывают какую-то особую печать доверительности, подчеркивают обращенность модели к зрителю. Большое значение приобретают дополнительные средства выразительности. Зритель с интересом всматривается в платье женщины, отороченное мехом, в желто-оранжевую шаль, образующую на руке красивые пластичные складки, в расслабленные, „ренессансные11 кисти рук, в отделку спинки кресла. Во всех деталях появляется классическая отточенность, даже некоторая идеальность.
Начиная с этого времени изображение кистей рук, пальцев модели становится почти обязательной принадлежностью портрета. Рука выражает темперамент модели, ее состояние. В. С. Хвостов волевым движением обхватил пальцами отворот сюртука. Этот жест, эта рука сочетаются с прямизной фигуры, с определенностью ее поворота. В портрете Хвостовой, напротив, расслабленные пальцы красивой женской кисти соответствуют тому состоянию несколько рассредоточенной меланхолии, в котором пребывает женщина. Кисти рук Уварова знаменуют момент рассеянной рассредоточенности, когда пальцы словно совершают непроизвольные движения. Значение рук подчеркивается в этом портрете и тем, что на столик брошены два предмета, принадлежащие модели, — цилиндр и перчатки, которые в жизни обрамляют или одевают две важнейшие части человеческой фигуры —лицо и руки.
Как видим, во всех перечисленных случаях перед нами совершенно новая концепция трактовки рук. Прежде - в тех редких случаях, когда Кипренский включал в портрет кисти, их изображение не содержало специальной выразительной задачи. Давыдов
54
О. Л. Кипренский
Портрет Е. С. Авдулиной.
1822
в портрете 1809 года стоит перед нами подбоченясь, поэтому его правая рука легла на бедро; он опирается на саблю, поэтому левая рука держит эфес этой сабли. Самостоятельной выразительности, которая была бы реализована вне конкретной функции, пока не существует. Зато эта новая задача появляется в портретах середины 1810-х годов и затем продолжает сохраняться на протяжении всего творчества художника.
В процессе этого нового „открытия рук" у Кипренского большая роль принадлежала итальянской традиции, о которой в европейской и русской живописи все чаще начинали вспоминать в конце XVIII и особенно в начале XIX столетия. Не „функционирующие", а просто выразительные руки появляются у Боровиковского, но особенно—в перечисленных портретах Кипренского, возле которых невольно вспоминаешь руки портретных моделей Леонардо и Рафаэля, Корреджио и Пармиджанино.
55
Все те новые средства выразительности, которые вводит Кипренский в портреты середины 1810-х годов, и, в частности, в портрет Хвостовой, делают эти произведения заведомо концепционными. Их программа словно продумывается заранее, как бы конструируется. Эта тенденция доминирует в портрете Уварова, но портрет Хвостовой уже располагается на этом новом пути.
То же можно сказать и о самой живописной манере художника. Она заметно меняется. Живопись становится более гладкой (хотя и не сухой), рождается идея „сделанности" картины, законченности каждой детали (во многом поэтому и появляется такой к ним интерес). Форма каждого предмета приобретает в глазах художника своеобразную идеальность, завершенность, превращаясь в носителя всеобщей идеи красоты. Во всем этом проглядывает концепция энгровского совершенства, хотя трудно предположить, что Кипренский до отъезда за границу мог быть хорошо знаком с искусством своего великого современника. Отмеченная идеальность характерна, например, для трактовки шали в портрете Хвостовой. В ее расположении на правой руке модели нет ничего случайного. Неподалеку от кисти показана полоса узорной каймы; часть обвивает правую руку выше локтя и исчезает за спиной женщины. В целом эта деталь не выглядит навязчивой: она скромно обрамляет модель, но вносит некое дополнение самостоятельностью мотива, который выступает в виде пластической метафоры, подкрепляющей портретный образ.
Разница между портретами 1809 и 1814—1816 годов заметна и не может быть оспорена. В общей форме эту разницу можно было бы определить следующим образом. Художник уже не полагается на одну жизнь лица и глаз, на взгляд, который способен был бы придать образу необходимую силу выразительности. Магия взгляда подкрепляется другими свидетельствами состояния модели, ее внутренней жизни.
В портрете В. А. Жуковского (1816) таким „другим свидетельством" оказывается пейзаж, на фоне которого изображен поэт. Этот фон в известной мере абстрагирован: средневековый замок, окруженный деревьями, с тяжелым „романтическим" облаком над ним, отдельно стоящая береза с другой стороны композиции - этот пейзаж не списан с натуры, а сочинен, он вписан в форму тондо, которую избрал Кипренский для воплощения образа романтического поэта. В портрете Давыдова пейзаж не играл такой роли, хотя и занимал большую часть картинной поверхности. Жуковский теперь уже и не столь открыт зрителю. Он вынашивает свой хрупкий внутренний мир, оберегает его от чужих взоров. В нем нет доверчивости. Романтическое воспарение отдаляет его от реальности, переносит в мечту. Кипренский создает идеальный образ романтического поэта, исключая какой-либо реально-натурный аспект в самой портретной задаче. Однако при этом сам материал для создания этого образа вполне определен — это личность Жуковского, его творчество, сама его поэзия, столь привязанная к фантастическому вымыслу и мечте, преображающей реальную жизнь.
Новые образные задачи еще более остро ставят перед художником проблему живописного эквивалента. В портрете Жуковского мы являемся свидетелями отказа художника от цветовой интенсивности; он предпочитает работать тональными
56
отношениями; именно они позволяют оттенить бледность лица, очертить тонкими линиями его контур, „обесплотить" облик поэта, придать универсальный смысл тому состоянию Жуковского, которое он переживал в момент позирования.
В портрете С. С. Уварова (1816) программность романтического образа уже требует для своего воплощения некоторого элемента сюжетности. Уваров не просто стоит на фоне части какого-то парадного интерьера. Он остановился, войдя в него, небрежно бросив на столик цилиндр и перчатки и поигрывая стеком. Разумеется, этот момент остановки художник намеренно продлевает, как бы задерживая Уварова в данной точке развивающегося действия.
Уваров — не только романтический герой, но и денди, завсегдатай салонов, собраний, балов. В его позе, костюме, во всем его внешнем облике, в манере держаться как бы закреплены черты светского молодого человека той поры, современника Кипренского. В портрете учтены все нормы этикета, и эта „этикетность“ в какой-то мере даже демонстративна. Сам по себе этот факт достаточно интересен. Он также свидетельствует о появлении новых черт в портретном творчестве художника. Кипренский выявляет роль модели. Жуковский выступает перед нами как поэт, Уваров — как светский человек, Хвостова — как мыслящая и чувствующая женщина. Заметна разница между новым подходом и прежним. Сам Кипренский в автопортрете с кистями выступал не в роли художника, а в состоянии творчества. Даже Давыдов не брал на себя роль бравого гусара, ибо смысл портрета расходился с этой идеей роли. Начиная с середины 1810-х годов, эта ролевая сущность портретного образа будет время от времени интересовать художника, а с годами иногда еще больше усиливаться, примерами чему станут портреты А. Ф. Шишмарева (1827) или скульптора Б. Торвальдсена (1833).
Роль в портрете С. С. Уварова затмевает духовное начало. Может быть, именно она и провоцирует изысканную композиционную и живописную манеру Кипренского, который на мягких ритмах строит силуэт, находит тонкие сочетания неярких красок, среди которых и красный звучит приглушенно. Силуэт фигуры несколько уплощается, предметы — при всей отделке деталей - не „устремлены" к трехмерности. Некоторая бесплотность как бы тоже входит в роль. Сама интерпретация роли проведена художником тонко и артистично. Однако при этом портретный образ утрачивает те достоинства непосредственного бытия, которые были так значительны в ранних портретах мастера, придавая им характер совершенно неповторимых в русской живописи явлений.
В середине 1810-х годов как бы внутренне созрела потребность непосредственного прикосновения Кипренского к классической живописи. И именно в это время ему наконец удалось отправиться за границу на средства императрицы. Начался первый итальянский период Кипренского, продлившийся семь лет, позволивший художнику проникнуться чувством необычайной привязанности к итальянской земле, чувством предначертанности судьбой обрести эту землю. В первые десятилетия XIX века Италия представлялась русскому романтику земным раем. Поэты и художники
57
мечтали об итальянском солнце, плодоносящей земле, напоенной его жаром. В Италии долго жил Батюшков, о ней мечтал Пушкин, Гоголь воспел се в своем прозаическом отрывке „Рим". Сильвестр Щедрин, Лебедев, Брюллов, Александр Иванов достигли в Италии высшей точки своего творческого развития. Кипренский, как и многие его знаменитые соотечественники, был привязан к Италии как ко второй родине. В те годы, когда художник работал там, он воспринимал и итальянскую классику - памятники искусства Возрождения, и различные тенденции современного европейского искусства. В Италии в то время были представлены все главные европейские школы - французская, немецкая, русская, разумеется, итальянская. В Риме, как на всемирном форуме, собирались лучшие силы европейской живописи; они предлагали друг другу самые последние достижения творческой мысли, образцы высшего мастерства. Восприимчивый Кипренский оказался в водовороте художественных событий. Несмотря на независимую позу гордеца, не желающего прислушиваться к мнению толпы, художник не мог остаться в стороне от всех тех сложных, переплетающихся движений, с которыми он столкнулся в тогдашней художественной столице мира. Воздействие на художника „итальянской ситуации" было сложным и по своему значению неоднозначным. Италия, бывшая в течение многих лет мечтой художника, на деле оказалась одновременно и творческой наградой и опасностью. Опасность заключалась в возможности стилизации, в своеобразном гипнозе Ренессанса, в вероятности академического истолкования великого наследия.
Ж. О. Д. Энгр
Портрет графа //.//. Гурьева. 1X21
Л. Жироде
1/ортрет Шатобриана. 1X11
Самую простую—и одновременно самую верную - возможность нашла для себя эта тенденция в том „полужанре44, который впервые у Кипренского появился на итальянской почве. Наиболее последовательно она реализовалась в трех картинах - „Молодой садовник41 (1817), „Девочка в маковом венке“ (1819) и „Цыганка с веткой мирта в руке44 (1819). Тот тип жанровой картины, к которому прибегает Кипренский, был довольно широко распространен в европейской живописи в начале XIX столетия. К бытовому жанру эти картины можно причислить лишь с большой долей условности. Скорее мы имеем дело с жанром-портретом. При этом портретные образы сильно идеализированы, „исправлены44 и „подстроены44 под концепцию жанра. В те же годы подобный тип „жанра-портрета44 использовал в России Тропинин, создавая своих „кружевниц44, „золотошвеек44, „гитаристов44, „мальчиков с птичкой44 и т.д. Правда, у Тропинина возникшие образы становились обобщением каких-то реальных жизненных ситуаций, тогда как Кипренский в большей мере исходил из ситуаций вымышленных. Его „Молодой садовник44 воссоздает идиллическую атмосферу итальянского отдыха, полдневной неги, в которой пребывает прекрасный юноша. Обратив свой взгляд вверх, подставив солнцу свое лицо и руки, обнаженные до локтей, герой Кипренского инсценирует эту типичную для итальянского жанра ситуацию. „Цыганка с веткой мирта в руке44, хотя и повернута в профиль, ловко демонстрирует зрителю приметы своего амплуа — ветку в тонких пальцах, острые черты лица, застывшего в картинной улыбке, цветочки в спутанных вьющихся волосах.
Ж. О. Д. Энгр
Портрет дамы в кресле. 1828
0. А. Кипренский
Портрет
С. С. Щербатовой. 1819
Еще более оснащена ласкающими глаз деталями девочка Мариучча: кроме макового венка (в честь которого она получила свое наименование), украшающего головку, в ее руке зажата гвоздика. В некоторых случаях реальные портреты приобретают оттенок подобной инсценировки — например, портрет мальчика Гагарина (1816—1817), опубликованный И. С. Зильберштейном24. Он намечает обратное движение — от портрета к жанру; но цель у этого движения та же — к полужанру, полупортрету, новому типу картины, еще не встречавшемуся в творчестве Кипренского. Достаточно сравнить эти работы художника с его „Музыкантом44 1809 года или с графическими портретами крестьянских мальчиков, чтобы сразу бросилась в глаза вся разница между ними. Несмотря на то что в графические портреты жанровое начало лишь еле проникает, в них больше живой, реальной основы. С другой стороны, в итальянских картинах доминирует принцип инсценировки — тот принцип, который затем в течение долгого времени будет сохраняться в русском варианте так называемого итальянского жанра. Более поздние картины этого „жанра44 — такие, как „Октябрьский праздник в Риме44 П. Н. Орлова или „Итальянка у колодца44 О. И. Тимашевского, —окончательно
61
обретают черты сентиментальной слащавости. Разумеется, их нельзя поставить в один ряд с картинами Кипренского конца 1810-х годов. Последние не могут быть оценены однозначно. В них есть позитивные качества, возникающие в результате того, что художник ставит перед собой новые задачи. Главной целью его поисков теперь становятся гармоническая мягкость, спокойная грация — ренессансные категории, к которым творчество художника в доитальянский период не тяготело. Исходя из этих новых задач, художник стремится достичь в своих композициях спокойной ритмики, светотеневой уравновешенности, ясности классических форм. Художественный образ приобретает новый смысл — он с самого начала, с исходной точки художнических исканий устремлен к совершенству, к априорной красоте.
Ясно, что на этом пути ренессансное наследие приобретает особое значение. Сам Кипренский указал на отправные моменты своих исканий: в письмах он упоминает Леонардо, Рафаэля, Луини и некоторых других. Обычно на эти имена справедливо указывают и исследователи творчества Кипренского. Но дело не только в том, что в каких-то случаях русский художник использует ренессансную манеру изображения рук или намеренный поворот головы в сторону зрителя, нередко встречающийся в итальянской живописи. Более важны общие принципы - законченная, замкнутая в себе композиция, подчеркнутая округлость форм, музейность колористического строя. Живопись Кипренского становится более ровной, плавной. Как мы увидим ниже, наиболее значительные плоды эта новая живописная тенденция принесла в области портрета.
Интересны были и опыты художника в жанре исторической картины. Правда, мы можем судить о них лишь по косвенным данным: первая картина „Аполлон, поражающий Пифона“ не была выполнена Кипренским. Вторая — „Анакреонова гробница“ — погибла в результате технических недочетов, которые допустил художник в процессе работы. Интересно, что Кипренский в те годы обращался к различным сюжетам (разного рода аллегории, сцены из Библии, из римской истории и др.), но в конце концов остановился на двух сюжетах, которые довольно красноречиво в своей последовательности отражали те перемены, которые происходили в истолковании античности на пути от 1810-х к 1820-м годам. „Аполлон, поражающий Пифона" - классицистический замысел, в котором античному богу отведена роль героя-победи- теля. Судя по эскизам, в фигуре Аполлона, рисованного с Аполлона Бельведерского, художник хотел выразить героическое совершенство, величие подвига. Образ Аполлона обозначал Россию-победительницу и одновременно ее императора Александра I; Пифон же олицетворял наполеоновскую Францию. Здесь была заключена простая, но типичная классицистическая иллюзия, свободно прочитывавшаяся зрителем и выражавшая патриотические представления времени.
Замысел „Аполлона" падает на вторую половину 1810-х годов. Интересно, что романтик Кипренский, обращаясь к исторической картине, вновь, как и в „Дмитрии Донском", как и в многочисленных рисунках-эскизах на исторические сюжеты, не вырывается за пределы классицистической доктрины. Русские художники смогли
62
осуществить переход к романтической концепции исторической картины лишь на позднем этапе развития романтизма в России — начиная с 20-х годов XIX века. При этом поворот, который осуществляли художники, не был резким. В 1820-е годы они создавали как бы переходный вариант исторической картины, тогда как в следующее десятилетие новая романтическая концепция восторжествовала в своем последовательном варианте — в „Последнем дне Помпеи" (1830-1833) К. П. Брюллова, в сложившемся замысле „Явления Мессии" (1837—1857) А. А. Иванова или „Медного змия" (1827—1841) Ф. А. Бруни. В 1820-е же годы тематическим источником продолжала оставаться античность. Иногда к ней добавляются средневековая история или традиционные литературные сюжеты. Все эти сюжеты — и античные, и средневековые— чаще всего получают идиллическое или гедонистическое истолкование. Эту тенденцию начинает Кипренский, создавая „Анакреонову гробницу1' (1820) не без влияния анакреонтической лирики того времени; ее продолжает Брюллов в своих картинах и эскизах 1820-х годов („Эрминия у пастухов", „Гилас и нимфы" и др.), Бруни в картине „Вакханка и Амур" (1828) и завершает уже в начале 1830-х годов Иванов („Аполлон, Гиацинт и Кипарис"). К этому ряду можно добавить скульпторов
С. И. Гальберга и Б. И. Орловского, также работавших в 1820-е годы в Риме. „Анакреонова гробница" начинает все это движение. Придавая античной идиллии дионисийский оттенок, Кипренский изобразил буйный танец сатира и вакханки под музыку играющего на цевнице фавна. В этой сцене нет ни конфликта, ни драматического напряжения. „Анакреонова гробница" органически вписывается в развитие русской исторической живописи 20-30-х годов XIX столетия. Однако ей не суждено было сыграть значительную роль в определении судеб русского исторического жанра, как не суждено было ее сыграть ни одному из перечисленных выше произведений той поры, когда историческая картина тол ько л ишь нащупывала переход к романтической концепции. Ситуация, создавшаяся в творчестве Кипренского, лишний раз доказывает, что возможность новых открытий зависит не только от желания или позиции художника, но и от того жанра или вида творчества, в котором он себя реализует. Историческая картина еще не давала возможности воплотить полностью тот романтический импульс, который был заключен в таланте и темпераменте Кипренского. В этом, на наш взгляд, и следует искать разгадку той творческой трагедии, которая для самого художника выражалась в „несостоявшемся" историческом жанре.
Как и прежде, высшие достижения Кипренского выразились в портрете, дав и в живописи и в графике свои шедевры. В живописи — это портреты А. М. Голицына (1819), Е. С. Авдулиной (1822) и автопортрет (1822). В графике — портрет С. С. Щербатовой (1819). Все четыре принадлежат к числу лучших работ художника. Портрет А. М. Голицына, своей концепцией продолжая линию портрета С. С. Уварова, отличается в конкретной своей образной трактовке мягкостью и чистотой. Продолжение традиции сказывается в некотором отчуждении героя, в известной априорности идеи, как бы извне предложенной портретному образу, хотя при этом сама идея предопределена особенностями модели. Голицын предстает как мыслитель,
63
перед лицом вечного города созерцающий историю и природу. Пальцы рук модели сомкнуты, глаза направлены на зрителя, но не выражают ни вопроса, ни расчета на сопереживание. Голицын погружен в себя, хотя он и предоставляет возможность зрителю разделить с ним его мысли и чувства. Предмет его созерцания открыт каждому: купол святого Петра, деревья, замыкающие по бокам панораму города, высокое итальянское небо, излучающее свет и ограниченное ровной другой полу- тондового завершения картины. Фигура замкнута: она окружена мягким контуром, который повторяется в силуэте святого Петра и в полукруглой форме полутондо. Свет столь же мягок, как и силуэты; светотеневые контрасты не выявлены; трактовка света далека от пленэрной: русские живописцы, жившие в Италии, начали разрабатывать пленэрную систему позже — в середине 1820-х годов. В портрете же Голицына свет еще как бы опредмечен. Он еще не смешался с формой, он освещает предмет — лицо, руки, шейный платок. Этот свет все более высветляет форму и облегчает ее. Максимальной бесплотности предмет достигает в портрете Е. С. Авдулиной.
Этот портрет представляет собой чрезвычайно интересное смешение разных тенденций - явные итальянизмы соединяются с общей романтической концепцией, воспринявшей при этом некоторые черты бидермайера. Неоднократно возникало сравнение портрета Авдулиной с Моной Лизой Леонардо. Действительно, масштабные соотношения фигуры и холста, почти поколенный срез, расположение рук, пейзажный фон, где мы находим мотив вьющейся дороги, окруженной кустами, шаль, покрывающая левое плечо женщины, - все это не случайные совпадения. Кипренский создавал своеобразный парафраз знаменитого произведения Леонардо. Вместе с тем в портрете Авдулиной запечатлена женщина романтической поры, человек начала XIX века, взлелеявший свой внутренний мир — хрупкий и нестабильный, способный неожиданно разрушиться, погибнуть, как цветок, опавший со стебля. Авдулина замкнулась в своих чувствах; вся их сложность закрыта от посторонних глаз, ее душевный мир непроницаем. Тем не менее мы можем как бы со стороны обрисовать этот внутренний облик героини портрета, представить ее колебание между покорностью судьбе и воспарением в мечтах, ее самоощущение увядания. Мир внутренний существует где-то рядом, поблизости, неподалеку от мира внешнего. Они одновременно и слиты и разомкнуты.
Черты реального бытия модели выявлены вполне определенно. Окружающие предметы, одежды и украшения, написанные детально, точно и как бы равнозначно во всех своих частях, а также и по отношению к лицу и фигуре, дают наглядные приметы действительности. С другой стороны, воспаряется не только мысль модели, но и ее фигура, освещенная каким-то внутренним светом, независимым от конкретного светового источника. Точеные, с четко обозначенными деталями черты лица, фарфоровая кожа шеи и рук, хрупкость самой материи, из которой „выделаны“ фигура и голова, — все здесь свидетельствует о некоем возвышенном бытии Авдулиной. Это противоречие между романтизмом и бидермайером придает портрету волнующую загадочность и особую прелесть.
64
Рядом с живописным портретом Авдулиной хорошо укладывается в общую эволюцию творчества художника графический портрет С. С. Щербатовой (1819). Внешне они чем-то похожи друг на друга. Дело не только в деталях одежды — в кашмирской шали или чепце, которые украшают и ту и другую женщину, не только в жестах рук (одна держит веер, другая книгу), но и в общей ориентации на повседневную обстановку, достаточно подробно детализированную, в изысканной отточенности манеры, в „сделанности41 каждой вещи и в намеренной „объективизации44 образа. Не случайно сравнивают портрет С. С. Щербатовой с энгровскими портретами, создававшимися в то же самое время и в той же самой Италии.
Момент отчуждения модели, сказавшийся в портретах Голицына, Авдулиной и Щербатовой, проявился и в автопортретном творчестве Кипренского первого итальянского периода, от которого сохранилось два автопортрета. Первый — созданный для галереи Уффици (1820), и второй, ныне оспариваемый как автопортрет25, находящийся в Третьяковской галерее (1822—1823). Они различны, даже контрастны друг по отношению к другу. В портрете, созданном для Уффици, — галереи, заказывавшей автопортреты многим знаменитым художникам и впервые удостоившей такой чести русского мастера, — Кипренский задался целью изобразить художника- творца, подчеркнув в нем артистическую внешность, изящество, снабдив образ разного рода реминисценциями, обращенными к итальянскому наследию. Состояние модели, всматривающейся в себя самое и одновременно демонстрирующей себя публике, как бы придано образу извне, не является результатом диалога с самим собой. Мастер предстает перед нами своеобразным Нарциссом, застывшим с маньеристи- ческой улыбкой перед льстивым и обманчивым зеркалом художнической славы. „Сделанность44 портрета, его выверенность, обращенность к традиции, момент стилизации — все свидетельствует об известной ориентации на галерею Уффици, о желании представить свой образ „в наилучшем виде44.
Портрет 1822 года с альбомом в руке (даже если он и не автопортрет!) в гораздо большей мере автопортретен по существу. В нем Кипренский возвращается к прежней — экзистенциальной — концепции творчества. Состояние модели уловлено более непосредственно, спонтанно; снова чувствуется примат состояния над характером; вновь возникает некий диалог между моделью и миром, ощущается острая конфликтность в их взаимоотношениях. И опять, как и в ранних портретах, акцент переносится на взгляд модели. „Говорящие глаза44, столь типичные для ранних портретов Кипренского, вновь заговорили здесь о душевном порыве, о внутренней борьбе, окрашенной на этот раз чертами трагической безысходности. Глаза „освободили44 Кипренского от лишних деталей. Правда, художник изображает кисть правой руки модели, держащую альбом или папку. Но стоит сравнить этот „функциональный44 жест портретируемого с „декоративным44 жестом в автопортрете из Уффици, чтобы уяснить всю ту разницу, какая есть между этими двумя портретами.
Творчество Кипренского в первый итальянский период, как видим, и возвращалось к старому, и открывало новое. Это новое, правда, уже невозможно сравнить с тем, что
65
Д. М. Креспи
Автопортрет. Около 1700 г.
О. Л. Кипренский
Автопортрет. IS20
было открыто художником на рубеже 1810—1820-х годов. В итальянский период утрат оказалось, безусловно, больше. И все же мы должны оценить эти годы, исходя из тех открытий, которые были сделаны художником, пусть в них была заключена и доля компромисса.
На родину Кипренский вернулся всего лишь на пять лет (1823— 1828). Эти трудные для России годы и для него были нелегкими. Жизненные невзгоды, сопровождавшие мастера, стали также невзгодами творческими. Художник как бы оказался на распутье; он не знал, в какую сторону направить стопы своего развития. Это вовсе не значит, что Кипренский мало работал. Напротив, он писал многочисленные портреты, исполнял заказы, обращался к уже знакомым моделям. Но, пожалуй, никогда прежде из-под кисти Кипренского не выходили такие скучные заказные портреты, как портреты А. С. Шишкова или Г. Г. Кушелева; в них господствует принцип описатель- ности, они сухи по живописи, демонстративны и скучны по композиции. Кипренский в эти годы часто оказывается в позиции художника, который не изобретает новое, а присматривается к тому, что происходит в искусстве вокруг него, и воспринимает чужие открытия.
В этом отношении интересен портрет Д. Н. Шереметева (1824), изображающий молодого кавалергарда в полный рост возле малахитового столика, на котором лежит каска с плюмажем, на фоне анфилады комнат. Здесь соединилась традиционная парадность, возвращающая нас к принципам XVIII столетия, с интересом русской живописи 20-х годов XIX века (особенно венециановского круга) к проблеме интерьера. Картина словно поделена на две части, одна из которых отведена
драпировкам и мебели, и поэтому замкнута, а другая — анфиладе, неудержимо влекущей нас вглубину. Фигура Шереметева помещена посредине. К этому „раздвоению" прибавляется другое: сам образ Шереметева, имеющий оттенок интимно-лирический, противоречит традиционной форме парадного портрета. Таким образом, портрет, ориентированный как бы в разных направлениях, утрачивает органическую целостность.
В близкой, хотя и несколько иной ситуации оказался портрет М. В. Шишмарева (1827). Здесь схема парадного портрета, изображающего модель в торжественной позе, со стеком в руках, явно представляющей себя зрителю, обогащается какими-то совершенно новыми исканиями. Во-первых, бросается в глаза величина полуосвещенного помещения, в котором помещена фигура, ее сравнительно малые масштабы, отодвигающие традиционный парадный портрет в сторону того портрета в интерьере, который распространился в русской живописи 1820-1830-х годов. Во-вторых, к портретному изображению добавляется „жанровое приложение": сквозь открытую дверь рисуется целая сцена в сельском пейзаже - у забора мужик запрягает лошадь. Эта сцена словно перекочевала сюда из картины какого-нибудь ученика Венецианова. Да и световая задача — свет, падающий через открытую дверь в полутемное помещение, - заставляет вспомнить опыты самого Венецианова или его последователей. Из этих сопоставлений можно с уверенностью сделать вывод о том, что Кипренского заинтересовали достижения современной русской живописи, за развитием которой он не уследил в годы пребывания в Италии, где он с другими русскими художниками представлял „итальянскую ветвь". Привить эту ветвь к петербургской или московской линии было не просто. Между тем во второй половине 1820-х годов Кипренский часто стремится сделать это.
В портрете А. Ф. Шишмарева (1827) за спиной модели раскрывается сельский пейзаж, оживленный жанром, - сзади изображены крестьяне, работающие в поле. Шишмарев одет в простую рубаху и шаровары; он стоит, опершись о перекладину забора; у его ног растут ромашки. Между тем поза Шишмарева романтическая: его голова повернута в сторону, взгляд устремлен вдаль, в нем нетрудно прочесть романтический порыв, который не согласуется с идиллическим пейзажем, ограниченным полутондовым завершением. Вглядываясь внимательно в портрет Шишмарева, начинаешь думать, что художник лишь в немногом ошибся, но все же ошибся. Стоило ему умерить восторженность взгляда, сделать образ аристократа-садовода более созерцательным, сориентировать его на поэзию повседневности, как портрет обрел бы большую органичность, целостность. Но при этом он утратил бы тот романтический порыв, который все же стремился воплотить Кипренский. Он не хотел расставаться со своими романтическими идеалами, ибо понимал, что с ними он утратит весь смысл своего творчества, но в то же время мог их поддерживать лишь искусственными средствами.
В портрете К. И. Альбрехта (1827) художник почти отошел от романтического истолкования образа и обрел его цельность за счет утраты его поэтичности и
67
господства прозаической реальности. Эта перемена позиции повлекла за собой снижение образной выразительности и появление некоторых элементов натурализма. В портрете все очень просто. Альбрехт сидит на камне перед зрителем, положив свой цилиндр на землю, словно бы отдыхая во время прогулки. Вдали видна его жена с ребенком. Пейзаж написан очень конкретно. В этой конкретности нет того пафоса натуры, который был характерен для раннего реализма Венецианова и мастеров его круга. Здесь есть лишь свидетельства способности художника точно, с большим мастерством передавать окружающие предметы и природу. Они не одухотворены, не наполнены волшебной красотой или величием, проникновенной тишиной или чувством томления. Все ассоциации, которые возникают у зрителя, весьма предметны. Сюжетные ассоциации подводят к образу, разъясняя запечатленную ситуацию (поместье, жена, ребенок и т.д.). Между тем прежде у Кипренского они рождались от самого образа, и нередко художник возбуждал их пластическими метафорами.
Разумеется, во всех перечисленных портретах, как и в таких работах того времени, как портреты О. А. Рюминой (1826) или Н. П. Трубецкого (1826), есть разного рода достоинства. Неоспоримо мастерство, с которым они выполнены и которое постоянно отмечали современники. В портрете Рюминой мы не можем не отметить способность художника проникать в мир человеческих чувств. В портретах Шишмаревых или Альбрехта трудно не заметить плодотворной для искусства того времени тенденции к воссозданию среды, в которой существует человек, поисков новых композиционных решений. В целом круг задач, стоящих перед художником, расширяется. Но для Кипренского это означает одновременное ослабление напряжения образа, снижение его поэтичности. Уйти от надвигающегося прозаизма можно с помощью театрализации, и художник подчас избирает этот путь, столь редкий в его раннем творчестве. В 1828 году пишет портрет танцовщицы Е. А. Телешовой в роли Зелии, в том же году создает портрет знаменитой актрисы Н. С. Семеновой в виде Дельфской сивиллы; „Бедная Лиза“, написанная на год раньше, возбуждает литературнотеатральные ассоциации. В этих произведениях мы находим свидетельства продолжения традиций первого итальянского периода, но эти традиции приобретают новую окраску, преобразуются под воздействием тех общих тенденций, которые характеризуют развитие русской живописи и которые оказываются трудно совместимыми с творческой сущностью нашего художника.
Между тем портретное творчество середины и второй половины 1820-х годов отмечено и весьма высокими достижениями. К ним принадлежат такие произведения, как портрет А. С. Пушкина (1827) и автопортрет (1828). Бесспорными удачами также можно считать портреты М. М. Черкасова (1827), А. Р. Томилова (1828), Н. И. Гне- дича (1826-1828). В двух первых Кипренский, пожалуй, поднимается до своего высшего уровня — уровня ранних автопортретов, портретов Ростопчиной, Давыдова, Авдулиной и других шедевров. В остальных он дает интересные, напряженные портретные решения. Но во всех этих ситуациях художник оказывается в стороне от того типа заказного, более или менее официального портрета, к которому
68
0. Л. Кипренский
Сивилла Тибурпшнская.
1830
принадлежат портреты Шишмаревых, Шереметева, Трубецкого и многие другие. В портрете старого друга Томилова естественно намечается близость тем портретным образам, которые были созданы в конце 1800-х годов - в „томиловский период". Погрудное изображение, в пределы которого не попали кисти рук модели, домашняя одежда, белый смятый воротничок, подчеркивающий контраст светлого и темного в общей светотеневой композиции, сосредоточенный живой взгляд, тонко уловленное состояние модели — здесь все говорит о возврате к прежним принципам портретирования. Но со временем стали мудрее и модель и художник. К мудрости прибавились и горечь разочарования, внутренняя смятенность, усталость. Эти качества не снижают уровень проникновенности портретного образа. Они утрачивают обаяние, но не утрачивают возможность передать всю сложность состояния, чувства и мысли.
69
К. П. Брюллов
Портрет К). П. Самойловой с Джованниной Панины и арапчонком. 1832—1834
Портрет Н. И. Гнедича, как и портрет Томилова, напоминает быстро написанный этюд. В нем как бы подкрепляют друг друга свобода поведения модели и свобода живописной манеры художника. Гнедич изображен в порыве, в движении; он не заботится о том, чтобы выглядеть чинно, торжественно; Гнедич не позирует, он непосредственно живет в окружающем пространстве. Эта жизнь передана Кипренским живо, как бы адекватно поведению модели.
Портрет М. М. Черкасова несколько отличается от предшествующих. Перед Кипренским был человек иного круга — художник-миниатюрист, библиотекарь Шереметева, в прошлом крепостной. Кипренский не стремился подчеркнуть в модели творческое начало, момент вдохновения. В форме камерного портрета он постарался „наладить11 общение между художником и моделью. В этом общении выявились черты характера Черкасова — его доброжелательность, простота, открытость.
В центре всего позднего творчества Кипренского — портрет А. С. Пушкина - одно из самых значительных произведений русского портретного искусства. Такое мнение укоренилось за портретом Пушкина не только потому, что в этом произведении мы имеем лучшее изображение гения национальной культуры. Дело и в самом портрете — он обладает неоспоримыми качествами живописного шедевра. Во многом это произведение является оправданием позднего творчества Кипренского, ибо оно вырастает именно на его почве и реализует многие его возможности, нереализованные в других работах того времени.
Как известно, портрет писался по заказу Дельвига в доме Шереметева в трудное последекабрьское время, когда душа русского образованного общества была смятена, а гармония бытия — нарушена. Черты этого кризисного времени выявились в образе Пушкина. Поэт запечатлен ,,в романтической позе11. Сложив руки на груди, он смотрит в сторону; его порыв сдержан, движение как бы остановлено. Казалось бы, поза модели, ее артистическая небрежность и одновременно изысканность напоминают портрет Уварова, выполненный более чем за десять лет до этого. Вспомним, что некоторые современники были недовольны портретом Пушкина, считая, что художник придал поэту черты дендизма (почему мы и заговорили об Уварове). Однако разница между двумя образами достаточно определенна. Ува-
0. А. Кипренский
Портрет М. Л. Потоцкой, сестры ее С. Л. Шуваловой и .лфиопянки".
Середина ISJO-.x гг.
ров действительно представлен Кипренским молодым человеком, помыслы и заботы которого ограничены рамками светского общества. Пушкин озабочен другим. Его меланхолия коренится в неразрешимости общих вопросов бытия. Его глазами общество как бы прозревает, расставаясь с беззаботным эгоизмом и обретая заботу о мире. Именно такой смысл прочитывается в образе Пушкина. Благодаря этому портрет, как бы отталкиваясь от конкретно-временной ситуации, обретает общечеловеческий смысл.
В портрете Пушкина, как и в портрете Авдулиной, главное не в живописной энергии, сосредоточенной на холстах конца 1 800-х- начала 1 8 10-х годов, а в свечении, исходящем от человеческого тела и предметов. Оно сосредоточено в глазах, разлито по лицу и пальцам правой руки. Свет исходит и от одежды - полосатого пледа, банта, воротничка, и от фона, сообщающего сияние пространству. Портрет написан тонко, легко. Общая золотистая тональность не поглощает другие цветовые качества; но они звучат неярко. Тонкие линии силуэта, драпировок, черт лица и волос создают впечатление прозрачности, ломкости, хрупкости гой материи, из которой состоят
71
фигура поэта и ее окружение. Этот момент бесплотности подчеркивает духовность, возвышенность образа.
К портрету Пушкина мы привыкли. Часто мы воспринимаем его заученные хрестоматийные черты. Действительно, в этом портрете, как ни в каком другом, воплощен образ поэта в его „чистом виде". Но эта общая и стертая формула требует более внимательной расшифровки. Кипренский не от абстрактного задания идет к портретному образу, не схему наполняет живыми чертами, а наоборот — от живой конкретной модели восходит к обобщенному смыслу. Хотя при этом сама модель заведомо диктует художнику некий идеальный образец, „уровень" которого и должен стать уровнем образа. В раннем, творчестве Кипренского действовал идеал, сложившийся на основе самой жизненной ситуации, на основе времени ожиданий, надежд и мечтаний. Но к 1820-м годам этот идеал истощился. Сам по себе он уже не действовал. Понадобился „импульс Пушкина", чтобы он возродился и позволил художнику добиться той высокой идеальности, которая была характерна для ранних портретов. Вместе с тем новое время — время разочарований, крушения надежд - наполнило образ иным, чем прежде, содержанием, сделало его свидетельством русской жизни конца 20-х годов прошлого века, позволило художнику соединить конкретное и всеобщее.
Через год после создания портрета Пушкина Кипренский написал один из самых своих известных автопортретов. Он оказался столь же типичным проявлением времени, хотя в некоторых отношениях представляет собой противоположность портрету Пушкина. В нем почти отсутствуют романтические черты. Несмотря на то что художник изобразил себя в момент творчества, его лицо не выражает порыва—оно спокойно, не сулит радости, скорее это улыбка разочарования, усталости, а может быть, „дежурная улыбка", маскирующая внутренний мир от любопытных взглядов. Полосатый халат, надетый на плечи, не раскрепощает художника; оттопырившийся воротничок не свидетельствует о свободе его поведения. Это лишь внешние знаки его бытия, противоречащие образу усталого, надломленного человека, с грустью взирающего на себя самого и на итог своего многолетнего пути. Тонкая живопись, нигде не рискующая поколебать гармонию, взорваться, напрячься, полностью соответствует внешнему и внутреннему облику героя, создает его живописное воплощение и как бы обеспечивает достоверность его бытия в пределах картинного пространства.
Автопортрет 1828 года является свидетельством того состояния, в каком был художник, когда он отправился в Рим, когда он, как говорят иногда его биографы, „бежал" из России. Это бегство не принесло Кипренскому облегчения. Творческие противоречия не только продолжали его преследовать, но все более углублялись и обострялись. Последний итальянский период уже не дал таких ярких взлетов, каким было отмечено в 1820-е годы создание портрета Пушкина. Все более последовательно происходит раздвоение творчества художника: с одной стороны, он тяготеет к искусственному романтизму, внешне приподнятому, но уже лишенному той жизненной основы, которая была у него прежде; с другой — к сентиментальной слащавости
72
жанровых картинок. В основе и той и другой тенденции лежит утрата прежнего идеала, утрата чувства естественной красоты мира, столь важная для создания динамичной гармонии ранних работ мастера.
Первая из двух обозначенных выше тенденций особенно ярко проявляется в картине 1830 года „Сивилла Тибуртинская44 и в других работах того времени. Несмотря на то что „Сивилла Тибуртинская“ является характерным порождением начала 1830-х годов, в творчестве Кипренского к ней ведут нити издалека. В. С. Турчин, наиболее глубоко истолковавший это произведение26, находит подготовительные наброски к этому сюжету еще в альбомах конца 1810-х годов. Тема сивиллы-пророчицы интересовала художника и в последний год пребывания в России, когда он в виде сивиллы изобразил актрису Семенову. Уже в 1830 году, прежде чем взяться за исполнение картины, он написал „Ворожею со свечой“ и „Читающего у свечи“ — для того, „чтобы хорошо выучить краски и освещение при огне44, — как говорил сам художник27. Кипренского занимала проблема искусственного освещения, не раз реализованная русскими художниками-романтиками на рубеже 1820-1830-х годов. С другой стороны, к 1830-м годам тяготела и сама тема пророчества. Видимо, Кипренский обратился к Тибуртинской сивилле не случайно: именно она предсказала императору Августу пришествие мессии.
Кипренский изобразил сивиллу со свитком в руке; подперев голову левой рукой, она вскидывает очи вверх, как бы воспринимая с неба слова пророчества. Тяжелые драпировки, шаль, закутывающая голову и плечи, свиток в руке — все эти предметы трактованы несколько „по-барочному“, пышно, тяжеловесно. В картине много „говорящих44 деталей —храм Весты и Тивольский водопад, точно фиксирующие место действия и характер героя. Ночной пейзаж сообщает таинственность всей сцене. Кипренский дает разные источники освещения — свет лампады над головой сивиллы и луны, пробивающейся сквозь облака. Такой прием показателен для поздних композиций Сильвестра Щедрина — младшего современника Кипренского, разрабатывавшего в те годы мотив „Ночи в Неаполе44. Вспомним более поздние лунные пейзажи Максима Воробьева, замысел „Последнего дня Помпеи44 Брюллова, возникший в конце 1820-х годов - и перед нами возникнет окружение „Сивиллы Тибуртинской44, объясняющее ее возникновение. Начинается стадия позднего романтизма; она подготавливалась у Кипренского еще раньше, но никогда прежде принципы позднего романтизма не формулировались так определенно, как в картине 1830 года. Здесь проявились черты академизма, который возникал в результате паллиативного соединения романтизма и классицизма, интерес к световым эффектам, к внешней динамике действия.
Мы находим эти же черты внешнего романтизма и в портретах начала 1830-х годов, например, в портрете Торвальдсена (1833). Знаменитый скульптор, тучный мужчина преклонных лет, с седой гривой, резко повернутой в сторону головой и устремленными вдаль глазами, словно играет свою роль — хорошо выученную и часто повторяемую. При этом Кипренский добивается убедительности внешней характе-
73
// jHaJrr**)
ристики; портрет кажется похожим, достоверным. Он выполнен мастерской кистью. Но тем не менее он утрачивает непосредственность, ибо на пути прямого общения между зрителем и моделью оказывается та самая роль, которую мы уже находили прежде в портретах 1810-1820-х годов и которая в портрете Торвальдсена приобрела наиболее последовательное выражение.
К числу лучших произведений последних лет принадлежит портрет Ф. А. Голицына (1833). Молодой аристократ — тонкий, нервный, обтянутый черным фраком, устремивший обжигающие глаза в сторону зрителя, в одну точку, — словно застыл в напряженной позе. Пурпурная драпировка за спиной Голицына придает портрету декоративную эффектность и остроту. Пейзаж неаполитанского залива, над которым сгущаются тучи, соответствует состоянию модели. В портрете много демонстративных черт. Вместе с тем сам образ героя живет самостоятельно, он не ориентирован на демонстративные детали, а реализует себя независимо от того достаточно сложного рассказа, который ведет художник предметами и пейзажем.
Тот прием изображения фигуры на фоне роскошной драпировки, который использовал Кипренский в портрете Голицына, он применил вновь в последнем своем значительном произведении — портрете М. А. Потоцкой, сестры ее С. А. Шуваловой и „эфиопянки" (середина 1830-х гг.). Здесь количество предметов и разного рода деталей гораздо больше, чем в прежних произведениях. Вдали за драпировкой разворачивается пейзаж с дымящимся Везувием и краем залива. Корзина с фруктами, мандолина в руках Шуваловой, блюдо, брошенные шали, цветы — все эти предметы заполняют пространство между фигурами. Сама по себе задача соединить в портрете три персонажа и запечатлеть их в момент какого-то действия является новой; она свойственна парадным портретам К. П. Брюллова. Он делает парадный портрет сюжетным, специально выбирая эффектный момент, на котором останавливает разворачивающееся событие. Яркими примерами такого подхода могут служить созданные как раз в начале 1830-х годов „Всадница" и портрет Ю. П. Самойловой с Джованниной Пачини и арапчонком. Разумеется, Кипренский не просто повторяет композиционные схемы Брюллова. В отличие от брюлловских портретов он разворачивает композицию на холсте горизонтального формата, в соответствии с которым он и развешивает драпировки. Но сам принцип обновленного парадного портрета, где персонажи как бы живут в действии, но одновременно ориентированы на зрителя, где они существуют в окружении многочисленных предметов, — заимствован у Брюллова. Естественно, в этой ситуации Кипренский оказывается не открывателем, каким он рисуется нам на протяжении первых двух десятилетий своего творчества, а подражателем. Если в работах второй половины 1820-х годов он хотел свой прежний метод дополнить последними открытиями русской живописи, стараясь при этом сохранить существенные черты своего подхода к модели, то в портрете Потоцкой и Шуваловой уже ясно чувствуется вторичность самой портретной концепции.
Другая линия в позднем творчестве Кипренского была связана со все развивавшимся интересом к жанру. Мы помним, что этот интерес лишь пробуждался в
75
первой половине 1810-х годов, потом нашел выход в ряде произведений первого итальянского периода и вот теперь, в конце 1820-х — первой половине 1830-х годов, еще более окреп и определил собой целую линию в развитии позднего Кипренского. Жанровый оттенок приобрел групповой портрет „Читатели газет в Неаполе44 (1831), где изображены русские путешественники, читающие сообщение о событиях в Польше. Полуфигуры путешественников почти заполняют всю картинную поверхность, они приближены к первому плану, лишь стена и кусок залива с неизменным Везувием занимают незначительную часть картинной поверхности. Путешественники трактованы портретно. Вместе с тем жанровое начало лишь намечено. Портретная концепция доминирует; но с другой стороны, введенная Кипренским завязка как бы противодействует тому, чтобы каждый персонаж раскрылся в своем естественном внутреннем бытии. В результате в картине остаются нереализованными ни возможности жанра, ни потенции портрета.
Следует, однако, признать, что путешественники обладают одним важным преимуществом: их образы трактованы правдиво, без прикрас; сам сюжет, избранный художником, не провоцирует той сентиментальной идеализации, которая так характерна для его поздних „итальянских жанров44. В последний итальянский период у Кипренского возникает большое число „неаполитанских мальчиков44, „мальчиков- лаццарони44, „неаполитанских девочек с виноградом44 и других произведений подобного рода. По сравнению с „Молодым садовником44 или „Цыганкой с веткой мирта в руке44 эти поздние tableaux de genre знаменуют собой резкое снижение качественного уровня и становятся печальным завершением живописной эволюции художника. Еще раз оговоримся, что речь идет лишь об одной линии позднего живописного творчества художника. Как мы убедились, и в последние годы на его пути были удачи. Кроме того, в 1820-1830-е годы продолжал сохранять свои высокие качества графический портрет. Правда, и в этой области происходили перемены. Рисунок становился все более твердым, подчас суховатым. Эта новая тенденция ярко проявляется в портрете Е. Е. Комаровского, выполненном итальянским карандашом, сангиной, цветными карандашами, акварелью в 1823 году. Сама эта сложная смешанная техника дает возможность для передачи разнообразных фактур. В портрете С. П. Бутурлина (1824) художник пользуется крепкой линией, которая очерчивает силуэт фигуры так определенно, что он кажется вырезанным ножом. И в этом портрете чрезвычайно точно передается фактура каждого материала —сукно мундира, мех бобрового воротника шинели, дерево стула. Подцветка используется не только ради общего декоративного звучания композиции, но и для цветовой характеристики каждого предмета. Эта точность графического языка сообщает облику героя подтянутость, собранность. В пределах этих основных параметров образа Кипренский нюансирует его, смягчая взгляд, некоторыми чертами раскрывая в модели налет энергичности.
Тот же графический язык позволяет художнику создать обаятельный образ мальчика в портрете В. П. (?) Орлова-Давыдова (1828). Предметность рисунка
76
приобретает качества артистизма и изысканности. Внимательное отношение Кипренского к поверхности листа, его любовь к линии и штриху как бы переносятся на модель. Мастерство художника, таким образом, становится носителем образности.
Несколько иная манера в поздних женских портретах — А. А. Олениной (1828),
С. А. Голенищевой-Кутузовой (1829), двух неизвестных (оба 1829 г.). Рисунок здесь трактован свободно; Кипренский в некоторых частях композиции сгущает штрих, работает пятном, хотя в целом и отступает от прежней живописности графики. Женские портреты последних лет полны обаяния, мягкости; Кипренский любит рисовать миловидные лица; но он не идеализирует их, как это он делал со своими итальянскими девочками и лаццарони. Качественный уровень в поздней графике достаточно высок, хотя Кипренский и не достигает в своих поздних рисунках тех высших точек, которые были отмечены портретами Чаплица, Томилова и других. В этом отношении разница между живописью и графикой представляется достаточно значительной. Она объясняется, видимо, разными причинами - более условным языком графики, способствующим сохранению артистизма, разницей исторических путей этих двух видов искусства. Но для Кипренского, как можно полагать, определяющую роль играла возможность реализации в графическом портрете более камерного, интимного подхода к модели. Поэтому графического портрета почти не коснулись те тенденции парадной официальности, которые все же давали себя знать в живописи.
Творческая и человеческая судьба Кипренского была трудной. По мере своего развития он изменялся; как живой художник, искусство которого находилось в постоянном контакте с окружающей жизнью, он не мог стоять на месте и „эксплуатировать11 плоды своего раннего творческого взлета. С другой стороны, его движение вперед было сопряжено с утратами. Можно полагать, что сам художник не осознавал этой закономерности достаточно отчетливо, а лишь догадывался о ней. Часто он уступал влекущей его стихии, но часто находил в себе силу ей противостоять. Пожалуй, ни один великий русский художник не был подвержен столь резким колебаниям, как Кипренский. Неравноценно значение разных периодов его развития: взлеты здесь соседствуют с падениями. В пределах одного и того же промежутка времени первоклассные работы могут оказаться рядом со слабыми. Эта особенность творчества художника коренится в своеобразии его характера и личности — импульсивной, впечатлительной, подверженной минутным порывам и продолжительным слабостям, не избегшей соблазна самообольщения. Произведения Кипренского настолько тесно были связаны с ним самим, с его личностью, что все эти особенности художника не могли не раскрыться в его творчестве. Живя искусством и живя в искусстве, Кипренский выражал тем самым закономерность романтического творчества, то есть историческую закономерность художественного развития России. Таким образом индивидуальные особенности мастера пересекались с исторической закономерностью. История искусства доказывает, что именно на таких пересечениях возникают ее крупнейшие явления.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В. А. Жуковский. Сочинения в 3-х т. Т. 1. М., 1980, с. 287.
2 Исследование творчества Кипренского началось еще в
середине XIX века (В. То л б и н. О. А. Кипренский. — Сын Отечества, 1856, № 35). Однако более интенсивным оно стало с начала нынешнего столетия, когда была устроена обширная выставка произведений художника и вышли в свет статьи Н. Врангеля („Кипренский11 в журнале „Старые годы44, 1908, июль-сентябрь; „Выставка произведений О. А. Кипренского“ — в том же журнале, 1911, ноябрь; а также в книге „Орест Адамович Кипренский в частных собраниях44, Спб., 1912). Начиная с этого времени было опубликовано много книг и статей, посвященных художнику, — особенно после выставок 1936 и 1938 годов в Ленинграде и Москве, завершившихся научной конференцией. Наиболее значительными исследованиями, на наш взгляд, являются: монография Э. Н. Ацаркиной „Орест Кипренский44 (М., 1948) — первое крупное исследование творческой биографии художника с фиксацией сохранившегося наследия; статьи М. В. Алпатова „Историческое место Кипренского в развитии портрета XIX века44 (Ежегодник Института истории искусств. 1952. М., 1952, с. 17—69) и „Кипренский и портрет начала XIX века44 (Этюды по истории русского искусства. Т. 2. М., 1967), в которых приводится сравнительное рассмотрение произведений Кипренского и западноевропейских портретистов начала XIX столетия; глава о Кипренском в первой книге восьмого тома „Истории русского искусства44 (М., 1963), написанная Т. В. Алексеевой, и ее же обширная статья „Ранний альбом О. А. Кипренского. Развитие романтического мировосприятия44 (в книге „Исследования и находки44. М., 1976); работы Г. Г. Поспелова „Портретные рисунки О. Кипренского44 (М., 1960) и
„Русский портретный рисунок начала XIX века44 (М„ 1967); статьи Я. В. Брука „О. Кипренский в Риме44 (ПТ. Вопросы русского и советского искусства. Вып. 1. М., 1971) и „Портретное творчество О. Кипренского 1810—1820-х годов и современный ему европейский портрет44 (Проблемы портрета. Материалы научной конференции. 1972. М., 1974); наконец, серьезная и глубокая монография В. С. Тур- чина „Орест Кипренский44 (М., 1975), дополненная статьей того же автора „О. Кипренский во Франции и Германии (1822—1823 гг.)44 в сборнике „Русское искусство второй половины XVIII — первой половины XIX в. Материалы и исследования44 под редакцией Т. В. Алексеевой (М., 1979). Кроме того, в течение 1930—1970-х годов вышел целый ряд статей и брошюр (Г. В. Жидкова, Г. А. Недошивина, А. Н. Савинова, В. М. Зименко, Б. Д. Суриса, В. М. Глинки, М. М. Раковой, Е. И. Чижиковой, И. Кисляковой, М. Мигдал и др.), в которых авторы подчас предлагают новые атрибуции, решают спорные проблемы, связанные с творчеством Кипренского. Остался неопубликованным сборник докладов на конференции 1938 года, посвященный творчеству Кипренского в Государственной Третьяковской галерее.
3См.: Э. Н. Ацаркина. Орест Кипренский. М., 1948, с. 19.
4 См.: В. С. Ту р ч и н. Орест Кипренский. М., 1975, с. 13.
5 См.: Т. В. Алексеева. Исследования и находки. М., 1976, с. 80—86.
6 В своей книге „Два века русского искусства44 А. М. Эфрос слишком большое, даже решающее значение придает тому, что в Кипренском не состоялся исторический живописец, считая это обстоятельство чуть ли не причиной романтизма художника (см.: А. Эфрос. Два века русского искусства. М., 1969, с. 150, 151).
7 К этому сравнению часто прибегают Э. Н. Ацаркина, М. В. Алпатов, В. С. Турчин и др.
8 К. Н. Б а т ю ш к о в. Сочинения. М.—Л., 1934, с. 7.
9 См.: В. С. Ту р ч и н. О. Кипренский во Франции и Германии (1822—1823 гг). — В кн.: Русское искусство второй половины XVIII — первой половины XIX в. Материалы и исследования. М., 1979, с. 186—204.
10 Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. М., 1978, с. 49. Стихотворение написано около 1830 года.
11 К. Н. Б а т ю ш к о в. Сочинения, с. 64.
12 Т а м ж е, с. 73.
13 А. Р. Том илов. Мысли по живописи. Публикация Т. В. Алексеевой. — В кн.: Т. В. А л е к с е е в а. Исследования и находки, с. 121.
14 Интересно, что Кипренский в 1807 году копировал вандейковский портрет бургомистра Клааса Рококса по поручению графа А. С. Строганова, тогдашнего президента Академии художеств, и эта копия была приобретена Академией. А в альбоме Кипренского, хранящемся в ГРМ и содержащем, как считает Т. В. Алексеева, в основном рисунки 1807 года, имеется перерисовка „Портрета старика в красном44 Рембрандта (см.: Т. В. Алексеева. Исследования и находки, ил. 146).
15 Альбом опубликован Т. В. Алексеевой, которой принадлежат расшифровка сюжетов и попытка связать рисунки со всем ранним творчеством художника (см.: Т. В. Алексеева. Исследования и находки, с. 36—104).
16 См. об этом: В. С. Ту р ч и н. Орест Кипренский, с. 81. В своих работах о Кипренском и романтизме в русской живописи Турчин проследил типологические изменения в толковании парного портрета.
17 Имеется еще ряд произведений предположительно второй половины 1800-х годов, которые иногда толкуются как возможные автопортреты художника. Однако с уверенностью утверждать это невозможно.
18 См.: М. В. Алпатов. Историческое место Кипренского в развитии портрета XIX века. — Ежегодник Института истории искусств. 1952. М., 1952, с. 17—69.
19 Ю. В. М а н н. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 99—108 (глава 3. Структура конфликта в романтической поэме). В этой главе автор выявляет словесный портрет главного персонажа поэм, который может быть сопоставим с живописным портретом того времени.
20 Н. Я. Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973, с. 42,43.
21 Н. Н. Коваленская в свое время писала о единстве гражданственного и личного в образе Давыдова, об элементах
79
неоклассицизма в романтизме Кипренского (см.: Н. Н. Ко- валенская. История русского искусства первой половины XIX века. М., 1951, с. 96).
22 См.: Т. В. Яблонская. Костюмированный портрет в системе жанров русской живописи XVIII века. — В кн.: Советское искусствознание ’76. Вып. 2. М., 1977, с. 134—150.
23 Имя модели портрета установлено В. М. Глинкой. Прежде именовался „Неизвестный военный врач44 (см.: В. Глинка. Кто изображен на четырех рисунках Кипренского. — В кн.: Сообщения Государственного Эрмитажа. XXXVII. Л., 1973, с. 24—27).
24 И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Ново- найденный Кипренский. — Огонек, 1967, № 13, с. 25—27.
25 В книге И. Кисляковой „Орест Кипренский. Эпоха и герои41 (М., 1977, с. 43) высказано предположение, что третьяковский портрет является изображением А. X. Востокова и был создан в конце 1820-х годов. Возможно, что такая атрибуция имеет основания. Однако, к сожалению, в названной выше книге автор не приводит доказательств своей версии, а лишь ссылается на некоторые мнения авторитетов, принявших ее.
26 См.: В. С. Ту р ч и н. Орест Кипренский, с. 154—156.
27 Цит. по: П. И. Нерадовский. Выставка Кипренского. — Аполлон, 1911, № 10, с. 46.
OREST KIPRENSKY
Orest Adamovich Kiprensky (1782—1836) lived and worked at the time when Russian artistic culture was thriving. These were the years of the affirmation and development of Russian Romanticism which powerfully manifested itself in literature and above all in poetry. Kiprensky widely associated with various literary circles. A contemporary of Zhukovsky, Batiushkov and Pushkin, he befriended many writers, was admitted to the Arzamas circle, was especially close to Batiushkov and the Decembrist Nikita Muravyov, and frequented Rostopchin’s literary salon in Moscow. These ties helped him to assert himself as a Romanticist and spark one of the most vivid and important trends in Russian pictorial art in the first half of the nineteenth century.
Although Romanticism in painting did not reach so forceful and comprehensive a flourishing as in literature, we are indebted to it for the appearance, in the first quarter of the nineteenth century, of such prominent artists as Orlovsky, Sylvester Shchedrin and Varnek. But the better part of all that the Romanticism of this period (or Early Romanticism as art historians term it) had been destined to fulfill, was embodied in the work of Orest Kiprensky.
It may well be said that Russian Romanticism emerged ahead of its time. Russia had known no revolutions. Moreover, at the beginning of the century the social contradictions were to some extent offset by a community of interests, by the unity of the whole nation in the face of the Napoleonic invasion. Meanwhile, there constantly grew dissatisfaction with the enlightening philosophy of the eighteenth century, with the normative thinking and global orderliness which had dominated the age of Catherine II. This dissatisfaction was of a philosophical, aesthetic and political nature. It eventually led to the Rebellion of December 14, 1825, when the progressive-minded nobility came out in open opposition to Imperial power.
In painting, the system of academic education and of control over artistic life conformed most fully with eighteenth-century philosophy and, as such, was especially difficult to overcome. The artist’s career was in many ways predetermined by the Academy of Arts. To challenge the legitimacy of this system, as Kiprensky did, required real courage. An artist of the
82
romantic type ought to personally “select himself”. His position should inevitably conflict with the then dominant canons, it should inevitably express his own feelings and his own attitude to the life around him—an attitude not prescribed from on high as a standard, but attained by his complex intellectual and emotional maturation.
It cannot be said that the romantic tendency in Russian painting developed as consistently as in French or German art. Russian Romanticism did not clash with Classicism but coexisted with it; it did not destroy harmony but at times even created it. Russian Romanticism did not seek either vigorous revelations or extremities of self-expression so characteristic of the French. On the other hand, it did not indulge in philosophic meditation inherent in German art. Kiprensky seems to smooth out the extremities of Romanticism. But this does not mean that he is inferior to the leading exponents of Western European Romanticism. He simply expresses the specific, “harmoniously romantic” tendency peculiar to the Russian school.
Kiprensky’s life and destiny were typical of a romantic artist, perhaps even more romantic than his art. People of that time frequently identified an artist’s life with his work. Many Kiprensky biographers paid attention to the fact that his life became a sort of legend in which reality fused with fiction. One can recall the murder of a model—a villaineous act ascribed to Kiprensky by his contemporaries; or an episode when during the parade Kiprensky, then a pupil of the Academy of Arts, fell on his knees before Paul I, asking the emperor to transfer him to military service; or a story, complacently told by the artist, of how some Italian connoisseurs took one of his portraits for a work by Rubens; and many other stories. One can hardly realize what is fact and what is fiction here. The last years of Kiprensky’s life were a puzzle to his contemporaries and continue to baffle art historians. Arriving in Italy for the second time, the artist married one Mariucci, whom he had patronized when she was still a girl during his first stay in Italy. To arrange this marriage, Kiprensky had to convert to Catholicism. To all these oddities one must add Kiprensky’s unbalanced disposition, his permanent striving either to go to Italy, or to come back to Russia (all in all, he spent fifteen years in Italy—from 1816 to 1822 and from 1827 to 1836). These hardships of life were to signify that “unhappiness” which the romantics considered to be his salient feature and evidence of his talent. The artist himself, however, saw his “misfortune” in the necessity of working in the portrait genre, whereas he believed that he was destined for historical painting.
Be that as it may, Kiprensky enjoyed happiness—the happiness of friendship, love, creativity, celebration. Quite often success smiled at him and the public gave him his due. Certain dates in his curriculum vitae are nothing of the extraordinary but are rather typical of a Russian artist of the early nineteenth century. As a child he attended the Educational School of the Academy of Arts, then studied at the Academy under the French artist Gabriel Francois Doyen and the history painter Grigory Ugriumov, preparing himself for a career as history painter. His programme work Dmitry Donskoi on the Field of Kulikov о (1805) does not at all differ from the works of his colleagues in the history class, such as Andrei Ivanov, Shebuyev and Yegorov. All the more surprising therefore is his Portrait of Adam Schwalbe, a brilliant piece done in 1804, i.e. one year before the above-mentioned programme
83
painting. The discovery of a new portrait image overrunning traditional limits was in fact a manifestation of Kiprensky’s romantic nature. This early success has forever remained a riddle. In the Portrait of Adam Schwalbe Kiprensky was able to rise above the conventional, class notion of man, break away from the traditional typology of eighteenth-century portraiture, and spontaneously convey the model’s flow of emotions.
After a temporary standstill in his development as a portraitist came a period of flourishing in the late 1800s, when the artist produced a whole series of portrait masterpieces. Among these, two self-portraits—one with brushes behind his ear (c. 1808) and the other with a pink scarf around his neck (1808)—deserve particular mention. It was for the first time in Russian painting that the self-portrait acquired such tremendous significance.
Both self-portraits capture the different emotional states of the model. Whereas in the first one the artist is shown at work, at the moment of creative inspiration, in the second he poses before the viewer, admiring himself, as it were, but without overdoing it. One can guess at the inner wealth of the model, his fine artistic soul and harmony. The portraits employ different coloristic principles. In the first one, emphasis is placed on the contrast of light and shade—this lends the image a dramatic tinge. The second is built upon the subtle combinations of well-matched colours. In this contraposition of two portraits lies the basic feature of Kiprensky’s creative approach: each time painting a portrait he develops a completely new concept of it. The artist’s best period—the late 1800s and early 1810s—is especially remarkable in this respect. The variety of portraits then produced was achieved not so much by recourse to different models, as by different pictorial and compositional devices. The most noteworthy in this sense are the portraits of E. Rostopchina (1809), the boy Chelishchev (1808—9) and Ye. Davydov. In them, the pose of the models, their gaze, and the ratio between the turn of the head and the gaze—all have their own specific value. As to the types of portraits, the strictly regulated system that had dominated the entire eighteenth century began to shatter and finally collapsed. As a rule, Kiprensky’s portraits can not be split into formal and intimate ones. Only some of them bear unmistakable features of, say, formal representation (Portrait of Ye. Davydov). In the majority of cases, however, traits which might have served as the criterion for ascribing a portrait to one type or another, were blended by the artist. His portraits of this period almost never depict the hands but focus on the eyes of a model. Kiprensky seems to deliberately dispose of all superfluous objects, accessories or parts of figures, so that nothing could interfere with the effect produced by the eyes.
Each time the colour composition acquires new inimitable features. The Portrait of E. Rostopchina, for example, is built upon the soft contrast of light and shade. The grey-brown paints, at times graduating to red, at others to pale yellow, are inter-dependent, creating the sensation of a timid harmony. In the Portrait of the Boy Chelishchev, Kiprensky achieves an extraordinary expressiveness of colour. The main chord here consists of three colours of adjacent and unmixed paints—red, blue and white—while in other parts of the canvas these paints merge together, forming a complex pattern of relationships. In the Portrait of Ye. Davydov one can also sense a predilection for the local treatment of colour,
84
red and white in particular. However, there is no trace of that exposed texture, that intensity of colour which is present in the Portrait of the Boy Chelishchev. The colour more objectively describes a real situation.
Kiprensky’s romantic portraits from the turn of the first and second decades of the nineteenth century illustrate his idea of human personality, of man’s ability to create, feel, suffer, love, and rejoice. The artist shows the high ideal of a man in tune with the sentiments of the time, with the atmosphere of the pre-war years which anticipated the beginning of a difficult period for Russia, a period of struggle for national freedom. During the War of 1812 Kiprensky started a new series, now in a graphic, not painterly, technique. This series of portraits depicts regular officers or members of the Volunteer Corps, many of whom were his old friends or acquaintances. Kiprensky committed himself to this work and saw it as his duty, just as many of his heroes performed their duty at war.
The graphic portrait in Kiprensky’s work underwent an evolution all its own. To begin with, it attempted to reproduce the painted portrait, but later acquired its own graphic idiom to thus reach, in 1812—13, a highwater mark. The portraits of an unknown soldier, Chaplitz, the Tomilovs, Lanskois, Olenin, Bakunin, Muravyov, Kochubei and others may serve as examples. Taken together, they comprise a series, which in some measure distinguishes them from painted portraits.
In the Portrait of E. Chaplitz (1913) the head is slightly lowered: the man is either reading or writing, his face exuding kindness and gentleness. This is not an austere warrior performing his great exploits, but a man who looks as though he has terminated his war career in order to return to the humdrum of everyday life. Kiprensky seems to graduate the colour from the light tone of the paper to the clots of black. More often that not he uses black chalk which gives his graphic portraits greater pictorial effect. At times he resorts to a mixed technique, as in the Kalmyk Girl Bayausta (1813), where black ckalk is combined with pastel. All the afore-mentioned works reveal the extraordinary freedom of line, the virtuoso mastery of all expressive means of graphic art. In the oeuvre of the early Romanticists—Kiprensky and Orlovsky—graphic portraits acquired an aesthetic self-dependence. From now on, within the work of one artist, they were capable of competing with paintings.
Subsequently Kiprensky’s graphic art developed side by side with his painting. At times the former reached great heights even at a later date, as, for example, in the Portrait of S. Shcherbatova (1819), which by its impeccably precise lines and subtle drawing can vie with the portraits of Ingres.
In 1815—20 new features came to the fore in Kiprensky’s portraiture. The spontaneous perception of the model gave way to romantic apriority. The artist no longer relied upon the life of the face and eyes, or upon the gaze which could have lent the image the necessary expression. He now supported the magic power of the gaze by other evidence revealing the model’s state. Appearing in portraits were landscapes and even certain narrative elements. The hands were depicted more and more often, and the pose continued to play an important role.
In Italy Kiprensky produced yet another masterpiece, the Portrait of Yekaterina A vdulina
85
(1822), an image conceived under the spell of Renaissance painting, particularly of Leonardo’s Mona Lisa. However, this portrait recreates a woman of the Romantic Age, a woman from the early nineteenth century, cherishing her own world which is it once brittle and unstable, liable to perish like a flower. Her figure and face seem illumined by an inner light which together with the clear-cut facial features and the porcelain-like skin witness to some exhalted existence of the model. The painting becomes smooth, well-balanced, much more in the classical spirit than in other works. Italian Renaissance painting left a noticeable imprint on the artist, especially on his work of the late 1810s and 30s. In Italy Kiprensky attempted to realize his ideas of history painting. Most of his effort went into a composition entitled Anacreon’s Tomb (1820) in which he developed a new concept of the historical genre in Russian painting. He did this by imparting a dionysiac tinge to a mythological subject. However, the technical quality oi Anacreon’s Tomb was fairly weak, and it has not survived to the present time.
From 1823 to 1828 Kiprensky lived and worked in Russia and from 1828 to 1836 again in Italy. Among the self-portraits which he executed both in Russia and Italy, the Self-Portrait in a Robe (1828) is the most well-known. It is almost devoid of any romantic features. Although the artist depicted himself at a moment of creation, his face bears no trace of inspiration; it is calm and joyless, emanating a smile of disappointment and fatique.
One year before this self-portrait Kiprensky produced one of his most famous works, the Portrait of Alexander Pushkin (1827). It was painted in the difficult period following the Decembrist Rebellion, when the soul of Russian enlightened society was tormented and the harmony of existence disturbed. Features of this crisis are evident in Pushkin’s image. Just as in the portrait of Avdulina, the thinly painted head and figure of the model are almost incorporeal; the face radiates light. This incorporeity serves to emphasize the ennobled spirituality of the image.
Kiprensky’s works of the 1830s lost many merits of his early paintings. A typical case in point is his Tiburtine Sibyl (1830). Deserving special note is the artist’s interest in artificial illumination, a device extensively used in his later output. Kiprensky depicted the sibyl in a nocturnal landscape, contrasting the moonshine to the light emanating from an icon-lamp, and lending baroque heaviness to the surroundings and garb of the heroine. Thus Late Romanticism acquired academic features.
Similar tendencies are also apparent in yet another work of the mid-1830s, notably the Portrait ofM. Pototskaya, Her Sister S. Shuvalova and the Ethiopian Woman. The very idea of uniting in a portrait three individual characters and of depicting them at a moment of action is quite new for Kiprensky. It is characteristic of formal portraits by Karl Briullov. To some extent Kiprensky used the experience of his younger compatriot, who also lived in Italy at that time. The ladies are shown against the draperies, beside a luxuriant still life. They are making music.
On the other hand, the artist became increasingly attracted to everyday life. Quite frequently he painted Italian scenes invariably peopled with boys and girls—comely, pleasant creatures treated with a touch of sentimentality. Gravitation to genre made itself felt not in
86
this way alone. Thus in 1831, for example, Kiprensky painted his Men Reading a Newspaper in Naples in which he combined portraiture with genre. Although the latter is brought out weakly, we see here those common tendencies towards the fusion of different genres which hallmarked Russian painting in the 1820s and 30s. Whereas these tendencies proved fruitful for Russian painting in general, they could not promise much to the Romanticist Kiprensky.
Kiprensky’s artistic and human destiny was a hard one. His strides forward were fraught with losses. Perhaps no other great Russian artist had been subject to such sharp fluctuations. His artistic development was full of ups and downs. Within one and the same period first-rate works neighbour with mediocre ones. This peculiarity of his artistic career is deeply rooted in the originality of his character, in his personality—impulsive, sensitive, liable to momentary outbursts and not unyielding to the temptation of self-delusion. Be that as it may, Kiprensky remains one of the greatest Russian artists, and his canvases can be ranked among the supreme achievements of nineteenth-century world painting.
D. Sarabyanov
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ILLUSTRATIONS
Портрет Л. К. Шиа.п.ос. 1 S()4
, 1ми I рми Донской мл Кал и коном ноле. 1 N05
, 1л 1 и I pi I и Донском ма Kx.iiiKoiioM мок'. < I > p Л I \1Л I I I
Дмитрий Донской на Куликоиоч поле. Фрагмент
Расим i нс. ' ) i ни ли\ \ на i \ рщикон. Середина 1 M И )-\ м .
Дмитрии Донской на кч.'шконом поле, «фрагмент
11 op 11 v i Л. И. k\ cou;i
1 КИЧ
I Ilk
|VI
1
I I. ko|v;i k( . I M IN
I ]"Г ' Iv
I I. lllvp, м I on;t. I M IN
Ih.|4|V
VP. I o\m. it' I; i. I M IN
I lop i [V i N. К к \ сопл. I M IN
Ли ИМ юр I рс I . ()ко. Ю I м )N I .
Лк I опор I ро I . I м IN
Портрет I'. Н. Давыдова. Фрагмент
I lop I |V I 1
H. , hirn.i.uж;
I M 14
I li ч ч | Ч' I I II I ’i ч' i ni i11 m юн. I Ml1)
I Inp i |V I <l>. И. I *14-1 ( n i11111 i;i. I M 14
Ь tp I pc | I . II. I \ >c 11 ч i1111111'11. ‘I>p;11 mc 11
I lop I pc I H. \. I Icpi M'.ckoi о i; iicikii ickom кос i ючс \ \ II ic 1 M 1 о
«■-А.
I i'v ill \ I .11 .::' i!! i
Ilo|vipL'i мальчика 1 кмипк'на. INOS 1 S()w
' U < Wi
I lopi |ЧЧ Iipmiiui г. II. ( ). ! I > K'llinpi VkOI o. ISM
I I up I |V l I I. ( Moot. I M I
I I оp i pe г В. Л. Точи. юной. 1 S I 3
I lop i pc i H. 1. . I,om.i ioii;i. I SIN
Мл I I. С |ЧМ VIIM'M ( I I|VI1C ). I M >4
I lopтрс г Л. 11. Ьак \ мима. 1 S 1 3
I b 'I'M j v I m;i n,4iik;i I ^ I
I lop грет i осмолки Bm.i.io. I N13
кл.1\п>икл Ьля\лi л. I n I л
11 op i pci \i\ iыкci11 111. I S( )4
X
I Icn <аж с o\ рлакачи. 1 S I O-c n .
I lop |pc г M. II. .'Ianckoi о. I S 1 о
I 1орт|Ч‘ I Л. I 1. .'hiiK'koi n. I S 1 3
I lop г|Ч‘ I Л. I\ To\in.ioii;i. I N I 3
I lop I pc i 1'. И. Чаплина. INI/
Док гор Я. В. Вилме (11си шестым носимым ирам). 1S12
11ортрст II. Л. (Эленина. 1 S I 3
I lop rpc г И. M. М\ рлт.снп. 1 S I 3
I lop-1 |V i II. \1. \1\ p,ii;bii;,i. I N I 5
11ортрст пси шестого. I <S I /
Портрет К. Н. Ьатюшкова. 1 <S I S
Мальчик Моська. 1814
Крестьянский мальчик Андрюша. 1 S 14
Портрет 11. П. > ткиил. Около 1 N 1 4 г.
V'v
Портрет М. А. Кикиной. 1816
Портрет Д. Н. \|н>стонои. IS 14
Портрет Л- N. Хвостовом. Фрагмент
Портрет Д. II. Хиоетоиои. Фр;|i \ic11 г
I II u.
Портрет О. Л. Рюминой. 1S20
I lop грет С. ( . Vn;ipon;i.
I N I h
I lop грет > icipoici. Фр;п мсin
I С Г.С I kUII мир I .1 I', p\ kL'. \S\4
I li.ii ;niki
\lo.uuoii сддонник. I N I
Портрет И. Л. Ж\конского. 1 N 1 Р
I loprpc г 12 ( . Лнд\. union. I N22
Портрет Е. С. Авдулиной. Фрагмент
I lop I pc I Г . ( . \н i\ . i иl юн. Фр;п \iciI I
Литоипртpci■(). IS22 1 <S 2 3
Леночка к маконом асикс. I N IЧ
Портрет С. С. Щербатовой. 1 S 1У
Портрет I.. И. Ростопчиной. 1S22
Портрет Д. Н. Шереметева. Фрагмент
Портрет Л. Н. Шереметева. 1N24
Портрет Л. Г. 11\шкапа. Фрагмент
I lop i pc [ Л. С . Пушкина. 1N27
i lop i pc г Л. С . 11\ nikhiki. <|)p;u MCII I
Портрет \1. М. Черклажл. IS2
Портрет К. П. ,Л. Ii.opcx I a. 1S2 7
Портрет К. И. Л.п.орема. Фрагмент
Портрет Л. Ф. Illишмарсна. 1N2
I >c ЦК1И .'III III. I S J
Портрет Л. Ф. Шишмарена. Фрагмент
I Ioprpe т Л. Ф. Illишмлрека. Фр;п мен
.Лivтопор'грет. I N2N
I lop i pc i Л. I\ I очи/ юна. I N-N
I Iop i pc I lllniiiM.ipcHa
Портрет Н. И. Гнедича. 1826—1828
\ . Л. I слепи та н po.ni 'jc.mii. I S2S
Портрет Н. II. Tpvociikom. lS2h
nie.
t / //';^
Портрет (’. II. Бутурлина. 1S24
Портрет Е. Е. Комаровского. 1823
Портрет Л. Л. Олениной. IS2S
i:..:
Автопортрет. I N2N
Портрет неи шестой. 1S2CJ
Портрет И. II. (?) Орлова-Давыдова. 1828
ПортрстС'. Л. Голеиищевой-Кутучоной. 1N29
Портрет неизвестной. 1824)
11ортрст локтора Nhnapoint. 1S2C^
Ворожея со снечой. 1S30
V
Читающим \ сними. 1 N30
C iiHii.i. Ki Дс. п.фскпм. 1 S2S
Портрет М. Л. Потоцкой. ееетры ее ('. Л. Шувалоиоп и .. дфиопянки''. С ередина 1 S3()-\ гг.
МортрстФ. Л. Голицына. 1N33
4 ii I ;i км и
■: I lull in. к' 1 N Ч
I lop i pc [ 1). I орнп. i i.;uvn;i. I See
Ч и I ;i I с. I и к ис1 i'. I I can о. ic. (l>pai mcii i
Список иллюстраций List of illustrations
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Акв. — акварель Б. — бумага Граф. — графитный Д. — дерево Ит. — итальянский Кар. — карандаш М. — масло X. — холст Цв. — цветной
ГИМ — Государственный Исторический музей
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ГРМ — Государственный Русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея Размеры работ указаны в сантиметрах
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЕ
О. А. Кипренский. Гектор и Андромаха. 1802. Б., ит. кар., мел. 27,2x35,2. ГТГ
О. А. Кипренский. Выведение апостола Петра из темницы. Лист из альбома. 1807 (?) Б., ит. кар. 20,6x16,4. ГРМ
О. А. Кипренский. Портрет А. К. Швальбе. 1804. Д., м. 78,2x64,1. ГРМ. Фрагмент
О. А. Кипренский. Портрет А. К. Швальбе. Фрагмент Ж.-Л. Монье. Портрет С. В. Строгановой. 1808. X., м. ГРМ
О. А. Кипренский. Портрет А. В. Щербатовой. 1808. X., м. 68x52,5. ГРМ
О. А. Кипренский. Портрет А. Р. Томилова. 1808. X., м. 68x55,5. ГРМ. Фрагмент
Т. Жерико. Портрет Э. Делакруа. Около 1818 г. X., м. Музей изящных искусств, Руан
Ф.-О. Рунге. Автопортрет. 1809—1810. X., м. Кунстхалле, Гамбург
О. А. Кипренский. Автопортрет. Около 1808 г. X., м. 46x36,5. ГТГ. Фрагмент
О. А. Кипренский. Автопортрет. 1808. X., м. 41x35,7. ГРМ. Фрагмент
Ф.-О. Рунге. Портрет детей художника, Отто Зигмунда и Марии Доротеи. 1809. X., м. Кунстхалле, Гамбург
В. А. Тропинин. Портрет сына. Около 1818 г. X, м. ГТГ
О. А. Кипренский. Портрет мальчика Челищева. 1808—1809. Д.,м. 48x38. ГТГ
А. Гро. Портрет полковника Фурнье-Сарловеза. 1812. X., м. Лувр, Париж
О. А. Кипренский. Портрет Е. В. Давыдова. 1809. X., м. 162x116. ГРМ
Т. Жерико. Офицер конных егерей, идущий в атаку. 1812. X., м. Лувр, Париж
Т. Жерико. Офицер карабинеров. Около 1814 г. X., м. Музей изящных искусств, Руан
О. А. Кипренский. Портрет Н. П. Трубецкого. 1826. X., м. 94,7x76,3. ГТГ
О. А. Кипренский. Портрет В. А. Перовского в испанском костюме XVII в. 1809. X., м. 112x83. ГРМ
О. А. Кипренский. Большой грифонаж. 1814. Офорт. 25,5x31,8. ГМИИ
О. А. Кипренский. Портрет Е. С. Авдулиной. 1822. X., м. 81x64,3. ГРМ
Ж. О. Д. Энгр. Портрет графа Н. Д. Гурьева. 1821. X., м. ГЭ
Л. Жироде. Портрет Шатобриана. 1811. X., м. Национальный музей. Версаль, Париж
О. А. Кипренский. Портрет А. М. Голицына. 1819. X., м. 97,5x74,5. ГТГ
Ж. О. Д. Энгр. Портрет дамы в кресле. 1828. Б., граф. кар. ГМИИ
О. А. Кипренский. Портрет С. С. Щербатовой. 1819. Б., ит. кар., сангина. 36,3x27,6. ГТГ
Д. М. Креспи. Автопортрет. Около 1700 г. ГЭ
О. А. Кипренский. Автопортрет. 1820. X., м. Галерея Уффици, Флоренция
О. А. Кипренский. Сивилла Тибуртинская. 1830. X., м. 137,4x96,8. ГТГ
К. П. Брюллов. Портрет Ю. П. Самойловой с Джованниной Пачини и арапчонком. 1832—1834. X., м. Музей в Сан-Диего
О. А. Кипренский. Портрет М. А. Потоцкой, сестры ее С. А. Шуваловой и „эфиопянки“. Середина 1830-х гг. X., м. 154,7x203. Государственный музей русского искусства, Киев
О. А. Кипренский. Портрет П. А. Вяземского. 1835. Б., граф, кар. 24,5x17,9. Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград
ИЛЛЮСТРАЦИИ В АЛЬБОМЕ
Портрет А. К. Швальбе. 1804.Д, м. 78,2x64,1. ГРМ
Дмитрий Донской на Куликовом поле. 1805. X., м. 118x167. ГРМ
Дмитрий Донской на Куликовом поле. Фрагмент Дмитрий Донской на Куликовом поле. Фрагмент
Распятие. Этюд двух натурщиков. Середина 1800-х гг. Д., м. 62x50,3. ГТГ
Дмитрий Донской на Куликовом поле. Фрагмент Портрет А. И. Кусова. 1809. Д., м. 73,3 x 62,6. ГРМ Портрет Е. П. Корсакова. Фрагмент Портрет Е. П. Корсакова. 1808. X., м. 64x55. ГРМ Портрет П. Н. Щербатова. 1808. X., м. 68x52. ГРМ Портрет А. В. Щербатовой. 1808. X., м. 68x52,5. ГРМ Портрет А. Р. Томилова. 1808. X., м. 68x55,5. ГРМ
202
Портрет И. В. Кусова. 1808. X., м. 90x78. ГРМ
Автопортрет. Около 1808 г. X., м. 46x36,5. ГТГ
Автопортрет. 1808. X., м. 41x35,7. ГРМ
Портрет Е. В. Давыдова. Фрагмент
Портрет Е. В. Давыдова. 1809. X., м. 162x116. ГРМ
Портрет Е. В. Давыдова. Фрагмент
Портрет Е. В. Давыдова. Фрагмент
Портрет Е. П. Ростопчиной. 1809. X., м. 77x61. ГТГ
Портрет Ф. В. Ростопчина. 1809. X., м. 75,8x61,3. ГТГ
Портрет Е. П. Ростопчиной. Фрагмент
Портрет В. А. Перовского в испанском костюме XVII в. Фрагмент
Портрет В. А. Перовского в испанском костюме XVII в. Фрагмент
Портрет В. А. Перовского в испанском костюме XVII в. 1809. X., м. 112x83. ГРМ
Портрет И. А. Гагарина. 1811. X., м. 80x69. ГРМ Портрет мальчика Челищева. 1808—1809. Д., м. 48x38. ПГ
Портрет принца Г. П. Ольденбургского. 1811. Д., м. 29,5x24,2.
Екатерининской дворец-музей, г. Пушкин Портрет Н. С. Мосолова. 1811. X., м. 84,5x71. ГТГ
Портрет В. А. Томиловой. 1813. Б., ит. кар., сангина, пастель. 22,2x17,5. ГТГ
Портрет В. Д. Давыдова. 1809. Б. коричневая, ит. кар., мел. 60x48,5. ГТГ
Мать с ребенком (Прейс?). 1809. Б. коричневая, ит. кар., мел. 57,5x49. ГТГ
Портрет А. П. Бакунина. 1813. Б., ит. кар., пастель. 29x24. ГТГ
Портрет мальчика. 1812. Б., ит. кар., пастель. 42x31,5. ГТГ
Портрет госпожи Вилло. 1813. Б., ит. кар., пастель. 24,5x19,5. ГТГ
Калмычка Баяуста. 1813. Б., ит. кар., пастель. 23,8x19,7. ГТГ
Портрет музыканта. 1809. Б., ит. кар. 33,8x21,8. ГРМ
Пейзаж с бурлаками. 1810-е гг. Б., тушь, белила. 20x24. ГРМ
Портрет М. П. Ланского. 1813. Б., ит. кар. 25,6x20,6. ГРМ Портрет А. П. Ланского. 1813. Б., ит. кар. 24,5x19,8. ГРМ Портрет А. Р. Томилова. 1813. Б., ит. кар. 24,5x19,7. ГРМ Портрет Е. И. Чаплица. 1813. Б., ит. кар. 23,8x18,9. ГТГ
Доктор Я. В. Вилие (Неизвестный военный врач). 1812. Б., ит. кар. 22,4x17,5. ГРМ
Портрет П. А. Оленина. 1813. Б. на картоне, ит. кар., пастель. 51x38,8. ГТГ
Портрет Н. М. Муравьева. 1813. Б., ит. кар., черная пастель. 40x30. Государственный Литературный музей им. А. М. Горького, Москва
Портрет Н. М. Муравьева. 1815. Б., ит. кар. 24,5x19,6. ГИМ
Портрет Н. В. Кочубей. 1813. Б., ит. кар., акв. 31x22. Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград
Портрет неизвестного. 1813. Б., ит. кар. 22,6x17,2. ГРМ
Портрет К. Н. Батюшкова. 1815. Б., ит. кар. 22,5x18,5. Государственный Литературный музей им. А. М. Горького, Москва
Мальчик Моська. 1814. Б., ит. кар. 22,5x19,4. ГРМ
Крестьянский мальчик Андрюша. 1814. Б., ит. кар. 22,1x16,7. ГРМ
Портрет Н. И. Уткина. Около 1814 г. Б., ит. кар. 22,6x17,2. ГРМ
Портрет М. А. Кикиной. 1816. Б., ит. кар., сангина, тушь. 22,2x17,6. ГТГ
Портрет Д. Н. Хвостовой. 1814. Х.,м. 71x57,8. ГТГ Портрет В. С. Хвостова. 1814. X., м. 70,5x57,5 .ГТГ Портрет Д. Н. Хвостовой. Фрагмент Портрет Д. Н. Хвостовой. Фрагмент
Портрет А. Ф. Фурман. Середина 1810-х гг. X., м. 42,5x33,2. ГРМ
Портрет Е. И. Молчановой с дочерью. 1814. X., м. 70,6x57. ГТГ
Портрет О. А. Рюминой. 1826. X., м. 62,5x53,5. ГРМ
Портрет С. С. Уварова. 1816. X., м. 117,5x91. ГТГ
Портрет А. М. Голицына. Фрагмент
Портрет А. М. Голицына. 1819. X., м. 97,5x74,5. ГТГ
Портрет С. С. Уварова. Фрагмент
Портрет А. М. Голицына. Фрагмент
Цыганка с веткой мирта в руке. 1819. Д., м. 49x34. ГТГ
Молодой садовник. 1817. X., м. 62x49,5. ГРМ
Портрет В. А. Жуковского. 1816. X., м. 65x58. ГТГ
Портрет Е. С. Авдулиной. 1822. X., м. 81x64,3. ГРМ
Портрет Е. С. Авдулиной. Фрагмент
Портрет Е. С. Авдулиной. Фрагмент
Автопортрет (?). 1822—1823. X., м. 76x62. ГТГ
Девочка в маковом венке. 1819. X., м. 42,5x40,9. ГТГ
Портрет С. С. Щербатовой. 1819. Б., ит. кар., сангина. 36,3x27,6. ГТГ
Портрет Е. П. Ростопчиной. 1822. Литография. 28,6x28,5. ГМИН
Портрет Д. Н. Шереметева. Фрагмент
Портрет Д. Н. Шереметева. 1824. X., м. 252x204. ГИМ
Портрет А. С. Пушкина. Фрагмент
Портрет А. С. Пушкина. 1827. X., м. 63x54. ГТГ
Портрет А. С. Пушкина. Фрагмент
Портрет М. М. Черкасова. 1827. X., м. 63x48,5. ГТГ
Портрет К. И. Альбрехта. 1827. X, м. 196,5x138,5. ГРМ
Портрет К. И. Альбрехта. Фрагмент
Портрет А. Ф. Шишмарева. 1827. 135x101,2. ГТГ
Бедная Лиза. 1827. X., м. 45x39. ГТГ
Портрет А. Ф. Шишмарева. Фрагмент
Портрет А. Ф. Шишмарева. Фрагмент
Автопортрет. 1828. X., м. 48,5x42,3. ГТГ
Портрет А. Р. Томилова. 1828. Картон, м. 44,5x35,2. ГРМ
Портрет Шишмарева. X., м. 56,7x46,7. ГТГ
203
Портрет Н. И. Гнедича. 1826—1828. X., м. 28,5x22,5. Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград
Е. А. Телешова в роли Зелии. 1828. X., м. 64,2x55,5. ГТГ
Портрет Н. П. Трубецкого. 1826. X., м. 94,7x76,3. ГТГ
Портрет С. П. Бутурлина. 1824. Б., ит. кар., сангина, цв. кар. 31,7x26,7. ГТГ
Портрет Е. Е. Комаровского. 1823. Б., ит. кар., сангина, цв. кар., акварель. 27,8x22,5. ГТГ
Портрет А. А. Олениной. 1828. Б., ит. кар. 22,5x17,8. ГТГ
Автопортрет. 1828. Б., ит. кар. 18,8x11. ГТГ
Портрет неизвестной. 1829. Б., ит. кар. 30,2x22,5. ГРМ
Портрет В. П. (?) Орлова-Давыдова. 1828. Б., ит. кар. 21,7x17,3. ГТГ
Портрет С. А. Голенищевой-Кутузовой. 1829. Б., ит. кар. 32,7x24,8. ГРМ
Портрет неизвестной. 1829. Б., ит. кар. 30,3x22,4. ГРМ Портрет доктора Мазарони. 1829. Х.,м. 47x37. ГТГ Ворожея со свечой. 1830. X., м. 64x51. ГРМ
Читающий у свечи. 1830. X., м. 84x69,5. Томский краеведческий музей
Сивилла Дельфская. 1828. X., м. 110x90. Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина
Портрет М. А. Потоцкой, сестры ее С. А. Шуваловой и „эфиопянки“.
Середина 1830-х гг. X., м. 154,7x203. Государственный музей русского искусства. Киев
ПортретФ. А. Голицына. 1833. A"., jM. 83,5x68. Государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Саратов
Читатели газет в Неаполе. 1831. X., м. 64х 78. ГТГ Портрет Б. Торвальдсена. 1833. X., м. 79,5x65. ГРМ Читатели газет в Неаполе. Фрагмент
ILLUSTRATIONS IN THE TEXT
Hector and Andromache. 1802. Black chalk and chalk. 27.2x35.2 * The Tretyakov Gallery, Moscow
O. Kiprensky. The Apostle Paul Being Taken Out from the Dungeon. Sheet from the 1807 album. Black chalk. 20.6x16.4. The Russian Museum, Leningrad
O. Kiprensky. Portrait of Adam Schwalbe. 1804. Oil on panel. 78.2x64.1. The Russian Museum, Leningrad. Detail
O. Kiprensky. Portrait of Adam Schwalbe. Detail
J.-L. Mosnier. Portrait of S. Stroganova. 1808. Oil on canvas. The Russian Museum, Leningrad
O. Kiprensky. Portrait of A. Shcherbatova. 1808. Oil on canvas. 68x52.5. The Russian Museum, Leningrad
O. Kiprensky. Portrait of A. Tomilov. 1808. Oil on canvas. 68x55.5. The Russian Museum, Leningrad. Detail
Th. Gericault. Portrait of Eugene Delacroix. C. 1818. Oil on canvas. Musee des Beaux-Arts, Rouen
Ph.O. Runge. Self-Portrait. 1809—10. Oil on canvas. Kunsthalle, Hamburg
O. Kiprensky. Self-Portrait. C. 1808. Oil on canvas. 46x36.5. The Tretyakov Gallery, Moscow. Detail
O. Kiprensky. Self-Portrait. 1808. Oil on canvas. 41x35.7. The Russian Museum, Leningrad. Detail
Ph. O. Runge. Portrait of the Artist’s Children, Otto Sigmund and Maria Dorothea. 1809. Oil on canvas. Kunsthalle, Hamburg
V. Tropinin. Portrait of the Artist’s Son. C. 1818. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow
O. Kiprensky. Portrait of the Boy Chelishchev. 1808—9. Oil on panel. 48x38. The Tretyakov Gallery, Moscow
A. Gros. Portrait of Colonel Fournier-Sarloveze. 1812. Oil on canvas. The Louvre, Paris
O. Kiprensky. Portrait of Yevgraf Davydov. Oil on canvas. 162x1 6. The Russian Museum, Leningrad
Th. Gericault. The Officer of the Chasseurs. 1812. Oil on canvas. The Louvre, Paris
Th. Gericault. The Officer of the Carabineers. C. 1814. Oil on canvas. Мизёе des Beaux-Arts, Rouen
O. Kiprensky. Portrait of N. Trubetskoi. 1836. Oil on canvas. 94.7x 76.3. The Tretyakov Gallery, Moscow
O. Kiprensky. Portrait of V. Perovsky in a Seventeenth-Century Spanish Costume. 1809. Oil on canvas. 112x83. The Russian Museum, Leningrad
O. Kiprensky. Big Gryphonage. 1814. Etching. 25.5x31.8. The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow
O. Kiprensky. Portrait of Yekaterina Avdulina. 1822. Oil on canvas. 81x64.3. The Russian Museum, Leningrad
J. A. D. Ingres. Portrait of Count Guryev. 1821. Oil on canvas. The Hermitage, Leningrad
A.-L. Girodet. Portrait of Chateaubriand. 1811. Oil on canvas. Musee Nationale, Versailles, Paris
* All dimensions are given in centimetres
O. Kiprensky. Portrait of A. Golitsyn. 1819. Oil on canvas.
97.5x74.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
J. A. D. Ingres. Portrait of a Lady in an Armchair. 1823. Graphite. The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow
O. Kiprensky. Portrait of S. Shcherbatova. 1819. Black and red chalk. 36.3x27.6. The Tretyakov Gallery, Moscow
G. M. Crespi. Self-Portrait. C. 1700. Oil on canvas. The Hermitage, Leningrad
O. Kiprensky. Self-Portrait. 1820. Oil on canvas. Uffizi, Florence
O. Kiprensky. Tiburtine Sibyl. 1830. Oil on canvas. 137.4x96.8. The Tretyakov Gallery, Moscow
K. Briullov. Portrait of Countess Yu. Samoilova with Giovanina Paccini and the Moroccan Boy. 1832—34. Oil on canvas. Art Museum, San Diego
O. Kiprensky. Portrait of M. Pototskaya, Her Sister S. Shuvalova and the Ethiopian Woman. Mid-1830s. Oil on canvas. 154.7x203. The Museum of Russian Art, Kiev
O. Kiprensky. Portrait of P. Viazemsky. 1835. Pencil drawing. 24.5x17.9. The Pushkin Museum, Leningrad
ILLUSTRATIONS IN THE PLATE SECTION
Portrait of Adam Schwalbe. 1804. Oil on panel. 78.2x64.1. The Russian Museum, Leningrad
Dmitry Donskoi on the Field of Kulikovo. 1805. Oil on canvas. 118x167. The Russian Museum, Leningrad
Dmitry Donskoi on the Field of Kulikovo. Detail Dmitry Donskoi on the Field of Kulikovo. Detail
Crucifixion. Study of Two Models. Mid-1800s. Oil on panel. The Tretyakov Gallery, Moscow
Dmitry Donskoi on the Field of Kulikovo. Detail
Portrait of A. Kusov. 1809. Oil on panel. 73.3x62.6. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of E. Korsakov. Detail
Portrait of E. Korsakov. 1808. Oil on canvas. 64x55. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of P. Shcherbatov. 1808. Oil on canvas. 68x52. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of A. Shcherbatova. 1808. Oil on canvas. 68x52.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of A. Tomilov. 1808. Oil on canvas. 68x55.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of I. Kusov. 1808. Oil on canvas. 90x78. The Russian Museum, Leningrad
Self-Portrait. C. 1808. Oil on canvas. 46x36.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Self-Portrait. 1808. Oil on canvas. 41x35.7. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Yevgraf Davydov. Detail
205
Portrait of Yevgraf Davydov. 1809. Oil on canvas. /62x7/6.The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Yevgraf Davydov. Detail Portrait of Yevgraf Davydov. Detail
Portrait of E. Rostopchina. 1809. Oil on canvas. 77x6/. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of F. Rostopchin. 1809. Oil on canvas. 75.8x61.3. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of E. Rostopchina. Detail
Portrait of V. Perovsky in a Seventeenth-Century Spanish Costume. Detail
Portrait of V. Perovsky in a Seventeenth-Century Spanish Costume. Detail
Portrait of V. Perovsky in a Seventeenth-Century Spanish Costume. 1809. Oil on canvas. 112x83. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of I. Gagarin. 1811. Oil on canvas. 80x69. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of the Boy Chelishchev. 1808—9. Oil on panel. 48x38. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Prince G. Oldenburg. 1811. Oil on panel. 29.5x24.2. Yekaterininsky Palace-Museum, town of Pushkin, near Leningrad
Portrait of N. Mosolov. 1811. Oil on canvas. 84.5x71. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of V. Tomilova. 1813. Black and red chalk, pastel. 22.2x 17.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of V. Davydov. 1809. Black chalk and chalk. 60x48.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Mother and Child (Preis?). 1809. Black chalk and chalk. 57.5x49. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of A. Bakunin. 1813. Black chalk and pastel. 29x24. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of a Boy. 1812. Black chalk and pastel. 42x31.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Mme Villo. 1813. Black chalk and pastel. 24.5x19.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
The Kalmyk Girl Bayausta. 1813. Black chalk and pastel. 23.8x 19.7. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of a Musician. 1809. Black chalk. 33.8x21.8. The Russian Museum, Leningrad
Landscape with Barge Haulers. 1810s. Indian ink and white. 20x24. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of M. Lanskoi. 1813. Black chalk. 25.6x20.6. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of A. Lanskoi. 1813. Black chalk. 24.5x 19.8. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of A. Tomilov. 1813. Black chalk. 24.5x19.7. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of E. Chaplitz. 1813. Black chalk. 23.8x 18.9. The Tretyakov Gallery, Moscow
Doctor Ya. Wilie (Unknown Surgeon). 1812. Black chalk. 22.4x17.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait ofP. Olenin. 1813. Black chalk and pastel. 51x38.8. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Nikita Muravyov. 1813. Black chalk and pastel. 40x30. The Gorky Literature Museum, Moscow
Portrait of Nikita Muravyov. 1815. Black chalk. 24.8x 19.6. The History Museum, Moscow
Portrait of N. Kochubei. 1813. Black chalk and watercolours. 31x22. The Pushkin Museum, Leningrad
Portrait of an Unknown Man. 1813. Black chalk. 22.6x17.2. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of K. Batiushkov. 1815. Black chalk. 22.5x18.5. The Gorky Literature Museum, Moscow
The Boy Mos’ka. 1814. Black chalk. 22.5x19.4. The Russian Museum, Leningrad
Andriusha the Peasant Boy. 1814. Black chalk. 22.1x16.7. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of N. Utkin. C. 1814. Black chalk. 22.6x17.2. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of M. Kikina. 1816. Black and red chalk. Indian ink. 22.2x17.6. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of D. Khvostova. 1814. Oil on canvas. 71x57.8. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of V. Khvostov. 1814. Oil on canvas. 70.5x57.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of D. Khvostova. Detail Portrait of D. Khvostova. Detail
Portrait of A. Furman. Mid-1810s. Oil on canvas. 42.5x33.2. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of E. Molchanova with Her Daughter. 1814. Oil on canvas. 70.6x57. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of O. Riumina. 1826. Oil on canvas. 62.5x53.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of S. Uvarov. 1816. Oil on canvas. 117.5x91. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of A. Golitsyn. Detail
Portrait of A. Golitsyn. 1819. Oil on canvas. 97.3x74.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of S. Uvarov. Detail Portrait of A. Golitsyn. Detail
Gypsy Holding a Myrtle Branch. 1819. Oil on panel. 49x34. The Tretyakov Gallery, Moscow
Young Gardener. 1817. Oil on canvas. 62x49.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Vasily Zhukovsky. 1816. Oil on canvas. 65x58. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Yekaterina Avdulina. 1822. Oil on canvas. 81x64.3. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Yekaterina Avdulina. Detail Portrait of Yekaterina Avdulina. Detail
Self-Portrait (?). 1822—23. Oil on canvas. 76x62. The Tretyakov Gallery, Moscow
Girl Wearing a Wreath of Poppies. 1819. Oil on canvas. 42.5x40.9. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of S. Shcherbatova. 1819. Red and black chalk. 36.3x27.6. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of E. Rostopchina. 1822. Lithograph. 28.6x28.5. The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow
Portrait of D. Sheremetev. Detail
Portrait of D. Sheremetev. 1824. Oil on canvas. 252x204. The History Museum, Moscow
206
Portrait of Alexander Pushkin. Detail
Portrait of Alexander Pushkin. 1827. Oil on canvas. 63x54. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Alexander Pushkin. Detail
Portrait of M. Cherkasov. 1827. Oil on canvas. 63x48.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of K. Albrecht. 1827. Oil on canvas. 196.5x 138.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of K. Albrecht. Detail
Portrait of A. Shishmariov. 1827. Oil on canvas. 135x101.2. The Tretyakov Gallery, Moscow
Poor Liz. 1827. Oil on canvas. 45x39. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of A. Shishmariov. Detail Portrait of A. Shishmariov. Detail
Self-Portrait. Oil on canvas. 48.5x42.3. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of A. Tomilov. 1828. Oil on canvas. 44.5x35.2. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Shishmariov. Oil on canvas. 56.7x46.7. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of N. Gnedich. 1826—28. Oil on canvas. 28.5x22.5. The Pushkin Museum, Leningrad
E. Teleshova as Zelia. 1828. Oil on canvas. 64.2x55.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of N. Trubetskoi. 1826. Oil on canvas. 94.7x76.3. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of S. Buturlin. 1824. Black and red chalk, crayons. 31.7x26.7. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of E. Komarovsky. 1823. Black and red chalk, watercolours and crayons. 27.8x22.5. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of A. Olenina. 1828. Black chalk. 22.5x17.8. The
Tretyakov Gallery, Moscow
Self-Portrait. 1828. Black chalk. 18.8x11. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of an Unknown Woman. 1829. Black chalk. 30.2x22.5. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of V.(?) Orlov-Davydov. 1828. Black chalk. 21.7x17.3. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of S. Golenishcheva-Kutuzova. 1829. Black chalk. 32.7x24.8. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of an Unknown Woman. 1829. Black chalk. 30.3x22.4. The Russian Museum, Leningrad
Portrait of Physician Masaroni. 1829. Oil on canvas. 47x37. The Tretyakov Gallery, Moscow
Fortune-Teller by the Candle. 1830. Oil on canvas. 64x51. The Russian Museum, Leningrad
Man Reading by the Candle. 1830. Oil on canvas. 84x69.5. The Museum of Local Lore, Tomsk
Delphie Sibyl. 1828. Oil on canvas. 110x90. The Bakhrushin Theatre Museum, Moscow
Portrait of M. Pototskaya, Her Sister S. Shuvalova and the Ethiopian Woman. Mid-1830s. Oil on canvas. 154.7x203. The Museum of Russian Art, Kiev
Portrait of A. Golitsyn. 1833. Oil on canvas. 83.5x68. The Radishchev Art Museum, Saratov
Men Reading a Newspaper in Naples. 1831. Oil on canvas. 64x 78. The Tretyakov Gallery, Moscow
Portrait of Bertel Thorwaldsen. 1833. Oil on canvas. 79.5x65. The Russian Museum, Leningrad
Men Reading a Newspaper in Naples. Detail
Дмитрий Владимирович Сарабьянов
ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ
Перевод на английский язык Ю. С. Памфилова Оформление серии Г. П. Губанова Редактор Г. П. Кукушкина Макет и художественно-техническое редактирование В. С. Ворониной Корректор Е. Е. Ротманская
Сдано в набор 25. 10. 81. Подписано в печать 20.04.82. М 18218. Формат 60х 1001 /8. Бумага мелованная, 140 гр. Гарнитура тайме, антиква. Печать офсетная. Печ. л. 26. Усл.-печ. л. 28,6. Уч.-изд. л. 21,301. Тираж 20000. Изд. № 677580. Цена 10 р. 40 к. Издательство „Художник РСФСР“, 195027, Ленинград, Большеохтинский пр., 6, корпус 2. Типография Глобус, Вена, Австрия.